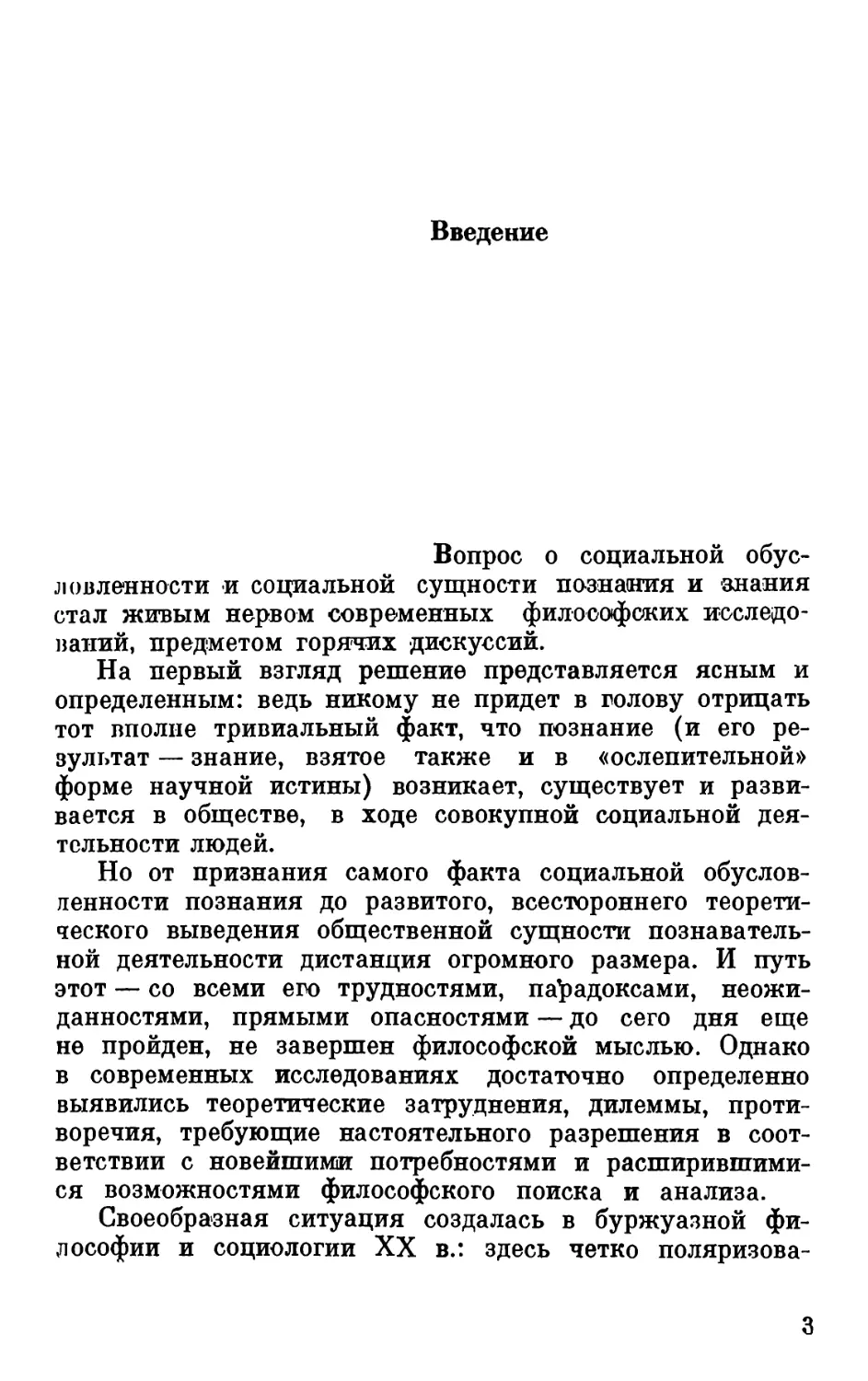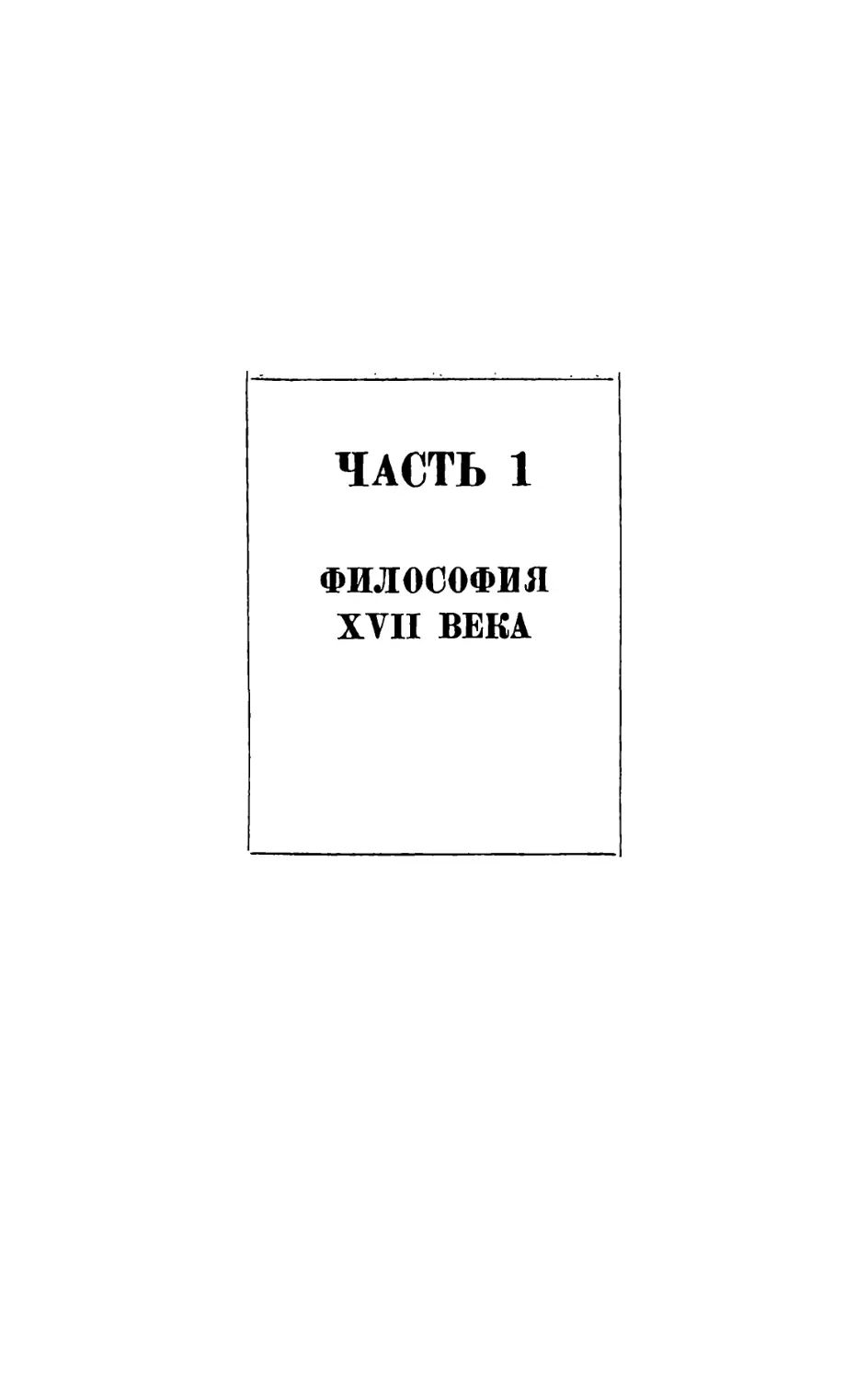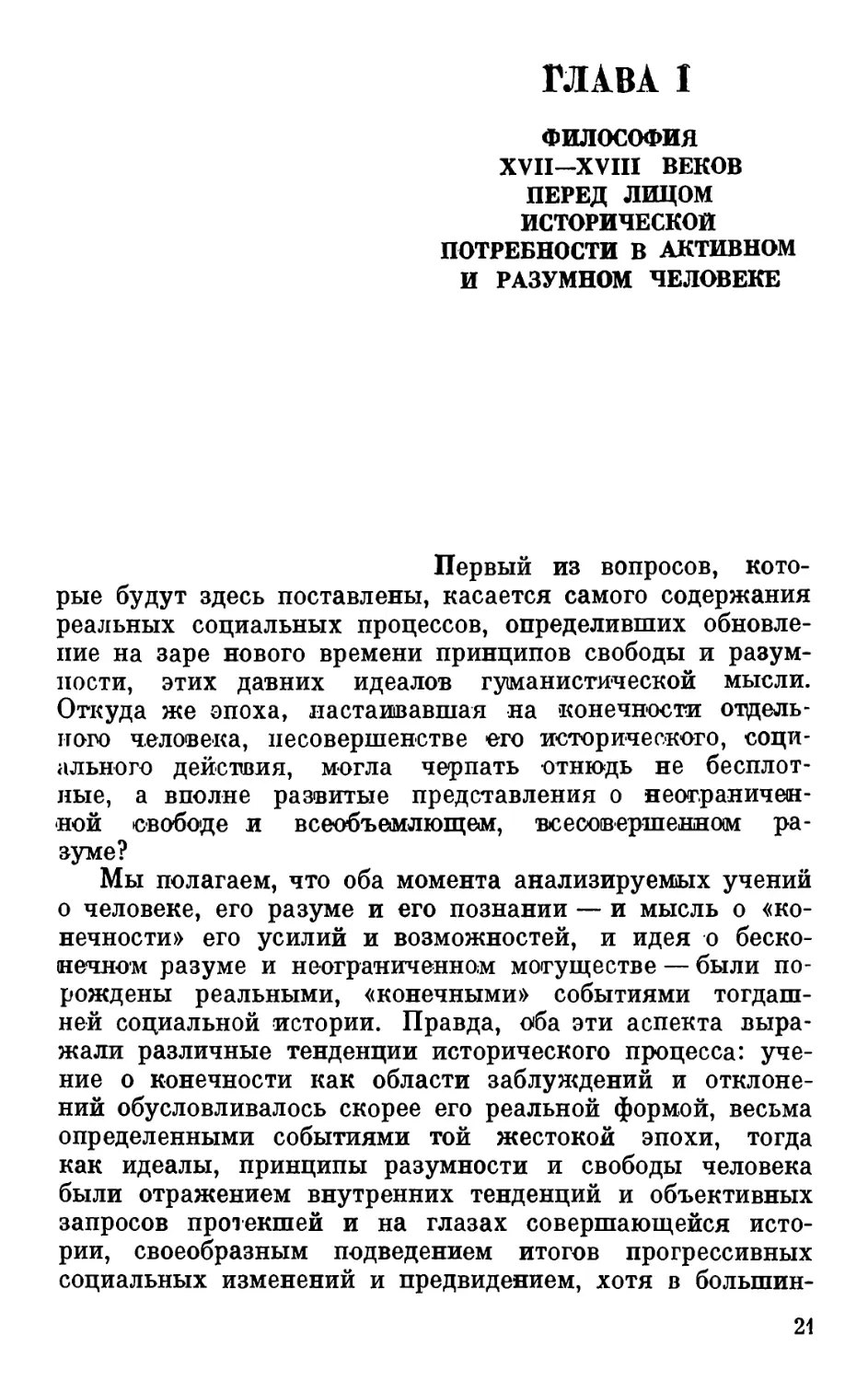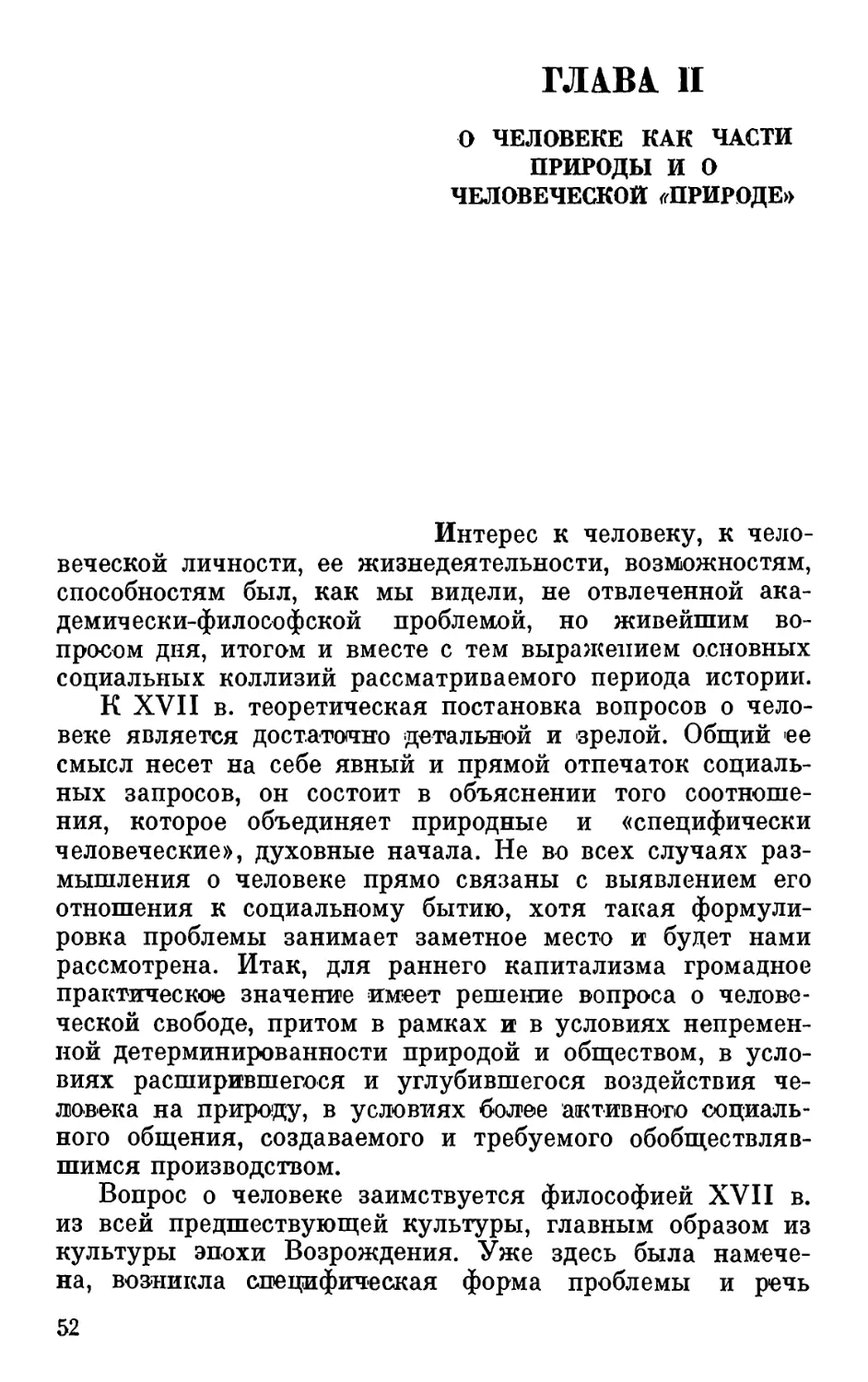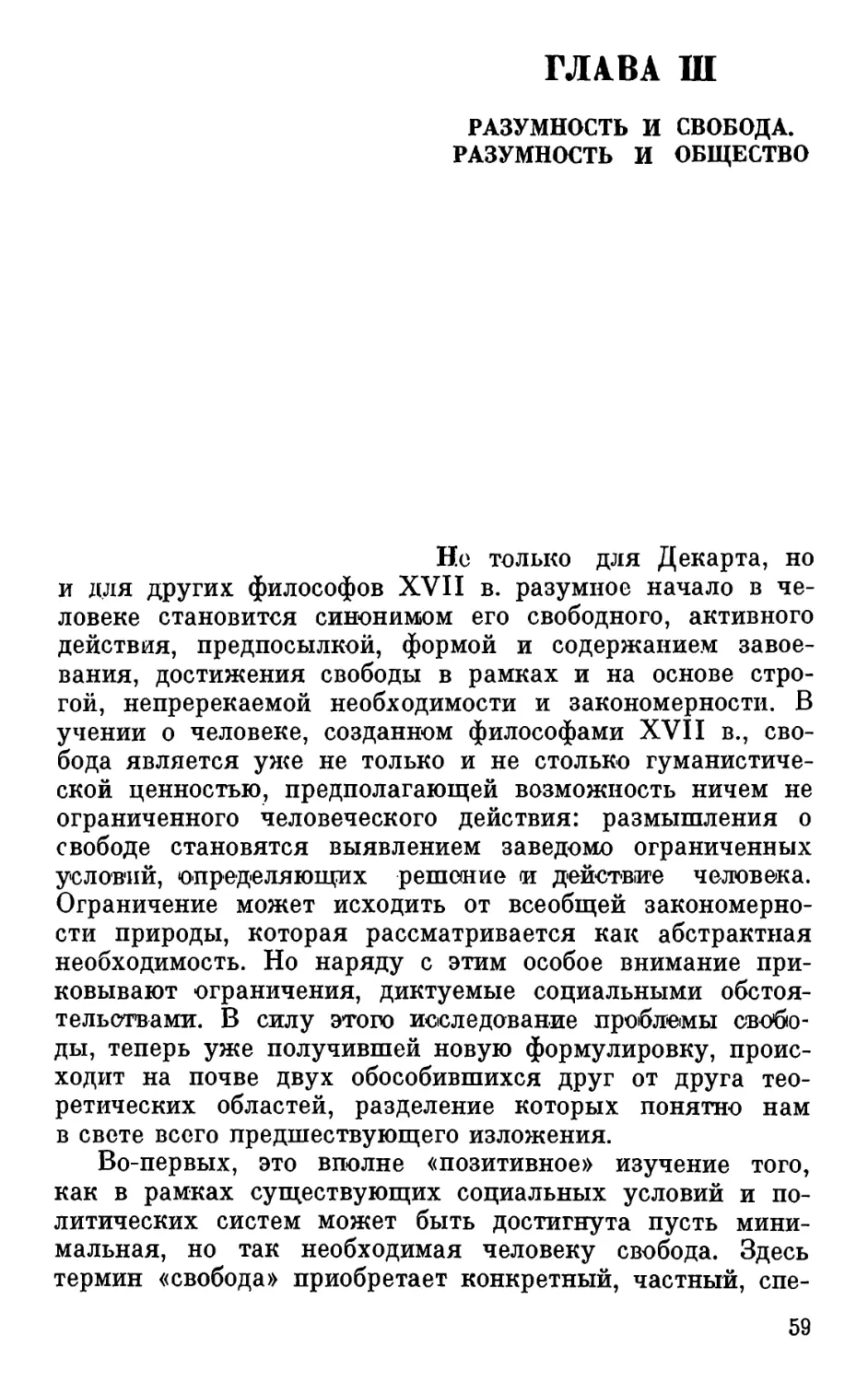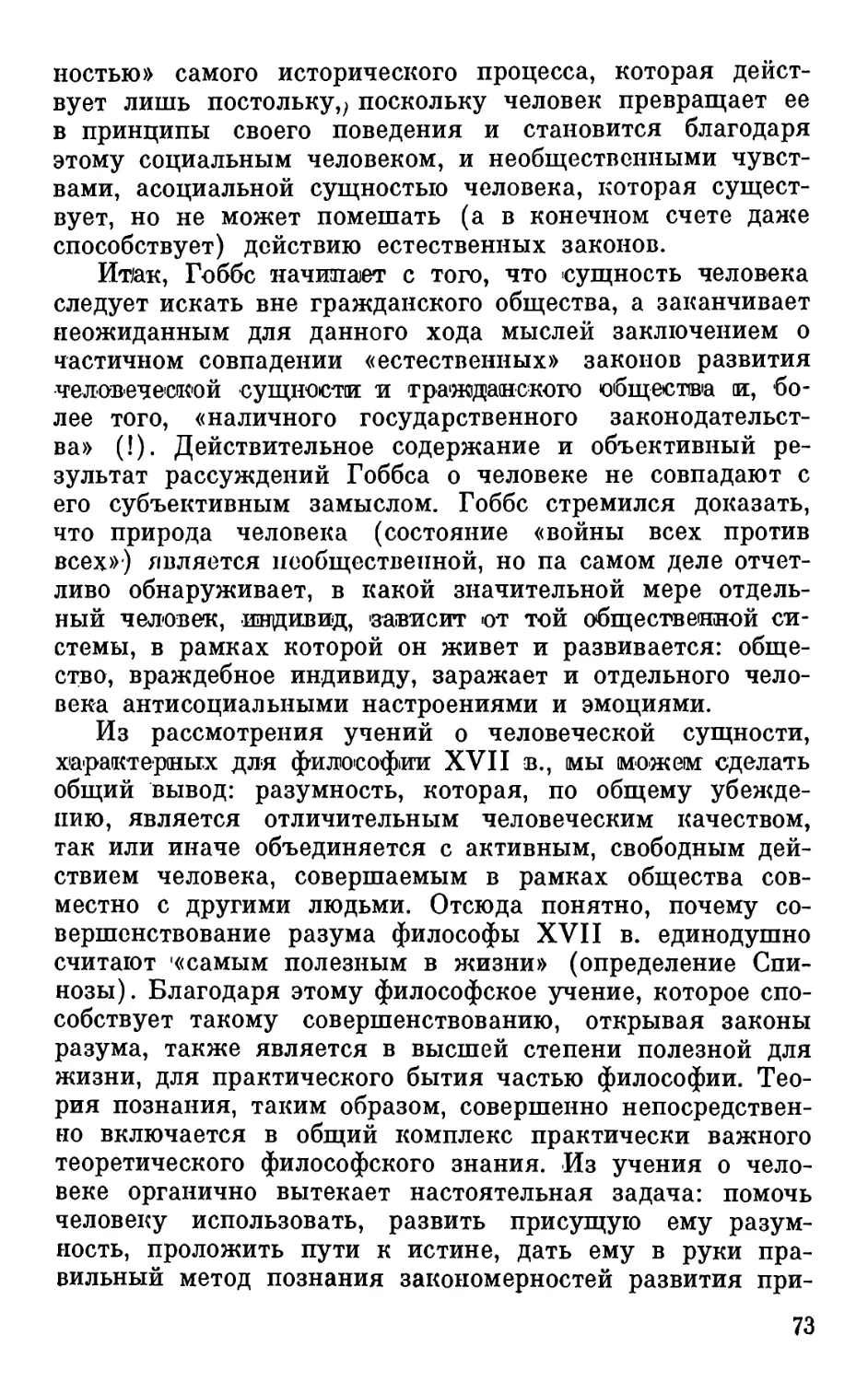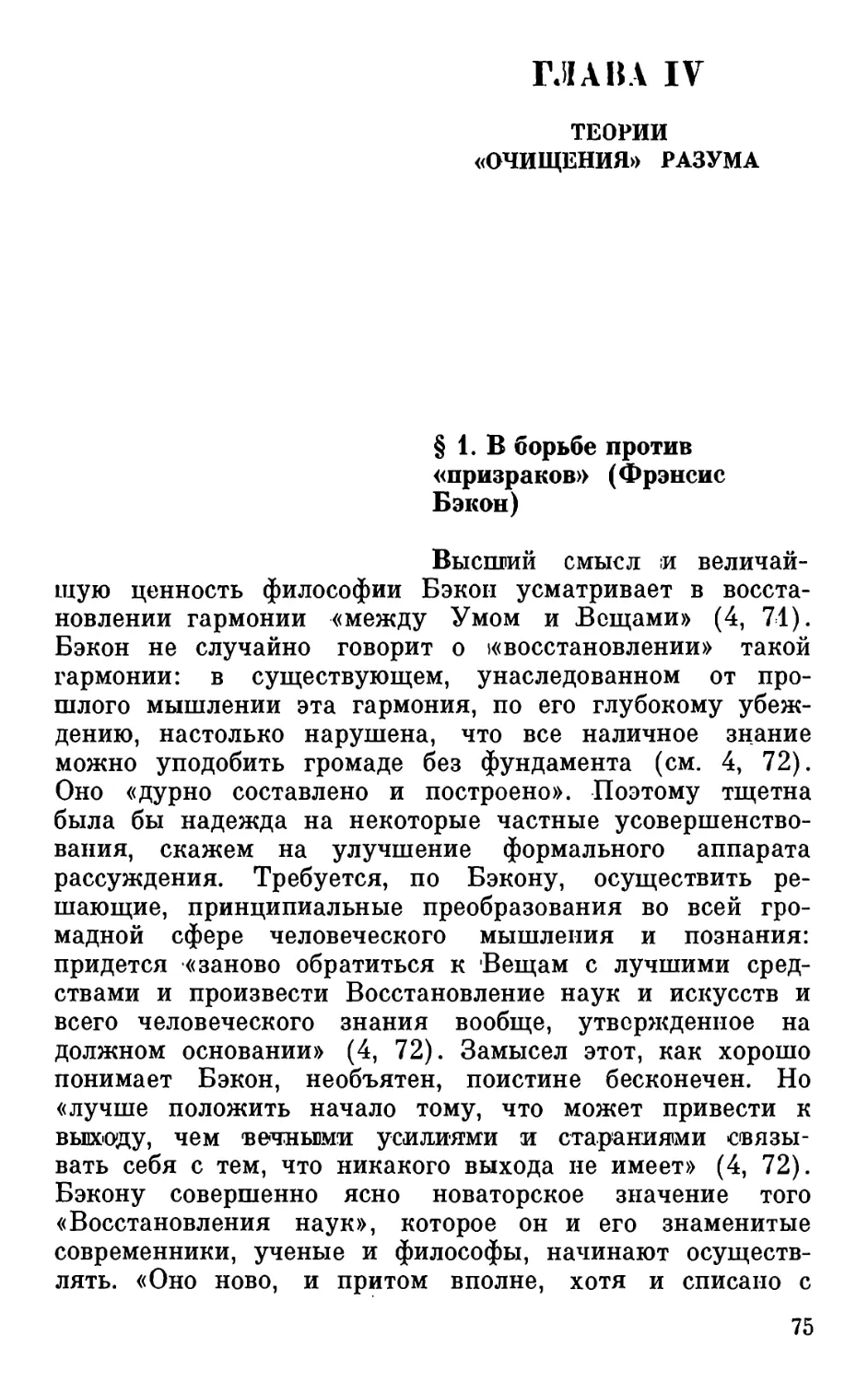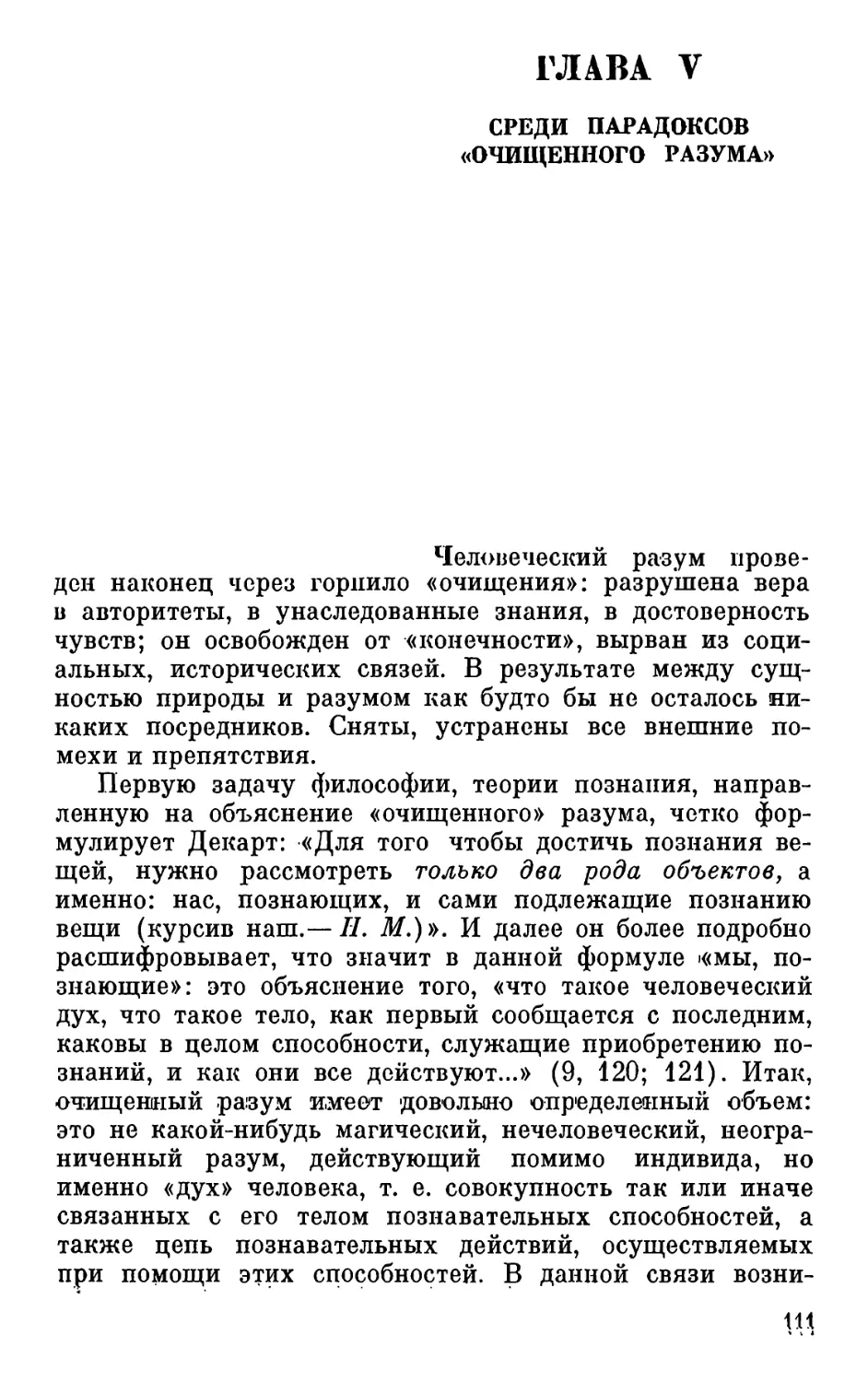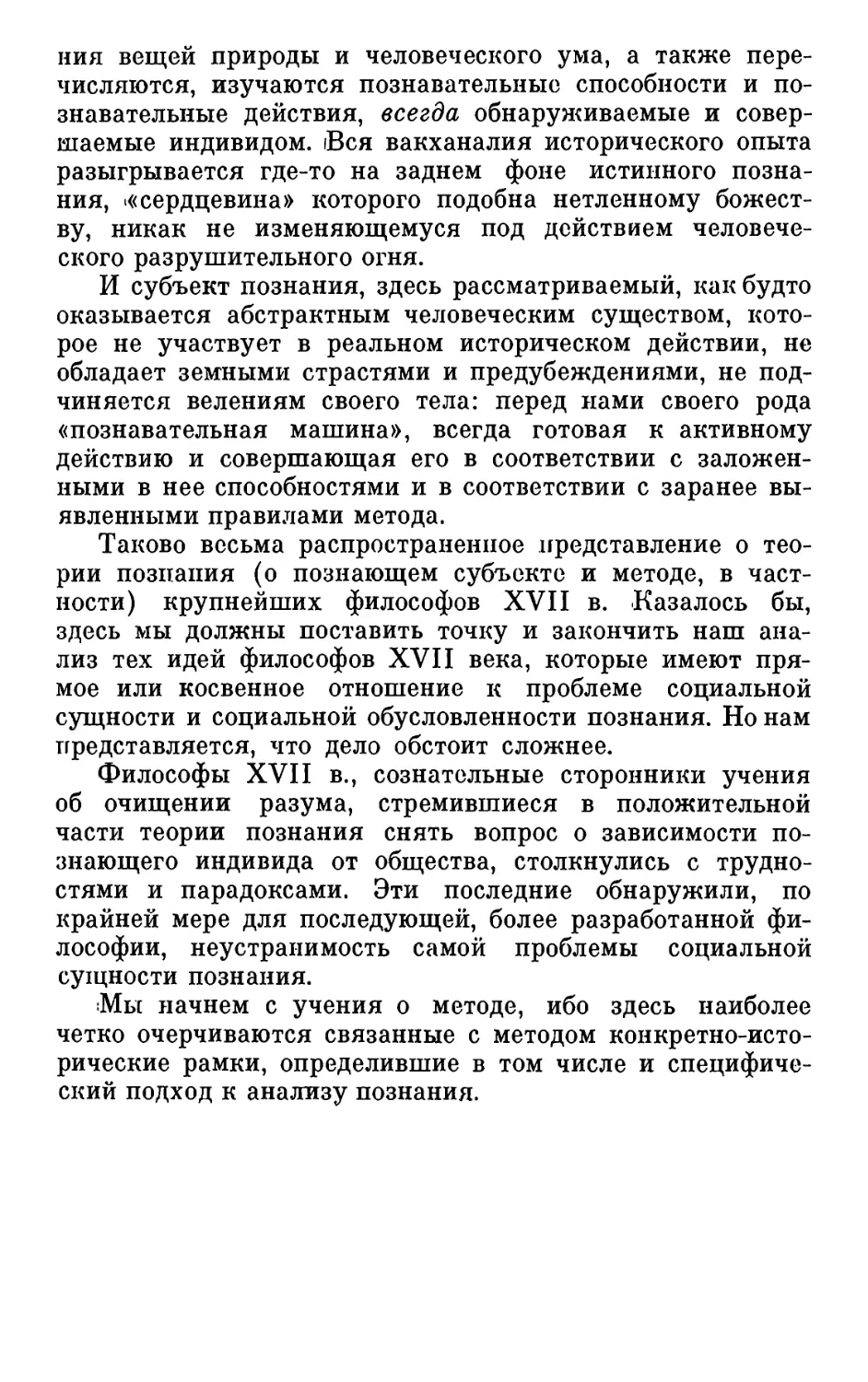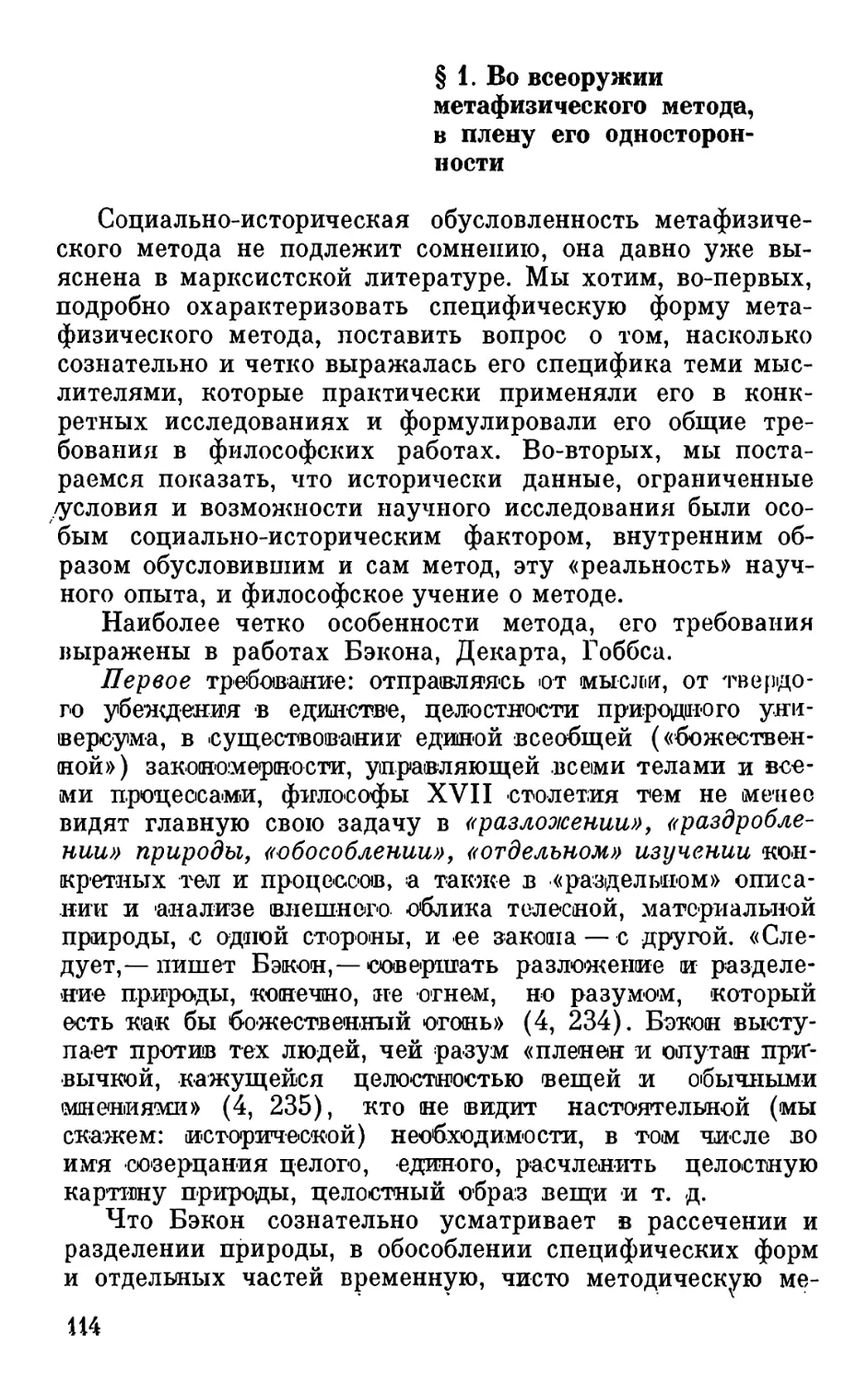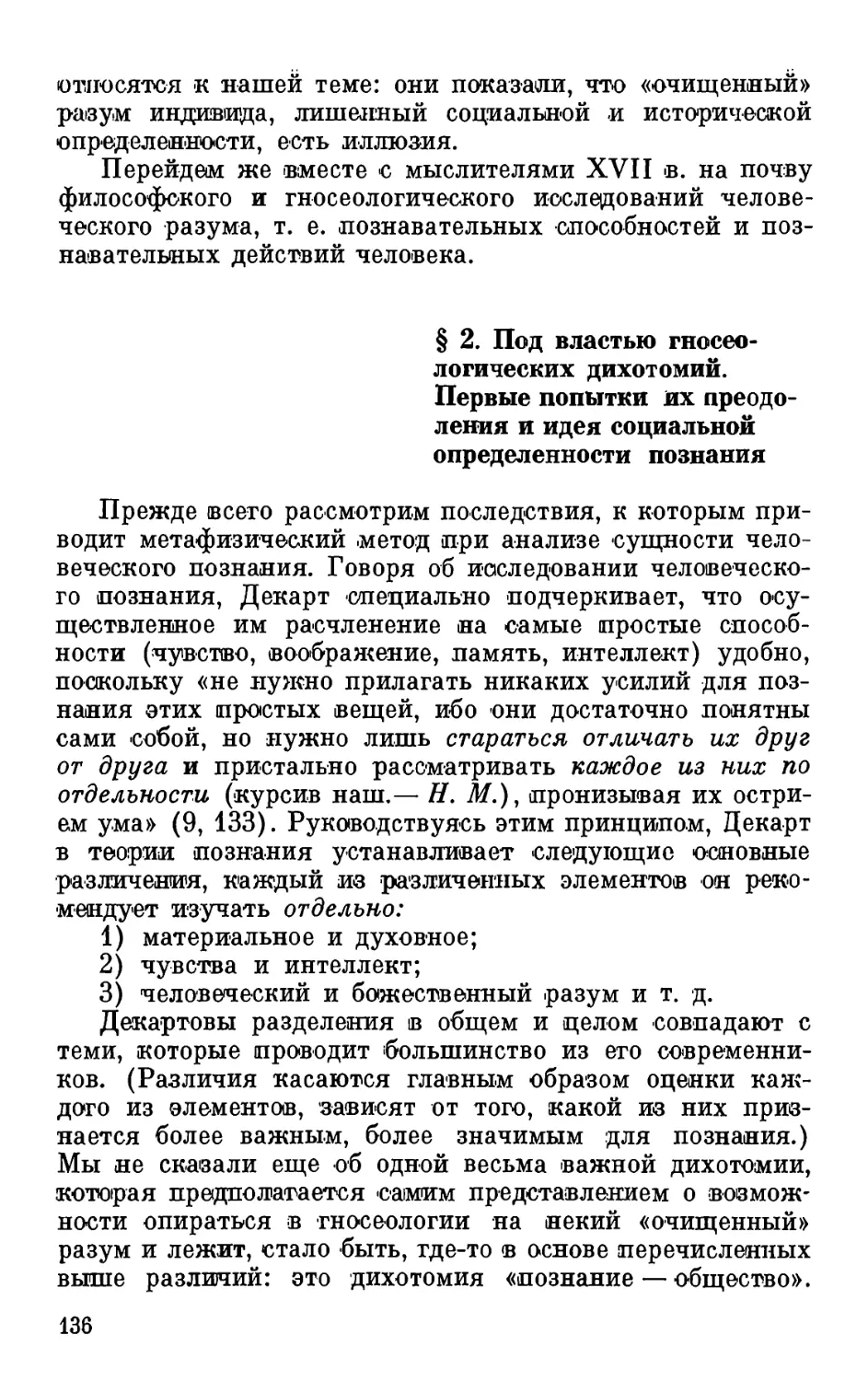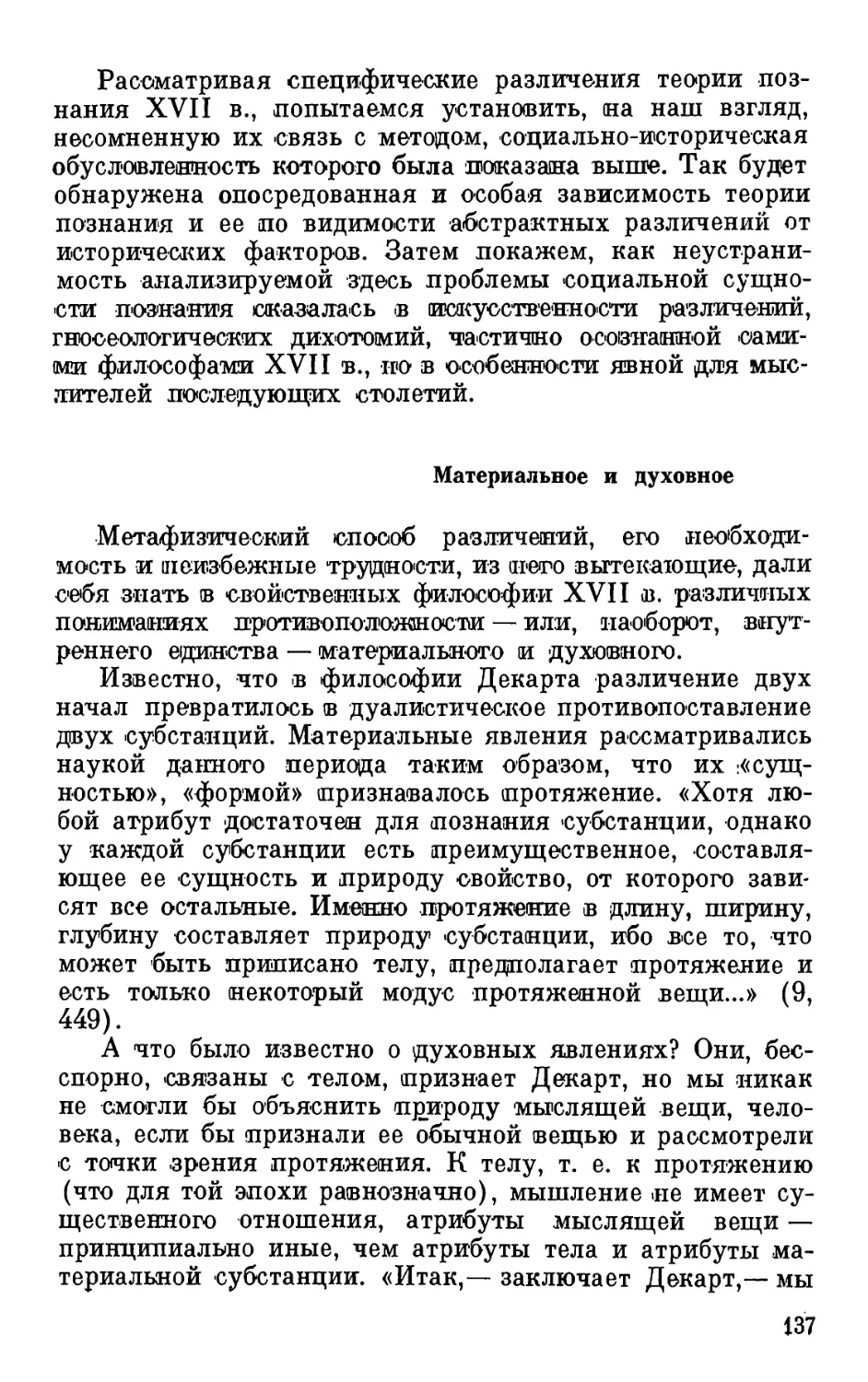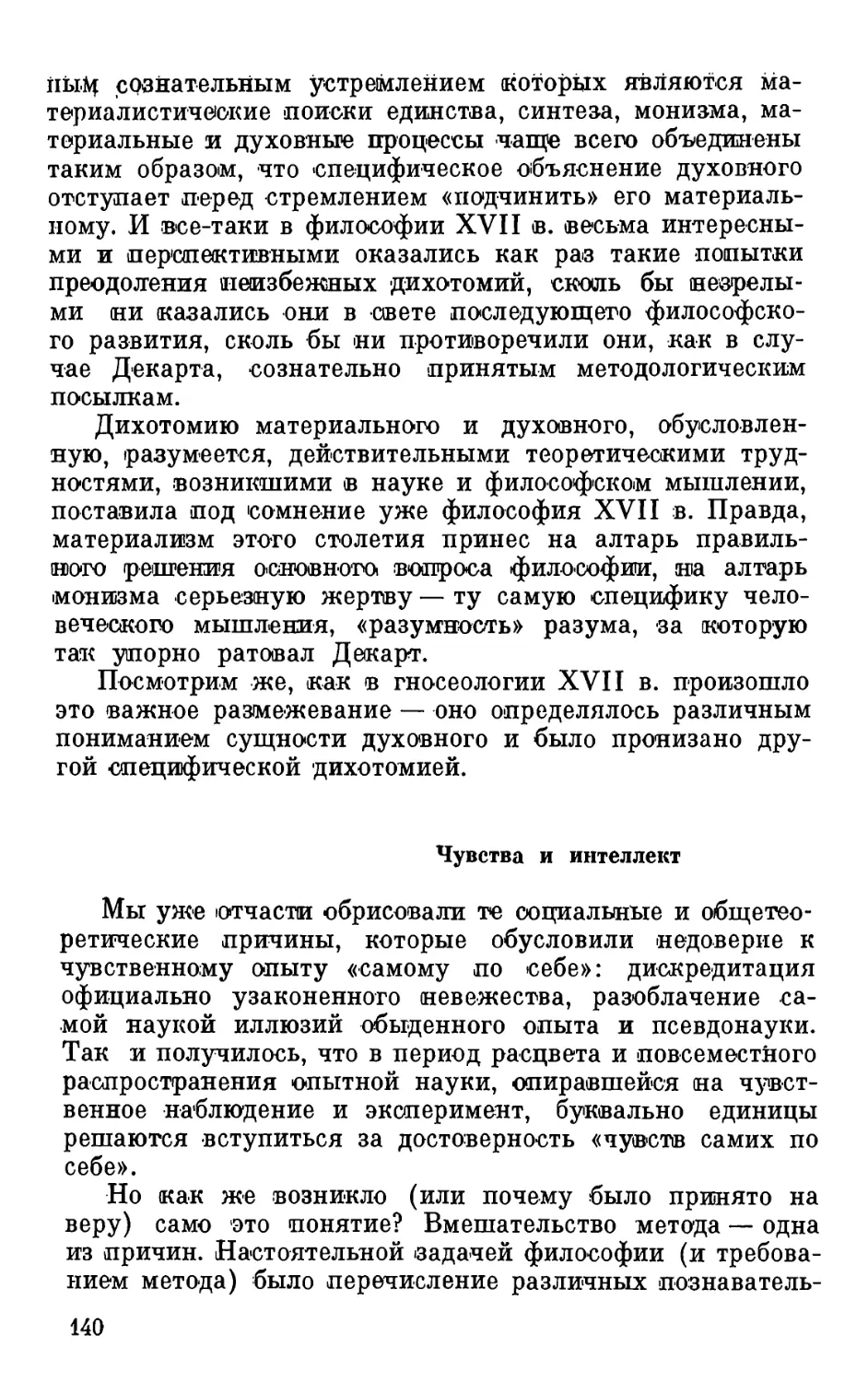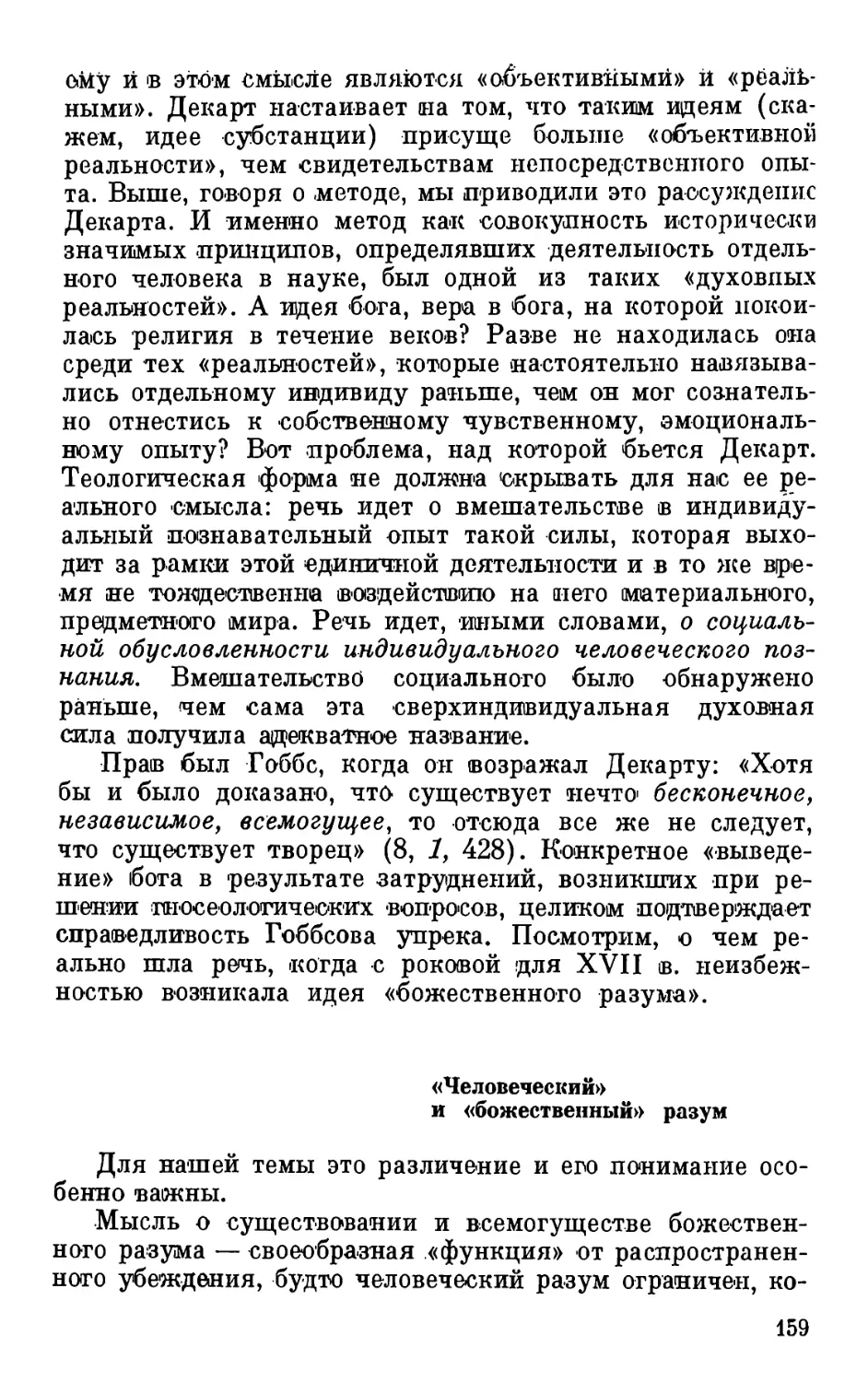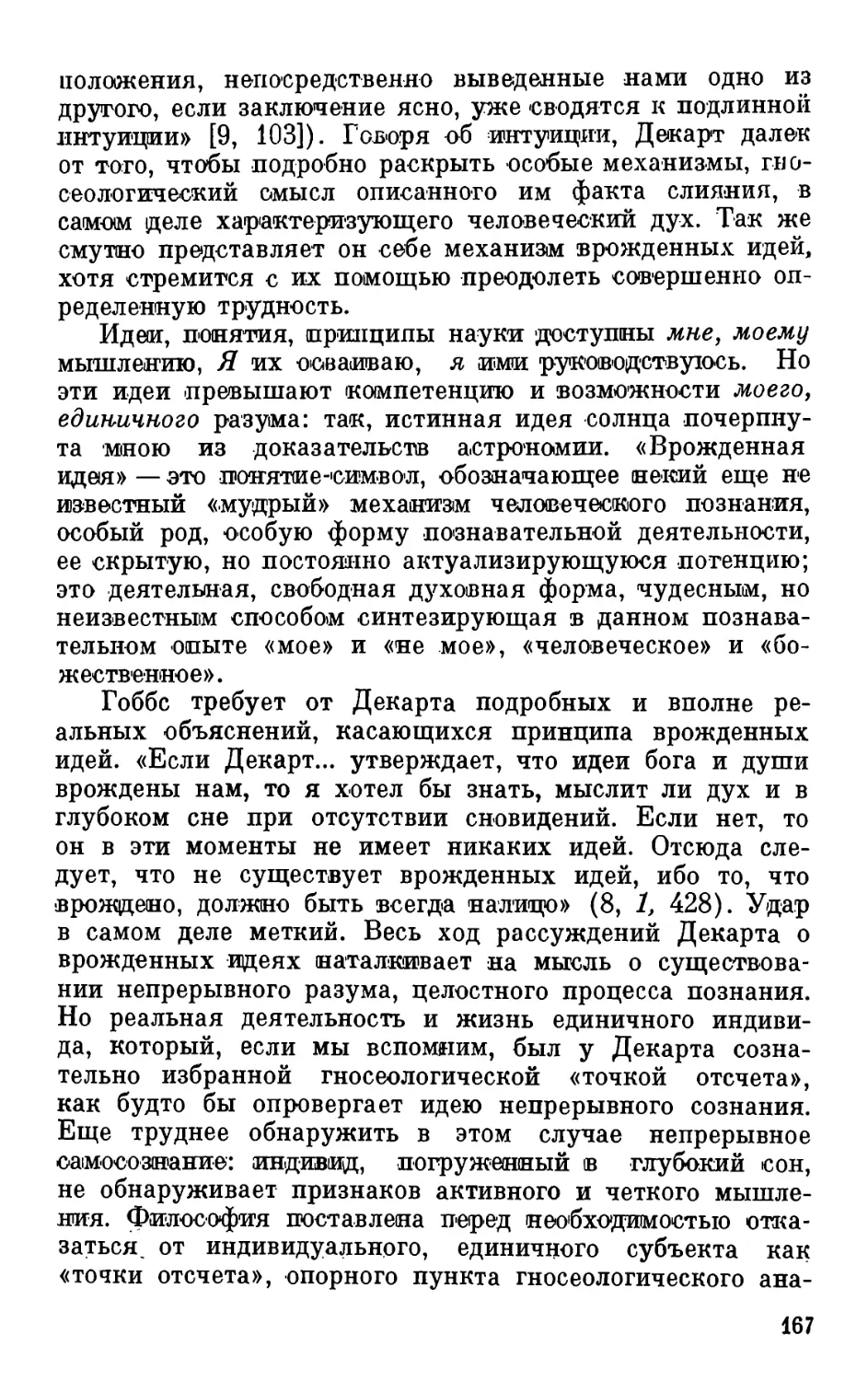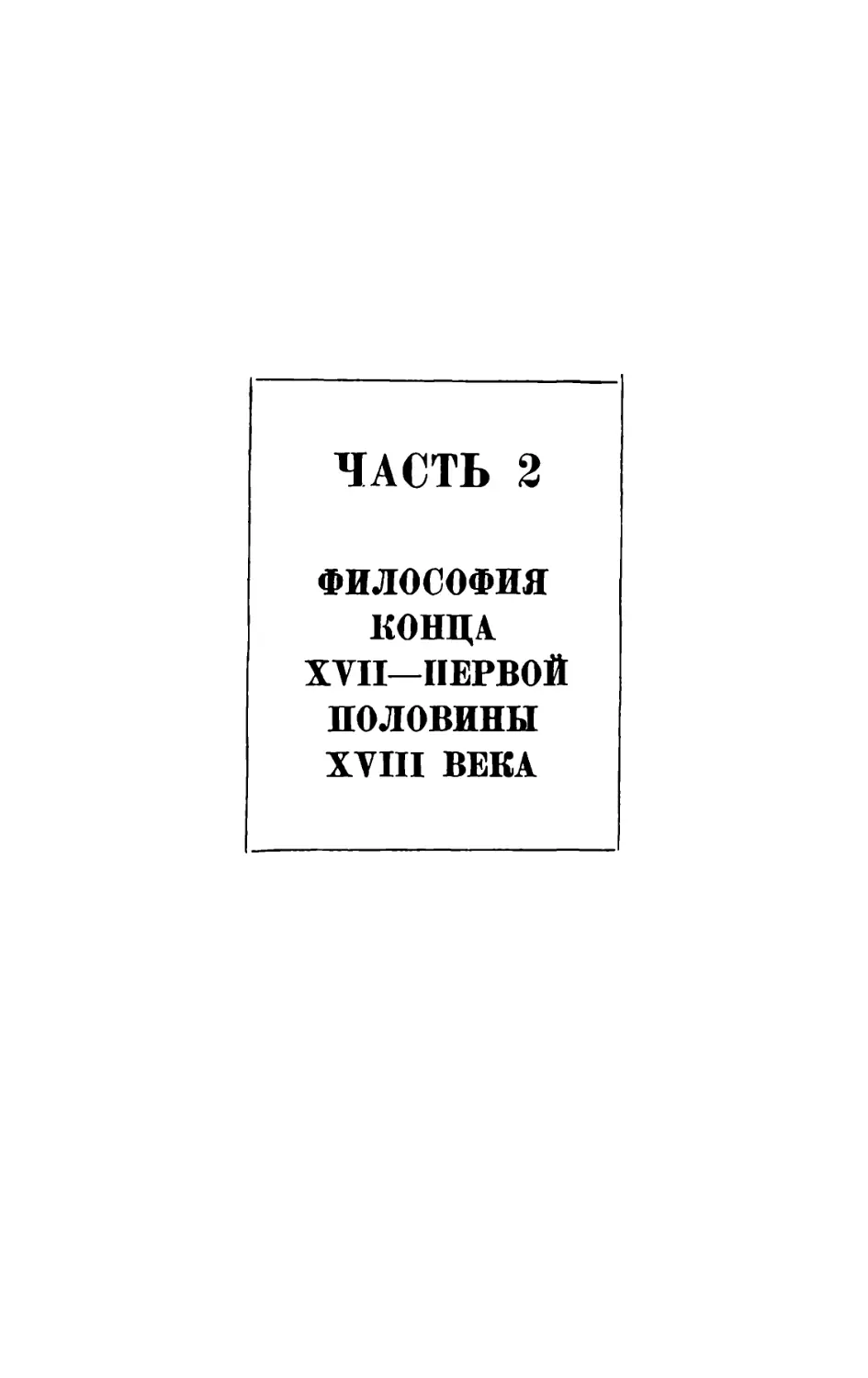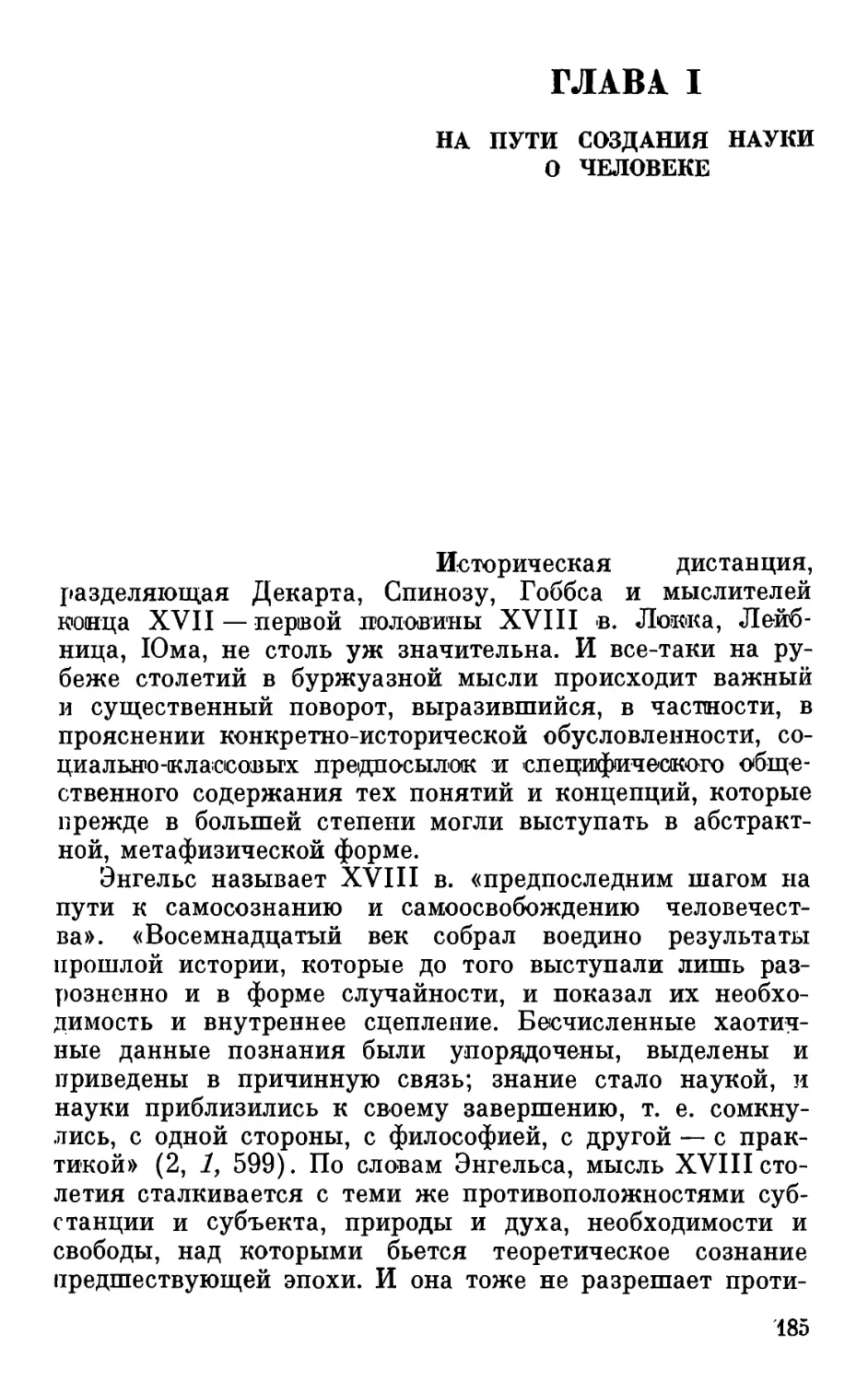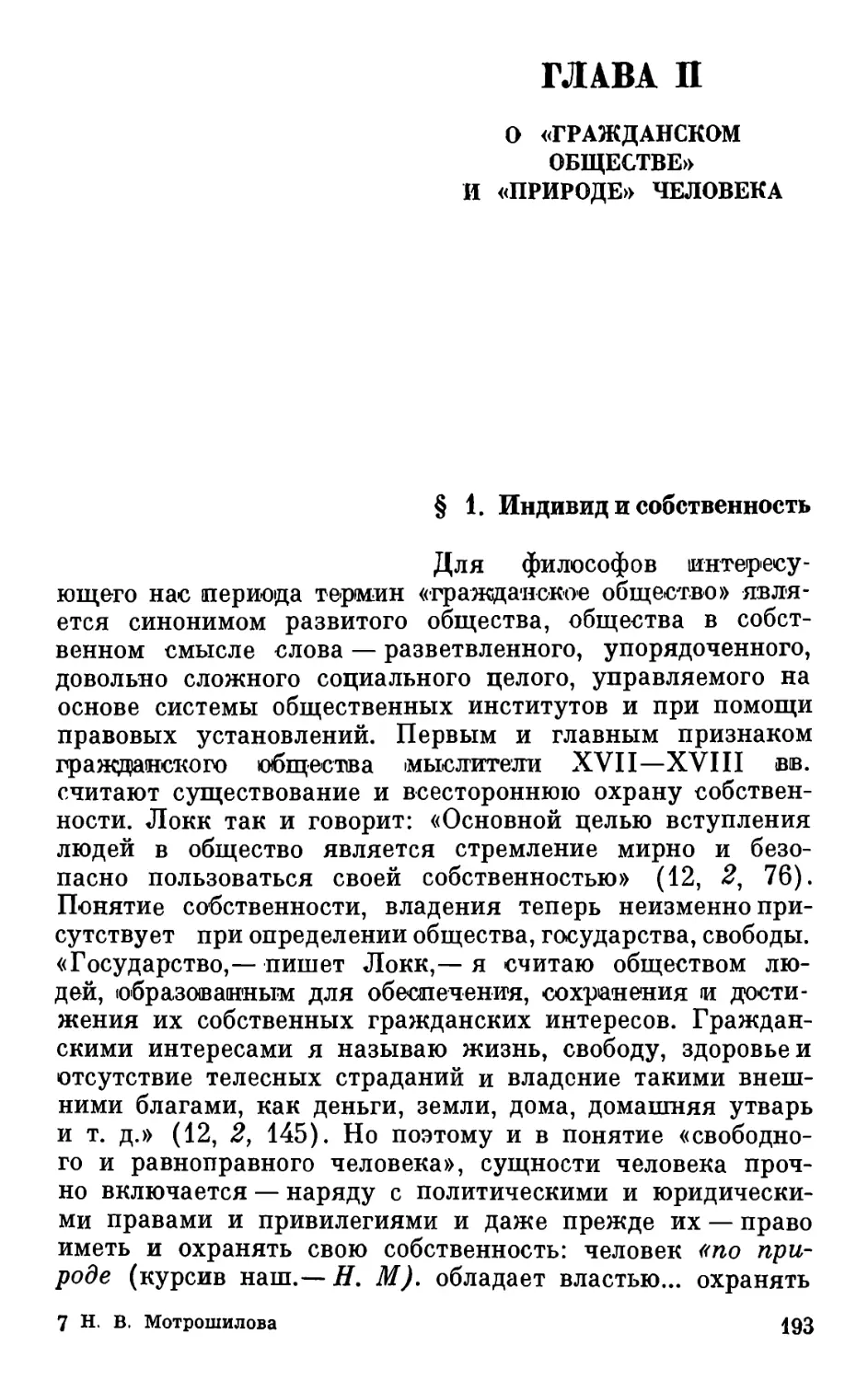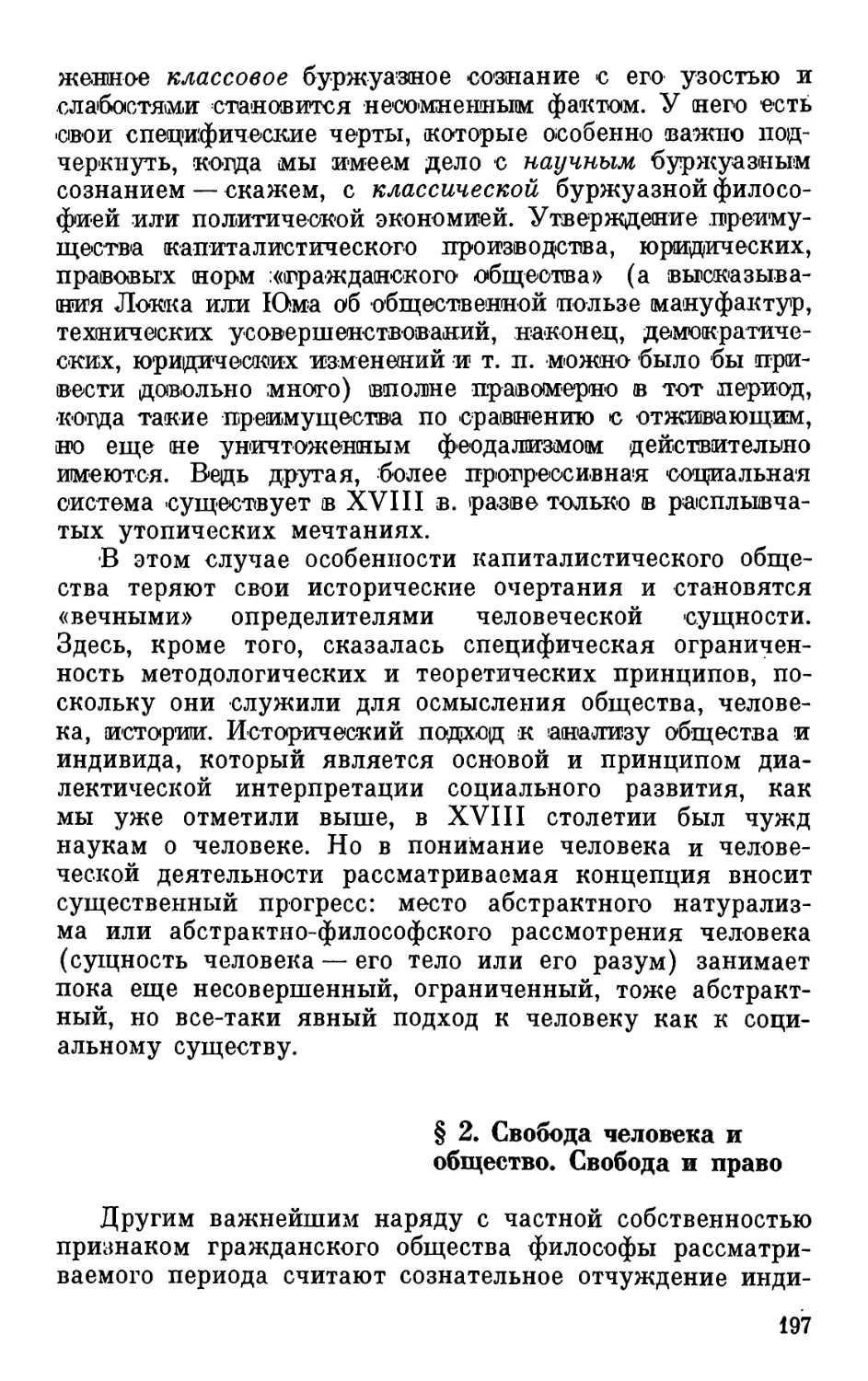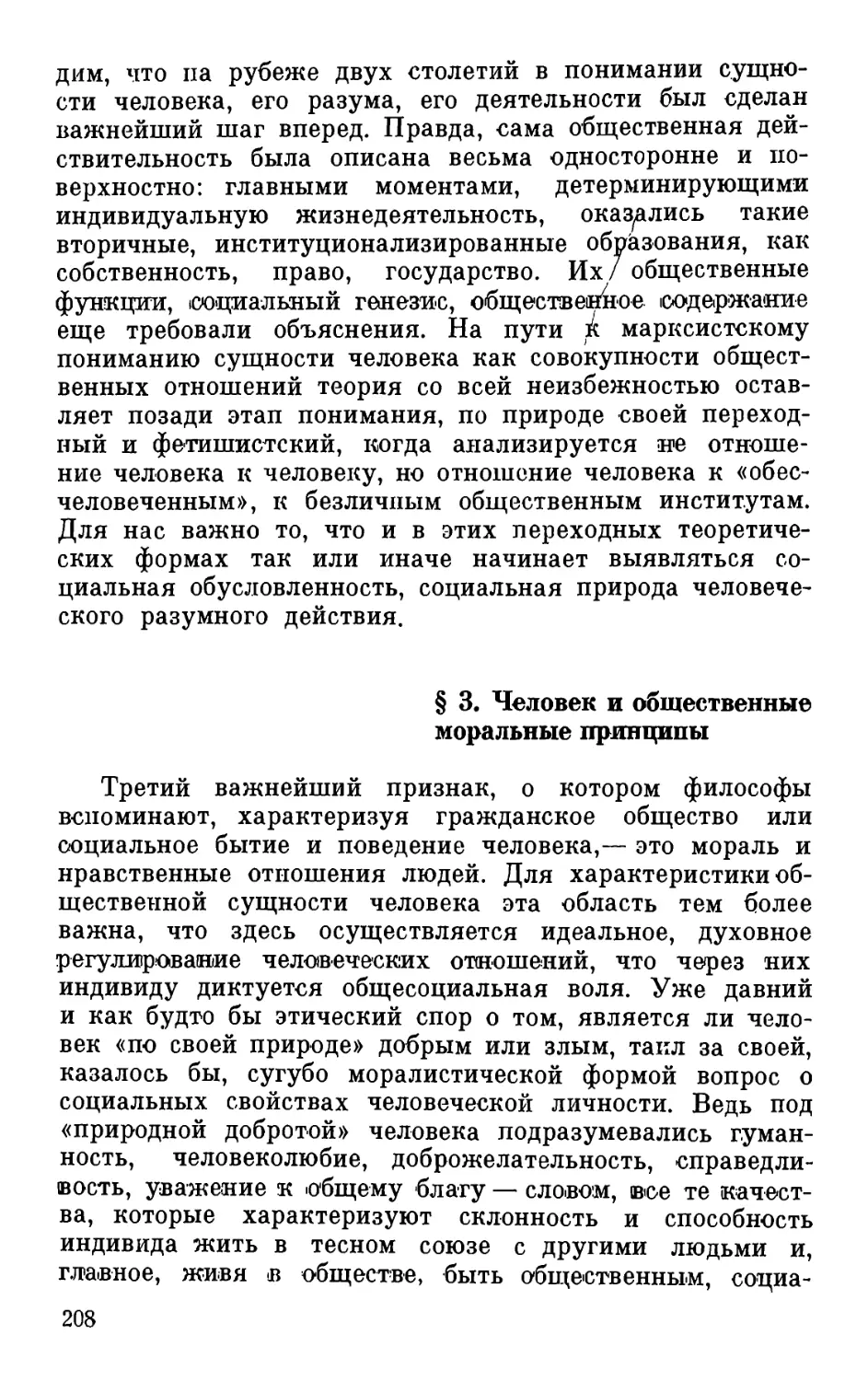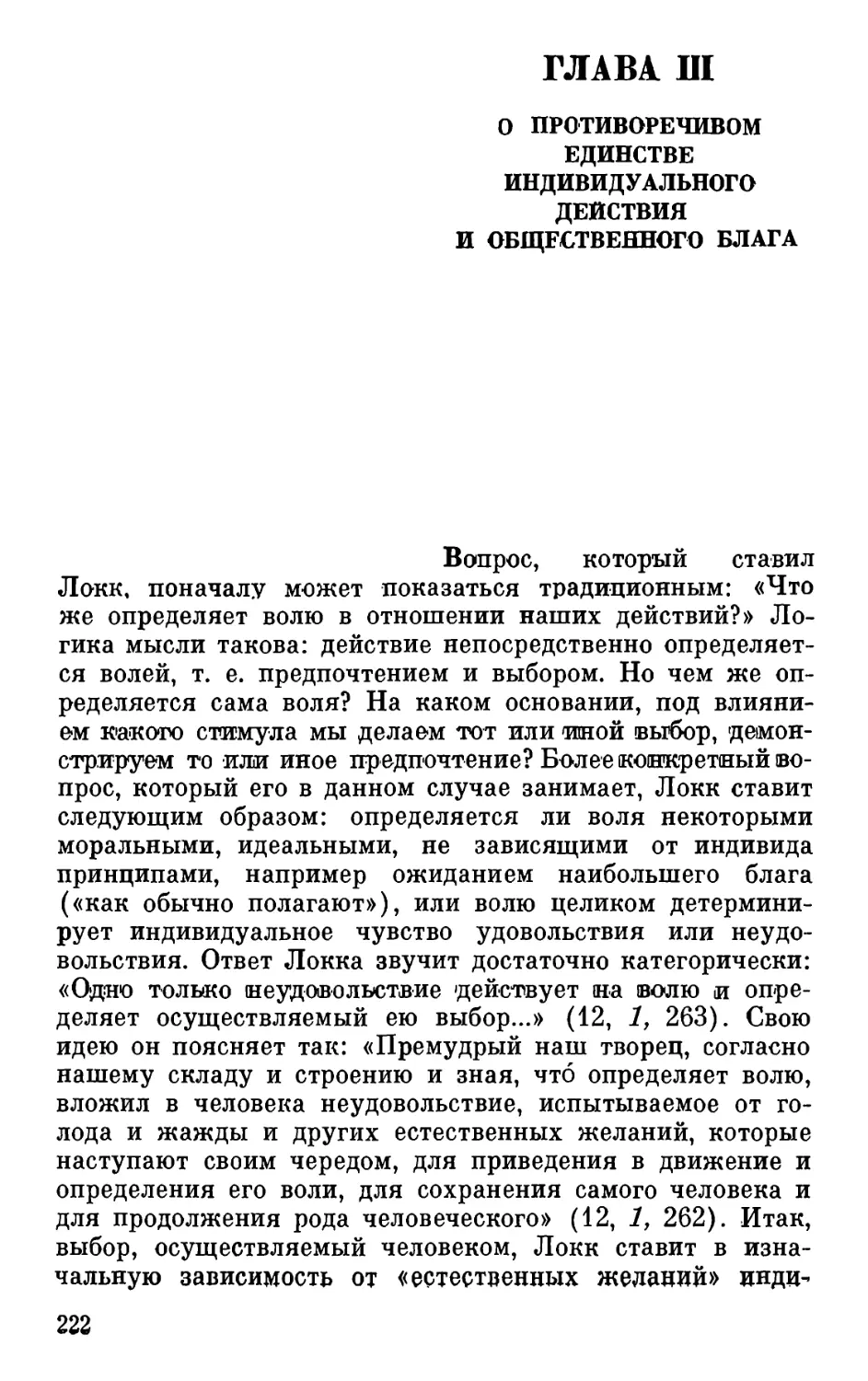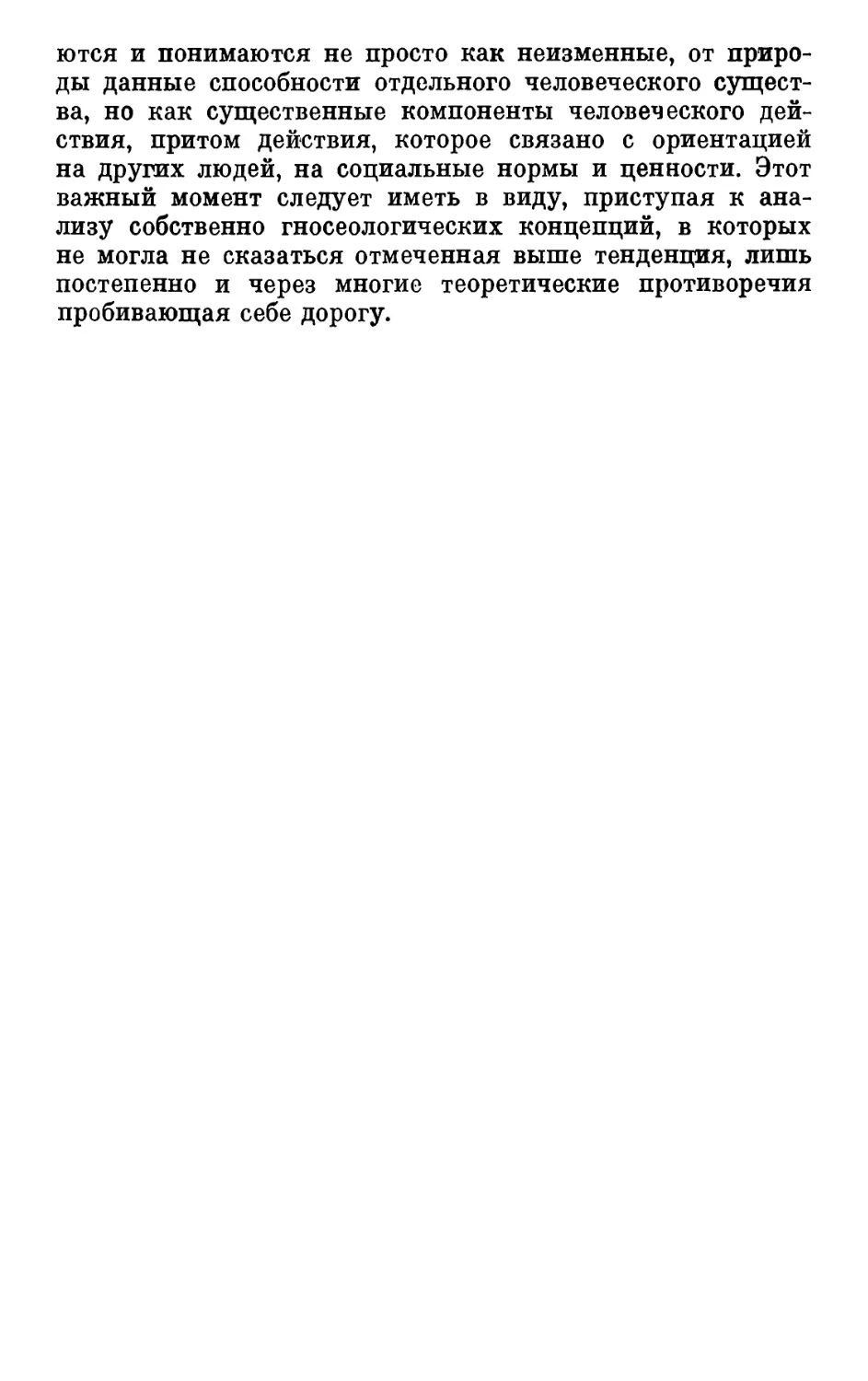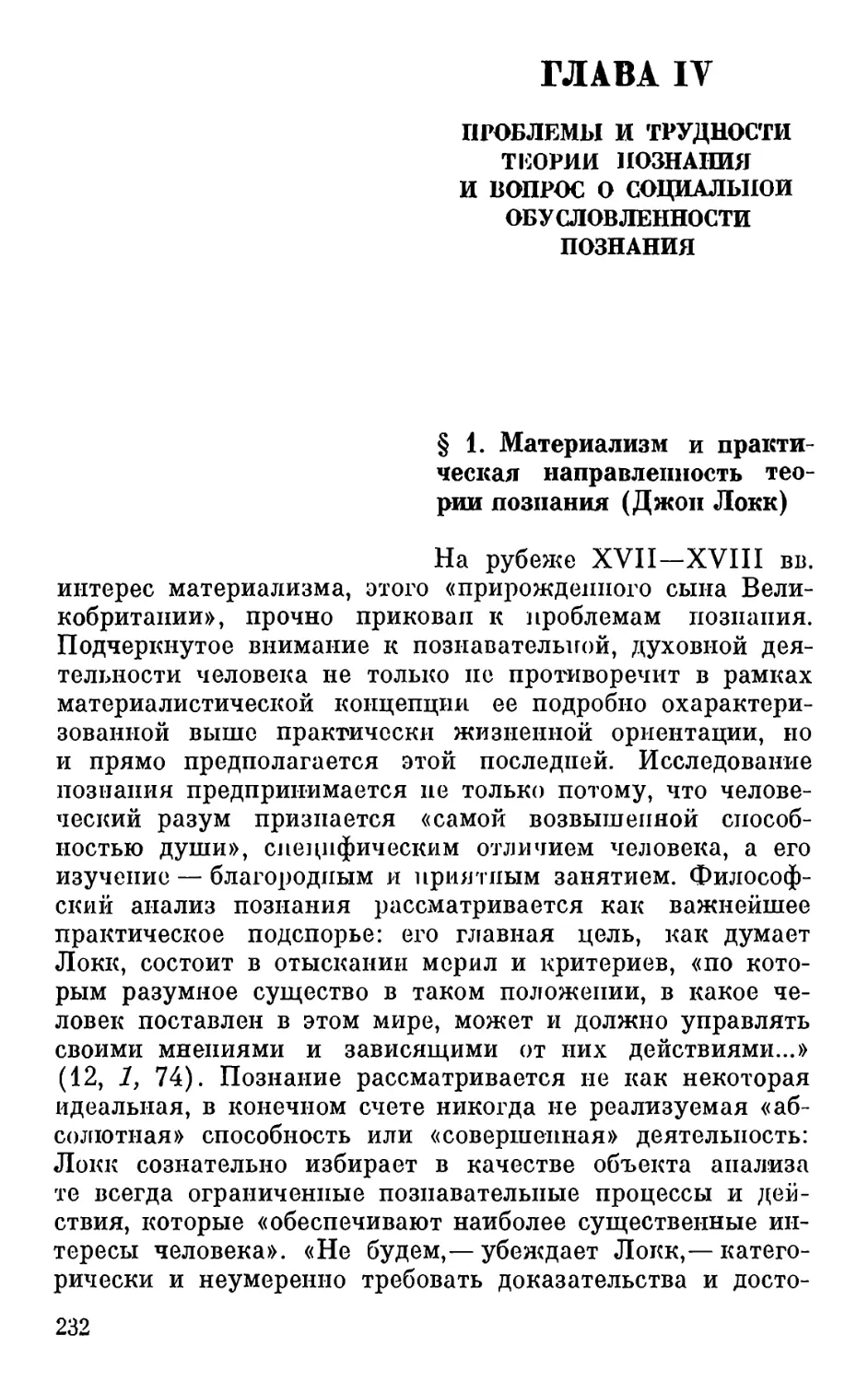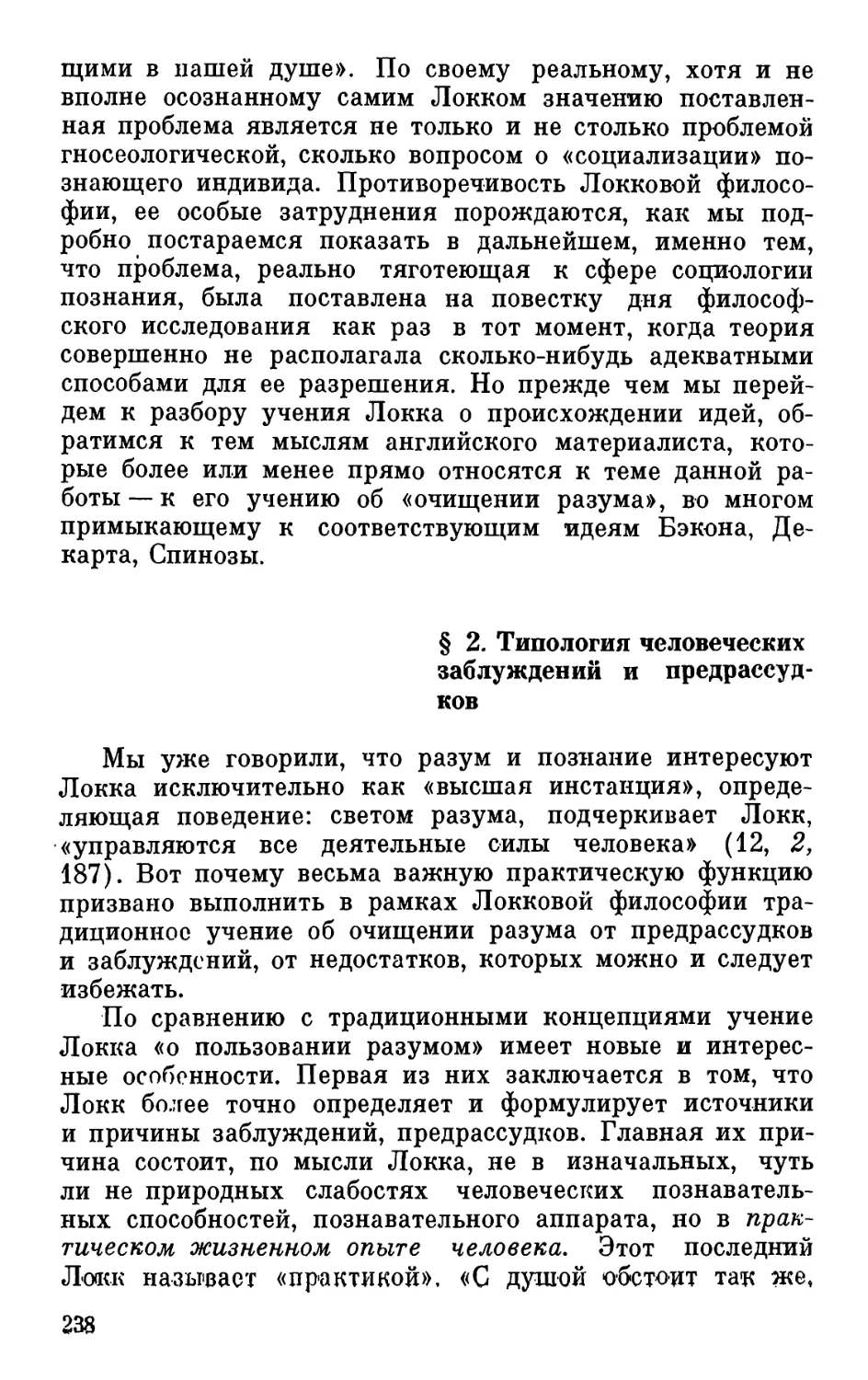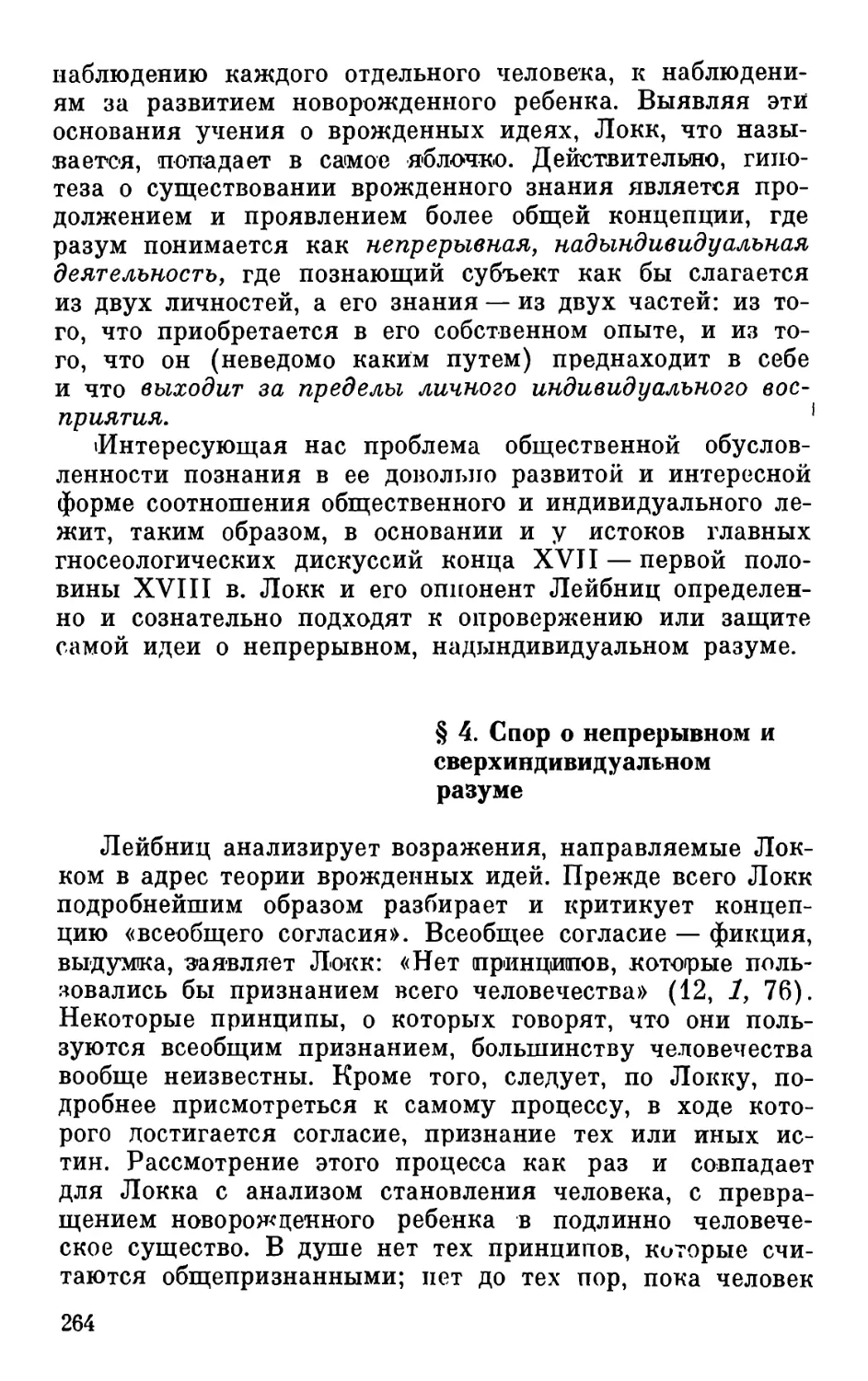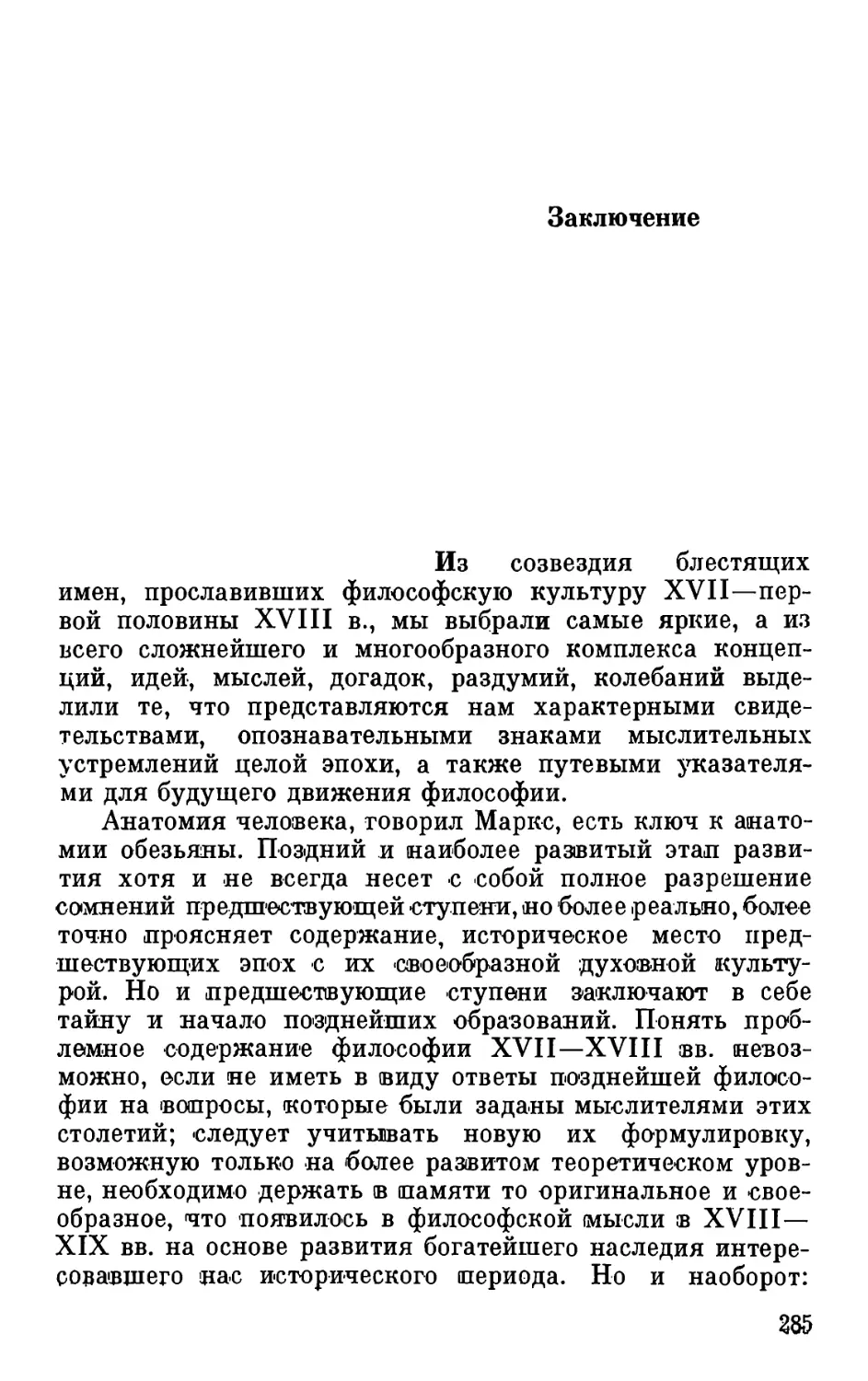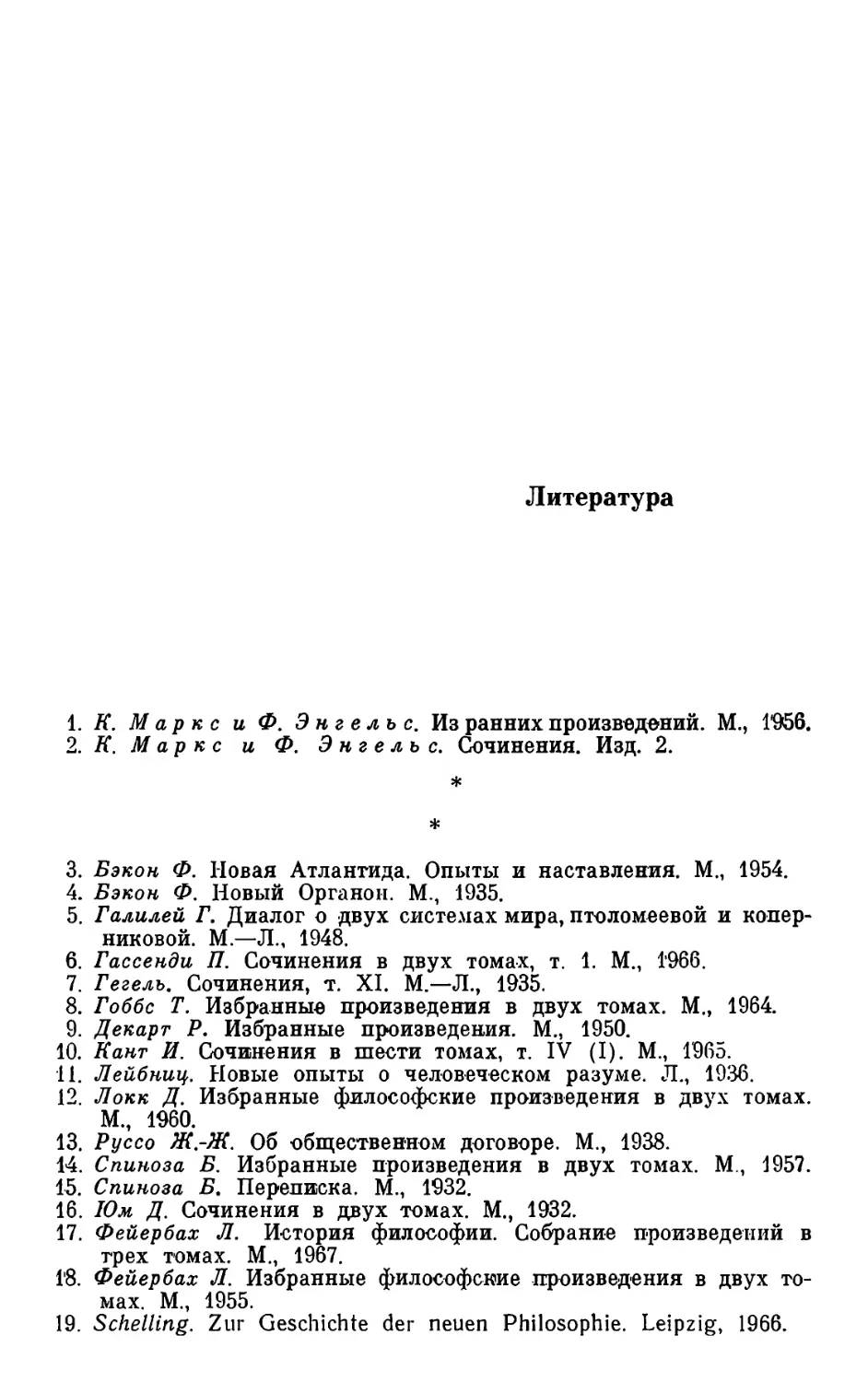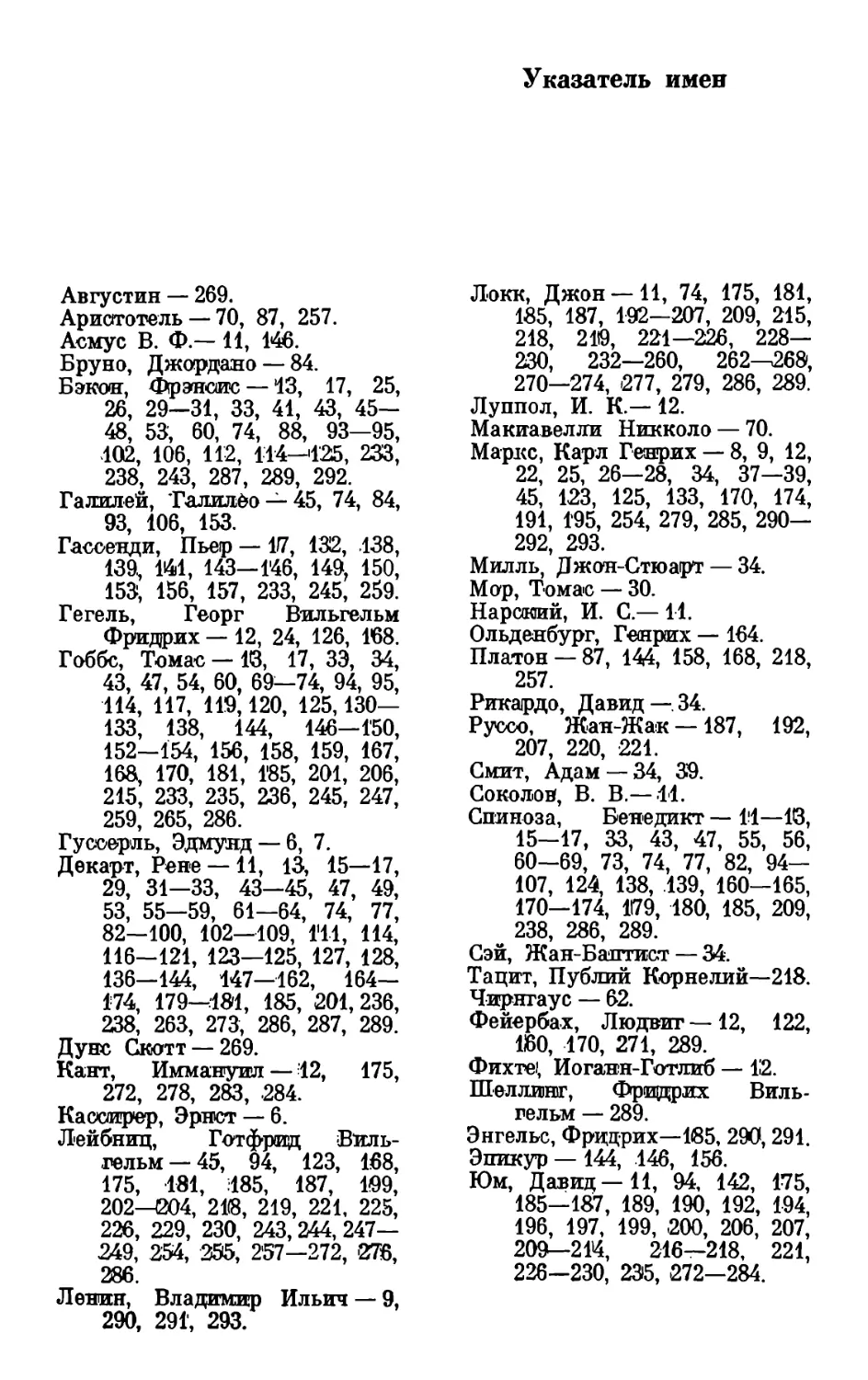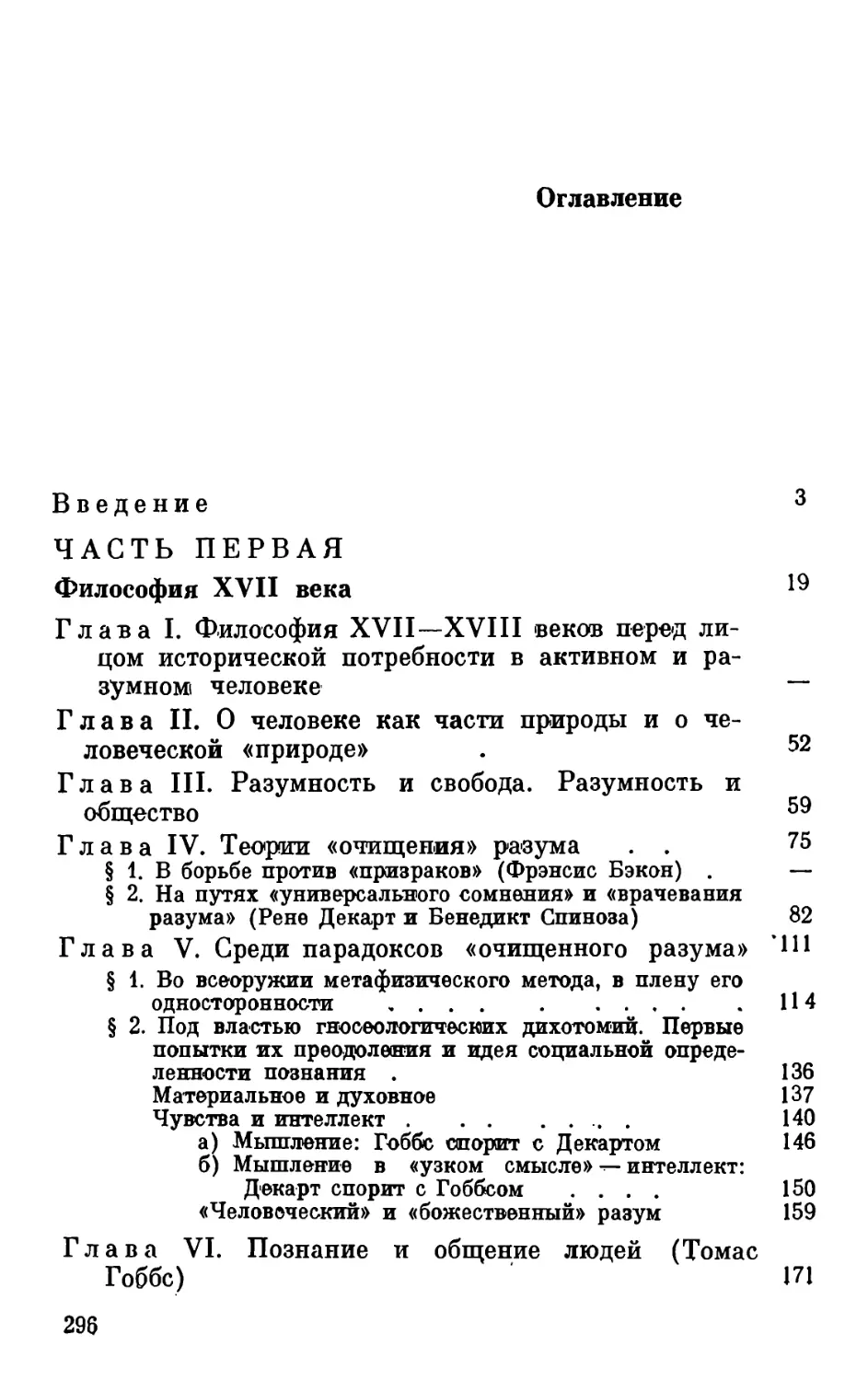Text
11.В.М0ТР01Ш1Л0ВА
ПОЗНАНИЕ
И
ОБЩЕСТВО
ИЗ ИСТОРИИ
ФИЛОСОФИИ
XVII—XVIII ВЕКОВ
ИЗДАТЕЛЬСТВО «МЫСЛЬ»
МОСКВА 1969
ГЛАВНАЯ РЕДАКЦИЯ
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
Мотрошилова Нелли Васильевна (р. в 1934 г.) —
кандидат философских наук, старший научный сотрудник
Института философии Академии наук СССР. Специализсруется в
области социологических проблем истории философии и
критики современной зарубежной философии. Автор книги
«Принципы и противоречия феноменологической философии»
(М., 1968).
Введение
Вопрос о социальной
обусловленности и социальной сущности познания и знания
стал живым нервом современных философских
исследований, предметом горячих дискуссий.
На первый взгляд решение представляется ясным и
определенным: ведь никому не придет в голову отрицать
тот вполне тривиальный факт, что познание (и его
результат — знание, взятое также и в «ослепительной»
форме научной истины) возникает, существует и
развивается в обществе, в ходе совокупной социальной
деятельности людей.
Но от признания самого факта социальной
обусловленности познания до развитого, всестороннего
теоретического выведения общественной сущности
познавательной деятельности дистанция огромного размера. И путь
этот — со всеми его трудностями, парадоксами,
неожиданностями, прямыми опасностями — до сего дня еще
не пройден, не завершен философской мыслью. Однако
в современных исследованиях достаточно определенно
выявились теоретические затруднения, дилеммы,
противоречия, требующие настоятельного разрешения в
соответствии с новейшими потребностями и
расширившимися возможностями философского поиска и анализа.
Своеобразная ситуация создалась в буржуазной
философии и социологии XX в.: здесь четко поляризова-
3
лись дна подхода, две тенденции, две линии, связанные
(• определением сущности познания, в том числе и в
особенности научного, истинного познания.
Представители и выразители первой тенденции — это философы,
принципиально противопоставляющие «имманентную»
сущность познания и социально-исторический опыт. По
их убеждению, общество оказывает на познание
внешнее воздействие и поэтому теория познания, изучающая
сущность познавательной деятельности, не только
может, но и должна отвлечься от этого влияния.
Другие философы и социологи, наоборот, горячо
ратуют за социальный и социологический подход к
изучению сущности познания. К этой группе могут быть
причислены представители социологии познания, а
также философы и социологи, усматривающие сущность
знания, в том числе научного, в его зависимости от
исторически определенных технических предметных средств,
в его функции создавать социально полезный продукт.
Они считали и считают своей главной целью не просто
доказательство социальной обусловленности, но
выявление общественной природы, общественной сущности
человеческого познания. И это их намерение теоретически
оправдано; оно совпадает с основными установками
марксистской традиции, тем более что именно из
последней, как свидетельствуют исторические факты, сам
замысел — обнаружить социальную сущность
познания — был представителями социологии познания
заимствован.
Тем не менее при попытке дать развернутое
исследование социальной природы познания они столкнулись
с громадной теоретической трудностью. Пока речь шла
о социально-классовой обусловленности тех
мыслительных образований, которые были связаны с социальным
действием и классовой борьбой прямо и
непосредственно, принятый социологами познания принцип, казалось,
мог плодотворно «работать». Но как только предметом
обт>яснсния стало научное знание и познание, появился
камень преткновения. Сколько ни пытались лишить
истину, науку того таинственного, «вечного» ореола,
которым окружила ее классическая западная мысль,
сколько ни старались «приземлить» ее, приблизив к вполне
реальным, исторически конкретным человеческим
отношениям, никак не удавалось раскрыть «сердцевину»,
А
«:шгндку» науки, казалось, перешагивающей через все
перипетии социального развития и превратности инди-
iiiiдуального опыта. Пусть были открыты и описаны но-
HI.IO факты и обстоятельства, характеризующие условия
существования и организации научного познания,— в
реторте анализа, предпринятого социологией познания,
никак не могла раствориться и постоянно «выпадала в
осадок» какая-то неуловимая, «имманентная» сущность
науки.
Казалось, подтверждалась правота тех мыслителей,
которые горячо верили в «имманентное», не подвластное
обществу и истории, поистине «божественное» царство
истин (истин науки и «вечных» норм
морально-практического действия) и настаивали на автономности
процесса научного исследования. Они затратили немало
усилий на «очищение» разума, на отделение «сердцевины»,
сущности науки от внешней оболочки, от «шелухи», от
наслоений повседневного, исторически-социального и
вообще «слишком человеческого» опыта. Истине
предстояло пройти — и ее провели — через все «круги ада»,
где она должна была познать ужасы неадекватного ей
мира материального, предметного действия, бурного
житейского моря поведения, страстей, эмоций индивида,
где она должна была решительно противопоставить
себя человеческим земным и небесным идолам и идеалам,
устремлениям и ценностям, а также возвыситься над
постоянно сменяющими друг друга социально-классовыми
битвами.
И когда в результате такого «очищения» должны
были наконец получить искомый логический и
теоретический продукт — вполне автономную, «имманентную»
истину и науку,— совершенно четко выявились два
неожиданных обстоятельства. Первое из них — теоретического
характера. Вычлененные здесь философские объекты —
чистое мышление, имманентная сущность науки — при
ближайшем рассмотрении оказались вовсе не теми
результатами, к получению которых сознательно
стремились сторонники анализа науки исключительно как
автономного процесса получения истины. Истина, знание,
познавательный процесс предстали в рассматриваемых
концепциях не просто внешне обусловленными, но
внутренне спаянными с такими факторами «слишком
человеческого» бытия, как ценность, переживание, настроен-
5
iiocTi», обязательность, значимость и т. п. Наиболее
радикальные попытки очищения, предпринятые в
буржуазной философии конца XIX и первой четверти XX в.
(неокантианство, феноменология), закончились наиболее
явным переходом к социальному и
социально-психологическому описанию познания и знания, что само по себе
важно и значительно, сколь бы неудовлетворительным
с марксистской точки зрения ни приходилось признать
содержание поздней философии Кассирера или
Гуссерля.
И второе по порядку, но, пожалуй, более важное по
значению обстоятельство — на этот раз практическое,
социальное. Философия, выявляя «сущностные»
характеристики (скажем, познания, науки), правда, не
претендует на абсолютное совпадение начертанной ею
логической схемы и полной, многокрасочной картины
реального опыта, более того, она предполагает их известное
расхождение, заставляющее затем, при подключении
дополнительных координат, специально выводить,
объяснять саму действительную ситуацию. «Чистое» знание
и познание всегда было и остается в философских
учениях XX в. логической, теоретической моделью,
которую строят для объяснения сущности познавательного
процесса, самой природы знания. Тем не менее и теоре-
тики-логицисты не могут не быть чувствительными к
тем изменениям, к тем сложным и наихарактернейшим
процессам, которые происходят в самой
действительности и существенно затрагивают объект их
теоретического моделирования. И если уж касаться здесь реального
развития познания, то приходится сказать: никогда
прежде концепция автономной науки и «чистой»,
«имманентной» истины не расходилась так принципиально,
так резко, так категорически с действительным научно-
познавательным опытом.
В условиях повсеместного превращения науки в
широко разветвленную и организованную в
общесоциальном масштабе отрасль производства, строго
подчиненную в своем существовании и развитии конкретным
социально-экономическим, историческим за-конам,
концепция «имманентной» истины, явно идеализировавшая
-фигуру независимого в идеологическом и политическом
отношении ученого, стала почти мифологическим
архаизмом, в лучшем случае — хрупкой, несбыточной мечтой.
G
Сторонники учения о внесоциальной, внеисторической
истине не могли не задуматься и над этим
обстоятельством. Пример тому — работа Эдмунда Гуссерля «Кризис
(Чфонейских наук и трансцендентальная феноменология»
(11)35—1936), своей критикой специфических
социальных условий существования современной науки
представляющая разительный внешний контраст в
отношении подчеркнуто неисторического анализа написанных
им в начале века «Логических исследований».
Любопытно, что учения об «имманентной» сущности
познания и истины претерпевали эту трансформацию
приблизительно в то же время, когда представители
социологии познания начали ограничивать область
применимости праинщгп'а социальной обусловленности познания,
который первоначально был объявлен ими поистине
универсальным.
Общий теоретический итог, к которому приводит
западная философия XX в. (в той части и в той степени,
в какой она соприкасается с интересующей нас
проблемой социальной сущности и социальной обусловленности
познания), выглядит весьма неутешительным: механизм
мы и структура, обеспечивающие внутреннее
единство — не внешне прослеживаемое взаимовлияние! —
социальной деятельности человека и познавательного
аспекта этой деятельности, не выяснены, не объяснены в
развернутой теоретической системе. С одной стороны,
зафиксированы конкретные социальные обстоятельства,
прямо или косвенно относящиеся к существованию,
функционированию науки и осуществлению
познавательного процесса в современных исторических условиях.
Эти факты сами по себе важны: они являются
эмпирической, дотеоретической предпосылкой философско-социо-
логического учения о сущности познания. (Правда, в
социологических концепциях, о которых мы говорили
выше, констатация и описание современных особенностей
функционирования науки обрастает горькими
сожалениями по поводу ее бюрократизации или, наоборот,
восторженной оценкой ее неизмеримо расширившихся,
поистине фантастических возможностей. И эта ценностная
констатация непосредственно выдается за теорию
вопроса.) С другой стороны, выявлены некоторые
специфические характеристики познавательного процесса, в*
том числе особенности истинного познания, которые в
7
самом доле от него неотъемлемы: результаты познания,
сам ход познавательного процесса, его структура, а
главным образом принципы и законы науки не могут быть,
конечно, прямо и непосредственно соотнесены с
социальными условиями, тем более с конкретно-историческими
событиями и фактами. На этом настаивают сторонники
учения об «имманентной» истине.
Познание, знание, наука, истина, с одной стороны, и
деятельность, поведение, установки, ориентации, эмоции
человека, познающего существа, ученого в частности,
общесоциальные процессы и изменения, в том числе
непосредственно касающиеся познания и науки, с другой
стороны, и по сей день остаются двумя разомкнутыми в
теории полюсами противоречия. Но ведь в реальном
социальном процессе нет науки «с одной стороны» и «с
другой стороны» (науки как социального феномена и
науки как процесса добывания истины), но есть одна
наука, единый процесс социально-исторической
деятельности, включающий в качестве неотъемлемого
компонента познавательный опыт. Четко обозначившаяся задача
и проблема философии — последовательно,
систематически, теоретически воспроизвести действительное
противоречивое единство познавательного и
социального начал, единство, весьма сложное по своей
структуре.
Анализируя проблемную ситуацию, касающуюся
объяснения природы капитала, Маркс зафиксировал
загадочное и противоречивое обстоятельство: капитал
должен возникнуть в обращении и в то же время
не в обращении. «Таковы условия проблемы,— писал
Маркс—Hic Rhodus, hic salta!» [Здесь Родос, здесь и
прыгай!] (2, 23, ill) *. Теория, призванная объяснить
природу познания, природу истины, сегодня находится в
аналогичном положении, она стоит перед необъяоненыым
еще, но определенно выявившимся противоречием: позна-
ние (в особенности это относится к истинному познанию)
возникает, существует, самой своей сутью принадлежит к
* Здесь и далее первая цифра соответствует номеру, под
которым цитируемое произведение значится в списке литературы,
помещенном в колце книги. Последняя цифра указывает страницу
соответствующего произведения. Средняя цифра, выделенная
курсивом, означает том.
8
социальному миру и одновременно, тоже по своей внут-
I »mi пей природе, развивается в известной «изолирован^
иос/ги» от социальных обстоятельств, как бы «вне» их.
«Лдесь Родос, здесь и прыгай!» По нашему глубокому
у Суждению, единственно возможным трамплином для
такого теоретического «прыжка», для постановки
проблемы познания на современном уровне является
подробное изучение наследия Маркса и Ленина, где
многие идеи и (концепции совершенно прямо относятся к
поставленной здесь проблеме. Вторым очень важным
условием можно считать освоение историко-философского
опыта в той его части, где реально выявляется, а затем
и сознательно разрабатывается интересующая нас
проблематика. Одним из главных препятствий на пути
разработки концепции общественной сущности и
общественной обусловленности познания является почти
повсеместно распространившийся миф, устойчивый
предрассудок, будто в классической философии мы можем найти
разве только распавшиеся осколки концепции
«имманентной» истины, автономно-независимой науки, что в
основу философии, по крайней мере докантовской или
догегелевской, была положена идея «гносеологического
Робинзона», т. е. изолированного от общества, грустно-
одинокого познающего субъекта. Одной из задач
настоящей работы является попытка документально
опровергнуть этот вредный миф, который противоречит, как мы
думаем, самому существу классической философии, а
также ее пониманию в работах Маркса и Ленина.
Весьма важно, что исторический анализ в данном
случае не уводит нас от актуальных современных
теоретических проблем, в частности тех, которые выразились
в поляризации «гносеологического» и «социологического»
подходов к познанию. Так, если сегодня живым
свидетельством противоречия и намеком на
взаимопроникновение его сторон является судьба двух тенденций
буржуазной философии, то в гносеологии нового времени
аналогичная теоретическая трудность приводила к
соединению разнородных, часто противоречивых элементов
в рамках одной и той же концепции. Философские
концепции рассматриваемой эпохи интересны также и тем,
что в них можно обнаружить идеи и принципы,
пригодные для обеспечения того синтеза, который оказался
камнем преткновения для новейшей западной мысли.
9
Опыт философии нового времени достаточно четко
позволяет обнаружить, что попытка очистить познание от
влияния социальных и индивидуальных факторов
заканчивается — часто в пределах одной и той же
философской системы — неожиданным результатом:
полученные в ходе очищающей работы разум и мышление
оказываются сложными образованиями, от которых так и не
удается отторгнуть социальные, исторические свойства
и характеристики. Правда, при анализе этого опыта
приходится постоянно пробираться сквозь чащу
неадекватных терминов («божественный», «априорный» и т. п.),
которые маскируют уже начавшийся реальный разговор
о социальной обусловленности познания; приходится
обнаруживать действительную проблему за причудливой,
противоречивой, часто мифологической
-конкретно-исторической формой ее постановки.
Поскольку актуальная и принципиально
содержательная значимость проблемного анализа истории
философии с точки зрения интересующего нас аспекта, как
видно, не нуждается в дополнительном обосновании, мы
охарактеризуем далее рамки анализа, предпринимаемого
в этой книге (рамки, которыми сознательно приходится
ограничиваться, учитывая сложность, новизну темы,
обширность материала, с одной стороны, и небольшой
объем монографии — с другой).
Во-первых, речь идет о рамках исторических. Мы
выделяем в качестве специального объекта исследования
буржуазную философию XVII— первой половины
XVIII в., имея в виду продолжить начатую работу.
Во-вторых, и в этих ограниченных исторических
рамках мы проводим следующее ограничение, на этот раз
по материалу. Мы сознательно оставим в стороне
социологические и социально-политические концепции
философов XVII —XVIII вв., привлекая их к рассмотрению
лишь в отдельных случаях, хотя они, казалось бы,
совершенно прямо, непосредственно отражают и
выражают влияние социальных обстоятельств на мышление
философа. Каким бы важным для социального анализа
познания ни был этот материал, мы решили ограничиться
более трудными случаями, где и влияние социальных
условий, и отражение этого воздействия является более
косвенным, опосредованным, многоступенчатым. Поэтому
главным материалом анализа в этой работе будут: уче-
*0
.иmg философов XVII—XVlil вв. о человеке и его
сущности (главным образом в той части, где речь идет о
характеристиках человеческой «разумности»), а также теория
познания, объемлющая и подготовительное учение об
«очищении», «врачевании» разума, и собственно
гносеологические концепции.
В-третьих, ограничив исторические рамки и
материал, привлекаемый к исследованию, мы вынуждены по
существу отказаться от систематического целостного
описания, изображения, анализа исторических фактов^
характеризующих рассматриваемый период, а также и
самих учений тех философов, идеи которых перед нами
предстанут. От подробной, исторически конкретной
характеристики периода мы отказываемся отнюдь не
потому, что недооцениваем ее значение. Наоборот, мы
полагаем, что историческая ситуация была своеобразно и
внутренне ассимилирована и выражена философской
мыслью, следовательно, ее анализ первостепенно важен
и требует специальных, пока еще очень мало освоенных
методов анализа. Но именно поэтому мы не считаем
возможным наряду с изучением философских идей в
полной мере вторгнуться и в эту специальную сферу. Однако
для целей настоящего исследования совершенно
необходимо остановиться на некоторых существенных,
принципиальных изменениях и характеристиках
рассматриваемой исторической эпохи (речь пойдет, в частности, о
новом типе деятельности и ориентации человека в
социальном пространстве, о новом типе «социальности»,
новом типе «разумности»). С такого анализа мы и
начнем.
Что же касается систематического и целостного
изображения концепций философов XVII—XVIII вв., от
которого мы, предпринимая обзорный и синтетический
анализ, также отказываемся, то здесь положение
облегчается тем, что существует возможность опереться на
соответствующие исследования советских историков
философии, содержащие такой целостный анализ жизни и
учений Декарта, Спинозы, Локка, Юма (вспомним
монографии, статьи, предисловия к произведениям
классиков философии, созданные В. Ф. Асмусом, В. В.
Соколовым, И. С. Нарским, И. К. Лупполом и др.). Отказ от
детального изображения истории философии в нашем
случае оправдан тем, что мы сознательно осуществляем
И
поиск в области истории проблемы, предпринимая
попытку интерпретировать историю философии под тем
проблемным углом зрения, который до сих пор еще в
достаточной мере не привлекал внимания
исследователей.
После всего сказанного можно более точно
определить цель этой работы: рассмотреть учение философов
XVII— первой половины XVIII в. о человеке и их
учение о познании с целью охарактеризовать исторически
ограниченные, но вместе с тем исторически — и
содержательно — необходимые этапы в постановке, описании,
фиксировании различных граней в разрешении вопроса
о социальной обусловленности и социальной сущности
познания. Этот анализ должен подвести нас вплотную
к немецкой классической философии, обнаружив, какие
именно содержательные трудности разрешения данной
проблемы вызвали к жизни учения Канта, Фихте,
Шеллинга, Гегеля и Фейербаха, какие достижения и
затруднения продолжали заявлять о себе и впоследствии,
стимулировав философские исследования Маркса.
* *
*
Специальному учению о познании в философии
XVII—XVIII вв. логически, теоретически предшествует,
в его основе лежит более общая концепция, где
выявляется сущность самой разумной, познавательной
способности и деятельности человека.
По общему убеждению философов этого времени,
человек по самой своей природе является свободным,
разумным, активным существом. Что для нас особенно
важно, все эти три характеристики человеческой
сущности выступают в нерасторжимом единстве, а в ряде
случаев способность к свободному, самостоятельному
решению прямо выводится из «разумной души», из разумной
природы человека. «Человек наиболее своеправен
тогда,— пишет Спиноза,— когда наиболее руководится
разумом...» (14, 2, 311). Или: «...человеку для его
самосохранения и наслаждения разумной жизнью нет
ничего полезнее, как человек, руководствующийся разумом.
Далее, так как между единичными вещами мы не знаем
ничего, что было бы выше человека, руководствующегося
12
рппумом, to никто, следовательно, не может лучше пока-
urn. силу своего искусства и дарования, как воспитывая
.шодой таким образом, чтобы они жили, наконец,
исключительно под властью разума» (14, 1, 582). Свобода
чело иска, о которой страстно пишут великие
представители той эпохи, чаще всего становится синонимом
разумного выбора, инициативного самосознания,
самостоятельного решения.
Гуманистические идеалы свободы,
неприкосновенности человеческой личности, равенства отнюдь не
изобретаются Декартом, Спинозой, Гоббсом, но заимствуются
из всей многовековой традиции гуманизма. Примыкая к
гуманистической культуре эпохи Возрождения,
философия XVII столетия буквально поклоняется Разумному
Человеку. Уважение к человеку и его потребностям, в
том числе и к его природным, «естественным» жела-
чптям, горячее стремление способствовать прогрессу
личности и общественному благу, непоколебимая вера в
силу человеческого разума, прославление науки — все
лто делает произведения мыслителей XVII—XVIII вв.
»еликолепными документами гуманизма. Важно, однако,
подчеркнуть, что традиционные гуманистические идеалы
и ценности наполняются новым, самой историей
обусловленным содержанием. По сравнению с предшествующим
историческим периодом, по сравнению с эпохой
Возрождения, назначение которой состояло скорее в
провозглашении, защите гуманистических ценностей, XVII и
XVIII столетия проясняют конкретно-исторический
смысл, положительное социальное содержание
последних. Эти принципы проповедуются, защищаются,
аргументируются главным образом в трех частях единой,
всеобъемлющей философской науки:
1) в социально-политических трактатах,
подробнейшим образом обосновывающих природное право
человека быть равным другому, быть свободным в своих
решениях и действиях; в произведениях, скрупулезно
разрабатывающих меры по обеспечению максимальной
гражданской и политической свободы человека в рамках
различных возможных форм государственного правления
(пример тому — «Опыты и наставления» Бэкона, «Бо-
гословско-политический трактат» Спинозы или
«Левиафан» Гоббса); речь идет о произведениях, на примере
которых можно наблюдать становление способа осозна-
13
ния и оценки общественного развития, впоследствии
названного буржуазно-демократическим мышлением;
2) в абстрактном учении о сущности, «природе»
человека, где разумности человека, предопределенности его
к свободному действию и сознательному стремлению к
свободе придается достоинство «естественного» закона,
закона природы;
3) в теории познания, прямо обратившейся к
изучению специфики человеческой «разумности», к
выявлению тех путей, благодаря которым человек обретает
наивысшую и наидостойнейшую, с точки зрения этих
мыслителей, форму свободы — свободу познавать и
защищать истину.
Как было сказано выше, мы вынуждены отвлечься от
подробного и специального анализа
социально-политических концепций и будем обращаться к ним лишь в
некоторых случаях, когда того потребует само содержание
гносеологического материала — объекта нашего
исследования. Что же касается учения о человеке, то здесь нас
будет интересовать главным образом вопрос о том, как
рассматривается «разумная», «духовная» способность
человека, как философы XVII в., с которого мы здесь
начинаем, соотносят ее с гуманистическими идеалами и
ценностями и, главное, с социальным бытием человека.
Анализу специально-гносеологической концепции философов
XVII в. (с точки зрения постановки и решения
проблемы о соотношении познавательного и социального
моментов) мы предпосылаем разбор — в том же аспекте —
учения о сущности и природе человека, без которого
теоретико-познавательные идеи будут непонятны.
Как только мы обращаемся к учению о человеке и к
теоретико-познавательным концепциям философов
нового времени, мы сталкиваемся с одной особенностью их
формы, которая сразу бросается в глаза и, наверно,
поэтому в существующих историко-философских
интерпретациях усиленно подчеркивается, выдается за сущность
анализируемых теорий. Дело в том, что атрибуты
разумности, активности, подлинной свободы философы XVII в.,
как правило, относят не к реальному человеку и его
конкретно-историческим действиям, но к неисторической,
абстрактно понимаемой «природе» человека, а подчас к
разумности п природе божества. В большинстве
философских систем XVII в.— и в учении о человеке, и в
14
теории познания — мы находим это распространенное,
посьма характерное, специфическое для них разделение.
Ро:ш) разделяются, четко обособляются друг от друга
дне сферы: то, что относится к реальному,
действительному, повседневному, конкретно-историческому,
социальному бытию, познанию и действию человека, с одной
стороны, и то, что принадлежит его сущности,
«природе», а также глубинной сути, внутренней структуре его
познания и действия — с другой. Первая область являет
нам картину заблуждений, отклонений, превратностей,
вызванных несовершенством, «конечностью» отдельного,
конкретного человека, ограниченностью его рассудка,
ослепляющим влиянием его страстей, а также жестоко-
с/гями, зигзагами реальной истории. Зато «природа»
человека есть воплощение закона, подлинного разума, от
человека не зависящей истины, «совершенства'»,
неограниченной мощи, бесконечных возможностей и т. д.
«Несомненно,— пишет, например, Декарт,— что каждый
раз, когда мы впадаем в ошибки, недостаток — именно в
нашем образе действий или способе пользования
свободою, а не в нашей природе, ибо она всегда одна и та же,
.верно ли, ошибочно ли мы судим» (9, 442). Человек,
рассуждает Декарт, конечен: в нем нет такой силы, которая
помогла бы ему бесконечно сохранить существование.
Знания и мысли человека также являются конечными и
несовершенными. Между тем люди обладают идеями
безграничной мощи, беспредельного существования, идеями
блага и совершенства, абсолютной свободы и активности.
Они часто говорят о разуме и мудрости, бесконечно
превышающих возможности каждого отдельного существа и
не возникающих путем простого суммирования
отдельных разумений и воль. Сами по себе эти идеи, их
истинность, огромное значение для индивида и общества
мыслители XVII в. отнюдь не подвергают сомнению. Более
того, принципы свободы и разума бесконечно дороги
этим философам-гуманистам.
Но в таком случае перед ними встает очень сложный
для того времени вопрос, раздумья над которым нередко
приводили к идее божества. Откуда, спрашивают Декарт
и Спиноза, мы получаем представление о совершенном
и бесконечном, если сами являемся несовершенными и
конечными существами? Ответ один: источник разума и
неограниченной силы заключен в боге. «...Так как мы
15
знаем, что нам присущи многие недостатки и что мы не
обладаем высшими совершенствами, идею которых
имеем, то отсюда мы должны заключить, что совершенства
яти находятся ib чем-то от нас отличном и действительно
всесовершенном, которое есть бог, или что по меньшей
мере они в нем некогда были, а из того, что эти
совершенства бесконечны, следует, что они и ныне там
существуют» (9, 434).
Свое доказательство существования бога Спиноза,
обращаясь в первую очередь к проблеме познания, строит
аналогичным образом. Мы еще обратимся в дальнейшем
к теоретическому содержанию, действительным
проблемным и методологическим трудностям, зафиксированным
в подобных рассуждениях, главная цель которых только
на первый взгляд состоит в доказательстве бытия бога. В
данной связи для нас важно установить, что разрыв
между реальным бытием человека и его «природой», между
его несовершенным практическим и духовным действием
и разумом, волей всесовершенного существа — этот
разрыв так или иначе пронизывает всю философию XVII в.,
как, впрочем, хотя и (в иной форме, определяет
философскую мысль последующего периода. И здесь как будто
бы подтверждается правота тех, кто полагает, что для
философов XVII—XVIII вв. сущность познания,
сущность человека и социально-историческое бытие
несопоставимы и несовместимы.
Однако не будем спешить с этим заключением.
Присмотримся к содержанию обоих сознательно
обособляемых разделов философии человека и теории познания,
сосредоточив особое внимание на проблеме соотношения
социальных, общественных характеристик человека и
социальных аспектов его познавательной деятельности, с
одной стороны, и «сущности», «природы» человека,
человеческого разума и познания — с другой.
Нам предстоит ответить на несколько вопросов.
1. Следуя Декарту и Спинозе, мы поставим вопрос,
который считаем вполне реальным и важным: в самом
деле, откуда эти философы, их предшественники,
современники и последователи черпали идеи активного
разума, неограниченной свободы, бесконечных возможностей
и безупречного совершенства? И почему они
определенно не решались вверить эти «святые», «божественные»
принципы конечному человеку и конечной истории?
16
Каково реальное, быть может не всегда осознанное
мыслителями этого периода, отношение данной
концепции к действительному историческому движению, к
особенностям эпохи? Какова, далее, социально-историческая
обусловленность асоциальной и аисторической формы
рассматриваемого учения о познании и человеческой
«разумности»?
2. Что говорят сами философы XVII в. о «конечной»,
в том числе (а для пас в особенности) о
социально-исторической, определенности человека и его познания? И
как они полагают совершить переход от описания и
преодоления конечной сферы к сущности, природе человека
и его разума? Можно ли утверждать, что и в рамках
противоречивой, внешне асоциальной формы философы
XVII столетия внесли существенный вклад в позитивное
учение о социально-исторической обусловленности
познание?
3. Каково действительное содержание учения
великих зачинателей философии нового времени о сущности,
природе человека и его разума, о формах, уровнях,
способах, методе человеческого познания? Есть ли вполне
здравые мысли в самом требовании «очищения»,
«врачевания» разума, как оно было задано Бэконом, Декартом,
Спинозой? Удается ли этим мыслителям уже в теории
позпалшя собственно, в теории очищенного разума, в
учении о всеобщих правилах метода сохранить
постулируемую независимость от конечного человека, от его
общественного бытия?
Вот те общие и более частные вопросы, которые мы
намереваемся разобрать в первой части данной работы,
посвященной философии XVII в. и избирающей для
анализа учения наиболее крупных ее представителей — Бэ-
копа, Декарта, Спинозы, Гассенди и Гоббса.
ЧАСТЬ 1
ФИЛОСОФИЯ
XVII ВЕКА
ГЛАВА I
ФИЛОСОФИЯ
XVII—XVIII ВЕКОВ
ПЕРЕД ЛИЦОМ
ИСТОРИЧЕСКОЙ
ПОТРЕБНОСТИ В АКТИВНОМ
И РАЗУМНОМ ЧЕЛОВЕКЕ
Первый из вопросов,
которые будут здесь поставлены, касается самого содержания
реальных социальных процессов, определивших
обновление на заре нового времени принципов свободы и
разумности, этих давних идеалов гуманистической мысли.
Откуда же эпоха, настаивавшая на конечности
отдельною человека, несовершенстве его исторического,
социального действия, могла черпать отнюдь не
бесплотные, а вполне развитые представления о
неограниченной свободе л всеобъемлющем, все сов ершенном
разуме?
Мы полагаем, что оба момента анализируемых учений
о человеке, его разуме и его познании — и мысль о
«конечности» его усилий и возможностей, и идея о
бесконечном разуме и неограниченном могуществе — были
порождены реальными, «конечными» событиями
тогдашней социальной истории. Правда, оба эти аспекта
выражали различные тенденции исторического процесса:
учение о конечности как области заблуждений и
отклонений обусловливалось скорее его реальной формой, весьма
определенными событиями той жестокой эпохи, тогда
как идеалы, принципы разумности и свободы человека
были отражением внутренних тенденций и объективных
запросов протекшей и на глазах совершающейся
истории, своеобразным подведением итогов прогрессивных
социальных изменений и предвидением, хотя в болыпин-
21
v.TiM) случаев и неосознанным, грядущей эволюции
социального бытия.
Остановимся вначале на самом содержании
объективно-исторических технических и экономических
изменении, которые характерны для XVII и XVIII столетий, а
также на вытекающих отсюда изменениях личности я
общественной психологии.
Этот период в Марксовом анализе экономической
структуры капиталистического общества
характеризуется как время господства мануфактурного этапа и
спорадического применения машин. Первоначальное
накопление, этап становления капиталистического производства,
по существу осталось позади. Каковы же были его
социальные итоги?
Первым и главным достижением, которое должно
было оказать колоссальное воздействие на умы и чувства
людей, в особенности тех, кто был крайне чувствителен
к соблюдению гуманистических норм и принципов, было
падение формального, как бы «от века» закрепленного
общественного неравенства, лежавшего в основе
феодального способа производства. Причиной, принудившей
общество отказаться от внеэкономического, юридически
закрепленного насилия над личностью, ее заведомого
неполноправия, была объективная потребность
производства в «свободном продавце рабочей силы» (Маркс).
Избавление от феодальных повинностей, пусть завоеванное
в ходе жестокой, мучительно долгой борьбы, в процессе
кровавой истории, ниспровержение средневековых
цеховых регламентации было по сравнению с
предшествующей эпохой несомненным прогрессом в завоевании
человеческой свободы. Благодаря ниспровержению
крепостной, феодальной зависимости от другого лица,
констатирует Маркс, рабочий, теперь уже не прикрепленный к
земле навечно, «получает возможность распоряжаться
своей личностью» (2, 23> 727).
Процесс отмены юридического неполноправия
личности (сколь бы постепенным и половинчатым ни был он
даже в рамках европейской истории) стимулировал
размышления о свободе и равенстве, тем более что он
касался огромного количества людей, непосредственных
производителей. Идея всеобщего равенства и полноправия
неизменно шла в общественной мысли XVII в. рука об
руку о представлением о «разумном» ч-еловеке и «разум-
22
ных» социальных условиях. Подобно тому как эпоха
рабовладения и эпоха феодализма порождали
представления о «естественном» характере рабства или феодальной
иерархии, так и расширившиеся возможности личности,
завоевание формальной свободы вызвали идею о
«естественности» всеобщего равенства людей, их
предопределенности к свободному, самостоятельному действию,
сообщив этим принципам ту непререкаемость, аксиоматич-
ность, с которой они высказываются, без
дополнительного и длинного обоснования, в работах классиков
буржуазной философии.
Достаточно широко известно то объективное
историческое обстоятельство, что уже начало мануфактурного
периода знаменует довольно значительный, а по
сравнению со средневековьем неизмеримо возросший уровень
разделения труда, которому повсеместное учреждение и
усложнение мануфактур дает новый мощный толчок. Но
ведь этот экономический факт должен был повлечь и
действительно повлек за собой те существенные
социальные изменения, которые к XVII в. становятся явными,
те кардинальные перевороты в общественном сознании,
которые обязательно должны были уловить философы
данного периода, утверждая «естественность» свободы,
принадлежность разумности самой сущности человека.
Прежде всего социальные процессы гораздо
непосредственнее, быстрее и глубже, чем это было ранее,
затрагивали каждого отдельного человека, побуждая его быть
более инициативным, сознательным, деятельным. На
смену сословной предопределенности занятий, к тому же
довольно немногочисленных, пришла •общественная
потребность в разнообразных производственных,
экономических функциях, необходимость постоянной перемены
сфер деятельности. Человек должен был подготовить
себя не только к свободному передвижению, что также
представляло разительный контраст по сравнению с
насильственной оседлостью средневековья, но и к разным
функциям, которые он по мере возникновения новых
экономических потребностей и новых отраслей
производства должен был выполнять. В XV—XVII вв. жители
Европы были действительно сдвинуты с тех мест,
которые, казалось, были ггредуготова.ны им привычными
занятиями предков, они устремились из деревень в города,
из «старого» мира — в новые, неосвоенные земли. И хо-
23
тя исторически конкретные способы, обеспечившие
массовое передвижение, были насильственными, жестокими,
перемещение само по себе означало пробуждение от
общественного застоя и активизацию больших слоев
населения. Оно требовало, и притом совершенно объективно,
пробуждения инициативы и более свободного
индивидуального решения. Разнообразие новых ситуаций
воспитывало более сложные и более многочисленные
социальные и индивидуальные реакции. Время поставило перед
индивидом, и поставило в универсальном смысле, почти
неведомую для прежней, социально фатализированной
эпохи проблему выбора и индивидуального решения,
тесно связанного с социальным действием человека. Отсюда,
а вовсе не от «вечной склонности к гуманизму» то
внимание к человеку, к его эмоциональным и волевым
реакциям, к его разуму и самосознанию, которое мы находим
в общественной мысли XVII—XVIII вв.
Объективные социальные процессы нашли свое
выражение и воплощение в повсеместных
социально-психологических изменениях, в формировании личности,
обладавшей новым эмоциональным и духовным строем.
Расширение производства, все новые и новые возможности
для приложения индивидуальной инициативы, открытие
новых земель и новых производств в этих землях,
разграбление и порабощение Ост-Индии и Африки, торговая
война европейских наций — все это социальные явления,
делавшие рассматриваемый период европейской истории
эпохой предприимчивое!и, успеха, инициативы. Те
настроения, которые были следствием перечисленных
исторических событий, прекрасно описал Гегель: «Человек
стал доверять самому себе, своему мышлению и
чувственной природе вне и внутри: него. Ему интересно, ему
доставляет удовольствие делать открытия в области
природы и искусств. На мирском горизонте взошел рассудок,
человек осознал свою волю и силы, стал испытывать
удовольствие от земли, от своей почвы, от своих занятий,
так как юн находил в них справедливость и разум»
(7, 206). Гегель правильно подчеркивает -здесь, что
человек в XV—XVII вв. «открыл» природу и самого себя.
Важнейшим социально-психологическим следствием
экономических изменений было это восстановление
утраченного средневековьем доверия к себе, к человеку вообще,
«восстановление гармонии между умом и вещами», как
24
говорил Бэкон, хозяйски доверительного отношения
человека к великой мастерской природы.
Можно в общем и целом утверяедать, что к XVII в.
капиталистическое общество не только начало
порождать, но в известной степени уже породило тот новый
тип «объективной социальности», который был более
непосредственно и определенно внедрен в деятельность,
поведение отдельной личности. Если человек всегда был и
останется социальным по своей природе существом, если
всегда и во все времена прогресс индивида действительно
зависит от социального прогресса и определяется этим
последним, то не всегда связь иидивида с обществом
обладала той мерой разветвленности, сложности,
многосторонности, а в то же время и непосредственности,
которую сообщила ей капиталистическая эпоха.
В издавна окружавшие человека предметы, как
говорит Маркс, «внедрилась теперь новая социальная душа»,
но появилось и множество новых, созданных именно в
эту эпоху материальных предметов, которые
существенным образом перестраивали жизнедеятельность
индивида. Характерной особенностью наступавшей
капиталистической эры было то обстоятельство, что вещи,
предметы, концентрируясь в руках их капиталистических
собственников, с одной стороны, утрачивали
свойственную прежнему историческому периоду «интимную связь»
с производителем и деятельностью его семейства. Но
с другой стороны, они полнее, настоятельнее,
универсальнее заполнялись как раз своей «социальной
душой»; связь вещей с отношениями собственности и с их
собственными «абстрактными» социальными функциями
объективно становилась более проч(ной и всесторо1Н-
ней.
Аналогичные изменения происходили в сфере
социального взаимодействия людей. Индивиды во всяком
обществе обязательно находятся во взаимной зависимости.
Но на заре капитализма здесь появляются
специфические, неведомые прошлым эпохам особенности.
Внутренняя структура производственного организма впервые
характеризуется возникновением новой «массовой»,
«общественной» производительной силы.
«...Капиталистический способ производства,— пишет Маркс,— является
исторической необходимостью для превращения
процесса труда в общественный процесс...» (2, 23, 347).
25
Но если сам процесс производства становится
социальным по своему характеру и социальность,
следовательно, более непосредственно и очевидно, чем раньше,
определяет индивида, детерминирует его, «проникает» в
него, то познание социальной сущности, общественной
определенности человеческого разумного действия реально
стоит на повестке дня. И познание это начинается, хотя
поначалу весьма робко, в зашифрованных,
неадекватных теоретических формах, в своем движении оно
испытывает трудности и сомнения.
Философы XVII в., занятые специальными
проблемами философской науки, при этом вовсе не безразличны к
процессам, происходящим в производстве. Уже Бэкон с
вниманием и сочувствием относится к мануфактуре,
которая к XVII в. становится превалирующей ячейкой
производства в наиболее развитых странах Европы.
Мануфактура в самом деле заключала в себе новые
возможности для развития и совершенствования
личности непосредственного производителя. Маркс в
«Капитале» показывает, что эти возможности таит в себе даже
такая форма мануфактуры, которая отличается от
цехового ремесленного производства разве только большим
числом занятых в ней рабочих. Возросшее количество,
кооперация, дает новое социальное и личностное качество:
не только простой эффект соединения многих сил в одну,
но «соревнование и своеобразное возбуждение жизненной
энергии (animal spirits), увеличивающее индивидуальную
производительность отдельных лиц» (2, 23, 337).
Повышение производительности труда, как и повышение
активности, «дееспособности» отдельных лиц, Маркс
определенно приписывает тому обстоятельству, что
«человек по самой своей природе есть животное, если
и не политическое, мак думал Аристотель, то во
всяком случае общественное» (2, 23, 338). Мануфактура
именно потому и вытесняет предшествующие способы
общественной организации производства, что она
способствует повышению производительности труда,
совершенствованию производительных сил. Причем в данный
период более значимый социальный эффект был
обусловлен не видоизменением орудий труда, остававшихся на
протяжении всей мануфактурной эпохи еще весьма
примитивными, но трансформацией деятельности, сил,
способностей непосредственного производителя, этой «жи-
26
вой» и важнейшей производительной силы, а также
новыми — более разумными, более четкими — способами
их объединения и организации. Мануфактура, как
показывает Маркс, требует известного «минимума
работоспособности», находит способы более или менее точного
определения этого минимума, т. е. предъявления к
отдельному человеку конкретных социально-экономических
требований, стимулирующих его активность. С другой
стороны, функции, исполняемые отдельным рабочим в
мануфактуре, определяются «природными особенностями
рабочих» (2, 23, 361), их преобладающими
способностями. «Иерархия рабочих сил» и соответствующая
иерархия заработных плат также определяются
индивидуальными способностями, возможностями и навыками
рабочих. В целом же производственный процесс в рамках
мануфактуры требует освоения таких простейших
операций, которые в принципе доступны каждому человеку.
Маркс подчеркивает даже, что мануфактурный период
предполагает в людях и объективно требует не высокую
квалификацию, но «способность к труду вообще».
Так само производство внутренним образом
порождает принципы «естественного» равенства людей,
которые подразумевали в этот период равную готовность и
способность ииэдивидов выполнять простейшие
производственные функции. Эти функции были столь просты
и элементарны, что искусный ремесленник,
превратившийся в главную фигуру мануфактурного производства,
мог без труда их оовоить. «Односторонность и даже
неполноценность частичного рабочего становится его
достоинством, коль скоро он выступает как орган
совокупного рабочего. Привычка к односторонней функции
превращает его аз орган, действующий с инстинктивной
уверенностью, а связь совокупного механизма вынуждает
его действовать с регулярностью отдельной части
машины» (2, 23, 362). То обстоятельство, что бав'иоом
мануфактуры поначалу остается ремесло, способствует, по
словам Маркса, «виртуозности» частичных рабочих.
Закрепление за рабочим механической функции, в
дальнейшем оказавшее столь пагубное влияние на личность, в
XVI—XVII вв. еще сочеталось с наследием
ассимилированного ремесла: в кооперированные условия труда
были помещены рабочие, обладавшие свободной
индивидуальностью и воспитанные в духе уважения к своим
27
родким способностям. Вот почему имеет место
недисциплинированность свободных рабочих мануфактуры, на
которую не перестают сетовать предприниматели.
Бунтарский дух был следствием соединения традиционной
независимости виртуоза-ремесленника и гордого чувства
человека, осваивающего столь разветвленное, сложное в
целом общественно полезное дело, притом осваивающего
его в производственной кооперации с другими людьми.
Но если личность непосредственного производителя —
в силу целого ряда обстоятельств, о которых мы будем
говорить ниже,,— не могла служить эталоном и образцом
подлинно свободной индивидуальной деятельности, то
социальный, общественный, технический эффект от
применения мануфактур, их роль в расширении рамок
общечеловеческой свободы, в нарастании человеческих
возможностей, наконец их значение для развития опытной
науки — все эти обстоятельства представлялись более
очевидными. Мануфактура увеличивала общественное
богатство и одновременно помогала рабочему, выражаясь
словами Маркса, развивать свои «родовые потенции»
(2, 341). Маркс постоянно подчеркивает такие
особенности мануфактурного труда и мануфактурной
организации, как наибольшую целесообразность деятельности,
ставшей, правда, более односторонней и примитивной,
как систематическое разделение труда, как новую
непрерывность, единообразие, правильность, порядок,
интенсивность труда, значительно более совершенного по
своим количественным и качественным характеристикам,
чем труд в рамках самостоятельного ремесла и даже в
пределах простой кооперации. Мануфактура, бесспорно,
предстает как совершенно неведомое предшествующему
периоду универсально-общественное средство
рационализации производства, более стройной организации
труда, как новая форма, сообщающая большую
«разумность» человеческой деятельности.
* *
В какой же мере и в какой форме сознавали и
оценивали мыслители рассматриваемой эпохи
суммированные выше социально-экономические изменения?
Прежде всего следует отметить, что философы XVII
28
столетия, начиная уже с Фрэнсиса Бэкона, отличаются
от мыслителей предшествующего периода тем, что
возросла мера позитивности их воззрений, мера одобрения
конкретных экономических фактов и изменений. Они
прямо, определенно ратуют за практическую философию,
тесно связанную с развитием техники, с потребностями
социальной практики, с материальным благополучием
индивида и общества. «...Можно,— уверенно пишет
Декарт,— достигнуть познаний, очень полезных в жизни, и
вместо той умозрительной философии, которую
преподают в школах, можно найти практическую философию,
при помощи которой, зная силу и действие огня, воды,
воздуха, звезд, небес и всех других окружающих нас тел
так же отчетливо, как мы знаем различные занятия
наших ремесленников, мы могли бы точно таким же
способом использовать их для всевозможных применений и
тем самым сделаться хозяевами и господами природы.
А это желательно не только в интересах изобретения
бесконечного количества приспособлений, благодаря
которым мы без всякого труда наслаждались бы плодами
земли и всеми удобствами, какие на ней имеются, но,
главное, для сохранения здоровья, которое, несомненно,
является первым благом и основанием всех других благ
этой жизни» (9, 305). Определенность, с какой Декарт
ратует за практическую философию, за технические
совершенствования, непосредственно улучшающие
человеческую жизнь, словом, за все то, что помогает человеку
стать господином природы, обусловлена очевидностью
для мыслителей XVII века непосредственной связи
между развитием техники и экономики и материальным
благополучием человека. Эти идеи впервые с большой
четкостью выражаются Бэконом. «Механические
изобретения», заявляет он, несравнимы ни с какими духовными
факторами в их «влиянии на человеческие дела» (4,
192).
Богатство постепенио становится — в противовес
аскетическому идеалу средневековья — вполне «позитивной»
общественной и человеческой ценностью. Так, в отличие
от бедных, отказавшихся от частной собственности
обитателей Утопии, жители бэконовской Новой Атлантиды
высоко ценят богатство, главным источником которого,
по убеждению Бэкона, является неизмеримо возросший
уровень техники и науки. Если утопия Томаса Мора
?Л
возникает из отрицания собственности и всех тех
следствий, которые обусловливаются ее существованием, то
для характеристики «идеального» общества Бэкон берет
и возводит в степень все то, что в существующем
обществе и его политической системе представлялось
английскому философу «благотворным» и «гуманным»: речь
идет о технике, науке, частной собственности, религии,
правда очищенных от сопутствующих явлений, которые
могут приносить зло человеческой личности. Техника
Новой Атлантиды используется исключительно на
пользу обществу и индивиду; то же относится и к науке,
освобожденной от всякой таинственности и шарлатанства
и потому понятной каждому человеку.
Производственные и технические возможности
идеального общества Бэконом неизмеримо расширены, но
все-таки их изображение представляет собой почти
абсолютно позитивное описание, почти безоговорочное
одобрение технического развития существующего
социального организма. «Есть у нас дома механики,, где
изготовляются машины и приборы для всех видов движения.—
Так рассказывает представитель Дома Соломона,
технического и научного общества, концентрирующего в своих
руках изобретения, применение техники, научные
открытия и их популяризацию.—Там получаем мы более
быстрое движение, чем, например, полет мушкетной пули
или что-либо другое, известное вам; а также учимся
получать движение с большей легкостью и с меньшей
затратой энергии, усиливая его при помощи колес и
других способов,— и получать его более мощным, чем это
умеете вы... Есть у нас суда и лодки для плавания под
водой и таите, которые выдерживают бурю; есть
плавательные пояса и другие приспособления, помогающие
держаться на воде. Есть различные сложные механизмы,
часовые и иные, а также приборы, основанные на вечном
движении. Мы подражаем движениям живых существ,
изготовляя для этого модели людей, животных, птиц,
рыб и змей. Кроме того, нам известны и другие виды
движения, удивительные по равномерности и точности»
(3, 40). В фантастической для того времени картине,
начертанной Бэконом, нет тем не менее ничего
утопического, за исключением разве мечты о пресловутом
«вечном двигателе», картина будущих открытий дана со
строгим учетом реальных технических возможностей.
30
Позитивное отношение к современному
экономическому строю (вообще весьма характерно для взглядов
Бэкона и ряда его современников: Бэкон приветствует
расширение колоний, давая подробные советы, касающиеся
наиболее «справедливой» и безболезненной колонизации;
непосредственный участник экономической политики
Англии, он высоко отзывается о деятельности торговых
и промышленных компаний; его сочувствие вызывает
личность «частного» дельца, инициативного
предпринимателя; Бэкон дает немало рекомендаций относительно
наиболее «предпочтительных», гуманных способов
личного обогащения и т. д. Противоядие против бедности,
а значит, против массовых смут и беспорядков Бэкон
усматривает не только и не столько в гибкой и тонкой
политике (которая его, конечно, весьма привлекает),
сколько в экономическом пресечении бедности и в
увеличении общественного богатства. Конкретные способы,
рекомендуемые Бэконом,— мудрое экономическое и
налоговое регулирование, но в особенности «открытие
торговых путей», «усовершенствование земледелия» и
«поощрение мануфактур».
Что касается Декарта, то его в мануфактурно-ремес-
ленном труде пленяет не только общий материальный
эффект, им достигаемый, но и внутренняя разумность,
целесообразность, упорядоченность, систематичность
действий самого рабочего. Мы видели, что Маркс,
характеризуя значительно усложнившуюся и более прогрессивную
общественную систему (капитализм), постоянно говорит
о достигнутой здесь большей простоте индивидуальных
действий. Философы XVII в. в соответствии с этой
особенностью своей эпохи оценивают простоту как одно из
главных свойств подлинного разума, вооруженного
правильным методом познания. И они сознательно восходят
от абстрактных рассуждений о разуме к практическим,
техническим и экономическим явлениям.
Формулируя одно из правил своего метода,
рекомендующее начинать с простых, легких, доступных вещей,
«в которых более всего господствует порядок», Декарт
далее пишет, что «примером последнего может служить
искусство ткачей и обойщиков», которое он даже
уподобляет арифметическим действиям: «все эти искусства
удивительно хорошо развивают ум, если только мы
постигаем их не с помощью других, а самостоятельно. Не
31
заключая в себе ничего темного и будучи всецело
доступными человеческому уму, они с необыкновенной
отчетливостью вскрывают перед нами бесчисленное множество
систем, хотя и отличающихся друг от друга, но тем не
менее правильных, в надлежащем соблюдении которых
заключается почти вся проницательность человеческого
ума»" (9, 115). Легче всего становится хорошим мастером
в «искусствах», т. е. в ремесле и производстве, тот
человек, который занимается одним из них и совершенствует
какой-нибудь определенный навык, утверждает Декарт
в полном соответствии с особенностями
полуремесленного мануфактурного производства. Он с сочувствием
говорит об этой вынужденной «односторонности»,
«частичности производителя. Желая охарактеризовать
возможности внутреннего «саморазвития», (заложенные
в обосновываемом им методе, Декарт снова уподобляет
его технической деятельности: «Этот метод подобен тем
техническим искусствам, которые не нуждаются в
помощи извне, т. е. сами указывают тому, кто желает
ими заняться, способ изготовления инструментов»
(9, 109).
В этих рассуждениях философов XVII в. для нас
очень важно подчеркнуть следующее. Представления об
экономическом и политическом устройстве,
соответствующем законам разумности, принципам стройности,
организованности, порядка, а также представления о
разумном действии человека, о необходимости такого действия
тесно и очевидно связаны с рассмотренными выше
конкретно-историческими социальными изменениями и
тенденциями. Влияние последних на само содержание
некоторых идей философии XVII—XVIII вв. не подлежит
сомнению. Здесь мы сталкиваемся с наиболее прямой
зависимостью научного знания от общественного
развития^— зависимостью от наиболее специфических
конкретных характеристик социального бытия исторической
эпохи.
Особенность философии по сравнению с
историческим описанием состоит в том, что различные сменяющие
друг друга исторические события она рассматривает
главным образом с точки зрения того влияния, которое
они оказывают на становление и развитие равумного и
свободного человека. При этом философия, продолжая
отвлекаться от многокрасочной картины действительного со-
32
циального опыта, в XVII в. сталкивается с другой
исторической задачей. Дело в том, что настоятельной
потребностью социальной практики, тем требованием,
которое она предъявляла зарождающейся социальной
науке, был переход к наиболее подробному описанию
фактического положения вещей, к его осмыслению, к
отыскиванию практических мер и средств для его
усовершенствования.
Именно философы — Бэкон, Декарт, Спиноза —
вначале берутся за выполнение этой задачи. Они ее
сознательно ставят перед собой и сознательно реализуют,
центр внимания обдуманно переносится в этом случае
со сферы высокого, должного, божественного,
совершенного на область конкретного, сущего, ограниченного.
«...Если бы,— мечтает Томас Гоббс,— причины
человеческих поступков были известны с той же
достоверностью, с какой познаются соотношения величин в
геометрических фигурах, то честолюбие и алчность, лживая
класть которых поддерживается извращенным мнением
о праве и бесправии, оказались бы бессильны и
человеческий род наслаждался бы ...постоянным миром...» (8,
281). Философы XVII—XVIII вв. не просто дают
высокую оценку новой технике и новым способам
организации производства: они одновременно выступают как
родоначальники позитивного экономического знания,
подобно тому как в политических размышлениях осей
формулируют основы политической науки. Характерная
особенность зародышевых форм экономического знания, а
также значительно более развитых политических
концепций XVII в. заключается в их «позитивности» и
эмпирической доскональности. Как мы уже говорили,
Бэкон в «Опытах и наставлениях» дает рецепты, обсуждает
различные (но обязательно «гуманные»!) возможности
личного обогащения и обогащения государства,
скрупулезно формулирует те меры, которые могут пресечь
политические смуты, общественное недовольство. И другие
философы XVII и XVIII столетий становятся в своих
экономических и политических исследованиях
«скрупулезно-рецептурными». Поскольку речь идет о «конечном»
человеке и «конечном» его существовании, т. е. о
конкретном социальном действии и о реальных исторических
условиях, и сам стиль философских рассуждений
становится скорее эмпирически-позитивным. При этом общие
2 И В. Мотрошилова
33
гуманистические идеалы и ценности как бы сознательно
изымаются ил роалыюй истории и из описания ее,
переносятся и другую, «бесконечную», абстрактную,
неисторическую сферу, Такой способ размышления (обособление
«позитивного» исследования, описания, которое
становится все более расчлененным, скрупулезным, и
размышления о единых, вечных ценностях) был существенно
важной, необходимой предпосылкой для зарождения
науки об обществе, в частности экономического
знания.
Характеризуя особенности более поздней
экономической науки, Маркс писал: «Крупный шаг вперед со
стороны Рикардо, Милля и т. д. по сравнению со Смитом
и Сеем заключается в том, что они объявили
безразличным и даже вредным вопрос о существовании
человека — о большей или меньшей человеческой
производительности этого товара» (1, 574). Для более раннего
этапа, представленного Смитом, была характерна
противоречивая ситуация, когда ученый-экономист и апеллирует
к человеку вообще, к его благу, и в то же время в целях
позитивного экономического анализа вынужден все чаще
переходить к типичным, наиболее характерным
социально-классовым типам, экономическим маскам —
«капиталист», «рабочий».
Философы подмечают, что при осмыслении
конкретной исторической действительности ученый вынужден
как бы отвлечься от «единой» и «единственной»
человеческой сущности. Приведем одно любопытное
рассуждение Гоббса. Он говорит, конечно, о сущности человека,
как такового. Но при этом замечает, что «человека,
каким он бывает в реальной жизни», следует
рассматривать — в соответствии с древнегреческой традицией —
как актера, исполняющего на социальной арене сразу
множество ролей. Говоря о театре, где актер носит маски
тех или иных героев, постоянно меняя их, Гоббс
продолжает: «Такого рода фикции не менее необходимы в
гражданской жизни, чем в театре, в силу тех сделок и
договоров, которые заключаются от имени
отсутствующего» (8, 274). Поскольку человек, по Гоббсу, вынужден
выполнять в обществе сразу несколько «фиктивных»,
т. е. извне заданных ему, «ролей, вынужден становиться
«фиктивным человеком», учение о его деятельности
призвано рассмотреть главные маски современного человека
34
(человек как гражданское лицо, как юридическое лицо
и т. д.).
Таким образом, выступая в качестве первых
экономистов или провозвестников конкретно-позитивного
социально-политического знания, философы XVII в.
вынуждены хотя бы на время оставить в стороне представление
о человеке, как таковом, единой сущности человека,
которое досталось им в наследие от эпохи
Возрождения, в жестоких идейных битвах отстаивавшей
самоценность, достоинство, целостность человека.
Размышления о «конечном», т. ie. конкретно-историческом,
человеке, о специфических экономических,
социально-политических, духовных условиях его существования,
наблюдения за новыми социальными процессами составляют
важную и все более разрастающуюся часть философии,
которая вскоре «отпочковывается» от «материнского»
ствола единой пауки о человеке и либо дает начало
новым общественным наукам (политическая экономия),
либо вносит новое фактическое и проблемное
содержание в старые научные дисциплины (гражданская
история, юриспруденция и т. д.).
Нельзя забывать о том, что на протяжении XVII —
XVIII вв. эта трансформация, захватившая социальное
знание, осуществлялась довольно медленно. Для
рассматриваемого нами периода характерна фигура философа,
который непосредственно участвует (особенно в XVII в.)
в выработке научного знания о природе и одновременно
формулирует первые теоретические принципы более или
менее единой социальной науки. Последняя
дифференцируется лишь постепенно.
Поэтому именно в пределах философии можно
обнаружить два типа рассуждения и исследования, которые,
с одной стороны, довольно определенно противостоят
друг другу по своим методам, по своему стилю, но, с
другой стороны, взаимосвязаны и взаимообусловлены.
Это, во-первых, зарождающееся позитивное социальное
знание, а во-вторых, абстрактное учение о человеческой
пригюде, о человеческом разуме.
Выше мы пытались показать, какие именно
конкретные наблюдения за исторической ситуацией, т. е.
определенные выводы позитивного знания, могли служить и
действительно послужили убедительным материалом для
определения человека как разумного и свободного су-
2*
35
щ-м'/пш, i\ таиоке стимулом для защиты гуманистических
щя тоетой '{м^умности, свободы, справедливости. Таким;'
(образом, зарождающееся позитивное социальное знание
является своеобразным посредником, благодаря
которому общественное развитие осуществляет свое влияние на
философию, на те.ее идеи, которые на первый взгляд
кажутся абстрактными, лишенными какого бы то ни было
исторического содержания.
Так складывается противоречивая, но несомненная
связь учения о разумном человеке, о свободе, о разуме,
как таковом, и «практической разумности»,
расширившейся целесообразности, свободы, активности
конкретно-исторического действия индивида. Вся глубина
данного отношения неясна мыслителям XVII в. Но
существо дела, непреложность самой связи этим не отменяется.
По сути дела независимо от степени осознания этого
факта великие философы данного периода черпали и
сами гуманистические убеждения и специфическое
содержание гуманистических ценностей из «смысла»,
«тенденции» наблюдаемого ими исторического развития. Здесь
находит свое подтверждение выдвинутый в самом начале
главы постулат: источником и содержанием самых
абстрактных по своей внешней форме философских
положений (а таковыми часто оказываются рассуждения о
свободе и разуме) являются исторические изменения, социаль-
v ные процессы.
* *
*
В ряду социальных процессов, обусловивших особое
внимание к «ценностям» свободы и разумности, мы пока
еще не назвали, не рассмотрели два обстоятельства.
Первое из них влияло подспудно, в виде тенденции, и роль
его еще не вполне осознавалась философами. Второе же
совершенно определенно служило моделью высшего
разума и подлинной свободы. Первое обстоятельство —
возникновение класса промышленных капиталистов и
особые условия его деятельности; второе — наука, научное
познание.
Рассмотрим вначале первую проблему. В позитивных
социальных исследованиях философов XVII—XVIII вв.
место «человека, как такового», постепенно занимает
обладающая конкретно-историческими характеристиками
36
личность обогащающегося человека, не забывающего,
однако, законов справедливости и гуманности и
продвигающегося в жизни исключительно благодаря
природным способностям, предприимчивости, деловитости —
словом, благодаря своему разуму, духовным
возможностям. Эта личность и есть герой «Опытов и наставлений»
Бэкона, главное действующее лицо трудовых политэконо-
мических концепций, зарождающихся первоначально в
недрах философии.
В основе несомненного и особого внимания
зарождающейся науки об обществе к такому социальному типу
люжат конкретно-исторические особенности
формирования и развития класса промышленных капиталистов в
предшествующую и современную нашим философам
эпоху. «Генезис промышленного капиталиста,— пишет
Маркс,— не отличался той постепенностью, какой
характеризуется генезис фермера» (2, 23, 759). Он также
выглядел более свободным от насильственных форм,
присущих «освобождению» рабочего. В промышленных
капиталистов могли превратиться и действительно
превращались цеховые мастера, самостоятельные мелкие
ремесленники и даже наемные рабочие. «В младенческий
период капиталистического производства»,— продолжает
Маркс,— точно так же, «как в младенческий период
'средневековой городской живдги», «вопрос о том, кто из
беглых крепостных должен быть хозяином и кто слугой,
решался обыкновенно в зависимости от того, кто из них
раньше бежал от своих господ» (2, 23, 759).
Следовательно, дело •выглядело так, что функция капиталиста
выпадала на долю людей наиболее способных, активных,
предприимчивых, «разумных». Возникало представление
о распределении функций соответственно способностям,
от природы одинаково заложенным во всех без
исключения людях. Идея о человеке как активном и разумном
существе, продвигающемся в жизни исключительно
благодаря своим способностям и своему разуму, в
особенности должна была питаться наблюдениями за
деятельностью капиталистов, в то время еще довольно близких к
технике, к производственному процессу. В отличие от
рабочих, занятых все более бездумным, все более
механизирующимся трудом, капиталист представал как
живой носитель духовного, разумно-волевого начала в
производстве. Именно генезис и возвышение «обдгащающе-
37
пн'.л человека», промышленного капиталиста, как пока-
лыиа-от Марко, могли выглядеть —в неизмеримо большей
степени, чем страшное, уродливое, кровавое
«освобождение» непосредственного производителя,— плодом
«победоносной борьбы против феодальной власти с ее
возмутительными привилегиями, а также и против цехов и тех
оков, которые налагают цехи на свободное развитие
производства и свободную эксплуатацию человека
человеком» (2, 23, 727).
Таким образом, буржуазный характер общественного
прогресса неизбежно сделал наиболее благополучной,
«свободной», «разумной» социальной фигурой именно
капиталиста. Это был исторически, социально
обусловленный факт. Мыслители XVII и XVIII вв. фиксируют
его как факт чисто позитивный, чисто экономический и
тем самым выявляют объективную буржуазную сущность
своих воззрений на общество и человека. Но по
отношению к XVII столетию важно подчеркнуть, что эта
зависимость была отнюдь не сознательно апологетической,^^
именно объективно-исторической, j Внимание к фигуре
промышленного капиталиста было обусловлено тем, что
его «освобождение» могло казаться (это была вполне
«объективная видимость») высшим уровнем
общественного прогресса, освобождения общества. Для философии
и философов наиболее важным является то
обстоятельство, что ©то была форма практической деятельности,
наиболее «духовная» и «разумная» по своему
содержанию.
Когда выше мы говорили о деятельности
мануфактурного рабочего, характеризуя здесь нарастание меры
«свободы», расширение поля «выбора», более всеобъемлющий
характер социальных связей, то поначалу мы отвлеклись
от противоречивого характера этого процесса, к
которому сейчас хотим обратиться. Упрощение функций
непосредственного (производителя, необходимое для
прогресса всего производственного организма, обт^ективно
содержало в себе и другую сторону: от каждого человека
требовались самим производством минимальные духовные
потенций, несравнимые с теми тонкими познаниями и
филигранной квалификацией, которые нужны были
свободному ремесленнику. И если деятельность последнего
сродни искусству, то мануфактурный рабочий имеет
тенденцию превратиться в придаток машины, в механиче-
38
ского исполнителя простейших механизированных
действий. Этот процесс, как мы уже сказали, смягчался в
рассматриваемый период тем, что мануфактурный
капитализм не выступал в своей чистой форме, а был
соединен с исторически унаследованной формой — с ремеслом.
Поэтому основной фигурой в области непосредственного
производства был не «чистый», -«частичный»,
«бездуховный» мануфактурный рабочий, но смешанный тип
рабочего-ремесленника с его традиционной, хотя и ненужной
производству, квалификацией, с его гордым, хотя и
подавляемым капиталистической организацией,
независимым духом.
Тем не менее калечащие последствия
мануфактурного разделения труда и в этих своеобразных исторических
условиях не могли не сказаться и немедленно были
отмечены. Маркс в «Капитале» цитирует характерное
признание Адама Смита, представителя «позитивной» в
своей основе экономической науки: «Умственные
способности и развитие большей части людей,— говорит Адам
Смит,— необходимо складываются в соответствии с их
обычными занятиями. Человек, вся жизнь которого
проходит в выполнении немногих простых операций... не
имеет случая и необходимости изощрять свои
умственные способности или упражнять свою
сообразительность... становится таким тупым и невежественным,
каким только может стать человеческое существо» (2, 23,
374-375).
«Познания, рассудительность и воля, которые, пусть
даже в незначительных масштабах, развивает
самостоятельный крестьянин или ремесленник... требуются здесь
только от всей мастерской в целом. Духовные потенции
производства расширяют свой масштаб на одной
стороне потому, что на многих других сторонах они исчезают
совершенно. То, что теряют частичные рабочие,
сосредоточивается в противовес им в капитале. Мануфактурное
разделение труда приводит к тому, что духовные
потенции материального процесса производства противостоят
рабочим как чужая собственность и господствующая над
ними сила. Этот процесс отделения начинается в
простой кооперации, где капиталист по отношению к
отдельному рабочему представляет единство и волю
общественного трудового организма. Он развивается далее в
мануфактуре, которая уродует рабочего, превращая его в
39
частичного рабочего. Он завершается в крупной
промышленности, которая отделяет науку, как самостоятельную
потенцию производства, от труда и заставляет ее
служить капиталу» (2, 23, 374).
Здесь мы находим одну из причин, в силу которой
философы XVII в., по сути дела регистрируя
некоторые тенденции нового социального развития, не могли
сознательно связать саму сущность человека, «высшие»
ценности свободы и разума с весьма противоречивым
конкретно-историческим процессом. Гораздо более
впечатляющей могла быть в этом отношении деятельность
капиталиста, поскольку последний объективно становится
^носителем духовных потенций производства.
Но мы сталкиваемся с любопытной формой
сознательного восприятия данного факта: отнюдь не деятельность
капиталиста служит философам более непосредственной
моделью разума и свободы. Здесь-то и вступает в силу
гуманистическая, критическая, ценностная ориентация.
Фигура капиталиста, как и вообще история капитала,
реально выступала ка<к безжалостная, бесчеловечная,
ограничивающая свободу огромной массы людей.
Действительная история того периода вообще не вызывала к
себе сочувствия. Поэтому «позитивность»
зарождающегося учения об обществе и человеке — лишь одна сторона
философии XVII в. Весьма заметной по объему и по
сознательному акценту является критическая часть
социально-политического знания и учения о человеке.
Критицизм в значительной степени проявился в самом
разделении «конечной» сферы деятельности человека и
природы, сущности человеческого существа. И этот разлад
вполне объясним. Поскольку конкретная история и
действительные формы капиталистического «освобождения»
были столь насильственными, уродливыми,
бесчеловечными, глашатаи свободы, равенства, гуманизма никак не
могли связать именно с этим «дурным» историческим
опытом свои мечты о человеческом благе. Отсюда
процветание наряду с зарождающимся позитивным знанием
жанра социальной утопии и склонность выражать
действительные запросы времени в терминах «вечных»
атрибутов, как будто бы доступных только философскому,
метафизическому анализу.
Именно к XVII в. стали выявляться не только
отмеченные выше внутренние прогрессивные стороны нового
40
общества; к тому времени «стало достаточно ясно, что
человек в этом обществе опутан двойными цепями —
старыми и новыми. Не успело общество сбросить оковы
феодального рабства, как социальные и политические
потрясения дали ему понять, что к остаточным формам
средневекового порабощения, например к повсеместному
контролю религиозной идеологии над всеми формами
жизни, прибавились новые, и порой более изощренные,
способы угнетения человека. Да и освобождение от пут
феодального рабства было мучительно постепенным и
половинчатым: большая часть истории уже
сформировавшегося буржуазного общества была заполнена
ликвидацией весьма живучих экономических, политических,
идеологических, мировоззренческих,
социально-психологических родимых пятен средневековья. Особенно
болезненными были внутренний разлад, непримиримая
вражда и постоянные распри, так характерные для
тогдашней жизни европейских государств. «Гражданское
общество» оказалось обществом бесчеловечным. При всей
позитивности бэконовского мышления в «Новой
Атлантиде» мы встречаем тоску но столь мало присущей тому
времени человечности и доброте. Путешественник,
прибывший в фантастическую страну, оказывается среди
«христианского племени, исполненного благочестия и
человеколюбия», в «стране ангелов», ще господствует
«приветливое», «отеческое», «пастырское», «дружески-братское»
отношение людей друг к другу,— и путешественник
проливает «слезы умиления» (3, 10). «Изо всех
добродетелей и достоинств,— пишет Бэкон в другом месте,—
доброта есть величайшее, ибо природа ее божественна; без
нее человек — лишь суетное, вредоносное и жалкое
создание, не лучше пресмыкающегося» (3, 67). Причины
социальной коррозии, «великой испорченности»,
бесчеловечности и цинизма были неизвестны. Но сами по себе
эти явления должны были произвести не меньшее, а
большее впечатление, чем робкие шаги в осуществлении
свободы и разума, тем более что ни в одну эпоху не было
сказано так много громких и торжественных слов о
«божественности» человека и «божественных» семенах,
посеянных в его разуме. Между тем человек слишком часто
бывал не богом, а зверем, не разумным существом, но
животным, совершенно ослепленным своими проснувши-
41
мися и в невиданных ранее масштабах стимулируемыми
корыстными желаниями.
Высоко неся знамя гуманизма, «освящая» человека и
его неотъемлемые права, преклоняясь перед
человеческим разумом и наукой — выполняя тем самым
важнейшие запросы эпохи,— великие философы нового времени
никак не могли вверить эти высокие принципы
конкретному человеку той же эпохи, поскольку вполне
основательно считали ее кровавой и погрязшей во зле.
Противоречивая историческая ситуация, соединяясь с
неразвитостью социального знания, толкала мыслителей XVII
столетия к абстрактно-философским размышлениям
даже там и тогда, где и когда требовалось сформулировать
конкретно-исторические социальные проблемы. Так
возникал весьма характерный для европейской мысли
утопизм новой формы, причудливо соединявший недоверие
к существующему обществу и возведение его
эмпирических свойств в ранг «вечных» атрибутов человека и
общества. Это была абстрактно-философская утопия, на
время сменившая утратившее популярность социально-
политическое утопическое мышление. В силу сказанного
философия и теория познания в рассматриваемый
период иногда выступают как заместители, суррогаты
социально-критического и социологического мышления. В
них зашифровано, таким образом, более или менее
определенное социальное и конкретно-историческое
содержание. Подробнее мы покажем это в ходе дальнейшего
изложения.
Теперь же перейдем ко второму социальному
фактору, весьма характерному для данной эпохи и в то же
время более прямо, более непосредственно связываемому
философами с ценностями свободы и разума, а также
с абстрактными гносеологическими учениями о
специфике и сущности познавательной деятельности.
Этим фактором является наука. Философы нового
времени — ее горячие поборники. Они ратуют за
расширение, углубление опытного естественнонаучного знания,
рассматривая последнее как один из самых важных
факторов, способствующих человеческому благополучию и
общественному прогрессу. В размышлениях мыслителей
XVII в. о колоссальной практической, социальной
значимости науки нет и тени сомнения; им и в голову не
приходит усматривать в науке силу, о которой сопряжена
42
какая-нибудь социальная опасность. Общественное зло
несут с собой, как убеждены Бэкон и Декарт, Спиноза
и Гоббс, подделки под науку, схоластическая
лжеученость, догматическое упорствование в сохранении
предрассудков, выступающее подчас под флагом научной
истины. Страстное разоблачение действительной сути всех
суррогатов, несовместимых с подлинной наукой,— это
далеко не безопасное в то время дело — становится одной
из центральных задач, выполняемых как раз во имя и от
имени настоящей науки.
Чем же привлекает философов подлинная наука? В
чем они усматривают ценность, высокую значимость
науки? Прежде всего, научная деятельность, отыскание
истины есть разумная деятельность но определению, по
своему предназначению и функции, по самой своей
сущности. Освобожденная от лжеучоиости, простая по
своей структуре, практически значимая и доступная, наука
становится в силу этого очень близкой здравому смыслу,
непредубежденному «естественному разуму» отдельного
человека. Но действительная ценность науки
заключается в том, что она далеко превосходит «естественное»
зрение, чувства, понимание человека, снабжая последнее
средствами и орудиями, возвышающими человека над
миром природы. Наука есть, таким образом, высшая из
возможных ступеней человеческого разума, уступающая
только бесконечному разуму и могуществу бога.
В науке существуют, по мнению мыслителей XVII в.,
уникальные условия для разносторонней и вместе с тем
единой деятельности, охватывающей как материальные,
технические, так и чисто духовные аспекты, включающей
в себя различные дисциплины и отрасли. Это мнение о
науке обусловлено, бесспорно, конкретно-историческими
особенностями ее развития, существенно отличными от
современной ситуации, складывающейся в науке. Что еще
важнее, в сфере науки пока еще сохранялось заметное
отличие от односторонности, «частичности», которая
начинала пронизывать материально-производственную сферу.
Отмеченное различие фиксируют сами философы.
Характерно, например, рассуждение Декарта. Устанавливая
первое «правило для руководства ума» («целью научных
занятий должно быть направление ума таким образом,
чтобы он выносил прочные и истинные суждения о всех
встречающихся предметах» [9, 79]), Декарт прежде всего
43
вступает в полемику с теми, кто не видит существенной
разницы между современной ему производственной
деятельностью и науками. Науки — и это очень
характерно — всецело заключаются, по мнению Декарта, в
познании духа, а «искусства» (отнюдь не случайное
выражение, обусловленное повсеместным наследием ремесла)
«требуют лишь некоторого телесного упражнения».
«Искусства» приводят к преимущественному
совершенствованию одного навыка, тогда как наука приобщает к
самой единой «человеческой мудрости, остающейся всегда
одинаковой».
Выступая против тенденции к раздроблению единой
науки, явно сожалея о постепенно утрачиваемой
целостности научного знания, Декарт констатирует: «Нужно
думать, что все науки настолько связаны одежду шбою,
что легче (!) изучать их все сразу, нежели какую-либо
одну из них в отдельности от всех прочих.
Следовательно, тот, кто серьезно стремится к познанию истины, не
должен избирать какую-нибудь одну науку — ибо все
они находятся во взаимной связи и зависимости одна от
другой,—а должен заботиться лишь юб увеличении
естественного света разума, и не для разрешения тех или
иных школьных трудностей, а для того, чтобы его ум мог
указывать воле выбор действий в житейских
случайностях» (9, 80—81). Суждение Декарта в высшей степени
типично для его эпохи: здесь и светлая надежда на
практическую значимость и практическое всемогущество
науки, и представление о науке как воплощении «высшего»
человеческого разума. Итак, Декарт выдвигает идеал
единой науки и считает действительным ученым лишь
того, кто одновременно занят разработкой различных
областей знания. В период примитивизации, начавшегося
обессмысливания материальной, предметной
деятельности, в период, когда более «рациональная» деятельность
капиталиста была неразрывно связана с кровью и
насилием,— в этот период идеал научной деятельности,
совершаемой человеком с чистыми руками, притом с полным
сознанием ее смысла, содержания, единства, должен был
выглядеть особенно привлекательным. К тому ж'е
взлелеянный философами идеал единого разума, представление
об универсальном ученом, которому легче (какой
контраст по сравнению с сегодняшним днем!) заниматься
различными областями знания, был отнюдь не беспочвен-
44
ным. Сами они — Бэкон, Декарт, Галилей, даже более
абстрактный философ Спиноза, а позднее и Лейбниц —
были не просто универсально осведомленными учеными, но
зачастую и подлинными творцами в различных областях
научного знания.
Связь науки с развитием техники в тот период также
проявлялась скорее своей обнадеживающей стороной. В
технике ученые видели средство неизмеримо расширить
возможности освоения природы. Эти возможности были
пока еще довольно паимиташыми, но зато уже вполне
очевидными. ,Цекарт сам шлифовал оптические стекла,
потому что понимал, насколько от их качества зависит
глубина его научного анализа. А Галилей,
сконструировавший свою усовершенствованную подзорную трубу,
уже благодаря этому стал видеть дальше, чем
большинство его «близоруких» современников. Именно через
призму науки мыслители XVII столетия смотрели на
технику, на едва обозначившиеся возможности
машинного века. И наоборот, влияние на производство, на его
техническое оснащение неизмеримо повышало в их
глазах акции науки, ее новейших открытий и изобретений.
До того времени, когда развивается, говоря словами
Маркса, «сознательное техническое применение науки»,
еще далеко. Но отдалены также, вынесены в будущее и
специфические социальные последствия технизации
науки, которые могли бы насторожить и обеспокоить
ученых и философов. Поэтому связь науки и техники и
воспринимается с несомненным одобрением.
Мануфактурный период, по мысли Маркса, характеризуется
спорадическим, т. е. весьма редким, ограниченным применением
машин, хотя к концу его развивается возможность и
необходимость более широкого введения их в процесс
производства. Однако для самой науки это обстоятельство
имело огромный смысл. «Очень важную роль сыграло
спорадическое применение машин в XVII столетии, так
как оно дало великим математикам того времени
практические опорные пункты и стимулы для создания
современной механики» (2, 23, 361). Таким образом, наука
извлекла из машины положительную «ценность» и
«смысл» гораздо раньше, чем общество, производители и
даже ученые должны были ощутить и действительно
ощутили все губительные последствия машинного
прогресса на почве капиталистического развития.
45
Таковы были объективные конкретно-исторические
особен иноотк развития научного знания, которые позволи-
ли мыслителям XVII в. сделать науку своим кумиром,
по сути дела единственным объектом почти
безоговорочного поклонения, ближайшим эталоном разума и
асимптотическим приближением к подлинно человеческим
условиям и способам деятельности.
Тот факт, что научный мир ограничивался
сравнительно небольшим кругом действительно выдающихся людей,
также способствовал отождествлению ценностей разума
и свободы с деятельностью ученого. Однако даже
наиболее несомненная область воплощения разума — наука
(Наука с большой буквы) не вполне и не всегда
отождествлялась в данный период с исторически конкретной
наукой, с наличным естественнонаучным и социальным
знанием. «Науки, коими мы теперь обладаем,— пишет
Бэкон,—суть не что иное, как некое сочетание уже
известных вещей, а не пути открытия и указания новых
дел». Или: «То, что до сих пор открыто науками, лежит
почти у самой поверхности обычных понятий» (4, 109;
111). И на то были свои причины. Об одной из них уже
упоминалось: в научном знании XVII в. господствовал
эмпиризм, тогдашние эмпирики восхищались
конкретностью, «фактичностью» науки, они оказывались
неспособными проложить путь от фактов к теории. Бэкон и
Декарт считали подобные настроения серьезной опасностью
для науки, но в то же время, и с полным правом^
говорили об эмпиризме, об увлечении экспериментами и
фактами как о своеобразной «болезни роста», неизбежной в
период возникновения и развития новой опытной науки.
Второе обстоятельство, которое препятствовало
прямому и сознательному включению реального социального
действия в сферу гносеологического рассмотрения и
укрепляло решимость отделить «подлинную науку» от
науки реальной,— влияние религиозной идеологии.
Старая религиозная идеология по сути дела была
главным препятствием, исходящим из внешних науке
социальных факторов. Отношение науки и ученого к
важнейшему из духовных влияний общества, к влиянию
идеологии, зависело в первую очередь от
конкретно-исторической формы (в данном случае, очевидно реакционной
формы) этой последней. Мы не будем рассматривать
здесь широко известные факты и обстоятельства, свиде-
46
тельствующие об упорной и страшной борьбе церкви за
сохранение своего идеологического господства.
Перечислим лишь важнейшие выводы, к которым напряженная
идеологическая ситуация должна была склонять и
действительно склоняла мыслителей XVII—XVIII вв., когда
они оценивали значение социального воздействия на
развитие познания и науки.
Во-первых, идеологически направленное,
«заинтересованное» мышление стало прочно отождествляться с
мышлением «заведомо ложным, догматическим по своей
природе, принципиально противоположным научному познанию.
Не просто церковно-схоластическая «'заинтересованность»,
но ©сякая групповая и индивидуальная
заинтересованность чаще всего выглядела для мыслителей этого
времени негативным фактором, только затрудняющим
познание истины, хотя, как они прекрасно понимали,
постоянно и неустранимо оказывающим свое влияние.
«...Во все века,— пишет Бэкон,— естественная
философия встречала докучливого и тягостного противника, а
именно суеверие и слепое неумеренное религиозное
рвение» (4, 158). «Более того, по теперешнему положению
дел условия для разговоров о природе стали более
жестокими и опасными по причине учений и методов
схоластов» (4, 158). По терминологии Бэкона, с которым
горячо солидаризируются его младшие современники Декарт,
Спиноза, Гоббс, среди «призраков», парализующих
познание, оказывается укоренившаяся привычка к
догматическому способу (познания и рассуждения: в основу здесь
положены некоторые заранее данные понятия и
принципы, с которыми обязательно «согласовывают» все новые
факты.
Во-вторых, идеологическая ситуация послужила
своеобразной моделью для оценки того влияния, которое
общество в целом оказывает на творчески работающего
индивида. Непосредственно ощутимое, страшное в своих
последствиях идеологическое давление отживающего
средневековья было одной из причин, почему социальная
детерминированность научного познания была во
многом оценена как фактор отрицательный. «Опыт и
История,— пишет Бэкон,— рассеивают острие человеческого
У1ма...» (4, 97). «Апофеоз заблуждений», который, по
Бэкону, так неотъемлемо присущ всему знанию,
унаследованному его эпохой, предполагает настоятельную необхо-
47
димость предварительной очистительной,
разрушительной работы по имя освобождения той почвы, на которой
будет возведен фундамент новой системы знаний. Как
мы увидим, операция очищения, которой придается
колоссальное методологическое значение и через горнило
которой пропускают все принципы унаследованного
знания,— эта операция направлена против всех возможных
влияний, которые оказывают на человека его время,
современные ему общество и наука, ближайшая к нему
среда, его собственные индивидуальные склонности и
желания. Все эти обстоятельства способствуют, по
выражению Бэкона, «пленению» науки, созданию в ней
«пограничных столбов», расцвету «преклонения и
прославления», препятствующих движению научного знания
вперед. Исходящие от общества призраки и ложные
понятия, «которые уже захватили человеческий разум и
глубоко в нем укрепились, не только так владеют умом
людей, что затрудняют вход истине, но даже тогда, когда
вход ей позволен и представлен, они снова преградят
путь при самом обновлении наук и будут ему
препятствовать, если только люди — предостереженные — не
вооружатся против них, насколько возможно» (4, 115).
Настаивая на колоссальной практической значимости
философии, признавая благотворный характер того
воздействия, которое оказывают на философское знание
технические усовершенствования, открытие новых земель
и т. д., крупнейшие философы XVII в., с другой
стороны, по существу вынашивают идеал автономного
существования науки и ученого в условиях социальных
бедствий, экономических и политических распрей, в
условиях «диктатуры в науках» (выражение Бэкона). Правда,
по форме они как будто не посягают на религиозную
догматику, предлагая разделить «сферы влияния»,
взаимно обособить политико-идеологическую область, отдав ее
церковникам, и область науки, присвоив последней
известную независимость в суждениях об истине.
Насколько несбыточным идеалом было требование автономии,
должны были почувствовать сами мыслители XVII в.,
как, впрочем, и их последователи.
В-третьих, поскольку внутренняя радикальность
новой философии не могла найти выражение в прямой
схватке на почве общих идеологических и
мировоззренческих принципов, она совершенно несомненно воплоти-
48
лась в абстрактных на первый взгляд тезисах
гносеологических и вообще специально-философских доктрин.
Декарт, избегающий какого бы то ни было
столкновения с церковниками по поводу догм религиозного
верования, становится весьма радикальным, вступив на
почву теории познания, учения о методе. Он прямо
указывает, что радикальность возможна исключительно в
области гносеологии. Понимая, сколь важна задача
перестройки самого фундамента старого мира («некоторые
сносят свои дома, чтобы их перестроить,—дипломатично
пишет Декарт (9, 268),—а порою, когда дому грозит
обвал, так как фундамент его не совсем прочен, люди
даже вынуждены это делать»), Декарт трезво оценивает
все препятствия, возникающие здесь перед отдельным
человеком. «...Невероятно, чтобы отдельный человек
поставил себе задачей преобразовать государство, изменив
в нем все до основания...» (9, 268). Подобпым образом
обстоит дело и в области идей, в сфере духа. Первое
«временное правило нравственности», которому считает
нужным следовать Декарт,— «подчиняться законам и
обычаям моей страны, блюдя религию, в которой по
милости бога я воспитан с детства, и во всем остальном
руководствоваться мнениями, наиболее умеренными и
далекими от крайностей, общепринятыми среди самых
рассудительных людей, с коими Mire придется жить» (9, 275).
Идеологическая борьба с церковью во многом
объясняет не -только гносеологическую форму философии
XVII в., но и ее сознательно выраженную склонность
реформировать мышление отдельного человека, ибо это
единственное, что могло казаться подвластным
очищающей работе философского разума. Декарт говорит, что
одним из главных правил, которыми он всегда
руководствовался, «было стремиться всегда побеждать скорее
самого себя, чем судьбу, и менять скорее свои желания,
чем порядок мира, и вообще приучать себя к мысли, что
нет ничего такого, что было бы целиком в нашей власти,
кроме наших мыслей...» (9, 277. Курсив наш.— H. М.).
Существо философии Декарта, как и других его
современников, определяется, однако, не этими внешне
«благонамеренными» замыслами, но тем, что реформа
«своего», «личного» мышления была достаточно четким
внутренним выражением широких социальных
преобразований, осуществленных и осуществляемых эпохой ран-
49
лого капитализма. В этом великое историческое и
социальное значение абстрактных философских концепций
XVII в.
* *
*
Попытаемся сделать наиболее общие выводы, котот
рые касаются действительного и противоречивого
влияния социально-исторического развития на философию
XVII в., а также причины возникновения особой
сознательной формы отражения и выражения этого влияния
в философском мышлении.
1) Наиболее важные социальные тенденции
капитализма, к XVII в. уже отстоявшего свои экономические
позиции, несомненно, оказали свое влияние на
философию человека и теорию познания этого и следующего
столетия. Некоторые из них были социальной мыслью
восприняты, частично введены в орбиту научного
анализа, зафиксированы, описаны.
2) Но неразвитость социального знания, вполне
соответствовавшая неразвитости социальных противоречий,
объективной непрояснеиности самих социальных
тенденций, делала немыслимой последовательное
систематическое и сознательное выведение принципов свободы,
разума, специфических познавательных характеристик из
социально обусловленной познавательной деятельности
человека.
3) Более того, преобладающая форма размышлений о
свободе, активности, разуме предполагала в этот период
отвлечение, обособление от конкретно-исторических
условий, переход на почву абстрактно-философского
рассуждения.
Как это ни парадоксально, но именно
критически-гуманистическая позиция философов XVII—XVIII вв.
толкала их к такой абстрактной позиции даже в тех
случаях, когда речь явно шла о социально-политических
проблемах. (Наиболее очевидным это становится в случае
прютив-о'борства старой идеологии и новой науки: здесь
ученые-гуманисты были поставлены в особенно сложные
условия.)
4) Взаимное обособление социально-критического,
гуманистического мышления и позитивного социально-
экономического и социально-политического анализа было
50
обусловлено специфической позицией общественной
науки, к которой историческая практика предъявляла
настоятельное требование описать, осмыслить
существующее, наличное положение вещей и в нем самом открыть-
реальные возможности его усовершенствования. Сферы
должного и сущего обосновывались, анализировались
различными способами и методами.
Социально-критическое мышление отправлялось от некоторых идеалов —
неограниченной свободы, высшего блага, всесовершенно-
го разума — и в соответствии с ними оценивало
конечное историческое состояние. Мышление, руководящееся
установкой на позитивность, намеренно отвлекалось от
«должного» и стремилось «беспредпосылочно» выявить
связи, особенности, законы «сущего». --
Для самой философии анализируемого здесь периода
пока еще оставалась üb тени внутренняя связь и
взаимозависимость обоих подходов, а также
социально-историческая обусловленность их возникновения в виде
обособленных, даже противостоящих друг другу тенденций.
Для нас важно было наметить линии их внутренней
связи, а также причины, пути внешнего обособления, ибо
только благодаря этому выявляется объективная
социально-историческая обусловленность учения о разуме и
о познании и находит объяснение субъективная,
сознательная форма выражения этой связи, присущая
философии XVII и отчасти XVIII столетия.
Далее мы переходим непосредственно к учениям
философов XVII в. о человеке и человеческом разуме, о
сущности познания.
ГЛ4В1 II
О ЧЕЛОВЕКЕ КАК ЧАСТИ
ПРИРОДЫ И О
ЧЕЛОВЕЧЕСКОЙ ^ПРИРОДЕ»
Интерес к человеку, к
человеческой личности, ее жизнедеятельности, возможностям,
способностям был, как мы видели, не отвлеченной
академически-философской проблемой, но живейшим
вопросом дня, итогом и вместе с тем выражением основных
социальных коллизий рассматриваемого периода истории.
К XVII в. теоретическая постановка вопросов о
человеке является достаточно детальной и зрелой. Общий ее
смысл несет на себе явный и прямой отпечаток
социальных запросов, он состоит в объяснении того
соотношения, которое объединяет природные и «специфически
человеческие», духовные начала. Не во всех случаях
размышления о человеке прямо связаны с выявлением его
отношения к социальному бытию, хотя такая
формулировка проблемы занимает заметное место и будет нами
рассмотрена. Итак, для раннего капитализма громадное
практическое значение имеет решение вопроса о
человеческой свободе, притом в рамках и в условиях
непременной детерминированности природой и обществом, в
условиях расширившегося и углубившегося воздействия че-
лювека на природу, в условиях бол>ее 'активного
социального общения, создаваемого и требуемого
обобществлявшимся производством.
Вопрос о человеке заимствуется философией XVII в.
из всей предшествующей культуры, главным образом из
культуры эпохи Возрождения. Уже здесь была
намечена, возникла специфическая форма проблемы и речь
52
шла о примирении двух начал в человеке, природного
и духовного. Однако в XVII в. постановка проблемы не
только и не просто становится более детальной и
глубокой. Происходит существенное изменение: на место
специфического и синтетического гуманистического,
«ценностного» комплекса, где духовная культура целого
исторического периода выполняет важнейшую
историческую функцию — прославляет человека, отстаивает (его
самоценность и самодостоинство, подготавливая тем
самым почву для превращения человека, его проявлений,
его жизни в особый, самостоятельный, специфический
объект исследования,— на место этой важной духовной
формы приходит зарождающееся эмпирическое и
теоретическое изучение, исследованию человека, выделение,
а затем и обособленное изучение его отдельных
характеристик. Защита человека и гуманного отношения к нему
не перестает волновать философию XVII в., но она
начинает идти рука об руку, а временами и ставится в
зависимость от позитивного исследования «конечного»
человека или его сущности.
Линия на сближение человека с природой,
намеченная в гуманистической культуре эпохи Возрождения,
также находит продолжение и углубление в философии
XVII в. Единство человека с природой, подчинение его
природным законам — общий пароль передовой мысли
этого времени, четко и торжественно выраженный в
следующих словах Фрэнсиса Бэкона: «Человек, слуга и
истолкователь Природы, столько .совершает л понимает,
сколько постиг в порядке Природы делом и
размышлением, и свыше этого он не знает и не может» (4,
стр. 108). Данная идея проникает самую ткань
философского размышления, влияет как на конкретные
определения человека, так и вообще на всю структуру
философской науки.
В универсальной философской системе Декарта, в
общем своде философских знаний учение о человеке
составляет часть физики, науки, отыскивающей «истинные
начала материальных вещей», трактующей о природе
земли и остальных тел — о воздухе, огне, магните и
т. д. Здесь же предполагается «по отдельности
исследовать природу растений, животных, а особенно человека,
чтобы удобнее было обратиться к открытию прочих
полезных для него истин» (9, 421). Такова же в принципе
53
структура философии Гоббса. В составе философии, по
ГоиТн'.у, дно масти: естественная философия и учение о
государство. Один из важнейших разделов естественной
философии — это физика, в свою очередь дробящаяся на
учение о неодушевленных телах и учение о животных.
I I ос ледиее наряду с анализом жизни животных вообще
дает учение о человеке в частности. Поскольку физика
обращается к человеческим страстям, она является
этикой; изучая человеческую речь, она разделяется на
риторику, поэзию, логику и учение о справедливости и
несправедливости:, выясняющее роль речи в социальном
общении. В классификации Гоббса весьма наглядно
выражено то обстоятельство, что человек как бы
распределяется по двум научно-философским «ведомствам»: он
изучается, с одной стороны, в физике, а с другой — в
учении о государстве, о морали (поскольку последнее, в
отличие от Гоббса, другие философы считают не частью
физики, но относительно самостоятельной частью
философии) . Человек как часть природы и человек как существо,
имеющее особую «природу», особую «сущность»,
отличающую его от остальной природы,— вот сложная проблема,
лежащая в основании рассмотренной классификации.
Ее решение в различных философских концепциях
XVII в. отличается 1заметным разнообразием,
порождавшим горячие дискуссии великих мыслителей. Но общим
принципом является убеждение в тесной связи природы
и человека, в благотворном для человека значении
такого единства. Общая идея единства человека и природы
заключает в себе более или менее определенное
теоретическое философское содержание. Прежде всего здесь
находит свое продолжение тема легитимизации природных
склонностей и природного здоровья человека, известная
нам из культуры эпохи Возрождения. Правда, теперь
уже позади остались все сомнения, тревожившие
предшественников: забота о собственном физическом
здоровье, об удовлетворении природных склонностей и
материальных запросов безоговорочно признается
неотъемлемым правом каждого человека и предпосылкой
общесоциального блага. «Первое основание естественного
права,— категорически утверждает Гоббс,— состоит в том,
чтобы каждый защищал свою жизнь и оберегал члены
своего тела, как он только может» (8, 2, 304). Философия,
говорит Декарт, должна быть не умозрительной, но прак-
54
гически значимой. Мы уже цитировали выше
высказывание Декарта о «практической философии», т. е. о всем
своде практически применимых научных знаний,
благодаря которым мы становимся «хозяевами и господами
природы». Напомним, что главной целью этой
практической философии Декарт считает «сохранение здоровья,
которое, несомненно, является первым благом и
основанием всех других благ этой жизни» (9, 305).
Но типичная для того времени проблема человека
как природного существа имеет в философии XVII в.
уже не только это ценностно-гуманистическое, но и более
глубокое теоретическое содержание. Речь идет о
решительном подчеркивании тех серьезных возможностей,
которые были в новое время вновь возрождены и, конечно, не*
измеримо расширены естественнонаучным исследованием
человека. Важнейшей частью философии были признаны
медицина, зародившаяся физиология. Их включение в
философию говорит одновременно м о неразвитости
данных дисциплин, и о принципиальном теоретическом и
практическом значении, которое справедливо приписывали
им корифеи науки и философии на заре нового времени.
Единство человека и природы в практическом и фи-
лософско-теоретическом плане означает прежде всего
подчинение человека тем же всеобщим закономерностям,
которые управляют развитием всей природы (эту
теоретическую линию учения о природной основе
человеческого существа наиболее ярко представляет Спиноза).
Общим законам природы в силу их универсальности,
бесконечности, вечности (т. е. вневременности, постоянности)
присваивается имя бога. Они лишены всякой
персонификации, они объективны в том смысле, что не заключают
в себе человеческого замысла, намерения, воли, цели и
т. д. Поэтому тема бога и человека, тема подлинного
«богослужения» есть в философии Спинозы вопрос о
зависимости человека от универсальной закономерности
природы. «...Человек, пока он составляет часть природы,
должен следовать ее законам. Это и есть богослужение.
Пока он делает это, он счастлив» (14, 144).
При этом признание человека частью природы,
природным существом вовсе не означает для Спинозы и его
современников растворения человека в природе,
отрицания его специфики. Напротив, объединение человека и
«бога» (природы) в философии Спинозы, а также его
55
предшественников и современников имеет своей
предпосылкой их принципиальное различие. Наряду с
подчеркиванием единства человека и природы философия
XVII в. стремится определить специфическое отличие
человека от остальной природы. Так, подчеркнув
зависимость человека от «бога», т. е. от закономерности
природы, Спиноза спешит показать, почему человека
нельзя считать богом, «субстанцией», почему его мышление
нельзя признать первичным и определяющим и почему,
следовательно, «богу», объективной и отвлеченной
закономерности природы, не следует приписывать качества и
свойства человека, его жизнедеятельности и его
мышления; человек есть особое, частное, хотя и наиболее
высокоразвитое явление природного движения. «Бог» (т. е.
закономерность) выше в том смысле, что он вечен
(между тем как человек, и особенно человеческий индивид,
преходящ), что он универсален, что его действие
непререкаемо. Человек не может освободиться из-под власти
«бога», но зато, познав принципы «божественного»
управления природой, т. е. принципы ее саморазвития, он
может достичь громадной мощи.
Проводя различие между человеком и «богом»,
Спиноза стремится также выяснить более конкретно, каким
особым образом «бог» формирует человека — иными
словами, какое воплощение всеобщая закономерность обретает
в частных и специфических законах жизнедеятельности
человека. Так возникает весьма типичный для философии
XVII в. вопрос о «природе» человека, о его сущности.
Декарт формулирует проблему следующим образом.
Он рассказывает читателю, как в его философии
совершается исследование человека. Вначале вводится
предположение, что человека можно исследовать как простое
природное тело (бог-де мог создать его просто из
материи, «не вложив в него ни разумной души, ни чего
другого), как материю. «Это как раз те проявления, в
которых лишенные разума животные, можно сказать,
подобны нам» (9, 293). Здесь и вступает в силу описание
функционирования органов человеческого тела, которое
тщательно производит Декарт, опираясь на все
известные ему достижения медицины и зарождающейся
физиологии. Но вопрос о сущности, «природе» человека не
поставлен, а отодвинут в сторону. Философское
исследование человека еще не началось. Это Декарт прекрасно
56
понимает. Уподобив человека телам природы и
животным, говорит он, «я не мог найти в таком человеке ни
одной из функций, зависящих от мышления и
принадлежащих только нам как людям...». Итак, и здесь
«влипли»: или исследование человека как природного
существа, или ...Какова же другая возможность? Чисто
человеческие функции, продолжает Декарт, он смог отыскать
впоследствии, «предположив, что бог создал разумную
душу и что он соединил ее с этим телом определенным
образом...» (9, 293).
Итак, на вопрос о специфическом отличии человека
Декарт дает такой ответ: человек одарен разумной
душой, которая «(никоим образом не .может быть
продуктом материальной силы наподобие других вещей» и
которая «непременно должна быть сотворена; и
недостаточно, чтобы она находилась в теле человека, как кормчий
на своем корабле, хотя бы лишь затем, чтобы двигать его
члены, а необходимо, чтобы она была с ним теснее
связана и соединена, чтобы иметь, кроме того,
чувствования и желания, подобные нашим, и, таким образом,
составить настоящего человека» (9, 303). Всюду, где
Декарт употребляет вполне выдержанное в традициях
теологии выражение «разумная душа», он на самом деле
повествует о специфическом отличии человека — его
разумности, «духовности». «Душа» должна объяснить не
только разум, мышление человека, но и «духовность»,
«человечность» его чувств и желаний. Душа,
специфическим образом определяющая человеческое существо,
совершенно отлична от тела по своей природе, полагает
Декарт. Здесь по сути дела сказано, что сущность
человека никак нельзя прямо и непосредственно связывать с
деятельностью его тела. Отметим еще раз, что Декарт и
не думает отрицать, что тело и душа, разум человека
«так тесно связаны и соединены друг с другом, что
образуют как бы одну в'ещь» (9, 333). Но в целях анализа
приходится как бы «разбивать» их целостность,
обособлять их друг от друга, изучать отдельно
(методологическую необходимость такого хода мысли мы должны
установить в ходе последующего анализа). Объединение же
оказывается особой проблемой. Связь между функциями
тела и специфически человеческими функциями для
эпохи Декарта неясна (впрочем, она остается проблемой и
для нашего времени), поскольку науки и философия
57
только еще начинают сколько-нибудь достоверное л
подробное оп.псашие и природной, и духовной основ
человеческого существа.
Философы просто констатируют, что «соответственно
двум основным частям, из которых состоит человек»,
различаются «два вида -способностей — физические и
духовные» (8, 442). Основное внимание они уделяют
описанию и исследованию специфического в человеке, его
«природы» — анализу духовной деятельности человека,
высшим проявлением которой является познание
вообще, познание истины в частности и в особенности. Таким
образом, огромное и все возрастающее внимание к
гносеологическому исследованию основано на понимании
человека как разумного по своей природе, мыслящего
существа. Присмотримся внимательнее к этой концепции.
По определению Декарта, у истоков и в центре его
философии лежит понимание человека, «Я» как
мыслящей вещи. Дав такую дефиницию, Декарт разъясняет
затем, что под словом «мыслящая вещь» понимается
вещь, «сомневающаяся, утверждающая, отрицающая,
знающая весьма немногое и многое не знающая, любящая,
ненавидящая, желающая, нежелающая, представляющая
и чувствующая» (9, 352). Иными словами, хотя
разумный человек и есть «тело природы», главное в нем то,
что он есть существо, одаренное эмоциями, симпатиями
и антипатиями, одаренное волей. Разум, решительно
подчеркивает Декарт,—это. единственное, что делает нас
людьми, 'Отличает нас от животного. И он в «полной
мере присущ каждому», он как 'бы от природы дарован
каждому человеку. Что касается воли, то в изображении
Декарта она становится более совершенной и безграничной,
чем способность понимания: «только воля или
способность свободного решения (курсив наш.— Я. il/.),
которую я ощущаю в себе, настолько велика, что я не
постигаю идеи какой-нибудь способности более великой и
более обширной; она-то главным образом и показывает
мне, что я ношу в себе образ и подобие бога» (9, 375).
Итак, «божественная», разумная природа человека в
ее высшем выражении есть не что иное, как способность
к свободному, осмысленному, самостоятельному решению
и действию,— таково содержание, реально
вкладываемое Декартом и в понятие «мыслящей вещи», и в
понятие ее разумно-волевой способности.
ГЛ4ВА Ш
РАЗУМНОСТЬ И СВОБОДА.
РАЗУМНОСТЬ И ОБЩЕСТВО
Не только для Декарта, но
и для других философов XVII в. разумное начало в
человеке становится синонимом его свободного, активного
действия, предпосылкой, формой и содержанием
завоевания, достижения свободы в рамках и на основе
строгой, непререкаемой необходимости и закономерности. В
учении о человеке, созданном философами XVII в.,
свобода является уже не только и не столько
гуманистической ценностью, предполагающей возможность ничем не
ограниченного человеческого действия: размышления о
свободе становятся выявлением заведомо ограниченных
условий, определяющих решение <и действие человека.
Ограничение может исходить от всеобщей
закономерности природы, которая рассматривается как абстрактная
необходимость. Но наряду с этим особое внимание
приковывают ограничения, диктуемые социальными
обстоятельствами. В силу этого исследование проблемы
свободы, теперь уже получившей новую формулировку,
происходит на почве двух обособившихся друг от друга
теоретических областей, разделение которых понятно нам
в свете всего предшествующего изложения.
Во-первых, это вполне «позитивное» изучение того,
как в рамках существующих социальных условий и
политических систем может быть достигнута пусть
минимальная, но так необходимая человеку свобода. Здесь
термин «свобода» приобретает конкретный, частный, спе-
59
пифический смысл: речь идет, скажем, о свободе слова,
печати, о формальной законодательной свободе, о
свободе мысли от церковно-идеологической цензуры и т. д.
Иными словами, речь идет о тех свободах, которые
впоследствии получили название
буржуазно-демократических. Философы XVII в., как правило, констатируют, что
в существующих государствах все эти свободы
попираются. Руководствуясь гуманистическими идеалами и
желаниями хоть что-нибудь сделать для своего
современника, Бэкон, Гоббс, Спиноза предлагают правителям и
требуют от них соблюдения «максимально разумных»
(основанных на свободе) правил управления своими
подданными. В этой части своих
социально-политических концепций мыслители данной эпохи говорят о том,
как должна быть в соответствии с соображениями
здравого смысла и гуманности организована государственная
власть. Характерный образец такого способа
рассуждения о свободе дает Спиноза.
Развитие разума, по мысли Спинозы, есть
одновременно обеспечение свободы. Из этого теоретического
постулата вытекает важнейшее политическое требование: «в
свободном государстве каждому можно думать то, что
он хочет, и говорить то, что он думает» (14, 2, 258).
Оправдывая это положение, Спиноза не столько
апеллирует к законам природы («каждый по величайшему
праву природы есть господин своих мыслей»), сколько
взывает к здравому смыслу правителей: он напоминает, что
контроль над высказываниями не есть еще контроль над
мыслью и разумом, развитие которых непреодолимо.
Гарантию свободами) (развития разума, по мнению
Спинозы, может наилучшим образом обеспечить
демократическое правление. Напротив, тирания одного лица
несовместима со свободой, разумом и благополучием
большинства. «...Свободный народ,—предупреждает
Спиноза, давая авторизованное истолкование идей
Макиавелли,— должен остерегаться абсолютно вверять свое
благополучие одному лицу; если последний не тщеславен и
не считает себя способным угодить всем, то он должен
каждодневно бояться козней, и потому ему поневоле
приходится более оберегать самого себя, народу же,
наоборот, скорее строить козни, чем заботиться о нем» (14,
2, 313). Между прочим «Богословско-политический
трактат» Спинозы имеет такой примечательный подзаголо-
W
вок, разъясняющий его основной замысел: «Богословско-
политический трактат, содержащий несколько
рассуждений, показывающих, что свобода философствования не
только может быть допущена без вреда благочестию и
спокойствию государства, но что она может быть
отменена ие иначе, как »месте со спокойствием государства и
самим благочестием». Несмотря на различие в
определениях природы человека, все сколько-нибудь известные
передовые мыслители XVII в. так же, как и Спиноза,
горячо отстаивают буржуазно-демократические по своей
действительной сущности требования, и среди них
требования свободы, которые именно в эту эпоху получили
свое широкое теоретическое обоснование, предвосхитив
исторический этап действительной массовой борьбы за
воплощение и осуществление элементарных
демократических свобод — скажем, свободы «думать то, что хочешь,
и говорить то, что думаешь».
Мы видели, что разумность — эта специфическая, по
убеждению философов XVII в., черта человеческой
сущности — постепенно расшифровывается: она становится
характеристикой такого социального действия человека
и таких конкретно-исторических условий, которые
обеспечивают наиболее благоприятные, хотя и всегда
ограниченные, возможности для инициативы, активности
индивида, для его самосохранения и духовного
совершенствования.
Вопрос о свободе как синониме разумности и
разумного действия ставится и ;р<азрешается также и на почве
абстрактной философской теории. Он является здесь
предметом глубоких размышлений и дискуссий.
Так, Декарт связывает возможность осуществления
свободы не с познанием и пониманием в узком смысле,
которые, в силу того что осуществляются «конечным»
человеком, могут быть весьма ограниченными, но с
волей, с волевым действием человека. Все виды
мыслительной деятельности Декарт |делит на два основных:
«один из них состоит в восприятии разумом, другой — в
.определении волей» (9, 440). Декарт, таким образом,
впервые в философии нового времени осуществляет
важное для понимания дальнейшего развития философии
разделение на «теоретическую» и «практически-волевую»
сферы. Первая определяется только разумом, вторая—
только склонностями, желаниями, намерениями челове-
61
ка. При этом следует иметь в виду, что под разумом в
узком смысле он понимает понятийное научное
познание, в то время как деятельность, «определенную волей»,
он именует уже не разумом собственно, а мышлением в
наиболее широком смысле этого слова. И вот Декарт,
Декарт-рационалист, что кажется парадоксальным,
ограничивает первую область, ограничивает свободу в
пределах разума, тогда как свободу воли считает
практически безграничной. Но доказать, теоретически оправдать
свой постулат о свободе воли Декарт не может. И он
в этом признается. «Нашего разума достаточно, чтобы
ясно и отчетливо понять, что всемогущество... существует
в боге; однако его недостаточно для постижения
обширности такого всемогущества настолько, чтобы мы могли
понять, каким образом бог оставляет человеческие
действия совершенно свободными и недетерминированными
(indéterminées). С другой стороны, в свободе и
безразличии внутри нас мы уверены настолько, что для нас нет
ничего более ясного; таким образом, всемогущество бога
не должно нам препятствовать в это верить» (9, 443).
Вспомним то, что было сказано о действительных
социальных условиях обретения свободы в этот период.
Конечно, именно определенные •социальные и практические
изменения породили «столь горячую веру ов спонтанность
человеческого действия. И не случайно свободу Декарт
•связывает именно с практическим, волевым, ценностным
действием человека, с тем особым уровнем «разумности»,
который он именует волей. Очевидна также «связь
философских размышлений о свободе с гуманистическими,
демократическими идеалами: свобода — столь важная
ценность, что рационалист Декарт хочет сохранить
ее за человеком даже тогда, когда обнаруживает
«конечность», «несвободу» разумной, познавательной
деятельности.
Любопытную и специфическую точку зрения
защищает Спиноза, вступающий в полемику с Декартовым
суждением о свободе воли. В одном из своих писем
Спиноза решительно возражает против формулировки фон
Чирнгауса, будто спинозовская позиция основывается на
признании ничем не ограничиваемой, не
детерминируемой свободы. И Спиноза дает свое философское
определение свободы: «Я называю свободной такую вещь,
которая существует и действует из одной только необходи-
62
мости своей природы; принужденным же я называю то,
что чем-нибудь другим детерминируется к
существованию и к действованию тем или другим определенным
образом» (14, 2, 591). В силу этого, продолжает Спиноза,
«я полагаю свободу не в свободном решении (decretum),
но в свободной необходимости (libéra nécessitas)» (14,
2, 591). Что же имеет в виду Спиноза? По его мнеиию,
только то действие можно назвать свободным, которое
сообразуется не просто со свободным решением, т. е. с
разумностью, заключенной в самом решении стихийно,—
для него свобода в подлинном смысле может быть
отождествлена только с решением и действием, сознательно
принимающим в расчет условия свободы, заложенные в
объективной необходимости. Если Декарт резко
разделяет более свободную волю и строгий, подчиняющийся
необходимости разум, то Спиноза утверждает: «воля и
разум —одно и то же» (14, 1, 447). Восставая против
обособления разумного и волевого начал в человеческом
действии, Ошио'за считает саму волю равумной,
осмысленной: воля — не только желание, решимость, намерение
аффект, построенный на желании и отвращении, но
одновременно и главным образом «способность
утверждения и отрицания», способность видеть и принимать во
внимание истинное и ложное. Но если воля, в чем
убежден Спиноза, такова, то она неотделима от разума, а
разум неотделим от нее. Различение воли и разума
оправдано только в том случае, если разум будет
искусственно ограничен «ясными и отчетливыми идеями» и не
будет подразумевать также и другие «разумные»,
духовные способности: способность восприятия, способность
формировать представления, наконец способность
чувствовать. Но по мнению Спинозы, понятие разума в
полном объеме включает не только истинное мышление, но
и все перечисленные выше «разумные» способности. И
они находятся в неразрывном единстве с мышлением.
(«Я отрицаю,—говорит Спиноза (14, 1, 451),— чтобы
человек, поскольку он воспринимает, обходился без
всякого утверждения».) Мы еще будем разбирать
специальное учение философов XVII в., в том числе Спинозы, о
познании. Здесь же необходимо обратить внимание на
то, что объединение Спинозой воли («разумной») и
разума («деятельного», «эмоционального») есть более
зрелая в теоретическом отношении точка зрения, проклады-
63
вающая путь концепциям последующих периодов.
Отсюда Сишгоаа несколько иначе, чем Декарт, ставит
вопрос о свободе: для него центр тяжести проблемы состоит
не в признании свободы волевого решения человека, но
в выяснении и использовании объективных условий,
возможностей разумного, обоснованного решения и
действия. Для нас важно то, что и Декарт, и Спиноза,
несмотря на различия точек ореяия и даже разногласия,
расшифровывают понятия разумности, «разумной души»
через понятие свободного, самостоятельного и активного
действия, так или иначе опирающегося на познание
необходимости. Но и Спинозе, таким образом понимающему
свободу человека, проблема теоретического объединения
природой необходимости и человеческого свободного
действия в принципе неясна. И он, как и Декарт, честно в
этом признается. «...Обращая внимание на природу бога..,
мы ясно и отчетливо сознаем, что все зависит от него и
что все существует потому, что оно от вечности так
решено богом. Но каким образом человеческая воля
продолжает твориться богом в каждое мгновение так, что
она остаетоя свободной, это неизвестно. Ибо есть
многое, что превосходит нашу способность понимания и
о чем нам, однако, известно, что: бог совершил это» (14,
2, 278).
Величайшая заслуга Спинозы и его современника
Декарта состояла в том, что они определили разумность
человека как способность к самостоятельному,
спонтанному сознанию и действию, подчиненному общему
порядку природы, хотя с теоретической стороны данная
связь продолжала оставаться нерешенной проблемой.
При этом ситуация, сложившаяся в теории, была
внутренне противоречивой. С одной стороны, философы
XVII в., как мы пытались показать выше, не
ограничиваются отстаиванием свободы как гуманистической
ценности. Они видят свою главную задачу в изучении,
исследовании условий и возможностей (как общих,
«абстрактных», так и более конкретных, исторических)
реализации свободы в деятельности человека. С другой
стороны, верность самому идеалу свободы — в условиях,
когда возможности позитивного научного анализа еще так
ограниченны,— дает несомненный и четкий
положительный теоретический эффект. Признание Декартом и
Спинозой спонтанности человеческого действия и при нали-
64
чии природной и социальной необходимости выражено
скорее в форме убеждения и уверенности, чем в виде
детально оправданной научной философской истины. И
тем не менее мыслители XVII в. остаются верными идее
свободы, а значит, и принципу разумности, предоставив
детальное их оправдание теоретическому развитию
будущего. Их не колеблет в этой вере и форма реальных
общественных событий, скорее рождающая и
подтверждающая сомнения в возможности осуществления
гуманистических ценностей.
Конкретная история и реальный человек таковы, что
связать именно с их развитием «разумную сущность»
человека, как такового, предопределенную этой
сущностью способность к самостоятельному, свободному
решению и действию философы XVII в. определенно
отказываются. Поэтому-то размышления о человеческой
разумной сущности объективно оказались средоточием
представлений о той сущности, которую еще предстоит
обрести человеку или, признав ее в себе, согласиться
признать во всех других людях,— средоточием
буржуазно-демократических идеалов разумности и свободы,
высказанных, однако, не в политической или социальной
философии, а в абстрактном учении о человеке или в
теории познания.
Уже здесь мы видим, что учение о разумности как
сущности человека явилось своеобразным отражением
социального бытия тогдашней исторической эпохи. Еще
более отчетливо историческая и социальная
обусловленность учения о человеке проявляется в тех его частях,
где ставится и обсуждается чрезвычайно важный для
нашей темы вопрос: какова связь между сущностью
человека и тем обстоятельством, что он живет в обществе?
Иными словами, в XVII столетии уже обсуждался
вопрос, который иной ра'з считают исключительной
принадлежностью философии XIX —XX вв.: можно ли
считать человека существом, общественным по своей
сущности?
Отвечая на этот вопрос, философы XVII в.
высказывают по крайней мере две точки зрения, которые на
первый взгляд кажутся противоположными. Первую из
них особенно четко выражает Спиноза.
Поскольку человек следует «законам разума», т. е.
выступает как человек в подлинном смысле слова, он
3 Н. В. Мотрошилова
65
лиллстсл существом общественным — такова исходная,
'(м'.'1|1()1но||().)1агающ|а,я идея Спинозы. «Разумный» и
стремян 11ИЙ1СЯ к общению с другими людьми человек — эти
выражения для Спинозы звучат как синонимы. «То, что
заставляет людей жить согласно, заставляет их вместе с
тем жить по 'руководству разума» (14, 1, 556) —таково
его убеждение. Люди, живущие в соответствии с
принципами разума, в глубоком смысле этого слова едины,
подобны друг другу; поэтому-то они постоянно
стремятся к взаимному общению. «И самый опыт,— объективно
пишет Спиноза, потому что сам он был настолько
затравлен и обруган своими соотечественниками, что хорошее
мнение о человеческом роде подвергалось скорее
ежедневным испытаниям,— 'ежедневно свидетельствует
истинность только что показанного нами столькими
прекрасными примерами, что почти у всех сложилась пословица:
человек человеку бог. Однако редко бывает,— вынужден
признать он,— чтобы люда жили по руководству разума;
напротив, вое у них сложилось таким образом, что они
большей частью бывают ненавистны и тягостны друг для
друга. И тем не менее они едва ли могут вести одшнокую
жизнь, так что многим весьма (нравится определение
человека как животного общественного (курсив наш.—Н.М.);
и в действительности дело обстоит таким образом, что из
общего сожительства людей возникает гораздо больше
удобства, чем вреда. Поэтому пускай сатирики, сколько
хотят, осмеивают дела человеческие, пускай проклинают
их теологи, пускай меланхолики превозносят, елико
возможно, жизнь первобытную и дикую, презирают людей и
приходят в восторг от животных,— опыт все-таки будет
говорить людям, что ири взаимной помощи они гораздо
легче могут удовлетворять свои нужды и только
соединенными силами могут избегать опасностей, отовсюду им
грозящих» (-14,1, 549—550).
Из этого прекрасного высказывания Спинозы видно,
что в его время идея о «необщественности», злой,
«дурной» природе человека, о моральном превосходстве
животных и существ из древнего стада перед современным
развитым человеком защищалась довольно часто.
Рассуждения эти были зарисовкой, в ряде случаев
критической и гуманистической, специфического состояния
человека, особых исторических условий, «освободивших»
массу людей от их человеческих, социальных качеств. Спи-
66
ноза прежде всего опровергает подобные взгляды на их
собственной почве, т. е. на почве гуманистических чувств,
на почве абстрактной моралистики. Сколь бы
оправданным ни был гнев тех, кто обращает внимание на
антисоциальное поведение, нельзя отворачиваться от других,
противоположных свидетельств опыта: от взаимопомощи,
товарищества и дружбы людей, следующих в своем
поведении законам разума. И такие явления, как и
польза, которую индивиды получают от взаимного общения,
перевесят антисоциальное поведение и его последствия,
будь они брошены на чаши весов. Однако гораздо
больше Спинозу беспокоит неудовлетворительность подобных
взглядов, коль скоро они могли превратиться и часто
непосредственно превращались в теоретический взгляд, в
учение о природе, сущности человека. Спиноза весьма
глубок в критике теоретической неудовлетворительности
подобных концепций. Ему ясны некоторые
методологические истоки аисторизма и асоциальности учений о
человеке, его разуме, его страстях, аффектах. «Большинство
тех, которые писали об аффектах и образе жизни людей,
говорят как будто не об естественных вещах, следующих
общим законам природы, но о вещах, лежащих за
пределами природы. Мало того, они, по-видимому,
представляют человека в природе как бы государством в
государстве: они верят, что человек скорее нарушает порядок
природы, чем ему следует, что он имеет абсолютную
власть над своими действиями и определяется не иначе
как самим собою. Далее, причину человеческого бессилия
и непостоянства они приписывают не общему могуществу
природы, а какому-то недостатку природы человеческой,
которую они вследствие этого оплакивают, осмеивают,
презирают или, как это все чаще случается, ею
гнушаются, того же, кто умеет красноречивее или остроумнее
поносить бессилие человеческой души, считают как бы
божественным» (44,1, 454).
Ограниченность метода, положенного в основу учений
о человеческой природе, а также те следствия, которые
метод порождает, обрисованы здесь в целом правильно.
Человек в такого рода учениях как бы отторгается от
общей закономерности природы, но прежде всего
обособляется от общества. Человек обособляется от
государства и в общем порядке природного развития
действительно становится как бы «государством в государстве».
я*
.67
Индивид обособляется от общества, выяснение
особенностей отделенного таким образом индивида и есть учение
о «человеческой природе». (Следует подчеркнуть, что
здесь влияние одностороннего метода переплеталось с
воздействием самой реальности, подкреплявшей и
узаконивавшей операцию обособления индивида и трактовку
его как асоциального существа. Об этом Спиноза по сути
дела и говорит в большом отрывке, приведенном выше.)
В результате именно на «человеческую природу»
возлагают вину за все злоключения общества и людей:
природа человека становится «злой» природой.
Метод Спинозы, как мы уже говорили, предполагает —
до выяснения особенностей чисто человеческого действия,
до специфической трактовки аффектов — утверждение
зависимости человека от природы. При этом данная
зависимость не есть слепая и абсолютная пассивность
человека перед лицом природы, но подчинение безличным и
неумолимым законам, которые одинаково обусловливают
как добро, так и зло, имеющее место в социальном
развитии. Вот та идея, которую защищает Спиноза, говоря
о «естественном», «природном» характере человеческой
сущности. «...Мой принцип таков: в природе нет ничего,
что можно было бы приписать ее недостатку, ибо
природа всегда и везде остается одной и той же; ее сила и
могущество действия, т. е. законы и правила природы,
по которым все происходит и изменяется из одних форм
в другие, везде и всегда одни и те же, а следовательно,
и способ познания природы вещей, каковы бы они ни
были, должен быть один и тот же, а именно — это
должно быть познанием из универсальных законов и правил
природы (naturae leges et regulae)» (14,7, 455).
Итак, по мысли Спинозы, в философии, в теории
недопустим морально-оценочный подход ко всему, что
происходит в природе, недопустимы сетования, жалобы на
«недостатки» и «отклонения»: все происходящее имеет
свои причины, свою необходимость, и философия в
каждой области, в том числе и в особенности в человеке и
его действиях, должна раскрыть эти объективные
причинные связи, эти законы. Правда, подчеркивание
природной обусловленности человека само по себе было
известной данью Спинозы метафизическому методу:
различию было так или иначе противопоставлено единство
человека и природы. Однако только при недостаточно
68
внимательном чтении Спинозу можно было понять таким
образом, будто Для него человек есть пассивное тело
природы. Некоторые формулировки, будучи вырванными
из общего контекста спинозизма, как будто бы дают
основания для подобного его восприятия. «Человек
необходимо подвержен всегда пассивным состояниям, следует
общему порядку природы, повинуется ему и
приспособляется к нему, насколько того требует природа вещей»
(14,7, 529). И все-таки не следует забывать о
приведенных выше тезисах философии Спинозы, согласно
которым наличие «божественной», непререкаемой природной
закономерности и необходимости, которой равным
образом подвластен и человек, не отменяет своеобразной
спонтанности, активности действий последнего, так
сказать, «Необходимости самой свободы», ее связи с
социальной активностью человека, с его общественной
«разумностью».
Общественный характер человеческой природы —
идея, которой Спиноза твердо, решительно
придерживается, но которая является скорее предметом
безусловной и горячей веры. Что касается теоретического
доказательства, то его время еще не пришло. Уже из
полемических высказываний Спинозы видно, что он постоянно
имеет в виду и решительно оспаривает
противоположную точку зрения: взгляд на человека как
необщественное, даже асоциальное существо. Неизвестные моралисты,
писатели, философы, которые то и дело говорили о
«дурной», т. е. враждебной по ОФнотетгию к другим людям,
природе человека,—вот противники Спинозы. Объектом
критики становится также оказавшее огромное
воздействие на современников учение Томаса Гоббса о
человеческой сущности. Это учение довольно часто
рассматривается как типичное для XVII в. доказательство
необщественной природы человека. Так ли это? Целый ряд
высказываний Гоббса как будто бы подтверждает справедливость
такой оценки.
(«Большинство тех, кто писал что-либо о
государстве,—вступает в дискуссию Гоббс,— предполагают или
утверждают, что человек есть животное, от рождения
склонное к жизни в обществе^ или, как говорят греки,
CcoovicoXtTtv.ôv Эта аксиома ложна, несмотря на то
что она принимается очень многими людьми, и ошибка
произошла из-за слишком поверхностного рассмотрения
69
человеческом природы» (8, 1, 299). Но разве человек не
живет в обществе? Этот вопрос Гоббс предвидит. «После
того, как человеческое общество уже установлено на
деле, когда уже никто не живет вне общества, когда мы
видим, что все люди ищут общения и беседы с другими
людьми, может показаться удивительно глупым, что
некий автор (имеется в виду Макиавелли.—Я. М.) в
начале своего учения о государстве выдвигает положение
человек не является по природе способным к общественной
жизни» (8, i, 299). Гоббс поддерживает Макиавелли. Да,
человек издавна живет в обществе, подчас ему тягостно
одиночество. Но это не является доказательством
общественной сущности человека: общество — навязанная
человеку против его внутренней воли и сокровенных
склонностей форма существования. Дети рождаются
неспособными к общественной жизни, некоторые люди так и не
обретают социальных навыков. «...Каждое объединение
образуется ради пользы или славы, т. е. ради любви к
себе, а не к другим» (8, 1, 301); «происхождение
многочисленных и продолжительных человеческих сообществ
связано не со взаимным расположением людей, а с их
взаимным страхом» (8, 1, 302). Размышлять о
человеческой природе, о человеческой сущности — значит, по Гоб-
бсу, говорить о свойствах человека, поскольку он
находится «вне гражданского общества». Вот почему, кстати,
человек «естественной философии» и человек «философии
государства» так отличаются друг от друга: в первом
случае вскрывается асоциальная сущность человека
(«война всех против всех», вытекающая из природного
равенства людей), во втором — излагаются принципы
наиболее благоприятного общения, хотя и противоречащие
антиобщественной природе человека, но отвечающие
сокровенному стремлению индивида к жизни и к
самосохранению. Таким образом, существование и развитие
гражданского общества Гоббс объясняет не ссылками на
природу человека, на якобы изначально укорененную в
нем склонность к общению, как это делают другие
авторы, мнение которых Гоббс категорически оспаривает.
Лишь потребность и желание индивидов сохранить
самих себя приводит к образованию гражданского общества.
Гоббс не случайно выступает против определения
человека как социального или политического животного,
ведущего свое происхождение от Аристотеля. Ведь здесь
рто
социальность человека часто отождествлялась просто со
склонностью к взаимному общению, с добрыми
намерениями и доброй социальной волей — так сказать, «соци-
абильностью», якобы от природы и механически
заложенной в человеке. Такое «социальное чувство» объявляли
источником возникновения общества. Социальность
превращалась, таким образом, в раз и навсегда данную
эмоцию человека. Жестокая эпоха, современником которой
был Гоббс, отнюдь не способствовала расцвету подобных
аисторических иллюзий. Ближайший взгляд на реальную
сферу человеческого общения — в недавнем или далеком
прошлом, в кровавом настоящем — скорее
свидетельствовал в пользу формулы Гоббса: «война всех против всех».
Правда, и в те времена люди жили в обществе и
«избегали одиночества». Но этот факт Гоббс считает
лежащим на поверхности явлений. Проникнуть в существо
человека, в его «природу» означает, по замыслу Гоббса,
вырвать его из этих внешних ему социальных связей,
поставить его «вне гражданского общества».
Парадоксально, что результатом Гоббсова анализа оказалось
превращение в неисторическую природу человека тех его
характеристик, которые были связаны с
конкретно-историческим обликом человека и человеческих связей, с
принципами человеческого общения в реальных и
определенных условиях капиталистического гражданского
общества. Но здесь становится еще более очевидной
неразрывная связь между конкретно-историческими условиями
существования тогдашнего человека и учением о
человеческой природе философии XVII в. Правда, речь идет
как будто о вечных свойствах человека, на деле же
дается точная зарисовка некоторых специфических
особенностей социального развития конкретного исторического
периода. В силу сказанного философия Гоббса
приобретает большой исторический интерес,
социально-критическое содержание явно проступает за абстрактной формой
учения о природе человека. В учении Гоббса содержится
мысль о несовпадении сущности человека и состояния
гражданского общества, об их отчуждении друг от друга.
Здесь мы находим одну из первых констатации
отчуждения индивида от сферы реального общения людей в
условиях буржуазного общества. Гоббс по сути дела
говорит об отчуждении в тот период, когда противоречия
капитализма, как и сама капиталистическая система,
71
только еще начали складываться и развертываться. На
примере рассматриваемых здесь идей Гоббса можно
видеть вполне объективные причины и основания, в силу
которых соединение сущности человека с наличными
социальными условиями, весьма противоречивыми,
превращенными, казалось совершенно немыслимым.
Но в учении Гоббса о необщественной сущности
человека можно заметить противоречие, на которое следует
обратить особое внимание. Ведь учение Гоббса
объективно оказывается размышлением об особых формах
поведения человека в специфических социальных условиях.
Кроме того, Гоббс признает, что индивиды объединяются
в гражданское общество для того, чтобы спасти самих
себя, хотя и преодолевая при этом свою
антиобщественную природу. Значит, он не отрицает, что хотя бы одно
из внутренних побуждений человека — а это желание
жить! — может быть реализовано только в условиях
человеческого общения. Здесь, рассуждает Гоббс, вступают
в силу «естественные законы» — предписания,
найденные разумом правила, согласно которым «человеку
запрещается делать то, что пагубно для его жизни или что
лишает его средств к ее сохранению, и упускать то, что
он считает наилучшим средством для сохранения жизни»
(8, 2, 155). Разумность и социальность выступают в тес^
ном единстве. Сам Гоббс считает «хорошими»,
разумными такие склонности людей, «которые способствуют сов-=
местной жизни людей в условиях государственной
организации» (8, 1, 262). Но поскольку такая совместная
жизнь является фактом, отсюда можно заключить о
действительном существования «хороших», т. >е. социальных,
склонностей человека. Гоббс признает, что нельзя пост^
роить науку о морали, если взять человека, «как таково^
го, вне государственной организации»: тогда будет
утрачен «твердый масштаб», при помощи которого можно
определить и даже измерить добродетель и порок. А это
весьма важно для Гоббса, стремящетчюя к позитивному
научному исследованию человеческих поступков. Таким
образом, естественные законы в толковании Гоббса — это
найденные и усвоенные людьми принципы разумного,
общения, принципы, следуя которым индивид и общается
с другими людьми, якобы столь же необщественными, как
и ои сам, и сохраняет свою жизнь. По сути дела Гоббс
проводит здесь различие между «объективной разум-
72
ностыо» самого исторического процесса, которая
действует лишь постольку,^ поскольку человек превращает ее
в принципы своего поведения и становится благодаря
этому социальным человеком, и необщественными
чувствами, асоциальной сущностью человека, которая
существует, но не может помешать (а в конечном счете даже
способствует) действию естественных законов.
Итак, Гоббс начинают с того, что сущность человека
следует искать вне гражданского общества, а заканчивает
неожиданным для данного хода мыслей заключением о
частичном совпадении «естественных» законов развития
человеческой сущности и гражданского общества и,
более того, «наличного государственного
законодательства» (!). Действительное содержание и объективный
результат рассуждений Гоббса о человеке не совпадают с
его субъективным замыслом. Гоббс стремился доказать,
что природа человека (состояние «войны всех против
всех») является необщественной, но па самом деле
отчетливо обнаруживает, в какой значительной мере
отдельный человек, индивид, 'зависит от той общественной
системы, в рамках которой он живет и развивается:
общество, враждебное индивиду, заражает и отдельного
человека антисоциальными настроениями и эмоциями.
Из рассмотрения учений о человеческой сущности,
характерных для философия XVII в., мы можем сделать
общий вывод: разумность, которая, по общему
убеждению, является отличительным человеческим качеством,
так или иначе объединяется с активным, свободным
действием человека, совершаемым в рамках общества
совместно с другими людьми. Отсюда понятно, почему
совершенствование разума философы XVII в. единодушно
считают «самым полезным в жизни» (определение
Спинозы). Благодаря этому философское учение, которое
способствует такому совершенствованию, открывая законы
разума, также является в высшей степени полезной для
жизни, для практического бытия частью философии.
Теория познания, таким образом, совершенно
непосредственно включается в общий комплекс практически важного
теоретического философского знания. Из учения о
человеке органично вытекает настоятельная задача: помочь
человеку использовать, развить присущую ему
разумность, проложить пути к истине, дать ему в руки
правильный метод познания закономерностей развития при-
73
роды и принципов человеческой жизни. Однако учение о
методе бессильно помочь человеку, пока он сам не
заинтересован в совершенствовании природной разумности,
пока он не обретет решимость отбросить ложные мнения
и предрассудки, которыми опутан с самого детства. Так
и получается, что учение о лжи, предрассудках — этих
«призраках», парализующих познание, об освобождении
от них, «очищении» разума логически предшествует
собственно методологическому разделу теории познания,
предшествует теории истины.
Признание и применение новых способов
мышления — и это хорошо понимали великие мыслители
рассматриваемой эпохи — не наступает в ходе и результате
одной только теоретической борьбы. «Совершенно
напрасно было бы думать,— пишет Галилей,— что можно ввести
новую философию, лишь опровергнув того или другого
автора: сначала нужно научиться переделывать мозг
людей и делать их способными отличать истину от лжи
(курсив наш.—Я. M.), а это под силу одному боту» (5,
57). И когда Декарт говорит: «Стараться преодолеть все
трудности и заблуждения, мешающие нам достигать
познания истины,—это в 'сущности то же, что давать
сражения» (9, 309), то он абсолютно прав применительно к
своей, да и не только к своей, эпохе. Но сколь бы
трудной и поистине невыполнимой для отдельных людей ни
казалась эта задача, Галилей и Бэкон, Декарт и Спиноза,
Гоббс и Локк решительно включились в борьбу за
«переделку человеческого мозга», стараясь внести посильную
для философии лепту в «очищение» разума человека, в
его подготовку к восприятию установок и принципов
нового общества.
ГЛАВА IV
ТЕОРИИ
«ОЧИЩЕНИЯ» РАЗУМА
§ 1. В борьбе против
«призраков» (Фрэнсис
Бэкон)
Высший смысл .и величай-
щую ценность философии Бэкон усматривает в
восстановлении гармонии «между Умом и Вещами» (4, 71).
Бэкон не случайно говорит о к<восстановлении» такой
гармонии: в существующем, унаследованном от
прошлого мышлении эта гармония, по его глубокому
убеждению, настолько нарушена, что все наличное знание
можно уподобить громаде без фундамента (см. 4, 72).
Оно «дурно составлено и построено». Поэтому тщетна
была бы надежда на некоторые частные
усовершенствования, скажем на улучшение формального аппарата
рассуждения. Требуется, по Бэкону, осуществить
решающие, принципиальные преобразования во всей
громадной сфере человеческого мышления и познания:
придется «заново обратиться к Вещам с лучшими
средствами и произвести Восстановление наук и искусств и
всего человеческого знания вообще, утвержденное на
должном основании» (4, 72). Замысел этот, как хорошо
понимает Бэкон, необъятен, поистине бесконечен. Но
«лучше положить начало тому, что может привести к
вык'оду, чем вечными усилиями и стараниями
связывать себя с тем, что никакого выхода не имеет» (4, 72).
Бэкону совершенно ясно новаторское значение того
«Восстановления наук», которое он и его знаменитые
современники, ученые и философы, начинают
осуществлять. «Оно ново, и притом вполне, хотя и списано с
75
весьма старого образца, а именно с самого мира и
природы вещей и духа» (4, 73).
Итак, Бэкон придерживается того мнения, что
старый, унаследованный от средневековья и идеологически
освященный церковью и схоластикой способ мышления
переживает глубокий кризис; это знание (и
соответствующие ему способы исследования) несовершенно по
всем линиям: оно «в практической части бесплодно,
полно нерешенных вопросов; в своем росте медлительно и
вяло; тщится показать совершенство в целом, но дурно
заполнено в своих частях; по содержанию угождает
толпе и сомнительно для самих авторов, а потому ищет
защиты и показной силы во всевозможных ухищрениях»
(4, 79).
Главные противники Бэкона — воинствующие
представители схоластики, догматики по убеждению,
призванию либо догматики по «профессии», по
официальной идеологической функции. Его, однако, совершенно
не удовлетворяет и деятельность тех категорий людей,
которым ясна неудовлетворительность старого
воззрения, но совершенно туманно рисуются цели и
содержание нового способа сознания. Речь идет, во-первых, об
ученых, которые обратились к изучению наук о
природе, но делают это робко, боязливо, решаясь только на
незначительные, непринципиального характера
исправления. Во-вторых, Бэкон имеет в виду тех, кто с
большим шумом ниспровергает старое, желая расчистить
путь для своего собственного, часто вздорного, мнения.
В-третьих, сюда можно причислить людей, которые
искрение стремились к свободе, не подчинялись ни
своим, ни чужим мнениям, но оказались захваченными
водоворотом хаотических поисков и доказательств. Все эти
категории людей, работающих в науке, не имеют,
убежден Бэкон, отношения к действительной науке,
поскольку не соприкасаются должным образом с самими вещами
и с опытом. И это не удивительно: одного отречения от
старого далеко не достаточно.
Труден путь человеческого познания. Здание
природы, в котором приходится прокладывать путь
познающему человеку, подобно лабиринту; дороги здесь
разнообразны и обманчивы, сложны «петли и узлы
природы». Познавать приходится при «неверном свете чувств».
Да и те, кто ведет людей по этому пути, сами сбива-
76
ются с Дороги и увеличивают число блужданий и
блуждающих. Вот почему требуется внимательнейшим
образом изучить принципы познания. «Надо направить
наши шаги путеводной нитью и по определенному
правилу обезопасить всю дорогу, начиная уже от первых
восприятий чувств» (4, 81). Поэтому великое дело
восстановления наук Бэкон разбивает на две части: первая,
«разрушительная», должна помочь человеку
«осуществить совершенный отказ от обычных теорий и понятий
и приложить затем заново к частностям очищенный и
беспристрастный разум» (4, 165. Курсив наш.—Я. М.).
Поддерживая впоследствии это великое дело Бэкона,
Декарт справедливо заметит, что позитивные успехи,
достигнутые им в науке, есть следствия и выводы из пяти-
шести преодоленных «главных трудностей».
«Беспристрастный разум» есть та исходная точка, в
которой может и должно быть применено учение о
методе — положительная, собственно «созидательная» часть
восстановления наук. Предложенная здесь Боконом
структура учения о познании по сути -дела заимствуется, как
мы увидим, Декартом и Спиновой.
Итак, первая задача разрушительная, задача
«очищения», освобождения разума, подготовка его к
последующей позитивной творческой работе. Эту задачу
Бэкон стремится разрешить в своем знаменитом учении о
«призраках» или «идолах».
* *
*
«Наше учение об очищении разума для того, чтобы
он был способен к истине, заключается в трех
изобличениях: изобличении философий, изобличении
доказательств и изобличении прирожденного человеческого
разума»,—пишет Бэкон. Соответственно этому Бэкон, как
известно, различает четыре рода «призраков», помех,
препятствующих подлинному, истинному познанию:
.1) призраки рода, имеющие основание «в самой
природе человека, в племени или в самом роде людей»;
2) призраки пещеры, заблуждения отдельного
человека или группы людей, обусловленные «малым миром»,
«пещерой» индивида или группы;
3) призраки рынка, проистекающие из взаимного
общения людей, и, наконец,,
-77
\) призраки театра, «которые вселились в души
людей m разных догматов философии, а также из
превратных законов доказательств» (4, 117).
Призраки рода, по Бэкону, неотъемлемо присущи
человеческому познанию, которому свойственно
«примешивать к природе вещей свою природу», из-за чего
вещи предстают «в искривленном и обезображенном виде»
(4, ,116).
Каковы же эти призраки? Человеческий разум
склонен, по Бэкону, приписывать вещам больше порядка и
единообразия, чем способен их действительно отыскать
в природе. Разум человека, далее, определенно
придерживается однажды принятых положений, стремится
искусственно подогнать новые факты и данные под эти
свои или общераспространенные убеждения. Человек
обычно поддается тем доводам и аргументам, которые
сильнее поражают его воображение. Бессилие ума
проявляется и в том, что люди, не задерживаясь должным
образом на изучении частных причин, устремляются к
всеобщим объяснениям, не выяснив одного, хватаются
за познание другого. «Жаден разум человеческий. Он
не может ни остановиться, ни пребывать в покое, а
порывается все дальше» (4, 119).
Ум по природе своей склонен рассекать природу на
части и текучее мыслить как постоянное.
Разум человека теснейшим образом связан с миром
чувств. И отсюда проистекает, по Бэкону, громадная
«порча» познания. Во-первых, человек «скорее верит в
инстинность того, что предпочитает», оказывается
скованным своими симпатиями и вкусами. «Во-вторых,
человек склонен излишне доверять показаниям органов
чувств, своим чувственным впечатлениям, между тем
как чувства косны, несостоятельны и обманчивы.
«Чувство само по себе слабо и заблуждается, и немного стоят
орудия для расширения и обострения чувств» (4, 121).
Таковы в изображении Бэкона призраки или идолы,
сковывающие познание, препятствующие отысканию
истины. Эти склонности человеческого ума являются
своеобразными константами, порожденными неизменной и
постоянной природой человека, т. е. существенными
свойствами человеческого индивида и человеческого
рода. Пока существуют люди, человеческий .род, познание,
будет опираться на чувства, индивиды будут излишне
78
доверять чувствам. Потому постоянное, непреходящее
значение имеет осуществляемое философией
«предостережение»: доверие к чувствам, к склонностям и
предпочтениям препятствует познанию истины.
Призраки пещеры возникают потому, что «свойства
души» различных людей весьма разнообразны: одни
любят частные науки и занятия, другие больше способны
к общим рассуждениям; «одни умы склонны к
почитанию древности, другие охвачены любовью к восприятию
нового» (4, 123) и т. д. Эти различия, проистекающие и
из индивидуальных склонностей, и из воспитания и
привычек, существенным образом влияют на познание, за-
мутняя и искажая его. Так, сами по себе установки на
новое или старое отклоняют человека от познания
истины, ибо последнюю, как убежден Бэкон, «надо искать не
в удачливости какого-либо времени, которая
непостоянна, а в свете опыта природы, который вечен» (4, 123).
Перечисление призраков рода и пещеры позволяет
Бэкону еще раз сделать общее предостережение: человек
должен в каждый данный момент сомневаться в том, что
особенно сильно захватило и пленило его разум; разум
должен оставаться «уравновешенным и чистым»,
отклоняющее влияние интереса, склонности, предпочтения,
привычки, индивидуальных особенностей человека не
должно его коснуться.
Призраки рынка порождаются вследствие
неправильного употребления слов и имен: слова могут обратить
свою силу против разума. Тогда, подчеркивает Бэкои,
науки и философия становятся «софистическими и
бездейственными» (4, 124), «громкие и торжественные» споры
вырождаются в чисто словесные диспуты. При этом зло,
проистекающее от неправильного употребления слов,
бывает двух родов: названия даются несуществующим
вещам и по поводу этих фикций, вымыслов создаются
целые теории, столь же пустые и ложные. В данной
связи Бэкон упоминает о словах и понятиях, порожденных
суеверием или возникших в русле схоластической
философии. Вымыслы на время становятся реальностью, и в
этом состоит их парализующее влияние на познание. Но
отбросить этот род призраков легче: «для их искоренения
достаточно постоянного опровержения и устаревания
теорий» (4, 125). «Но другой род призраков сложен и
глубоко сидит. Это тот, который происходит из плохих и
79
невежественных абстракций» (4, 125). Здесь Бэкон имеет
в виду неопределенность, смутность того смысла, который
связывается с целым рядом слов и научных понятий,
пущенных в широкий практический и научный обиход.
Отличие призраков театра состоит в том, что они «не
врождены и не проникают в разум тайно, а открыто
передаются и воспринимаются из вымышленных теорий и
превратных законов доказательств» (4, 126). Здесь Бэкон
рассматривает и классифицирует те типы философского
мышления, которые ои считает принципиально
ошибочными и вредными, препятствующими формированию
непредубежденного разума. Речь идет о трех формах
ошибочного мышления: софистике, эмпиризме и суеверии.
Бэкон перечисляет отрицательные последствия для
науки и практики, вызванные догматической, фанатической,
«докторальной» приверженностью к метафизическим
рассуждениям или, наоборот, к сугубому эмпиризму. Корень
неудовлетворительности созерцательно-метафизической
философии — непонимание или сознательное
пренебрежение тем обстоятельством, что «вся польза и пригодность
практики заключается в открытии средних истин» (4,
133). Вред крайнего эмпиризма состоит в том, что при
помощи ежедневных опытов, порождающих
невежественные суждения, «развращается воображение» людей.
Теология и «философия» суеверий, понятно, признаются
главным из всех философских зол. Вред теологии и
суеверия очевиден: «человеческий разум не менее
подвержен впечатлениям от вымысла, чем впечатлениям от
обычных понятий» (4, ,130). Итак, «философские
призраки» рассматриваются здесь Бэконом не столько с
точки зрения их содержательной ложности, сколько в свете
отрицательного влияния на формирование
познавательных способностей и устремлений человека.
Перечисление призраков закончено. Бэкон выражает
горячую веру и убеждение, что «они должны быть
опровергнуты и отброшены твердым и торжественным
решением и разум должен быть совершенно освобожден и
очищен от них (курсив наш.—Я. М.)». «Пусть вход в
царство человека, основанное на науках,—страстно
призывает Бэкон своих современников,— будет почти таким
же, как вход в царство небесное, куда никому не дано
войти, не уподобившись детям» (4, 135).
Итак, в учении Бэкона о призраках, предельно про-
80
стом и четком по структуре и исполнению, заключено
важное практическое, конкретно-историческое и
общетеоретическое содержание. Человеческий пафос,
пронизывающий эту концепцию, убежденность и решительность ее
автора порождены тем, что подготовка умов к
объективному, непредвзятому исследованию природы, к
самостоятельному, инициативному социальному действию была
общественной потребностью, четким «социальным
заказом». Эта потребность в XVII в. выражалась в необхо1ди-
мости воспитания не только нового племени ученых,
создателей техники, но и вообще в пропаганде нового
способа жизнедеятельности, иного по сравнению со
средневековьем отношения к унаследованному знанию — ко
всем тем- принципам, которые руководили практической
деятельностью людей или их научными занятиями.
Общий смысл учения о призраках определяется этой
его социальной воспитательной функцией. Перечисление
призраков, признает Бэкон, еще не дает гарантии
движения к истине, такой гарантией может быть только
тщательно разработанное учение о методе. «Но и
перечисление призраков многому служит»: его цель —
««подготовить разум людей для восприятия того, что последует»,
очистить, пригладить и выровнять площадь ума,
«утвердить ум в хорошем положении и благоприятном аспекте»
(4, 178). Итак, функция учения о призраках —
социально-воспитательная. Речь идет о создании новых
общественных и одновременно индивидуальных установок,
новых принципов подхода к изучению и развитию науки,
об обеспечении тех социально-психологических условий,
которые отнюдь не самодостаточны, но в качестве исход-
HbTYHjrrpej^jm^ жрттятрлтлтт.т. :
УСь этом смысле значение теории призраков Бэкона
расширяется далеко за пределы породивших его
конкретно-исторических задач. В нем заключено и
общесоциальное содержание. Нам думается, что Бэкон правильно
перечисляет здесь те опасности, которые угрожали науке
во времена массового поклонения авторитетам, в периоды
особой догматизации знаний и принципов. Прав Бэкон и
в том, что личные, индивидуальные интересы, склонности,
весь строй привычек и устремлений могут оказывать и
оказывают определенное и часто отрицательное влияние
на деятельность данного индивида в науке, а в
некоторой степени — на развитие знания вообще.
81
Бэкон верит в то, что подготовительная
воспитательная работа, «расчищение площади ума», полностью
решается «твердым и торжественным решением» людей,
посвятивших себя науке, выработкой сознательных
установок, а в теоретическом плане — формулированием
типичных предрассудков, перечислением призраков, этим
социально-философским предостережением. Здесь Бэкон
определенно заблуждается. Неполнота и ограниченность
""бэконовской концепции состоит не только в том, что ее
автор сводит социальное влияние к отрицательному,
разрушительному влиянию. (Такая односторонность
возникает, быть может, в результате намеренного сгущения
красок, вызвана пристальным и вполне оправданным
вниманием -к типичным болезням времени, окватогвншм
познавательную деятельность.) Обеспечение предпосылок
для объективного и непредвзятого научного исследования,
воспитание кадров, пригодных для самозабвенной работы
в науке, решается не только и не столько
индивидуальным или социальным внушением. Оно решается
назревшей социальной потребностью, всем комплексом
благоприятных для развития науки экономических,
политических и социально-психологических обстоятельств. В этом
смысле дальнейшее теоретическое развитие
проблематики, четко и определенно намеченной Бэконом,
заключается в подробном выяснении таких условий. Известно,
что исследование социальных условий, экономических и
политических предпосылок, наиболее благоприятных для
развития науки, в современной социологии и философии
только начинается. Тем более значительным выглядит
его предвосхище«'ие в 'созданной еще >в XVII в. теории
призраков Фрэнсиса Бэкона.
§ 2. На путях
«универсального сомнения» и
«врачевания разума»
(Рене Декарт и Бенедикт
Спиноза)
Бэконовская классификация призраков, идолов,
препятствующих истинному познанию, должна была
произвести и в самом деле произвела весьма сильное
впечатление на современников. Картина условий, в которых ре-
82
алы-К) протекало человеческое познание в описываемый
Бэконом исторический период, а также оценка
действительных возможностей, которыми располагал к тому
времени человеческий род и отдельное человеческое
существо,— все это выглядело очень неутешительным. Могло
показаться, что как в самом человеке, так и вне его нет
таких сил, которые могли бы гарантировать познание и
действие, построенное в соответствии с истиной. К
такому крайнему выводу вовсе не хотел склонить сам Бэкон.
Однако в высшей степени скептическая оценка
человеческих сил и возможностей, в том числе и в особенности
возможностей познавательных, пустила в этот период
глубокие корни в мировоззрении современников Бэкона и
Декарта: вновь был возрожден и значительно расширен
в своих выводах и доводах философский скептицизм.
В XVI и XVII bib. последний имел в том числе !и
антисхоластическую направленность, он во многом подготавливал
и подтверждал бэконовскую теорию идолов. Но Бэкон и
Декарт, поддерживая ряд аргументов философов,
стремившихся отстоять мысль о внутренней недостоверности
человеческого познания и построенного на нем действия,
ниспровержению призраков, очистительной функции
сомнения придавали вспомогательное и чисто
предварительное значение. Скептики, говорит Декарт, «сомневаются
ради самого сомнения» (9, 280). Для Декарта же
сомнение было особым методом, которым он рекомендовал
пользоваться не во всех случаях, «а лишь тогда, когда4
мы задаемся целью созерцания истины» (9, 426).
Универсальное сомнение есть специфически философский ме^
тод, метод научного познания, применяемый в особых
целях — для отыскания несомненных основ знания — и
лишь до той поры, пока эти совершенно очевидные
начала и истины не будут обнаружены. «Мое стремление,—
пишет Декарт,— было целиком направлено к тому,
чтобы достичь уверенности, отметая зыбкую почву и песок,
чтобы найти гранит или твердую почву» (9, 280).
Главная задача, которая встала перед великими
философами XVII ib., и была 'отчасти продиктована их
же собственной критической работой, этой
«очистительной» деятельностью, громадный смысл которой
бесспорен,— главная задача состояла все-таки в утверждении
позитивных, действенных основ человеческого
существования и познания как «твердой почвы», «гранитной осно-
83
вы» дальнейшего философствования. Требовалось
отыскать в самом человеке и его познании внутренне
достоверные принципы, найти в его поведении и в его
деятельности такие основы, которые могли бы объяснить не
только смысл и природу заблуждений, зла,
несправедливости, но и понять не менее очевидные достижения
человеческой деятельности, человеческого разума. Путь к
разрешению этой назревшей теоретической задачи, имевшей
одновременно колоссальный практический смысл,
проложили уже Джордано Бруно, Галилей, Бэкон, но в полной
мере с ее выполнением мог связать себя только Декарт.
Для этого требовалось довести до конца, до самого
последнего предела критическую, очистительную работу по
отношению к старому миру (и по отношению к человеку,
этим миром сформированному), что для Декарта реально
означало — здесь его собственные намерения и цели, тем
более выраженные им публично, не совпадали с
действительным значением его деятельности — критику
схоластической идеологии и в особенности философских
принципов теологического мировоззрения. Цель, во имя которой
осуществляется Декартом эта критическая, очистительная
работа, им самим четко формулируется: высвобождение
человеческого разума от всех тех оков и предрассудков,
которыми он обременен. А поскольку человеческий разум,
по мнению Декарта, есть главное в человеке, поэтому «на
первом месте должна стоять забота о снискании его
истинной пищи — мудрости» (9, 413). Но и мудрость,
философское, научное знание, не рассматривается великим
французским мыслителем как самоцель, ей придается, как
мы видели, огромное практическое значение. Таким
образом, критику схоластики, очищение человеческого
разума от вполне конкретных предрассудков, укорененных,
как это хорошо понимает Декарт, в ходе длительного
господства их над индивидами и поколениями, он прямо
связывает с крупнейшей исторической задачей, которая
была задачей времени и выполнение которой выпало на
долю прогрессивной в тот период буржуазии,— с
подготовкой умов, способных подчинить себе действие
природных стихий, умов, способных к созданию новой техники,
к усвоению новых способов деятельности в
изменившихся условиях социального бытия.
Декарт понимает, хотя, естественно, не находит для
выражения этого обстоятельства адекватных теоретиче-
84
ских рамок и формулировок, что очистительная,
критическая работа имеет вполне определенный, исторически
конкретный адресат: она реально обращена к тем людям,
к тем общественным силам, которые подвержены
влиянию призраков, идолов, ложных идей, обмануты,
опутаны паутиной лжи и иллюзий. Защита «естественного
света разума» имела отнюдь не абстрактный смысл: это
была апелляция к здравому смыслу человека — в той мере,
в какой последний противился влиянию идеологических
предрассудков и полагался на свои простые интуиции,
стремясь развить их до уровня отчетливого понимания.
В пределах -гносеологии защита Декартом и его
современниками идеи о том, что «способность правильно судить
и отличать истинное от ложного — что, собственно, и
именуется здравым смыслом или разумом — от природы у
всех людей одинакова» (9, 260), имела вместе с тем
глубокий и определенный социальный смысл: она была
направлена на ниспровержение иерархического принципа
определения человеческих способностей и возможностей,
присущего самой структуре феодального строя и
составлявшего один из устоев его идеологии. Настойчиво
повторяемая Декартом мысль о равенстве исходных
познавательных возможностей человека вполне отвечала
потребностям развивающегося буржуазного общества.
Таким образом, работа сомнения, ниспровержение
призраков имеют позитивный смысл, когда они обращены
к новому человеку, от природы способному к истинному
познанию и деятельности и субъективно
заинтересованному в утверждении новых форм жизни.
Применительно к этому человеку как познающему субъекту обретает
реальный смысл, становится вполне осуществимым
действием универсальное сомнение, рекомендуемое Декартом
в качестве обязательной предпосылки подлинного
философствования, препосылки успешного отыскания истины
в любой области познания и действия, ибо
универсальное сомнение предпринимается как раз во имя такого
человека и его разума. Вот почему требование осуществить
универсальное сомнение реально могло быть адресовано
лишь тем людям, которые не просто обладали здравым
смыслом, еще не окончательно искаженным
господствующими предрассудками, но и могли оценить
необходимость, новаторский смысл, далеко идущее социальное
значение той очистительной идейной борьбы, которой Бэ-
85
кои 'ii Дск-aipT ошолне логично придали достоинство
метода. И это было в значительной степени ясно самим его
создателям.
Объективная социально-историческая обусловленность
всех этих идей Декарта достаточно очевидна, хотя самим
Декартом смысл и содержание новых запросов
общественного развития улавливаются скорее интуитивно. Новый
человек, порожденный всем опытом восходящего
буржуазного общества, этот новый субъект общественного
развития, новый субъект познавательной и научной
практики — действительная опора, «точка отсчета» Декартовых
рассуждений. Декарт, не вполне четко представляя себе,
где и как формируется и действует этот новый
общественный субъект, апеллирует к здравому смыслу, во
многом, впрочем, отражая характерные веяния своей эпохи,
выдвинувшей на первый план непредубежденное
познание и основанные на нем активные действия. Но именно
потому, что Декарт обращается не к своим учителям,
отравленным схоластической догматикой, но к здравому
смыслу, оплодотворенному достижениями новой науки,
он решается на парадоксальную и рискованную на
первый взгляд методологическую операцию. Примыкая к
Бэкону и разделяя в принципе аргументацию и выводы
теории идолов, Декарт идет еще дальше: он требует, хотя и
в качестве временной меры, универсального сомнения,
т. е. сомнения, первоначально распространенного на все
без исключения знания, которыми чв данный момент
располагает человеческий разум.
Сомнение универсально и в другом смысле: его
рекомендуется осуществить всем людям, желающим вступить
на новый путь познания. Правда, по форме Декарт
осторожен. Сомнение есть метод, который он лично считает
целесообразным применить, чтобы достигнуть цели,
поставленной перед его философией. «Я уже давно
подметил, что с первых лет жизни считал истинными
множество ложных мнений и что все, построенное мною
впоследствии на принципах столь ненадежных, должно быть
очень сомнительным и недостоверным. С тех пор я
решил, что если я хочу установить в науках что-нибудь
прочное и постоянное, то мне необходимо хоть раз в
жизни предпринять серьезную попытку отделаться от
всех мнений, принятых мною некогда на веру, и начать
все сначала с самого основания» (9, 335). Однако совер-
86
шенно ясно, что сомнение Декарт считает универсально
необходимым для осуществления предварительной и
подготовительной работы: для отыскания фундаментального
и внутренне достоверного принципа философии. «Все
предшествовавшее философствование и в особенности то
философствование, которое имело своим исходным
пунктом авторитет церкви, Декарт отодвигал в сторону» (7,
257). В более же широком смысле сомнение
рекомендуется для «очищения ума», для его дисциплинирования в
целях движения любого научного исследования к внут^
ренне достоверным исходным принципам.
Общее согласие относительно тех или иных
принципов — вещь совершенно иллюзорная, говорит Декарт
вслед за Бэконом. Цель сомнения, в том числе и в
общепринятых истинах, сомнения, которое может закончиться
восстановлением в правах некоторых из этих
принципов,— воспитание способности к самостоятельному,
творческому мышлению. «Мы никогда, например, не
сделаемся математиками, даже зная наизусть все чужие
доказательства, если наш ум неспособен самостоятельно
разрешать какие бы то ни было проблемы, или философами,
прочтя все сочинения Платона и Аристотеля, но не
будучи в состоянии вынести твердого суждения о данных
вещах, ибо в этих случаях мы увеличим только свои
исторические сведения, но не знания» (9, 85). Дух
осуществляет сомнение, «пользуясь присущей ему свободой»
.(9,330).
В этом смысле учение Декарта о сомнении выполняет
ту же основную функцию, что и теория призраков
Бэкона. Отличие первого, однако, определяется тем, что
Декарт опирается на результаты работы, проделанной
Бэконом, и стремится развить его концепцию дальше.
Социологическое и социально-психологическое учение
Бэкона Декарт продолжает на почве общей теории познания,
вводит в него содержательные гносеологические
координаты. Он ставит вопрос: как именно, с точки зрения
каких содержательных познавательных критериев должно
быть испытано существующее знание? Какие именно
истины, принимаемые за прочные и устойчивые, должны
быть пропущены через очищающий пламень сомнения?
Прежде всего, сомнение, по Декарту, должно быть
продолжено до тех пределов, пока не удастся найти
нечто такое, в существовании чего у нас нет ни малейшего
87
сомнения. Придется отбросить на время даже самые
дорогие нам истины и убеждения, если в них идет речь о
вещах и явлениях, гарантии существования которых
сами эти убеждения не содержат, В этом «сложном и на
первый взгляд абстрактно-философском, чисто
методологическом требовании Декарт и достигает огромной по
своему социально-историческому значению
радикальности: он восстает против самого содержания знаний,
мнений, в которых нас убеждают .«только пример и
обычай» (9, 226). Если Бэкон скорее выявляет
происхождение и отрицательное значение многочисленных
заблуждений, призраков, то Декарт, опираясь в т!о же время на
ряд высказываний Бэкона, требует переосмыслить,
проверить все знания в соответствии с самым главным
критерием: существуют ли те вещи и явления, о которых
идет речь в знаниях и мнениях. Что еще важнее, следует
остановиться на таких знаниях, которые не только
сообщают нам о какой-либо вещи, в том числе и о ее
существовании, но в самих себе содержат гарантию
действительного существования тех предметов, о которых идет речь.
Нельзя не видеть действительных,
(конкретно-исторических социальных причин, которые заставили выдвинуть
такое познавательное правило и придать ему
универсальное методологическое значение. В эпоху, которая сумела
заставить, одних искренне, других лицемерно, выдавать
вымысел за реально существующее, проверка на
действительное существование всего того, о чем говорило мнение
и знание, должна была привести к весьма важным
историческим результатам. Декарт это понимал. «...Мы
привыкли,— пишет он,— во всех прочих вещах различать
сущность от существования, а также можем произвольно
измышлять разные представления о вещах, которые
никогда не существовали или которые, может быть, никогда
существовать не будут...» (9, 433). «Прочие вещи» —
здесь Декарт хочет провести отличие от идеи бога,
совершеннейшего существа, которое мыслилось в то время как
неразрывное единство сущности и существования. Декарт
как будто не посягает на эту идею, как будто бы не
высказывает сомнения в существовании бога. Более того,
он стремится даже развить именно онтологическое
доказательство бытия бога. Однако метод сомнения с его
радикальностью более важен, чем субъективные намерения
философа, особенно в той их части, где они как будто бы
89
связаны с защитой теологии. Правда, и в этих наиболее
«теологических» своих идеях Декарт все равно был
неугоден церкви. Дело было не только в том, что он
признал необходимость подвергнуть догмы теологии суду
разума — для того якобы, чтобы искоренить неверие и
атеизм. Иной раз к этому склонялись и теологи. Декарт
же достигает той грани, которая весьма опасна для
религиозной идеологической догматики. «...Может случиться,—
пишет он,— что, если мы надлежащим образом не
поднимем наш дух до созерцания существа высочайшего
совершенства, мы усомнимся, не является ли идея о нем
одною из тех, которые мы произвольно образуем или
которые возможны, хотя существование не обязательно
входит в их природу» (9, 433). -«Может случиться...» —
такой способ выражения, примененный к богу, никак не
мог понравиться религиозным идеологам, хотя Декарт
обещал им после осуществления универсального
сомнения восстановить во всей ее глубине идею
совершеннейшего существа. Но до той поры, на этом Декарт стоит
твердо, в огне сомнения не может уцелеть и идея бога,
если в самой мысли о боге не содержится гарантии его
существования. Так и приходит Декарт к весьма
радикальному результату, хотя, как он утверждает, только
на предварительном уровне «очищения»: «отбросив,
таким образом, все то, в чем так или иначе мы ашжем
сомневаться, и даже предполагая все это ложным, мы легко
допустим, что нет ни бога, ни неба, ни земли и что даже
у нас самих нет тела...» (9, 428). Сомневаться в
существовании бренного тела было бы можно, но наряду с этим
и на равных основаниях сомневаться в существовании
бога,, пусть даже «временно» и «предварительно»,—всего
этого теология не могла простить Декарту при самых
ревностных заверениях, на которые он не скупился.
В философии Декарта расширение операции сомнения
до уровня универсального, хотя и предварительного,
«негативного» метода, было, бесспорно, связано с социально-
критическим замыслом. Оно позволяло под видом
предварительных, якобы чисто методологических действпй
начертать образ подлинно новаторского отношения ко
всему, что человеком и обществом унаследовано,—того
отношения, которое уже сложилось в действительной
социальной практике и именно здесь было своеобразно
выражено и защищено Декартом. Одновременно здесь была
89
заложена возможность — под видом гипотезы, в
благопристойной форме «как если бы» — взять на вооружение
уже испытанный великими гуманистами метод критики:
социальные и идеологические условия, против которых
шла упорная и не всегда бескровная борьба в области
духа, уподобить атмосфере всеобщей лжи, намеренного
обмана и лицедейства, рассчитанного комедиантства.
«Итак, я предположу, что не всеблагой бог, являющийся
верховным источником истины, но какой-нибудь злой
гений, настолько же обманчивый и хитрый, насколько
могущественный, употребил все свое искусство для того,
чтобы меня обмануть. Я стану думать, что небо, воздух,
земля, цвета, формы, звуки и все остальные внешние
вещи — лишь иллюзии и грезы, которыми он
воспользовался, чтобы расставить сети моему легковерию. Я буду
считать себя не имеющим ни рук, ни глаз, ни тела, ни
крови, не имеющим никаких чувств, но ошибочно
уверенным в обладании всем этим. Я буду упорно
возвращаться к этой мысли, и если посредством этого я и не
буду в силах достигнуть познания какой-нибудь истины,
то все-таки в моей власти будет задержать свое
суждение. Поэтому я стану тщательно остерегаться, чтобы не
поверить какой-либо лжи, и так хорошо подготовлю свой
ум ко всем хитростям этого великого обманщика, что он
при всем своем могуществе и хитрости не сможет мне
ничего внушить» (9, 340). Могущественный обманщик
(«злой гений») и ум, тщательно проверяющий все его
хитрости, ум, .«хорошо подготовленный» и поэтому
неподвластный «внушениям»,— так четко зарисованы здесь
полярные социальные и духовные силы в тот момент их
борьбы, когда на стороне обмана могущество и хитрость,
а на стороне правды непредубежденный разум, скорее
освобождающийся, чем освободившийся из-под власти
теологического гипноза. Так положение дел представляется,
самому Декарту, и это тем более заставляет его, не
склонного к социальным реформам и преобразованиям,
возлагать надежды на способный к универсальному
сомнению разум — разум, который сам, собственным опытом
должен убедиться в существовании (или
несуществовании) всех тех вещей, которые названы, обозначены в
знании или зафиксированы здесь в своих свойствах. Он
сам должен отличить истину от лжи и при этом
достигнуть достоверной для него, очевидной для него истины.
90
Негативная, критическая идея сомнения со всей
строгой логикой опирается на «позитивные» преобразования
и активные стимулы, прогрессивные силы тогдашнего
общественного развития. Философ Декарт, естественно,
особенно настойчиво подчеркивает значение разума и
сознания человека, поскольку последний совершенно
самостоятельно убеждается в существовании или
несуществовании тех вещей, о которых говорит ему мнение,
унаследованное по традиции, или знание, образованное им
самим, но некритически относящееся к собственному
предмету. И все-таки Декарт, говоря о человеке, имеет в
виду не только познающего субъекта (это можно было бы
объяснить особым интересом к проблемам познания), но
человека, наделенного активным и действенным
самосознанием и самоконтролем, человека, подвергающего
самой 'жесткой проверке все унаследованные или
приобретенные знания, доверяющего лишь самоочевидным, са-
модостовериым истинам и исходя из них строящего
систему рассуждений относительно того или иного
предмета. И хотя, как правильно отмечает Гегель, «перевес
имеет в сознании Декарта ставимая им себе цель
добраться до чего-нибудь прочного, объективного, а не
момент субъективности, не требование, чтобы то или
другое положение утверждалось, познавалось, доказывалось
мною», «все же в декартовское сомнение входит также и
этот интерес, ибо я хочу достигнуть этого объективного,
беря исходным пунктом мое мышление; здесь,
следовательно, лежит в основании также и стремление к свободе
(7, 258. Курсив наш.— Я. М.).
В строгом соответствии с этим позитивным
социальным образом и идеалом, впоследствии обоснованным
более четко и адекватно и выраженным в виде буржуазно-
демократической политической идеологии, Декарт
выдвигает требование продолжить сомнение до того пункта в
сознании, где мысль о вещи (явлении, состоянии) будет
заключать в себе гарантию ее существования, очевидную
для каждого индивида. Это требование затем приведет к
превращению «cogito, ergo sum» в исходный принцип
философии.
*Мы видим, сколь отчетливо социальные проблемы
повлияли на формирование теоретических, гносеологических
постулатов. Влияние социально-исторических факторов
мы обнаруживаем не только в общей направленности ме-
Я1
тода сомнения и поисков очевидной истины; не только
здесь дают о себе знать социальные, исторические
причины, вызвавшие к жизни идеи Декарта, и притом
именно в их специфической теоретической форме, в частности
в форме учения о познании. Все учение Декарта о
сомнении и его учение о методе в своеобразной форме
впитывают в себя решающие устремления передовой мысли
того времени; противник, в борьбе с которым
формируется картезианство, в каждом из случаев достаточно
определен. Философские идеи, предложенные в декартовском
учении о познании, представляют ответ на реальные
теоретические трудности, с которыми предстояло справиться
философской мысли, устремленной к созданию нового^
более прогрессивного теоретического сознания и
отчетливо направлявшейся против старого теологического
мировоззрения (правда, в условиях идеологического диктата
церкви и теологии).
Для того чтобы документально доказать это
положение, обратимся к более подробному анализу
декартовского учения о сомнении.
*
«Разрушительная» часть сомнения начинается с
разоблачения иллюзий чувственного познания. В его
результатах предлагается усомниться в первую очередь, хотя
чувственное познание тел обычно считается, напоминает
Декарт, самым легким для познания и поэтому известным
лучше всего другого. Но так ли это?
Декарт приводит различные примеры,
свидетельствующие о возможной иллюзорности чувственных
впечатлений. Напомним, что возможность иллюзии и обмана, по
Декарту, есть достаточное основание для сомнения во
всем типе знания; он хочет отыскать такой род истин,
которые не допускают ни малейшего сомнения и ни одг
ним человеком не могут быть отвергнуты. Между тем
знания, получаемые при посредстве чувств и, главное,
возникающие при безоговорочном доверии к показаниям
органов чувств, допускают множество сомнений в той;
что предмет на самом деле таков, каким он
представляется: ведь чувства вообще могут убеждать нас в
существовании несуществующего предмета или явления, Так1,
мы представляем солнце чрезвычайно малым, напоми-
,92
нает Декарт вслед за Бэконом и Галилеем; нам
свойственно воображать -«множество вещей, между тем как эти
вещи нигде больше не имеются» (9, 427).
Другой аргумент касается сложности и изменчивости,
многообразия предметного мира. Декарт приводит
пример с воском. Мы видим воск и полагаем, что знаем о его
свойствах: он тверд, холоден, гибок и т. д. Но вот мы
подносим воск к огню, и его свойства чудесным образом
изменяются. «Остается ли у меня после этого тот же
самый воск? Надо признаться, что остается: никто в этом
не сомневается, никто не судит иначе». Но что же в
таком случае известно о воске, его сущности, пребывающей
неизменной при смене состояний? Отвечая на этот
вопрос, мы перестаем полагаться на чувственные
впечатления и обращаемся к помощи разума. Следовательно,
само по себе чувственное познание предполагает
возможность, а значит, необходимость сомнения в его
внутренней достоверности. В этом убеждает нас и чувственный
опыт, касающийся собственного тела. Казалось бы, о
своем теле и его состояниях человек знает всего
достовернее. Но Декарт напоминает об иллюзиях, возможных и в
этом, казалось бы, наиболее близком к человеку опыте:
потерявший конечности человек еще длительное время
может ощущать боль в них, иллюзорные ощущения
сновидений могут переживаться как вполне реальные и т. д.
Возможность сомнения и здесь побуждает Декарта
отклонить чувственный опыт и признать его недостоверным.
Рассмотренные идеи Декарта чрезвычайно характерны
для философии: XVII в. и философии нового времени
вообще, во всяком случае для рационалистической ее
тенденции. Критика ограниченностей, присущих
чувственному познанию, приводит к убеждению, что само по себе
чувственное познание без помощи и руководства разума
не способно привести нас к истине.
Чем вызвано столь упорное обращение к
чувственному опыту самому по себе и в то же время его резкая
критика?
Объяснение мы находим, во-первых, в особенностях
конкретно-исторической ситуации. Дело в том, что
превратное, бесконтрольное, не поднимающееся над
ближайшими чувственными впечатлениями познание было
весьма заметным социальным обстоятельством и социальной
проблемой, требующей своего скорейшего разрешения.
93
Здесь объединялась целая совокупность обстоятельств:
идеологический контроль со стороны лиц, как правило,
невежественных, знания и опыт которых не выходили за
пределы ближайших и личных впечатлений; невежество
и суеверие масс, в опыте которых были причудливым
образом смешаны ограниченные, по большей части
эмпирические знания и слепая вера в самые отвлеченные и
фантастические символы; наконец, сюда относится и всплеск
эмпиризма в едва проснувшихся науках о природе,
безудержный культ чувственно наблюдаемого факта, о
котором с таким огорчением писал Бэкон. Множество других
обстоятельств, рассмотрение которых мы здесь
вынуждены опустить, сплетались с перечисленными в единый
результат, дававший на выходе социально значимый,
социально опасный перевес массового и официального
«чувственного» невежества над наукой и разумом. Все это
объективно заставляло Бэкона и Декарта, Спинозу и Гоб-
бса настойчиво подчеркивать зависимость чувств от
разума на путях познания истины. Сюда присоединились и
обстоятельства, связанные с внутренними
теоретическими, мировоззренческими и методологическими
проблемами развития науки, главным образом естествознания, в
рассматриваемый период. Об этих обстоятельствах мы
будем говорить ниже, при характеристике
«положительного» учения о познании.
Опыт науки и философии внес коррективы в
теоретическое, философское понимание чувственного познания
философами и учеными XVII ib. Но с социальной,
социально-психологической, воспитательной точки зрения
оно имело несомненное значение для своего времени.
В дальнейшем, при анализе метода, мы обнаружим
общее методологическое основание для выделения в
философии XVII—XVIII ©в. такого <оа!бстра«та»,К'а!К
«чувственное познание само по себе». Относительно
обособленное существование чувственного познания — это принцип^
из которого исходят даже те мыслители, которые, подобно
Декарту, Лейбницу, Юму, «вдруг» обнаруживают, что по
сути дела нет чувственного познания «самого по себе».
Изолированное же рассмотрение деятельности чувств
неизбежно вызывает критику чувственного опыта,
характерное для данной эпохи сомнение в том, что чувственное
познание сколько-нибудь причастно к выявлению
сущности предмета.
■94
,* *
*
Среди призраков рода, перечисленных Бэконом,
отмечается пагубное влияние на познание, оказываемое
«внушением страстей». Тема «обуздания страстей»,
аффектов — одна из главнейших проблем, занимающих
философов XVII в. В главной своей части она имеет
абстрактно-этическое и социально-психологическое
содержание: Декарт, Спиноза, Гоббс подробнейшим образом
перечисляют, «инвентаризируют», классифицируют
различные виды эмоциональных реакций человека, не упуская
мельчайших оттенков, различают «хорошие» и «дурные»
страсти. Главная цель этих пространных рассуждений —
раскрыть богатейший мир человеческих эмоций и, как
подчеркивает Декарт, научить человека не бояться своих
страстей и управлять ими. Учение о страстях души
входит, таким образом, в общий
гуманистически-воспитательный комплекс, образуемый передовой литературой и
философией того времени. Подготовить человека к
разумному, гуманному общению с другими людьми, научить его
управлять страстями, аффектами во имя собственного
благополучия — вот та вполне позитивная
социально-воспитательная цель, которую ставят перед собой великие
мыслители па заре развития буржуазного общества. Эта
задача решается вкупе с подробнейшим фиксированием
прав и обязанностей граждан государства, с описанием
политического функционирования общества, она
параллельна целям зарождающегося экономического знания.
Поскольку сущность человека — это своеобразная
«разумность», как полагают многие философы XVII в., то
неизбежно возникает вопрос о соотношении
специфически-разумной деятельности и страстей и, в частности,
вопрос о влиянии аффектов на высший тип разумности, на
познание истины. «Слабые души», рассуждает Декарт,
поддаются влиянию страстей, часто противоположных
друг другу, и тем самым отклоняются от истины. В
частности, поэтому следует, подчеркивает он далее,
«научиться управлять своими страстями» (9, 623). Такая страсть,
как удивление, располагает к приобретению знаний. Все
же «мы должны стремиться, насколько возможно,
освободиться от нее» и «заменить ее размышлением и
сосредоточенным вниманием» (9, 632). Особенность
деятельности и познания, подчиненных страстям, связана, по
95
Дежарту, с тем, что предметы не просто и не прямо
действуют на нас, когда вызывают различные страсти, но
«оказывают свое влияние в связи с теми
обстоятельствами, при которых определяется приносимый ими вред или
польза и их значение для нас» (9, 624). А сознание
пользы или вреда, вообще определенный субъективный или
общий интерес, препятствует непредвзятому
рассмотрению предметов. Таково мнение Декарта. Вспомним
Декартово разделение человеческого разума, который
ограничен, и воли, которая практически безгранична, а также
выводимое отсюда различение двух основных видов
мыслительной деятельности («чувствовать, воображать, даже
постигать чисто интеллектуальные вещи — все это лишь
различные виды восприятия, тогда как желать,
испытывать отвращение, утверждать, отрицать, сомневаться —
различные виды воления» [9, 440]). Если познание
рассудком всегда весьма ограничено и потому внутренне
дисциплинировано, то воля, не знающая границ, постоянно
забегает вперед, заставляет человека основываться на
смутных, неясных познаниях и понятиях. Поэтому
разумная деятельность должна, по Декарту, четко отличить
себя от эмоционально-волевой, заинтересованной
(ценностной, как сказали бы мы сегодня) деятельности.
Обосновывая метод сомнения, Декарт вместе с
данными чувственного опыта предлагает исключить все те
познания, которые приобретены под действием страстей:
как правило, предмет в них оценивается не сам по себе,
а с точки зрения того, приятен он нам или неприятен,
прежде всего — полезен или вреден нашему телу. Свое
мнение о возможности обуздания страстей при переходе
к незамутненному страстями познанию Декарт стремится
подтвердить, углубляясь в подробнейшие
физиологические изыскания, пытаясь в конечном счете свести
причины страстей к деятельности особой «мозговой железы»,
материального «седалища души». А отсюда следует, что
можно, развив особый навык управления деятельностью
железы, обуздать аффекты.
Спиноза категорически оспаривает мнение Декарта.
Прежде всего, он никак не может обнаружить
мистического влияния, которое этот «знаменитый человек»
приписывает мозговой железе. Поэтому он решается
утверждать, что власть человека и его разума в обуздании
аффектов далеко не безусловна, из чего, однако, не следует,
96
что со страстями нельзя или не нужно бороться. Но
подлинные средства для сдерживания страстей может
предоставить только человеческий разум. Вот почему
Спиноза в общем примыкает к той части учения Декарта, где
французский философ говорит о возможности и
необходимости разумного управления страстями во имя познания
истины, но оспаривает Декартово утверждение, будто
власть разума -здесь является безусловной. В своем учении
о страстях Спиноза исходит из интересной и правильной
идеи о единстве, тесной связи страстей, эмоциональных
реакций человека и познавательной деятельности. При
этом, по мысли Спинозы, по мере движения познания от
низшего уровня, от унаследованного и
неконтролируемого знания к интуитивному прозрению истины сменяют
друг друга и главные, решающие «страсти»,
сопровождающие познание и влияющие на него. Первый род
познания, из которого исходит Спиноза,— это познание,
основанное на мнении. Под власть мнения человек
подпадает тогда, когда он приобретает знание из частичного
опыта или знает о чем-либо понаслышке. Человек этот
«болтает, подобно попугаю, повторяющему то, чему его
учили» (14, 1, 113). Познанию, основанному на мнении,
коррелятивиы страсти, искажающие познание и
побуждающие к «неистинным» способам присвоения вещи. Это,
например, неправильно укорененная в человеке любовь,
возникающая тем не менее с необходимостью, так как
познание всегда связывает нас с познаваемой вещью, и она
с неизбежностью побуждает нас к усмотрению «добра и
пользы, которые мы наблюдаем в объекте» (14, 1, 121).
В этом случае мы «любим» преходящие вещи, стремимся
связать с ними свою судьбу, а ведь преходящие,
изменяющиеся вещи находятся, по мнению Спинозы, вне
нашей власти. Эти вещи «не подвержены через нас
никакому изменению», и поэтому любовь к изменяющимся
вещам принадлежит к чмелу дурных страстей,
порождаемых мнением. Любовь эта не является подлинной,
потому что она не обеспечивает настоящего единства
человека и вещи, субъекта и объекта. Единство это достигается
лишь в том случае, если вещи производим мы сами, и
«производим согласно с порядком природы или вместе с
природой, часть которой мы составляем» (14, 2, 122).
Иными словами, Спиноза отвергает мнение не из-за
содержания знания, заключенного в нем (ведь оно может
4 H. В. Мотрошилова
97
быть мнением об истине), но из-за несовершенного
способа связи с объектом (пассивная «любовь» к полезной,
нужной вещи), который только и возможен в случае
внешнего восприятия и усвоения чужого знания. Дело не
в том, чтобы усвоить чужое знание, и даже не в том,
чтобы благодаря опыту и проверке 'сделать его «imohim»:
функция ясного и отчетливого познания состоит в
опосредовании активного воздействия на объект, в
достижении подлинной,божественной к<любви»,полного
объединения с предметом, бескорыстного «наслаждения» им.
Объект становится «моим» — вот в чем сущность и
отличие объективного, ясного и отчетливого
интуитивного познания.
Спиноза подробно анализирует «страсти»,
субъективные склонности, воздвигающие препятствия на пути к
такому познанию: ненависть, удовольствие и
неудовольствие, надежду, страх. Они порождаются мнением и
отсутствуют в случае правильного понимания истины.
«Поэтому такие страсти не могут иметь М'еста у человека,
руководимого истинным разумом» (14, 1, 130). Их
причиной, следовательно, не могут быть те или иные
изменения, происходящие в человеческом теле, говорит
Спиноза, возражая Декарту. Страсти, искажающие познание,
вызываются, во-первых, объектом, а во-вторых, тем
несовершенным способом связи познания с объектом,
который имеет место в случае мнения. Истинное познание,
объединяя субъект с объектом, гарантирует
независимость знания и процесса его приобретаиия от
вмешательства субъективных склонностей и страстей. Здесь
Спиноза высказывает, хотя, конечно, еще в совершенно
неразвитой форме, весьма важную для последующей
философии догадку о различных «уровнях» человеческого
познания, о преодолении субъективной ограниченности
познания благодаря возрастанию той меры активности,- с
какой субъект подходит к познанию и изменению, к
«присвоению» объекта. Эти идеи вплетены в качестве
одного из элементов в рассуждения Спинозы о
необходимости «сдерживать» свои страсти, не давать воли
предвзятой ненависти или неудовольствию и т. п.
Итак, учение о «страстях души», препятствующих
познанию, в философии XVII в. выступает в двух формах.
Исходя из общей установки об ограниченности
чувственно-эмоционального опыта, Декарт высказывает категори-
98
ческое убеждение в необходимости и принципиальной
возможности исключить, отвергнуть — на пути к истине —
знания, полученные с помощью органов чувств, или
знания, связанные с эмоциональной заинтересованностью,
со '«страстью».
Спиноза же представляет несколько отличную и
более глубокую точку зрения. Он по сути дела говорит о
неразделимости чувственно-эмоционального опыта и
деятельности разума, хотя и признает при этом возможность
контроля над чувствами и страстями, необходимость
культивирования «благоприятных» для познания страстей и
интересов.
Сомнение, повергнувшее чувственный опыт,
простирается и на ту сферу знания, которую наука этого
времени единодушно считает эталоном истины — на
математическое знание. Аргументация Декарта проста: в
точных науках, как и в обычном жизни, люди не
ограждены от заблуждений. В самом научном доказательстве нет
внутренней гарантии того, что объекты, о которых в них
идет речь, действительно существуют и что они именно
таковы, какими их изображает научная концепция.
«Станем сомневаться и во всем остальном, что прежде
полагали за самое достоверное; даже в математических
доказательствах и их обоснованиях, хотя сами по себе они
достаточно ясны,— ведь ошибаются же некоторые люди,
рассуждая о таких вещах» (9, 427). Представление об
обманутом или вообще брошенном на произвол судьбы,
предоставленном самому себе человеке позволяет
Декарту объяснить столь широко «использованную»
человеческим родом возможность постоянных заблуждений,
создания совершенно фиктивных, ложных понятий не только
в обыденной жизни, но и в науках или так называемых
науках. Понятно, что проблема заблуждений, понятий-
фикций столь остро ставится философией потому, что
современная Декарту эпоха выходит на открытый бой с
системой социально значимых фикций, подкрепляемых,
насколько это возможно, авторитетом науки. В силу
сказанного и данный этап сомнения, безусловно, порожден
конкретными социальными 'Обстоятельствами, ов рамках
которых развертывается в тот период научное
познание.
4*
99
Спиноза относится с пристальным вниманием также к
проблеме «фиктивных, ложных и сомнительных
понятий», преодоление которых он считает первым важным
этапом «очищения и врачевания разума». В отличие от
Декарта причину заблуждений Спиноза не соглашается
усматривать в деятельности бога-обманщика прежде
всего потому, что восстает против идеи антропоморфного
бога, наделенного силой, слабостью, хитростью и
другими вполне человеческими качествами. Поэтому
заблуждения Спиноза целиком относит к человеческому роду.
Спиноза развивает здесь те же идеи о причинах
заблуждений, которые по сути дела были высказаны и Декартом.
Заблуждения, по Декарту, возникают потому, что
человек неправильно пользуется своей волей: «этот
недостаток... заключается в действии, поскольку оно происходит
от меня самого» (9, 378. Курсив наш.—Я. М.).
Конкретные причины возникновения и
существования способности «воображения», порождающей фикции,
Спинозе неясны. И он убеждает своего читателя, что от
выяснения причин можно отвлечься, описывая типы
заблуждений и борясь с ними. «Ибо безразлично, что здесь
понимается, раз мы знаем, что оно есть нечто
неопределенное и такое, отчего душа является пассивной (курсив
наш.—Я. il/.), и вместе с тем знаем, как при помощи
разума освободиться от него» (14, 1, 349). Фиктивные,
ложные и сомнительные понятия неизбежно и постоянно
возникают, по мнению Спинозы, в человеческом познании
и свидетельствуют о пассивном состоянии человеческой
души. Вполне честно признаваясь в том, что причины
ошибочных понятий ему совершенно неясны, Спиноза
хорошо видит: существуют социальные ситуации, в которых
подобные понятия-фикции не только берутся на
вооружение, но и обрастают целым сонмом столь же
иллюзорных концепций. «...После того как душа нечто выдумала
и придала этому свое согласие, она не может мыслить
или представить это иным образом, а также вынуждается
этой выдумкой и другое мыслить таким образом, чтобы
не опровергалась первая выдумка; так эти люди и здесь
вынуждены вследствие своей выдумки допустить те
нелепости, о которых я говорю и изобличать которые
любыми доказательствами мы никогда не устанем» (14, 1,
339-340).
Оставляя в стороне сложный для тогдашней филосо-
100
фии вопрос о причинах возникновения и устойчивого
существования фиктивного понятийного знания, Спиноза
сосредоточивает свой интерес и внимание на изучении
отличительных особенностей ложных идей, а отчасти на
обнаружении того гносеологического механизма,
благодаря которому такое знание формируется. Выполнение
этой задачи, полагает Спиноза, «ограждает наш дух» от
всех тех восприятий и знаний, которые не являются
истинными. Фикция, полагает он, имеет место тогда, когда
необходимость или невозможность вещи не выяснена.
Фикция есть абсолютная противоположность по
отношению к вечным истинам. Но для преодоления или
опровержения фикции достаточно, с точки зрения Спинозы,
познания необходимости. Способность или склонность к
созданию фикций также зависит от уровня, глубины и
объема ясного и отчетливого познания, которым
располагает человек: способность :>та ослабевает по мере
накопления адекватных, т. е. истинных и отчетливых, идей.
Механизм создания фикций таков, что из существующих
уже и притом правильных идей создается конструкция,
не несущая в себе ничего нового для духа, но
употребляющая исходные идеи в несообразных им сочетаниях.
Вот почему для опровержения фиктивных понятий
следует терпеливо двигаться к первым, исходным идеям,
положенным в основание рассуждения: «если только
первая идея не фикция и из нее выводятся все остальные,
то понемногу исчезнет опрометчивость, ведущая к
фикциям» (14, 1, 340). Во избежание фикций требуется
учесть и другие требования, обеспечивающие
методичность и дисциплинированность духа: он не должен
упрощать целостную и сложную вещь, смешивать известное с
неизвестным и т. п. Но главное же — надо распутать
сложный клубок идей, образующих фикцию, выделить в
нем простые идеи, которые по своей природе не могут
быть неправильными и смутными.
В принципе то же относится к ложным и смутным
идеям. Свои рассуждения Спиноза иллюстрирует
примером математических понятий. «Например, для
образования понятия шара я произвольно создаю фиктивную
причину, а именно: что полукруг вращается вокруг центра и
из вращения как бы возникает шар» (14, 2, 344). При
создании математических понятий мы прибегаем к
искусственным, фиктивным вспомогательным идеям. Как же
101
получается, что в результате все-таки образуется научное
понятие? Дело в том, 'отвечает Спиноза, что сами по себе
простые, исходные идеи (полукруга, движения,
количества и т. д.) не могут быть ложными, «поэтому мы можем
без всякого опасения ошибки образовать простые идеи»
(14, 1, 344). Поставив этот весьма интересный и важный
вопрос, Спиноза нападает на след одной трудности,
неизменно имеющей место в истолковании научного познания.
Полукруг, движение, отмечает Спиноза,— устоявшиеся
понятия математического и вообще научного знания,
соответствующие некоторым состояниям объективного
мира и эти состояния фиксирующие. Для образования более
сложных понятий и принципов мы вводим некоторые
вспомогательные конструкции, которые сами по себе
нигде не могут быть обнаружены в природе. Поэтому
фиктивное знание образовалось бы здесь в том случае, если
бы мы действительно поверили в реальное существование
вспомогательной научной конструкции или с
противоположной целью установления принципиально
фантастической природы научного знания тоже искали бы, и
безуспешно, движущийся полукруг в самой природе. Между
тем фикция моментально разрушается, если
вспомогательная конструкция просто ставится в связь с
выполняемой ею функцией: «движение полукруга ложно, когда
оно в голом виде содержится в сознании, но оно же
истинно, если соединяется с понятием шара или с
понятием некоторой причины, определяющей такое движение»
(14, 1, 344—345. Курсив наш.—Я. М.). Таким образом,
«фикции» не только со всей неизбежностью возникают в
человеческом духе, но и выполняют — в научном
познании — определенную полезную роль. Фикциями в
собственном смысле они становятся в случае их
неправильного употребления и истолкования.
Эта глубокая и интересная концепция Спинозы
серьезно анализирует природу заблуждений и ошибок,
возникающих не только в обыденном, но и в научном и
философском познании. Заблуждения ставится в
диалектическую связь с процессом познания истины, не
отделяются от последнего непроходимой гранью. Отсюда
возникает принципиально правильное убеждение,
разделяемое Бэконом, Декартом, Спинозой,—убеждение в том,
что «очищение», «врачевание» разума, его
предварительное освобождение от призраков есть необходимое, но
102
Далеко йе достаточное условие искоренения всех
унаследованных или благоприобретенных заблуждений.
Действительное освобождение от предрассудков, ложных и
сомнительных принципов дает само движение к истине,
рассмотренное и обоснованное в учении о методе, сам
процесс научного исследования. В результате этих
изысканий проблема освобождения от призраков, от
заблуждений более точно детализируется и выясняется Спинозой
и его предшественниками. Есть совершенно конкретные
ложные идеи, явные и исторически обусловленные
фикции, которые опровергаются в ходе развития науки и
культуры, а также благодаря
«очистительно-воспитательной» работе философии. Но существуют причины
заблуждений, коренящиеся в особенностях самого процесса
познания, в трудности достижения истины «конечными» си-)
лами человеческого разума. Они всегда имеют место,
всегда будут существовать; принципиальная возможность
заблуждений и фикций по сути дела неискоренима, что,
разумеется, не отменяет важнейшей задачи философии —
служить делу их преодоления.
* *
*
Следующий весьма тонкий и деликатный шаг
Декартова сомнения касается идеи бога. Мы уже говорили о
нем выше: Декарт считает возможным отбросить идею о
боге, поскольку есть целый ряд людей, сомневающихся
в существовании бога, да и искренне верующий человек
может переживать периоды отчаяния и сомнения. Так
человек освобождается не только от слепой веры в
существование и свойства собственного тела и тел природы, он
не только отбрасывает научные и философские понятия,—
он лишается бога и религиозной догматики как чего-то
исходного, самодостоверного, действительно и несомненно
существующего. «Легко допустить», что «нет ни бога, ни
неба, ни земли и что даже у нас самих нет тела...» (9,
428). На радикальности такой познавательной ситуации,
пусть чисто гипотетической, толыш предварительной и
методической операции строго настаивает Декарт.
Гипотетический и предварительный ее характер ов свою очередь
обусловлен целым рядом обстоятельств. Во-первых, среди
подвергаемых сомнению идей есть немало таких, в
непререкаемую истинность которых сам Декарт свято ве-
103
purr. Это прежде всего математические истины, которые
затем, после достижения интуитивно-очевидной истинной
основы, будут восстановлены в своих правах. Это и
многие практически-шит ейские моральные принципы и уста-
новоки. Наконец Декарт "займется и -скрупулезным
«онтологическим» доказыванием существования бога.
Во-вторых, 'если бы Декарт и считал, что универсальное
сомнение является началом и концом подлинного
философствования, он вряд ли мог поверить в возможность
искоренения при одном только благам 'желании всех те« знаний,
которые, так сказать, с молоком матери всасывал
современный 'ему человек. Даше если бы Декарт был атеистом,
все равно он долокеи был бы считаться с массовой верой
в бога и идеологической властью религии — со всем тем,
что, выражаясь словами самого Декарта, обеспечивает
«реальность» идеи бога. Здесь одна из причин, почему
философия XVII в., как, впрочем, и философия последующих
периодов, много говорит о боге, говорит даже тогда,
когда имеет в виду природу и ее законы, как это делает,
например, Спиноза. В этом случае философы стремятся,
по форме как будто бы говоря о боге, отстоять такое
новое понимание божества, которое позволило бы ему стать
синонимом сущности, всеобщего закона природы.
Руководствуясь этой целью, Спиноза прежде всего разбирает
Декартово предположение о боге-обманщике. Он
полагает, что возлагать на бога «вину» за человеческое
необузданное сомнение можно лишь до тех пор, пока сама
идея бога остается смутной и неотчетливой. Между тем
о боге мы должны знать с такой же точностью и
обстоятельностью, с какой мы знаем о равенстве трех углов
треугольника двум прямым. Правда, Спиноза не столь
уж принципиально противостоит здесь Декарту,
поскольку и последний предполагал необходимость вынесения
принципов теологии и религиозной догматики на суд
разума. Но зато оба они совершенно определенно
противостоят религии как ложной идеологии и
неконтролируемой догматике, справедливо опасавшейся
беспристрастного суда научного разума. Спиноза далее рассуждает еще
более своеобразно. Когда мы приобретаем знание о
треугольнике, мы не знаем наверное, «обманывает ли нас
некий верховный обманщик». Точно так же «мы можем
прийти к такому знанию бога, хотя и не знаем наверное,
существует (курсив наш.—Я. М.) ли некий верховный
104
обманщик» (14, 1, 347). Здесь заключена значительно
более радикальная идея, чем в философии Декарта. Тот
вопрос, который Декарт ставит только гипотетически
(«мог ли бы существовать я сам, имеющий эту идею бога,
в том случае, если бы не было бога?»—[9, 365]) и на
который он в целом отвечает отрицательно, поднимает и
Спиноза. Но последний дает на него утвердительный
ответ. Для рассуждения о боге — в том смысле, разумеется,
в каком понятие это употребляется самим Спинозой,—
вовсе не обязательно знать, существует ли
антропоморфный бог религии, теологии, которому уподобляет Декарт
своего бога-обманщика. Проблема реального
существования бога превращается поэтому в псевдопроблему —
таков вывод, к которому приходит Спиноза. Его критика
антропоморфного бога, составляя важнейшую часть
учения о природе, выполняет вместе с тем важную функцию
в деле «очищения», «врачевания» разума. Спиноза
показывает здесь, как возникает и почему является
ошибочным «очеловечивание» бога (читай: природы).
Философы, с которыми намеревается спорить Спиноза,
«определили бога как существо, которое существует само из
себя, как причину всех вещей, существо всеведущее,
всемогущее, вечное, простое, бесконечное, высшее благо,
бесконечное милосердие и т. д.» (14, 1, 104). Такие
атрибуты, как самостоятельность, самодостаточность
(«причина самого себя»—causa sui), способность быть
причиной всех вещей, Спиноза соглашается признать
существенными свойствами бога. Но если это так, то
совершенно ошибочно, бессмысленно приписывать богу как
всеобщему закону природы (а таково подлинное значение
приведенных выше определений), как закону,
существующему вне человека и управляющему в том числе и
человеческой жизнью, чисто человеческие, более специфические
и частные атрибуты. «Иначе мы были бы принуждены
допустить, что человек также причина самого себя»
(14, 1, 105). А такое допущение, если мы знаем
принципы учения о человеке, типичные для XVII века,
выглядит совершенно невозможным. Поэтому, перечисляя
атрибуты, не присущие богу, Спиноза прежде всего вскрывает
причину их возникновения. «Все предрассудки, на
которые я хочу указать здесь, имеют один источник, именно
тот, что люди предполагают вообще, что все естественные
веши действуют так же, как они сами, ради какой-либо
m
цели» (14, 1, 395). Так Спиноза четко обрисовывает
механизм возникновения и внутреннюю ложность телеоло-
гизма, имманентно присущего религиозной догматике и
религиозной философии. «...Означенное учение о цели,—
категорически заявляет Спиноза,— совершенно извращает
природу» (14, 1, 397). Рассматривая естественные вещи
как «средства для своей пользы», рассуждает далее
Спиноза, люди привыкли усматривать в природе некую
«заботу» об их существовании; они населяют природу
какими-то правителями, «одаренными человеческой свободой».
То же можно сказать о свойственной людям склонности
приписывать природе (или богу) доброту, благостность,
чисто моральное совершенство и т. д. «Итак, мы
видим,—делает важный вывод Спиноза,—что все способы,
какими обыкновенно объясняют природу, составляют
только различные роды воображения и показывают не
природу какой-либо вещи, а лишь состояние
способности воображения. А так как они носят такие названия,
как будто они относятся к вещам, существующим
помимо нашей способности воображения, то и и называю
эти вещи не вещами рассудка (entia rationlis), а
вещами воображения (entia imaginations) » (14, 1, 400 —
401).
Борьба с антропоморфизмом теологии, в которую
вступил Спиноза, началась еще раньше. Четкое понимание
того вреда, который приносят непредвзятому
исследованию природы ссылки на «могущество», «доброту»,
«намерения» бога, мы находим и у Бэкона, и у Декарта, и у
-Галилея. В произведениях последнего особенно прямо
прослеживается связь между опровержением
антропоморфизма и созданием благоприятных исходных
предпосылок для развития точного и конкретного
естественнонаучного знания. Потребности естествознания были, таким
образом, одной из исторических причин, вызвавших к
жизни требование прекратить «очеловечивание» природы
и изучать ее саму по себе. Призвав уделить главное
внимание «изучению великой книги природы», считая такой
анализ «настоящим предметом философии», Галилей, как
впоследствии и Спиноза, должен был нанести удар по
телеологическому антропоморфизму. Однако стремясь
сделать природу в целом и частные природные явления
самостоятельным и первичным объектом философского
размышления, объектом непредвзятого опытного познания.
1Q6
Галилей, как й Спиноза, опирается lia чрезвычайно
Типичное для всех рассматриваемых философских
концепций понимание источников антропоморфистских
заблуждений: таковы уж вообще человеческие чувства, такова
уж вообще человеческая способность воображения...
Неудовлетворительность подобной точки зрения бросается в
глаза именно там, где она выступает в наиболее развитой
и глубокой форме — в философии Спинозы. Объяснение
возникновения антропоморфистских фикций теологии при
помощи якобы заключенной в природе человека
«способности воображения» не решает проблемы. Правда,
указание на то, что для ниспровержения ложного и
сомнительного знания следует изучать не некоторые свойства
вещей или замыслы бога, а чисто человеческую
познавательную способность, имело важное направляющее
значение для последующей философии.
*
'Итак, работа сомнения закончена. Прежнее
познавательное здание разрушено вплоть до самого фундамента.
Точнее, в этом здании и фундаменте последовательно
сняты и «проверены на прочность» все его элементы.
Некоторые из них, явно непригодные, сразу и безоговорочно
отвергнуты. Иные же просто отставлены в сторону до тех
пор, пока в основу философии, а также вообще в основу
человеческой деятельности не будет положен
достоверный исходный принцип, признанный несомненным и
безусловным. Мы хорошо знаем, что для Декарта этим
основанием является принцип: «cogito, ergo sum» — «я
мыслю, следовательно, я существую». «Невзирая на
самые крайние предположения, мы не можем не верить,
что заключение я мыслю, следовательно, я существую
истинно и что оно поэтому есть первое и вернейшее из
всех заключений, представляющееся тому, кто
методически располагает свои мысли» (9, 428). Декарт отнюдь не
утверждает ни того, что человек вообще мыслит именно
так, ни того, что здесь содержится основание для
идеалистических выводов о первичности духа, хотя таковые в
ходе последующей философской борьбы и были сделаны.
Декарт хочет сказать не более того, что он уже сказал:
«cogito» есть исходная мысль для философа,
проверяющего все типы идей на предмет выяснения их внутрен-
107
ней интуитивной самодостоверностй, несомненности. Тот
факт, что в процессе сомнения само состояние сомнения,
т. е. мышления, имеет место и что, далее, из него вполне
определенно можно заключить о существовании
мыслящего, сомневающегося человека, не подлежит уже
никакому сомнению. Итак, гарантия и основа истинного
познания, познания, с несомненностью заключающего о
существовании своего предмета, даются не самим по себе
человеческим телом, не миром вещей и унаследованных
понятий, но мышлением, точнее, своеобразным
самосознанием, осознанием себя как мыслящего и уже в силу
этого как реально существующего. Декарт поясняет, что
в формуле «cogito, ergo sum» мышление подразумевает
деятельность сознания в широком смысле, куда
включается воображение, желание, чувствование. Мышление,
поясняет Декарт, здесь есть синоним моего внутреннего
сознания, благодаря которому я могу быть уверен:
то, что мне кажется, имеет место на самом деле (см. 9,
429).
Смысл идеи Декарта заключается, следовательно, в
том, что фундаментальным действием человека на пути к
познанию истины является не только отбрасывание всего,
что некритически унаследовано из существующего
знания и его мыслительных средств, но и выявление,
использование _той главной исходной^ способности, которая
необходима для движения к истине. Эта главная
способность и есхь...формируемое_.е£о.__эпохой, социальным
развитием стимулируемое самостоятельное мышление, уме-
ииеГ человека при_ помощи'""'собствещшх мыслительных
чусилий устанавливать существование j/L^'jäecjT^ecTBöBSi--
нйе вещи, а., затем и познавать ' ее сущность. Итак,
Декарт не случайно отказывается придавать принципу
«cogito» некоторый ««онтологический» смысл. «Сказав, что
положение я мыслю, следовательно, я существую
является первым и наиболее достоверным, представляющимся
всякому, кто методически располагает свои мысли, я не
отрицал тем самым надобности знать еще до этого, что
такое мышление, достоверность, существование, не
отрицал, что для того, чтобы мыслить, надо существовать
(курсив наш.—Я. М.), и тому подобное; но ввиду того
что это понятия настолько простые, что сами по себе не
дают нам познания никакой существующей вещи, я и
рассудил их здесь не перечислять» (9, 429—430). Это
168
очень важное признание. Декарт не отрицает того, что
для осуществления процесса мышления надо
существовать. Но в утверждении этой весьма простой идеи он но
видит ничего поучительного, принципиально значимого
для проверки существования или несуществования вещей»
Говоря о примате существования, мы высказываем
тривиальную, а не основополагающую идею. Подчеркивая
первостепенное значение способности мышления,
контролирующей существование, мы открываем путь к активным
и самостоятельным поискам истины. Мы задаемся не
вопросом о том, существует ли человек (это достаточно
очевидно), но стремимся отыскать внутреннюю гарантию
всяких утверждений о существовании или
несуществовании вещи. Речь идет о поисках активной и
контролирующей силы, и таковой, по мысли Декарта, оказывается
существование, но не само по себе, а лишь поскольку
оно руководствуется мышлением, активным и
самостоятельным '«внутренним сознанием».
Нетрудно видеть, что декартовский принцип «cogitö»
обязан своим происхождением эпохе, заинтересованной в
воспитании активного, инициативного, самостоятельно
мыслящего индивида. Рассматриваемая концепция
Декарта является продолжением и завершением теории
человека, созданной передовыми философами XVII в.—
теории, провозгласившей сущностью человека разум,
активность, деятельность. В декартовском учении о
сомнении есть еще один важный оттенок, возникновение
которого обусловлено специфическим историческим
состоянием тогдашней общественной практики. В соответствии с
тем что капиталистический строй уже завоевал право на
существование, стал общественной реальностью,
познающий субъект Декарта занят уже не просто утверждением
существования, реальности мыслимой вещи. Но в той
мере, в какой дальнейшее развитие капитализма зависело от
внедрения контроля, расчета, организации, а
одновременно и инициативы индивида — всего того, что было
связано с рассудком,— постольку и в философии все более
активно подчеркивается зависимость существования от
мышления, от рассудочной деятельности, от
самосознания. Только при оценке «oogito» как принципа
абстрактно-философского и притом онтологического может
открываться путь к идеализму. Нам представляется, что
необходимо брать принцип «cogito» в тесной связи со всей
109
Tooplii'ii coMiiciimi, видеть его реальную социальную обус^
лошншность и общественно-историческое значение.
Принцип «cogito, ergo sum» есть связующее звено
между «очистительным», «разрушительным» учением о
сомнении и между той частью теории познания, которая
направлена на выявление сущности, внутренне
достоверных принципов познавательной деятельности, правил
научного метода.
К рассмотрению последней мы и переходим.
ГЛАВА V
СРЕДИ ПАРАДОКСОВ
«ОЧИЩЕННОГО РАЗУМА»
Человеческий разум
проведен наконец через горнило «очищения»: разрушена вера
в авторитеты, в унаследованные знания, в достоверность
чувств; он освобожден от «конечности», вырван из
социальных, исторических связей. В результате между
сущностью природы и разумом как будто бы не осталось
никаких посредников. Сняты, устранены все внешние
помехи и препятствия.
Первую задачу философии, теории познания,
направленную на объяснение «очищенного» разума, четко
формулирует Декарт: «Для того чтобы достичь познания
вещей, нужно рассмотреть только два рода объектов, а
именно: нас, познающих, и сами подлежащие познанию
вещи (курсив наш.—Я. М.)». И далее он более подробно
расшифровывает, что значит в данной формуле |«мы,
познающие»: это объяснение того, «что такое человеческий
дух, что такое тело, как первый сообщается с последним,
каковы в целом способности, служащие приобретению
познаний, и как они все действуют...» (9, 120; 121). Итак,
очищенный разум имеет довольно определенный объем:
это не какой-нибудь магический, нечеловеческий,
неограниченный разум, действующий помимо индивида, но
именно «дух» человека, т. е. совокупность так или иначе
связанных с его телом познавательных способностей, а
также цепь познавательных действий, осуществляемых
при помощи этих способностей. В данной связи возни-
\\\
каст вопрос, велики или малы познавательные
возможности: человека перед лицом поистине безграничных
задач познания, как они соотносятся с «бесконечным», т. е.
божественным разумом. Но в целом же речь идет о более
конкретном, подробном описании, выявлении форм и
возможностей человеческого познавательного опыта, точнее,
'того познания, которое может осуществляться и
осуществляется каждым индивидуальным субъектом.
И вторая задача теории познания: предложить учение
о методе, «само искусство Истолкования Природы» (4,
193), которое столь родственно непредубежденной
'«природной силе ума», что вырабатывается им стихийно. Но
философия должна дать уму, «освобожденному от всех
препятствий» (Бэкон), учение о методе в виде
сознательно используемых, четких правил. «Под методом же,—
говорит Декарт,— я разумею точные и простые правила
(курсив наш.—Я. М.)у строгое соблюдение которых
всегда препятствует принятию ложного за истинное и, без
излишней траты умственных сил, но постепенно и
непрерывно увеличивая знания, способствует тому, что ум
достигает истинного познания всего, что ему доступно»
(9, 89). Метод, отданный в руки человека с
непредубежденным, очищенным разумом, поистине всемогущ: он
гарантирует, при строгом его соблюдении, познание
истины. Учение о методе, по мысли великих философов
XVII в., является новой логикой, существенно
отличающейся от обычной школьной, схоластической
формальной логики. Если последняя, указывает Бэкон, при
помощи тонких ухищрений улавливает «отвлеченности»
вещей, то первая, наоборот, берет ум в его связи с вещами,
именно для того чтобы человек умел открывать
«свойства и действия тел и их определенные в материи законы»
(4, 366).
Главный смысл, основное содержание
«положительного» учения о познании по сути дела исчерпывается
выполнением этих двух задач. И познавательные
способности, и правила метода предстают здесь как объекты
исследования абстрактной теории познания, уже
оставившей позади конкретно-исторические, психологические,
ценностные, словом, общественные и индивидуальные
факторы. В гносеологическое царство истины им вход
закрыт: здесь формулируются всегда значимые правила
метода, как будто выявляющиеся из постоянного отноще-
Ш
ния вещей природы и человеческого ума, а также
перечисляются, изучаются познавательные способности и
познавательные действия, всегда обнаруживаемые и
совершаемые индивидом. Вся вакханалия исторического опыта
разыгрывается где-то на заднем фоне истинного
познания, !«сердцевина» которого подобна нетленному
божеству, никак не изменяющемуся под действием
человеческого разрушительного огня.
И субъект познания, здесь рассматриваемый, как будто
оказывается абстрактным человеческим существом,
которое не участвует в реальном историческом действии, не
обладает земными страстями и предубеждениями, не
подчиняется велениям своего тела: перед нами своего рода
«познавательная машина», всегда готовая к активному
действию и совершающая его в соответствии с
заложенными в нее способностями и в соответствии с заранее
выявленными правилами метода.
Таково весьма распространенное представление о
теории познания (о познающем субъекте и методе, в
частности) крупнейших философов XVII в. Казалось бы,
здесь мы должны поставить точку и закончить наш
анализ тех идей философов XVII века, которые имеют
прямое или косвенное отношение к проблеме социальной
сущности и социальной обусловленности познания. Нонам
представляется, что дело обстоит сложнее.
Философы XVII в., сознательные сторонники учения
об очищении разума, стремившиеся в положительной
части теории познания снять вопрос о зависимости
познающего индивида от общества, столкнулись с
трудностями и парадоксами. Эти последние обнаружили, по
крайней мере для последующей, более разработанной
философии, неустраиимость самой проблемы социальной
сущности познания.
:Мы начнем с учения о методе, ибо здесь наиболее
четко очерчиваются связанные с методом
конкретно-исторические рамки, определившие в том числе и
специфический подход к анализу познания.
§ 1. Во всеоружии
метафизического метода,
в плену его
односторонности
Социально-историческая обусловленность
метафизического метода не подлежит сомнению, она давно уже
выяснена в марксистской литературе. Мы хотим, во-первых,
подробно охарактеризовать специфическую форму
метафизического метода, поставить вопрос о том, насколько
сознательно и четко выражалась его специфика теми
мыслителями, которые практически применяли его в
конкретных исследованиях и формулировали его общие
требования в философских работах. Во-вторых, мы
постараемся показать, что исторически данные, ограниченные
/условия и возможности научного исследования были
особым социально-историческим фактором, внутренним
образом обусловившим и сам метод, эту «реальность»
научного опыта, и философское учение о методе.
Наиболее четко особенности метода, его требования
выражены в работах Бэкона, Декарта, Гоббса.
Первое требование: отправляясь от мыс лот, от
твердого убеждения в единстве, целостности природного
универсума, в существовании единой всеобщей
(«божественной») закономерности, управляющей всеми телами и
всеми процессами, философы XVII столетия тем не менее
видят главную свою задачу в «разложении»,
«раздроблении» природы, «обособлении», «отдельном» изучении
конкретных тел и процессов, а также в «раздельном»
описании и анализе внешнего облика телесной, материальной
природы, с одной стороны, и ее закона—с другой.
«Следует,—пишет Бэкон,—совершать разложение и
разделение природы, конечно, не огнем, но разумом, который
есть как бы божественный огонь» (4, 234). Бэкон
выступает против тех людей, чей разум «пленен и опутан
привычкой, кажущейся целостностью вещей и обычными
мнениями» (4, 235), кто не видит настоятельной (мы
скажем: исторической) необходимости, в том числе во
имя созерцания целого, единого, расчленить целостную
картину природы, целостный образ вещи и т. д.
Что Бэкон сознательно усматривает в рассечении и
разделении природы, в обособлении специфических форм
и отдельных частей временную, чисто методическую
Melt'*
ру, видно из следующих рассуждений великого
английского мыслителя. Он понимает, например, что переход от
одного, по необходимости ограниченного, этапа познания
к другому есть особое качество человека, вытекающее из
его конечности, т. е. по сути дела историчности.
«...Только богу (подателю и творцу Формы) или, может быть,
ангелам и высшим существам свойственно немедленно
познавать формы в положительных суждениях от
первого же из созерцания. Но это, конечно, выше человека,
которому только и дозволено следовать сначала чере-з
отрицательное и на последнем месте завершать в
Положительном после всякого рода исключений» (4, 232—234).
И другой довод. Бэкон категорически предостерегает
против того, чтобы временное и необходимое внимание к
частностям, обособленным от целого, превратилось в
окостеневший способ миросозерцания. .«...Здесь должно
тщательно остерегаться того, чтобы человеческий разум,
открыв многие из этих частных форм и установив отсюда
части и разделения исследуемой природы, не успокоился
на этом совершенно и не упустил приступить к
подобающему открытию большой Формы, чтобы он, придя к
предубеждению, что природа в самых корнях своих
многообразна и разделена, не отверг дальнейшее объединение
природы как вещь излишней тонкости и склоняющуюся
к чистой отвлеченности» (4, 255). Как мы знаем, тревога
Бэкона была вполне оправданной, его опасения сбылись:
исторические особенности и потребности данного этапа
последовательного развития, восхождения человеческого
познания были превращены в «вечный», «безусловный»
взгляд на мир. Но сами философы, выявившие,
описавшие, сформулировавшие данный метод как
специфический способ работы современной им науки, не вполне
были причастны к его абсолютизации и к догматическому
превращению в метафизическую картину мира.
Нельзя ли и человеку »«сразу», «с самого начала», как
бы единым взором, не нарушая целостности природы,
ухватить, и притом в «положительной» форме, «скрытые
сущности» вещей и явлений? Этот вопрос Бэкон ставит и
дает на него категорический ответ: к сожалению, человек
такой способностью не обладает. «Перешагивая» через
этап расчленения, человек неизбежно производит
«призрачные, сомнительные и плохо определенные понятия и
аксиомы, которые надо будет ежедневно исправлять, если
115
Tojrt.Ko iuî предпочитать (но обычаю схоластов) сражаться
на ложное» (4, 233).
Второе требование метода, конкретизирующее
специфику самого расчленения, гласит: расчленение не есть
самоцель, но средство для выделения наиболее простого,
наиболее легкого. Бэкон характеризует данное
требование в двух его смыслах. Во-первых, единая, целостная
вещь должна быть разложена на «простые природы», а
затем выведена из них (например, «простые природы»
золота — его желтизна, ковкость и т. д.). Во-вторых,
предметом рассмотрения должны стать простые, «конкретные
тела, как они открываются в природе в ее обычном
течении». «...Эти исследования,— поясняет далее Бэкон,—
относятся к естествам слитым — или собранным в одном
построении, и здесь рассматриваются как бы частные и
особые навыки природы, а не основные и общие законы,
которые образуют формы» (4, 201; 202). Итак,
расчленение целостной природы восходит, с одной стороны, к
простым качествам или свойствам тел, а с другой стороны,
к самим этим конкретным целостностям («слитым
естествам») — к отдельным видам природных тел. Этой
направленности метода Бэкон и Декарт придают особое
значение, особый практический, жизненный смысл. «...Чем
больше исследование склоняется к простым природам,
тем более все будет ясно и очевидно, ибо исследование
переходит от многообразного к простому, от
несоизмеримого к соизмеримому, от невнятного к учитываемому, от
бесконечного и смутного — к конечному и
определенному...» (4, 206).
Декарт поясняет это правило, которое, по его
мнению, содержит в себе «главный секрет метода», при
помощи понятий «абсолютного» и «относительного».
«Абсолютным,—говорит Декарт,—я называю ©се, что
содержит в -себе искомую ясность и простоту, например,
все, что рассматривают как независимое, опричину,
простое, всеобщее, единое, равное, подобное, прямое и т. д.
Я считаю, что абсолютное является также самым -простым
и легким и что им надлежит пользоваться при решении
всех вопросов» (9, 96). Относительное — это то, что имеет
с абсолютным общую природу и может быть из него
выведено (зависимое, следствие, сложное, множественное,
неравное и т. д.). «Именно в неустанном искании самого
абсолютного,— продолжает Декарт,— заключается весь
116
секрет метода, ибо некоторые вещи мажутся более
абсолютными с одной точки зрения, чем другие:
рассматриваемые же иначе, они оказываются более относительными.
Так, например, всеобщее, разумеется, более абсолютно,
чем частное, потому что оно обладает более простой
природой, но его же можно назвать и более относительным,
ибо оно нуждается для своего существования в
единичных вещах, и т. д.» (9, 97). Итак, поиски наиболее
простого (по терминологии Декарта, самого абсолютного), т. е.
наименее зависимого,— вот первая и ближайшая цель
рассечения природы, разложения целостной картины. Из
простых основ и начал затем хотят «сложить» целое и
единое.
Уже из приведенных выше формулировок Бэкона и
Декарта становится ясно, сколь большое значение в
выборе наиболее простого они отводят точке отсчета, т. е.
специфической и временной цели, задаче исследования.
«Например, если мы рассматриваем отдельные предметы,
то вид представляет собой нечто абсолютное, если же
рассматриваем род, то вид становится относительным; для
измеримых вещей абсолютно протяжение, для
протяжения—длина и т. д.» (9, 97). Несмотря на то что
причина и следствие являются коррелятами, подчеркивает
Декарт, мы вынуждены отделить их друг от друга: «если
мы хотим понять действие, то должны сначала понять
причину, а не наоборот» (9, 97—98). Декарт сам
признает, что очень маото есть таких простых и ясных вещей,
которые могут быть интуитивно постигнуты с первого
взгляда; стало быть, надлежит тщательно разыскивать те
вещи и явления, которые являются «простейшими в
каждом ряде». Это уточнение весьма важно: мы видим
отсюда, что философы XVII в. осознают вое те сложности,
которые неизбежно возникают при попытке следовать
правилу отыскания самого простого. То, что будет признано
простым, зависит, и это сознают Бэкон, Декарт, Гоббс, от
особого в каждом конкретном случае или от
специфического для целой группы случаев поворота, акцента
исследования. Вот почему философы XVII в., выдвинув
принцип простоты и положив его в основу метода, затем
разъясняют, что именно они имеют в виду в каждом случае—
в случае анализа природных тел, в пределах изучения
человека и его познания и т. д. Они вынуждены
конкретизировать далее и общий методологический смысл принципа
117
II рос/готы, тем более что они хотят й в данном вопросе
решительно противопоставить науку безудержному
эмпиризму, изображающему простым всякое отдельное, частное,
конкретное.
Третье требование метода. Поиски простых начал,
простых природ, поясняет Бэкон, вовсе не означают, что
речь идет о конкретных материальных явлениях или
просто о частных телах, об их конкретных частицах. Задача
и цель науки .значительно сложнее: следует «открывать
форму данной природы, или истинное отличие, или
производящую природу, или источник происхождения (ибо
таковы имеющиеся у нас слова, более всего
приближающиеся к обозначению этой цели)» (4, 197). Речь идет,
собственно, об открытии «закона и его разделов» (это
содержание и вкладывает Бэкон в понятие «формы»), но
такого закона, который .мог служить «основанием как
знанию, так и деятельности». Но если простое есть
одновременно закон, сущность, «форма» (и только поэтому оно
является абсолютным, т. е. основой для понимания и
объяснения относительного), то оно не совпадает с
реальным расчленением предмета: оно есть особое
мыслительное, интеллектуальное «рассечение». Вот как описывает
эту проблемную необходимость — и трудность!—Декарт:
«...если, например, .мы рассмотрим какое-нибудь тело,
обладающее протяжением и фигурой, то мы без труда
признаем, что оно само по себе есть нечто единое и простое
и в этом смысле его нельзя считать составленным из
телесности, протяжения и фитуры как частей, которые
реально никогда не существуют в отдельности. Но по
отношению к нашему интеллекту мы считаем данное тело
составленным из этих трех естеств, ибо мы мыслим
каждое из них в отдельности прежде, чем будем иметь
возможность говорить о том, что они все находятся в одной
и той же вещи» (9, '126—127. Курсив наш.— H. М.),
Высоко оценивая необходимость реального
эмпирического исследования, владеющего различными способами
разложения и обнаруживающего неоднородность целого,
признавая, что «необходимо разделение и разложение
тел», Бэкон вместе с тем требует решительного перехода
«от Вулкана к Минерве», т. е. от простого применения
огня к употреблению разума и мудрости. Но как же
предотвратить опасность, исходящую от лавины
эмпирических опытов? Как перекинуть мостик от эмпирического
118
к философскому и -вообще теоретическому «рассечению»
природы? Этот вопрос »серьезно занимает Бэкона и
Декарта. (Бэкон в исследовании проблемы особенно
скрупулезен и тщателен.) Отсюда возникает еще одно
принципиально важное для понимания метода требование.
Четвертое требование. Необходимо, подчеркивает
Декарт, «придерживаться определенного порядка мышления
(курсив наш.— H. М.), начиная с предметов наиболее
простых и наиболее легко познаваемых и восходя
постепенно к познанию наиболее сложного, предполагая
порядок даже и там, где объекты мышления вовсе не даны в
их естественной связи». И затем уточняет: «Составлять
всегда перечни столь полные и обзоры столь общие,
чтобы была уверенность в отсутствии упущений» (9, 272).
Что касается Бэкона, то он выдвигает аналогичное
требование, хотя несколько иначе и в более общей форме его
выражает. «Прежде всего,—пишет он,—мы должны
подготовить достаточную и хорошую Естественную и
Опытную Историю, которая есть основа дела» (4, 207). Иными
словами, мы должны тщательно суммировать, перечислить
все то, что говорит природа разуму, «предоставленному
себе, движимому самим собой», но уже в ходе
перечисления, предоставления разуму примеров необходимо
следовать некоторым методологическим правилам и
принципам, которые заставят эмпирическое исследование
постепенно превратиться в выведение форм, в истинное
истолкование природы.
*
*
До сих пор мы пытались выявить главные особенности
метафизическото метода, как они были осознаны и
сформулированы Бэконом, Декартом, Гоббсом. Мы привели
лишь некоторые высказывания последних, которые
предупреждают о временном и относительном характере
некоторых методологических операций. Здесь мы
находим неразвитую еще догадку о социально-практической
обусловленности и исторической относительности метода
в той конкретной его форме, которая сознательно
использовалась и -разрабатывалась мыслителями и учеными
XVII в.
Ниже основное внимание будет уделено вопросу об
\Щ
объоктинпом социально-историческом происхождении,
исторической функции и историческом 'содержании мета-
ф изического метода.
Когда Бэкон и Декарт, обосновывая необходимость
расчленения природы и обособления частного, говорят, что
человек не бог и потому не видит истину «сразу», «с
самого начала», «единым взором», они отмечают
несомненный факт. Человек и общество лишь постепенно
набирают силы для проникновения в тайны природы, и этот
исторический процесс никогда не завершается. На
каждом специфическом этапе истории человек знает лишь
часть истины, относительную по сравнению с тем идеалом
абсолютного знания, к которому он неуклонно стремится.
Но если принять во внимание этот факт, сегодня
'совершенно бесспорный, то приходится признать, что и
результаты познавательного процесса, и сам ход познания
определяются в каждый данный исторический момент не
только объективными законами, объективными
процессами природы, но и объективными формами исторической
реальности.
Общество и его история «задают» человеку той или
иной эпохи, науке этого периода некоторые объективные
познавательные «координаты», «точки отсчета»,
пренебречь которыми индивид не может. Они являются для
данного челшека такими же могущественными, от него не
■зависящими факторами, как и законы самой природы.
Вот почему эта «объективность субъективного» подчас
выступает для самого наблюдателя как некое вечное, ие-
историческое обстоятельство. По сути дела об этом хотел
сказать в «Метафизических размышлениях» Декарт, кот-
да он сделал столь удивившее материалиста Гоббса, но для
него «понятное само собой» заявление: идеи,
представляющие субстанции, т. е. говорящие о сущности
материального и духовного, «суть несомненно нечто большее и
содержат в себе, так сказать, больше объективной
реальности (курсив наш.— Н. М.)у то есть иричастны через
представ л ение большим степеням бытия и совершенства,
чем те, которые представляют мне только модусы или
акциденции» (9, 358). Это историческое свидетельство об
историческом факте, а не «онтологическое» утверждение,
как полагал Гсббс и как думал, по-видимому, сам Декарт.
Для той эпохи метафизическое, механистическое
представление о сущности материи и было более «реальным» фак-
Ш
тором, чем ее — в самом .деле реальная — физическая
разнокачествентаость, ее разнообразные «акциденции».
Какими же были социальные обстоятельства,
внутренним образом обусловливавшие познание :и объяснявшие
как наличие, так и само содержание метафизического
метода? Они многообразны, сами имеют определенные
социально-экономические корни, их можно суммировать
следующим образом. На заре нового времени наука оказалась
перед необходимостью в описании и изучении природы
начать... с самого начала. Эпоха раннего капитализма
предъявила науке четкое требование: добыть конкретные
и общетеоретические знания, располагая «которыми можно
было бы строить машины и управлять человеком с его
неизмеримо расширившимися возможностями и
запросами. Применение знаний возможно было только в том
случае, если они были непредвзятыми, объективными,
извлеченными из самой природы. Перед лицом этих
требований оказывался явно непригодным, абсолютно
дискредитировался такой способ мышления, такой метод
объяснения природы, когда догматы веры определяли и
предваряли ©се высказывания о природе и человеке. Из всего
арсенала средневековой «науки» смогли уцелеть и
выдержать проверку лишь немногие, главным образом
математические или медицинские знания, т. е. знания заведомо
«абстрактные», «неидеологические» или, наоборот,
совершенно конкретные, прагматические рецепты, также по
видимости не посягавшие на обоснование общих принципов.
Требовалось ниспровергнуть причудливое здание
схоластической мудрости. Мы видели, сколь сознательно
выполняли мыслители XVII века выпавшую на их долю
конкретную историческую функцию.
Осознавали ли Бэкон и Декарт, что речь идет о
начальном этапе развития положительной науки? Видели
ли они различие между дотеоретическим этапом
накопления эмпирических сведений и собственно научным
анализом? Бесспорно. Но ведь именно исторические
особенности данного периода в развитии науки, вызванные в
свою очередь специфическим уровнем
социально-экономического развития, породили метафизический метод. А для
философии последний был одновременно и способом
мышления, и реальным объектом исследования. Значит, и в той
и в другой форме он был социально и исторически
обусловленным.
121
Il 'самом деле, поскольку наука только начиналась,
Приходилось выполнять одновременно две задачи: 1)
накапливать факты, эмпирические сведения, осуществлять
все новые и новые опыты, «дробить» природу все дальше
и дальше в самом конкретном, «материальном» смысле
этого слова; 2) проникать в сущность исследуемых
явлений, рассекать их не просто на наиболее простые, но
существенно важные для них части. Метафизический
метод, как он 'был выше описан, подразумевает
необходимость опытного исследования и предлагает для него
особые правила. Эти правила: составлять наиболее полные
перечни явлений, принадлежащих к данному типу,
обнаруживать степени присутствия или отсутствия
исследуемого качества (например, теплоты) в различных телах
или явлениях природы. Весьма подробно суммировал эти
правила Фрэнсис Бэкон в своем учении о «Примерах,
предоставляемых разуму». Прежде всего Бэкон
предупреждает, что собрание примеров «должно быть
образовано исторически без преждевременного рассмотрения
или каких-либо чрезмерных тонкостей» (4, 207—208).
G самого начала дается свод примеров (наиболее
полный), которые говорят о присутствии данного качества
или '«простой природы». Далее, наоборот, собираются
«примеры отсутствия». Затем дается «таблица степеней»
и т. д. Здесь Бэкон, между прочим, замечает, что при
всей опасности эмпиризма «мы бедны в истории»: ияог^
да приходится, с сожалением признается английский
мыслитель, на место проверенной истории и несомненных
примеров ставить ходячие мнения или констатировать
необходимость проведения дальнейших опытов.
«Существенное положение и значение Бэкона в истории науки
нового времени,—говорит Фейербах,—в общем
определяется тем, что опыт, который прежде, не имея
поддержки сверху, был лишь делом случая и зависел от
случайной особенности и индивидуальной склонности отдельных
лиц, руководивших историей и мышлением,—этот опыт
он превратил в неизбежную необходимость, в дело
философии, в сам принцип науки» (17, 1, 92).
Итак, важная задача эмпирического наблюдения за
природой, ее «испытания огнем» остается. Однако
главное внимание философы XVII в. уделяют страстному
обоснованию потребностей и целей научного, теоретического
объяснения, пусть даже не 'всегда возможного в его под-.
122
линном виде. И в этом колоссальное значение
философской мысли для развития наук, для стимулирования
естествознания. Не только потому, что Декарт и Лейбниц
■стаяли на переднем крае развития современного им
-естествознания, но и потому, что они как философы толкали
науки о природе к глубокому теоретическому поиску, об
этих мыслителях можно сказать, что они опережали слою
эпоху, руководствуясь с то же время наиболее важными
ее возможностями. Поэтому философов XVII в. и
нельзя понять, принимая во внимание только конкретные
исторические события, конкретное состояние науки: их
идеи испытали на себе влияние самого смысла социальных
изменений, они впитали наиболее существенные, пусть
еще не реализовавшиеся в их время потребности новой
науки, которые не утрачивают своего значения на
протяжении весьма обширной, исчисляемой целыми
столетиями исторической эпохи. Вот почему в период, когда
синтез явно отступал назад перед потребностями
«рассечения», анализа, Бэкон и Декарт не устают напоминать о
принципиальном единстве природы, время научного и
диалектически-^философского объяснения которого было
еще впереди. Правда, общий взгляд на единство нерас-
члененной природы не был и далеко позади. Поэтому
справедливо замечание Фейербаха, что Бэкон в отличие
от Декарта еще направляет свое внимание «на качество
вещей, стремясь понять вещи в их специфическом
качественном бытии и жизни» (17, 1, 97). И хотя Бэкон требует
перейти от общего созерцания природы, свойственного
античности, к изучению отдельных качеств, к их
количественному определению, все же у него, как образно
заметил Маркс, материя еще «улыбается своим
поэтически-чувственным блеском всему человеку» (2, 2, 143).
Наиболее характерной тенденцией философии XVII в.
является, однако, сознательный отход от
качественно-определенной картины мира, противопоставление явлений и
глубоко скрытой сущности. Философы XVII в. достаточно
определенно говорят об этой общей тенденции научного
знания: отыскиваемые ею «сущности», «законы» заведомо
не тождественны тому, что Бэкон называет «осязаемой
сущностью» тел. Правда, наука исследует и «осязаемую
сущность» (волокна ткани, ее поры и т. д.). Но главное,
что от нее требуется,—выявить «скрытую сущность»,
«форму», «закон». И хотя здесь как будто выражена об-
123
щая, пenipсходящая заповедь науки, ее понимание и
реализация зависят от выявления того, какие именно
свойства (тел, человека и т. д.) действительно считались в то
время сущностью, законом.
Посмотрим, как обстоит дело с анализом тел. Как
отыскиваются 'Существенные свойства тел, «телесная
субстанция»? Об этом подробно рассказывает Декарт. Наблюдая и
сравнивая реальные тела, мы сталкиваемся с такими их
осязаемыми свойствами, как твердость, вес, окрашенность
и т. д., т. е. со свойствами, которые непосредственно
фиксируются чувствами. Но здесь сразу возникает сомнение:
не обманывают ли нас чувства, сообщая о твердости тела,
его окрашенности? И ведь не все тела обладают,
например, твердостью. Мы должны открыть в теле,
утверждает Декарт, такое качество, которое свойственно всем без
исключения различным телам, без которого всякое тело
немыслимо, с «устранением» которого прекращает
существовать и само тело. Это и будет означать, что найдена
сущность тела, «форма» (закон) тел вообще. В
подтверждение общности такого взгляда дадим типичные для
XVII в. определения «формы» и «сущности». Бэкон:
«Форма какой-либо природы такова, что когда она
установлена, то и данная природа неизменно за ней следует.
Итак, форма постоянно пребывает, когда пребывает и эта
природа, она ее вполне утверждает и во всем присуща ей.
Но эта же форма такова, что когда она удалена, то и
данная природа неизменно исчезает» (4, 200). «...Форма вещи
есть сама вещь, и вещь не отличается от формы иначе,
чем явление отличается от сущего, или внешнее от
внутреннего, или вещь по отношению к человеку — от вещи
по отношению к вселенной...» (4, 223). Спиноза: «К
сущности какой-либо вещи относится, говорю я, то, через
что вещь необходимо полагается, если оно дано, и
необходимо уничтожается, если его нет; другими словами, то,
без чего вещь и, наоборот, что без вещи не может ни
существовать, ни быть представлено» (14, 1, 402). Итак,
сущность вещи, утверждается здесь, неотделима от всякой
вещи; с уничтожением вещи уничтожается сущность (и
наоборот). Поэтому сущность тела, отождествляемая с тем
его свойством, которое должно быть обнаружено в каждом
из отдельных тел, не имеет ничего общего со
специфическими особенностями последних и тем более с их внешним
обликом. «Отсюда следует, что их (тел. — H. М.) приро-
124
да заключается не в твердости, какую мы иногда при
этом ощущаем, или в весе, теплоте и (прочих подобного
рода качествах, ибо, рассматривая любое тело, мы вправе
думать, что оно не обладает ни одним из этих качеств,
но тем не менее постигаем ясно и отчетливо, что оно
обладает всем, благодаря чему оно — тело, если только оно
имеет протяженность в длину, ширину и глубину» (9,
466). Существенным свойством тела является, по мысли
философов XVII в., протяженность. Это и есть его
«простая природа», которая одновременно является
сущностью, «интеллектуально» выделяемым, а отнюдь не
реально обособляемым от тела качеством. В силу такой
логики исследования реальные физические качества тел
«отброшены» (именно слово «отбросить» употребляет
Декарт, выявляя сущность тела, его субстанцию) —
отброшено все то, что делает мир разнокачественным,
многоцветным. Выделение наиболее простого и одновременно
наиболее существенного завершилось обособлением и
превращением в своеобразные реальности его измеряемых
абстрактных характеристик — величины, фигуры.
То, что субстанция тела имеет количественный
характер, без колебаний признается Бэконом, Декартом, Гобб-
COIM. Бэкон прямо говорит: «Лучше же всего
подвигается вперед естественное исследование, когда физическое
завершается в математическом» (4, 206), т. е. когда
физическое сводится к математическому, когда количественные
отношения, абстрактные оказываются более «реальными»,
чем конкретно ощутимые физические свойства тел.
«Физическое движение,— говорит Маркс о философии этого
периода,— приносится в жертву механическому или
математическому движению; геометрия провозглашается
главной наукой» (2, 2, 143). Для Декарта «вполне очевидно,
что нельзя отнять ничего от такой величины или такого
протяжения без того, чтобы тем самым не отнять столько
же от субстанции, и, обратно, невозможно отнять что-либо
от субстанции без того, чтобы не отнять столько же от
величины или протяжения» (9, 469). Четко и
определенно высказывается также и Гоббс: «Так как всякое
чувственное проявление вещей характеризуется
определенным качеством и величиной, а последние в свою очередь
имеют своим основанием сочетание движений, каждое из
которых наделено определенной степенью скорости и
проходит определенный путь, то прежде »сего должны быть
125
исследованы (пути движения, как такового (что
составляет предмет геометрии), затем оути видимых движений и,
наконец, пути движений внутренних и невидимых
(которые исследует физика). Вот почему бесполезно изучать
философию природы, не начав с изучения геометрии, и
те, кто пишет или спорит о философии природы без
знания геометрии, только даром отнимают время у своих
читателей и слушателей» (8, 1, .110).
Здесь и обнаруживается объективное историческое
содержание, заключенное в абстрактных на первый взгляд
требованиях метода. Мы имеем дело с исследованием на
той его ступени (ступени исторически обусловленной и
исторически преходящей, когда поиски «сущности» по
необходимости были ограничены резким различением
явления и сущности, сущности осязаемой и сущности
скрытой, а также и тем, что пока еще «сущность» предстает в
качестве сущности первого порядка. Таковой является
по отношению к телам их количественная определенность,
сам факт зависимости качества тела от его
количественных характеристик. Нельзя забывать, что количественная
определенность тела — весьма важная, неотъемлемая от
него характеристика. (Речь идет не об определенном
количестве, (которое, разумеется, может изменяться, не
«устраняя» тела, но о количестве, как таковом, без которого
тело так же немыслимо, как и без .качества.)
Количественные, пространственно-временные характеристики бытия
подразумевают, уже «заключают в себе» качество, эту, по
выражению Гегеля, «тождественную с бытием
определенность» . Вот почему количество может выглядеть эталоном,
«заместителем» сущности, «если последнюю понимать и
определять просто как нечто от тела неотъемлемое.
Количество тела не совпадает с его определенными
размерами и т. д. И все-таки именно количественные
характеристики делают тело измеряемым, сравниваемым. А это
весьма важно для практически ориентированных
теоретиков XVII в. «Мы никогда не отвлекаемся и не отходим от
самих вещей и от практики. Поэтому когда мы говорим,
например, при исследовании Формы Тепла: «Отбрось
тонкость» или «Тонкость не относится к Форме тепла», то
ото значит то же, как если бы мы сказали: «Человек
может ввести тепло ©плотное тело», или наоборот: «Человек
может удалить или отнять тепло из тонкого тела» (4,235).
Признание очень важное. В самом деле, определение суб-
126
стайцйальных, сущностных свойств тела зависит от того, до
какого предела простирается исторически-ограниченное
умение человека проникать во внутреннюю его структуру.
В данный период (поскольку речь идет не об
эмпирическом наборе фактов, но о науке) физика нашла способы
определения различных свойств и изменений тел со
стороны их внешне наблюдаемых, «бытийных»,
пространственно-временных соотношений, выражаемых в более или
менее определенных количественных характеристиках.
Более отчетливо это видно в определениях движения,
под которым, как полагает Декарт, мы можем понимать
только «местное движение», т. е. наблюдаемое
перемещение тел (дальность и длительность которого можно
измерить), под действием других, видимых же тел (и это
последнее можно измерять хотя бы по произведенному
эффекту). «Бели же, не останавливаясь на том, что не
имеет .никакого основания, кроме обычного сло!воупотреб-
ления, мы пожелали узнать, чт:о такое движение в
подлинном смысле, то мы говорим, чтобы приписать ему
определенную природу, что оно есть перемещение одной
части материи, или одного тела, из соседства тех тел,
которые непосредственно его касались и которые мы
рассматриваем как находящиеся в покое, в соседство других тел»
(9, 477). Эти простейшие и потому непосредственно
учитываемые характеристики движения («определенная
природа»), как мы видим, причисляются к самой сущности
последнего — именно в силу того, что позволяют
непосредственно увидеть (или воспроизвести, вычислить) связь
между причиной данного движения и самим движением,
между движущимся телом и тем телом, которое сообщило
ему движение.
Не случайны и приведенные выше определения
сущности, закона. Сущность, закон, рассматривается как
свойство, не совпадающее с «осязаемой сущностью» и в то же
время неотделимое от самой вещи. Нет вещи—нет се
сущности (и наоборот). И это »правильно. Но далеко не
достаточно. Специфика сущности здесь не раскрыта. Ведь
количественная сторона вещи и явления тоже отличается от
их внешнего облика и тоже от них неотделима. И все-таки
она не есть сущность, во всяком случае не подлинная,
«скрытая сущность», которую ищут эти философы.
Перемещение не есть «подлинная сущность» движения, хотя
и важная его сторона, сразу позволяющая дать количеств
127
ïioiHibie координаты движущегося теЛа и самого процесса
движения. И законы движения, как их формулирует
Декарт (это широко известно), есть законы механического
движения — законы такой формы, точнее, такого аспекта
мирового движения, который еще не дает возможности
выявить более тлубокую сущность всякого движения.
А ведь именно зга это претендует философ. Он не просто
хочет выявить «субстанцию» тела, сущность движения,
приложимую ко всякому движению, но стремится
сформулировать «законы природы». Вот один из них:
«...Всякая вещь в частности [поскольку она проста и неделима]
продолжает по возможности пребывать в одном и том же
состоянии и изменяет его не иначе как от встречи с
другими» (9, 486). Что это, как не один из законов
механики, (превращенный в универсальный закон природы?
•Подтверждая свой «закон природы», Декарт, что
весьма примечательно, взывает к простым фактам и
наблюдениям: «Мы изо дня в день видим, что, если некоторая
частица материи квадратна, она пребывает квадратною,
пока не явится извне нечто, изменяющее ее фигуру, если же
эта часть материи покоится, она сама по себе не начнет
двигаться» (9, 486). Наблюдение, в высшей степени
достоверное для той эпохи: ведь человек в самом деле не
мог «видеть» других стимулов движения тела.
Мы видим, что и сам Декарт в известной степени при-
/ частей к абсолютизации особенностей механического ана-
' лиза, т. е. к механицизму как мировоззрению. Неистори-
ческая форма выражения исторического по своей
сущности метода выступает здесь наиболее явно. Мир
тогдашнего человека — и мир философии — был населен
«осязаемыми абстракциями», т. е. такими «сущностями»,
которые можно было сопоставлять, сравнивать, вычислять.
\ И они остались в науке, но уже не в качестве сущностей.
Метод (и его правила) оказался весьма важной для
науки частью «реальности» духовной, «реальности»
исторической. Речь идет не о науке, как таковой, но об особом
типе исследования, перед которым по необходимости стоят
частные, специфические, ограниченные задачи начального
научного анализа, одновременно и эмпирического, и едва
устремляющегося к новой теории. Такой этап для
совокупной науки, тогда еще действительно объединенной,
датируется приблизительно XVII—XVIII вв. Несомненно,
что этап преимущественно количественного взгляда на
128
предмет и его сущность был совершенно необходимым для
развития научного знания: количественный срез именно
потому мог отождествляться с -сущностным, что на пути к
выявлению сущности нельзя обойти количественные
характеристики предмета, т. е. пространственно-временную
определенность его качества.
Подобно сущности и другие философские (категории в
философии XVII в. явно сгруппированы вокруг
центрального понятия — понятия количества, вокруг
механистической трактовки движения. Мы уже отчасти говорили о
явлении. Явления (а с ними и вся физика, исследующая
скрытые процессы, происходящие в телах через их
проявления) признаны чем-то обманчивым, иллюзорным,
поскольку они даются чувственным опытом. Лишь только
наука начинает рассекать целостные явления, для нее
реальным оказывается вовсе не то, что признано таковым
в обычной жизни: наука на этом этапе сознательно
противопоставляет свои характеристики видимой картине мира,
она отвлекается от явлений. Но с другой стороны, та
сущность, которую зарождающаяся наука только и может
отыскать, лежит весьма близко к наблюдаемой,
измеряемой картине, к непосредственному опыту. Так
совершенно объективно возникает противоречие: философы и
ученые отбрасывают явление в погоне за «скрытой
сущностью», но в ряде случаев о предмете они не знают ничего,
кроме его видимых, являющихся качеств. И тогда они
вынуждены признать, что вне восприятия, вне проявления,
вне человеческой субъективности эти физические
качества, взятые в их специфике и целостности, ничто. Если это
неверно по существу, открывает дорогу субъективизму,
создает реальные трудности для будущего физического
исследования, вынужденного бороться с парадоксальным
утверждением о субъективности наиболее реальных,
наиболее ощутимых физических качеств, то ото оправдано
исторически.
В теории, утверждавшей субъективность вторичных
качеств и объективность первичных (объективность и
первичность геометрических, абстрактных форм — какой
парадокс для обычного рассудка!), был зафиксирован тот
исторически достоверный факт, что к количественным
характеристикам человеческое познание движется, только
описав, зафиксировав качественные особенности, но еще
по сути дела не объяснив их. Механика и геометрия исто-
5 И. В. Мотрошилова
12У
[зически идут в этот период впереди физики —
обстоятельство, обусловленное одновременно и внутренним
сцеплением, формами взаимозависимости объективных законов,
и историческими потребностями, возможностями
тогдашнего человека, историческим характером процесса
познания.
Здесь заключено одно из исторически обусловленных
теоретических оснований весьма усилившегося в период
опытной науки недоверия к показаниям чувств. Вместе
с тем всесилие и первичность чувственно-эмпирического
научного опыта (конечно, речь идет не о «чувствах
самих по себе», но о специфическом опытном характере
зарождающейся науки) отражаются в некоторых
высказываниях философов XVII в. В работе Гоббса «О теле»
IV раздел посвящен физике («О физике, или о явлениях
природы» — так он называется). Задачу физики Гоббс
определяет следующим образом: «...исходя из явлений или
действий природы, познаваемых нашими чувствами,
исследовать, каким образом они если и не были, то хотя бы
могли быть произведены» (8, 1, 185). В весьма
осторожной гипотетической форме Гоббс излагает (следуя за
Коперником, Кеплером) некоторые соображения о свете,
теплоте, цвете. Физические заключения вдоесь по сути дела
подменяются механическими или геометрическими. Свет
и теплота выводятся из механического перемещения
частиц. Гоббс и другие его современники смутно чувствуют,
что природа физических тел ими не вполне схвачена:
Есть «нечто», не растворяющееся в механических
законах. Это «нечто» демонстрируется самим явлением. И
поэтому свет, цвет как явления признаются факторами
целиком субъективными, зависящими исключительно от
взаимодействия наших органов чувств с предметами. В
самих же предметах существуют лишь перемещения,
осуществляющиеся в соответствии с законами механики.
Этим объясняется удивительный для нас факт, что
большую часть собственно физики и ее неизменное начало
представляют в это времн рассуждения об органах чувств
и их деятельности. Поскольку физические качества
порождены органами чувств, деятельность этих последних и
следует изучить прежде всего—такова логика. «В этой
части философии,— говорит Гоббс о физике,— мы
исследуем чувственно воспринимаемые качества, например:
свет, цвет, прозрачность, непрозрачность, звук, запах,
130
вкус, теплоту, холод и т. д. Так мы не можем познать
причины этих качеств без познания причин самих
ощущений, то третья часть философии будет посвящена
исследованию причин зрения, слуха, обоняния, вкуса и
осязания. Все же ранее упомянутые качества и изменения
будут рассматриваться лишь на четвертом месте» (8, 1,
109). Но затем Гоббс признается, что «на четвертом
месте» ему по сути дела мало что остается говорить: ои
только и может высказать несколько
полуфантастических малообоснованных гипотез. «И только до этого
пункта может дойти физическое исследование»,—признается
Гоббс. Так обстоит дело с категорией явления:
отделенное от сущности, оно тем не менее в ряде случаев
превращается (подобно количеству) в «заместителя»
сущностных знаний. Будучи исторически необходимым, этот
этап несет с собой .зримую опасность субъективизма,
опасность, подтверждающую, скажем в случае Гоббса,
историческую слабость механистического материализма.
Сказанное объясняет — теперь уже со стороны
внутренне-теоретических, методологических оснований — и то
зафиксированное в самом начале обстоятельство, что
философия XVII в., разыскивая сущность человека,
стремится сознательно оставить в стороне его конечные,
исторические, индивидуальные характеристики и тот
парадоксальный результат, что сущность человека на деле
оказывается зарисовкой той или иной стороны
действительной исторической ситуации.
На примере рассуждений Гоббса рассмотрим
подробнее методологические принципы, определявшие
специфическое для XVII в. понимание сущности человека.
Касаясь рассмотренной выше тенденции метафизического
метода, Гоббс говорит, что научное исследование вообще
состоит «в разложении предмета на его основные элементы
и в соединении последних» (8, 1, 105). При этом,
рассуждает Гоббс, данный метод есть метод проникновения в
существо вещи и явления, ибо благодаря
непосредственному свидетельству чувств «вещь в целом оказывается
знакома нам более, чем любая ее часть». Так, «мы сперва
видим всего человека и познаем, что он существует,
прежде чем замечаем в нем другие особенности». Поэтому
первая научная задача, по Гоббсу, состоит в рассечении
предмета или явления на части. «Под частями,—
поясняет Гоббс, я понимаю тут не части самой вещи, а части ее
5*
131
природы. Так, под частями человека я понимаю не его
голову, плечи, руки и т. д., а его фигуру, рост, движения,
чувства, разум и т. п., т. е. все те акциденции,
совокупность которых констатирует природу человека, но не
отдельную человеческую личность (курсив наш.— //. Л/.)»
(8, 2, 105). Любопытнейшая деталь: метафизический
метод как метод научный требует, чтобы частью природы
человека, т. е. его сущностным элементом, не
провозглашались реально обособляемые части отдельного
человеческого существа. Но в то же время такими элементами
оказываются на равных правах с разумом и чувствами фигура
и рост человека! Этот момент в высшей степени
характерен и обусловлен реальными исследовательскими
задачами и неизбежными трудностями, с какими пришлось
столкнуться тогдашней науке. Можно спросить: как же
Гоббс, философ XVII в.,, совмещает в «природе» человека
его рост и его разум? Но ведь он и не намеревается
совмещать их! Он их обособляет для исследования ора-зу
после того, как перечисляет и провозглашает
неотъемлемыми свойствами человеческой сущности.
В исследовании человека и человеческого познания
метафизический метод заставляет построить целый ряд
дихотомий или более сложных расчленений. Прежде всего—
и об этом уже шла речь в учении о человеке — в целях
исследования разделялись природа и человек. То
обстоятельство, что человека, на время обособляемого от
природного единства, все-таки приходилось возвратить
природе, отнюдь не воспринималось как непоследовательность
метода, поскольку в его сознательно сформулированные
задачи входило, если мы припомним, не только
разложение (предмета на части, но и последующее их соединение.
Применительно к проблеме души и тела особенность
материалистической традиции, представленной, например,
Гассенди, заключается в том, что «сокровенную
сущность» человека, человеческую природу материалисты не
мыслят раскрыть иначе, чем объяснив взаимодействие
души и тела, по сути своей нерасторжимое (см. 6, 87—
88). Идея единства вообще была столь же близка эпохе,
сколь и идея рассечения, анализ и синтез считались
одинаково важными и полноправными операциями. Однако
объединение, как правило, признавалось возможным после
и в результате разъединения и изолированного
рассмотрения частей, как бы превращенных в самостоятельные
132
целостности. «Соответственно... разнообразию
подлежащих исследованию вещей,— пишет Гоббс,— приходится
применять то аналитический, то 'Синтетический метод, а
то и оба этих метода» (8, 1, 106). Общие свойства вещей
природы должны быть расчленены посредством анализа.
«И посредством такого постоянного анализа мы узнаем
те свойства, познание причин которых — сначала каждой
в отдельности, а затем в их сложном (взаимодействии —
приводит нас к истинному знанию отдельных вещей» (8,
1, 107).
Метафизический метод прямо повлиял и на решение
вопроса о сущности человека. Если аналогии между
функциями человеческого тела и тела животного были
возможны, если господство механики приводило к уравниванию
человеческого тела со всеми телами природы, то
обращение к разуму казалось единственной гарантией
выявления подлинной специфики человеческого существа.
Человеческое тело и разум, предварительно отделенные
друг от друга и сведенные к элементарным частям, также
подлежали последующему объединению. Но
действительное теоретическое объединение предварительно
обособленных сфер оказалось делом чрезвычайно трудным.
Чем же оказалась сущность человека? Хотя ее
противопоставляют явлению, действительной, наблюдаемой
картине человеческого индивидуального и общественного
бытия, сущность человека еще растворяется в эмпирических,
конкретно-исторических свойствах человеческих
индивидов. Это происходит даже в том случае, когда в
определение сущности включаются исключительно духовные,
а не материально-телесные характеристики. Сущность
вообще еще не отделяется от обособленного человека:
выступая в качестве «абст)ракта», она оказывается
абстрактом, неизменно присущим отдельному индивиду (это
определение принадлежит Марксу). Уровень изучения
сущностных свойств человека, его общечеловеческих,
социальных качеств таков, что о них еще почти нет объективных
научных сведений. Наиболее реальными из социальных
характеристик оказались именно «идеальные» свойства
человека. Во-первых, это духовные характеристики,
обобщенные в понятии человеческого разума. Во-вторых, для
философов XVII в. определителями человеческой
сущности стали «высшие» идеальные ценности. Речь идет о
разумности, .связанной с понятиями равенства и свободы.
133
Нельзя забывать, что идеалы разумности, равенства,
свободы были вполне реальными, конкретно-историческими
стимулами, ценностями буржуазной духовной культуры
того периода. Итак, вопреки метафизическому замыслу
(открыть некую постоянную природу человека) учение о
человеческой сущности было тесно связано с
действительными социальными условиями развития индивида, с их
исторической эволюцией. Именно эта объективная
социальная обусловленность теории человека позволяет
говорить о ней как о первом этапе на пути к пониманию
общественных свойств и общественной сущности индивида.
Здесь суммируется, собирается в единый фокус то
влияние, которое на философа, на развитие философского
научного знания оказывали принципиально важные
события эпохи и существенные требования метода.
Требования истории и требования науки звучат здесь вполне
синхронно.
Итак, метод и его обоснование в науке и философии
XVII в. представляет собой достаточно органичное
единство специально-научных концепций, способов
исследования, особой философской интерпретации традиционных
философских понятий и категорий. Объединены они
особыми историческими задачами и возможностями
тогдашней науки. Несмотря на абстрактную форму выражения,
комплекс идей и действий, характеризующих метод
специфическим образом, является комплексом и единством,
социально-историческим по своей природе.
Социально-исторические факторы, влияющие на позна-
/ние, в том числе на научное исследование, весьма
многообразны. И степени, формы, «уровни» социальной
обусловленности знания определяются многообразием, разно-
качественностью самих исходных и опосредующих
социальных обстоятельств, от которых в данный период, как
и вообще в истории общества, познание зависит.
Мы рассмотрели по крайней мере три различных
уровня взаимовлияния общества и познания. Первый уровень—
более или менее непосредственное влияние (точнее
говорить о взаимовлиянии) на познание
социально-экономических изменений, изменений в способах деятельности и
психологии людей. Второй уровень — влияние тех же
факторов, но уже опосредованное «духовной ситуацией»
(например, господствующей идеологией). Третий уровень—
влияние таких духовных факторов (в свою очередь кос-
134
пенно й сложным образом обусловленных
социально-экономическими изменениями), которые наиболее строго,
внутренне определяют научное познание, ибо становятся
господствующими, всеобщими формами деятельности
ученого для данного исторического периода. Таким фактором
•является научный метод.
Маркс говорил о категориях буржуазной политической
экономии (а ведь философы XVII и XVIII столетий не
только современники, но и практические участники ее
начального этапа), что они есть «общественно значимые,
следовательно, объективные мыслительные формы
(курсив наш. — H. М.) для производственных отношений
данного исторически определенного общественного способа
производства — товарного производства» (2, 23, 86).
Подобно этому понятия и правила, сопутствующие
1метафизическому методу, его сознательному выражению в
философии, »можно назвать «общественно значимыми,
следовательно, объективными мыслительными формами» для
тех исторически определенных и исторически
ограниченных, специфических условий развития науки, которые
сложились на заре развитого капитализма, во всяком
случае в интересующий нас период.
Так и получилось, что сознательный замысел
философов XVII в. — построить учение о человеке, выявить
абстрактную всеобщую сущность человеческого существа, а
в теории познания анализировать исключительно
отношение познающего субъекта к познаваемому объекту — этот
замысел в чистом виде не реализовался. Ибо между
познающим человеком, ученым, и познаваемыми им
предметами как бы вклинилась межсубъективная,
общезначимая духовная «реальность» — формы и способы
мышления, зафиксированные самими философами в виде
требований метода. Впрочем, к внутреннему включению метода
в процесс познания его выразители сознательно
стремились, не вполне понимая, правда, что благодаря этому
познание начинает более строго регулироваться внепри*
родными, не вещными, предметными, а человеческими,
историческими, социальными факторами. Не осознавая
этого в полной мере, философы XVII в. тем не менее
почувствовали, отметили некоторые трудности и парадок-
сы, возникающие при анализе разума, вполне «очищен-
ного», как они полагали, от посторонних помех. Некото-
рые из этих -парадоксов, возникшие в гносеологии, прямо
135
ютгюсятся к нашей теме: они показали, что «очищенный»
разум индивида, лишенный социальной и исторической
определенности, есть иллюзия.
Перейдем же вместе с мыслителями XVII в. на почву
философского и гносеологического исследований
человеческого разума, т. е. познавательных способностей и
познавательных действий человека.
§ 2. Под властью
гносеологических дихотомий.
Первые попытки их
преодоления и идея социальной
определенности познания
Прежде всето рассмотрим последствия, к которым
приводит метафизический метод при анализе сущности
человеческого познания. Говоря об наследовании
человеческого познания, Декарт специально подчеркивает, что
осуществленное им расчленение на самые простые
способности (чувство, воображение, память, интеллект) удобно,
поскольку «не нужно прилагать никаких усилий для
познания этих простых вещей, ибо они достаточно понятны
сами собой, но нужно лишь стараться отличать их друг
от друга и пристально рассматривать каждое из них по
отдельности (курсив наш.— H. М.), пронизывая их
острием ума» (9, 133). Руководствуясь этим принципом, Декарт
в теории познания устанавливает следующие основные
различения, каждый ив различенных элементов он
рекомендует изучать отдельно:
1) материальное и духовное;
2) чувства и интеллект;
3) человеческий и божественный разум и т. д.
Декартовы разделения в общем и целом совпадают с
теми, которые проводит большинство из его
современников. (Различия касаются главным образом оценки
каждого из элементов, зависят от того, какой из них
признается более важным, более значимым для познания.)
Мы не сказали еще об одной весьма важной дихотомии,
которая предполагается самим представлением о
возможности опираться в гносеологии на некий «очищенный»
разум и лежит, стало быть, где-то в основе перечисленных
выше различий: это дихотомия «познание—общество».
136
Рассматривая специфические различения теории
познания XVII в., попытаемся установить, на наш взгляд,
несомненную их связь с методом, социально-историческая
обусловленность которого была показана выше. Так будет
обнаружена опосредованная и особая зависимость теории
познания и ее по видимости абстрактных различений от
исторических факторов. Затем покажем, как
неустранимость анализируемой здесь проблемы социальной
сущности познания сказалась в 1искуоств!енности различений,
гносеологических дихотомий, частично осознанной
самими философами XVII в., но в особенности явной для
мыслителей последующих столетий.
Материальное и духовное
Метафизический способ различений, его
необходимость и неизбежные трудности, из него вытекающие, дали
себя знать в свойственных философии XVII в. различных
пониманиях противоположности — или, наоборот,
внутреннего единства — материального и духовного.
Известно, что в философии Декарта различение двух
начал превратилось в дуалистическое противопоставление
двух субстанций. Материальные явления рассматривались
наукой данного периода таким образом, что их
^сущностью», «формой» признавалось протяжение. «Хотя
любой атрибут достаточен для познания субстанции, однако
у каждой субстанции есть преимущественное,
составляющее ее сущность и природу свойство, от которого
зависят все остальные. Именно протяжение в длину, ширину,
глубину составляет природу субстанции, ибо все то, что
может быть приписано телу, предполагает протяжение и
есть только некоторый модус протяженной вещи...» (9,
449).
А что было известно о духовных явлениях? Они,
бесспорно, ^связаны с телом, признает Декарт, но мы никак
не смогли бы объяснить природу мыслящей вещи,
человека, если бы признали ее обычной вещью и рассмотрели
с точки зрения протяжения. К телу, т. е. к протяжению
(что для той эпохи равнозначно), мышление не имеет
существенного отношения, атрибуты мыслящей вещи —
принципиально иные, чем атрибуты тела и атрибуты
материальной субстанции. «Итак,— заключает Декарт,— мы
137
легко можем образовать два ясных и отчетливых понятия,
или две идеи: одну — о сотворенной мыслящей
субстанции, другую — о субстанции протяженной, если, конечно,
тщательно различим все атрибуты мышления от
атрибутов протяжения» (9, 449).
Современники Декарта — материалисты Гоббс, Гас-
сенди, Спиноза — указали на противоречия в самом
картезианском ходе мыслей, на огромные трудности,
порождаемые дуализмом. Декарт, говорили они, неправ но
существу дела: есть только одна субстанция, и эта
субстанция может быть только материальной. Особенно
скрупулезно доказывает это Спиноза, прибегая к понятию бога
и уподобляя субстанцию всеобщей закономерности
природы, которая может быть только единой
закономерностью, неотделимой от природного развития и
составляющей сущность природы.
Но проблема, поставленная Декартом, великолепно
рисует исторические условия и исторические трудности ее
разрешения. В материи выделялось нечто самое простое и
элементарное — протяжение, в области человеческой
духовной деятельности специфической считалась наиболее
«высокая», ослепительная ее способность — мышление,
притом достигающее отчетливого и ясного знания. Что
же удивительного в том, что Декарт признал
материальное и духовное принципиально несовместимыми началами,
противоположными субстанциями? И какой можно было
предложить выход на том уровне развития науки и
философии? Требовалось не просто доказать зависимость
духовного от материального, наиболее очевидной формой
которой была зависимость человеческого «духа» от тела
человека: «Нет никакого сомнения в том,— признавал
Декарт,—что мышление невозможно без мыслящей
вещи...» (8, 1, 417). Проблема состояла, стало быть, не в
том, чтобы постулировать единство материального и
духовного, души и тела — это единство признавал и Декарт,
ссылаясь на посредничество бога, к которому данное
объединение только и доступно, притом, что называется, «без
разъяснений». Человек же обязан не просто
провозгласить духовное зависимым от материального, но вывести
из сущности материального сущность духовного. Так
ставил вопрос Декарт. Так он был поставлен временем.
Материализм, ни на шаг не ушедший от картезианства
в естественнонаучном объяснении материи (если не счи-
139
тать смутных предчувствий Гаосенди, что материю
нельзя считать целиком «механической»), мог решить
поставленный вопрос только двумя способами. Он мог
низвести мышление с того пьедестала, на который оно было
поставлено рационалистом Декартом, мог показать, кроме
того, что мышление не есть главное <в духовной
деятельности. По этому пути пошли Гоббс и Гаосенди. Но
существовала и другая возможность. Можно было, не
принижая мышления, объединить его и материю черев
нечто общее для них и высшее, благодаря чему и
материальное, и духовное возникает. Собственно, уже Декарт
говорил в этой -связи о 'боге. Но все зависело от того,
какой смысл вкладывался в данное понятие. Если для
Декарта слово «бог» в анализируемом здесь контексте было
скорее понятием бессодержательным, понятием-отговоркой,
то материалист Спиноза наделил его новым содержанием,
сделал всеобщей закономерностью, тем, что в самом деле
объединяет материальное и духовное, не отменяя
специфики каждого из начал. Что касается человека,
единства, той «совокупности», которая объединяет и
материальные процессы, происходящие в его теле, и материальные
действия, и интуитивное интеллектуальное «видение»,
познание чисто мыслительных объектов, того единства,
которое включает и «заинтересованные»
материально-аффективные акты и .«непредвзятое» научное мышление, то
это сложное «единство» только еще подлежало изучению,
описанию.
Достаточно сказать, что в XVII в. наука почти
ничего не знала о работе мозга и Декарт считал
материальным центром, «седалищем» души шишковидную железу.
С другой стороны, научная истина, эта высшая форма
идеального, только что сделалась объектом специального
философского рассмотрения. И философия не так далеко
ушла от наивного удивления, от признания научного
познания высшей ценностью и целью человеческой жизни к
выявлению специфики этой формы духовной
деятельности, специфики духовных, «разумных» процессов. Вот
почему и в исследовании человеческого познания, и в
области гносеологии решающим методом стало
расчленение, обособление материального и духовного; возник
целый ряд дихотомий, как бы конкретизирующих это
первичное разделение на материальное и духовное. Даже в
тех философских системах и у тех философов, централь-
139
iibify сознательным устремлением которых являются
материалистические поиски единства, синтеза, монизма,
материальные и духовные процессы чаще всего объединены
таким образом, что специфическое объяснение духовного
отступает перед стремлением «подчинить» его
материальному. И все-таки в философии XVII в. весьма
интересными и перспективными оказались как раз такие попытки
преодоления неизбежных дихотомий, сколь бы
незрелыми ни казались они в свете последующего
философского развития, сколь бы ни противоречили они, как в
случае Декарта, сознательно принятым методологическим
посылкам.
Дихотомию материального и духовного,
обусловленную, разумеется, действительными теоретическими
трудностями, возникшими в науке и философском мышлении,
поставила под сомнение уже философия XVII в. Правда,
материализм этого столетия принес на алтарь
правильного решения основного, вопроса философии, таа алтарь
монизма серьезную жертву — ту самую специфику
человеческого мышления, «разумность» разума, за которую
так упорно ратовал Декарт.
Посмотрим же, как в гносеологии XVII в. произошло
это важное размежевание — оно определялось различным
пониманием сущности духовного и было пронизано
другой специфической дихотомией.
Чувства и интеллект
Мы уже отчасти обрисовали те социальные и
общетеоретические причины, которые обусловили недоверие к
чувственному опыту «самому по себе»: дискредитация
официально узаконенного невежества, разоблачение
самой наукой иллюзий обыденного опыта и псевдонауки.
Так и получилось, что в период расцвета и повсеместного
распространения опытной науки, опиравшейся на
чувственное наблюдение и эксперимент, буквально единицы
решаются вступиться за достоверность «чувств самих по
себе».
Но как же возникло (или почему было принято на
веру) само это понятие? Вмешательство метода — одна
из причин. Настоятельной задачей философии (и
требованием метода) было перечисление различных познаватель-
140
ных способностей человека, их описание и объяснение,
сначала отдельно друг от друга. Чувства должны быть
отделены от других способностей и рассмотрены отдельно,
требует Декарт. В дальнейшем предполагается, конечно,
сравнительная оценка познавательных способностей, но
не будем забывать, что сопоставляются прежде
разъединенные чувство и интеллект, «чувства сами по себе» и
«интеллект, как таковой». Такое разделение,
обусловленное метафизическим методом, «принимается и теми, кто
считает разум «высшей способностью» (Декарт), и теми,
кто приписывает фундаментальную роль в познании
достоверным свидетельствам чувств (Гассенди).
Чрезвычайно интересен тот факт, что философы XVII в. начинают
осознавать, что принятые ими в гносеологическом
объяснении резкие обособления и противопоставления должны
быть поставлены под сомнение. В XVIII в. некоторыми
философами еще более решительно преодолевается
разделение на «бездуховное» чувство к «внечувствеиный»
разум.
Одна из проблем, затруднительных в особенности для
материалистов-сенсуалистов, была связана со
специфической трактовкой чувственного опыта «самого по себе».
При реальном и подробном гносеологическом
исследовании это понятие означало, что с предметом соотносятся не
действия человека, но функции органов чувств. Предмет
■в этом взаимодействии трактуется как активное начало,
от него исходят впечатления, чувства же (точнее, органы
чувств) пассивны: ведь им ничего не остается, как
воспринимать, копировать предметы. Ни для кого не секрет,
что >эту схему, сразу принятую на вооружение также и
материалистами, предложил Декарт. «Во-первых, —
говорил он,— нужно уяснить себе то, что вес внешние
чувства, поскольку они составляют части тела, хотя мы и
применяем их к объектам посредством действия, то есть
местного движения, ощущают собственно лишь пассивно,
подобно тому как воск воспринимает фигуру печати» (9,
121 —122). И это не внешняя аналогия, продолжай
Декарт. Только так и следует описывать процесс
восприятия: ведь для нас наиболее наглядна именно фигура, и
потому к ней следует свести не только восприятие
самих фигур, но и восприятие цвета, света и т. п. И далее
логично следовала механическая картина рефлекса.
Много было сказано о том, какой прогресс означало введение
141
данного понятия в физиологию органов чувств. Это
бесспорно. Но нельзя забывать, что благодаря учению о
рефлексе Декарт хотел создать фундаментальную основу
философской концепции чувственного опыта. Претензия эта
столь .значительно превосходила реально выполненную
историческую, частную научную задачу, что уже самому
французскому мыслителю пришлось ограничивать
радикальность предложенной им трактовки.
Особенно сложным было положение материалистов,
поскольку они приняли в целом декартовскую научную
концепцию, описывающую простейший механизм
чувственного восприятия, превратили ее в философскую теорию
чувственного опыта, но одновременно стремились
отстоять внутреннюю самодостоверность, фундаментальное
значение чувственного познания.
Собственно, историческое состояние исследований
человека вообще, его чувственности в частности и не
оставляло другого выхода. Трудности, выявленные
философами XVII в., были связаны с развитием этих исследований
на почве конкретного анализа, они были неизбежны.
Исторические формы изучения чувственного опыта
здесь таковы: отделение его ют интеллектуальной
деятельности, стремление изучить сначала в виде чисто телесного
движения (одно тело — предмет — воздействует на другое
тело — тело человека). При таком рассмотрении органы
чувств, естественно, оказались пассивной стороной. А
вместе с ними пассивным, недостоверным, иллюзорным был
признан сам чувственный опыт. Характерно, что
метафизика сначала отделила, и совершенно искусственно (это
было обнаружено уже Юмом), чувственную деятельность
от всех остальных форм человеческой деятельности, свела
чувственный опыт к пассивному восприятию воздействий
внешних тел органами чувств, а затем обрушилась на
собственное изваяние, с торжеством установив: чувство
без разума несостоятельно! Но что же было этим
доказано, как не ошибочность метафизического обособления
«чувства самого по себе» и «интеллекта самого по себе»?
Декарт, самый ревностный сторонник дихотомий и
разделений (в том числе и того противопоставления, о
котором только что шла речь), умеет, однако, довольно
гибко от них избавляться. Так, он обособляет две
субстанции, мыслящую и телесную; все виды восприятия,
мышления, воления он связывает с мыслящей субстан-
142
цией, а все типы чувствования — с субстанцией телесной.
Проведя это разделение, Декарт сразу же замечает: люди
испытывают в -себе нечто такое, что нельзя отнести к
одному духу или к одному телу. Есть явления, которые
происходят «от тесного внутреннего союза между ними».
Таковы -состояния голода, жажды, побуждения к гневу,
радости, печали, любви, все чувствования — словом, все
состояния, которые «не исключительно зависят от
мышления» (9, 446). К какому же итоту мы пришли? Декарт
весьма своеобразно решает возникшую трудность. Он не
случайно говорил выше о чувствах, «поскольку они
составляют часть тела». Затем Декарт вводит следующий
постулат: «нужно себе уяснить, что сила, посредством
которой мы, собственно, познаем вещи, является чисто
духовной», «единственной в своем роде» (9, 124). «Будем
же называть эту оилу сообразно ее различным функциям,
а именно: чистым интеллектом, воображением, памятью
или чувством» (9, 125). Декарт ускользнул от им же
самим расставленной ловушки, дихотомию «чувства —
интеллект» он здесь но сути дела снял благодаря введению...
новой дихотомии: чувства как деятельность тела и
чувства как функциональный элемент общей «духовной»,
«единственной в своем роде» познавательной силы.
Декарта «спасло» то, что он весьма последователен в
формулировании дихотомий и в... замене их новыми, коль
скоро исходные антиномии приводят к проблемным
трудностям. Но и признание «единой духовной силы» не дает
ему реальных возможностей для установления
действительного единства чувств и интеллекта. А до тех пор
«интеллект имеет дело с объектами, не имеющими ничего
телесного или подобного телесному, он не может опираться
на эти способности; напротив, чтобы они не были для
него помехой, нужно отстранить чувства и освободить
воображение от всяких отчетливых впечатлений, насколько
это возможно» (9, 125). Для доказательства
принципиального отличия интеллекта от чувств Декарт обращается к
тем объектам, которые сами являются «чисто
интеллектуальными», хотя интеллект может познавать также
материальные л «смешанные» вещи.
О чувствах до сих пор говорил Декарт. Пусть будет
выслушана и другая сторона.
Сенсуалист Гассендй, вмешиваясь в спор о
достоверности чувственного знания, не случайно опирается на
143
подновленную систему эпикуреизма: предмет дискуссии и
возникшие здесь разногласия удивительно напоминают
развернувшуюся еще в античной философии полемику о
том, следует ли доверять показаниям органов чувств и
обыденному человеческому опыту, покоящемуся на
чувственных данных*.
Свое (именно свое) изложение философии Эпикура
Гасоенди строит так, что заставляет античного
мыслителя заступиться за дорогие идеи, ибо утвер'ждения о
внутренней недостоверности чувственного знания посягали на
самую основу материалистического сенсуализма. Вы
обрушиваетесь на чувственный опыт, говорит Эпикур у Гас-
сенди, обращаясь скорее к картезианцам и скептикам
XVII в., чем к своим античным противникам.
Вдумайтесь, к каким следствиям приведут ваши постулаты. Вы
признаете недостоверной ту самую способность, которая
служит единственным самостоятельным, главным
связующим звеном между человеком и остальной природой. Вы
разрываете их связь. «Ведь подобно тому, как у плотника
все неизбежно будет сделано неправильно и выйдет
криво и несуразно, если главная линейка крива, угломер
скошен или ватерпас шатается, так и в жизни все
непременно должно совершаться превратно и обратиться в полный
хаос и путаницу, если то, что следует считать как бы
главной линейкой, угломером и ватерпасом в познании
добра и зла и в различении того, что следует делать и
чего делать не следует,— если это будет криво и
извращено, т. е. лишено достоверности, играющей в жизни роль
кормчего» (6, 120).
Итак, когда речь идет о чувствах, когда спорят о
чувственном опыте, то решается, по мнению Гассенди,
вопрос, куда более важный,— вопрос о той основе, на
которой «до такой степени зиждется прочность и
безопасность жизни, что, если мы не осмеливаемся доверять
* Кстати, Гоббс, вообще-то присоединяясь к Декартовой
критике чувственного опыта («Если бы мы следовали только своим
чувствам, не пользуясь поддержкой разума, то мы могли бы с
полным правом сомневаться в том, существует ли что-нибудь или
нет» (8, 1, 413), напоминает: об этом говорили уже Платон и
другие философы древности. Поэтому Декарт предает гласности «эти
старые мысли». Декарт, отвечая Гоббсу, вполне открыто признает,
что не считает себя первооткрывателем. Он лишь суммирует уже
высказанные мысли, чтобы «подготовить умы читателей к
рассмотрению вещей, постигаемых разумом...» (8, 1, 413—414).
144
чувству, мы не убережемся ни от падения в пропасть, ни
от любого иного несчастья» (6, 120—121). В самом деле,
в обычной жизни, при обычном, так сказать, повседневном
познании чувственный опыт является главной, решающей
основой. Рушится достоверность чувственного опыта —
утрачивает опору вся обычная человеческая
жизнедеятельность, напоминает Гассенди. К счастью, размышляет он
далее, в действительности дело обстоит иначе: успехи и
прочность повседневного бытия, несомненная полезность,
устойчивость проверенных жизнью наипростейших
«чувственных истин» служат залогом внутренней
достоверности, основательности, прочности самого чувственного
опыта. Принимая вместе с Эпикуром убеждения, будто
чувство пассивно — «порождается не само собой и,
вызванное чем-либо другим, не способно ничего к себе
добавлять или у кебя отнимать» (6, 118),— Гассенди
делает из этой распространенной идеи его века вывод,
совершенно неожиданный для рационалистов и скептиков. Если
с предметом соприкасается чувство, восприятие, «не
сопровождаемое (никаким высказыванием», то отсюда
следует, что чувственные данные не могут быть ни истинными,
ни ложными, ни обманчивыми. 'Подобие тому как ни одно
ощущение данного органа чувств не может быть
опровергнуто ощущениями других органов чувств, так и
разум не может опровергнуть чувство. Причина состоит в
том, что чувственные ощущения сообщают о фактах и
сами являются фактами. Когда я вижу впереди круглую
башню, то это мое чувство, безусловно, достоверно. Если
я подхожу ближе и убеждаюсь, что башня
четырехугольная, то возникает новое чувство, никак не опровергающее
прежнее чувственное впечатление и столь же
достоверное. Я в самом деле раньше видел круглую башню, а
теперь — столь же достоверно — вижу четырехугольную
башню. Что же опгровергается? Отнюдь не чувство, но
поспешное суждение разума, его ложное (заключение.
Притом же «неловкость» «разума, впавшего в заблуждение,
исправляется... именно чувством! И вот разум, опираясь
на фактически-достоверные показания чувств, выносит
суждение, будто представляемые им вещи таковы, какими
он их видит, слышит и т. д. Потам он убеждается, 4tg
вещи при ближайшем рассмотрении выглядят иначе.
Разум начинает бранить чувства, хотя ему следовало бы
возлагать вину только на самого- себя, поблагодарив чув-
145
ства за то, что они все-таки помогли ему исправить
собственную ошибку. Так с помощью Эпикура Гассенди по
существу вступает в спор с Декартом и его
сторонниками—рационалистами (впрочем, ему приходилось включаться и в
прямую полемику со своим великим соотечественником),
довольно ловко повергая противника его собственным
оружием. Весьма характерно здесь то, что Гассенди и не
стремится ни оспаривать мнение Декарта о
принципиальной пассивности «чувства самого по себе», ни
отвергать сам этот созданный метафизикой символ. Напротив,
«чувственный опыт, как таковой», очень важен гассендие-
ву Эпикуру, чтобы последовательно вывести из него
разум, интеллект вначале в виде так называемого
предварительного понятия, целиком зависящего от чувственного
опыта, а затем и в форме более сложных истин, которые
также оказываются скорее продолжением «чувства
самого по себе» и «чувственного понятия», чем некими
самостоятельными образованиями. Понимание
рассматриваемой здесь дихотомии — чувства и разум — зависит
не только от интерпретации чувственности, но и от того,
какое содержание вкладывается в понятие интеллекта.
Необходимо раскрыть смысл второго элемента Декартовой
дихотомии — интеллекта или разума. Как конкретно
представляют себе Декарт и его современники разум,
разумную -способность познания, признанную ими
отличительной особенностью человека? И здесь нам открывается
ратное поле острых теоретических разногласий, не менее
принципиальных, чем в вопросе о чувствах. Они служат
продолжением, а может быть, и основой этих последних.
а) Мышление: Гоббс
спорит с Декартом
После опубликования Декартом «Метафизических
размышлений» Гоббс и Гассенди в числе других оппонентов
прислали автору свои возражения и получили в ответ его
разъяснения и опровержения. Эта чрезвычайно
интересная и важная научная полемика блестяще изложена в
книге В. Ф. Асмуса «Декарт». Здесь мы коснемся
единственного, но, по нашему мнению, одного из центральных
пунктов спора великих философов XVII в.— вопроса о
природе, специфике разума «в узком смысле», мышления,
m
интеллекта. Начнем с того, что в ходе этой полемики
действительно (выявилась смысловая многослойность,
заложенная в 'свойственных XVII в. определениях и
разъяснениях, касающихся «духа», «разума», «мышления».
Толчком к уточнению различных аспектов содержания
послужило Декартово определение «Я», субъекта, как
мыслящей вещи, а также его знаменитое «cogito». Что
значит «я мыслю», что вообще означает слово «мыслить»?
Гоббс, вполне основательно предостерегая Декарта от
возможности идеализма, заключенной в картезианском
определении «Я» как «мыслящей вещи», констатирует:
«Декарт отождествляет познающую вещь с познанием,
которое есть акт познающего, или, по меньшей мере, с
разумом, который есть способность познающего» (8, 1, 414).
Собственная логика Гоббса такова. «Совершенно
несомненно,— говорит он,— что достоверность положения я
существую зависит от достоверности положения я мыслю...»
(8, 2, 415). Но от чего зависит последнее утверждение?
Разумеется, от наличия мыслящей материи. Главное, что
хочет доказать Гоббс: сущность «Я» как мыслящей вещи
определяется ее материальностью. Из размышлений о
субъекте поэтому никоим образом не следует тот вывод
о нематериальной мыслящей субстанции, который был
сделан Декартом.
В своем ответе Декарт выдвигает, просто-таки
нагромождает проблемы, которые не решаются простым
материалистическим утверждением о единственности
материальной субстанции. Гоббс как будто выступает за то,
чтобы отличать способность мышления от самой мыслящей
вещи. Ето следовало бы поддержать в этом, если бы
действительный, конечный смысл -его утверждений не был
иным: ведь Гоббс больше всего боится на самом деле
отделить мышление как способность, как акт или
деятельность от человеческого тела, от телесного мира, от
материальной субстанции. Декарт же свою задачу
усматривает здесь в том, чтобы «как можно более заботливо»
различить «единичные вещи» (своего критика он
упрекает в '«'Смешении различных вещей»). Надо различать,
говорит Декарт, присоединяясь к Гоббсу, способности
(скажем, способность мышления) и вещи, обладающие этими
способностями. В соответствии с такой логикой
рассуждения мышление и мыслящая вещь есть два различных
предмета анализа. Вообще же, напоминает далее Декарт,
147
понятие мышления весьма многообразно: оно
«употребляется то для обозначения деятельности, то для
обозначения -способности, а то и для обозначения вещи, которая
этой способностью обладает» (8, 1, 416). Декарт, правда,
признает, что «под разумом следует понимать ту самую
вещь, которая мыслит», но для него всего (важнее
определить несовместимую с телом специфику .мышления.
В декартовском понимании последнего существует
характерное и очень важное для нас противоречие. С одной
стороны, он хочет отделить мышление от тела,
интеллект — от чувственного опыта. Но с другой стороны, при
всех попытках рассмотреть мышление более
специфически, более «абстрактно», чем это делали его
современники-материалисты, Декарт еще смешивает в образах
«мышления» и «мыслимого» целый комплекс понятий, в
дальнейшем все более обособляемых друг от друга. Признав
вместе с Гоббсом, что существуют действия, или
акциденции, которые мы называем телесными, Декарт
продолжает: «Но существуют другие действия, или акциденции,
которые мы называем мысленными, как познание,
хотение, воображение, ощущение и т. д., и все они
охватываются общим понятием мышления, или восприятия, или
сознания; (субстанцию же, которой они присущи, мы
называем мыслящей вещью, духом (mens) или как-нибудь
иначе, если только не смешиваем ее с телесной
субстанцией. Ведь акты мышления не имеют никакого сходства
с телесными актами, а мышление, являющееся общим
понятием первых, радикально отличается от протяжения,
являющегося общим понятием последних» (8, Î, 418).
Отсюда определение «Я», субъекта, который является
мыслящей вещью. «А что такое мыслящая вещь? —
спрашивает Декарт и разъясняет: — Это вещь, которая
сомневается, понимает, утверждает, желает, не желает,
представляет и чувствует» (9, 345). Итак, «мышление»
(соответственно «мыслительный») в понимании Декарта и есть
обозначение специфики духовной деятельности, как
таковой, специфически человеческого в человеке, от
ощущения и «хотения» до познания. И эту специфику, по
убеждению Декарта, нельзя вывести из специфики материи,
тела, что для тогдашней эпохи значило — из свойств
«бездуховного протяжения». Об этом выше уже шла речь.
Но откуда же может быть выведена специфика духа?
Из него самого — вот дополнительный смысл, который
148
вкладывался в понятие субстанциональности духовного.
А если это та«, следует, по мысли Декарта, внимательнее
присмотреться к наиболее ярким проявлениям духовного
начала. Высшие формы заключают в себе «образец»,
«закон» низших форм, в них специфика духовного всего
заметнее для человеческого глаза. Стало быть, надо
обратиться ок разуму, мышлению в наиболее узком значении
■этих понятий. Где .же усматривает, (находит рационалист
Декарт высшие духовные формы? Вонпервых, конечно, в
«разуме всех разумов», в наисовершенном мышлении, не
ведающем трудностей и противоречий, в разуме
божественном. Во-вторых, в человеческом интеллекте, в
освоении «чисто мыслительных» объектов и в наиболее
совершенном из человеческих способов познания — в интуиции.
Надо сказать, что материалисты Гоббс и Гассенди не
станут здесь сшорить с Декартом: и для них рациональное,
интеллектуальное познание есть высший этап
познавательной деятельности; и они, не решаясь оставить
конечного человека наедине с необозримыми задачами
познания, апеллируют к «главной инстанции», к разуму бога.
Но логика рассуждения, сам смысл обращения к высшим
формам у них иной, нежели у Декарта. Гоббса и
Гассенди ведет на Голгофу духа не желание отторгнуть
разумное начало от чувственного, мышление в узком смысле—
от «чувственного мышления», требуемого житейской
практикой, но как раз противоположное стремление увидеть
с вершины прочность основания, на котором покоятся
наиболее ослепительные разумные формы. (Правда, у
Гоббса и Гассенди довольно значительны различия в
понимании того, каково именно это материальное,
предметное основание.)
Как бы то ни было, мы неизбежно встаем перед
необходимостью проследить противоборство идей в той
области теории познания, где она касается знания, истины,
мышления в собственном и узком смысле этого слова.
Но прежде чем мы перейдем к данному вопросу,
подчеркнем в качестве выводов следующее. Дихотомия
чувственности и разума, мышления, предложенная Декартом, им
самим в известной степени преодолевается. Прежде
всего, говоря о чувстве, Декарт различает деятельность
органов чувств и собственно познавательную, духовную
силу чувственного опыта. Сначала Декарт (как и некоторые
его современники) как будто бы отделяет чувственное, ма-
149
териальное от духовного, рационального. Но затем он
обнаруживает не только переходные формы, но и нечто
третье — мышление в широком смысле, что как бы
смыкает чувство само по себе и интеллект, как таковой.
Обнаружилось, что мышление, разум выступает в различных
формах. Сказанное характеризует не только учение
Декарта, но и всю панораму современной ему и
последующей филошфии.
Когда мы сравниваем суждения Декарта, Гоббса, Гас-
сенди о мышлении и разуме, мы замечаем: философы
настолько расходятся, что говорят подчас о разных вещах.
И это в самом деле верно. Разум, неопределенное и
синтетическое понятие, которым хотели просто обозначить
специфику чело>веческой «божественности», оказался
божеством многоликим. Каждый философ говорит о том его
лице, которое — по разным причинам — видно ему
лучше. Метафизические суждения о разумном уступают
место более определенным частным видам анализа, философ,
того не замечая, становится специалистом. Осваивая
различные специальные аспекты мыслительной деятельности,
в самом деле наличествующие в совокупном процессе
человеческого познания, философы XVII в. продолжают
думать, что между ними метафизические границы. И эти
границы действительно сохраняются в той мере, в какой
мыслители XVII—XVIII вв., в ряде случаев дополняя
друг друга и выявляя отнюдь не взаимоисключающие
аспекты исследования, придают избранным для анализа
сторонам проблемы мышления абсолютизированный
смысл: тогда различие становится принципиальным
мировоззренческим размежеванием материализма и
идеализма.
б) Мышление в «узком
смысле» — интеллект:
Декарт спорит с Гоббсом
Смысл мышления как «понимания», «усмотрения
умом» Декарт поясняет на простом примере с воском, о
котором раньше уже шла речь. Мы берем какой-нибудь
кусок воска. «Он только что вынут из улья и еще не
потерял сладости находившегося в нем меда; он еще
сохранил кое-что от запаха цветов, с которых был собран; его
150
цвет, его форма, его -величина ясно видны; юн тверд,
холоден, гибок, и, если вы но нему ударите, он и здаст звук ». Но
едва только book поднесут к огню, его качества,
улавливаемые чувствами, изменяются. Каждый предмет, любое
тело природы юпоообно. к изменениям, практически
бесконечным. Как же мы приобретаем знания о постоянных,
существенных и скрытых качествах тел? Почему мы можем
утверждать, что воск при всех его многочисленных
изменениях остается одним и тем же? Декарт отвечает: эти
свойства воска (и всякого другого предмета) постигает
разум. Здесь мы не можем полагаться на чувства, на
представления. В дело включается «ум», «понимание».
«Но при этом надо тщательно отметить, что мое
понимание отнюдь не составляет ни зрения, ни осязания, ни
представления и никогда не составляло их, хотя это и
казалось прежде; но оно составляет только усмотрение
умом, которое может быть несовершенным и смутным,
как это и было раньше, или же ясным и отчетливым, как
теперь, смотря по тому, много или мало внимания 1я
обращаю на то, что находится в нем и из чего оно состоит»
(9, 348—349). Мнение Декарта, следовательно, таково:
чувства подключаются к духовной деятельности
исключительно благодаря последующему вмешательству разума.
Специально анализируя чувственный опыт, Декарт
обнаруживает, что разум вторгается в сам поток чувственных
впечатлений. В результате Декарт вынужден признать,
что чувство «само по себе», т. е. некая изолированная и
изначально пассивная чувственность в реальном
процессе познания, в сущности, не может быть обнаружена. Мы
принимаем за результаты одной лишь чувственной
деятельности то, что на самом деле является плодом
«понимания», «умственного усмотрения», хотя последнее может
быть, и вначале обычно бывает, смутным и
несовершенным. Декарта привлекает и интересует главным образом
познавательная способность, которую он именует
интеллектом. Благодаря ей человек усматривает саму сущность
вещей. Здесь сила, мощь, «божественная» природа
духовного достигает наивысшего выражения, наделяя человека
не только истиной, но и безусловной уверенностью в
обладании ею. Все это и называется ясным и отчетливым
познанием.
Сам факт существования истинного познания,
интеллекта 7 способного раскрыть сущность, природу вещи, Де-
Ш
карту приходится доказывать, обосновывать. Может
возникнуть вопрос: почему ученый и философ Декарт
вынужден оправдывать саму идею о существовании интеллекта,
«мышления в узком смысле» и о возможности овладения
сущностью природы?
Объясняет ©то, во-первых, то реальное обстоятельство,
что наука XVII в. в весьма малой степени располагала
такими понятиями, такими истинами, которые были бы
признанными, бесспорными ее принципами, очевидными
(для многих, если не для всех), ясными, отчетливыми
достижениями. Исключение составляла, пожалуй, одна
лишь математика, на которую не устает ссылаться
Декарт, говоря о принципах и самом наличии
интеллектуальной интуиции, о строгом методе или обоснованном,
продуманном доказательстве. Особая привлекательность
математики состояла также и в том, что Декарт мог
провозгласить некоторые ее положения (сумма углов
треугольника равна двум прямым и т. д.) безусловно
достоверными, ясными, отчетливыми, не без основания надеясь
при этом на понимание и согласие любого читателя —
независимо от уровня его математических познаний.
Справедливость математической истины 2 + 2 = 3+ 1,
которая для Декарта выступает образцом ясно усматриваемого
принципа, мог в самом деле засвидетельствовать чуть ли
не каждый человек. Но таких «истин» в науке XVII в.
было очень мало. Научная деятельность, скованная
схоластической метафизикой, беспомощным эмпиризмом, к тому
же была уделом одиночек. Отождествление тогдашней
науки с царством истины и подлинного разума было бы
поэтому шагом весьма смелым. Декарту-философу
пришлось бороться за интеллект еще по одной причине. Внутри
философии были четко высказаны сомнения в том, что
человеческий разум вообще способен познать сущность
вещи.
Одно из принципиальных возражений Гоббса на
«Метафизические размышления» Декарта было
сформулировано следующим образом: «посредством разума мы
вообще ничего не можем выяснить о природе вещей
(курсив наш.— Н. М.), а можем лишь узнать что-то об их
названиях, а именно соединяем ли мы имена вещей в
соответствии с соглашениями (посредством которых
произвольно установили их значение) или нет» (8. 1, 419).
Предпосылкой данного возражения была мысль о том, что
153
разума, интеллекта в том смысле, в каком его понимает
и определяет Декарт, вообще не 'существует. Логика Гобб-
са была между тем довольно строгим следствием
метафизического толкования чувственного опыта,
предложенного самим Декартом. Если чувства являются
единственной непосредственной способностью, связывающей нас с
вещами, если верны утверждения о пассивности органов
чувств и иллюзорности чувственного опыта, то при
последовательном проведении данной точки зрения в
самом деле приходится признать: вещи воздействуют на нас,
на наши органы чувств, но проникновение в сущность,
природу вещей для нас заведомо невозможно. В гго
время как Декарт позволял себе гениально обходить
собственные дихотомии (в данном случае — предположив
творческую, созидающую, не связанную чувствами силу
разума), Гоббс умел быть последовательным. Мы признали,
рассуждает он, что чувственность не соединяет нас с
природой вещей. Как же может претендовать на это разум,
непременно на чувственности основанный? Ведь
интеллект не изобретает, например, треугольника, возражает
Гоббс Декарту: «Треугольник возникает в уме из
треугольника, который видели или начертали по образцу
виденных» (8, 1, 433). В том, что барьер, поставленный
чувством на шути интеллекта, действительно существует,
Гоббс не сомневался.
Рассуждения Галилея, Декарта об иллюзиях и
недостоверности чувственного опыта, теснейшим образом
переплетенные с затруднениями современного им естество-
энания, могли звучать для Гоббоа куда убедительней, чем
обновленный эпикуреизм Гассенди. (Правда, материалист
Гассенди, (блестящий знаток естествознания своего време-/
ни, сумел оживить древний атомизм, но безоговорочное
доверие к чувственности основывалось в его философии на
совершенно устаревшей «теории истечений».)
Но если пассивен и недостоверен связанный с
объектами, стимулированный предметами чувственный опыт,
то тем более далек от сущности вещей оторванный от них
разум. Его непосредственная основа, его объект—не сами
вещи и тем более не их сущность, но образы внешних
вещей. Эти последние получены нами от вещей, от
природного мира. И именно они, а не вещи сами по себе
становятся непосредственным источником мышления. «Если
хорошенько поразмыслить над тем, что мы делаем тогда,
153
-Когда мыслим и умозаключаем, то окажется, что и при
том положении, когда все вещи в мире 'существуют, мы
мыслим и ^сравниваем только образы нашего воображения.
Для -вычисления величин и движений на небе и на земле
мы не возносимся к небу, чтобы делить его и измерять
происходящие там движения, а спокойно проделываем
эту работу © нашем кабинете или во мраке ночи» (8, 1,
126). Наблюдения за научным исследованием, за
«конструирующей» деятельностью вычисляющего разума,
которые приводят Декарта к мысли о силе и величине
интеллекта, созидающего собственные, «чисто
интеллектуальные» предметы, склоняют Гоббса к другому, прямо
противоположному убеждению. Деятельность разума, от
которого закрыта сущность вещей, не простирается дальше
обозначения, называния, лоименования образов и
последующего «соединения и сцепления имен, или названий, при
помощи частицы есть» (8, 1, 419).
Декарт не скрывает своего недоумения, отвечая на
Гоббсово «сомнение в правомочности разума и имея также
в виду собственную Гоббсову концепцию мышления:
«...при рассуждении речь идет не о сочетании имен, а о
сочетании вещей, обозначенных этими именами. И я
удивляюсь, как нечто противоположное может вообще
прийти кому-нибудь в голову... Разве философ не
произносит приговора самому себе, когда говорит о тех
соглашениях, посредством которых мы установили значение
слов? Если он признает, что слова что-либо означают, то
почему же он не хочет согласиться о тем, что наши
рассуждения скорее относятся к тому, что обозначается
словами, чем к одним лишь словам?» (8, 1, 420). Из
полемики Гоббса и Декарта становится ясным: само
существование интеллекта, разума, проникающего в сущность
вещей, приходится доказывать.
Как же Декарт это делает? Первая группа аргументов
касается объектов познания. Декарт, верный своему
требованию, различает, классифицирует группы, типы вещей,
объектов. Важно отметить, что Декарт при этом отнюдь
не классифицирует типы объективно существующих
предметов и явлений: он расчленяет, описывает,
классифицирует то, что может быть названо содержанием самого
мышления, притом «моего» мышления, и что каждый
человек, при зрелом размышлении, всегда может
обнаружить среди своих мыслей и назвать их предметами. Итак,
154
исходной почвой для рассуждения об объектах
оказывается мышление единичного субъекта. Выбор «точки
отсчета» нам понятен: Декарт отправляется от доставерности
«•cogito, ergo sum» —он имеет в виду жлдивида, прежде
сомневавшегося, а теперь обретшего в самосознании свою
опору: речь идет о субъекте, который при помощи одной
лишь собственной мыслительной деятельности начинает
реконструировать и создавать новый мир истин. Но,
обратившись к мышлению индивида, Декарт сталкивается
с существенным противоречием, которое заставляет его
по сути дела отказаться от самой «точки отсчета».
«Среди моих мыслей,— начинает Декарт свое рассуждение,—
некоторые суть как бы образы вещей, и только им
именно и подобает называться «идеями»; таковы мои
представления какого-нибудь человека, или химеры, или неба,
или ангела, или (даже бога. Другие же, кроме того,
имеют несколько иную форму: например, когда я желаю,
страшусь, утверждаю или отрицаю, то я мыслю какую-
либо вещь как субъект деятельности моего духа, но этой
деятельностью я прибавляю кое-что к своей идее этой
вещи. Одни из мыслей такого рода называются желаниями
или аффектами, другие же — суждениями» (9, 354). Итак,
первое деление касается самого содержания
мыслительной деятельности: Декарт различает «объективные» идеи
и «субъективные» аффекты (в современной философии
последние именуются ценностями или ценностными ори-
ентациями).
Специфика идей состоит, по Декарту, в том, что они,
строго говоря, не могут быть ложными — именно потому,
что они равным образом наличествуют в мышлении
(одинаково существуют в мышлении). Сказанное относится и
к аффектам: желаю ли я хорошего или дурного,
«все-таки существование моего желания не станет от этого менее
истинным» (9, 355). Главное, чего здесь следует
остерегаться, заявляет Декарт, так это непосредств'енного
сопоставления идей, существующих во мне, с вещами,
существующими вне меня. Ибо такой прямой и
непосредственной связи нет. Человеку, видящему солнце,
представляется, что оно чрезвычайно мало. «Другая же идея
почерпнута из доказательств астрономии, т. е. из известных
понятий, рожденных вместе со мной, или же составлена
мною самим каким бы то ни было образом, и благодаря
ей солнце кажется мне в несколько раз больше земли»
155
(9, 357). Какой же из двух идей солнца следует верить?
Чувство избирает первую. Декарт рассуждает иначе:
«Конечно, эти две идеи, при помощи которых я мыслю
солнце, не могут быть обе похожими на одно и то же солнце;
разум же заставляет меня думать, что идея,
происходящая непосредственно от внешнего вида солнца, менее
похожа на него» (9, 357). Итак, соответственно различию
двух противоположных типов идей (идей,
регистрирующих чувственные впечатления, и идей, полученных в
результате научных изысканий), относящихся часто к
одному и тому же предмету, возникает разделение двух типов
мыслительной деятельности. Первый тип — обыденное,
повседневное, «практическое» познание, не
перешагивающее границ непосредственного чувственного опыта и
поэтому весьма близкое каждому эмпирическому,
конкретному человеку. Второй тип — научное, истинное
мышление, постоянно опровергающее чувственный опыт,
поставляющее отдельному человеку такие идеи, которые лично
ему чаще всего не принадлежат. Обыденное мышление
воспитано на доверии к вещам и чувствам. Принцип
истинного мышления — постоянное сомнение в том, что
идеи совпадают с вещами, какими оды их
непосредственно находим и наблюдаем.
Декартово различение вводит нас в самый центр
разногласий французского рационалиста с современными ему
материалистами Гассенди и Гоббсом. Если Декарта
пленяет и привлекает в первую очередь научное мышление,
специфику которого он и хочет установить, говоря о
мышлении в узком смысле, об интеллекте, как бы оставляя в
стороне насквозь иллюзорное «чувственное мышление»,
то Гассенди я Гоббс, напротив, обращают внимание
главным образом на «практический интеллект», на
возникновение понятий, регистрирующих чувственный опыт. Они
вообще сомневаются в необходимости выделения и1
особого исследования идей, якобы перешагивающих границы
непосредственного и единичного опыта. Гассенди,
опираясь на Эпикура, выделяет в собственно мыслительной
деятельности следующие этапы: 1) мнение, которое
истинно в том случае, если подтверждается (или не
опровергается) очевидностью чувства; 2) предварительное
понятие, или антиципация, целиком основанное на чувстве;
3) неочевидные утверждения, которые должны быть
сведены к антиципация'М. Следовательно, главное внимание
156
уделяется «фундаментальному кирпичику» мышления,
предварительному понятию. Как оно возникает и в чем
его отличие? '«Я имею здесь в виду,—поясняет Гасеен-
ди,— понятие — нечто вроде идеи или формы,— которая
приобретается заранее и называется предварительным
понятием; юно может возникать в нашем сознании в силу
вторжения или, если угодно, внезапного нападении, кювда
какая-либо вещь непосредственно, сама собой вторгается
в наше чувство или воздействует на него, например
когда мы видим прямо перед собой человека» (6, 129). Мы
получаем такого рода понятие и в тех случаях, когда
представляем вещь, сходную с той, которую мы
воспринимаем; сочетая две отдельные идеи в одну, мы также
образуем понятие (например, из понятий лошади и
человека получаем понятие кентавра и т. д.). Здесь к
суждению присоединяется умозаключение. Антиципация есть,
следовательно, такое понятие, которое «запечатлевается
разумом» и впоследствии целиком определяет восприятие,
познание данного предмета. Его основой является
целиком достоверное чувство. «Вот почему каждая вещь,
воспринимаемая разумом под ее главным, преимущественным
названием, есть нечто ясное и очевидное» (6, 130).
Понятно, что толкование мышления, предложенное
Гассенди, не согласовывалось с картезианской
концепцией. Декарт настаивает на том, что существуют идеи (в
этом, собственно, состоит специфика идей), которые не
зависят от «моего» мышления и от данной, конкретной
вещи или различных видов материальных тел. Наиболее
ярким образцом идеи, не зависящей от вещей, «данной»
моему уму и этим умом воспринимаемой как бы
непосредственно, Декарт считает идею бога. Объективный
способ существования принадлежит идеям в силу их
собственной природы, утверждает он. Среди этих объективных,
как бы реально существующих идей — идея бога.
Возникает вопрос: где и как существуют идеи? Декарт его
предвидит. Поэтому он различает среди идей «чисто
материальные» и «чисто интеллектуальные вещи». Первые
(фигура, протяжение, движение) могут быть познаваемы и
обнаружены только в телах. Вторые «познаются
интеллектом посредством некоторого прирожденного ему
света, без всякого участия какого-либо телесного образа» (9,
127). «Общие» идеи относятся и к материальным, и к
духовным вещам — это идеи существования, единства, дли-
157
тельмости и т. д. (ом. 9, 128). Но в каком же виде и где
существуют, как возникают «чисто интеллектуальные»
идеи? Старый вопрос, заставивший Платона изобрести
потустороннее царство идей. Но Декарту, борцу против
откровенной 'Схоластической мистики, такое решение не
подходит. Ему совершенно ясно одно: непосредственный
прообраз таких идей нельзя обнаружить в наличных вещах
и в реальной деятельности единичного индивида. Остается
только ссылка на бога, ибо другой «реальности»,
«заключающей» в себе общее, Декарт не знает. Словом «идея»,
разъясняет Декарт в ответ на (возражения Гоббса,
обозначается «все то, что непосредственно постигает ум». «Я
пользуюсь этим именем потому, что оно с давних пор
употребляется философами для обозначения формы
восприятия, присущей божественному уму, хотя мы не
можем предположить существование какой-либо фантазии
у бога (курсив наш.—Н. М.)» (8, 2, 422). И еще одно
важное уточнение: «Под идеей -я понимаю -все, что
составляет форму какого-либо познавательного акта (курсив
наш.—Я. М.)» (8, 1, 429). Значит, реализуется идея
именно в познавательной деятельности, в ходе
познавательных актов: она не присутствует там в виде
некоторого материального элемента, но составляет необходимую
форму познавательной деятельности. (Чрезвычайно
важная, но, к сожалению, в то время не понятая мысль
Декарта встретила горячее возражение Гоббса.) Возникает
вопрос: в чьей познавательной деятельности реализуется
идея как_ее форма? Декарт вынужден признать: не в
моей. («Не моя», — это выражение для XVII в. имело по
сути дела один смысл: божественная. И поскольку
происхождение идей Декарт приписывает божественному уму,
Гоббс немедленно нападает на теологическую символику,
не чувствуя гениально поставленной здесь действительной
проблемы.
Прежде всего Гоббс нападает на Декартов принцип
«объективности», «реальности», идей, когда этот принцип
касается идеи бога. «Не доказано, что идея бога вообще
дана мне». В ответ Декарт может только возразить: идея
бога, бесспорно, существует; «то, что я назвал идеей, все
же дано» (8, 1, 424—425). Декарт одним из первых в
истории философии нового времени вновь ставит вопрос,
занимавший уже Платона: есть идеи и принципы,
которые противостоят каждому отдельному человеку, даны
*5»
ему и в этом смысле являются «объективными» и
«реальными». Декарт настаивает на том, что таким идеям
(скажем, идее субстанции) присуще больше «объективной
реальности», чем -свидетельствам непосредственного
опыта. Выше, говоря о -методе, мы приводили это рассуждение
Декарта. И именно метод как совокупность исторически
значимых принципов, определявших деятельность
отдельного человека в науке, был одной из таких «духовных
реальностей». А идея бога, вера в бога, на которой
покоилась религия в течение веков? Разве не находилась она
среди тех «реальностей», которые настоятельно
навязывались отдельному индивиду раньше, чем он мог
сознательно отнестись к собственному чувственному,
эмоциональному опыту? Вот проблема, над которой бьется Декарт.
Теологическая форма не должна •скрывать для нас ее
реального смысла: речь идет о вмешательстве ов
индивидуальный познавательный опыт такой силы, которая
выходит за рамки этой единичной деятельности и в то лее
время не тождественна воздействию на него материального,
предметного мира. Речь идет, иными словами, о
социальной обусловленности индивидуального человеческого
познания. Вмешательство социального было обнаружено
раньше, чем сама эта сверхиндивидуальная духовная
сила получила адекватное название.
Прав был Гоббс, когда он возражал Декарту: «Хотя
бы и было доказано, что существует нечто» бесконечное,
независимое, всемогущее, то отсюда все же не следует,
что существует творец» (8, 1, 428). Конкретное
«выведение» бота в результате затруднений, возникших при
решении гносеологических вопросов, целиком подтверждает
справедливость Гоббсова упрека. Посмотрим, о чем
реально шла речь, когда с роковой для XVII в.
неизбежностью возникала идея «божественного разума».
«Человеческий»
и «божественный» разум
Для нашей темы это различение и его понимание
особенно важны.
Мысль о существовании и всемогуществе
божественного разума —своеобразная «функция» от
распространенного убеждения, будто человеческий разум ограничен, ко-
159
печен, несуверенен, неизбежно проникнут множеством
предрассудков и заблуждений. Ограниченный по своим
возможностям разум человека противопоставляется
безграничной, поистине -необозримой природе. Отсюда
возникает мысль будто справиться с бесконечным универсумом
может лишь бесконечный, т. е. божественный, разум.
Последний «знает» в мире все и знает сразу, мгновенно, т. е.
познает мир не постепенно и всегда относительно, как
это делает человек, по а|бсолютно и единовременно.
Казалось, что разговор шел только о соотношении
человеческого и божественного разума. На деле же была
поставлена гораздо более реальная, отнюдь не теологическая
проблема. Прав был Фейербах, когда, имея в виду
теологические по своей форме рассуждения философии
нового времени (и борясь против этой формы), писал:
«...человеческое представление о боге является представлением
человеческого индивида о его роде... бог как средоточие
всяческих реальностей и совершенств есть не что иное,
как объединенное для пользы ограниченного индивида
сжатое понятие родовых свойств, распределенных
между людьми и реализующихся в процессе мировой
истории» (18, 1, 148). Размышления о взаимоотношении
.«божественного» и «человеческого» разума по сути дела
ставят проблему общественного и индивидуального в
познании.
Рассмотрим подробнее рассуждения Декарта.
Человеческий разум конечен, ибо «нет в нас никакой
силы, посредством которой мы сами могли бы
существовать или хотя бы на мгновение сохранить себя» (9, 435).
У бога же есть такая мощь: сохраняя людей и мир
природы, он тем более может сохранить себя. Здесь
становится очевидной правота Фейербаха: на место «бога» в
данном рассуждении вполне может быть поставлено
«сохраняющее себя» в истории человечество. Бог «вечен,
всеведущ, всемогущ, источник всякого блага и истины,
творец всех вещей», он совершенен, не ограничен никаким
несовершенством — таково определение Декарта.
Собственно, уже Спиноза показал, что такого рода суждения о
боге могут лишь в том случае не быть антропоморфными,
если подразумевается объективная закономерность и
«творческое» развитие природы. Все другие —
антропоморфные— признаки («всезнание», «мудрость»,
«моральное совершенство») есть возведенные в степень,
превышало
ющие опыт и возможности отдельного человеческого
существа, но в то же время вполне реальные качества
человека. И в этом Спиноза совершенно прав.
Почему Декарт был вынужден в теории «познания, при
объяснении познавательной деятельности человека,
прибегнуть к ссылке на бога? Зная способ мышления
Декарта, мы легко можем предположить, что причиной тому
была проблемная трудность. Мы уже говорили об одной
стороне проблемы — о бесконечности мира, который, по
убеждению философов XVII в., не может быть освоен
конечным существом. Требовалось «возвести в степень»
возможности отдельного человека; и когда это было сделано
(в теологической форме), реально встал вопрос об
обществе и истории. Но была еще одна трудность, на этот раз
специфически гносеологическая. Среди человеческих
знаний есть такие, происхождение и смысл которых еще
можно объяснить, если сослаться на конечного позиающе-"
го индивида. Это эмпирические знания, чувственный
опыт, отнесенный к конкретному, отдельному человеку и
поэтому всегда несовершенный. Но как же быть с
истинами науки, с правилами метода? Как эти общезначимые
истины добываются и доказываются? Ведь они,
несомненно, включены в человеческий познавательный опыт. Как
они совместимы с «конечностью»? Можно признать
индивидуальный и конкретно-исторический человеческий
разум практически бесконечным и могущественным. Но
«приписывание человеческому уму слишком большой
силы» (9, 328) сопряжено с атеизмом, на что
«благонамеренный» Декарт пойти не может. Все возражения
атеистов, говорит Декарт, «не представляют для нас
никакого 'затруднения, если только мы будем... считать ум
человеческий конечным и ограниченным, бога же — существом
бесконечным и постижимым» (9, 328). Опутанный
предрассудками разум 'обычного 'современного человека — еще
одно подтверждение Декартовой мысли о «конечности»
обычного человека. Но как все-таки быть с истинами?
Чтобы ответить на этот вопрос, Декарт вынужден связать
«божественное» и «человеческое», сначала столь
тщательно обособленные друг от друга. «...Способность познания,
данная нам богом и называемая естественным светом,
никогда не касается какого-либо предмета, который не был
бы истинным в том, в чем она его касается, т. е. в том,
что она постигает ясно и отчетливо...» (9, 439). Человече-
6 Н. В. Мотрошилова
161
екая 'способность познания дана человеку богом и потому
имеет «божественную» природу, обеспечивая человека
достоверными, ясными и отчет любыми, истинами.
.«Человеческий ум,— прямо заявляет Декарт,— содержит в себе
нечто божественное, в чем посажены первые семена
полезных мыслей так, что часто, ка« бы они ни были
заглушаемы и оттесняемы посторонними занятиями, они во-
пре-ки всему приносят самопроизвольно плоды (курсив
наш.— H. М.)» (9, 90).
Декарт высказывает эту мысль в очень важном для
нас контексте: формулируя правила метода, он говорит,
что ого начала следует признать врожденными,
поскольку они действовали и действуют стихийно, применяются
многими людьми, принося такие «самопроизвольные
плоды», как истины математического знания.
Здесь мы сталкиваемся с другой важной мыслью, по
существу заданной картезианством,— с понятием
«врожденных» начал или идей. И она-то наилучшим образом
конкретизирует реальную проблему, ©ставшую перед
Декартом. Как объяснить удивительную внутреннюю
согласованность действий у людей, саму природу истины и
ее непрерывное воздействие? Ответ на эту проблему,
реальный смысл которой — соотношение общественного и
индивидуального в познании, дается именно концепцией
врожденных идей. Каждому человеку «прирождены»
некоторые истины, правила метода, которые, бесспорно, не
могут быть выведены из его индивидуального
познавательного опыта, только из него.
Резкая дихотомия «конечного» и «бесконечного» в
познании, та теологической формой которой стоял вопрос о<б
обществе и индивиде, начинала изживать себя. Нераздели-
мость общественного и индивидуального по существу
была признана уже тогда, когда сама проблема была
поставлена в первоначальной, еще весьма смутной и
неадекватной форме.
Аналогичная проблема стоит перед материалистом и
монистом Спинозой. К идее о том, что к природе
человеческого познания относятся черты «божественного»,
бесконечного разума, Спиноза приходит на основе целого
ряда важных гносеологических соображений, сходных с теми
трудностями, на которые наталкивается Декарт. Кстати,
эти мысли очень редко принимаются во внимание, чаще
всего говорят о том, что Спиноза пантеистически слива-
162
ет бога с природой и что тезис о бесконечности и
всемогуществе бога служит для О'бошования универсальности и
неуничтожимости природы. Но к идее о существовании
всемогущего бога Спинозу толкает не только мысль о
единстве природы. Гносеологические трудности, над
которыми бьется Спиноза, с другой стороны, подводят его к
той же идее. «Существует бесконечное число познаваемых
вещей» (14, 1, 79),— констатирует Спиноза. Это реальное
обстоятельство — перед познающим человеком
простирается бесконечный во времени и пространстве мир,
бесконечное число познаваемых и подлежащих познанию
объектов — специфическим образом обусловливает,
формирует человеческое познание, деятельность субъекта. Из
постулата, что 1) число познаваемых вещей бесконечно, для
Спинозы следует два вывода: «2) Конечный ум не может
понять бесконечного; 3) Конечный ум сам по себе не
может ничего понять, если только он не определяется чем-то
вне себя; ибо подобно тому как он не имеет власти
познать все ершу, он так же мало властен начать,
например, познавать это раньше того или то раньше этого
(курсив наш.— Н. М.))> (44, 1, 79). Итак, должна, как
полагает Спиноза,—из-за бесконечности объектов,
бесконечности задеач, встающих перед познанием,—существовать
внешняя по отношению к 'индивиду и бесконечная сила,
преодолевающая ограниченность конечного человеческого
ума, заключающая в себе источник порядка, системности,
преемственности и последовательности познания
(«внешняя причина, заставляющая его познавать одно раньше
другого»). Такова первая трудность, »разрешить которую
Спиноза стремится при помощи идеи о бесконечнюм
субъекте, «божественном разуме».
Но, рассуждает Спиноза далее, «познаваемых вещей»
не просто бесконечное множество. Они неоднородны по
своему качеству. Среди них и материальные вещи (вместе
с соответствующими высказываниями о них), и законы,
свойства («атрибуты»), которые хотя и проявляются через
действие материальных вещей, но сами по себе, по
точному выражению Спинозы, «не существуют материально».
«Идея атрибута... не существует материально,— говорит
Спиноза,— так что высказанное об идее не касается ни
вещи, ни того, что высказано о ней, следовательно,
между идеей и ее объектом существует большая разница»
(14, 7, 79). Эти идеи, идеальные атрибуты бога, говорит
6*
163
Спиноза, являются -всеобщими, универсальными, и
поэтому они (не могут быть созданы человеком, конечным,
несовершенным существом. Они независимы от каждого
отдельного человека и его мышления. Идеи — своего
рода «реальность», такая реальность, которая не
существует вне природы и вне материальных вещей, проявляется
только через существование и действие этих последних,
но существует вне мышления и деятельности каждого
индивида. Это относится не только к идеям адекватным,
правильно отражающим суть предметного, природного
мира, но и к идеям фантастическим, выдуманным. И во
втором случае идеи «суть и будут, если бы ни я, ни иной
человек даже никогда не думал о них. Именно потому
они не созданы моей фантазией, но должны и вне меня
иметь субъект, который не есть я и без которого они не
могут существовать (курсив наш.— Н. М.)» (14, 1, 80).
Специфическая особенность философии Спинозы состоит
в том, что она в некоторой степени в отличие от Декарта,
поставившего ту же проблему, усматривает подлинную
причину независимости идей от познающих индивидов в
том, что от человека независимы вещи с их сущностью
(«от меня не зависит ни истина, ни сущность, ни
существование вещи...» [14, 1, 80]). Это делает учение Спинозы
важным этапом на пути к материалистической
диалектике, к материалистическому истолкованию природы
человеческого познания. В идее бога, независимого от человека
божественного разума, Ситиноза сливает представление об
общих закономерностях природы и о законах, всеобщих
формах человеческого познания. Поставив »опрос о том,
каково соотношение между атрибутами и субстанцией,
принадлежащими к «бесконечному разуму бога», и
существующими в природе субстанциями и атрибутами,
Спиноза отвечает: «В бесконечном разуме бога нет иной
субстанции или атрибутов, кроме существующих в природе
формально». Совладение общего и всеобщего в мире и в
познании служит основой для объединения бога и
природы. Но что ваокио для нас, совпадение это может
существовать и существует именно потому и постольку,
поскольку человеческий разум -обладает чертами
«божественного» и «бесконечного». Как мы видим, в этом случае
Спиноза -опирается на тенденцию, проележеиную выше в
философии Декарта. В письме к Генриху Ольденбургу
Спиноза следующим образом поясняет соотношение между
164
конечным и бесконечным разумом, между «человеческой
душой» и «бесконечным интеллектом». «Что касается
человеческой души (mens), то и ее я тожо считаю частью
вселенной. Ибо я признаю, что üb природе существует
также и бесконечная способность (potentia) мышления (со-
gitandi), которая, поскольку она бесконечна, «содержит
в .себе объектно (objective) всю природу и отдельные
мысли (cogitationes) которой развертываются таким же
образом, -как и сама природа, являющаяся ее идеатом.
Далее я полагаю, что человеческая душа (mens) является
тою же самой способностью (potentia), но не поскольку
она бесконечна и нерцепирует всю природу, а поскольку
она конечна, а именно поскольку она перцепирует
только человеческое тело. И на этом основании я считаю, что
человеческая душа есть часть некоторого бесконечного
интеллекта (15, 136. Курсив наш.— Н. М.)». Спиноза
действительно считает «бесконечную способность мышления»
способностью, потенциально заключенной в самой
природе. В этом случае он хочет подчеркнуть, что именно
природа как целое является идеатом, содержанием
бесконечного мышления и что развертывание последнего
совпадает с развертыванием, развитием природы. Познание
отдельного человека, познание, связанное с конечным
человеческим телом, тесно связано с «бесконечным
интеллектом» и является актуальным, хотя и частичным,
осуществлением его потенции. Связь эта диктуется, с точки
зрения Спинозы, универсальностью и единством природы,
ее бесконечным — во времени и пространстве —
развертыванием, ее закономерным, «божественным» развитием.
Кстати, в приведенном выше отрывке из частного письма
Спиноза не придает понятию «бесконечный интеллект»
эпитет «божественный», как это он обычно делает в
предназначавшихся для печати сочинениях. Бесконечный
разум здесь не отделяется качественной границей от
«человеческой души», от интеллекта отдельного человека, но
соотносится с последним как целое с частью.
В философии XVII в. мы находим не только общие
соображения, касающиеся человеческого и «внечеловеческо-
го» (на самом деле общечеловеческого, социального по
своей природе) познания. Мыслители этого столетия
пытаются раскрыть особые познавательные механизмы,
которые как бы обеспечивают соединение '«человеческого»
и «божественного» в познании индивидов. Так, Декарт
.,№
пытается охарактеризовать познавательный акт, который
гарантирует ясное и отчетливое усмотрение отдельных
вещей и общих понятий. Этот акт Декарт и описывает в
учении об интуиции. Характерно, что в понятии интуиции
как бы снимаются дихотомии Декартовой гносеологии:
здесь речь идет об интеллектуальном видении,
усмотрении, т. е. по сути дела о (перекрещивании чувств и
интеллекта, о пересечении моего познавательного опыта и
независимых от него, «врожденных» идей; наконец, здесь
объединяются познание и деятельность. «Под
интуицией,— говорит Декарт,— я разумею не веру в шаткое
свидетельство чувств и не обманчивое суждение
беспорядочного воображения, но понятие ясного и внимательного
ума, настолько простое и отчетливое, что оно не оставляет
никакого сомнения в том, что мы мыслим, или, что
одно и то же, прочное понятие ясного и внимательного ума,
порождаемое лишь естественным светом разума и
благодаря своей простоте более достоверное, чем сама
дедукция, хотя последняя и не может быть плохо построена
человеком...» (9, 86). Познание есть, по мысли Декарта,
единство интуиции, непосредственного усмотрения, и
дедукции, опосредованного, последовательного
доказательства, основанного на «верных и понятных» принципах,
«нигде не прерывающегося движения».
Интуиция—понятие, благодаря которому описывается особый, весьма
важный для человека тип познавательных действий,
подобных простым, ритмичным, механически упорядоченным
действиям человека, владеющего тем или иным
практическим «искусством». Интуитивно постигаемых истин
много, говорит Декарт. «Так, например, всякий может
интуитивно постичь умом, что он существует, что он мыслит,
что треугольник ограничивается только тремя линиями,
что шар имеет только одну поверхность и подобные этим
истины, гораздо более многочисленные, чем это
замечает большинство людей вследствие того, что не считает-
достойными внимания такие простые вещи» (9, 86).
Важно отметить, что в определении интуиции по сути дела
смягчено еще одно разделение: мышление как интеллект
и мышление как повседневная практическая ориентация,
взявшая на вооружение в том числе и научные (истины.
Декарт хорошо понимает: то, что раньше было добыто в
ходе научного или вообще хорошо продуманного
доказательства, затем становится интуитивной истиной («...все
166
положения, непосредственно выведенные нами одно из
другого, если заключение ясно, уже 'сводятся к подлинной
интуиции» [9, 103]). Говоря об интуиции, Декарт далек
от того, чтобы подробно раскрыть особые механизмы,
гносеологический смысл описанного им факта слияния, в
самом деле характеризующего человеческий дух. Так же
смутно представляет он себе механизм врожденных идей,
хотя стремится с их помощью преодолеть совершенно
определенную трудность.
Идеи, понятия, принципы науки доступны мне, моему
мышлению, Я их осваиваю, л ими руководствуюсь. Но
эти идеи -превышают компетенцию и возможности моего,
единичного разума: так, истинная идея солнца
почерпнута мною из доказательств астрономии. «Врожденная
идея» — это понятие-символ, обозначающее некий еще не
известный «мудрый» механизм человеческого познания,
особый род, особую форму познавательной деятельности,
ее скрытую, но постоянно актуализирующуюся потенцию;
это деятельная, свободная духовная форма, чудесным, но
неизвестным способом синтезирующая в данном
познавательном ооыте «мое» и «не мое», «человеческое» и
«божественное».
Гоббс требует от Декарта подробных и вполне
реальных объяснений, касающихся принципа врожденных
идей. «Если Декарт... утверждает, что идеи бога и души
врождены нам, то я хотел бы знать, мыслит ли дух и в
глубоком сне при отсутствии сновидений. Если нет, то
он в эти моменты не имеет никаких идей. Отсюда
следует, что не существует врожденных идей, ибо то, что
врождено, должно быть всегда налицо» (8, 1, 428). Удар
в самом деле меткий. Весь ход рассуждений Декарта о
врожденных идеях наталкивает на мысль о
существовании непрерывного разума, целостного процесса познания.
Но реальная деятельность и жизнь единичного
индивида, который, если мы вспомним, был у Декарта
сознательно избранной гносеологической «точкой отсчета»,
как будто бы опровергает идею непрерывного сознания.
Еще труднее обнаружить в этом случае непрерывное
самосознание: индивид, погруженный в глубокий сон,
не обнаруживает признаков активного и четкого
мышления. Философия поставлена перед необходимостью
отказаться, от индивидуального, единичного субъекта как
«точки отсчета», опорного пункта гносеологического ана-
167
.низа. Она вынуждена обратиться к
сверхиндивидуальному разуму. Эту необходимость в какой-то степени
осознает Декарт. Но он не делает определенных, решающих
выводов. Их сделает в следующем столетии Лейбниц.
Под напором справедливых доводов Гоббса
(подробнейшим образом его тему в XVIII в. будет развивать Локк
в своей критике учения о врожденных идеях) Декарт
чуть-чуть отступает: «Говоря, что какая-нибудь идея вро-
ждена нам, мы не хотим сказать тем самым, будто она
постоянно находится в поле нашего зрения. В этом
смысле у нас нет вообще ни одной врожденной идеи. Под
врожденностью идеи мы понимаем лишь то, что у нас
есть способность вызывать ее» (8, 1, 429). На
неопределенность, известную ■декларативность Декартова учения
о врожденных идеях указывал Гегель: «Врожденными
идеями являются для Картезия не всеобщее, как у
Платона и позднейших философов, а то, что обладает
очевидностью, непосредственной достоверностью, некое
непосредственное множество, имеющее свою основу в
самом мышлении, многообразные понятия в форме некоего
бытия, подобные (по Цицерону) природно прочным,
вселенным в сердце чувствам. Мы лучше сказали бы: это
имеет свою основу в природе, в сущности нашего духа.
Дух деятелен и ведет себя в своей деятельности
определенным образом; но этот характер его поведения не
имеет другого основания, кроме как его свободы.
Однако, чтобы показать, что это так, требуется нечто
большее, чем только сказать об этом; этот характер
поведения должен быть выведен как необходимый продукт
нашего духа» (7, 273). Гегель прав, когда говорит, что
удивительный факт согласованности, активности,
деятельного характера человеческого познания еще должен
быть объяснен. Он ошибается, когда полагает, что
выведение данного факта означает дальнейшее очищение
духа как единственной основы объяснения интуитивного
и «сверхиндивидуального» знания.
* *
*
Итак, в учении об интуиции, врожденных идеях, о
«божественном» разуме Декарт указывает на реальные
обстоятельства, детерминирующие, обусловливающие гго-
168
знаготе индивидуального субъекта. Он «создает, конечно,
и развернутую концепцию, объясняющую
заинтересовавшие его факты и явления. Но 'здесь проблемы скорее
поставлены, да и то в неадекватной, теологической
форме. Их решение весьма далеко от той ясности,
отчетливости, которой неизменно добивался сам Декарт. И все-
таки собственно гносеологическое учение философов
XVII в. (учение о методе, учение о познании) имеет
прямое отношение к рассматриваемому здесь вопросу о
социальной сущности, социальной обусловленности
познания. Исторический характер, социально-историческое
содержание требований метода, историческое
происхождение проблем, возникших в учении о познании, не
вызывают, по всей видимости, особых сомнений. Но и
анализ собственно гносеологических концепций убеждает
нас: вся цепь затруднений, с которыми столкнулась
теория познания уже при решении основного вопроса
философии, логично привела философов XVII в. к
кардинальному вопросу о социальной обусловленности
познания. Обнаружилось, что преодоление дихотомий
материального и идеального, преодоление разрыва между
чувственностью и разумом в теории познания зависит в
конечном счете от осмысления данного вопроса. И эта
связь, зависимость, трудность остается вполне реальной
не только для рассматриваемого периода, но и для
последующей философии.
Это, как нам кажется, подтверждает выдвинутый в
предисловии постулат: философия XVII в. в виде ее
наиболее развитых, наиболее глубоких и содержательных
учений является важнейшим, хотя и начальным, этапом
постановки и разрешения вопроса о социальной
сущности познания. Философия XVII в. открыла и описала
целый ряд важных проблемных областей, наметила
несколько линий исследования вопроса о социальной
сущности познания. Те из них, которые связаны с
социально-воспитательной подготовкой индивида к
познавательной, в особенности к научной деятельности, были
рассмотрены в первой части работы.
Здесь мы суммируем идеи, возникшие в теории
познания в узком смысле (кстати говоря, впоследствии они
привели к значительному расширению узких рамок
гносеологии). Во-первых, речь идет о методе как
комплексном историческом образовании, в наиболее глубинной,
169
необходимой, всеобщей (для науки) форме выражающем
влияние социально-исторических факторов.
Во-вторых, начинает пробивать себе дорогу та
плодотворная мысль, что индивидуальный и как бы вне
общества поставленный субъект не является исходной
гносеологической «точкой отсчета». Теория познания
начинает практически работать на иной основе раньше, чем
она осознает (тем более в адекватных формулировках
развернутой теории), какова именно эта основа.
В-третьих, благодаря объективному включению
социального начала в деятельность индивида, включению, так
или иначе зафиксированному мыслителями XVII в., был
поставлен и открыт для разработки вопрос о соединении
в субъекте, в самом .процессе познания, в его результатах
социальных и индивидуальных фактов.
В-четвертых, соответственно различению двух типов
идей, двух форм разума (научного и обыденного
познания и их результатов) было также открыто два типа
социальности, заключенной в индивидуальном познании. О
первом типе и пытались рассказать Декарт и Спиноза,
когда они из представления о разуме, проникающем в
самую сущность вещей, вывели идею бесконечности
этого разума. Речь шла по существу о «бесконечности»
творческого, деятельного мышления, несводимого к
познанию единичного субъекта; речь шла о внутренней
социальной обусловленности научного и вообще
творческого мышления чшовека, поскольку оно способно познавать
сущность, законы вещей. Встала на повестку дня новая
тема — «непрерывность» разума, реализующаяся в
истории, в совокупной деятельности людей. Разработка этой
темы по целому ряду исторических причин стала
прерогативой (на это указывал Маркс в «Тезисах о
Фейербахе») рационализма и идеализма.
В рамках же материализма был описан и рассмотрен
другой аспект проблемы социальной обусловленности
познания — познания в форме «пассивного», «обычного»,
т. е. практически значимого, обыденного,
«житейски-достоверного» мышления. Понимание познания и
мышления, предложенное Томасом Гоббсом, дает в этом
отношении богатый материал.
ГЛАВА VI
ПОЗНАНИЕ И ОБЩЕНИЕ
ЛЮДЕЙ
(ТОМАС ГОББС)
Томас Гоббс разработал
весьма интересную концепцию социальной
обусловленности познания, которая оказала существенное влияние на
последующую философию; мотивы Гоббсова анализа
внимательный и осведомленный читатель может обнаружить
в самых современных концепциях, развивающихся
преимущественно на почве неопозитивизма. Главная
отличительная особенность такого рода учений, истоки
которых можно без труда обнаружить ъ произведениях Гоб-
бса,— рассмотрение познания и мышления как процесса
коммуникации по преимуществу, процесса обозначения
вещи, создания имени и знака, сообщения и циркуляции
последних в ходе духовного межчеловеческого обмена.
Концепция Гоббса интересна не только как исторически
исходный или, точнее, как один из первых феноменов
теории «коммуникации». Особую ценность
представляет — по сравнению с множеством современных анализов,
намеренно стремящихся к «чисто логическому»
описанию,—попытка Гоббса осуществить не абстрактнологи-
ч-еюкое, ню социальное исследование процессов обмена
мыслями, процессов коммуникации.
Такой зрелый теоретический ход является
несомненным результатом материалистической и научной
ориентации Гоббса. Мы видели, что Декарт и Спипоза решали
проблему «надындивидуальное™» человеческого
познания и мышления при помощи ссылки на «бесконеч-
171
ность», всестороннюю силу божественного разума. И
хотя понятия «бог», «божественное», «бесконечное» часто
наполнялись не теологическим, а вполне реальным
проблемным содержанием, форма анализа была (все-таки
теологической. Ссылка на бога к тому же придавала
иллюзорную ясность совершенно неисследованной проблеме.
Для Гоббса движение анализа в подобном
направлении было бы равнозначно измене материализму, измене
важнейшему принципу исследования, провозглашенному
им в следующих словах: «Философия исключает
теологию, т. е. учение о природе и атрибутах вечного, несо-
творенного и непостижимого бога, в котором нет
никакого соединения и разделения и в котором нельзя себе
представить никакого возишшовегжя» (8, 1, 58). Гоббсу
ненавистна не только откровенная и заведомая теология,
но и учение о боге, вырастающее из самих недр
философского знания, пусть даже в его основе и лежит та
действительная трудность, что всякая наличная мысль
или идея человека имеет предшествующую причину,
последняя в свою очередь — новую причину и т. д. «В
качестве заключительного звена этой цепи», рассуждает
Гоббс, человек «полагает вечную причину, которая не
предполагает более предшествующей причины, так как
ее бытие никогда не имело начала. Таким образом он
заключает, что необходимо существует нечто вечное. Но
он не имеет никакой идеи последнего и только
обозначает именем бога это признанное им и являющееся
предметом его веры существо» (8, 7, 421). Нельзя не
удивляться тому, сколь точна и обстоятельна Гоббсова
критика: реальное существование причинной
обусловленности, длинной цепи, соединяющей воедино человеческие
мысли и идеи, не есть основание для теологической
аргументации, говорит великий английский философ. То
«бесконечное существо», к которому приводит анализ
Декарта (и Спинозы), не является богом — вот другой
важнейший, принципиальный вывод Гоббса. И еще один
вывод: говоря о боге как заключительном звене
мыслительного «причинного |ря|да», человек по существу
расписывается в том, что он не имеет «никакой идеи
последнего». Рассуждения Декарта о «реальности» идей (мы
говорили о них выше) Гоббса не удовлетворяют прежде
всего в силу их неопределенности и смутности.
«...Декарту следовало бы объяснить, что, собственно, означа-
172
ет большая реальность. Разве по 'отношению (к
реальности вообще применимы выражения больше и меньше?
Если он действительно думает, что одна вещь может
быть вещью в большей степени, чем другая, то пусть он
сделает это доступным и нашему пониманию путем
ясного изложения, которое необходимо при доказательстве
и которое отличает его во всех других «случаях» (8, 1,
426). Как мы знаем, Декарт не был готов осуществить
это справедливое требование Гоббса. Для самого Гоббса
очевидная непоследовательность и туманность
рассуждений Декарта были свидетельством их несостоятельности.
Гоббс убежден, что исследование необходимо вести
иначе. Проблемная задача и трудность, конечно,
остаются: необходимо объяснить сцепление человеческих
мыслей, их объединение в причинный ряд, обнаружить
формы и тгсто1ки взаимозависимости людей, осуществляющих
познавательный процесс. Над этой же проблемой бились
Декарт и Спиноза. Ее сознательно перенимает и ставит
Гоббс. Но исходные условия решения вопроса для
Гоббса таковы: никакой теологии, мистики, никаких
неясностей; говорить следует лишь о таких процессах,
которые в действительном познании реально имеют место,
которые в ясной и очевидной форме могут быть
представлены человеческому уму. Достоинство и особая
значимость Гоббсова анализа по сравнению с интересными
и глубокими теориями его современников состояла в том,
что человеческое познание, человеческая деятельность
были здесь рассмотрены сами по себе, в их реальном
ходе, в их самообусловленгаости. Ссылка на кшнечелоове-
ческие» факторы с самого начала была исключена.
Когда Гоббс обращается к словам и речи, то он
только делает достаточно строгий вывод из принципов,
положенных им в основание философии. Если выдвигается
требование описать «'реальность»
духовно-познавательной деятельности, то для Гоббса это означает:
необходимо отыскать материальные формы реализации
духовного, такие объекты, которые были бы одновременно и
«физическими», и мыслительными, абстрактными,
которые философ 'и логик подобно математику м-ог бы
сравнивать, складывать, вычитать — словом, исчислять. Такие
объекты действительно существуют, ибо мышление
«материализуется» в виде языковых (и речевых)
высказываний; элементы последних — слова, написанные на бу-
173
Maie или выраженные в виде сочетания речевых
звуков,— являются, говоря словами Маркса, «материальной
действительностью мысли». Избирая этот путь
исследования, Гоббс выступает как продолжатель давней
тенденции философского исследования, приводящей к
выделению логики, самостоятельной дисциплины,
которая видит свою задачу в строгом формальном
«исчислении высказываний». Гоббс, кроме того, пытается
оправдать не просто правомерность, но и универсальную
научную значимость подобного подхода к мышлению и
познанию. Что для нас особенно важно, он предлагает
социологическое, социально-коммуникативное за*вершение
логической теории, рассматривающей мышление,
познавательную деятельность в виде
количественно-определенного сочетания, комбинации высказываний.
Итак, упоминание о боге как причине причин,
обусловливающей каждый отдельный, актуальный
познавательный процесс индивида, было для Гоббса запретным
приемом. Сам причинный ряд, признает Гоббс,
существует: познание индивида зависимо и обусловлено. От
чего оно зависит? Чем оно обусловлено? Посмотрим, как
отвечает на этот вопрос Томас Гоббс. Вместе с Декартом
и Спинозой Гоббс признает, что человеческий
индивидуальный познавательный опыт, поставленный перед
необозримым множеством вещей и явлений, должен
опираться на некоторые «вспомогательные средства». Гоббс
также считает субъективное, «конечное»,
индивидуальное познание внутренне слабым, смутным, хаотичным.
«Каждый из своего собственного и притом наиболее
достоверного опыта знает, как расплывчаты и скоропрехо-
дящи мысли людей и как случайно их повторение» (8,
1. 60). Но обычная для того времени мысль об
ограниченности, «конечности» индивидуального опыта «самого по
себе» отнюдь не заставляет Гоббса прибегнуть, как это
делает Декарт, к вмешательству «бесконечного»
божественного разума. Человек сам вырабатывает специальные
вспомогательные средства, во многом преодолевающие
конечность, локальность, индивидуальность его личного
познавательного опыта,— такова весьма важная идея
материалиста Гоббса. Каковы же эти средства? Для того
чтобы избежать необходимости каждый раз вновь
повторять познавательные опыты, касающиеся одного и того
же объекта или ряда сходных объектов, человек свое-
174
образно использует чувственные образы и сами
наблюдаемые чувственные вещи. Эти последние становятся, по
Гоббсу, «метками», благодаря которым мы в
соответствующих случаях как бы воспроизводим в нашей памяти
накопленные ранее знания, касающиеся данного
объекта. Так осуществляется аккумуляция знаний: в каждом
данном познавательном акте мы «оживляем»,
используем — в сокращенной, мгновенной деятельности — наш
собственный прошлый опыт. Познание индивида
становится единым, взаимосвязанным процессом. Уже эта
глубочайшая идея, которая -пронизывает доследования Гобб-
са, делает его философию провозвестницей и
непосредственной предшественницей усилий Локка и Юма,
Лейбница и Канта.
Но Гоббс идет дальше. «...Если бы даже человек
выдающегося ума,— продолжает он свои размышления,—
посвятил все свое время мышлению и изобретению
соответствующих меток для подкрепления своей памяти и
преуспеяния благодаря этому в знаниях, то ему самому
эти старания явно принесли бы небольшую пользу, а
другим — вовсе никакой. Ведь если метки,
изобретенные им для развития своего мышления, не могут быть
сообщены другим, то все его знание исчезнет вместе с
ним. Только тогда, когда эти метки памяти являются
достоянием многих и то, что изобретено одним, может
быть перенято другим, наука может развиваться на
благо и рада спасения всего человеческого -роща» (8, 1, 61).
Если бы на земле существовал один-единственный
человек, тогда для его познания было бы достаточно меток.
Но поскольку человек живет в обществе себе подобных, его
собственная мысль с самого начала ориентирована на
другого человека, других индивидов: замечая в вещах
правильность, регулярность, повторяемость, мы
обязательно сообщаем об этом другим людям. И тогда вещи
и чувственные образы становятся уже не метками, а
знаками. «Разница между метками и знаками состоит
в том, что первые имеют значение для нас самих,
последние же — для других» (8, 7, 62). Мы видим, что Томас
Гоббс — в самом деле без всякой мистики — связывает
воедино индивидуальный и социальный познавательный
опыт. Связующим звеном оказывается не таинственное
божественное мышление, но процесс, составляющий
повседневную, очевидную реальность для человеческой дея-
175
тел ы гости и познания,— процесс сообщения мыслей,
обмена мыслями и знаниями, т. е., выражаясь
современным языком, коммуникативная сторона познавательной
деятельности. Гоббс тем более должен был склоняться к
такой точке зрения, что здесь он, обретая вполне
реальную почву для анализа, мог последовательно и без
особых противоречий ориентироваться на заданную
философией его времени гносеологическую «точку отсчета» —
индивидуального познающего субъекта и его
собственную деятельность. Гоббс последователен и монистичен:
вне деятельности индивида он не признает никакой
«духовной реальности». Именно реальное познание
отдельного человека есть подлинный источник тех идей и
принципов, которые затем поступают в общесоциальный
познавательный обмен.
Но возвратимся к вопросу, поставленному выше. Чем,
по Гоббсу, обусловлено мышление и познание индивида?
От чего оно зависит? Прежде всего, конечно, от вещей,
являющихся обязательным первоисточником наших
знаний. Но ведь здесь должна вступить в силу отмеченная
выше идея Гоббсовой философии: вещи сами по себе
недоступны нашему познанию. Значит, в-ещи и сущность
•вещей самих по себе являются тем фундаментом и
источником человеческого познания, между которым и всем
зданием человеческой деятельности Гоббс искусственно
воздвигает принципиально непреодолимую преграду. Но
тогда мышление человека оказывается в самом деле
предоставленным самому себе: оторванное от
«божественного» разума, оно отторгается и от сущности, законов
природы. Оно само становится «законодателем». Правда,
пределы его самоопределяющей деятельности весьма
ограниченны: познание, мышление состоит sb «произвольном
изобретении» имен (слов, выбранных в качестве меток)
и üb сочетании их в соответствии с определенными
правилами. Так мышление, едва приобретя право на отделение
и самоопределение, поспешило заботливо ограничить
собственную самостоятельность; законы мьюлительтаого
творчества оказались давно знакомыми
формальнологическими и грамматическими принципами. Апогеем
«творческого» самоопределения человеческого мышления
стала у Гоббса «произвольность» в придумывании имен и
названий.
Такая же двойственность присуща Гоббсовой комму-
176
никативной теории познания. С одной стороны,
человеческое познание в изображении Гоббса -существенным,
внутренним образом связано с его социальной функцией,
под которой английский мыслитель понимает создание
знаков, их высказывание, сообщение. Подобно тому как
«реальностью» знака является для Гоббса имя, слово,
эта единица языка, так и «реальностью» познания
оказывается речь. Последняя и составляет, по мнению
Гоббса, «специ'фичес'Кую особенность человека» (8, 1, 231).
Соглашение людей относительно знаков и слов — вот
единственное упорядочивающее, организующее начало,
ограничивающее произвол речевой деятельности. Это как
будто бы означает, что социальной ориентации
человеческой познавательной деятельности приписывается
громадное, поистине универсальное значение. Овладев
речью, этой 'специфически человеческой формой социально
обусловленного знания и познания, человек
приобретает, согласно Гоббсу, некоторые важные преимущества.
Прежде всего Гоббс, в соответствии с решающими
устремлениями современной ему науки, упоминает о
пользе числительных, тех имен, которые помогают человеку
считать, измерять, рассчитывать. «Отсюда для
человеческого рода возникают огромные удобства, которых
лишены другие живые существа. Ибо всякому известно,
какую огромную помощь оказывают людям эти
способности при измерении тел, исчислении времени,
вычислении движений звезд, описании земли, мореплавании,
возведении построек, создании машин и в других случаях.
Все это зиждется на способности считать, способность
же 'считать зиждется на речи» (8, 1, 233—234). ;Во-вто-
рых, продолжает Гоббс, речь «дает возможность одному
человеку обучать другого, т. е. сообщать ему то, что он
знает, а также увещевать другого или советоваться с
игам» (8, 1, 234). «Третье и величайшее благодеяние,
которым мы обязаны речи, заключается в том, что мы
можем приказывать и получать приказания, ибо без
этой способности была бы немыслима никакая
общественная организация среди людей, не существовало бы
никакого мира и, следовательно, никакой дисциплины, а
царила бы одна дикость» (8, 1, 234).
Если при обосновании первого преимущества Гоббс
говорит скорее об историческом, практическом значении
научно-технического мышления и познания своей эпохи,
177
сведение которого к сочетанию, соединению имен и
названий грешило явной вульгаризацией, то рассмотрение
языка и речи как орудий социального общения, как
важнейших воспитующих, цивилизующих
духовно-материальных форм было обоснованным и теоретически
перспективным. Нельзя, однако, не заметить, что
специфические преимущества, вытекающие из
антитеологической, практичвски-.материалиютиче'окой ориентация Гюбб-
сова мышления, были связаны здесь (три наличии
весьма ограниченных теоретических возможностей для
вполне позитивного анализа социальной обусловленности и
общественных функций познания) с целым рядом огра-
ниченностей и упрощений. Подобно тому как
самостоятельность мышления в конечном счете обернулась его
пассивностью, так и социальность познавательной
деятельности растворилась в процессах сообщения,
увещевания, обучения, получения и отдачи приказаний и т. д.
Гоббс, правда, подмечает, что речь, составляющая
специфическую особенность человека, сама по себе не
обеспечивает, несмотря на цивилизующую функцию,
достаточно четкого и однозначно положительного социально-
познавательного эффекта. «Если среди всех животных
существ только человек способен благодаря общему
значению слов придумать себе общие правила и
сообразовать с ними весь строй своей жизни, то и он лишь
способен следовать в своих действиях ложным правилам и
внушать их другим, с тем чтобы последние также
следовали им». «...Человек, если ему угодно (а это ему
угодно каждый раз, когда кажется, что это будет
способствовать его цели), может также преднамеренно
проповедовать ложные идеи, т. е. лгать, и тем самым подрывать
сами предпосылки человеческого общения и мирного
сосуществования людей» (8, 7, 234 — 235). Гоббс
обнаруживает, что речь равным образом может слз'жить
«оболочкой» и истинной, и ложной мысли, что она может
обслуживать и благоприятное для общества, и антисоциальное
действие. Но это означает, что вопрос об истине и
заблуждении, о формах и истоках социального общения в
процессе познания никак не может быть растворен в
проблемах речевой, языковой коммуникации, хотя эти
последние весьма важны и для гносеологической
теории истины, и для социологического учения о
познании.
178
Между тем сам Гоббс считает свою коммуникативную
теорию мышления подлинной теорией познания,
единственно реальным учением об истине, о науке.
Непротиворечивость Гоббсова учения в данном случае была
оплачена довольно высокой ценой: Гоббсу пришлось
отказаться от поисков такой истины, которая 'соответствует самой
сущности вещей. «Истина,—говорит Гоббс,—не есть
свойство вещей... она присуща одному только языку» (8, 1,
80). Если мышление сводится к произвольному
обозначению вещей и сочетанию имен в предположениях, то
истина неизбежно превращается в особое свойство
высказываний, предложений, в свойство языка. И
поскольку истинное мышление действительно реализуется в
языковой форме, постольку Гоббс прав: мышление
отдельного человека, несомненно, зависит от такого
важного и универсального явления социальной реальности, как
язык. Возникновение языка, его совершенствование в
самом деле является одной из ближайших,
непосредственно наблюдаемых реальных форм, в которых
объективируется, находит свое воплощение социальная сущность
человеческой познавательной деятельности. Гоббс
стремился анализировать лишь те аспекты причинной
обусловленности индивидуального познавательного опыта,
которые могут быть вполне реально, наглядно
рассмотрены, описаны, классифицированы. Поэтому он должен
был прежде всего обратить внимание на
коммуникативные аспекты человеческой познавательно-языковой
деятельности. Гоббс предпочитал, как говорится, иметь в
руках синицу, чем журавля в небе... Поскольку добытая
в науке и в социальной практике готовая истина
действительно сообщается, обретает 'значение для людей
(«Необходимыми истинами,— говорит Гоббс,— являются
только такие предложения, которые содержат вечные
истины, т. е. предложения, истинные во все времена» —
8, 1, 80), постольку Гоббс снова прав.
Но в ходе Гоббсова анализа по сути дела
отодвигается в сторону другой вопрос, над которым бьются Декарт
и Спиноза: как, благодаря чему истина добывается и
обретает внутреннюю достоверность? При этом речь
идет не о «принципах», «истинах» здравого -смысла,
но об основах тогдашней науки. Вопрос,
следовательно, стоит иначе, чем у Гоббса: каковы свойства
истины (и истинного! познания), которые только обнару-
179
ж misa ютил, а не формируются л процессе
коммуникации, в процессе сообщения знания? Ведь Декарт и
Спиноза наталкиваются на неизбежное вмешательство
социального именно при анализе процессов открытия,
обнаружения, нахождения истин, затем в -самом деле
приобретающих и приобретших, подобно идеям математики
и астрономии, всеобщее 'значение и признание. Так coö-
датели учений о познании в XVII веке выявляют две
различные формы, два различных уровня социальности,
социальной сущности и социальной обусловленности
человеческого познания. Декарт и Спиноза обнаруживают
социальность как некоторую безличную,
надындивидуальную («божественную») силу, которая определяет
познавательный процесс отдельного человека и
своеобразно включается в этот последний. Эти философы
наталкиваются на многие неясности и трудности: перед ними
лишь смутно, в теологической форме выступают
объективные факты, свидетельствующие о социальной
сущности познания; столь же мистической выглядит и связь
между познавательным опытом отдельного человека и
детерминирующей социальной силой. И тем не менее и
Декарт, и Спиноза не решаются поступиться «смутной
метафизикой», ибо именно в ней оказалась заключенной
та «сумасшедшая» для «позитивного» мышления
философская идея, которая великими философами XVII в. не
могла быть подробно доказана, но была им очень дорога.
Это была идея о внутренней творческой активности
человеческой разумной деятельности, о громадных
потенциях научного познания, проникающего в сущность
вещей: об активности, свободе, деятельности, разумности,
далеко превосходящих «коночное», «ограниченное»
мышление и познание индивида, а также отдельных
поколений людей. На горизонте философского исследования
брезжила идея историзма, «непрерывности»
человеческого познания, правда, во всей ее полноте и глубине еще
не доступная не только XVII, но и последующему XVIII
столетию.
Что касается Гоббса, то его философия знаменует
начало, первый шаг на пути прояснения, конкретного и
фактического изучения социальной детерминированности
и социального функционирования человеческого
познания. Несомненное и важное для современности
преимущество Гоббсовой позиции заключается в том, что ему,
180
'поскольку он имеет дело с достаточно реальными
фактами, не приходится прибегать к мистическим и
теологическим символам, подобным картезианским
«врожденным идеям» или спинозистскому «богу». Социальность,
о которой говорит Гоббс,— действительные формы
общения людей, возникающие по поводу усвоения,
распространения, использования уже готового, добытого знания.
Не добывание истины, но ее значение, реализующееся в
социальном опыте,—вот реальный предмет Гоббсова
исследования.
Объективное историческое подтверждение значимости
и проблемной равноправности обеих тенденций анализа
было дано последующим развитием философии. Линии
исследования, предложенные Декартом и Го'ббсом,
находят своих продолжателей в философии конца XVII и
всего последующего столетия. Рационализм Декарта, его
догадка о «надындивидуальном» разуме, концепция
врожденных идей были подхвачены и развиты немецким
мыслителем Лейбницем. С другой стороны, стремление Гобб-
са вполне реалистично описать и интерпретировать
социальную обусловленность познания с большим сочувствием
было воспринято на родной почве
позитивно-фактического мышления, на британском берегу Ла-Манша,
материалистом Джоном Локком. Но при этом острота
полемики вокруг интересующих нас проблем, характерная, как
мы видели, для эпохи Декарта и Гоббса, отнюдь не смят-
чилась. Напротив, размежевание материализма и
идеализма стало на рубеже столетий и в первой половине
XVIII в. еще более резким. Джои Ломк продолжает и
углубляет Гоббсову материалистическую и
«реалистическую» критику картезианства, касаясь как раз тех
проблем и пунктов, о которых ниже уже шла речь. Но
знамя рационализма вскоре подхватывает Лейбниц, в свою
очередь обрушиваясь на самые принципиальные
установки локковской гносеологической концепции. Стержнем
философской дискуссии оказывается вопрос о природе,
сущности, возможностях человеческого познания,
включавший в качестве своего тлавного и неотъемлемого, хотя
и здесь еще не адекватно обозначенного, элемента
проблему социальной сущности познания. Различные уровни и
формы социальности становятся объектами более
подробного исследования.
ЧАСТЬ 2
ФИЛОСОФИЯ
КОНЦА
XVII—ПЕРВОЙ
ПОЛОВИНЫ
XYIII ВЕКА
ГЛАВА I
НА ПУТИ СОЗДАНИЯ НАУКИ
О ЧЕЛОВЕКЕ
Историческая дистанция,
разделяющая Декарта, Спинозу, Гоббса и мыслителей
конца XVII—первой половины XVIII в. Ломка,
Лейбница, Юма, не столь уж значительна. И все-таки на
рубеже столетий в буржуазной мысли происходит важный
и существенный поворот, выразившийся, в частности, в
прояснении конкретно-исторической обусловленности, со-
циальио-классоазьгх предпосылок и специфического
общественного содержания тех понятий и концепций, которые
прежде в большей степени могли выступать в
абстрактной, метафизической форме.
Энгельс называет XVIII в. «предпоследним шагом на
пути к самосознанию и самоосвобождению
человечества». «Восемнадцатый век собрал воедино результаты
прошлой истории, которые до того выступали лишь
разрозненно и в форме случайности, и показал их
необходимость и внутреннее сцепление. Бесчисленные
хаотичные данные познания были упорядочены, выделены и
приведены в причинную связь; знание стало наукой, и
науки приблизились к своему завершению, т. е.
сомкнулись, с одной стороны, с философией, с другой — с
практикой» (2, 1, 599). По словам Энгельса, мысль XVIII
столетия сталкивается с теми же противоположностями
субстанции и субъекта, природы и духа, необходимости и
свободы, над которыми бьется теоретическое сознание
предшествующей эпохи. И она тоже не разрешает проти-
185
нололожиостей, ко!ч>рые остаются непримиримыми и в
социальной практике. Но все-таки и в самой социальной
действительности, и в теории происходит существенный
сдвиг. Подобно тому как в Англии происходит
глубочайшая, хотя и бесшумная, социальная революция, так
и в теории назревают и осуществляются изменения.
Социальная революция лежит в основе духовных сдвигов.
«Нет такой, хотя бы самой отдаленной области
человеческого знания и человеческих жизненных отношений,
которые так или иначе не повлияли бы на нее и, в свою
очередь, не претерпели бы под ее воздействием каких-
либо изменений» (2, 1, 598). Следовательно, в это время
гуманитарная мысль и общественная практика находятся
в состоянии активного взаимодействия. И в
действительном развитии, и в теории более четко, и определенно
заостряются противоречия, философия более прямо
направляет свое внимание на специфические объекты, анализ
которых выпадает именно на ее долю.
Сказанное относится к интересующему нас учению о
человеке и учению о познании. Необходимо прежде
всего подчеркнуть, что вопрос о человеке в новом столетии
провозглашается центральной проблемой философии. А
в общем комплексе исследований, посвященных человеку,
на первый план выдвигается теория познания, учение о
познании. «Наука о человеке,— четко и определенно
выражает эту идею Давид Юм,— является единственно
прочным основанием других наук...» (16, 2, 82). Учение
о человеке теперь считают фундаментом всего здания
науки, в том числе фундаментом естествознания. Роль
посредника между комплексом философского знания,
выполняющего основополагающие и нормирующие
функции, и между естественнонаучным опытом играет теория
познания. Таково принципиальное убеждение ряда
философов XVIII столетия, которое высказано тем же
Юмом: «Даже математика, естественная философия и
естественная религия в известной мере зависят от науки
о человеке, поскольку они являются предметом
познания людей и последние судят о них с помощью своих
сил и способностей. Невозможно сказать, какие
изменения и улучшения мы могли бы произвести в этих науках,
если бы были в совершенстве знакомы с объемом и
силой человеческого познания (the extent and force of
human' understanding), а также могли объяснить при-
186
роду как применяемых нами идей, так и операций,
производимых нами в наших рассуждениях» (16, 1, 81).
«Гуманизация» философского знания и на
протяжении всего XVII столетия остается одной из характерных
тенденций его развития. Локк, Лейбниц, Юм и в
особенности Руссо так же верны гуманистическим идеалам,
как и мыслители предшествующей эпохи: ценности
свободы, разума, равенства, гуманности, человеколюбия,
справедливости, неприкосновенности человеческой
личности, когда о них заходит речь, горячо
пропагандируются и защищаются. Локк и его современники и
последователи убеждены в том, что люди «по природе» являются
«■свободными, равными и независимыми» (12, 2, 56). Они
признают «естественным», подлинно человеческим и
изначальным такое «состояние равенства, при котором
всякая власть и всякое право являются взаимными,
никто не имеет больше другого» (12, 2, 6). Принципы
свободы и равенства для философов конца XVII — первой
половины XVIII в. обладают непререкаемой, очевидной
значимостью и обязательностью. «Естественная свобода
человека,— пишет Локк,— заключается в том, что он
свободен от всякой высшей власти на земле и что он не
находится во власти человека или в юридическом
подчинении у него, но что он должен руководствоваться
только законом природы» (12, 2, 16).
Однако у процесса гуманизации философии,
протекающего и продолжающегося теперь, в более позднюю
эпоху нового времени, есть свои особые приметы. Одна из
них связана с внутренними изменениями,
затрагивающими философскую науку и все более настоятельно
ставящими в центр философских исследований вопрос о
человеческой деятельности. Речь идет также о
дифференциации науки, о новых, своеобразных отношениях между
естествознанием и философией. Естествознание
становится столь разветвленной, столь быстро разрастающейся в
своих объемах частью науки, еще недавно единой и
доступной универсальному уму, что возможность
одновременной творческой разработки философии и наук о
природе оказывается скорее исключением, чем правилом.
Таким исключением на рубеже столетий был гений
Лейбница. Большинство же его философствующих
современников или представителей следующих поколений хотя и
отличаются подчас огромной естественнонаучной эруди-
187
циой, но уже не успевают "участвовать в
непосредственном накоплении знаний о природе, когда выбирают
главным делом своей жизни философию. Исследование
природы, выявление ее законов, задача технического
использования знаний о природных процессах оказываются з
такой же мере важными для развития общества, в какой
и трудновыполнимыми функциями; потребовалось
обособление, усложнение и расширение комплекса
естественных наук. На рубеже XVII—XVIII вв. мы застаем
этот процесс на самом начальном этапе его развития,
правда очень стремительного и бурного.
Для философии наметившееся еще раньше, а теперь
отчетливо выявившееся разделение труда между
естествознанием и комплексом философских исследований
имело весьма существенное значение. На долю философии
выпадает не менее ответственная центральная задача:
сконцентрировать внимание на человеческих проблемах,
открыть законы того особого универсума, центром и
главным деятелем которого является человек. Поэтому
философия к XVIII в. не только располагает целым
рядом более или менее достоверных сведений о человеке,
условиях и принципах его жизнедеятельности, но она
имеет возможность выдвинуть строгое и четкое
требование: в рассуждениях о человеке избавиться от мистики,
бесплодной схоластики и туманной метафизики,
превратить учение о человеке в точное и обстоятельное
научное исследование. И хотя очень -скоро выяснилось, что
^действительная реализация этого справедливого
требования — дело очень сложное и в своих плодотворных
результатах довольно отдаленное, все-таки именно в
данный период был дан серьезный толчок для развития,
сначала в рамках философии, а очень скоро и вне ее,
разветвленного комплекса научных дисциплин и
исследований, общность между которыми заключалась в изучении
различных типов социальных условий, в описании и
рассмотрении общественных характеристик разнообразных
конкретных форм человеческой жизнедеятельности.
Благодаря этому учение к> человеке и человеческой природе
в XVIII столетии приобретает новый вид: все меньше
места занимают абстрактные рассуждения о добре и зле,
о «вечной» сущности человека; для изучения
человеческой сущности все чаще привлекается политэкономиче-
ский, юридический, исторический материал. Собственно,
188
термин «наука о человеке» становится в устах
мыслителей цанного периода обозначением целого комплекса
зарождающихся научных исследований, которые стремятся
объединить разные стороны и разные аспекты
человеческого мира и человеческого существа, притом с
максимальной близостью к реальному, обычному,
повседневному действию индивида.
То, что подобный подход к учению о человеке
осуществляется совершенно сознательно и весьма упорно,
можно видеть из следующего рассуждения Юма.
Философы, говорит Юм, до сих пор двумя различными
способами разрабатывали учение о человеческой природе.
Первый тип философского размышления тяготеет к
повседневному действию человека, к его вкусам и
чувствам, к его ценностным ориентациям. Философы такого
типа, продолжает Юм, «выбирают самые поразительные
(наблюдения и -случаи из обыденной жизни, надлежащим
образом сопоставляют противоположные характеры и,
увлекая нас на путь добродетели видениями славы и
счастья, руководят нами на этом пути с помощью самых
здравых предписаний и самых блестящих примеров»
(16, 2, 8). «Другой род философов рассматривает
человека с точки зрения не столько его деятельности, сколько
разумности и стремится скорее развить его ум
(understanding), чем усовершенствовать его нравы. Эти
философы считают человеческую природу предметом
умозрения и изучают ее тщательно и точно с целью открыть
те принципы, которые управляют нашим познанием
(understanding), возбуждают наши чувства и
заставляют нас одобрять или порицать тот или иной частный
объект, поступок или образ действия» (16, 2, 8). Итак,
первый тип учения о человеке, »эта «легкая философия»,
склоняется к обучению правилам на основе частных и в
то же время ярких и доступных примеров, в то время как
«серьезная», абстрактная философия занимается
метафизически-умозрительным обоснованием общих принципов,
в соответствии с которыми оцениваются частные,
конкретные объекты и поступки. С точки зрения первой
концепции человек является практически действующим,
моральным существом; во втором случае главным в челово
ке признают его ум, его разумную деятельность.
Юма не удовлетворяет полностью ни одна из этих
концепций, хотя он считает вполне реальными те свой-
189
ства человека, о которых говорится в обоих случаях.
«Человек — существо разумное, и, как таковое, он
находит себе надлежащую пищу в науке...» Но «человек,—
продолжает Юм,— не только разумное, но и
общественное существо» (в том смысле, что он нуждается в
обществе других людей, хотя не всегда способен им
правильно пользоваться и наслаждаться); «человек, кроме того,
деятельное существо» (в том смысле, что «должен
предаваться различным делам и занятиям» — 16, 2, 8). Значит,
при характеристике природы человека следует, по
мнению Юма, принять во внимание все эти его свойства:
«•природа, по-видимому, указала человечеству
смешанный образ жизни, качс наиболее |для него подходящий...»
Иными сломами, человеку свойственны и разумность, и
общественная склонность, и стремление к
практическому действию. Природа, пишет далее Юм, как бы говорит
человеку: «Удовлетворяй свою страсть к науке... но
пусть твоя наука останется человеческой и сохранит
прямое отношение ок деятельной жизни л обществу» (16, 2,
И). Задача, здесь четко поставленная, хотя и не
разрешенная, состоит, стало быть, в объединении разумного
и практически деятельного начал, в присоединении к
этим качествам склонности и способности человека
общаться с другими людьми. Вот главные признаки,
которые и должны, с точки зрения Юма, составить
человеческую сущность, человеческую «природу». При этом
учение о человеке предполагается строить так, чтобы была
ниспровергнута «туманная философия с ее
метафизическим жаргоном» и чтобы был открыт путь для «точного
изучения», опытного наблюдения и исследования «сил и
способностей человеческой природы» (16, 2, 15).
В рассуждении Юма о путях разработки учения о
человеке, центрального пункта всей философии, для нас
принципиальную важность имеет то обстоятельство, что
при определении природы человека предполагается со-
,- одинить признаки разумности) (высшее проявление этой
■ способности — стремление к истине и познание ее),
; практической жизнедеятельности^ и социальности)
Независимо от того, как именно реализуется запланированное
\ объединение, нельзя не отметить зрелости и
теоретической плодотворности самого замысла. В дальнейшем мы
попытаемся во всех подробностях и деталях обнаружить,
как этот замысел осуществляется.
190
* *
*
У процесса исследования социальных свойств
человеческой сущности, который в рассматриваемый период
совершенно определенно и сознательно становится на
повестку дня философского исследования, есть своя четкая
и необходимая внутренняя логика. «Размышление над
формами человеческой жизни,—устанавливает Маркс,— а
следовательно, и научный анализ этих форм, вообще
избирает путь, противоположный их действительному
развитию. Оно начинается post festum [задним числом], т. е.
исходит из готовых результатов процесса развития.
Формы, налагающие на продукты труда печать товара и
являющиеся поэтому предпосылками товарного обращения,
успевают уже приобрести прочность естественных форм
общественной жизни, прежде чем люди сделают первую
попытку дать себе отчет не в историческом характере
этих форм,— последние уже, наоборот, приобрели для
них характер непреложности,— а лишь в их содержании»
(2, 23, 85 — 86). Характеристика, которую Маркс дает
здесь развитию политической ш^ономии, откосится не
только к ней, но и вообще к исследованию (в
рассматриваемый нами период) различных типов социальных
форм и социальных отношений, к исследованию самого
существа социальных связей. Социальные отношения, к
тому же принявшие специфические формы
(капиталистические частнособственнические отношения), в самом
деле приобрели для буржуазных теоретиков характер
непреложности, «прочность естественных форм
общественной жизни». Однако большая заслуга философов XVII—
XVIII вв. состояла в том, что они поставили перед собой
задачу громадной важности — разобраться в самом
содержании общественных форм и отношений.
Исследование обращается, во-первых, к
объективированным социальным формам и институтам, в
значительной степени пр-отивопоставившим себя стьвдивиду,—
таким, как собственность, государство и другие
политические, юридические институты, которые прежде всего
должны быть изучены в их реальном общественном
функционировании. Особый интерес представляют
высказанные мыслителями XVIII в. идеи, касающиеся того
отношения, которое связывает эти общеооциальные
формы и институты и жизнедеятельность индивида. Таков,
191
например, горячо обсуждаемый в данный период вопрос
о нозиикновении собственности в результате трудовой
деятельности человека. Во-вторых, мыслители конца
XVII— первой половины XVIII столетия обращаются к
более общей и в высшей степени интересной проблеме:
речь идет о специфике и существе самого социального
отношения, взаимодействия людей в обществе,
основанном на частной собственности. Еще не имея развитого
теоретического представления об объективных законах
социального развития, философия в XVIII в. ставит на
повестку дня вопрос, который в туманной форме
возникал и раньше, скажем, в различных теориях
общественного договора, но более остро встал перед Локком, Юмом
и в особенности перед Руссо. Это был вопрос о самом
существе социального объединения, социальной связи
людей, о том, благодаря чему люди становятся и
остаются способными к общественной жизни, к добровольному
и сознательному (не только принудительному)
выполнению норм и принципов социального общения. Следует
подчеркнуть, что такова, на наш взгляд, реальная
проблема, поставленная Локком, Юмом, Руссо и другими их
современниками. Но сами эти мыслители, обратившись
к действительной проблеме, часто формулируют ее
иначе. Наиболее распространенной из тех форм, в которых
вопрос о специфике социальных отношений, о
социальных качествах индивида и его познания тогда ставился,
была следующая: каковы отличительные особенности
«гражданского состояния», гражданского общества, как
и благодаря чему человек становится членом этого
общества, как это общество возникает?
ГЛАВА П
О «ГРАЖДАНСКОМ
ОБЩЕСТВЕ»
И «ПРИРОДЕ» ЧЕЛОВЕКА
§ 1. Индивид и собственность
Для философов
интересующего нас периода термин «гражданское общество»
является синонимом развитого общества, общества в
собственном смысле слова — разветвленного, упорядоченного,
довольно сложного социального целого, управляемого на
основе системы общественных институтов и при помощи
правовых установлений. Первым и главным признаком
гражданского общества мыслители XVII—XVIII вв.
считают существование и всестороннюю охрану
собственности. Локк так и говорит: «Основной целью вступления
людей в общество является стремление мирно и
безопасно пользоваться своей собственностью» (12, «2, 76).
Понятие собственности, владения теперь неизменно
присутствует при определении общества, государства, свободы.
«Государство,—пишет Локк,—я считаю обществом
людей, (образованным для обеспечения, сохранения и
достижения их собственных гражданских интересов.
Гражданскими интересами я называю жизнь, свободу, здоровье и
отсутствие телесных страданий и владение такими
внешними благами, как деньги, земли, дома, домашняя утварь
и т. д.» (12, 2, 145). Но поэтому и в понятие
«свободного и равноправного человека», сущности человека
прочно включается — наряду с политическими и
юридическими правами и привилегиями и даже прежде их — право
иметь и охранять свою собственность: человек «по
природе (курсив наш.—Я. М). обладает властью... охранять
7 Н. В. Мотрошилова
193
спою собственность, т. е. свою Жизнь, свободу и
имущество, от повреждений и нападений со стороны других
людей...» (12, 2, 50). Собственность — право,
характеристика развитого человека, которые кажутся Локку и его
современникам совершенно неотъемлемыми от индивида,
равнозначными его жизнедеятельности, здоровью и т. д.
Узурпировать собственность индивида — это-, по Локку,
так же преступно, несправедливо, негуманно, как и
наносить ущерб его здоровью, как и покушаться на его
жизнь.
Когда у Локка или Юма речь заходит о
собственности как существенном определителе человеческой
сущности, то имеется в виду не общая собственность, но
собственность индивидуальная. «Хотя земля и все низшие
существа принадлежат сообща овеем людям, все же
каждый человек обладает некоторой собственностью,
заключающейся в его собственной личности, на которую
никто, кроме него самого, не имеет никаких прав. Мы
можем сказать, что труд его тела и работа его рук по
самой природе вещей принадлежат ему» (12, 2, 19). Идеал
неприкосновения и свободы личности находит самое
непосредственное продолжение — и конкретную
расшифровку! — в теории собственности. Человек
рассматривается как собственник «по самой природе». Логика
буржуазного рассудка прямо ведет Локка от утверждения
демократического и гуманистического права человека
сохранять самого себя, права на неприкосновенность
собственной личности к превращению частной
собственности в неотъемлемое качество человека. Правда, Локк
признает, что частная собственность существовала не
всегда. Более того, он обещает своим читателям
проследить генезис индивидуальной собственности, ее
происхождение — вопреки изначально существовавшей общей
собственности на предметы природы. Но при этом
причины возникновения собственности Локк отыскивает не
в историческом процессе взаимодействия людей, не в
определенных материальных изменениях, но в природе
человека; Локк извлекает аргументы из ценностной идеи
свободы и неприкосновенности человека, из утверждения
об обязательной принадлежности индивиду результатов
его собственного труда. Индивидуальная собственность,
так сказать, предуготована человеку, объяснение
генезиса собственности есть не что иное,-как доказательство
194
такой предопределенности. Вот почему «генетический»
замысел—выявить происхождение собственности—при
таком исполнении еще весьма далек от исторического
подхода и подлинного социального анализа. К истории
прилагается схема, историю подчиняют некоторой модели,
составленной на основе наблюдения за готовым, данным,
современным состоянием. Аналогичный метод заставлял
других родоначальников классической буржуазной
политэкономии, по форме предпринимавших исторические
экскурсы, видеть в первобытном охотнике и рыбаке
товаровладельца и капиталиста.
И у Локка человек эволюционирует от
«естественного состояния» к гражданскому. Но чем обусловлен этот
переход? Индивид хочет беспрепятственно пользоваться
своей собственностью. Но ведь когда-то, как признает и
сам Локк, не было собственности — в том смысле, что
нетронутая людьми природа была их общим достоянием.
Человек, рассуждает Локк, уже обладал тем главным, что
обязательно должно было превратить его в частного
собственника: способностью к труду. «Труд, который был
моим и который был затрачен на то, чтобы извлечь их
(предметы и богатства природы.—Я. М.) из того
состояния общего владения, в котором они находились,
утвердил право собственности на них» (12, 2, 20). Локк, по
словам Маркса, «старается доказать не то положение,
что собственность может быть приобретена еще и
другими путями, кроме труда,— это противоречило бы его
исходной точке зрения,— а то, каким образом
индивидуальный труд, вопреки общей собственности на
предметы природы, может создать индивидуальную
собственность» (2, 26, ч. I, 369). Неравенство индивидуальной
собственности не разрушает в глазах Локка принятой
теоретической посылки: неравенство, как полагает
английский философ, определяется различной мерой труда,
большим или меньшим прилежанием человека. Правда,
он отнюдь не поощряет крайних форм, в которых может
проявляться и проявляется неравенство собственности;
для него предпочтительнее 'более справедливое ее
распределение. «Великое искусство управления» состоит,
по Локку, в том, что устанавливаются «-законы свобо
ды для ващиты и поощрения честного трудолюбия
человечества против сил угнетения и узости партии...» (12,
2. у. 27),
7*
195
Локк придает огромное цивилизующее значение
человеческому труду. Земля в двух странах может быть
одинакова по своей «естественной стоимости», но сколь
различен извлекаемый из нее полезный эффект!
Причина этого в различном качестве прилагаемого в обоих
случаях человеческого труда: «Именно труд составляет
большую часть стоимости земли, без которого она вряд ли
чего-нибудь стоила; именно ему мы обязаны большей
частью всех ее полезных продуктов...» (12, 2, 28).
Мысль о преобразующем воздействии труда на общество
и на человека определенно выражается и Юмом. «Все
на свете,—говорит он,— приобретается посредством
труда, и наши аффекты суть единственная причина труда»
(16, 2, 752). Но сам труд, продолжает Юм, обладает
особыми преимуществами потому, что он осуществляется в
общественных условиях. «Благодаря объединению сил
увеличивается наша трудоспособность, благодаря
разделению труда у нас развивается умение работать, а
благодаря взаимопомощи мы меньше зависим от
превратностей судьбы и случайностей. Выгода общественного
устройства и состоит именно в этом приумножении силы,
умения и безопасности» (16, 1, 636).
Размышления философов конца XVII — первой
половины XVIII в. о труде и собственности позволяют
сделать вывод, важный для нашей темы. Сколь бы
ограниченными, классово-буржуазными, метафизическими ни
были попытки Локка и Юма усмотреть сущность
человека просто в его способности к труду и якобы
вытекающем отсюда «вечно» присущем человеку праве
собственности, все-таки в истории учений о человеке концепция
его «трудовой» сущности представляет значительный
шаг вперед. Внимание теоретического исследования
было направлено на такое изучение особых свойств и
способностей человека, которое должно было привести и
постепенно привело к обнаружению социальной природы
человеческой деятельности и человеческого познания.
Приписывая собственность, владение, самой сущности
человека, Локк и Ю-м объективно выступают здесь как
апологеты частной собственности, как буржуазные
мыслители. Если философы раннего капитализма еще не
видели и не могли видеть особенностей и противоречий
новой общественной системы и потому не страдали чисто
буржуазной ограниченностью, то к XVII в. четко выра-
196
женное классовое буржуазное сознание с его узостью и
слабостями становится несомненным фактом. У него есть
■свои специфические черты, которые особенно важно
подчеркнуть, когда мы имеем дело с научным буржуазным
сознанием — скажем, с классической буржуазной
философией или политической экономией. Утверждение
преимущества капиталистического производства, юридических,
правовых норм «(гражданского общества» (а
высказывания Локка или Юма об общественной пользе мануфактур,
технических усовершенствований, наконец,
демократических, юридических изменений и т. п. можно было бы
привести довольно много) вполне правомерно в тот период,
когда такие преимущества по сравнению с отживающим,
но еще не уничтоженным феодализмом действительно
имеются. Ведь другая, более прогрессивная социальная
система существует в XVIII в. разве только в
расплывчатых утопических мечтаниях.
•В этом случае особенности капиталистического
общества теряют свои исторические очертания и становятся
«вечными» определителями человеческой сущности.
Здесь, кроме того, сказалась специфическая
ограниченность методологических и теоретических принципов,
поскольку они служили для осмысления общества,
человека, истории. Исторический подход к анализу общества и
индивида, который является основой и принципом
диалектической интерпретации социального развития, как
мы уже отметили выше, в XVIII столетии был чужд
наукам о человеке. Но в понимание человека и
человеческой деятельности рассматриваемая концепция вносит
существенный прогресс: место абстрактного
натурализма или абстрактно-философского рассмотрения человека
(сущность человека — его тело или его разум) занимает
пока еще несовершенный, ограниченный, тоже
абстрактный, но все-таки явный подход к человеку как к
социальному существу.
§ 2. Свобода человека и
общество. Свобода и право
Другим важнейшим наряду с частной собственностью
признаком гражданского общества философы
рассматриваемого периода считают сознательное отчуждение инди-
197
видом своих прав и своей свободы в пользу общесопиаль-
ного, главным образом правового, порядка.
Гражданское общество определяется как
организованная система правового регулирования отношений между
людьми. Эта система, раз возникнув, приносит с собой
ограничение личной свободы индивида. Да и возникает
гражданское общество, по мнению целого ряда
философов XVII —XVIII вв., именно потому, что индивиды,
стремясь оградить собственность от любых посягательств,
идут на сознательное ограничение своей свободы,
«отчуждают» часть своих прав и решений в пользу
социальных институтов и форм, заключают «общественный
договор» о таком отчуждении, его значении и
последствиях. Как было сказано выше, Локк, его современники и
последователи горячо защищают гуманистические
ценности свободы и справедливости. Но значительно
больший удельный вес в составе философских теорий теперь
принадлежит «реалистической» концепции свободы:
основной интерес вызывает вопрос о возможностях
реализации свободы человека в рамках социальной
необходимости.
Первым и главным основанием более глубокого по
сравнению с предшествующей философией понимания
свободы является развиваемая в XVIII в. и вполне
правильная идея о том, что сфера свободы есть область
специфически человеческого действия. О свободе, утверждает
Локк, можно говорить лишь применительно к
человеческому действию. Локку приходится доказывать данный
тезис потому, что категории свободы и необходимости в
соответствии с давней традицией философии часто
выдавались за абстрактные характеристики всякого, в том
числе и природного, бытия. Поэтому Локк прежде всего
стремится показать, что понятие свободы неприменимо
к природе, к телесным движениям и изменениям.
Существенную помощь в утверждении этой мысли оказывает
тогдашнее механистическое естествознание, теория
материи с ее центральным тезисом об изначальной
пассивности тел и материальной природы. Наблюдая за
многообразными движениями и изменениями, начинает свое
доказательство Локк, мы приходим к выводу о наличии
активной силы, способной вызвать в вещах такую
перемену, и о возможности для самих вещей воспринять ее
стимулирующее воздействие. Заметим, что Локк отказы*
498
вается вводить в рассуждение теологические аргументы:
говорить о боге как причине движения, творческой
активной силе — значит закрывать и затуманивать
проблему, требующую конкретного разрешения. В полном
соответствии с выводами и доводами тогдашнего
естествознания и «естественной философии», ее учения о
материи Локк не усматривает источника движения в самих
телах. «Тело, находящееся в покое, не дает нам никакой
идеи активной силы, способной двигать; а когда оно
само приведено в движение, это движение есть в нем
скорее пассивное состояние, нежели действие» (12, 1, 247).
Отсюда вывод: «наиболее ясная идея активной силы
получается от духа» (12, 1, 247). Полемизируя с этим
утверждением Локка, видоизменяя картезианское учение о
материи, на основании ряда физических и
математических соображений приходя к мысли о возможности
допустить наличие некоторой «активной силы» в
материальном движении, Лейбниц тем не менее готов
поддержать Локка в его принципиальном выводе: «Однако я
все же согласен с вами, что наиболее ясную идею
активной силы мы получаем от духа. Поэтому она
находится лишь в вещах, аналогичных духу, т. е. в энтелехиях,
материя же содержит в себе только пассивную силу»
(11, 152).
Своеобразную позицию в определении источников
внутренней активности, причин развития занимает Юм.
Прежде всего он устанавливает, что различные
термины — «дееспособность», «деятельность», «сила»,
«энергия», «необходимость», «связь», «порождающее
качество» — в толковании современных ему и предшествующих
философов по сути дела равнозначны. Юм подводит
итоги тех споров, которые касались данного предмета.
«Неудача, постигшая все попытки определить эту силу,
привела наконец философов к заключению, что привычная
сила и дееспособность природы совершенно неизвестны
нам и мы напрасно ищем их во всех известных
качествах материи. Это мнение почти единогласно признают
все философы (курсив наш.—Я. М.), и взгляды их
несколько различаются лишь в связи с теми следствиями,
которые они выводят отсюда; ибо некоторые из
философов, в частности картезианцы, установив в качестве
принципа, что мы в совершенстве знакомы с сущностью
материи, вполне естественно вывели отсюда, что она не об-
199
ладает дееспособностью и сама по себе не может ни
сообщать движение, ни производить какое-либо из тех
действий, которые мы ей приписываем. Так как сущность
материи состоит в протяжении и так как протяжение не
содержит в себе актуального движения, а лишь
подвижность (mobility), то они заключают отсюда, что энергия,
производящая движение, не может содержаться в
протяжении» (16, 1, 265—266). Сам Юм считает выводы
естествознания и философии, касающиеся движения,
точнее, «подвижности» материи, непреложными. Он также
придерживается мнения о том, что материя «сама по
себе» лишена внутреннего источника движения и что,
следовательно, этот источник является не материальным,
а духовным. «В общем необходимость (вспомним:
необходимость для Юма есть синоним «активности»,
«дееспособности».—Я. М.) есть нечто существующее в уме, а
не в объектах, и мы никогда не составим о ней даже
самой отдаленной идеи, если будем рассматривать ее как
качество тел» (16, 1, 274).
Признав, что необходимость существует только «в
уме», Юм том не менее решительно выступает против
различных концепций, нр'идержи!ва1вших'ся аналогичного
общего убеждения,— прежде всего против картезианства,
против теории «рожденных идей. Аргументация Юма
сходна с доказательствами Локка. Картезианское учение
не отвечает основному требованию: найти «естественное
порождение», естественный, а не фантастический,
фетишистский принцип объяснения и определения
активности. Картезианцы давали именно фантастическое
объяснение; то же самое можно сказать о философах, которые
апеллировали к «субстанциальным формам», к
«акциденциям и качествам», к «особым качествам и
способностям» — т. е. ко всем тем «сущностям, что .«оказываются
совершенно непонятными и необъяснимыми» (16, 1,
265). Картезианцы, «пользуясь своим принципом
врожденных идей, прибегли к высшему духу, или божеству,
которое они считают единственным активным существом
в мире и непосредственной причиной изменения
материи» (16, 1, 266). Но это также означает, что
естественное объяснение было подменено ничего не говорящей
ссылкой на бога.
Локк еще до Юма делает вывод, что именно активная
сила, наиболее четкий образ которой дает духовная, ра-
200
зумная деятельность, т. е. деятельность человеческая,
раскрывает перед нами сферу свободы. Мир природы
противостоит человеческому миру, миру свободы, как
область чистой необходимости. «...Не может быть
свободы там, где нет мысли, нет хотения, нет воли...» (12, 1,
250). Только мыслящее, желающее, действующее
существо может быть свободным, заявляет Локк. Обратите
внимание на это «может быть»: человек отнюдь не
безусловно, не безоговорочно и не во всех своих состояниях
свободен. В человеческом теле бьется сердце,
циркулирует кровь, и не во власти человека остановить эти
процессы своей мыслью или хотением: «Он не свободен в
этом действии, но подчинен необходимости двигаться в
такой же степени, как падающий камень или теннисный
мяч, отбитый ударом ракетки» (12, 1, 251). В каких же
случаях можно говорит о свободе? Человек свободен в
том смысле, что свободна его воля,— такой ответ
находит Локк в целом ряде философских учений
средневековья и у нового времени. Против этих концепций у Лок-
ка есть два возражения. Прежде всего, убеждает
читателей Локк, опираясь на некоторые доводы, ранее
высказанные Гоббсом в его споре с Декартом, «спрашивать,
свободна ли человеческая воля, так же нелепо, как
спрашивать, быстр ли человеческий соя или квадратна ли
добродетель...» (12, 1, 252). О человеческой воле говорят
как об особой сущности, способной к действию. Локк
совершенно не согласен с таким ходом мыслей. «Я
считаю,— заявляет он,— правильным не вопрос, свободна ли
воля, а вопрос, свободен ли человек» (12, 1, 255).
Свободным, по мнению Локка, может быть только сам
человек, а не какая-нибудь его способность. Но если это так,
то сторонники учения о свободе воли делают вторую
ошибку. Человек в его волевых действиях не может быть
свободным: он не властен хотеть или не хотеть,
воздержаться от хотения. Воля — «сила и возможность
предпочитать или выбирать». Свобода же проявляется как
способность перейти к действию или воздержаться от него,
как способность, опосредованная разумным решением.
«...Свобода состоит в силе действовать или воздержаться
от действия, и только в этом» (12, 2, 257). «Ясно, таким
образом, что воля есть не что иное, как одна сила или
способность, а свобода — другая сила или способность»
(12, 1, 253). Позиция Локка весьма плодотворна и ин-
201
тереспа: решение вопроса о свободе он ставит в
зависимость не просто от исследования волевых процессов,
интеллектуально-эмоциональных предпочтений, от процесса
выбора; одним словом, Локк связывает свободу не с
одними только духовными актами, совершающимися где-то
в недрах сознания, но прежде всего с человеческим
действием.
Важную мысль Локка о свободе как специфической
особенности человеческого разумного действия можно
понять на следующем простом примере, который он
приводит в «Опыте о человеческом разуме». «Кто заперт в
комнате в двадцать футов длиной и двадцать футов
шириной, тот, находясь у северной стены своей комнаты,
свободен пройти двадцать футов на юг, потому что он
может и пройти и не пройти их, но в то же время ои
несвободен сделать обратное, т. е. пройти двадцать футов
на север» (12, 1, 258). Определив свободу как качество,
сторону, характеристику деятельности, действия, Локк
вполне логично обнаруживает зависимость этого
последнего от тех условий, часто непреодолимых, которые
заданы человеку,— значит, от внешней ему необходимости.
В локковской интерпретации соотношения свободы и
необходимости еще раз подчеркнем тот момент, что
предпосылкой их единства является отнесение свободы к
действию. Проблема приобретает новый вид: в
дальнейшем речь пойдет о соотношении свободы и необходимости
в рамках человеческого индивидуального действия. Эту
идею Локка отчасти поддерживает Лейбниц, который
указывает затем на двусмысленность понятий «свобода»
и «необходимость», требующих более осторожного с
ними обращения.
Человеческая свобода может быть юридической и
фактической, напоминает Лейбниц. «Согласно
юридической свободе, раб не свободен, подданный не вполне
свободен, но бедняк столь же свободен, как и богач.
Фактическая свобода заключается либо в силе делать то, что
хочешь, либо в силе хотеть, как должно» (11, 154).Итак,
здесь речь по сути дела идет об объективных социальных
условиях, которые одновременно являются условиями
действительной реализации или ограничения
индивидуальной свободы. Это полностью относится к определению
свободы как элемента действия: само это определение
толкает к расшифровке не зависящих от индивида, его
202
желания и произвола условий свободного действия, в том
числе условий материального характера. «Вы говорите
о свободе действий, и она имеет свои степени и
разновидности. Вообще говоря, тот, у кого больше средств,
более свободен делать то, что он хочет; но под свободой
понимают, в частности, свободу пользования вещами,
находящимися обыкновенно в нашей власти, и особенно
свободное пользование нашим телом. Так, тюрьма и
болезнь, мешающие нам сообщать нашему телу и нашим
членам движения, которые мы хотим и которые мы
обыкновенно можем сообщать им, лишают нас свободы.
В этом смысле заключенный не свободен, а паралитик
не пользуется свободно своими членами» (11, 154).
Лейбниц не вполне согласен с Локком в том, что
понятие свободы неприложимо к воле — к желанию, хотению,
выбору. Следует, по Лейбницу, говорить о свободе
действия, обязательно уточняя данное выражение в том
смысле, который ясен из приведенной выше цитаты. Но
столь же правомерно говорить о «свободе хотения»,
продолжает далее Лейбниц, однако нужно уточнить и это
понятие, которое может быть употреблено в двух
различных смыслах. Во-первых, свобода хотения означает
внутреннее принуждение, вытекающее из
предварительного и надлежащего обдумывания, дисциплинирования.
нашего непосредственного желания. «Эта свобода
относится, собственно, к нашему разуму» (11, 155).
Во-вторых, свобода хотения может быть отнесена к чистой
воле, поскольку она отлична от разума, не вполне и не
автоматически ему подчиняется. «Это называют
свободой выбора, которая заключается в том, что более
сильные доводы и впечатления, доставляемые разумом воле,
не мешают акту воли быть случайным (contingent) и не
сообщают ему абсолютной и, так сказать,
метафизической необходимости. В этом смысле я обыкновенно
говорю, что разум может детерминировать волю в
соответствии с преобладающими восприятиями и доводами, но
способом, который при всей своей достоверности и
бесспорности склоняет, не принуждая» (11, 155). По мнению
Лейбница, не только в сфере действия, но и в разумно-
волевом акте, который предшествует действию,
существует подвижная, гибкая диалектика свободы и
необходимости. Свидетельствами свободы, которая внутренним
образом присуща человеческим духовно-волевым актам, явля-
203
ются, по мысли Лейбница, и способность разума
дисциплинировать человеческое желание, и обратная способность
последнего предлагать различные варианты —в условиях
общего детерминирующего воздействия разумных доводов.
Но оба мыслителя —и Локк, и Лейбниц — вполне
единодушны в том, что нелепо говорить о свободе
человека как о чем-то абсолютно недетерминированном,
противостоящем всякому принуждению и ограничению,
всякому самоограничению, к которому под действием
собственного разума может склоняться индивид. Лейбниц,
поддерживая негодование Локка, направленное против
абсолютного обособления свободы и необходимости,
свободы и принуждения, утверждает: философы, виновные
в таком разрыве, впадают в опасное заблуждение; они
требуют «нелепого ж невозможного, претендуя на какую-
то абсолютно фантастическую и неосуществимую свободу
равновесия, которая была бы им совершенно не нужна,
если бы они могли даже иметь ее...» (11, 159). Глубина
этой ошибки тем более очевидна, что происходит отрыв
свободы от разума, а уничтожение влияния разума на
волю и действие человека «поставило бы нас ниже
животных». Свобода человека неотделима от
необходимости, неотделима от принуждения. Такова идея Локка и
Лейбница, свидетельствующая о зарождении элементов
диалектического подхода в рамках метафизического
метода. Говоря о свободе человека, т. е. об одном из
высших качеств и определителей, принадлежащих
человеческой сущности, мы переходим к «анализу
необходимости — условий и возможностей, которые детерминируют
человека и его действие, являются объективными
условиями, складываются в общую систему принуждения.
Принуждение же в свою очередь бывает двух родов,
поясняет Лейбниц. «Одно — физическое, как, например,
когда заключают человека против его воли в тюрьму или
когда его сбрасывают в пропасть; другое — моральное,
как, например, принуждение, вызываемое мыслью о
большем зле, так как порождаемое им действие, хотя и
вынужденное известным образом, остается все же
добровольным. Принуждение может быть также основано на
ожидании большего блага, как, например, когда
искушают человека, предлагая ему чрезвычайно большие
выгоды, хотя обыкновенно этого не называют
принуждением» (И, 158). В понятии «физического» принуждения
204
Лейбниц, собственно, и объединяет комплекс
объективных условий, в том числе и главным образом условий
социального порядка, которые определяют, детерминируют
действие отдельного человека.
Проблема свободы состоит, таким образом, в том,
чтобы понят*., как в человеческой деятельности
своеобразно объединяются подчинение необходимости,
детерминированность и добровольность, спонтанность,
произвольность. Главной детерминирующей реальностью для
индивида, живущего в системе гражданского общества,
является общественная 'действительность. Поэтому-то
вопрос о свободе человека логично, последовательно
трансформируется в вопрос о зависимости индивида и
индивидуального действия от общественных условий, в
проблему взаимодействия индивида и общества.
* *
*
Мы говорили выше о Локковом определении
«естественной» свободы. От этой последней Локк отличает
«свободу в обществе»; первая является нормативным
требованием, вторая касается реальных социальных
возможностей ограничения произвола. '«Свобода человека в
обществе,— добросовестно констатирует Локк,—
заключается в том, что он не подчиняется никакой другой
законодательной власти, кроме той (!), которая установлена по
согласию в государстве, и не находится в подчинении
чьей-либо воли, и не ограничена каким-либо законом,
за исключением тех(!), которые будут установлены этим
законодательным органом в соответствии с оказанным
ему доверием» (12, 2, 16). Свобода в обществе
оказывается, таким образом, не более чем свободой следовать
своим желаниям во всех случаях, кроме тех (!), которые
запрещены или ограничены соответствующими законами,
постановлениями и установлениями. Понятно, что свобода
индивида в обществе оказывается в рамках такого
рассуждения прямой функцией от законодательно
закрепленной политической и юридической свободы.
И если Локк на рубеже столетий еще пытается
балансировать между нормативным учением о
естественном состоянии как воплощении естественной свободы и
между признанием весьма ограниченных возможностей
205
осуществления свободы в реальном социальном бытии
человека, то точка зрения, характерная для XVIII в.
и представленная Давидом Юмом, во многом уже
свободна от такой двойственности. «Философские фикции»
о естественном состоянии человека (так называет их сам
Юм) опровергаются самой жизнью, поскольку они, по
мнению Юма, ничем не отличаются от извечных
поэтических вымыслов о золотом веке. Если Локк расходится
с Гоббсом в оценке естественного состояния (это вовсе
не «война в<сех против в<сех», но состояние согласия и
равенства, абсолютной свободы, утверждает Локк), то
Давид Юм совершенно отвергает саму идею естественного
состояния как некоей общественной системы. Она может
быть только гипотетической, такое состояние и якобы
следующее за ним заключение «общественного договора»
ничего общего не имеют с действительной историей. «Лик
земли,— напоминает реалистически мыслящий Юм,—
постоянно меняется из-за превращения маленьких
королевств в большие империи, распада больших империй
на маленькие королевства, создания колоний и
миграции племен. Можно ли обнаружить во всех этих
событиях что-либо иное, кроме применения силы и насилия?
Где то взаимное согласие и добровольное объединение, о
котором так много рассуждают?» (16, 2, 766). Итак,
история оказывается ареной несправедливой борьбы,
кровопролития, вражды и насилия. Реалистический взгляд
на историю нигде не позволяет обнаружить
вымышленного состояния свободы и согласия. Такова логика
рассуждений Юма. Но именно поэтому Юм оказывается
весьма внимательным и чувствительным к тем
конкретным политическим изменениям, к законодательным и
судебно-юридическим усовершенствованиям, которые
отличают одну эпоху от другой, одно государство от
другого. И он с удовлетворением отмечает, что именно в
Англии его времени господствует «полная свобода» и да-'
же «вольность», поясняя при этом, что речь идет о
четкой, хорошо продуманной системе законодательных
гарантий и о широко разветвленной и упорядоченной су-
дебно-юридической практике.
Переходя в понятие законодательно-юридической
свободы, идеал неограниченной свободы индивида
постепенно ^меркнет, свобода связывается не с исполнением
желаний и намерением индивида, не с его равенством и не-
206
•зависимостью, но с неизбежным и даже морально
оправданным подчинением. «.Повиновение,— пишет Юм,— это
новый долг, который необходимо изобрести, чтобы
-поддержать долг справедливости; и узы справедливости
должны быть дополнены узами верноподданности» (16,2,
593). Поставив вопрос о действительной, практически
реализующейся \свободе индивида в обществе, Локк и вслед
за ним Юм вполне логично пришли к своему
практическому идеалу свободы: им оказался оптимальный,
сообразованный с правовым законодательством баланс
между «подчинением» и «свободой». «При всех системах
правления,— признается Юм, — имеет место постоянная,
открытая или тайная, внутренняя борьба между властью
и свободой; и ни одна из них никогда не может добиться
абсолютного превосходства в этом соревновании. В силу
необходимости следует в значительной мере жертвовать
свободой при любой системе правления; однако даже
власть, которая ограничивает свободу, не может и,
возможно, не должна никогда, ни при каком строе
становиться совершенно полной и бесконтрольной» (16, 2,
496). Контроль над властью, ограничение ее
действительного и возможного произвола, усовершенствование
существующих политических и юридических отношений —
вот еданствеиный реальный смысл, в котором только и
можно, по мнению Юма, употреблять понятия свободы,
справедливости, равенства. «Свобода,—пр'яодю заявляет
он,— есть усовершенствование (perfection)
гражданского общества» (16, 2, 596).
Наиболее радикальные устремления и возможности
философской и (соп;иально^политиче;ской теории XVIII в.
четко подытоживает Руссо. После знаменитой фразы
«человек рожден свободным, а между тем везде он в
оковах» Руссо говорит в своей книге «Об общественном
договоре», что он не может ответить на вопрос о
причинах такой перемены и что единственный вопрос,
разрешение которого он берет на себя: «что может сделать
эту перемену законной?» (13, 3).
Итак, свобода индивида в рассматриваемых нами
философских концепциях по сути дела уже поставлена в
теснейшую зависимость от различных форм социально-
политической организации, от правопорядка, от
общественных институтов — словом, от вполне конкретных
явлений социально-исторической действительности. Мы ви-
207
дмм, что иа рубеже двух столетий в понимании
сущности человека, его разума, его деятельности был сделан
важнейший шаг вперед. Правда, сама общественная
действительность была описана весьма односторонне и
поверхностно: главными моментами, детерминирующими
индивидуальную жизнедеятельность, оказались такие
вторичные, институционализированные образования, как
собственность, право, государство. Их / общественные
функции, социальный генезис, общественное содержание
еще требовали объяснения. На пути к марксистскому
пониманию сущности человека как совокупности
общественных отношений теория со всей неизбежностью
оставляет позади этап понимания, по природе своей
переходный и фетишистский, когда анализируется не
отношение человека к человеку, но отношение человека к «обес-
человеченным», к безличным общественным институтам.
Для нас важно то, что и в этих переходных
теоретических формах так или иначе начинает выявляться
социальная обусловленность, социальная природа
человеческого разумного действия.
§ 3. Человек и общественные
моральные принципы
Третий важнейший признак, о котором философы
вспоминают, характеризуя гражданское общество или
социальное бытие и поведение человека,— это мораль и
нравственные отношения людей. Для характеристики
общественной сущности человека эта область тем более
важна, что здесь осуществляется идеальное, духовное
регулирование человеческих отношений, что через них
индивиду диктуется общесоциальная воля. Уже давний
и как будто бы этический спор о том, является ли
человек «по своей природе» добрым или злым, такл за своей,
казалось бы, сугубо моралистической формой вопрос о
социальных свойствах человеческой личности. Ведь под
«природной добротой» человека подразумевались
гуманность, человеколюбие, доброжелательность,
справедливость, уважение к общему блату — словом, вее те
качества, которые характеризуют склонность и способность
индивида жить в тесном союзе с другими людьми и,
главное, живя в обществе, быть общественным, сониа-
208
бильным существом. Напротив, те, кто настаивал на
изначальном зле, присущем человеческой природе, имели в
виду бесчеловечность, себялюбие и корыстолюбие,
враждебность к ближним — целый комплекс асоциальных
качеств, заставляющих склониться к мысли о необщест-
венной сущности человека.
В конце XVII и особенно в XVIII столетии
размышления о социальной определенности жизнедеятельности и
разумного поведения человека перемещаются в иную
теоретическую плоскость. Постановка вопроса у Локка и
Юма заставляет вспомнить о Спинозе. Подобно
последнему, Локк и Юм придерживаются по крайней мере
того убеждения, что из реальной истории человеческого
рода и из -практического поведения индивида можно
почерпнуть немало примеров, свидетельствующих о
проявлении человеколюбия, доброжелательства, о тяготении
отдельного человека к общению с другими людьми. Но
сторонники противоположной концепции об асоциальной
сущности человека, что хорошо понимают Локк и Юм,
могут подобрать не меньше примеров зла,
несправедливости, жестокости. Поэтому, так же как и -Спиноза,
мыслители рассматриваемого периода меньше всего хотели
бы ввязываться в морализирующий спор. Гораздо
убедительнее для них та мысль, что социальные условия
жизнедеятельности, притом особые условия, связанные с
гражданским обществом, неотъемлемы от человека.
Социальное состояние, раз возникнув, становится
необратимым. Оно является фактом. Стало быть, его и нужно
теоретически осмыслить. Думать, что человек может
освободиться от общественных уз,— значит впадать в
чистейшую иллюзию, говорил Локк. «Та власть,
которую каждый отдельный человек передал обществу,
когда он вступал в него, никогда не может снова вернуться
к отдельным людям, до тех пор пока общество
продолжает существовать...» (12, 2, 136—137). К тому же Локк
не видит, почему следовало бы горевать и сетовать по
этому поводу. Дело в том, что жизнь и существование в
социальных условиях «придуманы» богом на благо
индивида, а значит, в общем и целом благотворны для него.
«Бог создал человека таким существом, что по его
господнему решению для него было нехорошо находиться
одному, и он поставил его в такие условия, что
необходимость, удобства и склонность (кур-сив наш.— H. М.)
209
должны были понудить его к общественной жизни,
равно как и снабдил его разумом и языком, чтобы он мог
продолжать эту общественную жизнь и получать от нее
удовольствие» (12, 2, 45).
Юм еще более определенно и уже без спасительной
ссылки на бога защищает идею общественного бытия для
физически неприспособленного и слабогю человеческого
индивида. «Только с помощью общества человек может
возместить свои недостатки и достигнуть равенства с
другими живыми существами и даже приобрести
преимущество перед ними. Все его немощи возмещаются
[наличием] общества, и хотя последнее постоянно
увеличивает его нужды, однако и способности его также
возрастают и делают его во всех отношениях более
удовлетворенным и счастливым, чем это ему доступно, пока он
пребывает в диком состоянии и одиночестве» (16, 1,
636). Оставив в стороне дискуссии об изначальных
склонностях человека, Юм хочет принять единственное
допущение, которое, как ему кажется, не будут
оспаривать и самые ревностные сторонники ««злой» природы
человека. Допущение таково: «в нашем сердце существует
известная благожелательность, какой бы незначительной
она ни была, и какая-то искра дружеского участия к
человеческому роду (курсив наш.—Я. il/.), а в нашей
природе есть некое голубиное начало наряду с началами
волка и змеи» (16, 1, 314). Юм согласен пойти на то,
чтобы, не возбуждая спора, сначала признать такого
рода аффекты и склонности (их он прямо называет
социальными аффектами и затем подробно исследует)
совершенно незначительными, слабыми, подчас отступающими
на задний план перед «началами волка и змеи».
«Степень этих чувств может быть предметом спора, но
реальность их существования, надо полагать, должна быть
допущена в каждой теории и системе» (16, 2, 268).
Предположив такие чувства, мы можем, продолжает свое
рассуждение Юм, изучить их природу. Но таким образом
Юм приближается к выявлению природы морали,
сущности социальных связей, специфики человеческого
поведения.
Усматривая основание моральных отношений и
социального взаимодействия людей в особых «социальных
аффектах», Юм приходит в конце концов к
субъективистскому искажению социальных связей. Это бесспорно. Но
210
важно подчеркнуть, сколь интересным и глубоким для
того времени было стремление Юма сосредоточить
внимание на элементах, действительно обеспечивающих
единство, согласованность социального опыта, а значит,
способствующих внутреннему подключению индивида к
социальной 'системе, к общественной деятельности.
«Понятие морали,— говорит Юм, — подразумевает некое общее
всему человечеству чувство, которое рекомендует один и
тот же объект как заслуживающий общего одобрения и
заставляет каждого человека или большинство людей
соглашаться друг с другом, приходя к одному и тому же
мнению или решению относительно него» (16, 2, 315).
Итак, мораль зиждется, по Юму, на некоторых чувствах,
которые имеют «всеобщий и всеобъемлющий» характер.
Последние основываются на «социальных и всеобщих»
принципах (16, 2, 3-19) и «образуют в некотором
роде партию человеческого рода против порока или
беспорядка, общего врага человечества» (16, 2, 319).
«Другие аффекты, хотя, быть может, первоначально и
более сильные, будучи эгоистичными и частными,
оказываются при этом подавлены и уступают господству над
нашими душами указанным социальным (social) и
общественным* (public) принципам» (16, 2, 319).
«Социальные аффекты», такие, как благожелательность,
человеколюбие, справедливость и т. п., Юм делит на две
категории. Первые действуют непосредственно, выступают
в качестве прямой склонности или инстинкта (скажем,
так проявляется чувство родителей, бросающихся на
помощь своему ребенку) и обычно направлены на
единичные объекты или на конкретных людей. Иначе обстоит
дело с такими специфическими качествами, как
справедливость, верность. «Они в высшей степени полезны и
воистину абсолютно необходимы для благоденствия
человечества. Однако выгода, получаемая от них, не
является следствием одного-единственного
индивидуального акта, но возникает благодаря целой схеме или
системе, распространяющейся на все общество (курсив наш.—
//. Л/.)или на большую его часть» (16, 2, 348—349).
Описывая специфические особенности и
происхождение чувства и понятия справедливости, Юм совершенно
* Здесь в переводе точнее было бы сказать: социальным и
гражданским принципам.
211
определенно подчеркивает: «Указанная добродетель
обретает существование всецело из-за постоянной
потребности в ней для общения и общественного состояния
людей» (16, 2, 227). Итак, социальные качества, подобные
справедливости, и действия, построенные в соответствии
•с такими принципами, в (изображении Юма являются не
некоторыми непосредственными склонностями и
реакциями отдельного человека, но осмысленными и
целенаправленными действиями, которые могут реализоваться
исключительно в рамках слаженной и разветвленной
системы социального взаимодействия. Эффект
благополучия, создаваемый социальной добродетелью
справедливости, можно, говорит Юм, сравнить со сводом, который
держится только благодаря прилаженности и соединению
всех частей; каждый отдельный камень упал бы на
землю, если бы он был предоставлен самому себе. Вот
почему о «естественности» таких свойств человека и его
чувств можно говорить лишь в том смысле, что они
образуют обычный и понятный результат, не заключающий
в себе ничего чудесного, необычайного. Но поскольку
справедливость и собственность «-предполагают разум,
предусмотрительность, замысел и социальный союз и
объединение людей» (16, 2, 352. Курсив наш.— Я. М.)1
то их, строго говоря, нельзя называть естественными.
Вот почему Юм правильно называет такие аффекты и
действия социальными. «Если бы люди жили вне
общества, собственность не была бы известна и ни
справедливость, ни несправедливость никогда бы не
существовали. Но общество человеческих существ было бы
невозможно без разума и предусмотрительности» (16, 2, 352).
Если существуют социальные аффекты людей, то это
означает, по Юму, что именно они побуждали людей к
объединению в общество. Объединение же возможно
лишь тогда, когда создаются твердые нормы и принципы
человеческого общения, скажем особенно интересующие
Юма принципы регулирования и сохранения
собственности.
В рассмотренной выше концепции Юма заключено,
как нам представляется, глубокое и отнюдь не
только этическое содержание. Вслед за Гоббсом, который
одним из первых начал рассматривать общество как
систему взаимодействия людей, систему с четко
определенными, взаимосвязанными частями, Юм развивает эту
212
■важную для XVII и XVIII вв., но актуальную и сегодня
философско-социологическую тему. Правда, о социальной
системе Юм говорит преимущественно на этическом и
абстрактном философском языке: «схема или система,
распространяющаяся на все общество», цементируется
принципами собственности, справедливости и
соответствующими аффектами; она является воплощением и
обнаружением «разума», -«-замысла»,
«предусмотрительности». В результате социальное взаимодействие и
социальная система рассматриваются с психологистической и
субъективистской точки зрения. Но для нашей темы
учение Юма о социальных аффектах весьма важно и
интересно. Здесь прежде всего проявляется
социально-историческая обусловленность философского знания: учение
о социальной системе как обнаружении и результате
деятельности разума, как целесообразной, заранее
запланированной сумме действия людей в обществе
(«предусмотрительность», «замысел») было прямым
отражением не только конкретно-исторического состояния
капиталистического мира, но и тенденций, перспектив его
развития. Здесь отражалась специфическая особенность
капиталистического общества, которое является, подобно
всякому обществу, сложной системой, но к тому же
основывается на общественном по своему характеру
производстве. Это требует формирования целой системы
четко определенных отношений и связей, в которой каждое
звено имеет смысл только в связи с совокупностью
звеньев. Более того, индивидуальное и групповое
социальное действие в рамках такой системы в самом деле
объективно предлагает необходимость рационального
расчета, важнейшей составной частью которого
является сознательная ориентация на других людей, на их
действия и намерения, на общесоциальные нормы и
ценности. То обстоятельство, что рациональная ориентация
индивида на других людей, на социальную систему, на
систему идеальных принципов и ценностей
осуществляется при капитализме стихийно, получает своеобразное
отражение в учении Юма: социальное взаимодействие он
истолковывает как систему аффективных, эмоциональных
отношений. Если в результате этого происхождение
общества и социальных отношений Юм ошибочно
усматривает во влиянии социальных аффектов и разумного
расчета людей, то, с другой стороны, чувственная и
213
практически-рациональная ориентация совершенно
правильно трактуется как социальная по своей сущности.
Юм считает подлинно человеческими лишь такие
чувства, которые есть не что иное, как побуждения к
социальному действию, как стимулы к сознательному
участию в общении и взаимодействии с другими людьми.
С этой точки зрения, например, оценивает Юм теорию
общественного договора. Если под соглашением, что
чаще всего бывает, понимать обещание, так или иначе
высказанное обязательство, то Юм не хочет иметь ничего
общего с такой абсурдной позицией. «Но если под
соглашением понимается чувство общего интереса, которое
каждый человек испытывает в собственной груди,
которое он замечает в своих сотоварищах и которое
побуждает его совместно с другими к реализации общего
плана или системы действий, направленных на
общественную пользу, то следует признать, что в этом смысле
справедливость возникает из человеческих соглашений»
(16, 2, 350-351. 'Курсив наш.-Я. М.).
Понятие «разума», «разумности» также приобретает
более определенное объективное социальное
содержание. ««Разум» в интерпретации Юма и целого ряда
последующих философов — это, во-первых, рационально
организованная и детерминирующая индивида объективная
система социальных отношений (в идеалистическом
истолковании Юма, отношений идеального, точнее,
эмоционального характера). Во-вторых, о разуме Юм говорит как
о расчете, замысле, предусмотрительности, необходимых
для приспособления к системе, необходимых в том числе
и на уровне практически житейского действия и
сознания. Последующие философы, в особенности
представители немецкого классического идеализма, сочтут
необходимым отличать такую форму сознательного действия
от разума в собственном смысле и назовут ее рассудком.
§ 4. Разум и социальное
бытие человека
Мы видели, что разумность — качество, которое на
протяжении всего XVII столетня было решающим
определителем человеческой сущности, выступает лишь в тесном
единстве с перечисленными выше признаками, характо-
214
ризующими общественное бытие и общественную
зависимость индивидов.
Понятием «разум» по-прежнему обозначают особую
способность индивида, способность, лежащую в
основании познания. Но для анализируемого этапа в развитии
философии характерно то, что эта способность
одновременно раскрывается как один из регуляторов
человеческого поведения, т. е. практического действия,
совершающегося (что для нас особенно важно) в обществе, в
союзе с другими индивидами. По словам Локка, бог
снабдил человека разумом и языком именно для того,
чтобы человек мог продолжать общественную жизнь и
находить в ней удовольствие. Такое понимание разума^
ведущее происхождение от Гоббса, представляет собой
шаг вперед по сравнению с абстрактным изображением
разума главным свойством человеческой природы; разум
и язык становятся здесь зависимыми, вспомогательными,
функциональными способностями, цель и смысл
которых — сделать возможным развитие человеческого
общества, общение и согласие людей друг с другом. Разум и
общее равенство Локк называет «мерилом,
установленным богом для действий людей ради их общей
безопасности» (12, 2, 9). «Разум» в таком толковании есть
человеческая способность, имеющая одновременно
божественное происхождение и социальное предназначение.
Главное же, разумность становится специфической
характеристикой общественного бытия, социальных
условий деятельности человека, внутренним свойствОхМ самой
этой деятельности, основным регулятором
человеческого поведения. Локк пишет: «Высшая иистатащгя, к
которой человек прибегает, определяя свое поведение, есть
его разум: ибо хотя мы различаем способности души и
признаем верховенство за волей, как действующим
началом, однако истина в том, что человек, как деятельное
существо, (решается на то или другое волевое действие,
основываясь на каком-либо предварительном знании или
на видимости знания, имеющегося в разуме. Ни один
человек не принимается за что бы то ни было, не
опираясь на то или иное мнение, которое служит для него
мотивом его действия; какими бы способностями он ни
пользовался, им постоянно руководит разум, хорошо или
плохо осведомленный, проливая свет, которым он
обладает: этим светом, истинным или ложным, управляются
%\Ь
вес деятельные силы человека» (12, 2, 187). -В этом
важном высказывании Локка разум рассматривается в
тесной связи с практическим поведением человека, разум
интерпретируется как способность индивида
руководствоваться теми или иными знаниями при планировании или
осуществлении определенных поступков, действий,
волевых актов. Продолжая характерную для его века
трактовку разума, Давид Юм идет значительно дальше,
требуя более внимательно присмотреться к человеческому
поведению и к его разумному началу и стимулу. Это и
будет, с точки зрения Юма, первый шаг к точному
исследованию человеческой природы, которая только при
поверхностном и ленивом взгляде может казаться чем-то
мистическим и причудливым. Его значение и
содержание—в утверждении законосообразности (Юм говорит—
необходимости), так же настоятельно управляющей
человеческим миром, поступками людей, как и миром
природы. Правда, в человеческих действиях и поступках
единообразие и правильность имеют несколько иной вид,
чем в природных телах и явлениях, замечает Юм. Здесь
встречаются непоследовательности, неправильные,
необыкновенные поступки. И все-таки «общие наблюдения,
накопленные при помощи ряда опытов, дают нам ключ
к человеческой природе и учат нас разбираться во всех
ее запутанных проявлениях» (16, 2, 86).
Законосообразность, повторяемость, известная единообразность
человеческих действий и поступков не только действительно,
реально имеет место; она «пользуется всеобщим
признанием среди людей». Поэтому «мы выводим все свои
заключения о будущем из прошлого опыта...» (16, 2, 89).
Юм следующим образом аргументирует свою мысль:
«Взаимная зависимость людей во всяком обществе так
велика, что вряд ли какой-нибудь человеческий поступок
представляет собой нечто вполне законченное и не
находится в каком-либо отношении к поступкам других
людей, необходимым для того, чтобы данный поступок
вполне отвечал намерению действующего лица» (16, 2,
90). Разумность каждого индивида заключается именно
в том, что он строит любой свой поступок с очевидным
расчетом на других людей, на их реакции, на известную
правильность и регулярность своих и чужих действий.
«По мере того как люди расширяют свои предприятия и
вступают в более сложные отношения с другими людьми,
216
они включают в свои житейские планы все большее
количество разнообразных волевых актов, ожидая в силу
надлежащих мотивов, что такие акты будут
содействовать их собственным поступкам. Во всех этих
заключениях они руководствуются прошлым опытом так же, как
в своих выводах относительно внешних объектов, и
твердо верят в то, что и люди, и все элементы постоянно
останутся в своих действиях такими же, какими всегда
были им известны» (16, 2, 90). Весьма характерны те
«современные» примеры, которые приводит Юм в
подтверждение цитированного выше рассуждения. Самый
бедный ремесленник, который работает в одиночку,
выносит свой товар на рынок, обязательно рассчитывая
найти покупателя для своих товаров и продавца
необходимых ему средств для существования. «Фабрикант
рассчитывает при исполнении работы на труд своих
рабочих не меньше, чем па орудия, которыми он
пользуется...» (16, 2, 90). Словом, фактически существует и
сознательно принимается людьми в расчет строгое
сцепление их действий, их общественный смысл, позволяющий
человеку планировать свое действие и надеяться на тот
или иной эффект своего поступка, реализующийся в
общении с другими индивидами.
Юм не случайно так настоятельно подчеркивает
необходимость и возможность рационального учета
действий других людей; этот акцент его теории порожден
эпохой предпринимательского успеха, инициативы,
завышенных ожиданий и надежд, уверенности во всесилии
разума и познания. Философия рассматриваемого
периода еще сочетает мысль о высшей ценности индивида,
отдельного человека и светлую уверенность в том, что
успех индивидуального действия зависит от неуклонно
осуществляющегося общественного прогресса и
коллективного, группового успеха. Такие настроения, типичные
для восходящего капитализма, совершенно утрачивает и
активно осуждает современная буржуазная философия.
Итак, в учение Юма о человеческой природе, о
человеческом разуме, во-первых, прямо включаются такие
факторы, как реальная, действительная '«взаимная
зависимость людей во всяком обществе» и сознательная
ориентация индивида на других людей, на их деятельность.
Во-вторых, эти социальные качества человека, при более
подробном их рассмотрении, объективно выявляют свою
217
конкретную историческую специфику: закопы
человеческого взаимодействия легче всего иллюстрируются
законами товарообмена, принципами «общения» фабриканта
и рабочего.
Выдвинутую Локком (а затем уже развитую Юмом)
идею разумной определяемости человеческого поведения
поддерживает и Лейбниц. Он совершенно согласен с Лок-
ковым определением зависимости между разумным
решением и свободой человека, которое сам Лейбниц
передает в следующих словах: «Детерминироваться разумом
к лучшему — это и значит быть наиболее свободным...
Если свобода заключается в том, чтобы сбросить с себя иго
разума, то свободны одни только сумасшедшие и
идиоты, но я не думаю, чтобы ради такой свободы
кто-нибудь захотел быть сумасшедшим, за исключением тех,
кто уже сошел с ума» (И, 176). Так же, как это сделал
позднее Юм, Лейбниц определял специфически
человеческие побуждения как социальные чувства,
«социальные инстинкты». «Кроме того общего социального
инстинкта, который у человека можно назвать
человеколюбием, существуют другие, более частные, как, например...
любовь отцов и матерей к их детям... и другие
аналогичные склонности, составляющие то естественное
право или, вернее, то подобие права, которому, согласно
римским юристам, природа научила животных. Но у
человека, в частности, встречается известная забота о
достоинстве и приличиях, побуждающая нас скрывать
вещи, унижающие нас, щадить стыдливость, питать
отвращение к кровосмешению, хоронить трупы,
совершенно не есть людей и живых животных. Мы
заботимся, (далее, о своей репутации даже более, чем это
необходимо для жизни и даже больше самой жизни; мы
испытываем угрызения совести и переживаем те... муки и
терзания, о которых пишет вслед за Платоном Тацит, не
говоря о страхе перед будущим и перед высшей силой,
возникающем тоже довольно естественным образом. Во
всем этом есть нечто реальное, но в сущности эти
естественные впечатления, каковы бы они ни были,
являются только помощниками разума и знаками подаваемых
природой советов. Здесь имеют большое значение
обычай, воспитание, традиция, разум, но и человеческая
природа также играет свою роль. Правда, этих
элементов было бы недостаточно без содействия разума, для
218
того чтобы придать нравственности полную
достоверность» (И, 86—87). Ориентация на нормы и принципы,
что, собственно, и составляет специфический способ
социальной ориентации индивидуального поведения и
действия, протекает, по Лейбницу, в виде
полубессознательного, полуинстинктивного, (ню абсолютно необходимого
процесса. «...Так как нравственность важнее арифметики,
то бог наделил человека инстинктами, под влиянием
которых последний повинуется сразу и без размышлений
(курсив наш.—Я. М.) требованиям разума» (11, 85).
О различиях в понимании разума, о споре Лейбница
с Локком мы будем подробно говорить ниже,
характеризуя собственно гносеологические концепции, возникшие
на рубеже столетий и в первой половине XVIII в. Но
независимо от того, как именно определяется разум, его
источники, происхождение и объем, в этот период
возникает родственная для различных концепций и весьма
интересная идея о «практическом разуме» — о
специфически человеческом, социально организуемом и
определяемом поведении, т. е. об индивиде, действия и разум
которого поставлены в тесную зависимость от общества.
Сказанное позволяет сделать и еще один вывод.
Собственность, право, мораль, разум одновременно
характеризуют в интересующих нас концепциях и гражданское
общество, и подлинную природу, сущность человека. Эта
связь, которая во многом стихийно прокладывает себе
дорогу в теоретических интерпретациях общества и
человека, объективно свидетельствует о больших
достижениях философской науки того времени. Последняя
находится на пути к определению, пониманию и
исследованию сущности человека как совокупности
общественных отношений. Вполне реально возникает проблема
взаимоотношения, взаимодействия индивида и общества,
хотя по сути дела ни один философ данного периода не
формулирует ее именно таким образом и не видит всех
последствий того противоречивого положения, которое
создалось из-за введения в прежде абстрактную
философию человека социальной и социологической по своему
содержанию проблемы.
В столь же противоречивой и неадекватной форме
философия осознает объективную теоретическую
необходимость историзма, социально-исторического подхода к
изучению человека, социальных форм, к пониманию взаимо-
;2i9
действия индивида и общества. И все-таки мысль о
социально-исторической направленности исследования
человеческой деятельности и познания, сколь бы
неадекватным ни было осознание и формулирование
проблемы, безусловно, проникает в философию.
Вот почему Руссо имеет возможность, опираясь на
размышления своих предшественников, объединить в
единое целое, поставить в теснейшую связь разум
человека, его сознательную деятельность, с одной стороны, и,
с другой стороны, общественные условия этой
деятельности, а точнее, социальные формы развитого общества,
общества гражданского. В рассуждения Руссо при этом
вплетается диалектика, прокладывающая пути
историческому подходу: человек и его сознательная
деятельность, его разум зависят не только от общества, но и от
социального развития, от исторического движения.
«Переход от естественного состояния к гражданскому
производит в человеке весьма заметную перемену, заменяя в
его действиях инстинкт — правосудием и сообщая его
действиям нравственное начало, которого им прежде
недоставало. Только тогда голос долга следует за
физическим побуждением, право — за желанием, и человек,
обращавший до тех пор внимание только на самого себя,
оказывается принужденным действовать согласно
другим принципам и прислушиваться к голосу разума,
прежде чем повиноваться естественным склонностям.
Хотя в состоянии общественном человек и лишается многих
преимуществ, которыми он обладает в естественном
состоянии, но зато он приобретает гораздо большие
преимущества: его способности упражняются и развиваются,
мысль его расширяется, чувства его облагораживаются,
и вся его душа возвышается до такой степени, что, если
бы злоупотребления новыми условиями жизни не
низводили его часто до состояния более низкого, чем то, из
которого он вышел, он должен был бы беспрестанно
благословлять счастливый момент, вырвавший его навсегда
из прежнего состояния и превративший его из тупого и
ограниченного животного в существо мыслящее — в
человека» (13, 16—17). «Прислушиваться к голосу
разума» означает, по мнению Руссо, действовать в
соответствии с социальными принципами, с правовыми и
моральными нормативами, воспитывать в себе «равнение» на
«гражданскую свободу», которая —в отличие от «естест-
220
венной свободы» (и мысль, и термины здесь такие же,
как у Локка) — ограничена общей волей; это значит
ориентироваться на «моральную свободу», т. е. на
общечеловеческий закон, а не на индивидуальное влечение.
Известное расхождение между собственными
намерениями и склонностями индивида и его совершенно
неизбежной социальной ориентацией, зафиксированное Руссо,
глубоко интересует его современников и ближайших
предшественников. В работах Локка, Лейбница, Юма мы
также встречаем размышления о специфической
структуре действия индивида, о том, как в этом действии
переплетены и взаимодействуют собственные устремления,
желания, воля индивида и все те принципы, правила,
нормы, требования, которые задаются ему обществом.
ГЛАВА DI
О ПРОТИВОРЕЧИВОМ
ЕДИНСТВЕ
ИНДИВИДУАЛЬНОГО
ДЕЙСТВИЯ
И ОБЩЕСТВЕННОГО БЛАГА
Вопрос, который ставил
Локк, поначалу может показаться традиционным: «Что
же определяет волю в отношении наших действий?»
Логика мысли такова: действие непосредственно
определяется волей, т. е. предпочтением и выбором. Но чем же
определяется сама воля? На каком основании, под
влиянием какого стимула мы делаем тот или иной выбор,
демонстрируем то или иное предпочтение? Более конкретный
вопрос, который его в данном случае занимает, Локк ставит
следующим образом: определяется ли воля некоторыми
моральными, идеальными, не зависящими от индивида
принципами, например ожиданием наибольшего блага
(«как обычно полагают»), или волю целиком
детерминирует индивидуальное чувство удовольствия или
неудовольствия. Ответ Локка звучит достаточно категорически:
«Одно только неудовольствие 'действует на волю и
определяет осуществляемый ею выбор...» (12, 1, 263). Свою
идею он поясняет так: «Премудрый наш творец, согласно
нашему складу и строению и зная, что определяет волю,
вложил в человека неудовольствие, испытываемое от
голода и жажды и других естественных желаний, которые
наступают своим чередом, для приведения в движение и
определения его воли, для сохранения самого человека и
для продолжения рода человеческого» (12, 1, 262). Итак,
выбор, осуществляемый человеком, Локк ставит в
изначальную зависимость от «естественных желаний» инди-
222
вида, от чувства неудовольствия. Следовательно,
непосредственное детерминирующее воздействие на поведение
и действие человека оказывают, по мысли Локка,
«обычные жизненные потребности», которые «заполняют
большую часть нашей жизни...» (12, 1, 270). Благо, даже
если оно понято и признано, не может определять волю
непосредственно, но только благодаря желанию,
благодаря тому, что в человеке возбуждается чувство
неудовольствия, вызванное отсутствием блага. Локк приводит
такой пример. Пьяница хорошо знает все то, что могут
сказать ему другие люди, общество, о вреде пьянства: его
здоровье разрушается, на том пути, которому он следует,
его ожидает позор, бедственное положение. И все-таки
хотя пьяница и видит, понимает большее благо,
учитывает общественные требования, но вспоминает о них лишь
в промежутке между попойками. Все его поведение
руководствуется стремлением избежать неудовольствия,
вызванного отсутствием привычного наслаждения.
«Высшие ценности» — блага остаются где-то в
стороне от поведения, действия индивида даже в том случае,
если представление о благе человек имеет, даже если он
признает тот или иной поступок благом. В реальном
поведении человеком движет стремление к собственному
счастью, что для Локка равнозначно исчезновению
неудовольствия. «Мне кажется, каждый может заметить и у
себя, и у других,— пишет Локк,— что явно большее
благо не всегда возбуждает человеческие желания
соответственно той величине, которая представляется или
признается за ними, между тем как каждая малейшая
неприятность беспокоит нас и заставляет работать, чтобы
избавиться от нее» (12, 1, 269). Обосновав эти свои идеи,
Локк затем замечает: «Так и бывает в большинстве
случаев, но не всегда. Так как ум в большинстве случаев,
как очевидно из опыта, имеет силу откладывать
выполнение и удовлетворение любого из своих желаний и,
следовательно, всех одного за другим, то он свободен
рассматривать их объекты, изучать их со всех сторон и
сравнивать с другоми. В этом заключается свобода человека
(курсив наш.—Я. М.)» (12,1,271).
В деятельности, поведении человека Локк по сути
дела усматривает весьма любопытное противоречие. С
одной стороны, поведение индивида определено его
индивидуальными желаниями, пристрастиями, которые в свою
223
очередь порождаются самыми непосредственными,
«естественными», материальными жизненными потребностями
(стремление избегнуть голода, жажды, жары, холода,
утомленности работой и т. д.). По отношению к таким
потребностям понимание блага, ориентация на него имеет
вторичный, зависимый характер. Но с другой стороны, в
структуре поведения человека Локк с прозорливостью
отмечает в общем-то непонятную для него специфическую
способность: она состоит в умении сдерживать свои
естественные, материальные потребности и желания. Что
следует подчеркнуть особо, Локк говорит о возможности
рассматривать объекты в известной независимости от
порожденных ими желаний. Эта способность всестороннего
рассмотрения, сравнения объектов и есть для Локка
самое четкое проявление свободы человека. Вот как
развивает он свою гениальную догадку. «Приостанавливая»,
задерживая наше желание, мы как раз и имеем «удобный
случай... обсудить, добро ли или зло то, что мы намерены
сделать» (12, 1, 272). Процесс рассуждения, который как
бы вклинивается здесь между желанием и действием,
имеет любопытную особенность: благодаря ему
индивидуальное желание, потребность так или иначе
соразмеряется с надындивидуальным благом, происходит так
необходимое для человека и человеческого рода
ограничение индивидуального произвола. Это ограничение,
настаивает Локк, вовсе не означает уменьшения свободы,
напротив, в нем состоит «цель и польза нашей свободы», «ее
применение и благодеяние». И вообще «желать, хотеть и
действовать согласно последнему результату надлежащего
изучения — это не недостаток, а совершенство нашей
природы» (12, 1, 272). Обуздание желаний разумом, по
Локку, еще и потому может быть понято как проявление
свободы, что благодаря ему индивид определяется
своими «собственными мыслями», подчиняется не чужому, а
своему собственному решению.
Именно в этой связи Локк резко выступает против
мыслителей, которые считают разумное регулирование
действия и поведения человека ущемлением свободы.
«Если свобода, истинная свобода, состоит в том, чтобы
не руководствоваться разумом л не быть обузданным
изучением и обсуждением, что удерживает нас от выбора
или совершения худшего, то сумасшедшие и идиоты суть
единственно свободные люди. Но мне кажется, ради та-
224
кой свободы никто не предпочтет сойти с ума, кроме тех,
кто уже сошел с ума» (12, ./, 273). К суждениям Локка,
как мы уже видели выше, горячо присоединяется
Лейбниц, также обрушивающийся па тех, кто считает
остроумным выступать против разума и обзывать его
докучным педантом. «Выступать против разума значит
выступать против истины, т. к. разум есть система
(enchaînement) истин; это значит выступать против себя самого,
против своего блага, так как главная задача разума
заключается в том, чтобы познать благо и следовать ему»
(И, 176).
Две основные линии рассуждения Локка, которые мы
воспроизвели выше, не соединены им в единую теорию.
Не вполне ясно из самих локковских текстов, какой же
из этих двух способов ориентации (на индивидуальные
потребности или на благо, истину) соответствует
реальной структуре человеческого поведения. Не вполне
понятно и то, как дова типа стимулирования индивидуального
действия взаимодействуют и пересекаются. Однако сила
концепции Локка состоит в том, что он привлек
внимание к самому факту взаимоиерссечения индивидуальных
и надындивидуальных стимулов человеческого поведения
еще раньше, чем философская теория смогла объяснить
их действительное единство. Важно для нашей темы
подчеркнуть, что Локк приписывает громадную роль
разуму, взятому здесь в его особом качестве — в виде
регулирующего механизма действия и поведения,
предназначенного для учета объективных характеристик объекта и
социальных норм (блага, добра и т. д.).
«В сказанном вами немало прекрасного и ценного»,—
соглашается Лейбниц с рассуждениями Локка о
стимулах, определяющих человеческую волю. Однако в отличие
от Локка Лейбниц стремится утвердить мысль о
непосредственной детерминированности человеческого
поведения соображениями и принципами блага. Любопытно
доказательство, которое развертывает Лейбниц. Для того
чтобы понять, как принцип блага, добродетели, идея бога
укоренены в поведении индивида, следует прежде всего
отказаться от философского манипулирования этими
принципами, как символами, как знаками. Необходимо
перейти к человеческому действию на том его уровне,
когда оно но вполне естественным причинам не
производит анализа понятий истинного блага и истинного зла.
# Н. В. Мотрошилова
225
Стимулом такого действия являются, по Лейбницу,
«незаметные восприятия», «малые побуждения»,
«бессознательные страдания», которые детерминируют нас до
всякого обдумывания. Но в этих незаметных и
бессознательных духовных стимулах проявляется изначальная
мудрость природы, создающей данный механизм; сущность
его — «в постоянном, непрерывном продвижении к
большим благам, которое сопровождается желанием или по
крайней мере постоянным беспокойством...» (И, 167).
Такие «влечения» направляются к благу, включают
человека и его действие в общий разумный порядок природы,
закон развития которого состоит, по Лейбницу, в
продвижении к наибольшему благу. При этом Лейбниц все-таки
согласен с Локком, что сознательное, разумное
регулирование желаний и склонностей составляет важнейшее
преимущество человека, которое необходимо использовать:
«...совершенство, заключающееся в некоторых
удовольствиях данного момента, должно уступить место заботе о
совершенствах, которые необходимы, для того чтобы нам
не стать жертвой несчастья...» (11, 178). Разница между
обычным действием, стимулированным бессознательными
влечениями, и обдуманным разумным решением состоит,
По Лейбницу, отнюдь не в том, что в первом случае
якобы отсутствует, а во втором присутствует ориентация на
благо, совершенство, добродетель. Разница — лишь в
степени, мере того блага и совершенства, которая в обоих
случаях преследуется и достигается.
Мысль о том, что обычное человеческое действие
ориентируется на моральные принципы блага, совершенства,
справедливости бессознательно, «до всякого
обдумывания», т. е. нолуиистииктивно, вызывает активное
возражение Юма. Равным образом не удовлетворяют Юма
концепции морали и теории человеческого поведения,
которые либо исходят из чисто индивидуальных потребностей
человека, из его себялюбивой и корыстолюбивой
природы, либо категорически противопоставляют
индивидуальные механизмы поведения, с одной стороны, и общесо
циальные принципы и нормы с другой. Сложнейшие
социальные принципы и правила (скажем, принципы
собственности, справедливости: соображения,
принимающие в учет общечеловеческое благо) никак нельзя
примирить «с понятием изначальных инстинктов», возражает
Юм Лейбницу и его последователям. Отличие человече-
226
ского действия состоит, по Юму, в том, что в дело всегда
вмешиваются разум и обычай. Поэтому социальные
принципы и «общественные добродетели» никак не могут быть
выведены из бессознательного поведения индивида.
«Необходимость справедливости для поддержания общества
есть единственное основание данной добродетели» (16, 2,
246). Итак, социальные, надындивидуальные принципы и
нормы возникают и существуют только потому, что люди
относятся к их действию достаточно сознательно, что они
определенно и четко ориентируются на заключенную в
таких правилах общественную полезность.
Но как же в таком случае обстоит дело с расколом
индивидуального и общественного, которое было
зафиксировано и описано в различных теориях морали,
концепциях человеческого поведения? Эти концепции
выразили — сначала в абстрактной форме — назревающее в
недрах капиталистической системы противоречие между
личностью и обществом, которое в тот период еще не
было, правда, заметным дли каждого социальным
конфликтом, но которое попало в поле зрения наиболее глубоких
мыслителей, стало предметом социальной
гуманистической критики.
Прежде всего Юм признает, что такого рода теории
отнюдь не беспочвенны: они основываются на некоторых
действительных фактах, хотя и неправильно
интерпретируют их истинную природу. «Себялюбие является столь
могущественным принципом человеческой природы и
интерес каждого индивида в общем так тесно связан с
интересом общества (курсив наш.—Я. М.), что можно
простить тех философов, которые воображают, будто всю
нашу заботу об обществе можно рассматривать как
результат заботы о нашем собственном счастье и
самосохранении» (16, 2, 260). Вполне возможно, продолжает
Юм, обнаружить «случаи, когда личный интерес
отличается от общественного и даже противоречит
последнему» (16, 2, 261). Но все-таки проблема остается, если
предположить «разделение интересов». Проблема реально
состоит в следующем: как же возможна, несмотря на
известное противоречие интересов индивида и общества,
социальная жизнь, ее законы, взаимодействие людей. Сам
Юм формирует действительную проблему в более частной
и специфической форме: как возможны социальные
добродетели, общественные аффекты, общесоциальные иде-
8*
227
лльиые регулирующие принципы, такие, например, как
принципы морали и моральное чувство? Прежде всего
10м полагает в отличие от Локка, что соображения
общего блага, ориентация на счастье других людей столь же
иеп-осрод'ствеяио детерминируют постутшилдцш-ща, сколь
и соображения его собственной пользы и выгоды. «Мы,
несомненно, принимаем во внимание счастье или
несчастье других людей при оценке собственных мотивов
действия и склонны к первому, когда паши личные
заботы не побуждают нас искать преимущества и выгоды
для себя посредством нанесения обид ближним» (16, 2,
268).
Доказательство того обстоятельства, что принципы
человеколюбия, симпатии «столь глубоко пронизывают все
наши чувства и оказывают столь сильное влияние, что
могут возбудить сильнейшее порицание или одобрение»
(16, 2У 274),—такое доказательство Юм черпает из
наблюдения за повседневным социальным опытом. Он
упоминает о той огромной власти, которую имеет оценка
человеческих действий в соответствии с социальными
критериями, о той непосредственной зависимости, которая
связывает само чувство удовольствия или неудовольствия
и такого рода оценки. Юм прямо говорит также о
«ценности», которая неизменно приписывается социальным
добродетелям па всем протяжении общественного
развития. Постоянное и непосредственное воздействие
социальных принципов на жизнь и поведение каждого человека
приводит к тому, что люди «с готовностью и без каких-
либо дальнейших соображений и размышлений» (16, 2,
273) признают благом все то, что способствует счастью
людей, а не одному только личному счастью.
О чем мы ни размышляем, с кем мы ни беседуем,
говорит Юм, занимаемся ли серьезными вещами или
проводим время в беззаботных развлечениях — каждое
явление, каждое действие предстает перед нами не само по
себе, но обязательно в его отношении к человеческому
счастью или несчастью. Именно в результате этого в
индивиде возникает чувство удовольствия или тревоги.
Чувства человека вообще глубоко социальны. «Сделайте
человека одиноким, и он потеряет всякую радость, кроме
чувственной и спекулятивной. И это потому, что движения
ого сердца не сопровождаются соответствующими
движениями у его ближних» (16, 2, 262). Дело, конечно, не в
228
абстрактных и отвлеченных идеальных принципах,
говорит Юм. К ним люди могут оставаться равнодушными,
поскольку они различают порок и добродетель в слишком
общей форме, «безотносительно к нашей собственной
личности или личностям, с которыми мы более интимно
связаны...» (16, 2, 272). «Общесоциальные добродетели»,
делает Юм весьма важное и интересное заключение, не
сами по себе действуют на изолированного индивида, но
исключительно в процессе конкретного социального
общения, через посредство этого последнего. «...Обмен
чувствами в обществе и беседы заставляют нас образовать
некую общую и неизменную норму, согласно которой мы
можем одобрять или порицать характеры и манеры
поведения» (16, 2, 272). В результате общественного
взаимодействия формируются своеобразные социальные чувства,
например человеколюбие и симпатия. Здесь Юм
вынужден поставить точку, не задаваясь более глубокими
вопросами. «Достаточно того, что это воспринимается в
процессе опыта как принцип человеческой природы...
Каждый может обнаружить это в себе» (16, 2, 261 —
262). Юм не отрицает, что каждый человек
руководствуется соображениями собственной полезности. Но и
стремление к личной пользе он интерпретирует иначе,
чем Локк. Ведь полезность, рассуждает Юм, есть
стремление к определенной цели; если мы оцениваем какое-
либо явление как пригодное для осуществления
определенной цели, то это значит, что и сама цель нас
обязательно затрагивает. А цель есть понятие, которое
выводит за пределы индивидуальной полезности и
индивидуального желания. «Следовательно, если полезность
является источником нравственного чувства и если ее не
всегда рассматривают в отношении к самому себе, то
отсюда следует, что каждое явление, которое способствует
•счастью общества, непосредственно зарекомендовывает
себя как достойное нашего одобрения и благосклонности»
(16, 2, 261).
Ориентация иа социальные принципы, в этом
согласны Локк, Лейбниц, Юм, приобретается, усваивается
(или принимает более сосательную форму, как сказал
бы Лейбниц) ob процессе воспитания. Процесс воспита-
шгя порождается той необходимостью, чтобы мы, итгди-
■н-годът, учил if сь быть беспристрастными и «придавали
нашим чувствам более социальный характер» (16, 2,
229
271). В абстрактной форме здесь уже поставлен вопрос
о процессе воспитания как процессе социализации — о
том процессе, который глубоко интересует современную
социологию.
Итак, мы видим, что философская теория человека и
человеческого разума от Локка — через Лейбница — к
Юму проходит сложный, интересный и в целом
плодотворный путь, выясняя структуру действия индивида и
ее зависимость от общественных процессов. И к концу
этого пути проблема отнюдь не разрешена. Юм
формулирует ее в психологистической и идеалистически
превращенной форме; вопрос о социальном взаимодействии
людей, о взаимопроникновении общественного и
индивидуального, о социальном происхождении и
функционировании познавательного, духовного элемента человеческой
деятельности ставится в абстрактной форме. В центре
внимания оказывается исследование социальной природы,
социального происхождения тех чувств и ценностей, ко
торьге образуют неотъемлемые структурные элементы
любого человеческого действия. Но важно и интересно уже
то, что зарисованное Локком противоречие между
индивидуальными и социальными стимулами действия Юм
пытается связать в такое органическое единство,
ведущую сторону которого образует внутренняя социальность,
присущая индивидуальному поведению, чувству,
желанию.
Существенно также и то, что Юм прямо,
недвусмысленно говорит о социальности, о потребностях
человеческого общения, что проблему морали, ценностей
добра и зла, прежде обсуждаемую в абстрактно-философской
или абстрактно-морализаторской форме, он совершенно
определенно формулирует в виде социального, социально-
философского вопроса. Необходимый этап на пути к
такой интерпретации образует учение Локка, который по
сути дела подготавливает ее, поскольку благо и добро он
рассматривает в связи с разумным, духовным элементом
целостной структуры человеческого действия.
Здесь обретает свое воплощение и конкретную
реализацию стремление философов конца XVII — первой
половины XVIII в. рассмотреть человека одновременно как
разумное, практически действующее и социальное
существо.
Но отсюда следует, что чувства и разум олределя-
230
ются и понимаются не просто как неизменные, от
природы данные способности отдельного человеческого
существа, но как существенные компоненты человеческого
действия, притом действия, которое связано с ориентацией
на других людей, на социальные нормы и ценности. Этот
важный момент следует иметь в виду, приступая к
анализу собственно гносеологических концепций, в которых
не могла не сказаться отмеченная выше тенденция, лишь
постепенно и через многие теоретические противоречия
пробивающая себе дорогу.
ГЛАВА IV
ПРОБЛЕМЫ И ТРУДНОСТИ
ТЕОРИИ ПОЗНАНИЯ
И ВОПРОС О СОЦИАЛЬНОЙ
ОБУСЛОВЛЕННОСТИ
ПОЗНАНИЯ
§ 1. Материализм и
практическая направленность
теории познания (Джои Локк)
На рубеже XVII-XVHI вв.
интерес материализма, этого «прирожденного сына
Великобритании», прочно прикован к проблемам познания.
Подчеркнутое внимание к познавательной, духовной
деятельности человека не только не противоречит в рамках
материалистической концепции ее подробно
охарактеризованной выше практически жизненной ориентации, но
и прямо предполагается этой последней. Исследование
познания предпринимается не только потому, что
человеческий разум признается «самой возвышенной
способностью души», специфическим отличием человека, а его
изучение — благородным и приятным занятием.
Философский анализ познания рассматривается как важнейшее
практическое подспорье: его главная цель, как думает
Локк, состоит в отыскании мерил и критериев, «по
которым разумное существо в таком положении, в какое
человек поставлен в этом мире, может и должно управлять
своими мнениями и зависящими от них действиями...»
(12, 1, 74). Познание рассматривается не как некоторая
идеальная, в конечном счете никогда не реализуемая
«абсолютная» способность или «совершенная» деятельность:
Локк сознательно избирает в качестве объекта анализа
те всегда ограниченные познавательные процессы и
действия, которые «обеспечивают наиболее существенные
интересы человека». «Не будем,—убеждает
Локк,—категорически и неумеренно требовать доказательства и досто-
232
верности там, где возможно достигнуть одной лишь
вероятности, вполне достаточной для устройства наших
дел» (12, 1, 74). «Наша задача здесь — знать не все, а
то, что важно для нашего поведения (курсив наш.—
Н. М.)ь (там же). Итак, интерес Локка направлен
прежде всего и главным образом на познавательную
деятельность отдельного человека, непосредственно вплетенную в
его повседневное бытие, в его практическую жизнь, в его
поведение.
Такого рода ориентация возникает отнюдь не
случайно. Она определяется уже рассмотренным в первой части
локковским пониманием человека, политэкономическими,
социологическими и социально-политическими идеями
Локка. Она связана и с принципиальными исходными
установками локковского материализма. Продолжая в
философии ту линию, которая была намечена Бэконом, Гас-
сенди и в особенности Гоббсом, Джон Локк
категорически требует анализировать познание в его реальных,
практически значимых и практически наблюдаемых
формах. Если речь идет о познании человека (а говорить
приходится именно о нем, коль скоро мы не хотим впасть
в мистику и уподобиться фантазерам и теологам), то
единственно возможной реальной формой, единственным
«разумом» может быть познавательная деятельность
конкретного индивида — такова логика размышлений
Локка. Никто, кроме него (никакой другой «разум», никакое
неведомое нам мышление), не осуществляет
действительно и реально процесс познания. Подобный подход имеет
место и при оценке возможностей познавательного
процесса индивида, который рассматривается как феномен
весьма несовершенный, ограниченный, «конечный».
С этим распространенным убеждением предшествующей
философии Локк вполне согласен. Более того, он склонен
еще более категорически подчеркивать несуверенность
«нашей способности познания»: Локк считает абсолютно
необходимым обуздывать «деятельный дух человека»,
досконально выявлять действительные, всегда очень
небольшие сегодняшние возможности человеческого познания.
Свой «Опыт о человеческом разуме» Локк начинает с
предостережений: надо-де трезво взглянуть в лицо тому
факту, что познание множества вещей вообще
превосходит наши познавательные способности, и оставаться в
«спокойном неведении» относительно недоступных наше-
9 Н. В. Мотрошилова
233
му знанию предметов и т. д. Но вместе с тем Локк никак
не хотел бы надолго задерживаться на этих сетованиях.
Человеку дано достаточно много возможностей, которые
ему еще предстоит реализовать.
Итак, при анализе познания мы должны, по Локку,
прежде всего зафиксировать, что познание действительно
и реально осуществляется единичным субъектом,
индивидом. Обратившись к познавательной деятельности
индивида, мы равным образом должны обнаружить
наблюдаемые формы ее осуществления, объективированные и
доступные описанию ее результаты. При этом Локк
предупреждает читателя, что он оставляет в стороне
«физическое исследование души», по-своему весьма «любопытное»
и «интересное», и сосредоточивает все внимание на
гносеологической стороне дела: его внимание привлекают
«познавательные способности человека, как они приме-
няются к объектам, с которыми имеют дело» (12, 1, 71—
72). Значит, следует выделить и изучить, в соответствии
с замыслом Локка, не чисто (материальные формы
протекания познавательной и мыслительной деятельности, но
именно духовные процессы, способы взаимодействия
индивида с объектом, приобретающие вместе с тем
«ощутимую» форму для описывающего, расчленяющего,
наблюдающего философского взгляда. Предшествующая
философия уже указала пути описания таких форм, в которых
мысль становится «наличной», «данной». Этой формой
прежде всего является знание. Локка последнее
интересует не просто как система слов, знаков, приобретающих
как бы обособленное от человека существование. Опять-
таки тяготение к реальным, живым формам, к
действительному функционированию познания заставляет Локка
обратить внимание на знание, (мысли в актуальном
процессе индивидуальной познавательной деятельности,
поскольку они составляют неотъемлемый элемент данного
процесса. Если рассмотреть познание индивида,
рассуждает Локк, этот живой, сегодняшний, актуальный
процесс, то нельзя не заметить: «люди имеют в своем уме
различные идеи», поистине огромный запас идей,
«который деятельное и беспредельное человеческое
воображение разрисовало с почти бесконечным разнообразием»
(12, 1, 128). Локк, следовательно, отправляется от
несомненного для него факта «данности», «наличия»
(терминология Локка) в нашем мышлении, в каждом актуальном
234
процессе познания идей, которые для этих актов
являются объектами познания, реальным «материалом
мышления».
Идеи, разъясняет Локк, выражаются такими,
например, словами: «белизна, твердость, сладость, мышление,
движение, человек, слон, войско, опьянение» и т. д. Локк
признает, что в реально наблюдаемом познавательном
процессе обычного человека главенствующую и
регулирующую роль играют идеи, конкретные и абстрактные
понятия вместе с тем содержанием, которое им
сопутствует. Очень важно иметь в виду этот момент: с теми
философами, которые утверждают в духе картезианства, что
идеи есть организующие начала, формы нашего
познания, или вслед за Гоббсом считают «объектом»
мышления, объектом познания не сами вещи, но их
мыслительные образы, — с этими мыслителями Локк в чем-то
довольно существенном согласен. Он признает вместе с
ними, что в актуальном, наличном познании развитого,
ставшего человека роль регулятора выполняют не сами
вещи, но уже сложившиеся, имеющиеся налицо
мыслительные образования, которые уже приобрели, как
правило, обобщенность и абстрактность. Но далее
начинаются принципиальные расхождения. Если сторонники
учения о врожденных идеях, зафиксировав
«вмешательство» абстрактного духовного мира в процесс
взаимодействия отдельного человека и вещи, по сути дела
остановились на такой констатации и не сумели объяснить истоки
и происхождение идей, «вывести» их, то Локк
решительно и четко ставит вопрос о генезисе наличных идей, о
становлении духовного царства индивида. «...Я
исследую,—обещает Локк в начале своего «Опыта»,—
происхождение тех идей, или понятий (или как вам будет
угодно назвать их), которые человек сознает
наличествующими в своей душе (курсив наш.—Я. M.), а затем
те пути, через которые разум получает их» (12, 1, 72).
Мистицизм теории врожденных идей, ее попытка
оперировать приемами и символами, запретными для
реалистической, «экспериментальной», как скажет впоследствии
Юм, философии, вызывает активное противодействие
Локка. То, что в познавательном процессе развитого,
современного человека может показаться данным, исходным,
первоначальным (идеи, абстрактные понятия), должно
быть исследовано в его происхождении, в его возникно-
10 Н. В. Мотрошилова
235
иеиии; человеческое познание должно быть рассмотрено
в движении — от того пункта, где еще отсутствует всякая
«духовность», от своеобразного «нулевого» состояния
(когда человек еще не располагает ни одной идеей) к
характерному для обычного индивида «идейному»
богатству и разнообразию.
Вот почему для Локка такая познавательная форма,
как деятельио'сть развитого индивида, не является—в
отличие от Декарта и Гоббса—исходной и первоначальной.
Концентрируя свое внимание на индивидуальном
познании, Локк склоняется при этом к еще более
специфическому аспекту анализа: его интересует, какими путями в
сознание индивида проникает, становится его
«собственностью» то духовное богатство, которым он сегодня
располагает. Проблема, собственно, заключается для Локка
в том, чтобы описать реальные формы становления
познающего человека, становления его сознания и познания,
а в более общем виде — пути превращения единичного
человеческого существа в существо разумное, в человека
в подлинном смысле этого слова. Называя свой метод
выявления происхождения знания методом «историческим»
(12, 1, 72), Локк поясняет, что кроме путей, какими «наш
разум приходит к имеющимся у нас понятиям о вещах»,
его интересуют «основания тех убеждений, столь
разнообразных, разнородных и совершенно противоречивых,
какие можно найти среди людей». Для этого он
намеревается выяснить (кроме объема, достоверности и
очевидности познания, приобретаемого нашим разумом через
посредство идей) «природу и основания веры и мнения»,
имея здесь в виду «наше согласие с каким-нибудь
предложением, как с истинным, хотя относительно его
истинности мы не имеем достоверного знания...» (12, 1, 72).
Таким образом, по крайней мере вторая часть локковско-
го «Опыта» имеет прямое отношение к нашей теме:
развивая некоторые мысли Гоббса, Локк также задается
вопросом о взаимодействии индивидов в процессе
познания. Он хочет выяснить, как вырабатывается общее со^
гласив людей относительно тех или иных знаний, как
формируется «вера» — способ принимать за истину то, о
чем у индивида нет достоверного знания,— как возникают
мнения, убеждения и предубеждения отдельного
человека. Постановка вопроса о согласии индивида с
некоторыми знаниями, о формировании его собственных убежде-
236
ний и мнений имеет смысл единственно в том случае,
если в качестве «реальности» и «данности»
предполагается находящийся вне индивида человеческий мир, т. е.
мир социальный. Изучение и анализ тех путей и
способов, при помощи которых индивид вырабатывает
различные степени и формы согласия, по сути дела означают,
что предметом исследования становится взаимодействие
познающего человека с другими людьми, с
существующим, наличным знанием, которое образует своеобразную
«ставшую реальность» по отношению к единичному
человеку. Локк еще не задается вопросом о характере и
особых формах этой «духовной» социальной реальности. Он
просто предполагает ее готовой, имеющейся, в данном
случае никак не намереваясь применить к ее
исследованию «исторический», т. е. генетический, метод.
Последний применяется исключительно по отношению к
индивиду, в той мере, в какой отдельный человек делает
внешнюю и чуждую ему духоллую действительность
внутренней, собственной и в какой теория, прослеживая
эти пути, обнаруживает формы иитериоризацим,
присвоения индивидом человеческого знания. Для Локка
само собой разумеется, что благодаря этому выявляются
формы превращения человеческого животного в человека
в собственном смысле слова.
Что касается первой, собственно гносеологической
части Локкова замысла, то здесь дело обстоит
значительно сложнее. В его осуществлении Локк как будто
является одним из наиболее ярких защитников такой точки
зрения, которая рассматривает в качестве субъекта
познания изолированного от общества, от других людей
индивида,— так называемой гносеологической робинзонады.
Таково довольно распространенное мнение о теоретико-
познавательных идеях Локка. Оно укрепилось, как нам
кажется, потому, что специфика особого аспекта
исследования, неизменно присутствующая в той части локков-
ской философии, которую его интерпретаторы обычно без
особых оговорок называют теорией познания, не была
определена. Было упущено из виду то обстоятельство, что
Локк отнюдь не абстрактно решает отвлеченный
философский вопрос о субъекте познания, но выясняет, как
человек становится познающим субъектом, как он
обретает, начиная с самых первых его шагов в этом мире, все
те знания и качества, которые мы находим «наличествую-
10*
237
щими в пашей душе». По своему реальному, хотя и не
вполне осознанному самим Локком значению
поставленная проблема является не только и не столько проблемой
гносеологической, сколько вопросом о «социализации»
познающего индивида. Противоречивость Локковой
философии, ее особые затруднения порождаются, как мы
подробно постараемся показать в дальнейшем, именно тем,
что проблема, реально тяготеющая к сфере социологии
познания, была поставлена на повестку дня
философского исследования как раз в тот момент, когда теория
совершенно не располагала сколько-нибудь адекватными
способами для ее разрешения. Но прежде чем мы
перейдем к разбору учения Локка о происхождении идей,
обратимся к тем мыслям английского материалиста,
которые более или менее прямо относятся к теме данной
работы—к его учению об «очищении разума», во многом
примыкающему к соответствующим идеям Бэкона,
Декарта, Спинозы.
§ 2. Типология человеческих
заблуждений и
предрассудков
Мы уже говорили, что разум и познание интересуют
Локка исключительно как «высшая инстанция»,
определяющая поведение: светом разума, подчеркивает Локк,
«управляются все деятельные силы человека» (12, 2,
187). Вот почему весьма важную практическую функцию
призвано выполнить в рамках Локковой философии
традиционное учение об очищении разума от предрассудков
и заблуждений, от недостатков, которых можно и следует
избежать.
По сравнению с традиционными концепциями учение
Локка «о пользовании разумом» имеет новые и
интересные особенности. Первая из них заключается в том, что
Локк более точно определяет и формулирует источники
и причины заблуждений, предрассудков. Главная их
причина состоит, по мысли Локка, не в изначальных, чуть
ли не природных слабостях человеческих
познавательных способностей, познавательного аппарата, но в
практическом жизненном опыте человека. Этот последний
Локк называет «практикой», «С душой обстоит так же,
238
как с телом: практика «делает ее тем, что она есть, и
даже в отношении таких преимуществ, которые
рассматриваются как природные дарования, мы при внимательном
исследовании убедимся, что они в большей своей части
являются продуктом упражнения и доведены до высокой
степени развития путем повторных действий» (12, 2,
194). Мысль, которую здесь высказывает Локк, очень
важна для понимания его философии. В «Опыте о
человеческом разуме» — без особых обоснований — Локк
приступает к анализу познания с некоторого начального
состояния мышления субъекта, которое уподоблено «чистой
доске» (tabula rasa). Это есть, собственно, отсутствие
мышления, некое «нулевое» познавательное состояние.
В таком изображении субъект познания как будто бы
предстает как совершенно изолированное
индивидуальное существо, которое собственными силами должно
присвоить и освоить то довольно-таки обширное духовное
богатство, которое мы можем обнаружить у
сознательного, развитого человека. Казалось бы, «гносеологический
Робинзон» налицо. Нельзя, однако, забывать, что
оборотной и основной стороной локковской концепции является
убеждение во всесилии, всевластии, решающем значении
практического опыта человека. Человек как природное
существо — ничто; жизненный опыт, «практика», делает
из него все. Такова идея Локка. «...Различия, которые
можно наблюдать в разуме и способностях людей,
обусловливаются не столько природными задатками, сколько
приобретенными привычками» (12, 2, 195). Вместе с тем
Локк не намерен категорически отрицать всякое
значение природных задатков. Он часто говорит о «природном
разуме», о заложенных в человеке при рождении
способностях и силах, которые в принципе не только не
препятствуют, но и предоставляют возможность «освоить
почти любую вещь» (12, 2, 194). «Я не
отрицаю,—говорит он,— что часто природное предрасположение дает
первый толчок... но оно никогда ие доставит человеку
большого успеха без применения и упражнения; только
практика доводит духовные силы, как и физические, до
возможного для них совершенства» (12, 2, 195). Значит,
природные задатки образуют, по Локку, ту основу, от
которой возможно отвлечься, сосредоточив все внимание на
социально-практических условиях жизни, на воспитании,
усовершенствовании спрсдбностец и навыков индивида.
239
Подобно этому и заблуждения коренятся не в
природной неспособности человека усматривать истину, но в
искажающем влиянии целого ряда социально-практических
обстоятельств. «Каждый высказывается против слепоты,
а между тем люди почти влюблены в то, что помрачает
их зрение и отнимает у их ума тот ясный свет, который
должен вести его к истине и знанию. Ложные и
спорные положения, принимаемые в качестве бесспорных
максим, затемняют истину для тех, кто на них
опирается. Таковы обычно предрассудки, внушенные
воспитанием, партией, почтением, модой, интересом и др. Это тот
сучок, который всякий видит в глазу ближнего своего,
не замечая бревна в собственном глазу» (12, 2, 208).
Идеал Локка, цель учения об очищении разума состоит,
как это было уже в соответствующих концепциях его
предшественников, в достижении чистого света истины и
в беспристрастном, непредубежденном стремлении к ней.
«Думать о каждой вещи именно так, как она есть сама»
по себе,—в этом настоящее назначение разума, хотя
люди не всегда пользуются им для этого» (12, 2, 212). Но>
Локк хорошо понимает, что увещеваниями и призывами
к объективности и беспристрастности делу не поможешь.
Люди обычно соглашаются, что нужно правильно
пользоваться своим разумом. Но они не могут отрешиться от
соображений собственной выгоды, престижа, от
стремления к власти, аргументы в пользу которой, как правило,
не совпадают с доводами истины. Они не могут
поступиться своими личными или партийными
предубеждениями. Самые простые жизненные действия и умения,
скажем чтение, оказываются зависимыми от ориентации
индивида, чаще всего субъективной и односторонней.
Человек всегда, говорит Локк, может видеть только часть
общей картины. Ни один человек не видит всего. К
тому же «мы вообще смотрим на одну и ту же вещь
различно,— соответственно, если можно так выразиться,
различным позициям по отношению к ней... (курсив
наш.—Я. М.)» (12, 2, 190). И все-таки Локк неустанно
рекомендует воспитывать свободу ума, предрасположение
к истине, привычку ее добывать и развивать. Разуму,
рассуждает Локк, совершенно необходима свобода: без
нее он перестает быть подлинным разумом. Свобода эта
в свою очередь состоит в двух способностях и
стремлениях: во-первых, «в беспристрастном отношении ко всякой
240
истине, йод чем я понимаю,— добавляет Локк,— приятие
истины и любовь к ней, как к истине, а не любовь,
подсказываемую какими-либо другими соображениями и
проявляемую раньше, чем мы узнали, что это истина»;
во-вторых, «в проверке наших принципов и в отказе
принимать в качестве таковых какие-либо положения и
строить что-либо на них раньше, чем мы полностью не
убедились, как разумные создания, в их обоснованности,
правильности и достоверности» (12, 2, 209). Локк горячо
защищает независимость и беспристрастность в
суждениях, скажем в суждениях, относящихся к области
религии. Но он в то же время не согласен, чтобы
беспристрастность, эту важнейшую предпосылку достижения
истины, отождествляли с индифферентностью, безразличием
по отношению к истине и лжи. Безразличие, напоминает
Локк, открывает широкую дорогу к заблуждениям.
У локковской концепции усовершенствования разума
есть и другая интересная особенность. Локк весьма
серьезно отнесся к задаче изучения «изъянов и дефектов
разума». Этих дефектов, говорит Локк, не меньше, чем
болезней; они весьма разнообразны, они приносят вред,
парализуя и ослабляя разум. Поэтому они требуют
«внимания и лечения». Любопытно то, что свою '«патологию
разума», учение о предрассудках Локк развертывает как
изображение разнообразных человеческих типов, можно
даже сказать, типов социальных. Это не просто
перечисление предрассудков, по суммирование таких жизненных
ориентации, которые препятствуют истинному познанию
или существенно затрудняют его. Вот некоторые из
таких типов, как их рисует Локк. 1) Иные люди редко
рассуждают; они поступают и думают так, как им
указывает пример других: родителей, соседей, служителей
церкви и т. д. Они избавляют себя «от труда и беспокойства
самостоятельного мышления и исследования» (12, 2, 189).
Как рассуждают люди такого типа? Примерно так:
«основатели и лидеры моей партии хорошие люди,
следовательно, доктрина их правильна; это — мнение секты,
которая заблуждается, следовательно, оно ложно; это
давно принято людьми, следовательно, это правильно; или —
это ново и, следовательно, ложно» (12, 2, 196). Многие
из этих людей, говорит Локк, рассуждают вполне
искренне, а не с целью обмана других.
241
1?вчь ие может идти об отказе от осякйх прии^ийооз,
убеждает Локк. Но они должны быть основаны на
внутреннем, разумном их понимании, человек должен
разделять их, а ие заучивать. Когда люди усваивают и
принимают ложные принципы, возникает большая
опасность: «вступив в свет и убедившись, что они не могут
придерживаться принципов, принятых и усвоенных
таким образом, отказываются от всяких принципов и
становятся скептиками, равнодушными к знанию и
добродетели» (12, 2, 210). Данный тип весьма пригоден,
рассуждает Локк, для процветания ортодоксии; последняя
состоит в том, что люди начинают с принятия мнений,
никогда не проверяя их истинность. С этим первым типом
во многом схож другой человеческий тип, говорит Локк,
человек этого типа подвержен настроению, интересу,
пристрастию, он прислушивается не к разуму, а к
чувству.
2) Особое внимание уделяет Локк «сорту людей»,
искренне следующих разуму, но всегда скованных своей
частной, специфической позицией. Они пребывают в
весьма узком интеллектуальном мирке. «Они ведут в некоем
маленьком заливчике оживленные сношения с
знакомыми им корреспондентами; замыкаясь в эти границы, они
с достаточной ловкостью оперируют товарами и
продуктами того уголка, которым довольствуются, но не
отваживаются пуститься в великий океан знания...» (12, 2, 191).
Универсально образованный ученый, Локк горячо
восстает против цеховой узости, снобизма тех, кто
отгораживается «от понятий, рассуждений и достижений
остального человечества», от огромного океана жизни,
практики, общечеловеческого знания. «Пусть люди не думают,
что вся истина содержится только в тех науках, которые
они изучают, и в тех книгах, которые они читают.
Отвергать заранее (мнения других людей, не ознакомившись с
ними, это значит — не доказывать темноту последних, а
только самому впадать в слепоту» (12, 2, 191).
Беспристрастность, осмысленное и критическое отношение к
принципам, к общепринятым убеждениям и знаниям
отнюдь не означают в понимании Локка пренебрежения к
богатейшей сокровищнице человеческого знания и опыта.
Ничем нельзя оправдать узость интересов, самомнение и
лень людей, пусть даже избравших своей профессией
науку, благородное дело служения истине.
242
Локк очень подробно характеризует не только
социальные типы, подобные тем двум, которые были
очерчены выше, но и детально описывает известные
психологические склонности людей, также препятствующие
познанию истины (торопливость, непостоянство,
поверхностность, универсальность). И здесь речь по сути дела идет
о своего рода социальной типологии. Локк ставит и
другие конкретные вопросы, такой, например: как
рассмотренная им типология связана с другими признаками,
скажем, с образованностью или необразованностью
человека?
В своем учении об усовершенствовании разума Джон
Локк идет далее по пути, проложенному еще Бэконом,
которого он чрезвычайно высоко ценит. И здесь, как и в
бэконов-ской теории идолов, заложены фундаментальные
основы социологической теории, предметом которой
является определение наиболее благоприятных
общественных, политических условий для развития науки, для
углубления человеческого познания. В задачи такой теории
входит и социально-воспитательная функция: теория
обращена к каждому индивиду и именно для него
перечисляет типологию заблуждений и типологию людей,
особенно склонных к заблуждениям. Локк хорошо понимает,
что речь идет о своеобразной философской диагностике и
лечении специфических социальных заболеваний; речь
идет о той части общей теории истины, которая
занимается патологическими случаями, отклонениями от
жизненной ж научной правды и -служит социологическим и
социально-психологическим (сказали бы мы сегодня)
введением, пропедевтикой к учению о достижении
истины. Лишь на основе предварительного очищения разума
строится у Локка, как, впрочем, и у его
предшественников, собственно теория познания.
К этой последней мы и переходим.
Главная работа материалиста Локка «Опыт о
человеческом разуме» была побудительной причиной для
возникновения полемического произведения идеалиста
Лейбница «Новые опыты о человеческом разуме». Признав
локковский «Опыт» одним из «лучших и наиболее
ценимых произведений настоящего времени», отдавая
должное философскому и писательскому таланту Локка,
склоняясь перед его огромным авторитетом, Лейбниц тем не
эденее це оставил без замечаний и возражений ни одной
243
основополагающей идеи английского материалиста.
Полемика Лейбница с Локком — интереснейшая страница
истории философии конца XVII — начала XVIII в., ибо
здесь мы сталкиваемся с упорной борьбой материализма
и идеализма, сконцентрированной вокруг вопроса, нас
особенно интересующего,— вокруг вопроса о сущности,
природе человеческого познания, об отношении познания
к активной человеческой деятельности.
§ 3. О сущности
человеческого познания: борьба
материализма и идеализма
(Локк и Лейбниц)
Структура Локкова учения о познании определяется
его главной установкой, исходным замыслом — дать
«верную историю первых начал человеческого знания»
(курсив наш.—Я. М.), показать, «откуда ум получает
свои первые объекты и какими путями он постепенно
приходит к собиранию про запас идей, из которых
должно строиться все то знание, к которому он способен»
(12, 1, 179). Локк призывает в свидетели опыт »и
наблюдение, взятое главным образом в его всегда возможной
и близкой каждому человеку форме самонаблюдения:
любой индивид, рассуждает Локк, может и должен
присмотреться к тем процессам деятельности и мышления,
которые он сам осуществляет. Тогда-то он выполнит, как
полагает Локк, другое важнейшее требование материализма
и сенсуализма: он будет апеллировать к
действительности, а не к продуктам произвольного и необузданного
воображения. Теория познания, по замыслу Локка, должна
начать с описания и определения «первых способностей и
видов деятельности ума», с выявления самых первых
способов соприкосновения человека с воздействующими
на него вещами.
Локк начинает с утверждения, что все наше знание
основывается на опыте, «от него в конце концов оно
происходит» (12, 1, 128). Мысль Локка имеет здесь вполне
четкую форму и обоснование; представитель
английского материализма и сенсуализма в противоположность
идеализму настаивает на том, что все самые «высокие»,
абстрактнейшие и фантастические идеи в конечном счете
244
Восходят к какому-нибудь опыту. Однако в обстановке
сомнения в достоверности чувственного знания, в
достоверности свидетельств опыта (а этим сомнением были
так или иначе проникнуты многие влиятельные
философские учения XVII в.), в условиях широкого
распространения теории врожденных идей вера в
первостепенное и фундаментальное значение опыта требовала
всестороннего и убедительного доказательства. Мы уже
видели, что такого доказательства по разным причинам не
смогли дать Гассенди и Гоббс. Историческая задача
оправдания эмпирического опыта, его реабилитации,
оказавшей серьезное воздействие на различные линии
развития последующей философии (и на французских
материалистов, и на Канта), выпала на долю Локка. Путь
реализации своего фундаментального замысла Локк
видит в том, чтобы доказать опытное (для Локка
чувственное) происхождение тех многообразных идей, понятий,
которыми человек очень широко оперирует в своей
мыслительной, познавательной деятельности, которые — в
этом Локк согласен с картезианцами, с Гоббсом —
становятся у взрослого человека своеобразными объектами
мышления.
Существует, по Локку, два источника идей.
«Во-первых, наши чувства, будучи обращены к отдельным
чувственно воспринимаемым предметам, доставляют уму
разные отличные друг от друга восприятия вещей в
соответствии с разнообразными путями, которыми эти
предметы действуют на них. Таким образом мы получаем
идеи желтого, белого, горячего, холодного, мягкого,
твердого, горького, сладкого и все те идеи, которые мы
называем чувственными качествами. Когда я говорю, что
чувства доставляют их уму, я хочу сказать, что от внешних
предметов они доставляют уму то, что вызывает в нем
эти восприятия. Этот богатый источник большинства
наших идей, зависящих всецело от наших чувств (курсив
наш.—Я. М.) и через них входящих в разум, я и
называю «ощущением»» (12, 1, 129).
Итак, первым источником идей (заметим, таких идей,
как идеи качеств) являются вещи как объекты
ощущений. Второй источник — внутренние действия нашего
собственного ума (Локк включает сюда наряду с
собственно познавательными действиями также и страсти) как
245
объект рефлексии, как объект нашего восприятия и
размышления. /
Позиция Локка в данном вопросе имеет важные
особенности. Прежде всего следует подчеркнуть, что Локк
изучает и рассматривает те идеи, которые он сам
называет «первоначальными», «простыми». Простые идеи — это,
по Локку, строительные кирпичики всего нашего
познания, знания, весьма понятные и близкие каждому
человеку, неизбежно сопровождающие весь его опыт, его
соприкосновение с внешними предметами. Простые идеи,
делает Локк очень существенное замечание, есть
«результаты ощущения» (12, 1, 164), они «одновременны с
ощущением» (12, 1, 140). Особенность простых идей Локк
поясняет на примере числа. Число кажется ему наиболее
простой, наиболее универсальной идеей. «Ее приносит
с собой каждый объект, с которым имеют дело наши
чувства, каждая идея в нашем разуме, каждая мысль в
нашем уме. Она поэт-ому есть наиболее близкая нашему
мышлению (курсив наш.— //. М.) и по своей
согласованности со всеми другими предметами наиболее общая
наша идея» (12, 1, 219). Локк подчеркивает, что
представление о числе внутренне свойственно человеческому
мышлению и познанию, оно определяет каждое, в том
числе и самое элементарное, мыслительное действие.
Отсюда и следует, утверждает Локк, огромная значимость
математических операций, их универсальность, их особая
точность. Правда, здесь возникает вопрос, на котором
Локку приходится специально останавливаться. Если
число есть наиболее первоначальная, простая, отчетливая
из простых идей, то почему же дети сравнительно
поздно осваивают счетные операции? Ответ Локка: дети не
имеют обозначений для числовых разрядов, они не в
состоянии соединять простые идеи в сложные, что
необходимо для счета. На своеобразную трудность
наталкивается Локк, говоря о других простых идеях — фигуры,
плотности, протяженности, пространства, времени. С одной
стороны, он хотел бы доказать, что и эти идеи
непосредственно сопряжены с ощущением, что они,
следовательно, есть первоначальные и непосредственные познания,
лежащие в основе чувственного опыта каждого человека.
Механизм образования простых идей числа, формы,
движения также скажется Локку -совершенно элементарным:
эти свойства являются «реальными качествами, потому
246
Wro они реально существуют в телах»; значит, органы
чувств достаточно непосредственно получают идеи
первичных качеств. «...Так как протяженность, форма, число
выдвижение тел заметной величины могут быть
восприняты зрением на расстоянии, то ясно, что некоторые (в
отдельности незаметные тела должны исходить от них к
глазам и посредством этого сообщать мозгу некоторое
движение, вызывающее наши идеи о них» (12, 1, 156).
Но, сравнивая, скажем, числа с идеями протяжения,
пространства, Локк вынужден признать, что с ними дело
обстоит не так легко: они не столь уж очевидны, не столь
уж элементарны («кто,—спрашивает Локк,— может
образовать различные идеи каждого самого малого
превышения протяженности» — 12, 1, 220). Более того,
характеризуя простые идеи первичных качеств, Локк широко
использует не непосредственный опыт каждого человека,
но достижения передовой науки своего времени,
достаточно сложными способами определявшей пространство,
время, протяжение. «И я надеюсь,— извиняется Локк
перед читателем,— мне простят это небольшое отклонение в
область философии природы, ибо в нашем настоящем
исследовании необходимо отличить первичные и реальные
качества тел, которые всегда находятся в них (а именно
плотность, протяженность, форма, число и движение или
покой, и иногда воспринимаются нами, а именно, когда
тела, в которых они находятся, достаточно велики,
чтобы их можно было различить по отдельности), от
качеств вторичных и приписываемых, которые суть только
силы различных сочетаний первичных качеств, когда
они воздействуют, не будучи ясно различимы» (12, 1,
159—160). Локк наталкивается здесь на дополнительную
трудность, с которой мы знакомы по философии его
предшественников, главным образом Гоббса; она
касается различения и определения так называемых первичных
и вторичных качеств. Позиция Локка не добавляет здесь
ничего нового. Выводя из механистического
естествознания и из философии природы своего времени
заключение о субъективности вторичных качеств, Локк, как и
Гоббс, вступил в противоречие с собственными
материалистическими посылками. Лейбниц не преминул указать
ему на этот факт. «Не следует думать,—возражает
Лейбниц Локку,—что эти идеи цвета или боли
произвольны и не имеют отношения к своим причинам или
247
естестненпой сиязи с ними» (11, 117). Лейбниц лолага/
от, что параллелизм, сходство, соответствие между
объективными свойствами света и его восприятием
существует, только это соответствие имеет более сложную
природу, чем в случае первичных качеств и их восприятия.
Ничего более определенного Лейбниц не может сказать,
не располагая естественнонаучным материализмом.
И все-таки он отстаивает идею сходства или
соответствия, прямо упрекая Локка в непоследовательности:
«Картезианцы не обратили достаточного внимания на эту
сторону дела, и в данном случае вы им сделали большую
уступку, чем вы это обыкновенно делаете и чем имеется
основание делать» (И, 117).
Но непоследовательность Локка, связанная с тем, что
его «простые» идеи в концентрированной форме
заключали в себе научный опыт целой эпохи, гораздо шире и
глубже. Она ведет к очень важному для нас и вообще
знаменательному противоречию Локковой концепции
познания. Ведь Локк претендовал на то, что ему удастся
обнаружить происхождение простых идей из единичного
чувственного опыта, из непосредственного воздействия
веши на человека. По сути дела он обнаружил, что
«простые» идеи, возникающие на начальных этапах
индивидуального познавательного опыта, уже наполнены отнюдь
не простым, не элементарным, не очевидным,
опосредованным содержанием. Это противоречие Локкова
понимания — надо (сказать, противоречие реальное,
содержательное, а отнюдь не вымышленное и не вызванное
одной лишь непоследовательностью рассуждения — сразу
подметил Лейбниц. Комментарии последнего к Локкову
учению о простых идеях бьют в одну точку.
«Сомнительно, являются ли все эти идеи простыми...» — говорит
Лейбниц о Локковых «простых идеях рефлексии» (11,
115). Или: «Идеи чувственных качеств считаются
простыми только в силу нашего неведения, а другие,
отчетливо известные нам идеи причисляются к простым
только в силу излишней снисходительности. Положение
вещей здесь примерно такое, как в случае тех
общепринятых аксиом, которые могли бы и заслуживали бы быть
доказанными подобно теоремам и которые, однако,
выдают за аксиомы, точно это первичные истины. Эта
снисходительность вреднее, чем это думают» (11, 151). Итак,
идея Лейбница, которая, как видно из его спора с Лок-
248
ком, во многом почерпнута и из собственных доводов и
затруднений Локковой философии, сводится к
утверждению сложного и комплексного характера того начального
этапа познания и той способности, которая безоговорочно
именуется чувственным опытом. Более точное и
определенное исследование чувственного опыта, идей и поня-
тий\ которые возникают благодаря ему, словом, изучение
сложного единства чувств од размышления,— такое
изучение «е входит <в задачи Лейбница, замятого
скорее истинным знанием, необходимыми истинами, а не
истинами факта». Данной проблемой займется Давид Юм.
Расхождение Лейбница с Локком, касающееся учения
о трО'Отьгх идеях, связано с 'более 'важным и более
общим разногласием: в основе различной трактовки
содержания и роли чувственного опыта лежит
противоположное по своим основам и тенденциям понимание
сущности, природы человеческого познания и мышления.
Главной темой является здесь спор о том, активен или
пассивен человеческий разум па первых, начальных этапах
своего соприкосновения с внешним ему материальным
миром, активен или пассивен он по самой своей сущности,
по самой своей природе.
*
Принято утверждать, что локковский материализм
однозначно трактует познание как безусловно пассивную
способность. Это не совсем верно: позиция Локка более
сложна и противоречива. Ведь Лейбниц, горячий
сторонник «активистской» философии, именно у Локка
заимствует тезис: наиболее ясную идею активной силы мы
получаем, наблюдая за духовной деятельностью. Локк,
далее, определенно и последовательно вводит в свою
философию понятие деятельности, имея в виду
синтетическую — разумную и эмоционально-чувственную,
познавательную и практическую — способность человека.
«Термин «деятельность»,— поясняет Локк,— <я употребляю
здесь в широком смысле, подразумевая не только
действия ума по отношению к своим идеям, но и
возбуждаемые иногда идеями своего рода страсти, каковы,
например, удовлетворенность или неудовольствие,
возникающие от какой-нибудь мысли» (12, 1, 129). Сторонников
учения о врожденных идеях Локк упрекает, в частности,
и в том, что они превращают человека в непрерывна
мыслящий автомат, которому не приходится прилагать
особых усилий для воспоминания, для каждого новою
акта мобилизации прошлых знаний. Такое представление
о мышлении Локк отвергает, его аргументация весьма
своеобразна. Бесконечно мудрый творец, рассуждает
английский философ, не мог бы создать столь
бесполезного процесса, каким является автоматизм непрерывного
мышления. Тем более непозволительно уподоблять/
мышление, эту «удивительную способность», (всего бргиже
стоящую к совершенству божественного непостижимого
существа, такой деятельности, которая разворачивается
как бы помимо познающего индивида и не требует его
собственной активности. '
Локк tue отрицает, что «существуют естественные
склонности, запечатленные в человеческой душе»; эти
склонности делают одни вещи и явления приятными для
индивида, а другие — неприятными. «Но это нисколько
не доказывает,— продолжает он,— существования
запечатленных в уме знаков, которые должны быть
познавательными принципами, регулирующими нашу
деятельность (12, 1, 94). Здесь Локк обнаруживает еще одну
причину своего недовольства учением о врожденных
идеях: это последнее отправляется от некоторых
готовых, социально значимых идеальных образований, от
принципов, как бы извне определяющих и регулирующих
человеческое действие и познание. Локк полагает, что
индивидуальное действие и познание следует понять и
объяснить как действие самостоятельное, инициативное.
Это «ребячество», говорит Локк, когда ссылаются на
судьбу, бога, недостатки способностей. «Лишь поскольку
мы сами рассматриваем и постигаем истину и причины,
постольку мы и обладаем действительным и истинным
знанием» (12, 1, 126). Нельзя, напоминает Локк,
познавать чужим разумом, нельзя видеть чужими глазами, че-.
ловек должен сам познавать, мыслить, действовать.
Наиболее плодотворный путь для этого — понять и признать
изначальную независимость индивидуального разума от
общепринятых истин и указать наиболее плодотворные
пути образования, воспитания человека как
самостоятельного и инициативного существа.
Итак, Локк придает огромное значение объяснению
возможностей свободного действия, которые имеет в сво-
250
ем распоряжении каждый человеческий индивид. Дейст-
виед деятельность, реализация свободы — единственный
способ развития и функционирования человеческих
познавательных способностей. Эта мысль весьма дорога Ло«к-
ку. Ил здесь он снова ссылается на «мудрого творца»:
человек \только потому и реализует дарованную ему богом
властьунад своим телом и над своими идеями, что он за-
ставляер активно функционировать способности выбора,
обдумывания, сдерживания непосредственного
побуждения и т\ д. Деятельное применение духовных
способностей гарантируется особым механизмом: необходимым
присутствием в каждом познавательном акте страстей —
наслаждения или страдания. «Нашему мудрому творцу
было поэтому угодно соединить с различными
предметами и получаемыми от них идеями, а также с
различными нашими мыслями сопутствующее им удовольствие,
для различных предметов в различной степени, дабы
дарованные н$м способности не могли остаться совершенно
праздными и не примененными нами» (12, 1, 150). Эти
идеи Локковой философии оказали громадное
воздействие на теоретическую и социально-политическую мысль
XVIII столетия, они дали мощный толчок собственно
просветительской идеологии, положившей в основу
сходные убеждения о всесторонней зависимости человека от
его жизненного опыта, о громадной роли образования,
накопления знаний, о значении страстей в деле
действительного «очеловечивания» индивида и т. д.
Целый ряд собственно гносеологических идей
философии Локка вообще обнаруживает теснейшую
зависимость от социально-критических установок его
мышления. Это можно, например, сказать о сенсуализме. Если
индивид самостоятельно и активно приобретает все
знания, которыми он в развитом, взрослом состоянии
располагает, то теория познания должна начинать анализ
познания с того пункта, где предмет оказывает
непосредственное воздействие на индивида (точнее, на его
органы чувств) и тем самым порождает ощущение. Всякая
идея имеет свое происхождение в чувственном опыте,
ни одно общее понятие нельзя предположить данным,
готовым.
Следовательно, у Локка постулат о самостоятельности
индивидуального познавательного опыта и действия
индивида, с одной стороны, и материализм и сенсуализм —
251
с другой, строго зависят друг от друга. «Если спросит,
когда же человек начинает иметь идеи, то верный ответ,
на мой взгляд, будет: «Когда он впервые получает
ощущение». Так как в душе не бывает признака идей до
доставления их чувствами, то я понимаю, что идеи в
разуме одновременны с ощущением, т. е. с таким
впечатлением или движением в какой-нибудь части нашегр тела,
которое производит в разуме некоторое восприятие» (12,
1, 140). В ощущении и восприятии, подчеркивает Локк,
в конечном счете коренится все человеческое /знание,
весь его опыт, все самые высокие и отдаленные/ мысли,
образы фантазии, спекуляции. Но в силу этого Локку
приходится (призиать — в противоречии с требованием
самостоятельности, инициативности человеческогр
действия,— что в самом фундаменте, в начальном пункте
соприкосновения с вещами «разум просто пассивен». Разум
не может изменить или устранить предоставляемый ему
чувствами материал знания. «Разум так же мало волен
не принимать эти простые идеи, когда они
представляются душе, изменить их, когда они запечатлелись,
вычеркнуть их и сам создать новые, как мало может зеркало
не принимать, изменить или стирать образы или идеи,
которые вызывают в нем поставленные перед ним
предметы» (12, 1, 141).
Развивая мысль об активности и действенности
человеческого познания, Локк вместе с тем постоянно
говорит о тех внешних, большей частью материальных
условиях, которые настолько существенно сдерживают и
ограничивают человеческую активность, что превращают
ее, особенно на первых ступенях развития знания, в
пассивную, определяемую силу. Зависимость человеческого
познания от предметного мира, эта действительная его
черта, в изображении Локка перерастает в пассивную
рпределяемость разума, в его детерминированность
вещью и ощущением. Не случайно соприкосновение
человека с предметом рассматривается как одностороннее
воздействие вещи, не случайно познание в этом своем
исходном пункте уподобляется отражательной
способности мертвого предмета — зеркала. Необъятное
мироздание с множеством разнообразных и изменяющихся
вещей, с одной стороны, и конечный ум отдельного
человека — с другой, справедливо представляются Локку
несоизмеримыми. Но отсюда Локк делает вывод: человек
но Должен ставить «себя надменно на вершину всех iiö-*
щей» (12, 2, 143). Его сила и его разум ограниченны,
человек — бессильная песчинка в необъятном универсуме.
«Господство человека в небольшом мире его собственного
разума почти таково же, как в обширном мире видимых
вещещ его власть, как бы искусно и ловко ее ни
применяли, Простирается не далее того, чтобы соединять и
разъединять имеющиеся под рукой материалы, но не
может создать ни малейшей частицы материи или
уничтожить хотя бы один уже существующий атом» (12, 1,
142). Это утверждение Локка, обусловленное и
стимулированное исходными материалистическими посылками
его философии, отнюдь не является просто
метафизическим, антидиалектическим утверждением: здесь
поставлена вполне реальная проблема, обрисовано
действительное противоречие человеческой деятельности,
теоретическое постижение которого стало для Локка (и в этом
проявилась метафизическая ограниченность и
созерцательность его материализма) настоящим камнем
преткновения. Человек и активен, и пассивен, он определяется
предметным миром и в то же время определяет,
видоизменяет его. Как привести в единство стороны данного
противоречия, Локк не знает. Но зато он фиксирует
противоречие и бьется над его разрешением.
Материалист Локк совершенно обоснованно подчеркивает
необходимость детерминирующего воздействия на человека
внешних природных и социальных условий. Он прав и в
том, что человек не может разрушить объективную
закономерность материального развития, что он может
лишь «искусно и ловко» применить свои знания для
сочетания и изменения материала природы. Ни один
существующий атом не может быть уничтожен человеком,
говорит Локк, опираясь на незыблемый для него опыт
естествознания, открывшего закон сохранения и
постоянства количества материи и движения.
С аналогичными трудностями сталкивается Локк,
когда он определяет природу человеческого разума. С
одной стороны, признает Локк, «мышление на английском
языке означает собственно тот вид активной
деятельности ума по отношению к его идеям, где ум активен и
рассматривает все с некоторой степенью произвольного
внимания...» (12, 2, 162—163). Мышление, разум есть
наиболее высокая, «достойнейшая» способность челове-
253
Ка, Которая, kbi уже говорили об этом, порождает
наиболее четкую идею активной силы и деятельности. Локк
убежденно защищает данный тезис. Но с другой
стороны, снова возникает вопрос об условиях,
ограничивающих эту активность. Ведь человек, рассуждает Л^кк, в
самых абстрактных своих фантазиях не может
перешагнуть через первичный материал мышления, неизменно
заданный восприятием самих вещей. «Хотел бы д, чтобы
кто-нибудь попробовал представить себе вкус, который
никогда не щекотал его нёба, или составить идею запаха,
которого он никогда не обонял» (12, 1, 142). Человек
должен признать себя бессильным: он не свободен, он
совершенно пассивен в восприятии внешних
впечатлений, причиной и детерминирующей силой по отношению
к восприятию остаются внешние вещи, объекты. Так и
возникает Локкоово учение о пассивности разума,
поскольку он получает и образует простые идеи. Отсюда и
характерный для философии Локка образ разума:
английский материалист уподобляет его камере, совершенно
закрытой для света и имеющей одно небольшое
отверстие; это последнее пропускает «видимые подобия
внешних вещей или идеи внешних вещей» (12, 1, 180). «И
если бы только проникающие в такую темную комнату
образы могли оставаться там и лежать в таком порядке,
чтобы в случае необходимости их можно было найти, то
это было бы очень похоже на человеческий разум в его
отношении ко всем зримым объектам и их идеям» (12, 1,
180. Курсив наш.—Я. М.). Мысли Локка и его
определения, касающиеся отношения между разумом и
материальными предметами, весьма ярко подтверждают
справедливость Марксовой характеристики старого,
созерцательного материализма: объект рассматривается и
берется Локком созерцательно, но не в виде человеческой
чувственной деятельности, практики, связанной с
преобразованием предметного мира. Маркс подчеркивает, что
деятельная сторона учения о познании развивалась
идеализмом, правда в абстрактно-философской,
спекулятивно-метафизической форме, при неизменном
преимущественном внимании к духовной деятельности.
Характеристика, данная Марксом, целиком относится
к Лейбницу. Колебания Локка между ориентацией на
активность, деятельность и между толкованием
предметного познания как пассивной способности тем более
254
осуждаются Лейбницем, что Локк все-таки отдает
Предпочтение второй тенденции. Она соответствует всему
содержательному основанию философии Локка, в то время
как первая мысль чаще всего остается декларацией, не
подтвержденной конкретным анализом. Локк, правда,
признает, что разум более активен, самостоятелен при
образовании сложных идей или понятий. «Ум часто
прилагает активную силу при образовании таких различных
сочетаний: запасшись однажды простыми идеями, он
может складывать их в различные соединения и создавать
таким образом множество разных сложных идей, не
исследуя того, существуют ли они в таком сочетании в
природе» (12, 1, 294). Активность разума здесь в том и
проявляется, по Локку, что он соединяет простые идеи
по собственным законам, безотносительно к тому, имеют
ли образованные понятия «реальное бытие». Но
первичным материалом для сложных идей остаются простые
идеи. Эта констатация Локка в известной степени
справедлива: понятия и чувственно-эмпирическое познание
материальных вещей взаимосвязаны. Но Локк сводит
деятельность, результатом которой является образование
понятий, к простому комбинированию, сочетанию
простых идей, т. е. к соединению устойчивых чувственных
впечатлений. Вместе с тем он считает, что сложные идеи
составляются из большинства понятий, употребляемых в
науках. Научные истины в результате этого
оказываются своеобразным продолжением чувственного знания, его
видоизменением.
Особенность домарксовского материализма, которая
гораздо реже, чем его созерцательность, принимается во
внимание, заключается в том, что он, будучи именно
материализмом, не мог целиком оставить в стороне
практическую сторону дела, не мог не рассмотреть
воздействие практики, воздействие человеческого мира на
отдельного человека, на индивида. Философия Локка
позволяет понять, что практика, социальная действительность
в метафизическом материализме предстает в виде
всесильной среды, не просто целиком определяющей
индивида, но и поначалу имеющей дело с необщественным
человеком, с человеком «нулевого» сознания — с ново-
255
рожденным ребенком. Учение французских
материалистов о всесилии среды коренится в этой концепции Лок-
ка. В Локковом толковании познания возникает
характерное противоречие. Если одной стороной
противоречивой -связи, имеющей место в самом начале познания (и
соответственно отображаемой в теории познания),
действительно является индивид, поначалу необщественный,
то нельзя забывать, что в качестве коррелятивного «про-
тивочлена» индивидуального познания и действия
выступает всесильная внешняя, в том числе и социальная,
среда. В своем учении о познании Локк не случайно
ссылается на опыт ребенка, который служит для него
своеобразной моделью познавательного процесса;
определяя специфику своего подхода, Локк то и дело
упоминает о сознании новорожденных, о постепенном его
развитии (см. 12, 1, 130; 131; 139; 140 и др.). «Следите за
ребенком с его рождения,— призывает Локк,— и
наблюдайте за производимыми временем изменениями, и вы
увидите, как благодаря чувствам душа все более и более
обогащается идеями, все более и более пробуждается,
мыслит тем усиленнее, чем больше у нее материала для
мышления. С течением времени он начинает познавать
объекты, которые, как наиболее знакомые ему, оставили
прочные впечатления. Так, он начинает узнавать людей,
с которыми встречается повседневно, и отличает их от
чужих. Это примеры и результаты того, как он начинает
удерживать и различать доставляемые чувствами идеи»
(12, 1, 140). В рамках абстрактного учения о познании
Локк обсуждает новую для философии тему, которая по
сути дела уже выходит за рамки собственно гносеологии,
теории познания в ее тогдашнем понимании. Локк
поднимает вопрос о становлении индивида, о его превращении
из новорожденного младенца, из физического,
природного существа в существо человеческое. Он говорит о
социализации индивида. Вот почему он с известным правом
начинает с «нуля» социальности, с «нуля» познания и
действия, вот почему его субъект — это индивид, отнюдь
не лишенный социальных контактов и целиком
детерминированный общественными условиями.
При всей односторонности и метафизичности этой
точки зрения в ней заключен громадный
положительный теоретический смысл: абстрактный философский
разговор об идеях, по крайней мере в споре с концепци-
256
ей врожденных идей, Локк переводит в другую
плоскость — в область реального опыта человека (в данном
случае в плоскость реального познавательного опыта
индивида). Ссылка на реальный опыт позволяет Локку
укрепить материалистические и сенсуалистические
позиции. Но сам он не вполне отчетливо сознает
действительный смысл и содержание осуществленного им в теории
познания поворота. Специфическую модель, связанную с
изучением становления познающего индивида, он
превращает в абстрактную и универсальную гносеологическую
концепцию. За сущность познания выдается то, что в
лучшем случае может охарактеризовать, да и то в
абстрактном виде, пути, формы, этапы превращения
детского сознания в сознание взрослого человека, этапы
социализации. Здесь обнаруживается еще одна ограниченность
философии Локка, связанная с ее противоречиями,
рассмотренными выше.
«Наши разногласия касаются довольно важных
вопросов» (11, 46),—говорит идеалист Лейбниц, вступая в
спор с Локком. Прежде всего Лейбниц выражает
согласие с той линией в философии, которая была завершена
картезианской концепцией врожденных идей. В споре с
Локком Лейбниц стремится обосновать и защитить эту
концепцию. «Дело идет о том,— формулирует Лейбниц
свое решающее разногласие с Локком,— действительно
ли душа сама по себе совершенно чиста, подобно доске,
на которой еще ничего не написали (tabula rasa), как
это думают Аристотель и наш автор, и действительно ли
все то, что начертано на ней, происходит исключительно
из чувств и опыта или же душа содержит изначально
принципы различных понятий и теорий, для
пробуждения которых внешние предметы являются только
поводом, как это думаю я вместе с Платоном, а также со
схоластиками...» (И, 46). Спор о врожденных идеях для
Лейбница очень важен по целому ряду причин. Лейбниц
совершенно справедливо полагает, что здесь собраны в
фокус важнейшие вопросы современной философской
теории, что в этой дискуссии обнажились
принципиальные позиции и расхождения противоположных
философских концепций. Здесь затронут, как понимает Лейбниц,
важнейший и основополагающий вопрос о специфике
человеческого познания и отличии действий человека от
жизнедеятельности животного; сюда же тянутся нити от
Щ
кардинальной проблемы внутренней активности,
одинаково важной и для рассмотрения природы, и для
понимания человека; несомненна связь размышлений о
врожденных идеях с учением о нравственности, о
практических принципах. Вот почему Лейбниц активно
выступает против локковского материалистического учения, он
поддерживает и продолжает учение о врожденных идеях,
прокладывая мостик от картезианского рационализма к
кантовскому априоризму. Лейбниц категорически не
согласен с принятой Локком интерпретацией разума,
познания как чисто опытного, эмпирического, жизненного
и пассивного образования, не имеющего в своих недрах,
в своей изначальной способности ничего данного,
активного, определяющего. Локкова концепция, особо
подчеркивает Лейбниц, не дает никакой возможности понять
источники, причины, пути образования, сохранения и
воздействия всеобщих и необходимых истин. Между тем
«дух способен не только познать их, но и найти их в
себе, а если бы он обладал только простой способностью
получать знания или пассивной силой (puissance) к
этому, столь же неопределенной, как и способность воска
принимать фигуры и чистой доски принимать буквы, то
он не был бы... источником необходимых истин, так как
чувства бесспорно недостаточны для того, чтобы
показать необходимость их; таким образом, дух обладает
предрасположением (как активным, так и пассивным)
извлекать их из своих собственных недр, хотя чувства и
необходимы для того, чтобы дать ему повод и обратить
его внимание на это, направив скорее на одни истины,
чем на другие» (11, 74—75).
Таким образом, разум и познание человеческого
существа Лейбниц отказывается считать хотя бы в некоторой
степени и хотя бы в известном отношении пассивными.
Для него «человеческий дух» есть «не просто какая-то
голая способность», но «предрасположение, задаток, пре-
формация, которая определяет нашу душу и благодаря
которой эти истины могут быть извлечены из нее» (11,
75). Лейбниц прибегает к таким сравнениям, которые
отчасти заимствованы у других, в том числе
средневековых, авторов: 'разум («душа») человека — это «живые
огни», «вспышки света», которые скрыты внутри нас и
затем появляются подобно искрам. Это нечто
«божественное и вечное», благодаря чему индивид с самого начала
25$
является человеком, является разумным существом.
Лейбниц не видит никакого смысла и оправдания в
уподоблении души чистой доске, лишенной всякого
мышления. «Эта чистая доска, о которой столько говорят,
представляет, по-моему, лишь фикцию, не существующую
вовсе в природе и имеющую своим источником
несовершенные понятия философов, подобно понятиям пустоты,
атомов и покоя (абсолютного покоя или же
относительного покоя двух частей некоторого целого) или перво-
материи, которую мыслят свободной от всякой формы»
(11, 100). Примечательно, что Лейбниц считает фикцией
ту идею Локка, тот образ, который был порожден
настойчивым стремлением английского материалиста
держаться как можно ближе к реальности, к
действительному, фактическому осуществлению процесса познания
реальным субъектом-индивидом.
Не значит ли это, что Локк и Лейбниц, говоря о
познании, имеют в виду в каком-то смысле (разные
реальности, различные аспекты познавательного процесса? Нам
кажется, что ответ можно дать утвердительный.
Лейбниц, возражая против локковского уподобления исходного
сознания человека чистой доске, по сути дела не
понимает, какую именно реальность может здесь иметь и
имеет в виду автор «Опыта о человеческом разуме».
Лейбницу не приходит в голову, что tabula rasa
перестает быть такой уж непонятной фикцией, если имеют в
виду сознание новорожденного ребенка, сознание
существа, которому еще предстоит стать человеком. Поэтому-то
Лейбниц не видит существенной разницы между локков-
ской теорией и схоластической теорией чистых потенций.
И та и другая концепции отвергаются Лейбницем в силу
теоретических, логических соображений: душа, сознание
не может, утверждает немецкий философ, существовать
до и независимо от всякой деятельности, в качестве
голой способности. Человеческое сознание всегда обладает
известным предрасположением к действию, некоторыми
тенденциями, предопределяющими деятельность и ее
результат. Таково мнение Лейбница.
Между подходами Локка и Лейбница существует
важное различие, аналогию и источник которого мы можем
найти в расхождении материалистов Гоббса, Гассенди, с
одной стороны, и сторонников картезианского учения о
врожденных идеях — с другой. Примыкая к Гоббсу, Джон
259
Локк концентрирует внимание на реальной
познавательной деятельности индивида, стараясь при этом
рассмотреть содержание и источники всех ее видов и форм и
вывести все и всякое знание из чувственных впечатлений,
из непосредственного, обычного, повседневного опыта.
Что касается Лейбница, то он приписывает особую роль
всеобщему, безличному и необходимому знанию,
всеобщим истинам и старается главным образом вскрыть
источники этой высшей формы знания. Наиболее
специфические и важные для человека идеи и понятия, говорит
Лейбниц, человек получает не через посредство чувств —
это необходимые истины, истины разума, существенным
образом отличные от истин факта, от чувственных
знаний. «Изначальное доказательство необходимых истин
вытекает только из разума, а прочие истины получаются
из опыта или чувственных наблюдений» (11, 75).
Оказавшись перед лицом тех трудностей, с которыми
столкнулся Локк, Лейбниц стремится их преодолеть. Ему ясно,
что выведение способности разума из пассивной
чувственной способности ведет к принижению духовной
деятельности человека, научное познание, научные истины
не получают в этом случае удовлетворительного
объяснения. Поэтому Лейбниц в отличие от Локка прежде
всего резко обособляет разум и его продукт (необходимые
истины) от чувственной деятельности. Центральный тезис
философии Лейбница — утверждения об активности,
саморазвитии разумной способности, о присущей разуму
подлинной и высшей свободе. «Свобода... состоит в
разуме, который содержит в себе отчетливое знание объекта
выбора, и в случайности, т. е. в исключении логической
и метафизической необходимости. Разум есть как бы
душа свободы, а остальное — тело и основа» (цит. по: 17,
5,399-400).
Учение Лейбница об активности человеческого
разума, о его свободной и спонтанной деятельности тесно
связано с его концепцией мирового разума, мирового
духа — активной силы, присутствующей в каждой частичке
мирового целого, в каждом индивидуальном
образовании. При этом подробное изучение взглядов Лейбница,
его учения о материи, его физической концепции,
своеобразной попытки связать воедино данные различных
наук и построить философию природы, картину мира —
многообразные факты, о которых мы здесь не можем го-
260
-эхвк о иинэьА я :чхиьшкят?е хошиюяеоп 'ончшвхэй чхи<1оя
рйй Лейбниц в конечном счете остается скованным
метафизическим воззрением на мир. Правда, выражение «в
конечном счете» здесь играет важную роль, ибо Лейбниц
настойчиво стремится суммировать тот опыт
естествознания (пока еще весьма бедный), который мог бы
подтвердить его мысль о живой силе, пронизывающей не только
разум человека, но и материю. К идеям современного
ему учения о природе Лейбниц добавляет целый ряд
важных открытий, догадок, мыслей, диалектический
смысл которых обнаруживается позже. Но, (несмотря на
все эти усилия, Лейбниц не может выбраться из тисков
существующей интерпретации материального развития,
поскольку научных данных для пересмотра
метафизического (антидиалектического) учения о мире было явно
недостаточно. И Лейбниц решается на то, чтобы
обосновать идею универсальной активности, опираясь
преимущественно на абстрактно-философские аргументы.
«Когда я исследовал последние основания механизма и
самые законы движения,— признается Лейбниц,— то был
крайне удивлен, увидев, что их невозможно найти в
математике и нужно обратиться к метафизике. Это и
привело меня к энтелехиям и от материального — к
формальному» (цит. по: 17, 2, 379). Активность,
самостоятельное движение, спонтанность — все это
общефилософские («метафизические») принципы и идеи, которые
Лейбниц отстаивает в известной степени вопреки опыту
современного ему естествознания. Вместе с этим
последним признавая материю саму по себе пассивной силой,
Лейбниц все-таки склоняется к тому, чтобы приписать
телам природы и вообще существующим в природе
«индивидуальностям» (которые, как он признает,
неотделимы от той или иной материальной оболочки) активную,
живую, деятельную силу. Все эти рассуждения логично
приводят Лейбница к утверждению, что дух, душа и есть
источник и выразитель активной силы. «Душа есть прин-
иип деятельности» (цит. по: 17, 2, 380),—утверждает
Лейбниц. Индивидуальную единицу, сущностью и
источником спонтанности которой является дух, разум (в
широком и неантропоморфном смысле этого слова),
материальное начало которой объявляется внешней оболочкой,
простым явлением,— этот одухотворенный кирпичик
мироздания Лейбниц и называет монадой.
261
Следует, однако, подчеркнуть, что абстрактная фило-
софско-логическая модель активного универсального
разума, столь органично присущая философии Лейбница и
делающая ее важнейшим шагом на пути к
формированию идеалистической диалектики, имеет свой вполне
конкретный прообраз. Модель эта срисована главным
образом с человеческой деятельности, она определена
представлением Лейбница об активности, творческой
спонтанности познающего разума. «Наша душа является зодчим
и в своей произвольной деятельности, и когда она
открывает научные понятия, согласно которым бог управляет
вещами (вес, мера, число). В своей области, в своем
малом мире, где ей доступно проявлять себя, она
подражает тому, что бог делает в большом мире» (цит. по: 17, 2,
402). Лейбниц вполне определенно признает, что учение
о мировом разуме является следствием экстраполяции —
присвоения законов развития человеческого духа всей
природе. «В самом деле,— рассуждает Лейбниц,— если
мы признаем присущую нашему духу силу производить
имманентные действия, или, что то же самое,
имманентно действовать, то не будет связано с затруднениями, а,
напротив, будет вполне естественным, что одна и та же
сила присуща различным душам или формам, или, иначе
говоря, субстанциальным сущностям; ведь нельзя же
считать, что в предлежащей нам природе вещей один
только наш дух деятелен или что всякая сила имманентной
и, так сказать, жизненной деятельности связана с умом»
(цит. по: 17,2,381).
Экстраполяция, осуществленная Лейбницем, является
четким выражением идеалистического характера его
концепции. Но именно при помощи своего спекулятивного
идеализма Лейбниц обходит затруднения естествознания
и философии и горячо защищает идею развития, мысль
о «живой силе», спонтанности, деятельности.
Опираясь на идею универсальной активности,
Лейбниц подвергает пересмотру и учение Локка о познании
материальных предметов. Используя Локково
уподобление разума темной камере с единственным отверстием,
Лейбниц дополняет Локка и поправляет его. «Чтобы
сходство было еще больше, следовало бы предположить,
что в темной комнате имеется полотно, для того чтобы
принимать изображение, притом не гладкое, а со
складками, представляющими врожденные знания» (И,. 129),
262
Индивидуальные предрасположения, возможности
индивида Лейбниц уподобляет мембране, которая обладает
«чем-то вроде упругости или силы действия и даже
активностью или реактивностью» (И, 129). Мысль о
врожденных идеях служит Лейбницу для осмысления
конкретных механизмов, стимулирующих активность
индивида, его способность к самостоятельным, гибким,
разнообразным познавательным действиям. Представлять себе
душу наподобие доски или воска — значит делать ее
телесной, утверждает Лейбниц. Вот почему к принятой
формуле «nihil est in intellectu, guod non fuerti in sensu»
(в разуме нет ничего, чего не было раньше в
чувствах) Лейбниц добавляет: «excipe nisi ipse intellectus»
(за исключением самого разума). Душа, говорит
Лейбниц, изначально располагает такими понятиями, как
«субстанция», «бытие», «причина» и т. д. Эти понятия не
даются чувствами индивида и его особым опытом. Но
последний ими определяется. Значит, заключает Лейбниц
вслед за Декартом, все эти понятия заведомо,
изначально даны человеку, т. е. они ему прирождеиы.
Полемизируя с картезианцами, Локк уже имел в
виду и подвергал критике такой ход мыслей (Лейбниц,
собственно, повторяет аргументы Декарта и его
последователей). Теория врожденных идей зиждется, по мысли Лок-
ка, на четырех главных, связанных друг с другом
принципах. 1) Доказывая существование врожденных идей,
опираются на общее согласие людей относительно
понятий, принципов, самоочевидных утверждений. 2)
Гипотеза врожденных идей имеет своей основой убеждение, что
«ум мыслит постоянно» (12, 1, 131), что существует
своего рода непрерывное мышление. 3) Учение о
непрерывном мышлении ведет еще к одному следствию, которое
также лежит в фундаменте теории врожденных идей.
«Думать, что душа мыслит и человек этого не замечает,
значит, как было сказано, делать из одного человека две
личности (курсив наш.—Я. М.), и всякий, кто
хорошенько вдумается в речи этих людей, заподозрит, что
они именно так и мыслят» (12, 1, 138). 4) У истоков
теории врожденных идей также находится, по мысли Локка,
«притязание на знание, выходящее за пределы нашего
восприятия» (12, 1, 139). Локк последовательно
опровергает все эти исходные тезисы теории врожденных идей,
неизменно взывая, как мы уже видели выше, к опыту и
263
наблюдению каждого отдельного человека, к
наблюдениям за развитием новорожденного ребенка. Выявляя эти
основания учения о врожденных идеях, Локк, что
называется, попадает в самое яблочко. Действительно,
гипотеза о существовании врожденного знания является
продолжением и проявлением более общей концепции, где
разум понимается как непрерывная, надындивидуальная
деятельность, где познающий субъект как бы слагается
из двух личностей, а его знания — из двух частей: из
того, что приобретается в его собственном опыте, и из
того, что он (неведомо каким путем) преднаходит в себе
и что выходит за пределы личного индивидуального
восприятия. '
интересующая нас проблема общественной
обусловленности познания в ее довольно развитой и интересной
форме соотношения общественного и индивидуального
лежит, таким образом, в основании и у истоков главных
гносеологических дискуссий конца XVII — первой
половины XVIII в. Локк и его оппонент Лейбниц
определенно и сознательно подходят к опровержению или защите
самой идеи о непрерывном, надындивидуальном разуме.
§ 4. Спор о непрерывном и
сверхиндивидуальном
разуме
Лейбниц анализирует возражения, направляемые Лок-
ком в адрес теории врожденных идей. Прежде всего Локк
подробнейшим образом разбирает и критикует
концепцию «всеобщего согласия». Всеобщее согласие — фикция,
выдумка, заявляет Локк: «Нет принципов, которые
пользовались бы признанием всего человечества» (12, 1, 76).
Некоторые принципы, о которых говорят, что они
пользуются всеобщим признанием, большинству человечества
вообще неизвестны. Кроме того, следует, по Локку,
подробнее присмотреться к самому процессу, в ходе
которого достигается согласие, признание тех или иных
истин. Рассмотрение этого процесса как раз и совпадает
для Локка с анализом становления человека, с
превращением новорожденного ребенка в подлинно
человеческое существо. В душе нет тех принципов, которые
считаются общепризнанными; нет до тех пор, пока человек
264
не начнет рассуждать. Но и начаи рассуждать, человек
не всегда такие принципы обретает. Предположим,
продолжает Локк, что с некоторыми истинами люди
действительно соглашаются, едва услышав их. Но «это
согласие, вместо того чтобы быть признаком врожденности
положений, доказывает противное, ибо оно предполагает,
что многие люди, которые знают и понимают другие
вещи, не знают этих принципов, пока им не сообщат их,
и что можно быть незнакомым с этими истинами, пока
не услышишь о них от других» (12, 1, 86). Характерно,
что опровержение теории врожденных идей Локк
усматривает в подробном описании процесса обучения одного
человека другими людьми — в описании процесса
социализации, процесса коммуникации познающих людей,
процесса распространения и усвоения знания. Мы видели,
что такое рассмотрение было начато Гоббсом.
Материалист Локк подчеркивает при этом: люди соглашаются с
сообщаемыми истинами потому, что «рассмотрение
природы вещей», протекающее параллельно, не позволяет
мыслить иначе. Хорошо обоснованные наблюдения и
истины принадлежат лишь проницательным умам,
прибавляет Локк. «Когда люди наблюдательные делают такие
заключения, люди ненаблюдательные не могут не
выразить с ними свое согласие, коль скоро им сообщают эти
заключения» (12, 1, 87). Эти размышления Локка
Лейбниц по сути дела не опровергает. Он допускает, что
согласие людей может быть общим, а не всеобщим и что
основанием согласия может быть традиция (такую
древнюю традицию имеет, например, широко
распространенное богопочитание). Изучение исторических условий,
традиций, подтверждает Лейбниц,— лучший способ
выявления степеней и форм согласия людей. Но далее
немецкий философ заявляет: «Я не основываю достоверности
врожденных принципов на всеобщем согласии» (И, 70).
Наличие общего согласия между людьми Лейбниц
считает косвенным подтверждением, но отнюдь не
доказательством тезиса о врожденном знании. Поэтому-то по
данному вопросу он не полемизирует с Локком.
Действительно упорная борьба разгорается вокруг
идеи о непрерывности разума. Локк был совершенно
прав: учение о непрерывном и надындивидуальном
разуме в самом деле служило своеобразным стержнем всей
лейбницевской концепция. «...Безусловно можно утверж-
2С5
дать, что человек мыслит и будет мыслить постоянно»,-
говорит Лейбниц (11, 107). Желая опровергнуть
гипотезу о непрерывном мышлении, Локк использует обычный
способ аргументации: он призывает человека
понаблюдать за собственной мыслительной деятельностью. Разве
каждый отдельный человек мыслит непрерывно? Разве
мыслит он, едва родившись? Разве он мыслит во сне?
Ведь значительная часть людей вообще спит без
сновидений, возражает Локк тем, кто считает сновидения
ослабленной способностью мышления. Как быть с
идиотами, которые вообще не обнаруживают способности к
мышлению в течение всей своей жизни? Индивид не
может мыслить и действовать непрерывно, заключает Локк.
Значит, вполне логично предположить состояние
человеческого существа, лишенного мышления и действия.
Образ tabula rasa, следовательно, оправдан. Соображения
и доводы Локка, несмотря на их простоту, а может быть,
и благодаря ей, ставят Лейбница в довольно сложное
положение. Он не может отрицать, что актуальное
мышление индивида в самом деле не является непрерывным и в
целом ряде случаев отсутствует. И коль скоро Лейбниц,
сторонник учения об универсальном разуме, стремится
отстоять мысль о его непрерывности, ему приходится
вводить различение между актуальным мышлением, со-
знаванием, и между разумом, существующим в виде
потенции и .отнюдь не всегда (выражающимся в форме
сознательного мышления. Характерной формой последнего
являются, по Лейбницу, бессознательные или незаметные
восприятия.
Почему, спрашивает Лейбниц, не может существовать
в нашей душе некоторое скрытое, не всегда
актуализирующееся знание? Вы ведь признаете, обращается он к
сторонникам Локка, механизм памяти, актуализирующей
приобретенные знания. Разве нельзя принять и
расширить платоновское учение о «воспоминании» и
превратить своеобразный механизм оживления, пробуждения
потенциальных задатков человеческого разума в более
широкий и универсальный? «Неужели все то, что
свойственно от природы некоторой познающей себя
субстанции (курсив наш,—Я. М.), должно сразу познаваться ею
актуальным образом? Неужели такая субстанция, как
наша душа, не может и не должна обладать некоторыми
свойствами и состояниями, которые невозможно охватить
266
все сразу и одновременно?» (И, 73). Отнюдь не
случайно Лейбниц говорит не о мышлении индивида, как
это всегда и последовательно делает Локк, но о
«некоторой познающей субстанции»: гипотеза непрерывного
мышления по самой своей сути выводит за пределы
индивидуального сознания и познания, индивидуального
опыта. Представление о разуме, который может не
выражаться в актуальном, т. е. индивидуальном, познании,
для Локка является бессмыслицей или откровенной
мистикой. «Это что-то выше философии»,— говорит Локк о
концепциях тех, кто полагает, будто человек может
мыслить и не сознавать этого (12, 1, 138). Пока имеются в
виду индивид и видимые, опытом обнаруживаемые
формы его мыслительной деятельности, позиция (и
возражения) Локка выглядит точной и незыблемой.
Специфическая форма, в которой у Лейбница (а раньше у Декарта)
выступает учение о непрерывном разуме — теория
врожденных идей,— в самом деле является плодом и
проявлением прямой спекулятивной идеалистической мистики.
Положение усугубляется тем, что Лейбниц, пытаясь
обосновать идею об универсальной активности, о
самодеятельном разуме, пытаясь преодолеть созерцательность локков-
ского материализма, вместе с тем не может отказаться от
некоторых принципиальных и важных постулатов Локка.
Во многом следуя за Локком, Лейбниц, весьма
чувствительный к подлинным свидетельствам научного опыта я
повседневной практики, иной раз продолжает по инерции
рассуждать об индивиде и индивидуальном мышлении,
на самом деле имея в виду надындивидуальное познание.
Если бы Лейбниц обратился к той сфере, где понятие
непрерывного разума уже не выглядит бессмысленным
и мистическим,—к исторической преемственности
социального по своей природе процесса познания, то
проведенные им разграничения обрели бы такую же реальную
основу, как и локковские рассуждения о «собственном»,
индивидуальном познании. Но Лейбниц не сделал
такого решающего шага. Утверждая, что понятия и
принципы науки не могут бьт, результатами какого-либо
единичного, индивидуального опыта, Лейбниц все-таки видит
единственный способ объяснения безличного,
надындивидуального значения необходимых истин в превращении
их во врожденные принципы, незримо и до поры до
времени незаметно управляющие тем же индивидуальным
267
познанием. Подобно этому гипотеза незаметных,
бессознательных восприятий призвана обосновать особый
механизм индивидуального сознания, действующий
спонтанно, в виде своеобразного инстинкта, нерефлективного
сознания. Эти действия Лейбниц также называет
врожденными. Они могут быть в том числе и практическими,
моральными, рассуждает немецкий философ; они могут
воздействовать на нас подобно законам механики, которым
мы без всяких рассуждений подчиняемся, когда
производим те или иные движения. Существование мыслей, над
которыми мы не размышляем,—необходимый
приспособительный механизм человеческого познания, «в
противном случае мы постоянно топтались бы на месте» (И,
107). Мысль о незаметных восприятиях выполняет в
системе Лейбница еще одну важную функцию: эти
восприятия образуют посредствующее звено между
монадами внешних тел с их свойством перцепции (в широком
смысле понятой восприимчивости, подвижности,
одухотворенности) и особыми разумными свойствами
человеческих монад. Незаметные восприятия замыкают цепь
универсального развития, делают ее сплошной и тем
самым помогают Лейбницу считать закон непрерывности
(природа не делает скачков, но образует плавные
переходы между особыми, различными состояниями)
универсальным законом природы. «При помощи этих же
незаметных восприятий,— говорит Лейбниц,— я объясняю
изумительную предустановленную гармонию души и
тела и даже всех монад или простых субстанций...» (11,
52). Однако если бессознательные восприятия
превращаются в фундамент деятельности человеческого разума,
то подлинно человеческую познавательную активность,
завершающуюся созданием необходимых истин, очень трудг
но объяснить и вывести. В этом случае был бы
справедлив упрек Локка в том, что сторонники учения о
врожденных идеях сковывают и ограничивают
самодеятельность, активность индивида.
Поэтому отличительную, специфическую особенность
человеческого разума Лейбниц, в известной степени
вслед за Декартом и Локком, усматривает не в этих
незаметных восприятиях или нерефлективной,
полубессознательной деятельности, но в активном «понимании
(considération) природы вещей», в рассуждении, в
отчетливом и ясном самопознании. Это и есть актуальное тто-
268
знание, цель и смысл которого состоит в «извлечении»
из нашего духа врожденных истин, в осуществлении
сложного процесса умозаключений и доказательств. И
все-таки нельзя, развивает свою идею Лейбниц,
отождествлять истину и мысль. Если бы истина равнялась
мысли, то мы были бы лишены тех истин, о которых в
данный момент никто не думает. «...Идеи справедливости и
умеренности не созданы нами, точно так как не созданы
нами идеи круга и квадрата» (11, 345). Так обстоит
дело €о ©семи всеобщими или вечными истинами: они не
созданы «нами» (т. е. индивидуальными субъектами),
всеобщность не может быть доказана «нами».
Какому же разуму приписать обладание этими
вечными истинами, в данный момент никем не
осознаваемыми истинами? Такой разум, область реального
существования истин, непременно надо обнаружить, настаивает
Лейбниц: «Нельзя говорить, как это делают некоторые
последователи Дунса Скотта, что вечные истины
существовали бы, если бы и не было никакого разума и даже
никакого бога» (цит. по: 17, 2, 270).
Отсюда вывод: «Субстрат и субъект вечных истин,
обосновывающий их реальность, поскольку всякая
реальность должна иметь свое основание в существующем
субъекте» (цит по: 17, 2, 270. Курсив (ваш.—Я. М.),—
это бог. Лейбниц идет по пути, уже проложенному
предшествующей философией. В основе его концепции лежит
представление о непрерывном и надындивидуальном
разуме, о необходимых истинах, о творческой деятельности
ума. Этот разум и эту деятельность Лейбниц не может,
и здесь он прав, связать исключительно с
индивидуальным субъектом. Требуется найти другой «субстрат» и
субъект, сообщающий реальность всеобщим и
необходимым истинам. Для эпохи Лейбница научное решение
поставленной им важной проблемы было невозможно.
Так и появляется символ бога. В некоторых случаях
Лейбниц говорит о некоем высшем, благоподобном духе
как основе реальности вечных истин. Вопрос о реальном
основании достоверности вечных истин, говорит Лейбниц,
«приводит нас наконец к последней основе истин, а
именно к тому высшему и всеобщему духу, который не
может не существовать, разум которого на самом деле
есть область вечных истин, как это понял и очень ярко
выразил блаженный Августин. Наконец, чтобы не дума-
И Н. В. Мотрошилова
269
ли, что нет необходимости прибегнуть к высшему духу,
следует принять во внимание, что эти необходимые
истины содержат в себе основание и регулятивный
принцип самих существований, одним словом — законы
вселенной. Так как эти необходимые истины предшествуют
существованию случайных существ, то они должны
основываться иа существовании некоторой необходимой
субстанции. В них нахожу я -прообраз идей и истин,
запечатленных в наших душах не в виде предложений, а
в качестве источников, из которых при помощи внимания
и при наличии известных поводов можно извлечь
настоящие суждения» (11, 395). В этом высказывании
важнейшие принципы лейбницеанства собраны, как в
фокусе. Существуют необходимые, вечные истины,
которые тем более превосходят возможности
индивидуального 'субъекта, что совпадают с «законами вселенной».
Их необходимый характер, их совпадение с
объективными, от человека не зависящими закономерностями
природы заставляют Лейбница говорить о «всеобщем духе»,
который на рубеже XVII—XVIII вв. всего проще
назвать богом. Он и объявляется подлинно непрерывным и
всеобщим разумом. В этом последнем — своеобразное
«хранилище» тех идей и истин, которыми может
обладать и индивид: они запечатлены «в наших душах» не
ь виде актуального мышления, а в виде неких источни-
<кш; но в случае необходимости потенциальное знание
может быть превращено в суждения.
*
Спор между Лейбницем и Локком имел чрезвычайно
важное значение для дальнейшего развития философии.
В своей основе это была дискуссия о сущности и
характере познания и разума, о субъекте познания. Можно ли
отождествить субъект познания, эту существенную
«точку отсчета» гносеологического анализа, с единичным
человеком, с индивидом? Или следует прибегнуть к
«высшему духу», обратиться к надындивидуальному, т. е.
социальному и исторически непрерывному, процессу
познания? Расхождение Лейбница и Локка намечает
острую историко-философскую дилемму прежде всего
потому, что речь идет о борьбе идеализма и материализма, а
270
значит, борьбе принципиальной и непримиримой. Но
кроме того, обе спорящие стороны (в полном соответствии
с метафизическим методом, достигшим в данный период
кульминационного пункта в своем развитии) в
понимании сущности познания и природы субъекта склонны
чаще всего требовать такого решения: или индивид, или
всеобщий дух. Правда, Лейбниц пытался усмотреть в
деятельности индивида проявление его причастности к
высшему духу. Однако способ решения проблемы —
апелляция к врожденным идеям — был насквозь
мистическим и иллюзорным. Локк, со своей стороны,
рассматривает деятельность индивидуального субъекта в
социальном контексте. Но социальный мир оказывается
в интерпретации Локка тем внешним фоном, средой,
которая не имеет ничего общего с чисто природными
задатками новорожденного ребенка, не обладающего
поначалу ни единой крупицей социального качества. Во
всяком случае эти попытки Локка и Лейбница не отменяют
того факта, что субъект и всеобщий дух были по сути
дела разделены, а в известной степени и
противопоставлены друг другу.
Достижения и ограниченность были весьма тесно
переплетены в обеих концепциях, недостатки часто
являлись продолжением правильных и значительных идей.
Эмпиризм и сенсуализм Локка оказал прямое и
глубокое воздействие на философию XVIII в. «Эмпиризм,—
по справедливой оценке Фейербаха,— сделал возможным
свободу и самостоятельность мысли, освободил ее от
цепей веры в авторитет, указал людям на священное,
неприкосновенное, естественное право собственного
наблюдения и исследования» (17, 2, 283). Проблема Локка —
становление познающего индивида, его превращение в
субъект познания, значение непосредственных и
реальных контактов отдельного человека с миром вещей и с
социальной средой — имеет непреходящий, в наши дни
особенно актуальный философский смысл. Однако
слабостью и ограниченностью !метафизической концепции
Локка была его теория чувственного знания, его учение об
исходном пункте познания, о первых этапах
соприкосновения человека с вещью. Человек, индивид, субъект
здесь оказался пассивным объектом. Лейбниц остро
почувствовал ограниченность Локкова толкования
чувственного знания. Эмпирическому опыту он стремился
И*
271
предпослать нечто активное, выходящее за пределы
узкоограниченного единичного опыта. Но реальные
механизмы изначальных этапов приобретения знания в рамках
лейбницевского идеализма уступили место
вымышленным символам учения о врожденных идеях. Поэтому и
Лейбниц по сути дела не преодолевает слабостей
метафизической трактовки чувственного опыта, и он
воспроизводит в своей концепции уже знакомые нам
рассуждения о чувстве «самом по себе» и его внутренних огра-
ниченностях. В результате теория всеобщего и
необходимого знания оказалась конструкцией без фундамента.
Перед философией снова встал так и не разрешенный
вопрос о специфике человеческого познания, о
деятельности, о реальном процессе взаимодействия человека с
миром природы. С другой стороны, усилиями Лейбница
и его предшественников из лагеря рационализма была
затронута и поставлена на обсуждение проблема
всеобщих и необходимых истин и их сверхиндивидуального
характера. Задача, поставленная перед философией,
объективно состояла и в том, чтобы объединить достижения
эмпиризма и рационализма, чтобы связать учение о
деятельности, об освоении предметов и явлений природы с
важнейшей мыслью о ее активном, творческом,
необходимом и всеобщем характере.
Решение этой проблемы дает только марксизм. Во
многом плодотворную и значительную попытку ее
разрешения предлагает немецкая идеалистическая
диалектика, начиная с Канта. Мостик же между философией
Локка, Лейбница, с одной стороны, и учением Канта —
с другой, образует небезынтересная концепция Давида
Юма, к рассмотрению которой в 'разбираемом здесь
аспекте мы переходим.
§ 5. О сложной структуре
индивидуального
чувственного
опыта (Давид Юм)
Недоверие к чувственному опыту, столь характерное
для философии XVII—XVIII вв., отнюдь не было
преодолено эмпиризмом Локка. Напротив, созданная Лок-
ком теоретическая концепция, оправдывающая и абсолю-
272
тизирующая роль чувственных впечатлений, оказалась
столь непрочной конструкцией, что ее сразу стал
подтачивать старый червь скептицизма. Это прекрасно понял
Юм. С одной стороны, он принимает и кладет в основу
своей философии некоторые важные принципы учения
Локка. Для Юма, как и для Локка, совершенно
очевидно, что «все наши простые идеи при первом своем
появлении происходят от простых впечатлений*, которые им
соответствуют и которые они в точности представляют
(represent)» (16, 1, 92). Совершенно в духе Локка Юм
замечает: мы никогда бы не могли получить точной идеи
о вкусе ананаса, если бы никогда не попробовали хотя
бы одного ананаса. Ребенок только потому обретает
соответствующие идеи, что ему предлагаются объекты и
что он испытывает ощущения, воспринимает эти
объекты. Юм повторяет Локка и в общей оценке возможностей
человеческого разума, которые именно потому
ограниченны, что опираются на извне определяемую способность
чувственности. «...Хотя наша мысль, по-видимому,
обладает безграничной свободой, при более близком
рассмотрении мы обнаружим, что она в действительности
ограничена очень тесными пределами и что вся творческая
сила ума сводится лишь к способности соединять,
перемещать, увеличивать или уменьшать материал,
доставляемый нами чувствами и опытом» (16, 2, 21). Весь
материал мышления Юм, опираясь на Локка, вверяет
чувственности и опыту.
Но именно поэтому Юм особенно внимателен к
попыткам скептического опровержения достоверности
чувств и опыта. Он принимает скептицизм в его форме
сомнения, предшествующего изучению и
философствованию. Декартову теорию сомнения он считает весьма
полезной для подготовки ума к изучению науки и
философии, для воспитания научной беспристрастности,
самостоятельности и самокритичности (см. 16, 2, 153). Но
существует скептицизм, который возникает внутри
философии и склоняет к мысли о полной несостоятельности
умственных сил человека, о его неспособности прийти
к определенному и достоверному знанию. Такой
скептицизм Юм хотел бы преодолеть. Некоторые «избитые
доводы» скептиков (о несовершенстве и обманчивости на-
* Термин «впечатление» Юм употребляет в том ясе смысле,- в
каком Локк употребляет понятие чувственного восприятия.
273
ших органов чувств), перекликающиеся с широко
распространенными в философии сомнениями в
достоверности чувственного опыта, можно легко опровергнуть,
заявляет Юм. Для этого следует исправлять свидетельства
чувств с помощью разума, возможно «превратить
чувства iB надлежащий критерий истины и лжи в границах
их сферы» (16, 2, 154). Но -аргументы -скептиков,
направленные против чувственного опыта, глубже и
опаснее, продолжает Юм. «Самая легкая философия»
разрушает поверхностное и обыденное мнение людей, будто
возможно полностью отождествить чувственные образы
вещей и внешние объекты; она показывает, что чувства
являются лишь каналами для передач« образов и отнюдь
не в состоянии «устанавливать какое-либо
непосредственное отношение (intercourse) между умом и объектом»
(16, 2, 155). И снова односторонность эмпиризма, снова
воспроизведена ошибка Локка: чувства лишь пассивные
каналы для передачи образов. Юм, однако, видит, что
этой слабостью немедленно пользуется скептицизм. Раз
чувства не позволяют нам пробиться к самому предмету,
а скорее отгораживают нас от предмета (этот вывод
Юма, извлеченный из всей предшествующей, по
преимуществу рационалистической философии, помноженный
на все слабости и колебания эмпиризма и сенсуализма,
образует одну из важнейших посылок кантианства), то
скептики вправе сказать: «Вы отклоняетесь от своих
естественных склонностей и более непосредственных
мнений и в то же время не удовлетворяете свой разум,
который не может найти убедительного аргумента,
основанного на опыте и способного доказать, что восприятия
связаны с какими-нибудь внешними объектами» (16, 2,
157). Над этим аргументом скептицизма, полагает Юм,
следует серьезно задуматься; опровержение его
возможно только в том случае, если будет подробно
разработана «новая теория относительно достоверности наших
чувств», которая должна «до некоторой степени
вступить в противоречие с первичными инстинктами
природы» (46, 2, 155).
Итак, общая задача, равным образом вытекающая из
осмысления достижений и, в большей степени, ограни-
ченностей философии Локка, а также из реальной
опасности скептицизма, формулируется Юмом следующим
образом: необходимо развить новую концепцию чувстт
274
венного опыта, которая отстояла бы его внутреннюю
достоверность, убедительность, кото-рая позволила бы с
полным правом опереться на чувственные данные (и
простые идеи) в сложных выводах научного знания. При этом
вопрос о деятельности чувств при непосредственном
присутствии отображаемого предмета Юм считает более или
менее простым. Более сложна проблема опытного
освоения тех предметов, которые не даны чувствам
непосредственно, более труден вопрос о правомерности и
правилах перенесения сведений и знаний, почерпнутых из
прошлого опыта, на сегодняшний или будущий опыт.
Данную проблему Юм считает главной темой своей
философии. «Если нам покажут тело одинакового цвета и
одинаковой плотности с тем хлебом, который мы
раньше ели, то мы, не задумываясь, повторим опыт, с
уверенностью предвидя, что этот хлеб так же насытит и
поддержит нас, как и прежний: основание именно этого
духовного, или мыслительного, процесса мне бы и хотелось
узнать (курсив наш.— Н. М.)». И далее: «Что же
касается прошлого опыта, то он может давать прямые и
достоверные сведения только относительно тех именно
объектов и того именно периода времени, которые он
охватывал. Но почему этот опыт распространяется на
будущее время и на другие объекты, которые, насколько
нам известно, могут быть подобными первым только по
виду? Вот главный вопрос, на рассмотрении которого я
нахожу нужным настаивать» (16, 2, 35; 36). Юм,
следовательно, предполагает рассматривать те основания
чувственного опыта, те его принципы и законы, которые
делают его непрерывным, целостным, относительно
самостоятельным процессом. Речь идет об основаниях,
которые позволяют в будущем использовать результаты
прошлой познавательной деятельности. Эта постановка
вопроса в значительной степени оригинальна, она
позволила обнаружить, что структура чувственного опыта
более сложна, чем это предполагалось предшествующим
эмпиризмом (кстати, некоторые положения последнего
некритически заимствуются Юмом и противоречат в его
системе рассмотренному выше замыслу).
-В философии Юма поставлен вопрос о тех
основаниях, которые заставляют нас усматривать необходимость
связи между двумя объектами или между объектом и его
идеей. Очевидно, рассуждает Юм, что необходимость
275
этой связи не может быть почерпнута из единичного
опыта отдельного человека или из простого повторения
сходных опытов. Этот аргумент мы уже неоднократно'
встречали. Лейбниц извлек его из всей предшествующей
философии и направил против эмпиризма. Но Юм
•ссылается на него вовсе не для того, чтобы убедиться
самому и убедить читателей в справедливости лейбницевокого>
рационализма, опирающегося на дополнительную по
отношению к чувствам способность разума. Напротив, ход-
мыслей Лейбница и других противников эмпиризма
представляется Юму ненаучным и мистическим. «Философы,,
ведущие свои исследования несколько дальше, тотчас же
■замечают, что даже в наиболее привычных явлениях
энергия причины столь же непостижима, как и в самых
необыкновенных, и что путем опыта мы только узнаем
часто происходящее соединение объектов, никогда не
будучи .в состоянии постигнуть что-либо вроде связи между
ними. Поэтому многие философы считают себя
вынужденными в силу разумных оснований прибегать во всех
случаях к тому самому принципу, к которому
обыкновенные люди обращаются только в случаях, кажущихся
чудесными и сверхъестественными. Они признают дух и
разум не только последней и первичной причиной всех
вещей, но и прямой и единственной причиной всех
явлений в природе» (16, 2, 71—72). Такие философы
«наполняют божеством» все, в том числе и принципы,
структуры человеческого познания. И в этом случае возникает
теория, которая «слишком смела» и неубедительна для
человека, признавшего слабость человеческого разума,,
ограниченность его возможностей. Мистика и
невежество — главные, по Юму, признаки, характеризующие
такой ход мыслей; он приводит наг к заключениям,
весьма далеким от обычной жизни и от опыта. Задача
обоснования достоверности опыта по-прежнему остается
неразрешенной.
Путь для ее разрешения Юм видит в подробном
рассмотрении сложной структуры опытного познания, его-
реальных оснований. Одних заклинаний и уверений уже
недостаточно. Чтобы противостоять скептицизму,
эмпиризм должен стать разработанной научной концепцией,,
отбросившей всякую мистику и бездоказательные
утверждения. Сказать, что какое-то заключение происходит из-
опыта, напоминает Юм, не значит решить вопрос. Осно-
276
ванием всех заключений из опыта является своеобразный
механизм, позволяющий в будущем и в настоящем
опираться на прошлые знания. Главная проблема,
возникающая при анализе опыта,— описание этого механизма.
* *
*
Спор эмпиризма и рационализма заострил и привел
к достаточно четкой противоположности различие между
чувственным и разумным познанием. Чувственный опыт,
как таковой, с одной стороны, и разум, с другой,— вот
противопоставление, которое пользуется, по
свидетельству Юма, всеобщим признанием. Рассмотрение
структуры чувственного опыта склоняет Юма к мысли об
ошибочности и поверхностном характере резкого
противопоставления опыта и разума (ем. 16, 2, 46; 47).
Свойственная рационализму идея о том, что разум как бы извне
и post festum корригирует данные чувственного опыта,
кажется К>му ложной. В самом опыте необходимо и
возможно обнаружить такой механизм, который делает его
достоверным, который превращает его в структурную
целостность. Равным образом не удовлетворяет Юма и
отстаиваемая »крайним эмпиризмом идея о
'самостоятельности односторонне-чувственного опыта, о возможности
положить в основу теории познания размышления о
субъекте, лишенном всякой духовности, всяких
эмоциональных предрасположений.
Спор, разгоревшийся вокруг понятия врожденных
идей, Юм считает данью, которая была выплачена
схоластике. Спор этот касался вопроса, по убеждению Юма,
для философии совершенно несущественного. «Если под
врожденным понимать одновременное нашему рождению,
то весь спор окажется пустым, ведь вопрос о том, когда
начинается мышление — {до, во время или после нашего
рождения, совершенно лишен значения» (16, 2, 25).
Проблема, над которой бился Локк — начинается ли
наше познание с некоторого нуля (tabula rasa), или оно
изначально определено врожденными идеями,— как
будто бы не интересует Юма. Но этому заявлению нельзя
полностью довериться. Принципиальная особенность
философии Юма заключается в том, что он по сути дела
отказывается начинать теорию познания с изображения
того способа, каким вещи воздействуют на наши органы
VI
чувств, того способа, с помощью которого (возникают
ощущения. «Исследование наших ощущений касается
скорее анатомов и естественников...»—говорит Юм (16,
1, 96).
Теория познания Юма, его учение о чувственном
опыте начинается с утверждения о наличии (впечатлений.
Понятие «впечатление» требует особого разъяснения,
поскольку Юм вполне определенно признает, что
предложенное им истолкование впечатлений отличается от
общепринятого. «Прошу заметить,— пишет юн,— что под
термином впечатление я разумею не способ порождения
в душе живых восприятий, но исключительно сами эти
восприятия, для которых не существует отдельного имени
ни в английском, ни в каком-либо другом известном! мне
языке» (16, 2, 90). Готовое, имеющееся в душе
впечатление — вот исходный пункт Юмовой теории познания.
«...Под термином впечатления я подразумеваю все наши
более живые восприятия, когда мы слышим, видим,
осязаем, любим, ненавидим, желаем, хотим» (16, 2, 20).
При этом впечатления Юм делит на впечатления
ощущения и впечатления рефлексии. Первые, как мы
видели, исключаются из пределов теории познания; о них
просто говорится, что они возникают в душе «от
неизвестных причин».
Собственно впечатления, впечатления рефлексии, Юм
готов назвать врожденными. Значит, он вовсе не
безразличен к спору материализма и идеализма, касающемуся
теории врожденных идей,— в этом споре он по сути дела
примыкает к идеалистической позиции, хотя мистицизм
учения о врожденных идеях ему чужд. Идеалистический,
и притом субъективно-идеалистический, характер
философии Юма, свойственный ей агностицизм,
подготавливающий агностицизм Канта, проявился также и в том,
что для него процесс возникновения ощущения оказался
не только несущественным для философии, но и чем-то
принципиально неизвестным. О впечатлениях рефлексии
он может сказать только то, что они порождаются
ощущениями. Затем вопрос об отношении познания к
предмету оказывается снятым. Исходным для теории
познания оказывается человеческий опыт, уже располагающий
впечатлениями, неизвестно как полученными. «Ум
никогда не имеет перед собой никаких вещей, кроме
восприятий (курсив наш.—Я. М.), и ори никоим образом
m
не в состоянии произвести какой бы то ни было опыт
относительно соотношения между восприятиями и
объектами» (16, 2, 156).
Механизм дальнейшего развертывания чувственного
опыта на основе впечатлений так описывается Юмом.
Сначала возникает какое-либо впечатление, заставляя
переживать тепло, холод, жажду, голод, удовольствие,
страдание. Потом ум снимает с этого первоначального
впечатления копию и образует идею. Идея, стало быть,
определяется Юмом как «менее живое восприятие». У
Локка, говорит Юм, идея была но сути дела
отождествлена со всеми восприятиями. Между тем идея может
оставаться и тогда, когда впечатление, копией которого
она является, исчезает. Идея удовольствия и страдания
возвращается в душу, возбуждая новые впечатления,
впечатления рефлексии: желание и отвращение,
надежду и страх. С этих вторичных впечатлений снова
снимается копия — возникают новые идеи. Затем своеобразная
«цепная реакция» идей и впечатлений продолжается.
Юмово понимание структуры начальных этапов
чувственного опыта ведет его к важным выводам: в этом
опыте теснейшим образом сплавляются впечатления и идеи.
Поэтому анализ чувственного опыта следует начинать
отнюдь не с ощущений, как думал Локк. Первый общий
вывод Юма относительно характера и специфики
чувственного опыта состоит .в том, что опыту приписывается
сложная структура. В (развитом человеческом
познавательном действии, которым, собственно, и интересуется Юм
(его совершенно не занимают столь распространенные у
Локка рассуждения о детском опыте и его дальнейшем
развитии), он не может обнаружить обособленного
чувства и обособленного разума. Идея и впечатление тесно
объединены в сложный эмоционально-рациональный
комплекс. Юм по существу пересматривает учение
эмпиризма о чувстве самом по себе: этот символ
изгоняется из философии и отдается на откуп естественным
наукам о человеке, хотя, с другой стороны, вместе с
ощущением в естествозатание вытесняется проблема
взаимодействия действительного индивида с реальным
объектом — эта важнейшая проблема, которую философии
«возвратил» только Маркс. В силу этого юмизм, пытаясь
преодолеть созерцательность, где-то в самом начале не
покидает ее основы, пытаясь преодолеть скептицизм,
279
ьсе-такй остается скептической философией. Та же
ограниченность будет присуща и кантовскому учению о
вещи в себе, несмотря на ее материалистический элемент,
возникающий в значительной мере в качестве реакции
на субъективизм юмистско-берклианского типа.
*
Главную трудность при объяснении идей,
утверждает Юм, представляет не выяснение их происхождения
(впечатления — простые идеи — сложные идеи: Юм по
сути дела воспроизводит здесь локковскую схему), но
объяснение их многоразличного и на первый взгляд
произвольного соединения. Юм утверждает, что в основе
соединения идей лежит «некое 'Связующее начало, некое
ассоциирующее качество», «мягко действующая (gentle)
сила» (16, 1, 99), которую я .следует объяснить. Точнее
говоря, Юм не надеется вскрыть причины, порождающие
данные акты нашего ума: «Достаточно,— говорит он,—
если нам удастся удовлетворительно описать их на
основании аналогии и опыта» (16, 1, 112). Юм начинает
такое описание. Он многократно упоминает об
удивительном свойстве, чудодейственном механизме всякого, в
том числе и самого элементарного, обыденного опыта:
\<Когда мы узнаем из опыта, что каждый единичный
объект, принадлежащий к какому-нибудь виду, постоянно
бывает связан с некоторым единичным объектом,
принадлежащим к другому виду, то появление всякого
нового единичного объекта того или другого вида,
естественно, переносит мысль к его обычному спутнику» (16,
1, 191). Такой механизм хорошо известен каждому
человеку: при произнесении слова к нему автоматически,
независимо от нашего желания подключается идея;
размышление становится излишним, поскольку воображение
заставляет человека моментально, без особых
усилий, переходить от одной идеи к другой. Здесь имеет
место связь, «естественное отношение», неведомо как
возникающий механизм познания (16, 1, 192), которые
Юм называет причинностью.
Благодаря выявлению этой связи, благодаря
своеобразной ассоциации идей возникает — помимо желания
индивида, независимо от него — четкое различие между
смутными, обманчивыми образами фантазии и действи-
280
тёльно существующей связьюv объектов. Осозйание,
притом довольно определенное, непререкаемого характера
причинных связей Юм называет верой. И здесь-то он
ставит вопрос: как и почему возникает это чувство
уверенности, чем объясняется необходимый и 'автоматический
переход от причины к следствию? Юм подчеркивает
прежде всего, что не разум сам по себе, не рассуждение,
как таковое, но иное основание определяет эту
«магическую способность» нашей души. «Разум никогда не
может убедить нас в том, что существование одного
объекта всегда заключает в себе существование другого;
поэтому когда мы переходим от впечатления одного
объекта к идее другого или к вере в этот другой, то
побуждает нас к этому не разум, а привычка, или принцип
ассоциации» (16, i, 196).
Итак, основа основ чудодейственного механизма
опытного познания — это отнюдь "lie разум, не
рассуждение, не доказательство. Это привычка, ассоциация идей.
К понятию привычки, играющему столь важную роль в
философии Юма, следует присмотреться более
внимательно. Ниже мы обратимся к нему. Здесь же отметим
только, что Юм приходит к крайнему противопоставлению
разума и того основополагающего механизма познания,
который он именует привычкой и который регулирует
чувственный опыт. Следовательно, в конце концов
приходит к тому традиционному разделению, обособлению
чувств и разума, на преодоление которого он
претендовал. Правда, к этому результату, в значительной степени
противоречившему основному замыслу и некоторым
центральным идеям его философии, Юм пришел потому, что
превратил «разум», понятийное познание, идеи в
некоторые регуляторы обычного познания, в готовое знание,
ьключенное в чувственный опыт и определяющее этот
последний. Чувственный опыт становится зависимым,
определяемым, пассивным комплексом. Значит, и
идеалистической концепции Юма в конечном счете присуща
созерцательность.
Однако нельзя забывать, что сознательный замысел
Юма состоял в объединении эмоционального и
рационального начал, в ниспровержении старого символа
крайнего эмпиризма —«чувства самого по себе». При
анализе чувственного опыта Юм в самом деле выявляет ту
внутренне необходимую и значительную роль, которую
281
в нем играют понятия, идеи. Идеи, вплетенные в
чувственный опыт, выполняют «важную роль во всех
операциях нашего ума», говорит Юм. Из идей впечатления
и идей памяти, рассуждает он, мы образуем своего рода
систему, которую обычно называем реальностью. Эта
система идей затем определяет рассмотрение каждой
отдельной идеи; «привычка или отношение,
принуждающее его к этому, не допускают ни малейшего
изменения...» (16, i, 208; 209). Возникает вторичная система
идей — реальностей; в отличие от первой, которая
является предметом чувств и памяти, вторая является
объектом суждения, рассуждения. «При помощи этого
последнего принципа мы заселяем мир, знакомясь с такими
предметами, которые из-за отдаленности во (времени и
пространстве находятся вне сферы наших чувств и
памяти. С его помощью я рисую в своем воображении
вселенную и устремляю внимание на любую из ее частей»
(16, 1, 209). Итак, моя вселенная, образ которой
составляет важный, наиболее значительный элемент
чувственного опыта, построена не на шатком основании, но на
принципах, для меня внутренне достоверных.
Совершенно очевидно, что Юм говорит здесь о той регулирующей
роли, которую в единичном чувственном опыте играют не
зависящие от индивида необходимые структуры
познания, не возникающие в одном этом опыте понятия и
идеи.
Термины «привычка», «принцип ассоциации»,
несмотря на их неопределенность, на привносимый ими
психологический оттенок, вместе с тем отдаленно указывают
на область поисков, на специфику Юмова
теоретико-познавательного интереса. Юм догадывается, что понятием
привычки, вообще-то неопределенным и неудачным,
обозначается механизм, сложившийся в индивидуальном
опыте в ходе социальной практики. Вот почему, желая
прояснить для читателя «гносеологическое» понятие
привычки, он обращается к привычке, складывающейся под
действием социального общения и воспитания. Действие
обоих видов привычки на наше суждение «сходно и
пропорционально», говорит Юм. «Все мнения и понятия о
вещах, к которым мы привыкли с детства, пускают
корни так глубоко, что весь наш разум и опыт не в силах
искоренить их, причем влияние этой привычки не
только приближается к влиянию постоянной и нераздельной
282
связи причин и действий, но и во многих случаях
превосходит его» (16, 1, 217). «...Более половины мнений,
преобладающих среди людей, обязаны своим
происхождением воспитанию, и принципы, принимаемые нами
безотчетно, одерживают верх над теми, которые
обязаны своим происхождением или абстрактному
рассуждению, или опыту» ('16, 7, 218). Нетрудно -заметить, что
Юм имеет здесь в виду те принципы, природа и
механизм возникновения которых в высшей степени
интересует современную науку, главным образом психологию л
социологию: речь идет о стереотипах, об установках. У
этих принципов и у механизма ассоциации, привычки
Юм открывает, хотя и в весьма смутной форме, общий
(источник. И.м является социальный опыт.
Следует отметить, что Юм, создавший довольно
развитую концепцию социальной определяемое™
человеческого действия, концепцию социального чувства (мы
рассматривали ее выше), в теории познания чаще всего
предпочитает придерживаться абстрактной манеры
рассуждения. Он прямо отказывается открыть причины,
т. е. источники и происхождение своеобразного
механизма, обусловливающего непрерывность, внешнюю
достоверность человеческого чувственно-практического опыта.
Юм ссылается на «человеческую природу» или на
ощутимые для каждого человека свидетельства его
единичного опыта. Ничего более определенного он сказать не
может. И все-таки философия Юма поставила перед
последующей мыслью важный вопрос о внутренне
заключенной в индивидуальном» опыте сложной объективной
структуре, она позволила Канту признать чувственный
опыт специфически человеческим образованием. Кант
признавался, что размышления Юма были той причиной,
которая прервала его «догматическую дремоту».
Главную проблему, поставленную Юмом, Кант перелагает
следующим образом: «В самом деле, говорил этот
проницательный муж, когда мне дано какое-то понятие, как
могу выйти за его пределы и связать с ним другое,
нисколько в нем не содержащееся, и притом так, как если
бы оно необходимо к нему принадлежало?» (10, 92).
Опыт и привычка — вот источники, на которые
ссылается Юм. Кант считает гениально поставленной саму
проблему, но ни в коей мере не соглашается с Юмовым
решением. Собственный путь Канта, определившийся, как
283
признает родоначальник немецкой диалектики, под
влиянием размышлений над проблематикой философии Юма,
связан с введением понятия априорного, т. е. внеопытно-
го знания, регулирующего чувственный опыт. «...Я
отнюдь не считаю эти понятия,— говорит Кант о
категориях, аналогичных причинности,— взятыми просто из
опыта, а представленную в них необходимость —
вымыслом и видимостью, которая вызвана долгой привычкой;
напротив, я в достаточной мере показал, что эти
понятия и исходящие из них основоположения установлены
a priori до всякого опыта и имеют свою несомненную
объективную правильность, но, конечно, только в
отношении опыта» (10, 130).
Под влиянием Юма и вопреки ему Кант решается на
то, чтобы сделать организующими принципами всякого
опыта априорные, т. е. из самого опыта невыводимые,
положения. Трудность, которую уловил Юм, разрешена
не просто в идеалистической форме; решение проблемы
индивидуального и надындивидуального, социального в
познании отодвинуто. Встает вопрос об источниках того
знания, смысл и содержание которого Кант
справедливо выв-ел за пределы индивидуального опыта, опираясь
на всю традицию предшествующего рационализма.
Необходимо расшифровать, какое знание и какие
познавательные механизмы объемлет кантовский принцип
«априорного». Вопрос этот ставит послекаптовская
философия, но вплоть до возникновения марксистского
учения о социальной сущности познания ответ остается про-
1иворечивым. И даже сам вопрос в домарксистской
философии не был точно сформулирован.
Но обратившись к Канту, мы уже вышли за пределы
ограниченной задачи, поставленной перед этой книгой.
Подведем итоги.
Заключение
Из созвездия блестящих
имен, прославивших философскую культуру
XVII—первой половины XVIII в., мы выбрали самые яркие, а из
всего сложнейшего и многообразного комплекса
концепций, идей, мыслей, догадок, раздумий, колебаний
выделили те, что представляются нам характерными
свидетельствами, опознавательными знаками мыслительных
устремлений целой эпохи, а также путевыми
указателями для будущего движения философии.
Анатомия человека, говорил Маркс, есть ключ к
анатомии обезьяны. Поздний и наиболее развитый этап
развития хотя и не всегда несет с собой полное разрешение
сомнений предшествующей ступени, но более реально, более
точно проясняет содержание, историческое место
предшествующих эпох с их 'своеобразной духовной
культурой. Но и предшествующие ступени заключают в себе
тайну и начало позднейших образований. Понять
проблемное содержание философии XVII—XVIII вв.
невозможно, если не иметь в виду ответы позднейшей
философии на вопросы, (которые были заданы мыслителями этих
столетий; -следует учитывать новую их формулировку,
возможную только на более развитом теоретическом
уровне, необходимо держать в памяти то оригинальное и
своеобразное, что появилось в философской (МЫСЛИ в XVIII—
XIX вв. на основе развития богатейшего наследия
интересовавшего нас исторического периода. Но и наоборот:
285
истоки и содержание историзма, развитого создателями
немецкой классической диалектики, 'сложнейшее
содержание марксистского учения о социальной сущности и
социальной обусловленности познания, наконец, причины
злоключений сегодняшней буржуазной философии
нельзя понять, если упустить из виду отношение этих учений
к теоретическим достижениям Декарта и Гоббса,
Спинозы и Гассенди, Лейбница и Локка, оказавшимся
настоящими стимулами для дальнейшего движения философской
мысли. Пожалуй, не меньшее значение для этого
движения имели вопросы, породившие в XVII—XVIII вв.
противоречивые ответы, мучительные поиски и раздумья,
вопросы, поначалу сформулированные в спекулятивной и
мистической форме, но с какой-то неустранимой
необходимостью навязывавшиеся всякому значительному
мыслителю. Пока не была дана четкая формулировка и не был
выявлен теоретический смысл таких проблем, они
оказывались непреодоленными вершинами, которые
приходилось вновь и вновь штурмовать всякому, кто не хотел
отклоняться от единого маршрута философской науки.
К числу таких проблем, во всем своем объеме и
действительном содержании еще недоступных XVII, XVIII и
даже XIX в., но тем не менее составлявших узловые точки
развития философии этих столетий, принадлежит вопрос
о социальной сущности и социальной обусловленности
познания и знания.
Попытаемся кратко суммировать те аспекты данной
проблемы, над которыми уже работают великие
мыслители XVII—первой половины XVIII в. (работают
реально, не всегда четко и адекватно осознавая, к какому
действительному объекту относятся их размышления).
1. Буржуазная философия на заре нового времени
горячо ратует за практическую значимость, жизненное
применение философии, за ее влияние на реальное развитие
общества, на человеческие судьбы. Поскольку философия
выступает еще в едином комплексе с естественными
науками и для мыслителей рассматриваемого периода
является синонимом наиболее важного, наиболее
«достойного» теоретического знания, размышления о практическом
характере новой философии по сути дела касаются более
общего вопроса о социально-практической олределяемости
научного, истинного знания и познания. Философия и
техника, развитие, усовершенствование новых орудий и
286
инструментов, философия и практические, жизненные
ориентации обычного человека («здравый смысл»),
развитие научного знания и наиболее благоприятное
социально-политическое устройство — все эти темы, которые
стремится подробно исследовать философия XIX — XX вв.
и которые адекватно формулируются и решаются только
марксизмом, ставятся на повестку дня философского
исследования в тот период, жогда возникает и делает первые
шаги буржуазный способ производства, когда
формируются новая техника и новая система социальных отношений.
Для теоретического разрешения этих сложных проблем
требуется развитая система социологических
представлений, требуются глубокие знания об объективных
общественных процессах, но такими знаниями философия
XVII—XVIII вв. (да и последующая домарксистская
философия) еще не располагает. Тем не менее она
выдвигает целый ряд здравых идей и интересных догадок:
вспомним, что Бэкон и Декарт уже обнаружили необходимую
и закономерную связь между экспериментальной наукой
и техническим развитием общества, связь между
техническим прогрессом и благосостоянием человека;
любопытна идея Декарта о параллелизме между практическими
производственными операциями и систематическими
действиями ученого, сознательно использующего правильный
метод и т. д. Важно и примечательно также то, что
мыслители XVII—XVIII вв. говорят об этих вопросах с
пафосом подлинных новаторов, защитников более
прогрессивного общества, говорят на языке, понятном и близком
каждому передовому человеку их эпохи.
2. Философы, учения которых мы рассматривали в
этой работе, сознательно обосновывают и защищают
гуманистические идеалы и ценности, из единого комплекса
которых особое внимание уделяется принципам разума и
свободы. Мы пытались ответить на вопрос об объективной
социально-исторической обусловленности
гуманистического сознания нового времени, которая лишь отчасти была
уловлена самими мыслителями того периода, во многом
оставаясь скрытой для них и тем более для их читателей
за абстрактно-философскими размышлениями о «вечной»,
«неизменной» человеческой сущности. И здесь именно
Марксово учение и марксистская методология позволяют
обнаружить конкретно-исторические истоки и
специфическое социальное содержание, заключенное в по видимости
287
абстрактных, всеобщих принципах, Которые на деле
явились выражением вполне определенных
буржуазно-демократических требований. Историческая эволюция
гуманистического сознания, смена его различных форм—(вопрос,
тем более заслуживающий рассмотрения и дальнейшей
разработки, что в современный период проблема ценности
и ценностной ориентации (в том числе и проблема так
называемых высших ценностей, их значения для конк*
ретного поведения индивида) превратилась в одну из
узловых философско-социологических тем. Раскрыть
социальную природу, классовое содержание буржуазного
ценностно-гуманистического сознания мы и пытались,
опираясь на марксистскую методологию анализа проблемы
ценностей.
3. В философии XVII и особенно первой половины
XVIII в. достаточно зрело и глубоко ставится вопрос о той
взаимозависимости, которая связывает общественные
условия жизнедеятельности индивида, условия общения
людей и их специфически человеческие духовные
способности, задатки, действия — словом, все то, что в этот
период именуется разумом, разумностью. Понятие разума,
как было подробно показано в монографии, в наиболее
значительных концепциях данного периода по сути дела
становится обозначением 'инипнативного, сознательного,
свободного, рационального (определяемого рассудком,
организованного, планируемого и т. д.) действия, притом
действия, совершаемого вместе и в согласии с другими
людьми, в соответствии с обще-значимыми и
общеобязательными принципами («благами»). Учение о сущности
человека, несмотря на несомненные метафизические
ограниченности, несмотря на его абстрактность, делает первые
шаги на пути к пониманию человека как совокупности
общественных отношений, к пониманию, развитая и
систематическая форма которого принадлежит только
марксизму. То обстоятельство, что философия XVII—XVIII вв.
начинает обнаруживать связь между познавательной
деятельностью человека и его общественным бытием, имело
громадное объективное значение (правда, не всегда
осознаваемое и выражаемое вполне четко, сознательно) для
дальнейшего развития и разрешения гносеологической
проблематики: в нее включались темы, которые образуют
исходную проблематику социологического учения о
познании.
288
4. В первую очередь вскрываются и исследуются
отрицательные, негативные для развития познания и науки
последствия, которые обусловлены воздействием общества,
а конкретно — воздействием старой, отжившей,
погрязшей в противоречиях общественной системы. Философия
последующих столетий наиболее полно и без каких бы
то ни было существенных изменений принимает и
одобряет развитое Бэконом, Декартом, Спинозой, Локком
учение об очищении, врачевании разума, учение о
методическом сомнении. Великое 'значение этой концепции
усматривается именно в освобождении философии от
сковывающего воздействия реакционных
социально-идеологических условий, в достижении свободы мысли, так
необходимой для развития науки, в создании возможностей для
объективного исследования, в очеловечивании
человеческого мира, который до той поры был затянут покровом
религиозной мистики. «Основатели повой философии
Бэкон и Декарт,— пишет Фейербах,— определенно начали
с опыта: первый, сделав условием познания природы
отвлечение от всех предрассудков и предвзятых мнений, а
последний, требуя вначале сомнения во всем. Но этот
скепсис в свою очередь предполагает, что дух в человеке
и с ним человеческий индивидуум представляют себя
отличными от природы, -что именно это отличие от природы
дух признает своей сущностью и в этом различении
делает как себя, так и природу существенным объектом
своего мышления» (17, 7, 82). За спиритуалистической
формой этой оценки молодого Фейербаха сквозит важная
догадка об особой роли учения о призраках и учения о
сомнении Бэкона и Декарта; Фейербах справедливо видит их
смысл в присвоении познанию специфически
человеческих свойств и активной силы, направленной на освоение
и подчинение природного мира. Смысл декартовского «со-
gito», которое «на долгое время оказалось... основным
тоном новой философии», Шеллинг также усматривает в
«решительном высвобождении от всякого авторитета,
благодаря которому была достигнута свобода философии; и
философия с тех пор уже не могла эту «свободу утратить»
(19, 25).
Развитому марксизму, историческому материализму
принадлежит теория, всесторонне рассматривающая
динамику и взаимовлияние объективных социальных
отношений, с одной стороны, и идеологических выражений клас-
289
coiBbix позиций — с другой. Маркс, Энгельс, Ленин
проанализировали — и в общетеоретической форме, и в форме
конкретного анализа духовно-идеологических
феноменов — процесс трансформации классового, в том числе
идеологического, сознания, сопровождающий превращение
прежде прогрессивного класса в реакционную социальную
силу. Именно в рамках данной теории находит свою
расшифровку, обнаруживает свои истоки и положительное
значение теория очищения разума XVII—XVIII столетия,
внутренним образом связанная с борьбой восходящей
буржуазии против социально-экономического и духовного
наследия феодализма.
5. Значительный и отнюдь не только исторический
интерес для современного учения о социально-исторической
сущности познания представляют собственно
гносеологические концепции и учения о методе, созданные
философами XVII—первой половины XVIII в. При объяснении
познавательного процесса и таких его идеальных
результатов, как понятия, идеи, принципы, законы, мыслители
данного периода отчетливо сталкиваются с существенным
противоречием. С одной стороны, они понимают и
констатируют, что процесс познания реально осуществляется
индивидами, с другой стороны, сталкиваются с тем
обстоятельством, что смысл и содержание понятий, в
особенности научных, выводит за пределы актуального
процесса мышления и действия отдельного человеческого
существа, заставляет предположить существование
совокупного, надындивидуального разума. Мы проследили
противоречия, затруднения, дихотомии, которые возникли в
философии нового времени, поначалу сосредоточившей
внимание на познавательных способностях и познавательной
деятельности обособленного индивидуального субъекта.
В теологических по своей внешней форме размышлениях
о связи божественного и человеческого разума, о
специфике научных понятий и законов (их «внеопытиости»,
«априорности») мыслители XVII—XVIII iBB. впервые
делают попытку объяснить реальную трудность и
противоречие —основы и механизмы того единства,
взаимопроникновения общественного и индивидуального, которое
делает возможным осуществление исторически
преемственного познавательного процесса. От этих глубоких
исследований, от выявленных здесь трудностей и парадоксов
тянется прямая нить к немецкой классической диалекти-
290
ке и к историзму, зарождающемуся в ее недрах, к
классическому и современному марксистскому пониманию
общественно-индивидуальной сущности познания.
6. Наряду с «глубинным» уровнем социальной
обусловленности (познания, объективно выявившимся,
скажем, в сложных и косвенных формах социальной
определяемое™ научных понятий и научного метода, философия
рассматриваемого периода открыла для исследования
другой, более внешний уровень социальности познания,
связанный с распространением знания, его сообщением и
усвоением — словом, с процессами коммуникации людей по
поводу уже созданного, готового знания.
Таковы основные аспекты интересовавшей нас
проблематики, которые были намечены философами XVII —
первой половины XVIII в.
Марксистская философия отвечает на затруднения и
сомнения предшествующей философии, выразившиеся в
теологической форме учения о божественном и
человеческом разумах или учения об абсолютном духе, в системе
кантовско-фихтевского априоризма и т. д., своей теорией
общественной сущности познания и знания. Эта
сложнейшая проблема требовала Марксовой феноменальной
образованности, научной доскональности, теоретической
глубины и тонкости. На основе работ Маркса, Энгельса,
Ленина возможно построить столь необходимое сегодня
развитое, детальное учение о связи познания и
социального развития. Уже предшествующая философия
наметила некоторые важные линии разработки данной
проблемной сферы. Марксистская социология познания и знания,
социология науки сегодня располагает целым рядом идей,
которые она кладет в основу исследования; и сегодня, как
и во все времена, перед наукой о познании стоят
сложные, новые вопросы. Мы попытаемся суммировать эти
основополагающие идеи, методологические предпосылки и
требующие своего разрешения проблемы социологии
познания, которые, как нам представляется, в снятом,
переработанном виде содержат важнейшие достижения
философии нового времени, в том числе философии XVII и
XVIII столетий.
1. Опыт философии, развитие гносеологических учений
нового времени свидетельствуют в пользу того
соображения, что социальная сущность познания, которая
проявляется, кристаллизуется в виде некоторых социально оп-
291
ределенных, в том числе институционализированных, форм
(например, язык, наука, идеология), которая выражается
в виде особых социально зависимых «духовных
образований, сначала должна быть рассмотрена в известной
степени (независимо от этих форм, кате имманентная
(социальная) сущность познания и знания. Но чтобы реализовать
данную методологическую предпосылку, характерную для
начального этапа движения теоретического анализа (ее
открывает, вводит и обосновывает Маркс в «Капитале»),
следует найти теоретическую структуру, «клеточку»
исследования социальной сущности познания, которая
одновременно была бы его типичным реальным отношением.
Такую «клеточку», как нам представляется, образует
понятие деятельности в ее форме духовного производства.
Эта деятельность, что вполне понятно и не требует особых
подтверждений, возможна исключительно как
исторически преемственный процесс взаимодействия людей, как
процесс социально-исторический но своей природе.
Отсюда следует, что, несмотря на первоначальное отвлечение
от обособляющихся форм общественного сознания, от
конкретных типов социальной детерминированности знания,
социология познания не может абстрагироваться от самой
социально-исторической структуры духовного
производства, которую она и должна исследовать. Анализ вскрывает
в предметном отношении, якобы обособленном
отношении человека и вещи, превращенную форму социального
отношения и именно последнее изучает в его
специфической структуре.
2. Дальнейший шаг исследования состоит в том, чтобы
продолжить и систематизировать по крайней мере с
Бэкона начавшийся анализ тех самых самостоятельных
социально значимых форм, от которых мы сначала
отвлекались по методологическим соображениям. Эти формы
необходимо изучать (и такое изучение, повторяем, имеет
богатую и давнюю традицию) и в качестве относительно
самостоятельных социальных образований, и в их
зависимости от социального бытия, и в их взаимодействии с
другими аналогичными формами. Наука, идеология,
право, мораль, искусство имеют -свою историю, любая эпоха
предлагает специфические способы их социальной опре-
деляемости. Современный период имеет здесь важные
особенности, изучение которых — актуальная задача дня.
393
3. Подлинное систематическое единство социология
познания приобретает только в том случае, если
вышеперечисленные общие и более конкретные формы и типы
будут поставлены в теснейшую связь, выведены из
социально-исторической сущности духовного производства.
Марксистская литература и в этом отношении накопила
богатейший опыт исследования, который нуждается в
продолжении и углублении.
Из сказанного ясно, что марксистская социология
познания является общим обозначением для
систематического, многостороннего выведения социальной сущности
познания и социальных форм кристаллизации познания и
знания. Она объединяет в целях такого исследования
достижения и методы диалектического и исторического
материализма, она становится, таким образом,
синтетической, пограничной областью современного марксистского
философского и социологического исследования. Факт
введения практики в теорию познания, этот высоко
оцениваемый Лениным специфический для Маркса поворот
анализа познавательной деятельности, должен найти свое
детальное научное объяснение в марксистской социологии
познания, ибо именно он послужил основой для ее
возникновения. Но тогда социология познания обязана
принять во внимание, заботливо осмыслить все те, пусть еще
несовершенные, попытки раскрытия
деятельно-практической, социальной сущности человека и его познания,
которыми, как мы пытались показать, столь богата
философия нового времени.
Литература
1. К. Маркс и Ф. Энгельс. Из ранних произведений. М., 1956.
2. К. M ар к с и Ф. Энгельс. Сочинения. Изд. 2.
*
*
3. Бэкон Ф. Новая Атлантида. Опыты и наставления. М., 1954.
4. Бэкон Ф. Новый Органон. М., 1935.
5. Галилей Г. Диалог о двух системах мира, птоломеевой и копер-
никовой. М.—Л., 1948.
6. Гассенди П. Сочинения в двух томах, т. 1. М., 1966.
7. Гегель. Сочинения, т. XI. М.—Л., 1935.
8. Гоббс Т. Избранны« произведения в двух томах. М., 1964.
9. Декарт Р. Избранные произведения. М., 1950.
10. Кант И. Сочинения в шести томах, т. IV (I). М., 1965.
11. Лейбниц. Новые опыты о человеческом разуме. Л., 1936.
12. Локк Д. Избранные философские произведения в двух томах.
М., 1960.
13. Руссо Ж.-Ж. Об общественном договоре. М., 1938.
14. Спиноза Б. Избранные произведения в двух томах. М., 1957.
15. Спиноза Б. Переписка. М., 1932.
16. Юм Д. Сочинения в двух томах. М., 1932.
17. Фейербах Л. История философии. Собрание произведений в
трех томах. М., 1967.
18. Фейербах Л. Избранные философские произведения в двух
томах. М., 1955.
19. Schelling. Zur Geschichte der neuen Philosophie. Leipzig, 1966.
Указатель имен
Августин — 269.
Аристотель — 70, 87, 257.
Асмус В. Ф.— 11, 146.
Бруно, Джордано — 84.
Бэкон, Фрэнсис —13, 17, 25,
26, 29-31, 33, 41, 43, 45-
48, 53, 60, 74, 88, 93—95,
402, 106, 112, 114—125, 233,
238, 243, 287, 289, 292.
Галилей, Талилео —45, 74, 84,
93, 106, 153.
Гасоенди, Пьер — 1Г7, 1312, 138,
139, Ш, 143—146, 149, 150,
153, 156, 157, 233, 245, 259.
Гегель, Георг Вильгельм
Фридрих — 12, 24, 126, 168.
Гоббс, Томас - 13, 17, ЗЭ, 34,
43, 47, 54, 60, 69—74, 94, 95,
114, 117, 119,120, 125,130-
133, 138, 144, 146—150,
152—154, 156, 158, 159, 167,
168, 170, 181, 185, 201, 206,
215, 233, 235, 236, 245, 247,
259, 265, 286.
Гуссерль, Эдмунд — 6, 7.
Декарт, Рене — И, 13, 15—17,
29, 31-33, 43-45, 47, 49,
53, 55-59, 61-64, 74, 77,
82-100, 102-109, I'll, 114,
116-121, 123—125, 127, 128,
136—144, 147—162, 164—
174, 179—.184, 185, 201,236,
238, 263, 273, 286, 287, 289.
Дуне Скотт —269.
Кант, Иммануил —12, 175,
272, 278, 283, 284.
Касшрер, Эрнст —6.
Лейбниц, Готфрид
(Вильгельм—45, 94, 123, 168,
175, 181, 185, 187, 1Ö9,
202^204, 21(8, 219, 221, 225,
226, 229, 230, 243, 244, 247—
249, 254, 295, 257—272, -276,
286.
Ленин, Владимир Ильич — 9,
290, 291, 293.
Локк, Джон —И, 74, 175, 181,
185, 187, 192—207, 209, 215,
218, 21(9, 221—226, 228—
230, 232—260, 262^268,
270—274, 277, 279, 286, 289.
Луппол, И. К—12.
Макиавелли Никколо — 70.
Маркс, Карл Генрих — 8, 9, 12,
22, 25, 26—28, 34, 37—39,
45, 123, 125, 133, 170, 174,
191, 195, 254, 279, 285, 290-
292, 293.
Милль, Джон-Стюарт — 34.
Мор, Томас — 30.
Нарсиий, И. С.— 11.
Ольденбург, Генрих— 164.
Платон —87, 144, 158, 168, 218,
257.
Рикардо, Давид —34.
Руссо, Жан-Жак —187, 192,
207, 220, 221.
Смит, Адам —34, 39.
Соколов, В. В.—11.
Спиноза, Бенедикт — 11—18,
15—17, 33, 43, 47, 55, 56,
60—69, 73, 74, 77, 82, 94—
107, 124, 138, .139, 160-165,
170—174, 1179, 180, 185, 209,
238, 286, 289.
Сэй, Жан-Баптист — 34.
Тацит, Публий Корнелий—218.
Чирнгаус — 62.
Фейербах, Людвиг — 12, 122,
160, 170, 271, 289.
Фихте1, Иоганн-Готлиб — 12.
Шеллинг, Фридрих
Вильгельм — 289.
Энгельс, Фридрих—1в5, 29Ö, 291.
Эпикур —144, 146, 156.
Юм, Давид-11, 94, 142, 175,
185-187, 189, 190, 192, 194,
196, 197, 199, 200, 206, 207,
209—214, 216—218, 221,
226—230, 235, 272—284.
Оглавление
19
Введение
ЧАСТЬ ПЕРВАЯ
Философия XVII века
Глава I. Философия XVII—XVIII веков перед
лицом исторической потребности в активном и
разумном человеке ~~
Глава И. О человеке как части природы и о
человеческой «природе» . 52
Глава III. Разумность и свобода. Разумность и
общество 59
Глава IV. Теории «очищения» разума . . 75
§ 1. В борьбе против «призраков» (Фрэнсис Бэкон) . —
§ 2. На путях «универсального сомнения» и «врачевания
разума» (Рене Декарт и Бенедикт Спиноза) 82
Глава V. Среди парадоксов «очищенного разума» 'Ш
§ 1. Во всеоружии метафизического метода, в плену его
односторонности .... 114
§ 2. Под властью гносеологических дихотомий. Первые
попытки их преодоления и идея социальной
определенности познания . 136
Материальное и духовное 137
Чувства и интеллект 140
а) Мышление: Гоббс спорит с Декартом 146
б) Мышление в «узком смысле» — интеллект:
Декарт спорит с Гоббсом .... 150
«Человеческий» и «божественный» разум 159
Глава VI. Познание и общение людей (Томас
Гоббс) 171
296
ЧАСТЬ ВТОРАЯ
Философия конца XVII—первой половины XVIII века 183
Глава I. На пути создания науки о человеке I85
Глава II. О «гражданском обществе» и «природе»
человека 193
§ 1. Индивид и собственность ... . —
§ 2. Свобода человека и общество. Свобода и право 197
§ 3. Человек и общественные моральные принципы 208
§ 4. Разум и социальное бытие человека 214
Глава III. О противоречивом единстве
индивидуального действия и общественного блага 222
Глава IV. Проблемы и трудности теории
познания и вопрос о социальной обусловленности
познания ... . 232
§ 1. Материализм и практическая направленность
теории познания (Джон Локк) ... —
§ 2. Типология человеческих заблуждений я
предрассудков . . 238
§ 3. О сущности человеческого познания: борьба
материализма и идеализма (Локк и Лейбниц) . 244
§ 4. Спор о непрерывном и сверхиндивидуальном разуме 264
§ 5. О сложной структуре индивидуального чувственного
опыта (Давид Юм) 272
Заключение 285
Литература 294
Указательимен 295
Мотрошилова, Нелли Васильевна
ПОЗНАНИЕ И ОБЩЕСТВО
(Из истории философии XVII—XVIII веков)
Редактор Л. В. Аветисян
Младший редактор А. Г. Свирса
Оформление художника М. О. Бишофе
Художественный редактор С. М. Полесицкая
Технический редактор С. П. Лебедева
Корректор Л. Ф. Селютина
Сдано в набор 8 декабря 1968 г. Подписано в печать 6 мая 1969 г.
Формат бумаги 84хЮ8'/з2, № 1. Усл. печ. л. 15,75. Учетно-издательских
листов 15,48. Тираж 10 000 экз. А00837. Цена 1 р. 17 к. Заказ № 400.
Издательство «Мысль». Москва, В-71, Ленинский проспект, 15.
Московская типография № 20 Главполиграфпрома
Комитета по печати при Совете Министров СССР.
Москва, 1-й Рижский пер., 2.
Мотрошилова H. В.
Познание и общество (Из истории
философии XVII—XVIII веков). М, «Мысль», 1969.
297 с.
Автор показывает, что проблема социальной сущности
познания, правильно поставленная и решенная лишь
марксистской философией, в той или иной форме ставилась всеми
крупнейшими представителями философии нового времени.
Книга дает представление о философских дискуссиях XVII—
XVIII вв., в центре которых стояли вопросы о «конечном» и
«бесконечном», «человеческом» и «божественном» разуме,
о «врожденных идеях» и т. д.
Работа критически направлена против современных
буржуазных теорий, рассматривающих социальные условия
познания как совокупность помех «чистому знанию».