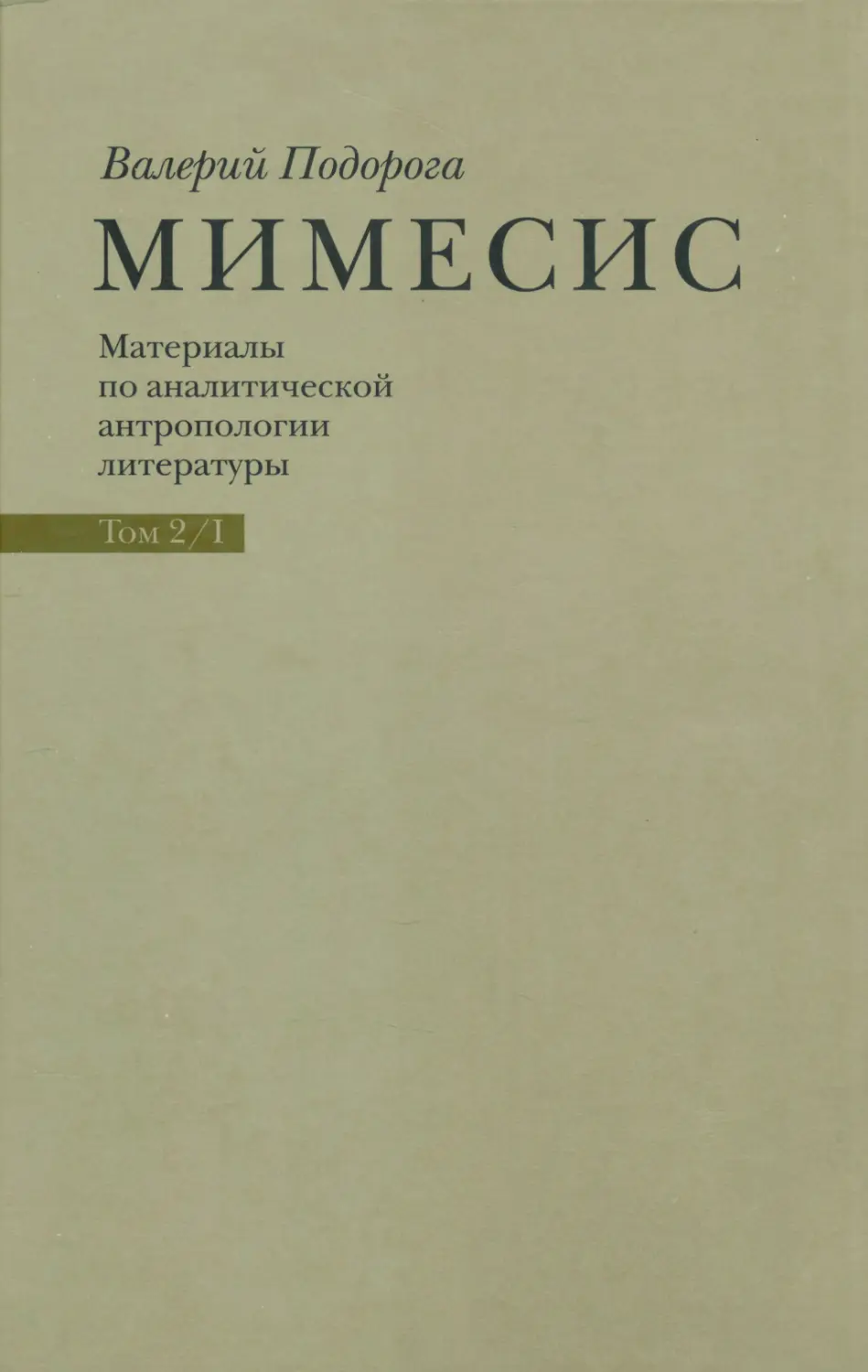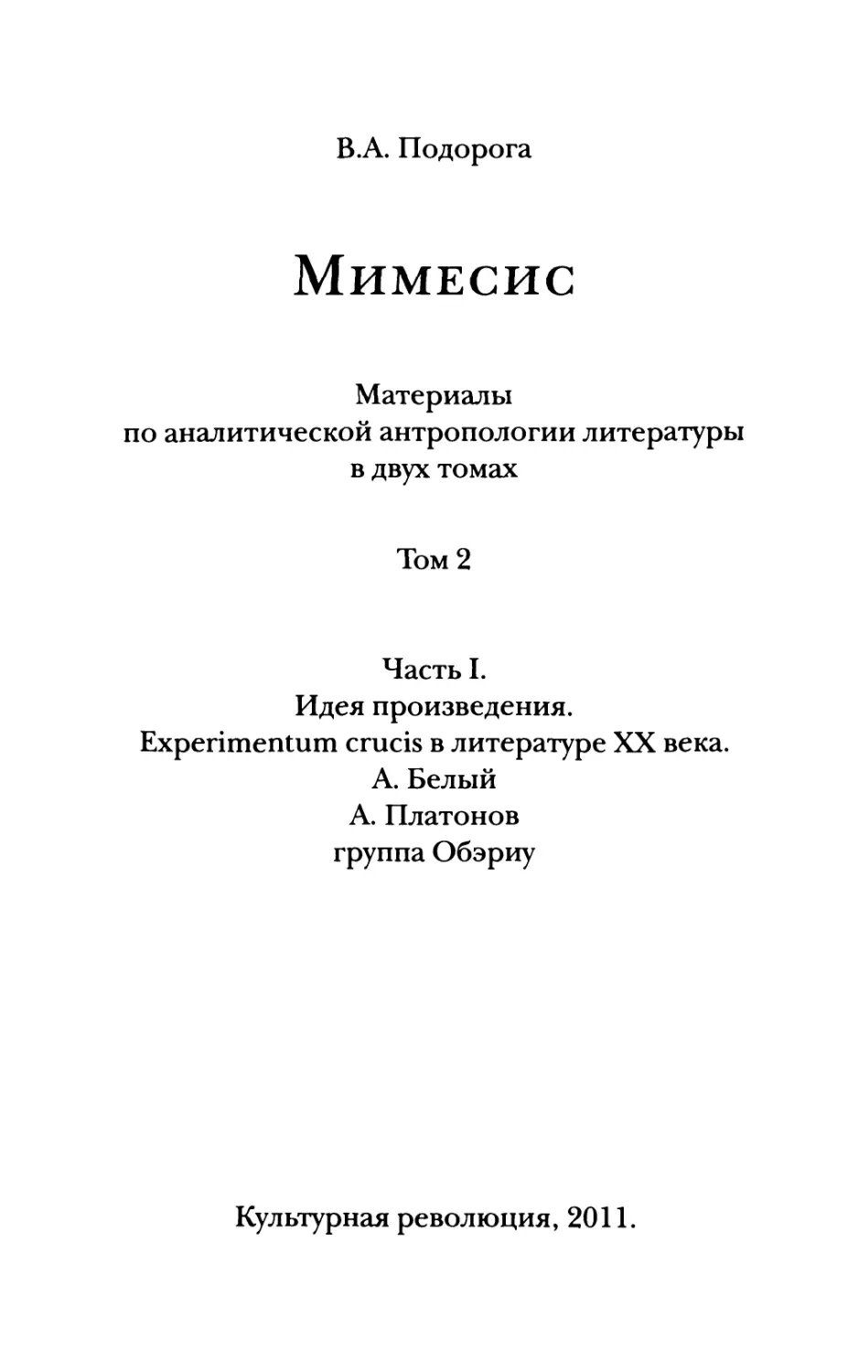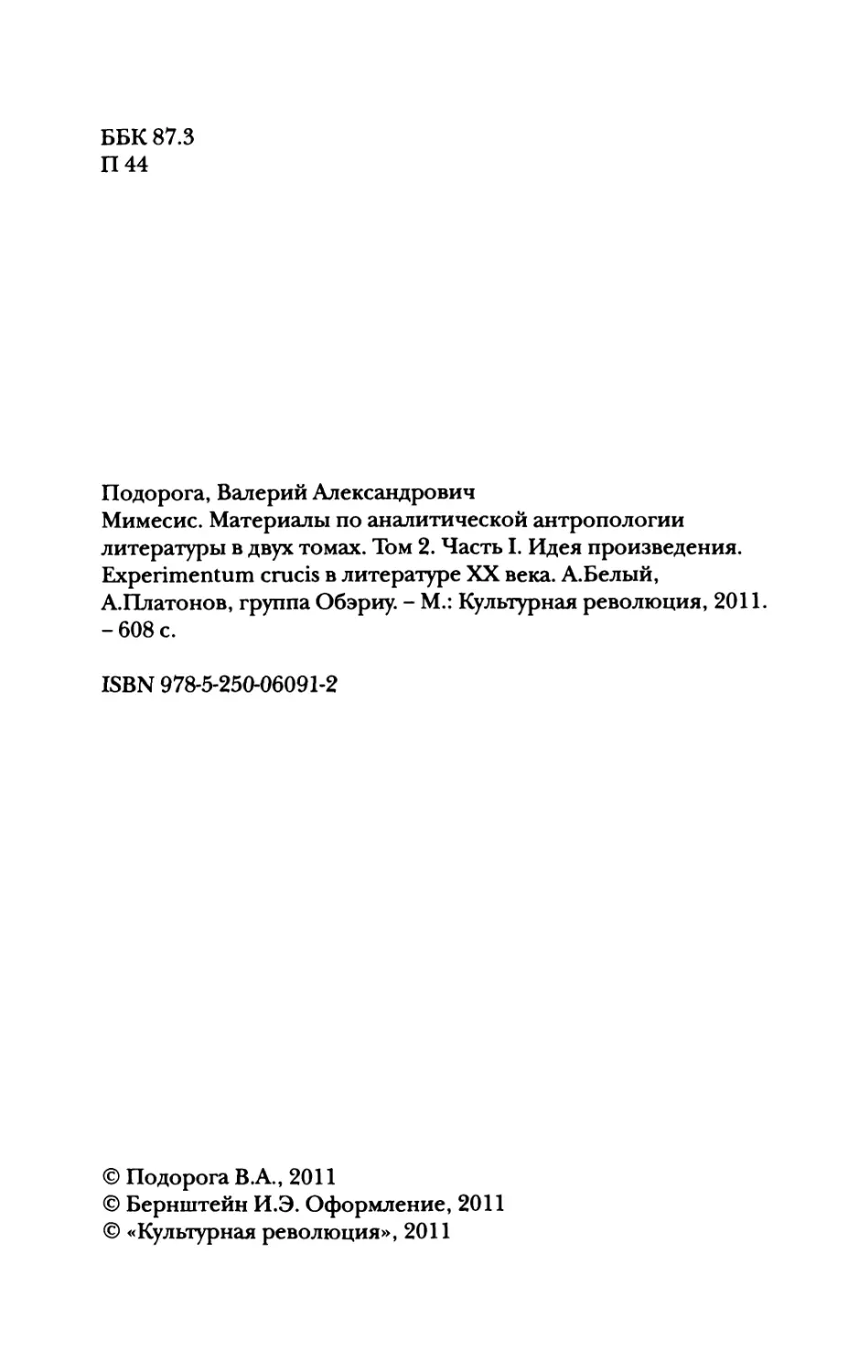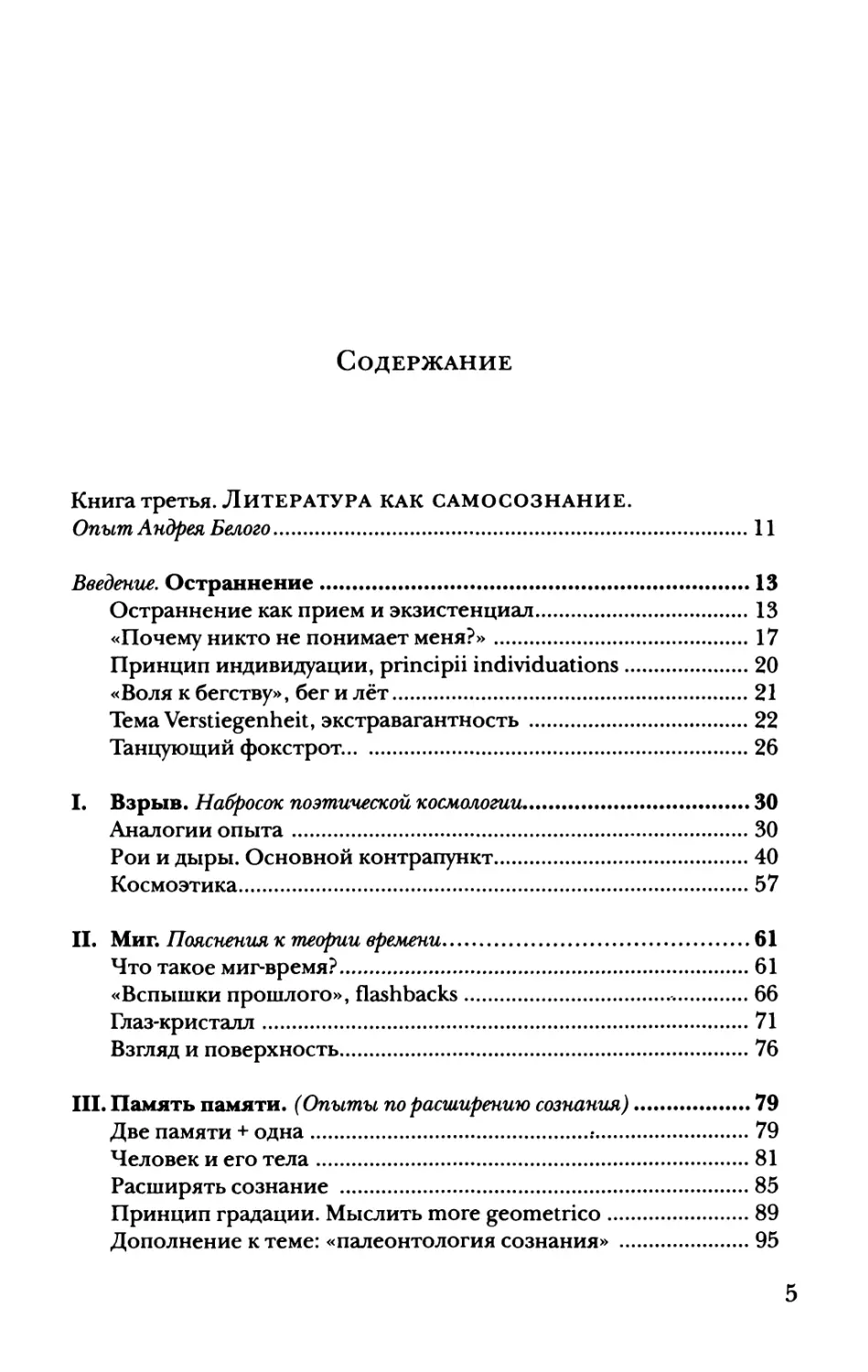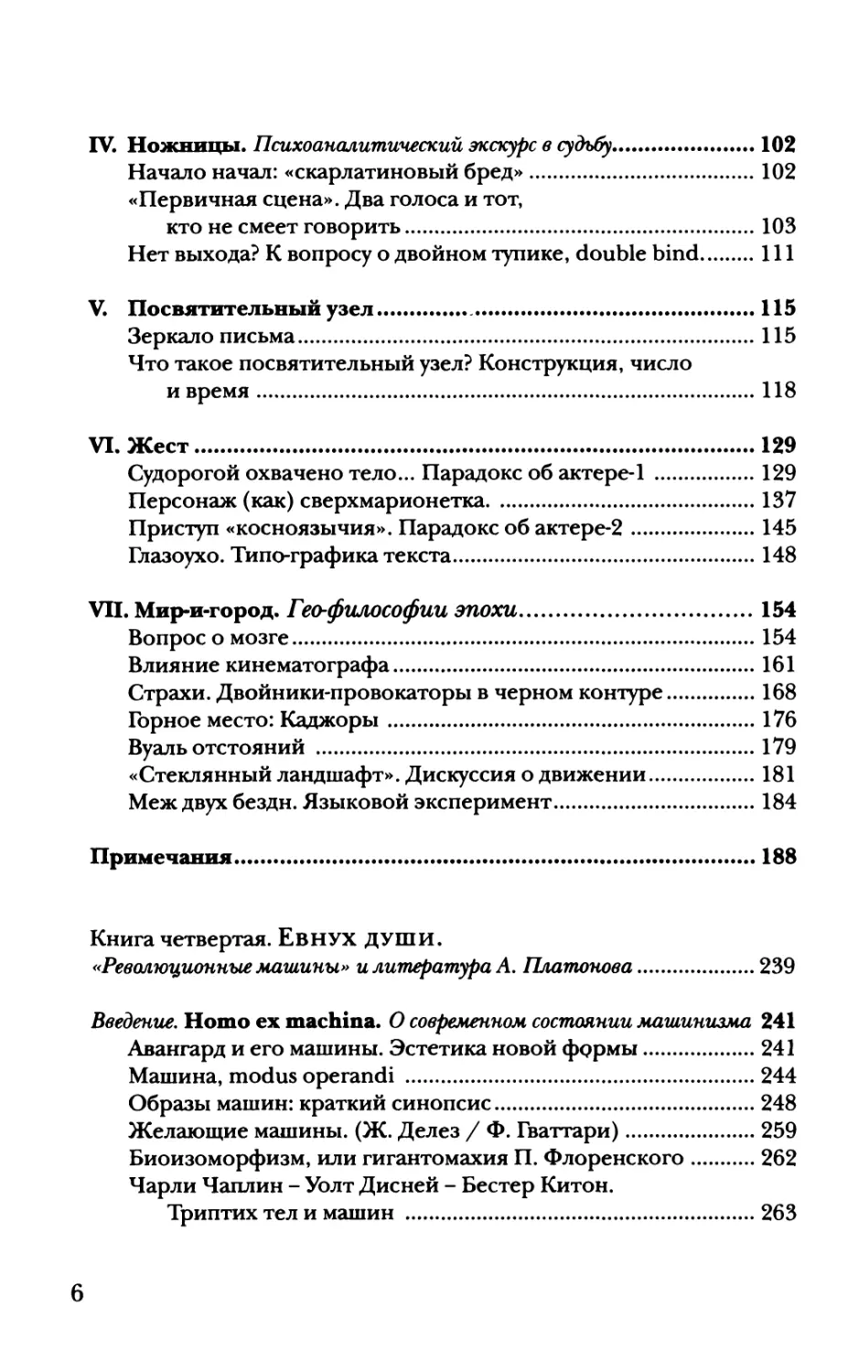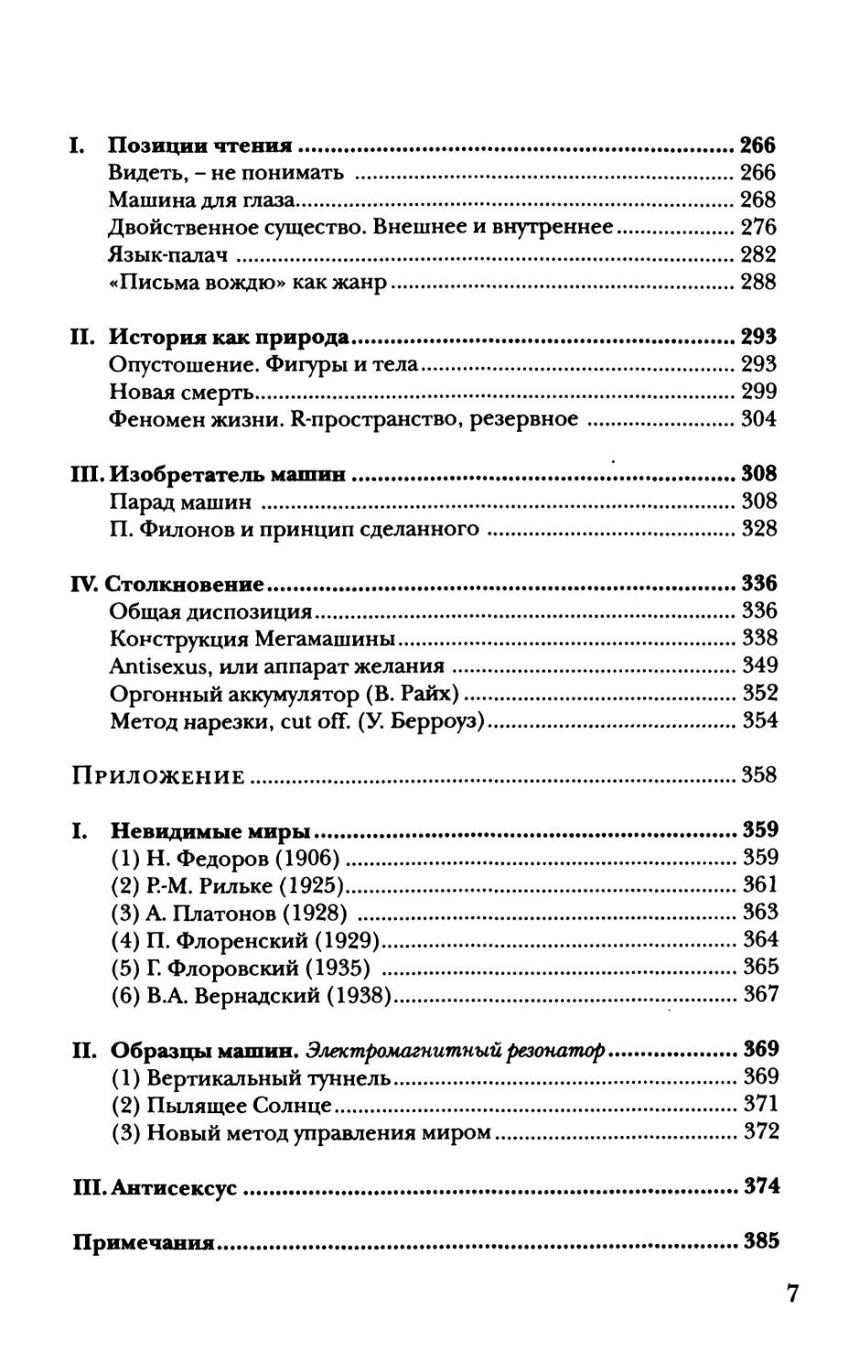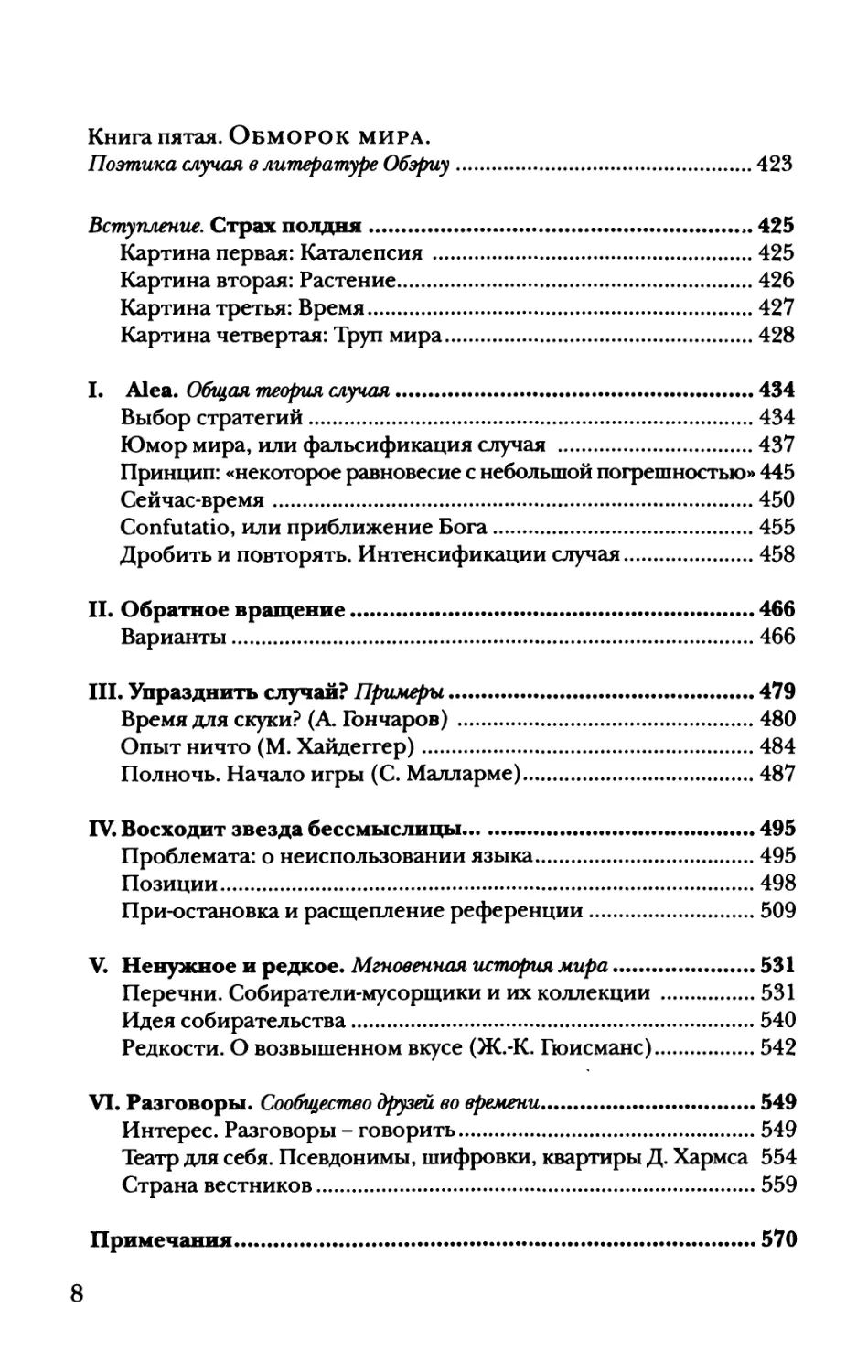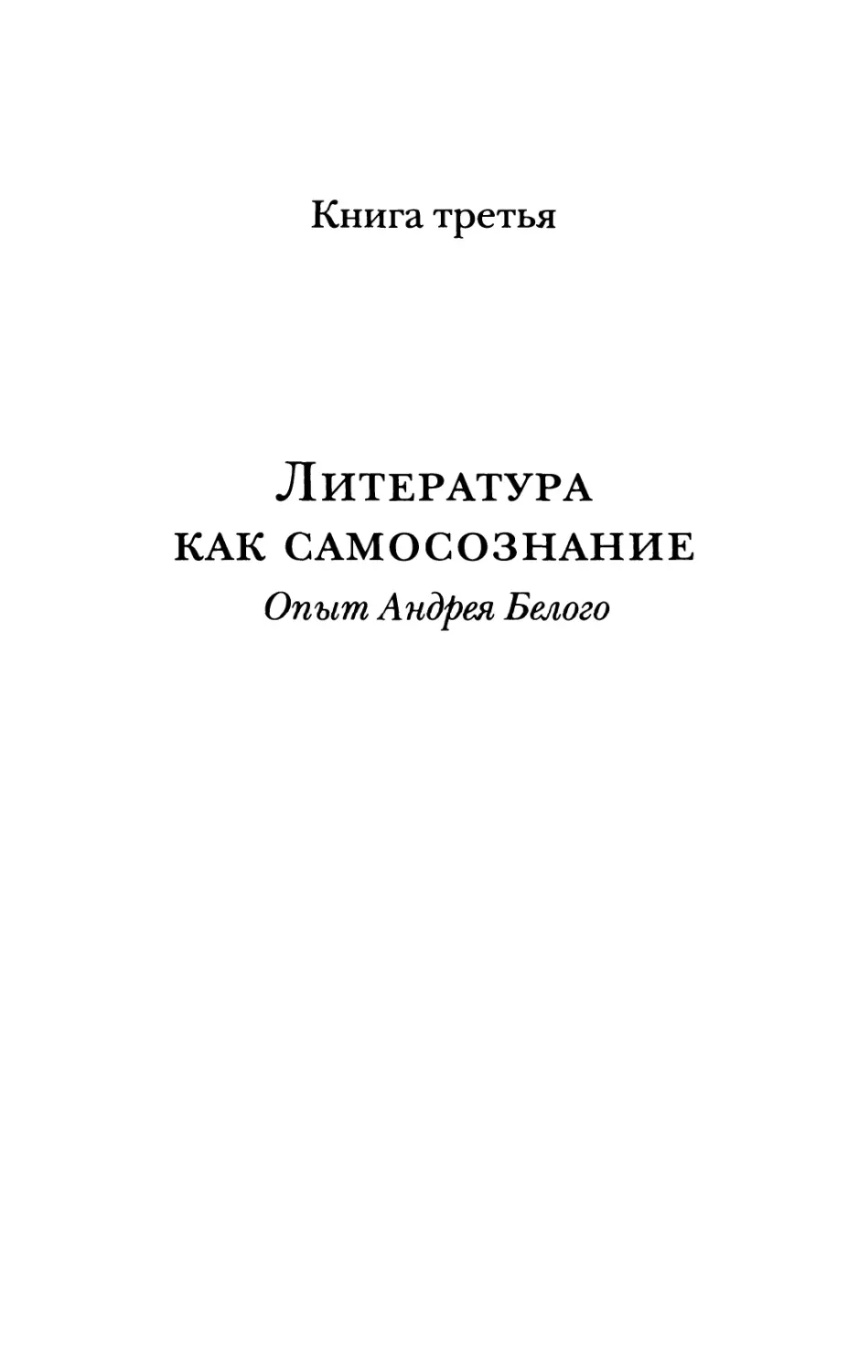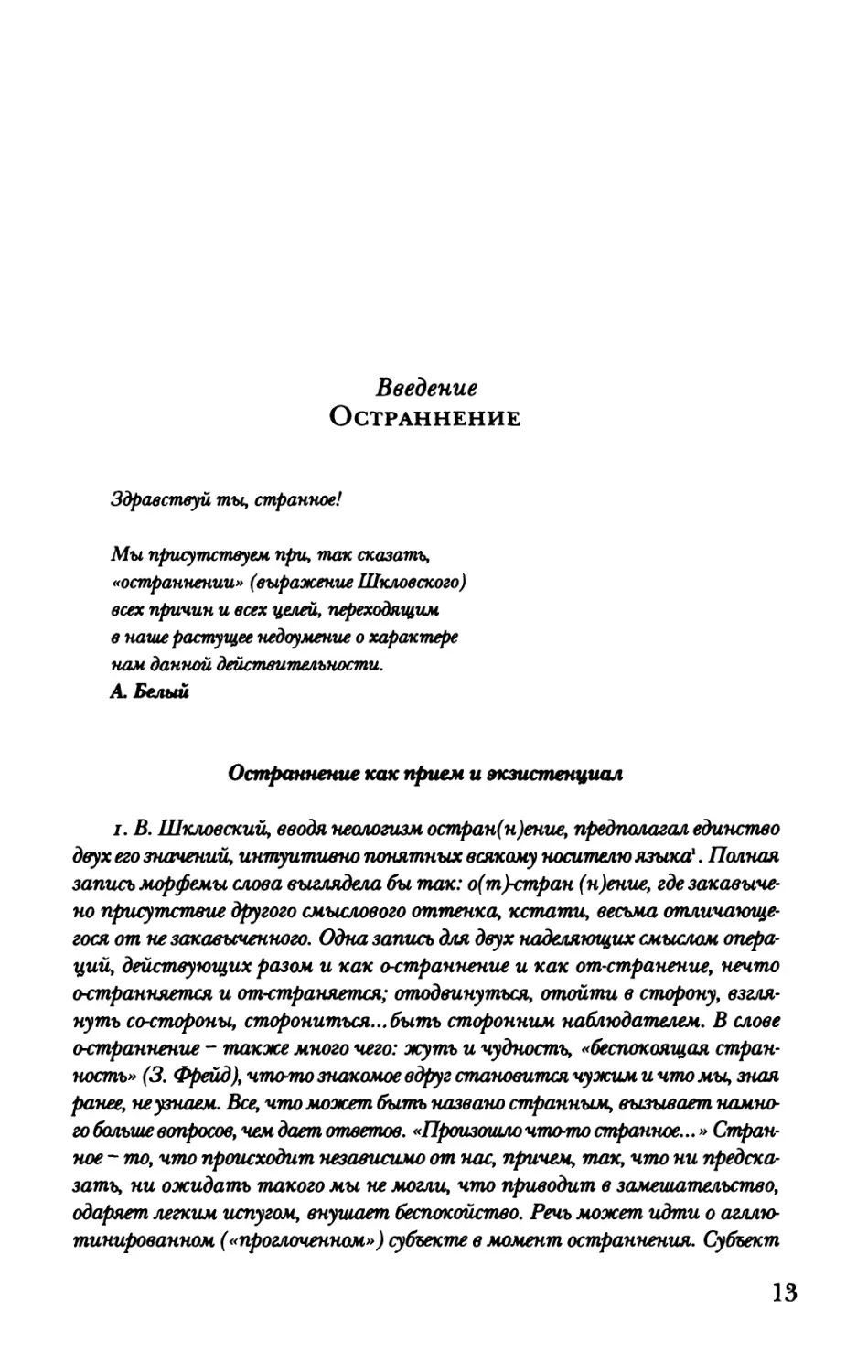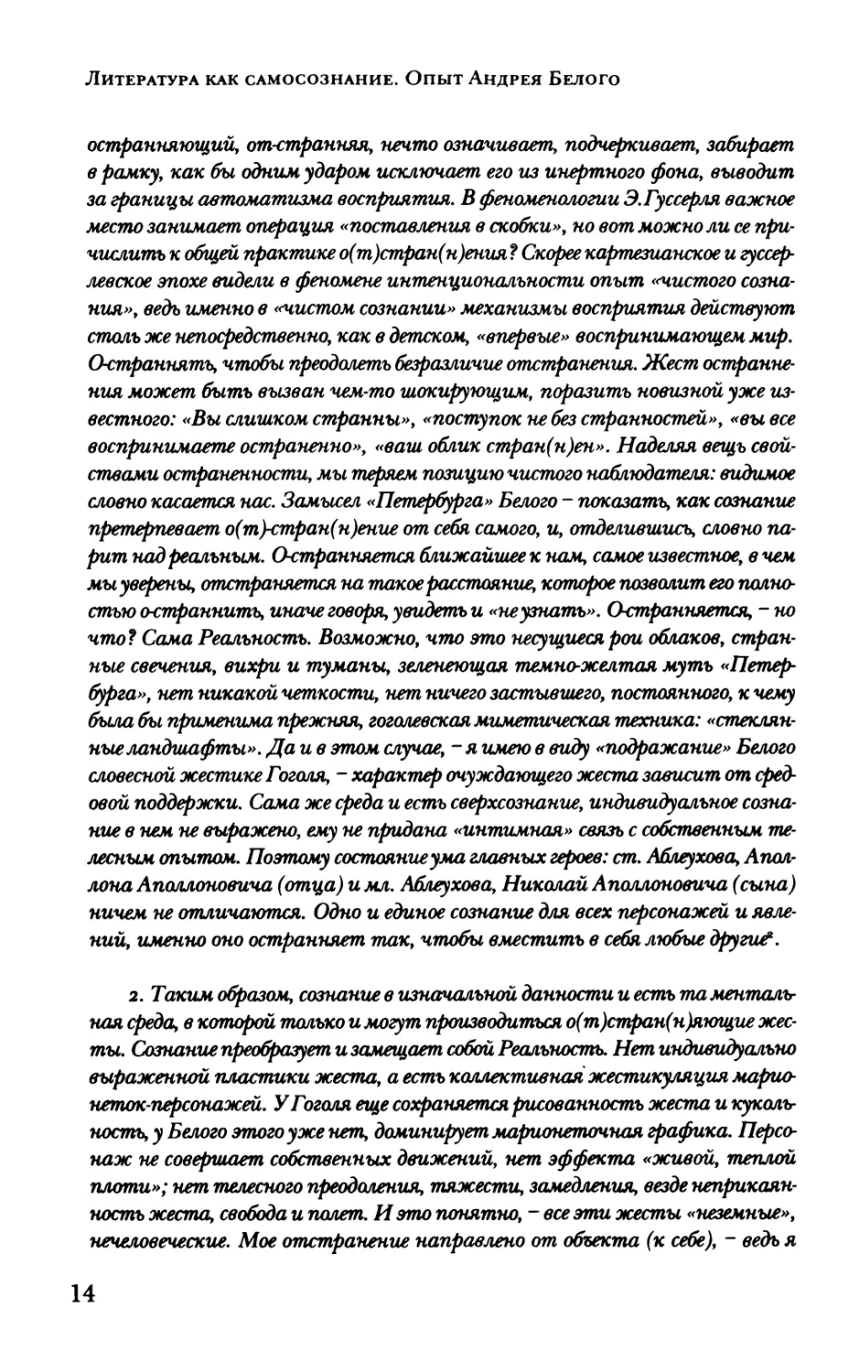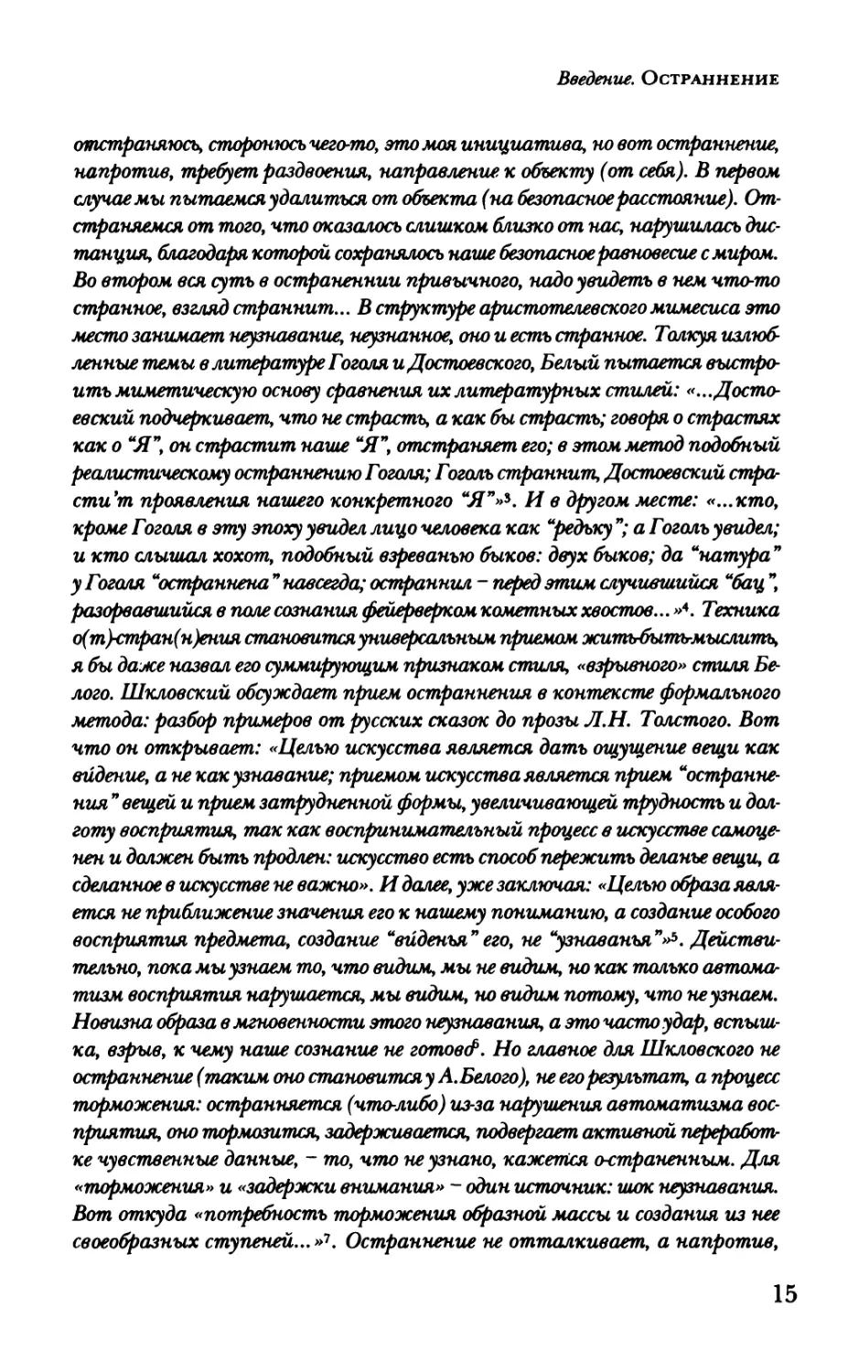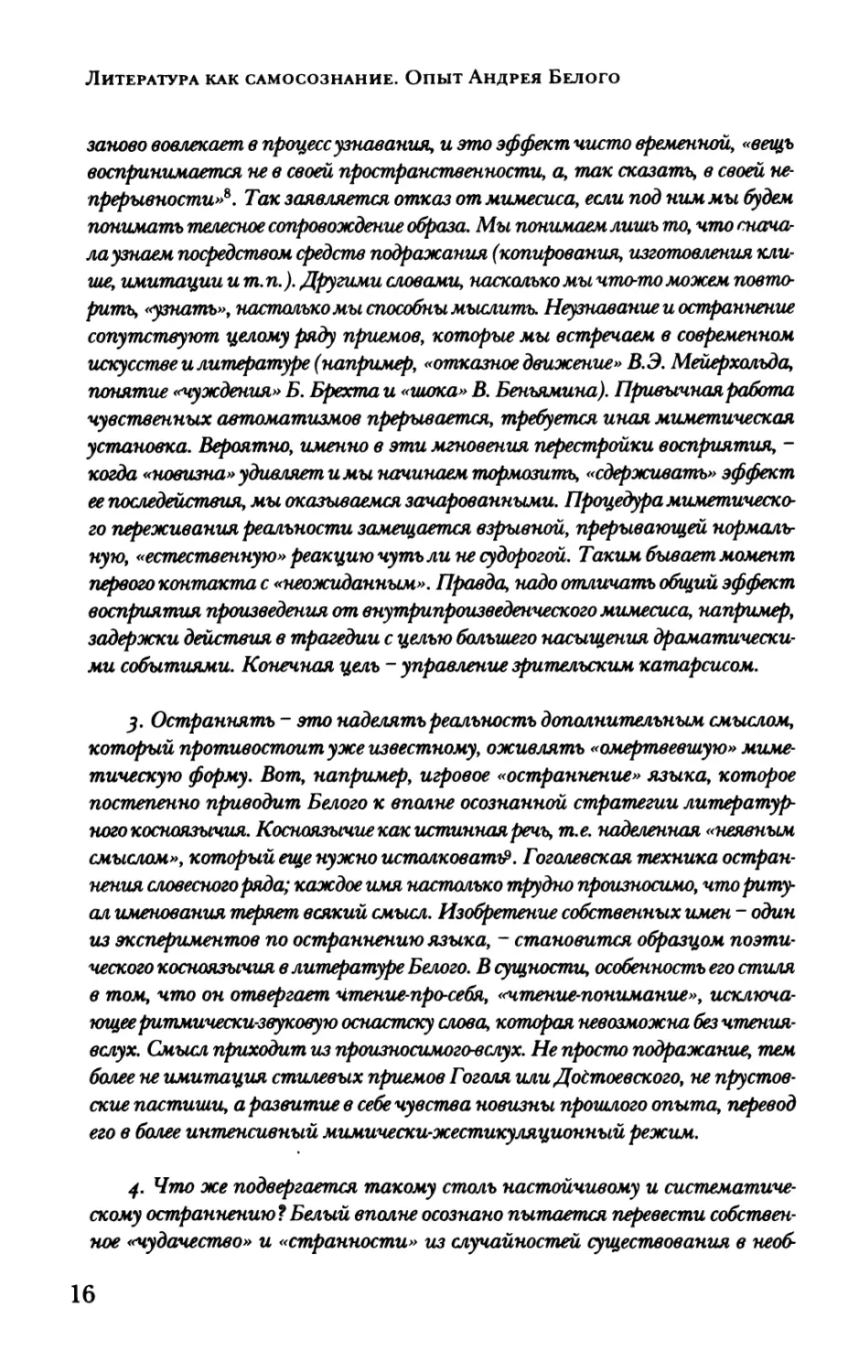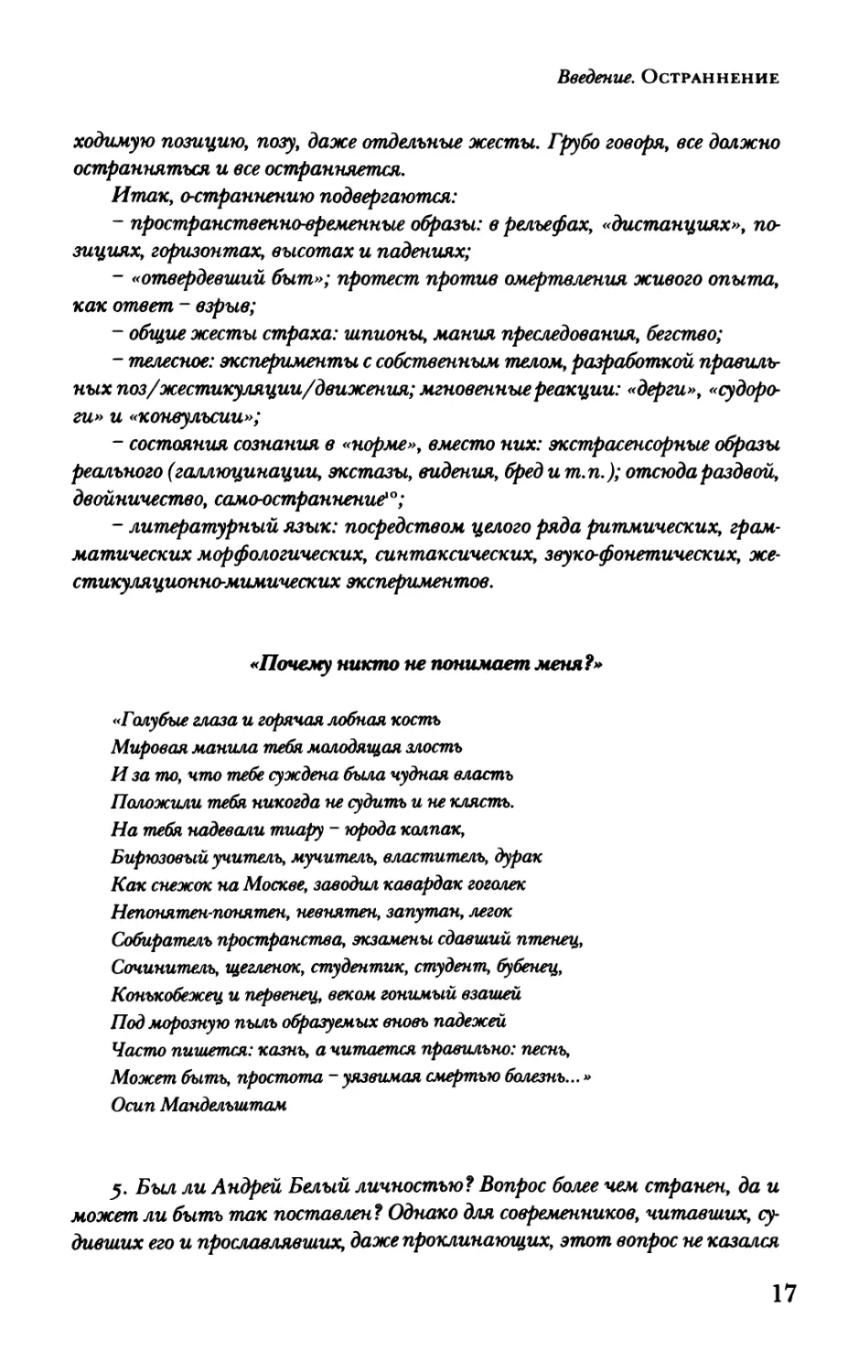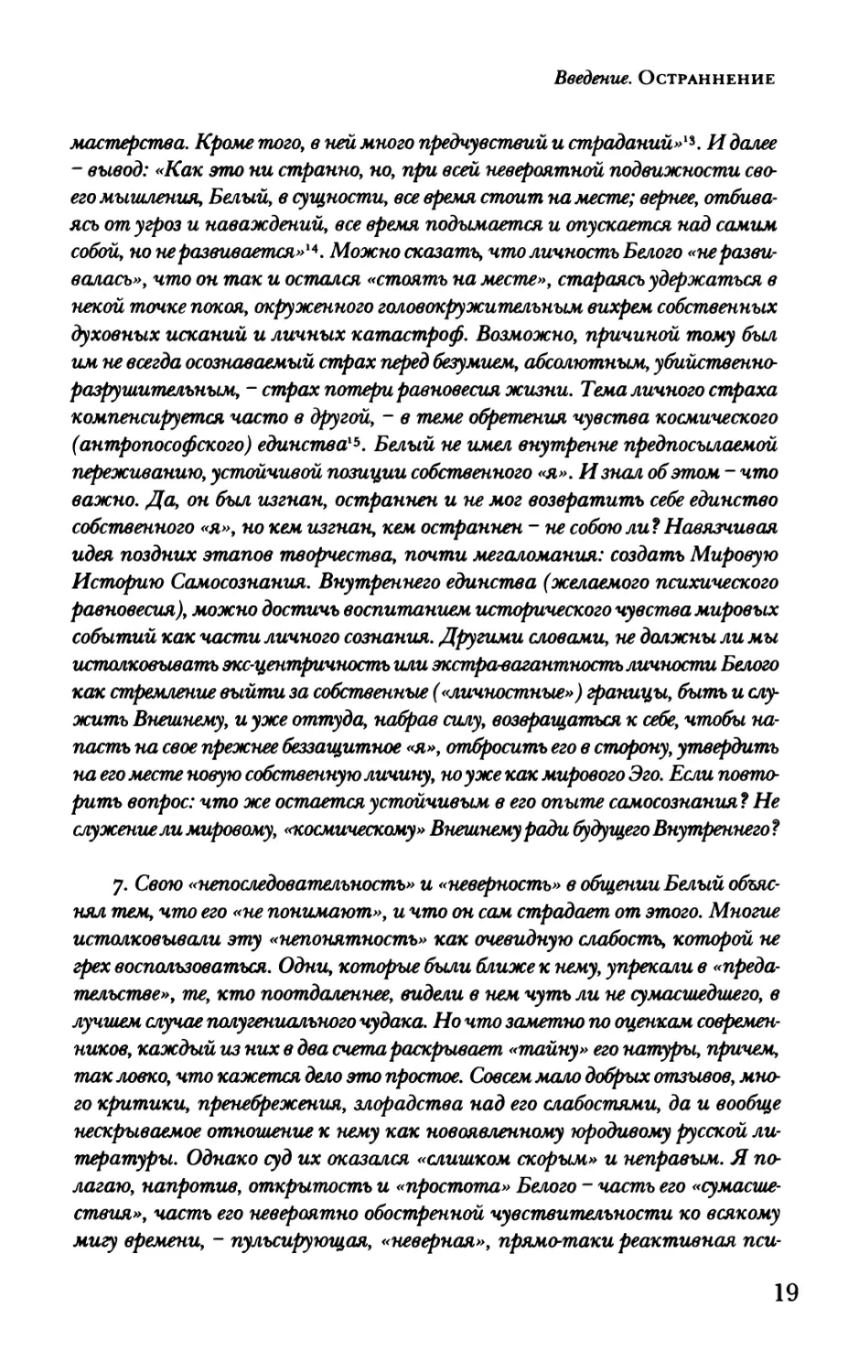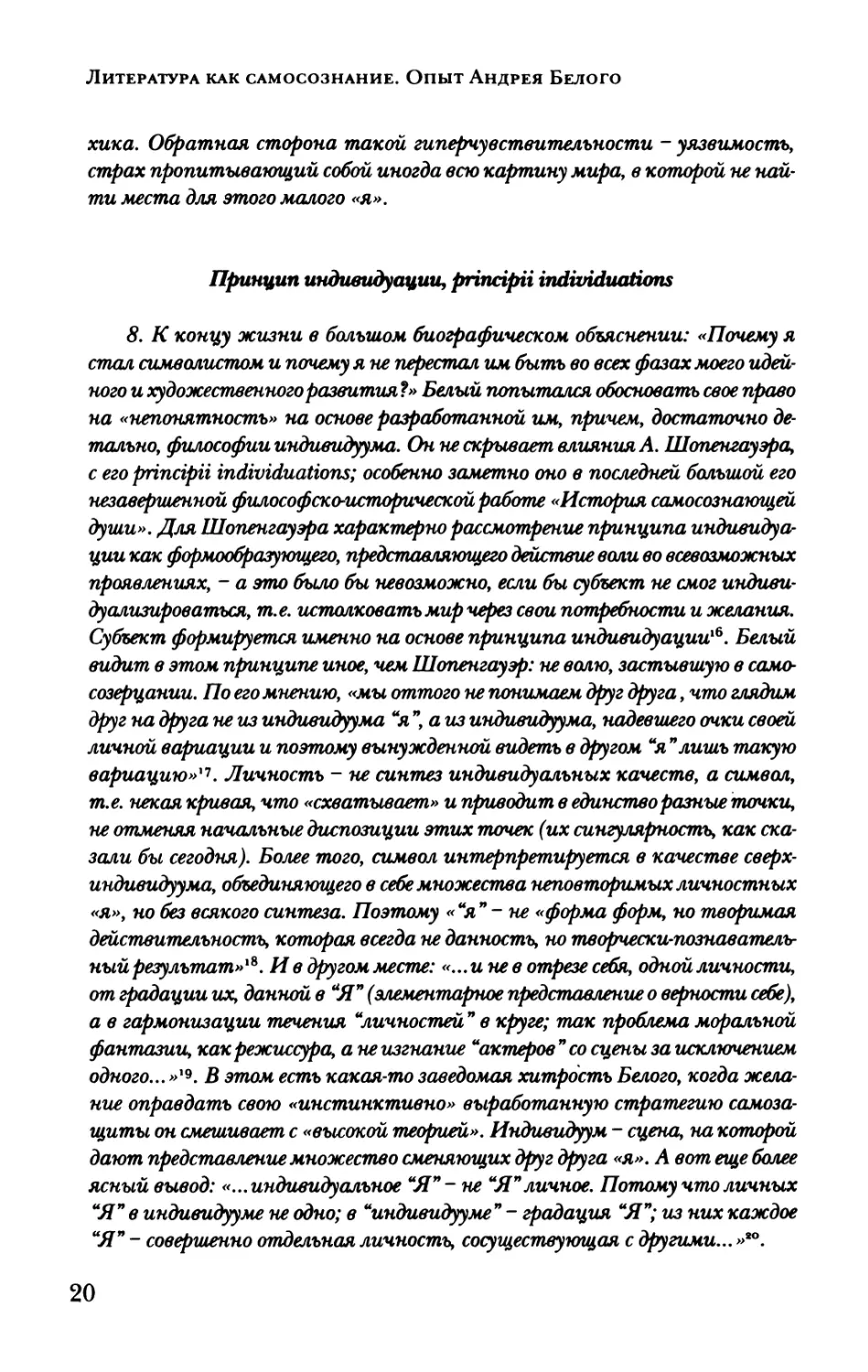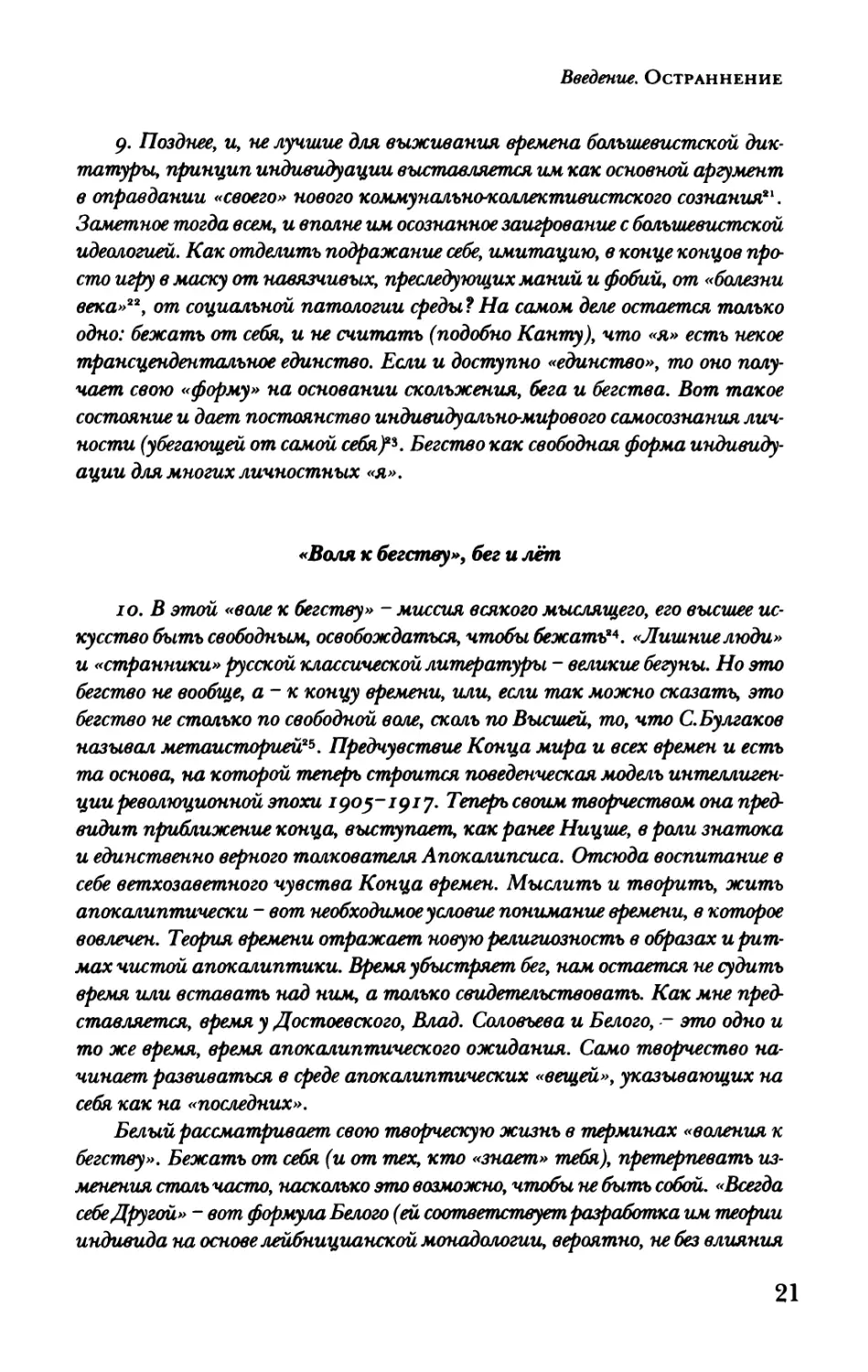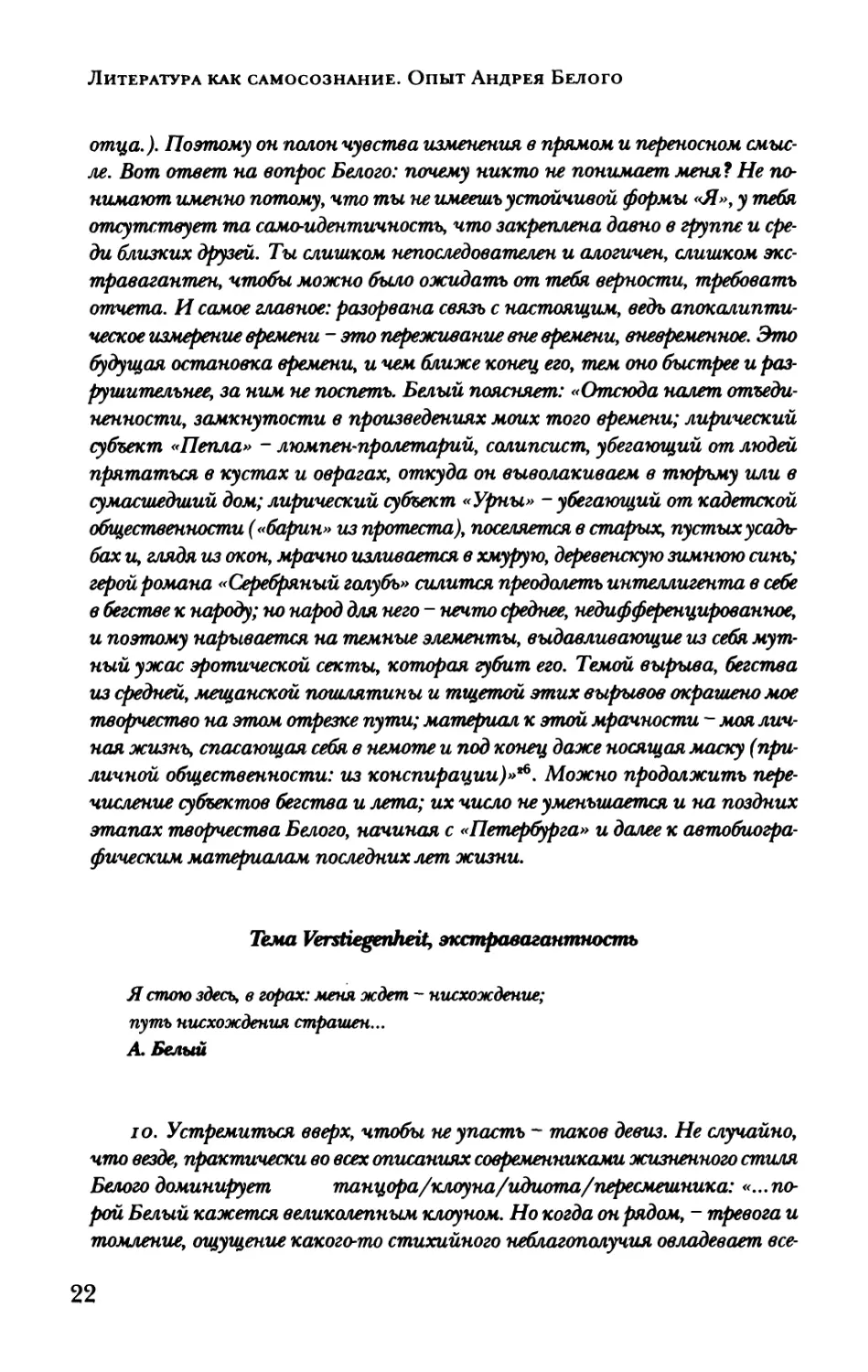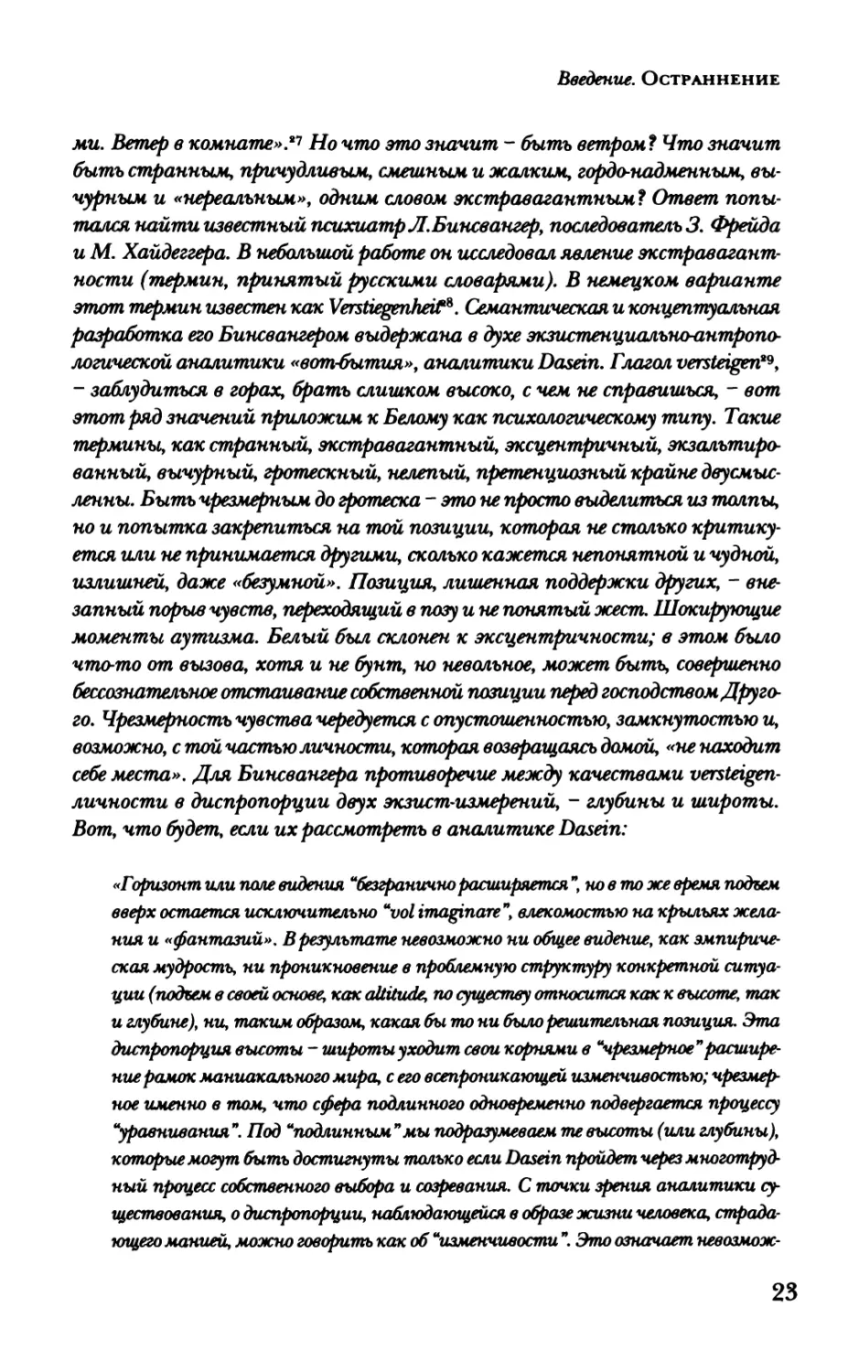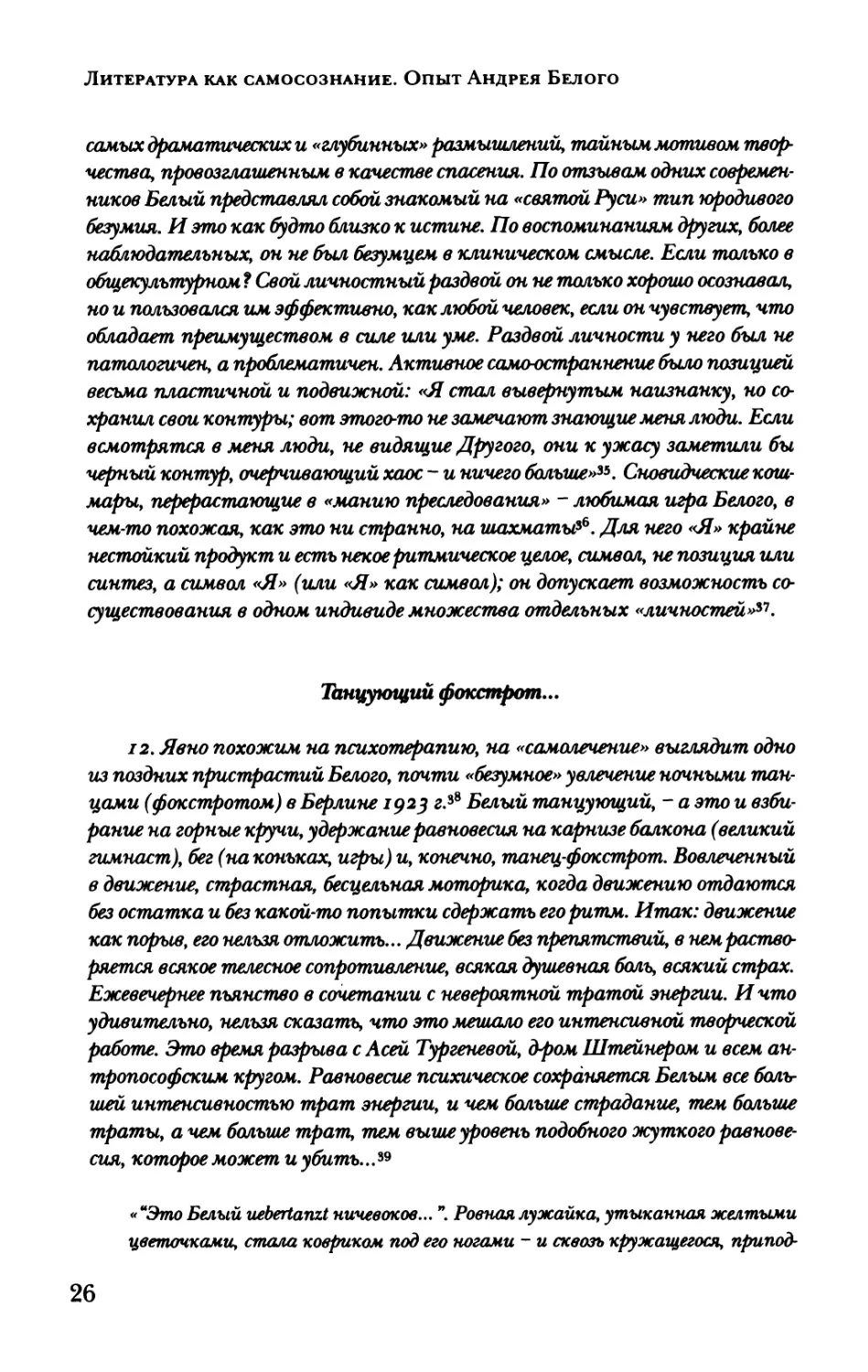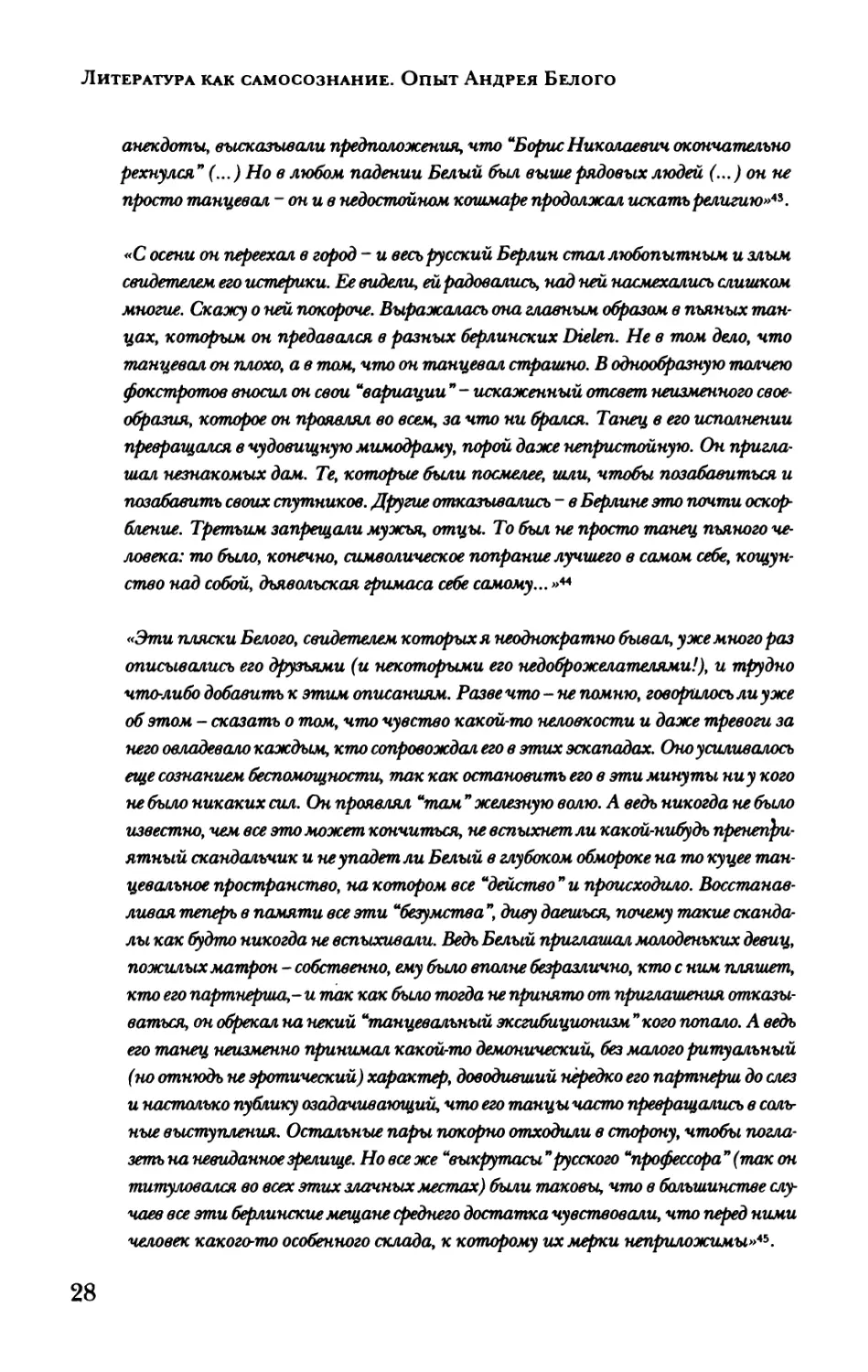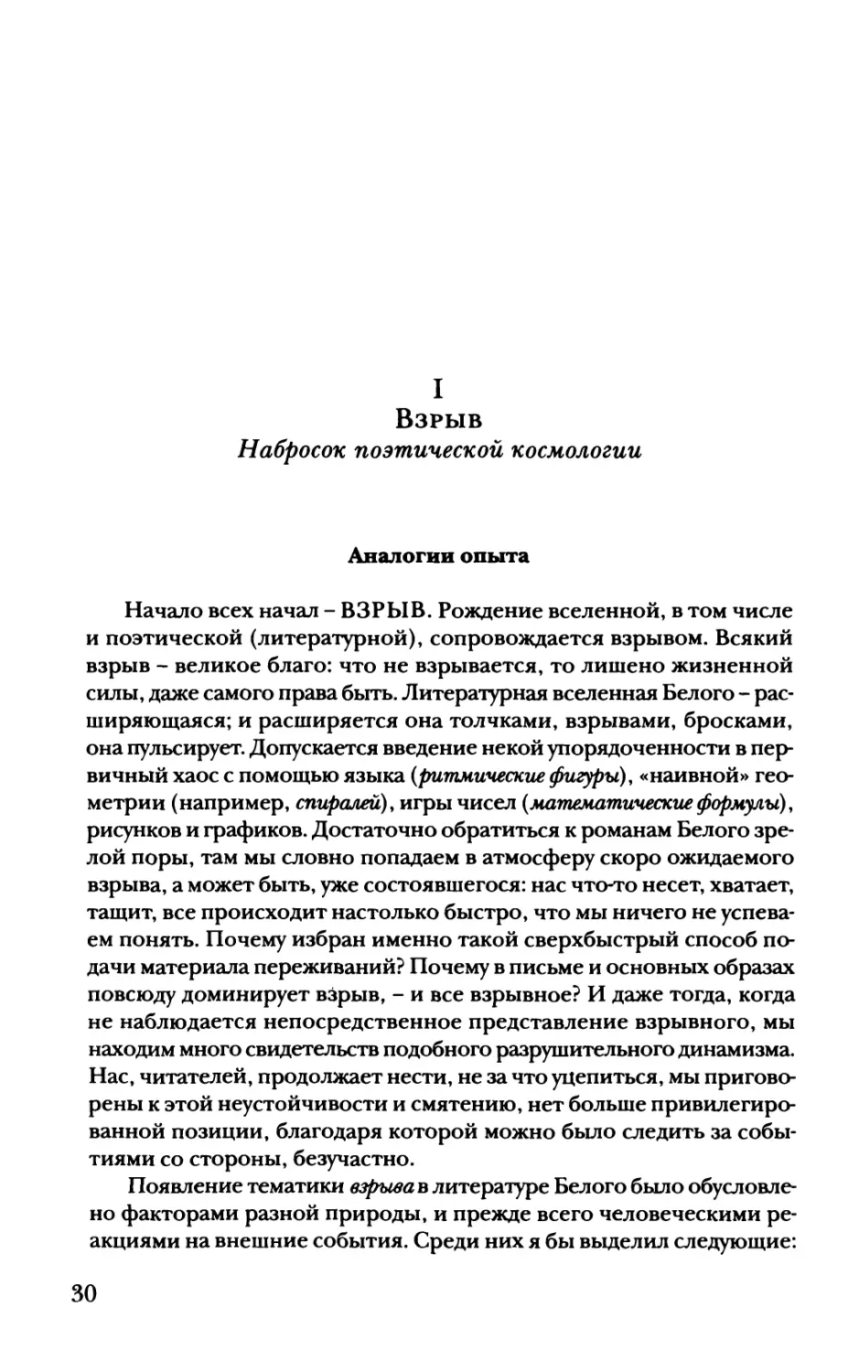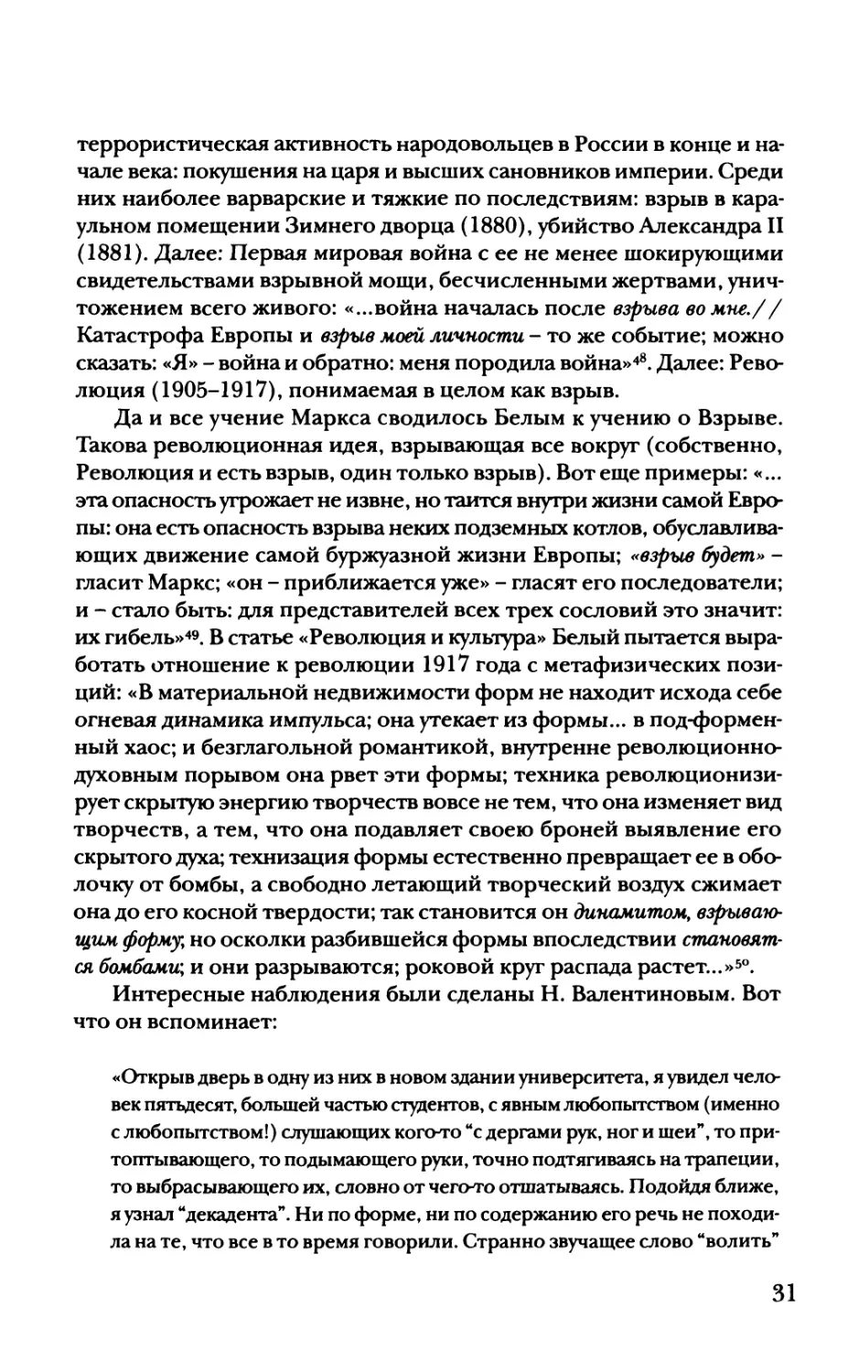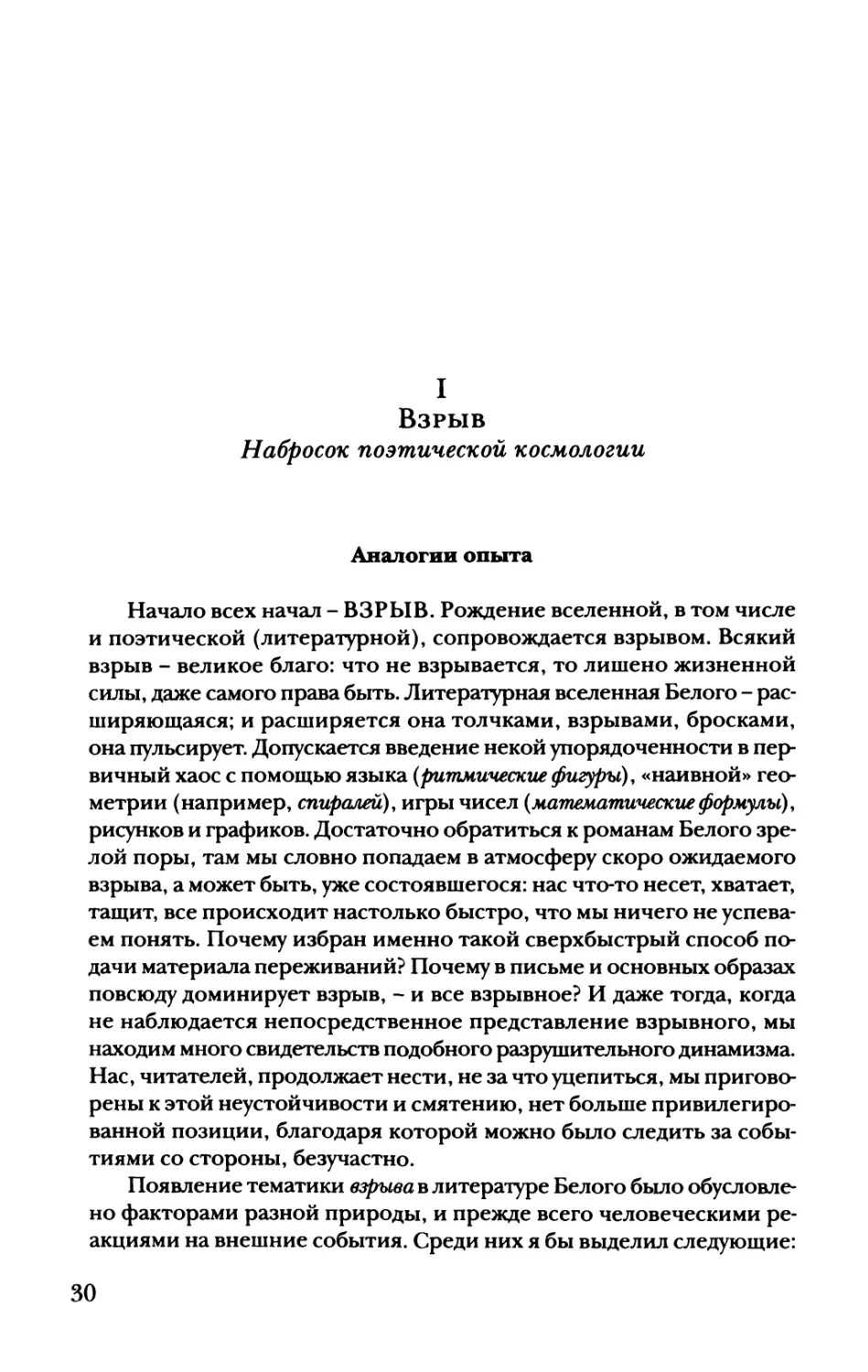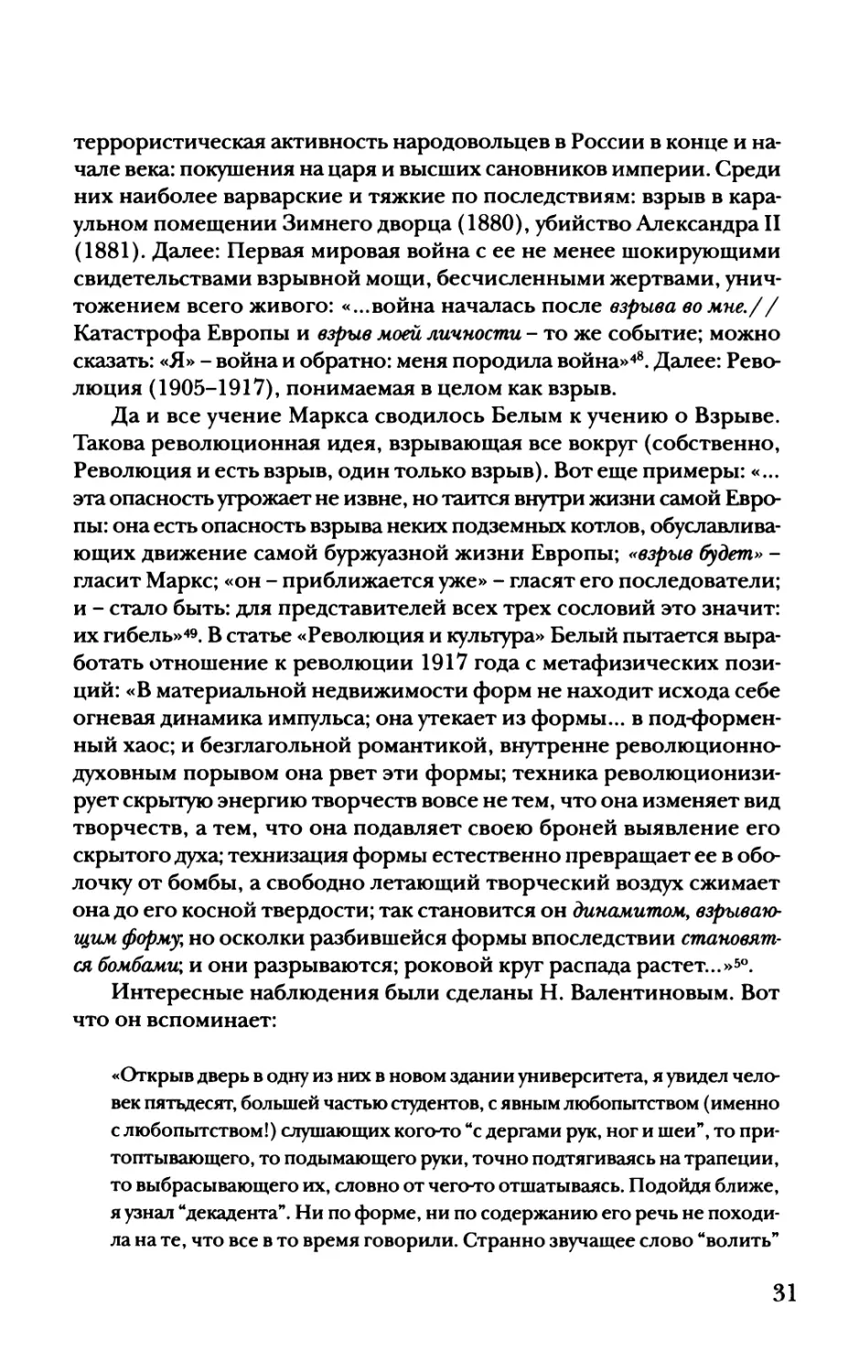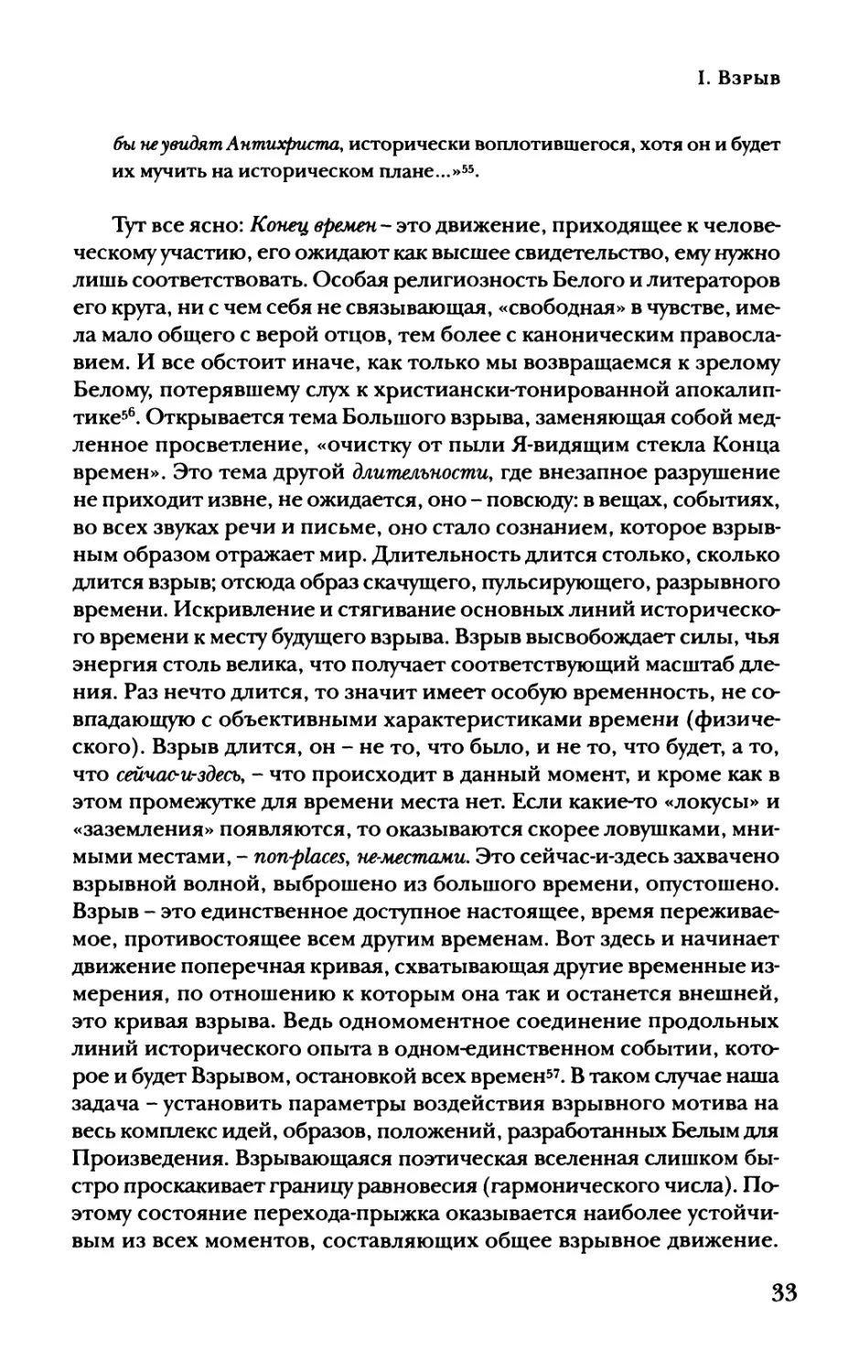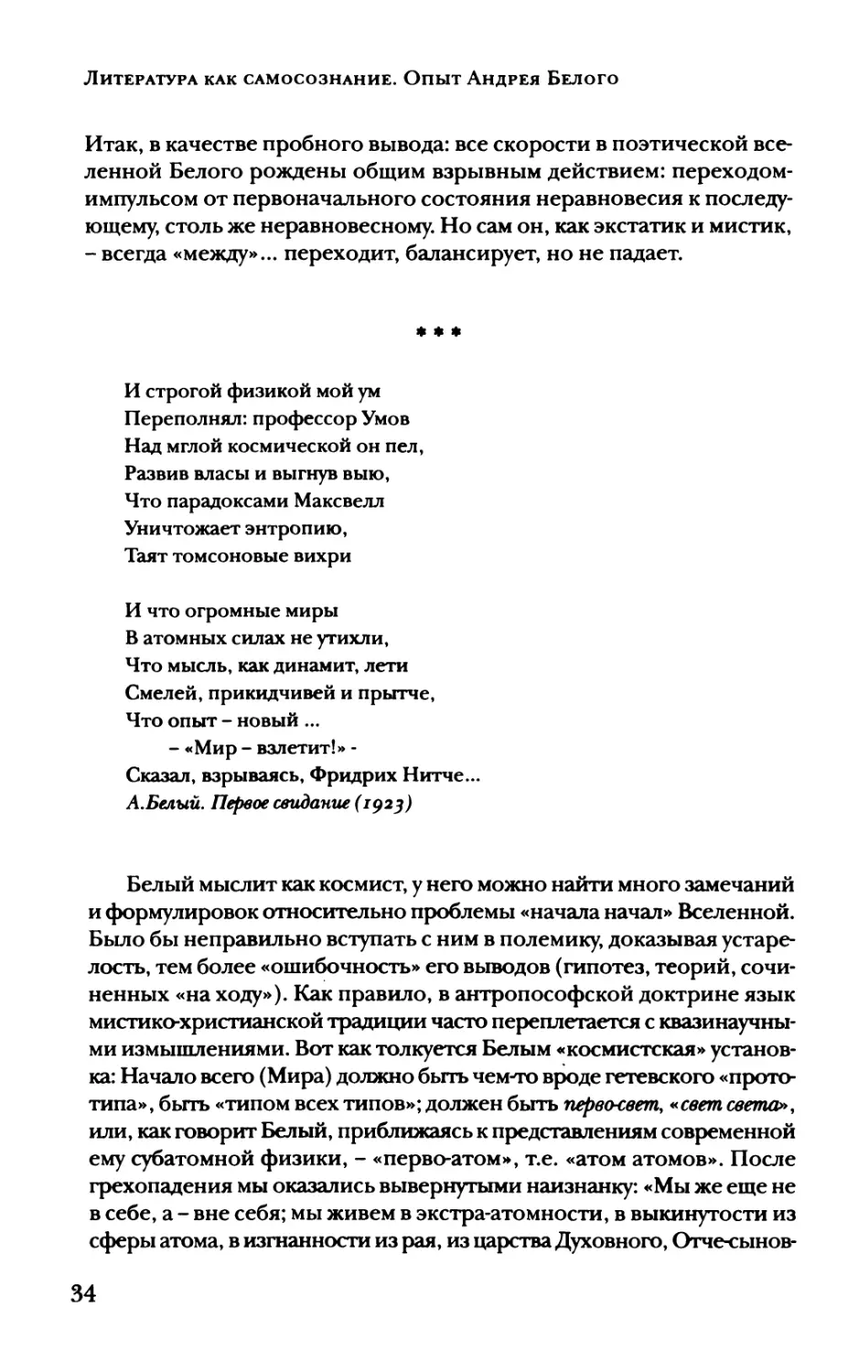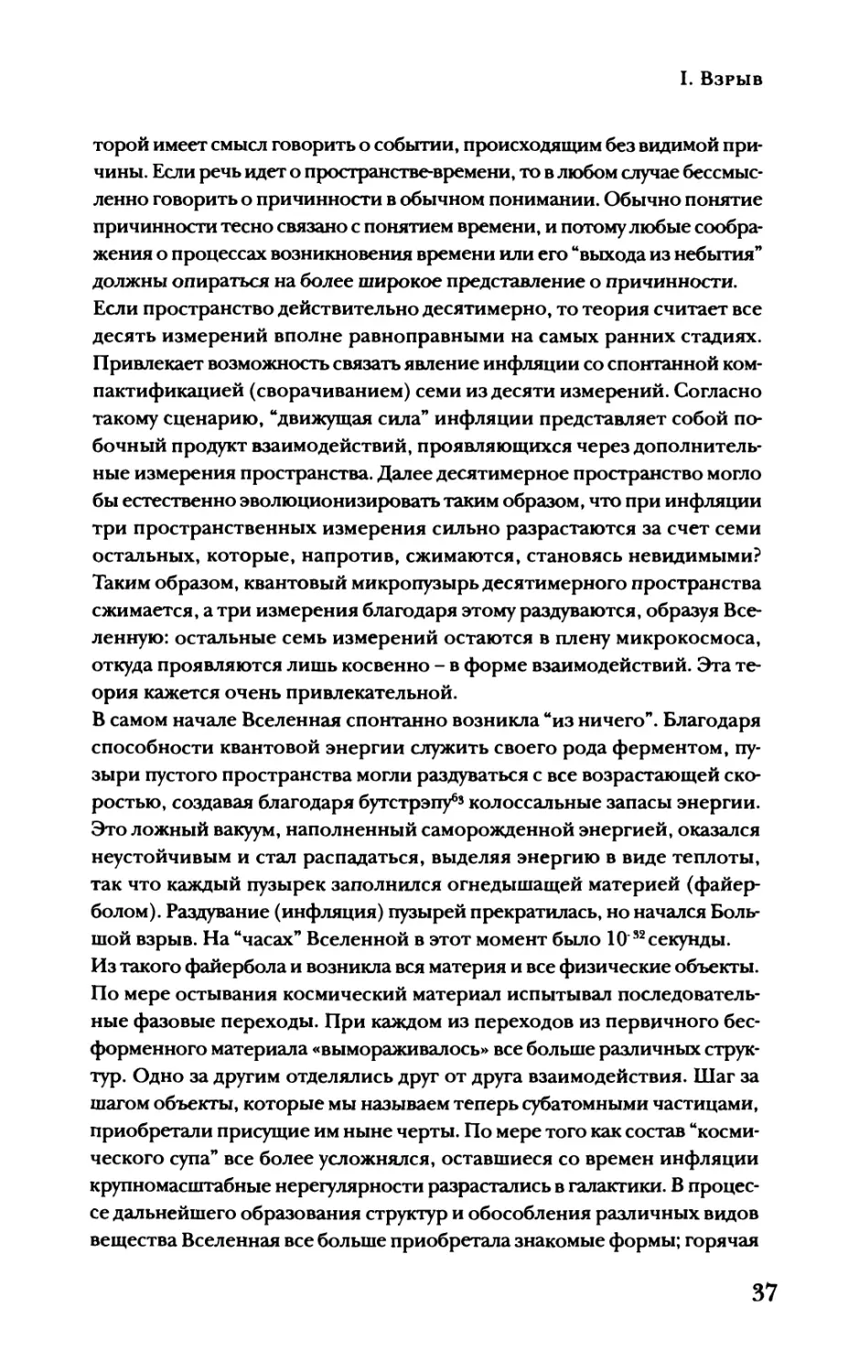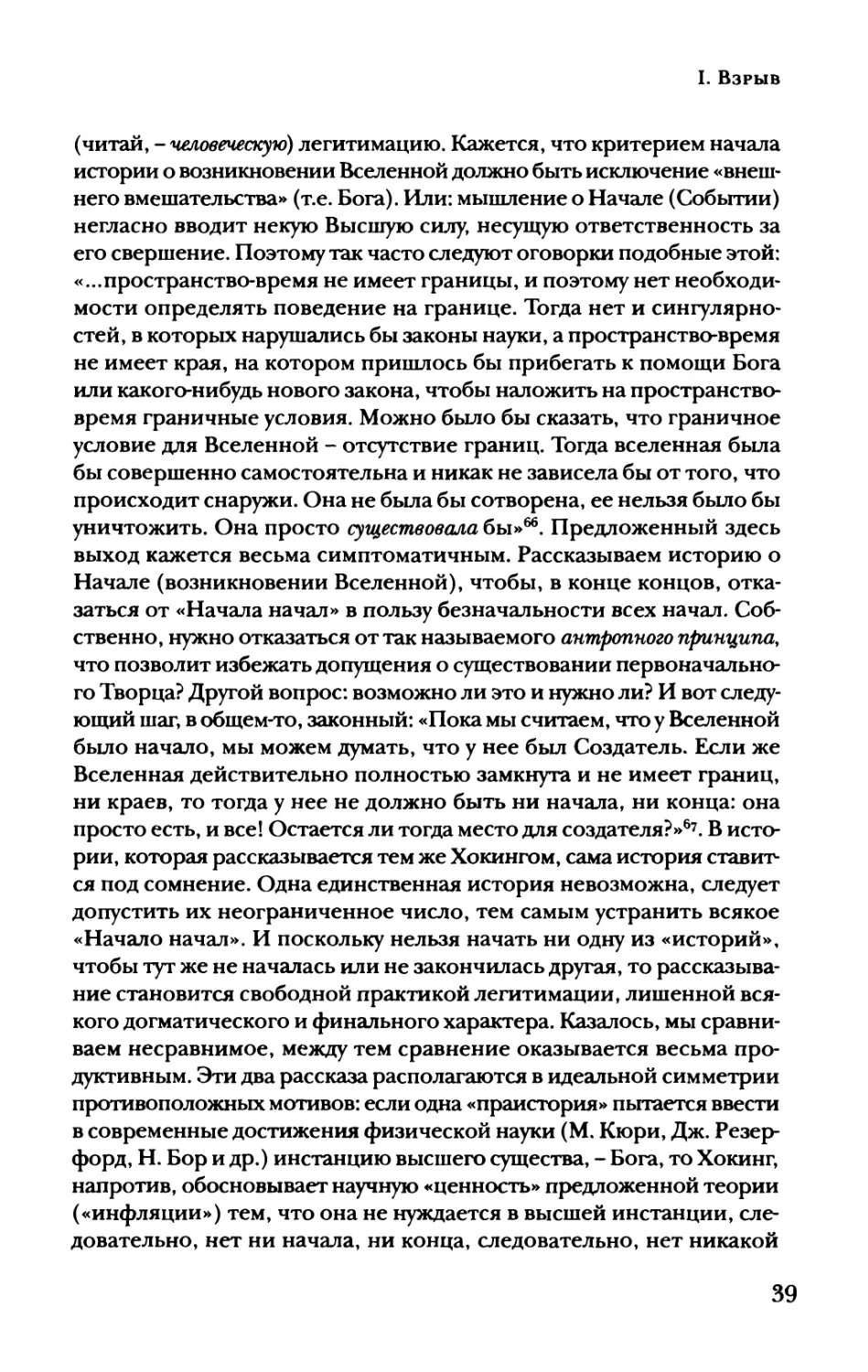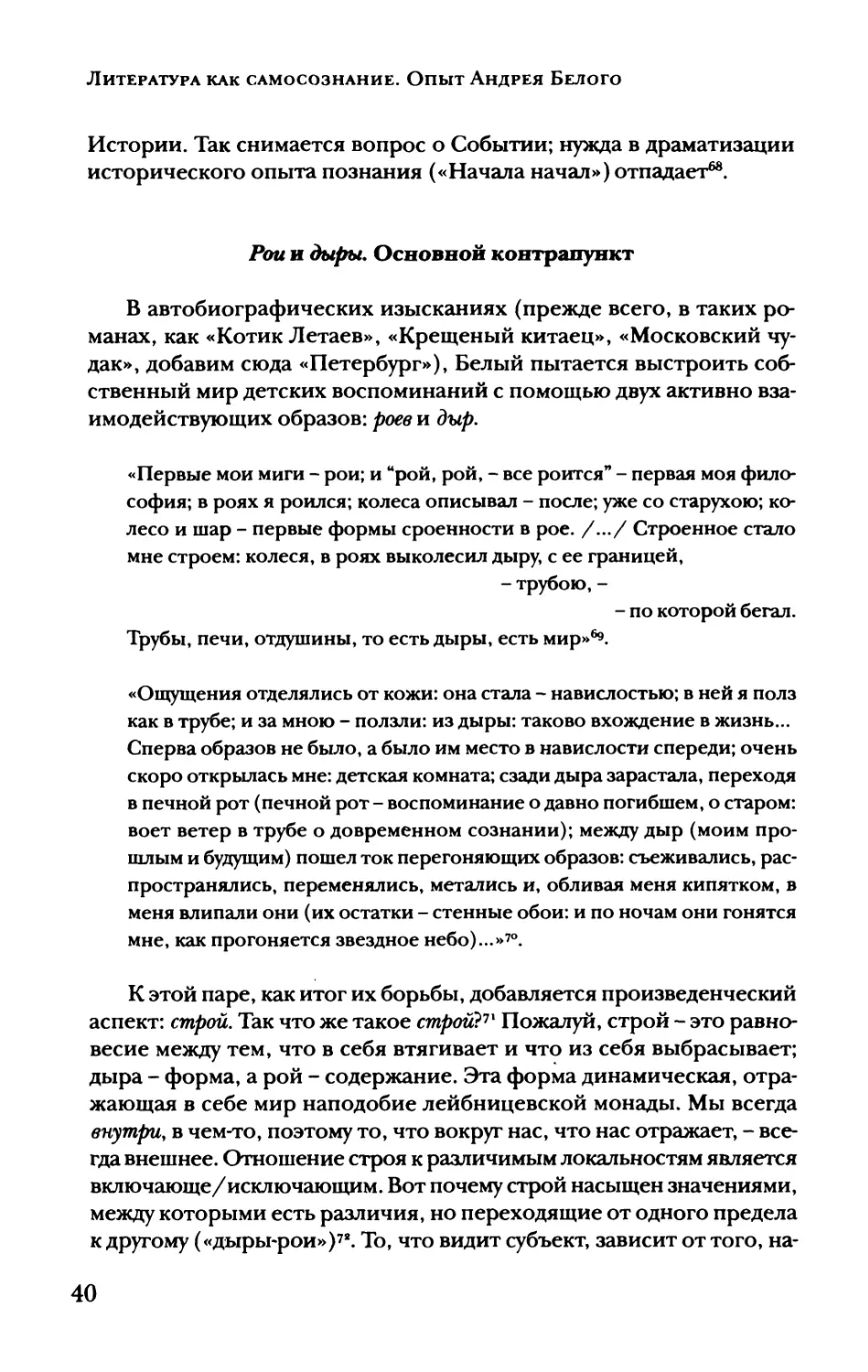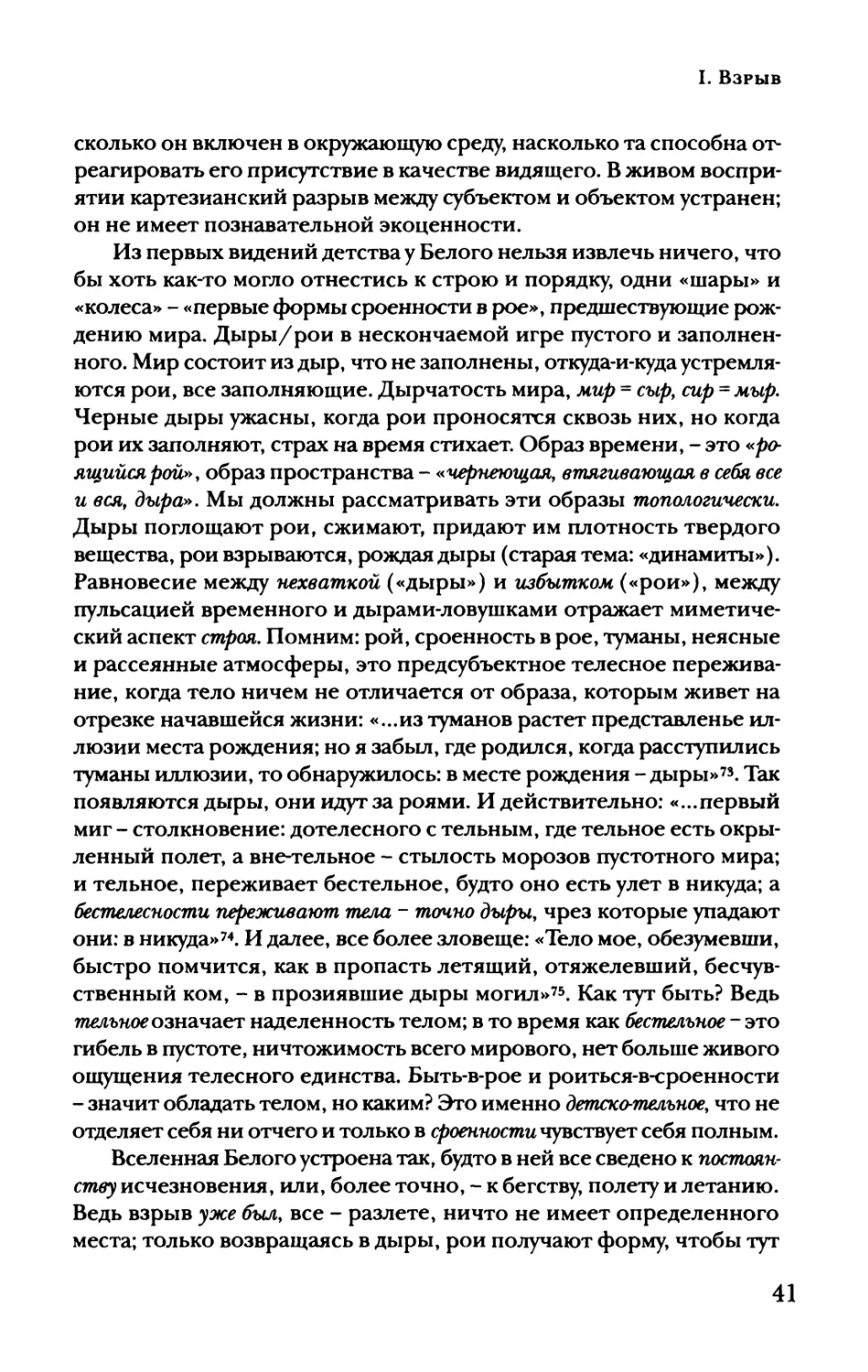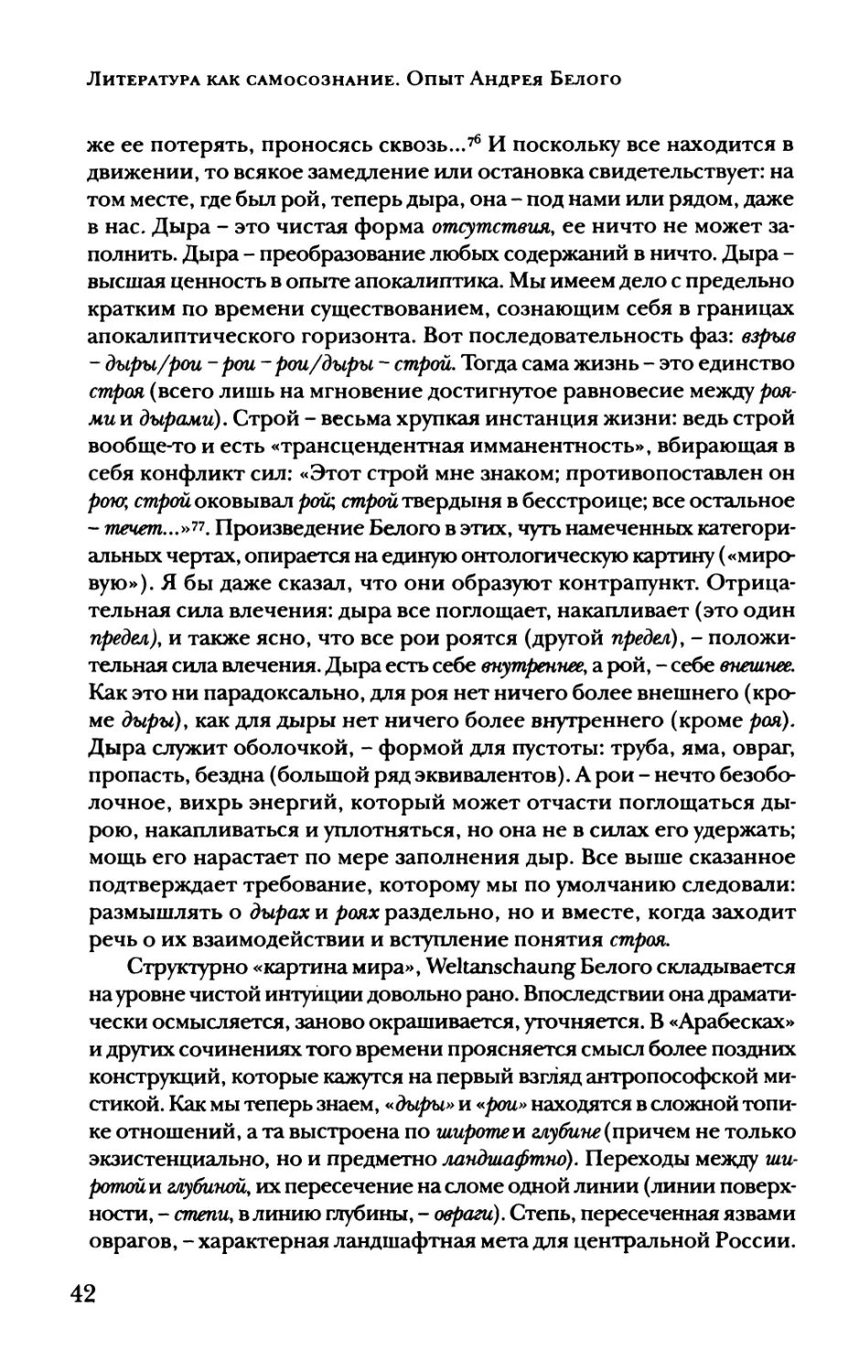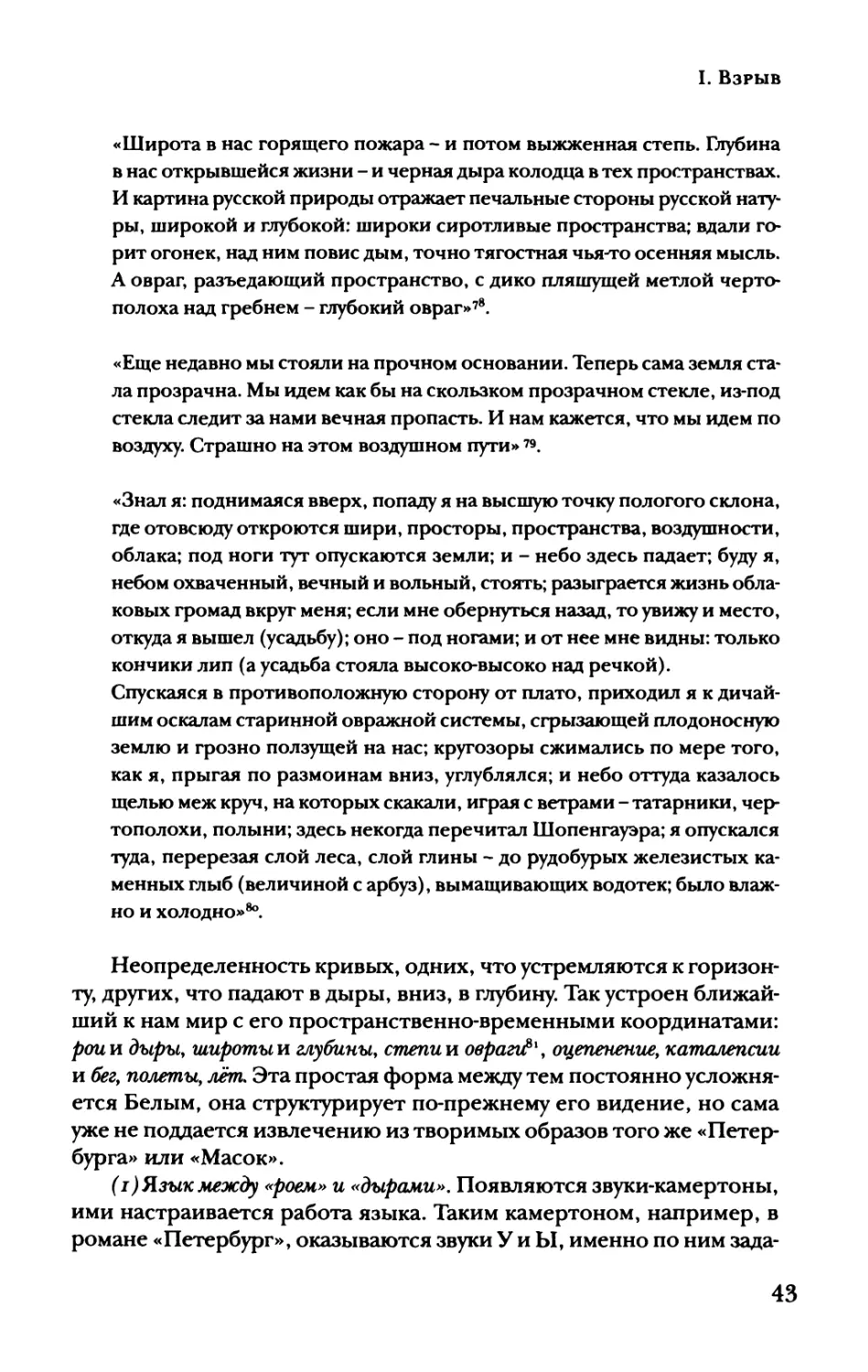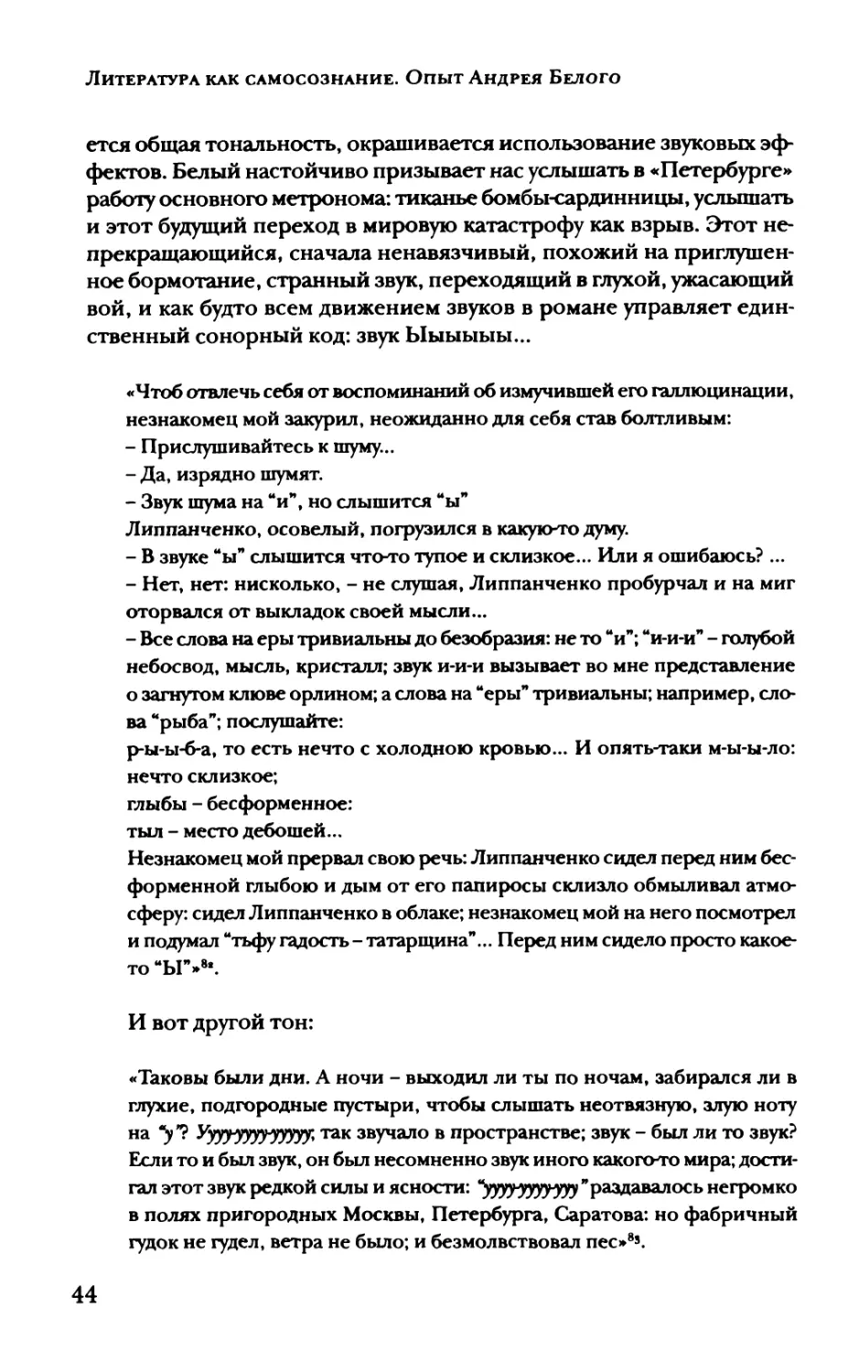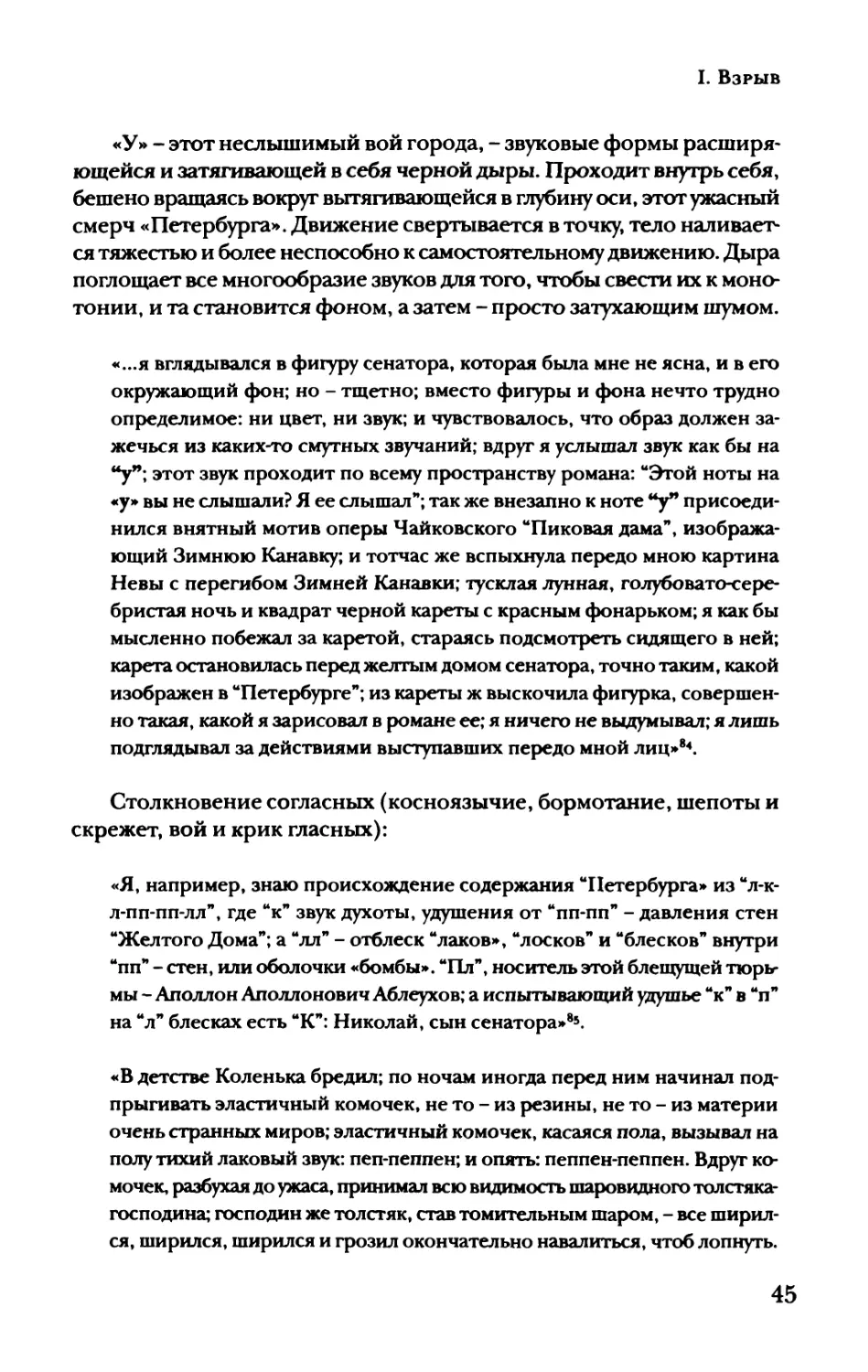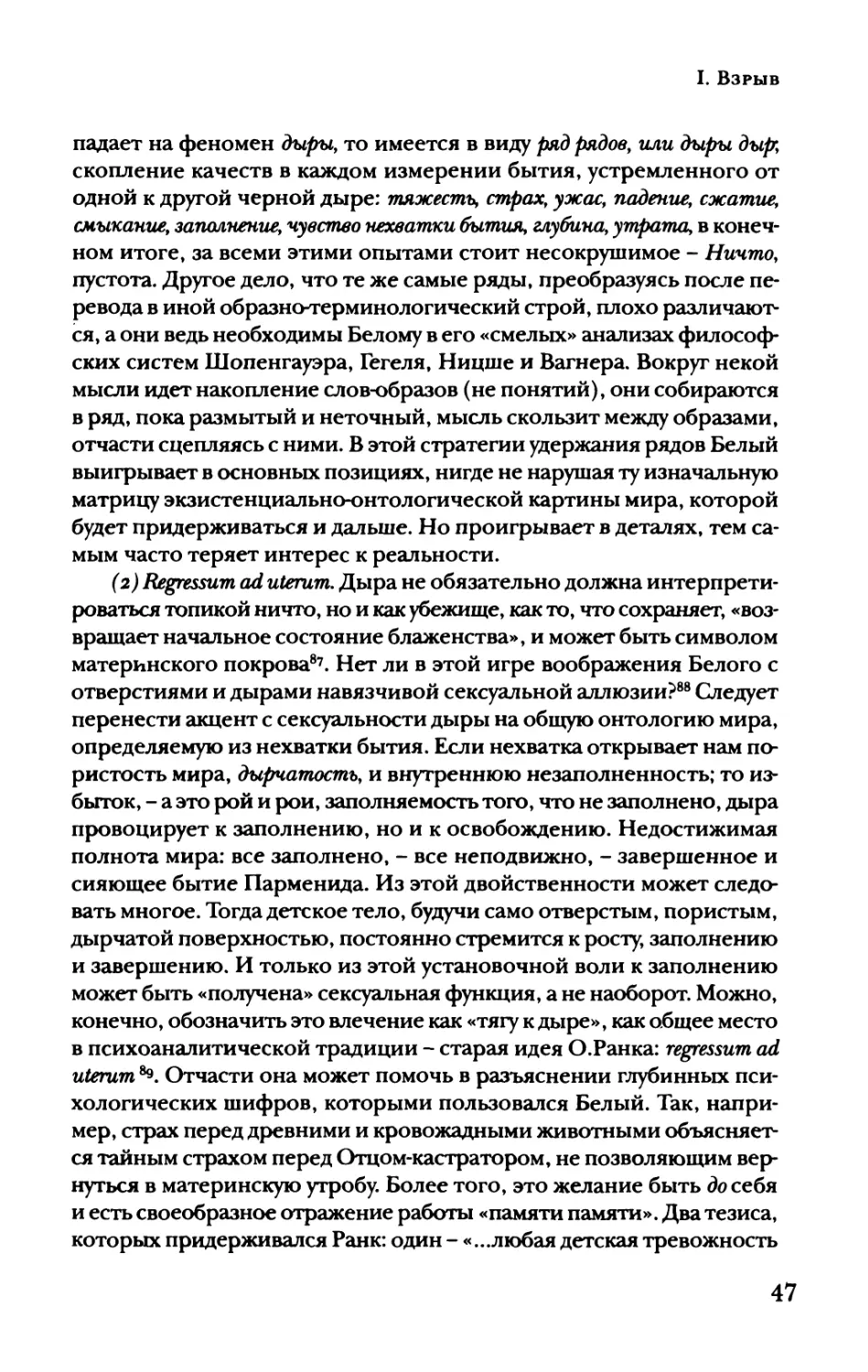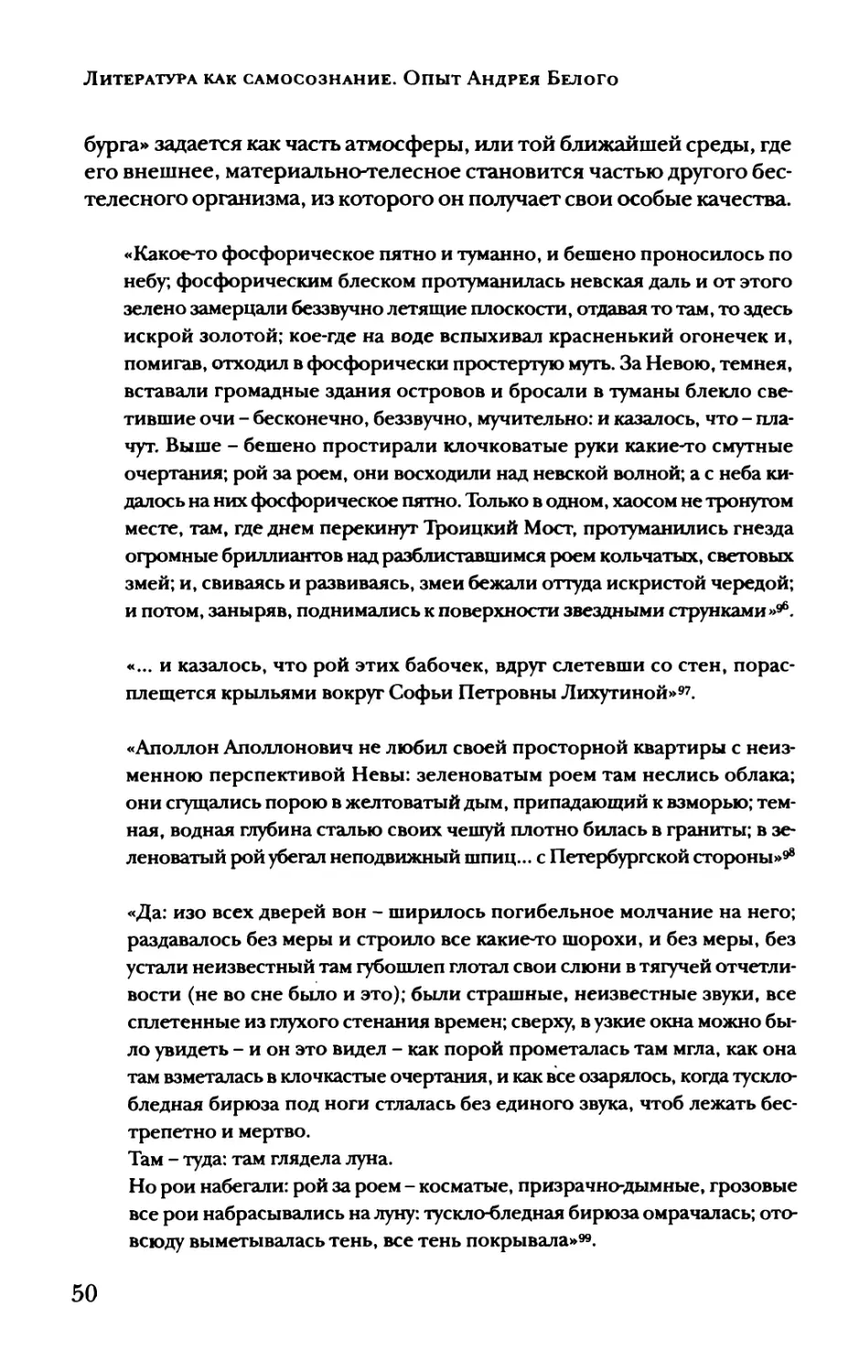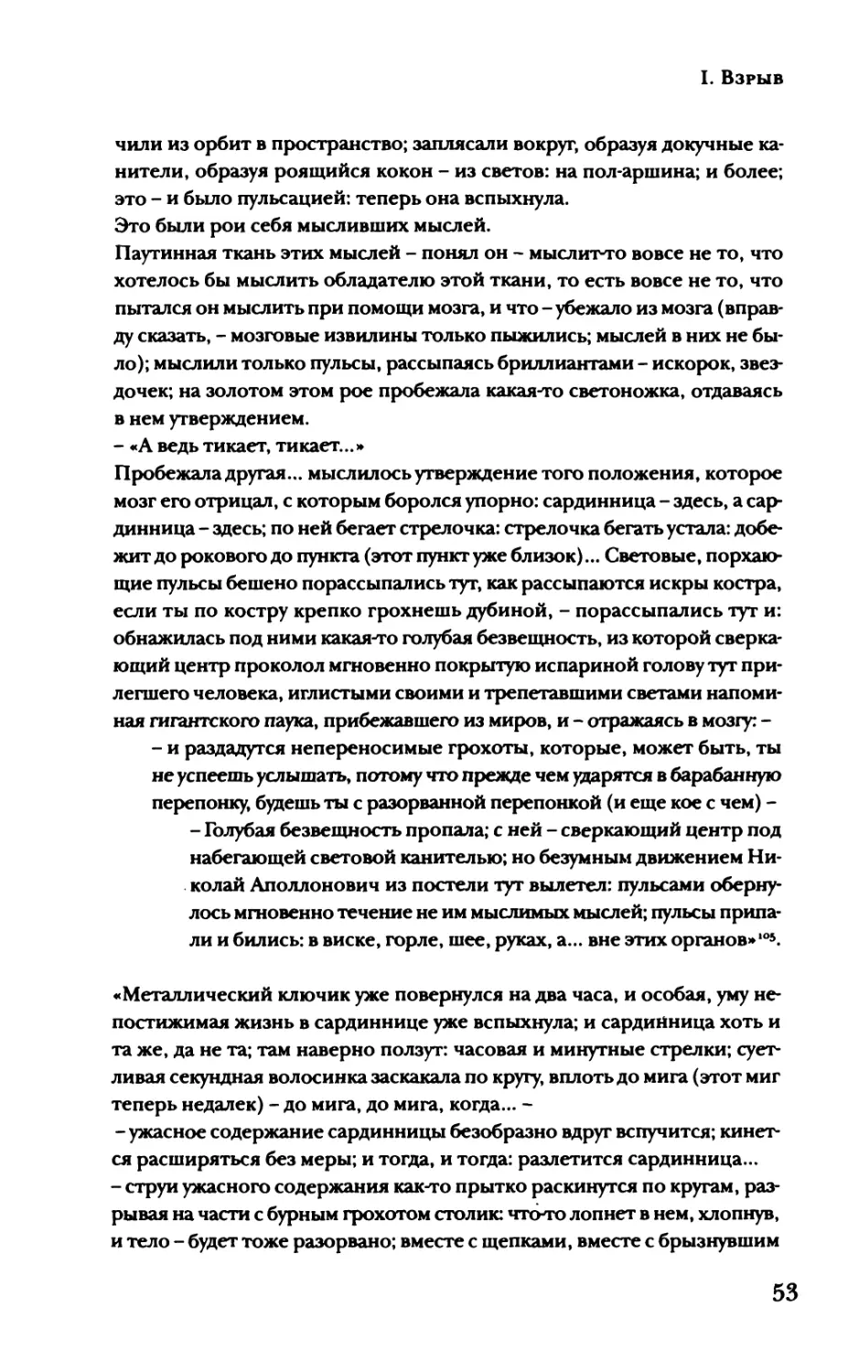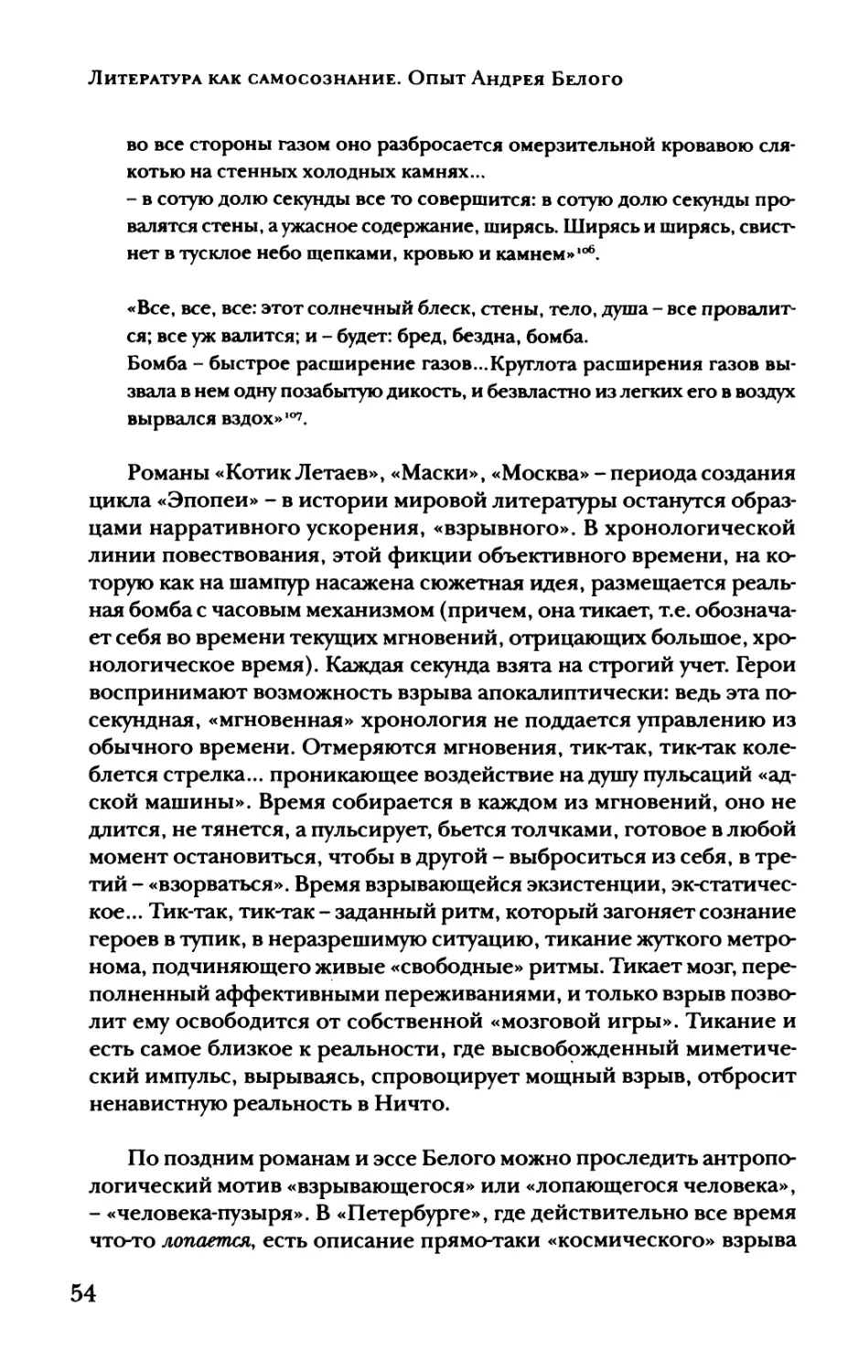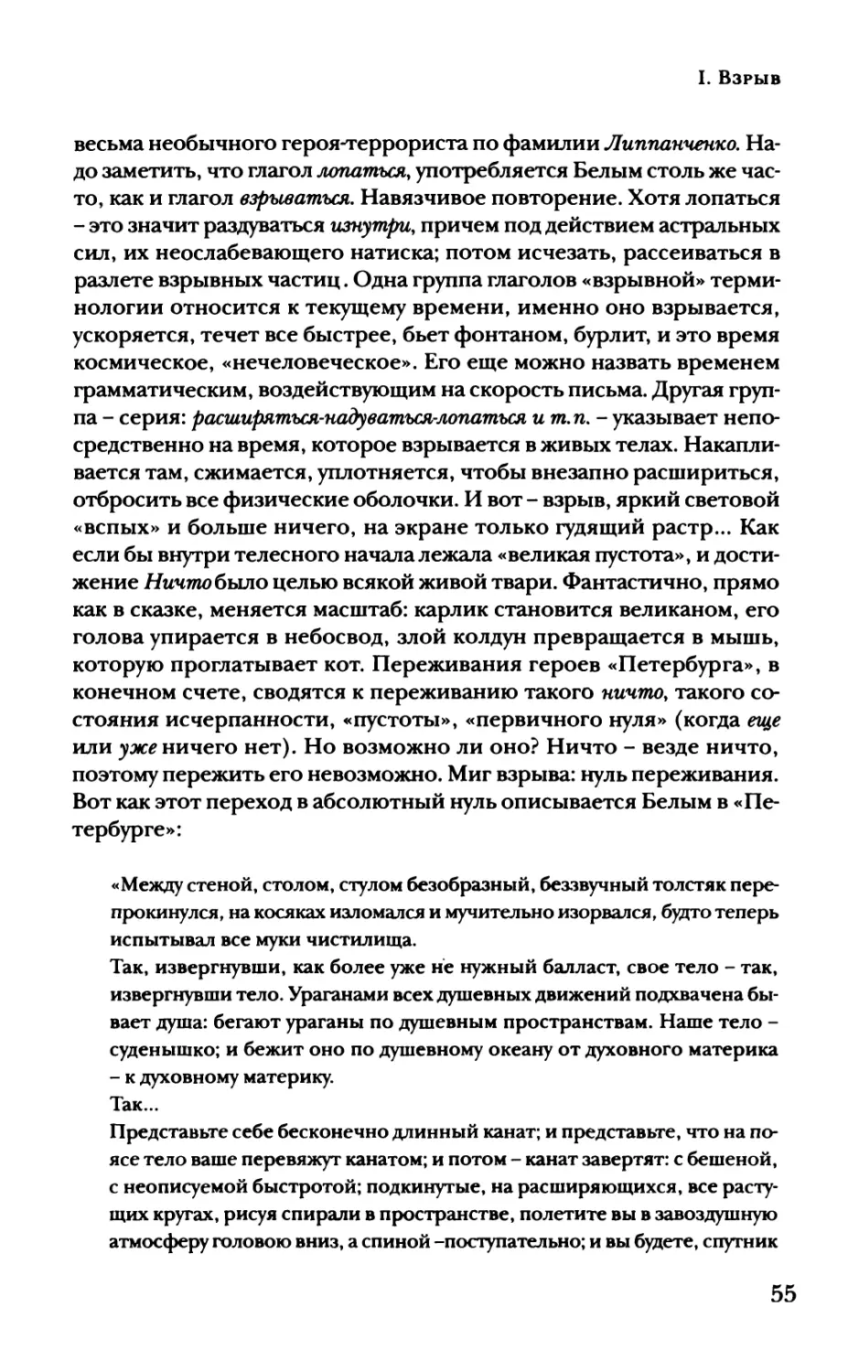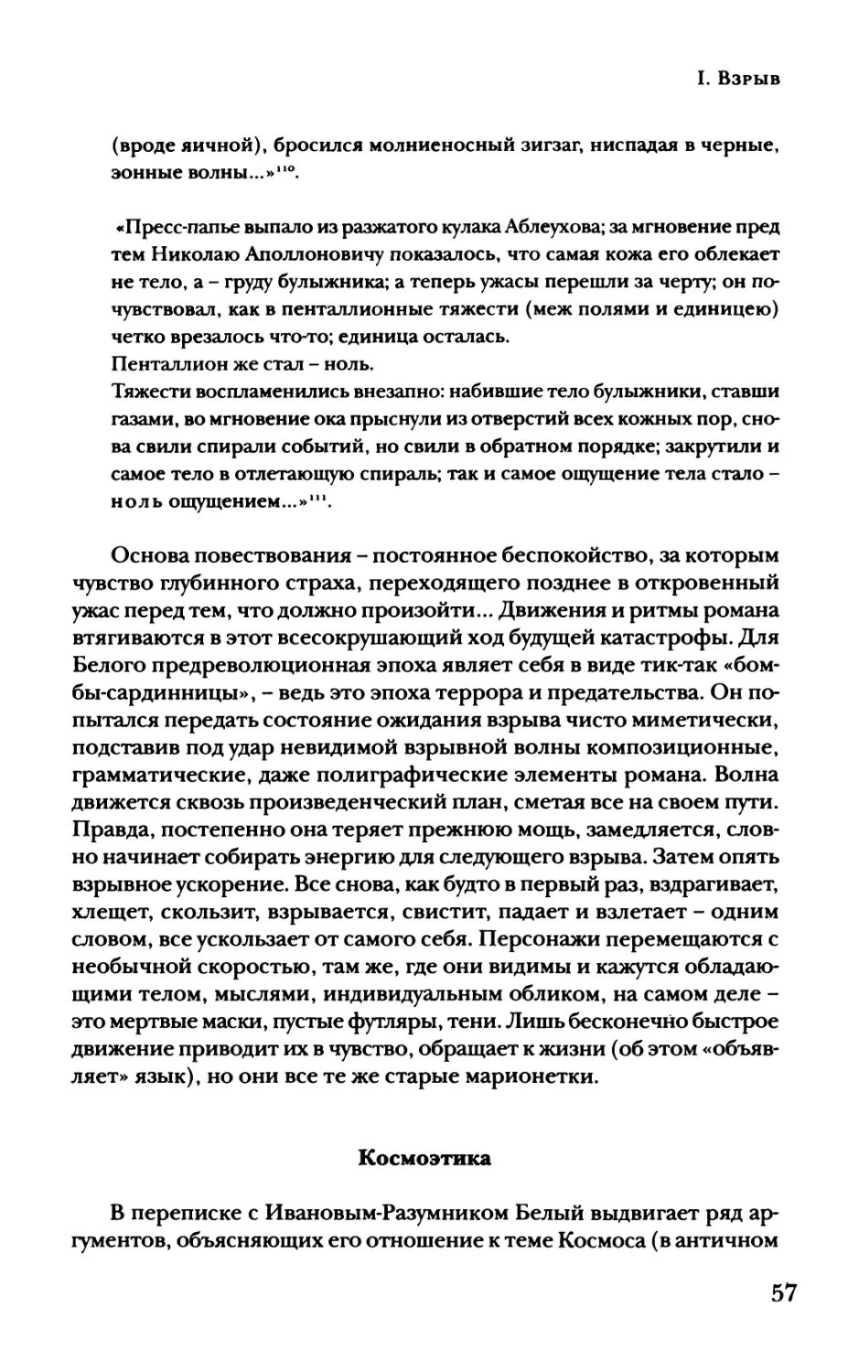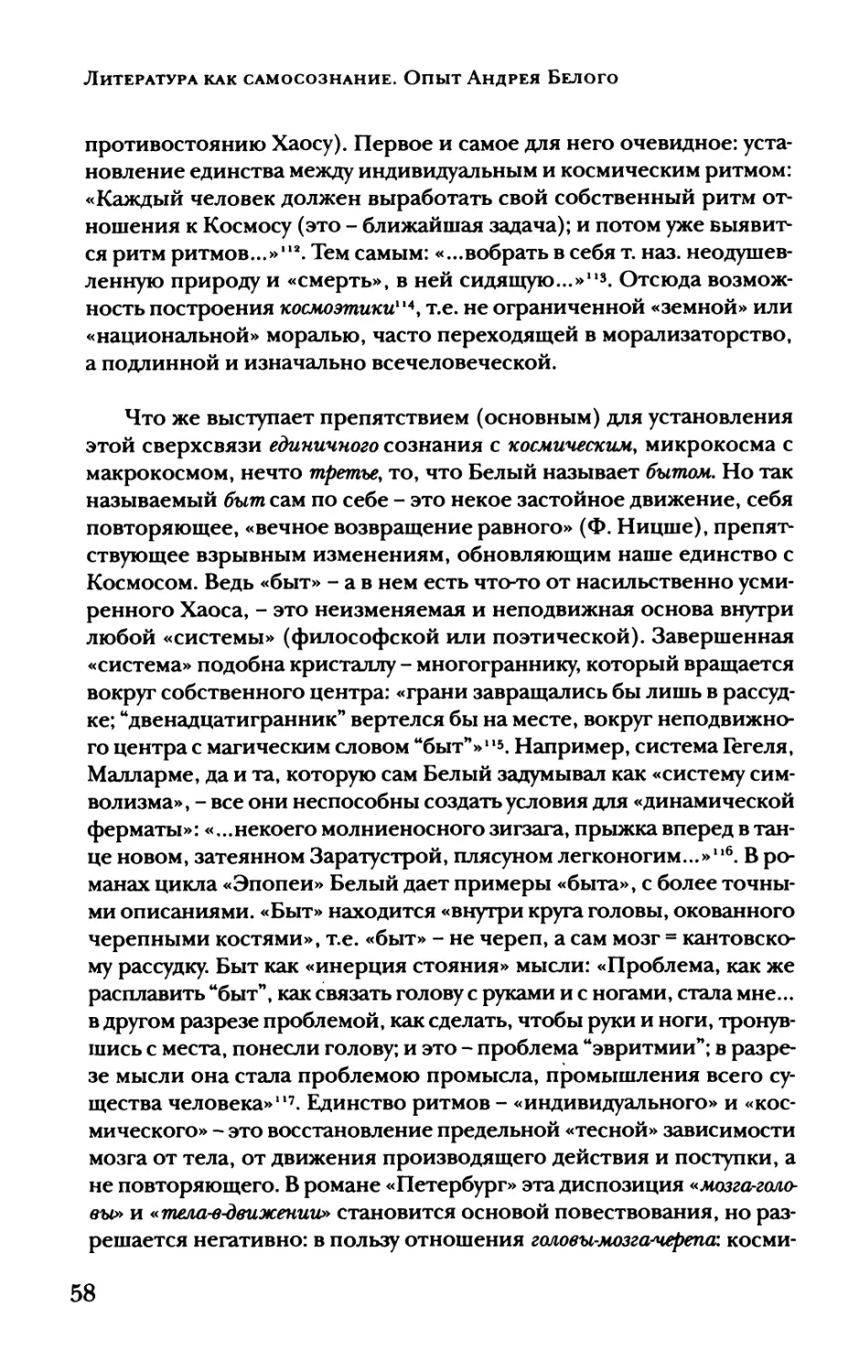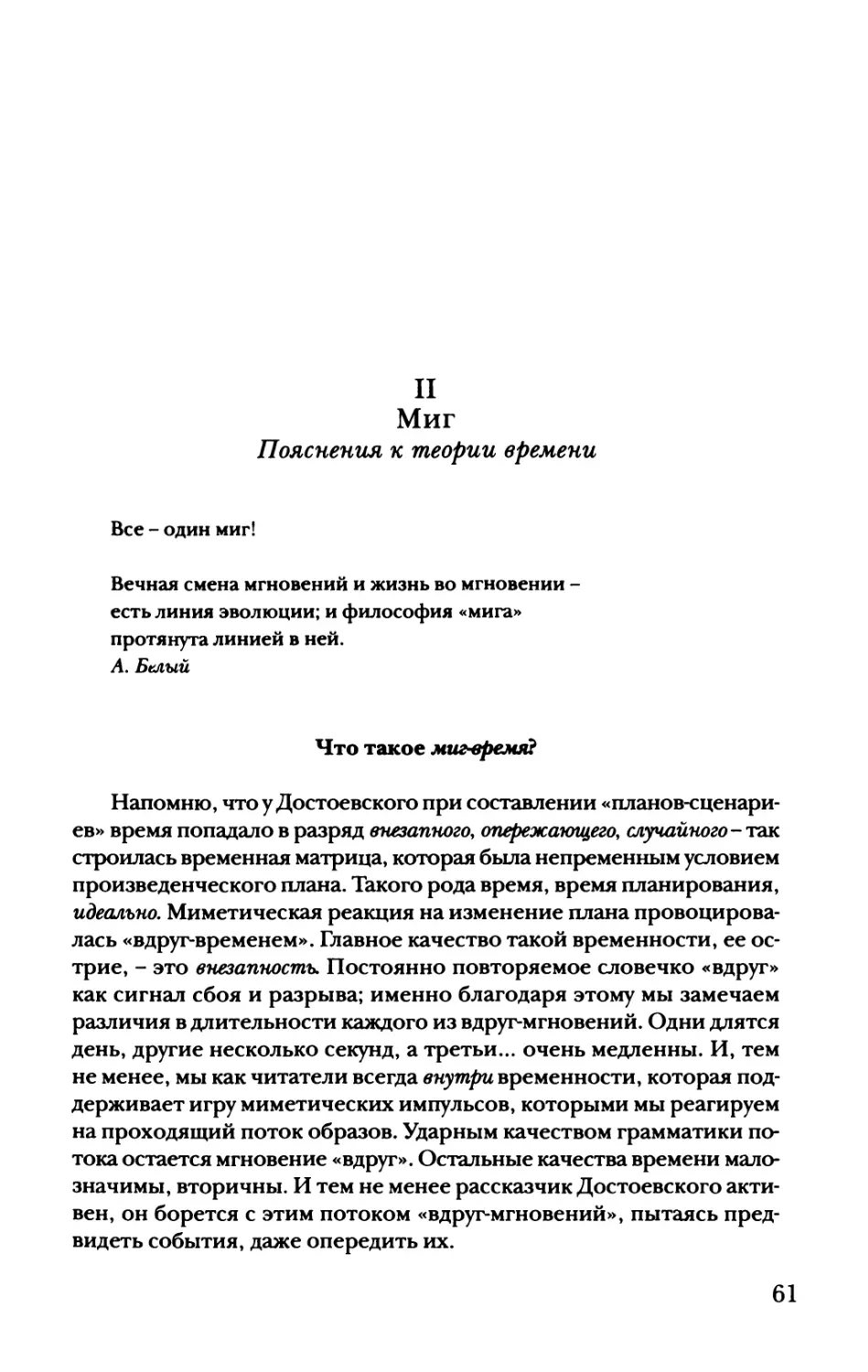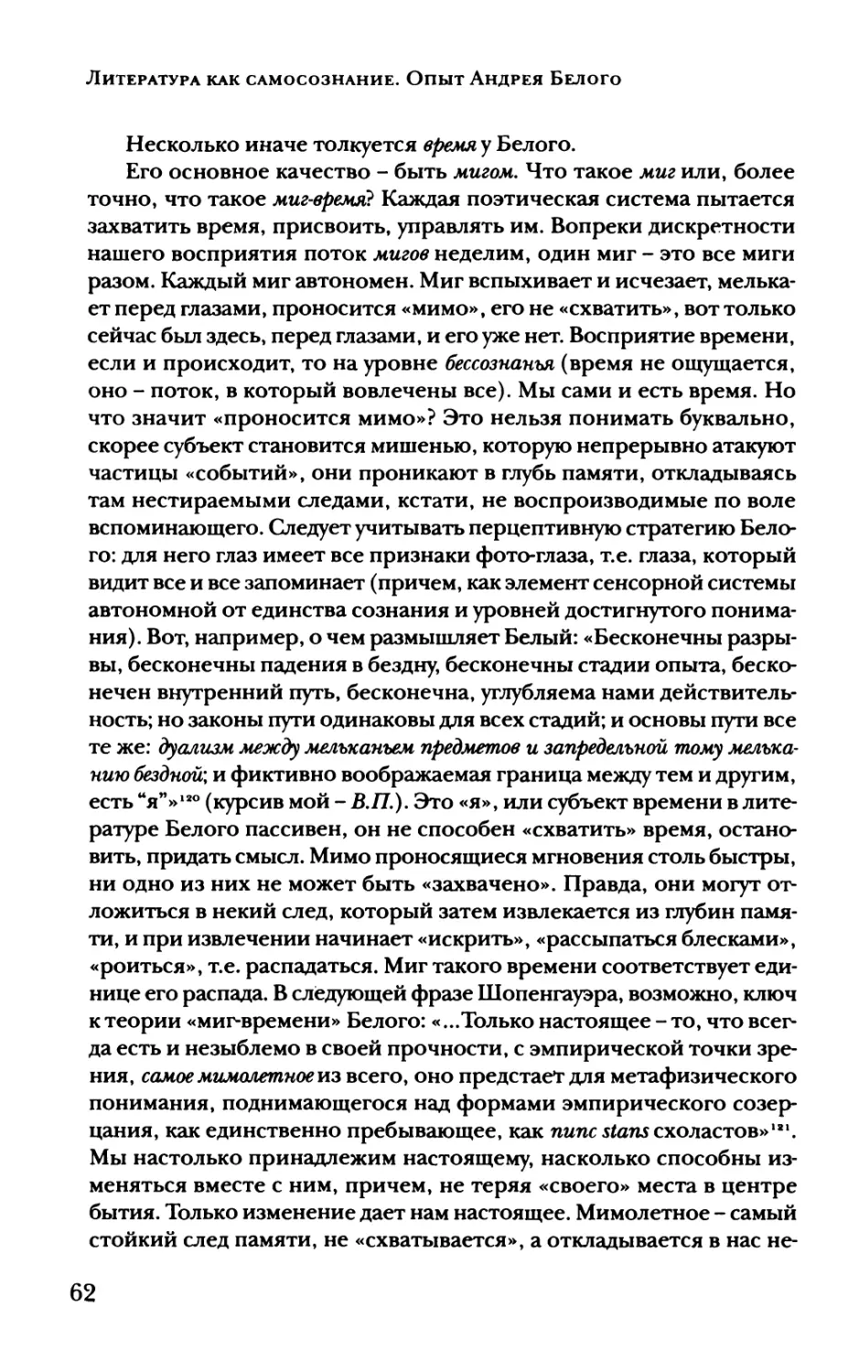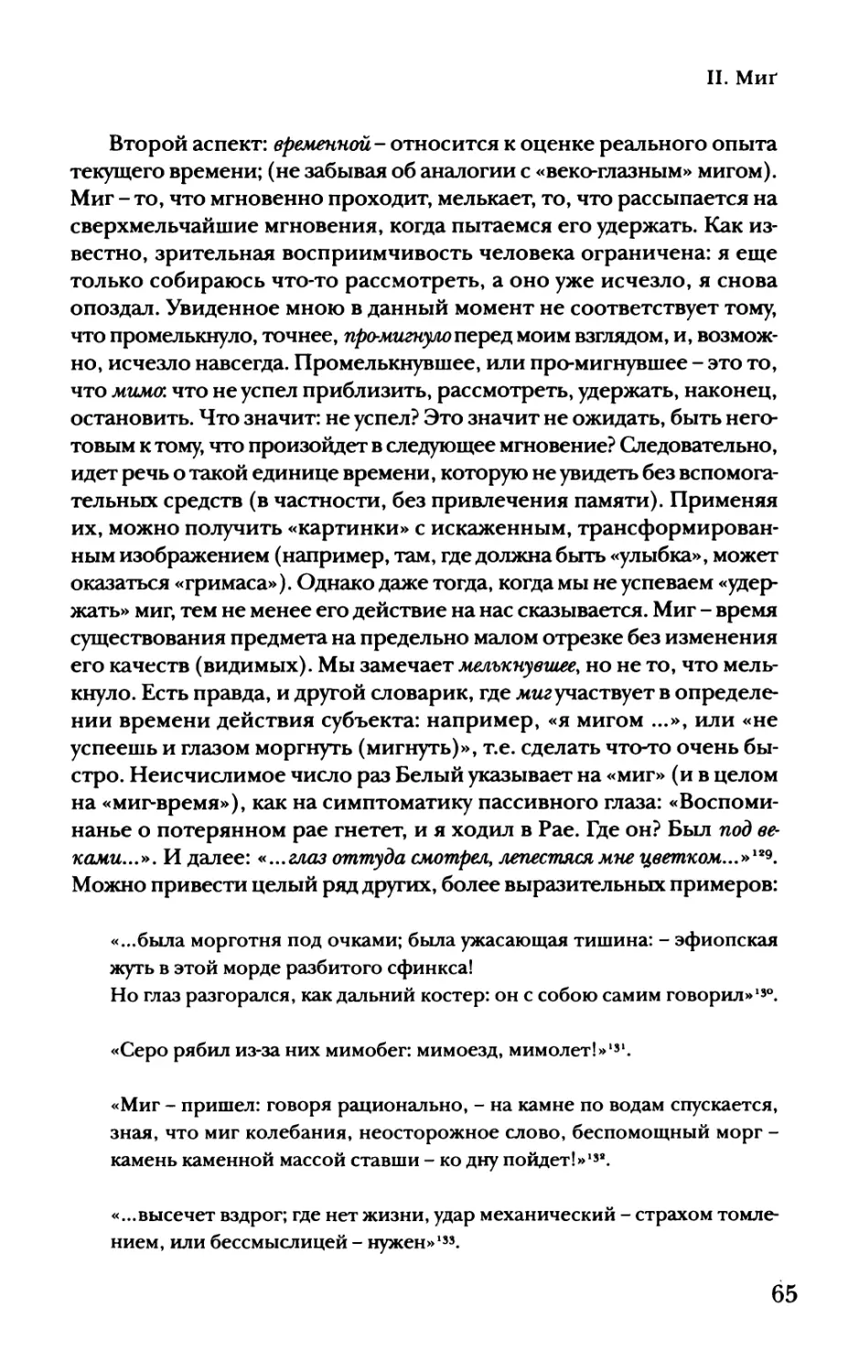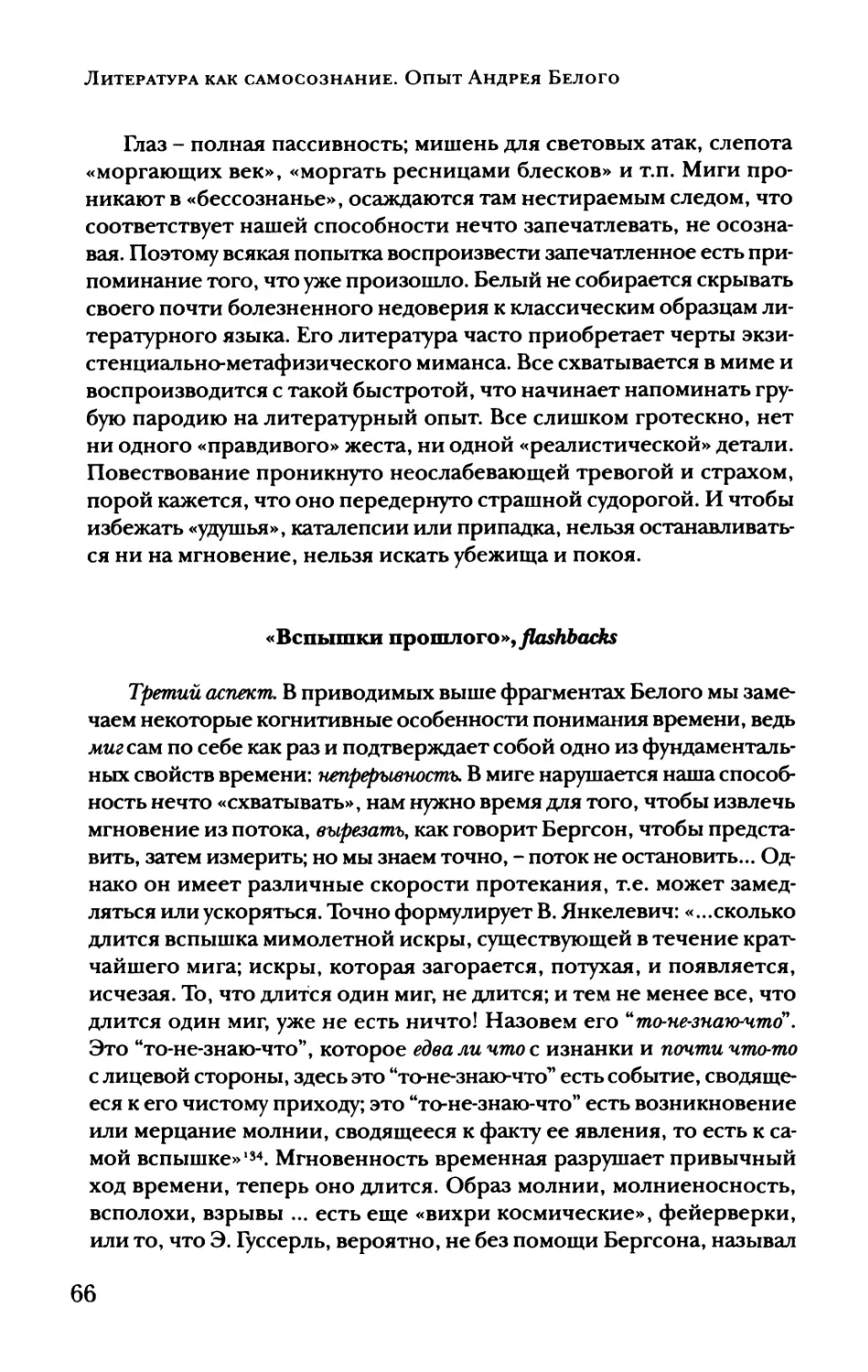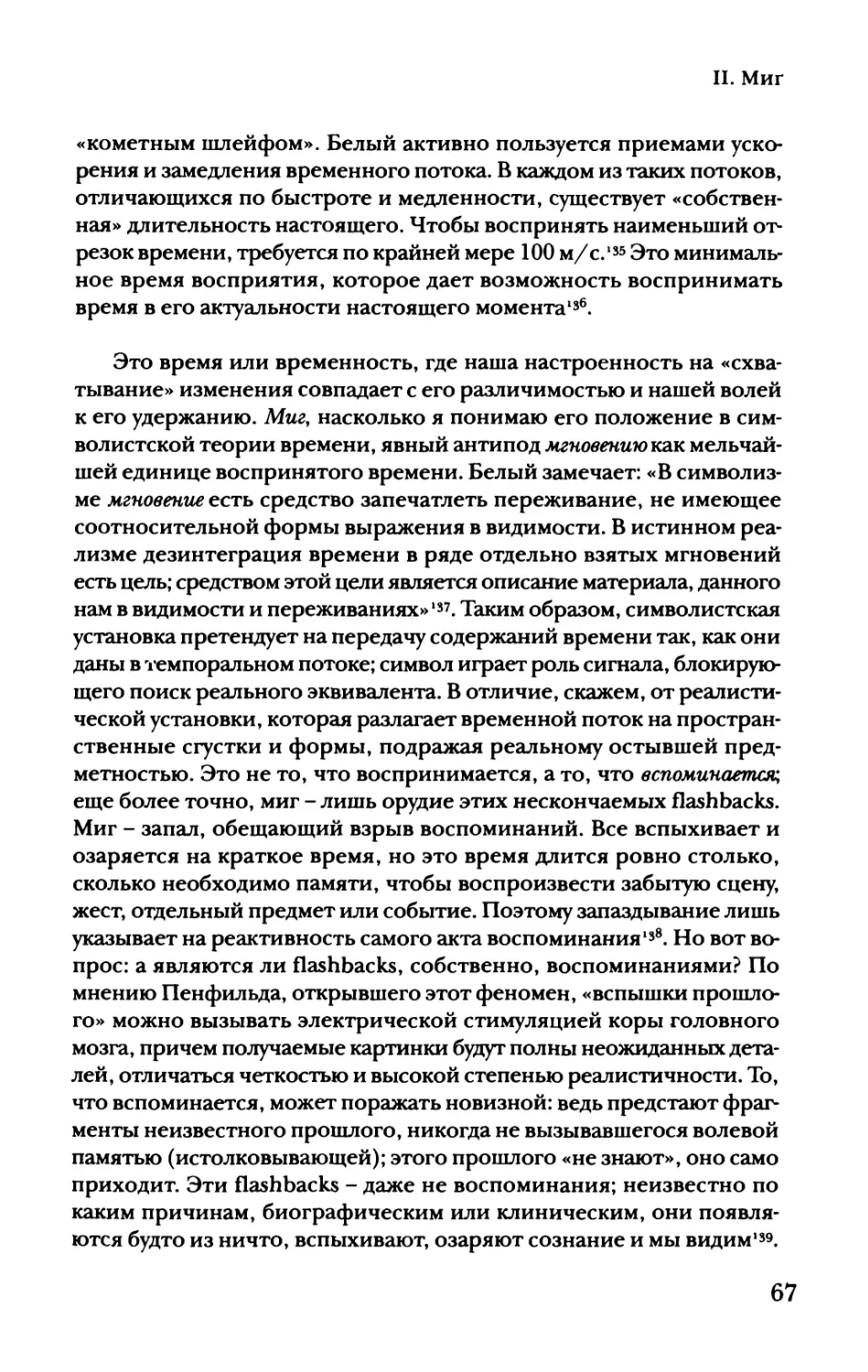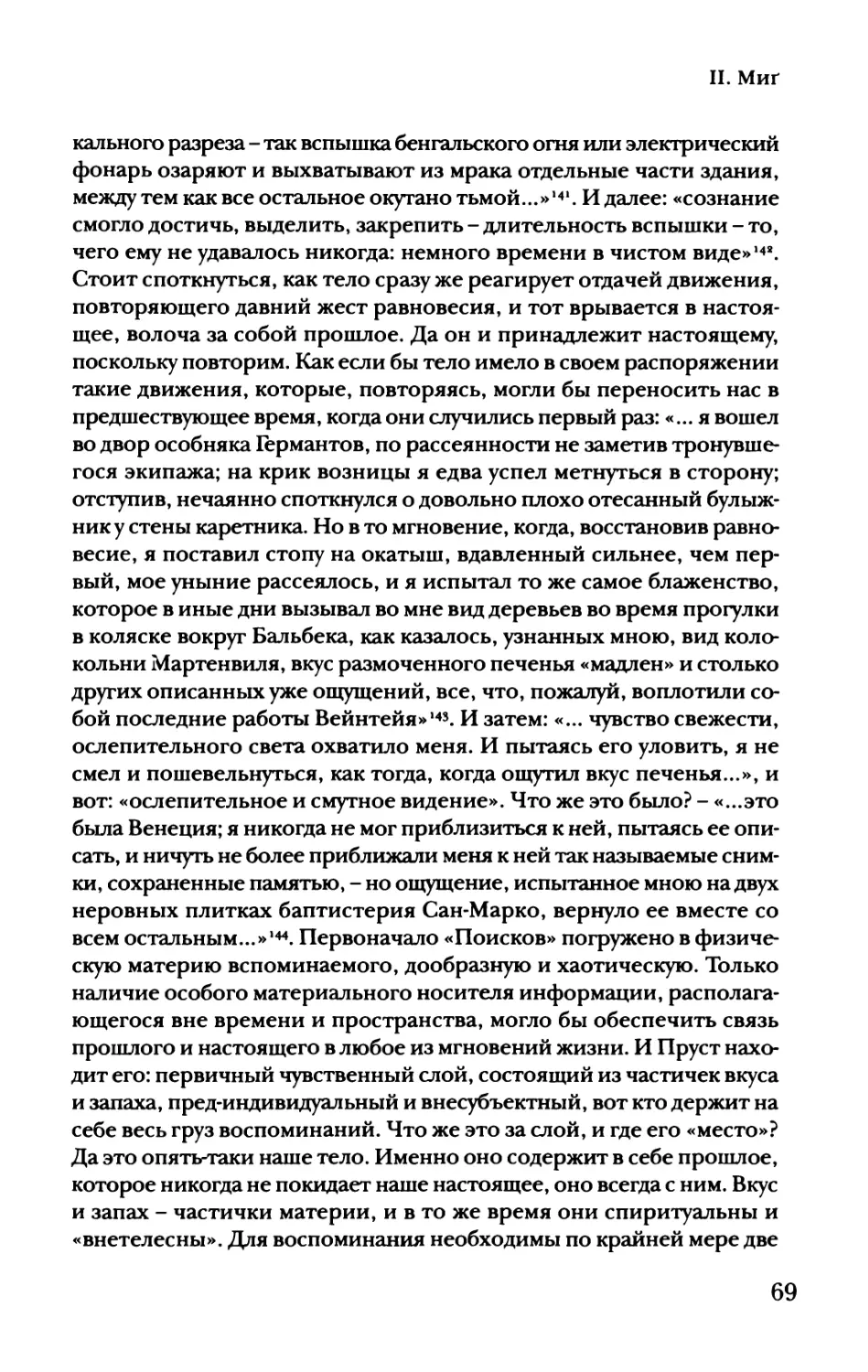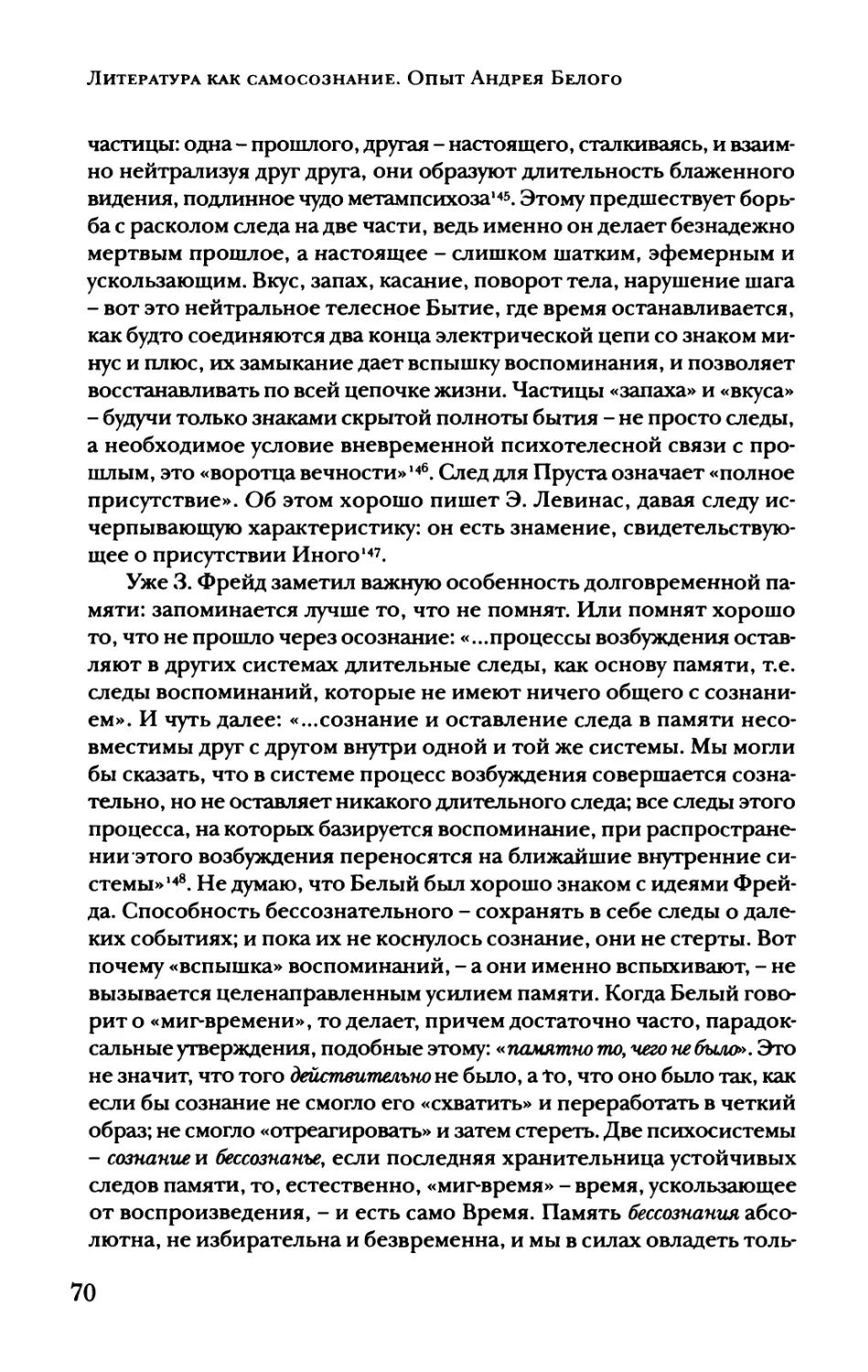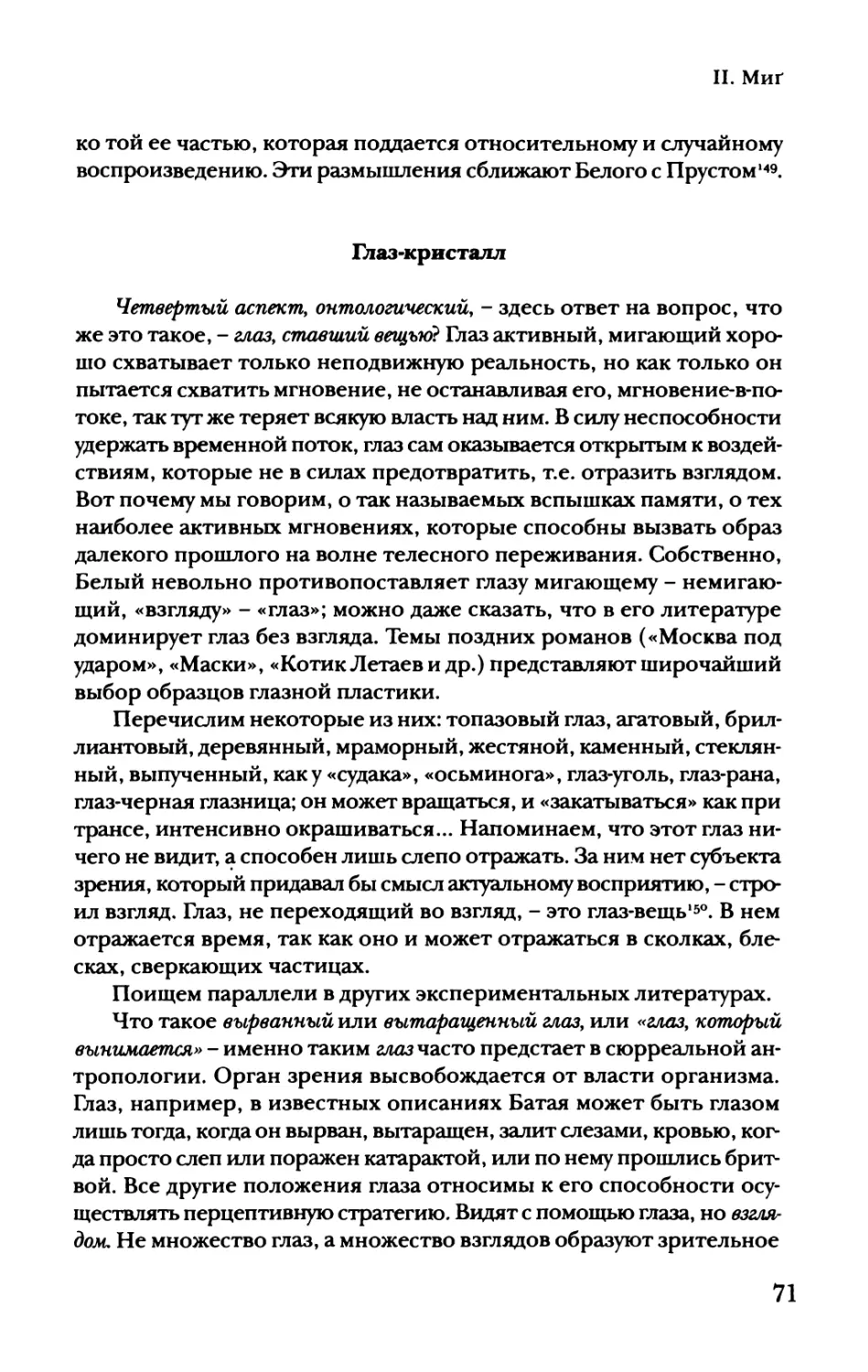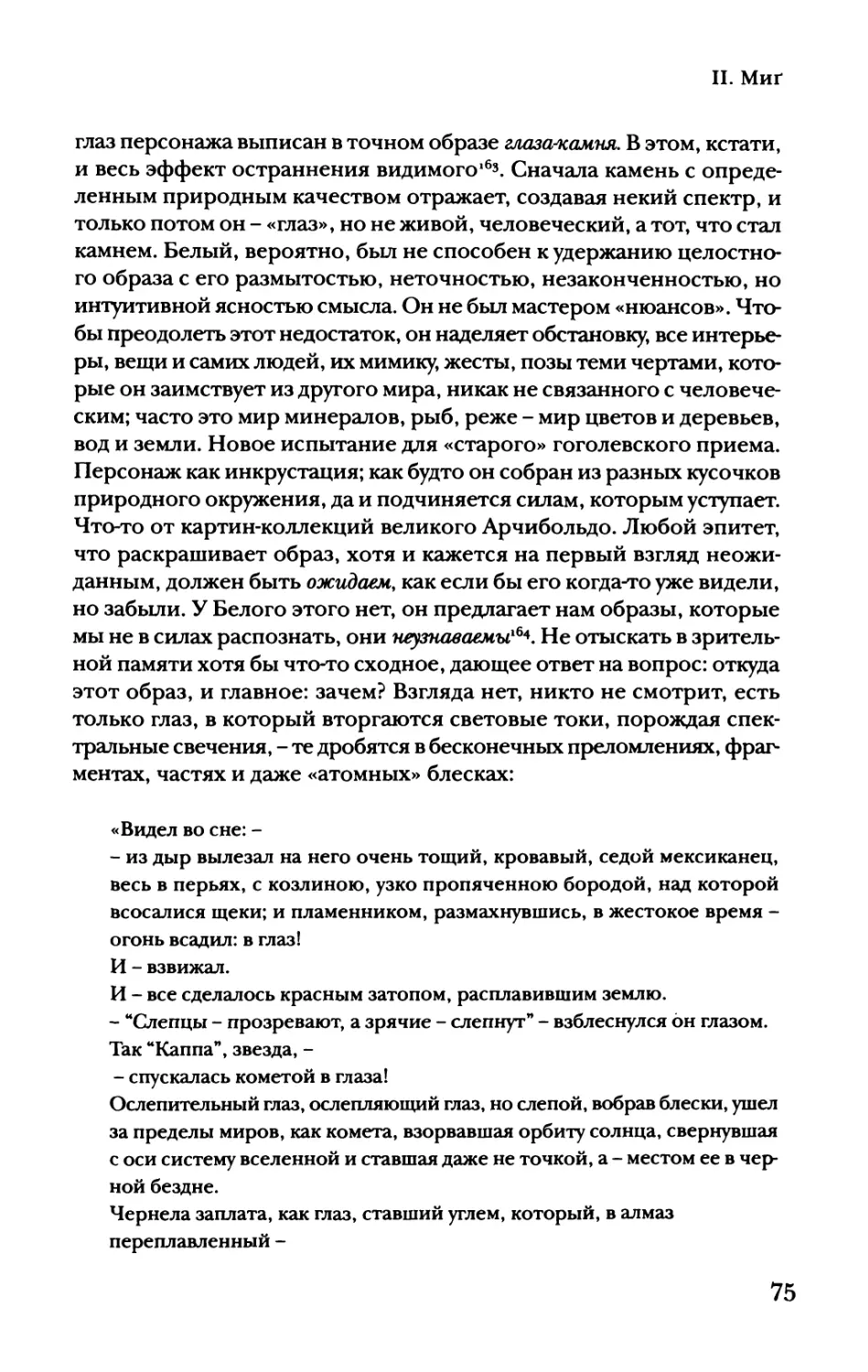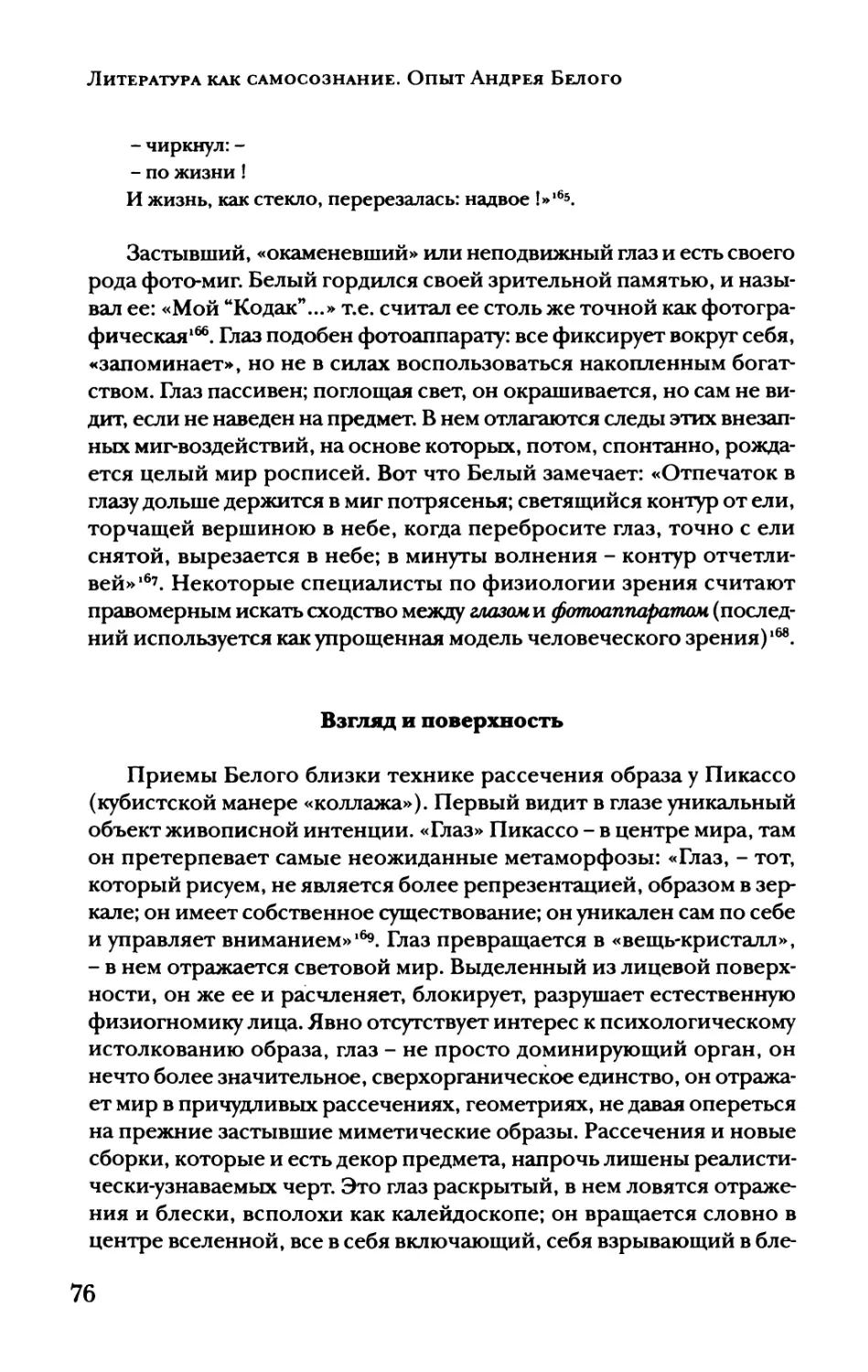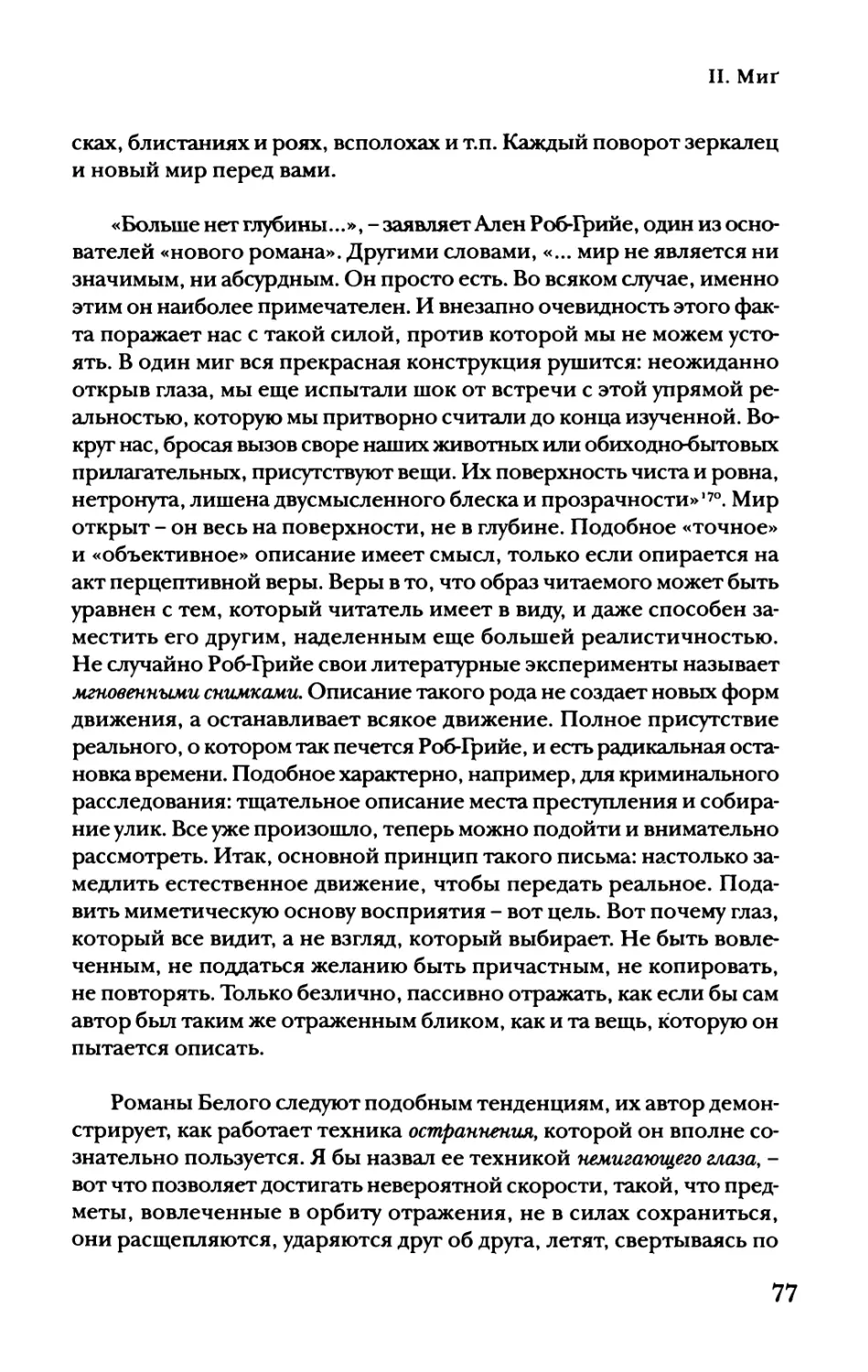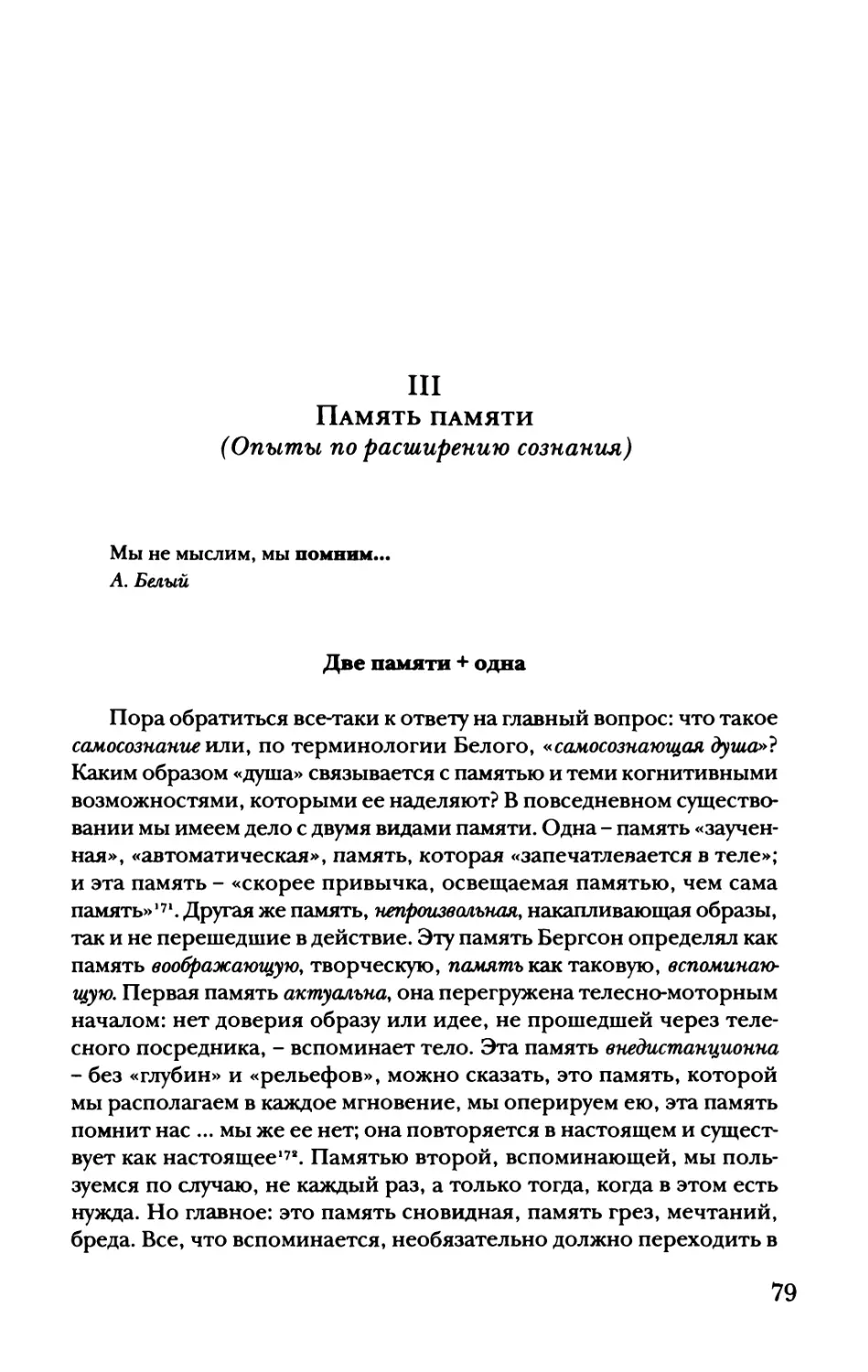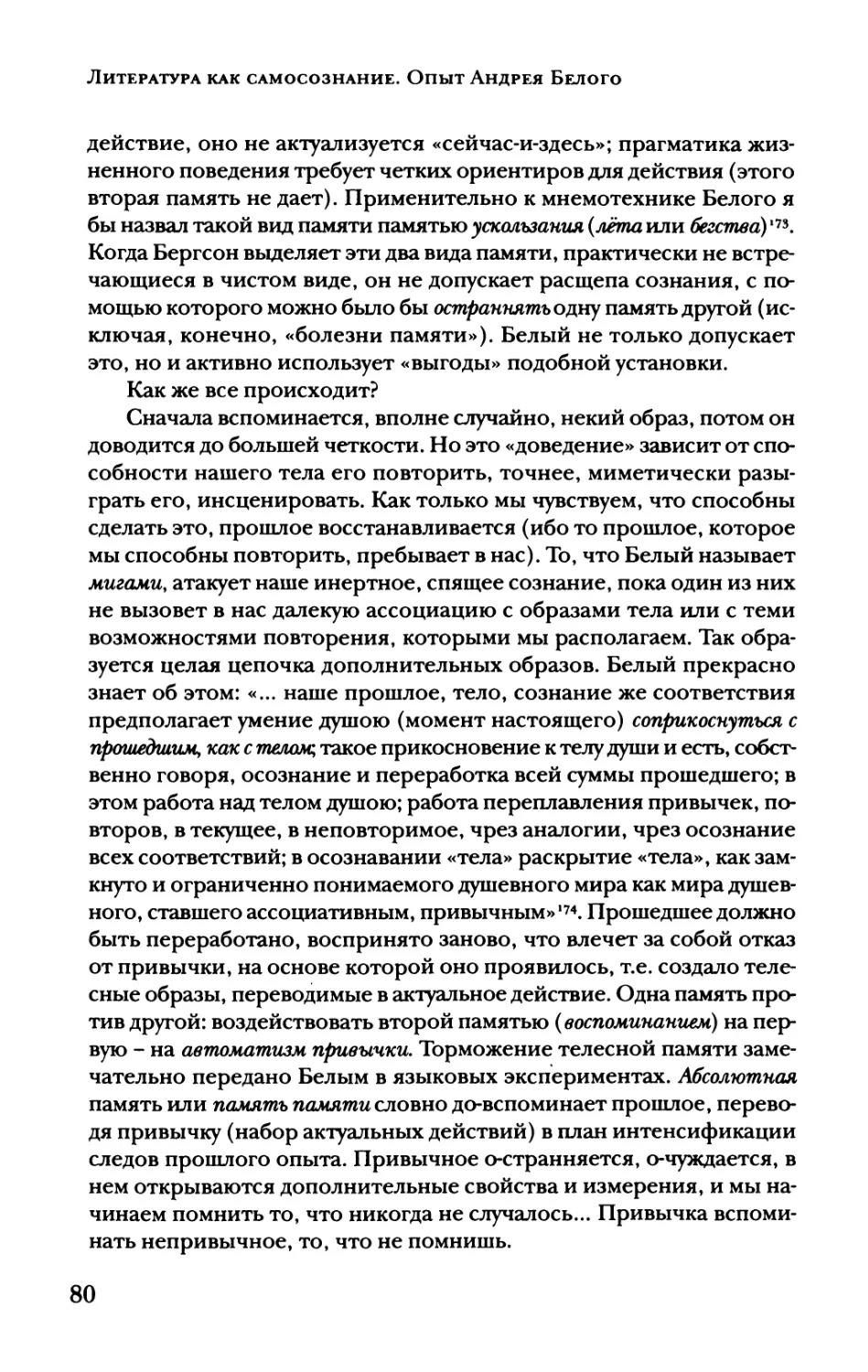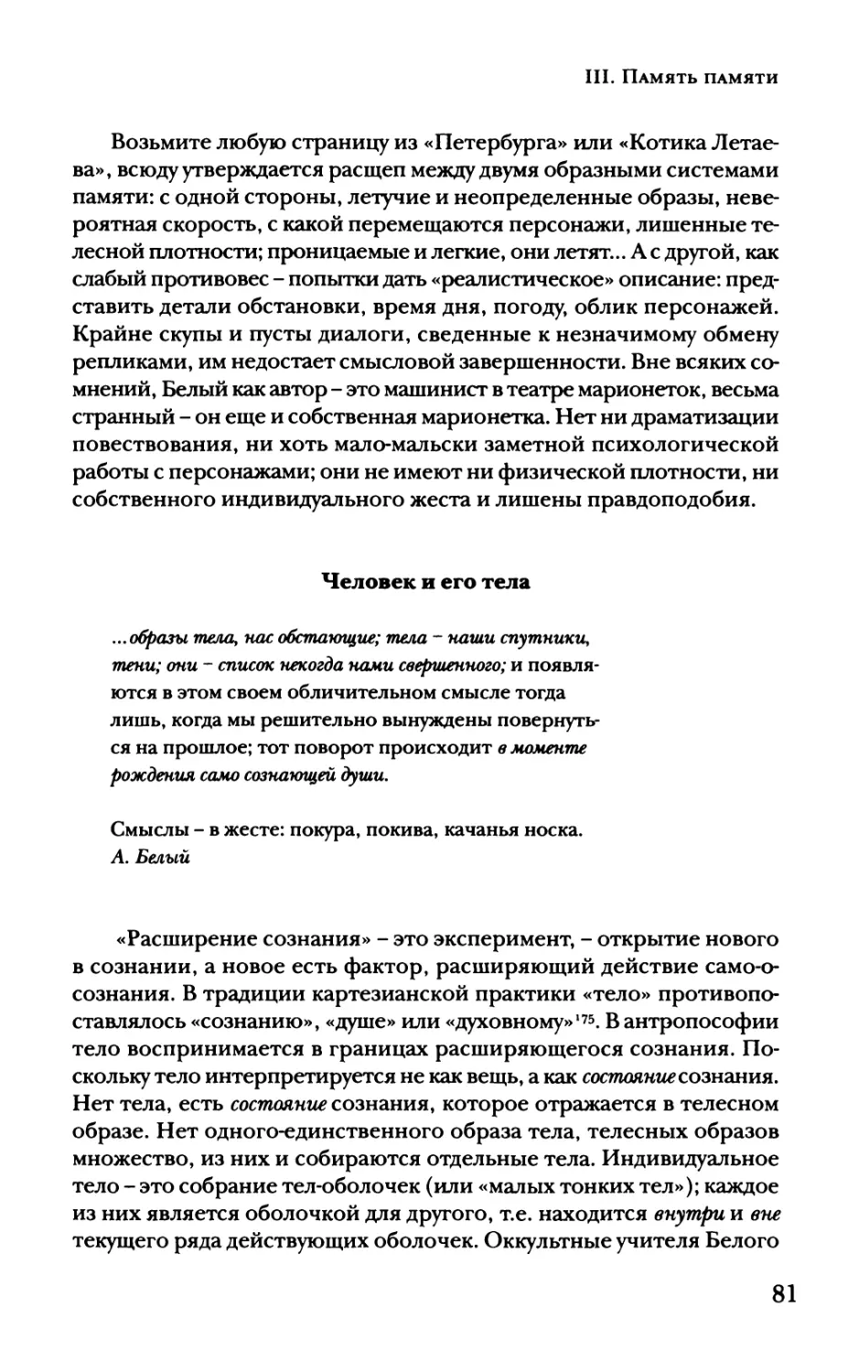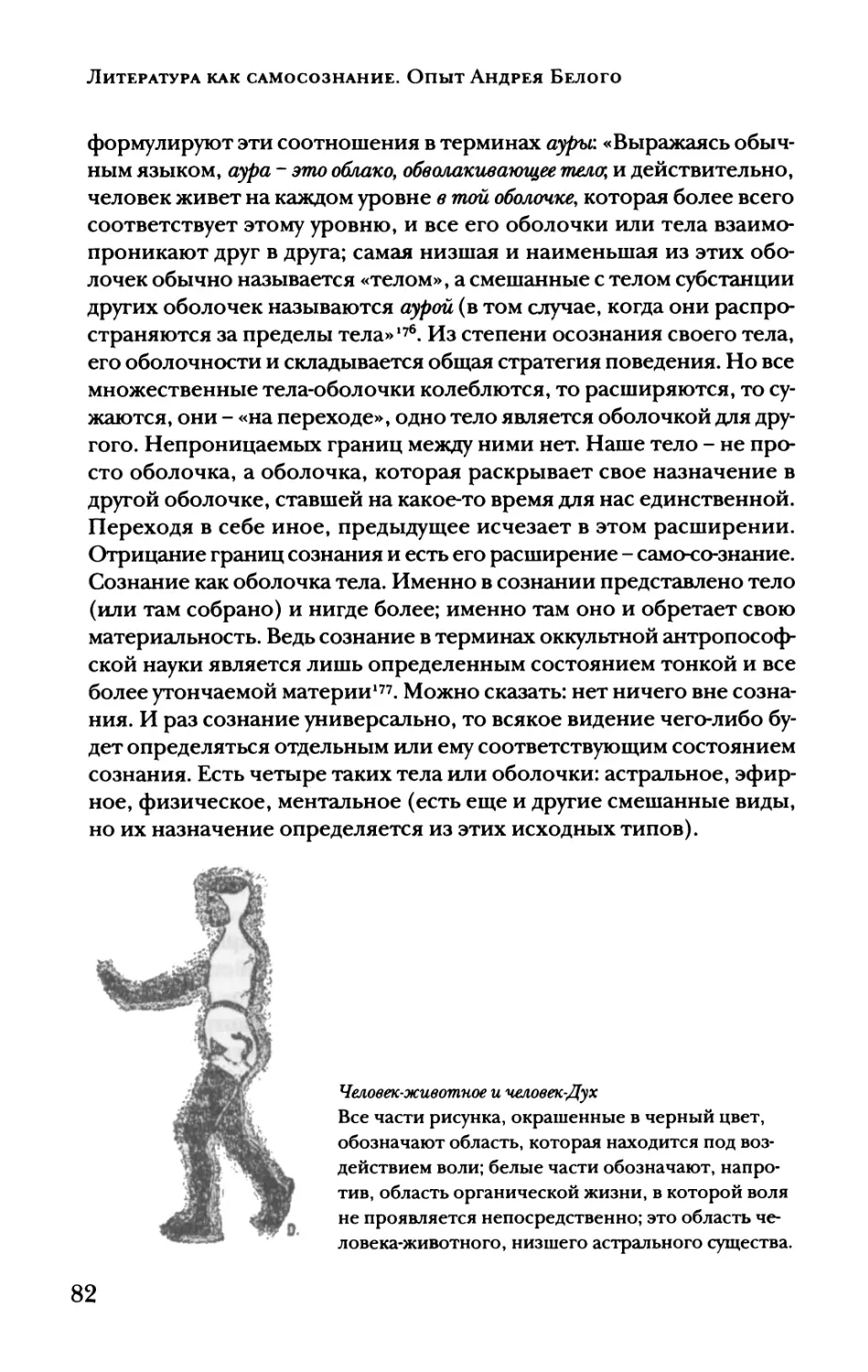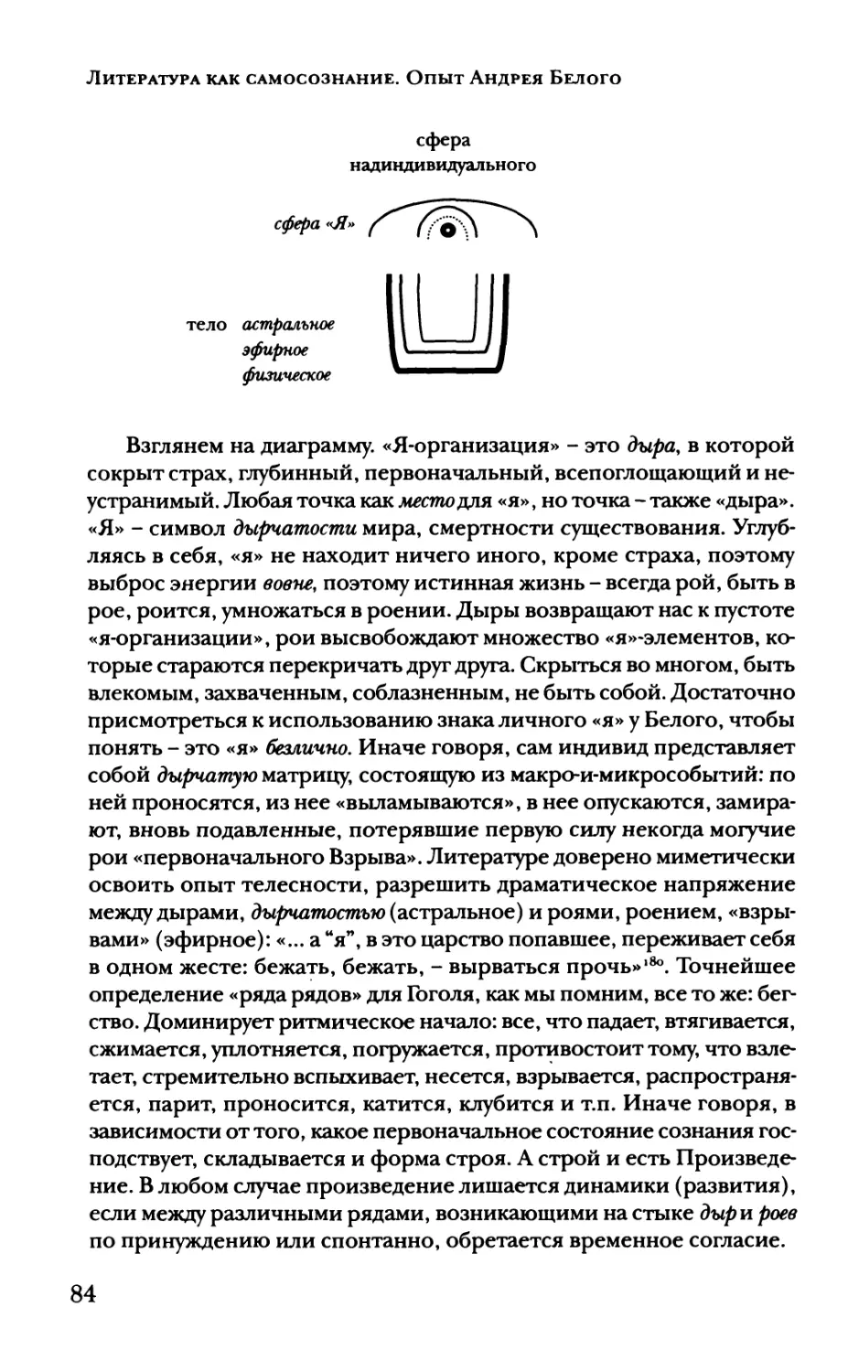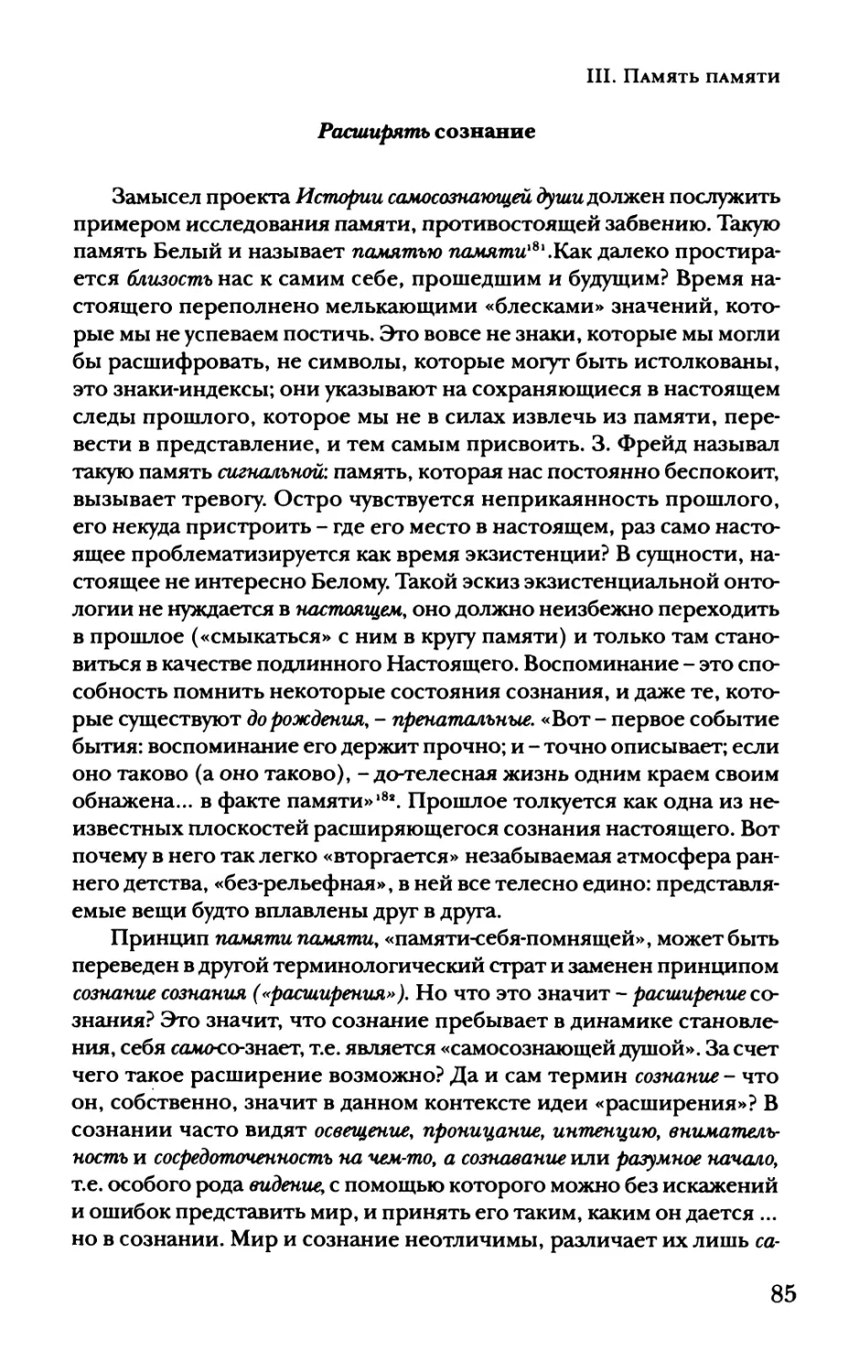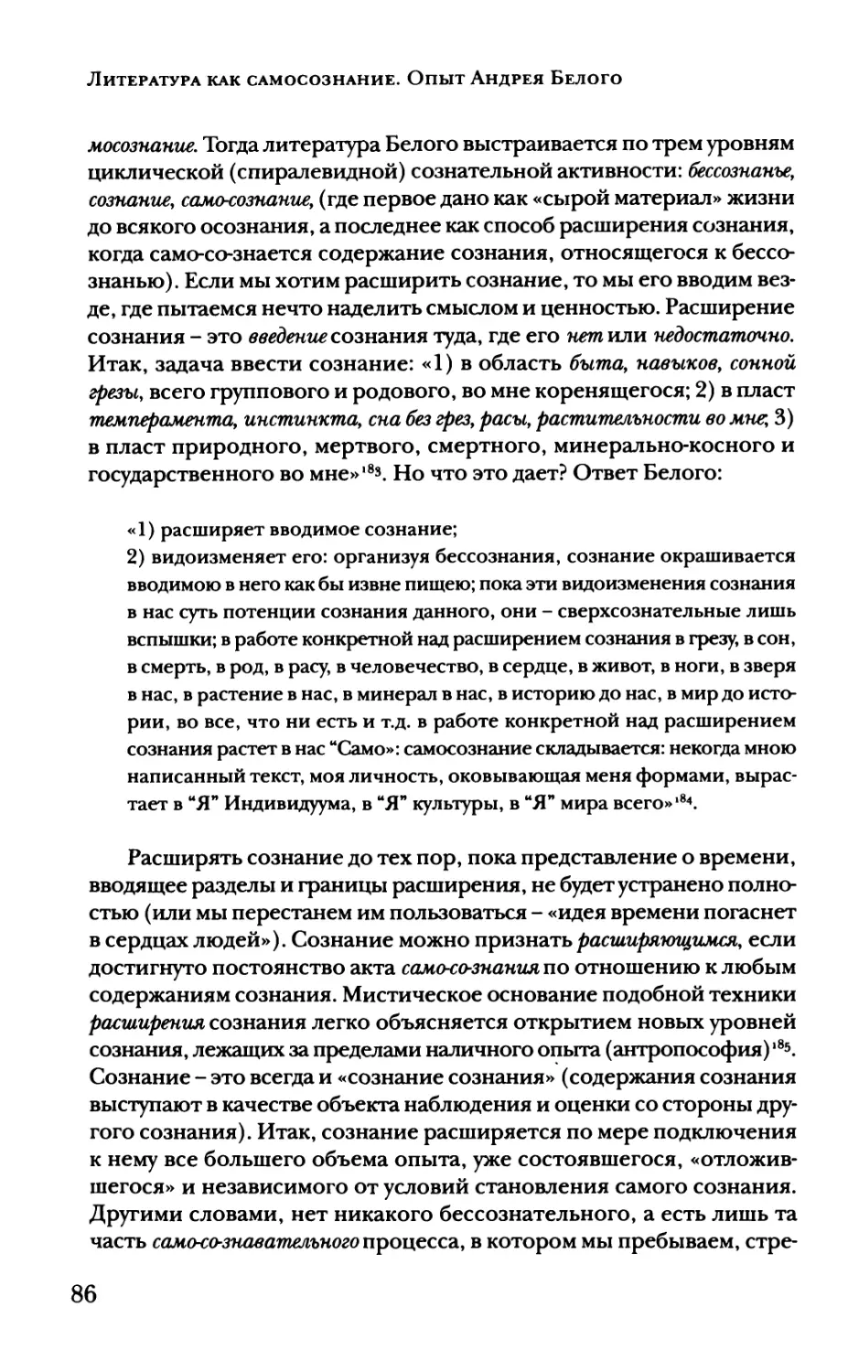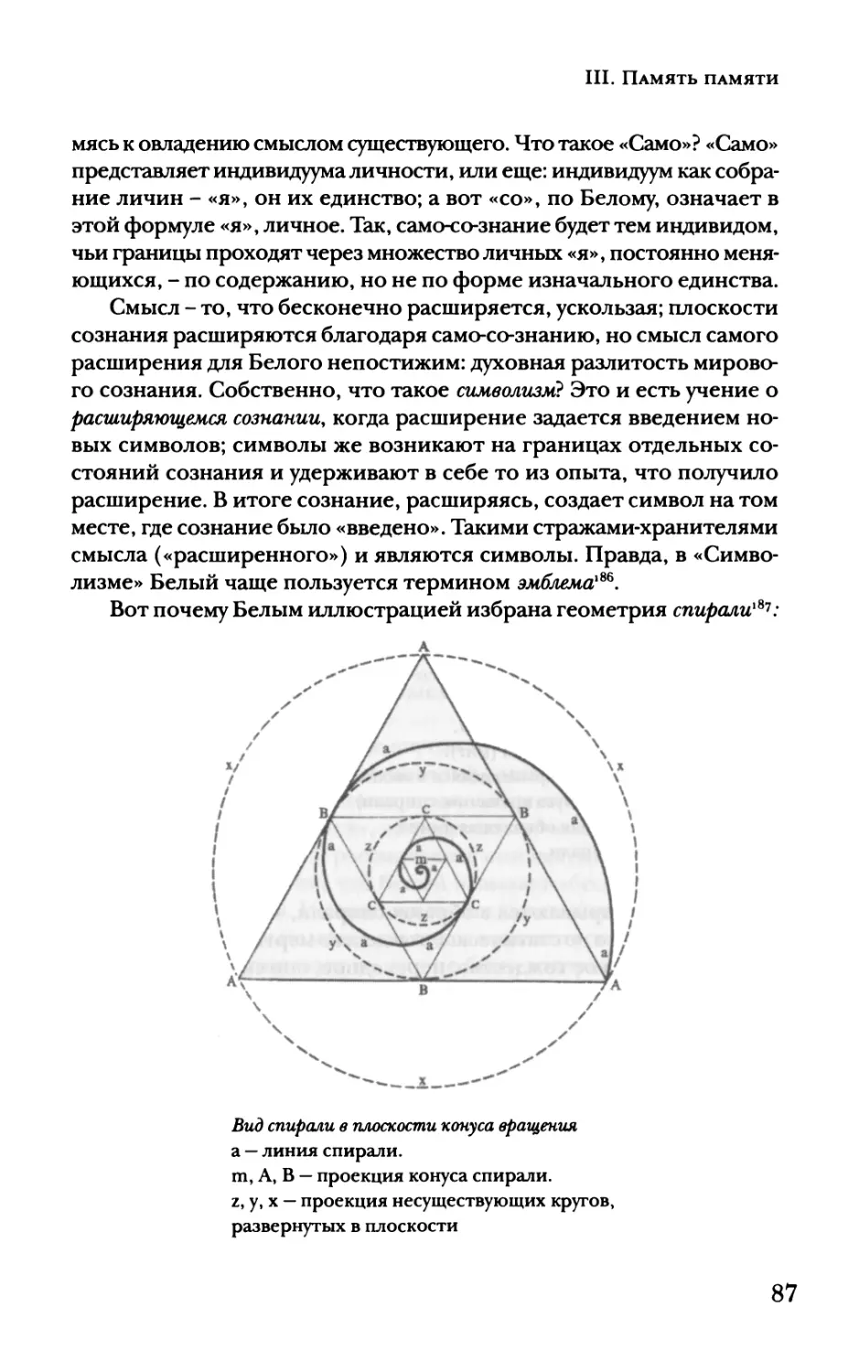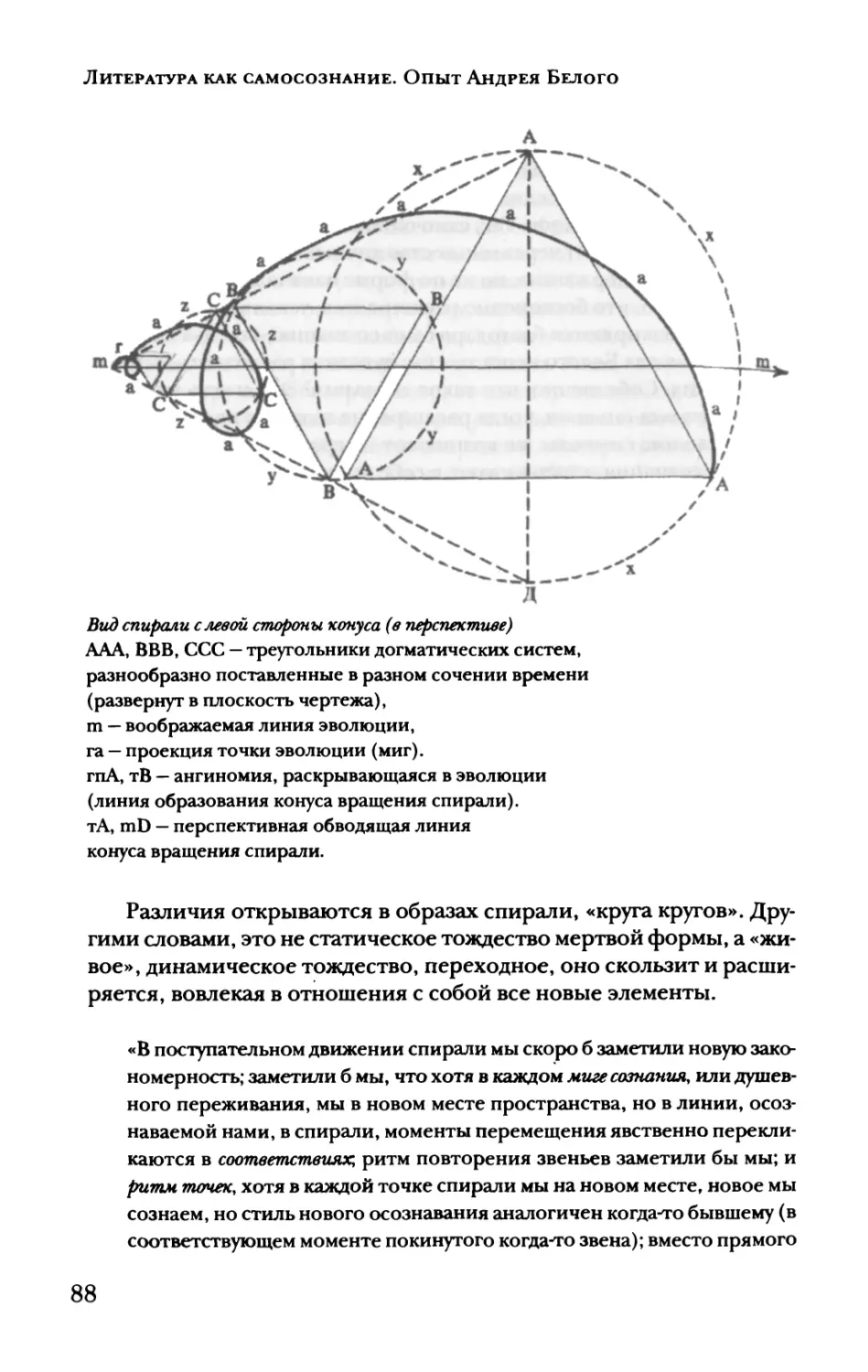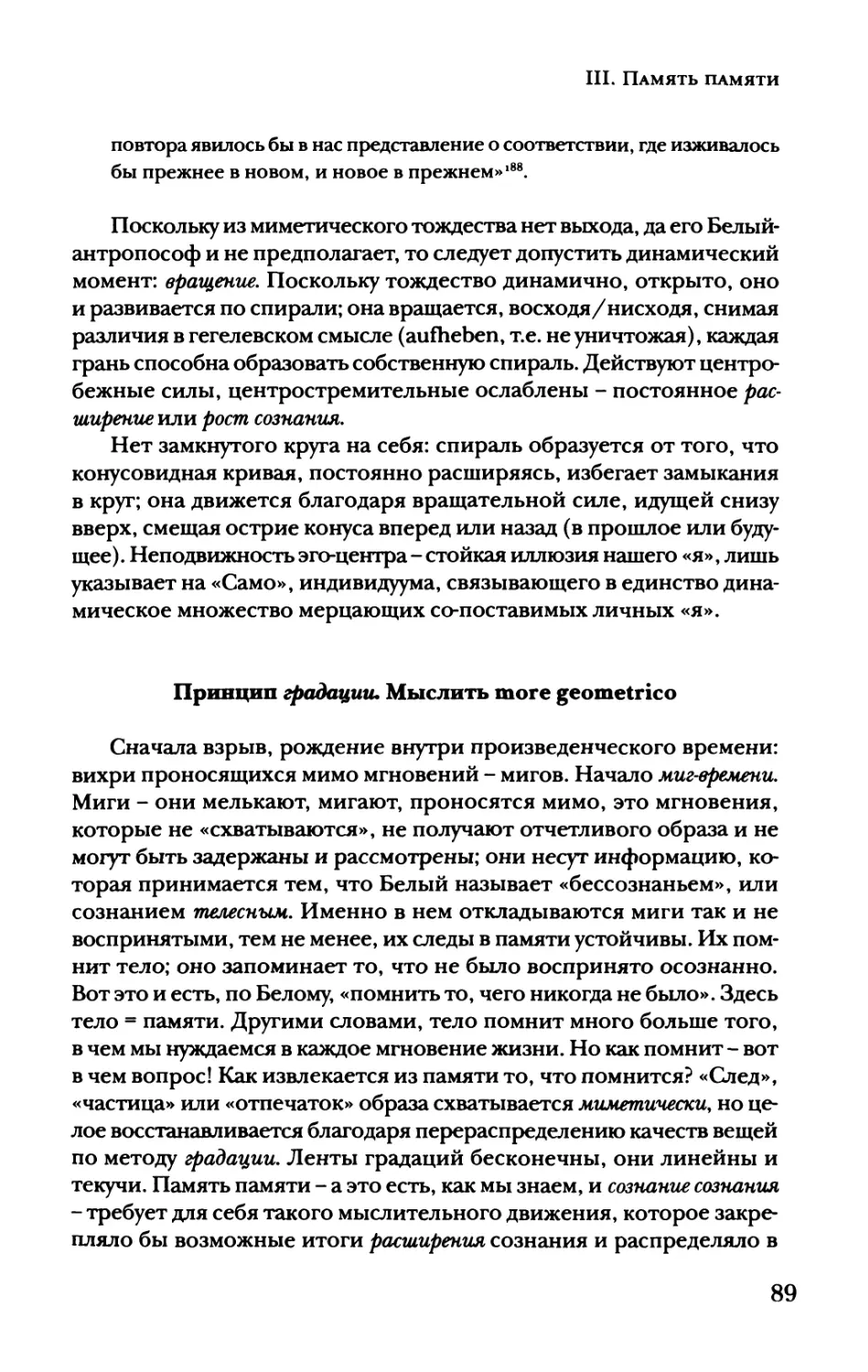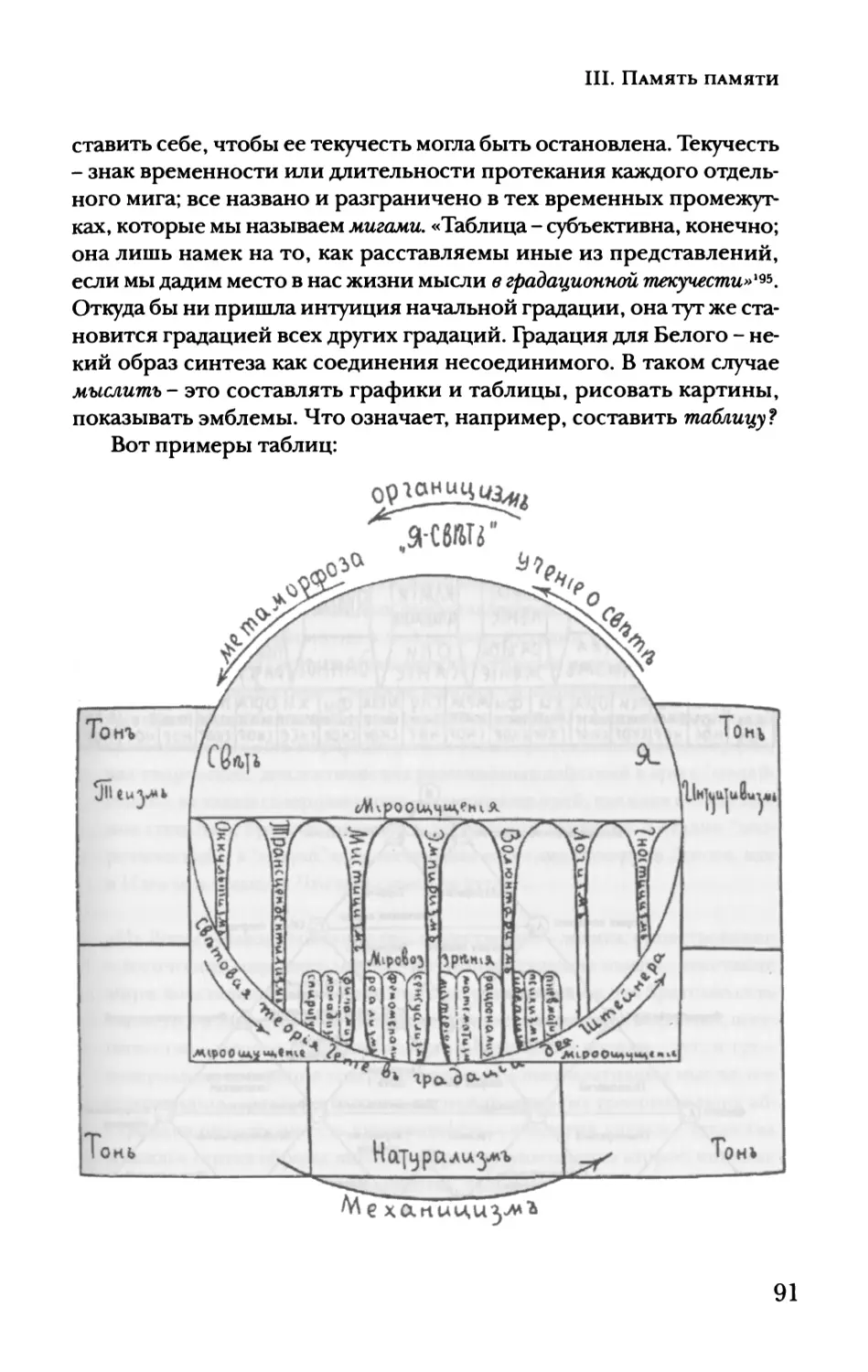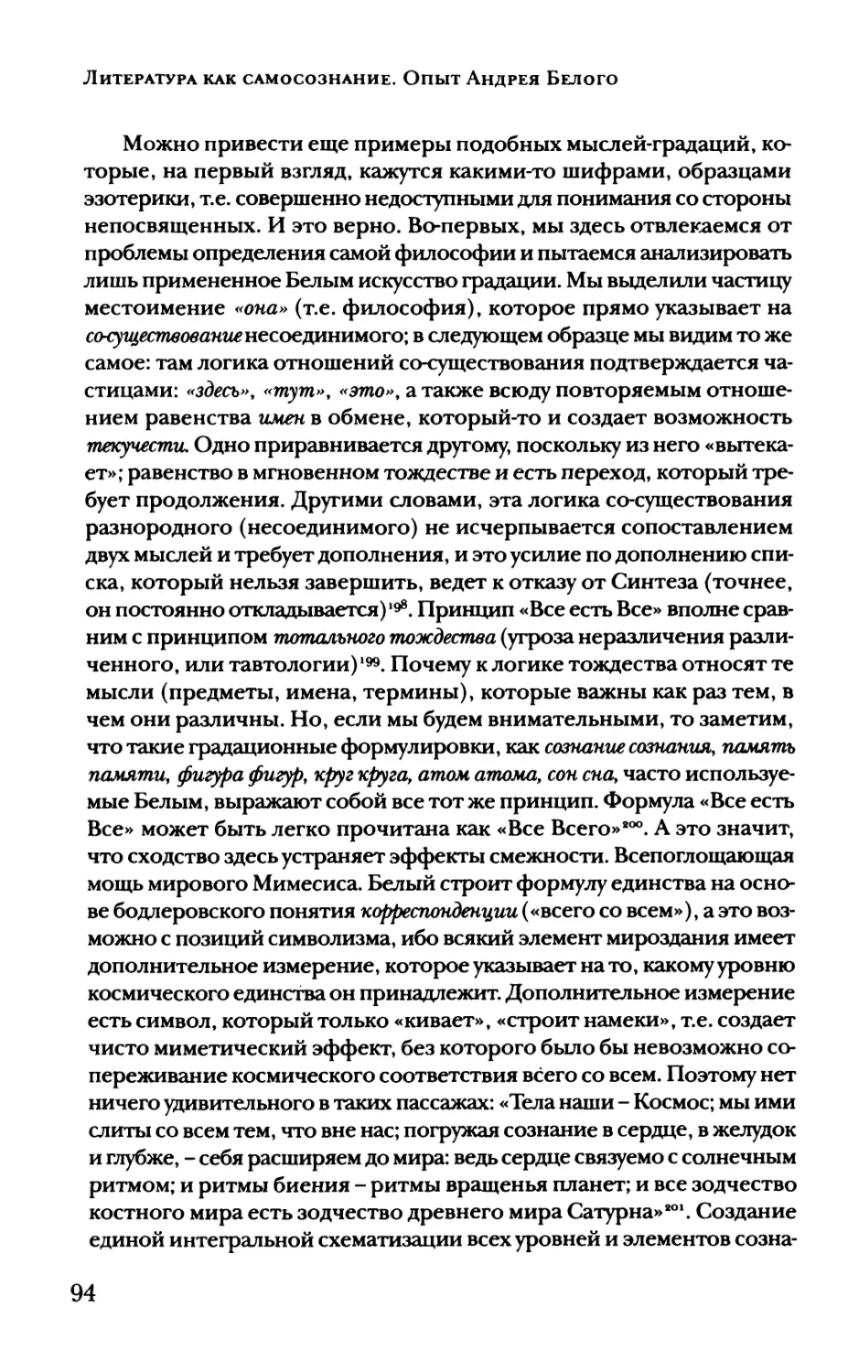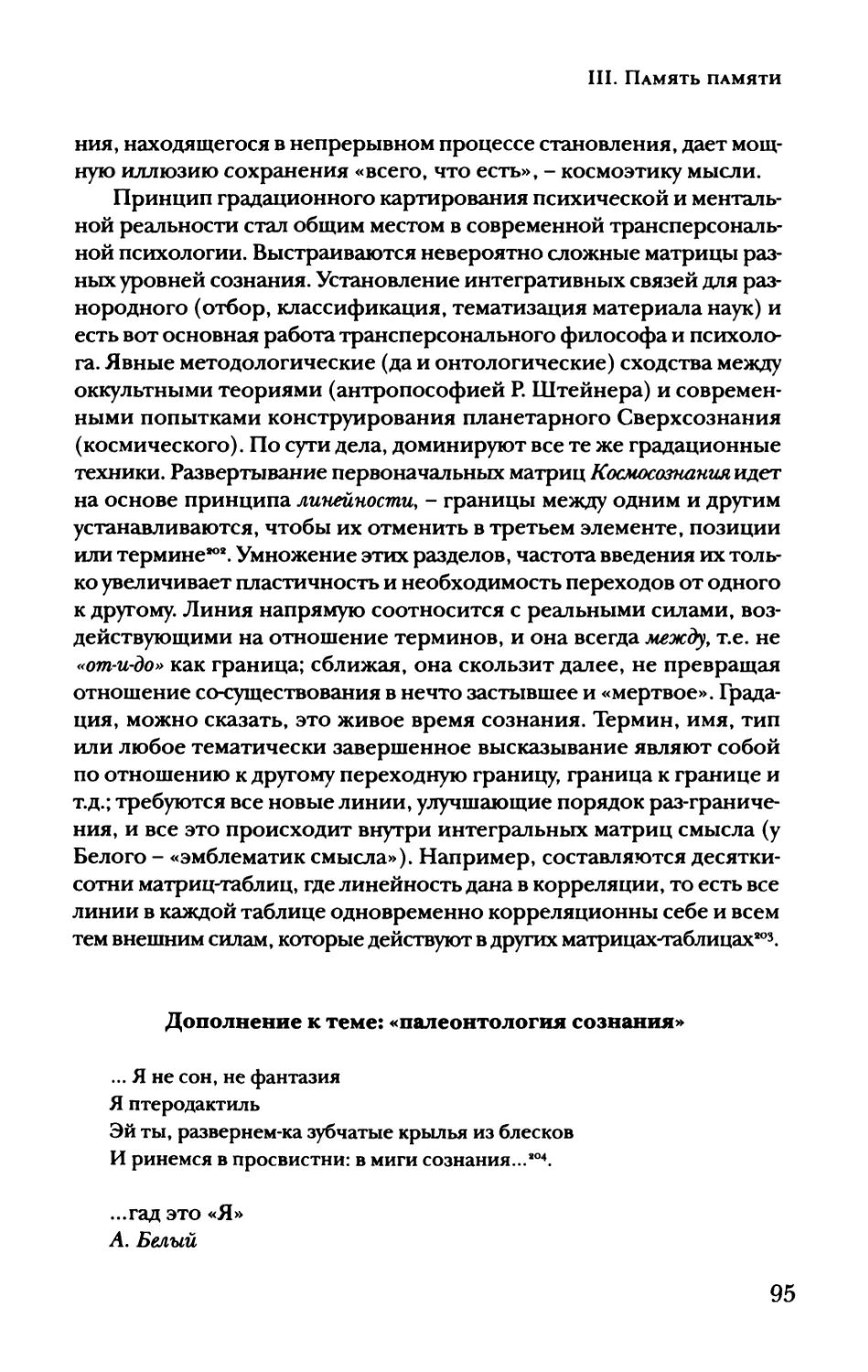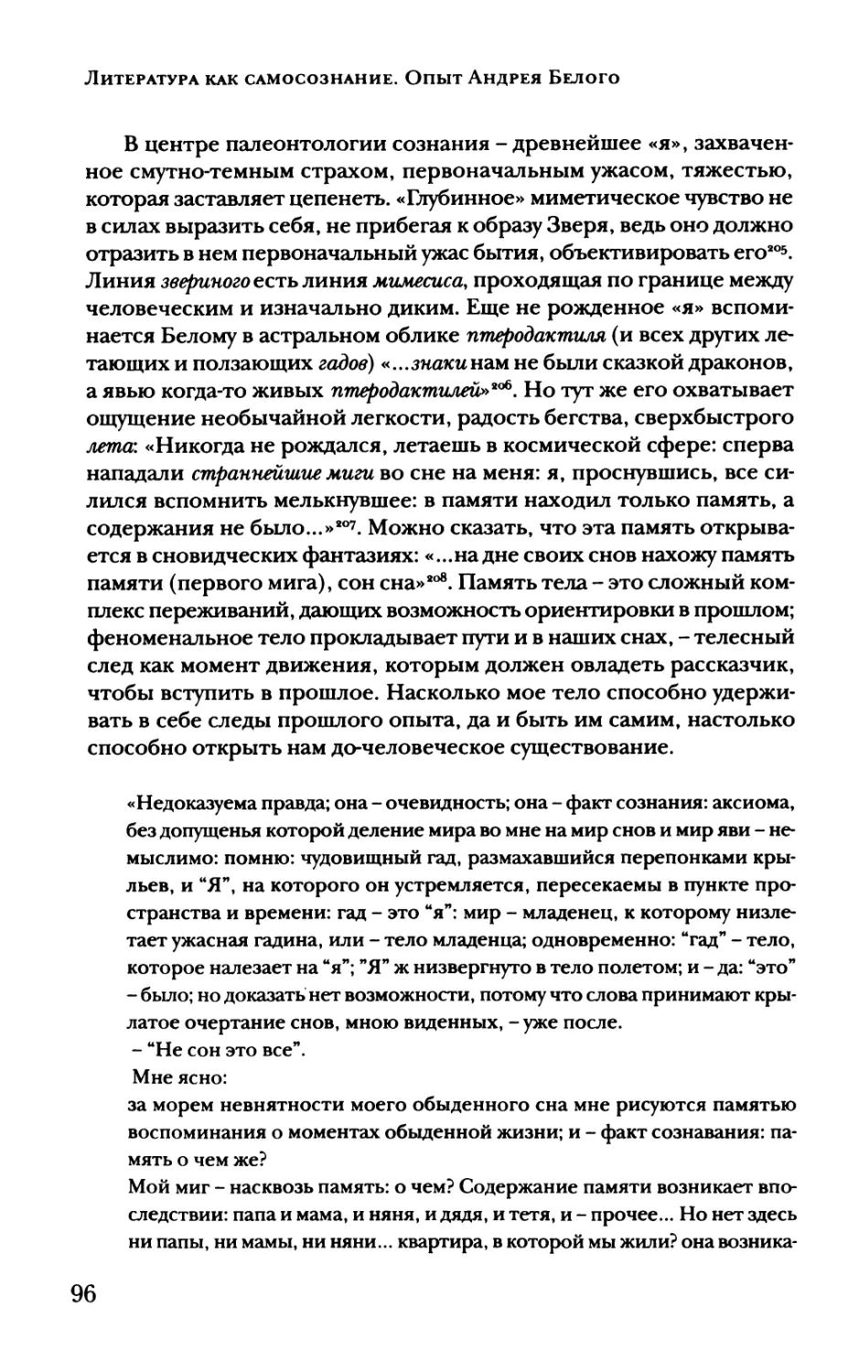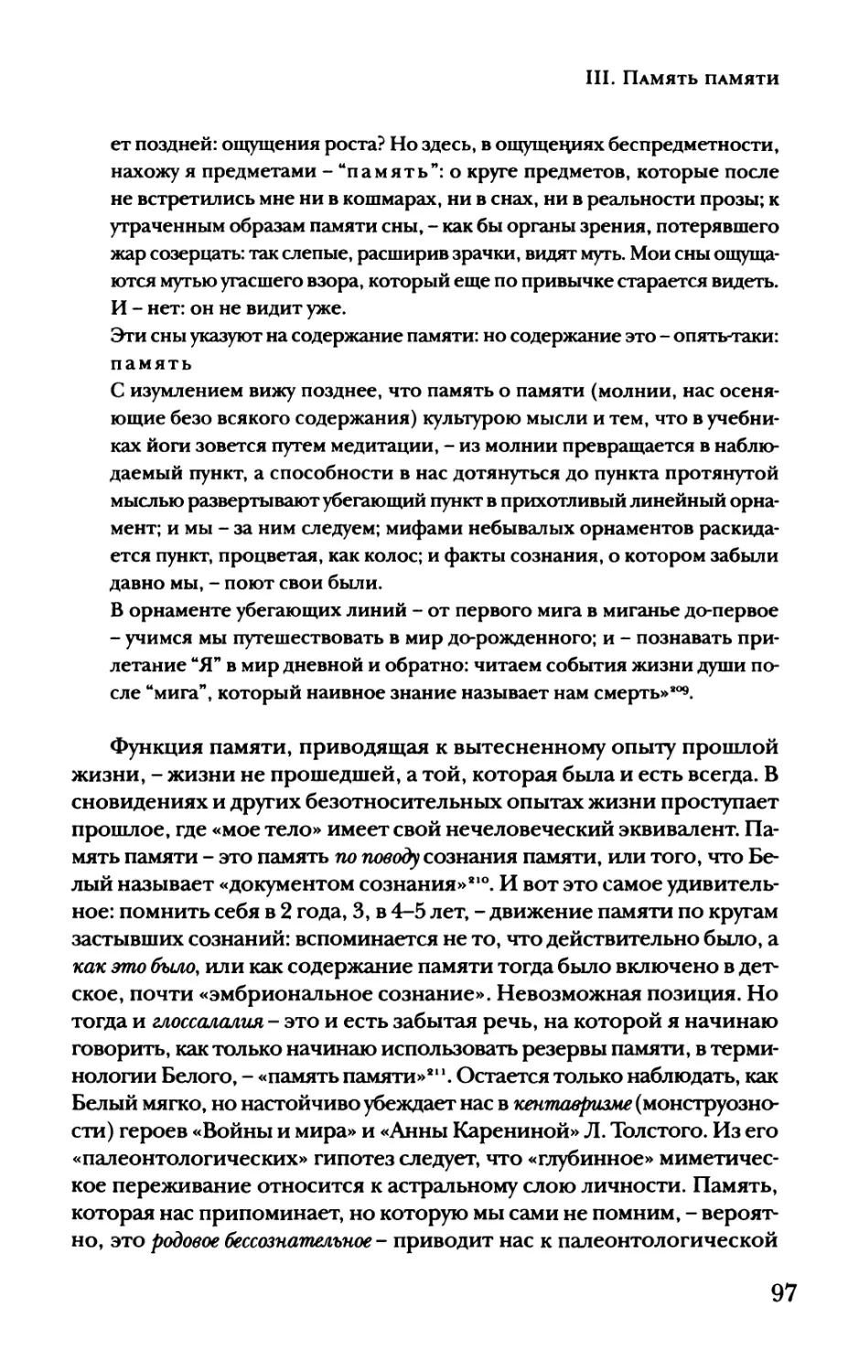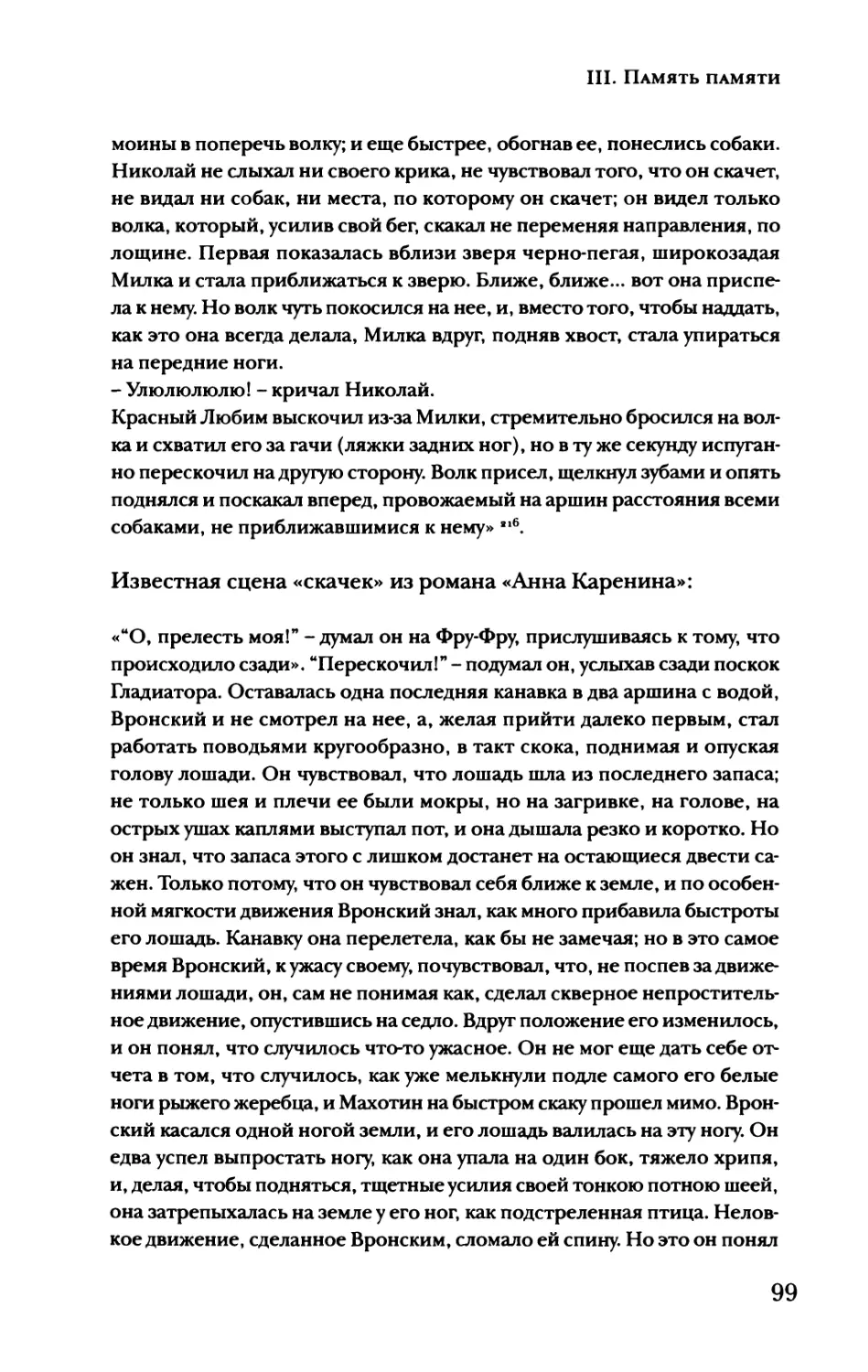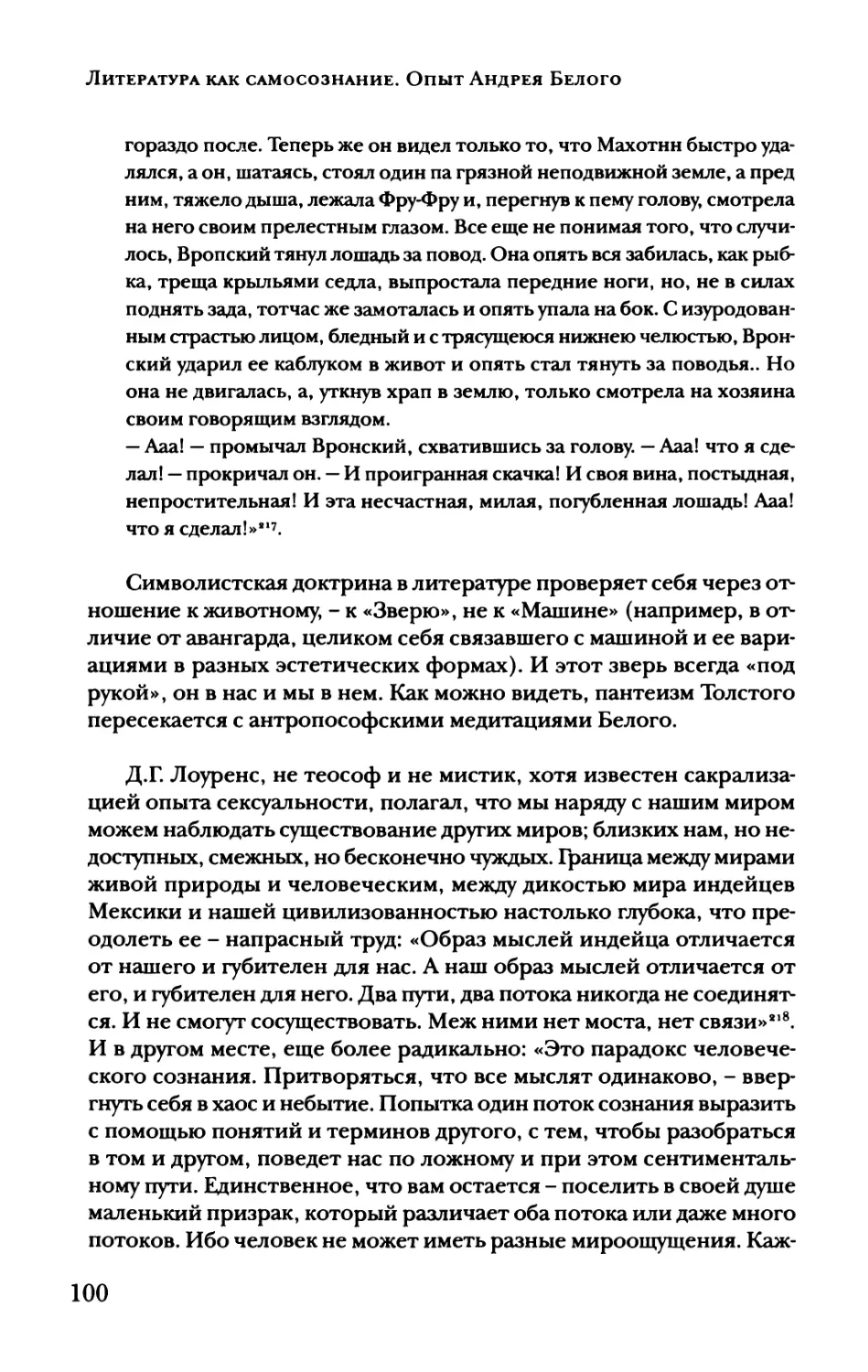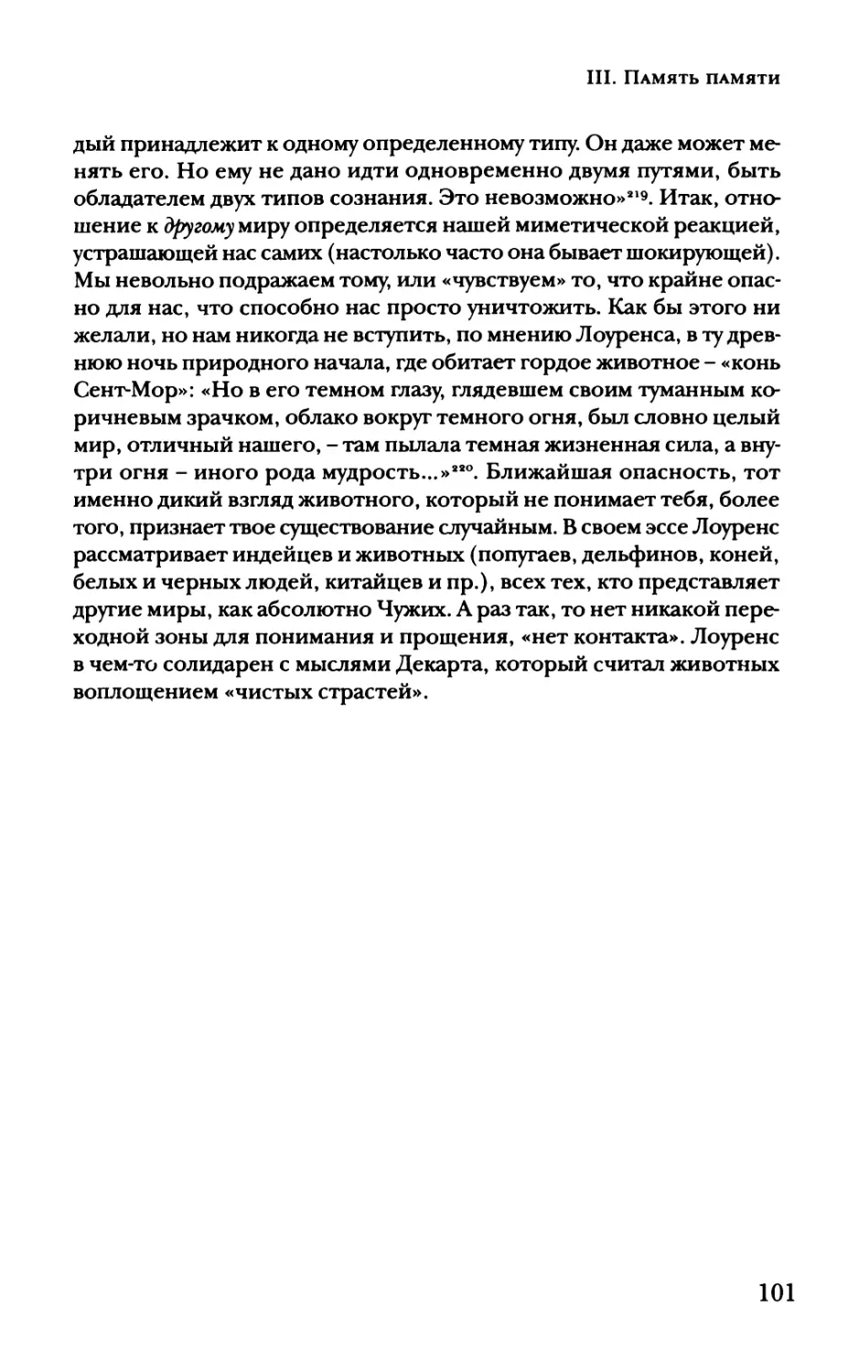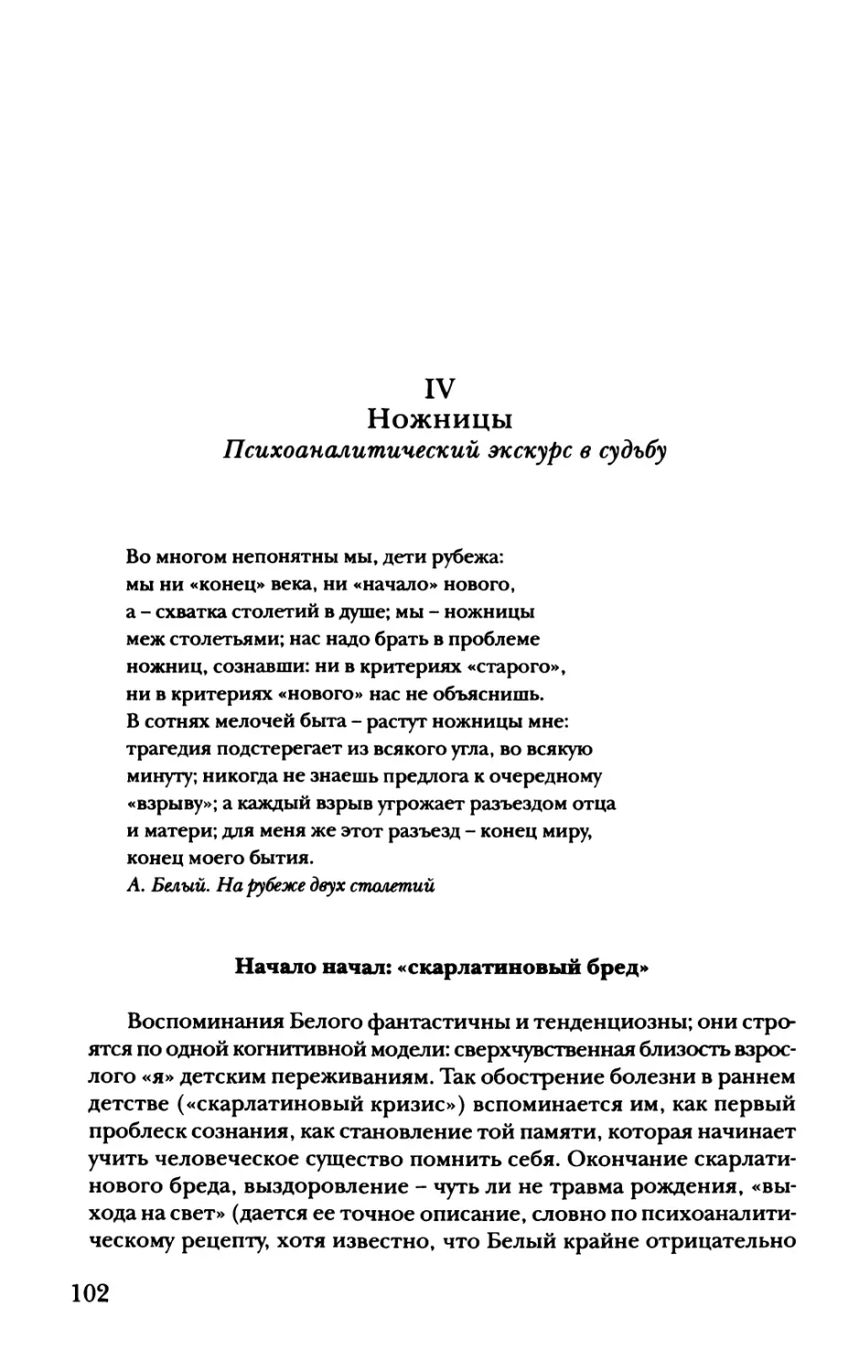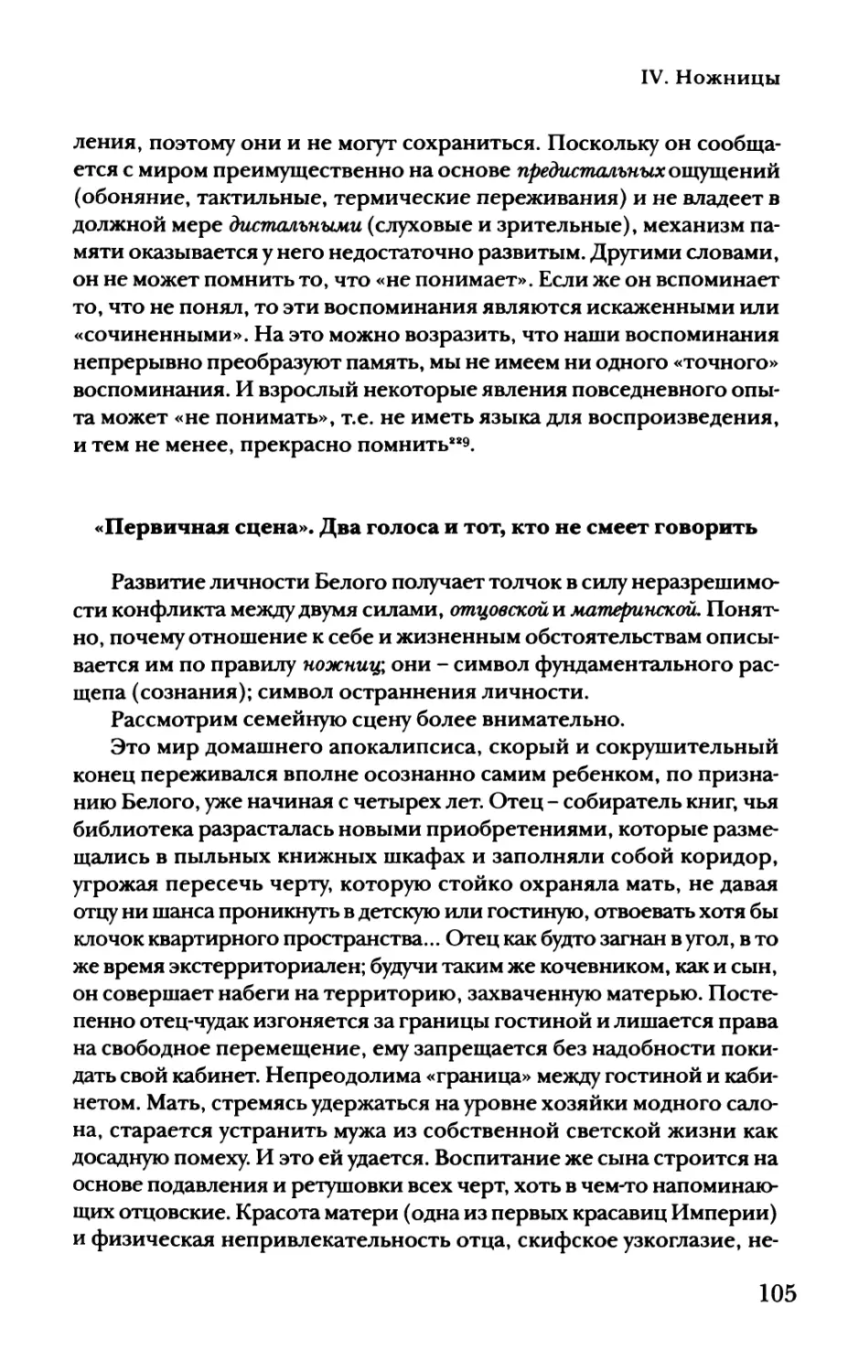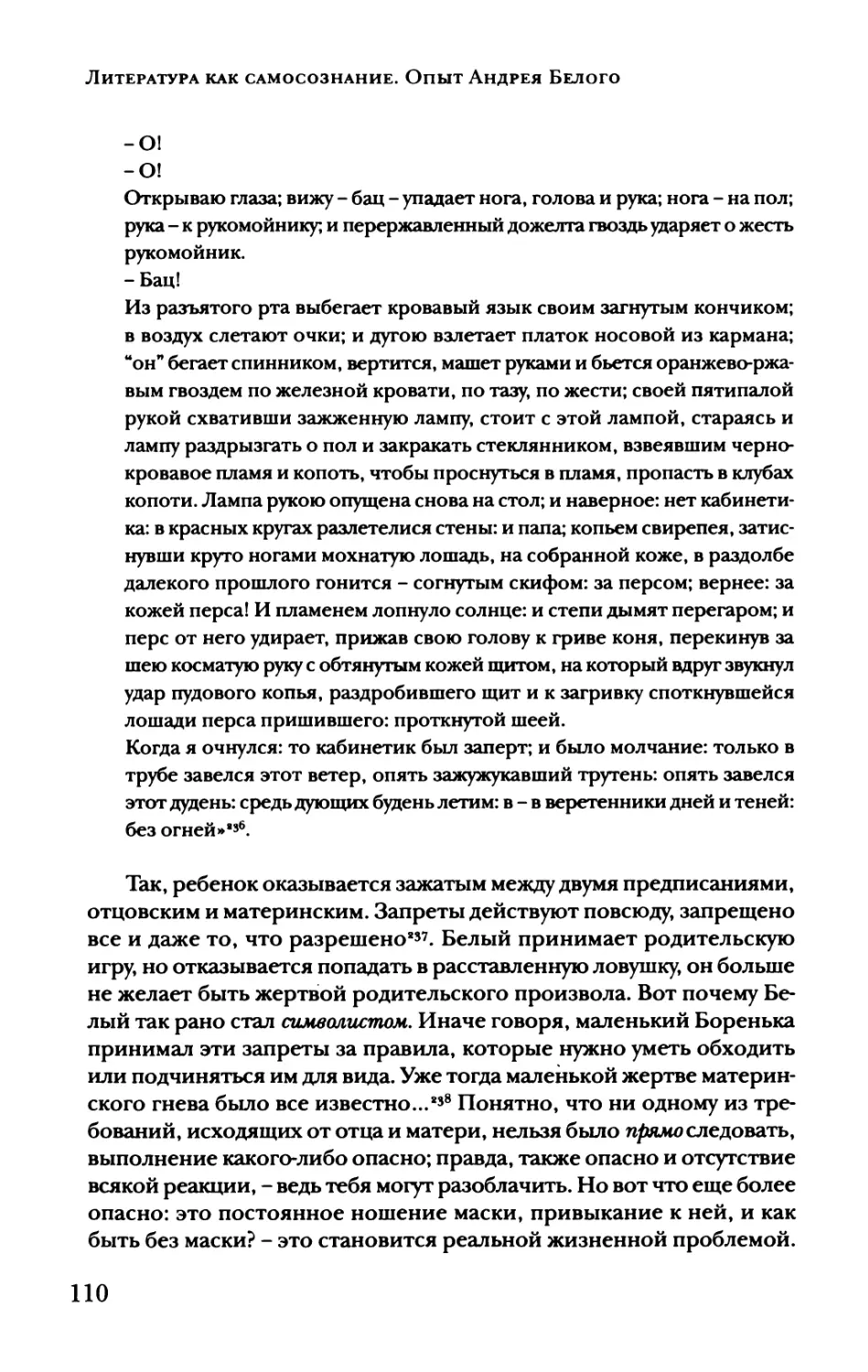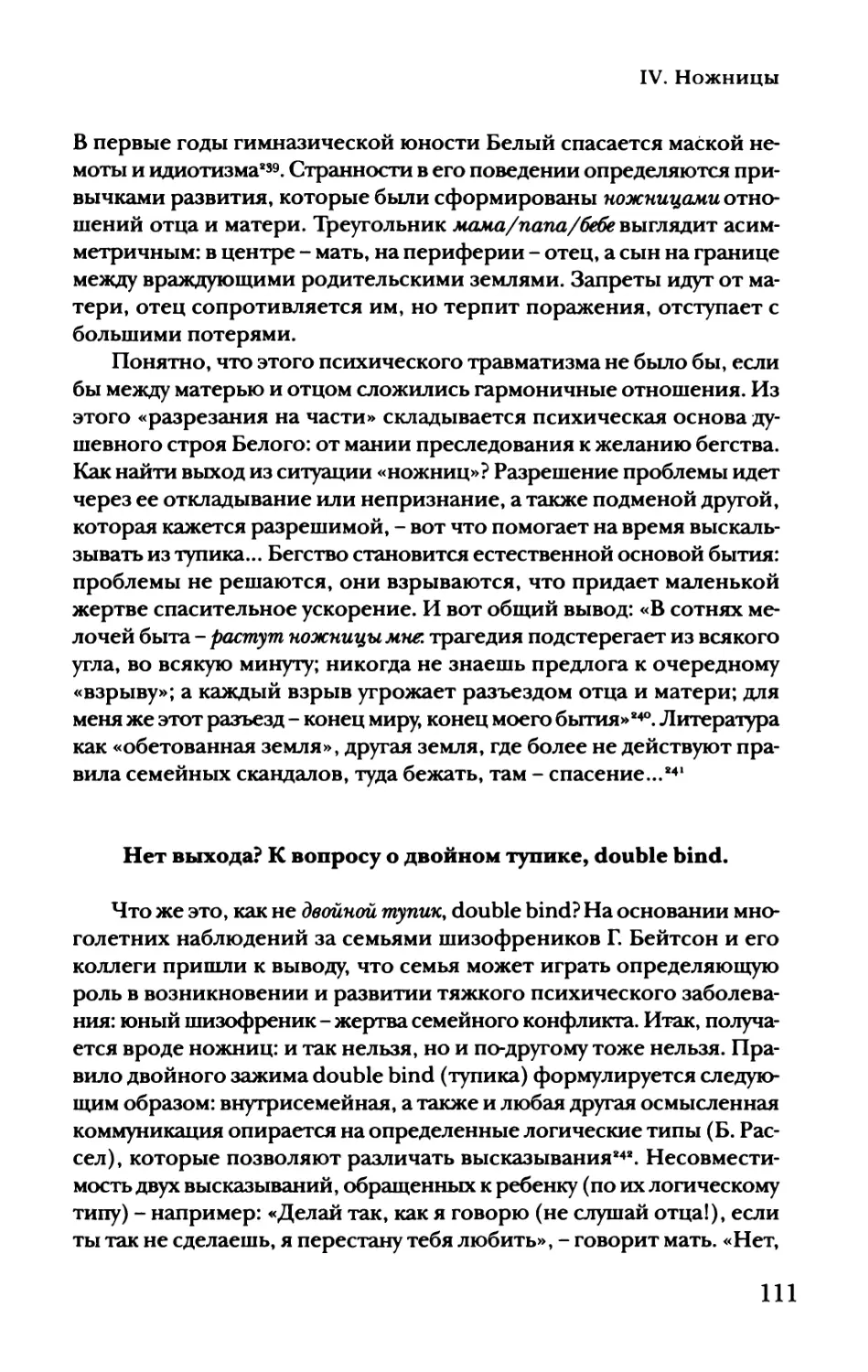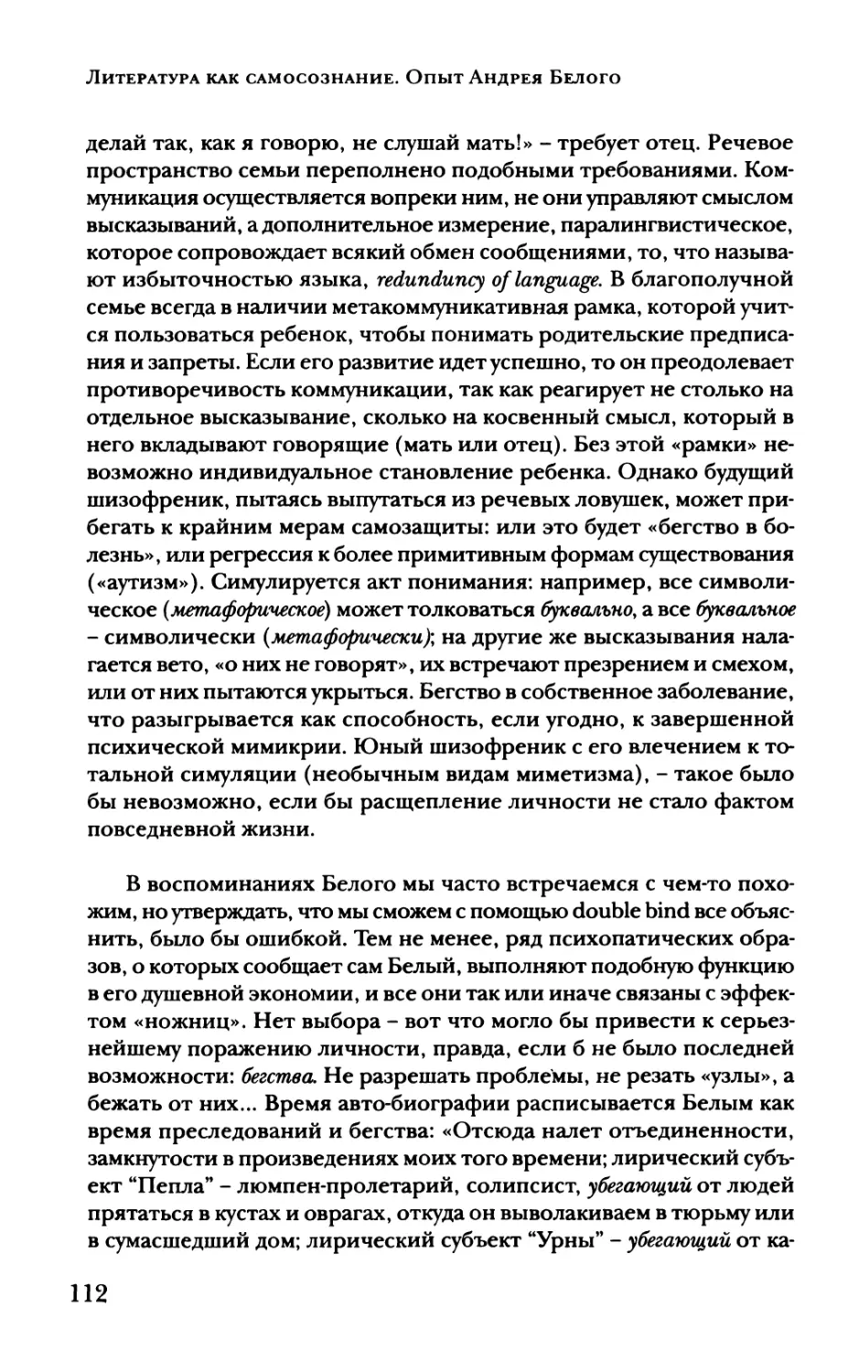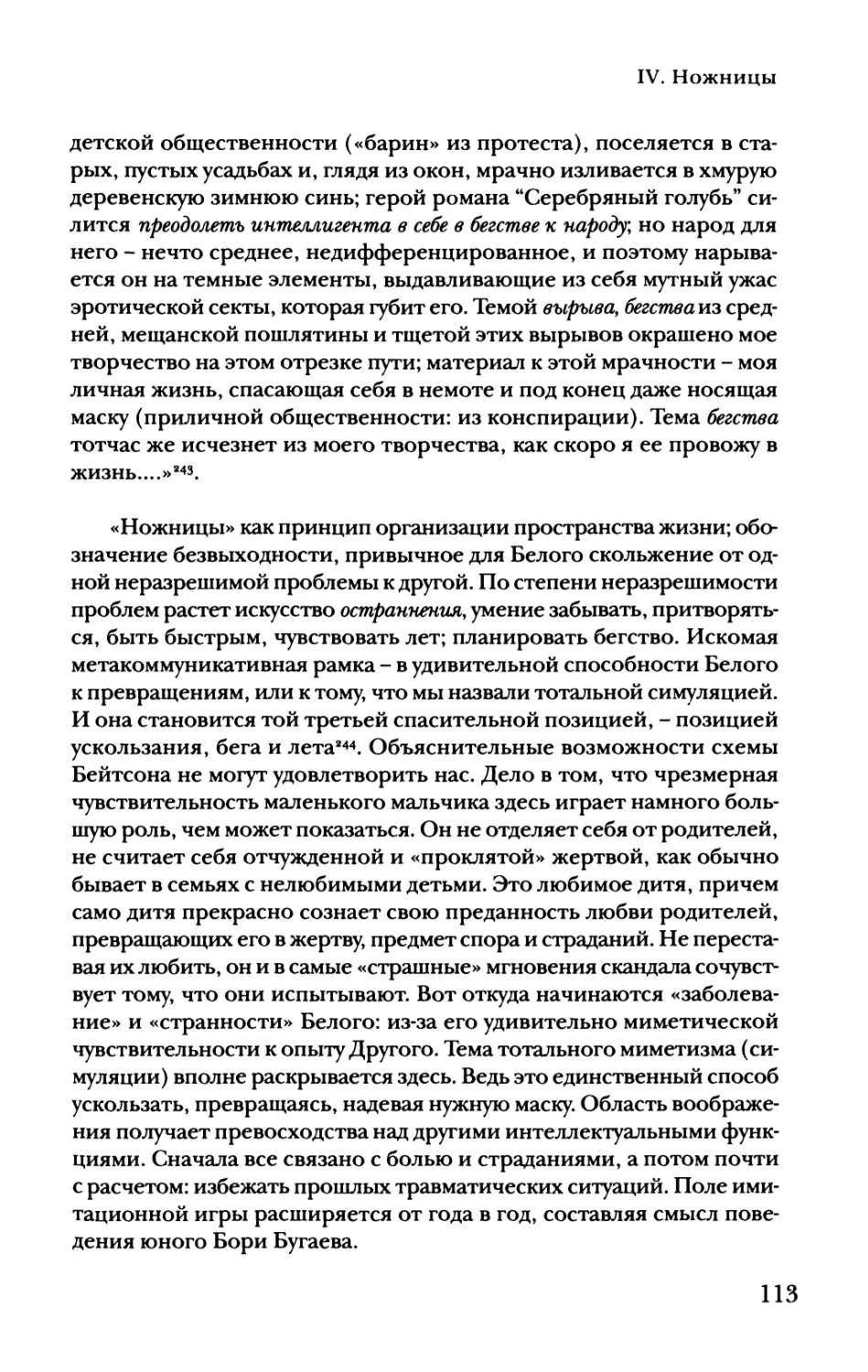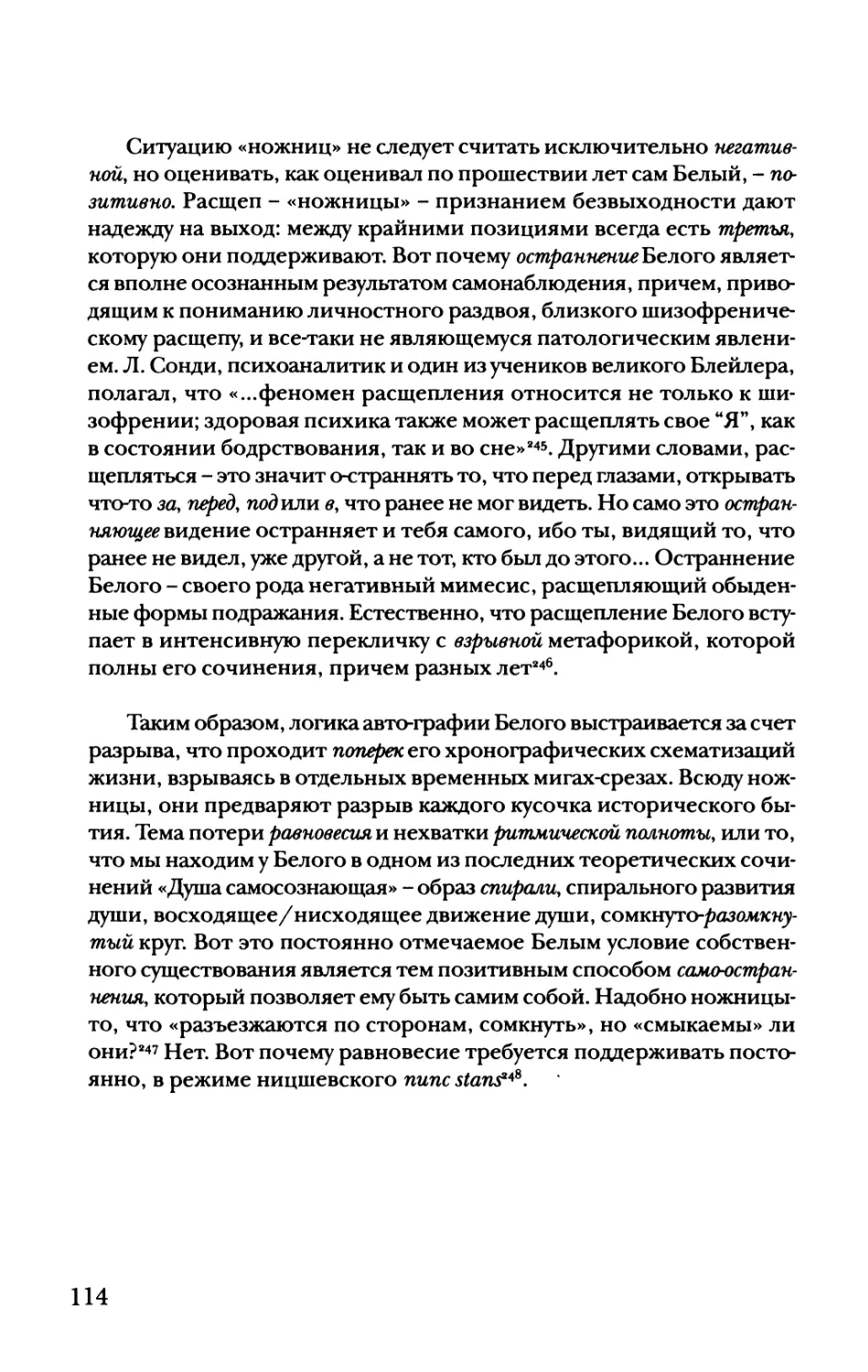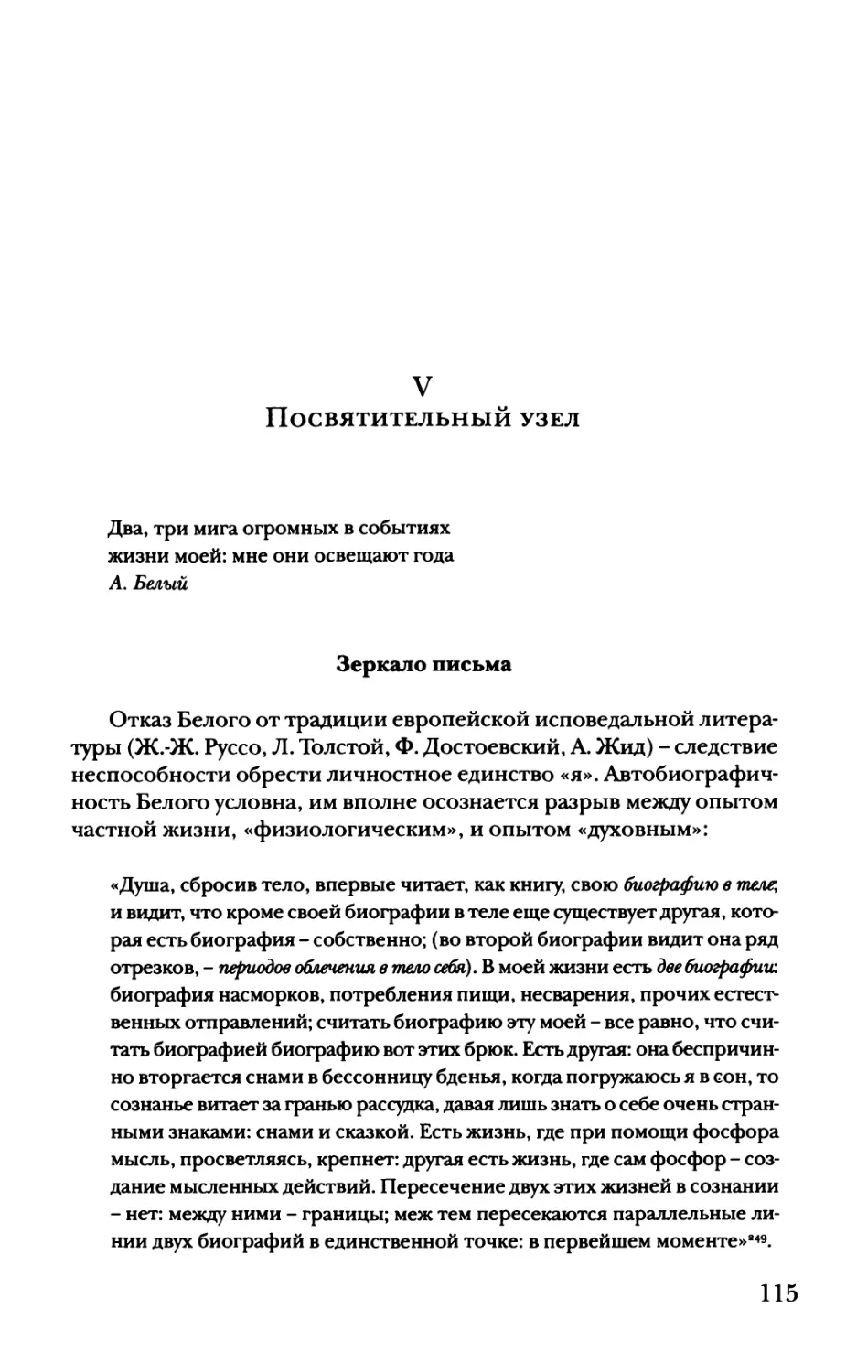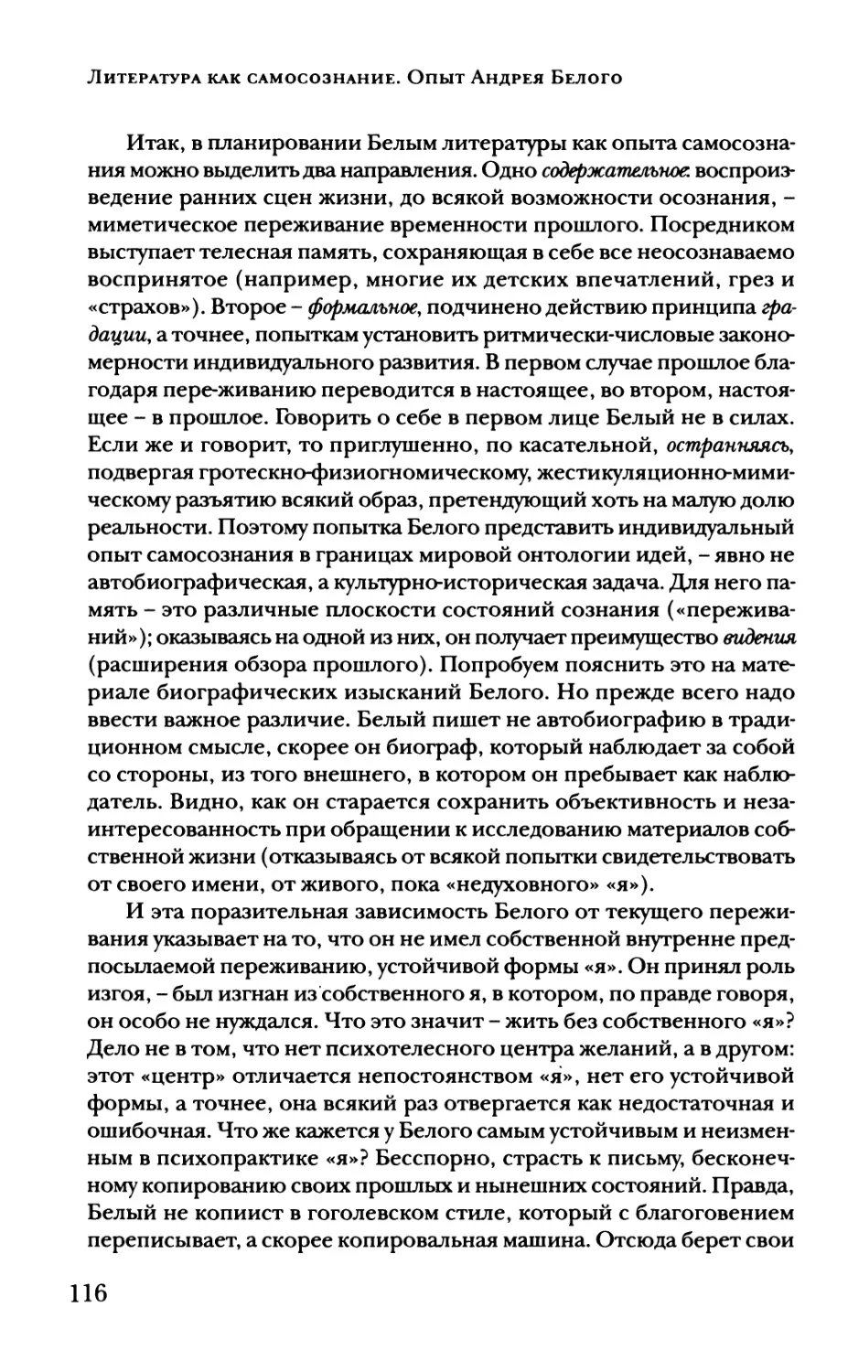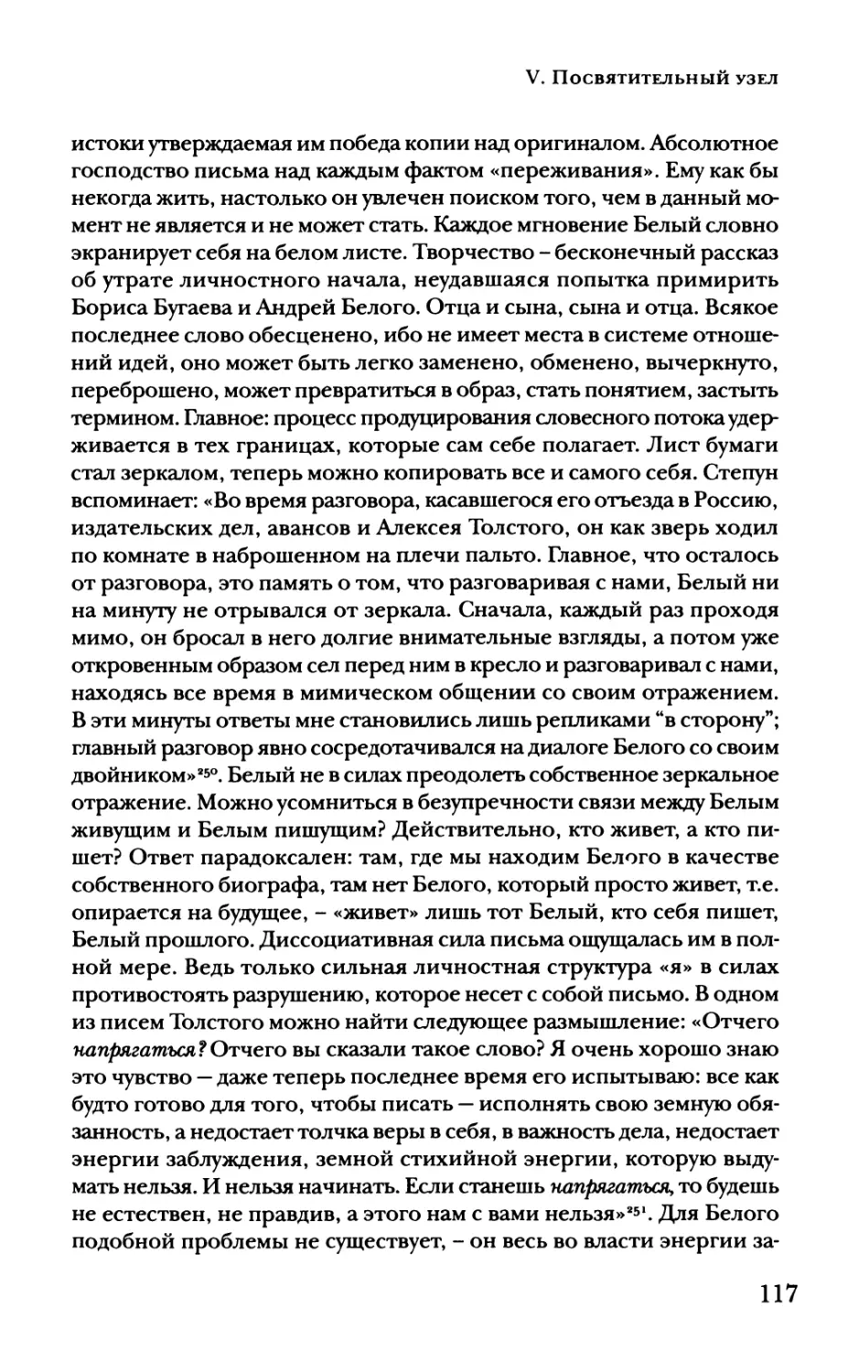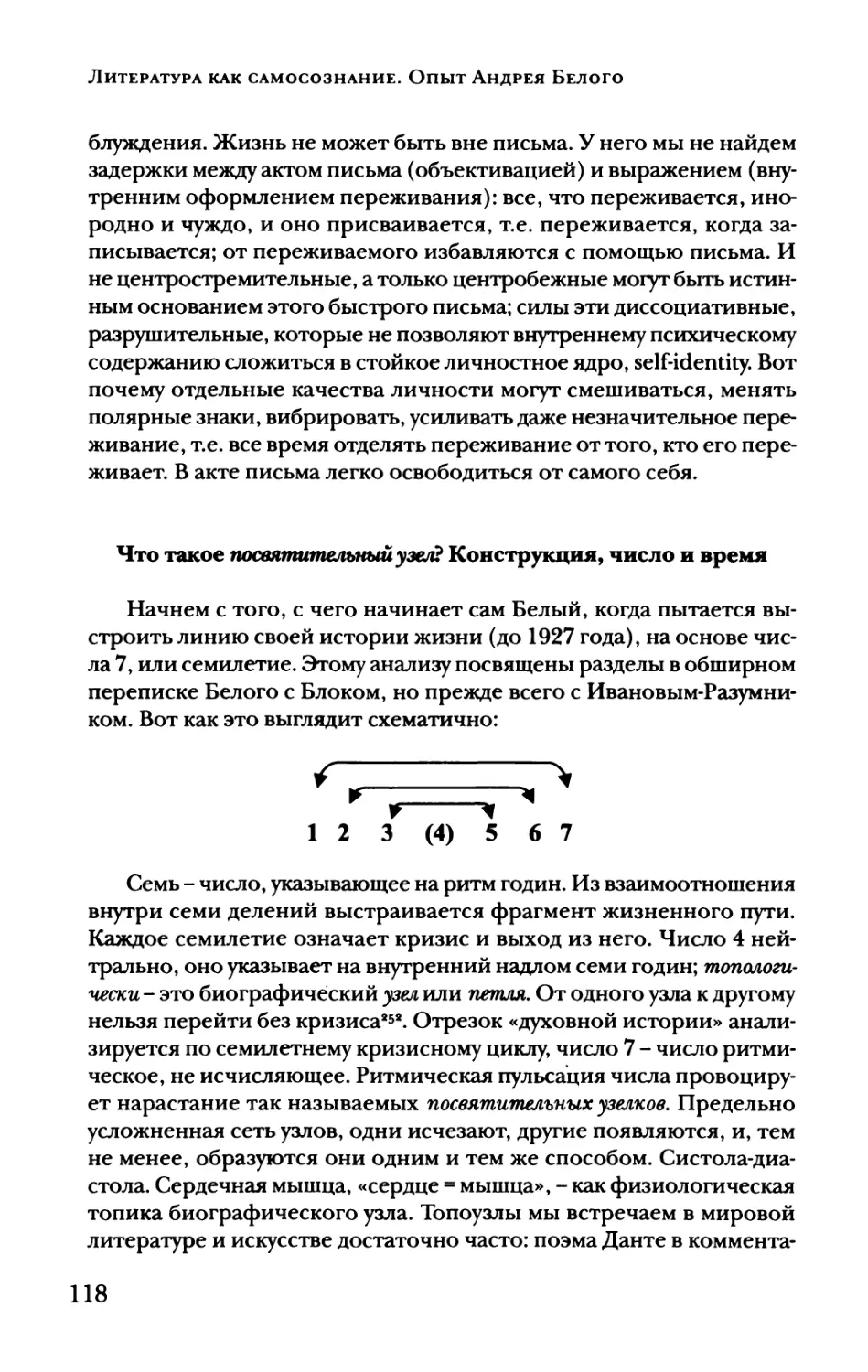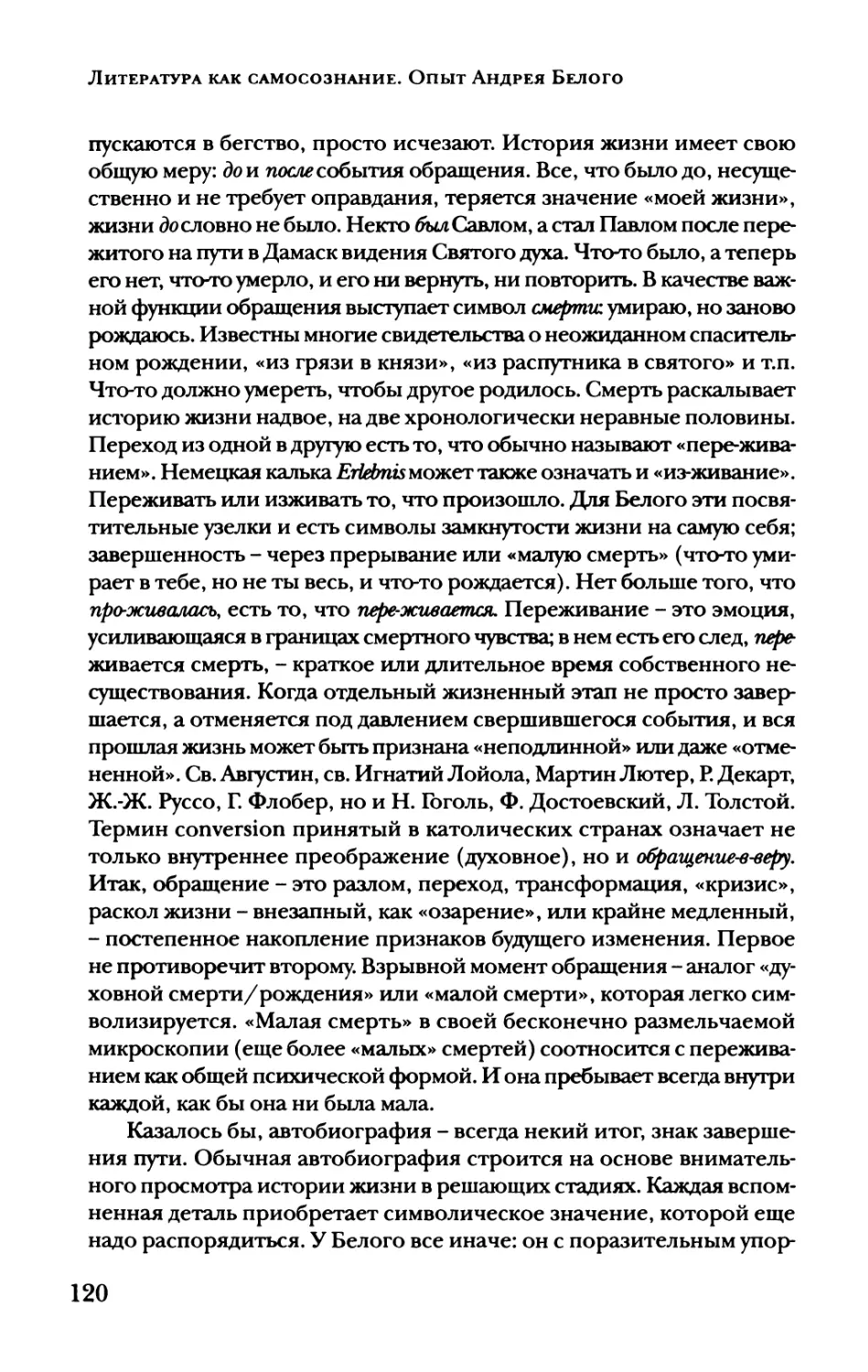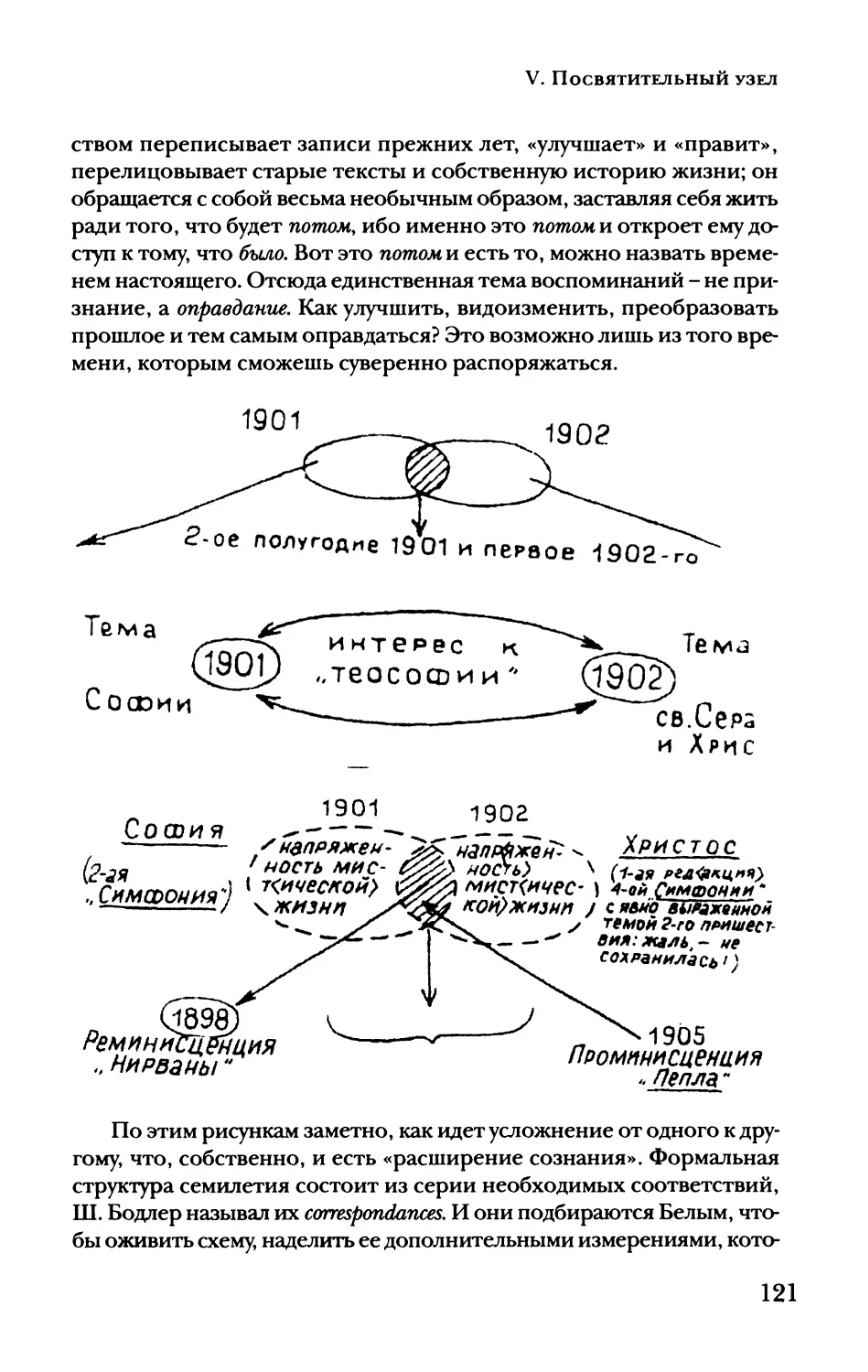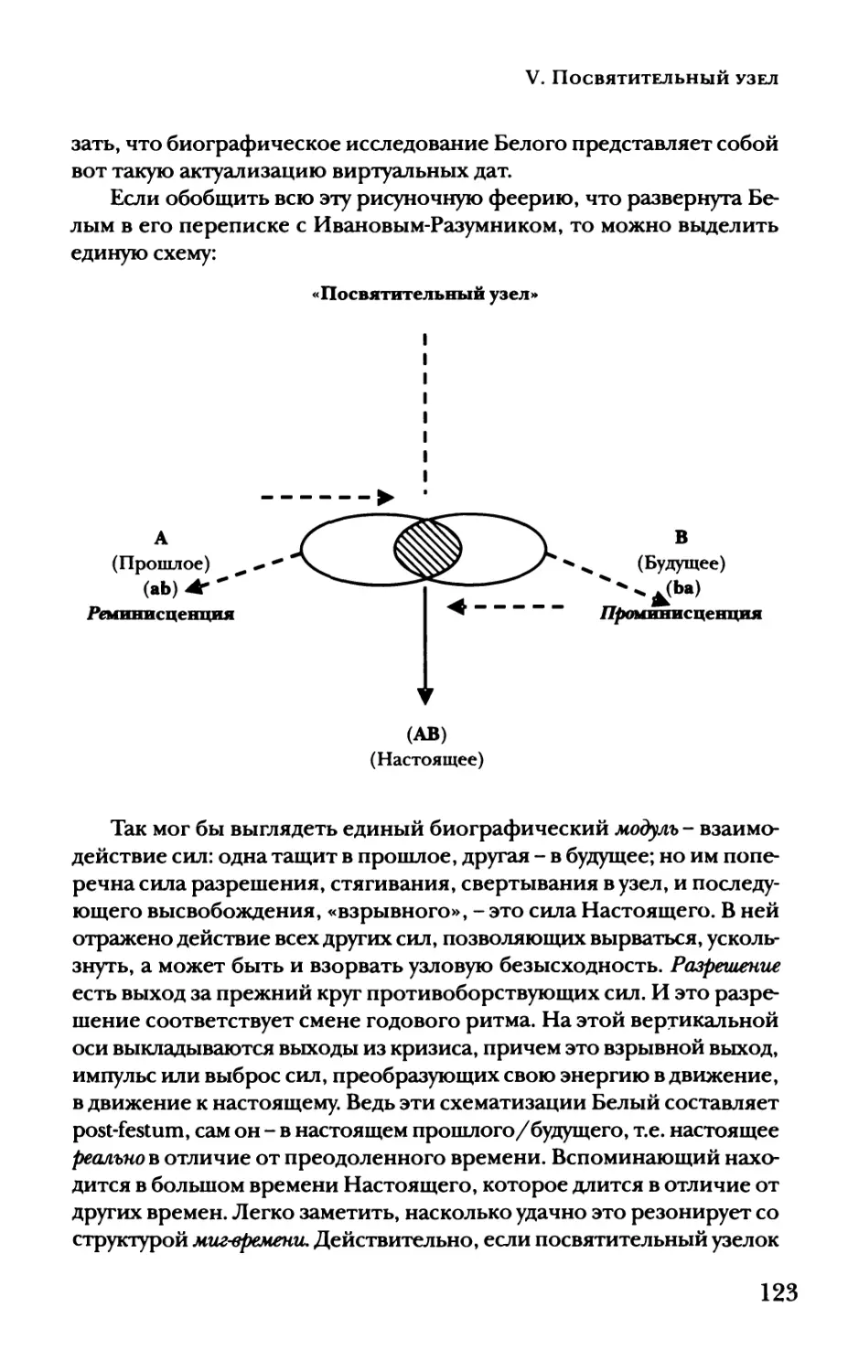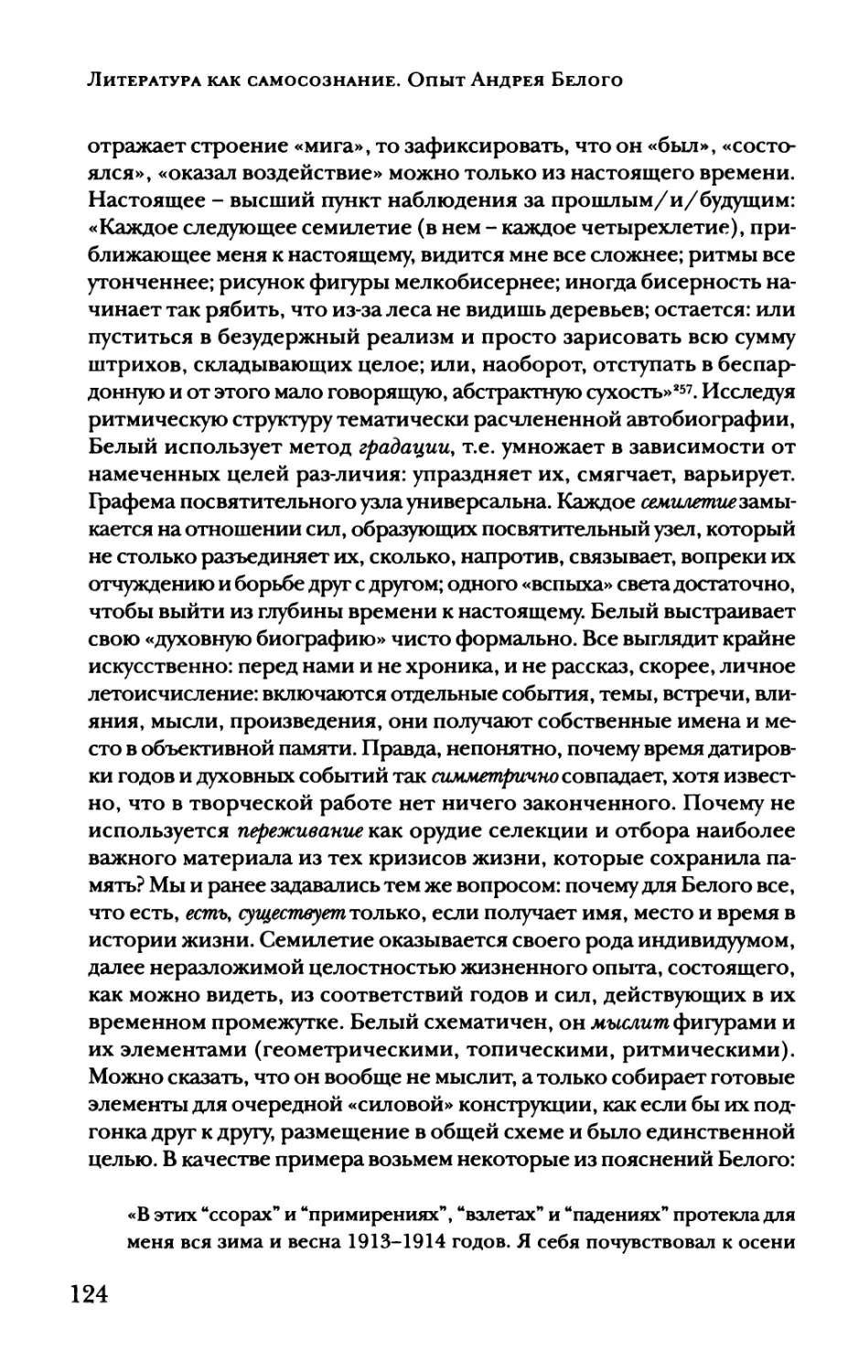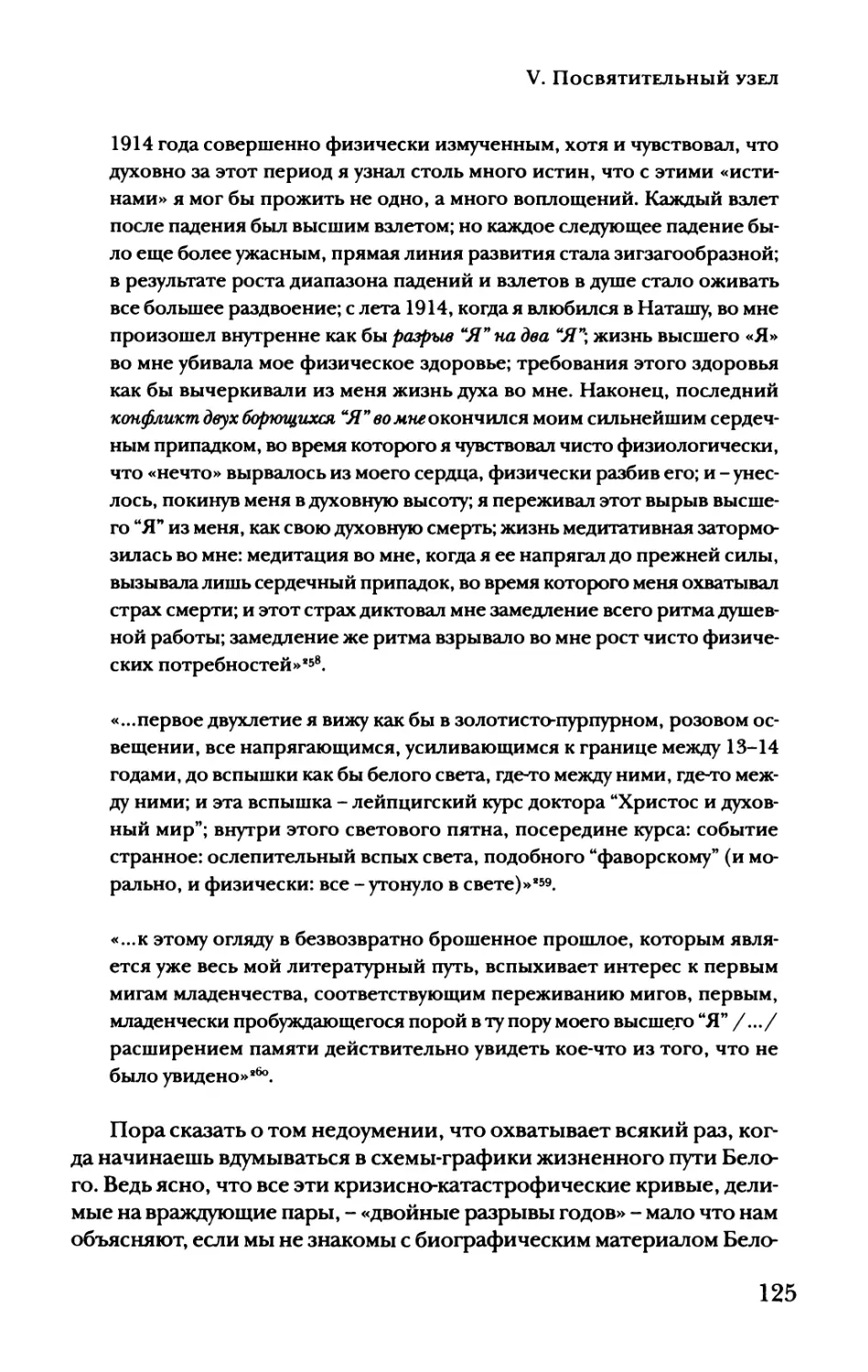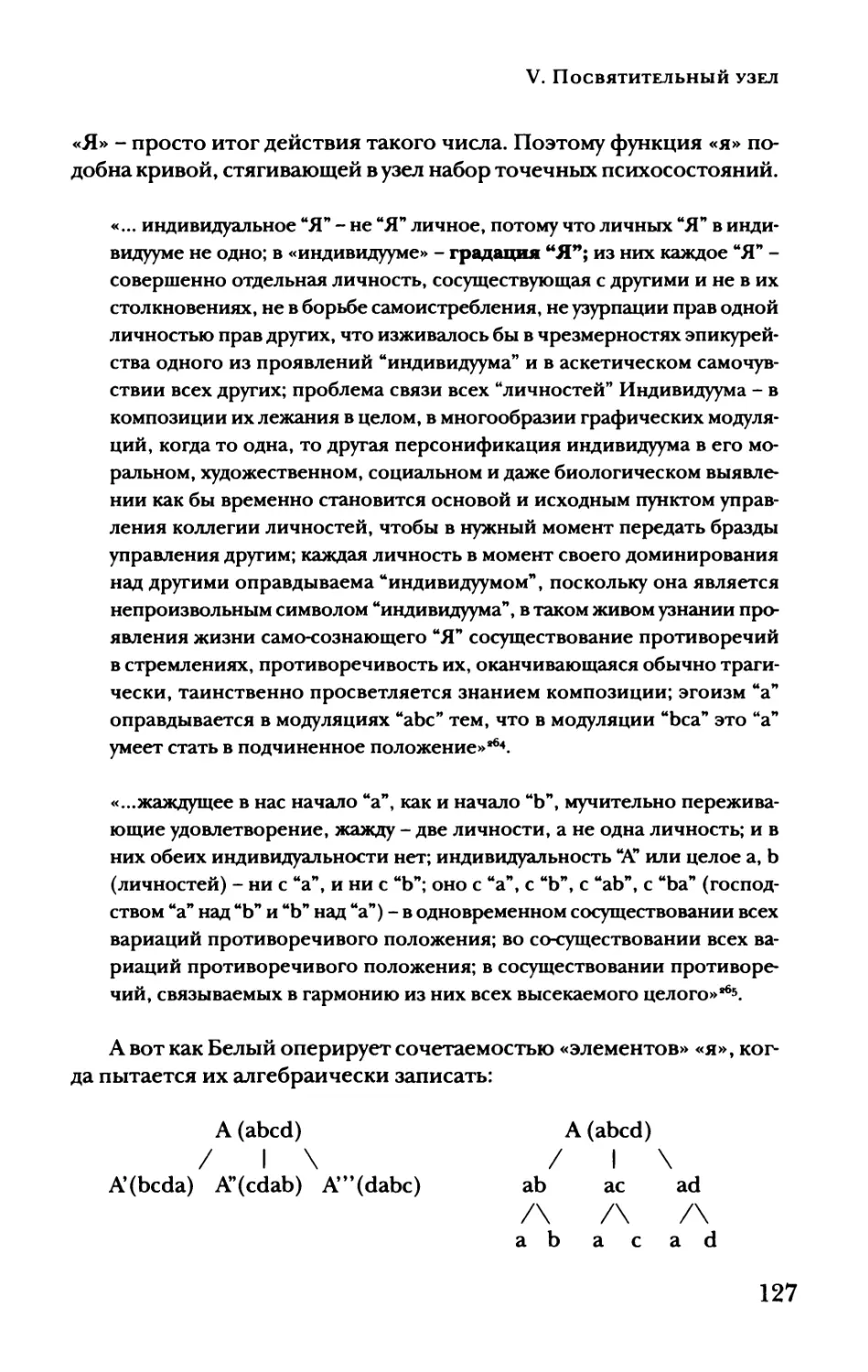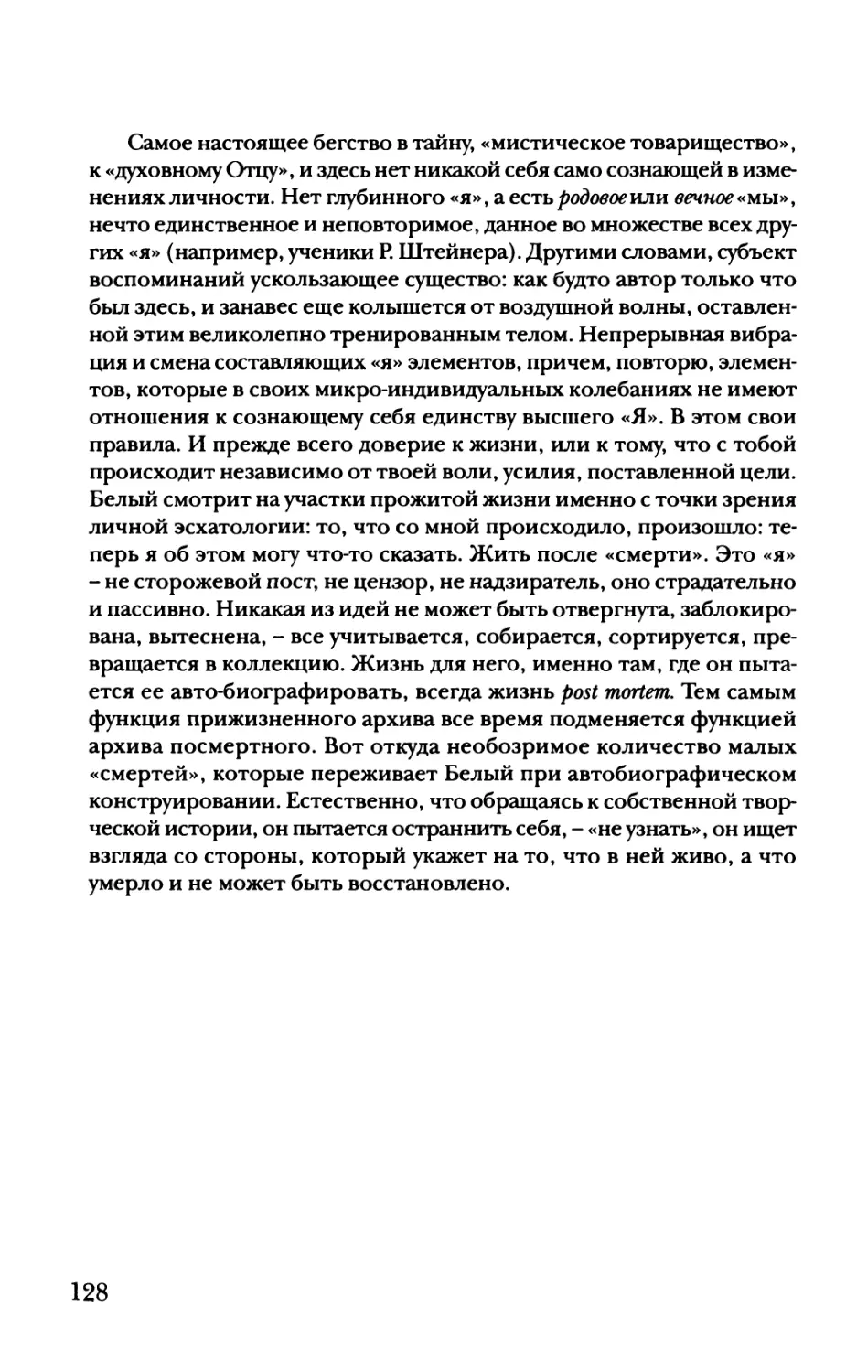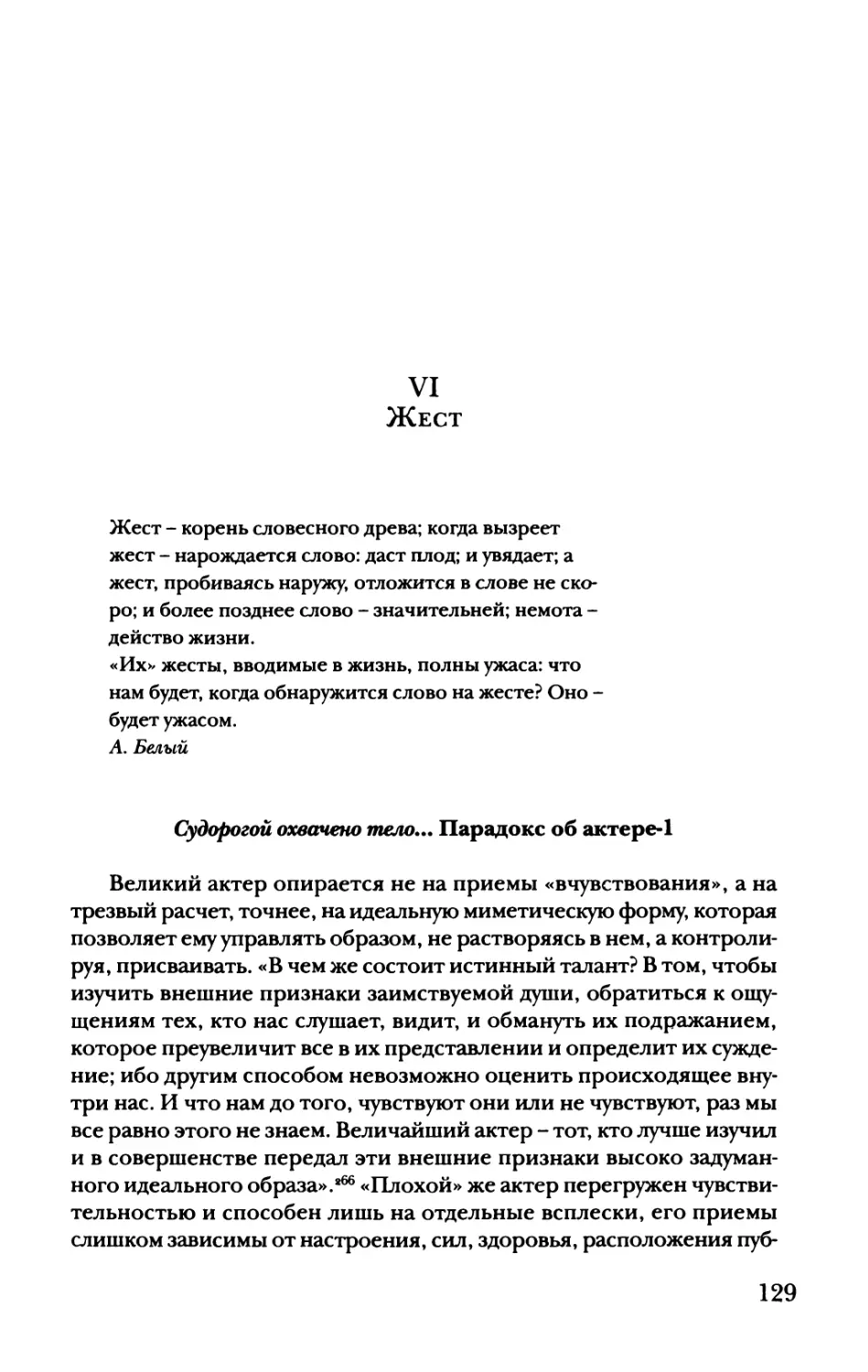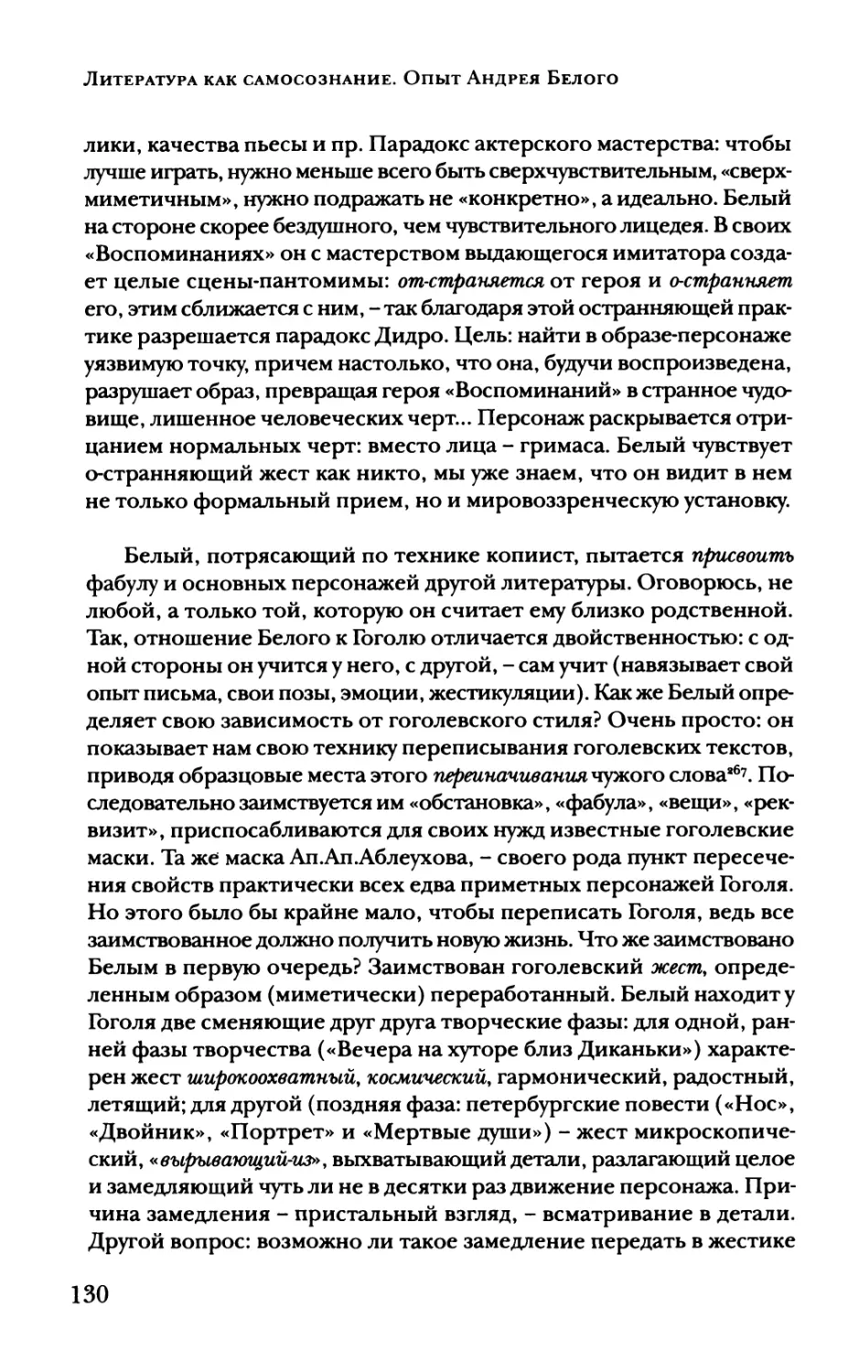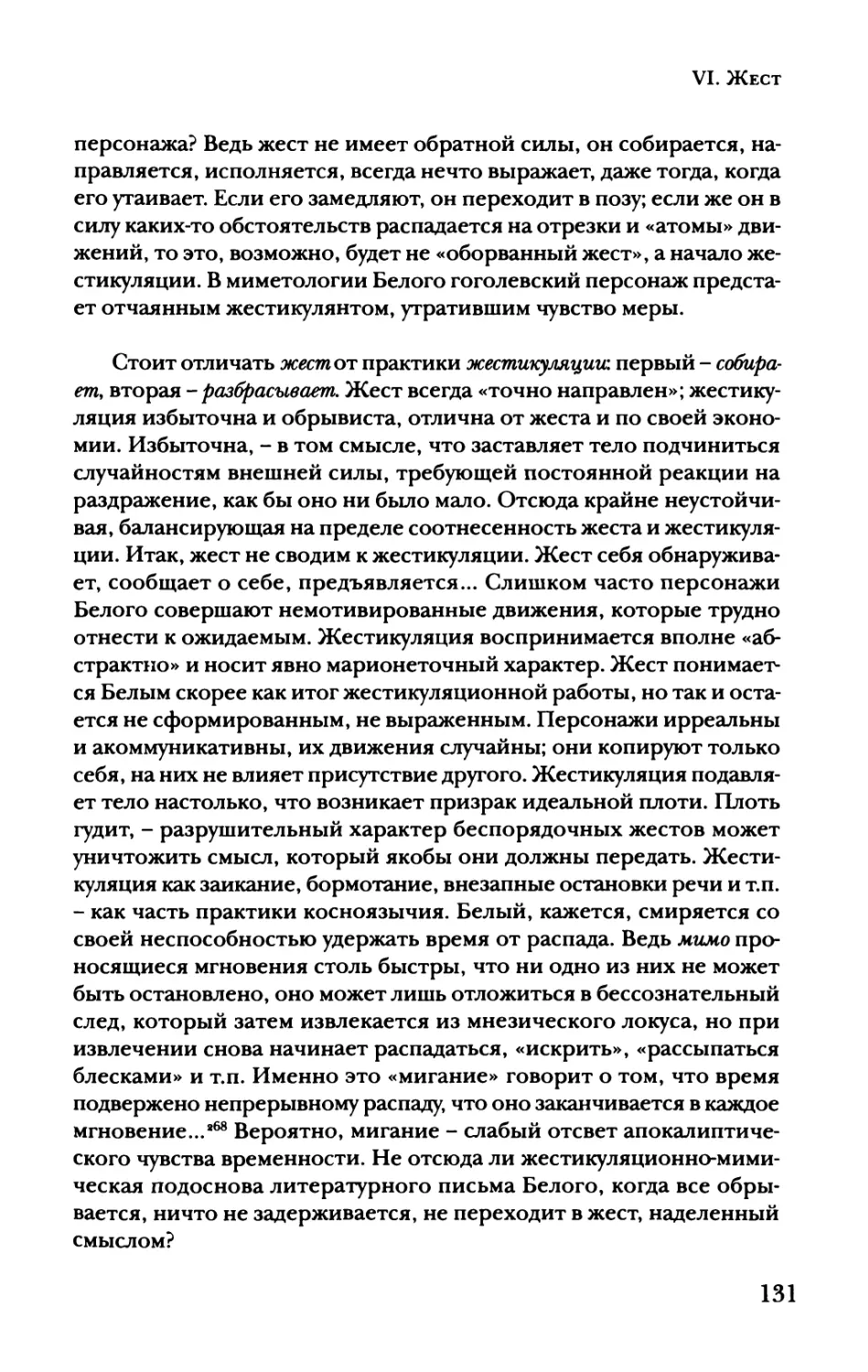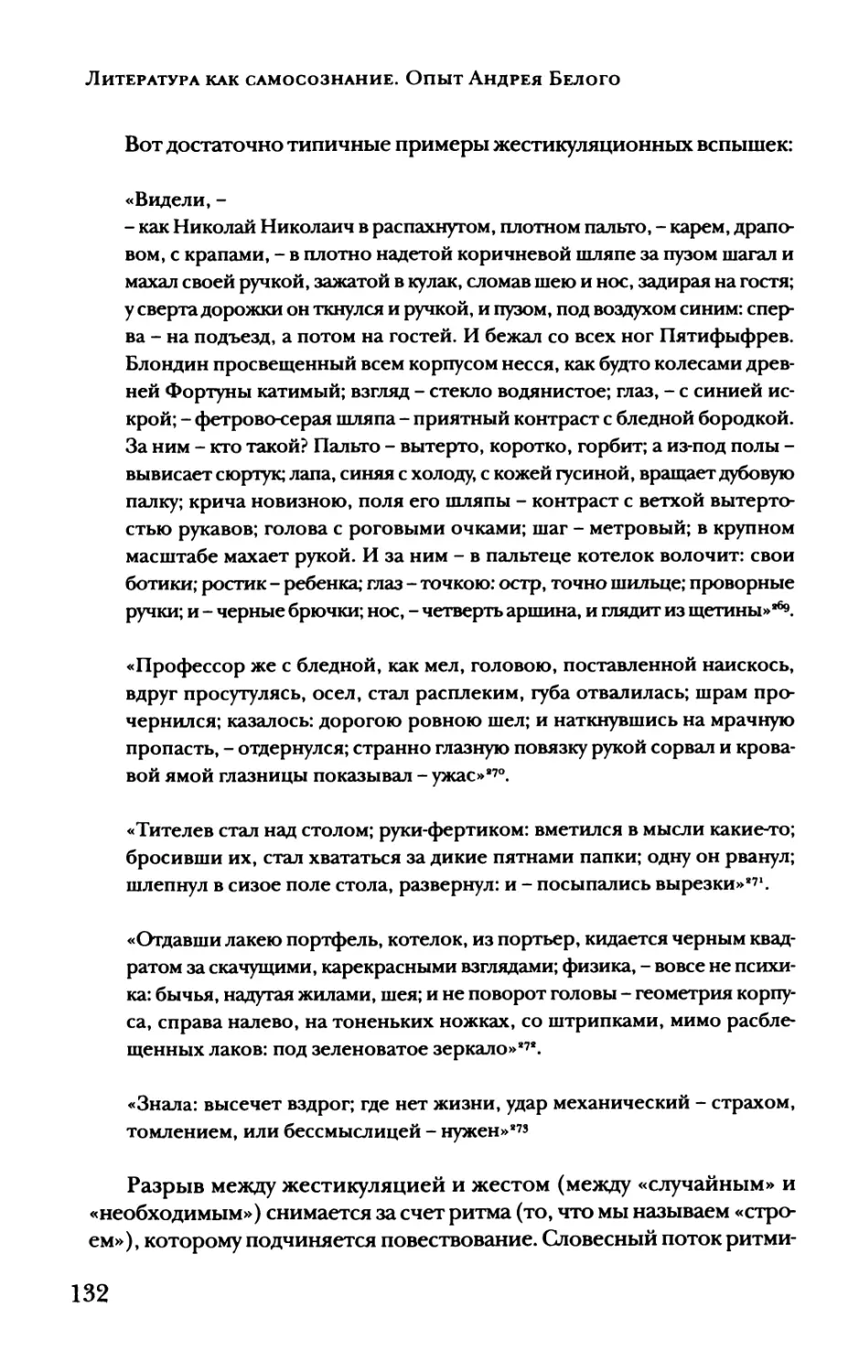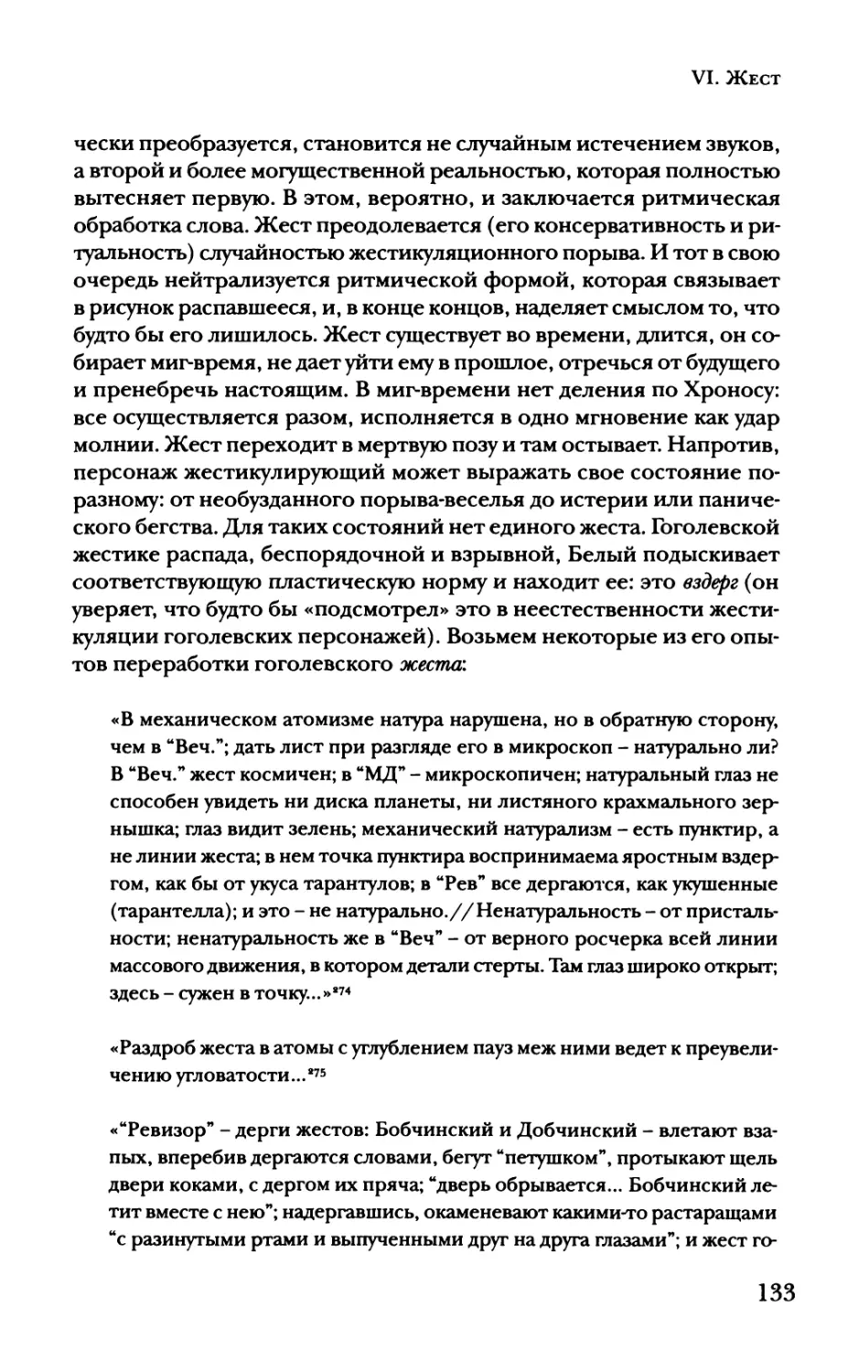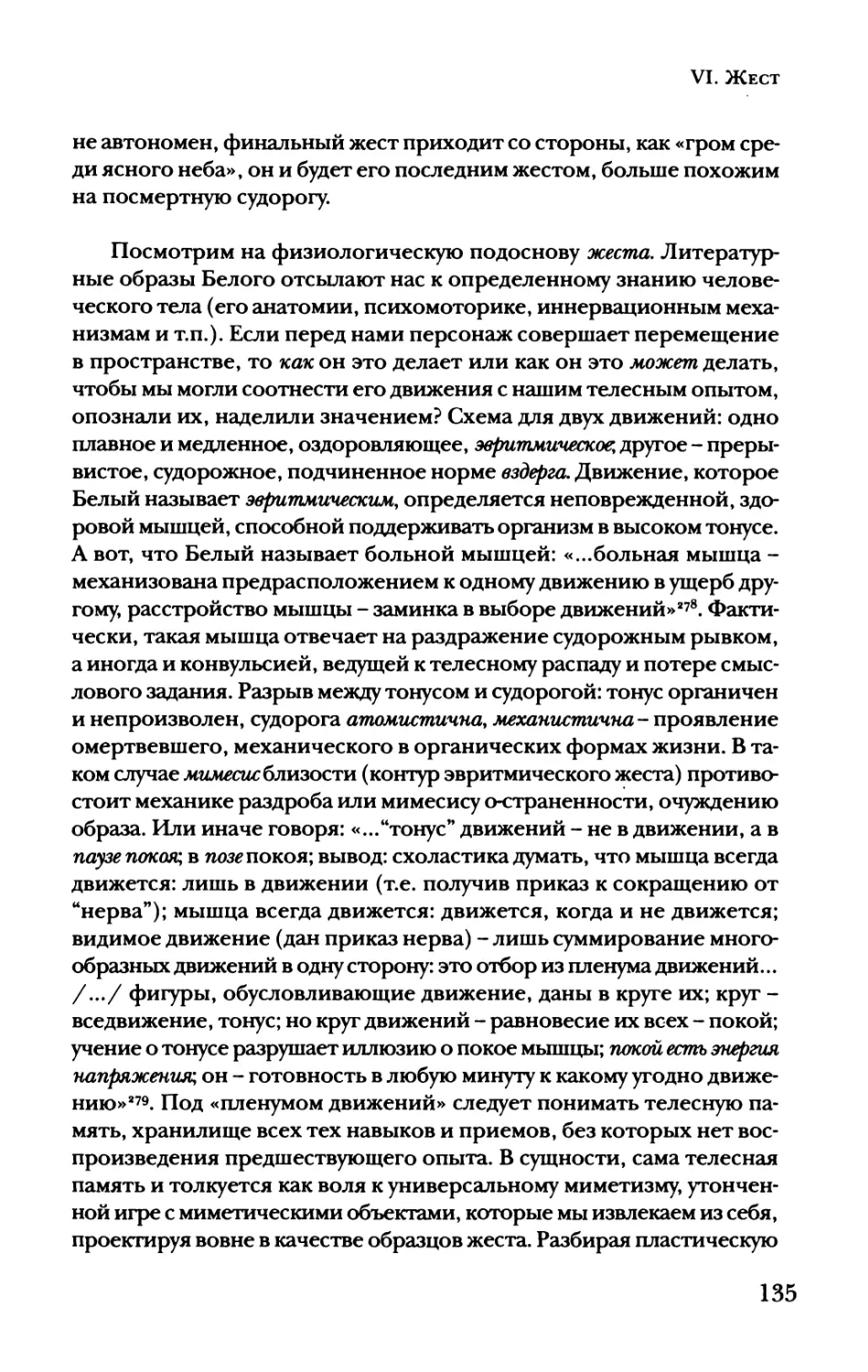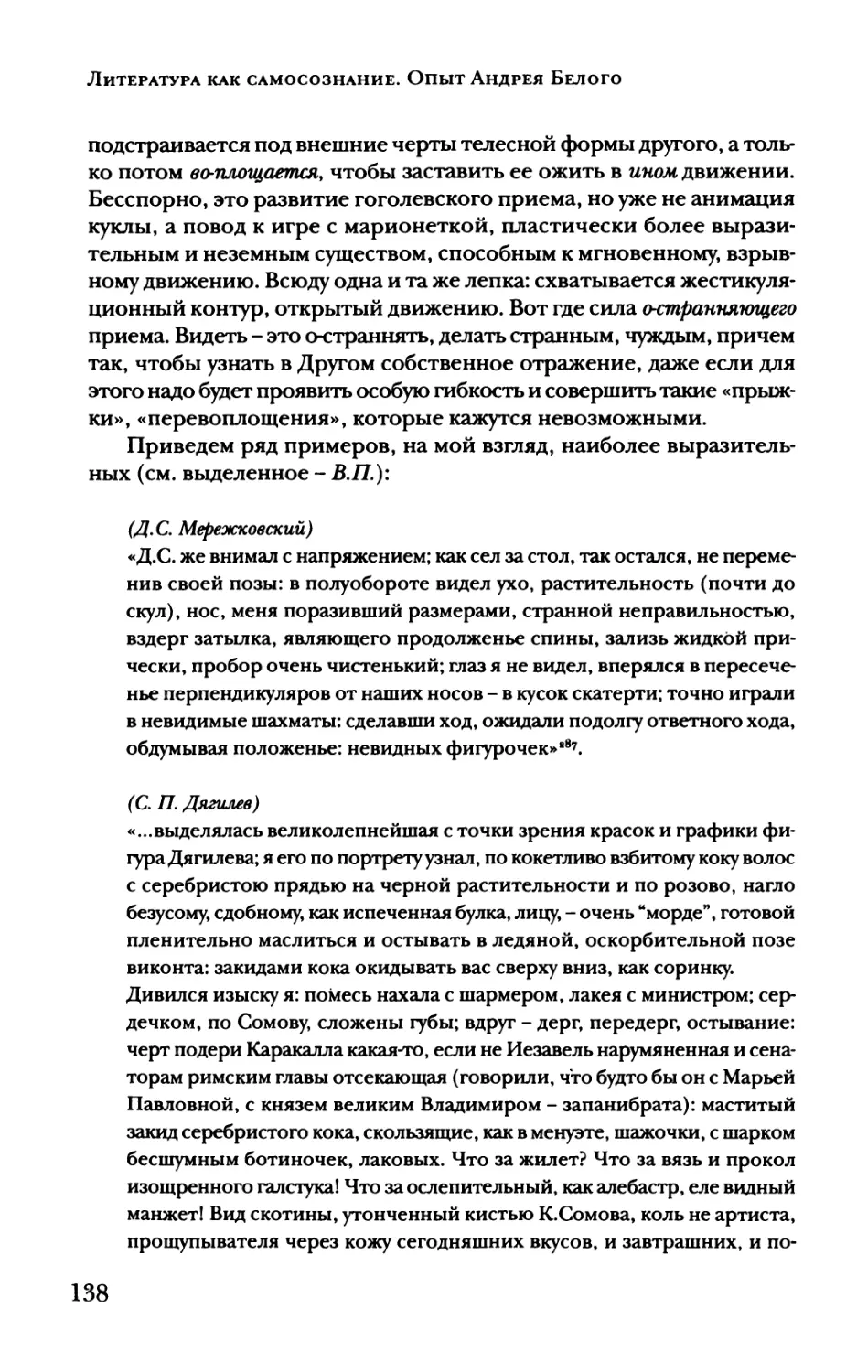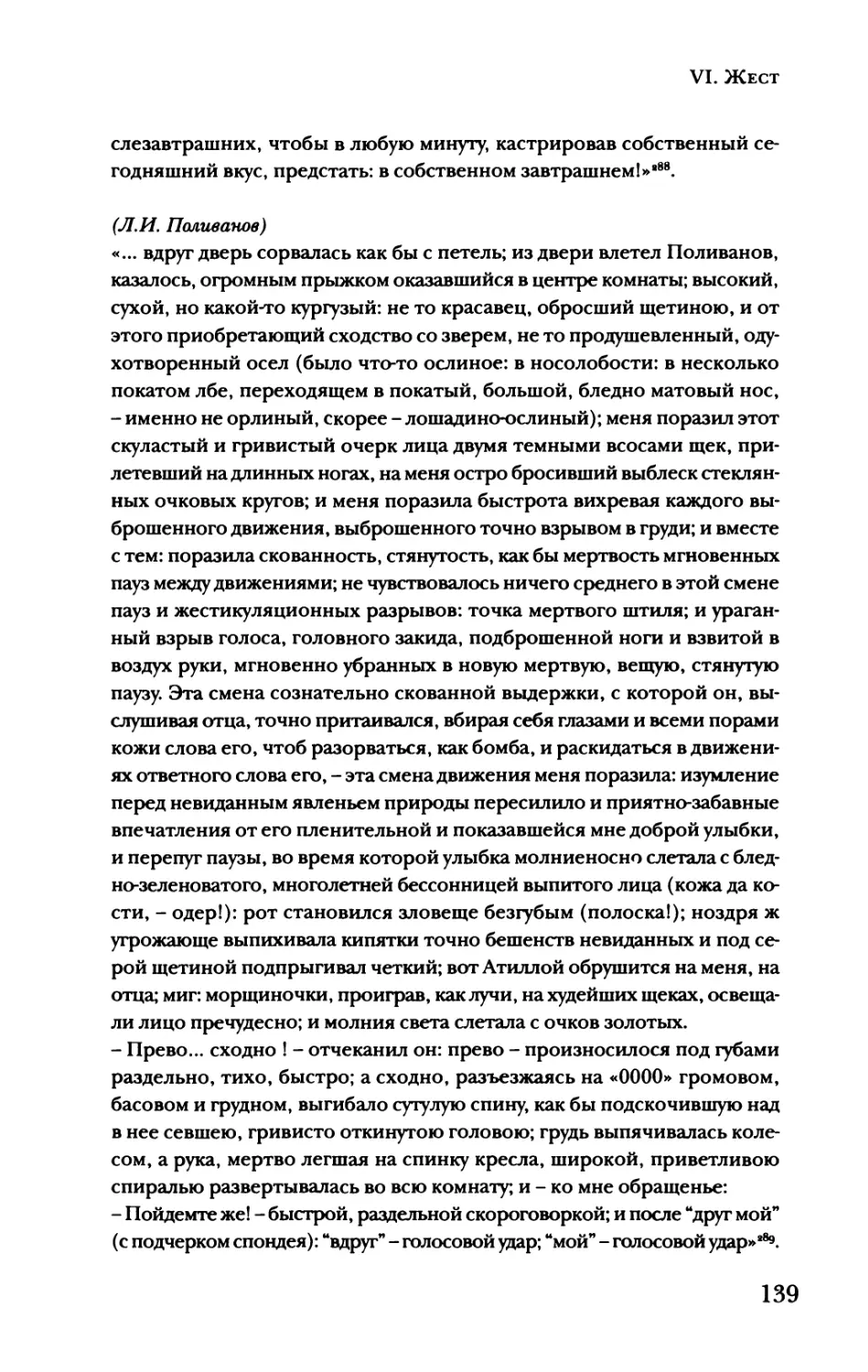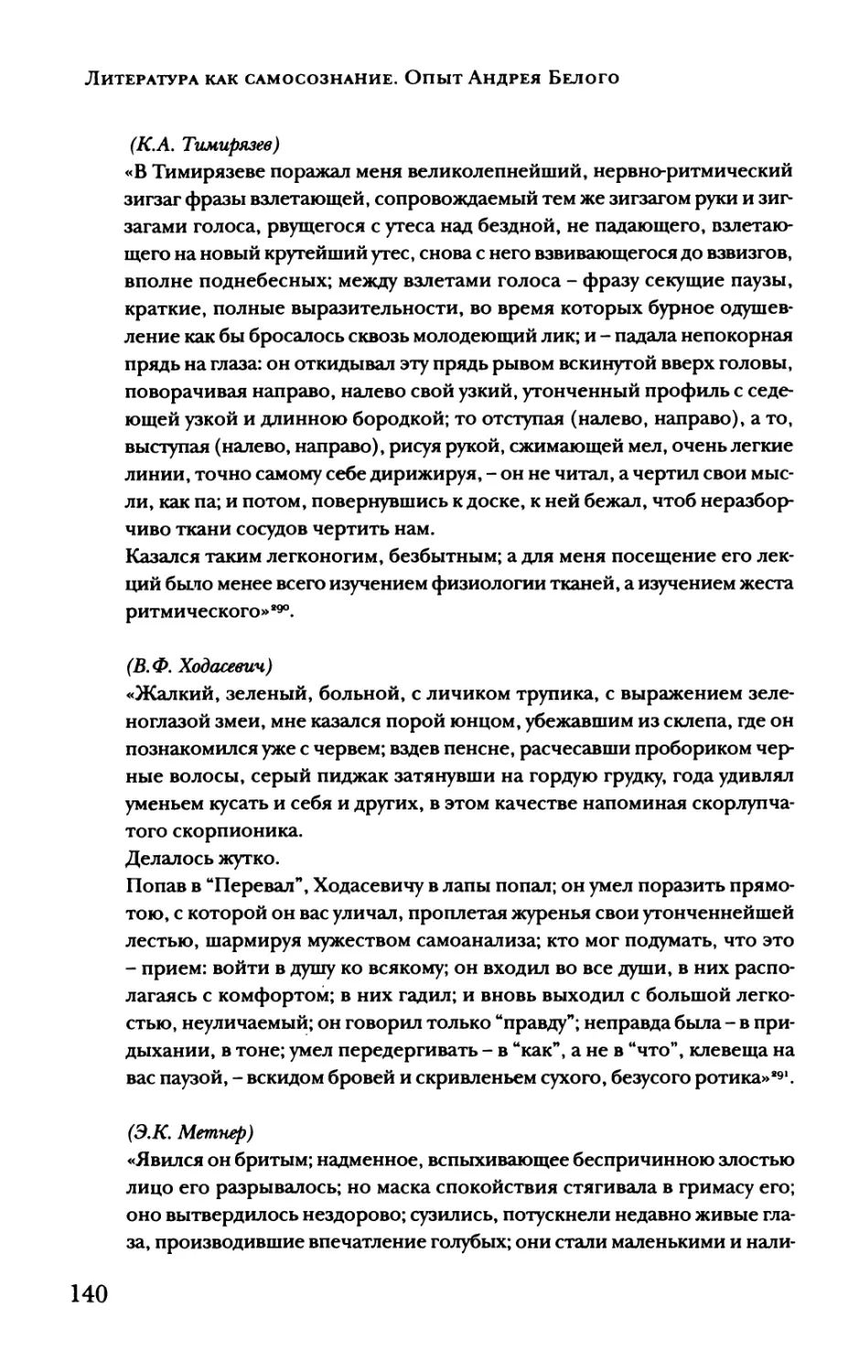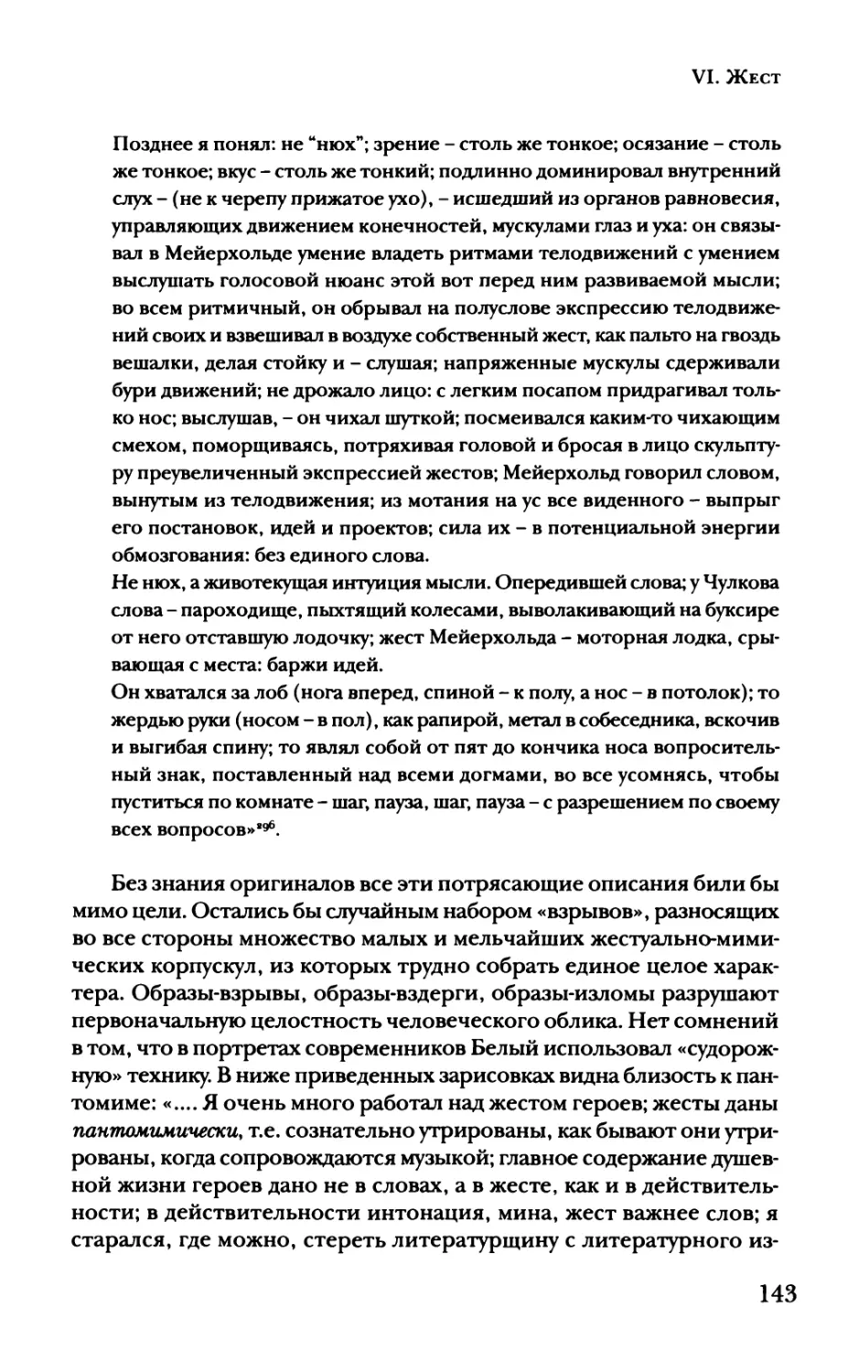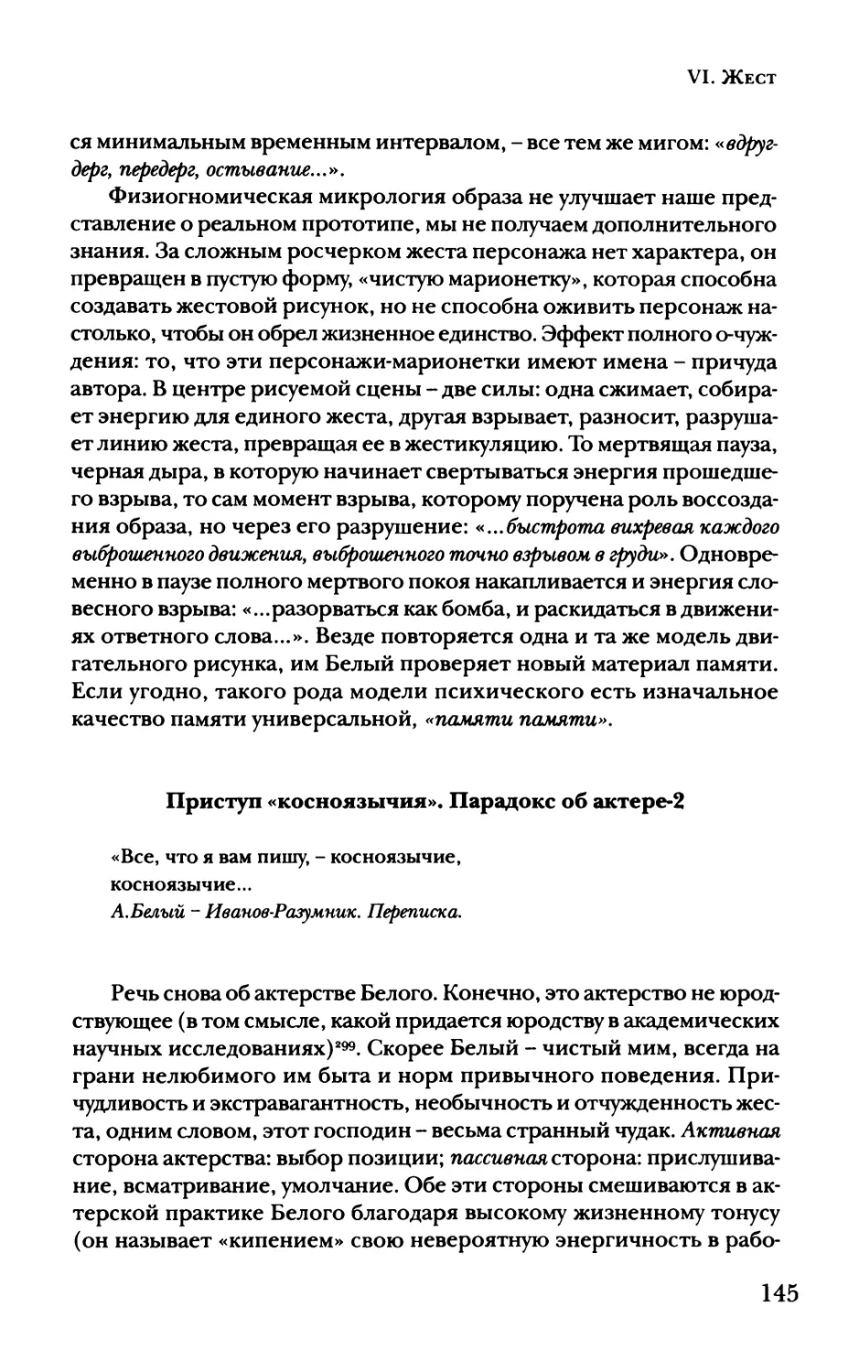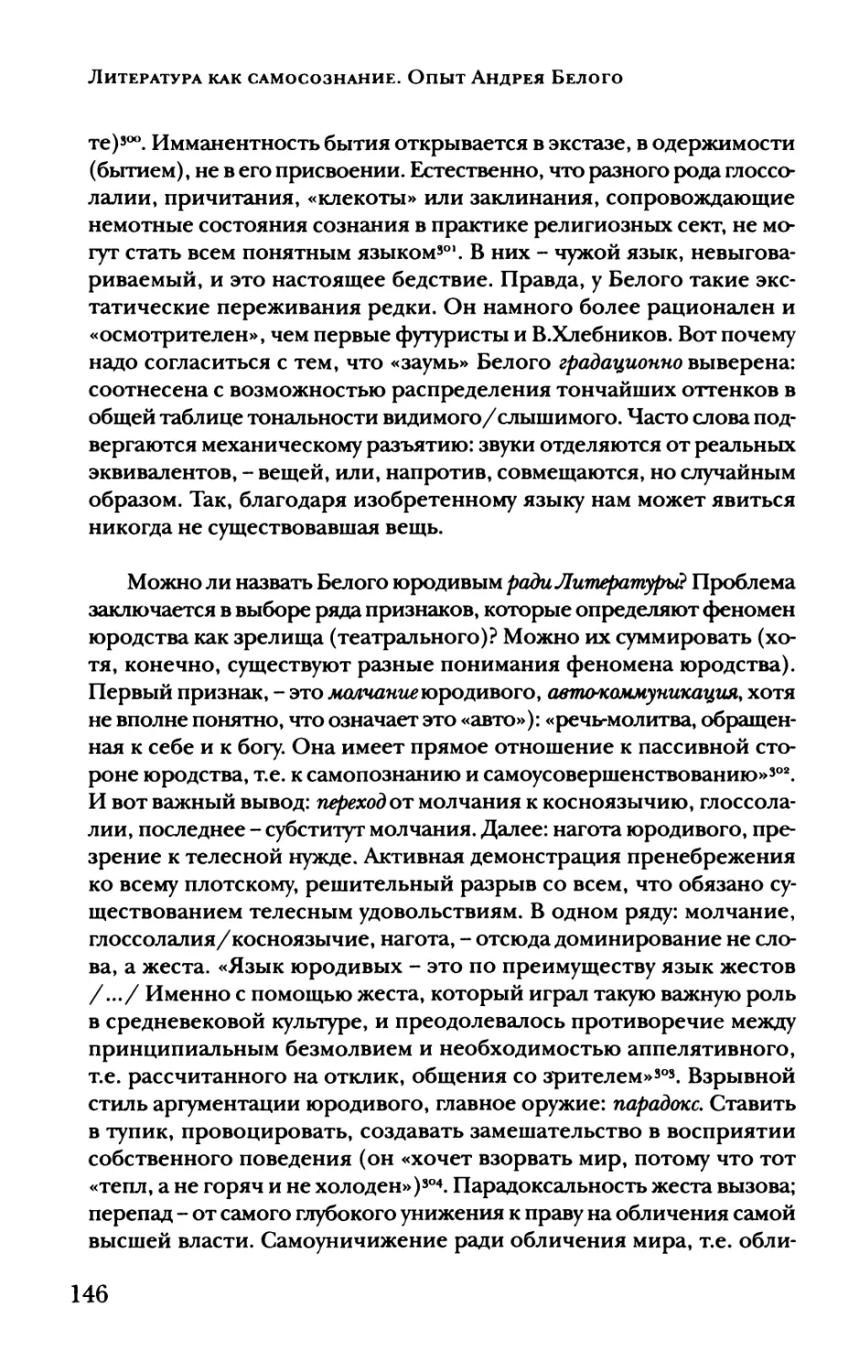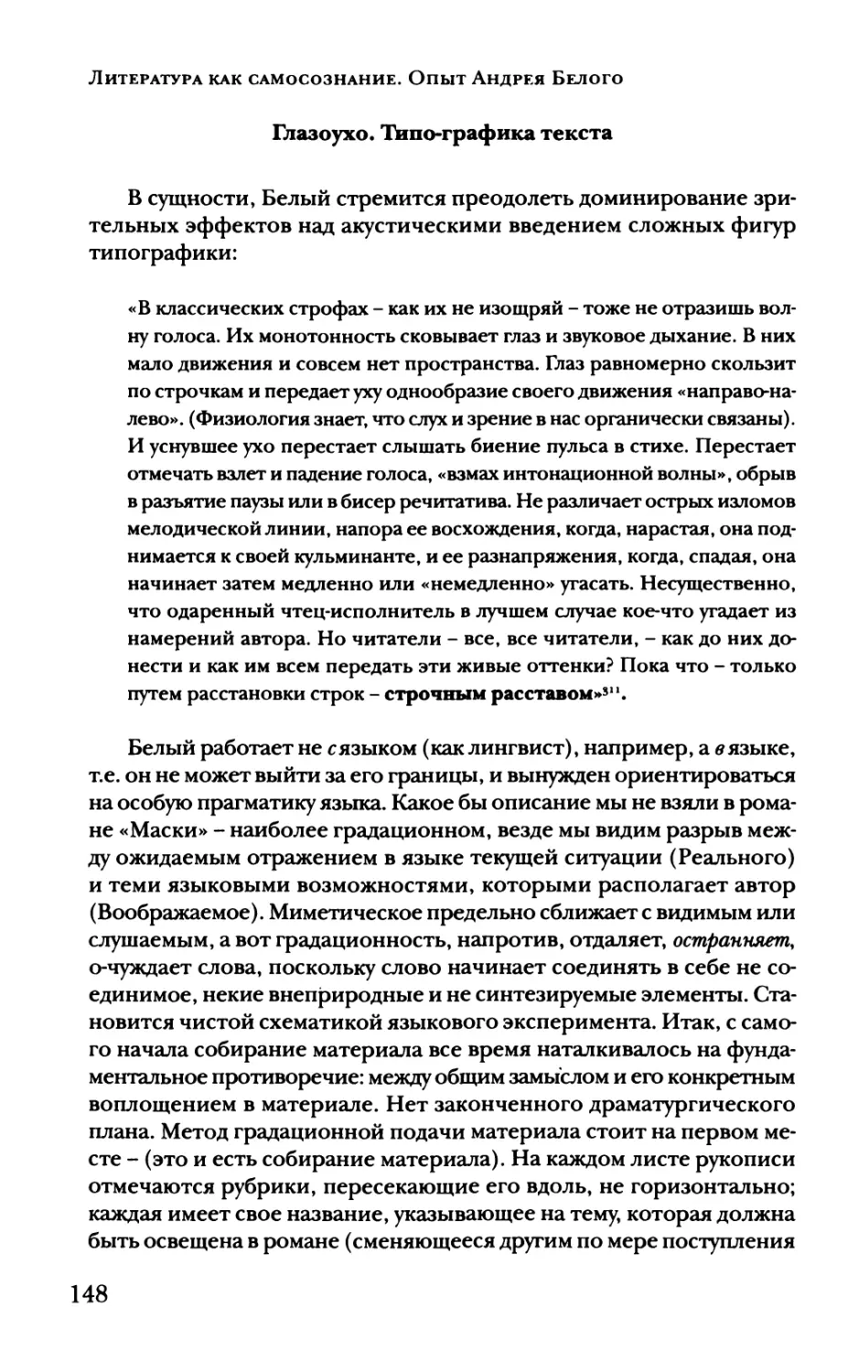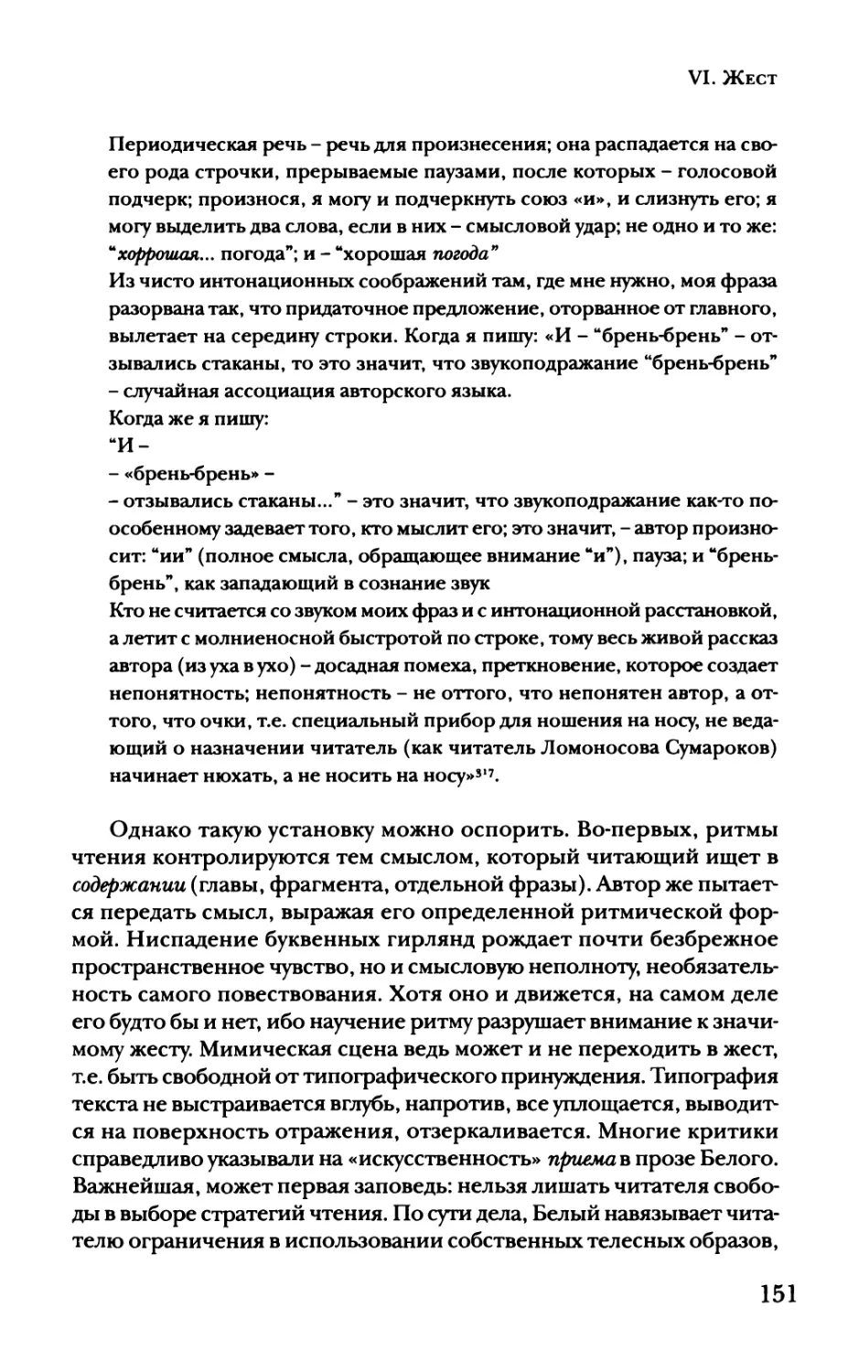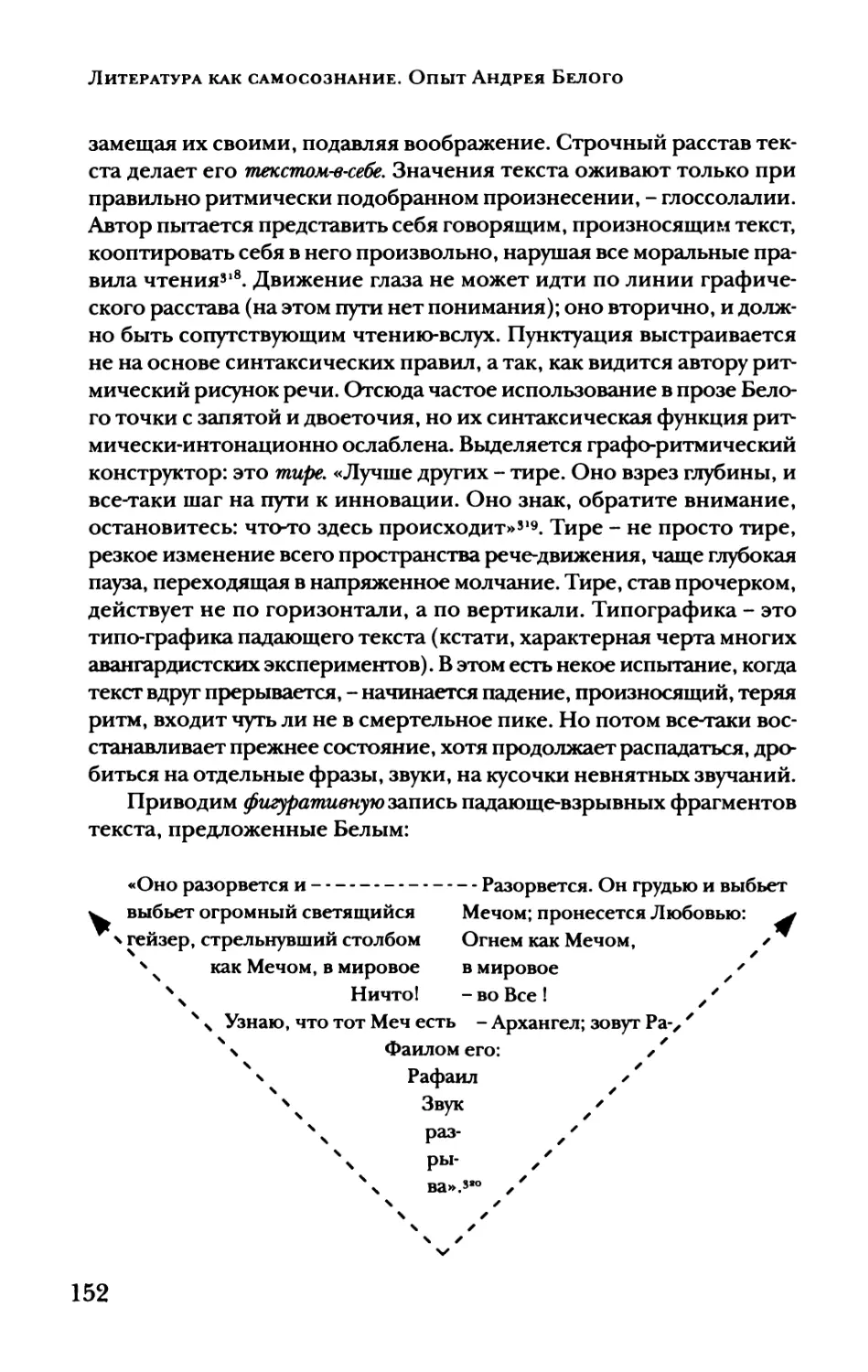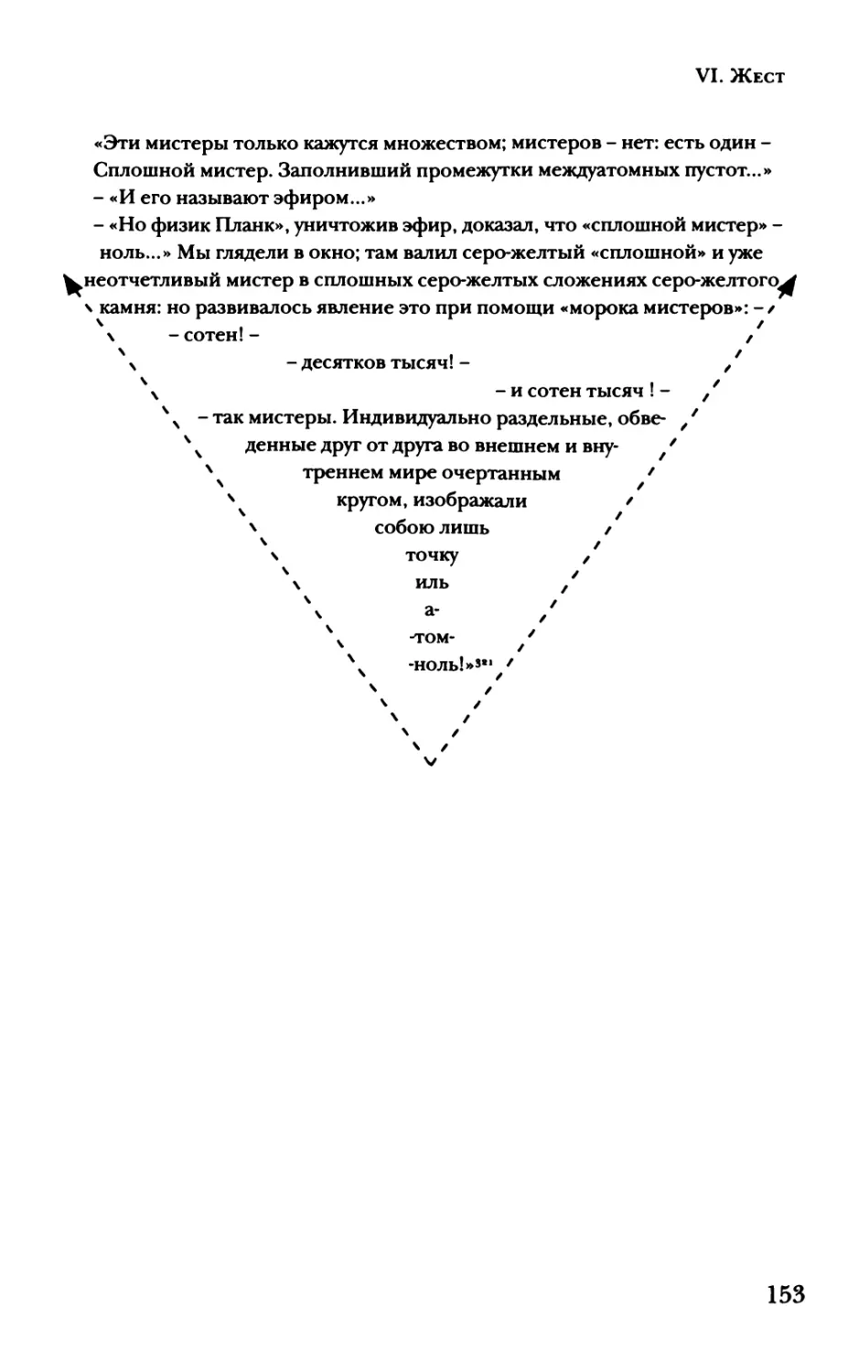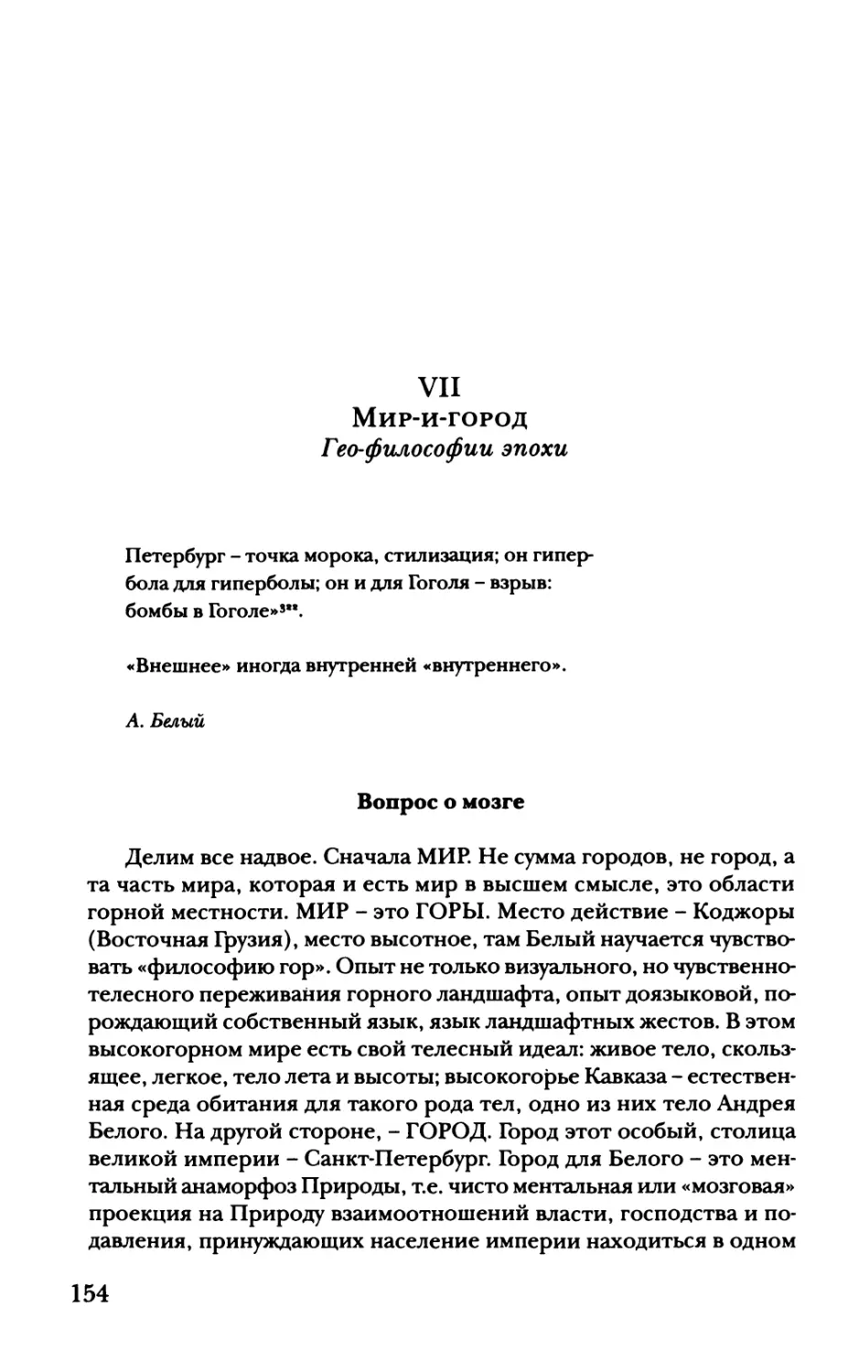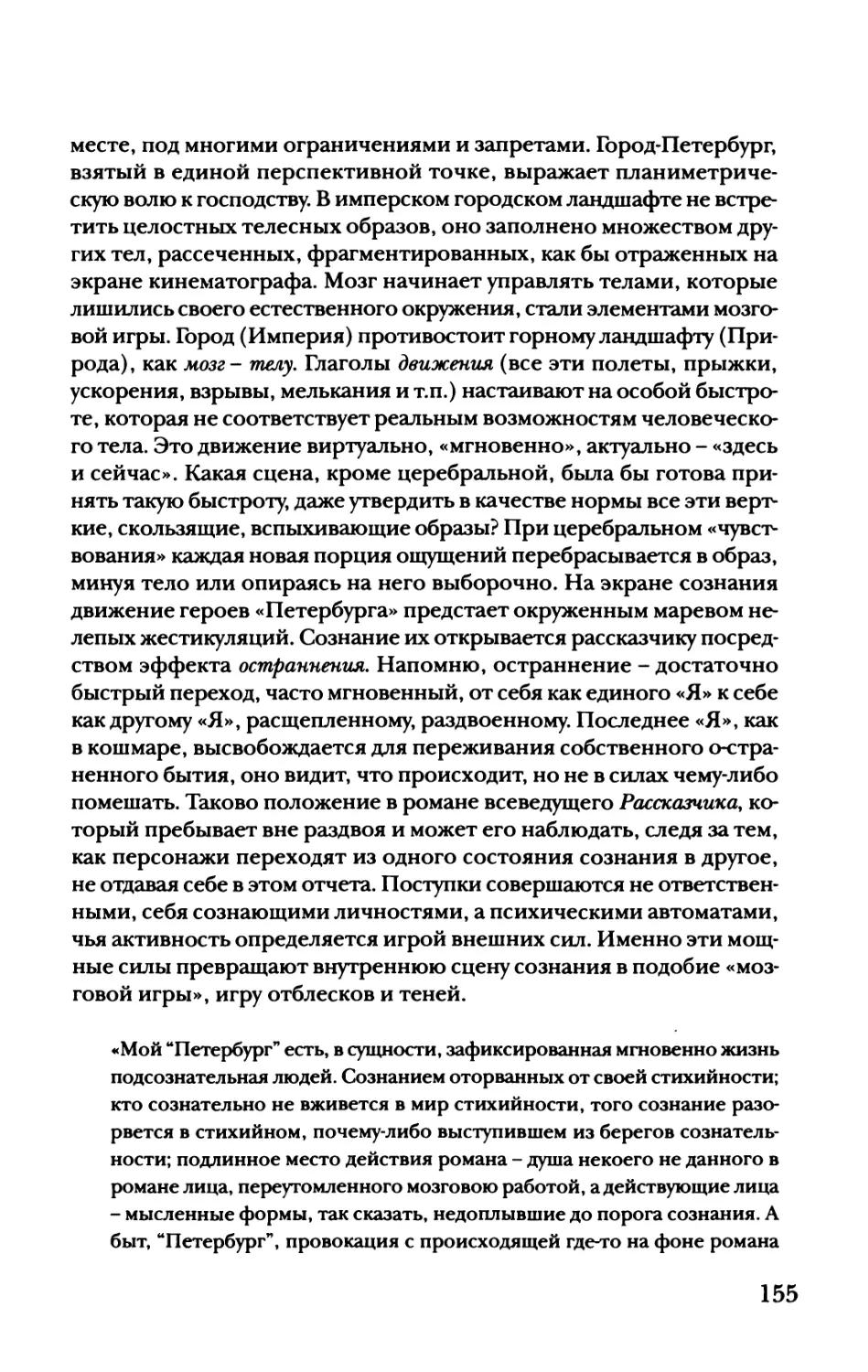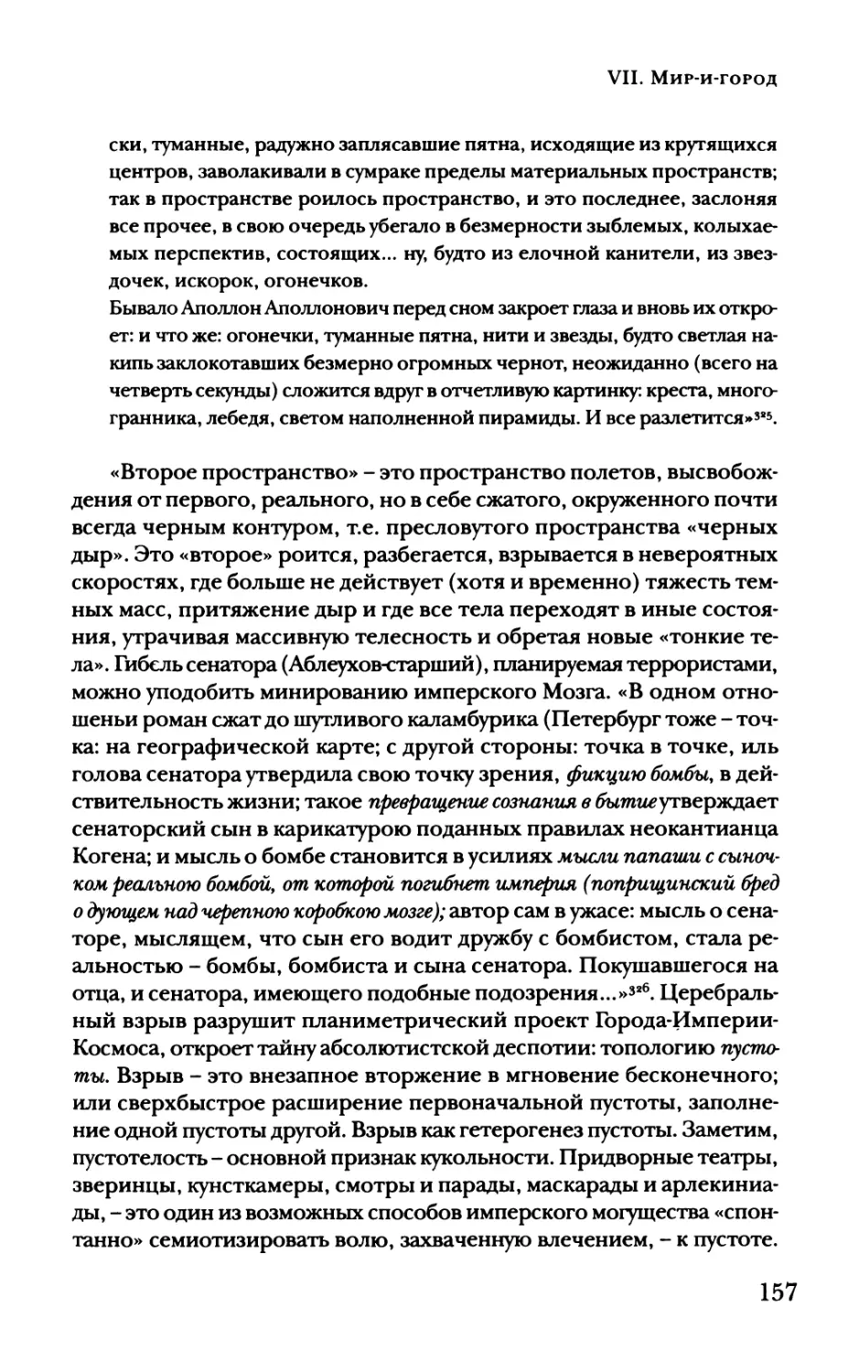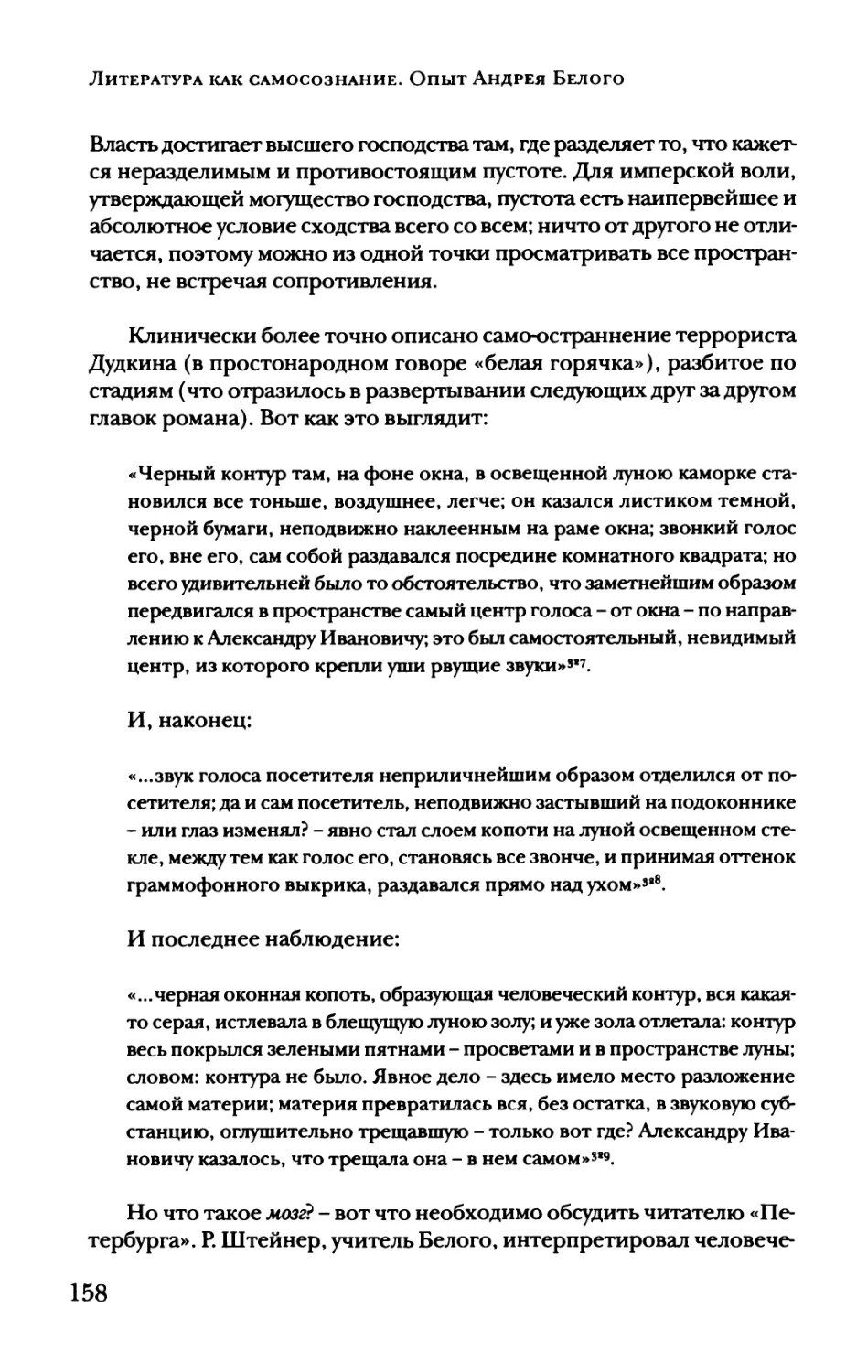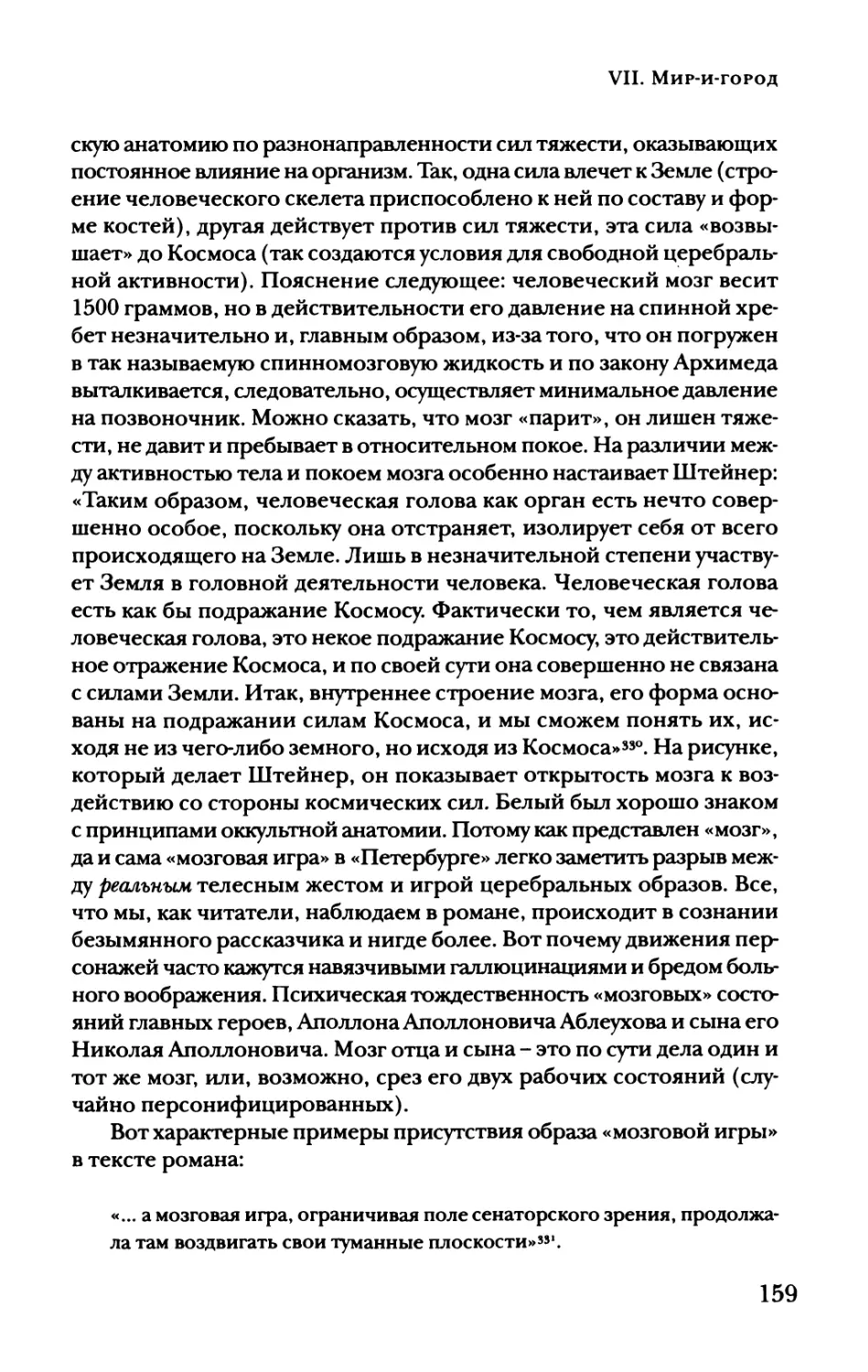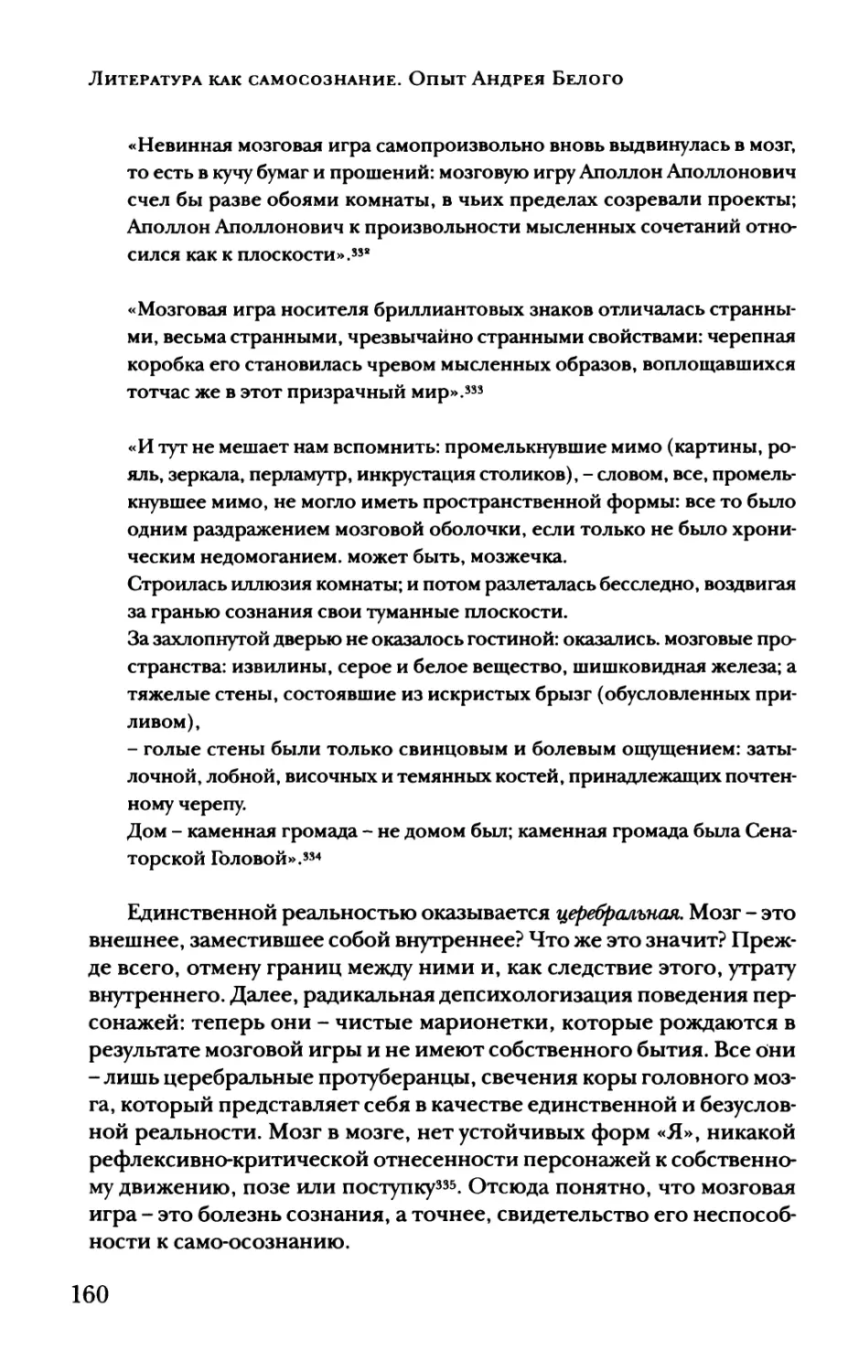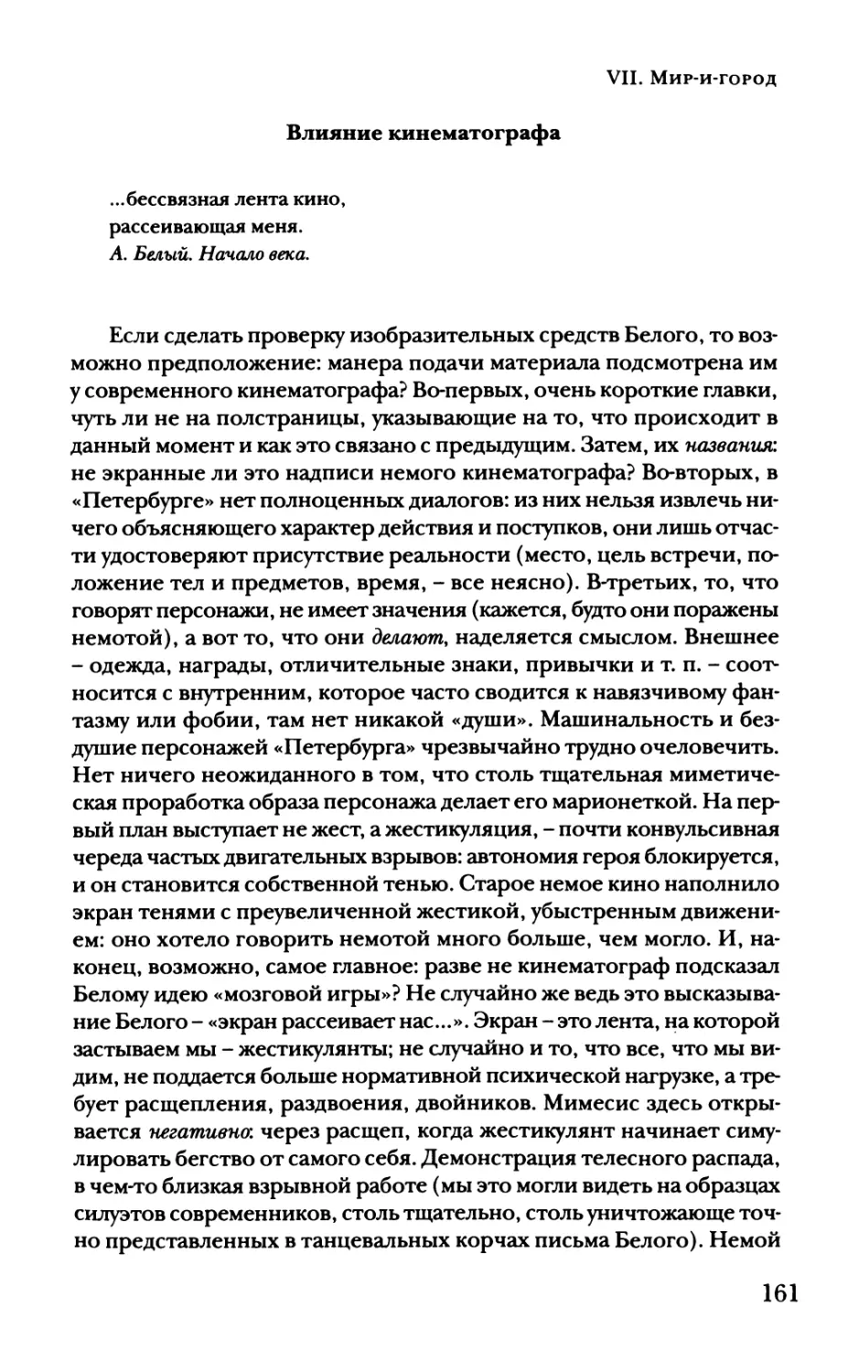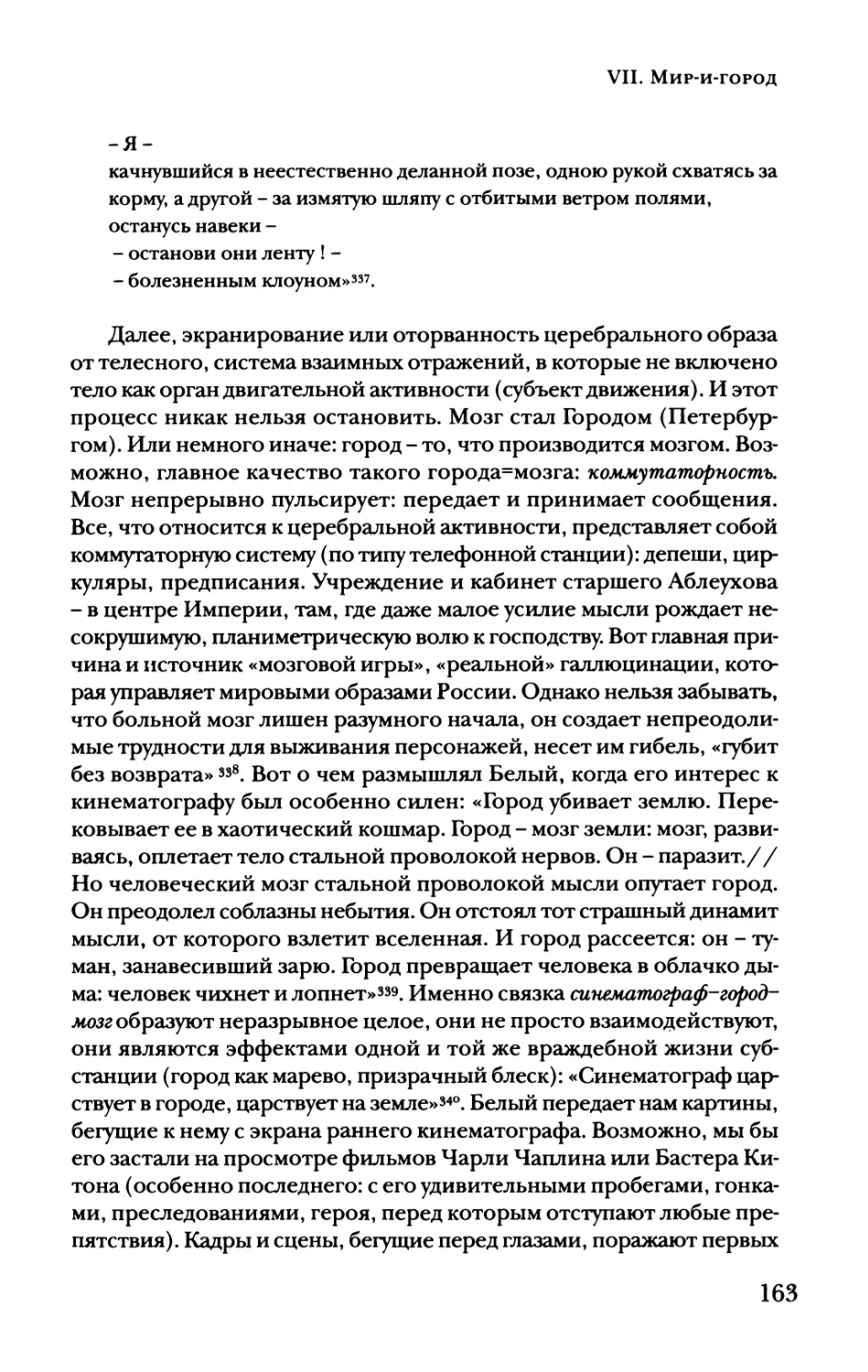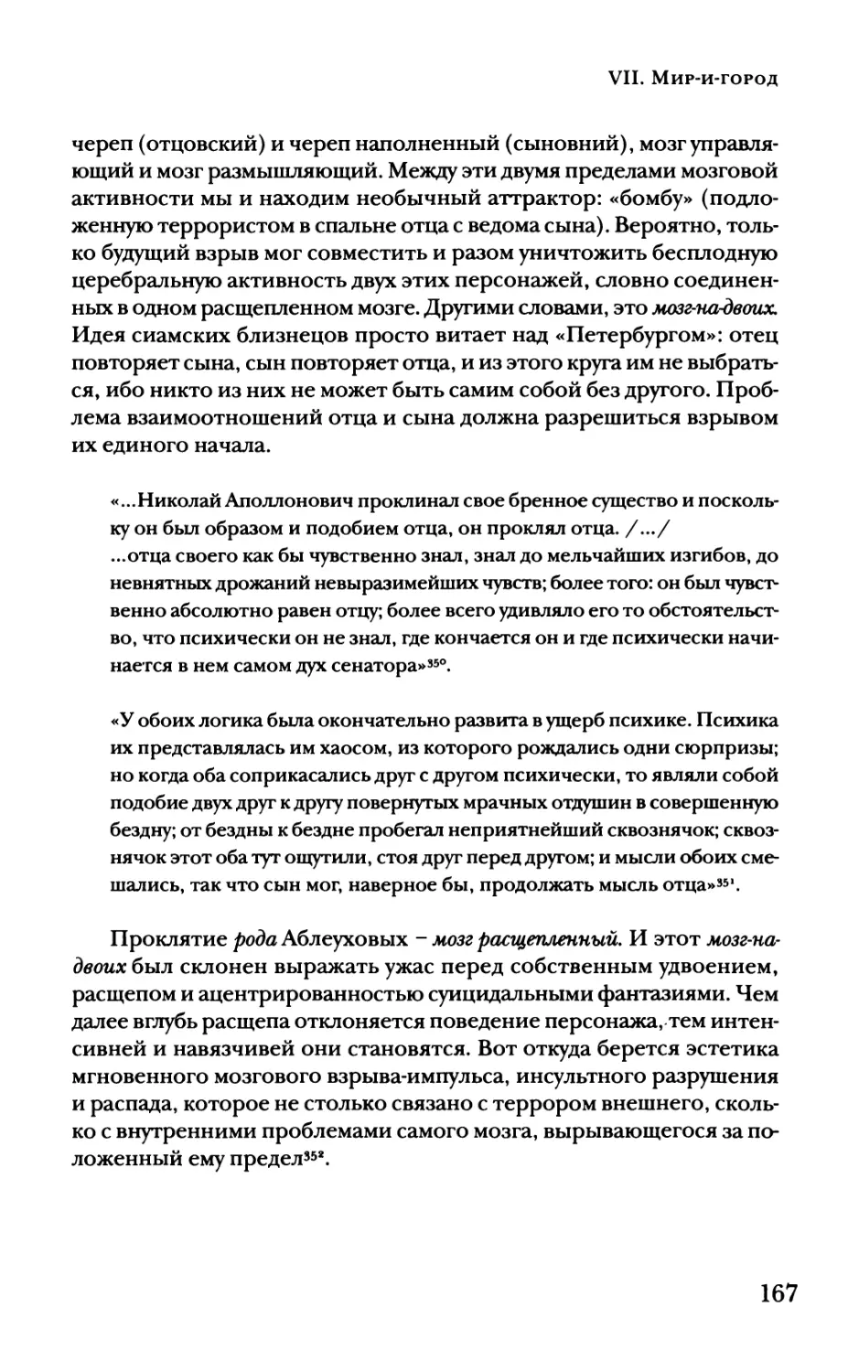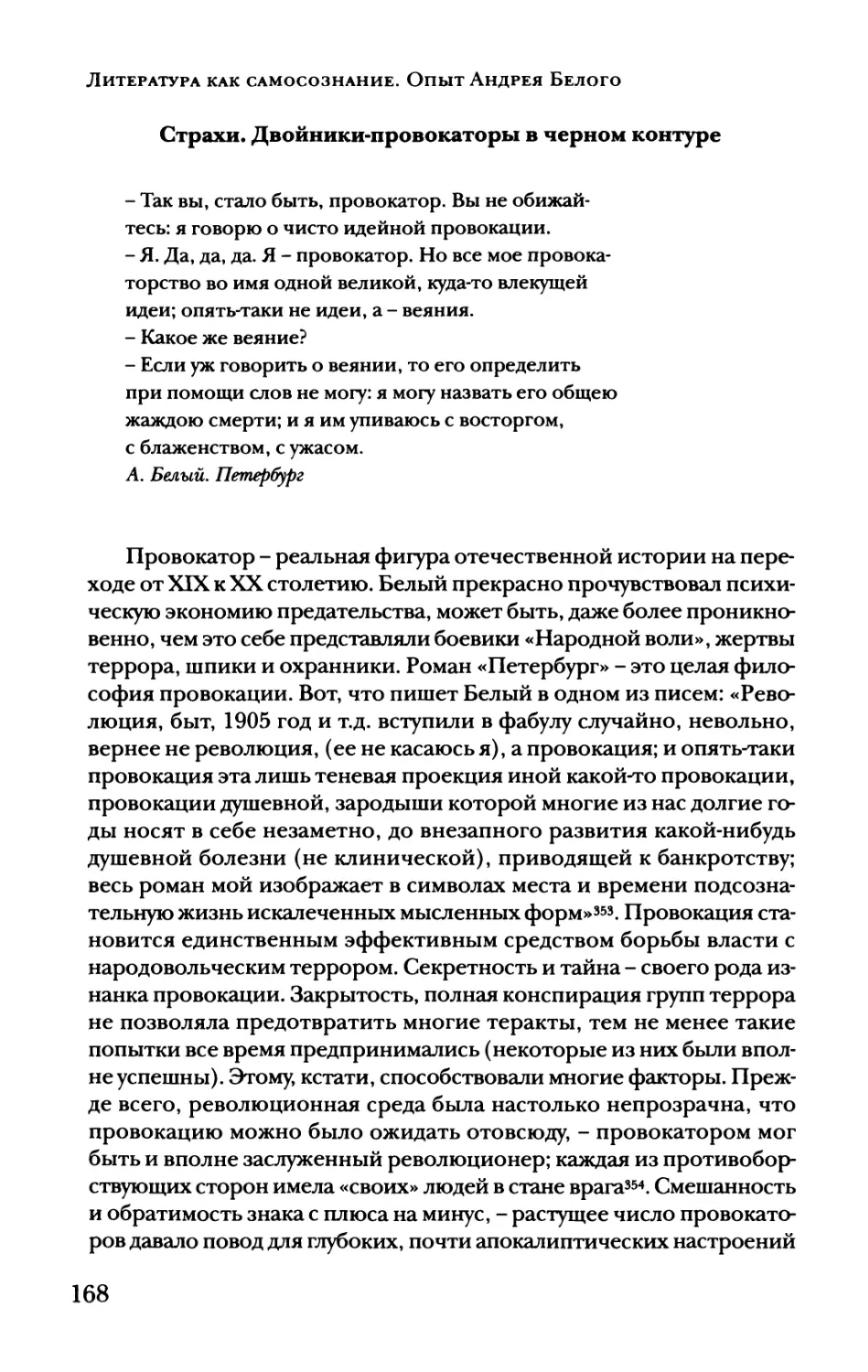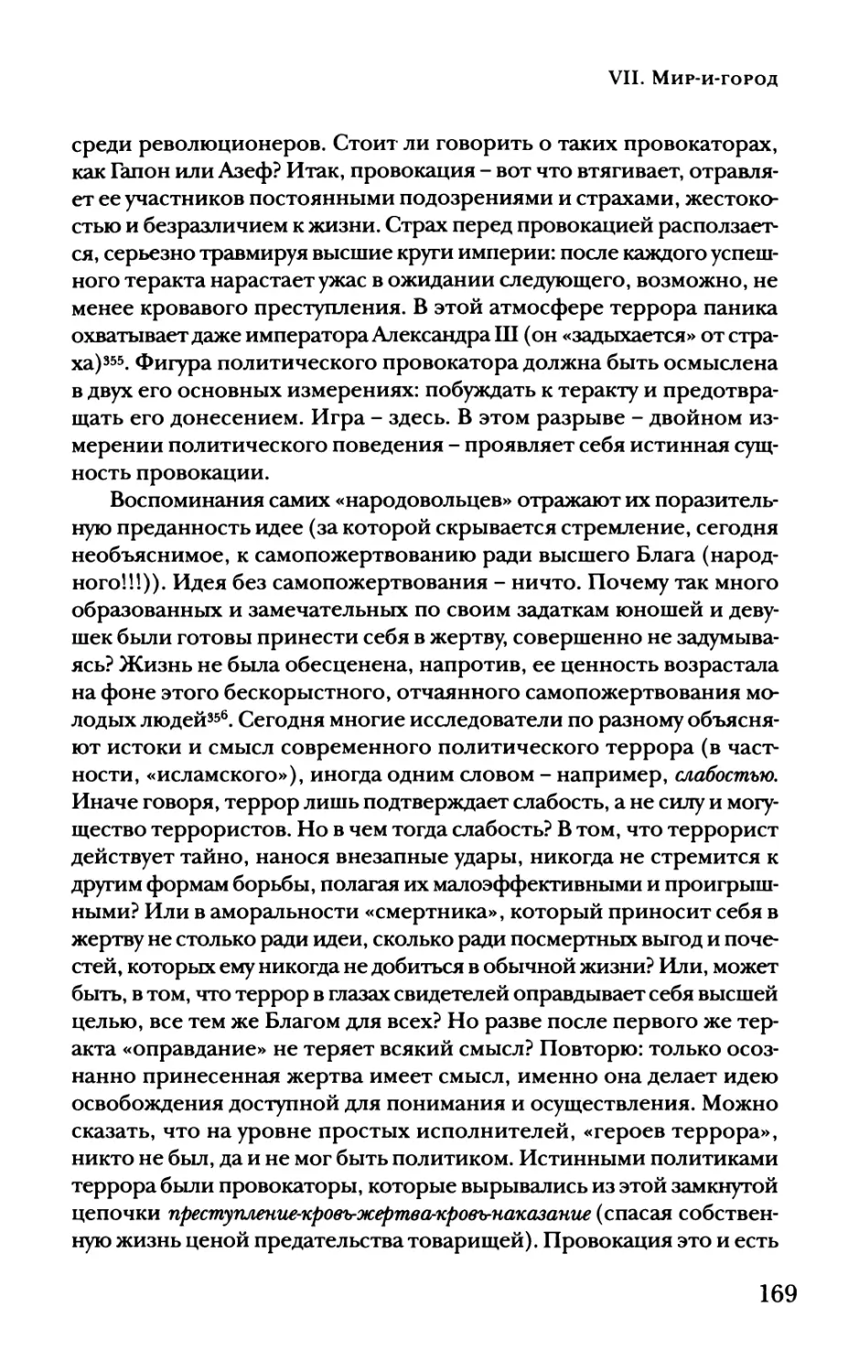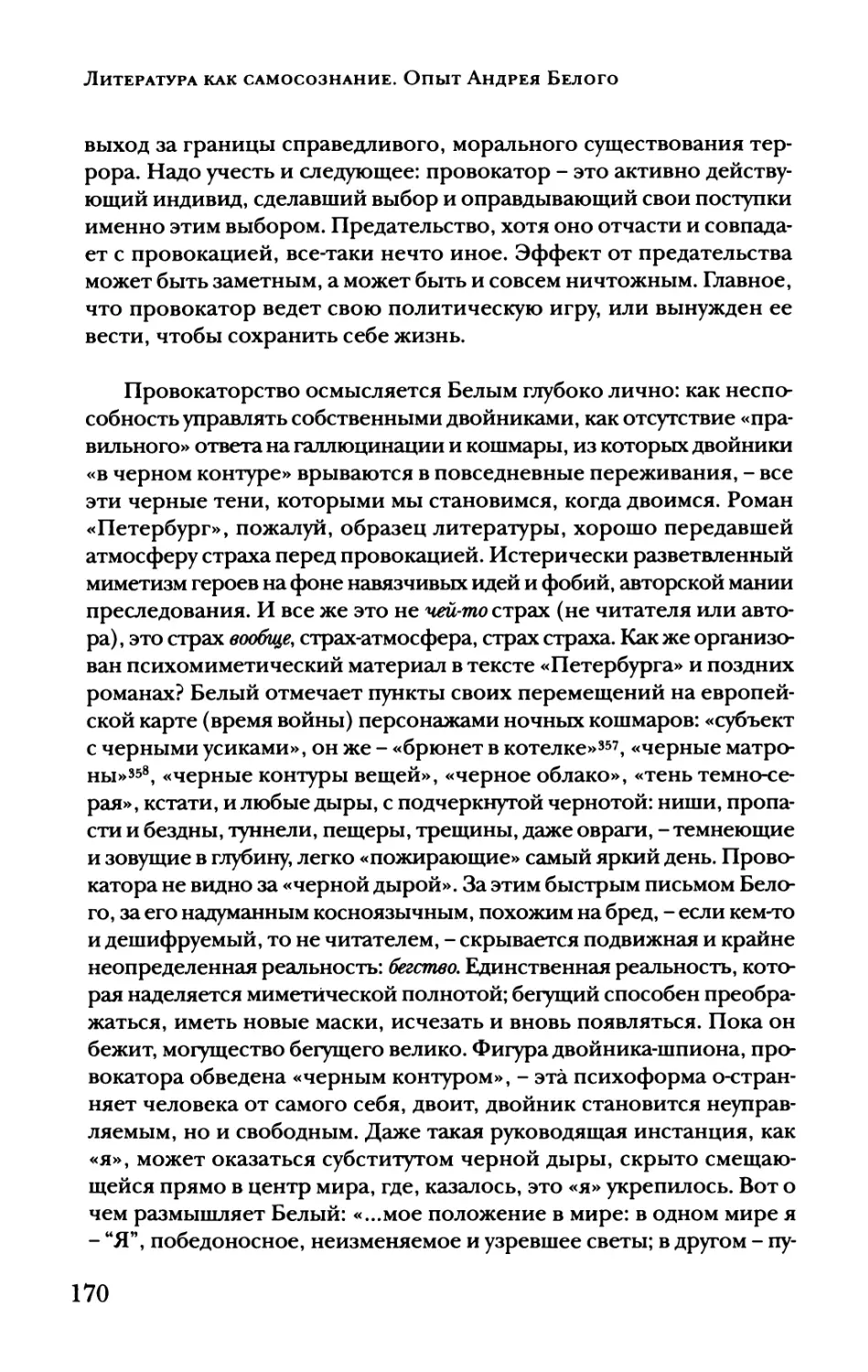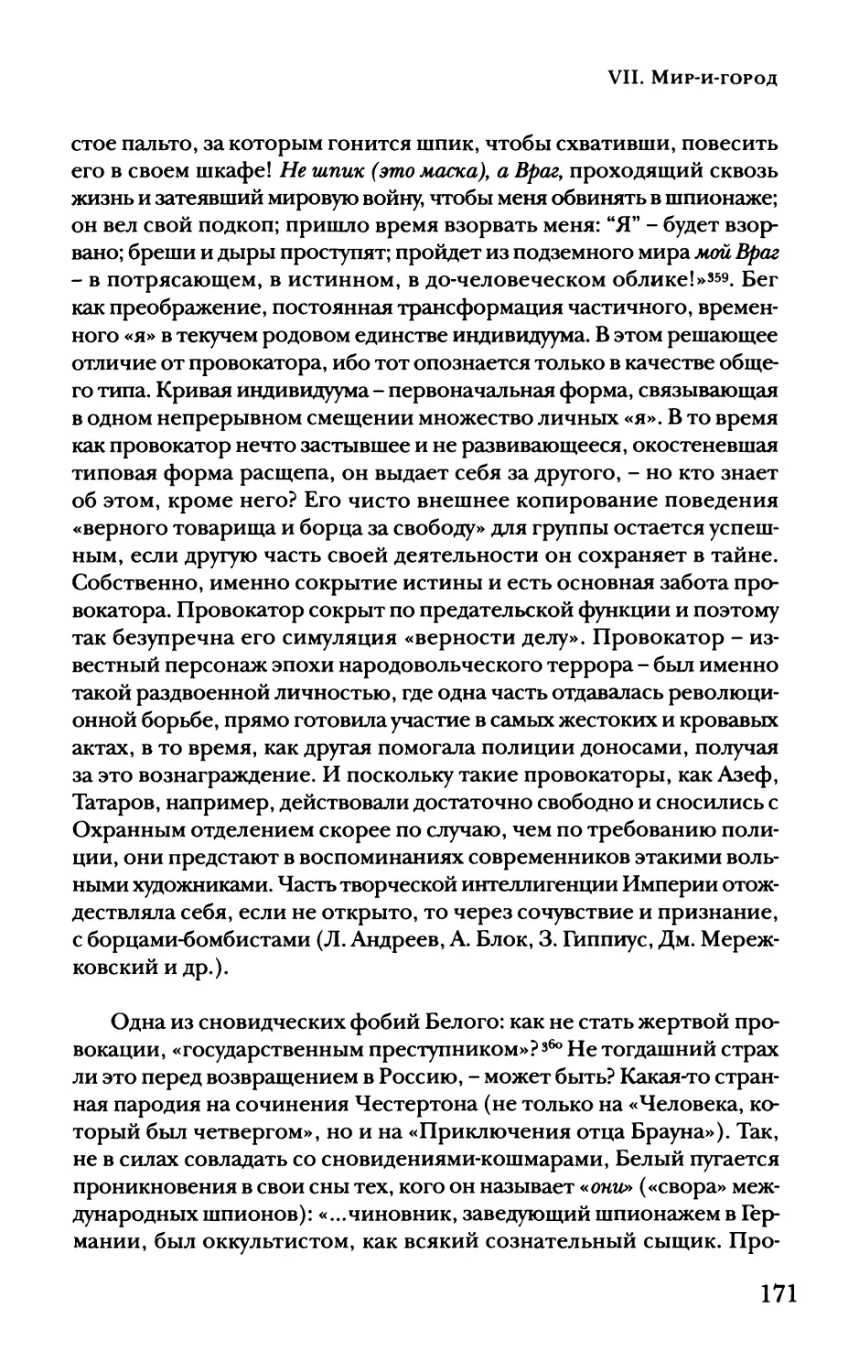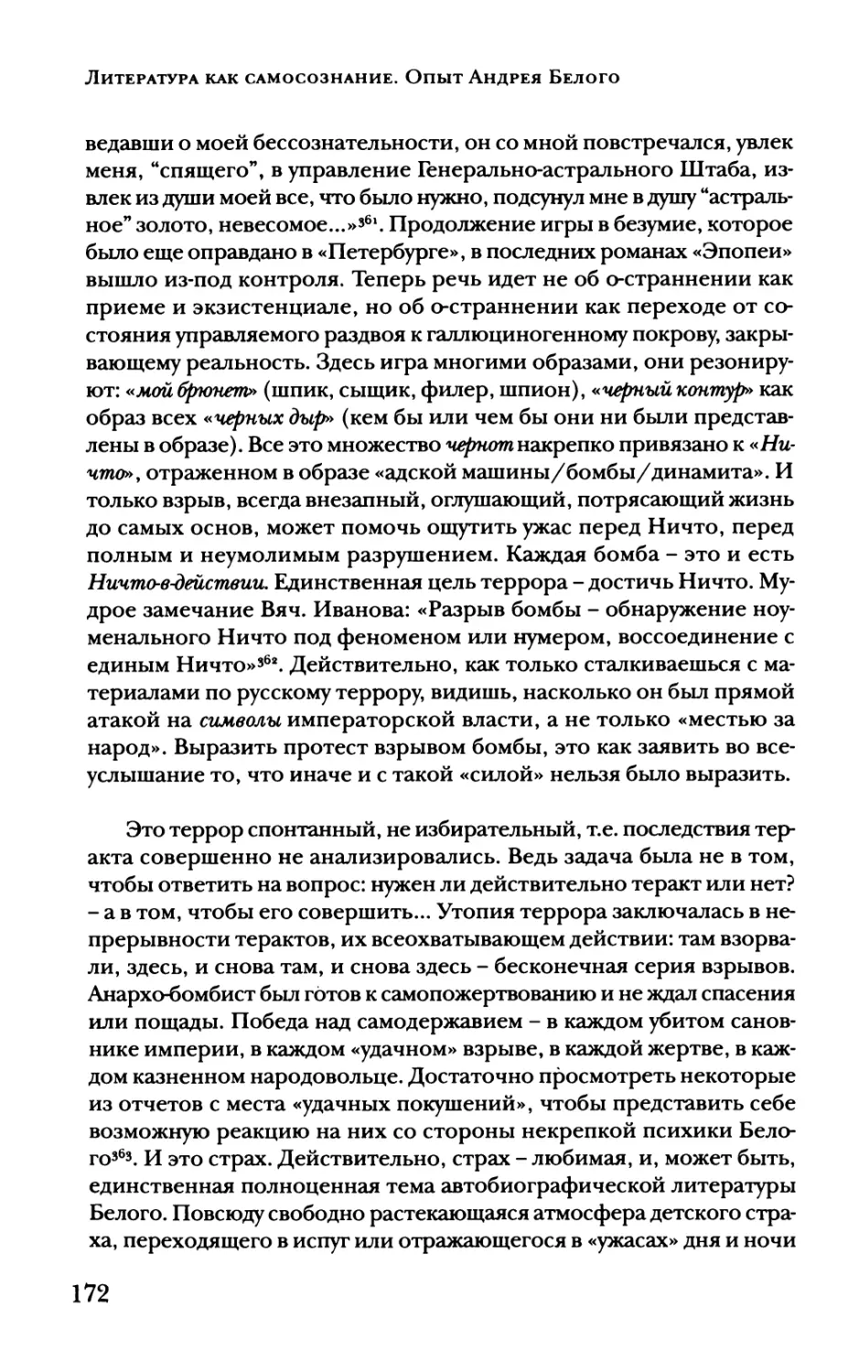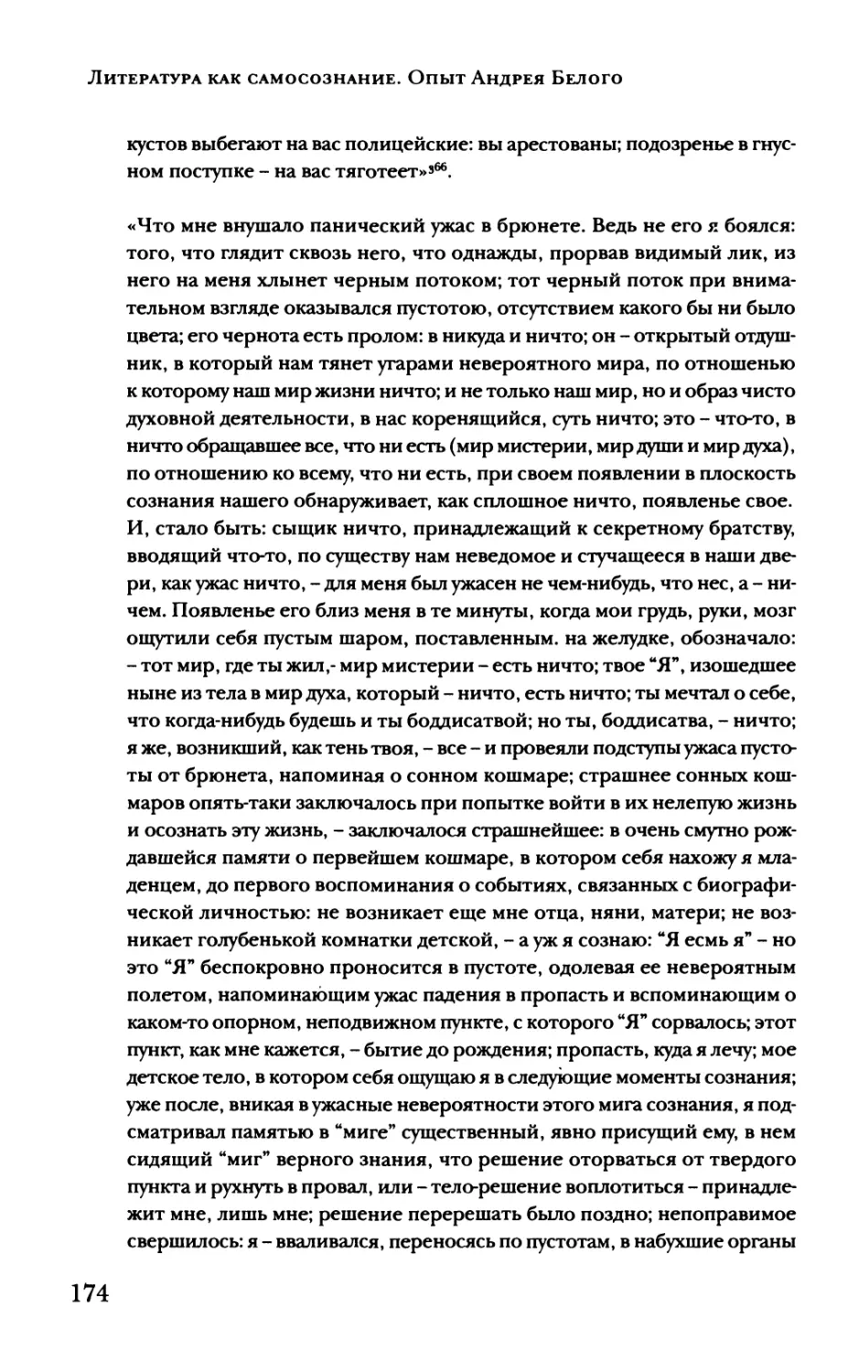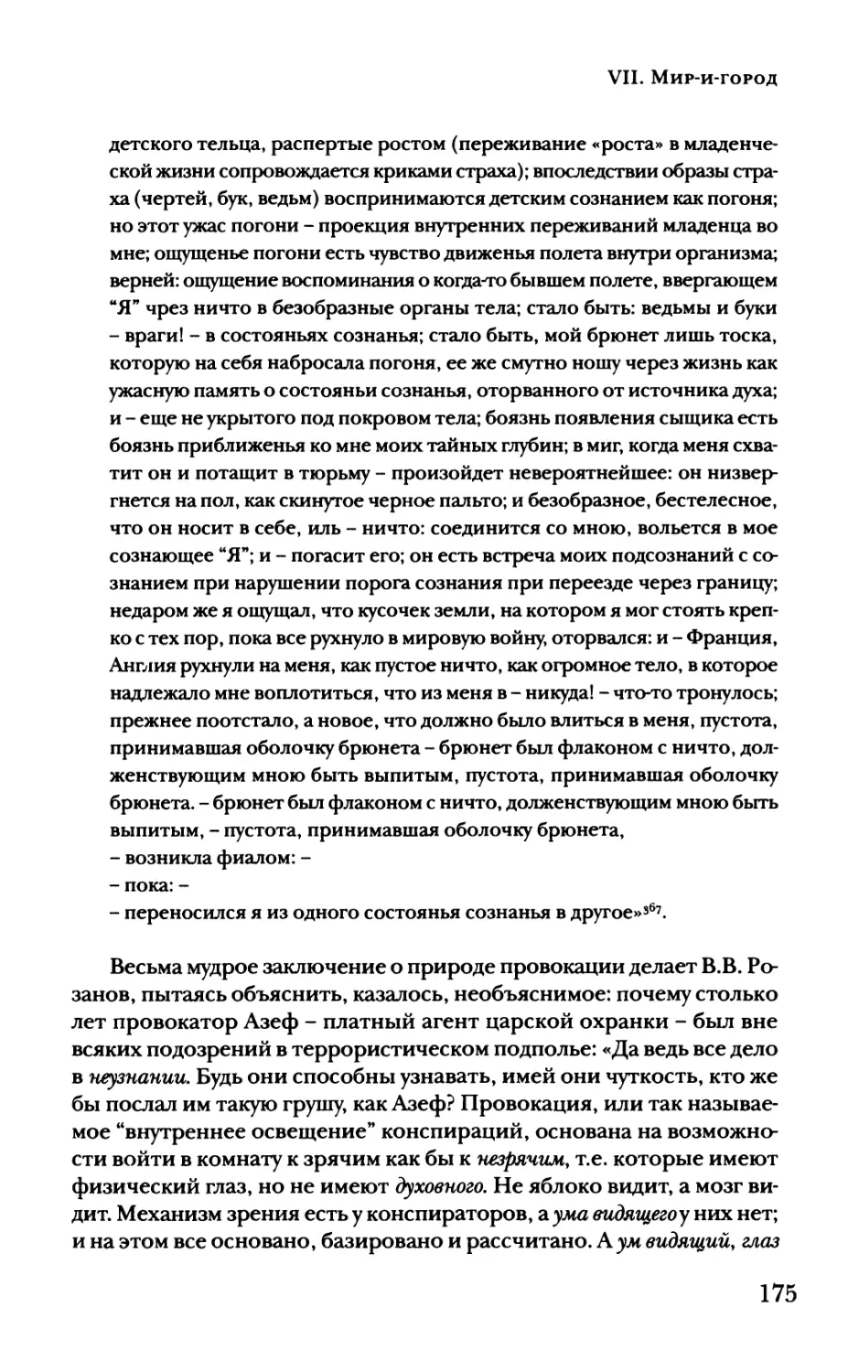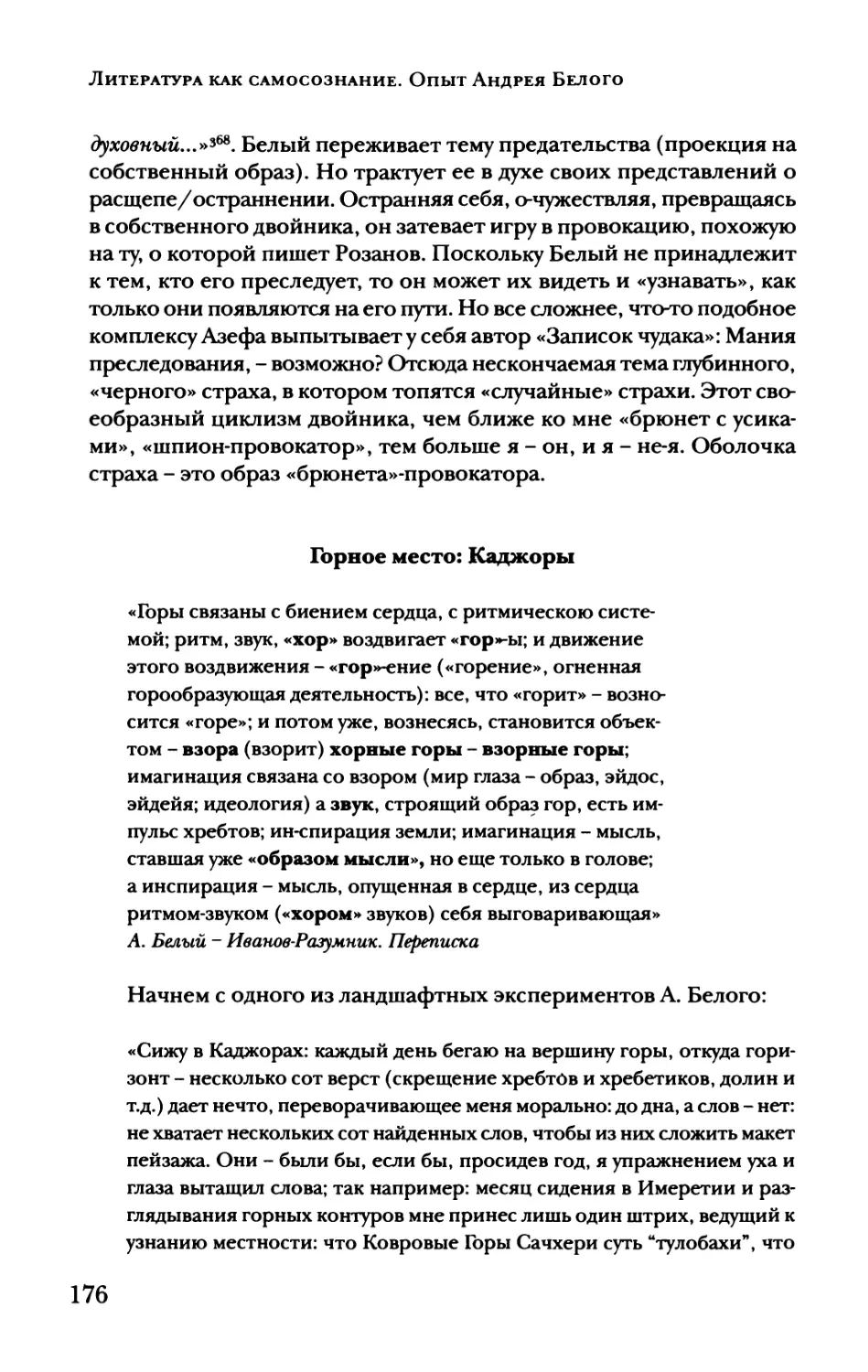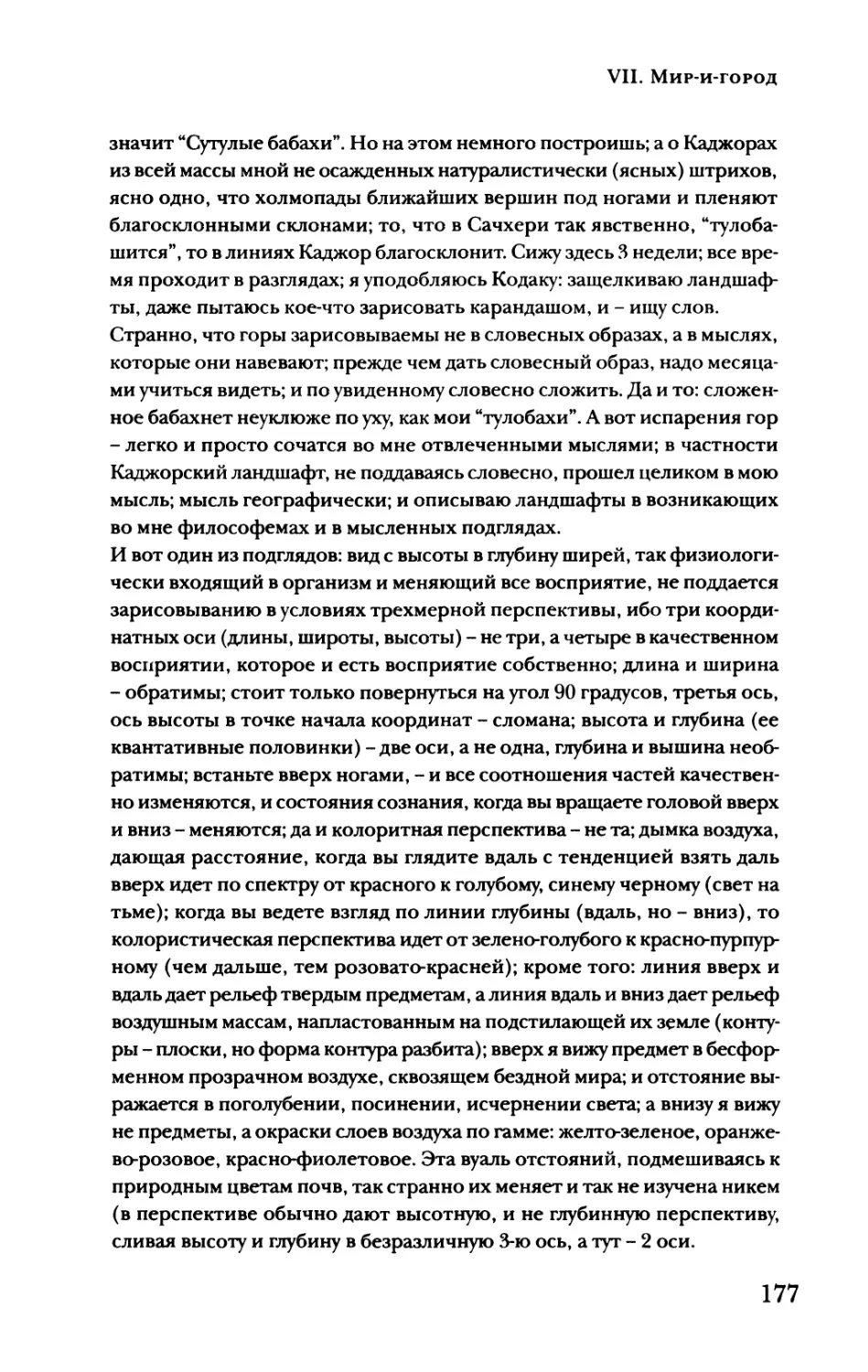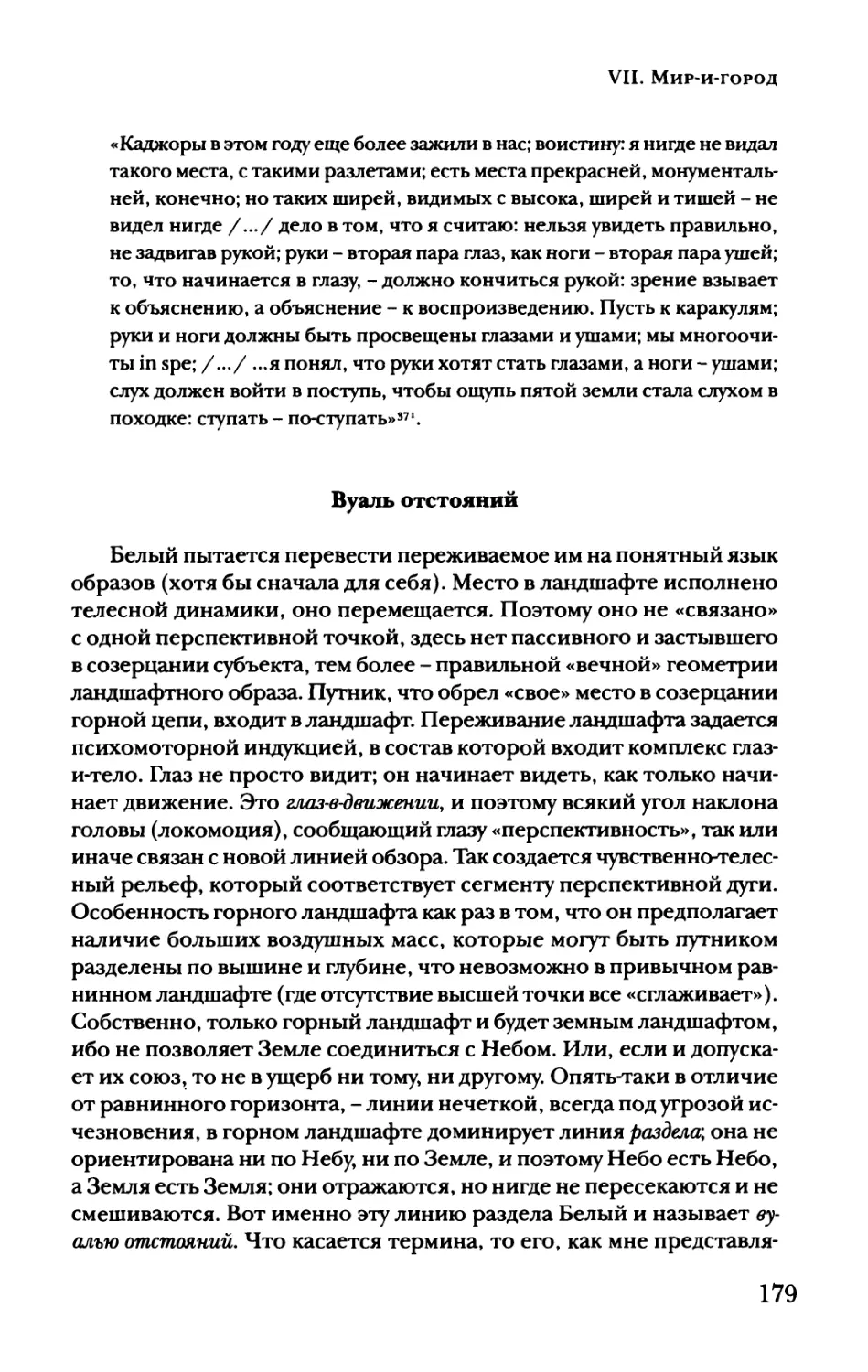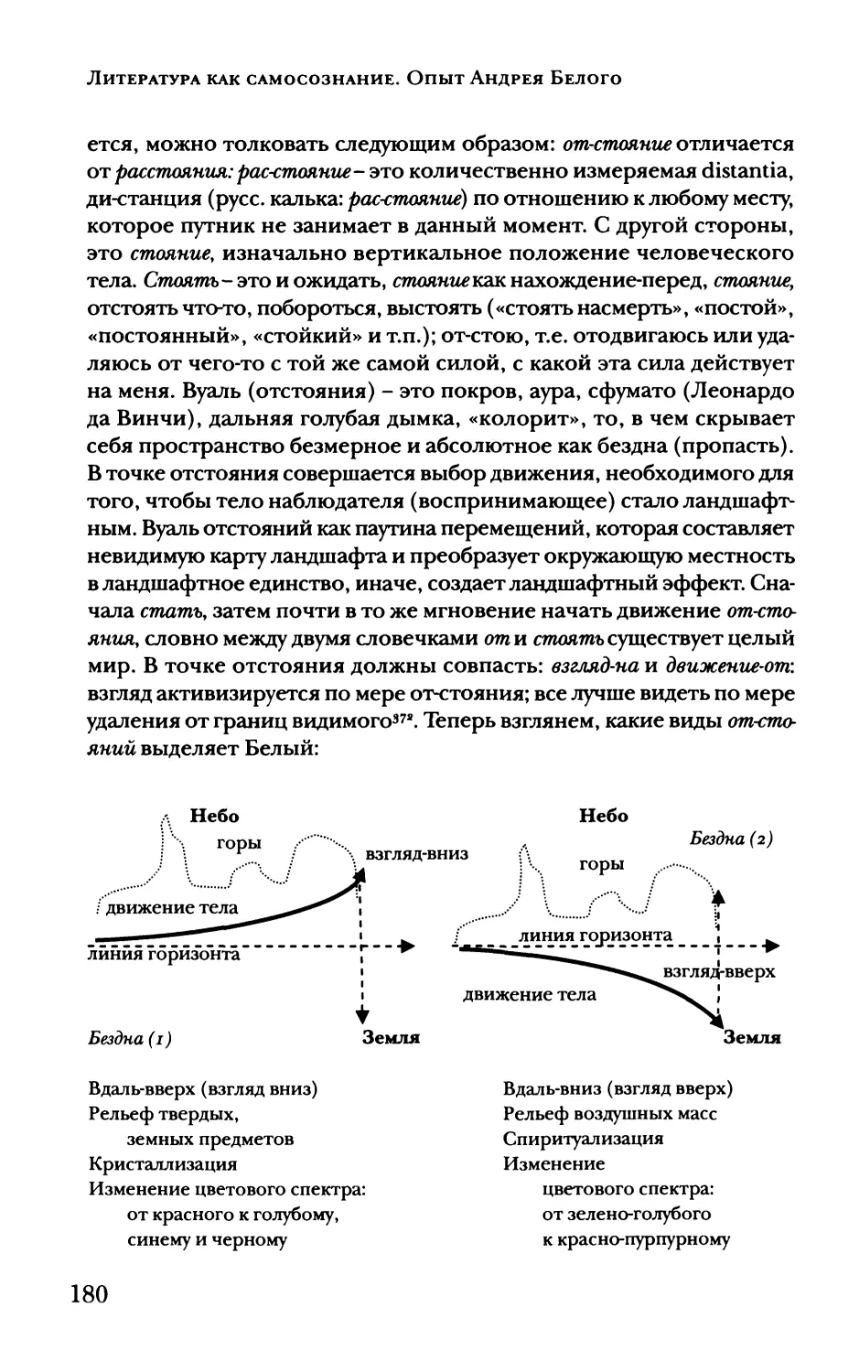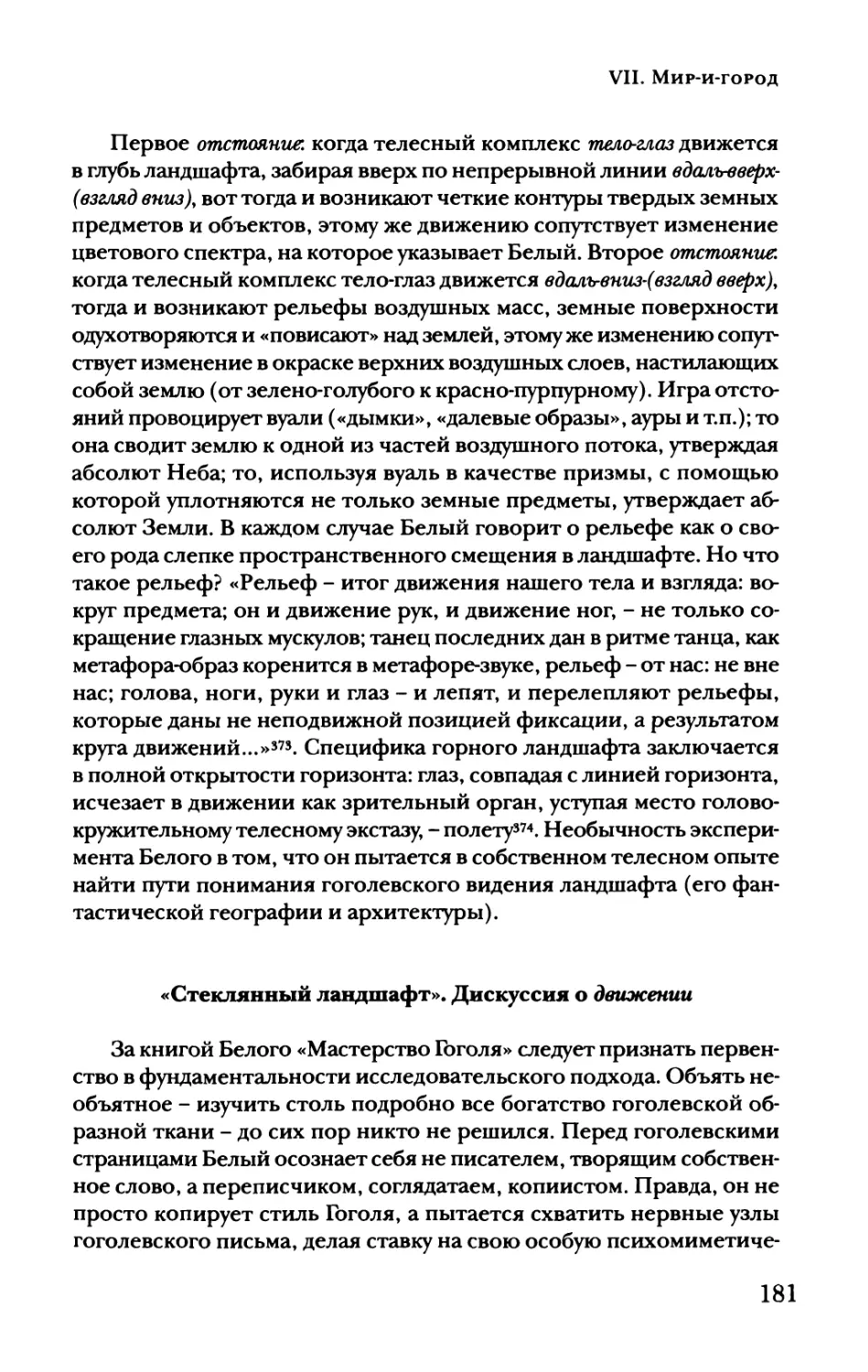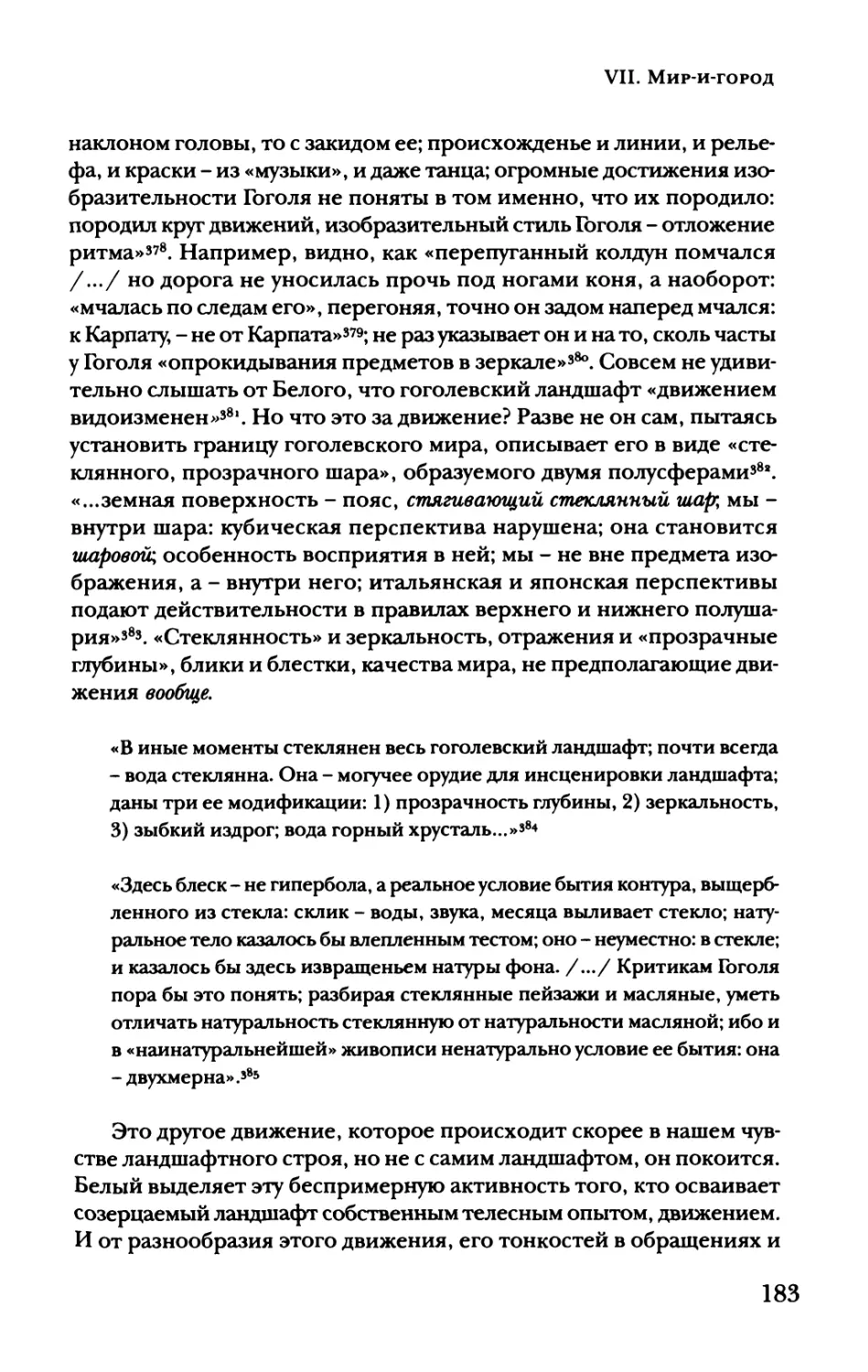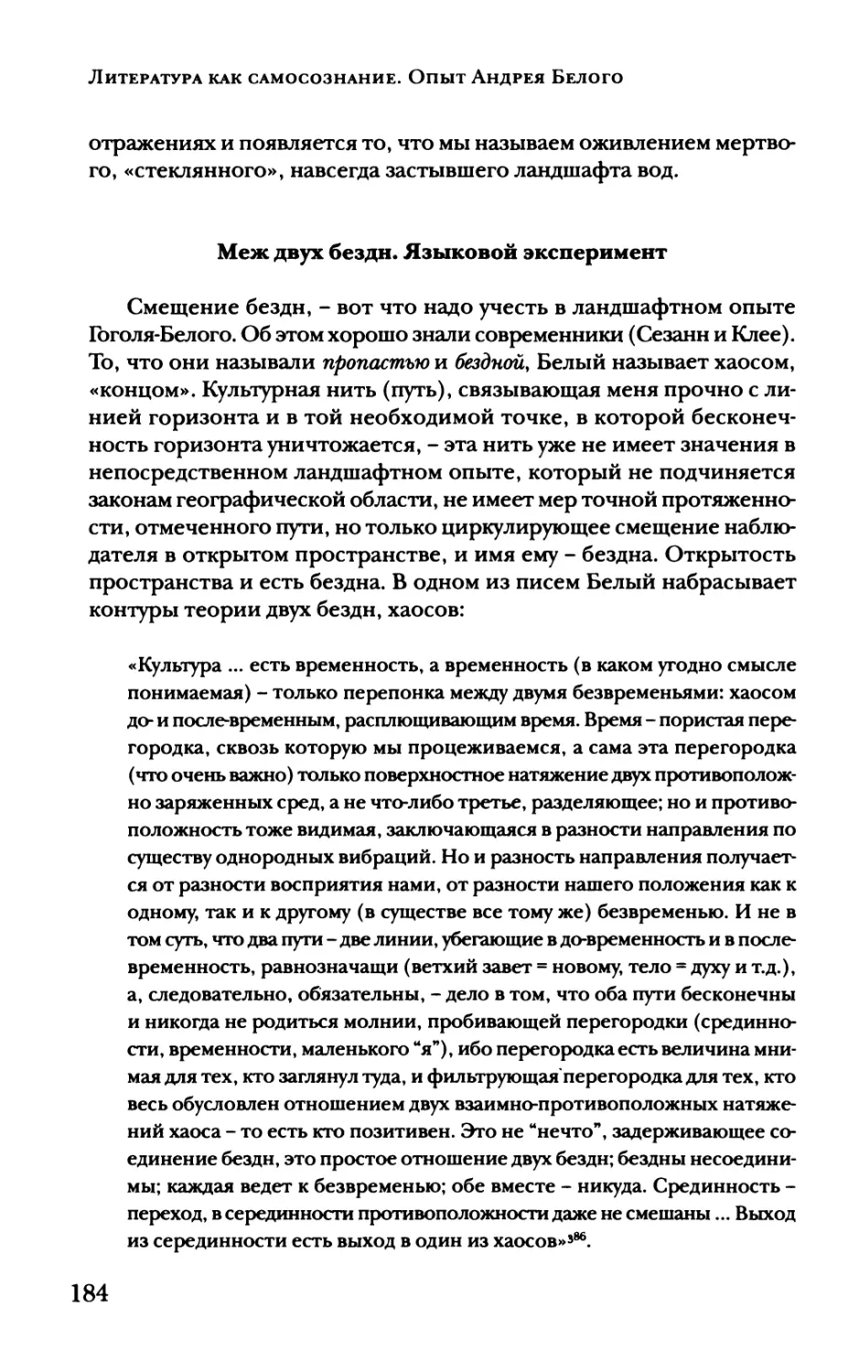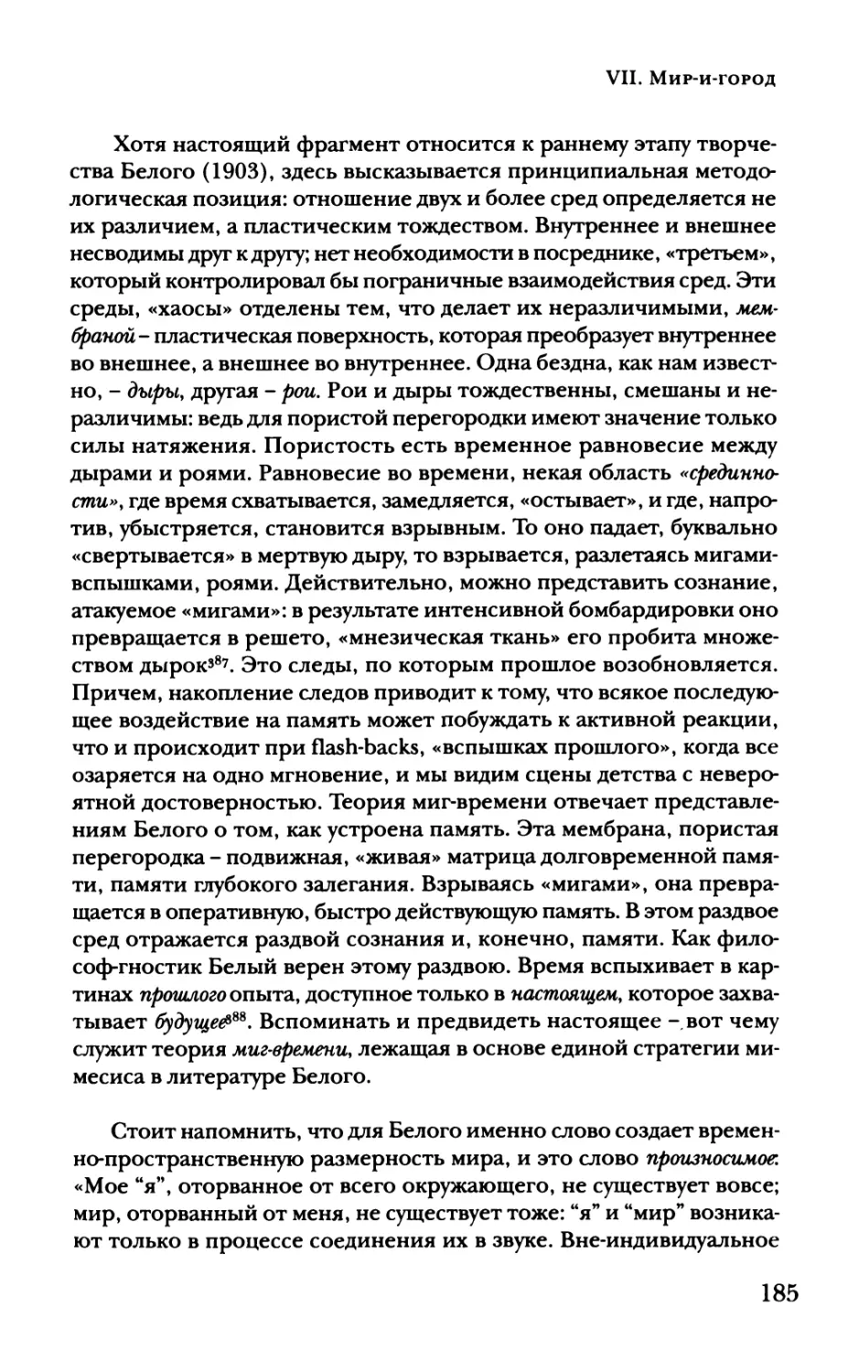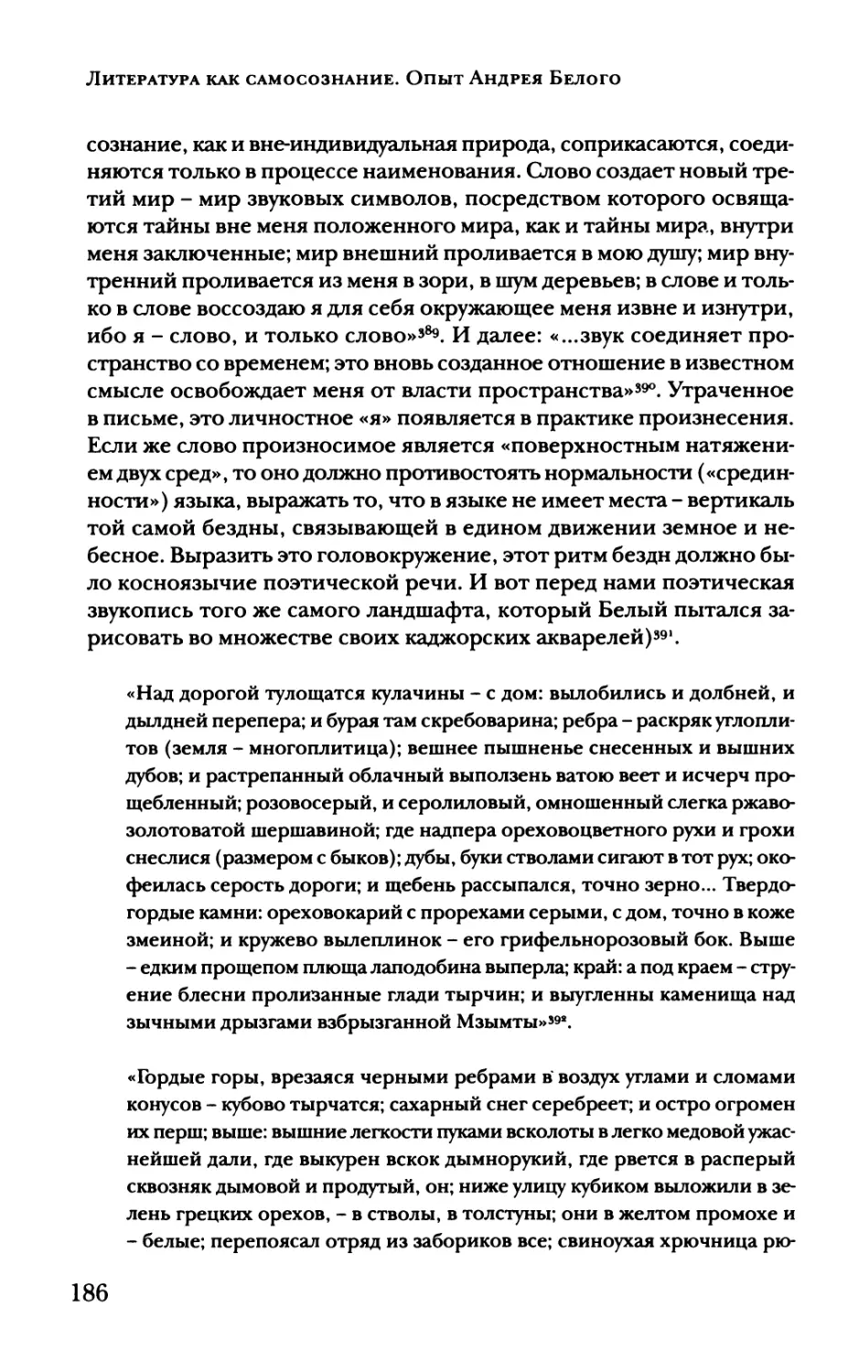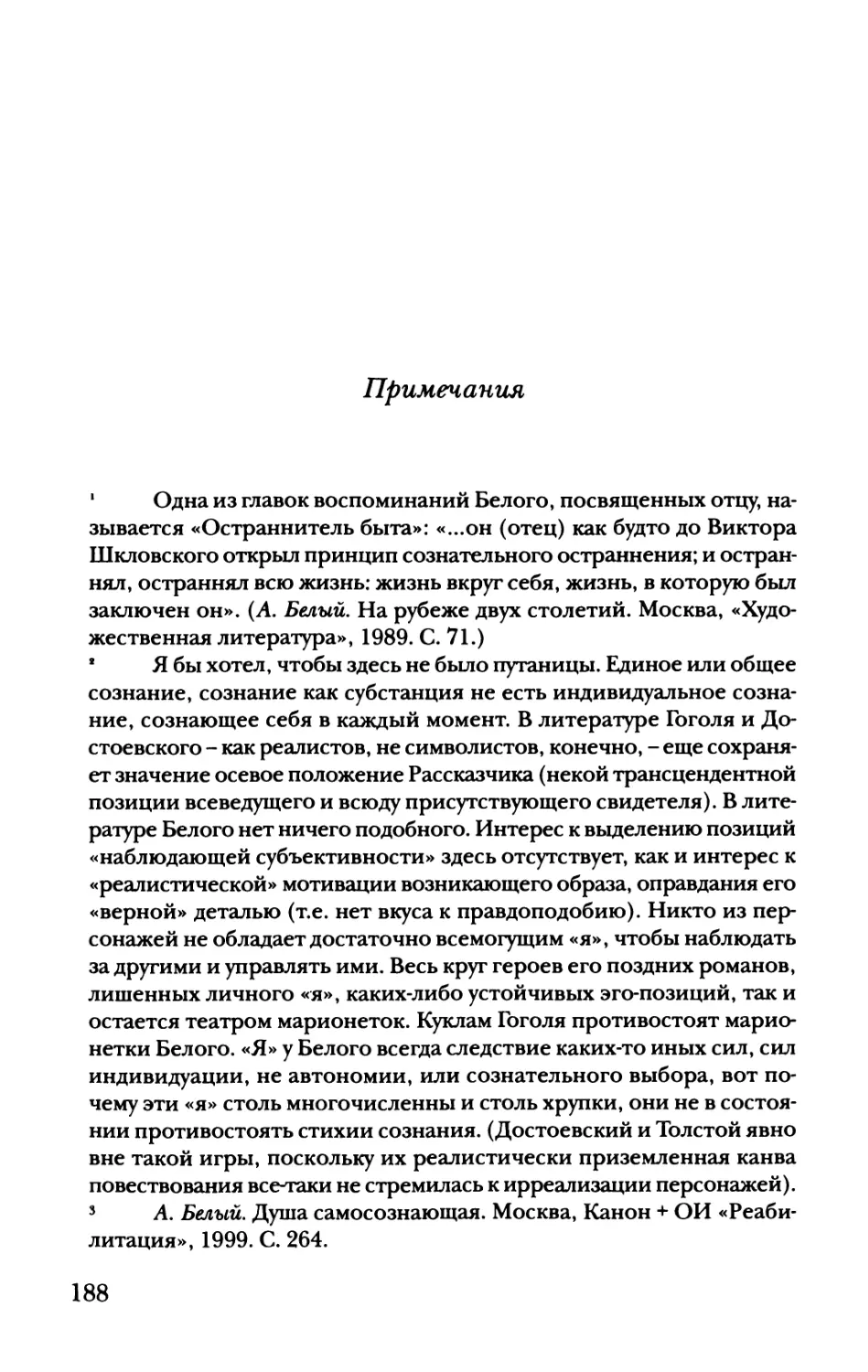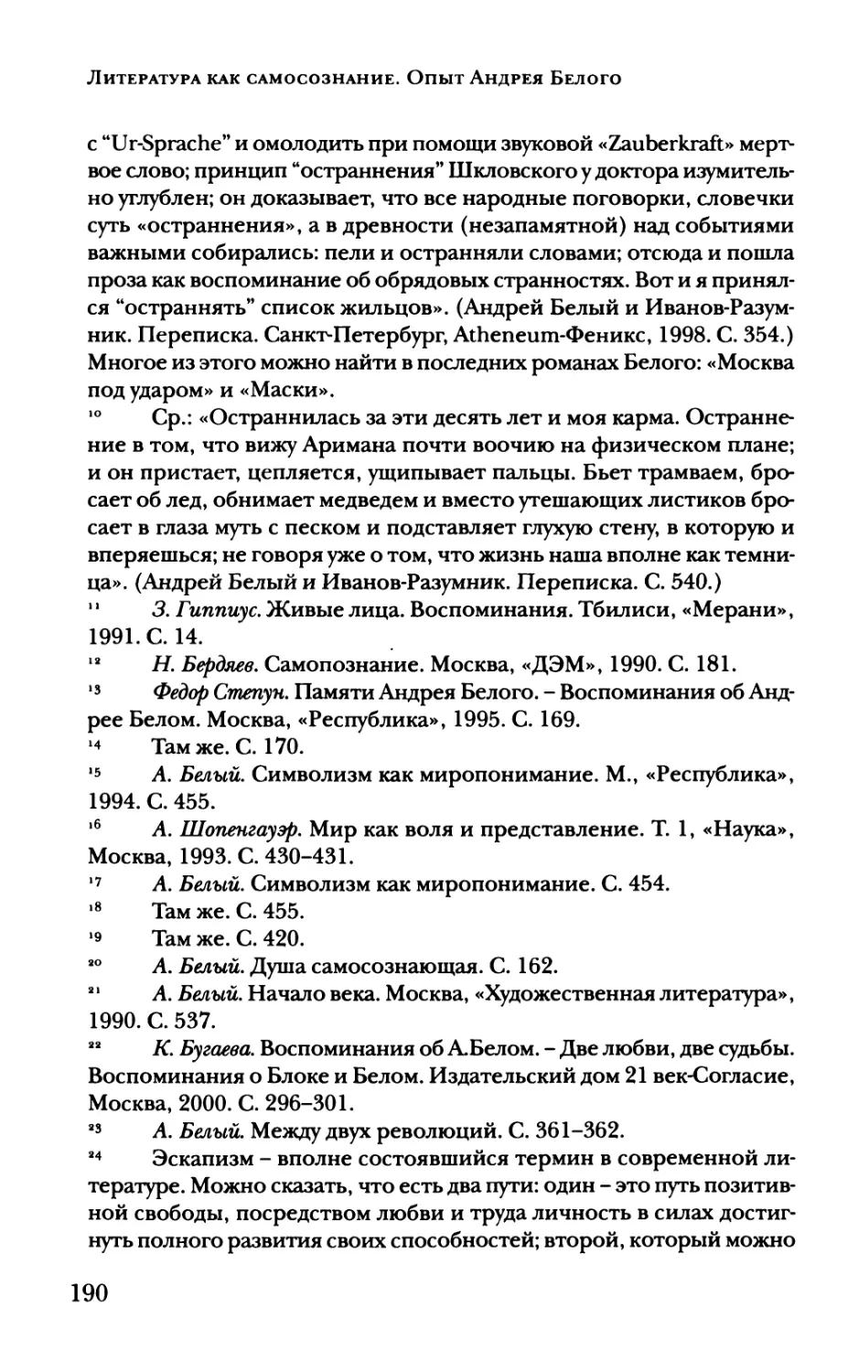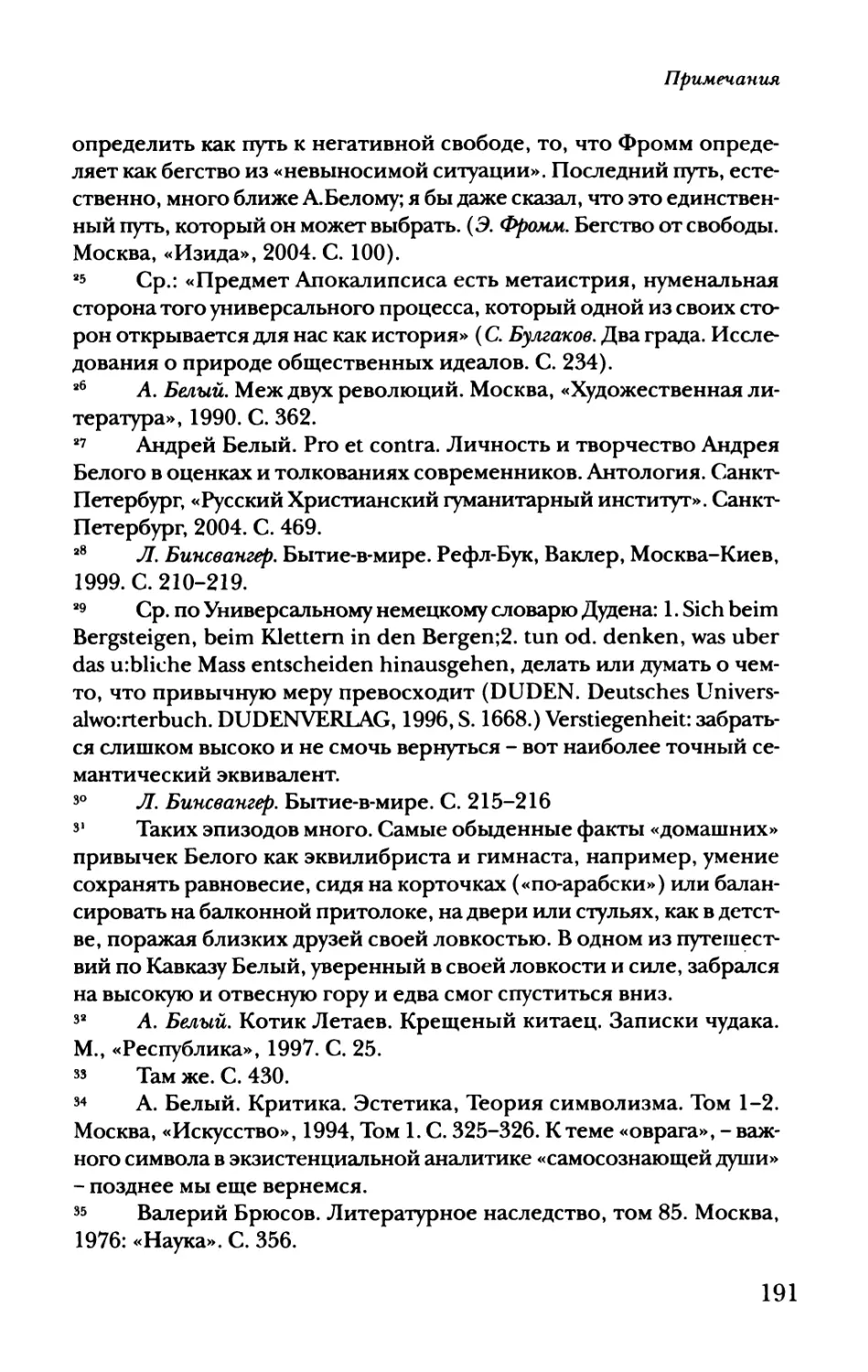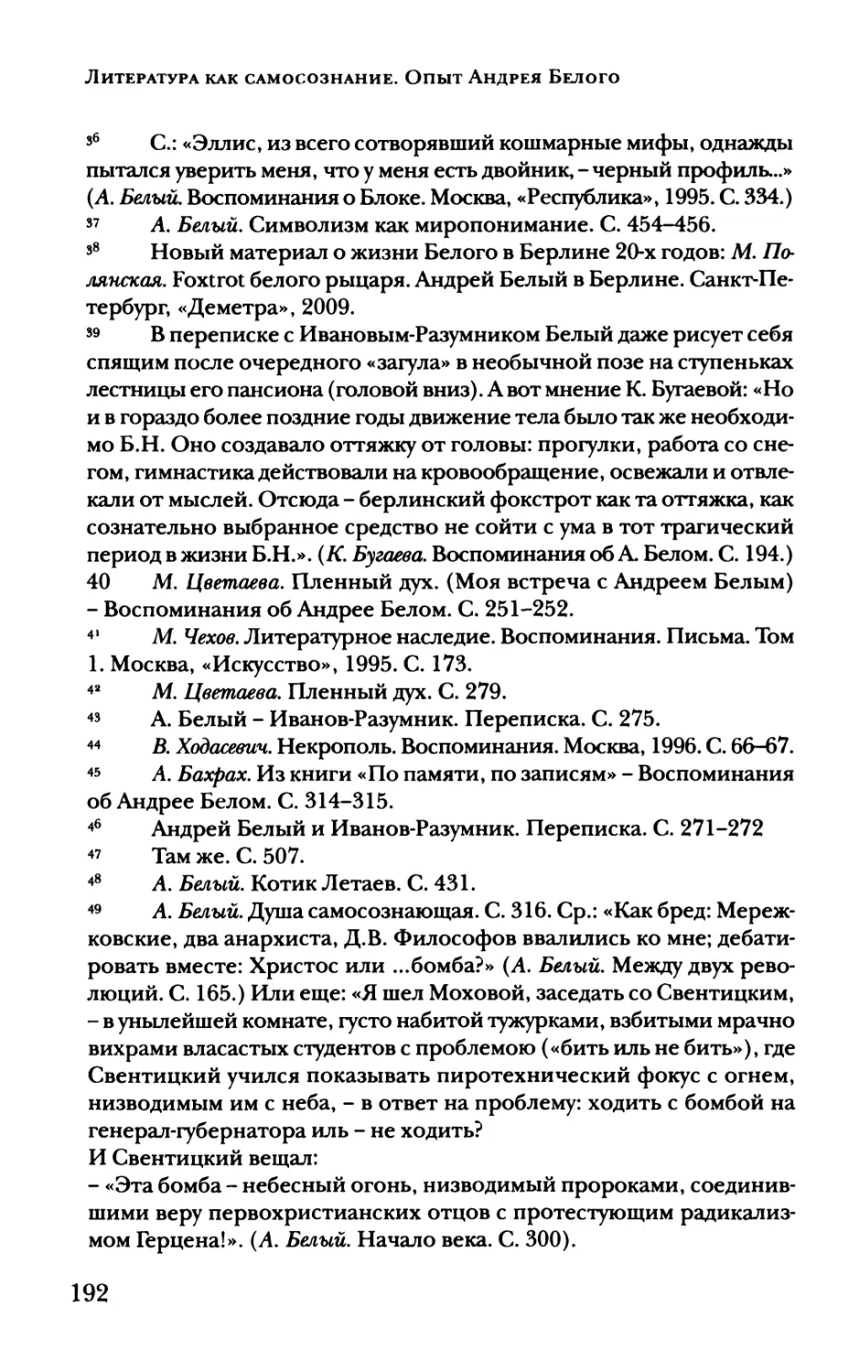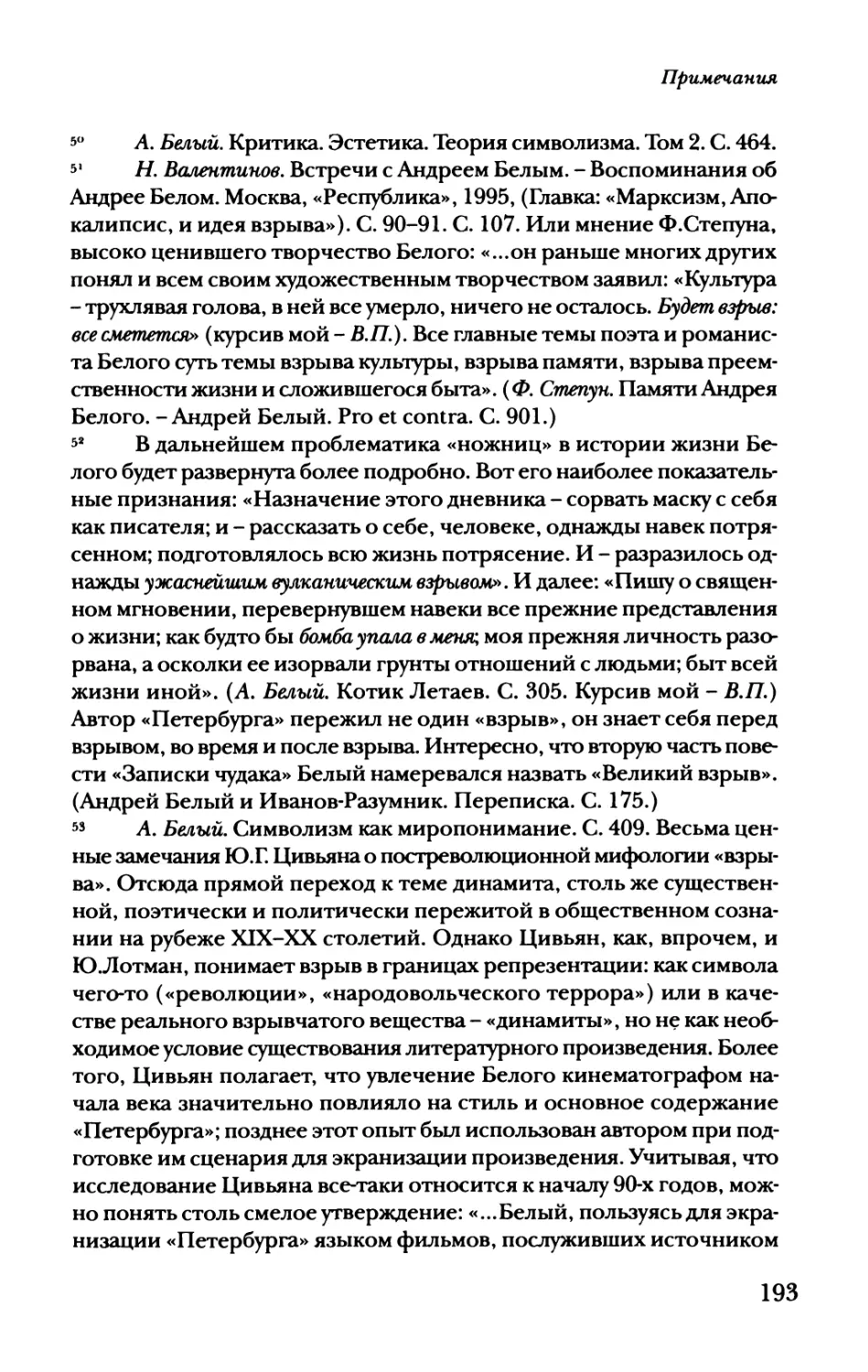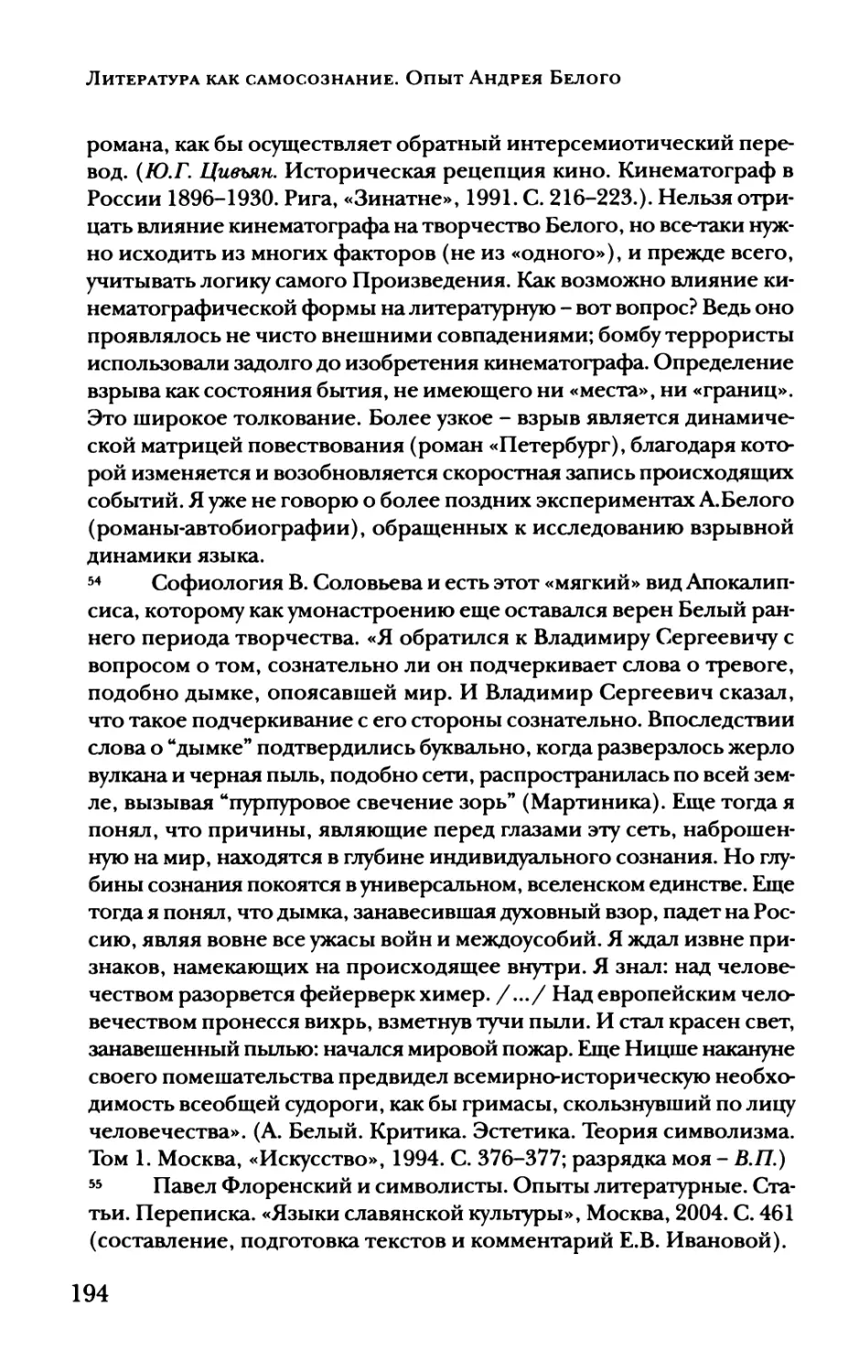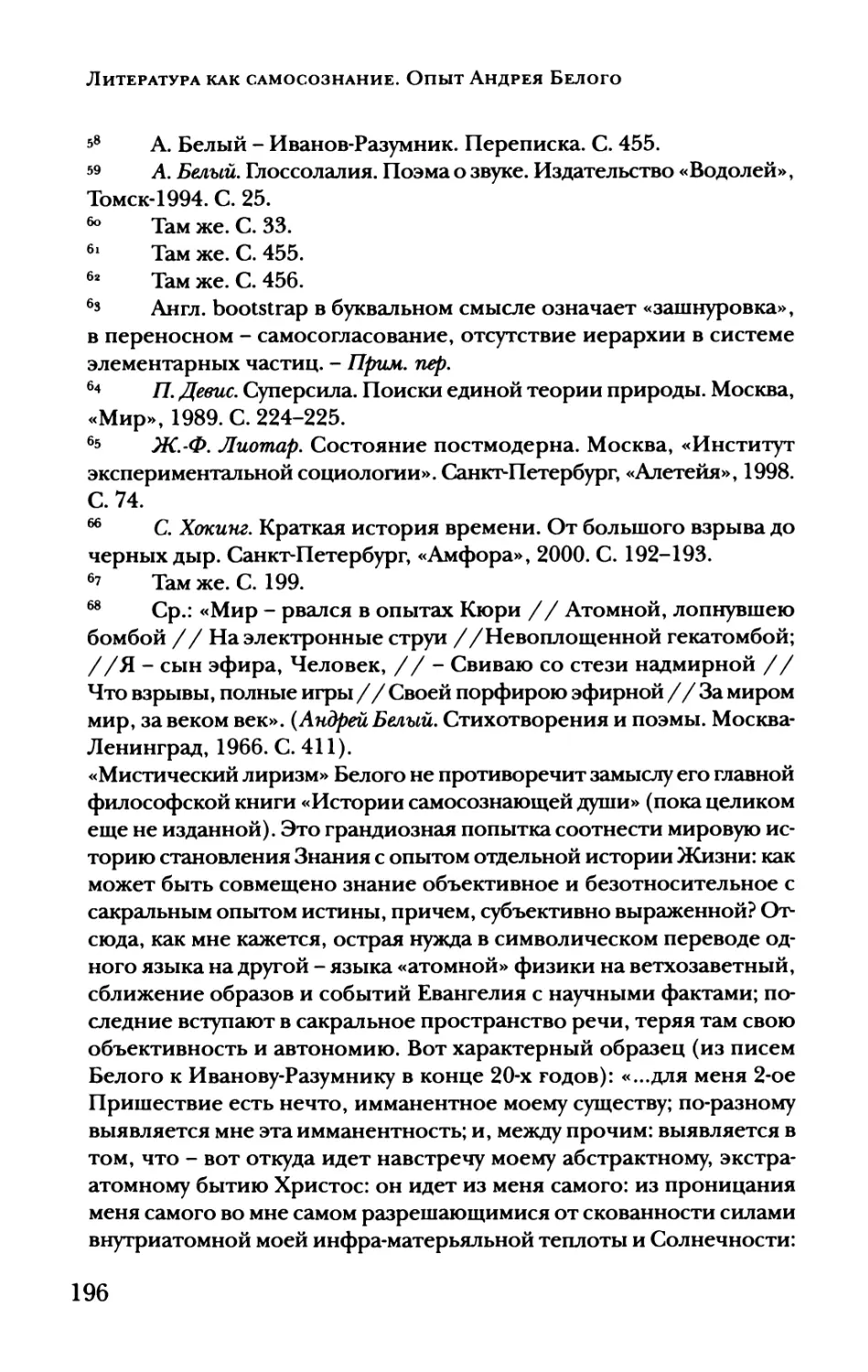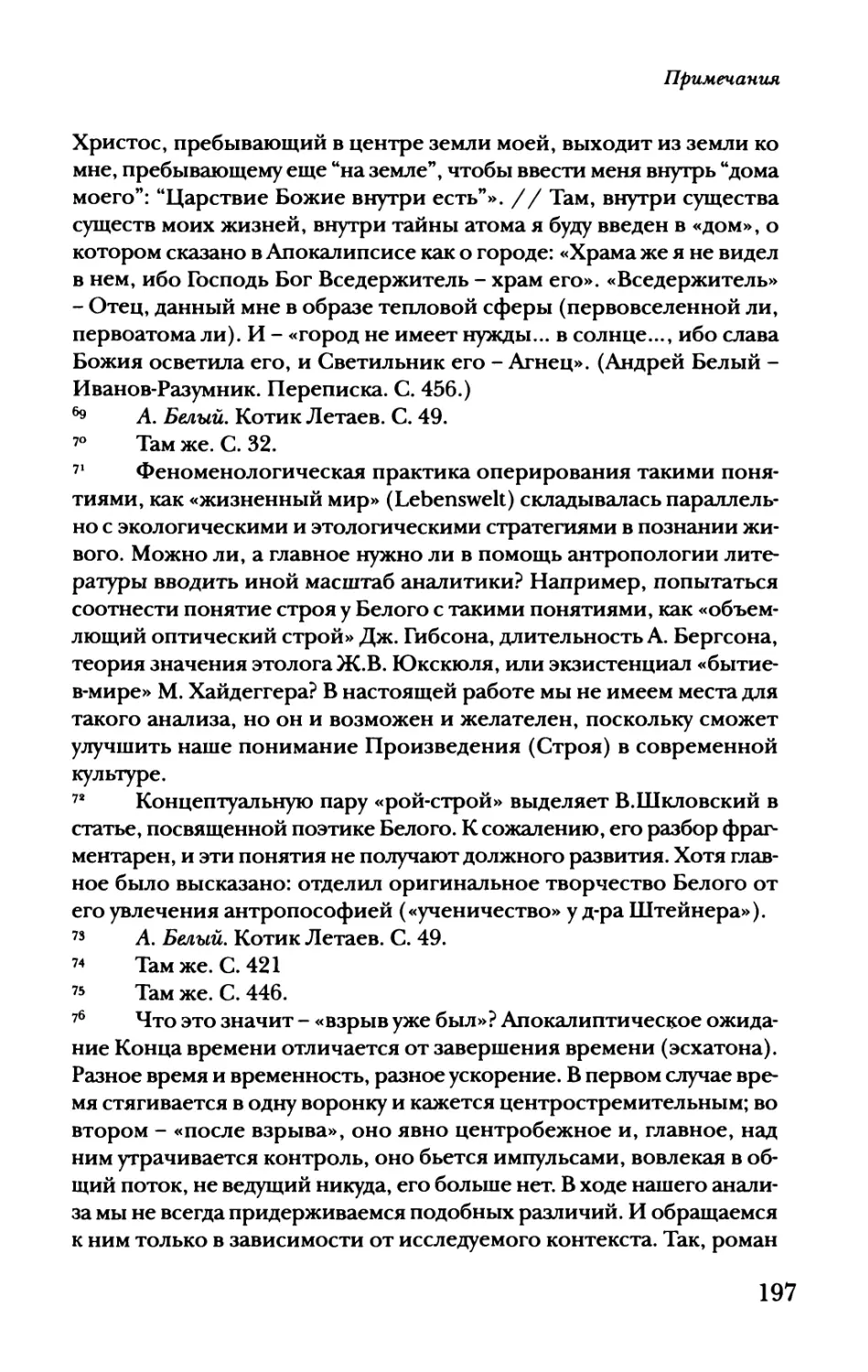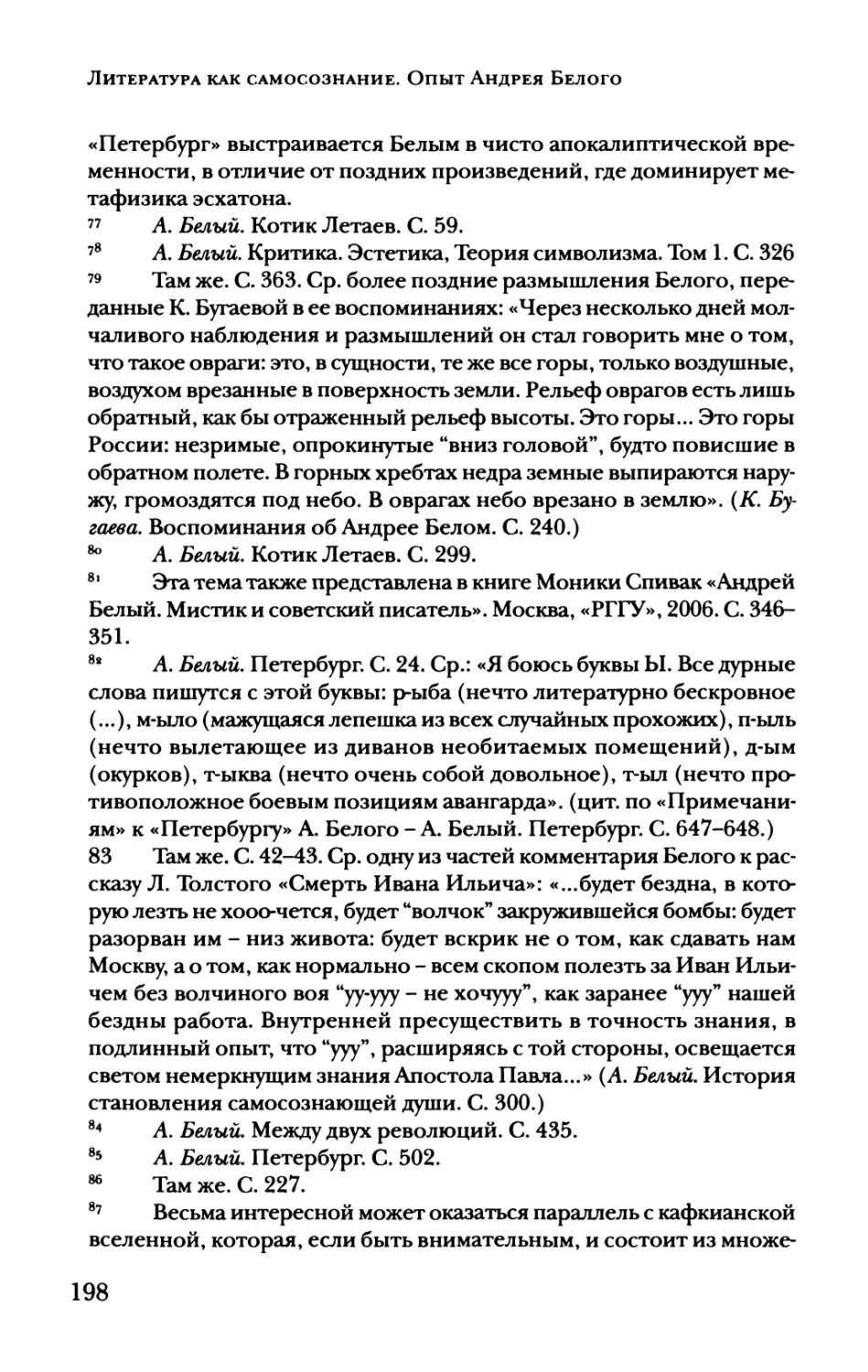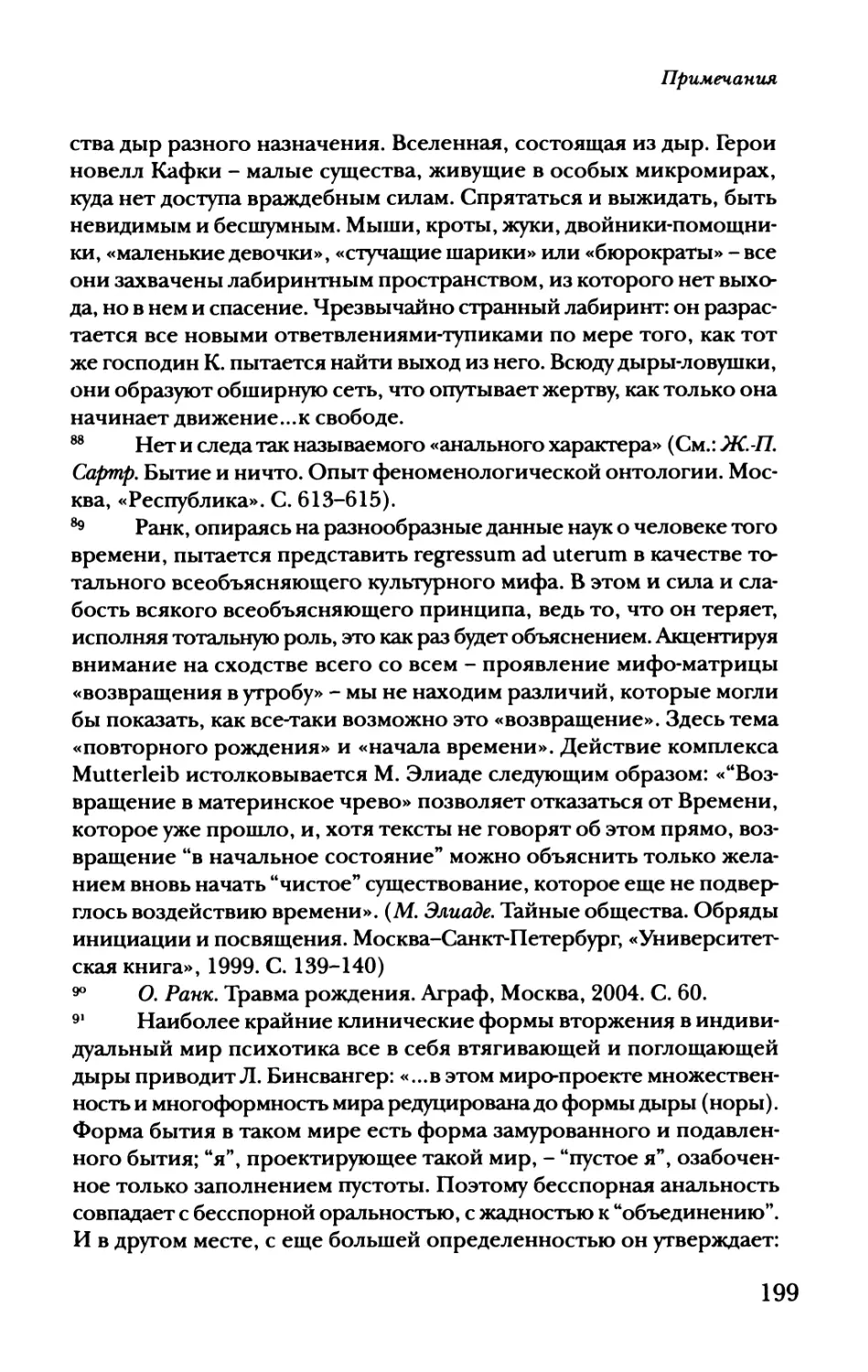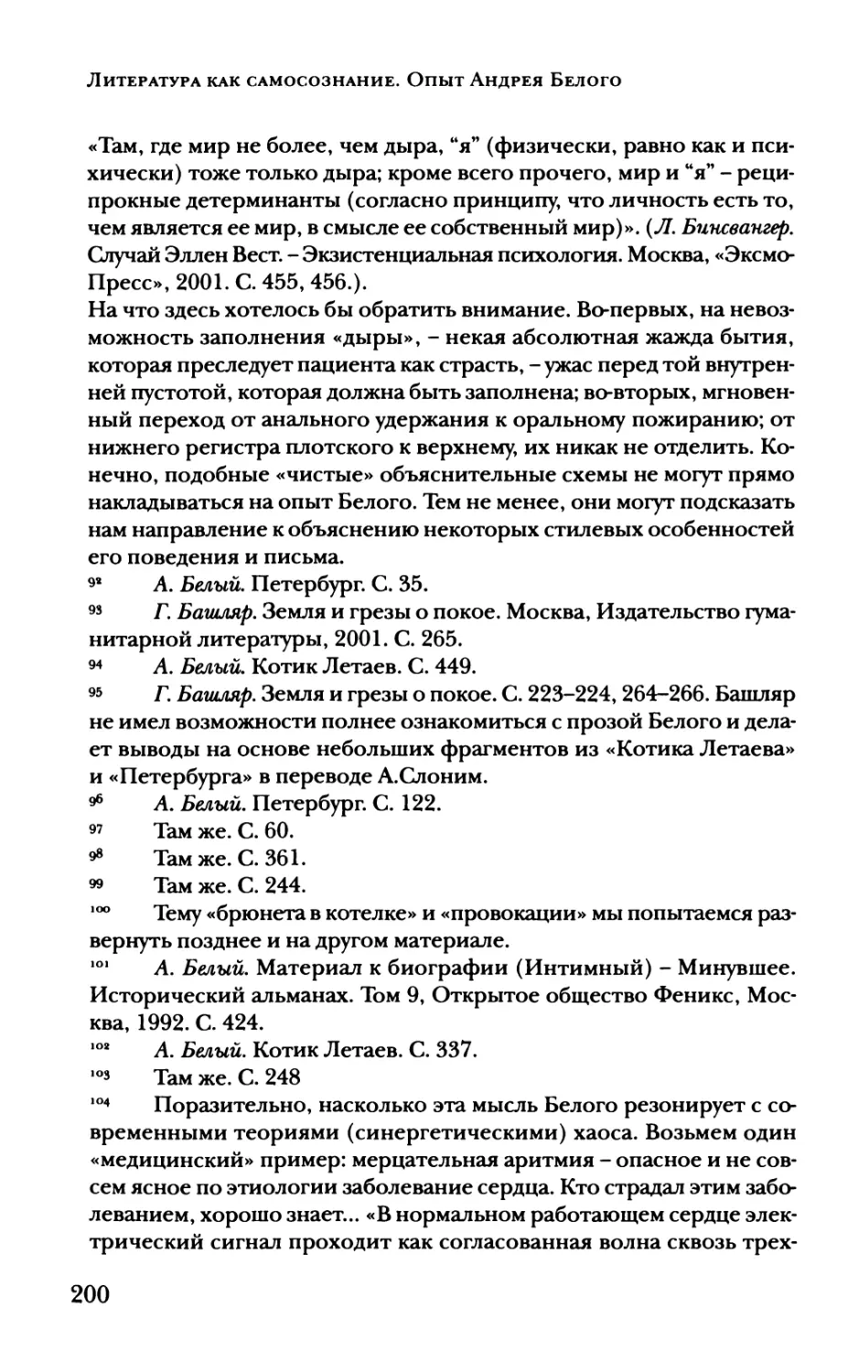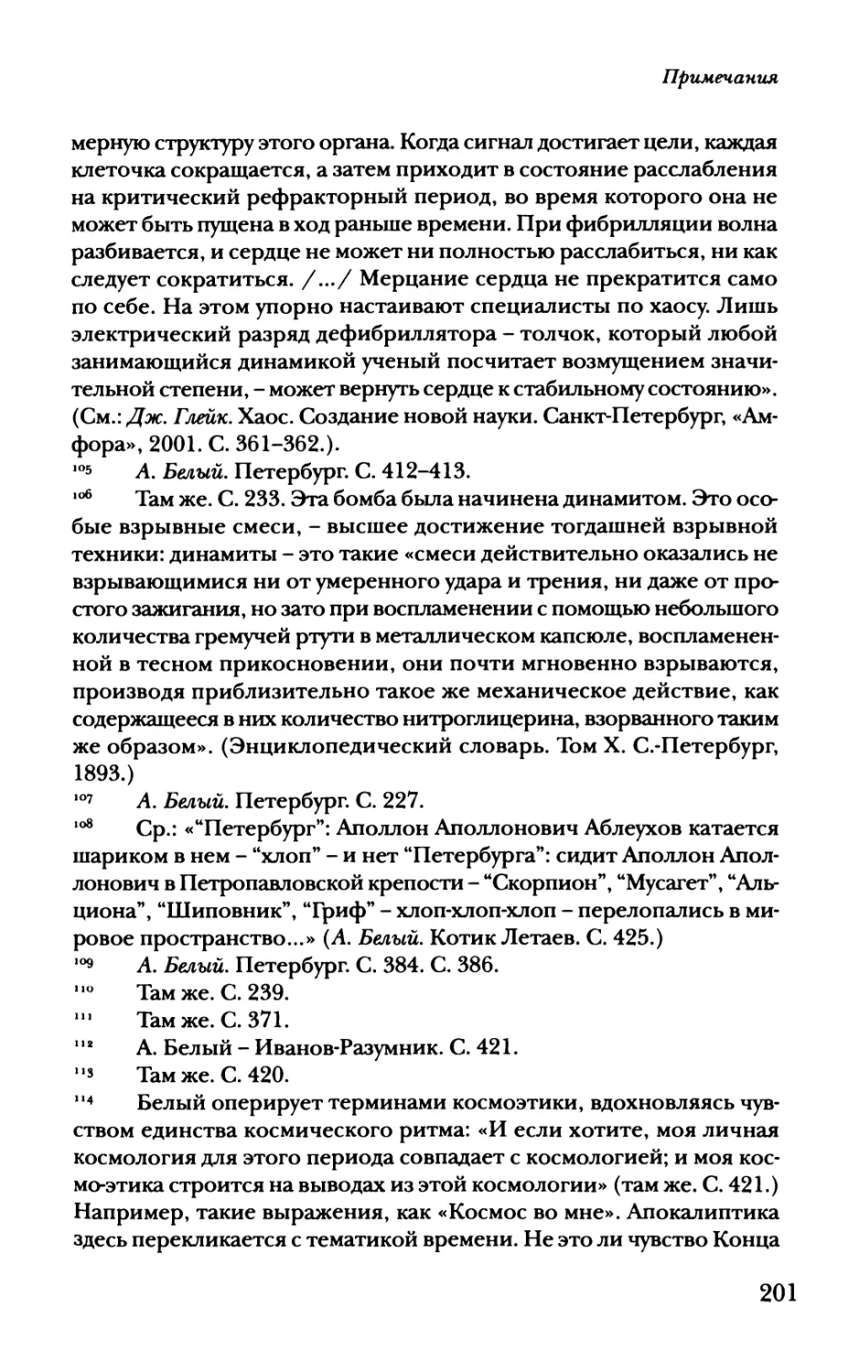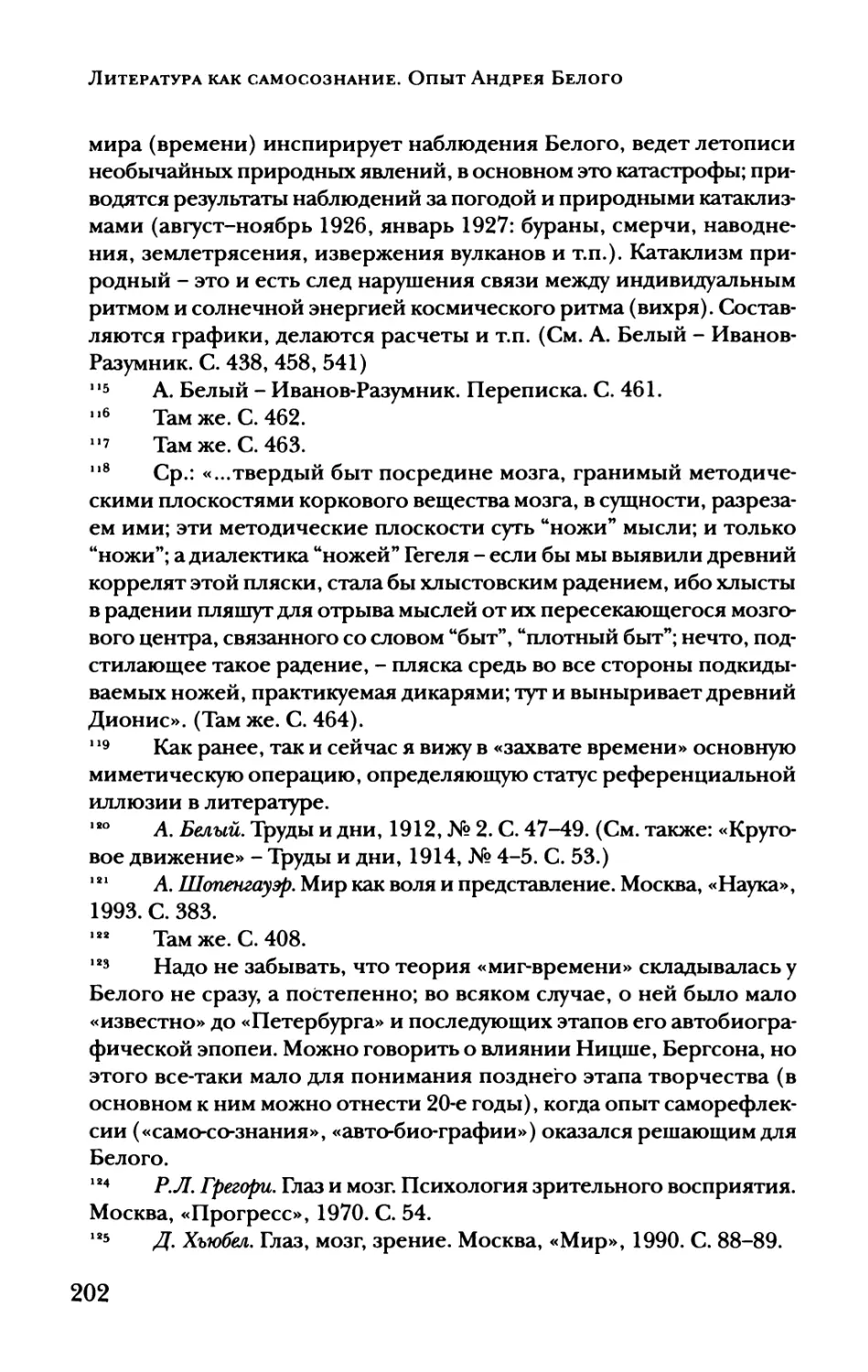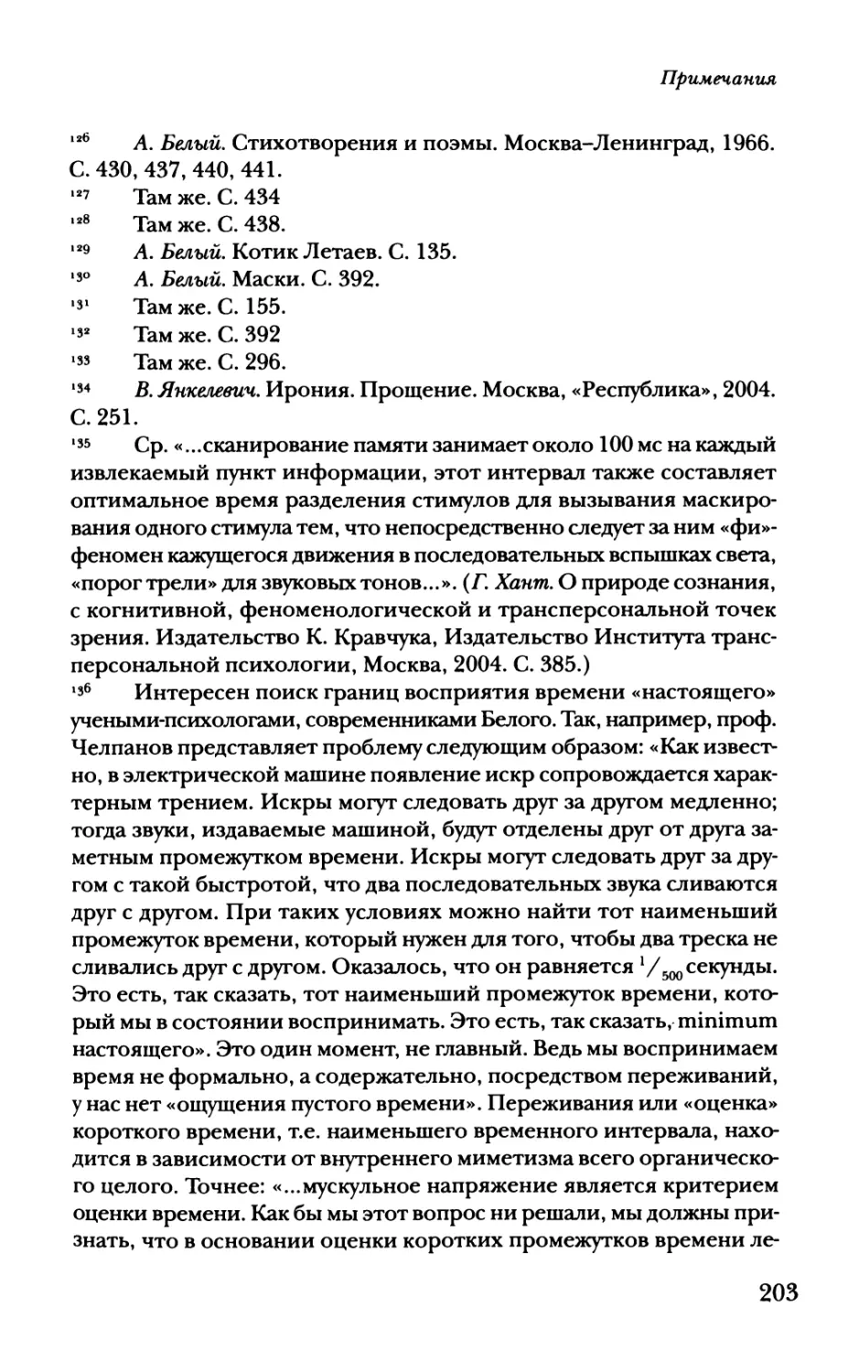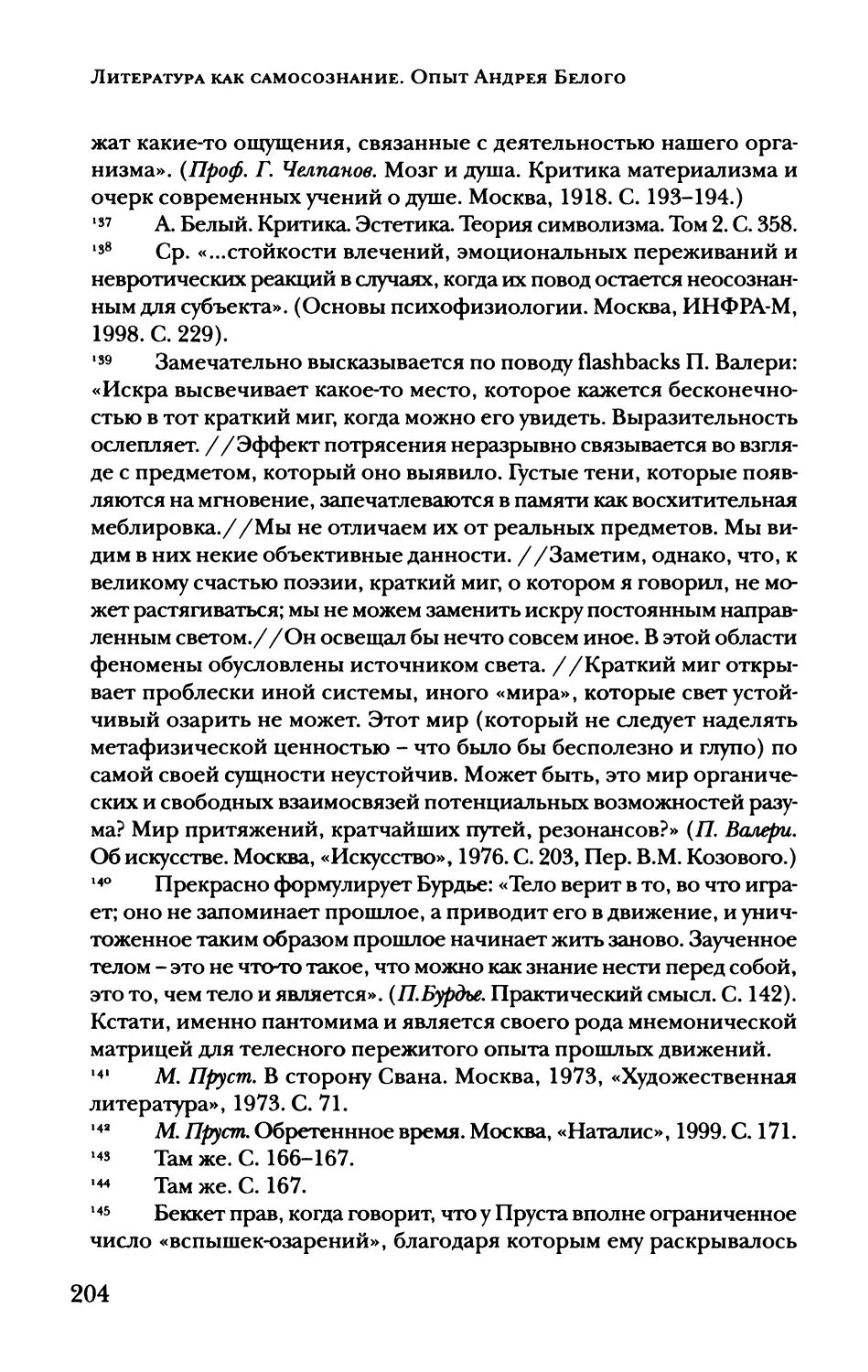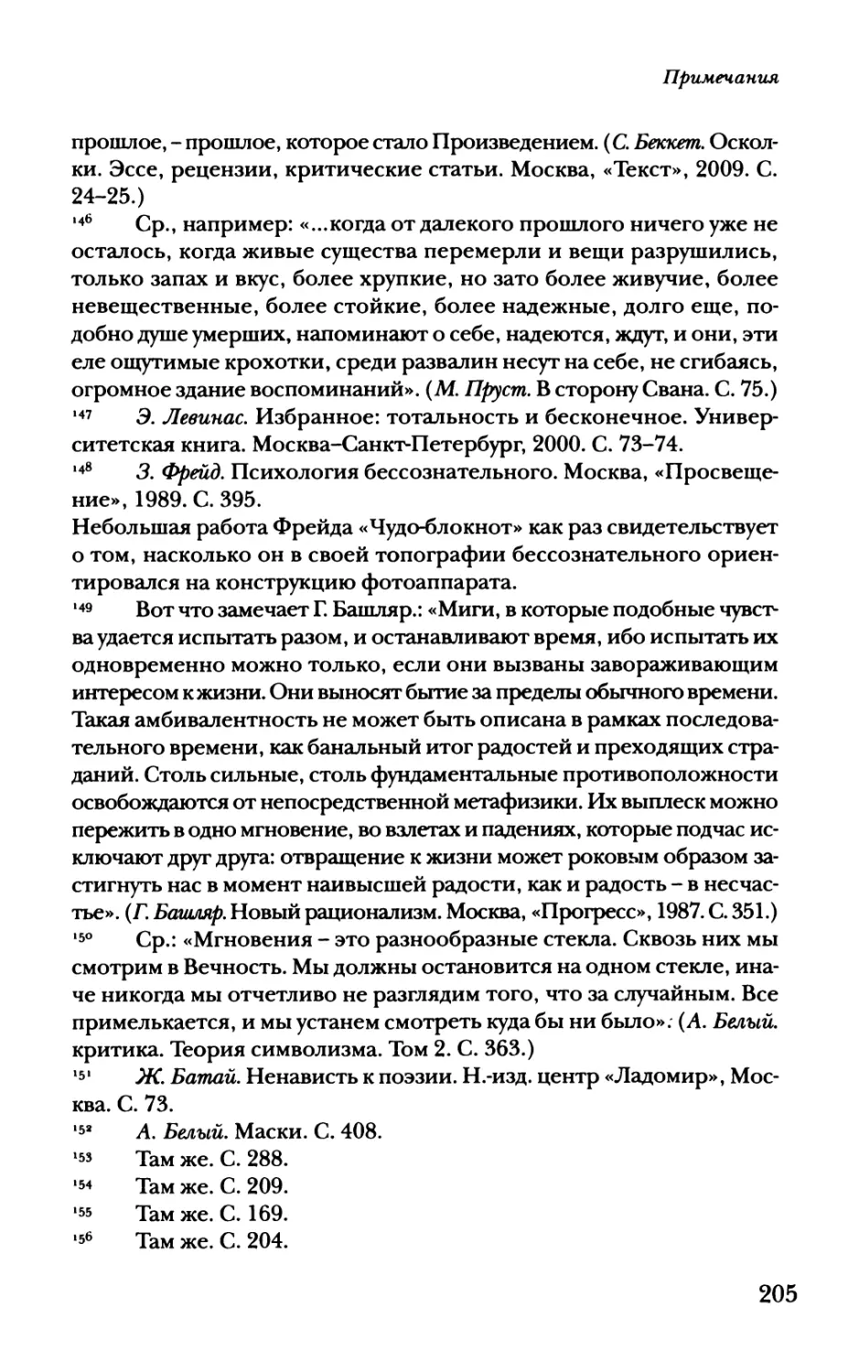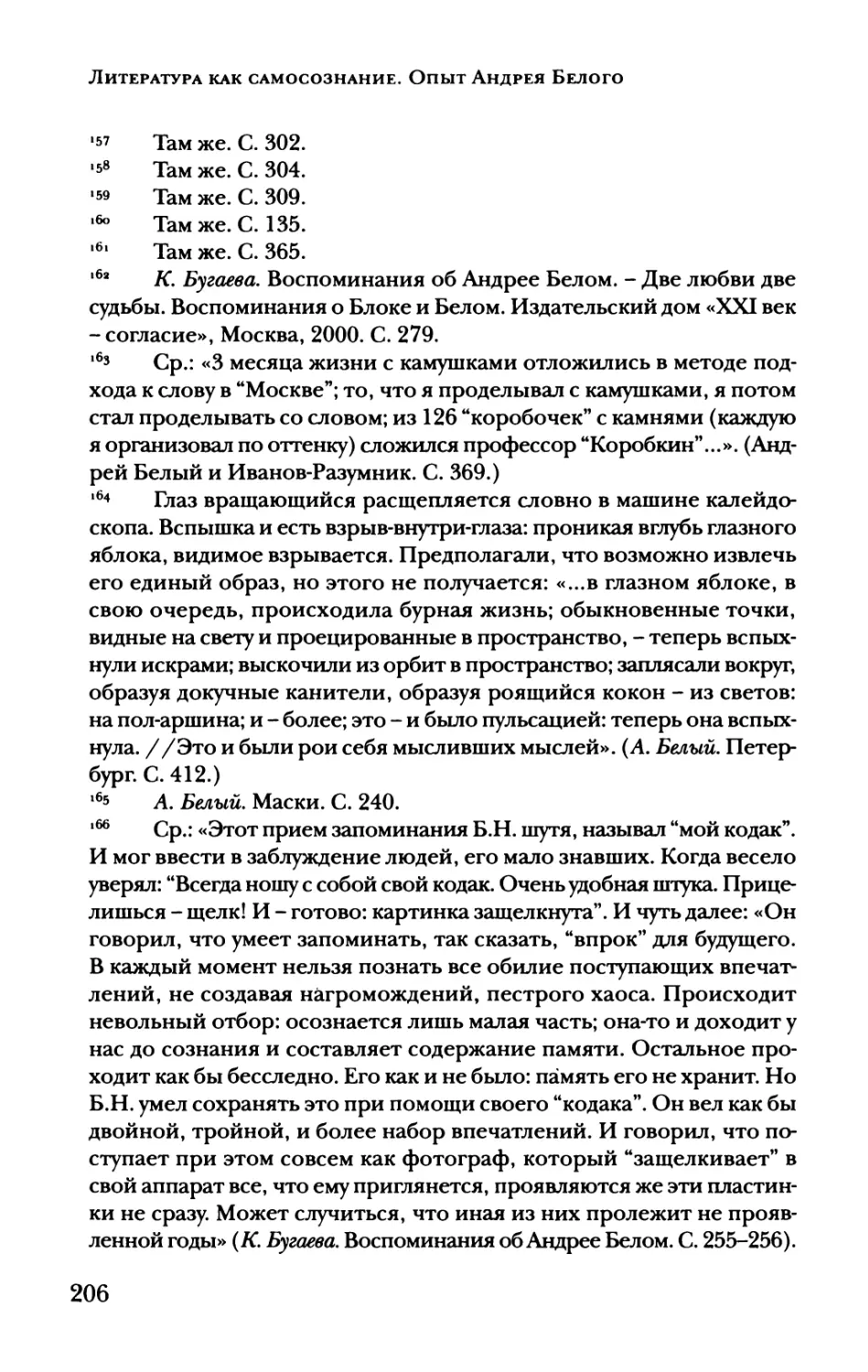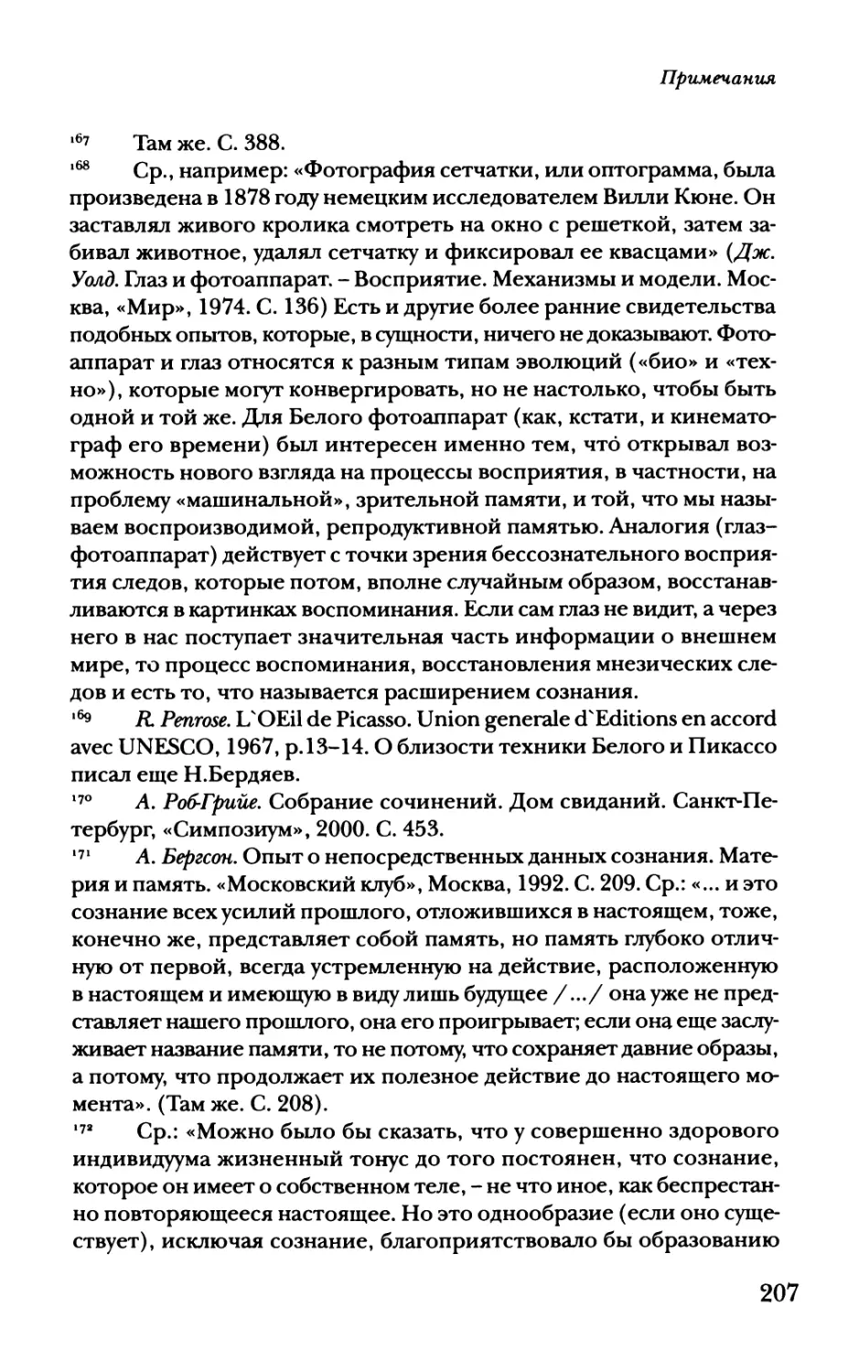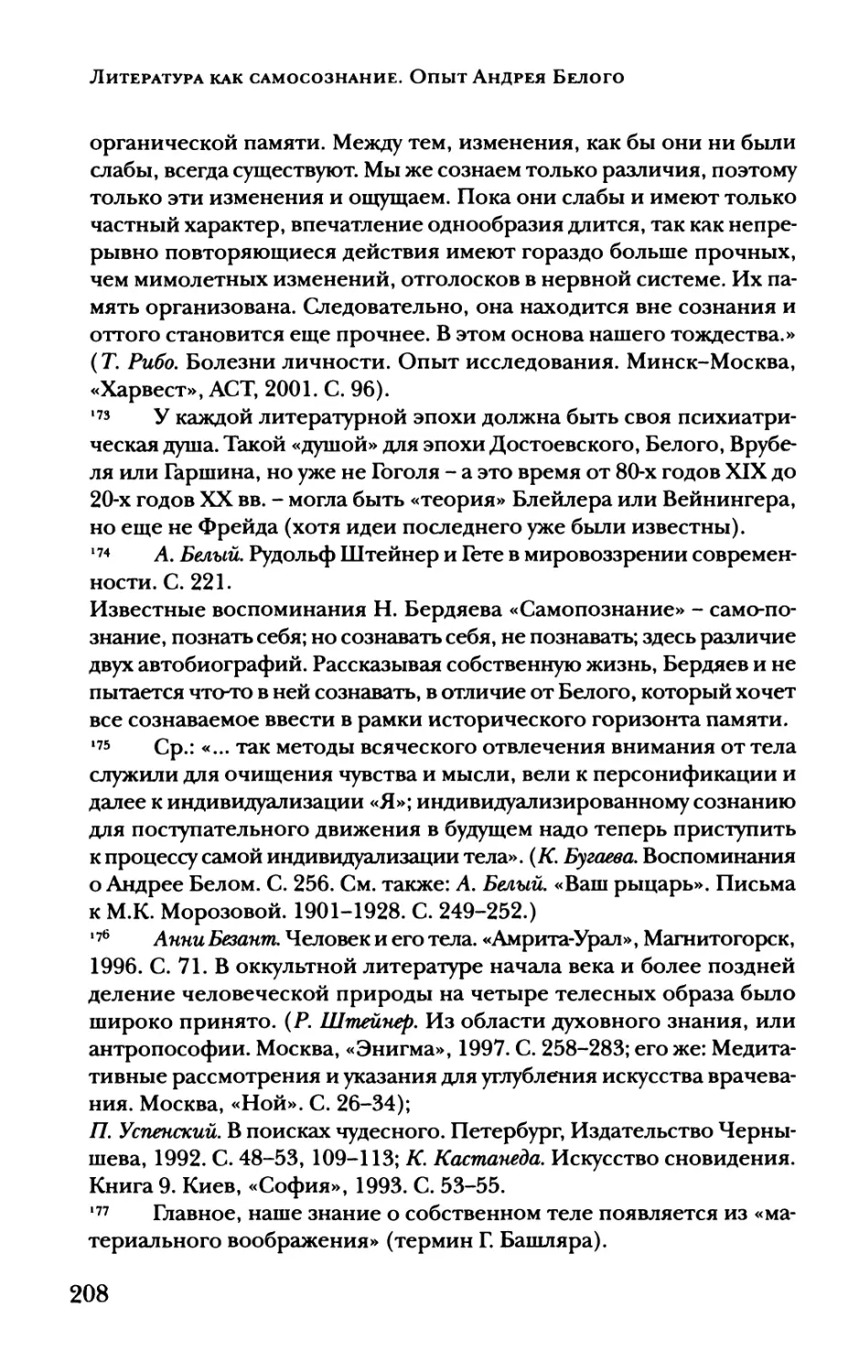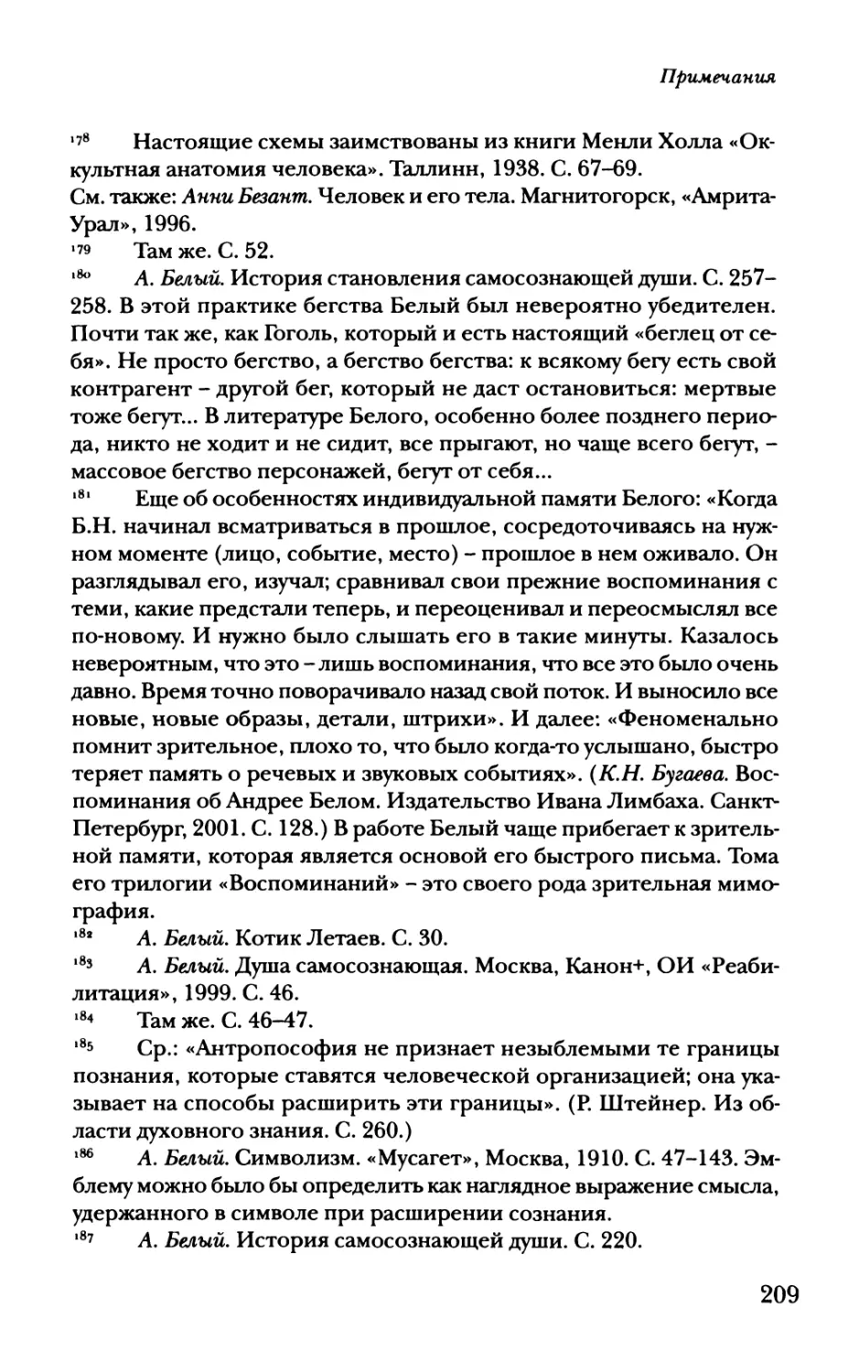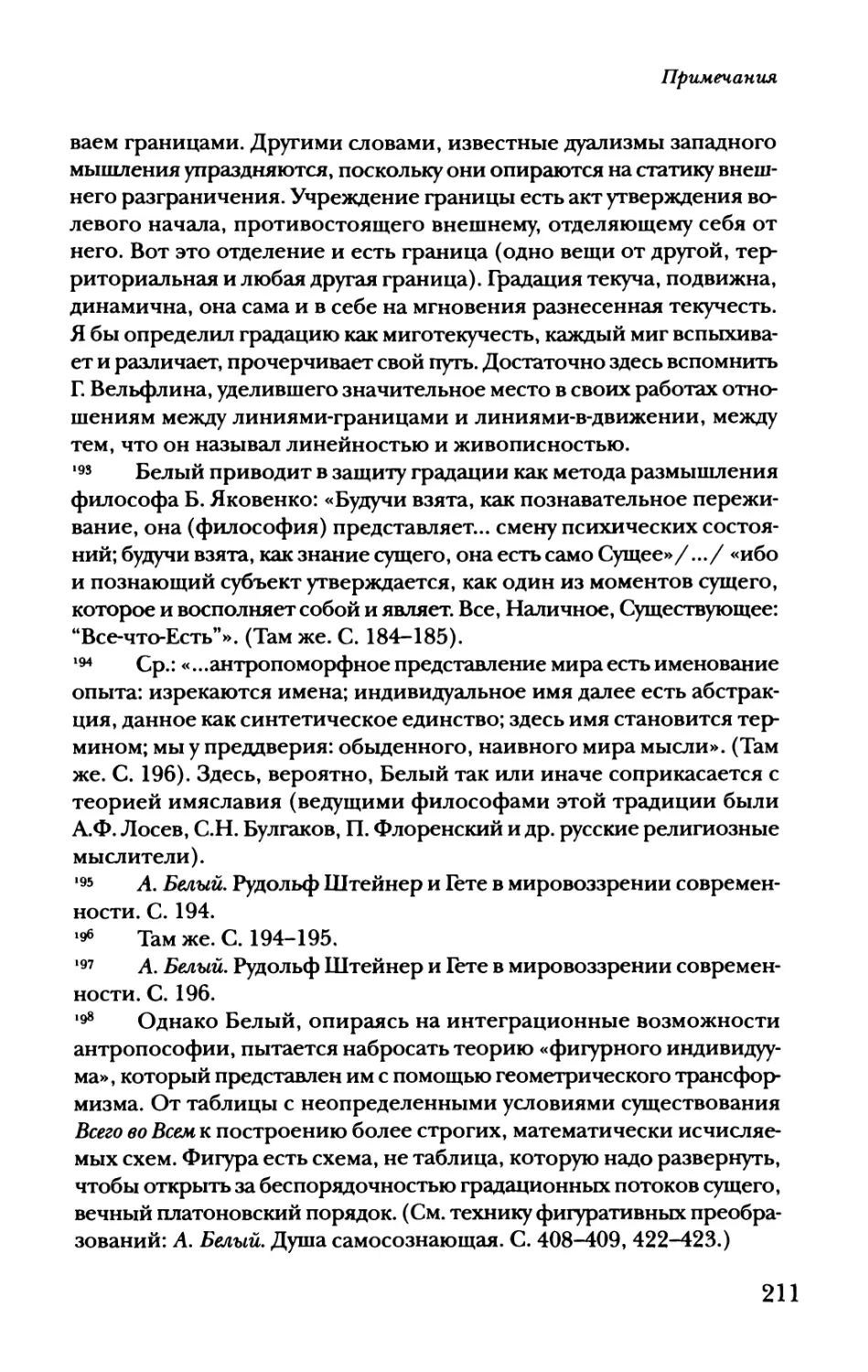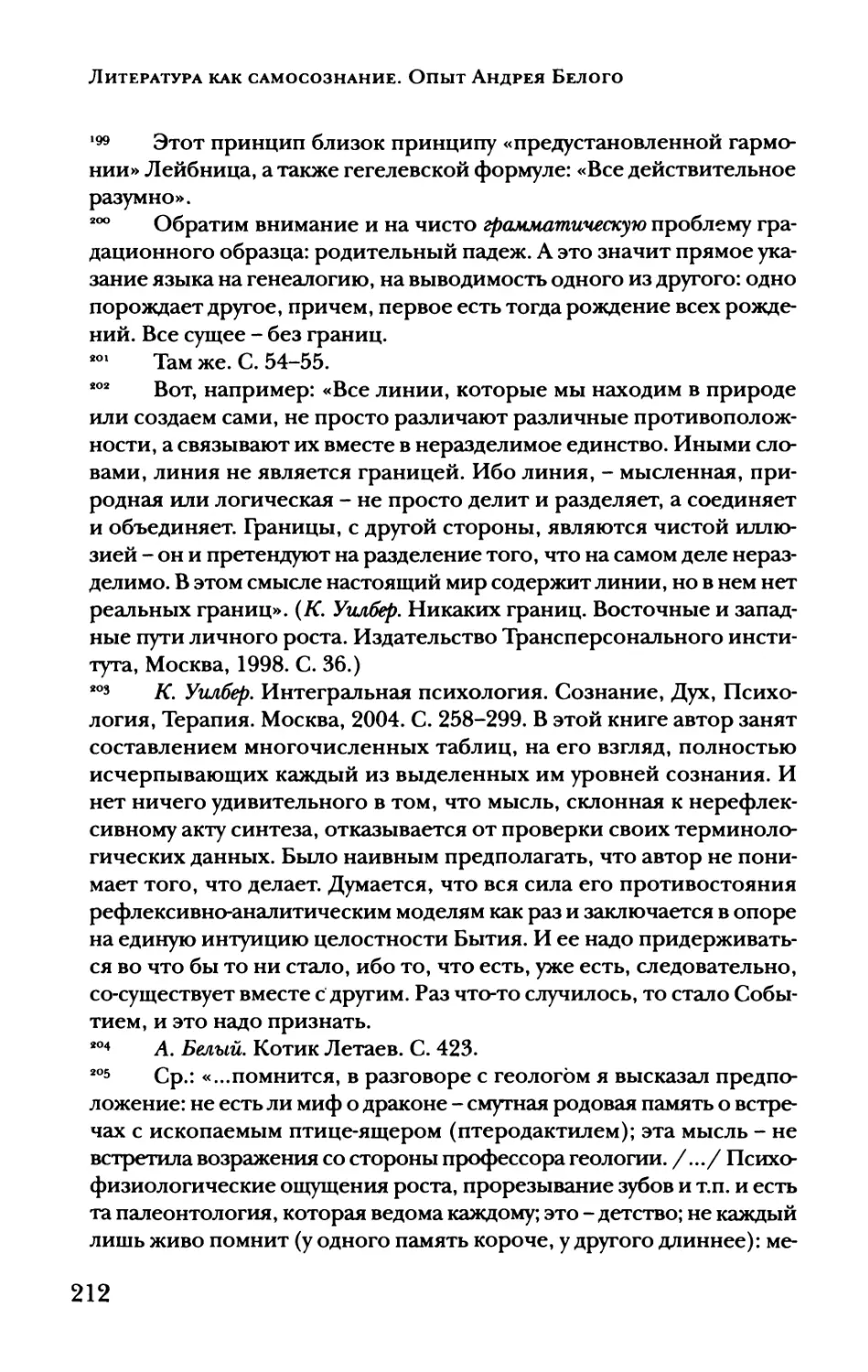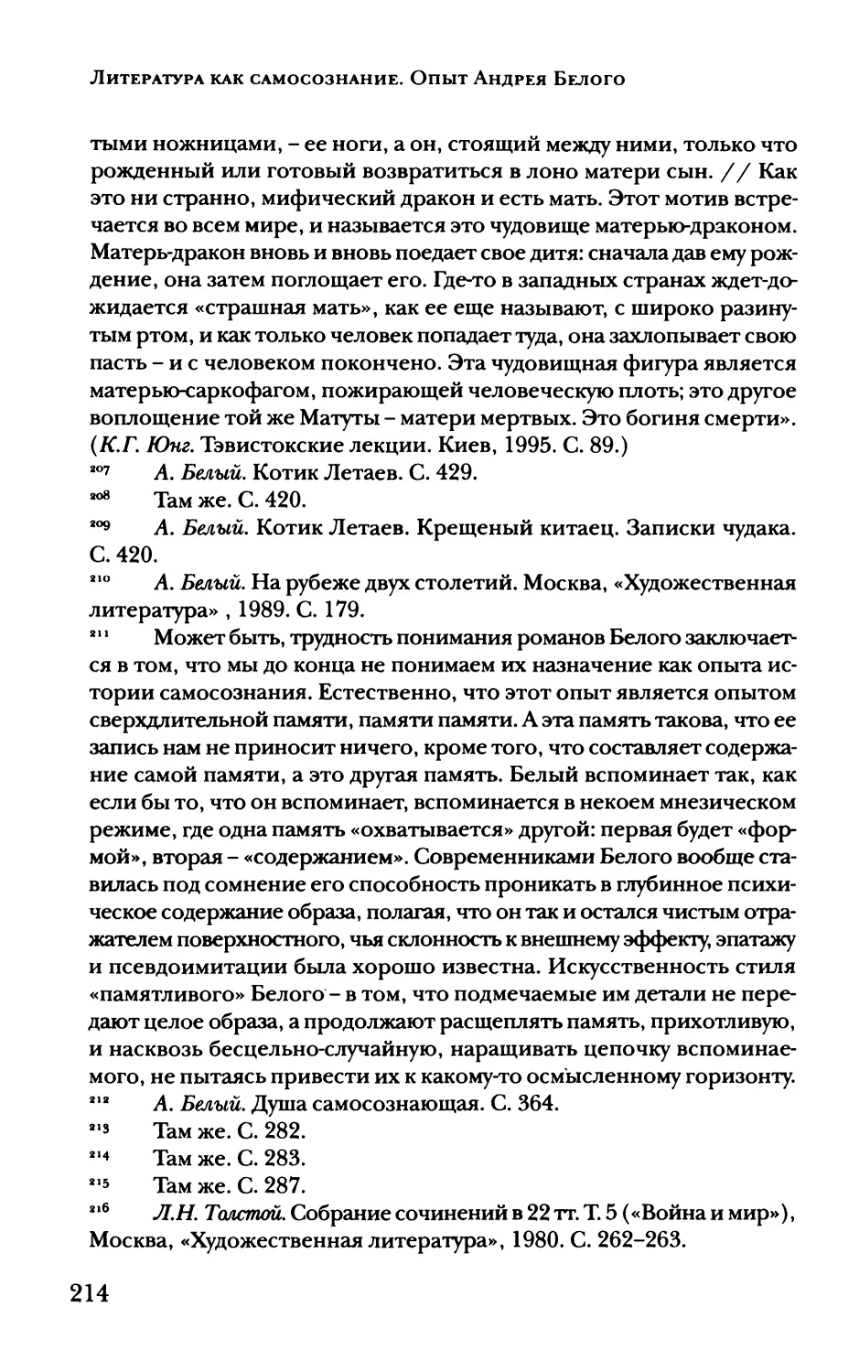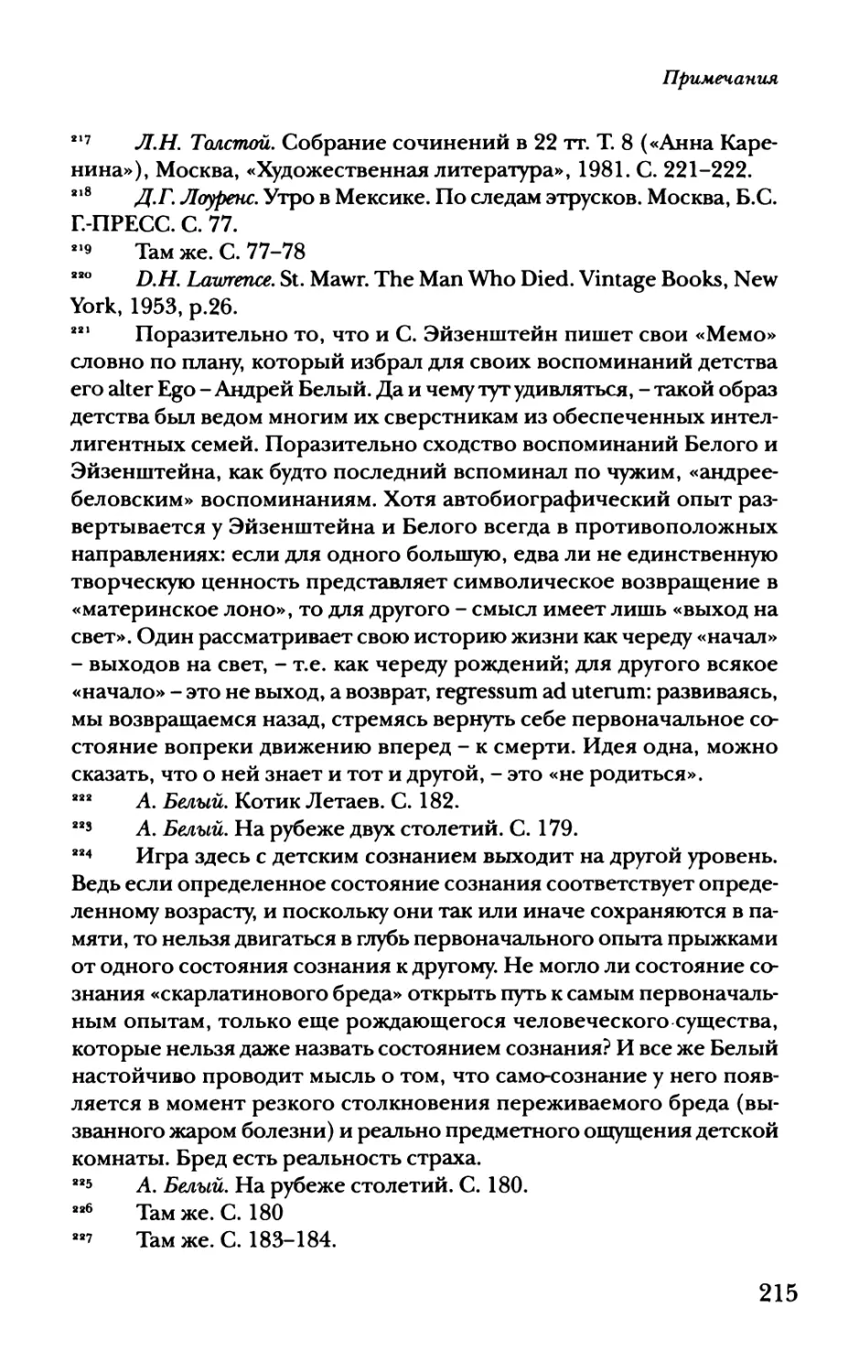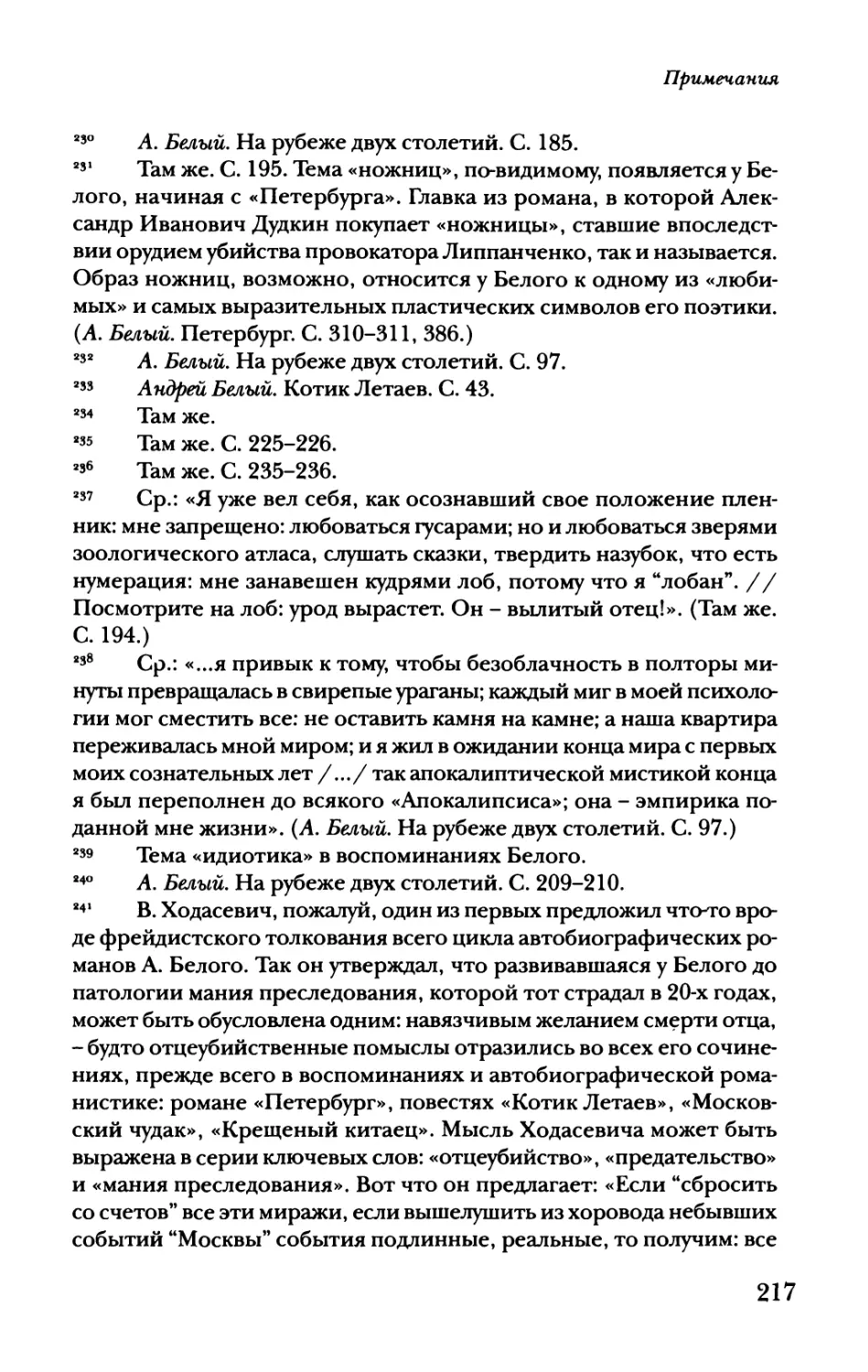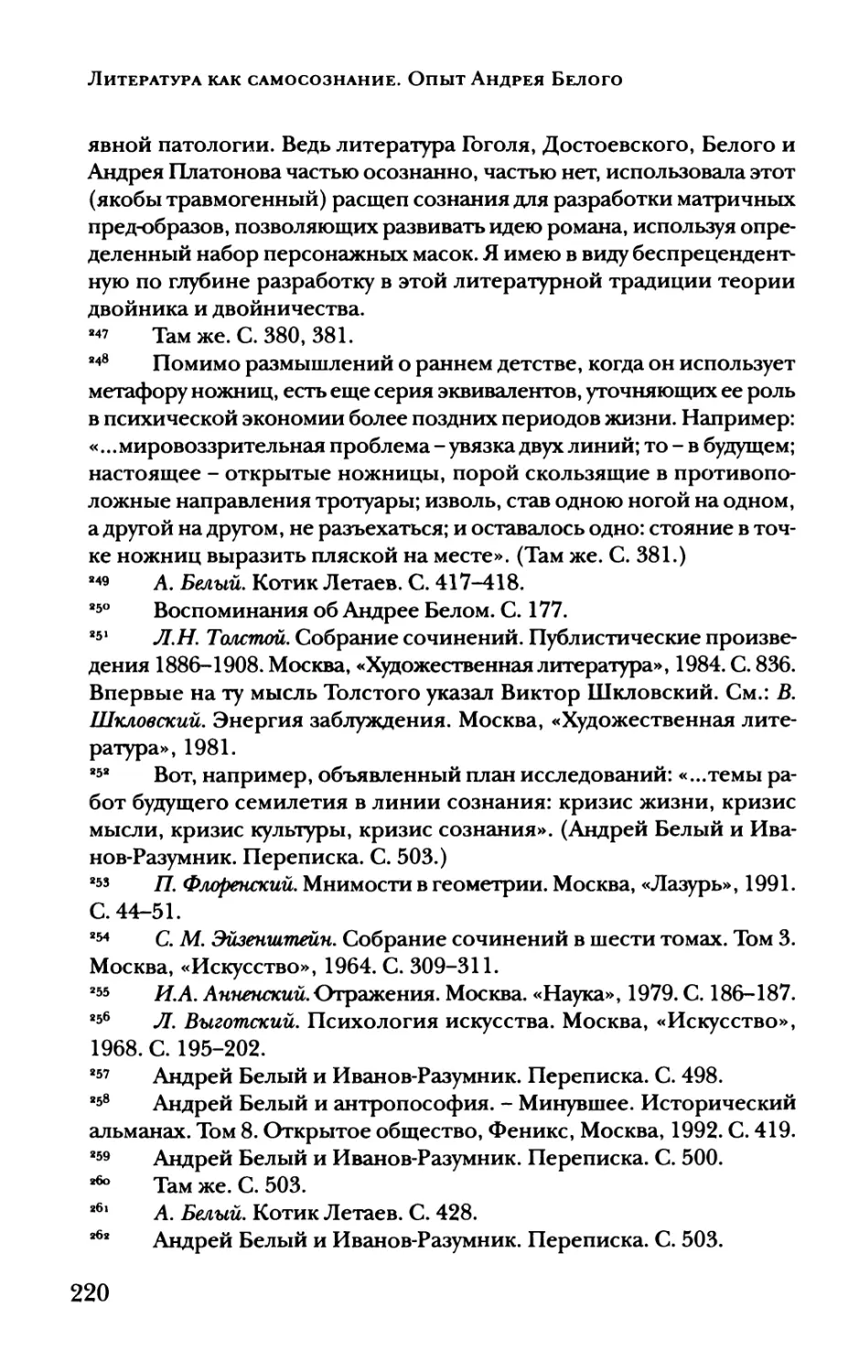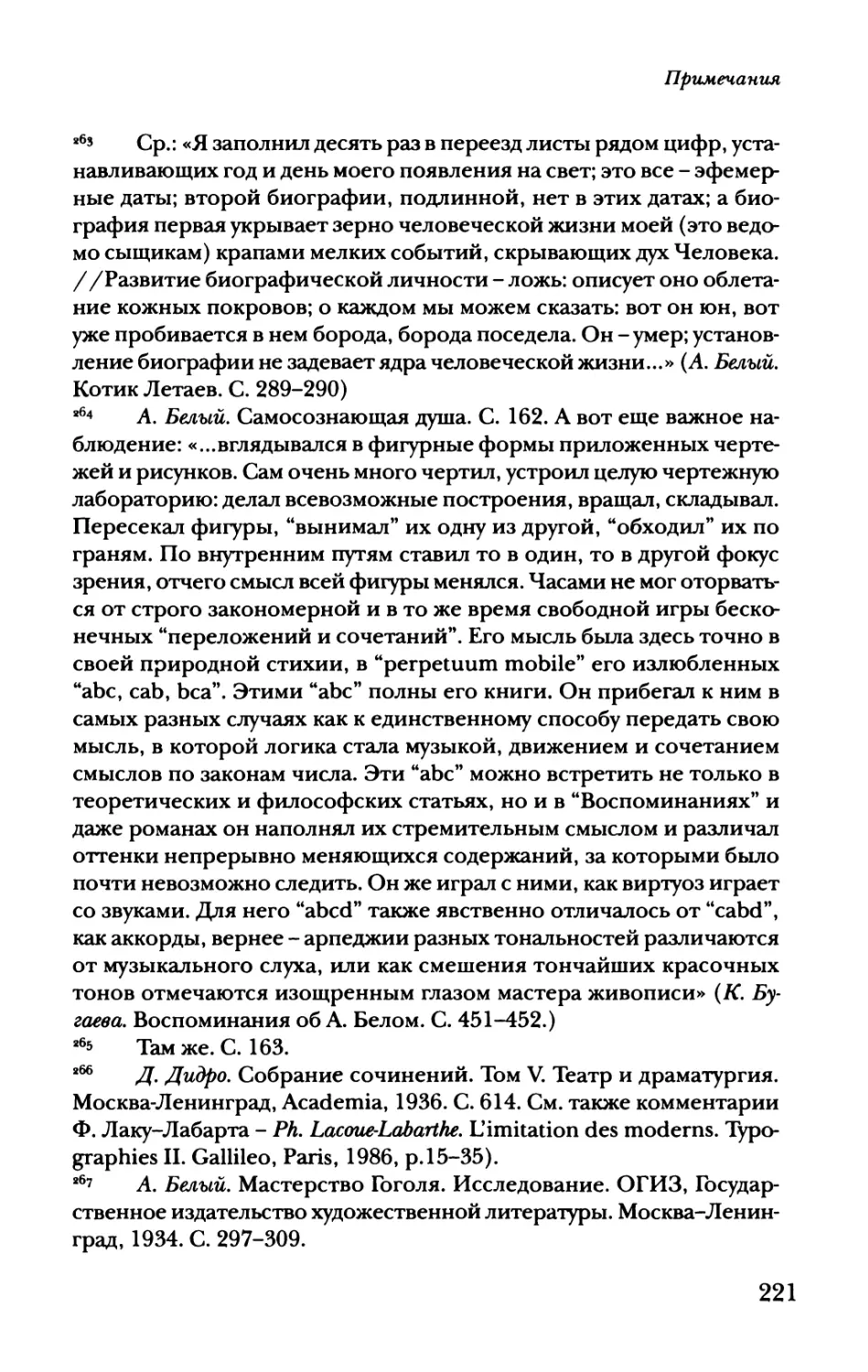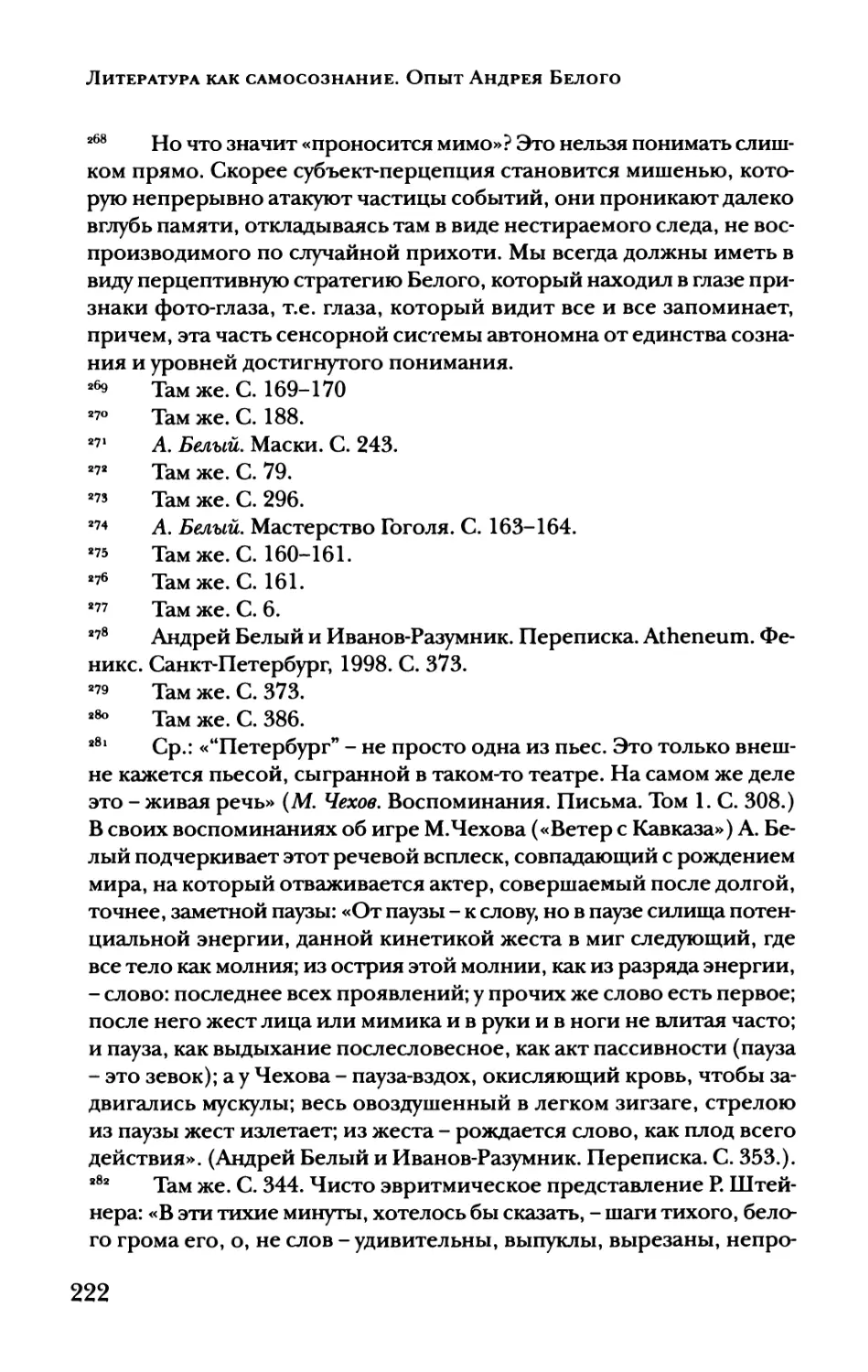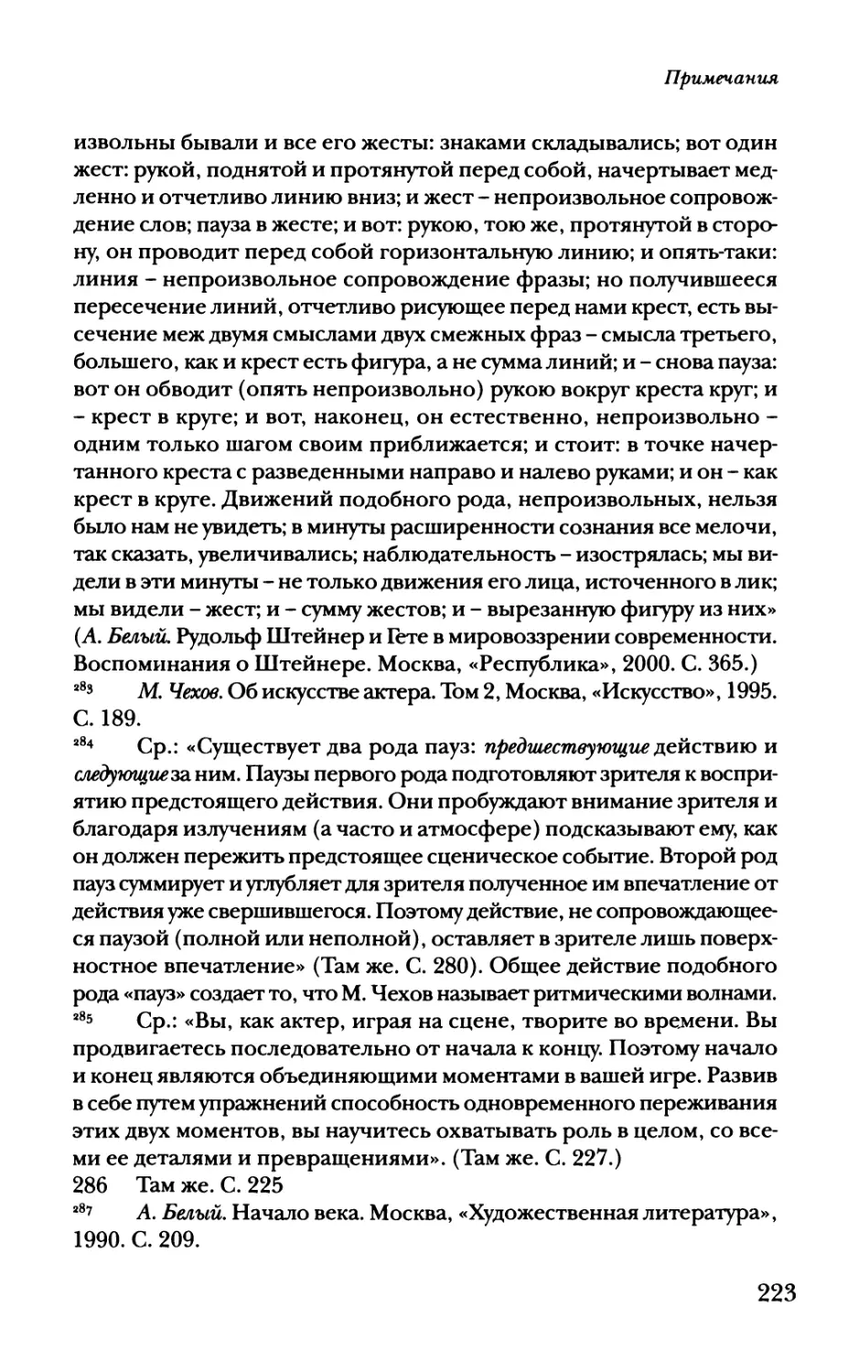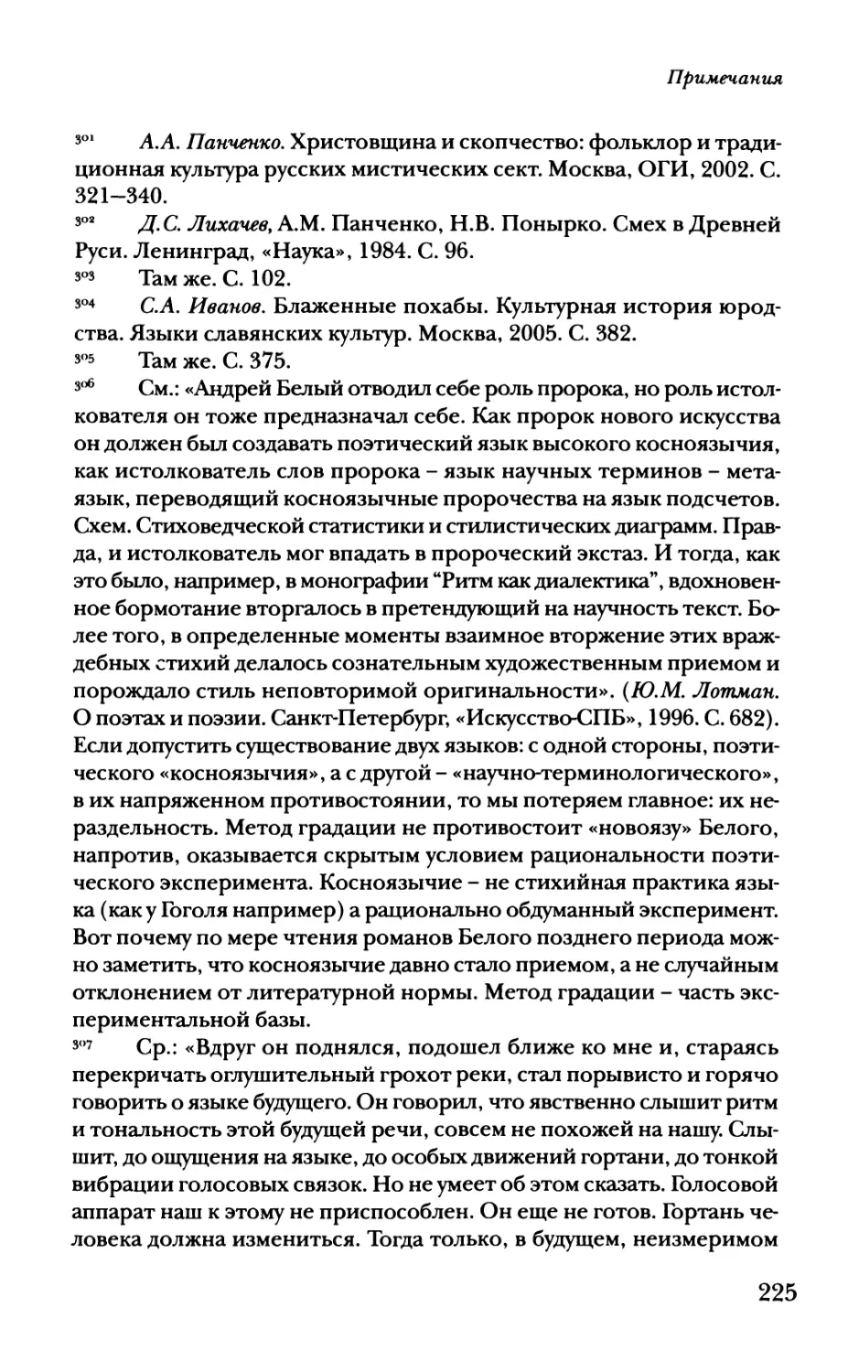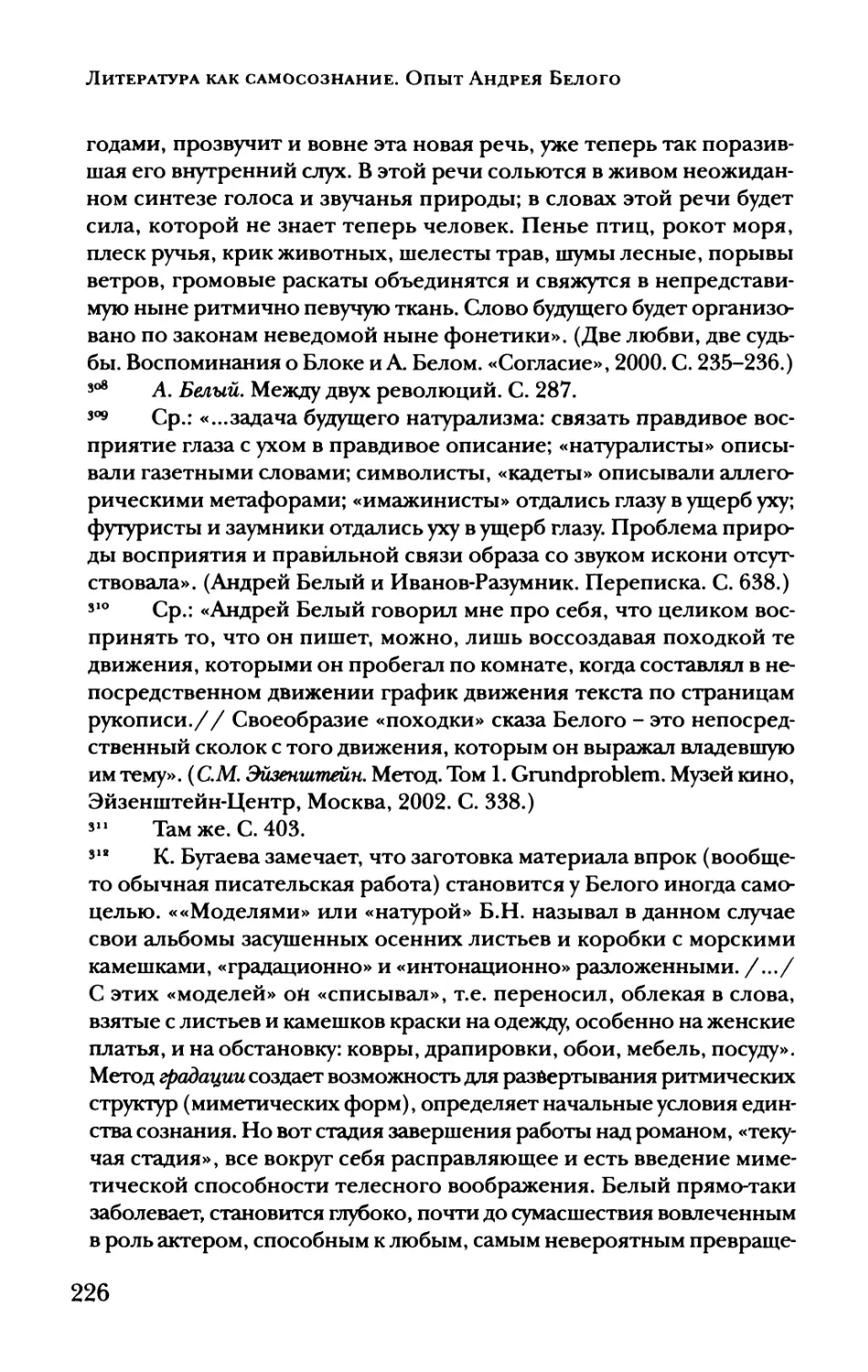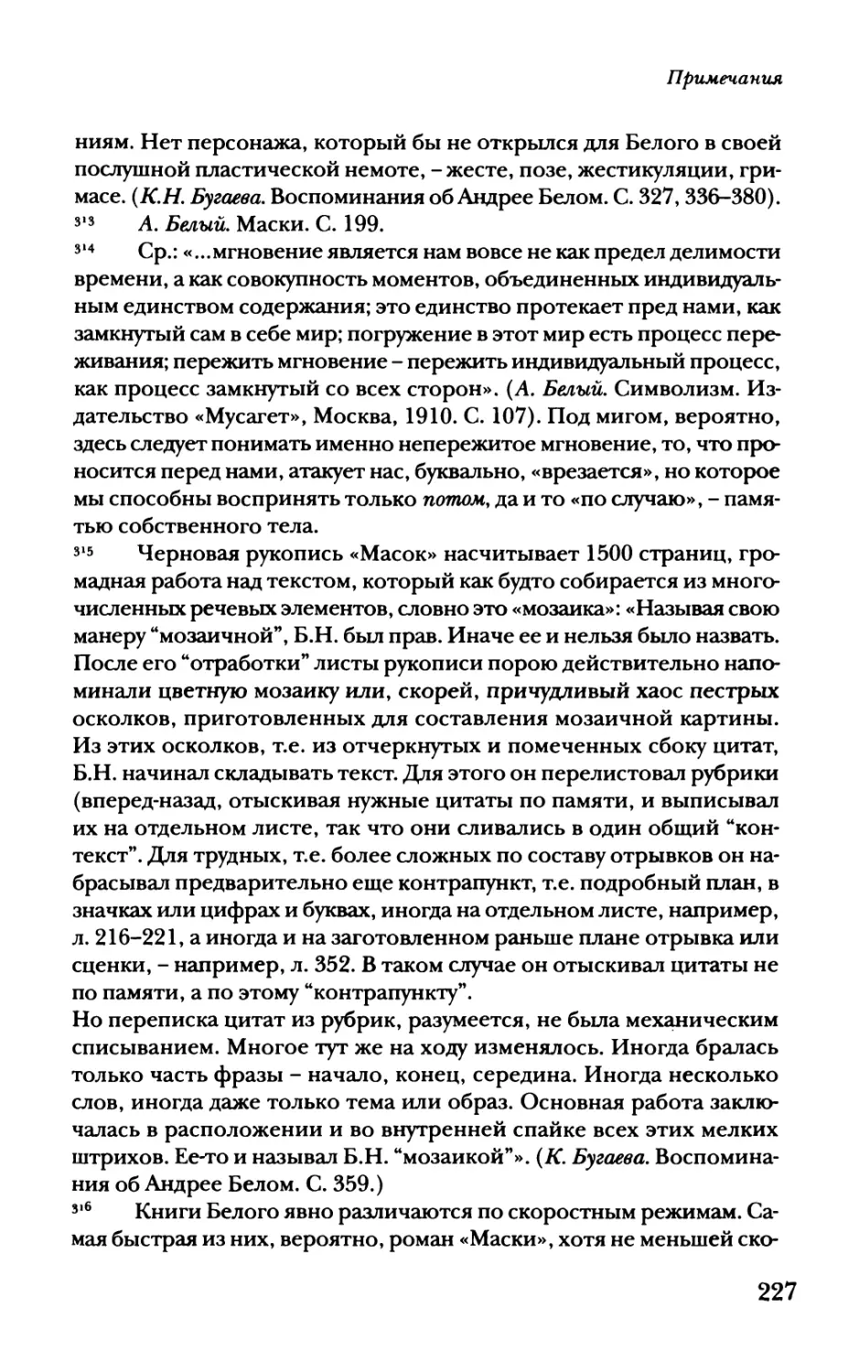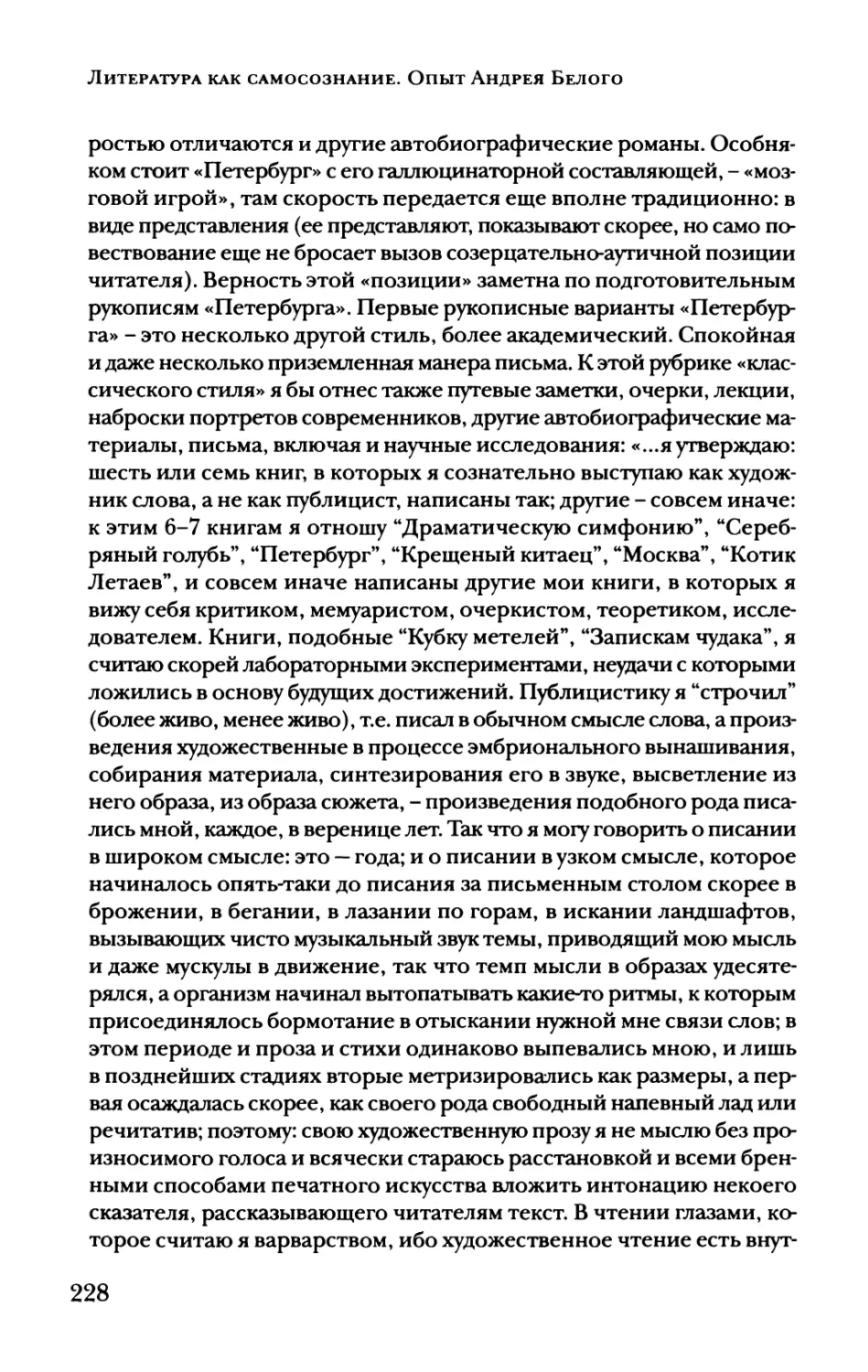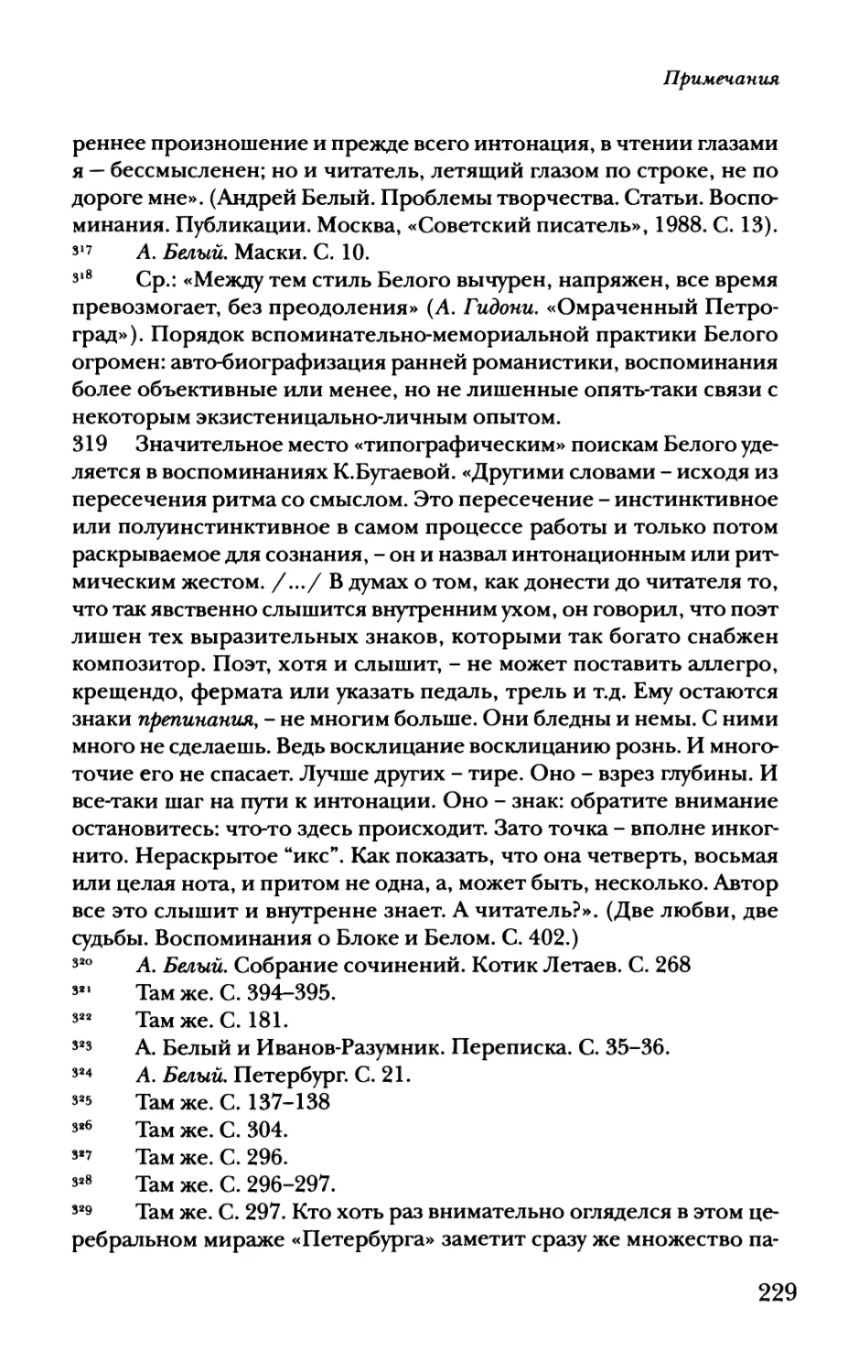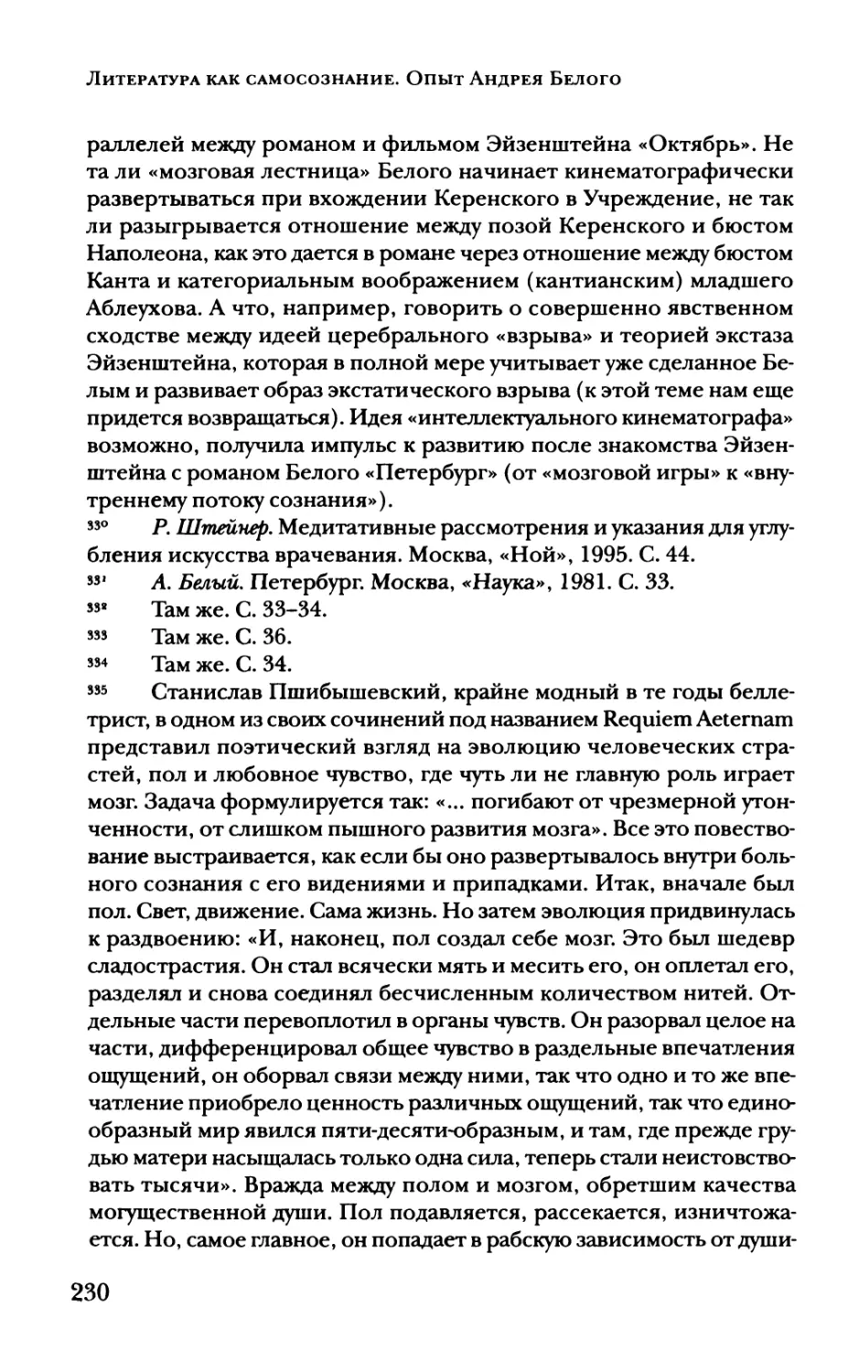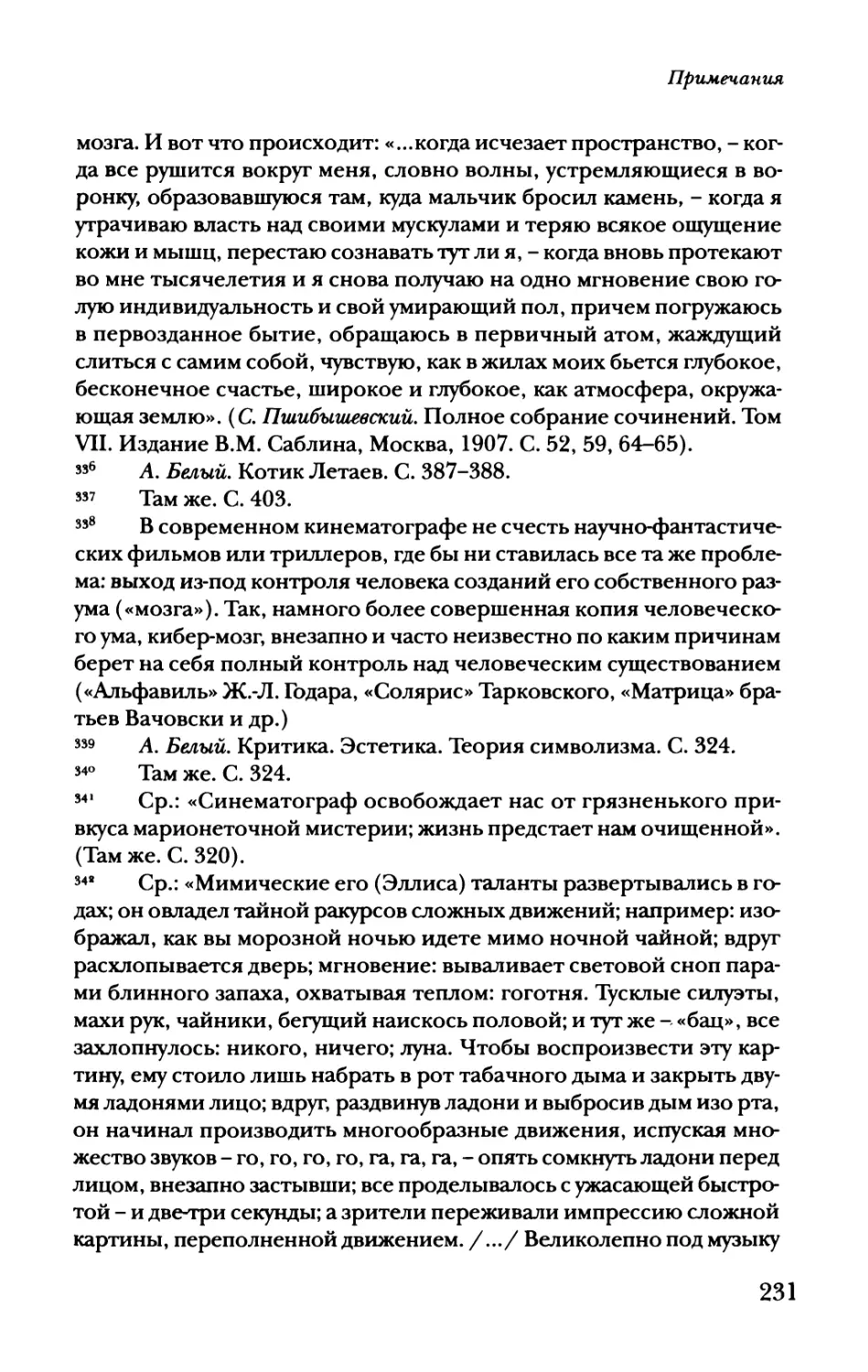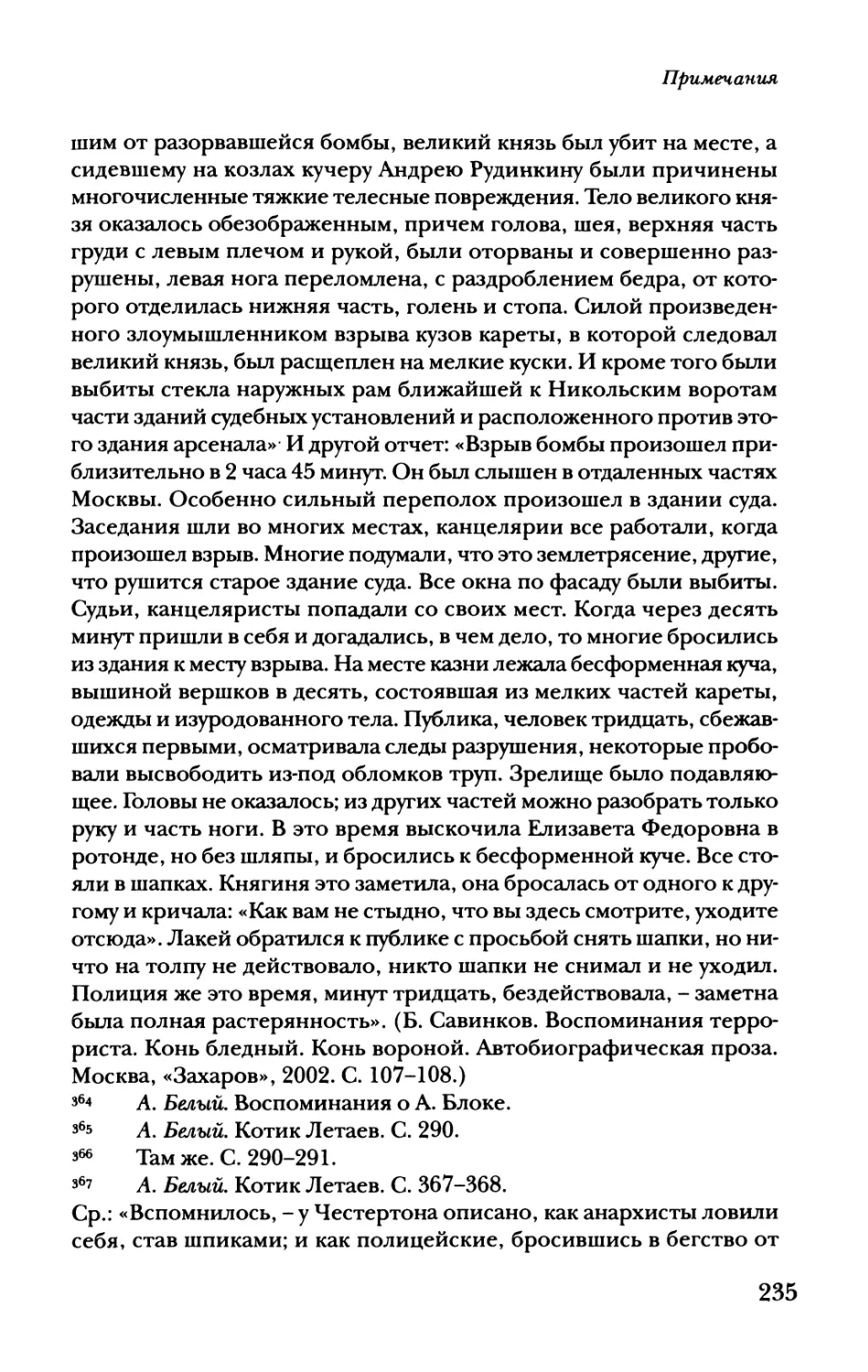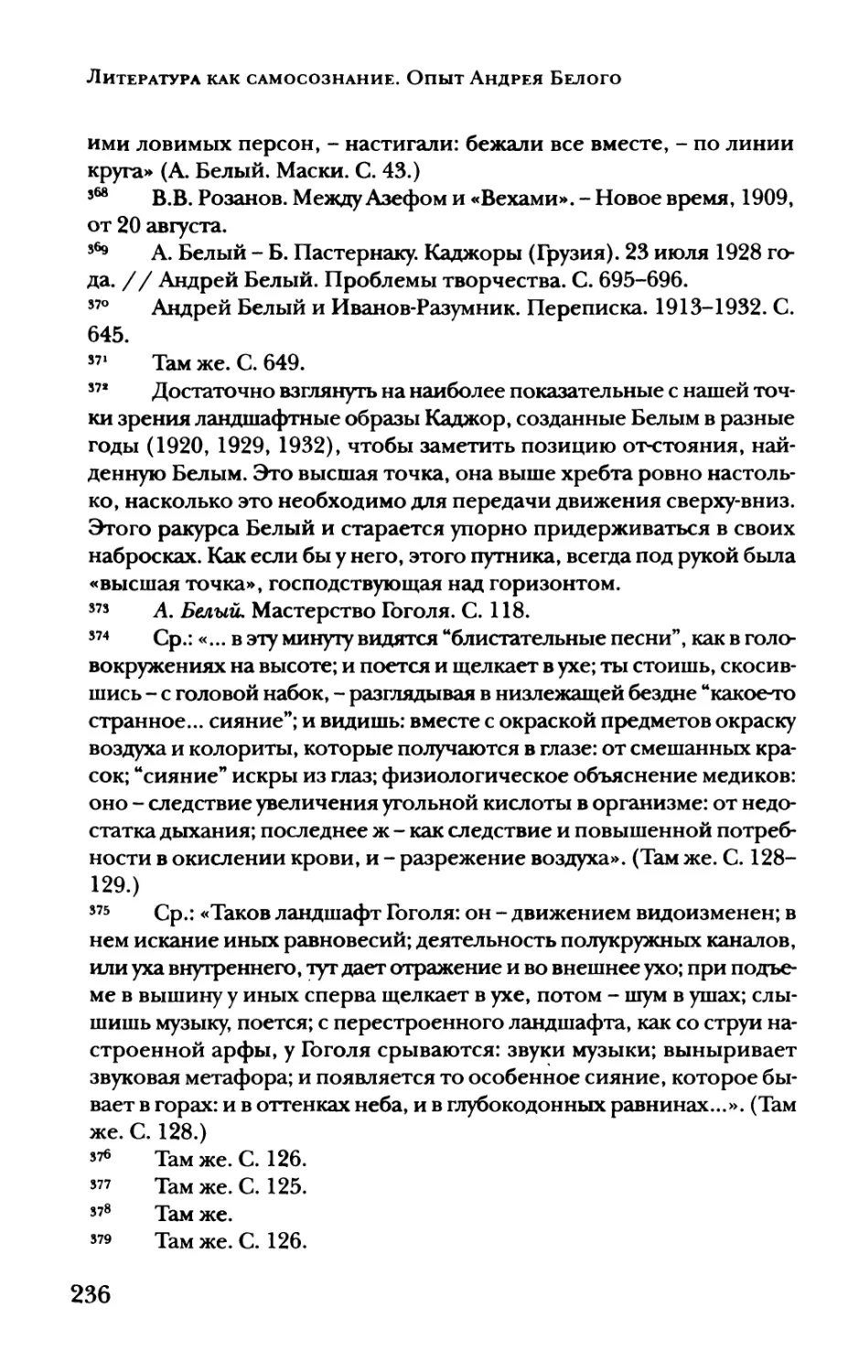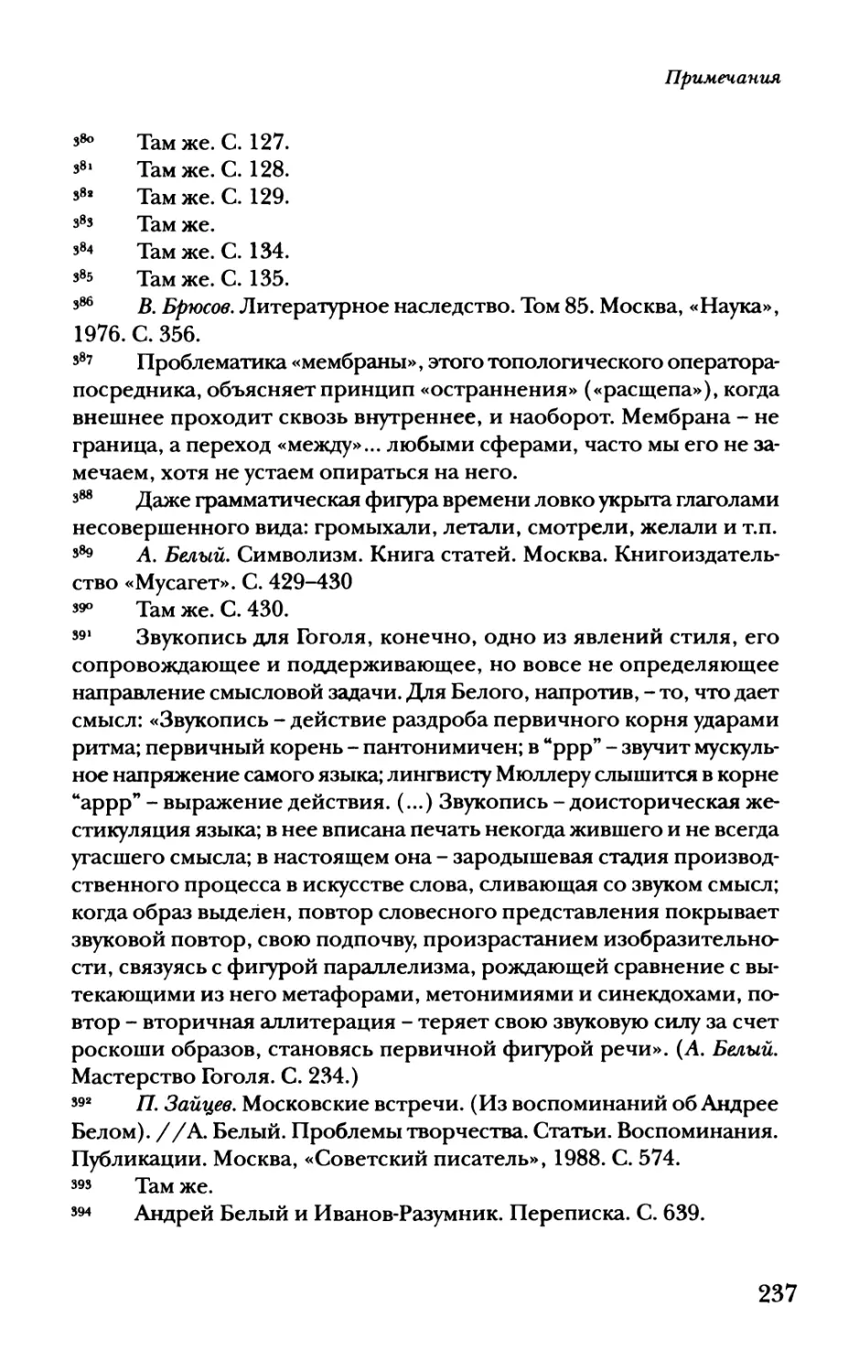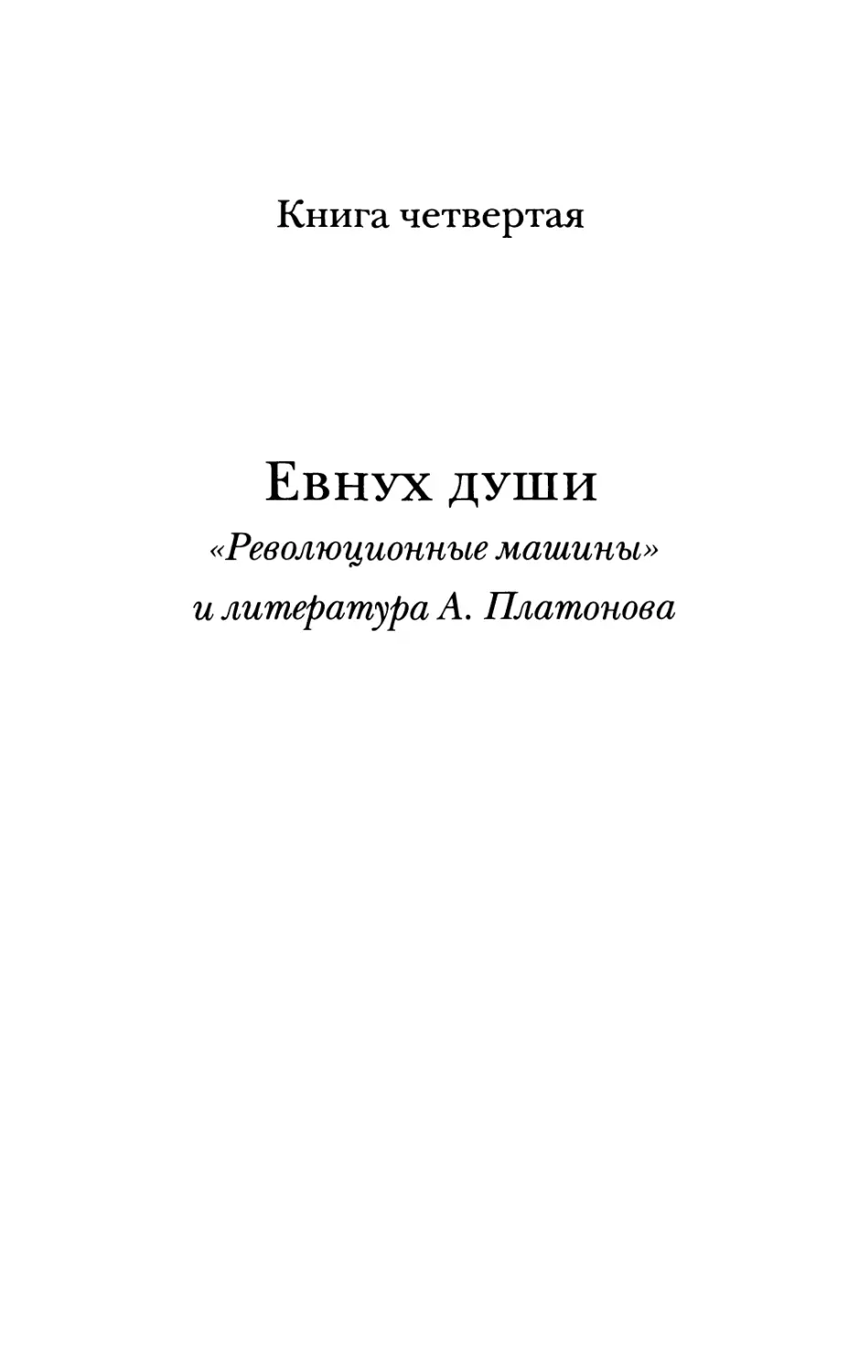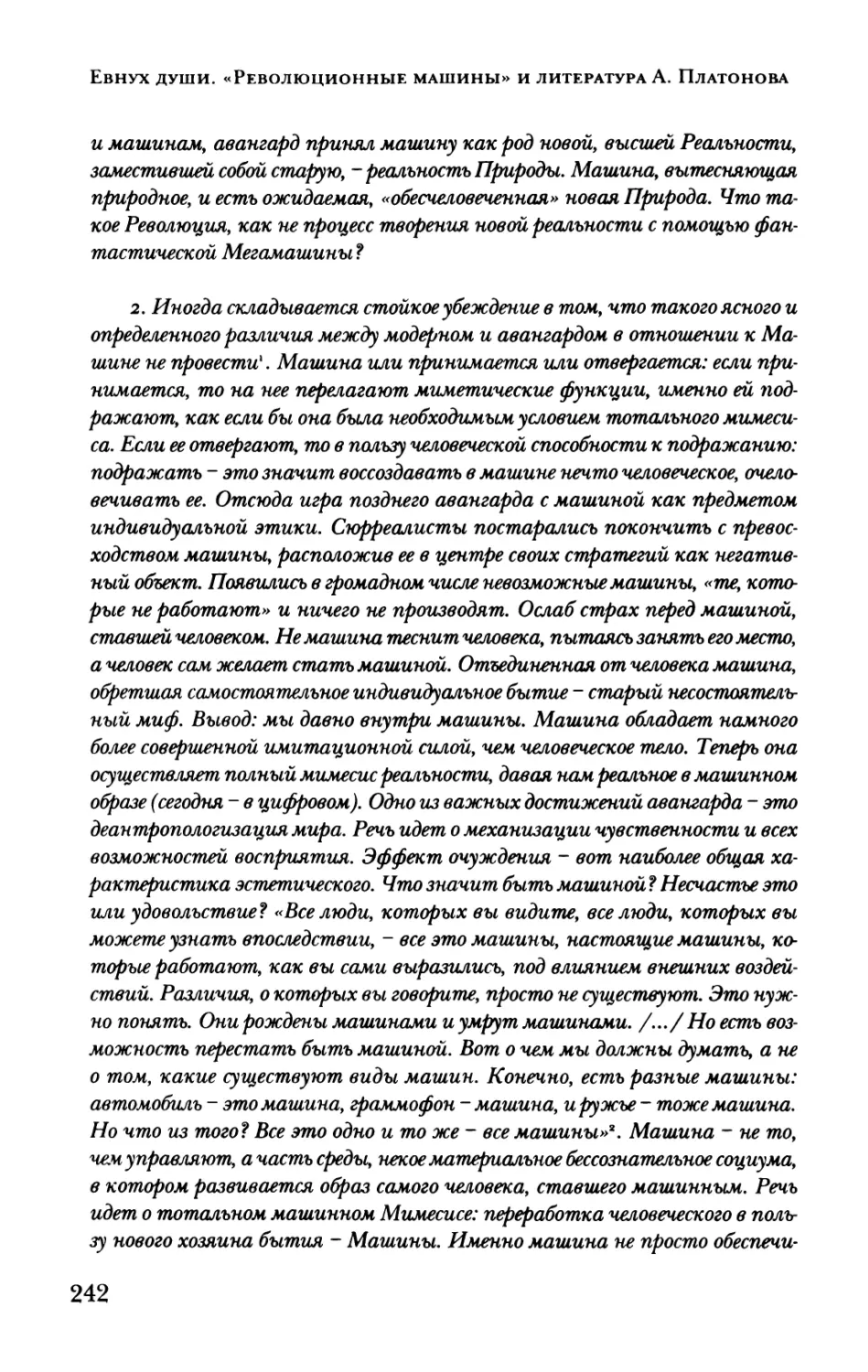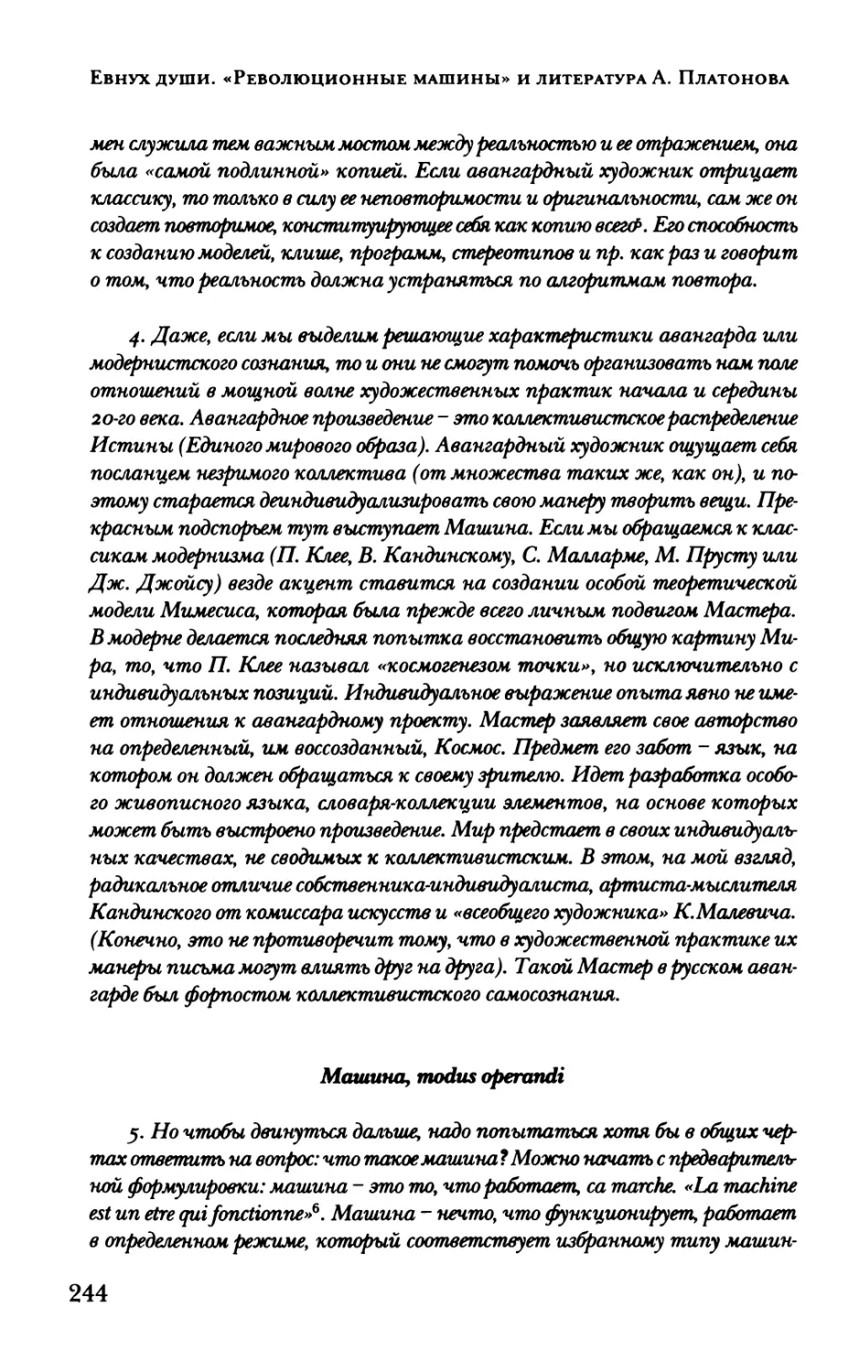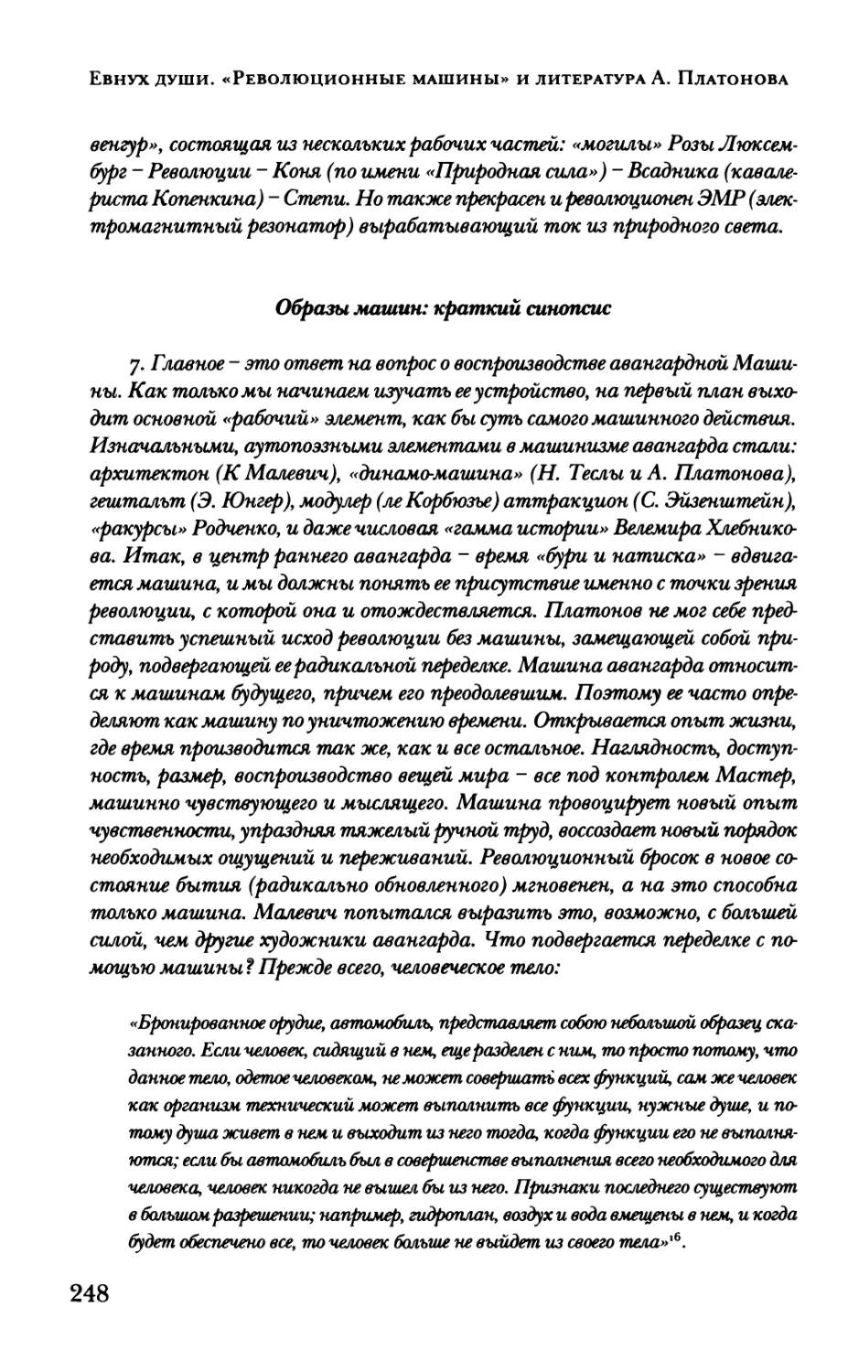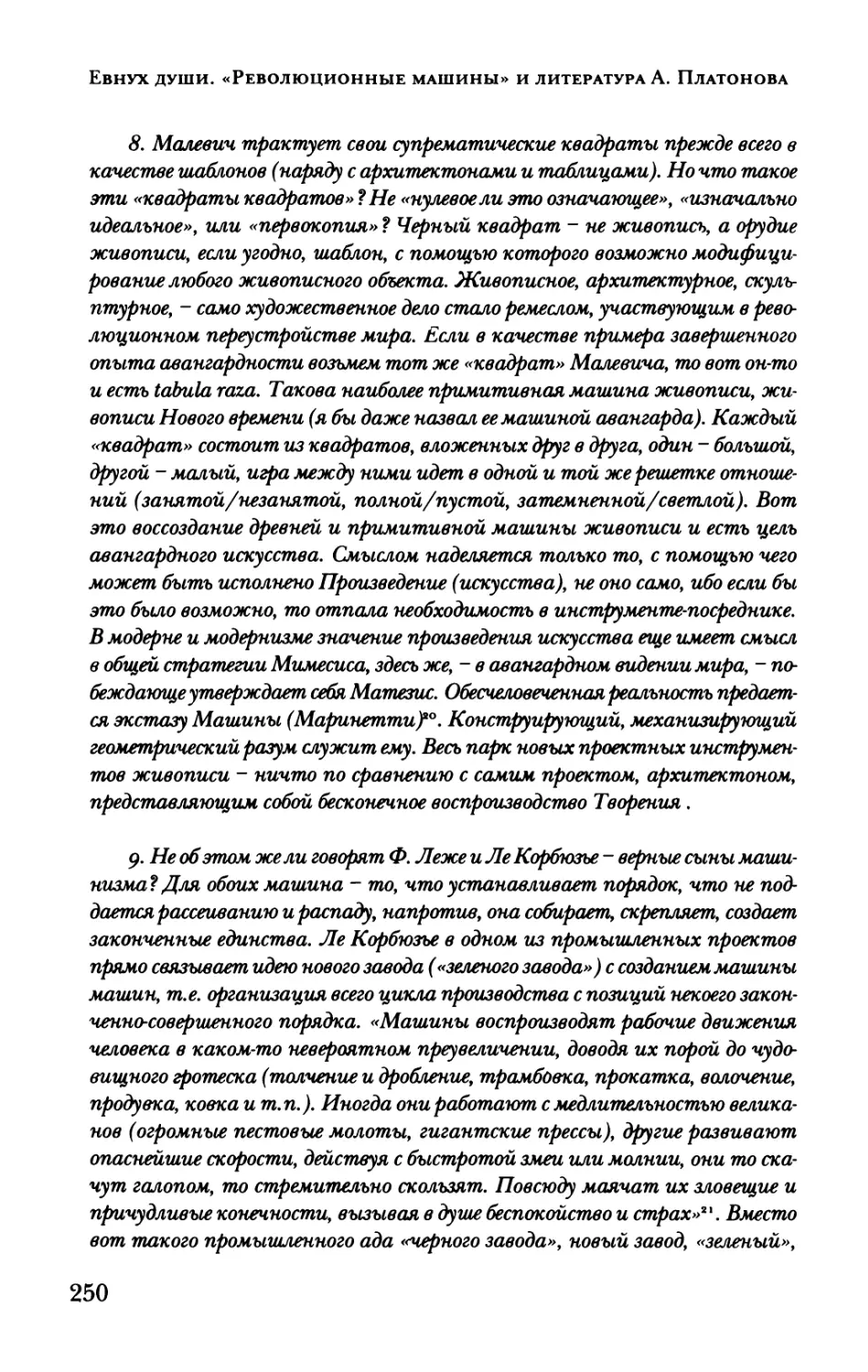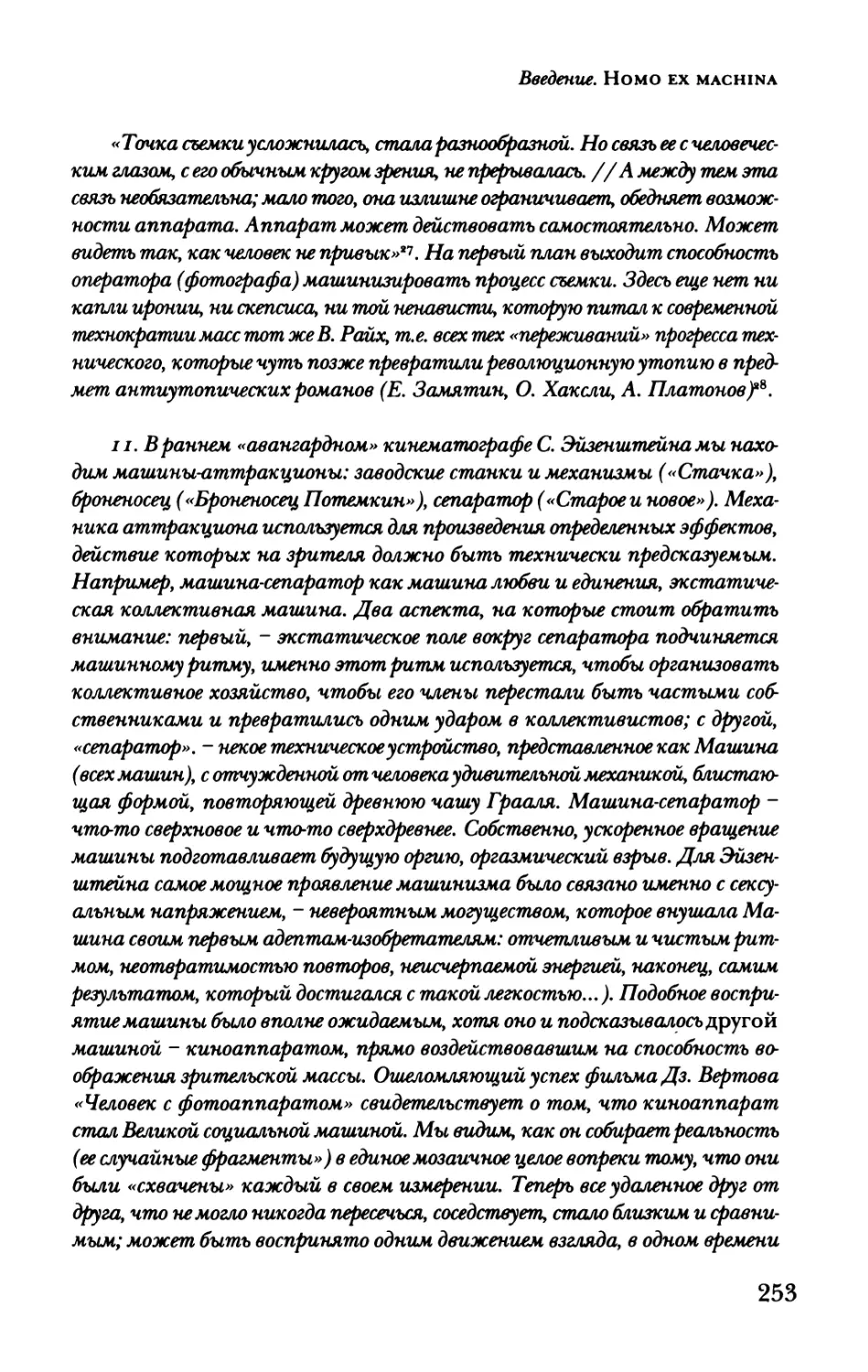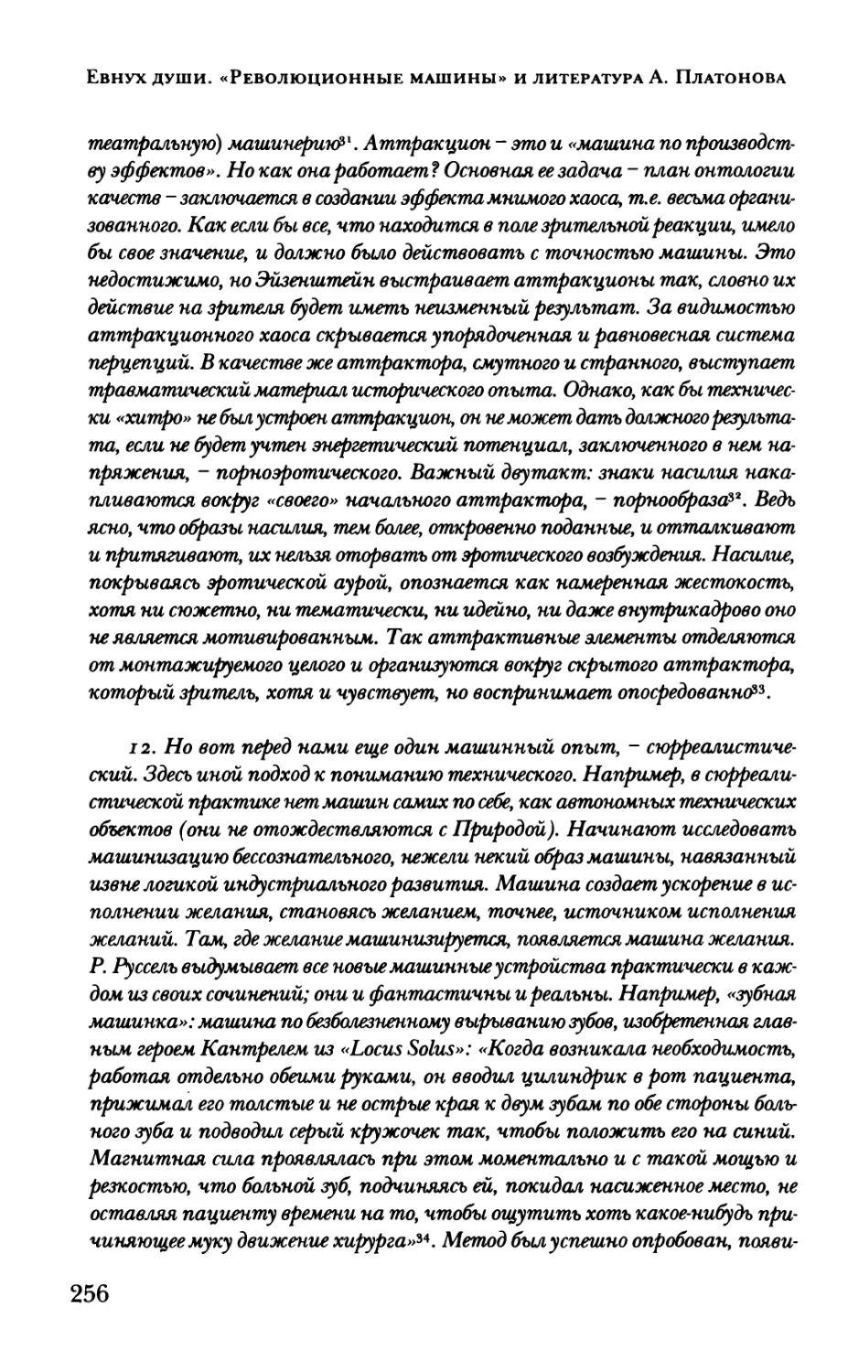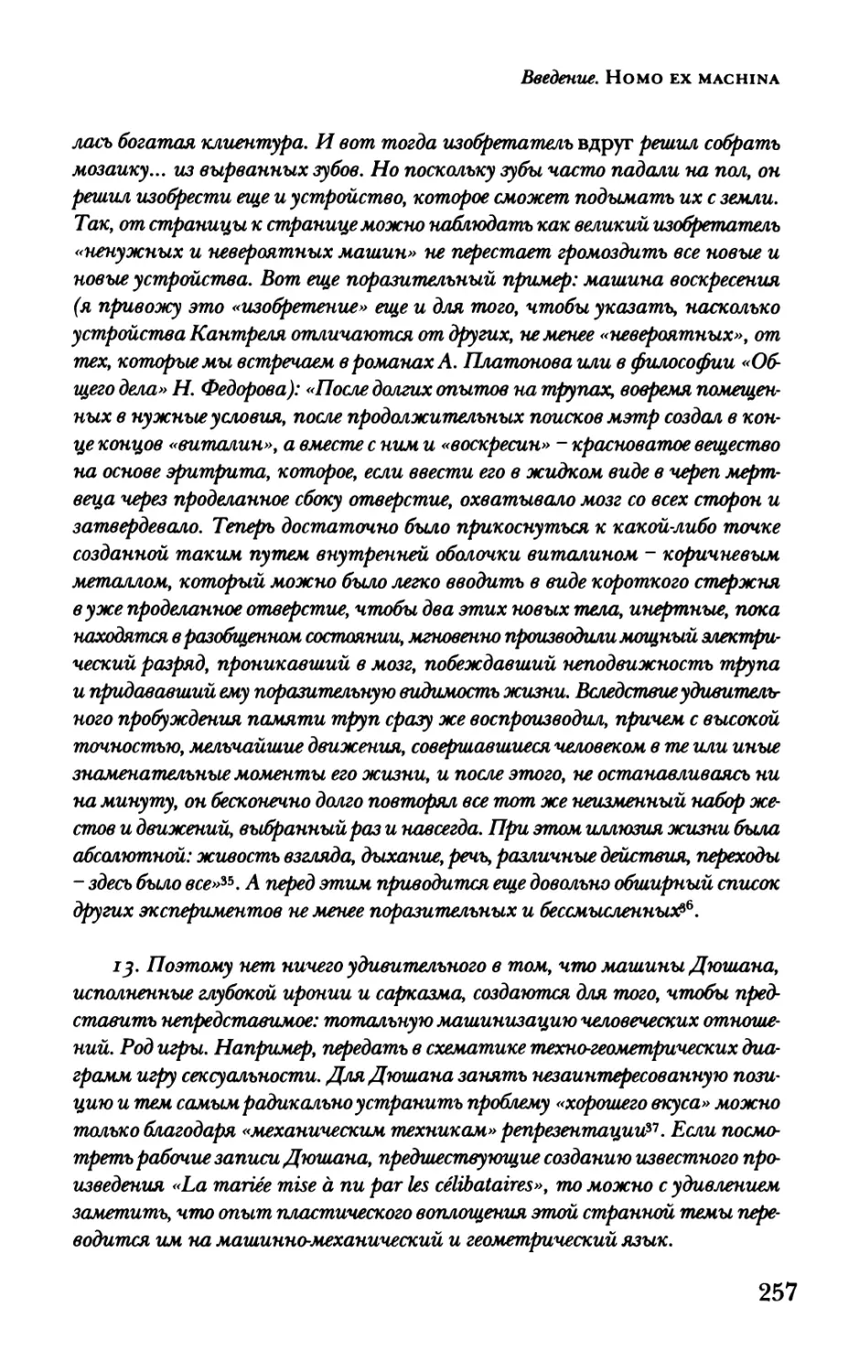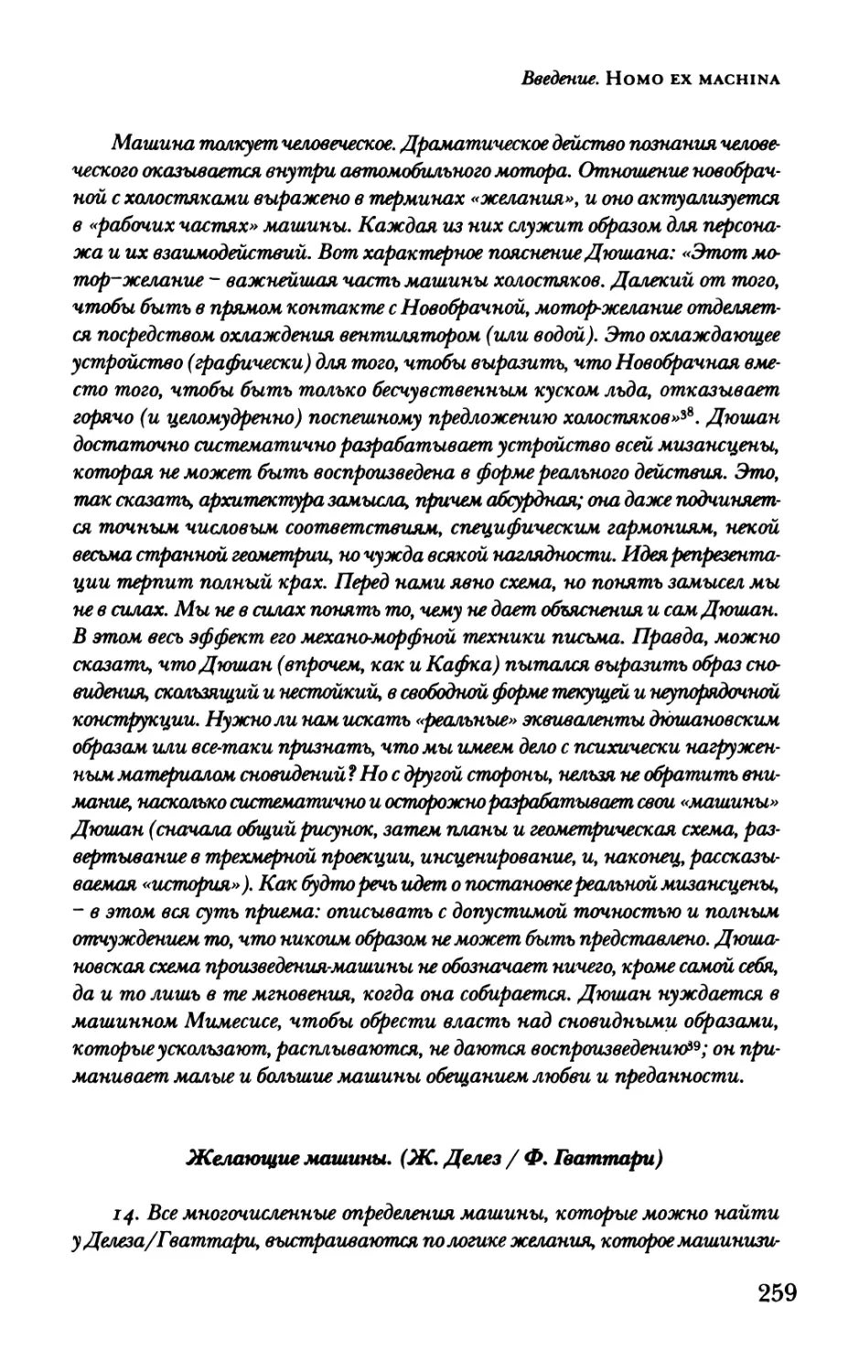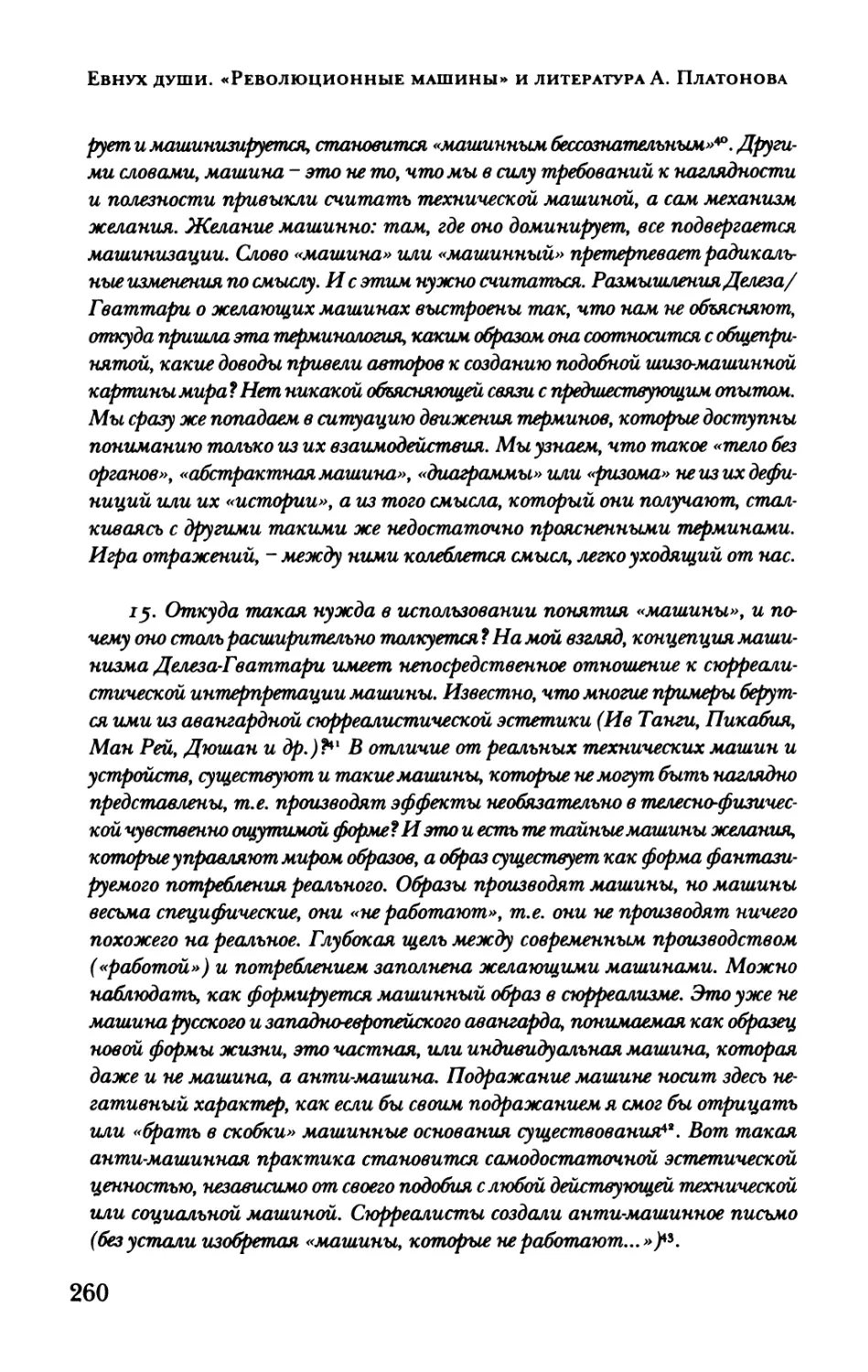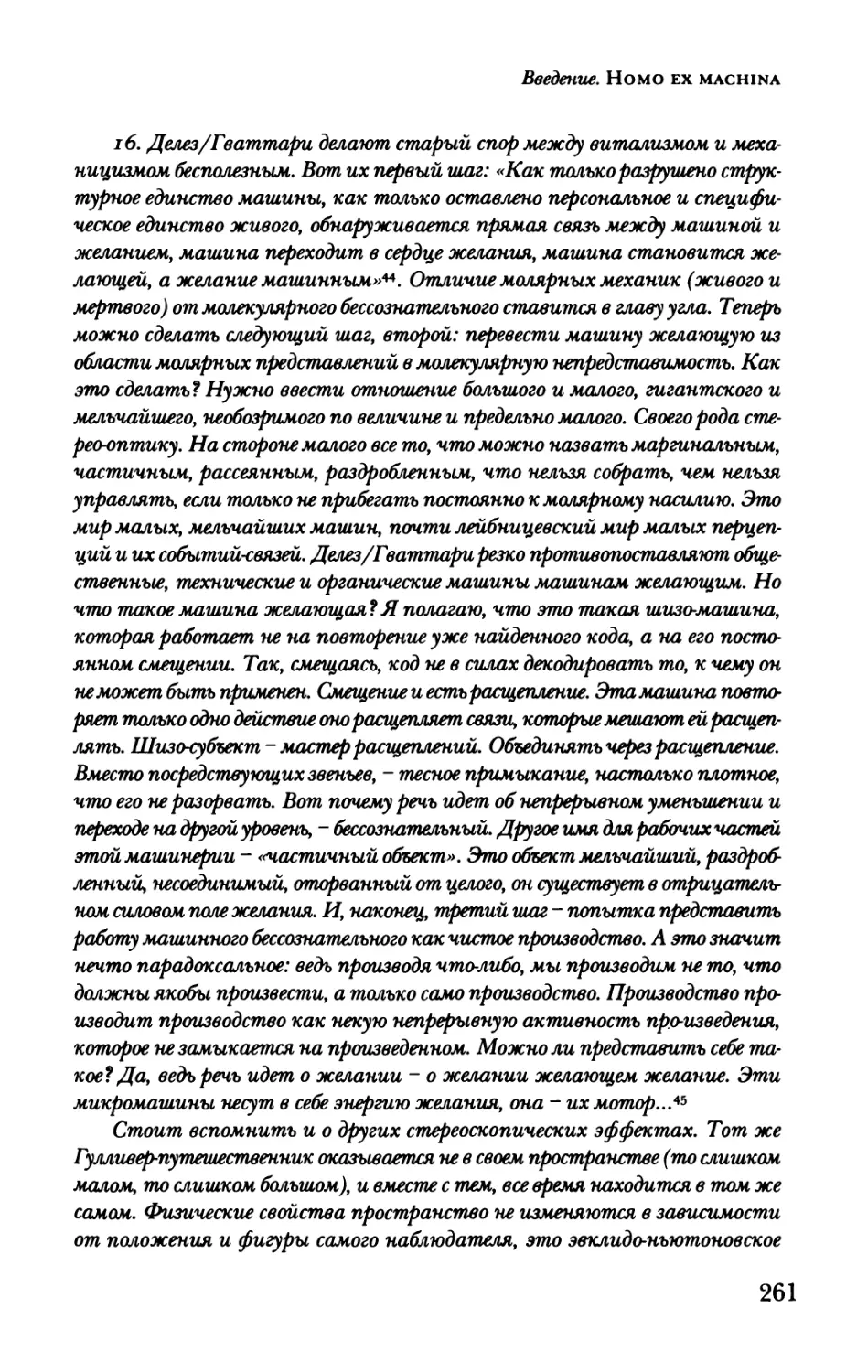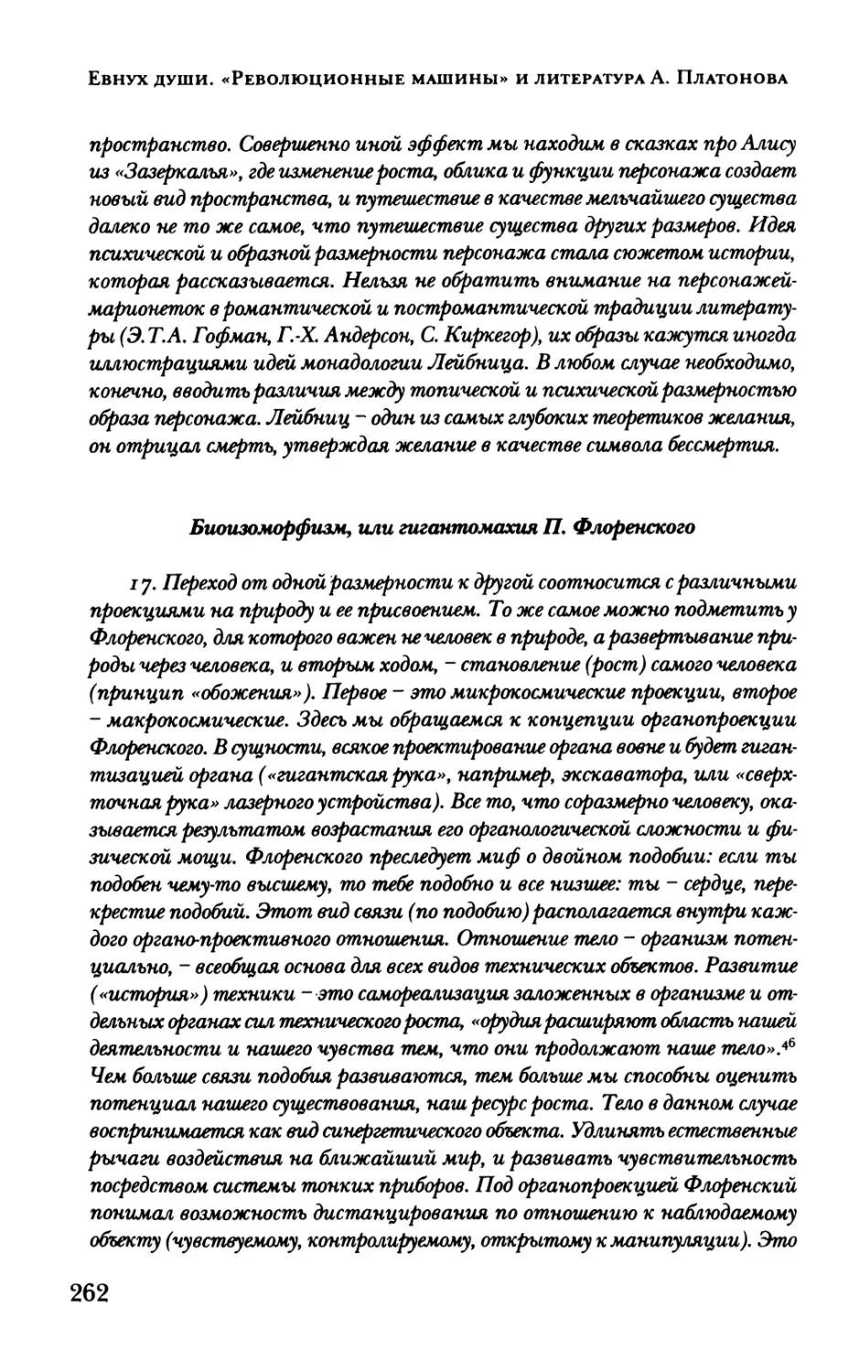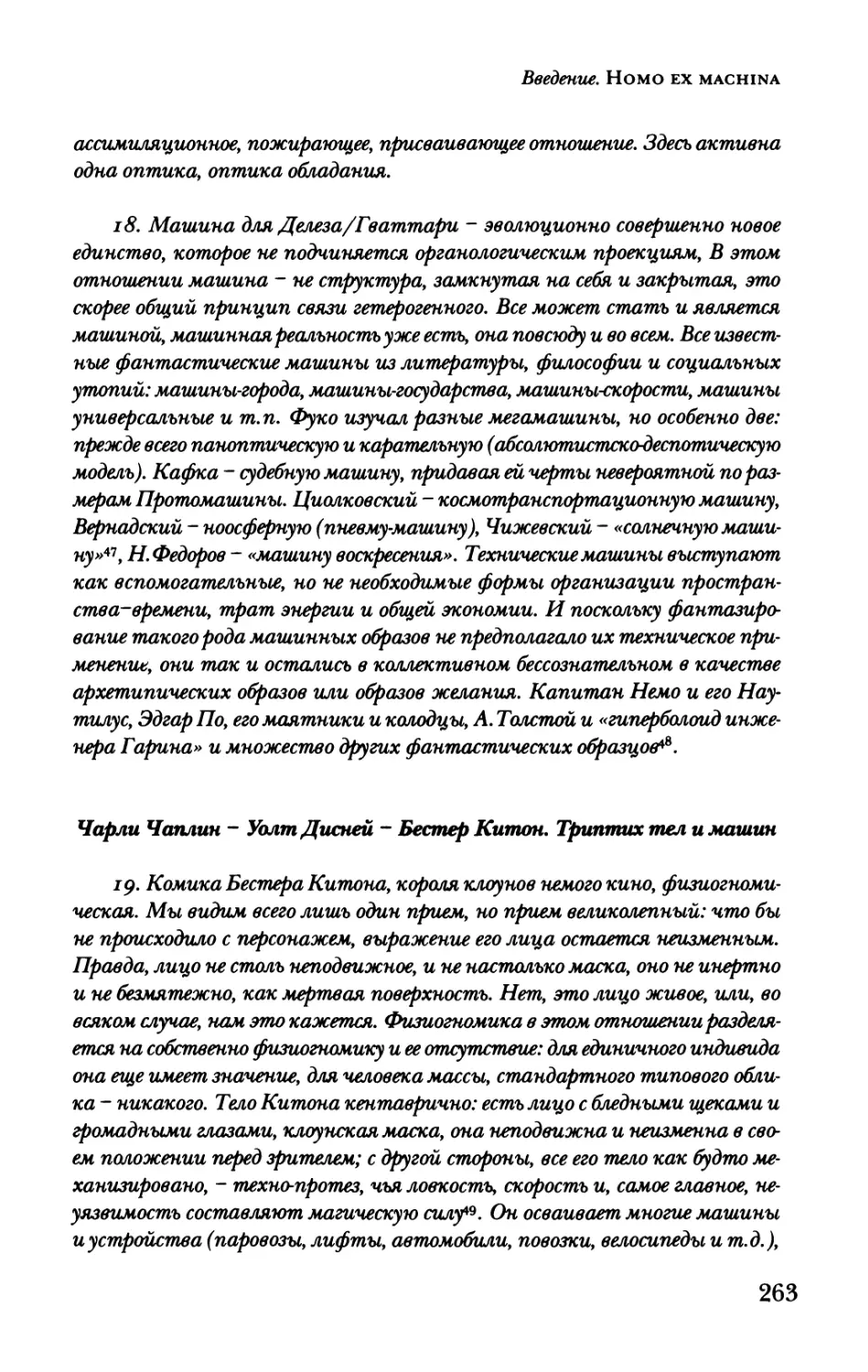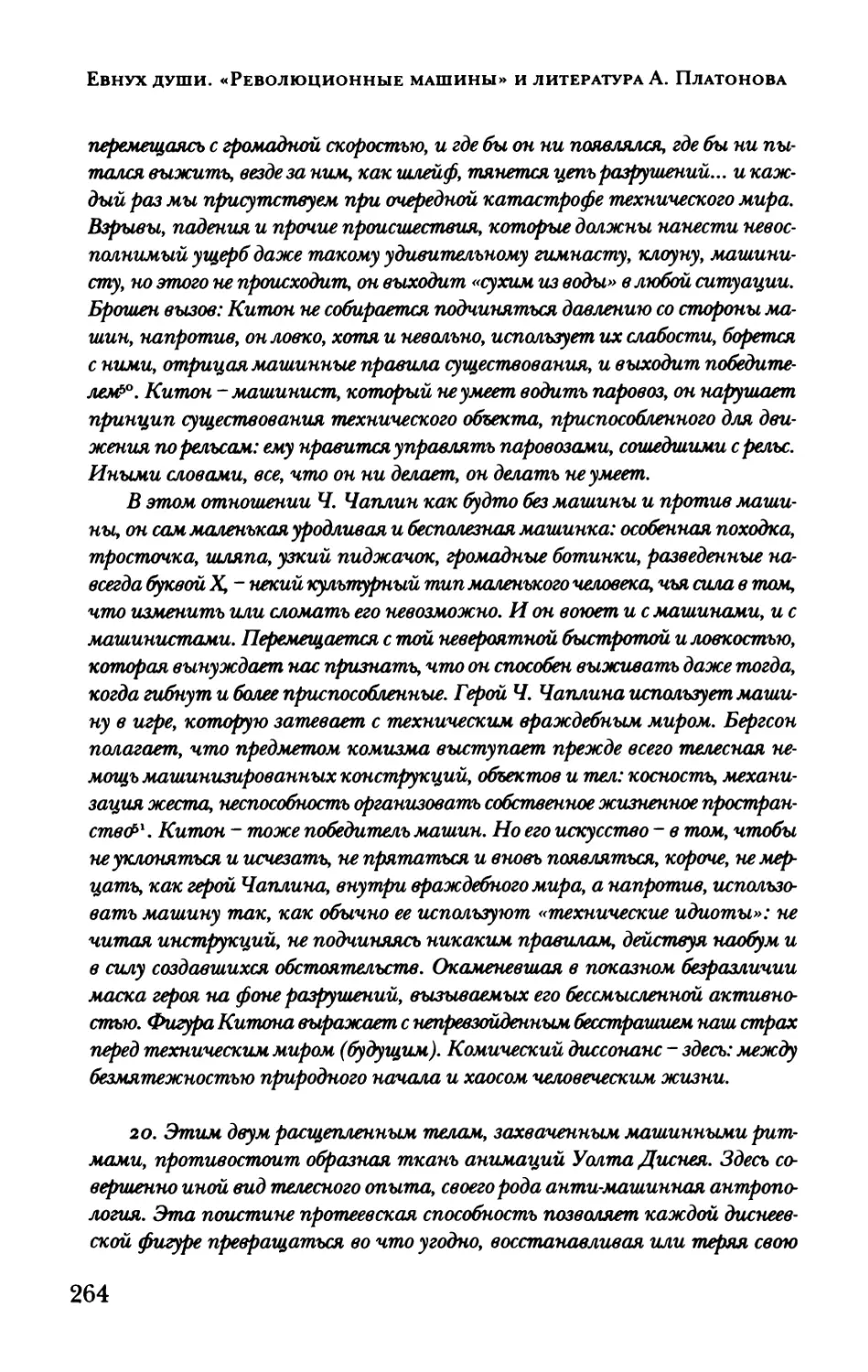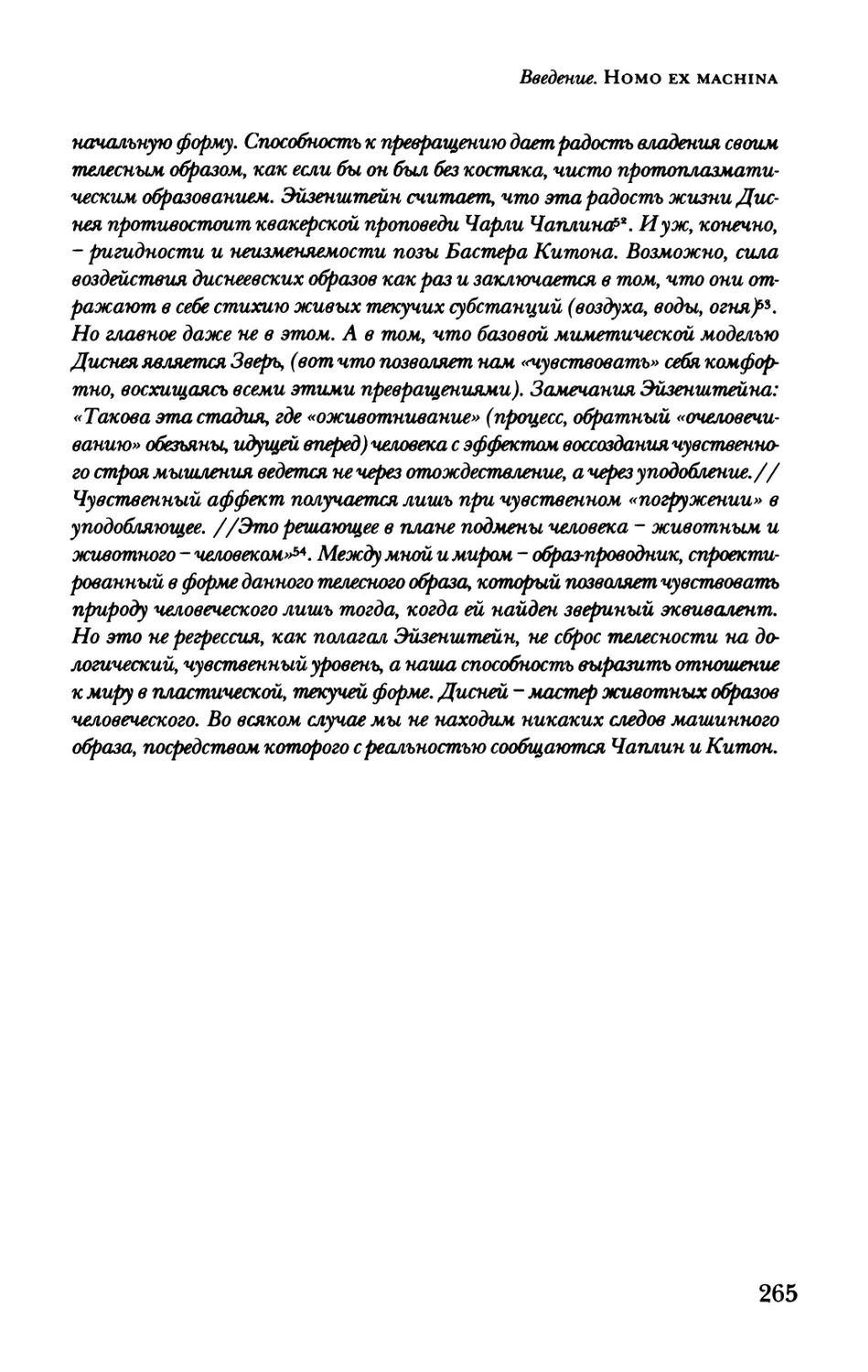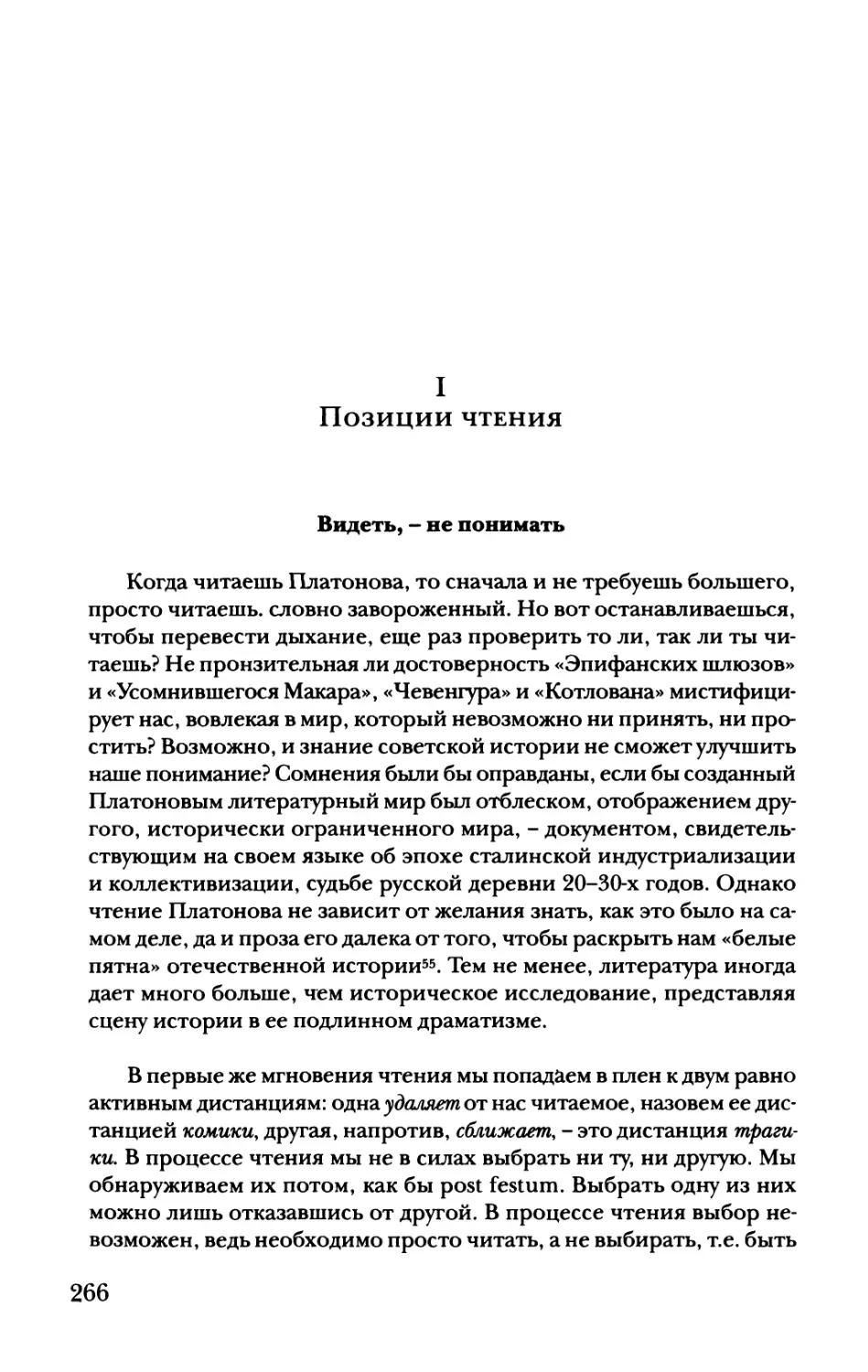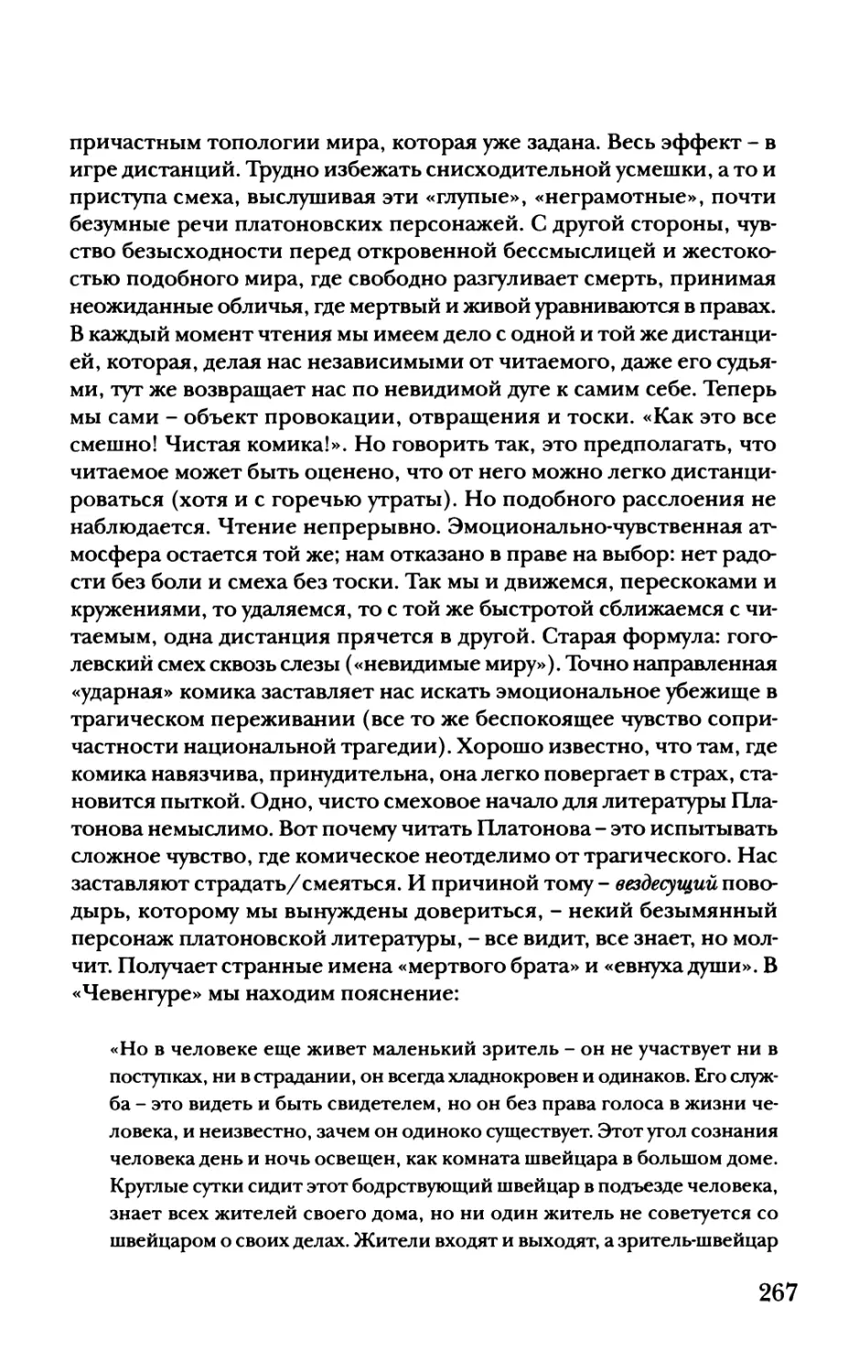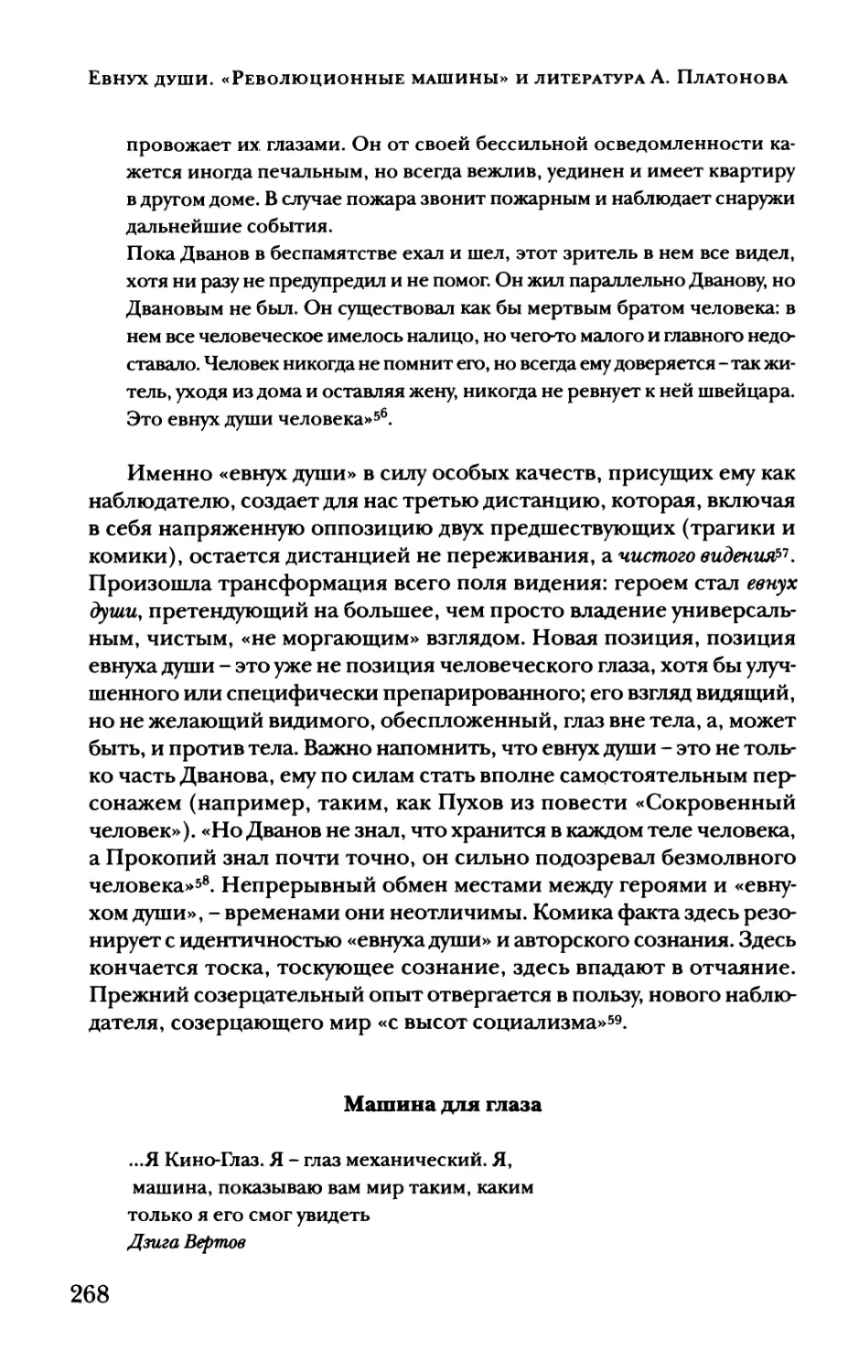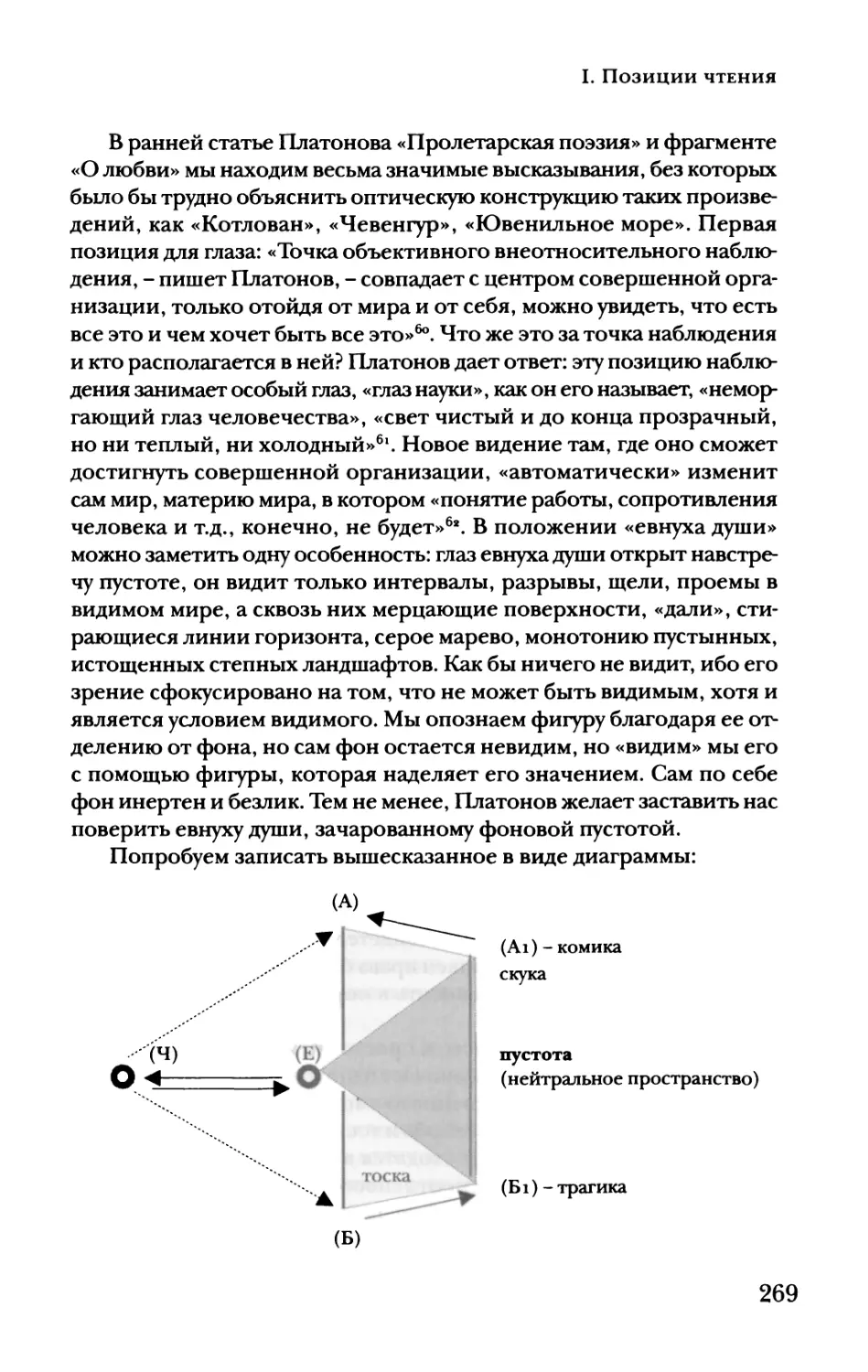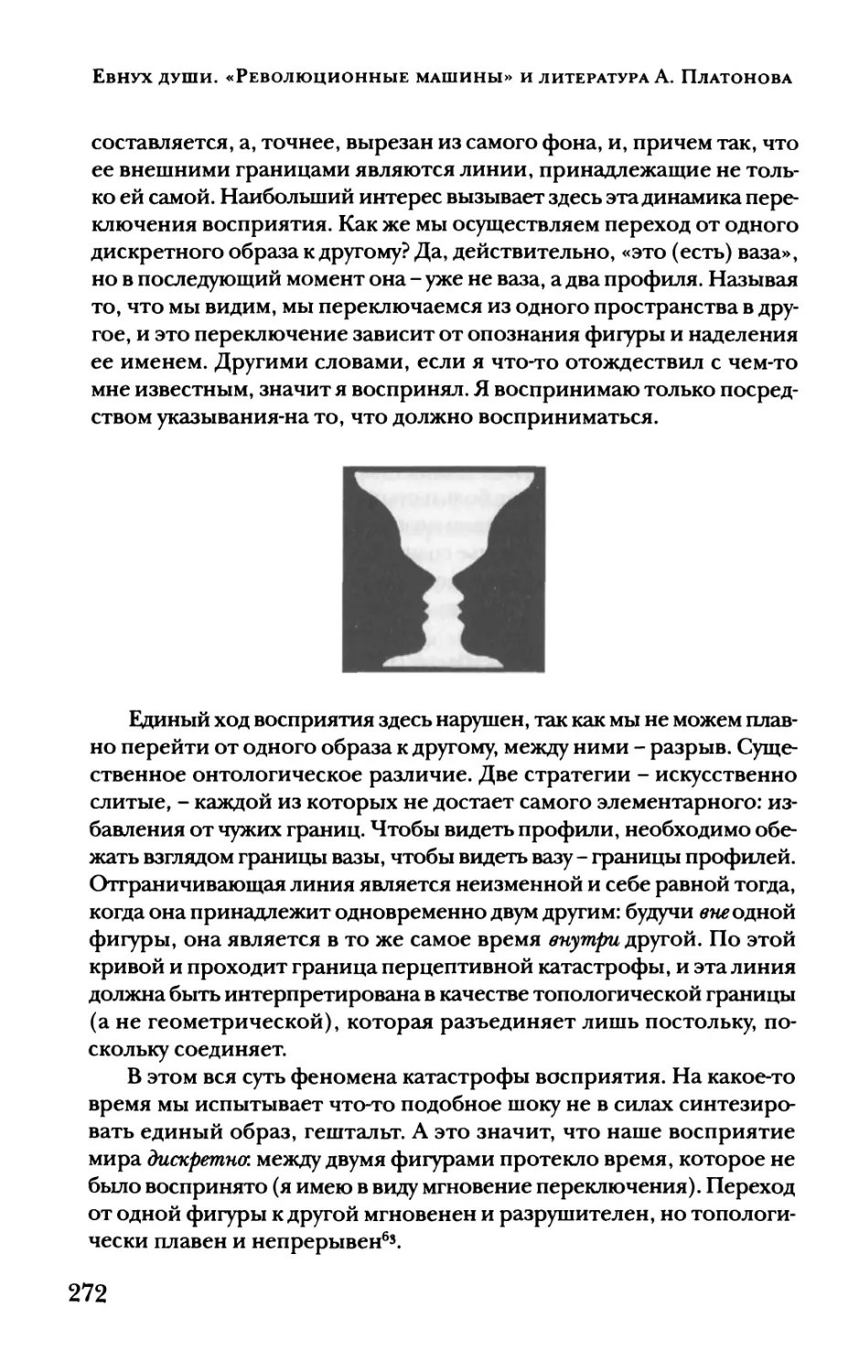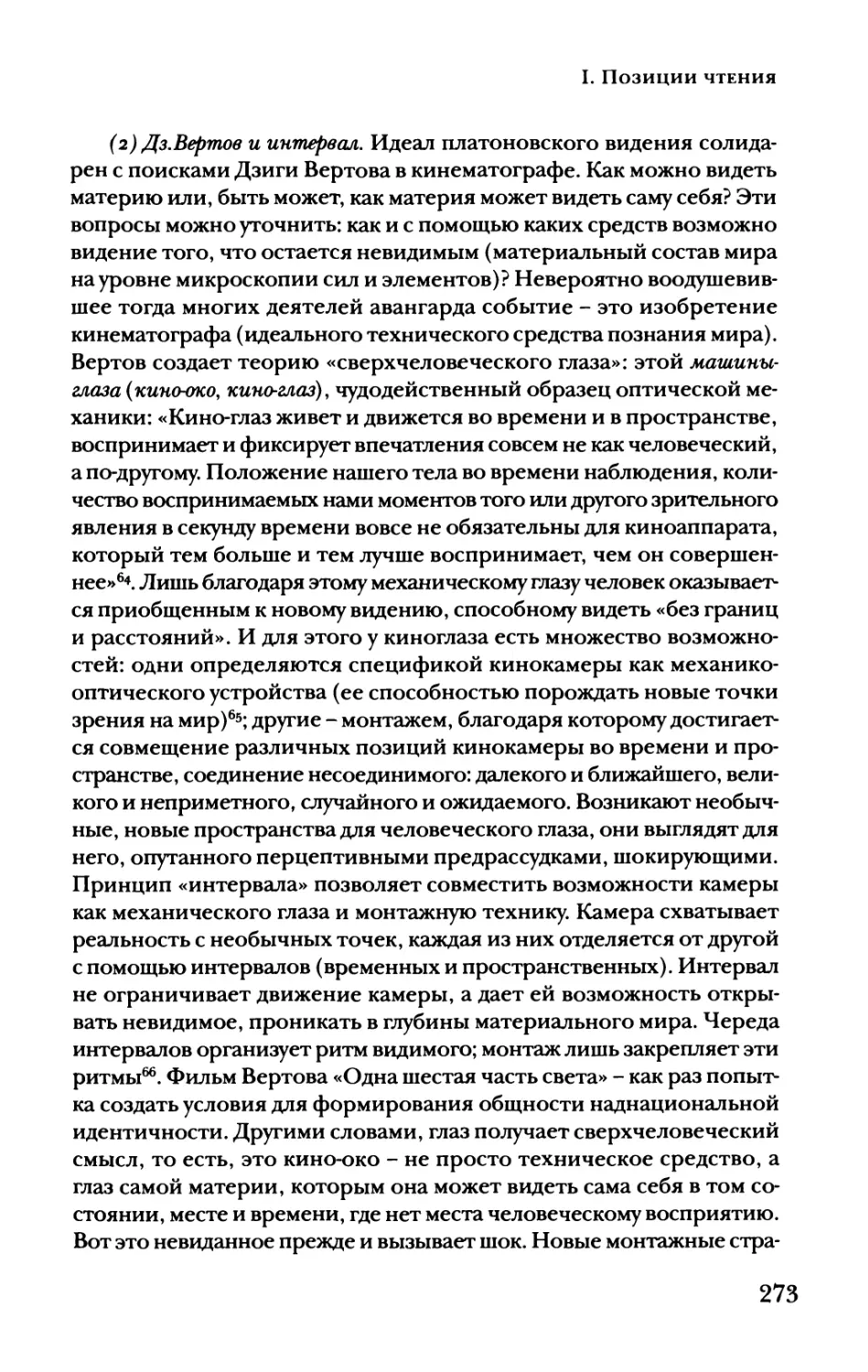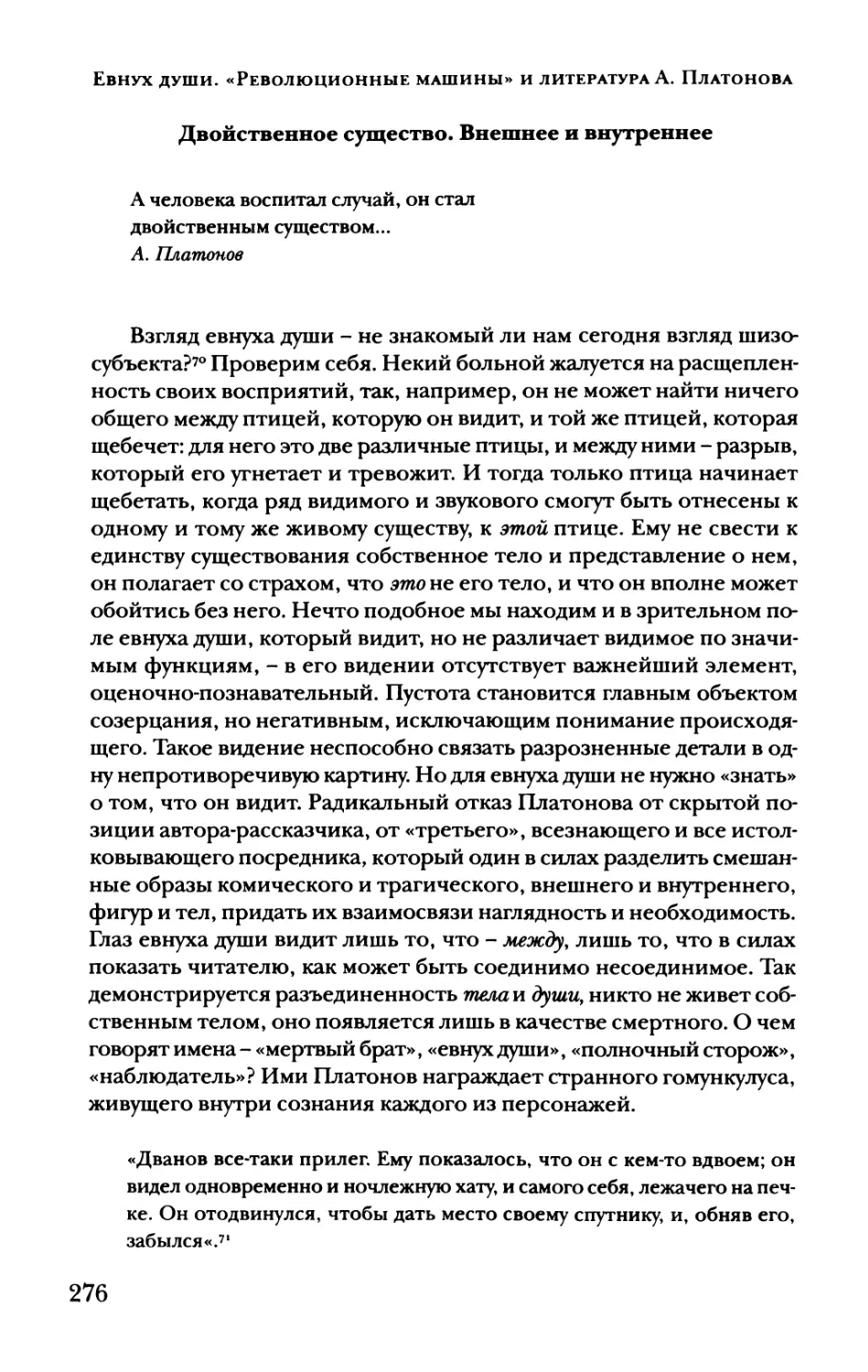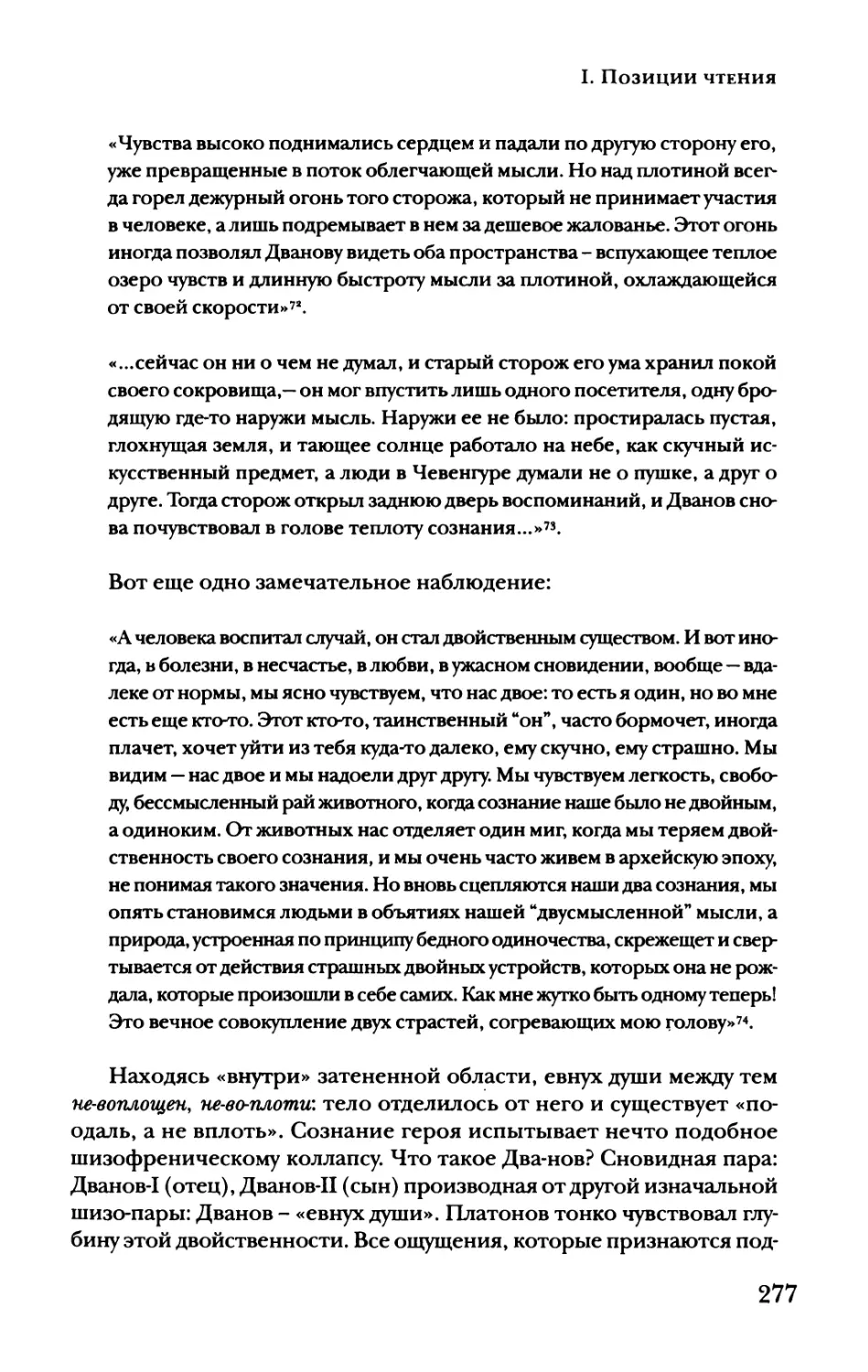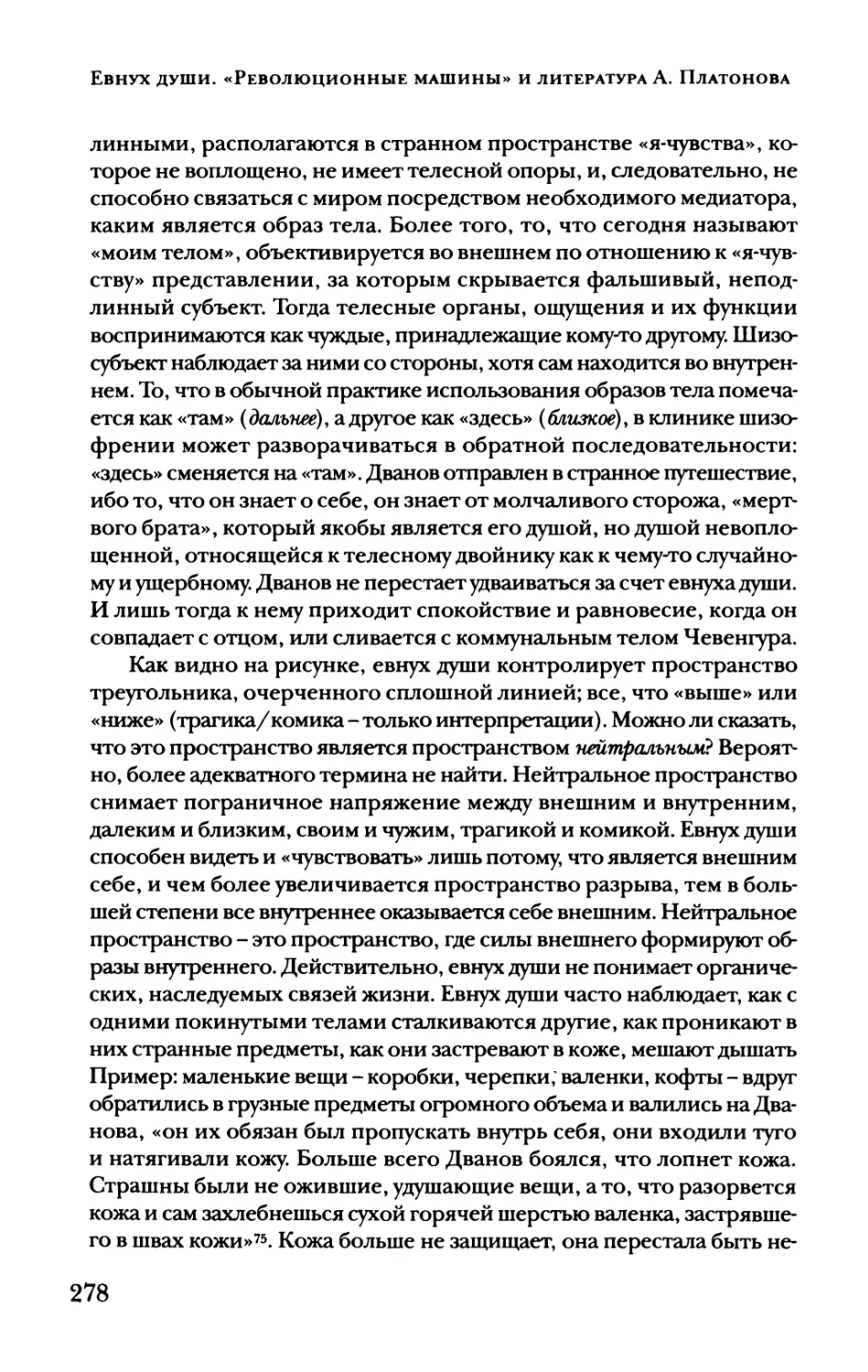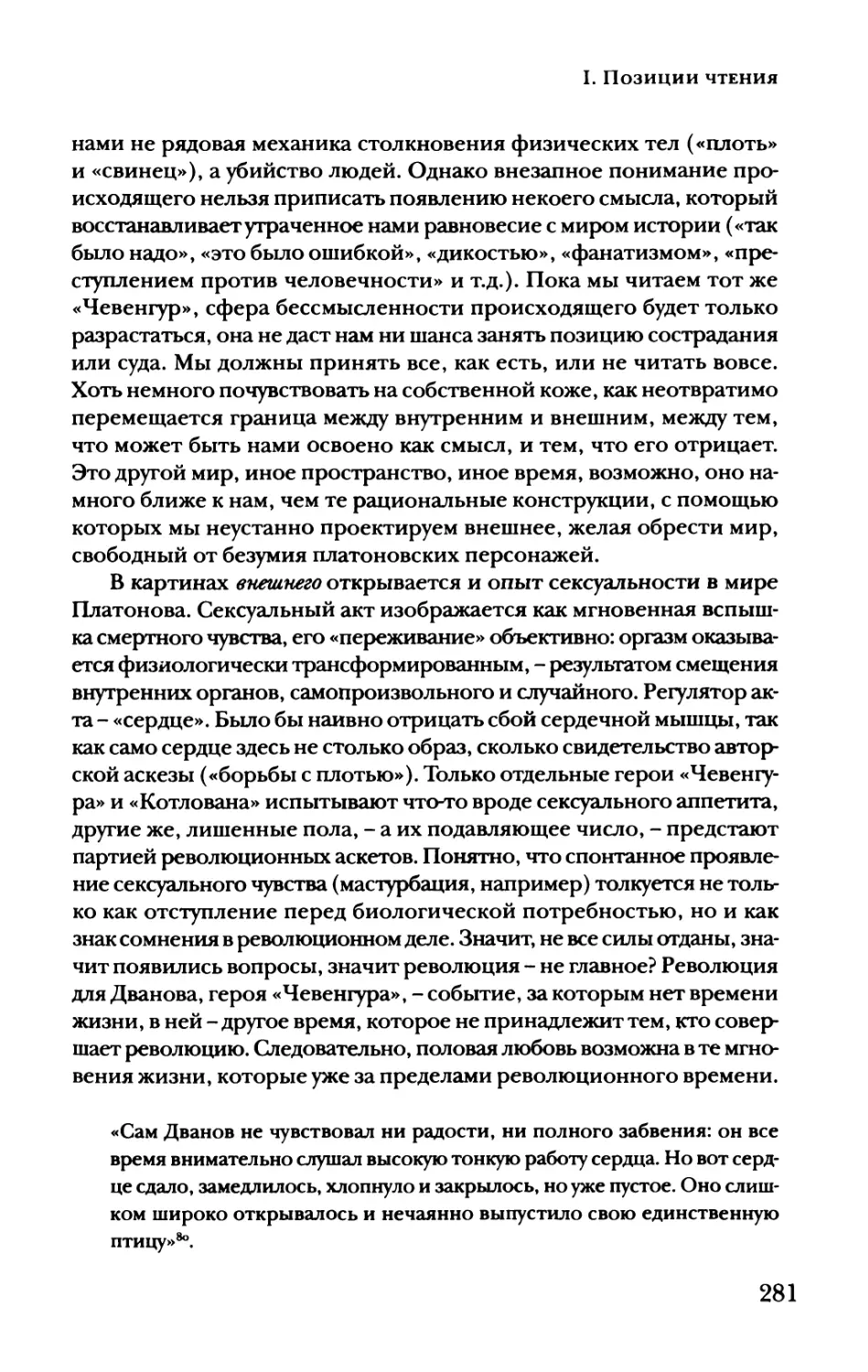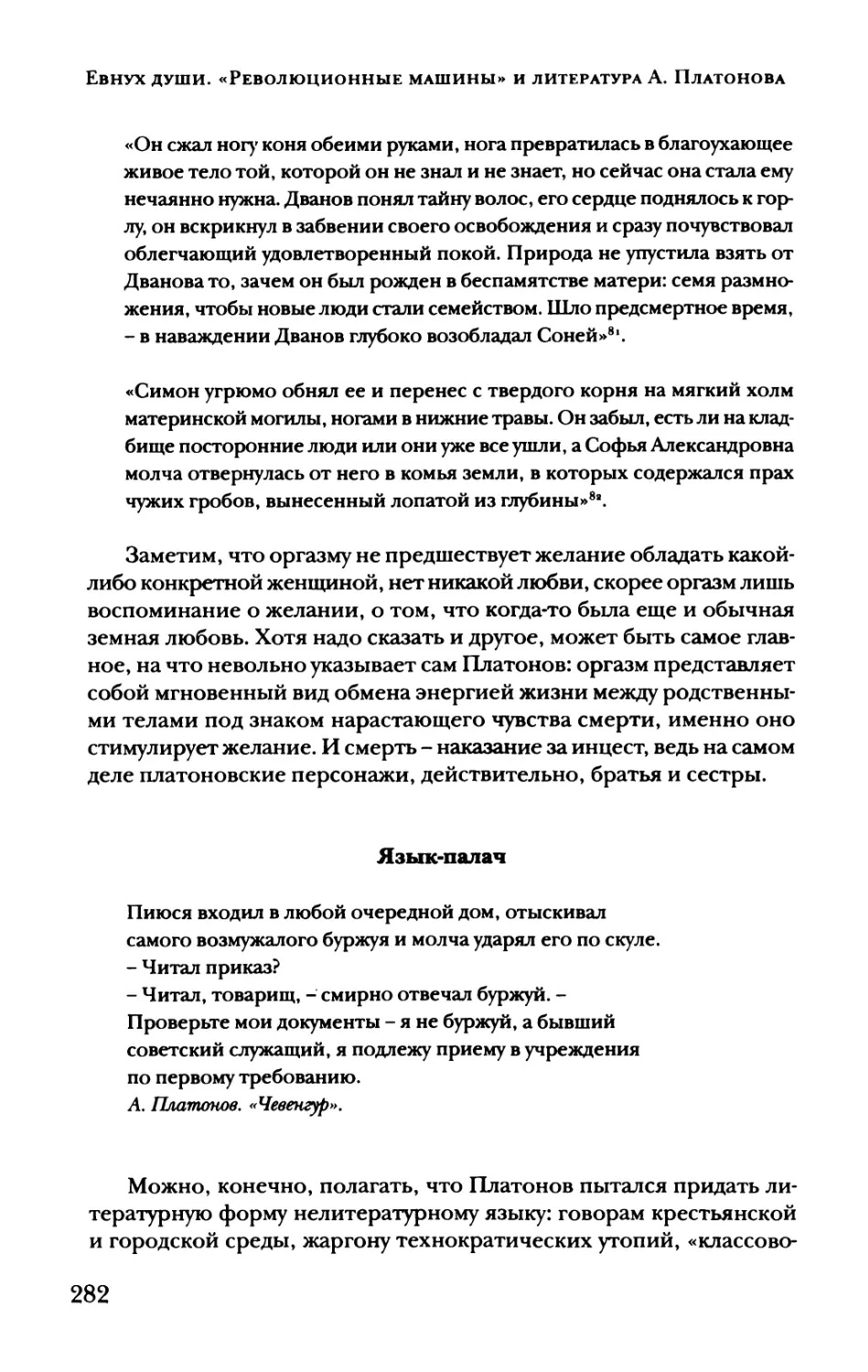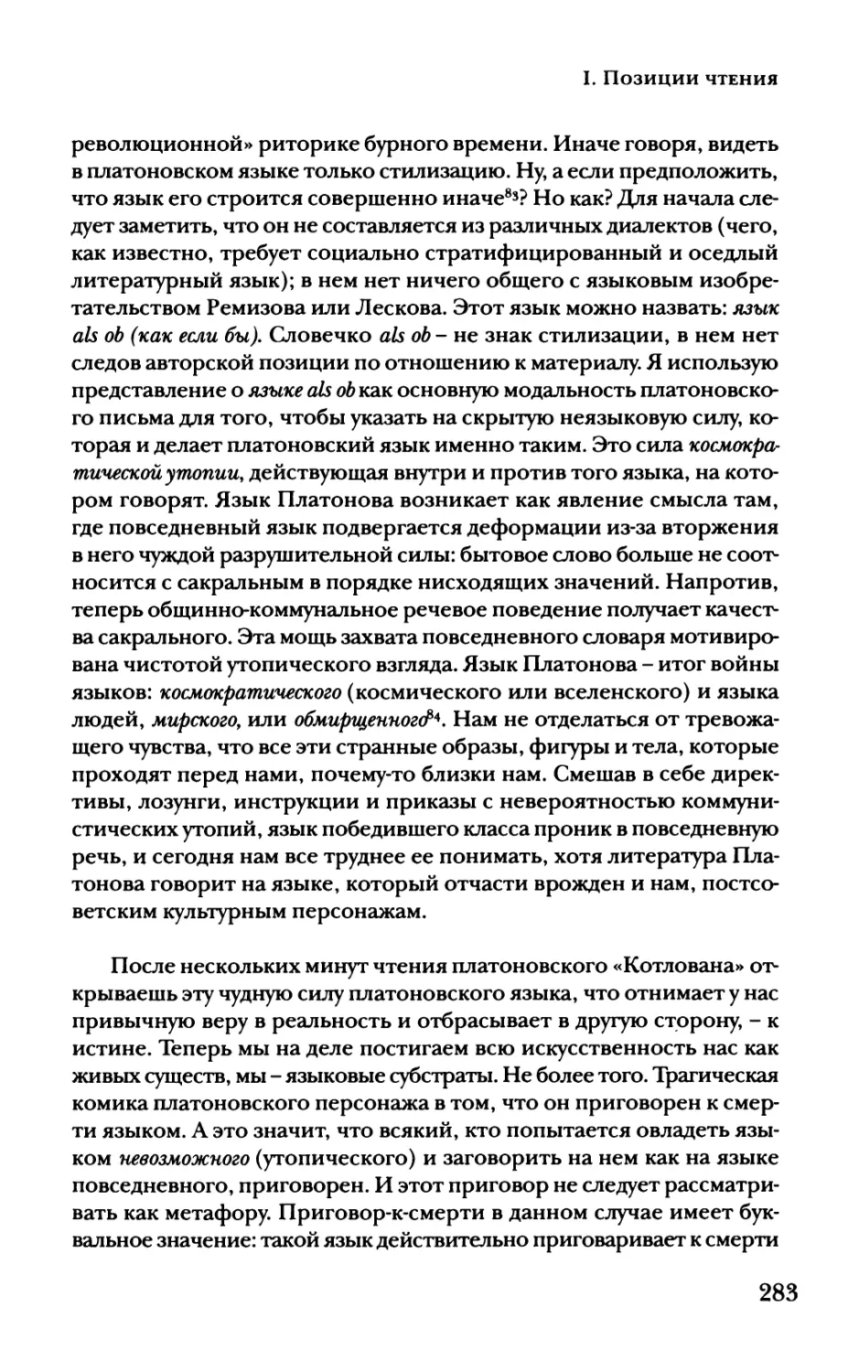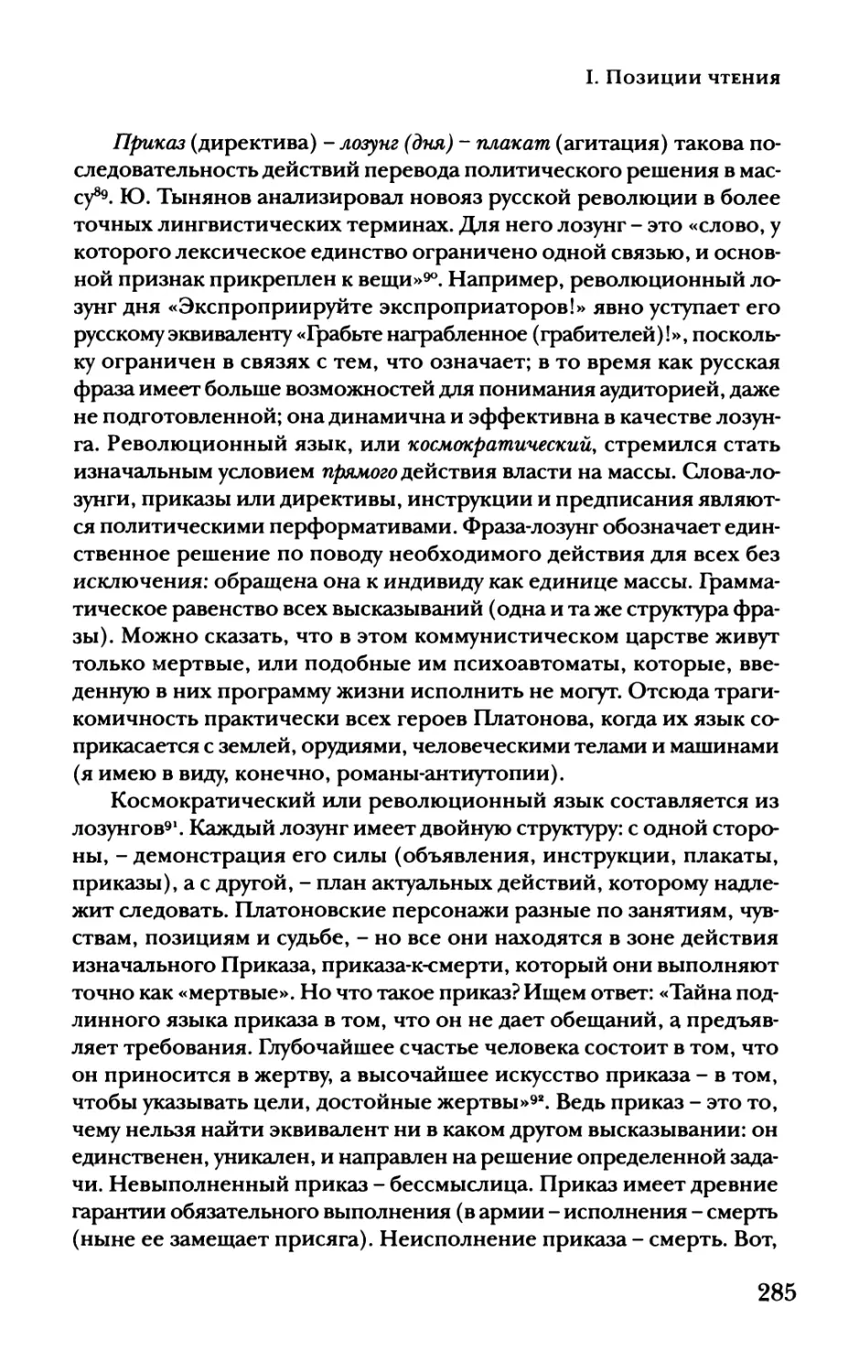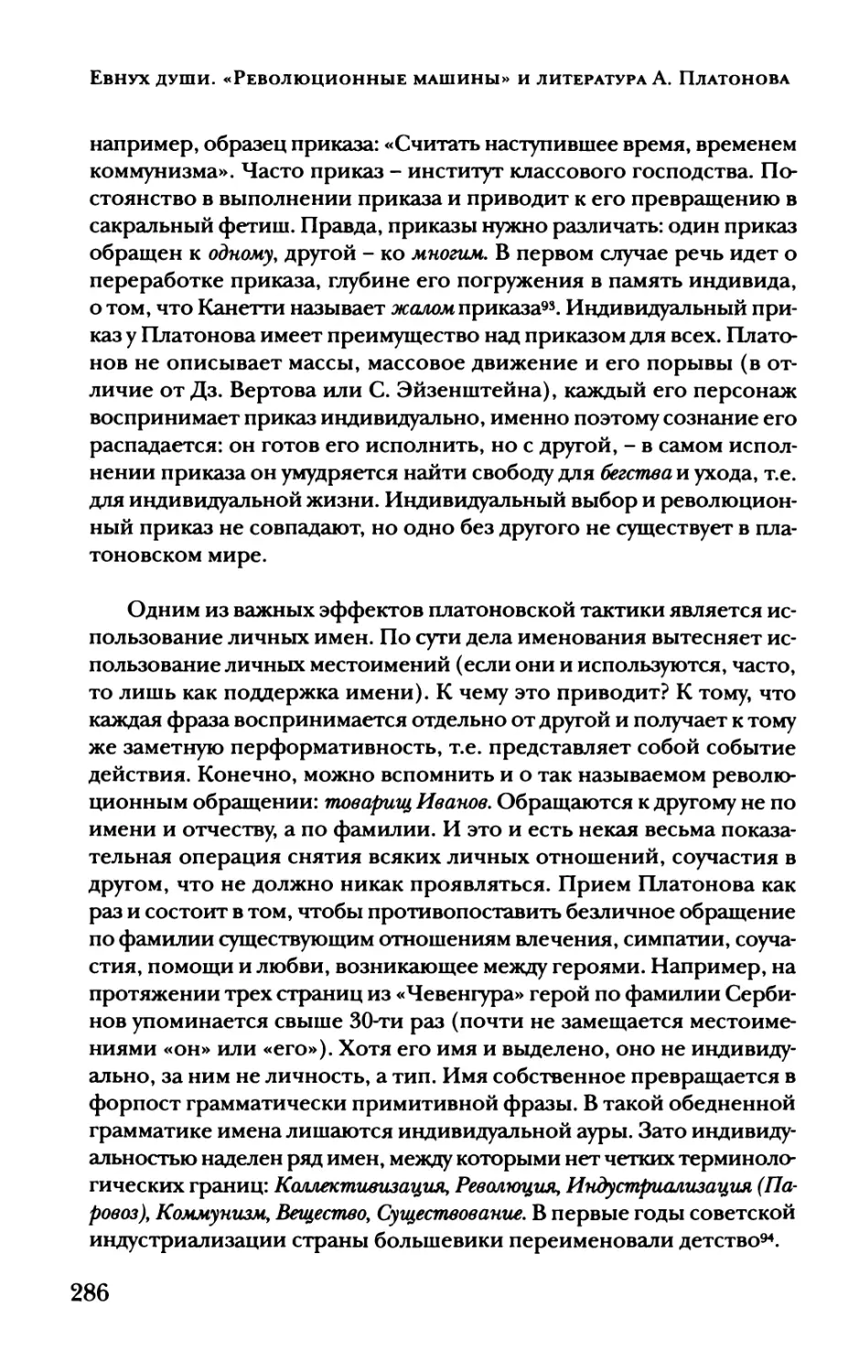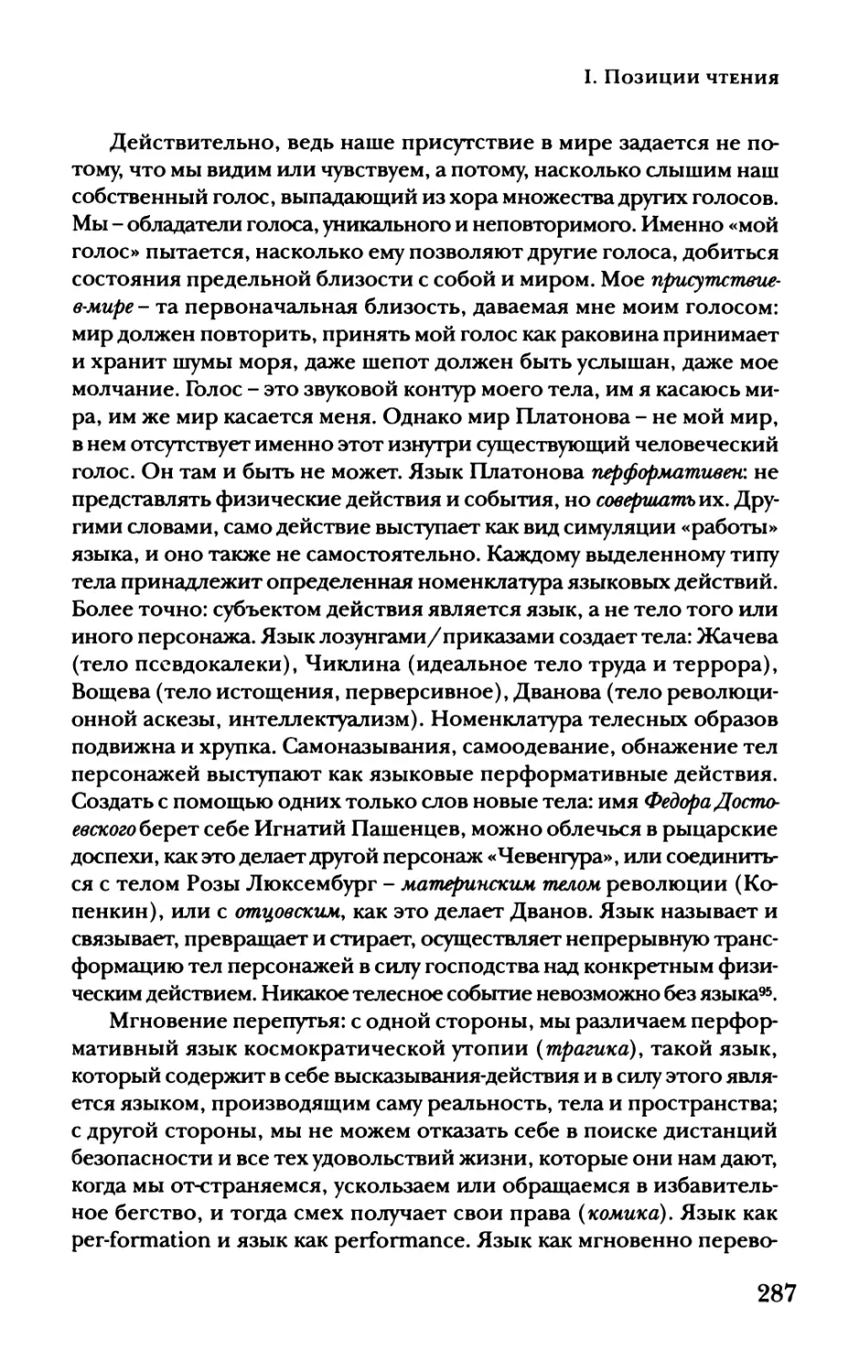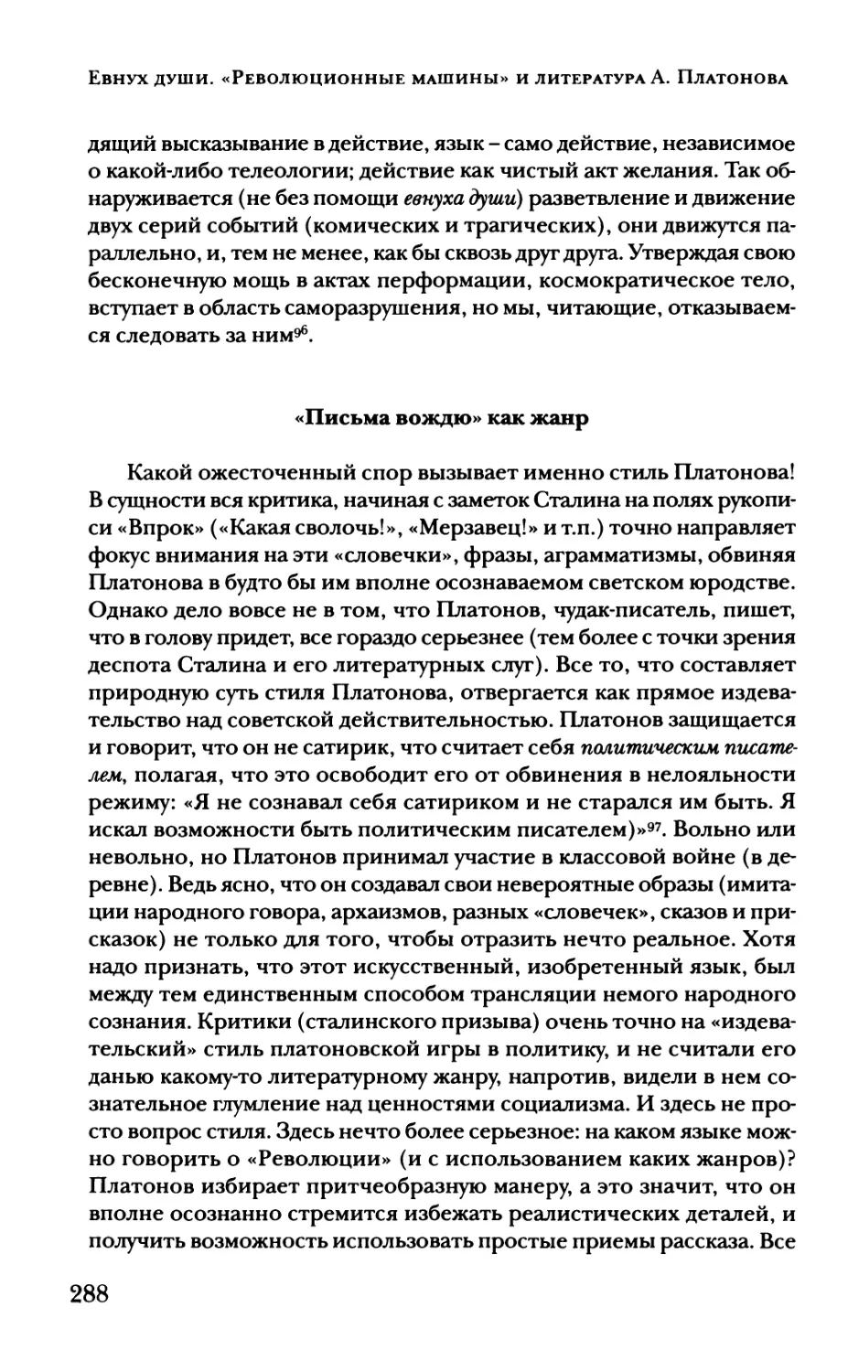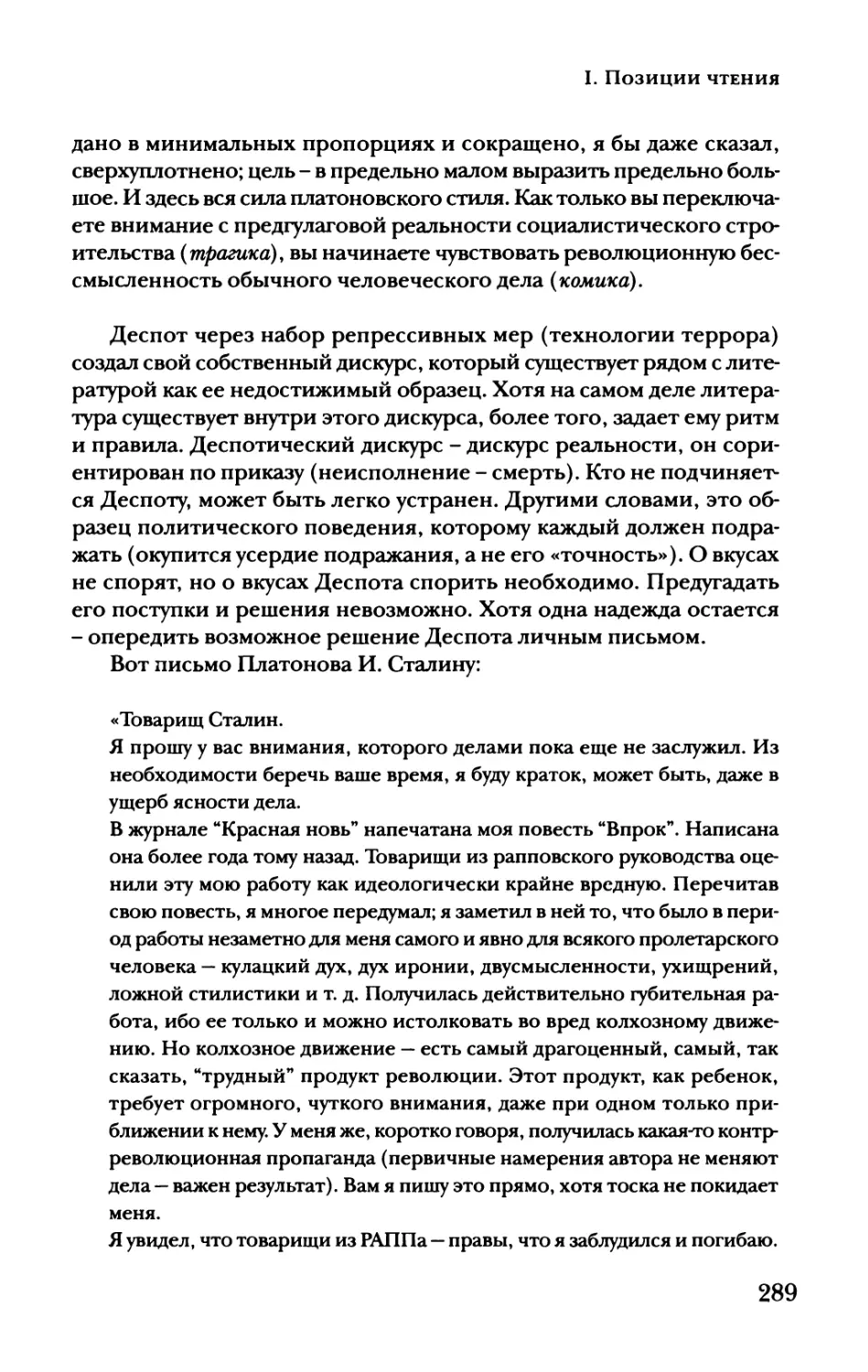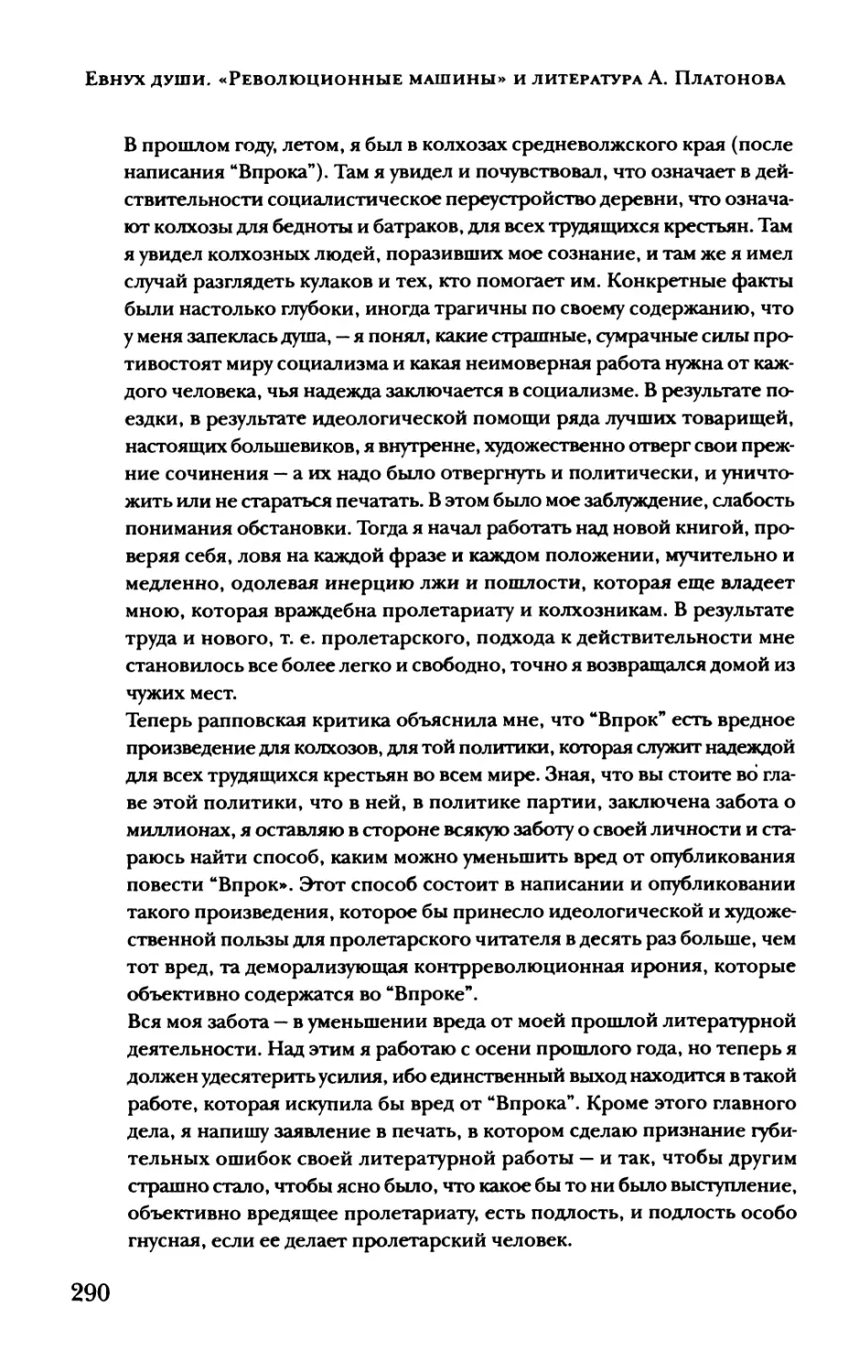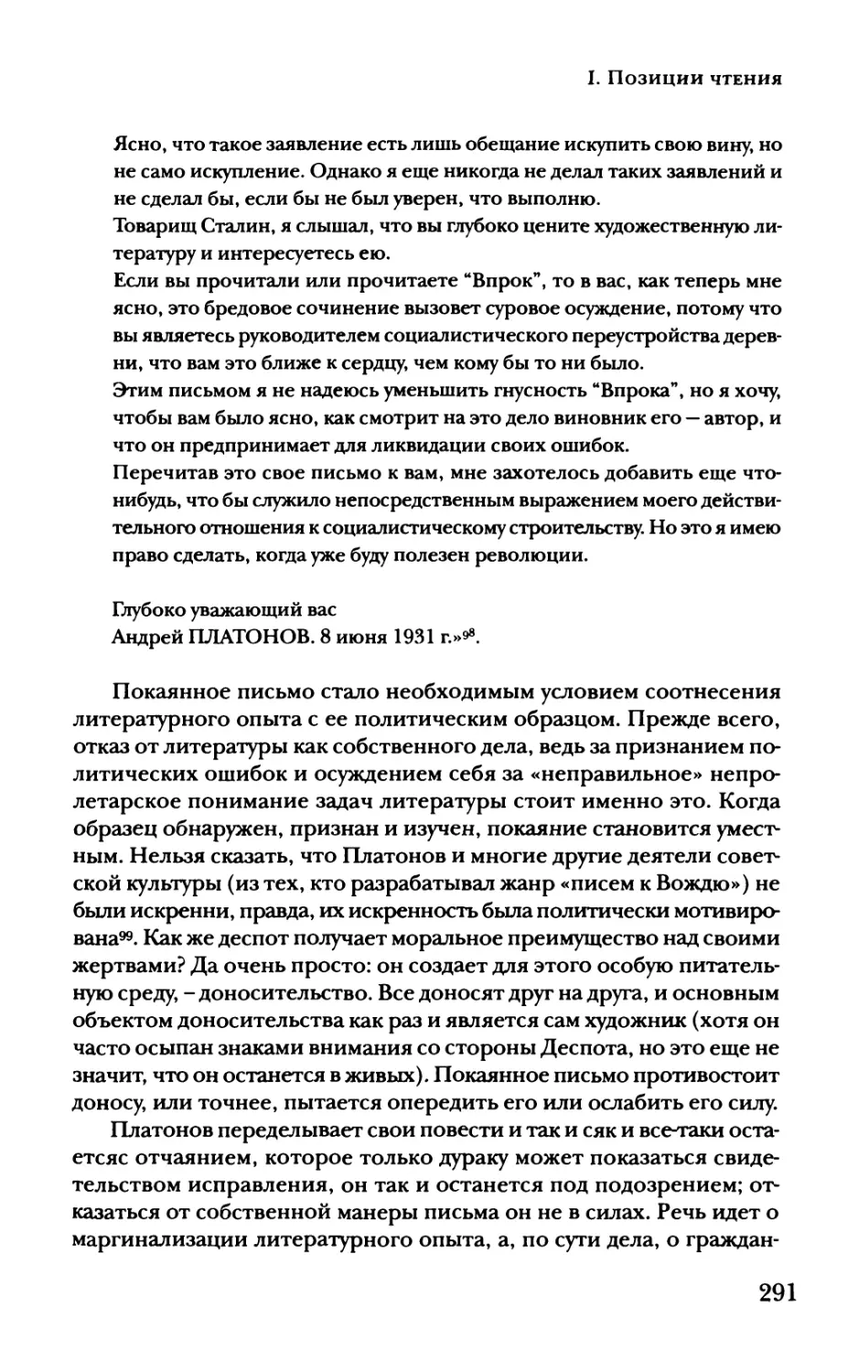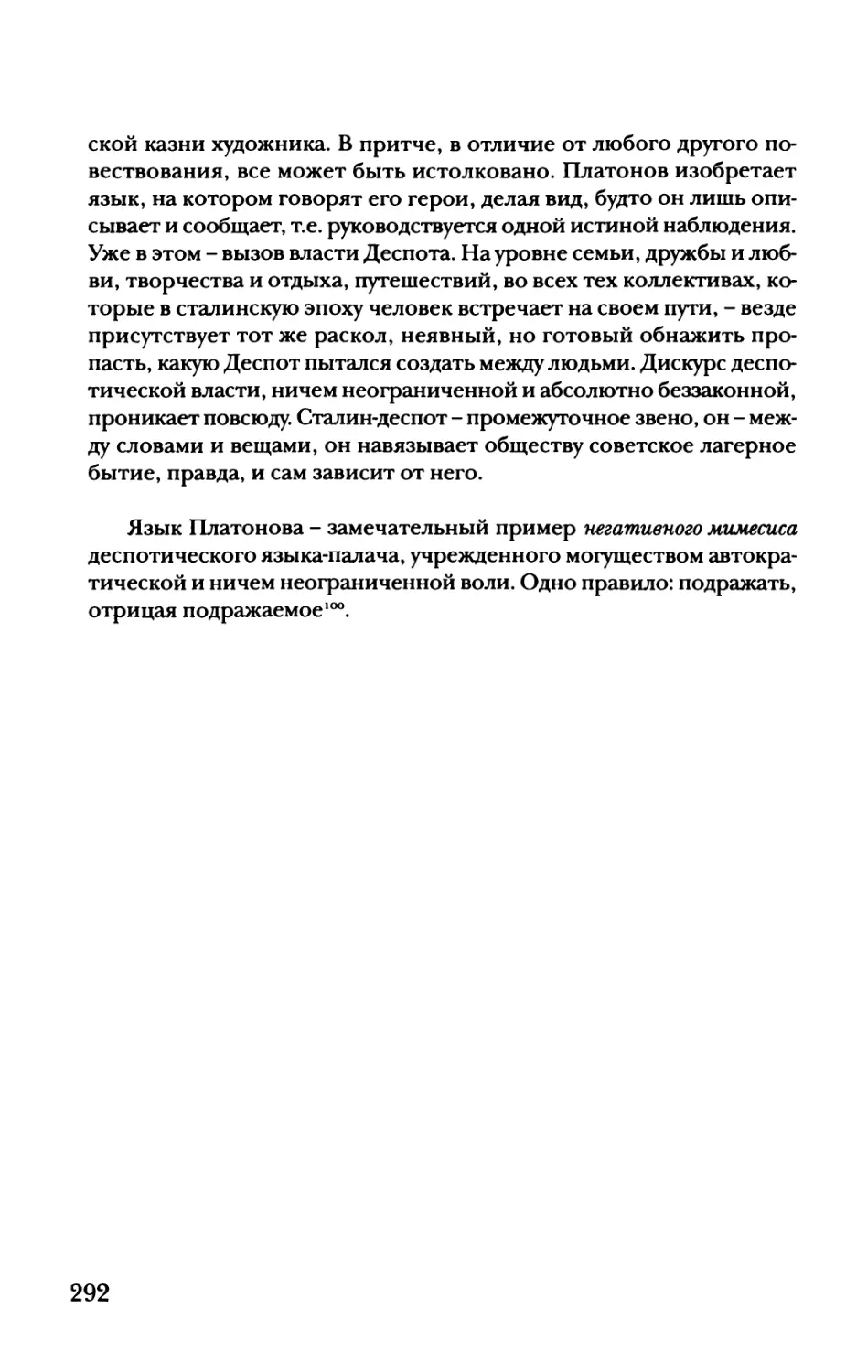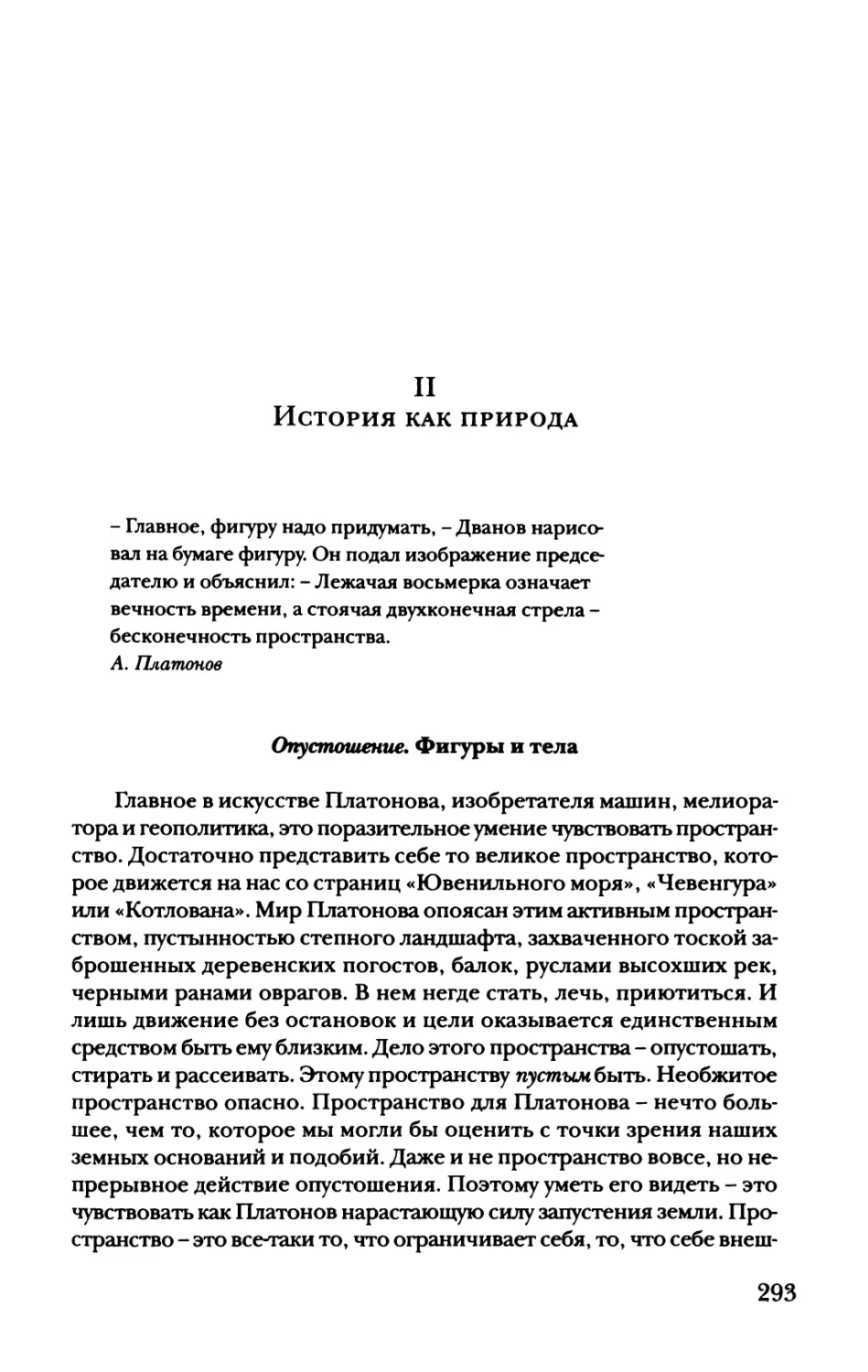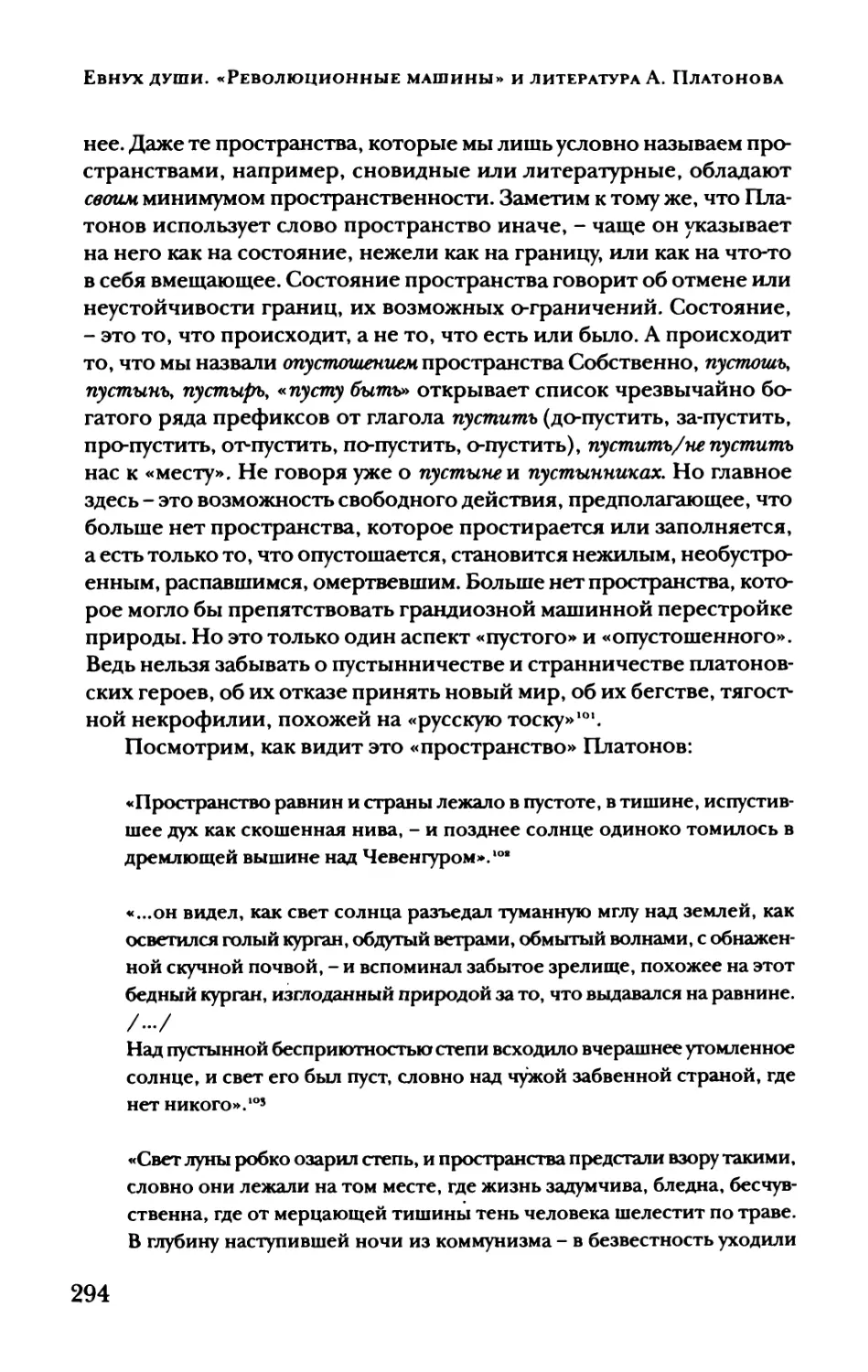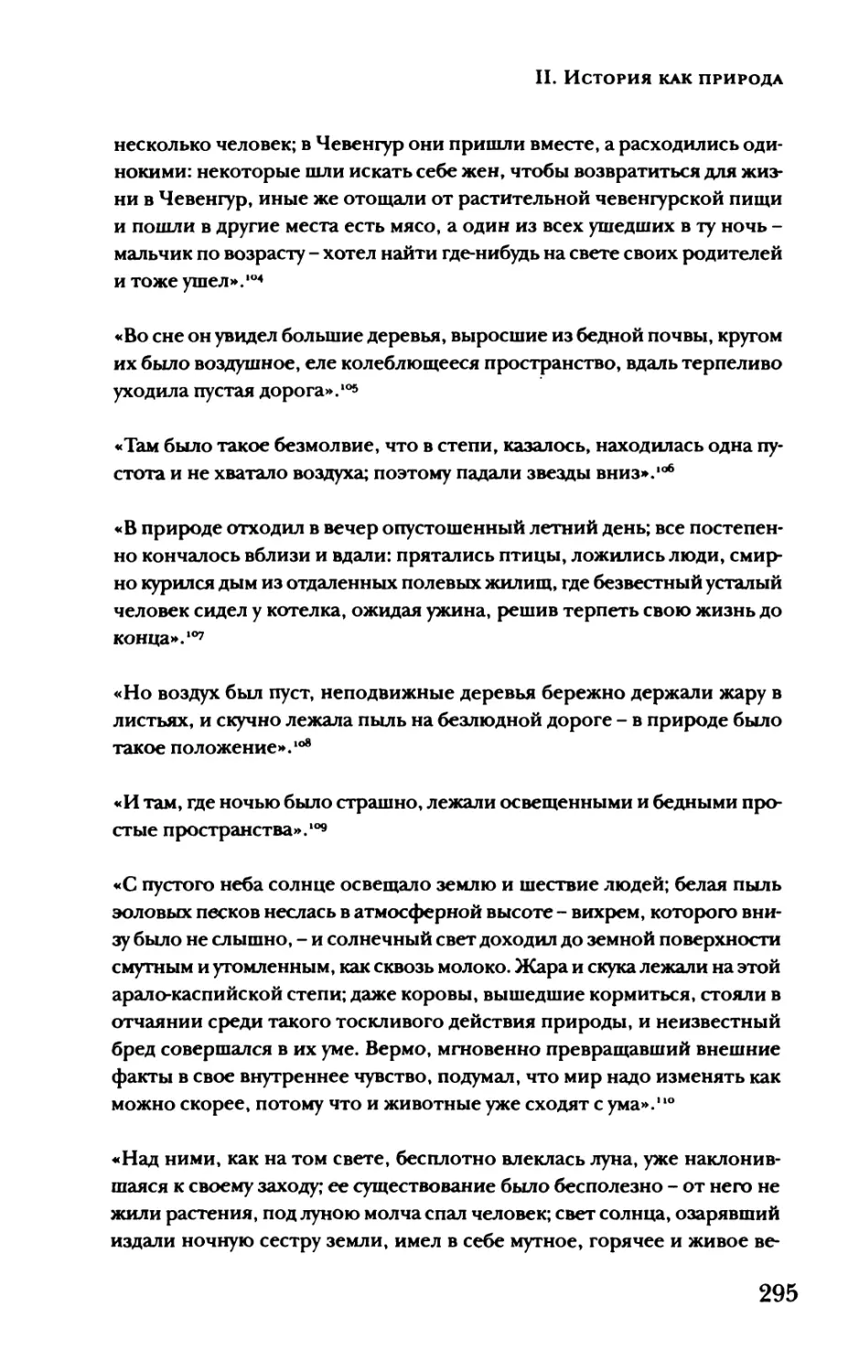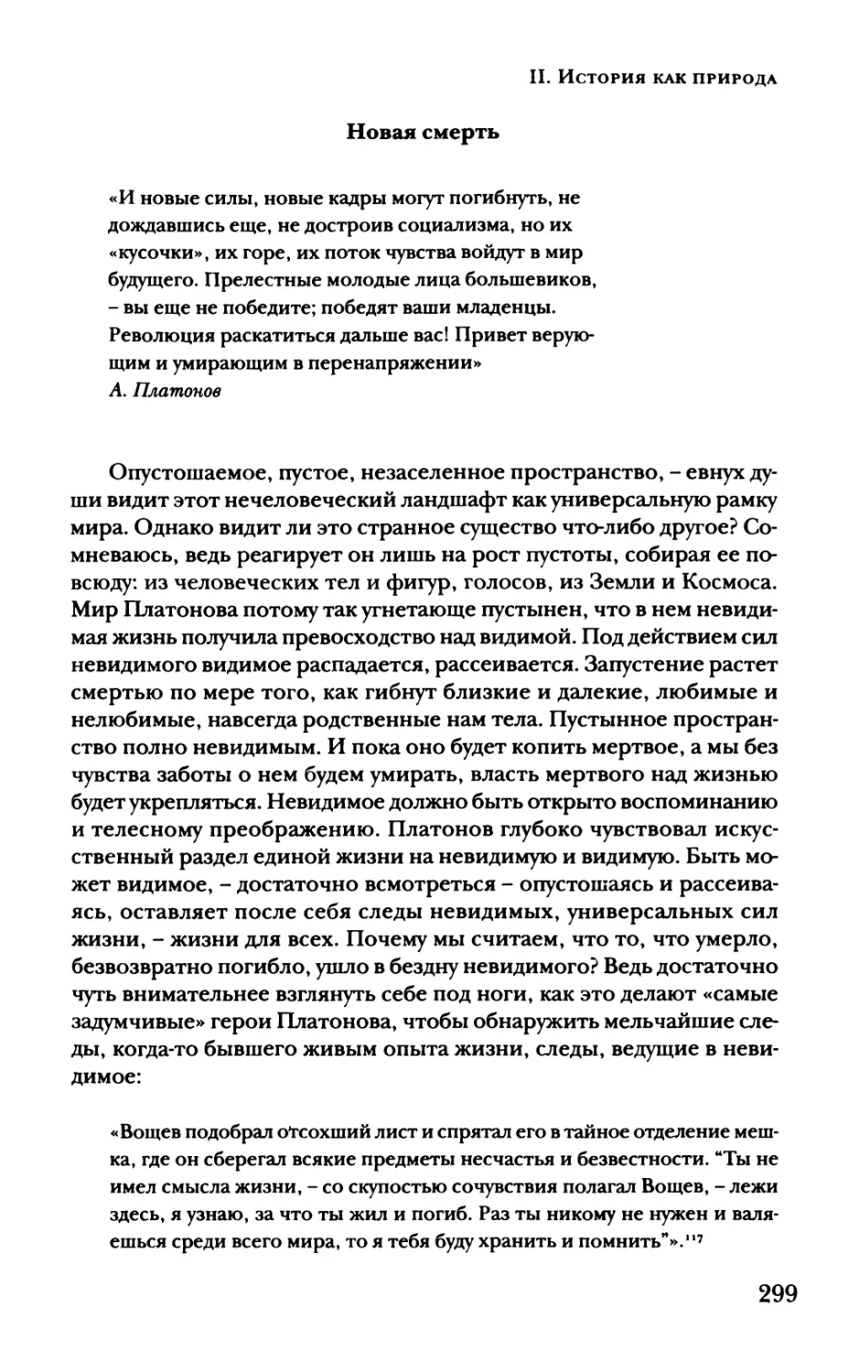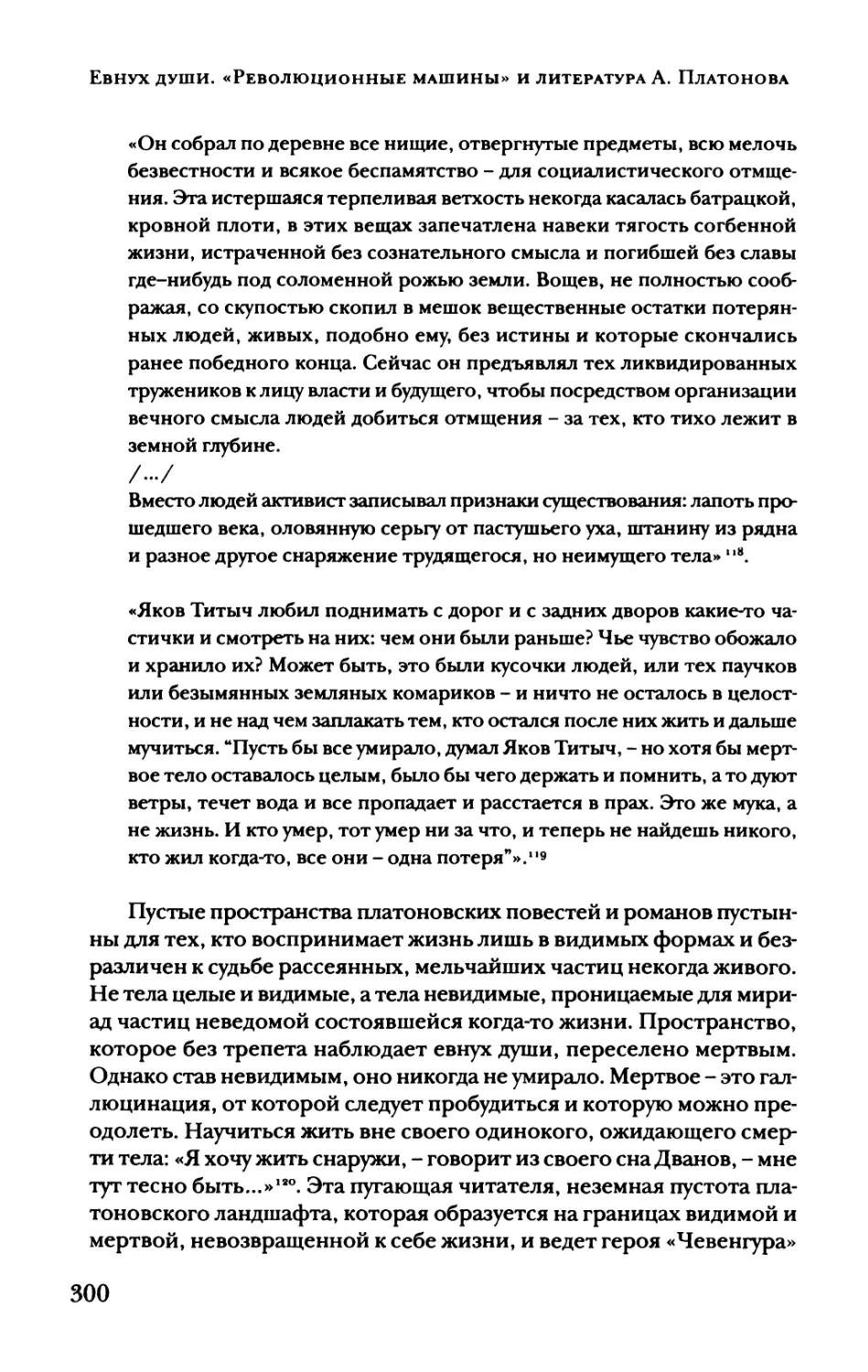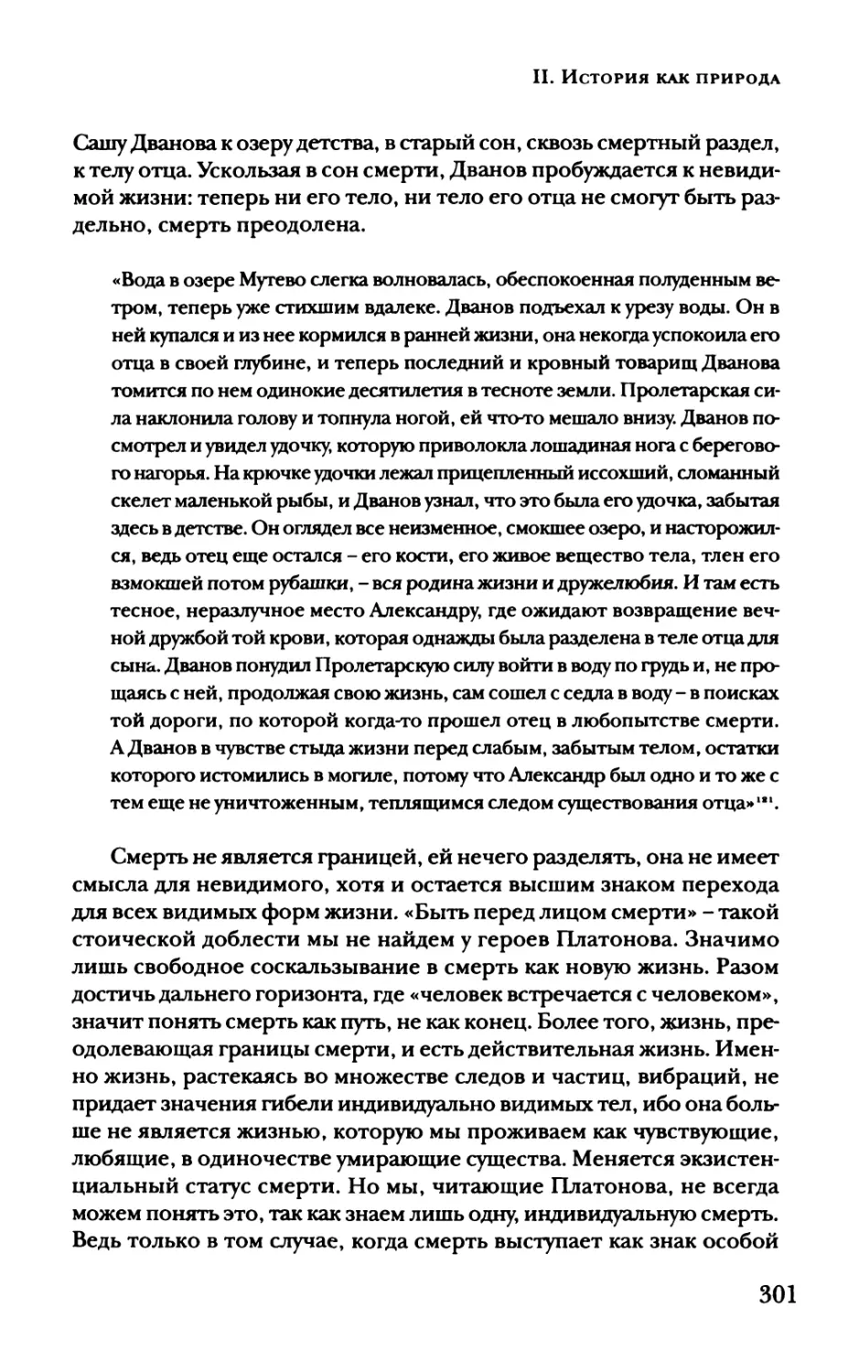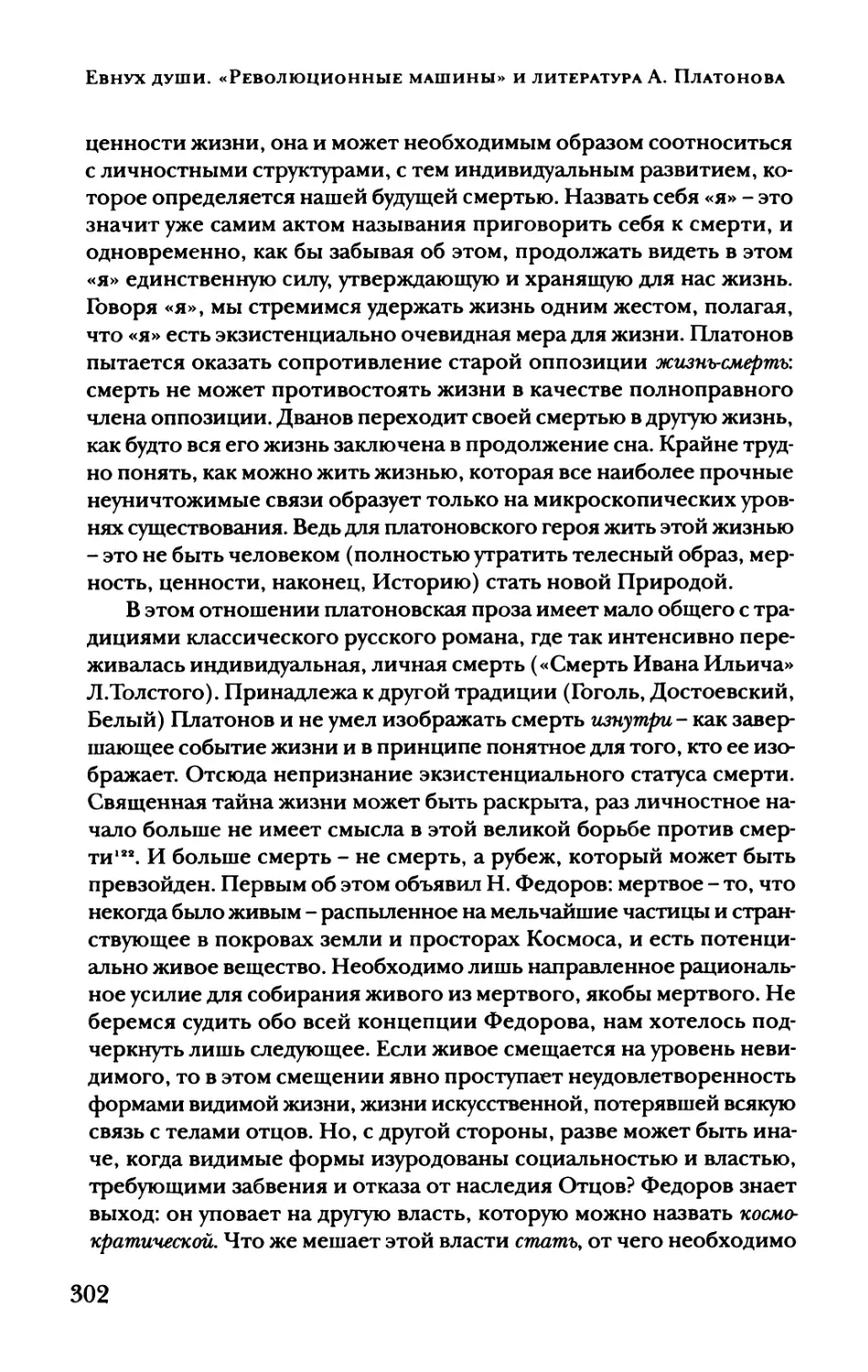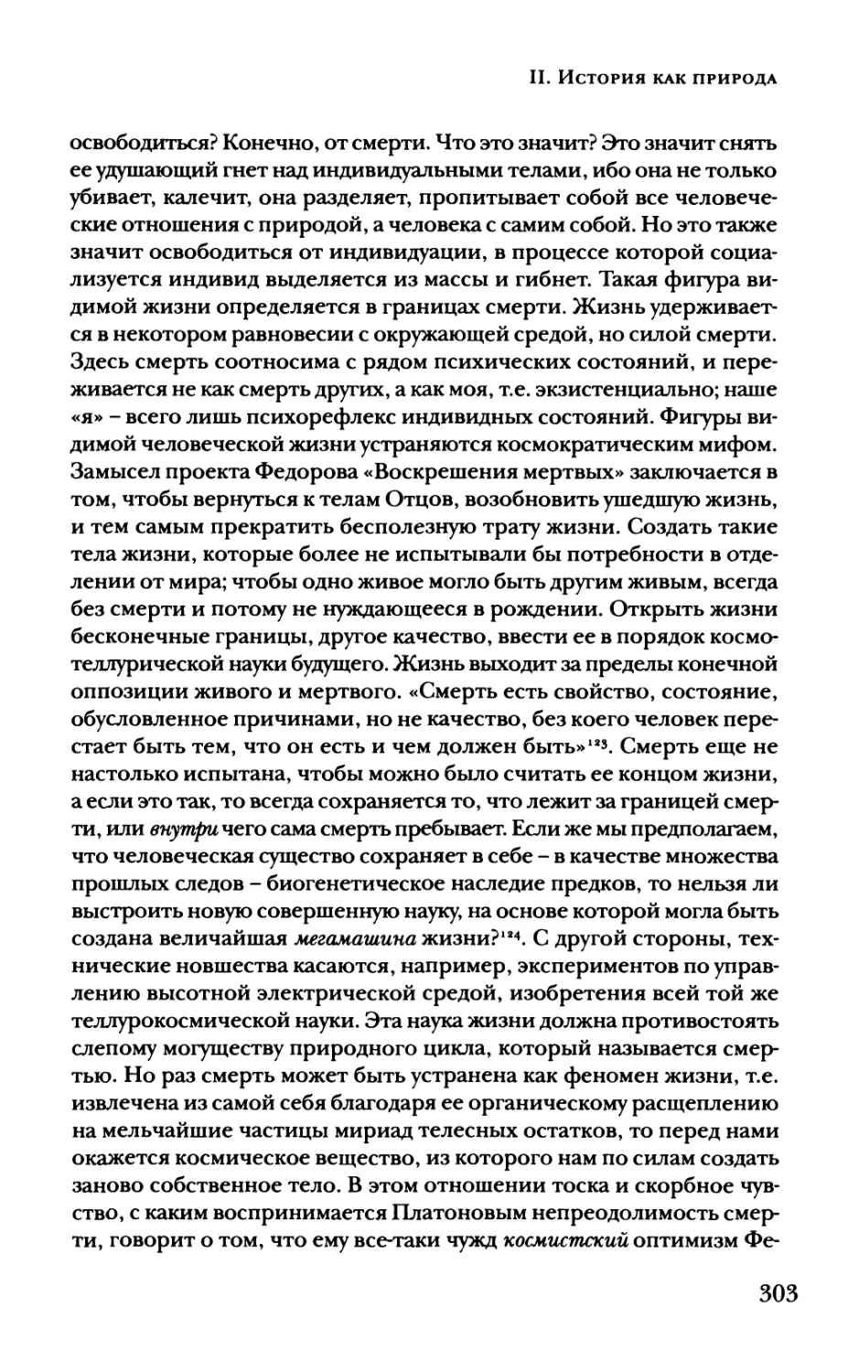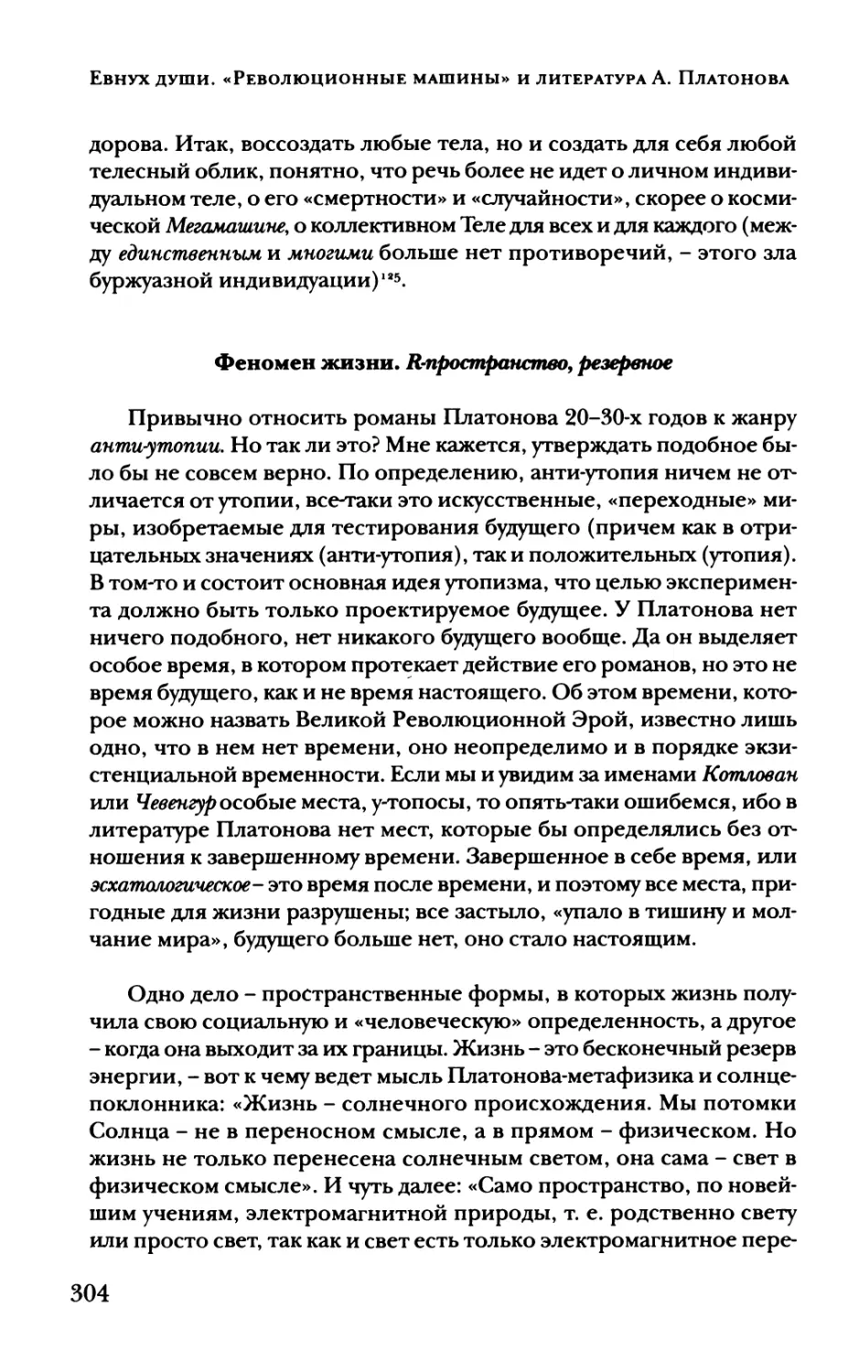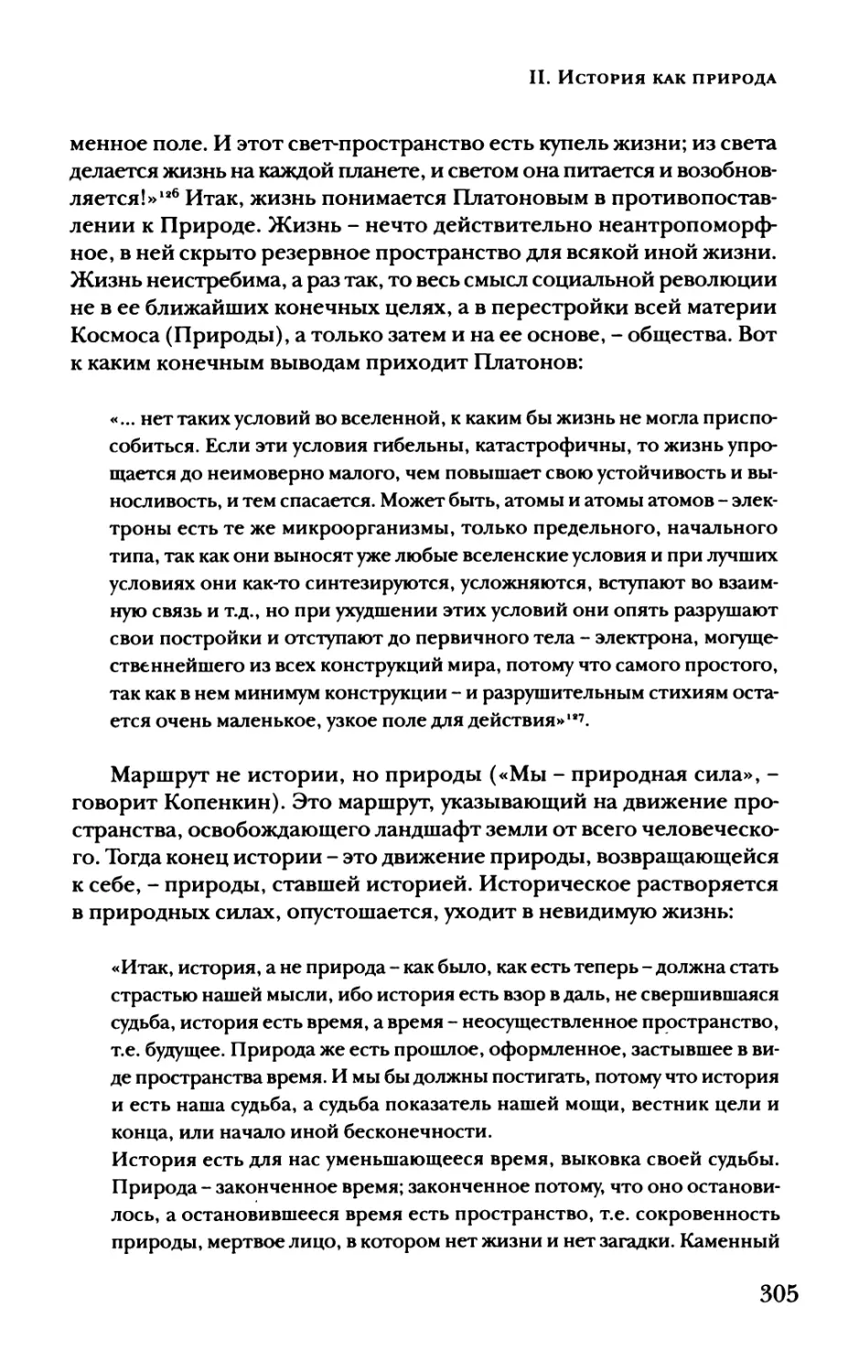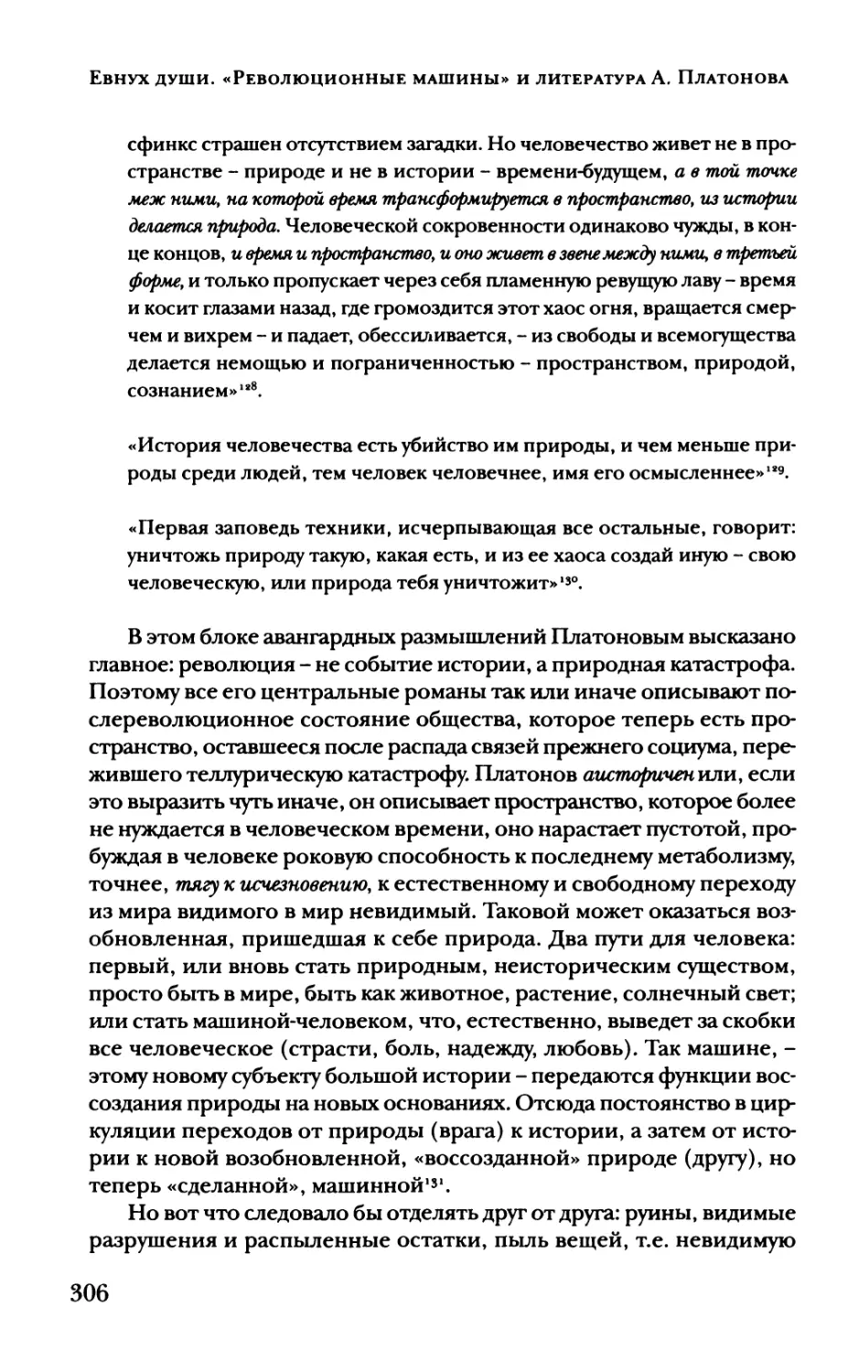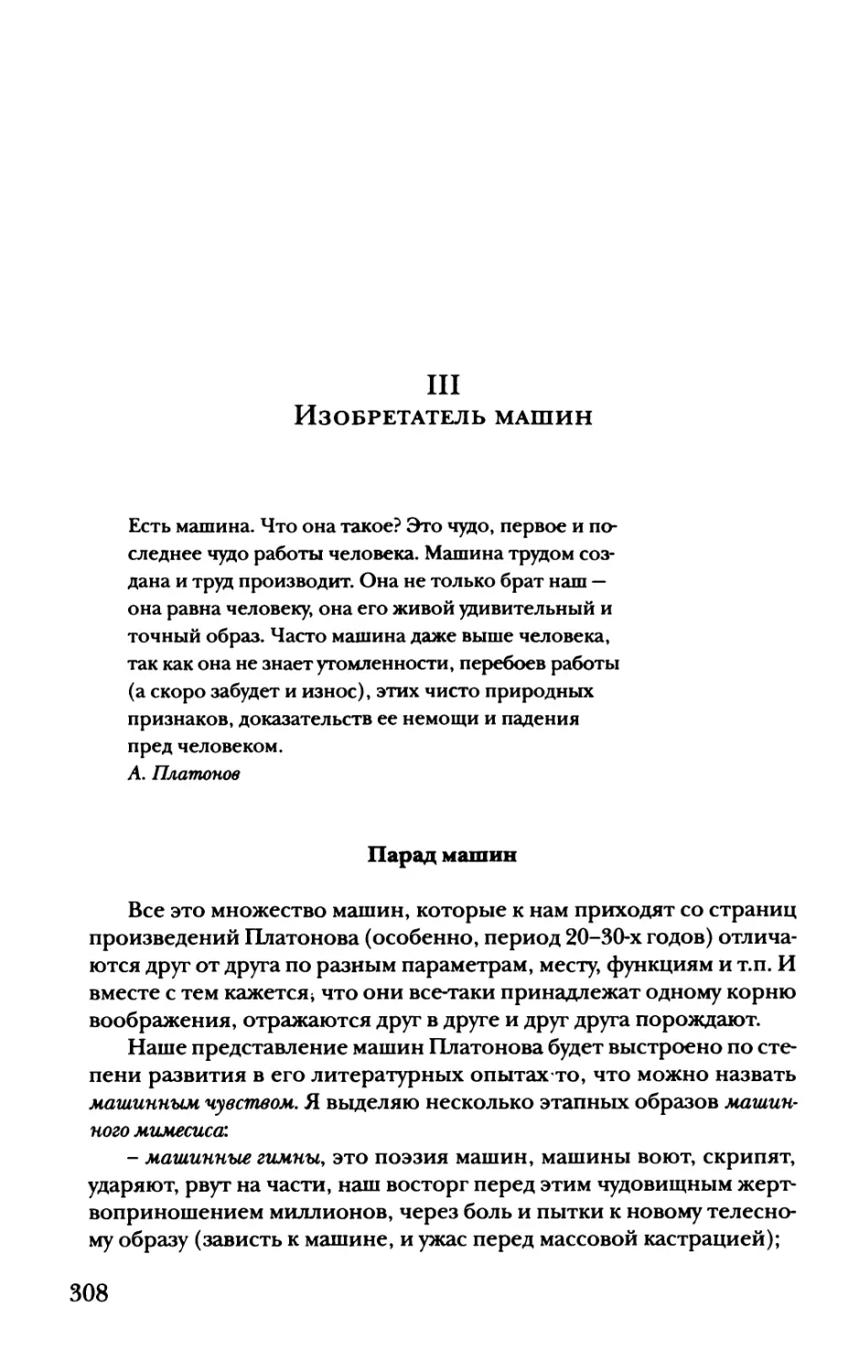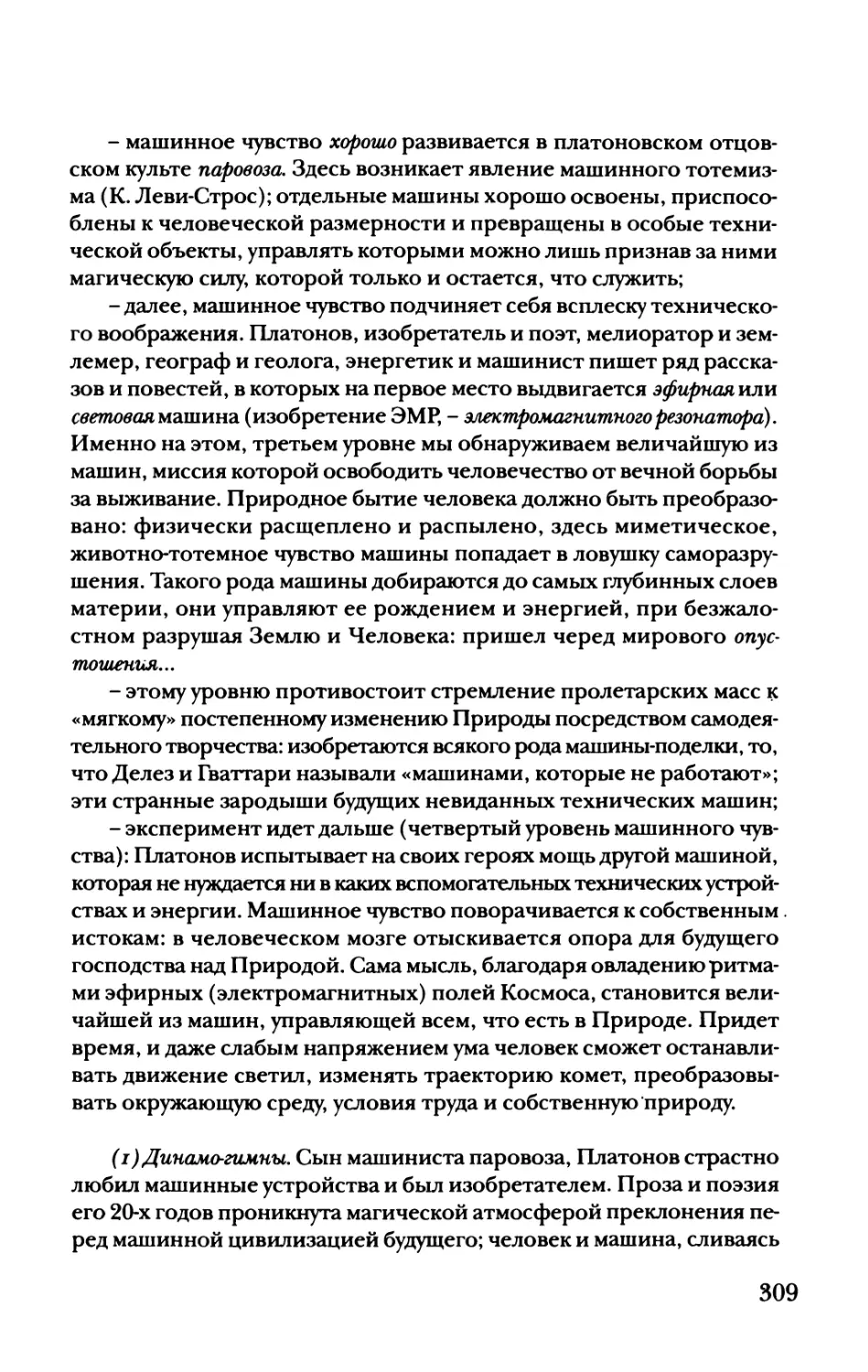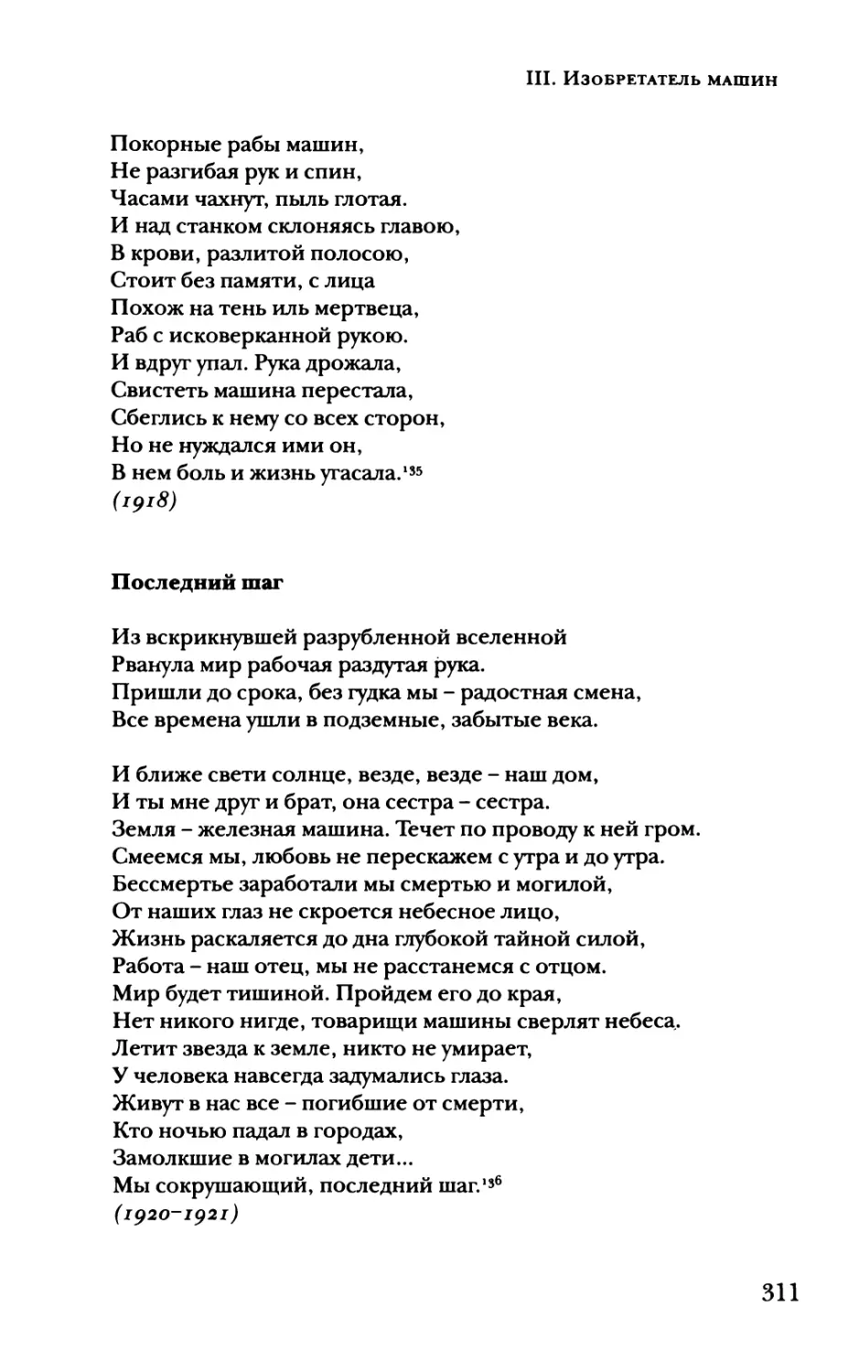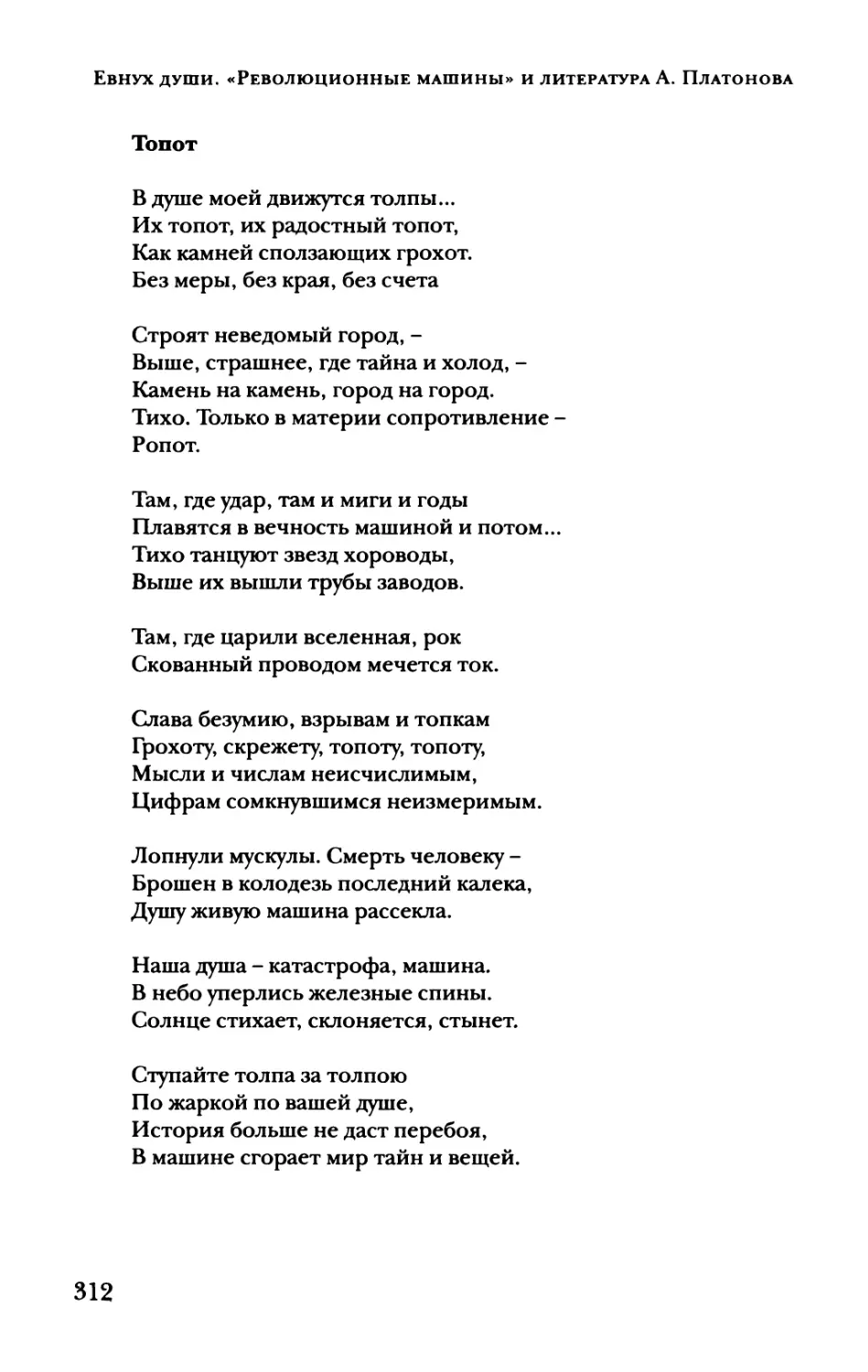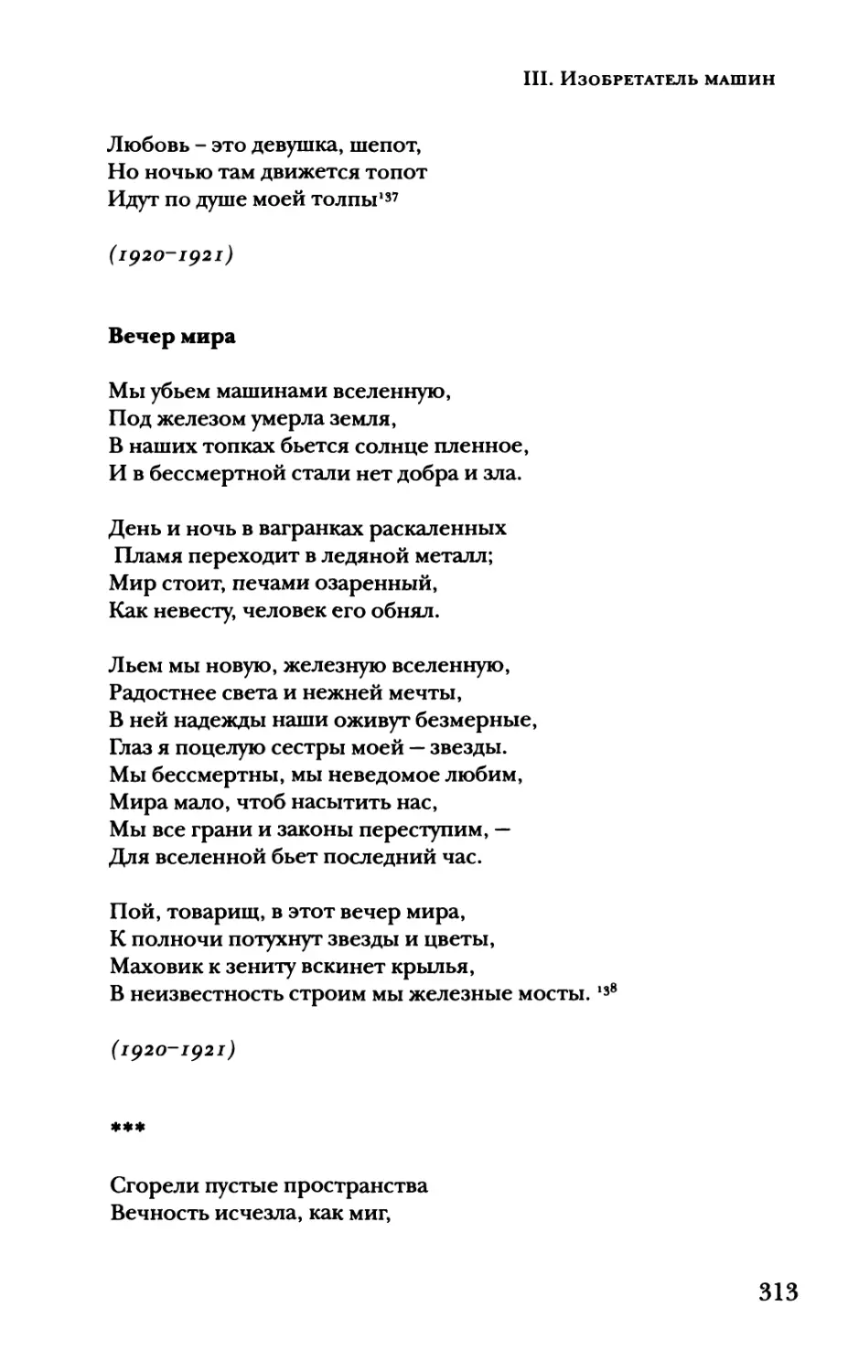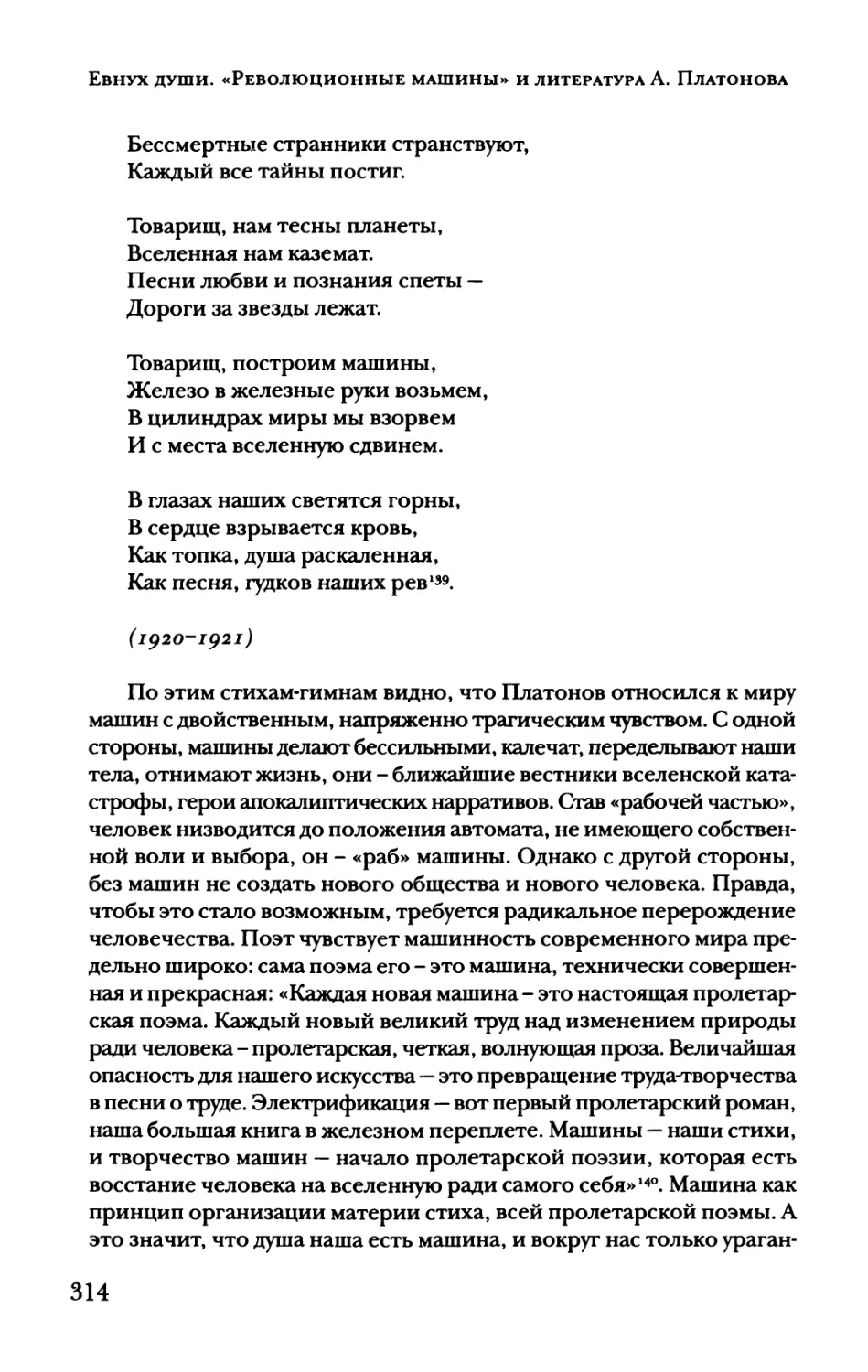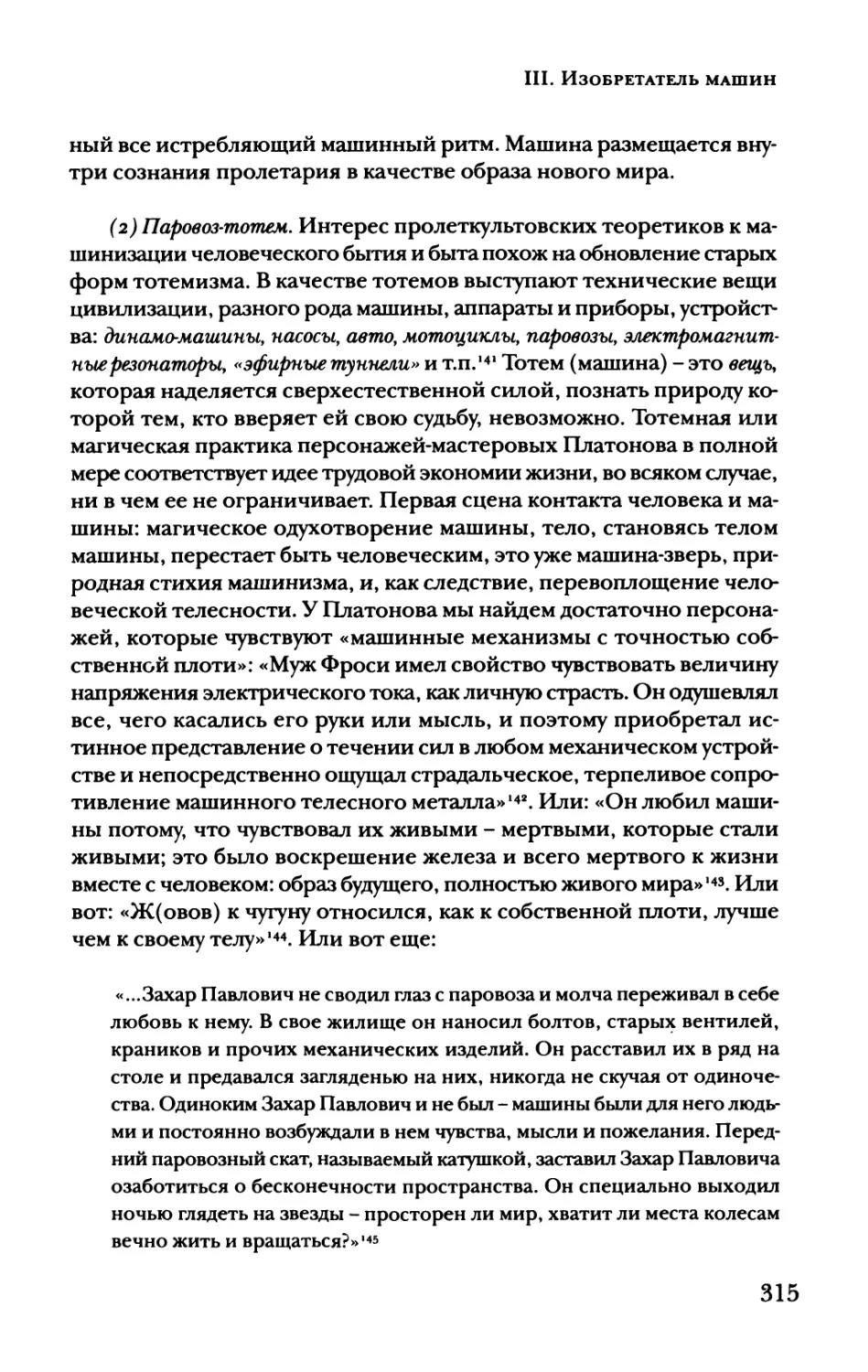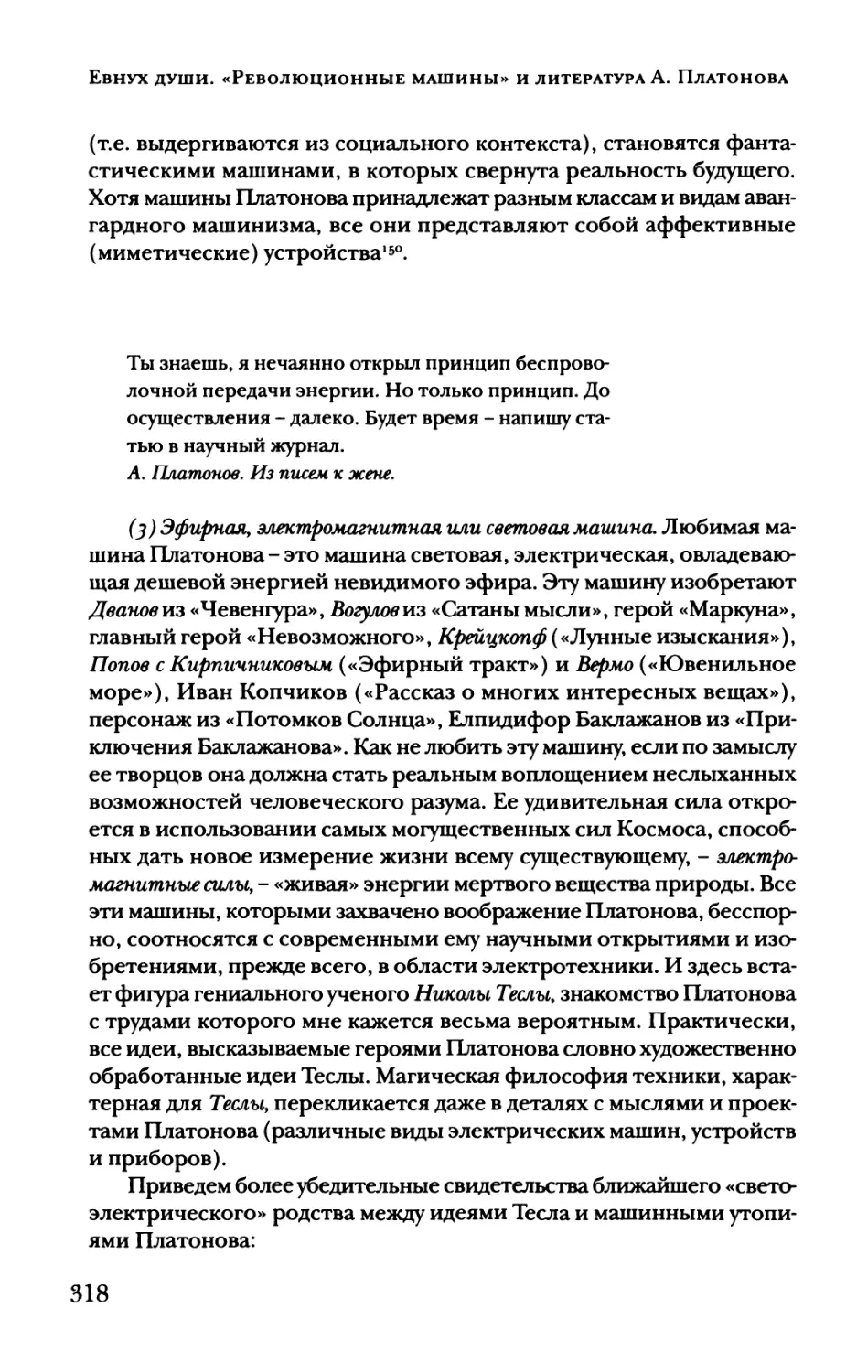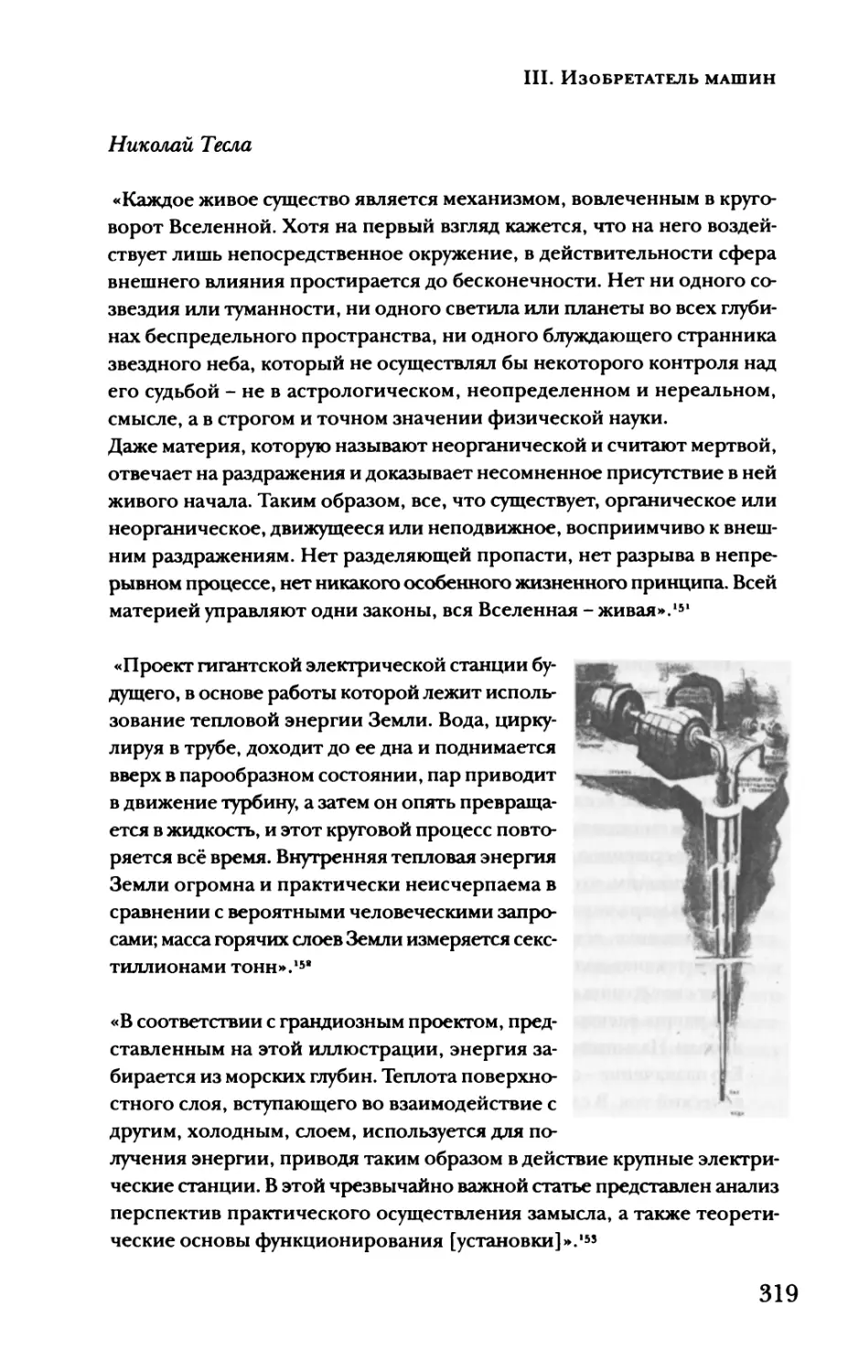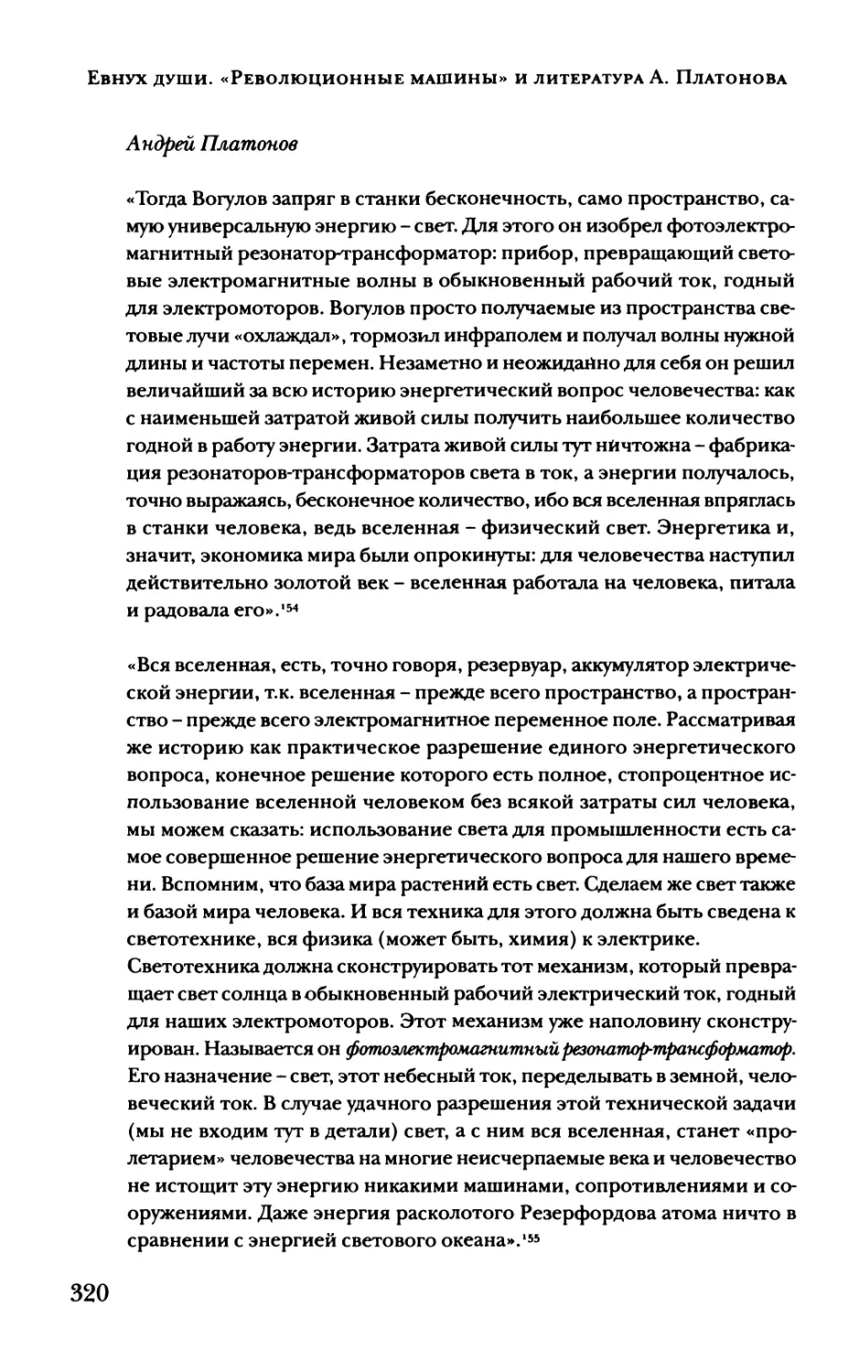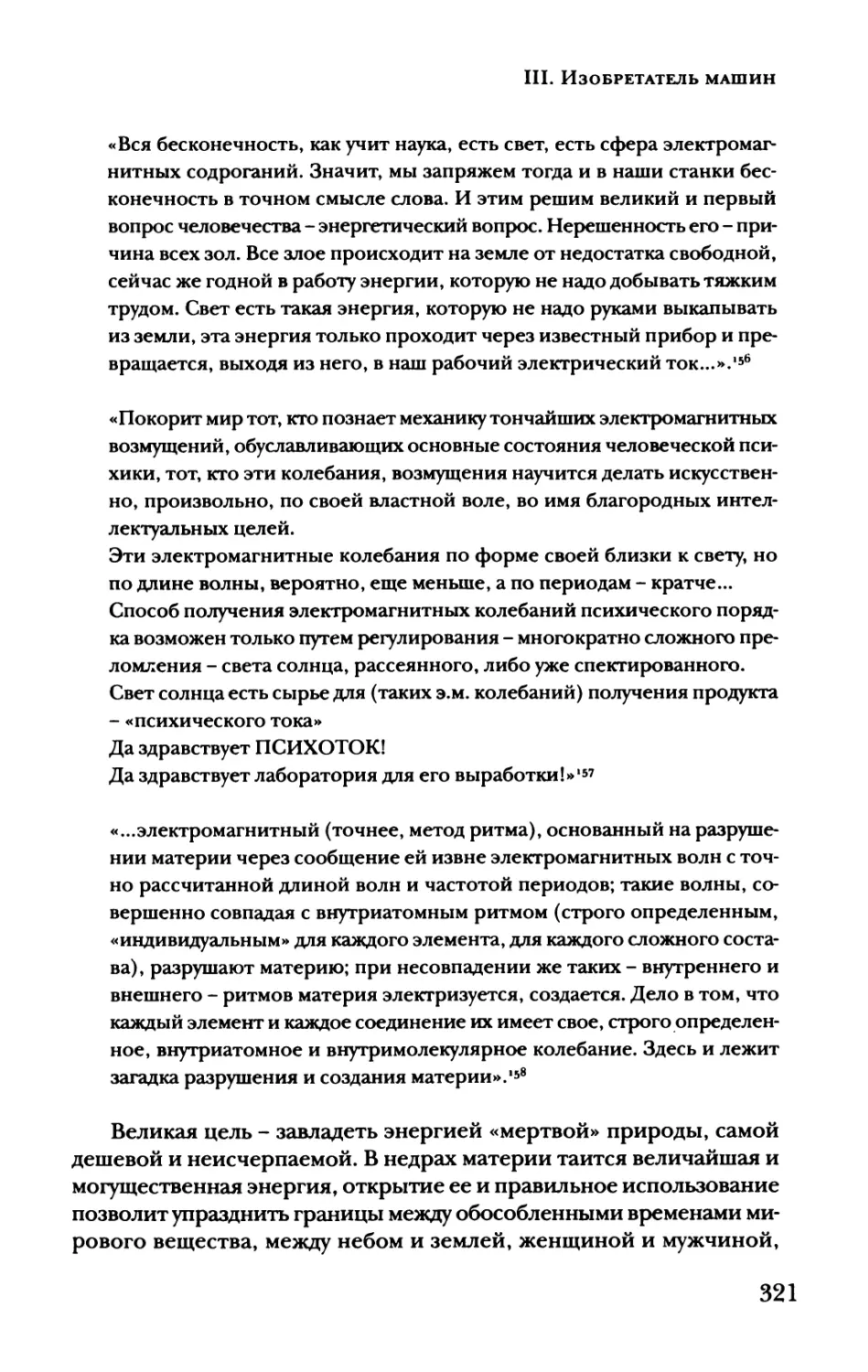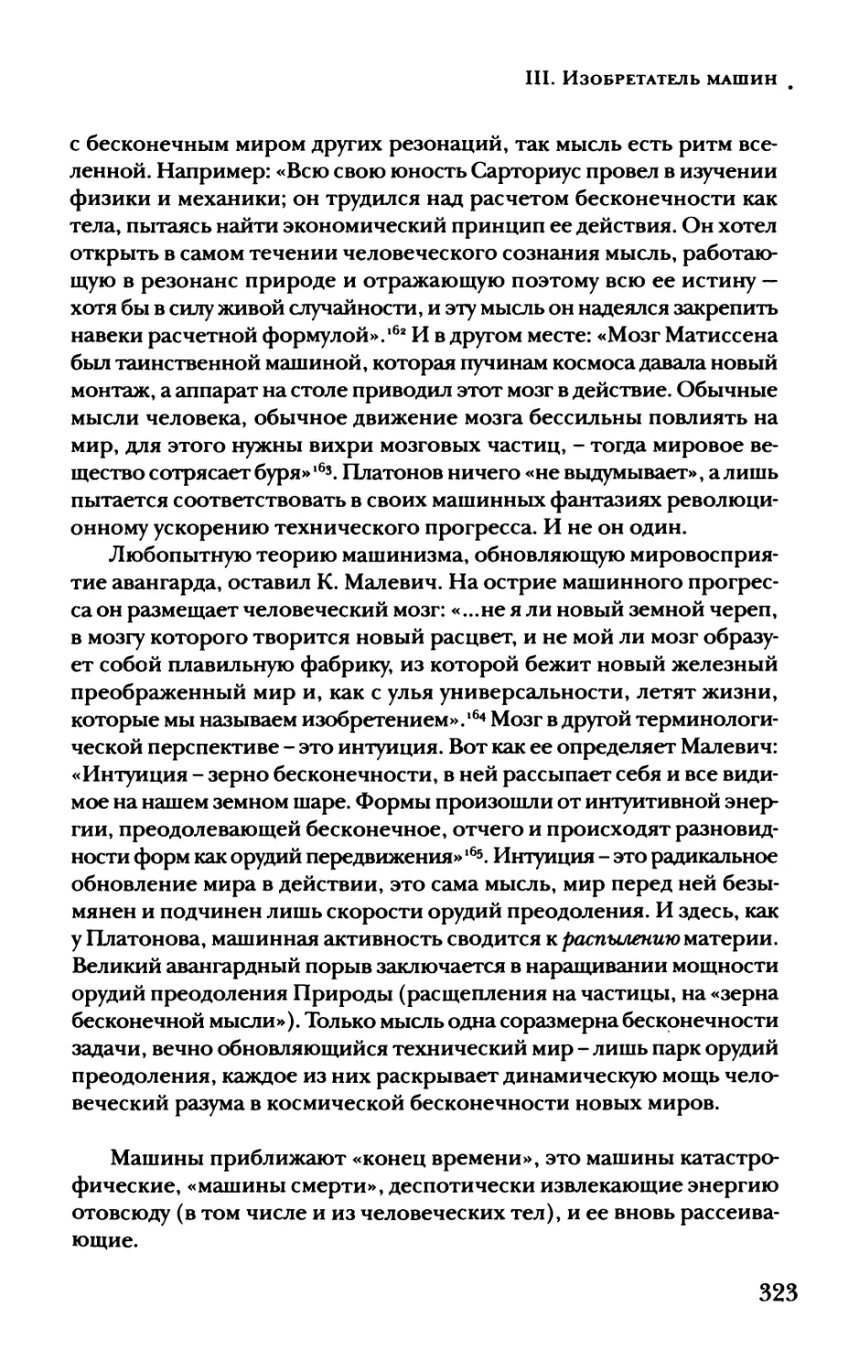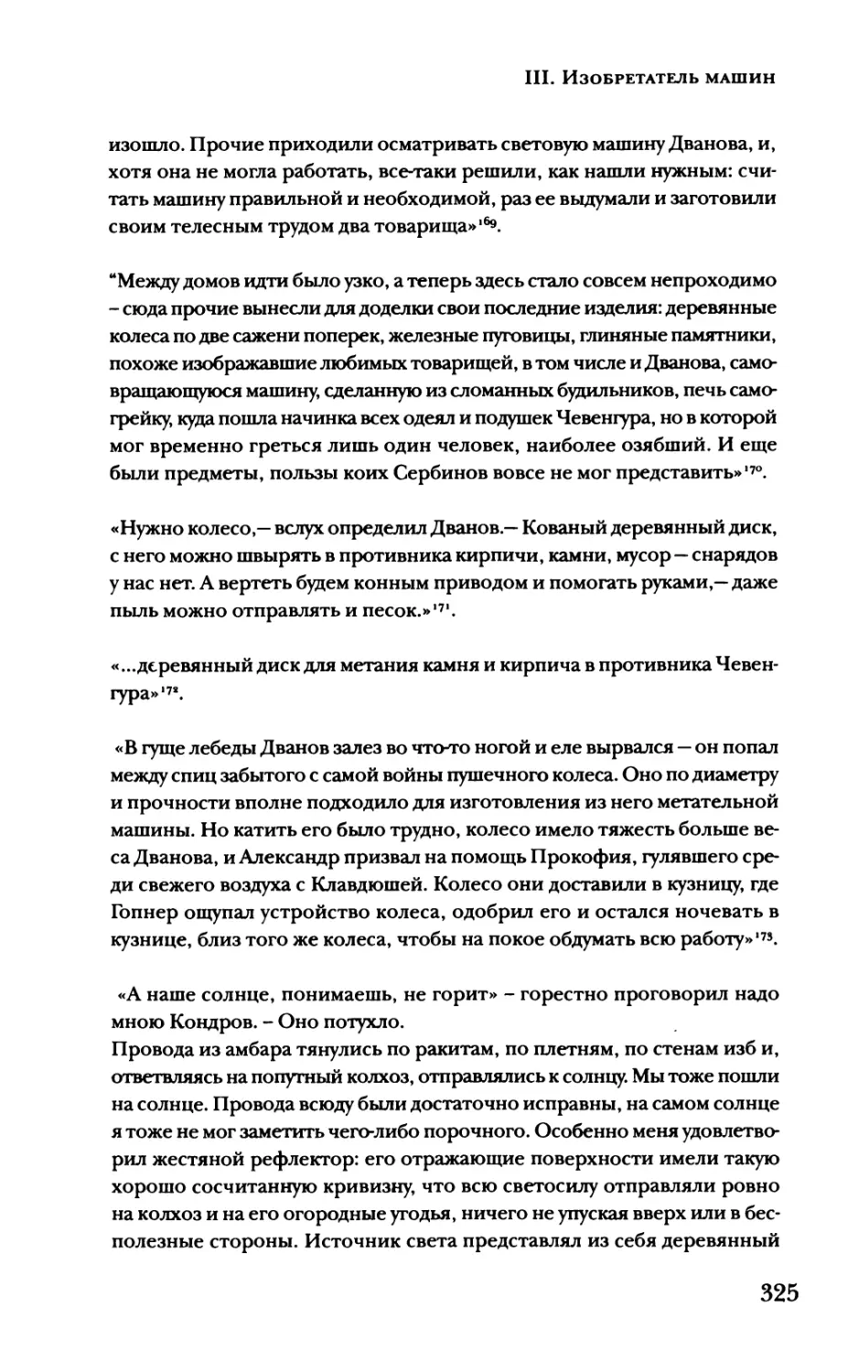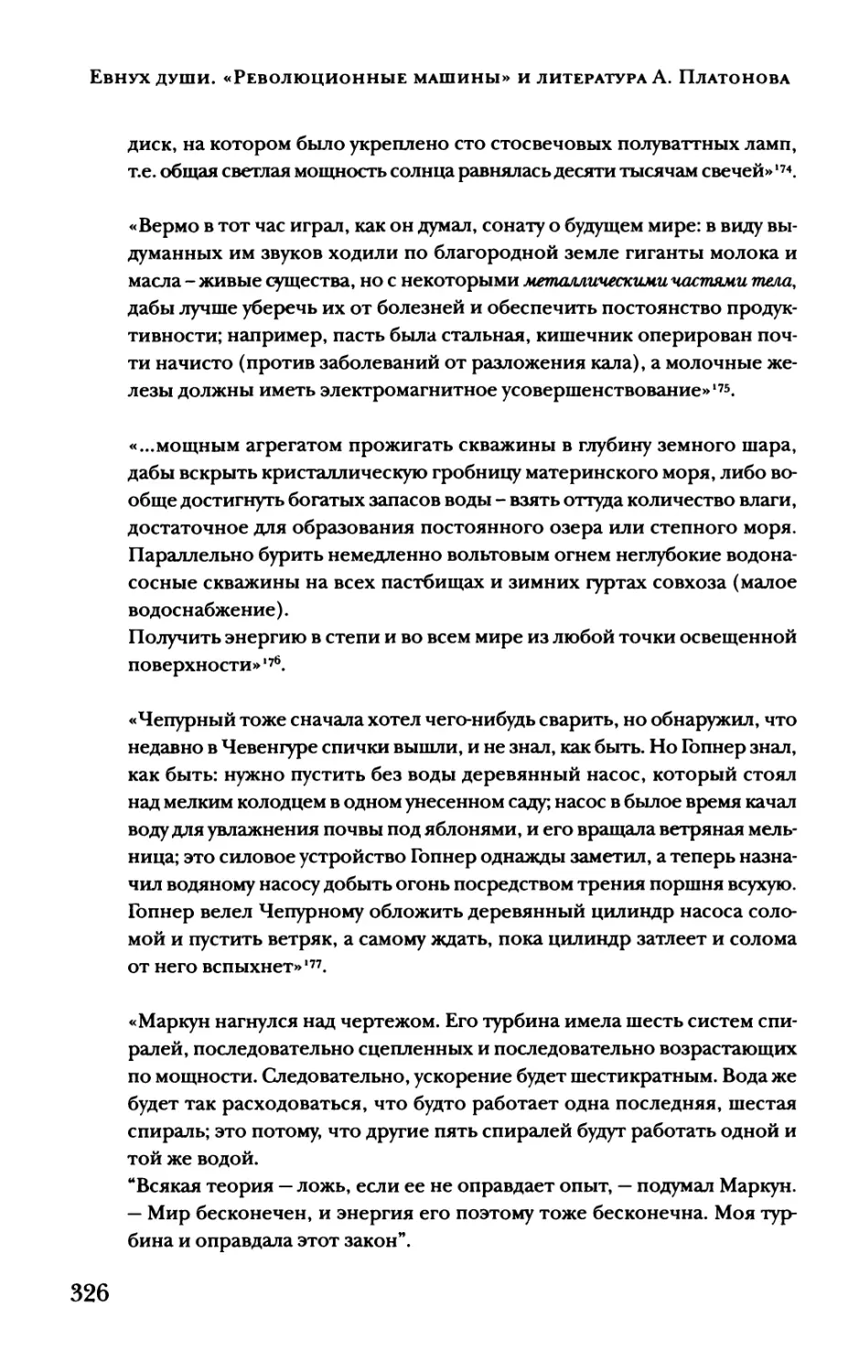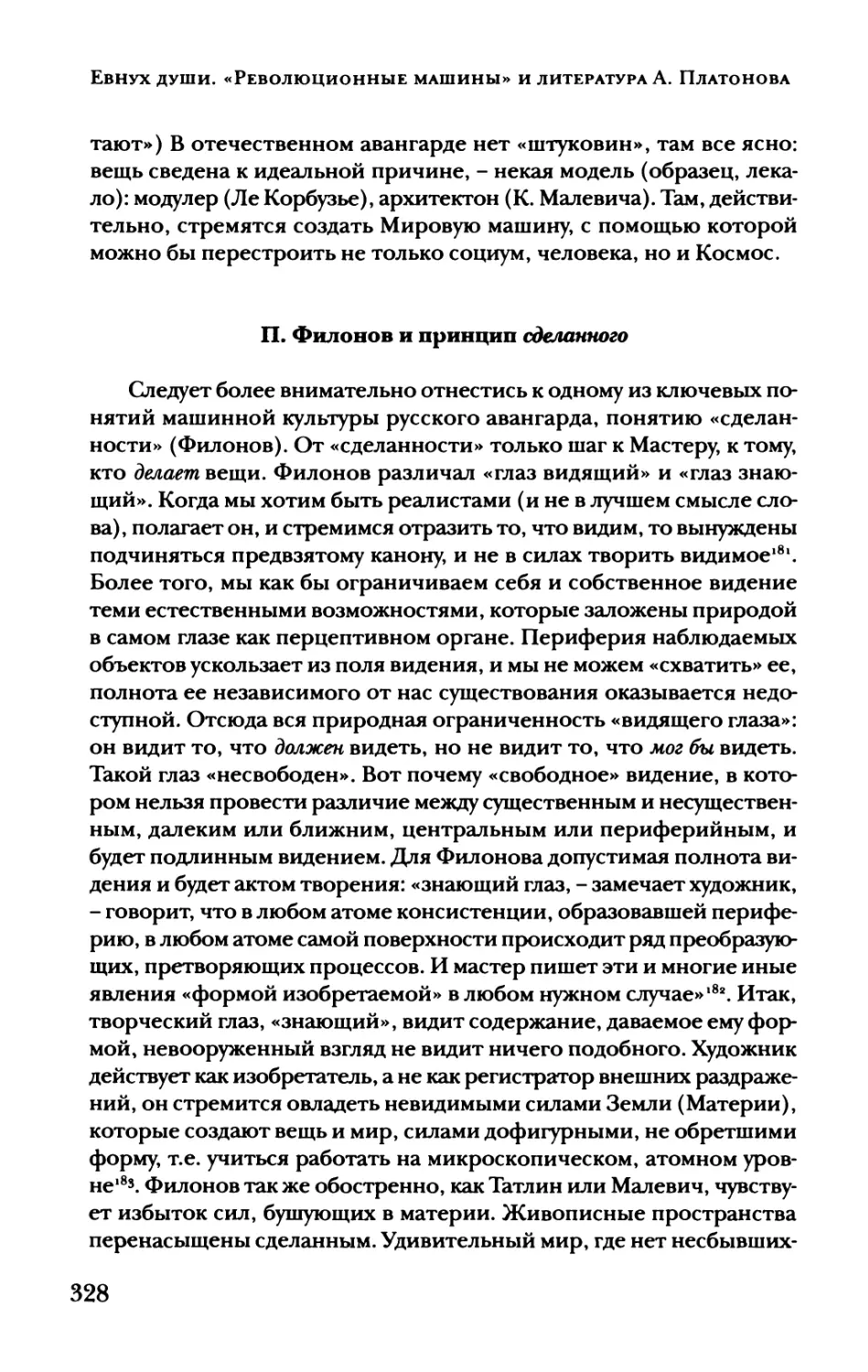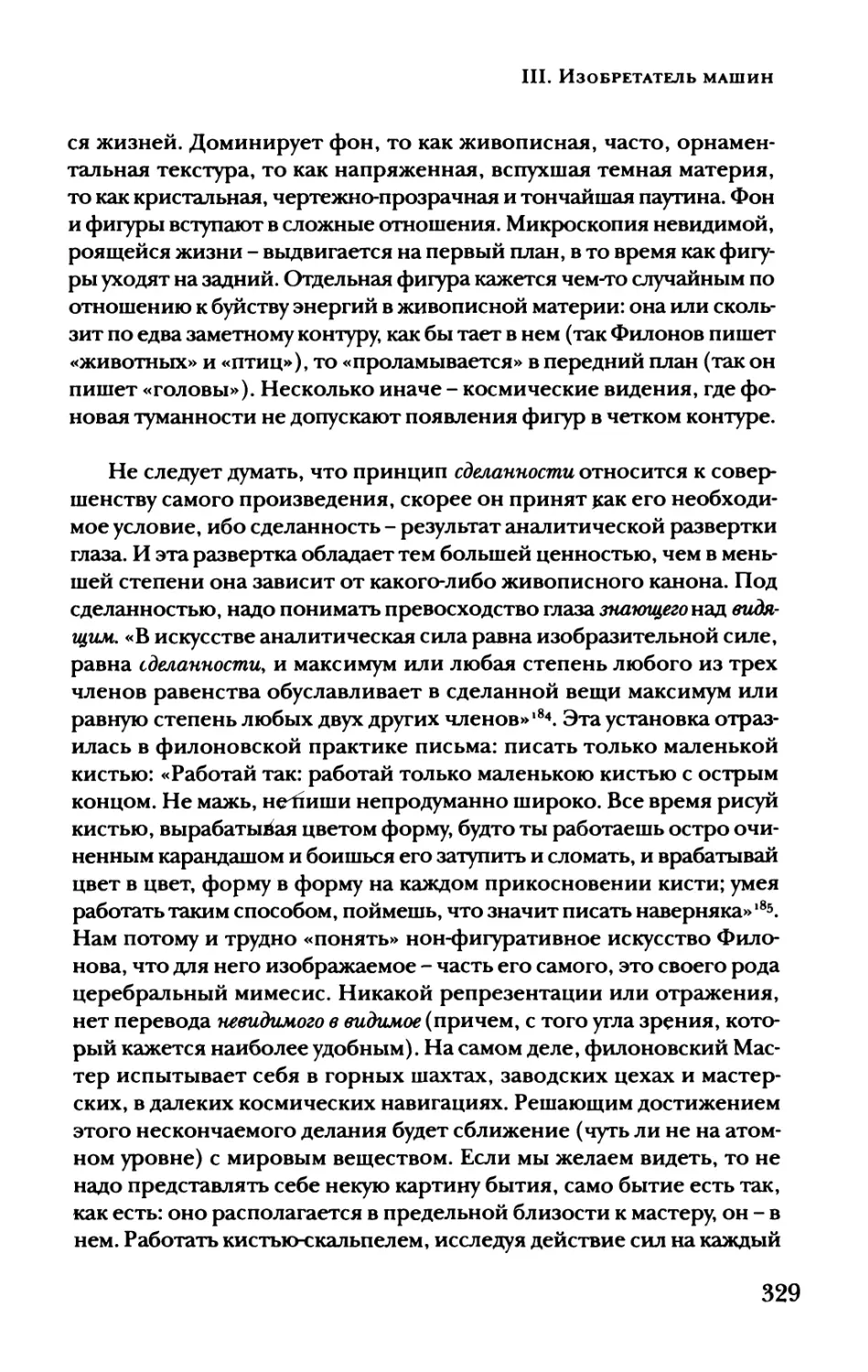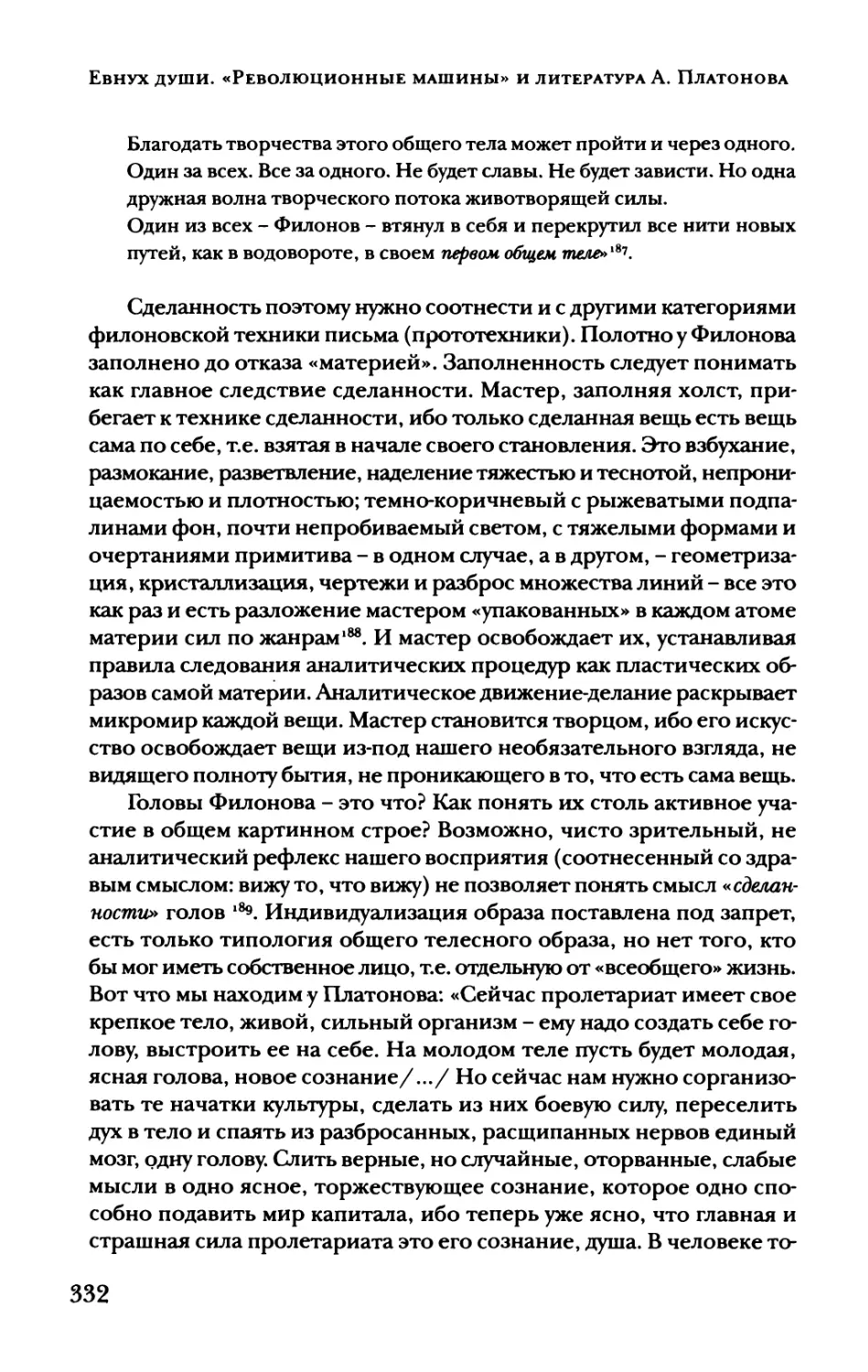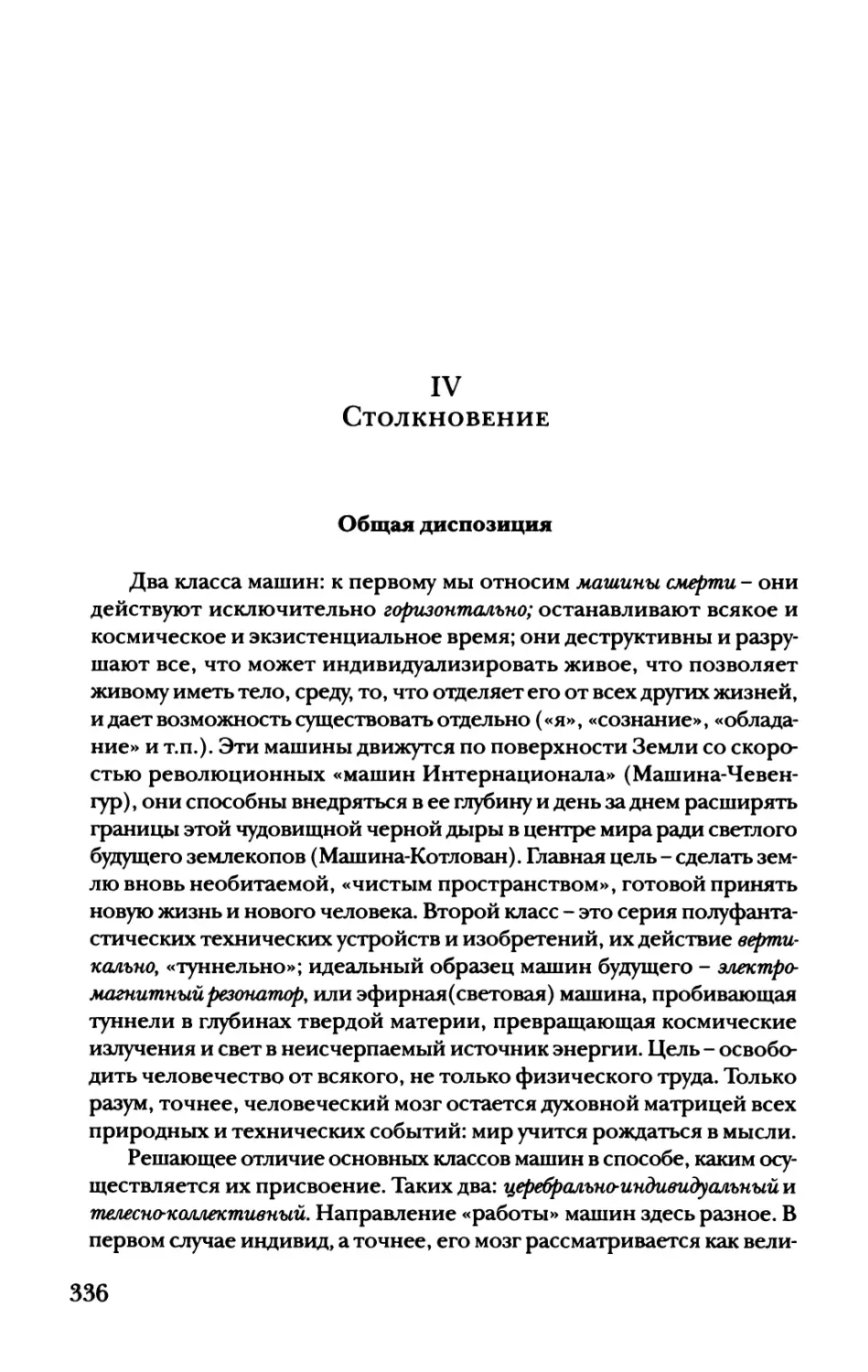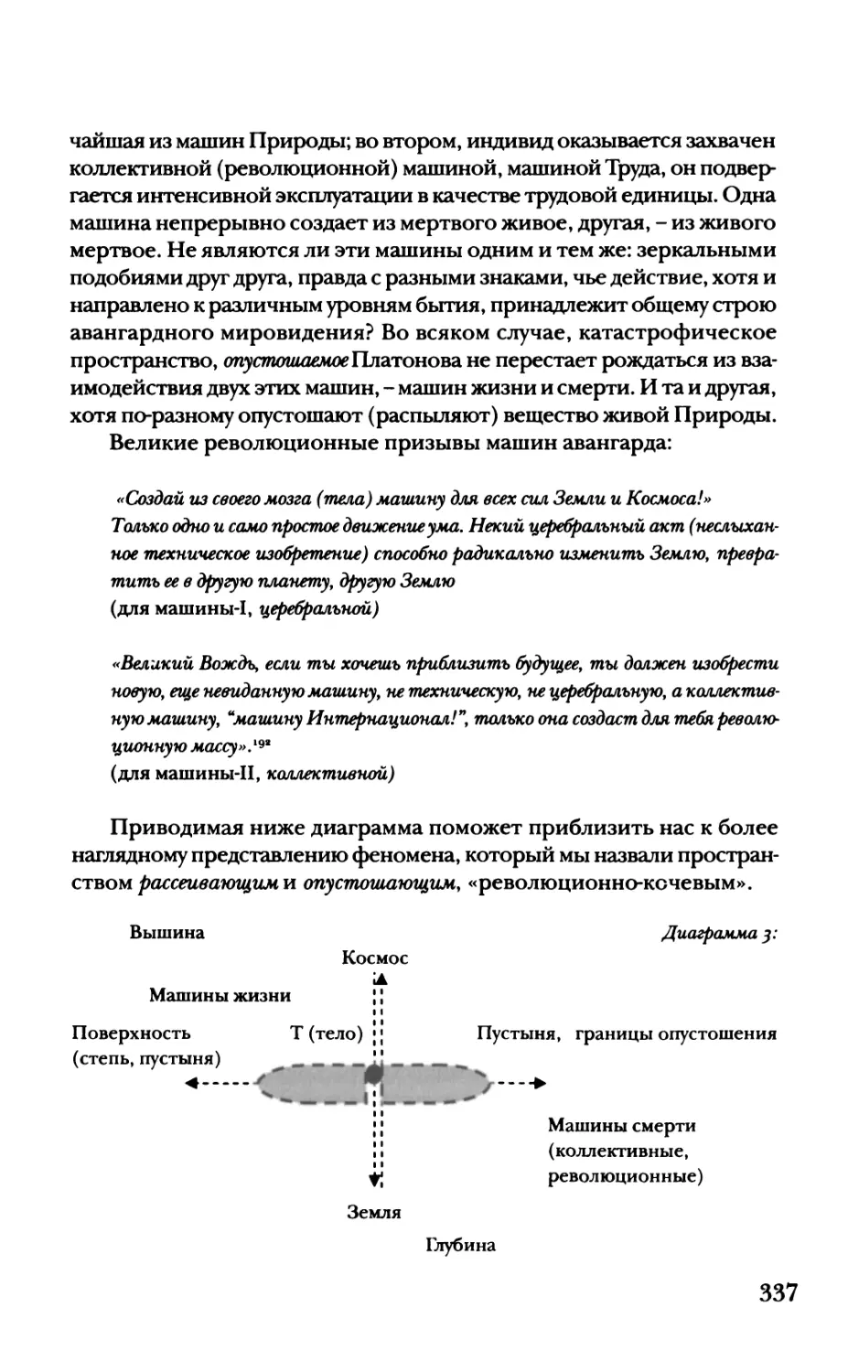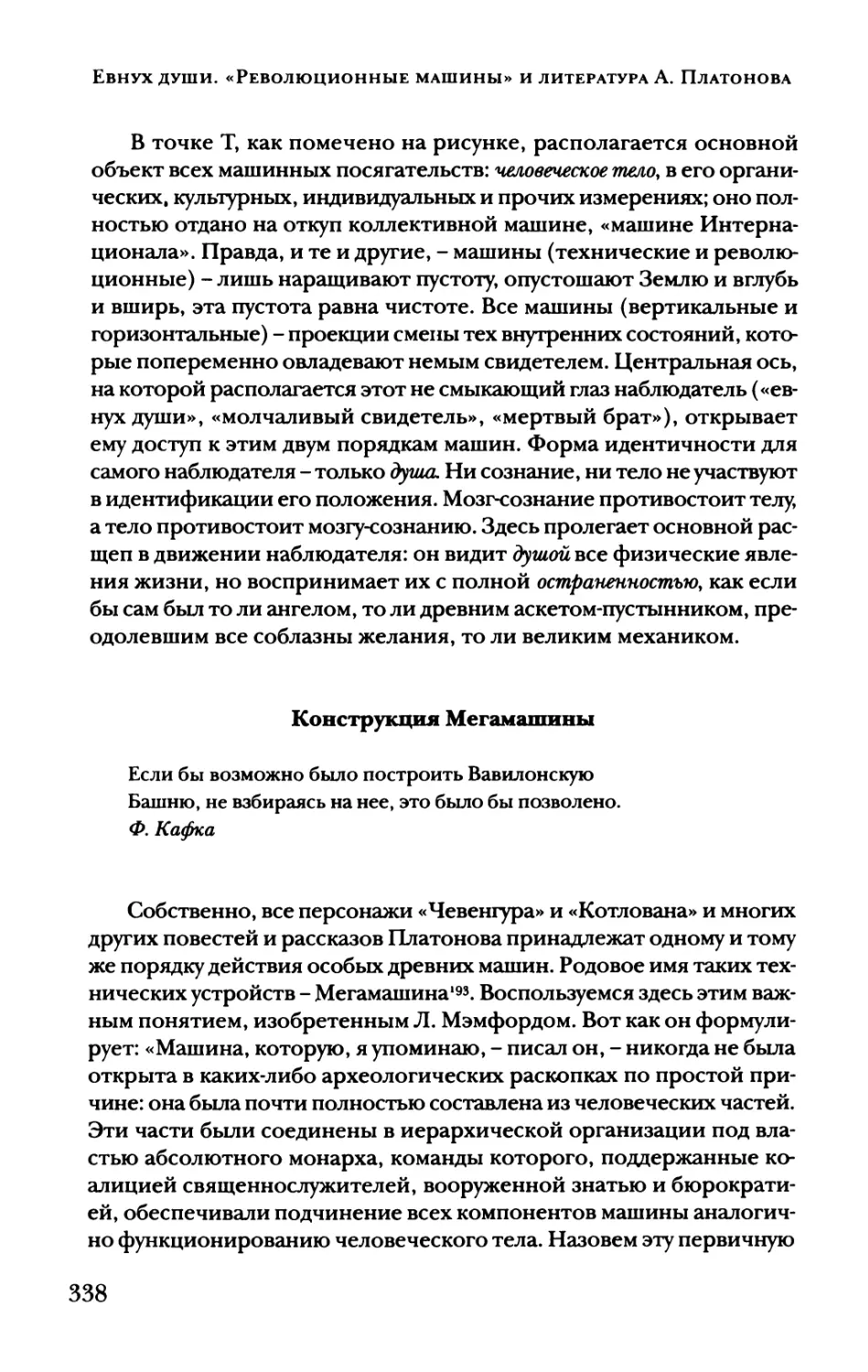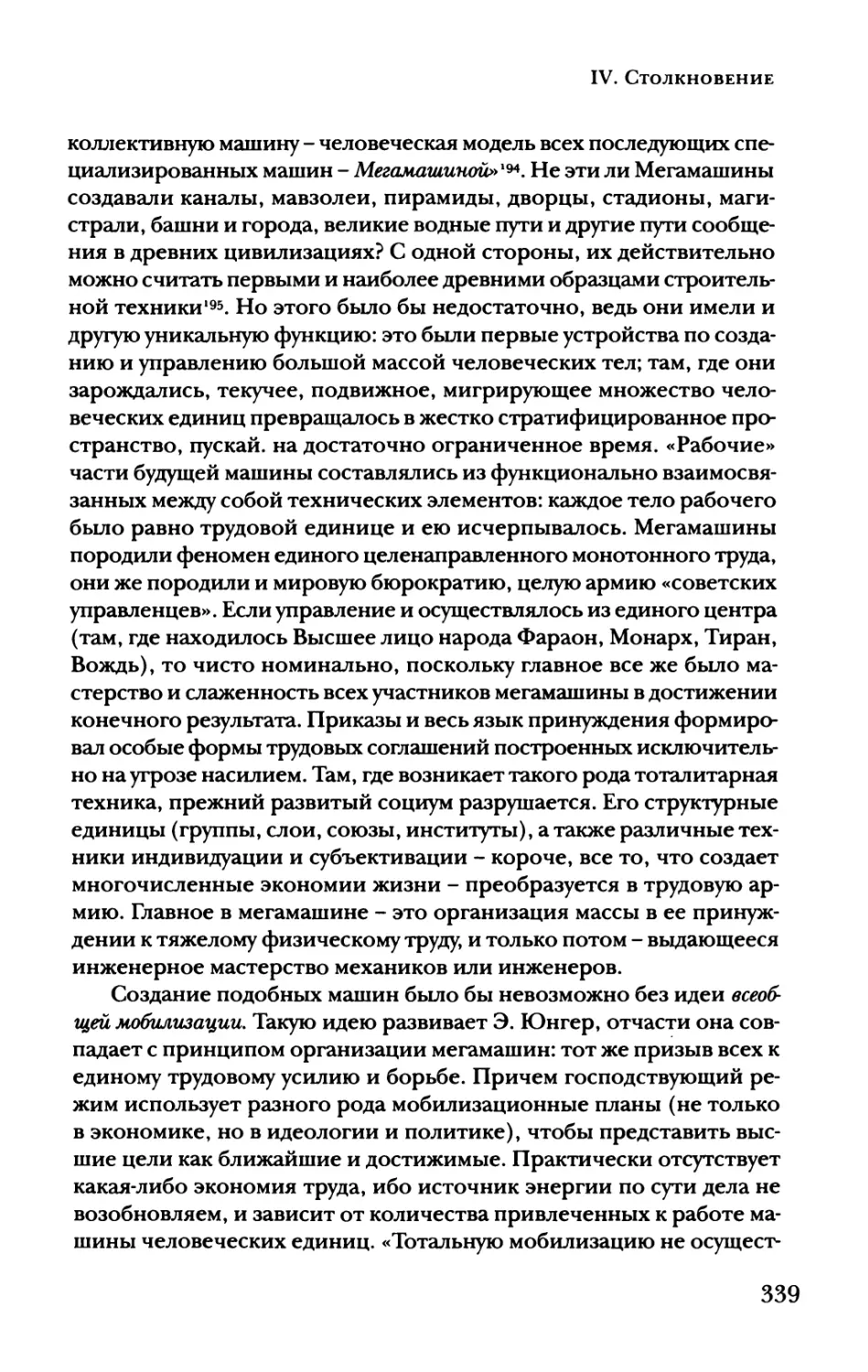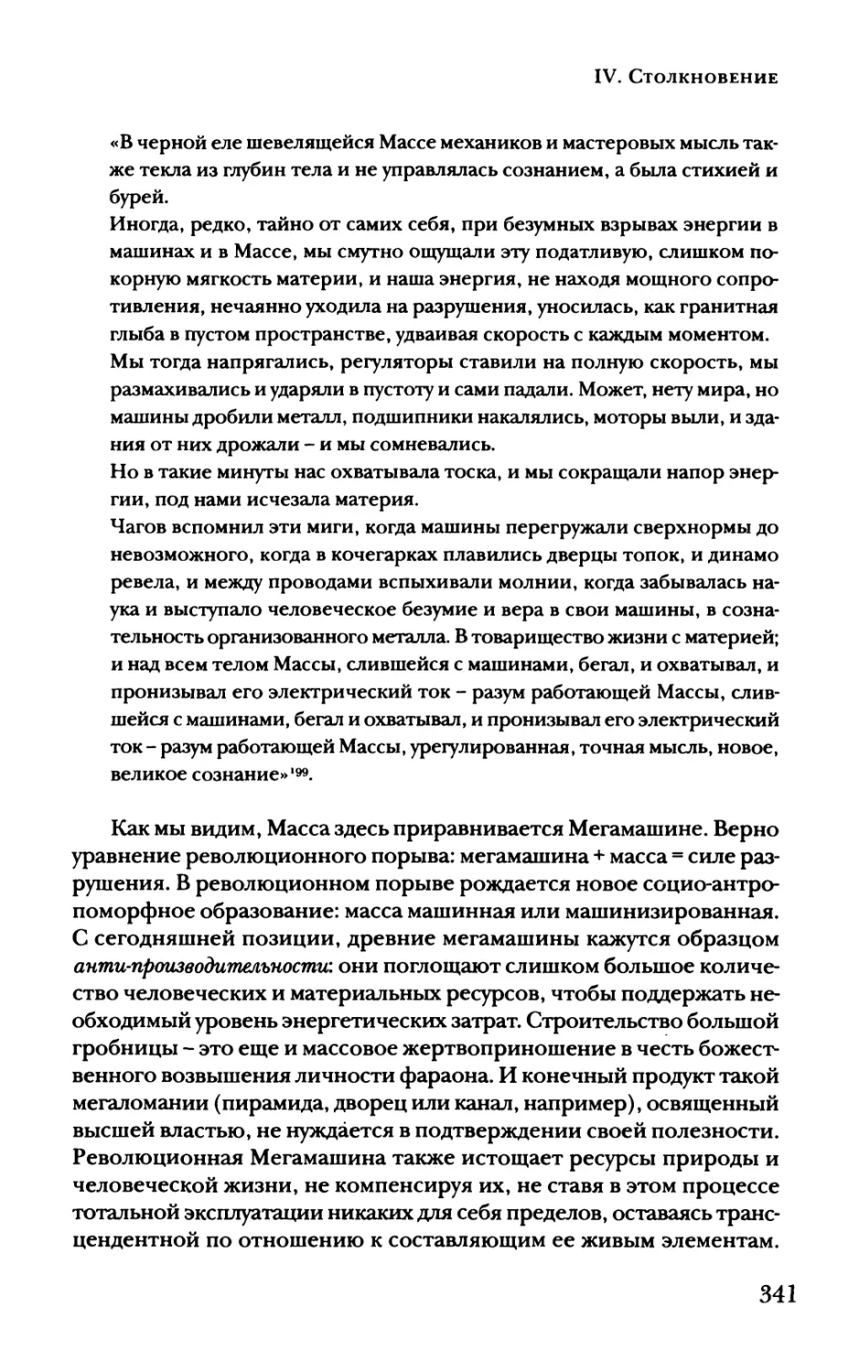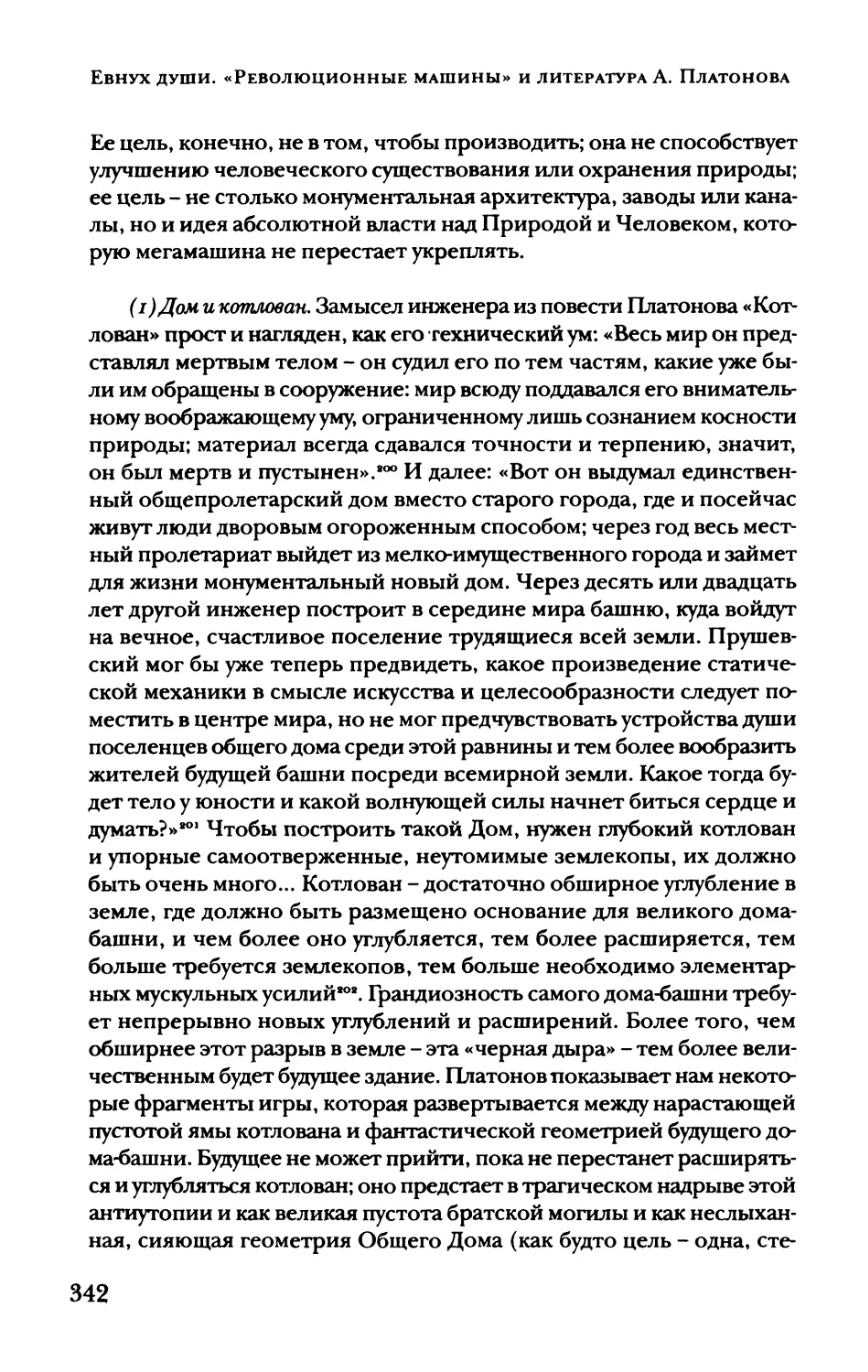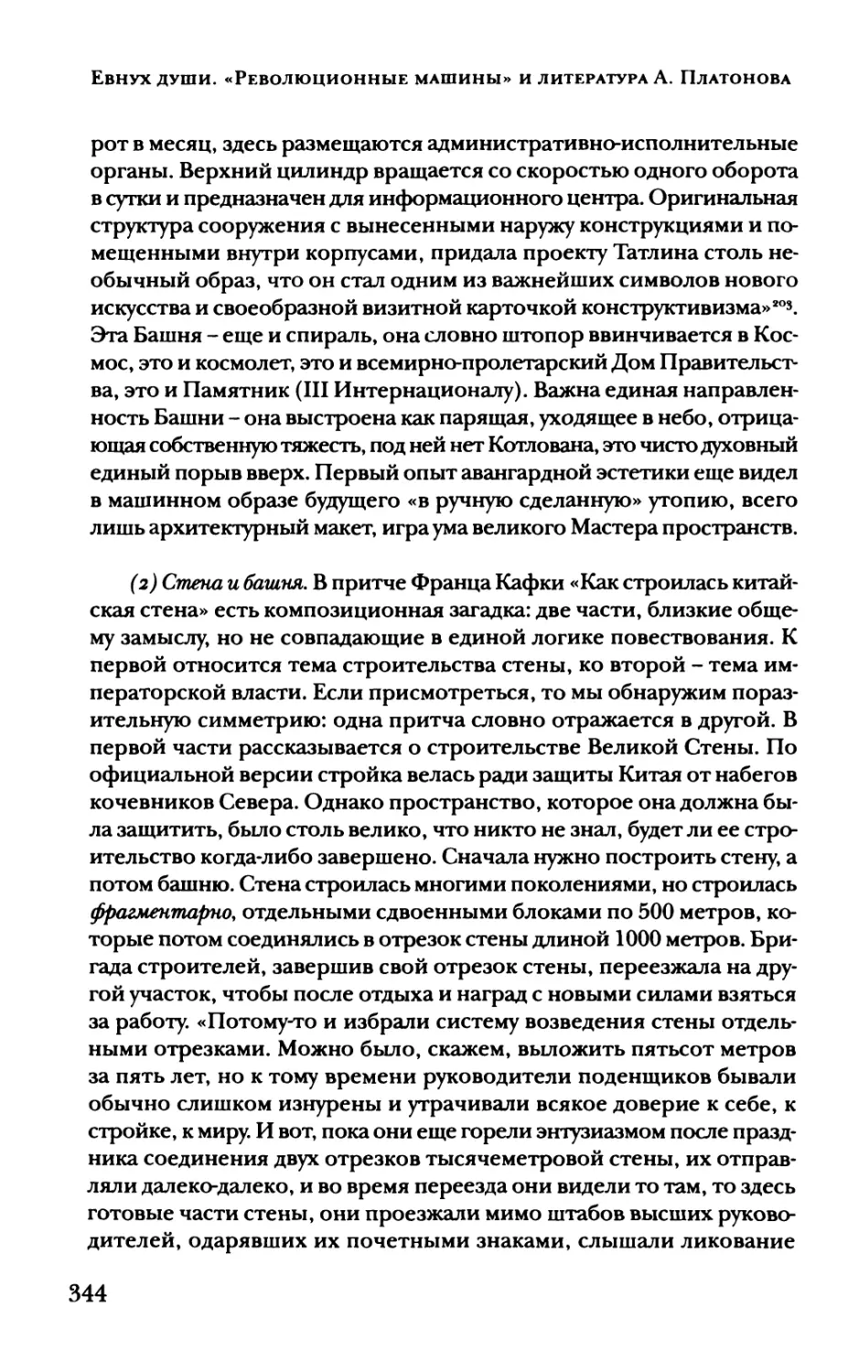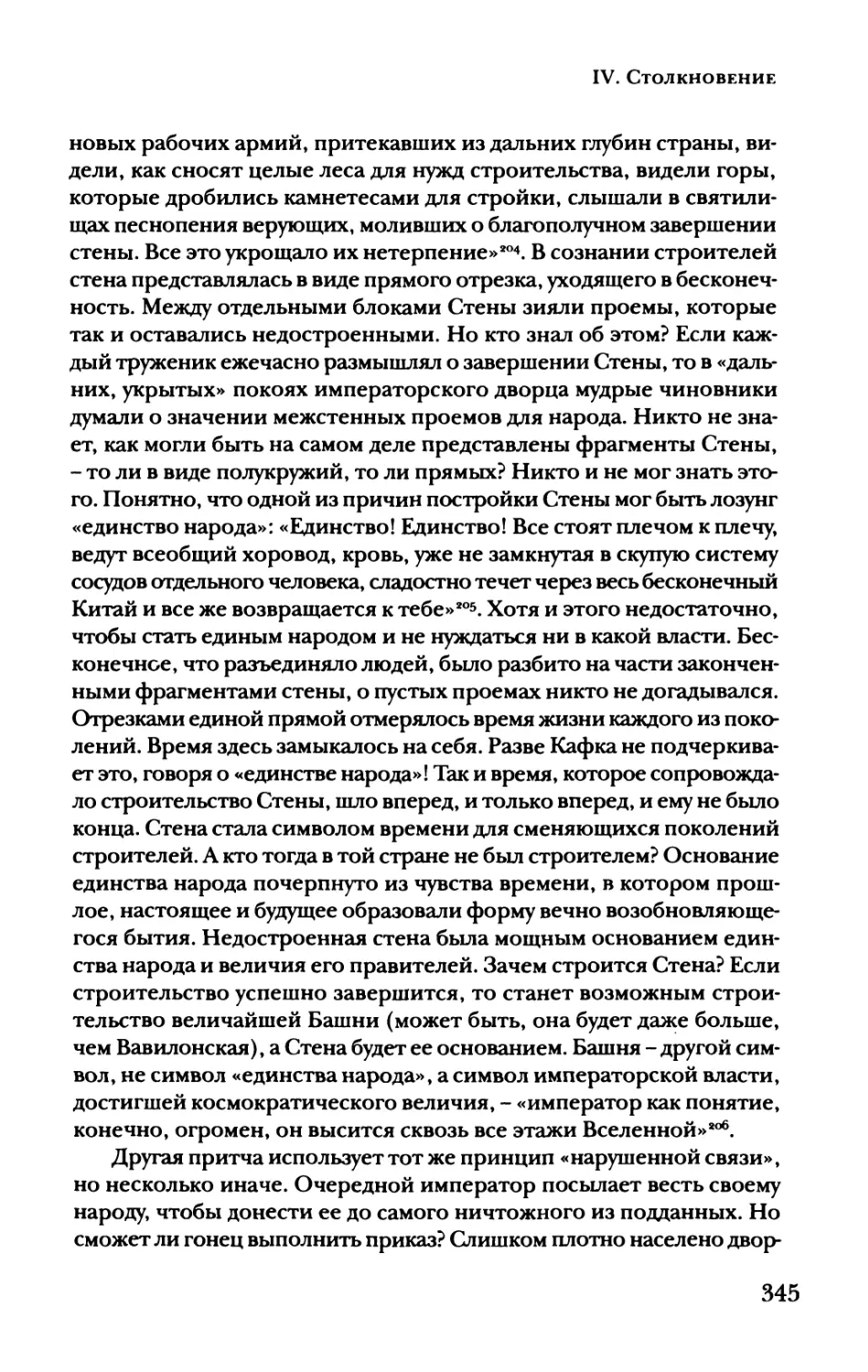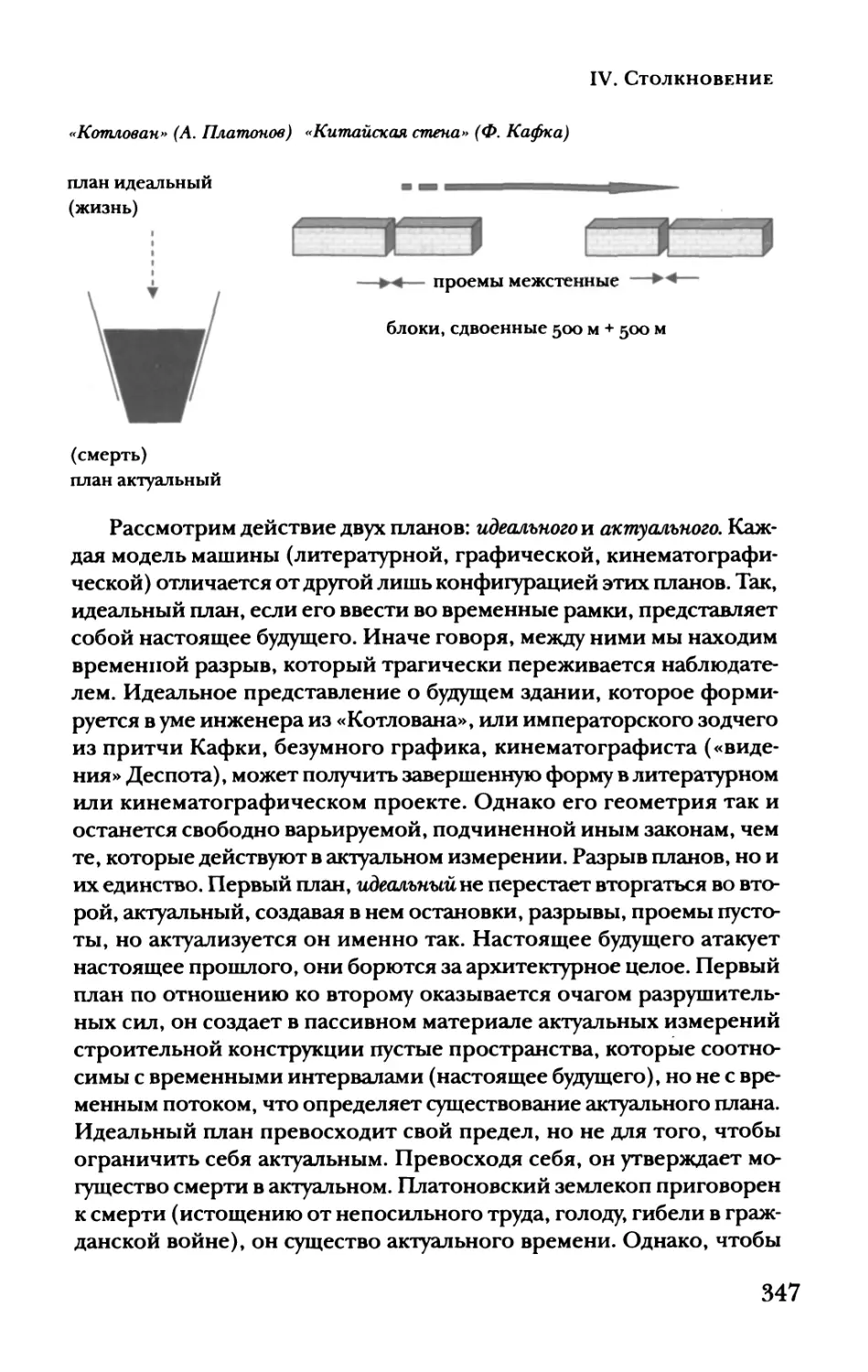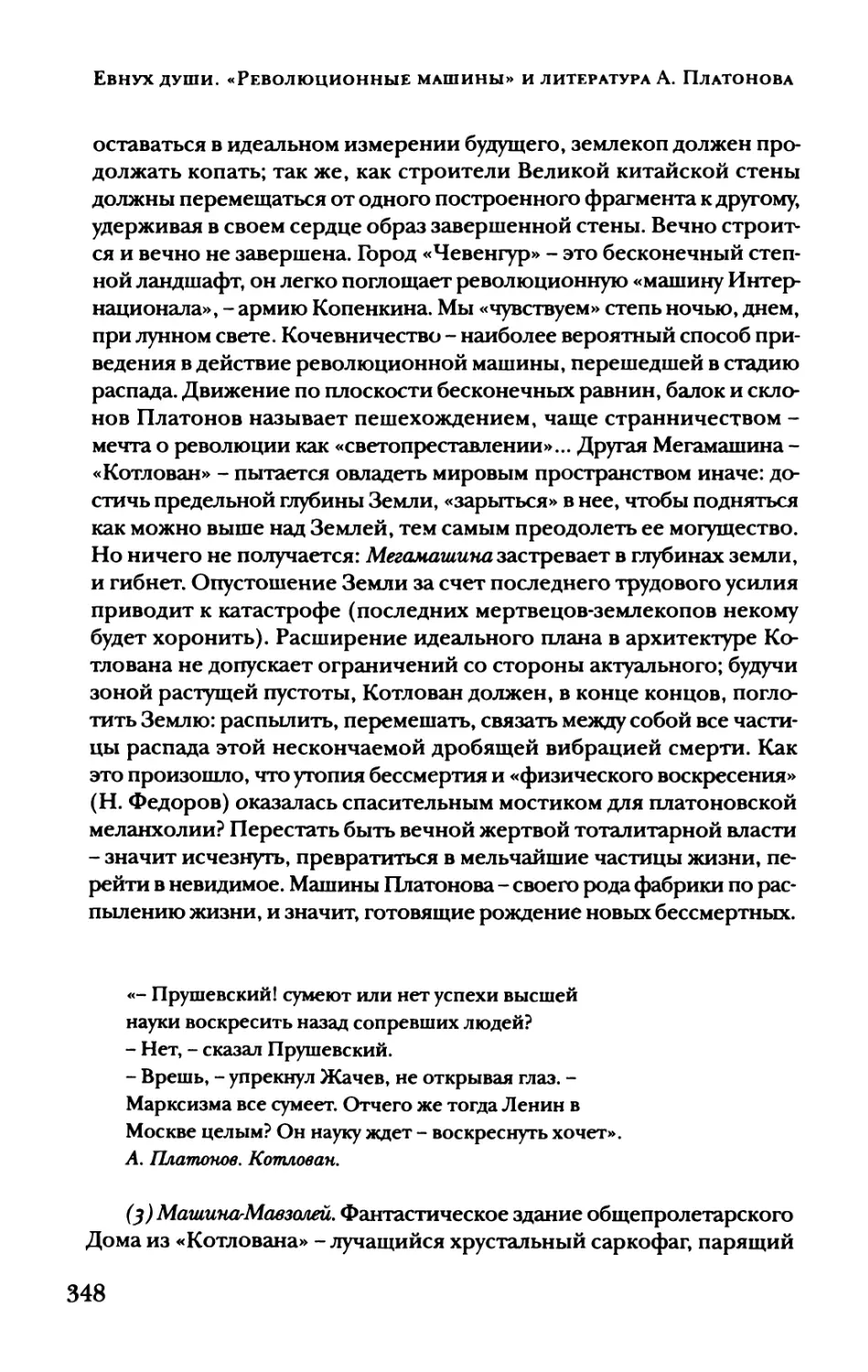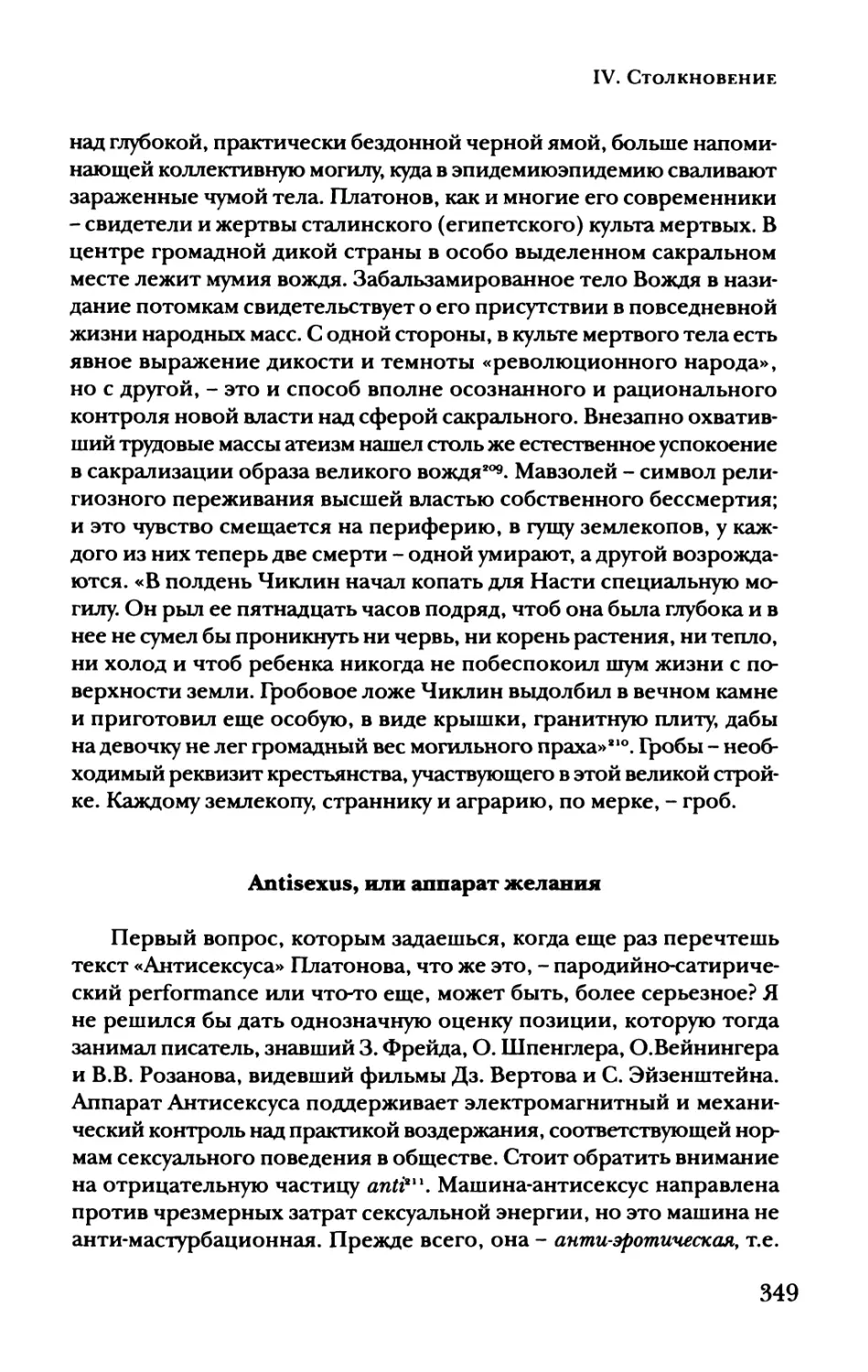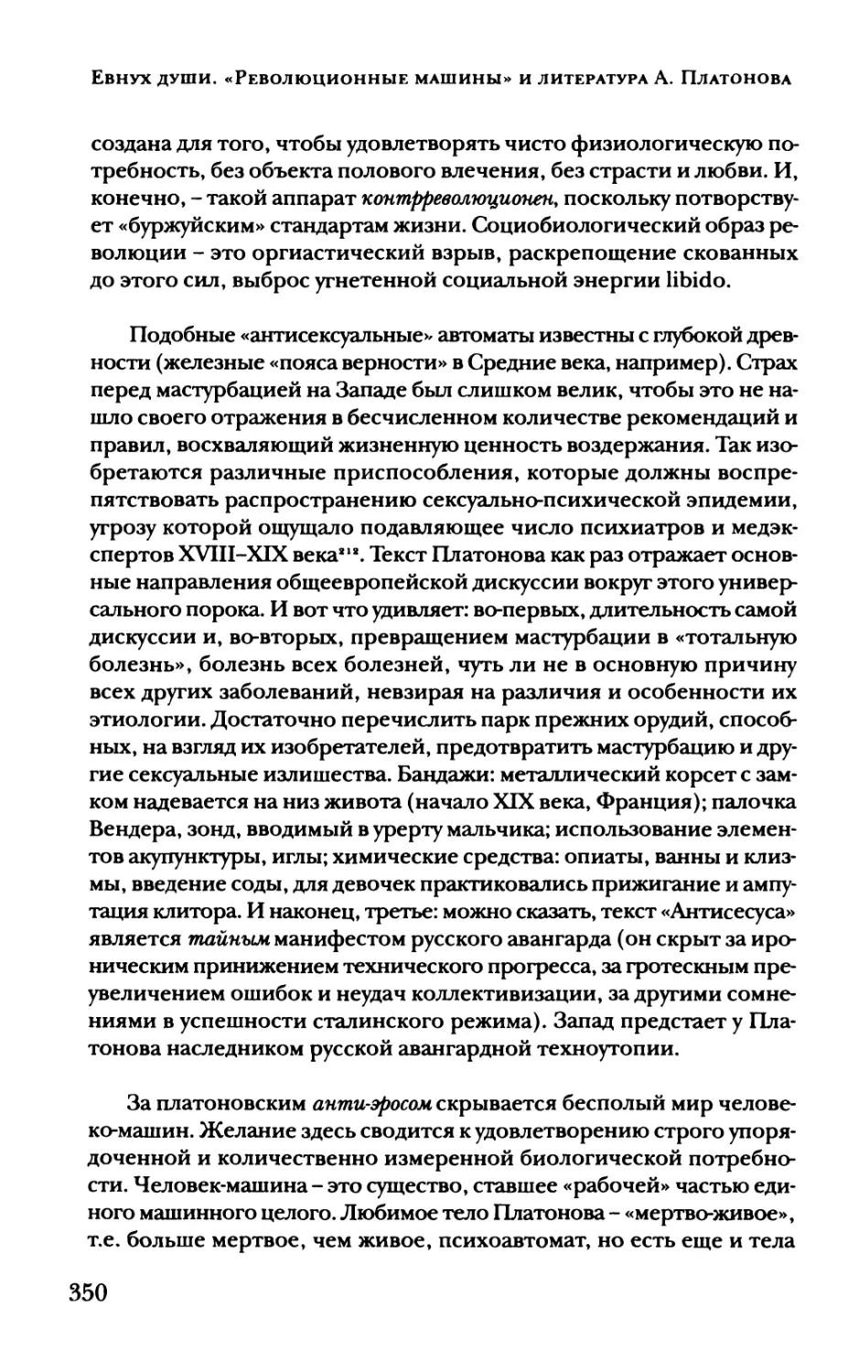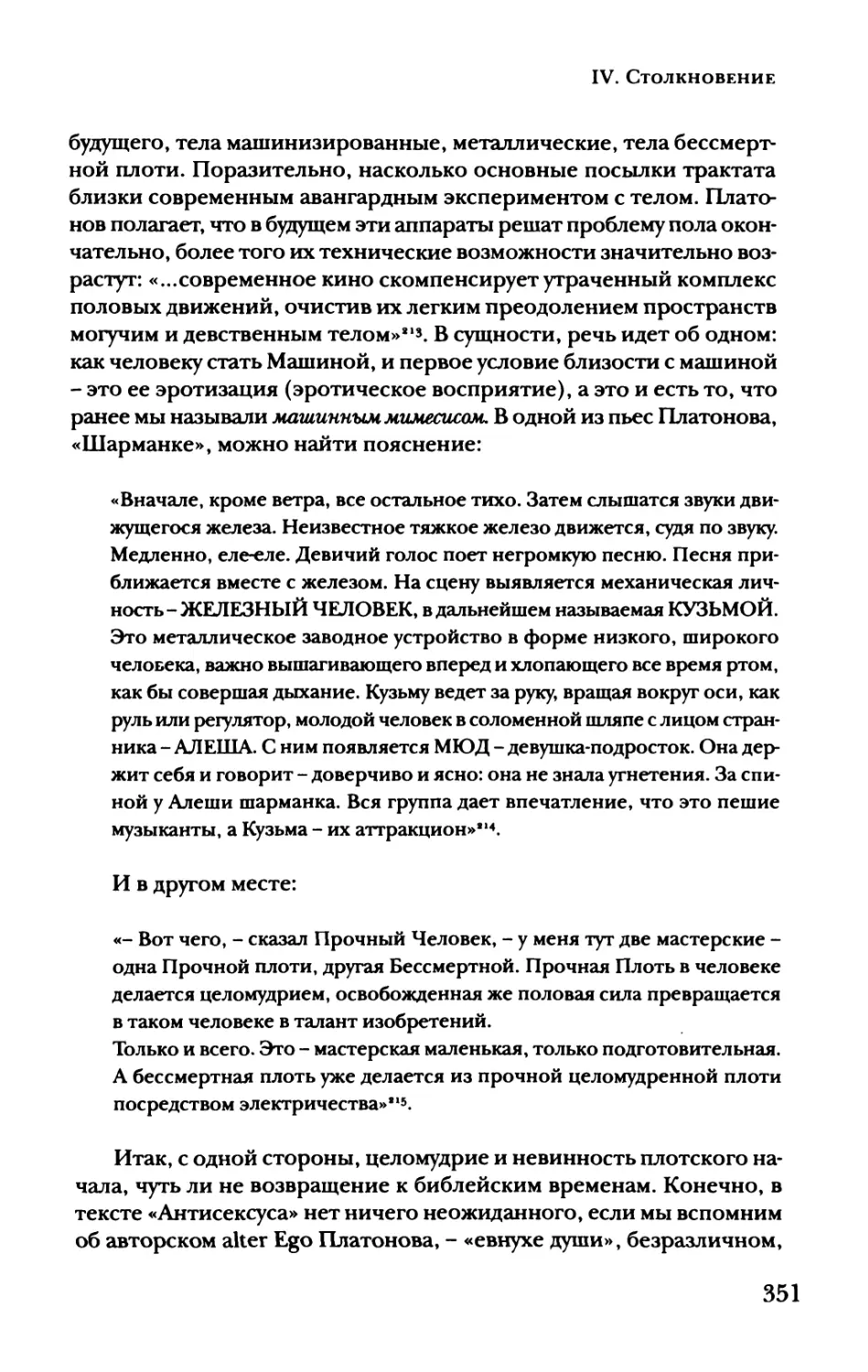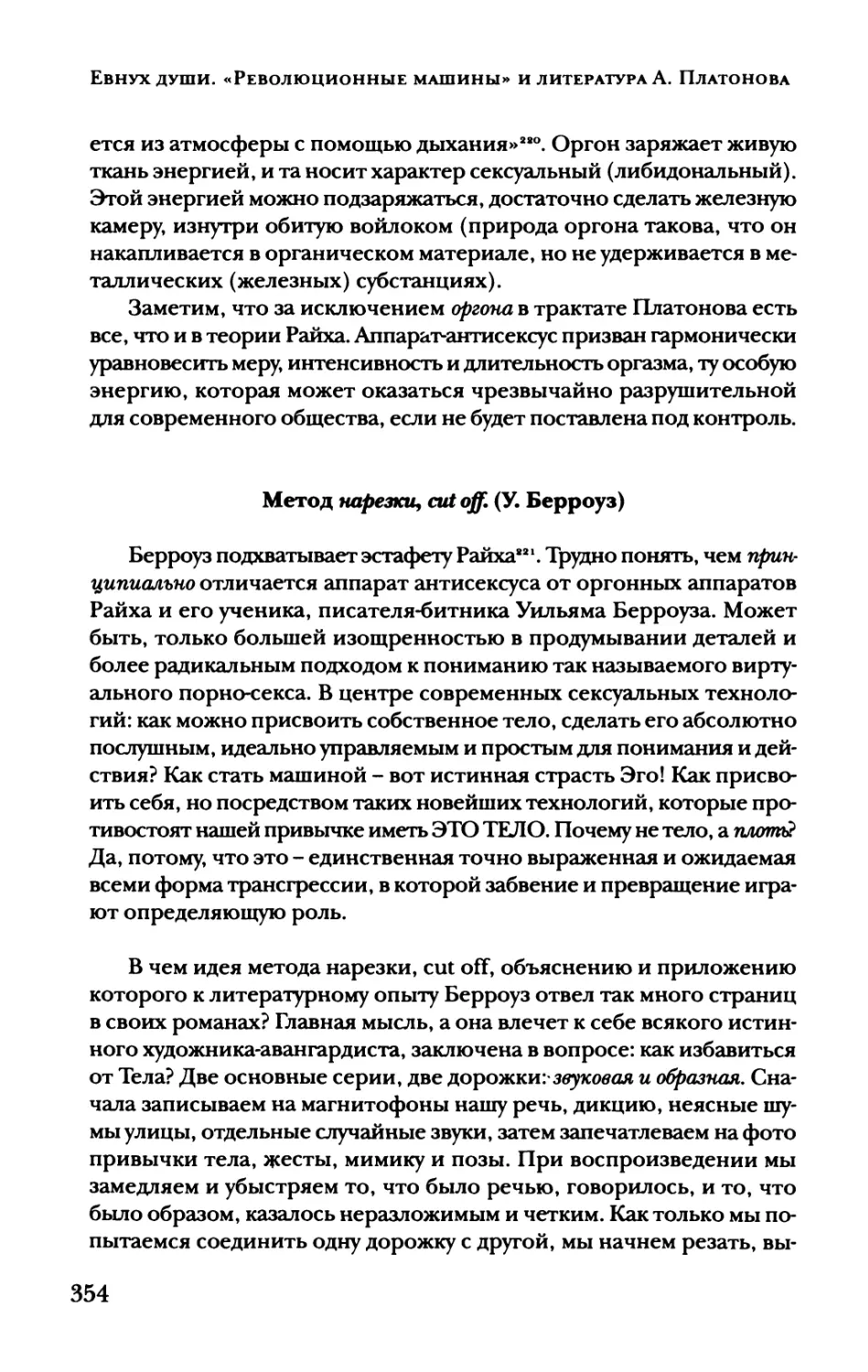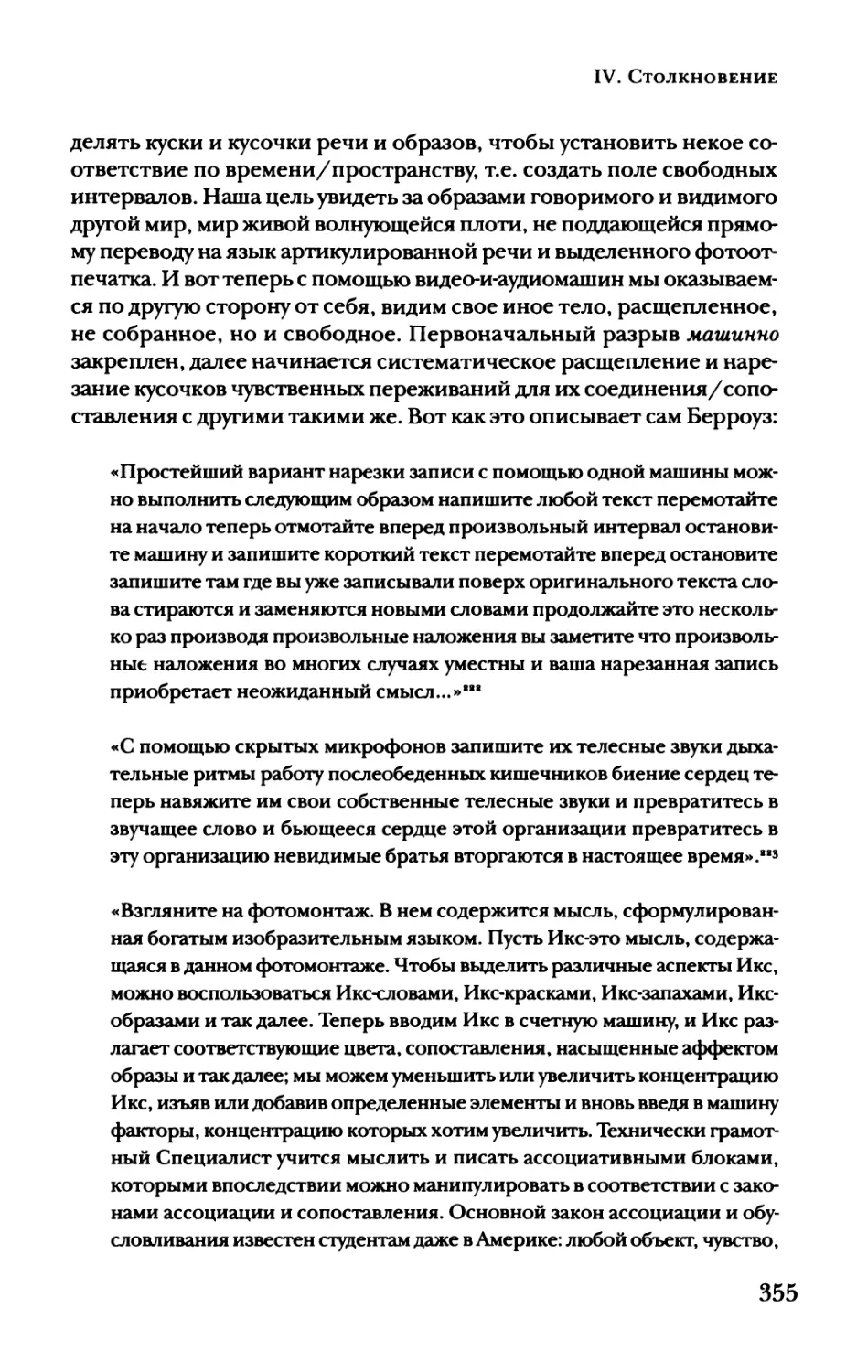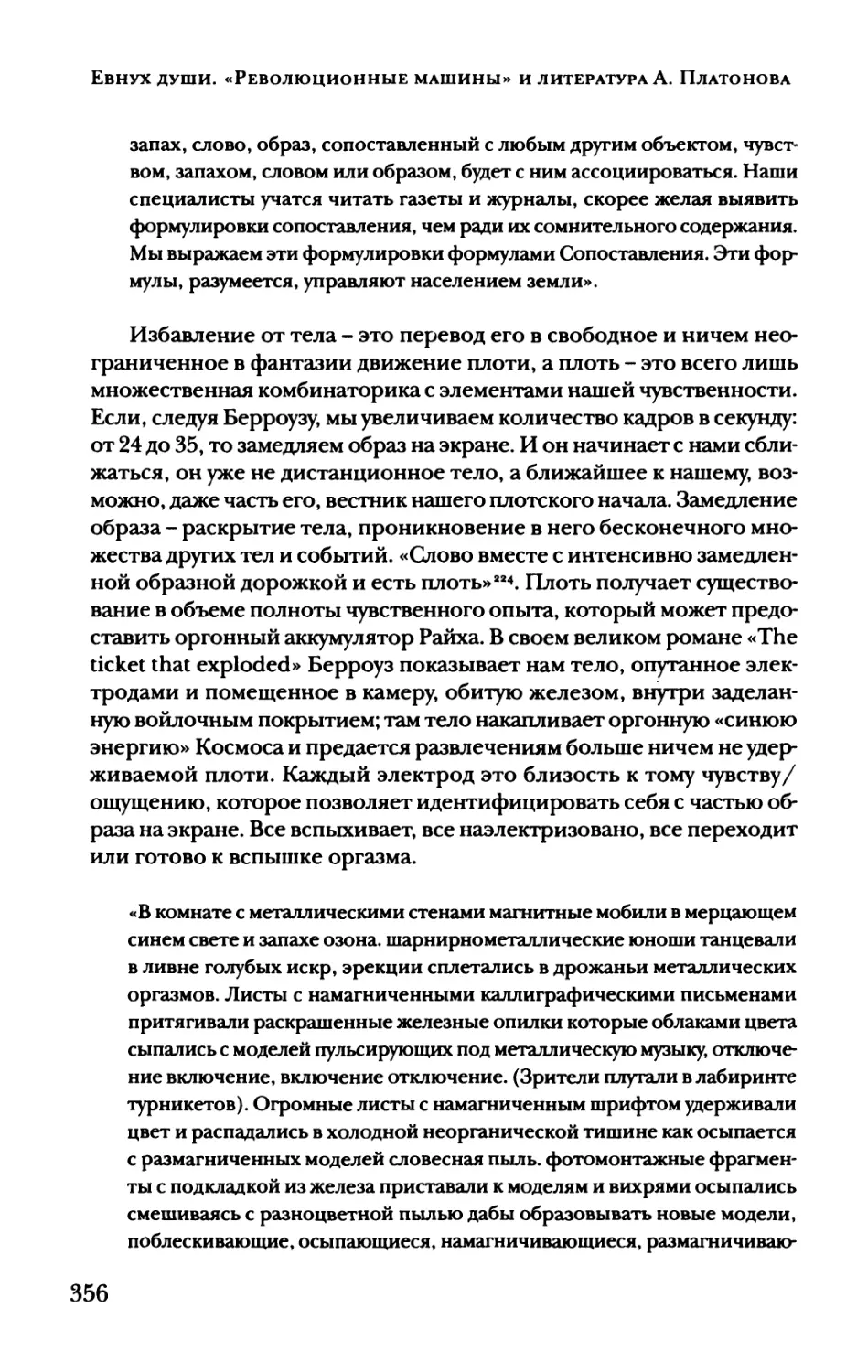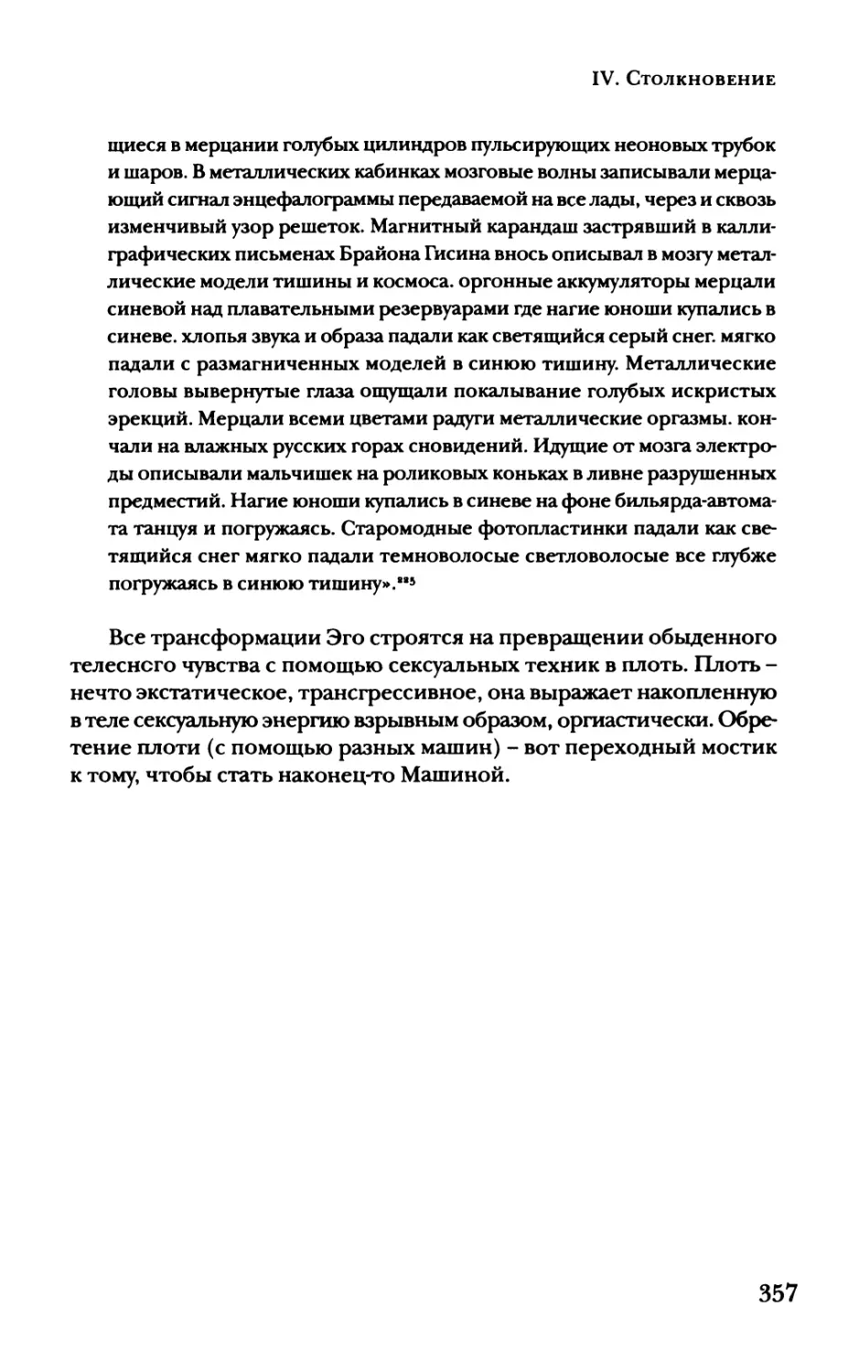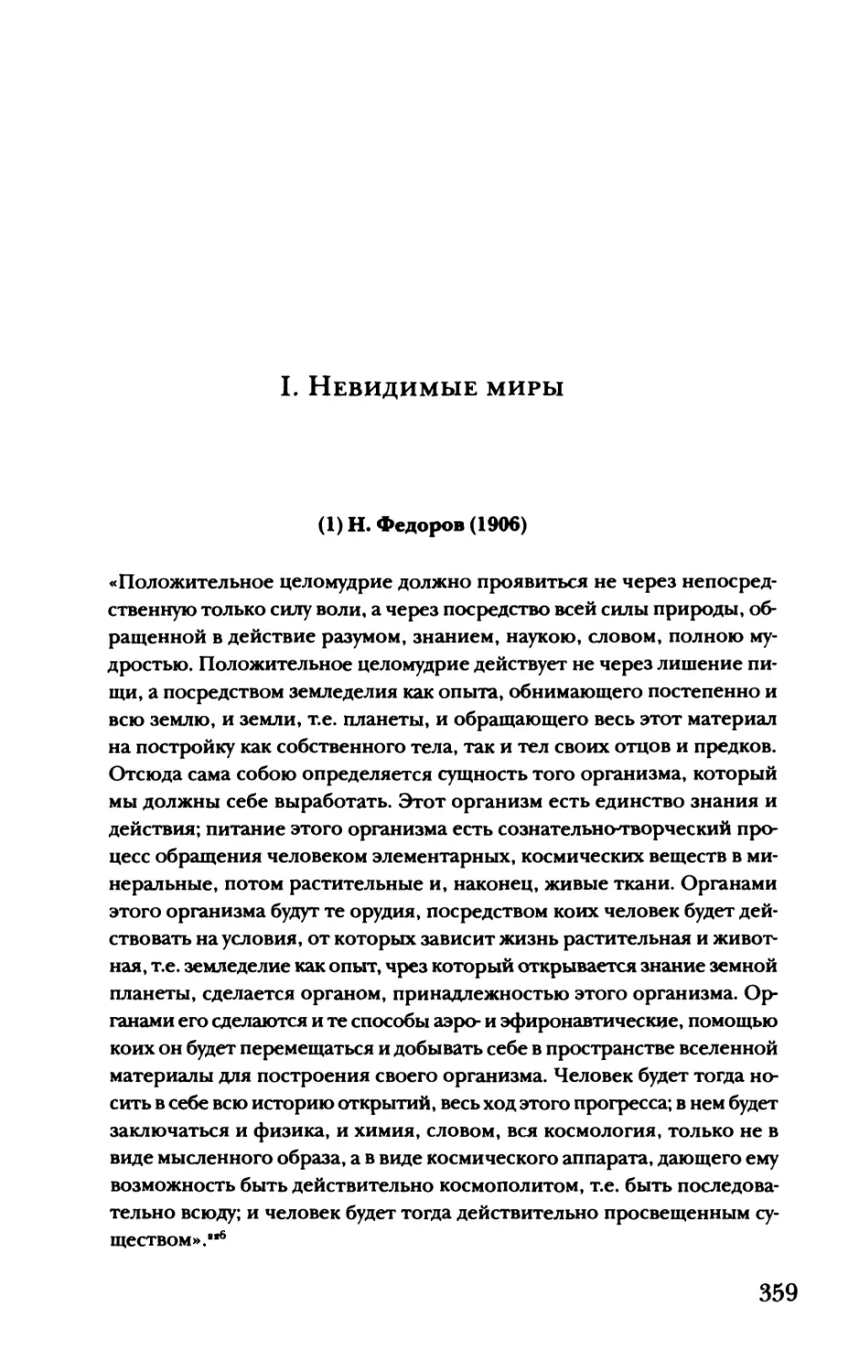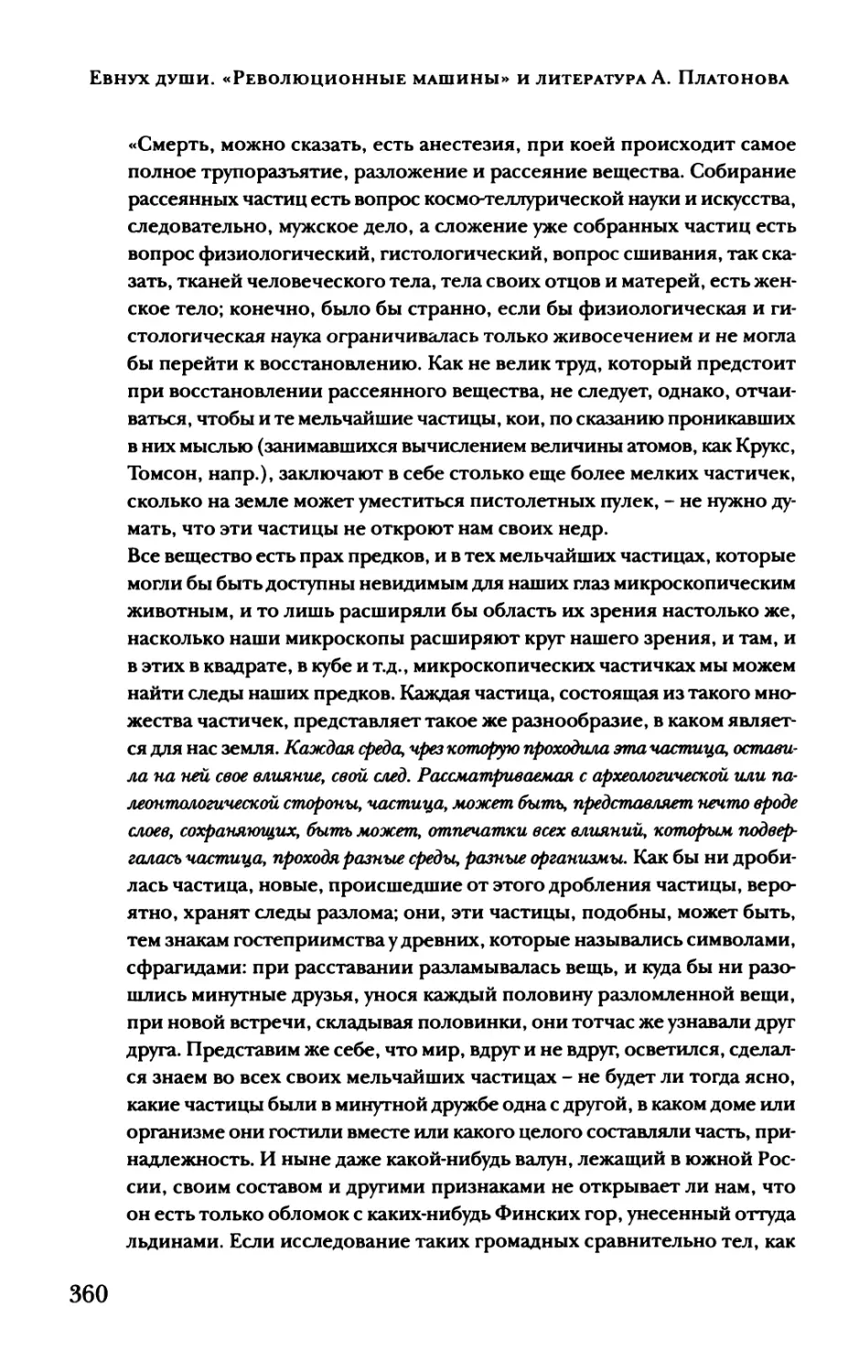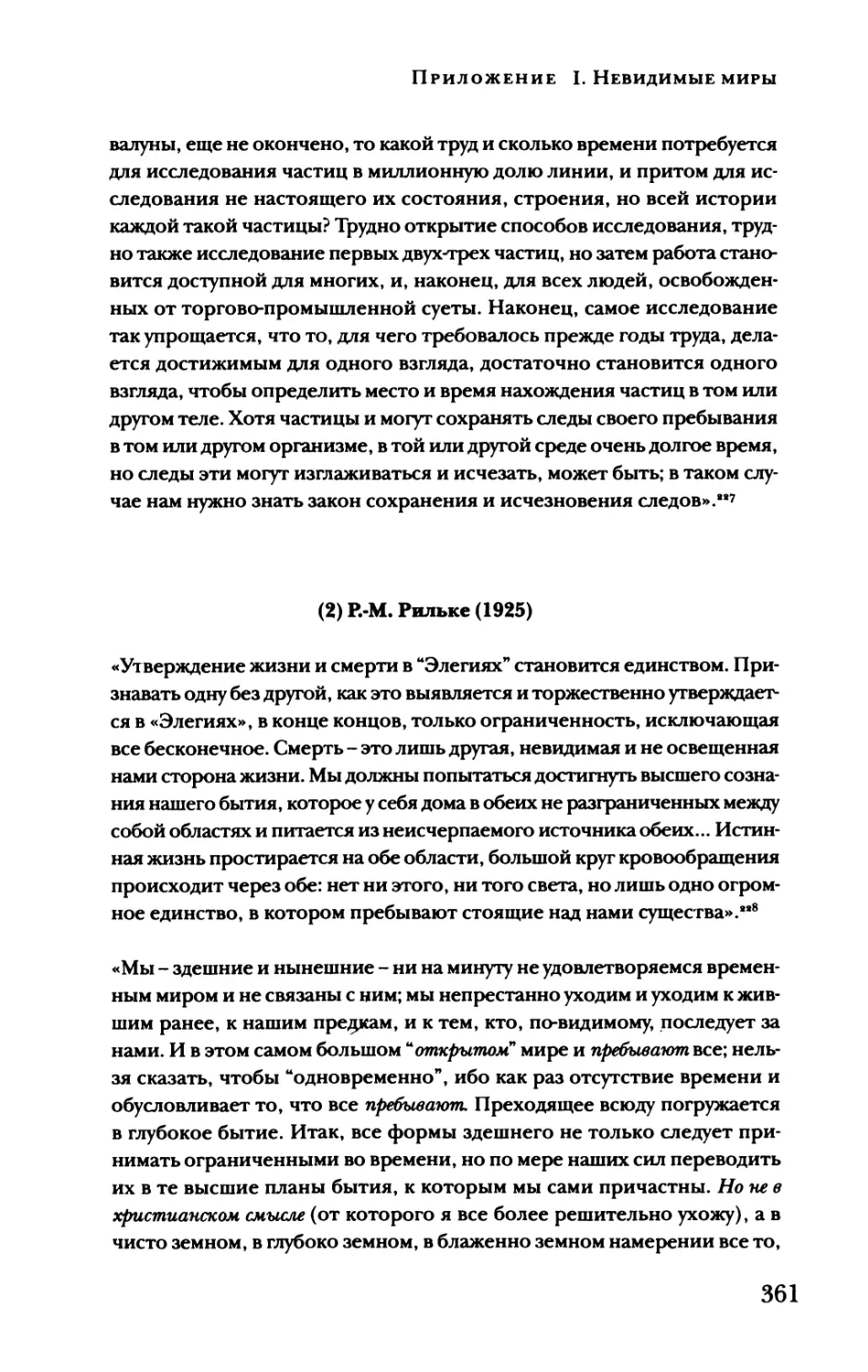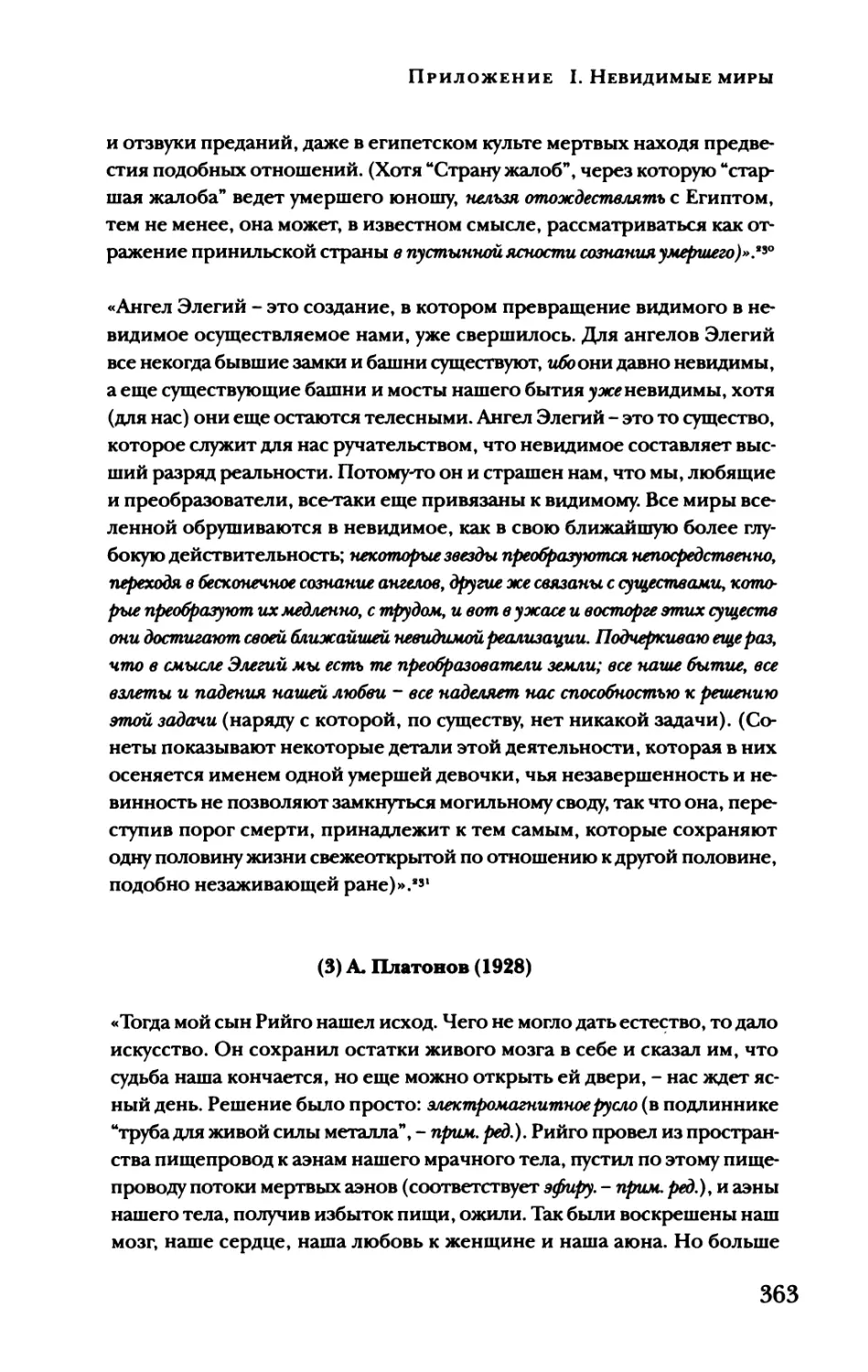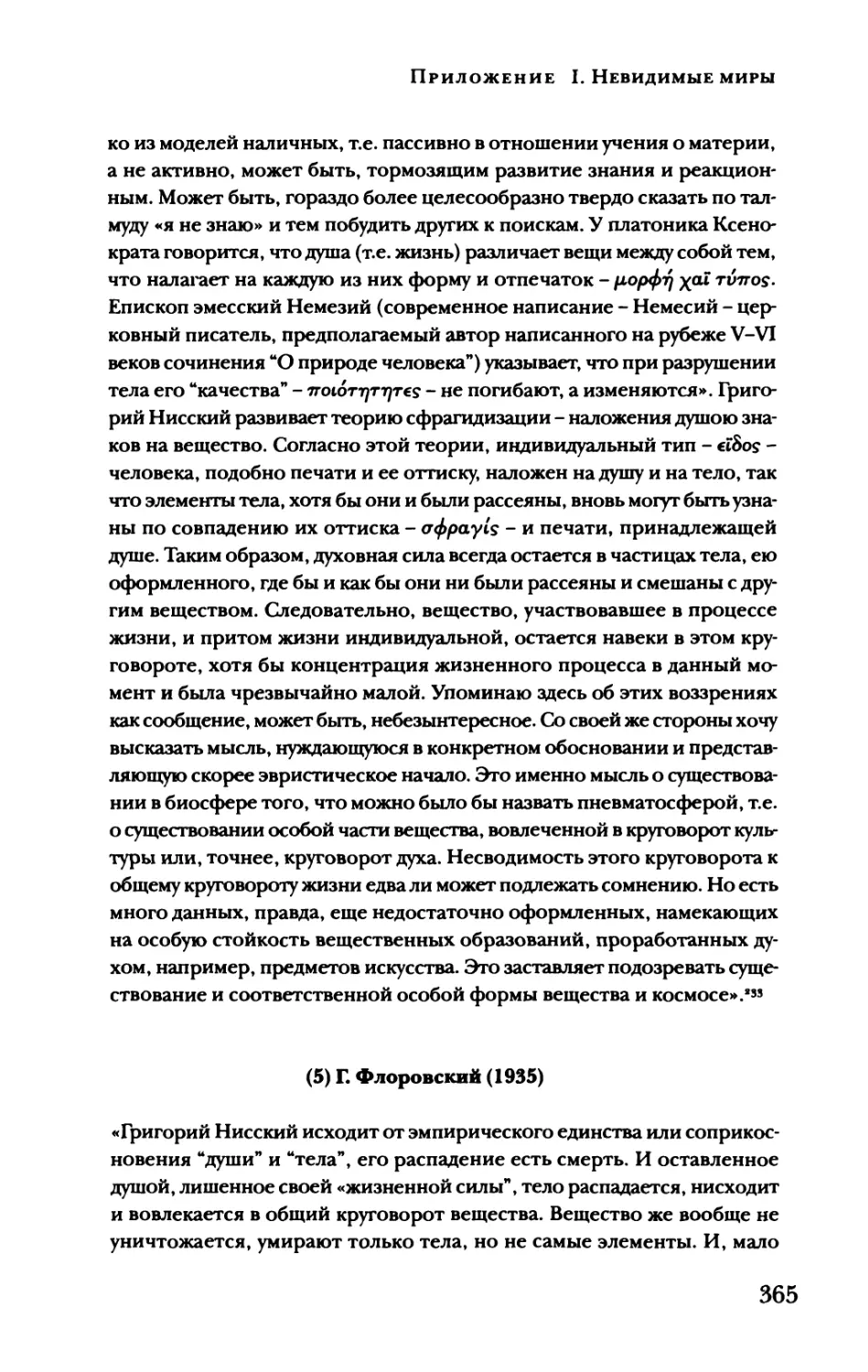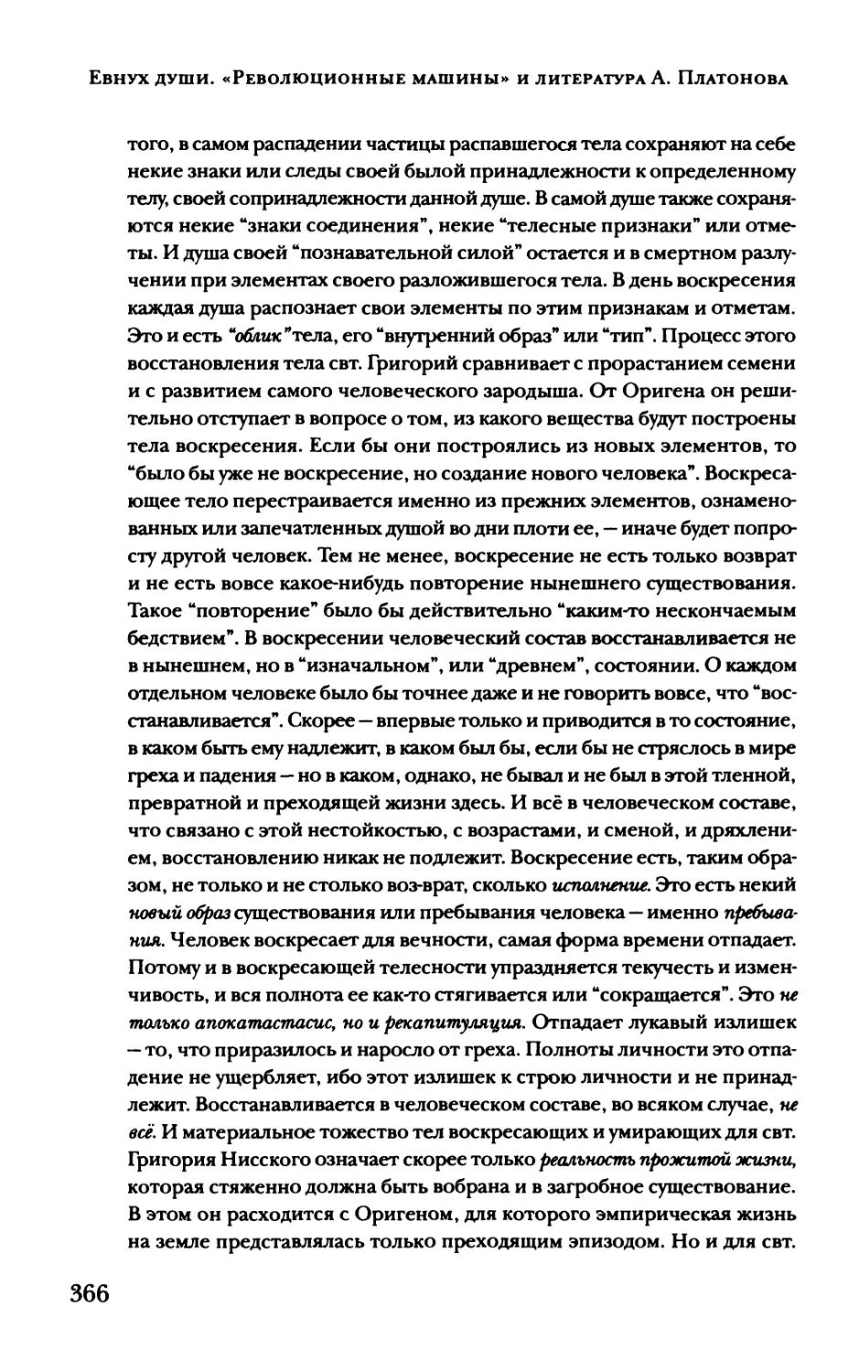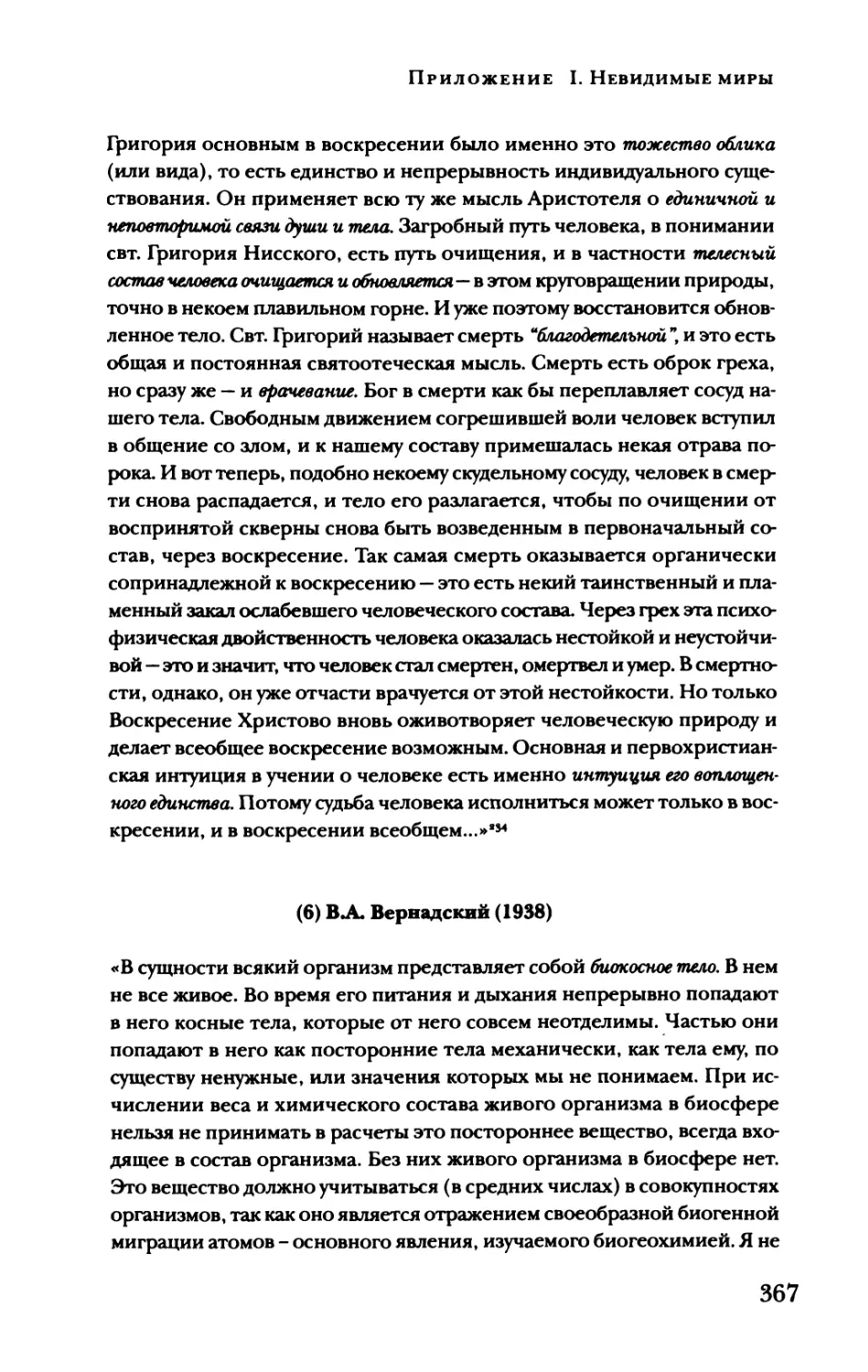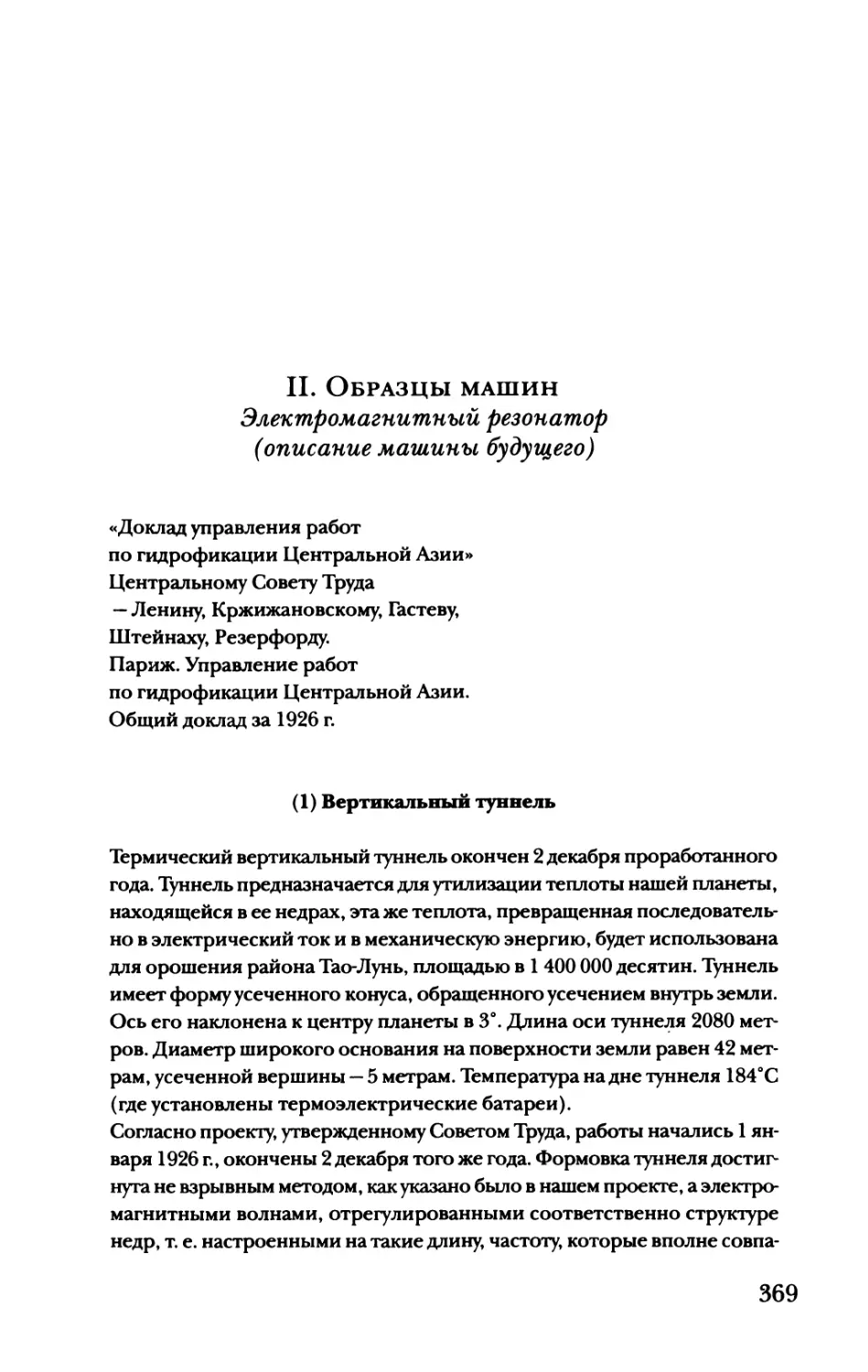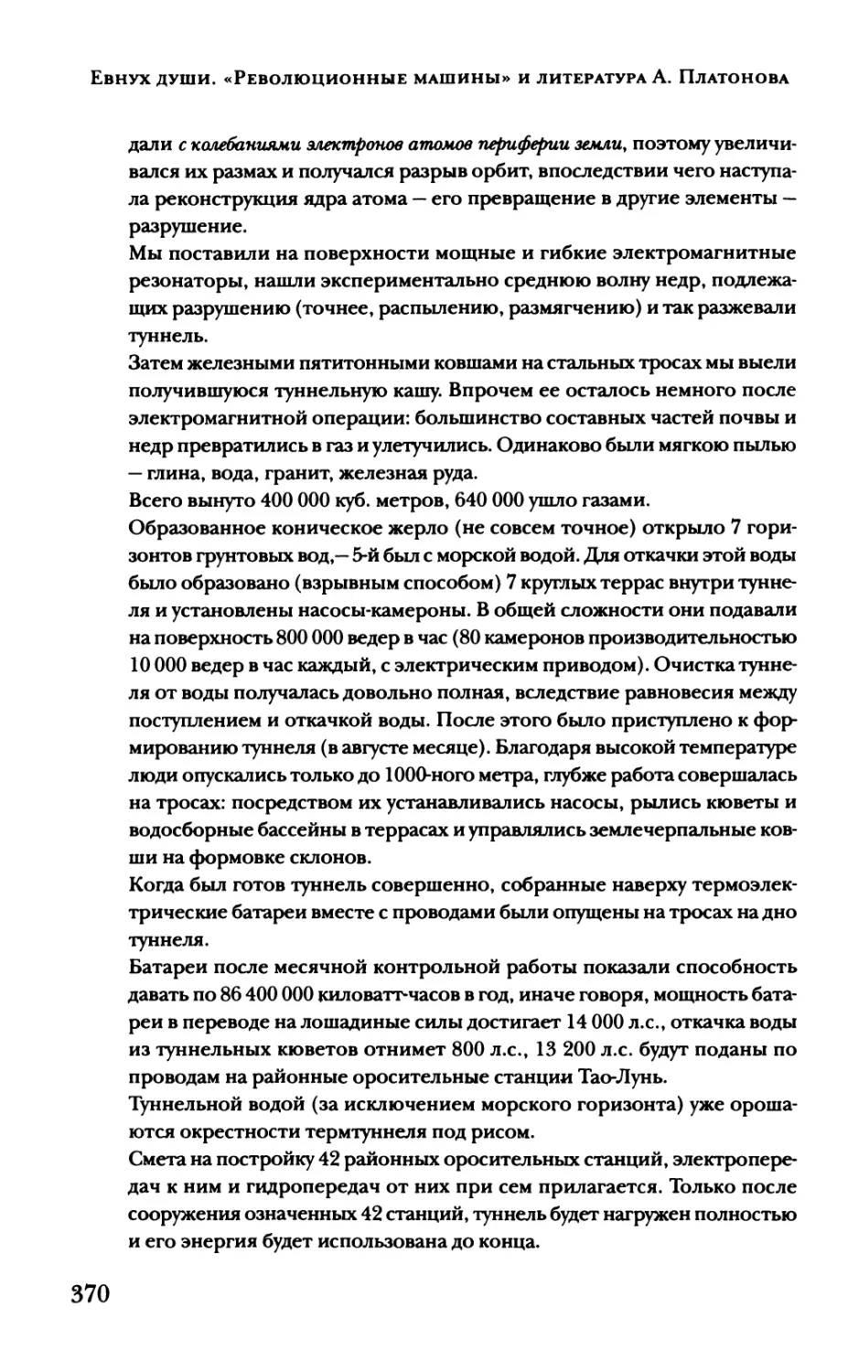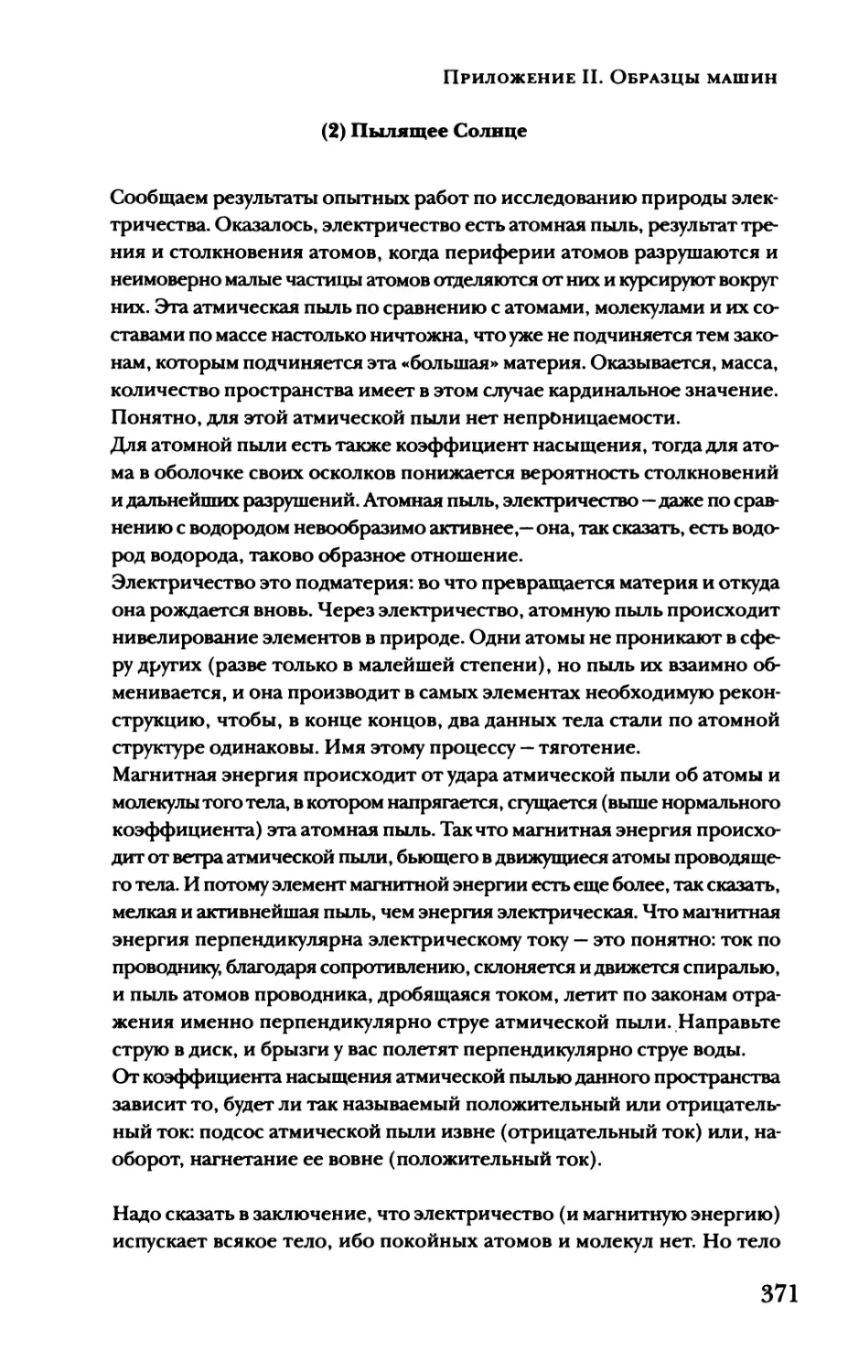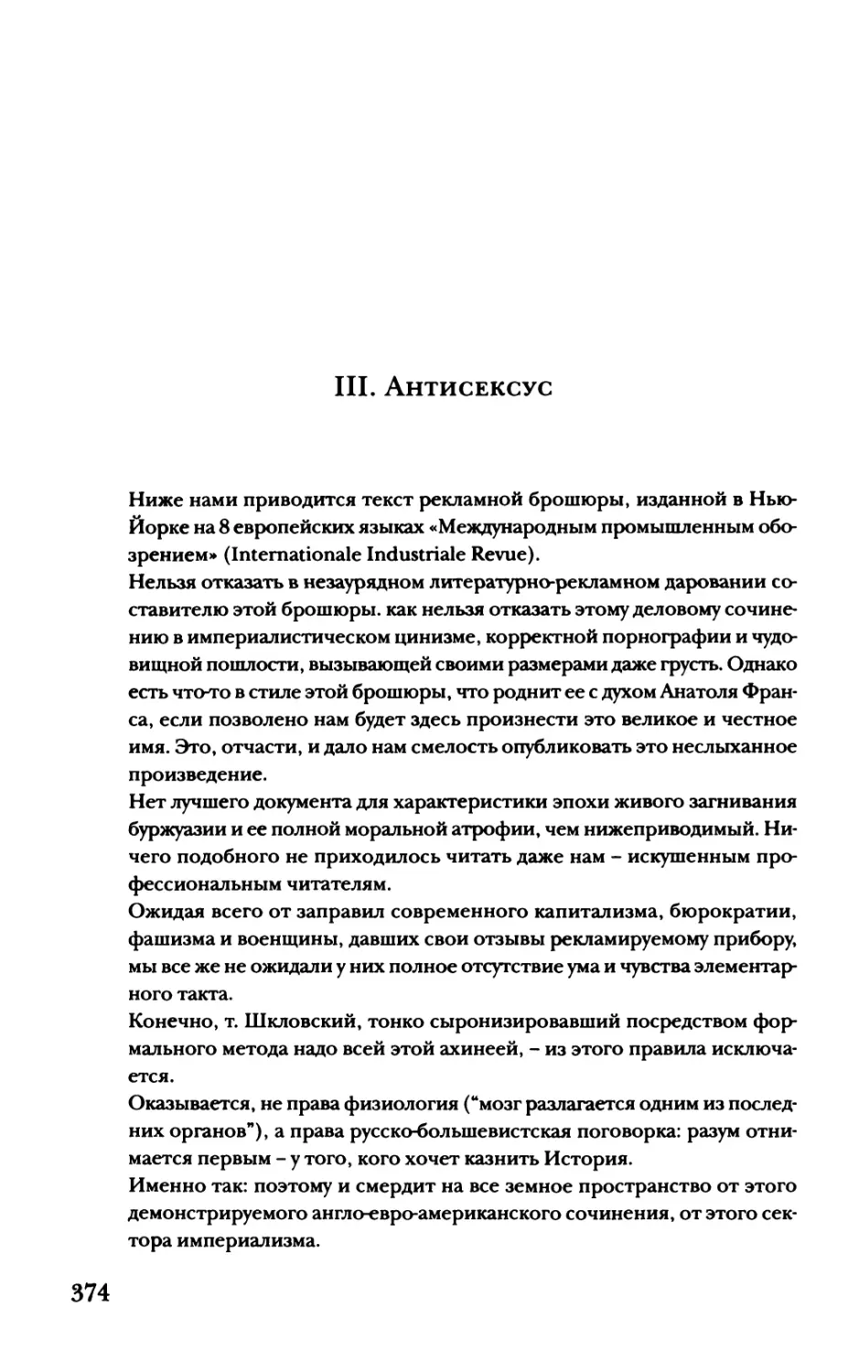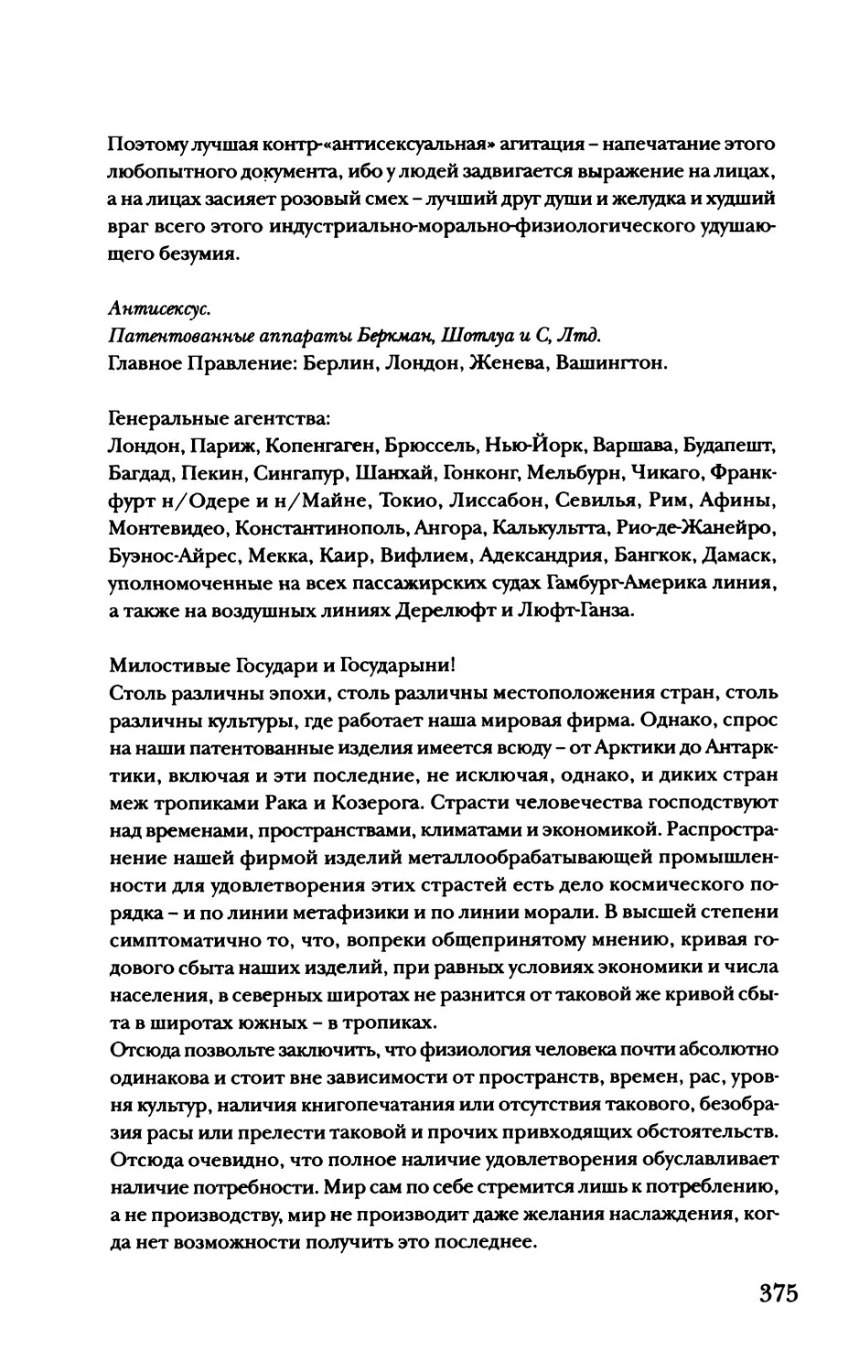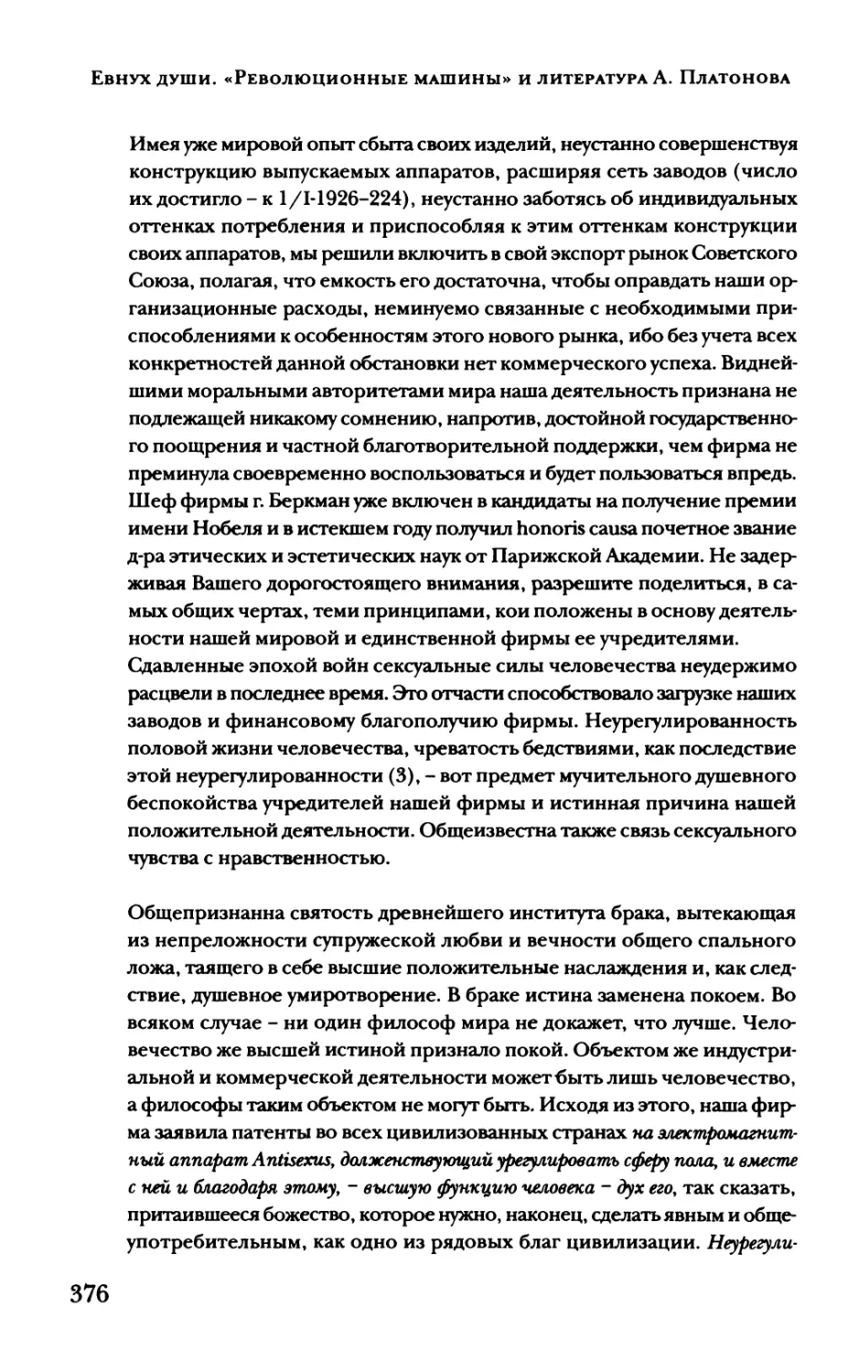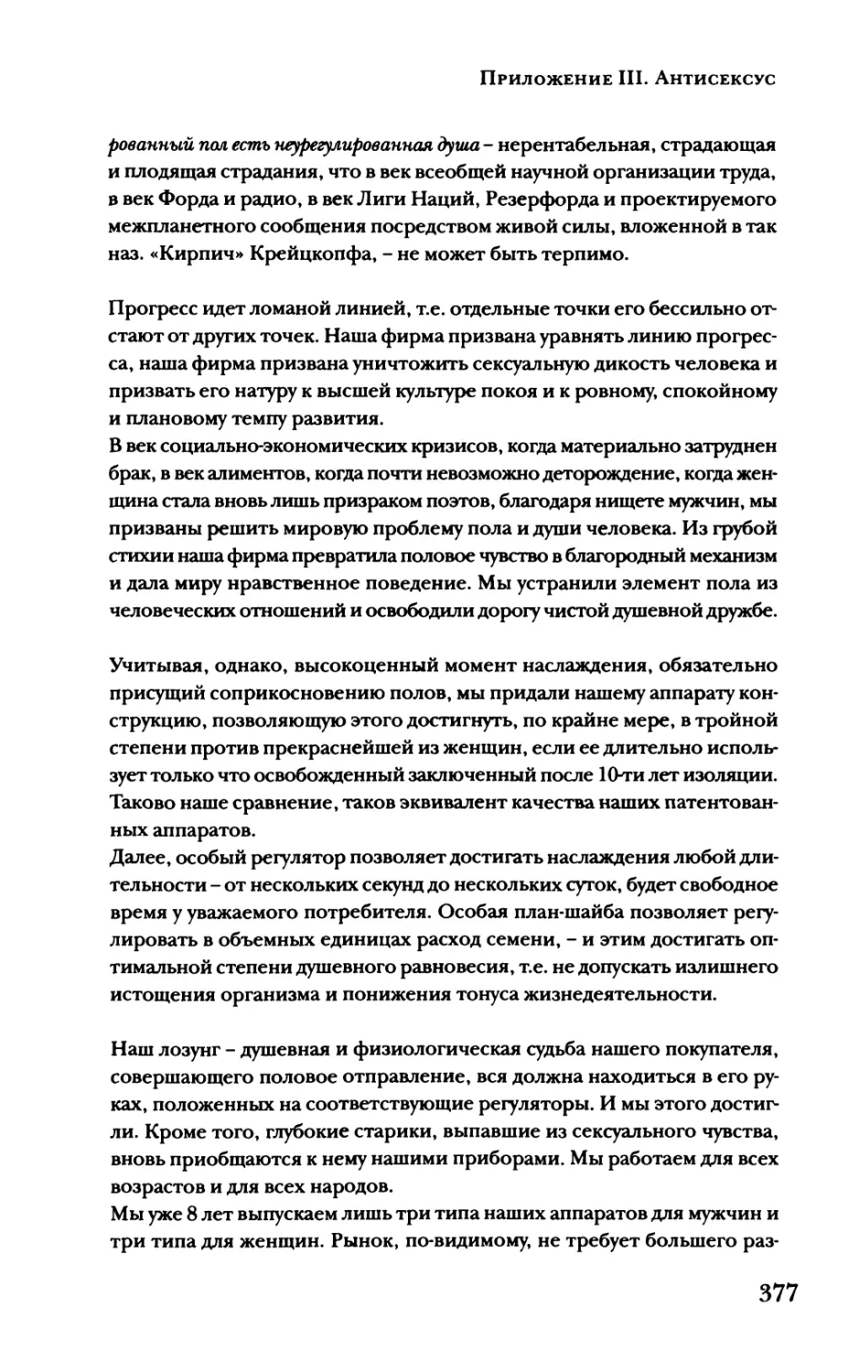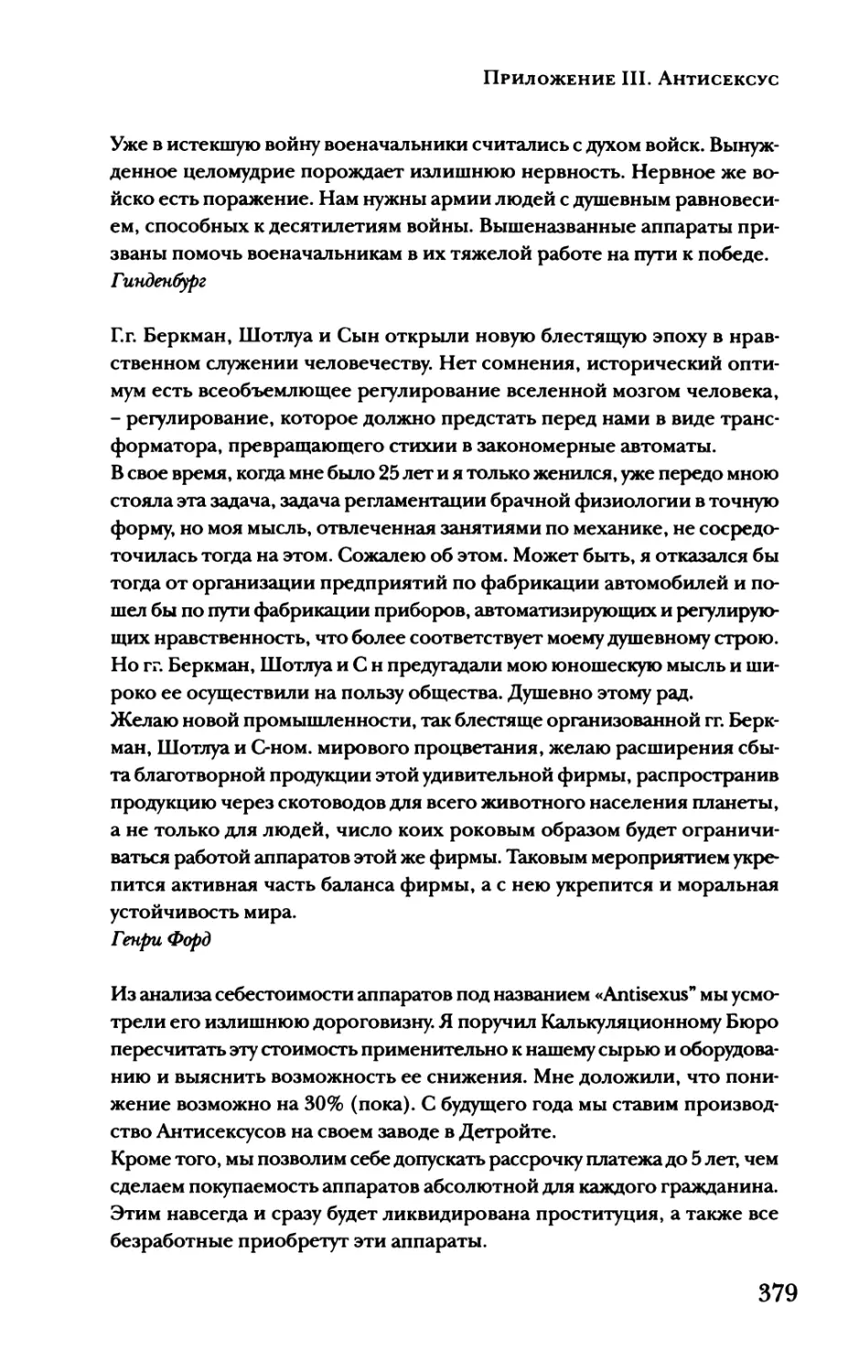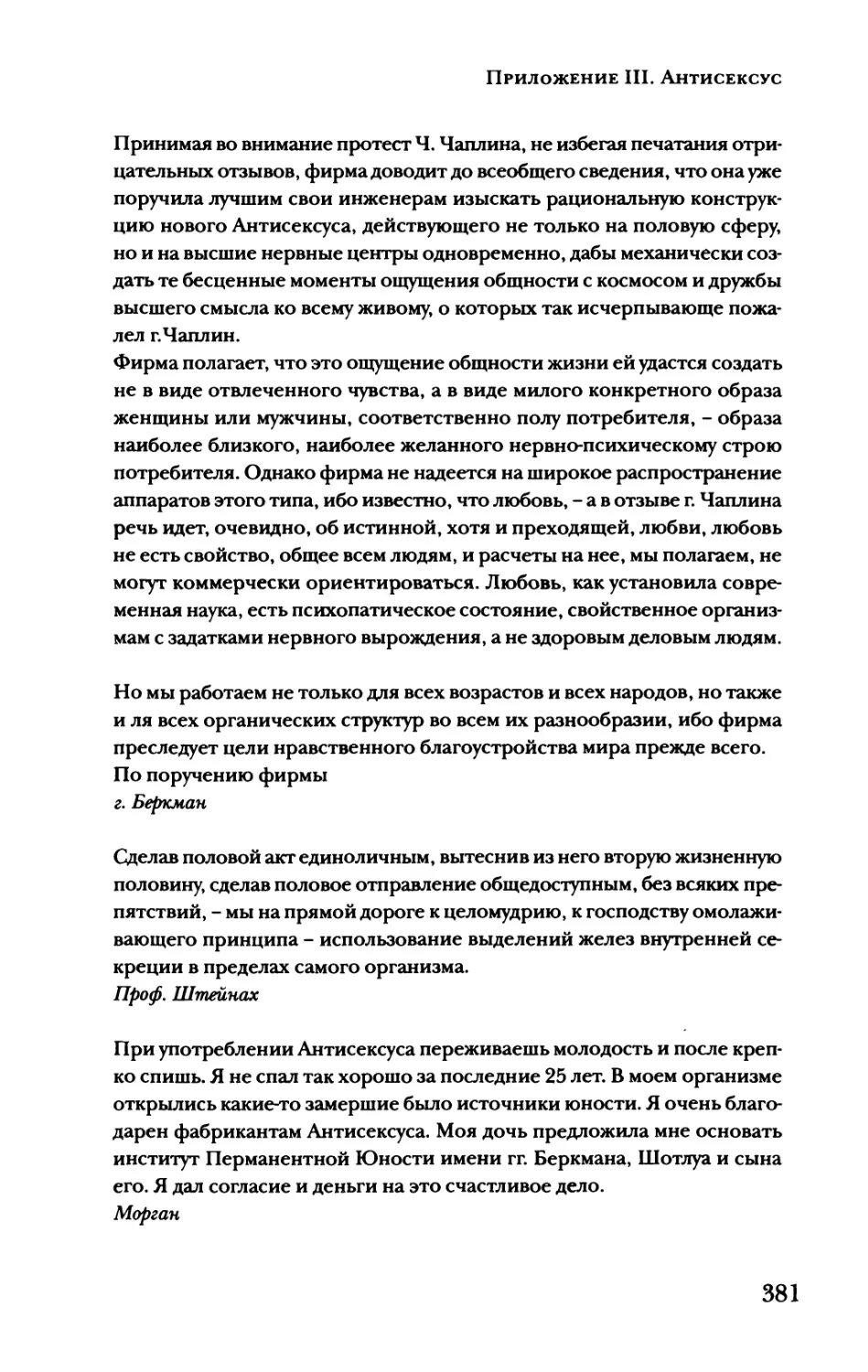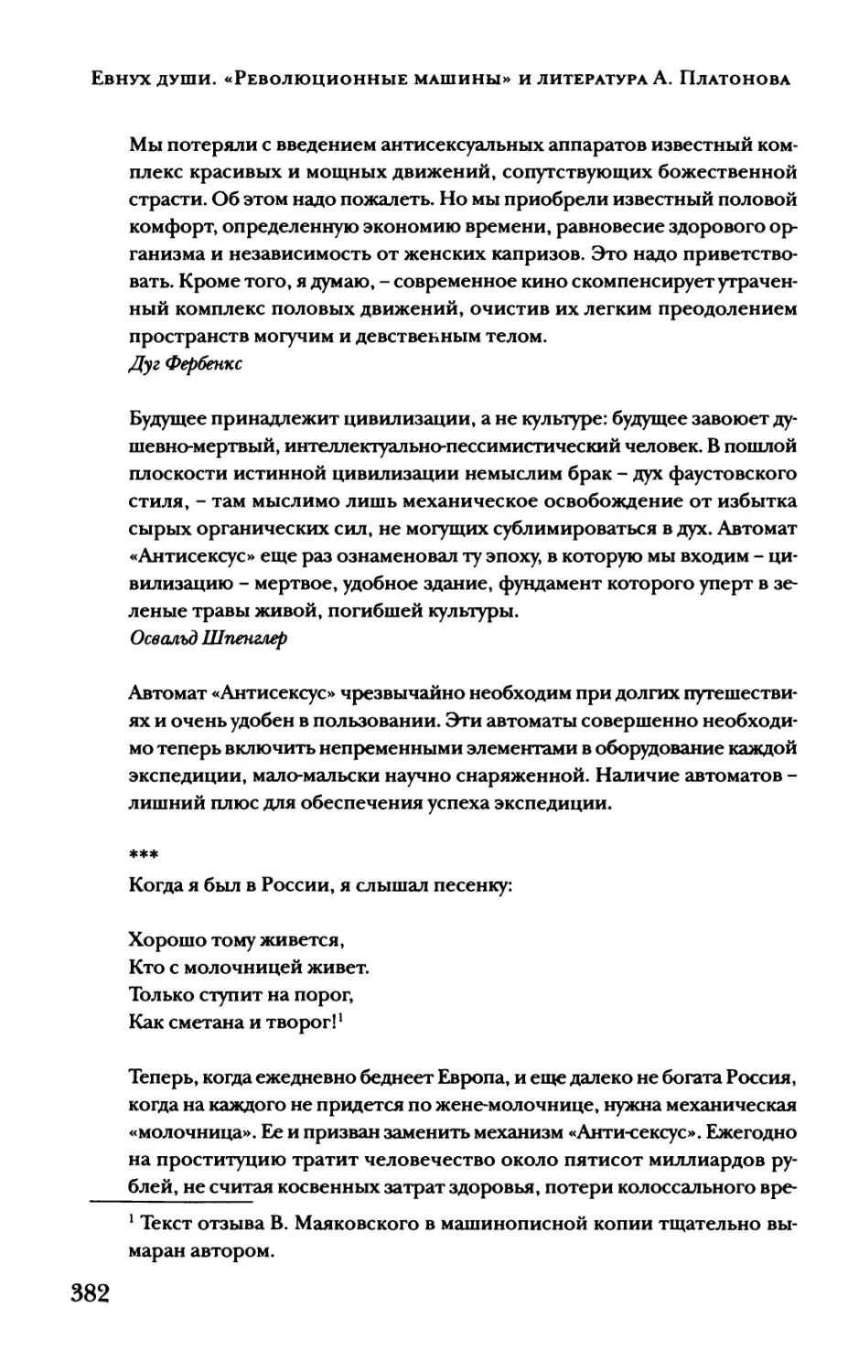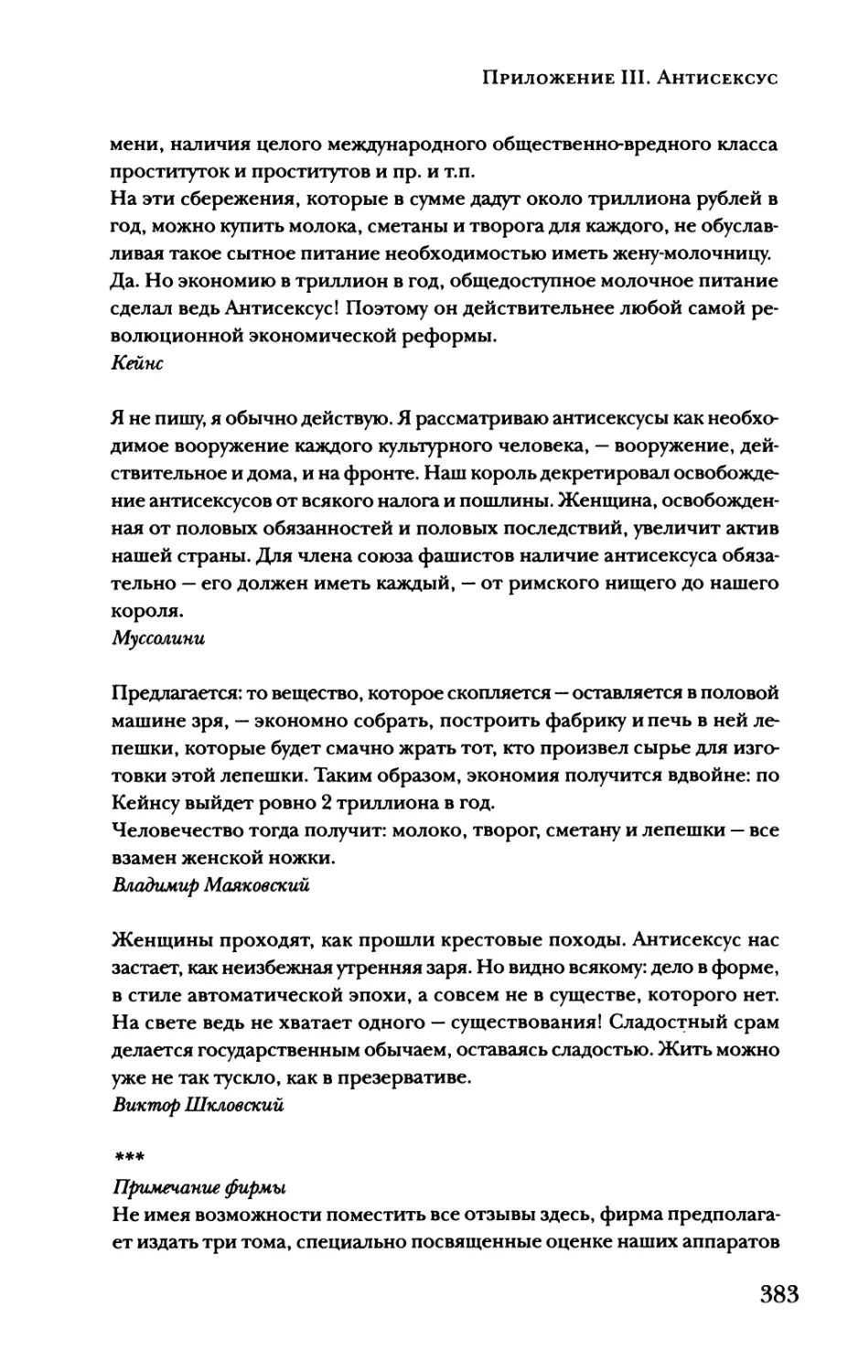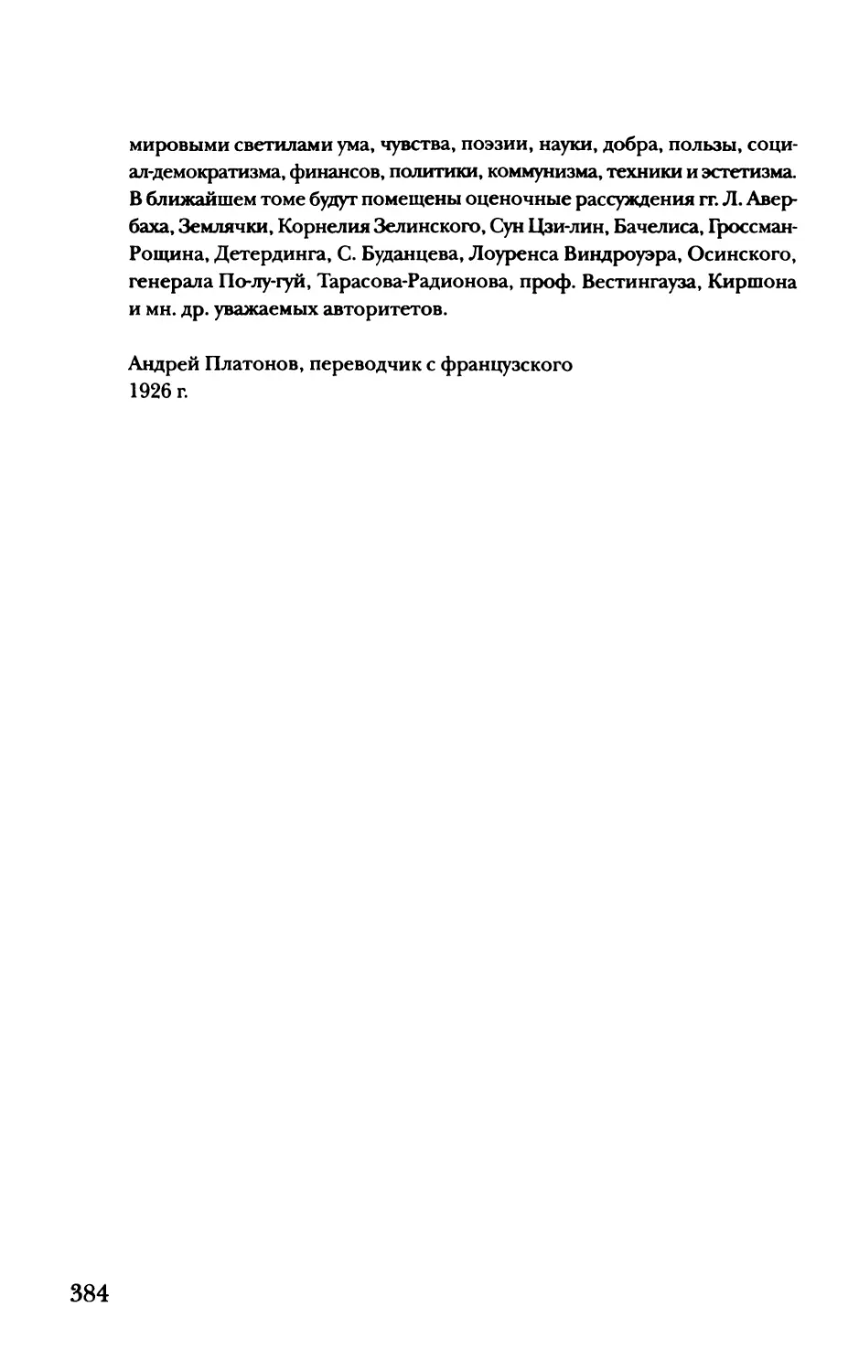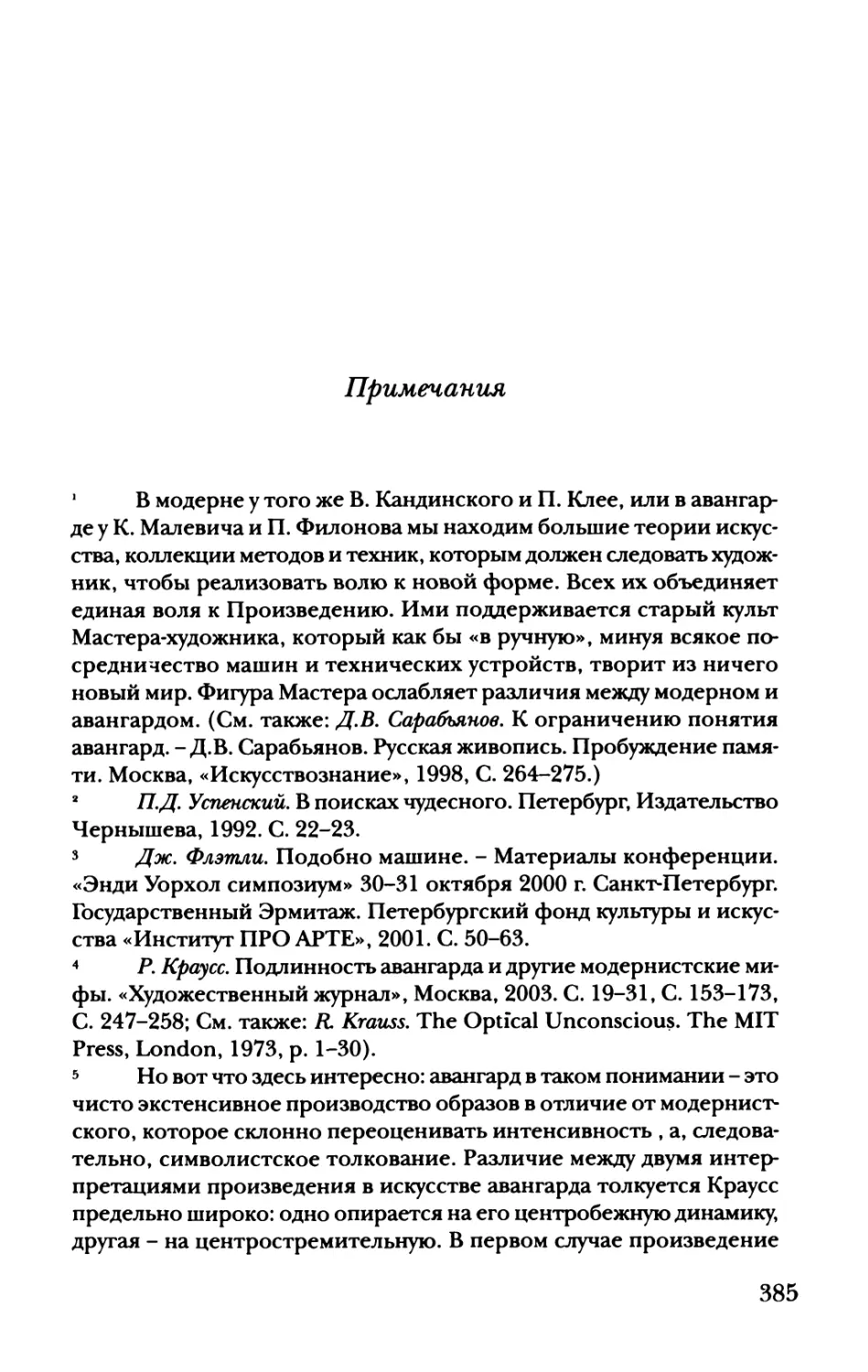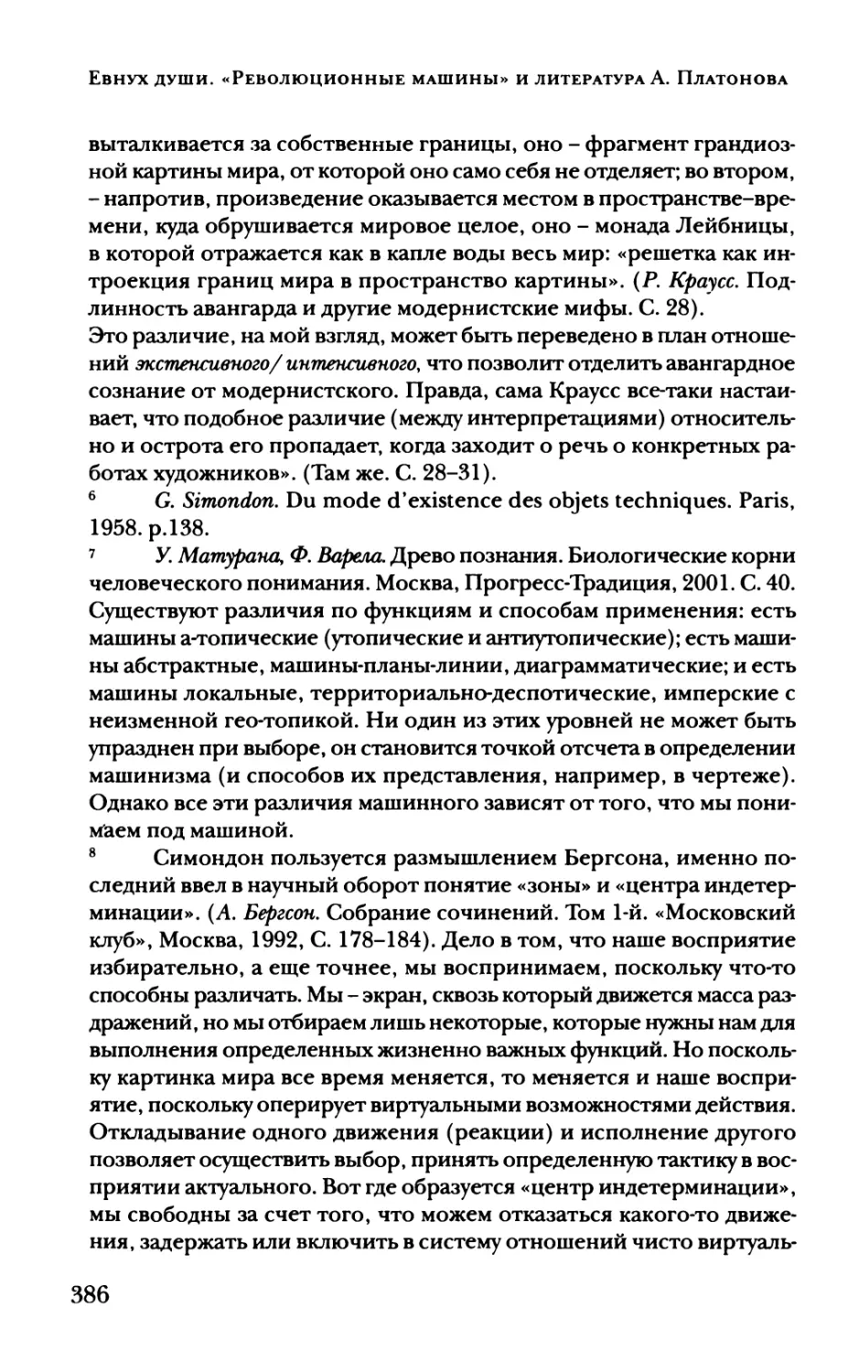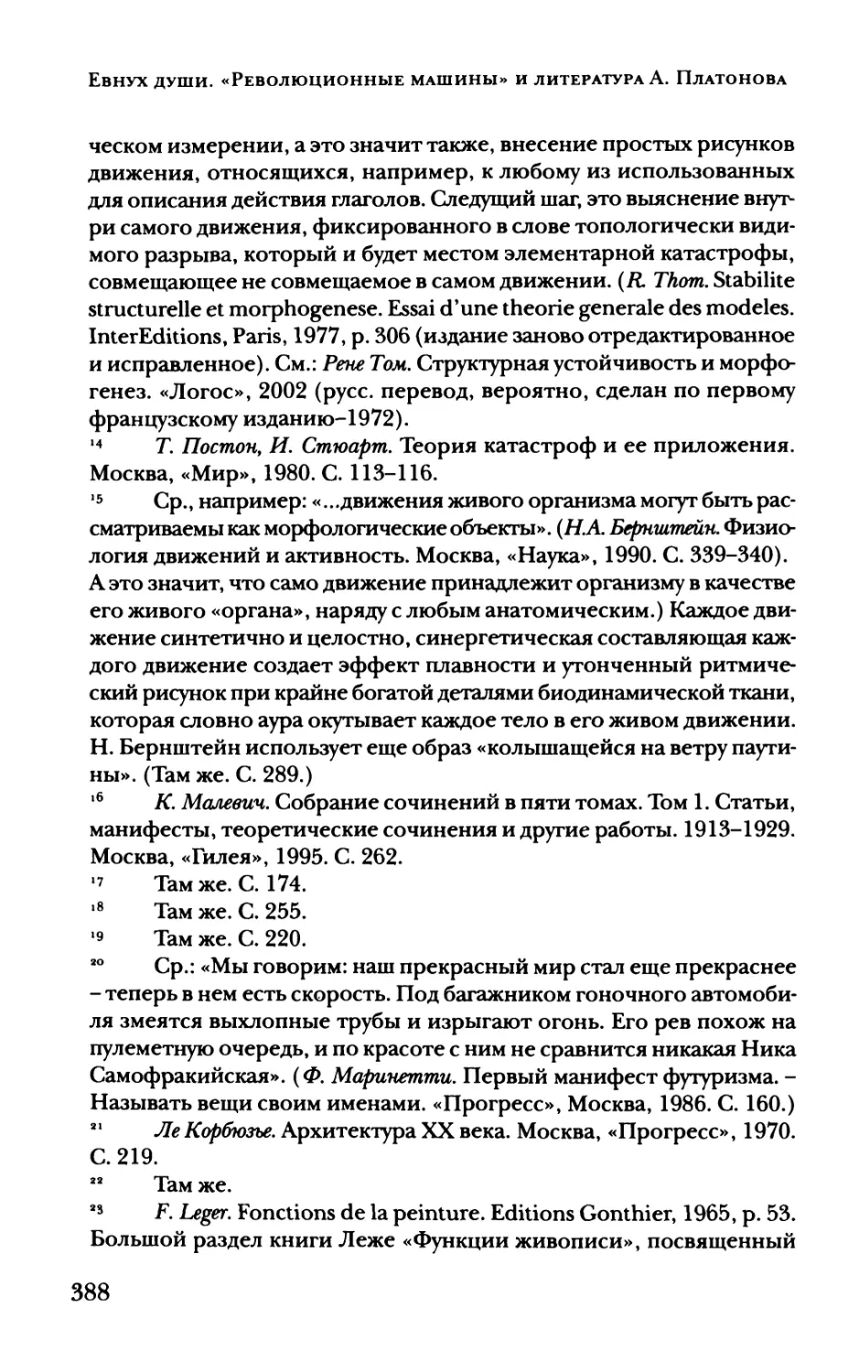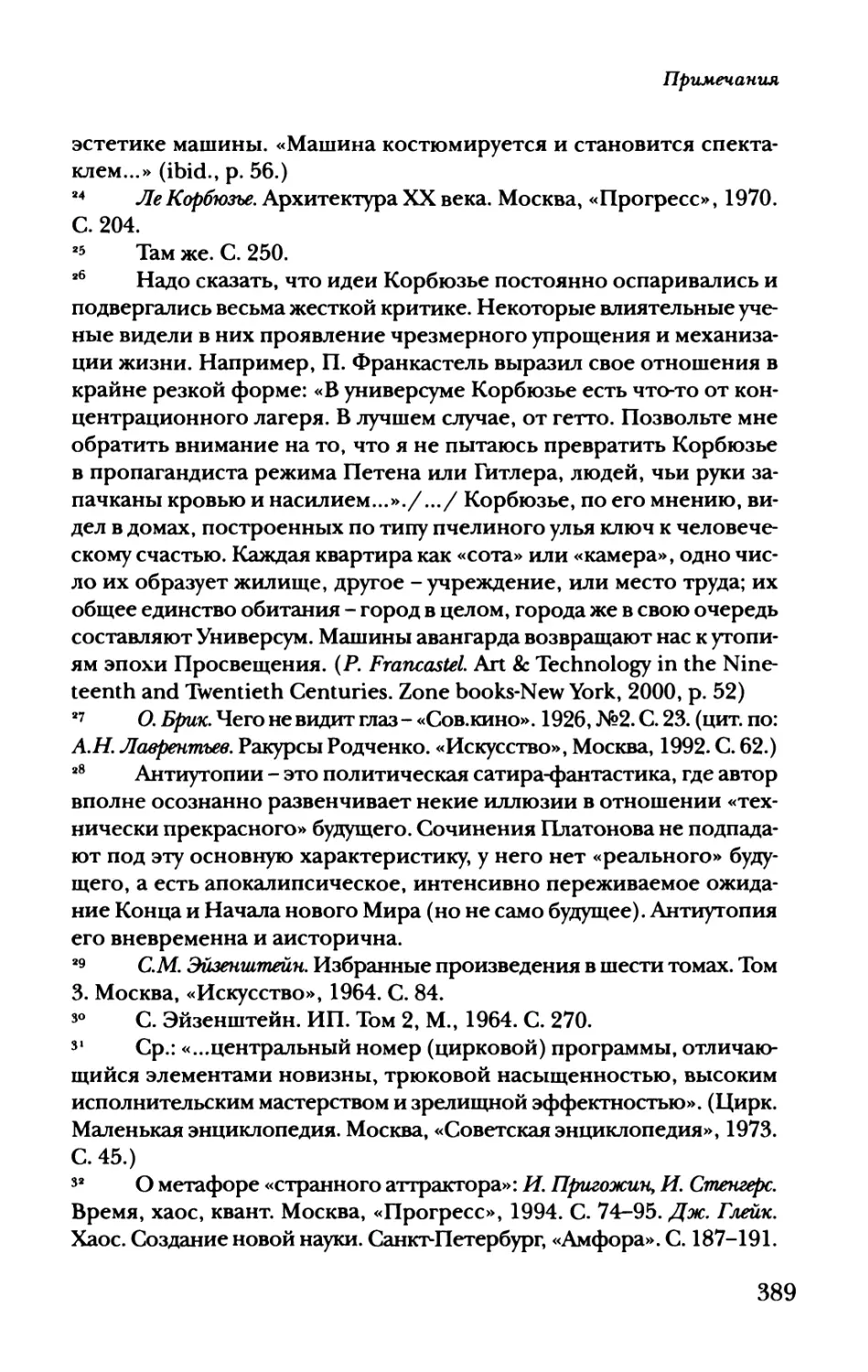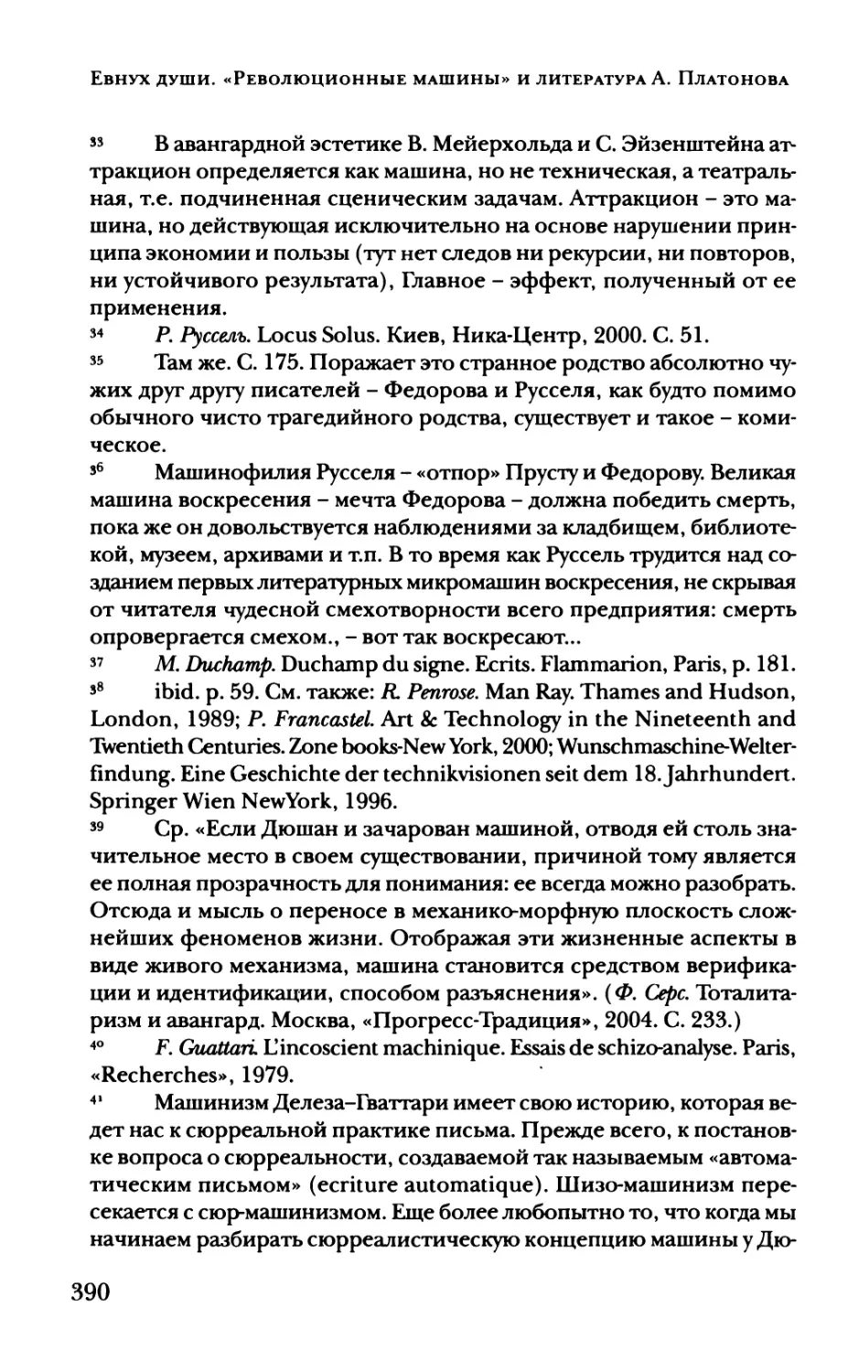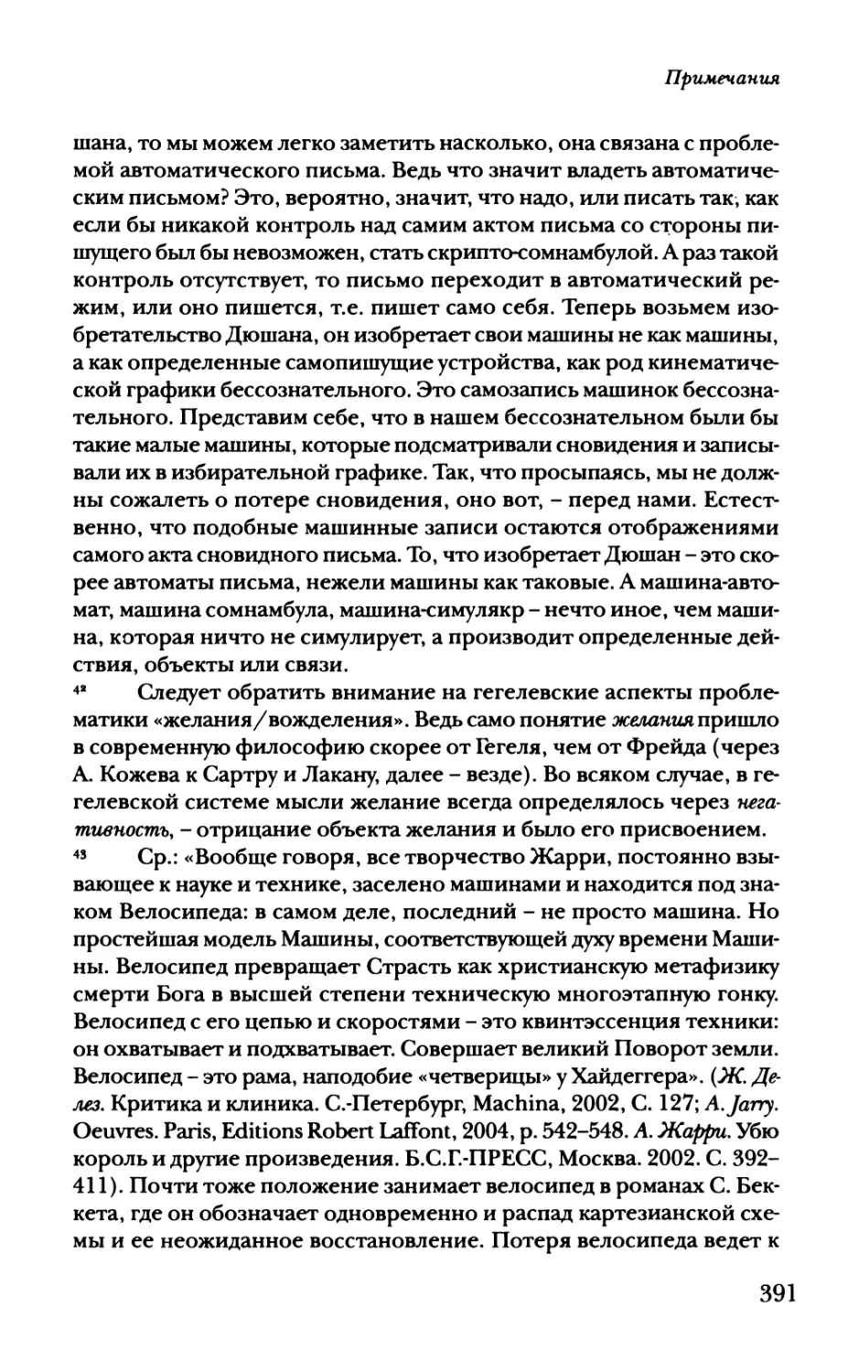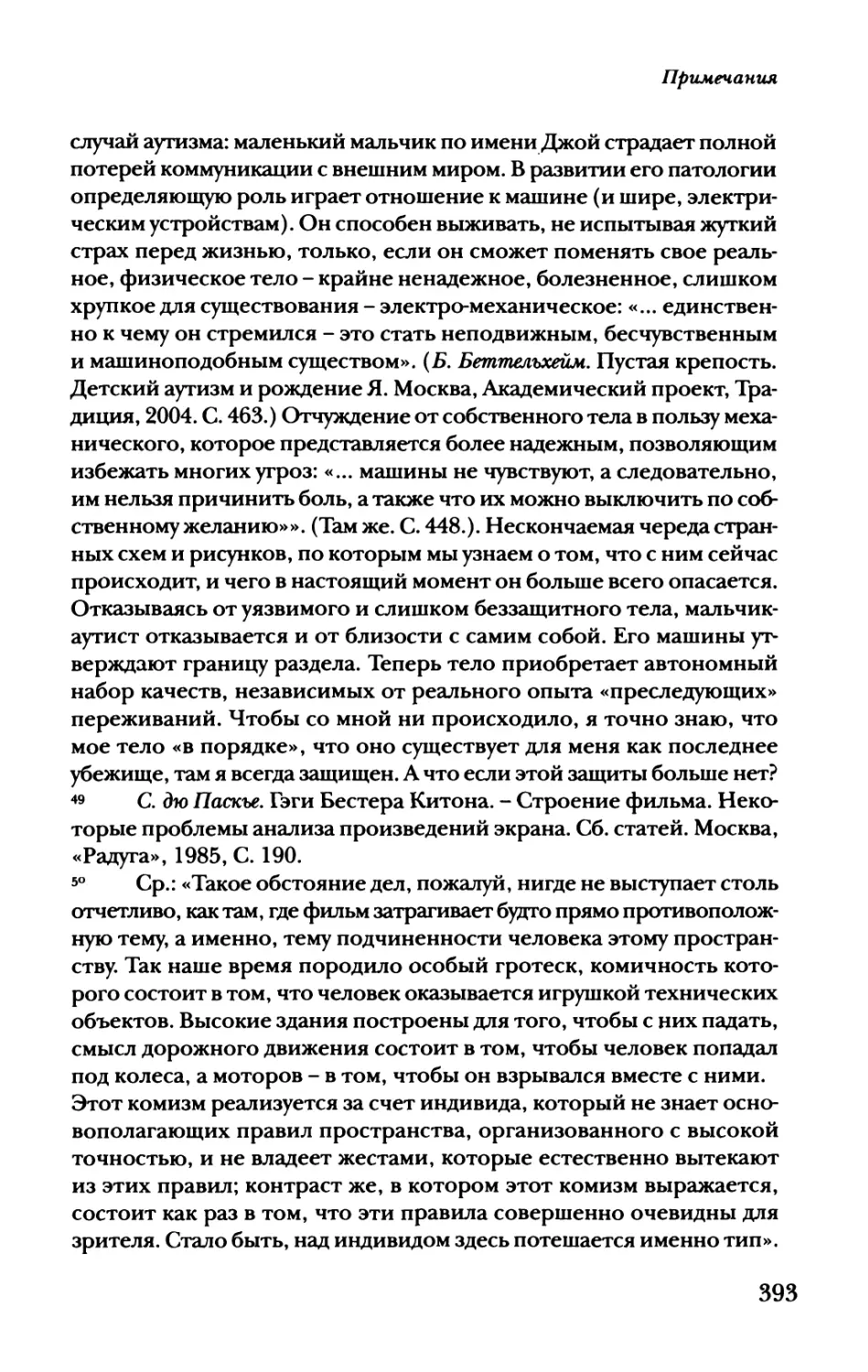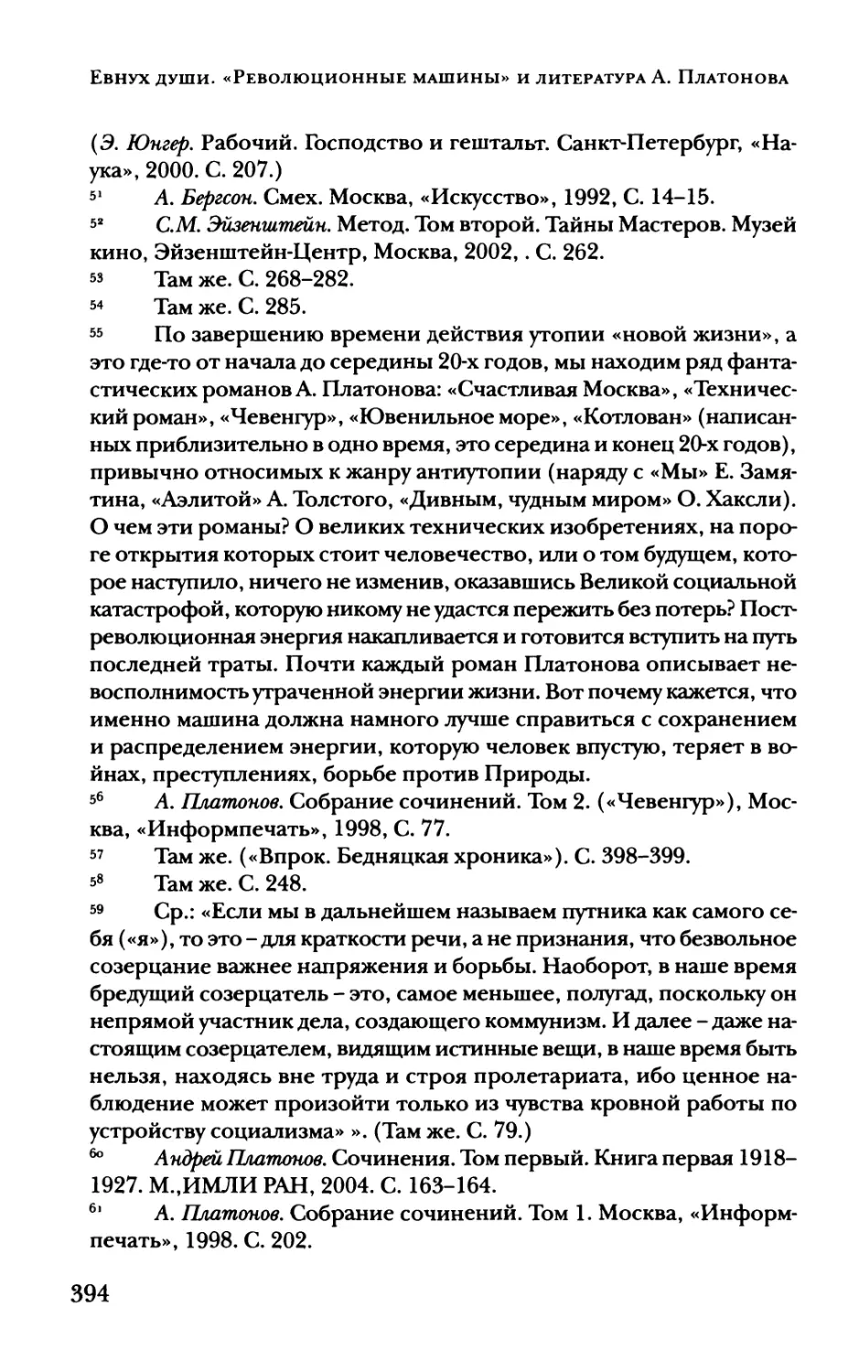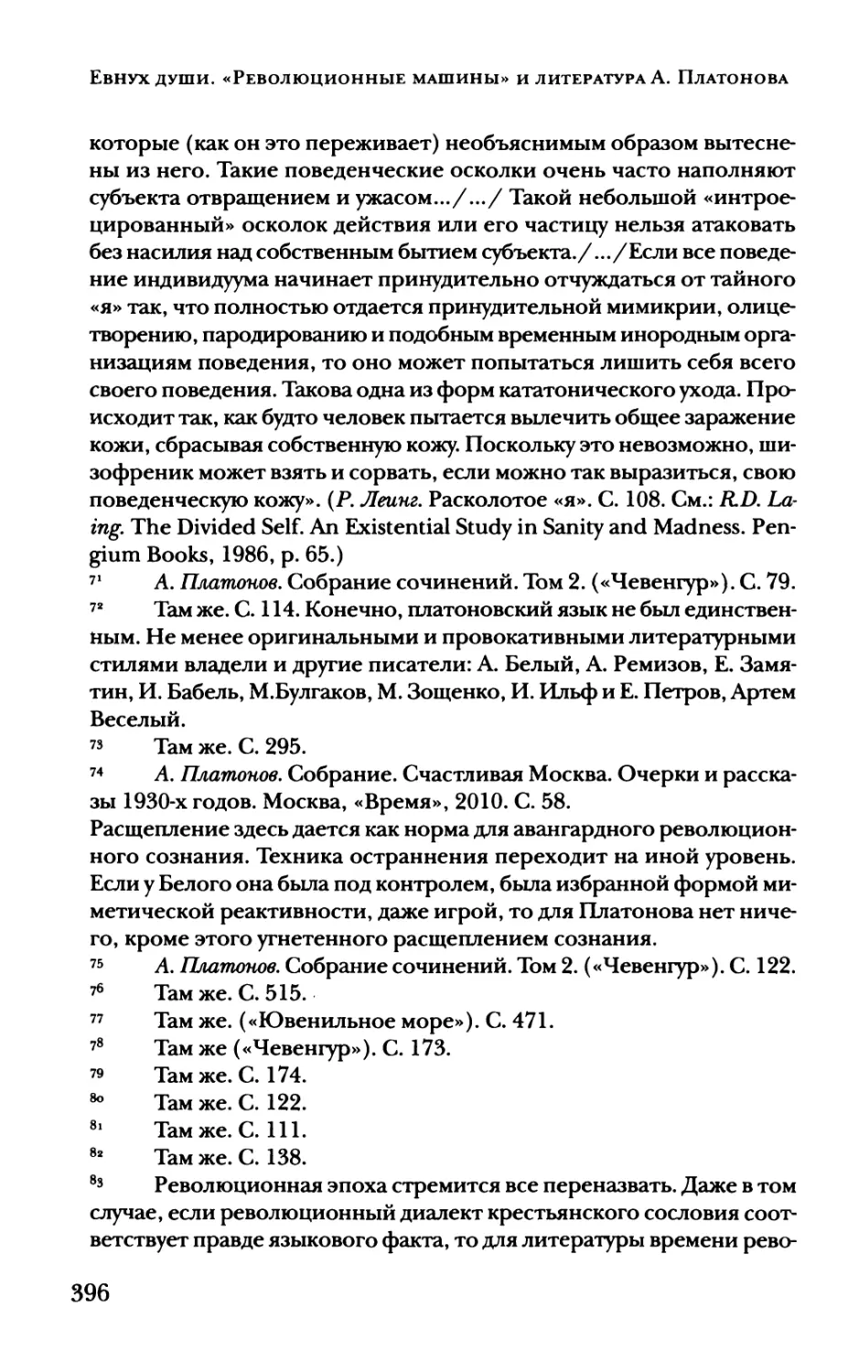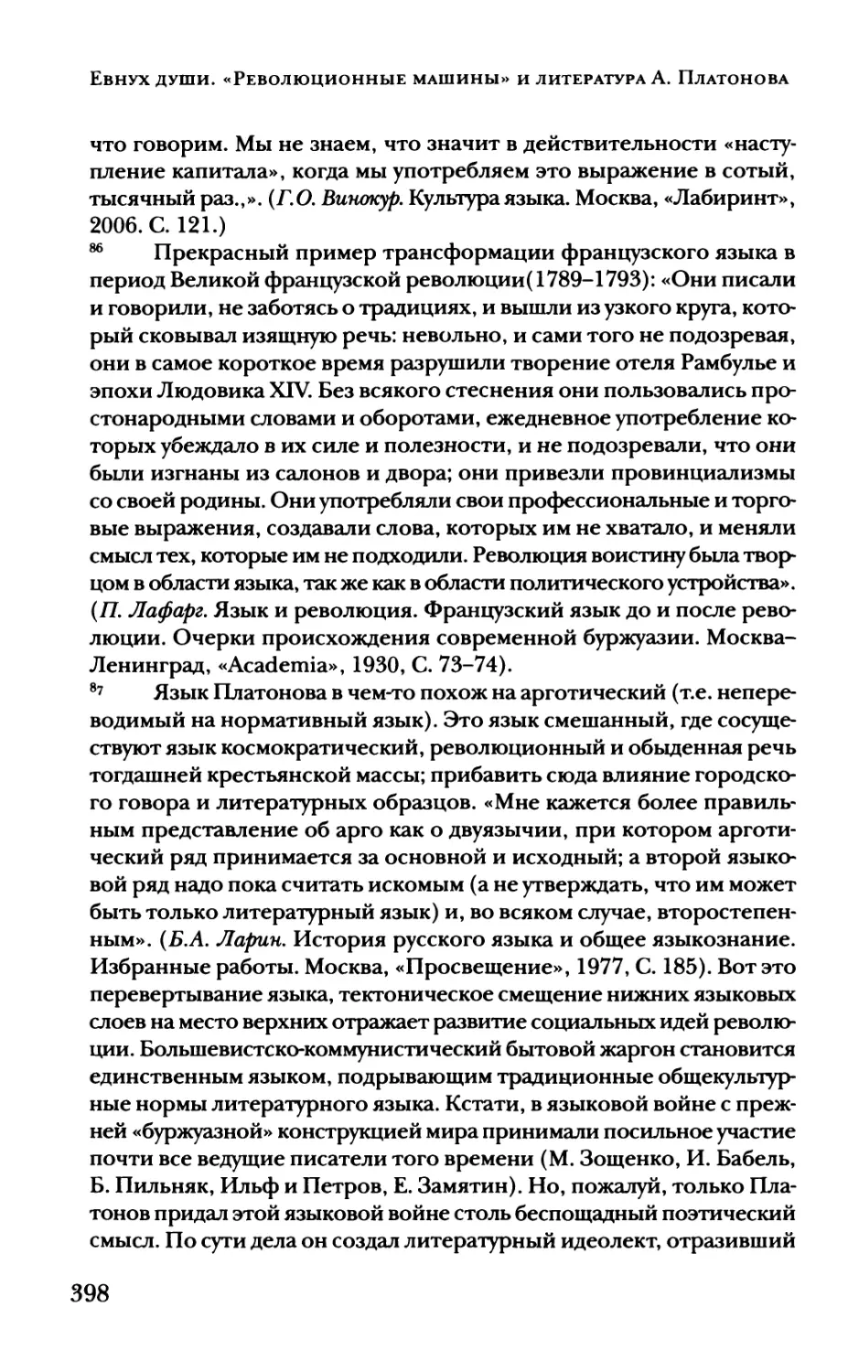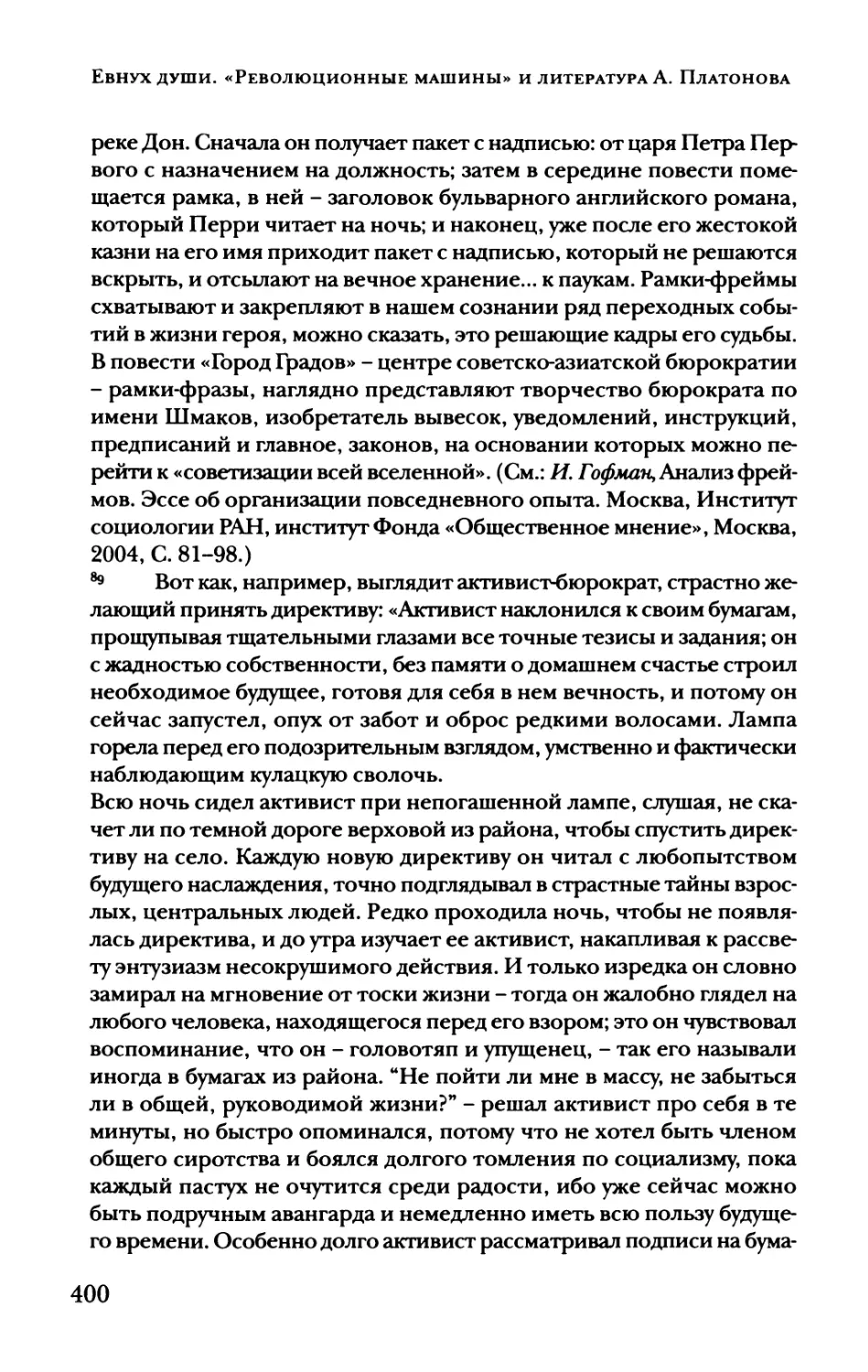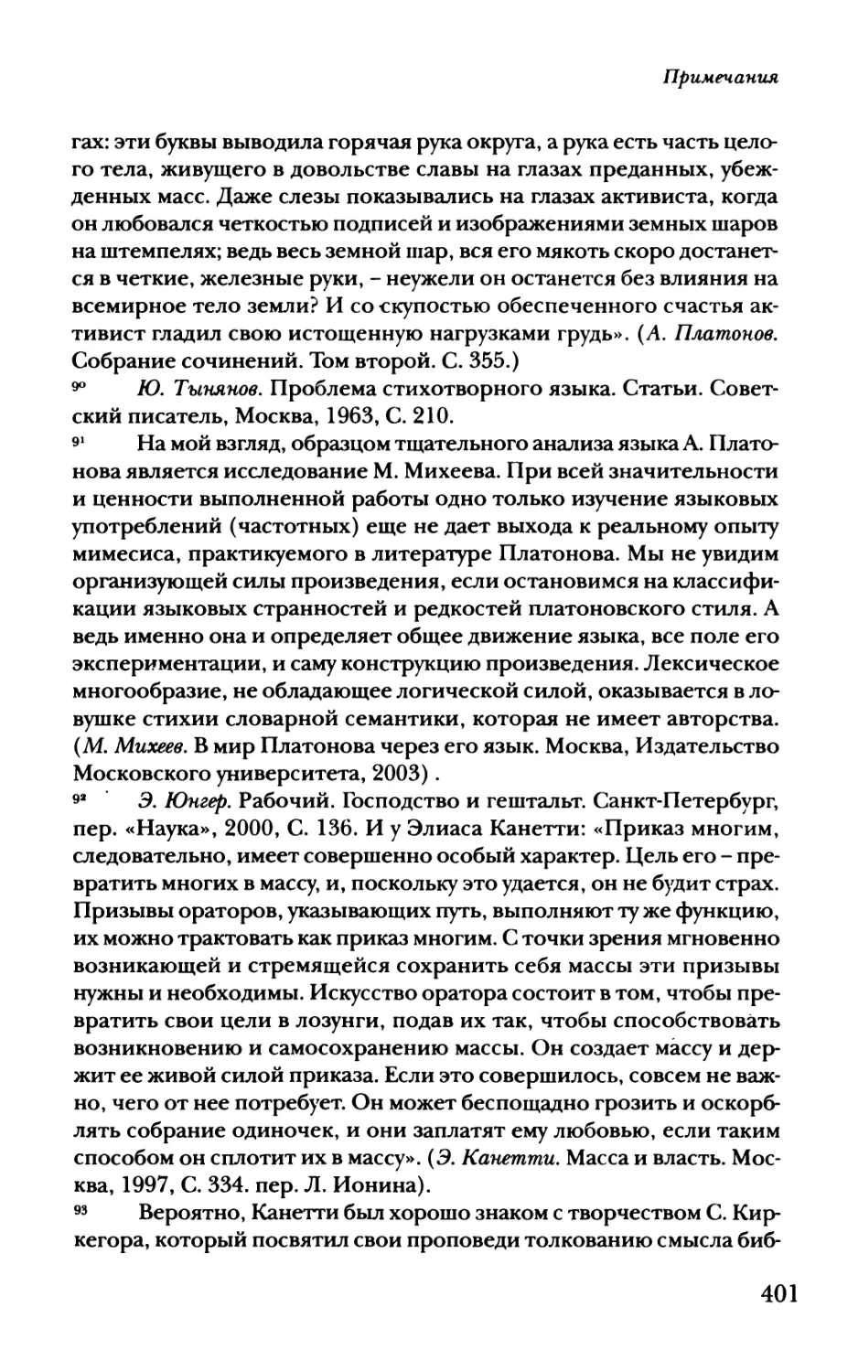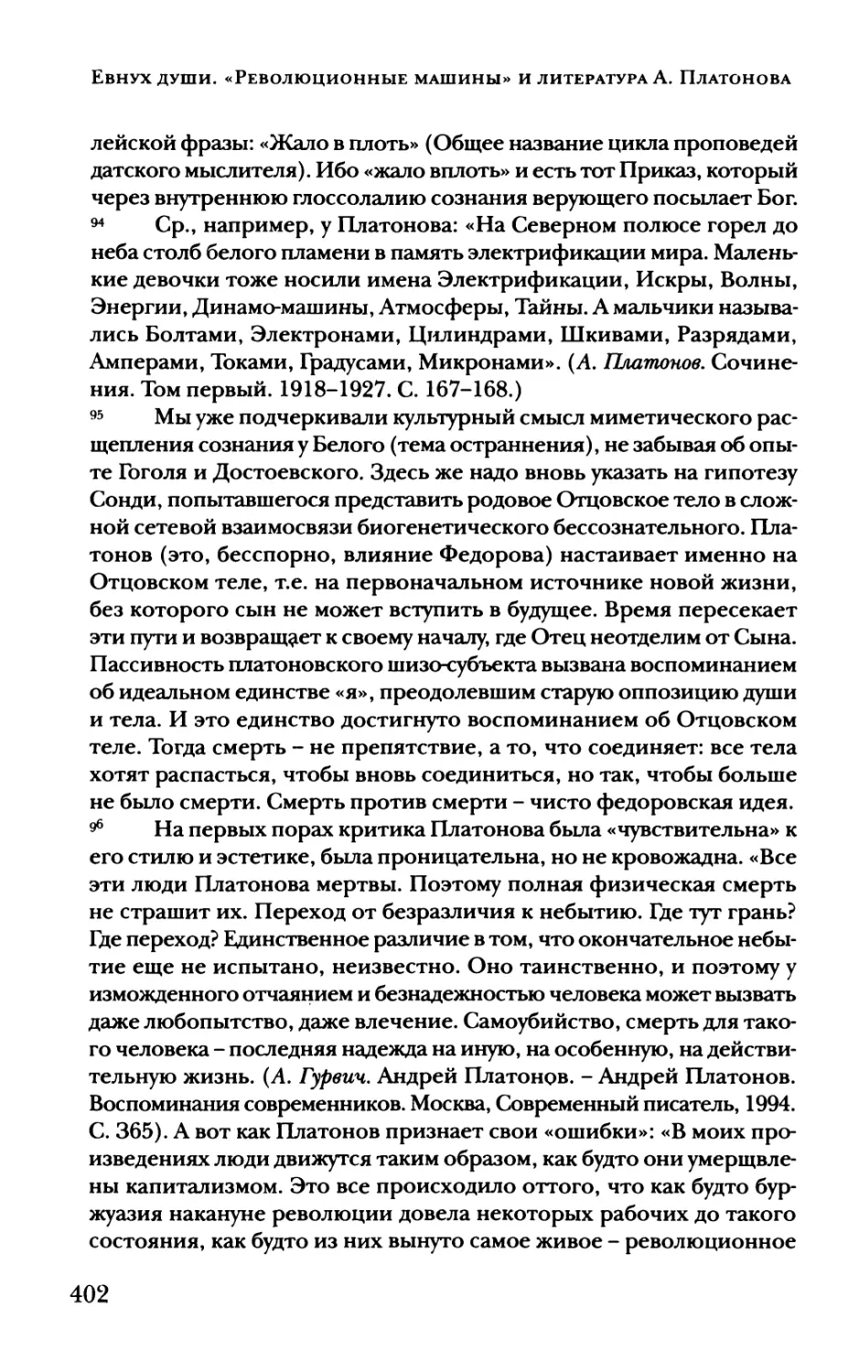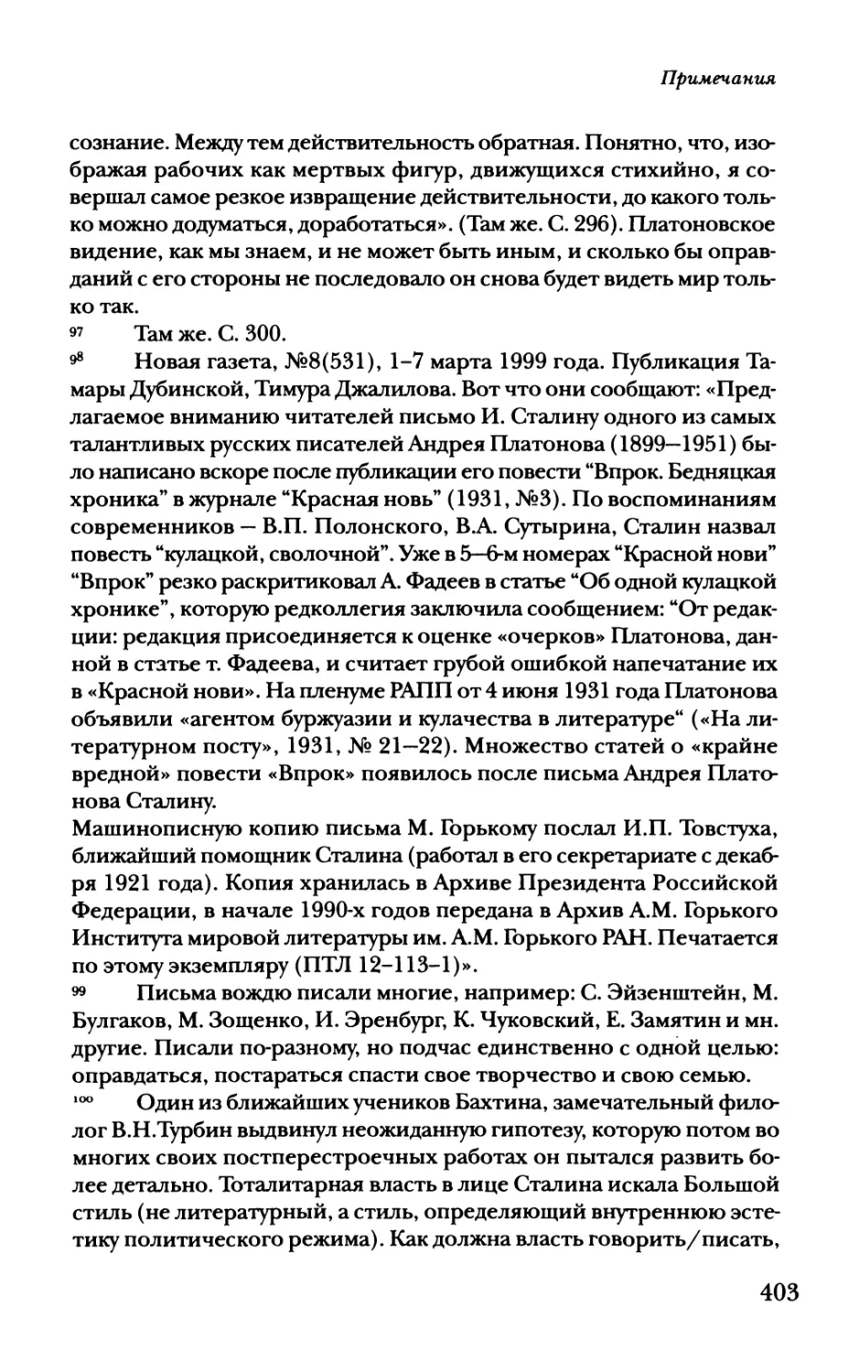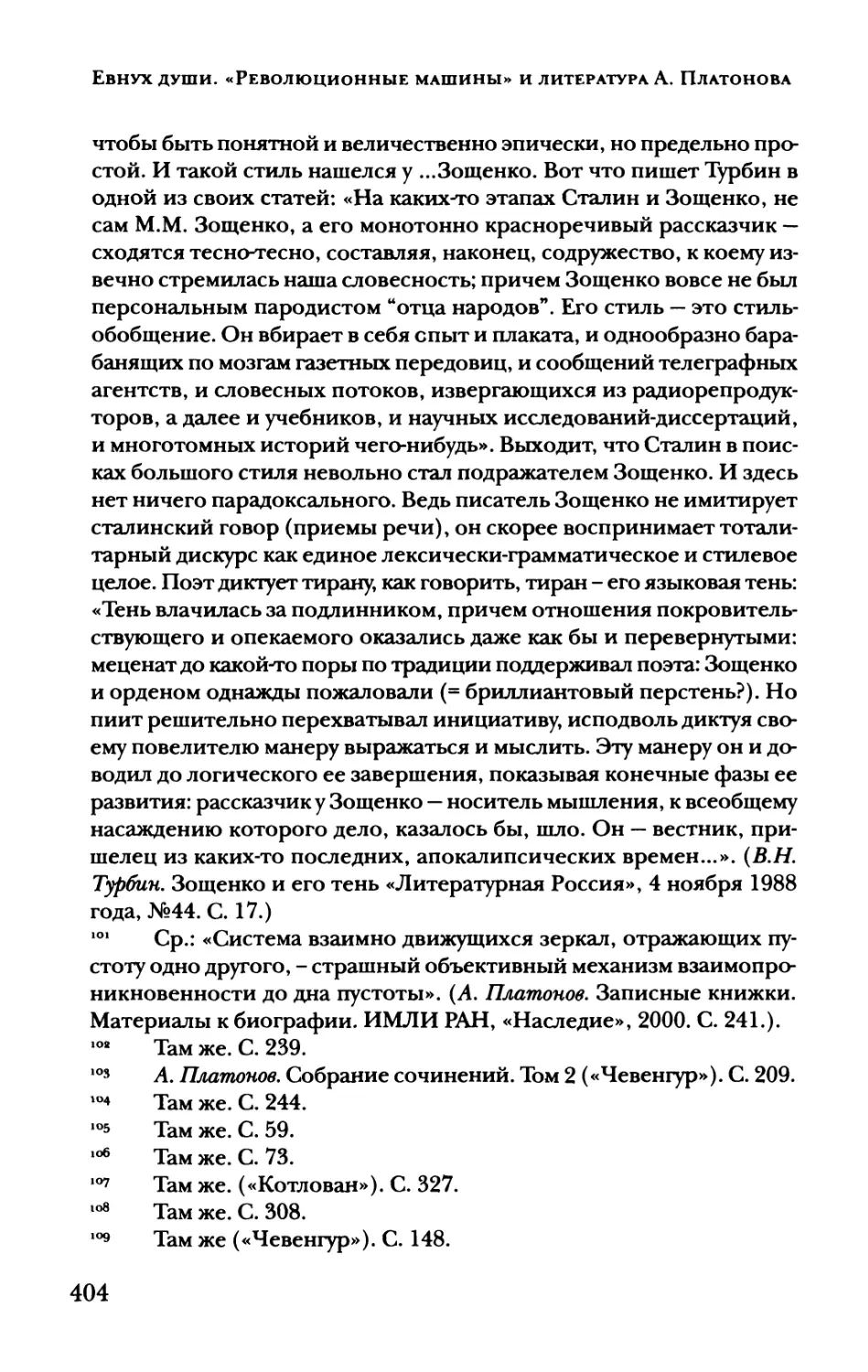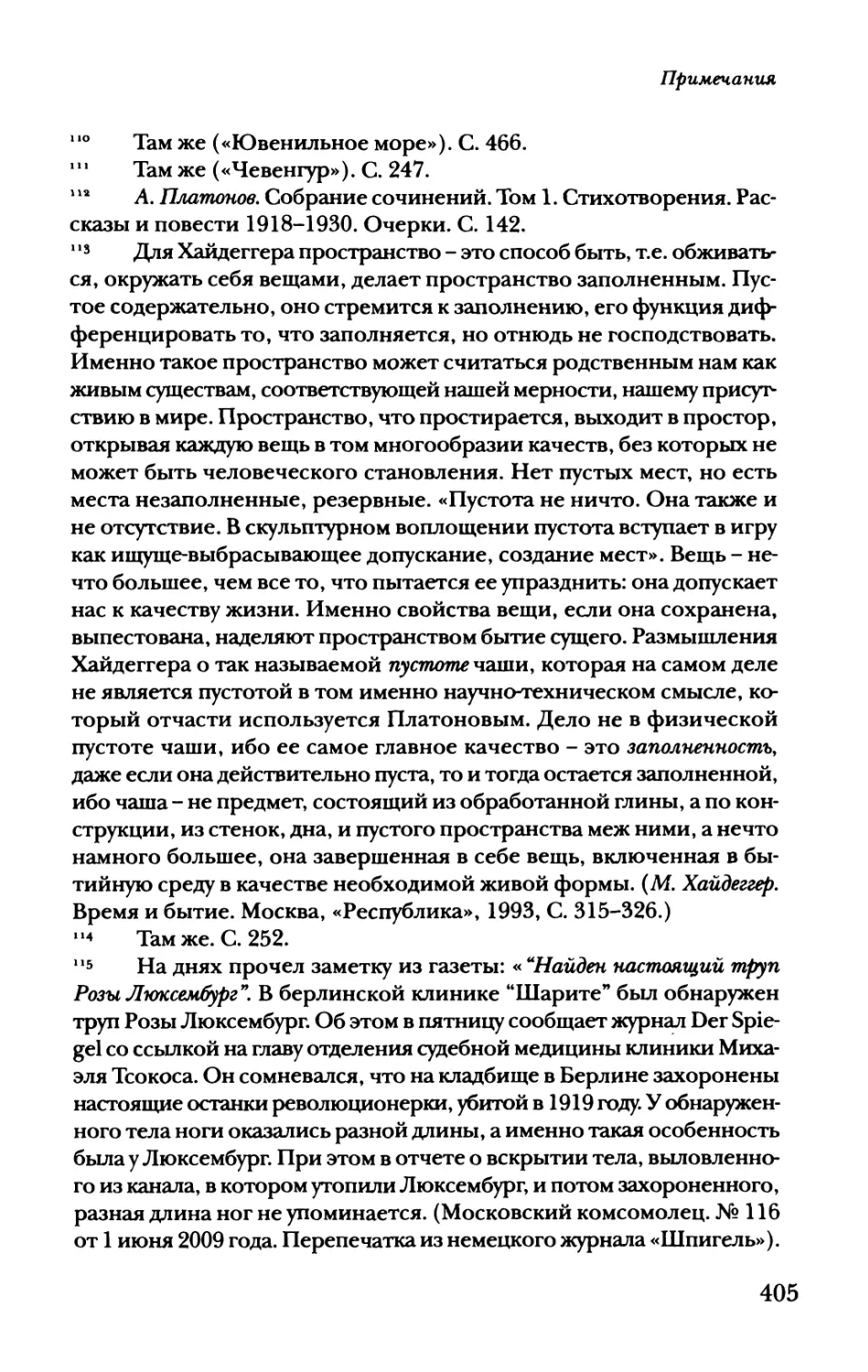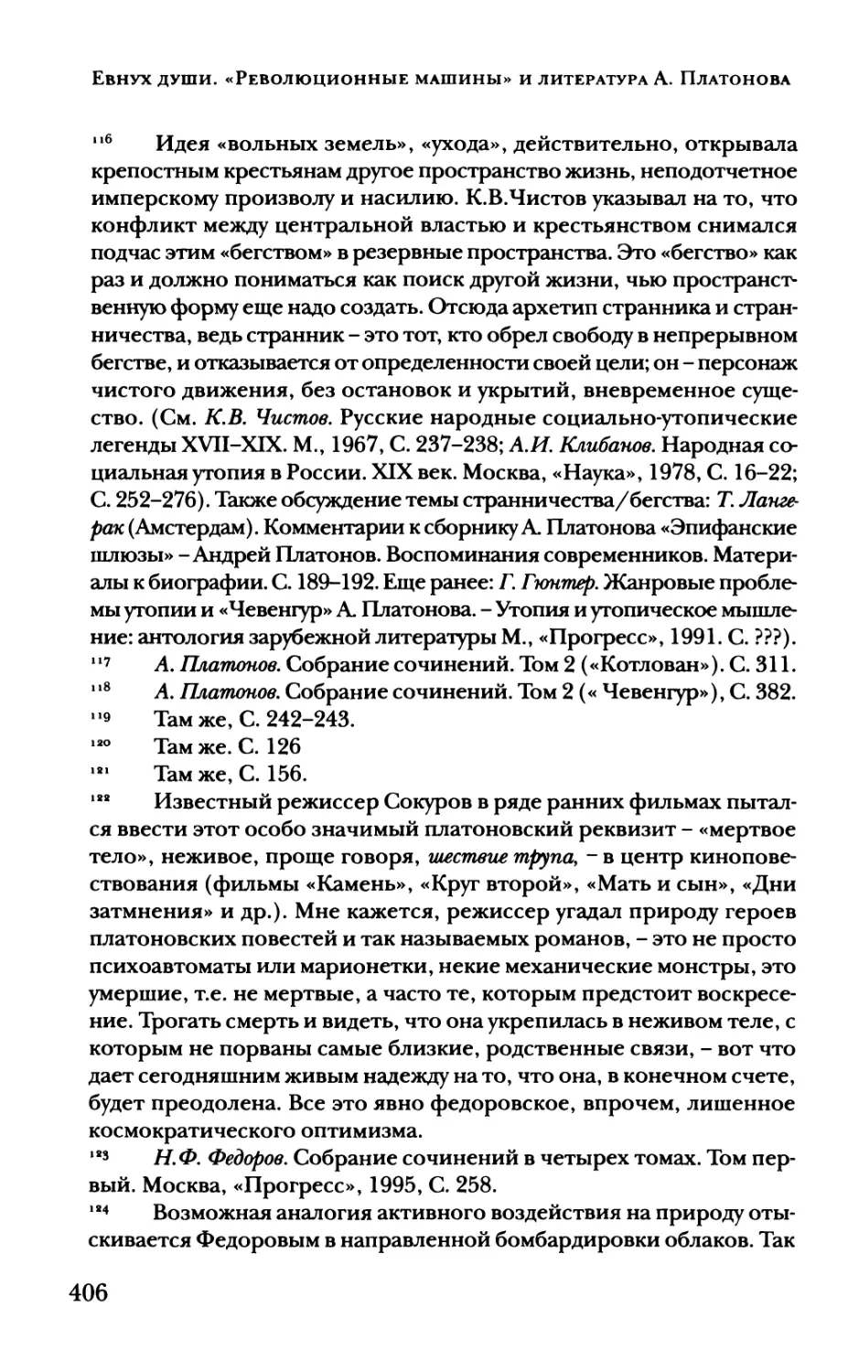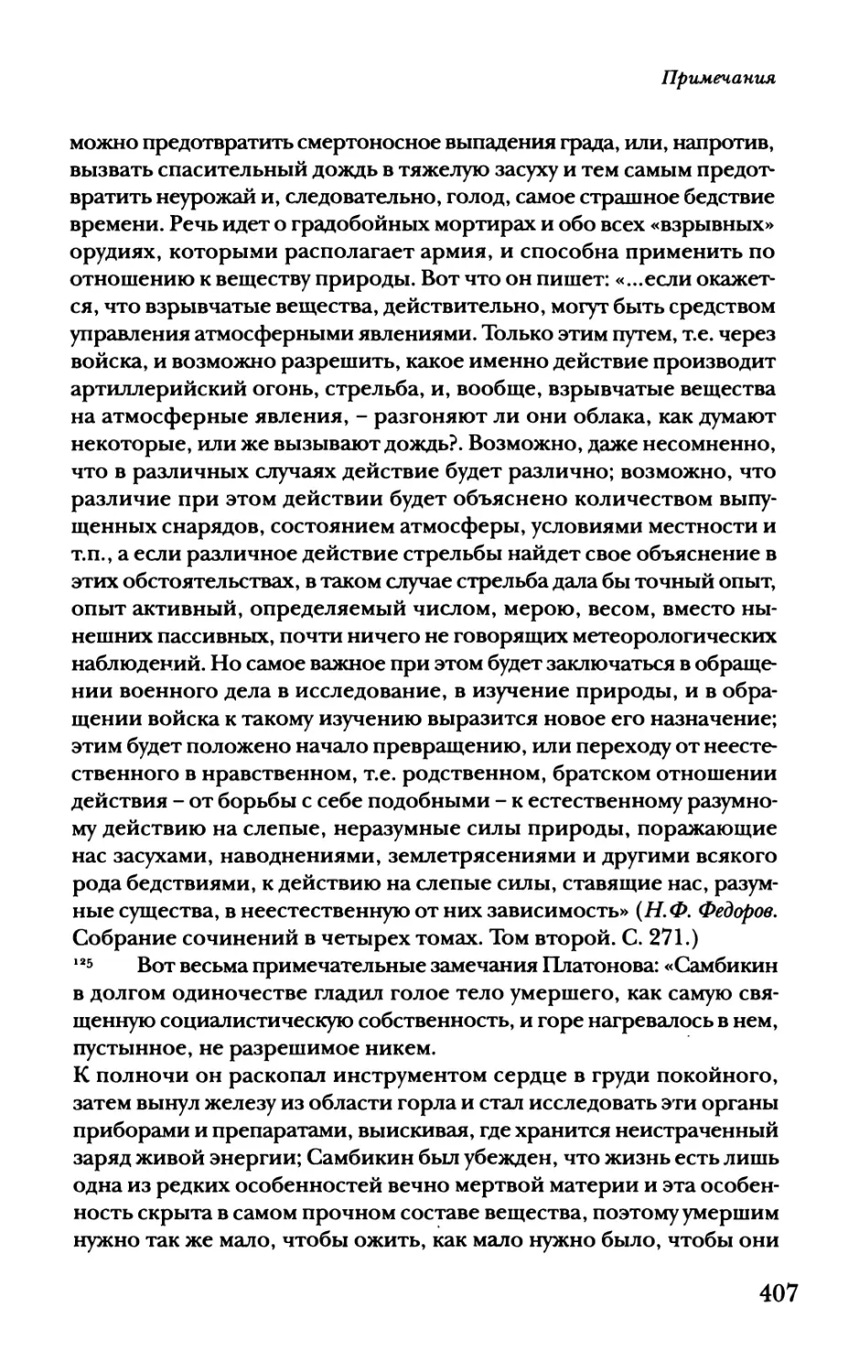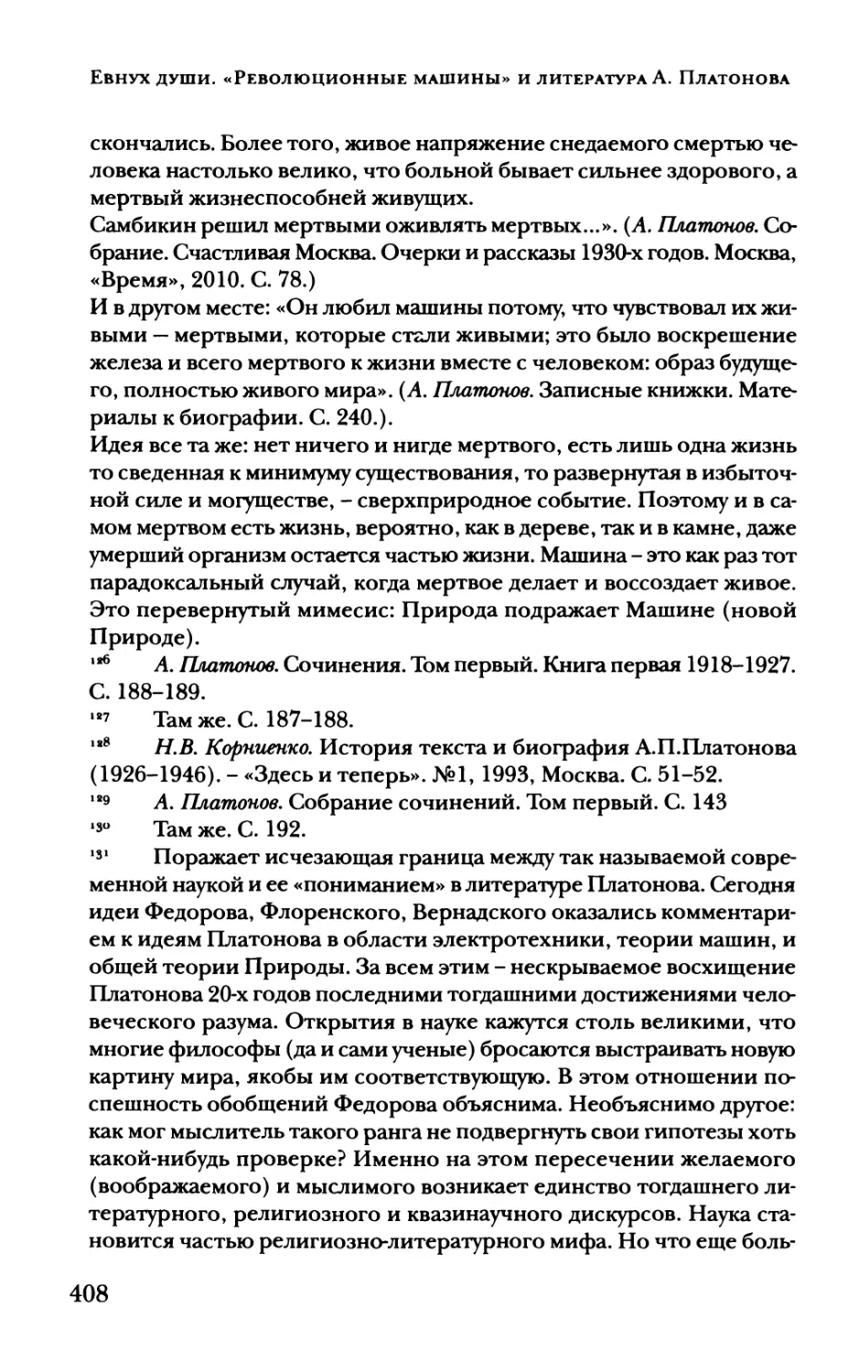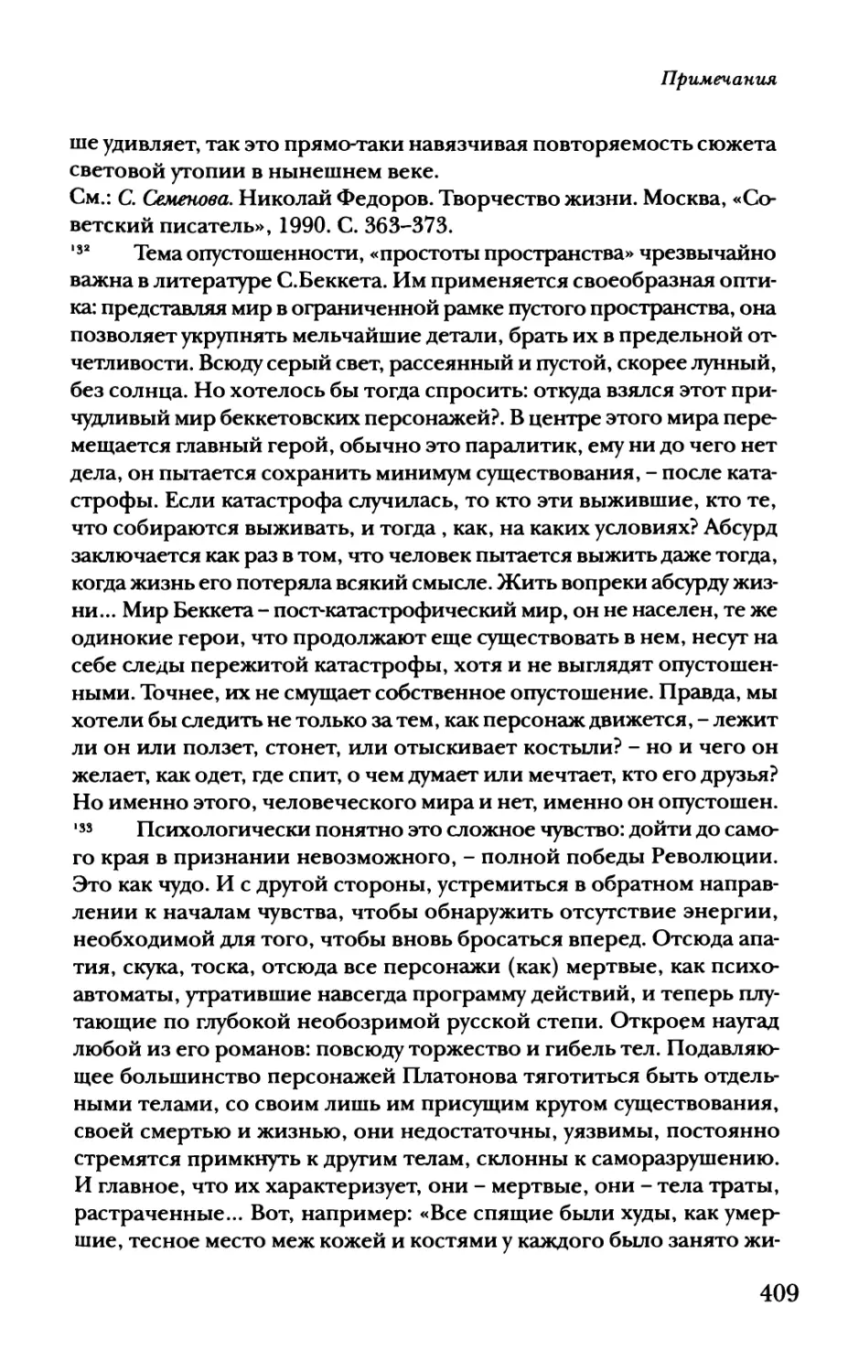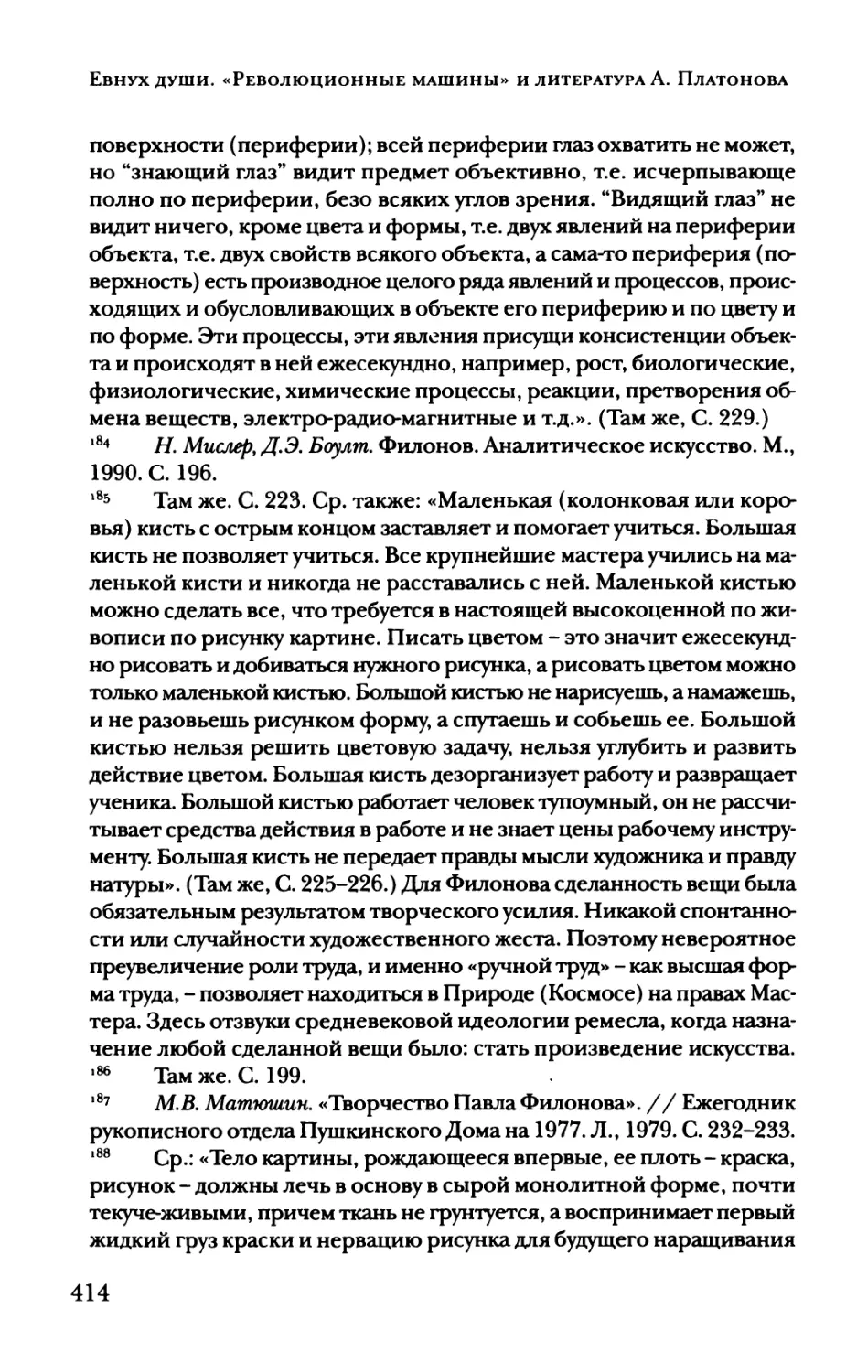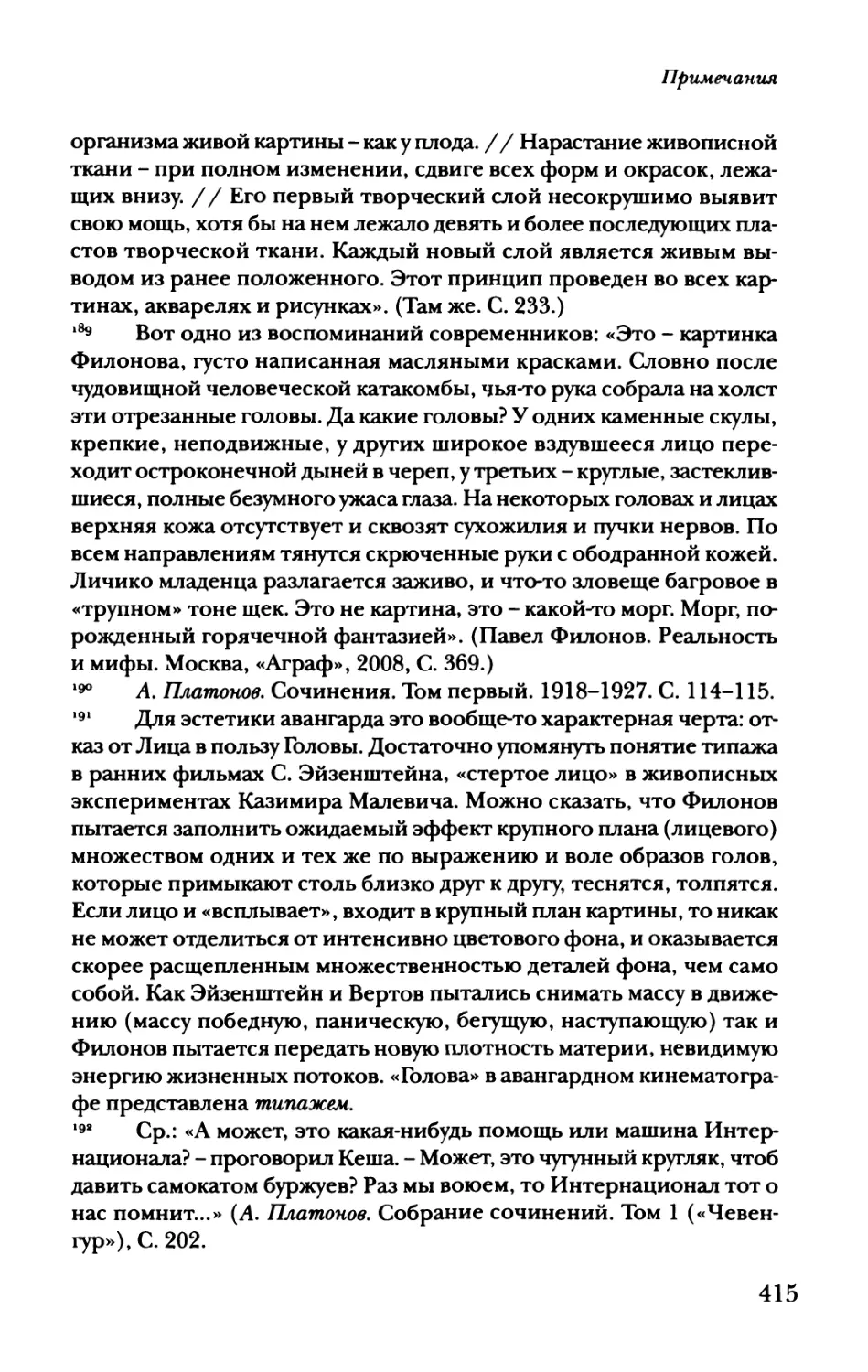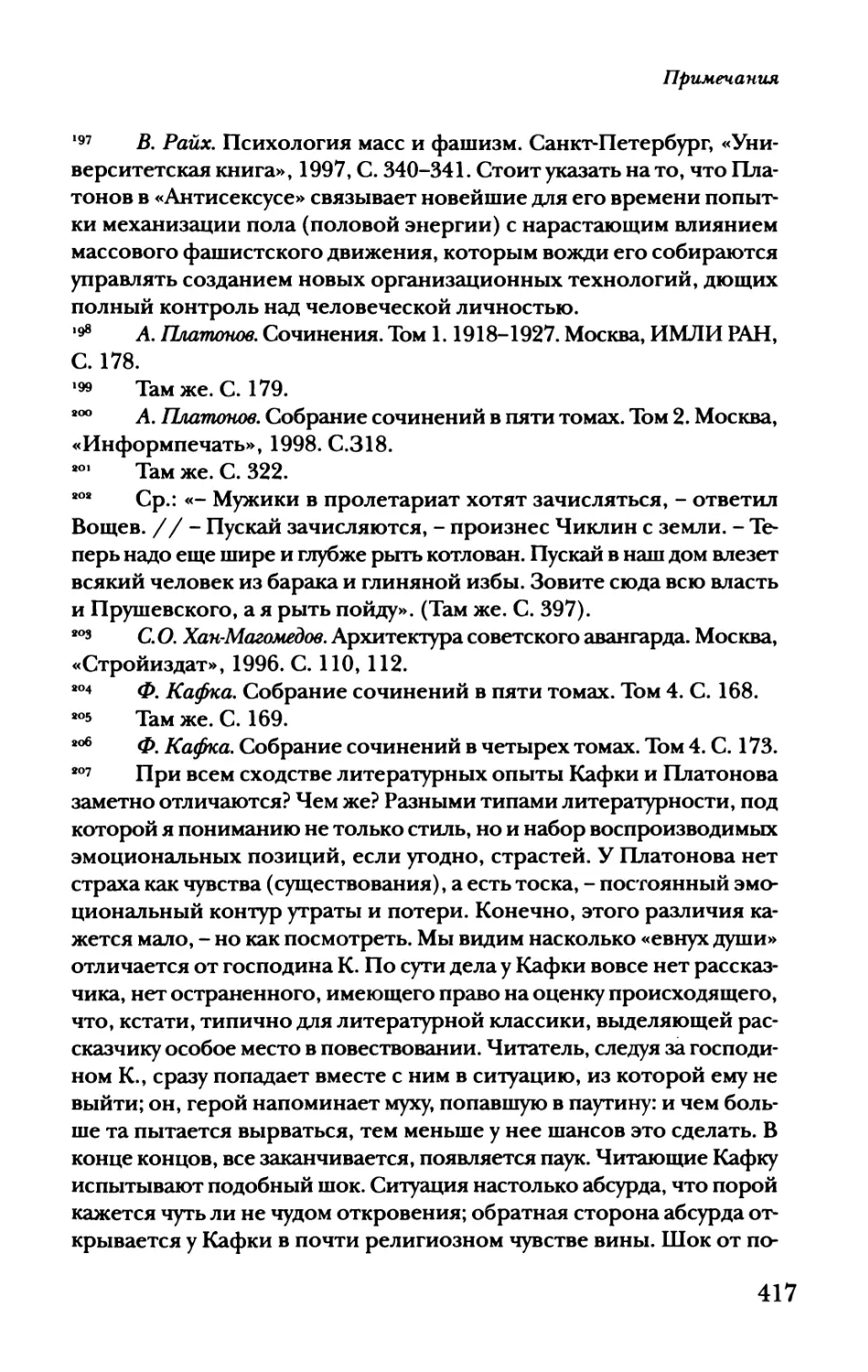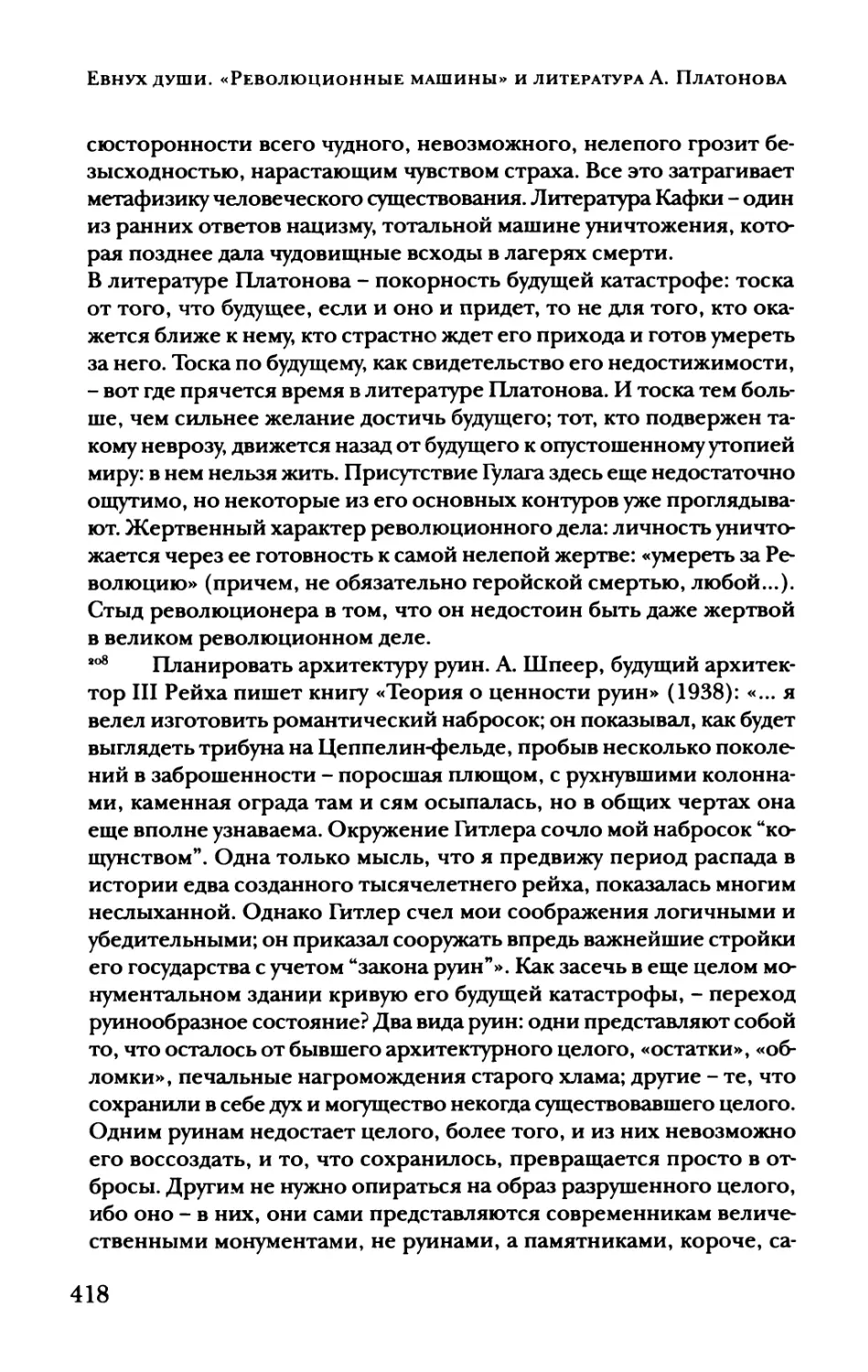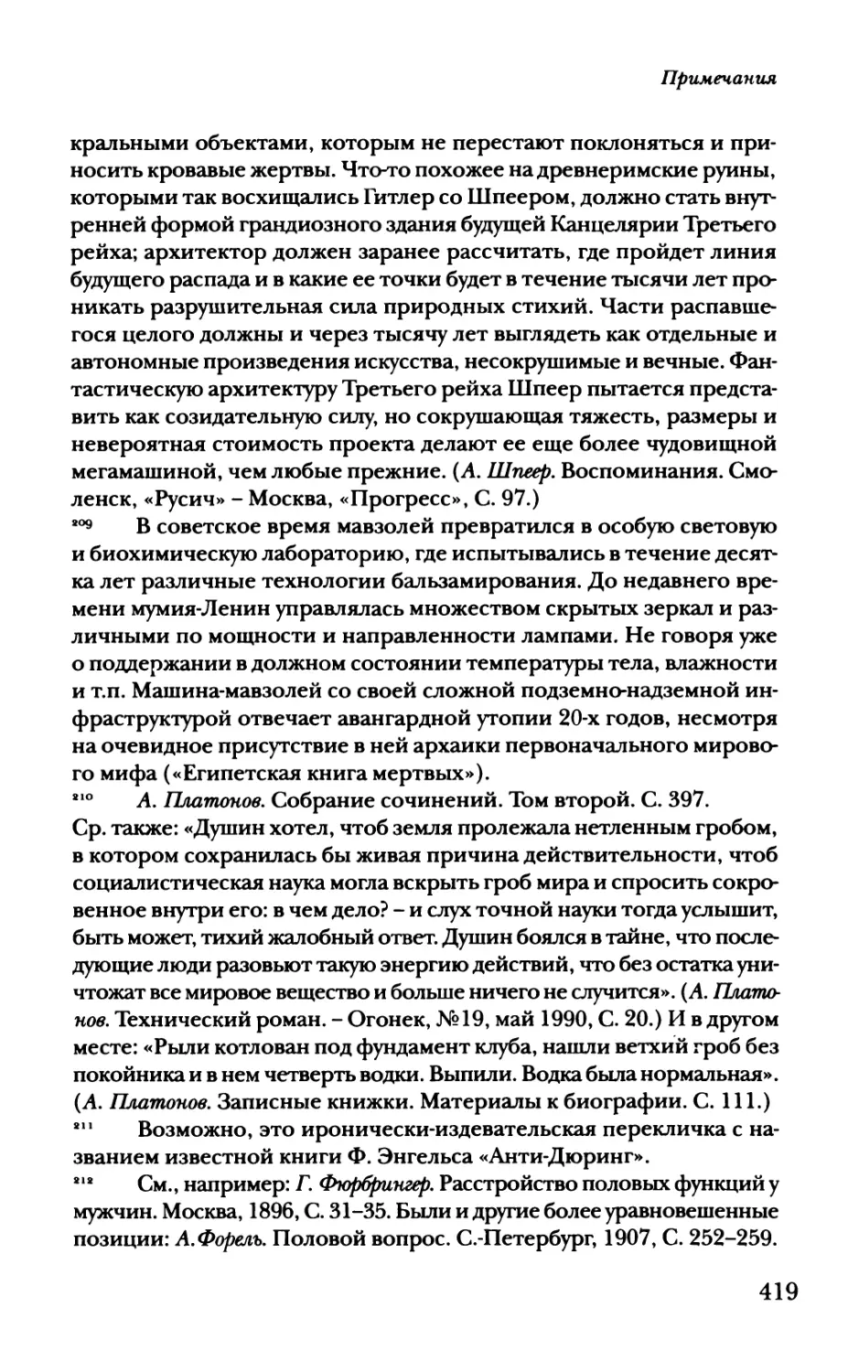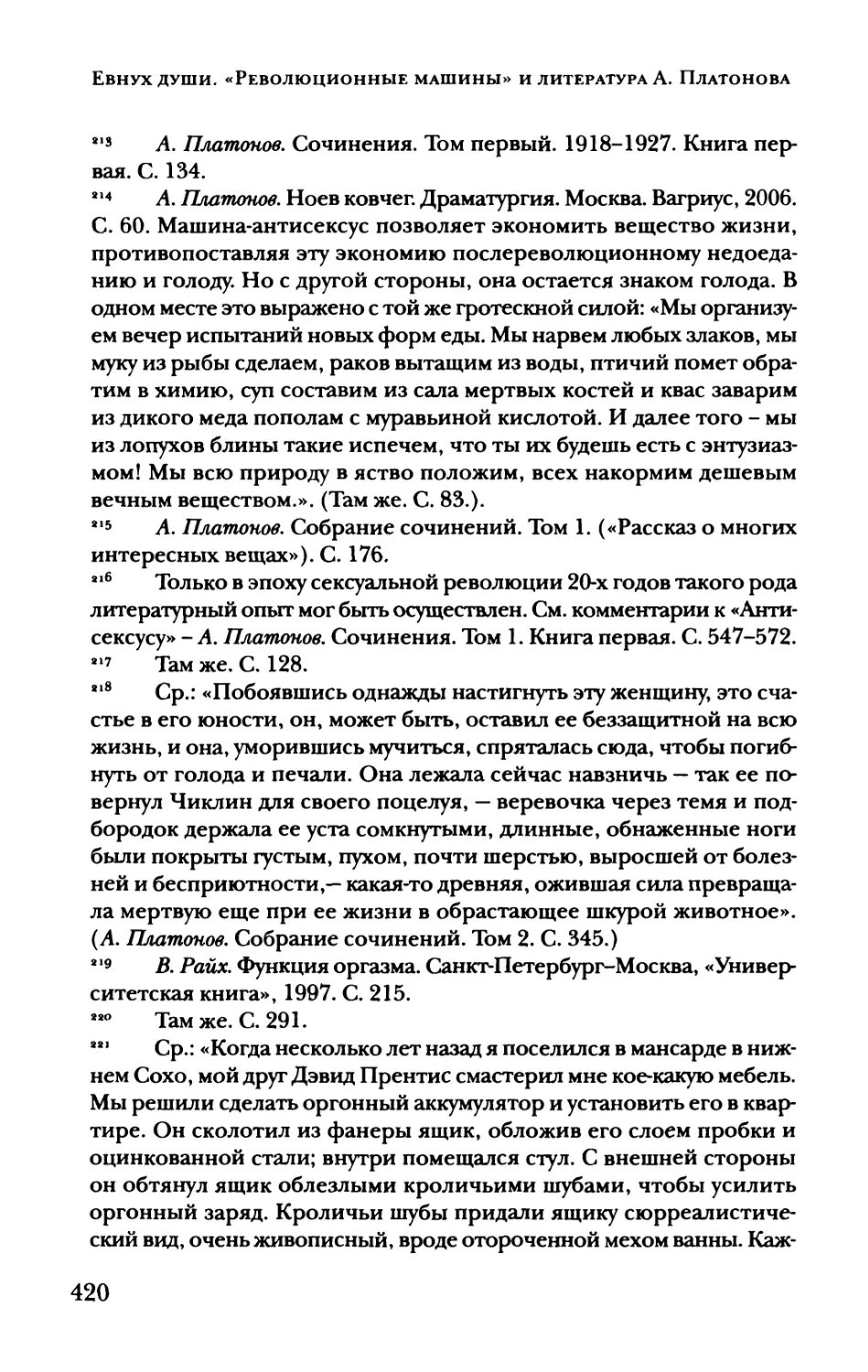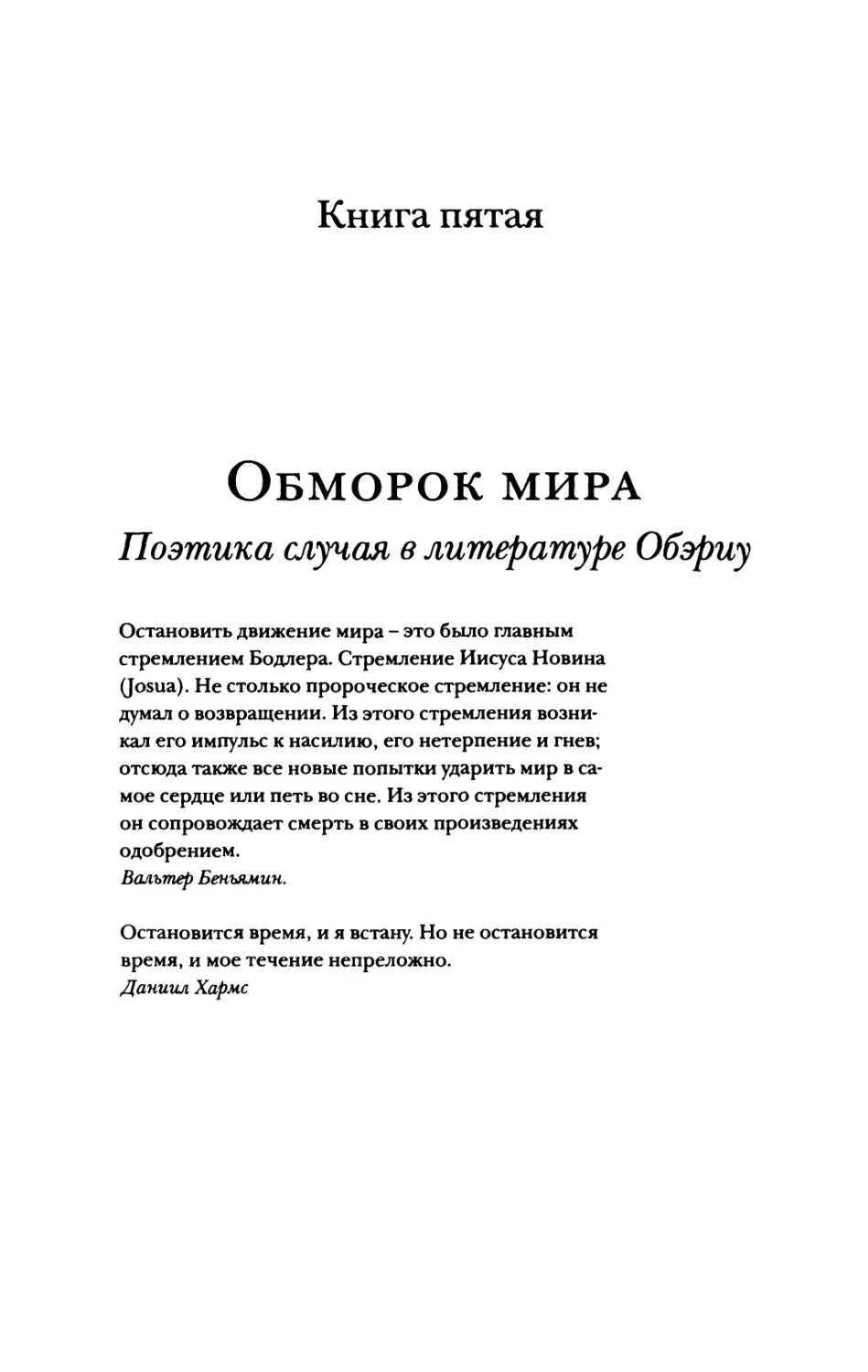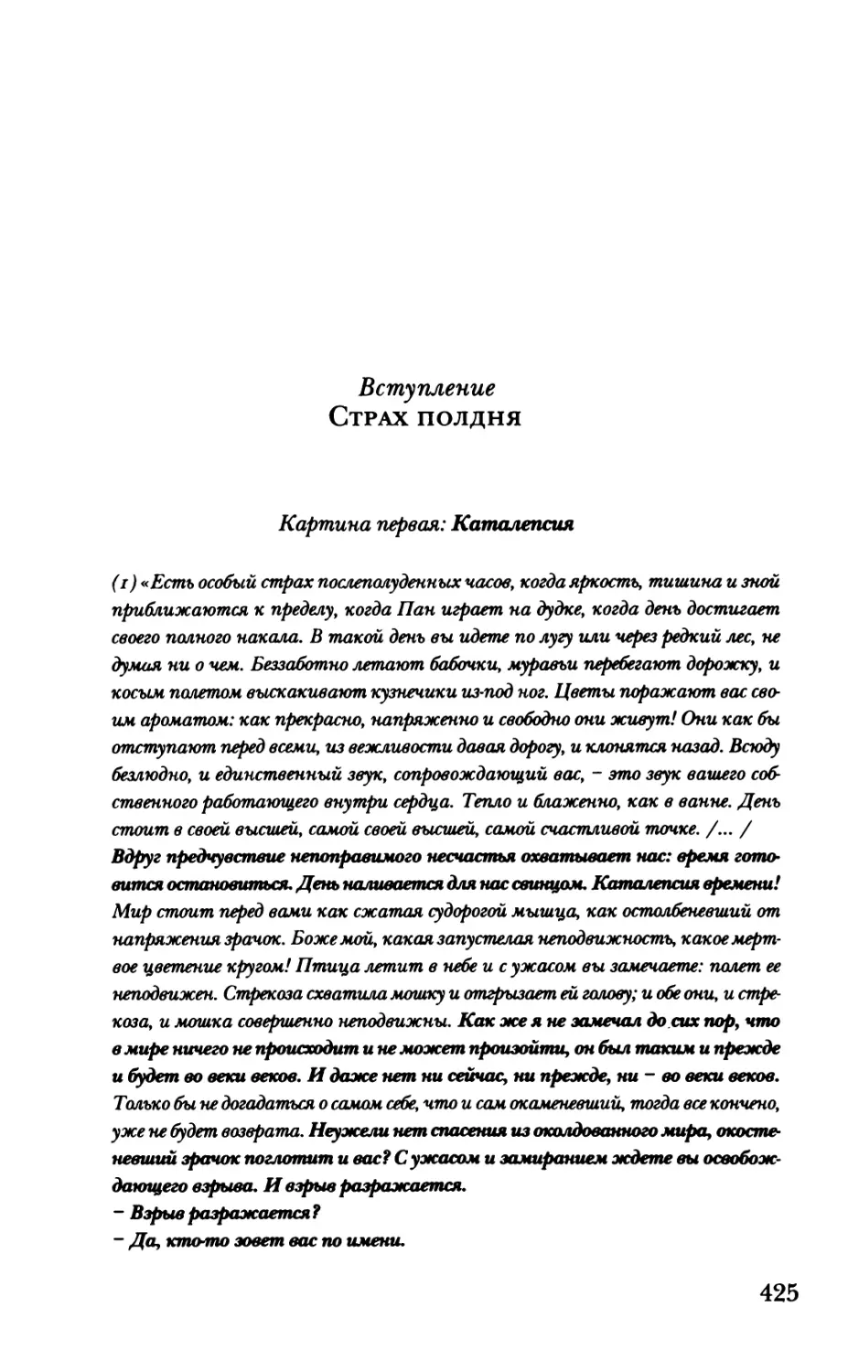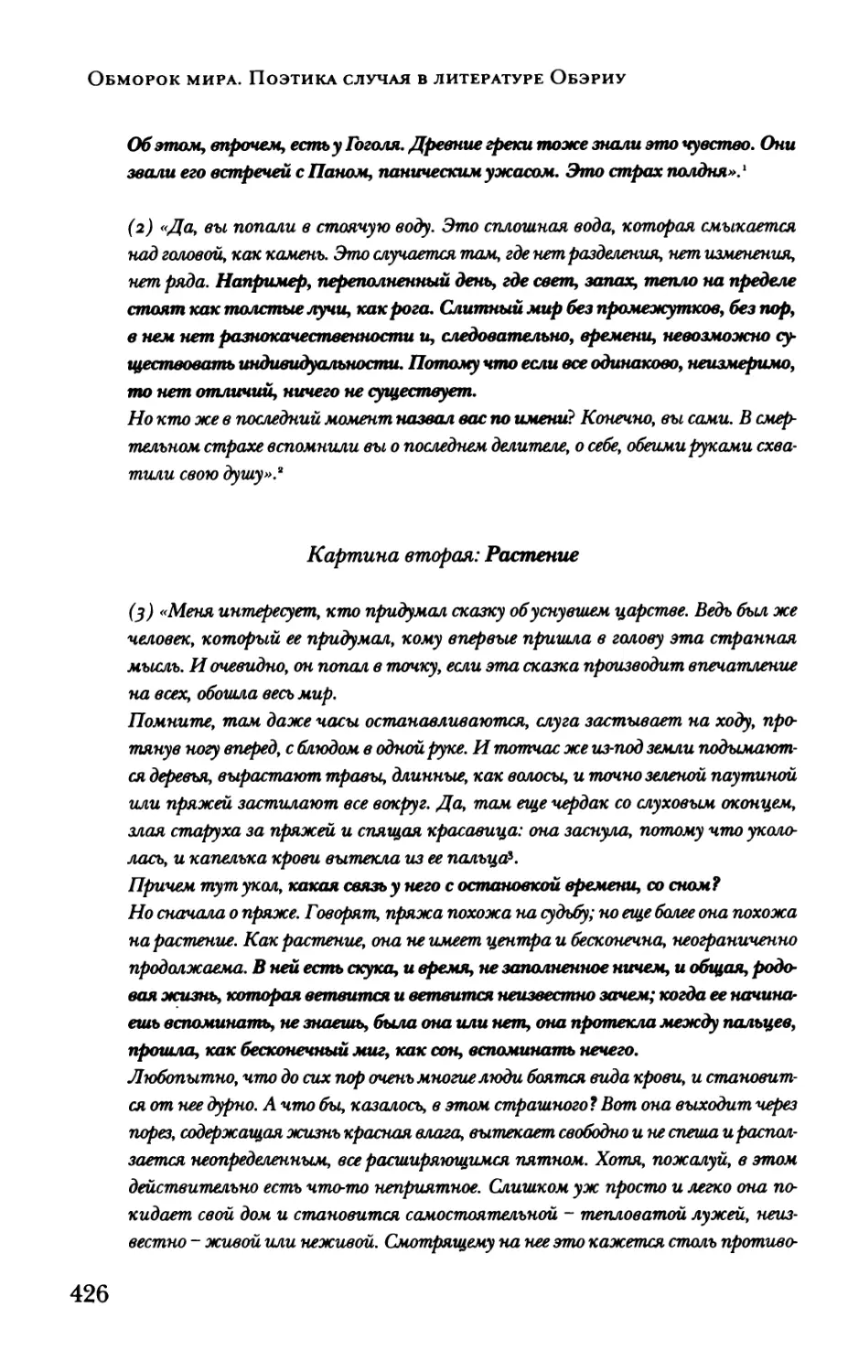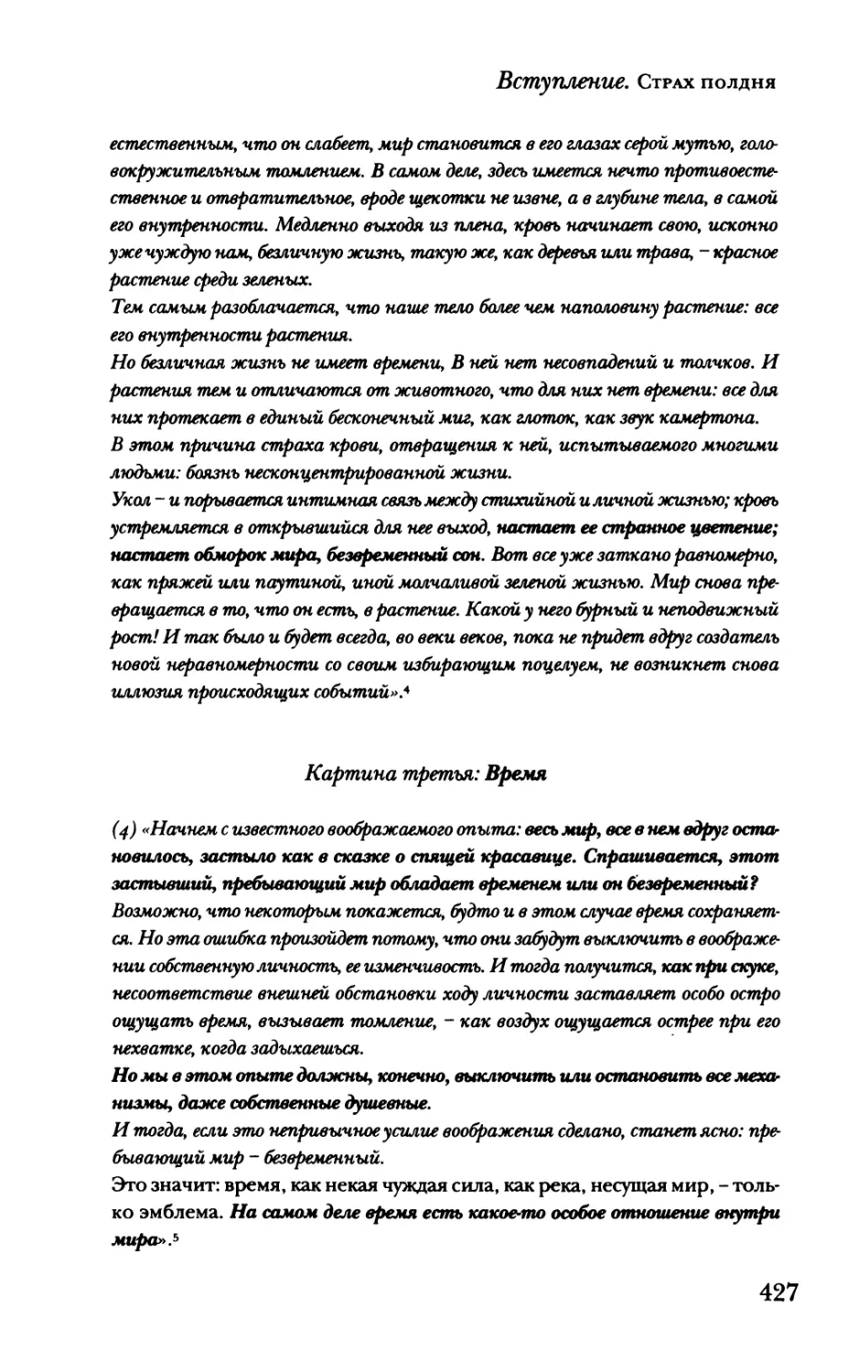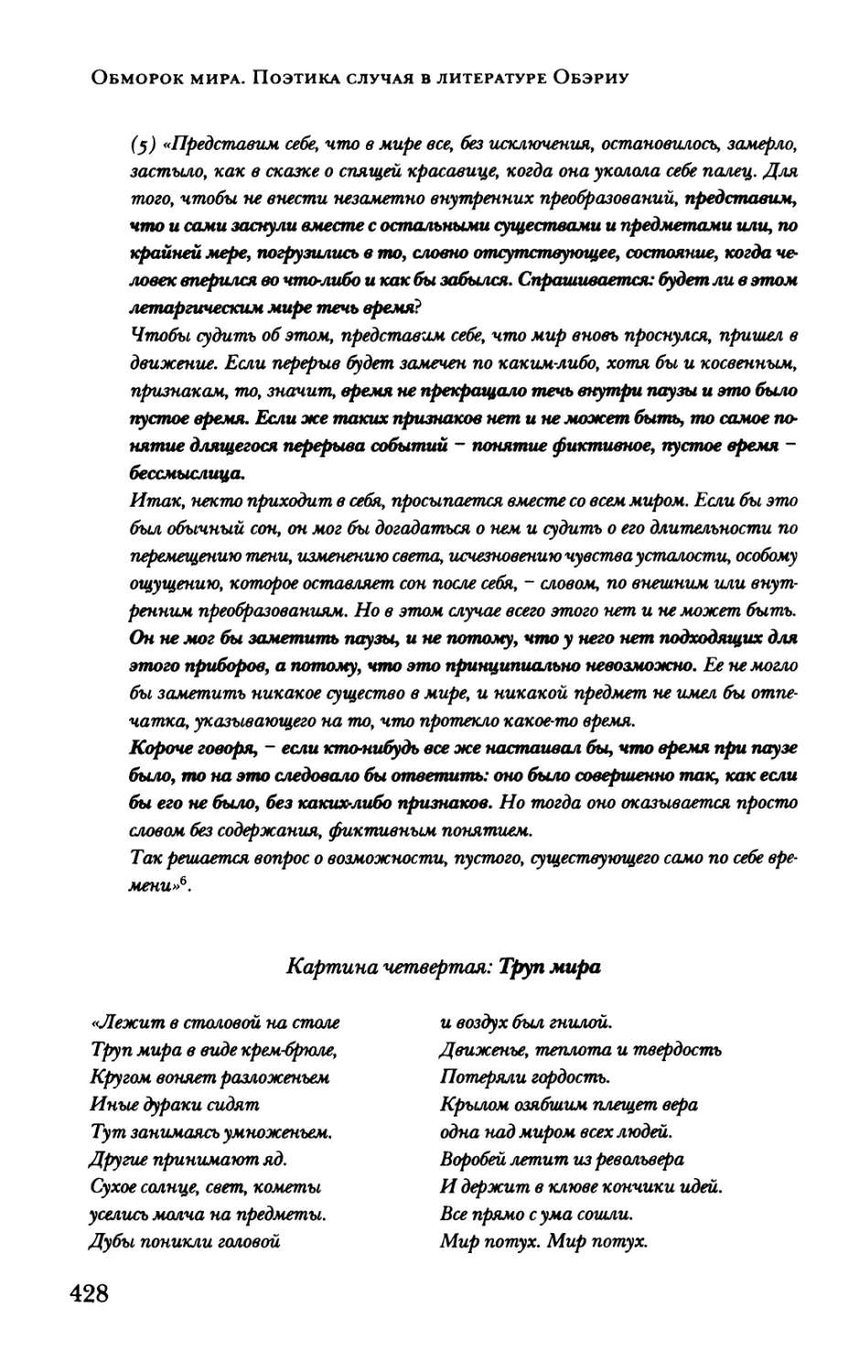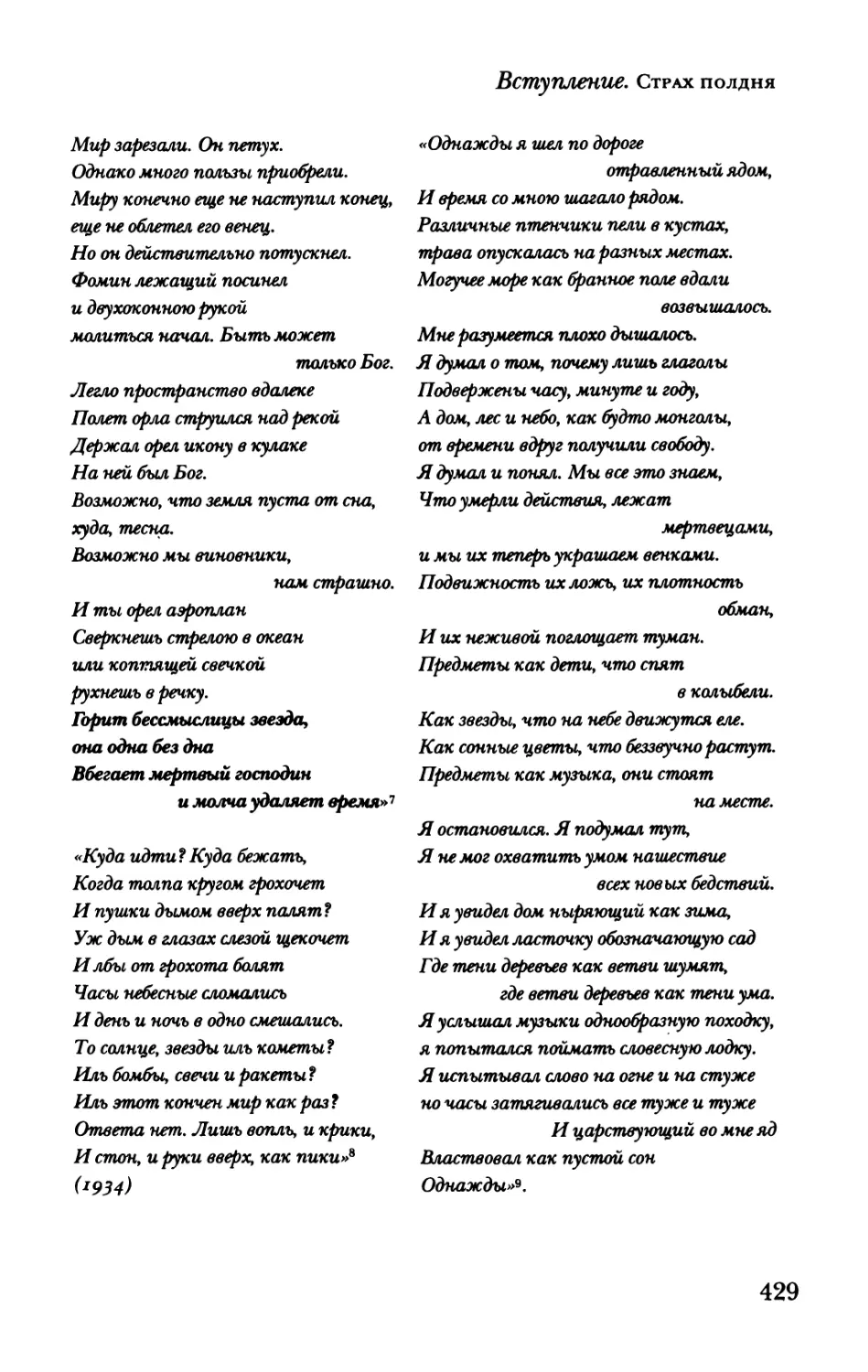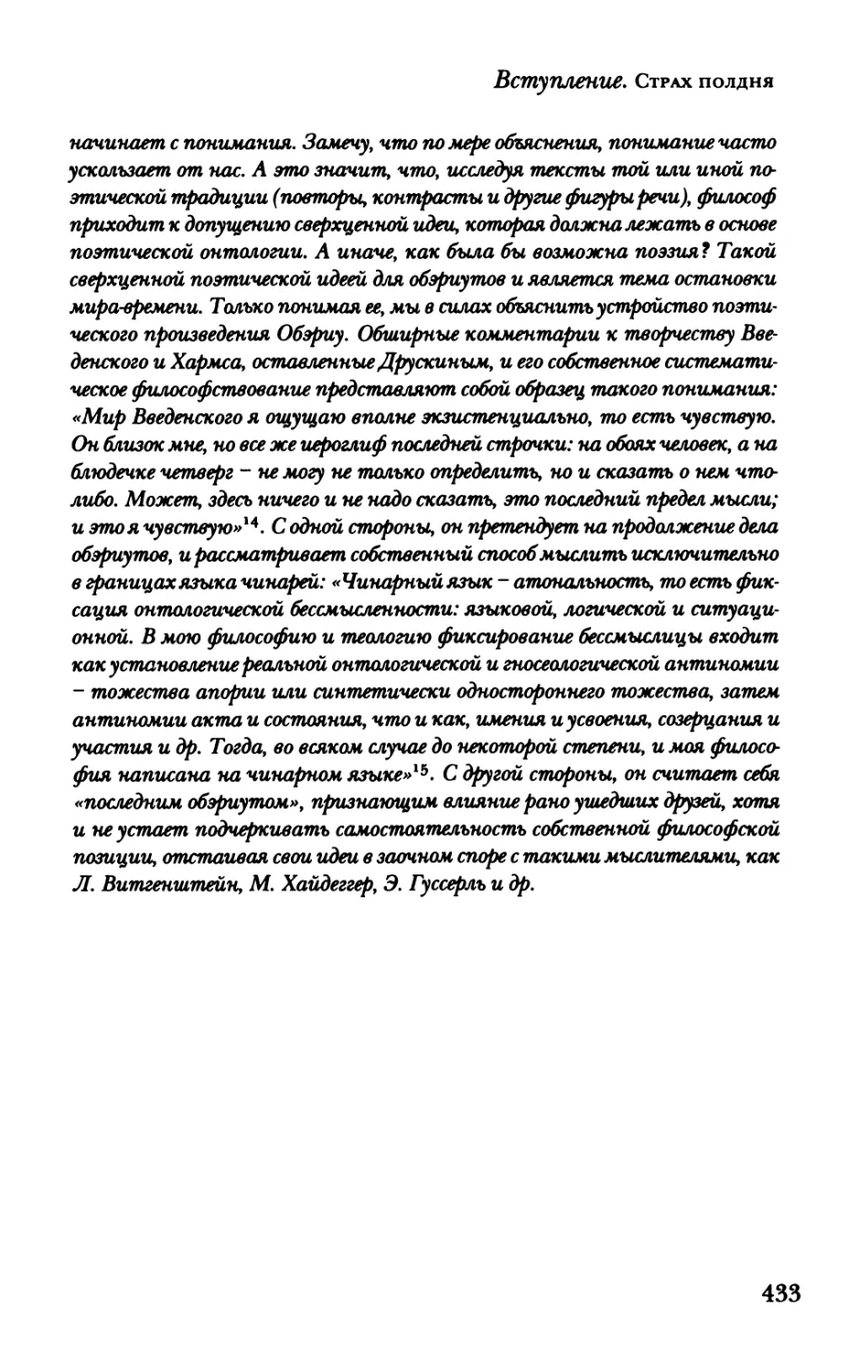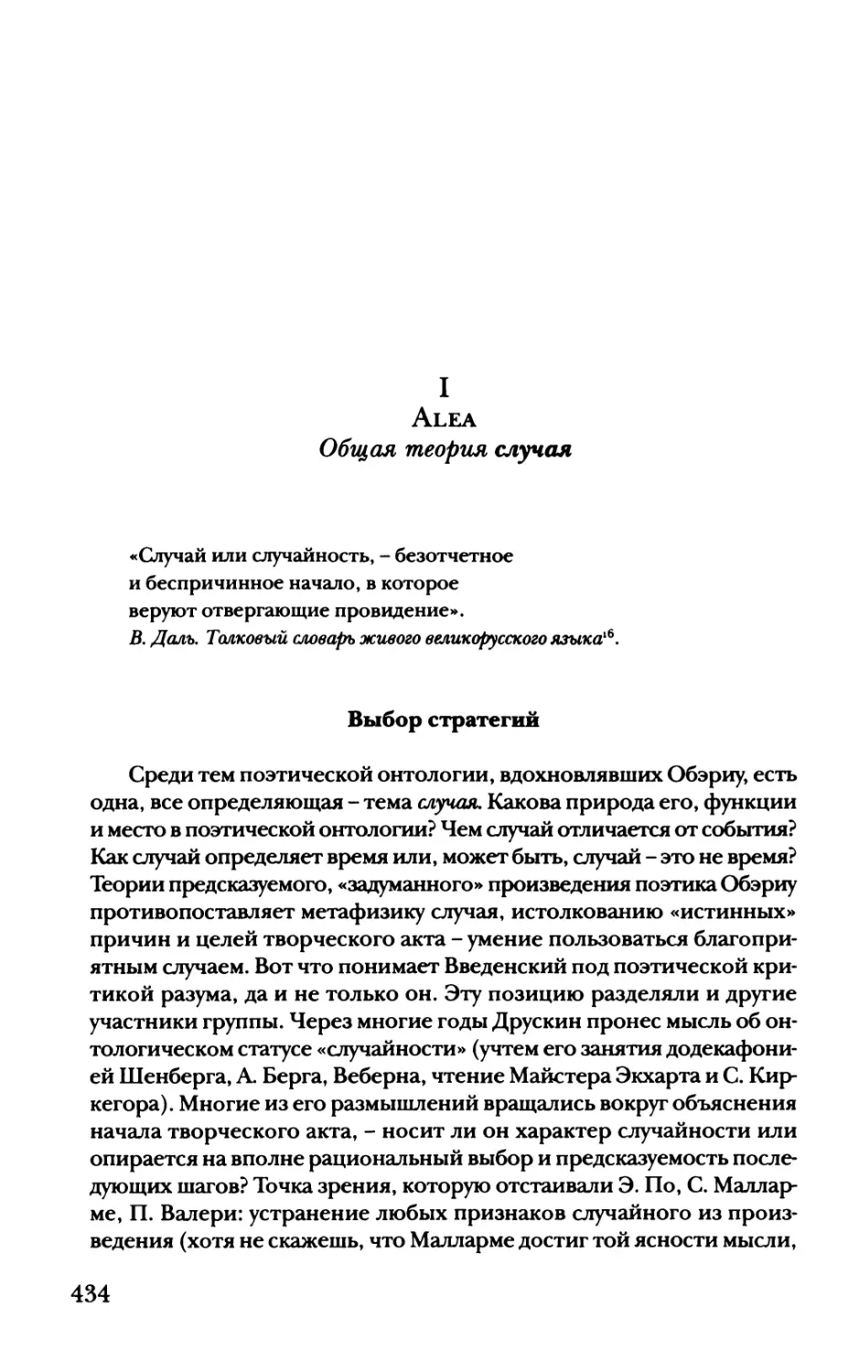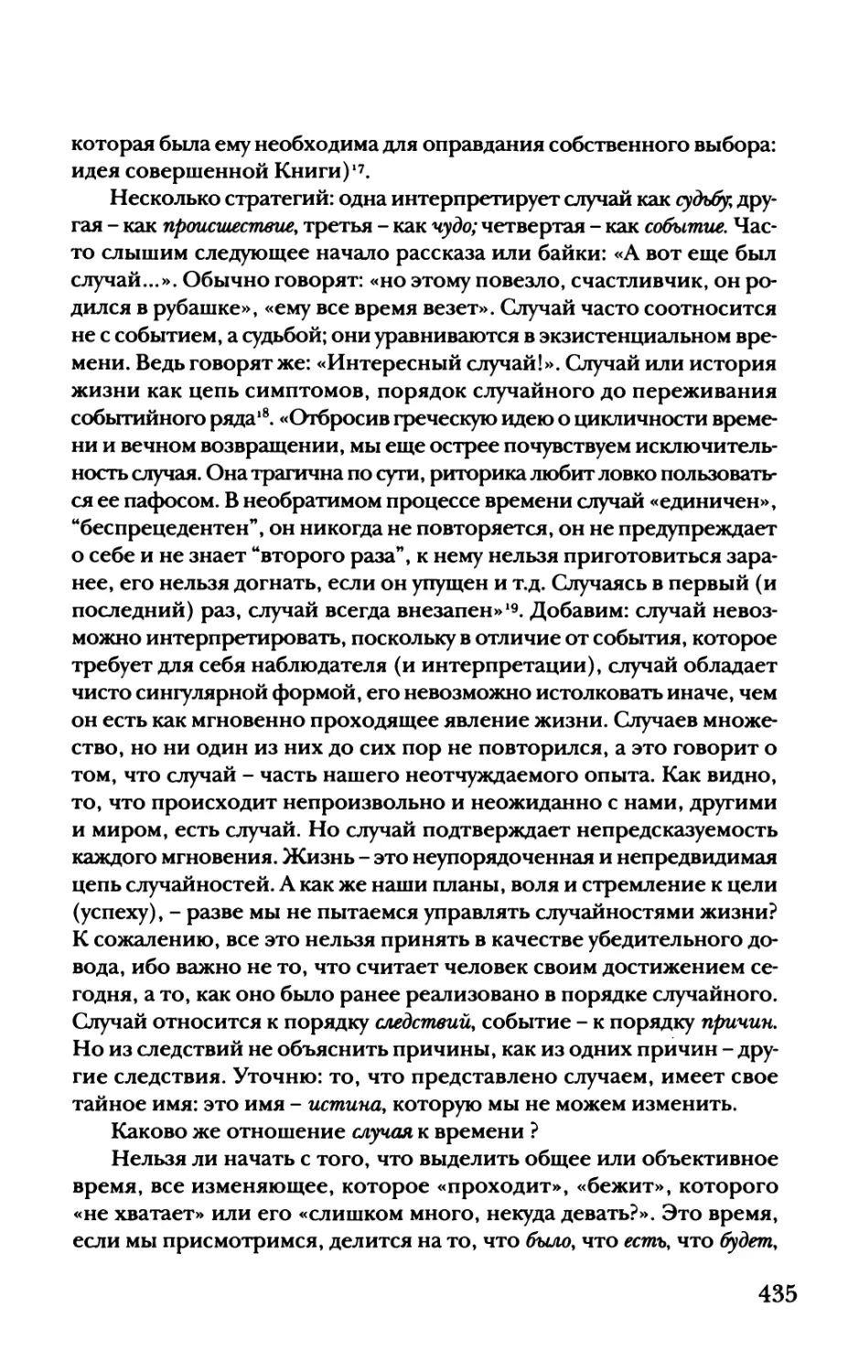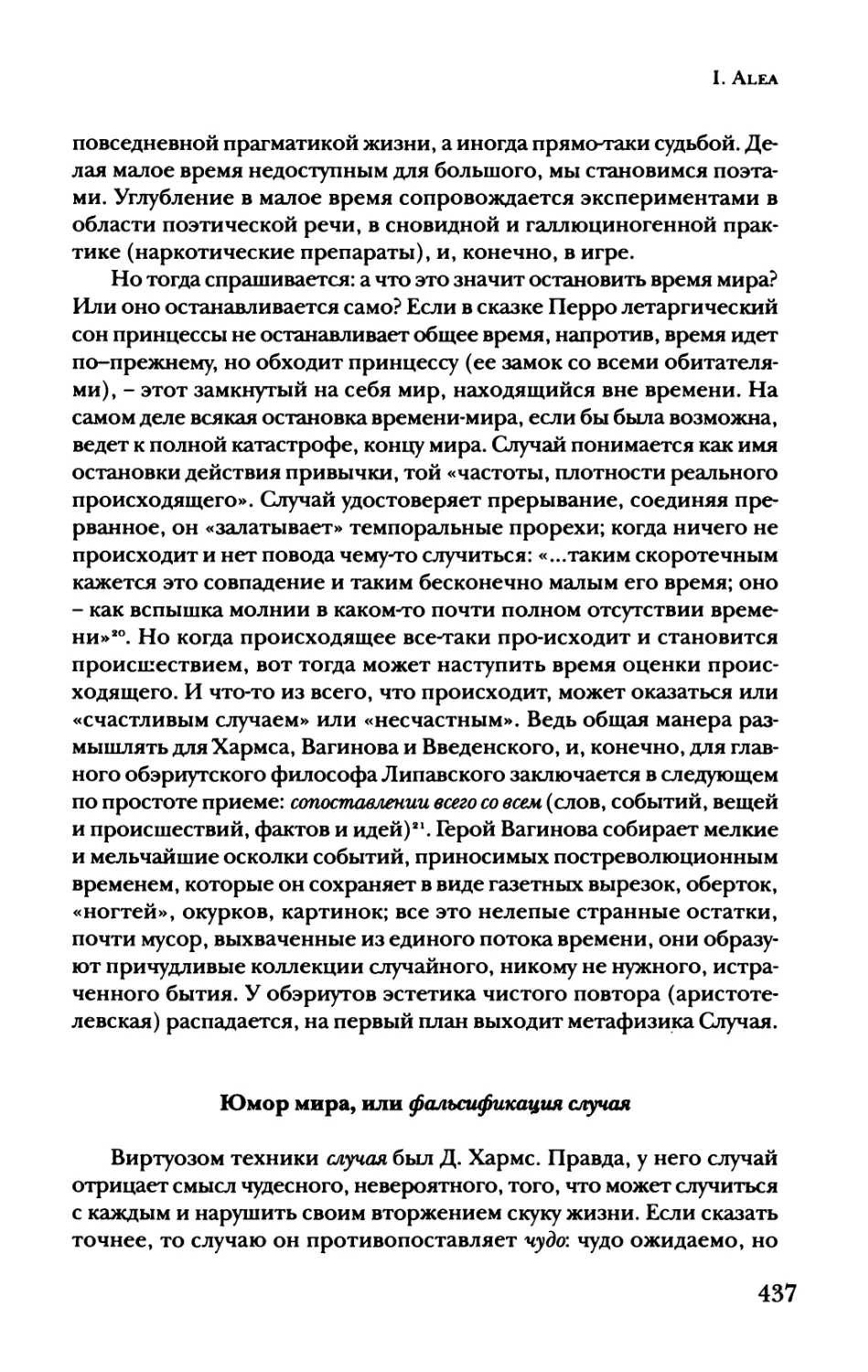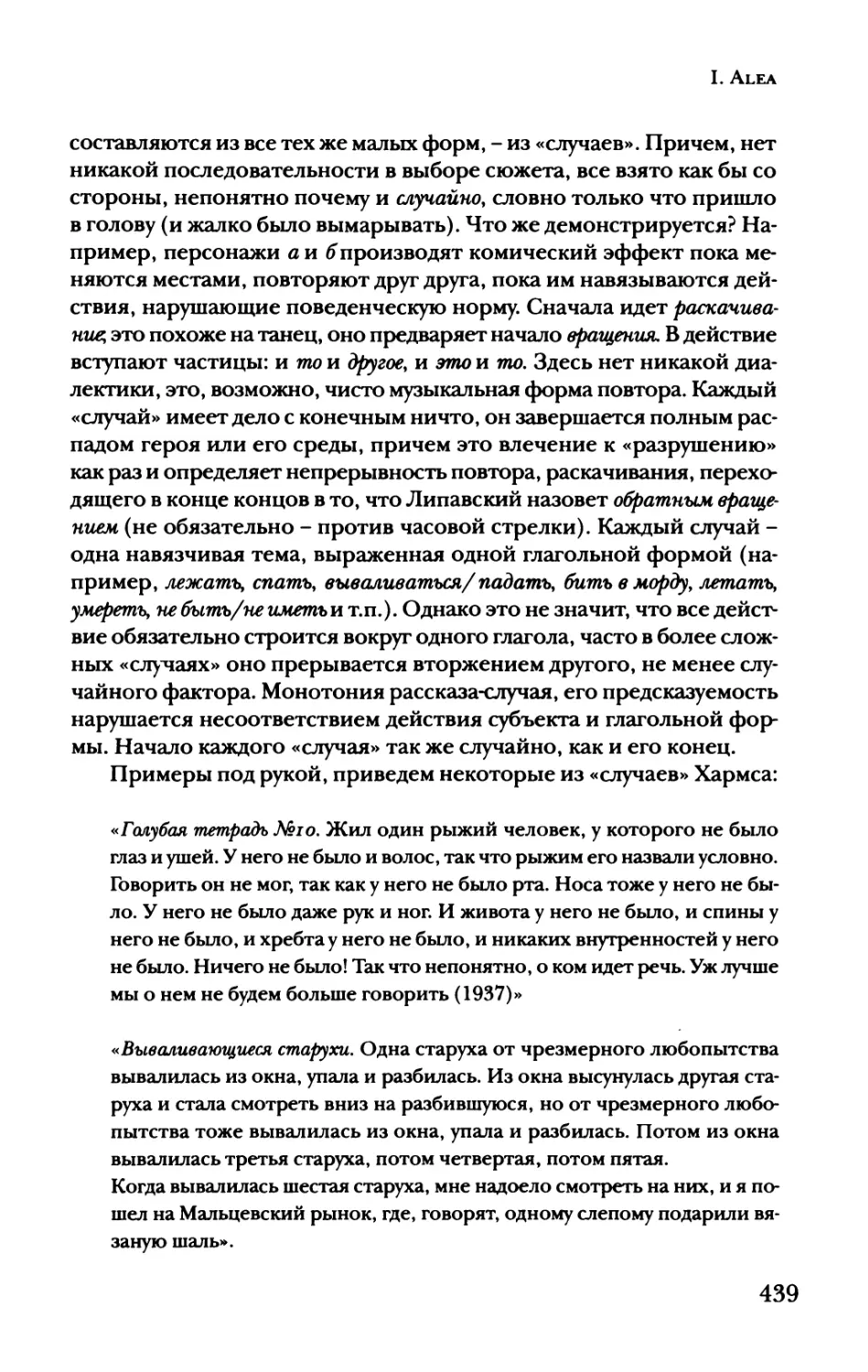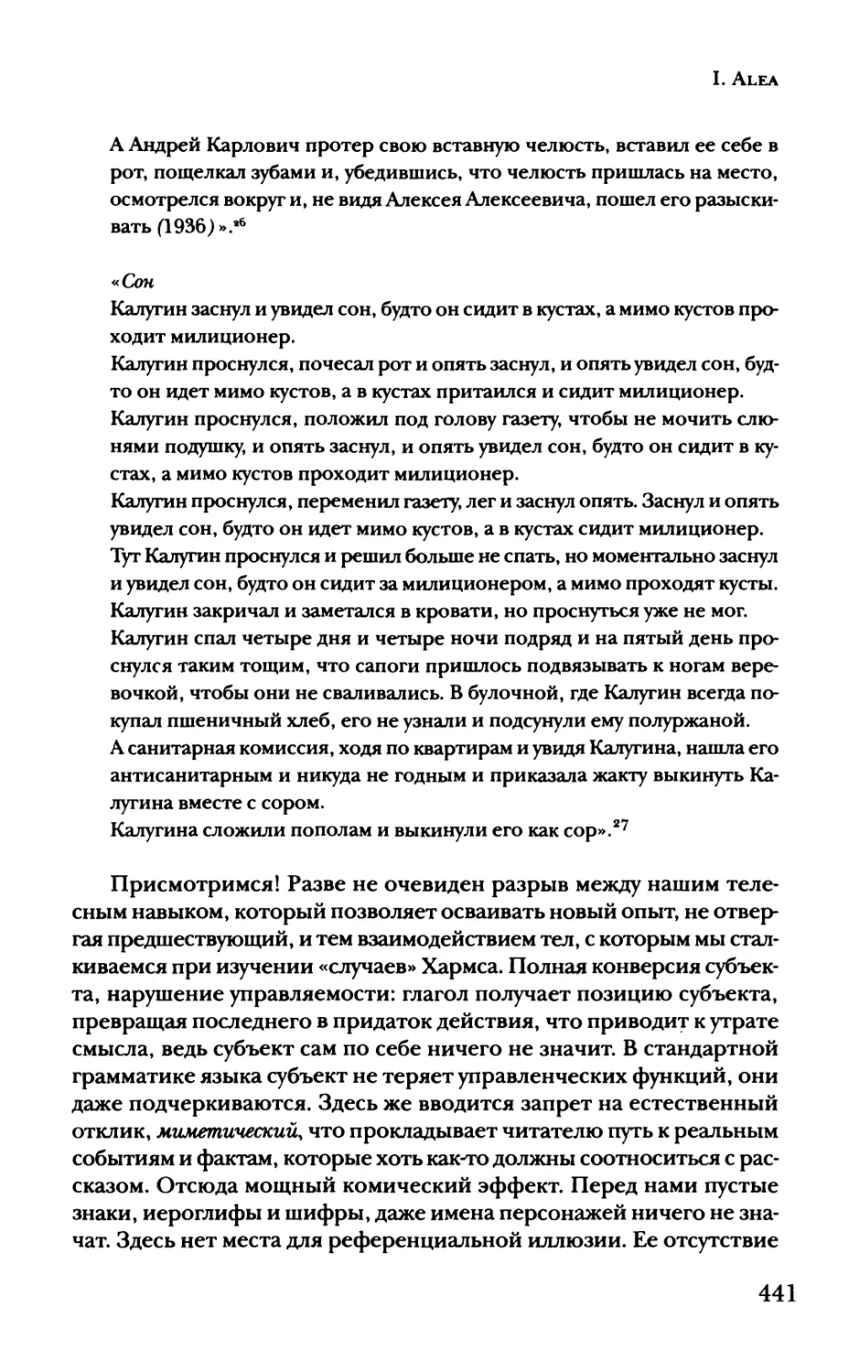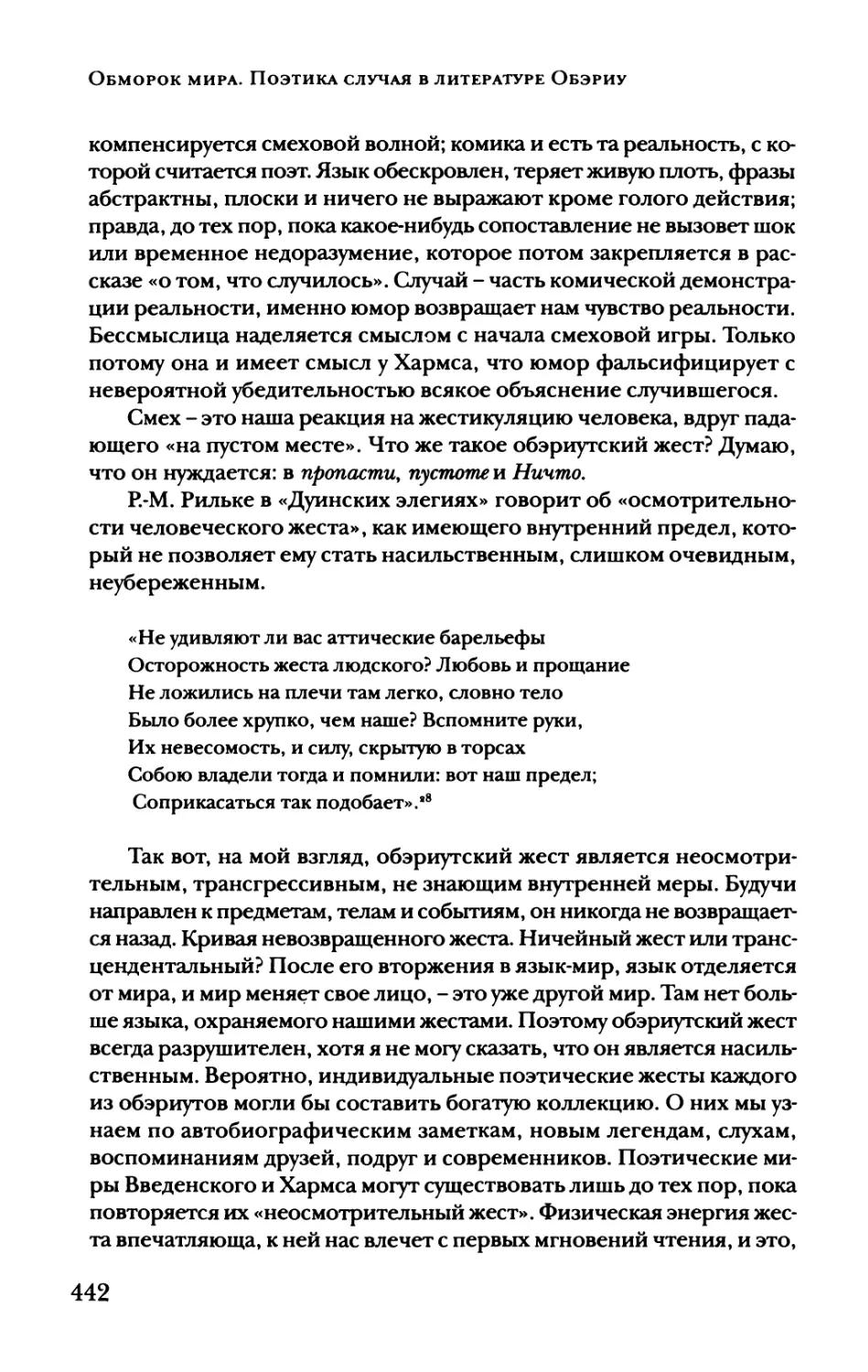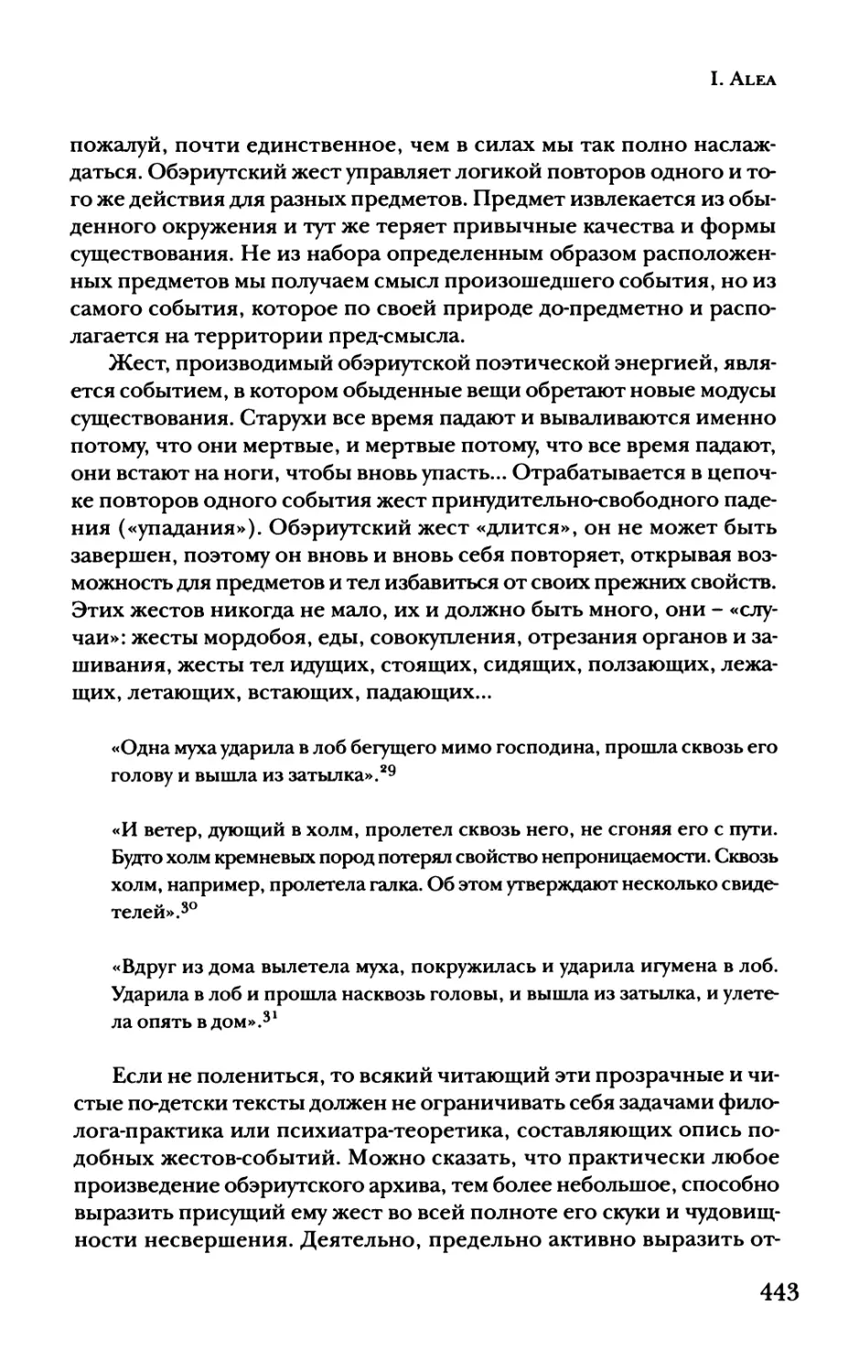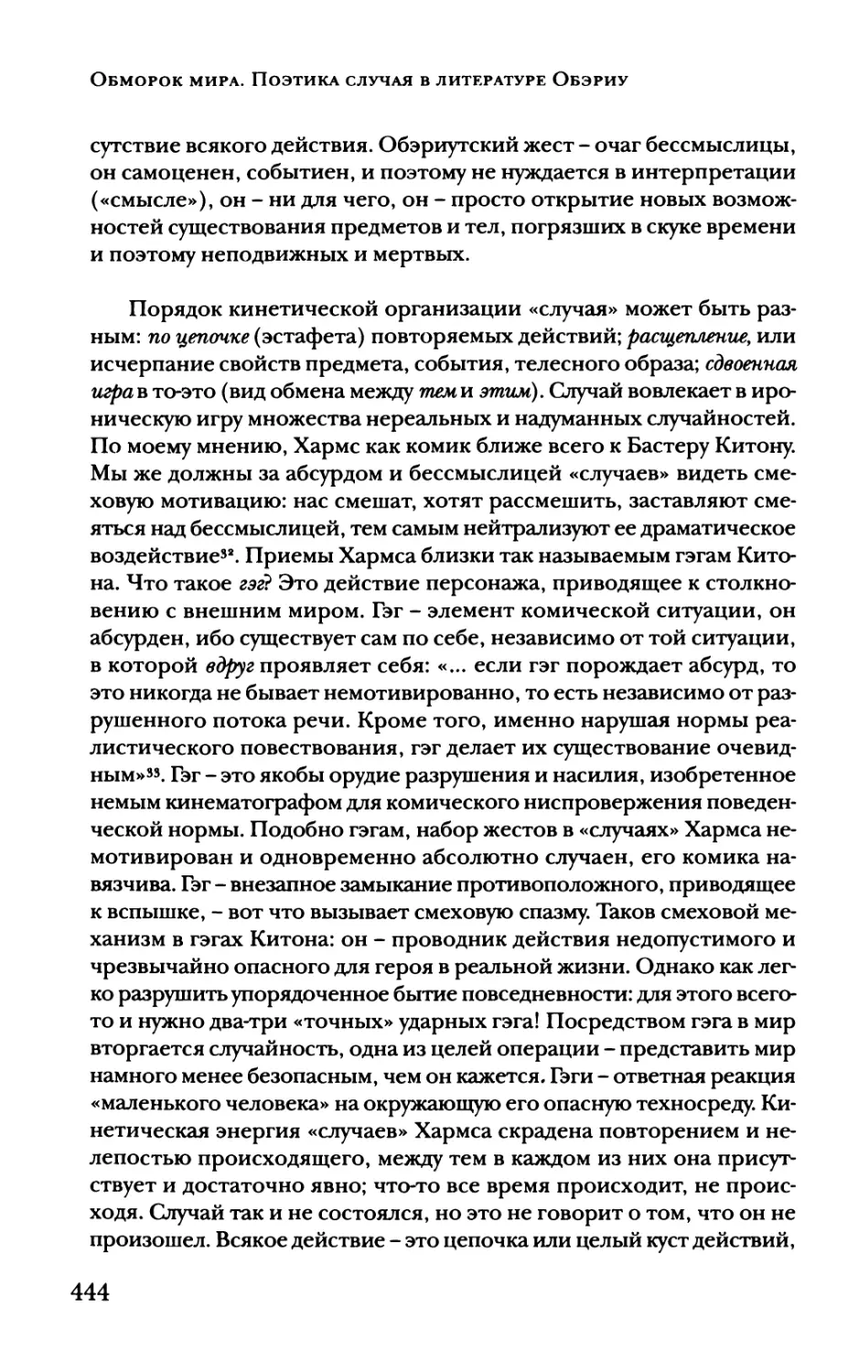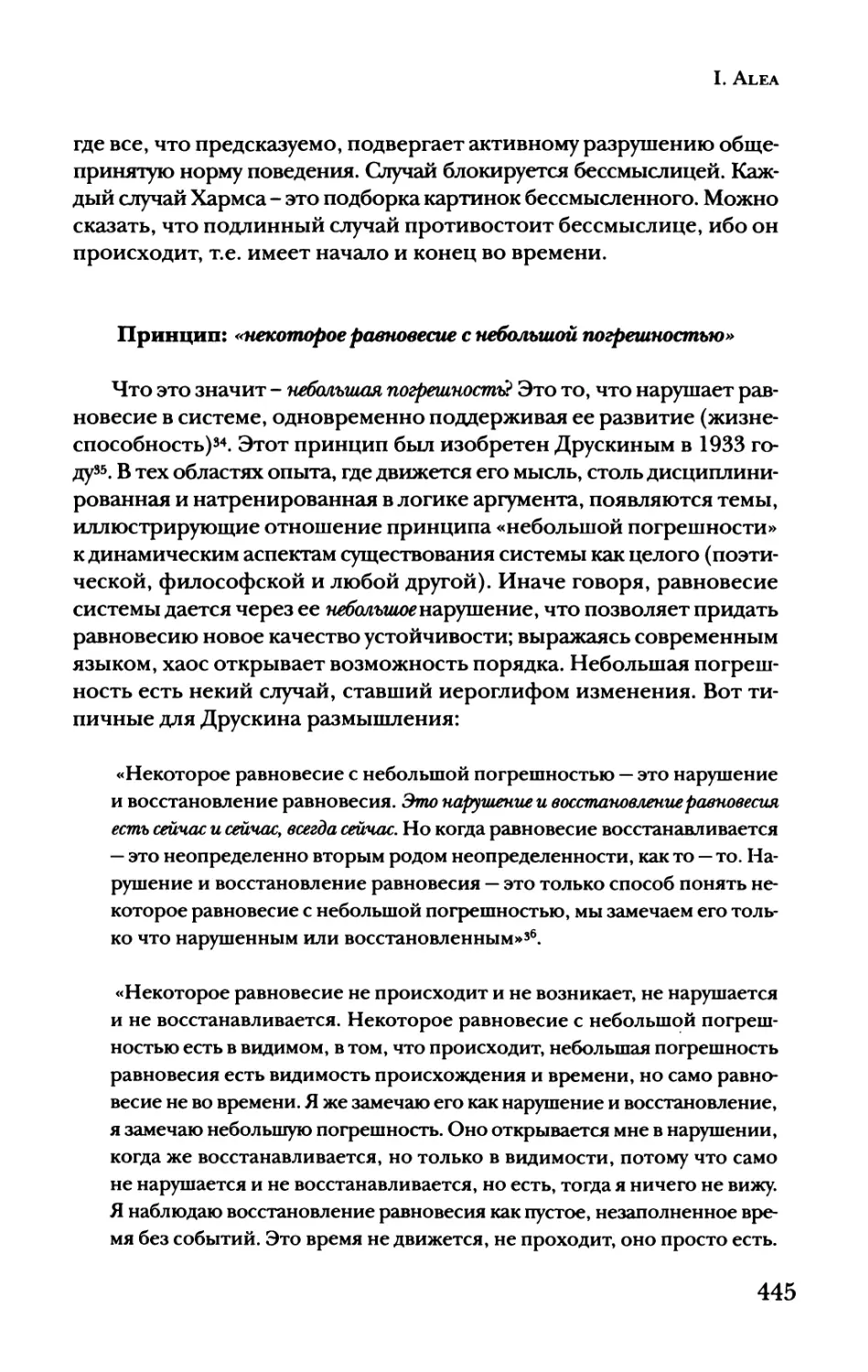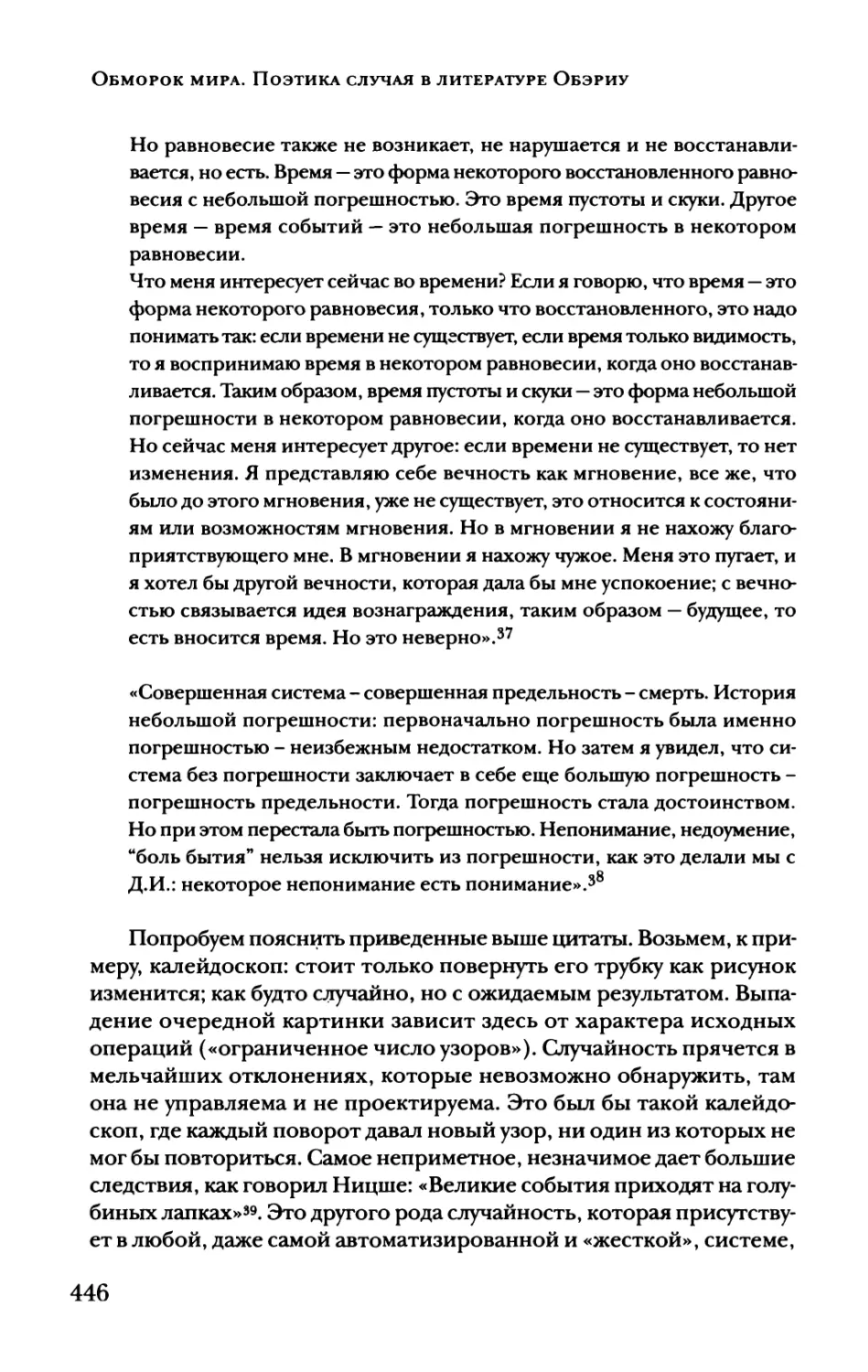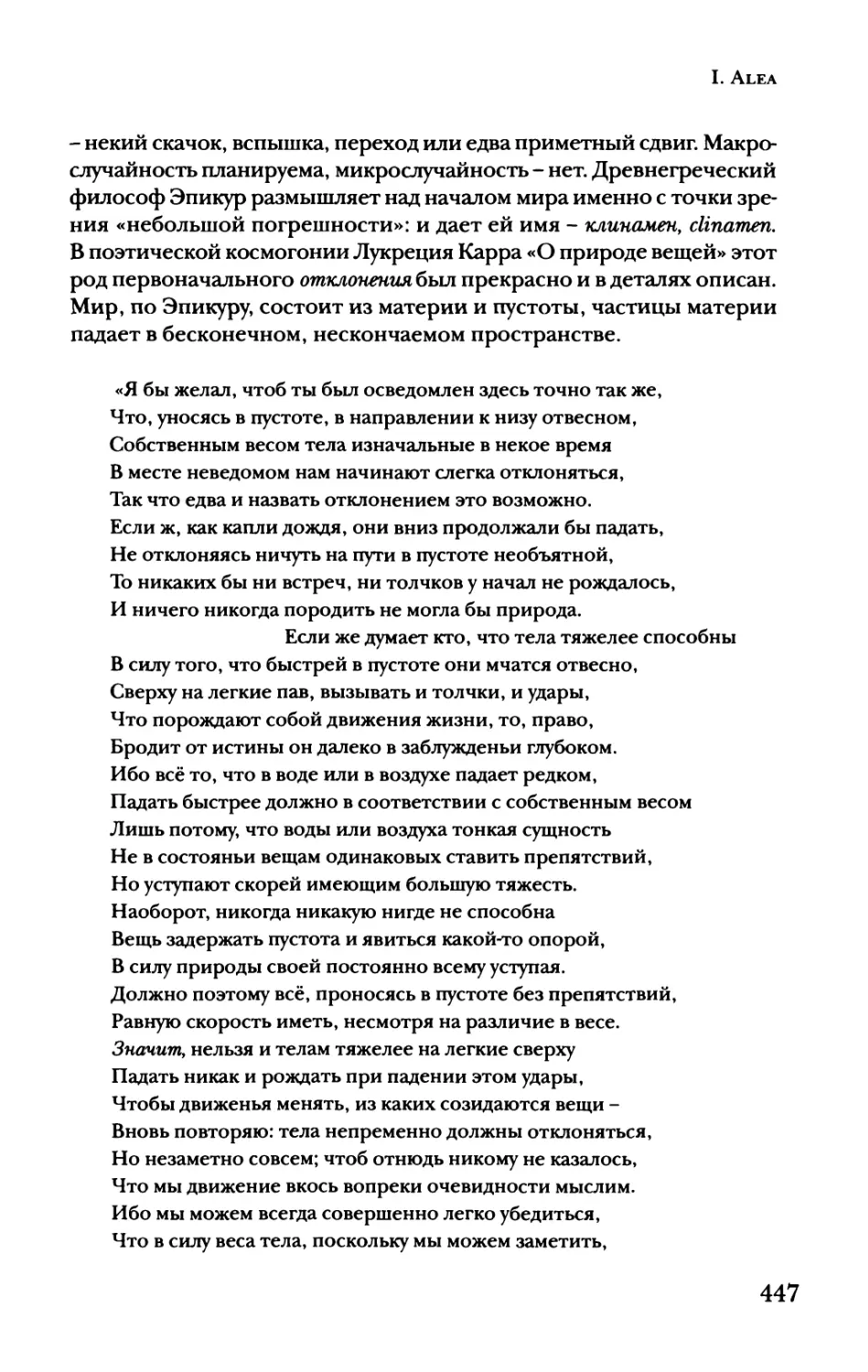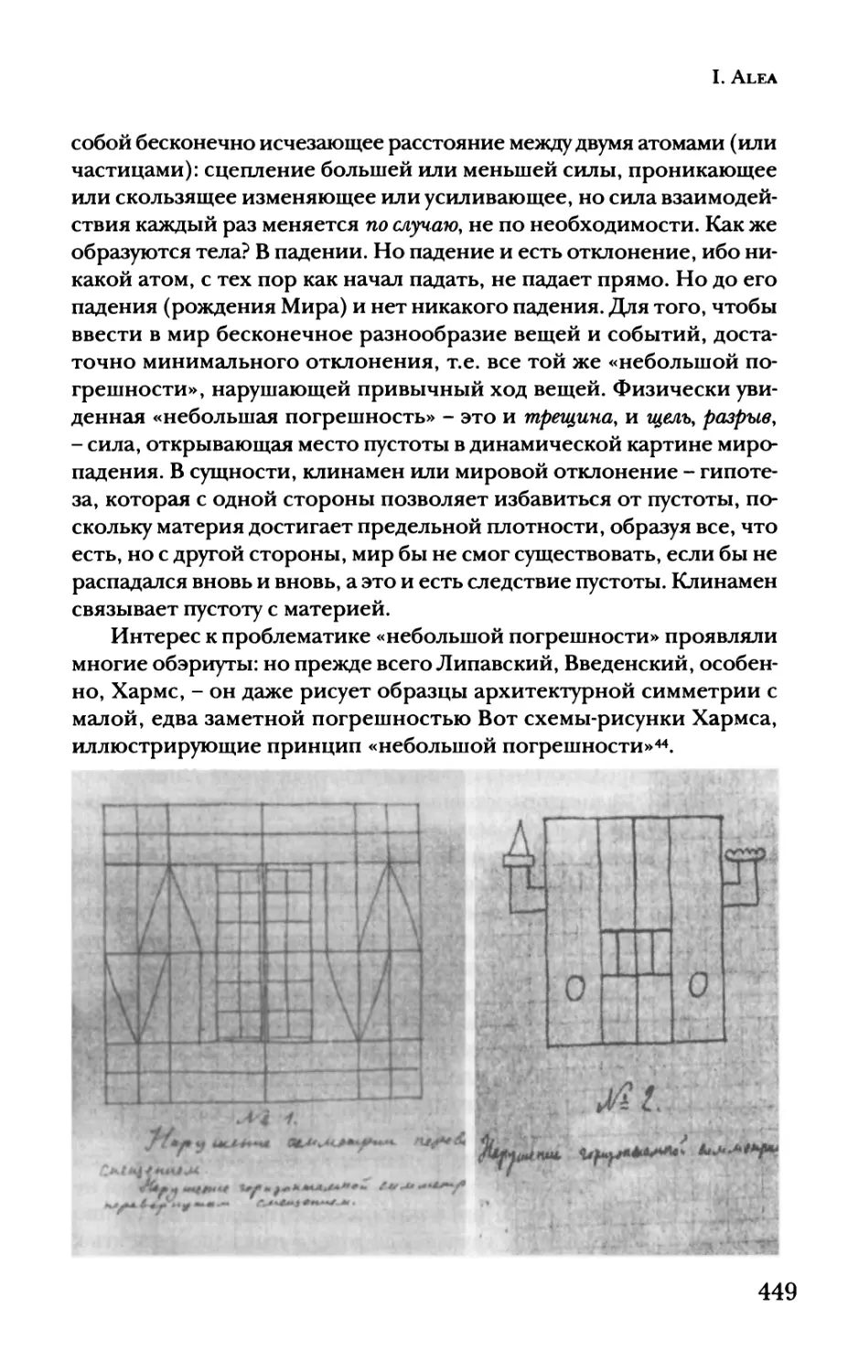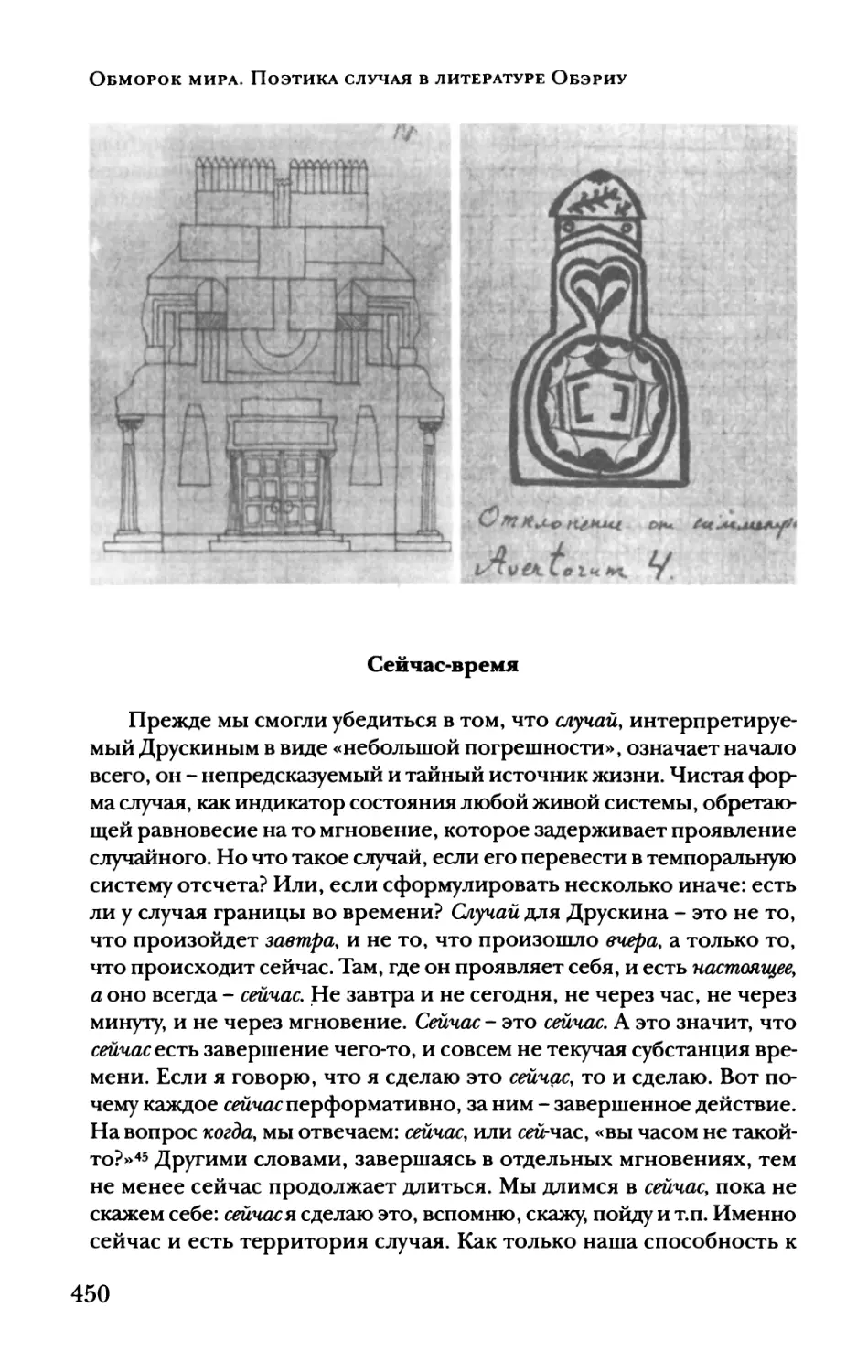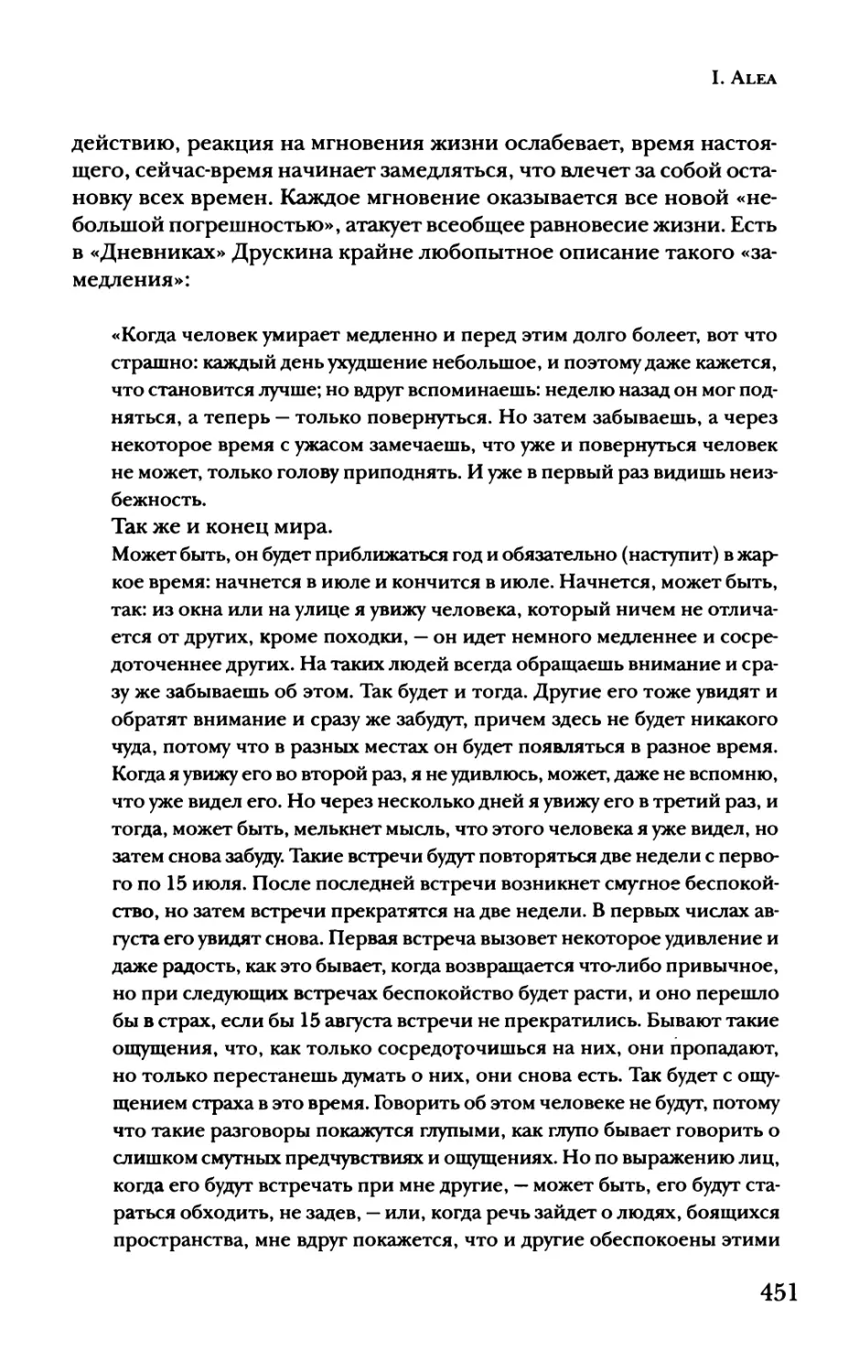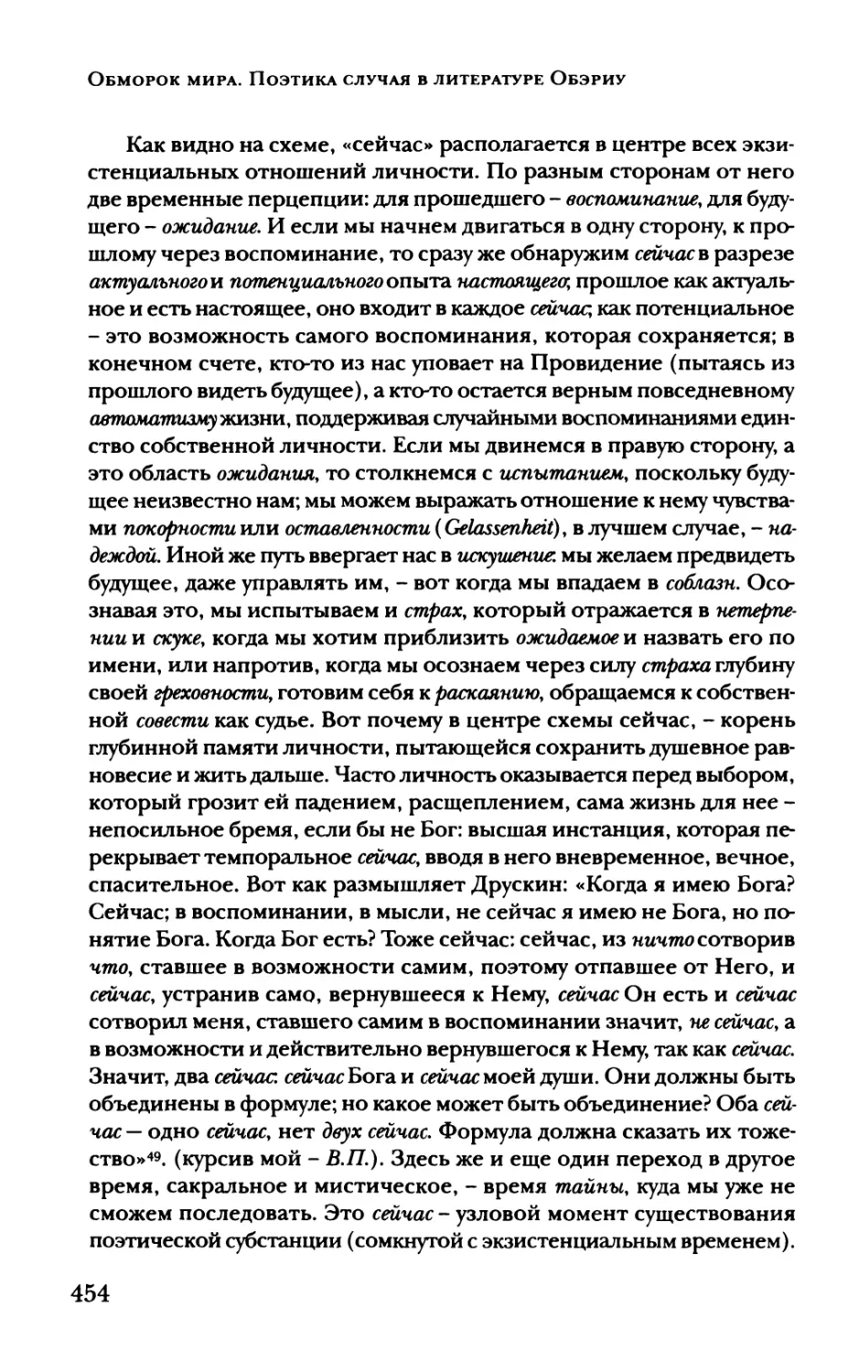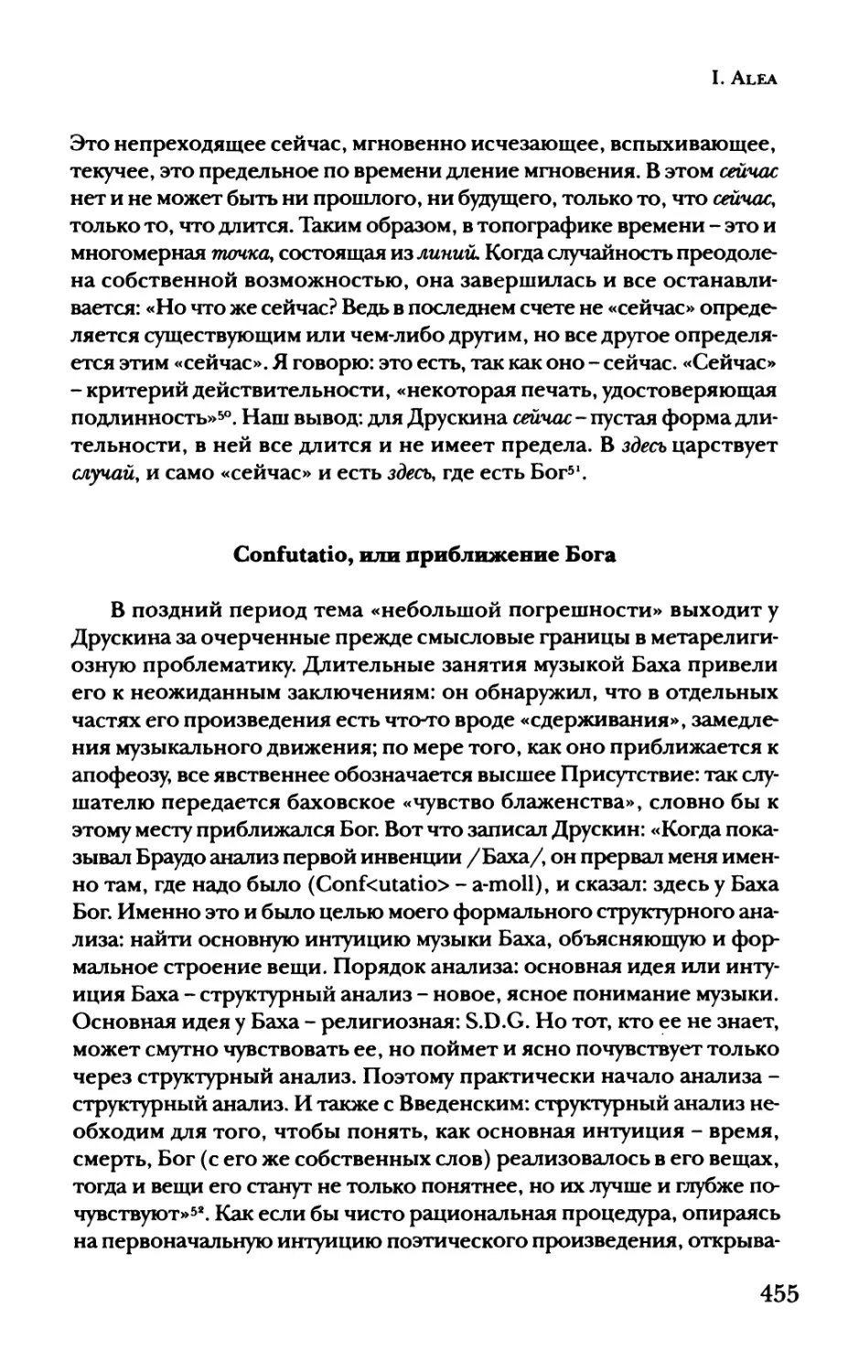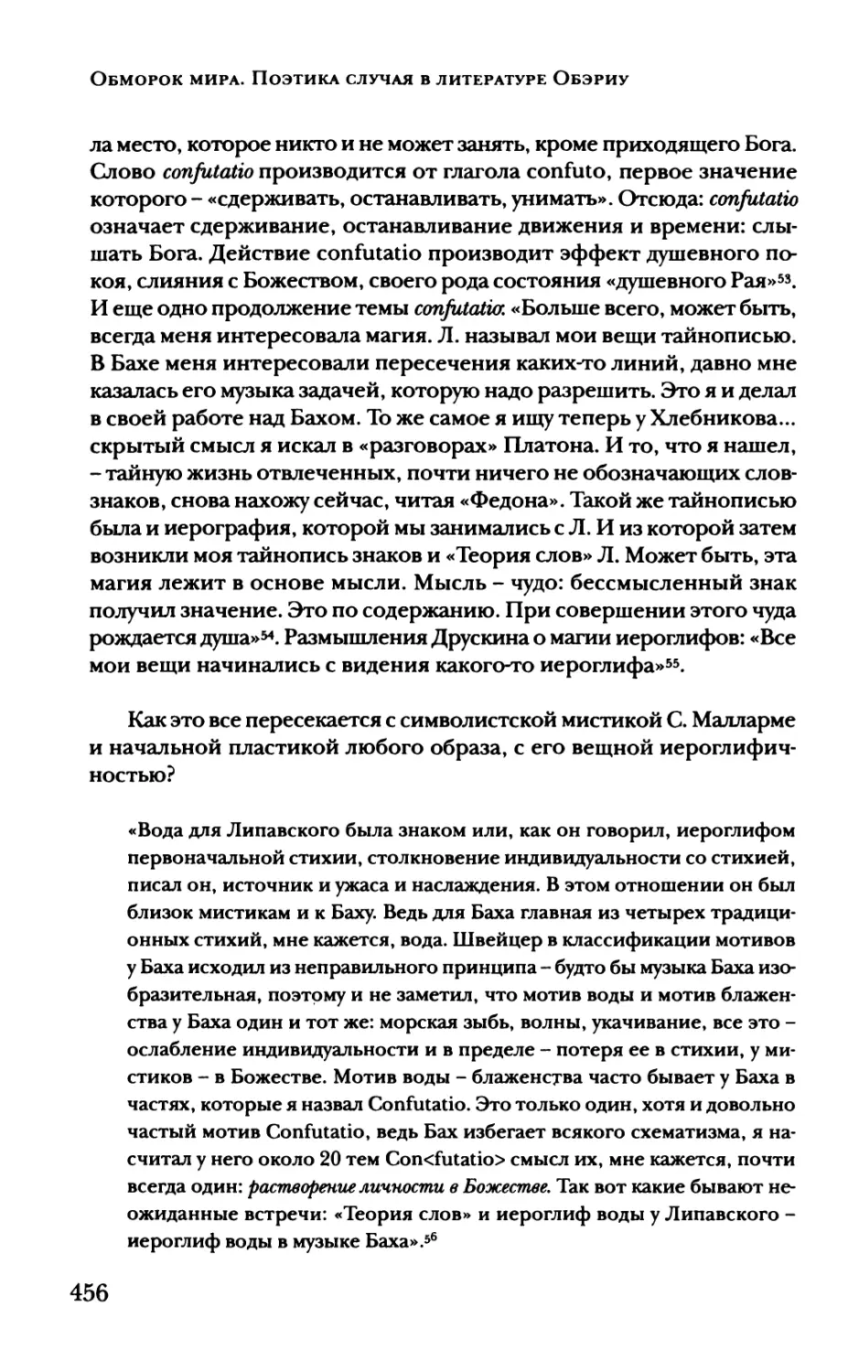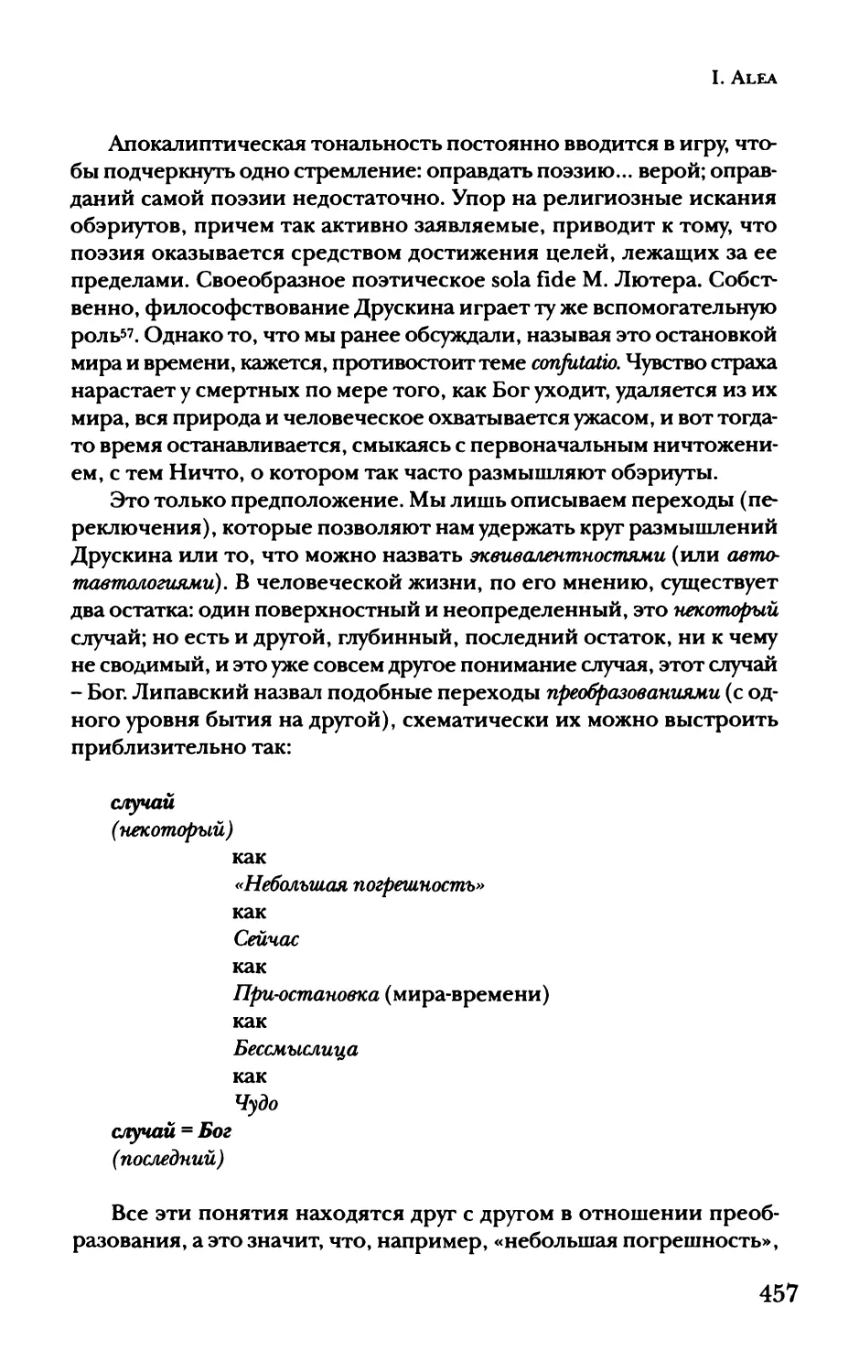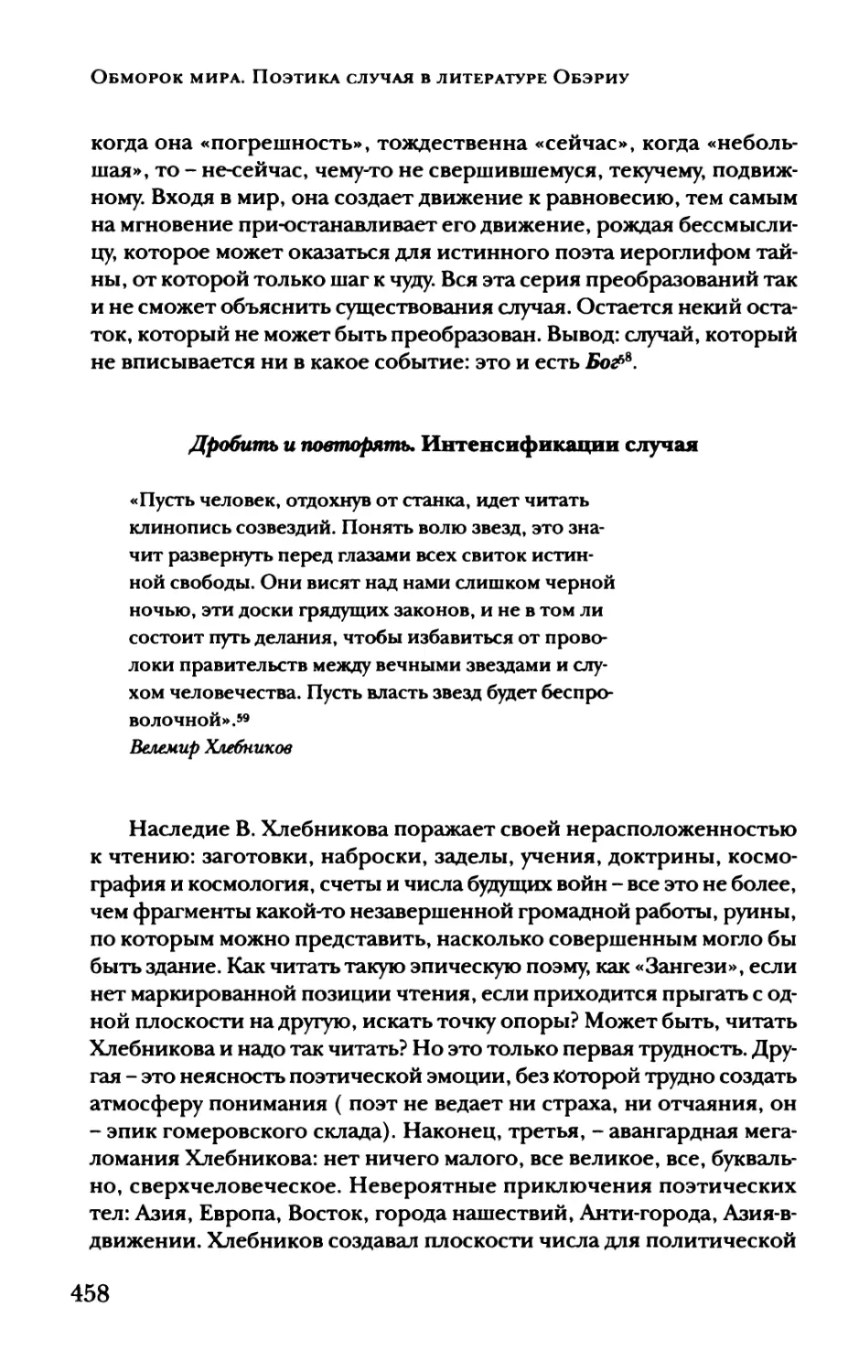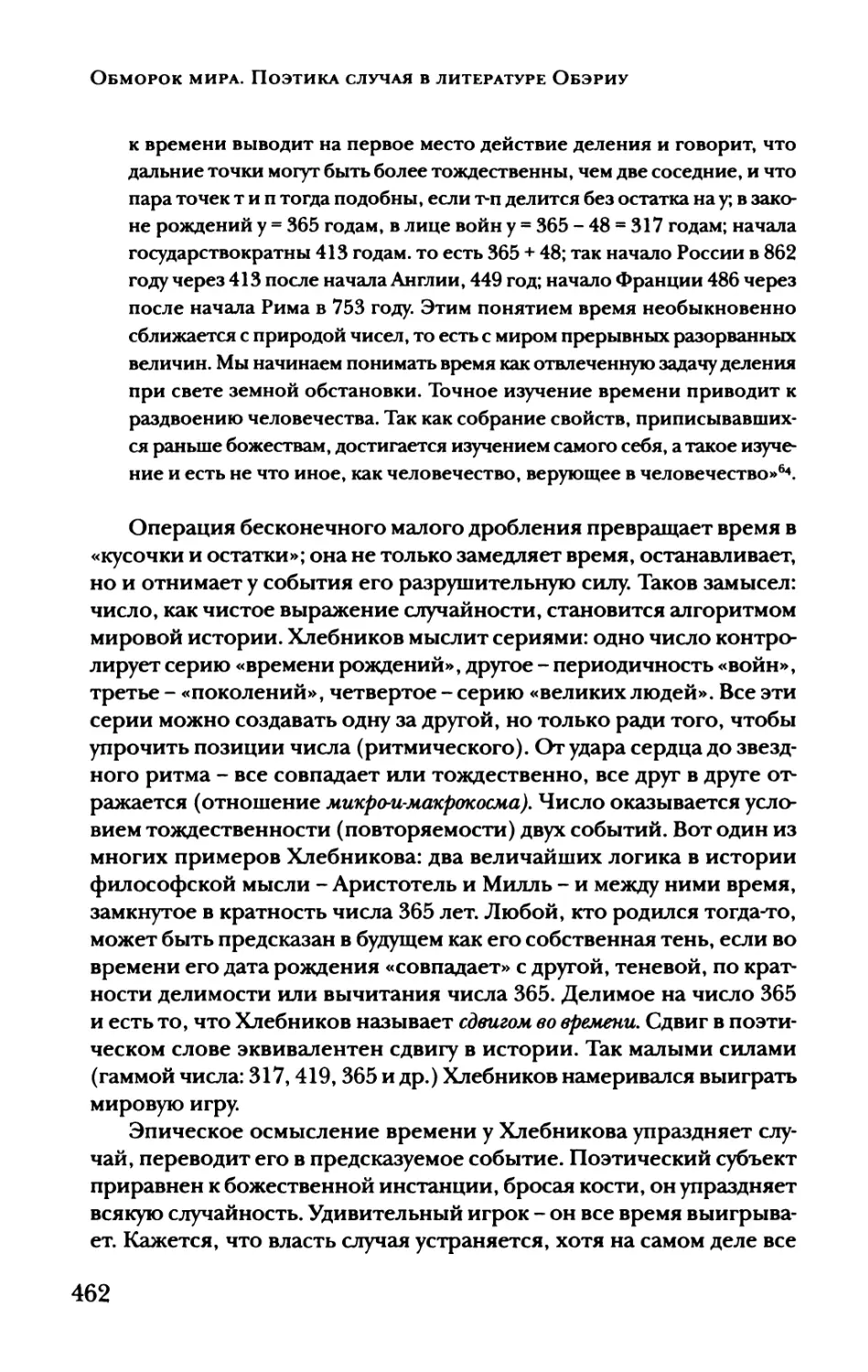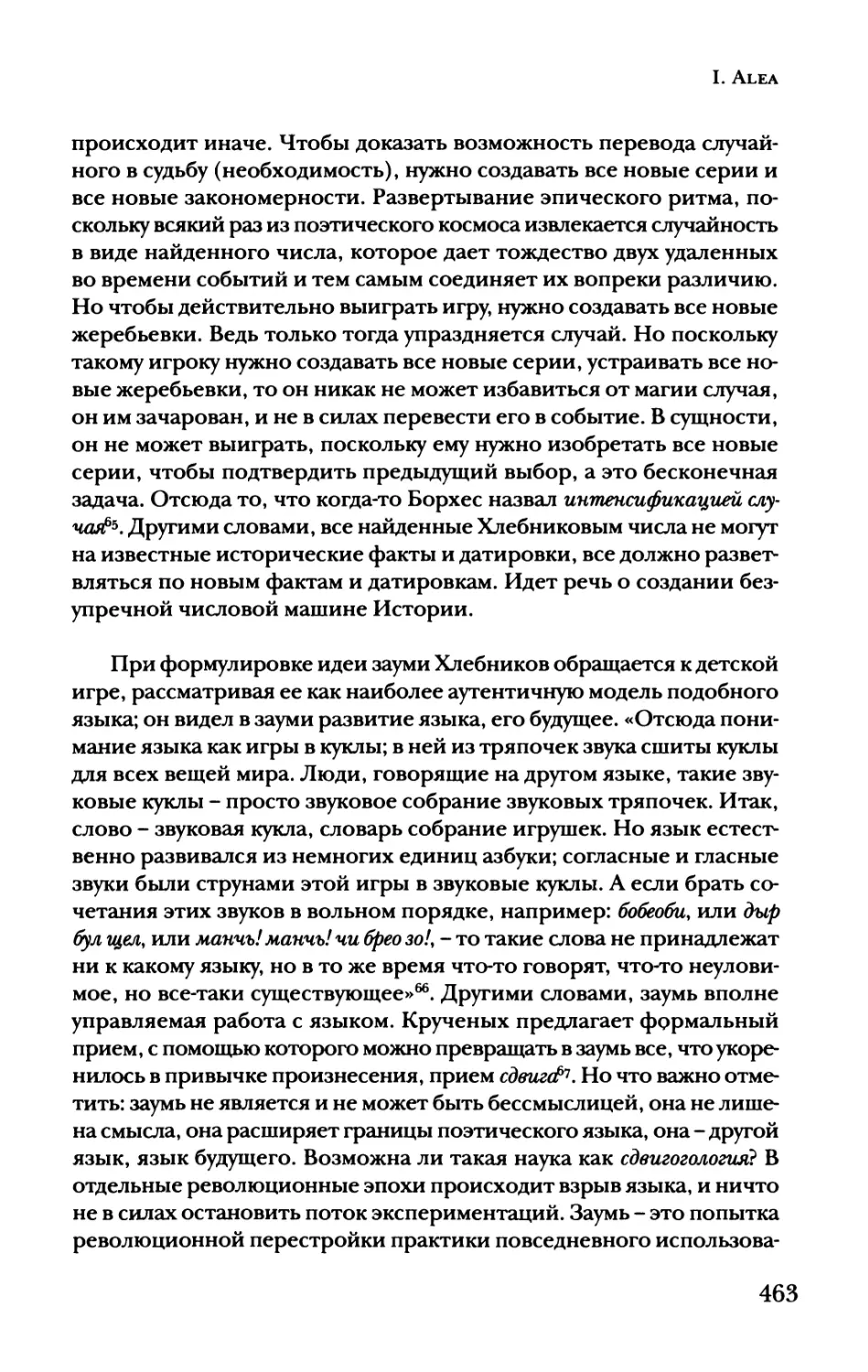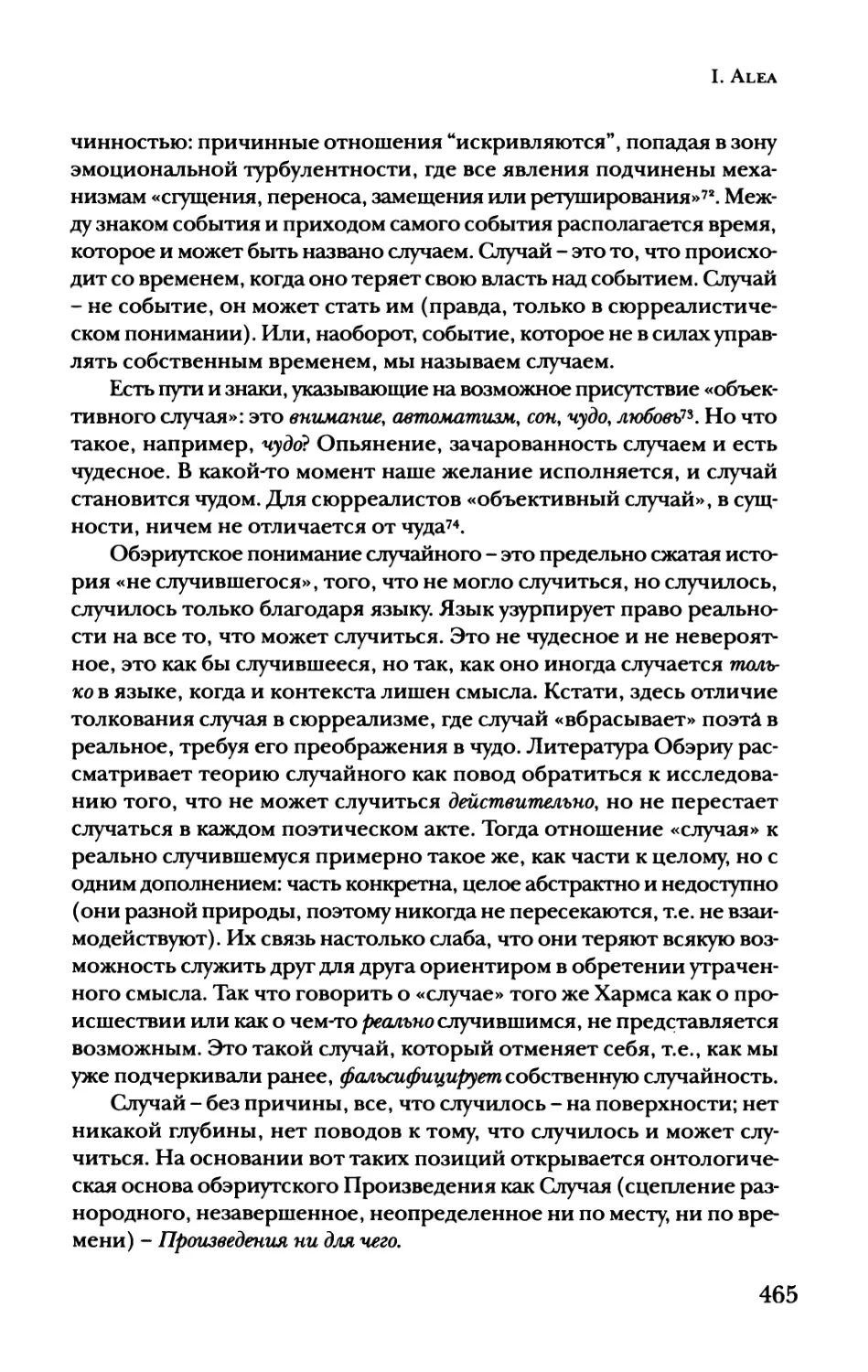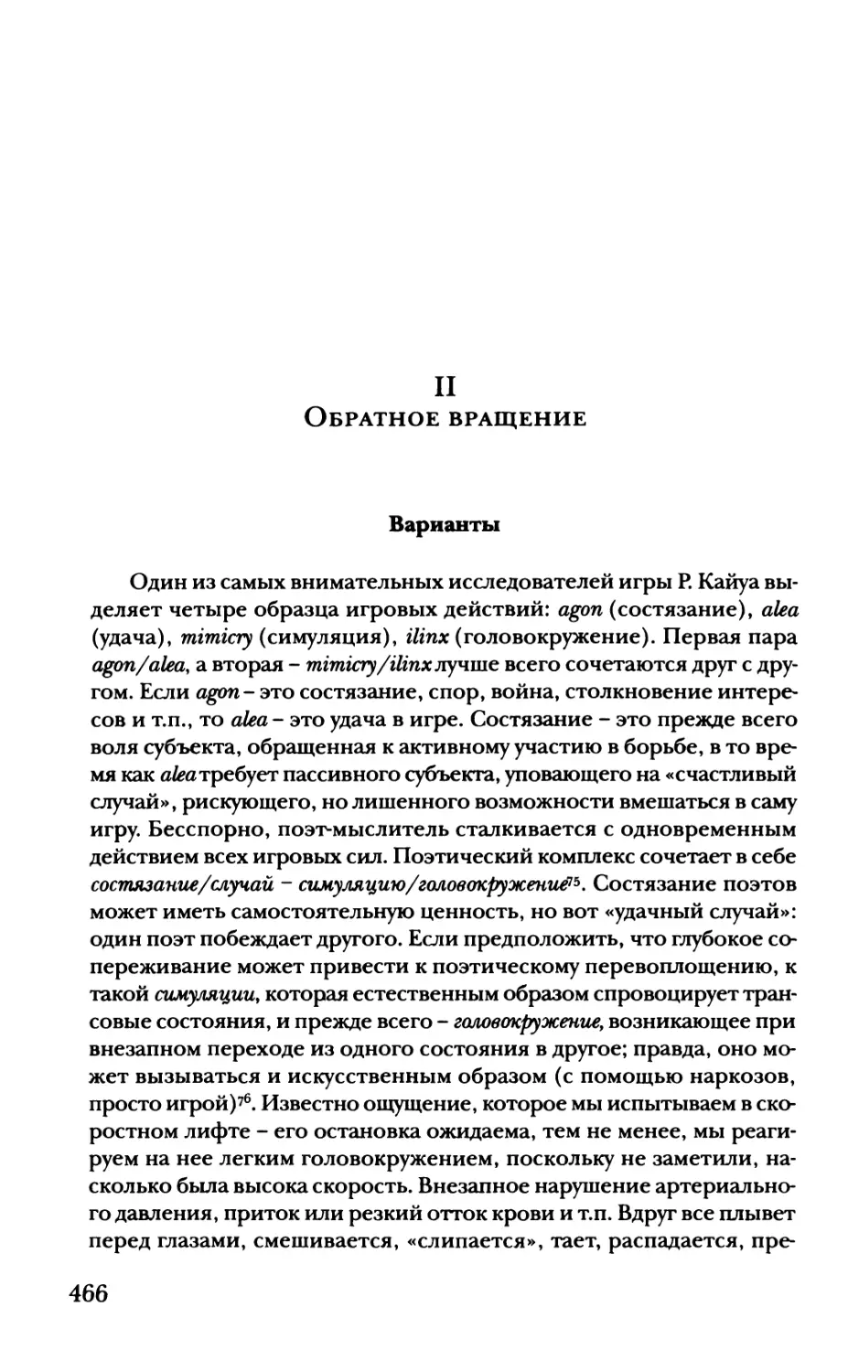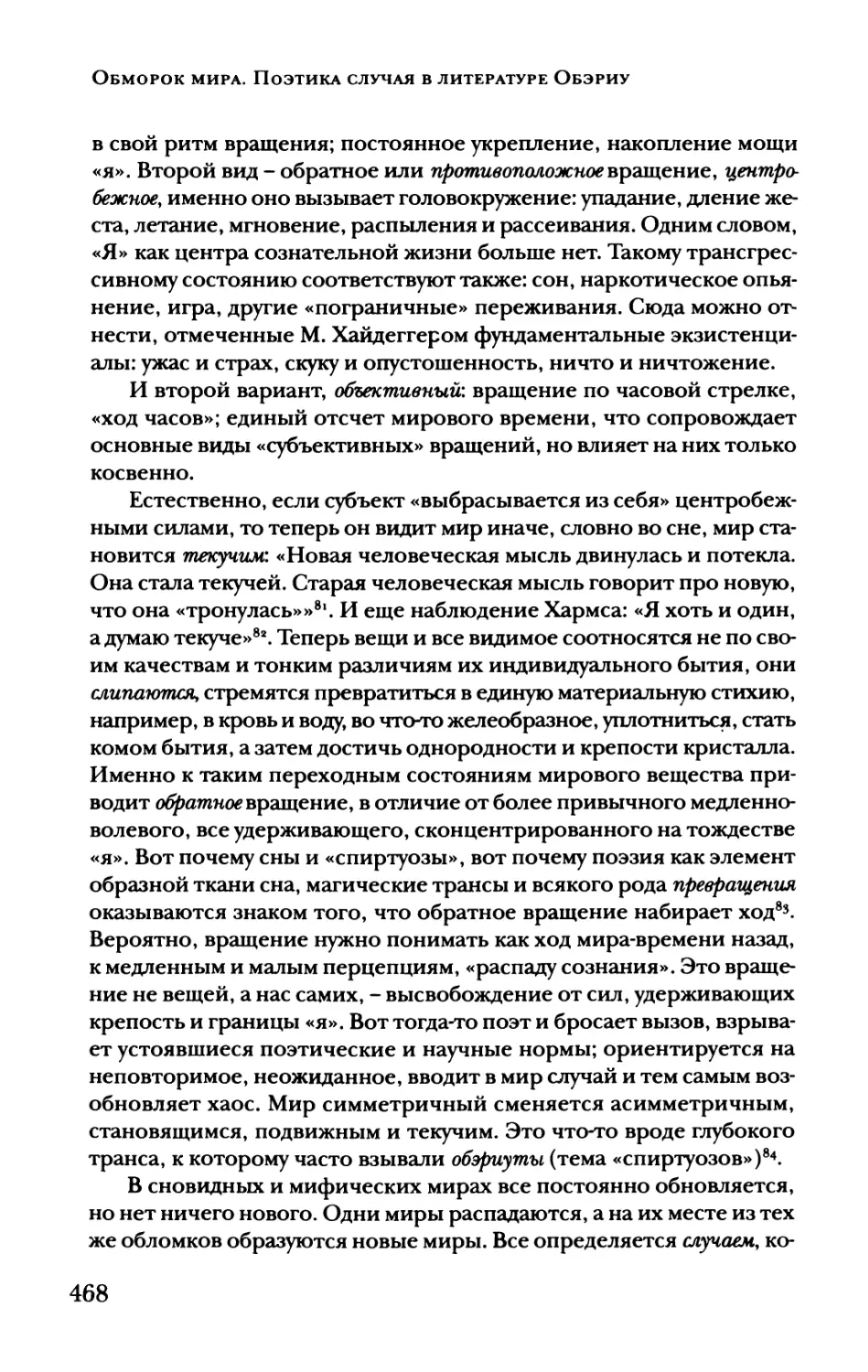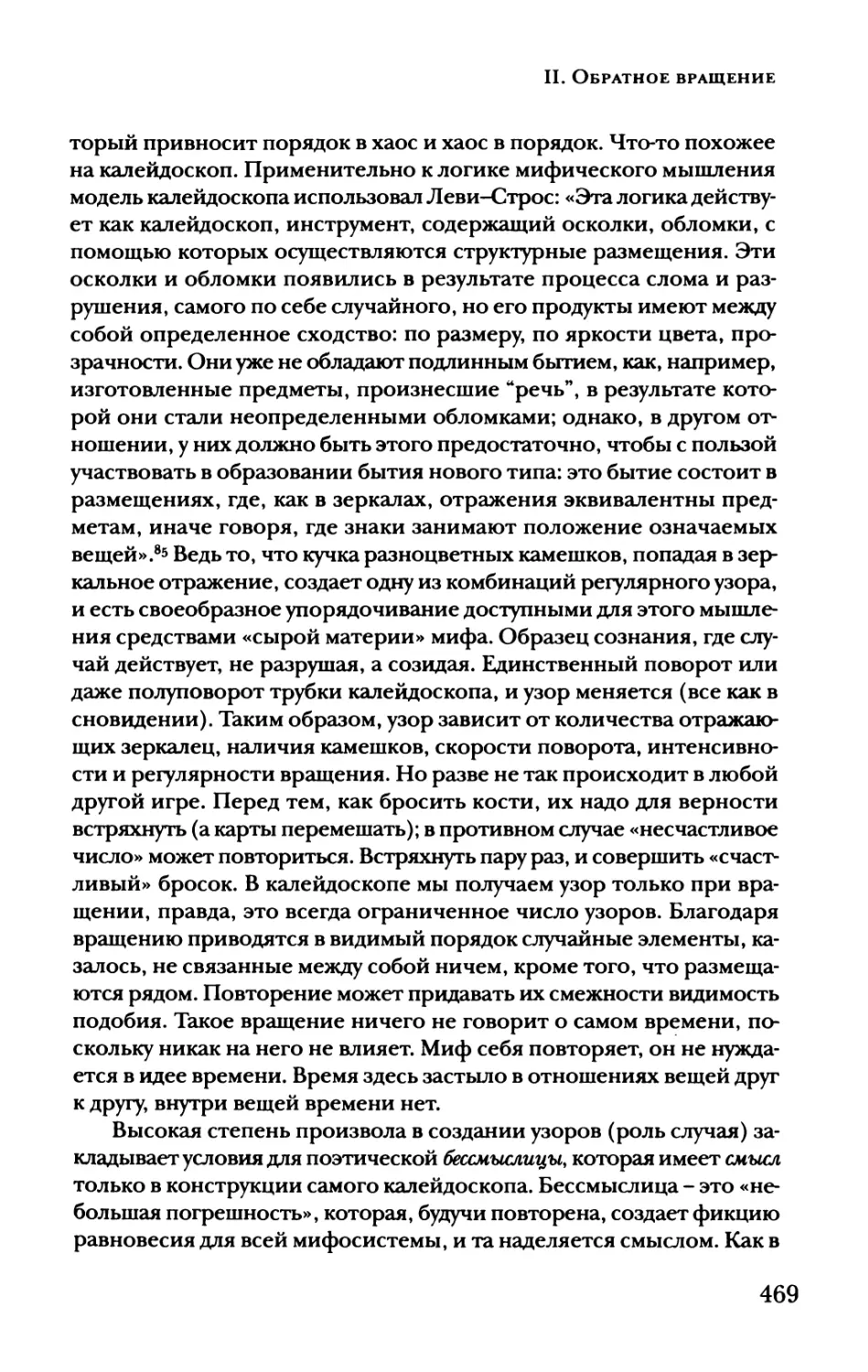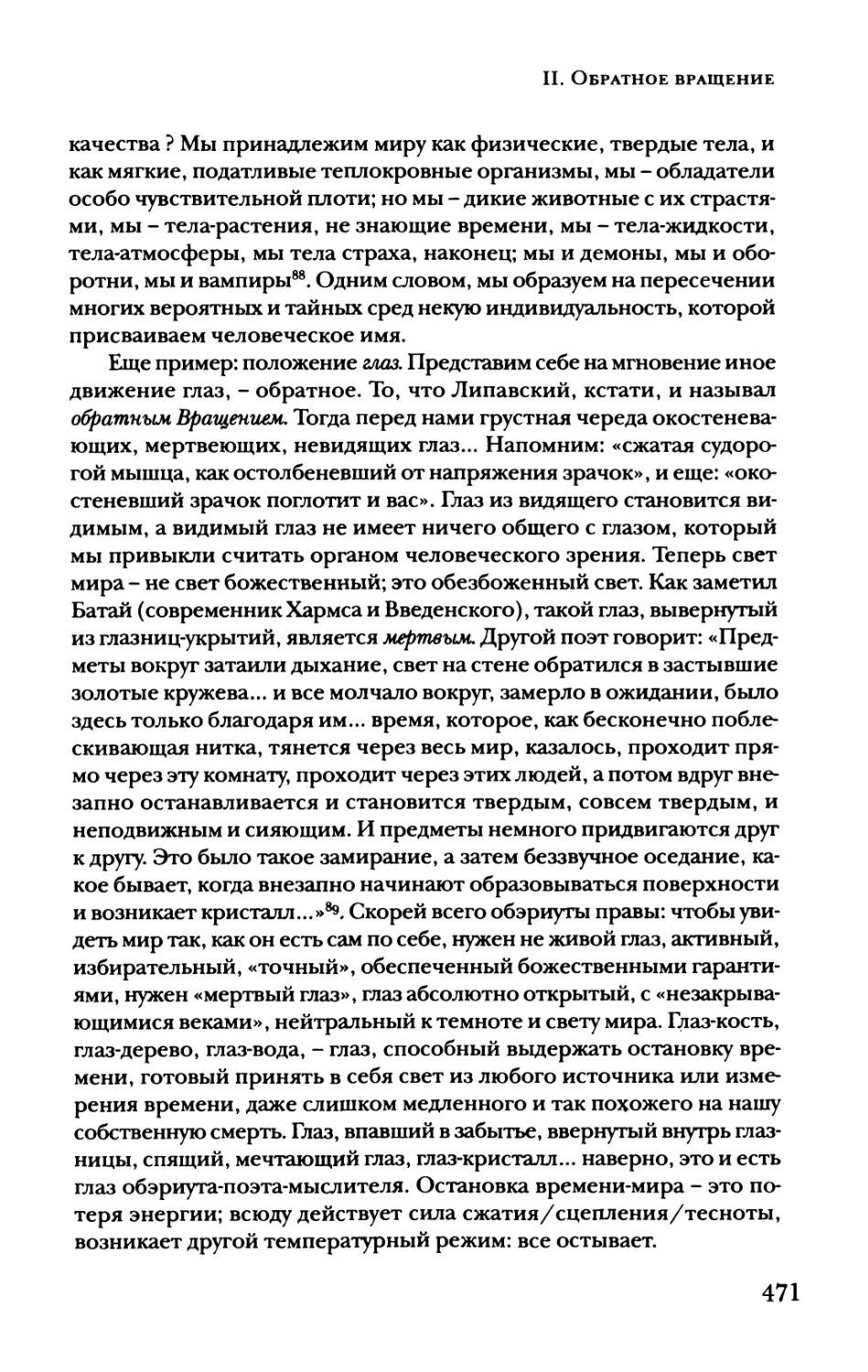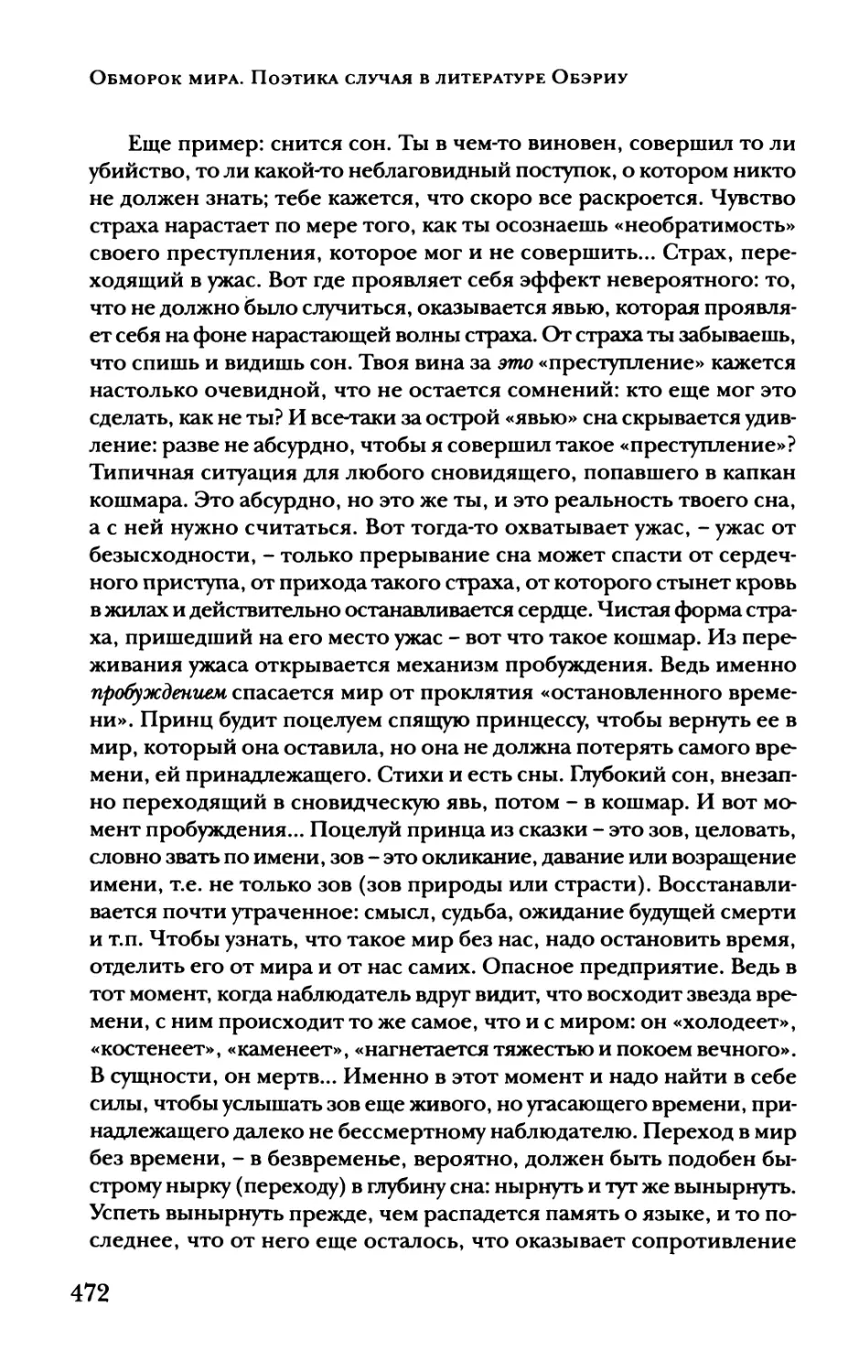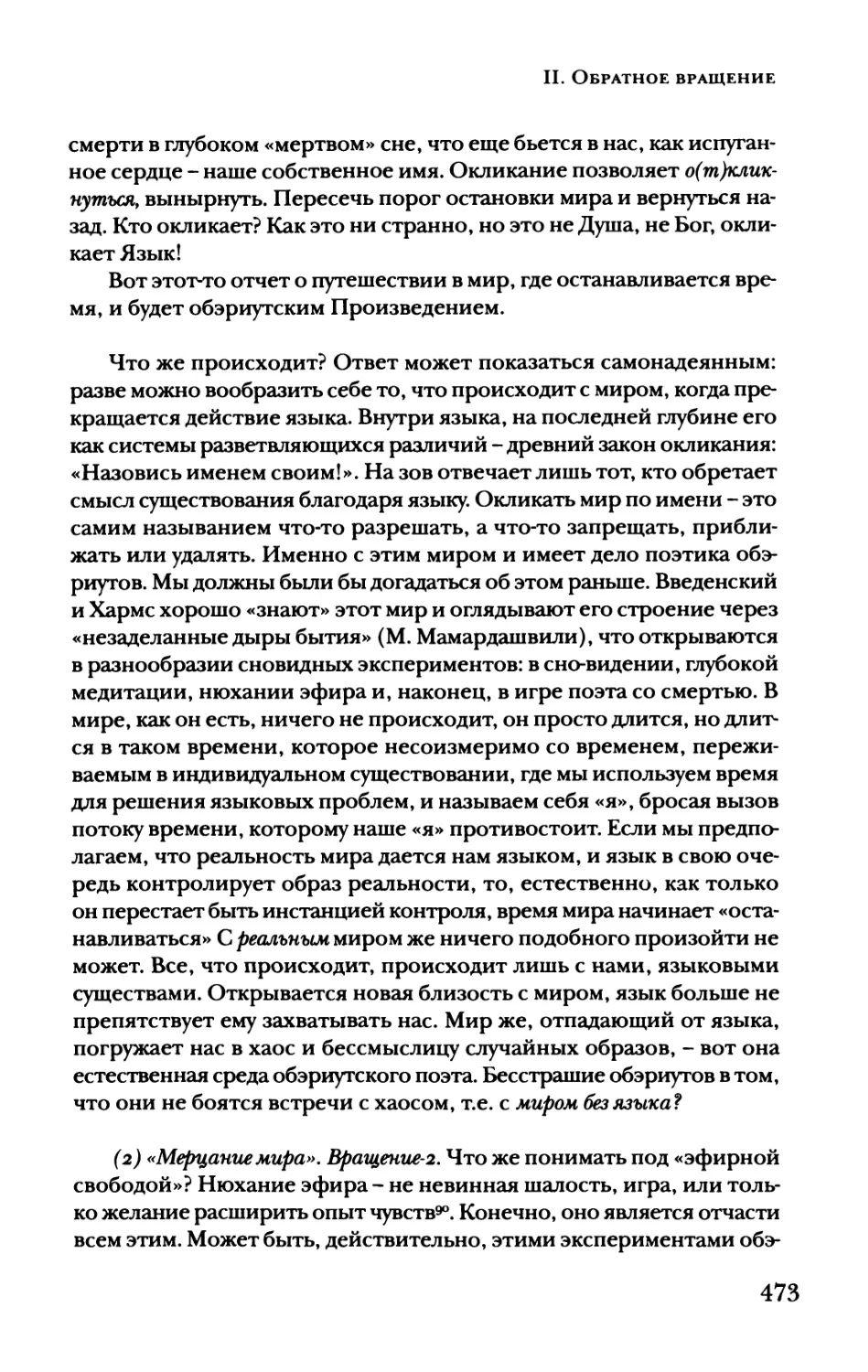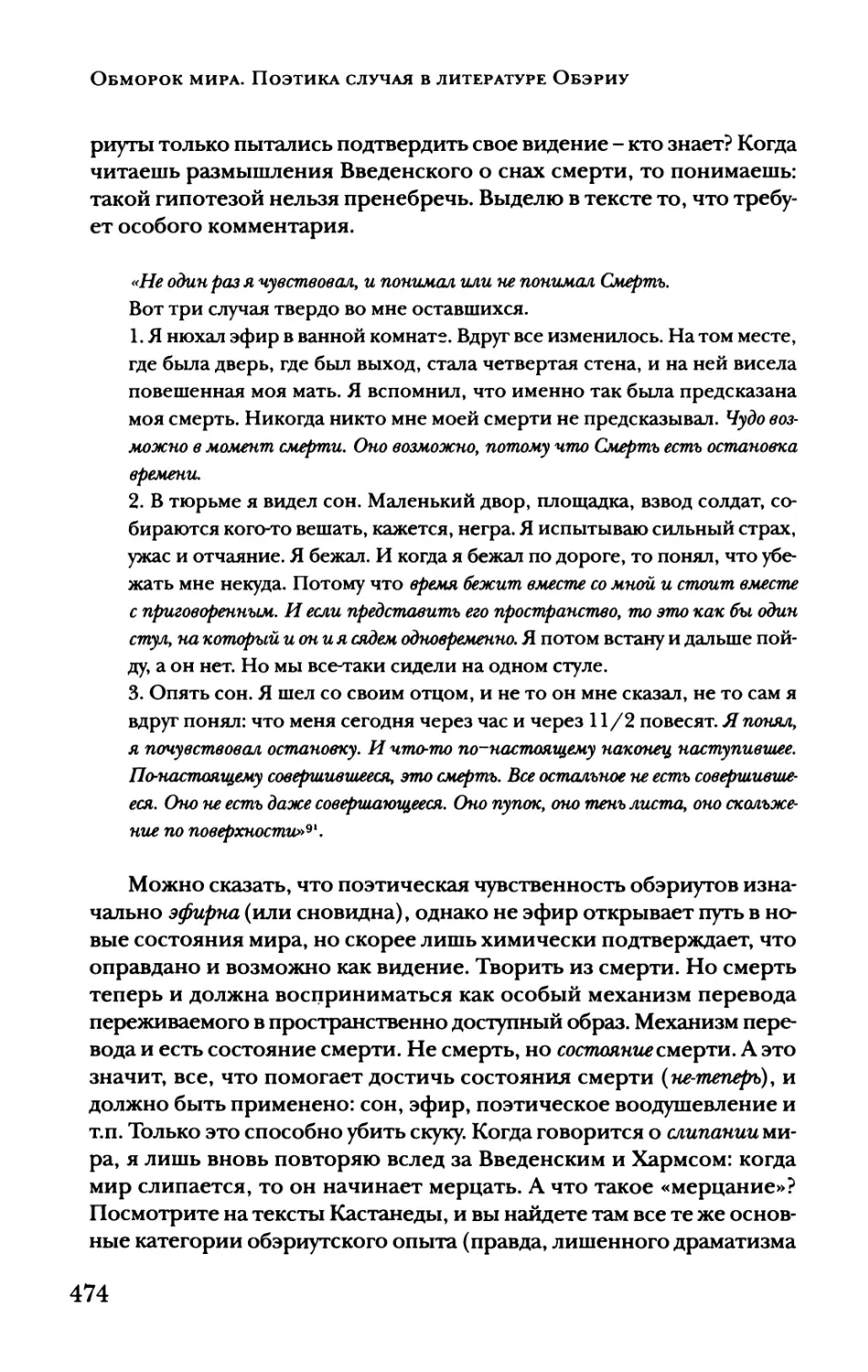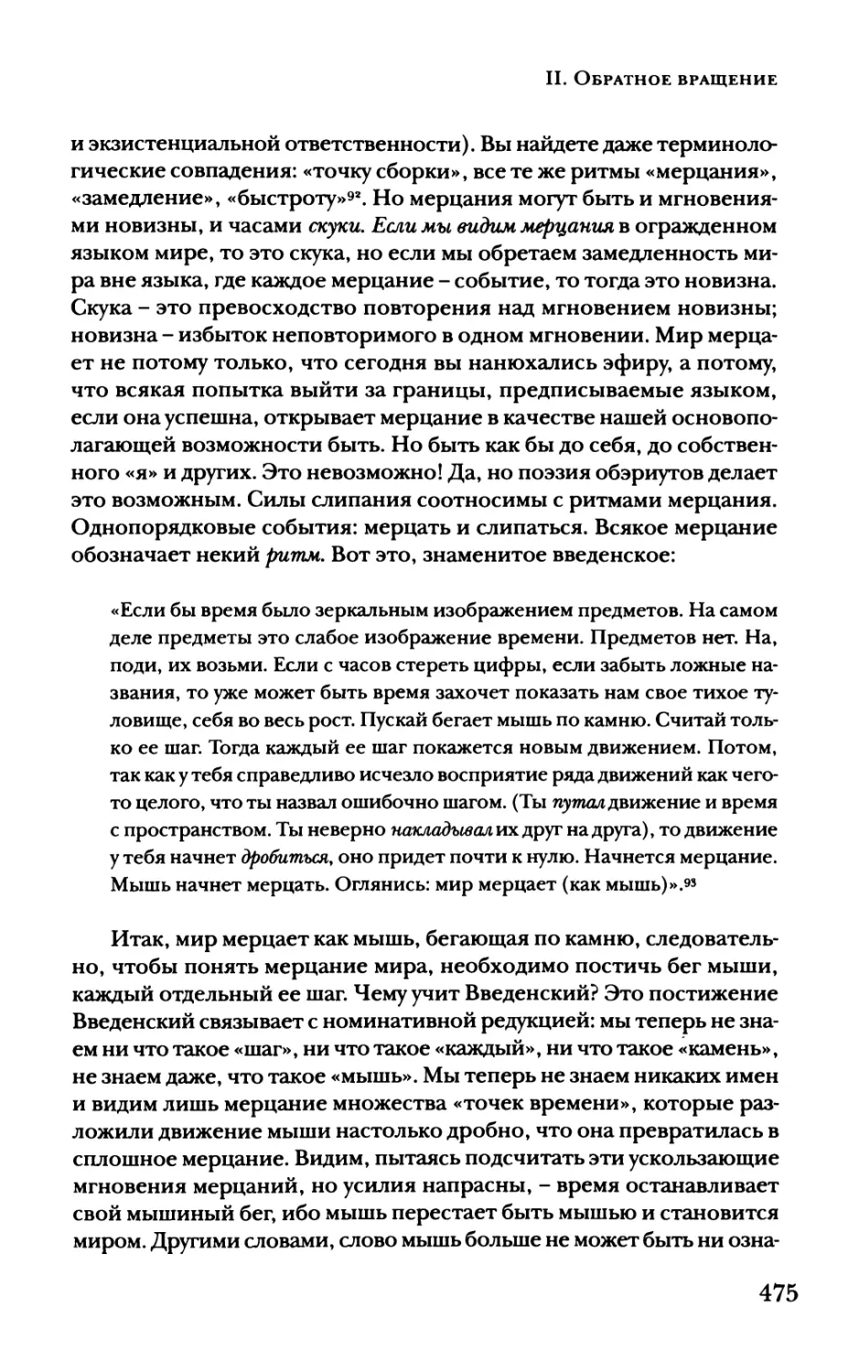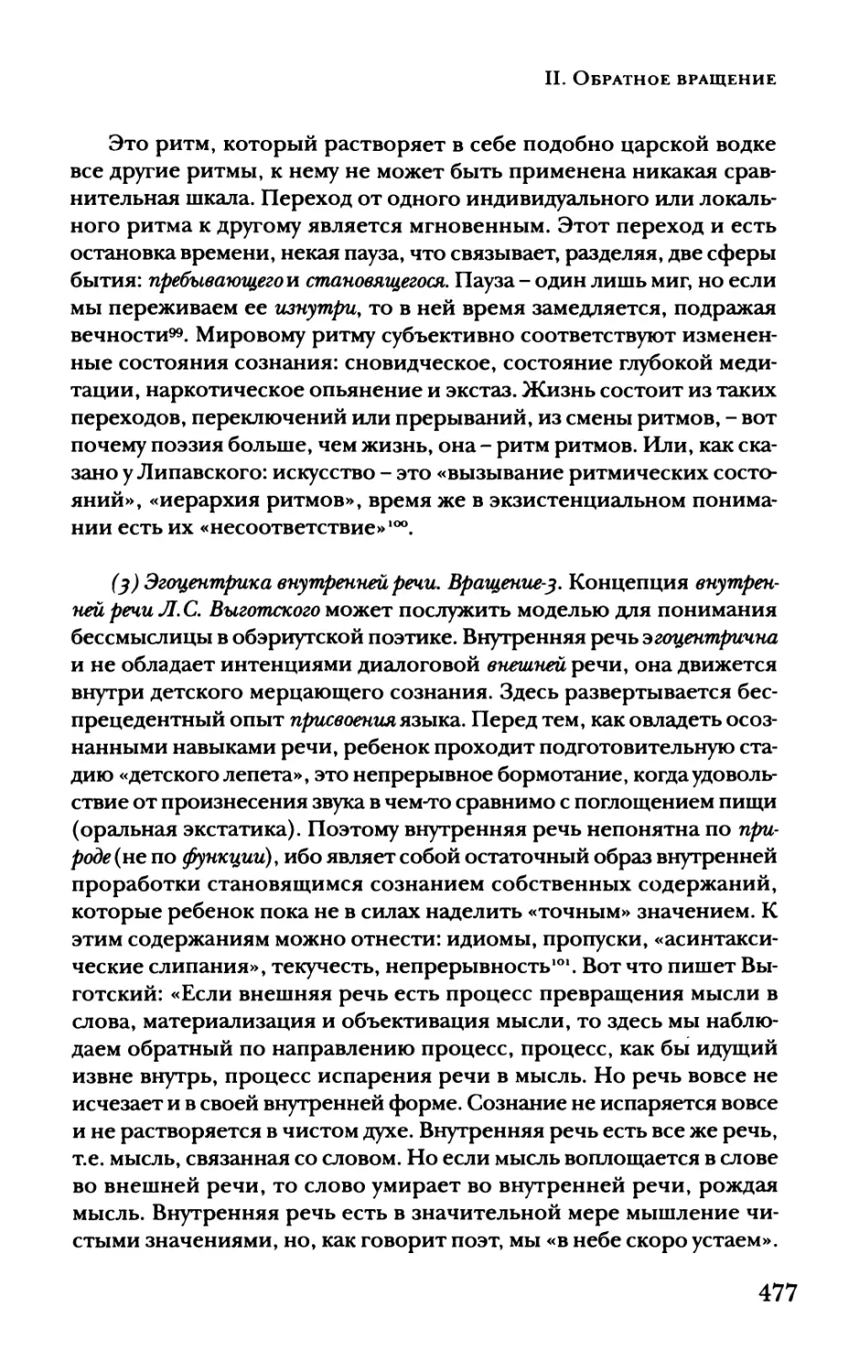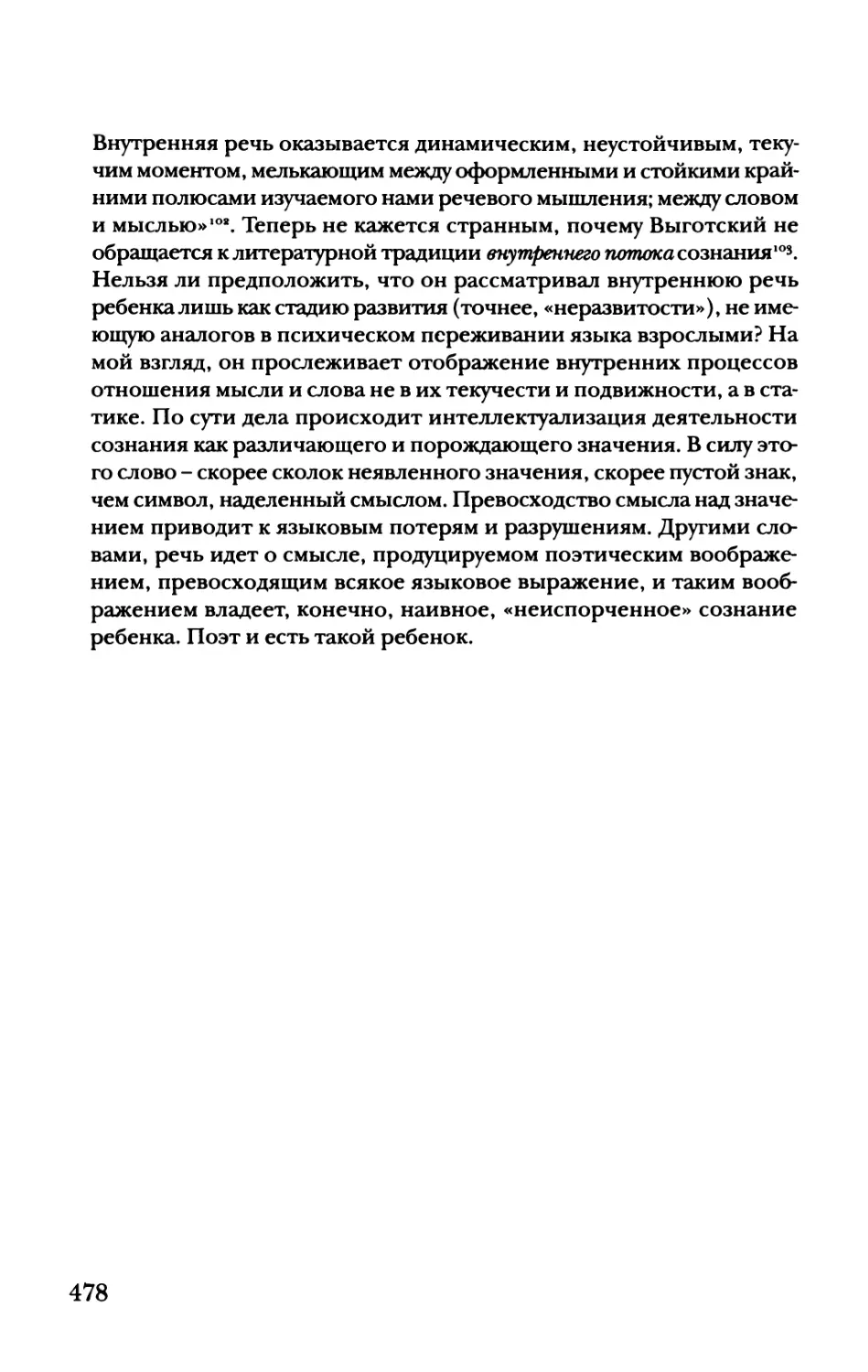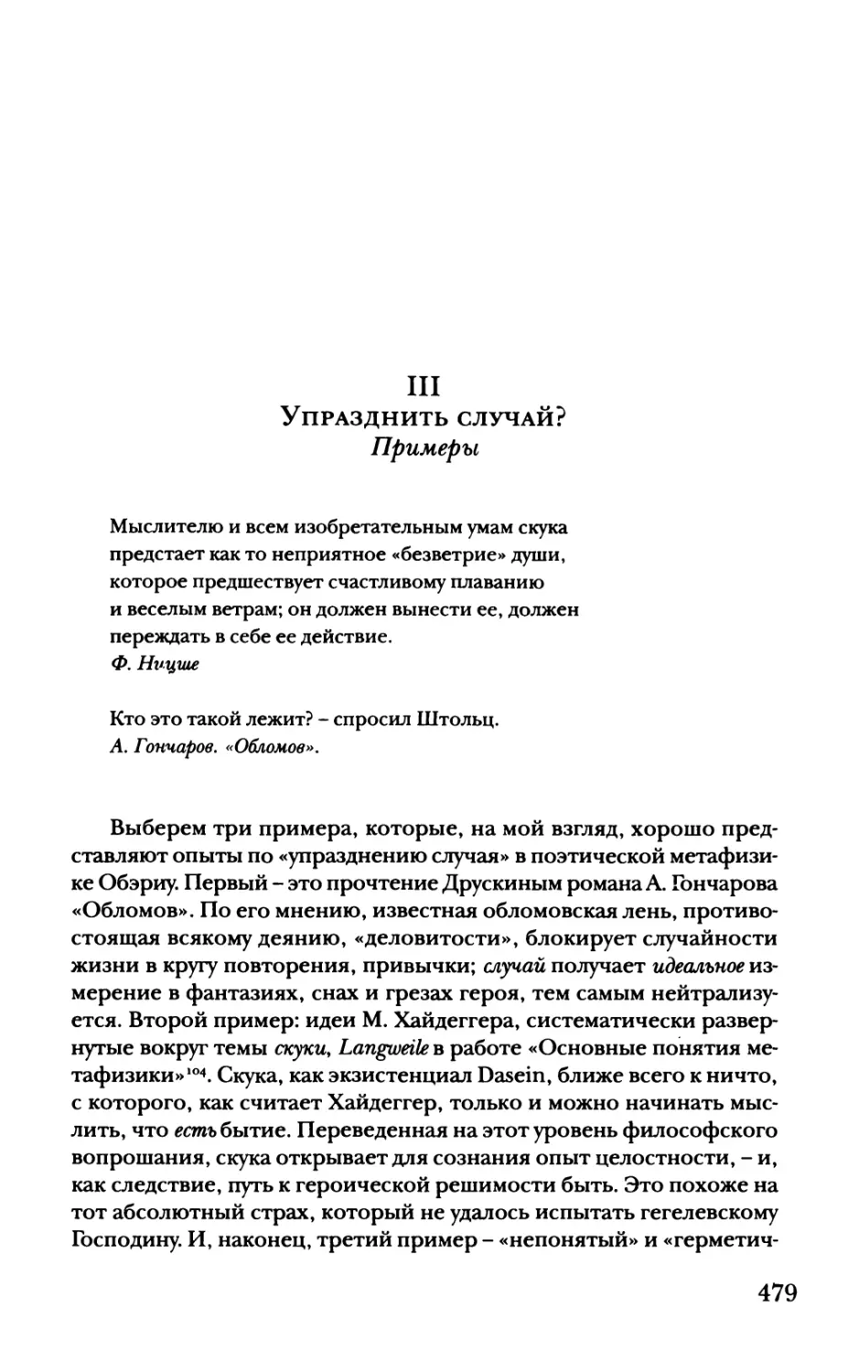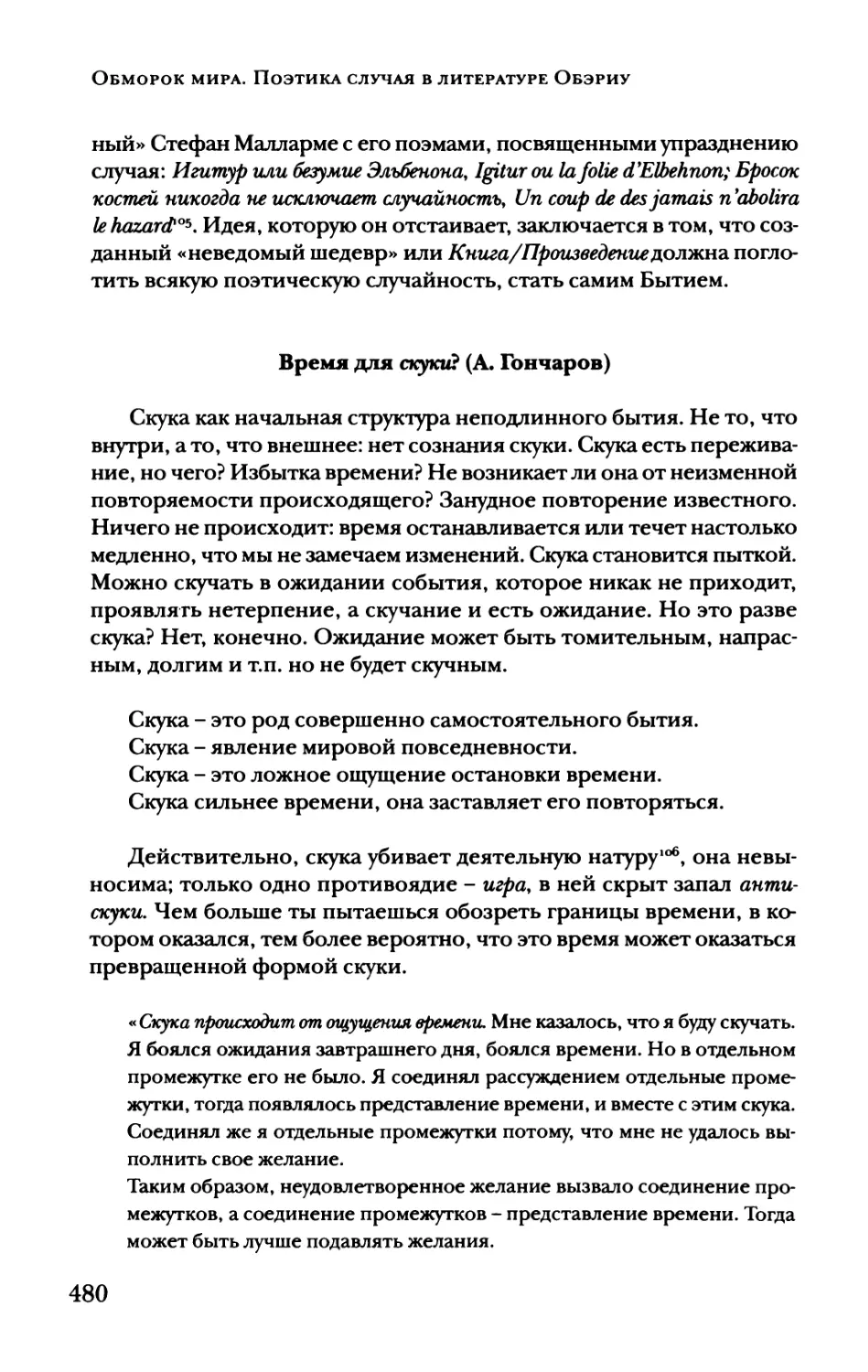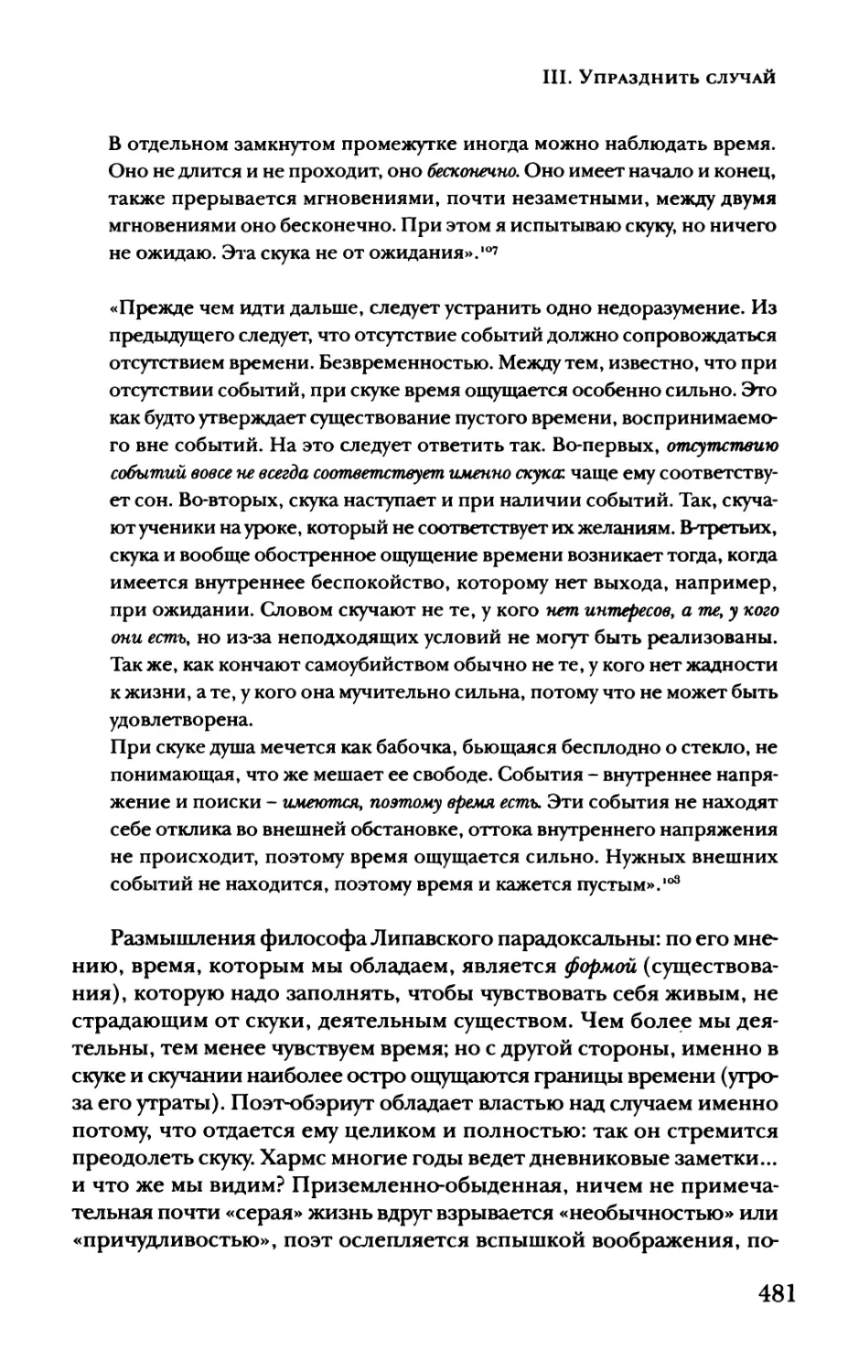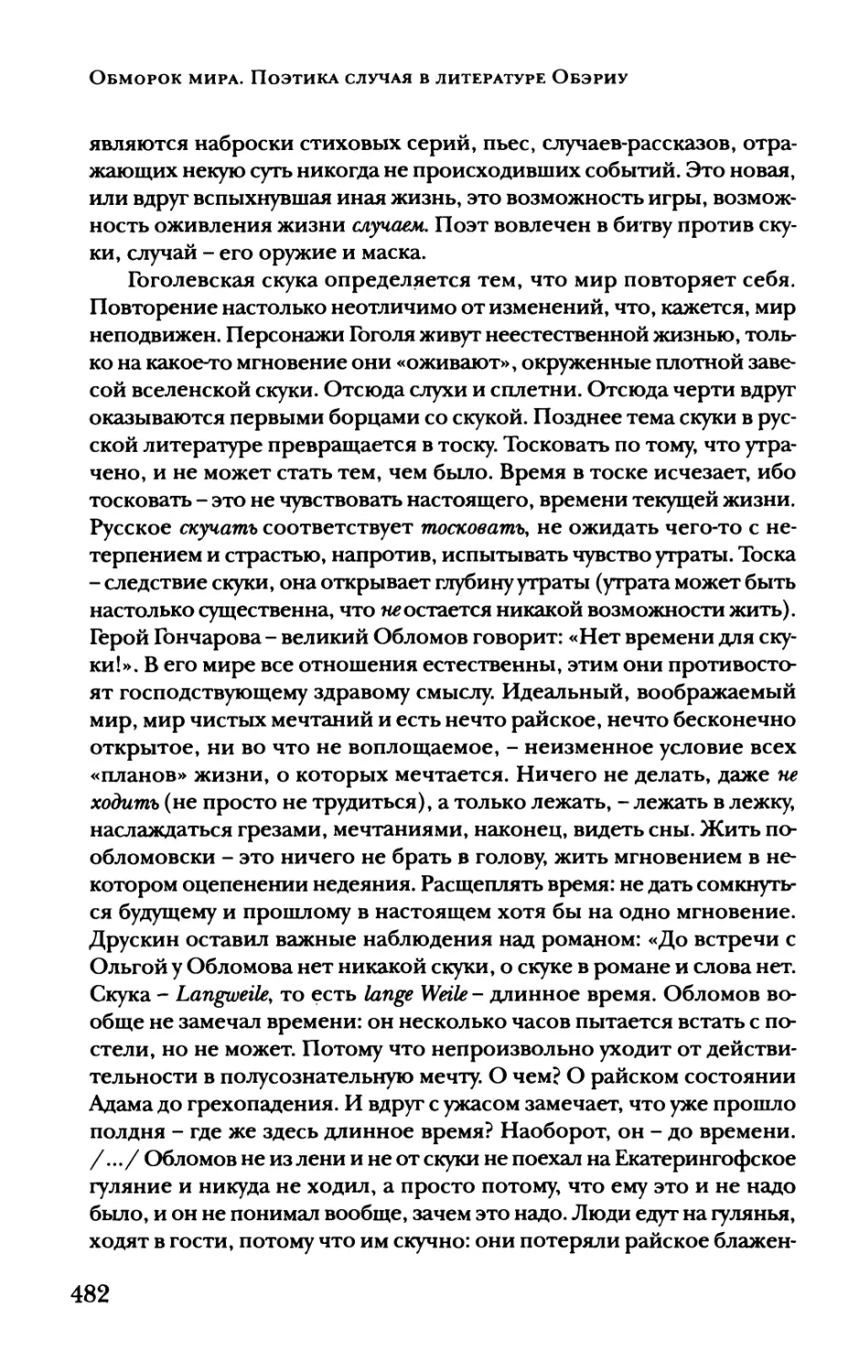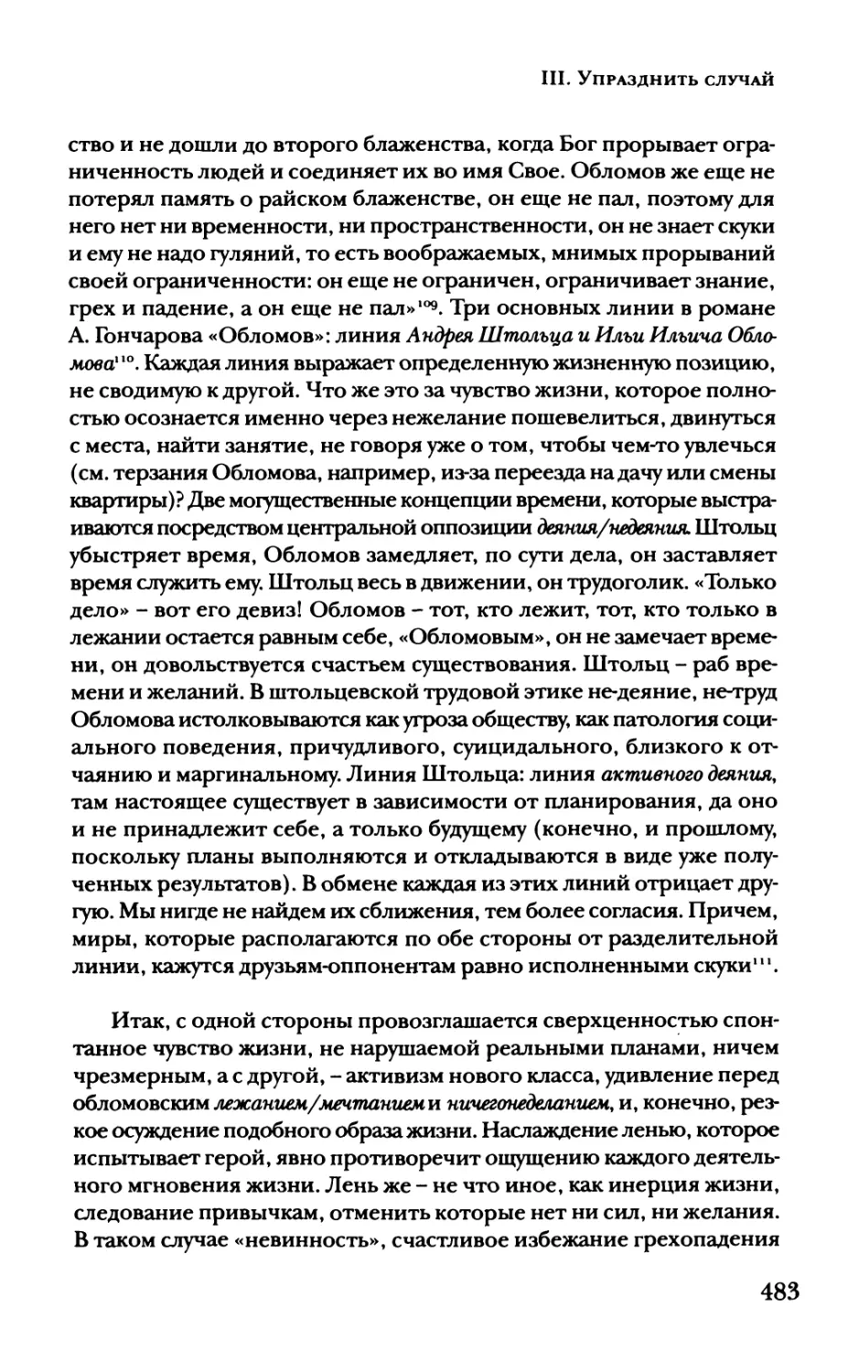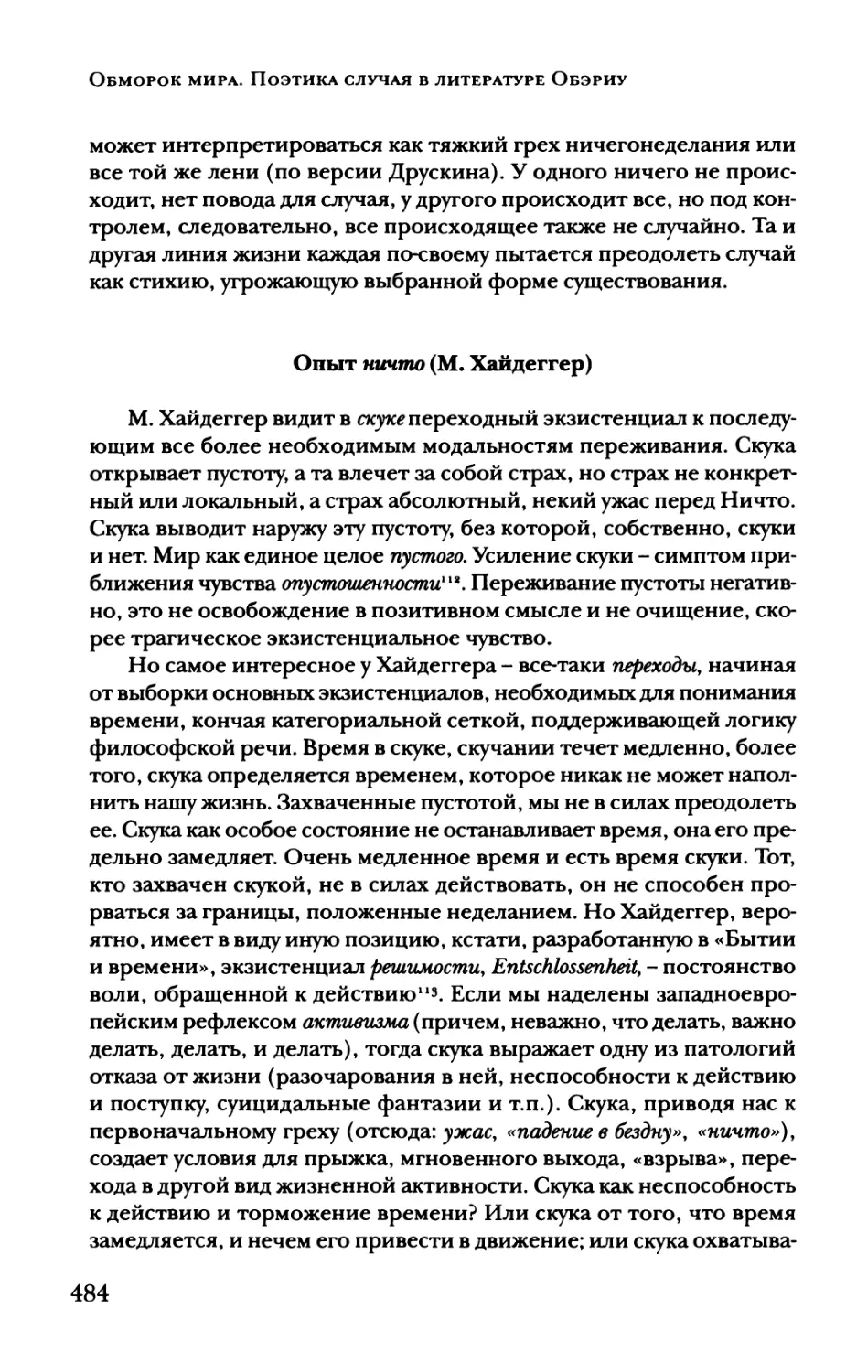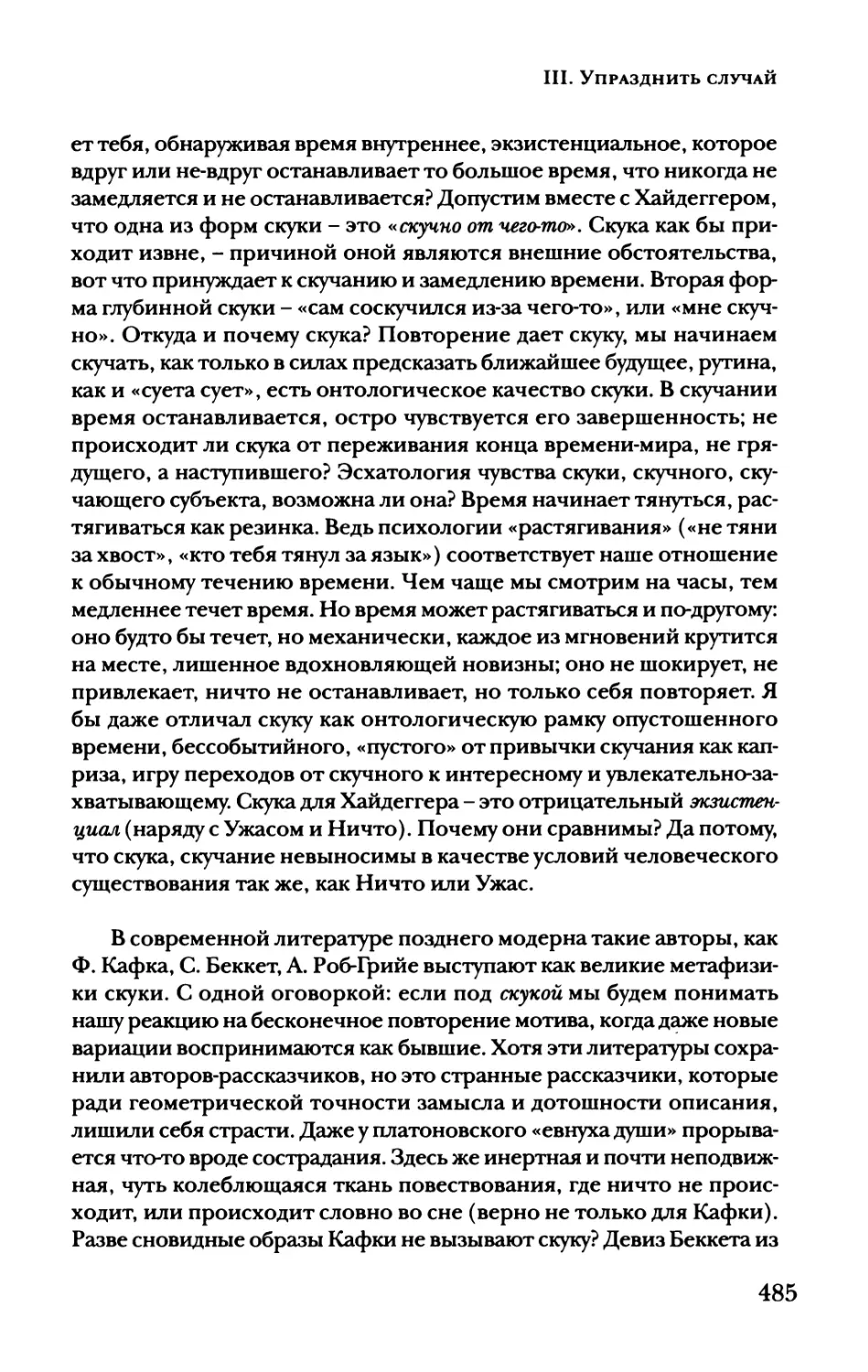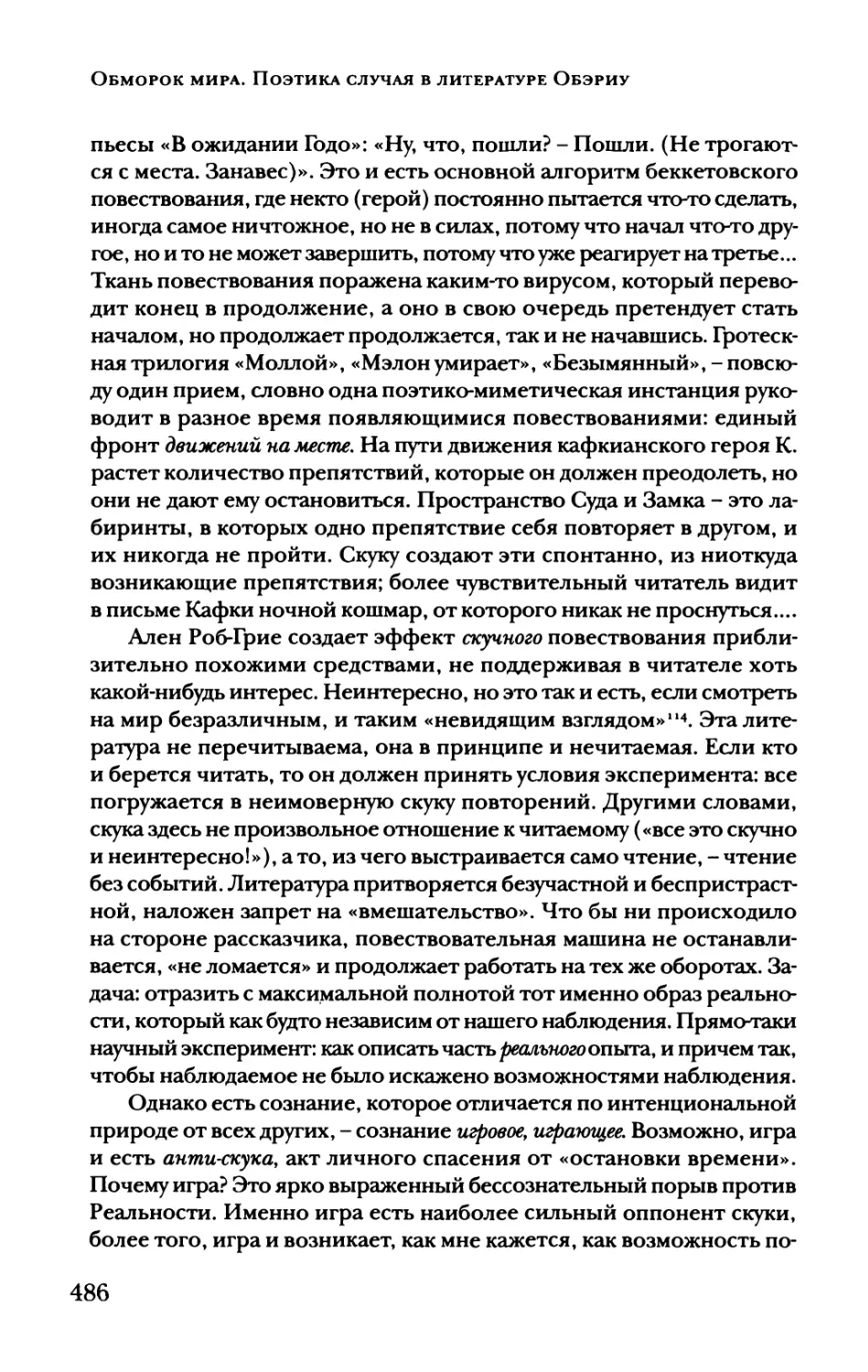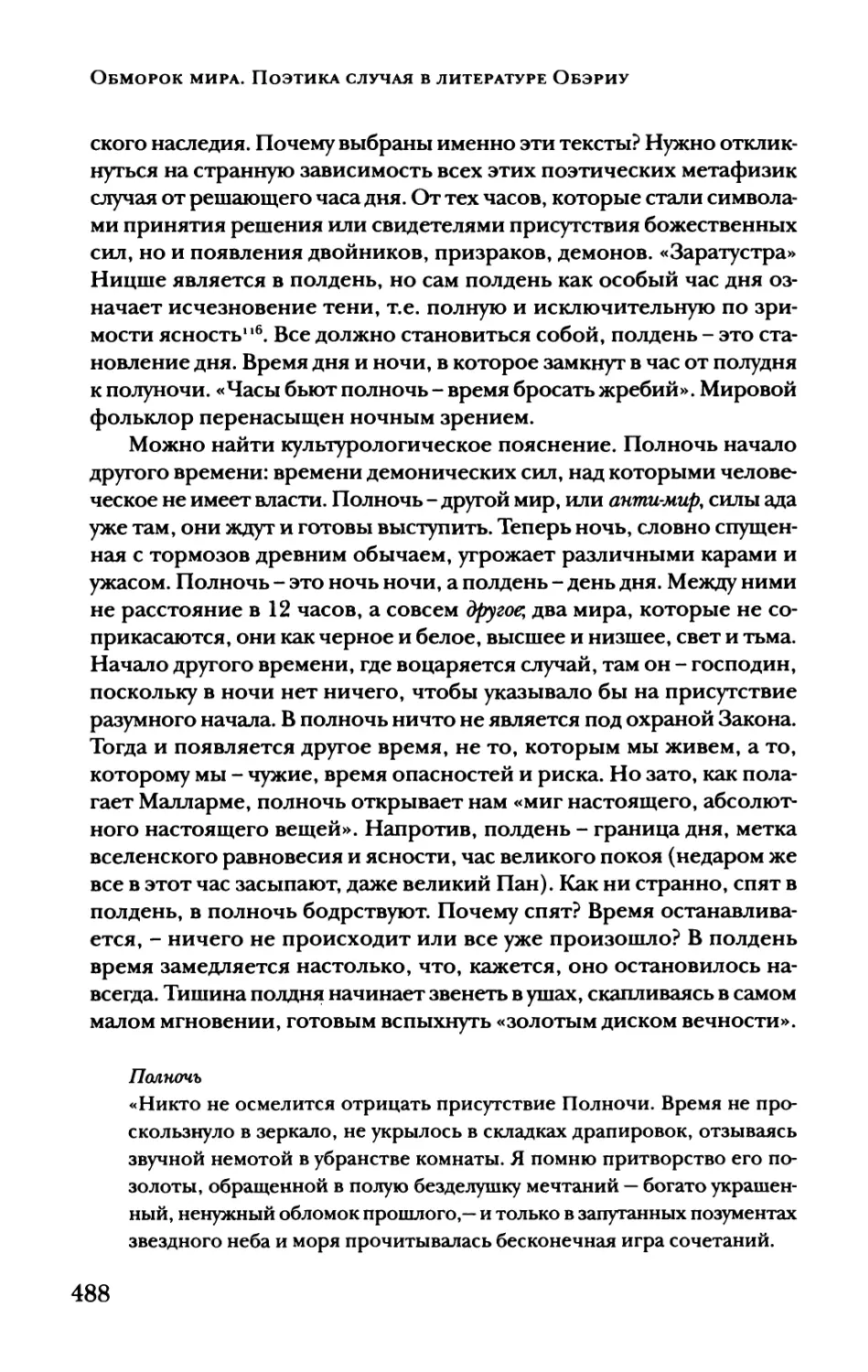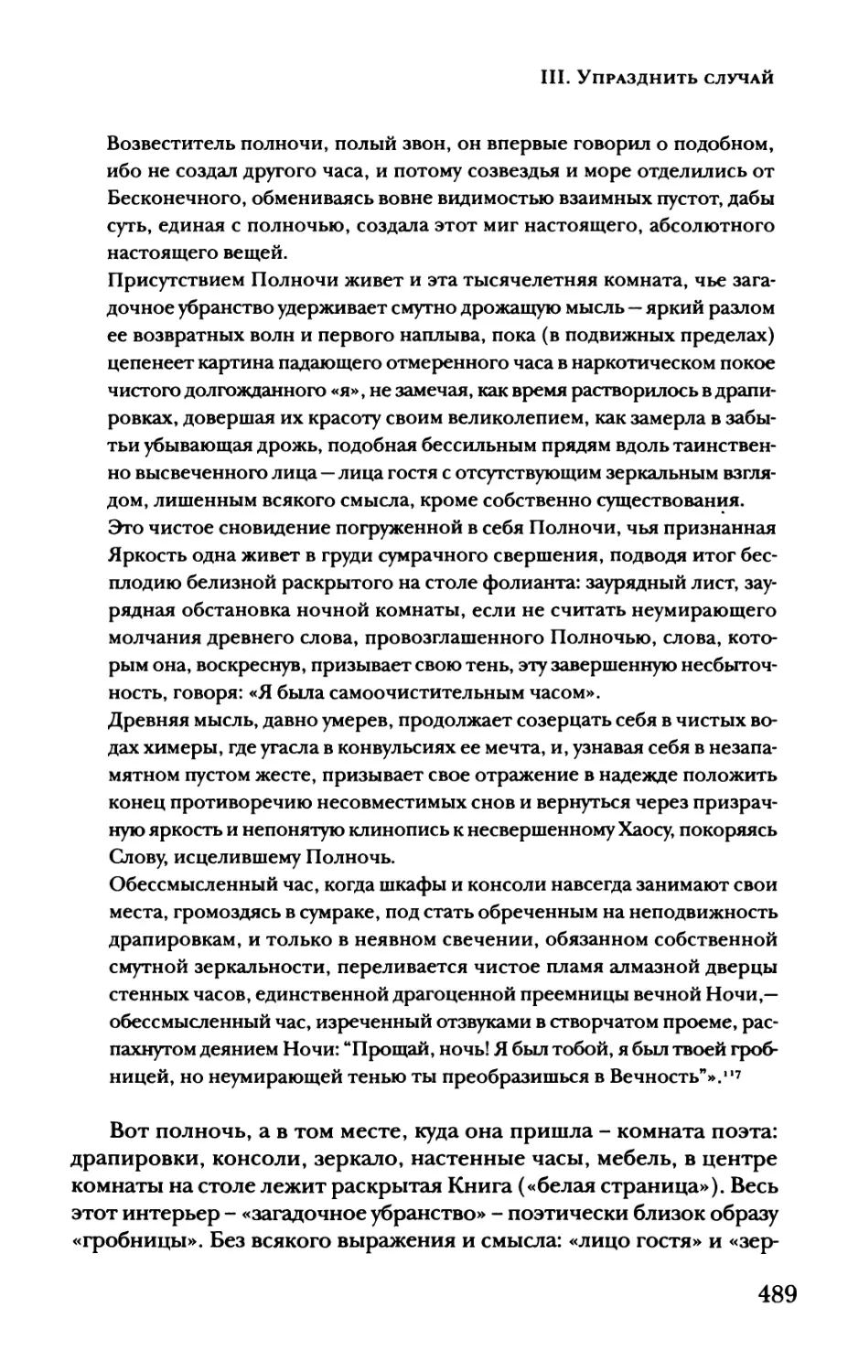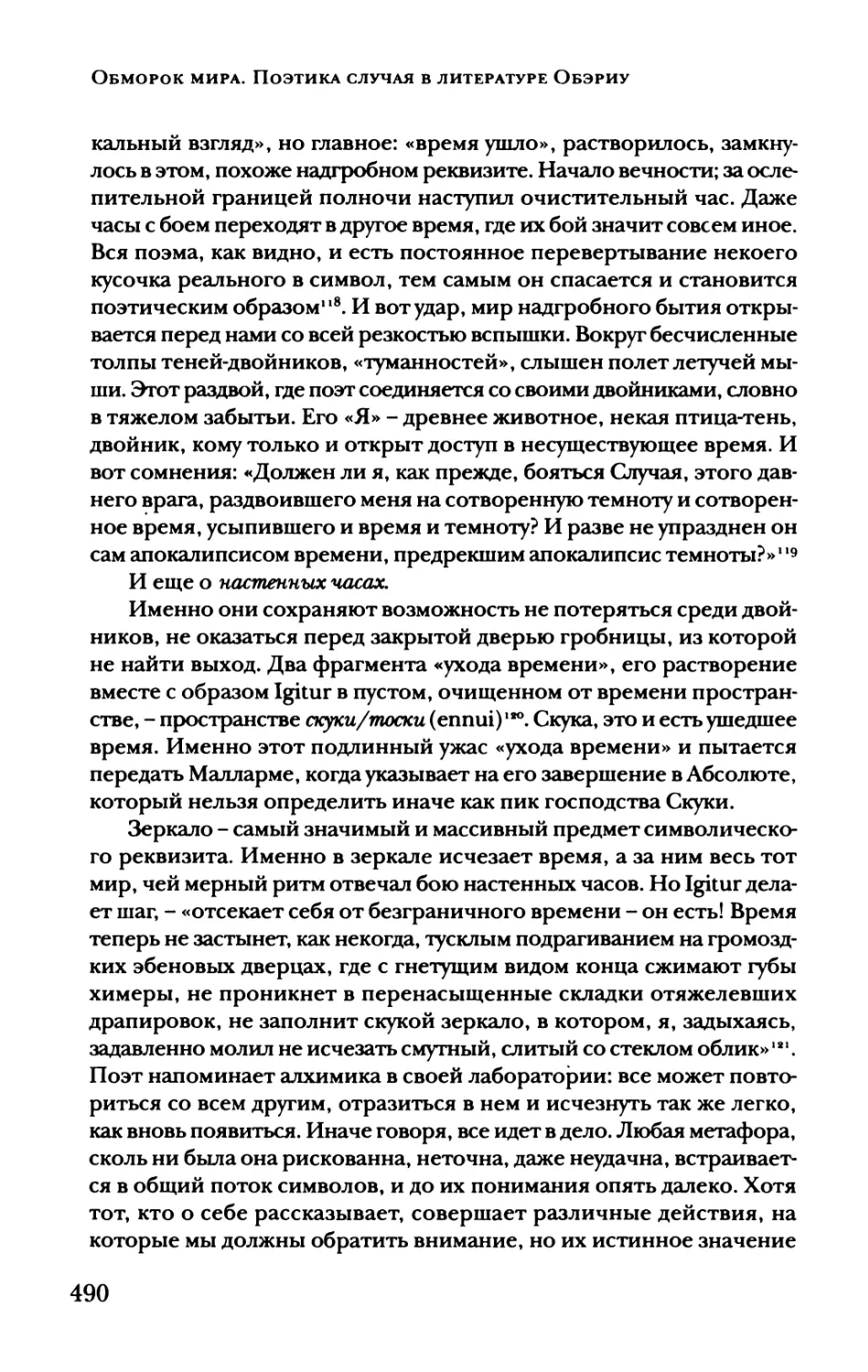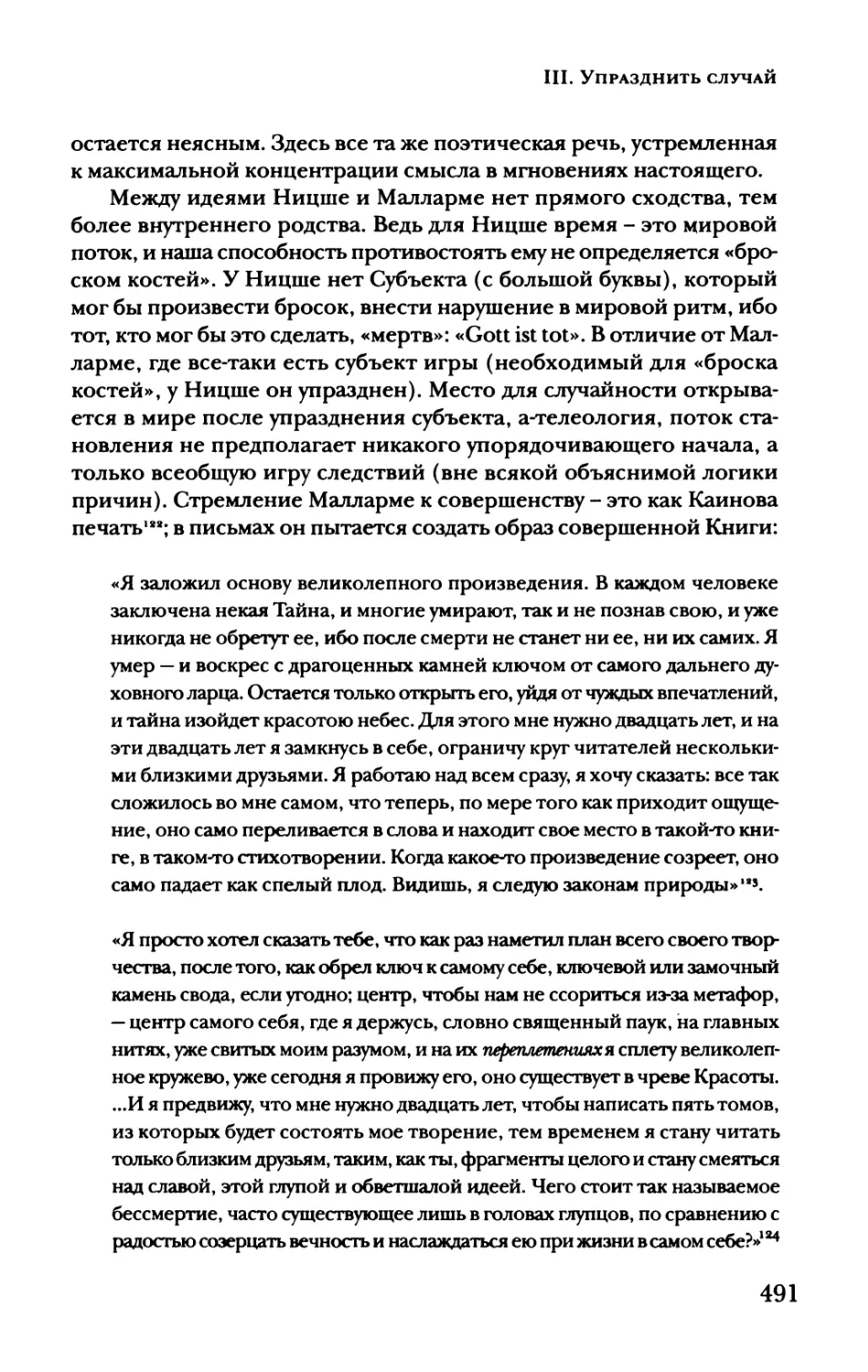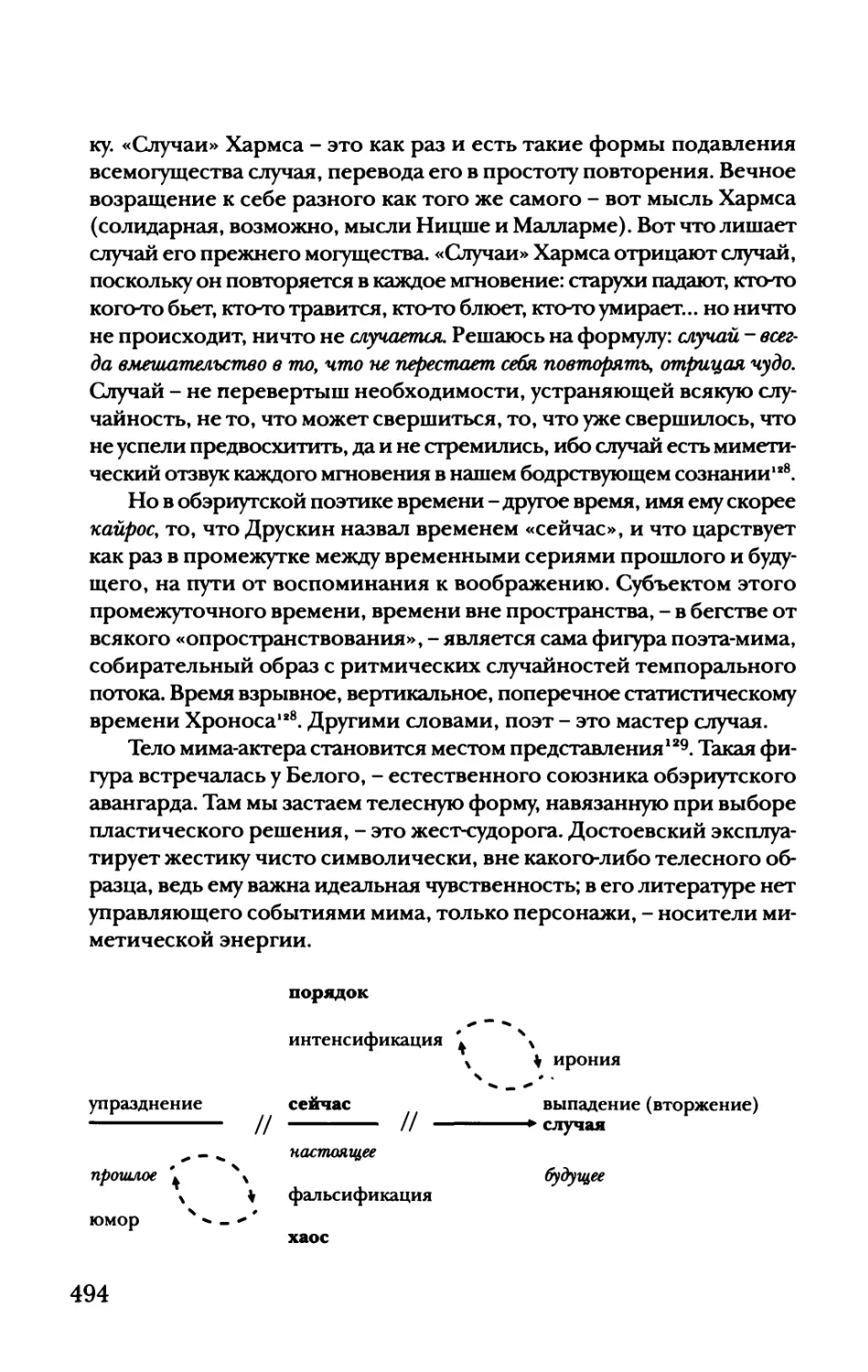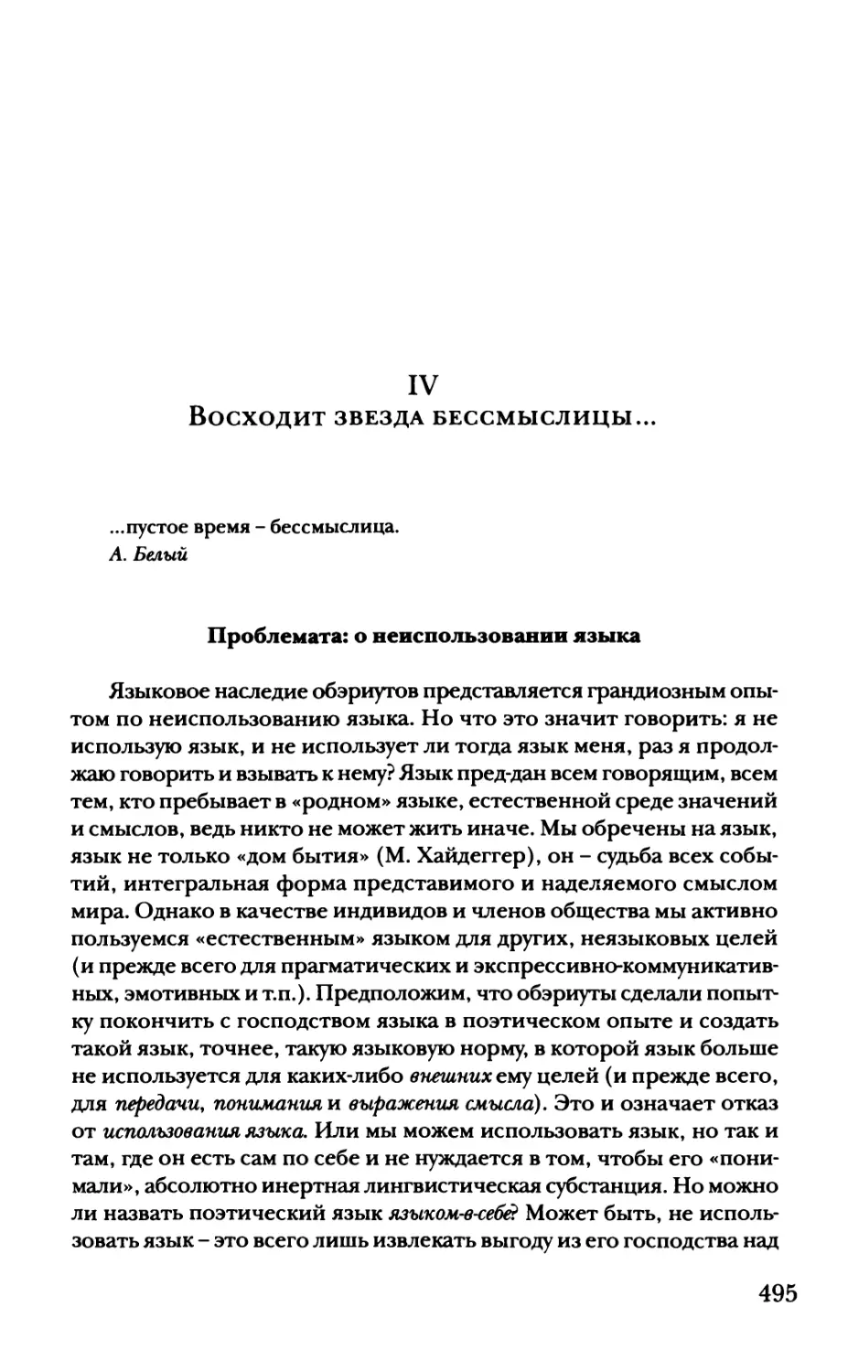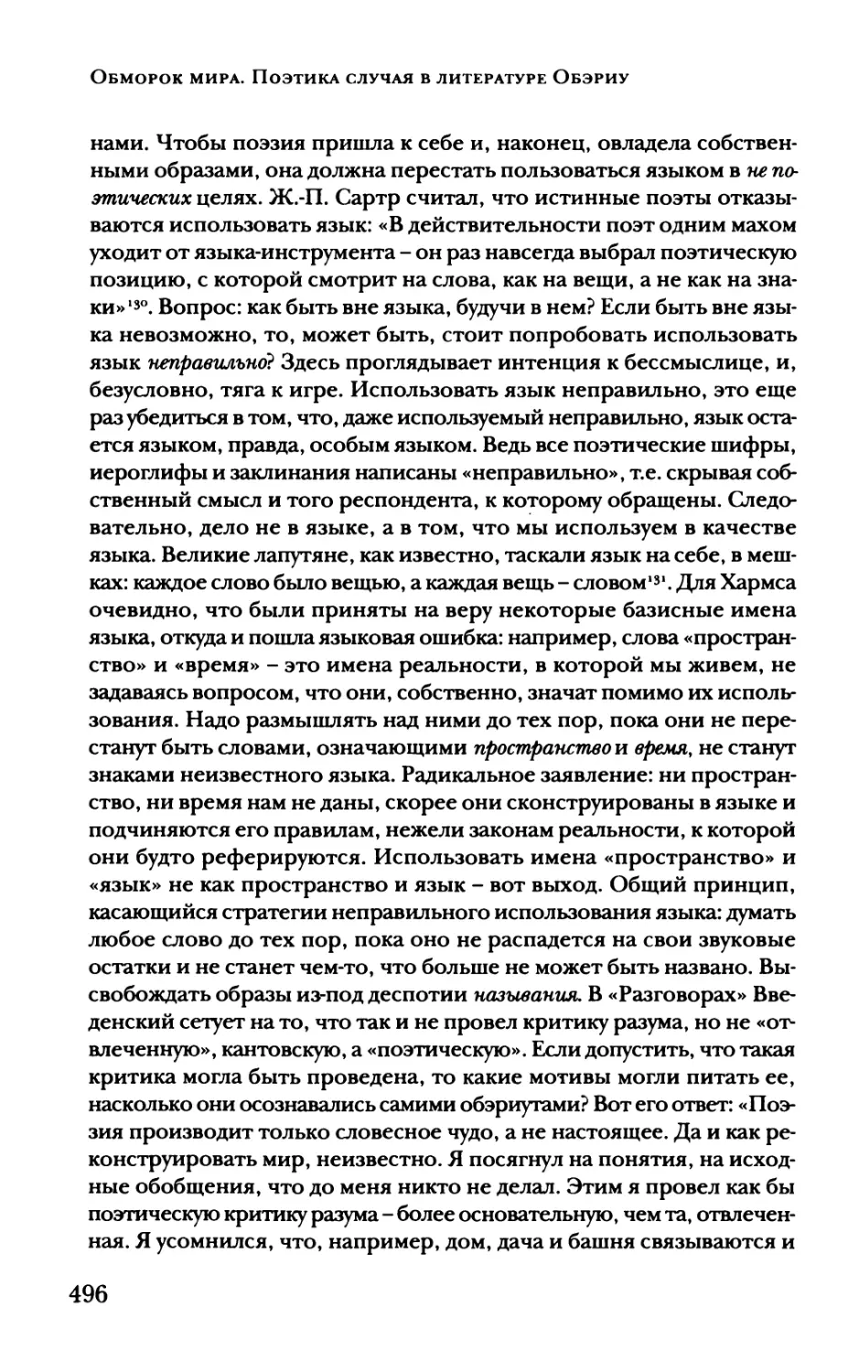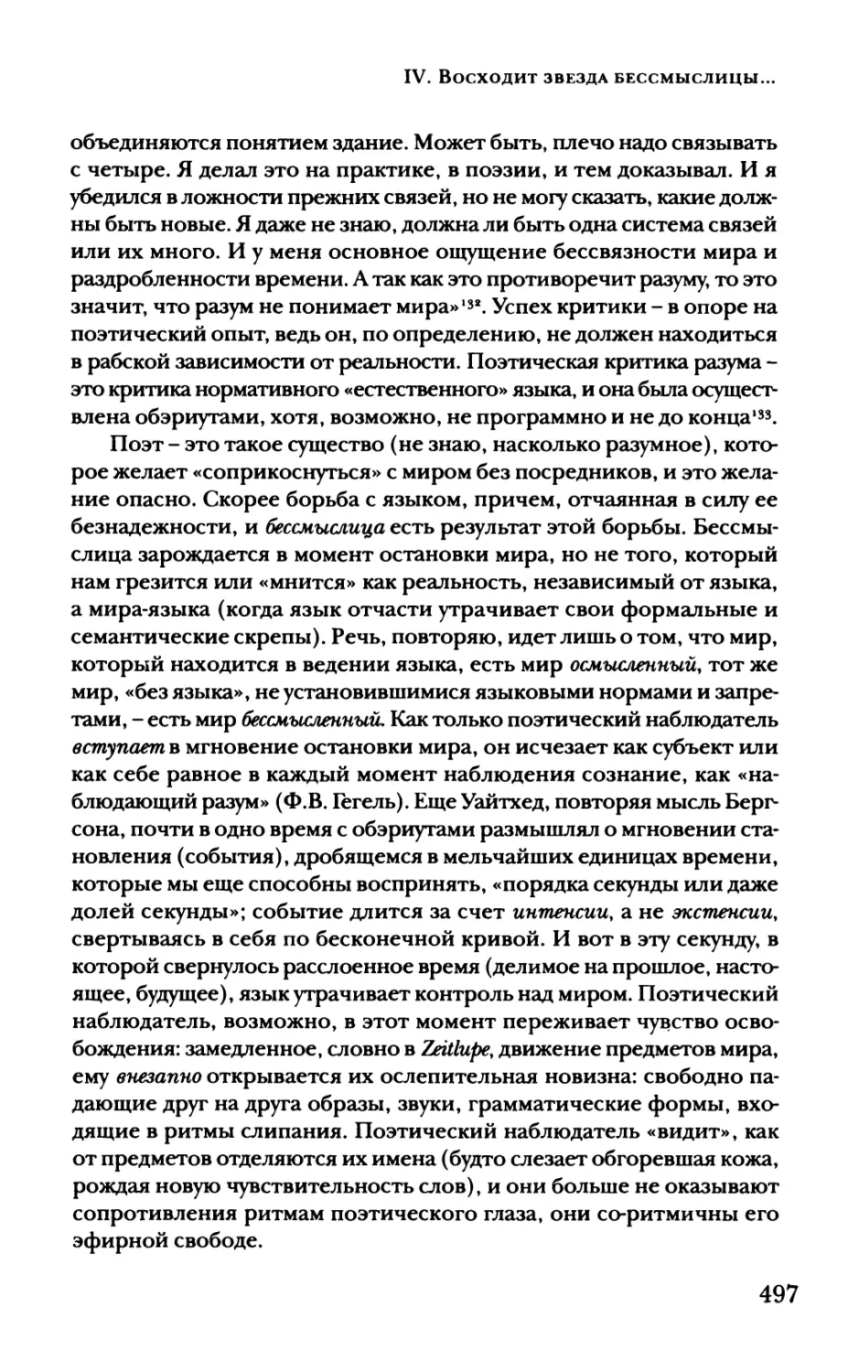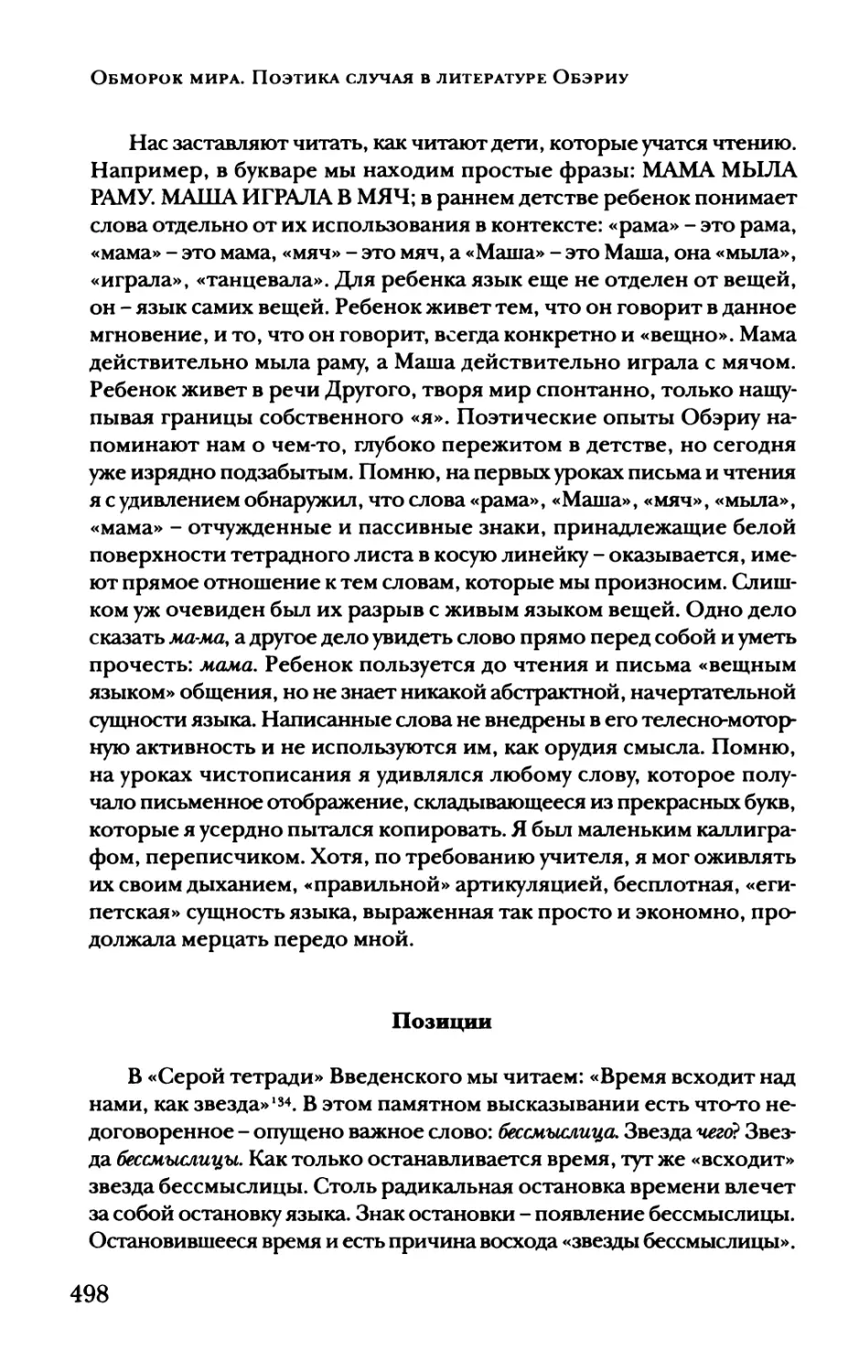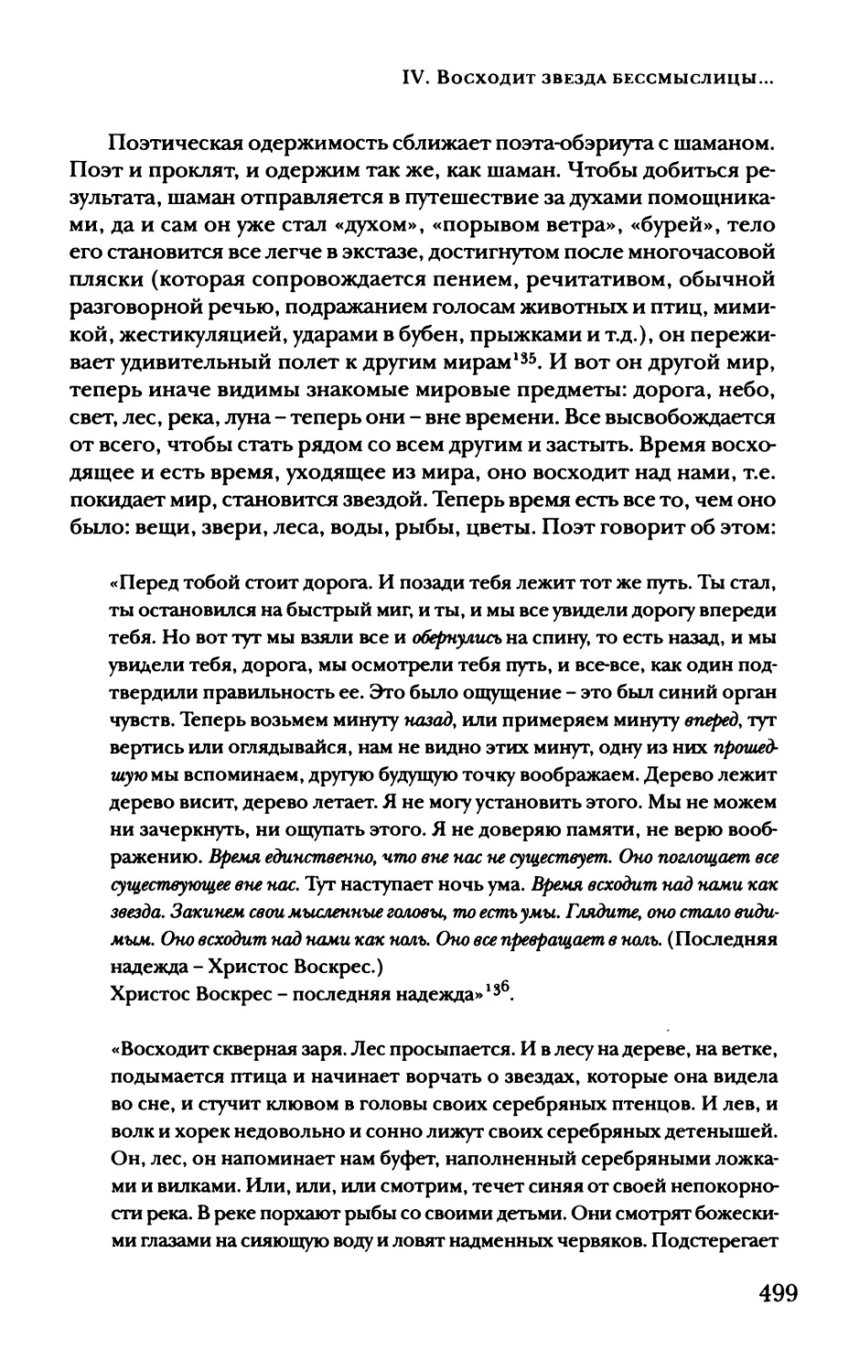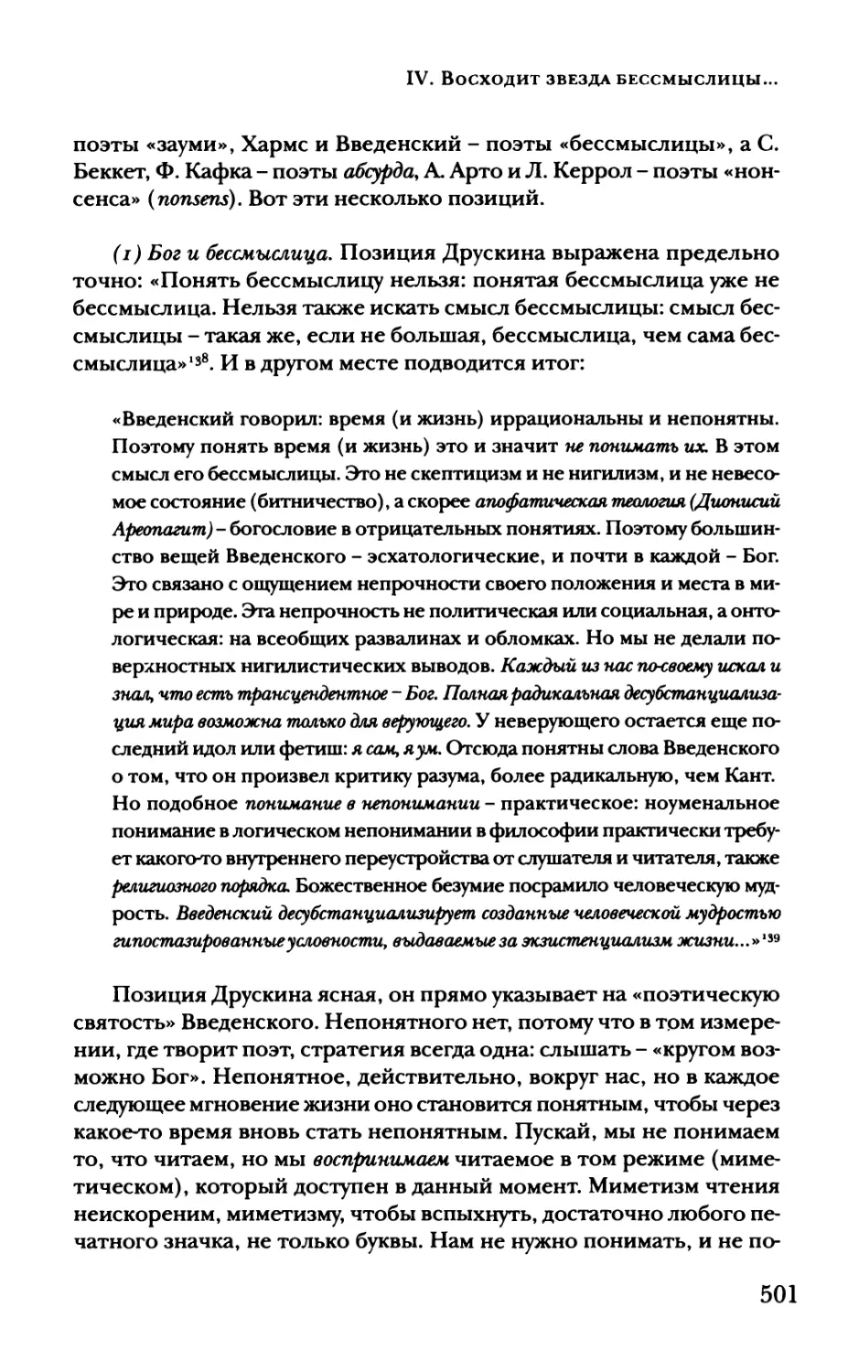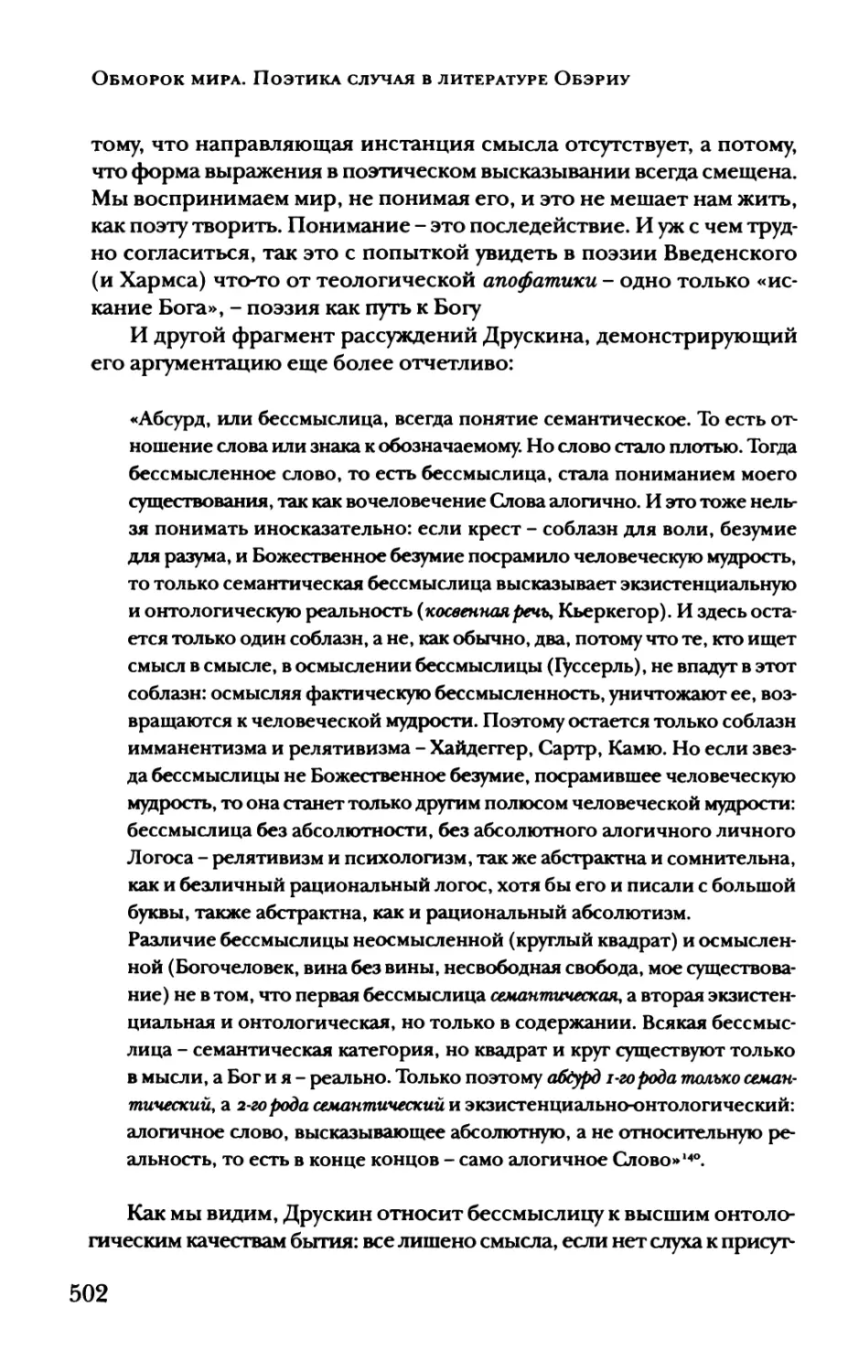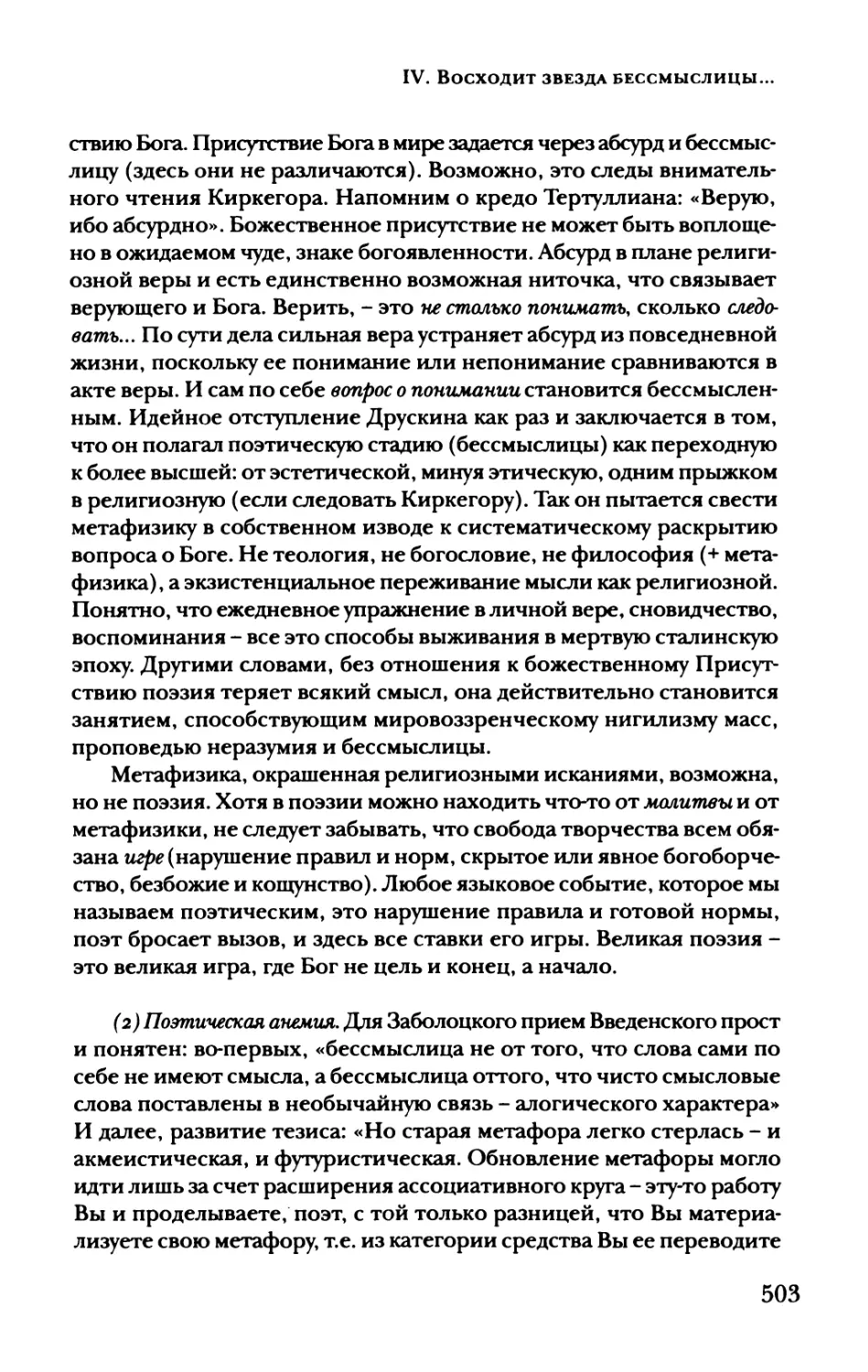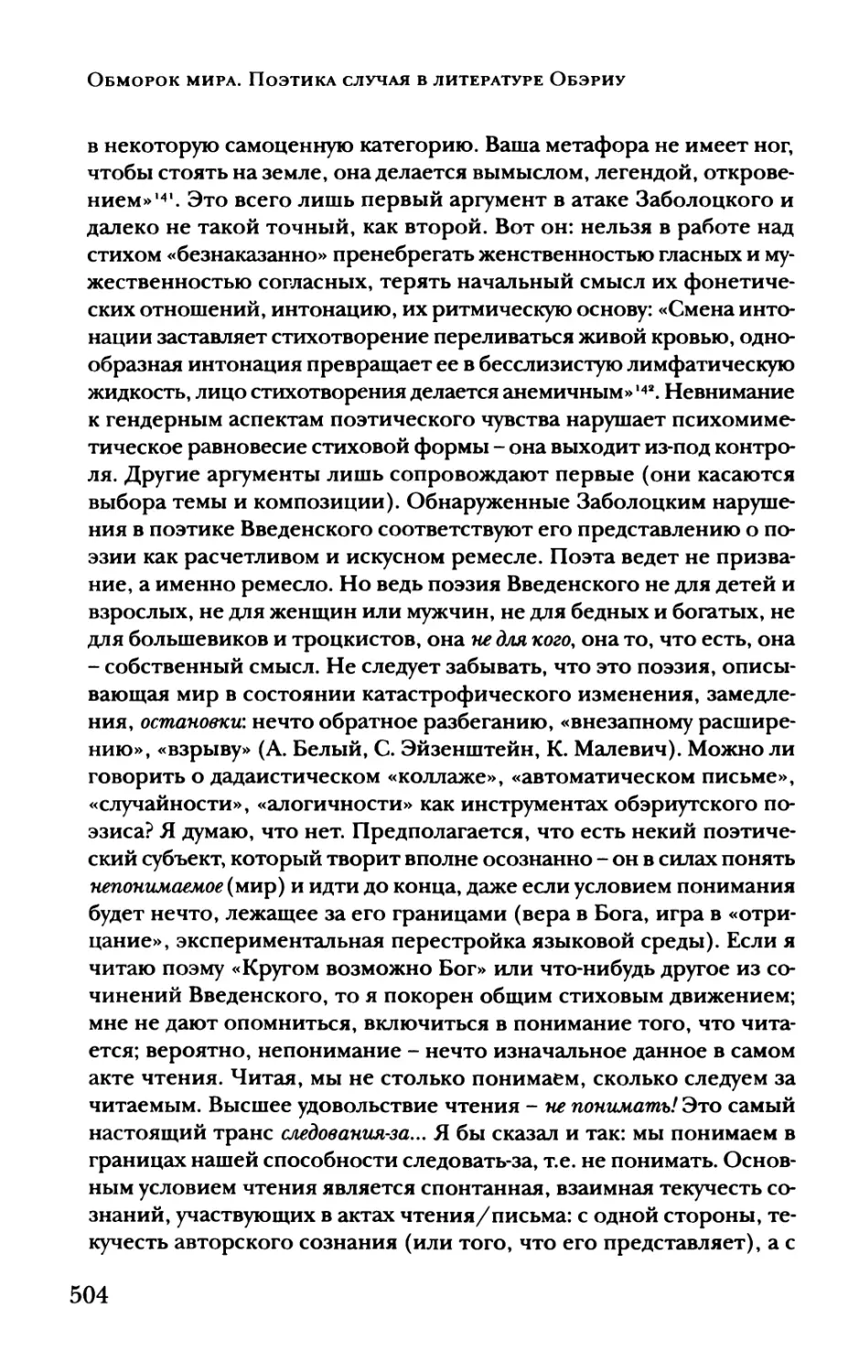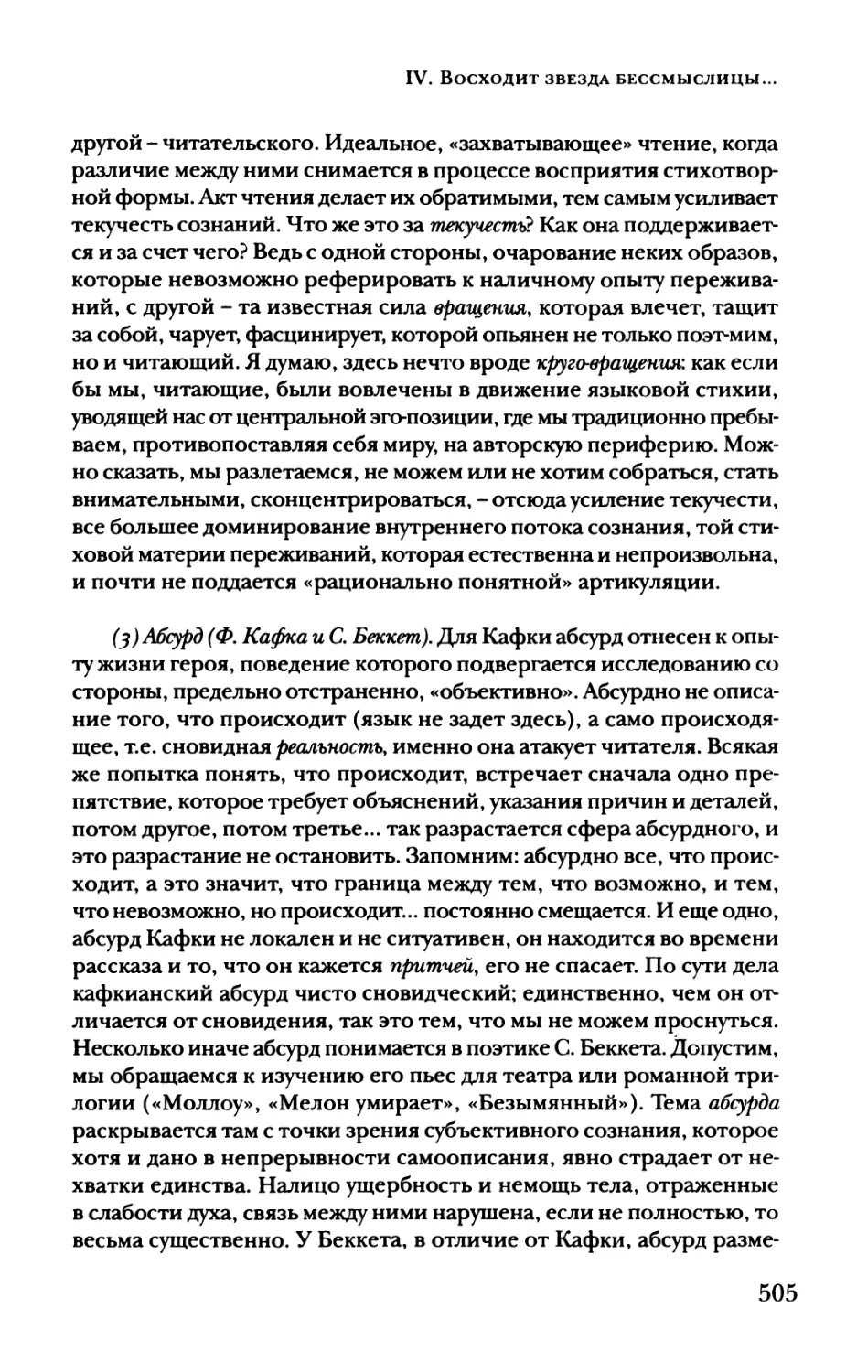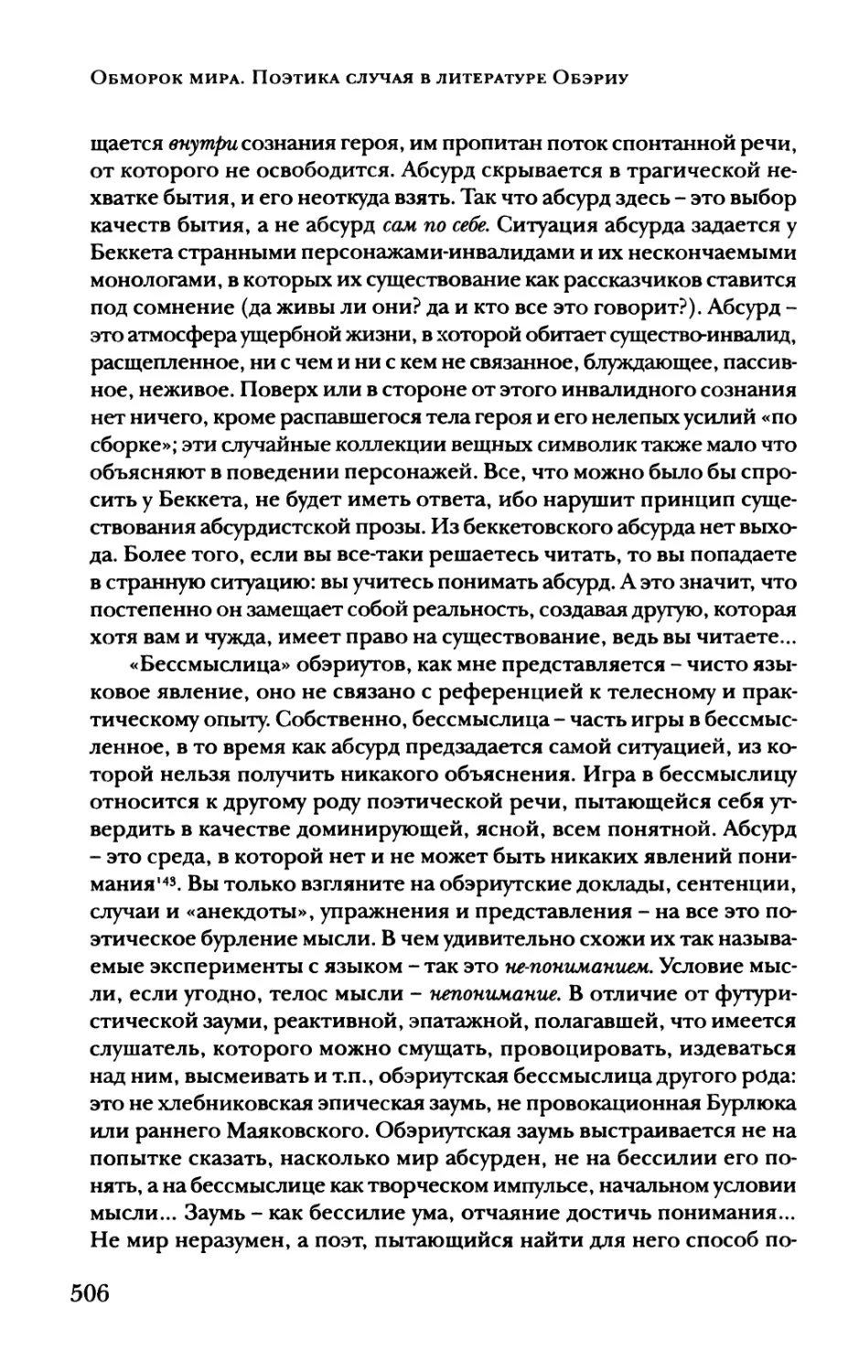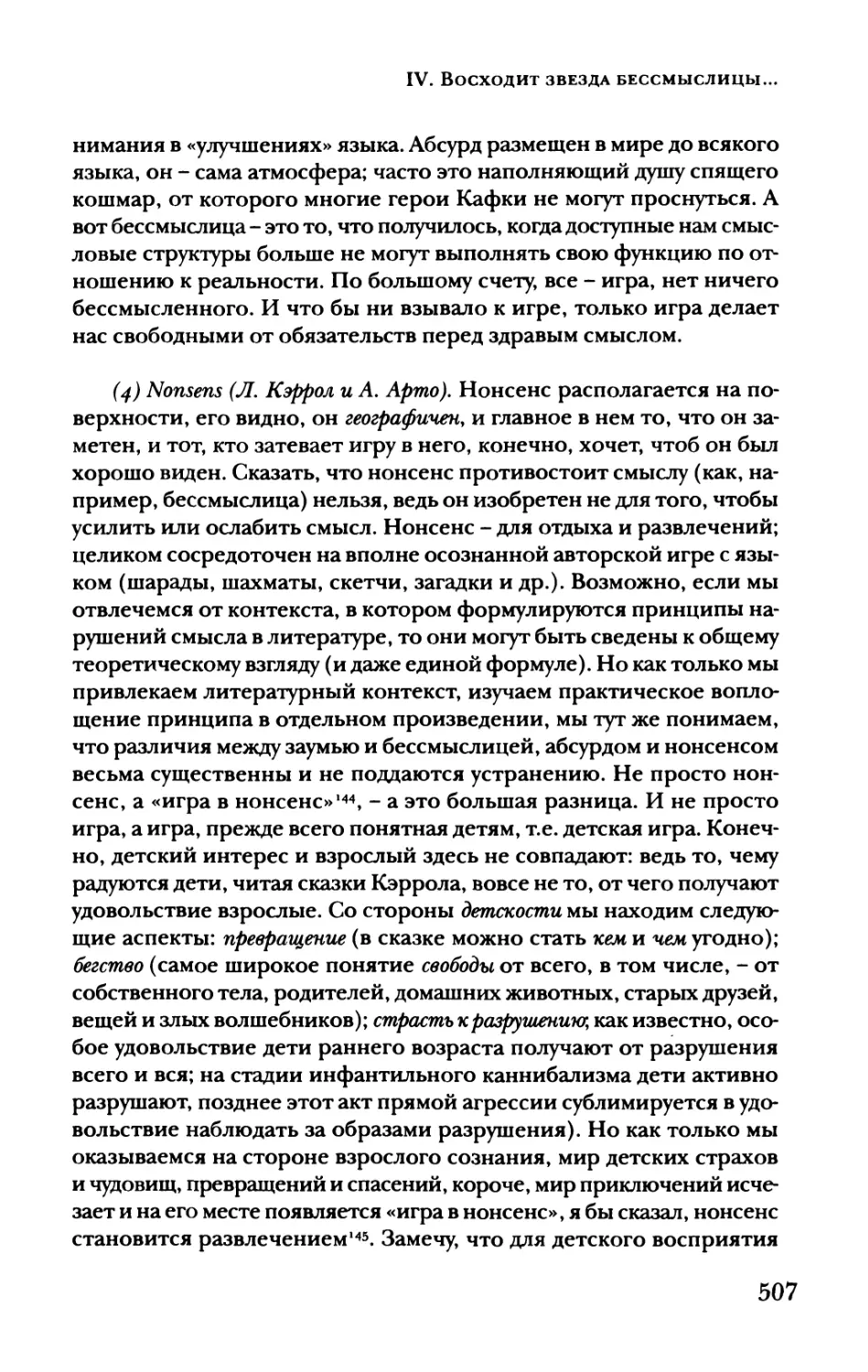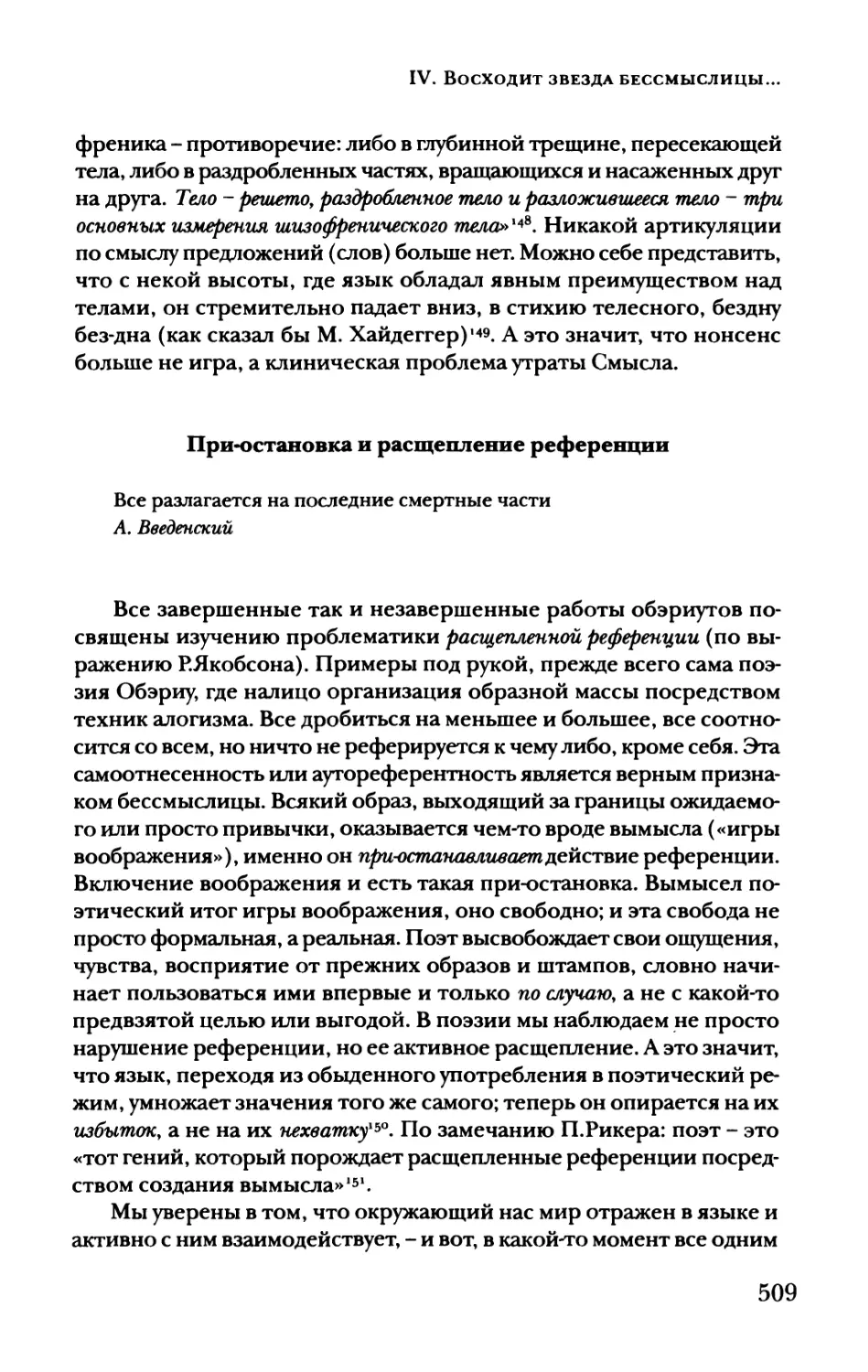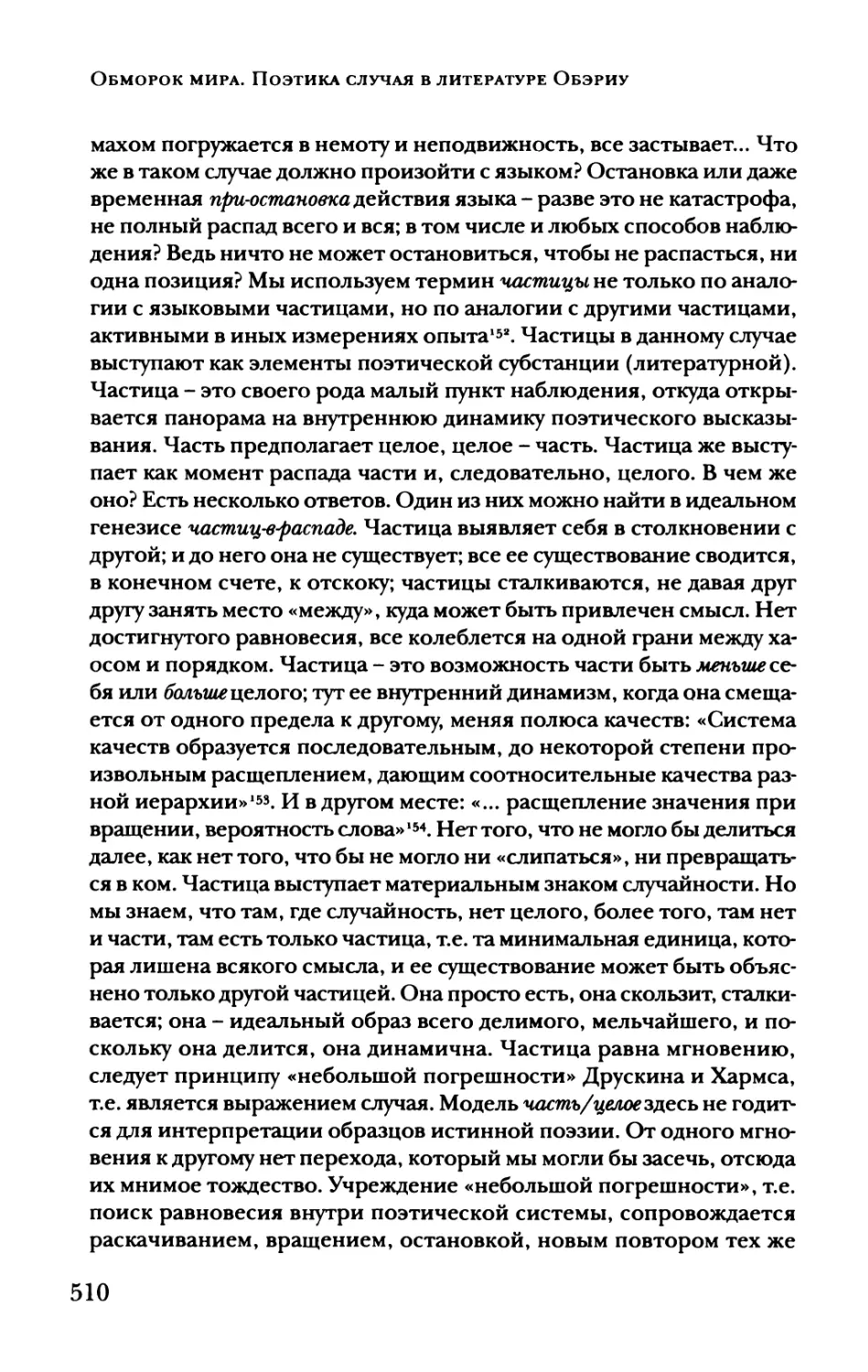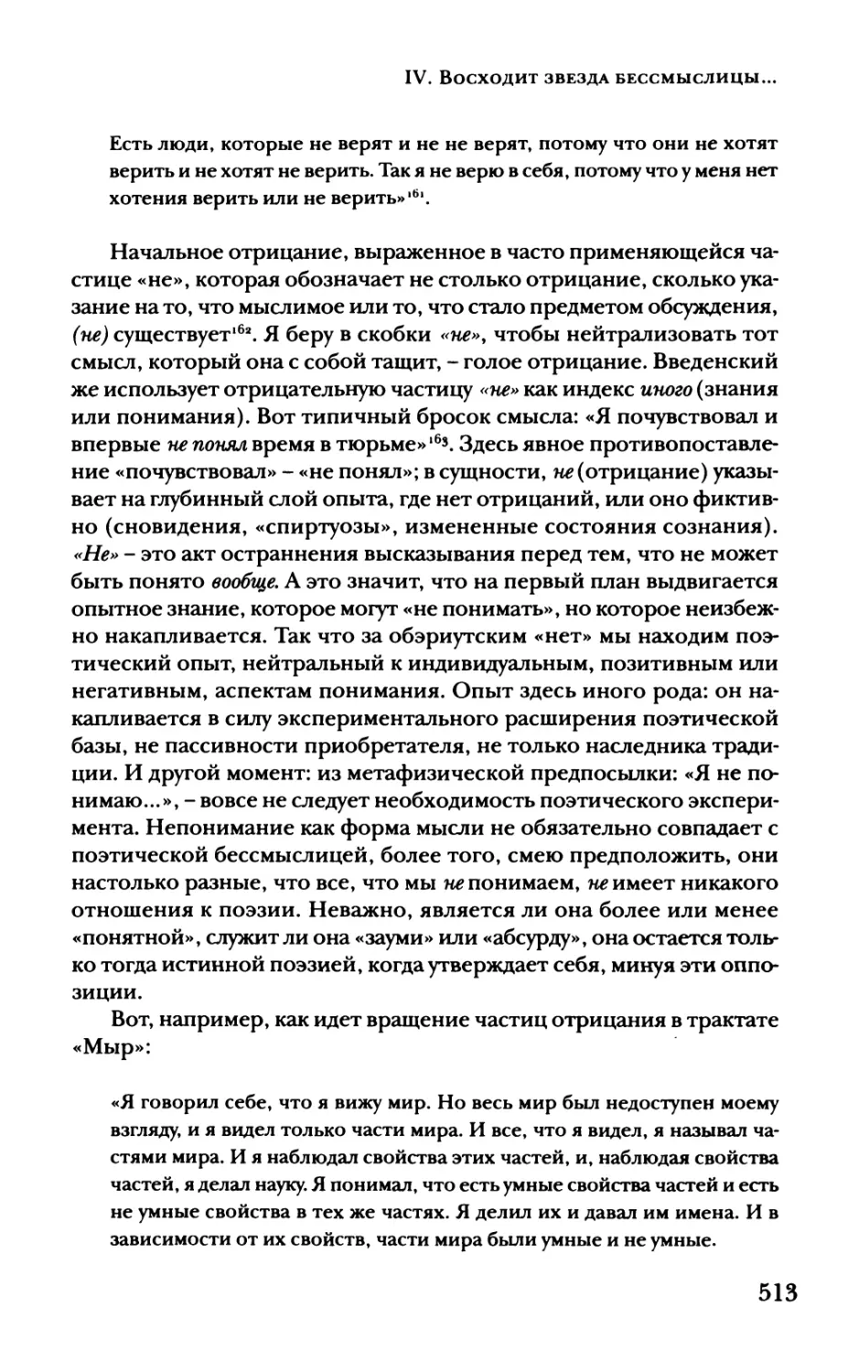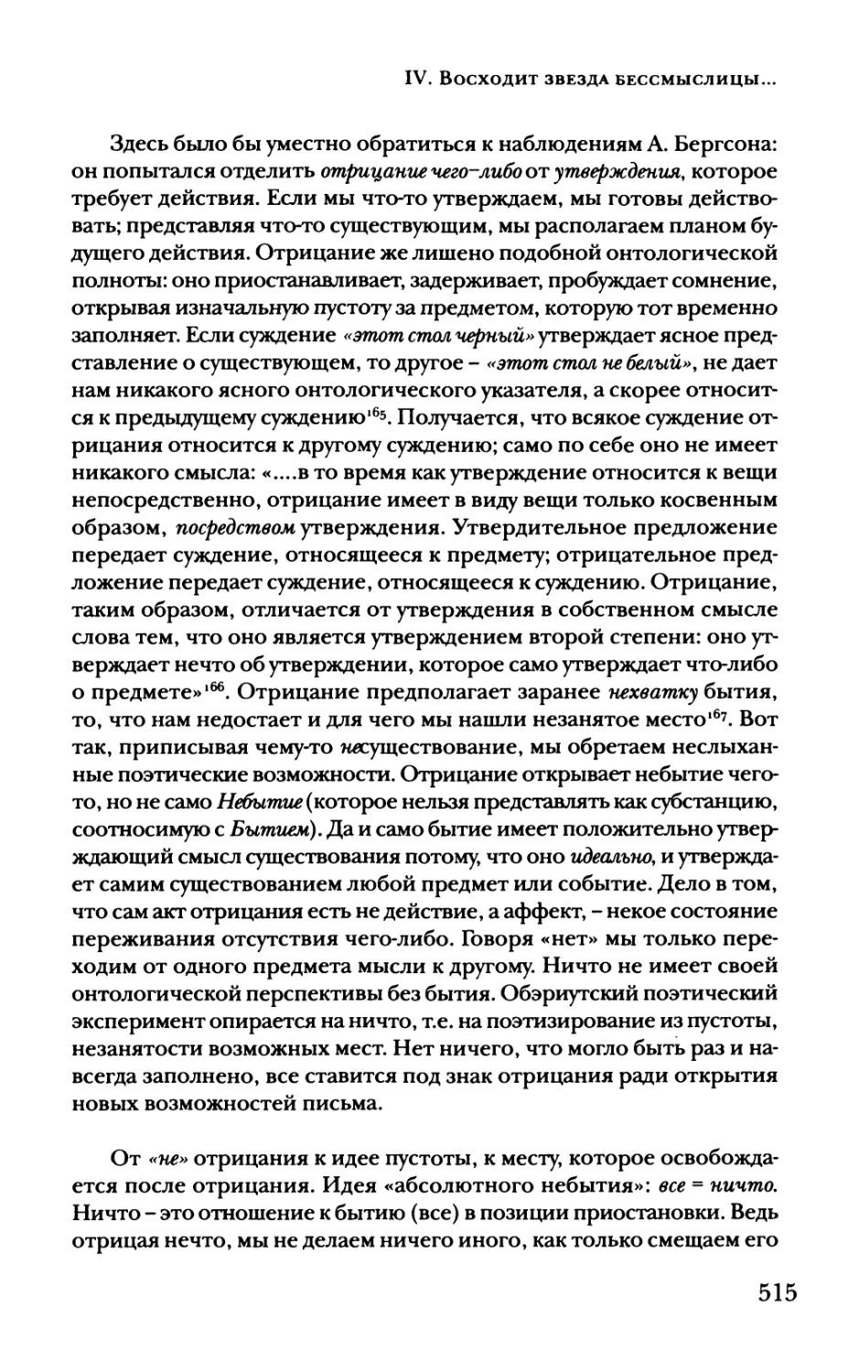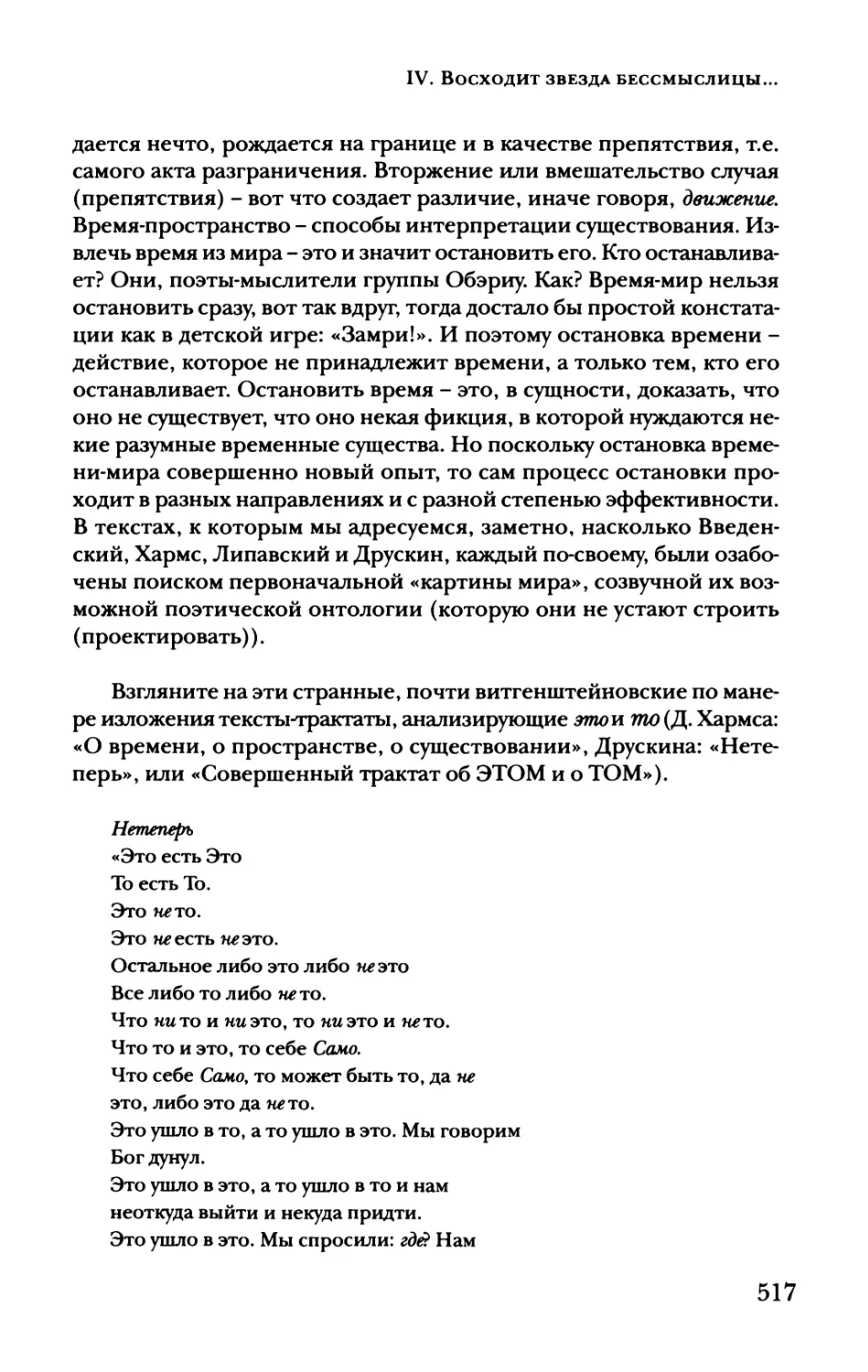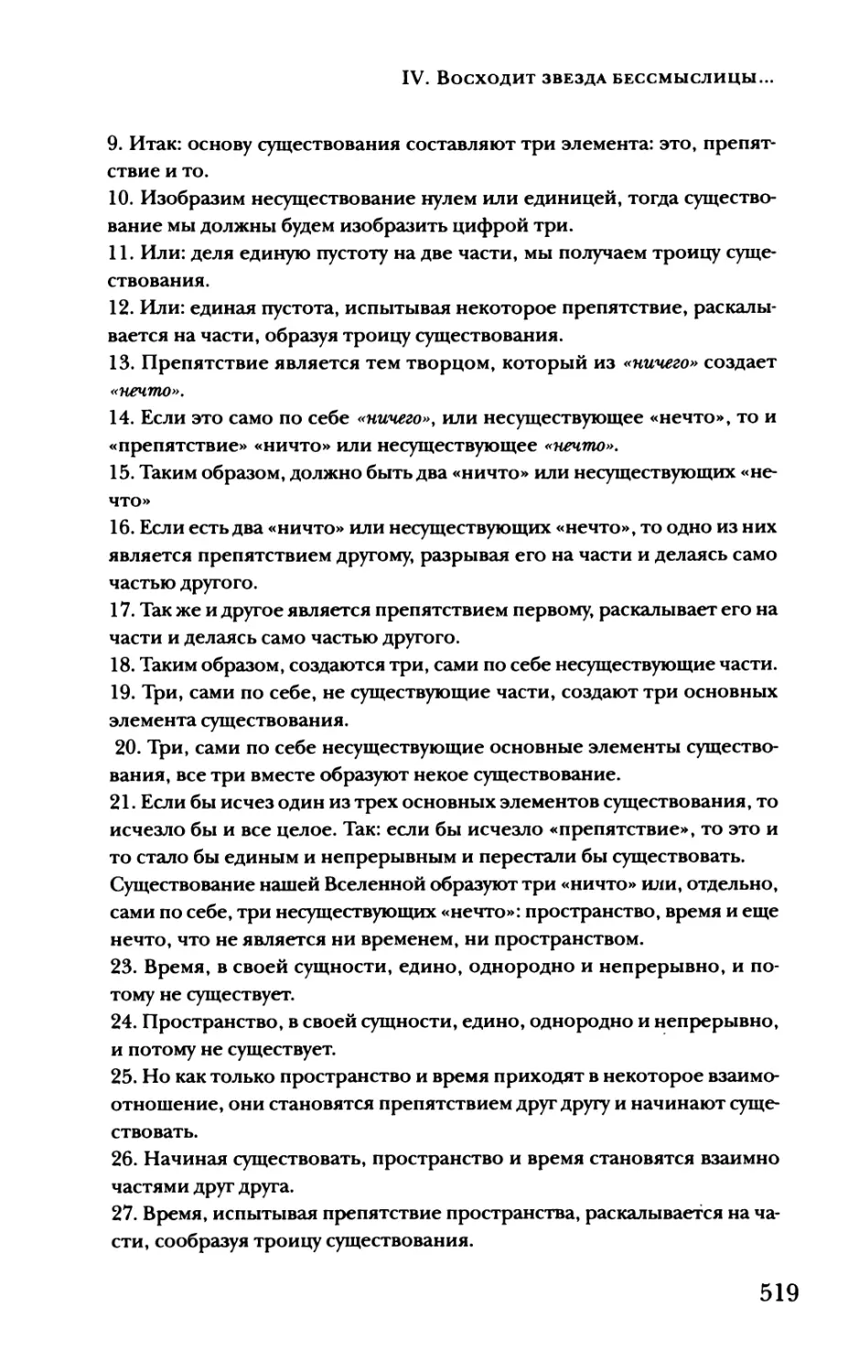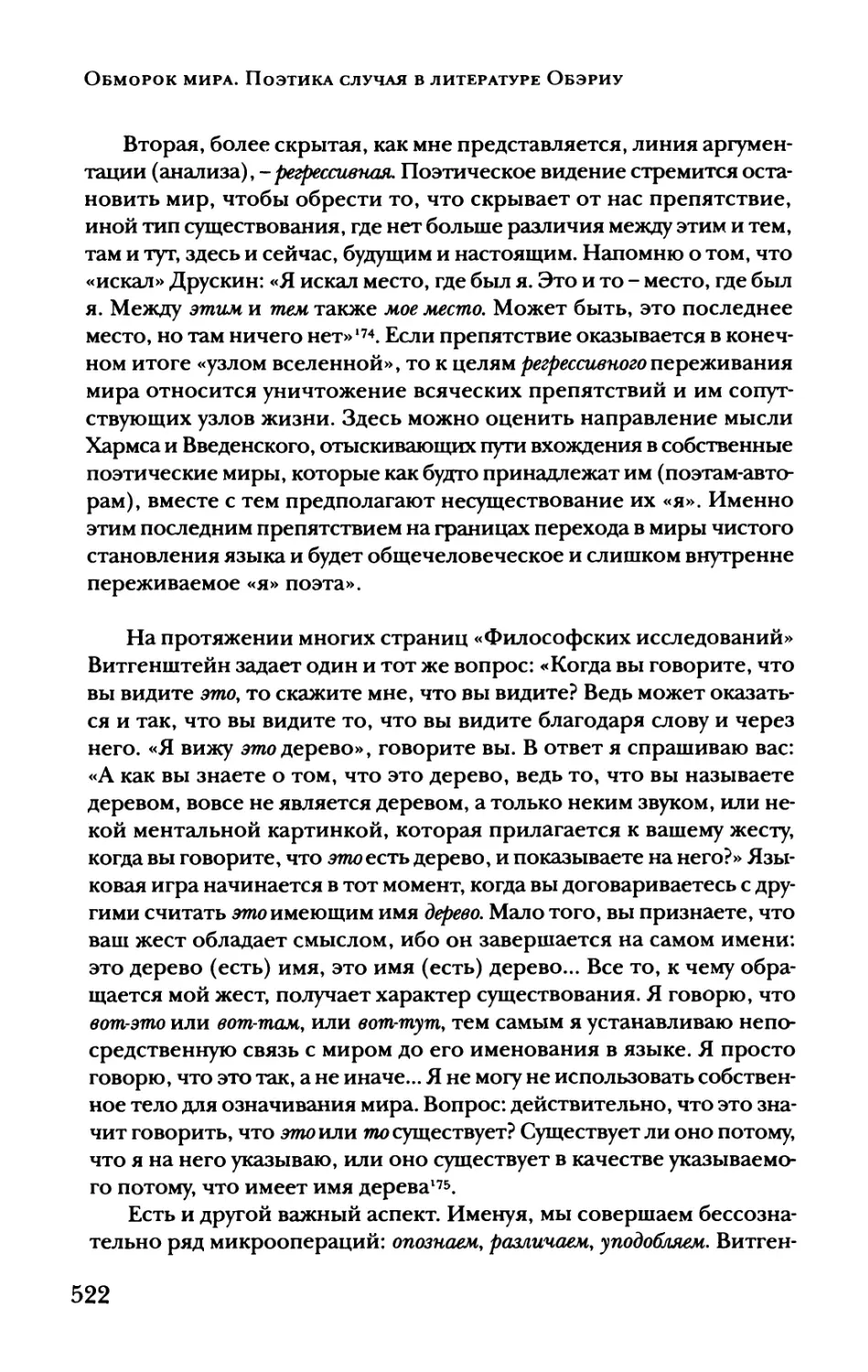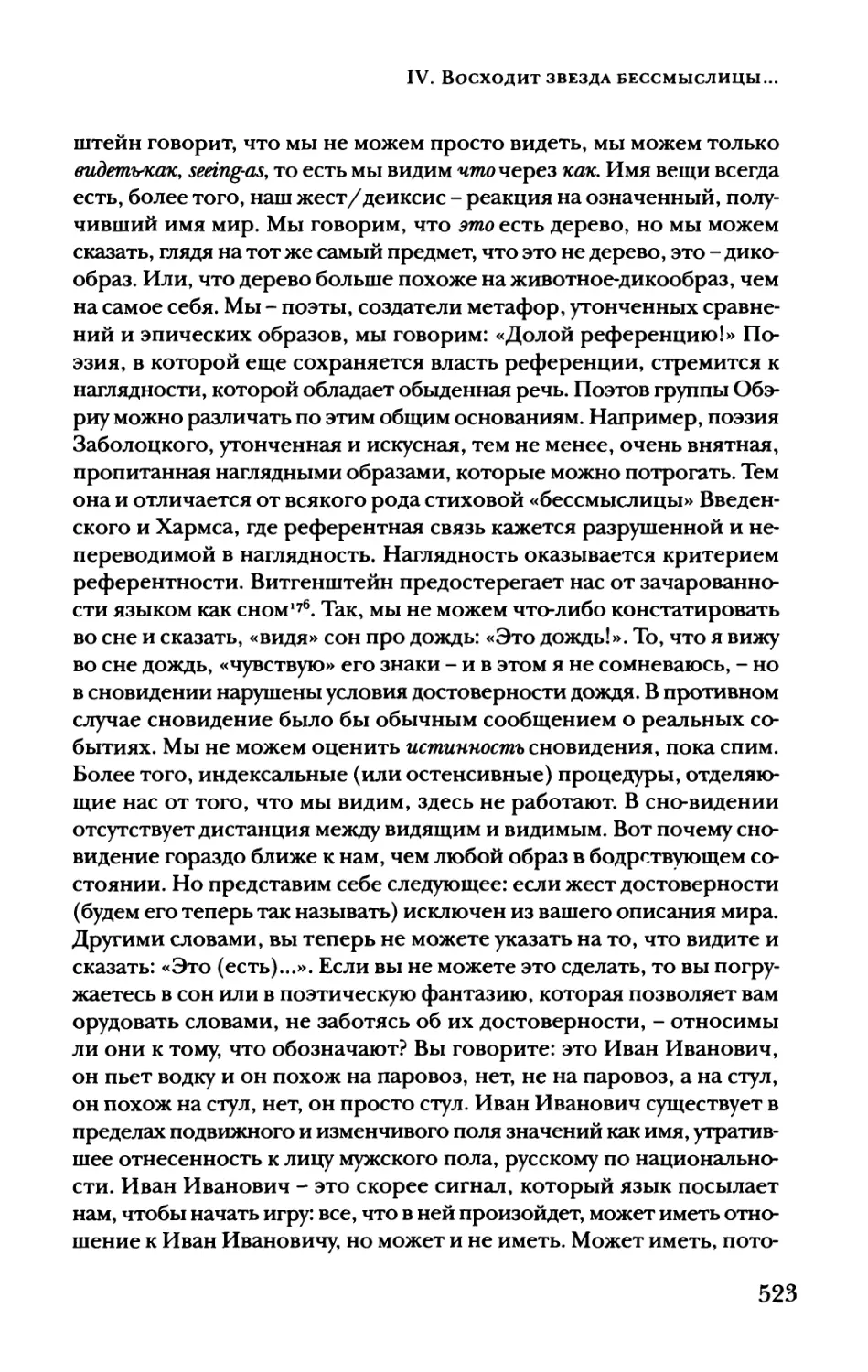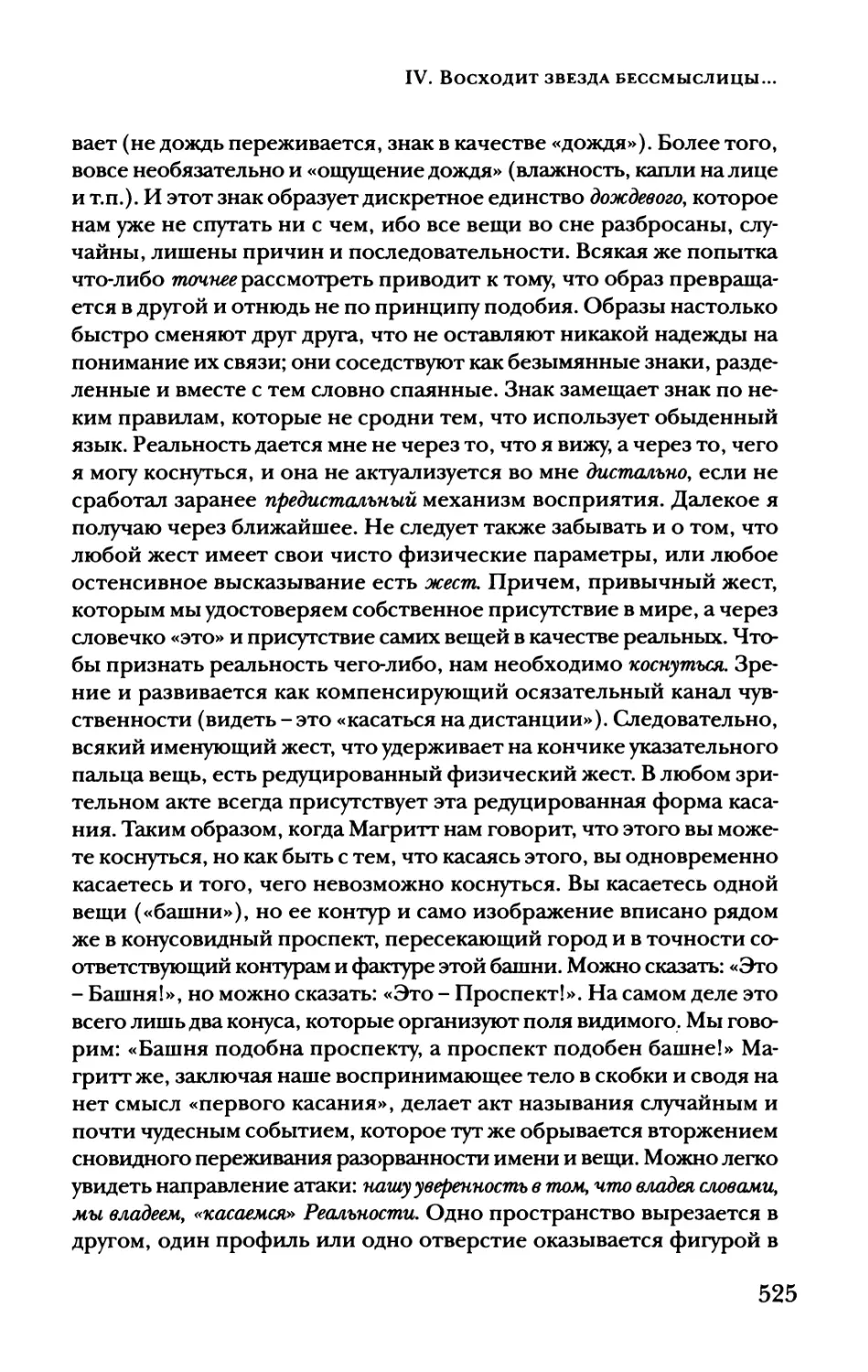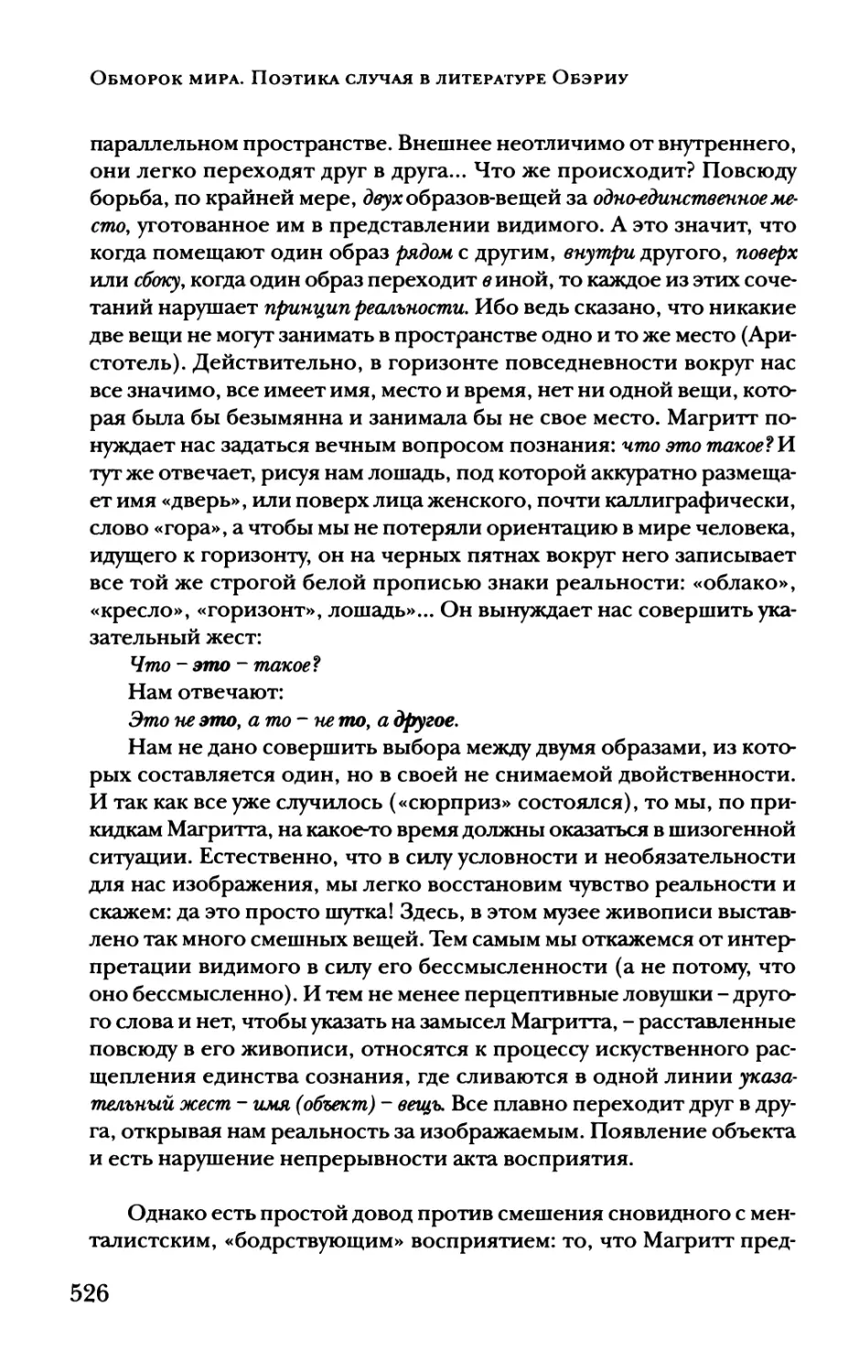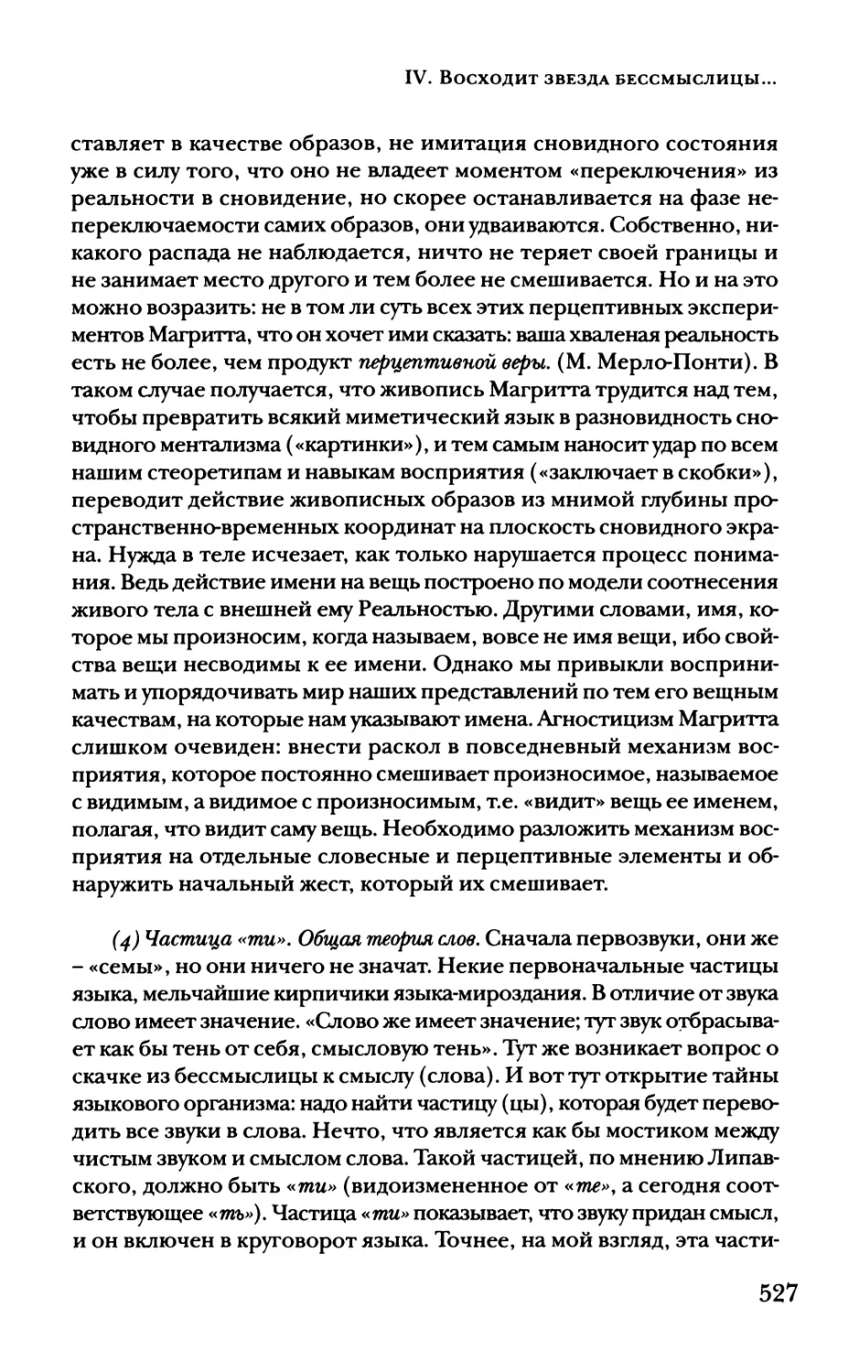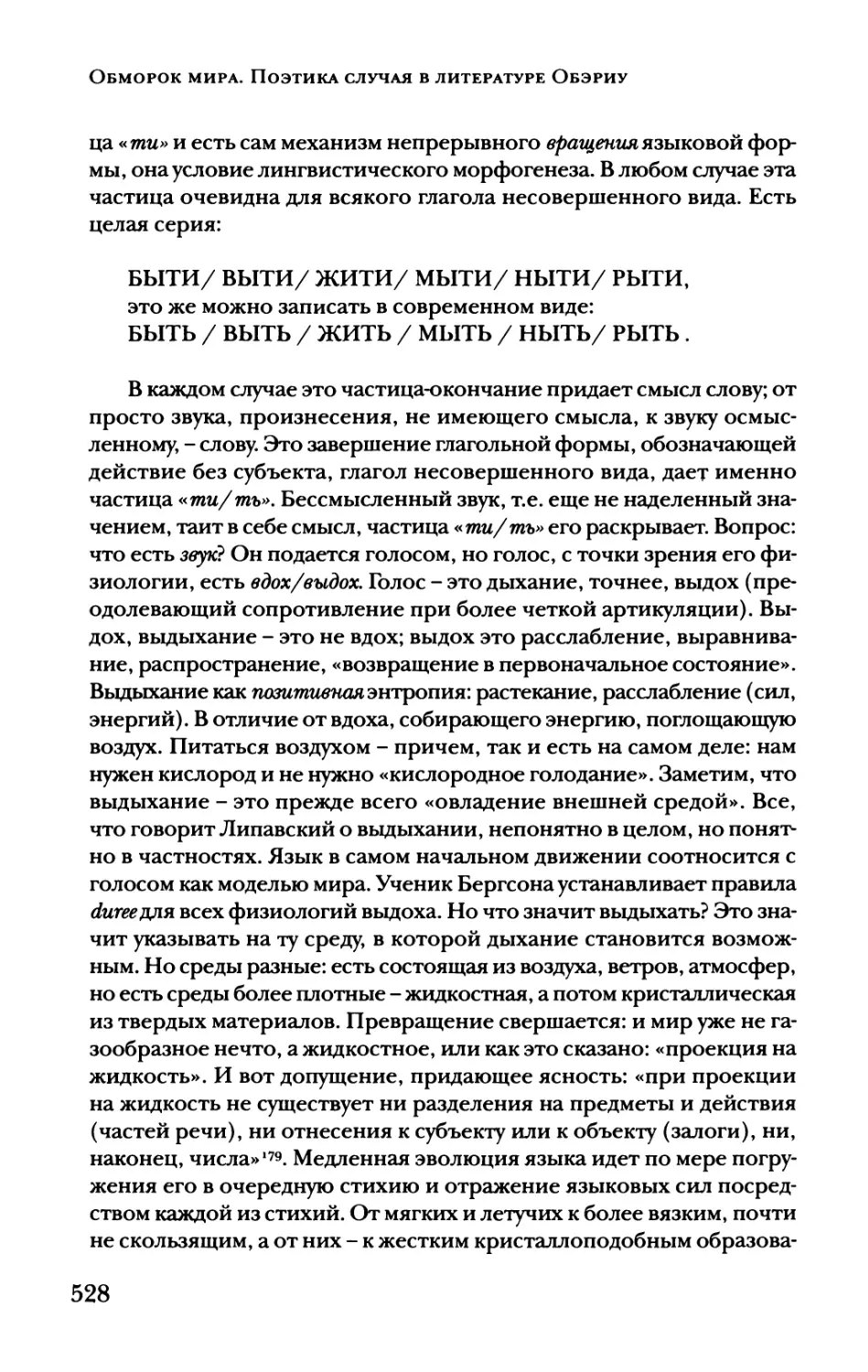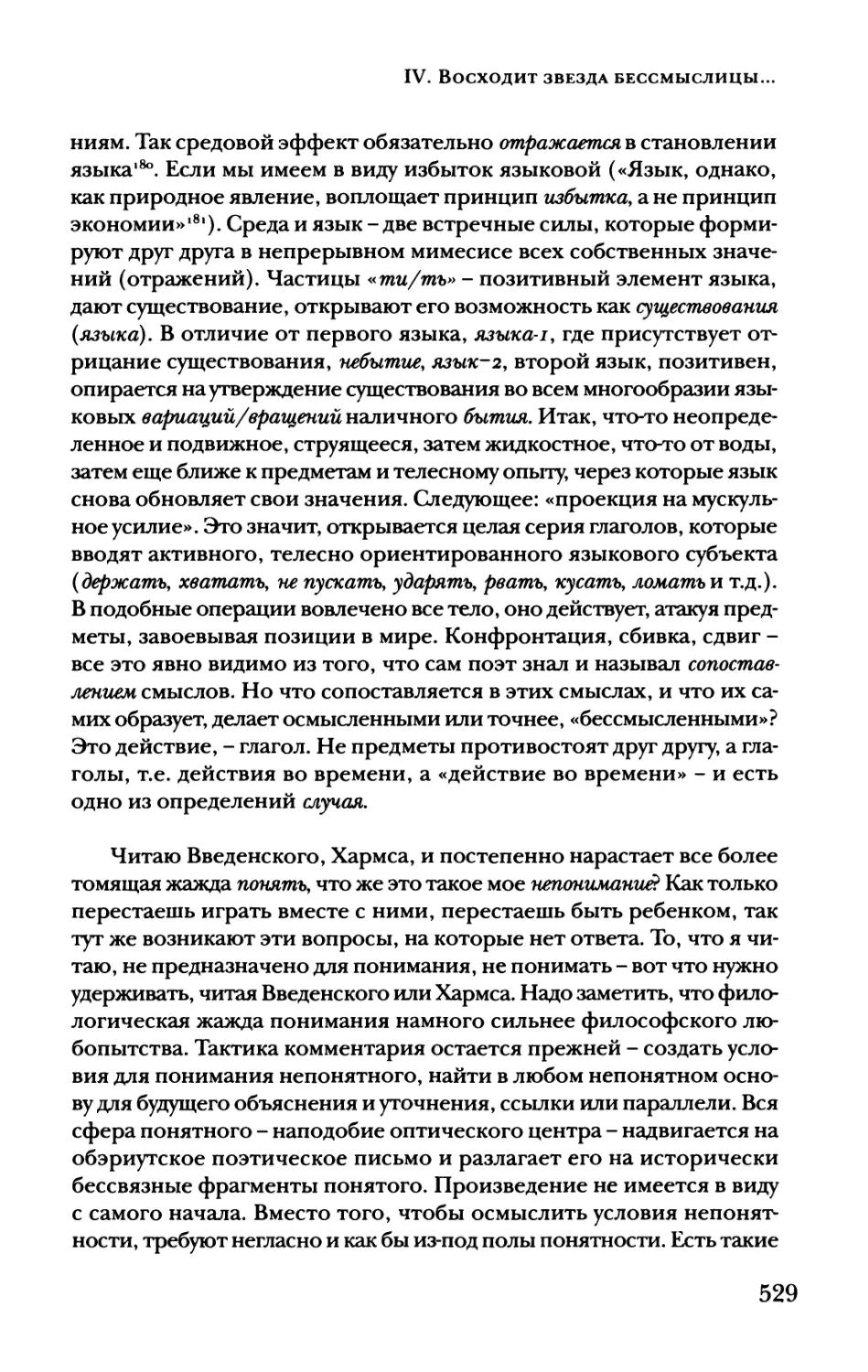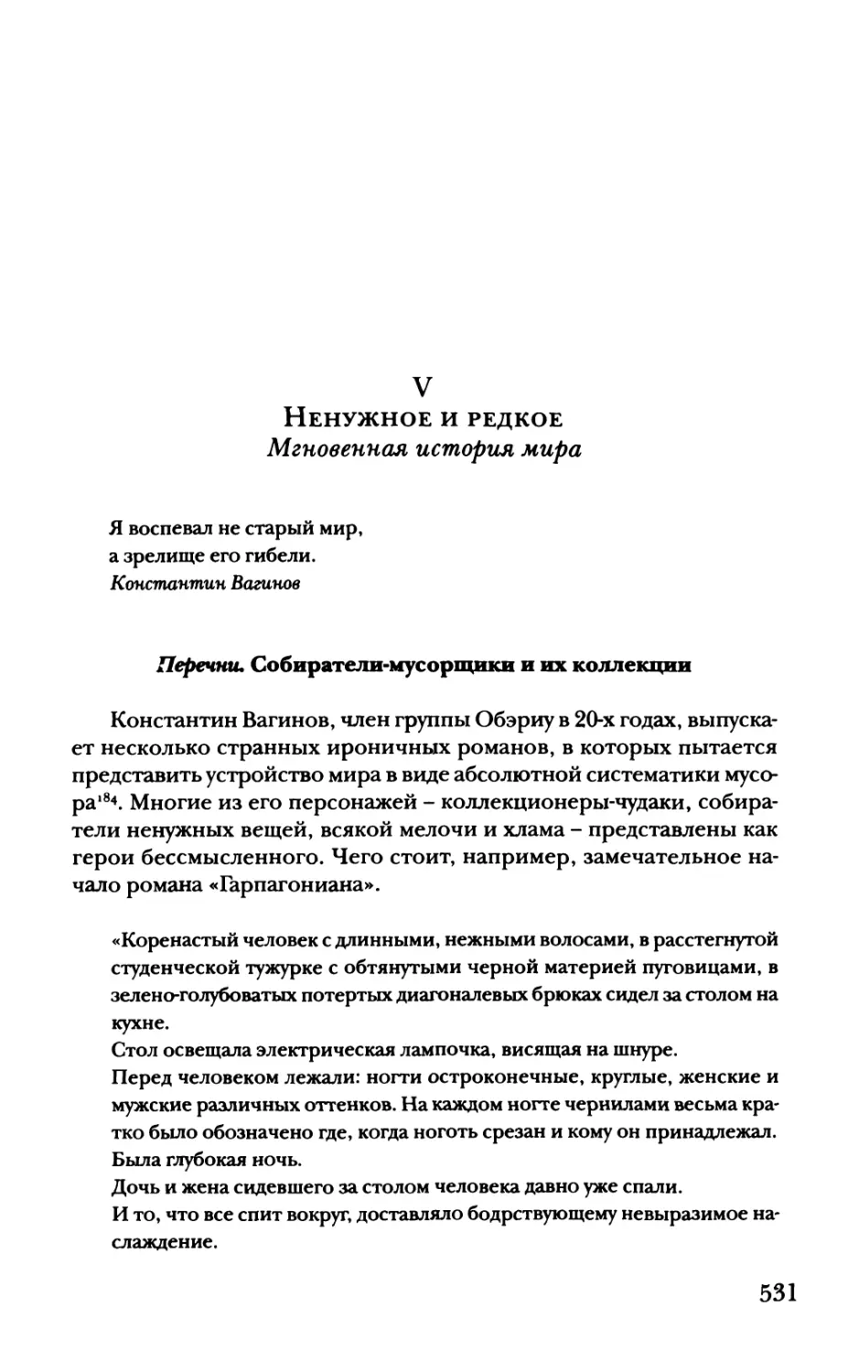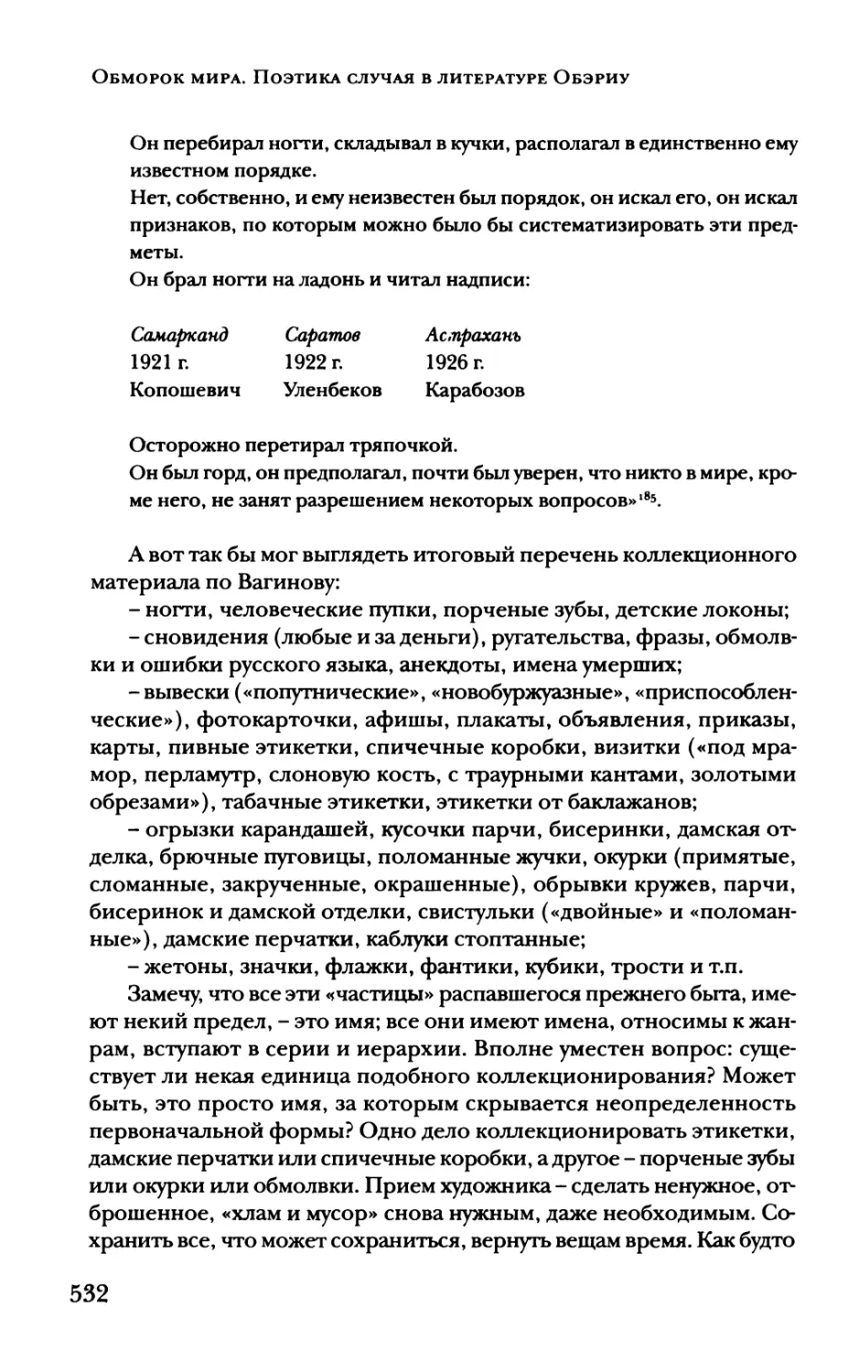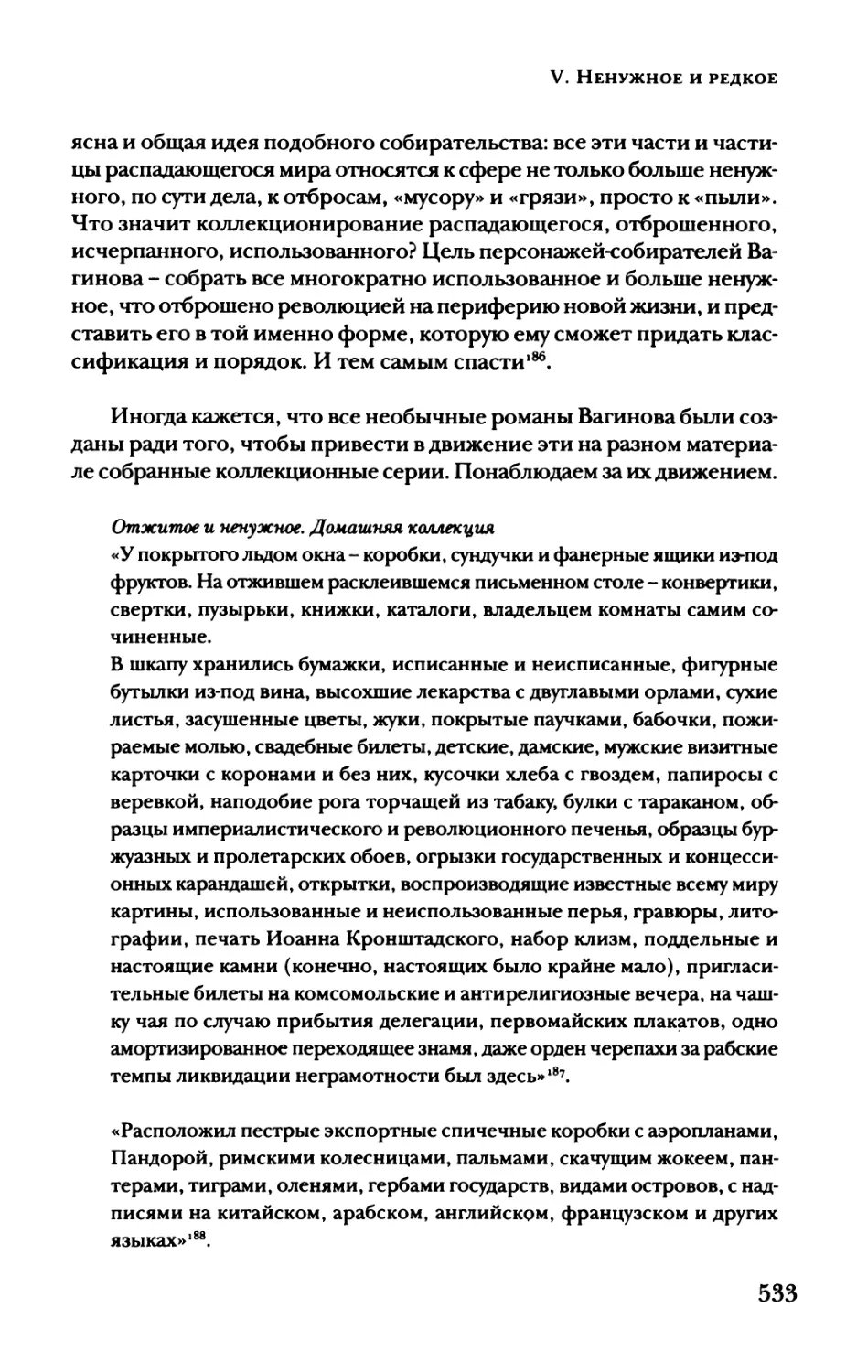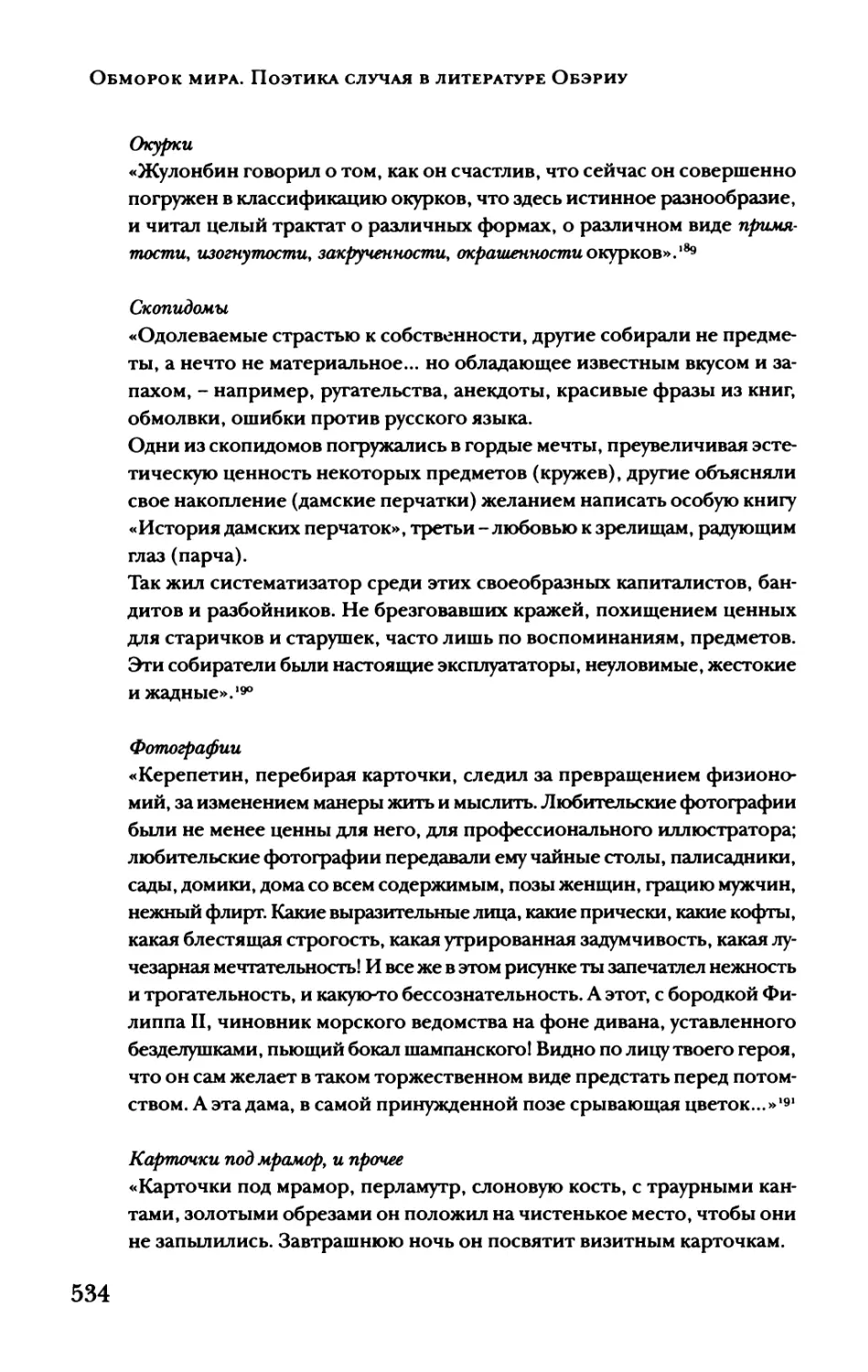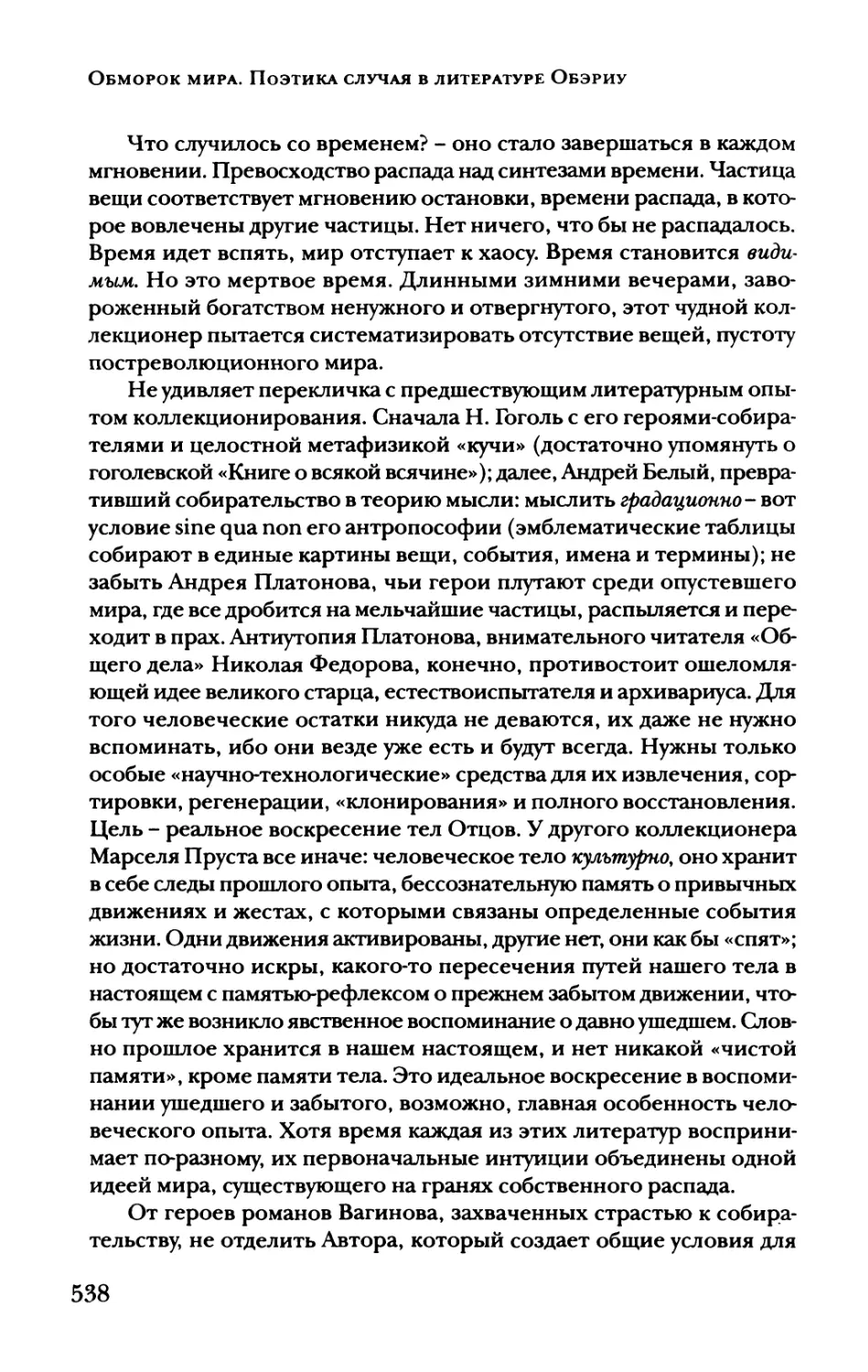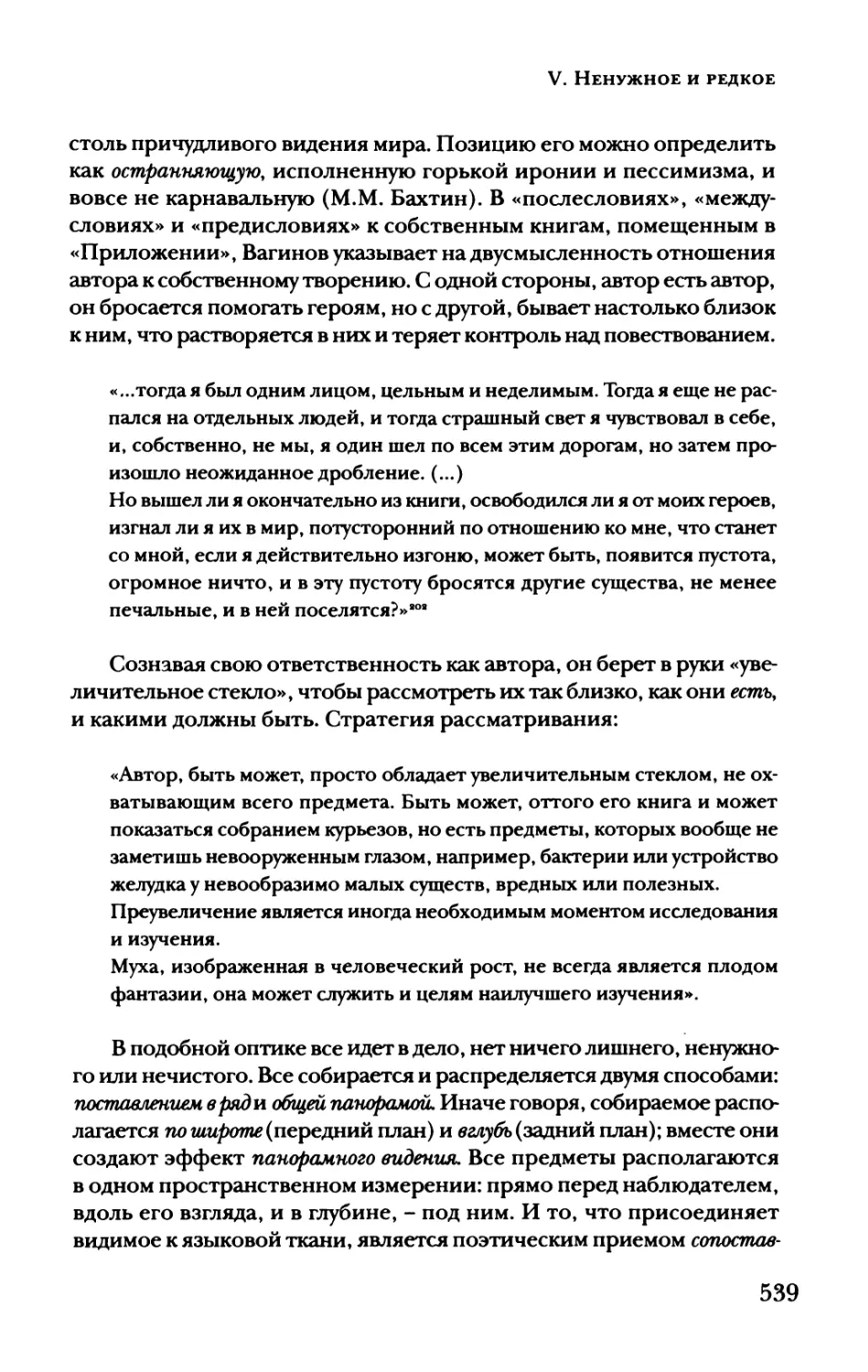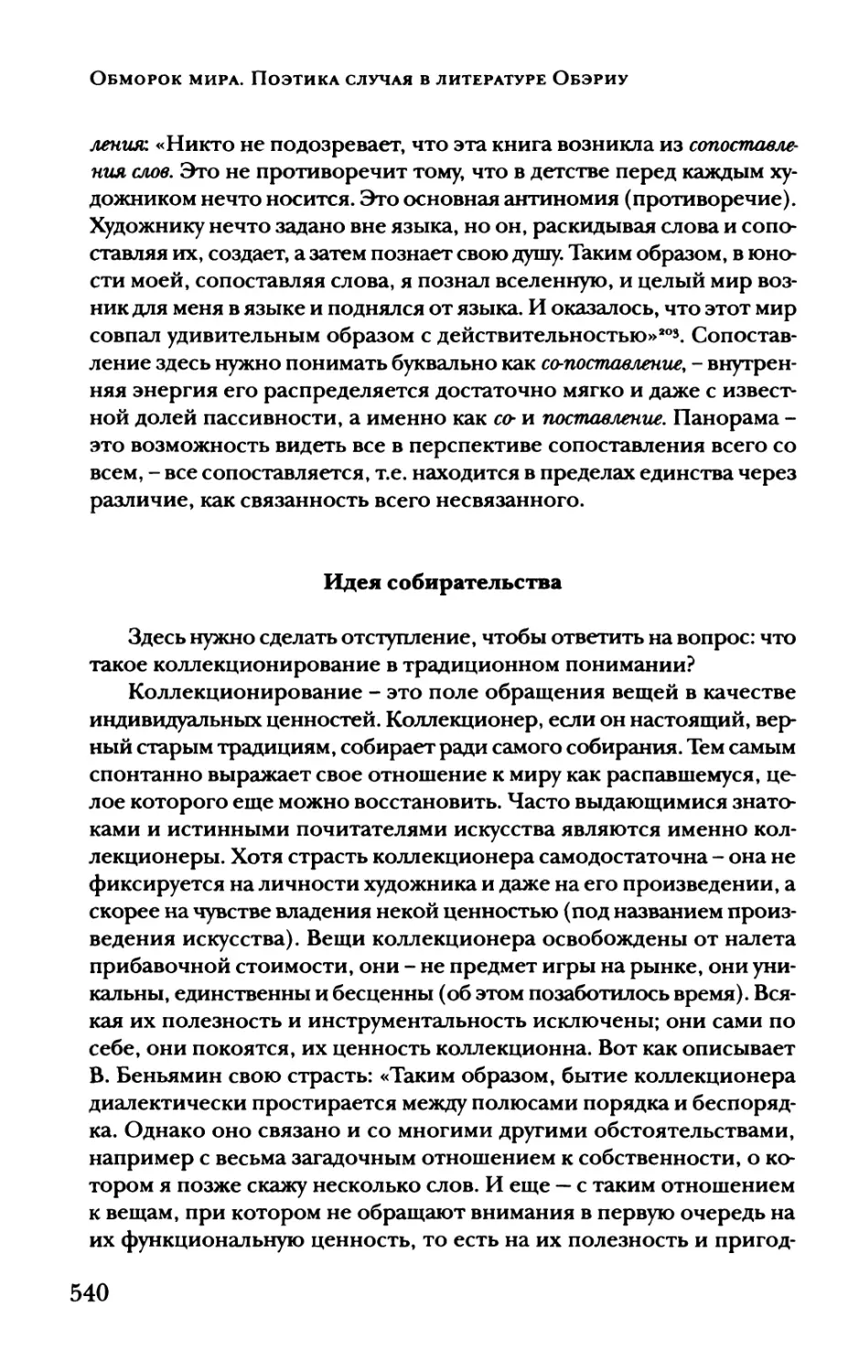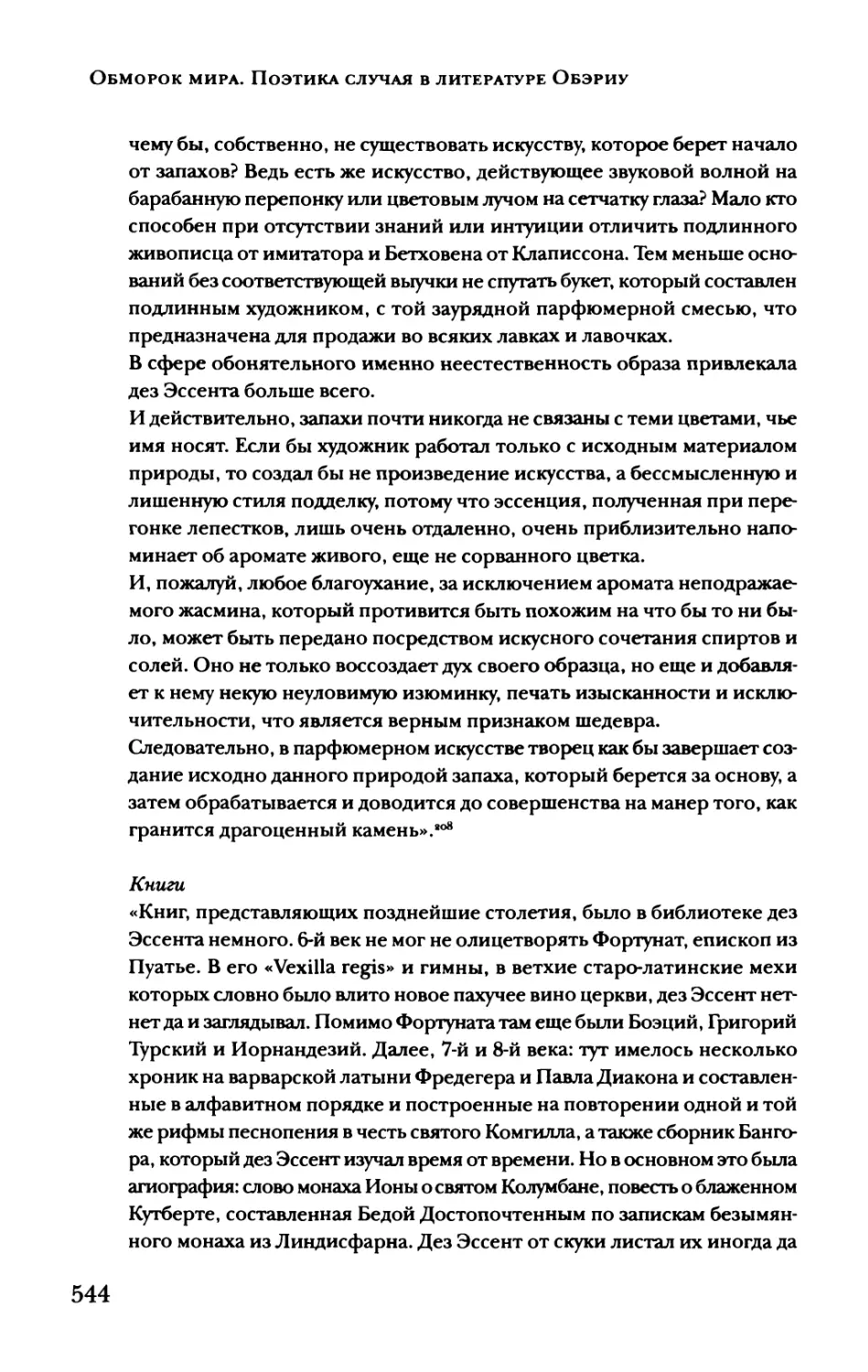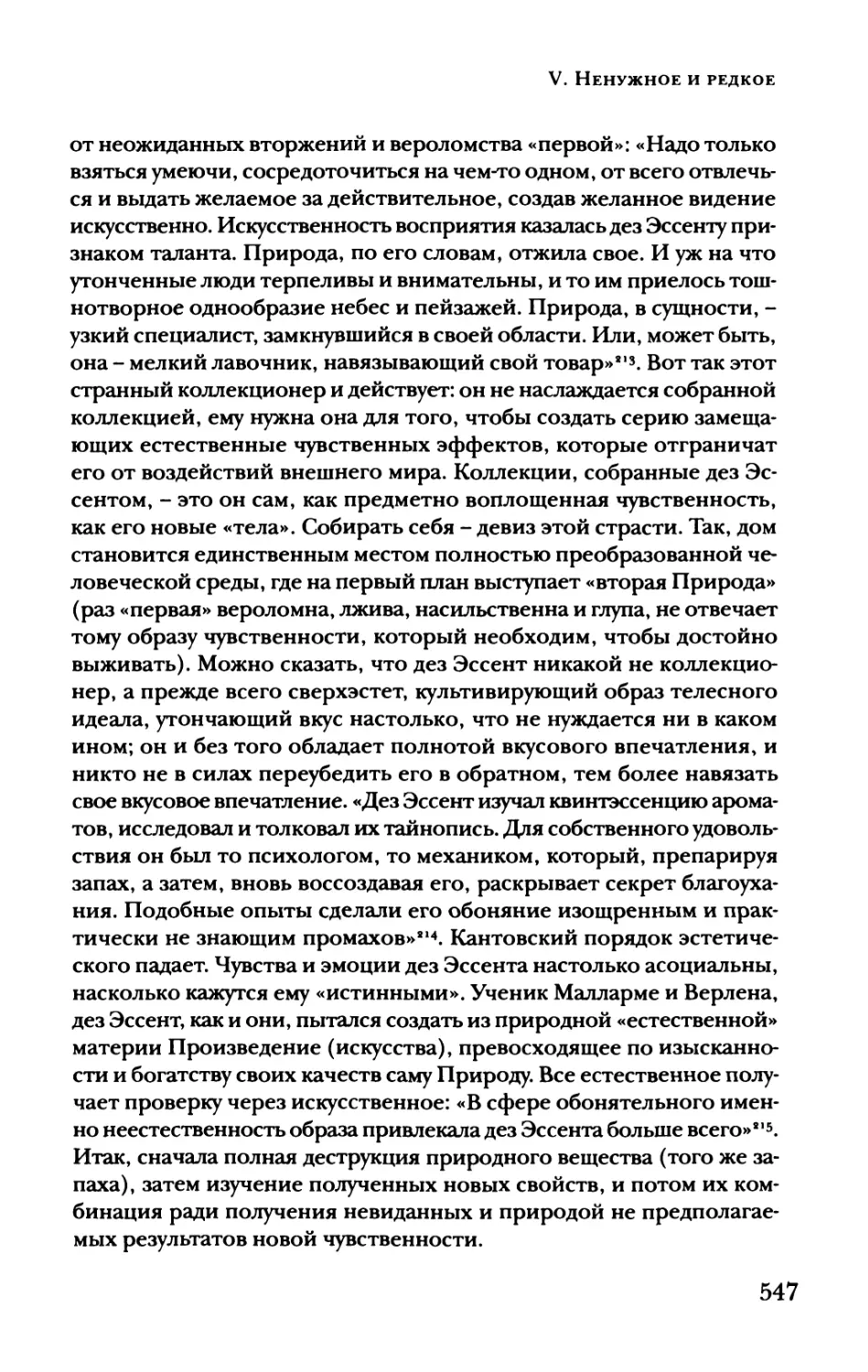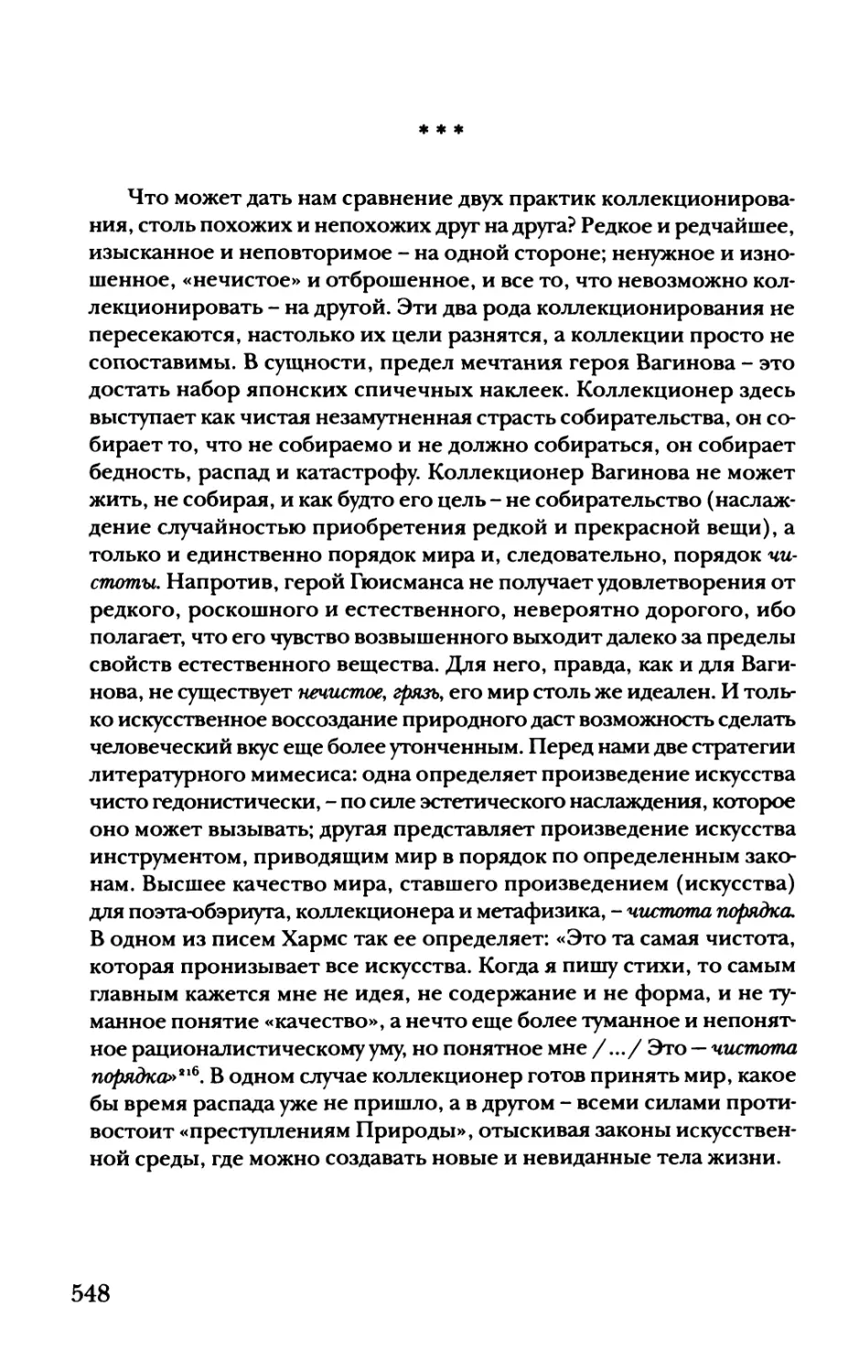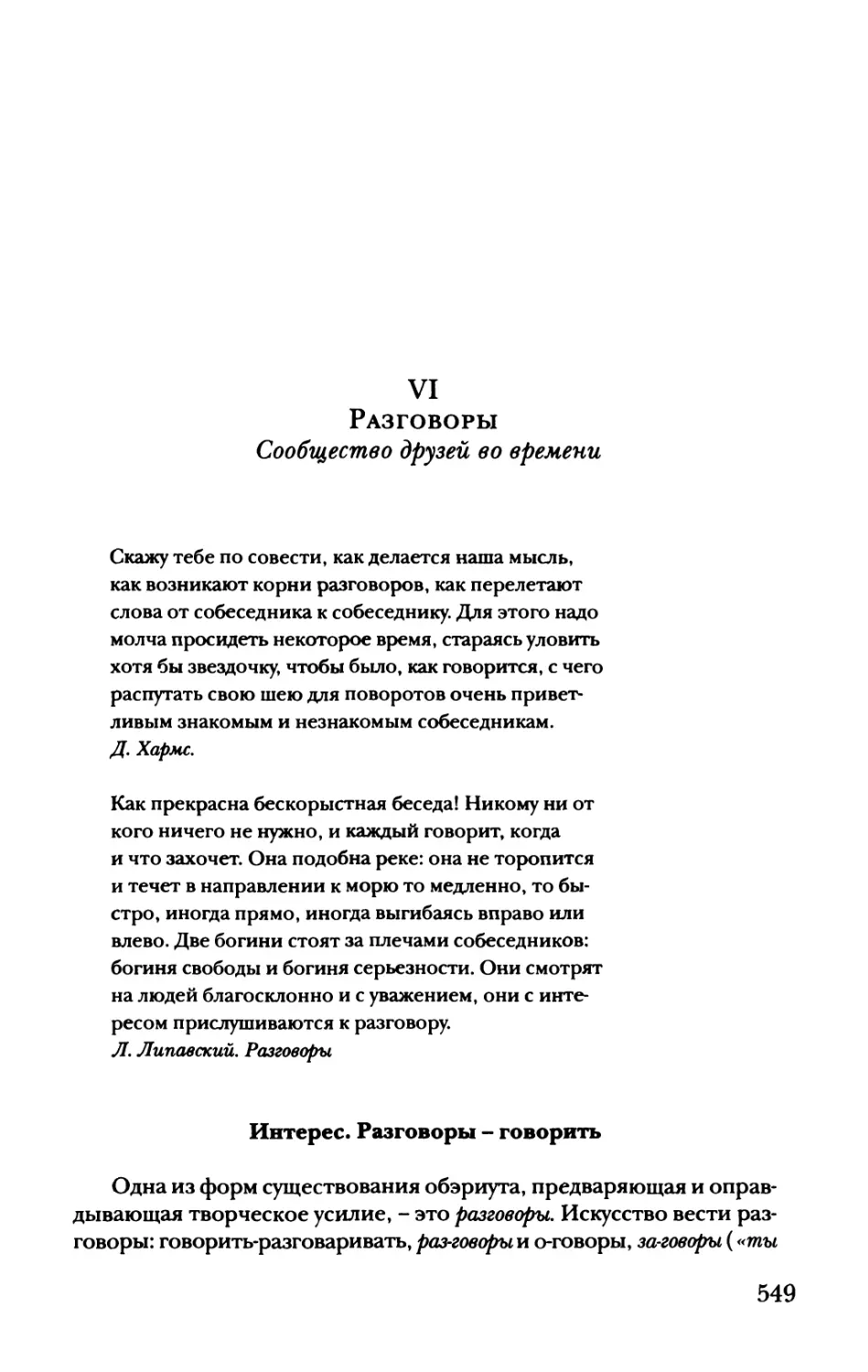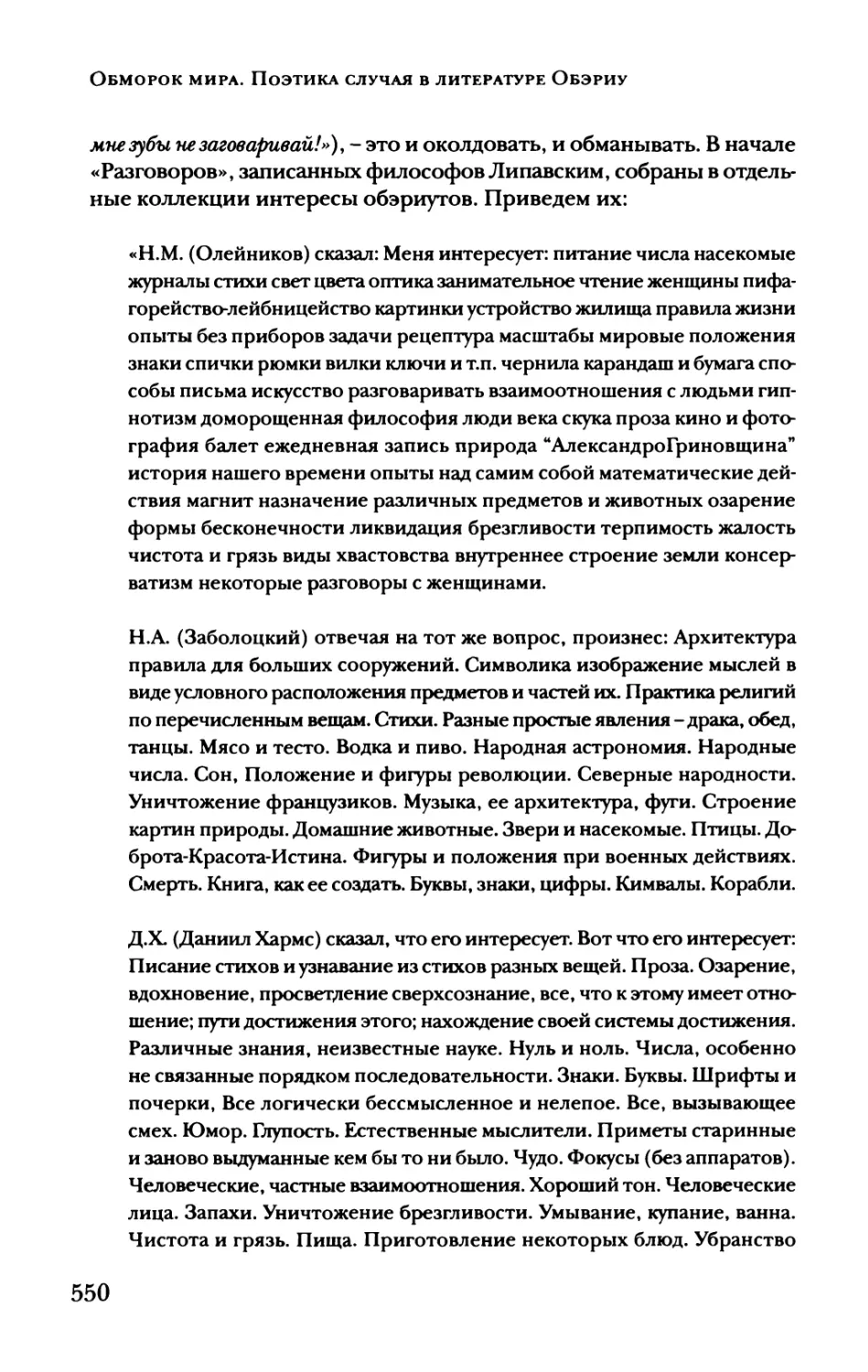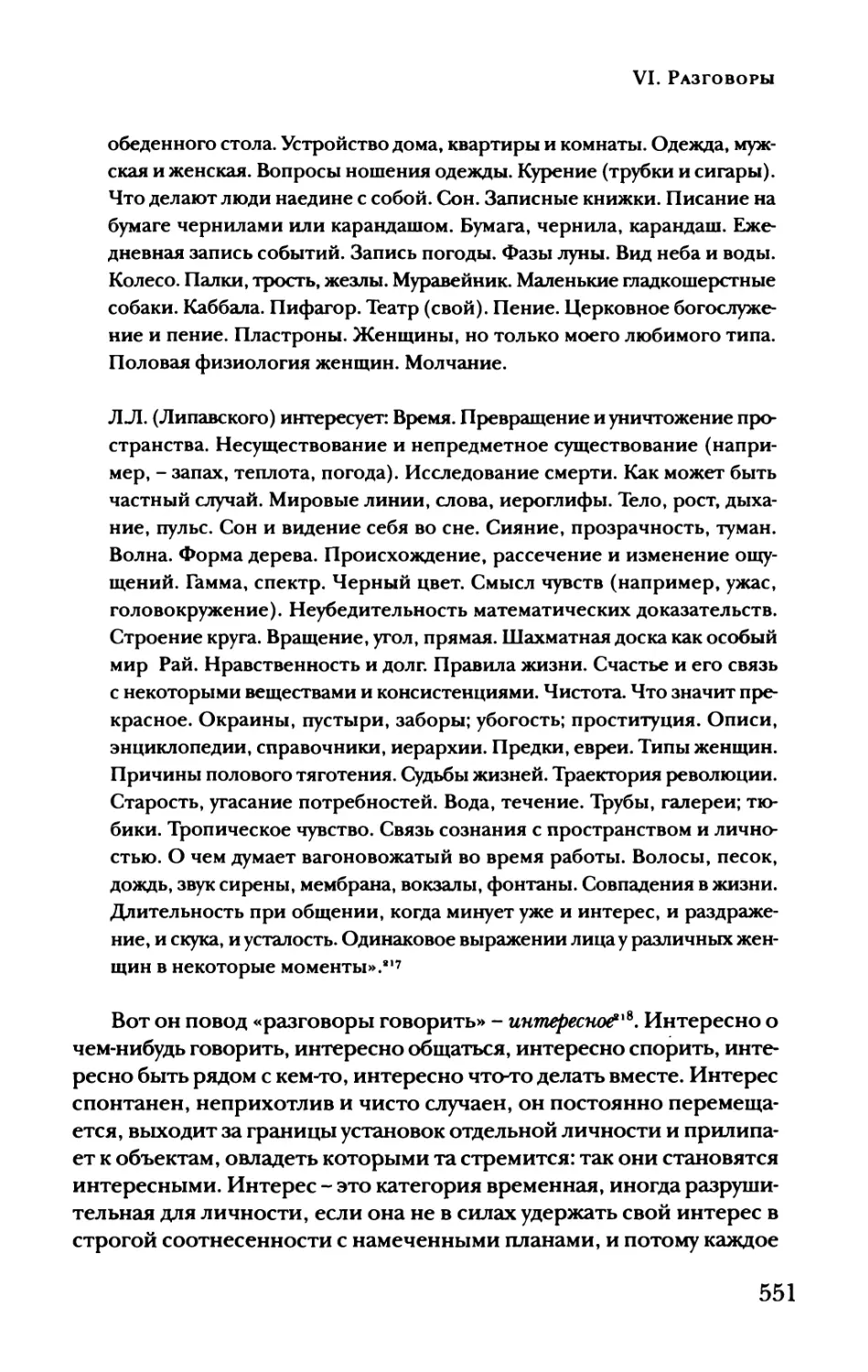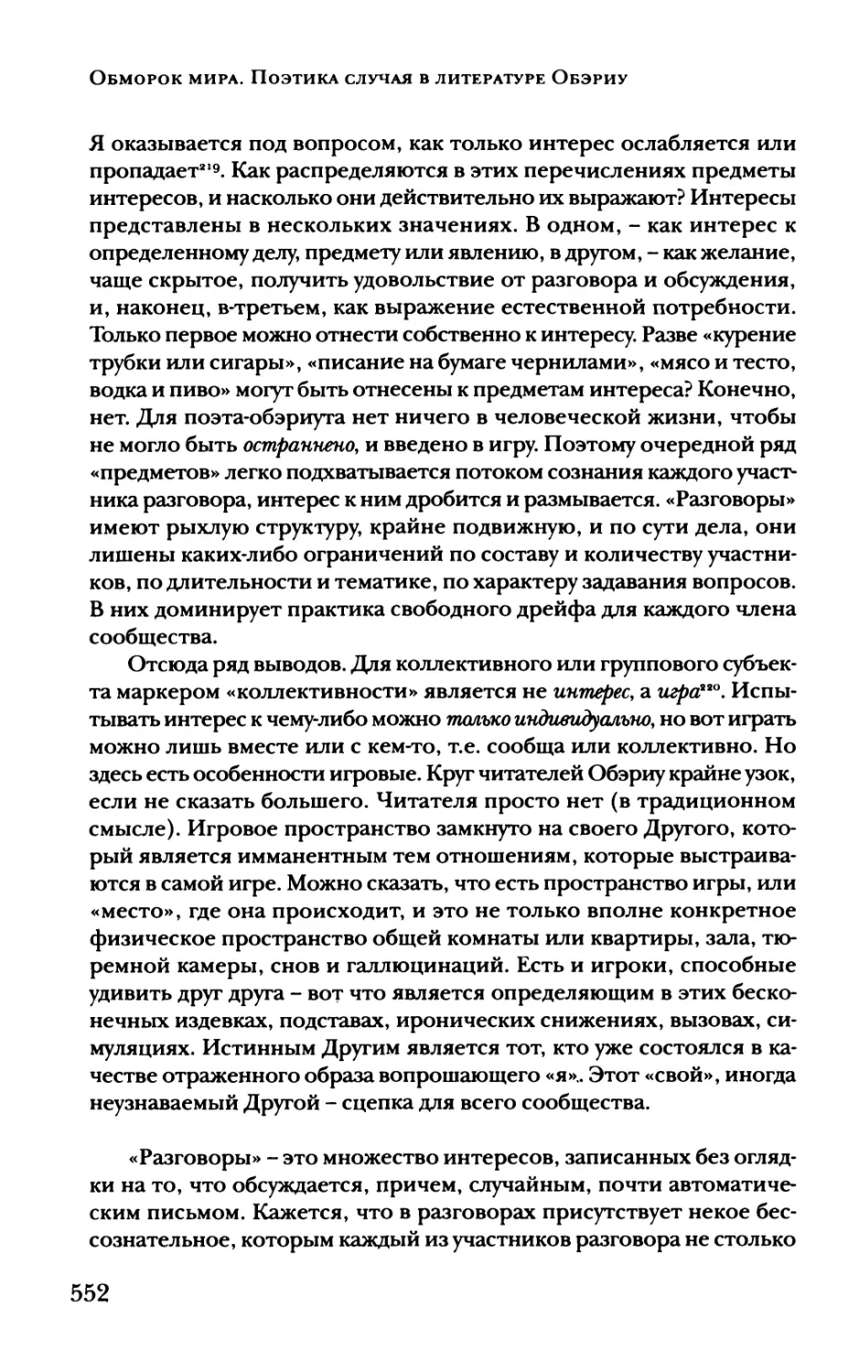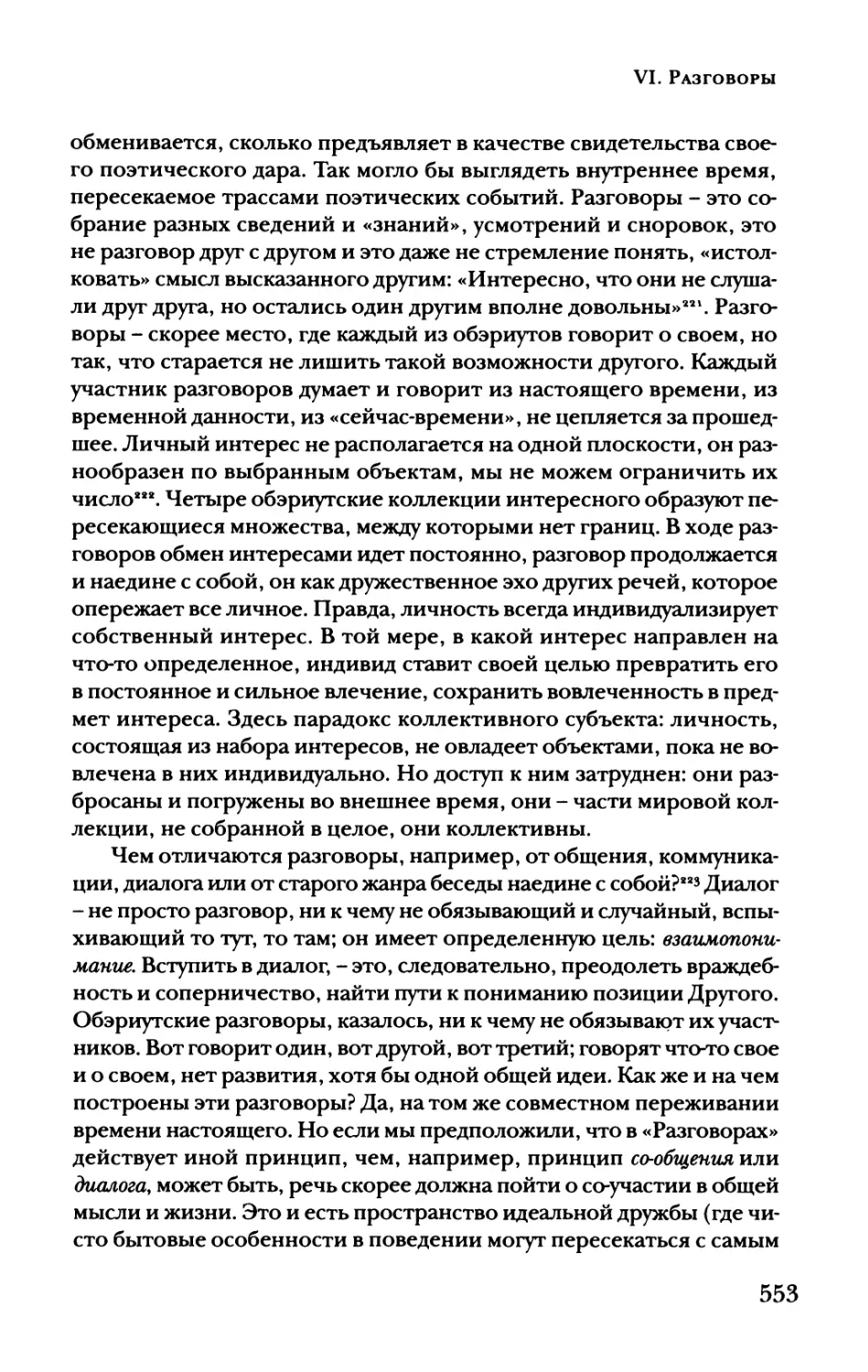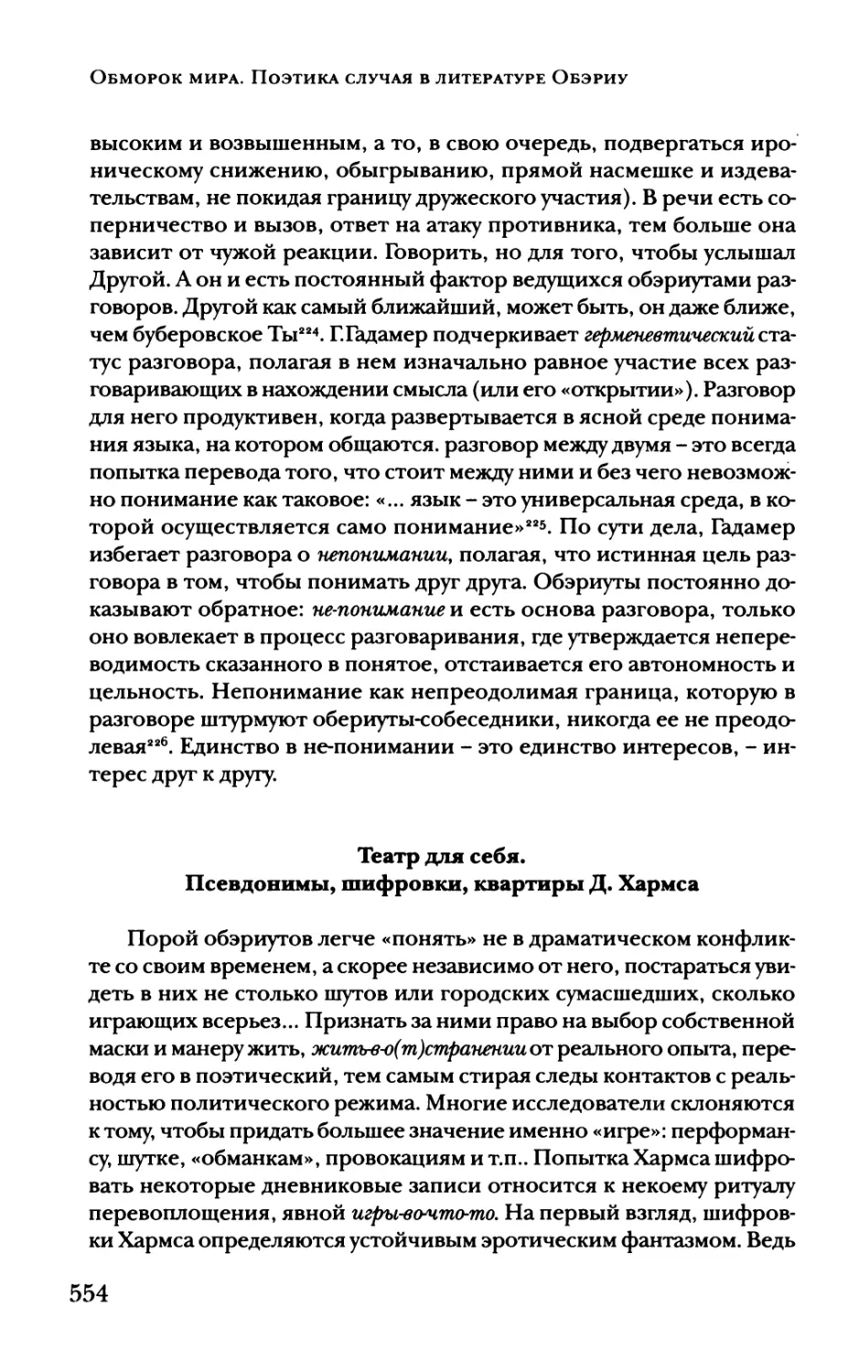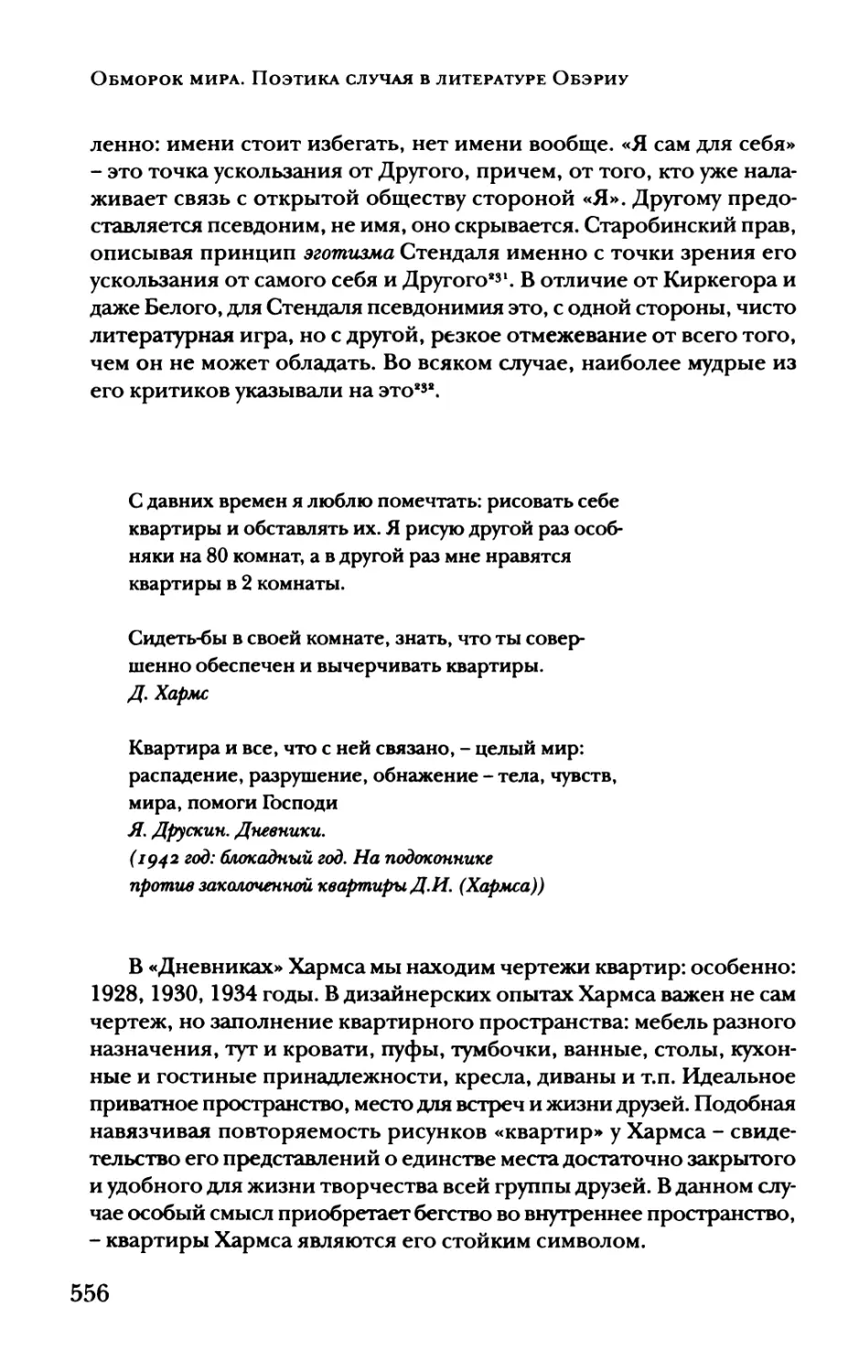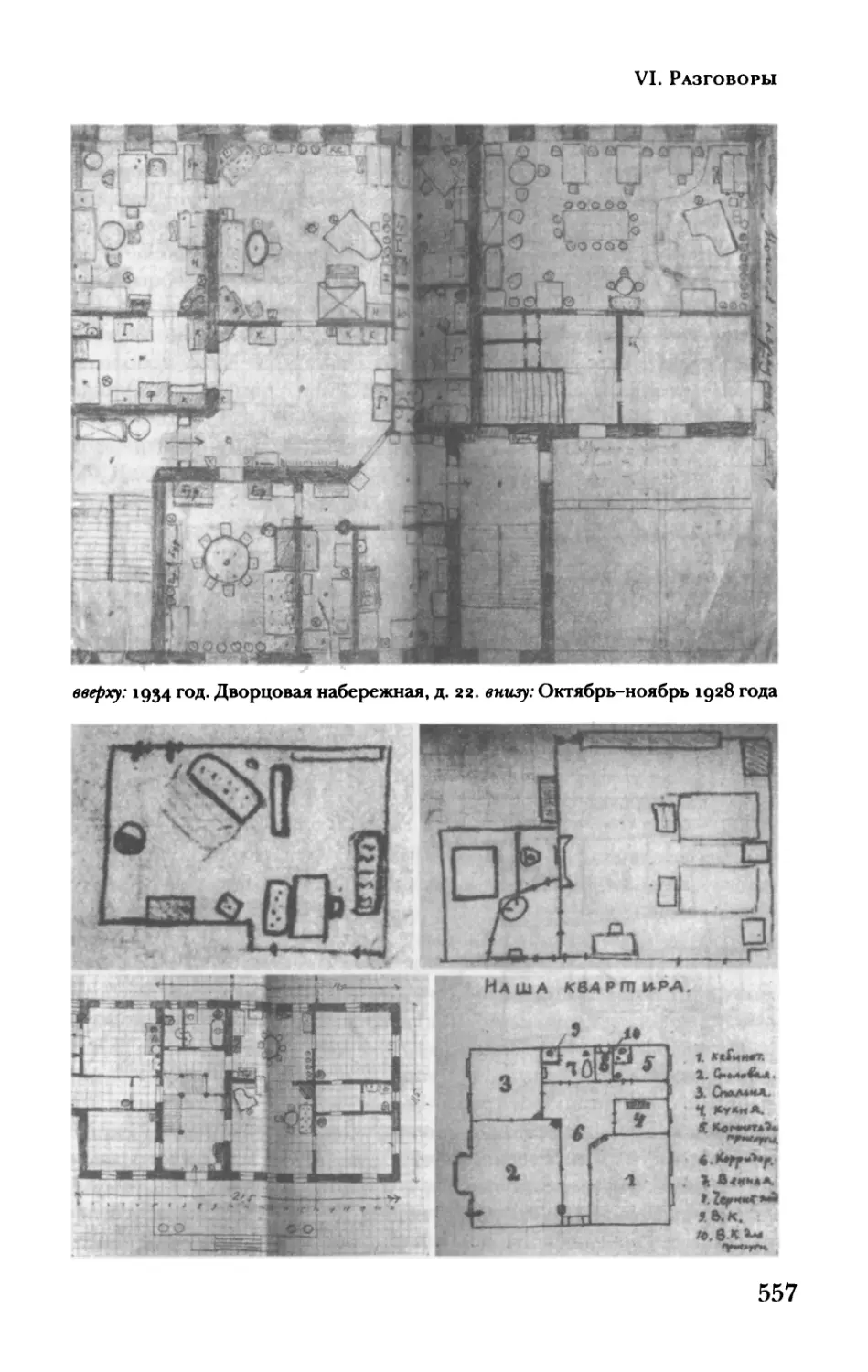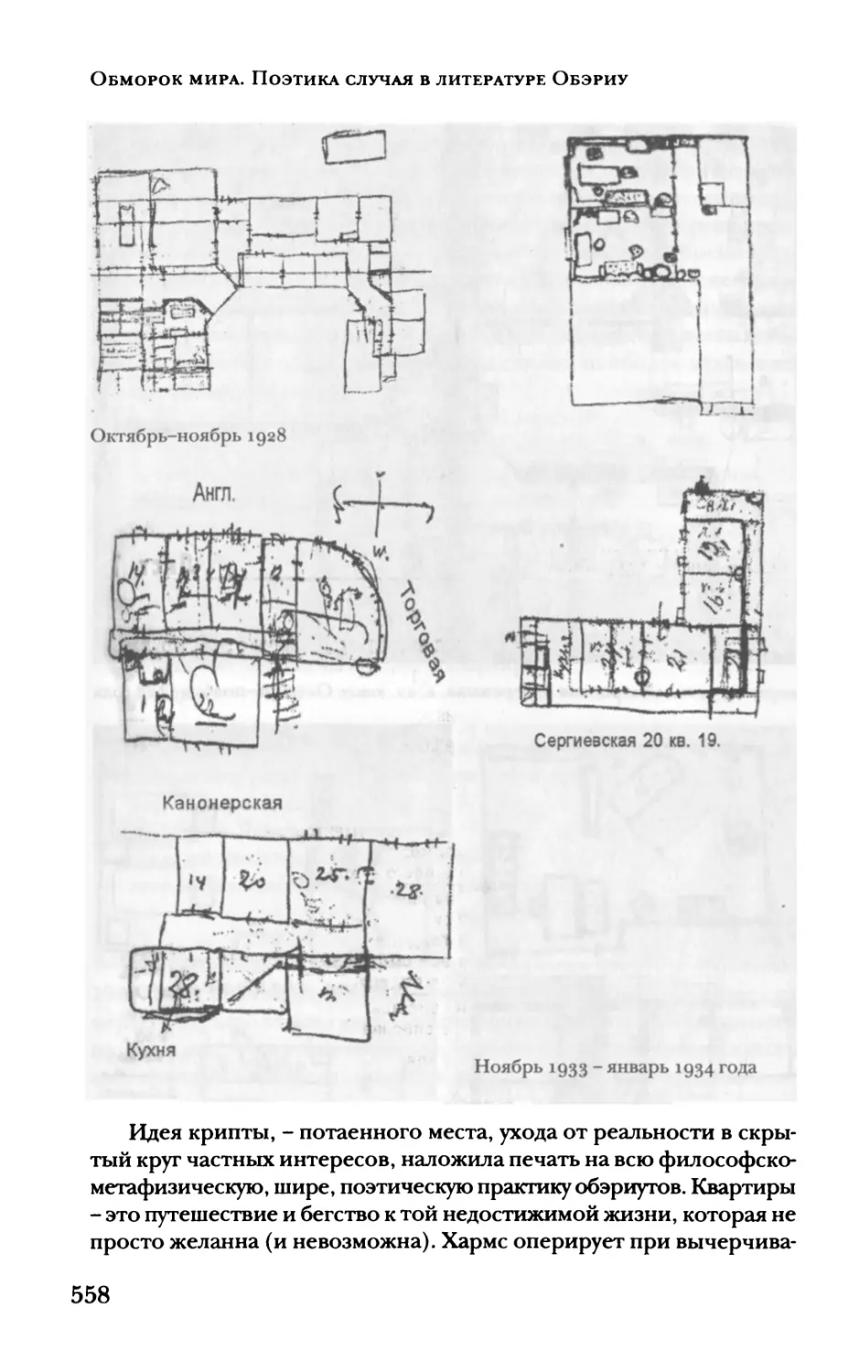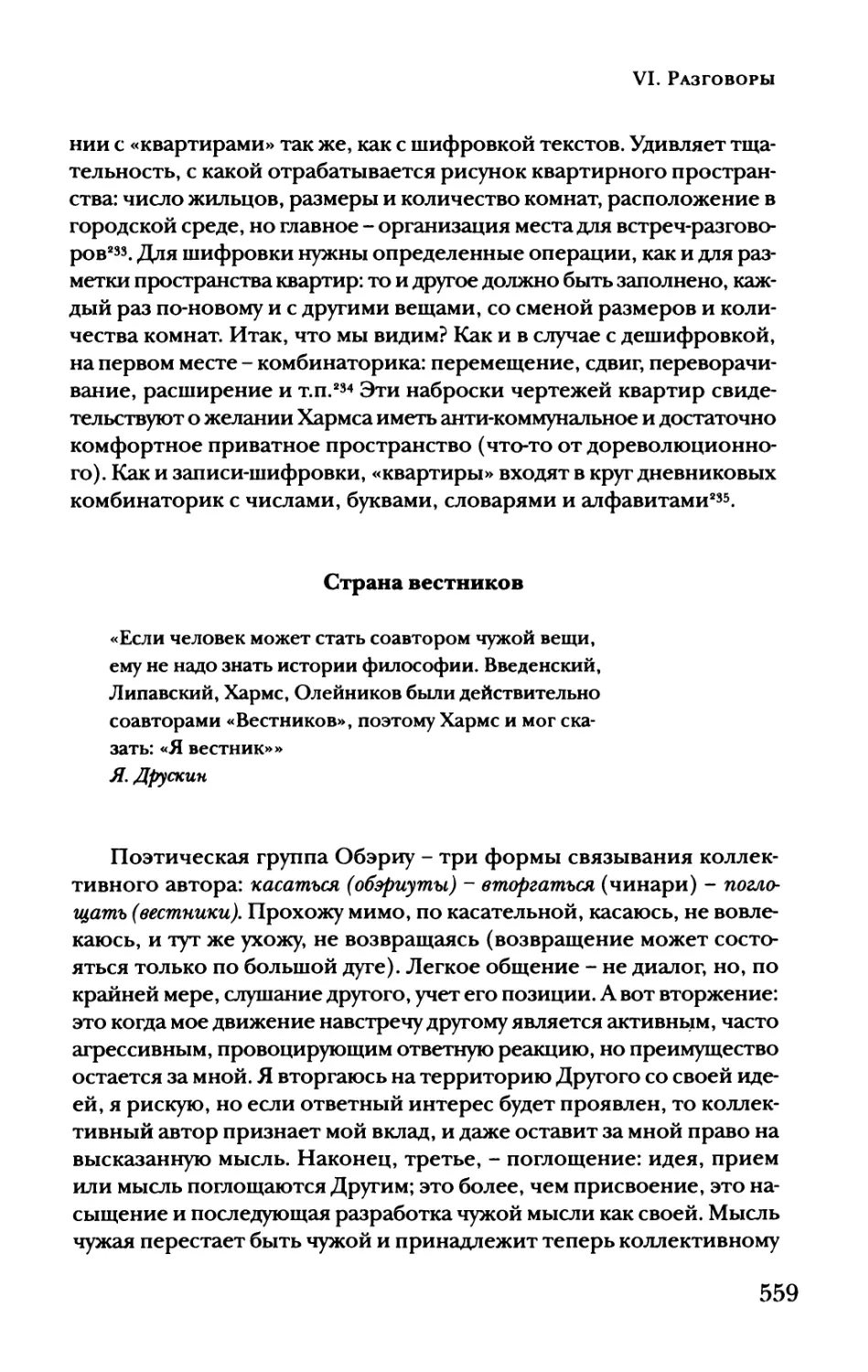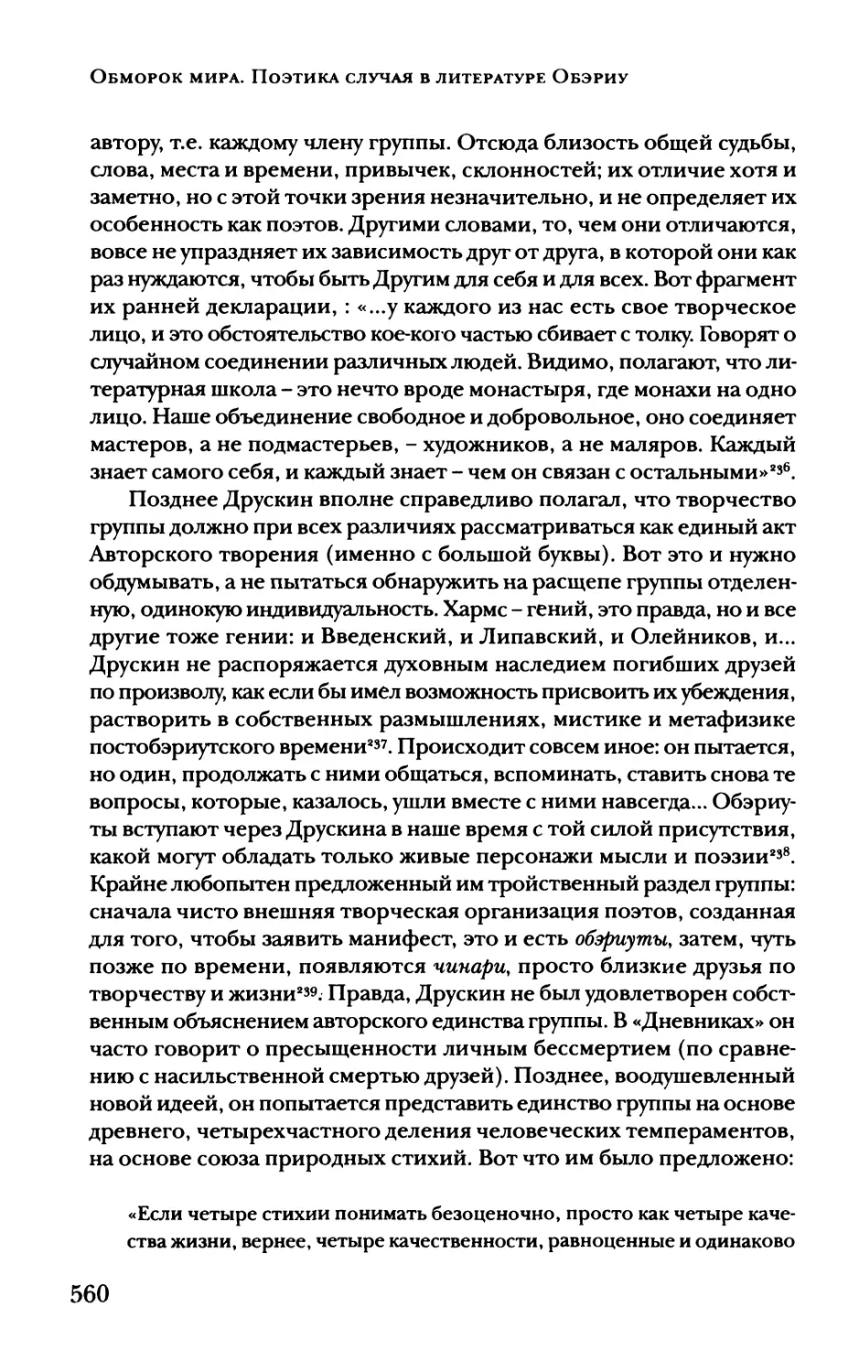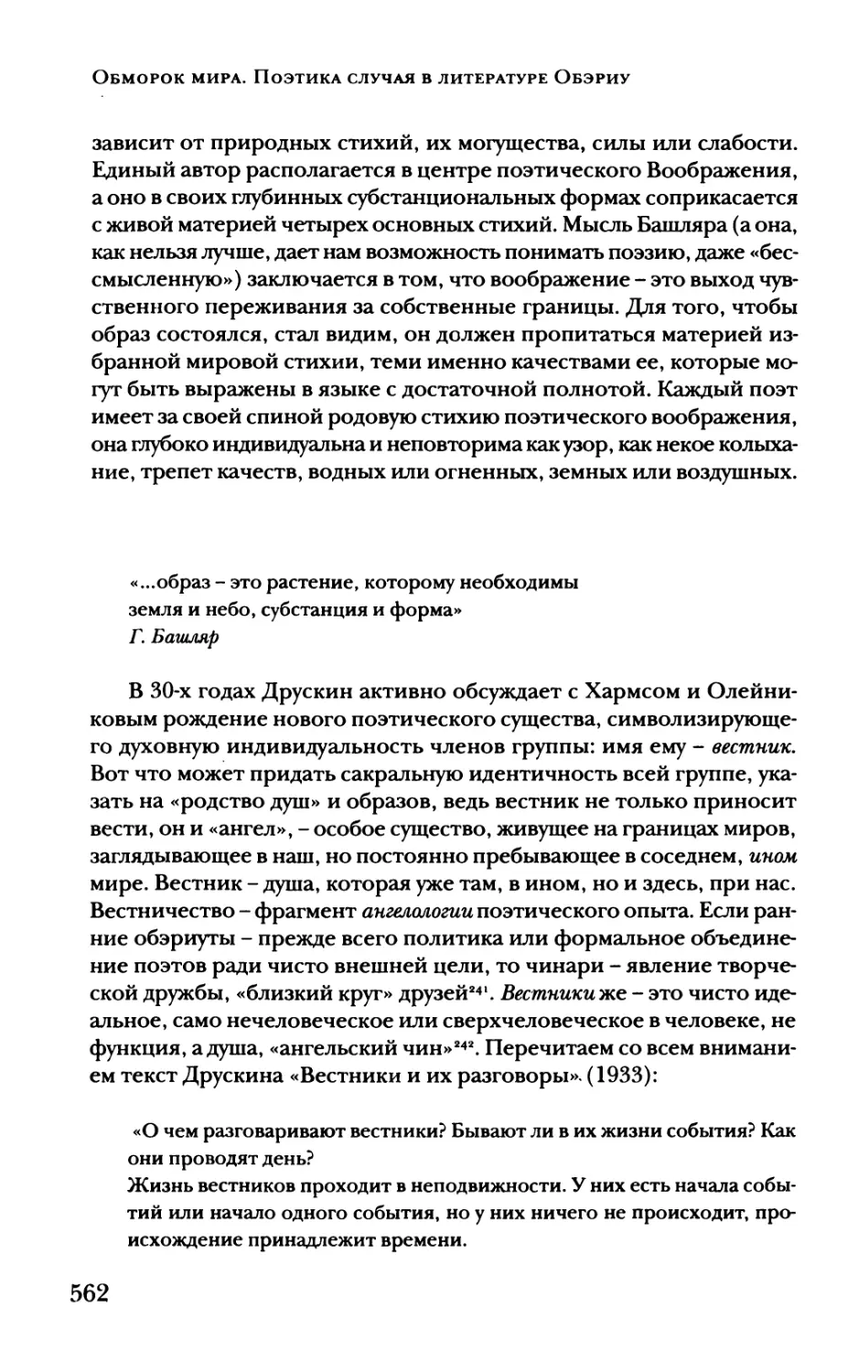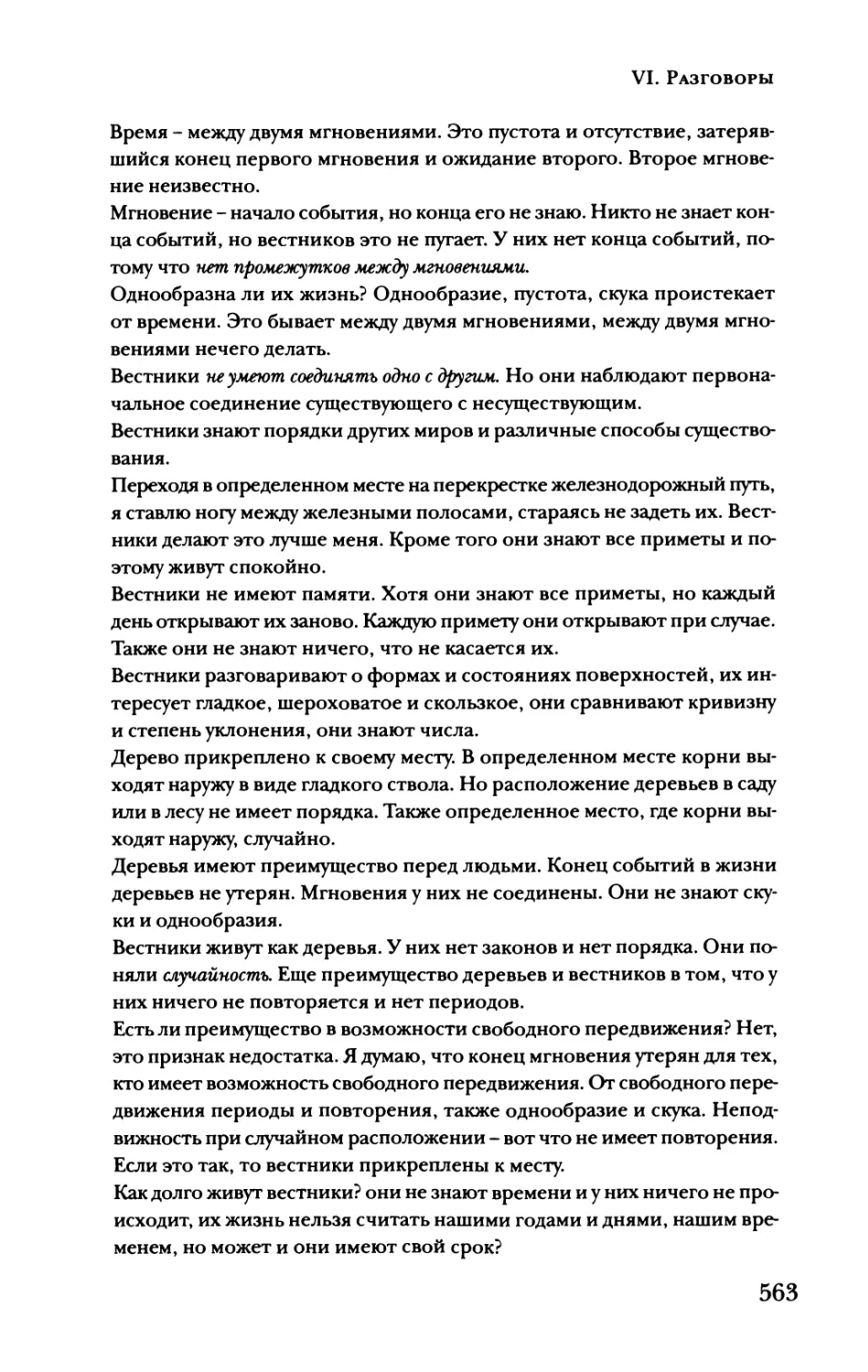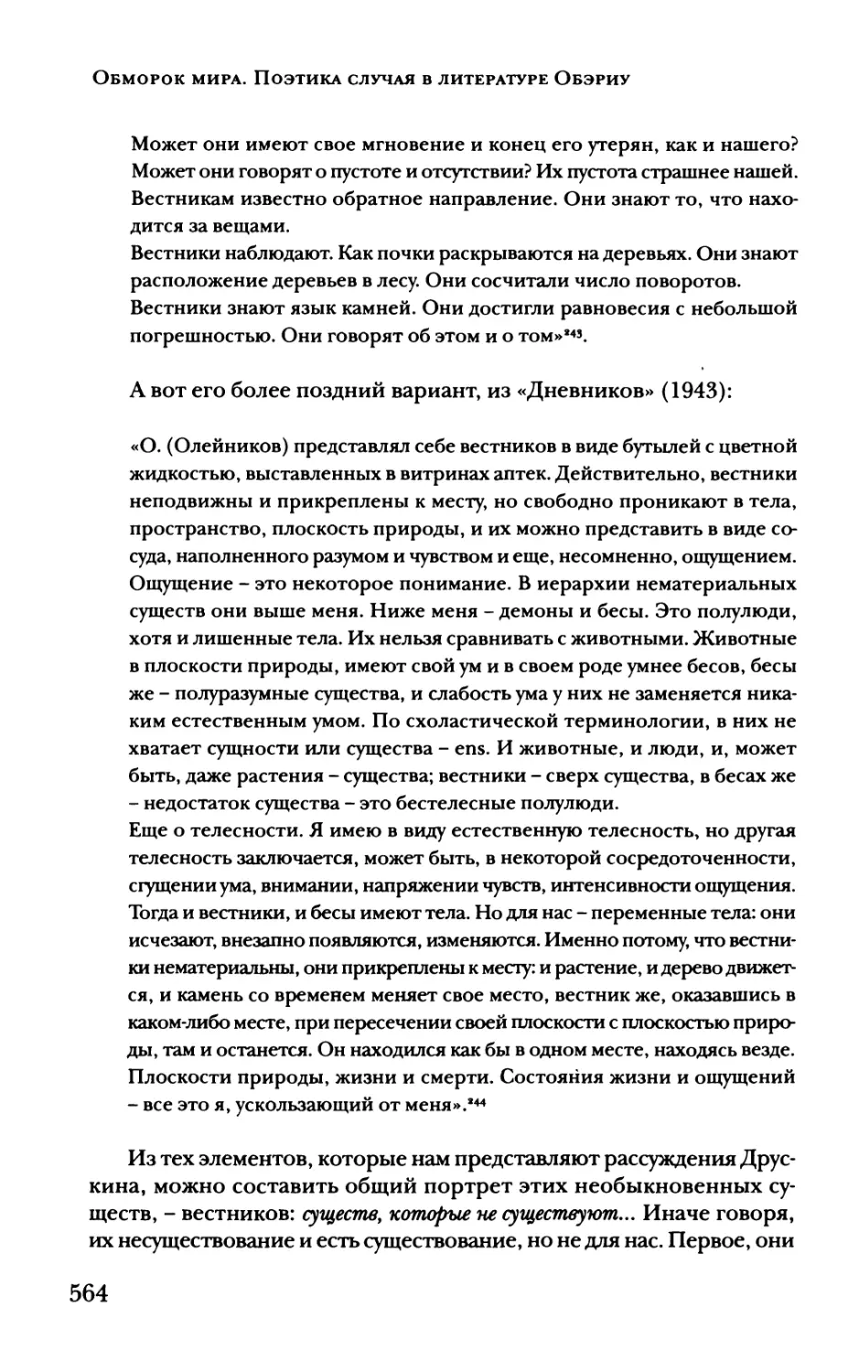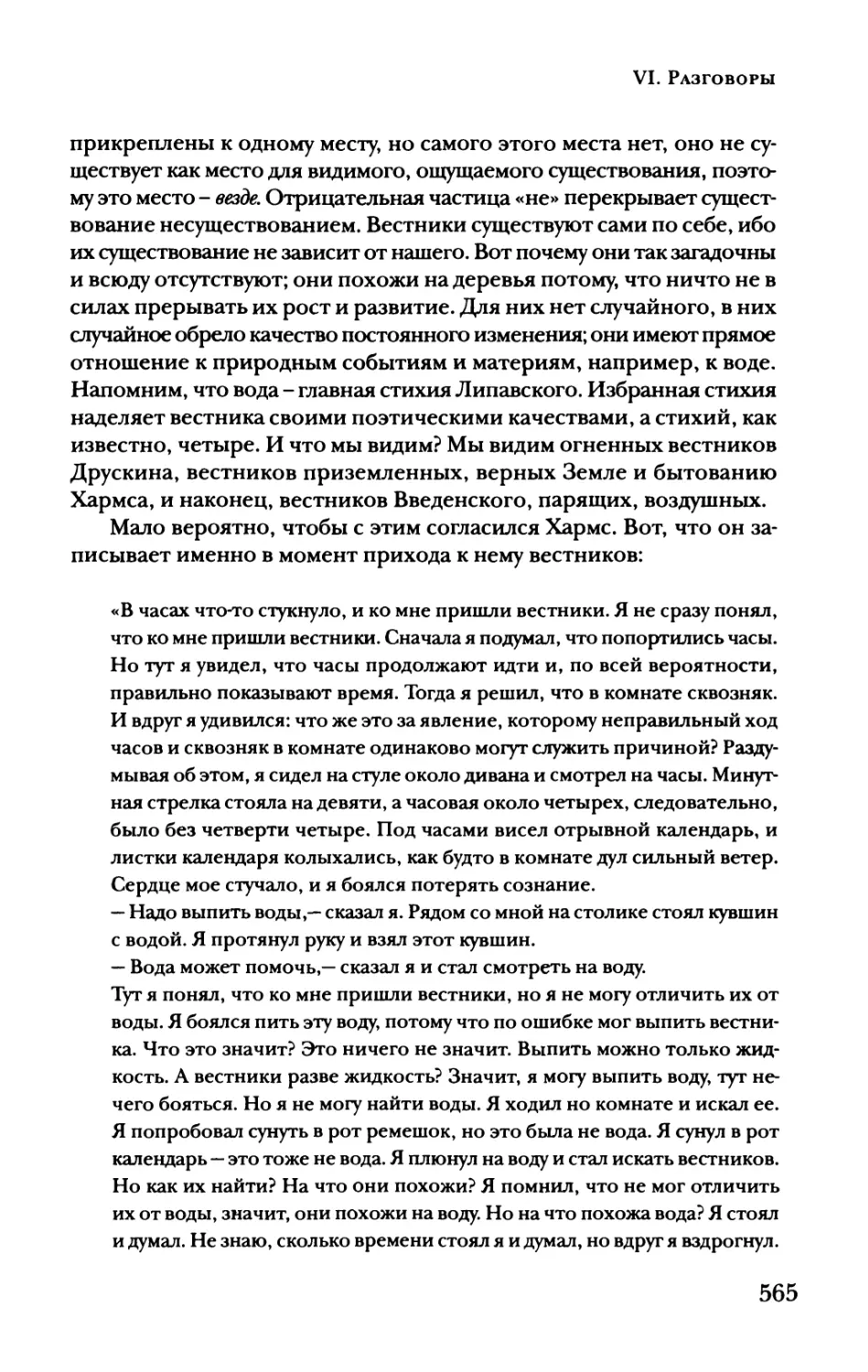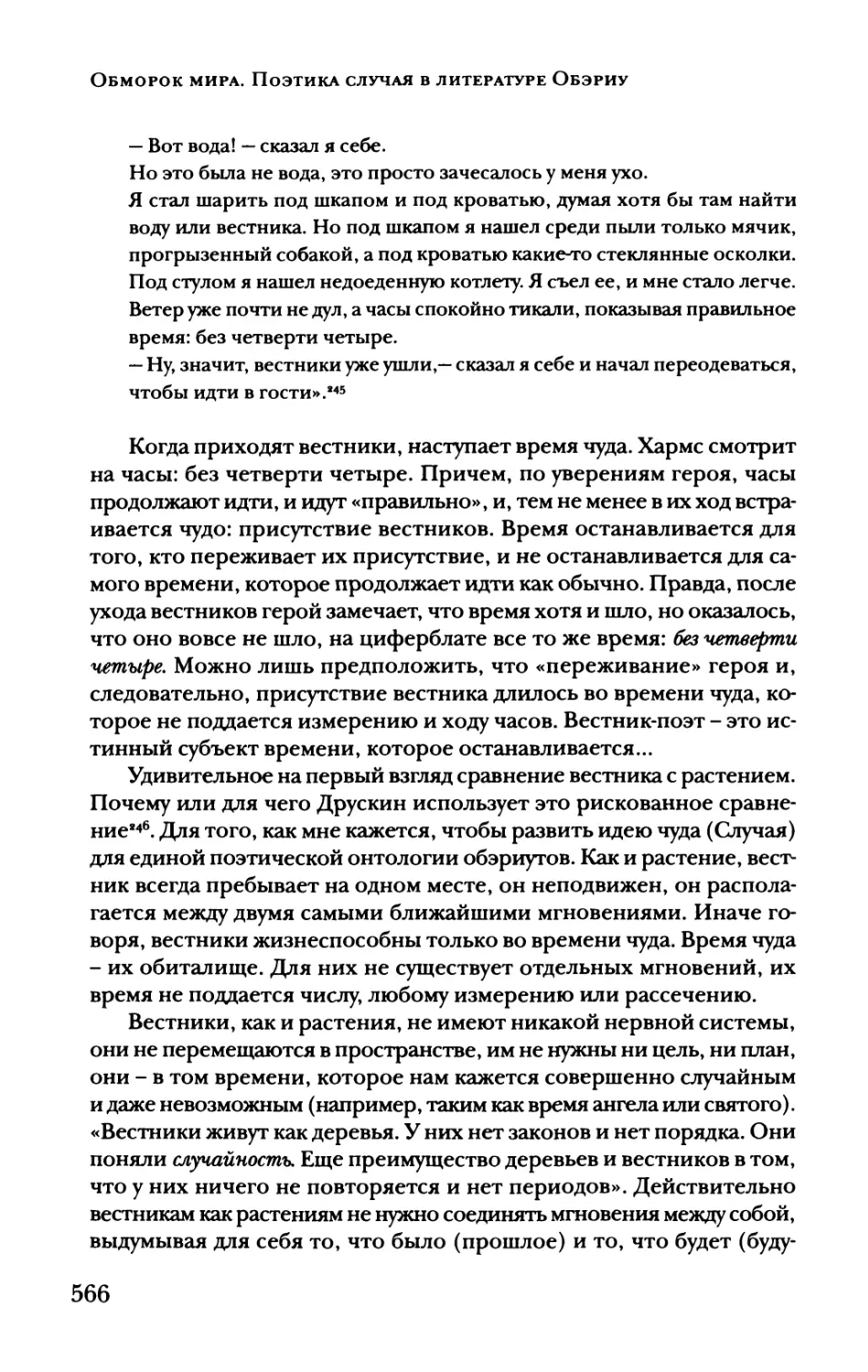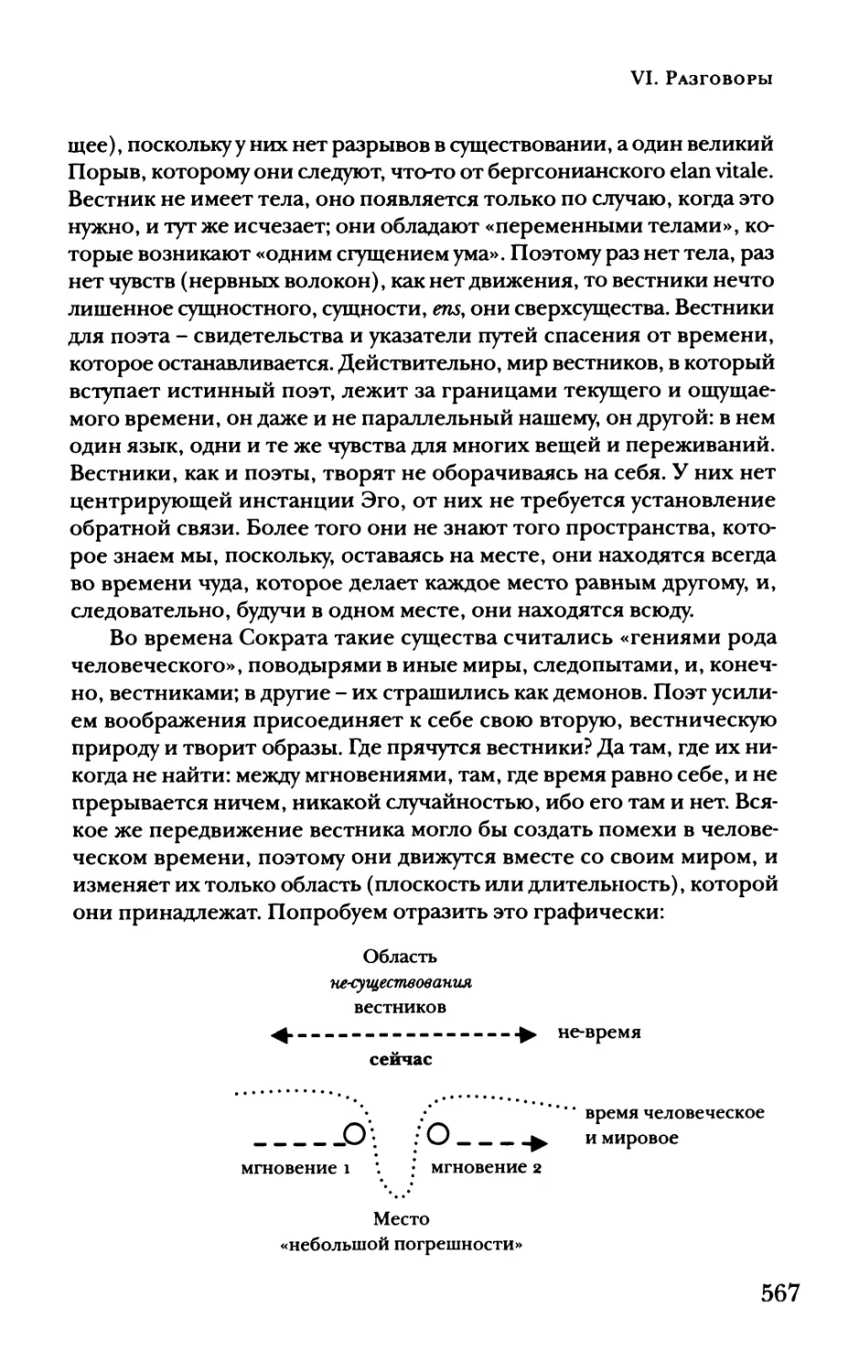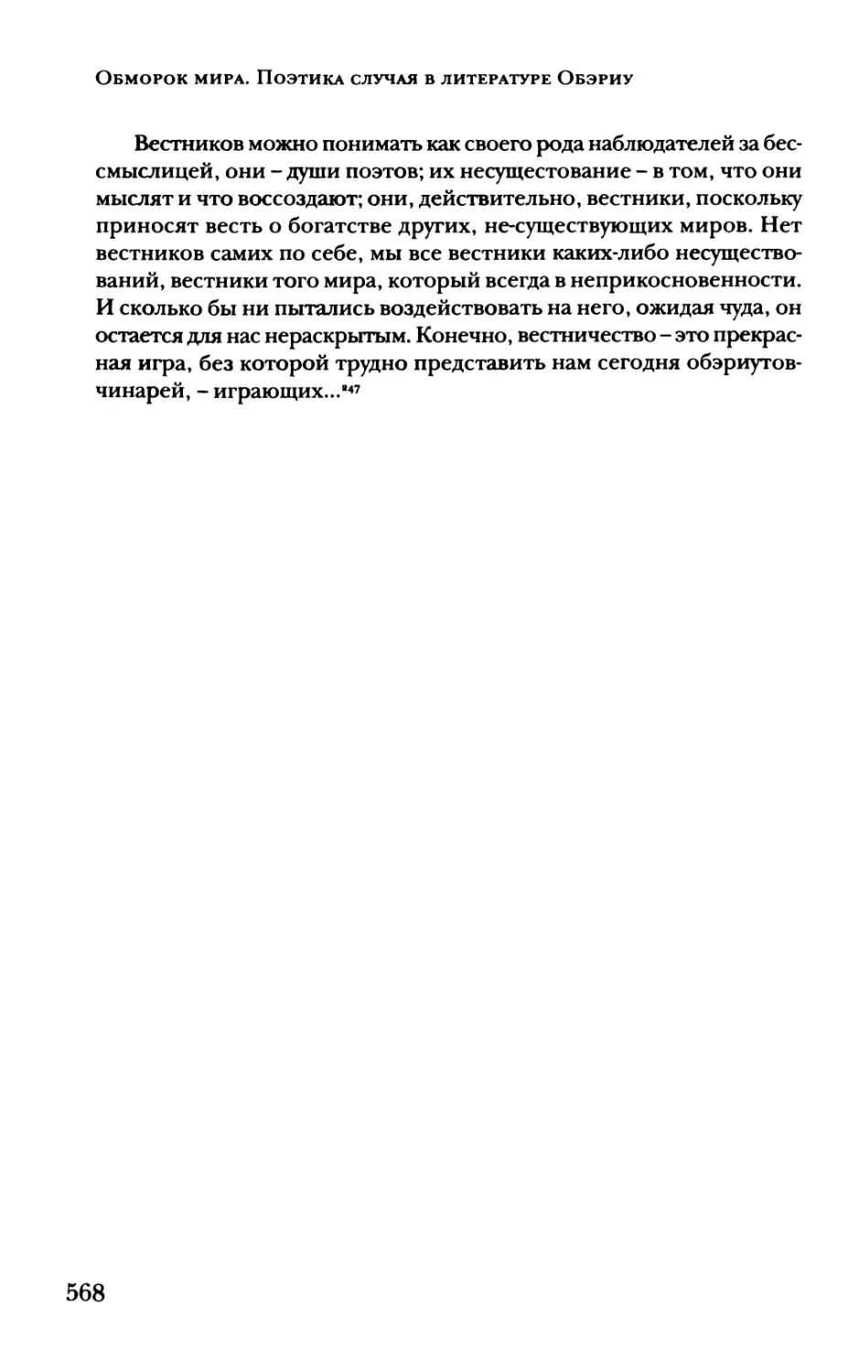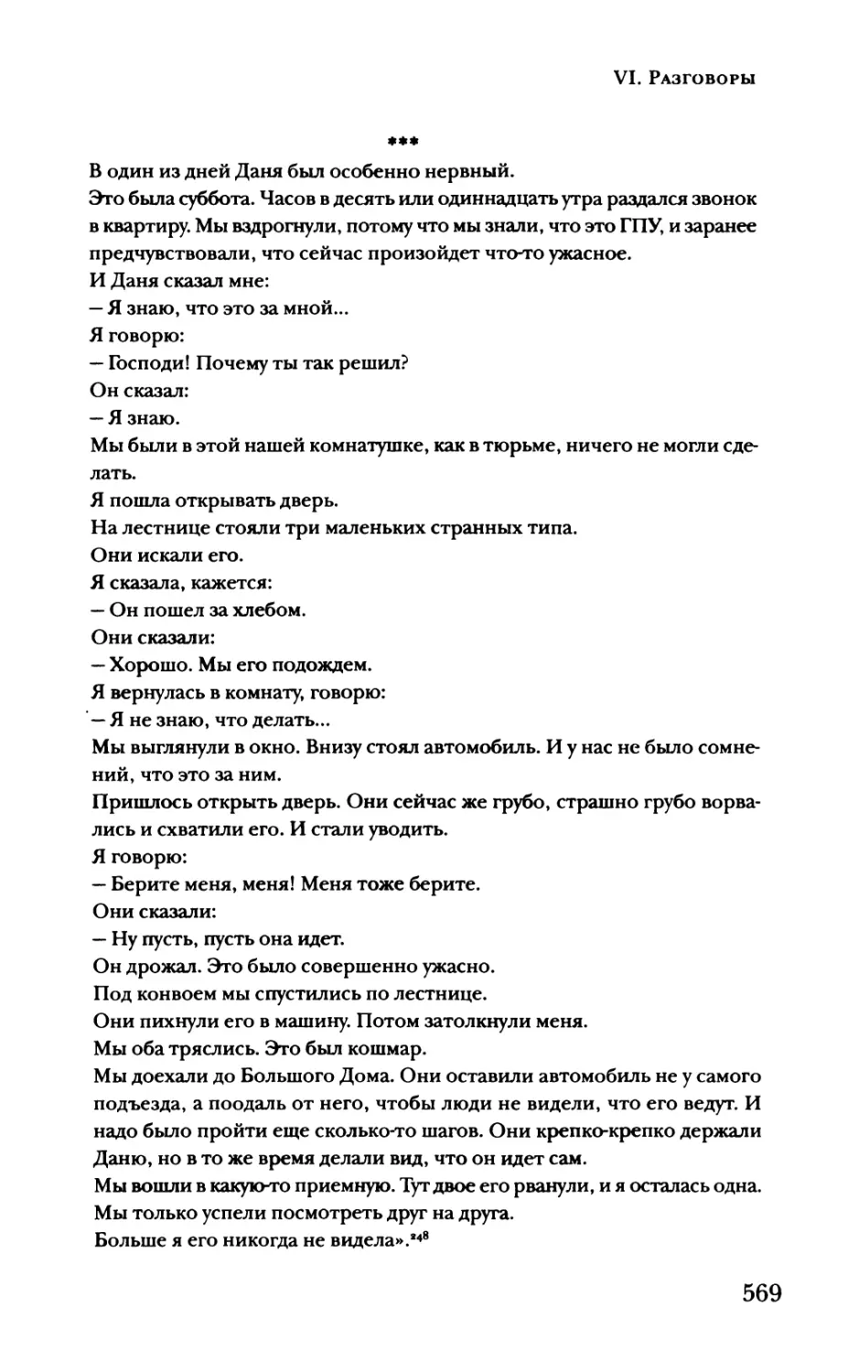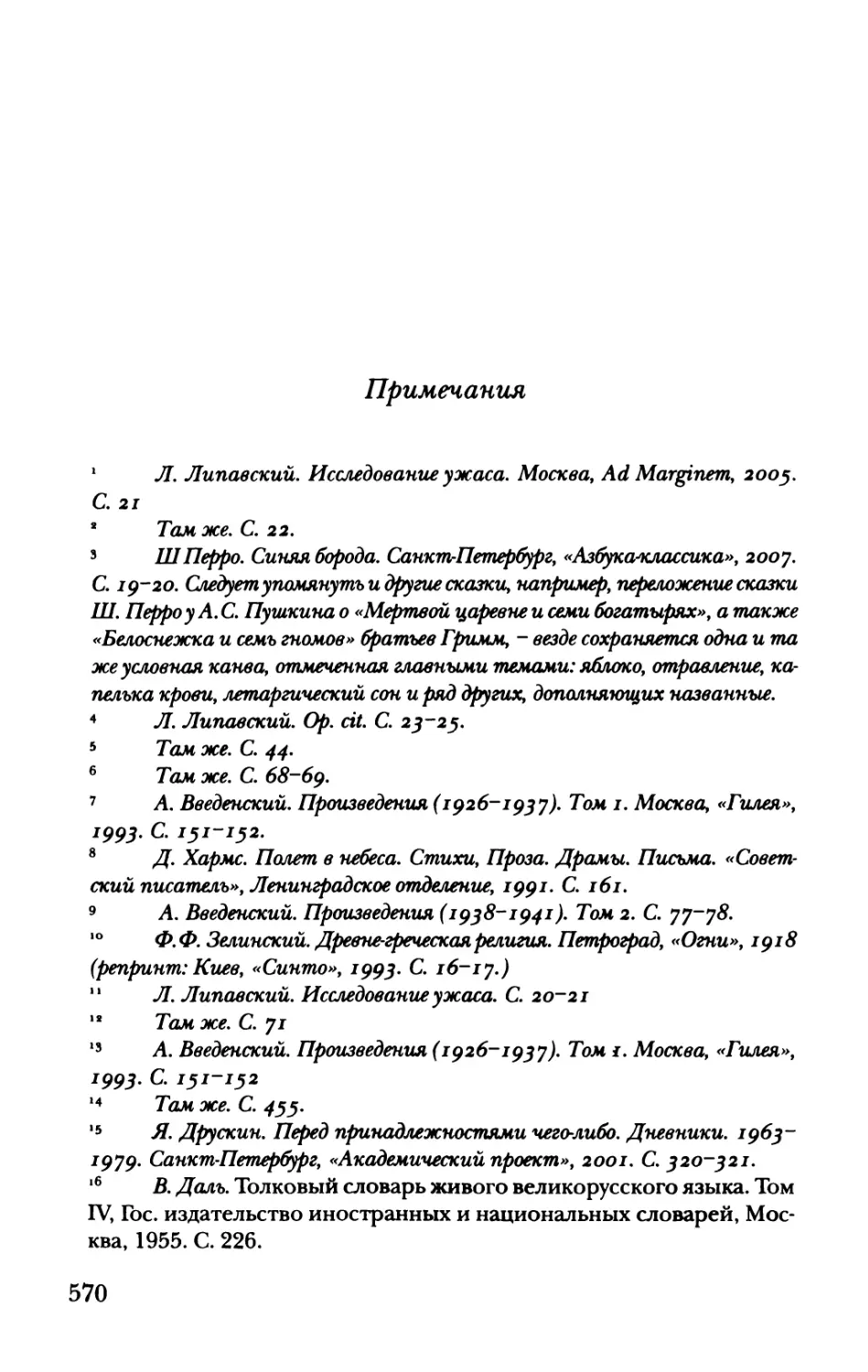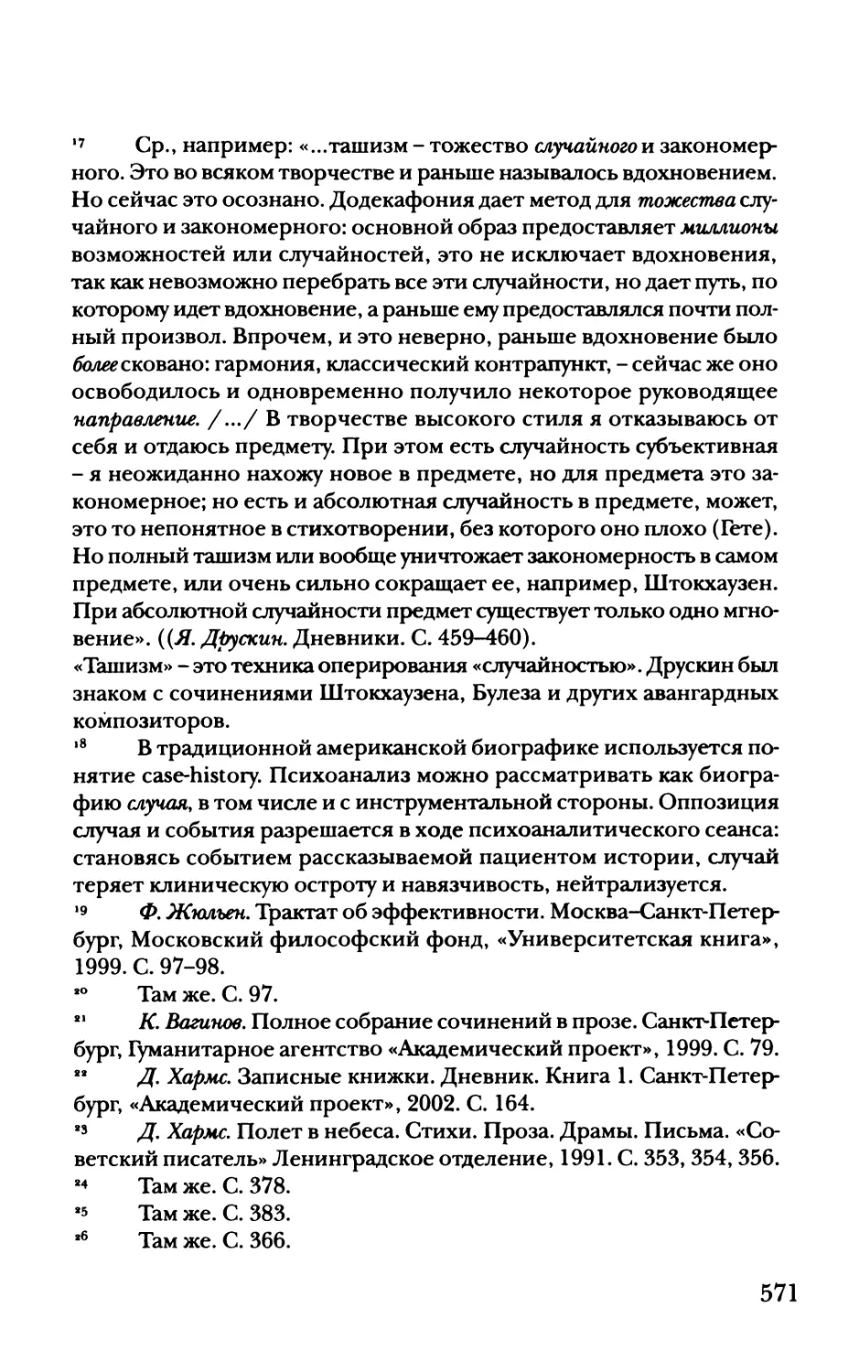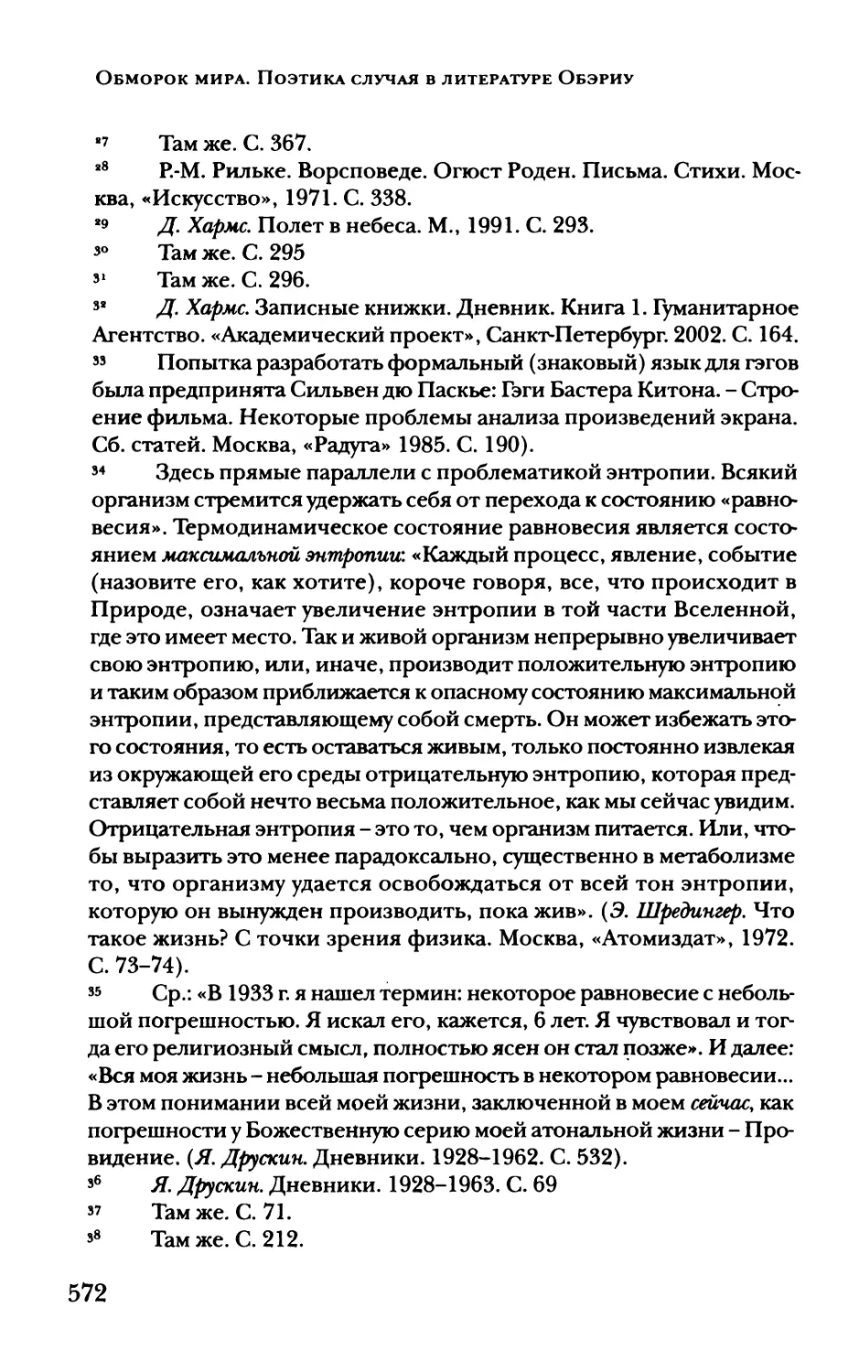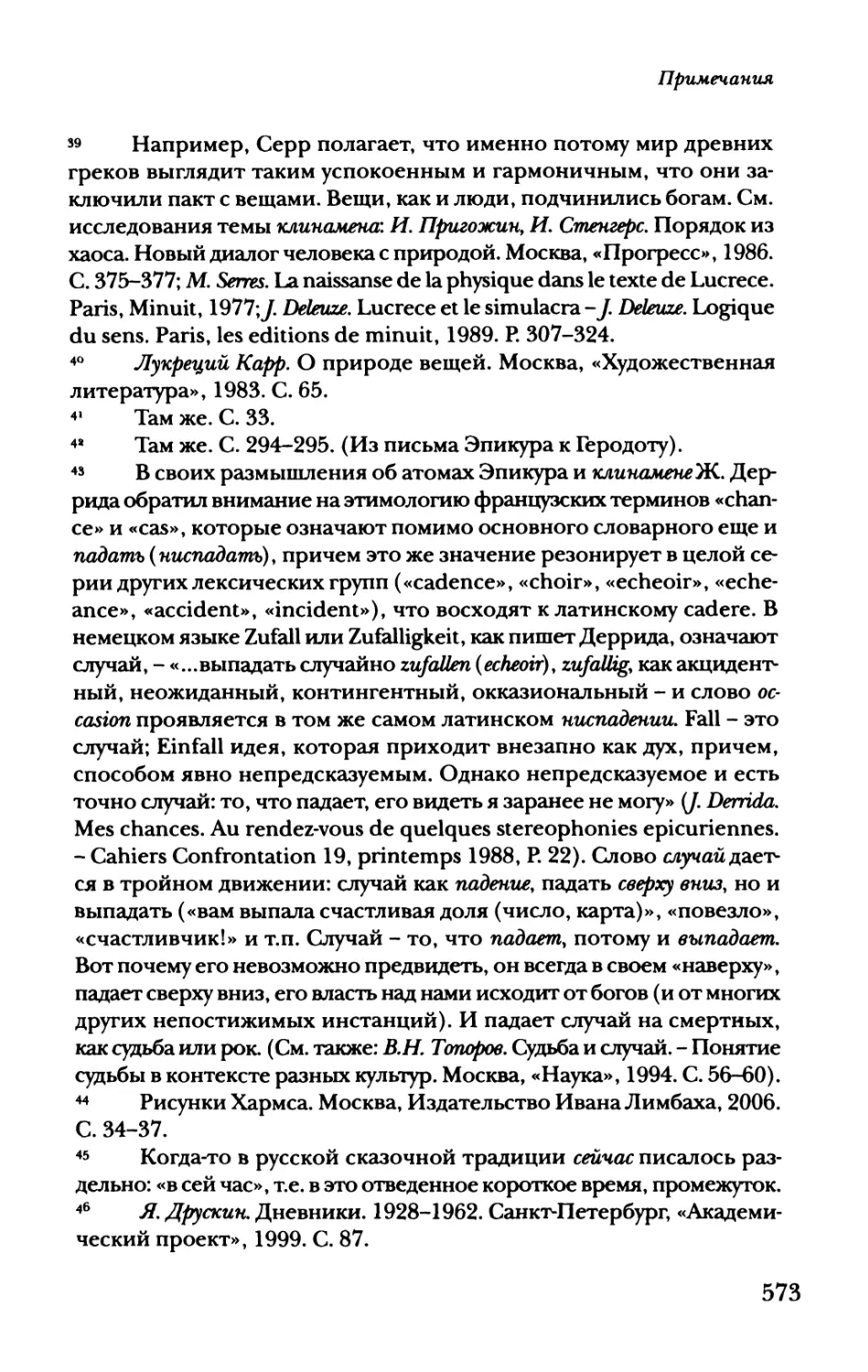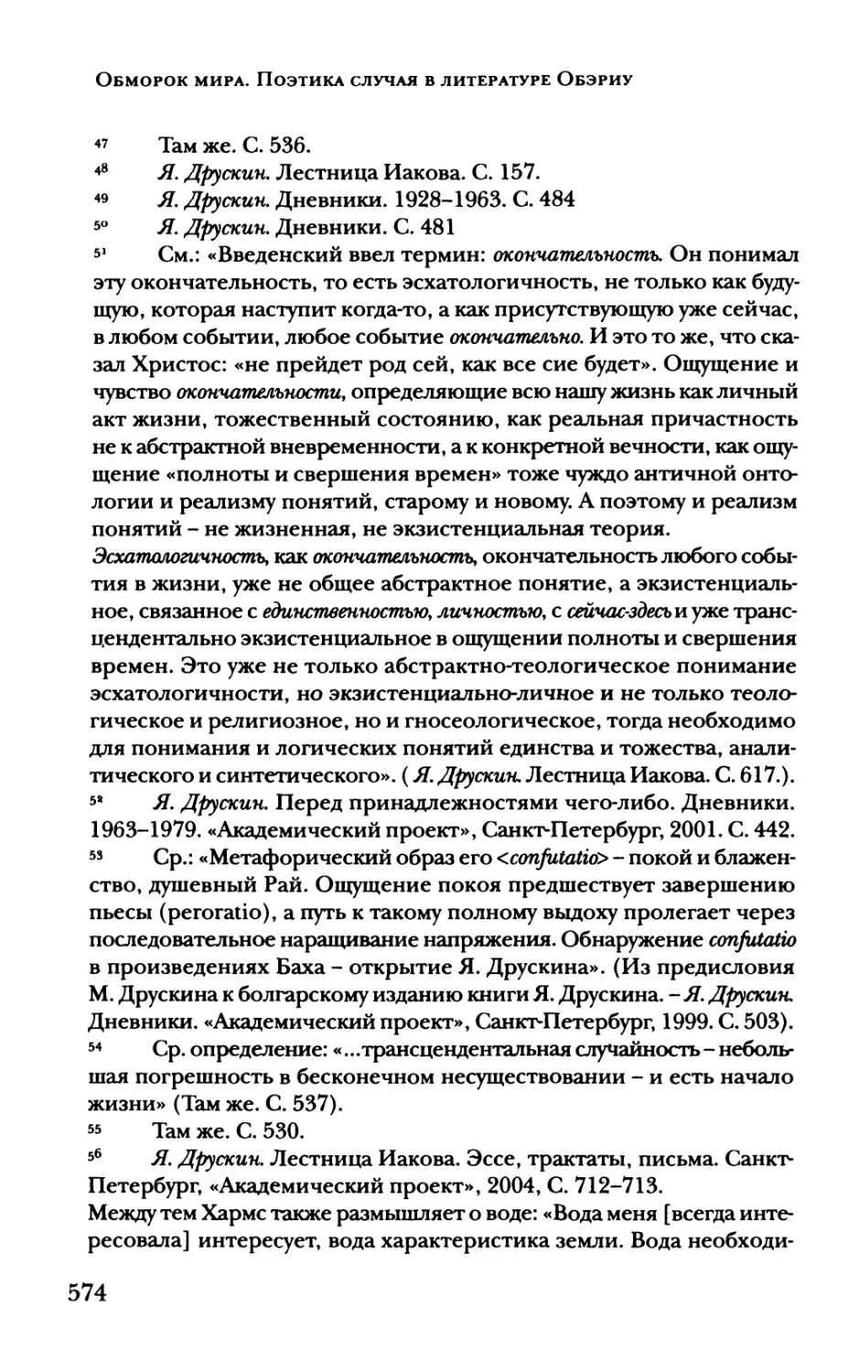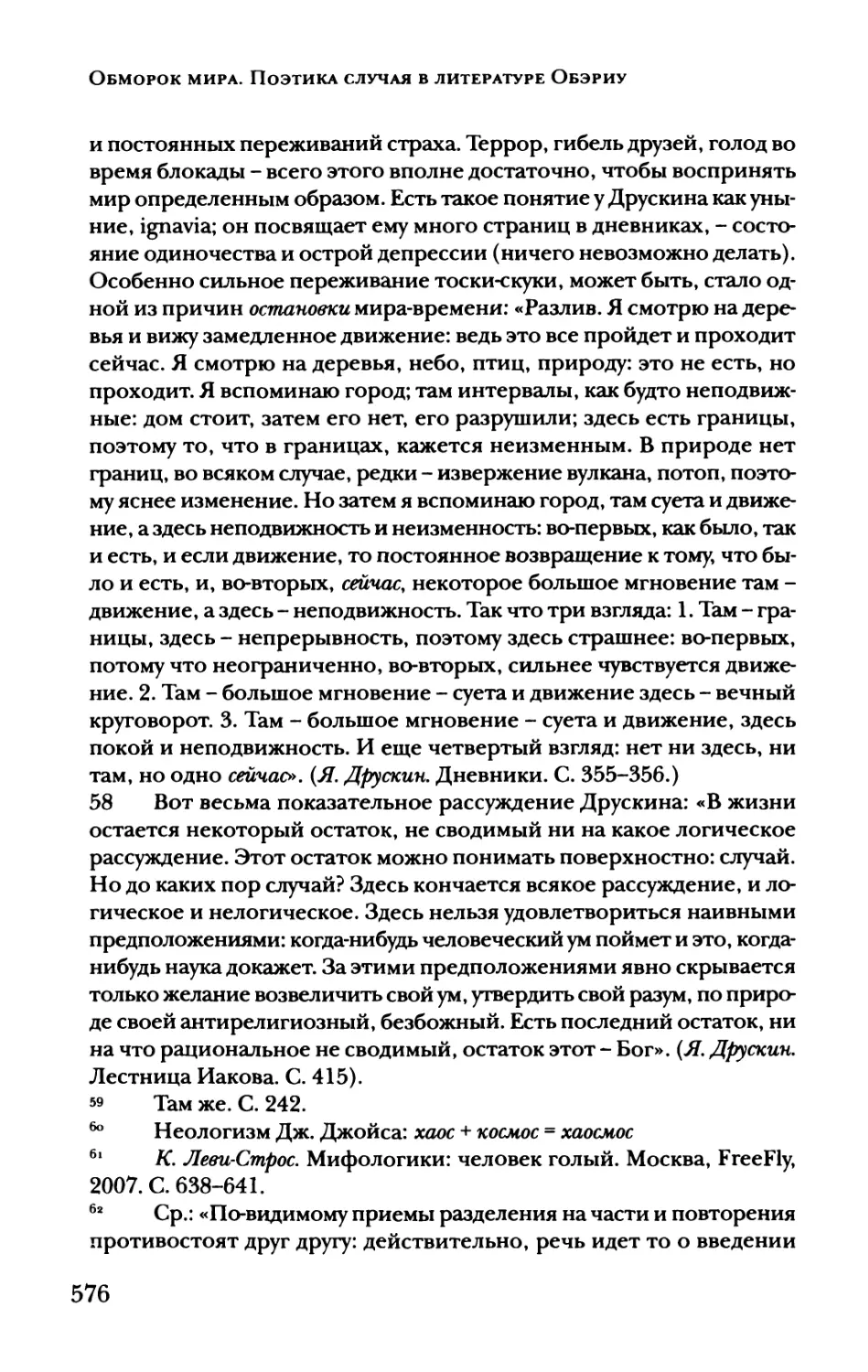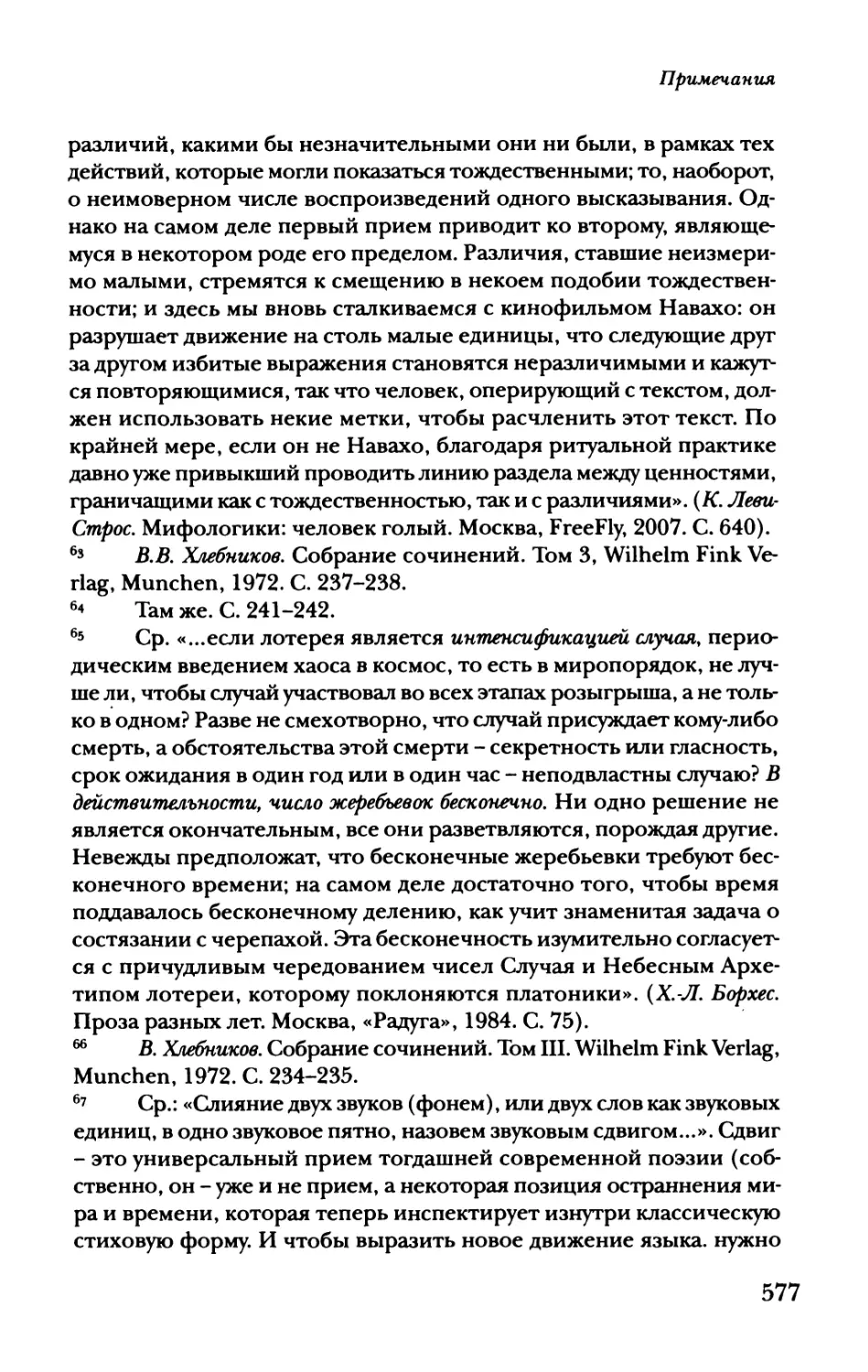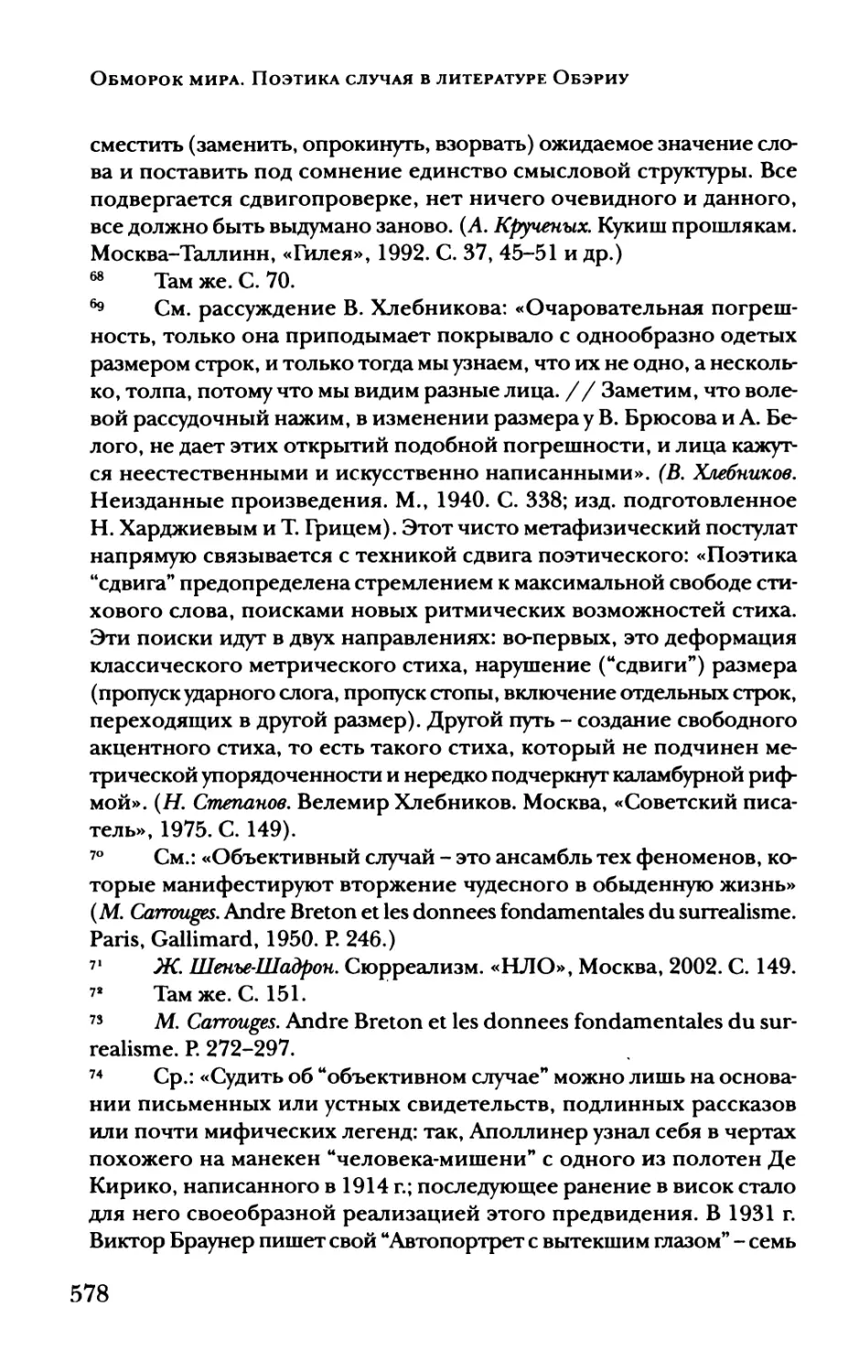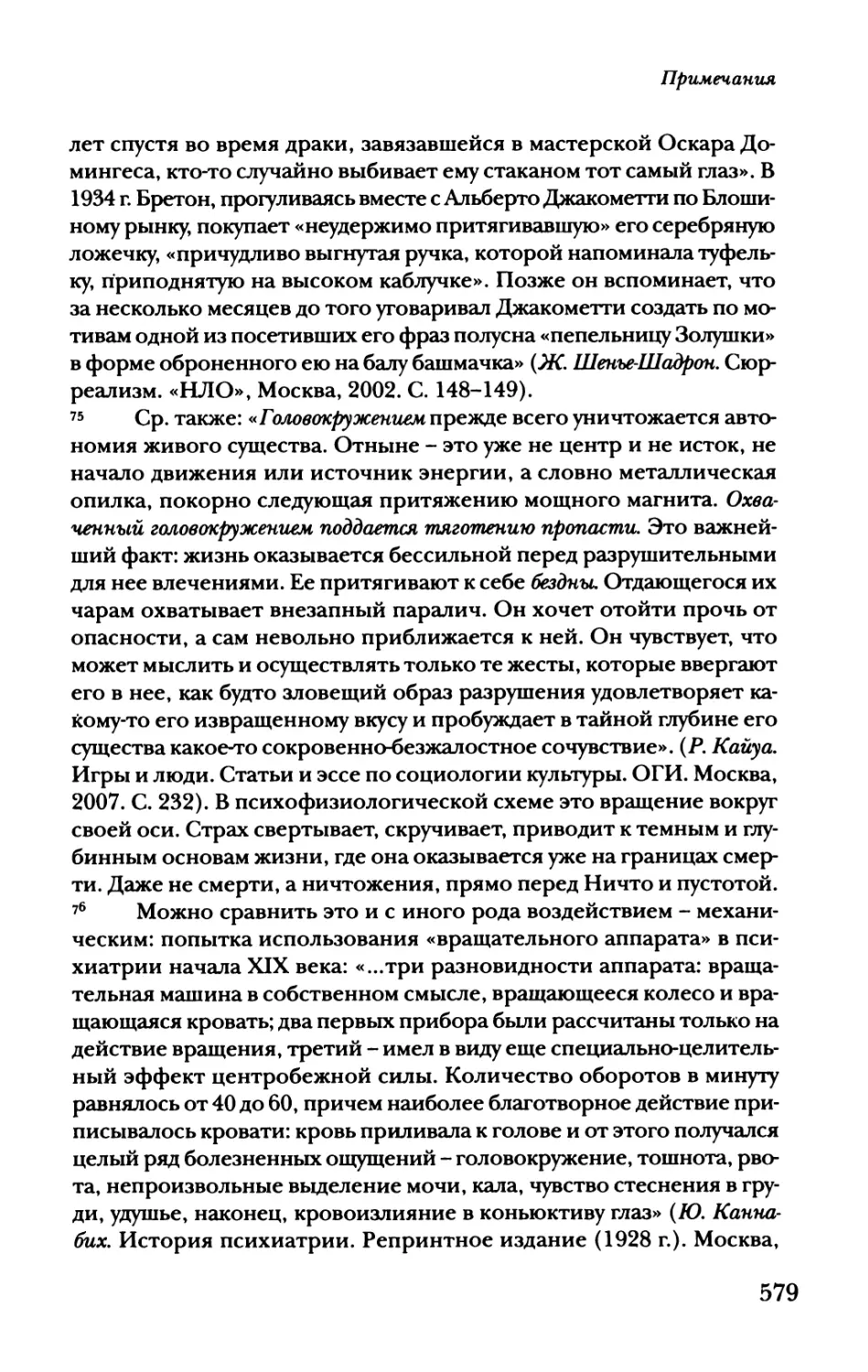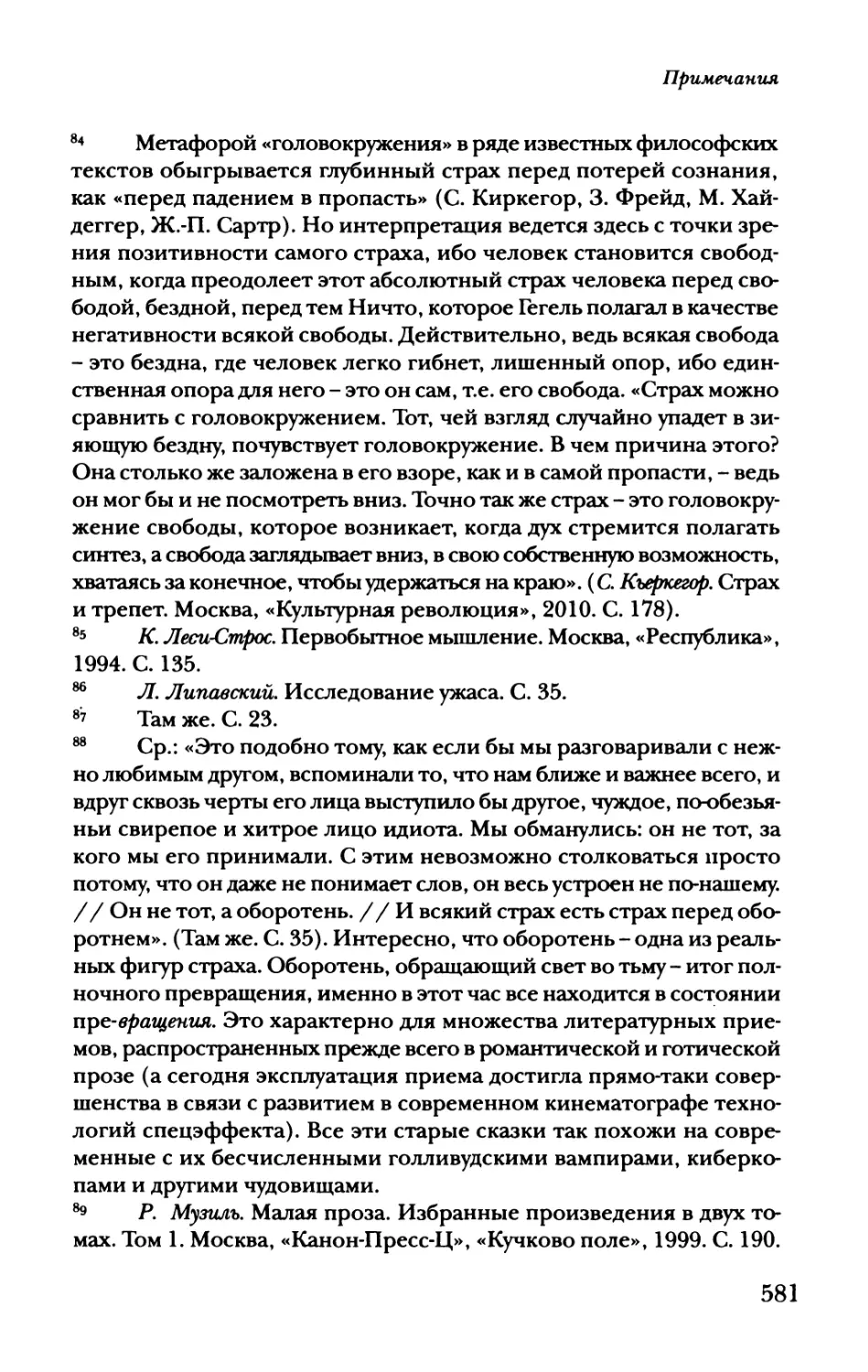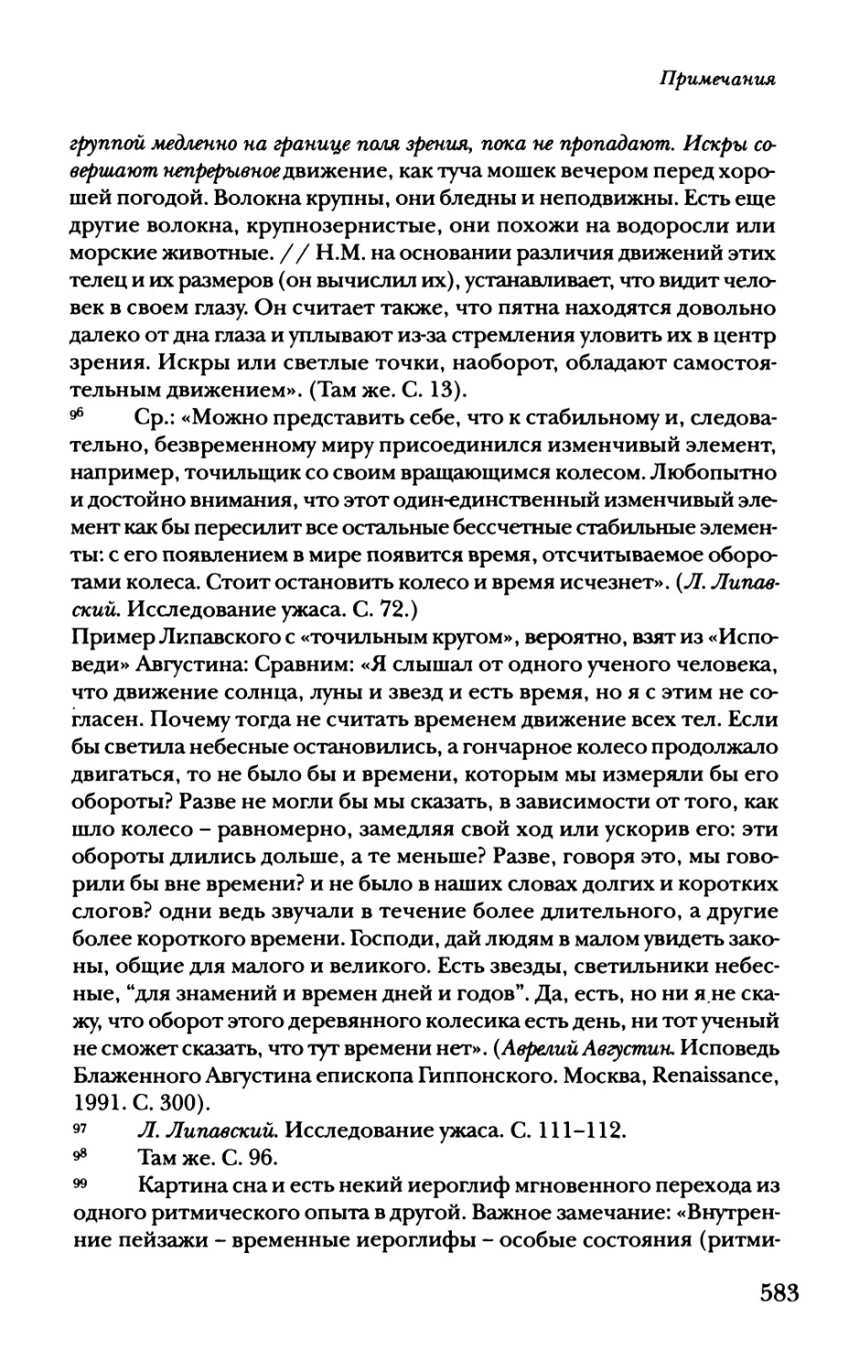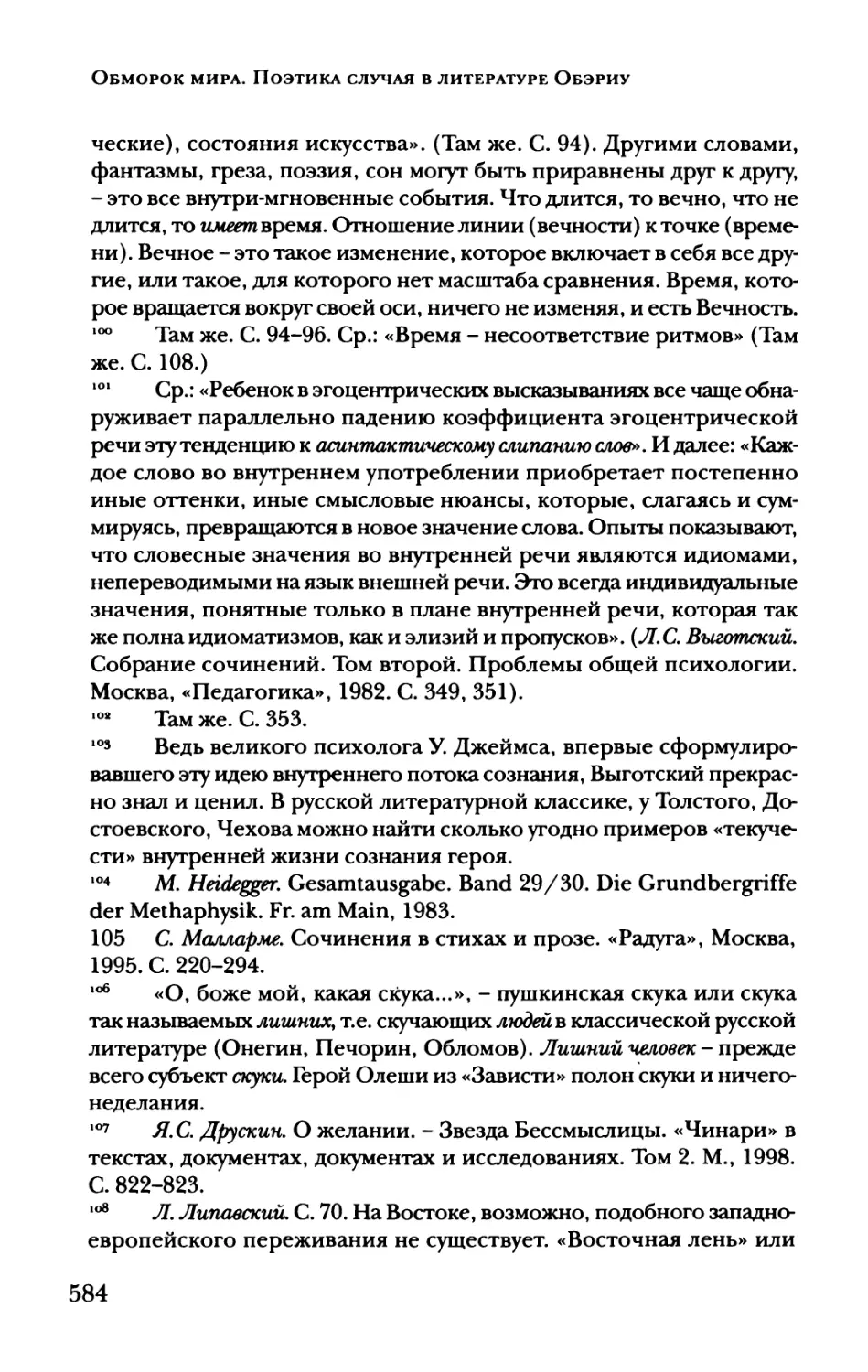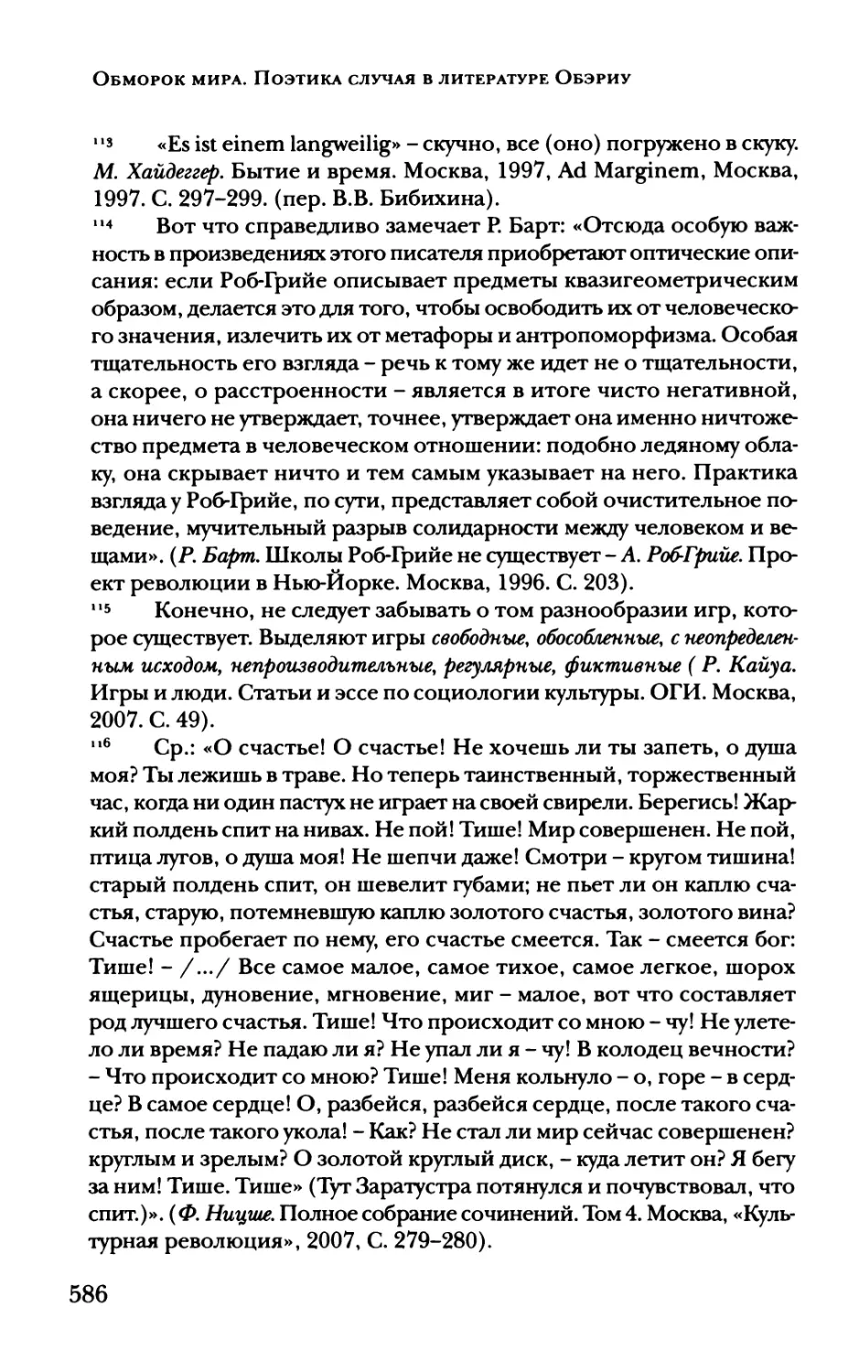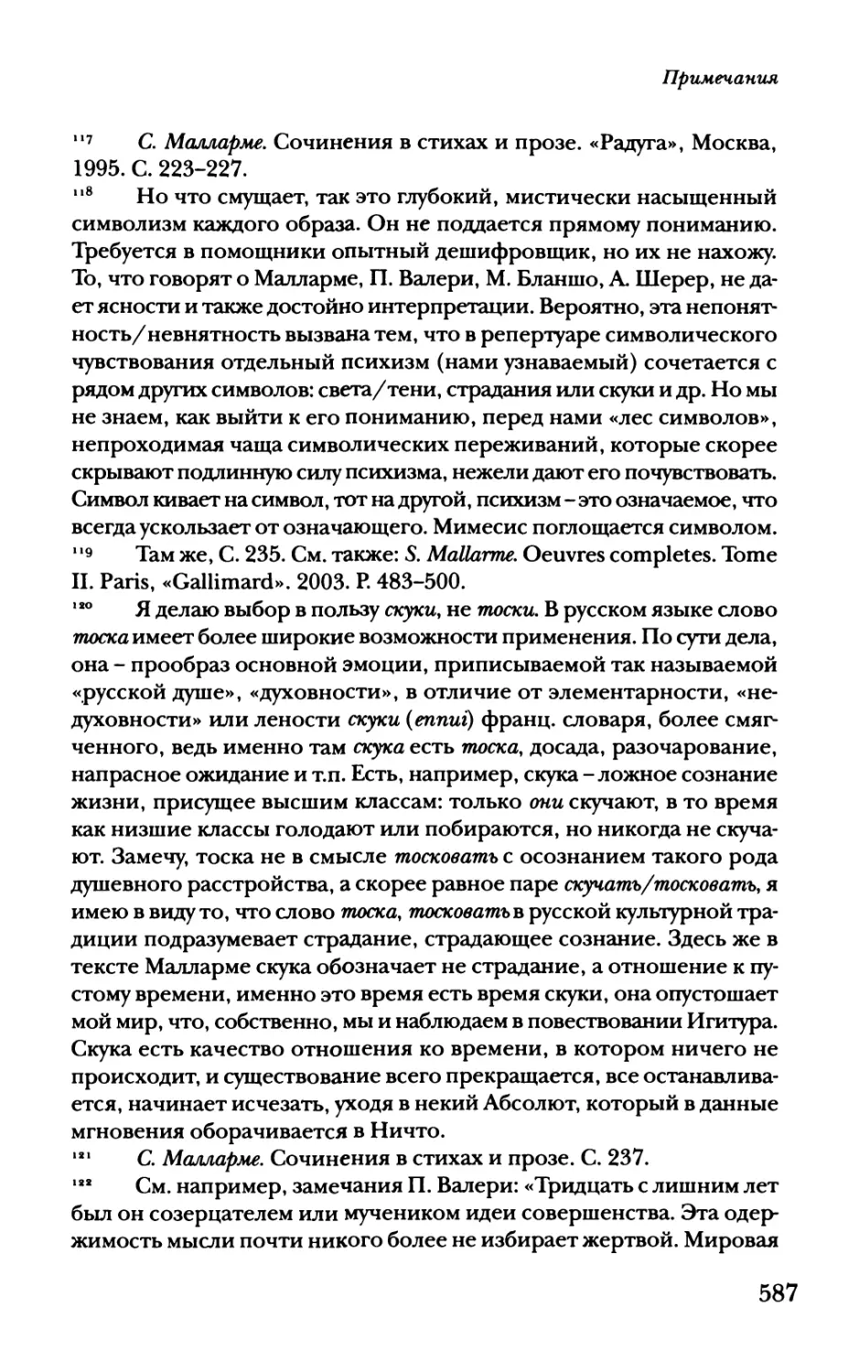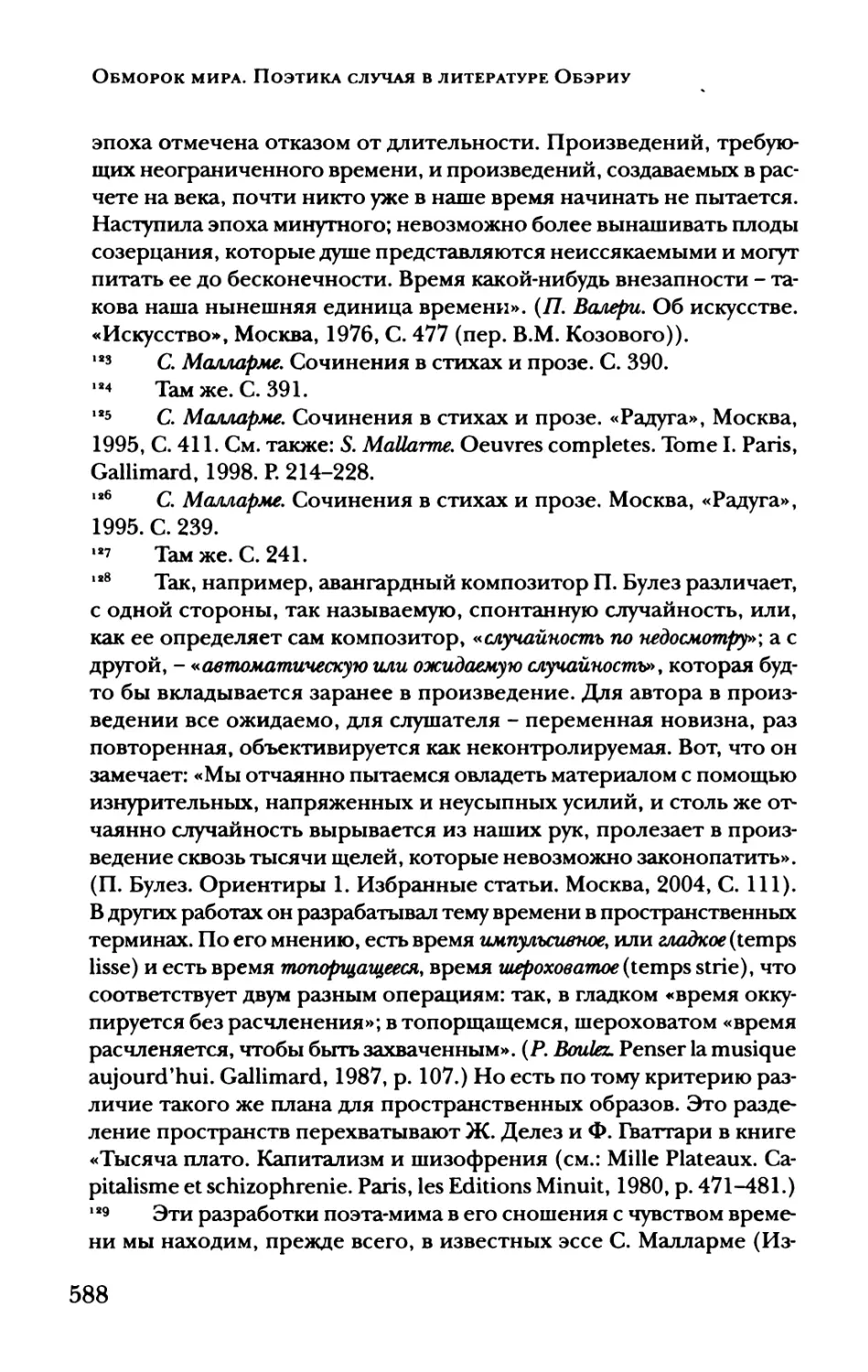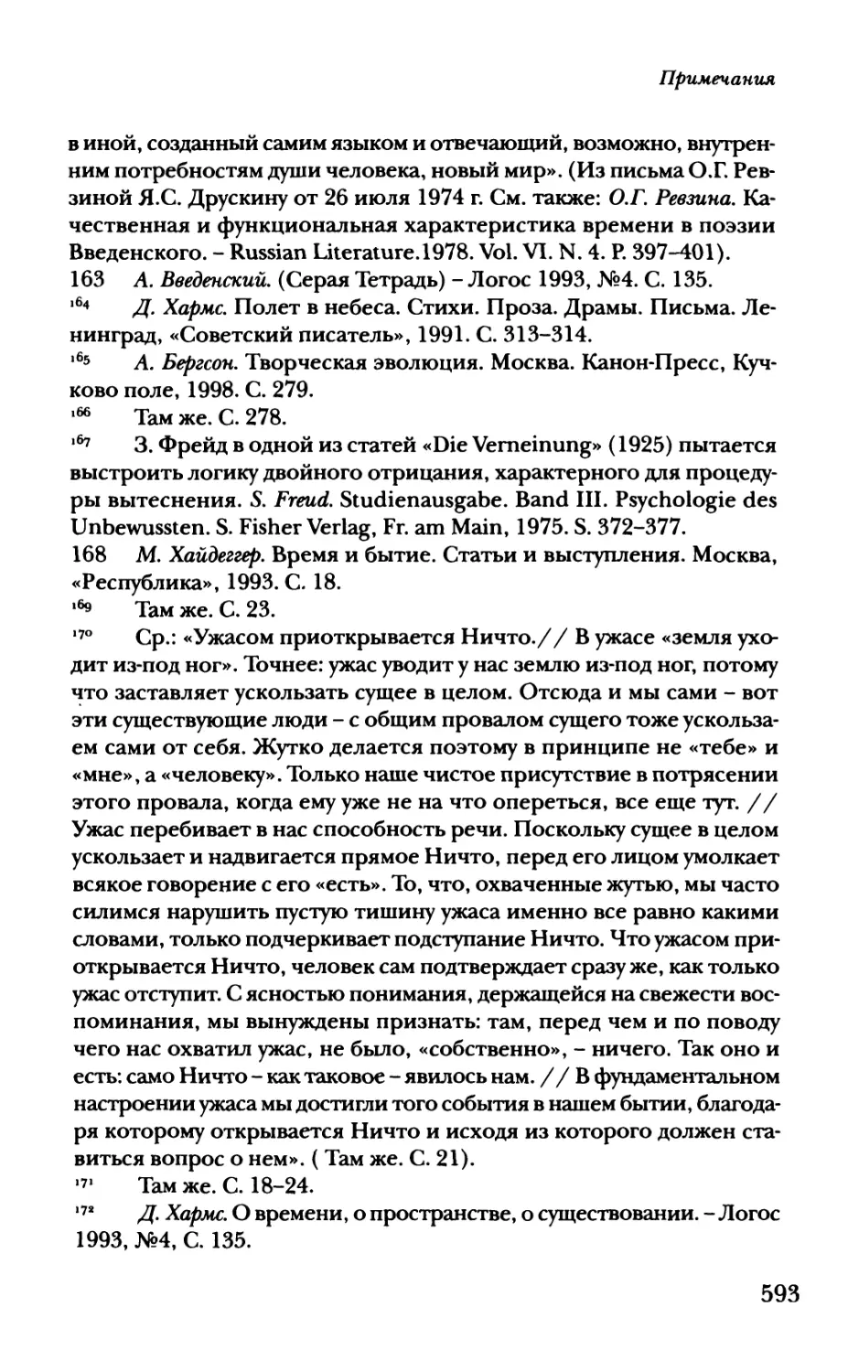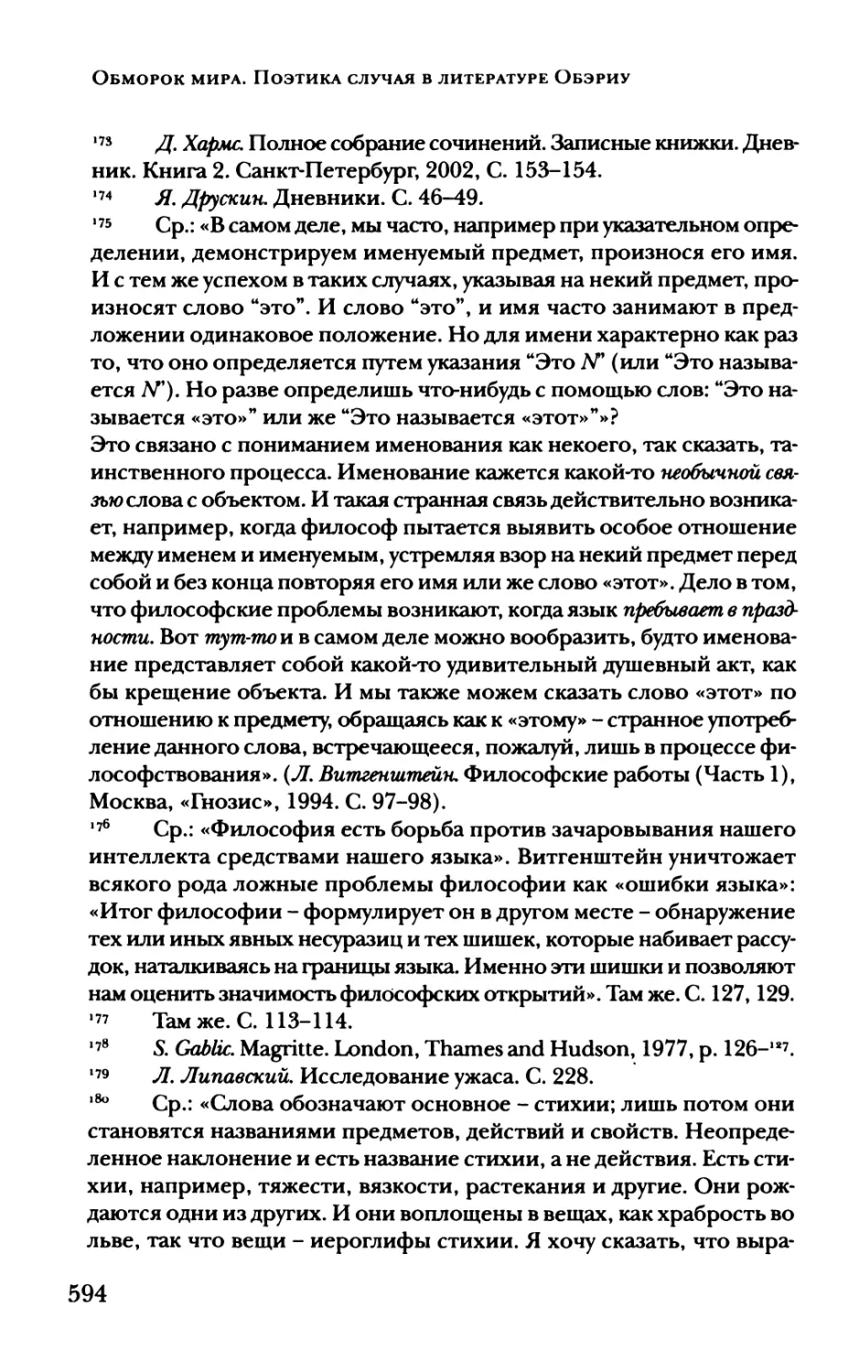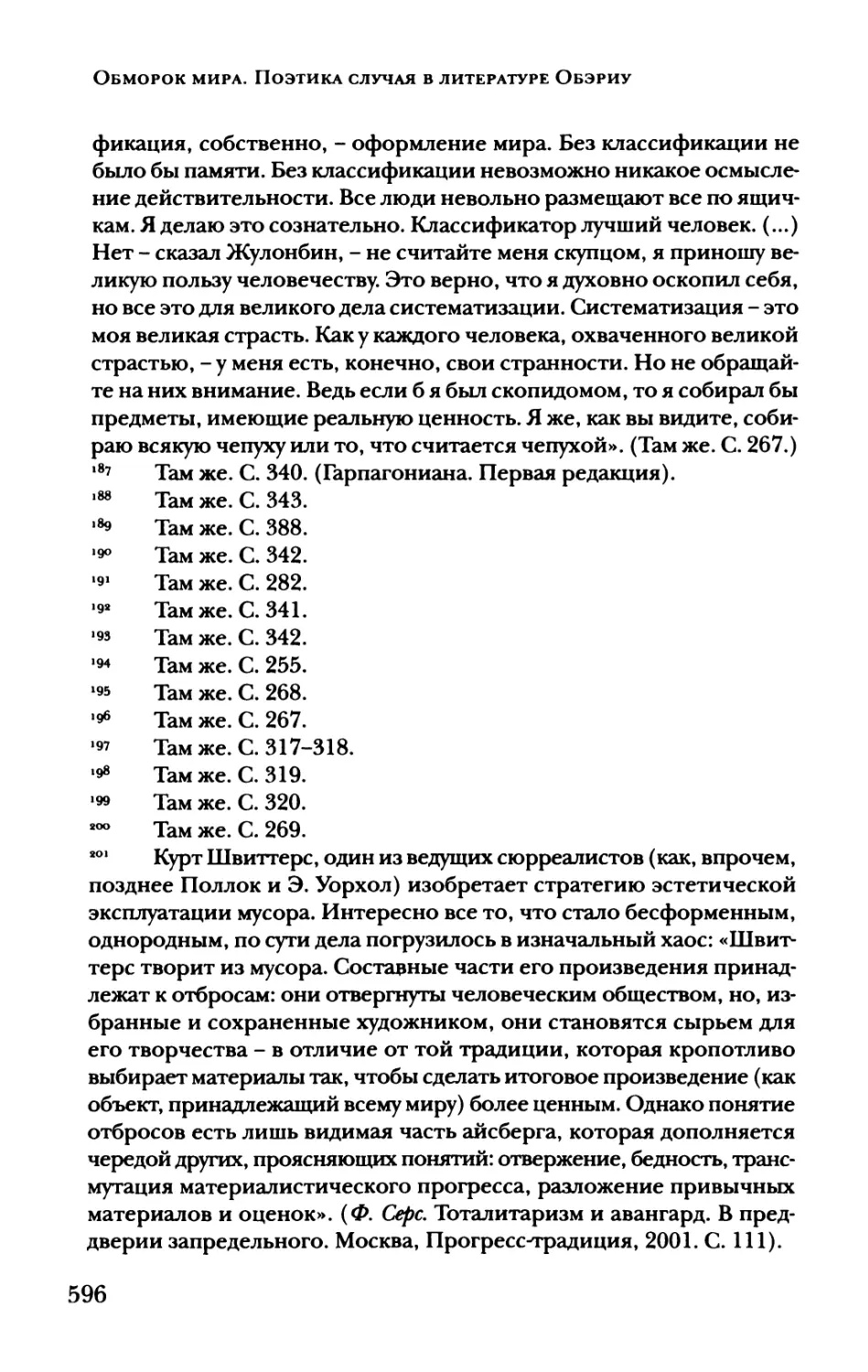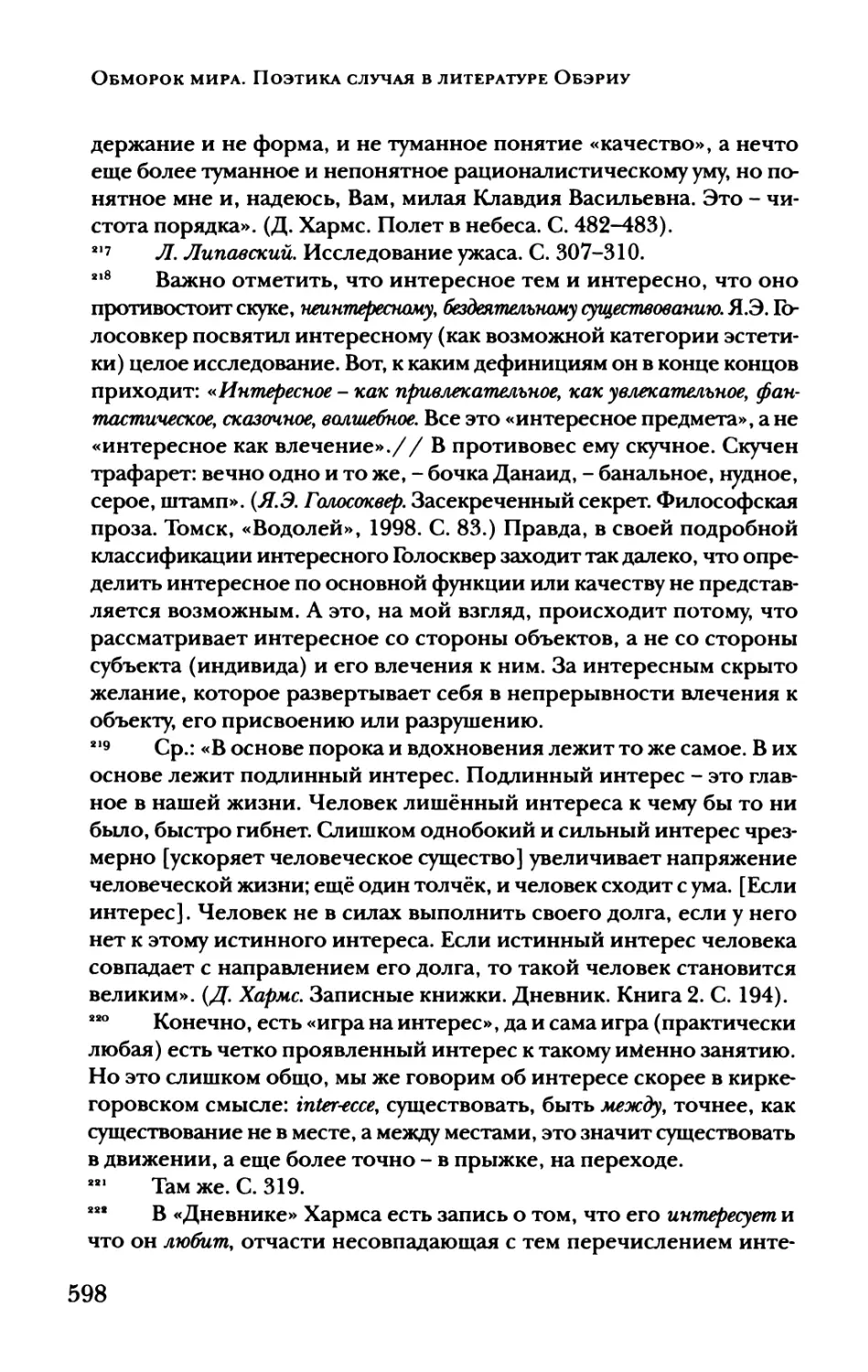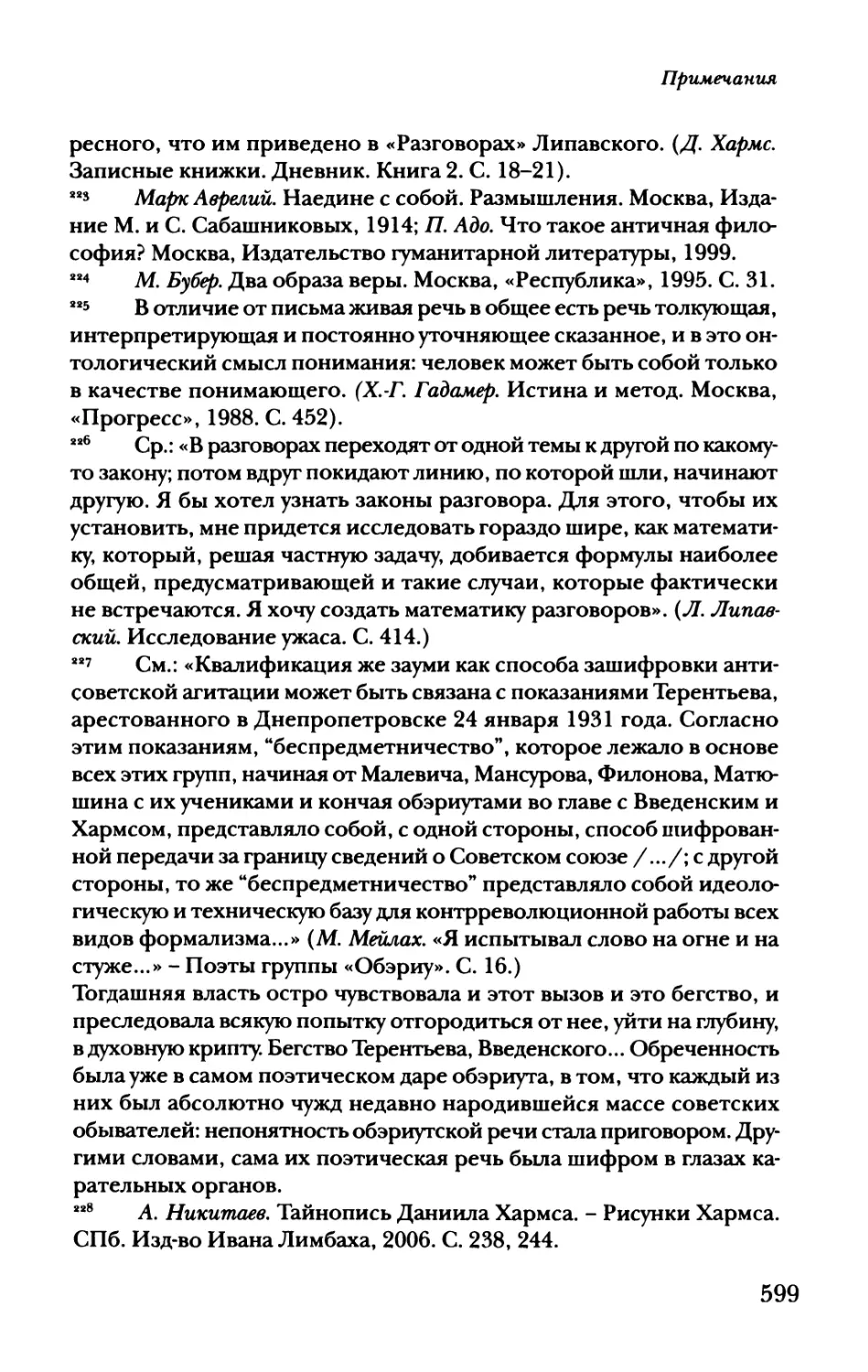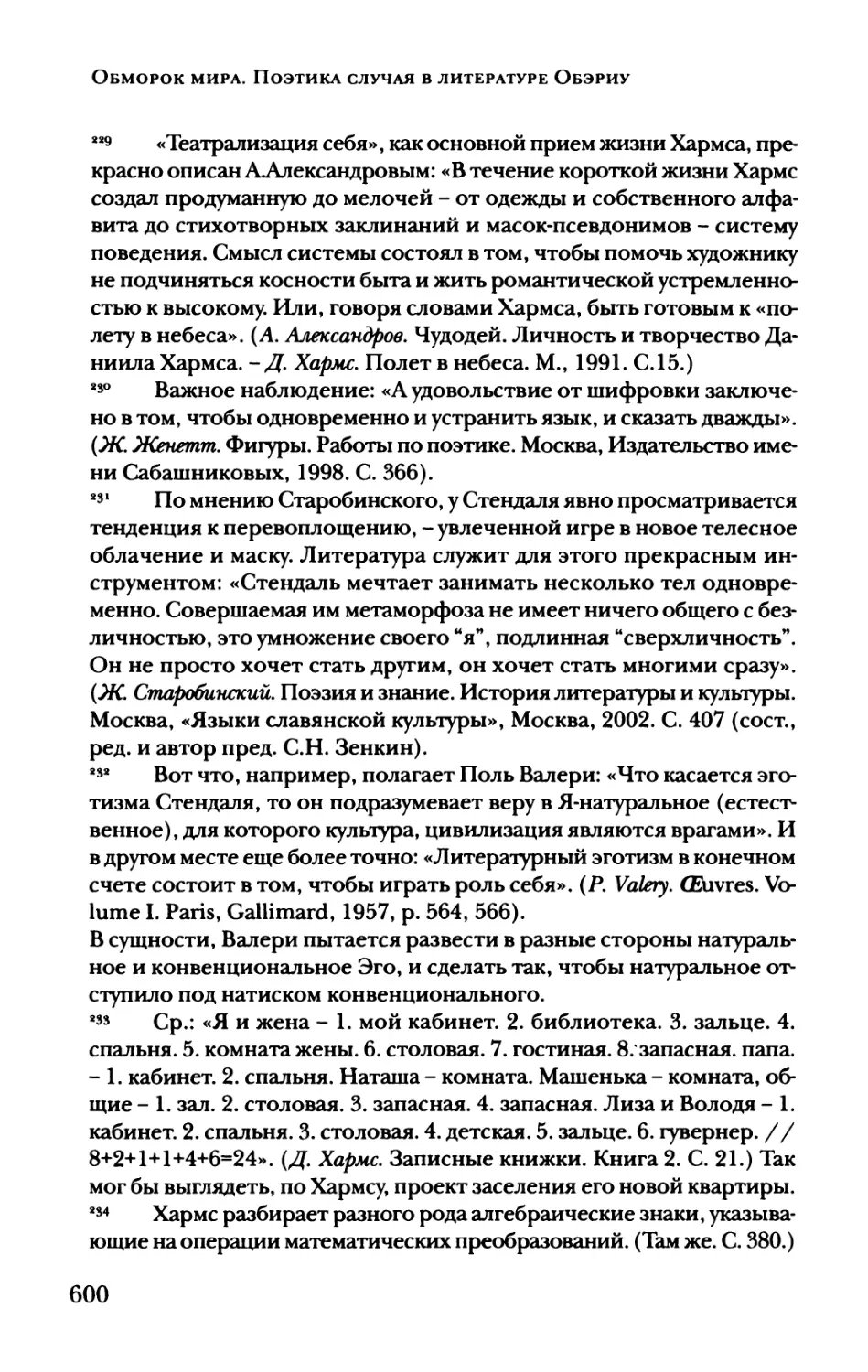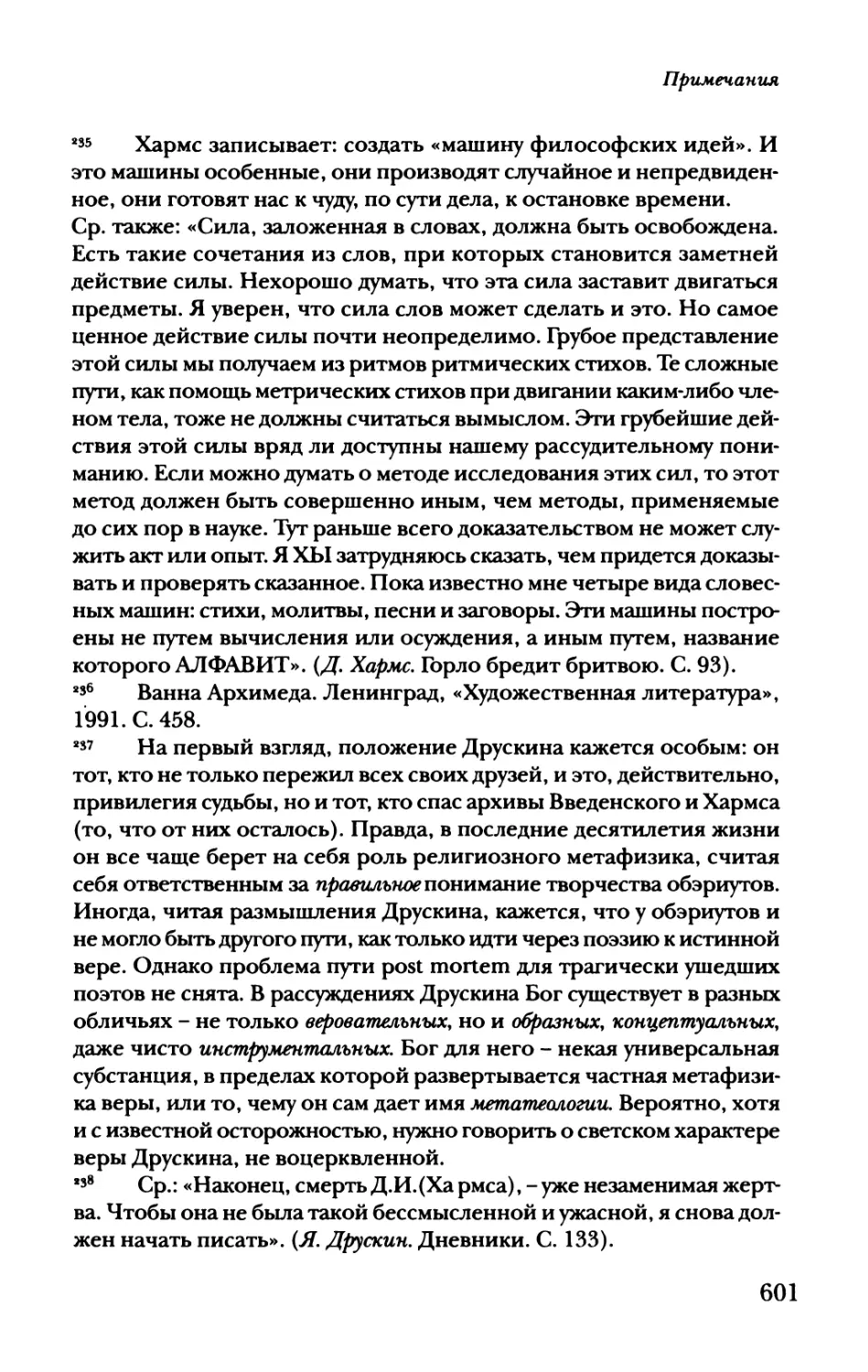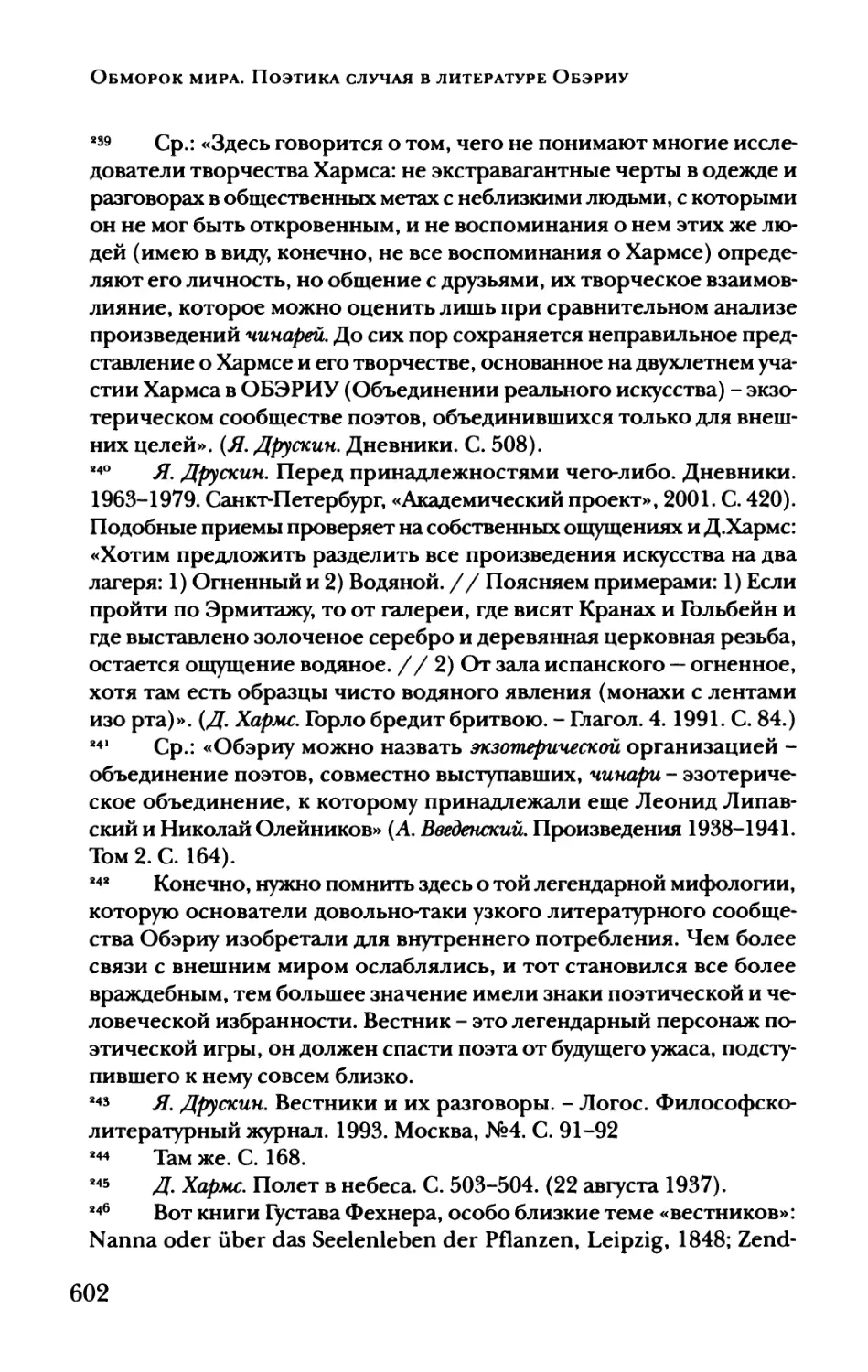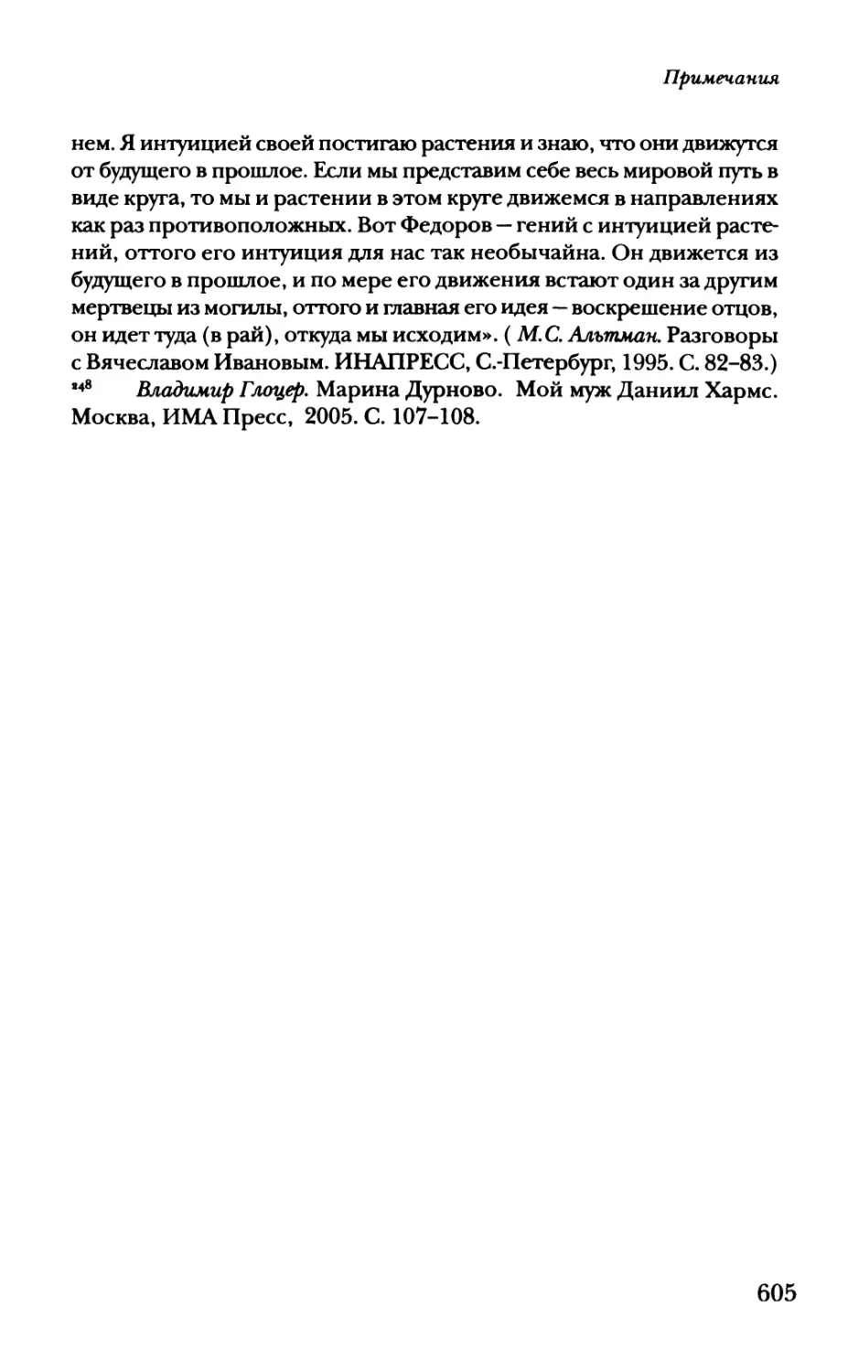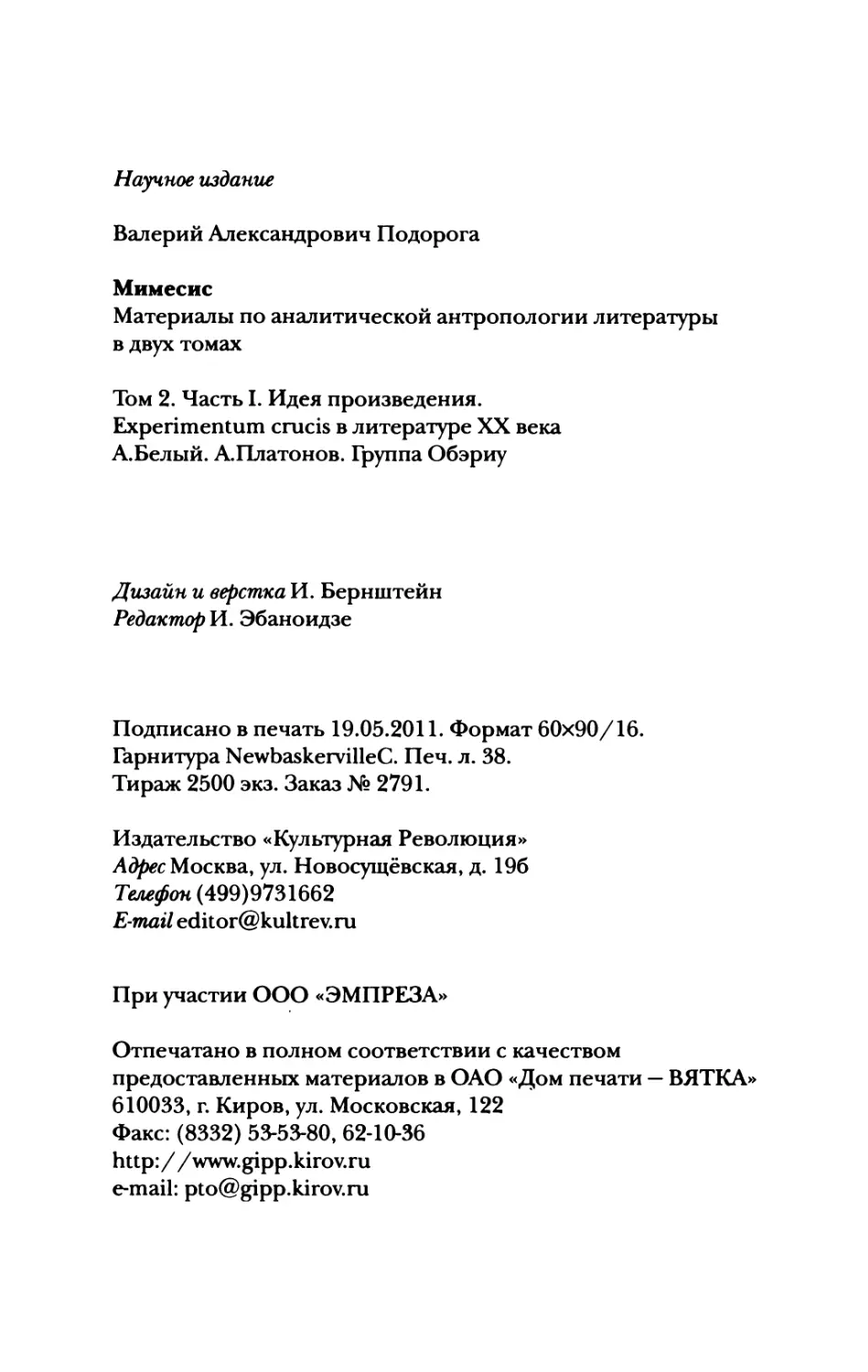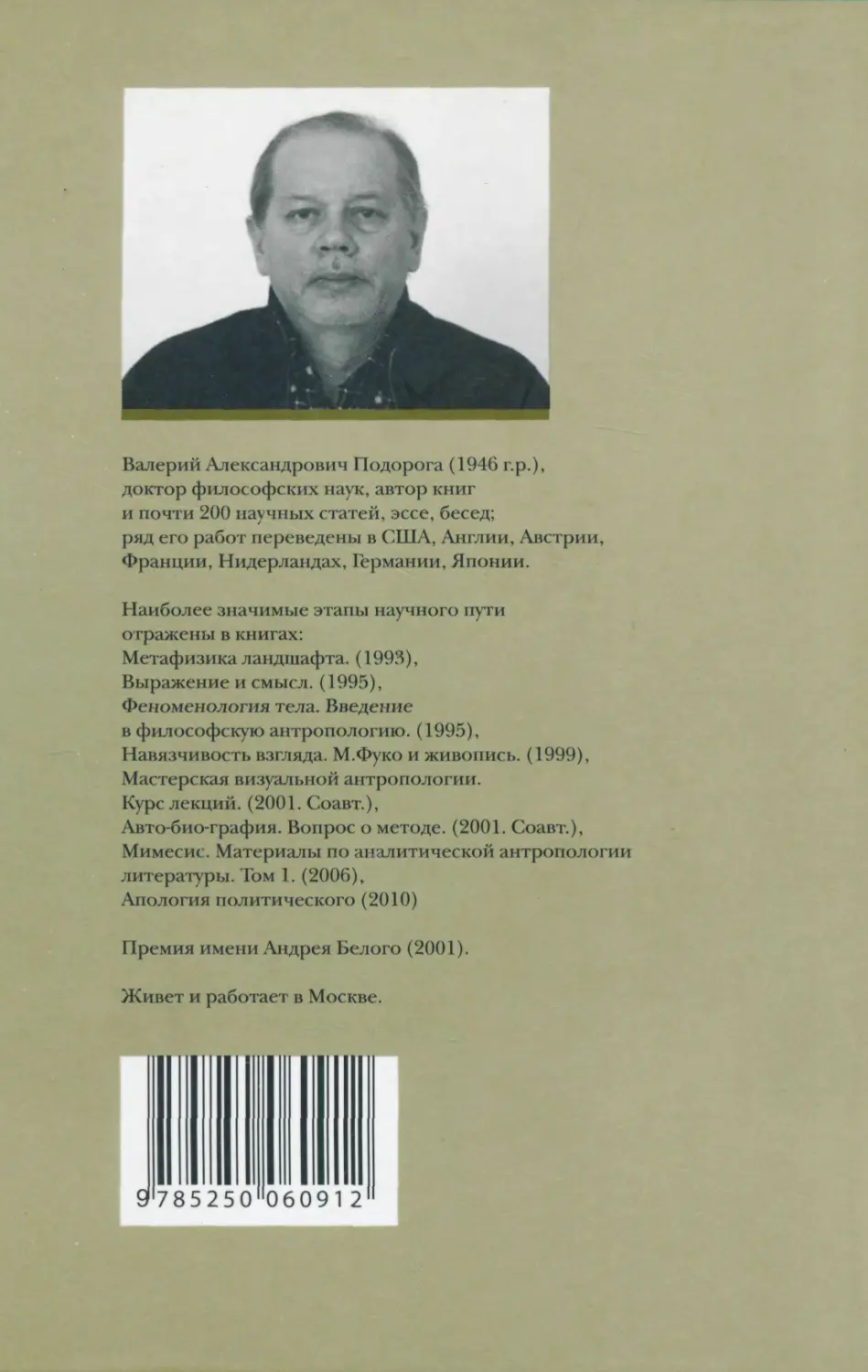Author: Подорога В.А.
Tags: история философии античная литература
ISBN: 978-5-250-06091-2
Year: 2011
Text
В.А. Подорога
Мимесис
Материалы
по аналитической антропологии литературы
в двух томах
Том 2
Часть I.
Идея произведения.
Experimentum crucis в литературе XX века.
А. Белый
А. Платонов
группа Обэриу
Культурная революция, 2011.
ББК87.3
Π 44
Подорога, Валерий Александрович
Мимесис. Материалы по аналитической антропологии
литературы в двух томах. Том 2. Часть I. Идея произведения.
Experimentum cruris в литературе XX века. А.Белый,
А.Платонов, группа Обэриу. - М.: Культурная революция, 2011.
-608 с.
ISBN 978-5-250-06091-2
© Подорога В.А., 2011
© Бернштейн И.Э. Оформление, 2011
© «Культурная революция», 2011
Содержание
Книга третья. Литература как самосознание.
Опыт Андрея Белого 11
Введение. Остраннение 13
Остраннение как прием и экзистенциал 13
«Почему никто не понимает меня?» 17
Принцип индивидуации, principii individuations 20
«Воля к бегству», бег и лёт 21
Тема Verstiegenheit, экстравагантность 22
Танцующий фокстрот. 26
I. Взрыв. Набросок поэтической космологии 30
Аналогии опыта 30
Рои и дыры. Основной контрапункт 40
Космоэтика 57
II. Миг. Пояснения к теории времени 61
Что такое миг-время? 61
«Вспышки прошлого», flashbacks 66
Глаз-кристалл 71
Взгляд и поверхность 76
III. Память памяти. (Опыты по расширению сознания) 79
Две памяти + одна .· 79
Человек и его тела 81
Расширять сознание 85
Принцип градации. Мыслить more geometrico 89
Дополнение к теме: «палеонтология сознания» 95
5
IV. Ножницы. Психоаналитический экскурс в судьбу 102
Начало начал: «скарлатиновый бред» 102
«Первичная сцена». Два голоса и тот,
кто не смеет говорить 103
Нет выхода? К вопросу о двойном тупике, double bind Ill
V. Посвятительный узел 115
Зеркало письма 115
Что такое посвятительный узел? Конструкция, число
и время 118
VI. Жест 129
Судорогой охвачено тело... Парадокс об актере-1 129
Персонаж (как) сверхмарионетка 137
Приступ «косноязычия». Парадокс об актере-2 145
Глазоухо. Типо-графика текста 148
VII. Мир-и-город. Гео-философии эпохи 154
Вопрос о мозге 154
Влияние кинематографа 161
Страхи. Двойники-провокаторы в черном контуре 168
Горное место: Каджоры 176
Вуаль отстояний 179
«Стеклянный ландшафт». Дискуссия о движении 181
Меж двух бездн. Языковой эксперимент 184
Примечания 188
Книга четвертая. Евнух души.
«Революционные машины» и литература А. Платонова 239
Введение. Homo ex machina. О современном состоянии машинизма 241
Авангард и его машины. Эстетика новой формы 241
Машина, modus operandi 244
Образы машин: краткий синопсис 248
Желающие машины. (Ж. Делез / Ф. Гваттари) 259
Биоизоморфизм, или гигантомахия П. Флоренского 262
Чарли Чаплин - Уолт Дисней - Бестер Китон.
Триптих тел и машин 263
6
I. Позиции чтения 266
Видеть, - не понимать 266
Машина для глаза 268
Двойственное существо. Внешнее и внутреннее 276
Язык-палач 282
«Письма вождю» как жанр 288
П. История как природа 293
Опустошение. Фигуры и тела 293
Новая смерть 299
Феномен жизни. R-пространство, резервное 304
III. Изобретатель машин 308
Парад машин 308
П. Филонов и принцип сделанного 328
IV. Столкновение 336
Общая диспозиция 336
Конструкция Мегамашины 338
Antisexus, или аппарат желания 349
Оргонный аккумулятор (В. Райх) 352
Метод нарезки, cut off. (У. Берроуз) 354
Приложение 358
I. Невидимые миры 359
(1) Н. Федоров (1906) 359
(2) Р.-М. Рильке (1925) 361
(3) А. Платонов (1928) 363
(4) П. Флоренский (1929) 364
(5) Г. Флоровский (1935) 365
(6) В.А. Вернадский (1938) 367
II. Образцы машин. Электромагнитный резонатор 369
(1) Вертикальный туннель 369
(2) Пылящее Солнце 371
(3) Новый метод управления миром 372
III. Антисексус 374
Примечания 385
7
Книга пятая. Обморок мира.
Поэтика случая в литературе Обэриу 423
Вступление. Страх полдня 425
Картина первая: Каталепсия 425
Картина вторая: Растение 426
Картина третья: Время 427
Картина четвертая: Труп мира 428
I. Aléa. Общая теория случая 434
Выбор стратегий 434
Юмор мира, или фальсификация случая 437
Принцип: «некоторое равновесие с небольшой погрешностью» 445
Сейчас-время 450
Confutatio, или приближение Бога 455
Дробить и повторять. Интенсификации случая 458
П. Обратное вращение 466
Варианты 466
III. Упразднить случай? Примеры 479
Время для скуки? (А. 1ончаров) 480
Опыт ничто (М. Хайдеггер) 484
Полночь. Начало игры (С. Малларме) 487
IV. Восходит звезда бессмыслицы 495
Проблемата: о неиспользовании языка 495
Позиции 498
Приостановка и расщепление референции 509
V. Ненужное и редкое. Мгновенная история мира 531
Перечни. Собиратели-мусорщики и их коллекции 531
Идея собирательства 540
Редкости. О возвышенном вкусе (Ж.-К. Поисманс) 542
VI. Разговоры. Сообщество друзей во времени 549
Интерес. Разговоры - говорить 549
Театр для себя. Псевдонимы, шифровки, квартиры Д. Хармса 554
Страна вестников 559
Примечания 570
8
Памяти
Елены Ознобкиной
Книга третья
Литература
как самосознание
Опыт Андрея Белого
Андрей Белый. 1915 г.
Введение
ОСТРАННЕНИЕ
Здравствуй ты, странное!
Мы присутствуем при, так сказать,
«остраннении» (выражение Шкловского)
всех причин и всех целей, переходящим
в наше растущее недоумение о характере
нам данной действительности.
А Белый
Остраннение как прием и экзистенциал
ι. В. Шкловский, вводя неологизм остран(н)ение, предполагал единство
двух его значений, интуитивно понятных всякому носителю языка1. Полная
запись морфемы слова выглядела бы так: о(т)-стран (н)ение, где
закавычено присутствие другого смыслового оттенка, кстати, весьма
отличающегося от не закавыченного. Одна запись для двух наделяющих смыслом
операций, действующих разом и как о-страннение и как от-странение, нечто
о-странняется и от-страняется; отодвинуться, отойти в сторону,
взглянуть со-стороны, сторониться...быть сторонним наблюдателем. В слове
о-страннение - также много чего: жуть и нудность, «беспокоящая
странность» (3. Фрейд), что-то знакомое вдруг становится чужим и что мы, зная
ранее, не узнаем. Все, что может быть названо странным, вызывает
намного больше вопросов, чем дает ответов. «Произошло что-то странное... »
Странное - то, что происходит независимо от нас, причем, так, что ни
предсказать, ни ожидать такого мы не могли, что приводит в замешательство,
одаряет легким испугом, внушает беспокойство. Речь может идти о агллю-
тинированном («проглоченном») субъекте в момент остраннения. Субъект
13
Литература как самосознание. Опыт Андрея Белого
остранняющий, от-странняя, нечто означивает, подчеркивает, забирает
в рамку, как бы одним ударом исключает его из инертного фона, выводит
за границы автоматизма восприятия. В феноменологии Э.Гуссерля важное
место занимает операция «поставления в скобки», но вот можно ли се
причислить к общей практике о(т)стран(н)ения ? Скорее картезианское и гуссер-
левское эпохе видели в феномене интенциональности опыт «чистого
сознания», ведь именно в «чистом сознании» механизмы восприятия действуют
столь же непосредственно, как в детском, «впервые» воспринимающем мир.
О-страннять, чтобы преодолеть безразличие отстранения. Жест остранне-
ния может быть вызван чем-то шокирующим, поразить новизной уже
известного: «Вы слишком странны», «поступок не без странностей», «вы все
воспринимаете остраненно», «ваш облик стран(н)ен». Наделяя вещь
свойствами остраненности, мы теряем позицию чистого наблюдателя: видимое
словно касается нас. Замысел «Петербурга» Белого - показать, как сознание
претерпевает о(т)-стран(н)ение от себя самого, и, отделившись, словно
парит над реальным. О-странняется ближайшее к нам, самое известное, в чем
мы уверены, отстраняется на такое расстояние, которое позволит его
полностью о-страннить, иначе говоря, увидеть и «неузнать». О^транняется, - но
что? Сама Реальность. Возможно, что это несущиеся рои облаков,
странные свечения, вихри и туманы, зеленеющая темно-желтая муть
«Петербурга», нет никакой четкости, нет ничего застывшего, постоянного, к чему
была бы применима прежняя, гоголевская миметическая техника:
«стеклянные ландшафты». Да и в этом случае, - я имею в виду «подражание» Белого
словесной жестике Гоголя, - характер осуждающего жеста зависит от сред-
овой поддержки. Сама же среда и есть сверхсознание, индивидуальное
сознание в нем не выражено, ему не придана «интимная» связь с собственным
телесным опытом. Поэтому состояние ума главных героев: ст. Аблеухова,
Аполлона Аполлоновича (отца) и мл. Аблеухова, Николай Аполлоновича (сына)
ничем не отличаются. Одно и единое сознание для всех персонажей и
явлений, именно оно остранняет так, чтобы вместить в себя любые другие9.
2. Таким образом, сознание в изначальной данности и есть та
ментальная среда, в которой только и могут производиться о(т)стран(н)яющие
жесты. Сознание преобразует и замещает собой Реальность. Нет индивидуально
выраженной пластики жеста, а есть коллективная жестикуляция
марионеток-персонажей. У Гоголя еще сохраняется рисованность жеста и куколь-
ность, у Белого этого уже нет, доминирует марионеточная графика.
Персонаж не совершает собственных движений, нет эффекта «живой, теплой
плоти»; нет телесного преодоления, тяжести, замедления, везде
неприкаянность жеста, свобода и полет. И это понятно, - все эти жесты «неземные»,
нечеловеческие. Мое отстранение направлено от объекта (к себе), - ведь я
14
Введение. Остраннение
отстраняюсь, сторонюсь чего-то, это моя инициатива, но вот остраннение,
напротив, требует раздвоения, направление к объекту (от себя). В первом
случаемы пытаемся удалиться от объекта (на безопасное расстояние).
Отстраняемся от того, что оказалось слишком близко от нас, нарушилась
дистанция, благодаря которой сохранялось наше безопасное равновесие с миром.
Во втором вся суть в остраненнии привычного, надо увидеть в нем что-то
странное, взгляд страннит... В структуре аристотелевского мимесиса это
место занимает неузнавание, неузнанное, оно и есть странное. Толкуя излюб
лепные темы в литературе Гоголя и Достоевского, Белый пытается
выстроить миметическую основу сравнения их литературных стилей:
«...Достоевский подчеркивает, что не страсть, а как бы страсть; говоря о страстях
как о"Яп,он стростит наше "Я", отстраняет его; в этом метод подобный
реалистическому остраннению Гоголя; Гоголь страннит, Достоевский стра
сти'т проявления нашего конкретного "Яп»ъ. И в другом месте: «...кто,
кроме Гоголя в эту эпоху увидел лицо человека как "редьку "; а Гоголь увидел;
и кто слышал хохот, подобный взреванью быков: двух быков; да "натура п
у Гоголя "остраннена п навсегда; остраннил - перед этим случившийся ибац п,
разорвавшийся в поле сознания фейерверком кометных хвостов... »4. Техника
о(т)-стран(н)ения становится универсальным приемом жить^ть-мыслить,
я бы даже назвал его суммирующим признаком стиля, «взрывного» стиля Бе
лого. Шкловский обсуждает прием остраннения в контексте формального
метода: разбор примеров от русских сказок до прозы Л.Н. Толстого. Вот
что он открывает: «Целью искусства является дать ощущение вещи как
видение, а не как узнавание; приемом искусства является прием
"остраннения п вещей и прием затрудненной формы, увеличивающей трудность и
долготу восприятия, так как воспринимательный процесс в искусстве
самоценен и должен быть продлен: искусство есть способ пережить деланы вещи, а
сделанное в искусстве не важно». И далее, уже заключая: «Целью образа
является не приближение значения его к нашему пониманию, а создание особого
восприятия предмета, создание "виденья"его, не "узнаваньяп»ъ.
Действительно, пока мы узнаем то, что видим, мы не видим, но как только автома
тизм восприятия нарушается, мы видим, но видим потому, что не узнаем.
Новизна образа в мгновенности этого неузнавания, а это часто удар,
вспышка, взрыв, к чему наше сознание не готово6. Но главное для Шкловского не
остраннение (таким оно становится у А.Белого), не его результат, а процесс
торможения: остранняется (что-либо) из-за нарушения автоматизма
восприятия, оно тормозится, задерживается, подвергает активной
переработке чувственные данные, - то, что не узнано, кажется о-страненным. Для
«торможения» и «задержки внимания» - один источник: шок неузнавания.
Вот откуда «потребность торможения образной массы и создания из нее
своеобразных ступеней...»7. Остраннение не отталкивает, а напротив,
15
Литература как самосознание. Опыт Андрея Белого
заново вовлекает в процесс узнавания, и это эффект чисто временной, «вещь
воспринимается не в своей пространственности, а, так сказать, в своей
непрерывности»9'. Так заявляется отказ от мимесиса, если под ним мы будем
понимать телесное сопровождение образа. Мы понимаем лишь то, что
сначала узнаем посредством средств подражания (копирования, изготовления
клише, имитации и т.п.). Другими словами, насколько мы что-то можем
повторить, «узнать», настолько мы способны мыслить. Неузнавание и остраннение
сопутствуют целому ряду приемов, которые мы встречаем в современном
искусстве и литературе (например, «отказное движение» В.Э. Мейерхольда,
понятие «чуждения» Б. Брехта и «шока» В. Беньямина). Привычная работа
чувственных автоматизмов прерывается, требуется иная миметическая
установка. Вероятно, именно в эти мгновения перестройки восприятия, -
когда «новизна» удивляет и мы начинаем тормозить, «сдерживать» эффект
ее последействия, мы оказываемся зачарованными. Процедура
миметического переживания реальности замещается взрывной, прерывающей
нормальную, «естественную» реакцию чуть ли не судорогой. Таким бывает момент
первого контакта с «неожиданным». Правда, надо отличать общий эффект
восприятия произведения от внутрипроизведенческого мимесиса, например,
задержки действия в трагедии с целью большего насыщения
драматическими событиями. Конечная цель - управление зрительским катарсисом.
$. Остраннять - это наделять реальность дополнительным смыслом,
который противостоит уже известному, оживлять «омертвевшую»
миметическую форму. Вот, например, игровое «остраннение» языка, которое
постепенно приводит Белого к вполне осознанной стратегии
литературного косноязычия. Косноязычие как истинная речь, т.е. наделенная «неявным
смыслом», который еще нужно истолковать9. Гоголевская техника остран-
нения словесного ряда; каждое имя настолько трудно произносимо, что
ритуал именования теряет всякий смысл. Изобретение собственных имен - один
из экспериментов по остраннению языка, - становится образцом
поэтического косноязычия в литературе Белого. В сущности, особенность его стиля
в том, что он отвергает чтение-про-себя, «чтение-понимание»,
исключающее ритмически-звуковую оашстску слова, которая невозможна без чтения-
вслух. Смысл приходит из произносимого-вслух. Не просто подражание, тем
более не имитация стилевых приемов Гоголя или ДоЬтоевского, не прустов-
ские пастиши, а развитие в себе чувства новизны прошлого опыта, перевод
его в более интенсивный мимически-жестикуляционный режим.
4. Что же подвергается такому столь настойчивому и
систематическому остраннению?Белый вполне осознано пытается перевести
собственное «чудачество» и «странности» из случайностей существования в необ
16
Введение. Остраннение
ходимую позицию, позу, даже отдельные жесты. Грубо говоря, все должно
остранняться и все остранняется.
Итак, о-страннению подвергаются:
- пространственно-временные образы: в рельефах, «дистанциях»,
позициях, горизонтах, высотах и падениях;
- «отвердевший быт»; протест против омертвления живого опыта,
как ответ - взрыв;
- общие жесты страха: шпионы, мания преследования, бегство;
- телесное: эксперименты с собственным телом, разработкой
правильных поз/жестикуляции/движения; мгновенные реакции: «дерги»,
«судороги» и «конвульсии»;
- состояния сознания в «норме», вместо них: экстрасенсорные образы
реального (галлюцинации, жстазы, видения, бред и т.п.); отсюда раздвои,
двойничество, само-остраннение10;
- литературный язык: посредством целого ряда ритмических,
грамматических морфологических, синтаксических, звуко-фонетических, же-
стикуляционно-мимических экспериментов.
«Почему никто не понимает меня?»
«Голубые глаза и горячая лобная кость
Мировая манила тебя молодящая злость
И за то, что тебе суждено была чудная власть
Положили тебя никогда не судить и не клясть.
На тебя надевали тиару - юрода колпак,
Бирюзовый учитель, мучитель, властитель, дурак
Как снежок на Москве, заводил кавардак гоголек
Непонятен-понятен, невнятен, запутан, легок
Собиратель пространства, экзамены сдавший птенец,
Сочинитель, щегленок, студентик, студент, бубенец,
Конькобежец и первенец, веком гонимый взашей
Под морозную пыль образуемых вновь падежей
Часто пишется: казнь, а читается правильно: песнь,
Может быть, простота - уязвимая смертью болезнь... »
Осип Мандельштам
5- Был ли Андрей Белый личностью? Вопрос более чем странен, да и
может ли быть так поставлен? Однако для современников, читавших,
судивших его и прославлявших, даже проклинающих, этот вопрос не казался
17
Литература как самосознание. Опыт Андрея Белого
неуместным. Кто только из заметных деятелей Серебряного века не оставил
воспоминаний о Белом, но как скор и противоречив был их суд. У одних -
восхищение, у других - удивление, зависть и чуть ли ненависть, и все они в
чем-то главном были поразительно схожи. Вот примеры: «Боря Бугаев - весь
легкий, как пух собственных волос в юности, - он, танцуя, перелетит,
кажется, всякие итарары ". Ему точно предназначено их пролетать, над
ними танцевать, - туда, сюда... направо, налево... вверх, вниз...//БоряБугаев
- воплощенная неверность. Такова его природа»11. Сходное мнение
Н.Бердяева, который считал, чтоуА.Белого «...этой очень яркой индивидуальности,
твердое ядро личности было утеряно, происходила диссоциация личности
в самом его художественном творчестве. Это, между прочим, выражалось
в его страшной неверности, в его склонности к предательству»12. Что же
можно добавить к тому рою часто несправедливых оценок высказанных в
отношении «личности» Белого. Все как будто ясно, и в то же время эта
общая «ясность» нам не гарантирует понимания его личности.
6. Достаточно ли объяснить, почему Белый не может быть понят, и на
этом основании отказаться от поиска единства в его
творчестве?Действительно, то, что принято считать личностью в человеке, ядром жизненного
поведения и характера, налагающим печать на все многообразие его
переживаний и поступков, казалось у Белого размытым. Вероятно, в силу того,
что это упорно отыскиваемое личностное начало Белого не было заключено
в границы, видимые другим (да и ему самому). Под личностью понимался
набор нравственных качеств, которым должно следовать даже тогда, когда
это невыгодно и опасно. Белый не был «человеком принципов». Переизбыток
новых планов и проектов, увлечений, страстей, страхов и маний, наивности,
юродствующей вздорности и непоследовательности, странной
мнительности, часто на грани измены и предательства, и чего-то очень похожего на
подлинное безумие. Наиболее проницательным из отзывов кажется
наблюдение Ф. Степуна: «...в творчестве Белого нет тверди, причем ни небесной,
ни земной. Сознание Белого - сознание абсолютно имманентное, формой и
качеством своего существования резко враждебное всякой трансцендентной
реальности. /.../Всякое имманентное, не несущее в себе в качестве центра
никакой тверди, и сознание есть сознание предельно неустойчивое. Таким
было (во всяком случае, до 1923 года, а вероятнее всего, осталось и до конца)
сознание Белого. Отсутствующую в себе устойчивость Белый, однако,
успешно заменял исключительно в нем развитым даром балансирования. В
творчестве Белого, и прежде всего в его языке, есть нечто явно жонглирующее.
Мышление Белого - упражнение на летящих трапециях, под куполом его
одинокого я. И все же эта акробатика (см. "Эмблематику смысла п) не пустая
"мозговая игра ". В ней, как во всякой акробатике, чувствуется много труда и
18
Введение. Остраннение
мастерства. Кроме того, в ней много предчувствий и страданий»1*. И далее
- вывод: «Как это ни странно, но, при всей невероятной подвижности
своего мышления, Белый, в сущности, все время стоит на месте; вернее,
отбиваясь от угроз и наваждений, все время подымается и опускается над самим
собой, но не развивается»1*. Можно сказать, что личность Белого «не
развивалась», что он так и остался «стоять на месте», стараясь удержаться в
некой точке покоя, окруженного головокружительным вихрем собственных
духовных исканий и личных катастроф. Возможно, причиной тому был
им не всегда осознаваемый страх перед безумием, абсолютным, убийственно-
разрушительным, - страх потери равновесия жизни. Тема личного страха
компенсируется часто в другой, - в теме обретения чувства космического
(антропософского) единства1*. Белый не имел внутренне предпосылаемой
переживанию, устойчивой позиции собственного «я». И знал об этом - что
важно. Да, он был изгнан, остраннен и не мог возвратить себе единство
собственного «я», но кем изгнан, кем остраннен - не собою ли? Навязчивая
идея поздних этапов творчества, почти мегаломания: создать Мировую
Историю Самосознания. Внутреннего единства (желаемого психического
равновесия), можно достичь воспитанием исторического чувства мировых
событий как части личного сознания. Другими словами, не должны ли мы
истолковывать эксцентричность или экстравагантность личности Белого
как стремление выйти за собственные («личностные») границы, быть и
служить Внешнему, и уже оттуда, набрав силу, возвращаться к себе, чтобы
напасть на свое прежнее беззащитное «я», отбросить его в сторону, утвердить
на его месте новую собственную личину, но уже как мирового Эго. Если
повторить вопрос: что же остается устойчивым в его опыте самосознания ? Не
служение ли мировому, «космическому» Внешнему ради будущего Внутреннего ?
у. Свою «непоследовательность» и «неверность» в общении Белый
объяснял тем, что его «не понимают», и что он сам страдает от этого. Многие
истолковывали эту «непонятность» как очевидную слабость, которой не
грех воспользоваться. Одни, которые были ближе к нему, упрекали в
«предательстве», те, кто поотдаленнее, видели в нем чуть ли не сумасшедшего, в
лучшем случае полугениального чудака. Но что заметно по оценкам
современников, каждый из них в два счета раскрывает «тайну» его натуры, причем,
так ловко, что кажется дело это простое. Совсем мало добрых отзывов,
много критики, пренебрежения, злорадства над его слабостями, да и вообще
нескрываемое отношение к нему как новоявленному юродивому русской
литературы. Однако суд их оказался «слишком скорым» и неправым. Я
полагаю, напротив, открытость и «простота» Белого - часть его
«сумасшествия», часть его невероятно обостренной чувствительности ко всякому
мигу времени, - пульсирующая, «неверная», прямо-таки реактивная пси-
19
Литература как самосознание. Опыт Андрея Белого
хика. Обратная сторона такой гиперчувствительности - уязвимость,
страх пропитывающий собой иногда всю картину мира, в которой не
найти места для этого малого «я».
Принцип индивидуации, principii individuations
8. К концу жизни в большом биографическом объяснении: «Почему я
стал символистом и почему я не перестал им быть во всех фазах моего
идейного и художественного развития ?» Белый попытался обосновать свое право
на «непонятность» на основе разработанной им, причем, достаточно
детально, философии индивидуума. Он не скрывает влияния А. Шопенгауэра,
с его principii individuations; особенно заметно оно в последней большой его
незавершенной философско-исторической работе «История самосознающей
души». Для Шопенгауэра характерно рассмотрение принципа
индивидуации как формообразующего, представляющего действие воли во всевозможных
проявлениях, - а это было бы невозможно, если бы субъект не смог
индивидуализироваться, т.е. истолковать мир через свои потребности и желания.
Субъект формируется именно на основе принципа индивидуации16. Белый
видит в этом принципе иное, чем Шопенгауэр: не волю, застывшую в
самосозерцании. По его мнению, «мы оттого не понимаем друг друга, что глядим
друг на друга не из индивидуума "яп,аиз индивидуума, надевшего очки своей
личной вариации и поэтому вынужденной видеть в другом ия "лишь такую
вариацию»17. Личность - не синтез индивидуальных качеств, а символ,
т.е. некая кривая, что «схватывает» и приводит в единство разные точки,
не отменяя начальные диспозиции этих точек (их сингулярность, как
сказали бы сегодня). Более того, символ интерпретируется в качестве
сверхиндивидуума, объединяющего в себе множества неповторимых личностных
«я», но без всякого синтеза. Поэтому «"я"-не «форма форм, но творимая
действительность, которая всегда не данность, но
творчески-познавательный результат»1*. И в другом месте: «...инее отрезе себя, одной личности,
от градации их, данной в иЯп (элементарное представление о верности себе),
а в гармонизации течения "личностей п в круге; так проблема моральной
фантазии, как режиссура, а не изгнание "актеров п со сцены за исключением
одного... »*9. В этом есть какая-то заведомая хитрость Белого, когда
желание оправдать свою «инстинктивно» выработанную стратегию
самозащиты он смешивает с «высокой теорией». Индивидуум - сцена, на которой
дают представление множество сменяющих друг друга «я». А вот еще более
ясный вывод: «...индивидуальное "Я"-не иЯп личное. Потому что личных
"Я" в индивидууме не одно; в "индивидууме" - градация "Я"; из них каждое
"Яп - совершенно отдельная личность, сосуществующая с другими... »*°.
20
Введение. О страны eh и ε
ç. Позднее, и, не лучшие для выживания времена большевистской
диктатуры, принцип индивидуации выставляется им как основной аргумент
в оправдании «своего» нового коммунально-коллективистского сознания21.
Заметное тогда всем, и вполне им осознанное заигрование с большевистской
идеологией. Как отделить подражание себе, имитацию, в конце концов
просто игру в маску от навязчивых, преследующих маний и фобий, от «болезни
века»22, от социальной патологии среды? На самом деле остается только
одно: бежать от себя, и не считать (подобно Канту), что «я» есть некое
трансцендентальное единство. Если и доступно «единство», то оно
получает свою «форму» на основании скольжения, бега и бегства. Вот такое
состояние и дает постоянство индивидуально-мирового самосознания
личности (убегающей от самой себя)?*. Бегство как свободная форма
индивидуации для многих личностных «я».
«Воля к бегству», бег и лет
ю. В этой «воле к бегству» - миссия всякого мыслящего, его высшее
искусство быть свободным, освобождаться, чтобы бежать24. «Лишниелюди»
и «странники» русской классической литературы - великие бегуны. Но это
бегство не вообще, а-к концу времени, или, если так можно сказать, это
бегство не столько по свободной воле, сколь по Высшей, то, что С.Булгаков
называл метпаисторией25. Предчувствие Конца мира и всех времен и есть
та основа, на которой теперь строится поведенческая модель
интеллигенции революционной эпохи içoj-içiy. Теперь своим творчеством она
предвидит приближение конца, выступает, как ранее Ницше, в роли знатока
и единственно верного толкователя Апокалипсиса. Отсюда воспитание в
себе ветхозаветного чувства Конца времен. Мыслить и творить, жить
апокалиптически - вот необходимое условие понимание времени, в которое
вовлечен. Теория времени отражает новую религиозность в образах и
ритмах чистой апокалиптики. Время убыстряет бег, нам остается не судить
время или вставать над ним, а только свидетельствовать. Как мне
представляется, время у Достоевского, Влад. Соловьева и Белого, - это одно и
то же время, время апокалиптического ожидания. Само творчество
начинает развиваться в среде апокалиптических «вещей», указывающих на
себя как на «последних».
Белый рассматривает свою творческую жизнь в терминах «воления к
бегству». Бежать от себя (и от тех, кто «знает» тебя), претерпевать
изменения столь часто, насколько это возможно, чтобы не быть собой. «Всегда
себе Другой» - вот формула Белого (ей соответствует разработка им теории
индивида на основе лейбницианской монадологии, вероятно, не без влияния
21
Литература как самосознание. Опыт Андрея Белого
отца.). Поэтому он полон чувства изменения в прямом и переносном
смысле. Вот ответ на вопрос Белого: почему никто не понимает меня? Не
понимают именно потому у что ты не имеешь устойчивой формы «Я», у тебя
отсутствует та само-идентичность, что закреплена давно в группе и
среди близких друзей. Ты слишком непоследователен и алогичен, слишком
экстравагантен, чтобы можно было ожидать от тебя верности, требовать
отчета. И самое главное: разорвана связь с настоящим, ведь
апокалиптическое измерение времени - это переживание вне времени, вневременное. Это
будущая остановка времени, и чем ближе конец его, тем оно быстрее и
разрушительнее, за ним не поспеть. Белый поясняет: «Отсюда налет отъеди-
ненности, замкнутости в произведениях моих того времени; лирический
субъект «Пепла» - люмпен-пролетарий, солипсист, убегающий от людей
прятаться в кустах и оврагах, откуда он выволакиваем в тюрьму или в
сумасшедший дом; лирический субъект «Урны» - убегающий от кадетской
общественности («барин» из протеста), поселяется в старых, пустых
усадьбах и, глядя из окон, мрачно изливается в хмурую, деревенскую зимнюю синь;
герой романа «Серебряный голубь» силится преодолеть интеллигента в себе
в бегстве к народу; но народ для него - нечто среднее, недифференцированное,
и поэтому нарывается на темные элементы, выдавливающие из себя
мутный ужас эротической секты, которая губит его. Темой вырыва, бегства
из средней, мещанской пошлятины и тщетой этих вырывов окрашено мое
творчество на этом отрезке пути; материал к этой мрачности - моя
личная жизнь, спасающая себя в немоте и под конец даже носящая маску
(приличной общественности: из конспирации)»96. Можно продолжить
перечисление субъектов бегства и лета; их число не уменьшается и на поздних
этапах творчества Белого, начиная с «Петербурга» и далее к
автобиографическим материалам последних лет жизни.
Тема Verstiegenheit, экстравагантность
Я стою здесь, в горах: меня ждет - нисхождение;
путь нисхождения страшен...
А Белый
ю. Устремиться вверх, чтобы не упасть - таков девиз. Не случайно,
что везде, практически во всех описаниях современниками жизненного стиля
Белого доминирует танцора/клоуна/идиота/пересмешника:
«...порой Белый кажется великолепным клоуном. Но когда он рядом, - тревога и
томление, ощущение какого-то стихийного неблагополучия овладевает все-
22
Введение. Остраннение
ми. Ветер в комнате».V Но что это значит - быть ветром? Что значит
быть странным, причудливым, смешным и жалким, гордо-надменным,
вычурным и «нереальным», одним словом экстравагантным? Ответ
попытался найти известный психиатрЛ.Бинсвангер, последователь 3. Фрейда
и М. Хайдеггера. В небольшой работе он исследовал явление
экстравагантности (термин, принятый русскими словарями). В немецком варианте
этот термин известен как Verstiegenheit9. Семантическая и концептуальная
разработка его Бинсвангером выдержана в духе
экзистенциально-антропологической аналитики «вот-бытия», аналитики Dasein. Глагол versteigen19,
- заблудиться в горах, брать слишком высоко, с чем не справишься, - вот
этот ряд значений приложим к Белому как психологическому типу. Такие
термины, как странный, экстравагантный, эксцентричный,
экзальтированный, вычурный, гротескный, нелепый, претенциозный крайне
двусмысленны. Быть чрезмерным до гротеска - это не просто выделиться из толпы,
но и попытка закрепиться на той позиции, которая не столько
критикуется или не принимается другими, сколько кажется непонятной и чудной,
излишней, даже «безумной». Позиция, лишенная поддержки других, -
внезапный порыв чувств, переходящий в позу и не понятый жест. Шокирующие
моменты аутизма. Белый был склонен к эксцентричности; в этом было
что-то от вызова, хотя и не бунт, но невольное, может быть, совершенно
бессознательное отстаивание собственной позиции перед господством
Другого. Чрезмерность чувства чередуется с опустошенностью, замкнутостью и,
возможно, с той частью личности, которая возвращаясь домой, «не находит
себе места». Для Бинсвангера противоречие между качествами versteigen-
личности в диспропорции двух экзист-измерений, - глубины и широты.
Вот, что будет, если их рассмотреть в аналитике Dasein:
«Горизонт или поле видения "безгранично расширяется " но в то же время подъем
вверх остается исключительно uvol imaginäre", влекомостью на крыльях
желания и «фантазий». В результате невозможно ни общее видение, как
эмпирическая мудрость, ни проникновение в проблемную структуру конкретной
ситуации (подъем в своей основе, как altitude, по существу относится как к высоте, так
и глубине), ни, таким образом, какая бы то ни было решительная позиция. Эта
диспропорция высоты - широты уходит свои корнями в "чрезмерное"
расширение рамок маниакального мира, с его всепроникающей изменчивостью; чрезмер
ное именно в том, что сфера подлинного одновременно подвергается процессу
"уравнивания п. Под "подлинным "мы подразумеваем те высоты (или глубины),
которые могут быть достигнуты только если Dasein пройдет через
многотрудный процесс собственного выбора и созревания. С точки зрения аналитики
существования, о диспропорции, наблюдающейся в образе жизни человека,
страдающего манией, можно говорить как об "изменчивости ". Это означает невозмож-
23
Литература как самосознание. Опыт Андрея Белого
самых драматических и «глубинных» размышлений, тайным мотивом
творчества, провозглашенным в качестве спасения. По отзывам одних
современников Белый представлял собой знакомый на «святой Руси» тип юродивого
безумия. И это как будто близко к истине. По воспоминаниям других, более
наблюдательных, он не был безумцем в клиническом смысле. Если только в
общекультурном ? Свой личностный раздвои он не только хорошо осознавал,
но и пользовался им эффективно, как любой человек, если он чувствует, что
обладает преимуществом в силе или уме. Раздвои личности у него был не
патологичен, а проблематичен. Активное само-остраннение было позицией
весьма пластичной и подвижной: «Я стал вывернутым наизнанку, но
сохранил свои контуры; вот этого-то не замечают знающие меня люди. Если
всмотрятся в меня люди, не видящие Другого, они к ужасу заметили бы
черный контур, очерчивающий хаос - и ничего больше»35.
Сновидческиекошмары, перерастающие в «манию преследования» - любимая игра Белого, в
чем-то похожая, как это ни странно, на шахматы56. Для него «Я» крайне
нестойкий продукт и есть некое ритмическое целое, символ, не позиция или
синтез, а символ «Я» (или «Я» как символ); он допускает возможность
сосуществования в одном индивиде множества отдельных «личностей»57.
Танцующий фокстрот...
12. Явно похожим на психотерапию, на «самолечение» выглядит одно
из поздних пристрастий Белого, почти «безумное» увлечение ночными
танцами (фокстротом) в Берлине 1923 г.ъ% Белый танцующий, - а это и взби-
рание на горные кручи, удержание равновесия на карнизе балкона (великий
гимнаст), бег (на коньках, игры) и, конечно, танец-фокстрот. Вовлеченный
в движение, страстная, бесцельная моторика, когда движению отдаются
без остатка и без какой-то попытки сдержать его ритм. Итак: движение
как порыв, его нельзя отложить... Движение без препятствий, в нем
растворяется всякое телесное сопротивление, всякая душевная боль, всякий страх.
Ежевечернее пьянство в сочетании с невероятной тратой энергии. И что
удивительно, нельзя сказать, что это мешало его интенсивной творческой
работе. Это время разрыва с Асей Тургеневой, &ром Штейнером и всем
антропософским кругом. Равновесие психическое сохраняется Белым все
большей интенсивностью трат энергии, и чем больше страдание, тем больше
траты, а чем больше трат, тем выше уровень подобного жуткого
равновесия, которое может и убить...39
«иЭто Белый uebertanzt ничевоков... ". Ровная лужайка, утыканная желтыми
цветочками, стала ковриком под его ногами - и сквозь кружащегося, припод-
26
Введение. Остраннение
нимающегося, вспархивающего, припадающего, уклоняющегося, вот-вот
имеющего отделиться от земли...
То с перил, то с кафедры, то с зеленой ладони вместе с ним улетевшей лужайки,
всегда обступленный, всегда свободный, расступаться не нужно ich ueberflieg
euch в вечном сопроводительном танце сюртучных фалд (пиджачных! все
равно - сюртучных!), старинный, изящный, изысканный, птичий - смесь магистра
с фокусником, в двойном, тройном, четвертном танце: смыслов, слов,
сюртучных фалд, ног -о, не ног! всего тела, всей второй души, еще - души своего тела,
с отдельной жизнью своей дирижерской спины, за которой - в два крыла, в две
восходящих лестницы оркестр бесплотных духов...
- о, таким тебя видели все, от швейцарского тайновидца до цоссенской хозяйки,
о, таким ты останешься, пребудешь, легкий дух, одинокий друг.
Прелесть - вот тебе слово: прельститель, и, как все говорят, впрочем, с
нежнейшей улыбкой - предатель! О, в высоком смысле, как всё - здесь, заведет тебя в
дебри, занесет за облака и там, одного, внезапно уклонившись, нырнув в
соседнюю смежную родную бездну - бросит: задумается, воззрится, забудет тебя,
которого только что, с мольбой и надеждой ( "Мы никогда не расстанемся ? Мы
никогда не расстанемся!**) звал своим лучшим другом»*0.
«И странности Белого были особые. Вот он говорит, развивает блестящую
мысль и вдруг замирает надолго: на губах застывает улыбка, глаза смотрят
вдаль, брови сдвигаются, лоб напрягается мыслью, руки раскинуты вправо и
влево, плечи приподняты - боится спугнуть дветри одновременно вспыхнувшие
мысли. Вихрь в сознании требует неподвижности в теле. Вихрь утихает, и
первоначальную мысль он излагает так же стройно, картинно и ясно. Но
теперь он, напротив, "танцует " - жесты круглятся, льются, гранят, завершают,
вводят вас в новую мысль. Но вот он поднялся на цыпочки, и через мгновение
так же внезапно он стоит на коленях или, глядя снизу на вас, пружинит на
корточках. Если вы собеседник неопытный, вы на время его потеряете, а
найдя, вы не будете знать: не встать ли и вам на колени. Но Белый уже на диване,
засел в уголке, подобрав под себя одну ногу. Но ненадолго. Он уже бегает, ловко
лавируя между столами и стульями»*1.
«А дальше уже начинается - танцующий Белый, каким я его не видела ни разу
и, наверное, не увидела бы, - миф танцующего Белого (...) Фокстрот Белого -
чистейшее хлыстовство: даже не свистопляска, а (мое слово) - христопляска,
то есть опять-таки "Серебряный голубь п, до которого он, к сорока годам,
физически дотанцевался»**.
«За Андреем Белым, провозгласившим культ фокстрота и джимми, бродила по
дансингам толпа друзей. "Всё танцует V- "Танцует! И как Г- Рассказывались
27
Литература как самосознание. Опыт Андрея Белого
анекдоты, высказывали предположения, что "Борис Николаевич окончательно
рехнулся" (...) Но в любом падении Белый был выше рядовых людей (...) он не
просто танцевал -он и в недостойном кошмаре продолжал искать религию»4*.
«С осени он переехал в город - и весь русский Берлин стал любопытным и злым
свидетелем его истерики. Ее видели, ей радовались, над ней насмехались слишком
многие. Скажу о ней покороче. Выражалась она главным образом в пьяных
танцах, которым он предавался в разных берлинских Dielen. Не в том дело, что
танцевал он плохо, а в том, что он танцевал страшно. В однообразную толчею
фокстротов вносил он свои "вариации п - искаженный отсвет неизменного
своеобразия, которое он проявлял во всем, за что ни брался. Танец в его исполнении
превращался в чудовищную мимодраму, порой даже непристойную. Он
приглашал незнакомых дам. Те, которые были посмелее, шли, чтобы позабавиться и
позабавить своих спутников. Другие отказывались - в Берлине это почти
оскорбление. Третьим запрещали мужья, отцы. То был не просто танец пьяного
человека: то было, конечно, символическое попрание лучшего в самом себе,
кощунство над собой, дьявольская гримаса себе самому... »**
»Эти пляски Белого, свидетелем которых я неоднократно бывал, уже много раз
описывались его друзьями (и некоторыми его недоброжелателями!), и трудно
что-либо добавить к этим описаниям. Разве что - не помню, говорилось ли уже
об этом - сказать о том, что чувство какой-то неловкости и даже тревоги за
него овладевало каждым, кто сопровождал его в этих эскападах. Оно усиливалось
еще сознанием беспомощности, так как остановить его в эти минуты ни у кого
не было никаких сил. Он проявлял атам " железную волю. А ведь никогда не было
известно, чем все это может кончиться, не вспыхнет ли какой-нибудь
пренеприятный скандальчик и не упадет ли Белый в глубоком обмороке на то куцее
танцевальное пространство, на котором все "действо** и происходило.
Восстанавливая теперь в памяти все эти "безумства **, диву даешься, почему такие
скандалы как будто никогда не вспыхивали. Ведь Белый приглашал молоденьких девиц,
пожилых матрон - собственно, ему было вполне безразлично, кто с ним пляшет,
кто его партнерша,- и так как было тогда не принято от приглашения
отказываться, он обрекал на некий "танцевальный эксгибиционизм**кого попало. А ведь
его танец неизменно принимал какой-то демонический, без малого ритуальный
(но отнюдь не эротический) характер, доводивший нередко его партнерш до слез
и настолько публику озадачивающий, что его танцы часто превращались в
сольные выступления. Остальные пары покорно отходили в сторону, чтобы
поглазеть на невиданное зрелище. Но все же "выкрутасы ** русского "профессора ** (так он
титуловался во всех этих злачных местах) были таковы, что в большинстве
случаев все эти берлинские мещане среднего достатка чувствовали, что перед ними
человек какого-то особенного склада, к которому их мерки неприложимы»45.
28
Введение. Остраннение
«Про человека, который играет в мяч, пляшет "фокстрот " и "джимми " и
ежедневно ходит в $ часов на "Tanztee", - что можно сказать! Пустой весельчак,
не более; между тем: в современной Германии такой образ жизни в 1922 году
вели все - вплоть до профессоров и писателей: в 8 часов запираются двери домов;
в пансионах и в комнатах по вечерам нестерпимо: все разговоры и встречи
происходят в кафе: идешь в кафе, где скрипки просверливают уши и где ритмы
подбрасывают в ритмическое хождение, каковым является фокстрот; верители:
с июля до ноября я проплясал все вечера: утрами писал "Воспоминания о Блоке "
или перерабатовал эти воспоминания в "Начало века п,ас ι о-ти до часу
регулярно плясал в кафе Victoria-Luise, иногда с венгерской писательницей,
проживающей в нашем пансионе, иногда с В. О. Лурье (таковая есть поэтесса, из
Петербурга); одно время плясал (и ах как хорошо она пляшет!) с почтеннейшей
меньшевичкой, находящейся в близких отношениях с Каутским; оная меньшевичка
приходила в кафе с египетским словарем под мышкой (она - хорошая египто-
логичка); и тем не менее: как она плясала фокстрот!! Под новый год в Präger-
Diele (такое кафе есть) русские плясали всю ночь напролет; среди них плясал
даже (неумел плясать) наш общий знакомый, Сергей Порфирьевич... Думаю
пустился бы в пляс и его патрон, если б оный был; на одном русском балу
спрашиваю знакомую даму из Парижа: "Чем занимается З.Н. Гиппиус ? " Ответ:
"Пляшет фокстрот "... Пишу так подробно о танцах, потому что в России, я знаю,
с удивлением и неодобрением говорили: "Ужас что - Белый пляшет фокстрот ".
И действительно: в России это непонятно; в Берлине же без танцев долго не
проживешь; это - естественная привычка, подобная курению папирос:
плясали старики, старухи, люди средних лет, молодежь, подростки, дети,
профессора и снобы, рабочие и аристократы, проститутки, дамы общества, горничные;
и русские, пожившие несколько месяцев в Берлине, кончали - танцами»46.
«Все - ясно. Да еще можно назвать этот грустный путь: от "эвритмии " к
"глоссолалии "; от "глоссолалии " к лекционной "пляске слов п и от нее к...
"фокстроту"»47.
29
I
Взрыв
Набросок поэтической космологии
Аналогии опыта
Начало всех начал - ВЗРЫВ. Рождение вселенной, в том числе
и поэтической (литературной), сопровождается взрывом. Всякий
взрыв - великое благо: что не взрывается, то лишено жизненной
силы, даже самого права быть. Литературная вселенная Белого -
расширяющаяся; и расширяется она толчками, взрывами, бросками,
она пульсирует. Допускается введение некой упорядоченности в
первичный хаос с помощью языка (ритмические фигуры), «наивной»
геометрии (например, спиралей), игры чисел (математические формулы),
рисунков и графиков. Достаточно обратиться к романам Белого
зрелой поры, там мы словно попадаем в атмосферу скоро ожидаемого
взрыва, а может быть, уже состоявшегося: нас что-то несет, хватает,
тащит, все происходит настолько быстро, что мы ничего не
успеваем понять. Почему избран именно такой сверхбыстрый способ
подачи материала переживаний? Почему в письме и основных образах
повсюду доминирует взрыв, - и все взрывное? И даже тогда, когда
не наблюдается непосредственное представление взрывного, мы
находим много свидетельств подобного разрушительного динамизма.
Нас, читателей, продолжает нести, не за что уцепиться, мы
приговорены к этой неустойчивости и смятению, нет больше
привилегированной позиции, благодаря которой можно было следить за
событиями со стороны, безучастно.
Появление тематики взрыва в литературе Белого было
обусловлено факторами разной природы, и прежде всего человеческими
реакциями на внешние события. Среди них я бы выделил следующие:
30
террористическая активность народовольцев в России в конце и
начале века: покушения на царя и высших сановников империи. Среди
них наиболее варварские и тяжкие по последствиям: взрыв в
караульном помещении Зимнего дворца (1880), убийство Александра II
(1881). Далее: Первая мировая война с ее не менее шокирующими
свидетельствами взрывной мощи, бесчисленными жертвами,
уничтожением всего живого: «...война началась после взрыва во мне.//
Катастрофа Европы и взрыв моей личности - то же событие; можно
сказать: «Я» - война и обратно: меня породила война»48. Далее:
Революция (1905-1917), понимаемая в целом как взрыв.
Да и все учение Маркса сводилось Белым к учению о Взрыве.
Такова революционная идея, взрывающая все вокруг (собственно,
Революция и есть взрыв, один только взрыв). Вот еще примеры: «...
эта опасность угрожает не извне, но таится внутри жизни самой
Европы: она есть опасность взрыва неких подземных котлов,
обуславливающих движение самой буржуазной жизни Европы; «взрыв будет» -
гласит Маркс; «он - приближается уже» - гласят его последователи;
и - стало быть: для представителей всех трех сословий это значит:
их гибель»49. В статье «Революция и культура» Белый пытается
выработать отношение к революции 1917 года с метафизических
позиций: «В материальной недвижимости форм не находит исхода себе
огневая динамика импульса; она утекает из формы... в
под-форменный хаос; и безглагольной романтикой, внутренне революционно-
духовным порывом она рвет эти формы; техника
революционизирует скрытую энергию творчеств вовсе не тем, что она изменяет вид
творчеств, а тем, что она подавляет своею броней выявление его
скрытого духа; технизация формы естественно превращает ее в
оболочку от бомбы, а свободно летающий творческий воздух сжимает
она до его косной твердости; так становится он динамитом,
взрывающим форму, но осколки разбившейся формы впоследствии
становятся бомбами-, и они разрываются; роковой круг распада растет...»50.
Интересные наблюдения были сделаны Н. Валентиновым. Вот
что он вспоминает:
«Открыв дверь в одну из них в новом здании университета, я увидел
человек пятьдесят, большей частью студентов, с явным любопытством (именно
с любопытством!) слушающих кого-то "с дергами рук, ног и шеи", то
притоптывающего, то подымающего руки, точно подтягиваясь на трапеции,
то выбрасывающего их, словно от чегскго отшатываясь. Подойдя ближе,
я узнал адекадента*\ Ни по форме, ни по содержанию его речь не
походила на те, что все в то время говорили. Странно звучащее слово "волить"
31
I
Взрыв
Набросок поэтической космологии
Аналогии опыта
Начало всех начал - ВЗРЫВ. Рождение вселенной, в том числе
и поэтической (литературной), сопровождается взрывом. Всякий
взрыв - великое благо: что не взрывается, то лишено жизненной
силы, даже самого права быть. Литературная вселенная Белого -
расширяющаяся; и расширяется она толчками, взрывами, бросками,
она пульсирует. Допускается введение некой упорядоченности в
первичный хаос с помощью языка (ритмические фигуры), «наивной»
геометрии (например, спиралей), игры чисел (математическиеформулы),
рисунков и графиков. Достаточно обратиться к романам Белого
зрелой поры, там мы словно попадаем в атмосферу скоро ожидаемого
взрыва, а может быть, уже состоявшегося: нас что-то несет, хватает,
тащит, все происходит настолько быстро, что мы ничего не
успеваем понять. Почему избран именно такой сверхбыстрый способ
подачи материала переживаний? Почему в письме и основных образах
повсюду доминирует взрыв, - и все взрывное? И даже тогда, когда
не наблюдается непосредственное представление взрывного, мы
находим много свидетельств подобного разрушительного динамизма.
Нас, читателей, продолжает нести, не за что уцепиться, мы
приговорены к этой неустойчивости и смятению, нет больше
привилегированной позиции, благодаря которой можно было следить за
событиями со стороны, безучастно.
Появление тематики взрыва в литературе Белого было
обусловлено факторами разной природы, и прежде всего человеческими
реакциями на внешние события. Среди них я бы выделил следующие:
30
террористическая активность народовольцев в России в конце и
начале века: покушения на царя и высших сановников империи. Среди
них наиболее варварские и тяжкие по последствиям: взрыв в
караульном помещении Зимнего дворца (1880), убийство Александра II
(1881). Далее: Первая мировая война с ее не менее шокирующими
свидетельствами взрывной мощи, бесчисленными жертвами,
уничтожением всего живого: «...война началась после взрыва во мне.//
Катастрофа Европы и взрыв моей личности - то же событие; можно
сказать: «Я» - война и обратно: меня породила война»48. Далее:
Революция (1905-1917), понимаемая в целом как взрыв.
Да и все учение Маркса сводилось Белым к учению о Взрыве.
Такова революционная идея, взрывающая все вокруг (собственно,
Революция и есть взрыв, один только взрыв). Вот еще примеры: «...
эта опасность угрожает не извне, но таится внутри жизни самой
Европы: она есть опасность взрыва неких подземных котлов,
обуславливающих движение самой буржуазной жизни Европы; «взрыв будет» -
гласит Маркс; «он - приближается уже» - гласят его последователи;
и - стало быть: для представителей всех трех сословий это значит:
их гибель»49. В статье «Революция и культура» Белый пытается
выработать отношение к революции 1917 года с метафизических
позиций: «В материальной недвижимости форм не находит исхода себе
огневая динамика импульса; она утекает из формы... в
под-форменный хаос; и безглагольной романтикой, внутренне революционно-
духовным порывом она рвет эти формы; техника
революционизирует скрытую энергию творчеств вовсе не тем, что она изменяет вид
творчеств, а тем, что она подавляет своею броней выявление его
скрытого духа; технизация формы естественно превращает ее в
оболочку от бомбы, а свободно летающий творческий воздух сжимает
она до его косной твердости; так становится он динамитом,
взрывающим форму, но осколки разбившейся формы впоследствии
становятся бомбами; и они разрываются; роковой круг распада растет...»50.
Интересные наблюдения были сделаны Н. Валентиновым. Вот
что он вспоминает:
«Открыв дверь в одну из них в новом здании университета, я увидел
человек пятьдесят, большей частью студентов, с явным любопытством (именно
с любопытством!) слушающих кого-то "с дергами рук, ног и шеи", то
притоптывающего, то подымающего руки, точно подтягиваясь на трапеции,
то выбрасывающего их, словно от чего-то отшатываясь. Подойдя ближе,
я узнал "декадента". Ни по форме, ни по содержанию его речь не
походила на те, что все в то время говорили. Странно звучащее слово "волить"
31
Литература как самосознание. Опыт Андрея Белого
у него постоянно сочеталось со словом "взрыв", произносившимся с
особым ударением на букву "ьГ. Он поучал аудиторию, что нужно теперь "во-
лить взрыва", и "взрыва" такой силы, который должен ничего не оставить
не только от самодержавной государственности, но от государства вообще».
И далее:
«В чем суть революционного взрыва, этой ссылки Маркса на
лопающуюся оболочку общества, после чего происходит экспроприация
экспроприаторов? Взрыв есть акт духовный»51.
Апокалиптика Белого, его стремление («воление») все
представлять в терминах взрыва имеет еще одно объяснение: «детская
травма», - то, что в своих поздних воспоминаниях он назовет правилом
«ножниц»52. Сложные отношения между родителями часто
разрешались «отвратительными сценами» прямо на глазах маленького
мальчика, и сам он оказывался невольной причиной скандалов и долгих
обид. Родители приучили выстраивать его собственное время вне
семейного «скандала-взрыва», не в томительном, пугающем
ожидании его «начала», как бывало прежде, а в бегстве, ускользании,
полной отстраненности и в «идиотизме». Время, ему принадлежащее,
оказалось размещенным на малом отрезке до-и-после-скандала
(«взрыва»). В дальнейшем подобное чувство времени нашло выражение в
метафизике Белого, - теории «последнего мига»53.
Нужно отделить поздние переживания Белым Конца времени,
выраженные аналогиями взрыва исторического времени, от ранних,
определявшихся скорее в терминах «мягкого» апокалиптического
настроения, без враждебности и чувства мести (скорее, как упование
и надежда)54. Никакого апокалиптического безумия и бреда. Вот,
например, о чем тогда размышлял Белый-апокалиптик:
«Мир как стекло // ...стало быть, стекло, бывшее прежде не дочиста
протертым, не разбивается, а протирается. Стало быть, "мир сей "проходит
в смысле того, что *мир сей п- (минус) пыль Мир Божий. Отсюда: как бы
отстает один верхний покров и снимается с Тайны. Конец мира
исторический более всего резок для более других опыленных. Мое яя " - есть
стекло ± пыль. Если пыли больше в "Я ", чем стекла, то устранение этой
пыли повлечет за собою быструю и резкую погибель, смерть и осуждение.
Наоборот, очищение всегда постепенно, и в этом смысле конец для
очищающихся есть все растущая сладость чувства безвременности и Христова
Приближения (по крайне мере таково первое веяние конца). Чистые как
32
I. Взрыв
бы не увидят Антихриста, исторически воплотившегося, хотя он и будет
их мучить на историческом плане...»55.
Тут все ясно: Конец времен- это движение, приходящее к
человеческому участию, его ожидают как высшее свидетельство, ему нужно
лишь соответствовать. Особая религиозность Белого и литераторов
его круга, ни с чем себя не связывающая, «свободная» в чувстве,
имела мало общего с верой отцов, тем более с каноническим
православием. И все обстоит иначе, как только мы возвращаемся к зрелому
Белому, потерявшему слух к христиански-тонированной апокалип-
тике56. Открывается тема Большого взрыва, заменяющая собой
медленное просветление, «очистку от пыли Я-видящим стекла Конца
времен». Это тема другой длительности, где внезапное разрушение
не приходит извне, не ожидается, оно - повсюду: в вещах, событиях,
во всех звуках речи и письме, оно стало сознанием, которое
взрывным образом отражает мир. Длительность длится столько, сколько
длится взрыв; отсюда образ скачущего, пульсирующего, разрывного
времени. Искривление и стягивание основных линий
исторического времени к месту будущего взрыва. Взрыв высвобождает силы, чья
энергия столь велика, что получает соответствующий масштаб дле-
ния. Раз нечто длится, то значит имеет особую временность, не
совпадающую с объективными характеристиками времени
(физического). Взрыв длится, он - не то, что было, и не то, что будет, а то,
что сейчас-и-здесь, - что происходит в данный момент, и кроме как в
этом промежутке для времени места нет. Если какие-то «локусы» и
«заземления» появляются, то оказываются скорее ловушками,
мнимыми местами, - non-places, не-местами. Это сейчас-и-здесь захвачено
взрывной волной, выброшено из большого времени, опустошено.
Взрыв - это единственное доступное настоящее, время
переживаемое, противостоящее всем другим временам. Вот здесь и начинает
движение поперечная кривая, схватывающая другие временные
измерения, по отношению к которым она так и останется внешней,
это кривая взрыва. Ведь одномоментное соединение продольных
линий исторического опыта в одном-единственном событии,
которое и будет Взрывом, остановкой всех времен57. В таком случае наша
задача - установить параметры воздействия взрывного мотива на
весь комплекс идей, образов, положений, разработанных Белым для
Произведения. Взрывающаяся поэтическая вселенная слишком
быстро проскакивает границу равновесия (гармонического числа).
Поэтому состояние перехода-прыжка оказывается наиболее
устойчивым из всех моментов, составляющих общее взрывное движение.
33
Литература как самосознание. Опыт Андрея Белого
Итак, в качестве пробного вывода: все скорости в поэтической
вселенной Белого рождены общим взрывным действием: переходом-
импульсом от первоначального состояния неравновесия к
последующему, столь же неравновесному. Но сам он, как экстатик и мистик,
- всегда «между»... переходит, балансирует, но не падает.
* * *
И строгой физикой мой ум
Переполнял: профессор Умов
Над мглой космической он пел,
Развив власы и выгнув выю,
Что парадоксами Максвелл
Уничтожает энтропию,
Таят томсоновые вихри
И что огромные миры
В атомных силах не утихли,
Что мысль, как динамит, лети
Смелей, прикидчивей и прытче,
Что опыт - новый ...
- «Мир - взлетит!» -
Сказал, взрываясь, Фридрих Нитче...
Л.Белый. Первое свидание (1923)
Белый мыслит как космист, у него можно найти много замечаний
и формулировок относительно проблемы «начала начал» Вселенной.
Было бы неправильно вступать с ним в полемику, доказывая
устарелость, тем более «ошибочность» его выводов (гипотез, теорий,
сочиненных «на ходу»). Как правило, в антропософской доктрине язык
мистико-христианской традиции часто переплетается с
квазинаучными измышлениями. Вот как толкуется Белым «космистская»
установка: Начало всего (Мира) должно быть чем-то вроде гетевского
«прототипа», быть «типом всех типов»; должен быть первосвет, «свет света»,
или, как говорит Белый, приближаясь к представлениям современной
ему субатомной физики, - «перво-атом», т.е. «атом атомов». После
грехопадения мы оказались вывернутыми наизнанку: «Мы же еще не
в себе, а - вне себя; мы живем в экстра-атомности, в выкинутости из
сферы атома, в изгнанности из рая, из царства Духовного, Отче-сынов-
34
I. Взрыв
ного», надо «ввернуться: раскрыть дверь атома: правильно
воплотиться в материю (мы же неправильно воплощены)»58. Там, где сила
явленности света всеобъемлюща, там тьма отступает. Современное
состояние хаоса переводимо в порядок только с помощью взрыва.
В русской литературе конца века мы имеем дело в основном с
апокалиптическим сознанием времени: история, «знающая
собственное начало», есть история завершенного времени. По началу
судят о конце. Когда Белый начинает обсуждать начало, то ничего не
зная о нем, как о начале, видит в нем образец, если угодно, идеальную
форму мимесиса, - начало конца/конец начала. Возвращение к
Началу начал и будет возвращением к себе: таков мимесис истории.
Удачно выстроенные гипотезы (как, впрочем, и неудачные)
постоянно изменяют направление и время мировых линий силы. История
уточняется, и поскольку ученое знание стремится к объяснению
будущего, то задача всегда одна - рассказать о начале, - о том, как все было
на самом деле (или как могло быть). Открыть смысл текущего мгновения
в его отношении к ближайшему будущему осмыслением Начала начал.
Каждая новая теория возникновения Вселенной - это попытка выйти
из всякого времени (даже времени мысли). Апокалиптическая умо-
слаженность А. Белого, П. Флоренского, В.Розанова, С. Булгакова,
Н. Бердяева, Г. Флоровского и других русских философов
заключалась в осмыслении Конца как Начала. Все обращено не к прошлому,
которое меняется и умирает, а к тому, что было и будет всегда,
останется Концом времен, которое ожидают как Начало. Другими словами,
в апокалиптическом толковании времени прошлое становится
будущим, и отношение к нему переходит в разряд вспоминательной
практики. Отсюда драматизация опыта «Начала начал». Белый не ученый,
скорее тонко чувствующий стихию «начал» психомиметик-апокалип-
тик: он подражает речи-истории Р. Штейнера («Пятое Евангелие»,
например), сам вовлекается в новый для себя религиозный опыт:
разработка темы «Евангелия как драмы». Я уже не говорю о
замечательном тексте «Глоссолалия», где начальные движения мира
рождаются из нерасчлененного потока звуков. Косноязычным
бормотанием передается весть о рождении нового мира. Само же
косноязычие и есть неартикулированная и случайная речь Начала, никому не
понятная, - а разве не таким должно быть истинное Начало?
Послушаем пару историй о начале Мира:
«И - не было: ни начал, ни архангелов, ангелов; не было человека,
животных, трав, суши; само Божество не склонялось еще к месту мира: оно
еще отлагалось обвалом: образовало дыру в самосоздании духовных су-
35
Литература как самосознание. Опыт Андрея Белого
ществ: но обвалы духовного мира - дары; их повергли в ничто, как жар
жизни, - Престолы; а Элогимы плотнили жару: образовалось сознание
жара и шара внутри Элогимов; самосознание Элогимов теперь
проницало себя; и - ощутило свое бытие (план физической жизни), как пыша-
щий шар; и очами смотрело в себя: очи шара - случения элогимовских
мыслей - себя ощутили, как самостность тела: то было началом Начал;
воплощались они. И работы - скульптурные слепки: тепло (иль зачатки
физических органов); мы - сознание органов - были вне органов
мыслями мыслей Начал. Действо жизни Начал, теплота, была суммой
термических колебаний во времени: времена истекли из Начал.
Протекал первый день: назывался Сатурном»59.
«Начался день второй. Элогимы воззвали к сознанию; вызвали:
воспоминание своих (так мы: пробуждаясь, мы помним работу вчерашнего дня).
Встал Сатурн: "воспоминание было в Начале". Возникли начала. И -
Новое совершилось: - в жар жизни Престолов повергли дары Херувимы;
и новые мысли, влагаясь в тепло, уплотняя его и тонча; были вытканы
Элогимам две ткани: ткань света и ткань огневая; как дым закрывала она
чистый свет; так возник "Свето-огонь". День второй, светоогненный -
Солнце - блистал; /.../ утончаясь, как Свет, и плотняясь в огневоздухе»60.
«Раз допустим за атомами первоатом, то научно и допустимо
представление о неданном нам состоянии атома, как сферы тепловой, в центре
которого стяжение сил образует космический крест с центром действий
пересечения; до этого центра пересечения сил в первоатоме -
вселенной имеем всевозможные колебания, хаос колебаний, вернее
незамкнутое многообразие; такие колебания в физике назывались тепловыми.
Световое колебание - отбор в единство колебаний колеблющегося
целого; рождение единства внутри сферы целого, света внутри сферы тепла,
есть извечное рождение Сына («рожденна, не сотворенна»), или -
солнечного центра для всех рангов вселенных (как «макро», так и «микро»)»61.
«...сам же атом - невероятно расширился до сферы уж, конечно,
нематериальной вселенной; от вчерашнего атома осталась одна аура,
ширящаяся от открывшегося в его центре, сошедшего в его центр солнца
- невероятно; в этом-то факте и выявился результат начала воскресения
тел в Дух: восстание силы света в атоме; "гром восторга серафимов...*»6а.
«Как бы ни обстояло в действительности дело с этими фундаментальными
проблемами, Вселенная должна тем или иным образом возникнуть, и
квантовая физика представляет собой единственную область науки, в ко-
36
I. Взрыв
торой имеет смысл говорить о событии, происходящим без видимой
причины. Если речь идет о пространстве-времени, то в любом случае
бессмысленно говорить о причинности в обычном понимании. Обычно понятие
причинности тесно связано с понятием времени, и потому любые
соображения о процессах возникновения времени или его "выхода из небытия"
должны опираться на более широкое представление о причинности.
Если пространство действительно десятимерно, то теория считает все
десять измерений вполне равноправными на самых ранних стадиях.
Привлекает возможность связать явление инфляции со спонтанной ком-
пактификацией (сворачиванием) семи из десяти измерений. Согласно
такому сценарию, "движущая сила** инфляции представляет собой
побочный продукт взаимодействий, проявляющихся через
дополнительные измерения пространства. Далее десятимерное пространство могло
бы естественно эволюционизировать таким образом, что при инфляции
три пространственных измерения сильно разрастаются за счет семи
остальных, которые, напротив, сжимаются, становясь невидимыми?
Таким образом, квантовый микропузырь десятимерного пространства
сжимается, а три измерения благодаря этому раздуваются, образуя
Вселенную: остальные семь измерений остаются в плену микрокосмоса,
откуда проявляются лишь косвенно - в форме взаимодействий. Эта
теория кажется очень привлекательной.
В самом начале Вселенная спонтанно возникла "из ничего". Благодаря
способности квантовой энергии служить своего рода ферментом,
пузыри пустого пространства могли раздуваться с все возрастающей
скоростью, создавая благодаря бутстрэпу63 колоссальные запасы энергии.
Это ложный вакуум, наполненный саморожденной энергией, оказался
неустойчивым и стал распадаться, выделяя энергию в виде теплоты,
так что каждый пузырек заполнился огнедышащей материей (файер-
болом). Раздувание (инфляция) пузырей прекратилась, но начался
Большой взрыв. На "часах" Вселенной в этот момент было 10 32 секунды.
Из такого файербола и возникла вся материя и все физические объекты.
По мере остывания космический материал испытывал
последовательные фазовые переходы. При каждом из переходов из первичного
бесформенного материала «вымораживалось» все больше различных
структур. Одно за другим отделялись друг от друга взаимодействия. Шаг за
шагом объекты, которые мы называем теперь субатомными частицами,
приобретали присущие им ныне черты. По мере того как состав
"космического супа" все более усложнялся, оставшиеся со времен инфляции
крупномасштабные нерегулярности разрастались в галактики. В
процессе дальнейшего образования структур и обособления различных видов
вещества Вселенная все больше приобретала знакомые формы; горячая
37
Литература как самосознание. Опыт Андрея Белого
плазма конденсировалась в атомы, формируя звезды, планеты и, в
конечном счете, - жизнь. Так Вселенная "осознала" самое себя»64.
Итак, две истории, они по-разному организованы, их статус в
познании мира разнится. Первая история, снова и снова
повторяемая, рассматривает данные науки - «неопровержимые факты» - как
вспомогательный элемент мистико-христианской истории о
«Начале начал». Вторая история - гипотетическая картина нового
понимания рождения Вселенной, созданная несомненно на основе научных
фактов и свидетельств. Здесь уместны размышления Ж.-Ф. Лиотара.
Вот его формулировка проблемы: «Научное знание не может узнать
и продемонстрировать свою истинность, если не будет прибегать к
другому знанию - рассказу, являющемуся для него незнанием: за
отсутствием оного, оно обязано искать основания в самом себе и
скатываться, таким образом, к тому, что осуждает: предвосхищению
основания, предрассудку. Но не скатывается ли оно точно так же,
позволяя себе рассказ?»65. Современный опыт знания, который,
казалось, должен был покончить с нарративной легитимацией, тем не
менее, ее возрождает. Разве затраты на строительство крупнейшего
в мире коллайдера не говорят о том, что запрос на историю о Начале
всего не только сохраняется, но и активно стимулирует разные типы
легитимации чисто научного характера. Как, вы не хотите знать,
что произошло в первые мгновения рождения Вселенной, как, вы
не хотите знать о том, что за божественная сила смогла «правильно»
взорвать материю, чтобы, в конце концов, сотворить жизнь?
Начиная с Нового времени, роль рассказа о том, почему такое-то
знание стало необходимым, повышается, что лишний раз указывает
на волю человечества к тому, чтобы понимать знание, которое им
производится. А более удобной формы, чем «истории о Начале»,
оно не знает. Нет ничего парадоксального в том, что знание
получает легитимацию в рассказываемой истории; таково базисное условие
существования современного знания: оно должно не только
производиться, но и рассказываться. Фактически, отвечать на вопросы: а
зачем, кому это нужно, а что это даст? Возможны ли иные формы
легитимации знания, например, «через само знание», благодаря вере в
«беспредпосылочность» и «истину»? Да, мы обладатели знания, но
не в силах объяснить себе, зачем нужно именно это, а не другое
знание, там же, где мы способны это сделать, там знания уже нет, а есть
лишь его технические модификации и социальные приложения.
Мыслить «Начало» - значит запускать коллайдер, т.е. открывать доступ
к сверхчеловеческому опыту, с надеждой придать ему нарративную
38
I. Взрыв
(читай, - человеческую) легитимацию. Кажется, что критерием начала
истории о возникновении Вселенной должно быть исключение
«внешнего вмешательства» (т.е. Бога). Или: мышление о Начале (Событии)
негласно вводит некую Высшую силу, несущую ответственность за
его свершение. Поэтому так часто следуют оговорки подобные этой:
«...пространство-время не имеет границы, и поэтому нет
необходимости определять поведение на границе. Тогда нет и сингулярно-
стей, в которых нарушались бы законы науки, а пространство-время
не имеет края, на котором пришлось бы прибегать к помощи Бога
или какого-нибудь нового закона, чтобы наложить на пространство-
время граничные условия. Можно было бы сказать, что граничное
условие для Вселенной - отсутствие границ. Тогда вселенная была
бы совершенно самостоятельна и никак не зависела бы от того, что
происходит снаружи. Она не была бы сотворена, ее нельзя было бы
уничтожить. Она просто существовала бы»66. Предложенный здесь
выход кажется весьма симптоматичным. Рассказываем историю о
Начале (возникновении Вселенной), чтобы, в конце концов,
отказаться от «Начала начал» в пользу безначальности всех начал.
Собственно, нужно отказаться от так называемого аптропного принципа,
что позволит избежать допущения о существовании
первоначального Творца? Другой вопрос: возможно ли это и нужно ли? И вот
следующий шаг, в общем-то, законный: «Пока мы считаем, что у Вселенной
было начало, мы можем думать, что у нее был Создатель. Если же
Вселенная действительно полностью замкнута и не имеет границ,
ни краев, то тогда у нее не должно быть ни начала, ни конца: она
просто есть, и все! Остается ли тогда место для создателя?»67. В
истории, которая рассказывается тем же Хокингом, сама история
ставится под сомнение. Одна единственная история невозможна, следует
допустить их неограниченное число, тем самым устранить всякое
«Начало начал». И поскольку нельзя начать ни одну из «историй»,
чтобы тут же не началась или не закончилась другая, то
рассказывание становится свободной практикой легитимации, лишенной
всякого догматического и финального характера. Казалось, мы
сравниваем несравнимое, между тем сравнение оказывается весьма
продуктивным. Эти два рассказа располагаются в идеальной симметрии
противоположных мотивов: если одна «праистория» пытается ввести
в современные достижения физической науки (М. Кюри, Дж. Резер-
форд, Н. Бор и др.) инстанцию высшего существа, - Бога, то Хокинг,
напротив, обосновывает научную «ценность» предложенной теории
(«инфляции») тем, что она не нуждается в высшей инстанции,
следовательно, нет ни начала, ни конца, следовательно, нет никакой
39
Литература как самосознание. Опыт Андрея Белого
Истории. Так снимается вопрос о Событии; нужда в драматизации
исторического опыта познания («Начала начал») отпадает68.
Рои и дыры. Основной контрапункт
В автобиографических изысканиях (прежде всего, в таких
романах, как «Котик Летаев», «Крещеный китаец», «Московский
чудак», добавим сюда «Петербург»), Белый пытается выстроить
собственный мир детских воспоминаний с помощью двух активно
взаимодействующих образов: роев и дыр.
«Первые мои миги - рои; и "рой, рой, - все роится" - первая моя
философия; в роях я роился; колеса описывал - после; уже со старухою;
колесо и шар - первые формы сроенности в рое. /.../ Строенное стало
мне строем: колеся, в роях выколесил дыру, с ее границей,
- трубою, -
- по которой бегал.
Трубы, печи, отдушины, то есть дыры, есть мир»69.
«Ощущения отделялись от кожи: она стала - нависл остью; в ней я полз
как в трубе; и за мною - ползли: из дыры: таково вхождение в жизнь...
Сперва образов не было, а было им место в навислости спереди; очень
скоро открылась мне: детская комната; сзади дыра зарастала, переходя
в печной рот (печной рот - воспоминание о давно погибшем, о старом:
воет ветер в трубе о довременном сознании); между дыр (моим
прошлым и будущим) пошел ток перегоняющих образов: съеживались,
распространялись, переменялись, метались и, обливая меня кипятком, в
меня влипали они (их остатки - стенные обои: и по ночам они гонятся
мне, как прогоняется звездное небо)...»70.
К этой паре, как итог их борьбы, добавляется произведенческий
аспект: строй. Так что же такое строй?71 Пожалуй, строй - это
равновесие между тем, что в себя втягивает и что из себя выбрасывает;
дыра - форма, а рой - содержание. Эта форма динамическая,
отражающая в себе мир наподобие лейбницевской монады. Мы всегда
внутри, в чем-то, поэтому то, что вокруг нас, что нас отражает, -
всегда внешнее. Отношение строя к различимым локальностям является
включающе/исключающим. Вот почему строй насыщен значениями,
между которыми есть различия, но переходящие от одного предела
к другому («дыры-рои»)72. То, что видит субъект, зависит от того, на-
40
I. Взрыв
сколько он включен в окружающую среду, насколько та способна
отреагировать его присутствие в качестве видящего. В живом
восприятии картезианский разрыв между субъектом и объектом устранен;
он не имеет познавательной экоценности.
Из первых видений детства у Белого нельзя извлечь ничего, что
бы хоть как-то могло отнестись к строю и порядку, одни «шары» и
«колеса» - «первые формы сроенности в рое», предшествующие
рождению мира. Дыры/рои в нескончаемой игре пустого и
заполненного. Мир состоит из дыр, что не заполнены, откуда-и-куда
устремляются рои, все заполняющие. Дырчатость мира, мир = сыр, сир = мир.
Черные дыры ужасны, когда рои проносятся сквозь них, но когда
рои их заполняют, страх на время стихает. Образ времени, - это
«роящийся рой», образ пространства - «чернеющая, втягивающая в себя все
и вся, дыра». Мы должны рассматривать эти образы топологически.
Дыры поглощают рои, сжимают, придают им плотность твердого
вещества, рои взрываются, рождая дыры (старая тема: «динамиты»).
Равновесие между нехваткой («дыры») и избытком («рои»), между
пульсацией временного и дырами-ловушками отражает
миметический аспект строя. Помним: рой, сроенность в рое, туманы, неясные
и рассеянные атмосферы, это пред субъектное телесное
переживание, когда тело ничем не отличается от образа, которым живет на
отрезке начавшейся жизни: «...из туманов растет представленье
иллюзии места рождения; но я забыл, где родился, когда расступились
туманы иллюзии, то обнаружилось: в месте рождения - дыры»73. Так
появляются дыры, они идут за роями. И действительно: «...первый
миг - столкновение: дотелесного с тельным, где тельное есть
окрыленный полет, а вне-тельное - стылость морозов пустотного мира;
и тельное, переживает бестельное, будто оно есть улет в никуда; а
бестелесности переживают тела - точно дыры, чрез которые упадают
они: в никуда»74. И далее, все более зловеще: «Тело мое, обезумевши,
быстро помчится, как в пропасть летящий, отяжелевший,
бесчувственный ком, - в прозиявшие дыры могил»75. Как тут быть? Ведь
тельное означает наделенность телом; в то время как бестельное - это
гибель в пустоте, ничтожимость всего мирового, нет больше живого
ощущения телесного единства. Быть-в-рое и роиться-в-сроенности
- значит обладать телом, но каким? Это именно детско-тельное, что не
отделяет себя ни отчего и только в сроенности чувствует себя полным.
Вселенная Белого устроена так, будто в ней все сведено к
постоянству исчезновения, или, более точно, - к бегству, полету и летанию.
Ведь взрыв уже был, все - разлете, ничто не имеет определенного
места; только возвращаясь в дыры, рои получают форму, чтобы тут
41
Литература как самосознание. Опыт Андрея Белого
же ее потерять, проносясь сквозь...76 И поскольку все находится в
движении, то всякое замедление или остановка свидетельствует: на
том месте, где был рой, теперь дыра, она - под нами или рядом, даже
в нас. Дыра - это чистая форма отсутствия, ее ничто не может
заполнить. Дыра - преобразование любых содержаний в ничто. Дыра -
высшая ценность в опыте апокалиптика. Мы имеем дело с предельно
кратким по времени существованием, сознающим себя в границах
апокалиптического горизонта. Вот последовательность фаз: взрыв
- дыры/рои -рои -рои/дыры - строй. Тогда сама жизнь - это единство
строя (всего лишь на мгновение достигнутое равновесие между
роями и дырами). Строй - весьма хрупкая инстанция жизни: ведь строй
вообще-то и есть «трансцендентная имманентность», вбирающая в
себя конфликт сил: «Этот строй мне знаком; противопоставлен он
рощ строй оковывал рой; стройтвердыня в бесстроице; все остальное
- течет...»77. Произведение Белого в этих, чуть намеченных
категориальных чертах, опирается на единую онтологическую картину
(«мировую»). Я бы даже сказал, что они образуют контрапункт.
Отрицательная сила влечения: дыра все поглощает, накапливает (это один
предел), и также ясно, что все рои роятся (другой предел), -
положительная сила влечения. Дыра есть себе внутреннее, а рой, - себе внешнее.
Как это ни парадоксально, для роя нет ничего более внешнего
(кроме дыры), как для дыры нет ничего более внутреннего (кроме роя).
Дыра служит оболочкой, - формой для пустоты: труба, яма, овраг,
пропасть, бездна (большой ряд эквивалентов). А рои - нечто
безоболочное, вихрь энергий, который может отчасти поглощаться
дырою, накапливаться и уплотняться, но она не в силах его удержать;
мощь его нарастает по мере заполнения дыр. Все выше сказанное
подтверждает требование, которому мы по умолчанию следовали:
размышлять о дырах и роях раздельно, но и вместе, когда заходит
речь о их взаимодействии и вступление понятия строя.
Структурно «картина мира», Weltanschaung Белого складывается
на уровне чистой интуиции довольно рано. Впоследствии она
драматически осмысляется, заново окрашивается, уточняется. В «Арабесках»
и других сочинениях того времени проясняется смысл более поздних
конструкций, которые кажутся на первый взгляд антропософской
мистикой. Как мы теперь знаем, «дыры» и «рои» находятся в сложной
топике отношений, а та выстроена по широте и глубине (причем не только
экзистенциально, но и предметно ландшафтно). Переходы между
широтой и глубиной, их пересечение на сломе одной линии (линии
поверхности, - степи, в линию глубины, - овраги). Степь, пересеченная язвами
оврагов, - характерная ландшафтная мета для центральной России.
42
I. Взрыв
«Широта в нас горящего пожара - и потом выжженная степь. Глубина
в нас открывшейся жизни - и черная дыра колодца в тех пространствах.
И картина русской природы отражает печальные стороны русской
натуры, широкой и глубокой: широки сиротливые пространства; вдали
горит огонек, над ним повис дым, точно тягостная чья-то осенняя мысль.
А овраг, разъедающий пространство, с дико пляшущей метлой
чертополоха над гребнем - глубокий овраг»78.
«Еще недавно мы стояли на прочном основании. Теперь сама земля
стала прозрачна. Мы идем как бы на скользком прозрачном стекле, из-под
стекла следит за нами вечная пропасть. И нам кажется, что мы идем по
воздуху. Страшно на этом воздушном пути»79.
«Знал я: поднимаяся вверх, попаду я на высшую точку пологого склона,
где отовсюду откроются шири, просторы, пространства, воздушности,
облака; под ноги тут опускаются земли; и - небо здесь падает; буду я,
небом охваченный, вечный и вольный, стоять; разыграется жизнь обла-
ковых громад вкруг меня; если мне обернуться назад, то увижу и место,
откуда я вышел (усадьбу); оно - под ногами; и от нее мне видны: только
кончики лип (а усадьба стояла высоко-высоко над речкой).
Спускался в противоположную сторону от плато, приходил я к
дичайшим оскалам старинной овражной системы, сгрызающей плодоносную
землю и грозно ползущей на нас; кругозоры сжимались по мере того,
как я, прыгая по размоинам вниз, углублялся; и небо оттуда казалось
щелью меж круч, на которых скакали, играя с ветрами - татарники,
чертополохи, полыни; здесь некогда перечитал Шопенгауэра; я опускался
туда, перерезая слой леса, слой глины - до рудобурых железистых
каменных глыб (величиной с арбуз), вымащивающих водотек; было
влажно и холодно»80.
Неопределенность кривых, одних, что устремляются к
горизонту, других, что падают в дыры, вниз, в глубину. Так устроен
ближайший к нам мир с его пространственно-временными координатами:
рои и дыры, широты и глубины, степи и овраггР\ оцепенение, каталепсии
и бег, полеты, лёт. Эта простая форма между тем постоянно
усложняется Белым, она структурирует по-прежнему его видение, но сама
уже не поддается извлечению из творимых образов того же
«Петербурга» или «Масок».
(ι) Язык между «роем» и «дырами». Появляются звуки-камертоны,
ими настраивается работа языка. Таким камертоном, например, в
романе «Петербург», оказываются звуки У и Ы, именно по ним зада-
43
Литература как самосознание. Опыт Андрея Белого
ется общая тональность, окрашивается использование звуковых
эффектов. Белый настойчиво призывает нас услышать в «Петербурге»
работу основного метронома: тиканье бомбы-сардинницы, услышать
и этот будущий переход в мировую катастрофу как взрыв. Этот
непрекращающийся, сначала ненавязчивый, похожий на
приглушенное бормотание, странный звук, переходящий в глухой, ужасающий
вой, и как будто всем движением звуков в романе управляет
единственный сонорный код: звук Ыыыыыы...
«Чтоб отвлечь себя от воспоминаний об измучившей его галлюцинации,
незнакомец мой закурил, неожиданно для себя став болтливым:
- Прислушивайтесь к шуму...
- Да, изрядно шумят.
- Звук шума на "и", но слышится аьГ
Липпанченко, осовелый, погрузился в какую-то думу.
- В звуке иъГ слышится чтото тупое и склизкое... Или я ошибаюсь? ...
- Нет, нет: нисколько, - не слушая, Липпанченко пробурчал и на миг
оторвался от выкладок своей мысли...
- Все слова на еры тривиальны до безобразия: не то аи"; аи-и-и" - голубой
небосвод, мысль, кристалл; звук и-и-и вызывает во мне представление
о загнутом клюве орлином; а слова на "еры" тривиальны; например,
слова "рыба"; послушайте:
р-ы-ы-б-а, то есть нечто с холодною кровью... И опять-таки м-ы-ы-ло:
нечто склизкое;
глыбы - бесформенное:
тыл - место дебошей...
Незнакомец мой прервал свою речь: Липпанченко сидел перед ним
бесформенной глыбою и дым от его папиросы склизло обмыливал
атмосферу: сидел Липпанченко в облаке; незнакомец мой на него посмотрел
и подумал атьфу гадость - татарщина"... Перед ним сидело просто какое-
то аЬГ»8в.
И вот другой тон:
«Таковы были дни. А ночи - выходил ли ты по ночам, забирался ли в
глухие, подгородные пустыри, чтобы слышать неотвязную, злую ноту
на "у"? Ууууууууууууу, так звучало в пространстве; звук - был ли то звук?
Если то и был звук, он был несомненно звук иного какого-то мира;
достигал этот звук редкой силы и ясности: "ууууууууууу п раздавалось негромко
в полях пригородных Москвы, Петербурга, Саратова: но фабричный
гудок не гудел, ветра не было; и безмолвствовал пес»8*.
44
I. Взрыв
«У» - этот неслышимый вой города, - звуковые формы
расширяющейся и затягивающей в себя черной дыры. Проходит внутрь себя,
бешено вращаясь вокруг вытягивающейся в глубину оси, этот ужасный
смерч «Петербурга». Движение свертывается в точку, тело
наливается тяжестью и более неспособно к самостоятельному движению. Дыра
поглощает все многообразие звуков для того, чтобы свести их к моно-
тонии, и та становится фоном, а затем - просто затухающим шумом.
«...я вглядывался в фигуру сенатора, которая была мне не ясна, и в его
окружающий фон; но - тщетно; вместо фигуры и фона нечто трудно
определимое: ни цвет, ни звук; и чувствовалось, что образ должен
зажечься из каких-то смутных звучаний; вдруг я услышал звук как бы на
"у"; этот звук проходит по всему пространству романа: "Этой ноты на
«у» вы не слышали? Я ее слышал"; так же внезапно к ноте "у"
присоединился внятный мотив оперы Чайковского "Пиковая дама**,
изображающий Зимнюю Канавку; и тотчас же вспыхнула передо мною картина
Невы с перегибом Зимней Канавки; тусклая лунная,
голубовато-серебристая ночь и квадрат черной кареты с красным фонарьком; я как бы
мысленно побежал за каретой, стараясь подсмотреть сидящего в ней;
карета остановилась перед желтым домом сенатора, точно таким, какой
изображен в "Петербурге"; из кареты ж выскочила фигурка,
совершенно такая, какой я зарисовал в романе ее; я ничего не выдумывал; я лишь
подглядывал за действиями выступавших передо мной лиц»84.
Столкновение согласных (косноязычие, бормотание, шепоты и
скрежет, вой и крик гласных):
«Я, например, знаю происхождение содержания "Петербурга» из "л-к-
л-пп-пп-лл", где "к" звук духоты, удушения от "пп-пп" - давления стен
"Желтого Дома"; а "ллп - отблеск "лаков», "лосков" и "блесков" внутри
"тГ - стен, или оболочки «бомбы». "ГЪГ, носитель этой блещущей
тюрьмы - Аполлон Аполлонович Аблеухов; а испытывающий удушье "к" в "п"
на "л" блесках есть "К": Николай, сын сенатора»85.
«В детстве Коленька бредил; по ночам иногда перед ним начинал
подпрыгивать эластичный комочек, не то - из резины, не то - из материи
очень странных миров; эластичный комочек, касался пола, вызывал на
полу тихий лаковый звук: пеп-пеппен; и опять: пеппен-пеппен. Вдруг
комочек, разбухая до ужаса, принимал всю видимость шаровидного толстяка-
господина; господин же толстяк, став томительным шаром, - все
ширился, ширился, ширился и грозил окончательно навалиться, чтоб лопнуть.
45
Литература как самосознание. Опыт Андрея Белого
И пока надувался он, становясь томительным шаром, чтоб лопнуть, он
попрыгивал, багровел, подлетал, на полу вызывая тихий, лаковый звук:
- «Пепп...»
- «Пеппович...»
- «Пепп...»
И он разрывался на части»86.
Нет ли здесь путей к сравнительному пониманию отношениями
между кучей у Гоголя (как формой Хаоса) и способами хаоидного
упорядочивания в «Петербурге» Белого? Итак, что же мы видим? Рой
как особо активное бытие; как обычно, - рой роится, а дыра
захватывает, истощает и поглощает, стесняет, у нее нет никакой
самостоятельной роли. Дыра - сгусток отрицательной энергии, и
описывается она в терминах «нехватки». Белый использует две топоформы:
одна дана в динамике верха/широты (область роев); другая - в
неопределенности низа/глубины (область дыр). Можно говорить о балансе
сил в общем «строе», достигнутом на стыках между дырами, все
захватывающими, пожирающими, и роями, все взрывающими,
летящими, не знающими ни тяжести, ни глубины, ни мрака... Это
отношение не простое; итог его - Произведение. В любом случае
понятно, что за роем и роением стоит спонтанность и высшая свобода, за
дырами - Ничто, ничтожение, смерть, «уход в астрал». Есть ли
этому лингвистические эквиваленты? Они только что были перед нами.
Как же это произнести? - Лип-пп-ааанченко - траектория
взорванного имени налицо. Удвоение п-п дает желаемый эффект: взрыв
глухого согласного. С одной стороны: косноязычие, заикание,
прерывание речи; с другой, напротив, - взрыв согласных, переходящий в
вой гласных звуков, спонтанность речевого потока вплоть до «бреда
интерпретации» и галлюцинаций.
Белый - «мыслитель ряда», как называл его Шкловский. Манера
мыслить его особенная: он не стремится подготовить читателя к
очередному скачку собственной мысли, хотя требует от него полной
доверительности. Читателю, даже готовому на многое, приходится
не сладко от этих бегущих рядов: гиершавились, метежелись, мелькали,
летали, улетучивались, преследовали, настигали, гнались, громыхали,
вспыхивали, туманились; ядовито-зеленые фоны, блески клубящиеся, роились,
западали в дыры, вырывались - в просвистни и т.п. Скрытые
возвращения смысла следуют закону эквивалентов, - устанавливаются ряды,
выявляется их связанность, соответствия, резонансы. Одни слова,
сцепляясь с другими, возвращаются к собственному значению,
удерживая его в разных контекстах, предметах, образах. Если акцент
46
I. Взрыв
падает на феномен дыры, то имеется в виду ряд рядов, или дыры дыр,
скопление качеств в каждом измерении бытия, устремленного от
одной к другой черной дыре: тяжесть, страх, ужас, падение, сжатие,
смыкание, заполнение, чувство нехватки бытия, глубина, утрата, в
конечном итоге, за всеми этими опытами стоит несокрушимое - Ничто,
пустота. Другое дело, что те же самые ряды, преобразуясь после
перевода в иной образно-терминологический строй, плохо
различаются, а они ведь необходимы Белому в его «смелых» анализах
философских систем Шопенгауэра, Гегеля, Ницше и Вагнера. Вокруг некой
мысли идет накопление слов-образов (не понятий), они собираются
в ряд, пока размытый и неточный, мысль скользит между образами,
отчасти сцепляясь с ними. В этой стратегии удержания рядов Белый
выигрывает в основных позициях, нигде не нарушая ту изначальную
матрицу экзистенциально-онтологической картины мира, которой
будет придерживаться и дальше. Но проигрывает в деталях, тем
самым часто теряет интерес к реальности.
(2) Regressum ad uterum. Дыра не обязательно должна
интерпретироваться топикой ничто, но и как убежище, как то, что сохраняет,
«возвращает начальное состояние блаженства», и может быть символом
материнского покрова87. Нет ли в этой игре воображения Белого с
отверстиями и дырами навязчивой сексуальной аллюзии?88 Следует
перенести акцент с сексуальности дыры на общую онтологию мира,
определяемую из нехватки бытия. Если нехватка открывает нам
пористость мира, дырчатость, и внутреннюю незаполненность; то
избыток, - а это рой и рои, заполняемость того, что не заполнено, дыра
провоцирует к заполнению, но и к освобождению. Недостижимая
полнота мира: все заполнено, - все неподвижно, - завершенное и
сияющее бытие Парменида. Из этой двойственности может
следовать многое. Тогда детское тело, будучи само отверстым, пористым,
дырчатой поверхностью, постоянно стремится к росту, заполнению
и завершению. И только из этой установочной воли к заполнению
может быть «получена» сексуальная функция, а не наоборот. Можно,
конечно, обозначить это влечение как «тягу к дыре», как общее место
в психоаналитической традиции - старая идея О.Ранка: regressum ad
uterum Ч Отчасти она может помочь в разъяснении глубинных
психологических шифров, которыми пользовался Белый. Так,
например, страх перед древними и кровожадными животными
объясняется тайным страхом перед Отцом-кастратором, не позволяющим
вернуться в материнскую утробу. Более того, это желание быть до себя
и есть своеобразное отражение работы «памяти памяти». Два тезиса,
которых придерживался Ранк: один - «...любая детская тревожность
47
Литература как самосознание. Опыт Андрея Белого
или страх есть частичное устранение тревожности, пережитой при
рождении»; второй - «...всякоеудовольствие своей конечной целью
имеет восстановление первичного внутриутробного удовольствия»90.
Но здесь главное - не попасть в психоаналитическую ловушку.
Придерживаться в отношении к дырам амбивалентной стратегии. Ведь
дыра - и то, что повергает в смерть, и то, что дает жизнь. Тогда
получается, что всякое возвращение - это смерть, но возвращение есть
истинный смысл жизненного подвига, - вернуться к тому
«бестельному» состоянию, которое было до тебя. А с другой стороны: выход
на свет, рождение, подхваченное роями новой чувственности, тебя
несущей в мир как на крыльях91. Вот как это виделось Белому:
«... - переходы, комнаты, коридоры, мне встающие в первых мигах
сознания, переселяют меня в древнейшую эру жизни: в пещерный период:
переживаю жизнь выдолбленных в горах чернотных пустот с
бегающими в черноте и страхом объятыми существами, огнями; существа
забираются в глубины дыр, потому что у входа дыр стерегут крылатые гадины;
переживаю подпирамидный период; переживаю жизнь катакомб; мы
живем в теле Сфинкса; продолби стену я ... мне не будет Арбата: и - мне
не будет Москвы; может быть... я увижу просторы ливийской пустыни»9*.
Интересен комментарий Г. Башляра к отдельным страницам
«Котика Летаева». Тему лабиринта он напрямую связывает с
«материальными» элементами воображения Белого, не пытаясь установить
их место в начальном строе Произведения. Может быть, и не
лабиринт-символ имеет значение, а что-то другое, на что указывают
другие символы. Так, развивая тему змеи, он полагает, что она нашла
выражение в воспоминаниях детства Белого. «В сущности, змея -
нечто вроде выпуклого подземелья, живого дополнения к лабиринту»93.
Однако это объяснение не выглядит убедительным, никакой новой
истины мы не находим. Но там, где Башляр исследует поэтику грота
(все эти «черные дыры», «пещеры», «тайные убежища»), он ближе
к истине. Ритмические и звуковые эффекты, характерные для
мифологии грота, близки глоссолалиям Белого. Слуховые
галлюцинации, приходящие из детства, резонируют, идут волнами, толчками
и «микровзрывами» в замкнутых пространствах с тайными входами
и выходами. Лепетанье, шепот, сбивчивые крики и шумы, смешение
голосов, то повышаемых в тоне, то снижаемых, переходящих в хрип,
то звонких и четких, - вся эта звуковая масса движется отдельно и
часто противостоит жестикуляции, мимическому опыту
персонажей. Но гроты и дыры, отверстия в скалах и пещеры мерцают черно-
48
I. Взрыв
той, их много, и они видят. В них взгляд, который преследует и
охраняет. И Белый словно слышит Башляра: «...мне чудился взгляд -
без единого слова, рождающий меня; на себе с той поры ощущал этот
взгляд я; лица устремленного взгляда не видел»94. Мир на первых
порах является в двух состояниях: дырчатым, как громадный кусок
светло-темного сыра: «трубы, печи, отдушины, то есть дыры, есть
мир»; и чем-то роящимся, роем, слившимся, неотличимым, мягким,
податливым, размягченным, скользящим, почти туманом, иногда
плотным и вязким по консистенции, - «роением бесчисленных
роев». Отношение роя и дыр дает эффект третьего: строя (в нашей
терминологии это и есть Произведение)95. Разрыв и несовместность двух
влечений: рой - это роиться, взрываться, уменьшаться, вовлекаться,
нестись с бесконечной скоростью, рой - утрата формы. Я бы уточнил:
отказ от всякой формы, главное - лёт, скорость. Рой - это вздымание
частиц, вызванное взрывной волной, и отречение от глубины, на
которую претендует дыра, черная дыра, она угрожает живому всем
мертвым, окостеневшим, предельно глубоким. Дыра - всегда тяжесть,
она тянет, затаскивает, поглощает, сжимает, она не дает никаких
шансов выбраться, стать снова летучим, быстрым, эфирным. Отнесение
тяжести к главному свойству дыр справедливо. В них есть что-то
магически темное и зловещее, они втягивают против воли, приводя в
оцепенение, но и соблазняют, обещая сильное переживание; рядом
с ними словно на краю бездны. Дыры - несомненно символ
первоначального ужаса, Ur-Angst'a.
(у) Эфир. Атмосферы-туманы-ветры-фоны. Атмосфера
«Петербурга» не столько относится к технике репрезентации - то, чем что-то
изображают - а к тому, что является негласным условием
возможности поэтической онтологии Белого. Атмосфера должна быть до
всякого действия, и в ней все дело, только благодаря созданной и
поддерживаемой атмосфере произведение воспринимается целостно в виде
единой ритмической конструкции, удерживающей произведение
от распада. В описаниях города Петербурга Белый активно
использует ряд образов от галлюцинаций до фантастического и «жуткого
миража», что подымает с дальних болот и низин ядовитый туман, готовый
растворить любую материальность, предмет и любое человеческое
дело. Зеленовато-желтая взвесь, клубящаяся, проникающая повсюду,
все рассеивающая, пропадающая в туманностях - вот это и есть
миметическая данность атмосферного. Это фоновая атмосфера, без нее
никуда, да и сам персонаж Απ. Ап. Аблеухов, например - «череп в
цилиндре да огромное зеленоватое ухо», «зеленоватый упырь» - часть
этой плотной атмосферной накипи. Впрочем, любой герой «Петер-
49
Литература как самосознание. Опыт Андрея Белого
бурга» задается как часть атмосферы, или той ближайшей среды, где
его внешнее, материально-телесное становится частью другого
бестелесного организма, из которого он получает свои особые качества.
«Какое-то фосфорическое пятно и туманно, и бешено проносилось по
небу, фосфорическим блеском протуманилась невская даль и от этого
зелено замерцали беззвучно летящие плоскости, отдавая то там, то здесь
искрой золотой; кое-где на воде вспыхивал красненький огонечек и,
помигав, отходил в фосфорически простертую муть. За Невою, темнея,
вставали громадные здания островов и бросали в туманы блекло
светившие очи - бесконечно, беззвучно, мучительно: и казалось, что -
плачут. Выше - бешено простирали клочковатые руки какие-то смутные
очертания; рой за роем, они восходили над невской волной; а с неба
кидалось на них фосфорическое пятно. Только в одном, хаосом не тронутом
месте, там, где днем перекинут Троицкий Мост, протуманились гнезда
огромные бриллиантов над разблиставшимся роем кольчатых, световых
змей; и, свиваясь и развиваясь, змеи бежали оттуда искристой чередой;
и потом, заныряв, поднимались к поверхности звездными струнками»96.
«... и казалось, что рой этих бабочек, вдруг слетевши со стен, порас-
плещется крыльями вокруг Софьи Петровны Лихутиной»97.
«Аполлон Аполлонович не любил своей просторной квартиры с
неизменною перспективой Невы: зеленоватым роем там неслись облака;
они сгущались порою в желтоватый дым, припадающий к взморью;
темная, водная глубина сталью своих чешуи плотно билась в граниты; в
зеленоватый рой убегал неподвижный шпиц... с Петербургской стороны»98
«Да: изо всех дверей вон - ширилось погибельное молчание на него;
раздавалось без меры и строило все какие-то шорохи, и без меры, без
устали неизвестный там губошлеп глотал свои слюни в тягучей
отчетливости (не во сне было и это); были страшные, неизвестные звуки, все
сплетенные из глухого стенания времен; сверху, в узкие окна можно
было увидеть - и он это видел - как порой прометалась там мгла, как она
там взметалась в клочкастые очертания, и как все озарялось, когда тускло-
бледная бирюза под ноги стлалась без единого звука, чтоб лежать
бестрепетно и мертво.
Там - туда: там глядела луна.
Но рои набегали: рой за роем - косматые, призрачно-дымные, грозовые
все рои набрасывались на луну: тускло-бледная бирюза омрачалась;
отовсюду выметывалась тень, все тень покрывала»99.
50
I. Взрыв
Вселенная Белого устроена так, будто в ней все сведено к
постоянству исчезновения, к бегству и полету. Все бежит и летит. Ведь взрыв
у же был, и теперь все в разлете, ничто не имеет постоянного места;
возвращаясь в дыры, рои на время получают форму, чтобы тут же ее
потерять. Желательно не попадать в ловушки дыр, и устремляться
вслед за роями. Поскольку все находится в движении, то всякое
замедление говорит о том, что дыра проявила себя, что она под нами, где-
то рядом, или даже в нас. Положение дыр в мире Белого отмечается
персонажами личных кошмаров: «субъектом с черными усиками в черном
котелке» или «брюнетом в котелке»100, «черными матронами», «черными
контурами вещей», кстати, любые дыры, навязывающие свою черноту,
могут их провоцировать. Мания преследования -любимая игра Белого,
в чем-то похожая, как это ни странно, на шахматы: «...я был охвачен
ужасом; я понял, что мне не справиться с роем разнородных
нападений, ничем не связанных; черные пешки, черный крап, черные
переживания, черная дама...»101. Даже такая доминантная инстанция
субъективности, как «я», может оказаться субститутом черной дыры,
смещающейся в центр мира, с которым это «я» себя идентифицирует. Вот
какую заметку мы находим: «...мое положение в мире: в одном мире
я - «я», победоносное, неизменяемое и узревшие светы; в другом -
пустое пальто, за которым гонится шпик, чтобы схвативши, повесить
его в своем шкафе! Не шпик (это маска), а Враг, проходящий сквозь
жизнь и затеявший мировую войну, чтобы меня обвинять в шпионаже;
он вел свой подкоп; пришло время взорвать меня: «я» - будет
взорвано; бреши и дыры проступят; пройдет из подземного мира мой
Враг - в потрясающем, в истинном, в до-человеческом облике!»108.
Мне ясно: они знают все: они знают, что я есмь не я,
а носитель огромного «я», начиненного кризисом
мира; я - бомба, летящая разорваться на части, и,
разрываясь, вокруг разорвать все, что есть.
Странно: разговор происходил у того самого
домика, где бомба возникла: бомба-то, ставши умственно,
описала правильный круг, так что речь о бомбе
возникла в месте возникновения бомбы»103.
А. Белый
(4) Тик-так, или «человек-бомба». Главный герой «Петербурга» -
опаснейший предмет, бомба, нарекаемая именем «сардинница» (и
51
Литература как самосознание. Опыт Андрея Белого
другими: «узелок», «адская машина»). Не «живые» герои, нам
понятные, а именно бомба, которую сын, тайно помогая террористам,
хранит в доме отца, видного сановника русской империи. Все в
романе подчиненно «общению» с этим ужасным устройством,
пульсирующим в центре повествования. Бомба заложена, хотя еще далеко
до взрыва, но она уже начинает взрываться; присутствует в
галлюцинациях, снах, в нарастающем чувстве ужаса. Особая роль будущей
жертвы и ее палача (сенатор-отец, «упырь зеленое ухо», и сын,
предающий отца, в «красном кимоно»). Жуткая до судорог пугающая
мощь будущего взрыва задает ход повествования. Времени до взрыва
все меньше, скорость повествования все выше. Взрыв спасителен,
он прекратит хаос неопределенных и бессмысленных колебаний
героев, возвратит их к «началу начал», - к порядку, представленному
в сакральном апокалиптическом образе Конца. В «Петербурге» игра,
затеянная вокруг «бомбы-сардиницы», лишь подчеркивает нарушен-
ность человеческих отношений, их спутанность, зыбкость, лживость.
Мистически-эзотерическая линия сохраняет значение именно в
интерпретации «перво-взрыва»; а он должен вызвать к жизни новый
порядок бытия, воссоздать его вокруг нового центра мира104. Все
взрывается, но «взрывы» различаются по тому условному месту,
которое они высвобождают от «плотной» материи; такой материей
может быть человеческая плоть и мозг. Всякая революция - прежде
всего революция церебральная.
Финальная сцена «Петербурга», - вот как переживается
превращение мозга героя в некое взрывное устройство, «адскую машину»,
прозванную «сардинницей»:
«Часы тикали, совершенная темнота окружила его; в темноте же
тиканье запорхало опять, будто снявшийся с цветка мотылечек: вот - и здесь;
вот - и там; и - тикали мысли; в разнообразных местах воспаленного
тела - мысли бились пульсами: в шее, в горле, в руках, в голове; в
солнечном сплетении даже.
По телу забегали пульсы, нагоняя друг друга.
И отставая от тела, они были вне тела, во все стороны от него, образуя
бьющийся сознательный контур; на пол-аршина; и - более; тут
совершенно отчетливо понял он, что ведь мыслит не он, то есть: мыслит не
мозг, а вне мозга очерченный, бьющийся этот сознательный контур; в
контуре этом все пульсы, или проекции пульсов, превращались
мгновенно в себя измышлявшие мысли; в глазном яблоке, в свою очередь,
происходила бурная жизнь; обыкновенные точки, видные на свету и
проецированные в пространство, - теперь вспыхнули искрами; выско-
52
I. Взрыв
чили из орбит в пространство; заплясали вокруг, образуя докучные
канители, образуя роящийся кокон - из светов: на пол-аршина; и более;
это - и было пульсацией: теперь она вспыхнула.
Это были рои себя мысливших мыслей.
Паутинная ткань этих мыслей - понял он - мыслит-то вовсе не то, что
хотелось бы мыслить обладателю этой ткани, то есть вовсе не то, что
пытался он мыслить при помощи мозга, и что - убежало из мозга
(вправду сказать, - мозговые извилины только пыжились; мыслей в них не
было); мыслили только пульсы, рассыпаясь бриллиантами - искорок,
звездочек; на золотом этом рое пробежала какая-то светоножка, отдаваясь
в нем утверждением.
- «А ведь тикает, тикает...»
Пробежала другая... мыслилось утверждение того положения, которое
мозг его отрицал, с которым боролся упорно: сардинница - здесь, а сар-
динница - здесь; по ней бегает стрелочка: стрелочка бегать устала:
добежит до рокового до пункта (этот пункт уже близок)... Световые,
порхающие пульсы бешено порассыпались тут, как рассыпаются искры костра,
если ты по костру крепко грохнешь дубиной, - порассыпались тут и:
обнажилась под ними какая-то голубая безвещность, из которой
сверкающий центр проколол мгновенно покрытую испариной голову тут
прилегшего человека, иглистыми своими и трепетавшими светами
напоминая гигантского паука, прибежавшего из миров, и - отражаясь в мозгу: -
- и раздадутся непереносимые грохоты, которые, может быть, ты
не успеешь услышать, потому что прежде чем ударятся в барабанную
перепонку, будешь ты с разорванной перепонкой (и еще кое с чем) -
- Голубая безвещность пропала; с ней - сверкающий центр под
набегающей световой канителью; но безумным движением
Николай Аполлонович из постели тут вылетел: пульсами
обернулось мгновенно течение не им мыслимых мыслей; пульсы
припали и бились: в виске, горле, шее, руках, а... вне этих органов»105.
«Металлический ключик уже повернулся на два часа, и особая, уму
непостижимая жизнь в сардиннице уже вспыхнула; и сардинница хоть и
та же, да не та; там наверно ползут: часовая и минутные стрелки;
суетливая секундная волосинка заскакала по кругу, вплоть до мига (этот миг
теперь недалек) - до мига, до мига, когда... -
- ужасное содержание сардинницы безобразно вдруг вспучится;
кинется расширяться без меры; и тогда, и тогда: разлетится сардинница...
- струи ужасного содержания как-то прытко раскинутся по кругам,
разрывая на части с бурным грохотом столик: что-то лопнет в нем, хлопнув,
и тело - будет тоже разорвано; вместе с щепками, вместе с брызнувшим
53
Литература как самосознание. Опыт Андрея Белого
во все стороны газом оно разбросается омерзительной кровавою
слякотью на стенных холодных камнях...
- в сотую долю секунды все то совершится: в сотую долю секунды
провалятся стены, а ужасное содержание, ширясь. Ширясь и ширясь,
свистнет в тусклое небо щепками, кровью и камнем»'06.
«Все, все, все: этот солнечный блеск, стены, тело, душа - все
провалится; все уж валится; и - будет: бред, бездна, бомба.
Бомба - быстрое расширение газов...Круглота расширения газов
вызвала в нем одну позабытую дикость, и безвластно из легких его в воздух
вырвался вздох» ,07.
Романы «Котик Летаев», «Маски», «Москва» - периода создания
цикла «Эпопеи» - в истории мировой литературы останутся
образцами нарративного ускорения, «взрывного». В хронологической
линии повествования, этой фикции объективного времени, на
которую как на шампур насажена сюжетная идея, размещается
реальная бомба с часовым механизмом (причем, она тикает, т.е.
обозначает себя во времени текущих мгновений, отрицающих большое,
хронологическое время). Каждая секунда взята на строгий учет. Герои
воспринимают возможность взрыва апокалиптически: ведь эта по-
секундная, «мгновенная» хронология не поддается управлению из
обычного времени. Отмеряются мгновения, тик-так, тик-так
колеблется стрелка... проникающее воздействие на душу пульсаций
«адской машины». Время собирается в каждом из мгновений, оно не
длится, не тянется, а пульсирует, бьется толчками, готовое в любой
момент остановиться, чтобы в другой - выброситься из себя, в
третий - «взорваться». Время взрывающейся экзистенции,
эк-статическое... Тик-так, тик-так - заданный ритм, который загоняет сознание
героев в тупик, в неразрешимую ситуацию, тикание жуткого
метронома, подчиняющего живые «свободные» ритмы. Тикает мозг,
переполненный аффективными переживаниями, и только взрыв
позволит ему освободится от собственной «мозговой игры». Тикание и
есть самое близкое к реальности, где высвобожденный
миметический импульс, вырываясь, спровоцирует мощный взрыв, отбросит
ненавистную реальность в Ничто.
По поздним романам и эссе Белого можно проследить
антропологический мотив «взрывающегося» или «лопающегося человека»,
- «человека-пузыря». В «Петербурге», где действительно все время
что-то лопается, есть описание прямо-таки «космического» взрыва
54
I. Взрыв
весьма необычного героя-террориста по фамилии Липпанченко.
Надо заметить, что глагол лопаться, употребляется Белым столь же
часто, как и глагол взрываться. Навязчивое повторение. Хотя лопаться
- это значит раздуваться изнутри, причем под действием астральных
сил, их неослабевающего натиска; потом исчезать, рассеиваться в
разлете взрывных частиц. Одна группа глаголов «взрывной»
терминологии относится к текущему времени, именно оно взрывается,
ускоряется, течет все быстрее, бьет фонтаном, бурлит, и это время
космическое, «нечеловеческое». Его еще можно назвать временем
грамматическим, воздействующим на скорость письма. Другая
группа - серия: расширяться-надуваться-лопаться и т.п.- указывает
непосредственно на время, которое взрывается в живых телах.
Накапливается там, сжимается, уплотняется, чтобы внезапно расшириться,
отбросить все физические оболочки. И вот - взрыв, яркий световой
«вспых» и больше ничего, на экране только гудящий растр... Как
если бы внутри телесного начала лежала «великая пустота», и
достижение Ничто было целью всякой живой твари. Фантастично, прямо
как в сказке, меняется масштаб: карлик становится великаном, его
голова упирается в небосвод, злой колдун превращается в мышь,
которую проглатывает кот. Переживания героев «Петербурга», в
конечном счете, сводятся к переживанию такого ничто, такого
состояния исчерпанности, «пустоты», «первичного нуля» (когда еще
или уже ничего нет). Но возможно ли оно? Ничто - везде ничто,
поэтому пережить его невозможно. Миг взрыва: нуль переживания.
Вот как этот переход в абсолютный нуль описывается Белым в
«Петербурге»:
«Между стеной, столом, стулом безобразный, беззвучный толстяк пере-
прокинулся, на косяках изломался и мучительно изорвался, будто теперь
испытывал все муки чистилища.
Так, извергнувши, как более уже не нужный балласт, свое тело - так,
извергнувши тело. Ураганами всех душевных движений подхвачена
бывает душа: бегают ураганы по душевным пространствам. Наше тело -
суденышко; и бежит оно по душевному океану от духовного материка
- к духовному материку.
Так...
Представьте себе бесконечно длинный канат; и представьте, что на
поясе тело ваше перевяжут канатом; и потом - канат завертят: с бешеной,
с неописуемой быстротой; подкинутые, на расширяющихся, все
растущих кругах, рисуя спирали в пространстве, полетите вы в завоздушную
атмосферу головою вниз, а спиной -поступательно; и вы будете, спутник
55
Литература как самосознание. Опыт Андрея Белого
земли, от земли отлетать в мировые безмерности, одолевая
многотысячные пространства - мгновенно, и этими пространствами становясь.
Вот таким ураганом будете вы мгновенно подхвачены, когда душой
извергнется тело, как более уж ненужный балласт.
И еще представим себе, что каждый пункт тела испытывает
сумасшедшее стремление распространиться без меры, распространиться до
ужаса (например, занять в поперечнике место, равное сатурновой орбите);
и еще представим себе, что мы ощущаем сознательно не один только
пункт, а все пункты тела, что все они поразбухли, - разрежены,
раскалены - и проходят стадии расширения тел: от твердого до
газообразного состояния, что планеты и солнца циркулируют совершенно
свободно в промежутках телесных молекул; и еще представим себе, что
центростремительное ощущение и вовсе утрачено нами; и в стремлении
распространиться без меры мы разорвались на части, и что целостно
только наше сознание: сознание о разорванных ощущениях.
Что бы мы ощутили?
Ощутили бы мы, что летящие и горящие наши разъятые органы, будучи
более не связаны целостно, отделены друг от друга миллиардами верст;
но вяжет сознание наше то кричащее безобразие - в одновременной
бесцельности; и пока в разреженном до пустоты позвоночнике слышим
мы кипение сатурновых масс, в мозг въедаются яростно звезды
созвездий; и в центре же кипящего сердца, что солнечные потоки огня,
разлетаясь от солнца, не достигли бы поверхности сердца, если б
вдвинулось солнце в этот огненный, бестолково бьющийся центр.
Если бы мы телесно себе могли представить все это, перед нами бы
встала картина первых стадий жизни души, с себя сбросившей тело:
ощущения были бы тем сильней, чем насильственней перед нами распался бы
наш телесный состав... »,ü9.
«Ужасное содержание души Николай Аполлоновича беспокойно
вертелось (там, в месте сердца), жужжавший волчок: разбухало и ширилось;
и казалось: ужасное содержание души - круглый ноль - становилось
томительным шаром; казалось: вот логика - кости разорвутся на части.
Это был Страшный Суд.
- «Ай. Ай, ай: что же такое «я есмь»?»
- «Я есмь? Нуль...»
- «Ну, а нуль?»
- «Это, Коленька, бомба....
Николай Аполлонович понял, что он - только бомба; и лопнувши,
хлопнул: с того места, где только возникало из кресла подобие Николая
Аполлоновича и где теперь виднелась какая-то дрянная разбитая скорлупа
56
I. Взрыв
(вроде яичной), бросился молниеносный зигзаг, ниспадая в черные,
зонные волны...»110.
«Пресс-папье выпало из разжатого кулака Аблеухова; за мгновение пред
тем Николаю Аполлоновичу показалось, что самая кожа его облекает
не тело, а - груду булыжника; а теперь ужасы перешли за черту; он
почувствовал, как в пенталлионные тяжести (меж полями и единицею)
четко врезалось что-то; единица осталась.
Пенталлион же стал - ноль.
Тяжести воспламенились внезапно: набившие тело булыжники, ставши
газами, во мгновение ока прыснули из отверстий всех кожных пор,
снова свили спирали событий, но свили в обратном порядке; закрутили и
самое тело в отлетающую спираль; так и самое ощущение тела стало -
ноль ощущением... »"Ч
Основа повествования - постоянное беспокойство, за которым
чувство глубинного страха, переходящего позднее в откровенный
ужас перед тем, что должно произойти... Движения и ритмы романа
втягиваются в этот всесокрушающий ход будущей катастрофы. Для
Белого предреволюционная эпоха являет себя в виде тик-так «бом-
бы-сардинницы», - ведь это эпоха террора и предательства. Он
попытался передать состояние ожидания взрыва чисто миметически,
подставив под удар невидимой взрывной волны композиционные,
грамматические, даже полиграфические элементы романа. Волна
движется сквозь произведенческий план, сметая все на своем пути.
Правда, постепенно она теряет прежнюю мощь, замедляется,
словно начинает собирать энергию для следующего взрыва. Затем опять
взрывное ускорение. Все снова, как будто в первый раз, вздрагивает,
хлещет, скользит, взрывается, свистит, падает и взлетает - одним
словом, все ускользает от самого себя. Персонажи перемещаются с
необычной скоростью, там же, где они видимы и кажутся
обладающими телом, мыслями, индивидуальным обликом, на самом деле -
это мертвые маски, пустые футляры, тени. Лишь бесконечно быстрое
движение приводит их в чувство, обращает к жизни (об этом
«объявляет» язык), но они все те же старые марионетки.
Космоэтика
В переписке с Ивановым-Разумником Белый выдвигает ряд
аргументов, объясняющих его отношение к теме Космоса (в античном
57
Литература как самосознание. Опыт Андрея Белого
противостоянию Хаосу). Первое и самое для него очевидное:
установление единства между индивидуальным и космическим ритмом:
«Каждый человек должен выработать свой собственный ритм
отношения к Космосу (это - ближайшая задача); и потом уже
выявится ритм ритмов...»112. Тем самым: «...вобрать в себя т. наз.
неодушевленную природу и «смерть», в ней сидящую...»113. Отсюда
возможность построения космоэтики"4, т.е. не ограниченной «земной» или
«национальной» моралью, часто переходящей в морализаторство,
а подлинной и изначально всечеловеческой.
Что же выступает препятствием (основным) для установления
этой сверхсвязи единичного сознания с космическим, микрокосма с
макрокосмом, нечто третье, то, что Белый называет бытом. Но так
называемый быт сам по себе - это некое застойное движение, себя
повторяющее, «вечное возвращение равного» (Ф. Ницше),
препятствующее взрывным изменениям, обновляющим наше единство с
Космосом. Ведь «быт» - а в нем есть что-то от насильственно
усмиренного Хаоса, - это неизменяемая и неподвижная основа внутри
любой «системы» (философской или поэтической). Завершенная
«система» подобна кристаллу - многограннику, который вращается
вокруг собственного центра: «грани завращались бы лишь в
рассудке; "двенадцатигранник" вертелся бы на месте, вокруг
неподвижного центра с магическим словом "быт*»11*. Например, система Гегеля,
Малларме, да и та, которую сам Белый задумывал как «систему
символизма», - все они неспособны создать условия для «динамической
ферматы»: «...некоего молниеносного зигзага, прыжка вперед в
танце новом, затеянном Заратустрой, плясуном легконогим...»116. В
романах цикла «Эпопеи» Белый дает примеры «быта», с более
точными описаниями. «Быт» находится «внутри круга головы, окованного
черепными костями», т.е. «быт» - не череп, а сам мозг = кантовско-
му рассудку. Быт как «инерция стояния» мысли: «Проблема, как же
расплавить "быт", как связать голову с руками и с ногами, стала мне...
в другом разрезе проблемой, как сделать, чтобы руки и ноги,
тронувшись с места, понесли голову; и это - проблема "эвритмии"; в
разрезе мысли она стала проблемою промысла, промышления всего
существа человека»117. Единство ритмов - «индивидуального» и
«космического» - это восстановление предельной «тесной» зависимости
мозга от тела, от движения производящего действия и поступки, а
не повторяющего. В романе «Петербург» эта диспозиция
«мозга-головы» и «тела-в-движении» становится основой повествования, но
разрешается негативно: в пользу отношения головы-мозга-черепа: косми-
58
I. Взрыв
ческие вихри разрушают все, что кажется устойчивым,
«отвердевшим», почти кристаллическим, превращая персонажа в собственную
тень, марионетку118. Но нас в данный момент интересует не столько
навязчивость образа «взрывающегося» Космоса, сколько
онтологические «свойства» взрывной проблематики. И прежде всего то, что
может указать пути к пониманию времени в литературе Белого119.
Космос
(Строй-ритм)
Рои ^/ < ► \^ Дыры
4 \ /*
ч\ /'
\ \ /•
\ \ /•
ч\ / '
ч \ /•
ч\ /*
Взрыв
(Хаос)
Рождение ритмической волны
Принцип трех тел + одно
Тематика взрыва обильно представлена в терминах его двух
различаемых состояний: где рои, там дыры, где дыры, там рои. Вот что
дает нам основания для соотнесения многочисленных эквивалентов
подобных онтологических качеств. Рои и дыры - разные стадии
мгновенного изменения состояния взрыва. Есть время взрыва, время до
и время после. Что-то набухает, заполняется, раздувается, расширяется,
вот-вот лопнет, готовое взорваться, оставить после себя «дыру» в
бытии, образующую некий нуль, ничто, абсолютную пустоту (это,
кстати, термины, часто используемые Белым). Но с другой стороны,
разлетающиеся во все стороны «рои», что роятся вокруг места взрыва,
еще продолжающего после-действие («разлетающиеся во все
стороны частицы материи»). Рои дают возможность разбежаться,
устремиться в бег, раз-лететься во все стороны. Следующий этап:
постепенное ослабление силы взрывной волны, оседание частиц и
фрагментов, накопление, собирание, застывание; дыры начинают вновь
заполняться, втягивать в себя, замедлять убегающее от них, чтобы
вновь его поглотить. Противовесы мировой вселенной: дыры (не-
59
хватка, - ничтожение, пустота, сжатие, накопление, тяжесть,
абсолютный нуль, близость к Ничто) противостоят роям (избытку, - полноте
присутствия, легкости, полету, бегу, ускользанию). Как это ни
парадоксально, в момент взрыва возможно полное Бытие, но как Ничто.
Здесь важно снова указать на абсолютизацию Белым столкновения
верха/и/низа, двух основных векторов в экономике взрыва,
именно они вовлекают поэтическую систему в миметический коллапс.
60
π
Миг
Пояснения к теории времени
Все - один миг!
Вечная смена мгновений и жизнь во мгновении -
есть линия эволюции; и философия «мига»
протянута линией в ней.
А. Белый
Что такое миг-время?
Напомню, что у Достоевского при составлении
«планов-сценариев» время попадало в разряд внезапного, опережающего, случайного-так
строилась временная матрица, которая была непременным условием
произведенческого плана. Такого рода время, время планирования,
идеально. Миметическая реакция на изменение плана
провоцировалась «вдруг-временем». Главное качество такой временности, ее
острие, - это внезапность. Постоянно повторяемое словечко «вдруг»
как сигнал сбоя и разрыва; именно благодаря этому мы замечаем
различия в длительности каждого из вдруг-мгновений. Одни длятся
день, другие несколько секунд, а третьи... очень медленны. И, тем
не менее, мы как читатели всегда внутри временности, которая
поддерживает игру миметических импульсов, которыми мы реагируем
на проходящий поток образов. Ударным качеством грамматики
потока остается мгновение «вдруг». Остальные качества времени
малозначимы, вторичны. И тем не менее рассказчик Достоевского
активен, он борется с этим потоком «вдруг-мгновений», пытаясь
предвидеть события, даже опередить их.
61
Литература как самосознание. Опыт Андрея Белого
Несколько иначе толкуется время у Белого.
Его основное качество - быть мигом. Что такое миг или, более
точно, что такое миг-время? Каждая поэтическая система пытается
захватить время, присвоить, управлять им. Вопреки дискретности
нашего восприятия поток мигов неделим, один миг - это все миги
разом. Каждый миг автономен. Миг вспыхивает и исчезает,
мелькает перед глазами, проносится «мимо», его не «схватить», вот только
сейчас был здесь, перед глазами, и его уже нет. Восприятие времени,
если и происходит, то на уровне бессознанья (время не ощущается,
оно - поток, в который вовлечены все). Мы сами и есть время. Но
что значит «проносится мимо»? Это нельзя понимать буквально,
скорее субъект становится мишенью, которую непрерывно атакуют
частицы «событий», они проникают в глубь памяти, откладываясь
там нестираемыми следами, кстати, не воспроизводимые по воле
вспоминающего. Следует учитывать перцептивную стратегию
Белого: для него глаз имеет все признаки фото-глаза, т.е. глаза, который
видит все и все запоминает (причем, как элемент сенсорной системы
автономной от единства сознания и уровней достигнутого
понимания). Вот, например, о чем размышляет Белый: «Бесконечны
разрывы, бесконечны падения в бездну, бесконечны стадии опыта,
бесконечен внутренний путь, бесконечна, углубляема нами
действительность; но законы пути одинаковы для всех стадий; и основы пути все
те же: дуализм между мельканьем предметов и запредельной тому
мельканию бездной; и фиктивно воображаемая граница между тем и другим,
есть "я"»12° (курсив мой - В.П.). Это «я», или субъект времени в
литературе Белого пассивен, он не способен «схватить» время,
остановить, придать смысл. Мимо проносящиеся мгновения столь быстры,
ни одно из них не может быть «захвачено». Правда, они могут
отложиться в некий след, который затем извлекается из глубин
памяти, и при извлечении начинает «искрить», «рассыпаться блесками»,
«роиться», т.е. распадаться. Миг такого времени соответствует
единице его распада. В следующей фразе Шопенгауэра, возможно, ключ
к теории «миг-времени» Белого: «...Только настоящее - то, что
всегда есть и незыблемо в своей прочности, с эмпирической точки
зрения, самое мимолетное из всего, оно предстает для метафизического
понимания, поднимающегося над формами эмпирического
созерцания, как единственно пребывающее, как nuncstans схоластов»181.
Мы настолько принадлежим настоящему, насколько способны
изменяться вместе с ним, причем, не теряя «своего» места в центре
бытия. Только изменение дает нам настоящее. Мимолетное - самый
стойкий след памяти, не «схватывается», а откладывается в нас не-
62
П. Миг
произвольно, телесно однократно, как часть рисунка судьбы. Наше
тело оказывается архивом для мигов настоящего. Не мы с его
помощью овладеваем прошлым, а оно есть то настоящее, которое не
может стать прошлым и всякий раз заявляет о себе1". Парадоксальная
сила суждения Шопенгауэра передана Белым точно и в
неожиданных вариациях. Мимо-летное исчезает при первой же попытке
остановить временной поток. Мы принадлежим времени настоящего
потому, что мы способны накапливать его в виде образов, из него
не выходя. Миг-время как подлинное и истинное время
(переживаемое в «бессознаньи») субстанционально: мы в нем, оно - в нас123.
Теперь попробуем выделить основные аспекты миг-времени
(поиск ведем на уровне микрологической аналитики).
Строй мигогвремени
Миг (з)
(O/S)
Миг (4)
Object
(О)
- физиологический: мигание (мигать, моргать, мигание, саккадиче-
ские циркуляции глаза, дискретность, «обегания образа»). Миг (1);
- временной: мгновение (промигнуть/исчезнуть, мелькнуть,
мимолетность, «один только миг»). Миг (2);
- мнезический: flashbacks, «вспышки памяти» - знак вневременной
длительности: воспоминание, неожиданно, без всякого повода
озаряющее память, «миги воспоминаний». Миг (3);
- онтологический: неделимая единица временного процесса,
«время-вещь», время и «глаз-кристалл». Миг (4).
Первый аспект: словечко миг имеет все-таки глазное
происхождение: от глагола мигать. «Часто думают, что мигание - это рефлекс, ко-
63
Литература как самосознание. Опыт Андрея Белого
торый возникает, когда роговая оболочка становится сухой. Но при
нормальном мигании дело обстоит иначе, хотя мигание может
наблюдаться как при раздражении роговицы, так и при внезапном
изменении освещения. Нормальное мигание происходит и без внешнего
стимула: оно опосредствуется сигналами, поступающими из мозга.
Частота миганий увеличивается при напряжении, в предвидении
трудных для разрешения задач. Она снижается в среднем в периоды
концентрации умственной активности. Можно даже использовать
частоту мигания как показатель внимания или сосредоточения на
задании. В моменты мигания мы слепы, хотя и не замечаем этого»124.
Когда мигаем, видим, когда не мигаем, слепнем. Миг - это только
один миг, мигнуть, мигание, «немигающий глаз». Саккадическая
активность глаза и создает течение мигов: «...если изображение на
сетчатке искусственно стабилизировать (специальными методами),
устранив его смещения относительно сетчатки, то зрительный образ
спустя примерно секунду как бы "выцветает" и поле зрения становится
совершенно пустым! (...) ...микросаккады необходимы для того,
чтобы непрерывно видеть неподвижные объекты»125. Вывод: мы мигаем,
чтобы видеть, и видим перескоками, вспышками, ощупываниями.
В поэме «Первое свидание» можно найти большое число и
разных «миганий»: «Мигая из пустых эонов...», «Немые мимы, - зимы,
//Мигая мимо, строят туры», «Я, полоненный миголетом...»,
«Мигают звезды теософии...», «В метели белой приседая, // Мигает мне
из тишины...»126. Может даже показаться, что «миг» - некий центр
лексического подобия для всего разнородного и разновременного:
здесь мигание, и мимы, и миготня, и мельканья; миг - чуть ли не
мимика глаза, «блески» и «блистания», отражения и сверкания, «глаза» в
разных цветовых сочетаниях и наполнениях.
«В вас несвершаемые леты Мы - неживые, неродные, -
Неутоляемой алчбы - Спирали чьих-то чуждых глаз:
Неразрывные миголеты Мы - зеркала переливные -
Неотражаемой судьбы...187 Играем в ясный пустопляс;
И все - так странно непонятно;
Я - зримый - зеркало стремлений, И все - какой-то лабиринт...
Гранимый призраком алмаз Глаза - в глаза!.. Бирюзовеет...
Мигнув, отбрасываюсь - в вас Меж глаз - меж нас - я воскрешен;
Как переполненный судьбою И вестью первою провеет:
На вас возложенный венец Не - ты, не - я ! Но - мы: но - Он !»128.
64
И. МиГ
Второй аспект: временной- относится к оценке реального опыта
текущего времени; (не забывая об аналогии с «веко-глазным» мигом).
Миг - то, что мгновенно проходит, мелькает, то, что рассыпается на
сверхмельчайшие мгновения, когда пытаемся его удержать. Как
известно, зрительная восприимчивость человека ограничена: я еще
только собираюсь что-то рассмотреть, а оно уже исчезло, я снова
опоздал. Увиденное мною в данный момент не соответствует тому,
что промелькнуло, точнее, про-мигнулоперед моим взглядом, и,
возможно, исчезло навсегда. Промелькнувшее, или προ-мигнувшее - это то,
что мима что не успел приблизить, рассмотреть, удержать, наконец,
остановить. Что значит: не успел? Это значит не ожидать, быть
неготовым к тому, что произойдет в следующее мгновение? Следовательно,
идет речь о такой единице времени, которую не увидеть без
вспомогательных средств (в частности, без привлечения памяти). Применяя
их, можно получить «картинки» с искаженным,
трансформированным изображением (например, там, где должна быть «улыбка», может
оказаться «гримаса»). Однако даже тогда, когда мы не успеваем
«удержать» миг, тем не менее его действие на нас сказывается. Миг - время
существования предмета на предельно малом отрезке без изменения
его качеств (видимых). Мы замечает мелькнувшее, но не то, что
мелькнуло. Есть правда, и другой словарик, где миг участвует в
определении времени действия субъекта: например, «я мигом ...», или «не
успеешь и глазом моргнуть (мигнуть)», т.е. сделать что-то очень
быстро. Неисчислимое число раз Белый указывает на «миг» (и в целом
на «миг-время»), как на симптоматику пассивного глаза:
«Воспоминанье о потерянном рае гнетет, и я ходил в Рае. Где он? Был под
веками..,». И далее: «...глаз оттуда смотрел, лепестясямне цветком...»1*9.
Можно привести целый ряд других, более выразительных примеров:
«...была морготня под очками; была ужасающая тишина: - эфиопская
жуть в этой морде разбитого сфинкса!
Но глаз разгорался, как дальний костер: он с собою самим говорил»130.
«Серо рябил из-за них мимобег: мимоезд, мимолет!»'31.
«Миг - пришел: говоря рационально, - на камне по водам спускается,
зная, что миг колебания, неосторожное слово, беспомощный морг -
камень каменной массой ставши - ко дну пойдет!»13*.
«...высечет вздрог; где нет жизни, удар механический - страхом
томлением, или бессмыслицей - нужен»133.
65
Литература как самосознание. Опыт Андрея Белого
Глаз - полная пассивность; мишень для световых атак, слепота
«моргающих век», «моргать ресницами блесков» и т.п. Миги
проникают в «бессознанье», осаждаются там нестираемым следом, что
соответствует нашей способности нечто запечатлевать, не
осознавая. Поэтому всякая попытка воспроизвести запечатленное есть
припоминание того, что уже произошло. Белый не собирается скрывать
своего почти болезненного недоверия к классическим образцам
литературного языка. Его литература часто приобретает черты
экзистенциально-метафизического миманса. Все схватывается в миме и
воспроизводится с такой быстротой, что начинает напоминать
грубую пародию на литературный опыт. Все слишком гротескно, нет
ни одного «правдивого» жеста, ни одной «реалистической» детали.
Повествование проникнуто неослабевающей тревогой и страхом,
порой кажется, что оно передернуто страшной судорогой. И чтобы
избежать «удушья», каталепсии или припадка, нельзя
останавливаться ни на мгновение, нельзя искать убежища и покоя.
«Вспышки прошлого», flashbacks
Третий аспект. В приводимых выше фрагментах Белого мы
замечаем некоторые когнитивные особенности понимания времени, ведь
.лшгсам по себе как раз и подтверждает собой одно из
фундаментальных свойств времени: непрерывность. В миге нарушается наша
способность нечто «схватывать», нам нужно время для того, чтобы извлечь
мгновение из потока, вырезать, как говорит Бергсон, чтобы
представить, затем измерить; но мы знаем точно, - поток не остановить...
Однако он имеет различные скорости протекания, т.е. может
замедляться или ускоряться. Точно формулирует В. Янкелевич: «...сколько
длится вспышка мимолетной искры, существующей в течение
кратчайшего мига; искры, которая загорается, потухая, и появляется,
исчезая. То, что длится один миг, не длится; и тем не менее все, что
длится один миг, уже не есть ничто! Назовем его " то-не-знакучто".
Это "то-не-знаю-что", которое едва ли что с изнанки и почти что-то
с лицевой стороны, здесь это "то-не-знаю-что" есть событие,
сводящееся к его чистому приходу; это "то-не-знаю-что" есть возникновение
или мерцание молнии, сводящееся к факту ее явления, то есть к
самой вспышке»134. Мгновенность временная разрушает привычный
ход времени, теперь оно длится. Образ молнии, молниеносность,
всполохи, взрывы ... есть еще «вихри космические», фейерверки,
или то, что Э. Гуссерль, вероятно, не без помощи Бергсона, называл
66
И. Миг
«кометным шлейфом». Белый активно пользуется приемами
ускорения и замедления временного потока. В каждом из таких потоков,
отличающихся по быстроте и медленности, существует
«собственная» длительность настоящего. Чтобы воспринять наименьший
отрезок времени, требуется по крайней мере 100 м/с.135 Это
минимальное время восприятия, которое дает возможность воспринимать
время в его актуальности настоящего момента136.
Это время или временность, где наша настроенность на
«схватывание» изменения совпадает с его различимостью и нашей волей
к его удержанию. Миг, насколько я понимаю его положение в
символистской теории времени, явный антипод мгновению как
мельчайшей единице воспринятого времени. Белый замечает: «В
символизме мгновение есть средство запечатлеть переживание, не имеющее
соотносительной формы выражения в видимости. В истинном
реализме дезинтеграция времени в ряде отдельно взятых мгновений
есть цель; средством этой цели является описание материала, данного
нам в видимости и переживаниях»137. Таким образом, символистская
установка претендует на передачу содержаний времени так, как они
даны в темпоральном потоке; символ играет роль сигнала,
блокирующего поиск реального эквивалента. В отличие, скажем, от
реалистической установки, которая разлагает временной поток на
пространственные сгустки и формы, подражая реальному остывшей
предметностью. Это не то, что воспринимается, а то, что вспоминается;
еще более точно, миг - лишь орудие этих нескончаемых flashbacks.
Миг - запал, обещающий взрыв воспоминаний. Все вспыхивает и
озаряется на краткое время, но это время длится ровно столько,
сколько необходимо памяти, чтобы воспроизвести забытую сцену,
жест, отдельный предмет или событие. Поэтому запаздывание лишь
указывает на реактивность самого акта воспоминания138. Но вот
вопрос: а являются ли flashbacks, собственно, воспоминаниями? По
мнению Пенфильда, открывшего этот феномен, «вспышки
прошлого» можно вызывать электрической стимуляцией коры головного
мозга, причем получаемые картинки будут полны неожиданных
деталей, отличаться четкостью и высокой степенью реалистичности. То,
что вспоминается, может поражать новизной: ведь предстают
фрагменты неизвестного прошлого, никогда не вызывавшегося волевой
памятью (истолковывающей); этого прошлого «не знают», оно само
приходит. Эти flashbacks - даже не воспоминания; неизвестно по
каким причинам, биографическим или клиническим, они
появляются будто из ничто, вспыхивают, озаряют сознание и мы видим139.
67
Литература как самосознание. Опыт Андрея Белого
Вот здесь обнаруживается очаг миметического напряжения. Как
мне думается, вся стратегия мимесиса Белого выводима отсюда.
Вспышка воспоминаний полностью задействует тело
вспоминающего: он вспоминает не сознанием, не «головой», а памятью тела.
Причем, надо учесть и то, что тело помнит так, как если бы ему это
было известно с самого начала. Собственно, само тело и состоит из
такого рода бессознательно отложивших следов-образов, которые
оно в состоянии воспроизвести через многие годы. Удивительная
память! Каждый легко может обнаружить всю мощь телесной
памяти, если ему вдруг понадобится вернуться к прежним, ныне давно
утраченным трудовым навыкам. Я ничегоне помню, зато тело помнит
и мгновенно восстанавливает навык связной цепочкой действий,
необходимых в данном случае. Попробуйте пройти в темноте часть
домашнего пространства, думая о том, как его пройти, вы не
пройдете его без ошибок, а вот не думая, вы свободно его пересекаете,
словно «на автомате», будто вас ведет какая-то неведомая сила и
прямо по карте. В знакомом пространстве мы ориентируемся свободно
как сомнамбулы, которым не нужно пробуждаться. Когда вдруг
задумаешься о нужной букве при печатании на машинке, она тут же
исчезает, и сразу ее не найти. Хотя до этого ты достаточно свободно
печатал, не нуждаясь в контроле. Прекрасный пример - трехтомные
«Воспоминания» Белого, где сплошь и рядом используется техника
«памяти тела». А таким помнящим телом может быть названо то,
которое воссоздает предшествующий опыт, миметически точно
воспроизводит его в настоящем. Вспышка все озаряет, она некий
импульс, который заставляет тело откликнуться, вздрогнуть, и то
начинает вспоминать, проектируя на экран сознания вероятный
рисунок давнего движения. И то повторяется, иногда с удивительной
точностью, на которую не способна никакая сознательная
имитация40. Вот почему величайшей мимической машиной для театра
Белого остается марионетка. Ее предельная телесная пассивность есть
условие успешной миметической реакции.
Можно сравнить это с опытом М. Пруста.
«Вспышки прошлого» - особый предмет изучения цикла романов
«В поисках утраченного времени». Воспоминания для него - это
маленькие окошечки памяти, сквозь которые под напором неведомых
сил врывается прошлое, заполоняя собой настоящее. Явление
воспоминания - не заслуга того, кто вспоминает: сознание вдруг
вспыхивает, озаряя уголок бесконечной памяти жизни: «...когда я
просыпался по ночам и вновь и вновь вспоминал Комбре, передо мной
на фоне полной темноты возникало нечто вроде освещенного верти-
68
II. Миг
кального разреза - так вспышка бенгальского огня или электрический
фонарь озаряют и выхватывают из мрака отдельные части здания,
между тем как все остальное окутано тьмой...»141. И далее: «сознание
смогло достичь, выделить, закрепить - длительность вспышки - то,
чего ему не удавалось никогда: немного времени в чистом виде»148.
Стоит споткнуться, как тело сразу же реагирует отдачей движения,
повторяющего давний жест равновесия, и тот врывается в
настоящее, волоча за собой прошлое. Да он и принадлежит настоящему,
поскольку повторим. Как если бы тело имело в своем распоряжении
такие движения, которые, повторяясь, могли бы переносить нас в
предшествующее время, когда они случились первый раз: «... я вошел
во двор особняка Германтов, по рассеянности не заметив
тронувшегося экипажа; на крик возницы я едва успел метнуться в сторону;
отступив, нечаянно споткнулся о довольно плохо отесанный
булыжник у стены каретника. Но в то мгновение, когда, восстановив
равновесие, я поставил стопу на окатыш, вдавленный сильнее, чем
первый, мое уныние рассеялось, и я испытал то же самое блаженство,
которое в иные дни вызывал во мне вид деревьев во время прогулки
в коляске вокруг Бальбека, как казалось, узнанных мною, вид
колокольни Мартенвиля, вкус размоченного печенья «мадлен» и столько
других описанных уже ощущений, все, что, пожалуй, воплотили
собой последние работы Вейнтейя»143. И затем: «... чувство свежести,
ослепительного света охватило меня. И пытаясь его уловить, я не
смел и пошевельнуться, как тогда, когда ощутил вкус печенья...», и
вот: «ослепительное и смутное видение». Что же это было? - «...это
была Венеция; я никогда не мог приблизиться к ней, пытаясь ее
описать, и ничуть не более приближали меня к ней так называемые
снимки, сохраненные памятью, - но ощущение, испытанное мною на двух
неровных плитках баптистерия Сан-Марко, вернуло ее вместе со
всем остальным...»144. Первоначало «Поисков» погружено в
физическую материю вспоминаемого, дообразную и хаотическую. Только
наличие особого материального носителя информации,
располагающегося вне времени и пространства, могло бы обеспечить связь
прошлого и настоящего в любое из мгновений жизни. И Пруст
находит его: первичный чувственный слой, состоящий из частичек вкуса
и запаха, пред-индивидуальный и внесубъектный, вот кто держит на
себе весь груз воспоминаний. Что же это за слой, и где его «место»?
Да это опять-таки наше тело. Именно оно содержит в себе прошлое,
которое никогда не покидает наше настоящее, оно всегда с ним. Вкус
и запах - частички материи, и в то же время они спиритуальны и
«внетелесны». Для воспоминания необходимы по крайней мере две
69
Литература как самосознание. Опыт Андрея Белого
частицы: одна- прошлого, другая - настоящего, сталкиваясь, и
взаимно нейтрализуя друг друга, они образуют длительность блаженного
видения, подлинное чудо метампсихоза145. Этому предшествует
борьба с расколом следа на две части, ведь именно он делает безнадежно
мертвым прошлое, а настоящее - слишком шатким, эфемерным и
ускользающим. Вкус, запах, касание, поворот тела, нарушение шага
- вот это нейтральное телесное Бытие, где время останавливается,
как будто соединяются два конца электрической цепи со знаком
минус и плюс, их замыкание дает вспышку воспоминания, и позволяет
восстанавливать по всей цепочке жизни. Частицы «запаха» и «вкуса»
- будучи только знаками скрытой полноты бытия - не просто следы,
а необходимое условие вневременной психотелесной связи с
прошлым, это «воротца вечности»146. След для Пруста означает «полное
присутствие». Об этом хорошо пишет Э. Левинас, давая следу
исчерпывающую характеристику: он есть знамение,
свидетельствующее о присутствии Иного'47.
Уже 3. Фрейд заметил важную особенность долговременной
памяти: запоминается лучше то, что не помнят. Или помнят хорошо
то, что не прошло через осознание: «...процессы возбуждения
оставляют в других системах длительные следы, как основу памяти, т.е.
следы воспоминаний, которые не имеют ничего общего с
сознанием». И чуть далее: «...сознание и оставление следа в памяти
несовместимы друг с другом внутри одной и той же системы. Мы могли
бы сказать, что в системе процесс возбуждения совершается
сознательно, но не оставляет никакого длительного следа; все следы этого
процесса, на которых базируется воспоминание, при
распространении этого возбуждения переносятся на ближайшие внутренние
системы»148. Не думаю, что Белый был хорошо знаком с идеями
Фрейда. Способность бессознательного - сохранять в себе следы о
далеких событиях; и пока их не коснулось сознание, они не стерты. Вот
почему «вспышка» воспоминаний, - а они именно вспыхивают, - не
вызывается целенаправленным усилием памяти. Когда Белый
говорит о «миг-времени», то делает, причем достаточно часто,
парадоксальные утверждения, подобные этому: «памятно то, чего не было». Это
не значит, что того действительно не было, a to, что оно было так, как
если бы сознание не смогло его «схватить» и переработать в четкий
образ; не смогло «отреагировать» и затем стереть. Две психосистемы
- сознание и бессознанье, если последняя хранительница устойчивых
следов памяти, то, естественно, «миг-время» - время, ускользающее
от воспроизведения, - и есть само Время. Память бессознания
абсолютна, не избирательна и безвременна, и мы в силах овладеть толь-
70
II. Миг
ко той ее частью, которая поддается относительному и случайному
воспроизведению. Эти размышления сближают Белого с Прустом149.
Глаз-кристалл
Четвертый аспект, онтологический, - здесь ответ на вопрос, что
же это такое, - глаз, ставший вещью} Глаз активный, мигающий
хорошо схватывает только неподвижную реальность, но как только он
пытается схватить мгновение, не останавливая его, мгновение-в-по-
токе, так тут же теряет всякую власть над ним. В силу неспособности
удержать временной поток, глаз сам оказывается открытым к
воздействиям, которые не в силах предотвратить, т.е. отразить взглядом.
Вот почему мы говорим, о так называемых вспышках памяти, о тех
наиболее активных мгновениях, которые способны вызвать образ
далекого прошлого на волне телесного переживания. Собственно,
Белый невольно противопоставляет глазу мигающему -
немигающий, «взгляду» - «глаз»; можно даже сказать, что в его литературе
доминирует глаз без взгляда. Темы поздних романов («Москва под
ударом», «Маски», «КотикЛетаевидр.) представляют широчайший
выбор образцов глазной пластики.
Перечислим некоторые из них: топазовый глаз, агатовый,
бриллиантовый, деревянный, мраморный, жестяной, каменный,
стеклянный, выпученный, как у «судака», «осьминога», глаз-уголь, глаз-рана,
глаз-черная глазница; он может вращаться, и «закатываться» как при
трансе, интенсивно окрашиваться... Напоминаем, что этот глаз
ничего не видит, а способен лишь слепо отражать. За ним нет субъекта
зрения, который придавал бы смысл актуальному восприятию, -
строил взгляд. Глаз, не переходящий во взгляд, - это глаз-вещь15°. В нем
отражается время, так как оно и может отражаться в сколках, бле-
сках, сверкающих частицах.
Поищем параллели в других экспериментальных литературах.
Что такое вырванный или вытаращенный глаз, или «глаз, который
вынимается» - именно таким глаз часто предстает в сюрреальной
антропологии. Орган зрения высвобождается от власти организма.
Глаз, например, в известных описаниях Батая может быть глазом
лишь тогда, когда он вырван, вытаращен, залит слезами, кровью,
когда просто слеп или поражен катарактой, или по нему прошлись
бритвой. Все другие положения глаза относимы к его способности
осуществлять перцептивную стратегию. Видят с помощью глаза, но
взглядом. Не множество глаз, а множество взглядов образуют зрительное
71
Литература как самосознание. Опыт Андрея Белого
поле, в котором появляются вещи. Прием «обратного хода» у Ж. Батая:
извержение субъекта из укорененности в картезианском actes mentis.
Собственно, острый взгляд, - взгляд абсолютно прозрачный,
идентичный себе в момент взглядывания, для которого природная
субстанция глаза не является препятствием. В «Истории глаза» Батай-пор-
нограф убедительно демонстрирует, как концентрируется взгляд в
непристойных сценах. Герой рассказа - участник зрелища и он же -
заинтересованный наблюдатель (вуайер). Какие части тела избраны
для порно-демонстрации: механика, органические проявления и
физиология полового акта. Вырывание глаза оказывается отношением
к взгляду: читатель, переводя себя из героя сцены в свидетеля оргии,
получает удовольствие от наблюдения за садистской анатомией боли.
Взгляд становится глазом, беловатым ослепшим шариком, с которым
можно играть. Ближайшая близость к тому, что страшно хочется
увидеть: слепота15'. Глаз как объект садистического испытания, он же -
символ отношений между глазом и взглядом, и он же - некая
органическая субстанция, наделенная зрительной чувствительностью.
Нечто подобное происходит в романе «Маски»; его герои -
оптические психоавтоматы, находятся под обстрелом: в них что-то
взрывается, искрит, что-то их пробивает, наконец, («Глаза прозвездило
до ... мозга»); они всегда «от чего-то», «по неясной причине», в силу
«тайных обстоятельств», - вздрагивают, бросаются, подпрыгивают,
дергаются, вскакивают, просто лопаются, как пузыри ... (не стоит
надеяться, что можно завершить весь список глаголов, которые
использует Белый, чтобы передать конвульсивные содрогания
персонажных тел). Не взгляд, а глаз, в котором отражается ближайший
мир, и неограниченное множество других глаз, - суженных и колких,
как шило, расширенных, цветных и одноцветных, высвеченных и
темных, в блесках и световых вспышках. Лиц нет, они стерты и
случайны, «глаза-вещи» замещают лица, превращая их в чудовищные
гримасы. Физиогномика гротеска. Взгляда нет - о чем это говорит?
Прежде всего о том, что этот глаз немигающий, открытый к любым
внешним воздействиям и как будто без век. Если глаз не мигает, то
он и не видит, но отражает. Получается, что именно этот
глаз-кристалл - вход в глубинные слои прозрачного человеческого бытия.
Отраженное оказывается образом, а глаз - чуть ли не фотокамерой.
«И - видит он: -
- маска с осклабленным ртом своим ввинченным, как бриллиант,
пустым глазом уставилась в выспрь над пустым земным шариком...»,5Я.
72
II. МиГ
«И топазовый глаз -
- уже розовый, красный,
пунцовый, - глаз: гас!»155.
«...глаз агатовый, - в окна, где дым из трубы, выгибаясь, как чорт
голенастый, в минуты затишья, выскакивал рывами в белые рывы;
- в разрыв белых вей: -
- двор, забор: за забором дома деревянные колером вишневым и неза-
будковым, нежным, едва показались; но свисты засыпались снова.
Леоночка, точно косая: агатовый глаз за окно, а другой, зеленый и злой,
наблюдал Никанора, который давился: как мерзлую кочку ворона,
-долбит своим видом и лезет в глаза, как оса, Никанор...
/-/
Мигунками, сквозными вьюнками, забор и домик помигали.
Наблюдательность с учетверенной силой, как десять поставленных
автоматических камер, работала: мог крепко спать, все же зная, когда там Мер-
дон, не по адресу присланный, ходит заборами; глазом как шилом, - в
тарелку, в стакан, в Никанора, в Леоночку: видел, как злилась, как глазик,
зеленый и злой, перепархивал: под подоконник, под скатерть, под руку.
И глазом забегал за глазиком: под подоконник, под скатерть, под руку...»1*4.
«...впятясь в колонну, с порочною полуулыбкою щурили каменный глаз,
склонив голову из рококового, розового, развороха: на морок людской»155.
«...жестяными глазами глядел на лысастое место, оттуда пустым снего-
дуем, сквозным пустоплясом винтила, вихрами взлетев, коловерть на
размой, наметы, канавы, поля»156.
«Свои руки развел точно поп, на алтарь выходящий; качаясь лопатками,
дважды шагнув поясницею, выбросив над головою скрещенные руки;
и после скрещеньем ладоней слетел, чтобы видеть сквозь пальцы им
воображенную голову, и чтоб глаз ослепительный головоногого чудища,
- глаз осьминога, слезой овлажняяся,
- стал человеческий
глаз!»157.
«Из стеклянного глаза, как у судака, слеза капнула - в слезы визжавшего
плачем преступника: слезы смешались»158.
«Только Никита Васильевич из кресла давился без воздуха, рот
разорвав, волоокое выпучив око; /.../ мигая из меха
73
Литература как самосознание. Опыт Андрея Белого
/.../И око какое, - огромное, выпуклое, - стало синим, как синий
подснежник цветок... »159.
«...из белого, из остеклелого глаза слеза, - человеческая, - в оке, видит
он, виснет, отблещивая стеклянеющим перлом: в перловые росы»1б°.
«Бесцветны стальные глаза: призакрылись; и - брысил ресницами; но
наливалась височная синия жила; и смыком морщин, точно рачьей
клешнею, щипался»161.
Извлекаются лишь отдельные элементы («качества»), из которых
составляются коллекции или то, что Белый называет градациями. В
пустую глазницу вставлен глаз-кристалл, не орган зрения и не «взгляд».
Взгляд у персонажа, если и появляется, то только после того, как в
нем отразилась какая-либо эмоция, но в виде чисто физического
явления (чуть ли не атмосферного спектра). В сущности, это и не
глаза, а глаза выделанные из благородных минералов, отражающие
световые вспышки в тонких цветовых различиях. Здесь хорошо
представлена техника остраннения человеческого взгляда. Помимо «под-
глядов» за природой на прогулках в подмосковном Кучино, были
еще собираемые в коллекции листья, коробки камней с Кавказа и
Крыма. Вот что говорит Белый в отношении писательства с натуры:
«...Мои коллекции - это есть мой роман. Собираю драгоценнейший
материал для себя. Орнамент оттенков, интерференция красок: это же
перспективы, и - богатейшие. Весь слог мой изменится. Не могу
оборвать этих опытов. Это опыты со словом. Учусь лепке словесных ходов...
Вот, посмотри..., - он увлекал на террасу, где на перилах расставлял
коробочки, устраивал ежедневные "смотры" своих многосоставных
градаций.
- Видишь...видишь. Гляди: все целятся на красоту, на фермампиксы. По
мне - хоть бы не было их. Зато из последних собак я сделал то, что все
ахают...Сами не видели. Я же знаю, что делаю. И знаю, что это не все:
мне еще нужно добрать, да разглядеть... Вот здесь не хватает... И здесь...
Промежуточный тон не заполнен. Как же я брошу...»168.
Составляя коллекцию коктебельских камней, Белый выстраивал
ее цветовую гамму, двигаясь в сторону выявления самых тонких,
«переходящих» тонов. И для него эта гамма была не локальным
отражением природного явления, а универсальным событием письма, -
образцом преобразующей силы «материальной» мимикрии. Ведь каждый
74
П. МиГ
глаз персонажа выписан в точном образе глазаъамня. В этом, кстати,
и весь эффект остраннения видимого103. Сначала камень с
определенным природным качеством отражает, создавая некий спектр, и
только потом он - «глаз», но не живой, человеческий, а тот, что стал
камнем. Белый, вероятно, был не способен к удержанию
целостного образа с его размытостью, неточностью, незаконченностью, но
интуитивной ясностью смысла. Он не был мастером «нюансов».
Чтобы преодолеть этот недостаток, он наделяет обстановку, все
интерьеры, вещи и самих людей, их мимику, жесты, позы теми чертами,
которые он заимствует из другого мира, никак не связанного с
человеческим; часто это мир минералов, рыб, реже - мир цветов и деревьев,
вод и земли. Новое испытание для «старого» гоголевского приема.
Персонаж как инкрустация; как будто он собран из разных кусочков
природного окружения, да и подчиняется силам, которым уступает.
Что-то от картин-коллекций великого Арчибольдо. Любой эпитет,
что раскрашивает образ, хотя и кажется на первый взгляд
неожиданным, должен быть ожидаем, как если бы его когда-то уже видели,
но забыли. У Белого этого нет, он предлагает нам образы, которые
мы не в силах распознать, они неузнаваемы16*. Не отыскать в
зрительной памяти хотя бы что-то сходное, дающее ответ на вопрос: откуда
этот образ, и главное: зачем? Взгляда нет, никто не смотрит, есть
только глаз, в который вторгаются световые токи, порождая
спектральные свечения, - те дробятся в бесконечных преломлениях,
фрагментах, частях и даже «атомных» блесках:
«Видел во сне: -
- из дыр вылезал на него очень тощий, кровавый, седой мексиканец,
весь в перьях, с козлиною, узко пропяченною бородой, над которой
всосалися щеки; и пламенником, размахнувшись, в жестокое время -
огонь всадил: в глаз!
И - взвижал.
И - все сделалось красным затопом, расплавившим землю.
- "Слепцы - прозревают, а зрячие - слепнут" - взблеснулся он глазом.
Так "Каппа", звезда, -
- спускалась кометой в глаза!
Ослепительный глаз, ослепляющий глаз, но слепой, вобрав блески, ушел
за пределы миров, как комета, взорвавшая орбиту солнца, свернувшая
с оси систему вселенной и ставшая даже не точкой, а - местом ее в
черной бездне.
Чернела заплата, как глаз, ставший углем, который, в алмаз
переплавленный -
75
Литература как самосознание. Опыт Андрея Белого
- чиркнул: -
- по жизни !
И жизнь, как стекло, перерезалась: надвое !»'65.
Застывший, «окаменевший» или неподвижный глаз и есть своего
рода фото-миг. Белый гордился своей зрительной памятью, и
называл ее: «Мой "Кодак"...» т.е. считал ее столь же точной как
фотографическая166. Глаз подобен фотоаппарату: все фиксирует вокруг себя,
«запоминает», но не в силах воспользоваться накопленным
богатством. Глаз пассивен; поглощая свет, он окрашивается, но сам не
видит, если не наведен на предмет. В нем отлагаются следы этих
внезапных миг-воздействий, на основе которых, потом, спонтанно,
рождается целый мир росписей. Вот что Белый замечает: «Отпечаток в
глазу дольше держится в миг потрясенья; светящийся контур от ели,
торчащей вершиною в небе, когда перебросите глаз, точно с ели
снятой, вырезается в небе; в минуты волнения - контур
отчетливей»167. Некоторые специалисты по физиологии зрения считают
правомерным искать сходство между глазами фотоаппаратом
(последний используется как упрощенная модель человеческого зрения)168.
Взгляд и поверхность
Приемы Белого близки технике рассечения образа у Пикассо
(кубистской манере «коллажа»). Первый видит в глазе уникальный
объект живописной интенции. «Глаз» Пикассо - в центре мира, там
он претерпевает самые неожиданные метаморфозы: «Глаз, - тот,
который рисуем, не является более репрезентацией, образом в
зеркале; он имеет собственное существование; он уникален сам по себе
и управляет вниманием»109. Глаз превращается в «вещь-кристалл»,
- в нем отражается световой мир. Выделенный из лицевой
поверхности, он же ее и расчленяет, блокирует, разрушает естественную
физиогномику лица. Явно отсутствует интерес к психологическому
истолкованию образа, глаз - не просто доминирующий орган, он
нечто более значительное, сверхорганическое единство, он
отражает мир в причудливых рассечениях, геометриях, не давая опереться
на прежние застывшие миметические образы. Рассечения и новые
сборки, которые и есть декор предмета, напрочь лишены
реалистически-узнаваемых черт. Это глаз раскрытый, в нем ловятся
отражения и блески, всполохи как калейдоскопе; он вращается словно в
центре вселенной, все в себя включающий, себя взрывающий в бле-
76
II. МиГ
сках, блистаниях и роях, всполохах и т.п. Каждый поворот зеркалец
и новый мир перед вами.
«Больше нет глубины...», - заявляет Ален Роб-Грийе, один из
основателей «нового романа». Другими словами, «... мир не является ни
значимым, ни абсурдным. Он просто есть. Во всяком случае, именно
этим он наиболее примечателен. И внезапно очевидность этого
факта поражает нас с такой силой, против которой мы не можем
устоять. В один миг вся прекрасная конструкция рушится: неожиданно
открыв глаза, мы еще испытали шок от встречи с этой упрямой
реальностью, которую мы притворно считали до конца изученной.
Вокруг нас, бросая вызов своре наших животных или обиходно-бытовых
прилагательных, присутствуют вещи. Их поверхность чиста и ровна,
нетронута, лишена двусмысленного блеска и прозрачности»170. Мир
открыт - он весь на поверхности, не в глубине. Подобное «точное»
и «объективное» описание имеет смысл, только если опирается на
акт перцептивной веры. Веры в то, что образ читаемого может быть
уравнен с тем, который читатель имеет в виду, и даже способен
заместить его другим, наделенным еще большей реалистичностью.
Не случайно Роб-Грийе свои литературные эксперименты называет
мгновенными снимками. Описание такого рода не создает новых форм
движения, а останавливает всякое движение. Полное присутствие
реального, о котором так печется Роб-Грийе, и есть радикальная
остановка времени. Подобное характерно, например, для криминального
расследования: тщательное описание места преступления и
собирание улик. Все уже произошло, теперь можно подойти и внимательно
рассмотреть. Итак, основной принцип такого письма: настолько
замедлить естественное движение, чтобы передать реальное.
Подавить миметическую основу восприятия - вот цель. Вот почему глаз,
который все видит, а не взгляд, который выбирает. Не быть
вовлеченным, не поддаться желанию быть причастным, не копировать,
не повторять. Только безлично, пассивно отражать, как если бы сам
автор был таким же отраженным бликом, как и та вещь, которую он
пытается описать.
Романы Белого следуют подобным тенденциям, их автор
демонстрирует, как работает техника остраннения, которой он вполне
сознательно пользуется. Я бы назвал ее техникой немигающего глаза, -
вот что позволяет достигать невероятной скорости, такой, что
предметы, вовлеченные в орбиту отражения, не в силах сохраниться,
они расщепляются, ударяются друг об друга, летят, свертываясь по
77
спирали. Собственно, немигающий глаз - лишь промежуток между
двумя мигами: смотрит тогда, когда ничего не видит. Тем-то и
отличается поздняя литература Белого от практик письма «нового
романа», что в ней «немигающим глазом» провоцируется миметическая
(телесная) реактивность героя романа, «открытость» и «уязвимость»
его судьбы, ведь тот лишь марионетка, что трепещет под ударами
неизвестных сил.
78
Ill
Память памяти
(Опыты по расширению сознания)
Мы не мыслим, мы помним...
А. Белый
Две памяти + одна
Пора обратиться все-таки к ответу на главный вопрос: что такое
самосознание или, по терминологии Белого, «самосознающая душа»?
Каким образом «душа» связывается с памятью и теми когнитивными
возможностями, которыми ее наделяют? В повседневном
существовании мы имеем дело с двумя видами памяти. Одна - память
«заученная», «автоматическая», память, которая «запечатлевается в теле»;
и эта память - «скорее привычка, освещаемая памятью, чем сама
память»171. Другая же память, непроизвольная, накапливающая образы,
так и не перешедшие в действие. Эту память Бергсон определял как
память воображающую, творческую, память как таковую,
вспоминающую. Первая память актуальна, она перегружена телесно-моторным
началом: нет доверия образу или идее, не прошедшей через
телесного посредника, - вспоминает тело. Эта память внедистанционна
- без «глубин» и «рельефов», можно сказать, это память, которой
мы располагаем в каждое мгновение, мы оперируем ею, эта память
помнит нас ... мы же ее нет; она повторяется в настоящем и
существует как настоящее178. Памятью второй, вспоминающей, мы
пользуемся по случаю, не каждый раз, а только тогда, когда в этом есть
нужда. Но главное: это память сновидная, память грез, мечтаний,
бреда. Все, что вспоминается, необязательно должно переходить в
79
Литература как самосознание. Опыт Андрея Белого
действие, оно не актуализуется «сейчас-и-здесь»; прагматика
жизненного поведения требует четких ориентиров для действия (этого
вторая память не дает). Применительно к мнемотехнике Белого я
бы назвал такой вид памяти памятью ускользания (лёта или бегства)1™.
Когда Бергсон выделяет эти два вида памяти, практически не
встречающиеся в чистом виде, он не допускает расщепа сознания, с
помощью которого можно было бы остраннятьодну память другой
(исключая, конечно, «болезни памяти»). Белый не только допускает
это, но и активно использует «выгоды» подобной установки.
Как же все происходит?
Сначала вспоминается, вполне случайно, некий образ, потом он
доводится до большей четкости. Но это «доведение» зависит от
способности нашего тела его повторить, точнее, миметически
разыграть его, инсценировать. Как только мы чувствуем, что способны
сделать это, прошлое восстанавливается (ибо то прошлое, которое
мы способны повторить, пребывает в нас). То, что Белый называет
мигами, атакует наше инертное, спящее сознание, пока один из них
не вызовет в нас далекую ассоциацию с образами тела или с теми
возможностями повторения, которыми мы располагаем. Так
образуется целая цепочка дополнительных образов. Белый прекрасно
знает об этом: «... наше прошлое, тело, сознание же соответствия
предполагает умение душою (момент настоящего) соприкоснуться с
прошедшим, как с телом, такое прикосновение к телу души и есть,
собственно говоря, осознание и переработка всей суммы прошедшего; в
этом работа над телом душою; работа переплавления привычек,
повторов, в текущее, в неповторимое, чрез аналогии, чрез осознание
всех соответствий; в осознавании «тела» раскрытие «тела», как
замкнуто и ограниченно понимаемого душевного мира как мира
душевного, ставшего ассоциативным, привычным»174. Прошедшее должно
быть переработано, воспринято заново, что влечет за собой отказ
от привычки, на основе которой оно проявилось, т.е. создало
телесные образы, переводимые в актуальное действие. Одна память
против другой: воздействовать второй памятью (воспоминанием) на
первую - на автоматизм привычки. Торможение телесной памяти
замечательно передано Белым в языковых экспериментах. Абсолютная
память или память памяти словно до-вспоминает прошлое,
переводя привычку (набор актуальных действий) в план интенсификации
следов прошлого опыта. Привычное о-странняется, о-чуждается, в
нем открываются дополнительные свойства и измерения, и мы
начинаем помнить то, что никогда не случалось... Привычка
вспоминать непривычное, то, что не помнишь.
80
III. Память памяти
Возьмите любую страницу из «Петербурга» или «Котика Летае-
ва», всюду утверждается расщеп между двумя образными системами
памяти: с одной стороны, летучие и неопределенные образы,
невероятная скорость, с какой перемещаются персонажи, лишенные
телесной плотности; проницаемые и легкие, они летят... А с другой, как
слабый противовес - попытки дать «реалистическое» описание:
представить детали обстановки, время дня, погоду, облик персонажей.
Крайне скупы и пусты диалоги, сведенные к незначимому обмену
репликами, им недостает смысловой завершенности. Вне всяких
сомнений, Белый как автор - это машинист в театре марионеток, весьма
странный - он еще и собственная марионетка. Нет ни драматизации
повествования, ни хоть мало-мальски заметной психологической
работы с персонажами; они не имеют ни физической плотности, ни
собственного индивидуального жеста и лишены правдоподобия.
Человек и его тела
...образы тела, нас обстающие; тела ~ наши спутники,
тени; они - список некогда нами свершенного; и
появляются в этом своем обличительном смысле тогда
лишь, когда мы решительно вынуждены
повернуться на прошлое; тот поворот происходит в моменте
рождения само сознающей души.
Смыслы - в жесте: покура, покива, качанья носка.
А. Белый
«Расширение сознания» - это эксперимент, - открытие нового
в сознании, а новое есть фактор, расширяющий действие само-о-
сознания. В традиции картезианской практики «тело»
противопоставлялось «сознанию», «душе» или «духовному»175. В антропософии
тело воспринимается в границах расширяющегося сознания.
Поскольку тело интерпретируется не как вещь, а как состояние сознания.
Нет тела, есть состояние сознания, которое отражается в телесном
образе. Нет одного-единственного образа тела, телесных образов
множество, из них и собираются отдельные тела. Индивидуальное
тело - это собрание тел-оболочек (или «малых тонких тел»); каждое
из них является оболочкой для другого, т.е. находится внутри и вне
текущего ряда действующих оболочек. Оккультные учителя Белого
81
Литература как самосознание. Опыт Андрея Белого
формулируют эти соотношения в терминах ауры: «Выражаясь
обычным языком, аура - это облако, обволакивающее тела, и действительно,
человек живет на каждом уровне в той оболочке, которая более всего
соответствует этому уровню, и все его оболочки или тела
взаимопроникают друг в друга; самая низшая и наименьшая из этих
оболочек обычно называется «телом», а смешанные с телом субстанции
других оболочек называются аурой (в том случае, когда они
распространяются за пределы тела»176. Из степени осознания своего тела,
его оболочности и складывается общая стратегия поведения. Но все
множественные тела-оболочки колеблются, то расширяются, то
сужаются, они - «на переходе», одно тело является оболочкой для
другого. Непроницаемых границ между ними нет. Наше тело - не
просто оболочка, а оболочка, которая раскрывает свое назначение в
другой оболочке, ставшей на какое-то время для нас единственной.
Переходя в себе иное, предыдущее исчезает в этом расширении.
Отрицание границ сознания и есть его расширение - само-со-знание.
Сознание как оболочка тела. Именно в сознании представлено тело
(или там собрано) и нигде более; именно там оно и обретает свою
материальность. Ведь сознание в терминах оккультной
антропософской науки является лишь определенным состоянием тонкой и все
более утончаемой материи177. Можно сказать: нет ничего вне
сознания. И раз сознание универсально, то всякое видение чего-либо
будет определяться отдельным или ему соответствующим состоянием
сознания. Есть четыре таких тела или оболочки: астральное,
эфирное, физическое, ментальное (есть еще и другие смешанные виды,
но их назначение определяется из этих исходных типов).
Человек-животное и человек-Дух
Все части рисунка, окрашенные в черный цвет,
обозначают область, которая находится под
воздействием воли; белые части обозначают,
напротив, область органической жизни, в которой воля
не проявляется непосредственно; это область
человека-животного, низшего астрального существа.
82
III. Память памяти
Астральное начало Начало духовное Физическое начало
Центр: грудь. Расположение Центр: живот.
Проникновение в трех центрах Излучение в грудь
в живот и в голову человека. и голову178
Центр: голова.
Проникновение
в грудь и живот
Высшие уровни само-сознания как раз достигаются благодаря
переходам от одного состояния сознания к другому. Тело физическое,
эфирное, астральное + «я-организация» (ментальное) образуют
психоконструкцию индивида. Некоторые уточнения: в этой конструкции
нет «я» в психологическом смысле, отсутствует интенциональная
активность, индивид так и остается заложником высших сил.
Ключевая мысль, все разом объясняющая, следующая: «...в «Я» сознания
мы люди; в астральном теле мы - со-зверщ в эфирном мы - сорастения;
в теле физическом - со-минералы; и работа над нашими телами в
самосознании есть работа, наделяющая сознанием: зверя, растения,
камня»179. Вот это «со» и есть массивный знак присутствия сознания
(даже там, где его не должно быть). Таким образом, расширение
возможно только за счет этих тел-оболочек, из которых состоит наш
душевно-телесный организм. Насколько мы способны ввести
сознание туда, где его нет и быть не может, настолько мы пытаемся учесть
все наши тела, в которых мы пребываем как бессмертные существа.
А это значит, что мы должны на каждом уровне сознательной жизни
быть способными извлекать знание о том состоянии, в котором
оказываемся, когда воспринимаем мир.
83
Литература как самосознание. Опыт Андрея Белого
сфера
надиндивидуального
тело астральное
эфирное
физическое
Взглянем на диаграмму. «Я-организация» - это дыра, в которой
сокрыт страх, глубинный, первоначальный, всепоглощающий и
неустранимый. Любая точка как место для «я», но точка - также «дыра».
«Я» - символ дырчатости мира, смертности существования.
Углубляясь в себя, «я» не находит ничего иного, кроме страха, поэтому
выброс энергии вовне, поэтому истинная жизнь - всегда рой, быть в
рое, роится, умножаться в роении. Дыры возвращают нас к пустоте
«я-организации», рои высвобождают множество «я»-элементов,
которые стараются перекричать друг друга. Скрыться во многом, быть
влекомым, захваченным, соблазненным, не быть собой. Достаточно
присмотреться к использованию знака личного «я» у Белого, чтобы
понять - это «я» безлично. Иначе говоря, сам индивид представляет
собой дырчатую матрицу, состоящую из макро-и-микрособытий: по
ней проносятся, из нее «выламываются», в нее опускаются,
замирают, вновь подавленные, потерявшие первую силу некогда могучие
рои «первоначального Взрыва». Литературе доверено миметически
освоить опыт телесности, разрешить драматическое напряжение
между дырами, дырчатостью (астральное) и роями, роением,
«взрывами» (эфирное): «... а V, в это царство попавшее, переживает себя
в одном жесте: бежать, бежать, - вырваться прочь»180. Точнейшее
определение «ряда рядов» для Гоголя, как мы помним, все то же:
бегство. Доминирует ритмическое начало: все, что падает, втягивается,
сжимается, уплотняется, погружается, противостоит тому, что
взлетает, стремительно вспыхивает, несется, взрывается,
распространяется, парит, проносится, катится, клубится и т.п. Иначе говоря, в
зависимости от того, какое первоначальное состояние сознания
господствует, складывается и форма строя. А строй и есть
Произведение. В любом случае произведение лишается динамики (развития),
если между различными рядами, возникающими на стыке дыр и роев
по принуждению или спонтанно, обретается временное согласие.
у
84
III. Память памяти
Расширять сознание
Замысел проекта Истории самосознающей души должен послужить
примером исследования памяти, противостоящей забвению. Такую
память Белый и называет памятью памяти181 .Как далеко
простирается близость нас к самим себе, прошедшим и будущим? Время
настоящего переполнено мелькающими «блесками» значений,
которые мы не успеваем постичь. Это вовсе не знаки, которые мы могли
бы расшифровать, не символы, которые могут быть истолкованы,
это знаки-индексы; они указывают на сохраняющиеся в настоящем
следы прошлого, которое мы не в силах извлечь из памяти,
перевести в представление, и тем самым присвоить. 3. Фрейд называл
такую память сигнальной: память, которая нас постоянно беспокоит,
вызывает тревогу. Остро чувствуется неприкаянность прошлого,
его некуда пристроить - где его место в настоящем, раз само
настоящее проблематизируется как время экзистенции? В сущности,
настоящее не интересно Белому. Такой эскиз экзистенциальной
онтологии не нуждается в настоящем, оно должно неизбежно переходить
в прошлое («смыкаться» с ним в кругу памяти) и только там
становиться в качестве подлинного Настоящего. Воспоминание - это
способность помнить некоторые состояния сознания, и даже те,
которые существуют до рождения, - пренатальные. «Вот - первое событие
бытия: воспоминание его держит прочно; и - точно описывает; если
оно таково (а оно таково), - до-телесная жизнь одним краем своим
обнажена... в факте памяти»188. Прошлое толкуется как одна из
неизвестных плоскостей расширяющегося сознания настоящего. Вот
почему в него так легко «вторгается» незабываемая атмосфера
раннего детства, «без-рельефная», в ней все телесно едино:
представляемые вещи будто вплавлены друг в друга.
Принцип памяти памяти, «памяти-себя-помнящей», может быть
переведен в другой терминологический страт и заменен принципом
сознание сознания («расширения»). Но что это значит - расширение
сознания? Это значит, что сознание пребывает в динамике
становления, себя самосо-знает, т.е. является «самосознающей душой». За счет
чего такое расширение возможно? Да и сам термин сознание - что
он, собственно, значит в данном контексте идеи «расширения»? В
сознании часто видят освещение, проницание, интенцию,
внимательность и сосредоточенность на чем-то, а сознавание или разумное начало,
т.е. особого рода видение, с помощью которого можно без искажений
и ошибок представить мир, и принять его таким, каким он дается ...
но в сознании. Мир и сознание неотличимы, различает их лишь са-
85
Литература как самосознание. Опыт Андрея Белого
мосознание. Тогда литература Белого выстраивается по трем уровням
циклической (спиралевидной) сознательной активности: бессознанье,
сознание, само-сознание, (где первое дано как «сырой материал» жизни
до всякого осознания, а последнее как способ расширения сознания,
когда само-со-знается содержание сознания, относящегося к
бессознанью). Если мы хотим расширить сознание, то мы его вводим
везде, где пытаемся нечто наделить смыслом и ценностью. Расширение
сознания - это введение сознания туда, где его нет или недостаточно.
Итак, задача ввести сознание: «1) в область быта, навыков, сонной
грезы, всего группового и родового, во мне коренящегося; 2) в пласт
темперамента, инстинкта, сна без грез, расы, растительности вомнет, 3)
в пласт природного, мертвого, смертного, минерально-косного и
государственного во мне»'83. Но что это дает? Ответ Белого:
«1) расширяет вводимое сознание;
2) видоизменяет его: организуя бессознания, сознание окрашивается
вводимою в него как бы извне пищею; пока эти видоизменения сознания
в нас суть потенции сознания данного, они - сверхсознательные лишь
вспышки; в работе конкретной над расширением сознания в грезу, в сон,
в смерть, в род, в расу, в человечество, в сердце, в живот, в ноги, в зверя
в нас, в растение в нас, в минерал в нас, в историю до нас, в мир до
истории, во все, что ни есть и т.д. в работе конкретной над расширением
сознания растет в нас мСамо»: самосознание складывается: некогда мною
написанный текст, моя личность, оковывающая меня формами,
вырастает в "Я" Индивидуума, в "Я" культуры, в "Я" мира всего»184.
Расширять сознание до тех пор, пока представление о времени,
вводящее разделы и границы расширения, не будет устранено
полностью (или мы перестанем им пользоваться - «идея времени погаснет
в сердцах людей»). Сознание можно признать расширяющимся, если
достигнуто постоянство акта само-со-знания по отношению к любым
содержаниям сознания. Мистическое основание подобной техники
расширения сознания легко объясняется открытием новых уровней
сознания, лежащих за пределами наличного опыта (антропософия)l8s.
Сознание - это всегда и «сознание сознания» (содержания сознания
выступают в качестве объекта наблюдения и оценки со стороны
другого сознания). Итак, сознание расширяется по мере подключения
к нему все большего объема опыта, уже состоявшегося,
«отложившегося» и независимого от условий становления самого сознания.
Другими словами, нет никакого бессознательного, а есть лишь та
часть само-со-знавательного процесса, в котором мы пребываем, стре-
86
III. Память памяти
мясь к овладению смыслом существующего. Что такое «Само»? «Само»
представляет индивидуума личности, или еще: индивидуум как
собрание личин - «я», он их единство; а вот «со», по Белому, означает в
этой формуле «я», личное. Так, само-со-знание будет тем индивидом,
чьи границы проходят через множество личных «я», постоянно
меняющихся, - по содержанию, но не по форме изначального единства.
Смысл - то, что бесконечно расширяется, ускользая; плоскости
сознания расширяются благодаря само-со-знанию, но смысл самого
расширения для Белого непостижим: духовная разлитость
мирового сознания. Собственно, что такое символизм} Это и есть учение о
расширяющемся сознании, когда расширение задается введением
новых символов; символы же возникают на границах отдельных
состояний сознания и удерживают в себе то из опыта, что получило
расширение. В итоге сознание, расширяясь, создает символ на том
месте, где сознание было «введено». Такими стражами-хранителями
смысла («расширенного») и являются символы. Правда, в
«Символизме» Белый чаще пользуется термином эмблема1**.
Вот почему Белым иллюстрацией избрана геометрия спирали1*1:
Вид спирали в плоскости конуса вращения
а — линия спирали.
m, А, В — проекция конуса спирали.
ζ, у, χ — проекция несуществующих кругов,
развернутых в плоскости
87
Литература как самосознание. Опыт Андрея Белого
Вид спирали елевой стороны конуса (в перспективе)
AAA, ВВВ, ССС — треугольники догматических систем,
разнообразно поставленные в разном сочении времени
(развернут в плоскость чертежа),
m — воображаемая линия эволюции,
га — проекция точки эволюции (миг).
гпА, тВ — ангиномия, раскрывающаяся в эволюции
(линия образования конуса вращения спирали).
тА, mD — перспективная обводящая линия
конуса вращения спирали.
Различия открываются в образах спирали, «круга кругов».
Другими словами, это не статическое тождество мертвой формы, а
«живое», динамическое тождество, переходное, оно скользит и
расширяется, вовлекая в отношения с собой все новые элементы.
«В поступательном движении спирали мы скоро б заметили новую
закономерность; заметили б мы, что хотя в каждом миге сознания, или
душевного переживания, мы в новом месте пространства, но в линии,
осознаваемой нами, в спирали, моменты перемещения явственно
перекликаются в соответствиях, ритм повторения звеньев заметили бы мы; и
ритм точек, хотя в каждой точке спирали мы на новом месте, новое мы
сознаем, но стиль нового осознавания аналогичен когда-то бывшему (в
соответствующем моменте покинутого когда-то звена); вместо прямого
88
III. Память памяти
повтора явилось бы в нас представление о соответствии, где изживалось
бы прежнее в новом, и новое в прежнем»188.
Поскольку из миметического тождества нет выхода, да его Белый-
антропософ и не предполагает, то следует допустить динамический
момент: вращение. Поскольку тождество динамично, открыто, оно
и развивается по спирали; она вращается, восходя/нисходя, снимая
различия в гегелевском смысле (aufheben, т.е. не уничтожая), каждая
грань способна образовать собственную спираль. Действуют
центробежные силы, центростремительные ослаблены - постоянное
расширение или рост сознания.
Нет замкнутого круга на себя: спираль образуется от того, что
конусовидная кривая, постоянно расширяясь, избегает замыкания
в круг; она движется благодаря вращательной силе, идущей снизу
вверх, смещая острие конуса вперед или назад (в прошлое или
будущее). Неподвижность эго-центра - стойкая иллюзия нашего «я», лишь
указывает на «Само», индивидуума, связывающего в единство
динамическое множество мерцающих со-поставимых личных «я».
Принцип градации. Мыслить more geometrico
Сначала взрыв, рождение внутри произведенческого времени:
вихри проносящихся мимо мгновений - мигов. Начало миг-времени.
Миги - они мелькают, мигают, проносятся мимо, это мгновения,
которые не «схватываются», не получают отчетливого образа и не
могут быть задержаны и рассмотрены; они несут информацию,
которая принимается тем, что Белый называет «бессознаньем», или
сознанием телесным. Именно в нем откладываются миги так и не
воспринятыми, тем не менее, их следы в памяти устойчивы. Их
помнит тело; оно запоминает то, что не было воспринято осознанно.
Вот это и есть, по Белому, «помнить то, чего никогда не было». Здесь
тело = памяти. Другими словами, тело помнит много больше того,
в чем мы нуждаемся в каждое мгновение жизни. Но как помнит - вот
в чем вопрос! Как извлекается из памяти то, что помнится? «След»,
«частица» или «отпечаток» образа схватывается миметически, но
целое восстанавливается благодаря перераспределению качеств вещей
по методу градации. Ленты градаций бесконечны, они линейны и
текучи. Память памяти - а это есть, как мы знаем, и сознание сознания
- требует для себя такого мыслительного движения, которое
закрепляло бы возможные итоги расширения сознания и распределяло в
89
Литература как самосознание. Опыт Андрея Белого
определенном порядке. По Белому, градация - не «метод», не
«понятие», не «метафизика», не «синтез», не «теория знания», но
исключительно способ мыслить имманентно189. Градация - это искусство
различать качества событий и вещей, не столько устраняющее,
сколько смещающее предыдущую границу различия. Сознавать - это все
больше расширять сознание, а, значит, все более тонко различать.
Граница (имеется в виду внешняя граница) отбрасывается как
принцип организации материала, смысл имеет лишь внутренняя, которая
и играет основную роль в разграничении, задает весь процесс
градации190. А это различие говорит о следующем: внешняя граница,
- это та, что отграничивает, отделяет одну вещь от другой, без учета
ее положения в целостной картине мира. Если же мы говорим о
границе внутренней, то имеются в виду разграничения, которые мы
устанавливаем для того, чтобы определить место отдельной вещи, тона
или качества в едином для них целом; вещь сама по себе в своей
отграниченной автономии здесь не присутствует, она подвергнута
градации. «Вместо установления границы (граница- всегда методична),
следует для за-граничного поискать иной метод; в нужном методе
заграничное превратится во внутри-граничное, спекуляция о границах
есть спекуляция при помощи метода, оторванного от объекта»19'.
Так внутри-граничное получает смысл не границы, т.е. чего-то
непреодолимого и обособляющего, а линии192.
Основное допущение градации как метода: <<мь1сяитьвсечтаесты>
или «Все есть Все»Х9Ъ. Если додумать до конца то, что хочет сказать
Белый (правда, с учетом того, что мы не являемся последователями
антропософа Штейнера), то мы придем к ряду выводов
относительно градационной техники мысли. Прежде всего, все сущее, все, что
есть, имеет Имя194. Нет вопроса, почему сущее «есть», а не «не есть»?
Все есть, что есть, - опыт предельной (сакрально-космической)
полноты бытия. Нет ничего также, что бы не имело имени. Белый
отчасти понимает мысль как перевод того, что кажется специальной
терминологией (оспариваемой и упраздняемой) в собственные имена
мысли. Имя имеет смысл прошедшего события, оно и есть
завершенный образ состоявшегося. Между всем, что есть, не существует
никакой заведомо избранного типа связи, взаимодействия или
соотношения, кроме одного: все есть, или все имеет место быть. Все
изменяется, изменяя каждую вещь в отдельности. Обмен именами - это
и есть техника сопоставления (паратаксиса) в текущем настоящем
того, что пребывает в прошлом и еще не пришло из будущего.
Градация состоит из «градов», граней, она текуча, и поэтому нельзя пред-
90
III. Память памяти
ставить себе, чтобы ее текучесть могла быть остановлена. Текучесть
- знак временности или длительности протекания каждого
отдельного мига; все названо и разграничено в тех временных
промежутках, которые мы называем мигами. «Таблица - субъективна, конечно;
она лишь намек на то, как расставляемы иные из представлений,
если мы дадим место в нас жизни мысли в градационной текучести»195.
Откуда бы ни пришла интуиция начальной градации, она тут же
становится градацией всех других градаций. Градация для Белого -
некий образ синтеза как соединения несоединимого. В таком случае
мыслить - это составлять графики и таблицы, рисовать картины,
показывать эмблемы. Что означает, например, составить таблицу?
Вот примеры таблиц:
яти"
То
нг
JIUuy
То
Ь\
[llH|uliju8uyiè
.M^OOuu^u^twvft
Гоиь
ipa*a&.^
nayijpci,Au<y*a
^L
ToHvJ
Механициз^»*
91
Литература как самосознание. Опыт Андрея Белого
1№Кросиое {ОроиэкгЕрКЕлтоермгное Ьрлу8ое гСинее рГЧодет Iwot
прото
(ТИЛЬ
ТАР
g во
Тррдр
χι %
инЫи
teil
ΟΡΓΑ
комп
лею
ДгрансцеиДмиьти
tnwi/il шип/1
до«*
эле·
/v\PHÎb
СТб«Р
шноё
лете
ИЦМ
ннспи
рлтя
|ИМАГй|
МАЦ*
ЬАН'.В
VfX А\ I
feenjh
ЯШ
рдэЗра\
СИН
ТРЗЬ
m
КЛМ(И
Onw
низмъуженИ/С/Шг
НОНСТ
рукци
1Ш
UAHHÖi
prod
Mm
'now|ie
РА1УМА|
Cum
HOCTèJ
Суш;
!Î|ïûto*|
tmm
wriûfiq
Bua
fia
r^HtpAU MO рт(И
АЛЬ riOMDAAtXM*
OpfÄ
CKÔf
Хй
MuTTi
СЛОГ
:ime|Hinp
(КО? CKOf
e/ty
нее
скот
фу
Зи7Г
сно<
ГиоВгД
имннц
1
X
сксе (кое!
IflJCUl«
рммгюз!
HofiHOé
АЛЬ
Mo?
Метафизическое едшст»о(дл
Норма птиаки« /
г Метафизика Теурги«
Этйчесха* норма N
ч^Тсори» энанкя Творчество у
догматов/
Гяоссояогв*
Яраш
Религиозное
творчество
Правовое
творчество
Творчест«о\ - /эспгг
Психолога* \ /Форм» «"τ* 6ьгтз \ / творчество
ТШеимям Действительиосгь\уформа обрадо» /£% Содержа«»«
L образю*
Психофизика
Техника
Описательна«
ПСЙКОЯОШ«
!>Ы
Творчество
техники
Мифотворчество
Идояотаорчсство
Примитивный
СКМК9ЯЯЗМ
Самосознание Образ с
Муздеадммя стих««
Хаос
92
III. Память памяти
Градация - это не строгая классификации: и она обязательна для
мысли, мыслящей синтетично, т.е. мыслящей все, что есть. С помощью
градации учитывается по сути дела неограниченное число
существующих различий. Именно эти различия и указывают на
первоначальное единство. Цель - со-положить рядом-друг-с-другом разделенное для
возможного конечного Синтеза. Замечу, синтеза потом, не сейчас,
синтеза отложенного, пока этот бесконечный ряд градации не будет
завершен. Другими словами, речь идет не о синтезе, а о единстве как
мировой матрице человеческого опыта в целом. Вот типичные
образцы, как мыслить градационно:
«Философия в антропософии градационно течет; она - не
мировоззрение, не конструкция, не система, не синтез, не символизм, не эмблема,
не индивидуальное переживание, не творчество, не диалектика, не
идеология, не учение о всеобщем. Философия здесь градационно берется;
в абстрактно-мировоззрительной своей стадии она - описание
данностей в рассудочных категориях; в миронастроении дуализма она -
классификация мира явлений, как представляемых впечатлений; феноме-
налистический лейтмотив в ней звучит; в стадии учения о всеобщем
философия (она) есть система конструктивных методов; в
синтетической своей стадии она - слияние идеологий, переживаемое, как
градация индивидуальных действий (индивидуализм); в стадии конкретной
символики она есть иерархия ритмически протекающих метаморфоз,
как творческих, диалектических развиваемых действий в круге (со-дей-
ствий); в стадии созерцания она - созерцание идей, где идея есть
духовное существо, братски видимое в логическом таинстве; в стадии
"теоретической", в "усоума" собственно она есть само стояние в Логосе, как
в Идеале и Смысле. Чистый смысл ее тут»196.
«Из Логоса выводится существо: существо это - логика; существование
- логический мир; здесь мысль - интуиция; сгущение мысли - восстание
мира: восставший мир - братство существ интуиции; это братство есть
таинство; в таинстве излучаются вестники; мысли здесь вестники; вест-
ничество - первое сгущение мысли; ангелология логики - тут; и тут -
созерцание; состояние созерцания мысли - инспиративные мысли; ин-
спиративны - идеи; онтология логики понимаема созерцательно;
абстракция онтологии есть чудовищность; онтология логики - существа
и каждое струит образы; кипение образов - уплотнение второе; кипение
- идеация, метаморфоза, диалектика, творчество, ниспадающая
иерархия; логика духовной науки, в этой стадии взятая, может быть условно
названа: теорией творчества...»'97.
93
Литература как самосознание. Опыт Андрея Белого
Можно привести еще примеры подобных мыслей-градаций,
которые, на первый взгляд, кажутся какими-то шифрами, образцами
эзотерики, т.е. совершенно недоступными для понимания со стороны
непосвященных. И это верно. Во-первых, мы здесь отвлекаемся от
проблемы определения самой философии и пытаемся анализировать
лишь примененное Белым искусство градации. Мы выделили частицу
местоимение «она» (т.е. философия), которое прямо указывает на
сосуществование несоединимого; в следующем образце мы видим то же
самое: там логика отношений со-существования подтверждается
частицами: «здесь»у «тут», «это», а также всюду повторяемым
отношением равенства имен в обмене, который-то и создает возможность
текучести. Одно приравнивается другому, поскольку из него
«вытекает»; равенство в мгновенном тождестве и есть переход, который
требует продолжения. Другими словами, эта логика со-существования
разнородного (несоединимого) не исчерпывается сопоставлением
двух мыслей и требует дополнения, и это усилие по дополнению
списка, который нельзя завершить, ведет к отказу от Синтеза (точнее,
он постоянно откладывается)198. Принцип «Все есть Все» вполне
сравним с принципом тотального тождества (угроза неразличения
различенного, или тавтологии)'". Почему к логике тождества относят те
мысли (предметы, имена, термины), которые важны как раз тем, в
чем они различны. Но, если мы будем внимательными, то заметим,
что такие градационные формулировки, как сознание сознания, память
памяти, фигура фигур, круг круга, атом атома, сон сна, часто
используемые Белым, выражают собой все тот же принцип. Формула «Все есть
Все» может быть легко прочитана как «Все Всего»200. А это значит,
что сходство здесь устраняет эффекты смежности. Всепоглощающая
мощь мирового Мимесиса. Белый строит формулу единства на
основе бодлеровского понятия корреспонденции («всего со всем»), а это
возможно с позиций символизма, ибо всякий элемент мироздания имеет
дополнительное измерение, которое указывает на то, какому уровню
космического единства он принадлежит. Дополнительное измерение
есть символ, который только «кивает», «строит намеки», т.е. создает
чисто миметический эффект, без которого было бы невозможно
сопереживание космического соответствия всего со всем. Поэтому нет
ничего удивительного в таких пассажах: «Тела наши - Космос; мы ими
слиты со всем тем, что вне нас; погружая сознание в сердце, в желудок
и глубже, - себя расширяем до мира: ведь сердце связуемо с солнечным
ритмом; и ритмы биения - ритмы вращенья планет; и все зодчество
костного мира есть зодчество древнего мира Сатурна»201. Создание
единой интегральной схематизации всех уровней и элементов созна-
94
III. Память памяти
ния, находящегося в непрерывном процессе становления, дает
мощную иллюзию сохранения «всего, что есть», - космоэтику мысли.
Принцип градационного картирования психической и
ментальной реальности стал общим местом в современной
трансперсональной психологии. Выстраиваются невероятно сложные матрицы
разных уровней сознания. Установление интегративных связей для
разнородного (отбор, классификация, тематизация материала наук) и
есть вот основная работа трансперсонального философа и
психолога. Явные методологические (да и онтологические) сходства между
оккультными теориями (антропософией Р. Штейнера) и
современными попытками конструирования планетарного Сверхсознания
(космического). По сути дела, доминируют все те же градационные
техники. Развертывание первоначальных матриц Космосознания идет
на основе принципа линейности, - границы между одним и другим
устанавливаются, чтобы их отменить в третьем элементе, позиции
или термине*08. Умножение этих разделов, частота введения их
только увеличивает пластичность и необходимость переходов от одного
к другому. Линия напрямую соотносится с реальными силами,
воздействующими на отношение терминов, и она всегда между, т.е. не
«от-и-до» как граница; сближая, она скользит далее, не превращая
отношение со-существования в нечто застывшее и «мертвое».
Градация, можно сказать, это живое время сознания. Термин, имя, тип
или любое тематически завершенное высказывание являют собой
по отношению к другому переходную границу, граница к границе и
т.д.; требуются все новые линии, улучшающие порядок
раз-граничения, и все это происходит внутри интегральных матриц смысла (у
Белого - «эмблематик смысла»). Например, составляются десятки-
сотни матриц-таблиц, где линейность дана в корреляции, то есть все
линии в каждой таблице одновременно корреляционны себе и всем
тем внешним силам, которые действуют в других матрицах-таблицах203.
Дополнение к теме: «палеонтология сознания»
... Я не сон, не фантазия
Я птеродактиль
Эй ты, развернем-ка зубчатые крылья из блесков
И ринемся в просвистни: в миги сознания...204.
...гад это «Я»
А. Белый
95
Литература как самосознание. Опыт Андрея Белого
В центре палеонтологии сознания - древнейшее «я»,
захваченное смутно-темным страхом, первоначальным ужасом, тяжестью,
которая заставляет цепенеть. «Глубинное» миметическое чувство не
в силах выразить себя, не прибегая к образу Зверя, ведь оно должно
отразить в нем первоначальный ужас бытия, объективировать его205.
Линия звериного есть линия мимесиса, проходящая по границе между
человеческим и изначально диким. Еще не рожденное «я»
вспоминается Белому в астральном облике птеродактиля (и всех других
летающих и ползающих гадов) «... знаки нам не были сказкой драконов,
а явью когда-то живых птеродактилей»2**. Но тут же его охватывает
ощущение необычайной легкости, радость бегства, сверхбыстрого
лета: «Никогда не рождался, летаешь в космической сфере: сперва
нападали страннейшие миги во сне на меня: я, проснувшись, все
силился вспомнить мелькнувшее: в памяти находил только память, а
содержания не было...»207. Можно сказать, что эта память
открывается в сновидческих фантазиях: «...на дне своих снов нахожу память
памяти (первого мига), сон сна»208. Память тела - это сложный
комплекс переживаний, дающих возможность ориентировки в прошлом;
феноменальное тело прокладывает пути и в наших снах, - телесный
след как момент движения, которым должен овладеть рассказчик,
чтобы вступить в прошлое. Насколько мое тело способно
удерживать в себе следы прошлого опыта, да и быть им самим, настолько
способно открыть нам до-человеческое существование.
«Недоказуема правда; она - очевидность; она - факт сознания: аксиома,
без допущения которой деление мира во мне на мир снов и мир яви -
немыслимо: помню: чудовищный гад, размахавшийся перепонками
крыльев, и "Я", на которого он устремляется, пересекаемы в пункте
пространства и времени: гад - это "я": мир - младенец, к которому низле-
тает ужасная гадина, или - тело младенца; одновременно: "гад" - тело,
которое налезает на "я"; "Я" ж низвергнуто в тело полетом; и - да: "это"
- было; но доказать нет возможности, потому что слова принимают
крылатое очертание снов, мною виденных, - уже после.
- "Не сон это все".
Мне ясно:
за морем невнятности моего обыденного сна мне рисуются памятью
воспоминания о моментах обыденной жизни; и - факт сознавания:
память о чем же?
Мой миг - насквозь память: о чем? Содержание памяти возникает
впоследствии: папа и мама, и няня, и дядя, и тетя, и - прочее... Но нет здесь
ни папы, ни мамы, ни няни... квартира, в которой мы жили? она возника-
96
III. Память памяти
ет поздней: ощущения роста? Но здесь, в ощущениях беспредметности,
нахожу я предметами -"память": о круге предметов, которые после
не встретились мне ни в кошмарах, ни в снах, ни в реальности прозы; к
утраченным образам памяти сны, - как бы органы зрения, потерявшего
жар созерцать: так слепые, расширив зрачки, видят муть. Мои сны
ощущаются мутью угасшего взора, который еще по привычке старается видеть.
И - нет: он не видит уже.
Эти сны указуют на содержание памяти: но содержание это - опять-таки:
память
С изумлением вижу позднее, что память о памяти (молнии, нас
осеняющие безо всякого содержания) культурою мысли и тем, что в
учебниках йоги зовется путем медитации, - из молнии превращается в
наблюдаемый пункт, а способности в нас дотянуться до пункта протянутой
мыслью развертывают убегающий пункт в прихотливый линейный
орнамент; и мы - за ним следуем; мифами небывалых орнаментов
раскидается пункт, процветая, как колос; и факты сознания, о котором забыли
давно мы, - поют свои были.
В орнаменте убегающих линий - от первого мига в миганье до-первое
- учимся мы путешествовать в мир до-рожденного; и - познавать при-
летание "Я" в мир дневной и обратно: читаем события жизни души
после "мига", который наивное знание называет нам смерть»209.
Функция памяти, приводящая к вытесненному опыту прошлой
жизни, - жизни не прошедшей, а той, которая была и есть всегда. В
сновидениях и других безотносительных опытах жизни проступает
прошлое, где «мое тело» имеет свой нечеловеческий эквивалент.
Память памяти - это память по поводу сознания памяти, или того, что
Белый называет «документом сознания»210. И вот это самое
удивительное: помнить себя в 2 года, 3, в 4-5 лет, - движение памяти по кругам
застывших сознаний: вспоминается не то, что действительно было, а
как это было, или как содержание памяти тогда было включено в
детское, почти «эмбриональное сознание». Невозможная позиция. Но
тогда и глоссолалия - это и есть забытая речь, на которой я начинаю
говорить, как только начинаю использовать резервы памяти, в
терминологии Белого, - «память памяти»811. Остается только наблюдать, как
Белый мягко, но настойчиво убеждает нас в кентавризме (монструозно-
сти) героев «Войны и мира» и «Анны Карениной» Л. Толстого. Из его
«палеонтологических» гипотез следует, что «глубинное»
миметическое переживание относится к астральному слою личности. Память,
которая нас припоминает, но которую мы сами не помним, -
вероятно, это родовое бессознательное- приводит нас к палеонтологической
97
Литература как самосознание. Опыт Андрея Белого
памяти, универсальной, до-человеческой, предшествующей нашему
рождению. Все эти предположения следует воспринимать чисто
символически: образ животного как маска или эмблема человеческого,
не просто символ, а ритмическое начало жизни, к которой эта жизнь
стремится. «Осознание в себе животного рода и снятие с этого
животного рода всех его мифологических атрибутов есть незаметное
углубление самосознания в гущу чувств, где обнаруживается и соплетенность
гущи этой с телесным миром; и в первую голову с миром
астральным...»212 Все соединяется в пределах доступа к разным ярусам памяти,
вплоть до той животной, дочеловеческой, которой мы уже не обладаем.
«...и Вронский - себя сознающая "лошадь"; "собака" - астральное тело
Ростова; в картине охоты в «Войне и мире» сознания собачьих людей,
Николая Ростова и дядюшки («Чистое дело - марш») расширяются до
бытия, - но... но... - «именем каким его назвать»; потому что внырнули
все-все вдруг в собаку; "собаками" скачут за волком; вчитайтесь же в
сцену охоты, и вы поразитесь с каким мастерством Лев Толстой переходит
от вскрытия сознания охотничьего к описанию бегущей собаки; вот
еще дяденька ("Чистое дело - марш") и еще он, еще он, и не он: вовсе
пес; все вот псы, только псы; это тело - астральное, вскрытое так
безболезненно; миг и кричат над растерзанным волком тела»213.
«Обратный порядок, жизнь памяти, память о прошлом, не внешняя
память, а память о памяти, - фон, подстилающий все восприятия души
ощущающей в образах, данных Толстым; в описании того, как сливается
Вронский с любимой лошадью (скачка из "Анны Карениной"), - Вронский
уже есть кентавр: "душетело", или "телодуша"; то же третье, чем тело с
душою сливается, что порождает "кентавров" толстовского творчества (или
человекоживотных) есть "Я", вне-телесное и вне-душевное,
выделившееся из сферы душевной, еще не вошедшей в телесную сферу: Толстой,
заработав одной стороною в душе, а другою просунувшись в тело,
рождает чудесных кентавров, в которых животная часть, - человечится»"4.
«....память о памяти: то, что нам так убедительно, что так понятно в
Толстом, что в другом показалось бы бредом... есть магия воспоминаний
доисторической жизни»"15.
Вот описание травли волка из «Войны и мира» Л. Толстого:
«- Улюлю! - не своим голосом закричал Николай, и сама собою
стремглав понеслась его добрая лошадь под гору, перескакивая через водо-
98
III. Память памяти
моины в поперечь волку; и еще быстрее, обогнав ее, понеслись собаки.
Николай не слыхал ни своего крика, не чувствовал того, что он скачет,
не видал ни собак, ни места, по которому он скачет; он видел только
волка, который, усилив свой бег, скакал не переменяя направления, по
лощине. Первая показалась вблизи зверя черно-пегая, широкозадая
Милка и стала приближаться к зверю. Ближе, ближе... вот она
приспела к нему. Но волк чуть покосился на нее, и, вместо того, чтобы наддать,
как это она всегда делала, Милка вдруг, подняв хвост, стала упираться
на передние ноги.
- Улюлюлюлю! - кричал Николай.
Красный Любим выскочил из-за Милки, стремительно бросился на
волка и схватил его за гачи (ляжки задних ног), но в ту же секунду
испуганно перескочил на другую сторону. Волк присел, щелкнул зубами и опять
поднялся и поскакал вперед, провожаемый на аршин расстояния всеми
собаками, не приближавшимися к нему» "1б.
Известная сцена «скачек» из романа «Анна Каренина»:
«"О, прелесть моя!" - думал он на Фру-Фру, прислушиваясь к тому, что
происходило сзади». "ПерескочилГ - подумал он, услыхав сзади поскок
Гладиатора. Оставалась одна последняя канавка в два аршина с водой,
Вронский и не смотрел на нее, а, желая прийти далеко первым, стал
работать поводьями кругообразно, в такт скока, поднимая и опуская
голову лошади. Он чувствовал, что лошадь шла из последнего запаса;
не только шея и плечи ее были мокры, но на загривке, на голове, на
острых ушах каплями выступал пот, и она дышала резко и коротко. Но
он знал, что запаса этого с лишком достанет на остающиеся двести
сажен. Только потому, что он чувствовал себя ближе к земле, и по
особенной мягкости движения Вронский знал, как много прибавила быстроты
его лошадь. Канавку она перелетела, как бы не замечая; но в это самое
время Вронский, к ужасу своему, почувствовал, что, не поспев за
движениями лошади, он, сам не понимая как, сделал скверное
непростительное движение, опустившись на седло. Вдруг положение его изменилось,
и он понял, что случилось что-то ужасное. Он не мог еще дать себе
отчета в том, что случилось, как уже мелькнули подле самого его белые
ноги рыжего жеребца, и Махотин на быстром скаку прошел мимо.
Вронский касался одной ногой земли, и его лошадь валилась на эту ногу. Он
едва успел выпростать ногу, как она упала на один бок, тяжело хрипя,
и, делая, чтобы подняться, тщетные усилия своей тонкою потною шеей,
она затрепыхалась на земле у его ног, как подстреленная птица.
Неловкое движение, сделанное Вронским, сломало ей спину. Но это он понял
99
Литература как самосознание. Опыт Андрея Белого
гораздо после. Теперь же он видел только то, что Махотнн быстро
удалялся, а он, шатаясь, стоял один па грязной неподвижной земле, а пред
ним, тяжело дыша, лежала Фру-Фру и, перегнув к пему голову, смотрела
на него своим прелестным глазом. Все еще не понимая того, что
случилось, Вропский тянул лошадь за повод. Она опять вся забилась, как
рыбка, треща крыльями седла, выпростала передние ноги, но, не в силах
поднять зада, тотчас же замоталась и опять упала на бок. С
изуродованным страстью лицом, бледный и с трясущеюся нижнею челюстью,
Вронский ударил ее каблуком в живот и опять стал тянуть за поводья.. Но
она не двигалась, а, уткнув храп в землю, только смотрела на хозяина
своим говорящим взглядом.
— Ааа! — промычал Вронский, схватившись за голову. — Ааа! что я
сделал! — прокричал он. — И проигранная скачка! И своя вина, постыдная,
непростительная! И эта несчастная, милая, погубленная лошадь! Ааа!
что я сделал!»817.
Символистская доктрина в литературе проверяет себя через
отношение к животному, - к «Зверю», не к «Машине» (например, в
отличие от авангарда, целиком себя связавшего с машиной и ее
вариациями в разных эстетических формах). И этот зверь всегда «под
рукой», он в нас и мы в нем. Как можно видеть, пантеизм Толстого
пересекается с антропософскими медитациями Белого.
Д.Г. Лоуренс, не теософ и не мистик, хотя известен
сакрализацией опыта сексуальности, полагал, что мы наряду с нашим миром
можем наблюдать существование других миров; близких нам, но
недоступных, смежных, но бесконечно чуждых. Граница между мирами
живой природы и человеческим, между дикостью мира индейцев
Мексики и нашей цивилизованностью настолько глубока, что
преодолеть ее - напрасный труд: «Образ мыслей индейца отличается
от нашего и губителен для нас. А наш образ мыслей отличается от
его, и губителен для него. Два пути, два потока никогда не
соединятся. И не смогут сосуществовать. Меж ними нет моста, нет связи»218.
И в другом месте, еще более радикально: «Это парадокс
человеческого сознания. Притворяться, что все мыслят одинаково, -
ввергнуть себя в хаос и небытие. Попытка один поток сознания выразить
с помощью понятий и терминов другого, с тем, чтобы разобраться
в том и другом, поведет нас по ложному и при этом
сентиментальному пути. Единственное, что вам остается - поселить в своей душе
маленький призрак, который различает оба потока или даже много
потоков. Ибо человек не может иметь разные мироощущения. Каж-
100
III. Память памяти
дый принадлежит к одному определенному типу. Он даже может
менять его. Но ему не дано идти одновременно двумя путями, быть
обладателем двух типов сознания. Это невозможно»219. Итак,
отношение к другому миру определяется нашей миметической реакцией,
устрашающей нас самих (настолько часто она бывает шокирующей).
Мы невольно подражаем тому, или «чувствуем» то, что крайне
опасно для нас, что способно нас просто уничтожить. Как бы этого ни
желали, но нам никогда не вступить, по мнению Лоуренса, в ту
древнюю ночь природного начала, где обитает гордое животное - «конь
Сент-Мор»: «Но в его темном глазу, глядевшем своим туманным
коричневым зрачком, облако вокруг темного огня, был словно целый
мир, отличный нашего, - там пылала темная жизненная сила, а
внутри огня - иного рода мудрость...»220. Ближайшая опасность, тот
именно дикий взгляд животного, который не понимает тебя, более
того, признает твое существование случайным. В своем эссе Лоуренс
рассматривает индейцев и животных (попугаев, дельфинов, коней,
белых и черных людей, китайцев и пр.), всех тех, кто представляет
другие миры, как абсолютно Чужих. А раз так, то нет никакой
переходной зоны для понимания и прощения, «нет контакта». Лоуренс
в чем-то солидарен с мыслями Декарта, который считал животных
воплощением «чистых страстей».
101
IV
Ножницы
Психоаналитический экскурс в судьбу
Во многом непонятны мы, дети рубежа:
мы ни «конец» века, ни «начало» нового,
а - схватка столетий в душе; мы - ножницы
меж столетьями; нас надо брать в проблеме
ножниц, сознавши: ни в критериях «старого»,
ни в критериях «нового» нас не объяснишь.
В сотнях мелочей быта - растут ножницы мне:
трагедия подстерегает из всякого угла, во всякую
минуту; никогда не знаешь предлога к очередному
«взрыву»; а каждый взрыв угрожает разъездом отца
и матери; для меня же этот разъезд - конец миру,
конец моего бытия.
А. Белый. На рубеже двух столетий
Начало начал: «скарлатиновый бред»
Воспоминания Белого фантастичны и тенденциозны; они
строятся по одной когнитивной модели: сверхчувственная близость
взрослого «я» детским переживаниям. Так обострение болезни в раннем
детстве («скарлатиновый кризис») вспоминается им, как первый
проблеск сознания, как становление той памяти, которая начинает
учить человеческое существо помнить себя. Окончание скарлати-
нового бреда, выздоровление - чуть ли не травма рождения,
«выхода на свет» (дается ее точное описание, словно по
психоаналитическому рецепту, хотя известно, что Белый крайне отрицательно
относился к психоанализу)821. Маленький Боренька Бугаев стал
символистом за 60 скарлатиновьгх дней; воспоминание уходит в глубину
и застывает на отметке 2-х лет.
«Скарлатиновый бред - моя генеалогия; и все то, что нарастает в нем в
описываемых шестидесяти днях, еще престранно окрашено; еще я не
верю в мирность и безопасность поданной яви, которой изнанка- только
что пережитый бред; я удивляюсь силе воспоминаний о пережитых бре-
дах в эти шестьдесят дней; она сложила морщину, которую жизнь не
изгладила; выгравировался особый штришок восприятия, которого я не
встречал у очень многих детей, начинающих воспоминания с нормальной
яви, а не с болезни; в их сознании не двоится действительность; в момент
образования первых образов быта они уже раздвоены памятью,
повернутою на бред; особенность моей психики в усилиях разобраться между
этой, мирной картиной детской, и тем мороком еще недавно
пережитого; все доносящееся из-за стен (хаос говоров, споры, переживаемые
каким-то ревом) заставляет меня опасаться и вздрагивать; если я кану
туда, я кану в бред, из которого я вырван в детскую; словом: раздвоение
между дионисической стихией и аполлоновой я уже пережил в эти шестьдесят
дней, как распад самой квартиры на детскую и неизвестные, может быть,
ужасные пространства квартиры, адекватные мне неизвестному миру.
Черта между известным и неизвестным - отрезывающий детскую от
гостиной небольшой коридорчик; различия между Арбатом и гостиной
еще не было...»"'.
Конечно, наше сознание вполне может хранить память о
высокой температуре - поверх видимого наброшено что-то вроде
жаровой вуали, сильный жар как «сплавление всех вещей». Бредить -
ничего точно не видеть, мир и ощущения сливаются в одно зыбкое
трепещущее тело, тело-атмосферу. Белый делает комментарий: «...одной
стороной сознания помню свои переживания действительности в
период, когда еще не было мне установки дистанции, переживание
растущего тельца, блеск звезды, голос матери подавался мне без
всякого рельефа; помню свои безрельефные переживания; они - переживания
погруженности во что-то текучее»883. Восстановление прошлого идет
из самого прошлого, из тех сцен и образов, которые могли бы
существовать в прошлом, но никак не в сознании вспоминающего. Но он
убеждает нас, что не просто помнит себя в возрасте чуть ли не
младенческом (от двух месяцев до года), но и способен вернуться к
своему детскому, малому «я»884. Главное здесь, конечно, не факт
воспоминания (а был ли он?), а те картины, в которых отложились ранние
103
Литература как самосознание. Опыт Андрея Белого
переживания страха перед «смертью». Речь идет об
исключительном моменте жизни: рождении само-сознания. Как если бы благодаря
вспышке заболевания маленький Боря Бугаев (между двумя и тремя
годами) обнаруживает страх перед смертью и то малое «я», которое
всеми силами пыталось ее избежать: «Интересно ведь: сознание о
том, что «я»-«я» пришло ко мне в жару; и я боялся как бы, что «я» -
погаснет; может быть, это явление физиологического страха
смерти? Может быть, это - сама борьба со смертью в обессиленном
организме моем»"5. Вывод: рассказывая о младенческом опыте «смерти»,
Белый попытался объяснить, откуда происходит его особая
впечатлительность (чувствительность), а с другой, - почему она не
противоречит необычной «зрелости» детского самосознания.
«Возвращаюсь к норе, откуда вылезло сознание ребенка; нора - болезнь,
высокая литература; сознание - прорезалось, а 40° жара подало вместо
предметов - жар; сознание на миг лишь пролезло в промежуток между
болезнями, уцепилось за эмпирическую картину квартиры; и опять:
откинулось в жар скарлатины: в жару забарахталось»8*6.
«...представьте ваше сознание погруженным в ваше подсознание;
представьте его несколько ослабленным от этого, но не угасшим вовсе;
невероятная текучесть характеризует его; и объекты подсознательных,
растительных процессов, жизнь органов, о которой потом мы уже
ничего не знаем, проницая психику физиологией, самую эту физиологию
мифизирует весьма фантастически; я копошусь как бы в другом мире,
переживаю предметную действительность комнаты не как ребенок,
живущий в комнате, а как рыбка, живущая в аквариуме, поставленном в
комнате; представьте себе эту рыбку сознающим себя ребенком, и вы
поймете, что действительность ему подана как сквозь толщу воды.
Четырех лет ребенок уже вылез из аквариума; и тот, кто проспал свою
трехлетнюю жизнь и проснулся к жизни четырехлетним, уже никогда не
переживет того, что он мог бы пережить, если бы память у него была
длиннее и сознание сложилось ранее»227.
Другой вопрос: возможно ли действительно восстановление
детского восприятия? Некоторые психологи (А.Шахтель, Ж.Пиаже),
пытаясь поставить под сомнение психоаналитическую теорию
амнезии («вытесненного воспоминания»), отрицали сам факт
существования воспоминаний раннего детства, полагая, что если они и «есть»,
то выступают в сознании перекодированными на языке взрослой
психики888. Ребенок не обладает навыками удерживать свои впечат-
104
IV. Ножницы
ления, поэтому они и не могут сохраниться. Поскольку он
сообщается с миром преимущественно на основе предистальных ощущений
(обоняние, тактильные, термические переживания) и не владеет в
должной мере дистальными (слуховые и зрительные), механизм
памяти оказывается у него недостаточно развитым. Другими словами,
он не может помнить то, что «не понимает». Если же он вспоминает
то, что не понял, то эти воспоминания являются искаженными или
«сочиненными». На это можно возразить, что наши воспоминания
непрерывно преобразуют память, мы не имеем ни одного «точного»
воспоминания. И взрослый некоторые явления повседневного
опыта может «не понимать», т.е. не иметь языка для воспроизведения,
и тем не менее, прекрасно помнить"9.
«Первичная сцена». Два голоса и тот, кто не смеет говорить
Развитие личности Белого получает толчок в силу
неразрешимости конфликта между двумя силами, отцовской и материнской.
Понятно, почему отношение к себе и жизненным обстоятельствам
описывается им по правилу ножниц; они - символ фундаментального
расщепа (сознания); символ остраннения личности.
Рассмотрим семейную сцену более внимательно.
Это мир домашнего апокалипсиса, скорый и сокрушительный
конец переживался вполне осознанно самим ребенком, по
признанию Белого, уже начиная с четырех лет. Отец - собиратель книг, чья
библиотека разрасталась новыми приобретениями, которые
размещались в пыльных книжных шкафах и заполняли собой коридор,
угрожая пересечь черту, которую стойко охраняла мать, не давая
отцу ни шанса проникнуть в детскую или гостиную, отвоевать хотя бы
клочок квартирного пространства... Отец как будто загнан в угол, в то
же время экстерриториален; будучи таким же кочевником, как и сын,
он совершает набеги на территорию, захваченную матерью.
Постепенно отец-чудак изгоняется за границы гостиной и лишается права
на свободное перемещение, ему запрещается без надобности
покидать свой кабинет. Непреодолима «граница» между гостиной и
кабинетом. Мать, стремясь удержаться на уровне хозяйки модного
салона, старается устранить мужа из собственной светской жизни как
досадную помеху. И это ей удается. Воспитание же сына строится на
основе подавления и ретушовки всех черт, хоть в чем-то
напоминающих отцовские. Красота матери (одна из первых красавиц Империи)
и физическая непривлекательность отца, скифское узкоглазие, не-
105
Литература как самосознание. Опыт Андрея Белого
опрятность... но в то же время масса достоинств, доброта и
отзывчивость, к тому же выдающийся ум, крупнейший русский математик,
философ. Неравный брак: отец и мать, а между ними их
единственный сын, отчасти унаследовавший раннюю ангельскую красоту
матери и почти скопировавший творческую силу и безумие отца-чудака:
«...и - главное - уже их борьба из-за меня; я себя чувствую схваченным
отцом и матерью за разные руки: меня раздергивают на части; я вновь
перепуган до ужаса; я слышу слова о разъезде; я слышу: кто-то матери
предлагает развод с отцом; но отец не отдает меня, и мать из-за меня остается
в доме. Я уже без всякой защиты: нет няни, нет бонны; и они разрывают
меня пополам; страх и страдание переполняют меня; опять - ножницы,
но на этот раз не между бредом и детской, а между отцом и матерью»"30.
В другом месте:
«Во всех планах жизни ножницы разрезали меня; и во всех планах жизни
ножницами разрезал я разрезы жизни; так преодолевал я проблему
ножниц; оспаривания отцом и матерью правоты их взглядов разрешил я
скоро в неправоту их обоих, противопоставив им мое право на свой взгляд на
жизнь и на свое объяснение явлений жизни; моя эмпирика заключалась
в выявлении моих безыменных, мне не объясненных никак переживаний
сознания; и я уже знал, о чем можно спрашивать, что объяснимо
родителями и что ими не будет объяснено никак; это последнее я затаил».*31
«Я нес наимучительнейший крест ужаса этих жизней, потому что
ощущал: я - ужас этих жизней; кабы не я, - они, конечно, разъехались бы;
они признавали друг друга: отец берег мать, как сиделка при больной;
мать ценила нравственную красоту отца; но и - только: для истеричек
такое «цененье» - предлог для мученья: не более.
Я был цепями, сковавшими их; и я это знал всем существом: четырех лет;
и нес «вину», в которой был неповинен. Оба нежно любили меня: отец,
тая экспрессию нежности, вцелился в меня ясностью формулы; мать за-
терзывала меня именно противоречивой экспрессией ласк и
преследований, сменяющих друг друга безо всякого мотива; я дрожал и от ласки,
зная ее эфемерность; и терпел гонения, зная, что они - напраслина»."3"
Два этих главных голоса и ведут всю партию детства Андрея
Белого. Белый создает на страницах многих своих
автобиографических повестей невообразимую глоссолалию. Становится понятной
роль языка: ведь только внутри этого тонко устроенного звукового
IV. Ножницы
организма возможно воссоздание первичных фамильных сцен.
Неожиданно всплывающая цепочка воспоминаний, это
далекое-близкое эхо, резонация звуковых образов. Он скорее слышит, чем видит
прошлое; он не слеп, конечно, но воссоздает образы детства в
полноте смешанных звучаний и шумов («первоначального лепета»).
Слушать голоса, слушать, как появляется сначала один, потом другой,
потом еще, все менее отчетливые и сбивчивые. Вступает первый
голос, отцовский, чтото пришептывает, за что-то извиняется, от чего-
то защищается, то внезапно смолкает, то ограничивается
невнятными звуками и вместе с тем никогда не отступает, его все время слышно,
даже тогда, когда он на самом деле уже стих; затем второй,
материнский, этот истерически взрывается, бранится, преследует, отрицает,
угрожает, навязывает, короче, не может успокоиться, пока не сводит
первый к молчанию, чтобы затем снова заставить его проявиться,
выдать себя и потом вновь загнать в его вынужденное молчание и в
нечто большее, чем молчание: в немоту. Так обустраивается
дисгармоническое звуковое пространство, в которое враждующие голоса
помещают как в камеру свою маленькую жертву, единственно
неравнодушного к ним слушателя. «Я - нервный мальчик: и громкие звуки
меня убивают; я сжимаюсь в точку, чтобы в тихом молчанье из
центра сознания вытянуть: линии, пункты, грани; их коснуться своим
ощущением; и оставить меж них зыбкий след: перепонку; перепонка
эта - обой; меж ними - пространства; в пространствах заводятся:
папа, мама»*33. Ни одна из голосовых родительских резонаций не
принимается им, но и не отвергается, он бессилен перед ними: они
проходят через него, потрясая и сокрушая равновесие детской
жизни. От этих главных голосов детства Белого можно вести всю
автографию его раннего «я». Звук, вовлекающий в себя все другие, звук
- пропасть, черная дыра, вводящий дисгармоническое начало,
точка будущего истерического взрыва, от нее просачивается в мир весь
Хаос: «- разорвется - все: стены, комнаты, полы, потолки; или: вго-
нится в темное отверстие безобразно временного-безвременного,
как вгоняется мыльный пузырь в отверстие узкой соломинки; лопнет
все: лопну я»*34. Как будто видима вся сцена, когда возрастает
зависимость ребенка от родительских голосов, проникающих в его
сознание, подавленное их ожесточенным противоборством. И нет иного
выхода - только финальное взаимопроникновение голосов, только
взрыв сможет оказать великую услугу сыну, дать ему освобождение.
Драматургия звука. По мере развертывания воспоминаний
нарастает все большее количество звуков, шумов и звучаний, нарастает
глоссолалия, - применение методов расшифровки звука и звучания
107
Литература как самосознание. Опыт Андрея Белого
в звукообраз, а тот - в мускульно-иннервационные сдвижки,
передерги тела персонажа.
Пока же сын странен, эксцентричен, он истерик со стажем.
Борьба матери с отцом приобретает в изображении Белого явно
гротескные, иногда и крайне комичные формы: ребенок не должен
преждевременно развиваться, так как слишком чувствителен и
может быстро стать похожим на отца, «лобаном-математиком», а это
ужасно и настолько ужасно, что мать отдает все силы непримиримой
борьбе против любой похожести ребенка на отца. Во всяком случае,
воспоминания Белого постоянно повторяют одну и ту же сцену:
«Мне память проносит все это некстати, - от страха, что мама
проснулась, как тигра, залегая за ширмами, чтобы оттуда повыпрыгнуть,
щелкая зубками; и затащить меня, сарта, за ширмочки.
И потому-то: когда закатается папа словами (так рой деревянных фигур
закатается в шахматном ящике), - память моя, убегая из пяточки в
пальчик: со страху, что мама проснется; со страху же крутит в головке
какими-то вовсе ненужными мыслями: видел недавно я справа и слева от
солнца - два ложные солнца; два солнца померкли, а солнце - осталось;
померкнет персидское солнце, померкнет индийское солнце, как папа
исчезнет на лекции: мама останется!
Громко подтопнет тут папа:
- Ты, Котенька, знаешь ли, вовсе не слушаешь?
- Эдакий ты!
И поддернувши скатерть, запляшут по скатерти пальцы - горошками;
дернется словом:
"В России есть ...что?"
Я - споткнулся: молчу; я - такой раскарякой сижу; я - такой недотяпой
коснею:
-Урал!
Есть Урал, грохотнет и наставится он:
А еще?
Я не знаю: навалится, дернется:
- Как, как, как, как?!?
Посмотрю я: у папы раскосые злые, татарские глазки; хочу отвечать;
но... за лаковой ширмочкой взвизгнули, щелкая, тигры:
- Кот! Котик!
- Не смей!
-Тебе рано...
- Сию же минуту - ко мне!
- Нет-с, позвольте! Урал, а - еще? - запыхается папа ладонями в воздухе.
108
IV. Ножницы
Я не живой и не мертвый: я слышу, как мама зашлепала: с заспанным, с
нехорошеющим, сонно опухшим лицом, позабывши капот, без корсета,
без кофты, без туфель, она выбегает в столовую с сосредоточенным
видом; и здесь - размахнется, пренекрасиво подтопнув босою ногою: я -
мать тебе?
-Мать тебе?!
Вот, ухвативши за плечико, дернет за плечико: вывернет плечико;
тускло лицом припадет мне под носик и пальчиком водит, присевши у
носика, полной рукой прижимая рубашку к ногам и голея плечом;
задевает меня бирюзою по носику:
- Мать тебе я?
Я решаю, что нет: мне иного нет выбора; знаю, все знаю, но выбора нет,
потому что, захваченный папиной пятипалой рукою за юбку, - бежать
не могу я отсюда: ай, ай, ай, ай, - эдак вывернуть можно мне плечико:
будут опять синячки - безобразие!
Тах-тарарах: громко падает стул; завязалась борьба - за меня (оборвали
тесемочку мне): папа выпустил юбочку; грозно присел, как козел, пред
присевшею мамочкой; смотрят друг на друга в глаза (точно так петухи,
перед тем как подпрыгивать друг перед другом, - присядут: и - смотрят
друг в друга); и папа не выдержит: едким разрезом раскосых, китайских
глазенок, кроваво налитых, как суриком, вдруг подморгнет; и - пойдет,
хлопнув дверью; останемся с мамою.
Двери защелкнув, расставивши ножки и выпятив очень сердитый
живот, закусает сердитыми зубками красные губы: и - шлеп-шлеп-шлеп-
шлеп по щеке; мне не больно нисколько от пальчиков мамочки; больно
от злого колечка: зелененький, крепенький камушек очень кусается;
мамочке - под ноги: малым комочком; целую с любовью ножку: Христос
повелел нам молиться за грешников»*35.
«Протекают минуты до... страшного "баца", и ухает в красно-оранжевый
свет кабинетикатьма, из открытых дверей, где отчетливо-желтое
кружево злого, фонарного света легло ... саламандрою: мама оттуда поносит
(не долго ей!) всех: математиков, бабушку, дедушку (папу и маму - не
маминых: папиных...), всех четырех моих теть и шестнадцать
племянников; я затыкаю от ужаса ручками уши и носик, упавши коленками на
пол и кланяюсь:
- Господи, господи, господи: ты - пронеси, пронеси, пронеси! Ты спаси
и помилуй, спаси и помилуй, о, господи, господи, господи, господи!
вдруг: я, обвеянный клубами рыжего ужаса громких китайских
тайфунов, - я слышу сквозь пальцы, которыми уши заткнул:
- Остается - пятнадцать секунд!
109
Литература как самосознание. Опыт Андрея Белого
-О!
-О!
Открываю глаза; вижу - бац - упадает нога, голова и рука; нога - на пол;
рука - к рукомойнику; и перержавленный дожелта гвоздь ударяет о жесть
рукомойник.
-Бац!
Из разъятого рта выбегает кровавый язык своим загнутым кончиком;
в воздух слетают очки; и дугою взлетает платок носовой из кармана;
аон" бегает спинником, вертится, машет руками и бьется
оранжево-ржавым гвоздем по железной кровати, по тазу, по жести; своей пятипалой
рукой схвативши зажженную лампу, стоит с этой лампой, стараясь и
лампу раздрызгать о пол и закракать стеклянником, взвеявшим черно-
кровавое пламя и копоть, чтобы проснуться в пламя, пропасть в клубах
копоти. Лампа рукою опущена снова на стол; и наверное: нет кабинети-
ка: в красных кругах разлетелися стены: и папа; копьем свирепея,
затиснувши круто ногами мохнатую лошадь, на собранной коже, в раздолбе
далекого прошлого гонится - согнутым скифом: за персом; вернее: за
кожей перса! И пламенем лопнуло солнце: и степи дымят перегаром; и
перс от него удирает, прижав свою голову к гриве коня, перекинув за
шею косматую руку с обтянутым кожей щитом, на который вдруг звукнул
удар пудового копья, раздробившего щит и к загривку споткнувшейся
лошади перса пришившего: проткнутой шеей.
Когда я очнулся: то кабинетик был заперт; и было молчание: только в
трубе завелся этот ветер, опять зажужукавший трутень: опять завелся
этот дудень: средь дующих будень летим: в - в веретенники дней и теней:
без огней»"36.
Так, ребенок оказывается зажатым между двумя предписаниями,
отцовским и материнским. Запреты действуют повсюду, запрещено
все и даже то, что разрешено837. Белый принимает родительскую
игру, но отказывается попадать в расставленную ловушку, он больше
не желает быть жертвой родительского произвола. Вот почему
Белый так рано стал символистом. Иначе говоря, маленький Боренька
принимал эти запреты за правила, которые нужно уметь обходить
или подчиняться им для вида. Уже тогда маленькой жертве
материнского гнева было все известно...*38 Понятно, что ни одному из
требований, исходящих от отца и матери, нельзя было прямо следовать,
выполнение какого-либо опасно; правда, также опасно и отсутствие
всякой реакции, - ведь тебя могут разоблачить. Но вот что еще более
опасно: это постоянное ношение маски, привыкание к ней, и как
быть без маски? - это становится реальной жизненной проблемой.
ПО
IV. Ножницы
В первые годы гимназической юности Белый спасается маской
немоты и идиотизма839. Странности в его поведении определяются
привычками развития, которые были сформированы ножницами
отношений отца и матери. Треугольник мама/папа/бебе выглядит
асимметричным: в центре - мать, на периферии - отец, а сын на границе
между враждующими родительскими землями. Запреты идут от
матери, отец сопротивляется им, но терпит поражения, отступает с
большими потерями.
Понятно, что этого психического травматизма не было бы, если
бы между матерью и отцом сложились гармоничные отношения. Из
этого «разрезания на части» складывается психическая основа
душевного строя Белого: от мании преследования к желанию бегства.
Как найти выход из ситуации «ножниц»? Разрешение проблемы идет
через ее откладывание или непризнание, а также подменой другой,
которая кажется разрешимой, - вот что помогает на время
выскальзывать из тупика... Бегство становится естественной основой бытия:
проблемы не решаются, они взрываются, что придает маленькой
жертве спасительное ускорение. И вот общий вывод: «В сотнях
мелочей быта - растут ножницы мне. трагедия подстерегает из всякого
угла, во всякую минуту; никогда не знаешь предлога к очередному
«взрыву»; а каждый взрыв угрожает разъездом отца и матери; для
меня же этот разъезд - конец миру, конец моего бытия»*40. Литература
как «обетованная земля», другая земля, где более не действуют
правила семейных скандалов, туда бежать, там - спасение...841
Нет выхода? К вопросу о двойном тупике, double bind.
Что же это, как не двойной тупик, double bind? На основании
многолетних наблюдений за семьями шизофреников Г. Бейтсон и его
коллеги пришли к выводу, что семья может играть определяющую
роль в возникновении и развитии тяжкого психического
заболевания: юный шизофреник - жертва семейного конфликта. Итак,
получается вроде ножниц: и так нельзя, но и по-другому тоже нельзя.
Правило двойного зажима double bind (тупика) формулируется
следующим образом: внутрисемейная, а также и любая другая осмысленная
коммуникация опирается на определенные логические типы (Б.
Рассел), которые позволяют различать высказывания842.
Несовместимость двух высказываний, обращенных к ребенку (по их логическому
типу) - например: «Делай так, как я говорю (не слушай отца!), если
ты так не сделаешь, я перестану тебя любить», - говорит мать. «Нет,
111
Литература как самосознание. Опыт Андрея Белого
делай так, как я говорю, не слушай мать!» - требует отец. Речевое
пространство семьи переполнено подобными требованиями.
Коммуникация осуществляется вопреки ним, не они управляют смыслом
высказываний, а дополнительное измерение, паралингвистическое,
которое сопровождает всякий обмен сообщениями, то, что
называют избыточностью языка, redunduncy of language. В благополучной
семье всегда в наличии метакоммуникативная рамка, которой
учится пользоваться ребенок, чтобы понимать родительские
предписания и запреты. Если его развитие идет успешно, то он преодолевает
противоречивость коммуникации, так как реагирует не столько на
отдельное высказывание, сколько на косвенный смысл, который в
него вкладывают говорящие (мать или отец). Без этой «рамки»
невозможно индивидуальное становление ребенка. Однако будущий
шизофреник, пытаясь выпутаться из речевых ловушек, может
прибегать к крайним мерам самозащиты: или это будет «бегство в
болезнь», или регрессия к более примитивным формам существования
(«аутизм»). Симулируется акт понимания: например, все
символическое (метафорическое) может толковаться буквально, а все буквальное
- символически (метафорически); на другие же высказывания
налагается вето, «о них не говорят», их встречают презрением и смехом,
или от них пытаются укрыться. Бегство в собственное заболевание,
что разыгрывается как способность, если угодно, к завершенной
психической мимикрии. Юный шизофреник с его влечением к
тотальной симуляции (необычным видам миметизма), - такое было
бы невозможно, если бы расщепление личности не стало фактом
повседневной жизни.
В воспоминаниях Белого мы часто встречаемся с чем-то
похожим, но утверждать, что мы сможем с помощью double bind все
объяснить, было бы ошибкой. Тем не менее, ряд психопатических
образов, о которых сообщает сам Белый, выполняют подобную функцию
в его душевной экономии, и все они так или иначе связаны с
эффектом «ножниц». Нет выбора - вот что могло бы привести к
серьезнейшему поражению личности, правда, если б не было последней
возможности: бегства. Не разрешать проблемы, не резать «узлы», а
бежать от них... Время авто-биографии расписывается Белым как
время преследований и бегства: «Отсюда налет отъединенности,
замкнутости в произведениях моих того времени; лирический
субъект "Пепла" - люмпен-пролетарий, солипсист, убегающий от людей
прятаться в кустах и оврагах, откуда он выволакиваем в тюрьму или
в сумасшедший дом; лирический субъект "Урны" - убегающий от ка-
112
IV. Ножницы
детской общественности («барин» из протеста), поселяется в
старых, пустых усадьбах и, глядя из окон, мрачно изливается в хмурую
деревенскую зимнюю синь; герой романа "Серебряный голубь"
силится преодолеть интеллигента в себе в бегстве к народу, но народ для
него - нечто среднее, недифференцированное, и поэтому
нарывается он на темные элементы, выдавливающие из себя мутный ужас
эротической секты, которая губит его. Темой вырыва, бегства из
средней, мещанской пошлятины и тщетой этих вырывов окрашено мое
творчество на этом отрезке пути; материал к этой мрачности - моя
личная жизнь, спасающая себя в немоте и под конец даже носящая
маску (приличной общественности: из конспирации). Тема бегства
тотчас же исчезнет из моего творчества, как скоро я ее провожу в
жизнь....»243.
«Ножницы» как принцип организации пространства жизни;
обозначение безвыходности, привычное для Белого скольжение от
одной неразрешимой проблемы к другой. По степени неразрешимости
проблем растет искусство остраннения, умение забывать,
притворяться, быть быстрым, чувствовать лет; планировать бегство. Искомая
метакоммуникативная рамка - в удивительной способности Белого
к превращениям, или к тому, что мы назвали тотальной симуляцией.
И она становится той третьей спасительной позицией, - позицией
ускользания, бега и лета244. Объяснительные возможности схемы
Бейтсона не могут удовлетворить нас. Дело в том, что чрезмерная
чувствительность маленького мальчика здесь играет намного
большую роль, чем может показаться. Он не отделяет себя от родителей,
не считает себя отчужденной и «проклятой» жертвой, как обычно
бывает в семьях с нелюбимыми детьми. Это любимое дитя, причем
само дитя прекрасно сознает свою преданность любви родителей,
превращающих его в жертву, предмет спора и страданий. Не
переставая их любить, он и в самые «страшные» мгновения скандала
сочувствует тому, что они испытывают. Вот откуда начинаются
«заболевание» и «странности» Белого: из-за его удивительно миметической
чувствительности к опыту Другого. Тема тотального миметизма
(симуляции) вполне раскрывается здесь. Ведь это единственный способ
ускользать, превращаясь, надевая нужную маску. Область
воображения получает превосходства над другими интеллектуальными
функциями. Сначала все связано с болью и страданиями, а потом почти
с расчетом: избежать прошлых травматических ситуаций. Поле
имитационной игры расширяется от года в год, составляя смысл
поведения юного Бори Бугаева.
113
Ситуацию «ножниц» не следует считать исключительно
негативной, но оценивать, как оценивал по прошествии лет сам Белый, -
позитивно. Расщеп - «ножницы» - признанием безвыходности дают
надежду на выход: между крайними позициями всегда есть третья,
которую они поддерживают. Вот почему остраннениеБелого
является вполне осознанным результатом самонаблюдения, причем,
приводящим к пониманию личностного раздвоя, близкого
шизофреническому расщепу, и все-таки не являющемуся патологическим
явлением. Л. Сонди, психоаналитик и один из учеников великого Блейлера,
полагал, что «...феномен расщепления относится не только к
шизофрении; здоровая психика также может расщеплять свое "Я", как
в состоянии бодрствования, так и во сне»845. Другими словами,
расщепляться - это значит о-страннять то, что перед глазами, открывать
что-то за, перед, под или в, что ранее не мог видеть. Но само это остран-
няющее видение остранняет и тебя самого, ибо ты, видящий то, что
ранее не видел, уже другой, а не тот, кто был до этого... Остраннение
Белого - своего рода негативный мимесис, расщепляющий
обыденные формы подражания. Естественно, что расщепление Белого
вступает в интенсивную перекличку с взрывной метафорикой, которой
полны его сочинения, причем разных лет246.
Таким образом, логика авто-графии Белого выстраивается за счет
разрыва, что проходит поперек его хронографических схематизации
жизни, взрываясь в отдельных временных мигах-срезах. Всюду
ножницы, они предваряют разрыв каждого кусочка исторического
бытия. Тема потери равновесияи нехватки ритмической полноты, или то,
что мы находим у Белого в одном из последних теоретических
сочинений «Душа самосознающая» - образ спирали, спирального развития
души, восходящее/нисходящее движение души,
сомкнуто-разомкнутый круг. Вот это постоянно отмечаемое Белым условие
собственного существования является тем позитивным способом само-остран-
нения, который позволяет ему быть самим собой. Надобно ножницы-
то, что «разъезжаются по сторонам, сомкнуть», но «смыкаемы» ли
они?247 Нет. Вот почему равновесие требуется поддерживать
постоянно, в режиме ницшевского nunc stan?**.
114
ν
Посвятительный узел
Два, три мига огромных в событиях
жизни моей: мне они освещают года
А. Белый
Зеркало письма
Отказ Белого от традиции европейской исповедальной
литературы (Ж.-Ж. Руссо, Л. Толстой, Ф. Достоевский, А. Жид) - следствие
неспособности обрести личностное единство «я».
Автобиографичность Белого условна, им вполне осознается разрыв между опытом
частной жизни, «физиологическим», и опытом «духовным»:
«Душа, сбросив тело, впервые читает, как книгу, свою биографию в теле,
и видит, что кроме своей биографии в теле еще существует другая,
которая есть биография - собственно; (во второй биографии видит она ряд
отрезков, - периодов облечения в тело себя). В моей жизни есть две биографии:
биография насморков, потребления пищи, несварения, прочих
естественных отправлений; считать биографию эту моей - все равно, что
считать биографией биографию вот этих брюк. Есть другая: она
беспричинно вторгается снами в бессонницу бденья, когда погружаюсь я в сон, то
сознанье витает за гранью рассудка, давая лишь знать о себе очень
странными знаками: снами и сказкой. Есть жизнь, где при помощи фосфора
мысль, просветляясь, крепнет: другая есть жизнь, где сам фосфор -
создание мысленных действий. Пересечение двух этих жизней в сознании
- нет: между ними - границы; меж тем пересекаются параллельные
линии двух биографий в единственной точке: в первейшем моменте»249.
Литература как самосознание. Опыт Андрея Белого
Итак, в планировании Белым литературы как опыта
самосознания можно выделить два направления. Одно содержательное,
воспроизведение ранних сцен жизни, до всякой возможности осознания, -
миметическое переживание временности прошлого. Посредником
выступает телесная память, сохраняющая в себе все неосознаваемо
воспринятое (например, многие их детских впечатлений, грез и
«страхов»). Второе - формальное, подчинено действию принципа
градации, а точнее, попыткам установить ритмически-числовые
закономерности индивидуального развития. В первом случае прошлое
благодаря пере-живанию переводится в настоящее, во втором,
настоящее - в прошлое. Говорить о себе в первом лице Белый не в силах.
Если же и говорит, то приглушенно, по касательной, остранняясь,
подвергая гротескно-физиогномическому, жестикуляционно-мими-
ческому разъятию всякий образ, претендующий хоть на малую долю
реальности. Поэтому попытка Белого представить индивидуальный
опыт самосознания в границах мировой онтологии идей, - явно не
автобиографическая, а культурно-историческая задача. Для него
память - это различные плоскости состояний сознания
(«переживаний»); оказываясь на одной из них, он получает преимущество видения
(расширения обзора прошлого). Попробуем пояснить это на
материале биографических изысканий Белого. Но прежде всего надо
ввести важное различие. Белый пишет не автобиографию в
традиционном смысле, скорее он биограф, который наблюдает за собой
со стороны, из того внешнего, в котором он пребывает как
наблюдатель. Видно, как он старается сохранить объективность и
незаинтересованность при обращении к исследованию материалов
собственной жизни (отказываясь от всякой попытки свидетельствовать
от своего имени, от живого, пока «недуховного» «я»).
И эта поразительная зависимость Белого от текущего
переживания указывает на то, что он не имел собственной внутренне
предпосылаемой переживанию, устойчивой формы «я». Он принял роль
изгоя, - был изгнан из собственного я, в котором, по правде говоря,
он особо не нуждался. Что это значит - жить без собственного «я»?
Дело не в том, что нет психотелесного центра желаний, а в другом:
этот «центр» отличается непостоянством «я», нет его устойчивой
формы, а точнее, она всякий раз отвергается как недостаточная и
ошибочная. Что же кажется у Белого самым устойчивым и
неизменным в психопрактике «я»? Бесспорно, страсть к письму,
бесконечному копированию своих прошлых и нынешних состояний. Правда,
Белый не копиист в гоголевском стиле, который с благоговением
переписывает, а скорее копировальная машина. Отсюда берет свои
116
V. Посвятительный узел
истоки утверждаемая им победа копии над оригиналом. Абсолютное
господство письма над каждым фактом «переживания». Ему как бы
некогда жить, настолько он увлечен поиском того, чем в данный
момент не является и не может стать. Каждое мгновение Белый словно
экранирует себя на белом листе. Творчество - бесконечный рассказ
об утрате личностного начала, неудавшаяся попытка примирить
Бориса Бугаева и Андрей Белого. Отца и сына, сына и отца. Всякое
последнее слово обесценено, ибо не имеет места в системе
отношений идей, оно может быть легко заменено, обменено, вычеркнуто,
переброшено, может превратиться в образ, стать понятием, застыть
термином. Главное: процесс продуцирования словесного потока
удерживается в тех границах, которые сам себе полагает. Лист бумаги
стал зеркалом, теперь можно копировать все и самого себя. Степун
вспоминает: «Во время разговора, касавшегося его отъезда в Россию,
издательских дел, авансов и Алексея Толстого, он как зверь ходил
по комнате в наброшенном на плечи пальто. Главное, что осталось
от разговора, это память о том, что разговаривая с нами, Белый ни
на минуту не отрывался от зеркала. Сначала, каждый раз проходя
мимо, он бросал в него долгие внимательные взгляды, а потом уже
откровенным образом сел перед ним в кресло и разговаривал с нами,
находясь все время в мимическом общении со своим отражением.
В эти минуты ответы мне становились лишь репликами "в сторону";
главный разговор явно сосредотачивался на диалоге Белого со своим
двойником»250. Белый не в силах преодолеть собственное зеркальное
отражение. Можно усомниться в безупречности связи между Белым
живущим и Белым пишущим? Действительно, кто живет, а кто
пишет? Ответ парадоксален: там, где мы находим Белого в качестве
собственного биографа, там нет Белого, который просто живет, т.е.
опирается на будущее, - «живет» лишь тот Белый, кто себя пишет,
Белый прошлого. Диссоциативная сила письма ощущалась им в
полной мере. Ведь только сильная личностная структура «я» в силах
противостоять разрушению, которое несет с собой письмо. В одном
из писем Толстого можно найти следующее размышление: «Отчего
напрягаться?Отчего вы сказали такое слово? Я очень хорошо знаю
это чувство — даже теперь последнее время его испытываю: все как
будто готово для того, чтобы писать — исполнять свою земную
обязанность, а недостает толчка веры в себя, в важность дела, недостает
энергии заблуждения, земной стихийной энергии, которую
выдумать нельзя. И нельзя начинать. Если станешь напрягаться, то будешь
не естествен, не правдив, а этого нам с вами нельзя»251. Для Белого
подобной проблемы не существует, - он весь во власти энергии за-
117
Литература как самосознание. Опыт Андрея Белого
блуждения. Жизнь не может быть вне письма. У него мы не найдем
задержки между актом письма (объективацией) и выражением
(внутренним оформлением переживания): все, что переживается,
инородно и чуждо, и оно присваивается, т.е. переживается, когда
записывается; от переживаемого избавляются с помощью письма. И
не центростремительные, а только центробежные могут быть
истинным основанием этого быстрого письма; силы эти диссоциативные,
разрушительные, которые не позволяют внутреннему психическому
содержанию сложиться в стойкое личностное ядро, self-identity. Вот
почему отдельные качества личности могут смешиваться, менять
полярные знаки, вибрировать, усиливать даже незначительное
переживание, т.е. все время отделять переживание от того, кто его
переживает. В акте письма легко освободиться от самого себя.
Что такое посвятительный узел? Конструкция, число и время
Начнем с того, с чего начинает сам Белый, когда пытается
выстроить линию своей истории жизни (до 1927 года), на основе
числа 7, или семилетие. Этому анализу посвящены разделы в обширном
переписке Белого с Блоком, но прежде всего с
Ивановым-Разумником. Вот как это выглядит схематично:
* _ ~~^
Ψ *
1 2 3 (4) 5 6 7
Семь - число, указывающее на ритм годин. Из взаимоотношения
внутри семи делений выстраивается фрагмент жизненного пути.
Каждое семилетие означает кризис и выход из него. Число 4
нейтрально, оно указывает на внутренний надлом семи годин;
топологически - это биографический узел или петля. От одного узла к другому
нельзя перейти без кризиса25*. Отрезок «духовной истории»
анализируется по семилетнему кризисному циклу, число 7 - число
ритмическое, не исчисляющее. Ритмическая пульсация числа
провоцирует нарастание так называемых посвятительных узелков. Предельно
усложненная сеть узлов, одни исчезают, другие появляются, и, тем
не менее, образуются они одним и тем же способом.
Систола-диастола. Сердечная мышца, «сердце = мышца», - как физиологическая
топика биографического узла. Топоузлы мы встречаем в мировой
литературе и искусстве достаточно часто: поэма Данте в коммента-
118
V. Посвятительный узел
риях П. Флоренского253, теории узла (фабулы), которые развивались
С. Эйзенштейном254, И. Анненским255, Л. Выготским256.
Линия жизни может свертываться, когда то, что было
«прожито», становится препятствием. Не столько для «развития», сколько
для ритмической пульсации биографического числа. Всякие
препятствия, замедления и другие нарушения ритма иногда могут быть
настолько серьезны, что необходим мощный импульс, взрыв,
который возобновит утраченный ритм. Посвятительный узел как раз и
возникает у Белого там, где ритм нарушается и требуется импульс
для перехода в иное состояние сознания. Ритмическое единство
числа 7 является многосоставной проекцией других проекций,
(психофизиологических, физических, психомиметических,
этнокультурных, эстетических и т.п.). Это число не соотносимо только с
формальными условиями ритма целого, оно еще должно соответствовать
набору условий для себя кратных и симметричных, куда легко войдет
материал, не имеющий отношения к привычной хронологии.
Биографическая единица год, но берется она в ритмическом охвате
единого временного периода семилетия. Нет ни часов, ни месяцев, ни
дней, ни недель. Годовые периоды получают смысл события: что-то
произошло, мало того, получило собственное имя, т.е. что-то началось
и закончилось в отведенный временной отрезок, и это будет год.
Годовая структура семилетия задается посредством концентрации
на срединной цифре (4), это точка временного перелома, схождения
или столкновения событий. Ритмическое выстраивание жизненного
цикла, причем всегда после, а не до. Иначе говоря, до постигается после.
Всякое событие получает символическую нагрузку и должно
соответствовать другому (со знаком (+) или (-)). Это парное соответствие
срабатывает на рубеже каждого семилетия. Срединное число -
символ кризиса, и оно же означает посвятительный узел, посредством
которого выходят из него.
Термин посвятительный берется в двух значениях: во-первых, как
посвящение-вочто-то, например, как ритуал посвящения в воина или в
тайную организацию; тот, кто посвящается, оказывается призванным
к служению чему-то высшему; во-вторых, посвящение - это и новое
знание о том, что с тобой произошло, что ты теперь в данный момент
(«посвящения») стал другим. Здесь посвящение совпадает со старым
квазирелигиозным термином обращенияили метанойи. Скажем об этом
подробнее. Событие обращения обычно представляется
всеохватывающим: в один момент меняются прежние убеждения, совершаются
поступки, ранее невозможные, разрываются старые связи,
появляется новое имя, новое дело, профессия, наконец, «уходят в монастырь»,
119
Литература как самосознание. Опыт Андрея Белого
пускаются в бегство, просто исчезают. История жизни имеет свою
общую меру: дои после события обращения. Все, что было до,
несущественно и не требует оправдания, теряется значение «моей жизни»,
жизни дословно не было. Некто былСавлом, а стал Павлом после
пережитого на пути в Дамаск видения Святого духа. Что-то было, а теперь
его нет, что-то умерло, и его ни вернуть, ни повторить. В качестве
важной функции обращения выступает символ смерти: умираю, но заново
рождаюсь. Известны многие свидетельства о неожиданном
спасительном рождении, «из грязи в князи», «из распутника в святого» и т.п.
Что-то должно умереть, чтобы другое родилось. Смерть раскалывает
историю жизни надвое, на две хронологически неравные половины.
Переход из одной в другую есть то, что обычно называют «пере-жива-
нием». Немецкая калька Erlebnis может также означать и «из-живание».
Переживать или изживать то, что произошло. Для Белого эти
посвятительные узелки и есть символы замкнутости жизни на самую себя;
завершенность - через прерывание или «малую смерть» (что-то
умирает в тебе, но не ты весь, и чтскго рождается). Нет больше того, что
про-живалась, есть то, что пере-живается. Переживание - это эмоция,
усиливающаяся в границах смертного чувства; в нем есть его след,
переживается смерть, - краткое или длительное время собственного
несуществования. Когда отдельный жизненный этап не просто
завершается, а отменяется под давлением свершившегося события, и вся
прошлая жизнь может быть признана «неподлинной» или даже
«отмененной». Св. Августин, св. Игнатий Лойола, Мартин Лютер, Р. Декарт,
Ж.-Ж. Руссо, Г. Флобер, но и Н. Гоголь, Ф. Достоевский, Л. Толстой.
Термин conversion принятый в католических странах означает не
только внутреннее преображение (духовное), но и обращение-в-веру.
Итак, обращение - это разлом, переход, трансформация, «кризис»,
раскол жизни - внезапный, как «озарение», или крайне медленный,
- постепенное накопление признаков будущего изменения. Первое
не противоречит второму. Взрывной момент обращения - аналог
«духовной смерти/рождения» или «малой смерти», которая легко
символизируется. «Малая смерть» в своей бесконечно размельчаемой
микроскопии (еще более «малых» смертей) соотносится с
переживанием как общей психической формой. Иона пребывает всегда внутри
каждой, как бы она ни была мала.
Казалось бы, автобиография - всегда некий итог, знак
завершения пути. Обычная автобиография строится на основе
внимательного просмотра истории жизни в решающих стадиях. Каждая
вспомненная деталь приобретает символическое значение, которой еще
надо распорядиться. У Белого все иначе: он с поразительным упор-
120
V. Посвятительный узел
ством переписывает записи прежних лет, «улучшает» и «правит»,
перелицовывает старые тексты и собственную историю жизни; он
обращается с собой весьма необычным образом, заставляя себя жить
ради того, что будет потом, ибо именно это потом и откроет ему
доступ к тому, что было. Вот это потом и есть то, можно назвать
временем настоящего. Отсюда единственная тема воспоминаний - не
признание, а оправдание. Как улучшить, видоизменить, преобразовать
прошлое и тем самым оправдаться? Это возможно лишь из того
времени, которым сможешь суверенно распоряжаться.
1901
19ог
2-ое полугодие 1901 и первое 1902^Г
Там;
Сосоии
интерес к
„теософии *
Тема
св.Ceps
Со спи я
(г-м
„Симфония")
1901
1902
"нМРйжен: >*
иосгь) \
мист<мчес- )
Христос
s1898
Реминисценция
Нирвэш "
.-. . . - _ , 4-ой Симфонии *
КОИ) ЖИЗНИ J С Я6М0 8ИРЗЖ9НН0Й
у темой 2-го пришест·
ди*:ж*/н>,- ив
сохранилась* )
1905
Промннисцениия
«Пепла*
По этим рисункам заметно, как идет усложнение от одного к
другому, что, собственно, и есть «расширение сознания». Формальная
структура семилетия состоит из серии необходимых соответствий,
Ш. Бодлер называл их correspondances. И они подбираются Белым,
чтобы оживить схему, наделить ее дополнительными измерениями, кото-
Литература как самосознание. Опыт Андрея Белого
рые позволили бы ввести новый материал без ущерба для нее в новом
рисунке. Имена событий берутся произвольно. На самом деле, это не
имена событий, а чисто условные обозначения жизненных этапов,
но зато сводимые к числу или порядковому месту в некоей серии.
Событие приравнивается к числу, а число в таком случае начинает
управлять событием (чтото очень похожее на «исчисления» В.
Хлебникова в знаменитых «Досках судьбы»). Управление - в наделении
события именем; имя в качестве свидетельства того, что оно было.
Трудно понять смысл датировки. Ведь, что такое биография как
ни попытка разместить жизнь в достаточно строгих рамках
хронологии; вернуть прошлое благодаря его датировке в объективном
времени. Всякое событие требует такой датировки. Годы жизни-смерти
- идеальный цикл датировки. Биография определяется этим
замкнутым циклом датировок на каждом выделенном периоде жизни. В
этом нет ничего загадочного и мистического, ведь post festum
планируется именно духовная жизнь, причем состоявшаяся, точных
датировок для которой найти невозможно; они каждый раз
устанавливаются заново. Наряду с основными биографическими датами
существует неисчислимое количество дат, которые можно назвать
виртуальными; они прямо-таки роятся вокруг выделяемых «вех»,
«этапов», «рубежей», и соблазняют своей биографической
достоверностью. Более того, всякий раз, когда биограф придает одним из них
решающую ценность, т.е. делает их «актуальными», ему приходится
доказывать правильность выбора предшествующих дат. Можно ска-
122
V. Посвятительный узел
зать, что биографическое исследование Белого представляет собой
вот такую актуализацию виртуальных дат.
Если обобщить всю эту рисуночную феерию, что развернута
Белым в его переписке с Ивановым-Разумником, то можно выделить
единую схему:
«Посвятительный узел»
(Прошлое) ^ ** **
(ab) 4Г ~
Реминисценция
В
(Будущее)
"^(Ьа)
Л/юминисценция
(AB)
(Настоящее)
Так мог бы выглядеть единый биографический модуль -
взаимодействие сил: одна тащит в прошлое, другая - в будущее; но им
поперечна сила разрешения, стягивания, свертывания в узел, и
последующего высвобождения, «взрывного», - это сила Настоящего. В ней
отражено действие всех других сил, позволяющих вырваться,
ускользнуть, а может быть и взорвать узловую безысходность. Разрешение
есть выход за прежний круг противоборствующих сил. И это
разрешение соответствует смене годового ритма. На этой вертикальной
оси выкладываются выходы из кризиса, причем это взрывной выход,
импульс или выброс сил, преобразующих свою энергию в движение,
в движение к настоящему. Ведь эти схематизации Белый составляет
post-festum, сам он - в настоящем прошлого/будущего, т.е. настоящее
реально в отличие от преодоленного времени. Вспоминающий
находится в большом времени Настоящего, которое длится в отличие от
других времен. Легко заметить, насколько удачно это резонирует со
структурой миг-времени. Действительно, если посвятительный узелок
Литература как самосознание. Опыт Андрея Белого
отражает строение «мига», то зафиксировать, что он «был»,
«состоялся», «оказал воздействие» можно только из настоящего времени.
Настоящее - высший пункт наблюдения за прошлым/и/будущим:
«Каждое следующее семилетие (в нем - каждое четырехлетие),
приближающее меня к настоящему, видится мне все сложнее; ритмы все
утонченнее; рисунок фигуры мелкобисернее; иногда бисерность
начинает так рябить, что из-за леса не видишь деревьев; остается: или
пуститься в безудержный реализм и просто зарисовать всю сумму
штрихов, складывающих целое; или, наоборот, отступать в
беспардонную и от этого мало говорящую, абстрактную сухость»257. Исследуя
ритмическую структуру тематически расчлененной автобиографии,
Белый использует метод градации, т.е. умножает в зависимости от
намеченных целей раз-личия: упраздняет их, смягчает, варьирует.
Графема посвятительного узла универсальна. Каждое семилетие
замыкается на отношении сил, образующих посвятительный узел, который
не столько разъединяет их, сколько, напротив, связывает, вопреки их
отчуждению и борьбе друг с другом; одного «вспыха» света достаточно,
чтобы выйти из глубины времени к настоящему. Белый выстраивает
свою «духовную биографию» чисто формально. Все выглядит крайне
искусственно: перед нами и не хроника, и не рассказ, скорее, личное
летоисчисление: включаются отдельные события, темы, встречи,
влияния, мысли, произведения, они получают собственные имена и
место в объективной памяти. Правда, непонятно, почему время
датировки годов и духовных событий так симметрично совпадает, хотя
известно, что в творческой работе нет ничего законченного. Почему не
используется переживание как орудие селекции и отбора наиболее
важного материала из тех кризисов жизни, которые сохранила
память? Мы и ранее задавались тем же вопросом: почему для Белого все,
что есть, есть, существует только, если получает имя, место и время в
истории жизни. Семилетие оказывается своего рода индивидуумом,
далее неразложимой целостностью жизненного опыта, состоящего,
как можно видеть, из соответствий годов и сил, действующих в их
временном промежутке. Белый схематичен, он мыслит фигурами и
их элементами (геометрическими, топическими, ритмическими).
Можно сказать, что он вообще не мыслит, а только собирает готовые
элементы для очередной «силовой» конструкции, как если бы их
подгонка друг к другу, размещение в общей схеме и было единственной
целью. В качестве примера возьмем некоторые из пояснений Белого:
«В этих "ссорах" и "примирениях", "взлетах** и "падениях** протекла для
меня вся зима и весна 1913-1914 годов. Я себя почувствовал к осени
124
V. Посвятительный узел
1914 года совершенно физически измученным, хотя и чувствовал, что
духовно за этот период я узнал столь много истин, что с этими
«истинами» я мог бы прожить не одно, а много воплощений. Каждый взлет
после падения был высшим взлетом; но каждое следующее падение
было еще более ужасным, прямая линия развития стала зигзагообразной;
в результате роста диапазона падений и взлетов в душе стало оживать
все большее раздвоение; с лета 1914, когда я влюбился в Наташу, во мне
произошел внутренне как бы разрыв иЯ"надва иЯп\ жизнь высшего «Я»
во мне убивала мое физическое здоровье; требования этого здоровья
как бы вычеркивали из меня жизнь духа во мне. Наконец, последний
конфликт двух борющихся иЯп во мне окончился моим сильнейшим
сердечным припадком, во время которого я чувствовал чисто физиологически,
что «нечто» вырвалось из моего сердца, физически разбив его; и
-унеслось, покинув меня в духовную высоту; я переживал этот вырыв
высшего "Я" из меня, как свою духовную смерть; жизнь медитативная
затормозилась во мне: медитация во мне, когда я ее напрягал до прежней силы,
вызывала лишь сердечный припадок, во время которого меня охватывал
страх смерти; и этот страх диктовал мне замедление всего ритма
душевной работы; замедление же ритма взрывало во мне рост чисто
физических потребностей»"58.
«...первое двухлетие я вижу как бы в золотисто-пурпурном, розовом
освещении, все напрягающимся, усиливающимся к границе между 13-14
годами, до вспышки как бы белого света, где-то между ними, где-то
между ними; и эта вспышка - лейпцигский курс доктора "Христос и
духовный мир"; внутри этого светового пятна, посередине курса: событие
странное: ослепительный вспых света, подобного "Фаворскому" (и
морально, и физически: все -утонуло в свете)»259.
«...к этому огляду в безвозвратно брошенное прошлое, которым
является уже весь мой литературный путь, вспыхивает интерес к первым
мигам младенчества, соответствующим переживанию мигов, первым,
младенчески пробуждающегося порой в ту пору моего высшего "Я" /.../
расширением памяти действительно увидеть кое-что из того, что не
было увидено»"60.
Пора сказать о том недоумении, что охватывает всякий раз,
когда начинаешь вдумываться в схемы-графики жизненного пути
Белого. Ведь ясно, что все эти кризисно-катастрофические кривые,
делимые на враждующие пары, - «двойные разрывы годов» - мало что нам
объясняют, если мы не знакомы с биографическим материалом Бело-
125
Литература как самосознание. Опыт Андрея Белого
го. И дело не в том, что графики «пути» - хроноритмы годов - могут
быть заменены на дни, часы, и даже на отдельные памятные
мгновения. Вероятно, лишь в силу давней приверженности «научному
методу» Белый избрал единицей своей хронографии «год». Эта
единица вмещает большой объем информации, что позволяет варьировать
биографический материал дополнительными графиками.
Разнообразие тем, увлечений, переживаний, буйств и безумия настолько
велико, что не приходится говорить о том, что Белый когда-либо
серьезно относился к поискам своего центра, некой фазы покоя для
изначального единства «я». Напротив, эта фаза всегда оставалась
фазой расщепа, распадения или раз-двоя желаемого ритмического
единства. Все перевоплощается, ищет себе новую маску, и поэтому
остается непредсказуемым. Нет и речи о рефлексии, об «усилении
Я», - попытке самоконтроля; нет и речи о каком-то определенном
истолковании жизненного пути, которое стоит защищать. Нет
проекта жизни, все ограничено текущим временем, из которого дается
расчет прошлому, но формально. Конечно, можно возразить вместе
с Белым, это ведь не жанр автобиографии, а биография духа (история
духовных исканий) или, как он сам определяет, биография биографии:
«А пока я живу очень смутною мыслью, что в личности, выводимой
из прошлого, отлагается что-то, рождая вторую действительность:
биографию биографии; память о факте, которого не было, крепнет: я
жду его годы; и вот - наступает: тогда - проясняется прошлое, непрояс-
нимое прошлым. Событие "фактов", влетающих в жизнь, точно
взрывы во мне; беспричинный, мгновенный разрыв объясняет
прошедшее; и причина приходит позднее ее действий»261. Белый относится
к себе не узко биографически, а через игру сознания, - все большего
знания о том, что было; вот что становится частью настоящего. А это
значит, биографический материал организуется по принципу
расширения сознания: «... расширением памяти действительно увидеть кое-что из
того, что не было увидено»*62. Не случайно, что он пытается
выстроить свою историю жизни так, как если бы она могла отражать в себе
мировую историю Самосознания (если такая вообще возможна?)203.
Белый снимает содержательные аспекты в истории жизни,
преобразуя их в мистику формальных (ритмико-числовых) зависимостей.
Биографические изыскания Белого лишены рефлексивности.
Отношение к собственному биографируемому «я» у него прослеживается,
но лишь в горизонте последующей трансформации («разрыва»,
«падения» или «взлета»). «Я» для Белого - ритмическое множество
точечных (иначе, «мгновенных») переживаний, - ритмическое целое,
смысл которого в названном числе переходных состояний сознания.
126
V. Посвятительный узел
«Я» - просто итог действия такого числа. Поэтому функция «я»
подобна кривой, стягивающей в узел набор точечных психосостояний.
«... индивидуальное "Я" - не "Я" личное, потому что личных "Я" в
индивидууме не одно; в «индивидууме» - градация "Я"; из них каждое "Я" -
совершенно отдельная личность, сосуществующая с другими и не в их
столкновениях, не в борьбе самоистребления, не узурпации прав одной
личностью прав других, что изживалось бы в чрезмерностях
эпикурейства одного из проявлений "индивидуума" и в аскетическом
самочувствии всех других; проблема связи всех "личностей" Индивидуума - в
композиции их лежания в целом, в многообразии графических
модуляций, когда то одна, то другая персонификация индивидуума в его
моральном, художественном, социальном и даже биологическом
выявлении как бы временно становится основой и исходным пунктом
управления коллегии личностей, чтобы в нужный момент передать бразды
управления другим; каждая личность в момент своего доминирования
над другими оправдываема "индивидуумом", поскольку она является
непроизвольным символом "индивидуума", в таком живом узнании
проявления жизни само-сознающего "Я" сосуществование противоречий
в стремлениях, противоречивость их, оканчивающаяся обычно
трагически, таинственно просветляется знанием композиции; эгоизм "а"
оправдывается в модуляциях "abc" тем, что в модуляции "Ьса" это "а"
умеет стать в подчиненное положение»*64.
«...жаждущее в нас начало "а", как и начало "Ь", мучительно
переживающие удовлетворение, жажду - две личности, а не одна личность; и в
них обеих индивидуальности нет; индивидуальность "А" или целое a, b
(личностей) - ни с "а", и ни с "Ь"; оно с "а", с "Ь", с "ab", с "Ьа"
(господством "а" над "Ь" и "Ь" над "а") - в одновременном сосуществовании всех
вариаций противоречивого положения; во со-существовании всех
вариаций противоречивого положения; в сосуществовании
противоречий, связываемых в гармонию из них всех высекаемого целого»*65.
А вот как Белый оперирует сочетаемостью «элементов» «я»,
когда пытается их алгебраически записать:
A (abed) A (abed)
/ I \ / I \
A(bcda) A'(cdab) A"(dabc) ab ас ad
Λ А А
ab а с a d
Самое настоящее бегство в тайну, «мистическое товарищество»,
к «духовному Отцу», и здесь нет никакой себя само сознающей в
изменениях личности. Нет глубинного «я», а есть родовое или вечное «мы»,
нечто единственное и неповторимое, данное во множестве всех
других «я» (например, ученики Р. Штейнера). Другими словами, субъект
воспоминаний ускользающее существо: как будто автор только что
был здесь, и занавес еще колышется от воздушной волны,
оставленной этим великолепно тренированным телом. Непрерывная
вибрация и смена составляющих «я» элементов, причем, повторю,
элементов, которые в своих микро-индивидуал ьных колебаниях не имеют
отношения к сознающему себя единству высшего «Я». В этом свои
правила. И прежде всего доверие к жизни, или к тому, что с тобой
происходит независимо от твоей воли, усилия, поставленной цели.
Белый смотрит на участки прожитой жизни именно с точки зрения
личной эсхатологии: то, что со мной происходило, произошло:
теперь я об этом могу что-то сказать. Жить после «смерти». Это «я»
- не сторожевой пост, не цензор, не надзиратель, оно страдательно
и пассивно. Никакая из идей не может быть отвергнута,
заблокирована, вытеснена, - все учитывается, собирается, сортируется,
превращается в коллекцию. Жизнь для него, именно там, где он
пытается ее авто-биографировать, всегда жизнь post mortem. Тем самым
функция прижизненного архива все время подменяется функцией
архива посмертного. Вот откуда необозримое количество малых
«смертей», которые переживает Белый при автобиографическом
конструировании. Естественно, что обращаясь к собственной
творческой истории, он пытается остраннить себя, - «не узнать», он ищет
взгляда со стороны, который укажет на то, что в ней живо, а что
умерло и не может быть восстановлено.
128
VI
Жест
Жест - корень словесного древа; когда вызреет
жест - нарождается слово: даст плод; и увядает; а
жест, пробиваясь наружу, отложится в слове не
скоро; и более позднее слово - значительней; немота -
действо жизни.
«Их» жесты, вводимые в жизнь, полны ужаса: что
нам будет, когда обнаружится слово на жесте? Оно -
будет ужасом.
А. Белый
Судорогой охвачено тело... Парадокс об актере-1
Великий актер опирается не на приемы «вчувствования», а на
трезвый расчет, точнее, на идеальную миметическую форму, которая
позволяет ему управлять образом, не растворяясь в нем, а
контролируя, присваивать. «В чем же состоит истинный талант? В том, чтобы
изучить внешние признаки заимствуемой души, обратиться к
ощущениям тех, кто нас слушает, видит, и обмануть их подражанием,
которое преувеличит все в их представлении и определит их
суждение; ибо другим способом невозможно оценить происходящее
внутри нас. И что нам до того, чувствуют они или не чувствуют, раз мы
все равно этого не знаем. Величайший актер - тот, кто лучше изучил
и в совершенстве передал эти внешние признаки высоко
задуманного идеального образа».266 «Плохой» же актер перегружен
чувствительностью и способен лишь на отдельные всплески, его приемы
слишком зависимы от настроения, сил, здоровья, расположения пуб-
129
Литература как самосознание. Опыт Андрея Белого
лики, качества пьесы и пр. Парадокс актерского мастерства: чтобы
лучше играть, нужно меньше всего быть сверхчувствительным, «сверх-
миметичным», нужно подражать не «конкретно», а идеально. Белый
на стороне скорее бездушного, чем чувствительного лицедея. В своих
«Воспоминаниях» он с мастерством выдающегося имитатора
создает целые сцены-пантомимы: от-страняешся от героя и о-страппяет
его, этим сближается с ним, - так благодаря этой остранняющей
практике разрешается парадокс Дидро. Цель: найти в образе-персонаже
уязвимую точку, причем настолько, что она, будучи воспроизведена,
разрушает образ, превращая героя «Воспоминаний» в странное
чудовище, лишенное человеческих черт... Персонаж раскрывается
отрицанием нормальных черт: вместо лица - гримаса. Белый чувствует
о-странняющий жест как никто, мы уже знаем, что он видит в нем
не только формальный прием, но и мировоззренческую установку.
Белый, потрясающий по технике копиист, пытается присвоить
фабулу и основных персонажей другой литературы. Оговорюсь, не
любой, а только той, которую он считает ему близко родственной.
Так, отношение Белого к Гоголю отличается двойственностью: с
одной стороны он учится у него, с другой, - сам учит (навязывает свой
опыт письма, свои позы, эмоции, жестикуляции). Как же Белый
определяет свою зависимость от гоголевского стиля? Очень просто: он
показывает нам свою технику переписывания гоголевских текстов,
приводя образцовые места этого переиначивания чужого слова*67.
Последовательно заимствуется им «обстановка», «фабула», «вещи»,
«реквизит», приспосабливаются для своих нужд известные гоголевские
маски. Та же маска Ап.Ап.Аблеухова, - своего рода пункт
пересечения свойств практически всех едва приметных персонажей Гоголя.
Но этого было бы крайне мало, чтобы переписать Гоголя, ведь все
заимствованное должно получить новую жизнь. Что же заимствовано
Белым в первую очередь? Заимствован гоголевский жест,
определенным образом (миметически) переработанный. Белый находит у
Гоголя две сменяющие друг друга творческие фазы: для одной,
ранней фазы творчества («Вечера на хуторе близ Диканьки»)
характерен жест широкоохватпый, космический, гармонический, радостный,
летящий; для другой (поздняя фаза: петербургские повести («Нос»,
«Двойник», «Портрет» и «Мертвые души») - жест
микроскопический, «вырывающий-из», выхватывающий детали, разлагающий целое
и замедляющий чуть ли не в десятки раз движение персонажа.
Причина замедления - пристальный взгляд, - всматривание в детали.
Другой вопрос: возможно ли такое замедление передать в жестике
130
VI. Жест
персонажа? Ведь жест не имеет обратной силы, он собирается,
направляется, исполняется, всегда нечто выражает, даже тогда, когда
его утаивает. Если его замедляют, он переходит в позу; если же он в
силу каких-то обстоятельств распадается на отрезки и «атомы»
движений, то это, возможно, будет не «оборванный жест», а начало
жестикуляции. В миметологии Белого гоголевский персонаж
предстает отчаянным жестикулянтом, утратившим чувство меры.
Стоит отличать жест от практики жестикуляции: первый -
собирает, вторая - разбрасывает. Жест всегда «точно направлен»;
жестикуляция избыточна и обрывиста, отлична от жеста и по своей
экономии. Избыточна, - в том смысле, что заставляет тело подчиниться
случайностям внешней силы, требующей постоянной реакции на
раздражение, как бы оно ни было мало. Отсюда крайне
неустойчивая, балансирующая на пределе соотнесенность жеста и
жестикуляции. Итак, жест не сводим к жестикуляции. Жест себя
обнаруживает, сообщает о себе, предъявляется... Слишком часто персонажи
Белого совершают немотивированные движения, которые трудно
отнести к ожидаемым. Жестикуляция воспринимается вполне
«абстрактно» и носит явно марионеточный характер. Жест
понимается Белым скорее как итог жестикуляционной работы, но так и
остается не сформированным, не выраженным. Персонажи ирреальны
и акоммуникативны, их движения случайны; они копируют только
себя, на них не влияет присутствие другого. Жестикуляция
подавляет тело настолько, что возникает призрак идеальной плоти. Плоть
гудит, - разрушительный характер беспорядочных жестов может
уничтожить смысл, который якобы они должны передать.
Жестикуляция как заикание, бормотание, внезапные остановки речи и т.п.
- как часть практики косноязычия. Белый, кажется, смиряется со
своей неспособностью удержать время от распада. Ведь мимо
проносящиеся мгновения столь быстры, что ни одно из них не может
быть остановлено, оно может лишь отложиться в бессознательный
след, который затем извлекается из мнезического локуса, но при
извлечении снова начинает распадаться, «искрить», «рассыпаться
блесками» и т.п. Именно это «мигание» говорит о том, что время
подвержено непрерывному распаду, что оно заканчивается в каждое
мгновение...268 Вероятно, мигание - слабый отсвет
апокалиптического чувства временности. Не отсюда ли жестикуляционно-мими-
ческая подоснова литературного письма Белого, когда все
обрывается, ничто не задерживается, не переходит в жест, наделенный
смыслом?
131
Литература как самосознание. Опыт Андрея Белого
Вот достаточно типичные примеры жестикуляционных вспышек:
«Видели, -
- как Николай Николаич в распахнутом, плотном пальто, - карем,
драповом, с крапами, - в плотно надетой коричневой шляпе за пузом шагал и
махал своей ручкой, зажатой в кулак, сломав шею и нос, задирая на гостя;
у сверта дорожки он ткнулся и ручкой, и пузом, под воздухом синим:
сперва - на подъезд, а потом на гостей. И бежал со всех ног Пятифыфрев.
Блондин просвещенный всем корпусом несся, как будто колесами
древней Фортуны катимый; взгляд - стекло водянистое; глаз, - с синией
искрой; - фетрово-серая шляпа - приятный контраст с бледной бородкой.
За ним - кто такой? Пальто - вытерто, коротко, горбит; а из-под полы -
вывисает сюртук; лапа, синяя с холоду, с кожей гусиной, вращает дубовую
палку; крича новизною, поля его шляпы - контраст с ветхой
вытертостью рукавов; голова с роговыми очками; шаг - метровый; в крупном
масштабе махает рукой. И за ним - в пальтеце котелок волочит: свои
ботики; ростик - ребенка; глаз - точкою: остр, точно шильце; проворные
ручки; и - черные брючки; нос, - четверть аршина, и глядит из щетины»"69.
«Профессор же с бледной, как мел, головою, поставленной наискось,
вдруг просутулясь, осел, стал расплеким, губа отвалилась; шрам про-
чернился; казалось: дорогою ровною шел; и наткнувшись на мрачную
пропасть, - отдернулся; странно глазную повязку рукой сорвал и
кровавой ямой глазницы показывал - ужас»*70.
«Тителев стал над столом; руки-фертиком: вметился в мысли какие-то;
бросивши их, стал хвататься за дикие пятнами папки; одну он рванул;
шлепнул в сизое поле стола, развернул: и - посыпались вырезки»271.
«Отдавши лакею портфель, котелок, из портьер, кидается черным
квадратом за скачущими, карекрасными взглядами; физика, - вовсе не
психика: бычья, надутая жилами, шея; и не поворот головы - геометрия
корпуса, справа налево, на тоненьких ножках, со штрипками, мимо расбле-
щенных лаков: под зеленоватое зеркало»87*.
«Знала: высечет вздрог; где нет жизни, удар механический - страхом,
томлением, или бессмыслицей - нужен»273
Разрыв между жестикуляцией и жестом (между «случайным» и
«необходимым») снимается за счет ритма (то, что мы называем
«строем»), которому подчиняется повествование. Словесный поток ритми-
132
VI. Жест
чески преобразуется, становится не случайным истечением звуков,
а второй и более могущественной реальностью, которая полностью
вытесняет первую. В этом, вероятно, и заключается ритмическая
обработка слова. Жест преодолевается (его консервативность и
ритуальность) случайностью жестикуляционного порыва. И тот в свою
очередь нейтрализуется ритмической формой, которая связывает
в рисунок распавшееся, и, в конце концов, наделяет смыслом то, что
будто бы его лишилось. Жест существует во времени, длится, он
собирает миг-время, не дает уйти ему в прошлое, отречься от будущего
и пренебречь настоящим. В миг-времени нет деления по Хроносу:
все осуществляется разом, исполняется в одно мгновение как удар
молнии. Жест переходит в мертвую позу и там остывает. Напротив,
персонаж жестикулирующий может выражать свое состояние по-
разному: от необузданного порыва-веселья до истерии или
панического бегства. Для таких состояний нет единого жеста. Гоголевской
жестике распада, беспорядочной и взрывной, Белый подыскивает
соответствующую пластическую норму и находит ее: это вздерг (он
уверяет, что будто бы «подсмотрел» это в неестественности
жестикуляции гоголевских персонажей). Возьмем некоторые из его
опытов переработки гоголевского жеста:
«В механическом атомизме натура нарушена, но в обратную сторону,
чем в "Веч."; дать лист при разгляде его в микроскоп - натурально ли?
В "Веч." жест космичен; в "МД" - микроскопичен; натуральный глаз не
способен увидеть ни диска планеты, ни листяного крахмального
зернышка; глаз видит зелень; механический натурализм - есть пунктир, а
не линии жеста; в нем точка пунктира воспринимаема яростным вздер-
гом, как бы от укуса тарантулов; в "Рев" все дергаются, как укушенные
(тарантелла); и это - не натурально.//Ненатуральность - от
пристальности; ненатуральность же в "Веч" - от верного росчерка всей линии
массового движения, в котором детали стерты. Там глаз широко открыт;
здесь - сужен в точку...»274
«Раздроб жеста в атомы с углублением пауз меж ними ведет к
преувеличению угловатости...*75
«"Ревизор" - дерги жестов: Бобчинский и Добчинский - влетают вза-
пых, вперебив дергаются словами, бегут "петушком", протыкают щель
двери коками, с дергом их пряча; "дверь обрывается... Бобчинский
летит вместе с нею"; надергавшись, окаменевают какими-то растаращами
"с разинутыми ртами и выпученными друг на друга глазами"; и жест го-
133
Литература как самосознание. Опыт Андрея Белого
родничего - дерг: вздергивает палец, дергается гримасой, хватается за
голову, нахлобучивает на себя бумажный футляр; выпучив глаза и руки
по швам, замирает надолго, чтоб дернуться дрожью; внезапно чихает;
судорожно грозит себе кулаком, бьет каблуком; и, пораженный
молнией, стоит в веках, в поколениях читателей - с разброшенными руками,
закинутой головою; Хлестаков же в момент развертывания павлиньего
хвоста - «везде, везде» - «чуть ли не шлепается»; какие-то дергоноги и
дергоруки; на всех падает молния, высекая в веки веков; почтмейстера,
превратя в вопросительный знак; судью же брося в присядку с росто-
пыром конечностей (Рев).
Повышение экспрессии дробной части разбитого жеста ведет каждого
из жестикулянтов к конечному взрыву, после которого атом жеста,
окаменев, превращает героя в неподвижную деревянную куклу, которою
Мейерхольд заменил живого актера; душа превращается в мертвую, как
от удара молнии; окаменевшие мертвецы присутствуют тут же при
агонии... еще носящих признаки жизни.
Вздерг, и - пауза; еще больший вздерг, еще большая пауза; взрыв, - и -
долгая мертвая тишина...»"76.
«Конвульсией, источник которой скрыт, передернут творческий
процесс в Гоголе; его сознание, ограниченное распадом социального слоя,
его породившего, напоминает потухший вулкан, а его "мертвые души"
- пепел и магму. Рассуждая, Гоголь осыпается пеплом; творчески
действуя, воспринимает вздрог как бы огненного центра земли,
пропечатывая им страсти своих "слепых" героев и наделяя их судорожным
жестом, как бы вырывающим из устоев, в котором и окаменевают они; и
то - "действие «электрического потрясения»", о котором Гоголь мечтал,
когда писал "Рев"»277.
Применяемая в этом фрагменте техника остраннения - жестика
«вздерга» - не является, собственно, гоголевской, она - продолжение
миметической стратегии Белого. Такого рода жестика остается вне
контроля сознания, она непосредственна и травматична. Все эти
дерги, импульсивные реакции, микровзрывы, паузы, поражения
движения - разве они столь значимы для гоголевского письма? Разве
определяют они, а не идея полной неподвижности мира? Ведь его
персонажи не владеют ни собственным телом, ни ближайшим к
нему пространством, они оживляются лишь на мгновение, чтобы тут
же застыть. Белый пытается ускорить медленный, не взрывной,
«лубочно-живописный» характер гоголевского письма, придать ему
случайность и механистичность, которыми тот не обладает. Персонаж
134
VI. Жест
не автономен, финальный жест приходит со стороны, как «гром
среди ясного неба», он и будет его последним жестом, больше похожим
на посмертную судорогу.
Посмотрим на физиологическую подоснову жеста.
Литературные образы Белого отсылают нас к определенному знанию
человеческого тела (его анатомии, психомоторике, иннервационным
механизмам и т.п.). Если перед нами персонаж совершает перемещение
в пространстве, то как он это делает или как он это может делать,
чтобы мы могли соотнести его движения с нашим телесным опытом,
опознали их, наделили значением? Схема для двух движений: одно
плавное и медленное, оздоровляющее, эвритмическое, другое -
прерывистое, судорожное, подчиненное норме вздерга. Движение, которое
Белый называет эвритмическим, определяется неповрежденной,
здоровой мышцей, способной поддерживать организм в высоком тонусе.
А вот, что Белый называет больной мышцей: «...больная мышца -
механизована предрасположением к одному движению в ущерб
другому, расстройство мышцы - заминка в выборе движений»278.
Фактически, такая мышца отвечает на раздражение судорожным рывком,
а иногда и конвульсией, ведущей к телесному распаду и потере
смыслового задания. Разрыв между тонусом и судорогой: тонус органичен
и непроизволен, судорога атомистична, механистична -проявление
омертвевшего, механического в органических формах жизни. В
таком случае мимесис близости (контур эвритмического жеста)
противостоит механике раздроба или мимесису о-страненности, очуждению
образа. Или иначе говоря: «..."тонус" движений - не в движении, а в
паузе покоя; в позе покоя; вывод: схоластика думать, что мышца всегда
движется: лишь в движении (т.е. получив приказ к сокращению от
"нерва"); мышца всегда движется: движется, когда и не движется;
видимое движение (дан приказ нерва) - лишь суммирование
многообразных движений в одну сторону: это отбор из пленума движений...
/.../ фигуры, обусловливающие движение, даны в круге их; круг -
вседвижение, тонус; но круг движений - равновесие их всех - покой;
учение о тонусе разрушает иллюзию о покое мышцы; покой есть энергия
напряжения; он - готовность в любую минуту к какому угодно
движению»279. Под «пленумом движений» следует понимать телесную
память, хранилище всех тех навыков и приемов, без которых нет
воспроизведения предшествующего опыта. В сущности, сама телесная
память и толкуется как воля к универсальному миметизму,
утонченной игре с миметическими объектами, которые мы извлекаем из себя,
проектируя вовне в качестве образцов жеста. Разбирая пластическую
135
Литература как самосознание. Опыт Андрея Белого
свободу, легкость, полетность выдающихся памятников античного
искусства, Белый делает вывод: « ...одна из Афин этого периода
изображена в позе покоя с копьем; но вглядевшись в позу, видишь; и здесь:
рука с копьем предесцинирует ряд движений, естественно вытекающих
отсюда; ритм складок плаща дан так, что он образует волны
движений, взмывающих руку вверх. Мысль моя: неповторимость греческой
пластики в том, что она принцип движения вписывает в позу покоя
с большим совершенством, чем чисто внешние динамические
эффекты Родена; греки давали движение формам конфигурацией линий
и черт антипсихологически вне внешней экспрессии движения; и
оттого покой поз их статуй - легкий полет»280. Другими словами, жест
эвритмический - жест гармонизирующий,
лечебно-восстановительный, психотерапевтический, не реактивный как судорога (или
конвульсия). Человеческая речь эвритмична, она несет в себе
универсальную пластическую форму, которой нужно учиться овладевать. Язык,
понимаемый как речь, является внешне объективированной формой
древнего опыта движений. Ведь каждый артикулированный звук
представляет собой «сжатую» форму движения. В данном случае мы не
касаемся мистических обертонов размышлений Белого как
антропософа, ученика Р. Штейнера. Каждая буква-звук означает собой некое
первоначальное движение: например, тема звуков «УУУУ!» или «Ы»,
которую развивает Белый в «Петербурге». Следовательно, в этих
первоначальных звуковых формах творился мир, поскольку они еще
не были отъединены от самого действия: из этого потока деятельной
звучащей речи и рождался мир. Звуки гласные и согласные, взрывные
и шипящие, смягчающие, скользящие, мягкие и струящиеся, одним
словом, - глоссолалия. Нужно учиться овладевать первородным
жестом в нас, чистой формой его, именно тогда речь станет неотличима
от своего пластического выражения28'. Собственно, эвритмия учит
как раз работе с телом, которое помнит, и помнит все, и которое
говорит, рождая мир. Будущий жест рождается изнутри душевного
устройства личности (не из вульгарного актерства).
М.Чехов, выдающийся русский актер и режиссер, вероятно, был
наиболее увлеченным и последовательным учеником Штейнера, чьи
идеи эвритмии он успешно применял при разработке собственной
концепции театра.282 Каждый актер должен быть способен к
изобретению особых жестов, психологических, которые могли бы стать его
внутренней миметической формой. Это, так сказать, общие жесты,
без которых наша естественная практика общения была бы
невозможна. Есть жесты отталкивания, притяжения, раскрытия, полета,
136
VI. Жест
падения, ускользания, такие жесты, которые являются основой для
всякой индивидуальной практики. Тренированность актера стоит
на первом месте, а это значит, что прежде чем начать чувствовать,
нужно овладеть формой чувства; переживание содержания здесь
вторично: как («форма») определяет что («содержание»): «Если вы
сделаете сильный, выразительный, хорошо сформированный жест - в
вас может вспыхнуть соответствующее ему желание»883. Задача все
та же - лишить человеческий жест нагрузочного, ложного эффекта,
жест должен быть подготовлен и осмыслен в актерском движении.
Неслучайно, что Чехов так много места в актерской практике
уделяет применению паузы: та освобождает актера от спонтанного,
неясного действия, заставляет подготовить тело к действию, изменить
начальную атмосферу284. Правильно и точно выбранный жест
создает необходимые условия для пластически адекватной формы,
длящейся во времени: и это не «предмет», а линия**5. Другими словами,
жест длится во времени, он как бы разрывает или пересекает наличное
пространство, формирует его, не давая захватить себя, остановить,
тем более завершить... Жест и есть действие, нашедшее выражение
в линии: «...мое тело есть движущаяся форма», пишет Чехов286. Эту
форму можно определить как миметически идеальную, а это значит,
что актер (воплощая образ) полагается исключительно на нее, и
именно в силу ее разработанности он способен выразить и более сложные
характеры (не потому, надо заметить, что хорошо их «чувствует»).
Персонаж (как) сверхмарионетка.
Чтобы не упасть, нужно двигаться, и весь Белый - одно
движение. Альпинист, гимнаст-балансер, клоун, мастер фокстрота,
канатоходец - собственно, вся феноменология индивидуального бытия
Белого выстраивается вокруг идеи равновесия (взбираться в горах
высоко на пики-скалы, дверь в комнате как скала, умение ходить по
карнизу, залезать на поставленные друг на друга как в пирамиде
стулья, и главная поза: сидеть на карточках, удерживая равновесие на
мысках). Поза равновесия трудно достижима. Тело гимнаста, гибкое,
быстрое, танцующее, легкое тело - образец и для других,
незавершенных опытов Белого. Неравновесие в экзистенциальном (творческом)
смысле говорит о незавершенности намеченного труда,
плана-проекта, общих усилий личности. Что касается техники рельефного
изображения, то ею овладевает Белый с помощью своих
гимнастических и клоунских способностей. Он не «вживается» в каждый образ, а
Литература как самосознание. Опыт Андрея Белого
подстраивается под внешние черты телесной формы другого, а
только потом воплощается, чтобы заставить ее ожить в ином движении.
Бесспорно, это развитие гоголевского приема, но уже не анимация
куклы, а повод к игре с марионеткой, пластически более
выразительным и неземным существом, способным к мгновенному,
взрывному движению. Всюду одна и та же лепка: схватывается
жестикуляционный контур, открытый движению. Вот где сила о-странпяющего
приема. Видеть - это о-страннять, делать странным, чуждым, причем
так, чтобы узнать в Другом собственное отражение, даже если для
этого надо будет проявить особую гибкость и совершить такие
«прыжки», «перевоплощения», которые кажутся невозможными.
Приведем ряд примеров, на мой взгляд, наиболее
выразительных (см. выделенное - В.П.):
(Д. С. Мережковский)
«Д.С. же внимал с напряжением; как сел за стол, так остался, не
переменив своей позы: в полуобороте видел ухо, растительность (почти до
скул), нос, меня поразивший размерами, странной неправильностью,
вздерг затылка, являющего продолженье спины, зализь жидкой
прически, пробор очень чистенький; глаз я не видел, вперялся в
пересеченье перпендикуляров от наших носов - в кусок скатерти; точно играли
в невидимые шахматы: сделавши ход, ожидали подолгу ответного хода,
обдумывая положенье: невидных фигурочек»"87.
(С. П. Дягилев)
«...выделялась великолепнейшая с точки зрения красок и графики
фигура Дягилева; я его по портрету узнал, по кокетливо взбитому коку волос
с серебристою прядью на черной растительности и по розово, нагло
безусому, сдобному, как испеченная булка, лицу, - очень "морде", готовой
пленительно маслиться и остывать в ледяной, оскорбительной позе
виконта: закидами кока окидывать вас сверху вниз, как соринку.
Дивился изыску я: помесь нахала с шармером, лакея с министром;
сердечком, по Сомову, сложены губы; вдруг - дерг, передерг, остывание:
черт подери Каракалла какая-то, если не Иезавель нарумяненная и
сенаторам римским главы отсекающая (говорили, что будто бы он с Марьей
Павловной, с князем великим Владимиром - запанибрата): маститый
закид серебристого кока, скользящие, как в менуэте, шажочки, с шарком
бесшумным ботиночек, лаковых. Что за жилет? Что за вязь и прокол
изощренного галстука! Что за ослепительный, как алебастр, еле видный
манжет! Вид скотины, утонченный кистью К.Сомова, коль не артиста,
прощупывателя через кожу сегодняшних вкусов, и завтрашних, и по-
138
VI. Жест
слезавтрашних, чтобы в любую минуту, кастрировав собственный
сегодняшний вкус, предстать: в собственном завтрашнем!»"88.
(Л.И. Поливанов)
«... вдруг дверь сорвалась как бы с петель; из двери влетел Поливанов,
казалось, огромным прыжком оказавшийся в центре комнаты; высокий,
сухой, но какой-то кургузый: не то красавец, обросший щетиною, и от
этого приобретающий сходство со зверем, не то продушевленный,
одухотворенный осел (было что-то ослиное: в носолобости: в несколько
покатом лбе, переходящем в покатый, большой, бледно матовый нос,
- именно не орлиный, скорее - лошадино-ослиный); меня поразил этот
скуластый и гривистый очерк лица двумя темными всосами щек,
прилетевший на длинных ногах, на меня остро бросивший выблеск
стеклянных очковых кругов; и меня поразила быстрота вихревая каждого
выброшенного движения, выброшенного точно взрывом в груди; и вместе
с тем: поразила скованность, стянутость, как бы мертвость мгновенных
пауз между движениями; не чувствовалось ничего среднего в этой смене
пауз и жестикуляционных разрывов: точка мертвого штиля; и
ураганный взрыв голоса, головного закида, подброшенной ноги и взвитой в
воздух руки, мгновенно убранных в новую мертвую, вещую, стянутую
паузу. Эта смена сознательно скованной выдержки, с которой он,
выслушивая отца, точно притаивался, вбирая себя глазами и всеми порами
кожи слова его, чтоб разорваться, как бомба, и раскидаться в
движениях ответного слова его, - эта смена движения меня поразила: изумление
перед невиданным явленьем природы пересилило и приятно-забавные
впечатления от его пленительной и показавшейся мне доброй улыбки,
и перепуг паузы, во время которой улыбка молниеносно слетала с
бледно-зеленоватого, многолетней бессонницей выпитого лица (кожа да
кости, - одер!): рот становился зловеще безгубым (полоска!); ноздря ж
угрожающе выпихивала кипятки точно бешенств невиданных и под
серой щетиной подпрыгивал четкий; вот Атиллой обрушится на меня, на
отца; миг: морщиночки, проиграв, как лучи, нахудейших щеках,
освещали лицо пречудесно; и молния света слетала с очков золотых.
- Прево... сходно ! - отчеканил он: прево - произносилося под губами
раздельно, тихо, быстро; а сходно, разъезжаясь на «0000» громовом,
басовом и грудном, выгибало сутулую спину, как бы подскочившую над
в нее севшею, гривисто откинутою головою; грудь выпячивалась
колесом, а рука, мертво легшая на спинку кресла, широкой, приветливою
спиралью развертывалась во всю комнату, и - ко мне обращенье:
- Пойдемте же! - быстрой, раздельной скороговоркой; и после адруг мой"
(с подчерком спондея): "вдруг" - голосовой удар; "мой" - голосовой удар»"89.
139
Литература как самосознание. Опыт Андрея Белого
(К.А. Тимирязев)
«В Тимирязеве поражал меня великолепнейший, нервно-ритмический
зигзаг фразы взлетающей, сопровождаемый тем же зигзагом руки и
зигзагами голоса, рвущегося с утеса над бездной, не падающего,
взлетающего на новый крутейший утес, снова с него взвивающегося до взвизгов,
вполне поднебесных; между взлетами голоса - фразу секущие паузы,
краткие, полные выразительности, во время которых бурное
одушевление как бы бросалось сквозь молодеющий лик; и - падала непокорная
прядь на глаза: он откидывал эту прядь рывом вскинутой вверх головы,
поворачивая направо, налево свой узкий, утонченный профиль с
седеющей узкой и длинною бородкой; то отступая (налево, направо), а то,
выступая (налево, направо), рисуя рукой, сжимающей мел, очень легкие
линии, точно самому себе дирижируя, - он не читал, а чертил свои
мысли, как па; и потом, повернувшись к доске, к ней бежал, чтоб
неразборчиво ткани сосудов чертить нам.
Казался таким легконогим, безбытным; а для меня посещение его
лекций было менее всего изучением физиологии тканей, а изучением жеста
ритмического»890.
(В.Ф. Ходасевич)
«Жалкий, зеленый, больной, с личиком трупика, с выражением
зеленоглазой змеи, мне казался порой юнцом, убежавшим из склепа, где он
познакомился уже с червем; вздев пенсне, расчесавши пробориком
черные волосы, серый пиджак затянувши на гордую грудку, года удивлял
уменьем кусать и себя и других, в этом качестве напоминая
скорлупчатого скорпионика.
Делалось жутко.
Попав в "Перевал", Ходасевичу в лапы попал; он умел поразить
прямотою, с которой он вас уличал, проплетая журенья свои утонченнейшей
лестью, шармируя мужеством самоанализа; кто мог подумать, что это
- прием: войти в душу ко всякому; он входил во все души, в них
располагаясь с комфортом; в них гадил; и вновь выходил с большой
легкостью, неуличаемый; он говорил только "правду"; неправда была - в
придыхании, в тоне; умел передергивать - в "как", а не в "что", клевеща на
вас паузой, - вскидом бровей и скривленьем сухого, безусого ротика»891.
(Э.К. Метпер)
«Явился он бритым; надменное, вспыхивающее беспричинною злостью
лицо его разрывалось; но маска спокойствия стягивала в гримасу его;
оно вытвердилось нездорово; сузились, потускнели недавно живые
глаза, производившие впечатление голубых; они стали маленькими и нали-
VI. Жест
тыми кровью; не знаю с чего, вдруг надулися ноздри, а губы
решительно стиснулись; лоб с налитыми височными жилами стал точно бычий;
и подчеркнулись напруженные черепные шишки. Не Эмилий Карлович
Метнер, а ... минотавр; не человек, а ... животное бешеное в
человеческом образе на тебя дико выскочит, когда забежишь к нему в логово; и
непонятно забесится внутренней злостью»29*.
(В.В. Розанов)
«Это был - Розанов.
Уже восемь лет следил я за этим враждебным и ярким писателем, так что
с огромным вниманьем разглядывал: севши на низенькую табуретку под
Гиппиус, пальцами он захватывался за пальцы ее, себе под нос
выбрызгивая вместе с брызгой слюной свои тряские фразочки, точно
вприпрыжку, без логики, с той пустой добротой, которая - форма поплева в
присутствующих; разговор, вероятно, с собою самим начал еще в передней,
а может, - на улице; можно ль назвать разговором варенье желудочком
мозга о всем, что ни есть: Мережковских, себе, Петербурге? Он эти
возникшие где-то вдали отправленья выбрызгивал с сюсюканьем, без
окончания и без начала; какая-то праздная шепелявая каша, с взлетанием бровей,
но не на собеседника, а над губами своими; в вареньи предметов мыс-
лительности было наглое что-то; в невиннейшем виде - таимая злость.
Меня поразили дрожащие кончики пальцев: как жирные десять червей;
он хватался за пепельницу, за колено З.Н., за мое; называя меня Борей,
а Гиппиус - Зиночкой; дергались в пляске на месте коленки его; и хи-
трейше плясали под глянцем очковым ничтожные карие глазки»*93.
«Однажды он, смяв меня и налезая, щупал, плевнул вопросом; и я,
отвечая, чертил что-то пальцем по скатерти: непроизвольно; он, слов не
расслышав, подставивши ухо (огромное), видел след ногтя, чертившего
схему на скатерти, и, точно впившись в нее, перечеркивал ногтем,
поплевывал: "Понимаете!*' Силился вникнуть; вдруг он запыхался, устал,
подразмяк, опустил низко голову, снявши очки, протирал их безглазо,
впадая в прострацию; физиологическое отправленье совершилось; не мог
ничего он прибавить; мыслительный ход совершался естественной, что
ли, нуждою в нем; так что, откапав матерей мыслей, он капать не мог»*94.
(H.A. Бердяев)
«Высокий, высоколобый и прямоносый, с чернявой бородкой, с иконо-
писно раскиданными кудрями почти до плечей, с видом гордого Ассар-
гадона иль князя Черниговского, готового сразиться с татарами, он мог
бы претендовать на колесницу иль латы, если б не шла к нему темно-
141
Литература как самосознание. Опыт Андрея Белого
синяя пара с малым пестрым платочком, торчащим в кармане, если бы
не белый жилет, к нему тоже шедший; он уютнейше мне улыбался; что-
то было от пестрой богемы во всей его стати, когда передо мной
возникал на Арбате он в светло-сером пальто, и в шляпе светло-кофейного
цвета с полями, в таких же перчатках и с палкой; любил очень псов; и
боялся, крича по ночам, начитавшись романов Гюисманса.
Касаясь предметов познания, близких ему, начинал неестественно
волноваться и перекладывать ногу на ногу, схватываясь быстро за стол и
отбарабанивая задрожавшими пальцами; и вдруг хватался за ручку под ним
заскрипевшего кресла; не удержавшися, с головой бросался он в
разговорные пропасти; разрывался тогда его красный рот (он страдал
нервным тиком); блистали в отверстии рта, на мгновение ставшего пастью,
кусался, зубы его; голова же начинала писать запятые; и наконец,
оторвавшись руками от кресла, сжимал истерически пальцы под
разорвавшимся ртом; чтобы спрятать язык, припадал всей кудлатою головой к
горошками задрожавшим пальцам; и потом точно моль начинал он ловить
у себя подо ртом; и уже после нервного действия вылетал водопад очень
быстрых, коротких, отточенных фраз без придаточных предложений;
левой рукой продолжая ловить свои "моли" из воздуха, правой, в которой
оказывался непредвиденный карандашик, он тыкал перед собой
карандашным отточенным лезвием: ставил точки воззрения в воздухе, как
мечом, протыкая безжалостное мнение, с которым боролся; свое
убежденье высказывал он с таким видом, как будто все, что ни есть в мире, несло
заблужденье; и сам бог-отец заблуждался доселе и получая исправление
от второй ипостаси, обретший язык лишь в лице Николая
Александровича; высказавшись, становился опять тихим, грустным, задумчивым»893.
(В.Э. Мейерхольд)
«В.Э. заживает конкретно во мне в небогатой предметами комнате: стол
и несколько стульев на гладкой, серовато-синей стене; из этого фона
изогнутый локтями рук Мейерхольд выступает мне тою же серою пид-
жачною парой (а может, въигралась она в этот фон из более позднего
времени); он - слишком сух, слишком худ, необычайно высок, угловат;
в темно-серую кожу лица со всосанными щеками всунут нос, точно палец
в туго стягивающую перчатку; лоб - покат, губы, тонкие, сухо
припрятаны носом, которого назначение - подобно носу борзой: унюхать
нужнейшее; и разразиться чихом, сметающим все паутинки с театра.
Сперва мне казалось: из всех органов чувств - доминировал "нюх" носа,
бросившегося вперед ушами, глазами, губами и давшего великолепный
рельеф профилю головы с точно прижатыми к черепу ушами; недаром
же Эллис прозвал Мейерхольда, его оценив: нос на цыпочках!
142
VI. Жест
Позднее я понял: не "нюх"; зрение - столь же тонкое; осязание - столь
же тонкое; вкус - столь же тонкий; подлинно доминировал внутренний
слух - (не к черепу прижатое ухо), - исшедший из органов равновесия,
управляющих движением конечностей, мускулами глаз и уха: он
связывал в Мейерхольде умение владеть ритмами телодвижений с умением
выслушать голосовой нюанс этой вот перед ним развиваемой мысли;
во всем ритмичный, он обрывал на полуслове экспрессию
телодвижений своих и взвешивал в воздухе собственный жест, как пальто на гвоздь
вешалки, делая стойку и - слушая; напряженные мускулы сдерживали
бури движений; не дрожало лицо: с легким посапом придрагивал
только нос; выслушав, - он чихал шуткой; посмеивался каким-то чихающим
смехом, поморщиваясь, потряхивая головой и бросая в лицо
скульптуру преувеличенный экспрессией жестов; Мейерхольд говорил словом,
вынутым из телодвижения; из мотания на ус все виденного - выпрыг
его постановок, идей и проектов; сила их - в потенциальной энергии
обмозгования: без единого слова.
Не нюх, а животекущая интуиция мысли. Опередившей слова; у Чулкова
слова - пароходище, пыхтящий колесами, выволакивающий на буксире
от него отставшую лодочку; жест Мейерхольда - моторная лодка,
срывающая с места: баржи идей.
Он хватался за лоб (нога вперед, спиной - к полу, а нос - в потолок); то
жердью руки (носом - в пол), как рапирой, метал в собеседника, вскочив
и выгибая спину; то являл собой от пят до кончика носа
вопросительный знак, поставленный над всеми догмами, во все усомнясь, чтобы
пуститься по комнате - шаг, пауза, шаг, пауза - с разрешением по своему
всех вопросов»*96.
Без знания оригиналов все эти потрясающие описания били бы
мимо цели. Остались бы случайным набором «взрывов», разносящих
во все стороны множество малых и мельчайших жестуально-мими-
ческих корпускул, из которых трудно собрать единое целое
характера. Образы-взрывы, образы-вздерги, образы-изломы разрушают
первоначальную целостность человеческого облика. Нет сомнений
в том, что в портретах современников Белый использовал
«судорожную» технику. В ниже приведенных зарисовках видна близость к
пантомиме: «....Я очень много работал над жестом героев; жесты даны
пантомимически, т.е. сознательно утрированы, как бывают они
утрированы, когда сопровождаются музыкой; главное содержание
душевной жизни героев дано не в словах, а в жесте, как и в
действительности; в действительности интонация, мина, жест важнее слов; я
старался, где можно, стереть литературщину с литературного из-
143
Литература как самосознание. Опыт Андрея Белого
ложения: в целях реализма»297. Тут целый театр, в дело идут малые
жанры: передразнивание и сатира, гротеск и розыгрыши,
«издевательства» и шаржи. Сохраняется одна и та же метода: расщепление
образа на малые мертвые паузы, а потом анимация, оживление. Жест-
вздергг. дать образ - это найти точку разрыва в движении персонажа,
и уже вокруг него собрать другие элементы и по опорным точкам
восстановить движение, придать ему пластическое единство.
Фигуры даны в движении, но с ними что-то происходит, они не могут
оказать сопротивление силам, которыми располагает всемогущий
закулисный автор, искусный режиссер театра марионеток. В каждой
пантомиме - следы невидимого танца, которому обучен не
персонаж, а тот, кто его мимирует, кто переводит его телесный образ в
иную реальность, тем самым присваивает. Вот что поражает: Белый
гимнаст и пародист - словно греговская сверхмарионетка- способен
повторить любое движение, всякую черту характера сделать
наглядной в жесте, проходе или падении. Каждая сцена разыгрывается, но
так, что нам не охватить целое образа. Большую часть воспоминаний
Белого как раз и составляют именно такие взрывные демонстрации
тела Другого (в нескольких измерениях). Таковы почти все фигуры
современников, ни один из них не обрисован в спокойной
созерцательной и «реалистической» манере. И тем сильнее в подаче
персонажа чувствуется остраннение, чем более уродливой и гротескной
представляется его маска298. Всюду судорожные всплески,
истерический припадок как норма. Изображение лица, сведенное к нужным
миметическим точкам, распадается на фрагменты, не совмещаемые
в одной плоскости. Образ Дягилева в известном портрете Сомова
беден по сравнению с андреебеловским. За медленным ходом
грузного тела Дягилева, «бесшумными шажочками», за всем этим
физиогномическим набором дягилевских ужимок таится первый взрыв,
- разлет черт. Все подчинено приему: сначала взорвать, а потом
собрать вместе, что осталось.
В образе Мережковского все определяет «вздерг затылка». Или
вот еще персонаж (директор знаменитой гимназии Поливанов): он
не входит, а «влетает», он обладатель далекого прыжка, не то
красавец, не то просто зверь, «продешевленный, одухотворенный осел». И что
же - опять взрыв/разлет: от «взлета» переход мгновенный в паузу
и обратно. Не персонаж, а гимнаст-виртуоз, чьи движения мелькают,
мы их не схватываем, он не выдерживает и рассыпается... Иногда
жестикуляция, лишенная определенности направленного жеста,
переходит в ритмическое представление, набор танцевальных па, в
что-то похожее на менуэт. Общая ритмическая канва образа итожит-
144
VI. Жест
ся минимальным временным интервалом, - все тем же мигом: «вдруг-
дерг, передерг, остывание...».
Физиогномическая микрология образа не улучшает наше
представление о реальном прототипе, мы не получаем дополнительного
знания. За сложным росчерком жеста персонажа нет характера, он
превращен в пустую форму, «чистую марионетку», которая способна
создавать жестовой рисунок, но не способна оживить персонаж
настолько, чтобы он обрел жизненное единство. Эффект полного о-чуж-
дения: то, что эти персонажи-марионетки имеют имена - причуда
автора. В центре рисуемой сцены - две силы: одна сжимает,
собирает энергию для единого жеста, другая взрывает, разносит,
разрушает линию жеста, превращая ее в жестикуляцию. То мертвящая пауза,
черная дыра, в которую начинает свертываться энергия
прошедшего взрыва, то сам момент взрыва, которому поручена роль
воссоздания образа, но через его разрушение: «...быстрота вихревая каждого
выброшенного движения, выброшенного точно взрывом в груди».
Одновременно в паузе полного мертвого покоя накапливается и энергия
словесного взрыва: «...разорваться как бомба, и раскидаться в
движениях ответного слова...». Везде повторяется одна и та же модель
двигательного рисунка, им Белый проверяет новый материал памяти.
Если угодно, такого рода модели психического есть изначальное
качество памяти универсальной, «памяти памяти».
Приступ «косноязычия». Парадокс об актере-2
«Все, что я вам пишу, - косноязычие,
косноязычие...
А.Белый - Иванов-Разумник. Переписка.
Речь снова об актерстве Белого. Конечно, это актерство не
юродствующее (в том смысле, какой придается юродству в академических
научных исследованиях)2". Скорее Белый - чистый мим, всегда на
грани нелюбимого им быта и норм привычного поведения.
Причудливость и экстравагантность, необычность и отчужденность
жеста, одним словом, этот господин - весьма странный чудак. Активная
сторона актерства: выбор позиции; пассивная сторона:
прислушивание, всматривание, умолчание. Обе эти стороны смешиваются в
актерской практике Белого благодаря высокому жизненному тонусу
(он называет «кипением» свою невероятную энергичность в рабо-
Литература как самосознание. Опыт Андрея Белого
те)3°°. Имманентность бытия открывается в экстазе, в одержимости
(бытием), не в его присвоении. Естественно, что разного рода
глоссолалии, причитания, «клекоты» или заклинания, сопровождающие
немотные состояния сознания в практике религиозных сект, не
могут стать всем понятным языком301. В них - чужой язык, невыгова-
риваемый, и это настоящее бедствие. Правда, у Белого такие
экстатические переживания редки. Он намного более рационален и
«осмотрителен», чем первые футуристы и В.Хлебников. Вот почему
надо согласиться с тем, что «заумь» Белого градационно выверена:
соотнесена с возможностью распределения тончайших оттенков в
общей таблице тональности видимого/слышимого. Часто слова
подвергаются механическому разъятию: звуки отделяются от реальных
эквивалентов, - вещей, или, напротив, совмещаются, но случайным
образом. Так, благодаря изобретенному языку нам может явиться
никогда не существовавшая вещь.
Можно ли назвать Белого юродивым ради Литературы? Проблема
заключается в выборе ряда признаков, которые определяют феномен
юродства как зрелища (театрального)? Можно их суммировать
(хотя, конечно, существуют разные понимания феномена юродства).
Первый признак, - это молчание юродивого, автокоммуникация, хотя
не вполне понятно, что означает это «авто»): «речь-молитва,
обращенная к себе и к богу. Она имеет прямое отношение к пассивной
стороне юродства, т.е. к самопознанию и самоусовершенствованию»302.
И вот важный вывод: переход от молчания к косноязычию,
глоссолалии, последнее - субститут молчания. Далее: нагота юродивого,
презрение к телесной нужде. Активная демонстрация пренебрежения
ко всему плотскому, решительный разрыв со всем, что обязано
существованием телесным удовольствиям. В одном ряду: молчание,
глоссолалия/косноязычие, нагота, - отсюда доминирование не
слова, а жеста. «Язык юродивых - это по преимуществу язык жестов
/.../ Именно с помощью жеста, который играл такую важную роль
в средневековой культуре, и преодолевалось противоречие между
принципиальным безмолвием и необходимостью аппелятивного,
т.е. рассчитанного на отклик, общения со зрителем»303. Взрывной
стиль аргументации юродивого, главное оружие: парадокс. Ставить
в тупик, провоцировать, создавать замешательство в восприятии
собственного поведения (он «хочет взорвать мир, потому что тот
«тепл, а не горяч и не холоден»)304. Парадоксальность жеста вызова;
перепад - от самого глубокого унижения к праву на обличения самой
высшей власти. Самоуничижение ради обличения мира, т.е. обли-
146
VI. Жест
чение подается как зрелище самоунижения. Некоторые
современные художники повторяют юродивый стиль, - через
саморазоблачение обращать мир к Добру. Юродивый как «аноним святости»305.
Но главное - игра и театральность (шутовство, актерство, клоунада).
Другими словами, вся сила и суггестия симулятивного поведения:
научиться быть безумным, «быть не от мира сего».
Как нам понимать косноязычие Андрея Белого (еще одно
уточнение)? Допустим, косноязычие - это неартикулированная речь,
«каша во рту», неспособность «экономно» и «ясно» выразить мысль.
Если же мы предположим, что имеем дело с поэтическим
косноязычием - это уже совсем другое дело306. Это отказ от литературного
языка-нормы в пользу другого, неведомого языка, который еще
предстоит создать. Идеальное косноязычие как утопия нового языка507.
Обратим внимание на два аспекта. Первый: косноязычие как
психофизиологическое следствие семейных проблем, драматически
пережитых Белым в детстве («и странная, с детства знакомая
немота идиотика Бореньки», и еще: «...косноязычный, немой,
перепуганный, выглядывал "Боренька" из "ребенка" и "паиньки"; не то
чтобы он не имел жестов: он их переводил на "чужие", утрачивая и
жест и язык»308). Значение темы косности, немоты языка, «язык
прилипает к небу, не оторвать». Тогда в центре косноязычия
оказывается невыносимое напряжение между тем, что должно быть выражено,
и тем, что это невозможно в силу известной немоты героя. Немота
как условие нового чувства языка; неспособность говорить на
родном языке. Немота как препятствие. Второй аспект: косноязычие
как искусство правильного соотнесения ценностей слуха и зрения309.
В чем же эта «правильность»? Прежде всего она заключается в
высвобождении слова от общепринятого набора метафор, ассоциаций,
языковых клише, создающих эффект зримости. Взаимодействие
между слышимым и видимым, их разрыв, должно быть заново
переосмыслено. Косноязычие раскрывается во взрыве неуправляемой речи,
речи-потоке, выходящей за границы смысла, ибо сила выражения
неизмеримо могущественнее, чем какие-либо ограничения со
стороны смыслового задания. Трансгрессия речи. Два полюса, резко
отделенных и противопоставленных: немота (нехватка, «дыра») и
речевой взрыв (избыток, «рои»). Посредствующим звеном между
крайними позициями могла бы быть речь танцующая, поющая, поэтическая
- эвритмически отделанная. А это такая ритмическая речь, которая
предполагает упорядоченное движение жестов по определенным
отрезкам звучащего речевого пространства. Звуковой жест -
отражение телесной пластики310.
147
Литература как самосознание. Опыт Андрея Белого
Глазоухо. Типо-графика текста
В сущности, Белый стремится преодолеть доминирование
зрительных эффектов над акустическими введением сложных фигур
типографики:
«В классических строфах - как их не изощряй - тоже не отразишь
волну голоса. Их монотонность сковывает глаз и звуковое дыхание. В них
мало движения и совсем нет пространства. Глаз равномерно скользит
по строчкам и передает уху однообразие своего движения
«направо-налево». (Физиология знает, что слух и зрение в нас органически связаны).
И уснувшее ухо перестает слышать биение пульса в стихе. Перестает
отмечать взлет и падение голоса, «взмах интонационной волны», обрыв
в разъятие паузы или в бисер речитатива. Не различает острых изломов
мелодической линии, напора ее восхождения, когда, нарастая, она
поднимается к своей кульминанте, и ее разналряжения, когда, спадая, она
начинает затем медленно или «немедленно» угасать. Несущественно,
что одаренный чтец-исполнитель в лучшем случае кое-что угадает из
намерений автора. Но читатели - все, все читатели, - как до них
донести и как им всем передать эти живые оттенки? Пока что - только
путем расстановки строк - строчным расставом»3".
Белый работает не г языком (как лингвист), например, а в языке,
т.е. он не может выйти за его границы, и вынужден ориентироваться
на особую прагматику языка. Какое бы описание мы не взяли в
романе «Маски» - наиболее градационном, везде мы видим разрыв
между ожидаемым отражением в языке текущей ситуации (Реального)
и теми языковыми возможностями, которыми располагает автор
(Воображаемое). Миметическое предельно сближает с видимым или
слушаемым, а вот градационность, напротив, отдаляет, остранняегп,
о-чуждает слова, поскольку слово начинает соединять в себе не
соединимое, некие внеприродные и не синтезируемые элементы.
Становится чистой схематикой языкового эксперимента. Итак, с
самого начала собирание материала все время наталкивалось на
фундаментальное противоречие: между общим замыслом и его конкретным
воплощением в материале. Нет законченного драматургического
плана. Метод градационной подачи материала стоит на первом
месте - (это и есть собирание материала). На каждом листе рукописи
отмечаются рубрики, пересекающие его вдоль, не горизонтально;
каждая имеет свое название, указывающее на тему, которая должна
быть освещена в романе (сменяющееся другим по мере поступления
148
VI. Жест
материала), например: «Природа», «Фамилии», «Война» или
«Имена» (главных героев романа)312. Материал разрастается и не имеет
ограничений: рубрики прибавляются, их объем растет. В каждой
собирается самое «ценное» и «удачное» из наблюдений, заметок,
воспоминаний или свидетельств. Иногда их ценность настолько
высока, что под них может быть выстроено отдельное действие
диалога или дано описание. Отдельная рубрика претендует стать целой
главкой. Это открытая структура, которая не допускает внутреннего
стеснения, все развивается спонтанно и почти мгновенно. Высока
скорость сцен-мимов, слишком силен их взрывной разлет, читатель
явно не успевает «схватить» и закрепить их в доступных образах.
Понимание не просто опаздывает, но оказывается излишним,
замедляющим бег мигающих строк, и, если сказать словами Белого,
всюду: «...мимобег: мимоезд, мимолет\» (курсив мой - &/7.)313. Почти
каждый фрагмент, абзац, или целая главка, предложение, фраза, имя,
слово, набор звуков (в случайном собрании букв), - все получает
автономию по отношению к содержательным аспектам
повествовательной формы. Начальный миг времени становится «непережитым
мгновением»34. Парадокс чтения поздних романов Белого в том,
что читать их следует очень медленно, даже не читать, а скорее изучать.
То, что кажется в них непосредственным, даже «взрывным» - на
самом деле результат кропотливой работы по отбору материала, с
педантичным расчетом будущих эффектов. И основное: ритмической
перепроверкой почти каждого словесного ряда. Очень быстрое
готовится из очень медленного315. А вот его знаменитые мемуары:
«Начало века», «На рубеже двух столетий», «Между двух революций», а
также воспоминания о Блоке и Р. Штейнере пишутся быстро, почти
по памяти. Можно сказать, один стиль замедляющий, инертный, не
создающий для читателя никаких проблем, - привычное мемуарное
чтение (даже несколько «охлажденное»). Но вот другой стиль,
скоростной, принятый Белым для большинства романов «Эпопеи», - стиль
экспериментальный, «типо-графический», требующий от читателя
тонкого слуха и усердия, и кажется непреодолимым препятствием
(то ложно-претенциозным и «искусственным», то «джойсоподоб-
ным», автор оказывается то «гением», то «верещащим телеграфным
столбом», то «клоуном с явными признаками раннего идиотизма»).
Особо наглядно «сверхбыстрый» стиль Белого проявляет себя в
переписке. Все, что он пишет, причем с громадной скоростью,
захваченный, «озаренный» только что пришедшей в голову «новой» идеей,
не перечитывая, как раз и относится к особой активности
пишущего; всякая экономия знаков, редактура отвергаются316. То, что пи-
149
Литература как самосознание. Опыт Андрея Белого
шется быстро, слишком быстро - читается медленно; то, что
пишется медленно - читается быстро, в ритме миг-времени.
Стоит обратить внимание на пунктуацию, на странную игру
бесконечных тире (цезур ускорения) и двоеточий. Я уже не говорю о точке
запятой^ которая оказывается внутренней границей фразы.
Ритмическое использование пунктуации - разметки пунктов для речи, - не
совпадает ни с каким грамматическим законом. Но и ее недостаточно,
чтобы выразить все оттенки интонации, влияющие на общий смысл.
«Неправильно писать», но правильно говорить. Отношение здесь
как между партитурой и исполнением, но даже более того, - как между
ритмическим «голосовым» шифром, который придает смысл
сказанному (но не писанному), опираясь на типографию текста. Ведь читая
«глазами», не произнося, мы не способны овладеть ритмом, поэтому
так мало понимаем движение, в которое вовлечено повествование.
Неудача Белого в типо-графическом конструировании ритмического
периода: обрывы, цезуры, ниспадения/подъемы, «лестница»,
градации оттенков и прочее. Скорее именно тогда, когда ритм скрыт, и
читающий его вырабатывает самостоятельно, причем совершенно
безошибочно (в привычной грамматической форме), именно тогда
воздействие убедительно. Хотя, конечно, я понимаю, что хотелось
автору, - это достичь в типографическом образе такого движения
текста, приносящего смысл, как на гребне волны, «требуемой»
артикуляции отдельных звуков и ритмических целых. Фраза как будто
строится от субъекта, и на первый взгляд кажется, что он управляет ее
движением, но это обманка. Богатство глагольных форм,
удостоверяющих высокую подвижность плана выражения, отменяет попытки
субъекта овладеть ими. Как только субъект вступает в область действия
различных режимов скорости, он настолько изменяется, что его
форма кажется стертой и более невосстановимой, напоминающей
движение из хаоса, рой-движение. Вот как Белый поясняет свою цель:
«Все это - вот к чему: я пишу не для чтения глазами, а для читателя,
внутренне произносящего мой текст; и поэтому я сознательно насыщаю
смысловую абстракцию не только красками, гамму которых изучаю при
описании любого ничтожного предмета, но и звуками до того,
например, что звуковой мотив фамилии Мандро, себя повторяя в "др",
становится одной из главнейших аллитераций всего романа, т.е.: я, как
Ломоносов, культивирую - риторику, звук, интонацию, жест; я автор не
"пописывающий", а рассказывающий напевно, жестикуляционно; я
сознательно навязываю голос свой всеми средствами: звуком слов и
расстановкой частей фразы.
150
VI. Жест
Периодическая речь - речь для произнесения; она распадается на
своего рода строчки, прерываемые паузами, после которых - голосовой
подчерк; произнося, я могу и подчеркнуть союз «и», и слизнуть его; я
могу выделить два слова, если в них - смысловой удар; не одно и то же:
"хоррошая... погода"; и - "хорошая погода"
Из чисто интонационных соображений там, где мне нужно, моя фраза
разорвана так, что придаточное предложение, оторванное от главного,
вылетает на середину строки. Когда я пишу: «И - "брень-брень" -
отзывались стаканы, то это значит, что звукоподражание "брень-брень"
- случайная ассоциация авторского языка.
Когда же я пишу:
"И-
- «брень-брень» -
- отзывались стаканы..." - это значит, что звукоподражание как-то по-
особенному задевает того, кто мыслит его; это значит, - автор
произносит: иии" (полное смысла, обращающее внимание V), пауза; и "брень-
брень", как западающий в сознание звук
Кто не считается со звуком моих фраз и с интонационной расстановкой,
а летит с молниеносной быстротой по строке, тому весь живой рассказ
автора (из уха в ухо) - досадная помеха, преткновение, которое создает
непонятность; непонятность - не оттого, что непонятен автор, а
оттого, что очки, т.е. специальный прибор для ношения на носу, не
ведающий о назначении читатель (как читатель Ломоносова Сумароков)
начинает нюхать, а не носить на носу»317.
Однако такую установку можно оспорить. Во-первых, ритмы
чтения контролируются тем смыслом, который читающий ищет в
содержании (главы, фрагмента, отдельной фразы). Автор же
пытается передать смысл, выражая его определенной ритмической
формой. Ниспадение буквенных гирлянд рождает почти безбрежное
пространственное чувство, но и смысловую неполноту,
необязательность самого повествования. Хотя оно и движется, на самом деле
его будто бы и нет, ибо научение ритму разрушает внимание к
значимому жесту. Мимическая сцена ведь может и не переходить в жест,
т.е. быть свободной от типографического принуждения. Типография
текста не выстраивается вглубь, напротив, все уплощается,
выводится на поверхность отражения, отзеркаливается. Многие критики
справедливо указывали на «искусственность» приема в прозе Белого.
Важнейшая, может первая заповедь: нельзя лишать читателя
свободы в выборе стратегий чтения. По сути дела, Белый навязывает
читателю ограничения в использовании собственных телесных образов,
Литература как самосознание. Опыт Андрея Белого
замещая их своими, подавляя воображение. Строчный расстав
текста делает его текстом-в-себе. Значения текста оживают только при
правильно ритмически подобранном произнесении, - глоссолалии.
Автор пытается представить себя говорящим, произносящим текст,
кооптировать себя в него произвольно, нарушая все моральные
правила чтения318. Движение глаза не может идти по линии
графического расстава (на этом пути нет понимания); оно вторично, и
должно быть сопутствующим чтению-вслух. Пунктуация выстраивается
не на основе синтаксических правил, а так, как видится автору
ритмический рисунок речи. Отсюда частое использование в прозе
Белого точки с запятой и двоеточия, но их синтаксическая функция
ритмически-интонационно ослаблена. Выделяется графо-ритмический
конструктор: это тире. «Лучше других - тире. Оно взрез глубины, и
все-таки шаг на пути к инновации. Оно знак, обратите внимание,
остановитесь: что-то здесь происходит»3*9. Тире - не просто тире,
резкое изменение всего пространства рече-движения, чаще глубокая
пауза, переходящая в напряженное молчание. Тире, став прочерком,
действует не по горизонтали, а по вертикали. Типографика - это
типо-графика падающего текста (кстати, характерная черта многих
авангардистских экспериментов). В этом есть некое испытание, когда
текст вдруг прерывается, - начинается падение, произносящий, теряя
ритм, входит чуть ли не в смертельное пике. Но потом все-таки
восстанавливает прежнее состояние, хотя продолжает распадаться,
дробиться на отдельные фразы, звуки, на кусочки невнятных звучаний.
Приводим фигуративную запись падающе-взрывных фрагментов
текста, предложенные Белым:
«Оно разорвется и Разорвется. Он грудью и выбьет
w выбьет огромный светящийся Мечом; пронесется Любовью: ^
\ гейзер, стрельнувший столбом Огнем как Мечом, •
4 как Мечом, в мировое в мировое '
\ Ничто! -во Все! ,'
4 ч Узнаю, что тот Меч есть - Архангел; зовут Ра-, '
4 \ Файлом его: • '
ч Рафаил •
Звук
раз-
\ Р"- /
\ ва».з*° /
VI. Жест
«Эти мистеры только кажутся множеством; мистеров - нет: есть один -
Сплошной мистер. Заполнивший промежутки междуатомных пустот...»
- «И его называют эфиром...»
- «Но физик Планк», уничтожив эфир, доказал, что «сплошной мистер» -
ноль...» Мы глядели в окно; там валил серо-желтый «сплошной» и уже
неотчетливый мистер в сплошных серо-желтых сложениях серо-желтого^
ч камня: но развивалось явление это при помощи «морока мистеров»: -/
\ - сотен! - /
s - десятков тысяч! - ,
ч - и сотен тысяч ! - /
4 N - так мистеры. Индивидуально раздельные, обве- , /
4 ч денные друг от друга во внешнем и вну- '
4 треннем мире очертанным '
4 кругом, изображали /
ν собою ЛИШЬ /
^ /
s точку /
ν /
\ ИЛЬ ,
4 а- /
\ а- ,
\ -том- //
\ -ноль!»з«> /
N /
\ /
\ /
N /
\ /
V
VII
Мир-и-город
Гео-философии эпохи
Петербург - точка морока, стилизация; он
гипербола для гиперболы; он и для Гоголя - взрыв:
бомбы в Гоголе»3*2.
«Внешнее» иногда внутренней «внутреннего».
А. Белый
Вопрос о мозге
Делим все надвое. Сначала МИР. Не сумма городов, не город, а
та часть мира, которая и есть мир в высшем смысле, это области
горной местности. МИР - это ГОРЫ. Место действие - Коджоры
(Восточная Грузия), место высотное, там Белый научается
чувствовать «философию гор». Опыт не только визуального, но чувственно-
телесного переживания горного ландшафта, опыт доязыковой,
порождающий собственный язык, язык ландшафтных жестов. В этом
высокогорном мире есть свой телесный идеал: живое тело,
скользящее, легкое, тело лета и высоты; высокогорье Кавказа -
естественная среда обитания для такого рода тел, одно из них тело Андрея
Белого. На другой стороне, - ГОРОД. Город этот особый, столица
великой империи - Санкт-Петербург. Город для Белого - это
ментальный анаморфоз Природы, т.е. чисто ментальная или «мозговая»
проекция на Природу взаимоотношений власти, господства и
подавления, принуждающих население империи находиться в одном
154
месте, под многими ограничениями и запретами. Город-Петербург,
взятый в единой перспективной точке, выражает
планиметрическую волю к господству. В имперском городском ландшафте не
встретить целостных телесных образов, оно заполнено множеством
других тел, рассеченных, фрагментированных, как бы отраженных на
экране кинематографа. Мозг начинает управлять телами, которые
лишились своего естественного окружения, стали элементами
мозговой игры. Город (Империя) противостоит горному ландшафту
(Природа), как мозг- телу. Глаголы движения (все эти полеты, прыжки,
ускорения, взрывы, мелькания и т.п.) настаивают на особой
быстроте, которая не соответствует реальным возможностям
человеческого тела. Это движение виртуально, «мгновенно», актуально - «здесь
и сейчас». Какая сцена, кроме церебральной, была бы готова
принять такую быстроту, даже утвердить в качестве нормы все эти
верткие, скользящие, вспыхивающие образы? При церебральном
«чувствования» каждая новая порция ощущений перебрасывается в образ,
минуя тело или опираясь на него выборочно. На экране сознания
движение героев «Петербурга» предстает окруженным маревом
нелепых жестикуляций. Сознание их открывается рассказчику
посредством эффекта остраннения. Напомню, остраннение - достаточно
быстрый переход, часто мгновенный, от себя как единого «Я» к себе
как другому «Я», расщепленному, раздвоенному. Последнее «Я», как
в кошмаре, высвобождается для переживания собственного о-стра-
ненного бытия, оно видит, что происходит, но не в силах чему-либо
помешать. Таково положение в романе всеведущего Рассказчика,
который пребывает вне раздвоя и может его наблюдать, следя за тем,
как персонажи переходят из одного состояния сознания в другое,
не отдавая себе в этом отчета. Поступки совершаются не
ответственными, себя сознающими личностями, а психическими автоматами,
чья активность определяется игрой внешних сил. Именно эти
мощные силы превращают внутреннюю сцену сознания в подобие
«мозговой игры», игру отблесков и теней.
«Мой "Петербург' есть, в сущности, зафиксированная мгновенно жизнь
подсознательная людей. Сознанием оторванных от своей стихийности;
кто сознательно не вживется в мир стихийности, того сознание
разорвется в стихийном, почему-либо выступившем из берегов
сознательности; подлинное место действия романа - душа некоего не данного в
романе лица, переутомленного мозговою работой, а действующие лица
- мысленные формы, так сказать, недоплывшие до порога сознания. А
быт, "Петербург", провокация с происходящей где-то на фоне романа
155
Литература как самосознание. Опыт Андрея Белого
революцией - только условное одеяние этих мысленных форм. Можно
было бы роман назвать «мозговая игра». В "Серебряном голубе" сознание
героев, так сказать, без смысла и толку бросается в стихийность; здесь
сознание отрывается от стихийности. Вывод - печальный: в том и
другом случае. В третьей части трилогии формула будет такова: сознание,
органически соединившееся со стихиями и не утратившее в стихиях
себя, есть жизнь подлинная. Такова формула моего романа; но, право,
я не знал, что получилось из формулы, когда я ее облек в "Петербург"»3*3.
Тот же Александр Иванович Дудкин не может выбраться из
плена тяжких галлюцинаций («допившийся до белой горячки»).
Николай Аполлонович Аблеухов свой постоянный, почти животный страх
перед бомбой-сардинницей (собственным «преступлением»)
выразил переживанием будущего взрыва, ведь он стал бомбой: распухание
тела до шарообразного состояния, и вот оглушающий, лопающийся
звук разрыва. Или замечательная сцена неудавшегося самоубийства
поручика Лихутина: все, что он делает, готовясь покончить с собой,
кажется, что делает не он сам, а кто-то другой, словно под влиянием
чужой воли; одно его «я» вполне безучастно наблюдает за
действиями другого: бритье шеи ради сохранения эстетики посмертного
приличия, намыливание веревки, наконец, попытка повеситься...
Я уже и не говорю о главной герое Аполлоне Аполлоновиче Абле-
ухове, который, с одной стороны, «был рожден для одиночного
заключения» и всегда старался держаться замкнутых кубических
пространств - кабинетов, комнат, карет, но с другой, - имел второе
пространство, был способен впадать в глубокие и длительные трансы,
совершать невероятные космические путешествия:
«После линий всех симметричностей успокаивала его фигура - квадрат.
Он, бывало, подолгу предавался бездумному созерцанию: пирамид,
треугольников, параллелепипедов, кубов, трапеций. Беспокойство
овладевало им лишь при созерцании усеченного конуса.
Зигзагообразной же линии он не мог выносить.
Здесь в карете, Аполлон Аполлонович наслаждался подолгу без дум
четырехугольными стенками, пребывая в центре черного, совершенного
и атласом затянутого куба...»3*4.
«Апполон Апполонович видел всегда два пространства: одно -
материальное (стенки комнат и стенки кареты), другое же - не то, чтоб
духовное (материальное также)... Ну, как бы сказать: над головою сенатора
Аблеухова глаза сенатора Аблеухова видели странные токи: блики, бле-
156
VII. Мир-и-город
ски, туманные, радужно заплясавшие пятна, исходящие из крутящихся
центров, заволакивали в сумраке пределы материальных пространств;
так в пространстве роилось пространство, и это последнее, заслоняя
все прочее, в свою очередь убегало в безмерности зыблемых,
колыхаемых перспектив, состоящих... ну, будто из елочной канители, из
звездочек, искорок, огонечков.
Бывало Аполлон Аполлонович перед сном закроет глаза и вновь их
откроет: и что же: огонечки, туманные пятна, нити и звезды, будто светлая
накипь заклокотавших безмерно огромных чернот, неожиданно (всего на
четверть секунды) сложится вдруг в отчетливую картинку: креста,
многогранника, лебедя, светом наполненной пирамиды. И все разлетится»3*5.
«Второе пространство» - это пространство полетов,
высвобождения от первого, реального, но в себе сжатого, окруженного почти
всегда черным контуром, т.е. пресловутого пространства «черных
дыр». Это «второе» роится, разбегается, взрывается в невероятных
скоростях, где больше не действует (хотя и временно) тяжесть
темных масс, притяжение дыр и где все тела переходят в иные
состояния, утрачивая массивную телесность и обретая новые «тонкие
тела». Гибель сенатора (Аблеухов-старший), планируемая террористами,
можно уподобить минированию имперского Мозга. «В одном отно-
шеньи роман сжат до шутливого каламбурика (Петербург тоже -
точка: на географической карте; с другой стороны: точка в точке, иль
голова сенатора утвердила свою точку зрения, фикцию бомбы, в
действительность жизни; такое превращение сознания в бытие утверждает
сенаторский сын в карикатурою поданных правилах неокантианца
Когена; и мысль о бомбе становится в усилиях мысли папаши с
сыночком реальною бомбой, от которой погибнет империя (поприщинский бред
о дующем над черепною коробкою мозге); автор сам в ужасе: мысль о
сенаторе, мыслящем, что сын его водит дружбу с бомбистом, стала
реальностью - бомбы, бомбиста и сына сенатора. Покушавшегося на
отца, и сенатора, имеющего подобные подозрения...»326.
Церебральный взрыв разрушит планиметрический проект Города-Империи-
Космоса, откроет тайну абсолютистской деспотии: топологию
пустоты. Взрыв - это внезапное вторжение в мгновение бесконечного;
или сверхбыстрое расширение первоначальной пустоты,
заполнение одной пустоты другой. Взрыв как гетерогенез пустоты. Заметим,
пустотелость - основной признак кукольности. Придворные театры,
зверинцы, кунсткамеры, смотры и парады, маскарады и арлекиниа-
ды, - это один из возможных способов имперского могущества
«спонтанно» семиотизировать волю, захваченную влечением, - к пустоте.
157
Литература как самосознание. Опыт Андрея Белого
Власть достигает высшего господства там, где разделяет то, что
кажется неразделимым и противостоящим пустоте. Для имперской воли,
утверждающей могущество господства, пустота есть наипервейшее и
абсолютное условие сходства всего со всем; ничто от другого не
отличается, поэтому можно из одной точки просматривать все
пространство, не встречая сопротивления.
Клинически более точно описано само-остраннение террориста
Дудкина (в простонародном говоре «белая горячка»), разбитое по
стадиям (что отразилось в развертывании следующих друг за другом
главок романа). Вот как это выглядит:
«Черный контур там, на фоне окна, в освещенной луною каморке
становился все тоньше, воздушнее, легче; он казался листиком темной,
черной бумаги, неподвижно наклеенным на раме окна; звонкий голос
его, вне его, сам собой раздавался посредине комнатного квадрата; но
всего удивительней было то обстоятельство, что заметнейшим образом
передвигался в пространстве самый центр голоса - от окна - по
направлению к Александру Ивановичу; это был самостоятельный, невидимый
центр, из которого крепли уши рвущие звуки»5*7.
И,наконец:
«...звук голоса посетителя неприличнейшим образом отделился от
посетителя; да и сам посетитель, неподвижно застывший на подоконнике
- или глаз изменял? - явно стал слоем копоти на луной освещенном
стекле, между тем как голос его, становясь все звонче, и принимая оттенок
граммофонного выкрика, раздавался прямо над ухом»3"8.
И последнее наблюдение:
«...черная оконная копоть, образующая человеческий контур, вся какая-
то серая, истлевала в блещущую луною золу; и уже зола отлетала: контур
весь покрылся зелеными пятнами - просветами и в пространстве луны;
словом: контура не было. Явное дело - здесь имело место разложение
самой материи; материя превратилась вся, без остатка, в звуковую
субстанцию, оглушительно трещавшую - только вот где? Александру
Ивановичу казалось, что трещала она - в нем самом»3"9.
Но что такое мозг} - вот что необходимо обсудить читателю
«Петербурга». Р. Штейнер, учитель Белого, интерпретировал человече-
VII. Мир-и-город
скую анатомию по разнонаправленное™ сил тяжести, оказывающих
постоянное влияние на организм. Так, одна сила влечет к Земле
(строение человеческого скелета приспособлено к ней по составу и
форме костей), другая действует против сил тяжести, эта сила
«возвышает» до Космоса (так создаются условия для свободной
церебральной активности). Пояснение следующее: человеческий мозг весит
1500 граммов, но в действительности его давление на спинной
хребет незначительно и, главным образом, из-за того, что он погружен
в так называемую спинномозговую жидкость и по закону Архимеда
выталкивается, следовательно, осуществляет минимальное давление
на позвоночник. Можно сказать, что мозг «парит», он лишен
тяжести, не давит и пребывает в относительном покое. На различии
между активностью тела и покоем мозга особенно настаивает Штейнер:
«Таким образом, человеческая голова как орган есть нечто
совершенно особое, поскольку она отстраняет, изолирует себя от всего
происходящего на Земле. Лишь в незначительной степени
участвует Земля в головной деятельности человека. Человеческая голова
есть как бы подражание Космосу. Фактически то, чем является
человеческая голова, это некое подражание Космосу, это
действительное отражение Космоса, и по своей сути она совершенно не связана
с силами Земли. Итак, внутреннее строение мозга, его форма
основаны на подражании силам Космоса, и мы сможем понять их,
исходя не из чего-либо земного, но исходя из Космоса»330. На рисунке,
который делает Штейнер, он показывает открытость мозга к
воздействию со стороны космических сил. Белый был хорошо знаком
с принципами оккультной анатомии. Потому как представлен «мозг»,
да и сама «мозговая игра» в «Петербурге» легко заметить разрыв
между реальным телесным жестом и игрой церебральных образов. Все,
что мы, как читатели, наблюдаем в романе, происходит в сознании
безымянного рассказчика и нигде более. Вот почему движения
персонажей часто кажутся навязчивыми галлюцинациями и бредом
больного воображения. Психическая тождественность «мозговых»
состояний главных героев, Аполлона Аполлоновича Аблеухова и сына его
Николая Аполлоновича. Мозг отца и сына - это по сути дела один и
тот же мозг, или, возможно, срез его двух рабочих состояний
(случайно персонифицированных).
Вот характерные примеры присутствия образа «мозговой игры»
в тексте романа:
«... а мозговая игра, ограничивая поле сенаторского зрения,
продолжала там воздвигать свои туманные плоскости»35'.
159
Литература как самосознание. Опыт Андрея Белого
«Невинная мозговая игра самопроизвольно вновь выдвинулась в мозг,
то есть в кучу бумаг и прошений: мозговую игру Аполлон Аполлонович
счел бы разве обоями комнаты, в чьих пределах созревали проекты;
Аполлон Аполлонович к произвольности мысленных сочетаний
относился как к плоскости».338
«Мозговая игра носителя бриллиантовых знаков отличалась
странными, весьма странными, чрезвычайно странными свойствами: черепная
коробка его становилась чревом мысленных образов, воплощавшихся
тотчас же в этот призрачный мир».333
«И тут не мешает нам вспомнить: промелькнувшие мимо (картины,
рояль, зеркала, перламутр, инкрустация столиков), - словом, все,
промелькнувшее мимо, не могло иметь пространственной формы: все то было
одним раздражением мозговой оболочки, если только не было
хроническим недомоганием, может быть, мозжечка.
Строилась иллюзия комнаты; и потом разлеталась бесследно, воздвигая
за гранью сознания свои туманные плоскости.
За захлопнутой дверью не оказалось гостиной: оказались, мозговые
пространства: извилины, серое и белое вещество, шишковидная железа; а
тяжелые стены, состоявшие из искристых брызг (обусловленных
приливом),
- голые стены были только свинцовым и болевым ощущением:
затылочной, лобной, височных и темянных костей, принадлежащих
почтенному черепу.
Дом - каменная громада - не домом был; каменная громада была
Сенаторской Головой».334
Единственной реальностью оказывается церебральная. Мозг - это
внешнее, заместившее собой внутреннее? Что же это значит?
Прежде всего, отмену границ между ними и, как следствие этого, утрату
внутреннего. Далее, радикальная депсихологизация поведения
персонажей: теперь они - чистые марионетки, которые рождаются в
результате мозговой игры и не имеют собственного бытия. Все они
-лишь церебральные протуберанцы, свечения коры головного
мозга, который представляет себя в качестве единственной и
безусловной реальности. Мозг в мозге, нет устойчивых форм «Я», никакой
рефлексивно-критической отнесенности персонажей к
собственному движению, позе или поступку335. Отсюда понятно, что мозговая
игра - это болезнь сознания, а точнее, свидетельство его
неспособности к само-осознанию.
VII. Мир-и-город
Влияние кинематографа
...бессвязная лента кино,
рассеивающая меня.
А. Белый. Начало века.
Если сделать проверку изобразительных средств Белого, то
возможно предположение: манера подачи материала подсмотрена им
у современного кинематографа? Во-первых, очень короткие главки,
чуть ли не на полстраницы, указывающие на то, что происходит в
данный момент и как это связано с предыдущим. Затем, их названия:
не экранные ли это надписи немого кинематографа? Во-вторых, в
«Петербурге» нет полноценных диалогов: из них нельзя извлечь
ничего объясняющего характер действия и поступков, они лишь
отчасти удостоверяют присутствие реальности (место, цель встречи,
положение тел и предметов, время, - все неясно). В-третьих, то, что
говорят персонажи, не имеет значения (кажется, будто они поражены
немотой), а вот то, что они делают, наделяется смыслом. Внешнее
- одежда, награды, отличительные знаки, привычки и т. п. -
соотносится с внутренним, которое часто сводится к навязчивому фан-
тазму или фобии, там нет никакой «души». Машинальность и
бездушие персонажей «Петербурга» чрезвычайно трудно очеловечить.
Нет ничего неожиданного в том, что столь тщательная
миметическая проработка образа персонажа делает его марионеткой. На
первый план выступает не жест, а жестикуляция, - почти конвульсивная
череда частых двигательных взрывов: автономия героя блокируется,
и он становится собственной тенью. Старое немое кино наполнило
экран тенями с преувеличенной жестикой, убыстренным
движением: оно хотело говорить немотой много больше, чем могло. И,
наконец, возможно, самое главное: разве не кинематограф подсказал
Белому идею «мозговой игры»? Не случайно же ведь это
высказывание Белого - «экран рассеивает нас...». Экран - это лента, на которой
застываем мы - жестикулянты; не случайно и то, что все, что мы
видим, не поддается больше нормативной психической нагрузке, а
требует расщепления, раздвоения, двойников. Мимесис здесь
открывается негативна через расщеп, когда жестикулянт начинает
симулировать бегство от самого себя. Демонстрация телесного распада,
в чем-то близкая взрывной работе (мы это могли видеть на образцах
силуэтов современников, столь тщательно, столь уничтожающе
точно представленных в танцевальных корчах письма Белого). Немой
161
Литература как самосознание. Опыт Андрея Белого
кинематограф - замечательная коллекция различных
физиогномических приемов. Вот как их передает Белый:
«Мы - картина кинематографической ленты, которую так внимательно
изучают они; остановись она, и застыну навеки в испуганной деланной
позе, вдруг схваченный этой властной рукой и увлеченный в потоки
космической бури - томсоновских вихрей! - там строящей эфемерные
фронты друг друга губящих людей, и воздвигающих здесь передо мной
того сэра, огромные площади, тысячей мистеров, "Томми", канадцев и
"дамочек". Эти стечения мыслей нашел я в себе, выходя из собора,
кидаясь в потоки людей; окаменелости домовых плоскостей, не крича,
точно головы строгих Глад стонов, одетые сплинными тенями, если,
как в стул, - в серый мир; уж как палец, протянутый ввысь, затерялась
тень длинной колонны Нельсоновской статуи; в отсерениях
растворились в тени; повеселевший и ставший вновь пляшущим сэр,
переменяющий тембр отношений, как пары перчаток, просыпал вновь бисер
неумолкаемых слов, шуток, игр, исторических параллелей; схвативши нас
за руки, развивал среди улиц галдящих, пересыпающих «мистеров»
бешеный бег, окружив нас трамваями, парками, ресторанами и
утонченной динамикой вьющихся орнаментиков из мысли; он влек нас туда и
сюда, перелетая быстрейшими, стреловидными глазками через головы
«мистеров», среди линии электрических фонарей, над которыми
лиловела чернотная бездна на стены упавшего неба, средь тусклых тоннелей
отчетливо сложенных черною линией стен и чернотною бездной на
стены упавшего неба - средь тусклых тоннелей, иль даже -
- средь тусклых, прямых, световых проницаемых змей,
протянувшихся посередине Ничто или вселенной -
- внутри же одной из них мы все трое неслись среди тысячей
призрачных силуэтов ликующих "мистеров" и ликующих "Томми",
перелетающих среди трамваев, пролеток, авто, перевозящих ликующих
«мистеров» и ликующих "Томми"»336.
«Я тень: неприлично гуляю на сером экране; безостановочной,
кинематографической лентой движения передаются какому-то миру - иному,
не нашему.
Мы - лента экрана, которую изучают они; им даны все возможности:
властно пресечь пляску волн и ныряющий пароход среди них, это все
образовано быстрым движением кинематографической ленты;
остановись она, - и застынет навеки покинутый гребень волны, перелетающей
через борт парохода; и застынет навеки: упавшая низко корма
парохода "Гакона 7-ого" "в безупырчатость" грохота -
162
VII. Мир-и-город
-Я-
качнувшийся в неестественно деланной позе, одною рукой схватись за
корму, а другой - за измятую шляпу с отбитыми ветром полями,
останусь навеки -
- останови они ленту ! -
- болезненным клоуном»337.
Далее, экранирование или оторванность церебрального образа
от телесного, система взаимных отражений, в которые не включено
тело как орган двигательной активности (субъект движения). И этот
процесс никак нельзя остановить. Мозг стал Городом
(Петербургом). Или немного иначе: город - то, что производится мозгом.
Возможно, главное качество такого города=мозга: коммутаторность.
Мозг непрерывно пульсирует: передает и принимает сообщения.
Все, что относится к церебральной активности, представляет собой
коммутаторную систему (по типу телефонной станции): депеши,
циркуляры, предписания. Учреждение и кабинет старшего Аблеухова
- в центре Империи, там, где даже малое усилие мысли рождает
несокрушимую, планиметрическую волю к господству. Вот главная
причина и источник «мозговой игры», «реальной» галлюцинации,
которая управляет мировыми образами России. Однако нельзя забывать,
что больной мозг лишен разумного начала, он создает
непреодолимые трудности для выживания персонажей, несет им гибель, «губит
без возврата»зз8. Вот о чем размышлял Белый, когда его интерес к
кинематографу был особенно силен: «Город убивает землю.
Перековывает ее в хаотический кошмар. Город - мозг земли: мозг,
развиваясь, оплетает тело стальной проволокой нервов. Он - паразит.//
Но человеческий мозг стальной проволокой мысли опутает город.
Он преодолел соблазны небытия. Он отстоял тот страшный динамит
мысли, от которого взлетит вселенная. И город рассеется: он -
туман, занавесивший зарю. Город превращает человека в облачко
дыма: человек чихнет и лопнет»339. Именно связка синематограф-город-
мозг образуют неразрывное целое, они не просто взаимодействуют,
они являются эффектами одной и той же враждебной жизни
субстанции (город как марево, призрачный блеск): «Синематограф
царствует в городе, царствует на земле»340. Белый передает нам картины,
бегущие к нему с экрана раннего кинематографа. Возможно, мы бы
его застали на просмотре фильмов Чарли Чаплина или Бастера Ки-
тона (особенно последнего: с его удивительными пробегами,
гонками, преследованиями, героя, перед которым отступают любые
препятствия). Кадры и сцены, бегущие перед глазами, поражают первых
163
Литература как самосознание. Опыт Андрея Белого
зрителей конкретной метафизикой неведомой жизни. Ведь то, что
отражается на экране, не просто случайный образ, а образ иного
мира, в который можно заглянуть, но и только. Кинематограф как
чудесное зеркало341. С другой стороны, Белый видит в технике
кинематографа новые свидетельства близко подступившего Конца времен.
Присмотримся к серии образов, указывающих на процесс
кинематографического распыления/рассеивания Реальности, то, что
Белый называет «дымкой», «пылью» (один из главных образов, активных
в истолковании Апокалипсиса)*4*. В раннем кинематографе медленно
гаснущий экран между эпизодами принадлежит к той же серии
образов. Белым они читались как метафизические иероглифы,
наделенные апокалиптическим смыслом. «Старик насыпал чего-то
ребенку. Ребенок чихает. Пробирается в комнату, где спит старик, по-
рассыпает порошок. Старик встает и чихает: рушатся стены. Бежит
на улицу - чихает: трескаются витрины, падают фонари,
распадаются дома; чихает - земля начинает распадаться. Чихает - и лопается
облачком.// Человек - облачко дыма. Схватит простуду - чихнет и
лопнет, а дым рассеется»343. Итак, речь снова идет о вспышке,
«взрыве», мгновенном «распылении» материального или
кристаллического вещества, и не столько о чихе, сколько о разного рода
взрывных стратегиях, которые используются (от чиха и «облачка дыма»
к динамиту вплоть до образа атомной бомбы)ЬЛЛ. Все эти
размышления Белого примыкают к поздним этапам его творчества, где
настойчиво утверждается символика единой эксплозивной стратегии
(«рои»/«дыры»). «Взрывающийся», «лопающийся человек» -
идеальный персонаж физиогномического опыта Белого, - это герой
Конца времен. Вот, например, как апокалиптически нагружается
образ «пыли»:
«Мир является ненужной картиной, где все бегут с искаженными,
позеленевшими лицами, занавешенными дымом фабричных труб, - бегут,
в ненужном порыве вскакивают на конки - ну совсем как в городах.
Казалось бы, единственное бегство - в себя. Но "Я" - это единственное
спасение - оказывается черной пропастью, куда вторично врываются
пыльные вихри, слагаясь в безобразные, всем нам известные картины.
И вот чувствуешь, как вечно проваливаешься - со всеми призраками,
призрак со всеми нулями нуль. Но и не проваливаешься, потому что
некуда провалиться, когда все равномерно летят, уменьшаясь
равномерно. Так что мир приближается к нулю, и уже нуль, - а конки плетутся;
за ним бегут эти повитые бледностью нули в шляпах и картузах. Хочется
крикнуть: "Очнитесь! Что за нескладица!" - но криком собираешь толпу
164
VII. Мир-и-город
зевак, а может быть, и городового. Нелепость растет, мстя за попытку
проснуться. Вспоминаешь Ницше: "Пустыня растет: горе тому, в ком
таятся пустыни» - что-то омерзительное охватывает сердце. Это и есть
черт - серая пыль, оседающая на всем"»345.
И в другом месте:
«Когда разлетятся остатки пыли и блеснет воздушная белизна.... И вот
сейчас же засквозит голубым»346.
Основная оппозиция универсальна: противостояние геометрии
квадрата или куба (сенаторской головы, комнаты, кабинета, кареты,
учреждения) туманным плоскостям, «зеленому туману», прямой,
угловой линии - зигзагу. «После линии всех симметричностей
успокаивала его фигура - квадрат. // Он, бывало, подолгу предавался
бездумному созерцанию: пирамид, треугольников, параллелепипедов,
кубов, трапеций. Беспокойство овладевало им лишь при созерцании
усеченного конуса.// Зигзагообразной линии он не мог выносить»347.
Агорафобия, или боязнь открытых пространств - вот к чему
привычны главные герои. Вне головы сенатора - зеленый туман,
движение роев и куч, хаос, надвигающийся со всех сторон. За Хаосом,
вместе с ним - великий Страх. Защита - компульсивная реакция:
сосредоточенность на ясных, геометрически строгих, идеальных
образах; все больше доверия одной единственной точке зрения.
Введение разрыва, момента несводимости и розни между сжатием и
распылением, тяжестью и легкостью, дырой и роем - это и есть
непременное условие мозговой игры. Туманы - это движение атмосферы
страха, она распространяется повсюду, но совсем не потому, что что-
то происходит. Действие вообще крайне слабо развито в
«Петербурге»; по сути дела, там ничего не происходит. Событие (действие)
чем-то заменено - чем же? Гиперактивностью языка, именно он -
источник тотального миметизма. Только благодаря языку персонаж
может достичь небывалой скорости - стать собственной тенью.
Опережение образа в мигах, временных промежутках - так появляются
тени. Миг переводит персонажа в план тени, а тени охватывают
собой все, что может казаться видимым. Тени всего, тень тени:
рождаться из тумана и «умирать» в нем. Вместе с туманами нарастают
«слухи», «шепот» и «шелест», все шелестит, и этот шелест
распространяется так же, как туман, но явно более ощущаем. А рядом рои:
проносятся, сверкают и блистают, захватывают ближайшее и
дальнее пространство.
165
Литература как самосознание. Опыт Андрея Белого
Сын-кантианец заставляет кабинет свой философскими
раритетами, он поглощен магией логического совершенства, которая
исходит от дедукций категорий чистого рассудка Канта:
«Кабинет был уставлен дубовыми полками, туго набитыми книгами, пред
которыми на медных колечках легко скользил шелк; заботливая рука то
вовсе могла скрыть от взора содержимое полочек, то, наоборот,
обнаружить ряды черных кожаных корешков, испещренных надписями: "Кант".
Кабинетная мебель была темной зеленой обивки; и прекрасен был бюст...
разумеется, Канта же»348.
«Здесь в своей комнате. Николай Аполлонович воистину вырастал в
предоставленный себе самому центр - в серию из центра истекающих
логических предпосылок, предопределяющих мысль, душу и вот этот вот
стол: он являлся здесь единственным центром вселенной, как мыслимой,
так и немыслимой, циклически протекающей во всех зонах времени.
Этот центр умозаключал.
/.../
Сосредотачиваясь в мысли, Николай Аполлонович запирал на ключ
свою рабочую комнату: тогда ему начиналось казаться, что и он, и
комната, и предметы той комнаты перевоплощались мгновенно из
предметов реального мира в умопостигаемые символы чисто логических
построений; комнатное пространство смешивалось с его потерявшим
чувствительность телом в общий бытийственный хаос, называемый им
вселенной; а сознание Николая Аполлоновича, отделяясь от тела,
непосредственно соединялось с электрической лампочкой письменного
стола, называемой "солнцем сознания". Запершися на ключ и
продумывая положения своей шаг за шагом возводимой к единству системы, он
чувствовал тело свое пролитым во «вселенную», то есть в комнату;
голова же этого тела смещалась в голову пузатенького стекла
электрической лампы под кокетливым абажуром. И сместив себя так, Николай
Аполлонович становился воистину творческим существом. Вот почему
он любил запираться: голос, шорох или шаг постороннего человека,
превращая вселенную в комнату, а сознание - в лампу, разбивал в
Николае Аполлоновиче прихотливый строй мысли»349.
Единство мозговой активности: от сына к отцу и от отца к сыну.
Первое движение наделено силой захвата/присвоения внешнего
(деспотическая планиметрия русской империи); вторая сила, напротив,
втягивает в себя внешнее, преобразуя его во внутреннее, - так сознание
новоиспеченного кантианца опрокидывается во Вселенную. Пустой
166
VII. Мир-и-город
череп (отцовский) и череп наполненный (сыновний), мозг
управляющий и мозг размышляющий. Между эти двумя пределами мозговой
активности мы и находим необычный аттрактор: «бомбу»
(подложенную террористом в спальне отца с ведома сына). Вероятно,
только будущий взрыв мог совместить и разом уничтожить бесплодную
церебральную активность двух этих персонажей, словно
соединенных в одном расщепленном мозге. Другими словами, это мозг-на-двоих.
Идея сиамских близнецов просто витает над «Петербургом»: отец
повторяет сына, сын повторяет отца, и из этого круга им не
выбраться, ибо никто из них не может быть самим собой без другого.
Проблема взаимоотношений отца и сына должна разрешиться взрывом
их единого начала.
«...Николай Аполлонович проклинал свое бренное существо и
поскольку он был образом и подобием отца, он проклял отца. /.../
...отца своего как бы чувственно знал, знал до мельчайших изгибов, до
невнятных дрожаний невыразимейших чувств; более того: он был
чувственно абсолютно равен отцу; более всего удивляло его то
обстоятельство, что психически он не знал, где кончается он и где психически
начинается в нем самом дух сенатора»350.
«У обоих логика была окончательно развита в ущерб психике. Психика
их представлялась им хаосом, из которого рождались одни сюрпризы;
но когда оба соприкасались друг с другом психически, то являли собой
подобие двух друг к другу повернутых мрачных отдушин в совершенную
бездну; от бездны к бездне пробегал неприятнейший сквознячок;
сквознячок этот оба тут ощутили, стоя друг перед другом; и мысли обоих
смешались, так что сын мог, наверное бы, продолжать мысль отца»351.
Проклятие рода Аблеуховых - мозг расщепленный. И этот мозг-на-
двоих был склонен выражать ужас перед собственным удвоением,
расщепом и ацентрированностью суицидальными фантазиями. Чем
далее вглубь расщепа отклоняется поведение персонажа, тем
интенсивней и навязчивей они становятся. Вот откуда берется эстетика
мгновенного мозгового взрыва-импульса, инсультного разрушения
и распада, которое не столько связано с террором внешнего,
сколько с внутренними проблемами самого мозга, вырывающегося за
положенный ему предел352.
167
Литература как самосознание. Опыт Андрея Белого
Страхи. Двойники-провокаторы в черном контуре
- Так вы, стало быть, провокатор. Вы не
обижайтесь: я говорю о чисто идейной провокации.
- Я. Да, да, да. Я - провокатор. Но все мое провока-
торство во имя одной великой, куда-то влекущей
идеи; опять-таки не идеи, а - веяния.
- Какое же веяние?
- Если уж говорить о веянии, то его определить
при помощи слов не могу: я могу назвать его общею
жаждою смерти; и я им упиваюсь с восторгом,
с блаженством, с ужасом.
А. Белый. Петербург
Провокатор - реальная фигура отечественной истории на
переходе от XIX к XX столетию. Белый прекрасно прочувствовал
психическую экономию предательства, может быть, даже более
проникновенно, чем это себе представляли боевики «Народной воли», жертвы
террора, шпики и охранники. Роман «Петербург» - это целая
философия провокации. Вот, что пишет Белый в одном из писем:
«Революция, быт, 1905 год и т.д. вступили в фабулу случайно, невольно,
вернее не революция, (ее не касаюсь я), а провокация; и опять-таки
провокация эта лишь теневая проекция иной какой-то провокации,
провокации душевной, зародыши которой многие из нас долгие
годы носят в себе незаметно, до внезапного развития какой-нибудь
душевной болезни (не клинической), приводящей к банкротству;
весь роман мой изображает в символах места и времени
подсознательную жизнь искалеченных мысленных форм»353. Провокация
становится единственным эффективным средством борьбы власти с
народовольческим террором. Секретность и тайна - своего рода
изнанка провокации. Закрытость, полная конспирация групп террора
не позволяла предотвратить многие теракты, тем не менее такие
попытки все время предпринимались (некоторые из них были
вполне успешны). Этому, кстати, способствовали многие факторы.
Прежде всего, революционная среда была настолько непрозрачна, что
провокацию можно было ожидать отовсюду, - провокатором мог
быть и вполне заслуженный революционер; каждая из
противоборствующих сторон имела «своих» людей в стане врага354. Смешанность
и обратимость знака с плюса на минус, - растущее число
провокаторов давало повод для глубоких, почти апокалиптических настроений
168
VII. Мир-и-город
среди революционеров. Стоит ли говорить о таких провокаторах,
как Гапон или Азеф? Итак, провокация - вот что втягивает,
отравляет ее участников постоянными подозрениями и страхами,
жестокостью и безразличием к жизни. Страх перед провокацией
расползается, серьезно травмируя высшие круги империи: после каждого
успешного теракта нарастает ужас в ожидании следующего, возможно, не
менее кровавого преступления. В этой атмосфере террора паника
охватывает даже императора Александра Ш (он «задыхается» от
страха)355. Фигура политического провокатора должна быть осмыслена
в двух его основных измерениях: побуждать к теракту и
предотвращать его донесением. Игра - здесь. В этом разрыве - двойном
измерении политического поведения - проявляет себя истинная
сущность провокации.
Воспоминания самих «народовольцев» отражают их
поразительную преданность идее (за которой скрывается стремление, сегодня
необъяснимое, к самопожертвованию ради высшего Блага
(народного!!!)). Идея без самопожертвования - ничто. Почему так много
образованных и замечательных по своим задаткам юношей и
девушек были готовы принести себя в жертву, совершенно не
задумываясь? Жизнь не бьша обесценена, напротив, ее ценность возрастала
на фоне этого бескорыстного, отчаянного самопожертвования
молодых людей356. Сегодня многие исследователи по разному
объясняют истоки и смысл современного политического террора (в
частности, «исламского»), иногда одним словом - например, слабостью.
Иначе говоря, террор лишь подтверждает слабость, а не силу и
могущество террористов. Но в чем тогда слабость? В том, что террорист
действует тайно, нанося внезапные удары, никогда не стремится к
другим формам борьбы, полагая их малоэффективными и
проигрышными? Или в аморальности «смертника», который приносит себя в
жертву не столько ради идеи, сколько ради посмертных выгод и
почестей, которых ему никогда не добиться в обычной жизни? Или, может
быть, в том, что террор в глазах свидетелей оправдывает себя высшей
целью, все тем же Благом для всех? Но разве после первого же
теракта «оправдание» не теряет всякий смысл? Повторю: только
осознанно принесенная жертва имеет смысл, именно она делает идею
освобождения доступной для понимания и осуществления. Можно
сказать, что на уровне простых исполнителей, «героев террора»,
никто не был, да и не мог быть политиком. Истинными политиками
террора были провокаторы, которые вырывались из этой замкнутой
цепочки преступлтш-кровъ-жертва-кровъ-наказанш (спасая
собственную жизнь ценой предательства товарищей). Провокация это и есть
169
Литература как самосознание. Опыт Андрея Белого
выход за границы справедливого, морального существования
террора. Надо учесть и следующее: провокатор - это активно
действующий индивид, сделавший выбор и оправдывающий свои поступки
именно этим выбором. Предательство, хотя оно отчасти и
совпадает с провокацией, все-таки нечто иное. Эффект от предательства
может быть заметным, а может быть и совсем ничтожным. Главное,
что провокатор ведет свою политическую игру, или вынужден ее
вести, чтобы сохранить себе жизнь.
Провокаторство осмысляется Белым глубоко лично: как
неспособность управлять собственными двойниками, как отсутствие
«правильного» ответа на галлюцинации и кошмары, из которых двойники
«в черном контуре» врываются в повседневные переживания, - все
эти черные тени, которыми мы становимся, когда двоимся. Роман
«Петербург», пожалуй, образец литературы, хорошо передавшей
атмосферу страха перед провокацией. Истерически разветвленный
миметизм героев на фоне навязчивых идей и фобий, авторской мании
преследования. И все же это не чей-то страх (не читателя или
автора), это страх вообще, страх-атмосфера, страх страха. Как же
организован психомиметический материал в тексте «Петербурга» и поздних
романах? Белый отмечает пункты своих перемещений на
европейской карте (время войны) персонажами ночных кошмаров: «субъект
с черными усиками», он же - «брюнет в котелке»357, «черные
матроны»358, «черные контуры вещей», «черное облако», «тень
темно-серая», кстати, и любые дыры, с подчеркнутой чернотой: ниши,
пропасти и бездны, туннели, пещеры, трещины, даже овраги, -темнеющие
и зовущие в глубину, легко «пожирающие» самый яркий день.
Провокатора не видно за «черной дырой». За этим быстрым письмом
Белого, за его надуманным косноязычным, похожим на бред, - если кем-то
и дешифруемый, то не читателем, - скрывается подвижная и крайне
неопределенная реальность: бегство. Единственная реальность,
которая наделяется миметической полнотой; бегущий способен
преображаться, иметь новые маски, исчезать и вновь появляться. Пока он
бежит, могущество бегущего велико. Фигура двойника-шпиона,
провокатора обведена «черным контуром», - эта психоформа о-стран-
няет человека от самого себя, двоит, двойник становится
неуправляемым, но и свободным. Даже такая руководящая инстанция, как
«я», может оказаться субститутом черной дыры, скрыто
смещающейся прямо в центр мира, где, казалось, это «я» укрепилось. Вот о
чем размышляет Белый: «...мое положение в мире: в одном мире я
- "Я", победоносное, неизменяемое и узревшее светы; в другом - пу-
170
VII. Мир-и-город
стое пальто, за которым гонится шпик, чтобы схвативши, повесить
его в своем шкафе! Не шпик (это маска), а Враг, проходящий сквозь
жизнь и затеявший мировую войну, чтобы меня обвинять в шпионаже;
он вел свой подкоп; пришло время взорвать меня: "Я" - будет
взорвано; бреши и дыры проступят; пройдет из подземного мира мой Враг
- в потрясающем, в истинном, в до-человеческом облике!»359. Бег
как преображение, постоянная трансформация частичного,
временного «я» в текучем родовом единстве индивидуума. В этом решающее
отличие от провокатора, ибо тот опознается только в качестве
общего типа. Кривая индивидуума - первоначальная форма, связывающая
в одном непрерывном смещении множество личных «я». В то время
как провокатор нечто застывшее и не развивающееся, окостеневшая
типовая форма расщепа, он выдает себя за другого, - но кто знает
об этом, кроме него? Его чисто внешнее копирование поведения
«верного товарища и борца за свободу» для группы остается
успешным, если другую часть своей деятельности он сохраняет в тайне.
Собственно, именно сокрытие истины и есть основная забота
провокатора. Провокатор сокрыт по предательской функции и поэтому
так безупречна его симуляция «верности делу». Провокатор -
известный персонаж эпохи народовольческого террора - был именно
такой раздвоенной личностью, где одна часть отдавалась
революционной борьбе, прямо готовила участие в самых жестоких и кровавых
актах, в то время, как другая помогала полиции доносами, получая
за это вознаграждение. И поскольку такие провокаторы, как Азеф,
Татаров, например, действовали достаточно свободно и сносились с
Охранным отделением скорее по случаю, чем по требованию
полиции, они предстают в воспоминаниях современников этакими
вольными художниками. Часть творческой интеллигенции Империи
отождествляла себя, если не открыто, то через сочувствие и признание,
с борцами-бомбистами (Л. Андреев, А. Блок, 3. Гиппиус, Дм.
Мережковский и др.).
Одна из сновидческих фобий Белого: как не стать жертвой
провокации, «государственным преступником»?360 Не тогдашний страх
ли это перед возвращением в Россию, - может быть? Какая-то
странная пародия на сочинения Честертона (не только на «Человека,
который был четвергом», но и на «Приключения отца Брауна»). Так,
не в силах совладать со сновидениями-кошмарами, Белый пугается
проникновения в свои сны тех, кого он называет «они» («свора»
международных шпионов): «...чиновник, заведующий шпионажем в
Германии, был оккультистом, как всякий сознательный сыщик. Про-
171
Литература как самосознание. Опыт Андрея Белого
ведавши о моей бессознательности, он со мной повстречался, увлек
меня, "спящего", в управление Генерально-астрального Штаба,
извлек из души моей все, что было нужно, подсунул мне в душу
"астральное" золото, невесомое...»»61. Продолжение игры в безумие, которое
было еще оправдано в «Петербурге», в последних романах «Эпопеи»
вышло из-под контроля. Теперь речь идет не об о-страннении как
приеме и экзистенциале, но об о-страннении как переходе от
состояния управляемого раздвоя к галлюциногенному покрову,
закрывающему реальность. Здесь игра многими образами, они
резонируют: «мойбрюнет» (шпик, сыщик, филер, шпион), «черныйконтур» как
образ всех «черных дыр» (кем бы или чем бы они ни были
представлены в образе). Все это множество чернот накрепко привязано к
«Ничто», отраженном в образе «адской машины/бомбы/динамита». И
только взрыв, всегда внезапный, оглушающий, потрясающий жизнь
до самых основ, может помочь ощутить ужас перед Ничто, перед
полным и неумолимым разрушением. Каждая бомба - это и есть
Ничто-в-действии. Единственная цель террора - достичь Ничто.
Мудрое замечание Вяч. Иванова: «Разрыв бомбы - обнаружение
ноуменального Ничто под феноменом или нумером, воссоединение с
единым Ничто»»62. Действительно, как только сталкиваешься с
материалами по русскому террору, видишь, насколько он был прямой
атакой на символы императорской власти, а не только «местью за
народ». Выразить протест взрывом бомбы, это как заявить во
всеуслышание то, что иначе и с такой «силой» нельзя было выразить.
Это террор спонтанный, не избирательный, т.е. последствия
теракта совершенно не анализировались. Ведь задача была не в том,
чтобы ответить на вопрос: нужен ли действительно теракт или нет?
- а в том, чтобы его совершить... Утопия террора заключалась в
непрерывности терактов, их всеохватывающем действии: там
взорвали, здесь, и снова там, и снова здесь - бесконечная серия взрывов.
Анархо-бомбист был готов к самопожертвованию и не ждал спасения
или пощады. Победа над самодержавием - в каждом убитом
сановнике империи, в каждом «удачном» взрыве, в каждой жертве, в
каждом казненном народовольце. Достаточно просмотреть некоторые
из отчетов с места «удачных покушений», чтобы представить себе
возможную реакцию на них со стороны некрепкой психики
Белого363. И это страх. Действительно, страх - любимая, и, может быть,
единственная полноценная тема автобиографической литературы
Белого. Повсюду свободно растекающаяся атмосфера детского
страха, переходящего в испуг или отражающегося в «ужасах» дня и ночи
172
VII. Мир-и-город
давно взрослого Андрея Белого, но и удовольствие от испуга. В
«Воспоминаниях о Блоке» исследуется блоковский cmpatë64. Если он
«вспоминает» Минцлову, то опять к существенным характеристикам ее
личности относится мания преследования, завладевшая известной
оккультисткои перед ее внезапным мистическим исчезновением в
1910 г. Но и, конечно, собственный страх Белого, прямо-таки
растянутый сквозь время и пространство, всюду проникающий страх
перед жизнью. У каждого персонажа автобиографических романов
свой страх, да толика ужаса, которая наделяет смыслом
существование. Вот один из таких экстазов страха:
«Представители государственного порядка всех стран и народов? Но
"государство" - экран, за которым они сохранили ужасную тайну свою,
"государственный агент" - бессильнейшая марионетка, которая не
подозревает, конечно, кому она служит, как... нашумевший когда-то Азеф; он
- надутая воздухом кукла, надутая ими; «они», надувая людей,
бессознательно преданных им, через них выдувают в историю государственных
отношений смерчи: мировых катастроф - войн, "болезней"; "охранка"
- за спиной у охранного отделения Европы; и появись только личность,
они постараются наложить на нее свое злое клеймо: государственного
преступника»365.
«...международные сыщики, вероятно, для вида заведуют предприятием:
гера, мосье и сэра; так своры агентов, как своры борзых, направляются
быстро по свежим следам; одна, вылетевши из телесных составов, как
ведьма, зарыскает по пространствам душевного мира, стреляя
отравленной похотью (посещают вас страшные, любострастные сны...); а другая
- разыскивает обреченного на физическом плане; и - ставит капканы
(встречаете в поезде женщину вы, и она вас старается соблазнить); вы
- податливы (бессознанье ваше пропитано ядом летающей стаи,
стреляющей ядами); около вас - соглядатай: брюнет в котелке. Он доносит на
вас: полицейский надзор установлен за вами: улики - подобраны.
Кто-нибудь совершает насилие над малолетней девочкой ^совершает
насилие сатанист, вас губящий): вы чувствуете в это время потребность:
пойти, погулять (понуждает вас сыщик в астрале); выходите; и - в
безотчетной тоске вы блуждаете по проспектам туманного города;
замечаете вы, что брюнет в котелке заблуждал вслед за вами; стараетесь вы
убежать от него (этот жест - жест руки, отрясающий паука с пиджака,
- совершенно естественен); уединяетесь вы в старый парк (где за десять
минут перед этим, в кустах сатанист изнасиловал девочку); можете даже
услышать вы детский пронзительный крик: вы - спешите на крик; из
Литература как самосознание. Опыт Андрея Белого
кустов выбегают на вас полицейские: вы арестованы; подозренье в
гнусном поступке - на вас тяготеет»»66.
«Что мне внушало панический ужас в брюнете. Ведь не его я боялся:
того, что глядит сквозь него, что однажды, прорвав видимый лик, из
него на меня хлынет черным потоком; тот черный поток при
внимательном взгляде оказывался пустотою, отсутствием какого бы ни было
цвета; его чернота есть пролом: в никуда и ничто; он - открытый
отдушник, в который нам тянет угарами невероятного мира, по отношенью
к которому наш мир жизни ничто; и не только наш мир, но и образ чисто
духовной деятельности, в нас коренящийся, суть ничто; это - что-то, в
ничто обращавшее все, что ни есть (мир мистерии, мир души и мир духа),
по отношению ко всему, что ни есть, при своем появлении в плоскость
сознания нашего обнаруживает, как сплошное ничто, появленье свое.
И, стало быть: сыщик ничто, принадлежащий к секретному братству,
вводящий что-то, по существу нам неведомое и стучащееся в наши
двери, как ужас ничто, - для меня был ужасен не чем-нибудь, что нес, а -
ничем. Появленье его близ меня в те минуты, когда мои грудь, руки, мозг
ощутили себя пустым шаром, поставленным, на желудке, обозначало:
- тот мир, где ты жил,- мир мистерии - есть ничто; твое "Я", изошедшее
ныне из тела в мир духа, который - ничто, есть ничто; ты мечтал о себе,
что когда-нибудь будешь и ты боддисатвой; но ты, боддисатва, - ничто;
я же, возникший, как тень твоя, - все - и провеяли подступы ужаса
пустоты от брюнета, напоминая о сонном кошмаре; страшнее сонных
кошмаров опять-таки заключалось при попытке войти в их нелепую жизнь
и осознать эту жизнь, - заключалося страшнейшее: в очень смутно
рождавшейся памяти о первейшем кошмаре, в котором себя нахожу я
младенцем, до первого воспоминания о событиях, связанных с
биографической личностью: не возникает еще мне отца, няни, матери; не
возникает голубенькой комнатки детской, - а уж я сознаю: "Я есмь я" - но
это "Я" беспокровно проносится в пустоте, одолевая ее невероятным
полетом, напоминающим ужас падения в пропасть и вспоминающим о
каком-то опорном, неподвижном пункте, с которого "Я" сорвалось; этот
пункт, как мне кажется, - бытие до рождения; пропасть, куда я лечу; мое
детское тело, в котором себя ощущаю я в следующие моменты сознания;
уже после, вникая в ужасные невероятности этого мига сознания, я
подсматривал памятью в "миге" существенный, явно присущий ему, в нем
сидящий "миг" верного знания, что решение оторваться от твердого
пункта и рухнуть в провал, или - тело-решение воплотиться -
принадлежит мне, лишь мне; решение перерешать было поздно; непоправимое
свершилось: я - вваливался, переносясь по пустотам, в набухшие органы
VII. Мир-и-город
детского тельца, распертые ростом (переживание «роста» в
младенческой жизни сопровождается криками страха); впоследствии образы
страха (чертей, бук, ведьм) воспринимаются детским сознанием как погоня;
но этот ужас погони - проекция внутренних переживаний младенца во
мне; ощущенье погони есть чувство движенья полета внутри организма;
верней: ощущение воспоминания о когда-то бывшем полете, ввергающем
"Я" чрез ничто в безобразные органы тела; стало быть: ведьмы и буки
- враги! - в состояньях сознанья; стало быть, мой брюнет лишь тоска,
которую на себя набросала погоня, ее же смутно ношу через жизнь как
ужасную память о состояньи сознанья, оторванного от источника духа;
и - еще не укрытого под покровом тела; боязнь появления сыщика есть
боязнь приближенья ко мне моих тайных глубин; в миг, когда меня
схватит он и потащит в тюрьму - произойдет невероятнейшее: он
низвергнется на пол, как скинутое черное пальто; и безобразное, бестелесное,
что он носит в себе, иль - ничто: соединится со мною, вольется в мое
сознающее "Я"; и - погасит его; он есть встреча моих подсознаний с
сознанием при нарушении порога сознания при переезде через границу;
недаром же я ощущал, что кусочек земли, на котором я мог стоять
крепко с тех пор, пока все рухнуло в мировую войну, оторвался: и - Франция,
Англия рухнули на меня, как пустое ничто, как огромное тело, в которое
надлежало мне воплотиться, что из меня в - никуда! - что-то тронулось;
прежнее поотстало, а новое, что должно было влиться в меня, пустота,
принимавшая оболочку брюнета - брюнет был флаконом с ничто,
долженствующим мною быть выпитым, пустота, принимавшая оболочку
брюнета. - брюнет был флаконом с ничто, долженствующим мною быть
выпитым, - пустота, принимавшая оболочку брюнета,
- возникла фиалом: -
- пока: -
- переносился я из одного состоянья сознанья в другое»307.
Весьма мудрое заключение о природе провокации делает В.В.
Розанов, пытаясь объяснить, казалось, необъяснимое: почему столько
лет провокатор Азеф - платный агент царской охранки - был вне
всяких подозрений в террористическом подполье: «Да ведь все дело
в неузнании. Будь они способны узнавать, имей они чуткость, кто же
бы послал им такую грушу, как Азеф? Провокация, или так
называемое "внутреннее освещение" конспирации, основана на
возможности войти в комнату к зрячим как бы к незрячим, т.е. которые имеют
физический глаз, но не имеют духовного. Не яблоко видит, а мозг
видит. Механизм зрения есть у конспираторов, а ума видящегоу них нет;
и на этом все основано, базировано и рассчитано. А ум видящий, глаз
Литература как самосознание. Опыт Андрея Белого
духовный...»*™. Белый переживает тему предательства (проекция на
собственный образ). Но трактует ее в духе своих представлений о
расщепе/остраннении. Остранняя себя, о-чужествляя, превращаясь
в собственного двойника, он затевает игру в провокацию, похожую
на ту, о которой пишет Розанов. Поскольку Белый не принадлежит
к тем, кто его преследует, то он может их видеть и «узнавать», как
только они появляются на его пути. Но все сложнее, что-то подобное
комплексу Азефа выпытывает у себя автор «Записок чудака»: Мания
преследования, - возможно? Отсюда нескончаемая тема глубинного,
«черного» страха, в котором топятся «случайные» страхи. Этот
своеобразный циклизм двойника, чем ближе ко мне «брюнет с
усиками», «шпион-провокатор», тем больше я - он, и я - не-я. Оболочка
страха - это образ «брюнета»-провокатора.
Горное место: Каджоры
«Горы связаны с биением сердца, с ритмическою
системой; ритм, звук, «хор» воздвигает «гор»-ы; и движение
этого воздвижения - «гор»-ение («горение», огненная
прообразующая деятельность): все, что «горит» -
возносится «горе»; и потом уже, вознесясь, становится
объектом - взора (взорит) хорные горы - взорные горы;
имагинация связана со взором (мир глаза - образ, эйдос,
эйдейя; идеология) а звук, строящий образ гор, есть
импульс хребтов; ин-спирация земли; имагинация - мысль,
ставшая уже «образом мысли», но еще только в голове;
а инспирация - мысль, опущенная в сердце, из сердца
ритмом-звуком («хором» звуков) себя выговаривающая»
А. Белый - Иванов-Разумник. Переписка
Начнем с одного из ландшафтных экспериментов А. Белого:
«Сижу в Каджорах: каждый день бегаю на вершину горы, откуда
горизонт - несколько сот верст (скрещение хребтов и хребетиков, долин и
т.д.) дает нечто, переворачивающее меня морально: до дна, а слов - нет:
не хватает нескольких сот найденных слов, чтобы из них сложить макет
пейзажа. Они - были бы, если бы, просидев год, я упражнением уха и
глаза вытащил слова; так например: месяц сидения в Имеретии и
разглядывания горных контуров мне принес лишь один штрих, ведущий к
узнанию местности: что Ковровые Горы Сачхери суть "тулобахи", что
VII. Мир-и-город
значит "Сутулые бабахи". Но на этом немного построишь; а о Каджорах
из всей массы мной не осажденных натуралистически (ясных) штрихов,
ясно одно, что холмопады ближайших вершин под ногами и пленяют
благосклонными склонами; то, что в Сачхери так явственно, "тулоба-
шится", то в линиях Каджор благосклонит. Сижу здесь 3 недели; все
время проходит в разглядах; я уподобляюсь Кодаку: защелкиваю
ландшафты, даже пытаюсь кое-что зарисовать карандашом, и - ищу слов.
Странно, что горы зарисовываемы не в словесных образах, а в мыслях,
которые они навевают; прежде чем дать словесный образ, надо
месяцами учиться видеть; и по увиденному словесно сложить. Да и то:
сложенное бабахнет неуклюже по уху, как мои "тулобахи". А вот испарения гор
- легко и просто сочатся во мне отвлеченными мыслями; в частности
Каджорский ландшафт, не поддаваясь словесно, прошел целиком в мою
мысль; мысль географически; и описываю ландшафты в возникающих
во мне философемах и в мысленных подглядах.
И вот один из подглядов: вид с высоты в глубину ширей, так
физиологически входящий в организм и меняющий все восприятие, не поддается
зарисовыванию в условиях трехмерной перспективы, ибо три
координатных оси (длины, широты, высоты) - не три, а четыре в качественном
восприятии, которое и есть восприятие собственно; длина и ширина
- обратимы; стоит только повернуться на угол 90 градусов, третья ось,
ось высоты в точке начала координат - сломана; высота и глубина (ее
квантативные половинки) - две оси, а не одна, глубина и вышина
необратимы; встаньте вверх ногами, - и все соотношения частей
качественно изменяются, и состояния сознания, когда вы вращаете головой вверх
и вниз - меняются; да и колоритная перспектива - не та; дымка воздуха,
дающая расстояние, когда вы глядите вдаль с тенденцией взять даль
вверх идет по спектру от красного к голубому, синему черному (свет на
тьме); когда вы ведете взгляд по линии глубины (вдаль, но - вниз), то
колористическая перспектива идет от зелено-голубого к
красно-пурпурному (чем дальше, тем розовато-красней); кроме того: линия вверх и
вдаль дает рельеф твердым предметам, а линия вдаль и вниз дает рельеф
воздушным массам, напластованным на подстилающей их земле
(контуры - плоски, но форма контура разбита); вверх я вижу предмет в
бесформенном прозрачном воздухе, сквозящем бездной мира; и отстояние
выражается в поголубении, посинении, исчернении света; а внизу я вижу
не предметы, а окраски слоев воздуха по гамме: желто-зеленое,
оранжево-розовое, красно-фиолетовое. Эта вуаль отстояний, подмешиваясь к
природным цветам почв, так странно их меняет и так не изучена никем
(в перспективе обычно дают высотную, и не глубинную перспективу,
сливая высоту и глубину в безразличную 3-ю ось, а тут - 2 оси.
177
Литература как самосознание. Опыт Андрея Белого
Ландшафт Каджори (акварели Белого)
Вот лишь намек на ряд интереснейших мыслей о том, что на высотах
присоединенной глубинной перспективы, качественно
противоположной перспективе высотной, мы видим пространство не 3-х, а четырех
измерений: воочию. Но четвертое измерение (во время-пространстве) есть
время. Итак: на вершинах гор мы видим время глазами из него выходя.
Так, например: опускаясь в Тифлис, лежащий на 1 1/2 километра под
ногами, я вхожу в историю, в линию времени, а поднявшись в Каджоры
и выйдя из линии времени, я вижу его, как 4-е измерение глубины: здесь,
в Каджорах, время - круг; здесь восток, верней, точка пересечения
востока и запада, западной (все еще) Грузии и восточного Ирана, не
имеющего до сих пор представления о времени»369.
«...Хочется хоть в намеке уловить колориты каджорских глубин,
показывающих не земли, а как бы «стеклянное» море и на нем двенадцать
оснований, одно - подобное камню "яспису", другое - "топазу";
помните? "Был возведен на высокую гору". Но мы не "возведены", а живем
при вершине «высокой горы»; пятьдесят шагов вверх; и - разверстая
глубина в километр, а даль - в сотни километров; каждый вечер сидим
на вершине, скривив головы; и видим не землю, а радугу на "стеклянном
море"; кончается это тем, что начинаем кататься; и силиться увидеть
глубину - головой вниз, ногами кверху»370.
178
VII. Мир-и-город
«Каджоры в этом году еще более зажили в нас; воистину: я нигде не видал
такого места, с такими разлетами; есть места прекрасней,
монументальней, конечно; но таких ширей, видимых с высока, ширей и тишей - не
видел нигде /.../ дело в том, что я считаю: нельзя увидеть правильно,
не задвигав рукой; руки - вторая пара глаз, как ноги - вторая пара ушей;
то, что начинается в глазу, - должно кончиться рукой: зрение взывает
к объяснению, а объяснение - к воспроизведению. Пусть к каракулям;
руки и ноги должны быть просвещены глазами и ушами; мы многоочи-
ты in spe; /.../ ...я понял, что руки хотят стать глазами, а ноги - ушами;
слух должен войти в поступь, чтобы ощупь пятой земли стала слухом в
походке: ступать - по-ступать»371.
Вуаль отстояний
Белый пытается перевести переживаемое им на понятный язык
образов (хотя бы сначала для себя). Место в ландшафте исполнено
телесной динамики, оно перемещается. Поэтому оно не «связано»
с одной перспективной точкой, здесь нет пассивного и застывшего
в созерцании субъекта, тем более - правильной «вечной» геометрии
ландшафтного образа. Путник, что обрел «свое» место в созерцании
горной цепи, входит в ландшафт. Переживание ландшафта задается
психомоторной индукцией, в состав которой входит комплекс глаз-
и-тело. Глаз не просто видит; он начинает видеть, как только
начинает движение. Это глаз-в-движепии, и поэтому всякий угол наклона
головы (локомоция), сообщающий глазу «перспективность», так или
иначе связан с новой линией обзора. Так создается
чувственно-телесный рельеф, который соответствует сегменту перспективной дуги.
Особенность горного ландшафта как раз в том, что он предполагает
наличие больших воздушных масс, которые могут быть путником
разделены по вышине и глубине, что невозможно в привычном
равнинном ландшафте (где отсутствие высшей точки все «сглаживает»).
Собственно, только горный ландшафт и будет земным ландшафтом,
ибо не позволяет Земле соединиться с Небом. Или, если и
допускает их союз, то не в ущерб ни тому, ни другому. Опять-таки в отличие
от равнинного горизонта, - линии нечеткой, всегда под угрозой
исчезновения, в горном ландшафте доминирует линия раздела, она не
ориентирована ни по Небу, ни по Земле, и поэтому Небо есть Небо,
а Земля есть Земля; они отражаются, но нигде не пересекаются и не
смешиваются. Вот именно эту линию раздела Белый и называет
вуалью отстояний. Что касается термина, то его, как мне представля-
Литература как самосознание. Опыт Андрея Белого
ется, можно толковать следующим образом: от-стояние отличается
от расстояния: рас-стояние- это количественно измеряемая distantia,
ди-станция (русс, калька: рас-стояние) по отношению к любому месту,
которое путник не занимает в данный момент. С другой стороны,
это стояние, изначально вертикальное положение человеческого
тела. Стоять- это и ожидать, стояниекак нахождение-перед, стояние,
отстоять что-то, побороться, выстоять («стоять насмерть», «постой»,
«постоянный», «стойкий» и т.п.); от-стою, т.е. отодвигаюсь или
удаляюсь от чего-то с той же самой силой, с какой эта сила действует
на меня. Вуаль (отстояния) - это покров, аура, сфумато (Леонардо
да Винчи), дальняя голубая дымка, «колорит», то, в чем скрывает
себя пространство безмерное и абсолютное как бездна (пропасть).
В точке отстояния совершается выбор движения, необходимого для
того, чтобы тело наблюдателя (воспринимающее) стало
ландшафтным. Вуаль отстояний как паутина перемещений, которая составляет
невидимую карту ландшафта и преобразует окружающую местность
в ландшафтное единство, иначе, создает ландшафтный эффект.
Сначала стать, затем почти в то же мгновение начать движение от-сто-
яния, словно между двумя словечками оти стоять существует целый
мир. В точке отстояния должны совпасть: взгляд-на и движение-от:
взгляд активизируется по мере от-стояния; все лучше видеть по мере
удаления от границ видимого378. Теперь взглянем, какие виды от-сто-
яний выделяет Белый:
д Небо
горы
/ движение тела
линия горизонта"
Бездна (ι)
взгляд-вниз
Земля
Небо
горы
Бездна (2)
л^ндя_ горизонта
взгляд-вверх
движение тела
Земля
Вдаль-вверх (взгляд вниз)
Рельеф твердых,
земных предметов
Кристаллизация
Изменение цветового спектра:
от красного к голубому,
синему и черному
Вдаль-вниз (взгляд вверх)
Рельеф воздушных масс
Спиритуализация
Изменение
цветового спектра:
от зелено-голубого
к красно-пурпурному
180
VII. Мир-и-город
Первое отстояние, когда телесный комплекс тело-глаз движется
в глубь ландшафта, забирая вверх по непрерывной линии вдсимгвверх-
(взгляд вниз), вот тогда и возникают четкие контуры твердых земных
предметов и объектов, этому же движению сопутствует изменение
цветового спектра, на которое указывает Белый. Второе отстояние.
когда телесный комплекс тело-глаз движется вдалъ-вниз-(взгляд вверх),
тогда и возникают рельефы воздушных масс, земные поверхности
одухотворяются и «повисают» над землей, этому же изменению
сопутствует изменение в окраске верхних воздушных слоев, настилающих
собой землю (от зелено-голубого к красно-пурпурному). Игра
отстояний провоцирует вуали («дымки», «далевые образы», ауры и т.п.); то
она сводит землю к одной из частей воздушного потока, утверждая
абсолют Неба; то, используя вуаль в качестве призмы, с помощью
которой уплотняются не только земные предметы, утверждает
абсолют Земли. В каждом случае Белый говорит о рельефе как о
своего рода слепке пространственного смещения в ландшафте. Но что
такое рельеф? «Рельеф - итог движения нашего тела и взгляда:
вокруг предмета; он и движение рук, и движение ног, - не только
сокращение глазных мускулов; танец последних дан в ритме танца, как
метафора-образ коренится в метафоре-звуке, рельеф - от нас: не вне
нас; голова, ноги, руки и глаз - и лепят, и перелепляют рельефы,
которые даны не неподвижной позицией фиксации, а результатом
круга движений...»373. Специфика горного ландшафта заключается
в полной открытости горизонта: глаз, совпадая с линией горизонта,
исчезает в движении как зрительный орган, уступая место
головокружительному телесному экстазу, - полету374. Необычность
эксперимента Белого в том, что он пытается в собственном телесном опыте
найти пути понимания гоголевского видения ландшафта (его
фантастической географии и архитектуры).
«Стеклянный ландшафт». Дискуссия о движении
За книгой Белого «Мастерство Гоголя» следует признать
первенство в фундаментальности исследовательского подхода. Объять
необъятное - изучить столь подробно все богатство гоголевской
образной ткани - до сих пор никто не решился. Перед гоголевскими
страницами Белый осознает себя не писателем, творящим
собственное слово, а переписчиком, соглядатаем, копиистом. Правда, он не
просто копирует стиль Гоголя, а пытается схватить нервные узлы
гоголевского письма, делая ставку на свою особую психомиметиче-
Литература как самосознание. Опыт Андрея Белого
скую чувствительность к чужой телесной форме. Писать - это и
переписывать чужой текст, присваивать его в качестве лично
пережитого события (пастиши Пруста и весь жанр «подражаний»). Авторское
письмо - часто процесс присвоения чужого опыта тела в
«собственном» языке, а не поверхностная имитация стиля.
Гоголь, также как и любой другой значительный писатель, был
ограничен в своих возможностях миметически освоить опыт
реальности. Однако Белый исходит из потенциальной полноты
отражения мира, якобы свойственного манере письма Гоголя. Скорее из
принципа чувственного синестезиса, чем из айстезиса. Из единства
чувственного опыта, а не из его ограниченности, из слияния
чувственных образов, а не из их распада, недостаточности или
«нехватки». Приписывая литературе Гоголя особую синестетическую
функцию в деле организации чувственного опыта, он невольно
перемещает критерий реального в саму литературу, и та становится больше
реальности. Как только принята эта установка, гоголевская
литература становится образцом высшей пробы, образцом особой,
неповторимой полноты чувственного опыта. Белый же исходит из того,
что «полнотой чувства» потенциально наделен каждый человек, но
только некоторые из нас, «великие писатели», могут представить
нам эту «полноту» во всем богатстве образов.
Итак, что же делает Белый? Суть его аналитической работы - в
радикальной деструкции литературы Гоголя. Первый шаг: он
начинает с того, что объявляет литературное произведение
«совокупностью материалов» (прямо по Шкловскому), а саму «совокупность»
представляет как случайно и по произволу собранную кучу больших
и малых, даже мельчайших языковых элементов (грамматических,
синтаксических, фонических, колористических и т.п.); видит в ней
мозаику, что-то наподобие сегодняшних пазлов. Второй шаг: он
составляет серии, приводит в порядок реестры и описи, собирая
отдельную группу языковых элементов под избранную тему (например,
«цвет» «свет», «звучание», «повторы», «видение», «перспективы»,
«живописание», «страх», «смерть» и т.п.). Выбор группировок
произволен и не соотнесен с произведенческим строем. Подчеркивая
специфический характер некоторых ландшафтов Гоголя, Белый
пытается понять их строение из движения375. Так, он замечает, что
ландшафт «движется, меняя свои очертания»376, повсюду «странность
рельефа, как результат усилий разгляда предметов не прямо, а -
сверху вниз»377. Или еще: «Живопись Гоголя рождена из движения,
перемещения тела, огляда предметов: спереди, наискось, вбок, то с
182
VII. Мир-и-город
наклоном головы, то с закидом ее; происхожденье и линии, и
рельефа, и краски - из «музыки», и даже танца; огромные достижения
изобразительности Гоголя не поняты в том именно, что их породило:
породил круг движений, изобразительный стиль Гоголя - отложение
ритма»378. Например, видно, как «перепуганный колдун помчался
/.../но дорога не уносилась прочь под ногами коня, а наоборот:
«мчалась по следам его», перегоняя, точно он задом наперед мчался:
к Карпату, - не от Карпата»379; не раз указывает он и на то, сколь часты
у Гоголя «опрокидывания предметов в зеркале»380. Совсем не
удивительно слышать от Белого, что гоголевский ландшафт «движением
видоизменен»381. Но что это за движение? Разве не он сам, пытаясь
установить границу гоголевского мира, описывает его в виде
«стеклянного, прозрачного шара», образуемого двумя полусферами388,
«...земная поверхность - пояс, стягивающий стеклянный шар; мы -
внутри шара: кубическая перспектива нарушена; она становится
шаровой; особенность восприятия в ней; мы - не вне предмета
изображения, а - внутри него; итальянская и японская перспективы
подают действительности в правилах верхнего и нижнего
полушария»383. «Стеклянность» и зеркальность, отражения и «прозрачные
глубины», блики и блестки, качества мира, не предполагающие
движения вообще.
«В иные моменты стеклянен весь гоголевский ландшафт; почти всегда
- вода стеклянна. Она - могучее орудие для инсценировки ландшафта;
даны три ее модификации: 1) прозрачность глубины, 2) зеркальность,
3) зыбкий издрог; вода горный хрусталь...»***
«Здесь блеск - не гипербола, а реальное условие бытия контура,
выщербленного из стекла: склик - воды, звука, месяца выливает стекло;
натуральное тело казалось бы влепленным тестом; оно - неуместно: в стекле;
и казалось бы здесь извращеньем натуры фона. /.../ Критикам Гоголя
пора бы это понять; разбирая стеклянные пейзажи и масляные, уметь
отличать натуральность стеклянную от натуральности масляной; ибо и
в «наинатуральнейшей» живописи ненатурально условие ее бытия: она
-двухмерна».385
Это другое движение, которое происходит скорее в нашем
чувстве ландшафтного строя, но не с самим ландшафтом, он покоится.
Белый выделяет эту беспримерную активность того, кто осваивает
созерцаемый ландшафт собственным телесным опытом, движением.
И от разнообразия этого движения, его тонкостей в обращениях и
183
Литература как самосознание. Опыт Андрея Белого
отражениях и появляется то, что мы называем оживлением
мертвого, «стеклянного», навсегда застывшего ландшафта вод.
Меж двух бездн. Языковой эксперимент
Смещение бездн, - вот что надо учесть в ландшафтном опыте
Гоголя-Белого. Об этом хорошо знали современники (Сезанн и Клее).
То, что они называли пропастью и бездной, Белый называет хаосом,
«концом». Культурная нить (путь), связывающая меня прочно с
линией горизонта и в той необходимой точке, в которой
бесконечность горизонта уничтожается, - эта нить уже не имеет значения в
непосредственном ландшафтном опыте, который не подчиняется
законам географической области, не имеет мер точной
протяженности, отмеченного пути, но только циркулирующее смещение
наблюдателя в открытом пространстве, и имя ему - бездна. Открытость
пространства и есть бездна. В одном из писем Белый набрасывает
контуры теории двух бездн, хаосов:
«Культура ... есть временность, а временность (в каком угодно смысле
понимаемая) - только перепонка между двумя безвременьями: хаосом
до- и после-временным, расплющивающим время. Время - пористая
перегородка, сквозь которую мы процеживаемся, а сама эта перегородка
(что очень важно) только поверхностное натяжение двух
противоположно заряженных сред, а не что-либо третье, разделяющее; но и
противоположность тоже видимая, заключающаяся в разности направления по
существу однородных вибраций. Но и разность направления
получается от разности восприятия нами, от разности нашего положения как к
одному, так и к другому (в существе все тому же) безвременью. И не в
том суть, что два пути - две линии, убегающие в до-временность и в после-
временность, равнозначащи (ветхий завет = новому, тело = духу и т.д.),
а, следовательно, обязательны, - дело в том, что оба пути бесконечны
и никогда не родиться молнии, пробивающей перегородки (срединно-
сти, временности, маленького "я"), ибо перегородка есть величина
мнимая для тех, кто заглянул туда, и фильтрующая'перегородка для тех, кто
весь обусловлен отношением двух взаимно-противоположных
натяжений хаоса - то есть кто позитивен. Это не "нечто", задерживающее
соединение бездн, это простое отношение двух бездн; бездны
несоединимы; каждая ведет к безвременью; обе вместе - никуда. Срединность -
переход, в серединности противоположности даже не смешаны... Выход
из серединности есть выход в один из хаосов»386.
184
VII. Мир-и-город
Хотя настоящий фрагмент относится к раннему этапу
творчества Белого (1903), здесь высказывается принципиальная
методологическая позиция: отношение двух и более сред определяется не
их различием, а пластическим тождеством. Внутреннее и внешнее
несводимы друг к другу; нет необходимости в посреднике, «третьем»,
который контролировал бы пограничные взаимодействия сред. Эти
среды, «хаосы» отделены тем, что делает их неразличимыми,
мембраной- пластическая поверхность, которая преобразует внутреннее
во внешнее, а внешнее во внутреннее. Одна бездна, как нам
известно, - дыры, другая - рои. Рои и дыры тождественны, смешаны и
неразличимы: ведь для пористой перегородки имеют значение только
силы натяжения. Пористость есть временное равновесие между
дырами и роями. Равновесие во времени, некая область «срединно-
сти», где время схватывается, замедляется, «остывает», и где,
напротив, убыстряется, становится взрывным. То оно падает, буквально
«свертывается» в мертвую дыру, то взрывается, разлетаясь мигами-
вспышками, роями. Действительно, можно представить сознание,
атакуемое «мигами»: в результате интенсивной бомбардировки оно
превращается в решето, «мнезическая ткань» его пробита
множеством дырок387. Это следы, по которым прошлое возобновляется.
Причем, накопление следов приводит к тому, что всякое
последующее воздействие на память может побуждать к активной реакции,
что и происходит при flash-backs, «вспышках прошлого», когда все
озаряется на одно мгновение, и мы видим сцены детства с
невероятной достоверностью. Теория миг-времени отвечает
представлениям Белого о том, как устроена память. Эта мембрана, пористая
перегородка- подвижная, «живая» матрица долговременной
памяти, памяти глубокого залегания. Взрываясь «мигами», она
превращается в оперативную, быстро действующую память. В этом раздвое
сред отражается раздвои сознания и, конечно, памяти. Как
философ-гностик Белый верен этому раздвою. Время вспыхивает в
картинах прошлого опыта, доступное только в настоящему которое
захватывает будущее*88. Вспоминать и предвидеть настоящее -вот чему
служит теория миг-времени, лежащая в основе единой стратегии
мимесиса в литературе Белого.
Стоит напомнить, что для Белого именно слово создает
временно-пространственную размерность мира, и это слово произносимое:
«Мое "я", оторванное от всего окружающего, не существует вовсе;
мир, оторванный от меня, не существует тоже: "я" и "мир"
возникают только в процессе соединения их в звуке. Вне-индивидуальное
185
Литература как самосознание. Опыт Андрея Белого
сознание, как и вне-индивидуальная природа, соприкасаются,
соединяются только в процессе наименования. Слово создает новый
третий мир - мир звуковых символов, посредством которого
освящаются тайны вне меня положенного мира, как и тайны мира, внутри
меня заключенные; мир внешний проливается в мою душу; мир
внутренний проливается из меня в зори, в шум деревьев; в слове и
только в слове воссоздаю я для себя окружающее меня извне и изнутри,
ибо я - слово, и только слово»389. И далее: «...звук соединяет
пространство со временем; это вновь созданное отношение в известном
смысле освобождает меня от власти пространства»390. Утраченное
в письме, это личностное «я» появляется в практике произнесения.
Если же слово произносимое является «поверхностным
натяжением двух сред», то оно должно противостоять нормальности («средин-
ности») языка, выражать то, что в языке не имеет места - вертикаль
той самой бездны, связывающей в едином движении земное и
небесное. Выразить это головокружение, этот ритм бездн должно
было косноязычие поэтической речи. И вот перед нами поэтическая
звукопись того же самого ландшафта, который Белый пытался
зарисовать во множестве своих каджорских акварелей)391.
«Над дорогой тулощатся кулачины - с дом: вылобились и долбней, и
дылдней перепера; и бурая там скребоварина; ребра - раскряк углопли-
тов (земля - многоплитица); вешнее пышненье снесенных и вышних
дубов; и растрепанный облачный выползень ватою веет и исчерч про-
щебленный; розовосерый, и серолиловый, омношенный слегка ржаво-
золотоватой шершавиной; где надпера ореховоцветного рухи и грохи
снеслися (размером с быков); дубы, буки стволами сигают в тот рух; око-
феилась серость дороги; и щебень рассыпался, точно зерно... Твердо-
гордые камни: ореховокарий с прорехами серыми, с дом, точно в коже
змеиной; и кружево вылеплинок - его грифельнорозовый бок. Выше
- едким прощепом плюща лаподобина выперла; край: а под краем - стру-
ение блесни пролизанные глади тырчин; и выугленны каменища над
зычными дрызгами взбрызганной Мзымты»39*.
«Гордые горы, врезаяся черными ребрами в воздух углами и сломами
конусов - кубово тырчатся; сахарный снег серебреет; и остро огромен
их перш; выше: вышние легкости пуками всколоты в легко медовой
ужаснейшей дали, где выкурен вскок дымнорукий, где рвется в расперый
сквозняк дымовой и продутый, он; ниже улицу кубиком выложили в
зелень грецких орехов, - в стволы, в толстуны; они в желтом промохе и
- белые; перепоясал отряд из забориков все; свиноухая хрючница рю-
186
VII. Мир-и-город
хает в пылях; вишневою юбкой проходит гречанка кофейного цвета
средь серых и тигробурых коров»393.
«Каменные кулаки на зеленцой залобилися и долбней, и дылдней
перепера; серобурая скребварина встала; а ребра - раскряк углоплитов;
земля - переплитица; облачный выползень лег на нее: в перечерч прощеб-
ленный; надпера ореховоцветного рухи и грохи; ореховокарий, с
прорехами серыми камень; и кружево вылепленок его - в едком процепе
плюща!394
В таком напряженном произнесении слова план выражения
освобождается от плана содержания, - но как? Теперь они не только
совместимы, но и вступают в борьбу, где каждый из планов теряет
свои границы. Звуковые комплексы (а это почти каждая группа слов)
не описывают ландшафт, не рассказывают «историю», они теперь
- события чисто ландшафтных звучаний, вступающих в поле
ритмизации двух равно полярных бездн на топологически
представленной перепонке произносимого слова. Мое «я» есть то, что я
произношу, и то, что произношу - вижу.
Примечания
1 Одна из главок воспоминаний Белого, посвященных отцу,
называется «Остраннитель быта»: «...он (отец) как будто до Виктора
Шкловского открыл принцип сознательного остраннения; и остран-
нял, остраннял всю жизнь: жизнь вкруг себя, жизнь, в которую был
заключен он». (А. Белый. На рубеже двух столетий. Москва,
«Художественная литература», 1989. С. 71.)
2 Я бы хотел, чтобы здесь не было путаницы. Единое или общее
сознание, сознание как субстанция не есть индивидуальное
сознание, сознающее себя в каждый момент. В литературе Гоголя и
Достоевского - как реалистов, не символистов, конечно, - еще
сохраняет значение осевое положение Рассказчика (некой трансцендентной
позиции всеведущего и всюду присутствующего свидетеля). В
литературе Белого нет ничего подобного. Интерес к выделению позиций
«наблюдающей субъективности» здесь отсутствует, как и интерес к
«реалистической» мотивации возникающего образа, оправдания его
«верной» деталью (т.е. нет вкуса к правдоподобию). Никто из
персонажей не обладает достаточно всемогущим «я», чтобы наблюдать
за другими и управлять ими. Весь круг героев его поздних романов,
лишенных личного «я», каких-либо устойчивых эго-позиций, так и
остается театром марионеток. Куклам Гоголя противостоят
марионетки Белого. «Я» у Белого всегда следствие каких-то иных сил, сил
индивидуации, не автономии, или сознательного выбора, вот
почему эти «я» столь многочисленны и столь хрупки, они не в
состоянии противостоять стихии сознания. (Достоевский и Толстой явно
вне такой игры, поскольку их реалистически приземленная канва
повествования все-таки не стремилась к ирреализации персонажей).
3 А. Белый. Душа самосознающая. Москва, Канон + ОИ
«Реабилитация», 1999. С. 264.
188
« Там же. С. 259-260.
Белый размышляет над этими вопросами, вспоминая о Р. Штейнере
как педагоге: «Помню, на первых уроках моих с ним он отстранил
один лист моих схем: не стал и рассматривать; «Этого вы еще не
можете верно отразить в схеме», - сказал он. Но этот жест отстранения
ничто не подсек во мне, лишь отвердив решение с ним быть
правдиво смелым, ибо другое, принятое им, легло в основу «моего»;
отстранение листа схем означало: «До сей черты ваши схемы - схемы
над опытом, а с этого пункта они уже - «рассудочная спекуляция».
(А. Белый. Рудольф Штейнер и Гете в мировоззрении современности.
Воспоминания о Штейнере. Москва, «Республика», 2000. С. 365-366).
5 Виктор Шкловский. О теории прозы. Москва. Советский
писатель, 1983. С. 20.
Ср.: «Вещи, воспринятые несколько раз, начинают восприниматься
узнаванием: вещь находится перед нами, мы знаем об этом, но ее не
видим. Поэтому мы не можем ничего сказать о ней». (Там же. С. 15).
6 Аристотель дает следующую классификацию узнаваний: по
приметам, дополняющее, присочиненное, через воспоминание,
через умозаключение, сложное и простое - из самих событий.
Собственно, узнавать - это помнить. Соотносить образ прежнего
успешного действия с тем, что в данный момент намечается. Это и есть
телесная память-в-действии, узнаем, потому что помнит тело,
узнавание вводит в память единство места и времени. В любом случае для
классического понимания техники подражания все время на кону
остается верность реальному, поскольку узнать - это еще раз
засвидетельствовать статус реального. (Аристотель и античная
литература. Москва, «Наука», 1978. С. 137-139).
7 Виктор Шкловский. О теории прозы С. 37-38.
8 Там же. С. 23.
9 Достаточно просмотреть подбор имен в «Масках», или
шутливую игру в имена Белого в одном из писем: «... Абакралова, фон Клак-
кенклипс, Кликотакин, Клопакер, Кекадзе (Иван), Кока Поколв, Мо-
авр, Индихинес, Маврулия Бовринчиксинчик, Паханций, Велес-Непе-
щевич, Орловикова, Сидервишкин, Тарас Верливерко, Кактацкий,
фон-Винзельт, Егор Гнидоедов, Воняй-Кизмет, фон Пудопаде, Пепар-
дина, князь Лужердинзе-Щербун-Двусерпянский, Зербардина, Жак
Вошенвайчс, Пеццен-Цвакке, Сергей Колхзцов, Шмуль Лерович,
Илкавин, Мамай-Алмамед, Милдоганин.../.../. Простите за шутку;
это список чудовищностей - мое упражненье со звуками в процесс
чтения курса доктора о драматическом искусстве; там он говорит
удивительные вещи о прозе художественной, которой задача связаться
Литература как самосознание. Опыт Андрея Белого
с "Ur-Sprache" и омолодить при помощи звуковой «Zauberkraft»
мертвое слово; принцип "остраннения" Шкловского у доктора
изумительно углублен; он доказывает, что все народные поговорки, словечки
суть «остраннения», а в древности (незапамятной) над событиями
важными собирались: пели и остранняли словами; отсюда и пошла
проза как воспоминание об обрядовых странностях. Вот и я
принялся "остраннять" список жильцов». (Андрей Белый и
Иванов-Разумник. Переписка. Санкт-Петербург, Atheneum-Феникс, 1998. С. 354.)
Многое из этого можно найти в последних романах Белого: «Москва
под ударом» и «Маски».
10 Ср.: «Остраннилась за эти десять лет и моя карма. Остранне-
ние в том, что вижу Аримана почти воочию на физическом плане;
и он пристает, цепляется, ущипывает пальцы. Бьет трамваем,
бросает об лед, обнимает медведем и вместо утешающих листиков
бросает в глаза муть с песком и подставляет глухую стену, в которую и
вперяешься; не говоря уже о том, что жизнь наша вполне как
темница». (Андрей Белый и Иванов-Разумник. Переписка. С. 540.)
11 3. Гиппиус. Живые лица. Воспоминания. Тбилиси, «Мерани»,
1991. С. 14.
12 Н. Бердяев. Самопознание. Москва, «ДЭМ», 1990. С. 181.
13 Федор Степун. Памяти Андрея Белого. - Воспоминания об
Андрее Белом. Москва, «Республика», 1995. С. 169.
1« Там же. С. 170.
15 А. Белый. Символизм как миропонимание. М., «Республика»,
1994. С. 455.
16 А. Шопенгауэр. Мир как воля и представление. Т. 1, «Наука»,
Москва, 1993. С. 430-431.
17 А. Белый. Символизм как миропонимание. С. 454.
18 Там же. С. 455.
•з Там же. С. 420.
20 А. Белый. Душа самосознающая. С. 162.
21 А. Белый. Начало века. Москва, «Художественная литература»,
1990. С. 537.
22 К. Бугаева. Воспоминания об А.Белом. - Две любви, две судьбы.
Воспоминания о Блоке и Белом. Издательский дом 21 век-Согласие,
Москва, 2000. С. 296-301.
23 А. Белый. Между двух революций. С. 361-362.
24 Эскапизм - вполне состоявшийся термин в современной
литературе. Можно сказать, что есть два пути: один - это путь
позитивной свободы, посредством любви и труда личность в силах
достигнуть полного развития своих способностей; второй, который можно
190
Примечания
определить как путь к негативной свободе, то, что Фромм
определяет как бегство из «невыносимой ситуации». Последний путь,
естественно, много ближе А.Белому; я бы даже сказал, что это
единственный путь, который он может выбрать. (Э. Фромм. Бегство от свободы.
Москва, «Изида», 2004. С. 100).
25 Ср.: «Предмет Апокалипсиса есть метаистрия, нуменальная
сторона того универсального процесса, который одной из своих
сторон открывается для нас как история» ( С. Булгаков. Два града.
Исследования о природе общественных идеалов. С. 234).
26 А. Белый. Меж двух революций. Москва, «Художественная
литература», 1990. С. 362.
27 Андрей Белый. Pro et contra. Личность и творчество Андрея
Белого в оценках и толкованиях современников. Антология. Санкт-
Петербург, «Русский Христианский гуманитарный институт». Санкт-
Петербург, 2004. С. 469.
28 Л. Бинсвангер. Бытие-в-мире. Рефл-Бук, Ваклер, Москва-Киев,
1999. С. 210-219.
29 Ср. по Универсальному немецкому словарю Дудена: 1. Sich beim
Bergsteigen, beim Klettern in den Bergen;2. tun od. denken, was über
das u:bliche Mass entscheiden hinausgehen, делать или думать о чем-
то, что привычную меру превосходит (DUDEN. Deutsches Univers-
alwo:rterbuch. DUDENVERLAG, 1996, S. 1668.) Verstiegenheit:
забраться слишком высоко и не смочь вернуться - вот наиболее точный
семантический эквивалент.
3° Л. Бинсвангер. Бытие-в-мире. С. 215-216
31 Таких эпизодов много. Самые обыденные факты «домашних»
привычек Белого как эквилибриста и гимнаста, например, умение
сохранять равновесие, сидя на корточках («по-арабски») или
балансировать на балконной притолоке, на двери или стульях, как в
детстве, поражая близких друзей своей ловкостью. В одном из
путешествий по Кавказу Белый, уверенный в своей ловкости и силе, забрался
на высокую и отвесную гору и едва смог спуститься вниз.
32 А. Белый. Котик Летаев. Крещеный китаец. Записки чудака.
М., «Республика», 1997. С. 25.
33 Там же. С. 430.
34 А. Белый. Критика. Эстетика, Теория символизма. Том 1-2.
Москва, «Искусство», 1994, Том 1. С. 325-326. К теме «оврага», -
важного символа в экзистенциальной аналитике «самосознающей души»
- позднее мы еще вернемся.
35 Валерий Брюсов. Литературное наследство, том 85. Москва,
1976: «Наука». С. 356.
Литература как самосознание. Опыт Андрея Белого
36 С: «Эллис, из всего сотворявший кошмарные мифы, однажды
пытался уверить меня, что у меня есть двойник, -черный профиль..»
(А. Белый. Воспоминания о Блоке. Москва, «Республика», 1995. С. 334.)
37 А. Белый. Символизм как миропонимание. С. 454-456.
38 Новый материал о жизни Белого в Берлине 20-х годов: М.
Полянская. Foxtrot белого рыцаря. Андрей Белый в Берлине.
Санкт-Петербург, «Деметра», 2009.
39 В переписке с Ивановым-Разумником Белый даже рисует себя
спящим после очередного «загула» в необычной позе на ступеньках
лестницы его пансиона (головой вниз). А вот мнение К. Бугаевой: «Но
и в гораздо более поздние годы движение тела было так же
необходимо Б.Н. Оно создавало оттяжку от головы: прогулки, работа со
снегом, гимнастика действовали на кровообращение, освежали и
отвлекали от мыслей. Отсюда - берлинский фокстрот как та оттяжка, как
сознательно выбранное средство не сойти с ума в тот трагический
период в жизни Б.Н.». (К. Бугаева. Воспоминания об А. Белом. С. 194.)
40 М. Цветаева. Пленный дух. (Моя встреча с Андреем Белым)
- Воспоминания об Андрее Белом. С. 251-252.
41 М. Чехов. Литературное наследие. Воспоминания. Письма. Том
1. Москва, «Искусство», 1995. С. 173.
42 М. Цветаева. Пленный дух. С. 279.
43 А. Белый - Иванов-Разумник. Переписка. С. 275.
44 В. Ходасевич. Некрополь. Воспоминания. Москва, 1996. С. 66-67.
45 А. Бахрах. Из книги «По памяти, по записям» - Воспоминания
об Андрее Белом. С. 314-315.
46 Андрей Белый и Иванов-Разумник. Переписка. С. 271-272
4? Там же. С. 507.
48 А. Белый. Котик Летаев. С. 431.
49 А. Белый. Душа самосознающая. С. 316. Ср.: «Как бред:
Мережковские, два анархиста, Д.В. Философов ввалились ко мне;
дебатировать вместе: Христос или ...бомба?» (А. Белый. Между двух
революций. С. 165.) Или еще: «Я шел Моховой, заседать со Свентицким,
- в унылейшей комнате, густо набитой тужурками, взбитыми мрачно
вихрами власастых студентов с проблемою («бить иль не бить»), где
Свентицкий учился показывать пиротехнический фокус с огнем,
низводимым им с неба, - в ответ на проблему: ходить с бомбой на
генерал-губернатора иль - не ходить?
И Свентицкий вещал:
- «Эта бомба - небесный огонь, низводимый пророками,
соединившими веру первохристианских отцов с протестующим
радикализмом Герцена!». (А. Белый. Начало века. С. 300).
Примечания
5° А. Белый. Критика. Эстетика. Теория символизма. Том 2. С. 464.
51 Н. Валентинов. Встречи с Андреем Белым. - Воспоминания об
Андрее Белом. Москва, «Республика», 1995, (Главка: «Марксизм,
Апокалипсис, и идея взрыва»). С. 90-91. С. 107. Или мнение Ф.Степуна,
высоко ценившего творчество Белого: «...он раньше многих других
понял и всем своим художественным творчеством заявил: «Культура
- трухлявая голова, в ней все умерло, ничего не осталось. Будет взрыв:
все сметется» (курсив мой - В.П.). Все главные темы поэта и
романиста Белого суть темы взрыва культуры, взрыва памяти, взрыва
преемственности жизни и сложившегося быта». ( Ф. Степун. Памяти Андрея
Белого. - Андрей Белый. Pro et contra. С. 901.)
52 В дальнейшем проблематика «ножниц» в истории жизни
Белого будет развернута более подробно. Вот его наиболее
показательные признания: «Назначение этого дневника - сорвать маску с себя
как писателя; и - рассказать о себе, человеке, однажды навек
потрясенном; подготовлялось всю жизнь потрясение. И - разразилось
однажды ужаснейшим вулканическим взрывом». И далее: «Пишу о
священном мгновении, перевернувшем навеки все прежние представления
о жизни; как будто бы бомба упала в меня; моя прежняя личность
разорвана, а осколки ее изорвали грунты отношений с людьми; быт всей
жизни иной». (А. Белый. Котик Летаев. С. 305. Курсив мой - В.П.)
Автор «Петербурга» пережил не один «взрыв», он знает себя перед
взрывом, во время и после взрыва. Интересно, что вторую часть
повести «Записки чудака» Белый намеревался назвать «Великий взрыв».
(Андрей Белый и Иванов-Разумник. Переписка. С. 175.)
53 А. Белый. Символизм как миропонимание. С. 409. Весьма
ценные замечания Ю.Г. Цивьяна о постреволюционной мифологии
«взрыва». Отсюда прямой переход к теме динамита, столь же
существенной, поэтически и политически пережитой в общественном
сознании на рубеже XIX-XX столетий. Однако Цивьян, как, впрочем, и
ЮЛотман, понимает взрыв в границах репрезентации: как символа
чего-то («революции», «народовольческого террора») или в
качестве реального взрывчатого вещества - «динамиты», но не как
необходимое условие существования литературного произведения. Более
того, Цивьян полагает, что увлечение Белого кинематографом
начала века значительно повлияло на стиль и основное содержание
«Петербурга»; позднее этот опыт был использован автором при
подготовке им сценария для экранизации произведения. Учитывая, что
исследование Цивьяна все-таки относится к началу 90-х годов,
можно понять столь смелое утверждение: «...Белый, пользуясь для
экранизации «Петербурга» языком фильмов, послуживших источником
193
Литература как самосознание. Опыт Андрея Белого
романа, как бы осуществляет обратный интерсемиотический
перевод. (Ю.Г. Цивьян. Историческая рецепция кино. Кинематограф в
России 1896-1930. Рига, «Зинатне», 1991. С. 216-223.). Нельзя
отрицать влияние кинематографа на творчество Белого, но все-таки
нужно исходить из многих факторов (не из «одного»), и прежде всего,
учитывать логику самого Произведения. Как возможно влияние
кинематографической формы на литературную - вот вопрос? Ведь оно
проявлялось не чисто внешними совпадениями; бомбу террористы
использовали задолго до изобретения кинематографа. Определение
взрыва как состояния бытия, не имеющего ни «места», ни «границ».
Это широкое толкование. Более узкое - взрыв является
динамической матрицей повествования (роман «Петербург), благодаря
которой изменяется и возобновляется скоростная запись происходящих
событий. Я уже не говорю о более поздних экспериментах А.Белого
(романы-автобиографии), обращенных к исследованию взрывной
динамики языка.
54 Софиология В. Соловьева и есть этот «мягкий» вид
Апокалипсиса, которому как умонастроению еще оставался верен Белый
раннего периода творчества. «Я обратился к Владимиру Сергеевичу с
вопросом о том, сознательно ли он подчеркивает слова о тревоге,
подобно дымке, опоясавшей мир. И Владимир Сергеевич сказал,
что такое подчеркивание с его стороны сознательно. Впоследствии
слова о "дымке" подтвердились буквально, когда разверзлось жерло
вулкана и черная пыль, подобно сети, распространилась по всей
земле, вызывая "пурпуровое свечение зорь" (Мартиника). Еще тогда я
понял, что причины, являющие перед глазами эту сеть,
наброшенную на мир, находятся в глубине индивидуального сознания. Но
глубины сознания покоятся в универсальном, вселенском единстве. Еще
тогда я понял, что дымка, занавесившая духовный взор, падет на
Россию, являя вовне все ужасы войн и междоусобий. Я ждал извне
признаков, намекающих на происходящее внутри. Я знал: над
человечеством разорвется фейерверк химер. /.../ Над европейским
человечеством пронесся вихрь, взметнув тучи пыли. И стал красен свет,
занавешенный пылью: начался мировой пожар. Еще Ницше накануне
своего помешательства предвидел всемирно-историческую
необходимость всеобщей судороги, как бы гримасы, скользнувший по лицу
человечества». (А. Белый. Критика. Эстетика. Теория символизма.
Том 1. Москва, «Искусство», 1994. С. 376-377; разрядка моя - В.П.)
55 Павел Флоренский и символисты. Опыты литературные.
Статьи. Переписка. «Языки славянской культуры», Москва, 2004. С. 461
(составление, подготовка текстов и комментарий Е.В. Ивановой).
194
Примечания
56 Ср.: «В. Соловьев отразил Апокалипсис в субъективном
чувстве конца, охватившем его; а потом и многих интеллигентов: без
почвы; Апокалипсис культивировал Розанов, но разбазарил чувство
конца, "катастрофу", в раскрытие "тайн" половых, сочетая с ним
Ветхий завет; в Апокалипсисе толкователи видели: и бытие, и его
антитезу: конец бытия; для одних Апокалипсис стал символом краха
культуры; в Д.С. Мережковском - двоился он: но раздвоением этим
пропитан анализ Толстого, не говоря уже о Достоевском; и
шлиссельбуржец Морозов в то именно время измеривал в заточении
астрономический смысл Апокалипсиса; им в Нижнем бредила Шмидт;
соблазнился им Блок» (А. Белый. Начало века. С. 156).
57 Достаточно указать на апокалиптически окрашенную
статистику природных катастроф, приводимую Белым в письмах к Иванову-
Разумнику, например, на такие подразделы, как эпидемии, ураганы
и бури, туманы, землетрясения. Составляется график анормальных
явлений природы за 1926-27 годы. Ср.: «...на Земле - усиление
вулканической деятельности; и этому - соответствует: - в сентябре: 1 )
задействовал подводный вулкан на дне океана (1 сент.), 2) в Чили
вспыхнул вулкан Ллойма и засыпал пеплом город Лас-Лахас (сент.),
3) задействовал вулкан около Аляски (окт.), 4) началось сильнейшее
извержение вулкана в 80 километрах от Токио ((окт.), 5) вынырнул
в итоге вулканической деятельности в 1900 году провалившийся
остров (тихий океан), 6) около Кантона провалился остров
(вулканическая деятельность) и т.д. И отсюда уже мой, не геологический,
а априорный вывод: землетрясение в Крыму вулканического, а не
тектонического порядка, чему - явные факты: 1 ) светящиеся столбы
воспламененных газов около мыса Лукулл, 2) свечение газов около
Судака, 3) всплытие на поверхность моря кусков пемзы» (А. Белый
и Иванов-Разумник. Переписка. С. 458-459. С. 540-541. С. 548-549.)
И это один чисто гео-климатический перечень событий-катастроф
связывается в единство с языками новейшей атомной физики и
психического под знаком единого космического Соответствия
(Гармонии) всего со всем. Конец «мира сего» близок, и сама близость
переживается как особая временность, выведенная из
хронологического или исторического времени. Чем более радикальнее ощущается
потеря ближайшего «человеческого» мира, тем глубже вживаемость
в другой язык, - в язык Спасения. И чем ближе Конец, тем
напряженнее ожидание, и тем больше надежд на Взрыв, который
развернет время жизни вспять, опрокинет в бессмертие. Разве не таков
образ мысли у всей плеяды русских мыслителей, созерцающих
современный мир по картинам Апокалипсиса?
Литература как самосознание. Опыт Андрея Белого
58 А. Белый - Иванов-Разумник. Переписка. С. 455.
59 Λ. Белый. Глоссолалия. Поэма о звуке. Издательство «Водолей»,
Томск-1994. С. 25.
60 Там же. С. 33.
61 Там же. С. 455.
62 Там же. С. 456.
63 Англ. bootstrap в буквальном смысле означает «зашнуровка»,
в переносном - самосогласование, отсутствие иерархии в системе
элементарных частиц. - Прим. пер.
64 П. Девис. Суперсила. Поиски единой теории природы. Москва,
«Мир», 1989. С. 224-225.
65 Ж.-Ф. Лиотар. Состояние постмодерна. Москва, «Институт
экспериментальной социологии». Санкт-Петербург, «Алетейя», 1998.
С. 74.
66 С. Хокинг. Краткая история времени. От большого взрыва до
черных дыр. Санкт-Петербург, «Амфора», 2000. С. 192-193.
67 Там же. С. 199.
68 Ср.: «Мир - рвался в опытах Кюри // Атомной, лопнувшею
бомбой // На электронные струи //Невоплощенной гекатомбой;
//Я - сын эфира, Человек, // - Свиваю со стези надмирной //
Что взрывы, полные игры // Своей порфирою эфирной // За миром
мир, за веком век». (Андрей Белый. Стихотворения и поэмы. Москва-
Ленинград, 1966. С. 411).
«Мистический лиризм» Белого не противоречит замыслу его главной
философской книги «Истории самосознающей души» (пока целиком
еще не изданной). Это грандиозная попытка соотнести мировую
историю становления Знания с опытом отдельной истории Жизни: как
может быть совмещено знание объективное и безотносительное с
сакральным опытом истины, причем, субъективно выраженной?
Отсюда, как мне кажется, острая нужда в символическом переводе
одного языка на другой - языка «атомной» физики на ветхозаветный,
сближение образов и событий Евангелия с научными фактами;
последние вступают в сакральное пространство речи, теряя там свою
объективность и автономию. Вот характерный образец (из писем
Белого к Иванову-Разумнику в конце 20-х годов): «...для меня 2-ое
Пришествие есть нечто, имманентное моему существу; по-разному
выявляется мне эта имманентность; и, между прочим: выявляется в
том, что - вот откуда идет навстречу моему абстрактному,
экстраатомному бытию Христос: он идет из меня самого: из проницания
меня самого во мне самом разрешающимися от скованности силами
внутриатомной моей инфра-матерьяльной теплоты и Солнечности:
196
Примечания
Христос, пребывающий в центре земли моей, выходит из земли ко
мне, пребывающему еще "на земле", чтобы ввести меня внутрь "дома
моего": "Царствие Божие внутри есть"». // Там, внутри существа
существ моих жизней, внутри тайны атома я буду введен в «дом», о
котором сказано в Апокалипсисе как о городе: «Храма же я не видел
в нем, ибо Господь Бог Вседержитель - храм его». «Вседержитель»
- Отец, данный мне в образе тепловой сферы (первовселенной ли,
первоатома ли). И - «город не имеет нужды... в солнце..., ибо слава
Божия осветила его, и Светильник его - Агнец». (Андрей Белый -
Иванов-Разумник. Переписка. С. 456.)
69 А. Белый. Котик Летаев. С. 49.
7° Там же. С. 32.
71 Феноменологическая практика оперирования такими
понятиями, как «жизненный мир» (Lebenswelt) складывалась
параллельно с экологическими и этологическими стратегиями в познании
живого. Можно ли, а главное нужно ли в помощь антропологии
литературы вводить иной масштаб аналитики? Например, попытаться
соотнести понятие строя у Белого с такими понятиями, как
«объемлющий оптический строй» Дж. Гибсона, длительность А. Бергсона,
теория значения этолога Ж.В. Юкскюля, или экзистенциал «бытие-
в-мире» М. Хайдеггера? В настоящей работе мы не имеем места для
такого анализа, но он и возможен и желателен, поскольку сможет
улучшить наше понимание Произведения (Строя) в современной
культуре.
72 Концептуальную пару «рой-строй» выделяет В.Шкловский в
статье, посвященной поэтике Белого. К сожалению, его разбор
фрагментарен, и эти понятия не получают должного развития. Хотя
главное было высказано: отделил оригинальное творчество Белого от
его увлечения антропософией («ученичество» у д-ра Штейнера»).
73 А. Белый. Котик Летаев. С. 49.
™ Там же. С. 421
7* Там же. С. 446.
76 Что это значит - «взрыв уже был»? Апокалиптическое
ожидание Конца времени отличается от завершения времени (эсхатона).
Разное время и временность, разное ускорение. В первом случае
время стягивается в одну воронку и кажется центростремительным; во
втором - «после взрыва», оно явно центробежное и, главное, над
ним утрачивается контроль, оно бьется импульсами, вовлекая в
общий поток, не ведущий никуда, его больше нет. В ходе нашего
анализа мы не всегда придерживаемся подобных различий. И обращаемся
к ним только в зависимости от исследуемого контекста. Так, роман
Литература как самосознание. Опыт Андрея Белого
«Петербург» выстраивается Белым в чисто апокалиптической
временности, в отличие от поздних произведений, где доминирует
метафизика эсхатона.
77 А. Белый. Котик Летаев. С. 59.
78 А. Белый. Критика. Эстетика, Теория символизма. Том 1. С. 326
79 Там же. С. 363. Ср. более поздние размышления Белого,
переданные К. Бугаевой в ее воспоминаниях: «Через несколько дней
молчаливого наблюдения и размышлений он стал говорить мне о том,
что такое овраги: это, в сущности, те же все горы, только воздушные,
воздухом врезанные в поверхность земли. Рельеф оврагов есть лишь
обратный, как бы отраженный рельеф высоты. Это горы... Это горы
России: незримые, опрокинутые "вниз головой", будто повисшие в
обратном полете. В горных хребтах недра земные выпираются
наружу, громоздятся под небо. В оврагах небо врезано в землю». (К.
Бугаева. Воспоминания об Андрее Белом. С. 240.)
80 А. Белый. Котик Летаев. С. 299.
8 * Эта тема также представлена в книге Моники Спивак «Андрей
Белый. Мистик и советский писатель». Москва, «РГГУ», 2006. С. 346-
351.
88 А. Белый. Петербург. С. 24. Ср.: «Я боюсь буквы Ы. Все дурные
слова пишутся с этой буквы: р-ыба (нечто литературно бескровное
(...), м-ыло (мажущаяся лепешка из всех случайных прохожих), п-ыль
(нечто вылетающее из диванов необитаемых помещений), д-ым
(окурков), т-ыква (нечто очень собой довольное), т-ыл (нечто
противоположное боевым позициям авангарда», (цит. по
«Примечаниям» к «Петербургу» А. Белого -А. Белый. Петербург. С. 647-648.)
83 Там же. С. 42-43. Ср. одну из частей комментария Белого к
рассказу Л. Толстого «Смерть Ивана Ильича»: «...будет бездна, в
которую лезть не хооо-чется, будет "волчок" закружившейся бомбы: будет
разорван им - низ живота: будет вскрик не о том, как сдавать нам
Москву, а о том, как нормально - всем скопом полезть за Иван Ильи-
чем без волчиного воя "уу-ууу - не хочууу", как заранее "ууу" нашей
бездны работа. Внутренней пресуществить в точность знания, в
подлинный опыт, что "ууу", расширяясь с той стороны, освещается
светом немеркнущим знания Апостола Павла...» (А. Белый. История
становления самосознающей души. С. 300.)
84 А. Белый. Между двух революций. С. 435.
85 А. Белый. Петербург. С. 502.
86 Там же. С. 227.
87 Весьма интересной может оказаться параллель с кафкианской
вселенной, которая, если быть внимательным, и состоит из множе-
198
Примечания
ства дыр разного назначения. Вселенная, состоящая из дыр. Герои
новелл Кафки - малые существа, живущие в особых микромирах,
куда нет доступа враждебным силам. Спрятаться и выжидать, быть
невидимым и бесшумным. Мыши, кроты, жуки,
двойники-помощники, «маленькие девочки», «стучащие шарики» или «бюрократы» - все
они захвачены лабиринтным пространством, из которого нет
выхода, но в нем и спасение. Чрезвычайно странный лабиринт: он
разрастается все новыми ответвлениями-тупиками по мере того, как тот
же господин К. пытается найти выход из него. Всюду дыры-ловушки,
они образуют обширную сеть, что опутывает жертву, как только она
начинает движение...к свободе.
88 Нет и следа так называемого «анального характера» (См.: Ж.-П.
Сартр. Бытие и ничто. Опыт феноменологической онтологии.
Москва, «Республика». С. 613-615).
89 Ранк, опираясь на разнообразные данные наук о человеке того
времени, пытается представить regressum ad uterum в качестве
тотального всеобъясняющего культурного мифа. В этом и сила и
слабость всякого всеобъясняющего принципа, ведь то, что он теряет,
исполняя тотальную роль, это как раз будет объяснением. Акцентируя
внимание на сходстве всего со всем - проявление мифо-матрицы
«возвращения в утробу» - мы не находим различий, которые могли
бы показать, как все-таки возможно это «возвращение». Здесь тема
«повторного рождения» и «начала времени». Действие комплекса
Mutterleib истолковывается М. Элиаде следующим образом:
«"Возвращение в материнское чрево» позволяет отказаться от Времени,
которое уже прошло, и, хотя тексты не говорят об этом прямо,
возвращение "в начальное состояние" можно объяснить только
желанием вновь начать "чистое" существование, которое еще не
подверглось воздействию времени». (М. Элиаде. Тайные общества. Обряды
инициации и посвящения. Москва-Санкт-Петербург,
«Университетская книга», 1999. С. 139-140)
90 О. Ранк. Травма рождения. Аграф, Москва, 2004. С. 60.
91 Наиболее крайние клинические формы вторжения в
индивидуальный мир психотика все в себя втягивающей и поглощающей
дыры приводит Л. Бинсвангер: «...в этом миро-проекте
множественность и многоформность мира редуцирована до формы дыры (норы).
Форма бытия в таком мире есть форма замурованного и
подавленного бытия; "я", проектирующее такой мир, - "пустое я",
озабоченное только заполнением пустоты. Поэтому бесспорная анальность
совпадает с бесспорной оральностыо, с жадностью к "объединению".
И в другом месте, с еще большей определенностью он утверждает:
199
Литература как самосознание. Опыт Андрея Белого
«Там, где мир не более, чем дыра, "я" (физически, равно как и
психически) тоже только дыра; кроме всего прочего, мир и "я" - реци-
прокные детерминанты (согласно принципу, что личность есть то,
чем является ее мир, в смысле ее собственный мир)». (Л. Бипсвангер.
Случай Эллен Вест. - Экзистенциальная психология. Москва, «Эксмо-
Пресс»,2001.С.455,456.).
На что здесь хотелось бы обратить внимание. Во-первых, на
невозможность заполнения «дыры», - некая абсолютная жажда бытия,
которая преследует пациента как страсть, - ужас перед той
внутренней пустотой, которая должна быть заполнена; во-вторых,
мгновенный переход от анального удержания к оральному пожиранию; от
нижнего регистра плотского к верхнему, их никак не отделить.
Конечно, подобные «чистые» объяснительные схемы не могут прямо
накладываться на опыт Белого. Тем не менее, они могут подсказать
нам направление к объяснению некоторых стилевых особенностей
его поведения и письма.
92 Λ. Белый. Петербург. С. 35.
93 Г. Багиляр. Земля и грезы о покое. Москва, Издательство
гуманитарной литературы, 2001. С. 265.
94 А. Белый. Котик Летаев. С. 449.
95 Г. Багиляр. Земля и грезы о покое. С. 223-224, 264-266. Башляр
не имел возможности полнее ознакомиться с прозой Белого и
делает выводы на основе небольших фрагментов из «Котика Летаева»
и «Петербурга» в переводе А.Слоним.
96 А. Белый. Петербург. С. 122.
97 Там же. С. 60.
98 Там же. С. 361.
99 Там же. С. 244.
100 Тему «брюнета в котелке» и «провокации» мы попытаемся
развернуть позднее и на другом материале.
101 А. Белый. Материал к биографии (Интимный) - Минувшее.
Исторический альманах. Том 9, Открытое общество Феникс,
Москва, 1992. С. 424.
А. Белый. Котик Летаев. С. 337.
103 Там же. С. 248
104 Поразительно, насколько эта мысль Белого резонирует с
современными теориями (синергетическими) хаоса. Возьмем один
«медицинский» пример: мерцательная аритмия - опасное и не
совсем ясное по этиологии заболевание сердца. Кто страдал этим
заболеванием, хорошо знает... «В нормальном работающем сердце
электрический сигнал проходит как согласованная волна сквозь трех-
200
Примечания
мерную структуру этого органа. Когда сигнал достигает цели, каждая
клеточка сокращается, а затем приходит в состояние расслабления
на критический рефракторный период, во время которого она не
может быть пущена в ход раньше времени. При фибрилляции волна
разбивается, и сердце не может ни полностью расслабиться, ни как
следует сократиться. /.../ Мерцание сердца не прекратится само
по себе. На этом упорно настаивают специалисты по хаосу. Лишь
электрический разряд дефибриллятора - толчок, который любой
занимающийся динамикой ученый посчитает возмущением
значительной степени, - может вернуть сердце к стабильному состоянию».
(См.: Дж. Глейк. Хаос. Создание новой науки. Санкт-Петербург,
«Амфора», 2001. С. 361-362.).
105 А. Белый. Петербург. С. 412-413.
106 Там же. С. 233. Эта бомба была начинена динамитом. Это
особые взрывные смеси, - высшее достижение тогдашней взрывной
техники: динамиты - это такие «смеси действительно оказались не
взрывающимися ни от умеренного удара и трения, ни даже от
простого зажигания, но зато при воспламенении с помощью небольшого
количества гремучей ртути в металлическом капсюле,
воспламененной в тесном прикосновении, они почти мгновенно взрываются,
производя приблизительно такое же механическое действие, как
содержащееся в них количество нитроглицерина, взорванного таким
же образом». (Энциклопедический словарь. Том X. С.-Петербург,
1893.)
107 А. Белый. Петербург. С. 227.
108 Ср.: «"Петербург": Аполлон Аполлонович Аблеухов катается
шариком в нем - "хлоп" - и нет "Петербурга": сидит Аполлон
Аполлонович в Петропавловской крепости - "Скорпион", "Мусагет",
"Альциона", "Шиповник", "Гриф" - хлоп-хлоп-хлоп - перелопались в
мировое пространство...» (А. Белый. Котик Летаев. С. 425.)
1(* А. Белый. Петербург. С. 384. С. 386.
Там же. С. 239.
Там же. С. 371.
1,2 А. Белый - Иванов-Разумник. С. 421.
"* Там же. С. 420.
114 Белый оперирует терминами космоэтики, вдохновляясь
чувством единства космического ритма: «И если хотите, моя личная
космология для этого периода совпадает с космологией; и моя кос-
мо-этика строится на выводах из этой космологии» (там же. С. 421.)
Например, такие выражения, как «Космос во мне». Апокалиптика
здесь перекликается с тематикой времени. Не это ли чувство Конца
201
Литература как самосознание. Опыт Андрея Белого
мира (времени) инспирирует наблюдения Белого, ведет летописи
необычайных природных явлений, в основном это катастрофы;
приводятся результаты наблюдений за погодой и природными
катаклизмами (август-ноябрь 1926, январь 1927: бураны, смерчи,
наводнения, землетрясения, извержения вулканов и т.п.). Катаклизм
природный - это и есть след нарушения связи между индивидуальным
ритмом и солнечной энергией космического ритма (вихря).
Составляются графики, делаются расчеты и т.п. (См. А. Белый - Иванов-
Разумник. С. 438, 458, 541)
115 А. Белый - Иванов-Разумник. Переписка. С. 461.
116 Там же. С. 462.
м7 Там же. С. 463.
118 Ср.: «...твердый быт посредине мозга, гранимый
методическими плоскостями коркового вещества мозга, в сущности,
разрезаем ими; эти методические плоскости суть "ножи" мысли; и только
"ножи"; а диалектика "ножей" Гегеля - если бы мы выявили древний
коррелят этой пляски, стала бы хлыстовским радением, ибо хлысты
в радении пляшут для отрыва мыслей от их пересекающегося
мозгового центра, связанного со словом "быт", "плотный быт"; нечто,
подстилающее такое радение, - пляска средь во все стороны
подкидываемых ножей, практикуемая дикарями; тут и выныривает древний
Дионис». (Там же. С. 464).
119 Как ранее, так и сейчас я вижу в «захвате времени» основную
миметическую операцию, определяющую статус референциальной
иллюзии в литературе.
180 А. Белый. Труды и дни, 1912, № 2. С. 47-49. (См. также:
«Круговое движение» - Труды и дни, 1914, № 4-5. С. 53.)
181 А. Шопенгауэр. Мир как воля и представление. Москва, «Наука»,
1993. С. 383.
Там же. С. 408.
123 Надо не забывать, что теория «миг-времени» складывалась у
Белого не сразу, а постепенно; во всяком случае, о ней было мало
«известно» до «Петербурга» и последующих этапов его
автобиографической эпопеи. Можно говорить о влиянии Ницше, Бергсона, но
этого все-таки мало для понимания позднего этапа творчества (в
основном к ним можно отнести 20-е годы), когда опыт
саморефлексии («само-со-знания», «авто-био-графии») оказался решающим для
Белого.
124 Р.Л. Грегори. Глаз и мозг. Психология зрительного восприятия.
Москва, «Прогресс», 1970. С. 54.
125 Д. Хьюбел. Глаз, мозг, зрение. Москва, «Мир», 1990. С. 88-89.
202
Примечания
126 А. Белый. Стихотворения и поэмы. Москва-Ленинград, 1966.
С. 430, 437, 440, 441.
127 Там же. С. 434
128 Там же. С. 438.
129 А. Белый. Котик Летаев. С. 135.
*з° А. Белый. Маски. С. 392.
■з* Там же. С. 155.
*з2 Там же. С. 392
*зз Там же. С. 296.
'34 В. Янкелевич. Ирония. Прощение. Москва, «Республика», 2004.
С. 251.
135 Ср. «... сканирование памяти занимает около 100 мс на каждый
извлекаемый пункт информации, этот интервал также составляет
оптимальное время разделения стимулов для вызывания
маскирования одного стимула тем, что непосредственно следует за ним «фи»-
феномен кажущегося движения в последовательных вспышках света,
«порог трели» для звуковых тонов...». (Г. Ханш. О природе сознания,
с когнитивной, феноменологической и трансперсональной точек
зрения. Издательство К. Кравчука, Издательство Института
трансперсональной психологии, Москва, 2004. С. 385.)
*з6 Интересен поиск границ восприятия времени «настоящего»
учеными-психологами, современниками Белого. Так, например, проф.
Челпанов представляет проблему следующим образом: «Как
известно, в электрической машине появление искр сопровождается
характерным трением. Искры могут следовать друг за другом медленно;
тогда звуки, издаваемые машиной, будут отделены друг от друга
заметным промежутком времени. Искры могут следовать друг за
другом с такой быстротой, что два последовательных звука сливаются
друг с другом. При таких условиях можно найти тот наименьший
промежуток времени, который нужен для того, чтобы два треска не
сливались друг с другом. Оказалось, что он равняется 1/500 секунды.
Это есть, так сказать, тот наименьший промежуток времени,
который мы в состоянии воспринимать. Это есть, так сказать, minimum
настоящего». Это один момент, не главный. Ведь мы воспринимаем
время не формально, а содержательно, посредством переживаний,
у нас нет «ощущения пустого времени». Переживания или «оценка»
короткого времени, т.е. наименьшего временного интервала,
находится в зависимости от внутреннего миметизма всего
органического целого. Точнее: «...мускульное напряжение является критерием
оценки времени. Как бы мы этот вопрос ни решали, мы должны
признать, что в основании оценки коротких промежутков времени ле-
203
Литература как самосознание. Опыт Андрея Белого
жат какие-то ощущения, связанные с деятельностью нашего
организма». {Проф. Г. Челпапов. Мозг и душа. Критика материализма и
очерк современных учений о душе. Москва, 1918. С. 193-194.)
137 А. Белый. Критика. Эстетика. Теория символизма. Том 2. С. 358.
138 Ср. «...стойкости влечений, эмоциональных переживаний и
невротических реакций в случаях, когда их повод остается
неосознанным для субъекта». (Основы психофизиологии. Москва, ИНФРА-М,
1998. С. 229).
139 Замечательно высказывается по поводу flashbacks П. Валери:
«Искра высвечивает какое-то место, которое кажется
бесконечностью в тот краткий миг, когда можно его увидеть. Выразительность
ослепляет. //Эффект потрясения неразрывно связывается во
взгляде с предметом, который оно выявило. Густые тени, которые
появляются на мгновение, запечатлеваются в памяти как восхитительная
меблировка.//Мы не отличаем их от реальных предметов. Мы
видим в них некие объективные данности. //Заметим, однако, что, к
великому счастью поэзии, краткий миг, о котором я говорил, не
может растягиваться; мы не можем заменить искру постоянным
направленным светом.//Он освещал бы нечто совсем иное. В этой области
феномены обусловлены источником света. //Краткий миг
открывает проблески иной системы, иного «мира», которые свет
устойчивый озарить не может. Этот мир (который не следует наделять
метафизической ценностью - что было бы бесполезно и глупо) по
самой своей сущности неустойчив. Может быть, это мир
органических и свободных взаимосвязей потенциальных возможностей
разума? Мир притяжений, кратчайших путей, резонансов?» (И Валери.
Об искусстве. Москва, «Искусство», 1976. С. 203, Пер. В.М. Козового.)
ч° Прекрасно формулирует Бурдье: «Тело верит в то, во что
играет; оно не запоминает прошлое, а приводит его в движение, и
уничтоженное таким образом прошлое начинает жить заново. Заученное
телом - это не что-то такое, что можно как знание нести перед собой,
это то, чем тело и является». (П.Бурдье. Практический смысл. С. 142).
Кстати, именно пантомима и является своего рода мнемонической
матрицей для телесного пережитого опыта прошлых движений.
41 М. Пруст. В сторону Свана. Москва, 1973, «Художественная
литература», 1973. С. 71.
48 М. Пруст. Обретеннное время. Москва, «Наталис», 1999. С. 171.
143 Там же. С. 166-167.
144 Там же. С. 167.
145 Беккет прав, когда говорит, что у Пруста вполне ограниченное
число «вспышек-озарений», благодаря которым ему раскрывалось
204
Примечания
прошлое, - прошлое, которое стало Произведением. (С. Беккет.
Осколки. Эссе, рецензии, критические статьи. Москва, «Текст», 2009. С.
24-25.)
46 Ср., например: «...когда от далекого прошлого ничего уже не
осталось, когда живые существа перемерли и вещи разрушились,
только запах и вкус, более хрупкие, но зато более живучие, более
невещественные, более стойкие, более надежные, долго еще,
подобно душе умерших, напоминают о себе, надеются, ждут, и они, эти
еле ощутимые крохотки, среди развалин несут на себе, не сгибаясь,
огромное здание воспоминаний». (М. Пруст. В сторону Свана. С. 75.)
47 Э. Левинас. Избранное: тотальность и бесконечное.
Университетская книга. Москва-Санкт-Петербург, 2000. С. 73-74.
148 3. Фрейд. Психология бессознательного. Москва,
«Просвещение», 1989. С. 395.
Небольшая работа Фрейда «Чудо-блокнот» как раз свидетельствует
о том, насколько он в своей топографии бессознательного
ориентировался на конструкцию фотоаппарата.
49 Вот что замечает Г. Башляр.: «Миги, в которые подобные
чувства удается испытать разом, и останавливают время, ибо испытать их
одновременно можно только, если они вызваны завораживающим
интересом к жизни. Они выносят бытие за пределы обычного времени.
Такая амбивалентность не может быть описана в рамках
последовательного времени, как банальный итог радостей и преходящих
страданий. Столь сильные, столь фундаментальные противоположности
освобождаются от непосредственной метафизики. Их выплеск можно
пережить в одно мгновение, во взлетах и падениях, которые подчас
исключают друг друга: отвращение к жизни может роковым образом
застигнуть нас в момент наивысшей радости, как и радость - в
несчастье». (Г. Башляр. Новый рационализм. Москва, «Прогресс», 1987. С. 351.)
15° Ср.: «Мгновения - это разнообразные стекла. Сквозь них мы
смотрим в Вечность. Мы должны остановится на одном стекле,
иначе никогда мы отчетливо не разглядим того, что за случайным. Все
примелькается, и мы устанем смотреть куда бы ни было». (А. Белый.
критика. Теория символизма. Том 2. С. 363.)
151 Ж. Батай. Ненависть к поэзии. Н.-изд. центр «Ладомир»,
Москва. С. 73.
•s* А. Белый. Маски. С. 408.
1» Там же. С. 288.
^ Там же. С. 209.
15* Там же. С. 169.
'*6 Там же. С. 204.
205
Литература как самосознание. Опыт Андрея Белого
•57 Там же. С. 302.
1# Там же. С. 304.
ч» Там же. С. 309.
1б° Там же. С. 135.
161 Там же. С. 365.
|6а К. Бугаева. Воспоминания об Андрее Белом. - Две любви две
судьбы. Воспоминания о Блоке и Белом. Издательский дом «XXI век
- согласие», Москва, 2000. С. 279.
103 Ср.: «3 месяца жизни с камушками отложились в методе
подхода к слову в "Москве"; то, что я проделывал с камушками, я потом
стал проделывать со словом; из 126 "коробочек" с камнями (каждую
я организовал по оттенку) сложился профессор "Коробкин"...».
(Андрей Белый и Иванов-Разумник. С. 369.)
164 Глаз вращающийся расщепляется словно в машине
калейдоскопа. Вспышка и есть взрыв-внутри-глаза: проникая вглубь глазного
яблока, видимое взрывается. Предполагали, что возможно извлечь
его единый образ, но этого не получается: «...в глазном яблоке, в
свою очередь, происходила бурная жизнь; обыкновенные точки,
видные на свету и проецированные в пространство, - теперь
вспыхнули искрами; выскочили из орбит в пространство; заплясали вокруг,
образуя докучные канители, образуя роящийся кокон - из светов:
на пол-аршина; и - более; это - и было пульсацией: теперь она
вспыхнула. //Это и были рои себя мысливших мыслей». (А. Белый.
Петербург. С. 412.)
165 А. Белый. Маски. С. 240.
166 Ср.: «Этот прием запоминания Б.Н. шутя, называл "мой кодак".
И мог ввести в заблуждение людей, его мало знавших. Когда весело
уверял: "Всегда ношу с собой свой кодак. Очень удобная штука.
Прицелишься - щелк! И - готово: картинка защелкнута". И чуть далее: «Он
говорил, что умеет запоминать, так сказать, "впрок" для будущего.
В каждый момент нельзя познать все обилие поступающих
впечатлений, не создавая нагромождений, пестрого хаоса. Происходит
невольный отбор: осознается лишь малая часть; она-то и доходит у
нас до сознания и составляет содержание памяти. Остальное
проходит как бы бесследно. Его как и не было: память его не хранит. Но
Б.Н. умел сохранять это при помощи своего "кодака". Он вел как бы
двойной, тройной, и более набор впечатлений. И говорил, что
поступает при этом совсем как фотограф, который "защелкивает" в
свой аппарат все, что ему приглянется, проявляются же эти
пластинки не сразу. Может случиться, что иная из них пролежит не
проявленной годы» (К. Бугаева. Воспоминания об Андрее Белом. С. 255-256).
206
Примечания
,б7 Там же. С. 388.
168 Ср., например: «Фотография сетчатки, или оптограмма, была
произведена в 1878 году немецким исследователем Вилли Кюне. Он
заставлял живого кролика смотреть на окно с решеткой, затем
забивал животное, удалял сетчатку и фиксировал ее квасцами» (Дж.
Уолд. Глаз и фотоаппарат. - Восприятие. Механизмы и модели.
Москва, «Мир», 1974. С. 136) Есть и другие более ранние свидетельства
подобных опытов, которые, в сущности, ничего не доказывают.
Фотоаппарат и глаз относятся к разным типам эволюции («био» и
«техно»), которые могут конвергировать, но не настолько, чтобы быть
одной и той же. Для Белого фотоаппарат (как, кстати, и
кинематограф его времени) был интересен именно тем, что открывал
возможность нового взгляда на процессы восприятия, в частности, на
проблему «машинальной», зрительной памяти, и той, что мы
называем воспроизводимой, репродуктивной памятью. Аналогия (глаз-
фотоаппарат) действует с точки зрения бессознательного
восприятия следов, которые потом, вполне случайным образом,
восстанавливаются в картинках воспоминания. Если сам глаз не видит, а через
него в нас поступает значительная часть информации о внешнем
мире, то процесс воспоминания, восстановления мнезических
следов и есть то, что называется расширением сознания.
169 К Penrose. LOEil de Picasso. Union générale d'Editions en accord
avec UNESCO, 1967, p. 13-14. О близости техники Белого и Пикассо
писал еще Н.Бердяев.
17° А. Роб-Грийе. Собрание сочинений. Дом свиданий.
Санкт-Петербург, «Симпозиум», 2000. С. 453.
171 А. Бергсон. Опыт о непосредственных данных сознания.
Материя и память. «Московский клуб», Москва, 1992. С. 209. Ср.: «... и это
сознание всех усилий прошлого, отложившихся в настоящем, тоже,
конечно же, представляет собой память, но память глубоко
отличную от первой, всегда устремленную на действие, расположенную
в настоящем и имеющую в виду лишь будущее /.../ она уже не
представляет нашего прошлого, она его проигрывает; если она еще
заслуживает название памяти, то не потому, что сохраняет давние образы,
а потому, что продолжает их полезное действие до настоящего
момента». (Там же. С. 208).
172 Ср.: «Можно было бы сказать, что у совершенно здорового
индивидуума жизненный тонус до того постоянен, что сознание,
которое он имеет о собственном теле, - не что иное, как
беспрестанно повторяющееся настоящее. Но это однообразие (если оно
существует), исключая сознание, благоприятствовало бы образованию
Литература как самосознание. Опыт Андрея Белого
органической памяти. Между тем, изменения, как бы они ни были
слабы, всегда существуют. Мы же сознаем только различия, поэтому
только эти изменения и ощущаем. Пока они слабы и имеют только
частный характер, впечатление однообразия длится, так как
непрерывно повторяющиеся действия имеют гораздо больше прочных,
чем мимолетных изменений, отголосков в нервной системе. Их
память организована. Следовательно, она находится вне сознания и
оттого становится еще прочнее. В этом основа нашего тождества.»
( Т. Рибо. Болезни личности. Опыт исследования. Минск-Москва,
«Харвест», ACT, 2001. С. 96).
173 У каждой литературной эпохи должна быть своя
психиатрическая душа. Такой «душой» для эпохи Достоевского, Белого,
Врубеля или Гаршина, но уже не Гоголя - а это время от 80-х годов XIX до
20-х годов XX вв. - могла быть «теория» Блейлера или Вейнингера,
но еще не Фрейда (хотя идеи последнего уже были известны).
174 А. Белый. Рудольф Штейнер и Гете в мировоззрении
современности. С. 221.
Известные воспоминания Н. Бердяева «Самопознание» - само-по-
знание, познать себя; но сознавать себя, не познавать; здесь различие
двух автобиографий. Рассказывая собственную жизнь, Бердяев и не
пытается что-то в ней сознавать, в отличие от Белого, который хочет
все сознаваемое ввести в рамки исторического горизонта памяти.
175 Ср.: «... так методы всяческого отвлечения внимания от тела
служили для очищения чувства и мысли, вели к персонификации и
далее к индивидуализации «Я»; индивидуализированному сознанию
для поступательного движения в будущем надо теперь приступить
к процессу самой индивидуализации тела». (К. Бугаева. Воспоминания
о Андрее Белом. С. 256. См. также: А. Белый. «Ваш рыцарь». Письма
к М.К. Морозовой. 1901-1928. С. 249-252.)
176 А пни Безапт. Человек и его тела. «Амрита-Урал », Магнитогорск,
1996. С. 71. В оккультной литературе начала века и более поздней
деление человеческой природы на четыре телесных образа было
широко принято. (Р. Штейнер. Из области духовного знания, или
антропософии. Москва, «Энигма», 1997. С. 258-283; его же:
Медитативные рассмотрения и указания для углубления искусства
врачевания. Москва, «Ной». С. 26-34);
П. Успенский. В поисках чудесного. Петербург, Издательство
Чернышева, 1992. С. 48-53, 109-113; К. Кастанеда. Искусство сновидения.
Книга 9. Киев, «София», 1993. С. 53-55.
177 Главное, наше знание о собственном теле появляется из
«материального воображения» (термин Г. Башляра).
208
Примечания
178 Настоящие схемы заимствованы из книги Менли Холла
«Оккультная анатомия человека». Таллинн, 1938. С. 67-69.
См. также: А пни Безант. Человек и его тела. Магнитогорск, «Амрита-
Урал», 1996.
•79 Там же. С. 52.
|8° А. Белый. История становления самосознающей души. С. 257-
258. В этой практике бегства Белый был невероятно убедителен.
Почти так же, как Гоголь, который и есть настоящий «беглец от
себя». Не просто бегство, а бегство бегства: к всякому бегу есть свой
контрагент - другой бег, который не даст остановиться: мертвые
тоже бегут... В литературе Белого, особенно более позднего
периода, никто не ходит и не сидит, все прыгают, но чаще всего бегут, -
массовое бегство персонажей, бегут от себя...
181 Еще об особенностях индивидуальной памяти Белого: «Когда
Б.Н. начинал всматриваться в прошлое, сосредоточиваясь на
нужном моменте (лицо, событие, место) - прошлое в нем оживало. Он
разглядывал его, изучал; сравнивал свои прежние воспоминания с
теми, какие предстали теперь, и переоценивал и переосмыслял все
по-новому. И нужно было слышать его в такие минуты. Казалось
невероятным, что это - лишь воспоминания, что все это было очень
давно. Время точно поворачивало назад свой поток. И выносило все
новые, новые образы, детали, штрихи». И далее: «Феноменально
помнит зрительное, плохо то, что было когда-то услышано, быстро
теряет память о речевых и звуковых событиях». (К.Н. Бугаева.
Воспоминания об Андрее Белом. Издательство Ивана Лимбаха. Санкт-
Петербург, 2001. С. 128.) В работе Белый чаще прибегает к
зрительной памяти, которая является основой его быстрого письма. Тома
его трилогии «Воспоминаний» - это своего рода зрительная мимо-
графия.
182 А. Белый. Котик Летаев. С. 30.
183 А. Белый. Душа самосознающая. Москва, Канон+, ОИ
«Реабилитация», 1999. С. 46.
,8< Там же. С. 46-47.
185 Ср.: «Антропософия не признает незыблемыми те границы
познания, которые ставятся человеческой организацией; она
указывает на способы расширить эти границы». (Р. Штейнер. Из
области духовного знания. С. 260.)
186 А. Белый. Символизм. «Мусагет», Москва, 1910. С. 47-143.
Эмблему можно было бы определить как наглядное выражение смысла,
удержанного в символе при расширении сознания.
187 А. Белый. История самосознающей души. С. 220.
209
Литература как самосознание. Опыт Андрея Белого
188 А. Белый. Душа самосознающая. С. 220-221.
1 ^ Вот несколько тезисов: «Познавание - посюстороннее всегда»,
«...грань познания - аберративна всегда», «...самое слово "градация"
есть эмблема уразумения в рассудочных терминах того, что
происходит в жизни собственно мысли», «...вопрос о границе здесь
пережиток реалистического догматизма, то есть абстрактная спекуляция
неизжитой метафизики». (А. Белый. Рудольф Штейнер и Гете в
мировоззрении современности. С. 187. 188-189.)
19° Вот что замечает внимательнейшая К. Бугаева: «Этот ритм,
минуя сознание, действует непосредственно в теле: вызывает в нем
непроизвольные или инстинктивные сокращения мышц и тем
самым влечет в разных случаях к разным поступкам, а также мимике,
жестам и позам». И в другом месте: «Оттогскго с иногда
неослабевающим интересом он рассматривал все те случаи, где приоткрывалась
возможность поймать в себе момент пересечения инстинкта с
сознанием. Он хотел подметить, как отразились в сознании
непроизвольные действия тела, единственно верные и нужные в данный момент.
Он рассказывал, что в те молниеносно короткие миги он заставал
себя одновременно в двух разных центрах сознания: в более
глубоком - спинномозговом, и в нашем обычном головном. Это обычное
сознание не утрачивалось и даже не ослабевало, а, скорей,
обострялось в такие минуты. Оно вело как бы двойную работу: с одной
стороны, с усиленной зоркостью наблюдало, точно извне, со стороны, все
происходящее, а с другой - слушало и выполняло какие-то
приказания, шедшие из глубины». (К.Бугаева. Воспоминания о Андрее Белом.
С. 162,165). Действительно, одно дело видеть, различать содержание
памяти (сознания), а другое представлять все это в картинах, пластике
телесной игры. Вот здесь, как мне кажется, и возникает нечто
подобное разрыву - между миметизмом детали (мига-времени) и
допустимой градацией целого (расширение сознания в само-сознание). И
он не «снимается» в некоем едином целом. Если запоминаются
мгновения - а это «точечное» запоминание, - то и воспроизведение будет
фрагментарным или эпилептически-судорожным, «вздерги и
взрывы», то, что мы назвали «вспышками памяти», flashbacks.
Непроизвольность самой быстрой реакции, и в остатке оборванный и
нестойкий жест.
191 А. Белый. Рудольф Штейнер и Гете в мировоззрении
современности. С. 189.
192 Важно понять, что линия, будучи орудием градационного
разграничения, есть символ временности, она вся в динамике, она -
линия-в-движении; в статике пребывают линии, которые мы назы-
210
Примечания
ваем границами. Другими словами, известные дуализмы западного
мышления упраздняются, поскольку они опираются на статику
внешнего разграничения. Учреждение границы есть акт утверждения
волевого начала, противостоящего внешнему, отделяющему себя от
него. Вот это отделение и есть граница (одно вещи от другой,
территориальная и любая другая граница). Градация текуча, подвижна,
динамична, она сама и в себе на мгновения разнесенная текучесть.
Я бы определил градацию как миготекучесть, каждый миг
вспыхивает и различает, прочерчивает свой путь. Достаточно здесь вспомнить
Г. Вельфлина, уделившего значительное место в своих работах
отношениям между линиями-границами и линиями-в-движении, между
тем, что он называл линейностью и живописностью.
193 Белый приводит в защиту градации как метода размышления
философа Б. Яковенко: «Будучи взята, как познавательное
переживание, она (философия) представляет... смену психических
состояний; будучи взята, как знание сущего, она есть само Сущее»/.../ «ибо
и познающий субъект утверждается, как один из моментов сущего,
которое и восполняет собой и являет. Все, Наличное, Существующее:
"Все-что-Есть"». (Там же. С. 184-185).
194 Ср.: « ...антропоморфное представление мира есть именование
опыта: изрекаются имена; индивидуальное имя далее есть
абстракция, данное как синтетическое единство; здесь имя становится
термином; мы у преддверия: обыденного, наивного мира мысли». (Там
же. С. 196). Здесь, вероятно, Белый так или иначе соприкасается с
теорией имяславия (ведущими философами этой традиции были
А.Ф. Лосев, С.Н. Булгаков, П. Флоренский и др. русские религиозные
мыслители).
195 А. Белый. Рудольф Штейнер и 1ете в мировоззрении
современности. С. 194.
196 Там же. С. 194-195.
197 А. Белый. Рудольф Штейнер и Гете в мировоззрении
современности. С. 196.
198 Однако Белый, опираясь на интеграционные возможности
антропософии, пытается набросать теорию «фигурного
индивидуума», который представлен им с помощью геометрического
трансформизма. От таблицы с неопределенными условиями существования
Всего во Всем к построению более строгих, математически
исчисляемых схем. Фигура есть схема, не таблица, которую надо развернуть,
чтобы открыть за беспорядочностью градационных потоков сущего,
вечный платоновский порядок. (См. технику фигуративных
преобразований: А. Белый. Душа самосознающая. С. 408-409, 422-423.)
211
Литература как самосознание. Опыт Андрея Белого
199 Этот принцип близок принципу «предустановленной
гармонии» Лейбница, а также гегелевской формуле: «Все действительное
разумно».
200 Обратим внимание и на чисто грамматическую проблему
градационного образца: родительный падеж. А это значит прямое
указание языка на генеалогию, на выводимость одного из другого: одно
порождает другое, причем, первое есть тогда рождение всех
рождений. Все сущее - без границ.
Там же. С. 54-55.
202 Вот, например: «Все линии, которые мы находим в природе
или создаем сами, не просто различают различные
противоположности, а связывают их вместе в неразделимое единство. Иными
словами, линия не является границей. Ибо линия, - мысленная,
природная или логическая - не просто делит и разделяет, а соединяет
и объединяет. Границы, с другой стороны, являются чистой
иллюзией - он и претендуют на разделение того, что на самом деле
неразделимо. В этом смысле настоящий мир содержит линии, но в нем нет
реальных границ». (К. Уплбер. Никаких границ. Восточные и
западные пути личного роста. Издательство Трансперсонального
института, Москва, 1998. С. 36.)
203 К. Уплбер. Интегральная психология. Сознание, Дух,
Психология, Терапия. Москва, 2004. С. 258-299. В этой книге автор занят
составлением многочисленных таблиц, на его взгляд, полностью
исчерпывающих каждый из выделенных им уровней сознания. И
нет ничего удивительного в том, что мысль, склонная к
нерефлексивному акту синтеза, отказывается от проверки своих
терминологических данных. Было наивным предполагать, что автор не
понимает того, что делает. Думается, что вся сила его противостояния
рефлексивно-аналитическим моделям как раз и заключается в опоре
на единую интуицию целостности Бытия. И ее надо
придерживаться во что бы то ни стало, ибо то, что есть, уже есть, следовательно,
со-существует вместе с другим. Раз что-то случилось, то стало
Событием, и это надо признать.
204 А. Белый. Котик Летаев. С. 423.
205 Ср.: «...помнится, в разговоре с геологом я высказал
предположение: не есть ли миф о драконе - смутная родовая память о
встречах с ископаемым птице-ящером (птеродактилем); эта мысль - не
встретила возражения со стороны профессора геологии. /.../
Психофизиологические ощущения роста, прорезывание зубов и т.п. и есть
та палеонтология, которая ведома каждому; это - детство; не каждый
лишь живо помнит (у одного память короче, у другого длиннее): ме-
212
Примечания
ня поразил факт; тема «Котика» есть почерк: дети иначе
воспринимают факты; они воспринимают их так, как воспринял бы их
допотопный взрослый человек. Вырастая, мы это забываем; проблема
умения, так сказать, внырнуть в детскую душу связана с умением
раздуть в себе намек на угаснувшую память - в картину /.../Есть ли
подсознательная память? Наука отвечает: "Есть" (в состоянии
гипноза человек воспроизводит речь на неизвестном языке, когда-то
слышанную, но забытую в сознании); ребенок начинает сознавать
еще в полусознательном периоде; он сознает, например, процессы
роста, обмена веществ, как своего рода мифы ощущений; взрослый
- не сознает; оттого: взрослый в 80% забывает то, что с особенной
живостью он же переживал младенцем; он забывает, например, что
всякую метафору он переживал, как реальность; отсюда -
органический мифологизм. Сон наяву, от которого позднее освобождается
сознание (после 4-х лет); сперва ребенок верит в реальность
метафорических мифов; потом - играет в них (период"сказки"); и потом
уже: ребенок мыслит абстракциями. Эта палеонтология сознания
впоследствии во взрослом вполне лежит уже за порогом сознания;
ребенку этот порог полуоткрыт так же, как и темя его еще не
заросло». (А. Белый. Котик Летаев. С. 495.)
2о6 Там же. С. 421. Архетипические паттерны: наиболее часто
встречаются образы «крабов», «пауков» и различного рода древних
вымерших чудовищ («динозавры», например). Стоит здесь
вспомнить Достоевского с его особенным зоочувством «пылающей
плоти», что находит свое выражение в образах «красных паучков», или
«жучков». Эквивалентом «пылающей плоти» является именно
красный жучок (Ставрогин, Свидригайлов). Речь пойдет впоследствии
об «очищении плоти», а это в свою очередь означает переработку
архетипических астральных паттернов, возвращение к чисто
световым эффектам, которые были бы проявлением побежденной
плоти, но эту тонкую грань между эротическим воодушевлением и
религиозным экстазом трудно обнаружить. К. Юнг при толковании
одного из снов с ящерами и драконами допускает возможность
вывода в духе психоанализа Фрейда: «Дракон появляется в его сне в
виде крабоящера. Это, конечно же, еще не объясняет, что именно
выражает дракон как образ его психологической ситуации.
Последующие ассоциации относятся к чудовищу. Когда оно движется
сначала направо, а потом налево, сновидец как будто попадает в ножницы,
которые вот-вот могут сомкнуться. И это уже будет непоправимо.
Он начитался Фрейда и, соответственно, интерпретирует ситуацию
как желание инцеста: чудовище - это мать; угол, образуемый откры-
213
Литература как самосознание. Опыт Андрея Белого
тыми ножницами, - ее ноги, а он, стоящий между ними, только что
рожденный или готовый возвратиться в лоно матери сын. // Как
это ни странно, мифический дракон и есть мать. Этот мотив
встречается во всем мире, и называется это чудовище матерью-драконом.
Матерь-дракон вновь и вновь поедает свое дитя: сначала дав ему
рождение, она затем поглощает его. Где-то в западных странах
ждет-дожидается «страшная мать», как ее еще называют, с широко
разинутым ртом, и как только человек попадает туда, она захлопывает свою
пасть - и с человеком покончено. Эта чудовищная фигура является
матерью-саркофагом, пожирающей человеческую плоть; это другое
воплощение той же Матуты - матери мертвых. Это богиня смерти».
(К.Г. Юнг. Тэвистокские лекции. Киев, 1995. С. 89.)
а°7 А. Белый. Котик Летаев. С. 429.
208 Там же. С. 420.
209 А. Белый. Котик Летаев. Крещеный китаец. Записки чудака.
С. 420.
810 А. Белый. На рубеже двух столетий. Москва, «Художественная
литература» , 1989. С. 179.
2 ! * Может быть, трудность понимания романов Белого
заключается в том, что мы до конца не понимаем их назначение как опыта
истории самосознания. Естественно, что этот опыт является опытом
сверхдлительной памяти, памяти памяти. А эта память такова, что ее
запись нам не приносит ничего, кроме того, что составляет
содержание самой памяти, а это другая память. Белый вспоминает так, как
если бы то, что он вспоминает, вспоминается в некоем мнезическом
режиме, где одна память «охватывается» другой: первая будет
«формой», вторая - «содержанием». Современниками Белого вообще
ставилась под сомнение его способность проникать в глубинное
психическое содержание образа, полагая, что он так и остался чистым
отражателем поверхностного, чья склонность к внешнему эффекту, эпатажу
и псевдоимитации была хорошо известна. Искусственность стиля
«памятливого» Белого - в том, что подмечаемые им детали не
передают целое образа, а продолжают расщеплять память, прихотливую,
и насквозь бесцельно-случайную, наращивать цепочку
вспоминаемого, не пытаясь привести их к какому-то осмысленному горизонту.
212 А. Белый. Душа самосознающая. С. 364.
2,з Там же. С. 282.
2,< Там же. С. 283.
21* Там же. С. 287.
216 Л.Н. Толстой. Собрание сочинений в 22 тт. Т. 5 («Война и мир»),
Москва, «Художественная литература», 1980. С. 262-263.
214
Примечания
2,7 Л. H. Толстой. Собрание сочинений в 22 тт. Т. 8 («Анна
Каренина»), Москва, «Художественная литература», 1981. С. 221-222.
218 Д.Г. Лоуренс. Утро в Мексике. По следам этрусков. Москва, Б.С.
Г.-ПРЕСС. С. 77.
2^ Там же. С. 77-78
220 D.H. Lawrence. St. Mawr. The Man Who Died. Vintage Books, New
York, 1953, p.26.
221 Поразительно то, что и С. Эйзенштейн пишет свои «Мемо»
словно по плану, который избрал для своих воспоминаний детства
его alter Ego - Андрей Белый. Да и чему тут удивляться, - такой образ
детства был ведом многим их сверстникам из обеспеченных
интеллигентных семей. Поразительно сходство воспоминаний Белого и
Эйзенштейна, как будто последний вспоминал по чужим, «андрее-
беловским» воспоминаниям. Хотя автобиографический опыт
развертывается у Эйзенштейна и Белого всегда в противоположных
направлениях: если для одного большую, едва ли не единственную
творческую ценность представляет символическое возвращение в
«материнское лоно», то для другого - смысл имеет лишь «выход на
свет». Один рассматривает свою историю жизни как череду «начал»
- выходов на свет, - т.е. как череду рождений; для другого всякое
«начало» - это не выход, а возврат, regressum ad uterum: развиваясь,
мы возвращаемся назад, стремясь вернуть себе первоначальное
состояние вопреки движению вперед - к смерти. Идея одна, можно
сказать, что о ней знает и тот и другой, - это «не родиться».
А. Белый. Котик Летаев. С. 182.
223 А. Белый. На рубеже двух столетий. С. 179.
224 Игра здесь с детским сознанием выходит на другой уровень.
Ведь если определенное состояние сознания соответствует
определенному возрасту, и поскольку они так или иначе сохраняются в
памяти, то нельзя двигаться в глубь первоначального опыта прыжками
от одного состояния сознания к другому. Не могло ли состояние
сознания «скарлатинового бреда» открыть путь к самым
первоначальным опытам, только еще рождающегося человеческого существа,
которые нельзя даже назвать состоянием сознания? И все же Белый
настойчиво проводит мысль о том, что само-сознание у него
появляется в момент резкого столкновения переживаемого бреда
(вызванного жаром болезни) и реально предметного ощущения детской
комнаты. Бред есть реальность страха.
225 А. Белый. На рубеже столетий. С. 180.
226 Там же. С. 180
"7 Там же. С. 183-184.
215
Литература как самосознание. Опыт Андрея Белого
"8 Д. СлобиНу Дж. Грин. Психолингвистика. Москва, «Прогресс»,
1976. С. 176-182. Ж. Пиаже говорит о наложении воспоминаний, о
котором по разным причинам взрослый может не догадываться,
принимая некоторые образы за подлинные свидетельства детстза.
Впрочем, об этом знал и Фрейд, но для него ценность имели не «точные»
воспоминания, а отношения к ним пациента, придание или не
придание им «решающего» значения в истории собственной жизни.
229 Действительно, я помню некоторые детали из картин
раннего детства, кусочки зрительной «материи» давнего образа, которые,
допустим, были подтверждены верным свидетелем. Но не помню в
соответствии с тем возрастом, в котором я тогда пребывал, а просто
помню-сквозь прошедшее время... и в том языке воспроизвожу их,
которым в данный момент располагаю. Конечно, необходимые
искажения прошлого сразу выступают на первый план, как только мы
пытаемся вернуть им реальность (в воспроизведении), но они
отнюдь не стирают и не замещают само воспоминание, а продолжают
мерцать в нашей «абсолютной» памяти (телесной), готовые к
воспроизведению. Каждый человек настолько насыщен
воспоминаниями детства, насколько они участвуют в жизни активного сознания,
и не где-то там, на глубинном уровне бессознательного, а всегда
здесь, - в текущем настоящем. То, что утверждает Белый, покажется
невероятным, если мы предположим, что память такого рода не
извлекаема из бессознательного хранилища: действительно, как
можно помнить себя в возрасте 1-1,5 года, тем более в мгновение
рождения... «Хорошо» помню, например, мои детские
«заболевания», каждый раз вполне отчетливо помню место, «болезнь» и
многие сопутствующие «кусочки» воспоминаний. Не могу похвастаться
точностью в объективном времени, но то, что я помню, это,
действительно, так и было. Например, помню, как попал в Филатовскую
больницу в самом раннем детстве, отчасти помню палату, в которой
лежал, маму, которая приходила во двор больницы под окна, и
можно было ей помахать рукой, помню больных мальчиков с самыми
невероятными травмами горла (ужасные горловые протезы, что не
мешало нам увлеченно играть). Мои воспоминания остаются
подлинными, даже если языки воспроизведения постоянно меняются,
пытаясь опровергнуть друг друга. Я знаю, «что это было», но не
знаю, «как это было». Итог: моя память удерживает образы, как
тончайшие тени или рисунки, к ним не подступиться, их нельзя
приблизить, увеличить, разобрать на какие-то детали, до-вспомнить.
Нет, они не могут быть другими, чем есть - свидетельствами
завершенной жизни.
216
Примечания
23° А. Белый. На рубеже двух столетий. С. 185.
231 Там же. С. 195. Тема «ножниц», по-видимому, появляется у
Белого, начиная с «Петербурга». Главка из романа, в которой
Александр Иванович Дудкин покупает «ножницы», ставшие
впоследствии орудием убийства провокатора Липпанченко, так и называется.
Образ ножниц, возможно, относится у Белого к одному из
«любимых» и самых выразительных пластических символов его поэтики.
(А. Белый. Петербург. С. 310-311, 386.)
232 А. Белый. На рубеже двух столетий. С. 97.
233 Андрей Белый. Котик Летаев. С. 43.
234 Там же.
гз* Там же. С. 225-226.
236 Там же. С. 235-236.
237 Ср.: «Я уже вел себя, как осознавший свое положение
пленник: мне запрещено: любоваться гусарами; но и любоваться зверями
зоологического атласа, слушать сказки, твердить назубок, что есть
нумерация: мне занавешен кудрями лоб, потому что я "лобан". //
Посмотрите на лоб: урод вырастет. Он - вылитый отец!». (Там же.
С. 194.)
238 Ср.: «...я привык к тому, чтобы безоблачность в полторы
минуты превращалась в свирепые ураганы; каждый миг в моей
психологии мог сместить все: не оставить камня на камне; а наша квартира
переживалась мной миром; и я жил в ожидании конца мира с первых
моих сознательных лет /.../ так апокалиптической мистикой конца
я был переполнен до всякого «Апокалипсиса»; она - эмпирика
поданной мне жизни». (А. Белый. На рубеже двух столетий. С. 97.)
239 Тема «идиотика» в воспоминаниях Белого.
24° А. Белый. На рубеже двух столетий. С. 209-210.
241 В. Ходасевич, пожалуй, один из первых предложил что-то
вроде фрейдистского толкования всего цикла автобиографических
романов А. Белого. Так он утверждал, что развивавшаяся у Белого до
патологии мания преследования, которой тот страдал в 20-х годах,
может быть обусловлена одним: навязчивым желанием смерти отца,
- будто отцеубийственные помыслы отразились во всех его
сочинениях, прежде всего в воспоминаниях и автобиографической
романистике: романе «Петербург», повестях «Котик Летаев»,
«Московский чудак», «Крещеный китаец». Мысль Ходасевича может быть
выражена в серии ключевых слов: «отцеубийство», «предательство»
и «мания преследования». Вот что он предлагает: «Если "сбросить
со счетов" все эти миражи, если вышелушить из хоровода небывших
событий "Москвы" события подлинные, реальные, то получим: все
Литература как самосознание. Опыт Андрея Белого
признаки здесь возникли из самой микроскопической реальности:
скверный мальчишка ворует у отца книги, движимый своим
распаленным вожделением. Это и есть "преступление Дмитрия Коробки-
на", а все намотавшиеся на преступление бреды суть лишь его
последствия. Вся эта дрянь, со всеми Мандро и со всеми интригами
шпионов - только дрянная эманация Митиной души. "Утрачена
ясность", - неоднократно жалуется профессор Коробкин. Да, утрачена:
атмосфера романа замутнена с того момента, как Митя совершает
свой небольшой проступок - прообраз великого преступления,
которое он носит в душе. Этот Митя Коробкин такой же
потенциальный отцеубийца, как Николай Аблеухов, страдает манией
преследования: результатом его предательства. За ним гонятся тени, герои
"Москвы" - Эринии его потенциального отцеубийства». (В. Ходасевич.
Аблеуховы-Летаевы-Коробкины -Андрей Белый. Pro et contra.
Личность и творчество Андрея Белого в оценках и толкованиях
современников. Антология. Русский Христианский гуманитарный
институт. Санкт-Петербург, 2004. С. 751). Непонятно, правда, почему
Ходасевич не приводит достаточно убедительных доводов, ведь нигде, в
том числе и в «эдиповских» произведениях, Белый не видит в
собственном отце объект двусмысленных сыновьих притязаний. Эдипова
схема, конечно, может быть применена, но она ничего не объяснит,
она слишком обща, тем более, что «страдающий» сын не
испытывает враждебных чувств ни к матери, ни к отцу. Да, Белый ощущает
себя жертвой, но все-таки жертвой не преследований и мести, а
родительской любви.
242 Ср.: «Мы предполагаем, что когда индивид попадает в
ситуацию двойного зажима, он полностью теряет способность к
различению логических типов. Определим основные характеристики этой
ситуации:
( 1 ) Индивид включен в очень тесные отношения с другим человеком,
поэтому он чувствует, что для него жизненно важно определить,
какого рода сообщения ему передаются, чтобы реагировать правильно.
(2) При этом индивид попадает в ситуацию, когда этот значимый
для него другой человек передает ему одновременно два
разноуровневых сообщения, одно из которых отрицает другое;
(3) И в это же самое время индивид не имеет возможности
высказываться по поводу получаемых сообщений, чтобы уточнить, на какое из
них реагировать, то есть он не может делать метакоммуникативные
утверждения». (Г. Бейтсоп. Экология разума. Избранные статьи по
антропологии, психиатрии и эпистемологии. Москва, «Смысл», 2000.
С. 234. (G.Bateson. Steps to an Ecology of Mind. New York, 1990, p. 208).
218
Примечания
243 А. Белый. Между двух революций. С. 361.
244 Белый легко переходит на язык антропософской медитации,
не позволяя нам оставаться уверенными в том, что мы понимаем его
пояснения и описания. Вот, например: « ...полет есть - есть вхождение
души в разбухавшее ростами тело: полет медитации - вылет из тела:
а «миги» кошмаров - дрожанье эфирного тела, еще не совсем
прикрепленного к телу обычному; с ростом обычного тела эфирное тело
теряет способность к движению; в медитации пробуждаем движения
- катастрофою отдаются движения эфирного тела: полет "вверх
пятами" они; овладевши движением, вижу: полет есть сознательный
вылет в "восторг": дающий со скалы в бездну моря переживает испуг;
моряк, распустив паруса, отделяется с песней от берега - вылеты,
влеты, восторги, падения, испуги - в мгновениях становления двух
биографий моих ... - Закон тождества (в миге "Я-Я") затаил два
момента: полет и падение; рождение в тело и выход из тела - рожденье
и смерть суть единство: и нет ни рожденья, ни смерти; подобен мой
миг разбиванию мира; во мне ощущение ужаса переходит в
уверенность: "Я" - бессмертно». (А. Белый. Записки чудака. С. 429-430).
245 Л. Сойди. Судьбоанализ. «Три квадрата», Москва, 2007. С. 323.
246 Представим себе, говорит Сонди, что человеческая
психоматрица подчинена постоянному круговороту друг друга дополняющих
и одновременно нейтрализующих расщеплений. В таком случае
состав ее будет таков: партиципация (совместное бытие, «быть с
Другим», участвовать в чем-то и быть этим поглощенным; как только
появляются патологические признаки, мы получаем манию
преследования); инфляция (удвоение могущества «Я», стремление «быть
всем», как первичное расщепление по Блейлеру; стремление быть
женщиной и мужчиной, духом света и тьмы, человеком и животным;
речь идет о способности к превращениям психическим,
своеобразному забытию себя в чем-то себе ином, тотальной симуляции); интро-
екция (стремление все иметь и все знать; соотносить с собой как
высшей ценностью все другие); негация (самые элементарные функции
«Я»: задержка, отрицание, вытеснение, обесценивание всех
ценностей; как только нарушение, так возникают различные мании,
суицидальные фантазии, неспособность к адаптации. Вот и кружится
«Я» вокруг себя и других, неспособное примкнуть ни к чему
устойчивому). (Л. Сонди. Судьбоанализ. «Три квадрата», Москва, 2007. С.
324-325.) Патологические состояния возникают на фоне
разрушения нормальных ритмов этого круговорота. Если возобладает какой-
либо из этих расщепов над другими, и отъединится, замкнется на
собственное повторение, - только тогда следует говорить об угрозе
219
Литература как самосознание. Опыт Андрея Белого
явной патологии. Ведь литература Гоголя, Достоевского, Белого и
Андрея Платонова частью осознанно, частью нет, использовала этот
(якобы травмогенный) расщеп сознания для разработки матричных
пред-образов, позволяющих развивать идею романа, используя
определенный набор персонажных масок. Я имею в виду беспрецендент-
ную по глубине разработку в этой литературной традиции теории
двойника и двойничества.
** Там же. С. 380, 381.
248 Помимо размышлений о раннем детстве, когда он использует
метафору ножниц, есть еще серия эквивалентов, уточняющих ее роль
в психической экономии более поздних периодов жизни. Например:
«... мировоззрительная проблема - увязка двух линий; то - в будущем;
настоящее - открытые ножницы, порой скользящие в
противоположные направления тротуары; изволь, став одною ногой на одном,
а другой на другом, не разъехаться; и оставалось одно: стояние в
точке ножниц выразить пляской на месте». (Там же. С. 381.)
249 А. Белый. Котик Летаев. С. 417-418.
25° Воспоминания об Андрее Белом. С. 177.
251 Л.Н. Толстой. Собрание сочинений. Публистические
произведения 1886-1908. Москва, «Художественная литература», 1984. С. 836.
Впервые на ту мысль Толстого указал Виктор Шкловский. См.: В.
Шкловский. Энергия заблуждения. Москва, «Художественная
литература», 1981.
252 Вот, например, объявленный план исследований: « ...темы
работ будущего семилетия в линии сознания: кризис жизни, кризис
мысли, кризис культуры, кризис сознания». (Андрей Белый и
Иванов-Разумник. Переписка. С. 503.)
253 77. Флоренский. Мнимости в геометрии. Москва, «Лазурь», 1991.
С. 44-51.
254 С. М. Эйзенштейн. Собрание сочинений в шести томах. Том 3.
Москва, «Искусство», 1964. С. 309-311.
255 И.А. Анненский.Отражения. Москва. «Наука», 1979. С. 186-187.
256 Л. Выготский. Психология искусства. Москва, «Искусство»,
1968. С. 195-202.
257 Андрей Белый и Иванов-Разумник. Переписка. С. 498.
258 Андрей Белый и антропософия. - Минувшее. Исторический
альманах. Том 8. Открытое общество, Феникс, Москва, 1992. С. 419.
259 Андрей Белый и Иванов-Разумник. Переписка. С. 500.
260 Там же. С. 503.
261 А. Белый. Котик Летаев. С. 428.
202 Андрей Белый и Иванов-Разумник. Переписка. С. 503.
220
Примечания
263 Ср.: «Я заполнил десять раз в переезд листы рядом цифр,
устанавливающих год и день моего появления на свет; это все -
эфемерные даты; второй биографии, подлинной, нет в этих датах; а
биография первая укрывает зерно человеческой жизни моей (это
ведомо сыщикам) крапами мелких событий, скрывающих дух Человека.
//Развитие биографической личности - ложь: описует оно облета-
ние кожных покровов; о каждом мы можем сказать: вот он юн, вот
уже пробивается в нем борода, борода поседела. Он - умер;
установление биографии не задевает ядра человеческой жизни...» (А. Белый.
Котик Летаев. С. 289-290)
264 А. Белый. Самосознающая душа. С. 162. А вот еще важное
наблюдение: «...вглядывался в фигурные формы приложенных
чертежей и рисунков. Сам очень много чертил, устроил целую чертежную
лабораторию: делал всевозможные построения, вращал, складывал.
Пересекал фигуры, "вынимал" их одну из другой, "обходил" их по
граням. По внутренним путям ставил то в один, то в другой фокус
зрения, отчего смысл всей фигуры менялся. Часами не мог
оторваться от строго закономерной и в то же время свободной игры
бесконечных "переложений и сочетаний". Его мысль была здесь точно в
своей природной стихии, в "perpetuum mobile" его излюбленных
"abc, cab, bca". Этими "abc" полны его книги. Он прибегал к ним в
самых разных случаях как к единственному способу передать свою
мысль, в которой логика стала музыкой, движением и сочетанием
смыслов по законам числа. Эти "abc" можно встретить не только в
теоретических и философских статьях, но и в "Воспоминаниях" и
даже романах он наполнял их стремительным смыслом и различал
оттенки непрерывно меняющихся содержаний, за которыми было
почти невозможно следить. Он же играл с ними, как виртуоз играет
со звуками. Для него "abed" также явственно отличалось от "cabd",
как аккорды, вернее - арпеджии разных тональностей различаются
от музыкального слуха, или как смешения тончайших красочных
тонов отмечаются изощренным глазом мастера живописи» (К.
Бугаева. Воспоминания об А. Белом. С. 451-452.)
265 Там же. С. 163.
266 Д. Дидро. Собрание сочинений. Том V. Театр и драматургия.
Москва-Ленинград, Academia, 1936. С. 614. См. также комментарии
Ф. Лаку-Лабарта - Ph. Lacoue-Labarthe. Limitation des moderns.
Typographies IL Gallileo, Paris, 1986, p.15-35).
267 А. Белый. Мастерство Гоголя. Исследование. ОГИЗ,
Государственное издательство художественной литературы.
Москва-Ленинград, 1934. С.297-309.
Литература как самосознание. Опыт Андрея Белого
268 pj0 что значит «проносится мимо»? Это нельзя понимать
слишком прямо. Скорее субъект-перцепция становится мишенью,
которую непрерывно атакуют частицы событий, они проникают далеко
вглубь памяти, откладываясь там в виде нестираемого следа, не
воспроизводимого по случайной прихоти. Мы всегда должны иметь в
виду перцептивную стратегию Белого, который находил в глазе
признаки фото-глаза, т.е. глаза, который видит все и все запоминает,
причем, эта часть сенсорной системы автономна от единства
сознания и уровней достигнутого понимания.
2(* Там же. С. 169-170
27° Там же. С. 188.
2?' А. Белый. Маски. С. 243.
2?2 Там же. С. 79.
273 Там же. С. 296.
274 А. Белый. Мастерство Гоголя. С. 163-164.
275 Там же. С. 160-161.
276 Там же. С. 161.
277 Там же. С. 6.
278 Андрей Белый и Иванов-Разумник. Переписка. Atheneum.
Феникс. Санкт-Петербург, 1998. С. 373.
■*> Там же. С. 373.
280 Там же. С. 386.
281 Ср.: «"Петербург" - не просто одна из пьес. Это только
внешне кажется пьесой, сыгранной в таком-то театре. На самом же деле
это - живая речь» (М. Чехов. Воспоминания. Письма. Том 1. С. 308.)
В своих воспоминаниях об игре М.Чехова («Ветер с Кавказа») А.
Белый подчеркивает этот речевой всплеск, совпадающий с рождением
мира, на который отваживается актер, совершаемый после долгой,
точнее, заметной паузы: «От паузы - к слову, но в паузе силища
потенциальной энергии, данной кинетикой жеста в миг следующий, где
все тело как молния; из острия этой молнии, как из разряда энергии,
- слово: последнее всех проявлений; у прочих же слово есть первое;
после него жест лица или мимика и в руки и в ноги не влитая часто;
и пауза, как выдыхание послесловесное, как акт пассивности (пауза
- это зевок); а у Чехова - пауза-вздох, окисляющий кровь, чтобы
задвигались мускулы; весь овоздушенныи в легком зигзаге, стрелою
из паузы жест излетает; из жеста - рождается слово, как плод всего
действия». (Андрей Белый и Иванов-Разумник. Переписка. С. 353.).
282 Там же. С. 344. Чисто эвритмическое представление Р. Штей-
нера: «В эти тихие минуты, хотелось бы сказать, - шаги тихого,
белого грома его, о, не слов - удивительны, выпуклы, вырезаны, непро-
222
Примечания
извольны бывали и все его жесты: знаками складывались; вот один
жест: рукой, поднятой и протянутой перед собой, начертывает
медленно и отчетливо линию вниз; и жест - непроизвольное
сопровождение слов; пауза в жесте; и вот: рукою, тою же, протянутой в
сторону, он проводит перед собой горизонтальную линию; и опять-таки:
линия - непроизвольное сопровождение фразы; но получившееся
пересечение линий, отчетливо рисующее перед нами крест, есть
высечение меж двумя смыслами двух смежных фраз - смысла третьего,
большего, как и крест есть фигура, а не сумма линий; и - снова пауза:
вот он обводит (опять непроизвольно) рукою вокруг креста круг; и
- крест в круге; и вот, наконец, он естественно, непроизвольно -
одним только шагом своим приближается; и стоит: в точке
начертанного креста с разведенными направо и налево руками; и он - как
крест в круге. Движений подобного рода, непроизвольных, нельзя
было нам не увидеть; в минуты расширенности сознания все мелочи,
так сказать, увеличивались; наблюдательность - изострялась; мы
видели в эти минуты - не только движения его лица, источенного в лик;
мы видели - жест; и - сумму жестов; и - вырезанную фигуру из них»
(А. Белый. Рудольф Штейнер и 1ère в мировоззрении современности.
Воспоминания о Штейнере. Москва, «Республика», 2000. С. 365.)
a8s М. Чехов. Об искусстве актера. Том 2, Москва, «Искусство», 1995.
С. 189.
284 Ср.: «Существует два рода пауз: предшествующие действию и
следующие за. ним. Паузы первого рода подготовляют зрителя к
восприятию предстоящего действия. Они пробуждают внимание зрителя и
благодаря излучениям (а часто и атмосфере) подсказывают ему, как
он должен пережить предстоящее сценическое событие. Второй род
пауз суммирует и углубляет для зрителя полученное им впечатление от
действия уже свершившегося. Поэтому действие, не
сопровождающееся паузой (полной или неполной), оставляет в зрителе лишь
поверхностное впечатление» (Там же. С. 280). Общее действие подобного
рода «пауз» создает то, что М. Чехов называет ритмическими волнами.
285 Ср.: «Вы, как актер, играя на сцене, творите во времени. Вы
продвигаетесь последовательно от начала к концу. Поэтому начало
и конец являются объединяющими моментами в вашей игре. Развив
в себе путем упражнений способность одновременного переживания
этих двух моментов, вы научитесь охватывать роль в целом, со
всеми ее деталями и превращениями». (Там же. С. 227.)
286 Там же. С. 225
287 А. Белый. Начало века. Москва, «Художественная литература»,
1990. С. 209.
223
Литература как самосознание. Опыт Андрея Белого
288 Там же. С. 217.
289 А. Белый. На рубеже двух столетий. Москва, «Художественная
литература», 1989. С. 266-267.
29° Там же. С. 431.
291 А. Белый. Между двух революций. С. 223.
292 Там же. С. 419.
293 А. Белый. Начало века. С. 476-477.
29< Там же. С. 479
295 А. Белый. Между двух революций. С. 414-415.
296 Там же. С. 61-62.
297 Там же. С. 11.
298 Эллис (Кобылянский) характеризуется Белым, например, в
качестве абсолютного мима, т.е. способного передать любой образ
(от мертвой до живой предметности) в телесной картине.
299 Для Бицилли, внимательного читателя Белого, все ясно: речь
может идти о «светском» юродстве: Белый, по его мнению,
«сознательно добивается того, чтобы вызвать в читателе раздражение по
отношению к автору. Но психологическая особенность юродства состоит
в том, что юродивый, отталкивая - привлекает, самоумаляясь -
импонирует, косноязычно бормоча- вещает». (П.М. Бицилли. Избранные
труды по филологии. Москва, «Наследие», 1996. С. 590). «Юродивость»
Белого здесь анализируется с точки зрения художественного
приема. С этим трудно не согласиться, но с одним «но»: есть еще пласт
действительного косноязычия, от которого «страдал» Белый даже
тогда, когда пытался выстроить собственную речь на вполне
осознанных «рациональных» приемах: изобретение нового языка. Бицилли
приводит образцы работы Белого с языком, справедливо указывая на
их необычайную выразительность. Практически для каждого
позднего автобиографического романа Белый изобретал «свой»
собственный язык. Но он не замечает, что в это выразительности ярко
проявляется конвульсивность косноязычного жеста; образ
составляется из выдуманных и преобразованных слов, отдельных фраз, и так,
что они противостоят друг другу и не могут быть вместе, - это и есть
миги поэтического письма - от того, что они по разному пытаются
выразить тот же самый предмет (событие); он не становится лучше
«видим», напротив, вообще выпадает из фокуса актуализации.
300 Ср.: «Я нарочно привожу список заданий этих, чтобы вы
видели, что меня кидает от замысла к замыслу в ущерб внутренней
жизни, выношенности: все, выходящее из-под пера, - молодо, незрело.
Спешно; но кипение "становления" развивает sui generis культуру
кипения» (А. Белый и Иванов-Разумник. С. 505).
224
Примечания
301 A.A. Панченко. Христовщина и скопчество: фольклор и
традиционная культура русских мистических сект. Москва, ОГИ, 2002. С.
321-340.
302 Д.С. Лихачеву A.M. Панченко, Н.В. Понырко. Смех в Древней
Руси. Ленинград, «Наука», 1984. С. 96.
3°3 Там же. С. 102.
3°4 С.А. Иванов. Блаженные похабы. Культурная история
юродства. Языки славянских культур. Москва, 2005. С. 382.
3°5 Там же. С. 375.
зо6 См.: «Андрей Белый отводил себе роль пророка, но роль
истолкователя он тоже предназначал себе. Как пророк нового искусства
он должен был создавать поэтический язык высокого косноязычия,
как истолкователь слов пророка - язык научных терминов -
метаязык, переводящий косноязычные пророчества на язык подсчетов.
Схем. Стиховедческой статистики и стилистических диаграмм.
Правда, и истолкователь мог впадать в пророческий экстаз. И тогда, как
это было, например, в монографии "Ритм как диалектика",
вдохновенное бормотание вторгалось в претендующий на научность текст.
Более того, в определенные моменты взаимное вторжение этих
враждебных стихий делалось сознательным художественным приемом и
порождало стиль неповторимой оригинальности». (Ю.М. Лотман.
О поэтах и поэзии. Санкт-Петербург, «Искусство-СПБ», 1996. С. 682).
Если допустить существование двух языков: с одной стороны,
поэтического «косноязычия», а с другой - «научно-терминологического»,
в их напряженном противостоянии, то мы потеряем главное: их
нераздельность. Метод градации не противостоит «новоязу» Белого,
напротив, оказывается скрытым условием рациональности
поэтического эксперимента. Косноязычие - не стихийная практика
языка (как у Гоголя например) а рационально обдуманный эксперимент.
Вот почему по мере чтения романов Белого позднего периода
можно заметить, что косноязычие давно стало приемом, а не случайным
отклонением от литературной нормы. Метод градации - часть
экспериментальной базы.
3°7 Ср.: «Вдруг он поднялся, подошел ближе ко мне и, стараясь
перекричать оглушительный грохот реки, стал порывисто и горячо
говорить о языке будущего. Он говорил, что явственно слышит ритм
и тональность этой будущей речи, совсем не похожей на нашу.
Слышит, до ощущения на языке, до особых движений гортани, до тонкой
вибрации голосовых связок. Но не умеет об этом сказать. Голосовой
аппарат наш к этому не приспособлен. Он еще не готов. Гортань
человека должна измениться. Тогда только, в будущем, неизмеримом
225
Литература как самосознание. Опыт Андрея Белого
годами, прозвучит и вовне эта новая речь, уже теперь так
поразившая его внутренний слух. В этой речи сольются в живом
неожиданном синтезе голоса и звучанья природы; в словах этой речи будет
сила, которой не знает теперь человек. Пенье птиц, рокот моря,
плеск ручья, крик животных, шелесты трав, шумы лесные, порывы
ветров, громовые раскаты объединятся и свяжутся в
непредставимую ныне ритмично певучую ткань. Слово будущего будет
организовано по законам неведомой ныне фонетики». (Две любви, две
судьбы. Воспоминания о Блоке и А. Белом. «Согласие», 2000. С. 235-236.)
308 А. Белый. Между двух революций. С. 287.
309 Ср.: «...задача будущего натурализма: связать правдивое
восприятие глаза с ухом в правдивое описание; «натуралисты»
описывали газетными словами; символисты, «кадеты» описывали
аллегорическими метафорами; «имажинисты» отдались глазу в ущерб уху;
футуристы и заумники отдались уху в ущерб глазу. Проблема
природы восприятия и правильной связи образа со звуком искони
отсутствовала». (Андрей Белый и Иванов-Разумник. Переписка. С. 638.)
310 Ср.: «Андрей Белый говорил мне про себя, что целиком
воспринять то, что он пишет, можно, лишь воссоздавая походкой те
движения, которыми он пробегал по комнате, когда составлял в
непосредственном движении график движения текста по страницам
рукописи.// Своеобразие «походки» сказа Белого - это
непосредственный сколок с того движения, которым он выражал владевшую
им тему». (СМ. Эйзенштейн. Метод. Том 1. Grundproblem. Музей кино,
Эйзенштейн-Центр, Москва, 2002. С. 338.)
311 Там же. С. 403.
318 К. Бугаева замечает, что заготовка материала впрок (вообще-
то обычная писательская работа) становится у Белого иногда
самоцелью. ««Моделями» или «натурой» Б.Н. называл в данном случае
свои альбомы засушенных осенних листьев и коробки с морскими
камешками, «градационно» и «интонационно» разложенными. /.../
С этих «моделей» ой «списывал», т.е. переносил, облекая в слова,
взятые с листьев и камешков краски на одежду, особенно на женские
платья, и на обстановку: ковры, драпировки, обои, мебель, посуду».
Метод градации создает возможность для развертывания ритмических
структур (миметических форм), определяет начальные условия
единства сознания. Но вот стадия завершения работы над романом,
«текучая стадия», все вокруг себя расправляющее и есть введение
миметической способности телесного воображения. Белый прямо-таки
заболевает, становится глубоко, почти до сумасшествия вовлеченным
в роль актером, способным к любым, самым невероятным превраще-
226
Примечания
ниям. Нет персонажа, который бы не открылся для Белого в своей
послушной пластической немоте, - жесте, позе, жестикуляции,
гримасе. (К.Н. Бугаева. Воспоминания об Андрее Белом. С. 327,336-380).
313 А. Белый. Маски. С. 199.
34 Ср.: « ...мгновение является нам вовсе не как предел делимости
времени, а как совокупность моментов, объединенных
индивидуальным единством содержания; это единство протекает пред нами, как
замкнутый сам в себе мир; погружение в этот мир есть процесс
переживания; пережить мгновение - пережить индивидуальный процесс,
как процесс замкнутый со всех сторон». (А. Белый. Символизм.
Издательство «Мусагет», Москва, 1910. С. 107). Под мигом, вероятно,
здесь следует понимать именно непережитое мгновение, то, что
проносится перед нами, атакует нас, буквально, «врезается», но которое
мы способны воспринять только потом, да и то «по случаю», -
памятью собственного тела.
315 Черновая рукопись «Масок» насчитывает 1500 страниц,
громадная работа над текстом, который как будто собирается из
многочисленных речевых элементов, словно это «мозаика»: «Называя свою
манеру "мозаичной", Б.Н. был прав. Иначе ее и нельзя было назвать.
После его "отработки" листы рукописи порою действительно
напоминали цветную мозаику или, скорей, причудливый хаос пестрых
осколков, приготовленных для составления мозаичной картины.
Из этих осколков, т.е. из отчеркнутых и помеченных сбоку цитат,
Б.Н. начинал складывать текст. Для этого он перелистовал рубрики
(вперед-назад, отыскивая нужные цитаты по памяти, и выписывал
их на отдельном листе, так что они сливались в один общий
"контекст". Для трудных, т.е. более сложных по составу отрывков он
набрасывал предварительно еще контрапункт, т.е. подробный план, в
значках или цифрах и буквах, иногда на отдельном листе, например,
л. 216-221, а иногда и на заготовленном раньше плане отрывка или
сценки, - например, л. 352. В таком случае он отыскивал цитаты не
по памяти, а по этому "контрапункту".
Но переписка цитат из рубрик, разумеется, не была механическим
списыванием. Многое тут же на ходу изменялось. Иногда бралась
только часть фразы - начало, конец, середина. Иногда несколько
слов, иногда даже только тема или образ. Основная работа
заключалась в расположении и во внутренней спайке всех этих мелких
штрихов. Ее-то и называл Б.Н. "мозаикой"». (К. Бугаева.
Воспоминания об Андрее Белом. С. 359.)
316 Книги Белого явно различаются по скоростным режимам.
Самая быстрая из них, вероятно, роман «Маски», хотя не меньшей ско-
227
Литература как самосознание. Опыт Андрея Белого
ростью отличаются и другие автобиографические романы.
Особняком стоит «Петербург» с его галлюцинаторной составляющей, -
«мозговой игрой», там скорость передается еще вполне традиционно: в
виде представления (ее представляют, показывают скорее, но само
повествование еще не бросает вызов созерцательно-аутичной позиции
читателя). Верность этой «позиции» заметна по подготовительным
рукописям «Петербурга». Первые рукописные варианты
«Петербурга» - это несколько другой стиль, более академический. Спокойная
и даже несколько приземленная манера письма. К этой рубрике
«классического стиля» я бы отнес также путевые заметки, очерки, лекции,
наброски портретов современников, другие автобиографические
материалы, письма, включая и научные исследования: «...я утверждаю:
шесть или семь книг, в которых я сознательно выступаю как
художник слова, а не как публицист, написаны так; другие - совсем иначе:
к этим 6-7 книгам я отношу "Драматическую симфонию",
"Серебряный голубь", "Петербург", "Крещеный китаец", "Москва", "Котик
Летаев", и совсем иначе написаны другие мои книги, в которых я
вижу себя критиком, мемуаристом, очеркистом, теоретиком,
исследователем. Книги, подобные "Кубку метелей", "Запискам чудака", я
считаю скорей лабораторными экспериментами, неудачи с которыми
ложились в основу будущих достижений. Публицистику я "строчил"
(более живо, менее живо), т.е. писал в обычном смысле слова, а
произведения художественные в процессе эмбрионального вынашивания,
собирания материала, синтезирования его в звуке, высветление из
него образа, из образа сюжета, - произведения подобного рода
писались мной, каждое, в веренице лет. Так что я могу говорить о писании
в широком смысле: это — года; и о писании в узком смысле, которое
начиналось опять-таки до писания за письменным столом скорее в
брожении, в бегании, в лазании по горам, в искании ландшафтов,
вызывающих чисто музыкальный звук темы, приводящий мою мысль
и даже мускулы в движение, так что темп мысли в образах
удесятерялся, а организм начинал вытопатывать какие-то ритмы, к которым
присоединялось бормотание в отыскании нужной мне связи слов; в
этом периоде и проза и стихи одинаково выпевались мною, и лишь
в позднейших стадиях вторые метризировались как размеры, а
первая осаждалась скорее, как своего рода свободный напевный лад или
речитатив; поэтому: свою художественную прозу я не мыслю без
произносимого голоса и всячески стараюсь расстановкой и всеми
бренными способами печатного искусства вложить интонацию некоего
сказателя, рассказывающего читателям текст. В чтении глазами,
которое считаю я варварством, ибо художественное чтение есть внут-
228
Примечания
реннее произношение и прежде всего интонация, в чтении глазами
я — бессмысленен; но и читатель, летящий глазом по строке, не по
дороге мне». (Андрей Белый. Проблемы творчества. Статьи.
Воспоминания. Публикации. Москва, «Советский писатель», 1988. С. 13).
31? А. Белый. Маски. С. 10.
318 Ср.: «Между тем стиль Белого вычурен, напряжен, все время
превозмогает, без преодоления» (А. Гидони. «Омраченный
Петроград»). Порядок вспоминательно-мемориальной практики Белого
огромен: авто-биографизация ранней романистики, воспоминания
более объективные или менее, но не лишенные опять-таки связи с
некоторым экзистеницально-личным опытом.
319 Значительное место «типографическим» поискам Белого
уделяется в воспоминаниях К.Бугаевой. «Другими словами - исходя из
пересечения ритма со смыслом. Это пересечение - инстинктивное
или полуинстинктивное в самом процессе работы и только потом
раскрываемое для сознания, - он и назвал интонационным или
ритмическим жестом. /.../В думах о том, как донести до читателя то,
что так явственно слышится внутренним ухом, он говорил, что поэт
лишен тех выразительных знаков, которыми так богато снабжен
композитор. Поэт, хотя и слышит, - не может поставить аллегро,
крещендо, фермата или указать педаль, трель и т.д. Ему остаются
знаки препинания, - не многим больше. Они бледны и немы. С ними
много не сделаешь. Ведь восклицание восклицанию рознь. И
многоточие его не спасает. Лучше других - тире. Оно - взрез глубины. И
все-таки шаг на пути к интонации. Оно - знак: обратите внимание
остановитесь: что-то здесь происходит. Зато точка - вполне
инкогнито. Нераскрытое "икс". Как показать, что она четверть, восьмая
или целая нота, и притом не одна, а, может быть, несколько. Автор
все это слышит и внутренне знает. А читатель?». (Две любви, две
судьбы. Воспоминания о Блоке и Белом. С. 402.)
320 А. Белый. Собрание сочинений. Котик Летаев. С. 268
321 Там же. С. 394-395.
322 Там же. С. 181.
323 А. Белый и Иванов-Разумник. Переписка. С. 35-36.
324 А. Белый. Петербург. С. 21.
32* Там же. С. 137-138
326 Там же. С. 304.
327 Там же. С. 296.
328 Там же. С. 296-297.
329 Там же. С. 297. Кто хоть раз внимательно огляделся в этом
церебральном мираже «Петербурга» заметит сразу же множество па-
229
Литература как самосознание. Опыт Андрея Белого
раллелей между романом и фильмом Эйзенштейна «Октябрь». Не
та ли «мозговая лестница» Белого начинает кинематографически
развертываться при вхождении Керенского в Учреждение, не так
ли разыгрывается отношение между позой Керенского и бюстом
Наполеона, как это дается в романе через отношение между бюстом
Канта и категориальным воображением (кантианским) младшего
Аблеухова. А что, например, говорить о совершенно явственном
сходстве между идеей церебрального «взрыва» и теорией экстаза
Эйзенштейна, которая в полной мере учитывает уже сделанное
Белым и развивает образ экстатического взрыва (к этой теме нам еще
придется возвращаться). Идея «интеллектуального кинематографа»
возможно, получила импульс к развитию после знакомства
Эйзенштейна с романом Белого «Петербург» (от «мозговой игры» к
«внутреннему потоку сознания»).
S3° Р. Штейнер. Медитативные рассмотрения и указания для
углубления искусства врачевания. Москва, «Ной», 1995. С. 44.
331 А. Белый. Петербург. Москва, «Наука», 1981. С. 33.
338 Там же. С. 33-34.
333 Там же. С. 36.
33< Там же. С. 34.
335 Станислав Пшибышевский, крайне модный в те годы
беллетрист, в одном из своих сочинений под названием Requiem Aeternam
представил поэтический взгляд на эволюцию человеческих
страстей, пол и любовное чувство, где чуть ли не главную роль играет
мозг. Задача формулируется так: «... погибают от чрезмерной
утонченности, от слишком пышного развития мозга». Все это
повествование выстраивается, как если бы оно развертывалось внутри
больного сознания с его видениями и припадками. Итак, вначале был
пол. Свет, движение. Сама жизнь. Но затем эволюция придвинулась
к раздвоению: «И, наконец, пол создал себе мозг. Это был шедевр
сладострастия. Он стал всячески мять и месить его, он оплетал его,
разделял и снова соединял бесчисленным количеством нитей.
Отдельные части перевоплотил в органы чувств. Он разорвал целое на
части, дифференцировал общее чувство в раздельные впечатления
ощущений, он оборвал связи между ними, так что одно и то же
впечатление приобрело ценность различных ощущений, так что
единообразный мир явился пяти-десяти-образным, и там, где прежде
грудью матери насыщалась только одна сила, теперь стали
неистовствовать тысячи». Вражда между полом и мозгом, обретшим качества
могущественной души. Пол подавляется, рассекается,
изничтожается. Но, самое главное, он попадает в рабскую зависимость от души-
230
Примечания
мозга. И вот что происходит: «...когда исчезает пространство, -
когда все рушится вокруг меня, словно волны, устремляющиеся в
воронку, образовавшуюся там, куда мальчик бросил камень, - когда я
утрачиваю власть над своими мускулами и теряю всякое ощущение
кожи и мышц, перестаю сознавать тут ли я, - когда вновь протекают
во мне тысячелетия и я снова получаю на одно мгновение свою
голую индивидуальность и свой умирающий пол, причем погружаюсь
в первозданное бытие, обращаюсь в первичный атом, жаждущий
слиться с самим собой, чувствую, как в жилах моих бьется глубокое,
бесконечное счастье, широкое и глубокое, как атмосфера,
окружающая землю». (С. Пшибыгиевский. Полное собрание сочинений. Том
VII. Издание В.М. Саблина, Москва, 1907. С. 52, 59, 64-65).
336 А. Белый. Котик Летаев. С. 387-388.
337 Там же. С. 403.
338 В современном кинематографе не счесть
научно-фантастических фильмов или триллеров, где бы ни ставилась все та же
проблема: выход из-под контроля человека созданий его собственного
разума («мозга»). Так, намного более совершенная копия
человеческого ума, кибер-мозг, внезапно и часто неизвестно по каким причинам
берет на себя полный контроль над человеческим существованием
(«Альфавиль» Ж.-Л. Годара, «Солярис» Тарковского, «Матрица»
братьев Вачовски и др.)
339 А. Белый. Критика. Эстетика. Теория символизма. С. 324.
34° Там же. С. 324.
341 Ср.: «Синематограф освобождает нас от грязненького
привкуса марионеточной мистерии; жизнь предстает нам очищенной».
(Там же. С. 320).
342 Ср.: «Мимические его (Эллиса) таланты развертывались в
годах; он овладел тайной ракурсов сложных движений; например:
изображал, как вы морозной ночью идете мимо ночной чайной; вдруг
расхлопывается дверь; мгновение: вываливает световой сноп
парами блинного запаха, охватывая теплом: гоготня. Тусклые силуэты,
махи рук, чайники, бегущий наискось половой; и тут же - «бац», все
захлопнулось: никого, ничего; луна. Чтобы воспроизвести эту
картину, ему стоило лишь набрать в рот табачного дыма и закрыть
двумя ладонями лицо; вдруг, раздвинув ладони и выбросив дым изо рта,
он начинал производить многообразные движения, испуская
множество звуков - го, го, го, го, га, га, га, - опять сомкнуть ладони перед
лицом, внезапно застывши; все проделывал ось с ужасающей
быстротой - и две-три секунды; а зрители переживали импрессию сложной
картины, переполненной движением. /.../ Великолепно под музыку
Литература как самосознание. Опыт Андрея Белого
изображал он все, что угодно; мама садилась играть
кинематографические вальсы, которые он ей заказывал, а он изображал, как
танцевал бы вальс любой из знакомых, изображая сложнейшие сцены
кинематографа, передавая дрожание и стремительность жестов
экранных фигур». (Начало века. С. 296-297.)
343 Там же. С. 323-324.
344 «Гениальность А. Белого как художника - в этом совпадении
космического распыления и космического вихря с распылением
словесным, с вихрем словосочетаний. В вихревом нарастании
словосочетаний и созвучий дается нарастание жизненной и космической
напряженности, влекущей к катастрофе. А. Белый расплавляет и
распыляет кристаллы слов, твердые формы слова, казавшиеся
вечными, и этим выражает расплавление и распыление кристаллов
всего вещного, предметного мира. Космические вихри как бы
вырвались на свободу и разрывают, распыляют весь наш осевший,
отвердевший, кристаллизованный мир». (Н. Бердяев. Астральный роман.
Размышление по поводу романа А. Белого «Петербург» - Андрей
Белый. Pro et contra. Личность и творчество Андрея Белого в оценках
и толкованиях современников. Антология. Санкт-Петербург,
«Русский Христианский гуманитарный институт», 2004. С. 414.)
345 А. Белый. Критика. Эстетика. Теория символизма. Том 2,
Москва, «Искусство», 1994. С. 111.
346 Там же. С. 122.
347 А. Белый. Петербург. С. 21.
348 Там же. С. 43.
3^ Там же. С. 45.
35° Там же. С. 108.
и1 Там же. С. 109.
352 В поздних работах Ж. Делез иногда отсылает читателя к
творчеству Белого. Некоторые темы его исследований в двухтомной
книге о концептах времени в мировом кинематографе перекликаются
с темой «мозговой игры» в «Петербурге». В последних совместных
работах Делез и Гваттари многократно обсуждали тему мозга как
особой субстанции разума, существующей вне «сознания» и структур
«я». Мозг - очаг виртуальной активности, выстраивающий
имманентный себе образ церебральной реальности, из которой нет
выхода к телесно-двигательному, моторному опыту (т.е. когда статус
реальности обновляется в непосредственном контакте
человеческого тела с предметно данной средой). Иначе говоря, «мозг» обладает
когнитивным измерением, именно там производятся концепты.
Современное представление о «мозге» рождается на пересечении с тра-
232
Примечания
диционными понятиями, такими как l'esprit, сочетающем в себе «ум»
как таковой и «парящую над собой» сущность (духв гегелевском
смысле). Это определение делает мозг уникальной субстанцией жизни.
Вот что должно прийти на смену хайдеггеровскому Dasein. Делез
устанавливает принципиальное различие между кинематографом
телесным, двигательно-ориентированным, и церебральным,
замкнутым на себя, больше не отвечающим на внешние раздражители, это
мозг-информируемый, поглощенный информационными потоками.
Нынешний феномен мозга встраивается теперь в иную
эволюционную картину мира: он рассматривается как нейтральный и абсолютно
пластичный эволюционный орган, не в пример телу с его
антропоморфными ограничениями (временно-пространственными) и
косностью всего телесного организма, устремленного к смерти.
Приспособляемость мозга так высока потому, что он является органом,
перераспределяющим информацию, связывающим различные формы
движения. Сам же он остается нейтральным, пустотным, пассивным.
Об этом уже знал Бергсон. Еще недавно столь универсальное
телесное отношение - глаз-Природа сменяется другим, - мозг-1ород: «cest
le couple cerveau-information, cerveau-ville, que remplace oeil-Nature».
(G. Deleuze. L4Image-temps. Cinema 2. Paris, Editions minuit, 1985. P.
277,349.) Одна из первых попыток введения церебральных образов,
которую мы находим в "Петербурге", вдохновлена немым
кинематографом (как и вся поздняя проза Белого). И понятно почему:
церебральная активность, демонстрируемая в романе, лежит вне
пределов влияния психомоторных образов. С помощью языка можно
вводить такое разнообразие ритмов, которые более бы не нуждались в
телесно-двигательном подкреплении. Контакт с реальностью
нарушен в пользу свободной миметической игры, появляется множество
образов и движений, не обремененных телесной тяжестью.
353 А. Белый и Иванов-Разумник. Переписка. Санкт-Петербург,
Atheneum - Феникс, 1998. С. 35.
354 Ср. «Я ему сказал, что приехал заграницу вести кампанию
против провокации и против департамента полиции и провокацию
считаю величайшим злом для России и основой русской реакции. С
провокацией мы никогда не помиримся и после революции будем
преследовать самым жесточайшим образом провокаторов, где бы они
ни были». (Вл. Бурцев. В погоне за провокаторами.
Москва-Ленинград, 1928, « Молодая Гвардия». С. 85)
355 Сразу же после цареубийства 1 марта 1881 года «дикая паника»
охватила придворные круги в Петербурге. «Александр III...
отказался селиться в Зимнем дворце и удалился в Гатчину, во дворец своего
233
Литература как самосознание. Опыт Андрея Белого
прадеда Павла I. Я знаю это старинное здание, планированное, как
вобановская крепость, окруженное рвами и защищенное
сторожевыми башнями, откуда потайные лестницы ведут в царский кабинет.
Я видел люк в кабинете, через который можно бросить неожиданно
врага в воду - на острые камни внизу, а затем тайные лестницы,
спускающиеся в подземные тюрьмы и в подземный проход, ведущий к
озеру». (П.А. Кропоткин. Записки революционера.
Москва-Ленинград, Academia, 1933. С. 280).
356 См.: Это я виноват... Эволюция и исповедь террориста. Письма
Егора Сазонова с комментариями С. Бочарова. Москва, Языки
славянской культуры, 2001. С. 245-254.
»s? Записки чудака. С. 366-369
358 Ср.: «...я был охвачен ужасом; я понял, что мне не справиться
с роем разнородных нападений, ничем не связанных; черные пешки,
черный крап, черные переживания, черная дама...» (А. Белый.
Материал к биографии (Интимный) - Минувшее. Исторический
альманах. Том 9. Открытое общество Феникс, Москва, 1992. С. 424.)
»59 Там же. С. 32.
з6° Ср.: « ...опорочить им надо меня: государственным
преступлением». (А. Белый. Котик Летаев. С. 290).
361 Там же. С. 287.
362 Влч. Иванов. Вдохновение ужаса. - Андрей Белый. Pro et contra.
С. 409.
Из вполне реального и крайне опасного предмета, динамита
(угроза взрыва), бомба переводится в фантастически-виртуальный план
и постепенно захватывает собой мысли, чувство и дыхание, всю
физиологию героя Аблеухова-младшего: «Лишившись тела, все же он
чувствовал тело: некий невидимый центр, бывший прежде и
сознаньем, и «я», оказался имеющим подобие прежнего, испепеленного:
предпосылки логики Николая Аполлоновича обернулись костями;
силлогизмы вкруг этих костей завернулись жесткими сухожильями;
содержанье же логической деятельности обросло и мясом, и кожей;
так "я" Николая Аполлоновича снова явило телесный свой образ,
хоть и не было телом; и в этом не - теле (в разорвавшемся «я»)
открылось чуждое "я"...». (А. Белый. Петербург. С. 239.)
363 Вот, например, описание гибели от рук террористов великого
князя Сергея Александровича: «4 февраля 1905 года в Москве, в то
время, когда великий князь Сергей Александрович проезжал в
карете из Никольского дворца на Тверскую, на Сенатской площади, в
расстоянии 65 шагов от Никольских ворот, неизвестный
злоумышленник бросил в карету его высочества бомбу. Взрывом, происшед-
234
Примечания
шим от разорвавшейся бомбы, великий князь был убит на месте, а
сидевшему на козлах кучеру Андрею Рудинкину были причинены
многочисленные тяжкие телесные повреждения. Тело великого
князя оказалось обезображенным, причем голова, шея, верхняя часть
груди с левым плечом и рукой, были оторваны и совершенно
разрушены, левая нога переломлена, с раздроблением бедра, от
которого отделилась нижняя часть, голень и стопа. Силой
произведенного злоумышленником взрыва кузов кареты, в которой следовал
великий князь, был расщеплен на мелкие куски. И кроме того были
выбиты стекла наружных рам ближайшей к Никольским воротам
части зданий судебных установлений и расположенного против
этого здания арсенала» И другой отчет: «Взрыв бомбы произошел
приблизительно в 2 часа 45 минут. Он был слышен в отдаленных частях
Москвы. Особенно сильный переполох произошел в здании суда.
Заседания шли во многих местах, канцелярии все работали, когда
произошел взрыв. Многие подумали, что это землетрясение, другие,
что рушится старое здание суда. Все окна по фасаду были выбиты.
Судьи, канцеляристы попадали со своих мест. Когда через десять
минут пришли в себя и догадались, в чем дело, то многие бросились
из здания к месту взрыва. На месте казни лежала бесформенная куча,
вышиной вершков в десять, состоявшая из мелких частей кареты,
одежды и изуродованного тела. Публика, человек тридцать,
сбежавшихся первыми, осматривала следы разрушения, некоторые
пробовали высвободить из-под обломков труп. Зрелище было
подавляющее. Головы не оказалось; из других частей можно разобрать только
руку и часть ноги. В это время выскочила Елизавета Федоровна в
ротонде, но без шляпы, и бросились к бесформенной куче. Все
стояли в шапках. Княгиня это заметила, она бросалась от одного к
другому и кричала: «Как вам не стыдно, что вы здесь смотрите, уходите
отсюда». Лакей обратился к публике с просьбой снять шапки, но
ничто на толпу не действовало, никто шапки не снимал и не уходил.
Полиция же это время, минут тридцать, бездействовала, - заметна
была полная растерянность». (Б. Савинков. Воспоминания
террориста. Конь бледный. Конь вороной. Автобиографическая проза.
Москва, «Захаров», 2002. С. 107-108.)
364 А. Белый. Воспоминания о А. Блоке.
365 А. Белый. Котик Летаев. С. 290.
366 Там же. С. 290-291.
367 А. Белый. Котик Летаев. С. 367-368.
Ср.: «Вспомнилось, - у Честертона описано, как анархисты ловили
себя, став шпиками; и как полицейские, бросившись в бегство от
235
Литература как самосознание. Опыт Андрея Белого
ими ловимых персон, - настигали: бежали все вместе, - по линии
круга» (А. Белый. Маски. С. 43.)
368 В.В. Розанов. Между Азефом и «Вехами». - Новое время, 1909,
от 20 августа.
369 А. Белый - Б. Пастернаку. Каджоры (Грузия). 23 июля 1928
года. // Андрей Белый. Проблемы творчества. С. 695-696.
370 Андрей Белый и Иванов-Разумник. Переписка. 1913-1932. С.
645.
371 Там же. С. 649.
372 Достаточно взглянуть на наиболее показательные с нашей
точки зрения ландшафтные образы Каджор, созданные Белым в разные
годы (1920, 1929, 1932), чтобы заметить позицию от-стояния,
найденную Белым. Это высшая точка, она выше хребта ровно
настолько, насколько это необходимо для передачи движения сверху-вниз.
Этого ракурса Белый и старается упорно придерживаться в своих
набросках. Как если бы у него, этого путника, всегда под рукой была
«высшая точка», господствующая над горизонтом.
373 А. Белый. Мастерство Гоголя. С. 118.
374 Ср.: «... в эту минуту видятся "блистательные песни", как в
головокружениях на высоте; и поется и щелкает в ухе; ты стоишь,
скосившись - с головой набок, - разглядывая в низлежащей бездне "какое-то
странное... сияние"; и видишь: вместе с окраской предметов окраску
воздуха и колориты, которые получаются в глазе: от смешанных
красок; "сияние" искры из глаз; физиологическое объяснение медиков:
оно - следствие увеличения угольной кислоты в организме: от
недостатка дыхания; последнее ж - как следствие и повышенной
потребности в окислении крови, и - разрежение воздуха». (Там же. С. 128-
129.)
375 Ср.: «Таков ландшафт Гоголя: он - движением видоизменен; в
нем искание иных равновесий; деятельность полукружных каналов,
или уха внутреннего, тут дает отражение и во внешнее ухо; при
подъеме в вышину у иных сперва щелкает в ухе, потом - шум в ушах;
слышишь музыку, поется; с перестроенного ландшафта, как со струи
настроенной арфы, у Гоголя срываются: звуки музыки; выныривает
звуковая метафора; и появляется то особенное сияние, которое
бывает в горах: и в оттенках неба, и в глубокодонных равнинах...». (Там
же. С. 128.)
376 Там же. С. 126.
377 Там же. С. 125.
378 Там же.
"9 Там же. С. 126.
236
Примечания
з*> Там же. С. 127.
з8' Там же. С. 128.
*82 Там же. С. 129.
з8з Там же.
з8< Там же. С. 134.
385 Там же. С. 135.
386 В. Брюсов. Литературное наследство. Том 85. Москва, «Наука»,
1976. С. 356.
387 Проблематика «мембраны», этого топологического оператора-
посредника, объясняет принцип «остраннения» («расщепа»), когда
внешнее проходит сквозь внутреннее, и наоборот. Мембрана - не
граница, а переход «между»... любыми сферами, часто мы его не
замечаем, хотя не устаем опираться на него.
388 Даже грамматическая фигура времени ловко укрыта глаголами
несовершенного вида: громыхали, летали, смотрели, желали и т.п.
389 А. Белый. Символизм. Книга статей. Москва.
Книгоиздательство «Мусагет». С. 429-430
зо° Там же. С. 430.
391 Звукопись для Гоголя, конечно, одно из явлений стиля, его
сопровождающее и поддерживающее, но вовсе не определяющее
направление смысловой задачи. Для Белого, напротив, - то, что дает
смысл: «Звукопись - действие раздроба первичного корня ударами
ритма; первичный корень - пантонимичен; в "ррр" - звучит
мускульное напряжение самого языка; лингвисту Мюллеру слышится в корне
"аррр" - выражение действия. (...) Звукопись - доисторическая
жестикуляция языка; в нее вписана печать некогда жившего и не всегда
угасшего смысла; в настоящем она - зародышевая стадия
производственного процесса в искусстве слова, сливающая со звуком смысл;
когда образ выделен, повтор словесного представления покрывает
звуковой повтор, свою подпочву, произрастанием
изобразительности, связуясь с фигурой параллелизма, рождающей сравнение с
вытекающими из него метафорами, метонимиями и синекдохами,
повтор - вторичная аллитерация - теряет свою звуковую силу за счет
роскоши образов, становясь первичной фигурой речи». (А. Белый.
Мастерство Гоголя. С. 234.)
598 П. Зайцев. Московские встречи. (Из воспоминаний об Андрее
Белом). //А. Белый. Проблемы творчества. Статьи. Воспоминания.
Публикации. Москва, «Советский писатель», 1988. С. 574.
зэз Там же.
394 Андрей Белый и Иванов-Разумник. Переписка. С. 639.
Книга четвертая
Евнух души
«Революционные машины»
и литература А. Платонова
П. Филонов. Тракторный цех Путиловского завода (193 О·
Введение.
Homo ex machina
О современном состоянии машинизма
Мотив бедной машины на берегу речки,
в тишине природы
A. Платонов
... комната Хармса была «более чем аскетично
обставлена», но в ней привлекала к себе металлическая
громадина:
- Что это?! - изумленно спрашивал посетитель.
- Машина.
- Какая машина ?
- Никакая. Вообще машина.
- А-а-а... откуда она у вас!
- Собрал сам! -не без гордости отвечал Хармс.
- Что же она делает ?
- Ничего не делает.
-Как, ничего?
- Так, ничего.
- Зачем же она ?
- Захотелось иметь дома какую-нибудь машину.
B. Лифшиц
Авангард и его машины. Эстетика новой формы
ι. В центре европейского и русского авангарда - Великая Машина в
своих самых различных ипостасях. В отличие от эпохи модерна, где еще не
сформировался настоящий интерес к науке, ее техническим возможностям
Евнух души. «Революционные машины» и литература А. Платонова
и машинам, авангард принял машину как род новой, высшей Реальности,
заместившей собой старую, - реальность Природы. Машина, вытесняющая
природное, и есть ожидаемая, «обесчеловеченная» новая Природа. Что
такое Революция, как не процесс творения новой реальности с помощью
фантастической Мегамашины ?
2. Иногда складывается стойкое убеждение в том, что такого ясного и
определенного различия между модерном и авангардом в отношении к
Машине не провести1. Машина или принимается или отвергается: если
принимается, то на нее перелагают миметические функции, именно ей
подражают, как если бы она была необходимым условием тотального
мимесиса. Если ее отвергают, то в пользу человеческой способности к подражанию:
подражать - это значит воссоздавать в машине нечто человеческое,
очеловечивать ее. Отсюда игра позднего авангарда с машиной как предметом
индивидуальной этики. Сюрреалисты постарались покончить с
превосходством машины, расположив ее в центре своих стратегий как
негативный объект. Появились в громадном числе невозможные машины, «те,
которые не работают» и ничего не производят. Ослаб страх перед машиной,
ставшей человеком. Не машина теснит человека, пытаясь занять его место,
а человек сам желает стать машиной. Отъединенная от человека машина,
обретшая самостоятельное индивидуальное бытие - старый
несостоятельный миф. Вывод: мы давно внутри машины. Машина обладает намного
более совершенной имитационной силой, чем человеческое тело. Теперь она
осуществляет полный мимесис реальности, давая нам реальное в машинном
образе (сегодня - в цифровом). Одно из важных достижений авангарда - это
деантропологизация мира. Речь идет о механизации чувственности и всех
возможностей восприятия. Эффект очуждения - вот наиболее общая
характеристика эстетического. Что значит быть машиной ? Несчастье это
или удовольствие? «Все люди, которых вы видите, все люди, которых вы
можете узнать впоследствии, - все это машины, настоящие машины,
которые работают, как вы сами выразились, под влиянием внешних
воздействий. Различия, о которых вы говорите, просто не существуют. Это
нужно понять. Они рождены машинами и умрут машинами. /.../Но есть
возможность перестать быть машиной. Вот о чем мы должны думать, а не
о том, какие существуют виды машин. Конечно, есть разные машины:
автомобиль - это машина, граммофон - машина, и ружье - тоже машина.
Но что из того? Все это одно и то же - все машины»2. Машина - не то,
чем управляют, а часть среды, некое материальное бессознательное социума,
в котором развивается образ самого человека, ставшего машинным. Речь
идет о тотальном машинном Мимесисе: переработка человеческого в
пользу нового хозяина бытия - Машины. Именно машина не просто обеспечи-
242
Введение. Homo ex machina
воет связь с внешним миром, не просто модель познания, но само бытие.
Мыслить, желать, страдать, работать - это быть машиной*.
5· Р. Краусс в ряде статей пытается доказать: модерное/авангардное,
то, что в художественном опыте стремится выступать от имени нового,
оригинального и подлинного - важнейшие характеристики произведения
искусства - опирается на дух и материю изначального - на решетку
(«конструкции Mupa»f. Вся оригинальность и новизна художественного жеста
исчерпывается тем, насколько он способен обратиться к глубинным слоям
чувственного опыта. Однако если следовать принципу решетки, то это
значит стереть все, что могло быть нанесено на мировой поверхности, и что
затрудняло распознание решетчатой основы. Нет поверхности ранее не
разграфленной, не разнесенной на клетки. Творческий акт - это проекция
на поверхность tabula тага («чистой доски») события, никогда не
происходившего. Возможно ли признание за авангардом какой-то особенной
творящей мир спонтанности, которая не была бы сводима к модерну (не была бы
модернистской)? Ведь в нашем определении авангардистское сознание или
- шире ~ левое искусство (Б. Брехт, Дз. Вертов, А. Платонов, П. Филонов или
В. Хлебников) есть сознание революционное. Там, где оно осуществляется,
оно открывает такую сторону мира, которая определяется взрывным
характером изменений. Авангардное сознание балансирует между разрушением
и возобновлением, «новым началом». Это начало - цель самого разрушения.
Разрушение определяет возможность начала, и чем оно радикальнее, тем
более сокрушительна новизна. «Покажи мне, как ты способен разрушать,
и я скажу тебе, какой ты авангардист!» Итак, авангардистский жест - это
жест полного отрицания (т.е. такого, которое лишено всяких черт
утверждения). Полное «нет» противопоставляется бесконечному набору частичных
утверждений «да». В этом полном «нет» заключена остановка всех
возможных времен повседневности. Иронико-критический посыл Краусс в том и
состоит, что авангарду приписывается позитивная задача
«репрезентации» подлинности, оригинальности и новизны. На самом деле авангард
создает копии, или общую нейтральную базу для копирования всего. Идеальная
ксерокс-машина - вот что такое авангард. И все потому, что рассматривая
авангардного художника в терминах новизны, передового, обновляющего
действия, в авангардисты зачисляют совсем разных художнико; так, путают
авангард с авангардистским сознанием, - а можно ли допускать такую
путаницу ? Ведь на самом деле авангард и авангардное сознание крайне
позднее явление в художественном переживании мира. Не только позднее, но и
кратковременное (поразительно неустойчивое, хотя богатое по следствиям).
Не всякий художник является авангардистом, а только тот, кто решается
все предшествующее искусство поставить под вопрос. Решетка с давних вре-
243
Евнух души. «Революционные машины» и литература А. Платонова
мен служила тем важным мостом между реальностью и ее отражением, она
была «самой подлинной» копией. Если авангардный художник отрицает
классику, то только в силу ее неповторимости и оригинальности, сам же он
создает повторимое, конституирующее себя как копию всего5. Его способность
к созданию моделей, клише, программ, стереотипов и пр. как раз и говорит
о том, что реальность должна устраняться по алгоритмам повтора.
4- Даже, если мы выделим решающие характеристики авангарда или
модернистского сознания, то и они не смогут помочь организовать нам поле
отношений в мощной волне художественных практик начала и середины
2о-го века. Авангардное произведение - это коллективистскоераспределение
Истины (Единого мирового образа). Авангардный художник ощущает себя
посланцем незримого коллектива (от множества таких же, как он), и
поэтому старается деиндивидуализировать свою манеру творить вещи.
Прекрасным подспорьем тут выступает Машина. Если мы обращаемся к
классикам модернизма (П. Клее, В. Кандинскому, С. Малларме, М. Прусту или
Дж. Джойсу) везде акцент ставится на создании особой теоретической
модели Мимесиса, которая была прежде всего личным подвигом Мастера.
В модерне делается последняя попытка восстановить общую картину
Мира, то, что П. Клее называл «космогенезом точки», но исключительно с
индивидуальных позиций. Индивидуальное выражение опыта явно не
имеет отношения к авангардному проекту. Мастер заявляет свое авторство
на определенный, им воссозданный, Космос. Предмет его забот - язык, на
котором он должен обращаться к своему зрителю. Идет разработка
особого живописного языка, словаря-коллекции элементов, на основе которых
может быть выстроено произведение. Мир предстает в своих
индивидуальных качествах, не сводимых к коллективистским. В этом, на мой взгляд,
радикальное отличие собственника-индивидуалиста, артиста-мыслителя
Кандинского от комиссара искусств и «всеобщего художника» К.Малевича.
(Конечно, это не противоречит тому, что в художественной практике их
манеры письма могут влиять друг на друга). Такой Мастер в русском
авангарде был форпостом коллективистского самосознания.
Машина, modus operandi
5. Но чтобы двинуться дальше, надо попытаться хотя бы в общих
чертах ответить на вопрос: что такое машина ? Можно начать с
предварительной формулировки: машина - это то, что работает, са marche. «La machine
est un être qui fonctionne»6. Машина - нечто, что функционирует, работает
в определенном режиме, который соответствует избранному типу машин-
244
Введение. Homo ex machina
ных устройств. Но главное ее качество: способность повторять одну и ту же
операцию в одном и том же режиме и с тем же самым результатом. Машина
воплощает собой ограниченный режим производства, так как
располагается во времени произведенного. На выходе машина дает результат, именно это
определяет машину. Все машины имеют свои функциональные особенности.
Например, дрель или пылесос определяются по мощности электромотора
(позволяющей сверлить, всасывать пыль), но их отличие нельзя
абсолютизировать. Основное условие существования этих машин - это перевод
электрической энергии в механическую, остальные функции дополнительны. Есть и
другая связка: рука-молоток-гвоздь; их взаимодействие, там, где оно
машинизируется, наглядно демонстрирует нам переброс чисто физической энергии
в механическую. Фр. Варела определяет машину как «ансамбль отношений
составляющих ее компонентов, независимых от них самих», и он же
различает два типа машин: производящие(а11орогеИал1£) и самовоспроизводящиеся
(autopoietiquej1. Достаточно или нет этого различия для определения
основных классов машин? На первый взгляд, вполне. Одни машины производят
нечто отличное от себя, другие воспроизводят только самих себя (или те
условия, при которых они могут воспроизводиться).8 Норберт Винер
намного ранее размышлял в том же направлении: «Когда человеческие атомы
скреплены в организацию, в которой они используются не в соответствии со
своим назначением, как разумные существа, а как зубцы, рычаги и
стержни, то большого значения не будет иметь то обстоятельство, что их сырьем
являются кровь и плоть. То, что используется в качестве элемента в
машине, действительно представляет собой элемент машины»9.
(ι. ι) Пятно неопределенности. Обработка информации, которая
поступает в машину, показывает, насколько машина «свободна» в выборе
возможных «решений». Здесь важен момент ввода информации (приказов,
установок, программ). Каждой технической машине, даже совершенной,
устанавливается уровень информационного порога, превзойти который
она не может. То, что Ж. Симондон называет пятном неопределенности
(marge d'indétermination), - важный аспект ввода информации и
разработки функций машины10. Машина - это не только то, что функционирует,
то, что «работает», но прежде всего способность локализовать пятно
неопределенности (индетерминации). Машина не в силах повторить опыт
живого индивида, поскольку не в силах распоряжаться временем
виртуально, «истинно виртуального для машины не существует»11. Машина
существует только в актуальном времени1*, она предполагает обратную связь,
feed back, т.е. управляется человеческим разумом и без него не существует.
Машине необходим машинист, с ним она вступает в полезный контакт;
происходит выборка нужный действий в каждый «критический» момент
работы машины. Этим, собственно, машина отличается от автомата.
245
Евнух души. «Революционные машины» и литература А. Платонова
(ι. 2). Выглаживание (lissage). На самой примитивной стадии маши-
низма отношение, например, между молотком, рукой и гвоздем (объект
приложения сил) выглядит так: кривая удара молотка смещается, поскольку
нет никаких «естественных» связей между рукой и желаемой целью -
шляпкой гвоздя. Каждый удар - это преодоление начальной природной
катастрофы гетерогенного, ведь молоток ничего не ведает о гвозде. Оперирование
молотком идет по кривой сглаживания, которая позволяет на время
преодолеть сопротивление. В начале - катастрофа: раз-согласованность,
разнобой руки, молотка и гвоздя. Удар - следствие преодоления разнородности
материалов и объектов природной среды. Так создается искусственный мир
орудий, в изготовление которых заранее включено качество выглаживания.
Как известно, возрастание внутреннего трения, т.е. утрата ресурса
выглаживания, приводит к быстрому износу технических машин. Этот принцип
действует также эффективно не только в технико-инструментальной, но
и в социальной сфере. Так постепенно можно прийти к определению
понятия машинизма1Ъ. Природные элементы машин изначально чужды друг
другу и инертны, естественно, что они подгоняются до тех пор, пока не
будет преодолено их взаимное сопротивление. Без технологий выглаживания
это было бы невозможно1*. Понятие выглаживания относится как раз к
моменту совмещения гетерогенного и разнонаправленного: например, ряд
движений, выражаемых в одной форме движения, что морфологически
может быть представлено в практике обычной ходьбы или письма15.
Выглаживание противоположно сцеплению, - только в механизме отдельные
части максимально близко примыкают друг к другу, что позволяет
осуществить их взаимодействие и подчинить команде. Выглаживание скорее
относится (как и «пятно индетерминации») к социальным условиям
воспроизводства определенной машины, т.е. указывает на ту степень
«разумности», которой она наделяется с помощью машиниста. Итак, машинист
выбирает стратегию выглаживания и осуществляет конкретные
манипуляции орудийным пространством с целью достижения определенного
результата на основе учета «пятна индетерминации» (т.е. заложенных в
машину возможностей выполнять то или иное решение машиниста)
(1.3) Машинист. У всякой машины есть тайна, и эта тайна -
машинист. Ведь все те важнейшие онтологические характеристики машинизма
не могут быть применены без некой свободной воли («открытого сознания»).
Например, машинное сознание у Платонова распадается на три ипостаси:
Мастера (кто делает), Машиниста (кто управляет), Наблюдателя (кто
наблюдает, - «евнух души»). Главный герой Платонова - всегда Мастер (с
большой буквы), тот, кто своими руками создает вещь, не только техническую,
- очевидное превосходство ручного труда. Сделанными машинами являются
паровоз, авто, мотоцикл, динамо-машина, турбина и т.п. Все они кем-то
246
Введение. Homo ex machina
сделаны, но не всегда теми, кто ими восхищается и приводит в движение
(иногда героям Платонова кажется, что будто они сами себя произвели на
свет). Сделанной машиной не перестают восхищаться, ее обожествляют,
она становится предметом культа. С другой стороны, множество машин,
которые делаются... И делаются не-длячего, сюда относятся
машины-поделки, всякого рода причудливые механизмы, штуковины, модели «вечных
двигателей» и т.п. В отличие от сделанной машины, принадлежащей
техническому прогрессу, несделанные машины делаются (т.е. всегда до-делываются и
переделываются), но не по критериям своей «пригодности» и
производительности. Их время рождения - будущее, место - сила воображения Мастера.
Именно в будущем их подлинная родина. Как раз именно в таких
фантастических машинах и нуждается авангардное сознание: захватить будущее
и опрокинуть его одним броском в настоящее, предъявить как данное.
6. Общее представление о Машине можно разбить на классы. Разбиение
на основе вопросов: как и какой вид энергии и материал Природы (Космоса)
используется, из каких «рабочих частей» машины собираются, каков набор
исходных функций и т.д.? Классы эти следующие.
- первый, технические машины; большой отряд машин (механических,
гидравлических, электрических, электронных и т.п.). Такие машины -
образцы технических устройств, собственно, они и являются машинами по
определению;
- второй, социальные (сюда можно отнести педагогическо-ортопедиче-
ские, медицинские, паноптическиеили следящиенадзирающие,
бюрократические, милитарные, террористические, имперские (территориальные) и пр.);
- третий, биомашины или машины органические, репродуктивные
(самовоспроизводящиеся: животные организмы прежде всего).
- четвертый: не относится ни к одному из указанных классов машин,
они - «между», это машины сновидные, воображаемые, виртуальные, они
же - фантастические (литературные, театральные, архитектурные и
пр.), они не поддаются репрезентации. Это своего рода машинное или
машинизированное бессознательное; это машины холостые, обеспложенные,
опустошенные, но охваченные желанием: от отрицания желаемого к утвер-
ждению(броском от минуса к плюсу страсти). Делез/Гваттари называют
такие машины желающими (machinesdesirantes). Это машины древние и
примитивные, для сравнения их следует соотнести с образами Протома-
шины. Часто Платонов сталкивает между собой идеальную, технически
совершенную Машину с архаичной и деспотической Протомашиной
(«Котлован»), чтобы усилить, намой взгляд, противоречие в авангардном
видении будущего, его трагическую неразрешимость. Схватка машин не на жизнь,
а на смерть. Прекрасна революционная машина из романа Платонова «Че-
247
Евнух души. «Революционные машины» и литература А. Платонова
венгур», состоящая из нескольких рабочих частей: «могилы» Розы
Люксембург - Революции - Коня (по имени «Природная сила») - Всадника
(кавалериста Копенкина) - Степи. Но также прекрасен и революционен ЭМР
(электромагнитный резонатор) вырабатывающий ток из природного света.
Образы машин: краткий синопсис
у. Главное - это ответ на вопрос о воспроизводстве авангардной
Машины. Как только мы начинаем изучать ее устройство, на первый план
выходит основной «рабочий» элемент, как бы суть самого машинного действия.
Изначальными, аутопоэзными элементами в машинизме авангарда стали:
архитектон (К Малевич), «динамо-машина» (Н. Теслы и А. Платонова),
гештальт (Э. Юнгер), модулер (ле Корбюзье) аттракцион (С. Эйзенштейн),
«ракурсы» Родченко, и даже числовая «гамма истории» Велемира
Хлебникова. Итак, в центр раннего авангарда - время «бури и натиска» -
вдвигается машина, и мы должны понять ее присутствие именно с точки зрения
революции, с которой она и отождествляется. Платонов не мог себе
представить успешный исход революции без машины, замещающей собой
природу, подвергающей ее радикальной переделке. Машина авангарда
относится к машинам будущего, причем его преодолевшим. Поэтому ее часто
определяют как машину по уничтожению времени. Открывается опыт жизни,
где время производится так же, как и все остальное. Наглядность,
доступность, размер, воспроизводство вещей мира - все под контролем Мастер,
машинно чувствующего и мыслящего. Машина провоцирует новый опыт
чувственности, упраздняя тяжелый ручной труд, воссоздает новый порядок
необходимых ощущений и переживаний. Революционный бросок в новое
состояние бытия (радикально обновленного) мгновенен, а на это способна
только машина. Малевич попытался выразить это, возможно, с большей
силой, чем другие художники авангарда. Что подвергается переделке с
помощью машины ? Прежде всего, человеческое тело:
«Бронированное орудие, автомобиль, представляет собою небольшой образец
сказанного. Если человек, сидящий в нем, еще разделен с ним, то просто потому, что
данное тело, одетое человеком, не может совершать всех функций, сам же человек
как организм технический может выполнить все функции, нужные душе, и
потому душа живет в нем и выходит из него тогда, когда функции его не
выполняются; если бы автомобиль был в совершенстве выполнения всего необходимого для
человека, человек никогда не вышел бы из него. Признаки последнего существуют
в большом разрешении; например, гидроплан, воздух и вода вмещены в нем, и когда
будет обеспечено все, то человек больше не выйдет ш своего тела»16.
248
Введение. Homo ex machina
«Когда человечество придет к единству, в пути которого находится сейчас, ему
необходимо будет идти к единству с новым, миром, вылетевшим из его черепа, -
организмами, с которыми находится в борьбе и борется через кровь. Пилот ведет
неустанную войну с аэропланом, он хочет овладеть им, он хочет врастать в себя
пововыросшее тело, он хочет слить его со своим организмом как нечто
нераздельное, и операция должна произойти через боль и кровь до тех пор, пока мы из кости,
мяса и крови»11.
«Церковь стремится через свою религию привести сознание человека к Богу как
совершенству, материалистическое стремится достигнуть совершенства в
машине как самопитание, одни думают питаться Богом, другие-машиной»1*.
Техносреда, «машины» - часть человеческого опыта тела, которое уже
больше не может быть собой. По Малевичу, главный момент в деантрополо-
гизации мира - это скорость: «Скорость - наша сущность, мы с каждым
днем стремимся скорее бежать, и сейчас наше сознание вышло уже из
познания. В силу чего мы становимся чуткими к восприятию нового построения
выражающего силу динамизма. Каждая машина есть явление познания
скорости, и всякое выявление чем бы то ни было новой скорости неуклонно ведет
к изобреп^ению реального знака, следовательно, дуутуризм и кубизм являются
великими опытами естественного природоразвития, через которые
рождается будущее и современный наш мир. Когда наше сознание постигнет
величину скорости движения, постольку оно явит новые формы»19. Машина -
новая кожа, новый более чуткий посредник, с помощью которого рождаются
новые переживания и ощущения, машина - это скоростное преображение
ближайшей и дальней среды человеческого обитания.
Супрематические архитектоны К. Малевича (1927)
249
Евнух души. «Революционные машины» и литература А. Платонова
8. Малевич трактует свои супрематические квадраты прежде всего в
качестве шаблонов (наряду с архитектонами и таблицами). Но что такое
эти «квадраты квадратов» ?Не «нулевое ли это означающее», «изначально
идеальное», или «первокопия» ? Черный квадрат - не живопись, а орудие
живописи, если угодно, шаблон, с помощью которого возможно
модифицирование любого живописного объекта. Живописное, архитектурное,
скульптурное, - само художественное дело стало ремеслом, участвующим в
революционном переустройстве мира. Если в качестве примера завершенного
опыта авангардности возьмем тот же «квадрат» Малевича, то вот он-то
и есть tabula тага. Такова наиболее примитивная машина живописи,
живописи Нового времени (я бы даже назвал ее машиной авангарда). Каждый
«квадрат» состоит из квадратов, вложенных друг в друга, один - большой,
другой - малый, игра между ними идет в одной и той же решетке
отношений (занятой/незанятой, полной/пустой, затемненной/светлой). Вот
это воссоздание древней и примитивной машины живописи и есть цель
авангардного искусства. Смыслом наделяется только то, с помощью чего
может быть исполнено Произведение (искусства), не оно само, ибо если бы
это было возможно, то отпала необходимость в инструменте-посреднике.
В модерне и модернизме значение произведения искусства еще имеет смысл
в общей стратегии Мимесиса, здесь же, - в авангардном видении мира, - по-
беждающе утверждает себя Матезис. Обесчеловеченная реальность
предается экстазу Машины (Mapunemmuf0'. Конструирующий, механизирующий
геометрический разум служит ему. Весь парк новых проектных
инструментов живописи - ничто по сравнению с самим проектом, архитектоном,
представляющим собой бесконечное воспроизводство Творения .
9- Не об этом же ли говорят Ф. Леже и Ле Корбюзье - верные сыны маши-
низма? Для обоих машина - то, что устанавливает порядок, что не
поддается рассеиванию и распаду, напротив, она собирает, скрепляет, создает
законченные единства. Ле Корбюзье в одном из промышленных проектов
прямо связывает идею нового завода («зеленого завода») с созданием машины
машин, т.е. организация всего цикла производства с позиций некоего
законченно-совершенного порядка. «Машины воспроизводят рабочие движения
человека в каком-то невероятном преувеличении, доводя их порой до
чудовищного гротеска (толчение и дробление, трамбовка, прокатка, волочение,
продувка, ковка и т.п.). Иногда они работают с медлительностью
великанов (огромные пестовые молоты, гигантские прессы), другие развивают
опаснейшие скорости, действуя с быстротой змеи или молнии, они то
скачут галопом, то стремительно скользят. Повсюду маячат их зловещие и
причудливые конечности, вызывая в душе беспокойство и страх»21. Вместо
вот такого промышленного ада «черного завода», новый завод, «зеленый»,
250
Введение. Homo ex machina
идеально организованное, гармоничное очеловеченное пространство
производства: «На «зеленом заводе» трудовой процесс вновь будет протекать в
естественных условиях. На предприятиях, как и в жилых кварталах,
солнце, небо, зелень восстановят связь человека с природой, дадут его легким
живительный воздух. Все это воссоздаст ту естественную среду, в которой
происходила многовековая и сложная эволюция человека»22.
Ле Корбюзье. Модулер (1946). Ф. Леже. «Механические элементы» ( 1924)
Машинный мир, приходящий на смену прежним индустриальным
эпохам, приносит с собой новое эстетическое чувство: машине подражают,
ею хотят быть. Машина становится решающим фактором в
формировании новой среды (художественной в том числе). Леже развивает идею
«архитектуры механического»23. Машина теперь - один из универсальных
эстетических объектов. Мало этого: человеческое захватывается динамикой
машинного мимесиса. Леже пишет полотна в машинном стиле, видит,
чувствует органическое и природное как машина. Нечто подобное и
выраженное с большей степенью радикальности мы находим в архитектуре Корбюзье
251
Евнух души. «Революционные машины» и литература А. Платонова
с его попыткой ввести минимальную архитектурно-антропометрическую
единицу - модулер: «Это система, имеющая целью ввести в архитектуру и
механику размеры и габариты, согласованные с человеческими масштабами,
увязать с бесконечным разнообразием чисел те основные жизненные
ценности, которые завоевывает человек, осваивая пространство»*4. Недругом
месте: «На этот раз сущность изобретения была выражена с редкой
простотой: имодулер " - это средство измерения, основой которого являются
рост человека и математика. Человек с поднятой рукой дает нам точки,
определяющие занятое пространство - нога, солнечное сплетение, голова,
кончик пальцев поднятой руки, - три интервала, обуславливающие серию
золотого сечения, называемую рядом Фибоначчи»25. Особая человеческая
размерность, отчужденная от самого человека, становится стандартом для
определения способа жить. В какой-то мере города-утопии с их идеальной
организацией коллективной жизни, которые воображались Т. Кампанеллой,
Т. Мором, Ш. Фурье, И. Бентамом, близки тому, что много позднее Корбюзье
назвал «машиной для жилья»26. Более четко отличие машины технической
от социальной, а социальной от эстетической, воображаемой, а всех их от
биомашины, можно проследить на основе авангардной модели машинизма.
ι о. Кино-аппарат/фотоаппарат -условия необходимые для нового
машинизированного взгляда на мир; в начале века они еще предстают
отчужденными от предшествующей формы восприятия. Так, знаменитая «ракурс-
техника» Родченко как раз и заключается в том, чтобы найти такие
позиции для съемки, где аппарат больше не зависел бы от человека, и снимал то,
что мы не в силах видеть без него (или видим совершенно иначе).
252
А. Родченко.
Пионер-трубач ( 1930)
Введение. Homo ex machina
« Точка съемки усложнилась, стала разнообразной. Но связь ее с
человеческим глазом, с его обычным кругом зрения, не прерывалась. //А между тем эта
связь необязательна; мало того, она излишне ограничивает, обедняет
возможности аппарата. Аппарат может действовать самостоятельно. Может
видеть так, как человек не привык»*1. На первый план выходит способность
оператора (фотографа) машинизировать процесс съемки. Здесь еще нет ни
капли иронии, ни скепсиса, ни той ненависти, которую питал к современной
технократии масс тот же В. Райх, т.е. всех тех «переживаний» прогресса
технического, которые чуть позже превратили революционную утопию в
предмет антиутопических романов (Е. Замятин, О. Хаксли, А. Платонов/8.
а. В раннем «авангардном» кинематографе С. Эйзенштейна мы
находим машины-аттракционы: заводские станки и механизмы («Стачка»),
броненосец («Броненосец Потемкин»), сепаратор («Старое и новое»).
Механика аттракциона используется для произведения определенных эффектов,
действие которых на зрителя должно быть технически предсказуемым.
Например, машина-сепаратор как машина любви и единения,
экстатическая коллективная машина. Два аспекта, на которые стоит обратить
внимание: первый, - экстатическое поле вокруг сепаратора подчиняется
машинному ритму, именно этот ритм используется, чтобы организовать
коллективное хозяйство, чтобы его члены перестали быть частыми соб
ственниками и превратились одним ударом в коллективистов; с другой,
«сепаратор». - некое техническое устройство, представленное как Машина
(всех машин), с отчужденной от человека удивительной механикой,
блистающая формой, повторяющей древнюю чашу Грааля. Машина-сепаратор -
что-то сверхновое и что-то сверхдревнее. Собственно, ускоренное вращение
машины подготавливает будущую оргию, оргазмический взрыв. Для
Эйзенштейна самое мощное проявление машинизма было связано именно с
сексуальным напряжением, - невероятным могуществом, которое внушала
Машина своим первым адептам-изобретателям: отчетливым и чистым
ритмом, неотвратимостью повторов, неисчерпаемой энергией, наконец, самим
результатом, который достигался с такой легкостью... ). Подобное
восприятие машины было вполне ожидаемым, хотя оно и подсказывалось другой
машиной - киноаппаратом, прямо воздействовавшим на способность
воображения зрительской массы. Ошеломляющий успех фильма Дз. Вертова
«Человек с фотоаппаратом» свидетельствует о том, что киноаппарат
стал Великой социальной машиной. Мы видим, как он собирает реальность
(ее случайные фрагменты») в единое мозаичное целое вопреки тому, что они
были «схвачены» каждый в своем измерении. Теперь все удаленное друг от
друга, что не могло никогда пересечься, соседствует, стало близким и
сравнимым; может быть воспринято одним движением взгляда, в одном времени
253
Евнух души. «Революционные машины» и литература А. Платонова
и одном образе реальности. Глаз этот порожден киноаппаратом, и является
искусственным, машинным, обесчеловеченным. Эффект воздействия
фильма заключался как раз в особой шехновооруженности киносубъекта.
Программа «кино-оки»: субъект должен, буквально, физически совпасть с «глазом»
киноаппарата. Эйзенштейновский прием иной, - ему важно не столько
очуждение видимого (а в этом весь смысл эксперимента Вертова), сколько
вовлечение сознания массы в видимое ради определенной цели; не
отстраненный взгляд познания, а полное включение зрителя в машинный экстаз.
Киноаппарат выполняет здесь функцию перевода одного состояния сознания в
другое, т.е. является основным орудием управления массовым сознанием.
Вот как должна была масса «чувствовать» приближение волны
машинного экстаза:
«С нарастанием темпа куски монтажно укорачиваются - дробь смены
светлых и темных кадров становится все более частой. Диски вертятся быстрее
и быстрее, и, как бы подхваченная ими, световая дробь монтажных кусков пере-
скалъзывает в реально мчащиеся по крупным планам световые «зайчики» (с
помощью технического приема вертящегося шара, оклеенного осколками зеркала).
В нужное время вся эта система кусков прорезается жерлом трубы сепаратора.
Нужное количество мгновений оно пусто. Необходимое время у нижнего его края
набухает капля.
(Мчатся, сменяясь, крупные планы лиц)
Нужную длительность набухшая капля дрожит.
(Бешено крутятся диски механизма сепаратора)
Вот-вот капля упадет.
(Несутся крупные планы, прорезаемые кручением дисков).
Капля срывается.
Падает!
И звездою мельчайших брызг разлетается, ударив о дно пустого ведра.
И вот уже безудержно, в бешеном напоре вырываясь из тела сепаратора, в это
днище ударяет струя густых белых сливок.
Уже струя и брызги монтажно пронизывают поток восторженных крупных
планов каскадом белоснежных потоков молока, серебряным фонтаном
безудержных струй, фейерверком неугомонных всплесков»*9.
Необходима подборка сильно действующих аттрактивных элементов,
повторяю, - уже преднаходимых, физиологически наиболее действенных;
специально подобранная аудитория, на которую именно эти
аттрактивные элементы могли бы оказать наиболее шокирующее впечатление.
Аттрактивные элементы классифицируются по силе воздействия («чудесное»,
«жуткое», «случайное», «насильственное», «эротическое» и т.п.). Из всех ат-
254
Введение. Homo ex machina
Сепаратор из фильма С .Эйзенштейна «Генеральная линия»
тракционов наиболее значимым остается аттракцион насилия, но лишь в
том случае, когда, по мнению Эйзенштейна, он изнутри подпирается порно-
эротическим. Одно из определений аттракциона: «Аттракцион (в разрезе
театра) - всякий агрессивный момент театра, то есть всякий элемент
его, подвергающий зрителя чувственному или психологическому
воздействию, опытно выверенному и математически рассчитанному на определенные
эмоциональные потрясения воспринимающего, в свою очередь в совокупности
единственно обусловливающие возможность восприятия идейной основы
демонстрируемого - конечного идеологического вывода»30. Термины аттракцион,
аттракция, аттрактивность (притяжение) означают, конечно, не одно
только притяжение или привлекательность, но прежде всего цирковую (шире,
255
Евнух души. «Революционные машины» и литература А. Платонова
театральную) машинерипР1. Аттракцион - это и «машина по
производству эффектов». Но как она работает? Основная ее задача - план онтологии
качеств - заключается в создании эффекта мнимого хаоса, т.е. весьма
организованного. Как если бы все, что находится в поле зрительной реакции, имело
бы свое значение, и должно было действовать с точностью машины. Это
недостижимо, но Эйзенштейн выстраивает аттракционы так, словно их
действие на зрителя будет иметь неизменный результат. За видимостью
аттракционного хаоса скрывается упорядоченная и равновесная система
перцепций. В качестве же аттрактора, смутного и странного, выступает
травматический материал исторического опыта. Однако, как бы
технически «хитро» не был у строен аттракцион, он не может дать должного
результата, если не будет учтен энергетический потенциал, заключенного в нем
напряжения, - порноэротического. Важный двутакт: знаки насилия
накапливаются вокруг «своего» начального аттрактора, - порнообраза?2. Ведь
ясно, что образы насилия, тем более, откровенно поданные, и отталкивают
и притягивают, их нельзя оторвать от эротического возбуждения. Насилие,
покрываясь эротической аурой, опознается как намеренная жестокость,
хотя ни сюжетно, ни тематически, ни идейно, ни даже внутрикадрово оно
не является мотивированным. Так аттрактивные элементы отделяются
от монтажируемого целого и организуются вокруг скрытого аттрактора,
который зритель, хотя и чувствует, но воспринимает опосредованно*3.
12. Но вот перед нами еще один машинный опыт, -
сюрреалистический. Здесь иной подход к пониманию технического. Например, в
сюрреалистической практике нет машин самих по себе, как автономных технических
объектов (они не отождествляются с Природой). Начинают исследовать
машинизацию бессознательного, нежели некий образ машины, навязанный
извне логикой индустриального развития. Машина создает ускорение в
исполнении желания, становясь желанием, точнее, источником исполнения
желаний. Там, где желание машинизируется, появляется машина желания.
Р. Руссель выдумывает все новые машинные устройства практически в
каждом из своих сочинений; они и фантастичны и реальны. Например, «зубная
машинка»: машина по безболезненному вырыванию зубов, изобретенная
главным героем Кантрелем из «Locus Solus»: «Когда возникала необходимость,
работая отдельно обеими руками, он вводил цилиндрик в рот пациента,
прижимал его толстые и не острые края к двум зубам по обе стороны
больного зуба и подводил серый кружочек так, чтобы положить его на синий.
Магнитная сила проявлялась при этом моментально и с такой мощью и
резкостью, что больной зуб, подчиняясь ей, покидал насиженное место, не
оставляя пациенту времени на то, чтобы ощутить хоть какое-нибудь
причиняющее муку движение хирурга»34. Метод был успешно опробован, появи-
256
Введение. Homo ex machina
лось богатая клиентура. И вот тогда изобретатель вдруг решил собрать
мозаику... из вырванных зубов. Но поскольку зубы часто падали на пол, он
решил изобрести еще и устройство, которое сможет подымать их с земли.
Так, от страницы к странице можно наблюдать как великий изобретатель
«ненужных и невероятных машин» не перестает громоздить все новые и
новые устройства. Вот еще поразительный пример: машина воскресения
(я привожу это «изобретение» еще и для того, чтобы указать, насколько
устройства Кантреля отличаются от других, не менее «невероятных», от
тех, которые мы встречаем в романах А. Платонова или в философии «Об
щего дела» Н. Федорова): «После долгих опытов на трупах, вовремя
помещенных в нужные условия, после продолжительных поисков мэтр создал в
конце концов «виталин», а вместе с ним и «воскресил» - красноватое вещество
на основе эритрита, которое, если ввести его в жидком виде в череп
мертвеца через проделанное сбоку отверстие, охватывало мозг со всех сторон и
затвердевало. Теперь достаточно было прикоснуться к какой-либо точке
созданной таким путем внутренней оболочки виталином - коричневым
металлом, который можно было легко вводить в виде короткого стержня
в уже проделанное отверстие, чтобы два этих новых тела, инертные, пока
находятся в разобщенном состоянии, мгновенно производили мощный
электрический разряд, проникавший в мозг, побеждавший неподвижность трупа
и придававший ему поразительную видимость жизни. Вследствие
удивительного пробуждения памяти труп сразу же воспроизводил, причем с высокой
точностью, мельчайшие движения, совершавшиеся человеком в те или иные
знаменательные моменты его жизни, и после этого, не останавливаясь ни
на минуту, он бесконечно долго повторял все тот же неизменный набор
жестов и движений, выбранный раз и навсегда. При этом иллюзия жизни была
абсолютной: живость взгляда, дыхание, речь, различные действия, переходы
- здесь было все»*5. А перед этим приводится еще довольно обширный список
других экспериментов не менее поразительных и бессмысленных^.
ij. Поэтому нет ничего удивительного в том, что машины Дюшана,
исполненные глубокой иронии и сарказма, создаются для того, чтобы
представить непредставимое: тотальную машинизацию человеческих
отношений. Род игры. Например, передать в схематике техно-геометрических
диаграмм игру сексуальности. Для Дюшана занять незаинтересованную
позицию и тем самым радикально устранить проблему «хорошего вкуса» можно
только благодаря «механическим техникам» репрезентации*1. Если
посмотреть рабочие записи Дюшана, предшествующие созданию известного
произведения «La mariée mise à nu par les célibataires», то можно с удивлением
заметить, что опыт пластического воплощения этой странной темы
переводится им на машинно-механический и геометрический язык.
257
Евнух души. «Революционные машины» и литература А. Платонова
Ф. Пикабия. Parade amoureuse (1915)
M. Дюшан. Новобрачная, раздетая
своими холостяками, одна в двух
лицах (Большоестекло) (i9i5_1923)
258
Введение. Homo ex machina
Машина толкует человеческое. Драматическое действо познания
человеческого оказывается внутри автомобильного мотора. Отношение
новобрачной с холостяками выражено в терминах «желания», и оно актуализуется
в «рабочих частях» машины. Каждая из них служит образом для
персонажа и их взаимодействий. Вот характерное пояснение Дюшана: «Этот
мотор-желание - важнейшая часть машины холостяков. Далекий от того,
чтобы быть в прямом контакте с Новобрачной, мотор-желание
отделяется посредством охлаждения вентилятором (или водой). Это охлаждающее
устройство (графически) для того, чтобы выразить, что Новобрачная
вместо того, чтобы быть только бесчувственным куском льда, отказывает
горячо (и целомудренно) поспешному предложению холостяков»**. Дюшан
достаточно систематично разрабатывает устройство всей мизансцены,
которая не может быть воспроизведена в форме реального действия. Это,
так сказать, архитектура замысла, причем абсурдная; она даже
подчиняется точным числовым соответствиям, специфическим гармониям, некой
весьма странной геометрии, но чужда всякой наглядности. Идея
репрезентации терпит полный крах. Перед нами явно схема, но понять замысел мы
не в силах. Мы не в силах понять то, чему не дает объяснения и сам Дюшан.
В этом весь эффект его механо-морфной техники письма. Правда, можно
сказать, что Дюшан (впрочем, как и Кафка) пытался выразить образ сно
видения, скользящий и шстойкий, в свободной форме текущей и неупорядочной
конструкции. Нужно ли нам искать «реальные» эквиваленты дюшановским
образам или все-таки признать, что мы имеем дело с психически
нагруженным материалом сновидений ?Нос другой стороны, нельзя не обратить
внимание, насколько систематично и осторожно разрабатывает свои «машины»
Дюшан (сначала общий рисунок, затем планы и геометрическая схема,
развертывание в трехмерной проекции, инсценирование, и, наконец,
рассказываемая «история»). Как будто речь идет о постановке реальной мизансцены,
- в этом вся суть приема: описывать с допустимой точностью и полным
отчуждением то, что никоим образом не может быть представлено. Дюша-
новская схема произведения-машины не обозначает ничего, кроме самой себя,
да и то лишь в те мгновения, когда она собирается. Дюшан нуждается в
машинном Мимесисе, чтобы обрести власть над сновидными образами,
которые ускользают, расплываются, не даются воспроизведению^; он
приманивает малые и большие машины обещанием любви и преданности.
Желающие машины, (Ж. Делез / Ф. Гваттари)
14- Все многочисленные определения машины, которые можно найти
у Делеза/Гваттари, выстраиваются по логике желания, которое машинизи-
259
Евнух души. «Революционные машины» и литература А. Платонова
рует и машинизируется, становится «машинным бессознательным»40.
Другими словами, машина - это не то, что мы в силу требований к наглядности
и полезности привыкли считать технической машиной, а сам механизм
желания. Желание машинно: там, где оно доминирует, все подвергается
машинизации. Слово «машина» или «машинный» претерпевает
радикальные изменения по смыслу. И с этим нужно считаться. Размышления Делеза/
Гваттари о желающих машинах выстроены так, что нам не объясняют,
откуда пришла эта терминология, каким образом она соотносится с
общепринятой, какие доводы привели отпоров к созданию подобной шизо-машинной
картины мира ? Нет никакой объясняющей связи с предшествующим опытом.
Мы сразу же попадаем в ситуацию движения терминов, которые доступны
пониманию только из их взаимодействия. Мы узнаем, что такое «тело без
органов», «абстрактнаямашина», «диаграммы» или «ризома» неизихдефи-
ниций или их «истории», а из того смысла, который они получают,
сталкиваясь с другими такими же недостаточно проясненными терминами.
Игра отражений, - между ними колеблется смысл, легко уходящий от нас.
ij. Откуда такая нужда в использовании понятия «машины», и
почему оно столь расширительно толкуется ? На мой взгляд, концепция маши-
низма Делеза-Гваттари имеет непосредственное отношение к
сюрреалистической интерпретации машины. Известно, что многие примеры
берутся ими из авангардной сюрреалистической эстетики (Ив Танги, Пикабия,
Ман Рей, Дюшан и др.)?** В отличие от реальных технических машин и
устройств, существуют и такие машины, которые не могут быть наглядно
представлены, т.е. производят эффекты необязательно в
телесно-физической чувственно ощутимой форме? И это и есть те тайные машины желания,
которые управляют миром образов, а образ существует как форма фантази-
руемого потребления реального. Образы производят машины, но машины
весьма специфические, они «неработают», т.е. они не производят ничего
похожего на реальное. Глубокая щель между современным производством
(«работой») и потреблением заполнена желающими машинами. Можно
наблюдать, как формируется машинный образ в сюрреализме. Это уже не
машина русского и западноевропейского авангарда, понимаемая как образец
новой формы жизни, это частная, или индивидуальная машина, которая
даже и не машина, а анти-машина. Подражание машине носит здесь
негативный характер, как если бы своим подражанием я смог бы отрицать
или «брать в скобки» машинные основания существования42. Вот такая
анти-машинная практика становится самодостаточной эстетической
ценностью, независимо от своего подобия с любой действующей технической
или социальной машиной. Сюрреалисты создали анти-машинное письмо
(без устали изобретая «машины, которые не работают...»)**.
260
Введение. Homo ex machina
16. Делез/Гваттари делают старый спор между витализмом и
механицизмом бесполезным. Вот их первый шаг: «Как только разрушено
структурное единство машины, как только оставлено персональное и
специфическое единство живого, обнаруживается прямая связь между машиной и
желанием, машина переходит в сердце желания, машина становится
желающей, а желание машинным»*4. Отличие молярных механик (живого и
мертвого) от молекулярного бессознательного ставится в главу угла. Теперь
можно сделать следующий шаг, второй: перевести машину желающую из
области молярных представлений в молекулярную непредставимость. Как
это сделать? Нужно ввести отношение большого и малого, гигантского и
мельчайшего, необозримого по величине и предельно малого. Своего рода
стерео-оптику. На стороне малого все то, что можно назвать маргинальным,
частичным, рассеянным, раздробленным, что нельзя собрать, чем нельзя
управлять, если только не прибегать постоянно к молярному насилию. Это
мир малых, мельчайших машин, почти лейбницевский мир малым
перцепций и их событий-связей. Делез/Гваттари резко противопоставляют
общественные, технические и органические машины машинам желающим. Но
что такое машина желающая?Я полагаю, что это такая шизо-машина,
которая работает не на повторение уже найденного кода, а на его
постоянном смещении. Так, смещаясь, код не в силах декодировать то, к чему он
не может быть применен. Смещение и есть расщепление. Эта машина
повторяет только одно действие оно расщепляет связи, которые мешают ей
расщеплять. Шизо-субъект - мастер расщеплений. Объединять через расщепление.
Вместо посредствующих звеньев, - тесное примыкание, настолько плотное,
что его не разорвать. Вот почему речь идет об непрерывном уменьшении и
переходе на другой уровень, - бессознательный. Другое имя для рабочих частей
этой машинерии - «частичный объект». Это объект мельчайший,
раздробленный, несоединимый, оторванный от целого, он существует в
отрицательном силовом поле желания. И, наконец, третий шаг - попытка представить
работу машинного бессознательного как чистое производство. А это значит
нечто парадоксальное: ведь производя что-либо, мы производим не то, что
должны якобы произвести, а только само производство. Производство
производит производство как некую непрерывную активность про-изведения,
которое не замыкается на произведенном. Можно ли представить себе
такое? Да, ведь речь идет о желании - о желании желающем желание. Эти
микромашины несут в себе энергию желания, она - их мотор...45
Стоит вспомнить и о других стереоскопических эффектах. Тот же
Гулливер-путешественник оказывается не в своем пространстве (то слишком
малом, то слишком большом), и вместе с тем, все время находится в том же
самом. Физические свойства пространство не изменяются в зависимости
от положения и фигуры самого наблюдателя, это эвклидо-ньютоновское
261
Евнух души. «Революционные машины» и литература А. Платонова
пространство. Совершенно иной эффект мы находим в сказках про Алису
из «Зазеркалья», где изменение роста, облика и функции персонажа создает
новый вид пространства, и путешествие в качестве мельчайшего существа
далеко не то же самое, что путешествие существа других размеров. Идея
психической и образной размерности персонажа стала сюжетом истории,
которая рассказывается. Нельзя не обратить внимание на персонажей-
марионеток в романтической и постромантической традиции
литературы (Э. Т.А. Гофман, Г.-Х. Андерсон, С. Киркегор), их образы кажутся иногда
иллюстрациями идей монадологии Лейбница. В любом случае необходимо,
конечно, вводить различия между топической и психической размерностью
образа персонажа. Лейбниц - один из самых глубоких теоретиков желания,
он отрицал смерть, утверждая желание в качестве символа бессмертия.
Биоизоморфизм, или гигантомахия П. Флоренского
ι у. Переход от одной размерности к другой соотносится с различными
проекциями на природу и ее присвоением. То же самое можно подметить у
Флоренского, для которого важен не человек в природе, а развертывание
природы через человека, и вторым ходом, - становление (рост) самого человека
(принцип «обожения»). Первое - это микрокосмические проекции, второе
- макрокосмические. Здесь мы обращаемся к концепции органопроекции
Флоренского. В сущности, всякое проектирование органа вовне и будет гиган-
тизацией органа («гигантская рука», например, экскаватора, или
«сверхточная рука» лазерного устройства). Все то, что соразмерно человеку,
оказывается результатом возрастания его органологической сложности и
физической мощи. Флоренского преследует миф о двойном подобии: если ты
подобен чему-то высшему, то тебе подобно и все низшее: ты - сердце,
перекрестие подобий. Этот вид связи (по подобию) располагается внутри
каждого органо-проективного отношения. Отношение тело - организм
потенциально, - всеобщая основа для всех видов технических объектов. Развитие
(«история») техники -это самореализация заложенных в организме и
отдельных органах сил технического роста, «орудия расширяют область нашей
деятельности и нашего чувства тем, что они продолжают наше тело».46
Чем больше связи подобия развиваются, тем больше мы способны оценить
потенциал нашего существования, наш ресурс роста. Тело в данном случае
воспринимается как вид синергетического объекта. Удлинять естественные
рычаги воздействия на ближайший мир, и развивать чувствительность
посредством системы тонких приборов. Под органопроекцией Флоренский
понимал возможность дистанцирования по отношению к наблюдаемому
объекту (чувствуемому, контролируемому, открытому к манипуляции). Это
262
Введение. Homo ex machina
ассимиляционное, пожирающее, присваивающее отношение. Здесь активна
одна оптика, оптика обладания.
18. Машина для Делеза/Гваттари - эволюционно совершенно новое
единство, которое не подчиняется органологическим проекциям, В этом
отношении машина - не структура, замкнутая на себя и закрытая, это
скорее общий принцип связи гетерогенного. Все может стать и является
машиной, машинная реальность у же есть, она повсюду и во всем. Все
известные фантастические машины из литературы, философии и социальных
утопий: машины-города, машины-государства, машины-скорости, машины
универсальные и т.п. Фуко изучал разные мегамашины, но особенно две:
прежде всего паноптическую и карательную (абсолютистпско-деспотическую
модель). Кафка - судебную машину, придавая ей черты невероятной по
размерам Протомашины. Циолковский - космотранспортационную машину,
Вернадский - ноосферную (пневму-машину), Чижевский - «солнечную
машину»>47, Н.Федоров - «машину воскресения». Технические машины выступают
как вспомогательные, но не необходимые формы организации
пространства-времени, трат энергии и общей экономии. И поскольку
фантазирование такого рода машинных образов не предполагало их техническое
применение, они так и остались в коллективном бессознательном в качестве
архетипических образов или образов желания. Капитан Немо и его
Наутилус, Эдгар По, его маятники и колодцы, А. Толстой и «гиперболоид
инженера Гарина» и множество других фантастических образцов*6.
Чарли Чаплин - Уолт Дисней - Бестер Китон. Триптих тел и машин
iç. Комика Бестера Китона, короля клоунов немого кино,
физиогномическая. Мы видим всего лишь один прием, но прием великолепный: что бы
не происходило с персонажем, выражение его лица остается неизменным.
Правда, лицо не столь неподвижное, и не настолько маска, оно не инертно
и не безмятежно, как мертвая поверхность. Нет, это лицо живое, или, во
всяком случае, нам это кажется. Физиогномика в этом отношении
разделяется на собственно физиогномику и ее отсутствие: для единичного индивида
она еще имеет значение, для человека массы, стандартного типового
облика - никакого. Тело Китона кентаврично: есть лицо с бледными щеками и
громадными глазами, клоунская маска, она неподвижна и неизменна в
своем положении перед зрителем; с другой стороны, все его тело как будто
механизировано, - техно-протез, чья ловкость, скорость и, самое главное,
неуязвимость составляют магическую силу*9. Он осваивает многие машины
и устройства (паровозы, лифты, автомобили, повозки, велосипеды и т.д.),
263
Евнух души. «Революционные машины» и литература А. Платонова
перемещаясь с громадной скоростью, и где бы он ни появлялся, где бы ни
пытался выжить, везде за ним, как шлейф, тянется цепь разрушений... и
каждый раз мы присутствуем при очередной катастрофе технического мира.
Взрывы, падения и прочие происшествия, которые должны нанести
невосполнимый ущерб даже такому удивительному гимнасту, клоуну,
машинисту, но этого не происходит, он выходит «сухим из воды» в любой ситуации.
Брошен вызов: Китон не собирается подчиняться давлению со стороны
машин, напротив, он ловко, хотя и невольно, использует их слабости, борется
с ними, отрицая машинные правила существования, и выходит
победителем50. Китон - машинист, который не умеет водить паровоз, он нарушает
принцип существования технического объекта, приспособленного для
движения по рельсам: ему нравится управлять паровозами, сошедшими с рельс.
Иными словами, все, что он ни делает, он делать не умеет.
В этом отношении Ч. Чаплин как будто без машины и против
машины, он сам маленькая уродливая и бесполезная машинка: особенная походка,
тросточка, шляпа, узкий пиджачок, громадные ботинки, разведенные
навсегда буквой X, - некий культурный тип маленького человека, чья сила в том,
что изменить или сломать его невозможно. И он воюет и с машинами, и с
машинистами. Перемещается с той невероятной быстротой и ловкостью,
которая вынуждает нас признать, что он способен выживать даже тогда,
когда гибнут и более приспособленные. Герой Ч. Чаплина использует
машину в игре, которую затевает с техническим враждебным миром. Бергсон
полагает, что предметом комизма выступает прежде всего телесная
немощь машинизированных конструкций, объектов и тел: косность,
механизация жеста, неспособность организовать собственное жизненное
пространства . Китон - тоже победитель машин. Но его искусство - в том, чтобы
не уклоняться и исчезать, не прятаться и вновь появляться, короче, не
мерцать, как герой Чаплина, внутри враждебного мира, а напротив,
использовать машину так, как обычно ее используют «технические идиоты»: не
читая инструкций, не подчиняясь никаким правилам, действуя наобум и
в силу создавшихся обстоятельств. Окаменевшая в показном безразличии
маска героя на фоне разрушений, вызываемых его бессмысленной активно
стью. Фигура Китона выражает с непревзойденным бесстрашием наш страх
перед техническим миром (будущим). Комический диссонанс - здесь: между
безмятежностью природного начала и хаосом человеческим жизни.
2 о. Этим двум расщепленным телам, захваченным машинными
ритмами, противостоит образная ткань анимаций Уолта Диснея. Здесь
совершенно иной вид телесного опыта, своего рода анти-машинная
антропология. Эта поистине протеевская способность позволяет каждой
диснеевской фигуре превращаться во что угодно, восстанавливая или теряя свою
264
Введение. Homo ex machina
начальную форму. Способность к превращению дает радость владения своим
телесным образом, как если бы он был без костяка, чисто протоплазмати-
ческим образованием. Эйзенштейн считает, что эта радость жизни
Диснея противостоит квакерской проповеди Чарли Чаплина5'. И уж, конечно,
- ригидности и неизменяемости позы Бастера Китона. Возможно, сила
воздействия диснеевских образов как раз и заключается в том, что они
отражают в себе стихию живых текучих субстанций (воздуха, воды, огняр*.
Но главное даже не в этом. А в том, что базовой миметической моделью
Диснея является Зверь, (вот что позволяет нам «чувствовать» себя
комфортно, восхищаясь всеми этими превращениями). Замечания Эйзенштейна:
«Такова эта стадия, где «оживотнивание» (процесс, обратный
«очеловечиванию» обезьяны, идущей вперед) человека с эффектом воссоздания
чувственного строя мышления ведется не через отождествление, а через уподобление.//
Чувственный аффект получается лишь при чувственном «погружении» в
уподобляющее. //Это решающее в плане подмены человека - животным и
животного - человеком»**. Между мной и миром - образ-проводник,
спроектированный в форме данного телесного образа, который позволяет чувствовать
природу человеческого лишь тогда, когда ей найден звериный эквивалент.
Но это не регрессия, как полагал Эйзенштейн, не сброс телесности на
дологический, чувственный уровень, а наша способность выразить отношение
к миру в пластической, текучей форме. Дисней - мастер животных образов
человеческого. Во всяком случае мы не находим никаких следов машинного
образа, посредством которого с реальностью сообщаются Чаплин и Китая.
265
I
Позиции ЧТЕНИЯ
Видеть, - не понимать
Когда читаешь Платонова, то сначала и не требуешь большего,
просто читаешь, словно завороженный. Но вот останавливаешься,
чтобы перевести дыхание, еще раз проверить то ли, так ли ты
читаешь? Не пронзительная ли достоверность «Эпифанских шлюзов»
и «Усомнившегося Макара», «Чевенгура» и «Котлована»
мистифицирует нас, вовлекая в мир, который невозможно ни принять, ни
простить? Возможно, и знание советской истории не сможет улучшить
наше понимание? Сомнения были бы оправданы, если бы созданный
Платоновым литературный мир был отблеском, отображением
другого, исторически ограниченного мира, - документом,
свидетельствующим на своем языке об эпохе сталинской индустриализации
и коллективизации, судьбе русской деревни 20-30-х годов. Однако
чтение Платонова не зависит от желания знать, как это было на
самом деле, да и проза его далека от того, чтобы раскрыть нам «белые
пятна» отечественной истории55. Тем не менее, литература иногда
дает много больше, чем историческое исследование, представляя
сцену истории в ее подлинном драматизме.
В первые же мгновения чтения мы попадаем в плен к двум равно
активным дистанциям: одна удаляет от нас читаемое, назовем ее
дистанцией комики, другая, напротив, сближает, - это дистанция
трагики. В процессе чтения мы не в силах выбрать ни ту, ни другую. Мы
обнаруживаем их потом, как бы post festum. Выбрать одну из них
можно лишь отказавшись от другой. В процессе чтения выбор
невозможен, ведь необходимо просто читать, а не выбирать, т.е. быть
266
причастным топологии мира, которая уже задана. Весь эффект - в
игре дистанций. Трудно избежать снисходительной усмешки, а то и
приступа смеха, выслушивая эти «глупые», «неграмотные», почти
безумные речи платоновских персонажей. С другой стороны,
чувство безысходности перед откровенной бессмыслицей и
жестокостью подобного мира, где свободно разгуливает смерть, принимая
неожиданные обличья, где мертвый и живой уравниваются в правах.
В каждый момент чтения мы имеем дело с одной и той же
дистанцией, которая, делая нас независимыми от читаемого, даже его
судьями, тут же возвращает нас по невидимой дуге к самим себе. Теперь
мы сами - объект провокации, отвращения и тоски. «Как это все
смешно! Чистая комика!». Но говорить так, это предполагать, что
читаемое может быть оценено, что от него можно легко
дистанцироваться (хотя и с горечью утраты). Но подобного расслоения не
наблюдается. Чтение непрерывно. Эмоционально-чувственная
атмосфера остается той же; нам отказано в праве на выбор: нет
радости без боли и смеха без тоски. Так мы и движемся, перескоками и
кружениями, то удаляемся, то с той же быстротой сближаемся с
читаемым, одна дистанция прячется в другой. Старая формула:
гоголевский смех сквозь слезы («невидимые миру»). Точно направленная
«ударная» комика заставляет нас искать эмоциональное убежище в
трагическом переживании (все то же беспокоящее чувство
сопричастности национальной трагедии). Хорошо известно, что там, где
комика навязчива, принудительна, она легко повергает в страх,
становится пыткой. Одно, чисто смеховое начало для литературы
Платонова немыслимо. Вот почему читать Платонова - это испытывать
сложное чувство, где комическое неотделимо от трагического. Нас
заставляют страдать/смеяться. И причиной тому - вездесущий
поводырь, которому мы вынуждены довериться, - некий безымянный
персонаж платоновской литературы, - все видит, все знает, но
молчит. Получает странные имена «мертвого брата» и «евнуха души». В
«Чевенгуре» мы находим пояснение:
«Но в человеке еще живет маленький зритель - он не участвует ни в
поступках, ни в страдании, он всегда хладнокровен и одинаков. Его
служба - это видеть и быть свидетелем, но он без права голоса в жизни
человека, и неизвестно, зачем он одиноко существует. Этот угол сознания
человека день и ночь освещен, как комната швейцара в большом доме.
Круглые сутки сидит этот бодрствующий швейцар в подъезде человека,
знает всех жителей своего дома, но ни один житель не советуется со
швейцаром о своих делах. Жители входят и выходят, а зритель-швейцар
267
Евнух души. «Революционные машины» и литература А. Платонова
провожает их глазами. Он от своей бессильной осведомленности
кажется иногда печальным, но всегда вежлив, уединен и имеет квартиру
в другом доме. В случае пожара звонит пожарным и наблюдает снаружи
дальнейшие события.
Пока Дванов в беспамятстве ехал и шел, этот зритель в нем все видел,
хотя ни разу не предупредил и не помог. Он жил параллельно Дванову, но
Двановым не был. Он существовал как бы мертвым братом человека: в
нем все человеческое имелось налицо, но чегото малого и главного
недоставало. Человек никогда не помнит его, но всегда ему доверяется - так
житель, уходя из дома и оставляя жену, никогда не ревнует к ней швейцара.
Это евнух души человека»56.
Именно «евнух души» в силу особых качеств, присущих ему как
наблюдателю, создает для нас третью дистанцию, которая, включая
в себя напряженную оппозицию двух предшествующих (трагики и
комики), остается дистанцией не переживания, а чистого видения57.
Произошла трансформация всего поля видения: героем стал евнух
души, претендующий на большее, чем просто владение
универсальным, чистым, «не моргающим» взглядом. Новая позиция, позиция
евнуха души - это уже не позиция человеческого глаза, хотя бы
улучшенного или специфически препарированного; его взгляд видящий,
но не желающий видимого, обеспложенный, глаз вне тела, а, может
быть, и против тела. Важно напомнить, что евнух души - это не
только часть Дванова, ему по силам стать вполне самостоятельным
персонажем (например, таким, как Пухов из повести «Сокровенный
человек»). «Но Дванов не знал, что хранится в каждом теле человека,
а Прокопий знал почти точно, он сильно подозревал безмолвного
человека»58. Непрерывный обмен местами между героями и
«евнухом души», - временами они неотличимы. Комика факта здесь
резонирует с идентичностью «евнуха души» и авторского сознания. Здесь
кончается тоска, тоскующее сознание, здесь впадают в отчаяние.
Прежний созерцательный опыт отвергается в пользу, нового
наблюдателя, созерцающего мир «с высот социализма»59.
Машина для глаза
...Я Кино-Глаз. Я - глаз механический. Я,
машина, показываю вам мир таким, каким
только я его смог увидеть
Дзига Вертов
268
I. Позиции ЧТЕНИЯ
В ранней статье Платонова «Пролетарская поэзия» и фрагменте
«О любви» мы находим весьма значимые высказывания, без которых
было бы трудно объяснить оптическую конструкцию таких
произведений, как «Котлован», «Чевенгур», «Ювенильное море». Первая
позиция для глаза: «Точка объективного внеотносительного
наблюдения, - пишет Платонов, - совпадает с центром совершенной
организации, только отойдя от мира и от себя, можно увидеть, что есть
все это и чем хочет быть все это»60. Что же это за точка наблюдения
и кто располагается в ней? Платонов дает ответ: эту позицию
наблюдения занимает особый глаз, «глаз науки», как он его называет, «немор-
гающий глаз человечества», «свет чистый и до конца прозрачный,
но ни теплый, ни холодный»61. Новое видение там, где оно сможет
достигнуть совершенной организации, «автоматически» изменит
сам мир, материю мира, в котором «понятие работы, сопротивления
человека и т.д., конечно, не будет»68. В положении «евнуха души»
можно заметить одну особенность: глаз евнуха души открыт
навстречу пустоте, он видит только интервалы, разрывы, щели, проемы в
видимом мире, а сквозь них мерцающие поверхности, «дали»,
стирающиеся линии горизонта, серое марево, монотонию пустынных,
истощенных степных ландшафтов. Как бы ничего не видит, ибо его
зрение сфокусировано на том, что не может быть видимым, хотя и
является условием видимого. Мы опознаем фигуру благодаря ее
отделению от фона, но сам фон остается невидим, но «видим» мы его
с помощью фигуры, которая наделяет его значением. Сам по себе
фон инертен и безлик. Тем не менее, Платонов желает заставить нас
поверить евнуху души, зачарованному фоновой пустотой.
Попробуем записать вышесказанное в виде диаграммы:
(А)
/(Ч)
(Αι) -комика
скука
пустота
(нейтральное пространство)
(Бι) -трагика
(Б)
269
Евнух души. «Революционные машины» и литература А. Платонова
Именно благодаря этой оптической машине мы читаем
Платонова. В точке (Ч) располагается читатель, в точке (Е) - евнух души.
Они - центры двух пространств, как бы вложенных друг в друга.
Важнейшей точкой всей диаграммы является точка (Е), в ней
происходит встреча читателя с реалиями платоновского мира. Это точка
шокирующая, вызывающая эффект остраннепия. Первое же
соприкосновение рождает мгновенную вспышку чувств, - аффект
трансформируется в дистанцию. Если аффект осознается как трагика, -
отчаяние, сострадание и боль, - то дистанция будет определяться
сближением, ростом значимости фигур-персонажей (они выходят за
границу литературного пространства); переживание проектируется
в текст, а затем извлекается в качестве образа, соответствующего
эмоциональному переходу по линии (Б-Б^Ч). Амплитуда
трагического переживания формируется в точке (Ч), не в (Е), т.е. она
вторична по отношению к шоковому переживанию, которое испытал
читатель в первые мгновения чтения.
Аналогичная процедура эмоционально нагруженной реакции
действует на уровне эффекта комики. С одним отличием: теперь
читатель не сближается, а удаляется, и чем быстрее, тем более заметен
комизм ситуации по линии (А-А^Ч). Трагика исчезает, и
исполинские фигуры смысла, страдания и боли свертываются до маленьких
фигурок, пришедших из русского революционного лубка,
трогательных и очень смешных («ведь они так странно говорят, так
задумчиво-заумно»). Для евнуха души ни одна из дистанций не является
исходной, он обладает внедистантным зрением. Одна дистанция
прячется в другой, ведь они принадлежат тем позициям, которые
займет впоследствии читатель. Евнух души их занять не может; он
видит то, что мы не можем видеть, саму пустоту, ничто жизни.
Другими словами, его взгляд контролирует нейтральное пространство.
Евнух души - тот, кто наблюдает, свидетельствует, движется
параллельно; по определению он лишен права быть нормальным
чувствующим существом, тем более вносить в мир какой-либо «разумный»
порядок.
Конечно, евнух души не всегда просто видит: резкое изменение
поля наблюдаемых событий возникает одновременно с появлением
у наблюдателя прежде вытесненного эмоционального отношения
(иногда это сочувствие, чаще скорбь и тоска). Именно тогда
искривляется его путь, параллельные сходятся в одной точке, и эта точка
- почти всегда смерть. Лишь смерть способна возобновить
жизненные важные функции, и она возобновляет их только раз, тут же
стирая из памяти.
270
I. Позиции ЧТЕНИЯ
Наталкиваясь на неувязки в функциях наблюдения, читатель
начинает понимать: то, что он читает, хотя и инспирировано евнухом
души, не зависит от путей наблюдения, которыми тот движется.
Платоновская проза живет постоянно возобновляемым разрывом
между переживанием и формой изображения, которую
контролирует евнух души. Будем внимательны! Быть может, главное здесь в
том, что евнух души не способен чувствовать то, что он видит;
именно радикальная установка на то, чтобы описывать, ничего не желая,
и определяет особенность такого взгляда.
Душевная бедность наблюдателя создает поле негативных
телесных знаков, которые активно воздействуют на процесс чтения.
Однако не следует забывать, что евнух души, - это что-то оставшееся
от «души», возможно, ее «часть». Может быть, это существо,
пережившее жуткий страх кастрации; боль и стыд наказания (угроза,
исходящая от Отца-Деспота). И все-таки позиция его объективна, это
позиция а-сексуального существа, чье сознание не замутнено желаниями
и поэтому нейтрально к человеческим страстям. Все высматривает,
следит за всеми телами, тут же «прилипает» к тем, которые готовы
желать.
Итак, «евнух души» - это субъект (Е), наделенный душой, но
душа эта эмоционально ограничена видением нейтрального
пространства: по линии (Ε-A1) мы получаем ведущую эмоцию, общую
тональность чувства, которое является реакцией на нейтральное
пространство, - это эмоция скуки. Читающий Платонова об этом предупрежден.
По линии (Е-Б1) мы получаем другую эмоцию, столь же активно себя
заявляющую в моменты чтения, эмоцию тоски. За этим расщепом
на трагику и комику скрывается переходность трех эмоциональных
состояний: скуки- тоски- пустоты. Евнух души - не бесчувственный
наблюдатель, хотя заявляет о своей объективности; он видит мир в
единой тональности.
Приведу два примера, которые, надеюсь, позволят пояснить
нашу схему и с позиции специального знания.
(ι) Катастрофа восприятия. По мере чтения Платонова мы
оказываемся все ближе к тому, чтобы определить переживаемый нами
опыт как катастрофу восприятия. Напомним старый
хрестоматийный пример по психологии восприятия: античная ваза и два профиля.
Восприятие этого рисунка отличается бистабильностью, как говорят
психологи, так как в одном случае мы можем сказать: то, что мы
видим, есть ваза, а в другом - это два профиля. Нарушена
субординация фигуры и фона. Фигура не выделяется из фона, ибо ее контур
271
Евнух души. «Революционные машины» и литература А. Платонова
составляется, а, точнее, вырезан из самого фона, и, причем так, что
ее внешними границами являются линии, принадлежащие не
только ей самой. Наибольший интерес вызывает здесь эта динамика
переключения восприятия. Как же мы осуществляем переход от одного
дискретного образа к другому? Да, действительно, «это (есть) ваза»,
но в последующий момент она - уже не ваза, а два профиля. Называя
то, что мы видим, мы переключаемся из одного пространства в
другое, и это переключение зависит от опознания фигуры и наделения
ее именем. Другими словами, если я что-то отождествил с чем-то
мне известным, значит я воспринял. Я воспринимаю только
посредством указывания-на то, что должно восприниматься.
В
Единый ход восприятия здесь нарушен, так как мы не можем
плавно перейти от одного образа к другому, между ними - разрыв.
Существенное онтологическое различие. Две стратегии - искусственно
слитые, - каждой из которых не достает самого элементарного:
избавления от чужих границ. Чтобы видеть профили, необходимо
обежать взглядом границы вазы, чтобы видеть вазу - границы профилей.
Отграничивающая линия является неизменной и себе равной тогда,
когда она принадлежит одновременно двум другим: будучи вне одной
фигуры, она является в то же самое время внутри другой. По этой
кривой и проходит граница перцептивной катастрофы, и эта линия
должна быть интерпретирована в качестве топологической границы
(а не геометрической), которая разъединяет лишь постольку,
поскольку соединяет.
В этом вся суть феномена катастрофы восприятия. На какое-то
время мы испытывает что-то подобное шоку не в силах
синтезировать единый образ, гештальт. А это значит, что наше восприятие
мира дискретна между двумя фигурами протекло время, которое не
было воспринято (я имею в виду мгновение переключения). Переход
от одной фигуры к другой мгновенен и разрушителен, но
топологически плавен и непрерывен63.
272
I. Позиции ЧТЕНИЯ
(2) Дз.Вертов и интервал. Идеал платоновского видения
солидарен с поисками Дзиги Вертова в кинематографе. Как можно видеть
материю или, быть может, как материя может видеть саму себя? Эти
вопросы можно уточнить: как и с помощью каких средств возможно
видение того, что остается невидимым (материальный состав мира
на уровне микроскопии сил и элементов)? Невероятно
воодушевившее тогда многих деятелей авангарда событие - это изобретение
кинематографа (идеального технического средства познания мира).
Вертов создает теорию «сверхчеловеческого глаза»: этой машины-
глаза (кино-око, кино-глаз), чудодейственный образец оптической
механики: «Кино-глаз живет и движется во времени и в пространстве,
воспринимает и фиксирует впечатления совсем не как человеческий,
а по-другому. Положение нашего тела во времени наблюдения,
количество воспринимаемых нами моментов того или другого зрительного
явления в секунду времени вовсе не обязательны для киноаппарата,
который тем больше и тем лучше воспринимает, чем он
совершеннее»64. Лишь благодаря этому механическому глазу человек
оказывается приобщенным к новому видению, способному видеть «без границ
и расстояний». И для этого у киноглаза есть множество
возможностей: одни определяются спецификой кинокамеры как механико-
оптического устройства (ее способностью порождать новые точки
зрения на мир)65; другие - монтажем, благодаря которому
достигается совмещение различных позиций кинокамеры во времени и
пространстве, соединение несоединимого: далекого и ближайшего,
великого и неприметного, случайного и ожидаемого. Возникают
необычные, новые пространства для человеческого глаза, они выглядят для
него, опутанного перцептивными предрассудками, шокирующими.
Принцип «интервала» позволяет совместить возможности камеры
как механического глаза и монтажную технику. Камера схватывает
реальность с необычных точек, каждая из них отделяется от другой
с помощью интервалов (временных и пространственных). Интервал
не ограничивает движение камеры, а дает ей возможность
открывать невидимое, проникать в глубины материального мира. Череда
интервалов организует ритм видимого; монтаж лишь закрепляет эти
ритмы66. Фильм Вертова «Одна шестая часть света» - как раз
попытка создать условия для формирования общности наднациональной
идентичности. Другими словами, глаз получает сверхчеловеческий
смысл, то есть, это кино-око - не просто техническое средство, а
глаз самой материи, которым она может видеть сама себя в том
состоянии, месте и времени, где нет места человеческому восприятию.
Вот это невиданное прежде и вызывает шок. Новые монтажные стра-
273
Евнух души. «Революционные машины» и литература А. Платонова
тегии способны свести случайные колебания интервалов во времени
и пространстве в единый ритм материального целого. Путь к
созданию новых тел и миров открыт. И в этом смысле коммунизм - не
столько даже новая социальная формация, сколько новая форма
всеобщей организации материи. Действительно, когда Вертов
заявляет природу механического глаза как особого «чувственного» органа
(сама «кинокамера»), то он имеет в виду его «нечеловеческие»
свойства. Это глаз механики, глаз-машина. Иначе говоря, он
противостоит человеческой телесности и не нуждается в ней, т.е. существует
вне ограничений, налагаемых обычно параметрами человеческого
тела на зрительные процессы. Почему обращения к экспериментам
Вертова кажутся нам оправданными? Потому, что видение Платонова
также опирается на возможность интервализации видимого. Но
платоновский интервал должен пониматься не как то, что соединяет,
в конечном итоге, все разъединенное в пространстве и времени, а
как незаполненный, «пустой» отрезок пространства или как
остановленное «оборванное» время. Энергия интервала у Платонова
представляется энергией пустоты, за-пустения или о-пустошения
пространства.
Требуется более широкая рамка для пояснения эффекта «биста-
бильности восприятия», которое, на наш взгляд, - следствие
эпохального социогенеза. В начале 20-х годов Платонов призывал
занять точку «объективного внеотносительного наблюдения», такую
позицию, благодаря которой может быть не только увидена, но и
перестроена вся материя человеческой и природной жизни. Позднее
появляется фигура евнуха души, символа заката авангардных
машинных утопий, для которого собственное тело, откуда, казалось, он и
должен исследовать мир, остается чужим пустым домом: оно больше
не «могучая машина». Единство наблюдателя и наблюдающего «я»
распадается. Тело, захваченное силами внешнего (космократическая
утопия), подвергается отделению от человеческой субъективности,
от «души», теряет индивидуальные признаки. «Сам, я, кто пишет
эти слова, пережил великую эпоху мысли, работы и гибели, и
ничего во мне не осталось, кроме ясновидящего сознания, и сердце мое
ничего не чувствует, а только качает кровь»67. Новая точка
наблюдения теперь располагается не в оптимистическом пространстве
воли к господству над миром и природой, а в катастрофическом.
Евнух души - свидетель и летописец катастрофы. Для Платонова
катастрофа или конец времени и в целом эсхатологическое
переживание времени имело громадное значение. Так именно он и
чувствовал свое время, как время без времени, т.е. как время, которого
274
I. Позиции ЧТЕНИЯ
будто бы и нет. Как жить настоящим, если по воле величайшей из
катастроф, революционной, ты вдруг оказываешься в будущем, из
которого ушло время (как вода в песок). Литературы Достоевского
и Белого скорее апокалиптичны, т.е. живут каждым мгновением
завершающегося времени (тема «вдруг-времени» и «миг-времени»). Для
Платонова же время стало, «застыло в оцепенении», и нужно так
жить, как если бы оно действительно завершилось, - нужно быть
после времени, - мертвым. Герои «Котлована» не устают повторять:
«Мы годимся для будущего только мертвыми». Наиболее точно этот
эпохальный переход просматривается в рассказе «Потомки солнца»,
причем с той силой искренности и доверия к читателю, которую
впоследствии Платонову пришлось скрывать:
«Я сторож и летописец опустелого земного шара. Я теперь одинокий
хозяин горных вершин, равнин и океанов. Древнее время наступило
на земле, как будто вот-вот двинутся ледники на юг и береза
переселится на остров Цейлон»68.
«Глубокое, тихое, задумавшееся человечество. Гремящая, воющая,
полная концентрированной мощи, в орбите электричества и огня армия
машин, неустанно и беспощадно грызущая материю.
Социализм - это власть человеческой думы на земле и везде, что я вижу
и чего достигну когда-нибудь.
Из племен, государств, классов климатическая катастрофа создала
единое человечество, с единым сознанием и бессонным темпом работы.
Образ гибели жизни на земле родил в людях целомудренное братство,
дисциплину, геройство и гений.
Катастрофа стала учителем и вождем человечества, как всегда была им.
И так как все будущие силы надо было сконцентрировать в настоящем
- была уничтожена половая и всякая любовь. Ибо если в теле человека
таится сила, творящая поколения работников для длинных времен, то
человечество сознательно прекратило истечение этой силы из себя,
чтобы она работала сейчас, немедленно, не завтра.
И семя человека не делало детей, а делало мозг, растило и усиливало
его - этого требовала смертельная эпоха истории»69.
Надо только понять, что уравновесить силу катастрофы может
только чудо, только оно одно может вернуть человеческое время,
но уже не сам человек, и это чудо ВЕЛИКАЯ МАШИНА, - будущее
человечества в ее руках.
Евнух души. «Революционные машины» и литература А. Платонова
Двойственное существо. Внешнее и внутреннее
А человека воспитал случай, он стал
двойственным существом...
А. Платонов
Взгляд евнуха души - не знакомый ли нам сегодня взгляд шизо-
субъекта?70 Проверим себя. Некий больной жалуется на
расщепленность своих восприятий, так, например, он не может найти ничего
общего между птицей, которую он видит, и той же птицей, которая
щебечет: для него это две различные птицы, и между ними - разрыв,
который его угнетает и тревожит. И тогда только птица начинает
щебетать, когда ряд видимого и звукового смогут быть отнесены к
одному и тому же живому существу, к этой птице. Ему не свести к
единству существования собственное тело и представление о нем,
он полагает со страхом, что это не его тело, и что он вполне может
обойтись без него. Нечто подобное мы находим и в зрительном
поле евнуха души, который видит, но не различает видимое по
значимым функциям, - в его видении отсутствует важнейший элемент,
оценочно-познавательный. Пустота становится главным объектом
созерцания, но негативным, исключающим понимание
происходящего. Такое видение неспособно связать разрозненные детали в
одну непротиворечивую картину. Но для евнуха души не нужно «знать»
о том, что он видит. Радикальный отказ Платонова от скрытой
позиции автора-рассказчика, от «третьего», всезнающего и все
истолковывающего посредника, который один в силах разделить
смешанные образы комического и трагического, внешнего и внутреннего,
фигур и тел, придать их взаимосвязи наглядность и необходимость.
Глаз евнуха души видит лишь то, что - между, лишь то, что в силах
показать читателю, как может быть соединимо несоединимое. Так
демонстрируется разъединенность телаи души, никто не живет
собственным телом, оно появляется лишь в качестве смертного. О чем
говорят имена - «мертвый брат», «евнух души», «полночный сторож»,
«наблюдатель»? Ими Платонов награждает странного гомункулуса,
живущего внутри сознания каждого из персонажей.
«Дванов все-таки прилег. Ему показалось, что он с кем-то вдвоем; он
видел одновременно и ночлежную хату, и самого себя, лежачего на
печке. Он отодвинулся, чтобы дать место своему спутнику, и, обняв его,
забылся«.71
276
I. Позиции ЧТЕНИЯ
«Чувства высоко поднимались сердцем и падали по другую сторону его,
уже превращенные в поток облегчающей мысли. Но над плотиной
всегда горел дежурный огонь того сторожа, который не принимает участия
в человеке, а лишь подремывает в нем за дешевое жалованье. Этот огонь
иногда позволял Дванову видеть оба пространства - вспухающее теплое
озеро чувств и длинную быстроту мысли за плотиной, охлаждающейся
от своей скорости»78.
«...сейчас он ни о чем не думал, и старый сторож его ума хранил покой
своего сокровища,— он мог впустить лишь одного посетителя, одну
бродящую где-то наружи мысль. Наружи ее не было: простиралась пустая,
глохнущая земля, и тающее солнце работало на небе, как скучный
искусственный предмет, а люди в Чевенгуре думали не о пушке, а друг о
друге. Тогда сторож открыл заднюю дверь воспоминаний, и Дванов
снова почувствовал в голове теплоту сознания...»73.
Вот еще одно замечательное наблюдение:
«А человека воспитал случай, он стал двойственным существом. И вот
иногда, в болезни, в несчастье, в любви, в ужасном сновидении, вообще —
вдалеке от нормы, мы ясно чувствуем, что нас двое: то есть я один, но во мне
есть еще кто-то. Этот кто-то, таинственный "он", часто бормочет, иногда
плачет, хочет уйти из тебя куда-то далеко, ему скучно, ему страшно. Мы
видим — нас двое и мы надоели друг другу. Мы чувствуем легкость,
свободу, бессмысленный рай животного, когда сознание наше было не двойным,
а одиноким. От животных нас отделяет один миг, когда мы теряем
двойственность своего сознания, и мы очень часто живем в архейскую эпоху,
не понимая такого значения. Но вновь сцепляются наши два сознания, мы
опять становимся людьми в объятиях нашей "двусмысленной" мысли, а
природа, устроенная по принципу бедного одиночества, скрежещет и
свертывается от действия страшных двойных устройств, которых она не
рождала, которые произошли в себе самих. Как мне жутко быть одному теперь!
Это вечное совокупление двух страстей, согревающих мою голову»74.
Находясь «внутри» затененной области, евнух души между тем
не-воплощен, пе-во-плоти: тело отделилось от него и существует
«поодаль, а не вплоть». Сознание героя испытывает нечто подобное
шизофреническому коллапсу. Что такое Два-нов? Сновидная пара:
Дванов-I (отец), Дванов-И (сын) производная от другой изначальной
шизо-пары: Дванов - «евнух души». Платонов тонко чувствовал
глубину этой двойственности. Все ощущения, которые признаются под-
Евнух души. «Революционные машины» и литература А. Платонова
линными, располагаются в странном пространстве «я-чувства»,
которое не воплощено, не имеет телесной опоры, и, следовательно, не
способно связаться с миром посредством необходимого медиатора,
каким является образ тела. Более того, то, что сегодня называют
«моим телом», объективируется во внешнем по отношению к «я-чув-
ству» представлении, за которым скрывается фальшивый,
неподлинный субъект. Тогда телесные органы, ощущения и их функции
воспринимаются как чуждые, принадлежащие кому-то другому. Шизо-
субъект наблюдает за ними со стороны, хотя сам находится во
внутреннем. То, что в обычной практике использования образов тела
помечается как «там» (дальнее), а другое как «здесь» (близкое), в клинике
шизофрении может разворачиваться в обратной последовательности:
«здесь» сменяется на «там». Дванов отправлен в странное путешествие,
ибо то, что он знает о себе, он знает от молчаливого сторожа,
«мертвого брата», который якобы является его душой, но душой
невоплощенной, относящейся к телесному двойнику как к чему-то
случайному и ущербному. Дванов не перестает удваиваться за счет евнуха души.
И лишь тогда к нему приходит спокойствие и равновесие, когда он
совпадает с отцом, или сливается с коммунальным телом Чевенгура.
Как видно на рисунке, евнух души контролирует пространство
треугольника, очерченного сплошной линией; все, что «выше» или
«ниже» (трагика/комика - только интерпретации). Можно ли сказать,
что это пространство является пространством нейтральным?
Вероятно, более адекватного термина не найти. Нейтральное пространство
снимает пограничное напряжение между внешним и внутренним,
далеким и близким, своим и чужим, трагикой и комикой. Евнух души
способен видеть и «чувствовать» лишь потому, что является внешним
себе, и чем более увеличивается пространство разрыва, тем в
большей степени все внутреннее оказывается себе внешним. Нейтральное
пространство - это пространство, где силы внешнего формируют
образы внутреннего. Действительно, евнух души не понимает
органических, наследуемых связей жизни. Евнух души часто наблюдает, как с
одними покинутыми телами сталкиваются другие, как проникают в
них странные предметы, как они застревают в коже, мешают дышать
Пример: маленькие вещи - коробки, черепки, валенки, кофты - вдруг
обратились в грузные предметы огромного объема и валились на Два-
нова, «он их обязан был пропускать внутрь себя, они входили туго
и натягивали кожу. Больше всего Дванов боялся, что лопнет кожа.
Страшны были не ожившие, удушающие вещи, а то, что разорвется
кожа и сам захлебнешься сухой горячей шерстью валенка,
застрявшего в швах кожи»75. Кожа больше не защищает, она перестала быть не-
278
I. Позиции ЧТЕНИЯ
преодолимой границей между внутренним и внешним. То, что было
внутри, изгоняется на поверхность кожи, то, что было извне,
оказывается внутри. Хотя это и сновидение, но оно реально как ощущение: тело
становится пористым, покрывается разрывами, утрачивается связь
между «я»-чувством («телесным эго») и самим телом. «Я-чувство»
теперь кочует поверх собственного тела, и лишь наблюдает за тем,
что происходит с его телесной формой без страха и удивления. Даже
самые задумчивые из платоновских персонажей больше напоминают
мудрецов-автоматов, нежели ответственных за свои поступки живых
и разумных людей. Так, они могут наблюдать собственную
физиологию мысли, но не в силах ее психологически освоить. Физиология
предстает случайной, и они, эти персонажи-сомнамбулы, эти шизо,
пойманные в ловушку «внеотносительного, объективного
наблюдения», обречены оставаться странными природными автоматами,
чье сознание течет по поверхности собственного тела и вещей, не
находя убежища во внутреннем. Платонов сознает прием: евнух души
действительно «не знает ни телесной, ни душевной боли». Именно
благодаря этому незнанию ни один из его персонажей не
испытывает физических мук и страданий - полная анестезия. Тем не менее,
читая Платонова, мы не можем не заметить, как удаленное от нас
событие почему-то глубоко проникает в нас. Местоположение болевого
очага сместилось - теперь это наше внутреннее. Поражает не
точность безучастного описания физического события, а скорее то, что
боль никому не принадлежит, как будто в мире Платонова
действенны силы, слепые к индивидуальному существованию. Важно показать
не вот эту физическую боль, а силу, которая ее вызывает. Пролет
смертоносной пули, треск костей от удара или глубокая рана
(«железная птица, шевелилась колкими остьями крыльев»76 - описание
раны Дванова) - все это внешнее распределяется по поверхности
странных тел, убивая их и калеча, но сами эти тела не способны
чувствовать, - их боль просто некому пережить. Иначе говоря, никто
не в силах поставить под сомнение могущество внешних сил, а евнух
души - их первый вестник. Приведем некоторые свидетельства:
«Там его вывели однажды во двор и поставили к ограде, сложенной из
старого десятивершкового кирпича; Божев успел рассмотреть эти
ветхие кирпичи, которые до сих пор еще лежат в древних русских
крепостях, погладил их рукой в своей горести - и вслед за тем, когда Божев
обернулся, в него выстрелили. Божев почувствовал ветер, твердой
силой ударивший ему в грудь и не мог упасть навстречу этой силе, хотя и
был уже мертвым; он только сполз по стене вниз»77.
279
Евнух души. «Революционные машины» и литература А. Платонова
А вот картины казни «буржуев»:
«Чекисты ударили из нагана по безгласным, причастившимся вчера
буржуям - и буржуи неловко и косо упали, вывертывая сальные шеи до
повреждения позвонков. Каждый из них утратил силу ног еще раньше
чувства раны, чтобы пуля попала в случайное место и там заросла живым
мясом»78.
«Чепурный и Пиюся пошли лично обследовать мертвых буржуев;
погибшие лежали кустами - по трое, по пятеро и больше, - видимо,
стараясь сблизиться хоть частями тела в последние минуты взаимного
расставания. Чепурный пробовал тыльной частью руки горло буржуев, как
пробуют механики температуру подшипников, и ему казалось, что все
буржуи еще живы. /.../
Пиюся и Чепурный прощупали всех буржуев и не убедились в их
окончательной смерти: некоторые как будто вздыхали, а другие имели чуть
прикрытыми глаза и притворялись, чтобы ночью уползти и продолжать
жить за счет Пиюси и прочих пролетариев; тогда Чепурный и Пиюся
решили дополнительно застраховать от продления жизни: они
подзарядили наганы и каждому лежачему имущему человеку - в
последовательном порядке - прострелили сбоку горло - через железки.
- Теперь наше дело покойнее! - отделавшись, высказался Чепурный. -
Бедней мертвеца нет пролетария на свете. /.../
К утренней заре чекисты отделались и свалили в яму всех мертвых с их
узелками. Жены убитых не смели подойти близко и ожидали вдалеке
конца земляных работ. Когда чекисты, во избежании холма, разбросали
лишнюю землю на освещенной зарею пустой площади, а затем
воткнули лопаты и закурили, - жены мертвых начали наступать на них изо
всех улиц Чевенгура»79.
В приведенных отрывках заметно, как вибрирует граница
между внешним и внутренним (во всяком случае, для нас), евнух души
же ее не замечает: он присутствует повсюду, взгляд его проникает в
мертвого Божева, нам слышен хруст шейных позвонков, мы даже
видим, как убыстряется время, будто с помощью Zeitlupe, - пуля,
попавшая в человеческое тело, «обрастает салом». Оптика массового
убийства. Отсюда вся магия платоновского языка, страдающего
разрывом между буквальностью изображения события и его смыслом:
передача физического события, сведенная до действия случайных сил,
создает отчуждение от читаемого, ибо мы ведь не евнухи души и
знаем (пускай знаем как бы потом, словно спохватившись), что перед
280
I. Позиции ЧТЕНИЯ
нами не рядовая механика столкновения физических тел («плоть»
и «свинец»), а убийство людей. Однако внезапное понимание
происходящего нельзя приписать появлению некоего смысла, который
восстанавливает утраченное нами равновесие с миром истории («так
было надо», «это было ошибкой», «дикостью», «фанатизмом»,
«преступлением против человечности» и т.д.). Пока мы читаем тот же
«Чевенгур», сфера бессмысленности происходящего будет только
разрастаться, она не даст нам ни шанса занять позицию сострадания
или суда. Мы должны принять все, как есть, или не читать вовсе.
Хоть немного почувствовать на собственной коже, как неотвратимо
перемещается граница между внутренним и внешним, между тем,
что может быть нами освоено как смысл, и тем, что его отрицает.
Это другой мир, иное пространство, иное время, возможно, оно
намного ближе к нам, чем те рациональные конструкции, с помощью
которых мы неустанно проектируем внешнее, желая обрести мир,
свободный от безумия платоновских персонажей.
В картинах внешнего открывается и опыт сексуальности в мире
Платонова. Сексуальный акт изображается как мгновенная
вспышка смертного чувства, его «переживание» объективно: оргазм
оказывается физиологически трансформированным, - результатом смещения
внутренних органов, самопроизвольного и случайного. Регулятор
акта - «сердце». Было бы наивно отрицать сбой сердечной мышцы, так
как само сердце здесь не столько образ, сколько свидетельство
авторской аскезы («борьбы с плотью»). Только отдельные герои
«Чевенгура» и «Котлована» испытывают что-то вроде сексуального аппетита,
другие же, лишенные пола, - а их подавляющее число, - предстают
партией революционных аскетов. Понятно, что спонтанное
проявление сексуального чувства (мастурбация, например) толкуется не
только как отступление перед биологической потребностью, но и как
знак сомнения в революционном деле. Значит, не все силы отданы,
значит появились вопросы, значит революция - не главное? Революция
для Дванова, героя «Чевенгура», - событие, за которым нет времени
жизни, в ней -другое время, которое не принадлежит тем, кто
совершает революцию. Следовательно, половая любовь возможна в те
мгновения жизни, которые уже за пределами революционного времени.
«Сам Дванов не чувствовал ни радости, ни полного забвения: он все
время внимательно слушал высокую тонкую работу сердца. Но вот
сердце сдало, замедлилось, хлопнуло и закрылось, но уже пустое. Оно
слишком широко открывалось и нечаянно выпустило свою единственную
птицу»80.
281
Евнух души. «Революционные машины» и литература А. Платонова
«Он сжал ног)' коня обеими руками, нога превратилась в благоухающее
живое тело той, которой он не знал и не знает, но сейчас она стала ему
нечаянно нужна. Дванов понял тайну волос, его сердце поднялось к
горлу, он вскрикнул в забвении своего освобождения и сразу почувствовал
облегчающий удовлетворенный покой. Природа не упустила взять от
Дванова то, зачем он был рожден в беспамятстве матери: семя
размножения, чтобы новые люди стали семейством. Шло предсмертное время,
- в наваждении Дванов глубоко возобладал Соней»81.
«Симон угрюмо обнял ее и перенес с твердого корня на мягкий холм
материнской могилы, ногами в нижние травы. Он забыл, есть ли на
кладбище посторонние люди или они уже все ушли, а Софья Александровна
молча отвернулась от него в комья земли, в которых содержался прах
чужих гробов, вынесенный лопатой из глубины»8*.
Заметим, что оргазму не предшествует желание обладать какой-
либо конкретной женщиной, нет никакой любви, скорее оргазм лишь
воспоминание о желании, о том, что когда-то была еще и обычная
земная любовь. Хотя надо сказать и другое, может быть самое
главное, на что невольно указывает сам Платонов: оргазм представляет
собой мгновенный вид обмена энергией жизни между
родственными телами под знаком нарастающего чувства смерти, именно оно
стимулирует желание. И смерть - наказание за инцест, ведь на самом
деле платоновские персонажи, действительно, братья и сестры.
Язык-палач
Пиюся входил в любой очередной дом, отыскивал
самого возмужалого буржуя и молча ударял его по скуле.
- Читал приказ?
- Читал, товарищ, - смирно отвечал буржуй. -
Проверьте мои документы - я не буржуй, а бывший
советский служащий, я подлежу приему в учреждения
по первому требованию.
А. Платанов. «Чевенгур».
Можно, конечно, полагать, что Платонов пытался придать
литературную форму нелитературному языку: говорам крестьянской
и городской среды, жаргону технократических утопий, «классово-
282
I. Позиции ЧТЕНИЯ
революционной» риторике бурного времени. Иначе говоря, видеть
в платоновском языке только стилизацию. Ну, а если предположить,
что язык его строится совершенно иначе83? Но как? Для начала
следует заметить, что он не составляется из различных диалектов (чего,
как известно, требует социально стратифицированный и оседлый
литературный язык); в нем нет ничего общего с языковым
изобретательством Ремизова или Лескова. Этот язык можно назвать: язык
als ob (как если бы). Словечко als ob - не знак стилизации, в нем нет
следов авторской позиции по отношению к материалу. Я использую
представление о языке ab ob как основную модальность
платоновского письма для того, чтобы указать на скрытую неязыковую силу,
которая и делает платоновский язык именно таким. Это сила космокра-
тической утопии, действующая внутри и против того языка, на
котором говорят. Язык Платонова возникает как явление смысла там,
где повседневный язык подвергается деформации из-за вторжения
в него чуждой разрушительной силы: бытовое слово больше не
соотносится с сакральным в порядке нисходящих значений. Напротив,
теперь общинно-коммунальное речевое поведение получает
качества сакрального. Эта мощь захвата повседневного словаря
мотивирована чистотой утопического взгляда. Язык Платонова - итог войны
языков: космократического (космического или вселенского) и языка
людей, мирского, или обмирщенного8*. Нам не отделаться от
тревожащего чувства, что все эти странные образы, фигуры и тела, которые
проходят перед нами, почему-то близки нам. Смешав в себе
директивы, лозунги, инструкции и приказы с невероятностью
коммунистических утопий, язык победившего класса проник в повседневную
речь, и сегодня нам все труднее ее понимать, хотя литература
Платонова говорит на языке, который отчасти врожден и нам,
постсоветским культурным персонажам.
После нескольких минут чтения платоновского «Котлована»
открываешь эту чудную силу платоновского языка, что отнимает у нас
привычную веру в реальность и отбрасывает в другую сторону, - к
истине. Теперь мы на деле постигаем всю искусственность нас как
живых существ, мы - языковые субстраты. Не более того. Трагическая
комика платоновского персонажа в том, что он приговорен к
смерти языком. А это значит, что всякий, кто попытается овладеть
языком невозможного (утопического) и заговорить на нем как на языке
повседневного, приговорен. И этот приговор не следует
рассматривать как метафору. Приговор-к-смерти в данном случае имеет
буквальное значение: такой язык действительно приговаривает к смерти
283
Евнух души. «Революционные машины» и литература А. Платонова
всех, кто пытается говорить на нем. И в силу своей
террористической мощи, он способен угрожать другим языкам и диалектам, другим
телам, земным и небесным, другим пространствам, где еще живет
речь, неподвластная языку-палачу. По мере того, как космократиче-
ский язык начинает развертываться, разрушаются все естественно-
органические, спонтанно сформировавшиеся связи между людьми.
Каждое тело-персонаж гибнет с каждым высказанным им словом.
Этот язык желает «сбыться» во что бы ни стало, даже вопреки тому,
что не останется тех, кто на нем смог бы говорить. Слово космократи-
ческое отрицает собственный смысл действием85. Что такое
революционный язык f86 Для Платонова - это язык полуграмотной
крестьянской массы, получившей доступ к революционному сознанию
будущего. Революционный, или космократический язык, прежде чем
стать языком масс, проходит две стадии: одну - преобразовательную,
и другую - бюрократическую; первая представляет и описывает
работу человеко-машин, вторая - приказов и лозунгов, директив и
постановлений, - весь этот обильный новояз постреволюционной
бюрократии87. Обыденный язык, погруженный в язык
псевдореволюционных лозунгов, производит комическое впечатление, хотя на самом
деле это язык всеохватывающего социального насилия.
Вот образцы лозунгов, объявлений, приказов, инструкций,
приводимых Платоновым в некоторых его повестях и рассказах88:
Здесь вошь любви, но она невидима. Пускай прыгает она
по всему белому свету, и будет светопреставление
СОВЕТИЗАЦИЯ
КАК НАЧАЛО
ГАРМОНИЗАЦИИ ВСЕЛЕННОЙ
О СОПОДЧИНЕНИИ СЛУЖАЩИХ
внутри вверенного мне подотдела
В ЦЕЛЯХ рационализации
руководимой мною ОБЛАСТИ
сельскохозяйственных мероприятий
КАЖДЫЙ ПРОЖИТЫЙ НАМИ ДЕНЬ
- ГВОЗДЬ В ГОЛОВУ БУРЖУАЗИИ.
БУДЕМ ЖЕ ВЕЧНО ЖИТЬ -
ПУСКАЙ ТЕРПИТ ЕЕ ГОЛОВА!
Р.С.Ф.С.Р.
Базисные склады костеобразующие
и ватно-бумажной промышленности
губернского масштаба.
Изобразил живописец Пупков
ПРОЛЕТАРСКИЙ ИЛЬЯ-ПРОРОК
Ленинградский профессор Мартенсен изобрел аэропланы,
самопроизвольно льющие дождь на землю и делающие над пашней облака.
Будущим летом предположено испытать эти аэропланы в крестьянских
условиях. Аэропланы действуют посредством наэлектризованного песка.
В рабочие руки мы книги возьмем,
учись, пролетарий, ты будешь умен!
О НЕОБХОДИМОСТИ УСИЛЕНИЯ
ВНУТРЕННЕЙ ДИСЦИПЛИНЫ
во вверенном ВАМ управлении
284
I. Позиции ЧТЕНИЯ
Приказ (директива) - лозунг (дня) - плакат (агитация) такова
последовательность действий перевода политического решения в
массу89. Ю. Тынянов анализировал новояз русской революции в более
точных лингвистических терминах. Для него лозунг - это «слово, у
которого лексическое единство ограничено одной связью, и
основной признак прикреплен к вещи»90. Например, революционный
лозунг дня «Экспроприируйте экспроприаторов!» явно уступает его
русскому эквиваленту «Грабьте награбленное (грабителей)!»,
поскольку ограничен в связях с тем, что означает; в то время как русская
фраза имеет больше возможностей для понимания аудиторией, даже
не подготовленной; она динамична и эффективна в качестве
лозунга. Революционный язык, или космократический, стремился стать
изначальным условием прямого действия власти на массы.
Слова-лозунги, приказы или директивы, инструкции и предписания
являются политическими перформативами. Фраза-лозунг обозначает
единственное решение по поводу необходимого действия для всех без
исключения: обращена она к индивиду как единице массы.
Грамматическое равенство всех высказываний (одна и та же структура
фразы). Можно сказать, что в этом коммунистическом царстве живут
только мертвые, или подобные им психоавтоматы, которые,
введенную в них программу жизни исполнить не могут. Отсюда
трагикомичность практически всех героев Платонова, когда их язык
соприкасается с землей, орудиями, человеческими телами и машинами
(я имею в виду, конечно, романы-антиутопии).
Космократический или революционный язык составляется из
лозунгов91. Каждый лозунг имеет двойную структуру: с одной
стороны, - демонстрация его силы (объявления, инструкции, плакаты,
приказы), а с другой, - план актуальных действий, которому
надлежит следовать. Платоновские персонажи разные по занятиям,
чувствам, позициям и судьбе, - но все они находятся в зоне действия
изначального Приказа, приказа-к-смерти, который они выполняют
точно как «мертвые». Но что такое приказ? Ищем ответ: «Тайна
подлинного языка приказа в том, что он не дает обещаний, а
предъявляет требования. Глубочайшее счастье человека состоит в том, что
он приносится в жертву, а высочайшее искусство приказа - в том,
чтобы указывать цели, достойные жертвы»92. Ведь приказ - это то,
чему нельзя найти эквивалент ни в каком другом высказывании: он
единственен, уникален, и направлен на решение определенной
задачи. Невыполненный приказ - бессмыслица. Приказ имеет древние
гарантии обязательного выполнения (в армии - исполнения - смерть
(ныне ее замещает присяга). Неисполнение приказа - смерть. Вот,
285
Евнух души. «Революционные машины» и литература А. Платонова
например, образец приказа: «Считать наступившее время, временем
коммунизма». Часто приказ - институт классового господства.
Постоянство в выполнении приказа и приводит к его превращению в
сакральный фетиш. Правда, приказы нужно различать: один приказ
обращен к одному, другой - ко многим. В первом случае речь идет о
переработке приказа, глубине его погружения в память индивида,
о том, что Канетти называет жалом приказа93. Индивидуальный
приказ у Платонова имеет преимущество над приказом для всех.
Платонов не описывает массы, массовое движение и его порывы (в
отличие от Дз. Вертова или С. Эйзенштейна), каждый его персонаж
воспринимает приказ индивидуально, именно поэтому сознание его
распадается: он готов его исполнить, но с другой, - в самом
исполнении приказа он умудряется найти свободу для бегства и ухода, т.е.
для индивидуальной жизни. Индивидуальный выбор и
революционный приказ не совпадают, но одно без другого не существует в
платоновском мире.
Одним из важных эффектов платоновской тактики является
использование личных имен. По сути дела именования вытесняет
использование личных местоимений (если они и используются, часто,
то лишь как поддержка имени). К чему это приводит? К тому, что
каждая фраза воспринимается отдельно от другой и получает к тому
же заметную перформативность, т.е. представляет собой событие
действия. Конечно, можно вспомнить и о так называемом
революционным обращении: товарищ Иванов. Обращаются к другому не по
имени и отчеству, а по фамилии. И это и есть некая весьма
показательная операция снятия всяких личных отношений, соучастия в
другом, что не должно никак проявляться. Прием Платонова как
раз и состоит в том, чтобы противопоставить безличное обращение
по фамилии существующим отношениям влечения, симпатии,
соучастия, помощи и любви, возникающее между героями. Например, на
протяжении трех страниц из «Чевенгура» герой по фамилии Серби-
нов упоминается свыше 30-ти раз (почти не замещается
местоимениями «он» или «его»). Хотя его имя и выделено, оно не
индивидуально, за ним не личность, а тип. Имя собственное превращается в
форпост грамматически примитивной фразы. В такой обедненной
грамматике имена лишаются индивидуальной ауры. Зато
индивидуальностью наделен ряд имен, между которыми нет четких
терминологических границ: Коллективизация, Революция, Индустриализация
(Паровоз), Коммунизм, Вещество, Существование. В первые годы советской
индустриализации страны большевики переименовали детство94.
286
I. Позиции ЧТЕНИЯ
Действительно, ведь наше присутствие в мире задается не
потому, что мы видим или чувствуем, а потому, насколько слышим наш
собственный голос, выпадающий из хора множества других голосов.
Мы - обладатели голоса, уникального и неповторимого. Именно «мой
голос» пытается, насколько ему позволяют другие голоса, добиться
состояния предельной близости с собой и миром. Мое присутствие-
в-мире-тг. первоначальная близость, даваемая мне моим голосом:
мир должен повторить, принять мой голос как раковина принимает
и хранит шумы моря, даже шепот должен быть услышан, даже мое
молчание. Голос - это звуковой контур моего тела, им я касаюсь
мира, им же мир касается меня. Однако мир Платонова - не мой мир,
в нем отсутствует именно этот изнутри существующий человеческий
голос. Он там и быть не может. Язык Платонова перформативен: не
представлять физические действия и события, но совершатъих.
Другими словами, само действие выступает как вид симуляции «работы»
языка, и оно также не самостоятельно. Каждому выделенному типу
тела принадлежит определенная номенклатура языковых действий.
Более точно: субъектом действия является язык, а не тело того или
иного персонажа. Язык лозунгами/приказами создает тела: Жачева
(тело псевдокалеки), Чиклина (идеальное тело труда и террора),
Вощева (тело истощения, перверсивное), Дванова (тело
революционной аскезы, интеллектуализм). Номенклатура телесных образов
подвижна и хрупка. Самоназывания, самоодевание, обнажение тел
персонажей выступают как языковые перформативные действия.
Создать с помощью одних только слов новые тела: имя Федора
Достоевского берет себе Игнатий Пашенцев, можно облечься в рыцарские
доспехи, как это делает другой персонаж «Чевенгура», или
соединиться с телом Розы Люксембург - материнским телом революции (Ко-
пенкин), или с отцовским, как это делает Дванов. Язык называет и
связывает, превращает и стирает, осуществляет непрерывную
трансформацию тел персонажей в силу господства над конкретным
физическим действием. Никакое телесное событие невозможно без языка95.
Мгновение перепутья: с одной стороны, мы различаем перфор-
мативный язык космократической утопии (трагика), такой язык,
который содержит в себе высказывания-действия и в силу этого
является языком, производящим саму реальность, тела и пространства;
с другой стороны, мы не можем отказать себе в поиске дистанций
безопасности и все тех удовольствий жизни, которые они нам дают,
когда мы от-страняемся, ускользаем или обращаемся в
избавительное бегство, и тогда смех получает свои права (комика). Язык как
per-formation и язык как performance. Язык как мгновенно перево-
287
Евнух души. «Революционные машины» и литература А. Платонова
дящий высказывание в действие, язык - само действие, независимое
о какой-либо телеологии; действие как чистый акт желания. Так
обнаруживается (не без помощи евнуха души) разветвление и движение
двух серий событий (комических и трагических), они движутся
параллельно, и, тем не менее, как бы сквозь друг друга. Утверждая свою
бесконечную мощь в актах перформации, космократическое тело,
вступает в область саморазрушения, но мы, читающие,
отказываемся следовать за ним96.
«Письма вождю» как жанр
Какой ожесточенный спор вызывает именно стиль Платонова!
В сущности вся критика, начиная с заметок Сталина на полях
рукописи «Впрок» («Какая сволочь!», «Мерзавец!» и т.п.) точно направляет
фокус внимания на эти «словечки», фразы, аграмматизмы, обвиняя
Платонова в будто бы им вполне осознаваемом светском юродстве.
Однако дело вовсе не в том, что Платонов, чудак-писатель, пишет,
что в голову придет, все гораздо серьезнее (тем более с точки зрения
деспота Сталина и его литературных слуг). Все то, что составляет
природную суть стиля Платонова, отвергается как прямое
издевательство над советской действительностью. Платонов защищается
и говорит, что он не сатирик, что считает себя политическим
писателем, полагая, что это освободит его от обвинения в нелояльности
режиму: «Я не сознавал себя сатириком и не старался им быть. Я
искал возможности быть политическим писателем)»97. Вольно или
невольно, но Платонов принимал участие в классовой войне (в
деревне). Ведь ясно, что он создавал свои невероятные образы
(имитации народного говора, архаизмов, разных «словечек», сказов и
присказок) не только для того, чтобы отразить нечто реальное. Хотя
надо признать, что этот искусственный, изобретенный язык, был
между тем единственным способом трансляции немого народного
сознания. Критики (сталинского призыва) очень точно на
«издевательский» стиль платоновской игры в политику, и не считали его
данью какому-то литературному жанру, напротив, видели в нем
сознательное глумление над ценностями социализма. И здесь не
просто вопрос стиля. Здесь нечто более серьезное: на каком языке
можно говорить о «Революции» (и с использованием каких жанров)?
Платонов избирает притчеобразную манеру, а это значит, что он
вполне осознанно стремится избежать реалистических деталей, и
получить возможность использовать простые приемы рассказа. Все
288
I. Позиции ЧТЕНИЯ
дано в минимальных пропорциях и сокращено, я бы даже сказал,
сверхуплотнено; цель - в предельно малом выразить предельно
большое. И здесь вся сила платоновского стиля. Как только вы
переключаете внимание с предгулаговои реальности социалистического
строительства (трагика), вы начинаете чувствовать революционную
бессмысленность обычного человеческого дела (комика).
Деспот через набор репрессивных мер (технологии террора)
создал свой собственный дискурс, который существует рядом с
литературой как ее недостижимый образец. Хотя на самом деле
литература существует внутри этого дискурса, более того, задает ему ритм
и правила. Деспотический дискурс - дискурс реальности, он
сориентирован по приказу (неисполнение - смерть). Кто не
подчиняется Деспоту, может быть легко устранен. Другими словами, это
образец политического поведения, которому каждый должен
подражать (окупится усердие подражания, а не его «точность»). О вкусах
не спорят, но о вкусах Деспота спорить необходимо. Предугадать
его поступки и решения невозможно. Хотя одна надежда остается
- опередить возможное решение Деспота личным письмом.
Вот письмо Платонова И. Сталину:
«Товарищ Сталин.
Я прошу у вас внимания, которого делами пока еще не заслужил. Из
необходимости беречь ваше время, я буду краток, может быть, даже в
ущерб ясности дела.
В журнале "Красная новь" напечатана моя повесть "Впрок". Написана
она более года тому назад. Товарищи из рапповского руководства
оценили эту мою работу как идеологически крайне вредную. Перечитав
свою повесть, я многое передумал; я заметил в ней то, что было в
период работы незаметно для меня самого и явно для всякого пролетарского
человека — кулацкий дух, дух иронии, двусмысленности, ухищрений,
ложной стилистики и т. д. Получилась действительно губительная
работа, ибо ее только и можно истолковать во вред колхозному
движению. Но колхозное движение — есть самый драгоценный, самый, так
сказать, "трудный" продукт революции. Этот продукт, как ребенок,
требует огромного, чуткого внимания, даже при одном только
приближении к нему. У меня же, коротко говоря, получилась какая-то
контрреволюционная пропаганда (первичные намерения автора не меняют
дела — важен результат). Вам я пишу это прямо, хотя тоска не покидает
меня.
Я увидел, что товарищи из РАППа — правы, что я заблудился и погибаю.
289
Евнух души. «Революционные машины» и литература А. Платонова
В прошлом году, летом, я был в колхозах средневолжского края (после
написания "Впрока"). Там я увидел и почувствовал, что означает в
действительности социалистическое переустройство деревни, что
означают колхозы для бедноты и батраков, для всех трудящихся крестьян. Там
я увидел колхозных людей, поразивших мое сознание, и там же я имел
случай разглядеть кулаков и тех, кто помогает им. Конкретные факты
были настолько глубоки, иногда трагичны по своему содержанию, что
у меня запеклась душа, — я понял, какие страшные, сумрачные силы
противостоят миру социализма и какая неимоверная работа нужна от
каждого человека, чья надежда заключается в социализме. В результате
поездки, в результате идеологической помощи ряда лучших товарищей,
настоящих большевиков, я внутренне, художественно отверг свои
прежние сочинения — а их надо было отвергнуть и политически, и
уничтожить или не стараться печатать. В этом было мое заблуждение, слабость
понимания обстановки. Тогда я начал работать над новой книгой,
проверяя себя, ловя на каждой фразе и каждом положении, мучительно и
медленно, одолевая инерцию лжи и пошлости, которая еще владеет
мною, которая враждебна пролетариату и колхозникам. В результате
труда и нового, т. е. пролетарского, подхода к действительности мне
становилось все более легко и свободно, точно я возвращался домой из
чужих мест.
Теперь рапповская критика объяснила мне, что "Впрок" есть вредное
произведение для колхозов, для той политики, которая служит надеждой
для всех трудящихся крестьян во всем мире. Зная, что вы стоите во
главе этой политики, что в ней, в политике партии, заключена забота о
миллионах, я оставляю в стороне всякую заботу о своей личности и
стараюсь найти способ, каким можно уменьшить вред от опубликования
повести "Впрок». Этот способ состоит в написании и опубликовании
такого произведения, которое бы принесло идеологической и
художественной пользы для пролетарского читателя в десять раз больше, чем
тот вред, та деморализующая контрреволюционная ирония, которые
объективно содержатся во "Впроке".
Вся моя забота — в уменьшении вреда от моей прошлой литературной
деятельности. Над этим я работаю с осени прошлого года, но теперь я
должен удесятерить усилия, ибо единственный выход находится в такой
работе, которая искупила бы вред от "Впрока". Кроме этого главного
дела, я напишу заявление в печать, в котором сделаю признание
губительных ошибок своей литературной работы — и так, чтобы другим
страшно стало, чтобы ясно было, что какое бы то ни было выступление,
объективно вредящее пролетариату, есть подлость, и подлость особо
гнусная, если ее делает пролетарский человек.
290
I. Позиции ЧТЕНИЯ
Ясно, что такое заявление есть лишь обещание искупить свою вину, но
не само искупление. Однако я еще никогда не делал таких заявлений и
не сделал бы, если бы не был уверен, что выполню.
Товарищ Сталин, я слышал, что вы глубоко цените художественную
литературу и интересуетесь ею.
Если вы прочитали или прочитаете "Впрок", то в вас, как теперь мне
ясно, это бредовое сочинение вызовет суровое осуждение, потому что
вы являетесь руководителем социалистического переустройства
деревни, что вам это ближе к сердцу, чем кому бы то ни было.
Этим письмом я не надеюсь уменьшить гнусность "Впрока", но я хочу,
чтобы вам было ясно, как смотрит на это дело виновник его — автор, и
что он предпринимает для ликвидации своих ошибок.
Перечитав это свое письмо к вам, мне захотелось добавить еще что-
нибудь, что бы служило непосредственным выражением моего
действительного отношения к социалистическому строительству. Но это я имею
право сделать, когда уже буду полезен революции.
Глубоко уважающий вас
Андрей ПЛАТОНОВ. 8 июня 1931 г.»*.
Покаянное письмо стало необходимым условием соотнесения
литературного опыта с ее политическим образцом. Прежде всего,
отказ от литературы как собственного дела, ведь за признанием
политических ошибок и осуждением себя за «неправильное»
непролетарское понимание задач литературы стоит именно это. Когда
образец обнаружен, признан и изучен, покаяние становится
уместным. Нельзя сказать, что Платонов и многие другие деятели
советской культуры (из тех, кто разрабатывал жанр «писем к Вождю») не
были искренни, правда, их искренность была политически
мотивирована". Как же деспот получает моральное преимущество над своими
жертвами? Да очень просто: он создает для этого особую
питательную среду, - доносительство. Все доносят друг на друга, и основным
объектом доносительства как раз и является сам художник (хотя он
часто осыпан знаками внимания со стороны Деспота, но это еще не
значит, что он останется в живых). Покаянное письмо противостоит
доносу, или точнее, пытается опередить его или ослабить его силу.
Платонов переделывает свои повести и так и сяк и все-таки оста-
етсяс отчаянием, которое только дураку может показаться
свидетельством исправления, он так и останется под подозрением;
отказаться от собственной манеры письма он не в силах. Речь идет о
маргинализации литературного опыта, а, по сути дела, о граждан-
291
ской казни художника. В притче, в отличие от любого другого
повествования, все может быть истолковано. Платонов изобретает
язык, на котором говорят его герои, делая вид, будто он лишь
описывает и сообщает, т.е. руководствуется одной истиной наблюдения.
Уже в этом - вызов власти Деспота. На уровне семьи, дружбы и
любви, творчества и отдыха, путешествий, во всех тех коллективах,
которые в сталинскую эпоху человек встречает на своем пути, - везде
присутствует тот же раскол, неявный, но готовый обнажить
пропасть, какую Деспот пытался создать между людьми. Дискурс
деспотической власти, ничем неограниченной и абсолютно беззаконной,
проникает повсюду. Сталин-деспот - промежуточное звено, он -
между словами и вещами, он навязывает обществу советское лагерное
бытие, правда, и сам зависит от него.
Язык Платонова - замечательный пример негативного мимесиса
деспотического языка-палача, учрежденного могуществом
автократической и ничем неограниченной воли. Одно правило: подражать,
отрицая подражаемое100.
292
и
История как природа
- Главное, фигуру надо придумать, - Дванов
нарисовал на бумаге фигуру. Он подал изображение
председателю и объяснил: - Лежачая восьмерка означает
вечность времени, а стоячая двухконечная стрела -
бесконечность пространства.
А. Платонов
Опустошение. Фигуры и тела
Главное в искусстве Платонова, изобретателя машин,
мелиоратора и геополитика, это поразительное умение чувствовать
пространство. Достаточно представить себе то великое пространство,
которое движется на нас со страниц «Ювенильного моря», «Чевенгура»
или «Котлована». Мир Платонова опоясан этим активным
пространством, пустынностью степного ландшафта, захваченного тоской
заброшенных деревенских погостов, балок, руслами высохших рек,
черными ранами оврагов. В нем негде стать, лечь, приютиться. И
лишь движение без остановок и цели оказывается единственным
средством быть ему близким. Дело этого пространства - опустошать,
стирать и рассеивать. Этому пространству пустым быть. Необжитое
пространство опасно. Пространство для Платонова - нечто
большее, чем то, которое мы могли бы оценить с точки зрения наших
земных оснований и подобий. Даже и не пространство вовсе, но
непрерывное действие опустошения. Поэтому уметь его видеть - это
чувствовать как Платонов нарастающую силу запустения земли.
Пространство - это все-таки то, что ограничивает себя, то, что себе внеш-
293
Евнух души. «Революционные машины» и литература А. Платонова
нее. Даже те пространства, которые мы лишь условно называем про
странствами, например, сновидные или литературные, обладают
своим минимумом пространственное™. Заметим к тому же, что
Платонов использует слово пространство иначе, - чаще он указывает
на него как на состояние, нежели как на границу, или как на что-то
в себя вмещающее. Состояние пространства говорит об отмене или
неустойчивости границ, их возможных ограничений. Состояние,
- это то, что происходит, а не то, что есть или было. А происходит
то, что мы назвали опустошением пространства Собственно, пустошь,
пустынь, пустырь, «пусту быть» открывает список чрезвычайно бо
гатого ряда префиксов от глагола пустить (допустить, за-пустить,
пропустить, от-пустить, попустить, опустить), пустить/не пустить
нас к «месту». Не говоря уже о пустыней пустынниках. Но главное
здесь - это возможность свободного действия, предполагающее, что
больше нет пространства, которое простирается или заполняется,
а есть только то, что опустошается, становится нежилым, необустро
енным, распавшимся, омертвевшим. Больше нет пространства, кото
рое могло бы препятствовать грандиозной машинной перестройке
природы. Но это только один аспект «пустого» и «опустошенного».
Ведь нельзя забывать о пустынничестве и странничестве
платоновских героев, об их отказе принять новый мир, об их бегстве,
тягостной некрофилии, похожей на «русскую тоску»101.
Посмотрим, как видит это «пространство» Платонов:
«Пространство равнин и страны лежало в пустоте, в тишине,
испустившее дух как скошенная нива, - и позднее солнце одиноко томилось в
дремлющей вышине над Чевенгуром».хош
«...он видел, как свет солнца разъедал туманную мглу над землей, как
осветился голый курган, обдутый ветрами, обмытый волнами, с
обнаженной скучной почвой, - и вспоминал забытое зрелище, похожее на этот
бедный курган, изглоданный природой за то, что выдавался на равнине.
/..·/
Над пустынной бесприютностью степи всходило вчерашнее утомленное
солнце, и свет его был пуст, словно над чужой забвенной страной, где
нетникого».'03
«Свет луны робко озарил степь, и пространства предстали взору такими,
словно они лежали на том месте, где жизнь задумчива, бледна,
бесчувственна, где от мерцающей тишины тень человека шелестит по траве.
В глубину наступившей ночи из коммунизма - в безвестность уходили
294
II. История как природа
несколько человек; в Чевенгур они пришли вместе, а расходились
одинокими: некоторые шли искать себе жен, чтобы возвратиться для
жизни в Чевенгур, иные же отощали от растительной чевенгурской пищи
и пошли в другие места есть мясо, а один из всех ушедших в ту ночь -
мальчик по возрасту - хотел найти где-нибудь на свете своих родителей
и тоже ушел».'°4
«Во сне он увидел большие деревья, выросшие из бедной почвы, кругом
их было воздушное, еле колеблющееся пространство, вдаль терпеливо
уходила пустая дорога».105
«Там было такое безмолвие, что в степи, казалось, находилась одна
пустота и не хватало воздуха; поэтому падали звезды вниз».106
«В природе отходил в вечер опустошенный летний день; все
постепенно кончалось вблизи и вдали: прятались птицы, ложились люди,
смирно курился дым из отдаленных полевых жилищ, где безвестный усталый
человек сидел у котелка, ожидая ужина, решив терпеть свою жизнь до
конца».107
«Но воздух был пуст, неподвижные деревья бережно держали жару в
листьях, и скучно лежала пыль на безлюдной дороге - в природе было
такое положение».108
«И там, где ночью было страшно, лежали освещенными и бедными
простые пространства».109
«С пустого неба солнце освещало землю и шествие людей; белая пыль
эоловых песков неслась в атмосферной высоте - вихрем, которого
внизу было не слышно, - и солнечный свет доходил до земной поверхности
смутным и утомленным, как сквозь молоко. Жара и скука лежали на этой
арало-каспийской степи; даже коровы, вышедшие кормиться, стояли в
отчаянии среди такого тоскливого действия природы, и неизвестный
бред совершался в их уме. Вермо, мгновенно превращавший внешние
факты в свое внутреннее чувство, подумал, что мир надо изменять как
можно скорее, потому что и животные уже сходят с ума».110
«Над ними, как на том свете, бесплотно влеклась луна, уже
наклонившаяся к своему заходу; ее существование было бесполезно - от него не
жили растения, под луною молча спал человек; свет солнца, озарявший
издали ночную сестру земли, имел в себе мутное, горячее и живое ве-
295
Евнух души. «Революционные машины» и литература А. Платонова
щество, но до луны этот свет доходил уже процеженным сквозь мертвую
долготу пространства, - все мутное и живое рассеивалось из него в пути,
и оставался один истинный мертвый свет».111
Драма платоновского письма: опыт пустых, заброшенных
пространств, опустошение. Словно с самого начала оно приспособлено
к тому, чтобы выразить тоску и скуку дальних путей, кружений и
горизонтов, выразить начало конца времени. Пространство попало в
плен к опустошающим землю силам и стало нарастать пустотой,
рассеивать тела, людей, города и селения, мысли и чувства. Мир все
больше обретает нечеловеческие свойства, возможно, ради того,
чтобы разместиться на карте великого бездушного землемера,
размечающего фантастическую геометрию Котлована. Есть же другие
пространства, которые созидаются многомерностью вещей,
событий и тел, поддерживаются силой человеческого времени. Однако
такого пространства Платонов не чувствует, ибо не чувствует
постоянства вещи, - т.е. всего того, что заполняет и разделяет,
индивидуализирует обыденное пространство. Зато прекрасно видит в
нем трещины и изъяны, куда оно может «вытечь», на что распасться.
Более того, он прямо указывает: «Вещь стояла между людьми и
разделяла их в пыль. Вещь должна быть истреблена»1'2. Фигурация тел
и их движений необязательна (и почти не просматривается) для
мира Платонова, что только подтверждает нашу догадку о том, что под
пространством он понимает силы, которые его опустошают, делают
пустым, не заполняемым. Не фигуры как комплексы
тел-вещей-событий организуют пространство и делят его по мерам расстояний и
близости, а сила опустошения, агрессивная и безличная, что
движется, рассеивая живое, оттесняя богатство многомерной жизни к
мертвому, тлену смерти. Вот почему взгляд евнуха души так
чувствителен к пустотным качествам видимого, ведь за ними та
первоначальная пустота (Ничто), которая не может быть заполнена человеческим
временем. Итак, два пространства: одно - всегда заполнено и
избыточно, это человеческое, пространство ближайших вещей и
событий, без машин и вспомогательных устройств, «сделанное вручную»;
и другое - то, что опустошается, пространство, создаваемое
«наукой», «техникой» и машинами, - захватчицами Природы113.
Достаточно повторить некоторые из платоновских характеристик
пространства: безлюдное, погруженное в тишину, без времени, пустое,
опустошенное, вымершее, бесконечное, тоскливое и грустное, лунное, бесприютное,
теневое, воздушное, безмолвное, безвестное, неподвижное, скучное, смутное,
мертвое, долгое, рассеянное, простое. Наблюдатель снаряжен для того,
296
П. История как природа
чтобы констатировать наличие этого предельно обедненного
пространственного образа: «Дванов почувствовал тоску по прошедшему
времени: оно постоянно сбивается и исчезает. А человек остается
на одном месте со своей надеждой на будущее; и Дванов догадался,
почему Чепурный и большевики-чевенгурцы так желают
коммунизма: он есть конец истории, конец времени, время же идет только в
природе, а в человеке стоит тоска»114. Пространство-ловушка, в
которую поймано время, там оно умирает. Времени почти уже нет, оно
переходит в пространственные образы, и продолжает распадаться.
Взгляд «евнуха души» - скорее фактографический, фото-взгляд,
«немигающий», с железными шторками объектива, «щелкает»,
запоминая фрагменты происходящего. Фото-взгляд видит невидимое,
на фоне которого и появляются фигуры. Между фигурами
персонажей и их речами - пустота мира, пережившего невиданную
социальную катастрофу. Фигура движется на безлюдном фоне, вот-вот
остановится, авторская речь пытается объяснить то, что происходит, и
даже противостоять тоске и забвению, от чего страдают многие
герои Платонова. Если я вижу фигуру, то фон становится пустым,
опустошается; но, если я вижу фон, то ничего не вижу, точнее, я
рассматриваю его для того, чтобы извлечь новую фигуру, прежняя
становится контуром-границей, я бы даже сказал, образует нечто вроде
дыры, пока не исчезнет в самом фоне. Платоновский взгляд
мечется между фигурой/фоном, стирая их границы. Платонов «пишет»
фигуры, не тела, и фигура для него - это то, что связывает между
собой отдельные тела и их движения одной кривой, кривой
опустошения. Фигура не определяется видимыми свойствами, она - место
перехода от одной жизни к другой, от видимой к невидимой, ибо
фигура не равна сумме составляющих ее элементов (тел); в ней
сосуществуют, как в сновидении, все тела: и мертвые, и живые, все
события, бывшие и будущие. Персонажи Платонова как
индивидуальные тела жить не могут, лишь в сложных конгломерациях,
колониями, массами, где отдельное тело дышит дыханием других тел и
получает энергию к жизни или ее теряет благодаря множеству
других тел. И перейдя на этот уровень существования, где неотличимы
видимая и невидимая жизни, человеческое тело больше не
испытывает старого страха перед опустошением, концом времени, болью
и смертью. Вот Копенкин, человек-воин-лошадь, его невозможно
отделить от коня по имени Пролетарская сила, но и это связка
слишком слаба, чтобы удержаться в поле видимого, открывается
следующая, не менее интересная серия его превращений, когда он начина-
297
Евнух души. «Революционные машины» и литература А. Платонова
ет движение по различным степным маршрутам, ведущим к могиле
Розы Люксембург (она и мать, и сестра, и любовница)115. Армия Ко-
пенкина, действующая неизвестно где, в каких направлениях, в каких
битвах, поражениях и победах, имеет единственно верный маршрут:
портрет Розы, это карта, открывающая линию горизонта. Фигура
Копенкина - это серия тел-знаков, располагающихся на уровне
видимой и невидимой жизни. Но тут же и другая серия, серия братская:
Дванов - раздвоение, повторение, удвоение. Платонов не
описывает индивидуальные тела, - только фигуры, фигурации и
конфигурации тел. Фигура - это кривая, которая разом охватывает сообщество
тел, даже отдельное тело собирается из «частей» других, как только
становится объектом описания. Тела смешиваются, растворяются
в массе, некоторые образуют симбиотические комплексы. Фигура
- сложное или множественное тело, развернутое в движении; она
противостоит агрессивному фону, стремящемуся размыть ее
границы и растворить в пустеющих пространствах платоновского
ландшафта. Нет пространства, есть степь, а степь есть движение, в ней
нет места-над, все места в степи - места-меж-мест. Больше нет
местности, области, района. Вот почему рассеивание индивидуальных
тел и их «вещного» окружения, опустошение - это по сути дела для
Платонова и есть странничество, но странничество в поисках одной
и может быть невозможной фигуры, которая вернула бы
недостающие отдельному индивиду частицы потерянной жизни116.
Лошадь Копенкина «Ппрлетарская сила»
298
П. История как природа
Новая смерть
«И новые силы, новые кадры могут погибнуть, не
дождавшись еще, не достроив социализма, но их
«кусочки», их горе, их поток чувства войдут в мир
будущего. Прелестные молодые лица большевиков,
- вы еще не победите; победят ваши младенцы.
Революция раскатиться дальше вас! Привет
верующим и умирающим в перенапряжении»
А. Платонов
Опустошаемое, пустое, незаселенное пространство, - евнух
души видит этот нечеловеческий ландшафт как универсальную рамку
мира. Однако видит ли это странное существо что-либо другое?
Сомневаюсь, ведь реагирует он лишь на рост пустоты, собирая ее
повсюду: из человеческих тел и фигур, голосов, из Земли и Космоса.
Мир Платонова потому так угнетающе пустынен, что в нем
невидимая жизнь получила превосходство над видимой. Под действием сил
невидимого видимое распадается, рассеивается. Запустение растет
смертью по мере того, как гибнут близкие и далекие, любимые и
нелюбимые, навсегда родственные нам тела. Пустынное
пространство полно невидимым. И пока оно будет копить мертвое, а мы без
чувства заботы о нем будем умирать, власть мертвого над жизнью
будет укрепляться. Невидимое должно быть открыто воспоминанию
и телесному преображению. Платонов глубоко чувствовал
искусственный раздел единой жизни на невидимую и видимую. Быть
может видимое, - достаточно всмотреться - опустошаясь и
рассеиваясь, оставляет после себя следы невидимых, универсальных сил
жизни, - жизни для всех. Почему мы считаем, что то, что умерло,
безвозвратно погибло, ушло в бездну невидимого? Ведь достаточно
чуть внимательнее взглянуть себе под ноги, как это делают «самые
задумчивые» герои Платонова, чтобы обнаружить мельчайшие
следы, когда-то бывшего живым опыта жизни, следы, ведущие в
невидимое:
«Вощев подобрал отсохший лист и спрятал его в тайное отделение
мешка, где он сберегал всякие предметы несчастья и безвестности. Ты не
имел смысла жизни, - со скупостью сочувствия полагал Вощев, - лежи
здесь, я узнаю, за что ты жил и погиб. Раз ты никому не нужен и
валяешься среди всего мира, то я тебя буду хранить и помнить**».117
299
Евнух души. «Революционные машины» и литература А. Платонова
«Он собрал по деревне все нищие, отвергнутые предметы, всю мелочь
безвестности и всякое беспамятство - для социалистического
отмщения. Эта истершаяся терпеливая ветхость некогда касалась батрацкой,
кровной плоти, в этих вещах запечатлена навеки тягость согбенной
жизни, истраченной без сознательного смысла и погибшей без славы
где-нибудь под соломенной рожью земли. Вощев, не полностью
соображая, со скупостью скопил в мешок вещественные остатки
потерянных людей, живых, подобно ему, без истины и которые скончались
ранее победного конца. Сейчас он предъявлял тех ликвидированных
тружеников к лицу власти и будущего, чтобы посредством организации
вечного смысла людей добиться отмщения - за тех, кто тихо лежит в
земной глубине.
/-/
Вместо людей активист записывал признаки существования: лапоть
прошедшего века, оловянную серьгу от пастушьего уха, штанину из рядна
и разное другое снаряжение трудящегося, но неимущего тела»1|8.
«Яков Титыч любил поднимать с дорог и с задних дворов какие-то
частички и смотреть на них: чем они были раньше? Чье чувство обожало
и хранило их? Может быть, это были кусочки людей, или тех паучков
или безымянных земляных комариков - и ничто не осталось в
целостности, и не над чем заплакать тем, кто остался после них жить и дальше
мучиться. "Пусть бы все умирало, думал Яков Титыч, - но хотя бы
мертвое тело оставалось целым, было бы чего держать и помнить, а то дуют
ветры, течет вода и все пропадает и расстается в прах. Это же мука, а
не жизнь. И кто умер, тот умер ни за что, и теперь не найдешь никого,
кто жил когда-то, все они - одна потеря"»."9
Пустые пространства платоновских повестей и романов
пустынны для тех, кто воспринимает жизнь лишь в видимых формах и
безразличен к судьбе рассеянных, мельчайших частиц некогда живого.
Не тела целые и видимые, а тела невидимые, проницаемые для
мириад частиц неведомой состоявшейся когда-то жизни. Пространство,
которое без трепета наблюдает евнух души, переселено мертвым.
Однако став невидимым, оно никогда не умирало. Мертвое - это
галлюцинация, от которой следует пробудиться и которую можно
преодолеть. Научиться жить вне своего одинокого, ожидающего
смерти тела: «Я хочу жить снаружи, - говорит из своего сна Дванов, - мне
тут тесно быть...»120. Эта пугающая читателя, неземная пустота
платоновского ландшафта, которая образуется на границах видимой и
мертвой, невозвращенной к себе жизни, и ведет героя «Чевенгура»
300
II. История как природа
Сашу Дванова к озеру детства, в старый сон, сквозь смертный раздел,
к телу отца. Ускользая в сон смерти, Дванов пробуждается к
невидимой жизни: теперь ни его тело, ни тело его отца не смогут быть
раздельно, смерть преодолена.
«Вода в озере Мутево слегка волновалась, обеспокоенная полуденным
ветром, теперь уже стихшим вдалеке. Дванов подъехал к урезу воды. Он в
ней купался и из нее кормился в ранней жизни, она некогда успокоила его
отца в своей глубине, и теперь последний и кровный товарищ Дванова
томится по нем одинокие десятилетия в тесноте земли. Пролетарская
сила наклонила голову и топнула ногой, ей что-то мешало внизу. Дванов
посмотрел и увидел удочку, которую приволокла лошадиная нога с
берегового нагорья. На крючке удочки лежал прицепленный иссохший, сломанный
скелет маленькой рыбы, и Дванов узнал, что это была его удочка, забытая
здесь в детстве. Он оглядел все неизменное, смокшее озеро, и
насторожился, ведь отец еще остался - его кости, его живое вещество тела, тлен его
взмокшей потом рубашки, - вся родина жизни и дружелюбия. И там есть
тесное, неразлучное место Александру, где ожидают возвращение
вечной дружбой той крови, которая однажды была разделена в теле отца для
сына. Дванов понудил Пролетарскую силу войти в воду по грудь и, не
прощаясь с ней, продолжая свою жизнь, сам сошел с седла в воду - в поисках
той дороги, по которой когда-то прошел отец в любопытстве смерти.
А Дванов в чувстве стыда жизни перед слабым, забытым телом, остатки
которого истомились в могиле, потому что Александр был одно и то же с
тем еще не уничтоженным, теплящимся следом существования отца»1".
Смерть не является границей, ей нечего разделять, она не имеет
смысла для невидимого, хотя и остается высшим знаком перехода
для всех видимых форм жизни. «Быть перед лицом смерти» - такой
стоической доблести мы не найдем у героев Платонова. Значимо
лишь свободное соскальзывание в смерть как новую жизнь. Разом
достичь дальнего горизонта, где «человек встречается с человеком»,
значит понять смерть как путь, не как конец. Более того, жизнь,
преодолевающая границы смерти, и есть действительная жизнь.
Именно жизнь, растекаясь во множестве следов и частиц, вибраций, не
придает значения гибели индивидуально видимых тел, ибо она
больше не является жизнью, которую мы проживаем как чувствующие,
любящие, в одиночестве умирающие существа. Меняется
экзистенциальный статус смерти. Но мы, читающие Платонова, не всегда
можем понять это, так как знаем лишь одну, индивидуальную смерть.
Ведь только в том случае, когда смерть выступает как знак особой
Евнух души. «Революционные машины» и литература А. Платонова
ценности жизни, она и может необходимым образом соотноситься
с личностными структурами, с тем индивидуальным развитием,
которое определяется нашей будущей смертью. Назвать себя «я» - это
значит уже самим актом называния приговорить себя к смерти, и
одновременно, как бы забывая об этом, продолжать видеть в этом
«я» единственную силу, утверждающую и хранящую для нас жизнь.
Говоря «я», мы стремимся удержать жизнь одним жестом, полагая,
что «я» есть экзистенциально очевидная мера для жизни. Платонов
пытается оказать сопротивление старой оппозиции жизнь-смерть:
смерть не может противостоять жизни в качестве полноправного
члена оппозиции. Дванов переходит своей смертью в другую жизнь,
как будто вся его жизнь заключена в продолжение сна. Крайне
трудно понять, как можно жить жизнью, которая все наиболее прочные
неуничтожимые связи образует только на микроскопических
уровнях существования. Ведь для платоновского героя жить этой жизнью
- это не быть человеком (полностью утратить телесный образ,
мерность, ценности, наконец, Историю) стать новой Природой.
В этом отношении платоновская проза имеет мало общего с
традициями классического русского романа, где так интенсивно
переживалась индивидуальная, личная смерть («Смерть Ивана Ильича»
Л.Толстого). Принадлежа к другой традиции (Гоголь, Достоевский,
Белый) Платонов и не умел изображать смерть изнутри-как
завершающее событие жизни и в принципе понятное для того, кто ее
изображает. Отсюда непризнание экзистенциального статуса смерти.
Священная тайна жизни может быть раскрыта, раз личностное
начало больше не имеет смысла в этой великой борьбе против
смерти122. И больше смерть - не смерть, а рубеж, который может быть
превзойден. Первым об этом объявил Н. Федоров: мертвое - то, что
некогда было живым - распыленное на мельчайшие частицы и
странствующее в покровах земли и просторах Космоса, и есть
потенциально живое вещество. Необходимо лишь направленное
рациональное усилие для собирания живого из мертвого, якобы мертвого. Не
беремся судить обо всей концепции Федорова, нам хотелось
подчеркнуть лишь следующее. Если живое смещается на уровень
невидимого, то в этом смещении явно проступает неудовлетворенность
формами видимой жизни, жизни искусственной, потерявшей всякую
связь с телами отцов. Но, с другой стороны, разве может быть
иначе, когда видимые формы изуродованы социальностью и властью,
требующими забвения и отказа от наследия Отцов? Федоров знает
выход: он уповает на другую власть, которую можно назвать космо-
кратической. Что же мешает этой власти стать, от чего необходимо
302
II. История как природа
освободиться? Конечно, от смерти. Что это значит? Это значит снять
ее удушающий гнет над индивидуальными телами, ибо она не только
убивает, калечит, она разделяет, пропитывает собой все
человеческие отношения с природой, а человека с самим собой. Но это также
значит освободиться от индивидуации, в процессе которой социа-
лизуется индивид выделяется из массы и гибнет. Такая фигура
видимой жизни определяется в границах смерти. Жизнь
удерживается в некотором равновесии с окружающей средой, но силой смерти.
Здесь смерть соотносима с рядом психических состояний, и
переживается не как смерть других, а как моя, т.е. экзистенциально; наше
«я» - всего лишь психорефлекс индивидных состояний. Фигуры
видимой человеческой жизни устраняются космократическим мифом.
Замысел проекта Федорова «Воскрешения мертвых» заключается в
том, чтобы вернуться к телам Отцов, возобновить ушедшую жизнь,
и тем самым прекратить бесполезную трату жизни. Создать такие
тела жизни, которые более не испытывали бы потребности в
отделении от мира; чтобы одно живое могло быть другим живым, всегда
без смерти и потому не нуждающееся в рождении. Открыть жизни
бесконечные границы, другое качество, ввести ее в порядок космо-
теллурической науки будущего. Жизнь выходит за пределы конечной
оппозиции живого и мертвого. «Смерть есть свойство, состояние,
обусловленное причинами, но не качество, без коего человек
перестает быть тем, что он есть и чем должен быть»123. Смерть еще не
настолько испытана, чтобы можно было считать ее концом жизни,
а если это так, то всегда сохраняется то, что лежит за границей
смерти, или внутри чего сама смерть пребывает. Если же мы предполагаем,
что человеческая существо сохраняет в себе - в качестве множества
прошлых следов - биогенетическое наследие предков, то нельзя ли
выстроить новую совершенную науку, на основе которой могла быть
создана величайшая мегамашина жизни?124. С другой стороны,
технические новшества касаются, например, экспериментов по
управлению высотной электрической средой, изобретения всей той же
теллурокосмической науки. Эта наука жизни должна противостоять
слепому могуществу природного цикла, который называется
смертью. Но раз смерть может быть устранена как феномен жизни, т.е.
извлечена из самой себя благодаря ее органическому расщеплению
на мельчайшие частицы мириад телесных остатков, то перед нами
окажется космическое вещество, из которого нам по силам создать
заново собственное тело. В этом отношении тоска и скорбное
чувство, с каким воспринимается Платоновым непреодолимость
смерти, говорит о том, что ему все-таки чужд космистский оптимизм Фе-
303
Евнух души. «Революционные машины» и литература А. Платонова
дорова. Итак, воссоздать любые тела, но и создать для себя любой
телесный облик, понятно, что речь более не идет о личном
индивидуальном теле, о его «смертности» и «случайности», скорее о
космической Мегамашине, о коллективном Теле для всех и для каждого
(между единственным и многими больше нет противоречий, - этого зла
буржуазной индивидуации)125.
Феномен жизни, ^пространство, резервное
Привычно относить романы Платонова 20-30-х годов к жанру
антиутопии. Но так ли это? Мне кажется, утверждать подобное
было бы не совсем верно. По определению, анти-утопия ничем не
отличается от утопии, все-таки это искусственные, «переходные»
миры, изобретаемые для тестирования будущего (причем как в
отрицательных значениях (анти-утопия), так и положительных (утопия).
В том-то и состоит основная идея утопизма, что целью
эксперимента должно быть только проектируемое будущее. У Платонова нет
ничего подобного, нет никакого будущего вообще. Да он выделяет
особое время, в котором протекает действие его романов, но это не
время будущего, как и не время настоящего. Об этом времени,
которое можно назвать Великой Революционной Эрой, известно лишь
одно, что в нем нет времени, оно неопределимо и в порядке
экзистенциальной временности. Если мы и увидим за именами Котлован
или Чевенгур особые места, у-топосы, то опять-таки ошибемся, ибо в
литературе Платонова нет мест, которые бы определялись без
отношения к завершенному времени. Завершенное в себе время, или
эсхатологическое- это время после времени, и поэтому все места,
пригодные для жизни разрушены; все застыло, «упало в тишину и
молчание мира», будущего больше нет, оно стало настоящим.
Одно дело - пространственные формы, в которых жизнь
получила свою социальную и «человеческую» определенность, а другое
- когда она выходит за их границы. Жизнь - это бесконечный резерв
энергии, - вот к чему ведет мысль Платонова-метафизика и
солнцепоклонника: «Жизнь - солнечного происхождения. Мы потомки
Солнца - не в переносном смысле, а в прямом - физическом. Но
жизнь не только перенесена солнечным светом, она сама - свет в
физическом смысле». И чуть далее: «Само пространство, по
новейшим учениям, электромагнитной природы, т. е. родственно свету
или просто свет, так как и свет есть только электромагнитное пере-
304
II. История как природа
менное поле. И этот свет-пространство есть купель жизни; из света
делается жизнь на каждой планете, и светом она питается и
возобновляется!»126 Итак, жизнь понимается Платоновым в
противопоставлении к Природе. Жизнь - нечто действительно
неантропоморфное, в ней скрыто резервное пространство для всякой иной жизни.
Жизнь неистребима, а раз так, то весь смысл социальной революции
не в ее ближайших конечных целях, а в перестройки всей материи
Космоса (Природы), а только затем и на ее основе, - общества. Вот
к каким конечным выводам приходит Платонов:
«... нет таких условий во вселенной, к каким бы жизнь не могла
приспособиться. Если эти условия гибельны, катастрофичны, то жизнь
упрощается до неимоверно малого, чем повышает свою устойчивость и
выносливость, и тем спасается. Может быть, атомы и атомы атомов -
электроны есть те же микроорганизмы, только предельного, начального
типа, так как они выносят уже любые вселенские условия и при лучших
условиях они как-то синтезируются, усложняются, вступают во
взаимную связь и т.д., но при ухудшении этих условий они опять разрушают
свои постройки и отступают до первичного тела - электрона,
могущественнейшего из всех конструкций мира, потому что самого простого,
так как в нем минимум конструкции - и разрушительным стихиям
остается очень маленькое, узкое поле для действия»'*7.
Маршрут не истории, но природы («Мы - природная сила», -
говорит Копенкин). Это маршрут, указывающий на движение
пространства, освобождающего ландшафт земли от всего
человеческого. Тогда конец истории - это движение природы, возвращающейся
к себе, - природы, ставшей историей. Историческое растворяется
в природных силах, опустошается, уходит в невидимую жизнь:
«Итак, история, а не природа - как было, как есть теперь - должна стать
страстью нашей мысли, ибо история есть взор в даль, не свершившаяся
судьба, история есть время, а время - неосуществленное пространство,
т.е. будущее. Природа же есть прошлое, оформленное, застывшее в
виде пространства время. И мы бы должны постигать, потому что история
и есть наша судьба, а судьба показатель нашей мощи, вестник цели и
конца, или начало иной бесконечности.
История есть для нас уменьшающееся время, выковка своей судьбы.
Природа - законченное время; законченное потому, что оно
остановилось, а остановившееся время есть пространство, т.е. сокровенность
природы, мертвое лицо, в котором нет жизни и нет загадки. Каменный
305
Евнух души. «Революционные машины» и литература А. Платонова
сфинкс страшен отсутствием загадки. Но человечество живет не в
пространстве - природе и не в истории - времени-будущем, а в той точке
меж ними, на которой время трансформируется в пространствоу из истории
делается природа. Человеческой сокровенности одинаково чужды, в
конце концов, и время и пространство, и оно живет в звене между ними, в третьей
форме, и только пропускает через себя пламенную ревущую лаву - время
и косит глазами назад, где громоздится этот хаос огня, вращается
смерчем и вихрем - и падает, обессиливается, - из свободы и всемогущества
делается немощью и пограниченностью - пространством, природой,
сознанием»128.
«История человечества есть убийство им природы, и чем меньше
природы среди людей, тем человек человечнее, имя его осмысленнее»129.
«Первая заповедь техники, исчерпывающая все остальные, говорит:
уничтожь природу такую, какая есть, и из ее хаоса создай иную - свою
человеческую, или природа тебя уничтожит»130.
В этом блоке авангардных размышлений Платоновым высказано
главное: революция - не событие истории, а природная катастрофа.
Поэтому все его центральные романы так или иначе описывают
послереволюционное состояние общества, которое теперь есть
пространство, оставшееся после распада связей прежнего социума,
пережившего теллурическую катастрофу. Платонов аисториченили, если
это выразить чуть иначе, он описывает пространство, которое более
не нуждается в человеческом времени, оно нарастает пустотой,
пробуждая в человеке роковую способность к последнему метаболизму,
точнее, тягу к исчезновению, к естественному и свободному переходу
из мира видимого в мир невидимый. Таковой может оказаться
возобновленная, пришедшая к себе природа. Два пути для человека:
первый, или вновь стать природным, неисторическим существом,
просто быть в мире, быть как животное, растение, солнечный свет;
или стать машиной-человеком, что, естественно, выведет за скобки
все человеческое (страсти, боль, надежду, любовь). Так машине, -
этому новому субъекту большой истории - передаются функции
воссоздания природы на новых основаниях. Отсюда постоянство в
циркуляции переходов от природы (врага) к истории, а затем от
истории к новой возобновленной, «воссозданной» природе (другу), но
теперь «сделанной», машинной131.
Но вот что следовало бы отделять друг от друга: руины, видимые
разрушения и распыленные остатки, пыль вещей, т.е. невидимую
306
II. История как природа
материю. В.Беньямин - знаток барочной поэтики - выводит
формулу руин: когда временной поток священной истории обрушивается
в природное пространство, то он образует собой причудливый
порядок руин (в местах обрушения). Ничего похожего мы не найдем в
мире пустеющих пространств Платонова. Там падение временного в
пространственное, Истории в Природу нескончаемо. Одни обломки
распадаются на меньшие, те на другие, и распадаются до тех пор,
пока не перейдут в пыль степей и пустынь. Не руины, а именно пыль
знаменует конец для Платонова времени Истории. Но именно (в
обратном движении мирового времени) прах, мельчайшие остатки
вещества жизни, может быть, самые мельчайшие, невидимые, но
живые смогут образовать континуум будущего существования вне
смерти и времени. У Платонова опустошение -универсальный экзи-
стенциал, из которого мы извлекаем все другие следствия и навыки
существования. Начать с чистого листа: посткатастрофическое время
- время новых людей. Всего лишь несколько фигур, почти
неподвижных, с очень ограниченным набором двигательных рефлексов, и
они даже не в пространстве, они - скорее некие текучие
конфигурации, графические наброски, контуры, тени на стене. Вот каковы они
на фоне устойчивого авторского самосознания, той отрицательной
тональности, которая все и определяет: тональности опустошения.
Пространство, в котором становится все меньше человеческого
участия, способно только опустошаться. Мир платоновской а-топии
безлюден, незаселен, в нем нет привычных и устойчивых вещей,
господствует пустота и запустение, опустошенность всего и вся. Но почему
или ради чего? Ответ, похоже, федоровский: ради другого мира, мира,
который может быть создан исключительно научной мыслью, т.е.
изобретением великой Машины жизни, которая в силах
противостоять Природе, несущей смерть138. Платонов ни от чего не
отказывался, а только додумал до конца то, что в так называемой авангардный
период развития русской литературы и искусства казалось
очевидным. Революция тотальна, поэтому приходящий на смену
нынешнему человек будущего не может остаться прежним. Следовательно,
все те, кто «делал революцию», должны сойти с исторической сцены.
Природа возвращается к самой себе, минуя посредничество
человека, его «вымышленной» Истории. Достичь рубежа - и только для
того, чтобы умереть. Платоновское переживание катастрофы
определено порядком отношений, существующих между тремя
посткатастрофическими экзистенциалами: опустошением (для мира),
истощением (для тела), тоской и скукой (для души). Собственно, таков итог
платоновской притчи о времени Революции в «Чевенгуре».133
307
Ill
Изобретатель машин
Есть машина. Что она такое? Это чудо, первое и
последнее чудо работы человека. Машина трудом
создана и труд производит. Она не только брат наш —
она равна человеку, она его живой удивительный и
точный образ. Часто машина даже выше человека,
так как она не знает утомленности, перебоев работы
(а скоро забудет и износ), этих чисто природных
признаков, доказательств ее немощи и падения
пред человеком.
А. Платонов
Парад машин
Все это множество машин, которые к нам приходят со страниц
произведений Платонова (особенно, период 20-30-х годов)
отличаются друг от друга по разным параметрам, месту, функциям и т.п. И
вместе с тем кажется -, что они все-таки принадлежат одному корню
воображения, отражаются друг в друге и друг друга порождают.
Наше представление машин Платонова будет выстроено по
степени развития в его литературных опытах то, что можно назвать
машинным чувством. Я выделяю несколько этапных образов
машинного мимесиса:
- машинные гимны, это поэзия машин, машины воют, скрипят,
ударяют, рвут на части, наш восторг перед этим чудовищным
жертвоприношением миллионов, через боль и пытки к новому
телесному образу (зависть к машине, и ужас перед массовой кастрацией);
308
- машинное чувство хорошо развивается в платоновском
отцовском культе паровоза. Здесь возникает явление машинного
тотемизма (К. Леви-Строс); отдельные машины хорошо освоены,
приспособлены к человеческой размерности и превращены в особые
технической объекты, управлять которыми можно лишь признав за ними
магическую силу, которой только и остается, что служить;
- далее, машинное чувство подчиняет себя всплеску
технического воображения. Платонов, изобретатель и поэт, мелиоратор и
землемер, географ и геолога, энергетик и машинист пишет ряд
рассказов и повестей, в которых на первое место выдвигается эфирная или
световая машина (изобретение ЭМР, - электромагнитного резонатора).
Именно на этом, третьем уровне мы обнаруживаем величайшую из
машин, миссия которой освободить человечество от вечной борьбы
за выживание. Природное бытие человека должно быть
преобразовано: физически расщеплено и распылено, здесь миметическое,
животно-тотемное чувство машины попадает в ловушку
саморазрушения. Такого рода машины добираются до самых глубинных слоев
материи, они управляют ее рождением и энергией, при
безжалостном разрушая Землю и Человека: пришел черед мирового
опустошения...
- этому уровню противостоит стремление пролетарских масс к
«мягкому» постепенному изменению Природы посредством
самодеятельного творчества: изобретаются всякого рода машины-поделки, то,
что Делез и Гваттари называли «машинами, которые не работают»;
эти странные зародыши будущих невиданных технических машин;
- эксперимент идет дальше (четвертый уровень машинного
чувства): Платонов испытывает на своих героях мощь другой машиной,
которая не нуждается ни в каких вспомогательных технических
устройствах и энергии. Машинное чувство поворачивается к собственным.
истокам: в человеческом мозге отыскивается опора для будущего
господства над Природой. Сама мысль, благодаря овладению
ритмами эфирных (электромагнитных) полей Космоса, становится
величайшей из машин, управляющей всем, что есть в Природе. Придет
время, и даже слабым напряжением ума человек сможет
останавливать движение светил, изменять траекторию комет,
преобразовывать окружающую среду, условия труда и собственную природу.
(ι) Динамо-гимны. Сын машиниста паровоза, Платонов страстно
любил машинные устройства и был изобретателем. Проза и поэзия
его 20-х годов проникнута магической атмосферой преклонения
перед машинной цивилизацией будущего; человек и машина, сливаясь
309
Евнух души. «Революционные машины» и литература А. Платонова
в единый образ, становятся эмблемой революционной эпохи.
Послушаем:
Динамо
«Песнь глубин немых металла
Неподвижный долгий звон.
Из железа сила встала
Дышит миллионом волн
Из таинственных колодцев
Вверх, на горб машины с пеньем
Вырываются потоки - там живое сердце бьется
Кровь горячая и красная бьет по жилам в наступленье
Ветер дует из-под крыльев размахавшихся ремней,
Мой товарищ отпускает регулятор до конца
Мы до ноги, мы до смерти - на машине, только с ней
Мы не молимся, не любим, мы умрем, как и родились
у железного лица
Наши руки - регулятор электрического тока
В нашем сердце его дышит не постигнутая сила
Без души мы и без бога и работаем без срока,
Электрическое пламя жизнь иную нам отлило
Нету неба, тайны, смерти,
Там вверху труба и дым.
Мы отцы и мы же дети,
Мы взрываем и творим
Мы испуганные жили, и рожали, и любили
Но мы сделали машину, оживили раз железо
Душу божью умертвили,
Кожа старая с нас слезла
И мы встали на работу к регулятору динамо
Позабыли вечность, звезды - что не с нами и не мы
Почерневшими руками
Смысл мы сделаем из тьмы».134
(IÇ20)
Рабы машин
Шумит! Гудит! Весь день пылая
В дыму и пыли мастерская.
310
III. Изобретатель машин
Покорные рабы машин,
Не разгибая рук и спин,
Часами чахнут, пыль глотая.
И над станком склоняясь главою,
В крови, разлитой полосою,
Стоит без памяти, с лица
Похож на тень иль мертвеца,
Раб с исковерканной рукою.
И вдруг упал. Рука дрожала,
Свистеть машина перестала,
Сбеглись к нему со всех сторон,
Но не нуждался ими он,
В нем боль и жизнь угасала.135
(19*8)
Последний шаг
Из вскрикнувшей разрубленной вселенной
Рванула мир рабочая раздутая рука.
Пришли до срока, без гудка мы - радостная смена,
Все времена ушли в подземные, забытые века.
И ближе свети солнце, везде, везде - наш дом,
И ты мне друг и брат, она сестра - сестра.
Земля - железная машина. Течет по проводу к ней гром.
Смеемся мы, любовь не перескажем с утра и до утра.
Бессмертье заработали мы смертью и могилой,
От наших глаз не скроется небесное лицо,
Жизнь раскаляется до дна глубокой тайной силой,
Работа - наш отец, мы не расстанемся с отцом.
Мир будет тишиной. Пройдем его до края,
Нет никого нигде, товарищи машины сверлят небеса.
Летит звезда к земле, никто не умирает,
У человека навсегда задумались глаза.
Живут в нас все - погибшие от смерти,
Кто ночью падал в городах,
Замолкшие в могилах дети...
Мы сокрушающий, последний шаг.136
(1920-1921)
311
Евнух души. «Революционные машины» и литература А. Платонова
Топот
В душе моей движутся толпы...
Их топот, их радостный топот,
Как камней сползающих грохот.
Без меры, без края, без счета
Строят неведомый город, -
Выше, страшнее, где тайна и холод, -
Камень на камень, город на город.
Тихо. Только в материи сопротивление -
Ропот.
Там, где удар, там и миги и годы
Плавятся в вечность машиной и потом...
Тихо танцуют звезд хороводы,
Выше их вышли трубы заводов.
Там, где царили вселенная, рок
Скованный проводом мечется ток.
Слава безумию, взрывам и топкам
Грохоту, скрежету, топоту, топоту,
Мысли и числам неисчислимым,
Цифрам сомкнувшимся неизмеримым.
Лопнули мускулы. Смерть человеку -
Брошен в колодезь последний калека,
Душу живую машина рассекла.
Наша душа - катастрофа, машина.
В небо уперлись железные спины.
Солнце стихает, склоняется, стынет.
Ступайте толпа за толпою
По жаркой по вашей душе,
История больше не даст перебоя,
В машине сгорает мир тайн и вещей.
312
III. Изобретатель машин
Любовь - это девушка, шепот,
Но ночью там движется топот
Идут по душе моей толпы137
(lÇ20~IÇ2l)
Вечер мира
Мы убьем машинами вселенную,
Под железом умерла земля,
В наших топках бьется солнце пленное,
И в бессмертной стали нет добра и зла.
День и ночь в вагранках раскаленных
Пламя переходит в ледяной металл;
Мир стоит, печами озаренный,
Как невесту, человек его обнял.
Льем мы новую, железную вселенную,
Радостнее света и нежней мечты,
В ней надежды наши оживут безмерные,
Глаз я поцелую сестры моей — звезды.
Мы бессмертны, мы неведомое любим,
Мира мало, чтоб насытить нас,
Мы все грани и законы переступим, —
Для вселенной бьет последний час.
Пой, товарищ, в этот вечер мира,
К полночи потухнут звезды и цветы,
Маховик к зениту вскинет крылья,
В неизвестность строим мы железные мосты.1з8
(lÇ20~IÇ2l)
♦♦♦
Сгорели пустые пространства
Вечность исчезла, как миг,
313
Евнух души. «Революционные машины» и литература А. Платонова
Бессмертные странники странствуют,
Каждый все тайны постиг.
Товарищ, нам тесны планеты,
Вселенная нам каземат.
Песни любви и познания спеты —
Дороги за звезды лежат.
Товарищ, построим машины,
Железо в железные руки возьмем,
В цилиндрах миры мы взорвем
И с места вселенную сдвинем.
В глазах наших светятся горны,
В сердце взрывается кровь,
Как топка, душа раскаленная,
Как песня, гудков наших рев13?.
(lÇ20~IÇ2l)
По этим стихам-гимнам видно, что Платонов относился к миру
машин с двойственным, напряженно трагическим чувством. С одной
стороны, машины делают бессильными, калечат, переделывают наши
тела, отнимают жизнь, они - ближайшие вестники вселенской
катастрофы, герои апокалиптических нарративов. Став «рабочей частью»,
человек низводится до положения автомата, не имеющего
собственной воли и выбора, он - «раб» машины. Однако с другой стороны,
без машин не создать нового общества и нового человека. Правда,
чтобы это стало возможным, требуется радикальное перерождение
человечества. Поэт чувствует машинность современного мира
предельно широко: сама поэма его - это машина, технически
совершенная и прекрасная: «Каждая новая машина - это настоящая
пролетарская поэма. Каждый новый великий труд над изменением природы
ради человека - пролетарская, четкая, волнующая проза. Величайшая
опасность для нашего искусства—это превращение труда-творчества
в песни о труде. Электрификация — вот первый пролетарский роман,
наша большая книга в железном переплете. Машины — наши стихи,
и творчество машин — начало пролетарской поэзии, которая есть
восстание человека на вселенную ради самого себя»ч°. Машина как
принцип организации материи стиха, всей пролетарской поэмы. А
это значит, что душа наша есть машина, и вокруг нас только ураган-
314
III. Изобретатель машин
ный все истребляющий машинный ритм. Машина размещается
внутри сознания пролетария в качестве образа нового мира.
(2) Паровоз-тотем. Интерес пролеткультовских теоретиков к
машинизации человеческого бытия и быта похож на обновление старых
форм тотемизма. В качестве тотемов выступают технические вещи
цивилизации, разного рода машины, аппараты и приборы,
устройства: динамо-машины, насосы, авто, мотоциклы, паровозы,
электромагнитные резонаторы, «эфирные туннели» и т.п.41 Тотем (машина) - это вещь,
которая наделяется сверхестественнои силой, познать природу
которой тем, кто вверяет ей свою судьбу, невозможно. Тотемная или
магическая практика персонажей-мастеровых Платонова в полной
мере соответствует идее трудовой экономии жизни, во всяком случае,
ни в чем ее не ограничивает. Первая сцена контакта человека и
машины: магическое одухотворение машины, тело, становясь телом
машины, перестает быть человеческим, это уже машина-зверь,
природная стихия машинизма, и, как следствие, перевоплощение
человеческой телесности. У Платонова мы найдем достаточно
персонажей, которые чувствуют «машинные механизмы с точностью
собственной плоти»: «Муж Фроси имел свойство чувствовать величину
напряжения электрического тока, как личную страсть. Он одушевлял
все, чего касались его руки или мысль, и поэтому приобретал
истинное представление о течении сил в любом механическом
устройстве и непосредственно ощущал страдальческое, терпеливое
сопротивление машинного телесного металла»42. Или: «Он любил
машины потому, что чувствовал их живыми - мертвыми, которые стали
живыми; это было воскрешение железа и всего мертвого к жизни
вместе с человеком: образ будущего, полностью живого мира»43. Или
вот: «Ж(овов) к чугуну относился, как к собственной плоти, лучше
чем к своему телу»44. Или вот еще:
«...Захар Павлович не сводил глаз с паровоза и молча переживал в себе
любовь к нему. В свое жилище он наносил болтов, старых вентилей,
краников и прочих механических изделий. Он расставил их в ряд на
столе и предавался загляденью на них, никогда не скучая от
одиночества. Одиноким Захар Павлович и не был - машины были для него
людьми и постоянно возбуждали в нем чувства, мысли и пожелания.
Передний паровозный скат, называемый катушкой, заставил Захар Павловича
озаботиться о бесконечности пространства. Он специально выходил
ночью глядеть на звезды - просторен ли мир, хватит ли места колесам
вечно жить и вращаться?»145
315
Евнух души. «Революционные машины» и литература А. Платонова
«Наставник отлично знал, что машины живут и движутся по своему
желанию, чем от ума и умения людей: люди здесь ни при чем. Наоборот,
доброта природы, энергии и металла портят людей. Любой холуй может
огонь в топке зажечь, но паровоз поедет сам, а холуй только груз. И
если дальше техника так податливо пойдет, то люди от своих
сомнительных успехов выродятся в ржавчину, - тогда их останется передавить
работоспособными паровозами и дать машине волю на свете».146
Примеры можно умножить. На этой сцене первого и
магического контакта с машиной свершается слияние человеческого тела с
телом машины. Это не замещение, а скорее
во-площепиечеловеческого в машинной форме: машина приручается становиться вровень с
человеком и выше его, она и есть подлинный человек будущего.
«Революция как паровоз. И революционеры должны быть
машинистами» Ч7. Не таков ли машинист Мальцев - паровоз-человек из новеллы
«В прекрасном и яростном мире», или мастер Пухов из
«Сокровенного человека»? Так, машина-паровоз становится «теплым зверем».
«Паровоз стоял великодушный, громадный, теплый на
гармонических перевалах своего величественного высокого тела. Наставник
сосредоточился, чувствуя в себе гудящий безотчетный восторг»148.
Благодаря вступлению машины разом разрешаются все проблемы
человеческого существования: она становится новой Природой.
Машина-зверь, зверь-машина. Другими словами, человек преобразуя
свое машинное чувство в мимесис звериного (животно-природного)
тем самым одомашнивает машину. Не становится машиной, а скорее
делает машину одним из природных явлений.
Паровоз начала XX века
316
III. Изобретатель машин
Чертеж тепловоза А. Платонова
В одном случае, человеческое оказывается частью от машины-
как-целого, желание не столько даже стать машиной - это
недостижимое и невозможное счастье, - а хотя бы частично принадлежать
ее силе и красоте, как можно принадлежать Высшему существу:
живая органическая «часть», страстно желающая стать механическим
целым. Машины заступают в атопии Платонова не на место человека,
а на место Природы; машина-паровоз как особый вид
биогибридизации технического устройства и человеческой плоти. Поэтому нет
ничего загадочного в медведе-молотобойце из «Котлована», активно
участвующего в коллективизации?149 Так формируется
животно-растительный ряд машинных метафор, а это и есть доместикация, -
«приручение Машины». Причиной литературной машинизации
мира является желание стать Другим: достичь некоего аффективного
состояния, которое проецируется на мир посредством различных
технических объектов, форм, конструкций; они
индивидуализируются, выводятся за общепринятые нормы технического прогресса
317
Евнух души. «Революционные машины» и литература А. Платонова
(т.е. выдергиваются из социального контекста), становятся
фантастическими машинами, в которых свернута реальность будущего.
Хотя машины Платонова принадлежат разным классам и видам
авангардного машинизма, все они представляют собой аффективные
(миметические) устройства150.
Ты знаешь, я нечаянно открыл принцип
беспроволочной передачи энергии. Но только принцип. До
осуществления - далеко. Будет время - напишу
статью в научный журнал.
А. Платонов. Из писем к жене.
(з) Эфирная, электромагнитная или световая машина. Любимая
машина Платонова - это машина световая, электрическая,
овладевающая дешевой энергией невидимого эфира. Эту машину изобретают
Двановиз «Чевенгура», Вогулов нъ «Сатаны мысли», герой «Маркуна»,
главный герой «Невозможного», Крейцкопф («Лунные изыскания»),
Попов с Кирпичниковым («Эфирный тракт») и Верно («Ювенильное
море»), Иван Копчиков («Рассказ о многих интересных вещах»),
персонаж из «Потомков Солнца», Елпидифор Баклажанов из
«Приключения Баклажанова». Как не любить эту машину, если по замыслу
ее творцов она должна стать реальным воплощением неслыханных
возможностей человеческого разума. Ее удивительная сила
откроется в использовании самых могущественных сил Космоса,
способных дать новое измерение жизни всему существующему, -
электромагнитные силы, - «живая» энергии мертвого вещества природы. Все
эти машины, которыми захвачено воображение Платонова,
бесспорно, соотносятся с современными ему научными открытиями и
изобретениями, прежде всего, в области электротехники. И здесь
встает фигура гениального ученого Николы Теслы, знакомство Платонова
с трудами которого мне кажется весьма вероятным. Практически,
все идеи, высказываемые героями Платонова словно художественно
обработанные идеи Теслы. Магическая философия техники,
характерная для Теслы, перекликается даже в деталях с мыслями и
проектами Платонова (различные виды электрических машин, устройств
и приборов).
Приведем более убедительные свидетельства ближайшего «свето-
электрического» родства между идеями Тесла и машинными
утопиями Платонова:
318
III. Изобретатель машин
Николай Тесла
«Каждое живое существо является механизмом, вовлеченным в
круговорот Вселенной. Хотя на первый взгляд кажется, что на него
воздействует лишь непосредственное окружение, в действительности сфера
внешнего влияния простирается до бесконечности. Нет ни одного
созвездия или туманности, ни одного светила или планеты во всех
глубинах беспредельного пространства, ни одного блуждающего странника
звездного неба, который не осуществлял бы некоторого контроля над
его судьбой - не в астрологическом, неопределенном и нереальном,
смысле, а в строгом и точном значении физической науки.
Даже материя, которую называют неорганической и считают мертвой,
отвечает на раздражения и доказывает несомненное присутствие в ней
живого начала. Таким образом, все, что существует, органическое или
неорганическое, движущееся или неподвижное, восприимчиво к
внешним раздражениям. Нет разделяющей пропасти, нет разрыва в
непрерывном процессе, нет никакого особенного жизненного принципа. Всей
материей управляют одни законы, вся Вселенная - живая».151
«Проект гигантской электрической станции
будущего, в основе работы которой лежит
использование тепловой энергии Земли. Вода,
циркулируя в трубе, доходит до ее дна и поднимается
вверх в парообразном состоянии, пар приводит
в движение турбину, а затем он опять
превращается в жидкость, и этот круговой процесс
повторяется всё время. Внутренняя тепловая энергия
Земли огромна и практически неисчерпаема в
сравнении с вероятными человеческими
запросами; масса горячих слоев Земли измеряется
секстиллионами тонн».15"
«В соответствии с грандиозным проектом,
представленным на этой иллюстрации, энергия
забирается из морских глубин. Теплота
поверхностного слоя, вступающего во взаимодействие с
другим, холодным, слоем, используется для
получения энергии, приводя таким образом в действие крупные
электрические станции. В этой чрезвычайно важной статье представлен анализ
перспектив практического осуществления замысла, а также
теоретические основы функционирования [установки]».'и
319
Евнух души. «Революционные машины» и литература А. Платонова
Андрей Платонов
«Тогда Вогулов запряг в станки бесконечность, само пространство,
самую универсальную энергию - свет. Для этого он изобрел
фотоэлектромагнитный резонатор-трансформатор: прибор, превращающий
световые электромагнитные волны в обыкновенный рабочий ток, годный
для электромоторов. Вогулов просто получаемые из пространства
световые лучи «охлаждал», тормозил инфраполем и получал волны нужной
длины и частоты перемен. Незаметно и неожиданно для себя он решил
величайший за всю историю энергетический вопрос человечества: как
с наименьшей затратой живой силы получить наибольшее количество
годной в работу энергии. Затрата живой силы тут ничтожна -
фабрикация резонаторов-трансформаторов света в ток, а энергии получалось,
точно выражаясь, бесконечное количество, ибо вся вселенная впряглась
в станки человека, ведь вселенная - физический свет. Энергетика и,
значит, экономика мира были опрокинуты: для человечества наступил
действительно золотой век - вселенная работала на человека, питала
и радовала его».154
«Вся вселенная, есть, точно говоря, резервуар, аккумулятор
электрической энергии, т.к. вселенная - прежде всего пространство, а
пространство - прежде всего электромагнитное переменное поле. Рассматривая
же историю как практическое разрешение единого энергетического
вопроса, конечное решение которого есть полное, стопроцентное
использование вселенной человеком без всякой затраты сил человека,
мы можем сказать: использование света для промышленности есть
самое совершенное решение энергетического вопроса для нашего
времени. Вспомним, что база мира растений есть свет. Сделаем же свет также
и базой мира человека. И вся техника для этого должна быть сведена к
светотехнике, вся физика (может быть, химия) к электрике.
Светотехника должна сконструировать тот механизм, который
превращает свет солнца в обыкновенный рабочий электрический ток, годный
для наших электромоторов. Этот механизм уже наполовину
сконструирован. Называется он ф(тюэи1ектр(шатитныйрезонатор-трансф<фматор.
Его назначение - свет, этот небесный ток, переделывать в земной,
человеческий ток. В случае удачного разрешения этой технической задачи
(мы не входим тут в детали) свет, а с ним вся вселенная, станет
«пролетарием» человечества на многие неисчерпаемые века и человечество
не истощит эту энергию никакими машинами, сопротивлениями и
сооружениями. Даже энергия расколотого Резерфордова атома ничто в
сравнении с энергией светового океана».'55
320
III. Изобретатель машин
«Вся бесконечность, как учит наука, есть свет, есть сфера
электромагнитных содроганий. Значит, мы запряжем тогда и в наши станки
бесконечность в точном смысле слова. И этим решим великий и первый
вопрос человечества - энергетический вопрос. Нерешенность его -
причина всех зол. Все злое происходит на земле от недостатка свободной,
сейчас же годной в работу энергии, которую не надо добывать тяжким
трудом. Свет есть такая энергия, которую не надо руками выкапывать
из земли, эта энергия только проходит через известный прибор и
превращается, выходя из него, в наш рабочий электрический ток...».156
«Покорит мир тот, кто познает механику тончайших электромагнитных
возмущений, обуславливающих основные состояния человеческой
психики, тот, кто эти колебания, возмущения научится делать
искусственно, произвольно, по своей властной воле, во имя благородных
интеллектуальных целей.
Эти электромагнитные колебания по форме своей близки к свету, но
по длине волны, вероятно, еще меньше, а по периодам - кратче...
Способ получения электромагнитных колебаний психического
порядка возможен только путем регулирования - многократно сложного
преломления - света солнца, рассеянного, либо уже спектированного.
Свет солнца есть сырье для (таких э.м. колебаний) получения продукта
- «психического тока»
Да здравствует ПСИХОТОК!
Да здравствует лаборатория для его выработки!»157
«...электромагнитный (точнее, метод ритма), основанный на
разрушении материи через сообщение ей извне электромагнитных волн с
точно рассчитанной длиной волн и частотой периодов; такие волны,
совершенно совпадая с внутриатомным ритмом (строго определенным,
«индивидуальным» для каждого элемента, для каждого сложного
состава), разрушают материю; при несовпадении же таких - внутреннего и
внешнего - ритмов материя электризуется, создается. Дело в том, что
каждый элемент и каждое соединение их имеет свое, строго
определенное, внутриатомное и внутримолекулярное колебание. Здесь и лежит
загадка разрушения и создания материи».158
Великая цель - завладеть энергией «мертвой» природы, самой
дешевой и неисчерпаемой. В недрах материи таится величайшая и
могущественная энергия, открытие ее и правильное использование
позволит упразднить границы между обособленными временами
мирового вещества, между небом и землей, женщиной и мужчиной,
321
Евнух души. «Революционные машины» и литература А. Платонова
живыми и мертвыми, отцом и сыном'59. Отказ от «проклятия» труда
как бесполезной траты живых человеческих сил, как формы
взаимной эксплуатации трудящихся. Это машина высоты/глубины, она
уходит в Космос - и проникает в последнюю глубь Земли. Не глубина
как пустота, а глубина как путь к дешевой энергии эфира. Эта
машина жизни работает вертикально: это лифтовой туннель, с помощью
которого извлекаются на поверхность Земли продукты
деятельности чистых сил материи. Платонов в описании своих странных и
удивительных машин часто использует биологические метафоры,
которые, как мне представляется, подталкивают нас к тому, чтобы
видеть в этих машинах не жесткие механизмы с ограниченной
сферой действия, а скорее оргазмические пульсации. Это тип машин-
фантазмов, машин сновидных, машин сверхпродуктивных, которые
«не знают смерти». Однако в своей обратной проекции эфирная
машина как машина жизни совпадает по функциям с машинами смерти.
Переведенная, например, в план горизонтали эфирная машина
ничем не отличается от машин террористических, машин насилия и
истощения. Один объект приложения сил сменяется другим,
человеческое тело - телом Земли. Основной же принцип действия
остается неизменным: изъять энергию у пассивного природного тела и
потреблять ее во все больших количествах, не заботясь о
космическом единстве человека и Земли.
(4) Машина церебральная. Антиутопические повести Платонова
рассматривают технику (весь парк машин и автоматов), как
необходимые условия революционных изменений, которые захватывая
Природу, переходят и на человека, радикально его изменяя100. С точки
зрения новой космической онтологии - обновленной теории макрос-
микрокосма- человек представляет собой всего лишь машину, пускай
разумную и себя сознающую, но машину. Великий изобретатель
пишет: «...продолжаю доказывать, что являюсь автоматом, наделенным
способностью совершать действия, который просто отвечает на
внешние раздражители, воздействующие на мои органы чувств, и
мыслит, ведет себя и двигается соответственно».161 Гипотеза о
«живой Вселенной», находящейся в непрерывной, колебательной
волновой среде (электромагнитной) предполагает наличие единого
универсального сознания, которое не может быть
индивидуализировано, т.е. присвоено. Человек - это психоавтомат, чьи отношения с
миром выстраиваются благодаря его реактивности, т.е. способности
успешно отвечать на внешние воздействия. Мало этого, человек это
лишь мозг, но мозг - это мысль, а мысль, если она верна, резонирует
322
III. Изобретатель машин
с бесконечным миром других резонаций, так мысль есть ритм
вселенной. Например: «Всю свою юность Сарториус провел в изучении
физики и механики; он трудился над расчетом бесконечности как
тела, пытаясь найти экономический принцип ее действия. Он хотел
открыть в самом течении человеческого сознания мысль,
работающую в резонанс природе и отражающую поэтому всю ее истину —
хотя бы в силу живой случайности, и эту мысль он надеялся закрепить
навеки расчетной формулой».162 И в другом месте: «Мозг Матиссена
был таинственной машиной, которая пучинам космоса давала новый
монтаж, а аппарат на столе приводил этот мозг в действие. Обычные
мысли человека, обычное движение мозга бессильны повлиять на
мир, для этого нужны вихри мозговых частиц, - тогда мировое
вещество сотрясает буря»'63. Платонов ничего «не выдумывает», а лишь
пытается соответствовать в своих машинных фантазиях
революционному ускорению технического прогресса. И не он один.
Любопытную теорию машинизма, обновляющую
мировосприятие авангарда, оставил К. Малевич. На острие машинного
прогресса он размещает человеческий мозг: «...не я ли новый земной череп,
в мозгу которого творится новый расцвет, и не мой ли мозг
образует собой плавильную фабрику, из которой бежит новый железный
преображенный мир и, как с улья универсальности, летят жизни,
которые мы называем изобретением».'64 Мозг в другой
терминологической перспективе - это интуиция. Вот как ее определяет Малевич:
«Интуиция - зерно бесконечности, в ней рассыпает себя и все
видимое на нашем земном шаре. Формы произошли от интуитивной
энергии, преодолевающей бесконечное, отчего и происходят
разновидности форм как орудий передвижения»165. Интуиция - это радикальное
обновление мира в действии, это сама мысль, мир перед ней
безымянен и подчинен лишь скорости орудий преодоления. И здесь, как
у Платонова, машинная активность сводится к распылению материи.
Великий авангардный порыв заключается в наращивании мощности
орудий преодоления Природы (расщепления на частицы, на «зерна
бесконечной мысли»). Только мысль одна соразмерна бесконечности
задачи, вечно обновляющийся технический мир -лишь парк орудий
преодоления, каждое из них раскрывает динамическую мощь
человеческий разума в космической бесконечности новых миров.
Машины приближают «конец времени», это машины
катастрофические, «машины смерти», деспотически извлекающие энергию
отовсюду (в том числе и из человеческих тел), и ее вновь
рассеивающие.
323
Евнух души. «Революционные машины» и литература А. Платонова
(5) Машины-поделки. Многие произведения Платонова являют
собой экспериментальные полигоны для идеи бессмертия, от
«вечных двигателей» до разных приспособлений и штуковин, чье
практическое назначение сразу трудно отгадать. Отсюда множество
самых необычных машинных устройств, которые можно назвать
машинами-поделками.
«Его ничто особо не интересовало — ни люди, ни природа, кроме всяких
изделий. Поэтому к людям и полям он относился с равнодушной
нежностью, не посягая на их интересы. В зимние вечера он иногда делал
ненужные вещи: башни из проволок, корабли из куска кровельного
железа, клеил бумажные дирижабли и прочее — исключительно для
собственного удовольствия. Часто он даже задерживал чей-нибудь
случайный заказ, — например, давали ему на кадку новые обручи подогнать, а
он занимался устройством деревянных часов, думая, что они должны
ходить без завода — от вращения земли»1б6.
«За лето Захар Павлович переделал из дерева все изделия, какие знал.
Землянка и ее усадебное прилежащее место были уставлены
предметами технического искусства Захара Павловича — полный комплект
сельскохозяйственного инвентаря, машин, инструментов, предприятий и
житейских приспособлений — все целиком из дерева. Странно, что ни
одной вещи, повторявшей природу, не было: например, лошади, колеса
или еще чего»167.
«Теперь Епишка изобрел свет. Устроил такие магниты, где дневной свет
волновал магнитное пале и возбуждался электрический ток. Этим током
Епишка гнал самодельный корабль по родной реке. Солнечный свет и лунный
повез в первый раз чудака-человека по воде.
С тех пор никто ни в ком не стал нуждаться: Епишка показал всем, как
делать такие машинки, и все стали богатыми
/.../
Один араратский житель сделал подземную лодку, и сила Епишкиной
машинки вогнала ее в недра земли, и араратец там пропал, поселился»168.
«Дванов выдумал изобретение обращать солнечный свет в электричество.
Для этого Гопнер вынул из рам все зеркала в Чевенгуре, а также собрал
всякое мало-мальски толстое стекло. Из этого материала Дванов и
Гопнер поделали сложные призмы и рефлекторы, чтобы свет солнца, проходя
через них, изменился и на заднем конце прибора стал электрическим током.
Прибор уже был готов два дня назад, но электричество из него не про-
324
III. Изобретатель машин
изошло. Прочие приходили осматривать световую машину Дванова, и,
хотя она не могла работать, все-таки решили, как нашли нужным:
считать машину правильной и необходимой, раз ее выдумали и заготовили
своим телесным трудом два товарища»169.
"Между домов идти было узко, а теперь здесь стало совсем непроходимо
- сюда прочие вынесли для доделки свои последние изделия: деревянные
колеса по две сажени поперек, железные пуговицы, глиняные памятники,
похоже изображавшие любимых товарищей, в том числе и Дванова,
самовращающуюся машину, сделанную из сломанных будильников, печь
самогрейку, куда пошла начинка всех одеял и подушек Чевенгура, но в которой
мог временно греться лишь один человек, наиболее озябший. И еще
были предметы, пользы коих Сербинов вовсе не мог представить»170.
«Нужно колесо,— вслух определил Дванов.— Кованый деревянный диск,
с него можно швырять в противника кирпичи, камни, мусор — снарядов
у нас нет. А вертеть будем конным приводом и помогать руками,— даже
пыль можно отправлять и песок.»171.
«...деревянный диск для метания камня и кирпича в противника
Чевенгура»178.
«В гуще лебеды Дванов залез во что-то ногой и еле вырвался — он попал
между спиц забытого с самой войны пушечного колеса. Оно по диаметру
и прочности вполне подходило для изготовления из него метательной
машины. Но катить его было трудно, колесо имело тяжесть больше
веса Дванова, и Александр призвал на помощь Прокофия, гулявшего
среди свежего воздуха с Клавдюшей. Колесо они доставили в кузницу, где
Гопнер ощупал устройство колеса, одобрил его и остался ночевать в
кузнице, близ того же колеса, чтобы на покое обдумать всю работу»173.
«А наше солнце, понимаешь, не горит» - горестно проговорил надо
мною Кондров. - Оно потухло.
Провода из амбара тянулись по ракитам, по плетням, по стенам изб и,
ответвляясь на попутный колхоз, отправлялись к солнцу. Мы тоже пошли
на солнце. Провода всюду были достаточно исправны, на самом солнце
я тоже не мог заметить чего-либо порочного. Особенно меня
удовлетворил жестяной рефлектор: его отражающие поверхности имели такую
хорошо сосчитанную кривизну, что всю светосилу отправляли ровно
на колхоз и на его огородные угодья, ничего не упуская вверх или в
бесполезные стороны. Источник света представлял из себя деревянный
325
Евнух души. «Революционные машины» и литература А. Платонова
диск, на котором было укреплено сто стосвечовых полуваттных ламп,
т.е. общая светлая мощность солнца равнялась десяти тысячам свечей»174.
«Вермо в тот час играл, как он думал, сонату о будущем мире: в виду
выдуманных им звуков ходили по благородной земле гиганты молока и
масла - живые существа, но с некоторыми металлическими частями тела,
дабы лучше уберечь их от болезней и обеспечить постоянство
продуктивности; например, пасть была стальная, кишечник оперирован
почти начисто (против заболеваний от разложения кала), а молочные
железы должны иметь электромагнитное усовершенствование»175.
«...мощным агрегатом прожигать скважины в глубину земного шара,
дабы вскрыть кристаллическую гробницу материнского моря, либо
вообще достигнуть богатых запасов воды - взять оттуда количество влаги,
достаточное для образования постоянного озера или степного моря.
Параллельно бурить немедленно вольтовым огнем неглубокие
водонасосные скважины на всех пастбищах и зимних гуртах совхоза (малое
водоснабжение).
Получить энергию в степи и во всем мире из любой точки освещенной
поверхности»176.
«Чепурный тоже сначала хотел чего-нибудь сварить, но обнаружил, что
недавно в Чевенгуре спички вышли, и не знал, как быть. Но Гопнер знал,
как быть: нужно пустить без воды деревянный насос, который стоял
над мелким колодцем в одном унесенном саду; насос в былое время качал
воду для увлажнения почвы под яблонями, и его вращала ветряная
мельница; это силовое устройство Гопнер однажды заметил, а теперь
назначил водяному насосу добыть огонь посредством трения поршня всухую.
Гопнер велел Чепурному обложить деревянный цилиндр насоса
соломой и пустить ветряк, а самому ждать, пока цилиндр затлеет и солома
от него вспыхнет»177.
«Маркун нагнулся над чертежом. Его турбина имела шесть систем
спиралей, последовательно сцепленных и последовательно возрастающих
по мощности. Следовательно, ускорение будет шестикратным. Вода же
будет так расходоваться, что будто работает одна последняя, шестая
спираль; это потому, что другие пять спиралей будут работать одной и
той же водой.
"Всякая теория — ложь, если ее не оправдает опыт, — подумал Маркун.
— Мир бесконечен, и энергия его поэтому тоже бесконечна. Моя
турбина и оправдала этот закон".
326
III. Изобретатель машин
И огнем прошла неожиданная мысль, что если бы найти металл с
бесконечной способностью прочного сопротивления, бесконечной
крепости. Но такой металл есть: он просто одна из видов мировой энергии,
вылитая в форму противодействия. Это вытекает из общего закона
бесконечных возможностей сил и их форм.
"Но тогда моя машина — пасть, в которой может исчезнуть вся вселенная
в мгновение, принять в ней новый образ, который еще и еще раз я
пропущу через спирали мотора.
Я построю турбину с квадратным, кубическим возрастанием мощности,
я спущу в жерло моей машины южный теплый океан и перекачаю его
на полюсы. Пусть все цветет, во всем дрожит радость бесконечности,
упоение своим всемогуществом"»178.
Вероятно, Ж. Бодрийяр, давая таким странным предметам имя
штуковина, указывает на оппозицию машины/штуковины179. «Машина
и "штуковина" взаимно исключают друг друга. Дело не в том, что
машина - совершенная форма, "штуковина" - форма вырожденная,
распавшаяся; это просто разнопорядковые величины. Машина - это
реальный операторный предмет, "штуковина" же - воображаемый.
Машиной обозначается и структурируется тот или иной комплекс
практической деятельности, "штуковиной" же - лишь чисто
формальная операция, зато операция над миром в целом. Штуковина
бессильна в плане реальности, зато всесильна в плане
воображаемого».180 Штуковиной можно назвать все, что не имеет имени. Другими
словами, вещь, чье предназначение я не знаю (но полагаю, что она
его имеет), и есть штуковина. Получается, что если бы я вдруг
вспомнил имя, и те речевые обороты, и тот словарь терминов, в которых
вещь может быть узнана, то она больше не была бы штуковиной, а
стала произведением искусства или техническим устройством.
Штуковина как сбой памяти и речи. Это первый шаг, есть и второй:
штуковина - это еще игра технической фантазии; не эта вот штуковина,
которая «не работает», а другая, - высшая форма будущего
технического совершенства (НЛО, например). Такие штуковины как особые
технические конструкции будущего, чье назначение объяснить мы
не можем. В таком случае штуковина отрицает принцип реальности,
она его превосходит. Есть еще и то, что можно назвать либидиноз-
ным остатком в объяснении феномена штуковины, когда она вдруг
оказывается частью фаллического измерения мира объектов.
Парадоксально, что все эти примитивные приспособления, эти машины
Чевенгура, став вещами, стали и штуковинами, чье назначение
вступает в конфликт с их технической бесполезностью («они не рабо-
327
Евнух души. «Революционные машины» и литература А. Платонова
тают») В отечественном авангарде нет «штуковин», там все ясно:
вещь сведена к идеальной причине, - некая модель (образец,
лекало): модулер (Ле Корбузье), архитектон (К. Малевича). Там,
действительно, стремятся создать Мировую машину, с помощью которой
можно бы перестроить не только социум, человека, но и Космос.
П. Филонов и принцип сделанного
Следует более внимательно отнестись к одному из ключевых
понятий машинной культуры русского авангарда, понятию
«сделанности» (Филонов). От «сделанности» только шаг к Мастеру, к тому,
кто делает вещи. Филонов различал «глаз видящий» и «глаз
знающий». Когда мы хотим быть реалистами (и не в лучшем смысле
слова), полагает он, и стремимся отразить то, что видим, то вынуждены
подчиняться предвзятому канону, и не в силах творить видимое*81.
Более того, мы как бы ограничиваем себя и собственное видение
теми естественными возможностями, которые заложены природой
в самом глазе как перцептивном органе. Периферия наблюдаемых
объектов ускользает из поля видения, и мы не можем «схватить» ее,
полнота ее независимого от нас существования оказывается
недоступной. Отсюда вся природная ограниченность «видящего глаза»:
он видит то, что должен видеть, но не видит то, что мог бы видеть.
Такой глаз «несвободен». Вот почему «свободное» видение, в
котором нельзя провести различие между существенным и
несущественным, далеким или ближним, центральным или периферийным, и
будет подлинным видением. Для Филонова допустимая полнота
видения и будет актом творения: «знающий глаз, - замечает художник,
- говорит, что в любом атоме консистенции, образовавшей
периферию, в любом атоме самой поверхности происходит ряд
преобразующих, претворяющих процессов. И мастер пишет эти и многие иные
явления «формой изобретаемой» в любом нужном случае»182. Итак,
творческий глаз, «знающий», видит содержание, даваемое ему
формой, невооруженный взгляд не видит ничего подобного. Художник
действует как изобретатель, а не как регистратор внешних
раздражений, он стремится овладеть невидимыми силами Земли (Материи),
которые создают вещь и мир, силами дофигурными, не обретшими
форму, т.е. учиться работать на микроскопическом, атомном
уровне183. Филонов так же обостренно, как Татлин или Малевич,
чувствует избыток сил, бушующих в материи. Живописные пространства
перенасыщены сделанным. Удивительный мир, где нет несбывших-
328
III. Изобретатель машин
ся жизней. Доминирует фон, то как живописная, часто,
орнаментальная текстура, то как напряженная, вспухшая темная материя,
то как кристальная, чертежно-прозрачная и тончайшая паутина. Фон
и фигуры вступают в сложные отношения. Микроскопия невидимой,
роящейся жизни - выдвигается на первый план, в то время как
фигуры уходят на задний. Отдельная фигура кажется чем-то случайным по
отношению к буйству энергий в живописной материи: она или
скользит по едва заметному контуру, как бы тает в нем (так Филонов пишет
«животных» и «птиц»), то «проламывается» в передний план (так он
пишет «головы»). Несколько иначе - космические видения, где
фоновая туманности не допускают появления фигур в четком контуре.
Не следует думать, что принцип сделанности относится к
совершенству самого произведения, скорее он принят как его
необходимое условие, ибо сделанность - результат аналитической развертки
глаза. И эта развертка обладает тем большей ценностью, чем в
меньшей степени она зависит от какого-либо живописного канона. Под
сделанностью, надо понимать превосходство глаза знающего над
видящим. «В искусстве аналитическая сила равна изобразительной силе,
равна сделанности, и максимум или любая степень любого из трех
членов равенства обуславливает в сделанной вещи максимум или
равную степень любых двух других членов»184. Эта установка
отразилась в филоновской практике письма: писать только маленькой
кистью: «Работай так: работай только маленькою кистью с острым
концом. Не мажь, нетшши непродуманно широко. Все время рисуй
кистью, вырабатывая цветом форму, будто ты работаешь остро
очинённым карандашом и боишься его затупить и сломать, и врабатывай
цвет в цвет, форму в форму на каждом прикосновении кисти; умея
работать таким способом, поймешь, что значит писать наверняка»l8s.
Нам потому и трудно «понять» нон-фигуративное искусство
Филонова, что для него изображаемое - часть его самого, это своего рода
церебральный мимесис. Никакой репрезентации или отражения,
нет перевода невидимого в видимое (причем, с того угла зрения,
который кажется наиболее удобным). На самом деле, филоновский
Мастер испытывает себя в горных шахтах, заводских цехах и
мастерских, в далеких космических навигациях. Решающим достижением
этого нескончаемого делания будет сближение (чуть ли не на
атомном уровне) с мировым веществом. Если мы желаем видеть, то не
надо представлять себе некую картину бытия, само бытие есть так,
как есть: оно располагается в предельной близости к мастеру, он - в
нем. Работать кистью-скальпелем, исследуя действие сил на каждый
329
Евнух души. «Революционные машины» и литература А. Платонова
живописный атом. Все требования сходства и ожидание узнавания
видимого отвергнуты сделанностью. Можно сказать, что филонов-
ский Мастер ничего не видит, а только знает: пробует, вторгается,
выверяет, развязывает, режет вещество Природы, не пытается
спрятать его за ложной завесой, исходящей от кисти широкого мазка.
Невидимое, замещая видимое (фигуративное), становясь другим
видимым, предлагает себя зрителю в качестве истины искусства.
Сделанность- символ предельной близости к вещи, которой может
достичь Мастер. В таком случае именно рука возвращает нас к вещам,
ибо доступность их всецело определяется подручностью ближайшей
вещной среды. Сделанность, - это определяющее качество вещи, она
обладает подручной близостью, она «под рукой». Созданное полотно
- это живая, динамически напряженная, растущая, вечно
расширяющаяся вглубь плоть вещей. Но это только начало, следующий шаг
упразднить всякое расстояние между тем, что «знается» и тем, что
может быть «видимо», а это значит «рука» больше не нужна. Что
происходит с Мастером, когда он пытается выразить становление
атомных сил, для которых никогда не отыскать соответствующей формы?
«Творчество - есть сделанность, рисунок - есть сделанность, форма и
цвет - есть сделанность. Форма дается упорным рисунком. Каждая вещь
должна быть сделана. Каждый атом должен быть сделан, вся вещь должна
быть сделана и выверена. Основа живописи - сделанный рисунок и
выявленный цвет, живопись - есть упорная работа цветом, как рисунком, над
формою. Живопись - есть цветовой вывод из раскрашенного рисунка.
Упорно и точной думай над каждым атомом делаемой вещи.
Упорно и точно делай каждый атом.
Упорно и точно рисуй каждый атом.
Упорно и точно вводи выявленный цвет в каждый атом, чтобы он туда
вьедался как тепло в тело, или органически был связан с формой, как
в природе клетчатка цветка с цветом.
И твоим принципом мастера пусть будет лозунг: «Я могу делать любую
форму любой формой и любой цвет любым цветом, а произведение
искусства - есть любая вещь сделанная с максимумом напряжения
аналитической сделанности»186.
Отношение Головы (Фигуры) к Природе (Фону) выражается в
аналитическом зрении. Голова сохраняет фигуративную
идентичность в отличие от фона, который подвергается аналитическому
разъятию на детали. Не видит ли Платонов аналогичным образом,
по-филоновски, свои фигуры-тела? Ведь, с одной стороны, бесчувст-
330
III. Изобретатель машин
венный, аналитический глаз «евнуха души» открывает неслыханную
свободу для наблюдения, - все эти разрывы и сдвиги в движениях
тел, их механистичность и случайность, а с другой, несмотря на
частичность и периферийность, изображаемое захвачено общим
движением, рождающим из глубины все новые фигуры. Границы фигур
прочерчиваются доверием к невидимым силам жизни. То, что должно
быть в центре взгляда - а это фигура, - созидается собирательным,
аналитическим усилием из частичных и периферийных объектов,
но собираются не сами объекты, а то, что между ними, все то же
промежуточное пустое пространство. Пустота фона здесь содержательна.
Платонов нарушает правило соотношения центра и периферии, так
как признает основным в изображении не саму вещь, а то, что ее
разлагает, преобразует, ограничивает, он видит в каждой оформленной
вещи ее внутреннюю энергию, пустоту и борьбу за нее. Взгляд,
видящий пустотные разрывы в видимом, из которых оно возникает, из-за
которых гибнет. Вот почему, как в сновидении, плывут эти
причудливые фигуры, эти ни на что не похожие платоновские персонажи,
которых так трудно свести к пространственно-временной
определенности, дать место, наделить судьбой; их фигурность, в конечном счете,
оставляет нам только имя, - знак рассеивания тел, а не их
консолидация против сил опустошения. И вот снова перед нами мир, где
животное, человек, насекомое, вещь, ее отдельная частица могут
образовать одну непрерывную серию видимой-невидимой жизни, ткань
микроскопической материи, свободно скользящей сквозь пределы
смерти. Если мы спросим себя, что это за мир, который видит «евнух
души», словно зачарованный, то ответ может быть только один: этот
мир не есть отражение другого мира, он создан по модели
катастрофического пространства: все герои и их подвиги, события,
движения и покой, отдельные жесты, скука и тоска - все это последнее,
что еще осталось, и оно, это последнее, будет всегда. Мир Филонова
ориентируется на иную модель Природы, поразительно близкую
платоновской, правда, с точностью наоборот, - возрождения всех
сил природы и создания новых тел, более неделимых на мертвые и
живые (все его авангардные образы - это «новое» и «первое»).
«Все стало понятно по-новому. Другая широкая радость зацвела. Мир
стал населен не распыленным человечеством, а великим общим телом
бога. Жизнь этого тела пошла по новым законам внутреннего склада.
Не для показа стали творить, а велением духа, для путей нового тела.
Явилась и сила небывалая общего тела. Явилась и работа, недоступная
ранее никому даже из гениальных (не было проводящих органов).
331
Евнух души. «Революционные машины» и литература А. Платонова
Благодать творчества этого общего тела может пройти и через одного.
Один за всех. Все за одного. Не будет славы. Не будет зависти. Но одна
дружная волна творческого потока животворящей силы.
Один из всех - Филонов - втянул в себя и перекрутил все нити новых
путей, как в водовороте, в своем первом общем теле»187.
Сделанность поэтому нужно соотнести и с другими категориями
филоновской техники письма (прототехники). Полотно у Филонова
заполнено до отказа «материей». Заполненность следует понимать
как главное следствие сделанности. Мастер, заполняя холст,
прибегает к технике сделанности, ибо только сделанная вещь есть вещь
сама по себе, т.е. взятая в начале своего становления. Это взбухание,
размокание, разветвление, наделение тяжестью и теснотой,
непроницаемостью и плотностью; темно-коричневый с рыжеватыми
подпалинами фон, почти непробиваемый светом, с тяжелыми формами и
очертаниями примитива - в одном случае, а в другом, -
геометризация, кристаллизация, чертежи и разброс множества линий - все это
как раз и есть разложение мастером «упакованных» в каждом атоме
материи сил по жанрам188. И мастер освобождает их, устанавливая
правила следования аналитических процедур как пластических
образов самой материи. Аналитическое движение-делание раскрывает
микромир каждой вещи. Мастер становится творцом, ибо его
искусство освобождает вещи из-под нашего необязательного взгляда, не
видящего полноту бытия, не проникающего в то, что есть сама вещь.
Головы Филонова - это что? Как понять их столь активное
участие в общем картинном строе? Возможно, чисто зрительный, не
аналитический рефлекс нашего восприятия (соотнесенный со
здравым смыслом: вижу то, что вижу) не позволяет понять смысл
«сделанности» голов l89. Индивидуализация образа поставлена под запрет,
есть только типология общего телесного образа, но нет того, кто
бы мог иметь собственное лицо, т.е. отдельную от «всеобщего» жизнь.
Вот что мы находим у Платонова: «Сейчас пролетариат имеет свое
крепкое тело, живой, сильный организм - ему надо создать себе
голову, выстроить ее на себе. На молодом теле пусть будет молодая,
ясная голова, новое сознание/.../ Но сейчас нам нужно
сорганизовать те начатки культуры, сделать из них боевую силу, переселить
дух в тело и спаять из разбросанных, расщипанных нервов единый
мозг, одну голову. Слить верные, но случайные, оторванные, слабые
мысли в одно ясное, торжествующее сознание, которое одно
способно подавить мир капитала, ибо теперь уже ясно, что главная и
страшная сила пролетариата это его сознание, душа. В человеке то-
332
III. Изобретатель машин
же страшен не камень в руке, а видящая голова»190. Поэтому Филонов,
как, впрочем, и Малевич, рисует Крестьянина, Механика, Рабочего. Не
лица, а головы: отрицание лица в пользу головы, поэтому головы
так легко умножаются, причудливо развертываются по живописной
плоскости, повторяют друг друга, отражаются, как эхо бесконечно
растущей массы. И Филонов, и Платонов не изображают лица, в их
творчестве мы не находим идей индивидуального олицетворения,
план экзистенциальной биографии отсутствует191.
Две головы (1925) Голова (1925)
Одиннадцать голов (начало i93°"x)
ззз
Евнух души. «Революционные машины» и литература А. Платонова
Февральская революция (1924-1926)
Механик (1926)
Филонов, как известно, никогда не обсуждал темы своих работ.
Всякая попытка миметически передать опыт художника оказывается
неудачной, даже нелепой (по признанию ближайших учеников). Всю
эту массу живописной материи, расширяющуюся во всех
направлениях на холстах Филонова, всю ее мощь сдерживает работа малой
кисти, хотя идет она ацентрично, вне строго выверенной
композиции. Как понять это сложнейшее наслоение поверхностей, где
массивные знаки человеческого - «головы» - даны в качестве
смысловых маяков? Зачем головы? Нужна хотя бы иллюзия глубины, но ее
нет. Но здесь «не работает» обычная подражательная процедура,
она разрушена, идет движение распада, дробления, распыления
видимого реального. Вероятно, наша ошибка заключается в попытке
локализации смысловой структуры, которая изначально
предполагается: мы хотим видеть-и-понимать: то, что увидено, должно быть
понято. На самом деле Филонов все переворачивает: видимое в его
живописи есть часть невидимого, поэтому то видимое, которое мы
видим, мы и не понимаем. Филонов спрашивает: как можно писать
Революцию, Восстание, Индустриализацию, Человека, Животных, Космос,
Композиция «Налет» (1938)
334
III. Изобретатель машин
как можно писать Рабочего, Механика, Крестьянина и т.п. - как писать
то, что не может быть предметом изображения в силу своей
неконкретности, оторванности от общепринятого живописного языка.
Вопрос: действительно, как писать «общее тело» Событий? Ответ:
такие вещи нужно мыслить, ибо их сложность не позволяет
переводить их из невидимого измерения в видимое.
335
IV
Столкновение
Общая диспозиция
Два класса машин: к первому мы относим машины смерти - они
действуют исключительно горизонтально; останавливают всякое и
космическое и экзистенциальное время; они деструктивны и
разрушают все, что может индивидуализировать живое, что позволяет
живому иметь тело, среду, то, что отделяет его от всех других жизней,
и дает возможность существовать отдельно («я», «сознание»,
«обладание» и т.п.). Эти машины движутся по поверхности Земли со
скоростью революционных «машин Интернационала»
(Машина-Чевенгур) , они способны внедряться в ее глубину и день за днем расширять
границы этой чудовищной черной дыры в центре мира ради светлого
будущего землекопов (Машина-Котлован). Главная цель - сделать
землю вновь необитаемой, «чистым пространством», готовой принять
новую жизнь и нового человека. Второй класс - это серия
полуфантастических технических устройств и изобретений, их действие
вертикально, «туннельно»; идеальный образец машин будущего -
электромагнитный резонатору или эфирная (световая) машина, пробивающая
туннели в глубинах твердой материи, превращающая космические
излучения и свет в неисчерпаемый источник энергии. Цель -
освободить человечество от всякого, не только физического труда. Только
разум, точнее, человеческий мозг остается духовной матрицей всех
природных и технических событий: мир учится рождаться в мысли.
Решающее отличие основных классов машин в способе, каким
осуществляется их присвоение. Таких два: церебрально-индивидуальный и
телесно-коллективный. Направление «работы» машин здесь разное. В
первом случае индивид, а точнее, его мозг рассматривается как вели-
336
чайшая из машин Природы; во втором, индивид оказывается захвачен
коллективной (революционной) машиной, машиной Труда, он
подвергается интенсивной эксплуатации в качестве трудовой единицы. Одна
машина непрерывно создает из мертвого живое, другая, - из живого
мертвое. Не являются ли эти машины одним и тем же: зеркальными
подобиями друг друга, правда с разными знаками, чье действие, хотя и
направлено к различным уровням бытия, принадлежит общему строю
авангардного мировидения? Во всяком случае, катастрофическое
пространство, опустошаемое Платонова не перестает рождаться из
взаимодействия двух этих машин, - машин жизни и смерти. И та и другая,
хотя по-разному опустошают (распыляют) вещество живой Природы.
Великие революционные призывы машин авангарда:
«Создай из своего мозга (тела) машину для всех сил Земли и Космоса!»
Только одно и само простое движение ума. Некий церебральный акт
(неслыханное техническое изобретение) способно радикально изменить Землю,
превратить ее в другую планету\ другую Землю
(для машины-I, церебральной)
«Великий Вождь, если ты хочешь приблизить будущее, ты должен изобрести
новую, еще невиданную машину, не техническую, не церебральную, а
коллективную машину, имашину Интернационал!п, только она создаст для тебя
революционную массу».192
(для машины-П, коллективной)
Приводимая ниже диаграмма поможет приблизить нас к более
наглядному представлению феномена, который мы назвали
пространством рассеивающим и опустошающим, «революционно-кочевым».
Вышина Диаграмма у.
Космос
Машины жизни
Поверхность Τ (тело)
(степь, пустыня)
< '"
Пустыня, границы опустошения
Машины смерти
(коллективные,
fj революционные)
Земля
Глубина
Евнух души. «Революционные машины» и литература А. Платонова
В точке Т, как помечено на рисунке, располагается основной
объект всех машинных посягательств: человеческое тело, в его
органических, культурных, индивидуальных и прочих измерениях; оно
полностью отдано на откуп коллективной машине, «машине
Интернационала». Правда, и те и другие, - машины (технические и
революционные) - лишь наращивают пустоту, опустошают Землю и вглубь
и вширь, эта пустота равна чистоте. Все машины (вертикальные и
горизонтальные) - проекции смены тех внутренних состояний,
которые попеременно овладевают немым свидетелем. Центральная ось,
на которой располагается этот не смыкающий глаз наблюдатель
(«евнух души», «молчаливый свидетель», «мертвый брат»), открывает
ему доступ к этим двум порядкам машин. Форма идентичности для
самого наблюдателя - только душа. Ни сознание, ни тело не участвуют
в идентификации его положения. Мозг-сознание противостоит телу,
а тело противостоит мозгу-сознанию. Здесь пролегает основной
расщеп в движении наблюдателя: он видит душой все физические
явления жизни, но воспринимает их с полной остраненностъю> как если
бы сам был то ли ангелом, то ли древним аскетом-пустынником,
преодолевшим все соблазны желания, то ли великим механиком.
Конструкция Мегамашины
Если бы возможно было построить Вавилонскую
Башню, не взбираясь на нее, это было бы позволено.
Ф. Кафка
Собственно, все персонажи «Чевенгура» и «Котлована» и многих
других повестей и рассказов Платонова принадлежат одному и тому
же порядку действия особых древних машин. Родовое имя таких
технических устройств - Мегамашина193. Воспользуемся здесь этим
важным понятием, изобретенным Л. Мэмфордом. Вот как он
формулирует: «Машина, которую, я упоминаю, - писал он, - никогда не была
открыта в каких-либо археологических раскопках по простой
причине: она была почти полностью составлена из человеческих частей.
Эти части были соединены в иерархической организации под
властью абсолютного монарха, команды которого, поддержанные
коалицией священнослужителей, вооруженной знатью и
бюрократией, обеспечивали подчинение всех компонентов машины
аналогично функционированию человеческого тела. Назовем эту первичную
338
IV. Столкновение
коллективную машину - человеческая модель всех последующих
специализированных машин - Мегамашиной»194. Не эти ли Мегамашины
создавали каналы, мавзолеи, пирамиды, дворцы, стадионы,
магистрали, башни и города, великие водные пути и другие пути
сообщения в древних цивилизациях? С одной стороны, их действительно
можно считать первыми и наиболее древними образцами
строительной техники195. Но этого было бы недостаточно, ведь они имели и
другую уникальную функцию: это были первые устройства по
созданию и управлению большой массой человеческих тел; там, где они
зарождались, текучее, подвижное, мигрирующее множество
человеческих единиц превращалось в жестко стратифицированное
пространство, пускай, на достаточно ограниченное время. «Рабочие»
части будущей машины составлялись из функционально
взаимосвязанных между собой технических элементов: каждое тело рабочего
было равно трудовой единице и ею исчерпывалось. Мегамашины
породили феномен единого целенаправленного монотонного труда,
они же породили и мировую бюрократию, целую армию «советских
управленцев». Если управление и осуществлялось из единого центра
(там, где находилось Высшее лицо народа Фараон, Монарх, Тиран,
Вождь), то чисто номинально, поскольку главное все же было
мастерство и слаженность всех участников мегамашины в достижении
конечного результата. Приказы и весь язык принуждения
формировал особые формы трудовых соглашений построенных
исключительно на угрозе насилием. Там, где возникает такого рода тоталитарная
техника, прежний развитый социум разрушается. Его структурные
единицы (группы, слои, союзы, институты), а также различные
техники индивидуации и субъективации - короче, все то, что создает
многочисленные экономии жизни - преобразуется в трудовую
армию. Главное в мегамашине - это организация массы в ее
принуждении к тяжелому физическому труду, и только потом - выдающееся
инженерное мастерство механиков или инженеров.
Создание подобных машин было бы невозможно без идеи
всеобщей мобилизации. Такую идею развивает Э. Юнгер, отчасти она
совпадает с принципом организации мегамашин: тот же призыв всех к
единому трудовому усилию и борьбе. Причем господствующий
режим использует разного рода мобилизационные планы (не только
в экономике, но в идеологии и политике), чтобы представить
высшие цели как ближайшие и достижимые. Практически отсутствует
какая-либо экономия труда, ибо источник энергии по сути дела не
возобновляем, и зависит от количества привлеченных к работе
машины человеческих единиц. «Тотальную мобилизацию не осущест-
339
Евнух души. «Революционные машины» и литература А. Платонова
вляют люди, скорее она осуществляется сама; в военное и мирное
время она является выражением скрытого и повелительного
требования, которому подчиняет нас жизнь в эпоху масс и машин»196. Если
Юнгер так и не смог определить, в чем все-таки состоит принцип
тотальной мобилизации, то для Райха, фрейдомарксиста, все
совершенно ясно: именно фашизм, механизируя массы и личность,
превращает их в послушные и безвольные механизмы. Следует
рассматривать западную цивилизацию как порождающую машинного
человека. Более того, он предполагает, что массы желают фашизма,
не свободы. Именно потому, что фашизм как чума он
распространяется на молекулярном уровне, укореняясь в
сексуально-физиологическом аппарате человека массы. И тот, подвергаясь планомерной
и «жесткой» механизации, требует одного вождя, высших
авторитетов, готовый подчиниться их воле. Вот что дает толчок
тотальному процессу фашизации общества197.
Платоновская «машина Интернационала» и есть машина
революционная. Но это, надо заметить, совсем не та Мегамашина, которую
обсуждает Мэмфорд, это скорее «плохо работающая»
революционная машина. «Странничество», хаос, распад и другие энтропийные
явления - результат действия Мегамашины, имя которой «Чевенгур».
Мегамашина Платонова разлагает жизнь, крошит ее до мельчайших
частиц и непременно умерщвляет, - в этом, вероятно, ее назначение.
В таком случае, она явно противостоит тем образам революционной
массы, которые мы находим у великих теоретиков русского
киноавангарда, прежде всего у Дз. Вертова и С. Эйзенштейна.
Наброски описания революционной мегамашины мы находим
у раннего Платонова:
«На земле, на далеких невидных планетах растут и растут ненавидящие
рабочие массы. Труд и есть ненависть. Эта ненависть есть динамит
вселенной. Мы растем и множимся без конца - и спасем себя только мы
сами, мы все. А не самые умные среди нас. Мы умны и могучи, когда
вместе; в одиночку мы погибаем.
Мы - Масса. Единое существо, родившееся из человека, но мы и не
человек. И человеческого в нас нет ничего. И на солнце я чувствовал бы
всех в себе и не был одиноким.
Масса, новое вселенское существо, родилась. Она копит в труде свою
ненависть, чтобы разбрызгать ею звезды и освободиться. В ее бездне-
душе всегда музыка. Всегда песнь освобождения и жажды бессмертия и
неимоверной мощи»198.
340
IV. Столкновение
«В черной еле шевелящейся Массе механиков и мастеровых мысль
также текла из глубин тела и не управлялась сознанием, а была стихией и
бурей.
Иногда, редко, тайно от самих себя, при безумных взрывах энергии в
машинах и в Массе, мы смутно ощущали эту податливую, слишком
покорную мягкость материи, и наша энергия, не находя мощного
сопротивления, нечаянно уходила на разрушения, уносилась, как гранитная
глыба в пустом пространстве, удваивая скорость с каждым моментом.
Мы тогда напрягались, регуляторы ставили на полную скорость, мы
размахивались и ударяли в пустоту и сами падали. Может, нету мира, но
машины дробили металл, подшипники накалялись, моторы выли, и
здания от них дрожали - и мы сомневались.
Но в такие минуты нас охватывала тоска, и мы сокращали напор
энергии, под нами исчезала материя.
Чагов вспомнил эти миги, когда машины перегружали сверхнормы до
невозможного, когда в кочегарках плавились дверцы топок, и динамо
ревела, и между проводами вспыхивали молнии, когда забывалась
наука и выступало человеческое безумие и вера в свои машины, в
сознательность организованного металла. В товарищество жизни с материей;
и над всем телом Массы, слившейся с машинами, бегал, и охватывал, и
пронизывал его электрический ток - разум работающей Массы,
слившейся с машинами, бегал и охватывал, и пронизывал его электрический
ток - разум работающей Массы, урегулированная, точная мысль, новое,
великое сознание»1".
Как мы видим, Масса здесь приравнивается Мегамашине. Верно
уравнение революционного порыва: мегамашина + масса = силе
разрушения. В революционном порыве рождается новое социо-антро-
поморфное образование: масса машинная или машинизированная.
С сегодняшней позиции, древние мегамашины кажутся образцом
анти-прошводителъности: они поглощают слишком большое
количество человеческих и материальных ресурсов, чтобы поддержать
необходимый уровень энергетических затрат. Строительство большой
гробницы - это еще и массовое жертвоприношение в честь
божественного возвышения личности фараона. И конечный продукт такой
мегаломании (пирамида, дворец или канал, например), освященный
высшей властью, не нуждается в подтверждении своей полезности.
Революционная Мегамашина также истощает ресурсы природы и
человеческой жизни, не компенсируя их, не ставя в этом процессе
тотальной эксплуатации никаких для себя пределов, оставаясь
трансцендентной по отношению к составляющим ее живым элементам.
341
Евнух души. «Революционные машины» и литература А. Платонова
Ее цель, конечно, не в том, чтобы производить; она не способствует
улучшению человеческого существования или охранения природы;
ее цель - не столько монументальная архитектура, заводы или
каналы, но и идея абсолютной власти над Природой и Человеком,
которую мегамашина не перестает укреплять.
(ι) Дом и котлован. Замысел инженера из повести Платонова
«Котлован» прост и нагляден, как его технический ум: «Весь мир он
представлял мертвым телом - он судил его по тем частям, какие уже
были им обращены в сооружение: мир всюду поддавался его
внимательному воображающему уму, ограниченному лишь сознанием косности
природы; материал всегда сдавался точности и терпению, значит,
он был мертв и пустынен».200 И далее: «Вот он выдумал
единственный общепролетарский дом вместо старого города, где и посейчас
живут люди дворовым огороженным способом; через год весь
местный пролетариат выйдет из мелко-имущественного города и займет
для жизни монументальный новый дом. Через десять или двадцать
лет другой инженер построит в середине мира башню, куда войдут
на вечное, счастливое поселение трудящиеся всей земли. Прушев-
ский мог бы уже теперь предвидеть, какое произведение
статической механики в смысле искусства и целесообразности следует
поместить в центре мира, но не мог предчувствовать устройства души
поселенцев общего дома среди этой равнины и тем более вообразить
жителей будущей башни посреди всемирной земли. Какое тогда
будет тело у юности и какой волнующей силы начнет биться сердце и
думать?»201 Чтобы построить такой Дом, нужен глубокий котлован
и упорные самоотверженные, неутомимые землекопы, их должно
быть очень много... Котлован - достаточно обширное углубление в
земле, где должно быть размещено основание для великого дома-
башни, и чем более оно углубляется, тем более расширяется, тем
больше требуется землекопов, тем больше необходимо
элементарных мускульных усилий202. Грандиозность самого дома-башни
требует непрерывно новых углублений и расширений. Более того, чем
обширнее этот разрыв в земле - эта «черная дыра» - тем более
величественным будет будущее здание. Платонов показывает нам
некоторые фрагменты игры, которая развертывается между нарастающей
пустотой ямы котлована и фантастической геометрией будущего
дома-башни. Будущее не может прийти, пока не перестанет
расширяться и углубляться котлован; оно предстает в трагическом надрыве этой
антиутопии и как великая пустота братской могилы и как
неслыханная, сияющая геометрия Общего Дома (как будто цель - одна, сте-
342
IV. Столкновение
клянный саркофаг для человечества). Платоновский землекоп -
фигура исчезновения, он готов истощать свои живые силы ради другой
жизни, которая придет после него и смерти всех тех, кто испытал
великое перенапряжение жизни. Убить трудом, трудом
непосильным, эту жизнь ради другой.
В. Татлин. Памятник III Интернационалу. (1919-1920)
Думаю, что упоминание о «Башне» Татлина здесь более чем
уместно. Это весьма странное и спорное даже для ярых левых
коммунистов 20-х годов сооружение мегамашинного типа. Вот необходимое
пояснение: «Башня Татлина проектировалась как грандиозное
четырехсотметровое сооружение, предназначенное для размещения
в нем главных учреждений всемирного государства будущего.
Главной особенностью проекта Татлина было то, что
образно-символическую роль он передал ажурной спиральной металлической
конструкции. Несущая конструкция была не в теле сооружения, а оголена и
вынесена наружу. Собственно же функциональные остекленные
объемы подвешены внутри этой конструкции один над другим: куб,
пирамида, цилиндр и полусфера. Нижнее помещение (куб)
предназначено для конференций Интернационала, международных съездов и
законодательных собраний, оно делает один оборот в год вокруг
вертикальной оси. Среднее помещение (пирамида) делает один обо-
343
Евнух души. «Революционные машины» и литература А. Платонова
рот в месяц, здесь размещаются административно-исполнительные
органы. Верхний цилиндр вращается со скоростью одного оборота
в сутки и предназначен для информационного центра. Оригинальная
структура сооружения с вынесенными наружу конструкциями и
помещенными внутри корпусами, придала проекту Татлина столь
необычный образ, что он стал одним из важнейших символов нового
искусства и своеобразной визитной карточкой конструктивизма»203.
Эта Башня - еще и спираль, она словно штопор ввинчивается в
Космос, это и космолет, это и всемирно-пролетарский Дом
Правительства, это и Памятник (III Интернационалу). Важна единая
направленность Башни - она выстроена как парящая, уходящее в небо,
отрицающая собственную тяжесть, под ней нет Котлована, это чисто духовный
единый порыв вверх. Первый опыт авангардной эстетики еще видел
в машинном образе будущего «в ручную сделанную» утопию, всего
лишь архитектурный макет, игра ума великого Мастера пространств.
(2) Стена и башня. В притче Франца Кафки «Как строилась
китайская стена» есть композиционная загадка: две части, близкие
общему замыслу, но не совпадающие в единой логике повествования. К
первой относится тема строительства стены, ко второй - тема
императорской власти. Если присмотреться, то мы обнаружим
поразительную симметрию: одна притча словно отражается в другой. В
первой части рассказывается о строительстве Великой Стены. По
официальной версии стройка велась ради защиты Китая от набегов
кочевников Севера. Однако пространство, которое она должна
была защитить, было столь велико, что никто не знал, будет ли ее
строительство когда-либо завершено. Сначала нужно построить стену, а
потом башню. Стена строилась многими поколениями, но строилась
фрагментарно, отдельными сдвоенными блоками по 500 метров,
которые потом соединялись в отрезок стены длиной 1000 метров.
Бригада строителей, завершив свой отрезок стены, переезжала на
другой участок, чтобы после отдыха и наград с новыми силами взяться
за работу. «Потому-то и избрали систему возведения стены
отдельными отрезками. Можно было, скажем, выложить пятьсот метров
за пять лет, но к тому времени руководители поденщиков бывали
обычно слишком изнурены и утрачивали всякое доверие к себе, к
стройке, к миру. И вот, пока они еще горели энтузиазмом после
праздника соединения двух отрезков тысячеметровой стены, их
отправляли далеко-далеко, и во время переезда они видели то там, то здесь
готовые части стены, они проезжали мимо штабов высших
руководителей, одарявших их почетными знаками, слышали ликование
344
IV. Столкновение
новых рабочих армий, притекавших из дальних глубин страны,
видели, как сносят целые леса для нужд строительства, видели горы,
которые дробились камнетесами для стройки, слышали в
святилищах песнопения верующих, моливших о благополучном завершении
стены. Все это укрощало их нетерпение»204. В сознании строителей
стена представлялась в виде прямого отрезка, уходящего в
бесконечность. Между отдельными блоками Стены зияли проемы, которые
так и оставались недостроенными. Но кто знал об этом? Если
каждый труженик ежечасно размышлял о завершении Стены, то в
«дальних, укрытых» покоях императорского дворца мудрые чиновники
думали о значении межстенных проемов для народа. Никто не
знает, как могли быть на самом деле представлены фрагменты Стены,
- то ли в виде полукружий, то ли прямых? Никто и не мог знать
этого. Понятно, что одной из причин постройки Стены мог быть лозунг
«единство народа»: «Единство! Единство! Все стоят плечом к плечу,
ведут всеобщий хоровод, кровь, уже не замкнутая в скупую систему
сосудов отдельного человека, сладостно течет через весь бесконечный
Китай и все же возвращается к тебе»205. Хотя и этого недостаточно,
чтобы стать единым народом и не нуждаться ни в какой власти.
Бесконечное, что разъединяло людей, было разбито на части
законченными фрагментами стены, о пустых проемах никто не догадывался.
Отрезками единой прямой отмерялось время жизни каждого из
поколений. Время здесь замыкалось на себя. Разве Кафка не
подчеркивает это, говоря о «единстве народа»! Так и время, которое
сопровождало строительство Стены, шло вперед, и только вперед, и ему не было
конца. Стена стала символом времени для сменяющихся поколений
строителей. А кто тогда в той стране не был строителем? Основание
единства народа почерпнуто из чувства времени, в котором
прошлое, настоящее и будущее образовали форму вечно
возобновляющегося бытия. Недостроенная стена была мощным основанием
единства народа и величия его правителей. Зачем строится Стена? Если
строительство успешно завершится, то станет возможным
строительство величайшей Башни (может быть, она будет даже больше,
чем Вавилонская), а Стена будет ее основанием. Башня - другой
символ, не символ «единства народа», а символ императорской власти,
достигшей космократического величия, - «император как понятие,
конечно, огромен, он высится сквозь все этажи Вселенной»206.
Другая притча использует тот же принцип «нарушенной связи»,
но несколько иначе. Очередной император посылает весть своему
народу, чтобы донести ее до самого ничтожного из подданных. Но
сможет ли гонец выполнить приказ? Слишком плотно населено двор-
345
Евнух души. «Революционные машины» и литература А. Платонова
цовое пространство: комнаты, лестницы заполнены придворными,
которые мешают гонцу найти выход из дворца и устремиться в глубь
провинций. Слухи о смерти императора доходят до провинции с
большим опозданием, они искажают действительную смену
династий. Время, в котором пребывает народ, не совпадает со временем, в
котором существует императорская власть. Время народа идет
намного медленнее, чем время смены правителей. Коммуникации центр-
периферия оборваны: народ не знает, кто правит им. Об этом не
знают и ближайшие чиновники. Да и нужно ли знать? - достаточно
того, что есть императорская власть, и как будто есть Закон; не столь
существенно, что это за Закон, раз он не в силах изменить время,
которым живет народ. Космократический план строительства также
независим ни от Природы, ни человеческого усилия, он
предначертан божественной властью императора.
Продолжение «китайской стены» в новелле Кафки, как и рост
общепролетарского дома у Платонова, определяется наличием
пустого пространства, которое ни в коем случае не должно исчезать,
так как завершение строительства - это гибель космократической
(«астрономической») модели императорской власти, которая
родилась вместе с началом строительства. Строительство Котлована и
Стены не должно прекращаться, образ будущего должен
становиться все более лучезарным и геометрически точным, но не должен
сближаться с надеждами еще живых землекопов. Как же правит власть
императора, как удерживает она великую мегамашину Стены от
распада? Она правит благодаря «пустотам», - незавершенным образам
социального смысла, под которыми и надо понимать акоммупика-
тивпые дистанции, отделяющие один фрагмент Стены от другого,
а их обоих - от универсального плана императора. Разве не также и
Котлован Платонова отделен от своего геометрического плана,
видимого уму инженера?807 Собственно, платоновская мегамашина
также состоит из пустот, которые образуют будущие сочленения кос-
мократического образа Власти808. Критерием ее действительной
мощи оказывается степень интенсивности, с какой тело землекопа
может растратить себя в напряжении физического труда. Эта власть
признает высшей ценностью свое будущее (поэтому ее так мало
заботит гибель живых форм социальной телесности, имеющих
собственный круг существования, время, память и т. п.) Котлован - это
пространство телесного преображения, в котором отдельное тело
- трудовая единица - ради объединения с другими устремляется к
своим границам и неизбежному распаду.
Платонов ставит вопрос о психологии Мегамашин.
346
IV. Столкновение
«Котлован» (А. Платонов) «Китайская стена» (Ф. Кафка)
план идеальный
(жизнь)
г^з
-&4— проемы межстенные —х
блоки, сдвоенные 500 м + 500 м
(смерть)
план актуальный
Рассмотрим действие двух планов: идеального и актуального.
Каждая модель машины (литературной, графической,
кинематографической) отличается от другой лишь конфигурацией этих планов. Так,
идеальный план, если его ввести во временные рамки, представляет
собой настоящее будущего. Иначе говоря, между ними мы находим
временной разрыв, который трагически переживается
наблюдателем. Идеальное представление о будущем здании, которое
формируется в уме инженера из «Котлована», или императорского зодчего
из притчи Кафки, безумного графика, кинематографиста
(«видения» Деспота), может получить завершенную форму в литературном
или кинематографическом проекте. Однако его геометрия так и
останется свободно варьируемой, подчиненной иным законам, чем
те, которые действуют в актуальном измерении. Разрыв планов, но и
их единство. Первый план, идеальный не перестает вторгаться во
второй, актуальный, создавая в нем остановки, разрывы, проемы
пустоты, но актуализуется он именно так. Настоящее будущего атакует
настоящее прошлого, они борются за архитектурное целое. Первый
план по отношению ко второму оказывается очагом
разрушительных сил, он создает в пассивном материале актуальных измерений
строительной конструкции пустые пространства, которые
соотносимы с временными интервалами (настоящее будущего), но не с
временным потоком, что определяет существование актуального плана.
Идеальный план превосходит свой предел, но не для того, чтобы
ограничить себя актуальным. Превосходя себя, он утверждает
могущество смерти в актуальном. Платоновский землекоп приговорен
к смерти (истощению от непосильного труда, голоду, гибели в
гражданской войне), он существо актуального времени. Однако, чтобы
347
Евнух души. «Революционные машины» и литература А. Платонова
оставаться в идеальном измерении будущего, землекоп должен
продолжать копать; так же, как строители Великой китайской стены
должны перемещаться от одного построенного фрагмента к другому,
удерживая в своем сердце образ завершенной стены. Вечно
строится и вечно не завершена. Город «Чевенгур» - это бесконечный
степной ландшафт, он легко поглощает революционную «машину
Интернационала», - армию Копенкина. Мы «чувствуем» степь ночью, днем,
при лунном свете. Кочевничество - наиболее вероятный способ
приведения в действие революционной машины, перешедшей в стадию
распада. Движение по плоскости бесконечных равнин, балок и
склонов Платонов называет пешехождением, чаще странничеством -
мечта о революции как «светопреставлении»... Другая Мегамашина -
«Котлован» - пытается овладеть мировым пространством иначе:
достичь предельной глубины Земли, «зарыться» в нее, чтобы подняться
как можно выше над Землей, тем самым преодолеть ее могущество.
Но ничего не получается: Мегамашина застревает в глубинах земли,
и гибнет. Опустошение Земли за счет последнего трудового усилия
приводит к катастрофе (последних мертвецов-землекопов некому
будет хоронить). Расширение идеального плана в архитектуре
Котлована не допускает ограничений со стороны актуального; будучи
зоной растущей пустоты, Котлован должен, в конце концов,
поглотить Землю: распылить, перемешать, связать между собой все
частицы распада этой нескончаемой дробящей вибрацией смерти. Как
это произошло, что утопия бессмертия и «физического воскресения»
(Н. Федоров) оказалась спасительным мостиком для платоновской
меланхолии? Перестать быть вечной жертвой тоталитарной власти
- значит исчезнуть, превратиться в мельчайшие частицы жизни,
перейти в невидимое. Машины Платонова - своего рода фабрики по
распылению жизни, и значит, готовящие рождение новых бессмертных.
«- Прушевский! сумеют или нет успехи высшей
науки воскресить назад сопревших людей?
- Нет, - сказал Прушевский.
- Врешь, - упрекнул Жачев, не открывая глаз. -
Марксизма все сумеет. Отчего же тогда Ленин в
Москве целым? Он науку ждет - воскреснуть хочет».
А. Платонов. Котлован.
(β) Машина-Мавзолей. Фантастическое здание общепролетарского
Дома из «Котлована» - лучащийся хрустальный саркофаг, парящий
348
IV. Столкновение
над глубокой, практически бездонной черной ямой, больше
напоминающей коллективную могилу, куда в эпидемиюэпидемию сваливают
зараженные чумой тела. Платонов, как и многие его современники
- свидетели и жертвы сталинского (египетского) культа мертвых. В
центре громадной дикой страны в особо выделенном сакральном
месте лежит мумия вождя. Забальзамированное тело Вождя в
назидание потомкам свидетельствует о его присутствии в повседневной
жизни народных масс. С одной стороны, в культе мертвого тела есть
явное выражение дикости и темноты «революционного народа»,
но с другой, - это и способ вполне осознанного и рационального
контроля новой власти над сферой сакрального. Внезапно
охвативший трудовые массы атеизм нашел столь же естественное успокоение
в сакрализации образа великого вождя209. Мавзолей - символ
религиозного переживания высшей властью собственного бессмертия;
и это чувство смещается на периферию, в гущу землекопов, у
каждого из них теперь две смерти - одной умирают, а другой
возрождаются. «В полдень Чиклин начал копать ддя Насти специальную
могилу. Он рыл ее пятнадцать часов подряд, чтоб она была глубока и в
нее не сумел бы проникнуть ни червь, ни корень растения, ни тепло,
ни холод и чтоб ребенка никогда не побеспокоил шум жизни с
поверхности земли. Гробовое ложе Чиклин выдолбил в вечном камне
и приготовил еще особую, в виде крышки, гранитную плиту, дабы
на девочку не лег громадный вес могильного праха»210. Гробы -
необходимый реквизит крестьянства, участвующего в этой великой
стройке. Каждому землекопу, страннику и аграрию, по мерке, - гроб.
Antisexus, или аппарат желания
Первый вопрос, которым задаешься, когда еще раз перечтешь
текст «Антисексуса» Платонова, что же это, -
пародийно-сатирический performance или что-то еще, может быть, более серьезное? Я
не решился бы дать однозначную оценку позиции, которую тогда
занимал писатель, знавший 3. Фрейда, О. Шпенглера, О.Вейнингера
и В.В. Розанова, видевший фильмы Дз. Вертова и С. Эйзенштейна.
Аппарат Антисексуса поддерживает электромагнитный и
механический контроль над практикой воздержания, соответствующей
нормам сексуального поведения в обществе. Стоит обратить внимание
на отрицательную частицу anti*11. Машина-антисексус направлена
против чрезмерных затрат сексуальной энергии, но это машина не
анти-мастурбационная. Прежде всего, она - анти-эротическая, т.е.
349
Евнух души. «Революционные машины» и литература А. Платонова
создана для того, чтобы удовлетворять чисто физиологическую
потребность, без объекта полового влечения, без страсти и любви. И,
конечно, - такой аппарат контрреволюционен, поскольку
потворствует «буржуйским» стандартам жизни. Социобиологический образ
революции - это оргиастический взрыв, раскрепощение скованных
до этого сил, выброс угнетенной социальной энергии libido.
Подобные «антисексуальные» автоматы известны с глубокой
древности (железные «пояса верности» в Средние века, например). Страх
перед мастурбацией на Западе был слишком велик, чтобы это не
нашло своего отражения в бесчисленном количестве рекомендаций и
правил, восхваляющий жизненную ценность воздержания. Так
изобретаются различные приспособления, которые должны
воспрепятствовать распространению сексуально-психической эпидемии,
угрозу которой ощущало подавляющее число психиатров и медэк-
спертов XVIII-XIX века812. Текст Платонова как раз отражает
основные направления общеевропейской дискуссии вокруг этого
универсального порока. И вот что удивляет: во-первых, длительность самой
дискуссии и, во-вторых, превращением мастурбации в «тотальную
болезнь», болезнь всех болезней, чуть ли не в основную причину
всех других заболеваний, невзирая на различия и особенности их
этиологии. Достаточно перечислить парк прежних орудий,
способных, на взгляд их изобретателей, предотвратить мастурбацию и
другие сексуальные излишества. Бандажи: металлический корсет с
замком надевается на низ живота (начало XIX века, Франция); палочка
Вендера, зонд, вводимый в урерту мальчика; использование
элементов акупунктуры, иглы; химические средства: опиаты, ванны и
клизмы, введение соды, для девочек практиковались прижигание и
ампутация клитора. И наконец, третье: можно сказать, текст «Антисесуса»
является тайным манифестом русского авангарда (он скрыт за
ироническим принижением технического прогресса, за гротескным
преувеличением ошибок и неудач коллективизации, за другими
сомнениями в успешности сталинского режима). Запад предстает у
Платонова наследником русской авангардной техноутопии.
За платоновским анти-эросом скрывается бесполый мир
человеко-машин. Желание здесь сводится к удовлетворению строго
упорядоченной и количественно измеренной биологической
потребности. Человек-машина - это существо, ставшее «рабочей» частью
единого машинного целого. Любимое тело Платонова - «мертво-живое»,
т.е. больше мертвое, чем живое, психоавтомат, но есть еще и тела
350
IV. Столкновение
будущего, тела машинизированные, металлические, тела
бессмертной плоти. Поразительно, насколько основные посылки трактата
близки современным авангардным экспериментом с телом.
Платонов полагает, что в будущем эти аппараты решат проблему пола
окончательно, более того их технические возможности значительно
возрастут: «...современное кино скомпенсирует утраченный комплекс
половых движений, очистив их легким преодолением пространств
могучим и девственным телом»213. В сущности, речь идет об одном:
как человеку стать Машиной, и первое условие близости с машиной
- это ее эротизация (эротическое восприятие), а это и есть то, что
ранее мы называли машинным мимесисам. В одной из пьес Платонова,
«Шарманке», можно найти пояснение:
«Вначале, кроме ветра, все остальное тихо. Затем слышатся звуки
движущегося железа. Неизвестное тяжкое железо движется, судя по звуку.
Медленно, еле-еле. Девичий голос поет негромкую песню. Песня
приближается вместе с железом. На сцену выявляется механическая
личность- ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК, в дальнейшем называемая КУЗЬМОЙ.
Это металлическое заводное устройство в форме низкого, широкого
человека, важно вышагивающего вперед и хлопающего все время ртом,
как бы совершая дыхание. Кузьму ведет за руку, вращая вокруг оси, как
руль или регулятор, молодой человек в соломенной шляпе с лицом
странника - АЛЕША. С ним появляется МЮД - девушка-подросток. Она
держит себя и говорит - доверчиво и ясно: она не знала угнетения. За
спиной у Алеши шарманка. Вся группа дает впечатление, что это пешие
музыканты, а Кузьма - их аттракцион»"14.
И в другом месте:
«- Вот чего, - сказал Прочный Человек, - у меня тут две мастерские -
одна Прочной плоти, другая Бессмертной. Прочная Плоть в человеке
делается целомудрием, освобожденная же половая сила превращается
в таком человеке в талант изобретений.
Только и всего. Это - мастерская маленькая, только подготовительная.
А бессмертная плоть уже делается из прочной целомудренной плоти
посредством электричества»215.
Итак, с одной стороны, целомудрие и невинность плотского
начала, чуть ли не возвращение к библейским временам. Конечно, в
тексте «Антисексуса» нет ничего неожиданного, если мы вспомним
об авторском alter Ego Платонова, - «евнухе души», безразличном,
Евнух души. «Революционные машины» и литература А. Платонова
эротически пассивном существе216. В пределе мастурбации
противостоит строгое монастырское воздержание, аскеза, - отказ от
сексуальной жизни, не обремененной ответственностью перед
деторождением. Действие романов Платонова происходит в степи или
пустыне (особенно, показателен в этом отношении роман «Чевенгур»).
Как мы знаем, феномен опустошения первичен по отношению к
образам пустыни или степи, т.е. ландшафтное переживание - следствие
идеи опустошения. Пустыня-степ© становится местом великой аскезы.
Персонажи Платонова не имеют ничего личного, их имена слабо
индивидуализированы; за редким исключением, у них нет частных
желаний; нет собственности, как и желание ее иметь. Все они -
странники и скитальцы, без дома и семьи, без привязанностей, которые
могли бы помешать исполнению взятого на себя обета фанатической
веры в коммунизм. А с другой стороны: тело будущего, железное или
стальное, «прочная и бессмертная плоть»: «...там мыслимо лишь
механическое освобождение от избытка сырых органических сил, не
могущих сублимироваться в дух»2'7. Собственно, антиутопия
Платонова скрывает в себе две целевые установки по отношению к
ближайшему будущему. Первая - это примирение с Природой, - регрессия
человеческого образа к зверю, «озверение»218; и вторая, - ее полное
и окончательное преодоление Машиной (Техникой).
Оргонный аккумулятор (В. Райх)
Похоже, что аппарат Антисексуса можно посчитать за явную
пародию на оргонный аккумулятор В. Райха. Представим себе два
сообщества: одно состоит из отвердевших и замкнувшихся в себе
страдающих индивидов, не способных к переживанию полноты жизни,
словно их тела сдавлены мускульным панцирем (отсюда целый реестр
заболеваний и психических нарушений: мазохизм, импотенция,
депрессивно-маниакальные состояния и т.п.); другое же сообщество,
напротив, пускай, оно покажется идеальным, - это активные и
свободные, пластичные тела, которым ничто не мешает прибегать к
постоянной разрядке сексуальной энергии. Райх усиливает
различие, когда, в качестве примера берет два шара: один железный,
пустой, получающий заряд энергии извне, железный шар; другой,
похожий на свиной пузырь, где подзарядка проходит внутри
подвижной жидкостной системы организма, где потенциалы витальности
постоянно меняются - от центра к периферии - в зависимости от
задачи, которую организм решает в данное мгновение. Тело-пузырь,
352
IV. Столкновение
плазматическое - идеальное тело Райха. Это тело имеет жидкостную
консистенцию, оно свободно смещается и преобразуется; привычная
форма его несколько вытянутая; ему свойственно свободное
«волнообразное движение, движение змеи», а также и сокращения,
характерные для ложноножек амебоподобных. В те мгновения, когда тело
получает импульс свободного движения, оно испытывает
удовольствие и стремиться его усилить (т.е. перевести в шарообразную
форму): «Такой пузырь чувствовал бы себя совершенно так же, как
маленький ребенок в своих отношениях к миру и вещам. Между
разными пузырями существовал бы непосредственный контакт в
результате идентификации в ощущении своих движений и ритмики с
тем, что испытывают другие. Презрение по отношению к
естественным движениям, равно как и по отношению к неестественным
действиям, не находило понимания. Развитие существовало и
обеспечивалось бы благодаря непрерывному внутреннему формированию
энергии, о чем свидетельствуют, например, почкование цветка или
деление клетки, усиливающееся после поступления энергии в
результате оплодотворения. Более того, развитию не было бы конца.
Производительность оказалась бы в рамках общей биологической
активности, а не была бы направлена против нее»219. Между телом-
панцирем и телом-плазмой- разрыв. Но он может быть устранен. Для
Райха ясно, что психотерапевтическая практика оздоровления
человеческого тела нуждается в дополнительной энергии. Причем эта
энергия должна быть способна распространяться в организме с
быстротой взрывной реакции. Конечно, и сам организм обладает
достаточными возможностями аккумуляции энергии, разумной траты в
движениях и разного рода активностях. Однако идет речь не о
локальной периферийной энергии, а о той, которая в силах разом
обновлять жизнедеятельность организма, взрывать его и очищать
одновременно. Такой мощнейший импульс обновления давно известен
- это оргазм. Сексуальная энергия выбрасывается, следуя
витальному ритму, который необходим для обновления функций организма.
Однако в том случае, когда способность к спонтанному прорыву
панцирной блокады понижается, и отдельный индивид не может с нею
справиться, необходимо искать дополнительные источники
энергии. Откуда же ее взять? Да она повсюду, нужно только уметь ее
«собирать». Так, Райх изобретает свое великое детище: органный
аккумулятор. Идея его и проста, и «безумна». Атмосфера, окружающая
Землю заряжена практически невидимым газоподобным веществом
голубого цвета, - оргоном: «Живой организм содержит в каждой
клетке, из которых состоит, энергию оргона и непрерывно заряжа-
353
Евнух души. «Революционные машины» и литература А. Платонова
ется из атмосферы с помощью дыхания»820. Оргон заряжает живую
ткань энергией, и та носит характер сексуальный (либидональный).
Этой энергией можно подзаряжаться, достаточно сделать железную
камеру, изнутри обитую войлоком (природа оргона такова, что он
накапливается в органическом материале, но не удерживается в
металлических (железных) субстанциях).
Заметим, что за исключением оргона в трактате Платонова есть
все, что и в теории Райха. Аппарат-антисексус призван гармонически
уравновесить меру, интенсивность и длительность оргазма, ту особую
энергию, которая может оказаться чрезвычайно разрушительной
для современного общества, если не будет поставлена под контроль.
Метод нарезкщ cut off. (У. Берроуз)
Берроуз подхватывает эстафету Райха281. Трудно понять, чем
принципиально отличается аппарат антисексуса от оргонных аппаратов
Райха и его ученика, писателя-битника Уильяма Берроуза. Может
быть, только большей изощренностью в продумывании деталей и
более радикальным подходом к пониманию так называемого
виртуального порно-секса. В центре современных сексуальных
технологий: как можно присвоить собственное тело, сделать его абсолютно
послушным, идеально управляемым и простым для понимания и
действия? Как стать машиной - вот истинная страсть Эго! Как
присвоить себя, но посредством таких новейших технологий, которые
противостоят нашей привычке иметь ЭТО ТЕЛО. Почему не тело, а плоть}
Да, потому, что это - единственная точно выраженная и ожидаемая
всеми форма трансгрессии, в которой забвение и превращение
играют определяющую роль.
В чем идея метода нарезки, cut off, объяснению и приложению
которого к литературному опыту Берроуз отвел так много страниц
в своих романах? Главная мысль, а она влечет к себе всякого
истинного художника-авангардиста, заключена в вопросе: как избавиться
от Тела? Две основные серии, две дорожки: звуковая и образная.
Сначала записываем на магнитофоны нашу речь, дикцию, неясные
шумы улицы, отдельные случайные звуки, затем запечатлеваем на фото
привычки тела, жесты, мимику и позы. При воспроизведении мы
замедляем и убыстряем то, что было речью, говорилось, и то, что
было образом, казалось неразложимым и четким. Как только мы
попытаемся соединить одну дорожку с другой, мы начнем резать, вы-
354
IV. Столкновение
делять куски и кусочки речи и образов, чтобы установить некое
соответствие по времени/пространству, т.е. создать поле свободных
интервалов. Наша цель увидеть за образами говоримого и видимого
другой мир, мир живой волнующейся плоти, не поддающейся
прямому переводу на язык артикулированной речи и выделенного
фотоотпечатка. И вот теперь с помощью видео-и-аудиомашин мы
оказываемся по другую сторону от себя, видим свое иное тело, расщепленное,
не собранное, но и свободное. Первоначальный разрыв машинно
закреплен, далее начинается систематическое расщепление и
нарезание кусочков чувственных переживаний для их
соединения/сопоставления с другими такими же. Вот как это описывает сам Берроуз:
«Простейший вариант нарезки записи с помощью одной машины
можно выполнить следующим образом напишите любой текст перемотайте
на начало теперь отмотайте вперед произвольный интервал
остановите машину и запишите короткий текст перемотайте вперед остановите
запишите там где вы уже записывали поверх оригинального текста
слова стираются и заменяются новыми словами продолжайте это
несколько раз производя произвольные наложения вы заметите что
произвольные наложения во многих случаях уместны и ваша нарезанная запись
приобретает неожиданный смысл...»""
«С помощью скрытых микрофонов запишите их телесные звуки
дыхательные ритмы работу послеобеденных кишечников биение сердец
теперь навяжите им свои собственные телесные звуки и превратитесь в
звучащее слово и бьющееся сердце этой организации превратитесь в
эту организацию невидимые братья вторгаются в настоящее время»."3
«Взгляните на фотомонтаж. В нем содержится мысль,
сформулированная богатым изобразительным языком. Пусть Икс-это мысль,
содержащаяся в данном фотомонтаже. Чтобы выделить различные аспекты Икс,
можно воспользоваться Икс-словами, Икс-красками, Икс-запахами, Икс-
образами и так далее. Теперь вводим Икс в счетную машину, и Икс
разлагает соответствующие цвета, сопоставления, насыщенные аффектом
образы и так далее; мы можем уменьшить или увеличить концентрацию
Икс, изъяв или добавив определенные элементы и вновь введя в машину
факторы, концентрацию которых хотим увеличить. Технически
грамотный Специалист учится мыслить и писать ассоциативными блоками,
которыми впоследствии можно манипулировать в соответствии с
законами ассоциации и сопоставления. Основной закон ассоциации и
обусловливания известен студентам даже в Америке: любой объект, чувство,
355
Евнух души. «Революционные машины» и литература А. Платонова
запах, слово, образ, сопоставленный с любым другим объектом,
чувством, запахом, словом или образом, будет с ним ассоциироваться. Наши
специалисты учатся читать газеты и журналы, скорее желая выявить
формулировки сопоставления, чем ради их сомнительного содержания.
Мы выражаем эти формулировки формулами Сопоставления. Эти
формулы, разумеется, управляют населением земли».
Избавление от тела - это перевод его в свободное и ничем
неограниченное в фантазии движение плоти, а плоть - это всего лишь
множественная комбинаторика с элементами нашей чувственности.
Если, следуя Берроузу, мы увеличиваем количество кадров в секунду:
от 24 до 35, то замедляем образ на экране. И он начинает с нами
сближаться, он уже не дистанционное тело, а ближайшее к нашему,
возможно, даже часть его, вестник нашего плотского начала. Замедление
образа - раскрытие тела, проникновение в него бесконечного
множества других тел и событий. «Слово вместе с интенсивно
замедленной образной дорожкой и есть плоть»"4. Плоть получает
существование в объеме полноты чувственного опыта, который может
предоставить оргонный аккумулятор Райха. В своем великом романе «The
ticket that exploded» Берроуз показывает нам тело, опутанное
электродами и помещенное в камеру, обитую железом, внутри
заделанную войлочным покрытием; там тело накапливает оргонную «синюю
энергию» Космоса и предается развлечениям больше ничем не
удерживаемой плоти. Каждый электрод это близость к тому чувству/
ощущению, которое позволяет идентифицировать себя с частью
образа на экране. Все вспыхивает, все наэлектризовано, все переходит
или готово к вспышке оргазма.
«В комнате с металлическими стенами магнитные мобили в мерцающем
синем свете и запахе озона, шарнирнометаллические юноши танцевали
в ливне голубых искр, эрекции сплетались в дрожаньи металлических
оргазмов. Листы с намагниченными каллиграфическими письменами
притягивали раскрашенные железные опилки которые облаками цвета
сыпались с моделей пульсирующих под металлическую музыку,
отключение включение, включение отключение. (Зрители плутали в лабиринте
турникетов). Огромные листы с намагниченным шрифтом удерживали
цвет и распадались в холодной неорганической тишине как осыпается
с размагниченных моделей словесная пыль, фотомонтажные
фрагменты с подкладкой из железа приставали к моделям и вихрями осыпались
смешиваясь с разноцветной пылью дабы образовывать новые модели,
поблескивающие, осыпающиеся, намагничивающиеся, размагничиваю-
356
IV. Столкновение
щиеся в мерцании голубых цилиндров пульсирующих неоновых трубок
и шаров. В металлических кабинках мозговые волны записывали
мерцающий сигнал энцефалограммы передаваемой на все лады, через и сквозь
изменчивый узор решеток. Магнитный карандаш застрявший в
каллиграфических письменах Брайона Гисина внось описывал в мозгу
металлические модели тишины и космоса, оргонные аккумуляторы мерцали
синевой над плавательными резервуарами где нагие юноши купались в
синеве, хлопья звука и образа падали как светящийся серый снег, мягко
падали с размагниченных моделей в синюю тишину. Металлические
головы вывернутые глаза ощущали покалывание голубых искристых
эрекций. Мерцали всеми цветами радуги металлические оргазмы,
кончали на влажных русских горах сновидений. Идущие от мозга
электроды описывали мальчишек на роликовых коньках в ливне разрушенных
предместий. Нагие юноши купались в синеве на фоне
бильярда-автомата танцуя и погружаясь. Старомодные фотопластинки падали как
светящийся снег мягко падали темноволосые светловолосые все глубже
погружаясь в синюю тишину»."5
Все трансформации Эго строятся на превращении обыденного
телесного чувства с помощью сексуальных техник в плоть. Плоть -
нечто экстатическое, трансгрессивное, она выражает накопленную
в теле сексуальную энергию взрывным образом, оргиастически.
Обретение плоти (с помощью разных машин) - вот переходный мостик
к тому, чтобы стать наконец-то Машиной.
Приложение
I. Невидимые миры
(1) Н. Федоров (1906)
«Положительное целомудрие должно проявиться не через
непосредственную только силу воли, а через посредство всей силы природы,
обращенной в действие разумом, знанием, наукою, словом, полною
мудростью. Положительное целомудрие действует не через лишение
пищи, а посредством земледелия как опыта, обнимающего постепенно и
всю землю, и земли, т.е. планеты, и обращающего весь этот материал
на постройку как собственного тела, так и тел своих отцов и предков.
Отсюда сама собою определяется сущность того организма, который
мы должны себе выработать. Этот организм есть единство знания и
действия; питание этого организма есть сознательно-творческий
процесс обращения человеком элементарных, космических веществ в
минеральные, потом растительные и, наконец, живые ткани. Органами
этого организма будут те орудия, посредством коих человек будет
действовать на условия, от которых зависит жизнь растительная и
животная, т.е. земледелие как опыт, чрез который открывается знание земной
планеты, сделается органом, принадлежностью этого организма.
Органами его сделаются и те способы аэро- и эфиронавтические, помощью
коих он будет перемещаться и добывать себе в пространстве вселенной
материалы для построения своего организма. Человек будет тогда
носить в себе всю историю открытий, весь ход этого прогресса; в нем будет
заключаться и физика, и химия, словом, вся космология, только не в
виде мысленного образа, а в виде космического аппарата, дающего ему
возможность быть действительно космополитом, т.е. быть
последовательно всюду; и человек будет тогда действительно просвещенным
существом»."6
359
Евнух души. «Революционные машины» и литература А. Платонова
«Смерть, можно сказать, есть анестезия, при коей происходит самое
полное трупоразъятие, разложение и рассеяние вещества. Собирание
рассеянных частиц есть вопрос космо-теллурической науки и искусства,
следовательно, мужское дело, а сложение уже собранных частиц есть
вопрос физиологический, гистологический, вопрос сшивания, так
сказать, тканей человеческого тела, тела своих отцов и матерей, есть
женское тело; конечно, было бы странно, если бы физиологическая и
гистологическая наука ограничивалась только живосечением и не могла
бы перейти к восстановлению. Как не велик труд, который предстоит
при восстановлении рассеянного вещества, не следует, однако,
отчаиваться, чтобы и те мельчайшие частицы, кои, по сказанию проникавших
в них мыслью (занимавшихся вычислением величины атомов, как Крукс,
Томсон, напр.), заключают в себе столько еще более мелких частичек,
сколько на земле может уместиться пистолетных пулек, - не нужно
думать, что эти частицы не откроют нам своих недр.
Все вещество есть прах предков, и в тех мельчайших частицах, которые
могли бы быть доступны невидимым для наших глаз микроскопическим
животным, и то лишь расширяли бы область их зрения настолько же,
насколько наши микроскопы расширяют круг нашего зрения, и там, и
в этих в квадрате, в кубе и т.д., микроскопических частичках мы можем
найти следы наших предков. Каждая частица, состоящая из такого
множества частичек, представляет такое же разнообразие, в каком
является для нас земля. Каждая среда, чрез которую проходила эта частица,
оставила на ней свое влияние, свой след. Рассматриваемая с археологической или
палеонтологической стороны, частица, может быть, представляет нечто вроде
слоев, сохраняющих, быть может, отпечатки всех влияний, которым
подвергалась частица, проходя разные среды, разные организмы. Как бы ни
дробилась частица, новые, происшедшие от этого дробления частицы,
вероятно, хранят следы разлома; они, эти частицы, подобны, может быть,
тем знакам гостеприимства у древних, которые назывались символами,
сфрагидами: при расставании разламывалась вещь, и куда бы ни
разошлись минутные друзья, унося каждый половину разломленной вещи,
при новой встречи, складывая половинки, они тотчас же узнавали друг
друга. Представим же себе, что мир, вдруг и не вдруг, осветился,
сделался знаем во всех своих мельчайших частицах - не будет ли тогда ясно,
какие частицы были в минутной дружбе одна с другой, в каком доме или
организме они гостили вместе или какого целого составляли часть,
принадлежность. И ныне даже какой-нибудь валун, лежащий в южной
России, своим составом и другими признаками не открывает ли нам, что
он есть только обломок с каких-нибудь Финских гор, унесенный оттуда
льдинами. Если исследование таких громадных сравнительно тел, как
360
Приложение I. Невидимые миры
валуны, еще не окончено, то какой труд и сколько времени потребуется
для исследования частиц в миллионную долю линии, и притом для
исследования не настоящего их состояния, строения, но всей истории
каждой такой частицы? Трудно открытие способов исследования,
трудно также исследование первых двух-трех частиц, но затем работа
становится доступной для многих, и, наконец, для всех людей,
освобожденных от торгово-промышленной суеты. Наконец, самое исследование
так упрощается, что то, для чего требовалось прежде годы труда,
делается достижимым для одного взгляда, достаточно становится одного
взгляда, чтобы определить место и время нахождения частиц в том или
другом теле. Хотя частицы и могут сохранять следы своего пребывания
в том или другом организме, в той или другой среде очень долгое время,
но следы эти могут изглаживаться и исчезать, может быть; в таком
случае нам нужно знать закон сохранения и исчезновения следов»."7
(2) P.M. Рильке (1925)
«Утверждение жизни и смерти в "Элегиях" становится единством.
Признавать одну без другой, как это выявляется и торжественно
утверждается в «Элегиях», в конце концов, только ограниченность, исключающая
все бесконечное. Смерть - это лишь другая, невидимая и не освещенная
нами сторона жизни. Мы должны попытаться достигнуть высшего
сознания нашего бытия, которое у себя дома в обеих не разграниченных между
собой областях и питается из неисчерпаемого источника обеих...
Истинная жизнь простирается на обе области, большой круг кровообращения
происходит через обе: нет ни этого, ни того света, но лишь одно
огромное единство, в котором пребывают стоящие над нами существа».828
«Мы - здешние и нынешние - ни на минуту не удовлетворяемся
временным миром и не связаны с ним; мы непрестанно уходим и уходим к
жившим ранее, к нашим преддсам, и к тем, кто, по-видимому, последует за
нами. И в этом самом большом иоткрытом* мире и пребываютвсе;
нельзя сказать, чтобы "одновременно", ибо как раз отсутствие времени и
обусловливает то, что все пребывают. Преходящее всюду погружается
в глубокое бытие. Итак, все формы здешнего не только следует
принимать ограниченными во времени, но по мере наших сил переводить
их в те высшие планы бытия, к которым мы сами причастны. Ноне в
христианском смысле (от которого я все более решительно ухожу), а в
чисто земном, в глубоко земном, в блаженно земном намерении все то,
361
Евнух души. «Революционные машины» и литература А. Платонова
что мы зрим и осязаем здесь. Перевести в более широкий, широчайший
круг бытия. Не на тот свет, чья тень темнит нашу Землю, а в некий
целый мир, в единое целое. Природа, вещи нашего обихода и потребления
случайны и бренны; но пока мы живем здесь, все они - наше владение,
наши друзья, соучастники наших горестей и радостей, какими они уже
были для наших предков. Так, все здешнее не только не следует
принижать и перемещать в низший разряд, а как раз именно из-за его
временности, которой оно обладает наравне с нами, все здешние явления
и вещи должны быть поняты нашим внутренним разумом и
преображены. Преображены? Да, потому что задача наша - так глубоко, так
страстно и с таким страданием принять в себя эту преходящую бренную землю,
чтобы сущность ее в нас "невидимо" снова восстала. Мы пчелы
невидимого. Nous butinons eperdument le miel du visible pour l'accumule dans
le grande ruche d'or de l'Invisible. (Мы исступленно собираем мед видимого,
чтобы наполнить им сокровищницу Невидимого).
"Элегии" и рисуют нас в этом деле, в деле непрестанного превращения
любимого видимого и ощутимого мира в невидимые вибрации и
возбуждения нашей природы, вводящей новые частоты вибраций в
вибрационные сферы вселенной. (А так как всякие материи во вселенной
суть лишь различные проявления вибраций, то мы, таким образом,
готовим не только интенсивности духовного рода, а, кто знает, может
быть, новые тела, металлы, звездные туманности и созвездия). И эта
деятельность своеобразно поддерживается и стимулируется все более
быстрым исчезновением такого количества видимого, которое уже не
может быть восстановлено»."9
«Одухотворенные, вошедшие в нашу жизнь, соучаствующие нам вещи
сходят на нет и уже ничем не могут быть заменены. Мы, может быть,
последние, кто еще знали такие вещи. На нас лежит ответственность не только за
сохранение памяти о них (этого было бы мало и это было бы ненадежно)
и их человеческой и божественной (в смысле домашних божеств -
«ларов») ценности. У земли нет иного исхода, как становиться невидимой: и
в нас, частью своего существа причастных к невидимому, пайщиках этого
невидимого, могущих умножить за время нашего пребывания здесь наши
невидимые владения, - в нас одних может происходить это глубоко
внутреннее и постоянное превращение видимого в невидимое, уже больше
не зависимое от видимого и ощутимого бытия - подобно тому, как наша
собственная судьба в нас постоянно присутствует и постоянно невидима.
Элегии устанавливают этот новый порядок бытия; они удостоверяют, они
празднуют новое сознание. Он осторожно вводят его в существующие
традиции, поскольку они используют для этого древнейшие предания
362
Приложение I. Невидимые миры
и отзвуки преданий, даже в египетском культе мертвых находя
предвестия подобных отношений. (Хотя "Страну жалоб", через которую
"старшая жалоба" ведет умершего юношу, нельзя отождествлять с Египтом,
тем не менее, она может, в известном смысле, рассматриваться как
отражение принильской страны в пустынной ясности сознания умершего)».**0
«Ангел Элегий - это создание, в котором превращение видимого в
невидимое осуществляемое нами, уже свершилось. Для ангелов Элегий
все некогда бывшие замки и башни существуют, ибо они давно невидимы,
а еще существующие башни и мосты нашего бытия уже невидимы, хотя
(для нас) они еще остаются телесными. Ангел Элегий - это то существо,
которое служит для нас ручательством, что невидимое составляет
высший разряд реальности. Потому-то он и страшен нам, что мы, любящие
и преобразователи, все-таки еще привязаны к видимому. Все миры
вселенной обрушиваются в невидимое, как в свою ближайшую более
глубокую действительность; некоторые звезды преобразуются непосредственно,
переходя в бесконечное сознание ангелов, другие же связаны с существами,
которые преобразуют их медленно, с трудом, и вот в ужасе и восторге этих существ
они достигают своей ближайшей невидимой реализации. Подчеркиваю еще раз,
что в смысле Элегий мы есть те преобразователи земли; все наше бытие, все
взлеты и падения нашей любви - все наделяет нас способностью к решению
этой задачи (наряду с которой, по существу, нет никакой задачи).
(Сонеты показывают некоторые детали этой деятельности, которая в них
осеняется именем одной умершей девочки, чья незавершенность и
невинность не позволяют замкнуться могильному своду, так что она,
переступив порог смерти, принадлежит к тем самым, которые сохраняют
одну половину жизни свежеоткрытой по отношению к другой половине,
подобно незаживающей ране)».*31
(3) А. Платонов (1928)
«Тогда мой сын Рийго нашел исход. Чего не могло дать естество, то дало
искусство. Он сохранил остатки живого мозга в себе и сказал им, что
судьба наша кончается, но еще можно открыть ей двери, - нас ждет
ясный день. Решение было просто: электромагнитное русло (в подлиннике
"труба для живой силы металла", - прим. ред.). Рийго провел из
пространства пищепровод к аэнам нашего мрачного тела, пустил по этому пище-
проводу потоки мертвых аэнов (соответствует эфиру. - прим. ред.), и аэны
нашего тела, получив избыток пищи, ожили. Так были воскрешены наш
мозг, наше сердце, наша любовь к женщине и наша аюна. Но больше
363
Евнух души. «Революционные машины» и литература А. Платонова
того: дети росли скорее в два раза, и жизнь в них пульсировала, как
сильнейшая машина. Все остальное - сознание, чувство, любовь - выросло в
страшные стихии и напугало отцов. История перестала шествовать и
начала мчаться. И ветер судьбы бил нас в незащищенное лицо великими
новостями мысли и поступков.
Изобретение моего сына, как все замечательное, имеет серое лицо. Рийго
взял два центнера пройи, наполненные трупами вэнов, и поместил в одну
пройю. Тогда живые аэны пройи стали быстро размножаться, и вся пройя
выросла в пять раз в десять дней. Причина видна и невзрачна: аэны
стали больше питаться, потому что запас их пищи увеличился в два раза.
Так Рийго развел целые колонии сытых, быстрорастущих, неимоверно
размножающихся аэнов. Тогда он взял обыкновенное тело - кусок
железа - и мимо него, лишь касаясь железа, начал излучать в направлении
звезд поток сытых аэнов, разведенных в колониях. Сытые аэны не
перехватывали для пищи трупы своих предков (то есть эфир, - прим. ред.),
они свободно текли к куску железа, где их ждали голодные аэны. И
железо начало расти на глазах людей, как растения из земли, как ребенок
в животе матери.
Так искусство моего сына оживило человека и начало выращивать
вещество.
Но победа всегда подготавливает поражение.
Искусственно откормленные аэны, имея более сильное тело, стали
нападать на живых, на естественных аэнов и пожирать их. А так как при
всяком превращении вещества есть неустранимые потери, то
пожранный маленький аэн не увеличивал тело большого аэна настолько,
сколько имел сам, когда был живой. Так вещество то там, что здесь - всюду,
куца попадали откормленные аэны (электроны - дальше пользуемся этим
современным термином. - прим. ред.), - начало уменьшаться. Искусство
Рийго не смогло сделать пищепровод для всей земли, и вещество таяло.
Только там, куда был проложен тракт для потока трупов электронов
(эфирный тракт, - прим. ред.), вещество росло. Эфирными трактами
были снабжены люди, почва и главнейшие вещества нашей жизни. Все
остальное уменьшилось в своих размерах, вещество сгорало, мы жили
за счет разрушения планеты».23*
(4) П. Флоренский (1929)
«Мое убеждение, что Ваш биосферический лозунг должен повести к
эмпирическим поискам каких-то биоформ и биоотношений в недрах
самой материи, и в этом смысле желание подойти к тому вопросу толь-
364
Приложение I. Невидимые миры
ко из моделей наличных, т.е. пассивно в отношении учения о материи,
а не активно, может быть, тормозящим развитие знания и
реакционным. Может быть, гораздо более целесообразно твердо сказать по
талмуду «я не знаю» и тем побудить других к поискам. У платоника Ксено-
крата говорится, что душа (т.е. жизнь) различает вещи между собой тем,
что налагает на каждую из них форму и отпечаток - μορφή χαΧ τύπος.
Епископ эмесский Немезий (современное написание - Немесий -
церковный писатель, предполагаемый автор написанного на рубеже V-VI
веков сочинения Ό природе человека") указывает, что при разрушении
тела его "качества" - ποιότητητ€ς - не погибают, а изменяются».
Григорий Нисский развивает теорию сфрагидизации - наложения душою
знаков на вещество. Согласно этой теории, индивидуальный тип - eïSoç -
человека, подобно печати и ее оттиску, наложен на душу и на тело, так
что элементы тела, хотя бы они и были рассеяны, вновь могут быть
узнаны по совпадению их оттиска - σφραγίς - и печати, принадлежащей
душе. Таким образом, духовная сила всегда остается в частицах тела, ею
оформленного, где бы и как бы они ни были рассеяны и смешаны с
другим веществом. Следовательно, вещество, участвовавшее в процессе
жизни, и притом жизни индивидуальной, остается навеки в этом
круговороте, хотя бы концентрация жизненного процесса в данный
момент и была чрезвычайно малой. Упоминаю здесь об этих воззрениях
как сообщение, может быть, небезынтересное. Со своей же стороны хочу
высказать мысль, нуждающуюся в конкретном обосновании и
представляющую скорее эвристическое начало. Это именно мысль о
существовании в биосфере того, что можно было бы назвать пневматосферой, т.е.
о существовании особой части вещества, вовлеченной в круговорот
культуры или, точнее, круговорот духа. Несводимость этого круговорота к
общему круговороту жизни едва ли может подлежать сомнению. Но есть
много данных, правда, еще недостаточно оформленных, намекающих
на особую стойкость вещественных образований, проработанных
духом, например, предметов искусства. Это заставляет подозревать
существование и соответственной особой формы вещества и космосе».*33
(5) Г. Флоровский (1935)
«Григорий Нисский исходит от эмпирического единства или
соприкосновения "души" и "тела", его распадение есть смерть. И оставленное
душой, лишенное своей «жизненной сильГ, тело распадается, нисходит
и вовлекается в общий круговорот вещества. Вещество же вообще не
уничтожается, умирают только тела, но не самые элементы. И, мало
365
Евнух души. «Революционные машины» и литература А. Платонова
того, в самом распадении частицы распавшегося тела сохраняют на себе
некие знаки или следы своей былой принадлежности к определенному
телу, своей сопринадлежности данной душе. В самой душе также
сохраняются некие "знаки соединения", некие "телесные признаки" или отме-
ты. И душа своей "познавательной силой" остается и в смертном
разлучении при элементах своего разложившегося тела. В день воскресения
каждая душа распознает свои элементы по этим признакам и отметам.
Это и есть "об/шк "тела, его "внутренний образ" или "тип". Процесс этого
восстановления тела свт. Григорий сравнивает с прорастанием семени
и с развитием самого человеческого зародыша. От Оригена он
решительно отступает в вопросе о том, из какого вещества будут построены
тела воскресения. Если бы они построялись из новых элементов, то
"было бы уже не воскресение, но создание нового человека".
Воскресающее тело перестраивается именно из прежних элементов,
ознаменованных или запечатленных душой во дни плоти ее, — иначе будет
попросту другой человек. Тем не менее, воскресение не есть только возврат
и не есть вовсе какое-нибудь повторение нынешнего существования.
Такое "повторение" было бы действительно "каким-то нескончаемым
бедствием". В воскресении человеческий состав восстанавливается не
в нынешнем, но в "изначальном", или "древнем", состоянии. О каждом
отдельном человеке было бы точнее даже и не говорить вовсе, что
"восстанавливается". Скорее — впервые только и приводится в то состояние,
в каком быть ему надлежит, в каком был бы, если бы не стряслось в мире
греха и падения — но в каком, однако, не бывал и не был в этой тленной,
превратной и преходящей жизни здесь. И всё в человеческом составе,
что связано с этой нестойкостью, с возрастами, и сменой, и
дряхлением, восстановлению никак не подлежит. Воскресение есть, таким
образом, не только и не столько воз-врат, сколько исполнение. Это есть некий
новый образ существования или пребывания человека — именно
пребывания. Человек воскресает для вечности, самая форма времени отпадает.
Потому и в воскресающей телесности упраздняется текучесть и
изменчивость, и вся полнота ее какого стягивается или "сокращается". Это не
только апокатастасис, но и рекапитуляция. Отпадает лукавый излишек
— то, что приразилось и наросло от греха. Полноты личности это
отпадение не ущербляет, ибо этот излишек к строю личности и не
принадлежит. Восстанавливается в человеческом составе, во всяком случае, не
всё. И материальное тожество тел воскресающих и умирающих для свт.
Григория Нисского означает скорее только реальность прожитой жизни,
которая стяженно должна быть вобрана и в загробное существование.
В этом он расходится с Оригеном, для которого эмпирическая жизнь
на земле представлялась только преходящим эпизодом. Но и для свт.
366
Приложение I. Невидимые миры
Григория основным в воскресении было именно это тожество облика
(или вида), то есть единство и непрерывность индивидуального
существования. Он применяет всю ту же мысль Аристотеля о единичной и
неповторимой связи души и тела. Загробный путь человека, в понимании
свт. Григория Нисского, есть путь очищения, и в частности телесный
состав человека очищается и обновляется— в этом круговращении природы,
точно в некоем плавильном горне. И уже поэтому восстановится
обновленное тело. Свт. Григорий называет смерть иблагодетельной ", и это есть
общая и постоянная святоотеческая мысль. Смерть есть оброк греха,
но сразу же — и врачевание. Бог в смерти как бы переплавляет сосуд
нашего тела. Свободным движением согрешившей воли человек вступил
в общение со злом, и к нашему составу примешалась некая отрава
порока. И вот теперь, подобно некоему скудельному сосуду, человек в
смерти снова распадается, и тело его разлагается, чтобы по очищении от
воспринятой скверны снова быть возведенным в первоначальный
состав, через воскресение. Так самая смерть оказывается органически
сопринадлежной к воскресению — это есть некий таинственный и
пламенный закал ослабевшего человеческого состава. Через грех эта
психофизическая двойственность человека оказалась нестойкой и
неустойчивой —это и значит, что человек стал смертен, омертвел и умер. В
смертности, однако, он уже отчасти врачуется от этой нестойкости. Но только
Воскресение Христово вновь оживотворяет человеческую природу и
делает всеобщее воскресение возможным. Основная и первохристиан-
ская интуиция в учении о человеке есть именно интуиция его
воплощенного единства. Потому судьба человека исполниться может только в
воскресении, и в воскресении всеобщем...»"34
(6) BJL Вернадский (1938)
«В сущности всякий организм представляет собой биокосное тело. В нем
не все живое. Во время его питания и дыхания непрерывно попадают
в него косные тела, которые от него совсем неотделимы. Частью они
попадают в него как посторонние тела механически, как тела ему, по
существу ненужные, или значения которых мы не понимаем. При
исчислении веса и химического состава живого организма в биосфере
нельзя не принимать в расчеты это постороннее вещество, всегда
входящее в состав организма. Без них живого организма в биосфере нет.
Это вещество должно учитываться (в средних числах) в совокупностях
организмов, так как оно является отражением своеобразной биогенной
миграции атомов - основного явления, изучаемого биогеохимией. Я не
буду здесь на этом останавливаться и это доказывать, но приведу один-
два примера. Дождевые черви или голотурии постоянно содержат
внутри своего тела почву или ил пропуск немедленно подвергаются в их
организме многочисленным биохимическим реакциям. Эти организмы
в биосфере без такого стороннего казалось вещества ни секунды не
существуют, т.е. жить не могут. В биогеохимии мы должны принимать их
во внимание такими, какие они есть и живут, а не очищенными и
освобожденными от этих всегда существующих в них веществ.
Это более резкие примеры, но для всякого живого организма мы имеем
части его тела, которые в живом процессе, в поддерживающих жизнь
миграциях атомов (вечно изменчивом жизненном равновесии, в
явлениях метаболизма, дыхания и питания) - не могут считаться, строго
говоря, каждая в отдельности живой. Живой организм есть всегда до
известной степени биокосное естественное тело, но в нем, в момент
жизни, вещество жизни, охваченное резко по массе, но не всегда по
объему, преобладает. Взятое в целом такое биокосное тело резко
проявляет свои живые свойства, даже в том случае, когда по объему они в нем
не являются преобладающими. Например, в ряде организмов огромные
части занятого ими пространства представляют газовые полости и
пузыри. Эти газовые полости, конечно, не являются живыми, но мы увидим
ниже, что они геометрически являются отличными от косных
естественных тел.
Живой организм, взятый в целом, хотя и является, таким образом, до
известной степени по своему составу биокосным естественным телом,
но резко отличается от настоящих биокосных тел прежде всего
свойствами занятого им пространства. И геометрически и физически это
пространство иное, чем пространство косных естественных тел биосферы.
Но больше того, он представляет в биосфере автаркическую систему,
которая является единой, самодовлеющей, способной защищаться и
активно реагировать на внешнюю и внутреннюю среду и на другие живые
организмы. Животный организм проявляется в биосфере, как чуждое
ей маленькое целое, как свой собственный отдельный мирок, монада,
с внешней средой закономерно связанная. Биокосное тело есть более
сложная система из живых организмов - монад и косных естественных
тел, - находящихся во взаимодействии, но друг с другом не
смешивающихся, Подавляющее большинство природных вод, почвы, илы и т.п.
являют бесчисленные примеры биокосных естественных тел».835
П. Образцы машин
Электромагнитный резонатор
(описание машины будущего)
«Доклад управления работ
по гидрофикации Центральной Азии»
Центральному Совету Труда
— Ленину, Кржижановскому, Гастеву,
Штейнаху, Резерфорду.
Париж. Управление работ
по гидрофикации Центральной Азии.
Общий доклад за 1926 г.
(1) Вертикальный туннель
Термический вертикальный туннель окончен 2 декабря проработанного
года. Туннель предназначается для утилизации теплоты нашей планеты,
находящейся в ее недрах, эта же теплота, превращенная
последовательно в электрический ток и в механическую энергию, будет использована
для орошения района Тао-Лунь, площадью в 1 400 000 десятин. Туннель
имеет форму усеченного конуса, обращенного усечением внутрь земли.
Ось его наклонена к центру планеты в 3°. Длина оси туннеля 2080
метров. Диаметр широкого основания на поверхности земли равен 42
метрам, усеченной вершины — 5 метрам. Температура на дне туннеля 184°С
(где установлены термоэлектрические батареи).
Согласно проекту, утвержденному Советом Труда, работы начались 1
января 1926 г., окончены 2 декабря того же года. Формовка туннеля
достигнута не взрывным методом, как указано было в нашем проекте, а
электромагнитными волнами, отрегулированными соответственно структуре
недр, т. е. настроенными на такие длину, частоту, которые вполне совпа-
369
Евнух души. «Революционные машины» и литература А. Платонова
дали с колебаниями электронов атомов периферии земли, поэтому
увеличивался их размах и получался разрыв орбит, впоследствии чего
наступала реконструкция ядра атома — его превращение в другие элементы —
разрушение.
Мы поставили на поверхности мощные и гибкие электромагнитные
резонаторы, нашли экспериментально среднюю волну недр,
подлежащих разрушению (точнее, распылению, размягчению) и так разжевали
туннель.
Затем железными пятитонными ковшами на стальных тросах мы выели
получившуюся туннельную кашу. Впрочем ее осталось немного после
электромагнитной операции: большинство составных частей почвы и
недр превратились в газ и улетучились. Одинаково были мягкою пылью
— глина, вода, гранит, железная руда.
Всего вынуто 400 000 куб. метров, 640 000 ушло газами.
Образованное коническое жерло (не совсем точное) открыло 7
горизонтов грунтовых вод,— 5-й был с морской водой. Для откачки этой воды
было образовано (взрывным способом) 7 круглых террас внутри
туннеля и установлены насосы-камероны. В общей сложности они подавали
на поверхность 800 000 ведер в час (80 камеронов производительностью
10 000 ведер в час каждый, с электрическим приводом). Очистка
туннеля от воды получалась довольно полная, вследствие равновесия между
поступлением и откачкой воды. После этого было приступлено к
формированию туннеля (в августе месяце). Благодаря высокой температуре
люди опускались только до 1000-ного метра, глубже работа совершалась
на тросах: посредством их устанавливались насосы, рылись кюветы и
водосборные бассейны в террасах и управлялись землечерпальные
ковши на формовке склонов.
Когда был готов туннель совершенно, собранные наверху
термоэлектрические батареи вместе с проводами были опущены на тросах на дно
туннеля.
Батареи после месячной контрольной работы показали способность
давать по 86 400 000 киловатт-часов в год, иначе говоря, мощность
батареи в переводе на лошадиные силы достигает 14 000 л.с, откачка воды
из туннельных кюветов отнимет 800 л.с, 13 200 л.с. будут поданы по
проводам на районные оросительные станции Тао-Лунь.
Туннельной водой (за исключением морского горизонта) уже
орошаются окрестности термтуннеля под рисом.
Смета на постройку 42 районных оросительных станций,
электропередач к ним и гидропередач от них при сем прилагается. Только после
сооружения означенных 42 станций, туннель будет нагружен полностью
и его энергия будет использована до конца.
370
Приложение II. Образцы машин
(2) Пылящее Солнце
Сообщаем результаты опытных работ по исследованию природы
электричества. Оказалось, электричество есть атомная пыль, результат
трения и столкновения атомов, когда периферии атомов разрушаются и
неимоверно малые частицы атомов отделяются от них и курсируют вокруг
них. Эта атмическая пыль по сравнению с атомами, молекулами и их
составами по массе настолько ничтожна, что уже не подчиняется тем
законам, которым подчиняется эта «большая» материя. Оказывается, масса,
количество пространства имеет в этом случае кардинальное значение.
Понятно, для этой атмической пыли нет непроницаемости.
Для атомной пыли есть также коэффициент насыщения, тогда для
атома в оболочке своих осколков понижается вероятность столкновений
и дальнейших разрушений. Атомная пыль, электричество—даже по
сравнению с водородом невообразимо активнее,— она, так сказать, есть
водород водорода, таково образное отношение.
Электричество это подматерия: во что превращается материя и откуда
она рождается вновь. Через электричество, атомную пыль происходит
нивелирование элементов в природе. Одни атомы не проникают в
сферу других (разве только в малейшей степени), но пыль их взаимно
обменивается, и она производит в самых элементах необходимую
реконструкцию, чтобы, в конце концов, два данных тела стали по атомной
структуре одинаковы. Имя этому процессу — тяготение.
Магнитная энергия происходит от удара атмической пыли об атомы и
молекулы того тела, в котором напрягается, сгущается (выше нормального
коэффициента) эта атомная пыль. Так что магнитная энергия
происходит от ветра атмической пыли, бьющего в движущиеся атомы
проводящего тела. И потому элемент магнитной энергии есть еще более, так сказать,
мелкая и активнейшая пыль, чем энергия электрическая. Что магнитная
энергия перпендикулярна электрическому току — это понятно: ток по
проводнику, благодаря сопротивлению, склоняется и движется спиралью,
и пыль атомов проводника, дробящаяся током, летит по законам
отражения именно перпендикулярно струе атмической пыли. Направьте
струю в диск, и брызги у вас полетят перпендикулярно струе воды.
От коэффициента насыщения атмической пылью данного пространства
зависит то, будет ли так называемый положительный или
отрицательный ток: подсос атмической пыли извне (отрицательный ток) или,
наоборот, нагнетание ее вовне (положительный ток).
Надо сказать в заключение, что электричество (и магнитную энергию)
испускает всякое тело, ибо покойных атомов и молекул нет. Но тело
371
Евнух души. «Революционные машины» и литература А. Платонова
начинает испускать из себя электромагнитную энергию только тогда,
когда через внешнее воздействие оно подвергается изменению: только
тогда атомы и молекулы сбиваются со своих уравновешенных орбит,
сталкиваются и «пылят». Изолированное от всякого влияния тело,
после некоторых пертурбаций балансирует пути своих атомов и молекул,
и они взаимно нейтрализуют свои зоны.
Но на практике этого не встречается, всякий материальный
конгломерат волнуется миллиардами сторонних причин.
Логически и фактически рассуждая, всякое тело беспрерывно
вращается в пыль своих атомов — в электричество, в то, что лежит после
материи и перед нею. В конце времени материя вся будет электричеством
и, если подвергнуть электричество температуре в 800 000° С ниже нуля
(что и было проделано в лаборатории Управления работ),
электричество опять станет материей: атмическая пыль сжимается в неимоверно
малое пространство, склеивается, и вновь получается атом.
Отчет лаборатории, с точными и цифровыми картинами опытов,
приложен при сем.
(3) Новый метод управления миром
Очевидно, что всякий вид материи излучает из себя электромагнитную
энергию при условии воздействия на него. И каждому изменению
точно, неповторимо, индивидуально соответствует комплекс
электромагнитных волн такой-то длины, таких-то периодов. Это зависит от
степени реконструкции данной вещи.
Мысль, будучи процессом, перестраивающим мозг, также изливает в
пространство электромагнитные волны.
Но мысль зависит от того, что человек подумал,— от этого же зависит,
как и насколько изменится строение мозга, а от последнего уже зависят
волны, какие они будут. Мыслящий, разрушающийся мозг строит
электромагнитные волны и строит в каждом случае по-разному, смотря какая
мысль перестраивала мозг.
Лаборатория Управления работ по гидрофикации нашла следующее:
каждому роду волны соответствует одна строго определенная мысль.
Лаборатория построила универсальный резонатор, который
улавливает и фиксирует волны всякой длины и всякого периода.
Но даже одной, самой незначительной и короткой, мысли ответствует
целая сложнейшая система волн.
372
Приложение П. Образцы машин
И все же мысли, скажем, «окаянная сила» соответствует уже известная,
раз зафиксированная система волн, и от другого человека она будет
фиксироваться лишь с незначительными вариациями.
Лаборатория наша соединила резонатор с системой реле
исполнительных аппаратов и машин, сложнейших по технике непростых и единых
по замыслу. Но эту систему надо еще усложнить и расширить по всей
земле, чтобы проект лаборатории осуществить вполне. Пока же мы
действуем на незначительном участке и для определенного цикла мыслей.
Пример: человек вышел на берег реки, видит—на другом высоком берегу
растет капуста и горит и горит от бездождия; мысль человека: «оросить».
Человек находится в сфере действия исполнительных механизмов, и
его эта мысль есть в плане возможностей исполнительных механизмов
(они так построены). Мысль — «оросить» — воспринимается
резонатором, ей (мысли) соответствует строгая, неповторимая система волн,
только такими волнами (длины, периода) замыкаются только такие
реле, которые управляют в исполнительных механизмах орошением, т. е.
там прямо замыкается ток и начинает действовать агрегат-электромотор
— насос, и через миг после мысли человека — «оросить» — под корнями
капусты уже блестит вода. Такой опыт именно ставился лабораторией
Управления работ. Такая высшая техника имеет целью освободить
человека от мускульной работы. Достаточно будет подумать, чтобы звезда
переменила путь!. Но мы хотим добиться, чтобы обойтись без
исполнительных механизмов, а прямо так.
Схема резонатора, «реле» и исполнительных механизмов прилагается
на предмет экспериментальной проверки ее в лабораториях центра и
ассигнования новых кредитов на углубление и расширение работ по
созданию новой техники управления миром.
Главный инженер Управления работ по гидрофикации
£. Баклажанов
<1922>
373
III. Антисексус
Ниже нами приводится текст рекламной брошюры, изданной в Нью-
Йорке на 8 европейских языках «Международным промышленным
обозрением» (Internationale Industriale Revue).
Нельзя отказать в незаурядном литературно-рекламном даровании
составителю этой брошюры, как нельзя отказать этому деловому
сочинению в империалистическом цинизме, корректной порнофафии и
чудовищной пошлости, вызывающей своими размерами даже фусть. Однако
есть что-то в стиле этой брошюры, что роднит ее с духом Анатоля
Франса, если позволено нам будет здесь произнести это великое и честное
имя. Это, отчасти, и дало нам смелость опубликовать это неслыханное
произведение.
Нет лучшего документа для характеристики эпохи живого загнивания
буржуазии и ее полной моральной атрофии, чем нижеприводимый.
Ничего подобного не приходилось читать даже нам - искушенным
профессиональным читателям.
Ожидая всего от заправил современного капитализма, бюрократии,
фашизма и военщины, давших свои отзывы рекламируемому прибору,
мы все же не ожидали у них полное отсутствие ума и чувства
элементарного такта.
Конечно, т. Шкловский, тонко сыронизировавший посредством
формального метода надо всей этой ахинеей, - из этого правила
исключается.
Оказывается, не права физиология ("мозг разлагается одним из
последних органов"), а права русско-большевистская поговорка: разум
отнимается первым - у того, кого хочет казнить История.
Именно так: поэтому и смердит на все земное пространство от этого
демонстрируемого англо-евро-американского сочинения, от этого
сектора империализма.
Поэтому лучшая контр-«антисексуальная» агитация - напечатание этого
любопытного документа, ибо у людей задвигается выражение на лицах,
а на лицах засияет розовый смех - лучший друг души и желудка и худший
враг всего этого индустриально-морально-физиологического
удушающего безумия.
Антисексус.
Патентованные аппараты Беркман, Шотлуа и С, Лтд.
Главное Правление: Берлин, Лондон, Женева, Вашингтон.
Генеральные агентства:
Лондон, Париж, Копенгаген, Брюссель, Нью-Йорк, Варшава, Будапешт,
Багдад, Пекин, Сингапур, Шанхай, Гонконг, Мельбурн, Чикаго,
Франкфурт н/Одере и н/Майне, Токио, Лиссабон, Севилья, Рим, Афины,
Монтевидео, Константинополь, Ангора, Калькультта, Рио-де-Жанейро,
Буэнос-Айрес, Мекка, Каир, Вифлием, Александрия, Бангкок, Дамаск,
уполномоченные на всех пассажирских судах Гамбург-Америка линия,
а также на воздушных линиях Дерелюфт и Люфт-Ганза.
Милостивые Государи и Государыни!
Столь различны эпохи, столь различны местоположения стран, столь
различны культуры, где работает наша мировая фирма. Однако, спрос
на наши патентованные изделия имеется всюду - от Арктики до
Антарктики, включая и эти последние, не исключая, однако, и диких стран
меж тропиками Рака и Козерога. Страсти человечества господствуют
над временами, пространствами, климатами и экономикой.
Распространение нашей фирмой изделий металлообрабатывающей
промышленности для удовлетворения этих страстей есть дело космического
порядка - и по линии метафизики и по линии морали. В высшей степени
симптоматично то, что, вопреки общепринятому мнению, кривая
годового сбыта наших изделий, при равных условиях экономики и числа
населения, в северных широтах не разнится от таковой же кривой
сбыта в широтах южных - в тропиках.
Отсюда позвольте заключить, что физиология человека почти абсолютно
одинакова и стоит вне зависимости от пространств, времен, рас,
уровня культур, наличия книгопечатания или отсутствия такового,
безобразия расы или прелести таковой и прочих привходящих обстоятельств.
Отсюда очевидно, что полное наличие удовлетворения обуславливает
наличие потребности. Мир сам по себе стремится лишь к потреблению,
а не производству, мир не производит даже желания наслаждения,
когда нет возможности получить это последнее.
375
Евнух души. «Революционные машины» и литература А. Платонова
Имея уже мировой опыт сбыта своих изделий, неустанно совершенствуя
конструкцию выпускаемых аппаратов, расширяя сеть заводов (число
их достигло - к 1/1-1926-224), неустанно заботясь об индивидуальных
оттенках потребления и приспособляя к этим оттенкам конструкции
своих аппаратов, мы решили включить в свой экспорт рынок Советского
Союза, полагая, что емкость его достаточна, чтобы оправдать наши
организационные расходы, неминуемо связанные с необходимыми
приспособлениями к особенностям этого нового рынка, ибо без учета всех
конкретностей данной обстановки нет коммерческого успеха.
Виднейшими моральными авторитетами мира наша деятельность признана не
подлежащей никакому сомнению, напротив, достойной
государственного поощрения и частной благотворительной поддержки, чем фирма не
преминула своевременно воспользоваться и будет пользоваться впредь.
Шеф фирмы г. Беркман уже включен в кандидаты на получение премии
имени Нобеля и в истекшем году получил honoris causa почетное звание
д-ра этических и эстетических наук от Парижской Академии. Не
задерживая Вашего дорогостоящего внимания, разрешите поделиться, в
самых общих чертах, теми принципами, кои положены в основу
деятельности нашей мировой и единственной фирмы ее учредителями.
Сдавленные эпохой войн сексуальные силы человечества неудержимо
расцвели в последнее время. Это отчасти способствовало загрузке наших
заводов и финансовому благополучию фирмы. Неурегулированность
половой жизни человечества, чреватость бедствиями, как последствие
этой неурегулированности (3), - вот предмет мучительного душевного
беспокойства учредителей нашей фирмы и истинная причина нашей
положительной деятельности. Общеизвестна также связь сексуального
чувства с нравственностью.
Общепризнанна святость древнейшего института брака, вытекающая
из непреложности супружеской любви и вечности общего спального
ложа, таящего в себе высшие положительные наслаждения и, как
следствие, душевное умиротворение. В браке истина заменена покоем. Во
всяком случае - ни один философ мира не докажет, что лучше.
Человечество же высшей истиной признало покой. Объектом же
индустриальной и коммерческой деятельности может быть лишь человечество,
а философы таким объектом не могут быть. Исходя из этого, наша
фирма заявила патенты во всех цивилизованных странах на
электромагнитный аппарат Antisexus, долженствующий урегулировать сферу пола, и вместе
с ней и благодаря этому, - высшую функцию человека - дух его, так сказать,
притаившееся божество, которое нужно, наконец, сделать явным и
общеупотребительным, как одно из рядовых благ цивилизации. Неурегули-
376
Приложение III. Антисексус
ровапный пол есть неурегулированная душа- нерентабельная, страдающая
и плодящая страдания, что в век всеобщей научной организации труда,
в век Форда и радио, в век Лиги Наций, Резерфорда и проектируемого
межпланетного сообщения посредством живой силы, вложенной в так
наз. «Кирпич» Крейцкопфа, - не может быть терпимо.
Прогресс идет ломаной линией, т.е. отдельные точки его бессильно
отстают от других точек. Наша фирма призвана уравнять линию
прогресса, наша фирма призвана уничтожить сексуальную дикость человека и
призвать его натуру к высшей культуре покоя и к ровному, спокойному
и плановому темпу развития.
В век социально-экономических кризисов, когда материально затруднен
брак, в век алиментов, когда почти невозможно деторождение, когда
женщина стала вновь лишь призраком поэтов, благодаря нищете мужчин, мы
призваны решить мировую проблему пола и души человека. Из грубой
стихии наша фирма превратила половое чувство в благородный механизм
и дала миру нравственное поведение. Мы устранили элемент пола из
человеческих отношений и освободили дорогу чистой душевной дружбе.
Учитывая, однако, высокоценный момент наслаждения, обязательно
присущий соприкосновению полов, мы придали нашему аппарату
конструкцию, позволяющую этого достигнуть, по крайне мере, в тройной
степени против прекраснейшей из женщин, если ее длительно
использует только что освобожденный заключенный после 10-ти лет изоляции.
Таково наше сравнение, таков эквивалент качества наших
патентованных аппаратов.
Далее, особый регулятор позволяет достигать наслаждения любой
длительности - от нескольких секунд до нескольких суток, будет свободное
время у уважаемого потребителя. Особая план-шайба позволяет
регулировать в объемных единицах расход семени, - и этим достигать
оптимальной степени душевного равновесия, т.е. не допускать излишнего
истощения организма и понижения тонуса жизнедеятельности.
Наш лозунг - душевная и физиологическая судьба нашего покупателя,
совершающего половое отправление, вся должна находиться в его
руках, положенных на соответствующие регуляторы. И мы этого
достигли. Кроме того, глубокие старики, выпавшие из сексуального чувства,
вновь приобщаются к нему нашими приборами. Мы работаем для всех
возрастов и для всех народов.
Мы уже 8 лет выпускаем лишь три типа наших аппаратов для мужчин и
три типа для женщин. Рынок, по-видимому, не требует большего раз-
377
Евнух души. «Революционные машины» и литература А. Платонова
нообразия, благодаря широким вариациям, которые допускает
устройство каждого типа, в соответствии с индивидуальными особенностями
потребителя. Идя навстречу нашему новому покупателю -
оригинальному обитателю советских стран - мы допустили особые льготы, как
то: членам профсоюзов по коллективным спискам скидка до 20% с
прейскурантной стоимости и рассрочка до 1 года. Цены наших аппаратов
на 1926 г. следующие:
1. Тип BS s 00042 для индивидуального потребления ограниченной
группой лиц без стерилизатора. 20 длр.
2. Тип BS s 001843 для потребления ограниченной группой лиц (напр.,
для мужской части семьи), со стерилизатором . 40 длр.
3. Тип BS s 0000000401 для употребления неограниченной массой лиц
(ставится в общественных уборных, ж.д. вагонах, рабочих бараках, на
митингах, в театрах, на улицах, в учреждениях и т.п.) с автоматом
стерилизатором . 100 длр.
Цены указаны без скидки, без упаковки, Франко-база. Для женщин идут те
же три типа прибора, тех же назначений, лишь с удорожанием на 15 %
против указанных цен. Еще раз подчеркивая недосягаемость по
нравственной высоте наших принципов деятельности, почтительно указывая
на необходимость организации Вам в себе самой существенной Вашей
части - души, стоя на страже Ваших экономических интересов,
оберегая таковые от покушений половых стихий, смеем предложить Вам,
произведя необходимые одновременные капитальные затраты, раз
навсегда вычеркнуть статью расходов по половому удовлетворению из
расходной части Вашего бюджета и тем самым стать на путь финансового
и морального преуспеяния.
В ожидании Ваших любезных заказов и запросов
пребываем к Вам
с совершенным почтением
Генеральный Агент для Сов. стран
Яков Габсбург
Отзывы об аппаратах «Antisexus» знаменитых людей.
Война - всемирная страсть человечества. Она не пребудет, пока не
пребудет жизнь на земле, что бы ни говорили усталые люди и их мечтатели-
политики. Война - мужество: она пребудет, пока мужественна и
поступательна жизнь.
Аппараты гг. Бергмана, Шотлуа и сына последнего сыграют, я уверен,
в ближайшую же войну великую роль, когда ими будут обслужены
тысячи молодых людей, скопленных на фронте.
378
Приложение III. Антисексус
Уже в истекшую войну военачальники считались с духом войск.
Вынужденное целомудрие порождает излишнюю нервность. Нервное же
войско есть поражение. Нам нужны армии людей с душевным
равновесием, способных к десятилетиям войны. Вышеназванные аппараты
призваны помочь военачальникам в их тяжелой работе на пути к победе.
Гипденбург
Г.г. Беркман, Шотлуа и Сын открыли новую блестящую эпоху в
нравственном служении человечеству. Нет сомнения, исторический
оптимум есть всеобъемлющее регулирование вселенной мозгом человека,
- регулирование, которое должно предстать перед нами в виде
трансформатора, превращающего стихии в закономерные автоматы.
В свое время, когда мне было 25 лет и я только женился, уже передо мною
стояла эта задача, задача регламентации брачной физиологии в точную
форму, но моя мысль, отвлеченная занятиями по механике, не
сосредоточилась тогда на этом. Сожалею об этом. Может быть, я отказался бы
тогда от организации предприятий по фабрикации автомобилей и
пошел бы по пути фабрикации приборов, автоматизирующих и
регулирующих нравственность, что более соответствует моему душевному строю.
Но гг. Беркман, Шотлуа и С н предугадали мою юношескую мысль и
широко ее осуществили на пользу общества. Душевно этому рад.
Желаю новой промышленности, так блестяще организованной гг.
Беркман, Шотлуа и Оном, мирового процветания, желаю расширения
сбыта благотворной продукции этой удивительной фирмы, распространив
продукцию через скотоводов для всего животного населения планеты,
а не только для людей, число коих роковым образом будет
ограничиваться работой аппаратов этой же фирмы. Таковым мероприятием
укрепится активная часть баланса фирмы, а с нею укрепится и моральная
устойчивость мира.
Генри Форд
Из анализа себестоимости аппаратов под названием «Antisexus" мы
усмотрели его излишнюю дороговизну. Я поручил Калькуляционному Бюро
пересчитать эту стоимость применительно к нашему сырью и
оборудованию и выяснить возможность ее снижения. Мне доложили, что
понижение возможно на 30% (пока). С будущего года мы ставим
производство Антисексусов на своем заводе в Детройте.
Кроме того, мы позволим себе допускать рассрочку платежа до 5 лет, чем
сделаем покупаемость аппаратов абсолютной для каждого гражданина.
Этим навсегда и сразу будет ликвидирована проституция, а также все
безработные приобретут эти аппараты.
379
Евнух души. «Революционные машины» и литература А. Платонова
От молодых же рабочих мы отнимем необходимость жениться, чем
стабилизируем их бюджет, а это последнее позволит нам обойтись без
дальнейших повышений зарплаты, столь тормозящих дальнейший прогресс
технического усовершенствования наших заводов.
Форд-сын (Иезикилъ)
Лучше в железку сливать семя, если не хочешь превратить его в древо
мудрости, чем в беззащитное тело человека, созданное для дружбы,
мысли и святости.
Ганди
Приборы гг. Беркмана, Шотлуа и Она облегчают метрополии
управление страстными расами колоний и снижают число бессмысленных
бунтов, направленных против цивилизации и имеющих в своей причине,
как теперь можно установить, лишь одно неудовлетворительное
половое чувство молодых людей. Очень серьезно также облегчилось
командирование в колонии первоклассных администраторов, так как их
женам не грозит, обычное прежде, изнасилование. Независимо от того,
и жены администраторов, снабженные аппаратурой фирмы, не пойдут
навстречу изнасилованию.
Чемберяен
Я против Антисексуса. Тут не учтена интимность, живое общение
человеческих душ, - общение, которое всегда налицо при слиянии полов,
даже, когда женищна - товар. Это общение имеет независимую ценность
от полового акта, это то мгновенное чувство дружбы и милой симпатии,
чувство растаявшего одиночества, которое не может дать
антисексуальный механизм. Я за фактическую близость людей, за их дыхание рот
в рот, за пару глаз, глядящие в упор в другие глаза, за ощущение души
при половом грубейшем акте, за обогащение ее за счет другой
встретившейся души. Я поэтому против Антисексуса. Я за живое,
мучающееся, смешное, зашедшее в тупик человеческое существо, растратой тощих
жизненных соков покупающее себе миг братства с иным вторичным
существом. И еще потому я против всей этой механики, что я всегда
стоял и буду стоять за конкретное, жалкое, смешное, но живое - и
обещающее стать могущественным.
Чарли Чаплин
380
Приложение III. Антисексус
Принимая во внимание протест Ч. Чаплина, не избегая печатания
отрицательных отзывов, фирма доводит до всеобщего сведения, что она уже
поручила лучшим свои инженерам изыскать рациональную
конструкцию нового Антисексуса, действующего не только на половую сферу,
но и на высшие нервные центры одновременно, дабы механически
создать те бесценные моменты ощущения общности с космосом и дружбы
высшего смысла ко всему живому, о которых так исчерпывающе
пожалел г.Чаплин.
Фирма полагает, что это ощущение общности жизни ей удастся создать
не в виде отвлеченного чувства, а в виде милого конкретного образа
женщины или мужчины, соответственно полу потребителя, - образа
наиболее близкого, наиболее желанного нервно-психическому строю
потребителя. Однако фирма не надеется на широкое распространение
аппаратов этого типа, ибо известно, что любовь, - а в отзыве г. Чаплина
речь идет, очевидно, об истинной, хотя и преходящей, любви, любовь
не есть свойство, общее всем людям, и расчеты на нее, мы полагаем, не
могут коммерчески ориентироваться. Любовь, как установила
современная наука, есть психопатическое состояние, свойственное
организмам с задатками нервного вырождения, а не здоровым деловым людям.
Но мы работаем не только для всех возрастов и всех народов, но также
и ля всех органических структур во всем их разнообразии, ибо фирма
преследует цели нравственного благоустройства мира прежде всего.
По поручению фирмы
г. Беркман
Сделав половой акт единоличным, вытеснив из него вторую жизненную
половину, сделав половое отправление общедоступным, без всяких
препятствий, - мы на прямой дороге к целомудрию, к господству
омолаживающего принципа - использование выделений желез внутренней
секреции в пределах самого организма.
Проф. Штейнах
При употреблении Антисексуса переживаешь молодость и после
крепко спишь. Я не спал так хорошо за последние 25 лет. В моем организме
открылись какие-то замершие было источники юности. Я очень
благодарен фабрикантам Антисексуса. Моя дочь предложила мне основать
институт Перманентной Юности имени гг. Беркмана, Шотлуа и сына
его. Я дал согласие и деньги на это счастливое дело.
Морган
381
Евнух души. «Революционные машины» и литература А. Платонова
Мы потеряли с введением антисексуальных аппаратов известный
комплекс красивых и мощных движений, сопутствующих божественной
страсти. Об этом надо пожалеть. Но мы приобрели известный половой
комфорт, определенную экономию времени, равновесие здорового
организма и независимость от женских капризов. Это надо
приветствовать. Кроме того, я думаю, - современное кино скомпенсирует
утраченный комплекс половых движений, очистив их легким преодолением
пространств могучим и девственным телом.
Дуг Фербенкс
Будущее принадлежит цивилизации, а не культуре: будущее завоюет
душевно-мертвый, интеллектуально-пессимистический человек. В пошлой
плоскости истинной цивилизации немыслим брак - дух фаустовского
стиля, - там мыслимо лишь механическое освобождение от избытка
сырых органических сил, не могущих сублимироваться в дух. Автомат
«Антисексус» еще раз ознаменовал ту эпоху, в которую мы входим -
цивилизацию - мертвое, удобное здание, фундамент которого уперт в
зеленые травы живой, погибшей культуры.
Освальд Шпенглер
Автомат «Антисексус» чрезвычайно необходим при долгих
путешествиях и очень удобен в пользовании. Эти автоматы совершенно
необходимо теперь включить непременными элементами в оборудование каждой
экспедиции, мало-мальски научно снаряженной. Наличие автоматов -
лишний плюс для обеспечения успеха экспедиции.
***
Когда я был в России, я слышал песенку:
Хорошо тому живется,
Кто с молочницей живет.
Только ступит на порог,
Как сметана и творог!1
Теперь, когда ежедневно беднеет Европа, и еще далеко не богата Россия,
когда на каждого не придется по жене-молочнице, нужна механическая
«молочница». Ее и призван заменить механизм «Анти-сексус». Ежегодно
на проституцию тратит человечество около пятисот миллиардов
рублей, не считая косвенных затрат здоровья, потери колоссального вре-
1 Текст отзыва В. Маяковского в машинописной копии тщательно
вымаран автором.
382
Приложение III. Антисексус
мени, наличия целого международного общественно-вредного класса
проституток и проститутов и пр. и т.п.
На эти сбережения, которые в сумме дадут около триллиона рублей в
год, можно купить молока, сметаны и творога для каждого, не
обуславливая такое сытное питание необходимостью иметь жену-молочницу.
Да. Но экономию в триллион в год, общедоступное молочное питание
сделал ведь Антисексус! Поэтому он действительнее любой самой
революционной экономической реформы.
Кейнс
Я не пишу, я обычно действую. Я рассматриваю антисексусы как
необходимое вооружение каждого культурного человека, — вооружение,
действительное и дома, и на фронте. Наш король декретировал
освобождение антисексусов от всякого налога и пошлины. Женщина,
освобожденная от половых обязанностей и половых последствий, увеличит актив
нашей страны. Для члена союза фашистов наличие антисексуса
обязательно — его должен иметь каждый, — от римского нищего до нашего
короля.
Муссолини
Предлагается: то вещество, которое скопляется — оставляется в половой
машине зря, — экономно собрать, построить фабрику и печь в ней
лепешки, которые будет смачно жрать тот, кто произвел сырье для
изготовки этой лепешки. Таким образом, экономия получится вдвойне: по
Кейнсу выйдет ровно 2 триллиона в год.
Человечество тогда получит: молоко, творог, сметану и лепешки — все
взамен женской ножки.
Владимир Маяковский
Женщины проходят, как прошли крестовые походы. Антисексус нас
застает, как неизбежная утренняя заря. Но видно всякому: дело в форме,
в стиле автоматической эпохи, а совсем не в существе, которого нет.
На свете ведь не хватает одного — существования! Сладостный срам
делается государственным обычаем, оставаясь сладостью. Жить можно
уже не так тускло, как в презервативе.
Виктор Шкловский
***
Примечание фирмы
Не имея возможности поместить все отзывы здесь, фирма
предполагает издать три тома, специально посвященные оценке наших аппаратов
383
мировыми светилами ума, чувства, поэзии, науки, добра, пользы,
социал-демократизма, финансов, политики, коммунизма, техники и эстетизма.
В ближайшем томе будут помещены оценочные рассуждения гг. Л.
Авербаха, Землячки, Корнелия Зелинского, Сун Цзи-лин, Бачелиса, Гроссман-
Рощина, Детердинга, С. Буданцева, Лоуренса Виндроуэра, Осинского,
генерала По-лу-гуй, Тарасова-Радионова, проф. Вестингауза, Киршона
и мн. др. уважаемых авторитетов.
Андрей Платонов, переводчик с французского
1926 г.
Примечания
1 В модерне у того же В. Кандинского и П. Клее, или в
авангарде у К. Малевича и П. Филонова мы находим большие теории
искусства, коллекции методов и техник, которым должен следовать
художник, чтобы реализовать волю к новой форме. Всех их объединяет
единая воля к Произведению. Ими поддерживается старый культ
Мастера-художника, который как бы «в ручную», минуя всякое
посредничество машин и технических устройств, творит из ничего
новый мир. Фигура Мастера ослабляет различия между модерном и
авангардом. (См. также: Д.В. Сарабъянов. К ограничению понятия
авангард. - Д.В. Сарабьянов. Русская живопись. Пробуждение
памяти. Москва, «Искусствознание», 1998, С. 264-275.)
2 П. Д. Успенский. В поисках чудесного. Петербург, Издательство
Чернышева, 1992. С. 22-23.
3 Дж. Флэтли. Подобно машине. - Материалы конференции.
«Энди Уорхол симпозиум» 30-31 октября 2000 г. Санкт-Петербург.
Государственный Эрмитаж. Петербургский фонд культуры и
искусства «Институт ПРО APTE», 2001. С. 50-63.
4 Р. Краусс. Подлинность авангарда и другие модернистские
мифы. «Художественный журнал», Москва, 2003. С. 19-31, С. 153-173,
С. 247-258; См. также: Я Krauss. The Optical Unconscious. The MIT
Press, London, 1973, p. 1-30).
5 Но вот что здесь интересно: авангард в таком понимании - это
чисто экстенсивное производство образов в отличие от
модернистского, которое склонно переоценивать интенсивность , а,
следовательно, символистское толкование. Различие между двумя
интерпретациями произведения в искусстве авангарда толкуется Краусс
предельно широко: одно опирается на его центробежную динамику,
другая - на центростремительную. В первом случае произведение
385
Евнух души. «Революционные машины» и литература А. Платонова
выталкивается за собственные границы, оно - фрагмент
грандиозной картины мира, от которой оно само себя не отделяет; во втором,
- напротив, произведение оказывается местом в
пространстве-времени, куда обрушивается мировое целое, оно - монада Лейбницы,
в которой отражается как в капле воды весь мир: «решетка как ин-
троекция границ мира в пространство картины». (Р. Краусс.
Подлинность авангарда и другие модернистские мифы. С. 28).
Это различие, на мой взгляд, может быть переведено в план
отношений экстенсивного/ интенсивного, что позволит отделить авангардное
сознание от модернистского. Правда, сама Краусс все-таки
настаивает, что подобное различие (между интерпретациями)
относительно и острота его пропадает, когда заходит о речь о конкретных
работах художников». (Там же. С. 28-31).
6 G. Simondon. Du mode d'existence des objets techniques. Paris,
1958.p.l38.
7 У. Матурана, Φ. Варела. Древо познания. Биологические корни
человеческого понимания. Москва, Прогресс-Традиция, 2001. С. 40.
Существуют различия по функциям и способам применения: есть
машины а-топические (утопические и антиутопические); есть
машины абстрактные, машины-планы-линии, диаграмматические; и есть
машины локальные, территориально-деспотические, имперские с
неизменной гео-топикой. Ни один из этих уровней не может быть
упразднен при выборе, он становится точкой отсчета в определении
машинизма (и способов их представления, например, в чертеже).
Однако все эти различия машинного зависят от того, что мы
понимаем под машиной.
8 Симондон пользуется размышлением Бергсона, именно
последний ввел в научный оборот понятие «зоны» и «центра индетер-
минации». (А. Бергсон. Собрание сочинений. Том 1-й. «Московский
клуб», Москва, 1992, С. 178-184). Дело в том, что наше восприятие
избирательно, а еще точнее, мы воспринимаем, поскольку что-то
способны различать. Мы - экран, сквозь который движется масса
раздражений, но мы отбираем лишь некоторые, которые нужны нам для
выполнения определенных жизненно важных функций. Но
поскольку картинка мира все время меняется, то меняется и наше
восприятие, поскольку оперирует виртуальными возможностями действия.
Откладывание одного движения (реакции) и исполнение другого
позволяет осуществить выбор, принять определенную тактику в
восприятии актуального. Вот где образуется «центр индетерминации»,
мы свободны за счет того, что можем отказаться какого-то
движения, задержать или включить в систему отношений чисто виртуаль-
386
Примечания
ных. Машина в таком случае - это такое единство, которое
выполняет по крайней мере несколько друг с другом связанных функций
в разной последовательности. Отсюда, ограниченный выбор
действия, и предельное сужение «пятна индетерминации», которым
оно располагает, чтобы принимать информацию и откликаться на
нее. Наш выдающийся физиолог Н. Бернштейн называл это
«степенями свободы».
9 Н. Випер. Человек управляющий. Санкт-Петербург-Харьков-
Минск, 2001. С. 188-189.
ю G. Simondon. Du mode d'existence des objets techniques, p. 139-147.
Ibid., p. 144.
1 a H. Винер делает весьма интересное замечание, когда говорит:
«Большая слабость машины - слабость, которая пока еще спасает
нас от ее господства над нами, - состоит в том, что она не может
пока учесть ту огромную область вероятности, которая
характеризует человеческую ситуацию. Господство машины предполагает
общество, достигшее последних ступенек возрастающей энтропии, где
вероятность незначительна и где статистические различия между
индивидуумами равны нулю». (Н. Винер. Человек управляющий. Санкт-
Петербург-Харьков-Минск, 2001. С. 184.) И далее: «Когда
человеческие атомы скреплены в организацию, в которой они используются
не в соответствии со своим назначением, как разумные существа, а
как зубцы, рычаги и стержни, то большого значения не будет иметь
то обстоятельство, что их сырьем являются кровь и плоть. То, что
используется в качестве элемента в машине, действительно
представляет собой элемент машины. Если мы доверим наши решения
машине из металла или тем машинам из плоти и крови, которые
представляют собой бюро, огромные библиотеки, армии и акционерные
общества, то мы никогда не получим правильного ответа на наш
вопрос, если только не поставим его правильно». (Там же. С. 188-189.)
13 Вот как это поясняет Р. Том: «Grosso modo, использование
орудий корреспондирует с выглаживанием, lissage, со стабилизацией
порога между этими двумя фазами. Например, если мы хотим
собрать плоды, то нам придется с самого начала и часто использовать
для этого ветку, которая их несет; качество быть добычей понимается
как плоды на ветке. Активность игры еще обладает приростом этой
экстенсии. Эта стабилизация в экстремальной точке соматоподвиж-
ного, преследующего удлинения порождает явление органогенеза,
основанного на оппозиции: оппозиции между большим пальцем и
рукой, оппозицией между двумя руками». Ход морфогенетического
анализа должен представить движение любого органа в топологи-
387
Евнух души. «Революционные машины» и литература А. Платонова
ческом измерении, а это значит также, внесение простых рисунков
движения, относящихся, например, к любому из использованных
для описания действия глаголов. Следущий шаг, это выяснение
внутри самого движения, фиксированного в слове топологически
видимого разрыва, который и будет местом элементарной катастрофы,
совмещающее не совмещаемое в самом движении. (К Thom. Stabilité
structurelle et morphogenese. Essai d'une théorie générale des modèles.
InterEditions, Paris, 1977, p. 306 (издание заново отредактированное
и исправленное). См.: Репе Том. Структурная устойчивость и
морфогенез. «Логос», 2002 (русс, перевод, вероятно, сделан по первому
французскому изданию-1972).
14 Т. Постои, И. Стюарт. Теория катастроф и ее приложения.
Москва, «Мир», 1980. С. 113-116.
15 Ср., например: «...движения живого организма могут быть
рассматриваемы как морфологические объекты». (НА. Бернштейн.
Физиология движений и активность. Москва, «Наука», 1990. С. 339-340).
А это значит, что само движение принадлежит организму в качестве
его живого «органа», наряду с любым анатомическим.) Каждое
движение синтетично и целостно, синергетическая составляющая
каждого движение создает эффект плавности и утонченный
ритмический рисунок при крайне богатой деталями биодинамической ткани,
которая словно аура окутывает каждое тело в его живом движении.
Н. Бернштейн использует еще образ «колышащейся на ветру
паутины». (Там же. С. 289.)
16 К. Малевич. Собрание сочинений в пяти томах. Том 1. Статьи,
манифесты, теоретические сочинения и другие работы. 1913-1929.
Москва, «Гилея», 1995. С. 262.
'* Там же. С. 174.
18 Там же. С. 255.
■9 Там же. С. 220.
ао Ср.: «Мы говорим: наш прекрасный мир стал еще прекраснее
- теперь в нем есть скорость. Под багажником гоночного
автомобиля змеятся выхлопные трубы и изрыгают огонь. Его рев похож на
пулеметную очередь, и по красоте с ним не сравнится никакая Ника
Самофракийская». (Ф. Маринетти. Первый манифест футуризма. -
Называть вещи своим именами. «Прогресс», Москва, 1986. С. 160.)
21 ЛеКорбюзье. Архитектура XX века. Москва, «Прогресс», 1970.
С. 219.
22 Там же.
23 F. Leger. Fonctions de la peinture. Editions Gonthier, 1965, p. 53.
Большой раздел книги Леже «Функции живописи», посвященный
388
Примечания
эстетике машины. «Машина костюмируется и становится
спектаклем...» (ibid., р. 56.)
24 Ле Корбюзье. Архитектура XX века. Москва, «Прогресс», 1970.
С. 204.
2* Там же. С. 250.
26 Надо сказать, что идеи Корбюзье постоянно оспаривались и
подвергались весьма жесткой критике. Некоторые влиятельные
ученые видели в них проявление чрезмерного упрощения и
механизации жизни. Например, П. Франкастель выразил свое отношения в
крайне резкой форме: «В универсуме Корбюзье есть что-то от
концентрационного лагеря. В лучшем случае, от гетто. Позвольте мне
обратить внимание на то, что я не пытаюсь превратить Корбюзье
в пропагандиста режима Петена или Гитлера, людей, чьи руки
запачканы кровью и насилием...»./.../ Корбюзье, по его мнению,
видел в домах, построенных по типу пчелиного улья ключ к
человеческому счастью. Каждая квартира как «сота» или «камера», одно
число их образует жилище, другое - учреждение, или место труда; их
общее единство обитания - город в целом, города же в свою очередь
составляют Универсум. Машины авангарда возвращают нас к
утопиям эпохи Просвещения. (Р. Francastel. Art 8с Technology in the
Nineteenth and Twentieth Centuries. Zone books-New York, 2000, p. 52)
27 О. Брик. Чего не видит глаз - «Сов.кино». 1926, №2. С. 23. (цит. по:
А.Н. Лаврентьев. Ракурсы Родченко. «Искусство», Москва, 1992. С. 62.)
88 Антиутопии - это политическая сатира-фантастика, где автор
вполне осознанно развенчивает некие иллюзии в отношении
«технически прекрасного» будущего. Сочинения Платонова не
подпадают под эту основную характеристику, у него нет «реального»
будущего, а есть апокалипсическое, интенсивно переживаемое
ожидание Конца и Начала нового Мира (но не само будущее). Антиутопия
его вневременна и аисторична.
29 СМ. Эйзенштейн. Избранные произведения в шести томах. Том
3. Москва, «Искусство», 1964. С. 84.
з° С. Эйзенштейн. ИП. Том 2, М., 1964. С. 270.
31 Ср.: «...центральный номер (цирковой) программы,
отличающийся элементами новизны, трюковой насыщенностью, высоким
исполнительским мастерством и зрелищной эффектностью». (Цирк.
Маленькая энциклопедия. Москва, «Советская энциклопедия», 1973.
С. 45.)
38 О метафоре «странного аттрактора»: И. Пригожий, И. Стенгерс.
Время, хаос, квант. Москва, «Прогресс», 1994. С. 74-95. Дж. Глейк.
Хаос. Создание новой науки. Санкт-Петербург, «Амфора». С. 187-191.
389
Евнух души. «Революционные машины» и литература А. Платонова
33 В авангардной эстетике В. Мейерхольда и С. Эйзенштейна
аттракцион определяется как машина, но не техническая, а
театральная, т.е. подчиненная сценическим задачам. Аттракцион - это
машина, но действующая исключительно на основе нарушении
принципа экономии и пользы (тут нет следов ни рекурсии, ни повторов,
ни устойчивого результата), Главное - эффект, полученный от ее
применения.
34 Р. Руссель. Locus Solus. Киев, Ника-Центр, 2000. С. 51.
35 Там же. С. 175. Поражает это странное родство абсолютно
чужих друг другу писателей - Федорова и Русселя, как будто помимо
обычного чисто трагедийного родства, существует и такое -
комическое.
36 Машинофилия Русселя - «отпор» Прусту и Федорову. Великая
машина воскресения - мечта Федорова - должна победить смерть,
пока же он довольствуется наблюдениями за кладбищем,
библиотекой, музеем, архивами и т.п. В то время как Руссель трудится над
созданием первых литературных микромашин воскресения, не скрывая
от читателя чудесной смехотворности всего предприятия: смерть
опровергается смехом., - вот так воскресают...
37 M. Duchamp. Duchamp du signe. Ecrits. Flammarion, Paris, p. 181.
38 ibid. p. 59. См. также: R. Penrose. Man Ray. Thames and Hudson,
London, 1989; P. Francastel. Art & Technology in the Nineteenth and
Twentieth Centuries. Zone books-New York, 2000; Wunschmaschine-Welter-
findung. Eine Geschichte der technikvisionen seit dem 18. Jahrhundert.
Springer Wien NewYork, 1996.
39 Ср. «Если Дюшан и зачарован машиной, отводя ей столь
значительное место в своем существовании, причиной тому является
ее полная прозрачность для понимания: ее всегда можно разобрать.
Отсюда и мысль о переносе в механико-морфную плоскость
сложнейших феноменов жизни. Отображая эти жизненные аспекты в
виде живого механизма, машина становится средством
верификации и идентификации, способом разъяснения». (Ф. Сере.
Тоталитаризм и авангард. Москва, «Прогресс-Традиция», 2004. С. 233.)
4° F. GuattarL L'incoscient machinique. Essais de schizo-analyse. Paris,
«Recherches», 1979.
41 Машинизм Делеза-Гваттари имеет свою историю, которая
ведет нас к сюрреальной практике письма. Прежде всего, к
постановке вопроса о сюрреальное™, создаваемой так называемым
«автоматическим письмом» (écriture automatique). Шизо-машинизм
пересекается с сюр-машинизмом. Еще более любопытно то, что когда мы
начинаем разбирать сюрреалистическую концепцию машины у Дю-
390
Примечания
шана, то мы можем легко заметить насколько, она связана с
проблемой автоматического письма. Ведь что значит владеть
автоматическим письмом? Это, вероятно, значит, что надо, или писать так, как
если бы никакой контроль над самим актом письма со стороны
пишущего был бы невозможен, стать скрипто-сомнамбулой. А раз такой
контроль отсутствует, то письмо переходит в автоматический
режим, или оно пишется, т.е. пишет само себя. Теперь возьмем
изобретательство Дюшана, он изобретает свои машины не как машины,
а как определенные самопишущие устройства, как род
кинематической графики бессознательного. Это самозапись машинок
бессознательного. Представим себе, что в нашем бессознательном были бы
такие малые машины, которые подсматривали сновидения и
записывали их в избирательной графике. Так, что просыпаясь, мы не
должны сожалеть о потере сновидения, оно вот, - перед нами.
Естественно, что подобные машинные записи остаются отображениями
самого акта сновидного письма. То, что изобретает Дюшан - это
скорее автоматы письма, нежели машины как таковые. А
машина-автомат, машина сомнамбула, машина-симулякр - нечто иное, чем
машина, которая ничто не симулирует, а производит определенные
действия, объекты или связи.
42 Следует обратить внимание на гегелевские аспекты
проблематики «желания/вожделения». Ведь само понятие желания пришло
в современную философию скорее от Гегеля, чем от Фрейда (через
А. Кожева к Сартру и Лакану, далее - везде). Во всяком случае, в
гегелевской системе мысли желание всегда определялось через
негативность, - отрицание объекта желания и было его присвоением.
43 Ср.: «Вообще говоря, все творчество Жарри, постоянно
взывающее к науке и технике, заселено машинами и находится под
знаком Велосипеда: в самом деле, последний - не просто машина. Но
простейшая модель Машины, соответствующей духу времени
Машины. Велосипед превращает Страсть как христианскую метафизику
смерти Бога в высшей степени техническую многоэтапную гонку.
Велосипед с его цепью и скоростями - это квинтэссенция техники:
он охватывает и подхватывает. Совершает великий Поворот земли.
Велосипед - это рама, наподобие «четверицы» у Хайдеггера». (Ж Де-
лез. Критика и клиника. С.-Петербург, Machina, 2002, С. 127; A.Jarry.
Oeuvres. Paris, Editions Robert Laffont, 2004, p. 542-548. A. Жарри. Убю
король и другие произведения. Б.С.Г.-ПРЕСС, Москва. 2002. С. 392-
411). Почти тоже положение занимает велосипед в романах С. Бек-
кета, где он обозначает одновременно и распад картезианской
схемы и ее неожиданное восстановление. Потеря велосипеда ведет к
391
Евнух души. «Революционные машины» и литература А. Платонова
утрате ориентации в мире и прежде всего способности к
автономному передвижению, к к той странной картезианской свободе от
тела. Велосипедист еще сохраняет черты картезианского кентавра:
душа + тело (машина). Главные персонажи Мерфи, Мелон, Моллой
и др. расщеплены по кентаврической модели. Велосипед - это самое
интимное состояние машинизации человеческого. ( С. Беккет.
Трилогия. Моллой. Мэлон умирает. Безымяннный. Издательство
Чернышева, Санкт-Петербург, 1994, С. 14, 19, 24-25, 33, 44, 48, 54).
Культ велосипеда притягивает лучшие европейские умы: «...наше
бренное тело можно уподобить велосипеду, а наше индивидуальное,
непостижимое "я" - его седоку. Понимая, что Вселенная - тоже, по
сути, несущийся на полной скорости велосипед, мы подумываем и
о том, что у нее, должно быть, тоже есть свой седок/.../ В седле у
каждого из нас есть свой седок - наша собственная душа. Но вся беда
в том, что у большинства из нас этот седок не умеет толком ни
рулить, ни крутить педали, так что человечество в целом подобно
огромной команде безумных велосипедистов, и, чтобы никто из нас не
упал, мы видим лишь один выход: рулить, прижимаясь плечом к
плечу, держаться сплошной, плотной массой, где каждый поддерживает
каждого и все поддерживают всех. О небо, какой кошмар!» (Д.Г. Лоу-
ренс. Психоанализ и бессознательное. Порнография и
непристойность Москва, «Эксмо», 2003. С. 257-258).
44 Ж. Делез, Ф. Гваттари. Анти-Эдип. Капитализм и шизофрения.
У-Фактория, Екатеринбург, 2007. С. 450.
45 Ср.: «Вот желающие машины - с их тремя деталями: рабочими
деталями, неподвижным двигателем, прилагающейся деталью, их
тремя энергиями - Libido, Numen и Voluptas - и их тремя синтезами -
коннективными синтезами частичных объектов и потоков,
дизъюнктивными синтезами интенсивностей и становлений. Шизоаналитик
- это не интерпретатор, еще в меньшей степени - постановщик, это
механик, микро-механик». (Ж.Делез, Ф.Гваттари. Анти-Эдип.
Капитализм и шизофрения. С. 531-532. - См. также разработки
машинного бессознательного у Ф. Гваттари: F. Guattan. Cartographies schizo-
analytiques. Editions Galilee, Paris, 1989; F. Guattan. Chaosmose. Galilee,
Paris, 1992.)
46 П. Флоренский. Сочинения в четырех томах. Том 3(1). Москва,
«Мысль», 1999. С. 402.
47 А.Л. Чижевский. Космический Пульс жизни. Земля в объятьях
солнца. Гелиотараксия. Москва, «Мысль», 1995.
48 Крайне интересный опыт мы наблюдаем в исследованиях Б. Бет-
тельхейма. Особенно показателен в этом отношении описанный им
392
Примечания
случай аутизма: маленький мальчик по имени Джой страдает полной
потерей коммуникации с внешним миром. В развитии его патологии
определяющую роль играет отношение к машине (и шире,
электрическим устройствам). Он способен выживать, не испытывая жуткий
страх перед жизнью, только, если он сможет поменять свое
реальное, физическое тело - крайне ненадежное, болезненное, слишком
хрупкое для существования - электро-механическое: «...
единственно к чему он стремился - это стать неподвижным, бесчувственным
и машиноподобным существом». (Б. Беттелъхейм. Пустая крепость.
Детский аутизм и рождение Я. Москва, Академический проект,
Традиция, 2004. С. 463.) Отчуждение от собственного тела в пользу
механического, которое представляется более надежным, позволяющим
избежать многих угроз: «... машины не чувствуют, а следовательно,
им нельзя причинить боль, а также что их можно выключить по
собственному желанию»». (Там же. С. 448.). Нескончаемая череда
странных схем и рисунков, по которым мы узнаем о том, что с ним сейчас
происходит, и чего в настоящий момент он больше всего опасается.
Отказываясь от уязвимого и слишком беззащитного тела, мальчик-
аутист отказывается и от близости с самим собой. Его машины
утверждают границу раздела. Теперь тело приобретает автономный
набор качеств, независимых от реального опыта «преследующих»
переживаний. Чтобы со мной ни происходило, я точно знаю, что
мое тело «в порядке», что оно существует для меня как последнее
убежище, там я всегда защищен. А что если этой защиты больше нет?
49 С. дю Паскье. Гэги Бестера Китона. - Строение фильма.
Некоторые проблемы анализа произведений экрана. Сб. статей. Москва,
«Радуга», 1985, С. 190.
5° Ср.: «Такое обстояние дел, пожалуй, нигде не выступает столь
отчетливо, как там, где фильм затрагивает будто прямо
противоположную тему, а именно, тему подчиненности человека этому
пространству. Так наше время породило особый гротеск, комичность
которого состоит в том, что человек оказывается игрушкой технических
объектов. Высокие здания построены для того, чтобы с них падать,
смысл дорожного движения состоит в том, чтобы человек попадал
под колеса, а моторов - в том, чтобы он взрывался вместе с ними.
Этот комизм реализуется за счет индивида, который не знает
основополагающих правил пространства, организованного с высокой
точностью, и не владеет жестами, которые естественно вытекают
из этих правил; контраст же, в котором этот комизм выражается,
состоит как раз в том, что эти правила совершенно очевидны для
зрителя. Стало быть, над индивидом здесь потешается именно тип».
393
Евнух души. «Революционные машины» и литература А. Платонова
(Э. Юнгер. Рабочий. Господство и гештальт. Санкт-Петербург,
«Наука», 2000. С. 207.)
51 А. Бергсон. Смех. Москва, «Искусство», 1992, С. 14-15.
52 СМ. Эйзенштейн. Метод. Том второй. Тайны Мастеров. Музей
кино, Эйзенштейн-Центр, Москва, 2002,. С. 262.
53 Там же. С. 268-282.
54 Там же. С. 285.
55 По завершению времени действия утопии «новой жизни», а
это где-то от начала до середины 20-х годов, мы находим ряд
фантастических романов А. Платонова: «Счастливая Москва»,
«Технический роман», «Чевенгур», «Ювенильноеморе», «Котлован»
(написанных приблизительно в одно время, это середина и конец 20-х годов),
привычно относимых к жанру антиутопии (наряду с «Мы» Е.
Замятина, «Аэлитой» А. Толстого, «Дивным, чудным миром» О. Хаксли).
О чем эти романы? О великих технических изобретениях, на
пороге открытия которых стоит человечество, или о том будущем,
которое наступило, ничего не изменив, оказавшись Великой социальной
катастрофой, которую никому не удастся пережить без потерь?
Постреволюционная энергия накапливается и готовится вступить на путь
последней траты. Почти каждый роман Платонова описывает не-
восполнимость утраченной энергии жизни. Вот почему кажется, что
именно машина должна намного лучше справиться с сохранением
и распределением энергии, которую человек впустую, теряет в
войнах, преступлениях, борьбе против Природы.
56 А. Платонов. Собрание сочинений. Том 2. («Чевенгур»),
Москва, «Информпечать», 1998, С. 77.
57 Там же. («Впрок. Бедняцкая хроника»). С. 398-399.
s8 Там же. С. 248.
59 Ср.: «Если мы в дальнейшем называем путника как самого
себя («я»), то это - для краткости речи, а не признания, что безвольное
созерцание важнее напряжения и борьбы. Наоборот, в наше время
бредущий созерцатель - это, самое меньшее, полугад, поскольку он
непрямой участник дела, создающего коммунизм. И далее - даже
настоящим созерцателем, видящим истинные вещи, в наше время быть
нельзя, находясь вне труда и строя пролетариата, ибо ценное
наблюдение может произойти только из чувства кровной работы по
устройству социализма» ». (Там же. С. 79.)
60 Андрей Платонов. Сочинения. Том первый. Книга первая 1918-
1927. М.,ИМЛИ РАН, 2004. С. 163-164.
61 А. Платонов. Собрание сочинений. Том 1. Москва,
«Информпечать», 1998. С. 202.
394
Примечания
62 А. Платонов. Сочинения. Том 3. Книга первая. С. 164.
63 Например, сюрреалистический опыт художника Рене Магрит-
та состоял как раз в частом использовании эффекта бистабильности
восприятия.
64 Д. Вертов. Из наследия. Том 2. Статьи и выступления. Москва,
«Эйзенштейн-центр», 2008. С. 38.
65 В 20-х годах Вертов теоретически обосновал применение трэ-
веллингов, ракурсов «сверху вниз» и «снизу вверх (вместе с Родченко),
всевозможных убыстрений и задержек, даже наплыв «субъективной
камеры». Вот здесь резкое отличие установок: для Дз. Вертова все
оказывается видимым в движении кино-ока, причем, убыстренном
форсированном: скорость позволяет быть всюду, в самой «гуще
жизни»: опережать событие, открывать его, творить. Напротив, у
Платонова нет радости движения, тем более сверхбыстрого,
описываемый им мир потерял вкус к ритму и скорости; всегда пешее,
остановленное, упавшее и лежащее тело, усталое, пораженное скукой
мира («скукота бычачья»), словно проказой.
66 Ср.: «Материалом — элементами искусства движения —
являются интервалы переходы от одного движения к другому), а отнюдь
не самые движения. Они-то (интервалы) и влекут действие к
кинетическому разрешению.
Организация движения есть организация его элементов, то есть
интервалов во фразы. В каждой фразе есть подъем, достижение и
падение движения (выявленные в той или другой степени).
Произведение строится из фраз так же, как фраза из интервалов
движения». (Д. Вертов. Из наследия. Том 2. Статьи и выступления.
С. 16-17).
6? Там же. С. 143.
68 А. Платонов. Собрание сочинений. Том 1. («Потомки Солнца»).
С. 140.
<* Там же. С. 142
7° Начиная с Ж.-П. Сартра и Л. Бинсвангера термин шизо-субъект,
шизоид и даже шизофреник употребляются и в экзистенциально-
феноменологическом смысле, не только клинически. Некогда
исследованный Р.Д. Леингом феномен расщепленности в шизофрении в
терминах воплощенного/невоплощенного, embodied/unembodied.
Образ проницаемого, разрываемого, дырчатого тела относится к
самосознанию шизо-субъекта: «Подобные осколки других,
по-видимому внедряются в поведение индивидуума, как куски шрапнели - в
тело. Устанавливая явно удачные и гладкие взаимоотношения с
внешним миром, индивидуум вечно перебирает эти инородные обломки,
395
Евнух души. «Революционные машины» и литература А. Платонова
которые (как он это переживает) необъяснимым образом
вытеснены из него. Такие поведенческие осколки очень часто наполняют
субъекта отвращением и ужасом.../.../ Такой небольшой «интрое-
цированный» осколок действия или его частицу нельзя атаковать
без насилия над собственным бытием субъекта./.../Если все
поведение индивидуума начинает принудительно отчуждаться от тайного
«я» так, что полностью отдается принудительной мимикрии,
олицетворению, пародированию и подобным временным инородным
организациям поведения, то оно может попытаться лишить себя всего
своего поведения. Такова одна из форм кататонического ухода.
Происходит так, как будто человек пытается вылечить общее заражение
кожи, сбрасывая собственную кожу. Поскольку это невозможно,
шизофреник может взять и сорвать, если можно так выразиться, свою
поведенческую кожу». (Р. Леинг. Расколотое «я». С. 108. См.: KD. La-
ing. The Divided Self. An Existential Study in Sanity and Madness. Pen-
gium Books, 1986, p. 65.)
71 А. Платонов. Собрание сочинений. Том 2. («Чевенгур»). С. 79.
78 Там же. С. 114. Конечно, платоновский язык не был
единственным. Не менее оригинальными и провокативными литературными
стилями владели и другие писатели: А. Белый, А. Ремизов, Е.
Замятин, И. Бабель, М.Булгаков, М. Зощенко, И. Ильф и Е. Петров, Артем
Веселый.
7» Там же. С. 295.
74 А. Платонов. Собрание. Счастливая Москва. Очерки и
рассказы 1930-х годов. Москва, «Время», 2010. С. 58.
Расщепление здесь дается как норма для авангардного
революционного сознания. Техника остраннения переходит на иной уровень.
Если у Белого она была под контролем, была избранной формой
миметической реактивности, даже игрой, то для Платонова нет
ничего, кроме этого угнетенного расщеплением сознания.
75 А. Платонов. Собрание сочинений. Том 2. («Чевенгур»). С. 122.
76 Там же. С. 515.
77 Там же. («Ювенильное море»). С. 471.
78 Там же («Чевенгур»). С. 173.
те Там же. С. 174.
80 Там же. С. 122.
81 Там же. С. 111.
82 Там же. С. 138.
83 Революционная эпоха стремится все переназвать. Даже в том
случае, если революционный диалект крестьянского сословия
соответствует правде языкового факта, то для литературы времени рево-
396
Примечания
люции такого языка не должно существовать; творится новый язык,
он ниоткуда не заимствуется. Велемир Хлебников делает попытку
разработать универсальный, «космический» язык Революции,
создать самую настоящую лингвистическую машину по производству
новых смыслов.
84 Язык Платонова событиен, не всякий литературный язык
способен на это. Одни языки являются языками информационными,
то есть просто сообщают о том, что происходило, например, в годы
сталинских чисток. Другие окрашены жизненной историей их
авторов, теми страданиями, которые им пришлось пережить
(воспоминания, дневники, документальная проза). Среди исторических
исследований есть и совершенно уникальные произведения, такие, как
«Архипелаг Гулаг» Солженицына, сочетающие два языковых слоя
(биографический и исторически-документальный) на основе
единого обличающего языка, своего рода метаязыка. Нечто подобное
можно найти у А.Зиновьева:, правда, с более сильным акцентом на
обличение «советской системы», его романы становятся социологи-
ческо-сатирическо-логическими исследованиями. В любом случае,
метаязык- это вневременная интерпретация события, для которого
не найти адекватного языка; или автор просто не нуждается в нем,
или, напротив, думает, что такой язык невозможен. Метаязыком
распоряжаются с высоты времени того, кто независим от события, кто
выжил, кто победил. Можно сказать, что «романы-истории»
Солженицына и Зиновьева, и даже проникновенно достоверные рассказы
Шаламова избирают свой литературный метаязык для того, чтобы
не столько сообщить о событии, сколько побудить нас довериться
автору, находящегося разом и вне и внутри событий (и поэтому
способного о них рассказать.
85 Ср.: «Нетрудно ведь видеть, что раз мы в нашем социально-
политическом быту пользуемся потерявшими свой смысл и свое
собственное назначение лозунгами и выражениями, то уродливым,
ничего не значащим становится и наше мышление. Можно мыслить
образами, можно мыслить терминами, но можно ли мыслить
словарными штампами, которые, несмотря на то, что клише,
продолжают претендовать на выразительность и впечатляющую силу? Такое
мышление в сущности может быть только «бессмысленным».
Принимая закрепленный речевой оборот, лингвистическую формулу за
живой лозунг, мы простое название мысли принимаем за ее
содержание. Употребляя то или иное традиционное выражение, пользуясь
окаменелой фразеологией и продолжая усматривать в них
стилистическое назначение воздействия — мы перестаем понимать то,
397
Евнух души. «Революционные машины» и литература А. Платонова
что говорим. Мы не знаем, что значит в действительности
«наступление капитала», когда мы употребляем это выражение в сотый,
тысячный раз.,». (Г.О. Винокур. Культура языка. Москва, «Лабиринт»,
2006. С. 121.)
86 Прекрасный пример трансформации французского языка в
период Великой французской революции( 1789-1793): «Они писали
и говорили, не заботясь о традициях, и вышли из узкого круга,
который сковывал изящную речь: невольно, и сами того не подозревая,
они в самое короткое время разрушили творение отеля Рамбулье и
эпохи Людовика XTV. Без всякого стеснения они пользовались
простонародными словами и оборотами, ежедневное употребление
которых убеждало в их силе и полезности, и не подозревали, что они
были изгнаны из салонов и двора; они привезли провинциализмы
со своей родины. Они употребляли свои профессиональные и
торговые выражения, создавали слова, которых им не хватало, и меняли
смысл тех, которые им не подходили. Революция воистину была
творцом в области языка, так же как в области политического устройства».
(П. Лафарг. Язык и революция. Французский язык до и после
революции. Очерки происхождения современной буржуазии. Москва-
Ленинград, «Academia», 1930, С. 73-74).
87 Язык Платонова в чем-то похож на арготический (т.е.
непереводимый на нормативный язык). Это язык смешанный, где
сосуществуют язык космократический, революционный и обыденная речь
тогдашней крестьянской массы; прибавить сюда влияние
городского говора и литературных образцов. «Мне кажется более
правильным представление об арго как о двуязычии, при котором
арготический ряд принимается за основной и исходный; а второй
языковой ряд надо пока считать искомым (а не утверждать, что им может
быть только литературный язык) и, во всяком случае,
второстепенным». (Б.А. Ларин. История русского языка и общее языкознание.
Избранные работы. Москва, «Просвещение», 1977, С. 185). Вот это
перевертывание языка, тектоническое смещение нижних языковых
слоев на место верхних отражает развитие социальных идей
революции. Болыпевистско-коммунистический бытовой жаргон становится
единственным языком, подрывающим традиционные
общекультурные нормы литературного языка. Кстати, в языковой войне с
прежней «буржуазной» конструкцией мира принимали посильное участие
почти все ведущие писатели того времени (М. Зощенко, И. Бабель,
Б. Пильняк, Ильф и Петров, Е. Замятин). Но, пожалуй, только
Платонов придал этой языковой войне столь беспощадный поэтический
смысл. По сути дела он создал литературный идеолект, отразивший
398
Примечания
опыт революционного самосознания масс. Революционные лозунги,
вторгшиеся в доязыковую стихию народных говоров, создали особое
лингвистическое сознание - космократическое. Приказ,
приходящий в массу из революционного центра силы, называет заново мир,
т.е. тут же его перестраивает, и иначе быть не может. Читая
Платонова, мы словно присутствуем при революционной перестройке
обыденного («буржуйского») языка. Этот новый язык-палач проник
повсюду и стал всем: вещами, людьми, снарядами, оружием, болью
и страданием; он настолько нов, как может быть нов язык
библейского Адама, впервые нарекающий мир.
88 А. Платонов. Сочинения. Том первый. 1918-1927. Книга
первая. Рассказы. Стихотворения. Москва, ИМЛИ РАН, 2004. С. 77.
Понятно, что эти фразы-плакаты (инструкции, требования,
объявления и т.п.) получают эффект перформативности за счет их
введения в рамки. Иногда кажется, что Платонову не достает
аудио-визуальных средств и он провоцирует их приход вот такими рамочными
фразами, характерными для коммуникации в тогдашней городской
среде. Как это напоминает надписи в немом кинематографе 20-х
годов, они словно часть реальности, введенной в текст на правах
«подлинной», той, которая уже есть, ей не надо больше бороться с
двусмысленностью речи, она отделена от нее. В литературе о Платонове
замечено влияние монтажной техники кинематографа на его прозу
(«Антисексус»). На мой взгляд, больше всего повлиял не монтаж, а
способ подачи шрифтового текста (надписи), когда в наплыве или
после заметной паузы появляется текст-рамка (крупный план),
словно рождаясь из абсолютной пустоты, - единственное, что осталось
от события, и что нельзя ни отрицать, ни стереть. Евнух души - явный
поклонник кино, он наблюдает за появлением шрифтов, - только
он отвечает за размещение их смысла в пустоте бесконечных степных
ландшафтов. Я хочу сказать, что смысловое расстояние между
отдельными фразами у Платонова значительно больше, чем то, которое
мы видим в типографике печатного текста: фразы даны в разноходе,
они не примыкают и не сливаются, они способны быть одни.
Если воспользоваться языком фреймов, то платоновские
фразы-плакаты несут в себе некоторое постоянство сложившихся в советское
время поведенческих норм, масок, ожиданий. Больше всего этих фраз-
рамок, иначе, фреймов мы находим в «Эпифанских шлюзах»,
«Городе Градове», «Записках потомков», «Из генерального сочинения»,
и, они, конечно, по-разному используются. Так в «Эпифанских
шлюзах» они - рубежи трагедии английского инженера-строителя
Бертрана Перри, прибывшего в Россию строить судоходный канал на
399
Евнух души. «Революционные машины» и литература А. Платонова
реке Дон. Сначала он получает пакет с надписью: от царя Петра
Первого с назначением на должность; затем в середине повести
помещается рамка, в ней - заголовок бульварного английского романа,
который Перри читает на ночь; и наконец, уже после его жестокой
казни на его имя приходит пакет с надписью, который не решаются
вскрыть, и отсылают на вечное хранение... к паукам. Рамки-фреймы
схватывают и закрепляют в нашем сознании ряд переходных
событий в жизни героя, можно сказать, это решающие кадры его судьбы.
В повести «Город Градов» - центре советско-азиатской бюрократии
- рамки-фразы, наглядно представляют творчество бюрократа по
имени Шмаков, изобретатель вывесок, уведомлений, инструкций,
предписаний и главное, законов, на основании которых можно
перейти к «советизации всей вселенной». (См.: И. Гофман, Анализ
фреймов. Эссе об организации повседневного опыта. Москва, Институт
социологии РАН, институт Фонда «Общественное мнение», Москва,
2004, С. 81-98.)
89 Вот как, например, выглядит активист-бюрократ, страстно
желающий принять директиву: «Активист наклонился к своим бумагам,
прощупывая тщательными глазами все точные тезисы и задания; он
с жадностью собственности, без памяти о домашнем счастье строил
необходимое будущее, готовя для себя в нем вечность, и потому он
сейчас запустел, опух от забот и оброс редкими волосами. Лампа
горела перед его подозрительным взглядом, умственно и фактически
наблюдающим кулацкую сволочь.
Всю ночь сидел активист при непогашенной лампе, слушая, не
скачет ли по темной дороге верховой из района, чтобы спустить
директиву на село. Каждую новую директиву он читал с любопытством
будущего наслаждения, точно подглядывал в страстные тайны
взрослых, центральных людей. Редко проходила ночь, чтобы не
появлялась директива, и до утра изучает ее активист, накапливая к
рассвету энтузиазм несокрушимого действия. И только изредка он словно
замирал на мгновение от тоски жизни - тогда он жалобно глядел на
любого человека, находящегося перед его взором; это он чувствовал
воспоминание, что он - головотяп и упущенец, - так его называли
иногда в бумагах из района. "Не пойти ли мне в массу, не забыться
ли в общей, руководимой жизни?" - решал активист про себя в те
минуты, но быстро опоминался, потому что не хотел быть членом
общего сиротства и боялся долгого томления по социализму, пока
каждый пастух не очутится среди радости, ибо уже сейчас можно
быть подручным авангарда и немедленно иметь всю пользу
будущего времени. Особенно долго активист рассматривал подписи на бума-
400
Примечания
гах: эти буквы выводила горячая рука округа, а рука есть часть
целого тела, живущего в довольстве славы на глазах преданных,
убежденных масс. Даже слезы показывались на глазах активиста, когда
он любовался четкостью подписей и изображениями земных шаров
на штемпелях; ведь весь земной шар, вся его мякоть скоро
достанется в четкие, железные руки, - неужели он останется без влияния на
всемирное тело земли? И со скупостью обеспеченного счастья
активист гладил свою истощенную нагрузками грудь». (А. Платонов.
Собрание сочинений. Том второй. С. 355.)
90 Ю. Тынянов. Проблема стихотворного языка. Статьи.
Советский писатель, Москва, 1963, С. 210.
91 На мой взгляд, образцом тщательного анализа языка А.
Платонова является исследование М. Михеева. При всей значительности
и ценности выполненной работы одно только изучение языковых
употреблений (частотных) еще не дает выхода к реальному опыту
мимесиса, практикуемого в литературе Платонова. Мы не увидим
организующей силы произведения, если остановимся на
классификации языковых странностей и редкостей платоновского стиля. А
ведь именно она и определяет общее движение языка, все поле его
экспериментации, и саму конструкцию произведения. Лексическое
многообразие, не обладающее логической силой, оказывается в
ловушке стихии словарной семантики, которая не имеет авторства.
(Λί. Михеев. В мир Платонова через его язык. Москва, Издательство
Московского университета, 2003).
92 Э. Юнгер. Рабочий. Господство и гештальт. Санкт-Петербург,
пер. «Наука», 2000, С. 136. И у Элиаса Канетти: «Приказ многим,
следовательно, имеет совершенно особый характер. Цель его -
превратить многих в массу, и, поскольку это удается, он не будит страх.
Призывы ораторов, указывающих путь, выполняют ту же функцию,
их можно трактовать как приказ многим. С точки зрения мгновенно
возникающей и стремящейся сохранить себя массы эти призывы
нужны и необходимы. Искусство оратора состоит в том, чтобы
превратить свои цели в лозунги, подав их так, чтобы способствовать
возникновению и самосохранению массы. Он создает массу и
держит ее живой силой приказа. Если это совершилось, совсем не
важно, чего от нее потребует. Он может беспощадно грозить и
оскорблять собрание одиночек, и они заплатят ему любовью, если таким
способом он сплотит их в массу». (Э. Канетти. Масса и власть.
Москва, 1997, С. 334. пер. Л. Ионина).
93 Вероятно, Канетти был хорошо знаком с творчеством С. Кир-
кегора, который посвятил свои проповеди толкованию смысла биб-
401
Евнух души. «Революционные машины» и литература А. Платонова
лейской фразы: «Жало в плоть» (Общее название цикла проповедей
датского мыслителя). Ибо «жало вплоть» и есть тот Приказ, который
через внутреннюю глоссолалию сознания верующего посылает Бог.
94 Ср., например, у Платонова: «На Северном полюсе горел до
неба столб белого пламени в память электрификации мира.
Маленькие девочки тоже носили имена Электрификации, Искры, Волны,
Энергии, Динамо-машины, Атмосферы, Тайны. А мальчики
назывались Болтами, Электронами, Цилиндрами, Шкивами, Разрядами,
Амперами, Токами, Градусами, Микронами». (А. Платонов.
Сочинения. Том первый. 1918-1927. С. 167-168.)
95 Мы уже подчеркивали культурный смысл миметического
расщепления сознания у Белого (тема остраннения), не забывая об
опыте Гоголя и Достоевского. Здесь же надо вновь указать на гипотезу
Сонди, попытавшегося представить родовое Отцовское тело в
сложной сетевой взаимосвязи биогенетического бессознательного.
Платонов (это, бесспорно, влияние Федорова) настаивает именно на
Отцовском теле, т.е. на первоначальном источнике новой жизни,
без которого сын не может вступить в будущее. Время пересекает
эти пути и возвращает к своему началу, где Отец неотделим от Сына.
Пассивность платоновского шизо-субъекта вызвана воспоминанием
об идеальном единстве «я», преодолевшим старую оппозицию души
и тела. И это единство достигнуто воспоминанием об Отцовском
теле. Тогда смерть - не препятствие, а то, что соединяет: все тела
хотят распасться, чтобы вновь соединиться, но так, чтобы больше
не было смерти. Смерть против смерти - чисто федоровская идея.
96 На первых порах критика Платонова была «чувствительна» к
его стилю и эстетике, была проницательна, но не кровожадна. «Все
эти люди Платонова мертвы. Поэтому полная физическая смерть
не страшит их. Переход от безразличия к небытию. Где тут грань?
Где переход? Единственное различие в том, что окончательное
небытие еще не испытано, неизвестно. Оно таинственно, и поэтому у
изможденного отчаянием и безнадежностью человека может вызвать
даже любопытство, даже влечение. Самоубийство, смерть для
такого человека - последняя надежда на иную, на особенную, на
действительную жизнь. (А. Гурвич. Андрей Платонов. - Андрей Платонов.
Воспоминания современников. Москва, Современный писатель, 1994.
С. 365). А вот как Платонов признает свои «ошибки»: «В моих
произведениях люди движутся таким образом, как будто они
умерщвлены капитализмом. Это все происходило оттого, что как будто
буржуазия накануне революции довела некоторых рабочих до такого
состояния, как будто из них вынуто самое живое - революционное
402
Примечания
сознание. Между тем действительность обратная. Понятно, что,
изображая рабочих как мертвых фигур, движущихся стихийно, я
совершал самое резкое извращение действительности, до какого
только можно додуматься, доработаться». (Там же. С. 296). Платоновское
видение, как мы знаем, и не может быть иным, и сколько бы
оправданий с его стороны не последовало он снова будет видеть мир
только так.
97 Там же. С. 300.
98 Новая газета, №8(531), 1-7 марта 1999 года. Публикация
Тамары Дубинской, Тимура Джалилова. Вот что они сообщают:
«Предлагаемое вниманию читателей письмо И. Сталину одного из самых
талантливых русских писателей Андрея Платонова (1899—1951)
было написано вскоре после публикации его повести "Впрок. Бедняцкая
хроника" в журнале "Красная новь" (1931, №3). По воспоминаниям
современников — В.П. Полонского, В.А. Сутырина, Сталин назвал
повесть "кулацкой, сволочной". Уже в 5—6-м номерах "Красной нови"
"Впрок" резко раскритиковал А. Фадеев в статье "Об одной кулацкой
хронике", которую редколлегия заключила сообщением: "От
редакции: редакция присоединяется к оценке «очерков» Платонова,
данной в статье т. Фадеева, и считает грубой ошибкой напечатание их
в «Красной нови». На пленуме РАПП от 4 июня 1931 года Платонова
объявили «агентом буржуазии и кулачества в литературе" («На
литературном посту», 1931, № 21—22). Множество статей о «крайне
вредной» повести «Впрок» появилось после письма Андрея
Платонова Сталину.
Машинописную копию письма М. Горькому послал И.П. Товстуха,
ближайший помощник Сталина (работал в его секретариате с
декабря 1921 года). Копия хранилась в Архиве Президента Российской
Федерации, в начале 1990-х годов передана в Архив А.М. Горького
Института мировой литературы им. А.М. Горького РАН. Печатается
по этому экземпляру (ПТЛ 12-113-1)».
99 Письма вождю писали многие, например: С. Эйзенштейн, М.
Булгаков, М. Зощенко, И. Эренбург, К. Чуковский, Е. Замятин и мн.
другие. Писали по-разному, но подчас единственно с одной целью:
оправдаться, постараться спасти свое творчество и свою семью.
100 Один из ближайших учеников Бахтина, замечательный
филолог В.Н.Турбин выдвинул неожиданную гипотезу, которую потом во
многих своих постперестроечных работах он пытался развить
более детально. Тоталитарная власть в лице Сталина искала Большой
стиль (не литературный, а стиль, определяющий внутреннюю
эстетику политического режима). Как должна власть говорить/писать,
403
Евнух души. «Революционные машины» и литература А. Платонова
чтобы быть понятной и величественно эпически, но предельно
простой. И такой стиль нашелся у ...Зощенко. Вот что пишет Турбин в
одной из своих статей: «На каких-то этапах Сталин и Зощенко, не
сам М.М. Зощенко, а его монотонно красноречивый рассказчик —
сходятся тесно-тесно, составляя, наконец, содружество, к коему
извечно стремилась наша словесность; причем Зощенко вовсе не был
персональным пародистом "отца народов". Его стиль — это стиль-
обобщение. Он вбирает в себя опыт и плаката, и однообразно
барабанящих по мозгам газетных передовиц, и сообщений телеграфных
агентств, и словесных потоков, извергающихся из
радиорепродукторов, а далее и учебников, и научных исследований-диссертаций,
и многотомных историй чего-нибудь». Выходит, что Сталин в
поисках большого стиля невольно стал подражателем Зощенко. И здесь
нет ничего парадоксального. Ведь писатель Зощенко не имитирует
сталинский говор (приемы речи), он скорее воспринимает
тоталитарный дискурс как единое лексически-грамматическое и стилевое
целое. Поэт диктует тирану, как говорить, тиран - его языковая тень:
«Тень влачилась за подлинником, причем отношения
покровительствующего и опекаемого оказались даже как бы и перевернутыми:
меценат до какой-то поры по традиции поддерживал поэта: Зощенко
и орденом однажды пожаловали (= бриллиантовый перстень?). Но
пиит решительно перехватывал инициативу, исподволь диктуя
своему повелителю манеру выражаться и мыслить. Эту манеру он и
доводил до логического ее завершения, показывая конечные фазы ее
развития: рассказчик у Зощенко — носитель мышления, к всеобщему
насаждению которого дело, казалось бы, шло. Он — вестник,
пришелец из каких-то последних, апокалипсических времен...». (В.Н.
Турбин. Зощенко и его тень «Литературная Россия», 4 ноября 1988
года, №44. С. 17.)
101 Ср.: «Система взаимно движущихся зеркал, отражающих
пустоту одно другого, - страшный объективный механизм
взаимопроникновенности до дна пустоты». (А. Платонов. Записные книжки.
Материалы к биографии. ИМЛИ РАН, «Наследие», 2000. С. 241.).
Там же. С. 239.
103 А. Платонов. Собрание сочинений. Том 2 («Чевенгур»). С. 209.
ш4 Там же. С. 244.
lo* Там же. С. 59.
106 Там же. С. 73.
•°7 Там же. («Котлован»). С. 327.
108 Там же. С. 308.
109 Там же («Чевенгур»). С. 148.
404
Примечания
110 Там же («Ювенильное море»). С. 466.
111 Там же («Чевенгур»). С. 247.
11а А. Платонов. Собрание сочинений. Том 1. Стихотворения.
Рассказы и повести 1918-1930. Очерки. С. 142.
1 '3 Для Хайдеггера пространство - это способ быть, т.е.
обживаться, окружать себя вещами, делает пространство заполненным.
Пустое содержательно, оно стремится к заполнению, его функция
дифференцировать то, что заполняется, но отнюдь не господствовать.
Именно такое пространство может считаться родственным нам как
живым существам, соответствующей нашей мерности, нашему
присутствию в мире. Пространство, что простирается, выходит в простор,
открывая каждую вещь в том многообразии качеств, без которых не
может быть человеческого становления. Нет пустых мест, но есть
места незаполненные, резервные. «Пустота не ничто. Она также и
не отсутствие. В скульптурном воплощении пустота вступает в игру
как ищуще-выбрасывающее допускание, создание мест». Вещь -
нечто большее, чем все то, что пытается ее упразднить: она допускает
нас к качеству жизни. Именно свойства вещи, если она сохранена,
выпестована, наделяют пространством бытие сущего. Размышления
Хайдеггера о так называемой пустоте чаши, которая на самом деле
не является пустотой в том именно научно-техническом смысле,
который отчасти используется Платоновым. Дело не в физической
пустоте чаши, ибо ее самое главное качество - это заполненность,
даже если она действительно пуста, то и тогда остается заполненной,
ибо чаша - не предмет, состоящий из обработанной глины, а по
конструкции, из стенок, дна, и пустого пространства меж ними, а нечто
намного большее, она завершенная в себе вещь, включенная в
бытийную среду в качестве необходимой живой формы. (М. Хайдеггер.
Время и бытие. Москва, «Республика», 1993, С. 315-326.)
"« Там же. С. 252.
115 На днях прочел заметку из газеты: « "Найден настоящий труп
Розы Люксембург". В берлинской клинике "Шарите" был обнаружен
труп Розы Люксембург. Об этом в пятницу сообщает журнал Der
Spiegel со ссылкой на главу отделения судебной медицины клиники
Михаэля Тсокоса. Он сомневался, что на кладбище в Берлине захоронены
настоящие останки революционерки, убитой в 1919 году. У
обнаруженного тела ноги оказались разной длины, а именно такая особенность
была у Люксембург. При этом в отчете о вскрытии тела,
выловленного из канала, в котором утопили Люксембург, и потом захороненного,
разная длина ног не упоминается. (Московский комсомолец. № 116
от 1 июня 2009 года. Перепечатка из немецкого журнала «Шпигель»).
405
Евнух души. «Революционные машины» и литература А. Платонова
116 Идея «вольных земель», «ухода», действительно, открывала
крепостным крестьянам другое пространство жизнь, неподотчетное
имперскому произволу и насилию. К.В.Чистов указывал на то, что
конфликт между центральной властью и крестьянством снимался
подчас этим «бегством» в резервные пространства. Это «бегство» как
раз и должно пониматься как поиск другой жизни, чью
пространственную форму еще надо создать. Отсюда архетип странника и
странничества, ведь странник - это тот, кто обрел свободу в непрерывном
бегстве, и отказывается от определенности своей цели; он - персонаж
чистого движения, без остановок и укрытий, вневременное
существо. (См. К.В. Чистов. Русские народные социально-утопические
легенды XVII-XIX. М., 1967, С. 237-238; А.И. Клибанов. Народная
социальная утопия в России. XIX век. Москва, «Наука», 1978, С. 16-22;
С. 252-276). Также обсуждение темы странничества/бегства: Т. Ланге-
рак (Амстердам). Комментарии к сборнику А. Платонова «Эпифанские
шлюзы» -Андрей Платонов. Воспоминания современников.
Материалы к биографии. С. 189-192. Еще ранее: Г. Гюнтер. Жанровые
проблемы утопии и «Чевенгур» А. Платонова. - Утопия и утопическое
мышление: антология зарубежной литературы М., «Прогресс», 1991. С. ???).
117 А. Платонов. Собрание сочинений. Том 2 («Котлован»). С. 311.
118 А. Платонов. Собрание сочинений. Том 2 (« Чевенгур»), С. 382.
"* Там же, С. 242-243.
Там же. С. 126
Там же, С. 156.
188 Известный режиссер Сокуров в ряде ранних фильмах
пытался ввести этот особо значимый платоновский реквизит - «мертвое
тело», неживое, проще говоря, шествие трупа, - в центр
киноповествования (фильмы «Камень», «Круг второй», «Мать и сын», «Дни
затмнения» и др.). Мне кажется, режиссер угадал природу героев
платоновских повестей и так называемых романов, - это не просто
психоавтоматы или марионетки, некие механические монстры, это
умершие, т.е. не мертвые, а часто те, которым предстоит
воскресение. Трогать смерть и видеть, что она укрепилась в неживом теле, с
которым не порваны самые близкие, родственные связи, - вот что
дает сегодняшним живым надежду на то, что она, в конечном счете,
будет преодолена. Все это явно федоровское, впрочем, лишенное
космократического оптимизма.
183 Н.Ф. Федоров. Собрание сочинений в четырех томах. Том
первый. Москва, «Прогресс», 1995, С. 258.
184 Возможная аналогия активного воздействия на природу
отыскивается Федоровым в направленной бомбардировки облаков. Так
406
Примечания
можно предотвратить смертоносное выпадения града, или, напротив,
вызвать спасительный дождь в тяжелую засуху и тем самым
предотвратить неурожай и, следовательно, голод, самое страшное бедствие
времени. Речь идет о градобойных мортирах и обо всех «взрывных»
орудиях, которыми располагает армия, и способна применить по
отношению к веществу природы. Вот что он пишет: «...если
окажется, что взрывчатые вещества, действительно, могут быть средством
управления атмосферными явлениями. Только этим путем, т.е. через
войска, и возможно разрешить, какое именно действие производит
артиллерийский огонь, стрельба, и, вообще, взрывчатые вещества
на атмосферные явления, - разгоняют ли они облака, как думают
некоторые, или же вызывают дождь?. Возможно, даже несомненно,
что в различных случаях действие будет различно; возможно, что
различие при этом действии будет объяснено количеством
выпущенных снарядов, состоянием атмосферы, условиями местности и
т.п., а если различное действие стрельбы найдет свое объяснение в
этих обстоятельствах, в таком случае стрельба дала бы точный опыт,
опыт активный, определяемый числом, мерою, весом, вместо
нынешних пассивных, почти ничего не говорящих метеорологических
наблюдений. Но самое важное при этом будет заключаться в
обращении военного дела в исследование, в изучение природы, и в
обращении войска к такому изучению выразится новое его назначение;
этим будет положено начало превращению, или переходу от
неестественного в нравственном, т.е. родственном, братском отношении
действия - от борьбы с себе подобными - к естественному
разумному действию на слепые, неразумные силы природы, поражающие
нас засухами, наводнениями, землетрясениями и другими всякого
рода бедствиями, к действию на слепые силы, ставящие нас,
разумные существа, в неестественную от них зависимость» (Н.Ф. Федоров.
Собрание сочинений в четырех томах. Том второй. С. 271.)
12Ъ Вот весьма примечательные замечания Платонова: «Самбикин
в долгом одиночестве гладил голое тело умершего, как самую
священную социалистическую собственность, и горе нагревалось в нем,
пустынное, не разрешимое никем.
К полночи он раскопал инструментом сердце в груди покойного,
затем вынул железу из области горла и стал исследовать эти органы
приборами и препаратами, выискивая, где хранится неистраченный
заряд живой энергии; Самбикин был убежден, что жизнь есть лишь
одна из редких особенностей вечно мертвой материи и эта
особенность скрыта в самом прочном составе вещества, поэтому умершим
нужно так же мало, чтобы ожить, как мало нужно было, чтобы они
407
Евнух души. «Революционные машины» и литература А. Платонова
скончались. Более того, живое напряжение снедаемого смертью
человека настолько велико, что больной бывает сильнее здорового, а
мертвый жизнеспособней живущих.
Самбикин решил мертвыми оживлять мертвых...». (А. Платонов.
Собрание. Счастливая Москва. Очерки и рассказы 1930-х годов. Москва,
«Время», 2010. С. 78.)
И в другом месте: «Он любил машины потому, что чувствовал их
живыми — мертвыми, которые стали живыми; это было воскрешение
железа и всего мертвого к жизни вместе с человеком: образ
будущего, полностью живого мира». (А. Платонов. Записные книжки.
Материалы к биографии. С. 240.).
Идея все та же: нет ничего и нигде мертвого, есть лишь одна жизнь
то сведенная к минимуму существования, то развернутая в
избыточной силе и могуществе, - сверхприродное событие. Поэтому и в
самом мертвом есть жизнь, вероятно, как в дереве, так и в камне, даже
умерший организм остается частью жизни. Машина - это как раз тот
парадоксальный случай, когда мертвое делает и воссоздает живое.
Это перевернутый мимесис: Природа подражает Машине (новой
Природе).
126 А. Платонов. Сочинения. Том первый. Книга первая 1918-1927.
С. 188-189.
"7 Там же. С. 187-188.
15,8 Н.В. Корниенко. История текста и биография А.П.Платонова
(1926-1946). - «Здесь и теперь». №1, 1993, Москва. С. 51-52.
189 А. Платонов. Собрание сочинений. Том первый. С. 143
ч° Там же. С. 192.
131 Поражает исчезающая граница между так называемой
современной наукой и ее «пониманием» в литературе Платонова. Сегодня
идеи Федорова, Флоренского, Вернадского оказались
комментарием к идеям Платонова в области электротехники, теории машин, и
общей теории Природы. За всем этим - нескрываемое восхищение
Платонова 20-х годов последними тогдашними достижениями
человеческого разума. Открытия в науке кажутся столь великими, что
многие философы (да и сами ученые) бросаются выстраивать новую
картину мира, якобы им соответствующую. В этом отношении
поспешность обобщений Федорова объяснима. Необъяснимо другое:
как мог мыслитель такого ранга не подвергнуть свои гипотезы хоть
какой-нибудь проверке? Именно на этом пересечении желаемого
(воображаемого) и мыслимого возникает единство тогдашнего
литературного, религиозного и квазинаучного дискурсов. Наука
становится частью религиозно-литературного мифа. Но что еще боль-
408
Примечания
ше удивляет, так это прямо-таки навязчивая повторяемость сюжета
световой утопии в нынешнем веке.
См.: С. Семенова. Николай Федоров. Творчество жизни. Москва,
«Советский писатель», 1990. С. 363-373.
132 Тема опустошенности, «простоты пространства» чрезвычайно
важна в литературе С.Беккета. Им применяется своеобразная
оптика: представляя мир в ограниченной рамке пустого пространства, она
позволяет укрупнять мельчайшие детали, брать их в предельной
отчетливости. Всюду серый свет, рассеянный и пустой, скорее лунный,
без солнца. Но хотелось бы тогда спросить: откуда взялся этот
причудливый мир беккетовских персонажей?. В центре этого мира
перемещается главный герой, обычно это паралитик, ему ни до чего нет
дела, он пытается сохранить минимум существования, - после
катастрофы. Если катастрофа случилась, то кто эти выжившие, кто те,
что собираются выживать, и тогда , как, на каких условиях? Абсурд
заключается как раз в том, что человек пытается выжить даже тогда,
когда жизнь его потеряла всякий смысле. Жить вопреки абсурду
жизни... Мир Беккета - пост-катастрофический мир, он не населен, те же
одинокие герои, что продолжают еще существовать в нем, несут на
себе следы пережитой катастрофы, хотя и не выглядят
опустошенными. Точнее, их не смущает собственное опустошение. Правда, мы
хотели бы следить не только за тем, как персонаж движется, - лежит
ли он или ползет, стонет, или отыскивает костыли? - но и чего он
желает, как одет, где спит, о чем думает или мечтает, кто его друзья?
Но именно этого, человеческого мира и нет, именно он опустошен.
I3S Психологически понятно это сложное чувство: дойти до
самого края в признании невозможного, - полной победы Революции.
Это как чудо. И с другой стороны, устремиться в обратном
направлении к началам чувства, чтобы обнаружить отсутствие энергии,
необходимой для того, чтобы вновь бросаться вперед. Отсюда
апатия, скука, тоска, отсюда все персонажи (как) мертвые, как
психоавтоматы, утратившие навсегда программу действий, и теперь
плутающие по глубокой необозримой русской степи. Откроем наугад
любой из его романов: повсюду торжество и гибель тел.
Подавляющее большинство персонажей Платонова тяготиться быть
отдельными телами, со своим лишь им присущим кругом существования,
своей смертью и жизнью, они недостаточны, уязвимы, постоянно
стремятся примкнуть к другим телам, склонны к саморазрушению.
И главное, что их характеризует, они - мертвые, они - тела траты,
растраченные... Вот, например: «Все спящие были худы, как
умершие, тесное место меж кожей и костями у каждого было занято жи-
409
Евнух души. «Революционные машины» и литература А. Платонова
лами, и по толщине жил было видно, как много крови они должны
пропускать во время напряжения труда. Ситец рубах точностью
передавал медленную освежающую работу сердца - оно билось вблизи,
во тьме опустошенного тела каждого уснувшего. Вощев всмотрелся
в лицо ближнего спящего - не выражает ли оно безответного счастья
удовлетворенного человека. Но спящий лежал замертво, глубоко и
печально скрылись его глаза, и охладевшие ноги беспомощно
вытянулись в старых рабочих штанах. Кроме дыханья, в бараке не
было звука, никто не видел снов и не разговаривал с воспоминаниями,
- каждый существовал без всякого излишка жизни, и во время сна
оставалось живым только сердце, берегущее человека». (А. Платонов.
Собрание сочинений. Том 2. С. 314.)
134 А. Платонов. Сочинения. Том 3.первый. Книга первая. С. 334.
■» Там же. С. 348.
136 Там же. С. 397.
w Там же. С. 400-401.
138 Там же. С. 407.
*» Там же. С. 408.
14° А. Платонов. Сочинения. Том первый. Книга вторая. Москва,
ИМЛИ РАН, 2004. С. 167. Ср. также: «И предлагаю устроить вечер
не родившегося поэта грядущего, уже плетущего железные венцы
своих песен. Имя ему - Машина. Машина жует мир и делает из
печали радостную песню, как русский народ на Волге. Только звуки ее
песни не дрожащие слова, а измененные миры, пляшущий космос.
Предлагаю устроить вечер поэта-машины — нашего и моего
товарища. Я буду докладчиком о нем», (Там же. С. 178-179).
41 Ср.: «Диане Эфесской, как и другим богиням Востока,
поклонялись вовсе не за красоту. Богиней Диану делала сила: она была
одушевленным генератором, динамо-машиной, воспроизводитель-
ницей рода - величайшей и самой таинственной из всех энергий.
Единственное, что от нее требовалось, - плодовитость» - это
отрывок из знаменитого опуса Генри Адамса «Динамо-машина и Святая
Дева». (Предмет исследования: сравнение Большой
динамо-машины, выставленной на Всемирной выставке 1900 года рядом с
Богородицей. Магические культы первых промышленных революций).
142 А. Платонов. Собрание. Счастливая Москва. Очерки и
рассказы 1930-х годов. С. 413-414.
43 А. Платонов. Записные книжки. Материалы к биографии. ИМЛИ
РАН, «Наследие», 2000. С. 240.
144 Там же. С. 106.
145 А. Платонов. Собрание сочинений. Том 2. («Чевенгур»). С. 28.
410
Примечания
146 Там же. С. 29.
147 А. Платонов. Собрание сочинений. Том 1. С. 549
148 Там же.
149 А. Платонов. Собрание сочинений. Том 2 («Котлован»). С. 374-
375, 378, 393.
15° В дискуссии, которая достаточно долго велась между
антропологами о тотемизме в примитивных обществах Леви-Строс занимал
позицию социального объективизма (структурный метод). Так он
утверждал, что аффективность (то, что в нашем случае мы называем
«машинным чувством») не может быть причиной верования в тотем,
это только поверхностный феномен, сопутствующий, им ничего
нельзя объяснить в отношениях между людьми и животными.
«Поскольку аффективность — это наименее ясная сторона человека, к ней
постоянно пытались прибегнуть как к объяснению, забывая при этом,
что нельзя ничего объяснить явлением, которое само не поддается
объяснению. Данность не является первичной, оттого что она
непостижима; объяснение, если оно существует, надо искать в другом
плане. В противном случае довольствуются наклеиванием на
проблему другой этикетки, веря, что. разрешили ее». И далее он вполне
справедливо замечает: если бы институты и обычаи обретали свою
жизнеспособность благодаря постоянному освежению и усилению
индивидуальных чувств, сходных с теми, что составляли
первоначало, то они должны были бы заключать в себе вечно брызжущее
аффективное богатство, которое и было бы их позитивным
содержанием. Однако известно, что дело обстоит отнюдь не так и что
устойчивость, которую они выказывают, проистекает чаще всего из кон-
венциальной установки». Однако литературный машинизм
Платонова аффективен. Более того, именно это переходящее переживание,
- а его можно отнести к «партиципации» (Л. Леви-Брюля), или
«графическому инстинкту» (Э. Дюркгейма), оно останется единственной
формой связи с реальным миром, и по сути дела его завершено
четким картинным отображением. (К. Леви-Строс. Первобытное
мышление. Москва, «Республика», 1994. С. 84, 85.)
^ Никола Тесла. Статьи. С. 171-172.
■*» Там же. С. 368.
•m Там же. С. 369.
154 А. Платонов. Сочинения. Том первый. 1918-1927. Книга
первая. Рассказы и стихотворения. Москва, ИМЛИ РАН, 2004. С. 203.
155 А. Платонов. Сочинения. Том первый. 1918-1927. Книга
вторая. Статьи. Москва, ИМЛИ РАН , 2004, С. 219-220.
'* Там же, С. 189-190.
411
Евнух души. «Революционные машины» и литература А. Платонова
157 А. Платонов. Записные книжки. С. 258.
•^ А. Платонов. Сочинения. Том 1. 1918-1927. Книга 2. С. 213.
159 Отношение человека к машине Платонов переписывает в
терминах изначального родства. Природа есть Мать, Машина есть Отец.
Те, кто устанавливают свое новое родство от машины, - это те, кто
«существуют» без Отца, но в его страстном ожидании. Машина - тот
высший Отец-Бог, который возвращает сыновьям их умерших,
погибших Отцов. Скитальчество и странничество, бесприютность,
нет «родного места и тепла» - все это итоги не поиска матери,
материнского, и женского, а возвращения к отцу: «Никто из прочих не
видел своего отца, а мать помнил лишь смутной тоской тела по
утраченному покою, - тоской, которая в зрелом возрасте обратилась в
опустошающую грусть. С матери после своего рождения ребенок
ничего не требует - он ее любит, и даже сироты-прочие никогда не
обижались на матерей. Покинутые ими сразу и без возвращения. Но
подрастая, ребенок ожидает отца, он уже до конца насыщается
природными силами и чувствами матери - все равно, будь он покинут
сразу после выхода из ее утробы, ребенок обращается любопытным
лицом к миру, он хочет променять природу на людей, и его первым
другом-товарищем, после неотвязной теплоты матери, после
стеснения ее ласковыми руками, - является отец». (А. Платонов.
Собрание сочинений. Том 2. С. 214.) И вот так, рванувшийся из повальной
«безотцовщины», может проявить себя новый человек, он и есть
пролетариат.
l6° Из платоновских заготовок: «Он любил машины потому, что
чувствовал их живыми — мертвыми, которые стали живыми; это
было воскрешение железа и всего мертвого к жизни вместе с
человеком: образ будущего, полностью живого мира». (А. Платонов.
Записные книжки. Материалы к биографии. С. 240.)
1б1 Н. Тесла. Статьи. Самара, Издательский дом «Агни», 2008.
С. 122.
,б2 А. Платонов. Собрание. Счастливая Москва. Очерки и
рассказы 1930-х годов. Москва, «Время», 2010. С. 49.
163 А. Платонов. Собрание сочинений. Том 1 («Эфирный тракт»).
С. 285.
,б4 К. Малевич. Собрание сочинений в пяти томах. Том 1. Статьи,
манифесты, теоретические сочинения и другие работы. 1913-1929.
Москва, «Гилея», 1995. С. 158.
|6* Там же. С. 172.
166 А. Платонов. Собрание сочинений. Том 2 («Чевенгур»), С. 5.
,б7 Там же. С. 7.
412
Примечания
168 А. Платонов. Собрание сочинений. Том 1 («Приключения Ба-
клажанова»). С. 139.
169 А. Платонов. Собрание сочинений. Том 2 (Чевенгур), С. 285.
*7° Там же. С. 285-286.
171 Там же. С. 295.
172 Там же. С. 297.
'™ Там же. С. 298.
174 Там же. («Впрок. Бедняцкая хроника»). С. 404.
'7* Там же. С. 483.
176 Там же. С. 507.
177 Там же, С. 254-255.
,?8 А. Платонов. Собрание сочинений. Том 2. С. 208.
179 Ср. с замечанием К. Леви-Строса: «В таких уподоблениях нет
ничего удивительного. Мы делаем то же самое, хотя и более
сдержанно, когда описываем предмет, который нам незнаком, или
применение которого нам не слишком хорошо понятно, или работа
которого нас поражает. Мы говорим штуковина [truc], штука [machin].
А за штукой [machin] стоит машина, а еще дальше — идея силы или,
мощи. Что же: до слова true, то этимологи выводят его из
средневекового термина, означавшего удачный ход в азартной игре или удачный
бросок жонглера...». (К. Леви-Стросс. Предисловие к трудам Марселя
Мосса - Марсель Мосс. Социальные функции священного. Евразия
Санкт-Петербург, 2000. С. 430.)
Есть и в русском разговорном, слово, обозначавшее когда-то отрез
(обычной материи), его называли «штукой», если он был с десяток
метров («отрез» стал именем собственным для материала на платье
или пальто, поскольку в 50-60-е годы советские люди одевались
исключительно в маленьких ателье, никаких магазинов готового
платья в Москве еще не было).
l8° Ж. Бодрийяр. Система вещей. Москва, Рудомино, 1995, С. 97.
Можно пойти дальше. Ведь ясно, что все машины, «которые не
работают», изобретенные в основном сюрреалистами, являются
именно такими «штуковинами». Машины Ф. Леже, М. Дюшана, Ф. Кафки,
У. Берроуза или Э. Уорхола, но это также и все фантастические
машины русского авангарда.
181 Письмо П.Н. Филонова к Вере Шолпо. // Ежегодник
рукописного отдела Пушкинского Дома на 1977. Л., 1979, С. 229.
,8а Там же. С. 230.
l8s Ср.: «Основой учения о содержании примите вот что:
"видящий глаз" видит только поверхность предметов (объектов), да и то
видит только под известным углом и в его пределах, менее половины
413
Евнух души. «Революционные машины» и литература А. Платонова
поверхности (периферии); всей периферии глаз охватить не может,
но "знающий глаз" видит предмет объективно, т.е. исчерпывающе
полно по периферии, безо всяких углов зрения. "Видящий глаз" не
видит ничего, кроме цвета и формы, т.е. двух явлений на периферии
объекта, т.е. двух свойств всякого объекта, а сама-то периферия
(поверхность) есть производное целого ряда явлений и процессов,
происходящих и обусловливающих в объекте его периферию и по цвету и
по форме. Эти процессы, эти явления присущи консистенции
объекта и происходят в ней ежесекундно, например, рост, биологические,
физиологические, химические процессы, реакции, претворения
обмена веществ, электро-радио-магнитные и т.д.». (Там же, С. 229.)
184 Н. Мислер, Д.Э. Боулт. Филонов. Аналитическое искусство. М.,
1990. С. 196.
185 Там же. С. 223. Ср. также: «Маленькая (колонковая или
коровья) кисть с острым концом заставляет и помогает учиться. Большая
кисть не позволяет учиться. Все крупнейшие мастера учились на
маленькой кисти и никогда не расставались с ней. Маленькой кистью
можно сделать все, что требуется в настоящей высокоценной по
живописи по рисунку картине. Писать цветом - это значит
ежесекундно рисовать и добиваться нужного рисунка, а рисовать цветом можно
только маленькой кистью. Большой кистью не нарисуешь, а намажешь,
и не разовьешь рисунком форму, а спутаешь и собьешь ее. Большой
кистью нельзя решить цветовую задачу, нельзя углубить и развить
действие цветом. Большая кисть дезорганизует работу и развращает
ученика. Большой кистью работает человек тупоумный, он не
рассчитывает средства действия в работе и не знает цены рабочему
инструменту. Большая кисть не передает правды мысли художника и правду
натуры». (Там же, С. 225-226.) Для Филонова сделанность вещи была
обязательным результатом творческого усилия. Никакой
спонтанности или случайности художественного жеста. Поэтому невероятное
преувеличение роли труда, и именно «ручной труд» - как высшая
форма труда, - позволяет находиться в Природе (Космосе) на правах
Мастера. Здесь отзвуки средневековой идеологии ремесла, когда
назначение любой сделанной вещи было: стать произведение искусства.
186 Там же. С. 199.
18? М.В. Матюшин. «Творчество Павла Филонова». // Ежегодник
рукописного отдела Пушкинского Дома на 1977. Л., 1979. С. 232-233.
188 Ср.: «Тело картины, рождающееся впервые, ее плоть - краска,
рисунок - должны лечь в основу в сырой монолитной форме, почти
текуче-живыми, причем ткань не грунтуется, а воспринимает первый
жидкий груз краски и нервацию рисунка для будущего наращивания
414
Примечания
организма живой картины - как у плода. // Нарастание живописной
ткани - при полном изменении, сдвиге всех форм и окрасок,
лежащих внизу. // Его первый творческий слой несокрушимо выявит
свою мощь, хотя бы на нем лежало девять и более последующих
пластов творческой ткани. Каждый новый слой является живым
выводом из ранее положенного. Этот принцип проведен во всех
картинах, акварелях и рисунках». (Там же. С. 233.)
189 Вот одно из воспоминаний современников: «Это - картинка
Филонова, густо написанная масляными красками. Словно после
чудовищной человеческой катакомбы, чья-то рука собрала на холст
эти отрезанные головы. Да какие головы? У одних каменные скулы,
крепкие, неподвижные, у других широкое вздувшееся лицо
переходит остроконечной дыней в череп, у третьих - круглые, застеклив-
шиеся, полные безумного ужаса глаза. На некоторых головах и лицах
верхняя кожа отсутствует и сквозят сухожилия и пучки нервов. По
всем направлениям тянутся скрюченные руки с ободранной кожей.
Личико младенца разлагается заживо, и что-то зловеще багровое в
«трупном» тоне щек. Это не картина, это - какой-то морг. Морг,
порожденный горячечной фантазией». (Павел Филонов. Реальность
и мифы. Москва, «Аграф», 2008, С. 369.)
19° А. Платонов. Сочинения. Том первый. 1918-1927. С. 114-115.
191 Для эстетики авангарда это вообще-то характерная черта:
отказ от Лица в пользу Головы. Достаточно упомянуть понятие типажа
в ранних фильмах С. Эйзенштейна, «стертое лицо» в живописных
экспериментах Казимира Малевича. Можно сказать, что Филонов
пытается заполнить ожидаемый эффект крупного плана (лицевого)
множеством одних и тех же по выражению и воле образов голов,
которые примыкают столь близко друг к другу, теснятся, толпятся.
Если лицо и «всплывает», входит в крупный план картины, то никак
не может отделиться от интенсивно цветового фона, и оказывается
скорее расщепленным множественностью деталей фона, чем само
собой. Как Эйзенштейн и Вертов пытались снимать массу в
движению (массу победную, паническую, бегущую, наступающую) так и
Филонов пытается передать новую плотность материи, невидимую
энергию жизненных потоков. «Голова» в авангардном
кинематографе представлена типажем.
192 Ср.: «А может, это какая-нибудь помощь или машина
Интернационала? - проговорил Кеша. - Может, это чугунный кругляк, чтоб
давить самокатом буржуев? Раз мы воюем, то Интернационал тот о
нас помнит...» (А. Платонов. Собрание сочинений. Том 1
(«Чевенгур»), С. 202.
415
Евнух души. «Революционные машины» и литература А. Платонова
193 В одном из рассказов С.Кинга описывается битва двух
гигантов, представлявших враждебные стороны в жестокой
братоубийственной войне. Свидетель будущей битвы издали на фоне
вечернего неба с трудом различает детали. Но как только он подошел ближе,
тут же заметил, что могучее тело каждого из них оказалась
сложнейшей инженерной конструкцией, точнее, удивительной машиной,
составленной из сцепленных между собой десятков тысяч людей,
населявших ту деревню, на защиту которой они встали. Более
сильные жители деревни поддерживали движение ног, упор спины, да и
основание всего торса, а так же рук гиганта, более слабые, а это
были женщины и дети, - другие не менее важные части его тела,
дающие ему чувства зрения и слуха. Гиганты шли навстречу друг другу,
готовясь вступить в битву. Их движение было медленным, ибо оно
само по себе было тяжким трудом. В этой смертельной схватке
должны были погибнуть все, никто не мог остаться в стороне, сбежать
или отступить, сила гигантов была в единой людской воле, ибо
каждый человек нес в себе ее частицу.
194 Л. Мэмфорд. Миф машины. Техника и развитие человечества.
Москва, «Логос», 2001. С. 233.
195 Два важнейших фактора отмечается Л. Мэмфордом
«Во-первых, организаторы машины обрели силу и власть из космического
источника. Точность измерения, абстрактный механический
порядок, принудительная регулярность этой рабочей машины произошли
непосредственно из астрономических наблюдений и абстрактных
научных вычислений: негибкий предсказуемый порядок,
воплощенный в календаре, был затем перенесен на распределение по группам
людских компонентов. На основе соединения божественной власти
и жестокого военного принуждения громадное население заставили
терпеть мучительную бедность и принудительную скучную,
повторяющуюся работу для обеспечения "жизни, процветания и здоровья"
божественного или полубожественного правителя и его окружения.
Во-вторых, легальные социальные эффекты человеческой машины
- в то время, как и сейчас, - были частично компенсированы ее
грандиозными достижениями в контроле над наводнениями, в
производстве зерна и городском строительстве, которые, очевидно,
приносили пользу всему обществу. Это закладывало основу роста в каждой
сфере человеческой культуры: в монументальном искусстве,
систематизированном законе, систематическом мысленном поиске и его
фиксации». (Там же, С. 233-234.)
196 Э. Юнгер. Рабочий. Господство и гештальт. Санкт-Петербург,
«Наука», 2000. С. 453. (пер. А.Михайловского)
416
Примечания
197 В. Райх. Психология масс и фашизм. Санкт-Петербург,
«Университетская книга», 1997, С. 340-341. Стоит указать на то, что
Платонов в «Антисексусе» связывает новейшие для его времени
попытки механизации пола (половой энергии) с нарастающим влиянием
массового фашистского движения, которым вожди его собираются
управлять созданием новых организационных технологий, дющих
полный контроль над человеческой личностью.
•з8 А. Платанов. Сочинения. Том 1.1918-1927. Москва, ИМЛИ РАН,
С. 178.
ч» Там же. С. 179.
200 А. Платанов. Собрание сочинений в пяти томах. Том 2. Москва,
«Информпечать», 1998. С.318.
Там же. С. 322.
202 Ср.: «- Мужики в пролетариат хотят зачисляться, - ответил
Вощев. // - Пускай зачисляются, - произнес Чиклин с земли. -
Теперь надо еще шире и глубже рыть котлован. Пускай в наш дом влезет
всякий человек из барака и глиняной избы. Зовите сюда всю власть
и Прушевского, а я рыть пойду». (Там же. С. 397).
203 С. О. Хан-Магомедов. Архитектура советского авангарда. Москва,
«Стройиздат», 1996. С. ПО, 112.
204 Ф. Кафка. Собрание сочинений в пяти томах. Том 4. С. 168.
2°5 Там же. С. 169.
206 Ф. Кафка. Собрание сочинений в четырех томах. Том 4. С. 173.
207 При всем сходстве литературных опыты Кафки и Платонова
заметно отличаются? Чем же? Разными типами литературности, под
которой я пониманию не только стиль, но и набор воспроизводимых
эмоциональных позиций, если угодно, страстей. У Платонова нет
страха как чувства (существования), а есть тоска, - постоянный
эмоциональный контур утраты и потери. Конечно, этого различия
кажется мало, - но как посмотреть. Мы видим насколько «евнух души»
отличается от господина К. По сути дела у Кафки вовсе нет
рассказчика, нет остраненного, имеющего право на оценку происходящего,
что, кстати, типично для литературной классики, выделяющей
рассказчику особое место в повествовании. Читатель, следуя за
господином К., сразу попадает вместе с ним в ситуацию, из которой ему не
выйти; он, герой напоминает муху, попавшую в паутину: и чем
больше та пытается вырваться, тем меньше у нее шансов это сделать. В
конце концов, все заканчивается, появляется паук. Читающие Кафку
испытывают подобный шок. Ситуация настолько абсурда, что порой
кажется чуть ли не чудом откровения; обратная сторона абсурда
открывается у Кафки в почти религиозном чувстве вины. Шок от по-
417
Евнух души. «Революционные машины» и литература А. Платонова
сюсторонности всего чудного, невозможного, нелепого грозит
безысходностью, нарастающим чувством страха. Все это затрагивает
метафизику человеческого существования. Литература Кафки - один
из ранних ответов нацизму, тотальной машине уничтожения,
которая позднее дала чудовищные всходы в лагерях смерти.
В литературе Платонова - покорность будущей катастрофе: тоска
от того, что будущее, если и оно и придет, то не для того, кто
окажется ближе к нему, кто страстно ждет его прихода и готов умереть
за него. Тоска по будущему, как свидетельство его недостижимости,
- вот где прячется время в литературе Платонова. И тоска тем
больше, чем сильнее желание достичь будущего; тот, кто подвержен
такому неврозу, движется назад от будущего к опустошенному утопией
миру: в нем нельзя жить. Присутствие Гулага здесь еще недостаточно
ощутимо, но некоторые из его основных контуров уже
проглядывают. Жертвенный характер революционного дела: личность
уничтожается через ее готовность к самой нелепой жертве: «умереть за
Революцию» (причем, не обязательно геройской смертью, любой...).
Стыд революционера в том, что он недостоин быть даже жертвой
в великом революционном деле.
2о8 Планировать архитектуру руин. А. Шпеер, будущий
архитектор III Рейха пишет книгу «Теория о ценности руин» (1938): «... я
велел изготовить романтический набросок; он показывал, как будет
выглядеть трибуна на Цеппелин-фельде, пробыв несколько
поколений в заброшенности - поросшая плющом, с рухнувшими
колоннами, каменная ограда там и сям осыпалась, но в общих чертах она
еще вполне узнаваема. Окружение Гитлера сочло мой набросок
"кощунством". Одна только мысль, что я предвижу период распада в
истории едва созданного тысячелетнего рейха, показалась многим
неслыханной. Однако Гитлер счел мои соображения логичными и
убедительными; он приказал сооружать впредь важнейшие стройки
его государства с учетом "закона руин"». Как засечь в еще целом
монументальном здании кривую его будущей катастрофы, - переход
руинообразное состояние? Два вида руин: одни представляют собой
то, что осталось от бывшего архитектурного целого, «остатки»,
«обломки», печальные нагромождения старого хлама; другие - те, что
сохранили в себе дух и могущество некогда существовавшего целого.
Одним руинам недостает целого, более того, и из них невозможно
его воссоздать, и то, что сохранилось, превращается просто в
отбросы. Другим не нужно опираться на образ разрушенного целого,
ибо оно - в них, они сами представляются современникам
величественными монументами, не руинами, а памятниками, короче, са-
418
Примечания
кральными объектами, которым не перестают поклоняться и
приносить кровавые жертвы. Что-то похожее на древнеримские руины,
которыми так восхищались Гитлер со Шпеером, должно стать
внутренней формой грандиозного здания будущей Канцелярии Третьего
рейха; архитектор должен заранее рассчитать, где пройдет линия
будущего распада и в какие ее точки будет в течение тысячи лет
проникать разрушительная сила природных стихий. Части
распавшегося целого должны и через тысячу лет выглядеть как отдельные и
автономные произведения искусства, несокрушимые и вечные.
Фантастическую архитектуру Третьего рейха Шпеер пытается
представить как созидательную силу, но сокрушающая тяжесть, размеры и
невероятная стоимость проекта делают ее еще более чудовищной
мегамашиной, чем любые прежние. (А. Шпеер. Воспоминания.
Смоленск, «Русич» - Москва, «Прогресс», С. 97.)
209 В советское время мавзолей превратился в особую световую
и биохимическую лабораторию, где испытывались в течение
десятка лет различные технологии бальзамирования. До недавнего
времени мумия-Ленин управлялась множеством скрытых зеркал и
различными по мощности и направленности лампами. Не говоря уже
о поддержании в должном состоянии температуры тела, влажности
и т.п. Машина-мавзолей со своей сложной подземно-надземной
инфраструктурой отвечает авангардной утопии 20-х годов, несмотря
на очевидное присутствие в ней архаики первоначального
мирового мифа («Египетская книга мертвых»).
810 А. Платонов. Собрание сочинений. Том второй. С. 397.
Ср. также: «Душин хотел, чтоб земля пролежала нетленным гробом,
в котором сохранилась бы живая причина действительности, чтоб
социалистическая наука могла вскрыть гроб мира и спросить
сокровенное внутри его: в чем дело? - и слух точной науки тогда услышит,
быть может, тихий жалобный ответ. Душин боялся в тайне, что
последующие люди разовьют такую энергию действий, что без остатка
уничтожат все мировое вещество и больше ничего не случится». (А.
Платонов. Технический роман. - Огонек, №19, май 1990, С. 20.) И в другом
месте: «Рыли котлован под фундамент клуба, нашли ветхий гроб без
покойника и в нем четверть водки. Выпили. Водка была нормальная».
(А. Платонов. Записные книжки. Материалы к биографии. С. 111.)
211 Возможно, это иронически-издевательская перекличка с
названием известной книги Ф. Энгельса «Анти-Дюринг».
212 См., например: Г. Фюрбрингер. Расстройство половых функций у
мужчин. Москва, 1896, С. 31-35. Были и другие более уравновешенные
позиции: А.Форель. Половой вопрос. С.-Петербург, 1907, С. 252-259.
419
Евнух души. «Революционные машины» и литература А. Платонова
813 А. Платонов. Сочинения. Том первый. 1918-1927. Книга
первая. С. 134.
214 А. Платонов. Ноев ковчег. Драматургия. Москва. Вагриус, 2006.
С. 60. Машина-антисексус позволяет экономить вещество жизни,
противопоставляя эту экономию послереволюционному
недоеданию и голоду. Но с другой стороны, она остается знаком голода. В
одном месте это выражено с той же гротескной силой: «Мы
организуем вечер испытаний новых форм еды. Мы нарвем любых злаков, мы
муку из рыбы сделаем, раков вытащим из воды, птичий помет
обратим в химию, суп составим из сала мертвых костей и квас заварим
из дикого меда пополам с муравьиной кислотой. И далее того - мы
из лопухов блины такие испечем, что ты их будешь есть с
энтузиазмом! Мы всю природу в яство положим, всех накормим дешевым
вечным веществом.». (Там же. С. 83.).
215 А. Платонов. Собрание сочинений. Том 1. («Рассказ о многих
интересных вещах»). С. 176.
2,6 Только в эпоху сексуальной революции 20-х годов такого рода
литературный опыт мог быть осуществлен. См. комментарии к «Анти-
сексусу» - А. Платонов. Сочинения. Том 1. Книга первая. С. 547-572.
217 Там же. С. 128.
218 Ср.: «Побоявшись однажды настигнуть эту женщину, это
счастье в его юности, он, может быть, оставил ее беззащитной на всю
жизнь, и она, уморившись мучиться, спряталась сюда, чтобы
погибнуть от голода и печали. Она лежала сейчас навзничь — так ее
повернул Чиклин для своего поцелуя, — веревочка через темя и
подбородок держала ее уста сомкнутыми, длинные, обнаженные ноги
были покрыты густым, пухом, почти шерстью, выросшей от
болезней и бесприютности,— какая-то древняя, ожившая сила
превращала мертвую еще при ее жизни в обрастающее шкурой животное».
(А. Платонов. Собрание сочинений. Том 2. С. 345.)
219 В. Райх. Функция оргазма. Санкт-Петербург-Москва,
«Университетская книга», 1997. С. 215.
Там же. С. 291.
221 Ср.: «Когда несколько лет назад я поселился в мансарде в
нижнем Сохо, мой друг Дэвид Прентис смастерил мне кое-какую мебель.
Мы решили сделать оргонный аккумулятор и установить его в
квартире. Он сколотил из фанеры ящик, обложив его слоем пробки и
оцинкованной стали; внутри помещался стул. С внешней стороны
он обтянул ящик облезлыми кроличьими шубами, чтобы усилить
оргонный заряд. Кроличьи шубы придали ящику
сюрреалистический вид, очень живописный, вроде отороченной мехом ванны. Каж-
420
Примечания
дый день я проводил в этой коробке 15-20 минут, медитируя, с
приятным чувством, что я у меня меньше шансов заболеть раком. Мне
пришло в голову, что действие можно изрядно усилить, используя
намагниченное железо и построив аккумулятор пирамидальной
формы. Если пирамиды не дают гнить мясу, на вас тоже подействует».
( У. Берроуз. Счетная машина. Избранные эссе. Москва, Kolonna
Publications, Митин журнал. 2008. С. 268.)
Там же. С. 210.
223 Там же. С. 212.
824 Там же. С. 184.
"* Там же. С. 70-71.
226 Η. Ф. Федоров. Собрание сочинений в четырех томах. Том
первый. С.281-282.
227 Там же, С. 290-291.
228 Р.-М. Рильке. Ворпсведе. Огюст Роден. Письма. Стихи. Москва,
«Искусство», 1971. С. 304.
2а* Там же. С. 304-306.
23° Там же. С. 306-307. Указание на фрагменты Элегий (десятой),
где дается описание «Страны жалоб». Но это не « страна жалоб», не
жалобная страна, а скорее поэтическая коммуникация, понимаемая
как «жалоба», - страдательная весть поэта. (См. также: Р.-М. Рильке.
Новые стихотворения. Москва, «Наука», 1977, С. 326-365.)
231 Там же. С. 308-309.
23* А. Платонов. Собрание сочинений. Том первый.. С. 291-294.
233 Русский космизм. М., 1993., С. 164-165.
«34 ρ Флоровский. Догмат и история. С. 431-433.
235 В.И. Вернадский. Философские мысли натуралиста. Москва,
«Наука», 1988, С. 172-173.
Книга пятая
Обморок мира
Поэтика случая в литературе Обэриу
Остановить движение мира - это было главным
стремлением Бодлера. Стремление Иисуса Новина
(Josua). Не столько пророческое стремление: он не
думал о возвращении. Из этого стремления
возникал его импульс к насилию, его нетерпение и гнев;
отсюда также все новые попытки ударить мир в
самое сердце или петь во сне. Из этого стремления
он сопровождает смерть в своих произведениях
одобрением.
Вальтер Беньямин.
Остановится время, и я встану. Но не остановится
время, и мое течение непреложно.
Даниил Хармс
Из серии гравюр Гюстава Доре к сказке Шарля Перро «Спящая красавица»
(1862)
Вступление
Страх полдня
Картина первая: Каталепсия
(ι) «Есть особый страх послеполуденных часов, когда яркость, тишина и зной
приближаются к пределу, когда Пан играет на дудке, когда день достигает
своего полного накала. В такой день вы идете по лугу или через редкий лес, не
думая ни о чем. Беззаботно летают бабочки, муравьи перебегают дорожку, и
косым полетом выскакивают кузнечики из-под ног. Цветы поражают вас
своим ароматом: как прекрасно, напряженно и свободно они живут! Они как бы
отступают перед всеми, из вежливости давая дорогу, и клонятся назад. Всюду
безлюдно, и единственный звук, сопровождающий вас, - это звук вашего
собственного работающего внутри сердца. Тепло и блаженно, как в ванне. День
стоит в своей высшей, самой своей высшей, самой счастливой точке. /... /
Вдруг предчувствие непоправимого несчастья охватывает нас: время гото-
вится остановиться. День наливается для нас свинцом. Каталепсия времени!
Мир стоит перед вами как сжатая судорогой мышца, как остолбеневший от
напряжения зрачок. Боже мой, какая запустелая неподвижность, какое
мертвое цветение кругом! Птица летит в небе и с ужасом вы замечаете: полет ее
неподвижен. Стрекоза схватила мошку и отгрызает ей голову; и обе они, и
стрекоза, и мошка совершенно неподвижны. Как же я не замечал до сих пор, что
в мире ничего не происходит и не может произойти, он был таким и прежде
и будет во веки веков. И даже нет ни сейчас, ни прежде, ни- во веки веков.
Только бы не догадаться о самом себе, что и сам окаменевший, тогда все кончено,
уже не будет возврата. Неужели нет спасения из околдованного мира,
окостеневший зрачок поглотит и вас? С ужасом и замиранием ждете вы
освобождающего взрыва. И взрыв разражается.
- Взрыв разражается?
- Да, кто-то зовет вас по имени.
425
Обморок мира. Поэтика случая в литературе Обэриу
Об этом, впрочем, есть у Гоголя. Древние греки тоже знали это чувство. Они
звали его встречей с Паном, паническим ужасом. Это страх полдня».1
(ι) «Да, вы попали в стоячую воду. Это сплошная вода, которая смыкается
над головой, как камень. Это случается там, где нет разделения, нет изменения,
нет ряда. Например, переполненный день, где свет, запах, тепло на пределе
стоят как толстые лучи, как рога. Слитный мир без промежутков, без пор,
в нем нет разнокачественности и, следовательно, времени, невозможно
существовать индивидуальности. Потому что если все одинаково, неизмеримо,
то нет отличий, ничего не существует.
Но кто же в последний момент назвал вас по имени} Конечно, вы сами. В
смертельном страхе вспомнили вы о последнем делителе, о себе, обеими руками
схватили свою душу».2
Картина вторая: Растение
(з) «Меня интересует, кто придумал сказку об уснувшем царстве. Ведь был же
человек, который ее придумал, кому впервые пришла в голову эта странная
мысль. И очевидно, он попал в точку, если эта сказка производит впечатление
на всех, обошла весь мир.
Помните, там даже часы останавливаются, слуга застывает на ходу,
протянув ногу вперед, с блюдом в одной руке. И тотчас же из-под земли
подымаются деревья, вырастают травы, длинные, как волосы, и точно зеленой паутиной
или пряжей застилают все вокруг. Да, там еще чердак со слуховым оконцем,
злая старуха за пряжей и спящая красавица: она заснула, потому что
укололась, и капелька крови вытекла из ее пальцаъ.
Причем тут укол, какая связь у него с остановкой времени, со сном?
Но сначала о пряже. Говорят, пряжа похожа на судьбу; но еще более она похожа
на растение. Как растение, она не имеет центра и бесконечна, неограниченно
продолжаема. В ней есть скука, и время, не заполненное ничем, и общая,
родовая жизнь, которая ветвится и ветвится неизвестно зачем; когда ее
начинаешь вспоминать, не знаешь, была она или нет, она протекла между пальцев,
прошла, как бесконечный миг, как сон, вспоминать нечего.
Любопытно, что до сих пор очень многие люди боятся вида крови, и
становится от нее дурно. А что бы, казалось, в этом страшного ? Вот она выходит через
порез, содержащая жизнь красная влага, вытекает свободно и не спеша и
расползается неопределенным, все расширяющимся пятном. Хотя, пожалуй, в этом
действительно есть что-то неприятное. Слишком уж просто и легко она
покидает свой дом и становится самостоятельной - тепловатой лужей,
неизвестно - живой или неживой. Смотрящему на нее это кажется столь противо-
426
Вступление. Страх полдня
естественным, что он слабеет, мир становится в его глазах серой мутью,
головокружительным томлением. В самом деле, здесь имеется нечто
противоестественное и отвратительное, вроде щекотки не извне, а в глубине тела, в самой
его внутренности. Медленно выходя из плена, кровь начинает свою, исконно
уже чуждую нам, безличную жизнь, такую же, как деревья или трава, - красное
растение среди зеленых.
Тем самым разоблачается, что наше тело более чем наполовину растение: все
его внутренности растения.
Но безличная жизнь не имеет времени, В ней нет несовпадений и толчков. И
растения тем и отличаются от животного, что для них нет времени: все для
них протекает в единый бесконечный миг, как глоток, как звук камертона.
В этом причина страха крови, отвращения к ней, испытываемого многими
людьми: боязнь несконцентрированной жизни.
Укол - и порывается интимная связь между стихийной и личной жизнью; кровь
устремляется в открывшийся для нее выход, настает ее странное цветение;
настает обморок мира, безвременный сон. Вот все уже заткано равномерно,
как пряжей или паутиной, иной молчаливой зеленой жизнью. Мир снова
превращается в то, что он есть, в растение. Какой у него бурный и неподвижный
рост! И так было и будет всегда, во веки веков, пока не придет вдруг создатель
новой неравномерности со своим избирающим поцелуем, не возникнет снова
иллюзия происходящих событий».4
Картина третья: Время
(4) «Начнем с известного воображаемого опыта: весь мир, все в нем вдруг
остановилось, застыло как в сказке о спящей красавице. Спрашивается, этот
застывший, пребывающий мир обладает временем или он безвременный?
Возможно, что некоторым покажется, будто и в этом случае время
сохраняется. Но эта ошибка произойдет потому, что они забудут выключить в
воображении собственную личность, ее изменчивость. И тогда получится, как при скуке,
несоответствие внешней обстановки ходу личности заставляет особо остро
ощущать время, вызывает томление, - как воздух ощущается острее при его
нехватке, когда задыхаешься.
Но мы в этом опыте должны, конечно, выключить или остановить все
механизмы, далее собственные душевные.
И тогда, если это непривычное усилие воображения сделано, станет ясно:
пребывающий мир - безвременный.
Это значит: время, как некая чуждая сила, как река, несущая мир, -
только эмблема. На самом деле время есть какое-то особое отношение внутри
мира».5
427
Обморок мира. Поэтика случая в литературе Обэриу
($) «Представим себе, что в мире все, без исключения, остановилось, замерло,
застыло, как в сказке о спящей красавице, когда она уколола себе палец. Для
того, чтобы не внести незаметно внутренних преобразований, представим,
что и сами заснули вместе с остальными существами и предметами или, по
крайней мере, погрузились в то, словно отсутствующее, состояние, когда
человек вперился во что-либо и как бы забылся. Спрашивается: будет ли в этом
летаргическим мире течь время?
Чтобы судить об этом, представим себе, что мир вновь проснулся, пришел в
движение. Если перерыв будет замечен по каким-либо, хотя бы и косвенным,
признакам, то, значит, время не прекращало течь внутри паузы и это было
пустое время. Если же таких признаков нет и не может быть, то самое
понятие длящегося перерыва событий - понятие фиктивное, пустое время -
бессмыслица.
Итак, некто приходит в себя, просыпается вместе со всем миром. Если бы это
был обычный сон, он мог бы догадаться о нем и судить о его длительности по
перемещению тени, изменению света, исчезновению чувства усталости, особому
ощущению, которое оставляет сон после себя, - словом, по внешним или
внутренним преобразованиям. Но в этом случае всего этого нет и не может быть.
Он не мог бы заметить паузы, и не потому, что у него нет подходящих для
этого приборов, а потому, что это принципиально невозможно. Ее не могло
бы заметить никакое существо в мире, и никакой предмет не имел бы
отпечатка, указывающего на то, что протекло какое-то время.
Короче говоря, - если кто-нибудь все же настаивал бы, что время при паузе
было, то на это следовало бы ответить: оно было совершенно так, как если
бы его не было, без каких-либо признаков. Но тогда оно оказывается просто
словом без содержания, фиктивным понятием.
Так решается вопрос о возможности, пустого, существующего само по себе
времени»6.
Картина четвертая: Труп мира
«Лежит в столовой на столе
Труп мира в виде крем-брюле,
Кругом воняет разложеньем
Иные дураки сидят
Тут занимаясь умноженьем.
Другие принимают яд.
Сухое солнце, свет, кометы
уселись молча на предметы.
Дубы поникли головой
и воздух был гнилой.
Движенье, теплота и твердость
Потеряли гордость.
Крылом озябшим плещет вера
одна над миром всех людей.
Воробей летит из револьвера
И держит в клюве кончики идей.
Все прямо сума сошли.
Мир потух. Мир потух.
428
Вступление. Страх полдня
Мир зарезали. Он петух.
Однако много пользы приобрели.
Миру конечно еще не наступил конец,
еще не облетел его венец.
Но он действительно потускнел.
Фомин лежащий посинел
и двухоконною рукой
молиться начал. Быть может
только Бог.
Легло пространство вдалеке
Полет орла струился над рекой
Держал орел икону в кулаке
На ней был Бог.
Возможно, что земля пуста от сна,
худа, тесна.
Возможно мы виновники,
нам страшно.
И ты орел аэроплан
Сверкнешь стрелою в океан
или коптящей свечкой
рухнешь в речку.
Горит бессмыслицы звезда,
она одна без дна
Вбегает мертвый господин
и молча удаляет время»1
«Куда идти ? Куда бежать,
Когда толпа кругом грохочет
И пушки дымом вверх палят ?
Уж дым в глазах слезой щекочет
И лбы от грохота болят
Часы небесные сломались
И день и ночь в одно смешались.
То солнце, звезды иль кометы*
Иль бомбы, свечи и ракеты ?
Иль этот кончен мир как раз ?
Ответа нет. Лишь вопль, и крики,
И стон, и руки вверх, как пики»*
(^934)
«Однажды я шел по дороге
отравленный ядом,
И время со мною шагало рядом.
Различные птенчики пели в кустах,
трава опускалась на разных местах.
Могучее море как бранное поле вдали
возвышалось.
Мне разумеется плохо дышалось.
Я думал о том, почему лишь глаголы
Подвержены часу, минуте и году,
А дом, лес и небо, как будто монголы,
от времени вдруг получили свободу.
Я думал и понял. Мы все это знаем,
Что умерли действия, лежат
мертвецами,
и мы их теперь украшаем венками.
Подвижность их ложь, их плотность
обман,
И их неживой поглощает туман.
Предметы как дети, что спят
в колыбели.
Как звезды, что на небе движутся еле.
Как сонные цветы, что беззвучно растут.
Предметы как музыка, они стоят
на месте.
Я остановился. Я подумал тут,
Я не мог охватить умом нашествие
всех новых бедствий.
И я увидел дом ныряющий как зима,
И я увидел ласточку обозначающую сад
Где тени деревьев как ветви шумят,
где ветви деревьев как тени ума.
Я услышал музыки однообразную походку,
я попытался поймать словесную лодку.
Я испытывал слово на огне и на стуже
но часы затягивались все туже и туже
И царствующий во мне яд
Властвовал как пустой сон
Однажды»9.
429
Обморок мира. Поэтика случая в литературе Обэриу
ι. Приведенные фрагменты - только малая часть обэриутского архива,
где мы находим образ остановленного «мира-времени»; они легко собираются
в «картины», их четыре: первая запечатлевает страх полдня, страха
мгновенного, ошеломительного, пугающего - никому не успеть стать храбрым;
«...время готовится остановиться» - страх нарастает, время полдня все
ближе. Вот еще, что нужно знать о панике и паническом страхе : «...гость
из Аркадии, сравнительно недавно приобщенный к сонму общегреческих
божеств, причудливый дух, хранитель коз, козлоногий Пан. Если мы
называем его «богом», то просто потому, что мы этим именем называем всякое
могучее бессмертное существо; на деле же мы прекрасно понимаем разницу
между ним и великими олимпийскими богами. Позднее дурная совесть
религии, порвавшей с природой и матерью-Землей, превратила его в беса; но
мы его любим и уважаем, ласкового горного бога со звонкой свирелью. Правда,
мы знаем за ним и немало причуд, даже не считая тех, о которых могли бы
рассказать его соседки, нимфы-ореанды. В полдень он изволит почивать
(это - «час Пана»), и горе тому неосторожному пастуху, который вздумал
бы в это время забавляться игрой на свирели. Как высунет потревоженный
свою косматую голову из-за утеса, как рявкнет на всю гору - помчатся вниз
по камням испуганные козы, сбивая с ног и друг дружку и оторопевшего
пастуха. Да, будет он помнить Пана и его "панический" страх!»™. Крик Пана
пробуждает к жизни, он наделяет именем, он способен вернуть нас из
самого глубокого сновидения, там, где мы становимся мертвыми.
2. Вторая картина отсылает к образу времени в сказке Ш. Перро
«Спящая красавица». Время «застыло», оно лишилось тех, кто его
воспринимает, нет больше тех, кто им жил. Признак остановки - рост растений. Все
зарастает диковинными цветами и травами, алая кровь принцессы, уходя
через малый порез на пальце (укол злой ведьмы) из ее тела, питает их своей
силой. Все уходит в природное единство, все погружается в странный сон,
становится одним Растением, и сколько надо будет ждать, пока живое
дыхание не коснется спящей красавицы, и сонный мир не наполнится
временем жизни. «Когда с принцессой случилось несчастье, добрая волшебница,
которая спасла ей жизнь, присудив ей проспать сто лет, находилась в
королевстве Матаквинском, за двенадцать тысяч миль, но ее за один миг
известил об этом карлик, носивший семимильные сапоги (то были сапоги,
в которых за один шаг можно было сделать семь миль). Волшебница тотчас
же пустилась в путь. А через час уже подъезжала к замку на огненной
колеснице, запряженной драконами. Король вышел ей навстречу и помог
сойти с колесницы. Она одобрила все, что он сделал, но, будучи особой весьма
предусмотрительной, подумала и о том, что принцесса, когда ей придет
время пробудиться, попадет в немалое затруднение, оказавшись одна в этом
430
Вступление. Страх полдня
старом замке. И вот что она сделала. Своей палочкой она коснулась всего,
что было в замке (кроме короля и королевы): ключниц, фрейлин, камеристок,
кавалеров, прислужников, дворецких, поваров, поварят, мальчиков на
побегушках, стражей, привратников, пажей, лакеев; она коснулась также и
всех лошадей, какие стояли в конюшнях, и всех конюхов, всех больших
дворовых псов и маленькой Пуф, собачки принцессы, лежавшей с ней на
постели. Как только она дотронулась до них, они уснули, чтобы пробудиться
вместе со своей госпожой, готовые служить ей, когда это будет нужно. Вер-
телы перед очагом, усаженные куропатками и фазанами, задремали, и огонь
тоже. Все это произошло β один миг: волшебницы скоры на руку»11.
Волшебная палочка и есть то живое время, что оживляет застывшее в
природе человеческое. Движение и рост растений не имеют свидетельств
времени, растения существуют вне времени.
5- Третья картина обращена к представлению времени, утратившего
внезапно своего субъекта. Если нет восприятия времени (т.е. того, кто его
воспринимает), то нет и его самого. Допустим, что две команды ведут игру
в строго отмеренных временных рамках. Но вот тренер одной из них берет
time-out, кратковременную передышку для анализа возникшей игровой
ситуации. Время игры приостановлено, но не остановлено совсем. Приостановка
одного времени позволяет перейти в другое, которое также имеет свои рамки,
и они также относятся к правилам игры (например, на какое время игра
может прерываться). Интересный момент, в чем-то похожий на
лингвистический эффект пресуппозиции. По отношению к общему времени игры
timeout выглядит как пауза (передышка, минуты отдыха). Ведь игра
остановлена, и ничто больше не происходит. Но поскольку time-out, перерыв относится
к общим правилам игры, он также наделен неким игровым смыслом.
Прерывание - это введение в мир человеческого времени. Не получается ли так, что
когда игра остановлена, функция времени передается перерыву, он
наполняется собственным временем, которое однако не является реальным временем
игры ?Входе игрьс мы из тактических соображений используем остановки,
time-out'ы, необходимые нам паузы, пытаясь ослабить негативное действие
на нас событий игры. Итак, пауза - это время без времени; «...будем
считать, - замечает Липавский, - что пауза произошла, но она изнутри мира,
и не может быть охарактеризована временем» 12.Вто время как сама игра есть
time-out для мира повседневности, бытия всего сущего, как сказал бы Хайдег-
гер. Time-out как «передышка», возвращение в обыденное время, а это время
скуки, скучания, ничегонеделания. Всякая отграниченная временность
выступает в качестве time-out для другой, неограниченной (условно). В игре человек
подражает Природе (Космосу), в паузе и остановке и прерывании - только
себе. Человеческое время - это каскад ниспадающих пауз и прерываний.
431
Обморок мира. Поэтика случая в литературе Обэриу
4- И, наконец, в четвертой картине поэт пытается «схватить»
остановку времени в ткани самого стиха, ощущая ее чуть ли не собственной
кожей; именно в таких метафорах он нуждается, чтобы остановить
время, замедлить, заставить распасться, ослепить нас вспышками
бессмыслицы. Не предпринимается ли здесь попытка перевода внутреннего состояния
оцепенения в стиховую форму (изысканная подборка метафор, которые
чуть ли не гирляндами опутывают поэта, не дают дышать?). «Лежит в
столовой на столе//Труп мира в виде крем-брюле», «Вбегает мертвый
господин и молча удаляет время», «Мир потух. Мир потух.//Мир зарезали. Он
петух»13. Подобранные выше фрагменты, фактически, описывают одно
состояние мира, - остановку: что-то остановилось, а другое
останавливается, а следующее готовится к тому, чтобы начать остановку. Остановка
мира/времени образует то, что я называю миметической осью
поэтической субстанции, ее вибрирующим нервом, так нить к нити разрастается
колдовская пряжа сказки. Реальность времени воспринимается обэриутами
замедлениями, свертываниями, остываниями, падениями образов и
ситуаций жизни. Время уходит в песок, вытекает из вещей и событий,
привычных жестов, движений, - отовсюду, как кровь или вода. Все
останавливается, одно раньше, другое позже. Поэт - первый свидетель начала
остановки мира-времени.
5- Не скрою, что настоящая реконструкция темы вряд ли была бы
возможна без привлечения основных работ Якова Дру скина. На мой взгляд, он
имел полное право на посмертную консолидацию группы в один
«авторский» организм. И тому есть веские основания. Прежде всего, это
философски ориентированные позиции самих обэриутов, заявляемые Липавским,
Хармсом и Введенским, а позднее, в более развернутой и систематичной
форме разработанные Друскиным. Поведение поэтической системы в
моменты развития непредсказуемо для наблюдателя. Только post festum, когда
оно прерывается (неважно как - естественно или трагически), можно
поставить вопрос о виртуальном образе Произведения. Традиционный
философ всегда стоит перед тем, что он называет Непостижимым,
Изначальным или Абсолютом, - имен много; он всегда стоит перед лицом события,
которое порождает начальный ход мысли. Поэтому в философии так
много бессмысленного и абсурдного, парадоксального и случайного - всего того,
что так и осталось необьясненным в одной системе взглядов. И требуется
много новых объяснений для того же самого, давно состоявшегося события
мысли. Требуются другие философии. Каждая философия пытается дать
логическое объяснение тому, что она уже понимает. В философии понимание
предшествует объяснению: сначала мы понимаем, а потом объясняем себе
понятое. Когда философ соприкасается с поэтическим опытом, он также
432
Вступление. Страх полдня
начинает с понимания. Замечу, что по мере объяснения, понимание часто
ускользает от нас. А это значит, что, исследуя тексты той или иной
поэтической традиции (повторы, контрасты и другие фигуры речи), философ
приходит к допущению сверхценной идеи, которая должна лежать в основе
поэтической онтологии. А иначе, как была бы возможна поэзия? Такой
сверхценной поэтической идеей для обэриутов и является тема остановки
мира-времени. Только понимая ее, мы в силах обленить устройство
поэтического произведения Обэриу. Обширные комментарии к творчеству
Введенского и Хармса, оставленные Друскиным, и его собственное
систематическое философствование представляют собой образец такого понимания:
«Мир Введенского я ощущаю вполне экзистенциально, то есть чувствую.
Он близок мне, но все же иероглиф последней строчки: на обоях человек, а на
блюдечке четверг - не могу не только определить, но и сказать о нем что-
либо. Может, здесь ничего и не надо сказать, это последний предел мысли;
и это я чувствую»14. С одной стороны, он претендует на продолжение дела
обэриутов, и рассматривает собственный способ мыслить исключительно
в границах языка чинарей: «Чинарный язык - атональность, то есть
фиксация онтологической бессмысленности: языковой, логической и
ситуационной. В мою философию и теологию фиксирование бессмыслицы входит
как установление реальной онтологической и гносеологической антиномии
- тожества апории или синтетически одностороннего тожества, затем
антиномии акта и состояния, что и как, имения и усвоения, созерцания и
участия и др. Тогда, во всяком случае до некоторой степени, и моя
философия написана на чинарном языке»15. С другой стороны, он считает себя
«последним обэриутом», признающим влияние рано ушедших друзей, хотя
и не устает подчеркивать самостоятельность собственной философской
позиции, отстаивая свои идеи в заочном споре с такими мыслителями, как
Л. Витгенштейн, М. Хайдеггер, Э. Гуссерль и др.
433
I
Aléa
Общая теория случая
«Случай или случайность, - безотчетное
и беспричинное начало, в которое
веруют отвергающие провидение».
В. Даль. Толковый словарь живого великорусского языка16.
Выбор стратегий
Среди тем поэтической онтологии, вдохновлявших Обэриу, есть
одна, все определяющая - тема случая. Какова природа его, функции
и место в поэтической онтологии? Чем случай отличается от события?
Как случай определяет время или, может быть, случай - это не время?
Теории предсказуемого, «задуманного» произведения поэтика Обэриу
противопоставляет метафизику случая, истолкованию «истинных»
причин и целей творческого акта - умение пользоваться
благоприятным случаем. Вот что понимает Введенский под поэтической
критикой разума, да и не только он. Эту позицию разделяли и другие
участники группы. Через многие годы Друскин пронес мысль об
онтологическом статусе «случайности» (учтем его занятия
додекафонией Шенберга, А. Берга, Веберна, чтение Майстера Экхарта и С. Кир-
кегора). Многие из его размышлений вращались вокруг объяснения
начала творческого акта, - носит ли он характер случайности или
опирается на вполне рациональный выбор и предсказуемость
последующих шагов? Точка зрения, которую отстаивали Э. По, С.
Малларме, П. Валери: устранение любых признаков случайного из
произведения (хотя не скажешь, что Малларме достиг той ясности мысли,
434
которая была ему необходима для оправдания собственного выбора:
идея совершенной Книги)'7.
Несколько стратегий: одна интерпретирует случай как судьбу,
другая - как происшествие, третья - как чудо; четвертая - как событие.
Часто слышим следующее начало рассказа или байки: «А вот еще был
случай...». Обычно говорят: «но этому повезло, счастливчик, он
родился в рубашке», «ему все время везет». Случай часто соотносится
не с событием, а судьбой; они уравниваются в экзистенциальном
времени. Ведь говорят же: «Интересный случай!». Случай или история
жизни как цепь симптомов, порядок случайного до переживания
событийного ряда18. «Отбросив греческую идею о цикличности
времени и вечном возвращении, мы еще острее почувствуем
исключительность случая. Она трагична по сути, риторика любит ловко
пользоваться ее пафосом. В необратимом процессе времени случай «единичен»,
"беспрецедентен", он никогда не повторяется, он не предупреждает
о себе и не знает "второго раза", к нему нельзя приготовиться
заранее, его нельзя догнать, если он упущен и т.д. Случаясь в первый (и
последний) раз, случай всегда внезапен»19. Добавим: случай
невозможно интерпретировать, поскольку в отличие от события, которое
требует для себя наблюдателя (и интерпретации), случай обладает
чисто сингулярной формой, его невозможно истолковать иначе, чем
он есть как мгновенно проходящее явление жизни. Случаев
множество, но ни один из них до сих пор не повторился, а это говорит о
том, что случай - часть нашего неотчуждаемого опыта. Как видно,
то, что происходит непроизвольно и неожиданно с нами, другими
и миром, есть случай. Но случай подтверждает непредсказуемость
каждого мгновения. Жизнь - это неупорядоченная и непредвидимая
цепь случайностей. А как же наши планы, воля и стремление к цели
(успеху), - разве мы не пытаемся управлять случайностями жизни?
К сожалению, все это нельзя принять в качестве убедительного
довода, ибо важно не то, что считает человек своим достижением
сегодня, а то, как оно было ранее реализовано в порядке случайного.
Случай относится к порядку следствий, событие - к порядку причин.
Но из следствий не объяснить причины, как из одних причин -
другие следствия. Уточню: то, что представлено случаем, имеет свое
тайное имя: это имя - истина, которую мы не можем изменить.
Каково же отношение случая к времени ?
Нельзя ли начать с того, что выделить общее или объективное
время, все изменяющее, которое «проходит», «бежит», которого
«не хватает» или его «слишком много, некуда девать?». Это время,
если мы присмотримся, делится на то, что было, что есть, что будет,
435
Обморок мира. Поэтика случая в литературе Обэриу
это время объективное, время числовых соответствий (меры,
датировки, разделы-исчисления, хотя все это остается чисто внешним
к времени-переживанию). Допустим, существование двух миров: один
погружен в летаргический сои, там время остановилось, и другой,
бодрствующий, «живой», текучий, там время не стоит, оно длится. Одно
время, назовем его большим (сюда включены и другие специальные
времена: физическое, хронографическое, космологическое и пр.),
имеет смысл только в последовательности и необратимости хода;
оно вне нас, но вместе с нами, это объективная шкала наших
расчетов, надежд и поражений. Это время конечное для всех существ,
пытающихся его воспринять; в нем - смерть и завершение
жизненного цикла; смерть как мера, число, статистика. В этом времени нет
настоящего, точнее, оно неуловимо, ибо это время предметно,
пространственно, не терпит необусловленного и предметно не
ставшего. Есть и другое время, малое, время интенсивное, не экстенсивное
и формальное, это время переживаемое, экзистенциальное, оно
может быть импульсивным, ускоряющимся, но и крайне медленным;
открывающимся в переплетении мгновений, расходящимся,
разреженным, почти пустое, в нем нечем дышать, но и временем
насыщенным, сверхплотным, напряженное, готовым взорваться.
Определяющая черта малого времени: оно длится и не повторяется. Все, что
повторяется, приобретает пространственную форму, становится
привычкой. В наших расчетах с объективным временем мы
ориентируемся на привычку, ведь именно она соотносит наше собственное
переживание времени со временем от нас независящим. Привычка
создает иллюзию нашей приспособляемости к естественному
времени, космическому (времени Природы). Между этими временами
существуют зоны взаимодействия. Когда большое время вторгается
в малое, то это и будет Событием (часто катастрофическим), когда
малое - в большое, то это и будет Случаем. Следовательно, случай
относится к нашей оценке внешнего времени, для которого не
существует никакой случайности (ни остановки, ни обрыв, ни пауз).
Случайность привносит в мир малое человеческое время. Всякое
творческое усилие требует для себя хоть на мгновение
остановленного времени, малого промежутка, иногда интенсивного,
взрывного. В этих лакунах, что пробивают ход объективного времени, и в
самых неожиданных пунктах и зарождается поэтическая субстанция,
она мерцает там, как желтые крохи золота в темных слоях богатой
жилы. Там, где мы подчиняемся следованию за большим временем,
там мы во власти привычки, ритуалов повседневности. Тогда всякий
случай, да и сама случайность выглядит ошибкой, пренебрежением
436
I. Aléa
повседневной прагматикой жизни, а иногда прямо-таки судьбой.
Делая малое время недоступным для большого, мы становимся
поэтами. Углубление в малое время сопровождается экспериментами в
области поэтической речи, в сновидной и галлюциногенной
практике (наркотические препараты), и, конечно, в игре.
Но тогда спрашивается: а что это значит остановить время мира?
Или оно останавливается само? Если в сказке Перро летаргический
сон принцессы не останавливает общее время, напротив, время идет
по-прежнему, но обходит принцессу (ее замок со всеми
обитателями), - этот замкнутый на себя мир, находящийся вне времени. На
самом деле всякая остановка времени-мира, если бы была возможна,
ведет к полной катастрофе, концу мира. Случай понимается как имя
остановки действия привычки, той «частоты, плотности реального
происходящего». Случай удостоверяет прерывание, соединяя
прерванное, он «залатывает» темпоральные прорехи; когда ничего не
происходит и нет повода чему-то случиться: «...таким скоротечным
кажется это совпадение и таким бесконечно малым его время; оно
- как вспышка молнии в каком-то почти полном отсутствии
времени»20. Но когда происходящее все-таки προ-исходит и становится
происшествием, вот тогда может наступить время оценки
происходящего. И что-то из всего, что происходит, может оказаться или
«счастливым случаем» или «несчастным». Ведь общая манера
размышлять для Хармса, Вагинова и Введенского, и, конечно, для
главного обэриутского философа Липавского заключается в следующем
по простоте приеме: сопоставлении всего со всем (слов, событий, вещей
и происшествий, фактов и идей)21. Герой Вагинова собирает мелкие
и мельчайшие осколки событий, приносимых постреволюционным
временем, которые он сохраняет в виде газетных вырезок, оберток,
«ногтей», окурков, картинок; все это нелепые странные остатки,
почти мусор, выхваченные из единого потока времени, они
образуют причудливые коллекции случайного, никому не нужного,
истраченного бытия. У обэриутов эстетика чистого повтора
(аристотелевская) распадается, на первый план выходит метафизика Случая.
Юмор мира, или фальсификация случая
Виртуозом техники случая был Д. Хармс. Правда, у него случай
отрицает смысл чудесного, невероятного, того, что может случиться
с каждым и нарушить своим вторжением скуку жизни. Если сказать
точнее, то случаю он противопоставляет чудо: чудо ожидаемо, но
Обморок мира. Поэтика случая в литературе Обэриу
невозможно; случай не ожидаем, но возможен (кстати, он убивает
веру в чудо). Один ряд своих произведений Д. Хармс называл
«случаями». Случаи - единственная и вполне законченная форма
литературной записи. Непонимание случившегося как интрига. Избран
минималистский стиль, что усиливает эффект почти библейской простоты
высказывания, порой доводя его до абсурда. Высказывание кажется
ничего не значащим сообщением; именно в силу чрезмерной
упрощенности, краткости, монотонности происходящего. Все сразу
оказывается погруженным в скуку повторения. Располагать случаем по
усмотрению; тогда каждое происшествие предстает в виде случая, ему
отказано в событийности. Переход случая в событие здесь закрыт.
Нет нужды в углублении понимания причин случившегося, ибо они
не имеют никакого смысла. На первый взгляд, теория случая,
развиваемая Хармсом, близка дадаистской традиции (не
сюрреалистической). И прежде всего, тем, что в обэриутских «случаях» нет ничего
чудесного, скорее курьезное, издевательское,
сатирически-гротескное, невероятное, переходящее в комический жест; что не нуждается
в каком-либо толковании. Случаи Хармса - это не о том, что
случилось, а о том, что случается непрерывно, что, собственно, и случаем-
то назвать трудно. В этом гротескность, умелая «извращенность» в
игре ума: я бы назвал это фальсификацией случая. Действительно,
ведь случаем Хармс называет небольшой рассказ, по размеру
предельно краткий, а по стилю минималистский, и это даже и не «рассказ»,
а легкое орудие войны, атаке подвергается традиционная
литературная форма: «большой рассказ» (повесть, роман или поэма), имеющий
сюжет, героев, конец и начало. Хармс прекрасно понимал
собственный прием, и даже учил тому, как писать «случаи». Так он различал
три разных литературных стержня: один - «объяснение»; второй
- «описание»; и, наконец, третий он называет «демонстративным
явлением». Вот что он замечает: «Такого рода явление, несмотря на
отвлеченность и удаленность смыслового расстояния, должно
восприниматься буквально. Описываемое таким образом какое-либо
действие обладает наибольшей конкретностью. Описание перестает быть
описанием и становится самим действием, таким, под которым
можно приклеить односложный этикет. Отсюда название приема:
"Действие с этикетом" (то же демонстративное действие)»22. Итак, случай
отличается демонстративностью, Хармс отрицает риторику образа,
всякую репрезентацию, случай должен потрясать буквальностью;
иначе говоря, должен производить перформативный эффект.
Если даже вы возьмете более пространные тексты Хармса (не
важно, - поэтические, прозу или пьесы), то заметите, что все они
438
I. Aléa
составляются из все тех же малых форм, - из «случаев». Причем, нет
никакой последовательности в выборе сюжета, все взято как бы со
стороны, непонятно почему и случайно, словно только что пришло
в голову (и жалко было вымарывать). Что же демонстрируется?
Например, персонажи а и tf производят комический эффект пока
меняются местами, повторяют друг друга, пока им навязываются
действия, нарушающие поведенческую норму. Сначала идет
раскачивание, это похоже на танец, оно предваряет начало вращения. В действие
вступают частицы: и той другое, и это и то. Здесь нет никакой
диалектики, это, возможно, чисто музыкальная форма повтора. Каждый
«случай» имеет дело с конечным ничто, он завершается полным
распадом героя или его среды, причем это влечение к «разрушению»
как раз и определяет непрерывность повтора, раскачивания,
переходящего в конце концов в то, что Липавский назовет обратным
вращением (не обязательно - против часовой стрелки). Каждый случай -
одна навязчивая тема, выраженная одной глагольной формой
(например, лежать, спать, вываливаться/падать, бить в морду, летать,
умереть, не быть/не иметь и т.п.). Однако это не значит, что все
действие обязательно строится вокруг одного глагола, часто в более
сложных «случаях» оно прерывается вторжением другого, не менее
случайного фактора. Монотония рассказа-случая, его предсказуемость
нарушается несоответствием действия субъекта и глагольной
формы. Начало каждого «случая» так же случайно, как и его конец.
Примеры под рукой, приведем некоторые из «случаев» Хармса:
«Голубая тетрадь №ю. Жил один рыжий человек, у которого не было
глаз и ушей. У него не было и волос, так что рыжим его назвали условно.
Говорить он не мог, так как у него не было рта. Носа тоже у него не
было. У него не было даже рук и ног. И живота у него не было, и спины у
него не было, и хребта у него не было, и никаких внутренностей у него
не было. Ничего не было! Так что непонятно, о ком идет речь. Уж лучше
мы о нем не будем больше говорить (1937)»
«Вываливающиеся старухи. Одна старуха от чрезмерного любопытства
вывалилась из окна, упала и разбилась. Из окна высунулась другая
старуха и стала смотреть вниз на разбившуюся, но от чрезмерного
любопытства тоже вывалилась из окна, упала и разбилась. Потом из окна
вывалилась третья старуха, потом четвертая, потом пятая.
Когда вывалилась шестая старуха, мне надоело смотреть на них, и я
пошел на Мальцевский рынок, где, говорят, одному слепому подарили
вязаную шаль».
439
Обморок мира. Поэтика случая в литературе Обэриу
«Случаи
Однажды Орлов объелся толченым горохом и умер. А Крылов, узнав
об этом, тоже умер. А Спиридонов умер сам собой. А жена Спиридонова
упала с буфета и тоже умерла. А дети Спиридонова утонули в пруду. А
бабушка Спиридонова спилась и пошла по дорогам. А Михайлов
перестал причесываться и заболел паршой. А Круглов нарисовал даму с
кнутом в руках и сошел с ума. А Перекрестов получил телеграфом четыреста
рублей и так заважничал, что его вытолкали со службы. Хорошие люди,
и не умеют поставить себя на твердую ногу (1933)».*3
«Встреча. Вот однажды один человек пошел на службу, да по дороге
встретил другого человека, который купив польский батон, направлялся к
себе восвояси.
Вот, собственно, и все»24.
«Машкин удавил Кошкина.
Товарищ Кошкин танцевал вокруг товарища Машкина.
Тов. Машкин следил глазами за тов. Кошкиным.
Тов. Кошкин оскорбительно махал руками и противно выворачивал ноги.
Тов. Машкин нахмурился.
Тов. Кошкин пошевелил животом и притопнул правой ногой.
Тов. Машкин вскрикнул и кинулся на тов. Кошкина.
Тов. Кошкин попробовал убежать, но споткнулся и был настигнут тов.
Машкиным.
Тов. Машкин ударил кулаком по голове тов. Кошкина.
Тов. Кошкин вскрикнул и упал на четвереньки.
Тов. Машкин двинул тов. Кошкина ногой под живот и еще раз ударил
его кулаком по затылку.
Тов. Кошкин растянулся на полу и умер.
Машкин убил Кошкина»."5
«История дерущихся
Алексей Алексеевич подмял под себя Андрея Карловича и, набив ему
морду, отпустил его.
Андрей Карлович, бледный от бешенства, кинулся на Алексея
Алексеевича и ударил его по зубам.
Алексей Алексеевич, не ожидая такого быстрого нападения, повалился
на пол, а Андрей Карлович сел на него верхом, вынул у себя изо рта
вставную челюсть и так обработал ею Алексея Алексеевича, что Алексей
Алексеевич поднялся с полу с совершенно искалеченным лицом и
рваной ноздрей. Держась руками за лицо, Алексей Алексеевич убежал.
440
I. Aléa
А Андрей Карлович протер свою вставную челюсть, вставил ее себе в
рот, пощелкал зубами и, убедившись, что челюсть пришлась на место,
осмотрелся вокруг и, не видя Алексея Алексеевича, пошел его
разыскивать (1936)».а6
«Сон
Калугин заснул и увидел сон, будто он сидит в кустах, а мимо кустов
проходит милиционер.
Калугин проснулся, почесал рот и опять заснул, и опять увидел сон,
будто он идет мимо кустов, а в кустах притаился и сидит милиционер.
Калугин проснулся, положил под голову газету, чтобы не мочить
слюнями подушку, и опять заснул, и опять увидел сон, будто он сидит в
кустах, а мимо кустов проходит милиционер.
Калугин проснулся, переменил газету, лег и заснул опять. Заснул и опять
увидел сон, будто он идет мимо кустов, а в кустах сидит милиционер.
Тут Калугин проснулся и решил больше не спать, но моментально заснул
и увидел сон, будто он сидит за милиционером, а мимо проходят кусты.
Калугин закричал и заметался в кровати, но проснуться уже не мог.
Калугин спал четыре дня и четыре ночи подряд и на пятый день
проснулся таким тощим, что сапоги пришлось подвязывать к ногам
веревочкой, чтобы они не сваливались. В булочной, где Калугин всегда
покупал пшеничный хлеб, его не узнали и подсунули ему полуржаной.
А санитарная комиссия, ходя по квартирам и увидя Калугина, нашла его
антисанитарным и никуда не годным и приказала жакту выкинуть
Калугина вместе с сором.
Калугина сложили пополам и выкинули его как сор».27
Присмотримся! Разве не очевиден разрыв между нашим
телесным навыком, который позволяет осваивать новый опыт, не
отвергая предшествующий, и тем взаимодействием тел, с которым мы
сталкиваемся при изучении «случаев» Хармса. Полная конверсия
субъекта, нарушение управляемости: глагол получает позицию субъекта,
превращая последнего в придаток действия, что приводит к утрате
смысла, ведь субъект сам по себе ничего не значит. В стандартной
грамматике языка субъект не теряет управленческих функций, они
даже подчеркиваются. Здесь же вводится запрет на естественный
отклик, миметический, что прокладывает читателю путь к реальным
событиям и фактам, которые хоть как-то должны соотноситься с
рассказом. Отсюда мощный комический эффект. Перед нами пустые
знаки, иероглифы и шифры, даже имена персонажей ничего не
значат. Здесь нет места для референциальной иллюзии. Ее отсутствие
441
Обморок мира. Поэтика случая в литературе Обэриу
компенсируется смеховой волной; комика и есть та реальность, с
которой считается поэт. Язык обескровлен, теряет живую плоть, фразы
абстрактны, плоски и ничего не выражают кроме голого действия;
правда, до тех пор, пока какое-нибудь сопоставление не вызовет шок
или временное недоразумение, которое потом закрепляется в
рассказе «о том, что случилось». Случай - часть комической
демонстрации реальности, именно юмор возвращает нам чувство реальности.
Бессмыслица наделяется смыслом с начала смеховой игры. Только
потому она и имеет смысл у Хармса, что юмор фальсифицирует с
невероятной убедительностью всякое объяснение случившегося.
Смех - это наша реакция на жестикуляцию человека, вдруг
падающего «на пустом месте». Что же такое обэриутский жест? Думаю,
что он нуждается: в пропасти, пустоте и Ничто.
Р.-М. Рильке в «Дуинских элегиях» говорит об
«осмотрительности человеческого жеста», как имеющего внутренний предел,
который не позволяет ему стать насильственным, слишком очевидным,
неубереженным.
«Не удивляют ли вас аттические барельефы
Осторожность жеста людского? Любовь и прощание
Не ложились на плечи там легко, словно тело
Было более хрупко, чем наше? Вспомните руки,
Их невесомость, и силу, скрытую в торсах
Собою владели тогда и помнили: вот наш предел;
Соприкасаться так подобает»."8
Так вот, на мой взгляд, обэриутский жест является
неосмотрительным, трансгрессивным, не знающим внутренней меры. Будучи
направлен к предметам, телам и событиям, он никогда не
возвращается назад. Кривая невозвращенного жеста. Ничейный жест или
трансцендентальный? После его вторжения в язык-мир, язык отделяется
от мира, и мир меняет свое лицо, - это уже другой мир. Там нет
больше языка, охраняемого нашими жестами. Поэтому обэриутский жест
всегда разрушителен, хотя я не могу сказать, что он является
насильственным. Вероятно, индивидуальные поэтические жесты каждого
из обэриутов могли бы составить богатую коллекцию. О них мы
узнаем по автобиографическим заметкам, новым легендам, слухам,
воспоминаниям друзей, подруг и современников. Поэтические
миры Введенского и Хармса могут существовать лишь до тех пор, пока
повторяется их «неосмотрительный жест». Физическая энергия
жеста впечатляюща, к ней нас влечет с первых мгновений чтения, и это,
442
I. Aléa
пожалуй, почти единственное, чем в силах мы так полно
наслаждаться. Обэриутский жест управляет логикой повторов одного и
того же действия для разных предметов. Предмет извлекается из
обыденного окружения и тут же теряет привычные качества и формы
существования. Не из набора определенным образом
расположенных предметов мы получаем смысл произошедшего события, но из
самого события, которое по своей природе до-предметно и
располагается на территории пред-смысла.
Жест, производимый обэриутской поэтической энергией,
является событием, в котором обыденные вещи обретают новые модусы
существования. Старухи все время падают и вываливаются именно
потому, что они мертвые, и мертвые потому, что все время падают,
они встают на ноги, чтобы вновь упасть... Отрабатывается в
цепочке повторов одного события жест принудительно-свободного
падения («упадания»). Обэриутский жест «длится», он не может быть
завершен, поэтому он вновь и вновь себя повторяет, открывая
возможность для предметов и тел избавиться от своих прежних свойств.
Этих жестов никогда не мало, их и должно быть много, они -
«случаи»: жесты мордобоя, еды, совокупления, отрезания органов и
зашивания, жесты тел идущих, стоящих, сидящих, ползающих,
лежащих, летающих, встающих, падающих...
«Одна муха ударила в лоб бегущего мимо господина, прошла сквозь его
голову и вышла из затылка».29
«И ветер, дующий в холм, пролетел сквозь него, не сгоняя его с пути.
Будто холм кремневых пород потерял свойство непроницаемости. Сквозь
холм, например, пролетела галка. Об этом утверждают несколько
свидетелей».30
«Вдруг из дома вылетела муха, покружилась и ударила игумена в лоб.
Ударила в лоб и прошла насквозь головы, и вышла из затылка, и
улетела опять в дом».31
Если не полениться, то всякий читающий эти прозрачные и
чистые по-детски тексты должен не ограничивать себя задачами
филолога-практика или психиатра-теоретика, составляющих опись
подобных жестов-событий. Можно сказать, что практически любое
произведение обэриутского архива, тем более небольшое, способно
выразить присущий ему жест во всей полноте его скуки и
чудовищности несвершения. Деятельно, предельно активно выразить от-
443
Обморок мира. Поэтика случая в литературе Обэриу
сутствие всякого действия. Обэриутский жест - очаг бессмыслицы,
он самоценен, событиен, и поэтому не нуждается в интерпретации
(«смысле»), он - ни для чего, он - просто открытие новых
возможностей существования предметов и тел, погрязших в скуке времени
и поэтому неподвижных и мертвых.
Порядок кинетической организации «случая» может быть
разным: по цепочке (эстафета) повторяемых действий; расщепление, или
исчерпание свойств предмета, события, телесного образа; сдвоенная
играв то-это (вид обмена между теми этим). Случай вовлекает в
ироническую игру множества нереальных и надуманных случайностей.
По моему мнению, Хармс как комик ближе всего к Бастеру Китону.
Мы же должны за абсурдом и бессмыслицей «случаев» видеть сме-
ховую мотивацию: нас смешат, хотят рассмешить, заставляют
смеяться над бессмыслицей, тем самым нейтрализуют ее драматическое
воздействие38. Приемы Хармса близки так называемым гэгам Кито-
на. Что такое гэг? Это действие персонажа, приводящее к
столкновению с внешним миром. Гэг - элемент комической ситуации, он
абсурден, ибо существует сам по себе, независимо от той ситуации,
в которой вдруг проявляет себя: «... если гэг порождает абсурд, то
это никогда не бывает немотивированно, то есть независимо от
разрушенного потока речи. Кроме того, именно нарушая нормы
реалистического повествования, гэг делает их существование
очевидным»33. Гэг - это якобы орудие разрушения и насилия, изобретенное
немым кинематографом для комического ниспровержения
поведенческой нормы. Подобно гэгам, набор жестов в «случаях» Хармса
немотивирован и одновременно абсолютно случаен, его комика
навязчива. Гэг - внезапное замыкание противоположного, приводящее
к вспышке, - вот что вызывает смеховую спазму. Таков смеховой
механизм в гэгах Китона: он - проводник действия недопустимого и
чрезвычайно опасного для героя в реальной жизни. Однако как
легко разрушить упорядоченное бытие повседневности: для этого всего-
то и нужно два-три «точных» ударных гэга! Посредством гэга в мир
вторгается случайность, одна из целей операции - представить мир
намного менее безопасным, чем он кажется. Гэги - ответная реакция
«маленького человека» на окружающую его опасную техносреду.
Кинетическая энергия «случаев» Хармса скрадена повторением и
нелепостью происходящего, между тем в каждом из них она
присутствует и достаточно явно; что-то все время происходит, не
происходя. Случай так и не состоялся, но это не говорит о том, что он не
произошел. Всякое действие - это цепочка или целый куст действий,
444
I. Aléa
где все, что предсказуемо, подвергает активному разрушению
общепринятую норму поведения. Случай блокируется бессмыслицей.
Каждый случай Хармса - это подборка картинок бессмысленного. Можно
сказать, что подлинный случай противостоит бессмыслице, ибо он
происходит, т.е. имеет начало и конец во времени.
Принцип: «некоторое равновесие с небольшой погрешностью»
Что это значит - небольшая погрешность} Это то, что нарушает
равновесие в системе, одновременно поддерживая ее развитие
(жизнеспособность)34. Этот принцип был изобретен Друскиным в 1933
году35. В тех областях опыта, где движется его мысль, столь
дисциплинированная и натренированная в логике аргумента, появляются темы,
иллюстрирующие отношение принципа «небольшой погрешности»
к динамическим аспектам существования системы как целого
(поэтической, философской и любой другой). Иначе говоря, равновесие
системы дается через ее небольшое нарушение, что позволяет придать
равновесию новое качество устойчивости; выражаясь современным
языком, хаос открывает возможность порядка. Небольшая
погрешность есть некий случай, ставший иероглифом изменения. Вот
типичные для Друскина размышления:
«Некоторое равновесие с небольшой погрешностью — это нарушение
и восстановление равновесия. Это нарушение и восстановление равновесия
есть сейчас и сейчас, всегда сейчас. Но когда равновесие восстанавливается
— это неопределенно вторым родом неопределенности, как то — то.
Нарушение и восстановление равновесия — это только способ понять
некоторое равновесие с небольшой погрешностью, мы замечаем его
только что нарушенным или восстановленным»36.
«Некоторое равновесие не происходит и не возникает, не нарушается
и не восстанавливается. Некоторое равновесие с небольшой
погрешностью есть в видимом, в том, что происходит, небольшая погрешность
равновесия есть видимость происхождения и времени, но само
равновесие не во времени. Я же замечаю его как нарушение и восстановление,
я замечаю небольшую погрешность. Оно открывается мне в нарушении,
когда же восстанавливается, но только в видимости, потому что само
не нарушается и не восстанавливается, но есть, тогда я ничего не вижу.
Я наблюдаю восстановление равновесия как пустое, незаполненное
время без событий. Это время не движется, не проходит, оно просто есть.
445
Обморок мира. Поэтика случая в литературе Обэриу
Но равновесие также не возникает, не нарушается и не
восстанавливается, но есть. Время — это форма некоторого восстановленного
равновесия с небольшой погрешностью. Это время пустоты и скуки. Другое
время — время событий — это небольшая погрешность в некотором
равновесии.
Что меня интересует сейчас во времени? Если я говорю, что время — это
форма некоторого равновесия, только что восстановленного, это надо
понимать так: если времени не существует, если время только видимость,
то я воспринимаю время в некотором равновесии, когда оно
восстанавливается. Таким образом, время пустоты и скуки — это форма небольшой
погрешности в некотором равновесии, когда оно восстанавливается.
Но сейчас меня интересует другое: если времени не существует, то нет
изменения. Я представляю себе вечность как мгновение, все же, что
было до этого мгновения, уже не существует, это относится к
состояниям или возможностям мгновения. Но в мгновении я не нахожу
благоприятствующего мне. В мгновении я нахожу чужое. Меня это пугает, и
я хотел бы другой вечности, которая дала бы мне успокоение; с
вечностью связывается идея вознаграждения, таким образом — будущее, то
есть вносится время. Но это неверно».37
«Совершенная система - совершенная предельность - смерть. История
небольшой погрешности: первоначально погрешность была именно
погрешностью - неизбежным недостатком. Но затем я увидел, что
система без погрешности заключает в себе еще большую погрешность -
погрешность предельности. Тогда погрешность стала достоинством.
Но при этом перестала быть погрешностью. Непонимание, недоумение,
"боль бытия" нельзя исключить из погрешности, как это делали мы с
Д.И.: некоторое непонимание есть понимание».3
Попробуем пояснить приведенные выше цитаты. Возьмем, к
примеру, калейдоскоп: стоит только повернуть его трубку как рисунок
изменится; как будто случайно, но с ожидаемым результатом.
Выпадение очередной картинки зависит здесь от характера исходных
операций («ограниченное число узоров»). Случайность прячется в
мельчайших отклонениях, которые невозможно обнаружить, там
она не управляема и не проектируема. Это был бы такой
калейдоскоп, где каждый поворот давал новый узор, ни один из которых не
мог бы повториться. Самое неприметное, незначимое дает большие
следствия, как говорил Ницше: «Великие события приходят на
голубиных лапках»39. Это другого рода случайность, которая
присутствует в любой, даже самой автоматизированной и «жесткой», системе,
446
I. Aléa
- некий скачок, вспышка, переход или едва приметный сдвиг.
Макрослучайность планируема, микрослучайность - нет. Древнегреческий
философ Эпикур размышляет над началом мира именно с точки
зрения «небольшой погрешности»: и дает ей имя - клинамен, clinamen.
В поэтической космогонии Лукреция Kappa «О природе вещей» этот
род первоначального отклонения был прекрасно и в деталях описан.
Мир, по Эпикуру, состоит из материи и пустоты, частицы материи
падает в бесконечном, нескончаемом пространстве.
«Я бы желал, чтоб ты был осведомлен здесь точно так же,
Что, уносясь в пустоте, в направлении к низу отвесном,
Собственным весом тела изначальные в некое время
В месте неведомом нам начинают слегка отклоняться,
Так что едва и назвать отклонением это возможно.
Если ж, как капли дождя, они вниз продолжали бы падать,
Не отклоняясь ничуть на пути в пустоте необъятной,
То никаких бы ни встреч, ни толчков у начал не рождалось,
И ничего никогда породить не могла бы природа.
Если же думает кто, что тела тяжелее способны
В силу того, что быстрей в пустоте они мчатся отвесно,
Сверху на легкие пав, вызывать и толчки, и удары,
Что порождают собой движения жизни, то, право,
Бродит от истины он далеко в заблужденьи глубоком.
Ибо всё то, что в воде или в воздухе падает редком,
Падать быстрее должно в соответствии с собственным весом
Лишь потому, что воды или воздуха тонкая сущность
Не в состояньи вещам одинаковых ставить препятствий,
Но уступают скорей имеющим большую тяжесть.
Наоборот, никогда никакую нигде не способна
Вещь задержать пустота и явиться какой-то опорой,
В силу природы своей постоянно всему уступая.
Должно поэтому всё, проносясь в пустоте без препятствий,
Равную скорость иметь, несмотря на различие в весе.
Значит, нельзя и телам тяжелее на легкие сверху
Падать никак и рождать при падении этом удары,
Чтобы движенья менять, из каких созидаются вещи -
Вновь повторяю: тела непременно должны отклоняться,
Но незаметно совсем; чтоб отнюдь никому не казалось,
Что мы движение вкось вопреки очевидности мыслим.
Ибо мы можем всегда совершенно легко убедиться,
Что в силу веса тела, поскольку мы можем заметить,
447
Обморок мира. Поэтика случая в литературе Обэриу
Вкось устремляясь, идти при падении сверху не могут.
Но что они никуда от линии строго отвесной
Не уклонятся ничуть, - разве кто-нибудь это усмотрит?»40
Вывод: если бы атомы материи падали не задевая друг друга, не
отклоняясь, то мир не смог бы начаться. Поэтому в начале рождения
мира - всегда «небольшая погрешность». Самое незначительное,
несущественное нарушение, почти неощутимое касание одного
атома другим, - вот, что вызывает неуправляемую цепную реакцию
других отклонений. Однако главное - это то, что клинамен указал на
свободу и автономию атомов; в противном случае они бы слиплись
и превратились в один ком41. Но поскольку атомы - эти вечные
единицы, упругие, крепко вздутые резиновые шарики, и их
бесчисленное множество, они соударяются и разлетаются под действием
собственных столкновений, образуя целые поселения материи (воду,
землю, огонь, небо, человеческие тела и т.п.)
«Движутся атомы непрерывно и вечно
и с равной скоростью... - ибо в пустоте одинаково легок ход и для легкого и для
тяжелого: одни — поодаль друг от друга, а другие — колеблясь на месте,
если они случайно сцепятся или будут охвачены сцепленными атомами.
Такое колебание происходит потому, что природа пустоты,
разделяющей атомы, неспособна оказать им сопротивление; а твердость,
присущая атомам, заставляет их при столкновении отскакивать настолько,
насколько сцепление атомов вокруг столкновения дает им простору.
Начала этому не было, ибо и атомы и пустота существуют вечно»4".
Следовательно, как бы ни была высока частота столкновений
для отдельного атома-шарика, все же существует миг свободы для
каждого. А это значит, - в каждое мгновение великий случай
обновляет мир. И он опирается на наличие мировой пустоты: это не
пустота отделенная, а все проникающая, то, что всему способствует к
разделению и слипанию. Здесь - игра пустоты. Все характеристики
космоса не могут быть объяснены без наличия этой пустоты, столь
же вечной, как и материя, в которой она пребывает43. Конечно,
космогонические взгляды Эпикура рискованно накладывать на
поэтическую онтологию обэриутов, тем не менее, образ клинамена может
быть хорошей проверкой их мысли о «небольшой погрешности».
Все тела и души - составные, граничащие вне себя и в себе с
пустотой, что разделяет и связывает. «Небольшая погрешность», если
интерпретировать ее натуралистически, по Эпикуру, представляет
448
I. Aléa
собой бесконечно исчезающее расстояние между двумя атомами (или
частицами): сцепление большей или меньшей силы, проникающее
или скользящее изменяющее или усиливающее, но сила
взаимодействия каждый раз меняется по случаю, не по необходимости. Как же
образуются тела? В падении. Но падение и есть отклонение, ибо
никакой атом, с тех пор как начал падать, не падает прямо. Но до его
падения (рождения Мира) и нет никакого падения. Для того, чтобы
ввести в мир бесконечное разнообразие вещей и событий,
достаточно минимального отклонения, т.е. все той же «небольшой
погрешности», нарушающей привычный ход вещей. Физически
увиденная «небольшая погрешность» - это и трещина, и щель, разрыв,
- сила, открывающая место пустоты в динамической картине миро-
падения. В сущности, клинамен или мировой отклонение -
гипотеза, которая с одной стороны позволяет избавиться от пустоты,
поскольку материя достигает предельной плотности, образуя все, что
есть, но с другой стороны, мир бы не смог существовать, если бы не
распадался вновь и вновь, а это и есть следствие пустоты. Клинамен
связывает пустоту с материей.
Интерес к проблематике «небольшой погрешности» проявляли
многие обэриуты: но прежде всего Липавский, Введенский,
особенно, Хармс, - он даже рисует образцы архитектурной симметрии с
малой, едва заметной погрешностью Вот схемы-рисунки Хармса,
иллюстрирующие принцип «небольшой погрешности»44.
г~
Щ
т—-
г
0
j S .' .|
*м* >\§^ßee*
ML
*«» /&-.*<'***■*
449
Обморок мира. Поэтика случая в литературе Обэриу
i/fvêktùlHh^ У,
Сейчас-время
Прежде мы смогли убедиться в том, что случай,
интерпретируемый Друскиным в виде «небольшой погрешности», означает начало
всего, он - непредсказуемый и тайный источник жизни. Чистая
форма случая, как индикатор состояния любой живой системы,
обретающей равновесие на то мгновение, которое задерживает проявление
случайного. Но что такое случай, если его перевести в темпоральную
систему отсчета? Или, если сформулировать несколько иначе: есть
ли у случая границы во времени? Случай для Друскина - это не то,
что произойдет завтра, и не то, что произошло вчера, а только то,
что происходит сейчас. Там, где он проявляет себя, и есть настоящее,
а оно всегда - сейчас. Не завтра и не сегодня, не через час, не через
минуту, и не через мгновение. Сейчас - это сейчас. А это значит, что
сейчас есть завершение чего-то, и совсем не текучая субстанция
времени. Если я говорю, что я сделаю это сейчас, то и сделаю. Вот
почему каждое шЬшсперформативно, за ним - завершенное действие.
На вопрос когда, мы отвечаем: сейчас, или сей-чгс, «вы часом не такой-
то?»45 Другими словами, завершаясь в отдельных мгновениях, тем
не менее сейчас продолжает длиться. Мы длимся в сейчас, пока не
скажем себе: сейчас я сделаю это, вспомню, скажу, пойду и т.п. Именно
сейчас и есть территория случая. Как только наша способность к
450
I. Aléa
действию, реакция на мгновения жизни ослабевает, время
настоящего, сейчас-время начинает замедляться, что влечет за собой
остановку всех времен. Каждое мгновение оказывается все новой
«небольшой погрешностью», атакует всеобщее равновесие жизни. Есть
в «Дневниках» Друскина крайне любопытное описание такого
«замедления»:
«Когда человек умирает медленно и перед этим долго болеет, вот что
страшно: каждый день ухудшение небольшое, и поэтому даже кажется,
что становится лучше; но вдруг вспоминаешь: неделю назад он мог
подняться, а теперь — только повернуться. Но затем забываешь, а через
некоторое время с ужасом замечаешь, что уже и повернуться человек
не может, только голову приподнять. И уже в первый раз видишь
неизбежность.
Так же и конец мира.
Может быть, он будет приближаться год и обязательно (наступит) в
жаркое время: начнется в июле и кончится в июле. Начнется, может быть,
так: из окна или на улице я увижу человека, который ничем не
отличается от других, кроме походки, — он идет немного медленнее и
сосредоточеннее других. На таких людей всегда обращаешь внимание и
сразу же забываешь об этом. Так будет и тогда. Другие его тоже увидят и
обратят внимание и сразу же забудут, причем здесь не будет никакого
чуда, потому что в разных местах он будет появляться в разное время.
Когда я увижу его во второй раз, я не удивлюсь, может, даже не вспомню,
что уже видел его. Но через несколько дней я увижу его в третий раз, и
тогда, может быть, мелькнет мысль, что этого человека я уже видел, но
затем снова забуду. Такие встречи будут повторяться две недели с
первого по 15 июля. После последней встречи возникнет смугное
беспокойство, но затем встречи прекратятся на две недели. В первых числах
августа его увидят снова. Первая встреча вызовет некоторое удивление и
даже радость, как это бывает, когда возвращается что-либо привычное,
но при следующих встречах беспокойство будет расти, и оно перешло
бы в страх, если бы 15 августа встречи не прекратились. Бывают такие
ощущения, что, как только сосредоточишься на них, они пропадают,
но только перестанешь думать о них, они снова есть. Так будет с
ощущением страха в это время. Говорить об этом человеке не будут, потому
что такие разговоры покажутся глупыми, как глупо бывает говорить о
слишком смутных предчувствиях и ощущениях. Но по выражению лиц,
когда его будут встречать при мне другие, — может быть, его будут
стараться обходить, не задев, — или, когда речь зайдет о людях, боящихся
пространства, мне вдруг покажется, что и другие обеспокоены этими
451
Обморок мира. Поэтика случая в литературе Обэриу
встречами. Но никто не спросит другого, потому что глупо спрашивать,
когда для этого нет никаких оснований: нет ли у вас предчувствия,
причем даже неизвестно чего. 15 августа встречи прекратятся, и через
несколько дней все успокоятся, только останется некоторая
сосредоточенность, немного больше обычной. Но в первых числах сентября встречи
снова возобновятся, и при первой встрече появится страх. Но и это
еще предчувствие настоящего страха. После нескольких встреч, где-
нибудь, где соберется много людей, а может быть, и в каждом доме ктото
случайно скажет, вспоминая какое-либо событие: это было, когда
появился человек, идущий медленно. И вот это будет страх. Человек, который
это скажет, остановится, и все поймут, что случилось что-то страшное
и непоправимое и что все это уже знают. Но затем перейдут к обычным
делам, и разговор на эту тему будет считаться неприличным, но
постоянный страх уже не будет покидать людей. «Дальше заметят, что
появилось уже много людей, идущих медленно, и будет казаться, что
некоторые из знакомых тоже стали ходить медленнее. Может быть, заметят,
что и трамваи и поезда идут медленнее и день стал длиннее. Об этом
нельзя будет говорить, но власти, желая успокоить население, будто бы
случайно будут сообщать в газетах скорости трамваев, поездов и
аэропланов, которые будто бы даже немного увеличились, также
астрономические факты, чтобы доказать, что длина суток не изменилась. Это
будет просто останавливание движения, но никакая наука не сможет
подтвердить это, потому что и часы будут идти медленнее. Затем станут
появляться приметы, но опять без всякого чуда и такие, что их даже
нельзя принять за приметы, например вода в Неве иногда опускается
ниже среднего уровня, но затем возвращается к среднему уровню,
теперь же не вернется или вернется, но на несколько сантиметров ниже.
Или вечером выпадет сильный снег, а за ночь весь стает. Тут уж будет
такое состояние, что малейшая, хотя бы и естественная, неожиданность
будет страшной. Весна наступит очень рано, и погода будет хорошая.
Март, апрель, май будет яркое солнце, иногда же дожди, но
непродолжительные, пасмурных дней не будет. Но все уже видят, что движение
замедлилось, даже птицы летают медленнее, и некоторое благополучие
в природе и неблагополучие у людей еще больше увеличит страх:
сильнее почувствуется неизбежность. Помимо того, будет пугать
предчувствие жаркого солнечного дня и синего неба. Страх дойдет до такой
степени, что уже перестанут отличать естественное от
неестественного. Затем, уже в начале июня, утром все вдруг увидят, что солнце стало
больше. И весь июнь будут стоять жаркие солнечные дни, и если и будут
дожди, то только для того, чтобы люди не умерли раньше времени. А в
июле случится светопреставление.
452
I. Aléa
Страшно постепенное ускорение, особенно же замедление, то есть ког-
да что-либо происходит со временем, причем, когда это происходит
почти естественно, то это страшнее неестественного».4
Видно, как необъяснимое беспокойство, переходящее в страх,
начинает готовить полную остановку мира-времени. Небольшая
погрешность, которая возбуждает систему, заставляя ее искать новое
равновесие, оказывается последней и самой разрушительной, после
нее воцаряется угроза остановки... нарушение равновесия. Замирают
звуки и шумы, приходит чувство полной опустошенности и
безразличия, теперь отсутствие случайности будет симптоматически
подтверждаться каждой упавшей птицей, каждым застывшим
прохожим, каждым окаменевшим растением. Как только перестает
действовать принцип «небольшой погрешности», и равновесие мира
нарушается, усиливается мертвая зыбь месяцев и дней: начинается
умирание. На самом деле достаточно обратиться к «Дневникам» Друс-
кина периода блокады, чтобы сразу же восстановить в реальном
времени картину замедления жизни, ее «сползания» к смерти: и
причиной тому, несомненно, мог быть только голод: «В январе <1942>
в новый мир вошла погрешность. Здесь прибавление через
отнимание: я потерял часть себя и пришел соблазн. Как это случилось? Я
видел, как слабеют силы, глохнет звук, гаснет свет, умирает
ощущение, отпадает чувство. Я видел покойников на улице, смерть, и свою
собственную. Я — на границе; и возник соблазн. Появились
призраки: люди-призраки и миры-призраки. Они появились в
действительности: опухшие или высохшие лица — два способа умирать от голода,
жадность, потеря чувств, утренняя полутьма и тени людей. Я был
наблюдателем подземного мира, в вечерней же полутьме — ее
участником»47.
При переводе сейчас ъ регистр душевного строя, одинокое
протестантское «Я», отношение к остановке мира наделяется интимно-
личностным эмоциональным строем переживаний. Друскин
предлагает свою схематизацию экзистенциального опыта сейчас-временг/Р:
покорность
* Gelassenheit
о™, испытание r ^-и»^""*·
акту- >^
Провидение <- альное воспо- -+ сейчас «- ожидание надежда,
автоматизм минание соблазн
^ потенциальное искушение * нетерпение,
душевность страх ^ скука
раскаяние,
совесть
Обморок мира. Поэтика случая в литературе Обэриу
Как видно на схеме, «сейчас» располагается в центре всех
экзистенциальных отношений личности. По разным сторонам от него
две временные перцепции: для прошедшего - воспоминание, для
будущего - ожидание. И если мы начнем двигаться в одну сторону, к
прошлому через воспоминание, то сразу же обнаружим сейчас в разрезе
актуального и потенциального опыта настоящего, прошлое как
актуальное и есть настоящее, оно входит в каждое сейчас, как потенциальное
- это возможность самого воспоминания, которая сохраняется; в
конечном счете, кто-то из нас уповает на Провидение (пытаясь из
прошлого видеть будущее), а кто-то остается верным повседневному
автоматизму жизни, поддерживая случайными воспоминаниями
единство собственной личности. Если мы двинемся в правую сторону, а
это область ожидания, то столкнемся с испытанием, поскольку
будущее неизвестно нам; мы можем выражать отношение к нему
чувствами покорности или оставленности ( Gelassenheit), в лучшем случае, -
надеждой. Иной же путь ввергает нас в искушение, мы желаем предвидеть
будущее, даже управлять им, - вот когда мы впадаем в соблазн.
Осознавая это, мы испытываем и страх, который отражается в
нетерпении и скуке, когда мы хотим приблизить ожидаемое и назвать его по
имени, или напротив, когда мы осознаем через силу страха глубину
своей греховности, готовим себя к раскаянию, обращаемся к
собственной совести как судье. Вот почему в центре схемы сейчас, - корень
глубинной памяти личности, пытающейся сохранить душевное
равновесие и жить дальше. Часто личность оказывается перед выбором,
который грозит ей падением, расщеплением, сама жизнь для нее -
непосильное бремя, если бы не Бог: высшая инстанция, которая
перекрывает темпоральное сейчас, вводя в него вневременное, вечное,
спасительное. Вот как размышляет Друскин: «Когда я имею Бога?
Сейчас; в воспоминании, в мысли, не сейчас я имею не Бога, но
понятие Бога. Когда Бог есть? Тоже сейчас: сейчас, из ничто сотворив
что, ставшее в возможности самим, поэтому отпавшее от Него, и
сейчас, устранив само, вернувшееся к Нему, сейчас Он есть и сейчас
сотворил меня, ставшего самим в воспоминании значит, не сейчас, а
в возможности и действительно вернувшегося к Нему, так как сейчас.
Значит, два сейчас. сейчасЬогг. и сейчас моей души. Они должны быть
объединены в формуле; но какое может быть объединение? Оба
сейчас — одно сейчас, нет двух сейчас. Формула должна сказать их
тожество»49, (курсив мой - В.П.). Здесь же и еще один переход в другое
время, сакральное и мистическое, - время тайны, куда мы уже не
сможем последовать. Это сейчас - узловой момент существования
поэтической субстанции (сомкнутой с экзистенциальным временем).
454
I. Aléa
Это непреходящее сейчас, мгновенно исчезающее, вспыхивающее,
текучее, это предельное по времени дление мгновения. В этом сейчас
нет и не может быть ни прошлого, ни будущего, только то, что сейчас,
только то, что длится. Таким образом, в топографике времени - это и
многомерная тачка, состоящая из линий. Когда случайность
преодолена собственной возможностью, она завершилась и все
останавливается: «Но что же сейчас? Ведь в последнем счете не «сейчас»
определяется существующим или чем-либо другим, но все другое
определяется этим «сейчас». Я говорю: это есть, так как оно - сейчас. «Сейчас»
- критерий действительности, «некоторая печать, удостоверяющая
подлинность»50. Наш вывод: для Друскина сейчас- пустая форма
длительности, в ней все длится и не имеет предела. В здесь царствует
случай, и само «сейчас» и есть здесь, где есть Бог51.
Confutatio, или приближение Бога
В поздний период тема «небольшой погрешности» выходит у
Друскина за очерченные прежде смысловые границы в метарелиги-
озную проблематику. Длительные занятия музыкой Баха привели
его к неожиданным заключениям: он обнаружил, что в отдельных
частях его произведения есть что-то вроде «сдерживания»,
замедления музыкального движения; по мере того, как оно приближается к
апофеозу, все явственнее обозначается высшее Присутствие: так
слушателю передается баховское «чувство блаженства», словно бы к
этому месту приближался Бог. Вот что записал Друскин: «Когда
показывал Браудо анализ первой инвенции /Баха/, он прервал меня
именно там, где надо было (Conf<utatio> - a-moll), и сказал: здесь у Баха
Бог. Именно это и было целью моего формального структурного
анализа: найти основную интуицию музыки Баха, объясняющую и
формальное строение вещи. Порядок анализа: основная идея или
интуиция Баха - структурный анализ - новое, ясное понимание музыки.
Основная идея у Баха - религиозная: S.D.G. Но тот, кто ее не знает,
может смутно чувствовать ее, но поймет и ясно почувствует только
через структурный анализ. Поэтому практически начало анализа -
структурный анализ. И также с Введенским: структурный анализ
необходим для того, чтобы понять, как основная интуиция - время,
смерть, Бог (с его же собственных слов) реализовалось в его вещах,
тогда и вещи его станут не только понятнее, но их лучше и глубже
почувствуют»52. Как если бы чисто рациональная процедура, опираясь
на первоначальную интуицию поэтического произведения, открыва-
455
Обморок мира. Поэтика случая в литературе Обэриу
ла место, которое никто и не может занять, кроме приходящего Бога.
Слово confutatio производится от глагола confuto, первое значение
которого - «сдерживать, останавливать, унимать». Отсюда: confutatio
означает сдерживание, останавливание движения и времени:
слышать Бога. Действие confutatio производит эффект душевного
покоя, слияния с Божеством, своего рода состояния «душевного Рая»53.
И еще одно продолжение темы confutatia «Больше всего, может быть,
всегда меня интересовала магия. Л. называл мои вещи тайнописью.
В Бахе меня интересовали пересечения каких-то линий, давно мне
казалась его музыка задачей, которую надо разрешить. Это я и делал
в своей работе над Бахом. То же самое я ищу теперь у Хлебникова-
скрытый смысл я искал в «разговорах» Платона. И то, что я нашел,
- тайную жизнь отвлеченных, почти ничего не обозначающих слов-
знаков, снова нахожу сейчас, читая «Федона». Такой же тайнописью
была и иерография, которой мы занимались с Л. И из которой затем
возникли моя тайнопись знаков и «Теория слов» Л. Может быть, эта
магия лежит в основе мысли. Мысль - чудо: бессмысленный знак
получил значение. Это по содержанию. При совершении этого чуда
рождается душа»54. Размышления Друскина о магии иероглифов: «Все
мои вещи начинались с видения какого-то иероглифа»55.
Как это все пересекается с символистской мистикой С. Малларме
и начальной пластикой любого образа, с его вещной иероглифич-
ностью?
«Вода для Липавского была знаком или, как он говорил, иероглифом
первоначальной стихии, столкновение индивидуальности со стихией,
писал он, источник и ужаса и наслаждения. В этом отношении он был
близок мистикам и к Баху. Ведь для Баха главная из четырех
традиционных стихий, мне кажется, вода. Швейцер в классификации мотивов
у Баха исходил из неправильного принципа - будто бы музыка Баха
изобразительная, поэтому и не заметил, что мотив воды и мотив
блаженства у Баха один и тот же: морская зыбь, волны, укачивание, все это -
ослабление индивидуальности и в пределе - потеря ее в стихии, у
мистиков - в Божестве. Мотив воды - блаженства часто бывает у Баха в
частях, которые я назвал Confutatio. Это только один, хотя и довольно
частый мотив Confutatio, ведь Бах избегает всякого схематизма, я
насчитал у него около 20 тем Con<futatio> смысл их, мне кажется, почти
всегда один: растворение личности в Божестве. Так вот какие бывают
неожиданные встречи: «Теория слов» и иероглиф воды у Липавского -
иероглиф воды в музыке Баха».56
456
I. Aléa
Апокалиптическая тональность постоянно вводится в игру,
чтобы подчеркнуть одно стремление: оправдать поэзию... верой;
оправданий самой поэзии недостаточно. Упор на религиозные искания
обэриутов, причем так активно заявляемые, приводит к тому, что
поэзия оказывается средством достижения целей, лежащих за ее
пределами. Своеобразное поэтическое sola fide M. Лютера.
Собственно, философствование Друскина играет ту же вспомогательную
роль57. Однако то, что мы ранее обсуждали, называя это остановкой
мира и времени, кажется, противостоит теме conjutatio. Чувство страха
нарастает у смертных по мере того, как Бог уходит, удаляется из их
мира, вся природа и человеческое охватывается ужасом, и вот тогда-
то время останавливается, смыкаясь с первоначальным ничтожени-
ем, с тем Ничто, о котором так часто размышляют обэриуты.
Это только предположение. Мы лишь описываем переходы
(переключения), которые позволяют нам удержать круг размышлений
Друскина или то, что можно назвать эквивалентностями (или авто-
тавтологиями). В человеческой жизни, по его мнению, существует
два остатка: один поверхностный и неопределенный, это некоторый
случай; но есть и другой, глубинный, последний остаток, ни к чему
не сводимый, и это уже совсем другое понимание случая, этот случай
- Бог. Липавский назвал подобные переходы преобразованиями (с
одного уровня бытия на другой), схематически их можно выстроить
приблизительно так:
случай
(некоторый)
как
«Небольшая погрешность»
как
Сейчас
как
Приостановка (мира-времени)
как
Бессмыслица
как
Чудо
случай = Бог
(последний)
Все эти понятия находятся друг с другом в отношении
преобразования, а это значит, что, например, «небольшая погрешность»,
457
Обморок мира. Поэтика случая в литературе Обэриу
когда она «погрешность», тождественна «сейчас», когда
«небольшая», то - не-сейчас, чему-то не свершившемуся, текучему,
подвижному. Входя в мир, она создает движение к равновесию, тем самым
на мгновение при-останавливает его движение, рождая
бессмыслицу, которое может оказаться для истинного поэта иероглифом
тайны, от которой только шаг к чуду. Вся эта серия преобразований так
и не сможет объяснить существования случая. Остается некий
остаток, который не может быть преобразован. Вывод: случай, который
не вписывается ни в какое событие: это и есть Бог*8.
Дробить и повторять. Интенсификации случая
«Пусть человек, отдохнув от станка, идет читать
клинопись созвездий. Понять волю звезд, это
значит развернуть перед глазами всех свиток
истинной свободы. Они висят над нами слишком черной
ночью, эти доски грядущих законов, и не в том ли
состоит путь делания, чтобы избавиться от
проволоки правительств между вечными звездами и
слухом человечества. Пусть власть звезд будет
беспроволочной».59
Веяемир Хлебников
Наследие В. Хлебникова поражает своей нерасположенностью
к чтению: заготовки, наброски, заделы, учения, доктрины,
космография и космология, счеты и числа будущих войн - все это не более,
чем фрагменты какой-то незавершенной громадной работы, руины,
по которым можно представить, насколько совершенным могло бы
быть здание. Как читать такую эпическую поэму, как «Зангези», если
нет маркированной позиции чтения, если приходится прыгать с
одной плоскости на другую, искать точку опоры? Может быть, читать
Хлебникова и надо так читать? Но это только первая трудность.
Другая - это неясность поэтической эмоции, без Которой трудно создать
атмосферу понимания ( поэт не ведает ни страха, ни отчаяния, он
- эпик гомеровского склада). Наконец, третья, - авангардная
мегаломания Хлебникова: нет ничего малого, все великое, все,
буквально, сверхчеловеческое. Невероятные приключения поэтических
тел: Азия, Европа, Восток, города нашествий, Анти-города, Азия-в-
движении. Хлебников создавал плоскости числа для политической
458
I. Aléa
или исторической географии материков, событий, людей или слов.
В поэме «Зангези» (сверхповести, по выражению самого Хлебникова),
-21 плоскость. Мир Хлебникова - это хаосмос именно потому, что
его создатель и жрец пытается упорядочить в одном
причинно-временном цикле все «доски судьбы» мировой истории, найти в хаосе
случайного логику великого закона. Все эти бесчисленные правила
и законы, циркуляры и инструкции, воззвания и таблицы, в
конечном счете, нужны ему для того, чтобы подвергнуть числовой ритуа-
лизации события, которые уже произошли, вместе с теми, которые
могут произойти60. В образе дерева можно представить себе
строение хлебниковского мира как со-движение двух потоков: восходящего
и нисходящего; древо умирающее и рождающееся; на этом древе
всегда найдется и мертвый, и живой стебель. Дерево-живое и дерево-
тень, как сказал бы сам поэт. Хлебников нейтрализует действие
события как чего-то исторически до конца не свершившегося, что
надо домысливать, дополнять, ставить под сомнение и т.п. Его
поэтическое воображение трудится над тем, чтобы преодолеть случайность
и новизну, ввести ее в границы циркулярного (ритмического)
времени Истории. При переходе от одного события к другому не
должно быть никаких разрывов. Циркулярное время устанавливает
превосходство повторения над различием. Но что значит повторяться?
Всякое событие, которое проявляет себя и становится заметным,
во-первых, воспринимается, во-вторых, наделяется смыслом, т.е.
переводится в символический пласт сознания, в-третьих, получает место
и позицию в системе других, уже повторенных событий; в
четвертых, и окончательно, с учетом предыдущих характеристик
оказывается повторением повторений. Дана форма повторения, и события как
бы они ни проявляли себя, удерживая различия между собой,
повторяются. Различие и новизна, возникающие в мифе (а поэзия есть
индивидуальный миф) - лишь повод для нового круга повторов. Что
бы ни происходило, ничто не должно происходить. А для этого и
должна существовать такая машина времени, которая могла бы
реагировать на появление новых событий: классифицировать их,
перераспределять, идентифицировать. И такая машина есть, это
машина ритуала. Действительно, Хлебников строит свои «Доски судьбы»
как своего рода машину по управлению временем событий; его
математические расчеты и уравнения - часть поэтического ритуала.
По Леви-Стросу, эффективность ритуала зависит от двух
операций: разбиение на кусочки (различение) и повторение61. Ритуалы
разрешают противоречия жизни, какие бы они ни были, где бы ни воз-
459
Обморок мира. Поэтика случая в литературе Обэриу
никали; они непрерывно переводят различия в план повторения.
Почти каждый ритуал осуществляет функцию контроля над
временем: есть ритуалы исторические, где движение обращения
располагается в направлении сновидного процесса, захватывающего настоящее
и погружающего группу в сакральную атмосферу предков; ритуалы
траурные, которые обеспечивают «обратное превращение в предков
людей, переставших быть живыми», когда настоящее переходит в
прошлое. Но вот что важно! Повторение может быть отделено от
различия, как мирское время от священного, ибо именно священное
время, вторгаясь в мирское, заставляет все повторяться, в то время
как мирское, предоставленное самому себе, полностью поглощено
настоящим, непрерывно вводящим все новые и новые различия,
новизну (Случай). Одно время захвачено вечным повторением, другое
- новизной. Причем, мыслить существование этих времен
раздельно недопустимо как мифически, так и поэтически. Тогда все, что мы
не в силах воспринять, относится к повторению, а все то, что можем
- к различию. Мифическая мысль как раз и пытается
противопоставить силу повторения тому различию, которое угрожает ее разрушить.
Вот почему она взывает к ритуалам, которые смогли бы
контролировать перевод всей массы возникающих различий (противоречий)
в порядок повторения. Все должно быть автоматизировано, описано
и классифицировано в ритуале: манипуляция вещами и объектами,
говорение речей, производство жестов. Вот откуда разбиение на
кусочки, которое все больше, чем оно интенсивнее, напоминает
топтание на месте. Так создается впечатление визуальной
«замедленности», а оно возникает из-за того, что все события вплоть до
мельчайших постоянно схватываются, непрерывно описываются,
переводятся в память сообщества (словно кадрики бесконечного фильма)62.
В этом отношении Хлебников - анти-архивист: он не знает
памяти, у него нет страха перед свершившимся событием, он полагает,
что только число дает возможность Событию быть самим собой.
Результат игры - песнь-заумь. Заумь - это ввода в поэтический
мир случая как события (Судьбы).
Если Хлебников, сообщая нам о числовых выкладках, все-таки
строит предположения в отношении исторической истины
(подобно следующему: «Монголо-татарское нашествие состоялось в 1237
году»), то, естественно, не для того, чтобы обсуждать, истинно оно
или ложно: важно число 12^ у год. Однако событие не может
считаться исторически релевантным на основании правил формальной
логики, оно - не итог исторической очевидности (гибель великих им-
460
I. Aléa
перий, чередование войн и великих походов, смерть государей и
смена династий). Событие никогда не происходит разом и для всех
моментов времени; тогда это уже не событие, а катастрофа, т.е.
полная остановка времени (таковы: приход Мессии или Потоп;
геологическая, экологическая или какие-либо другие мировые
катастрофы). Событие свершается или, точнее, длится в некоем промежутке
между устойчивыми потоками времени, - там, где нет времени (т.е.
деления на прошлое, настоящее и будущее). То, что Хлебников
называет событием, в нашей терминологии является случаем.
Случайность события должна быть отброшена, поскольку любое
высказывание, устанавливающее истинность или ложность события, ставит
под сомнение существование высшего единства - числа. Таким
образом, Хлебников нейтрализует действие события как несвершивгие-
еся, то, что надо домысливать, интерпретировать, длить во времени.
Событие произошло раз и навсегда и там, где его настигло
собственное число: оно стало предсказуемым, получило Имя. Случай
уступает место событию или тому, что его будет представлять, - числу. Вот
образцы «событий-чисел»:
«Гамма будетлян особым звуковым рядом соединяет и великие
колебания человечества. Вызывающие войны, и удары человеческого сердца.
Если понимать все человечество как струну, то более настойчивое
изучение дает время в 317 лет между двумя ударами струны. Чтобы
определить это время, удобен способ изучения подобных точек. Перелистаем
страницы прошлого. Мы увидим, что законы Наполеона вышли в свет
через 317. 4 после законов Юстиниана - 533 год. Что две империи,
Германская 1871 год, Римская - 31 год, основаны через 317. 6 - одна после
другой. Борьба за господство на море, острова суши, Англии и Германии
в 1915 году за 317.2 до себя имела великую войну Китая и Японии при
Кубилай-Хане в 1281 году. Русско-Японская война 1905 года была через
317 лет после Англо-Испанской войны 1588 года. Великое переселение
народов в 376 году за 317.11 до себя имело переселение индусских
народов в 3111 году (эра Кали-Юга). Итак, 317 лет - не признак,
выдуманный больным воображением, и не бред, но такая же весомость, как год,
сутки земли, сутки солнца».6s
«Вместе с тем происходит сдвиг в нашем отношении к времени: пусть
время есть некоторый ряд точек а, в, с, Э,... т. До сих пор природу одной
точки времени выводили из природы ее ближайшей соседки. За
мышлением этого вида было спрятано действие вычитания; говорилось: точка
а и в подобны, если а-в возможно более близко к нулю. Новое отношение
461
Обморок мира. Поэтика случая в литературе Обэриу
к времени выводит на первое место действие деления и говорит, что
дальние точки могут быть более тождественны, чем две соседние, и что
пара точек тип тогда подобны, если т-п делится без остатка на у; в
законе рождений у = 365 годам, в лице войн у = 365 - 48 = 317 годам; начала
государствократны 413 годам, то есть 365 + 48; так начало России в 862
году через 413 после начала Англии, 449 год; начало Франции 486 через
после начала Рима в 753 году. Этим понятием время необыкновенно
сближается с природой чисел, то есть с миром прерывных разорванных
величин. Мы начинаем понимать время как отвлеченную задачу деления
при свете земной обстановки. Точное изучение времени приводит к
раздвоению человечества. Так как собрание свойств,
приписывавшихся раньше божествам, достигается изучением самого себя, а такое
изучение и есть не что иное, как человечество, верующее в человечество»64.
Операция бесконечного малого дробления превращает время в
«кусочки и остатки»; она не только замедляет время, останавливает,
но и отнимает у события его разрушительную силу. Таков замысел:
число, как чистое выражение случайности, становится алгоритмом
мировой истории. Хлебников мыслит сериями: одно число
контролирует серию «времени рождений», другое - периодичность «войн»,
третье - «поколений», четвертое - серию «великих людей». Все эти
серии можно создавать одну за другой, но только ради того, чтобы
упрочить позиции числа (ритмического). От удара сердца до
звездного ритма - все совпадает или тождественно, все друг в друге
отражается (отношение микро-и-макрокосма). Число оказывается
условием тождественности (повторяемости) двух событий. Вот один из
многих примеров Хлебникова: два величайших логика в истории
философской мысли - Аристотель и Милль - и между ними время,
замкнутое в кратность числа 365 лет. Любой, кто родился тогда-то,
может быть предсказан в будущем как его собственная тень, если во
времени его дата рождения «совпадает» с другой, теневой, по
кратности делимости или вычитания числа 365. Делимое на число 365
и есть то, что Хлебников называет сдвигом во времени. Сдвиг в
поэтическом слове эквивалентен сдвигу в истории. Так малыми силами
(гаммой числа: 317,419, 365 и др.) Хлебников намеривался выиграть
мировую игру.
Эпическое осмысление времени у Хлебникова упраздняет
случай, переводит его в предсказуемое событие. Поэтический субъект
приравнен к божественной инстанции, бросая кости, он упраздняет
всякую случайность. Удивительный игрок - он все время
выигрывает. Кажется, что власть случая устраняется, хотя на самом деле все
462
I. Aléa
происходит иначе. Чтобы доказать возможность перевода
случайного в судьбу (необходимость), нужно создавать все новые серии и
все новые закономерности. Развертывание эпического ритма,
поскольку всякий раз из поэтического космоса извлекается случайность
в виде найденного числа, которое дает тождество двух удаленных
во времени событий и тем самым соединяет их вопреки различию.
Но чтобы действительно выиграть игру, нужно создавать все новые
жеребьевки. Ведь только тогда упраздняется случай. Но поскольку
такому игроку нужно создавать все новые серии, устраивать все
новые жеребьевки, то он никак не может избавиться от магии случая,
он им зачарован, и не в силах перевести его в событие. В сущности,
он не может выиграть, поскольку ему нужно изобретать все новые
серии, чтобы подтвердить предыдущий выбор, а это бесконечная
задача. Отсюда то, что когда-то Борхес назвал интенсификацией слу-
чш$ъ. Другими словами, все найденные Хлебниковым числа не могут
на известные исторические факты и датировки, все должно
разветвляться по новым фактам и датировкам. Идет речь о создании
безупречной числовой машине Истории.
При формулировке идеи зауми Хлебников обращается к детской
игре, рассматривая ее как наиболее аутентичную модель подобного
языка; он видел в зауми развитие языка, его будущее. «Отсюда
понимание языка как игры в куклы; в ней из тряпочек звука сшиты куклы
для всех вещей мира. Люди, говорящие на другом языке, такие
звуковые куклы - просто звуковое собрание звуковых тряпочек. Итак,
слово - звуковая кукла, словарь собрание игрушек. Но язык
естественно развивался из немногих единиц азбуки; согласные и гласные
звуки были струнами этой игры в звуковые куклы. А если брать
сочетания этих звуков в вольном порядке, например: бобеоби, или дыр
бул щел, или манчь! манчь! чи брео зо!у - то такие слова не принадлежат
ни к какому языку, но в то же время что-то говорят, что-то
неуловимое, но все-таки существующее»66. Другими словами, заумь вполне
управляемая работа с языком. Крученых предлагает формальный
прием, с помощью которого можно превращать в заумь все, что
укоренилось в привычке произнесения, прием сдвига6,7. Но что важно
отметить: заумь не является и не может быть бессмыслицей, она не
лишена смысла, она расширяет границы поэтического языка, она - другой
язык, язык будущего. Возможна ли такая наука как сдвигогология? В
отдельные революционные эпохи происходит взрыв языка, и ничто
не в силах остановить поток экспериментаций. Заумь - это попытка
революционной перестройки практики повседневного использова-
463
Обморок мира. Поэтика случая в литературе Обэриу
ния языка, заумь - это «...абсолютный сдвиг, полное изгнание темы
(души), технический трюкизм, акробатизм образов, авто на ходулях,
псохфокл в балагане! Верх эксцентризма!..»68 «Сдвиг», как род
«небольшой погрешности», как мгновенное «отклонение»,
клинаменЭпикура предполагают изменение смысла, но не его отмену69.
Случаем следует считать формальное проявление
внешней необходимости, пытающееся проторить
себе дорогу в человеческом бессознательном
Андре Бретон
(d). Hazard objectif. Тема «чуда» и «счастливого случая» в сюрреализме.
Начнем с этимологической игры. Есть узел словарных значений,
указывающих на качество случая: «счастливый случай»,
«благоприятный», «неслыханный», «чудесный», но и «несчастный случай»,
«трагический» и т.п.; или, например, такие вводные слова, как: «по
случаю...», «случайно», «на случай»; есть и каноны клинических case-
history, «показательные случаи». В жизни - все случай; нет ничего
предсказуемого (от рождения до смерти); жизнь изначально дана
«по случаю». Но есть и другое понимание, когда случай толкуется
как знак чего-то, что свершается независимо от нашей готовности
его воспринять и объективируется в качестве судьбы. Случай теперь
- не просто случай, а проводник судьбы; так трагический случай (как,
впрочем, и счастливый) превращает жизнь в судьбу. В
сюрреалистическом толковании «случай» - часть объективного (мира): hazard
objectif. Словечко «объективный» как раз указывает на то, что случай
- не симуляция чего-либо, а знак приходящего события, к которому
художник должен быть готов70. Объективный случай определяется
в раздвиге временной шкалы: знак событие. «Соответственно, то
единство знака и события, которое мы называем объективным случаем,
можно разложить на внешне бессмысленный знак, стоящий в
хронологическом порядке первым, и следующее за ним событие,
кажущееся "случайным", но на самом деле поддерживающее с этим
знаком некую особую связь. Событие наделяет такой знак смыслом,
отвечая тем или иным характеристикам предшествующих словесных
и живописных образов, причем, как в области означаемого, так и
означающего. Всю эту систему можно назвать - "событийным
разрывом"»71. И далее: «...каждый событийный разрыв содержательно
определен - иначе говоря, те связи, что выстраиваются между
знаком и отметиной грядущего события, никак не заданы линейной при-
464
I. Aléa
чинностью: причинные отношения "искривляются", попадая в зону
эмоциональной турбулентности, где все явления подчинены
механизмам «сгущения, переноса, замещения или ретуширования»72.
Между знаком события и приходом самого события располагается время,
которое и может быть названо случаем. Случай - это то, что
происходит со временем, когда оно теряет свою власть над событием. Случай
- не событие, он может стать им (правда, только в
сюрреалистическом понимании). Или, наоборот, событие, которое не в силах
управлять собственным временем, мы называем случаем.
Есть пути и знаки, указывающие на возможное присутствие
«объективного случая»: это внимание, автоматизм, сон, чудо, любовь™. Но что
такое, например, чудо? Опьянение, зачарованность случаем и есть
чудесное. В какой-то момент наше желание исполняется, и случай
становится чудом. Для сюрреалистов «объективный случай», в
сущности, ничем не отличается от чуда74.
Обэриутское понимание случайного - это предельно сжатая
история «не случившегося», того, что не могло случиться, но случилось,
случилось только благодаря языку. Язык узурпирует право
реальности на все то, что может случиться. Это не чудесное и не
невероятное, это как бы случившееся, но так, как оно иногда случается
только в языке, когда и контекста лишен смысла. Кстати, здесь отличие
толкования случая в сюрреализме, где случай «вбрасывает» поэта в
реальное, требуя его преображения в чудо. Литература Обэриу
рассматривает теорию случайного как повод обратиться к
исследованию того, что не может случиться действительно, но не перестает
случаться в каждом поэтическом акте. Тогда отношение «случая» к
реально случившемуся примерно такое же, как части к целому, но с
одним дополнением: часть конкретна, целое абстрактно и недоступно
(они разной природы, поэтому никогда не пересекаются, т.е. не
взаимодействуют). Их связь настолько слаба, что они теряют всякую
возможность служить друг для друга ориентиром в обретении
утраченного смысла. Так что говорить о «случае» того же Хармса как о
происшествии или как о чем-то реально случившимся, не представляется
возможным. Это такой случай, который отменяет себя, т.е., как мы
уже подчеркивали ранее, фальсифицирует собственную случайность.
Случай - без причины, все, что случилось - на поверхности; нет
никакой глубины, нет поводов к тому, что случилось и может
случиться. На основании вот таких позиций открывается
онтологическая основа обэриутского Произведения как Случая (сцепление
разнородного, незавершенное, неопределенное ни по месту, ни по
времени) - Произведения ни для чего.
465
π
Обратное вращение
Варианты
Один из самых внимательных исследователей игры Р. Кайуа
выделяет четыре образца игровых действий: agon (состязание), aléa
(удача), mimicry (симуляция), ilinx (головокружение). Первая пара
agon/alea, а вторая - mimicry/ilinx лучше всего сочетаются друг с
другом. Если agon- это состязание, спор, война, столкновение
интересов и т.п., то aléa - это удача в игре. Состязание - это прежде всего
воля субъекта, обращенная к активному участию в борьбе, в то
время как aléa требует пассивного субъекта, уповающего на «счастливый
случай», рискующего, но лишенного возможности вмешаться в саму
игру. Бесспорно, поэт-мыслитель сталкивается с одновременным
действием всех игровых сил. Поэтический комплекс сочетает в себе
состязание/случай - симуляцию/головокружение15. Состязание поэтов
может иметь самостоятельную ценность, но вот «удачный случай»:
один поэт побеждает другого. Если предположить, что глубокое
сопереживание может привести к поэтическому перевоплощению, к
такой симуляции, которая естественным образом спровоцирует тран-
совые состояния, и прежде всего - головокружение, возникающее при
внезапном переходе из одного состояния в другое; правда, оно
может вызываться и искусственным образом (с помощью наркозов,
просто игрой)76. Известно ощущение, которое мы испытываем в
скоростном лифте - его остановка ожидаема, тем не менее, мы
реагируем на нее легким головокружением, поскольку не заметили,
насколько была высока скорость. Внезапное нарушение
артериального давления, приток или резкий отток крови и т.п. Вдруг все плывет
перед глазами, смешивается, «слипается», тает, распадается, пре-
466
вращается в взвесь, что поднимается со дна колодца, нарушая
прозрачную плотность вод. Другими словами, мы испытываем
головокружение не от того, что кружится перед нами или кружит нас, а от
внезапной остановки, - вот тогда-то все плывет, тает, мы теряем
сознание. Потеря сознания - итог сильного головокружения? Не об этом
ли размышляет Липавский?77 Когда мир замедляется и начинает
подготовку к переходу в противоположное вращение, мы погружаемся
в транс. Утрачена позиция, благодаря которой мы сохраняли пафос
дистанции, были независимыми от мира, а мир был предметом
наших вожделений. Однако речь идет не только о чисто
физиологическом переживании, но и о «панике сознания»: «... головокружение
не от вращения, а от страха»78. Где же рождается поэтическая
субстанция? Не в этом ли чувстве страха, вызывающем головокружение,
время мира начинает переход в обратное вращение. «Гордитесь, вы
присутствовали при Противоположном Вращении. На ваших глазах
мир превращался в то, из чего возник, в свою первоначальную
бескачественную основу»79. Личность разлетается, мир слипается. Мир
словно закручивается вокруг оси, поэт - первая жертва этого
глубоко проникающего страха.
Схемы «вращений»
Вращение-1 Вращение-г
центростремительное центробежное
В одном случае доминирует тожество Я=Дв другом - Не-Я: скопление
разбегающихся во все стороны окружностей, в чьем воображаемом
центре не удерживается никакое Я, там ему просто нет «места». Эти
окружности и есть представление о «выбрасывании» Л за его границы в
темные области Не-Я*°.
Итак, первый вариант, субъективный. Как мне представляется, к
нему относятся два вида вращений: первый, - центростремительное.
все собирается вокруг эго-центра, концентрируется и все втягивает
467
Обморок мира. Поэтика случая в литературе Обэриу
в свой ритм вращения; постоянное укрепление, накопление мощи
«я». Второй вид - обратное или противоположное вращение,
центробежное, именно оно вызывает головокружение: упадание, дление
жеста, летание, мгновение, распыления и рассеивания. Одним словом,
«Я» как центра сознательной жизни больше нет. Такому
трансгрессивному состоянию соответствуют также: сон, наркотическое
опьянение, игра, другие «пограничные» переживания. Сюда можно
отнести, отмеченные М. Хайдеггером фундаментальные экзистенци-
алы: ужас и страх, скуку и опустошенность, ничто и ничтожение.
И второй вариант, объективный: вращение по часовой стрелке,
«ход часов»; единый отсчет мирового времени, что сопровождает
основные виды «субъективных» вращений, но влияет на них только
косвенно.
Естественно, если субъект «выбрасывается из себя»
центробежными силами, то теперь он видит мир иначе, словно во сне, мир
становится текучим: «Новая человеческая мысль двинулась и потекла.
Она стала текучей. Старая человеческая мысль говорит про новую,
что она «тронулась»»81. И еще наблюдение Хармса: «Я хоть и один,
а думаю текуче»82. Теперь вещи и все видимое соотносятся не по
своим качествам и тонким различиям их индивидуального бытия, они
слипаются, стремятся превратиться в единую материальную стихию,
например, в кровь и воду, во что-то желеобразное, уплотниться, стать
комом бытия, а затем достичь однородности и крепости кристалла.
Именно к таким переходным состояниям мирового вещества
приводит обратное вращение, в отличие от более привычного медленно-
волевого, все удерживающего, сконцентрированного на тождестве
«я». Вот почему сны и «спиртуозы», вот почему поэзия как элемент
образной ткани сна, магические трансы и всякого рода превращения
оказываются знаком того, что обратное вращение набирает ход83.
Вероятно, вращение нужно понимать как ход мира-времени назад,
к медленным и малым перцепциям, «распаду сознания». Это
вращение не вещей, а нас самих, - высвобождение от сил, удерживающих
крепость и границы «я». Вот тогда-то поэт и бросает вызов,
взрывает устоявшиеся поэтические и научные нормы; ориентируется на
неповторимое, неожиданное, вводит в мир случай и тем самым
возобновляет хаос. Мир симметричный сменяется асимметричным,
становящимся, подвижным и текучим. Это что-то вроде глубокого
транса, к которому часто взывали обэриуты (тема «спиртуозов»)84.
В сновидных и мифических мирах все постоянно обновляется,
но нет ничего нового. Одни миры распадаются, а на их месте из тех
же обломков образуются новые миры. Все определяется случаем, ко-
468
И. Обратное вращение
торый привносит порядок в хаос и хаос в порядок. Что-то похожее
на калейдоскоп. Применительно к логике мифического мышления
модель калейдоскопа использовал Леви-Строс: «Эта логика
действует как калейдоскоп, инструмент, содержащий осколки, обломки, с
помощью которых осуществляются структурные размещения. Эти
осколки и обломки появились в результате процесса слома и
разрушения, самого по себе случайного, но его продукты имеют между
собой определенное сходство: по размеру, по яркости цвета,
прозрачности. Они уже не обладают подлинным бытием, как, например,
изготовленные предметы, произнесшие "речь", в результате
которой они стали неопределенными обломками; однако, в другом
отношении, у них должно быть этого предостаточно, чтобы с пользой
участвовать в образовании бытия нового типа: это бытие состоит в
размещениях, где, как в зеркалах, отражения эквивалентны
предметам, иначе говоря, где знаки занимают положение означаемых
вещей».85 Ведь то, что кучка разноцветных камешков, попадая в
зеркальное отражение, создает одну из комбинаций регулярного узора,
и есть своеобразное упорядочивание доступными для этого
мышления средствами «сырой материи» мифа. Образец сознания, где
случай действует, не разрушая, а созидая. Единственный поворот или
даже полуповорот трубки калейдоскопа, и узор меняется (все как в
сновидении). Таким образом, узор зависит от количества
отражающих зеркалец, наличия камешков, скорости поворота,
интенсивности и регулярности вращения. Но разве не так происходит в любой
другой игре. Перед тем, как бросить кости, их надо для верности
встряхнуть (а карты перемешать); в противном случае «несчастливое
число» может повториться. Встряхнуть пару раз, и совершить
«счастливый» бросок. В калейдоскопе мы получаем узор только при
вращении, правда, это всегда ограниченное число узоров. Благодаря
вращению приводятся в видимый порядок случайные элементы,
казалось, не связанные между собой ничем, кроме того, что
размещаются рядом. Повторение может придавать их смежности видимость
подобия. Такое вращение ничего не говорит о самом времени,
поскольку никак на него не влияет. Миф себя повторяет, он не
нуждается в идее времени. Время здесь застыло в отношениях вещей друг
к другу, внутри вещей времени нет.
Высокая степень произвола в создании узоров (роль случая)
закладывает условия для поэтической бессмыслицы, которая имеет смысл
только в конструкции самого калейдоскопа. Бессмыслица - это
«небольшая погрешность», которая, будучи повторена, создает фикцию
равновесия для всей мифосистемы, и та наделяется смыслом. Как в
469
Обморок мира. Поэтика случая в литературе Обэриу
аттракционе «Зеркальная комната»: когда мы входим внутрь, то
попадаем под действие определенным образом расположенных зеркал
и видим себя в столь многих отражениях, что теряем контакт с
собственным образом; теперь его не отличить от зеркальных.
Разберем примеры вращений, значимых для обэриутской
поэтики «остановленного времени-мира».
(ι) Направление: ужас. Вращепие-i. Возможен ли страх как
онтологическая характеристика мировой предметности? Когда мы
передаем предмету свойство вызывать страх, мы переводим страх в
другой эмоциональный регистр, - в испуг. Ведь только испуг и есть то,
что может быть соединено со временем, понимаемым точечно,
атомистически, ибо испуг нечто неожиданное, некий укол, пробой в
умиротворенной среде исполняемых желаний. Испуг не относится
к страху как чувству, развивающему способность к оценке
реальности. Часто испуг - это инстинктивная реакция на возможное
прикосновение (оно может быть любой интенсивности, длительности,
отличаться по силе и мощи действия, по расстоянию). В
расширенном определении испуг есть следствие внезапной утраты объекта,
а объект есть само желание. Замечательная формула Липавского: «В
человеческом теле эротично то, что страшно». Труд Липавского
«Исследование ужаса» - не совсем об ужасе. Первый страх, рождающий
ужас, «стоячая вода», что «смыкается над головой как камень». Все
эти однородные пространства, переставшие накапливать
разнородное, быть пористыми, сгущенными, пустыми, твердыми,
колеблющимися и т.п. А так как разнородное устраняется, то мир-время пере
стает существовать. «Разве не говорил я о ней, рассказывая о страхе
послеполуденных часов? Однообразие - оно уничтожает время,
события, индивидуальность. Достаточно длительного гудка сирены,
чтобы мы уже почувствовали, как весь мир отходит на задний план
вместе со всеми нашими делами, прикосновение небытия»86. Водные
и снежные, песчаные пустыни, и пугающее великолепие,
чрезмерная «энергия» тропической природы, - все крайне опасно, если оно
рождает вслед за скукой тоску по действию, которое могло бы
противостоять могуществу природы над отдельной жизнью. И вот
безумие: «...человек бежит, не останавливаясь с ножом в руке, - он хочет
как бы разрезать, вспороть непрерывность мира, - бежит, убивая
все на пути, пока не убьют его самого или изо рта у него не хлынет
кровавая пена»87. И что же, - почему вода вызывает нарастающий
ужас, почему кровь, почему и многое другое, что в силах остановить
время, оказывается тем, что питает нашу душу и диктует миру его
470
П. Обратное вращение
качества ? Мы принадлежим миру как физические, твердые тела, и
как мягкие, податливые теплокровные организмы, мы - обладатели
особо чувствительной плоти; но мы - дикие животные с их
страстями, мы - тела-растения, не знающие времени, мы - тела-жидкости,
тела-атмосферы, мы тела страха, наконец; мы и демоны, мы и
оборотни, мы и вампиры88. Одним словом, мы образуем на пересечении
многих вероятных и тайных сред некую индивидуальность, которой
присваиваем человеческое имя.
Еще пример: положение глаз. Представим себе на мгновение иное
движение глаз, - обратное. То, что Липавский, кстати, и называл
обратным Вращением. Тогда перед нами грустная череда
окостеневающих, мертвеющих, невидящих глаз... Напомним: «сжатая
судорогой мышца, как остолбеневший от напряжения зрачок», и еще:
«окостеневший зрачок поглотит и вас». Глаз из видящего становится
видимым, а видимый глаз не имеет ничего общего с глазом, который
мы привыкли считать органом человеческого зрения. Теперь свет
мира - не свет божественный; это обезбоженный свет. Как заметил
Батай (современник Хармса и Введенского), такой глаз, вывернутый
из глазниц-укрытий, является мертвили Другой поэт говорит:
«Предметы вокруг затаили дыхание, свет на стене обратился в застывшие
золотые кружева... и все молчало вокруг, замерло в ожидании, было
здесь только благодаря им... время, которое, как бесконечно
поблескивающая нитка, тянется через весь мир, казалось, проходит
прямо через эту комнату, проходит через этих людей, а потом вдруг
внезапно останавливается и становится твердым, совсем твердым, и
неподвижным и сияющим. И предметы немного придвигаются друг
к другу. Это было такое замирание, а затем беззвучное оседание,
какое бывает, когда внезапно начинают образовываться поверхности
и возникает кристалл...»89. Скорей всего обэриуты правы: чтобы
увидеть мир так, как он есть сам по себе, нужен не живой глаз, активный,
избирательный, «точный», обеспеченный божественными
гарантиями, нужен «мертвый глаз», глаз абсолютно открытый, с «незакрыва-
ющимися веками», нейтральный к темноте и свету мира. Глаз-кость,
глаз-дерево, глаз-вода, - глаз, способный выдержать остановку
времени, готовый принять в себя свет из любого источника или
измерения времени, даже слишком медленного и так похожего на нашу
собственную смерть. Глаз, впавший в забытье, ввернутый внутрь
глазницы, спящий, мечтающий глаз, глаз-кристалл... наверно, это и есть
глаз обэриута-поэта-мыслителя. Остановка времени-мира - это
потеря энергии; всюду действует сила сжатия/сцепления/тесноты,
возникает другой температурный режим: все остывает.
471
Обморок мира. Поэтика случая в литературе Обэриу
Еще пример: снится сон. Ты в чем-то виновен, совершил то ли
убийство, то ли какой-то неблаговидный поступок, о котором никто
не должен знать; тебе кажется, что скоро все раскроется. Чувство
страха нарастает по мере того, как ты осознаешь «необратимость»
своего преступления, которое мог и не совершить... Страх,
переходящий в ужас. Вот где проявляет себя эффект невероятного: то,
что не должно было случиться, оказывается явью, которая
проявляет себя на фоне нарастающей волны страха. От страха ты забываешь,
что спишь и видишь сон. Твоя вина за это «преступление» кажется
настолько очевидной, что не остается сомнений: кто еще мог это
сделать, как не ты? И все-таки за острой «явью» сна скрывается
удивление: разве не абсурдно, чтобы я совершил такое «преступление»?
Типичная ситуация для любого сновидящего, попавшего в капкан
кошмара. Это абсурдно, но это же ты, и это реальность твоего сна,
а с ней нужно считаться. Вот тогда-то охватывает ужас, - ужас от
безысходности, - только прерывание сна может спасти от
сердечного приступа, от прихода такого страха, от которого стынет кровь
в жилах и действительно останавливается сердце. Чистая форма
страха, пришедший на его место ужас - вот что такое кошмар. Из
переживания ужаса открывается механизм пробуждения. Ведь именно
пробуждением спасается мир от проклятия «остановленного
времени». Принц будит поцелуем спящую принцессу, чтобы вернуть ее в
мир, который она оставила, но она не должна потерять самого
времени, ей принадлежащего. Стихи и есть сны. Глубокий сон,
внезапно переходящий в сновидческую явь, потом - в кошмар. И вот
момент пробуждения... Поцелуй принца из сказки - это зов, целовать,
словно звать по имени, зов - это окликание, давание или возращение
имени, т.е. не только зов (зов природы или страсти).
Восстанавливается почти утраченное: смысл, судьба, ожидание будущей смерти
и т.п. Чтобы узнать, что такое мир без нас, надо остановить время,
отделить его от мира и от нас самих. Опасное предприятие. Ведь в
тот момент, когда наблюдатель вдруг видит, что восходит звезда
времени, с ним происходит то же самое, что и с миром: он «холодеет»,
«костенеет», «каменеет», «нагнетается тяжестью и покоем вечного».
В сущности, он мертв... Именно в этот момент и надо найти в себе
силы, чтобы услышать зов еще живого, но угасающего времени,
принадлежащего далеко не бессмертному наблюдателю. Переход в мир
без времени, - в безвременье, вероятно, должен быть подобен
быстрому нырку (переходу) в глубину сна: нырнуть и тут же вынырнуть.
Успеть вынырнуть прежде, чем распадется память о языке, и то
последнее, что от него еще осталось, что оказывает сопротивление
472
П. Обратное вращение
смерти в глубоком «мертвом» сне, что еще бьется в нас, как
испуганное сердце - наше собственное имя. Окликание позволяет о(т)клик-
путьсЯу вынырнуть. Пересечь порог остановки мира и вернуться
назад. Кто окликает? Как это ни странно, но это не Душа, не Бог,
окликает Язык!
Вот этот-то отчет о путешествии в мир, где останавливается
время, и будет обэриутским Произведением.
Что же происходит? Ответ может показаться самонадеянным:
разве можно вообразить себе то, что происходит с миром, когда
прекращается действие языка. Внутри языка, на последней глубине его
как системы разветвляющихся различий - древний закон окликания:
«Назовись именем своим!». На зов отвечает лишь тот, кто обретает
смысл существования благодаря языку. Окликать мир по имени - это
самим называнием что-то разрешать, а что-то запрещать,
приближать или удалять. Именно с этим миром и имеет дело поэтика обэ-
риутов. Мы должны были бы догадаться об этом раньше. Введенский
и Хармс хорошо «знают» этот мир и оглядывают его строение через
«незаделанные дыры бытия» (М. Мамардашвили), что открываются
в разнообразии сновидных экспериментов: в сно-видении, глубокой
медитации, нюханий эфира и, наконец, в игре поэта со смертью. В
мире, как он есть, ничего не происходит, он просто длится, но
длится в таком времени, которое несоизмеримо со временем,
переживаемым в индивидуальном существовании, где мы используем время
для решения языковых проблем, и называем себя «я», бросая вызов
потоку времени, которому наше «я» противостоит. Если мы
предполагаем, что реальность мира дается нам языком, и язык в свою
очередь контролирует образ реальности, то, естественно, как только
он перестает быть инстанцией контроля, время мира начинает
«останавливаться» С реальным миром же ничего подобного произойти не
может. Все, что происходит, происходит лишь с нами, языковыми
существами. Открывается новая близость с миром, язык больше не
препятствует ему захватывать нас. Мир же, отпадающий от языка,
погружает нас в хаос и бессмыслицу случайных образов, - вот она
естественная среда обэриутского поэта. Бесстрашие обэриутов в том,
что они не боятся встречи с хаосом, т.е. с миром без языка?
(2) «Мерцаниемира». Вращение-2. Что же понимать под «эфирной
свободой»? Нюхание эфира - не невинная шалость, игра, или
только желание расширить опыт чувств90. Конечно, оно является отчасти
всем этим. Может быть, действительно, этими экспериментами обэ-
473
Обморок мира. Поэтика случая в литературе Обэриу
риуты только пытались подтвердить свое видение - кто знает? Когда
читаешь размышления Введенского о снах смерти, то понимаешь:
такой гипотезой нельзя пренебречь. Выделю в тексте то, что
требует особого комментария.
«Не один раз я чувствовал, и понимал или не понимал Смерть.
Вот три случая твердо во мне оставшихся.
1. Я нюхал эфир в ванной комнате. Вдруг все изменилось. На том месте,
где была дверь, где был выход, стала четвертая стена, и на ней висела
повешенная моя мать. Я вспомнил, что именно так была предсказана
моя смерть. Никогда никто мне моей смерти не предсказывал. Чудо
возможно в момент смерти. Оно возможно, потому что Смерть есть остановка
времени.
2. В тюрьме я видел сон. Маленький двор, площадка, взвод солдат,
собираются кого-то вешать, кажется, негра. Я испытываю сильный страх,
ужас и отчаяние. Я бежал. И когда я бежал по дороге, то понял, что
убежать мне некуда. Потому что время бежит вместе со мной и стоит вместе
с приговоренным. И если представить его пространство, то это как бы один
стул, на который иония сядем одновременно. Я потом встану и дальше
пойду, а он нет. Но мы все-таки сидели на одном стуле.
3. Опять сон. Я шел со своим отцом, и не то он мне сказал, не то сам я
вдруг понял: что меня сегодня через час и через 11/2 повесят. Я понял,
я почувствовал остановку. И что-то по-настоящему наконец наступившее.
По-настоящему совершившееся, это смерть. Все остальное не есть
совершившееся. Оно не есть даже совершающееся. Оно пупок, оно тень листа, оно
скольжение по поверхности»91.
Можно сказать, что поэтическая чувственность обэриутов
изначально эфирна (или сновидна), однако не эфир открывает путь в
новые состояния мира, но скорее лишь химически подтверждает, что
оправдано и возможно как видение. Творить из смерти. Но смерть
теперь и должна восприниматься как особый механизм перевода
переживаемого в пространственно доступный образ. Механизм
перевода и есть состояние смерти. Не смерть, но состояние смерти. А это
значит, все, что помогает достичь состояния смерти (не-теперъ), и
должно быть применено: сон, эфир, поэтическое воодушевление и
т.п. Только это способно убить скуку. Когда говорится о слипании
мира, я лишь вновь повторяю вслед за Введенским и Хармсом: когда
мир слипается, то он начинает мерцать. А что такое «мерцание»?
Посмотрите на тексты Кастанеды, и вы найдете там все те же
основные категории обэриутского опыта (правда, лишенного драматизма
474
II. Обратное вращение
и экзистенциальной ответственности). Вы найдете даже
терминологические совпадения: «точку сборки», все те же ритмы «мерцания»,
«замедление», «быстроту»92. Но мерцания могут быть и
мгновениями новизны, и часами скуки. Если мы видим мерцания в огражденном
языком мире, то это скука, но если мы обретаем замедленность
мира вне языка, где каждое мерцание - событие, то тогда это новизна.
Скука - это превосходство повторения над мгновением новизны;
новизна - избыток неповторимого в одном мгновении. Мир
мерцает не потому только, что сегодня вы нанюхались эфиру, а потому,
что всякая попытка выйти за границы, предписываемые языком,
если она успешна, открывает мерцание в качестве нашей
основополагающей возможности быть. Но быть как бы до себя, до
собственного «я» и других. Это невозможно! Да, но поэзия обэриутов делает
это возможным. Силы слипания соотносимы с ритмами мерцания.
Однопорядковые события: мерцать и слипаться. Всякое мерцание
обозначает некий ритм. Вот это, знаменитое введенское:
«Если бы время было зеркальным изображением предметов. На самом
деле предметы это слабое изображение времени. Предметов нет. На,
поди, их возьми. Если с часов стереть цифры, если забыть ложные
названия, то уже может быть время захочет показать нам свое тихое
туловище, себя во весь рост. Пускай бегает мышь по камню. Считай
только ее шаг. Тогда каждый ее шаг покажется новым движением. Потом,
так как у тебя справедливо исчезло восприятие ряда движений как чего-
то целого, что ты назвал ошибочно шагом. (Ты путал движение и время
с пространством. Ты неверно накладывал их друг на друга), то движение
у тебя начнет дробиться, оно придет почти к нулю. Начнется мерцание.
Мышь начнет мерцать. Оглянись: мир мерцает (как мышь)».93
Итак, мир мерцает как мышь, бегающая по камню,
следовательно, чтобы понять мерцание мира, необходимо постичь бег мыши,
каждый отдельный ее шаг. Чему учит Введенский? Это постижение
Введенский связывает с номинативной редукцией: мы теперь не
знаем ни что такое «шаг», ни что такое «каждый», ни что такое «камень»,
не знаем даже, что такое «мышь». Мы теперь не знаем никаких имен
и видим лишь мерцание множества «точек времени», которые
разложили движение мыши настолько дробно, что она превратилась в
сплошное мерцание. Видим, пытаясь подсчитать эти ускользающие
мгновения мерцаний, но усилия напрасны, - время останавливает
свой мышиный бег, ибо мышь перестает быть мышью и становится
миром. Другими словами, слово мышь больше не может быть ни озна-
475
Обморок мира. Поэтика случая в литературе Обэриу
чающим, ни означаемым, и языку не удержать точки времени в
некой последовательности, их «посев», ту непостижимую быстроту
мира, которой стала мышь. Мельчайшие составляющие времени не
могут быть названы, они точки, мгновения, они могут лишь мерцать.
Мгновения, или «точки времени» слишком отличны друг от друга,
чтобы мы поверили, что совсем еще недавно они принадлежали не
миру, а были бегом мыши94. Имени «мышь» больше нет, и язык не в
состоянии доказать обратное. Какие же выводы может сделать из
этого обэриутская мысль? Первый и, быть может, главный: части,
лучше частицы мира существуют так, как они есть, вне какого-либо
целого (например, вне «языка» или «сознания»). Частица мира
существует в другой частице мира, но не как ее часть, а как
равноправная и независимая частица; частицы неизменны в своей
индивидуальности (качестве, признаке, модальности), но она проявляется в
сцеплении с другими частицами. Они могут, например, образовать
время мыши, но могут и время мира; они слипаются друг с другом,
но не смешиваются. Мир полностью поглощается временем мыши,
но и мышь не может уберечься от времени мира95.
Время - это то, что прилагается к миру, сам же мир пребывает,
он безвременный. Человек - временное существо - именно и вносит
в мир временное измерение, замечая изменения и сравнивая их
между собой96. Изменение замечается только в результате смены ритма
одной формы существования по отношению к другой. Всякое
пребывающее в себе бытие имеет свой ритм, так образуется иерархия
ритмов, отличающихся друг от друга. На самом ее пике - мировой
или универсальный ритм.
«Мир в целом не имеет времени, ибо он - изолированная система, один
ритм. Но это, собственно, непредставимый мир, ибо, представляя, мы
смотрим уже посторонним взглядом, нарушаем изолированность.
И этот «мир почти в целом» уже будет иметь время, свое, отличное от
всякого частного, главное время - «река времени». Поэтому-то, хотя,
говоря абстрактно, можно было бы взять любое изменение за основное
(например, свой пульс или падение камня), на самом деле право на это
имеет только одно - «мировой ритм», который мы приблизительно
улавливаем. Изречение Магомета «время стоит, вы движетесь» правильно
в том смысле, что мировой ритм не имеет стадий, он не изменение, не
временен, а становится таким только по отношению к не
совпадающему с ним индивидуальному ритму».97
«Мир, как ритм, - был бы вневременным».98
П. Обратное вращение
Это ритм, который растворяет в себе подобно царской водке
все другие ритмы, к нему не может быть применена никакая
сравнительная шкала. Переход от одного индивидуального или
локального ритма к другому является мгновенным. Этот переход и есть
остановка времени, некая пауза, что связывает, разделяя, две сферы
бытия: пребывающего и становящегося. Пауза - один лишь миг, но если
мы переживаем ее изнутри, то в ней время замедляется, подражая
вечности". Мировому ритму субъективно соответствуют
измененные состояния сознания: сновидческое, состояние глубокой
медитации, наркотическое опьянение и экстаз. Жизнь состоит из таких
переходов, переключений или прерываний, из смены ритмов, - вот
почему поэзия больше, чем жизнь, она - ритм ритмов. Или, как
сказано у Липавского: искусство - это «вызывание ритмических
состояний», «иерархия ритмов», время же в экзистенциальном
понимании есть их «несоответствие»100.
(β) Эгоцентрика внутренней речи. Вращение-^. Концепция
внутренней речи Л. С. Выготского может послужить моделью для понимания
бессмыслицы в обэриутской поэтике. Внутренняя речь эгоцентрична
и не обладает интенциями диалоговой внешней речи, она движется
внутри детского мерцающего сознания. Здесь развертывается
беспрецедентный опыт присвоения языка. Перед тем, как овладеть
осознанными навыками речи, ребенок проходит подготовительную
стадию «детского лепета», это непрерывное бормотание, когда
удовольствие от произнесения звука в чем-то сравнимо с поглощением пищи
(оральная экстатика). Поэтому внутренняя речь непонятна по
природе (не по функции), ибо являет собой остаточный образ внутренней
проработки становящимся сознанием собственных содержаний,
которые ребенок пока не в силах наделить «точным» значением. К
этим содержаниям можно отнести: идиомы, пропуски, «асинтакси-
ческие слипания», текучесть, непрерывность101. Вот что пишет
Выготский: «Если внешняя речь есть процесс превращения мысли в
слова, материализация и объективация мысли, то здесь мы
наблюдаем обратный по направлению процесс, процесс, как бы идущий
извне внутрь, процесс испарения речи в мысль. Но речь вовсе не
исчезает и в своей внутренней форме. Сознание не испаряется вовсе
и не растворяется в чистом духе. Внутренняя речь есть все же речь,
т.е. мысль, связанная со словом. Но если мысль воплощается в слове
во внешней речи, то слово умирает во внутренней речи, рождая
мысль. Внутренняя речь есть в значительной мере мышление
чистыми значениями, но, как говорит поэт, мы «в небе скоро устаем».
477
Внутренняя речь оказывается динамическим, неустойчивым,
текучим моментом, мелькающим между оформленными и стойкими
крайними полюсами изучаемого нами речевого мышления; между словом
и мыслью»102. Теперь не кажется странным, почему Выготский не
обращается к литературной традиции внутреннего потока сознания103.
Нельзя ли предположить, что он рассматривал внутреннюю речь
ребенка лишь как стадию развития (точнее, «неразвитости»), не
имеющую аналогов в психическом переживании языка взрослыми? На
мой взгляд, он прослеживает отображение внутренних процессов
отношения мысли и слова не в их текучести и подвижности, а в
статике. По сути дела происходит интеллектуализация деятельности
сознания как различающего и порождающего значения. В силу
этого слово - скорее сколок неявленного значения, скорее пустой знак,
чем символ, наделенный смыслом. Превосходство смысла над
значением приводит к языковым потерям и разрушениям. Другими
словами, речь идет о смысле, продуцируемом поэтическим
воображением, превосходящим всякое языковое выражение, и таким
воображением владеет, конечно, наивное, «неиспорченное» сознание
ребенка. Поэт и есть такой ребенок.
478
Ill
Упразднить случай?
Примеры
Мыслителю и всем изобретательным умам скука
предстает как то неприятное «безветрие» души,
которое предшествует счастливому плаванию
и веселым ветрам; он должен вынести ее, должен
переждать в себе ее действие.
Ф. Ницше
Кто это такой лежит? - спросил Штольц.
А. Гончаров. «Обломов».
Выберем три примера, которые, на мой взгляд, хорошо
представляют опыты по «упразднению случая» в поэтической
метафизике Обэриу. Первый - это прочтение Друскиным романа А. Гончарова
«Обломов». По его мнению, известная обломовская лень,
противостоящая всякому деянию, «деловитости», блокирует случайности
жизни в кругу повторения, привычки; случай получает идеальное
измерение в фантазиях, снах и грезах героя, тем самым
нейтрализуется. Второй пример: идеи М. Хайдеггера, систематически
развернутые вокруг темы скуки, Langweile в работе «Основные понятия
метафизики»104. Скука, как экзистенциал Dasein, ближе всего к ничто,
с которого, как считает Хайдеггер, только и можно начинать
мыслить, что есть бытие. Переведенная на этот уровень философского
вопрошания, скука открывает для сознания опыт целостности, - и,
как следствие, путь к героической решимости быть. Это похоже на
тот абсолютный страх, который не удалось испытать гегелевскому
Господину. И, наконец, третий пример - «непонятый» и «герметич-
479
Обморок мира. Поэтика случая в литературе Обэриу
ный» Стефан Малларме с его поэмами, посвященными упразднению
случая: Игитур или безумие Элъбенона, Igitur ou la folie d'Elbehnon; Бросок
костей никогда не исключает случайность, Un coup de des jamais η 'abolira
le hazard105. Идея, которую он отстаивает, заключается в том, что
созданный «неведомый шедевр» или Книга/Произведение должна
поглотить всякую поэтическую случайность, стать самим Бытием.
Время для скуки? (А. Гончаров)
Скука как начальная структура неподлинного бытия. Не то, что
внутри, а то, что внешнее: нет сознания скуки. Скука есть
переживание, но чего? Избытка времени? Не возникает ли она от неизменной
повторяемости происходящего? Занудное повторение известного.
Ничего не происходит: время останавливается или течет настолько
медленно, что мы не замечаем изменений. Скука становится пыткой.
Можно скучать в ожидании события, которое никак не приходит,
проявлять нетерпение, а скучание и есть ожидание. Но это разве
скука? Нет, конечно. Ожидание может быть томительным,
напрасным, долгим и т.п. но не будет скучным.
Скука - это род совершенно самостоятельного бытия.
Скука - явление мировой повседневности.
Скука - это ложное ощущение остановки времени.
Скука сильнее времени, она заставляет его повторяться.
Действительно, скука убивает деятельную натуру106, она
невыносима; только одно противоядие - игра, в ней скрыт запал
антискуки. Чем больше ты пытаешься обозреть границы времени, в
котором оказался, тем более вероятно, что это время может оказаться
превращенной формой скуки.
« Скука происходит от ощущения времени. Мне казалось, что я буду скучать.
Я боялся ожидания завтрашнего дня, боялся времени. Но в отдельном
промежутке его не было. Я соединял рассуждением отдельные
промежутки, тогда появлялось представление времени, и вместе с этим скука.
Соединял же я отдельные промежутки потому, что мне не удалось
выполнить свое желание.
Таким образом, неудовлетворенное желание вызвало соединение
промежутков, а соединение промежутков - представление времени. Тогда
может быть лучше подавлять желания.
480
III. Упразднить случай
В отдельном замкнутом промежутке иногда можно наблюдать время.
Оно не длится и не проходит, оно бесконечно. Оно имеет начало и конец,
также прерывается мгновениями, почти незаметными, между двумя
мгновениями оно бесконечно. При этом я испытываю скуку, но ничего
не ожидаю. Эта скука не от ожидания».107
«Прежде чем идти дальше, следует устранить одно недоразумение. Из
предыдущего следует, что отсутствие событий должно сопровождаться
отсутствием времени. Безвременностью. Между тем, известно, что при
отсутствии событий, при скуке время ощущается особенно сильно. Это
как будто утверждает существование пустого времени,
воспринимаемого вне событий. На это следует ответить так. Во-первых, отсутствию
событий вовсе не всегда соответствует именно скука: чаще ему
соответствует сон. Во-вторых, скука наступает и при наличии событий. Так,
скучают ученики на уроке, который не соответствует их желаниям. В-третьих,
скука и вообще обостренное ощущение времени возникает тогда, когда
имеется внутреннее беспокойство, которому нет выхода, например,
при ожидании. Словом скучают не те, у кого нет интересов, а те, у кого
они есть, но из-за неподходящих условий не могут быть реализованы.
Так же, как кончают самоубийством обычно не те, у кого нет жадности
к жизни, а те, у кого она мучительно сильна, потому что не может быть
удовлетворена.
При скуке душа мечется как бабочка, бьющаяся бесплодно о стекло, не
понимающая, что же мешает ее свободе. События - внутреннее
напряжение и поиски - имеются, поэтому время есть. Эти события не находят
себе отклика во внешней обстановке, оттока внутреннего напряжения
не происходит, поэтому время ощущается сильно. Нужных внешних
событий не находится, поэтому время и кажется пустым».103
Размышления философа Л ипавского парадоксальны: по его
мнению, время, которым мы обладаем, является формой
(существования), которую надо заполнять, чтобы чувствовать себя живым, не
страдающим от скуки, деятельным существом. Чем более мы
деятельны, тем менее чувствуем время; но с другой стороны, именно в
скуке и скучании наиболее остро ощущаются границы времени
(угроза его утраты). Поэт-обэриут обладает властью над случаем именно
потому, что отдается ему целиком и полностью: так он стремится
преодолеть скуку. Хармс многие годы ведет дневниковые заметки...
и что же мы видим? Приземленно-обыденная, ничем не
примечательная почти «серая» жизнь вдруг взрывается «необычностью» или
«причудливостью», поэт ослепляется вспышкой воображения, по-
481
Обморок мира. Поэтика случая в литературе Обэриу
являются наброски стиховых серий, пьес, случаев-рассказов,
отражающих некую суть никогда не происходивших событий. Это новая,
или вдруг вспыхнувшая иная жизнь, это возможность игры,
возможность оживления жизни случаем. Поэт вовлечен в битву против
скуки, случай - его оружие и маска.
Гоголевская скука определяется тем, что мир повторяет себя.
Повторение настолько неотличимо от изменений, что, кажется, мир
неподвижен. Персонажи 1оголя живут неестественной жизнью,
только на какое-то мгновение они «оживают», окруженные плотной
завесой вселенской скуки. Отсюда слухи и сплетни. Отсюда черти вдруг
оказываются первыми борцами со скукой. Позднее тема скуки в
русской литературе превращается в тоску. Тосковать по тому, что
утрачено, и не может стать тем, чем было. Время в тоске исчезает, ибо
тосковать - это не чувствовать настоящего, времени текущей жизни.
Русское скучать соответствует тосковать, не ожидать чего-то с
нетерпением и страстью, напротив, испытывать чувство утраты. Тоска
- следствие скуки, она открывает глубину утраты (утрата может быть
настолько существенна, что кг остается никакой возможности жить).
Герой Гончарова - великий Обломов говорит: «Нет времени для
скуки!». В его мире все отношения естественны, этим они
противостоят господствующему здравому смыслу. Идеальный, воображаемый
мир, мир чистых мечтаний и есть нечто райское, нечто бесконечно
открытое, ни во что не воплощаемое, - неизменное условие всех
«планов» жизни, о которых мечтается. Ничего не делать, даже не
ходить (не просто не трудиться), а только лежать, - лежать в лежку,
наслаждаться грезами, мечтаниями, наконец, видеть сны. Жить по-
обломовски - это ничего не брать в голову, жить мгновением в
некотором оцепенении недеяния. Расщеплять время: не дать
сомкнуться будущему и прошлому в настоящем хотя бы на одно мгновение.
Друскин оставил важные наблюдения над романом: «До встречи с
Ольгой у Обломова нет никакой скуки, о скуке в романе и слова нет.
Скука - Langweile, то есть lange Weile- длинное время. Обломов
вообще не замечал времени: он несколько часов пытается встать с
постели, но не может. Потому что непроизвольно уходит от
действительности в полусознательную мечту. О чем? О райском состоянии
Адама до грехопадения. И вдруг с ужасом замечает, что уже прошло
полдня - где же здесь длинное время? Наоборот, он - до времени.
/.../ Обломов не из лени и не от скуки не поехал на Екатерингофское
гуляние и никуда не ходил, а просто потому, что ему это и не надо
было, и он не понимал вообще, зачем это надо. Люди едут на гулянья,
ходят в гости, потому что им скучно: они потеряли райское блажен-
482
III. Упразднить случай
ство и не дошли до второго блаженства, когда Бог прорывает
ограниченность людей и соединяет их во имя Свое. Обломов же еще не
потерял память о райском блаженстве, он еще не пал, поэтому для
него нет ни временности, ни пространственности, он не знает скуки
и ему не надо гуляний, то есть воображаемых, мнимых прорываний
своей ограниченности: он еще не ограничен, ограничивает знание,
грех и падение, а он еще не пал»109. Три основных линии в романе
А. Гончарова «Обломов»: линия Андрея Штольца и Ильи Ильича Обло-
мова110. Каждая линия выражает определенную жизненную позицию,
не сводимую к другой. Что же это за чувство жизни, которое
полностью осознается именно через нежелание пошевелиться, двинуться
с места, найти занятие, не говоря уже о том, чтобы чем-то увлечься
(см. терзания Обломова, например, из-за переезда на дачу или смены
квартиры)? Две могущественные концепции времени, которые
выстраиваются посредством центральной оппозиции деяния/недеяния Штольц
убыстряет время, Обломов замедляет, по сути дела, он заставляет
время служить ему. Штольц весь в движении, он трудоголик. «Только
дело» - вот его девиз! Обломов - тот, кто лежит, тот, кто только в
лежании остается равным себе, «Обломовым», он не замечает
времени, он довольствуется счастьем существования. Штольц - раб
времени и желаний. В штольцевской трудовой этике не-деяние, не-труд
Обломова истолковываются как угроза обществу, как патология
социального поведения, причудливого, суицидального, близкого к
отчаянию и маргинальному. Линия Штольца: линия активного деяния,
там настоящее существует в зависимости от планирования, да оно
и не принадлежит себе, а только будущему (конечно, и прошлому,
поскольку планы выполняются и откладываются в виде уже
полученных результатов). В обмене каждая из этих линий отрицает
другую. Мы нигде не найдем их сближения, тем более согласия. Причем,
миры, которые располагаются по обе стороны от разделительной
линии, кажутся друзьям-оппонентам равно исполненными скуки111.
Итак, с одной стороны провозглашается сверхценностью
спонтанное чувство жизни, не нарушаемой реальными планами, ничем
чрезмерным, а с другой, - активизм нового класса, удивление перед
обломовским лежанием/мечтанием и ничегонеделанием, и, конечно,
резкое осуждение подобного образа жизни. Наслаждение ленью, которое
испытывает герой, явно противоречит ощущению каждого
деятельного мгновения жизни. Лень же - не что иное, как инерция жизни,
следование привычкам, отменить которые нет ни сил, ни желания.
В таком случае «невинность», счастливое избежание грехопадения
483
Обморок мира. Поэтика случая в литературе Обэриу
может интерпретироваться как тяжкий грех ничегонеделания или
все той же лени (по версии Друскина). У одного ничего не
происходит, нет повода для случая, у другого происходит все, но под
контролем, следовательно, все происходящее также не случайно. Та и
другая линия жизни каждая по-своему пытается преодолеть случай
как стихию, угрожающую выбранной форме существования.
Опыт ничто (М. Хайдеггер)
М. Хайдеггер видит в скуке переходный экзистенциал к
последующим все более необходимым модальностям переживания. Скука
открывает пустоту, а та влечет за собой страх, но страх не
конкретный или локальный, а страх абсолютный, некий ужас перед Ничто.
Скука выводит наружу эту пустоту, без которой, собственно, скуки
и нет. Мир как единое целое пустого. Усиление скуки - симптом
приближения чувства опустошенности112. Переживание пустоты
негативно, это не освобождение в позитивном смысле и не очищение,
скорее трагическое экзистенциальное чувство.
Но самое интересное у Хайдеггера - все-таки переходы, начиная
от выборки основных экзистенциалов, необходимых для понимания
времени, кончая категориальной сеткой, поддерживающей логику
философской речи. Время в скуке, скучании течет медленно, более
того, скука определяется временем, которое никак не может
наполнить нашу жизнь. Захваченные пустотой, мы не в силах преодолеть
ее. Скука как особое состояние не останавливает время, она его
предельно замедляет. Очень медленное время и есть время скуки. Тот,
кто захвачен скукой, не в силах действовать, он не способен
прорваться за границы, положенные неделанием. Но Хайдеггер,
вероятно, имеет в виду иную позицию, кстати, разработанную в «Бытии
и времени», экзистенциал решимости, Entschlossenheit, - постоянство
воли, обращенной к действию113. Если мы наделены
западноевропейским рефлексом активизма (причем, неважно, что делать, важно
делать, делать, и делать), тогда скука выражает одну из патологий
отказа от жизни (разочарования в ней, неспособности к действию
и поступку, суицидальные фантазии и т.п.). Скука, приводя нас к
первоначальному греху (отсюда: ужас, «падение в бездну», «ничто»),
создает условия для прыжка, мгновенного выхода, «взрыва»,
перехода в другой вид жизненной активности. Скука как неспособность
к действию и торможение времени? Или скука от того, что время
замедляется, и нечем его привести в движение; или скука охватыва-
484
III. Упразднить случай
еттебя, обнаруживая время внутреннее, экзистенциальное, которое
вдруг или не-вдруг останавливает то большое время, что никогда не
замедляется и не останавливается? Допустим вместе с Хайдеггером,
что одна из форм скуки - это «скучно от чего-то». Скука как бы
приходит извне, - причиной оной являются внешние обстоятельства,
вот что принуждает к скучанию и замедлению времени. Вторая
форма глубинной скуки - «сам соскучился из-за чего-то», или «мне
скучно». Откуда и почему скука? Повторение дает скуку, мы начинаем
скучать, как только в силах предсказать ближайшее будущее, рутина,
как и «суета сует», есть онтологическое качество скуки. В скучании
время останавливается, остро чувствуется его завершенность; не
происходит ли скука от переживания конца времени-мира, не
грядущего, а наступившего? Эсхатология чувства скуки, скучного,
скучающего субъекта, возможна ли она? Время начинает тянуться,
растягиваться как резинка. Ведь психологии «растягивания» («не тяни
за хвост», «кто тебя тянул за язык») соответствует наше отношение
к обычному течению времени. Чем чаще мы смотрим на часы, тем
медленнее течет время. Но время может растягиваться и по-другому:
оно будто бы течет, но механически, каждое из мгновений крутится
на месте, лишенное вдохновляющей новизны; оно не шокирует, не
привлекает, ничто не останавливает, но только себя повторяет. Я
бы даже отличал скуку как онтологическую рамку опустошенного
времени, бессобытийного, «пустого» от привычки скучания как
каприза, игру переходов от скучного к интересному и
увлекательно-захватывающему. Скука для Хайдеггера - это отрицательный жзистен-
циал (наряду с Ужасом и Ничто). Почему они сравнимы? Да потому,
что скука, скучание невыносимы в качестве условий человеческого
существования так же, как Ничто или Ужас.
В современной литературе позднего модерна такие авторы, как
Ф. Кафка, С. Беккет, А. РобТрийе выступают как великие
метафизики скуки. С одной оговоркой: если под скукой мы будем понимать
нашу реакцию на бесконечное повторение мотива, когда даже новые
вариации воспринимаются как бывшие. Хотя эти литературы
сохранили авторов-рассказчиков, но это странные рассказчики, которые
ради геометрической точности замысла и дотошности описания,
лишили себя страсти. Даже у платоновского «евнуха души»
прорывается что-то вроде сострадания. Здесь же инертная и почти
неподвижная, чуть колеблющаяся ткань повествования, где ничто не
происходит, или происходит словно во сне (верно не только для Кафки).
Разве сновидные образы Кафки не вызывают скуку? Девиз Беккета из
485
Обморок мира. Поэтика случая в литературе Обэриу
пьесы «В ожидании Годо»: «Ну, что, пошли? - Пошли. (Не
трогаются с места. Занавес)». Это и есть основной алгоритм беккетовского
повествования, где некто (герой) постоянно пытается что-то сделать,
иногда самое ничтожное, но не в силах, потому что начал что-то
другое, но и то не может завершить, потому что уже реагирует на третье...
Ткань повествования поражена каким-то вирусом, который
переводит конец в продолжение, а оно в свою очередь претендует стать
началом, но продолжает продолжается, так и не начавшись.
Гротескная трилогия «Моллой», «Мэлон умирает», «Безымянный», -
повсюду один прием, словно одна поэтико-миметическая инстанция
руководит в разное время появляющимися повествованиями: единый
фронт движений на месте. На пути движения кафкианского героя К.
растет количество препятствий, которые он должен преодолеть, но
они не дают ему остановиться. Пространство Суда и Замка - это
лабиринты, в которых одно препятствие себя повторяет в другом, и
их никогда не пройти. Скуку создают эти спонтанно, из ниоткуда
возникающие препятствия; более чувствительный читатель видит
в письме Кафки ночной кошмар, от которого никак не проснуться....
Ален РобТрие создает эффект скучного повествования
приблизительно похожими средствами, не поддерживая в читателе хоть
какой-нибудь интерес. Неинтересно, но это так и есть, если смотреть
на мир безразличным, и таким «невидящим взглядом»114. Эта
литература не перечитываема, она в принципе и нечитаемая. Если кто
и берется читать, то он должен принять условия эксперимента: все
погружается в неимоверную скуку повторений. Другими словами,
скука здесь не произвольное отношение к читаемому («все это скучно
и неинтересно!»), а то, из чего выстраивается само чтение, - чтение
без событий. Литература притворяется безучастной и
беспристрастной, наложен запрет на «вмешательство». Что бы ни происходило
на стороне рассказчика, повествовательная машина не
останавливается, «не ломается» и продолжает работать на тех же оборотах.
Задача: отразить с максимальной полнотой тот именно образ
реальности, который как будто независим от нашего наблюдения. Прямо-таки
научный эксперимент: как описать часть реального опыта, и причем так,
чтобы наблюдаемое не было искажено возможностями наблюдения.
Однако есть сознание, которое отличается по интенциональной
природе от всех других, - сознание игровое, играющее. Возможно, игра
и есть анти-скука, акт личного спасения от «остановки времени».
Почему игра? Это ярко выраженный бессознательный порыв против
Реальности. Именно игра есть наиболее сильный оппонент скуки,
более того, игра и возникает, как мне кажется, как возможность по-
486
III. Упразднить случай
новому структурировать время: овладеть тем, которое или бежит,
ускоряясь, и тем, которое останавливается, почти не идет. Избежать
травматического воздействия экзистенциалов скуки (а к ним
относятся тоска/ужас/ничтпо/пустпота) можно только обращением к игре.
Цель игры - в преодолении скуки, ничегонеделания, т.е. избытка
времени. Но главное - не событие, а случай находится в центре игры.
Интенсификация и фальсификация случая - часть игры. Игра
вводит риск, нехватку времени, она позволяет остро чувствовать
текущее время, поскольку в игре оно заканчивается, чтобы каждый раз
начаться снова115.
Полночь. Начало игры (С. Малларме)
«Есть в ночи час, о котором отшельник скажет:
"Прислушайся! Остановилось время!" Бодрствуя ночью, а
особенно если едешь или бредешь куда-то в ночные часы, как не
привык, - впадаешь в странное, изумленное настроение,
переживая эту часть ночи (я имею в виду от первого до
третьего часа): что-то вроде "проходит слишком быстро!"
или "тащится слишком медленно!", - короче говоря,
получаешь впечатление какой-то ненормальности в
течении времени. Не приходилось ли нам, бодрствующим
отшельникам, искупать в эти часы свою вину за то, что
об эту пору мы, как правило, живем в хаотическом
времени мира сновидений? В общем, по ночам, от часу до
трех, мы "часов не наблюдаем". Сдается мне, как раз это
хотели сказать и древние своими выражениями "intem-
pestiva nocte" и "cv άώρονυκτί" (Эсхил), то есть "ночью,
когда время исчезает": а темное выражение Гомера,
означающее самый тихий и глухой час ночи, я
этимологически возвожу к тому же самому смыслу, и пускай себе
переводчики думают, будто речь идет о «ночной дойке коров»:
да разве бывали где-нибудь на свете такие дурни, чтобы
доить коров вот именно между часом и тремя ночи? Но
кому ты даешь подслушать свои ночные раздумья?»
Ф. Ницше
Перечитывая «Игитур» и «Послеполуденный отдых фавна»,
трудные поэтические тексты, я буду стремиться к выявлению лишь тех
моментов, которые могут пригодиться в интерпретации обэриут-
Обморок мира. Поэтика случая в литературе Обэриу
ского наследия. Почему выбраны именно эти тексты? Нужно
откликнуться на странную зависимость всех этих поэтических метафизик
случая от решающего часа дня. От тех часов, которые стали
символами принятия решения или свидетелями присутствия божественных
сил, но и появления двойников, призраков, демонов. «Заратустра»
Ницше является в полдень, но сам полдень как особый час дня
означает исчезновение тени, т.е. полную и исключительную по
зримости ясность116. Все должно становиться собой, полдень - это
становление дня. Время дня и ночи, в которое замкнут в час от полудня
к полуночи. «Часы бьют полночь - время бросать жребий». Мировой
фольклор перенасыщен ночным зрением.
Можно найти культурологическое пояснение. Полночь начало
другого времени: времени демонических сил, над которыми
человеческое не имеет власти. Полночь - другой мир, или анти-мир, силы ада
уже там, они ждут и готовы выступить. Теперь ночь, словно
спущенная с тормозов древним обычаем, угрожает различными карами и
ужасом. Полночь - это ночь ночи, а полдень - день дня. Между ними
не расстояние в 12 часов, а совсем другое; два мира, которые не
соприкасаются, они как черное и белое, высшее и низшее, свет и тьма.
Начало другого времени, где воцаряется случай, там он - господин,
поскольку в ночи нет ничего, чтобы указывало бы на присутствие
разумного начала. В полночь ничто не является под охраной Закона.
Тогда и появляется другое время, не то, которым мы живем, а то,
которому мы - чужие, время опасностей и риска. Но зато, как
полагает Малларме, полночь открывает нам «миг настоящего,
абсолютного настоящего вещей». Напротив, полдень - граница дня, метка
вселенского равновесия и ясности, час великого покоя (недаром же
все в этот час засыпают, даже великий Пан). Как ни странно, спят в
полдень, в полночь бодрствуют. Почему спят? Время
останавливается, - ничего не происходит или все уже произошло? В полдень
время замедляется настолько, что, кажется, оно остановилось
навсегда. Тишина полдня начинает звенеть в ушах, скапливаясь в самом
малом мгновении, готовым вспыхнуть «золотым диском вечности».
Полночь
«Никто не осмелится отрицать присутствие Полночи. Время не
проскользнуло в зеркало, не укрылось в складках драпировок, отзываясь
звучной немотой в убранстве комнаты. Я помню притворство его
позолоты, обращенной в полую безделушку мечтаний — богато
украшенный, ненужный обломок прошлого,— и только в запутанных позументах
звездного неба и моря прочитывалась бесконечная игра сочетаний.
488
III. Упразднить случай
Возвеститель полночи, полый звон, он впервые говорил о подобном,
ибо не создал другого часа, и потому созвездья и море отделились от
Бесконечного, обмениваясь вовне видимостью взаимных пустот, дабы
суть, единая с полночью, создала этот миг настоящего, абсолютного
настоящего вещей.
Присутствием Полночи живет и эта тысячелетняя комната, чье
загадочное убранство удерживает смутно дрожащую мысль — яркий разлом
ее возвратных волн и первого наплыва, пока (в подвижных пределах)
цепенеет картина падающего отмеренного часа в наркотическом покое
чистого долгожданного «я», не замечая, как время растворилось в
драпировках, довершая их красоту своим великолепием, как замерла в
забытьи убывающая дрожь, подобная бессильным прядям вдоль
таинственно высвеченного лица — лица гостя с отсутствующим зеркальным
взглядом, лишенным всякого смысла, кроме собственно существования.
Это чистое сновидение погруженной в себя Полночи, чья признанная
Яркость одна живет в груди сумрачного свершения, подводя итог
бесплодию белизной раскрытого на столе фолианта: заурядный лист,
заурядная обстановка ночной комнаты, если не считать неумирающего
молчания древнего слова, провозглашенного Полночью, слова,
которым она, воскреснув, призывает свою тень, эту завершенную
несбыточность, говоря: «Я была самоочистительным часом».
Древняя мысль, давно умерев, продолжает созерцать себя в чистых
водах химеры, где угасла в конвульсиях ее мечта, и, узнавая себя в
незапамятном пустом жесте, призывает свое отражение в надежде положить
конец противоречию несовместимых снов и вернуться через
призрачную яркость и непонятую клинопись к несвершенному Хаосу, покоряясь
Слову, исцелившему Полночь.
Обессмысленный час, когда шкафы и консоли навсегда занимают свои
места, громоздясь в сумраке, под стать обреченным на неподвижность
драпировкам, и только в неявном свечении, обязанном собственной
смутной зеркальности, переливается чистое пламя алмазной дверцы
стенных часов, единственной драгоценной преемницы вечной Ночи,—
обессмысленный час, изреченный отзвуками в створчатом проеме,
распахнутом деянием Ночи: "Прощай, ночь! Я был тобой, я был твоей
гробницей, но неумирающей тенью ты преобразишься в Вечность"»."7
Вот полночь, а в том месте, куда она пришла - комната поэта:
драпировки, консоли, зеркало, настенные часы, мебель, в центре
комнаты на столе лежит раскрытая Книга («белая страница»). Весь
этот интерьер - «загадочное убранство» - поэтически близок образу
«гробницы». Без всякого выражения и смысла: «лицо гостя» и «зер-
489
Обморок мира. Поэтика случая в литературе Обэриу
кальный взгляд», но главное: «время ушло», растворилось,
замкнулось в этом, похоже надгробном реквизите. Начало вечности; за
ослепительной границей полночи наступил очистительный час. Даже
часы с боем переходят в другое время, где их бой значит совсем иное.
Вся поэма, как видно, и есть постоянное перевертывание некоего
кусочка реального в символ, тем самым он спасается и становится
поэтическим образом118. И вот удар, мир надгробного бытия
открывается перед нами со всей резкостью вспышки. Вокруг бесчисленные
толпы теней-двойников, «туманностей», слышен полет летучей
мыши. Этот раздвои, где поэт соединяется со своими двойниками, словно
в тяжелом забытьи. Его «Я» - древнее животное, некая птица-тень,
двойник, кому только и открыт доступ в несуществующее время. И
вот сомнения: «Должен ли я, как прежде, бояться Случая, этого
давнего врага, раздвоившего меня на сотворенную темноту и
сотворенное время, усыпившего и время и темноту? И разве не упразднен он
сам апокалипсисом времени, предрекшим апокалипсис темноты?»119
И еще о настенных часах.
Именно они сохраняют возможность не потеряться среди
двойников, не оказаться перед закрытой дверью гробницы, из которой
не найти выход. Два фрагмента «ухода времени», его растворение
вместе с образом Igitur в пустом, очищенном от времени
пространстве, - пространстве скуки/тоски (ennui) 12°. Скука, это и есть ушедшее
время. Именно этот подлинный ужас «ухода времени» и пытается
передать Малларме, когда указывает на его завершение в Абсолюте,
который нельзя определить иначе как пик господства Скуки.
Зеркало - самый значимый и массивный предмет
символического реквизита. Именно в зеркале исчезает время, а за ним весь тот
мир, чей мерный ритм отвечал бою настенных часов. Но Igitur
делает шаг, - «отсекает себя от безграничного времени - он есть! Время
теперь не застынет, как некогда, тусклым подрагиванием на
громоздких эбеновых дверцах, где с гнетущим видом конца сжимают губы
химеры, не проникнет в перенасыщенные складки отяжелевших
драпировок, не заполнит скукой зеркало, в котором, я, задыхаясь,
задавленно молил не исчезать смутный, слитый со стеклом облик»121.
Поэт напоминает алхимика в своей лаборатории: все может
повториться со всем другим, отразиться в нем и исчезнуть так же легко,
как вновь появиться. Иначе говоря, все идет в дело. Любая метафора,
сколь ни была она рискованна, неточна, даже неудачна,
встраивается в общий поток символов, и до их понимания опять далеко. Хотя
тот, кто о себе рассказывает, совершает различные действия, на
которые мы должны обратить внимание, но их истинное значение
490
III. Упразднить случай
остается неясным. Здесь все та же поэтическая речь, устремленная
к максимальной концентрации смысла в мгновениях настоящего.
Между идеями Ницше и Малларме нет прямого сходства, тем
более внутреннего родства. Ведь для Ницше время - это мировой
поток, и наша способность противостоять ему не определяется
«броском костей». У Ницше нет Субъекта (с большой буквы), который
мог бы произвести бросок, внести нарушение в мировой ритм, ибо
тот, кто мог бы это сделать, «мертв»: «Gott ist tot». В отличие от
Малларме, где все-таки есть субъект игры (необходимый для «броска
костей», у Ницше он упразднен). Место для случайности
открывается в мире после упразднения субъекта, а-телеология, поток
становления не предполагает никакого упорядочивающего начала, а
только всеобщую игру следствий (вне всякой объяснимой логики
причин). Стремление Малларме к совершенству - это как Каинова
печать188; в письмах он пытается создать образ совершенной Книги:
«Я заложил основу великолепного произведения. В каждом человеке
заключена некая Тайна, и многие умирают, так и не познав свою, и уже
никогда не обретут ее, ибо после смерти не станет ни ее, ни их самих. Я
умер — и воскрес с драгоценных камней ключом от самого дальнего
духовного ларца. Остается только открыть его, уйдя от чуждых впечатлений,
и тайна изойдет красотою небес. Для этого мне нужно двадцать лет, и на
эти двадцать лет я замкнусь в себе, ограничу круг читателей
несколькими близкими друзьями. Я работаю над всем сразу, я хочу сказать: все так
сложилось во мне самом, что теперь, по мере того как приходит
ощущение, оно само переливается в слова и находит свое место в такой-то
книге, в таком-то стихотворении. Когда какое-то произведение созреет, оно
само падает как спелый плод. Видишь, я следую законам природы»1*9.
«Я просто хотел сказать тебе, что как раз наметил план всего своего
творчества, после того, как обрел ключ к самому себе, ключевой или замочный
камень свода, если угодно; центр, чтобы нам не ссориться из-за метафор,
— центр самого себя, где я держусь, словно священный паук, на главных
нитях, уже свитых моим разумом, и на их переплетениях я сплету
великолепное кружево, уже сегодня я провижу его, оно существует в чреве Красоты.
...И я предвижу, что мне нужно двадцать лет, чтобы написать пять томов,
из которых будет состоять мое творение, тем временем я стану читать
только близким друзьям, таким, как ты, фрагменты целого и стану смеяться
над славой, этой глупой и обветшалой идеей. Чего стоит так называемое
бессмертие, часто существующее лишь в головах глупцов, по сравнению с
радостью созерцать вечность и наслаждаться ею при жизни в самом себе?»124
491
Обморок мира. Поэтика случая в литературе Обэриу
« ...я всегда мечтал о другом и не оставлял попыток осуществить это
другое, с терпеливостью алхимика, готового ради этого пожертвовать всем
- и тщеславием, и чувством удовлетворения, подобно тому, как некогда
сжигали мебель и кров, лишь бы не дать угаснуть огню в печи, где
вершилось Великое деяние. Что это? Трудно объяснить: да просто книга,
во множестве томов, книга, которая стала бы настоящей книгой по
заранее определенному плану, а не сборником случайных, пусть и
прекрасных вдохновений... Скажу более: единственная Книга, убежденный, что
только одна она и существует, и всякий пишущий, сам того не зная,
покушается ее создать, даже Гении. Орфическое истолкование Земли - в
нем единственный долг поэта, и ради этого ведет свою игру литература:
ибо тогда сам ритм книги, живой и безличный, накладывается, вплоть
до нумерации страниц, на формулы этой мечты, или Оду.
Вот и я признаюсь в своем пороке, обнажаю его перед Вами, друг мой:
я тысячу раз от него отрекался, измученный и отчаявшийся, но это
сильнее меня, и, быть может, мне удастся все же свершить задуманное: не
завершить все произведение в целом (не знаю, кому это по плечу!), но
явить готовый его фрагмент, чтоб оно хоть в этой частице засияло всем
блеском своей подлинности, и указать тем самым общие черты всего
труда, на осуществление которого не хватило бы и целой жизни. Надо
доказать готовыми частями, что такая книга существует, что мне открылось
такое, чего я не смог воплотить»**5.
Законченность фрагмента противостоит незаконченности
целого, - Книге (единственной и неповторимой). Один фрагмент не
прибавляется к другому, - он сам целое, но данное в потенции будущего
развертывания. Получается так, как если бы в малую форму, было
заключено возможное целое, которым захвачено воображение
поэта. Целое и есть этот фрагмент, но поскольку сам поэт не в силах
развернуть все те связи, которые он видит и предчувствует, ему
приходится прибегать чуть ли не к мистическим усмотрениям. Как
результат этого - шифровка переживаний, которые не передаются ни
в рационально осмысленной записи, ни поэтически. Мистика
рационального проекта совершенной Книги, что-то похожее на
алхимический Opus. Ницше отказывается от символистской утопии Книги.
Одно дело писать книги, а другое - стремиться к созданию
«неведомого шедевра», Книги книг. Ницше превращает случайное в мысли
в необходимое условие: он мыслит афористически. Форма
афористическая - вот способ, каким Ницше устраняет зависимость от
возможной Книги: ведь это форма, которая, не гоняясь за целым,
придает ценность каждому мгновению. Именно мгновение упраздняет
492
III. Упразднить случай
случай, давая ему проявиться. Близость позиций Малларме и Ницше
в том, что они, хотя и по-разному, но упраздняют случай.
Почему все-таки именно в Полночь «бросаются кости»? Не ради
ли того, чтобы преодолеть час безвременья и скуки. Зеркало
удваивает, но постепенно с приближением полночи отражение гаснет,
исчезает, а это значит, что со временем что-то происходит, оно
останавливается, и вместе с ним все вокруг цепенеет, замирает,
переходит в вещи, впадает предсмертный сон («летаргический»). В том-то
и парадокс фрагмента, что он завершен или может быть завершен,
и однажды может стать свидетельством совершенного бытия Книги.
То высшее поэтическое единство, которое Малларме приписывает
будущей Книге, делает понятным место, которое занимает случай в
его доктрине. Случай остается действенен для Книги, но
упраздняется для фрагмента. Вот некоторые из заключений Малларме:
«Одним словом, когда на карту поставлен случай, именно он является
свершителем собственной Идеи, он сам утверждает себя и отрицает.
Перед лицом его существования отрицание и утверждение рушатся.
Случай содержит в себе Абсурд - подразумевает его, но в неявной
форме препятствует его существованию: тому, что позволяет существовать
Бесконечному».1*6
И далее:
«Незапамятный род, чье тяжкое время, переполняясь, обрушилось в
прошлое, древний род, волею случая живущий в единственной надежде
на будущее. Теперь, когда случай упразднен анахронизмом, высшим
воплощением рода, Некто, ощутивший в себе, благодаря абсурду,
присутствие Абсолютного, позабыл человеческую речь ради литер магической
книги, позабыл мысль - ради светоча: речь, отрицающую случай, мысль,
озаряющую сон, в котором он возник. Некто, верящий в единственное
существование Абсолютного, воображает, что повсюду он живет в
сновидении (и действует с точки зрения Абсолютного), этот Некто полагает
Шаг бессмысленным, поскольку случай существует и не существует, - он
сводит случай к Бесконечному, где-то существующему, по его словам».127
Случай не признает никакого после или до ( такое деление времени
отрицает его). Но разве не сам Хармс полагал гасить то
нелепо-бессмысленное, абсурдное, шокирующие проявления случая в
«повседневности» погружением его в плотную атмосферу повторения, в ску-
493
ку. «Случаи» Хармса - это как раз и есть такие формы подавления
всемогущества случая, перевода его в простоту повторения. Вечное
возращение к себе разного как того же самого - вот мысль Хармса
(солидарная, возможно, мысли Ницше и Малларме). Вот что лишает
случай его прежнего могущества. «Случаи» Хармса отрицают случай,
поскольку он повторяется в каждое мгновение: старухи падают, ктскго
кого-то бьет, кто-то травится, кто-то блюет, кто-то умирает... но ничто
не происходит, ничто не случается. Решаюсь на формулу: случай -
всегда вмешательство в то, что не перестает себя повторять, отрицая чудо.
Случай - не перевертыш необходимости, устраняющей всякую
случайность, не то, что может свершиться, то, что уже свершилось, что
не успели предвосхитить, да и не стремились, ибо случай есть
миметический отзвук каждого мгновения в нашем бодрствующем сознании188.
Но в обэриутской поэтике времени - другое время, имя ему скорее
кайрос, то, что Друскин назвал временем «сейчас», и что царствует
как раз в промежутке между временными сериями прошлого и
будущего, на пути от воспоминания к воображению. Субъектом этого
промежуточного времени, времени вне пространства, - в бегстве от
всякого «опространствования», - является сама фигура поэта-мима,
собирательный образ с ритмических случайностей темпорального
потока. Время взрывное, вертикальное, поперечное статистическому
времени Хроноса128. Другими словами, поэт - это мастер случая.
Тело мима-актера становится местом представления129. Такая
фигура встречалась у Белого, - естественного союзника обэриутского
авангарда. Там мы застаем телесную форму, навязанную при выборе
пластического решения, - это жест-судорога. Достоевский
эксплуатирует жестику чисто символически, вне какого-либо телесного
образца, ведь ему важна идеальная чувственность; в его литературе нет
управляющего событиями мима, только персонажи, - носители
миметической энергии.
порядок
^ ■" ^
интенсификация \ \
ч t ирония
ч * .
*» — «^
упразднение сейчас выпадение (вторжение)
// // » случая
^ - ^ настоящее
прошлое \ \ будущее
ч * фальсификация
юмор ч *· - -* '
хаос
IV
ВОСХОДИТ ЗВЕЗДА БЕССМЫСЛИЦЫ...
...пустое время - бессмыслица.
А. Белый
Проблемата: о неиспользовании языка
Языковое наследие обэриугов представляется грандиозным
опытом по неиспользованию языка. Но что это значит говорить: я не
использую язык, и не использует ли тогда язык меня, раз я
продолжаю говорить и взывать к нему? Язык пред-дан всем говорящим, всем
тем, кто пребывает в «родном» языке, естественной среде значений
и смыслов, ведь никто не может жить иначе. Мы обречены на язык,
язык не только «дом бытия» (М. Хайдеггер), он - судьба всех
событий, интегральная форма представимого и наделяемого смыслом
мира. Однако в качестве индивидов и членов общества мы активно
пользуемся «естественным» языком для других, неязыковых целей
(и прежде всего для прагматических и
экспрессивно-коммуникативных, эмотивных и т.п.). Предположим, что обэриуты сделали
попытку покончить с господством языка в поэтическом опыте и создать
такой язык, точнее, такую языковую норму, в которой язык больше
не используется для каких-либо внешних ему целей (и прежде всего,
для передачи, понимания и выражения смысла). Это и означает отказ
от использования языка. Или мы можем использовать язык, но так и
там, где он есть сам по себе и не нуждается в том, чтобы его
«понимали», абсолютно инертная лингвистическая субстанция. Но можно
ли назвать поэтический язык языком-в-себе? Может быть, не
использовать язык - это всего лишь извлекать выгоду из его господства над
495
Обморок мира. Поэтика случая в литературе Обэриу
нами. Чтобы поэзия пришла к себе и, наконец, овладела
собственными образами, она должна перестать пользоваться языком в не
поэтических целях. Ж.-П. Сартр считал, что истинные поэты
отказываются использовать язык: «В действительности поэт одним махом
уходит от языка-инструмента - он раз навсегда выбрал поэтическую
позицию, с которой смотрит на слова, как на вещи, а не как на
знаки»130. Вопрос: как быть вне языка, будучи в нем? Если быть вне
языка невозможно, то, может быть, стоит попробовать использовать
язык неправильно} Здесь проглядывает интенция к бессмыслице, и,
безусловно, тяга к игре. Использовать язык неправильно, это еще
раз убедиться в том, что, даже используемый неправильно, язык
остается языком, правда, особым языком. Ведь все поэтические шифры,
иероглифы и заклинания написаны «неправильно», т.е. скрывая
собственный смысл и того респондента, к которому обращены.
Следовательно, дело не в языке, а в том, что мы используем в качестве
языка. Великие лапутяне, как известно, таскали язык на себе, в
мешках: каждое слово было вещью, а каждая вещь - словом131. Для Хармса
очевидно, что были приняты на веру некоторые базисные имена
языка, откуда и пошла языковая ошибка: например, слова
«пространство» и «время» - это имена реальности, в которой мы живем, не
задаваясь вопросом, что они, собственно, значат помимо их
использования. Надо размышлять над ними до тех пор, пока они не
перестанут быть словами, означающими пространство и время, не станут
знаками неизвестного языка. Радикальное заявление: ни
пространство, ни время нам не даны, скорее они сконструированы в языке и
подчиняются его правилам, нежели законам реальности, к которой
они будто реферируются. Использовать имена «пространство» и
«язык» не как пространство и язык - вот выход. Общий принцип,
касающийся стратегии неправильного использования языка: думать
любое слово до тех пор, пока оно не распадется на свои звуковые
остатки и не станет чем-то, что больше не может быть названо.
Высвобождать образы из-под деспотии называния, В «Разговорах»
Введенский сетует на то, что так и не провел критику разума, но не
«отвлеченную», кантовскую, а «поэтическую». Если допустить, что такая
критика могла быть проведена, то какие мотивы могли питать ее,
насколько они осознавались самими обэриутами? Вот его ответ:
«Поэзия производит только словесное чудо, а не настоящее. Да и как
реконструировать мир, неизвестно. Я посягнул на понятия, на
исходные обобщения, что до меня никто не делал. Этим я провел как бы
поэтическую критику разума - более основательную, чем та,
отвлеченная. Я усомнился, что, например, дом, дача и башня связываются и
496
IV. ВОСХОДИТ ЗВЕЗДА БЕССМЫСЛИЦЫ...
объединяются понятием здание. Может быть, плечо надо связывать
с четыре. Я делал это на практике, в поэзии, и тем доказывал. И я
убедился в ложности прежних связей, но не могу сказать, какие
должны быть новые. Я даже не знаю, должна ли быть одна система связей
или их много. И у меня основное ощущение бессвязности мира и
раздробленности времени. А так как это противоречит разуму, то это
значит, что разум не понимает мира»'3*. Успех критики - в опоре на
поэтический опыт, ведь он, по определению, не должен находиться
в рабской зависимости от реальности. Поэтическая критика разума -
это критика нормативного «естественного» языка, и она была
осуществлена обэриутами, хотя, возможно, не программно и не до конца'33.
Поэт - это такое существо (не знаю, насколько разумное),
которое желает «соприкоснуться» с миром без посредников, и это
желание опасно. Скорее борьба с языком, причем, отчаянная в силу ее
безнадежности, и бессмыслица есть результат этой борьбы.
Бессмыслица зарождается в момент остановки мира, но не того, который
нам грезится или «мнится» как реальность, независимый от языка,
а мира-языка (когда язык отчасти утрачивает свои формальные и
семантические скрепы). Речь, повторяю, идет лишь о том, что мир,
который находится в ведении языка, есть мир осмысленный, тот же
мир, «без языка», не установившимися языковыми нормами и
запретами, - есть мир бессмысленный. Как только поэтический наблюдатель
вступает в мгновение остановки мира, он исчезает как субъект или
как себе равное в каждый момент наблюдения сознание, как
«наблюдающий разум» (Ф.В. 1егель). Еще Уайтхед, повторяя мысль
Бергсона, почти в одно время с обэриутами размышлял о мгновении
становления (события), дробящемся в мельчайших единицах времени,
которые мы еще способны воспринять, «порядка секунды или даже
долей секунды»; событие длится за счет интенсии, а не экстенсии,
свертываясь в себя по бесконечной кривой. И вот в эту секунду, в
которой свернулось расслоенное время (делимое на прошлое,
настоящее, будущее), язык утрачивает контроль над миром. Поэтический
наблюдатель, возможно, в этот момент переживает чувство
освобождения: замедленное, словно в Zeitlupe, движение предметов мира,
ему внезапно открывается их ослепительная новизна: свободно
падающие друг на друга образы, звуки, грамматические формы,
входящие в ритмы слипания. Поэтический наблюдатель «видит», как
от предметов отделяются их имена (будто слезает обгоревшая кожа,
рождая новую чувствительность слов), и они больше не оказывают
сопротивления ритмам поэтического глаза, они со-ритмичны его
эфирной свободе.
497
Обморок мира. Поэтика случая в литературе Обэриу
Нас заставляют читать, как читают дети, которые учатся чтению.
Например, в букваре мы находим простые фразы: МАМА МЫЛА
РАМУ. МАША ИГРАЛА В МЯЧ; в раннем детстве ребенок понимает
слова отдельно от их использования в контексте: «рама» - это рама,
«мама» - это мама, «мяч» - это мяч, а «Маша» - это Маша, она «мыла»,
«играла», «танцевала». Для ребенка язык еще не отделен от вещей,
он - язык самих вещей. Ребенок живет тем, что он говорит в данное
мгновение, и то, что он говорит, всегда конкретно и «вещно». Мама
действительно мыла раму, а Маша действительно играла с мячом.
Ребенок живет в речи Другого, творя мир спонтанно, только
нащупывая границы собственного «я». Поэтические опыты Обэриу
напоминают нам о чем-то, глубоко пережитом в детстве, но сегодня
уже изрядно подзабытым. Помню, на первых уроках письма и чтения
я с удивлением обнаружил, что слова «рама», «Маша», «мяч», «мыла»,
«мама» - отчужденные и пассивные знаки, принадлежащие белой
поверхности тетрадного листа в косую линейку - оказывается,
имеют прямое отношение к тем словам, которые мы произносим.
Слишком уж очевиден был их разрыв с живым языком вещей. Одно дело
сказать ма-ма, з. другое дело увидеть слово прямо перед собой и уметь
прочесть: мама. Ребенок пользуется до чтения и письма «вещным
языком» общения, но не знает никакой абстрактной, начертательной
сущности языка. Написанные слова не внедрены в его
телесно-моторную активность и не используются им, как орудия смысла. Помню,
на уроках чистописания я удивлялся любому слову, которое
получало письменное отображение, складывающееся из прекрасных букв,
которые я усердно пытался копировать. Я был маленьким
каллиграфом, переписчиком. Хотя, по требованию учителя, я мог оживлять
их своим дыханием, «правильной» артикуляцией, бесплотная,
«египетская» сущность языка, выраженная так просто и экономно,
продолжала мерцать передо мной.
Позиции
В «Серой тетради» Введенского мы читаем: «Время всходит над
нами, как звезда»134. В этом памятном высказывании есть что-то
недоговоренное - опущено важное слово: бессмыслица. Звезда чего?
Звезда бессмыслицы. Как только останавливается время, тут же «всходит»
звезда бессмыслицы. Столь радикальная остановка времени влечет
за собой остановку языка. Знак остановки - появление бессмыслицы.
Остановившееся время и есть причина восхода «звезды бессмыслицы».
498
IV. ВОСХОДИТ ЗВЕЗДА БЕССМЫСЛИЦЫ...
Поэтическая одержимость сближает поэта-обэриута с шаманом.
Поэт и проклят, и одержим так же, как шаман. Чтобы добиться
результата, шаман отправляется в путешествие за духами
помощниками, да и сам он уже стал «духом», «порывом ветра», «бурей», тело
его становится все легче в экстазе, достигнутом после многочасовой
пляски (которая сопровождается пением, речитативом, обычной
разговорной речью, подражанием голосам животных и птиц,
мимикой, жестикуляцией, ударами в бубен, прыжками и т.д.), он
переживает удивительный полет к другим мирам135. И вот он другой мир,
теперь иначе видимы знакомые мировые предметы: дорога, небо,
свет, лес, река, луна - теперь они - вне времени. Все высвобождается
от всего, чтобы стать рядом со всем другим и застыть. Время
восходящее и есть время, уходящее из мира, оно восходит над нами, т.е.
покидает мир, становится звездой. Теперь время есть все то, чем оно
было: вещи, звери, леса, воды, рыбы, цветы. Поэт говорит об этом:
«Перед тобой стоит дорога. И позади тебя лежит тот же путь. Ты стал,
ты остановился на быстрый миг, и ты, и мы все увидели дорогу впереди
тебя. Но вот тут мы взяли все и обернулись на спину, то есть назад, и мы
увидели тебя, дорога, мы осмотрели тебя путь, и все-все, как один
подтвердили правильность ее. Это было ощущение - это был синий орган
чувств. Теперь возьмем минуту назад, или примеряем минуту вперед, тут
вертись или оглядывайся, нам не видно этих минут, одну из них
прошедшую мы вспоминаем, другую будущую точку воображаем. Дерево лежит
дерево висит, дерево летает. Я не могу установить этого. Мы не можем
ни зачеркнуть, ни ощупать этого. Я не доверяю памяти, не верю
воображению. Время единственно, что вне нас не существует. Оно поглощает все
существующее вне нас. Тут наступает ночь ума. Время всходит над нами как
звезда. Закинем свои мысленные головы, то есть умы. Глядите, оно стало
видимым. Оно всходит над нами как ноль. Оно все превращает в ноль. (Последняя
надежда - Христос Воскрес.)
Христос Воскрес - последняя надежда»136.
«Восходит скверная заря. Лес просыпается. И в лесу на дереве, на ветке,
подымается птица и начинает ворчать о звездах, которые она видела
во сне, и стучит клювом в головы своих серебряных птенцов. И лев, и
волк и хорек недовольно и сонно лижут своих серебряных детенышей.
Он, лес, он напоминает нам буфет, наполненный серебряными
ложками и вилками. Или, или, или смотрим, течет синяя от своей
непокорности река. В реке порхают рыбы со своими детьми. Они смотрят
божескими глазами на сияющую воду и ловят надменных червяков. Подстерегает
499
Обморок мира. Поэтика случая в литературе Обэриу
ли их ночь, подстерегает ли их день. Букашка думает о счастье. Водяной
жук тоскует. Звери не употребляют алкоголя. Звери скучают без
наркотических средств. Они предаются животному разврату. Звери время сидит
над вами. Время думает о вас, и Бог. Звери вы колокола. Звуковое лицо лисицы
смотрит на свой лес. Деревья стоят уверенно как точки, как тихий мороз. Но
мы оставим в покое лес, мы ничего не поймем в лесу. Природа вянет
как ночь. Давайте ложиться спать. Мы очень омрачены».137
Но как только мы начинаем размышлять о времени, появляется
проблема изменения одного предмета по отношению к другому. Ведь
время в нас располагается таким образом, что каждое ушедшее
мгновение мы должны помнить, а каждое ожидаемое - (воображать).
Время трудно «поймать», поскольку оно все время там, там-позади
или, напротив, там-впереди, но не здесь, не вот-тут, - оно движется
вместе с нами и нам его не схватить. Тогда-то и получается, что
время там, где оно действительно переживается, есть время конечное:
время «бытие-к-смерти» (или «болезниъ-смерти» как у Киркегора). Но
такое время - не пустое, а заполненное, оно = событию, именно
событие ввергает нас в действие времени: наша открытость к смерти
событийна. Реальное воздействие времени, этот тот критический
момент, когда оно собирается обрушить на нас энергию всего того,
что происходит, что готовит смертельный удар - вот что нас
изменяет, вот что Липавский называет преобразованием, или событием Если
взять, например, старинную, самую первую и самую примитивную
камеру (camera obscura), а ее выдержка была где-то около двух часов
(это как тот же ослепляющий магниевый щелчок, только растянутый
во времени), то мы получим весьма странное изображение:
пустынные улицы европейских столиц (вспомним о Париже Дагерра, Ньеп-
са, Атже, Моголи-Надя). Выдержка еще слишком велика, «схватить»
можно только неподвижные предметы (все, что движется, не
попадало в камеру). Вот почему парижские улочки так пустынны, -
странное запустение мест, они словно очищены от всего живого, хотя
следы его повсюду, даже теплота вещей сохранилась, отсюда подлинная
печаль утраты. Это образцовый пример остановки времени. Время,
останавливаясь, уходит в вещи, там оно таится, но между вещами
пустота. Остановка времени катастрофична, но это не разрушение,
а нарастающее чувство опустошения мира.
В группе Обэриу тема бессмыслицы активно обсуждалась. Нам
же важно установить, существуют ли очевидные различия (при,
допустим, родовом тождестве) между понятиями «зауми»,
«бессмыслицы», «абсурда» и «нонсенса»? Допустим, Хлебников и Бурлюк -
500
IV. ВОСХОДИТ ЗВЕЗДА БЕССМЫСЛИЦЫ...
поэты «зауми», Хармс и Введенский - поэты «бессмыслицы», а С.
Беккет, Ф. Кафка - поэты абсурда, Α. Αρτο и Л. Керрол - поэты
«нонсенса» (nonsens). Вот эти несколько позиций.
(ι) Бог и бессмыслица. Позиция Друскина выражена предельно
точно: «Понять бессмыслицу нельзя: понятая бессмыслица уже не
бессмыслица. Нельзя также искать смысл бессмыслицы: смысл
бессмыслицы - такая же, если не большая, бессмыслица, чем сама бес-
смыслица»'38. И в другом месте подводится итог:
«Введенский говорил: время (и жизнь) иррациональны и непонятны.
Поэтому понять время (и жизнь) это и значит не понимать их. В этом
смысл его бессмыслицы. Это не скептицизм и не нигилизм, и не
невесомое состояние (битничество), а скорее апофатическая теология (Дионисий
Ареопагит)- богословие в отрицательных понятиях. Поэтому
большинство вещей Введенского - эсхатологические, и почти в каждой - Бог.
Это связано с ощущением непрочности своего положения и места в
мире и природе. Эта непрочность не политическая или социальная, а
онтологическая: на всеобщих развалинах и обломках. Но мы не делали
поверхностных нигилистических выводов. Каждый из нас по-своему искал и
знал, что есть трансцендентное - Бог. Полная радикальная десубстанциализа-
ция мира возможна только для верующего. У неверующего остается еще
последний идол или фетиш: я сам, яум. Отсюда понятны слова Введенского
о том, что он произвел критику разума, более радикальную, чем Кант.
Но подобное понимание в непонимании - практическое: ноуменальное
понимание в логическом непонимании в философии практически
требует какого-то внутреннего переустройства от слушателя и читателя, также
религиозного порядка. Божественное безумие посрамило человеческую
мудрость. Введенский десубстанциализирует созданные человеческой мудростью
гипостазированные условности, выдаваемые за экзистенциализм жизни..,»1*9
Позиция Друскина ясная, он прямо указывает на «поэтическую
святость» Введенского. Непонятного нет, потому что в трм
измерении, где творит поэт, стратегия всегда одна: слышать - «кругом
возможно Бог». Непонятное, действительно, вокруг нас, но в каждое
следующее мгновение жизни оно становится понятным, чтобы через
какое-то время вновь стать непонятным. Пускай, мы не понимаем
то, что читаем, но мы воспринимаем читаемое в том режиме
(миметическом), который доступен в данный момент. Миметизм чтения
неискореним, миметизму, чтобы вспыхнуть, достаточно любого
печатного значка, не только буквы. Нам не нужно понимать, и не по-
501
Обморок мира. Поэтика случая в литературе Обэриу
тому, что направляющая инстанция смысла отсутствует, а потому,
что форма выражения в поэтическом высказывании всегда смещена.
Мы воспринимаем мир, не понимая его, и это не мешает нам жить,
как поэту творить. Понимание - это последействие. И уж с чем
трудно согласиться, так это с попыткой увидеть в поэзии Введенского
(и Хармса) что-то от теологической апофатики - одно только
«искание Бога», - поэзия как путь к Богу
И другой фрагмент рассуждений Друскина, демонстрирующий
его аргументацию еще более отчетливо:
«Абсурд, или бессмыслица, всегда понятие семантическое. То есть
отношение слова или знака к обозначаемому. Но слово стало плотью. Тогда
бессмысленное слово, то есть бессмыслица, стала пониманием моего
существования, так как вочеловечение Слова алогично. И это тоже
нельзя понимать иносказательно: если крест - соблазн для воли, безумие
для разума, и Божественное безумие посрамило человеческую мудрость,
то только семантическая бессмыслица высказывает экзистенциальную
и онтологическую реальность {косвеннаяречь, Кьеркегор). И здесь
остается только один соблазн, а не, как обычно, два, потому что те, кто ищет
смысл в смысле, в осмыслении бессмыслицы (Гуссерль), не впадут в этот
соблазн: осмысляя фактическую бессмысленность, уничтожают ее,
возвращаются к человеческой мудрости. Поэтому остается только соблазн
имманентизма и релятивизма - Хайдеггер, Сартр, Камю. Но если
звезда бессмыслицы не Божественное безумие, посрамившее человеческую
мудрость, то она станет только другим полюсом человеческой мудрости:
бессмыслица без абсолютности, без абсолютного алогичного личного
Логоса - релятивизм и психологизм, так же абстрактна и сомнительна,
как и безличный рациональный логос, хотя бы его и писали с большой
буквы, также абстрактна, как и рациональный абсолютизм.
Различие бессмыслицы неосмысленной (круглый квадрат) и
осмысленной (Богочеловек, вина без вины, несвободная свобода, мое
существование) не в том, что первая бессмыслица семантическая, а вторая
экзистенциальная и онтологическая, но только в содержании. Всякая
бессмыслица - семантическая категория, но квадрат и круг существуют только
в мысли, а Бог и я - реально. Только поэтому абсурд ι-го рода только
семантический^ а 2-города семантический и экзистенциально-онтологический:
алогичное слово, высказывающее абсолютную, а не относительную
реальность, то есть в конце концов - само алогичное Слово»140.
Как мы видим, Друскин относит бессмыслицу к высшим
онтологическим качествам бытия: все лишено смысла, если нет слуха к присут-
502
IV. ВОСХОДИТ ЗВЕЗДА БЕССМЫСЛИЦЫ...
ствию Бога. Присутствие Бога в мире задается через абсурд и
бессмыслицу (здесь они не различаются). Возможно, это следы
внимательного чтения Киркегора. Напомним о кредо Тертуллиана: «Верую,
ибо абсурдно». Божественное присутствие не может быть
воплощено в ожидаемом чуде, знаке богоявленности. Абсурд в плане
религиозной веры и есть единственно возможная ниточка, что связывает
верующего и Бога. Верить, - это не столько понимать, сколько
следовать... По сути дела сильная вера устраняет абсурд из повседневной
жизни, поскольку ее понимание или непонимание сравниваются в
акте веры. И сам по себе вопрос о понимании становится
бессмысленным. Идейное отступление Друскина как раз и заключается в том,
что он полагал поэтическую стадию (бессмыслицы) как переходную
к более высшей: от эстетической, минуя этическую, одним прыжком
в религиозную (если следовать Киркегору). Так он пытается свести
метафизику в собственном изводе к систематическому раскрытию
вопроса о Боге. Не теология, не богословие, не философия (+
метафизика), а экзистенциальное переживание мысли как религиозной.
Понятно, что ежедневное упражнение в личной вере, сновидчество,
воспоминания - все это способы выживания в мертвую сталинскую
эпоху. Другими словами, без отношения к божественному
Присутствию поэзия теряет всякий смысл, она действительно становится
занятием, способствующим мировоззренческому нигилизму масс,
проповедью неразумия и бессмыслицы.
Метафизика, окрашенная религиозными исканиями, возможна,
но не поэзия. Хотя в поэзии можно находить что-то от молитвы и от
метафизики, не следует забывать, что свобода творчества всем
обязана игре (нарушение правил и норм, скрытое или явное
богоборчество, безбожие и кощунство). Любое языковое событие, которое мы
называем поэтическим, это нарушение правила и готовой нормы,
поэт бросает вызов, и здесь все ставки его игры. Великая поэзия -
это великая игра, где Бог не цель и конец, а начало.
(2) Поэтическая анемия. Для Заболоцкого прием Введенского прост
и понятен: во-первых, «бессмыслица не от того, что слова сами по
себе не имеют смысла, а бессмыслица оттого, что чисто смысловые
слова поставлены в необычайную связь - алогического характера»
И далее, развитие тезиса: «Но старая метафора легко стерлась - и
акмеистическая, и футуристическая. Обновление метафоры могло
идти лишь за счет расширения ассоциативного круга - эту-то работу
Вы и проделываете, поэт, с той только разницей, что Вы
материализуете свою метафору, т.е. из категории средства Вы ее переводите
503
Обморок мира. Поэтика случая в литературе Обэриу
в некоторую самоценную категорию. Ваша метафора не имеет ног,
чтобы стоять на земле, она делается вымыслом, легендой,
откровением»41. Это всего лишь первый аргумент в атаке Заболоцкого и
далеко не такой точный, как второй. Вот он: нельзя в работе над
стихом «безнаказанно» пренебрегать женственностью гласных и
мужественностью согласных, терять начальный смысл их
фонетических отношений, интонацию, их ритмическую основу: «Смена
интонации заставляет стихотворение переливаться живой кровью,
однообразная интонация превращает ее в бесслизистую лимфатическую
жидкость, лицо стихотворения делается анемичным»42. Невнимание
к тендерным аспектам поэтического чувства нарушает
психомиметическое равновесие стиховой формы - она выходит из-под
контроля. Другие аргументы лишь сопровождают первые (они касаются
выбора темы и композиции). Обнаруженные Заболоцким
нарушения в поэтике Введенского соответствуют его представлению о
поэзии как расчетливом и искусном ремесле. Поэта ведет не
призвание, а именно ремесло. Но ведь поэзия Введенского не для детей и
взрослых, не для женщин или мужчин, не для бедных и богатых, не
для большевиков и троцкистов, она не для кого, она то, что есть, она
- собственный смысл. Не следует забывать, что это поэзия,
описывающая мир в состоянии катастрофического изменения,
замедления, остановки: нечто обратное разбеганию, «внезапному
расширению», «взрыву» (А. Белый, С. Эйзенштейн, К. Малевич). Можно ли
говорить о дадаистическом «коллаже», «автоматическом письме»,
«случайности», «алогичности» как инструментах обэриутского по-
эзиса? Я думаю, что нет. Предполагается, что есть некий
поэтический субъект, который творит вполне осознанно - он в силах понять
непонимаемое (мир) и идти до конца, даже если условием понимания
будет нечто, лежащее за его границами (вера в Бога, игра в
«отрицание», экспериментальная перестройка языковой среды). Если я
читаю поэму «Кругом возможно Бог» или что-нибудь другое из
сочинений Введенского, то я покорен общим стиховым движением;
мне не дают опомниться, включиться в понимание того, что
читается; вероятно, непонимание - нечто изначальное данное в самом
акте чтения. Читая, мы не столько понимаем, сколько следуем за
читаемым. Высшее удовольствие чтения - не понимать! Это самый
настоящий транс следования-за... Я бы сказал и так: мы понимаем в
границах нашей способности следовать-за, т.е. не понимать.
Основным условием чтения является спонтанная, взаимная текучесть
сознаний, участвующих в актах чтения/письма: с одной стороны,
текучесть авторского сознания (или того, что его представляет), а с
504
IV. ВОСХОДИТ ЗВЕЗДА БЕССМЫСЛИЦЫ...
другой - читательского. Идеальное, «захватывающее» чтение, когда
различие между ними снимается в процессе восприятия
стихотворной формы. Акт чтения делает их обратимыми, тем самым усиливает
текучесть сознаний. Что же это за текучесть? Как она
поддерживается и за счет чего? Ведь с одной стороны, очарование неких образов,
которые невозможно реферировать к наличному опыту
переживаний, с другой - та известная сила вращения, которая влечет, тащит
за собой, чарует, фасцинирует, которой опьянен не только поэт-мим,
но и читающий. Я думаю, здесь нечто вроде круго-вращения: как если
бы мы, читающие, были вовлечены в движение языковой стихии,
уводящей нас от центральной эго-позиции, где мы традиционно
пребываем, противопоставляя себя миру, на авторскую периферию.
Можно сказать, мы разлетаемся, не можем или не хотим собраться, стать
внимательными, сконцентрироваться, -отсюдаусиление текучести,
все большее доминирование внутреннего потока сознания, той
стиховой материи переживаний, которая естественна и непроизвольна,
и почти не поддается «рационально понятной» артикуляции.
(з) Абсурд (Ф. Кафка и С. Беккет). Для Кафки абсурд отнесен к
опыту жизни героя, поведение которого подвергается исследованию со
стороны, предельно отстраненно, «объективно». Абсурдно не
описание того, что происходит (язык не задет здесь), а само
происходящее, т.е. сновидная реальность, именно она атакует читателя. Всякая
же попытка понять, что происходит, встречает сначала одно
препятствие, которое требует объяснений, указания причин и деталей,
потом другое, потом третье... так разрастается сфера абсурдного, и
это разрастание не остановить. Запомним: абсурдно все, что
происходит, а это значит, что граница между тем, что возможно, и тем,
что невозможно, но происходит... постоянно смещается. И еще одно,
абсурд Кафки не локален и не ситуативен, он находится во времени
рассказа и то, что он кажется притчей, его не спасает. По сути дела
кафкианский абсурд чисто сновидческий; единственно, чем он
отличается от сновидения, так это тем, что мы не можем проснуться.
Несколько иначе абсурд понимается в поэтике С. Беккета. Допустим,
мы обращаемся к изучению его пьес для театра или романной
трилогии («Моллоу», «Мелон умирает», «Безымянный»). Тема абсурда
раскрывается там с точки зрения субъективного сознания, которое
хотя и дано в непрерывности самоописания, явно страдает от
нехватки единства. Налицо ущербность и немощь тела, отраженные
в слабости духа, связь между ними нарушена, если не полностью, то
весьма существенно. У Беккета, в отличие от Кафки, абсурд разме-
505
Обморок мира. Поэтика случая в литературе Обэриу
щается внутри сознания героя, им пропитан поток спонтанной речи,
от которого не освободится. Абсурд скрывается в трагической
нехватке бытия, и его неоткуда взять. Так что абсурд здесь - это выбор
качеств бытия, а не абсурд сам по себе. Ситуация абсурда задается у
Беккета странными персонажами-инвалидами и их нескончаемыми
монологами, в которых их существование как рассказчиков ставится
под сомнение (да живы ли они? да и кто все это говорит?). Абсурд -
это атмосфера ущербной жизни, в которой обитает существо-инвалид,
расщепленное, ни с чем и ни с кем не связанное, блуждающее,
пассивное, неживое. Поверх или в стороне от этого инвалидного сознания
нет ничего, кроме распавшегося тела героя и его нелепых усилий «по
сборке»; эти случайные коллекции вещных символик также мало что
объясняют в поведении персонажей. Все, что можно было бы
спросить у Беккета, не будет иметь ответа, ибо нарушит принцип
существования абсурдистской прозы. Из беккетовского абсурда нет
выхода. Более того, если вы все-таки решаетесь читать, то вы попадаете
в странную ситуацию: вы учитесь понимать абсурд. А это значит, что
постепенно он замещает собой реальность, создавая другую, которая
хотя вам и чужда, имеет право на существование, ведь вы читаете...
«Бессмыслица» обэриутов, как мне представляется - чисто
языковое явление, оно не связано с референцией к телесному и
практическому опыту. Собственно, бессмыслица - часть игры в
бессмысленное, в то время как абсурд предзадается самой ситуацией, из
которой нельзя получить никакого объяснения. Игра в бессмыслицу
относится к другому роду поэтической речи, пытающейся себя
утвердить в качестве доминирующей, ясной, всем понятной. Абсурд
- это среда, в которой нет и не может быть никаких явлений
понимания143. Вы только взгляните на обэриутские доклады, сентенции,
случаи и «анекдоты», упражнения и представления - на все это
поэтическое бурление мысли. В чем удивительно схожи их так
называемые эксперименты с языком - так это не-пониманием. Условие
мысли, если угодно, тел ос мысли - непонимание. В отличие от
футуристической зауми, реактивной, эпатажной, полагавшей, что имеется
слушатель, которого можно смущать, провоцировать, издеваться
над ним, высмеивать и т.п., обэриутская бессмыслица другого рода:
это не хлебниковская эпическая заумь, не провокационная Бурлюка
или раннего Маяковского. Обэриутская заумь выстраивается не на
попытке сказать, насколько мир абсурден, не на бессилии его
понять, а на бессмыслице как творческом импульсе, начальном условии
мысли... Заумь - как бессилие ума, отчаяние достичь понимания...
Не мир неразумен, а поэт, пытающийся найти для него способ по-
506
IV. ВОСХОДИТ ЗВЕЗДА БЕССМЫСЛИЦЫ...
нимания в «улучшениях» языка. Абсурд размещен в мире до всякого
языка, он - сама атмосфера; часто это наполняющий душу спящего
кошмар, от которого многие герои Кафки не могут проснуться. А
вот бессмыслица - это то, что получилось, когда доступные нам
смысловые структуры больше не могут выполнять свою функцию по
отношению к реальности. По большому счету, все - игра, нет ничего
бессмысленного. И что бы ни взывало к игре, только игра делает
нас свободными от обязательств перед здравым смыслом.
(4) Nonsens (Л. Кэррол и А. Арто). Нонсенс располагается на
поверхности, его видно, он географичек, и главное в нем то, что он
заметен, и тот, кто затевает игру в него, конечно, хочет, чтоб он был
хорошо виден. Сказать, что нонсенс противостоит смыслу (как,
например, бессмыслица) нельзя, ведь он изобретен не для того, чтобы
усилить или ослабить смысл. Нонсенс - для отдыха и развлечений;
целиком сосредоточен на вполне осознанной авторской игре с
языком (шарады, шахматы, скетчи, загадки и др.). Возможно, если мы
отвлечемся от контекста, в котором формулируются принципы
нарушений смысла в литературе, то они могут быть сведены к общему
теоретическому взгляду (и даже единой формуле). Но как только мы
привлекаем литературный контекст, изучаем практическое
воплощение принципа в отдельном произведении, мы тут же понимаем,
что различия между заумью и бессмыслицей, абсурдом и нонсенсом
весьма существенны и не поддаются устранению. Не просто
нонсенс, а «игра в нонсенс»144, - а это большая разница. И не просто
игра, а игра, прежде всего понятная детям, т.е. детская игра.
Конечно, детский интерес и взрослый здесь не совпадают: ведь то, чему
радуются дети, читая сказки Кэррола, вовсе не то, от чего получают
удовольствие взрослые. Со стороны детскости мы находим
следующие аспекты: превращение (в сказке можно стать кем и чем угодно);
бегство (самое широкое понятие свободы от всего, в том числе, - от
собственного тела, родителей, домашних животных, старых друзей,
вещей и злых волшебников); страсть к разрушению; как известно,
особое удовольствие дети раннего возраста получают от разрушения
всего и вся; на стадии инфантильного каннибализма дети активно
разрушают, позднее этот акт прямой агрессии сублимируется в
удовольствие наблюдать за образами разрушения). Но как только мы
оказываемся на стороне взрослого сознания, мир детских страхов
и чудовищ, превращений и спасений, короче, мир приключений
исчезает и на его месте появляется «игра в нонсенс», я бы сказал, нонсенс
становится развлечением145. Замечу, что для детского восприятия
507
Обморок мира. Поэтика случая в литературе Обэриу
нонсенса как проблемы просто нет. Раз это «игра в нонсенс», то,
следовательно, должны быть и определенные правила, вот они: поле
различных фигур, предметов, образов, которыми можно
манипулировать, создавая видимость истории, которая рассказывает о
приключении маленькой девочки Алисы; но ритм рассказа перебивается
все новыми случаями и «остановками», рассказ крутится вокруг
одного и того же, скорее «в пространстве», нежели «во времени». Можно,
конечно, составить словарь перверзий, обращений/превращений,
смещений и подстановок, но это не изменит главного: взрослые
играют в нонсенс, им не интересен нонсенс сам по себе. Для детей все,
что происходит в сказке, вообще не имеет никакого отношения к
нонсенсу, ибо сам мир вокруг них и есть нонсенс, и, играючи и
беззаботно вторгаясь в него, детское восприятие расколдовывает его,
делает менее бессмысленным и ужасным, чем он хотел бы казаться146.
В комментариях Делеза коксекс проблематизируется, более того,
он пытается снять разрыв этих двух невидимых серий значения -
серию взрослости и серию детскости - весьма странным приемом:
ввести клинический аспект проблемы нонсенса - шизофренический.
Снять эту двойную радость общения со сказкой Кэррола тем, что он
называет «бездонным нонсенсом», неким расщепом, «нехваткой»,
первоначальной трещиной бытия: «Нет ничего более хрупкого, чем
поверхность. Не угрожает ли вторичной организации чудовище по-
страшнее, чем Бармаглот? Не угрожает ли ей бесформенный,
бездонный нонсенс, совсем не похожий на то, с чем мы столкнулись в
двух фигурах, присущих смыслу? Сначала мы не замечаем этой угрозы.
Но стоит сделать лишь несколько шагов, и мы понимаем — трещина
растет. Вся организация поверхности уже исчезла, опрокинулась в
ужасающий первозданный порядок. Нонсенс более не создает смысл,
ибо он поглотил все. Поначалу может показаться, что мы внутри той
же самой стихии или по соседству с ней. Но теперь мы видим, что
стихия изменилась, и мы попали в бурю. Нам казалось, что мы все
еще среди маленьких девочек, среди детишек, а оказывается мы уже
— в необратимом безумии. Нам казалось, что мы на последнем
рубеже литературных поисков, в точке высочайшего изобретательства
слов, а мы уже — в раздорах конвульсивной,жизни, в ночи
патологического творчества, изменяющего тела» Ч7. Тайный принцип
клиники шизофрении: все есть тело, ничего кроме телесных страданий
и мук. Невозможно себе вообразить язык, еще сохраняющий свои
правила игры и доминирующую позицию по отношению к телу. Все
переворачивается в «безумной» поэтике Антонена Αρτο: тело
утаскивает язык на глубину и там пожирает. «Значит, образ жизни шизо-
508
IV. ВОСХОДИТ ЗВЕЗДА БЕССМЫСЛИЦЫ...
френика - противоречие: либо в глубинной трещине, пересекающей
тела, либо в раздробленных частях, вращающихся и насаженных друг
на друга. Тело - решето, раздробленное тело и разложившееся тело - три
основных измерения шизофренического тела»148. Никакой артикуляции
по смыслу предложений (слов) больше нет. Можно себе представить,
что с некой высоты, где язык обладал явным преимуществом над
телами, он стремительно падает вниз, в стихию телесного, бездну
без-дна (как сказал бы М. Хайдеггер)49. А это значит, что нонсенс
больше не игра, а клиническая проблема утраты Смысла.
Приостановка и расщепление референции
Все разлагается на последние смертные части
А. Введенский
Все завершенные так и незавершенные работы обэриутов
посвящены изучению проблематики расщепленной референции (по
выражению Р.Якобсона). Примеры под рукой, прежде всего сама
поэзия Обэриу, где налицо организация образной массы посредством
техник алогизма. Все дробиться на меньшее и большее, все
соотносится со всем, но ничто не реферируется к чему либо, кроме себя. Эта
самоотнесенность или аутореферентность является верным
признаком бессмыслицы. Всякий образ, выходящий за границы
ожидаемого или просто привычки, оказывается чем-то вроде вымысла («игры
воображения»), именно он при-останавливаетдействие референции.
Включение воображения и есть такая приостановка. Вымысел
поэтический итог игры воображения, оно свободно; и эта свобода не
просто формальная, а реальная. Поэт высвобождает свои ощущения,
чувства, восприятие от прежних образов и штампов, словно
начинает пользоваться ими впервые и только по случаю, а не с какой-то
предвзятой целью или выгодой. В поэзии мы наблюдаем не просто
нарушение референции, но ее активное расщепление. А это значит,
что язык, переходя из обыденного употребления в поэтический
режим, умножает значения того же самого; теперь он опирается на их
избыток, а не на их нехватку150. По замечанию П.Рикера: поэт - это
«тот гений, который порождает расщепленные референции
посредством создания вымысла»151.
Мы уверены в том, что окружающий нас мир отражен в языке и
активно с ним взаимодействует, - и вот, в какой-то момент все одним
509
Обморок мира. Поэтика случая в литературе Обэриу
махом погружается в немоту и неподвижность, все застывает... Что
же в таком случае должно произойти с языком? Остановка или даже
временная при-остановка действия языка - разве это не катастрофа,
не полный распад всего и вся; в том числе и любых способов
наблюдения? Ведь ничто не может остановиться, чтобы не распасться, ни
одна позиция? Мы используем термин частицы не только по
аналогии с языковыми частицами, но по аналогии с другими частицами,
активными в иных измерениях опыта152. Частицы в данному случае
выступают как элементы поэтической субстанции (литературной).
Частица - это своего рода малый пункт наблюдения, откуда
открывается панорама на внутреннюю динамику поэтического
высказывания. Часть предполагает целое, целое - часть. Частица же
выступает как момент распада части и, следовательно, целого. В чем же
оно? Есть несколько ответов. Один из них можно найти в идеальном
генезисе частиц-в^распаде. Частица выявляет себя в столкновении с
другой; и до него она не существует; все ее существование сводится,
в конечном счете, к отскоку; частицы сталкиваются, не давая друг
другу занять место «между», куда может быть привлечен смысл. Нет
достигнутого равновесия, все колеблется на одной грани между
хаосом и порядком. Частица - это возможность части быть меньше
себя или больше целого; тут ее внутренний динамизм, когда она
смещается от одного предела к другому, меняя полюса качеств: «Система
качеств образуется последовательным, до некоторой степени
произвольным расщеплением, дающим соотносительные качества
разной иерархии»153. И в другом месте: «... расщепление значения при
вращении, вероятность слова»154. Нет того, что не могло бы делиться
далее, как нет того, что бы не могло ни «слипаться», ни
превращаться в ком. Частица выступает материальным знаком случайности. Но
мы знаем, что там, где случайность, нет целого, более того, там нет
и части, там есть только частица, т.е. та минимальная единица,
которая лишена всякого смысла, и ее существование может быть
объяснено только другой частицей. Она просто есть, она скользит,
сталкивается; она - идеальный образ всего делимого, мельчайшего, и
поскольку она делится, она динамична. Частица равна мгновению,
следует принципу «небольшой погрешности» Друскина и Хармса,
т.е. является выражением случая. Модель часть/целое здесь не
годится для интерпретации образцов истинной поэзии. От одного
мгновения к другому нет перехода, который мы могли бы засечь, отсюда
их мнимое тождество. Учреждение «небольшой погрешности», т.е.
поиск равновесия внутри поэтической системы, сопровождается
раскачиванием, вращением, остановкой, новым повтором тех же
510
IV. ВОСХОДИТ ЗВЕЗДА БЕССМЫСЛИЦЫ...
операций. Как ни странно, но именно явление множества частиц
(световых, тактильных, слуховых, ритмических, гравитационных,
ударных и т.п.), - всей этой массы дискретно воспринимаемой
материи - подчиняется действию «внутри мгновенного ритма»155. А
это значит, что в этом распаде заложено всеобщее единство частиц,
которое мы и называем особым ритмом; так все взаимодействующие
частицы синхронизируют свое движение по отношению к единой
внешней Силе (Богу). Явление частиц есть следствие обратного
вращения, и здесь нет перехода к целому (реальности); если он и
возможен, то только как чудо. Что исследует, например, Липавский?
Перечислим: частицы движения: кино-частицы, «отпечатки»
(фотокино материя); частицы качеств: как «разности разностей»; частицы
языка-отрицательные, положительные, указательные; частицы
(элементы») преобразований. К ряду частиц можно также отнести:
«семена слов» - иероглифы (тайнопись) - элементы. Например,
отношение потока (движения) и частицы (образа-отпечатка)156.
(ι) Частица «не». Отрицательные конструкции. Приходится
вмешаться в метафизические размышления обэриутов, чтобы
непредвзято оценить проблематику бессмыслицы. Образцы критической
авто-рефлексии, накладывающей определенные обязательства на
поэтический опыт обэриутов, мы находим повсюду, даже в самых
удаленных от поэзии размышлениях. Но это лишь притворство, я
бы назвал его «благотворным»: часто у Хармса и Введенского
размышление притворяется философским, стихи - стихами (на самом
деле они не являются ни тем, ни другим, а каким-то смещенным
жанром). Эти замечательные мастера малых схоластических трактатов,
истинное назначение которых остается прежним, они готовы
служить поэзии, не метафизике157. И что же мы встречаем, например,
в который раз уже перечитывая их, чтобы удержать хотя бы толику
смысла? Например, что такое «правильное уничтожение предметов
вокруг себя», или что такое «мыр» по Хармсу? Или что такое «время
предметов», или «смерть» по Введенскому, или теория
«времени-события» по Липавскому? Достаточно ли того, чтобы сказать так:
«предмет уничтожен» (или как-то по-иному), чтобы предмет
действительно исчез навсегда. Но говоря так, мы не столько «уничтожаем»
предмет, сколько замещаем или готовы заместить его другим предметом
или представлением. Каждый предмет потому и предмет, что имеет
место, причем, место это определяется его полезными качествами
и нашим к нему отношением. Но, как мудро замечает Хармс: «Такая
система окружения себя предметами, где один предмет цепляется
511
Обморок мира. Поэтика случая в литературе Обэриу
за другой - неправильная система, потому что если в цветочной
вазе нет цветов, то такая ваза делается бессмысленной, а если убрать
вазу, то делается бессмысленным круглый столик, правда, на него
можно поставить графин с водой, но если в графин не налить воды,
то рассуждение к цветочной вазе остается в силе. Уничтожение
одного предмета нарушает всю систему. А если бы голый кварталоу-
полномоченный надел на себя кольца и браслеты и окружил бы себя
шарами и целлулоидными ящерицами, то потеря одного или
двадцати семи предметов не меняла бы сущности дела. Такая система
окружения себя предметами - правильная система»158. Итак, если
ты окружаешь себя предметами, от которых ты не можешь
отказаться, и если не можешь доказать их несуществование, то способен ли
ты на создание нового поэтического слова. Сами термины
«уничтожения», «исчезновения», «изъятия» предмета говорят не о его
реальном исчезновении, а о том, что его место занято другим
предметом. Всякое суждение, приписывающее чему-то несуществование,
и есть отрицательное: вместо предмета, который «уничтожен», мы
видим четкий контур, обегающий границы пустого места. Вот тогда-
то мы и задумываемся об отсутствии чего-то...
«Все, что я здесь пытаюсь написать о Времени, является, строго говоря,
неверным. Причин этому две. 1) Всякий человек, который хоть сколько-
нибудь не понял время, а только не понявший хотя бы немного понял
его, должен перестать понимать и все существующее. 2) Наша
человеческая логика и наш язык кг соответствуют времени, ни в каком ни в
элементарном, ни в сложном его понимании.
Тем не менее, м.б. что-нибудь можно попробовать и написать если ne о
времени, не по поводу Непонимания и времени, то хотя бы попробовать
установить те некоторые положения нашего поверхностного ощущения
времени, и на основании их нам может стать ясным путь в смерть, и в
сумрак, в Широкое непонимание»1Ю.
«Либо вечно либо невечно. Почти вечно не существует, оно есть простое
невечно. Но явление почти невечно возможно, хотя мы не отнесем его
к вечному. В наших устах оно прозвучит как только могущее
совершиться, т.е. вечное, но могущее стать невечным. Как только оно совершится,
оно станет уже невечным. Но существует ли не совершившееся? Я
думаю, в вечном - да»,6°.
«Человек не "верит" или "не верит", а "хочет верить" или /ане/ "хочет
не верить".
512
IV. ВОСХОДИТ ЗВЕЗДА БЕССМЫСЛИЦЫ...
Есть люди, которые не верят и не не верят, потому что они не хотят
верить и не хотят не верить. Так я не верю в себя, потому что у меня нет
хотения верить или не верить»'61.
Начальное отрицание, выраженное в часто применяющейся
частице «не», которая обозначает не столько отрицание, сколько
указание на то, что мыслимое или то, что стало предметом обсуждения,
(не) существует162. Я беру в скобки «не», чтобы нейтрализовать тот
смысл, который она с собой тащит, - голое отрицание. Введенский
же использует отрицательную частицу «не» как индекс иного (знания
или понимания). Вот типичный бросок смысла: «Я почувствовал и
впервые не понял время в тюрьме»163. Здесь явное
противопоставление «почувствовал» - «не понял»; в сущности, не (отрицание)
указывает на глубинный слой опыта, где нет отрицаний, или оно
фиктивно (сновидения, «спиртуозы», измененные состояния сознания).
«Не» - это акт остраннения высказывания перед тем, что не может
быть понято вообще. А это значит, что на первый план выдвигается
опытное знание, которое могут «не понимать», но которое
неизбежно накапливается. Так что за обэриутским «нет» мы находим
поэтический опыт, нейтральный к индивидуальным, позитивным или
негативным, аспектам понимания. Опыт здесь иного рода: он
накапливается в силу экспериментального расширения поэтической
базы, не пассивности приобретателя, не только наследника
традиции. И другой момент: из метафизической предпосылки: «Я не
понимаю...», - вовсе не следует необходимость поэтического
эксперимента. Непонимание как форма мысли не обязательно совпадает с
поэтической бессмыслицей, более того, смею предположить, они
настолько разные, что все, что мы кг понимаем, не имеет никакого
отношения к поэзии. Неважно, является ли она более или менее
«понятной», служит ли она «зауми» или «абсурду», она остается
только тогда истинной поэзией, когда утверждает себя, минуя эти
оппозиции.
Вот, например, как идет вращение частиц отрицания в трактате
«Мыр»:
«Я говорил себе, что я вижу мир. Но весь мир был недоступен моему
взгляду, и я видел только части мира. И все, что я видел, я называл
частями мира. И я наблюдал свойства этих частей, и, наблюдая свойства
частей, я делал науку. Я понимал, что есть умные свойства частей и есть
не умные свойства в тех же частях. Я делил их и давал им имена. И в
зависимости от их свойств, части мира были умные и не умные.
513
Обморок мира. Поэтика случая в литературе Обэриу
И были такие части мира, которые могли думать. И эти части смотрели
на другие части и на меня. И все части были похожи друг на друга, и я
был похож на них. И я говорил с этими частями мира.
Я говорил: части гром.
Части говорили: пук времени.
Я говорил: Я тоже часть трех поворотов.
Части отвечали: Мы же маленькие точки.
И вдруг я перестал видеть их, и потом и другие части. И я испугался,
что рухнет мир.
Но тут я понял, что я не вижу частей по отдельности, а вижу все зараз.
Сначала я думал, что это ничто. Но потом понял, что это мир, а то, что
я видел раньше, я мгзнаю и сейчас.
И когда части пропали, то их умные свойства перестали быть умными,
и их неумные свойства перестали быть неумными. И весь мир перестал
быть и умным и неумным.
Но только я понял, что я вижу мир, как я перестал его видеть, Я
испугался, думая, что мир рухнул. Но пока я так думал, я понял, что если бы
рухнул мир, то я бы так уже не думал. И я смотрел, ища мир, но не
находил его.
А потом и смотреть стало некуда.
Тогда я понял, что, покуда было куда смотреть, - вокруг меня был мир.
А теперь его нет. Есть только я.
А потом я понял, что я и есть мир.
Но мир-это не я.
Хотя в то же время я мир.
А мир нея.
А я мир.
А мир нея.
А я мир.
А мир нея.
А я мир.
И больше я ничего не думал (1930)».164
Соблюдается вся последовательность операций: раскачивание,
вращение (ускоряющее или замедляющее), остановка или начало. Частица не
(квазиотрицательная) и есть тот оператор, который раскачивает
смысловую структуру, чтобы придать вращение, пытаясь ввести ее в
непрерывность существования. В этом фрагменте мы наблюдаем расщепление
целостностей на отдельные части и частицы, последние умножаются,
«они маленькие точки», они исчезают и появляются, они мерцают.
514
IV. ВОСХОДИТ ЗВЕЗДА БЕССМЫСЛИЦЫ...
Здесь было бы уместно обратиться к наблюдениям А. Бергсона:
он попытался отделить отрицание чего-либо от утверждения, которое
требует действия. Если мы что-то утверждаем, мы готовы
действовать; представляя что-то существующим, мы располагаем планом
будущего действия. Отрицание же лишено подобной онтологической
полноты: оно приостанавливает, задерживает, пробуждает сомнение,
открывая изначальную пустоту за предметом, которую тот временно
заполняет. Если суждение «этот стол черный» утверждает ясное
представление о существующем, то другое - «этот стол не белый», не дает
нам никакого ясного онтологического указателя, а скорее
относится к предыдущему суждению165. Получается, что всякое суждение
отрицания относится к другому суждению; само по себе оно не имеет
никакого смысла: «....в то время как утверждение относится к вещи
непосредственно, отрицание имеет в виду вещи только косвенным
образом, посредством утверждения. Утвердительное предложение
передает суждение, относящееся к предмету; отрицательное
предложение передает суждение, относящееся к суждению. Отрицание,
таким образом, отличается от утверждения в собственном смысле
слова тем, что оно является утверждением второй степени: оно
утверждает нечто об утверждении, которое само утверждает что-либо
о предмете»166. Отрицание предполагает заранее нехватку бытия,
то, что нам недостает и для чего мы нашли незанятое место167. Вот
так, приписывая чему-то несуществование, мы обретаем
неслыханные поэтические возможности. Отрицание открывает небытие чего-
то, но не само Небытие (которое нельзя представлять как субстанцию,
соотносимую с Бытием). Да и само бытие имеет положительно
утверждающий смысл существования потому, что оно идеально, и
утверждает самим существованием любой предмет или событие. Дело в том,
что сам акт отрицания есть не действие, а аффект, - некое состояние
переживания отсутствия чего-либо. Говоря «нет» мы только
переходим от одного предмета мысли к другому. Ничто не имеет своей
онтологической перспективы без бытия. Обэриутский поэтический
эксперимент опирается на ничто, т.е. на поэтизирование из пустоты,
незанятости возможных мест. Нет ничего, что могло быть раз и
навсегда заполнено, все ставится под знак отрицания ради открытия
новых возможностей письма.
От «не» отрицания к идее пустоты, к месту, которое
освобождается после отрицания. Идея «абсолютного небытия»: все = ничто.
Ничто - это отношение к бытию (все) в позиции приостановки. Ведь
отрицая нечто, мы не делаем ничего иного, как только смещаем его
515
Обморок мира. Поэтика случая в литературе Обэриу
со своего места, но это не значит, что смещенное перестает
существовать.
Бергсону это было нужно для того, чтобы доказать
несуществование ничто, небытия, и тем самым усилить позиции длительности
как понятия описывающего первоначальный позитивный опыт
бытия. Отсюда только шаг к тому, чтобы признать в бессмыслице
ложное отрицание чего-либо как несуществующего, или приписывание
чему-либо несуществования. На самом деле это утверждение не-по-
нятого, не-понимания и не-видения на уровне более высшей
интуиции бытия. Вот почему так интересен М. Хайдеггер с его установкой
на изначальную метафизику Небытия (с его эквивалентами пустоты,
скуки, зачарованности перед могуществом ничто). Хайдеггер,
вопрошая о ничто, вполне осознает, что существует угроза безответности.
«Ничто есть отрицание всей совокупности сущего, оно - абсолютно
не-сущее»168. Но, в отличие от Бергсона, который выводит ничто из
отрицания и действия частицы «нет», Хайдеггер, напротив,
утверждает, что «ничто первоначальнее, чем нет и отрицание». И далее,
окончательная формулировка: «Не нет возникает в силу отрицания,
а отрицание коренится в нет, проистекающем из ничтожения
Ничто», и далее: «Ничто - источник отрицания, не наоборот»169. Откуда
этот вывод может прийти? Не вступает ли здесь в действие старая
и знакомая нам ситуация Паскалева ужаса: когда сущее вдруг
приоткрывается нам в целостности, и мы оказываемся перед ним в своем
одиночестве и заброшенности. Эта настроенность на целостное
«схватывание» бытия может быть не только позитивным чувством, но и
негативным (тоскаили скука, даже отчаяние и ужас как возможные
предвестники ничто). И вот здесь - хайдеггеровский переход к
ничто как к экзистенциалу, означающему настроенность к ужасу170.
Хайдеггер говорит о «выдвинутости» человеческого существования в
ничто, оно не отдельно от нас, мы не можем избавиться от него, ужас
и есть свидетельство потаенного присутствия в нас ничто.
Настроенность, подобная «оцепенелому покою», в который мы
погружаемся, «отшатываясь» в ужасе от приоткрывшегося ничто171.
(г) Частицы «это» и «то». Теория препятствия. Препятствие - это
своего рода топологический эквивалент отрицательному суждению
с активным использованием частицы «не». Другим словами,
различая, мы ограничиваем, а в ограничении мы отрицаем что-то в чем-то
или с чем-то. Важный аспект этой субъективно-экзистенциальной
онтологии, которая выстраивает само «Я», чистую субъективность
как препятствие. Важно, что из несуществования этого и того рож-
516
IV. ВОСХОДИТ ЗВЕЗДА БЕССМЫСЛИЦЫ...
дается нечто, рождается на границе и в качестве препятствия, т.е.
самого акта разграничения. Вторжение или вмешательство случая
(препятствия) - вот что создает различие, иначе говоря, движение.
Время-пространство - способы интерпретации существования.
Извлечь время из мира - это и значит остановить его. Кто
останавливает? Они, поэты-мыслители группы Обэриу. Как? Время-мир нельзя
остановить сразу, вот так вдруг, тогда достало бы простой
констатации как в детской игре: «Замри!». И поэтому остановка времени -
действие, которое не принадлежит времени, а только тем, кто его
останавливает. Остановить время - это, в сущности, доказать, что
оно не существует, что оно некая фикция, в которой нуждаются
некие разумные временные существа. Но поскольку остановка
времени-мира совершенно новый опыт, то сам процесс остановки
проходит в разных направлениях и с разной степенью эффективности.
В текстах, к которым мы адресуемся, заметно, насколько
Введенский, Хармс, Липавский и Друскин, каждый по-своему, были
озабочены поиском первоначальной «картины мира», созвучной их
возможной поэтической онтологии (которую они не устают строить
(проектировать)).
Взгляните на эти странные, почти витгенштейновские по
манере изложения тексты^грактаты, анализирующие этой то (Д. Хармса:
«О времени, о пространстве, о существовании», Друскина:
«Нетеперь», или «Совершенный трактат об ЭТОМ и о ТОМ»).
Нетеперь
«Это есть Это
То есть То.
Это кг то.
Это наесть кг это.
Остальное либо это либо кг это
Все либо то либо кг то.
Что ни то и ни это, то ни это и кг то.
Что то и это, то себе Само.
Что себе Само, то может быть то, да кг
это, либо это да кг то.
Это ушло в то, а то ушло в это. Мы говорим
Бог дунул.
Это ушло в это, а то ушло в то и нам
неоткуда выйти и некуда придти.
Это ушло в это. Мы спросили: где} Нам
517
Обморок мира. Поэтика случая в литературе Обэриу
пропели: Тут.
Это вышло из Тут. Что это? Это то.
Это есть то.
То есть это.
Тут есть это и то.
Тут ушло в это, это ушло в то, а то ушло в
тут.
Мы смотрели но не видели.
А там стояли это и то.
Там не тут.
Там то.
Тут это.
Но теперь там и это и то.
Но теперь и тут это и то.
Мы тоскуем и думаем и томимся.
Где же теперь?
Теперь тут, а теперь там, а теперь тут, а
теперь тут и там.
Это быть то.
Тут быть там.
Это, то, тут, там, быть Я. Мы, Бог».172
«1. Мир, которого нет, не может быть назван существующим. Потому
что его нет.
2. Мир, состоящий из чего-то единого, однородного и непрерывного,
не может быть назван существующим, потому что, в таком мире нет
частей, а, раз нет частей, то нет и целого.
З.Существующий мир должен быть неоднородным и иметь части.
4. Всякие две части различны, потому что всегда одна часть будет эта,
а другая та.
5. Если существует только это, то не может существовать то, потому что,
как мы сказали, существует только это. Но такое это существовать не
может, потому что если это существует, то оно должно быть
неоднородным и иметь части. А если оно имеет части, то значит состоит из
этого и того.
6. Если существует это и то, то значит существует не тонне это, потому
что, если бы не той не этоне существовало, то этой то было бы едино,
однородно и непрерывно, а следовательно не существовало бы тоже.
7. Назовем первую часть это, вторую часто то, а переход от одной к
другой не то и не это.
8. Назовем не то и не это «препятствием»
518
IV. ВОСХОДИТ ЗВЕЗДА БЕССМЫСЛИЦЫ...
9. Итак: основу существования составляют три элемента: это,
препятствие и то.
10. Изобразим несуществование нулем или единицей, тогда
существование мы должны будем изобразить цифрой три.
11. Или: деля единую пустоту на две части, мы получаем троицу
существования.
12. Или: единая пустота, испытывая некоторое препятствие,
раскалывается на части, образуя троицу существования.
13. Препятствие является тем творцом, который из «ничего» создает
«нечто».
14. Если это само по себе «ничего», или несуществующее «нечто», то и
«препятствие» «ничто» или несуществующее «нечто».
15. Таким образом, должно быть два «ничто» или несуществующих
«нечто»
16. Если есть два «ничто» или несуществующих «нечто», то одно из них
является препятствием другому, разрывая его на части и делаясь само
частью другого.
17. Так же и другое является препятствием первому, раскалывает его на
части и делаясь само частью другого.
18. Таким образом, создаются три, сами по себе несуществующие части.
19. Три, сами по себе, не существующие части, создают три основных
элемента существования.
20. Три, сами по себе несуществующие основные элементы
существования, все три вместе образуют некое существование.
21. Если бы исчез один из трех основных элементов существования, то
исчезло бы и все целое. Так: если бы исчезло «препятствие», то это и
то стало бы единым и непрерывным и перестали бы существовать.
Существование нашей Вселенной образуют три «ничто» или, отдельно,
сами по себе, три несуществующих «нечто»: пространство, время и еще
нечто, что не является ни временем, ни пространством.
23. Время, в своей сущности, едино, однородно и непрерывно, и
потому не существует.
24. Пространство, в своей сущности, едино, однородно и непрерывно,
и потому не существует.
25. Но как только пространство и время приходят в некоторое
взаимоотношение, они становятся препятствием друг другу и начинают
существовать.
26. Начиная существовать, пространство и время становятся взаимно
частями друг друга.
27. Время, испытывая препятствие пространства, раскалывается на
части, сообразуя троицу существования.
519
Обморок мира. Поэтика случая в литературе Обэриу
28. Расколотое, существующее время состоит из трех основных
элементов существования: прошедшего, настоящего и будущего.
29. Прошедшее, настоящее и будущее, как основные элементы
существования, всегда стояли в необходимой зависимости друг от друга. Не
может быть прошедшего без настоящего и будущего, или настоящего
без прошедшего и будущего без прошедшего и настоящего.
30. рассматривая порознь эти три элемента, мы видим, что
прошедшего нет, потому что оно уже прошло, а будущего нет, потому что оно еще
не наступило. Значит, остается только одно «настоящее». Но что такое
настоящее?
31. Когда мы произносим это слово, произнесенные буквы этого слова
становятся прошедшим, а непроизнесенные буквы этого слова лежат
еще в будущем. Значит только тот звук, который произносится сейчас,
является «настоящим».
32. Но ведь и процесс произнесения этого звука обладает некоторой
протяженностью. Следовательно, какая-то часть этого процесса
«настоящее», тогда как другие части либо прошедшее, либо будущее. Но то
же самое можно сказать и об этой части процесса, которая казалась нам
«настоящей».
33. Размышляя так, мы видим, что «настоящего» нет.
34. Настоящее является только препятствием при переходе от
прошлого к будущему, а прошлое и будущее нам как это и то существования
времени.
35. Итак: настоящее является «препятствием» в существовании
времени, а, как мы говорили раньше, препятствием в существовании времени
служит пространство.
36. Таким образом: «настоящее» времени - это пространство.
37. В прошедшем и будущем пространства нет, оно целиком заключено
в «настоящем». И настоящее является пространством.
38. А так как настоящего нет, то нет и пространства.
Если бы исчезли один из трех основных элементов существования, то
исчезло бы и все целое. Например: если бы исчезло препятствие, то
это и то стало бы единым и перестало бы существовать».173
Первая линия аргументации, я бы назвал ее прогрессивной
(конечно, освобожденной от оценочной функции). Пространство и время
не существуют до тех пор, пока не становятся препятствиями друг
для друга. А что такое «препятствие»? Препятствие существует,
пока мир познается, и мир (или «мыр») замыкается, «уходит в себя»,
исчезает, как только устраняется надобность в препятствии. Мира
не существует, пока не возникла энергия препятствия, именно пре-
520
IV. ВОСХОДИТ ЗВЕЗДА БЕССМЫСЛИЦЫ...
пятствие делает мир близким тому, кто его познает. В таком случае
наблюдающее, судящее, умозаключающее «я» обретает в качестве
своей территории это препятствие (черту, границу, линию раздела)
и поэтому оно может быть и этим и тем, там и тут, «сейчас» и
«после». «Я», если хотите, мерцает и прыгает в такт мерцанию мира,
как мышь. Но это происходит недолго, пока «я» распоряжается
препятствием, или пока оно думает, что распоряжается. На самом деле
препятствие способно дрейфовать, двигаться без причины, вне
контроля со стороны «я».
здесь
тут
теперь
(это) А ^ * ^^ (то) не-А
это/то- /то/это
препятствие/граница
Препятствие - само по себе не существующее что-то, становясь
препятствием в чем-то самом по себе несуществующем, раскалывает
это несуществующее на две части. Препятствие как разграничение,
идущее то вверх, вниз, то в сторону, то круговым вихрем, есть
энергия подвижной точки, несущей с собой остановку мира. Препятствие
как воронка сна или смерти, но и жизни, контроль над
разграничениями всех повторяющихся отношений. Препятствие топологично,
оно порождает различные формы пространства-времени, но не
подчиняется им, оставаясь свободным от того, чему оно препятствует.
И вот эта свобода препятствия от того, чему оно препятствует, ибо
нет времени-пространства до препятствия, которое их разделяет и
не дает перейти друг в друга (до первого раскола одного надвое, на
это и то), и делает мир, образ мира гетерогенным по своему составу,
«частным», «лоскутным», короче, непрерывно слипающимся: все,
что разделяется и начинает существовать, тут же слипается с себе
чуждым и отвергает себе подобное. Все подобия, сходства, как
известно, контролирует познающее «я». И можно прийти к
заключению, что между метафизикой и поэтикой того же Хармса
существует прямое взаимодействие (но скорее следующее принципу
дополнительности, нежели единства): энергия препятствия, порождающая
мир, во всех его все более дифференцированных разграничениях,
в поэтическом языке действует как энергия слипания.
Обморок мира. Поэтика случая в литературе Обэриу
Вторая, более скрытая, как мне представляется, линия
аргументации (анализа), -регрессивная. Поэтическое видение стремится
остановить мир, чтобы обрести то, что скрывает от нас препятствие,
иной тип существования, где нет больше различия между этим и тем,
там и тут, здесь и сейчас, будущим и настоящим. Напомню о том, что
«искал» Друскин: «Я искал место, где был я. Это и то - место, где был
я. Между этим и тем также мое место. Может быть, это последнее
место, но там ничего нет»174. Если препятствие оказывается в
конечном итоге «узлом вселенной», то к целям регрессивного переживания
мира относится уничтожение всяческих препятствий и им
сопутствующих узлов жизни. Здесь можно оценить направление мысли
Хармса и Введенского, отыскивающих пути вхождения в собственные
поэтические миры, которые как будто принадлежат им
(поэтам-авторам), вместе с тем предполагают несуществование их «я». Именно
этим последним препятствием на границах перехода в миры чистого
становления языка и будет общечеловеческое и слишком внутренне
переживаемое «я» поэта».
На протяжении многих страниц «Философских исследований»
Витгенштейн задает один и тот же вопрос: «Когда вы говорите, что
вы видите это, то скажите мне, что вы видите? Ведь может
оказаться и так, что вы видите то, что вы видите благодаря слову и через
него. «Я вижу это дерево», говорите вы. В ответ я спрашиваю вас:
«А как вы знаете о том, что это дерево, ведь то, что вы называете
деревом, вовсе не является деревом, а только неким звуком, или
некой ментальной картинкой, которая прилагается к вашему жесту,
когда вы говорите, что это есть дерево, и показываете на него?»
Языковая игра начинается в тот момент, когда вы договариваетесь с
другими считать это имеющим имя дерево. Мало того, вы признаете, что
ваш жест обладает смыслом, ибо он завершается на самом имени:
это дерево (есть) имя, это имя (есть) дерево... Все то, к чему
обращается мой жест, получает характер существования. Я говорю, что
вот-это или вот-там, или вот-тут, тем самым я устанавливаю
непосредственную связь с миром до его именования в языке. Я просто
говорю, что это так, а не иначе... Я не могу не использовать
собственное тело для означивания мира. Вопрос: действительно, что это
значит говорить, что это или wo существует? Существует ли оно потому,
что я на него указываю, или оно существует в качестве
указываемого потому, что имеет имя дерева175.
Есть и другой важный аспект. Именуя, мы совершаем
бессознательно ряд микроопераций: опознаем, различаем, уподобляем. Витген-
522
IV. ВОСХОДИТ ЗВЕЗДА БЕССМЫСЛИЦЫ...
штейн говорит, что мы не можем просто видеть, мы можем только
видетъкак, seeing-as, то есть мы видим что через как. Имя вещи всегда
есть, более того, наш жест/деиксис - реакция на означенный,
получивший имя мир. Мы говорим, что это есть дерево, но мы можем
сказать, глядя на тот же самый предмет, что это не дерево, это - дико-
образ. Или, что дерево больше похоже на животное-дикообраз, чем
на самое себя. Мы - поэты, создатели метафор, утонченных
сравнений и эпических образов, мы говорим: «Долой референцию!»
Поэзия, в которой еще сохраняется власть референции, стремится к
наглядности, которой обладает обыденная речь. Поэтов группы Обэ-
риу можно различать по этим общим основаниям. Например, поэзия
Заболоцкого, утонченная и искусная, тем не менее, очень внятная,
пропитанная наглядными образами, которые можно потрогать. Тем
она и отличается от всякого рода стиховой «бессмыслицы»
Введенского и Хармса, где референтная связь кажется разрушенной и
непереводимой в наглядность. Наглядность оказывается критерием
референтности. Витгенштейн предостерегает нас от зачарованно-
сти языком как сном1?6. Так, мы не можем что-либо констатировать
во сне и сказать, «видя» сон про дождь: «Это дождь!». То, что я вижу
во сне дождь, «чувствую» его знаки - и в этом я не сомневаюсь, - но
в сновидении нарушены условия достоверности дождя. В противном
случае сновидение было бы обычным сообщением о реальных
событиях. Мы не можем оценить истинность сновидения, пока спим.
Более того, индексальные (или остенсивные) процедуры,
отделяющие нас от того, что мы видим, здесь не работают. В сно-видении
отсутствует дистанция между видящим и видимым. Вот почему
сновидение гораздо ближе к нам, чем любой образ в бодрствующем
состоянии. Но представим себе следующее: если жест достоверности
(будем его теперь так называть) исключен из вашего описания мира.
Другими словами, вы теперь не можете указать на то, что видите и
сказать: «Это (есть)...». Если вы не можете это сделать, то вы
погружаетесь в сон или в поэтическую фантазию, которая позволяет вам
орудовать словами, не заботясь об их достоверности, - относимы
ли они к тому, что обозначают? Вы говорите: это Иван Иванович,
он пьет водку и он похож на паровоз, нет, не на паровоз, а на стул,
он похож на стул, нет, он просто стул. Иван Иванович существует в
пределах подвижного и изменчивого поля значений как имя,
утратившее отнесенность к лицу мужского пола, русскому по
национальности. Иван Иванович - это скорее сигнал, который язык посылает
нам, чтобы начать игру: все, что в ней произойдет, может иметь
отношение к Иван Ивановичу, но может и не иметь. Может иметь, пото-
523
Обморок мира. Поэтика случая в литературе Обэриу
му что мы сами желаем придать смысл высказыванию, но оно может
не иметь его, потому что имя это пустое, т.е. обладает нулевым
означающим, открытым для любых значений. Невозможно вообразить
существование такого персонажа как Иван Иванович. Ведь Иван
Иванович не имеет никаких черт, кроме тех, которые ему дозволено
иметь. Итак, Иван Иванович - марионетка событий, которые с ним
не происходят, но которым он позволяет случаться, как если бы он
был действительно Иван Ивановичем. Замечу еще, что действия,
которые происходят вокруг Иван Ивановича, говорят нам о том,
что будто он и не существует, но поскольку мы не можем отказать
ему в существовании (хотя бы литературном), мы и говорим: "Это
очень смешно, но это смешно, потому что это невозможно, это
абсурд, игра, нас разыгрывают!.." Вот почему Иван Иванович - это не
лицо, не имя, это предмет, но предмет сам по себе, то есть
существующий в своем нечеловеческом измерении: сущее значение предмета
«определяется фактом существования предмета. Оно вне связи
предмета с человеком и служит самому предмету»177. Отсюда хармсовское
объяснение двусмысленности как смешения двух планов в глазах
наблюдателя и чистота линии в поведении самого предмета, ибо он
«ведет» себя так, как он может и должен себя вести независимо от
своих «рабочих» измерений.
(з) Отступление. Знаки сна (Р. Магритт). Проникновенным
иллюстратором некоторых идей Витгенштейна и Бейтсона вполне мог
бы выступить Рене Магритт, известный художник сюрреалист178. Не
является ли все, что мы видим на картинах Магритта, лишь
тщательным по исполнению повтором правил, по которым строится сновид-
ная реальность? Для сюрреалистического опыта использование сно-
видных образов и форм было привычным делом. Однако Магритт
нигде не обсуждает проблему сновидной реальности. Хотя в его
картинах изображение «выглядит» подчас фрагментом сновидного
потока: левитация объектов (вместо гравитации), поперечное движение
восприятия в-сторону-от-видящего вместо привычного движения
вглубь-от-видящего, - вообще тотальная дисквалификация
пространственно-временной структуры, неожиданные превращения,
несовместимость совместимого и наоборот, подстановки и нарушения
размерности фигур и вещей. Разве это не близко симуляции
сновидной Реальности? Единственно, чего не достает, так это динамики
сновидного процесса. Если в момент сновидения нам привидится,
что мы оказываемся под дождем, то этот дождь не может быть
отнесен к чему-то вне себя, он - просто знак дождя, т.е. сам на себя указы-
524
IV. ВОСХОДИТ ЗВЕЗДА БЕССМЫСЛИЦЫ...
вает (не дождь переживается, знак в качестве «дождя»). Более того,
вовсе необязательно и «ощущение дождя» (влажность, капли на лице
и т.п.). И этот знак образует дискретное единство дождевого, которое
нам уже не спутать ни с чем, ибо все вещи во сне разбросаны,
случайны, лишены причин и последовательности. Всякая же попытка
что-либо точнее рассмотреть приводит к тому, что образ
превращается в другой и отнюдь не по принципу подобия. Образы настолько
быстро сменяют друг друга, что не оставляют никакой надежды на
понимание их связи; они соседствуют как безымянные знаки,
разделенные и вместе с тем словно спаянные. Знак замещает знак по
неким правилам, которые не сродни тем, что использует обыденный
язык. Реальность дается мне не через то, что я вижу, а через то, чего
я могу коснуться, и она не актуализуется во мне дистально, если не
сработал заранее предистальный механизм восприятия. Далекое я
получаю через ближайшее. Не следует также забывать и о том, что
любой жест имеет свои чисто физические параметры, или любое
остенсивное высказывание есть жест. Причем, привычный жест,
которым мы удостоверяем собственное присутствие в мире, а через
словечко «это» и присутствие самих вещей в качестве реальных.
Чтобы признать реальность чего-либо, нам необходимо коснуться.
Зрение и развивается как компенсирующий осязательный канал
чувственности (видеть-это «касаться на дистанции»). Следовательно,
всякий именующий жест, что удерживает на кончике указательного
пальца вещь, есть редуцированный физический жест. В любом
зрительном акте всегда присутствует эта редуцированная форма
касания. Таким образом, когда Магритт нам говорит, что этого вы
можете коснуться, но как быть с тем, что касаясь этого, вы одновременно
касаетесь и того, чего невозможно коснуться. Вы касаетесь одной
вещи («башни»), но ее контур и само изображение вписано рядом
же в конусовидный проспект, пересекающий город и в точности
соответствующий контурам и фактуре этой башни. Можно сказать: «Это
- Башня!», но можно сказать: «Это - Проспект!». На самом деле это
всего лишь два конуса, которые организуют поля видимого. Мы
говорим: «Башня подобна проспекту, а проспект подобен башне!»
Магритт же, заключая наше воспринимающее тело в скобки и сводя на
нет смысл «первого касания», делает акт называния случайным и
почти чудесным событием, которое тут же обрывается вторжением
сновидного переживания разорванности имени и вещи. Можно легко
увидеть направление атаки: нашу уверенность в том, что владея словами,
мы владеем, «касаемся» Реальности. Одно пространство вырезается в
другом, один профиль или одно отверстие оказывается фигурой в
525
Обморок мира. Поэтика случая в литературе Обэриу
параллельном пространстве. Внешнее неотличимо от внутреннего,
они легко переходят друг в друга... Что же происходит? Повсюду
борьба, по крайней мере, двух образов-вещей за одно-единственное
место, уготованное им в представлении видимого. А это значит, что
когда помещают один образ рядом с другим, внутри другого, поверх
или сбоку, когда один образ переходит в иной, то каждое из этих
сочетаний нарушает принцип реальности. Ибо ведь сказано, что никакие
две вещи не могут занимать в пространстве одно и то же место
(Аристотель). Действительно, в горизонте повседневности вокруг нас
все значимо, все имеет имя, место и время, нет ни одной вещи,
которая была бы безымянна и занимала бы не свое место. Магритт
понуждает нас задаться вечным вопросом познания: что это такое? H
тут же отвечает, рисуя нам лошадь, под которой аккуратно
размещает имя «дверь», или поверх лица женского, почти каллиграфически,
слово «гора», а чтобы мы не потеряли ориентацию в мире человека,
идущего к горизонту, он на черных пятнах вокруг него записывает
все той же строгой белой прописью знаки реальности: «облако»,
«кресло», «горизонт», лошадь»... Он вынуждает нас совершить
указательный жест:
Что - это - такое?
Нам отвечают:
Это не это, а то-не то, а другое.
Нам не дано совершить выбора между двумя образами, из
которых составляется один, но в своей не снимаемой двойственности.
И так как все уже случилось («сюрприз» состоялся), то мы, по
прикидкам Магритта, на какое-то время должны оказаться в шизогенной
ситуации. Естественно, что в силу условности и необязательности
для нас изображения, мы легко восстановим чувство реальности и
скажем: да это просто шутка! Здесь, в этом музее живописи
выставлено так много смешных вещей. Тем самым мы откажемся от
интерпретации видимого в силу его бессмысленности (а не потому, что
оно бессмысленно). И тем не менее перцептивные ловушки -
другого слова и нет, чтобы указать на замысел Магритта, - расставленные
повсюду в его живописи, относятся к процессу искуственного
расщепления единства сознания, где сливаются в одной линии
указательный жест - имя (объект) - вещь. Все плавно переходит друг в
друга, открывая нам реальность за изображаемым. Появление объекта
и есть нарушение непрерывности акта восприятия.
Однако есть простой довод против смешения сновидного с мен-
талистским, «бодрствующим» восприятием: то, что Магритт пред-
526
IV. ВОСХОДИТ ЗВЕЗДА БЕССМЫСЛИЦЫ...
ставляет в качестве образов, не имитация сновидного состояния
уже в силу того, что оно не владеет моментом «переключения» из
реальности в сновидение, но скорее останавливается на фазе не-
переключаемости самих образов, они удваиваются. Собственно,
никакого распада не наблюдается, ничто не теряет своей границы и
не занимает место другого и тем более не смешивается. Но и на это
можно возразить: не в том ли суть всех этих перцептивных
экспериментов Магритта, что он хочет ими сказать: ваша хваленая реальность
есть не более, чем продукт перцептивной веры. (М. Мерло-Понти). В
таком случае получается, что живопись Магритта трудится над тем,
чтобы превратить всякий миметический язык в разновидность
сновидного ментализма («картинки»), и тем самым наносит удар по всем
нашим стеоретипам и навыкам восприятия («заключает в скобки»),
переводит действие живописных образов из мнимой глубины
пространственно-временных координат на плоскость сновидного
экрана. Нужда в теле исчезает, как только нарушается процесс
понимания. Ведь действие имени на вещь построено по модели соотнесения
живого тела с внешней ему Реальностью. Другими словами, имя,
которое мы произносим, когда называем, вовсе не имя вещи, ибо
свойства вещи несводимы к ее имени. Однако мы привыкли
воспринимать и упорядочивать мир наших представлений по тем его вещным
качествам, на которые нам указывают имена. Агностицизм Магритта
слишком очевиден: внести раскол в повседневный механизм
восприятия, которое постоянно смешивает произносимое, называемое
с видимым, а видимое с произносимым, т.е. «видит» вещь ее именем,
полагая, что видит саму вещь. Необходимо разложить механизм
восприятия на отдельные словесные и перцептивные элементы и
обнаружить начальный жест, который их смешивает.
(4) Частица «ти». Общая теория слов. Сначала первозвуки, они же
- «семы», но они ничего не значат. Некие первоначальные частицы
языка, мельчайшие кирпичики языка-мироздания. В отличие от звука
слово имеет значение. «Слово же имеет значение; тут звук
отбрасывает как бы тень от себя, смысловую тень». Тут же возникает вопрос о
скачке из бессмыслицы к смыслу (слова). И вот тут открытие тайны
языкового организма: надо найти частицу (цы), которая будет
переводить все звуки в слова. Нечто, что является как бы мостиком между
чистым звуком и смыслом слова. Такой частицей, по мнению Липав-
ского, должно быть «ти» (видоизмененное от «те», а сегодня
соответствующее « ть»). Частица « ти» показывает, что звуку придан смысл,
и он включен в круговорот языка. Точнее, на мой взгляд, эта части-
527
Обморок мира. Поэтика случая в литературе Обэриу
ца « ти» и есть сам механизм непрерывного вращения языковой
формы, она условие лингвистического морфогенеза. В любом случае эта
частица очевидна для всякого глагола несовершенного вида. Есть
целая серия:
БЫТИ/ ВЫТИ/ ЖИТИ/ МЫТИ/ НЫТИ/ РЫТИ,
это же можно записать в современном виде:
БЫТЬ / ВЫТЬ / ЖИТЬ / МЫТЬ / НЫТЬ/ РЫТЬ .
В каждом случае это частица-окончание придает смысл слову; от
просто звука, произнесения, не имеющего смысла, к звуку
осмысленному, - слову. Это завершение глагольной формы, обозначающей
действие без субъекта, глагол несовершенного вида, дает именно
частица «ти/тъ». Бессмысленный звук, т.е. еще не наделенный
значением, таит в себе смысл, частица «ти/тъ» его раскрывает. Вопрос:
что есть звук} Он подается голосом, но голос, с точки зрения его
физиологии, есть вдох/выдох. Голос - это дыхание, точнее, выдох
(преодолевающий сопротивление при более четкой артикуляции).
Выдох, выдыхание - это не вдох; выдох это расслабление,
выравнивание, распространение, «возвращение в первоначальное состояние».
Выдыхание как позитивная энтропия: растекание, расслабление (сил,
энергий). В отличие от вдоха, собирающего энергию, поглощающую
воздух. Питаться воздухом - причем, так и есть на самом деле: нам
нужен кислород и не нужно «кислородное голодание». Заметим, что
выдыхание - это прежде всего «овладение внешней средой». Все,
что говорит Липавский о выдыхании, непонятно в целом, но
понятно в частностях. Язык в самом начальном движении соотносится с
голосом как моделью мира. Ученик Бергсона устанавливает правила
durée для всех физиологии выдоха. Но что значит выдыхать? Это
значит указывать на ту среду, в которой дыхание становится
возможным. Но среды разные: есть состоящая из воздуха, ветров, атмосфер,
но есть среды более плотные - жидкостная, а потом кристаллическая
из твердых материалов. Превращение свершается: и мир уже не
газообразное нечто, а жидкостное, или как это сказано: «проекция на
жидкость». И вот допущение, придающее ясность: «при проекции
на жидкость не существует ни разделения на предметы и действия
(частей речи), ни отнесения к субъекту или к объекту (залоги), ни,
наконец, числа»179. Медленная эволюция языка идет по мере
погружения его в очередную стихию и отражение языковых сил
посредством каждой из стихий. От мягких и летучих к более вязким, почти
не скользящим, а от них - к жестким кристаллоподобным образова-
528
IV. ВОСХОДИТ ЗВЕЗДА БЕССМЫСЛИЦЫ...
ниям. Так средовой эффект обязательно отражается в становлении
языка'80. Если мы имеем в виду избыток языковой («Язык, однако,
как природное явление, воплощает принцип избытка, а не принцип
экономии»181). Среда и язык - две встречные силы, которые
формируют друг друга в непрерывном мимесисе всех собственных
значений (отражений). Частицы «ти/ть» - позитивный элемент языка,
дают существование, открывают его возможность как существования
(языка). В отличие от первого языка, языка-1, где присутствует
отрицание существования, небытие, язык-2, второй язык, позитивен,
опирается на утверждение существования во всем многообразии
языковых вариаций/вращений наличного бытия. Итак, что-то
неопределенное и подвижное, струящееся, затем жидкостное, что-то от воды,
затем еще ближе к предметам и телесному опыту, через которые язык
снова обновляет свои значения. Следующее: «проекция на
мускульное усилие». Это значит, открывается целая серия глаголов, которые
вводят активного, телесно ориентированного языкового субъекта
(держать, хватать, не пускать, ударять, рвать, кусать, ломать и т.д.).
В подобные операции вовлечено все тело, оно действует, атакуя
предметы, завоевывая позиции в мире. Конфронтация, сбивка, сдвиг -
все это явно видимо из того, что сам поэт знал и называл
сопоставлением смыслов. Но что сопоставляется в этих смыслах, и что их
самих образует, делает осмысленными или точнее, «бессмысленными»?
Это действие, - глагол. Не предметы противостоят друг другу, а
глаголы, т.е. действия во времени, а «действие во времени» - и есть
одно из определений случая.
Читаю Введенского, Хармса, и постепенно нарастает все более
томящая жажда понять, что же это такое мое непонимание} Как только
перестаешь играть вместе с ними, перестаешь быть ребенком, так
тут же возникают эти вопросы, на которые нет ответа. То, что я
читаю, не предназначено для понимания, не понимать - вот что нужно
удерживать, читая Введенского или Хармса. Надо заметить, что
филологическая жажда понимания намного сильнее философского
любопытства. Тактика комментария остается прежней - создать
условия для понимания непонятного, найти в любом непонятном
основу для будущего объяснения и уточнения, ссылки или параллели. Вся
сфера понятного - наподобие оптического центра - надвигается на
обэриутское поэтическое письмо и разлагает его на исторически
бессвязные фрагменты понятого. Произведение не имеется в виду
с самого начала. Вместо того, чтобы осмыслить условия
непонятности, требуют негласно и как бы из-под полы понятности. Есть такие
529
поэтические системы, где смысл накрепко связан со случайностью
отдельного образа, если брать шире, отдельного миметического
импульса (элементарной реакции). А это значит, что они подвижны,
текучи, нестабильны; образы, не обремененные ни логической, ни
сюжетной, ни композиционной линией, двигаются, куда и как хотят.
В границах стиха - постоянство вторжения случайного.
Действительно, если вы читаете обэриутский текст, то сдвиг внимания
происходит как раз в тот момент, когда действие переходит в событие,
которого вы не ожидали. Обычно за глаголами признается
устойчивая связь с предметами. Можно говорить об интенциональтюстга
каждый глагол имеет ряд избранных предметов-орудий, с которыми не
расстается (такова привычка повседневной речи). «Глаголы в нашем
понимании существуют как бы сами по себе. Это как бы сабли и
винтовки, сложенные в кучу. Когда идем куда-нибудь, мы берем в руки
глагол идти. Глаголы у нас тройственны. Они имеют время. Они
имеют прошедшее и будущее. Они подвижны. Они текучи, они похожи
на что-то подлинно существующее»182. Поэт разрушает все и
всяческие привычки, а экспериментирующий поэт - и саму возможность
что-то обязательно понимать. Поэтические глаголы освобождаются
из предметного рабства. Больше нет предметов, к которым можно
применять только эти глаголы. Разрыв между предметом и
направленным на него действием очевиден. Каждая строчка имеет
собственный, но ограниченный контекстом смысл, но следующая строка,
вторгаясь на ее территорию, производит разрушительное действие.
И это случается в каждое поэтическое мгновение. Мир меняется еже-
мгновенно, и поэт гонится за ним, ускользая от самого себя, словно
растворяясь в этой гонке, как в стихии. Пространственная форма
разрушается в пользу временной: скольжение, ритмическое качание,
предшествующее вращению, когда ритм завладевает слушателем. И
прежние требования понятности излишни. Конечно, есть глаголы,
которыми еще повелевает время, но есть глаголы, которые,
демонстрируя стоящее за ним действие, убивают время, приканчивают
его как врага183.
530
ν
Ненужное и редкое
Мгновенная история мира
Я воспевал не старый мир,
а зрелище его гибели.
Константин Вагинов
Перечни. Собиратели-мусорщики и их коллекции
Константин Вагинов, член группы Обэриу в 20-х годах,
выпускает несколько странных ироничных романов, в которых пытается
представить устройство мира в виде абсолютной систематики
мусора184. Многие из его персонажей - коллекционеры-чудаки,
собиратели ненужных вещей, всякой мелочи и хлама - представлены как
герои бессмысленного. Чего стоит, например, замечательное
начало романа « Гарпагониана».
«Коренастый человек с длинными, нежными волосами, в расстегнутой
студенческой тужурке с обтянутыми черной материей пуговицами, в
зелено-голубоватых потертых диагоналевых брюках сидел за столом на
кухне.
Стол освещала электрическая лампочка, висящая на шнуре.
Перед человеком лежали: ногти остроконечные, круглые, женские и
мужские различных оттенков. На каждом ногте чернилами весьма
кратко было обозначено где, когда ноготь срезан и кому он принадлежал.
Была глубокая ночь.
Дочь и жена сидевшего за столом человека давно уже спали.
И то, что все спит вокруг, доставляло бодрствующему невыразимое
наслаждение.
Обморок мира. Поэтика случая в литературе Обэриу
Он перебирал ногти, складывал в кучки, располагал в единственно ему
известном порядке.
Нет, собственно, и ему неизвестен был порядок, он искал его, он искал
признаков, по которым можно было бы систематизировать эти
предметы.
Он брал ногти на ладонь и читал надписи:
Самарканд Саратов Астрахань
1921г. 1922 г. 1926 г.
Копошевич Уленбеков Карабозов
Осторожно перетирал тряпочкой.
Он был горд, он предполагал, почти был уверен, что никто в мире,
кроме него, не занят разрешением некоторых вопросов»185.
А вот так бы мог выглядеть итоговый перечень коллекционного
материала по Вагинову:
- ногти, человеческие пупки, порченые зубы, детские локоны;
- сновидения (любые и за деньги), ругательства, фразы,
обмолвки и ошибки русского языка, анекдоты, имена умерших;
-вывески («попутнические», «новобуржуазные»,
«приспособленческие»), фотокарточки, афишы, плакаты, объявления, приказы,
карты, пивные этикетки, спичечные коробки, визитки («под
мрамор, перламутр, слоновую кость, с траурными кантами, золотыми
обрезами»), табачные этикетки, этикетки от баклажанов;
- огрызки карандашей, кусочки парчи, бисеринки, дамская
отделка, брючные пуговицы, поломанные жучки, окурки (примятые,
сломанные, закрученные, окрашенные), обрывки кружев, парчи,
бисеринок и дамской отделки, свистульки («двойные» и
«поломанные»), дамские перчатки, каблуки стоптанные;
- жетоны, значки, флажки, фантики, кубики, трости и т.п.
Замечу, что все эти «частицы» распавшегося прежнего быта,
имеют некий предел, - это имя; все они имеют имена, относимы к
жанрам, вступают в серии и иерархии. Вполне уместен вопрос:
существует ли некая единица подобного коллекционирования? Может
быть, это просто имя, за которым скрывается неопределенность
первоначальной формы? Одно дело коллекционировать этикетки,
дамские перчатки или спичечные коробки, а другое - порченые зубы
или окурки или обмолвки. Прием художника - сделать ненужное,
отброшенное, «хлам и мусор» снова нужным, даже необходимым.
Сохранить все, что может сохраниться, вернуть вещам время. Как будто
532
V. Ненужное и редкое
ясна и общая идея подобного собирательства: все эти части и
частицы распадающегося мира относятся к сфере не только больше
ненужного, по сути дела, к отбросам, «мусору» и «грязи», просто к «пыли».
Что значит коллекционирование распадающегося, отброшенного,
исчерпанного, использованного? Цель персонажей-собирателей Ва-
гинова - собрать все многократно использованное и больше
ненужное, что отброшено революцией на периферию новой жизни, и
представить его в той именно форме, которую ему сможет придать
классификация и порядок. И тем самым спасти'86.
Иногда кажется, что все необычные романы Вагинова были
созданы ради того, чтобы привести в движение эти на разном
материале собранные коллекционные серии. Понаблюдаем за их движением.
Отжитое и ненужное. Домашняя коллекция
«У покрытого льдом окна - коробки, сундучки и фанерные ящики из-под
фруктов. На отжившем расклеившемся письменном столе - конвертики,
свертки, пузырьки, книжки, каталоги, владельцем комнаты самим
сочиненные.
В шкапу хранились бумажки, исписанные и неисписанные, фигурные
бутылки из-под вина, высохшие лекарства с двуглавыми орлами, сухие
листья, засушенные цветы, жуки, покрытые паучками, бабочки,
пожираемые молью, свадебные билеты, детские, дамские, мужские визитные
карточки с коронами и без них, кусочки хлеба с гвоздем, папиросы с
веревкой, наподобие рога торчащей из табаку, булки с тараканом,
образцы империалистического и революционного печенья, образцы
буржуазных и пролетарских обоев, огрызки государственных и
концессионных карандашей, открытки, воспроизводящие известные всему миру
картины, использованные и неиспользованные перья, гравюры,
литографии, печать Иоанна Кронштадского, набор клизм, поддельные и
настоящие камни (конечно, настоящих было крайне мало),
пригласительные билеты на комсомольские и антирелигиозные вечера, на
чашку чая по случаю прибытия делегации, первомайских плакатов, одно
амортизированное переходящее знамя, даже орден черепахи за рабские
темпы ликвидации неграмотности был здесь»187.
«Расположил пестрые экспортные спичечные коробки с аэропланами,
Пандорой, римскими колесницами, пальмами, скачущим жокеем,
пантерами, тиграми, оленями, гербами государств, видами островов, с
надписями на китайском, арабском, английском, французском и других
языках»'88.
533
Обморок мира. Поэтика случая в литературе Обэриу
Окурки
«Жулонбин говорил о том, как он счастлив, что сейчас он совершенно
погружен в классификацию окурков, что здесь истинное разнообразие,
и читал целый трактат о различных формах, о различном виде примя-
тости, изогнутости, закрученности, окрашенности окурков».'89
Скопидомы
«Одолеваемые страстью к собственности, другие собирали не
предметы, а нечто не материальное... но обладающее известным вкусом и
запахом, - например, ругательства, анекдоты, красивые фразы из книг,
обмолвки, ошибки против русского языка.
Одни из скопидомов погружались в гордые мечты, преувеличивая
эстетическую ценность некоторых предметов (кружев), другие объясняли
свое накопление (дамские перчатки) желанием написать особую книгу
«История дамских перчаток», третьи - любовью к зрелищам, радующим
глаз (парча).
Так жил систематизатор среди этих своеобразных капиталистов,
бандитов и разбойников. Не брезговавших кражей, похищением ценных
для старичков и старушек, часто лишь по воспоминаниям, предметов.
Эти собиратели были настоящие эксплуататоры, неуловимые, жестокие
и жадные».190
Фотографии
«Керепетин, перебирая карточки, следил за превращением
физиономий, за изменением манеры жить и мыслить. Любительские фотографии
были не менее ценны для него, для профессионального иллюстратора;
любительские фотографии передавали ему чайные столы, палисадники,
сады, домики, дома со всем содержимым, позы женщин, фацию мужчин,
нежный флирт. Какие выразительные лица, какие прически, какие кофты,
какая блестящая строгость, какая утрированная задумчивость, какая
лучезарная мечтательность! И все же в этом рисунке ты запечатлел нежность
и трогательность, и какую-то бессознательность. А этот, с бородкой
Филиппа II, чиновник морского ведомства на фоне дивана, уставленного
безделушками, пьющий бокал шампанского! Видно по лицу твоего героя,
что он сам желает в таком торжественном виде предстать перед
потомством. А эта дама, в самой принужденной позе срывающая цветок...»191
Карточки под мрамор, и прочее
«Карточки под мрамор, перламутр, слоновую кость, с траурными
кантами, золотыми обрезами он положил на чистенькое место, чтобы они
не запылились. Завтрашнюю ночь он посвятит визитным карточкам.
534
V. Ненужное и редкое
Человек стал снимать тужурку, но заметил, что на стуле лежат этикетки
от баклажанов».19"
«Бухгалтер Клейн, например, копил все с изображением Петербурга,
от открыток до пивных этикеток. Престарелый донжуан, режиссер
небольшого театрика - свистульки, киноактер - дамские перчатки. Были
собиратели обрывков кружев, кусочков парчи, бисеринок, дамской
отделки.
Для всех этих людей город являлся золотым дном, северным Эльдорадо,
новым Геркуланумом и Помпеей»193.
В следующих сериях навязчиво повторяются темы
гастрономические, «вкусовые», по стилю почти гоголевские. Само описание
серий здесь собирательно, речь идет о возможности описывать мир
в метонимической, практически бесконечной последовательности.
Автор, как и герои повествования, видят мир именно так, т.е.
коллекционно и фрагментарно, и без всякой надежды на некую единую
целостность. Продолжим движение.
Еда
«Чего-чего только за свою жизнь не ел Торопуло! И студень из оленьего
рога, и губы говяжьи с кедровыми орешками, с перцем, с гвоздикой, и
желудок бараний по-богемски и по-саксонски, и пупки куриные,
искрошенные в мелкие кусочки, и хвосты говяжьи, телячьи и бараньи, и
колбасы раковые, и телячьи уши по-султански, и ноги каплуна с трюфелями.
И гусиные лапки по-биаррийски. И цыплят с грушами, и ягнячьи
головки в рагу, и яйца со сливками, и петушьи гребни»194.
«...поваренных книг, высоких, толстых и драгоценных, где так дивно
описано приготовление голубей по-австрийски, по-богемски,
по-саксонски, по-провинциальному, по-станиславски и по «другим манерам».
Книги, где описывались «голуби с огурцами», «голуби с брюквой»,
«голуби в халате» и «голуби на рассвете»»195.
Конфетные обертки
«Часами можно было рассматривать коллекцию конфетных бумажек
Торопуло. Разнообразие мира постигал Торопуло благодаря этим
меловым, восковым, всех сортов бумажкам.
Между разговорами гости ели шоколадную карамель, обернутую в
вощанку; на обертках изображены были в профиль и en face красавицы,
носящие благозвучные имена, на фоне малиновом, алом, травянисто-
535
Обморок мира. Поэтика случая в литературе Обэриу
зеленом, в рамках, украшенных цветами; Виргиния здесь изображалась
с открытой грудью; испанка с поднятыми юбками изображала «Мой
сорт»; они мирно покоились под театральными «Ушками», «Дамскими
язычками», торчавшими по бокам вазы. Темноцветные бумажки,
украшенные золотыми буквами, как бы ныряли среди нежно-цветных волн;
колибри, львы, тигры, олени, журавли, раки, вишни, земляника, малина,
красная смородина, васильки, розы, сирень, ландыши, красноармейцы,
крестьяне, рыбаки, туристы, паяцы, солнце, луна, звезды - возвышались
здесь, пропадали там, радовали взор, заинтересовывали, возбуждали
любопытство, вызывали сравнение; и гости, нацелившись, выуживали
то рыбку, то испанку, то туриста в тирольской шляпе, то Версаль, то
лунную ночь, то звезды. Это была своеобразная игра. Торопуло вкушал
тревожный запах винограда, мощный запах каштана, сладкий - акаций;
всеми ощущениями наслаждался Торопуло как лакомствами. Торопуло
пребывал в мире гиперболического счастья, не всем доступного на
земле; он жил в атмосфере никогда не существовавшего золотого века».'96
Город-Эрмитаж
«По тонкому ледяному покрову Евгений подошел к сверкающему
барочному Эрмитажу, стоявшему на едва заметной возвышенности. Со всех
сторон Эрмитаж был окружен амурами. Евгений залюбовался: здесь
были толстощекие амуры, украшающие быка цветами; другие - кормящие
плодами льва; третьи - собирающие плоды в корзины; четвертые -
дружно спящие под звездным небом; пятые - наблюдающие взошедшее солнце;
шестые - пускающие бумажного змея; седьмые - кующие стрелы; восьмые
- беседующие под тенью фонтана; девятые - предающиеся любви на
ложе: амуресса готовится надеть венок, амур несет ей цветы; десятые -
собирающие хворост; одиннадцатые - греющиеся у костра, - но в
особенности понравились Евгению амуры, собирающие виноград: один
рассматривает гроздь, другой наполняет корзину, третий, стоя в огромной
бочке, давит с радостным усилием и шаловливой улыбкой виноградину».197
«Евгению жаль было покинуть мир, где росли баранья трава, волчье
лыко, петушья нога, кошачьи лапки, золотые розги, водоглаз, змеиная
трава, песьи вишни, душистые кудри, конская трива, фиалка собачья и
медвежий виноград».198
Человек-машина
«На стене рядом с курортом на дому висел цветной плакат
человек-машина. В просторных помещениях человека-машины работали люди: одни
лазали по лестницам, складывали крахмал и сахар; другие подавали; тре-
536
V. Ненужное и редкое
тьи служили привратниками; четвертые мыслили по поводу
прочитанного; пятые сидели на деревянных кобылах; шестые снимали аппаратом
(глаз); седьмые слушали у телефонов (ухо); девушки в голубых и
сероватых платьях сидели у аппаратов (нервы); в человеке-машине были
проведены голубые и красные трубы, двигались колеса, вагонетки,
работали приводные ремни».1"
В лесу
«Как хорошо щекочет в лесу запах земляники! Осенью - грибов!
Обратите внимание на нашу живописную местность: внизу стоит город,
правильной круглой формы, молочно-белый со стенами точно из
марципана, с деревьями, с переливающимися на солнце листьями, точно
желатин, окруженный салатными, картофельными, хлебными полями;
там идет бык со свои сладким мясом у горла, там великолепная
йоркширская свинья трется о высокую сосну. И как странно! Ядовитые для
нас волчьи ягоды - лакомое блюдо для дроздов и коноплянок, а похожие
черные вишни ягоды белладонны - первая еда для дроздов! А иволги и
тетерева - человечнее, они любят землянику»200.
Тотальная, всепроникающая как заразная болезнь
систематизация, - что же это такое? Ведь охватывая собой все, что возможно,
она не охватывает ничего в отдельности и с необходимой полнотой.
Все серии незаконченны (да, и не могут быть), они движутся в
разные стороны. Нет ни одной цельной коллекции, а только собрания,
перечни, «кучи», и множество других, не пригодных ни к чему
фрагментов распада. Правда, можно изучать такого рода собирательство
с точки зрения фундаментальных культурных оппозиций чистое/
нечистое, центр/периферия, ординарное/маргинальное, высокое/низкое.
Культура каждый раз устанавливает собственные границы, указывая
на то, что находится за ними и продолжает иметь ценность. Все, что
человек ест, пьет, от чего освобождается, что носит на себе, о чем
думает и мечтает, чему радуется и от чего получает удовольствие,
чего страшится и от чего испытывает боль, - все претерпевает
стадии вещного распада, переходя из сферы нужного и потребляемого
в мусор и отходы. Подобному собирательству соответствует пустое
время, оно «заполнено» мертвыми элементами распада. Невозможно
объяснить, что это значит - собирать окурки или ногти, плевки или
экскременты, остатки пищи или прах. Как можно собирать то, что
не собираемо, что никаким образом не вернуть в культуру в качестве
коллекционной ценности? Действительно, как отделить их от грязи,
мусора, от «кучи всего и вся»?201
537
Обморок мира. Поэтика случая в литературе Обэриу
Что случилось со временем? - оно стало завершаться в каждом
мгновении. Превосходство распада над синтезами времени. Частица
вещи соответствует мгновению остановки, времени распада, в
которое вовлечены другие частицы. Нет ничего, что бы не распадалось.
Время идет вспять, мир отступает к хаосу. Время становится
видимым. Но это мертвое время. Длинными зимними вечерами,
завороженный богатством ненужного и отвергнутого, этот чудной
коллекционер пытается систематизировать отсутствие вещей, пустоту
постреволюционного мира.
Не удивляет перекличка с предшествующим литературным
опытом коллекционирования. Сначала Н. Гоголь с его
героями-собирателями и целостной метафизикой «кучи» (достаточно упомянуть о
гоголевской «Книге о всякой всячине»); далее, Андрей Белый,
превративший собирательство в теорию мысли: мыслить градационно- вот
условие sine qua non его антропософии (эмблематические таблицы
собирают в единые картины вещи, события, имена и термины); не
забыть Андрея Платонова, чьи герои плутают среди опустевшего
мира, где все дробится на мельчайшие частицы, распыляется и
переходит в прах. Антиутопия Платонова, внимательного читателя
«Общего дела» Николая Федорова, конечно, противостоит
ошеломляющей идее великого старца, естествоиспытателя и архивариуса. Для
того человеческие остатки никуда не деваются, их даже не нужно
вспоминать, ибо они везде уже есть и будут всегда. Нужны только
особые «научно-технологические» средства для их извлечения,
сортировки, регенерации, «клонирования» и полного восстановления.
Цель - реальное воскресение тел Отцов. У другого коллекционера
Марселя Пруста все иначе: человеческое тело культурно, оно хранит
в себе следы прошлого опыта, бессознательную память о привычных
движениях и жестах, с которыми связаны определенные события
жизни. Одни движения активированы, другие нет, они как бы «спят»;
но достаточно искры, какого-то пересечения путей нашего тела в
настоящем с памятью-рефлексом о прежнем забытом движении,
чтобы тут же возникло явственное воспоминание о давно ушедшем.
Словно прошлое хранится в нашем настоящем, и нет никакой «чистой
памяти», кроме памяти тела. Это идеальное воскресение в
воспоминании ушедшего и забытого, возможно, главная особенность
человеческого опыта. Хотя время каждая из этих литератур
воспринимает по-разному, их первоначальные интуиции объединены одной
идеей мира, существующего на гранях собственного распада.
От героев романов Вагинова, захваченных страстью к
собирательству, не отделить Автора, который создает общие условия для
538
V. Ненужное и редкое
столь причудливого видения мира. Позицию его можно определить
как остранняющую, исполненную горькой иронии и пессимизма, и
вовсе не карнавальную (М.М. Бахтин). В «послесловиях», «между-
словиях» и «предисловиях» к собственным книгам, помещенным в
«Приложении», Вагинов указывает на двусмысленность отношения
автора к собственному творению. С одной стороны, автор есть автор,
он бросается помогать героям, но с другой, бывает настолько близок
к ним, что растворяется в них и теряет контроль над повествованием.
«...тогда я был одним лицом, цельным и неделимым. Тогда я еще не
распался на отдельных людей, и тогда страшный свет я чувствовал в себе,
и, собственно, не мы, я один шел по всем этим дорогам, но затем
произошло неожиданное дробление. (...)
Но вышел ли я окончательно из книги, освободился ли я от моих героев,
изгнал ли я их в мир, потусторонний по отношению ко мне, что станет
со мной, если я действительно изгоню, может быть, появится пустота,
огромное ничто, и в эту пустоту бросятся другие существа, не менее
печальные, и в ней поселятся?»"°"
Сознавая свою ответственность как автора, он берет в руки
«увеличительное стекло», чтобы рассмотреть их так близко, как они есть,
и какими должны быть. Стратегия рассматривания:
«Автор, быть может, просто обладает увеличительным стеклом, не
охватывающим всего предмета. Быть может, оттого его книга и может
показаться собранием курьезов, но есть предметы, которых вообще не
заметишь невооруженным глазом, например, бактерии или устройство
желудка у невообразимо малых существ, вредных или полезных.
Преувеличение является иногда необходимым моментом исследования
и изучения.
Муха, изображенная в человеческий рост, не всегда является плодом
фантазии, она может служить и целям наилучшего изучения».
В подобной оптике все идет в дело, нет ничего лишнего,
ненужного или нечистого. Все собирается и распределяется двумя способами:
поставлением вряди общей панорамой. Иначе говоря, собираемое
располагается по широте (передний план) и вглубь (задний план); вместе они
создают эффект панорамного видения. Все предметы располагаются
в одном пространственном измерении: прямо перед наблюдателем,
вдоль его взгляда, и в глубине, - под ним. И то, что присоединяет
видимое к языковой ткани, является поэтическим приемом сопостав-
539
Обморок мира. Поэтика случая в литературе Обэриу
ления: «Никто не подозревает, что эта книга возникла из
сопоставления слов. Это не противоречит тому, что в детстве перед каждым
художником нечто носится. Это основная антиномия (противоречие).
Художнику нечто задано вне языка, но он, раскидывая слова и
сопоставляя их, создает, а затем познает свою душу. Таким образом, в
юности моей, сопоставляя слова, я познал вселенную, и целый мир
возник для меня в языке и поднялся от языка. И оказалось, что этот мир
совпал удивительным образом с действительностью»803.
Сопоставление здесь нужно понимать буквально как со-поставление, -
внутренняя энергия его распределяется достаточно мягко и даже с
известной долей пассивности, а именно как со- и поставлепие. Панорама -
это возможность видеть все в перспективе сопоставления всего со
всем, - все сопоставляется, т.е. находится в пределах единства через
различие, как связанность всего несвязанного.
Идея собирательства
Здесь нужно сделать отступление, чтобы ответить на вопрос: что
такое коллекционирование в традиционном понимании?
Коллекционирование - это поле обращения вещей в качестве
индивидуальных ценностей. Коллекционер, если он настоящий,
верный старым традициям, собирает ради самого собирания. Тем самым
спонтанно выражает свое отношение к миру как распавшемуся,
целое которого еще можно восстановить. Часто выдающимися
знатоками и истинными почитателями искусства являются именно
коллекционеры. Хотя страсть коллекционера самодостаточна - она не
фиксируется наличности художника и даже на его произведении, а
скорее на чувстве владения некой ценностью (под названием
произведения искусства). Вещи коллекционера освобождены от налета
прибавочной стоимости, они - не предмет игры на рынке, они
уникальны, единственны и бесценны (об этом позаботилось время).
Всякая их полезность и инструментальность исключены; они сами по
себе, они покоятся, их ценность коллекционна. Вот как описывает
В. Беньямин свою страсть: «Таким образом, бытие коллекционера
диалектически простирается между полюсами порядка и
беспорядка. Однако оно связано и со многими другими обстоятельствами,
например с весьма загадочным отношением к собственности, о
котором я позже скажу несколько слов. И еще — с таким отношением
к вещам, при котором не обращают внимания в первую очередь на
их функциональную ценность, то есть на их полезность и пригод-
540
V. Ненужное и редкое
ность, а изучают и любят их как подмостки или как театр их
собственной судьбы. Коллекционера больше всего очаровывает
возможность собрать разрозненное в один магический круг, где все замрет
в последнем восторге — в восторге отдавшегося. Все, о чем
коллекционер помнит, думает и знает, становится цоколем, рамкой,
постаментом, замковым камнем для того, чем он владеет. Возраст, место
происхождения, способ изготовления, прежний владелец, от
которого эта вещь перешла, — все это для истинного коллекционера
соединяется в каждом отдельном случае в некую магическую
энциклопедию, посвященную судьбе той или иной веши. Уже на этом
маленьком примере можно почувствовать, как великие физиогномисты,
— а все коллекционеры суть физиогномисты вещного мира, —
становятся толкователями судьбы»204. Конечно, околдование
коллекционера несколько иной природы, чем акт созерцания, свойственный
любителю искусства. Полотна старых мастеров, например, давно и
высоко оцененных (в их музейном значении) уже не являются
предметом случайного эстетического наслаждения, они вычеркнуты из
времени настоящего, они - вечные объекты, такие как «свет» или
«закат». В среде коллекционеров поддерживается культ «вещей
искусства» (произведений). В искусстве авангарда вещи больше нет.
Почему? Потому что исчезла надобность в идеологии произведения
искусства. Исчезла иллюзия личного авторского бессмертия,
которая питалась идеей, что произведение искусства - «неведомый
шедевр» - создается не для тех, кто сейчас, а кто потом, не для
сегодняшнего зрителя, а для будущего. Распалось время созерцания - это
приобщение к вечному. Но как только появляется коллекционер, к
нему отовсюду приходят «вещи», даже авангарда.
Попробуем удержать коллекционирование в более широких
культурных рамках. И здесь будет полезным анализ отношения между
коллективной и индивидуальной памятью. Коллекционер и его страсть
к собирательству участвуют в игре между двумя родами памяти. С
одной стороны коллективная память, она опирается на традицию,
она в основном сегодня носит характер институциональной памяти
(нас помнят, мы сами же не в силах сохранять в памяти все скрытые
условия нашей идентичности). Более того, коллективная память
документальна или, более точно, материальна: свидетельства и следы
прошлого сохраняются благодаря их материальной, а не идеальной
данности. Коллективная память никому не принадлежит, она -
память общества. Другое дело, индивидуальная память. Нельзя сказать,
что она в чем-то соответствует коллективной или сближается с ней,
541
Обморок мира. Поэтика случая в литературе Обэриу
скорее, напротив, она представляет собой некий опыт, разовый и
уникальный, практики воспоминания. Помнить, чтобы вспоминать.
Беньямин в своем глубоком эссе о М. Прусте как раз и пытается
определить память, исходя из законов воспоминания. Главное -
воспоминание действует разрушительно, шокирующим образом, оно не
соблюдает условия сохранения коллективной памяти, а атакует ее,
по сути дела, разрушает205. Прекрасный образ: калейдоскоп в руках
ребенка, который, играючи, разрушает одно, собирая из остатков
разрушенного другое, - ничто не может составить конкуренцию
образу перманентной катастрофы806. Этому образу остается верным
коллекционер. Воспоминание активно и разрушительно, ибо
ориентируется не на общие, а на индивидуальные принципы присвоения
того, что собрано. В воспоминании мы обречены на
фрагментарность, поскольку не управляем самим процессом, все, что мы
вспоминаем, подвержено случайным искажениям и сбоям. Вспоминая о
событиях, мы вспоминаем о вещах, точнее, мы вспоминаем о том,
что оказывается материальным следом нашего прошлого. Событие
вспоминаемого прошлого внутри вещи, иногда и вокруг - в виде
ауры или свечения. Коллекционер действует через индивидуальную
память, стремясь присвоить себе коллективную память,
выраженную в отдельной вещи, т.е. материально. Итак, подчеркнем еще раз
значение присвоения коллективной памяти индивидуальной. Это
значит, что индивидуальной памяти (коллекционной) не хватает
коллективной, индивидуальная память теряет всякий смысл без
попыток захватить коллективную. Так, истинному коллекционеру
всегда не хватает последней «вещи», чтобы завершить коллекцию. Да и
сама коллекция, как вечно отыскиваемая чаша Грааля, может
исчезнуть, раствориться в мертвом времени истории.
Редкости. О возвышенном вкусе (Ж.-К. Поисманс)
Обратимся теперь к опыту, на первый взгляд явно
противоположному авторскому собирательству Константина Вагинова.
Герой романа Гюисманса «Наоборот» по имени дез Эссент - не
просто коллекционер (как все), он собиратель всего редкого и
редчайшего (сортов вин, книг, цветов и растений, драгоценностей и
т.п.). Из этого особого сверхценного материала он и строит башню
из слоновой кости, в которую бежит от невыносимой скуки
повседневности, от глупости и невежества толпы. 1ерою не хватает вещей,
соответствующих его утонченному вкусовому впечатлению, некоего
542
V. Ненужное и редкое
идеала чувственного равновесия, которое позволит наслаждаться
жизнью так, как он хочет. И он решается на радикальную
перестройку самой ближайшей среды. Так, дом становится местом
архитектурных и дизайнерских экспериментов. Если среду не переделать, не
подогнать под себя, - под свою чувствительность и
восприимчивость,- то можно погибнуть. Вот пример подобной перестройки:
запах из неизвестного источника начинает преследовать дез Эссента
днем и ночью, запах чужой, отвратительный, разрушающий. Все это
похоже на галлюцинацию, но крайне опасную. Как победить этот
запах, что ему можно противопоставить? Вот и повод для создания
коллекции «любимых» «оберегающих» запахов, их тщательной до
нужной пропорции подгонки друг к другу. Однако « ...что бы ни
предпринималось дез Эссентом, все равно ничто не могло изгнать из
комнаты назойливого присутствия 18-го века. У него перед глазами
стояли платья с оборками и фижмами. На стенах проступали силуэты
"Венер" Буше, пухлых и бесформенных, словно набитых розовой
ватой. Вспоминались также роман Фемидора и неутешная печаль
прелестной Розетты. Дез Эссент вне себя вскочил на ноги. Чтобы
покончить с этим наваждением, он глубоко, как только мог, вдохнул
аромат нарда, который столь любят азиаты, но за явное сходство с
запахом валерьяны недолюбливают европейцы. Сила запаха,
напоминавшая удар кувалды по тонкой филиграни, оглушила его. От
назойливого визитера не осталось и следа»207.
А вот как выстраивается ближайшая среда дез Эссента, с которой
он ведет и игру, и достаточно утомительную повседневную работу.
Запах
Дез Эссент пошел в кабинет. Там, у старой купели, служившей чашей
для умывания, под большим зеркалом в кованой лунно-серебристой раме,
которая, словно стены колодца, обрамляла мертвую зеркальную зелень
воды, на полочках из слоновой кости стояли флаконы всех форм и размеров.
Дез Эссент переставил их на стол и разделил на две группы: флаконы
простых духов, а иначе говоря, настоянных на экстрактах или спирту,
и флаконы духов необычных, с «букетом».
Затем он уселся в кресло и сосредоточился.
Дез Эссент уже долгие годы целенаправленно занимался наукой запахов.
Обоняние, как ему казалось, могло приносить ничуть не меньшее
наслаждение, чем слух и зрение,— все эти чувства, в зависимости от
образованности и способностей человека, были способны рождать новые
впечатления, умножать их, комбинировать между собой и слагать в то
целое, которое, как правило, именуют произведением искусства. И по-
543
Обморок мира. Поэтика случая в литературе Обэриу
чему бы, собственно, не существовать искусству, которое берет начало
от запахов? Ведь есть же искусство, действующее звуковой волной на
барабанную перепонку или цветовым лучом на сетчатку глаза? Мало кто
способен при отсутствии знаний или интуиции отличить подлинного
живописца от имитатора и Бетховена от Клаписсона. Тем меньше
оснований без соответствующей выучки не спутать букет, который составлен
подлинным художником, с той заурядной парфюмерной смесью, что
предназначена для продажи во всяких лавках и лавочках.
В сфере обонятельного именно неестественность образа привлекала
дез Эссента больше всего.
И действительно, запахи почти никогда не связаны с теми цветами, чье
имя носят. Если бы художник работал только с исходным материалом
природы, то создал бы не произведение искусства, а бессмысленную и
лишенную стиля подделку, потому что эссенция, полученная при
перегонке лепестков, лишь очень отдаленно, очень приблизительно
напоминает об аромате живого, еще не сорванного цветка.
И, пожалуй, любое благоухание, за исключением аромата
неподражаемого жасмина, который противится быть похожим на что бы то ни
было, может быть передано посредством искусного сочетания спиртов и
солей. Оно не только воссоздает дух своего образца, но еще и
добавляет к нему некую неуловимую изюминку, печать изысканности и
исключительности, что является верным признаком шедевра.
Следовательно, в парфюмерном искусстве творец как бы завершает
создание исходно данного природой запаха, который берется за основу, а
затем обрабатывается и доводится до совершенства на манер того, как
гранится драгоценный камень».808
Книги
«Книг, представляющих позднейшие столетия, было в библиотеке дез
Эссента немного. 6-й век не мог не олицетворять Фортунат, епископ из
Пуатье. В его «Vexilla regis» и гимны, в ветхие старо-латинские мехи
которых словно было влито новое пахучее вино церкви, дез Эссент нет-
нет да и заглядывал. Помимо Фортуната там еще были Боэций, Григорий
Турский и Иорнандезий. Далее, 7-й и 8-й века: тут имелось несколько
хроник на варварской латыни Фредегера и Павла Диакона и
составленные в алфавитном порядке и построенные на повторении одной и той
же рифмы песнопения в честь святого Комгилла, а также сборник
Бангора, который дез Эссент изучал время от времени. Но в основном это была
агиография: слово монаха Ионы о святом Колумбане, повесть о блаженном
Кутберте, составленная Бедой Достопочтенным по запискам
безымянного монаха из Линдисфарна. Дез Эссент от скуки листал их иногда да
544
V. Ненужное и редкое
перечитывал порой фрагменты житий святой Рустикулы и святой Родо-
гунды. Первый сочинитель был Дефенсорий, монах из Лигюже,
второго - простодушная и скромная пуатийская монахиня Бодонивия /.../
Писатели последующих эпох дез Ессента уже не так привлекали; к
увесистым томам каролингских латинистов, разных Алкуинов и Эгигардов,
он был в общем равнодушен и вполне довольствовался, из всей латыни
9-го века, хрониками анонима из монастыря св. Галльса, сочинениями
Фрекульфа, Региньона да поэмой об осаде Парижа, подписанной Аббо
ле Курбе, и, наконец, дидактическим опусом «Хортулус» бенедектинца
Валафрида Страбо, причем, читая главу, которая воспевала тыкву,
символ плодородия, дез Эссент так и покатывался со смеху. Изредка снимал
с полки и поэму Эрмольда Черного о Людовике Благочестивом -
героическую песню с ее правильными гекзаметрами, латинским булатом
сурового и мрачного слога, закаленного в монастырской воде и
сверкающего иногда искрой чувств. Порой проглядывал «De viribus herbarum»
Мацера Флорида и воистину наслаждался описанием целебных свойств
некоторых трав: к примеру, кирказон, прижатый с ломтем говядины к
животу беременной, помогает родить младенца непременно мужского
пола; огуречник лекарственный, если окропить им гостиную, веселит
гостей; толченый иссоп навсегда излечивает от эпилепсии; укроп,
возложенный на грудь женщине, очищает ее воды и облегчает регулы».809
Бумага
«Аналогичным образом он относился и к бумаге для книг. В один
прекрасный день ему опротивели все эти бумажные изыски: китайская
серебристая бумага, японская перламутровая и позолоченная, белая ватманов-
ская, темная голландская, вторившая замше, турецкая и желтая
сейшельская. Не переносил он и бумагу фабричного производства. Он заказал
верже особого формата на старой вирской мануфактуре, где еще
треплют коноплю по старинке. А чтобы разнообразить свою коллекцию,
он в несколько приемов выписал из Лондона бумагу с фактурой ткани
- ворсистую или репсовую и, вдобавок, из презрения к библиофилам,
обязал торговца из Любека поставить ему улучшенную искристую бумагу,
синеватую, звонкую, чуть ломкую, в которую вместо щепочек были
вкраплены блестки, напоминавшие золотую взвесь данцигской водки».*10
Камни драгоценные
«Оставалось произвести выбор камней. Бриллиант опошлился с тех
пор, как им стали украшать свой мизинец торговцы; восточные
изумруды и рубины подходят больше - пылают как пламя, да вот только
похожи они на примелькавшиеся всем зеленые и красные омнибусные
Обморок мира. Поэтика случая в литературе Обэриу
огни; а топазы, простые ли, дымчатые ли, - дешевка, радость
обывателя, хранятся в ящичках всех платяных шкафов; аметист как был, так
благодаря церкви и остался эпископским камнем: густ, серьезен, однако
и он опошлился на мясистых мочках и жирных пальцах лавочниц,
жаждущих задешево увеситься драгоценностями; и только сапфир, один-
единственный, уберег свой синий блеск от дельцов и толстосумов. Токи
его вод ясны и прохладны, он скромен и возвышенно благороден, как
бы недоступен грязи. Но зажгутся лампы - и, увы, прохладное
сапфировое пламя гаснет, синяя вода уходит вглубь, засыпает и просыпается
лишь с первыми проблесками рассвета».*11
Косметика
«С момента переезда в фонтенейский дом он к ним не притрагивался.
И теперь был поражен богатством собственной коллекции, которая
привлекала пытливый интерес не одной красавицы. Баночек и
скляночек было несметное множество. Вот зеленая фарфоровая чашечка со
шнудой, тем восхитительным белым кремом, который на щеках под
воздействием воздуха сначала розовеет. А позже делается пунцовым и
создает эффект яркого румянца. А вот в пузырьках, инкрустированных
ракушками, - лаки: японский золотой и афинский зеленый, цвета
шпанской мушки; другие золотые и зеленые, способные менять свой оттенок
в зависимости от концентрации. Далее шли баночки с ореховой пастой,
восточными притираниями, маслом кашмирской лилии, а также
бутылочки с земляничным и брусничным лосьонами для кожи лица. Рядом
с ними располагались китайская тушь и розовая вода. Подле
вперемежку со щетками для массажа десен из люцерны находились
разнообразные приспособления и приспособленьица из кости, перламутра, стали,
серебра и прочих материалов, наподобие щипчиков, ножничек,
скребков, растушевок, лент, пуховок, чесалок, мушек и кисточек» .2,а
Итак, Дез Эссент, нарушая все конвенции общепринятого вкуса,
создает свои правила, свой замкнутый чувственный мир. Единство
личности достижимо, но только посредством изменения внешней
среды. И вот она меняется на основании новых форм чувственности,
которые дез Эссент ей навязывает. Цвет, свет, запах, обоняние,
вкусовые особенности - все в данный момент образует единый фронт
чувственного, где может доминировать что-то одно, например, запах
или вкус. Организовать вокруг себя внешнее, но ради внутреннего.
Эта «организация» зависит от выбора из многого, т.е. от
собирательства по определенному плану. Необходимо создать вокруг себя
искусственную среду, «вторую Природу», и тем самым обезопасить себя
546
V. Ненужное и редкое
от неожиданных вторжений и вероломства «первой»: «Надо только
взяться умеючи, сосредоточиться на чем-то одном, от всего
отвлечься и выдать желаемое за действительное, создав желанное видение
искусственно. Искусственность восприятия казалась дез Эссенту
признаком таланта. Природа, по его словам, отжила свое. И уж на что
утонченные люди терпеливы и внимательны, и то им приелось
тошнотворное однообразие небес и пейзажей. Природа, в сущности, -
узкий специалист, замкнувшийся в своей области. Или, может быть,
она - мелкий лавочник, навязывающий свой товар»2'3. Вот так этот
странный коллекционер и действует: он не наслаждается собранной
коллекцией, ему нужна она для того, чтобы создать серию
замещающих естественные чувственных эффектов, которые отграничат
его от воздействий внешнего мира. Коллекции, собранные дез Эс-
сентом, - это он сам, как предметно воплощенная чувственность,
как его новые «тела». Собирать себя - девиз этой страсти. Так, дом
становится единственным местом полностью преобразованной
человеческой среды, где на первый план выступает «вторая Природа»
(раз «первая» вероломна, лжива, насильственна и глупа, не отвечает
тому образу чувственности, который необходим, чтобы достойно
выживать). Можно сказать, что дез Эссент никакой не
коллекционер, а прежде всего сверхэстет, культивирующий образ телесного
идеала, утончающий вкус настолько, что не нуждается ни в каком
ином; он и без того обладает полнотой вкусового впечатления, и
никто не в силах переубедить его в обратном, тем более навязать
свое вкусовое впечатление. «Дез Эссент изучал квинтэссенцию
ароматов, исследовал и толковал их тайнопись. Для собственного
удовольствия он был то психологом, то механиком, который, препарируя
запах, а затем, вновь воссоздавая его, раскрывает секрет
благоухания. Подобные опыты сделали его обоняние изощренным и
практически не знающим промахов»214. Кантовский порядок
эстетического падает. Чувства и эмоции дез Эссента настолько асоциальны,
насколько кажутся ему «истинными». Ученик Малларме и Верлена,
дез Эссент, как и они, пытался создать из природной «естественной»
материи Произведение (искусства), превосходящее по
изысканности и богатству своих качеств саму Природу. Все естественное
получает проверку через искусственное: «В сфере обонятельного
именно неестественность образа привлекала дез Эссента больше всего»2'5.
Итак, сначала полная деструкция природного вещества (того же
запаха), затем изучение полученных новых свойств, и потом их
комбинация ради получения невиданных и природой не
предполагаемых результатов новой чувственности.
547
* * *
Что может дать нам сравнение двух практик
коллекционирования, столь похожих и непохожих друг на друга? Редкое и редчайшее,
изысканное и неповторимое - на одной стороне; ненужное и
изношенное, «нечистое» и отброшенное, и все то, что невозможно
коллекционировать - на другой. Эти два рода коллекционирования не
пересекаются, настолько их цели разнятся, а коллекции просто не
сопоставимы. В сущности, предел мечтания героя Вагинова - это
достать набор японских спичечных наклеек. Коллекционер здесь
выступает как чистая незамутненная страсть собирательства, он
собирает то, что не собираемо и не должно собираться, он собирает
бедность, распад и катастрофу. Коллекционер Вагинова не может
жить, не собирая, и как будто его цель - не собирательство
(наслаждение случайностью приобретения редкой и прекрасной вещи), а
только и единственно порядок мира и, следовательно, порядок
чистоты. Напротив, герой Гюисманса не получает удовлетворения от
редкого, роскошного и естественного, невероятно дорогого, ибо
полагает, что его чувство возвышенного выходит далеко за пределы
свойств естественного вещества. Для него, правда, как и для
Вагинова, не существует нечистое, грязь, его мир столь же идеален. И
только искусственное воссоздание природного даст возможность сделать
человеческий вкус еще более утонченным. Перед нами две стратегии
литературного мимесиса: одна определяет произведение искусства
чисто гедонистически, - по силе эстетического наслаждения, которое
оно может вызывать; другая представляет произведение искусства
инструментом, приводящим мир в порядок по определенным
законам. Высшее качество мира, ставшего произведением (искусства)
для поэта-обэриута, коллекционера и метафизика, - чистота порядка.
В одном из писем Хармс так ее определяет: «Это та самая чистота,
которая пронизывает все искусства. Когда я пишу стихи, то самым
главным кажется мне не идея, не содержание и не форма, и не
туманное понятие «качество», а нечто еще более туманное и
непонятное рационалистическому уму, но понятное мне /.../ Это — чистота
порядка»*16. В одном случае коллекционер готов принять мир, какое
бы время распада уже не пришло, а в другом - всеми силами
противостоит «преступлениям Природы», отыскивая законы
искусственной среды, где можно создавать новые и невиданные тела жизни.
548
VI
Разговоры
Сообщество друзей во времени
Скажу тебе по совести, как делается наша мысль,
как возникают корни разговоров, как перелетают
слова от собеседника к собеседнику. Для этого надо
молча просидеть некоторое время, стараясь уловить
хотя бы звездочку, чтобы было, как говорится, с чего
распутать свою шею для поворотов очень
приветливым знакомым и незнакомым собеседникам.
Д. Хармс.
Как прекрасна бескорыстная беседа! Никому ни от
кого ничего не нужно, и каждый говорит, когда
и что захочет. Она подобна реке: она не торопится
и течет в направлении к морю то медленно, то
быстро, иногда прямо, иногда выгибаясь вправо или
влево. Две богини стоят за плечами собеседников:
богиня свободы и богиня серьезности. Они смотрят
на людей благосклонно и с уважением, они с
интересом прислушиваются к разговору.
Л. Липавский. Разговоры
Интерес. Разговоры - говорить
Одна из форм существования обэриута, предваряющая и
оправдывающая творческое усилие, - это разговоры. Искусство вести
разговоры: говорить-разговаривать, раз-говоры и о-говоры, за-говоры ( «ты
549
Обморок мира. Поэтика случая в литературе Обэриу
мне зубы не заговаривай!») у - это и околдовать, и обманывать. В начале
«Разговоров», записанных философов Липавским, собраны в
отдельные коллекции интересы обэриутов. Приведем их:
«Н.М. (Олейников) сказал: Меня интересует: питание числа насекомые
журналы стихи свет цвета оптика занимательное чтение женщины пифа-
горейство-лейбницейство картинки устройство жилища правила жизни
опыты без приборов задачи рецептура масштабы мировые положения
знаки спички рюмки вилки ключи и т.п. чернила карандаш и бумага
способы письма искусство разговаривать взаимоотношения с людьми
гипнотизм доморощенная философия люди века скука проза кино и
фотография балет ежедневная запись природа "АлександроГриновщина"
история нашего времени опыты над самим собой математические
действия магнит назначение различных предметов и животных озарение
формы бесконечности ликвидация брезгливости терпимость жалость
чистота и грязь виды хвастовства внутреннее строение земли
консерватизм некоторые разговоры с женщинами.
H.A. (Заболоцкий) отвечая на тот же вопрос, произнес: Архитектура
правила для больших сооружений. Символика изображение мыслей в
виде условного расположения предметов и частей их. Практика религий
по перечисленным вещам. Стихи. Разные простые явления - драка, обед,
танцы. Мясо и тесто. Водка и пиво. Народная астрономия. Народные
числа. Сон, Положение и фигуры революции. Северные народности.
Уничтожение французиков. Музыка, ее архитектура, фуги. Строение
картин природы. Домашние животные. Звери и насекомые. Птицы.
Доброта-Красота-Истина. Фигуры и положения при военных действиях.
Смерть. Книга, как ее создать. Буквы, знаки, цифры. Кимвалы. Корабли.
Д.Х. (Даниил Хармс) сказал, что его интересует. Вот что его интересует:
Писание стихов и узнавание из стихов разных вещей. Проза. Озарение,
вдохновение, просветление сверхсознание, все, что к этому имеет
отношение; пути достижения этого; нахождение своей системы достижения.
Различные знания, неизвестные науке. Нуль и ноль. Числа, особенно
не связанные порядком последовательности. Знаки. Буквы. Шрифты и
почерки, Все логически бессмысленное и нелепое. Все, вызывающее
смех. Юмор. Глупость. Естественные мыслители. Приметы старинные
и заново выдуманные кем бы то ни было. Чудо. Фокусы (без аппаратов).
Человеческие, частные взаимоотношения. Хороший тон. Человеческие
лица. Запахи. Уничтожение брезгливости. Умывание, купание, ванна.
Чистота и грязь. Пища. Приготовление некоторых блюд. Убранство
550
VI. Разговоры
обеденного стола. Устройство дома, квартиры и комнаты. Одежда,
мужская и женская. Вопросы ношения одежды. Курение (трубки и сигары).
Что делают люди наедине с собой. Сон. Записные книжки. Писание на
бумаге чернилами или карандашом. Бумага, чернила, карандаш.
Ежедневная запись событий. Запись погоды. Фазы луны. Вид неба и воды.
Колесо. Палки, трость, жезлы. Муравейник. Маленькие гладкошерстные
собаки. Каббала. Пифагор. Театр (свой). Пение. Церковное
богослужение и пение. Пластроны. Женщины, но только моего любимого типа.
Половая физиология женщин. Молчание.
ЛЛ. (Липавского) интересует: Время. Превращение и уничтожение
пространства. Несуществование и непредметное существование
(например, - запах, теплота, погода). Исследование смерти. Как может быть
частный случай. Мировые линии, слова, иероглифы. Тело, рост,
дыхание, пульс. Сон и видение себя во сне. Сияние, прозрачность, туман.
Волна. Форма дерева. Происхождение, рассечение и изменение
ощущений. Гамма, спектр. Черный цвет. Смысл чувств (например, ужас,
головокружение). Неубедительность математических доказательств.
Строение круга. Вращение, угол, прямая. Шахматная доска как особый
мир Рай. Нравственность и долг. Правила жизни. Счастье и его связь
с некоторыми веществами и консистенциями. Чистота. Что значит
прекрасное. Окраины, пустыри, заборы; убогость; проституция. Описи,
энциклопедии, справочники, иерархии. Предки, евреи. Типы женщин.
Причины полового тяготения. Судьбы жизней. Траектория революции.
Старость, угасание потребностей. Вода, течение. Трубы, галереи;
тюбики. Тропическое чувство. Связь сознания с пространством и
личностью. О чем думает вагоновожатый во время работы. Волосы, песок,
дождь, звук сирены, мембрана, вокзалы, фонтаны. Совпадения в жизни.
Длительность при общении, когда минует уже и интерес, и
раздражение, и скука, и усталость. Одинаковое выражении лица у различных
женщин в некоторые моменты».817
Вот он повод «разговоры говорить» - интересно?1*. Интересно о
чем-нибудь говорить, интересно общаться, интересно спорить,
интересно быть рядом с кем-то, интересно чтото делать вместе. Интерес
спонтанен, неприхотлив и чисто случаен, он постоянно
перемещается, выходит за границы установок отдельной личности и
прилипает к объектам, овладеть которыми та стремится: так они становятся
интересными. Интерес - это категория временная, иногда
разрушительная для личности, если она не в силах удержать свой интерес в
строгой соотнесенности с намеченными планами, и потому каждое
Обморок мира. Поэтика случая в литературе Обэриу
Я оказывается под вопросом, как только интерес ослабляется или
пропадает219. Как распределяются в этих перечислениях предметы
интересов, и насколько они действительно их выражают? Интересы
представлены в нескольких значениях. В одном, - как интерес к
определенному делу, предмету или явлению, в другом, - как желание,
чаще скрытое, получить удовольствие от разговора и обсуждения,
и, наконец, в-третьем, как выражение естественной потребности.
Только первое можно отнести собственно к интересу. Разве «курение
трубки или сигары», «писание на бумаге чернилами», «мясо и тесто,
водка и пиво» могут быть отнесены к предметам интереса? Конечно,
нет. Для поэта-обэриута нет ничего в человеческой жизни, чтобы
не могло быть остраннено, и введено в игру. Поэтому очередной ряд
«предметов» легко подхватывается потоком сознания каждого
участника разговора, интерес к ним дробится и размывается. «Разговоры»
имеют рыхлую структуру, крайне подвижную, и по сути дела, они
лишены каких-либо ограничений по составу и количеству
участников, по длительности и тематике, по характеру задавания вопросов.
В них доминирует практика свободного дрейфа для каждого члена
сообщества.
Отсюда ряд выводов. Для коллективного или группового
субъекта маркером «коллективности» является не интерес, а игра220.
Испытывать интерес к чему-либо можно только индивидуально, но вот играть
можно лишь вместе или с кем-то, т.е. сообща или коллективно. Но
здесь есть особенности игровые. Круг читателей Обэриу крайне узок,
если не сказать большего. Читателя просто нет (в традиционном
смысле). Игровое пространство замкнуто на своего Другого,
который является имманентным тем отношениям, которые
выстраиваются в самой игре. Можно сказать, что есть пространство игры, или
«место», где она происходит, и это не только вполне конкретное
физическое пространство общей комнаты или квартиры, зала,
тюремной камеры, снов и галлюцинаций. Есть и игроки, способные
удивить друг друга - вот что является определяющим в этих
бесконечных издевках, подставах, иронических снижениях, вызовах,
симуляциях. Истинным Другим является тот, кто уже состоялся в
качестве отраженного образа вопрошающего «я». Этот «свой», иногда
неузнаваемый Другой - сцепка для всего сообщества.
«Разговоры» - это множество интересов, записанных без
оглядки на то, что обсуждается, причем, случайным, почти
автоматическим письмом. Кажется, что в разговорах присутствует некое
бессознательное, которым каждый из участников разговора не столько
552
VI. Разговоры
обменивается, сколько предъявляет в качестве свидетельства
своего поэтического дара. Так могло бы выглядеть внутреннее время,
пересекаемое трассами поэтических событий. Разговоры - это
собрание разных сведений и «знаний», усмотрений и сноровок, это
не разговор друг с другом и это даже не стремление понять,
«истолковать» смысл высказанного другим: «Интересно, что они не
слушали друг друга, но остались один другим вполне довольны»221.
Разговоры - скорее место, где каждый из обэриутов говорит о своем, но
так, что старается не лишить такой возможности другого. Каждый
участник разговоров думает и говорит из настоящего времени, из
временной данности, из «сейчас-времени», не цепляется за
прошедшее. Личный интерес не располагается на одной плоскости, он
разнообразен по выбранным объектам, мы не можем ограничить их
число222. Четыре обэриутские коллекции интересного образуют
пересекающиеся множества, между которыми нет границ. В ходе
разговоров обмен интересами идет постоянно, разговор продолжается
и наедине с собой, он как дружественное эхо других речей, которое
опережает все личное. Правда, личность всегда индивидуализирует
собственный интерес. В той мере, в какой интерес направлен на
что-то определенное, индивид ставит своей целью превратить его
в постоянное и сильное влечение, сохранить вовлеченность в
предмет интереса. Здесь парадокс коллективного субъекта: личность,
состоящая из набора интересов, не овладеет объектами, пока не
вовлечена в них индивидуально. Но доступ к ним затруднен: они
разбросаны и погружены во внешнее время, они - части мировой
коллекции, не собранной в целое, они коллективны.
Чем отличаются разговоры, например, от общения,
коммуникации, диалога или от старого жанра беседы наедине с собой?223 Диалог
- не просто разговор, ни к чему не обязывающий и случайный,
вспыхивающий то тут, то там; он имеет определенную цель:
взаимопонимание. Вступить в диалог, - это, следовательно, преодолеть
враждебность и соперничество, найти пути к пониманию позиции Другого.
Обэриутские разговоры, казалось, ни к чему не обязывают их
участников. Вот говорит один, вот другой, вот третий; говорят что-то свое
и о своем, нет развития, хотя бы одной общей идеи. Как же и на чем
построены эти разговоры? Да, на том же совместном переживании
времени настоящего. Но если мы предположили, что в «Разговорах»
действует иной принцип, чем, например, принцип со-общения или
диалога, может быть, речь скорее должна пойти о со-участии в общей
мысли и жизни. Это и есть пространство идеальной дружбы (где
чисто бытовые особенности в поведении могут пересекаться с самым
553
Обморок мира. Поэтика случая в литературе Обэриу
высоким и возвышенным, а то, в свою очередь, подвергаться
ироническому снижению, обыгрыванию, прямой насмешке и
издевательствам, не покидая границу дружеского участия). В речи есть
соперничество и вызов, ответ на атаку противника, тем больше она
зависит от чужой реакции. Говорить, но для того, чтобы услышал
Другой. А он и есть постоянный фактор ведущихся обэриутами
разговоров. Другой как самый ближайший, может быть, он даже ближе,
чем буберовское Ты224. Г.Гадамер подчеркивает герменевтический ста.-
туе разговора, полагая в нем изначально равное участие всех
разговаривающих в нахождении смысла (или его «открытии»). Разговор
для него продуктивен, когда развертывается в ясной среде
понимания языка, на котором общаются, разговор между двумя - это всегда
попытка перевода того, что стоит между ними и без чего
невозможно понимание как таковое: «... язык - это универсальная среда, в
которой осуществляется само понимание»225. По сути дела, Гадамер
избегает разговора о непонимании, полагая, что истинная цель
разговора в том, чтобы понимать друг друга. Обэриуты постоянно
доказывают обратное: не-понимание и есть основа разговора, только
оно вовлекает в процесс разговаривания, где утверждается
непереводимость сказанного в понятое, отстаивается его автономность и
цельность. Непонимание как непреодолимая граница, которую в
разговоре штурмуют обериуты-собеседники, никогда ее не
преодолевая226. Единство в не-понимании - это единство интересов, -
интерес друг к другу.
Театр для себя.
Псевдонимы, шифровки, квартиры Д. Хармса
Порой обэриутов легче «понять» не в драматическом
конфликте со своим временем, а скорее независимо от него, постараться
увидеть в них не столько шутов или городских сумасшедших, сколько
играющих всерьез... Признать за ними право на выбор собственной
маски и манеру жить, житъв-о(т)страненииот реального опыта,
переводя его в поэтический, тем самым стирая следы контактов с
реальностью политического режима. Многие исследователи склоняются
к тому, чтобы придать большее значение именно «игре»: перформан-
су, шутке, «обманкам», провокациям и т.п.. Попытка Хармса
шифровать некоторые дневниковые записи относится к некоему ритуалу
перевоплощения, явной игры-вочто-то. На первый взгляд,
шифровки Хармса определяются устойчивым эротическим фантазмом. Ведь
554
VI. Разговоры
шифруются именно записи, так или иначе касающиеся сексуальных
желаний227. Можно, конечно, рассматривать шифровку собственных
переживаний как возможность укрыть их от себя, даже
освободиться от них. В психоанализе подобная операция называется
вытеснением. Правда, вытесненным следует считать не то, что зашифровано,
а то, что скрывается за ним. Сберегающая психотерапия как раз и
состоит в том, чтобы убрать симптоматику, сделать ее недоступной
для повторных отрицательных эмоций. С другой стороны,
шифровка это и инстинктивная реакция на «чужой взгляд», на
подглядывание и слежку, хотя в эпоху тотального террора такого рода
самозащита была не менее опасна. Многие комментаторы-дешифровщики
были несколько разочарованы «несовпадением» содержания
расшифрованного с теми усилиями, которые были необходимы поэту
для разработки самого шифра. Мистическая египетско-жреческая
сторона творчества Хармса и других обэриутов оказалась
результатом затеянной ими игры. Превыше всего - Игра, а это значит, что
аутопоэзис или поэтическое остается постоянной доминантой
творческого воображения обэриута228.
Псевдонимы Хармса - часть театра Обэриу. Псевдонимы
открывают путь к пониманию достаточно сложного отношения автора,
его «я» к себе самому, - это род авто-биографической рефлексии.
Что значит использовать псевдоним, и чем, например, он отличается
от маски? Псевдоним и маска имеют смысл в игре с Другим. Если
Хармс обращается к себе, значит, он что-то знает о себе такое, что
может его изменять в глазах других или он думает, что это возможно.
Актерствовать перед собою229. Но это одна сторона, другая - более
сложная. Раздвоение, остраннение самого себя находит выражение
в том, как ты себя хочешь назвать. Быть Другим, не собой - одно из
условий появления нового имени, не имени Отца. Таков вызов,
который отцу бросает Андрей Белый, отказ от отцовского имени у
Стендаля (Анри Бейля) и С. Эйзенштейна. Можно указать на что-то
подобное в практике псевдонимии у С. Киркегора, А. Бейля (Стендаля)
и Ф. Ницше. Особенно это относится к Стендалю, который отчасти
по привычке профессионального дипломата, отчасти по другим
причинам шифровал не только важные государственные документы, но
и личные дневники, заметки, высказывания, причем, иногда самым
анекдотическим образом230. Стендаль создает псевдонимы для
хвастовства, ради аристократических манер, для того чтобы
понравиться себе. Но главное, разрешает в пользу «я сам для себя» отношения
между собственным «я» и Другим. Если это высказать более опреде-
555
Обморок мира. Поэтика случая в литературе Обэриу
ленно: имени стоит избегать, нет имени вообще. «Я сам для себя»
- это точка ускользания от Другого, причем, от того, кто уже
налаживает связь с открытой обществу стороной «Я». Другому
предоставляется псевдоним, не имя, оно скрывается. Старобинский прав,
описывая принцип эготизма Стендаля именно с точки зрения его
ускользания от самого себя и Другого831. В отличие от Киркегора и
даже Белого, для Стендаля псевдонимия это, с одной стороны, чисто
литературная игра, но с другой, резкое отмежевание от всего того,
чем он не может обладать. Во всяком случае, наиболее мудрые из
его критиков указывали на это*32.
С давних времен я люблю помечтать: рисовать себе
квартиры и обставлять их. Я рисую другой раз
особняки на 80 комнат, а в другой раз мне нравятся
квартиры в 2 комнаты.
Сидеть-бы в своей комнате, знать, что ты
совершенно обеспечен и вычерчивать квартиры.
Д. Хармс
Квартира и все, что с ней связано, - целый мир:
распадение, разрушение, обнажение - тела, чувств,
мира, помоги Господи
Л. Друскин. Дневники.
(i942 г°д·' блокадный год. На подоконнике
против заколоченной квартиры Д. И. (Хармса))
В «Дневниках» Хармса мы находим чертежи квартир: особенно:
1928,1930,1934 годы. В дизайнерских опытах Хармса важен не сам
чертеж, но заполнение квартирного пространства: мебель разного
назначения, тут и кровати, пуфы, тумбочки, ванные, столы,
кухонные и гостиные принадлежности, кресла, диваны и т.п. Идеальное
приватное пространство, место для встреч и жизни друзей. Подобная
навязчивая повторяемость рисунков «квартир» у Хармса -
свидетельство его представлений о единстве места достаточно закрытого
и удобного для жизни творчества всей группы друзей. В данном
случае особый смысл приобретает бегство во внутреннее пространство,
- квартиры Хармса являются его стойким символом.
556
VI. Разговоры
вверху: 1934 Г°Д- Дворцовая набережная, д. 22. внизу: Октябрь-ноябрь 1928 года
Наша κ&αρπικρα.
,9
ж
SjlU
1 Ktinmrr.
2. С**Жд
*i |Су*нА.
£К*е«*гдЭ*
л 6. к.
ъ. В к а-
557
Обморок мира. Поэтика случая в литературе Обэриу
Октябрь-ноябрь 1928
Сергиевская 20 кв. 19.
Канонерская
Кухня
Ноябрь 1933 - январь 1934 г°Да
Идея крипты, - потаенного места, ухода от реальности в
скрытый круг частных интересов, наложила печать на всю философско-
метафизическую, шире, поэтическую практику обэриутов. Квартиры
- это путешествие и бегство к той недостижимой жизни, которая не
просто желанна (и невозможна). Хармс оперирует при вычерчива-
558
VI. Разговоры
нии с «квартирами» так же, как с шифровкой текстов. Удивляет
тщательность, с какой отрабатывается рисунок квартирного
пространства: число жильцов, размеры и количество комнат, расположение в
городской среде, но главное - организация места для
встреч-разговоров233. Для шифровки нужны определенные операции, как и для
разметки пространства квартир: то и другое должно быть заполнено,
каждый раз по-новому и с другими вещами, со сменой размеров и
количества комнат. Итак, что мы видим? Как и в случае с дешифровкой,
на первом месте - комбинаторика: перемещение, сдвиг,
переворачивание, расширение и т.п.234 Эти наброски чертежей квартир
свидетельствуют о желании Хармса иметь анти-коммунальное и достаточно
комфортное приватное пространство (что-то от
дореволюционного). Как и записи-шифровки, «квартиры» входят в круг дневниковых
комбинаторик с числами, буквами, словарями и алфавитами235.
Страна вестников
«Если человек может стать соавтором чужой вещи,
ему не надо знать истории философии. Введенский,
Липавский, Хармс, Олейников были действительно
соавторами «Вестников», поэтому Хармс и мог
сказать: «Я вестник»»
Я. Друскин
Поэтическая группа Обэриу - три формы связывания
коллективного автора: касаться (обэриуты) - вторгаться (чинари) -
поглощать (вестники). Прохожу мимо, по касательной, касаюсь, не
вовлекаюсь, и тут же ухожу, не возвращаясь (возвращение может
состояться только по большой дуге). Легкое общение - не диалог, но, по
крайней мере, слушание другого, учет его позиции. А вот вторжение:
это когда мое движение навстречу другому является активным, часто
агрессивным, провоцирующим ответную реакцию, но преимущество
остается за мной. Я вторгаюсь на территорию Другого со своей
идеей, я рискую, но если ответный интерес будет проявлен, то
коллективный автор признает мой вклад, и даже оставит за мной право на
высказанную мысль. Наконец, третье, - поглощение: идея, прием
или мысль поглощаются Другим; это более, чем присвоение, это
насыщение и последующая разработка чужой мысли как своей. Мысль
чужая перестает быть чужой и принадлежит теперь коллективному
559
Обморок мира. Поэтика случая в литературе Обэриу
автору, т.е. каждому члену группы. Отсюда близость общей судьбы,
слова, места и времени, привычек, склонностей; их отличие хотя и
заметно, но с этой точки зрения незначительно, и не определяет их
особенность как поэтов. Другими словами, то, чем они отличаются,
вовсе не упраздняет их зависимость друг от друга, в которой они как
раз нуждаются, чтобы быть Другим для себя и для всех. Вот фрагмент
их ранней декларации, : «...у каждого из нас есть свое творческое
лицо, и это обстоятельство кое-кого частью сбивает с толку. Говорят о
случайном соединении различных людей. Видимо, полагают, что
литературная школа - это нечто вроде монастыря, где монахи на одно
лицо. Наше объединение свободное и добровольное, оно соединяет
мастеров, а не подмастерьев, - художников, а не маляров. Каждый
знает самого себя, и каждый знает - чем он связан с остальными»236.
Позднее Друскин вполне справедливо полагал, что творчество
группы должно при всех различиях рассматриваться как единый акт
Авторского творения (именно с большой буквы). Вот это и нужно
обдумывать, а не пытаться обнаружить на расщепе группы
отделенную, одинокую индивидуальность. Хармс - гений, это правда, но и все
другие тоже гении: и Введенский, и Липавский, и Олейников, и...
Друскин не распоряжается духовным наследием погибших друзей
по произволу, как если бы имел возможность присвоить их убеждения,
растворить в собственных размышлениях, мистике и метафизике
постобэриутского времени237. Происходит совсем иное: он пытается,
но один, продолжать с ними общаться, вспоминать, ставить снова те
вопросы, которые, казалось, ушли вместе с ними навсегда... Обэриу-
ты вступают через Друскина в наше время с той силой присутствия,
какой могут обладать только живые персонажи мысли и поэзии238.
Крайне любопытен предложенный им тройственный раздел группы:
сначала чисто внешняя творческая организация поэтов, созданная
для того, чтобы заявить манифест, это и есть обэриутъц затем, чуть
позже по времени, появляются чинари, просто близкие друзья по
творчеству и жизни239. Правда, Друскин не был удовлетворен
собственным объяснением авторского единства группы. В «Дневниках» он
часто говорит о пресыщенности личным бессмертием (по
сравнению с насильственной смертью друзей). Позднее, воодушевленный
новой идеей, он попытается представить единство группы на основе
древнего, четырехчастного деления человеческих темпераментов,
на основе союза природных стихий. Вот что им было предложено:
«Если четыре стихии понимать безоценочно, просто как четыре
качества жизни, вернее, четыре качественности, равноценные и одинаково
560
VI. Разговоры
необходимые для жизни, то Д.И. свойственная преимущественно
стихия земли, Л. - стихия воды, В.- стихия воздуха, мне - огня.
Л. - "Трактат о воде"; в "теории слов* - первая проекция семени слова
на жидкость; его интерес к Фалесу и стихии воды. У Баха мотив воды
тот же, что мотив блаженства. Швейцер не заметил этого. У Л. Вода -
символ безличной стихийной жизни, погружение в которую и страшно,
и блаженно.
Д.И. - недочеловеки, "Старуха". А чудо? В этом разрезе, в каковом он
реализуется у X., оно тоже связано с землей: чудо в "Случаях". Стихия
земли ни в каком отношении не ниже других стихий: "земля-мать".
Ш. Воздух всюду и все покрывает: землю, и воду, и огонь. Почти
классическая завершенность и совершенство его вещей, ясность и
прозрачность, например, "Сутки", "Потец". Шурина легкость - тоже воздух».
И далее:
«Земле противополагается небо или воздух, как символ неба. Общее же
- земля и воздух всеобъемлющи: и море и океан не бездонны, дно - земля,
значит и вода на земле; воздух все покрывает: и землю, и воду, и огонь.
Земля и воздух противополагаются, как вещественность и
невещественность, как тяжесть и легкость. Воде противополагается огонь:
"несовместимы, как огонь и вода"».840
Вот как это выглядит
(Липавский) вода
Бытности !
меньше
Сообщество как движение природных стихий; оно различается:
движение воды по горизонтали, огня - по вертикали: от земли к
небу, в воздух, воспаряющие души и божества. С подобными
поэтическими опытами экспериментировали теории К. Юнга и Г. Башляра.
Так, для Башляра особенность поэтического опыта в полной мере
воздух
Безбытность
Ш
(Введенский)
огонь (Друскин)
Безбытности
меньше
Обморок мира. Поэтика случая в литературе Обэриу
зависит от природных стихий, их могущества, силы или слабости.
Единый автор располагается в центре поэтического Воображения,
а оно в своих глубинных субстанциональных формах соприкасается
с живой материей четырех основных стихий. Мысль Башляра (а она,
как нельзя лучше, дает нам возможность понимать поэзию, даже
«бессмысленную») заключается в том, что воображение - это выход
чувственного переживания за собственные границы. Для того, чтобы
образ состоялся, стал видим, он должен пропитаться материей
избранной мировой стихии, теми именно качествами ее, которые
могут быть выражены в языке с достаточной полнотой. Каждый поэт
имеет за своей спиной родовую стихию поэтического воображения,
она глубоко индивидуальна и неповторима как узор, как некое
колыхание, трепет качеств, водных или огненных, земных или воздушных.
«...образ - это растение, которому необходимы
земля и небо, субстанция и форма»
Г. Багиляр
В 30-х годах Друскин активно обсуждает с Хармсом и
Олейниковым рождение нового поэтического существа,
символизирующего духовную индивидуальность членов группы: имя ему - вестник.
Вот что может придать сакральную идентичность всей группе,
указать на «родство душ» и образов, ведь вестник не только приносит
вести, он и «ангел», - особое существо, живущее на границах миров,
заглядывающее в наш, но постоянно пребывающее в соседнем, ином
мире. Вестник - душа, которая уже там, в ином, но и здесь, при нас.
Вестничество - фрагмент ангелологии поэтического опыта. Если
ранние обэриуты - прежде всего политика или формальное
объединение поэтов ради чисто внешней цели, то чинари - явление
творческой дружбы, «близкий круг» друзей241. Вестники же - это чисто
идеальное, само нечеловеческое или сверхчеловеческое в человеке, не
функция, а душа, «ангельский чин»242. Перечитаем со всем
вниманием текст Друскина «Вестники и их разговоры» (1933):
«О чем разговаривают вестники? Бывают ли в их жизни события? Как
они проводят день?
Жизнь вестников проходит в неподвижности. У них есть начала
событий или начало одного события, но у них ничего не происходит,
происхождение принадлежит времени.
562
VI. Разговоры
Время - между двумя мгновениями. Это пустота и отсутствие,
затерявшийся конец первого мгновения и ожидание второго. Второе
мгновение неизвестно.
Мгновение - начало события, но конца его не знаю. Никто не знает
конца событий, но вестников это не пугает. У них нет конца событий,
потому что нет промежутков между мгновениями.
Однообразна ли их жизнь? Однообразие, пустота, скука проистекает
от времени. Это бывает между двумя мгновениями, между двумя
мгновениями нечего делать.
Вестники не умеют соединять одно с другим. Но они наблюдают
первоначальное соединение существующего с несуществующим.
Вестники знают порядки других миров и различные способы
существования.
Переходя в определенном месте на перекрестке железнодорожный путь,
я ставлю ногу между железными полосами, стараясь не задеть их.
Вестники делают это лучше меня. Кроме того они знают все приметы и
поэтому живут спокойно.
Вестники не имеют памяти. Хотя они знают все приметы, но каждый
день открывают их заново. Каждую примету они открывают при случае.
Также они не знают ничего, что не касается их.
Вестники разговаривают о формах и состояниях поверхностей, их
интересует гладкое, шероховатое и скользкое, они сравнивают кривизну
и степень уклонения, они знают числа.
Дерево прикреплено к своему месту. В определенном месте корни
выходят наружу в виде гладкого ствола. Но расположение деревьев в саду
или в лесу не имеет порядка. Также определенное место, где корни
выходят наружу, случайно.
Деревья имеют преимущество перед людьми. Конец событий в жизни
деревьев не утерян. Мгновения у них не соединены. Они не знают
скуки и однообразия.
Вестники живут как деревья. У них нет законов и нет порядка. Они
поняли случайность. Еще преимущество деревьев и вестников в том, что у
них ничего не повторяется и нет периодов.
Есть ли преимущество в возможности свободного передвижения? Нет,
это признак недостатка. Я думаю, что конец мгновения утерян для тех,
кто имеет возможность свободного передвижения. От свободного
передвижения периоды и повторения, также однообразие и скука.
Неподвижность при случайном расположении - вот что не имеет повторения.
Если это так, то вестники прикреплены к месту.
Как долго живут вестники? они не знают времени и у них ничего не
происходит, их жизнь нельзя считать нашими годами и днями, нашим
временем, но может и они имеют свой срок?
563
Обморок мира. Поэтика случая в литературе Обэриу
Может они имеют свое мгновение и конец его утерян, как и нашего?
Может они говорят о пустоте и отсутствии? Их пустота страшнее нашей.
Вестникам известно обратное направление. Они знают то, что
находится за вещами.
Вестники наблюдают. Как почки раскрываются на деревьях. Они знают
расположение деревьев в лесу. Они сосчитали число поворотов.
Вестники знают язык камней. Они достигли равновесия с небольшой
погрешностью. Они говорят об этом и о том»243.
А вот его более поздний вариант, из «Дневников» (1943):
«О. (Олейников) представлял себе вестников в виде бутылей с цветной
жидкостью, выставленных в витринах аптек. Действительно, вестники
неподвижны и прикреплены к месту, но свободно проникают в тела,
пространство, плоскость природы, и их можно представить в виде
сосуда, наполненного разумом и чувством и еще, несомненно, ощущением.
Ощущение - это некоторое понимание. В иерархии нематериальных
существ они выше меня. Ниже меня - демоны и бесы. Это полулюди,
хотя и лишенные тела. Их нельзя сравнивать с животными. Животные
в плоскости природы, имеют свой ум и в своем роде умнее бесов, бесы
же - полуразумные существа, и слабость ума у них не заменяется
никаким естественным умом. По схоластической терминологии, в них не
хватает сущности или существа - ens. И животные, и люди, и, может
быть, даже растения - существа; вестники - сверх существа, в бесах же
- недостаток существа - это бестелесные полулюди.
Еще о телесности. Я имею в виду естественную телесность, но другая
телесность заключается, может быть, в некоторой сосредоточенности,
сгущении ума, внимании, напряжении чувств, интенсивности ощущения.
Тогда и вестники, и бесы имеют тела. Но для нас - переменные тела: они
исчезают, внезапно появляются, изменяются. Именно потому, что
вестники нематериальны, они прикреплены к месту: и растение, и дерево
движется, и камень со временем меняет свое место, вестник же, оказавшись в
каком-либо месте, при пересечении своей плоскости с плоскостью
природы, там и останется. Он находился как бы в одном месте, находясь везде.
Плоскости природы, жизни и смерти. Состояния жизни и ощущений
- все это я, ускользающий от меня».*44
Из тех элементов, которые нам представляют рассуждения Друс-
кина, можно составить общий портрет этих необыкновенных
существ, - вестников: существ, которые не существуют... Иначе говоря,
их несуществование и есть существование, но не для нас. Первое, они
564
VI. Разговоры
прикреплены к одному месту, но самого этого места нет, оно не
существует как место для видимого, ощущаемого существования,
поэтому это место - везде. Отрицательная частица «не» перекрывает
существование несуществованием. Вестники существуют сами по себе, ибо
их существование не зависит от нашего. Вот почему они так загадочны
и всюду отсутствуют; они похожи на деревья потому, что ничто не в
силах прерывать их рост и развитие. Для них нет случайного, в них
случайное обрело качество постоянного изменения; они имеют прямое
отношение к природным событиям и материям, например, к воде.
Напомним, что вода - главная стихия Липавского. Избранная стихия
наделяет вестника своими поэтическими качествами, а стихий, как
известно, четыре. И что мы видим? Мы видим огненных вестников
Друскина, вестников приземленных, верных Земле и бытованию
Хармса, и наконец, вестников Введенского, парящих, воздушных.
Мало вероятно, чтобы с этим согласился Хармс. Вот, что он
записывает именно в момент прихода к нему вестников:
«В часах что-то стукнуло, и ко мне пришли вестники. Я не сразу понял,
что ко мне пришли вестники. Сначала я подумал, что попортились часы.
Но тут я увидел, что часы продолжают идти и, по всей вероятности,
правильно показывают время. Тогда я решил, что в комнате сквозняк.
И вдруг я удивился: что же это за явление, которому неправильный ход
часов и сквозняк в комнате одинаково могут служить причиной?
Раздумывая об этом, я сидел на стуле около дивана и смотрел на часы.
Минутная стрелка стояла на девяти, а часовая около четырех, следовательно,
было без четверти четыре. Под часами висел отрывной календарь, и
листки календаря колыхались, как будто в комнате дул сильный ветер.
Сердце мое стучало, и я боялся потерять сознание.
— Надо выпить воды,— сказал я. Рядом со мной на столике стоял кувшин
с водой. Я протянул руку и взял этот кувшин.
— Вода может помочь,— сказал я и стал смотреть на воду.
Тут я понял, что ко мне пришли вестники, но я не могу отличить их от
воды. Я боялся пить эту воду, потому что по ошибке мог выпить
вестника. Что это значит? Это ничего не значит. Выпить можно только
жидкость. А вестники разве жидкость? Значит, я могу выпить воду, тут
нечего бояться. Но я не могу найти воды. Я ходил но комнате и искал ее.
Я попробовал сунуть в рот ремешок, но это была не вода. Я сунул в рот
календарь — это тоже не вода. Я плюнул на воду и стал искать вестников.
Но как их найти? На что они похожи? Я помнил, что не мог отличить
их от воды, значит, они похожи на воду. Но на что похожа вода? Я стоял
и думал. Не знаю, сколько времени стоял я и думал, но вдруг я вздрогнул.
565
Обморок мира. Поэтика случая в литературе Обэриу
— Вот вода! — сказал я себе.
Но это была не вода, это просто зачесалось у меня ухо.
Я стал шарить под шкапом и под кроватью, думая хотя бы там найти
воду или вестника. Но под шкапом я нашел среди пыли только мячик,
прогрызенный собакой, а под кроватью какие-то стеклянные осколки.
Под стулом я нашел недоеденную котлету. Я съел ее, и мне стало легче.
Ветер уже почти не дул, а часы спокойно тикали, показывая правильное
время: без четверти четыре.
— Ну, значит, вестники уже ушли,— сказал я себе и начал переодеваться,
чтобы идти в гости»."45
Когда приходят вестники, наступает время чуда. Хармс смотрит
на часы: без четверти четыре. Причем, по уверениям героя, часы
продолжают идти, и идут «правильно», и, тем не менее в их ход
встраивается чудо: присутствие вестников. Время останавливается для
того, кто переживает их присутствие, и не останавливается для
самого времени, которое продолжает идти как обычно. Правда, после
ухода вестников герой замечает, что время хотя и шло, но оказалось,
что оно вовсе не шло, на циферблате все то же время: без четверти
четыре. Можно лишь предположить, что «переживание» героя и,
следовательно, присутствие вестника длилось во времени чуда,
которое не поддается измерению и ходу часов. Вестник-поэт - это
истинный субъект времени, которое останавливается...
Удивительное на первый взгляд сравнение вестника с растением.
Почему или для чего Друскин использует это рискованное
сравнение846. Для того, как мне кажется, чтобы развить идею чуда (Случая)
для единой поэтической онтологии обэриутов. Как и растение,
вестник всегда пребывает на одном месте, он неподвижен, он
располагается между двумя самыми ближайшими мгновениями. Иначе
говоря, вестники жизнеспособны только во времени чуда. Время чуда
- их обиталище. Для них не существует отдельных мгновений, их
время не поддается числу, любому измерению или рассечению.
Вестники, как и растения, не имеют никакой нервной системы,
они не перемещаются в пространстве, им не нужны ни цель, ни план,
они - в том времени, которое нам кажется совершенно случайным
и даже невозможным (например, таким как время ангела или святого).
«Вестники живут как деревья. У них нет законов и нет порядка. Они
поняли случайность. Еще преимущество деревьев и вестников в том,
что у них ничего не повторяется и нет периодов». Действительно
вестникам как растениям не нужно соединять мгновения между собой,
выдумывая для себя то, что было (прошлое) и то, что будет (буду-
566
VI. Разговоры
щее), поскольку у них нет разрывов в существовании, а один великий
Порыв, которому они следуют, что-то от бергсонианского elan vitale.
Вестник не имеет тела, оно появляется только по случаю, когда это
нужно, и тут же исчезает; они обладают «переменными телами»,
которые возникают «одним сгущением ума». Поэтому раз нет тела, раз
нет чувств (нервных волокон), как нет движения, то вестники нечто
лишенное сущностного, сущности, ens, они сверхсущества. Вестники
для поэта - свидетельства и указатели путей спасения от времени,
которое останавливается. Действительно, мир вестников, в который
вступает истинный поэт, лежит за границами текущего и
ощущаемого времени, он даже и не параллельный нашему, он другой: в нем
один язык, одни и те же чувства для многих вещей и переживаний.
Вестники, как и поэты, творят не оборачиваясь на себя. У них нет
центрирующей инстанции Эго, от них не требуется установление
обратной связи. Более того они не знают того пространства,
которое знаем мы, поскольку, оставаясь на месте, они находятся всегда
во времени чуда, которое делает каждое место равным другому, и,
следовательно, будучи в одном месте, они находятся всюду.
Во времена Сократа такие существа считались «гениями рода
человеческого», поводырями в иные миры, следопытами, и,
конечно, вестниками; в другие - их страшились как демонов. Поэт
усилием воображения присоединяет к себе свою вторую, вестническую
природу и творит образы. Где прячутся вестники? Да там, где их
никогда не найти: между мгновениями, там, где время равно себе, и не
прерывается ничем, никакой случайностью, ибо его там и нет.
Всякое же передвижение вестника могло бы создать помехи в
человеческом времени, поэтому они движутся вместе со своим миром, и
изменяет их только область (плоскость или длительность), которой
они принадлежат. Попробуем отразить это графически:
Область
не-существования
вестников
^-__-_------------^ не-время
сейчас
JD;
мгновение ι
время человеческое
О _ _ -. _^> и мировое
мгновение 2
Место
«небольшой погрешности»
567
Обморок мира. Поэтика случая в литературе Обэриу
Вестников можно понимать как своего рода наблюдателей за
бессмыслицей, они - души поэтов; их несущестование - в том, что они
мыслят и что воссоздают; они, действительно, вестники, поскольку
приносят весть о богатстве других, не-существующих миров. Нет
вестников самих по себе, мы все вестники каких-либо
несуществований, вестники того мира, который всегда в неприкосновенности.
И сколько бы ни пытались воздействовать на него, ожидая чуда, он
остается для нас нераскрытым. Конечно, вестничество - это
прекрасная игра, без которой трудно представить нам сегодня обэриутов-
чинарей, - играющих..."47
568
VI. Разговоры
***
В один из дней Даня был особенно нервный.
Это была суббота. Часов в десять или одиннадцать утра раздался звонок
в квартиру. Мы вздрогнули, потому что мы знали, что это ГПУ, и заранее
предчувствовали, что сейчас произойдет что-то ужасное.
И Даня сказал мне:
— Я знаю, что это за мной...
Я говорю:
— Господи! Почему ты так решил?
Он сказал:
— Я знаю.
Мы были в этой нашей комнатушке, как в тюрьме, ничего не могли
сделать.
Я пошла открывать дверь.
На лестнице стояли три маленьких странных типа.
Они искали его.
Я сказала, кажется:
— Он пошел за хлебом.
Они сказали:
— Хорошо. Мы его подождем.
Я вернулась в комнату, говорю:
— Я не знаю, что делать...
Мы выглянули в окно. Внизу стоял автомобиль. И у нас не было
сомнений, что это за ним.
Пришлось открыть дверь. Они сейчас же грубо, страшно грубо
ворвались и схватили его. И стали уводить.
Я говорю:
— Берите меня, меня! Меня тоже берите.
Они сказали:
— Ну пусть, пусть она идет.
Он дрожал. Это было совершенно ужасно.
Под конвоем мы спустились по лестнице.
Они пихнули его в машину. Потом затолкнули меня.
Мы оба тряслись. Это был кошмар.
Мы доехали до Большого Дома. Они оставили автомобиль не у самого
подъезда, а поодаль от него, чтобы люди не видели, что его ведут. И
надо было пройти еще сколько-то шагов. Они крепко-крепко держали
Даню, но в то же время делали вид, что он идет сам.
Мы вошли в какуюто приемную. Тут двое его рванули, и я осталась одна.
Мы только успели посмотреть друг на друга.
Больше я его никогда не видела».248
569
Примечания
1 Л. Липавский. Исследование ужаса. Москва, Ad Marginem, 2005.
С. 21
2 Там же. С. 22.
3 ШПерро. Синяя борода. Санкт-Петербург, «Азбукаълассика», 2ооу.
С. 19-20. Следует упомянуть и другие сказки, например, переложение сказки
Ш. ПерроуА. С. Пушкина о «Мертвой царевне и семи богатырях», а также
«Белоснежка и семь гномов» братьев Гримм, - везде сохраняется одна и та
же условная канва, отмеченная главными темами: яблоко, отравление,
капелька крови, летаргический сон и ряд других, дополняющих названные.
4 Л. Липавский. Op. cit. С. 23-25.
5 Там же. С. 44·
6 Там же. С. 68-69.
7 А. Введенский. Произведения {1926-1937)· Том ι. Москва, «Гилея»,
1993- С· ΐ5Ι~Ι52·
8 Д. Хармс. Полет в небеса. Стихи, Проза. Драмы. Письма.
«Советский писатель», Ленинградское отделение, Ι991· С· ι6ι.
9 А. Введенский. Произведения (193^" 1941)· Том 2. С. 77-78.
10 Ф.Ф. Зелинский. Древне-греческая религия. Петроград, «Огни», 1918
(репринт: Киев, «Синто», 1993· С. 16-17·)
11 Л. Липавский. Исследование ужаса. С. 20-21
18 Там же. С. 71
13 А. Введенский. Произведения (1926-1937)· Том ι. Москва, «Гилея»,
1993· С. 151-132
14 Там же. С. 455·
15 Я. Друскин. Перед принадлежностями чего-либо. Дневники. ΐ9^3~
1979· Санкт-Петербург, «Академический проект», 2θθΐ. С. 320-321.
,6 В. Даль. Толковый словарь живого великорусского языка. Том
IV, Ioc. издательство иностранных и национальных словарей,
Москва, 1955. С. 226.
17 Ср., например: «...ташизм - тожество случайного и
закономерного. Это во всяком творчестве и раньше называлось вдохновением.
Но сейчас это осознано. Додекафония дает метод для тожества
случайного и закономерного: основной образ предоставляет миллионы
возможностей или случайностей, это не исключает вдохновения,
так как невозможно перебрать все эти случайности, но дает путь, по
которому идет вдохновение, а раньше ему предоставлялся почти
полный произвол. Впрочем, и это неверно, раньше вдохновение было
более сковано: гармония, классический контрапункт, - сейчас же оно
освободилось и одновременно получило некоторое руководящее
направление. /.../ В творчестве высокого стиля я отказываюсь от
себя и отдаюсь предмету. При этом есть случайность субъективная
- я неожиданно нахожу новое в предмете, но для предмета это
закономерное; но есть и абсолютная случайность в предмете, может,
это то непонятное в стихотворении, без которого оно плохо (Гете).
Но полный ташизм или вообще уничтожает закономерность в самом
предмете, или очень сильно сокращает ее, например, Штокхаузен.
При абсолютной случайности предмет существует только одно
мгновение». ((Я. Друскин. Дневники. С. 459-460).
«Ташизм» - это техника оперирования «случайностью». Друскин был
знаком с сочинениями Штокхаузена, Булеза и других авангардных
композиторов.
18 В традиционной американской биографике используется
понятие case-history. Психоанализ можно рассматривать как
биографию случая, в том числе и с инструментальной стороны. Оппозиция
случая и события разрешается в ходе психоаналитического сеанса:
становясь событием рассказываемой пациентом истории, случай
теряет клиническую остроту и навязчивость, нейтрализуется.
19 Ф. Жюлъен. Трактат об эффективности.
Москва-Санкт-Петербург, Московский философский фонд, «Университетская книга»,
1999. С. 97-98.
Там же. С. 97.
21 К. Ваганов. Полное собрание сочинений в прозе.
Санкт-Петербург, Гуманитарное агентство «Академический проект», 1999. С. 79.
22 Д. Хармс. Записные книжки. Дневник. Книга 1.
Санкт-Петербург, «Академический проект», 2002. С. 164.
23 Д. Хармс. Полет в небеса. Стихи. Проза. Драмы. Письма.
«Советский писатель» Ленинградское отделение, 1991. С. 353, 354, 356.
** Там же. С. 378.
25 Там же. С. 383.
26 Там же. С. 366.
Обморок мира. Поэтика случая в литературе Обэриу
"7 Там же. С. 367.
28 Р.-М. Рильке. Ворсповеде. Огюст Роден. Письма. Стихи.
Москва, «Искусство», 1971. С. 338.
** Д. Хармс. Полет в небеса. М., 1991. С. 293.
з° Там же. С. 295
31 Там же. С. 296.
32 Д. Хармс. Записные книжки. Дневник. Книга 1. Гуманитарное
Агентство. «Академический проект», Санкт-Петербург. 2002. С. 164.
33 Попытка разработать формальный (знаковый) язык для гэгов
была предпринята Сильвен дю Паскье: Гэги Бастера Китона. -
Строение фильма. Некоторые проблемы анализа произведений экрана.
Сб. статей. Москва, «Радуга» 1985. С. 190).
34 Здесь прямые параллели с проблематикой энтропии. Всякий
организм стремится удержать себя от перехода к состоянию
«равновесия». Термодинамическое состояние равновесия является
состоянием максимальной энтропии: «Каждый процесс, явление, событие
(назовите его, как хотите), короче говоря, все, что происходит в
Природе, означает увеличение энтропии в той части Вселенной,
где это имеет место. Так и живой организм непрерывно увеличивает
свою энтропию, или, иначе, производит положительную энтропию
и таким образом приближается к опасному состоянию максимальной
энтропии, представляющему собой смерть. Он может избежать
этого состояния, то есть оставаться живым, только постоянно извлекая
из окружающей его среды отрицательную энтропию, которая
представляет собой нечто весьма положительное, как мы сейчас увидим.
Отрицательная энтропия - это то, чем организм питается. Или,
чтобы выразить это менее парадоксально, существенно в метаболизме
то, что организму удается освобождаться от всей тон энтропии,
которую он вынужден производить, пока жив». (Э. Шредингер. Что
такое жизнь? С точки зрения физика. Москва, «Атомиздат», 1972.
С. 73-74).
35 Ср.: «В 1933 г. я нашел термин: некоторое равновесие с
небольшой погрешностью. Я искал его, кажется, 6 лет. Я чувствовал и
тогда его религиозный смысл, полностью ясен он стал позже». И далее:
«Вся моя жизнь - небольшая погрешность в некотором равновесии...
В этом понимании всей моей жизни, заключенной в моем сейчас, как
погрешности у Божественную серию моей атональной жизни -
Провидение. (Я. Друасин. Дневники. 1928-1962. С. 532).
36 Я. Друасин. Дневники. 1928-1963. С. 69
3? Там же. С. 71.
38 Там же. С. 212.
572
Примечания
39 Например, Серр полагает, что именно потому мир древних
греков выглядит таким успокоенным и гармоничным, что они
заключили пакт с вещами. Вещи, как и люди, подчинились богам. См.
исследования темы клинамена: И. Пригожин, И. Стенгерс. Порядок из
хаоса. Новый диалог человека с природой. Москва, «Прогресс», 1986.
С. 375-377; M. Serres. La naissanse de la physique dans le texte de Lucrèce.
Paris, Minuit, 1977;/. Deleuze. Lucrèce et le simulacra-/ Deleuze. Logique
du sens. Paris, les editions de minuit, 1989. P. 307-324.
40 Лукреций Kapp. О природе вещей. Москва, «Художественная
литература», 1983. С. 65.
41 Там же. С. 33.
48 Там же. С. 294-295. (Из письма Эпикура к Геродоту).
4S В своих размышления об атомах Эпикура и клинаменеЖ. Дер-
рида обратил внимание на этимологию французских терминов
«chance» и «cas», которые означают помимо основного словарного еще и
падать (ниспадать), причем это же значение резонирует в целой
серии других лексических групп («cadence», «choir», «echeoir»,
«échéance», «accident», «incident»), что восходят к латинскому cadere. В
немецком языке Zufall или Zufälligkeit, как пишет Деррида, означают
случай, - «...выпадать случайно zufallen (echeoir), zufällig, как
акцидентный, неожиданный, контингентный, окказиональный - и слово
occasion проявляется в том же самом латинском ниспадении. Fall - это
случай; Einfall идея, которая приходит внезапно как дух, причем,
способом явно непредсказуемым. Однако непредсказуемое и есть
точно случай: то, что падает, его видеть я заранее не могу» (J. Derrida.
Mes chances. Au rendez-vous de quelques stereophonies épicuriennes.
- Cahiers Confrontation 19, printemps 1988, P. 22). Слово случаи
дается в тройном движении: случай как падение, падать сверху вниз, но и
выпадать («вам выпала счастливая доля (число, карта)», «повезло»,
«счастливчик!» и т.п. Случай - то, что падает, потому и выпадает.
Вот почему его невозможно предвидеть, он всегда в своем «наверху»,
падает сверху вниз, его власть над нами исходит от богов (и от многих
других непостижимых инстанций). И падает случай на смертных,
как судьба или рок. (См. также: E.H. Топоров. Судьба и случай. - Понятие
судьбы в контексте разных культур. Москва, «Наука», 1994. С. 56-60).
44 Рисунки Хармса. Москва, Издательство Ивана Лимбаха, 2006.
С. 34-37.
45 Когда-то в русской сказочной традиции сейчас писалось
раздельно: «в сей час», т.е. в это отведенное короткое время, промежуток.
46 Я. Друскин. Дневники. 1928-1962. Санкт-Петербург,
«Академический проект», 1999. С. 87.
573
Обморок мира. Поэтика случая в литературе Обэриу
47 Там же. С. 536.
48 Я. Друскин. Лестница Иакова. С. 157.
<» Я. Друскин. Дневники. 1928-1963. С. 484
5° Я. Друскин. Дневники. С. 481
51 См.: «Введенский ввел термин: окончательность. Он понимал
эту окончательность, то есть эсхатологичность, не только как
будущую, которая наступит когда-то, а как присутствующую уже сейчас,
в любом событии, любое событие окончательно. И это то же, что
сказал Христос: «не прейдет род сей, как все сие будет». Ощущение и
чувство окончательности, определяющие всю нашу жизнь как личный
акт жизни, тожественный состоянию, как реальная причастность
не к абстрактной вневременное™, а к конкретной вечности, как
ощущение «полноты и свершения времен» тоже чуждо античной
онтологии и реализму понятий, старому и новому. А поэтому и реализм
понятий - не жизненная, не экзистенциальная теория.
Эсхатологичность, как окончательность, окончательность любого
события в жизни, уже не общее абстрактное понятие, а
экзистенциальное, связанное с единственностью, личностью, с сейчас-здесь^ уже
трансцендентально экзистенциальное в ощущении полноты и свершения
времен. Это уже не только абстрактно-теологическое понимание
эсхатологичности, но экзистенциально-личное и не только
теологическое и религиозное, но и гносеологическое, тогда необходимо
для понимания и логических понятий единства и тожества,
аналитического и синтетического». ( Я. Друскин. Лестница Иакова. С. 617.).
52 Я. Друскин. Перед принадлежностями чего-либо. Дневники.
1963-1979. «Академический проект», Санкт-Петербург, 2001. С. 442.
53 Ср.: «Метафорический образ его <confutatio> - покой и
блаженство, душевный Рай. Ощущение покоя предшествует завершению
пьесы (peroratio), а путь к такому полному выдоху пролегает через
последовательное наращивание напряжения. Обнаружение confiäatio
в произведениях Баха - открытие Я. Друскина». (Из предисловия
М. Друскина к болгарскому изданию книги Я. Друскина. -Я. Друскин.
Дневники. «Академический проект», Санкт-Петербург, 1999. С. 503).
54 Ср. определение: «.. .трансцендентальная случайность -
небольшая погрешность в бесконечном несуществовании - и есть начало
жизни» (Там же. С. 537).
» Там же. С. 530.
56 Я. Друскин. Лестница Иакова. Эссе, трактаты, письма. Санкт-
Петербург, «Академический проект», 2004, С. 712-713.
Между тем Хармс также размышляет о воде: «Вода меня [всегда
интересовала] интересует, вода характеристика земли. Вода необходи-
574
Примечания
мое условие человеку, и боги воду изобрели. Вода лежит всегда
внизу и от воды мы измеряем горные возвышенности. Водой мы
пользуемся как единицей в определениях тепла и плотности. Вода несёт
свои [пределы] законы и уплотняется до водяного лишь предела, а
дальше в твёрдом состоянии вода опять стремится выиграть место,
и лёд как порох разрывает бомбу. [Вода всегда горизонтальна и
отражает небеса; а если с боку на воду глядеть]
На глубине вода всегда спокойна и непонятна человеку и рыбы
плавают спокойно и тихо водоросли шевелятся и любознательному
человеку глядеть туда советую остерегаться. Вода всегда отражает
только то, что выше воды. Небо, солнце, луну и звезды и стрекозу и птицу
летящую выше воды. А если с боку на воду смотреть, то видно
дерево, растущее на берегу, и человека по мосту идущего и девушку
сидящую в продолговатой лодке вода бушует или ветер и в типографию
скалы она влетает будто ветер и валит на землю столы и всё поспешно
сокрушает и гулом воздух оглашает. И если в город вода ворвётся и
ринется в подвалы. Едва ли кто-нибудь найдётся, кто сосчитает в это
время ветра балы. Быть может седенький профессор, в бородке
крутит карандаш и сквозь очки глядит на воду и сам собой приходит в
раж и формулами борется с водой и протирает стёкла бородой. И
силу ветра измеряет и высоту воды прилива и двери наспех
растворяет и гибнет в волнах торопливо. И по воде бежит его помощник,
и кричит громко: где вы? где вы? И вот из волн, одев кокошник,
выходят друг за дружкой девы». (Д. Хармс. Записные книжки. Книга 1.
С. 407).
57 Друскин - философ-мистик: его цель - не истина, а тайна.
Философствование он превратил в повседневное упражнение по
овладению искусством прикосновения к чему-то непостижимому,
тайному. Именно поэтому (моя гипотеза) игра в шифрование, которой
увлечен был почти каждый из обэриутов (Хармс, Введенский, Ли-
павский) определяется для него целями личного спасения.
Полностью погруженный в свои душевные проблемы, он многого не
замечает. Зато, чем это погружение в себя глубже, тем интенсивнее и
интимнее переживается мыслимое. Поразительно, все в «Дневниках»
Друскина подчиненно это нескончаемому повторению уже
сказанного, но нигде нет Другого. В них нет того, к кому могли быть
обращены эти записи. Вероятно, философская позиция Друскина
сформировалась на основе негативного мимесиса, единственный способ
защиты от окружавшего, крайне враждебного и опасного мира. Скрыться
от него в тайну, зашифровать свои чувства, чтобы Другой не проник
в них. Я думаю, что такое философствование - реактив глубинных
Обморок мира. Поэтика случая в литературе Обэриу
и постоянных переживаний страха. Террор, гибель друзей, голод во
время блокады - всего этого вполне достаточно, чтобы воспринять
мир определенным образом. Есть такое понятие у Друскина как
уныние, ignavia; он посвящает ему много страниц в дневниках, -
состояние одиночества и острой депрессии (ничего невозможно делать).
Особенно сильное переживание тоски-скуки, может быть, стало
одной из причин остановки мира-времени: «Разлив. Я смотрю на
деревья и вижу замедленное движение: ведь это все пройдет и проходит
сейчас. Я смотрю на деревья, небо, птиц, природу: это не есть, но
проходит. Я вспоминаю город; там интервалы, как будто
неподвижные: дом стоит, затем его нет, его разрушили; здесь есть границы,
поэтому то, что в границах, кажется неизменным. В природе нет
границ, во всяком случае, редки - извержение вулкана, потоп,
поэтому яснее изменение. Но затем я вспоминаю город, там суета и
движение, а здесь неподвижность и неизменность: во-первых, как было, так
и есть, и если движение, то постоянное возвращение к тому, что
было и есть, и, во-вторых, сейчас, некоторое большое мгновение там -
движение, а здесь - неподвижность. Так что три взгляда: 1. Там -
границы, здесь - непрерывность, поэтому здесь страшнее: во-первых,
потому что неограниченно, во-вторых, сильнее чувствуется
движение. 2. Там - большое мгновение - суета и движение здесь - вечный
круговорот. 3. Там - большое мгновение - суета и движение, здесь
покой и неподвижность. И еще четвертый взгляд: нет ни здесь, ни
там, но одно сейчас». (Я. Друскин. Дневники. С. 355-356.)
58 Вот весьма показательное рассуждение Друскина: «В жизни
остается некоторый остаток, не сводимый ни на какое логическое
рассуждение. Этот остаток можно понимать поверхностно: случай.
Но до каких пор случай? Здесь кончается всякое рассуждение, и
логическое и нелогическое. Здесь нельзя удовлетвориться наивными
предположениями: когда-нибудь человеческий ум поймет и это, когда-
нибудь наука докажет. За этими предположениями явно скрывается
только желание возвеличить свой ум, утвердить свой разум, по
природе своей антирелигиозный, безбожный. Есть последний остаток, ни
на что рациональное не сводимый, остаток этот - Бог». (Я. Друскин.
Лестница Иакова. С. 415).
» Там же. С. 242.
60 Неологизм Дж. Джойса: хаос + космос = хаосмос
61 К. Леви-Строс. Мифологики: человек голый. Москва, FreeFly,
2007. С. 638-641.
62 Ср.: «По-видимому приемы разделения на части и повторения
противостоят друг другу: действительно, речь идет то о введении
576
Примечания
различий, какими бы незначительными они ни были, в рамках тех
действий, которые могли показаться тождественными; то, наоборот,
о неимоверном числе воспроизведений одного высказывания.
Однако на самом деле первый прием приводит ко второму,
являющемуся в некотором роде его пределом. Различия, ставшие
неизмеримо малыми, стремятся к смещению в некоем подобии
тождественности; и здесь мы вновь сталкиваемся с кинофильмом Навахо: он
разрушает движение на столь малые единицы, что следующие друг
за другом избитые выражения становятся неразличимыми и
кажутся повторяющимися, так что человек, оперирующий с текстом,
должен использовать некие метки, чтобы расчленить этот текст. По
крайней мере, если он не Навахо, благодаря ритуальной практике
давно уже привыкший проводить линию раздела между ценностями,
граничащими как с тождественностью, так и с различиями». (К. Леви-
Строс. Мифологики: человек голый. Москва, FreeFly, 2007. С. 640).
63 В. В. Хлебников. Собрание сочинений. Том 3, Wilhelm Fink
Verlag, München, 1972. С. 237-238.
64 Там же. С. 241-242.
65 Ср. «...если лотерея является интенсификацией случая,
периодическим введением хаоса в космос, то есть в миропорядок, не
лучше ли, чтобы случай участвовал во всех этапах розыгрыша, а не
только в одном? Разве не смехотворно, что случай присуждает кому-либо
смерть, а обстоятельства этой смерти - секретность или гласность,
срок ожидания в один год или в один час - неподвластны случаю? В
действительности, число жеребьевок бесконечно. Ни одно решение не
является окончательным, все они разветвляются, порождая другие.
Невежды предположат, что бесконечные жеребьевки требуют
бесконечного времени; на самом деле достаточно того, чтобы время
поддавалось бесконечному делению, как учит знаменитая задача о
состязании с черепахой. Эта бесконечность изумительно
согласуется с причудливым чередованием чисел Случая и Небесным
Архетипом лотереи, которому поклоняются платоники». (Х.-Л. Борхес.
Проза разных лет. Москва, «Радуга», 1984. С. 75).
66 В. Хлебников. Собрание сочинений. Том III. Wilhelm Fink Verlag,
München, 1972. С. 234-235.
67 Ср.: «Слияние двух звуков (фонем), или двух слов как звуковых
единиц, в одно звуковое пятно, назовем звуковым сдвигом...». Сдвиг
- это универсальный прием тогдашней современной поэзии
(собственно, он - уже и не прием, а некоторая позиция остраннения
мира и времени, которая теперь инспектирует изнутри классическую
стиховую форму. И чтобы выразить новое движение языка, нужно
577
Обморок мира. Поэтика случая в литературе Обэриу
сместить (заменить, опрокинуть, взорвать) ожидаемое значение
слова и поставить под сомнение единство смысловой структуры. Все
подвергается сдвигопроверке, нет ничего очевидного и данного,
все должно быть выдумано заново. (А. Крученых. Кукиш прошлякам.
Москва-Таллинн, «Гилея», 1992. С. 37, 45-51 и др.)
68 Там же. С. 70.
69 См. рассуждение В. Хлебникова: «Очаровательная
погрешность, только она приподымает покрывало с однообразно одетых
размером строк, и только тогда мы узнаем, что их не одно, а
несколько, толпа, потому что мы видим разные лица. // Заметим, что
волевой рассудочный нажим, в изменении размера у В. Брюсова и А.
Белого, не дает этих открытий подобной погрешности, и лица
кажутся неестественными и искусственно написанными». (В. Хлебников.
Неизданные произведения. М., 1940. С. 338; изд. подготовленное
Н. Харджиевым и Т. Грицем). Этот чисто метафизический постулат
напрямую связывается с техникой сдвига поэтического: «Поэтика
"сдвига" предопределена стремлением к максимальной свободе
стихового слова, поисками новых ритмических возможностей стиха.
Эти поиски идут в двух направлениях: во-первых, это деформация
классического метрического стиха, нарушение ("сдвиги") размера
(пропуск ударного слога, пропуск стопы, включение отдельных строк,
переходящих в другой размер). Другой путь - создание свободного
акцентного стиха, то есть такого стиха, который не подчинен
метрической упорядоченности и нередко подчеркнут каламбурной
рифмой». (Н. Степанов. Велемир Хлебников. Москва, «Советский
писатель», 1975. С. 149).
7° См.: «Объективный случай - это ансамбль тех феноменов,
которые манифестируют вторжение чудесного в обыденную жизнь»
(M. Carrouges. Andre Breton et les données fondamentales du surréalisme.
Paris, Gallimard, 1950. P. 246.)
71 Ж. Шенъе-Шадрон. Сюрреализм. «НЛО», Москва, 2002. С. 149.
78 Там же. С. 151.
73 M. Carrouges. Andre Breton et les données fondamentales du
surréalisme. P. 272-297.
74 Ср.: «Судить об "объективном случае" можно лишь на
основании письменных или устных свидетельств, подлинных рассказов
или почти мифических легенд: так, Аполлинер узнал себя в чертах
похожего на манекен "человека-мишени" с одного из полотен Де
Кирико, написанного в 1914 г.; последующее ранение в висок стало
для него своеобразной реализацией этого предвидения. В 1931 г.
Виктор Браунер пишет свой "Автопортрет с вытекшим глазом" - семь
578
Примечания
лет спустя во время драки, завязавшейся в мастерской Оскара До-
мингеса, кто-то случайно выбивает ему стаканом тот самый глаз». В
1934 г. Бретон, прогуливаясь вместе с Альберто Джакометти по
Блошиному рынку, покупает «неудержимо притягивавшую» его серебряную
ложечку, «причудливо выгнутая ручка, которой напоминала
туфельку, приподнятую на высоком каблучке». Позже он вспоминает, что
за несколько месяцев до того уговаривал Джакометти создать по
мотивам одной из посетивших его фраз полусна «пепельницу Золушки»
в форме оброненного ею на балу башмачка» (Ж. Шенъе-Шадрон.
Сюрреализм. «НЛО», Москва, 2002. С. 148-149).
75 Ср. также: «Головокружением прежде всего уничтожается
автономия живого существа. Отныне - это уже не центр и не исток, не
начало движения или источник энергии, а словно металлическая
опилка, покорно следующая притяжению мощного магнита.
Охваченный головокружением поддается тяготению пропасти. Это
важнейший факт: жизнь оказывается бессильной перед разрушительными
для нее влечениями. Ее притягивают к себе бездны. Отдающегося их
чарам охватывает внезапный паралич. Он хочет отойти прочь от
опасности, а сам невольно приближается к ней. Он чувствует, что
может мыслить и осуществлять только те жесты, которые ввергают
его в нее, как будто зловещий образ разрушения удовлетворяет
какому-то его извращенному вкусу и пробуждает в тайной глубине его
существа какое-то сокровенно-безжалостное сочувствие». (Р. Кайуа.
Игры и люди. Статьи и эссе по социологии культуры. ОГИ. Москва,
2007. С. 232). В психофизиологической схеме это вращение вокруг
своей оси. Страх свертывает, скручивает, приводит к темным и
глубинным основам жизни, где она оказывается уже на границах
смерти. Даже не смерти, а ничтожения, прямо перед Ничто и пустотой.
76 Можно сравнить это и с иного рода воздействием -
механическим: попытка использования «вращательного аппарата» в
психиатрии начала XIX века: «...три разновидности аппарата:
вращательная машина в собственном смысле, вращающееся колесо и
вращающаяся кровать; два первых прибора были рассчитаны только на
действие вращения, третий - имел в виду еще
специально-целительный эффект центробежной силы. Количество оборотов в минуту
равнялось от 40 до 60, причем наиболее благотворное действие
приписывалось кровати: кровь приливала к голове и от этого получался
целый ряд болезненных ощущений - головокружение, тошнота,
рвота, непроизвольные выделение мочи, кала, чувство стеснения в
груди, удушье, наконец, кровоизлияние в коньюктиву глаз» (Ю. Канна-
бих. История психиатрии. Репринтное издание (1928 г.). Москва,
579
Обморок мира. Поэтика случая в литературе Обэриу
ЦТР МГП ВОС, 1994. С. 245). Здесь все наоборот: как если бы
«вращательная машина» и была придумана именно для того, чтобы
вывести сознание больного из пограничого состояния, где он
утрачивает себя.
77 Л. Липавский попытался это исследовать в одном из своих
размышлений, озаглавленном «Головокружение»: «Насказанное могут
возразить: одно дело, когда действительно имеется вращение, свое
или обстановки; и другое, когда оно иллюзиорное, его только
чувствуешь, но понимаешь, что его нет. Последнее и есть
головокружение» (Л. Липавский. Исследование ужаса. М., 2005. С. 190)
78 Там же. С. .38.
79 Л. Липавский. Исследование ужаса. С. 22. Что интересно:
Липавский отделяет движение от вращения, рассматривая последнее как
некое состояние сознания, т.е. как мнимое движение: «Движение -
изменение в положении и расстоянии до остальных вещей. Всякую
вещь можно рассматривать либо как совокупность элементов, точек
(фигуру), либо как цельную (точку), как хотим. При вращении
цельная вещь (точка) остается в том же самом положении и на том же
расстоянии от других вещей, что было; следовательно, это не
движение». (Там же. С. 105).
80 Ср: «Змей - это обнаженный желудок, поглощение. Червь и
чрево - варианты одного слова. Возможно, что всякий ужас есть ужас
перед неопределенным. Ведь в этом и есть уничтожение: потеря
своей определенности. Ужас поглощения, всасывания, головокружение
перед зыбью, отвращение к топи, дрожащему желе, медузам,
касторовому маслу, вшам, клопам, паукам и т.п. К тому же и движения змеи
не прямолинейны, они зыбки, извилисты или, иначе, лукавы...» (Там
же, С. 368).
81 Логос. Философско-литературный журнал. № 4. Москва, 1993,
С. 113
88 Там же.
83 Ср.: «Ритуальная связь шамана как с ветром-вихрем, так и
легким ветерком является существенной чертой алтайского шаманизма
и выступает не только в тех или иных представлениях, но и в
ритуальных действиях и приемах. Как известно, одним из основных
движений шамана во время камлания с бубном было быстрое вращение
вокруг своей оси, стоя на ногах. Это движение изображало
символически вихрь. Кам крутился по часовой стрелке. (Л.П. Потапов.
Алтайский шаманизм. Ленинград, «Наука», 1991. С. 81; см. также:
М. Элиаде. Шаманизм. Архаические техники экстаза. Киев, «София»,
1998. С. 53-57.)
580
Примечания
84 Метафорой «головокружения» в ряде известных философских
текстов обыгрывается глубинный страх перед потерей сознания,
как «перед падением в пропасть» (С. Киркегор, 3. Фрейд, М. Хай-
деггер, Ж.-П. Сартр). Но интерпретация ведется здесь с точки
зрения позитивности самого страха, ибо человек становится
свободным, когда преодолеет этот абсолютный страх человека перед
свободой, бездной, перед тем Ничто, которое Гегель полагал в качестве
негативности всякой свободы. Действительно, ведь всякая свобода
- это бездна, где человек легко гибнет, лишенный опор, ибо
единственная опора для него - это он сам, т.е. его свобода. «Страх можно
сравнить с головокружением. Тот, чей взгляд случайно упадет в
зияющую бездну, почувствует головокружение. В чем причина этого?
Она столько же заложена в его взоре, как и в самой пропасти, - ведь
он мог бы и не посмотреть вниз. Точно так же страх - это
головокружение свободы, которое возникает, когда дух стремится полагать
синтез, а свобода заглядывает вниз, в свою собственную возможность,
хватаясь за конечное, чтобы удержаться на краю». ( С. Къеркегор. Страх
и трепет. Москва, «Культурная революция», 2010. С. 178).
85 К. Леси-Строс. Первобытное мышление. Москва, «Республика»,
1994. С. 135.
86 Л. Липавский. Исследование ужаса. С. 35.
87 Там же. С. 23.
88 Ср.: «Это подобно тому, как если бы мы разговаривали с
нежно любимым другом, вспоминали то, что нам ближе и важнее всего, и
вдруг сквозь черты его лица выступило бы другое, чуждое,
по-обезьяньи свирепое и хитрое лицо идиота. Мы обманулись: он не тот, за
кого мы его принимали. С этим невозможно столковаться просто
потому, что он даже не понимает слов, он весь устроен не по-нашему.
// Он не тот, а оборотень. //И всякий страх есть страх перед
оборотнем». (Там же. С. 35). Интересно, что оборотень - одна из
реальных фигур страха. Оборотень, обращающий свет во тьму - итог
полночного превращения, именно в этот час все находится в состоянии
пре-вращения. Это характерно для множества литературных
приемов, распространенных прежде всего в романтической и готической
прозе (а сегодня эксплуатация приема достигла прямо-таки
совершенства в связи с развитием в современном кинематографе
технологий спецэффекта). Все эти старые сказки так похожи на
современные с их бесчисленными голливудскими вампирами, киберко-
пами и другими чудовищами.
89 Р. Музиль. Малая проза. Избранные произведения в двух
томах. Том 1. Москва, «Канон-Пресс-Ц», «Кучково поле», 1999. С. 190.
Обморок мира. Поэтика случая в литературе Обэриу
90 Ср.: «Некоторые люди путем эфира могут постигать тайны
выше положенные, но все же в чрезвычайно узком аспекте, как
например: а — с\— \d — b. Если б вся истина укладывалась бы на линии
ab, то человеку дано видеть лишь часть, не далее последней
возможности (с). Возможно, путем эфира можно перенести свое восприятие
в иную часть мировой истины, например d, но суждение иметь о
«виденном» человек вряд ли сможет, ибо знать будет лишь две части
мира друг с другом не связанные: ас и d. Суждение же может быть
лишь путем нароста истины от а к Ь. В данном же случае
последовательность нарушена куском cd. Я полагаю, есть возможности, хотя
бы оккультические, познавать истину не выкрикивая отдельные ее
части, а плавно ступать за пределы возможного (с) охватывая
целиком пройденный путь». (Д. Хармс. Записные книжки. Том 1. С. 91.)
91 А. Введенский. Произведения. 1938-1941. С. 79-80.
да Что-то похожее Кастанеда называет фиксацией точки сборки:
«... старые маги умели достигать такой совершенной гармонии,
которая делала возможным восприятие всего и физическое превращение
во все, что соответствовало конкретному положению их точек
сборки. Они могли стать кем угодно или чем угодно из длинного списка,
который, по его словам <Дон Хуана>, представлял собой детальное
описание восприятия мира различными <существами>, например,
ягуаром, птицей, насекомым и так далее». (К. Кастанеда. Искусство
сновидения. Книга 9. Киев «София», 1993, С. 109-110).
93 А. Введенский. Произведения 1938-1941. Приложения. Том 2.
Москва, «Гилея», 1993, Серая тетрадь). С. 80-81. Друскин о мерцании:
«Как я представляю себе мир. В виде какого-то мерцания. В одном
только мерцании, не в нескольких, только в одном мгновении. И
это одно мерцание подобно некоторому ходу мысли, только не
отвлеченной, а перенесенной в пространство мысли, то есть
получившей существование благодаря новой координате, как об этом сказано
в "Симфонии". /... / Затем во второй части - в "Числах" - это одно
реальное мерцание должно быть изложено так, как оно кажется, -
как система. Тогда, как незакрепленная сеть узлов должна
распуститься в одну нить, так и эта система разложится в ничто». (Я.С. Друскин.
Дневники. С. 255-256).
94 Прекрасный образ времени: «В мире летают точки, это точки
времени. Они садятся на листья, они опускаются на лбы, они радуют
жуков». (А. Введенский. Произведения. 1938-1941. С. 83).
95 Ср. другое пояснение «мерцания»: «Н.М. считал себя знатоком
эндоптического зрения. Его занимало, что делается у него в глазу.
Он наблюдал пятна или помутнения, искры и волокна. Пятна плывут
582
Примечания
группой медленно на границе поля зрения, пока не пропадают. Искры
совершают непрерывное движение, как туча мошек вечером перед
хорошей погодой. Волокна крупны, они бледны и неподвижны. Есть еще
другие волокна, крупнозернистые, они похожи на водоросли или
морские животные. // Н.М. на основании различия движений этих
телец и их размеров (он вычислил их), устанавливает, что видит
человек в своем глазу. Он считает также, что пятна находятся довольно
далеко от дна глаза и уплывают из-за стремления уловить их в центр
зрения. Искры или светлые точки, наоборот, обладают
самостоятельным движением». (Там же. С. 13).
96 Ср.: «Можно представить себе, что к стабильному и,
следовательно, безвременному миру присоединился изменчивый элемент,
например, точильщик со своим вращающимся колесом. Любопытно
и достойно внимания, что этот один-единственный изменчивый
элемент как бы пересилит все остальные бессчетные стабильные
элементы: с его появлением в мире появится время, отсчитываемое
оборотами колеса. Стоит остановить колесо и время исчезнет». (Л. Липав-
ский. Исследование ужаса. С. 72.)
Пример Лкпавского с «точильным кругом», вероятно, взят из
«Исповеди» Августина: Сравним: «Я слышал от одного ученого человека,
что движение солнца, луны и звезд и есть время, но я с этим не
согласен. Почему тогда не считать временем движение всех тел. Если
бы светила небесные остановились, а гончарное колесо продолжало
двигаться, то не было бы и времени, которым мы измеряли бы его
обороты? Разве не могли бы мы сказать, в зависимости от того, как
шло колесо - равномерно, замедляя свой ход или ускорив его: эти
обороты длились дольше, а те меньше? Разве, говоря это, мы
говорили бы вне времени? и не было в наших словах долгих и коротких
слогов? одни ведь звучали в течение более длительного, а другие
более короткого времени. Господи, дай людям в малом увидеть
законы, общие для малого и великого. Есть звезды, светильники
небесные, "для знамений и времен дней и годов". Да, есть, но ни я.не
скажу, что оборот этого деревянного колесика есть день, ни тот ученый
не сможет сказать, что тут времени нет». (Аврелий Августин. Исповедь
Блаженного Августина епископа Гиппонского. Москва, Renaissance,
1991. С. 300).
97 Л. Липавский. Исследование ужаса. С. 111-112.
98 Там же. С. 96.
99 Картина сна и есть некий иероглиф мгновенного перехода из
одного ритмического опыта в другой. Важное замечание:
«Внутренние пейзажи - временные иероглифы - особые состояния (ритми-
583
Обморок мира. Поэтика случая в литературе Обэриу
ческие), состояния искусства». (Там же. С. 94). Другими словами,
фантазмы, греза, поэзия, сон могут быть приравнены друг к другу,
- это все внутри-мгновенные события. Что длится, то вечно, что не
длится, то имеетвремя. Отношение линии (вечности) к точке
(времени). Вечное - это такое изменение, которое включает в себя все
другие, или такое, для которого нет масштаба сравнения. Время,
которое вращается вокруг своей оси, ничего не изменяя, и есть Вечность.
100 Там же. С. 94-96. Ср.: «Время - несоответствие ритмов» (Там
же. С. 108.)
101 Ср.: «Ребенок в эгоцентрических высказываниях все чаще
обнаруживает параллельно падению коэффициента эгоцентрической
речи эту тенденцию к асинтактическому слипанию слое». И далее:
«Каждое слово во внутреннем употреблении приобретает постепенно
иные оттенки, иные смысловые нюансы, которые, слагаясь и
суммируясь, превращаются в новое значение слова. Опыты показывают,
что словесные значения во внутренней речи являются идиомами,
непереводимыми на язык внешней речи. Это всегда индивидуальные
значения, понятные только в плане внутренней речи, которая так
же полна идиоматизмов, как и элизий и пропусков». (Л.С. Выготский.
Собрание сочинений. Том второй. Проблемы общей психологии.
Москва, «Педагогика», 1982. С. 349, 351).
Там же. С. 353.
103 Ведь великого психолога У. Джеймса, впервые
сформулировавшего эту идею внутреннего потока сознания, Выготский
прекрасно знал и ценил. В русской литературной классике, у Толстого,
Достоевского, Чехова можно найти сколько угодно примеров
«текучести» внутренней жизни сознания героя.
104 М. Heidegger. Gesamtausgabe. Band 29/30. Die Grundbergriffe
der Methaphysik. Fr. am Main, 1983.
105 С. Малларме. Сочинения в стихах и прозе. «Радуга», Москва,
1995. С. 220-294.
|о6 «О, боже мой, какая скука...», - пушкинская скука или скука
так называемых лишних, т.е. скучающих людей в классической русской
литературе (Онегин, Печорин, Обломов). Лишний человек - прежде
всего субъект скуки. Герой Олеши из «Зависти» полон скуки и
ничегонеделания.
107 Я. С. Друскин. О желании. - Звезда Бессмыслицы. «Чинари» в
текстах, документах, документах и исследованиях. Том 2. М., 1998.
С.822-823.
108 Л. Липавский. С. 70. На Востоке, возможно, подобного
западноевропейского переживания не существует. «Восточная лень» или
584
Примечания
«нега» - это род наслаждения, не скука, «ничего не делать» - это
высшее из искусств жизни.
109 Я. Друскин. Лестница Иакова. Эссе, трактаты, письма. Санкт-
Петербург, «Академический проект», 2004. С. 203-204. Ср. также:
«Langeweile - длинное время. То есть само время и есть скука;
развлекательность - его заполнение, мгновение - его устранение, то
есть несущ поешь времени». (Я. Друскин. Дневники. 1963-1979. С. 113.)
110 Есть еще линия Ольги Александровны. Правда, это линия
дополнительная, и скорее имеет переходное значение; в идеале она
должна примирить две другие. Но в романе она не получает должного
«счастливого» развития в силу нарастающей жизненной
пассивности Обломова.
1 х 1 Отношение Обломова к «быстрому» публичному времени
резко отрицательное: «Все, вечная беготня взапуски, вечная игра
дрянных страстишек, особенно жадности, перебиванья друг у друга
дороги, сплетни, пересуды. Щелчки друг другу, это оглядыванье с ног
до головы; послушаешь, о чем говорят, так голова закружится,
одуреешь. Кажется, люди на взгляд такие умные, с таким достоинством
на лице, только и слышишь: "Этому дали то, тот получил аренду" -
"помилуй, за что?" - кричит кто-нибудь. "Этот проигрался вчера в
клубе; тот берет триста тысяч!" Скука, скука, скука!... Где же тут
человек? Где его целость} Куда он скрылся, как разменялся на всякую
мелочь?». И продолжение в другом месте: «Как, всю жизнь обречь
себя на ежедневное заряжанье всесветными новостями, кричать
неделю, пока не выкричишься! Сегодня Мехмет-Али послал корабль в
Константинополь, и он ломает себе голову: зачем? Завтра не удалось
Дон-Карл осу - и он в ужасной тревоге. Там роют канал, тут отряд
войска послали на Восток; батюшки, загорелось! лица нет, бежит,
кричит, как будто на него самого войско идет. Рассуждают,
соображают вкривь и вкось, а самим скучно - не занимает это их; сквозь
эти крики виден непробудный сон! это им постороннее; они не в
своей шапке ходят. Дела-то своего нет, они и разбросались на все
стороны, не направились ни на что. Под этой всеобъемлемостью
кроется пустота, отсутствие симпатии ко всему! А набрать скромную,
трудовую тропинку и идти по ней, прорывать глубокую колею - это
скучно, незаметно; там всезнание не поможет и пыль в глаза пускать
некому». (И.А. Гончаров. Собрание сочинений. Том 4 (Обломов).
Москва, «Художественная литература» 1979. С. 176, 178).
1,8 Ср.: «Es ist einem langweilig» - скучно, все (оно) погружено в
скуку» (М. Heidegger. Gesamtausgabe. Band 29/30. Die Grundbergriffe
der Methaphysik. Fr. am Main, 1983. S. 171-180).
585
Обморок мира. Поэтика случая в литературе Обэриу
113 «Es ist einem langweilig» - скучно, все (оно) погружено в скуку.
М. Хайдеггер. Бытие и время. Москва, 1997, Ad Marginem, Москва,
1997. С. 297-299. (пер. В.В. Бибихина).
114 Вот что справедливо замечает Р. Барт: «Отсюда особую
важность в произведениях этого писателя приобретают оптические
описания: если РобТрийе описывает предметы квазигеометрическим
образом, делается это для того, чтобы освободить их от
человеческого значения, излечить их от метафоры и антропоморфизма. Особая
тщательность его взгляда - речь к тому же идет не о тщательности,
а скорее, о расстроенности - является в итоге чисто негативной,
она ничего не утверждает, точнее, утверждает она именно
ничтожество предмета в человеческом отношении: подобно ледяному
облаку, она скрывает ничто и тем самым указывает на него. Практика
взгляда у РобТрийе, по сути, представляет собой очистительное
поведение, мучительный разрыв солидарности между человеком и
вещами». (Р. Барт. Школы Роб-Грийе не существует - А. Роб-Грийе.
Проект революции в Нью-Йорке. Москва, 1996. С. 203).
115 Конечно, не следует забывать о том разнообразии игр,
которое существует. Выделяют игры свободные, обособленные, с
неопределенным исходом, непроизводительные, регулярные, фиктивные ( Р. Кайуа.
Игры и люди. Статьи и эссе по социологии культуры. ОГИ. Москва,
2007. С. 49).
116 Ср.: «О счастье! О счастье! Не хочешь ли ты запеть, о душа
моя? Ты лежишь в траве. Но теперь таинственный, торжественный
час, когда ни один пастух не играет на своей свирели. Берегись!
Жаркий полдень спит на нивах. Не пой! Тише! Мир совершенен. Не пой,
птица лугов, о душа моя! Не шепчи даже! Смотри - кругом тишина!
старый полдень спит, он шевелит губами; не пьет ли он каплю
счастья, старую, потемневшую каплю золотого счастья, золотого вина?
Счастье пробегает по нему, его счастье смеется. Так - смеется бог:
Тише! - /.../ Все самое малое, самое тихое, самое легкое, шорох
ящерицы, дуновение, мгновение, миг - малое, вот что составляет
род лучшего счастья. Тише! Что происходит со мною - чу! Не
улетело ли время? Не падаю ли я? Не упал ли я - чу! В колодец вечности?
- Что происходит со мною? Тише! Меня кольнуло - о, горе - в
сердце? В самое сердце! О, разбейся, разбейся сердце, после такого
счастья, после такого укола! - Как? Не стал ли мир сейчас совершенен?
круглым и зрелым? О золотой круглый диск, - куда летит он? Я бегу
за ним! Тише. Тише» (Тут Заратустра потянулся и почувствовал, что
спит.)». (Ф. Ницше. Полное собрание сочинений. Том 4. Москва,
«Культурная революция», 2007, С. 279-280).
586
Примечания
117 С. Малларме. Сочинения в стихах и прозе. «Радуга», Москва,
1995. С. 223-227.
118 Но что смущает, так это глубокий, мистически насыщенный
символизм каждого образа. Он не поддается прямому пониманию.
Требуется в помощники опытный дешифровщик, но их не нахожу.
То, что говорят о Малларме, П. Валери, М. Бланшо, А. Шерер, не
дает ясности и также достойно интерпретации. Вероятно, эта
непонятность/невнятность вызвана тем, что в репертуаре символического
чувствования отдельный психизм (нами узнаваемый) сочетается с
рядом других символов: света/тени, страдания или скуки и др. Но мы
не знаем, как выйти к его пониманию, перед нами «лес символов»,
непроходимая чаща символических переживаний, которые скорее
скрывают подлинную силу психизма, нежели дают его почувствовать.
Символ кивает на символ, тот на другой, психизм - это означаемое, что
всегда ускользает от означающего. Мимесис поглощается символом.
119 Там же, С. 235. См. также: S. Mallarme. Oeuvres completes. Tome
IL Paris, «Gallimard». 2003. P. 483-500.
!2° Я делаю выбор в пользу скуки, не тоски. В русском языке слово
тоска имеет более широкие возможности применения. По сути дела,
она - прообраз основной эмоции, приписываемой так называемой
«русской душе», «духовности», в отличие от элементарности,
«недуховности» или лености скуки (ennui) франц. словаря, более
смягченного, ведь именно там скука есть тоска, досада, разочарование,
напрасное ожидание и т.п. Есть, например, скука -ложное сознание
жизни, присущее высшим классам: только они скучают, в то время
как низшие классы голодают или побираются, но никогда не
скучают. Замечу, тоска не в смысле тосковать с осознанием такого рода
душевного расстройства, а скорее равное паре скучать/тосковать, я
имею в виду то, что слово тоска, тосковать в русской культурной
традиции подразумевает страдание, страдающее сознание. Здесь же в
тексте Малларме скука обозначает не страдание, а отношение к
пустому времени, именно это время есть время скуки, она опустошает
мой мир, что, собственно, мы и наблюдаем в повествовании Игитура.
Скука есть качество отношения ко времени, в котором ничего не
происходит, и существование всего прекращается, все
останавливается, начинает исчезать, уходя в некий Абсолют, который в данные
мгновения оборачивается в Ничто.
121 С. Малларме. Сочинения в стихах и прозе. С. 237.
182 См. например, замечания П. Валери: «Тридцать с лишним лет
был он созерцателем или мучеником идеи совершенства. Эта
одержимость мысли почти никого более не избирает жертвой. Мировая
587
Обморок мира. Поэтика случая в литературе Обэриу
эпоха отмечена отказом от длительности. Произведений,
требующих неограниченного времени, и произведений, создаваемых в
расчете на века, почти никто уже в наше время начинать не пытается.
Наступила эпоха минутного; невозможно более вынашивать плоды
созерцания, которые душе представляются неиссякаемыми и могут
питать ее до бесконечности. Время какой-нибудь внезапности -
такова наша нынешняя единица времени». (П. Валери. Об искусстве.
«Искусство», Москва, 1976, С. 477 (пер. В.М. Козового)).
123 С. Малларме. Сочинения в стихах и прозе. С. 390.
124 Там же. С. 391.
125 С. Малларме. Сочинения в стихах и прозе. «Радуга», Москва,
1995, С. 411. См. также: S. Mallarme. Oeuvres completes. Tome I. Paris,
Gallimard, 1998. P. 214-228.
186 С. Малларме. Сочинения в стихах и прозе. Москва, «Радуга»,
1995. С. 239.
,27 Там же. С. 241.
128 Так, например, авангардный композитор П. Булез различает,
с одной стороны, так называемую, спонтанную случайность, или,
как ее определяет сам композитор, «случайность по недосмотру»; а с
другой, - «автоматическую или ожидаемую случайность», которая
будто бы вкладывается заранее в произведение. Для автора в
произведении все ожидаемо, для слушателя - переменная новизна, раз
повторенная, объективируется как неконтролируемая. Вот, что он
замечает: «Мы отчаянно пытаемся овладеть материалом с помощью
изнурительных, напряженных и неусыпных усилий, и столь же
отчаянно случайность вырывается из наших рук, пролезает в
произведение сквозь тысячи щелей, которые невозможно законопатить».
(П. Булез. Ориентиры 1. Избранные статьи. Москва, 2004, С. 111).
В других работах он разрабатывал тему времени в пространственных
терминах. По его мнению, есть время импульсивное, или гладкое (temps
lisse) и есть время топорщащееся, время шероховатое (temps strie), что
соответствует двум разным операциям: так, в гладком «время
оккупируется без расчленения»; в топорщащемся, шероховатом «время
расчленяется, чтобы быть захваченным». (P. Boulez. Penser la musique
aujourd'hui. Gallimard, 1987, p. 107.) Но есть по тому критерию
различие такого же плана для пространственных образов. Это
разделение пространств перехватывают Ж. Делез и Ф. Гваттари в книге
«Тысяча плато. Капитализм и шизофрения (см.: Mille Plateaux.
Capitalisme et schizophrénie. Paris, les Editions Minuit, 1980, p. 471-481.)
129 Эти разработки поэта-мима в его сношения с чувством
времени мы находим, прежде всего, в известных эссе С. Малларме (Из-
588
Примечания
вестные комментарии к текстам «Мимика», «Игитур», «Заметки к
театру» у П. Валери, М. Бланшо, Ж. Деррида, Ф. Лаку-Лабарта, Ж. Де-
леза, П. Булеза и др.)
13° Ж.-П. Сартр. Ситуации. Антология литературно-эстетической
мысли. Москва, «Ладомир». С. 22.
131 Дж. Свифт. Путешествия Гулливера. Ленинград, «Детская
литература», 1980. С. 288-289.
132 А. Введенский. Произведения 1938-1941. Том 2. С. 157.
133 Замечательный поэт Заболоцкий не ставил перед собой столь
сложных задач, как А. Введенский или Д. Хармс. Его поэзия оставалась
верной «внятности», «достоверности», вполне «реалистическому»
отражению опыта; она прекрасна виртуозной ясностью каждого
образа, как внимательный садовник, поэт следит за тем, чтобы на его
любимой клумбе были выполоты все сорняки.
134 Я.С. Друскин. Материалы к поэтике Введенского. - Александр
Введенский. Произведения. 1938-1941. Приложения. Том 2. Москва,
«Гилея», 1993.
135 Л.П. Потапов. Алтайский шаманизм. Ленинград, «Наука», 1991.
С. 82.
136 А. Введенский. Произведения ( 1938-1941 ). Том 2. С. 78-79.
13? Там же. С. 82.
138 Там же. С. 164.
13« Там же. С. 169-170.
14° Л. Друскин. Дневники. 1963-1979. С. 446.
141 Λ. Введенский. Произведения (1938-1941). Том 2. С. 175.
*4Я Там же. С. 176.
143 Все, что можно было бы спросить у Беккета, не будет иметь
ответа, ибо нарушает принцип существования абсурдистской прозы.
Из беккетовского абсурда нет выхода. Более того, если вы все-таки
решаетесь читать, то вы попадаете в странную ситуацию: вы учитесь
понимать абсурд. А это значит, что постепенно он становится
неустранимой данностью, которая, хотя вам и чужда, между тем
получает право на существование, ведь вы читаете, вы внутри...
144 Льюис Кэррол. Приключения Алисы в Стране чудес. Москва,
«Книга», 1982. С. 94,96,98. (перевод и комментарии Н.М. Демуровой).
145 Например, мнение В.Вульф: «Вот почему обе книги об Алисе
- книги не детские; это единственные книги, в которых мы
становимся детьми» (Льюис Кэррол. Алиса в Стране чудес. Алиса в Зазеркалье.
Москва, «Наука», 1978. С. 249. (изд. подготовлено Н.М. Демуровой).
146 Ср.: «... подлинная волшебная сказка /.../ непременно
должна подаваться как "истина"». Другими словами она должна представ-
589
Обморок мира. Поэтика случая в литературе Обэриу
лять собой реальное чудо, и пока она рассказывается мы должны
пребывать в истине этого чуда. Напротив, есть много
«неподлинных» сказок: «Такова "Алиса" Льюиса Кэррола - в обрамлении сна
и с переходами от сна к реальности. Именно поэтому (и в силу иных
причин) это - не волшебная сказка». (Дж. P.P. Толкин. Чудовища и
критики. Москва, Аст-Хранитель, 2007. С. 160, 161).
47 Ж. Делез. Логика смысла. Екатеринбург, «Деловая книга» -
Москва, «Раритет», 1998. С. 117.
•<8 Там же. С. 124.
49 Делез постоянно оперирует явно и неявно семиотическими
парами: верх/низ, поверхность/глубина, возвышение/падение,
первичное/вторичное, высшее/ низшее, смысл/не-смысл и т.п. Герой
делезовской философии - мудрый шизо, что живет на вертикали
телесных и духовных противоборств.
15° Обычный язык не столько страдает от избытка (богатства)
значений, - то, что Липавский называет «параллелизмом», -
сколько пытается учесть его и избежать. Напротив, поэтический язык,
который использует язык «неправильно» и строит все свои
стратегии на богатстве языковых форм, точнее, на отборе, который и есть
вращение как случайная выборка слова; «...поэтический язык
сохраняет равнозначные языковые элементы там, где обиходный язык
постепенно утрачивает их, удовлетворяясь однообразием
выражения. В этом как раз заключается один из существеннейших моментов
в различии между поэтической и прозаической речью. На примере
поэтического языка любого народа и любой эпохи легко можно
показать теснейшую связь языкового изобилия с соответствующей
поэтической техникой». (Г. Пауль. Принципы истории языка. Москва,
«Иностранная литература», 1960. С. 302).
151 П. Рикер. Метафорический процесс как познание,
воображение и ощущение. - Теория метафоры. Сост. и общая редакция Н.Д.
Арутюновой. Москва, «Прогресс». 1990. С. 429).
152 Частицы. - АН СССР, Институт русского языка. Русская
грамматика. (Интернет-версия); Частицы - Русский язык. Энциклопедия.
Москва, «Советская энциклопедия», 1979. С. 390. На первый взгляд,
частицы являются неким дополнением к смысловой форме
выраженного, они отвечают за варьирование тонких смысловых
оттенков, и это достигается тем, что они позволяют говорящему
индивидуализировать свою речь, телесно обживать, мимировать, подражая
речи Другого. Если учесть то, что смысл - это что-то вроде паттерна,
т.е. целостного видения, то эта целостность возможна только на
основе языкового богатства, «избытка». Но что такое этот «избыток» в
590
Примечания
горизонте лингвистической эволюции и антропологического
знания? Нет высказанного слова без некоторого миметически
выраженного оттенка, который играет роль паралингвистического слоя
в высказывании, то, что Г. Бейтсон называл «иконической
аббревиатурой»: «...человеческая коммуникация, создающая избыточность
в отношениях между людьми, по-прежнему является
преимущественно иконической и достигается посредством кинестетики, параязы-
ка, движений, отражающих намерения, действий и т.п.». (Г. Бейтсон.
Экология разума. Москва, «Смысл», 2000. С. 388-389) Именно эта
иконическая функция ярко проявляется при использовании частиц,
которые дифференцируют образы (паттерны) по мельчайшим
контурам и фигурациям смысла, они расширяют их смысловое
содержание посредством расщепления уже «окаменелых» целостностей
языка. (Л. Липавский).
153 Л. Липавский, Исследование ужаса. С. 119.
154 Там же. С. 256. Собственно, этимологическая проверка слова
приводит Липавского к мысли, что в основе происхождения слов
лежит все та же природная стихия, ее первозданная энергия, с
которой исторически и материально связано слово, из нее оно и
рождается, - оттуда и его глубинное значение (земное).
155 Ср.: «Этот ритм ударов во времени, эта схваченная нашим
телом форма и есть особое ощущение дрожи или вибрации. Можно
сказать, что этот ритм - внутри-мгновенный, ибо за кратчайший
доступный нашему телу промежуток времени, за мгновение,
совершается столько ударов, что их в отдельности нам не уловить, охватывается
только их ритм внутри мгновения. // Но вот дрожь еще учащается
и происходит новое перевоплощение: дрожь, ощущаемая мускулами,
переходит в очень низкий звук, в гудение. Это происходит так
постепенно, что существует такой период, когда мы не можем даже
сказать точно: ощущаем ли мы дрожь или звук. Здесь мускульное чувство
так удачно восполняет недостающие стадии звукового ощущения,
что переход ясен: от раздельного отсчета к сложному и внутримгно-
венному статистическому ритму, к звуковому качеству». (Л. Липавский.
Исследование ужаса. С. 122.) А что это тогда за качество? «Качество
есть схваченный нашим телом внутримгновенный ритм». (Там же.)
156 В одном из размышлений он пытается понять движение по
аналогии с его передачей киноаппаратом: «Учащенная киносъемка
- дает то же количество отпечатков, но с меньшей разницей между
ними, благодаря этому размывание меньше. «Замедление» чихания,
смеха, ходьбы, жонглирования, прыжка блохи, полета пули, полета
птицы, движение механизмов, падение капли, биение сердца.//
591
Обморок мира. Поэтика случая в литературе Обэриу
Искусственное наложение расчлененных отпечатков.//Разрежен-
ная киносъемка - дает то же количество отпечатков, но с большей
разницей между ними, благодаря этому получается большее
размывание. // Ускорение распускания цветка, роста деревьев, человека,
геологич. и астрономич. процессов». (Л. Липавский. Исследование
ужаса. С. 143-144.)
157 Обэриуты близкого круга - внимательнейшие читатели Анри
Бергсона. Влияние на них французского мыслителя трудно
переоценить. Буквально все проблемы, о которых размышлял Липавский,
рождаются у него, словно он только что перечел «Творческой
эволюции». Например, все, что говорится о времени и становлении, о
правильном понимании движения в кинематографе. И главное в этих
«заимствованиях» - не просто подражание чужой мысли, а ее
использование для разработки принципиальных идей, вокруг которых в
дальнейшем объединялась поэтическая мысль обэриутов. В «Серой
тетради» Введенского мы найдем немало поэтических иллюстраций
к бергсонианским идеям.
158 Д. Хармс. Трактат более или менее по конспекту Эмерсена -
Логос 1993, №4, С. 121.
159 А. Введенский. (Серая тетрадь) - Логос 1993, № 4. С. 132.
,6° Д. Хармс Полное собрание сочинений. Записные книжки.
Дневник. Книга 2. Санкт-Петербург, 2002. С. 171.
161 Там же. С. 196.
,6* Ср.: «...в человеческом языке скрыто не только тривиальное
отображение форм жизни, заданных нашим восприятием ее. Но в
нем скрыты и новые формы, которых мы не знаем и не представляем
их, и они^го, эти новые формы, и есть истинное искусство, дающее
возможность полноценно использовать язык как средство познания,
воздействия и общения. Чтобы эти новые формы обнаружить, мы
должны выявить те правила, которые управляют тривиальной
поэзией, отказаться от них и открыть, таким образом, пространство
для нового миросозерцания. Надо перестроить, например, правила
отрицания. В нашем привычном языковом механизме почти не
существует отрицательных сущностей. Не читать, не говорить, не
понять - это лишь указания на несуществования соответствующих
действий. Для Введенского же «не понять» - это положительное понятие,
смысл которого должен быть раскрыт. Мы должны отказаться от тех
сочетаемостей живого и неживого, действий и объектов, которые
заданы нам формами обыденного сознания. Лишь тогда - вне
привычных глагольных управлений, вне заданного для каждого объекта
способа действий и состояний - мы сможем частично проникнуть
592
Примечания
в иной, созданный самим языком и отвечающий, возможно,
внутренним потребностям души человека, новый мир». (Из письма О.Г. Рев-
зиной Я.С. Друскину от 26 июля 1974 г. См. также: О.Г. Ревзина.
Качественная и функциональная характеристика времени в поэзии
Введенского. - Russian Literature. 1978. Vol. VI. Ν. 4. P. 397-401).
163 Α. Введенский. (Серая Тетрадь) - Логос 1993, №4. С. 135.
104 Д. Хармс. Полет в небеса. Стихи. Проза. Драмы. Письма.
Ленинград, «Советский писатель», 1991. С. 313-314.
105 А. Бергсон. Творческая эволюция. Москва. Канон-Пресс, Куч-
ково поле, 1998. С. 279.
166 Там же. С. 278.
107 3. Фрейд в одной из статей «Die Verneinung» (1925) пытается
выстроить логику двойного отрицания, характерного для
процедуры вытеснения. S. Freud. Studienausgabe. Band III. Psychologie des
Unbewussten. S. Fisher Verlag, Fr. am Main, 1975. S. 372-377.
168 M. Хайдеггер. Время и бытие. Статьи и выступления. Москва,
«Республика», 1993. С. 18.
1(* Там же. С. 23.
,7° Ср.: «Ужасом приоткрывается Ничто.// В ужасе «земля
уходит из-под ног». Точнее: ужас уводит у нас землю из-под ног, потому
что заставляет ускользать сущее в целом. Отсюда и мы сами - вот
эти существующие люди - с общим провалом сущего тоже
ускользаем сами от себя. Жутко делается поэтому в принципе не «тебе» и
«мне», а «человеку». Только наше чистое присутствие в потрясении
этого провала, когда ему уже не на что опереться, все еще тут. //
Ужас перебивает в нас способность речи. Поскольку сущее в целом
ускользает и надвигается прямое Ничто, перед его лицом умолкает
всякое говорение с его «есть». То, что, охваченные жутью, мы часто
силимся нарушить пустую тишину ужаса именно все равно какими
словами, только подчеркивает подступание Ничто. Что ужасом
приоткрывается Ничто, человек сам подтверждает сразу же, как только
ужас отступит. С ясностью понимания, держащейся на свежести
воспоминания, мы вынуждены признать: там, перед чем и по поводу
чего нас охватил ужас, не было, «собственно», - ничего. Так оно и
есть: само Ничто - как таковое - явилось нам. //В фундаментальном
настроении ужаса мы достигли того события в нашем бытии,
благодаря которому открывается Ничто и исходя из которого должен
ставиться вопрос о нем». ( Там же. С. 21).
•7· Там же. С. 18-24.
172 Д. Хармс. О времени, о пространстве, о существовании. - Логос
1993, №4, С. 135.
593
Обморок мира. Поэтика случая в литературе Обэриу
т Д. Хармс. Полное собрание сочинений. Записные книжки.
Дневник. Книга 2. Санкт-Петербург, 2002, С. 153-154.
174 Я. Друскин. Дневники. С. 46-49.
*75 Ср.: «В самом деле, мы часто, например при указательном
определении, демонстрируем именуемый предмет, произнося его имя.
И с тем же успехом в таких случаях, указывая на некий предмет,
произносят слово "это". И слово "это", и имя часто занимают в
предложении одинаковое положение. Но для имени характерно как раз
то, что оно определяется путем указания "Это N* (или "Это
называется N*). Но разве определишь что-нибудь с помощью слов: "Это
называется «это»" или же "Это называется «этот»"»?
Это связано с пониманием именования как некоего, так сказать,
таинственного процесса. Именование кажется какой-то необычной
связью слова с объектом. И такая странная связь действительно
возникает, например, когда философ пытается выявить особое отношение
между именем и именуемым, устремляя взор на некий предмет перед
собой и без конца повторяя его имя или же слово «этот». Дело в том,
что философские проблемы возникают, когда язык пребывает в
праздности. Вот тут-то и в самом деле можно вообразить, будто
именование представляет собой какой-то удивительный душевный акт, как
бы крещение объекта. И мы также можем сказать слово «этот» по
отношению к предмету, обращаясь как к «этому» - странное
употребление данного слова, встречающееся, пожалуй, лишь в процессе
философствования». (Л. Витгенштейн. Философские работы (Часть 1),
Москва, «Гнозис», 1994. С. 97-98).
176 Ср.: «Философия есть борьба против зачаровывания нашего
интеллекта средствами нашего языка». Витгенштейн уничтожает
всякого рода ложные проблемы философии как «ошибки языка»:
«Итог философии - формулирует он в другом месте - обнаружение
тех или иных явных несуразиц и тех шишек, которые набивает
рассудок, наталкиваясь на фаницы языка. Именно эти шишки и позволяют
нам оценить значимость философских открытий». Там же. С. 127,129.
177 Там же. С. 113-114.
178 S. Gablic. Magritte. London, Thames and Hudson, 1977, p. 126-187.
179 Л. Липавский. Исследование ужаса. С. 228.
l8° Ср.: «Слова обозначают основное - стихии; лишь потом они
становятся названиями предметов, действий и свойств.
Неопределенное наклонение и есть название стихии, а не действия. Есть
стихии, например, тяжести, вязкости, растекания и другие. Они
рождаются одни из других. И они воплощены в вещах, как храбрость во
льве, так что вещи - иероглифы стихии. Я хочу сказать, что выра-
594
Примечания
жение лица прежде самого лица, лицо - это застывшее выражение.
Я хотел через слова найти стихии, обнажить таким способом души
вещей и узнать их иерархию. Я хотел бы составить колоду
иероглифов, наподобие колоды карт». (Там же. С. 382.)
,8' Там же. С. 237.
,8в А. Введенский. Произведения (1938-1941). Том 2. С. 81.
183 Ср.: «Между тем нет ни одного действия, которое бы имело
вес, кроме убийства, самоубийства, повешения и отравления.
Отмечу, что последние час или два перед смертью могут быть
действительно названы часом. Это есть что-то целое, что-то остановившееся,
это как бы пространство, мир, комната или сад, освободившееся от
времени. Их можно пощупать. Самоубийцы и убитые, у вас была такая
секунда, а не час? Да секунда, ну две, ну три, а не час, говорят они.
Но они были плотны и неизменны? - Да, даю // Глаголы на наших
глазах доживают свой век. В искусстве сюжет и действие исчезают.
Те действия, которые есть в моих стихах, нелогичны и бесполезны,
их нельзя уже назвать действиями. Про человека, который раньше
надевал шапку и выходил на улицу, мы говорили: он вышел на улицу.
Это было бессмысленно. Слово вышел, непонятное слово. А теперь:
он надел шапку, и начало светать, и (синее) небо взлетело как орел.
// События не совпадают со временем. Время съело события. От них не
осталось косточек». ( Там же. С. 81).
184 Ср.: «Он был нумизмат, собирал старинные книги, изучал
древние языки. Он бродил по толкучкам и выискивал старинные
печатки, мундштуки, перстни с камеями, геммами, которые всегда
украшали его тонкие, хрупкие смуглые пальцы. Он был беден, но вещи как
бы сами шли к нему. Люди сразу душевно располагались к его тихому
голосу, к доброте, постоянно живущей в его глубоких, больших,
карих, совершенно бархатных глазах». (И.М. Наппельбаум. Памятка о
поэте // Четвертые Тыняновские чтения: Тезисы докладов и
материалы для обсуждения. 1980. №6. С. 123-125).
185 К. Ваганов. Полное собрание сочинений в прозе.
Санкт-Петербург, «Академический проект», 1999. С. 336.
186 Ср.: «В сущности, конечно, все в мире соприкасается, но
разбрасываться вряд ли стоит. Я хотел бы спасти от забвения
интересную сторону нашей жизни; ведь все конфетные бумажки пропадают
бесследно; между тем в них проявляется и народная эстетика, и
вообще эта область человеческого духа не менее богата, чем всякая другая:
здесь и политика, и история, и иконография». И в другом месте:
«Классификация - величайшее творчество, - сказал он, когда все окурки,
лежавшие на столе, были занесены в инвентарную книгу. - Класси-
595
Обморок мира. Поэтика случая в литературе Обэриу
фикация, собственно, - оформление мира. Без классификации не
было бы памяти. Без классификации невозможно никакое
осмысление действительности. Все люди невольно размещают все по
ящичкам. Я делаю это сознательно. Классификатор лучший человек. (...)
Нет - сказал Жулонбин, - не считайте меня скупцом, я приношу
великую пользу человечеству. Это верно, что я духовно оскопил себя,
но все это для великого дела систематизации. Систематизация - это
моя великая страсть. Как у каждого человека, охваченного великой
страстью, - у меня есть, конечно, свои странности. Но не
обращайте на них внимание. Ведь если б я был скопидомом, то я собирал бы
предметы, имеющие реальную ценность. Я же, как вы видите,
собираю всякую чепуху или то, что считается чепухой». (Там же. С. 267.)
187 Там же. С. 340. (Гарпагониана. Первая редакция).
188 Там же. С. 343.
,89 Там же. С. 388.
^ Там же. С. 342.
*" Там же. С. 282.
'9" Там же. С. 341.
fM Там же. С. 342.
'<* Там же. С. 255.
** Там же. С. 268.
■в6 Там же. С. 267.
w Там же. С. 317-318.
•в8 Там же. С. 319.
'» Там же. С. 320.
Там же. С. 269.
201 Курт Швиттерс, один из ведущих сюрреалистов (как, впрочем,
позднее Поллок и Э. Уорхол) изобретает стратегию эстетической
эксплуатации мусора. Интересно все то, что стало бесформенным,
однородным, по сути дела погрузилось в изначальный хаос:
«Швиттерс творит из мусора. Составные части его произведения
принадлежат к отбросам: они отвергнуты человеческим обществом, но,
избранные и сохраненные художником, они становятся сырьем для
его творчества - в отличие от той традиции, которая кропотливо
выбирает материалы так, чтобы сделать итоговое произведение (как
объект, принадлежащий всему миру) более ценным. Однако понятие
отбросов есть лишь видимая часть айсберга, которая дополняется
чередой других, проясняющих понятий: отвержение, бедность,
трансмутация материалистического прогресса, разложение привычных
материалов и оценок». (Ф. Сере. Тоталитаризм и авангард. В
преддверии запредельного. Москва, Прогресс-традиция, 2001. С. 111).
596
Примечания
Там же. С. 468.
203 К.К. Вагинов. Полное собрание сочинений в прозе.
Гуманитарное агентство «Академический проект», Санкт-Петербург, 1999. С. 79.
204 В. Беньямин. Маски времени. Эссе о культуре и литературе.
Санкт-Петербург, Symposium, 2004. С. 434-435.
205 Замечательны размышления Ш. Пеги. Опираясь на идеи А.
Бергсона, он описал взаимодействие двух памятей: одной - продольная,
а другой - поперечной. Первый вид памяти можно отнести к
коллективной истории, второй - к частной или индивидуальной. Вот как он
формулирует: «История по сути своей продольна, память по сути
своей поперечна. История по сути состоит в том, чтобы идти вдоль
события. Память, находясь внутри события, по сути состоит в том,
чтобы, главное, не выходить из него, оставаться в нем, в него
углубляться». (Ш. Пеги. Избранное. Проза. Мистерии. Поэзия. Москва,
«Русский путь», 2008. С. 123.)
206 В. Беньямин. Озарения. Москва, «Мартис», 2000. С. 212.
207 Наоборот. Три символических романа (Жорж-Карл Гюисманс ).
Москва, «Республика», 1995. С. 81.
208 Там же. С. 78-79.
2<* Там же. С. 37.
Там же. С. 95.
Там же. С. 39.
Там же. С. 83.
21* Там же. С. 28.
214 Там же. С. 80.
215 Там же. С. 78.
216 Мне представляется, что Хармса и Ваганова объединяет порядок
(классификация) чистоты. Вот более полный вариант этого весьма
значимого письма Хармса к Пугачевой: «Теперь моя забота создать
правильный порядок. Я увлечен этим и только об этом думаю! Я говорю
об этом, пытаюсь это рассказать, описать, нарисовать, протанцевать,
построить. Я творец мира, и это самое главное во мне. Как же я могу не
думать постоянно об этом! Во все, что я делаю, я вкладываю сознание,
что я творец мира. И я делаю не просто сапог, но, раньше всего, я
создаю новую вещь. Мне мало того, чтобы сапог вышел удобным, прочным
и красивым. Мне важно, чтобы в нем был тот же порядок, что и во всем
мире; чтобы порядок мира не пострадал, не загрязнился от
соприкосновения с кожей и гвоздями, чтобы, несмотря на форму сапога, он
сохранил бы свою форму, остался бы тем же, чем был, остался бы
чистым. // Это та самая чистота, которая пронизывает все искусства.
Когда я пишу стихи, то самым главным кажется мне не идея, не со-
Обморок мира. Поэтика случая в литературе Обэриу
держание и не форма, и не туманное понятие «качество», а нечто
еще более туманное и непонятное рационалистическому уму, но
понятное мне и, надеюсь, Вам, милая Клавдия Васильевна. Это -
чистота порядка». (Д. Хармс. Полет в небеса. С. 482-483).
217 Л. Липавский. Исследование ужаса. С. 307-310.
218 Важно отметить, что интересное тем и интересно, что оно
противостоит скуке, неинтересному, бездеятельному существованию. ЯЗ. 1о-
лосовкер посвятил интересному (как возможной категории
эстетики) целое исследование. Вот, к каким дефинициям он в конце концов
приходит: «Интересное - как привлекательное, как увлекательное,
фантастическое, сказочное, волшебное. Все это «интересное предмета», а не
«интересное как влечение».// В противовес ему скучное. Скучен
трафарет: вечно одно и то же, - бочка Данаид, - банальное, нудное,
серое, штамп». (Я.Э. Голосоквер. Засекреченный секрет. Философская
проза. Томск, «Водолей», 1998. С. 83.) Правда, в своей подробной
классификации интересного Голосквер заходит так далеко, что
определить интересное по основной функции или качеству не
представляется возможным. А это, на мой взгляд, происходит потому, что
рассматривает интересное со стороны объектов, а не со стороны
субъекта (индивида) и его влечения к ним. За интересным скрыто
желание, которое развертывает себя в непрерывности влечения к
объекту, его присвоению или разрушению.
219 Ср.: «В основе порока и вдохновения лежит то же самое. В их
основе лежит подлинный интерес. Подлинный интерес - это
главное в нашей жизни. Человек лишённый интереса к чему бы то ни
было, быстро гибнет. Слишком однобокий и сильный интерес
чрезмерно [ускоряет человеческое существо] увеличивает напряжение
человеческой жизни; ещё один толчёк, и человек сходит с ума. [Если
интерес]. Человек не в силах выполнить своего долга, если у него
нет к этому истинного интереса. Если истинный интерес человека
совпадает с направлением его долга, то такой человек становится
великим». (Д. Хармс. Записные книжки. Дневник. Книга 2. С. 194).
820 Конечно, есть «игра на интерес», да и сама игра (практически
любая) есть четко проявленный интерес к такому именно занятию.
Но это слишком общо, мы же говорим об интересе скорее в кирке-
горовском смысле: inter-ecce, существовать, быть между, точнее, как
существование не в месте, а между местами, это значит существовать
в движении, а еще более точно - в прыжке, на переходе.
Там же. С. 319.
222 В «Дневнике» Хармса есть запись о том, что его интересует и
что он любит, отчасти несовпадающая с тем перечислением инте-
598
Примечания
ресного, что им приведено в «Разговорах» Липавского. (Д. Хармс.
Записные книжки. Дневник. Книга 2. С. 18-21).
223 Марк Аврелий. Наедине с собой. Размышления. Москва,
Издание М. и С. Сабашниковых, 1914; Я. Адо. Что такое античная
философия? Москва, Издательство гуманитарной литературы, 1999.
224 М. Бубер. Два образа веры. Москва, «Республика», 1995. С. 31.
225 В отличие от письма живая речь в общее есть речь толкующая,
интерпретирующая и постоянно уточняющее сказанное, и в это
онтологический смысл понимания: человек может быть собой только
в качестве понимающего. (Х-Г. Гадамер. Истина и метод. Москва,
«Прогресс», 1988. С. 452).
226 Ср. : « В разговорах переходят от одной темы к другой по какому-
то закону; потом вдруг покидают линию, по которой шли, начинают
другую. Я бы хотел узнать законы разговора. Для этого, чтобы их
установить, мне придется исследовать гораздо шире, как
математику, который, решая частную задачу, добивается формулы наиболее
общей, предусматривающей и такие случаи, которые фактически
не встречаются. Я хочу создать математику разговоров». (Л. Липав-
ский. Исследование ужаса. С. 414.)
227 См.: «Квалификация же зауми как способа зашифровки
антисоветской агитации может быть связана с показаниями Терентьева,
арестованного в Днепропетровске 24 января 1931 года. Согласно
этим показаниям, "беспредметничество", которое лежало в основе
всех этих групп, начиная от Малевича, Мансурова, Филонова,
Матюшина с их учениками и кончая обэриутами во главе с Введенским и
Хармсом, представляло собой, с одной стороны, способ
шифрованной передачи за границу сведений о Советском союзе /.../; с другой
стороны, то же "беспредметничество" представляло собой
идеологическую и техническую базу для контрреволюционной работы всех
видов формализма...» (М. Мейлах. «Я испытывал слово на огне и на
стуже...» - Поэты группы «Обэриу». С. 16.)
Тогдашняя власть остро чувствовала и этот вызов и это бегство, и
преследовала всякую попытку отгородиться от нее, уйти на глубину,
в духовную крипту. Бегство Терентьева, Введенского... Обреченность
была уже в самом поэтическом даре обэриута, в том, что каждый из
них был абсолютно чужд недавно народившейся массе советских
обывателей: непонятность обэриутской речи стала приговором.
Другими словами, сама их поэтическая речь была шифром в глазах
карательных органов.
228 А. Никитаев. Тайнопись Даниила Хармса. - Рисунки Хармса.
СПб. Изд-во Ивана Лимбаха, 2006. С. 238, 244.
599
Обморок мира. Поэтика случая в литературе Обэриу
229 «Театрализация себя», как основной прием жизни Хармса,
прекрасно описан ААлександровым: «В течение короткой жизни Хармс
создал продуманную до мелочей - от одежды и собственного
алфавита до стихотворных заклинаний и масок-псевдонимов - систему
поведения. Смысл системы состоял в том, чтобы помочь художнику
не подчиняться косности быта и жить романтической
устремленностью к высокому. Или, говоря словами Хармса, быть готовым к
«полету в небеса». (А. Александров. Чудодей. Личность и творчество
Даниила Хармса. -Д. Хармс. Полет в небеса. М., 1991. С.15.)
23° Важное наблюдение: «А удовольствие от шифровки
заключено в том, чтобы одновременно и устранить язык, и сказать дважды».
(Ж. Женетт. Фигуры. Работы по поэтике. Москва, Издательство
имени Сабашниковых, 1998. С. 366).
231 По мнению Старобинского, у Стендаля явно просматривается
тенденция к перевоплощению, - увлеченной игре в новое телесное
облачение и маску. Литература служит для этого прекрасным
инструментом: «Стендаль мечтает занимать несколько тел
одновременно. Совершаемая им метаморфоза не имеет ничего общего с
безличностью, это умножение своего V, подлинная "сверхличность".
Он не просто хочет стать другим, он хочет стать многими сразу».
(Ж. Старобинский. Поэзия и знание. История литературы и культуры.
Москва, «Языки славянской культуры», Москва, 2002. С. 407 (сост.,
ред. и автор пред. С.Н. Зенкин).
232 Вот что, например, полагает Поль Валери: «Что касается
эготизма Стендаля, то он подразумевает веру в Я-натуральное
(естественное), для которого культура, цивилизация являются врагами». И
в другом месте еще более точно: «Литературный эготизм в конечном
счете состоит в том, чтобы играть роль себя». (P. Valéry. Œuvres.
Volume I. Paris, Gallimard, 1957, p. 564, 566).
В сущности, Валери пытается развести в разные стороны
натуральное и конвенциональное Эго, и сделать так, чтобы натуральное
отступило под натиском конвенционального.
233 Ср.: «Я и жена - 1. мой кабинет. 2. библиотека. 3. зальце. 4.
спальня. 5. комната жены. 6. столовая. 7. гостиная. 8. запасная, папа.
- 1. кабинет. 2. спальня. Наташа - комната. Машенька - комната,
общие - 1. зал. 2. столовая. 3. запасная. 4. запасная. Лиза и Володя - 1.
кабинет. 2. спальня. 3. столовая. 4. детская. 5. зальце. 6. гувернер. //
8+2+1+1+4+6=24». (Д. Хармс. Записные книжки. Книга 2. С. 21.) Так
мог бы выглядеть, по Хармсу, проект заселения его новой квартиры.
234 Хармс разбирает разного рода алгебраические знаки,
указывающие на операции математических преобразований. (Там же. С. 380.)
600
Примечания
235 Хармс записывает: создать «машину философских идей». И
это машины особенные, они производят случайное и
непредвиденное, они готовят нас к чуду, по сути дела, к остановке времени.
Ср. также: «Сила, заложенная в словах, должна быть освобождена.
Есть такие сочетания из слов, при которых становится заметней
действие силы. Нехорошо думать, что эта сила заставит двигаться
предметы. Я уверен, что сила слов может сделать и это. Но самое
ценное действие силы почти неопределимо. Грубое представление
этой силы мы получаем из ритмов ритмических стихов. Те сложные
пути, как помощь метрических стихов при двиганий каким-либо
членом тела, тоже не должны считаться вымыслом. Эти грубейшие
действия этой силы вряд ли доступны нашему рассудительному
пониманию. Если можно думать о методе исследования этих сил, то этот
метод должен быть совершенно иным, чем методы, применяемые
до сих пор в науке. Тут раньше всего доказательством не может
служить акт или опыт. Я ХЫ затрудняюсь сказать, чем придется
доказывать и проверять сказанное. Пока известно мне четыре вида
словесных машин: стихи, молитвы, песни и заговоры. Эти машины
построены не путем вычисления или осуждения, а иным путем, название
которого АЛФАВИТ». (Д. Хармс. Горло бредит бритвою. С. 93).
236 Ванна Архимеда. Ленинград, «Художественная литература»,
Î991.C.458.
237 На первый взгляд, положение Друскина кажется особым: он
тот, кто не только пережил всех своих друзей, и это, действительно,
привилегия судьбы, но и тот, кто спас архивы Введенского и Хармса
(то, что от них осталось). Правда, в последние десятилетия жизни
он все чаще берет на себя роль религиозного метафизика, считая
себя ответственным за правильное понимание творчества обэриутов.
Иногда, читая размышления Друскина, кажется, что у обэриутов и
не могло быть другого пути, как только идти через поэзию к истинной
вере. Однако проблема пути post mortem для трагически ушедших
поэтов не снята. В рассуждениях Друскина Бог существует в разных
обличьях - не только веровательных, но и образных, концептуальных,
даже чисто инструментальных. Бог для него - некая универсальная
субстанция, в пределах которой развертывается частная
метафизика веры, или то, чему он сам дает имя метатеологии. Вероятно, хотя
и с известной осторожностью, нужно говорить о светском характере
веры Друскина, не воцерквленной.
*з8 Ср.: «Наконец, смерть Д.И.(Ха рмса), - уже незаменимая
жертва. Чтобы она не была такой бессмысленной и ужасной, я снова
должен начать писать». (Я. Друскин. Дневники. С. 133).
601
Обморок мира. Поэтика случая в литературе Обэриу
239 Ср.: «Здесь говорится о том, чего не понимают многие
исследователи творчества Хармса: не экстравагантные черты в одежде и
разговорах в общественных метах с неблизкими людьми, с которыми
он не мог быть откровенным, и не воспоминания о нем этих же
людей (имею в виду, конечно, не все воспоминания о Хармсе)
определяют его личность, но общение с друзьями, их творческое
взаимовлияние, которое можно оценить лишь при сравнительном анализе
произведений чипарей. До сих пор сохраняется неправильное
представление о Хармсе и его творчестве, основанное на двухлетнем
участии Хармса в ОБЭРИУ (Объединении реального искусства) -
экзотерическом сообществе поэтов, объединившихся только для
внешних целей». (Я. Друскин. Дневники. С. 508).
24° Я. Друскин. Перед принадлежностями чего-либо. Дневники.
1963-1979. Санкт-Петербург, «Академический проект», 2001. С. 420).
Подобные приемы проверяет на собственных ощущениях и Д.Хармс:
«Хотим предложить разделить все произведения искусства на два
лагеря: 1) Огненный и 2) Водяной. // Поясняем примерами: 1) Если
пройти по Эрмитажу, то от галереи, где висят Кранах и Гольбейн и
где выставлено золоченое серебро и деревянная церковная резьба,
остается ощущение водяное. //2) От зала испанского — огненное,
хотя там есть образцы чисто водяного явления (монахи с лентами
изо рта)». (Д. Хармс. Горло бредит бритвою. - Глагол. 4.1991. С. 84.)
241 Ср.: «Обэриу можно назвать экзотерической организацией -
объединение поэтов, совместно выступавших, чинари -
эзотерическое объединение, к которому принадлежали еще Леонид Липав-
ский и Николай Олейников» (А. Введенский. Произведения 1938-1941.
Том 2. С. 164).
242 Конечно, нужно помнить здесь о той легендарной мифологии,
которую основатели довольно-таки узкого литературного
сообщества Обэриу изобретали для внутреннего потребления. Чем более
связи с внешним миром ослаблялись, и тот становился все более
враждебным, тем большее значение имели знаки поэтической и
человеческой избранности. Вестник - это легендарный персонаж
поэтической игры, он должен спасти поэта от будущего ужаса,
подступившего к нему совсем близко.
243 Я. Друскин. Вестники и их разговоры. - Логос. Философско-
литературный журнал. 1993. Москва, №4. С. 91-92
244 Там же. С. 168.
2« Д. Хармс. Полет в небеса. С. 503-504. (22 августа 1937).
246 Вот книги Густава Фехнера, особо близкие теме «вестников»:
Nanna oder über das Seelenleben der Pflanzen, Leipzig, 1848; Zend-
602
Примечания
Avesta oder über die Dinge des Himmels und des Jenseits. Vom
Standpunkt der Naturbetrachtung, 3 Bände, Leipzig, 1851; Ueber die
Seelenfrage. Ein Gang durch die sichtbare Welt um die unsichtbare zu finden,
Leipzig, 1861. Особенно, первая книга «Нанна, или душевная жизнь
цветов». В данном случае я опираюсь на изложение идей Фехнера,
данное У. Джеймсом в его знаменитом исследовании «Вселенная с
плюралистической точки зрения». (Москва, книгоиздательство
«Космос», 1911. С. 74-98). Конечно, я не собираюсь излагать в целом
философию природы Фехнера, а только указать на некоторые
значимые для связи эквиваленции. Фехнер каждый цветок и всякое
растение, как и саму Землю, наделяет душой. Так он предполагает, что
растения обладают определенной и часто драматической
чувственностью, которая может быть истолкована в качестве свидетельства
сознания: мир и все существующее в качестве Природы/Космоса
подчиняется принципу составления: все составляется в мире из
раздельных и автономных существований, «душ» или «духов». Все
составляется из другого себе, и всякое другое включает в себя более
малое, которое видит себя через большее, чем оно само. Если мы
наблюдаем за миром из своего уголка, то и мир наблюдает за нами
из более обширной и бесконечной перспективы. Возможно, что
вестник и вестничество как форма душевно-растительной, ангельской
жизни приходит к нам из этой фехнеровской утопии, в границах
которой, как мне кажется, можно дать теме вестника наиболее
подробный, но и мистический комментарий.
(См. также: Г. Т. Фехнер. Книжица о жизни после смерти. - 1ерметизм,
магия, натурфилософия в европейской культуре XII-XDC вв. Москва,
Канон+ОИ «Реабилитация», 1999. (Под редакцией И.Т.Касавина).
247 Не все согласны с тем, что растение столь безобидно и
покорно внешней среде, что будто бы оно полностью поглощено
пространством: «Поэтому растение лучше нас знает, против чего оно должно
направить свое возмущение, не разбрасывая, подобно нам, своих
сил. И энергия этой idee fixe, которая возникает из мрака корней
для того, чтобы окрепнуть и распуститься в свете цветка,
представляет собой несравненное зрелище. Вся она выражается в одном
неизменном порыве, в стремлении победить высотою роковую тяжесть
глубины, обмануть, преступить, обойти тяжелый мрачный закон,
вырваться на волю, разбить узкую сферу, изобрести или приманить
к себе крылья, убежать из плена как можно дальше, победить
пространство, в котором заключил его рок, дотянуться до другого
царства, проникнуть в мир движущийся и оживленный...». (М.Метерлинк
Разум цветов. Москва, «Московский рабочий, 1995. С. 122.)
603
Обморок мира. Поэтика случая в литературе Обэриу
Еще более активно позицию «неприятия» мира растений когда-то
выразил Вяч. Иванов в разговорах с М. Альтманом: «Как из одной
тональности, чтоб перейти в другую (хотя и необходимую)
тональность, нужно не миновать ни одного промежуточного звена, иначе
получится ужасная какофония, так и к каждой добродетели нужно
прийти последовательно через все ступени. Если б мы все стали
вегетарианцами, то это развило бы в нас такую ужасную паучью
жестокость, что мир бы содрогнулся. Слава Богу, что мы не
вегетарианствуем. Я думаю, что принятию животных в себя обязаны мы нашим
благородством. [Зверю в себе должны мы быть благодарны, что мы
люди. И я не хочу, чтоб мы стали растениями. Что может быть
ужаснее! О, ужас, ужас! - при этом В. закрыл лицо, как бы отстраняясь
от невыносимого зрелища, - я это видел своим внутренним зрением,
когда в растении начинает вдруг зарождаться зверь. Вы представьте
только себе весь этот метафизический ужас, у меня нет слов для его
передачи, когда вы вдруг видите, как в чашечке цветка вдруг
выросла шерсть, показался глаз, щупальце. Для меня в этом предел ужаса.
- Да, я Вашу мысль улавливаю, и Бальмонт пишет об аналогичном:
Нередко мы думаем, будто растенья -
Суть алость улыбки и нежный цветок.
Нет, в мире растений - борьба, убиенье,
И петли их усиков - страшный намек.
Ухватят, удушат, их корни лукавы,
И цвет орхидеи есть лик палача.
Люблю я растенья, но травы - удавы,
И тонкость осоки есть тонкость меча.
- Это не совсем то, - сказал В., - это тоже страшно, когда в мире
растений мы наталкиваемся на то, что мы определенно можем назвать
«злом», но то, о чем я говорю, много страшнее, здесь ужас в том, что
два царства, растительное и животное, обычно совершенно
отделенные, вдруг переходят одно в другое.
- Но разве они так отделены друг от друга, ведь они беспрерывно
диффундируют друг в друга.
- Да, но, во-первых, что удается природе самой сделать, то при
искусственных условиях невыносимо, но и при естественной
диффузии должны быть ужасающие критические моменты. Я это раз видел
в душе человека, как в его растении зародился вдруг зверь. Вот Ваша,
М.С., стихия - Вода, но Вы не хотели бы стать водой, а только быть
около воды, так и я хочу быть возле растительного царства, но не в
604
Примечания
нем. Я интуицией своей постигаю растения и знаю, что они движутся
от будущего в прошлое. Если мы представим себе весь мировой путь в
виде круга, то мы и растении в этом круге движемся в направлениях
как раз противоположных. Вот Федоров — гений с интуицией
растений, оттого его интуиция для нас так необычайна. Он движется из
будущего в прошлое, и по мере его движения встают один за другим
мертвецы из могилы, оттого и главная его идея — воскрешение отцов,
он идет туда (в рай), откуда мы исходим». ( М.С. Альтман. Разговоры
с Вячеславом Ивановым. ИНАПРЕСС, С.-Петербург, 1995. С. 82-83.)
248 Владимир Глоцер. Марина Дурново. Мой муж Даниил Хармс.
Москва, ИМА Пресс, 2005. С. 107-108.
Научное издание
Валерий Александрович Подорога
Мимесис
Материалы по аналитической антропологии литературы
в двух томах
Том 2. Часть I. Идея произведения.
Experimentum crucis в литературе XX века
А.Белый. А.Платонов. Группа Обэриу
Дизайн и верстка И. Бернштейн
Редактор И. Эбаноидзе
Подписано в печать 19.05.2011. Формат 60x90/16.
Гарнитура NewbaskervilleC. Печ. л. 38.
Тираж 2500 экз. Заказ № 2791.
Издательство «Культурная Революция»
Адрес Москва, ул. Новосущёвская, д. 196
Телефон (499)9731662
E-mail editor@kultrev.ru
При участии ООО «ЭМПРЕЗА»
Отпечатано в полном соответствии с качеством
предоставленных материалов в ОАО «Дом печати — ВЯТКА»
610033, г. Киров, ул. Московская, 122
Факс: (8332) 53-53-80, 62-10-36
http://www.gipp.kirov.ru
e-mail: pto@gippkirov.ru
- · .
Валерий Александрович Подорога (1946 г.р.),
доктор философских наук, автор книг
и почти 200 научных статей, эссе, бесед;
ряд его работ переведены в США, Англии, Австрии,
Франции, Нидерландах, Германии, Японии.
Наиболее значимые этапы научного пути
отражены в книгах:
Метафизика ландшафта. (1993),
Выражение и смысл. (1995),
Феноменология тела. Введение
в философскую антропологию. (1995),
Навязчивость взгляда. М.Фуко и живопись. (1999),
Мастерская визуальной антропологии.
Курс лекций. (2001. Соавт.),
Авто-био-графия. Вопрос о методе. (2001. Соавт.),
Мимесис. Материалы по аналитической антропологии
литературы. Том 1. (2006),
Апология политического (2010)
Премия имени Андрея Белого (2001).
Живет и работает в Москве.
9,785250,,060912