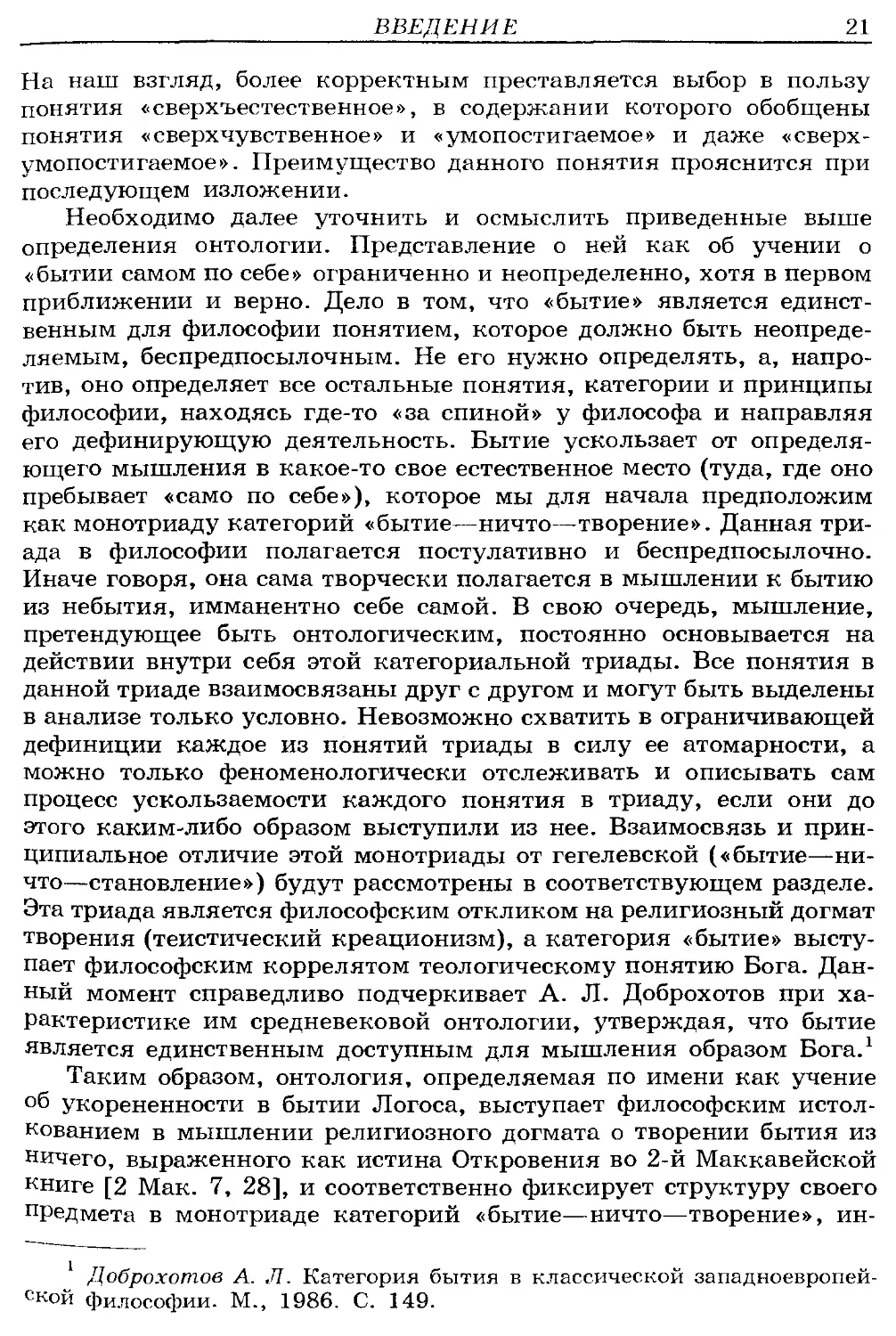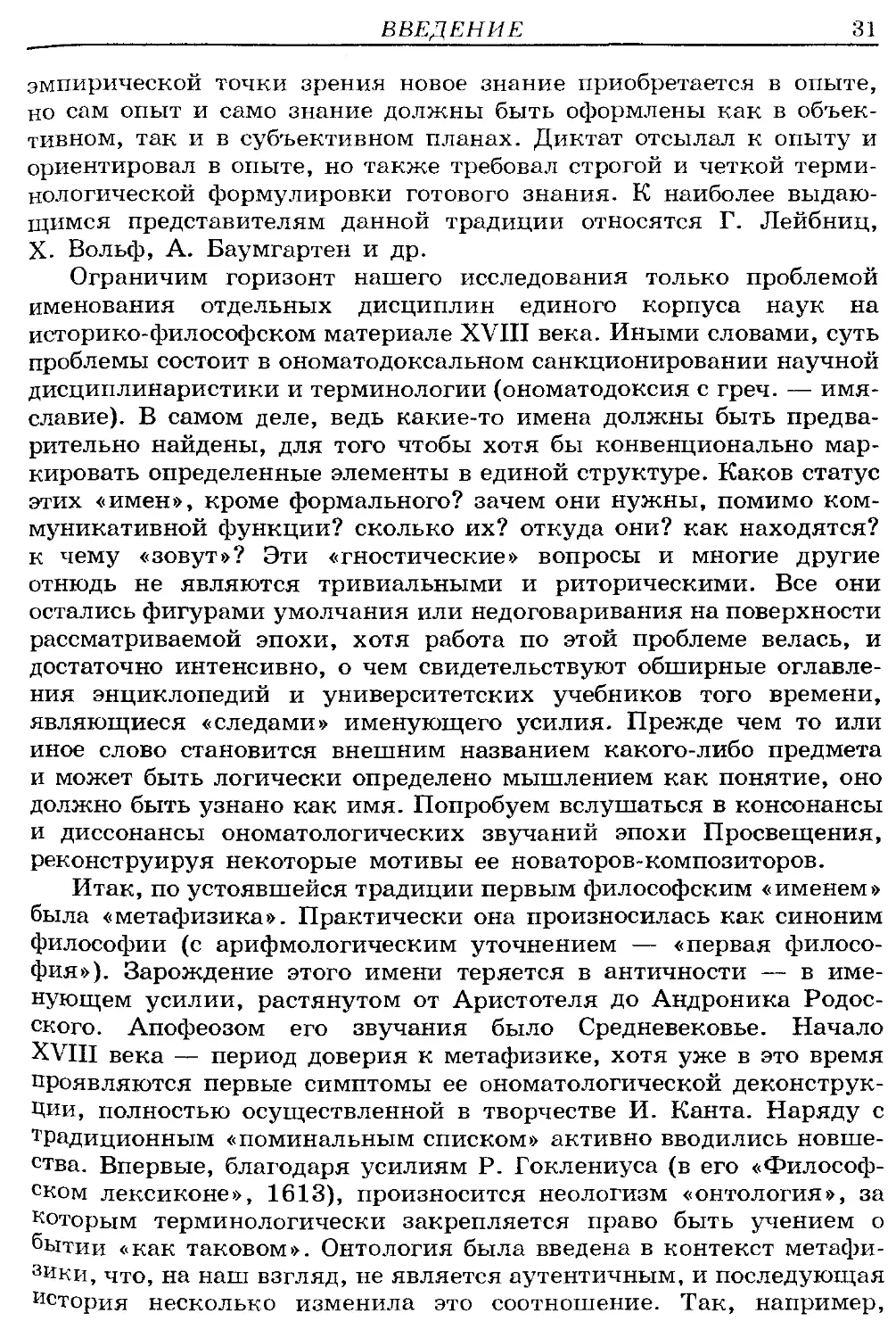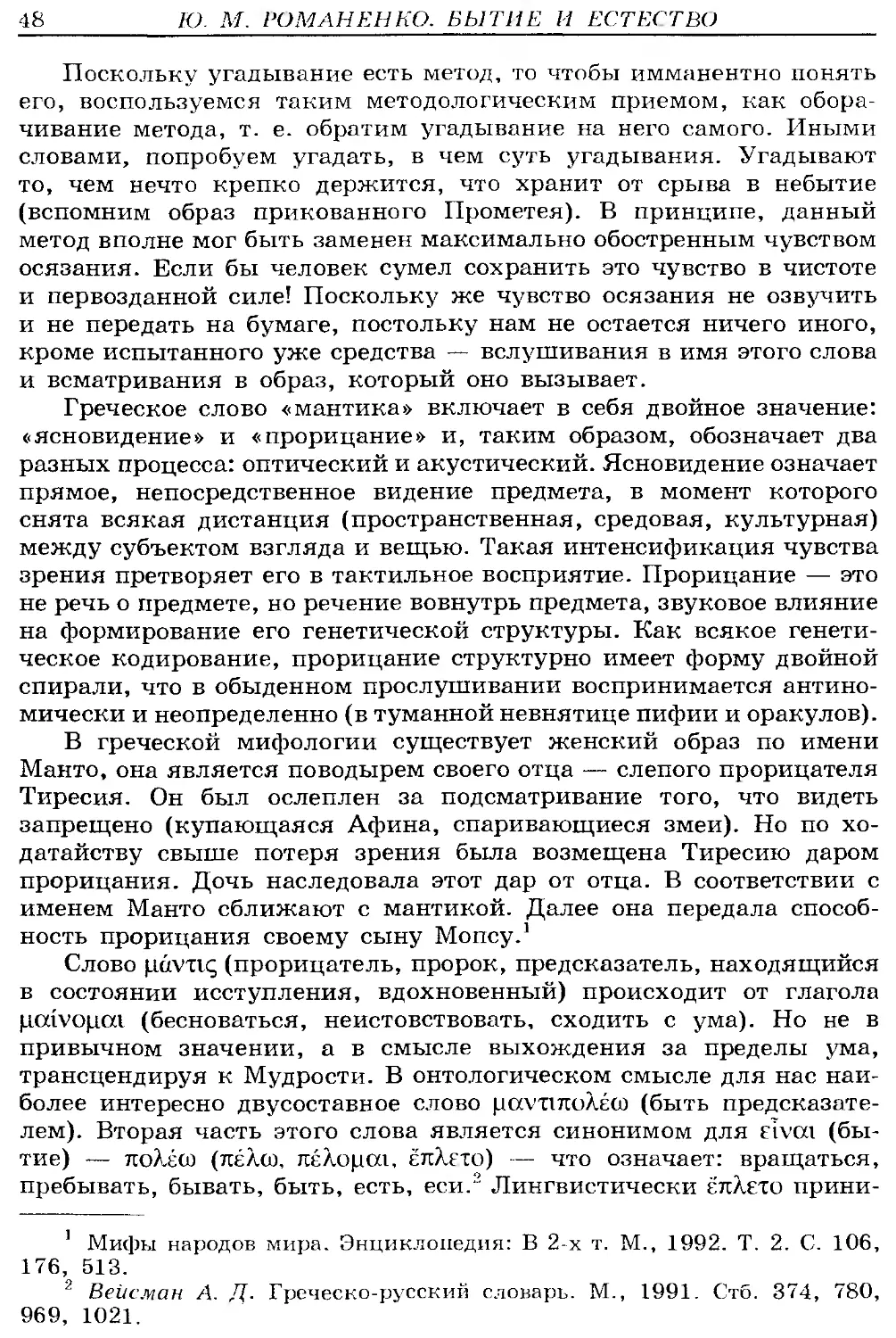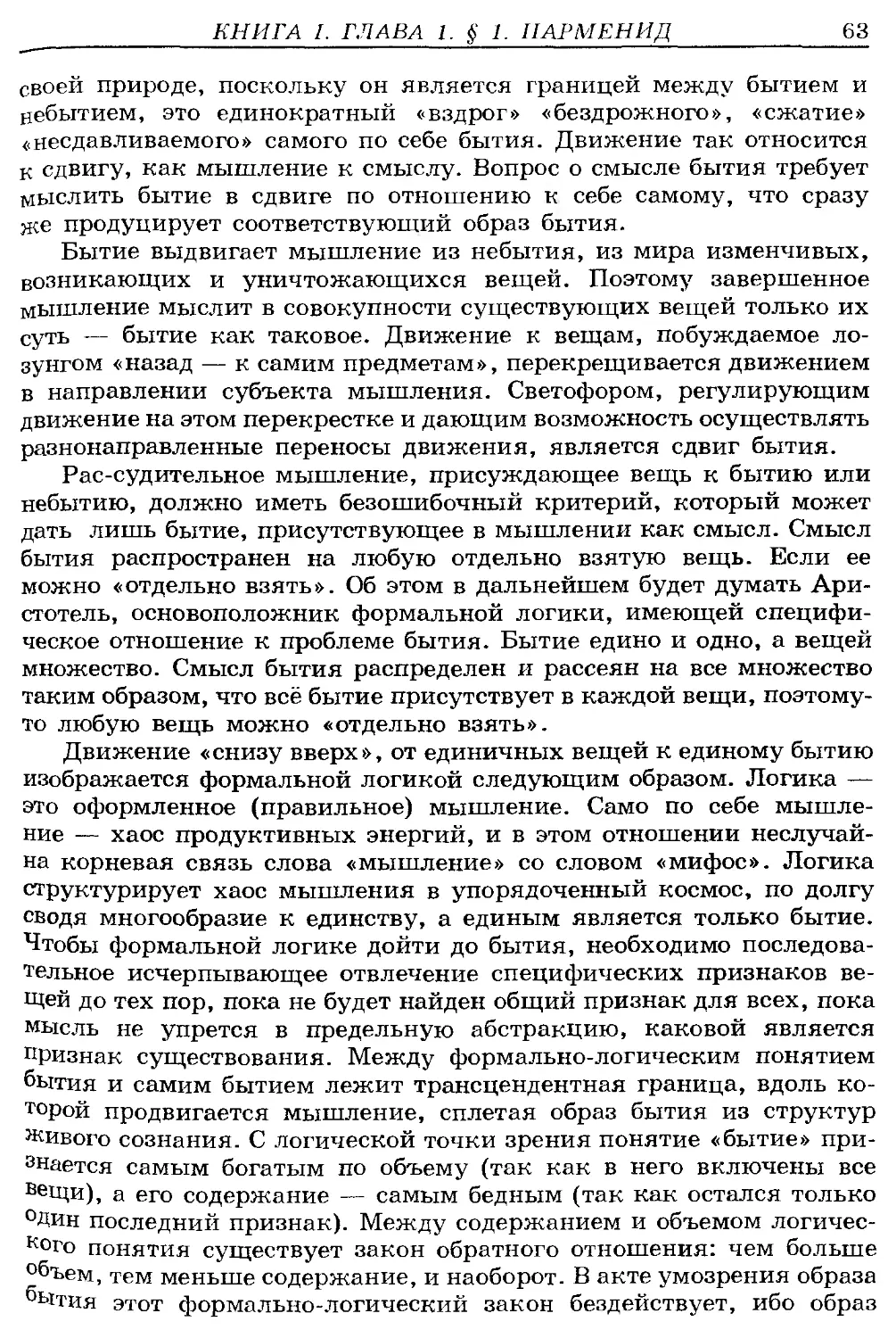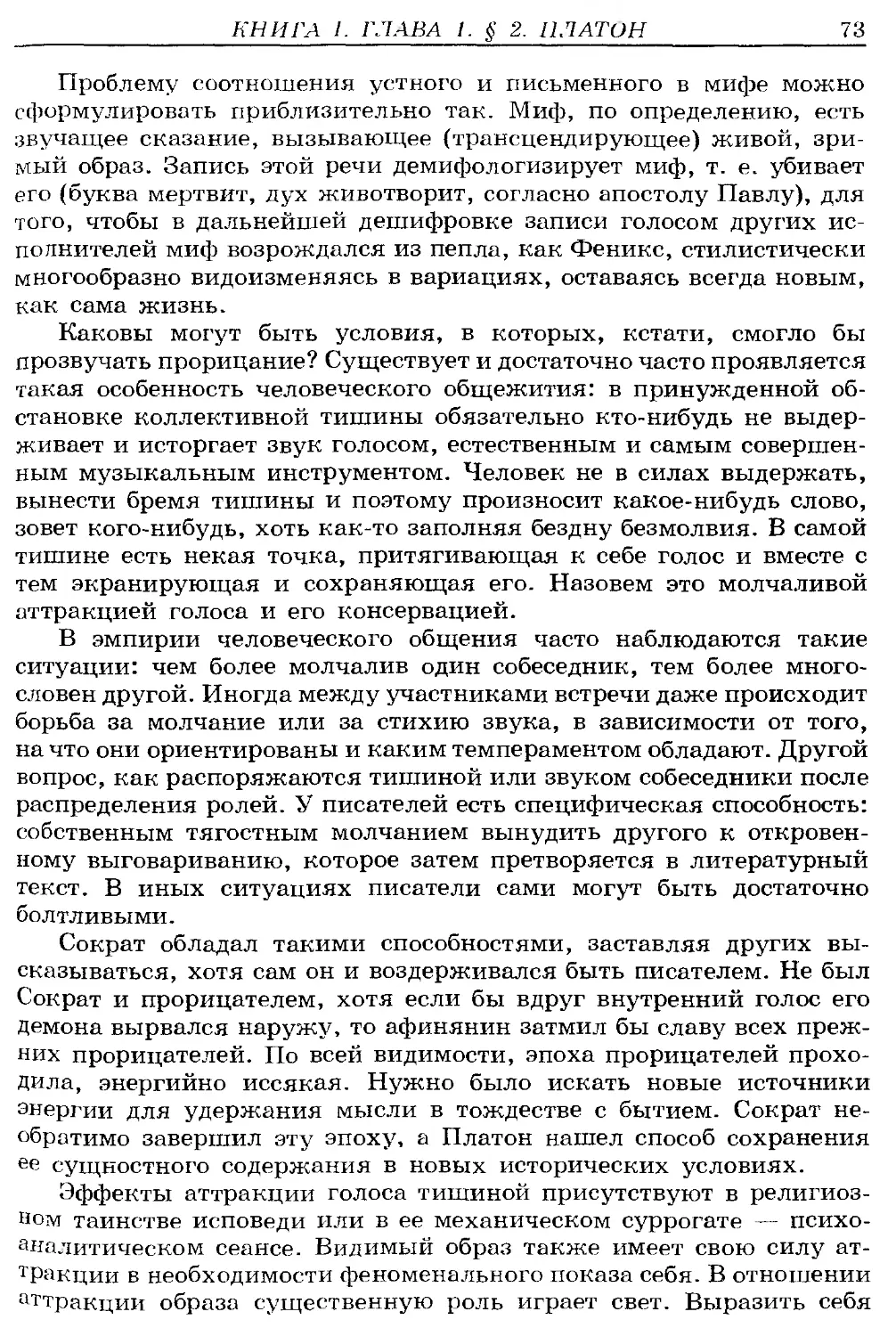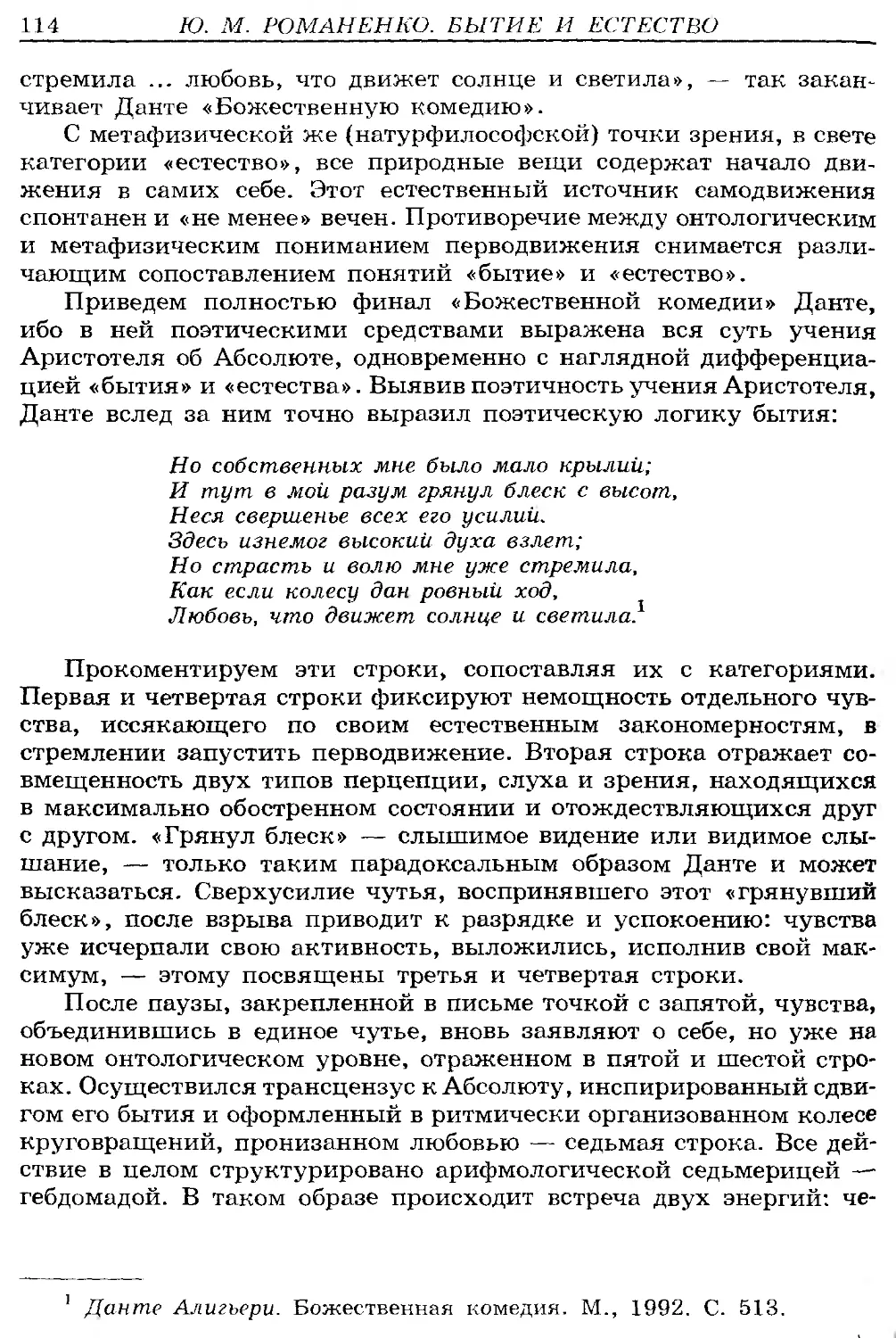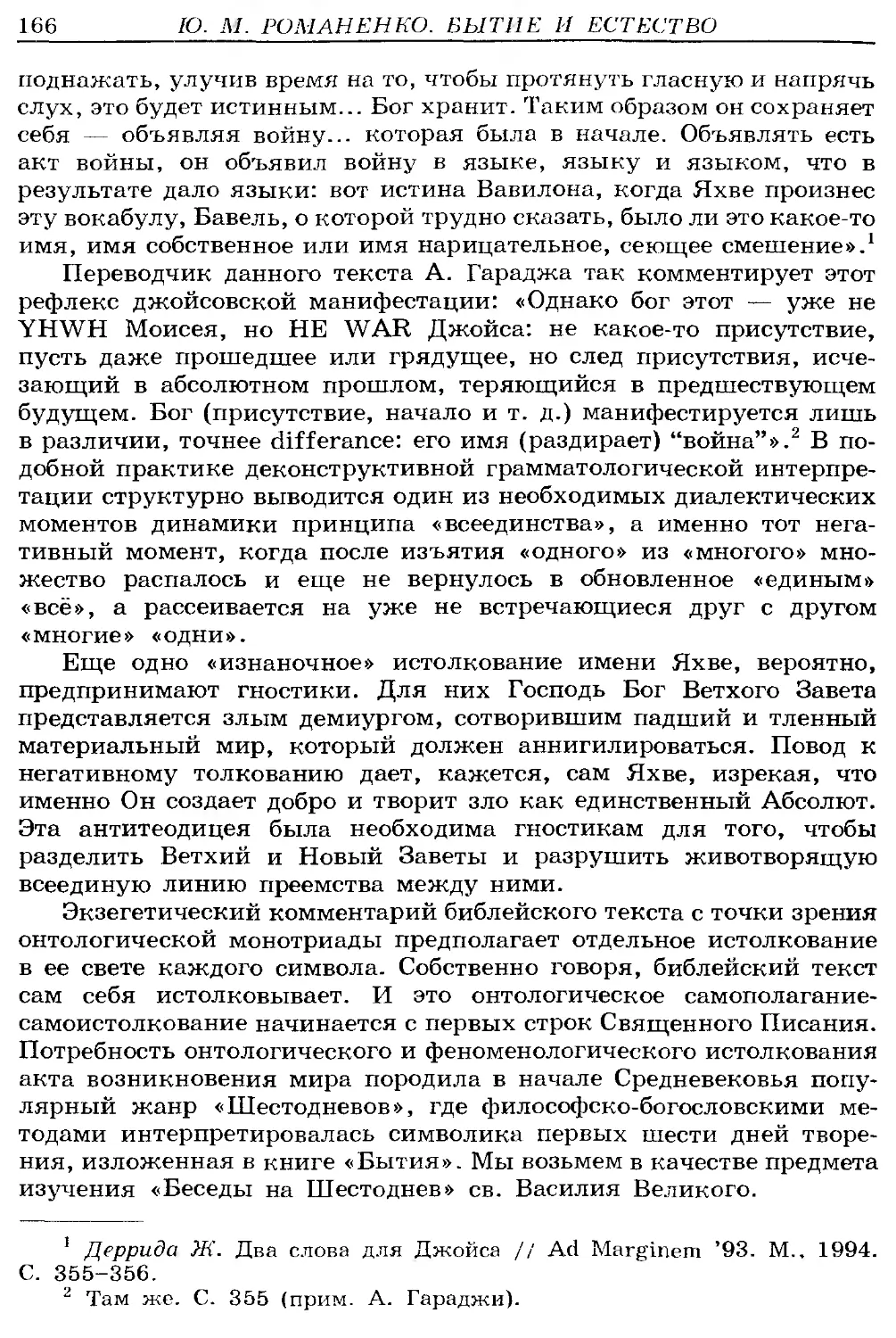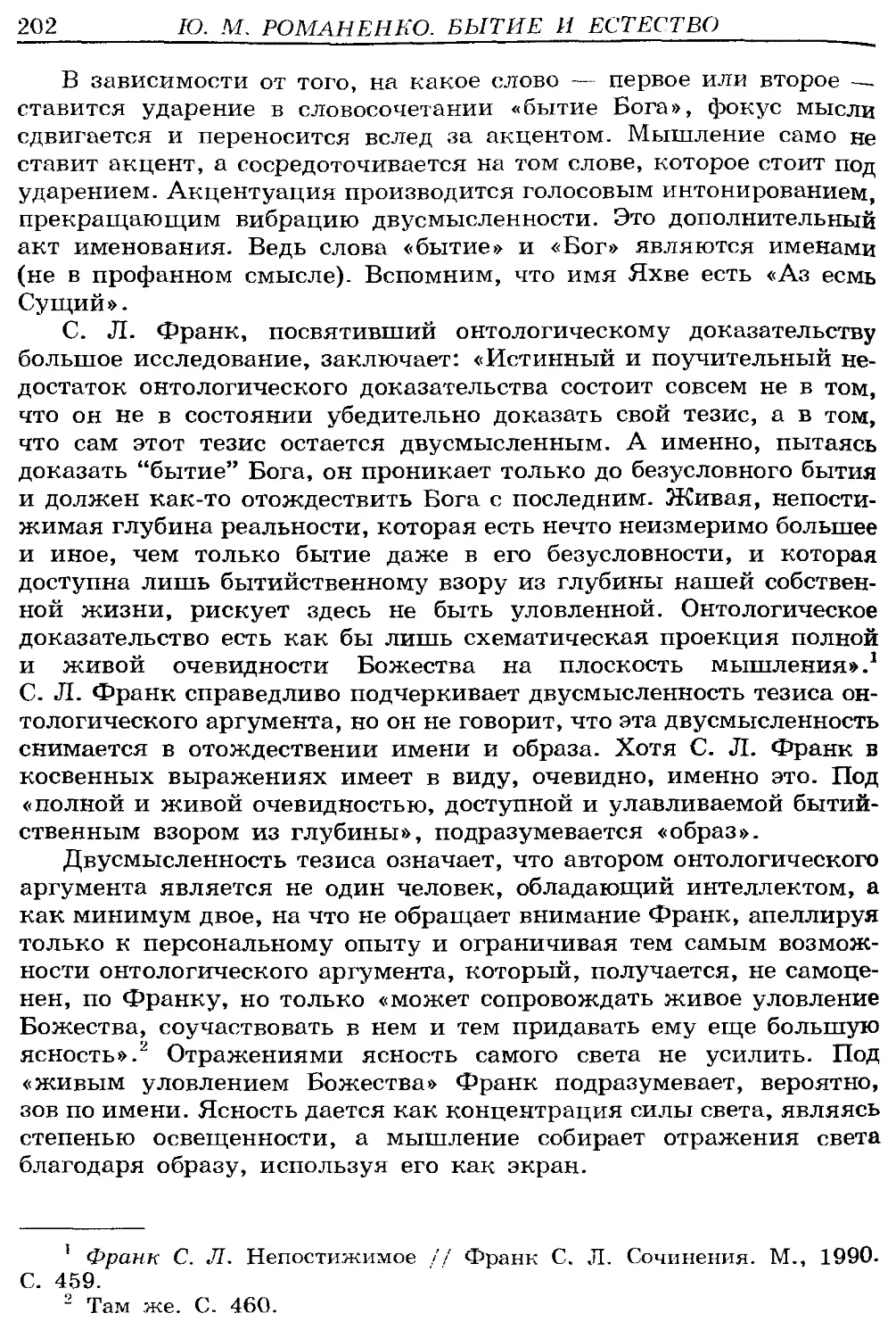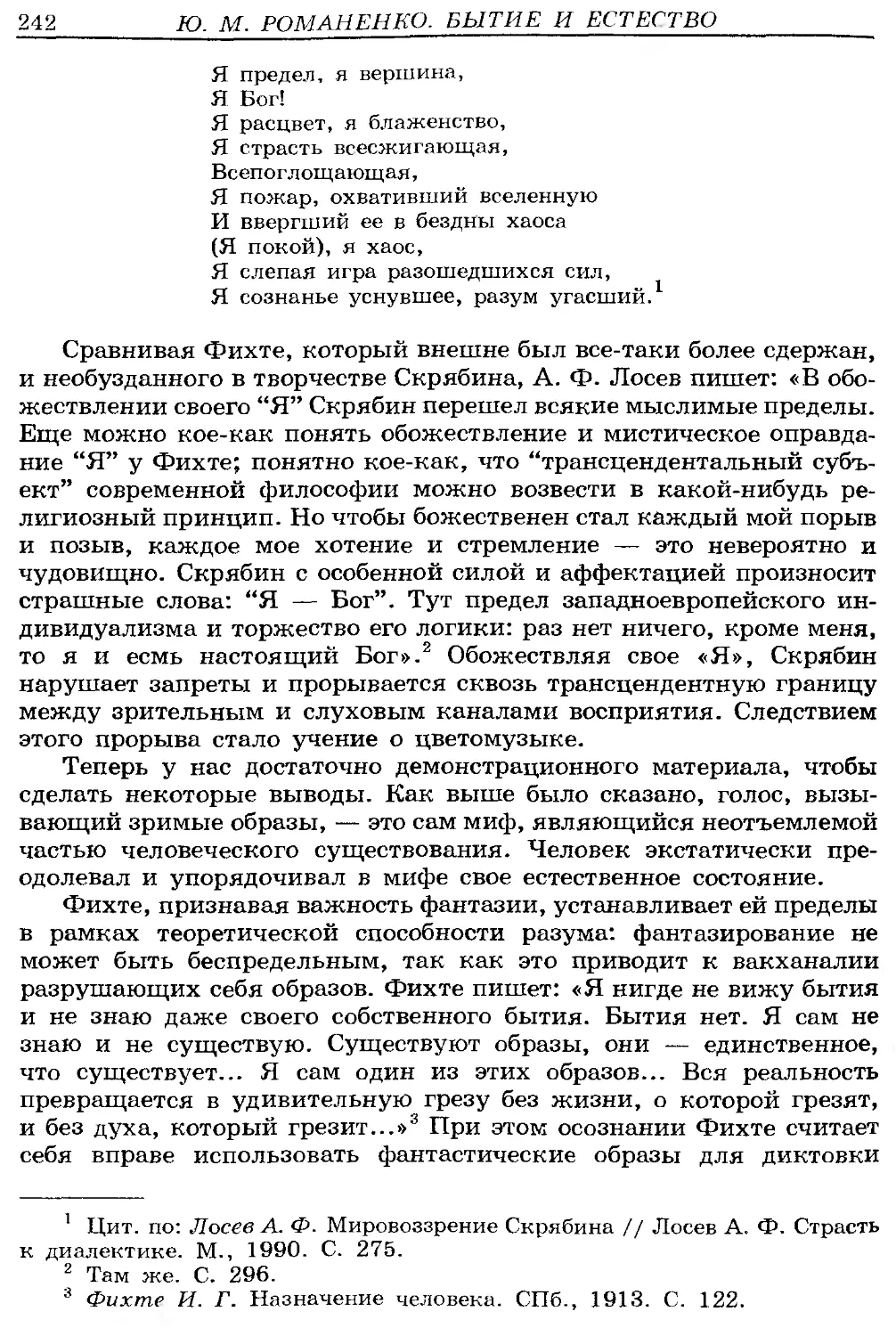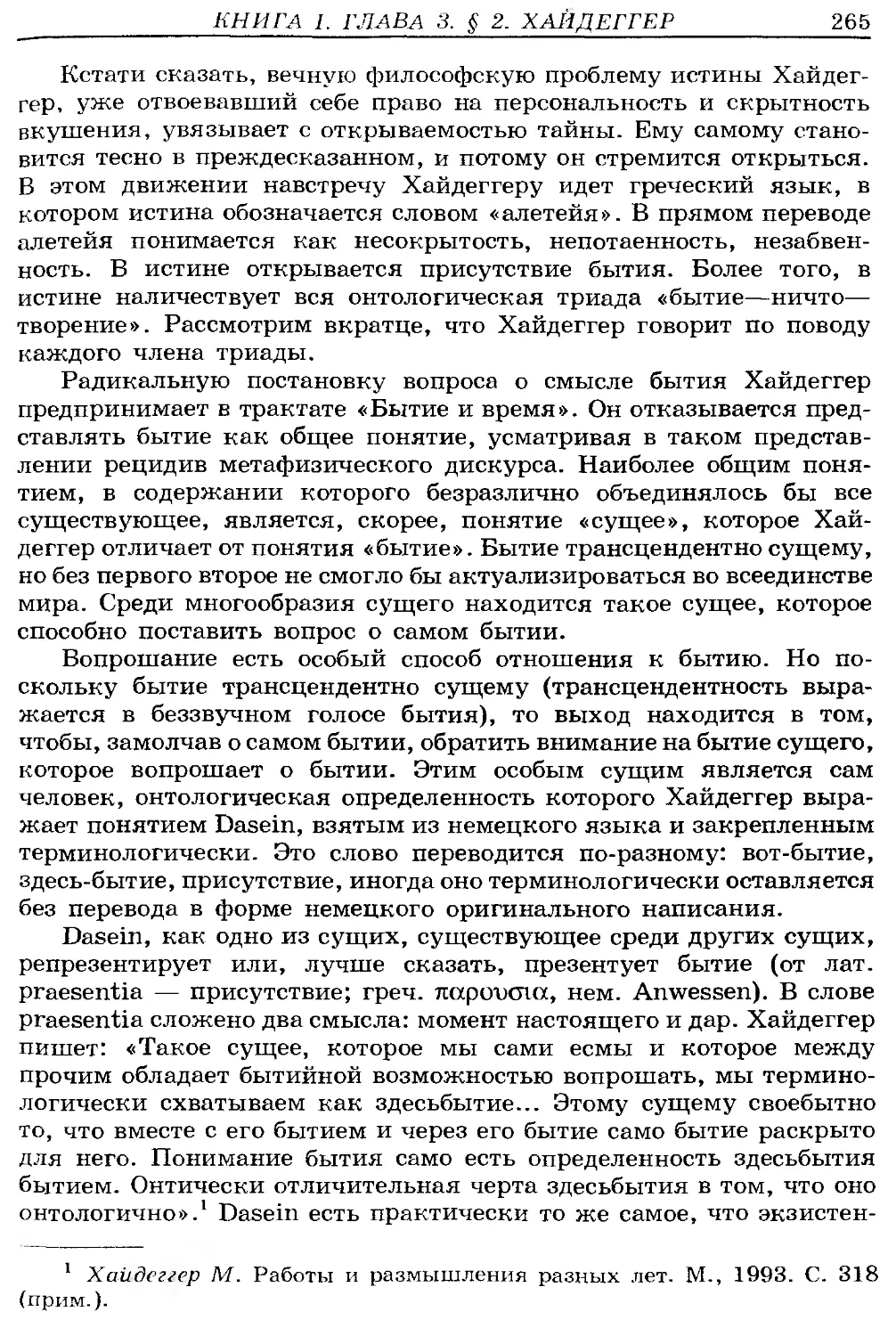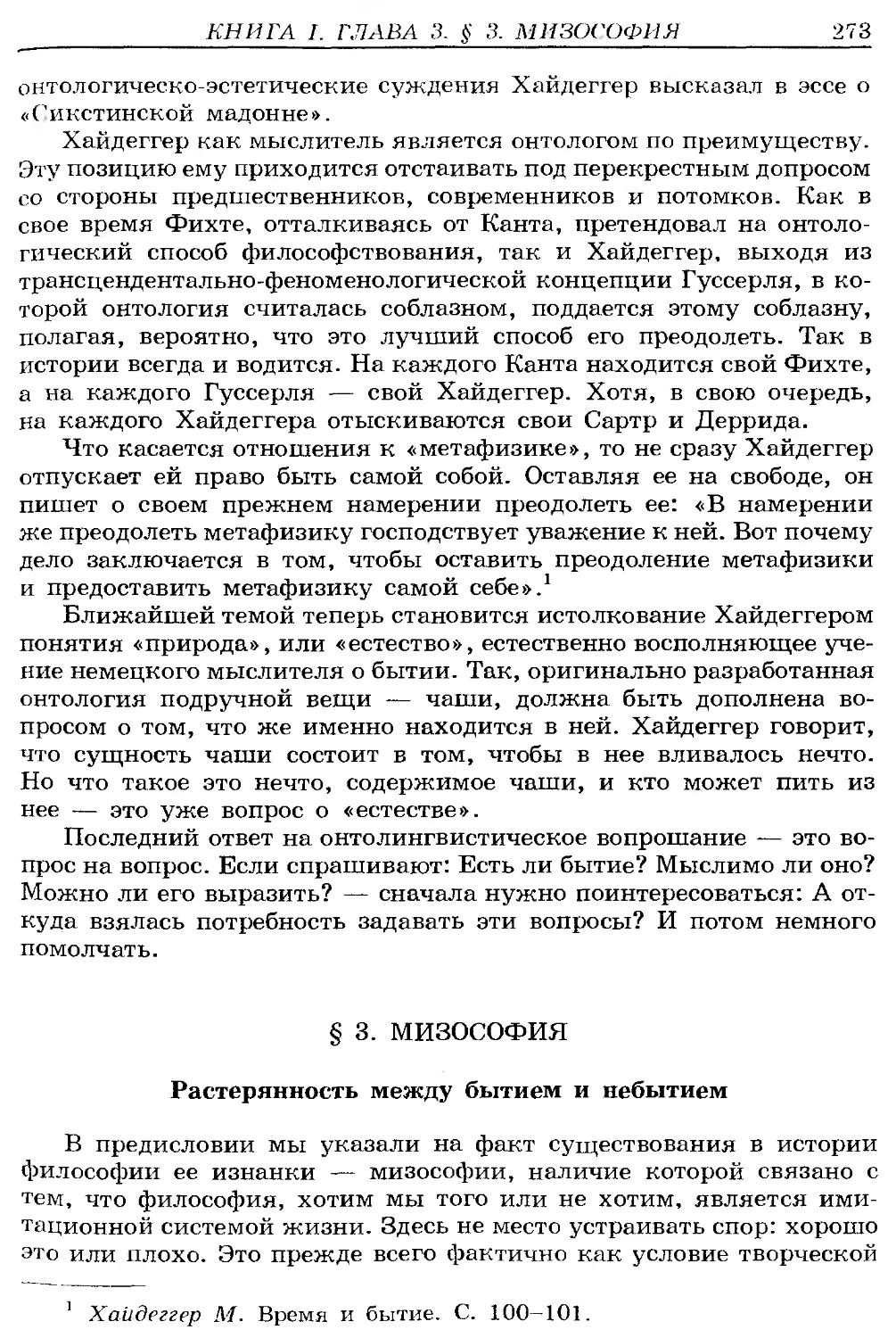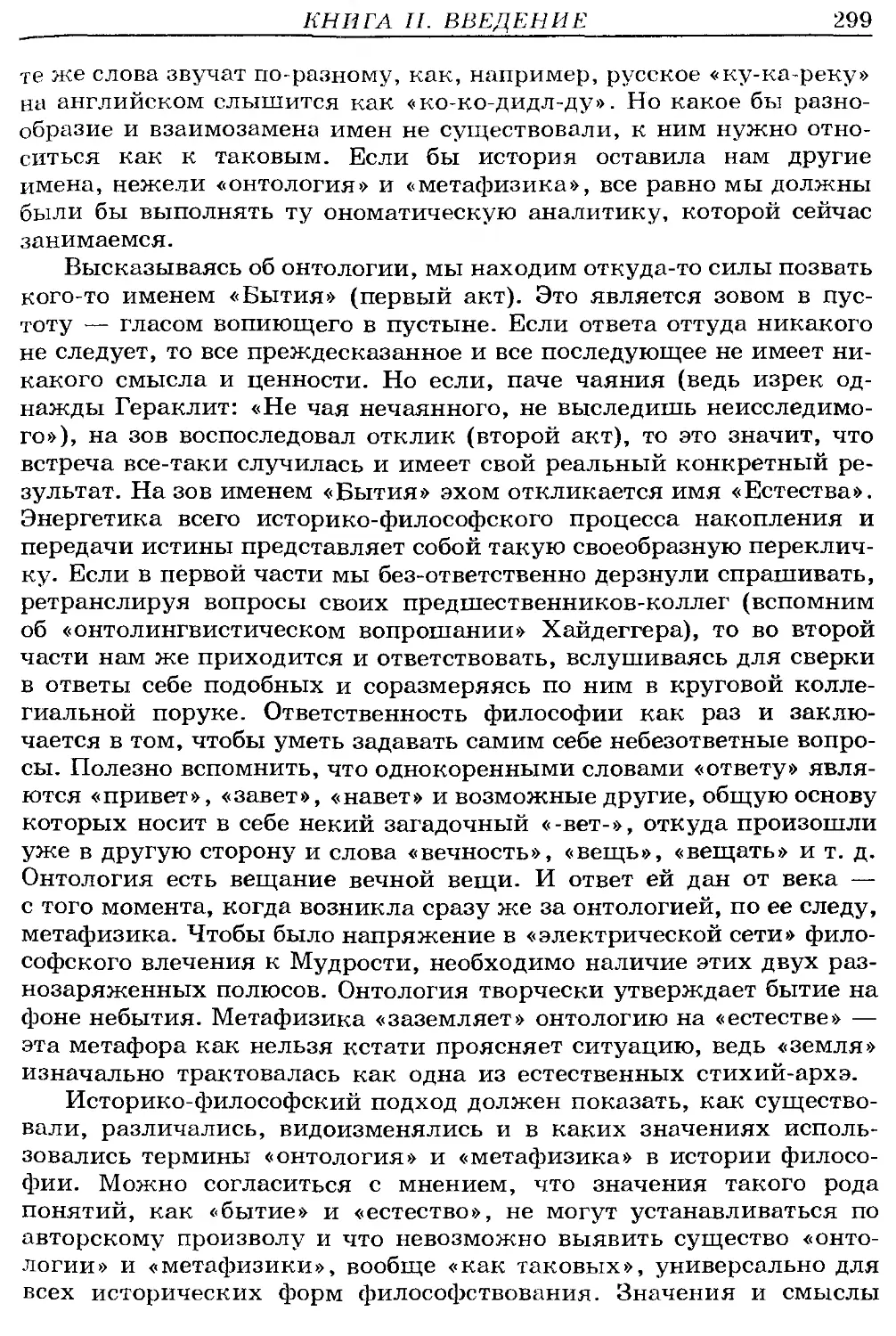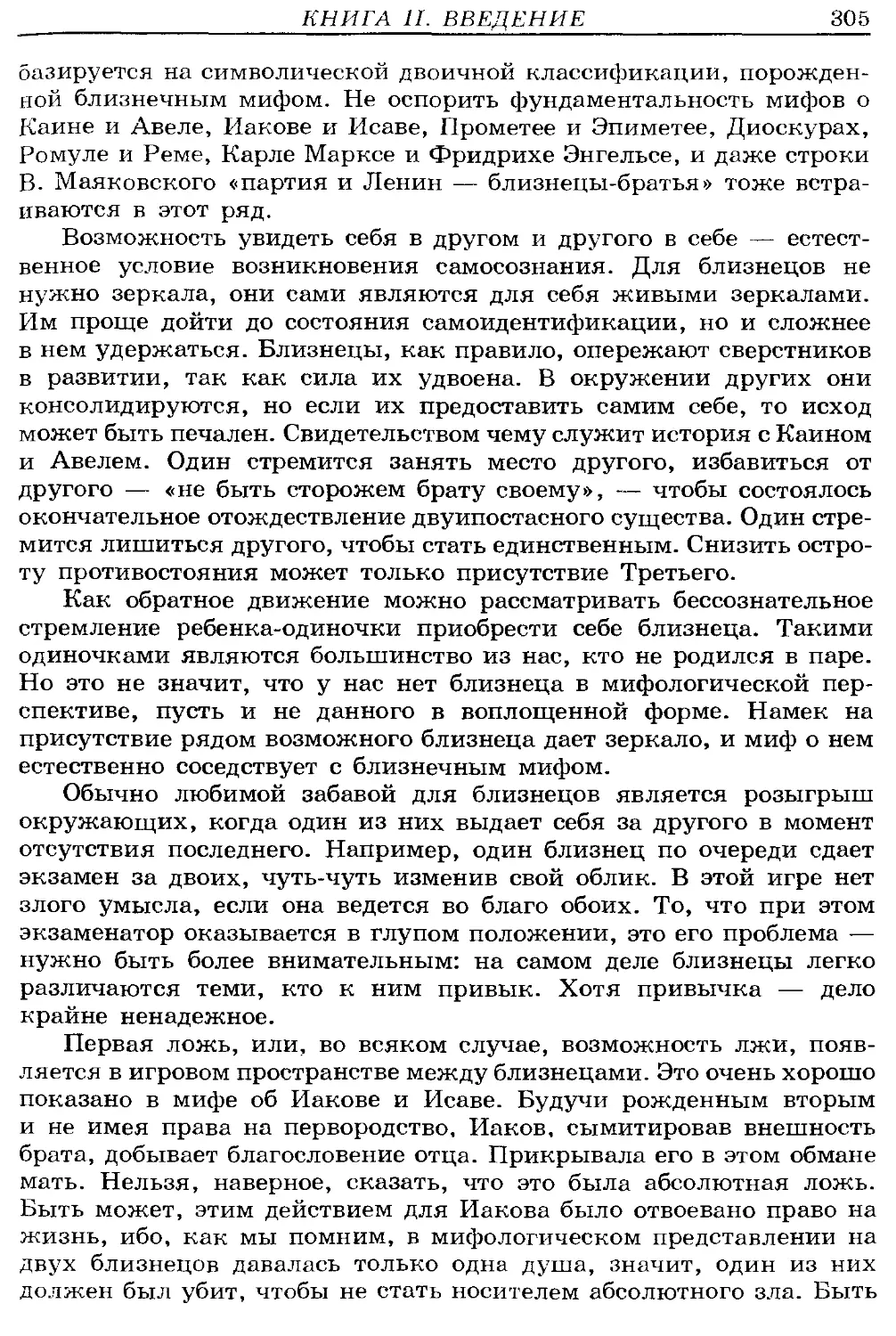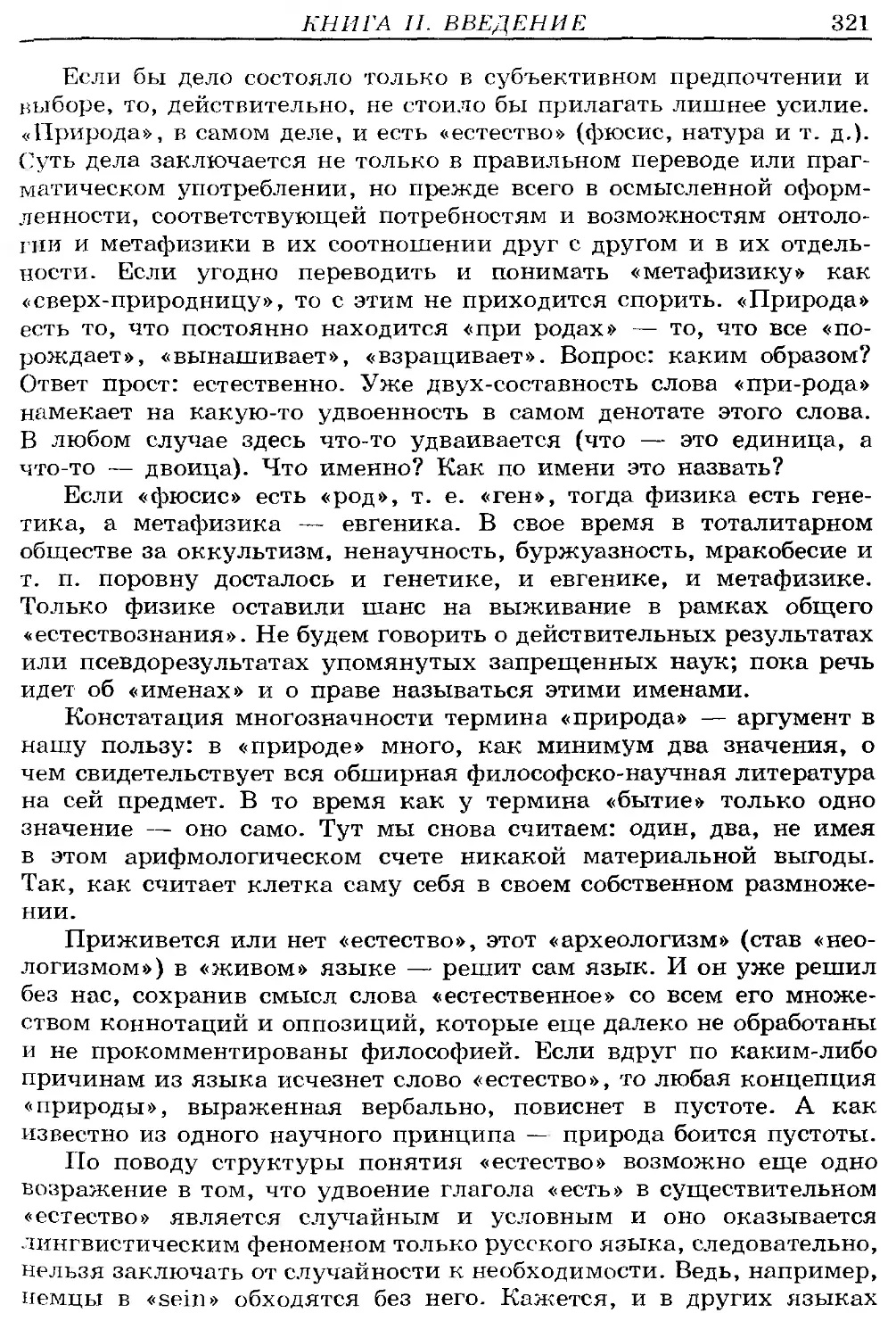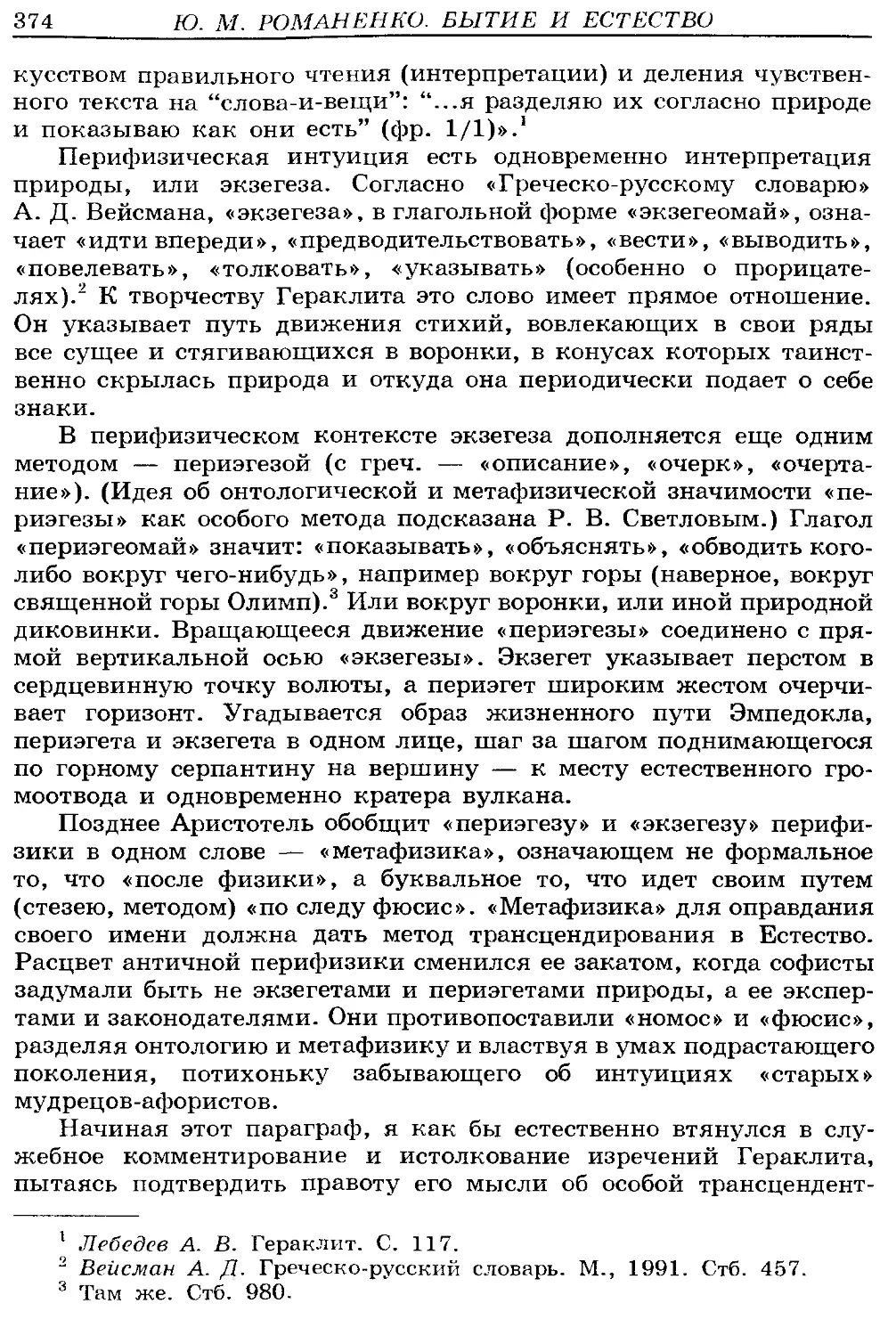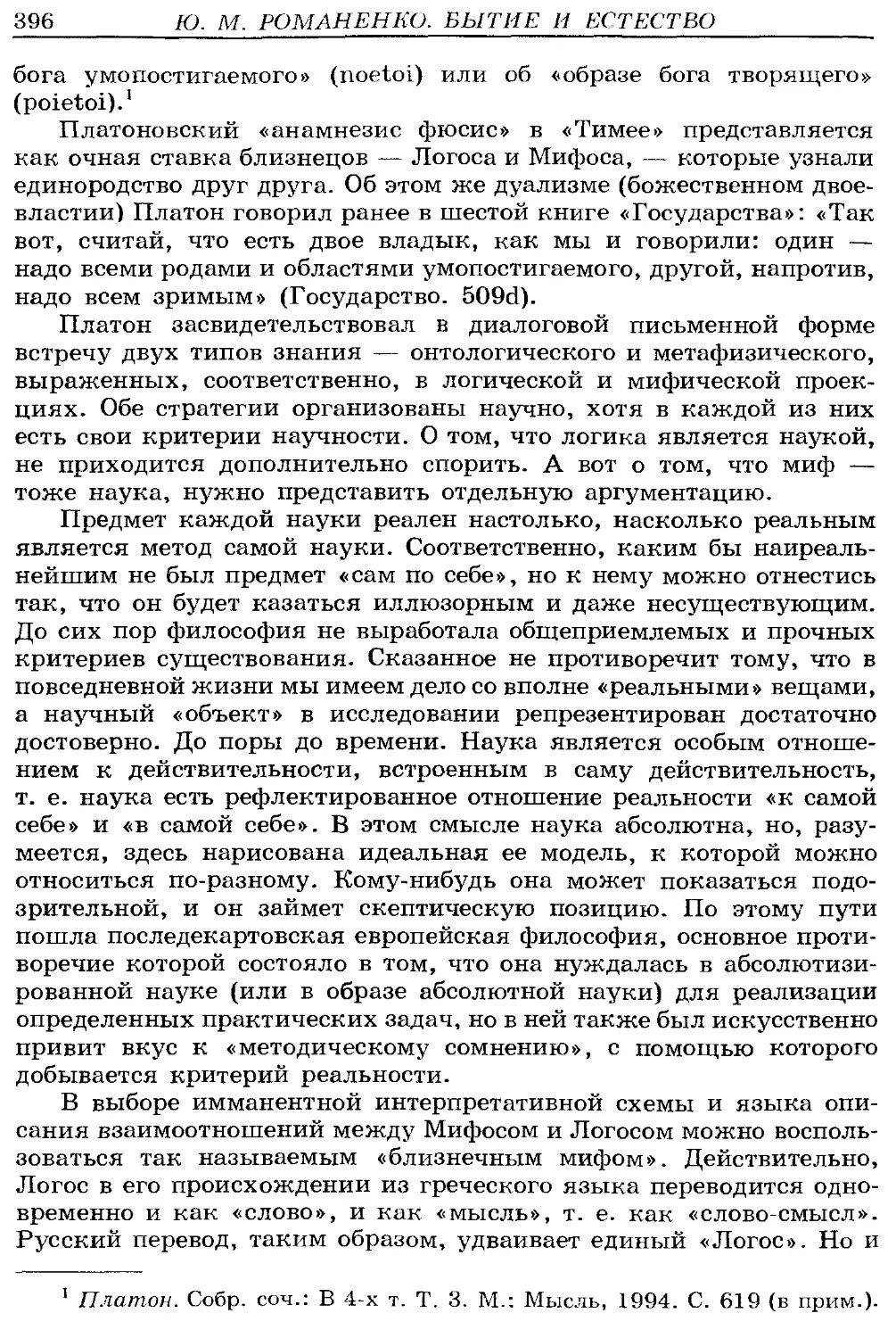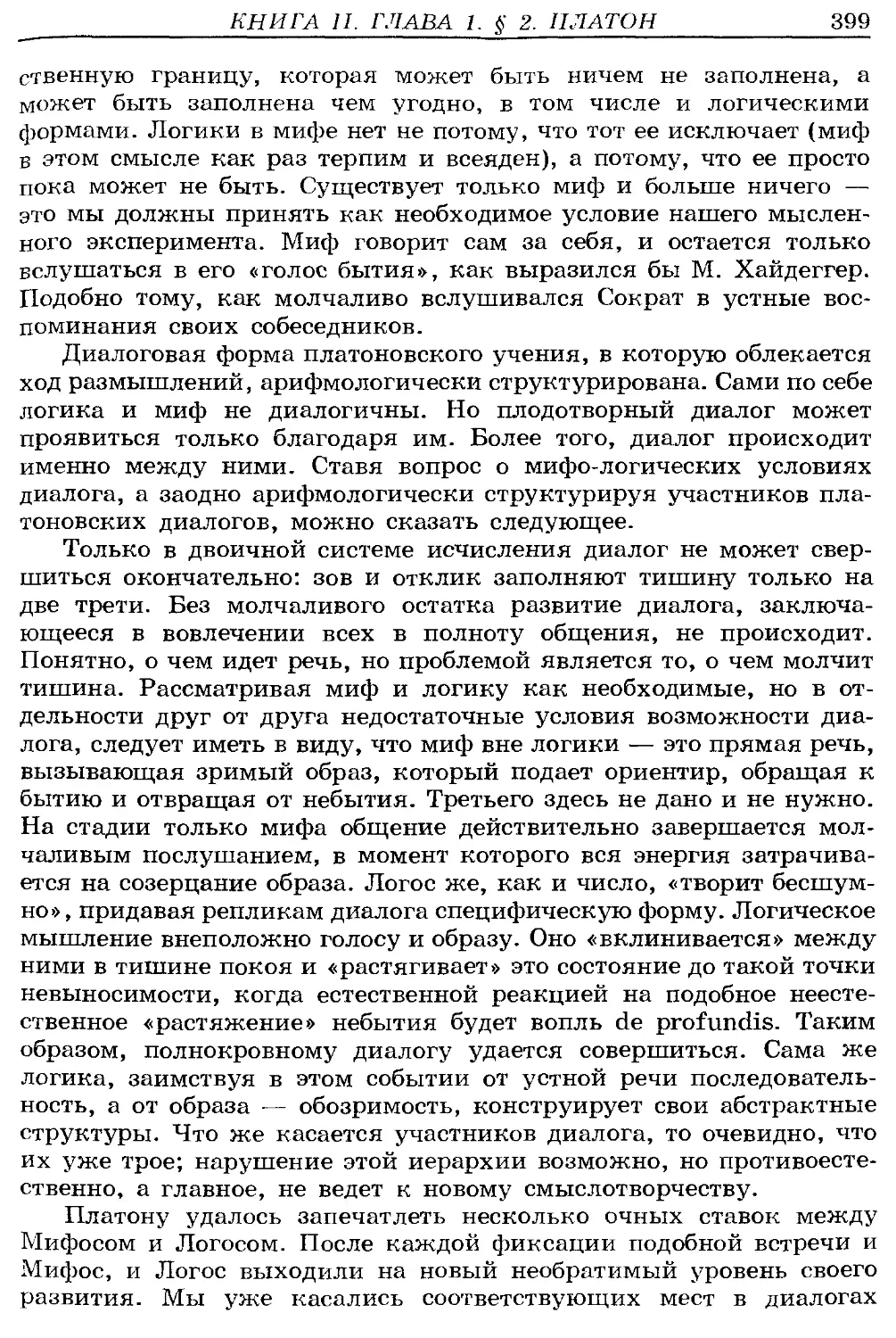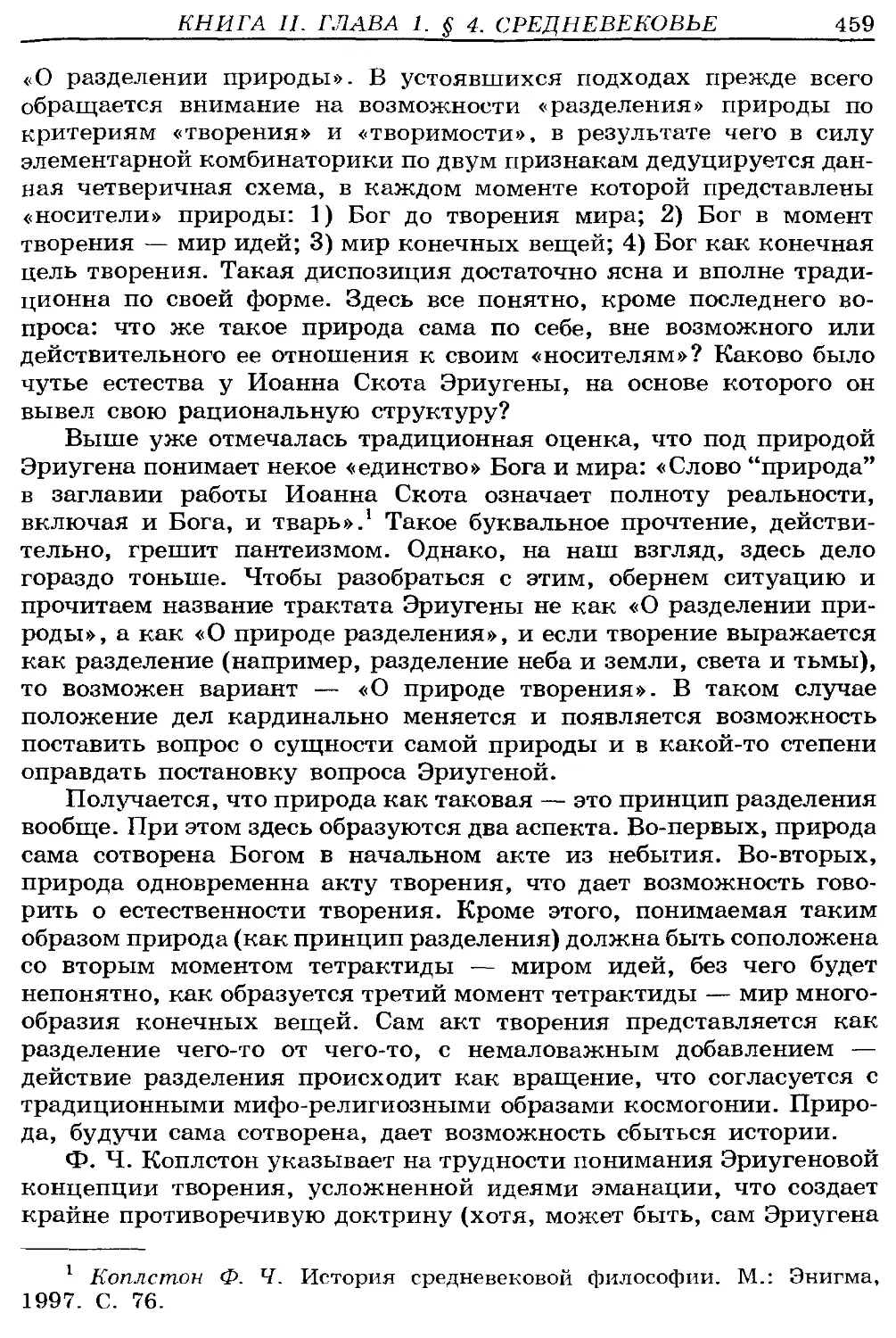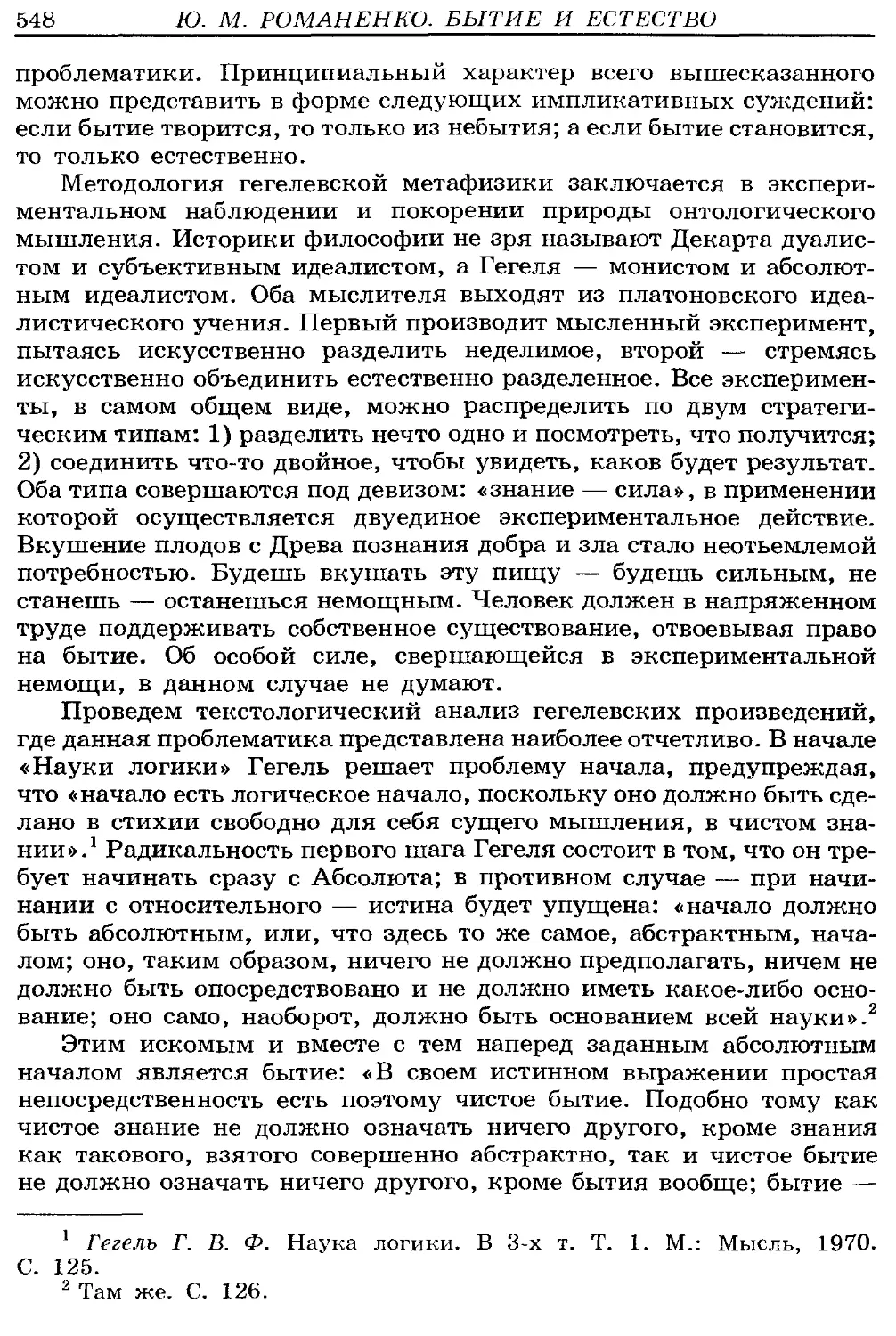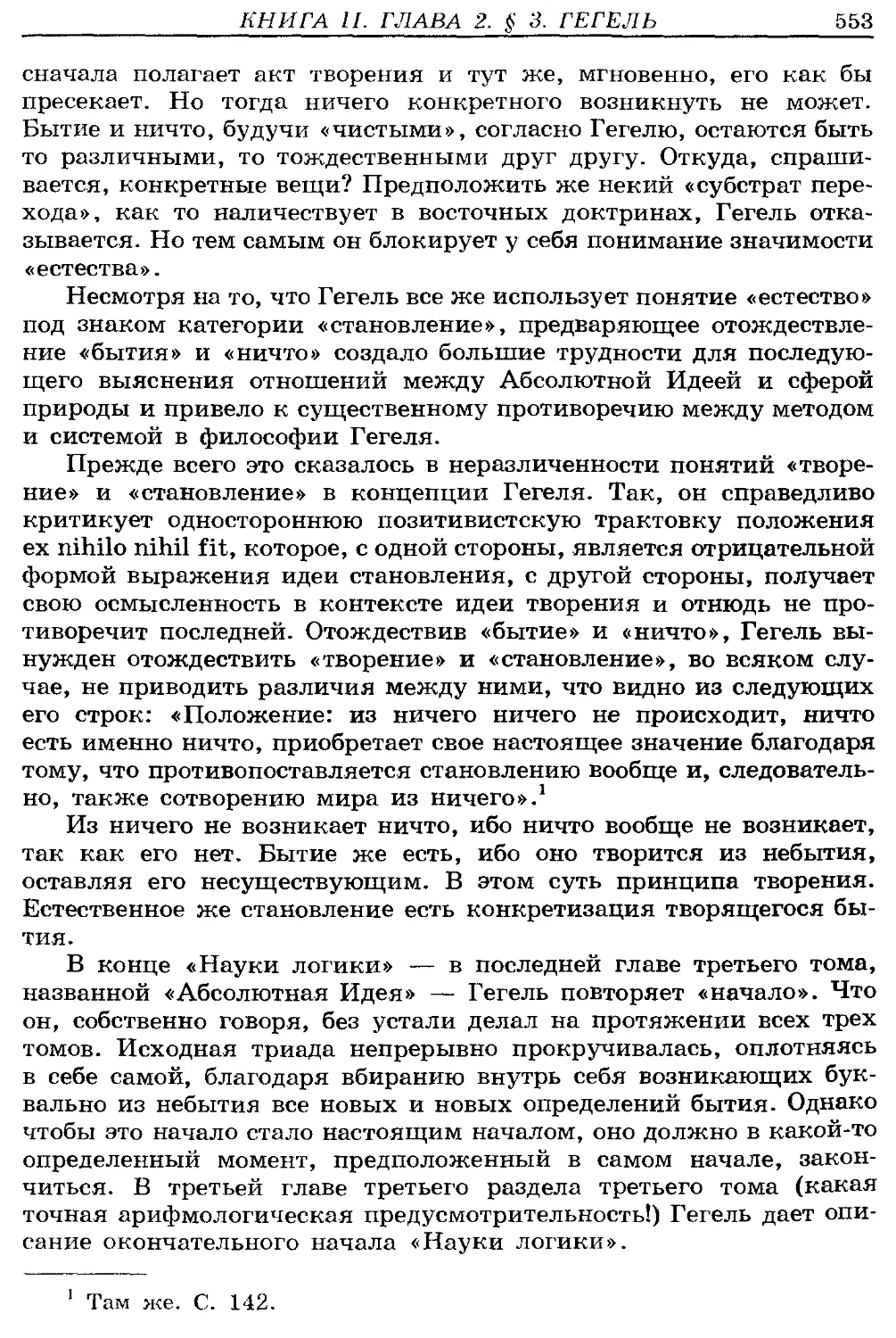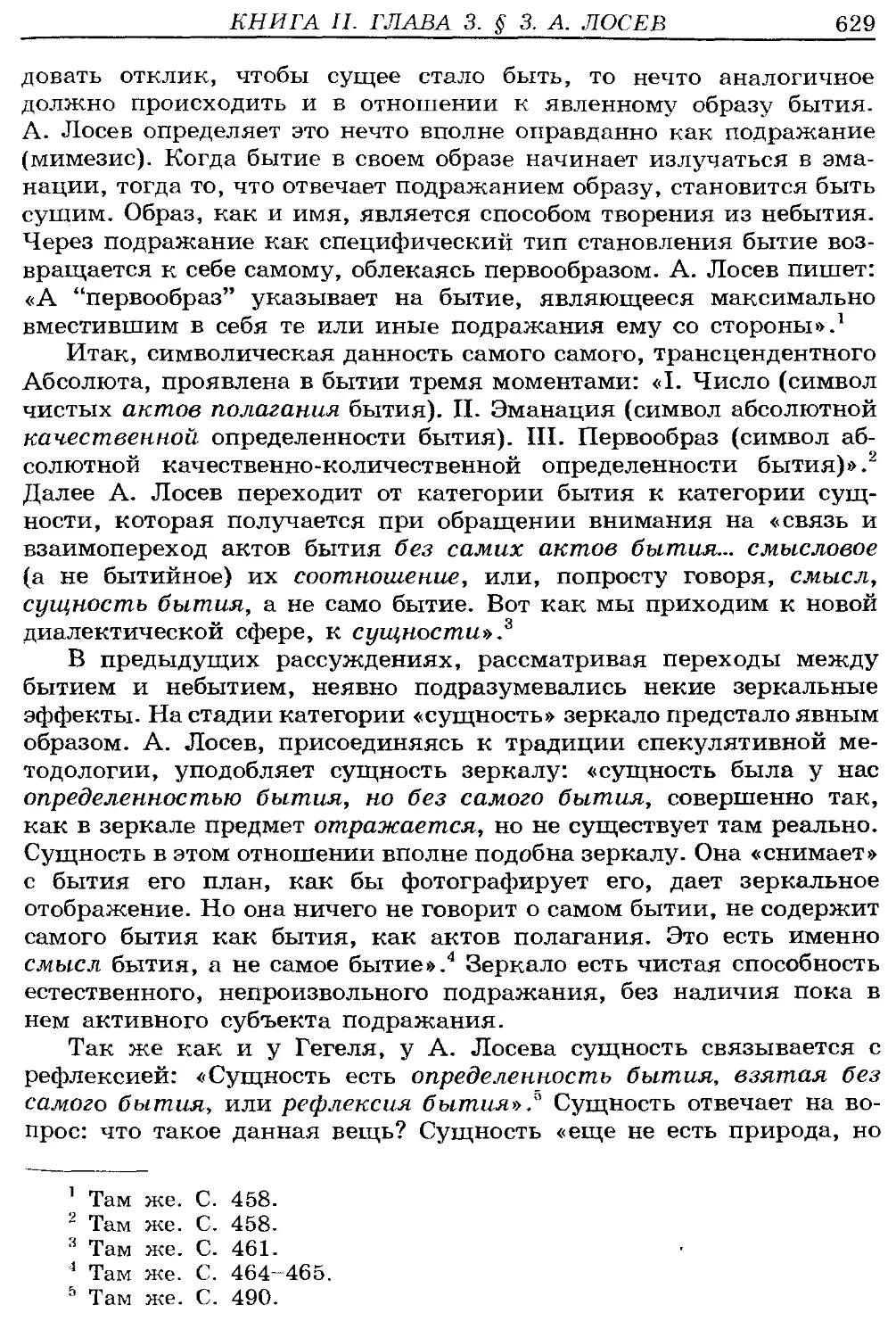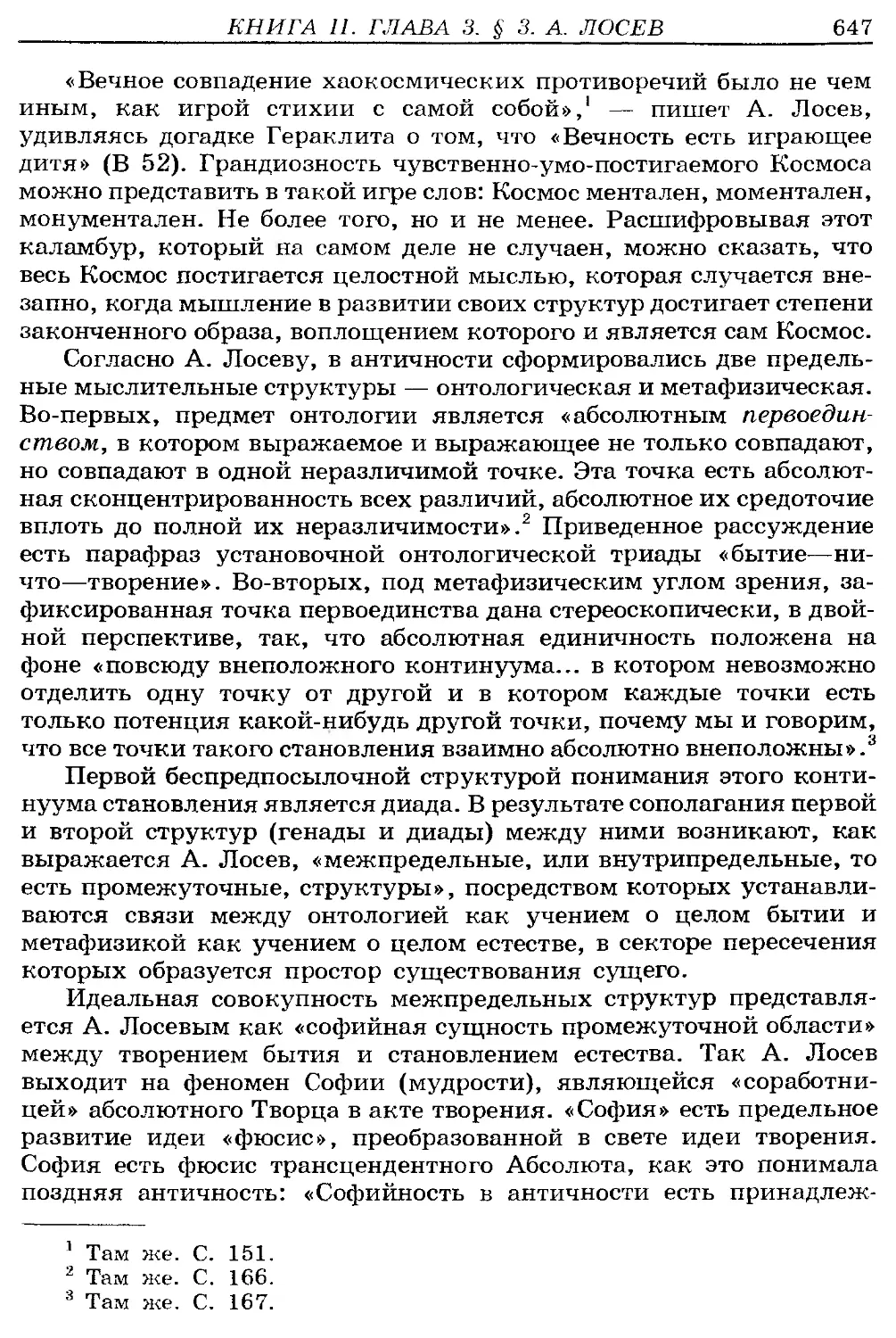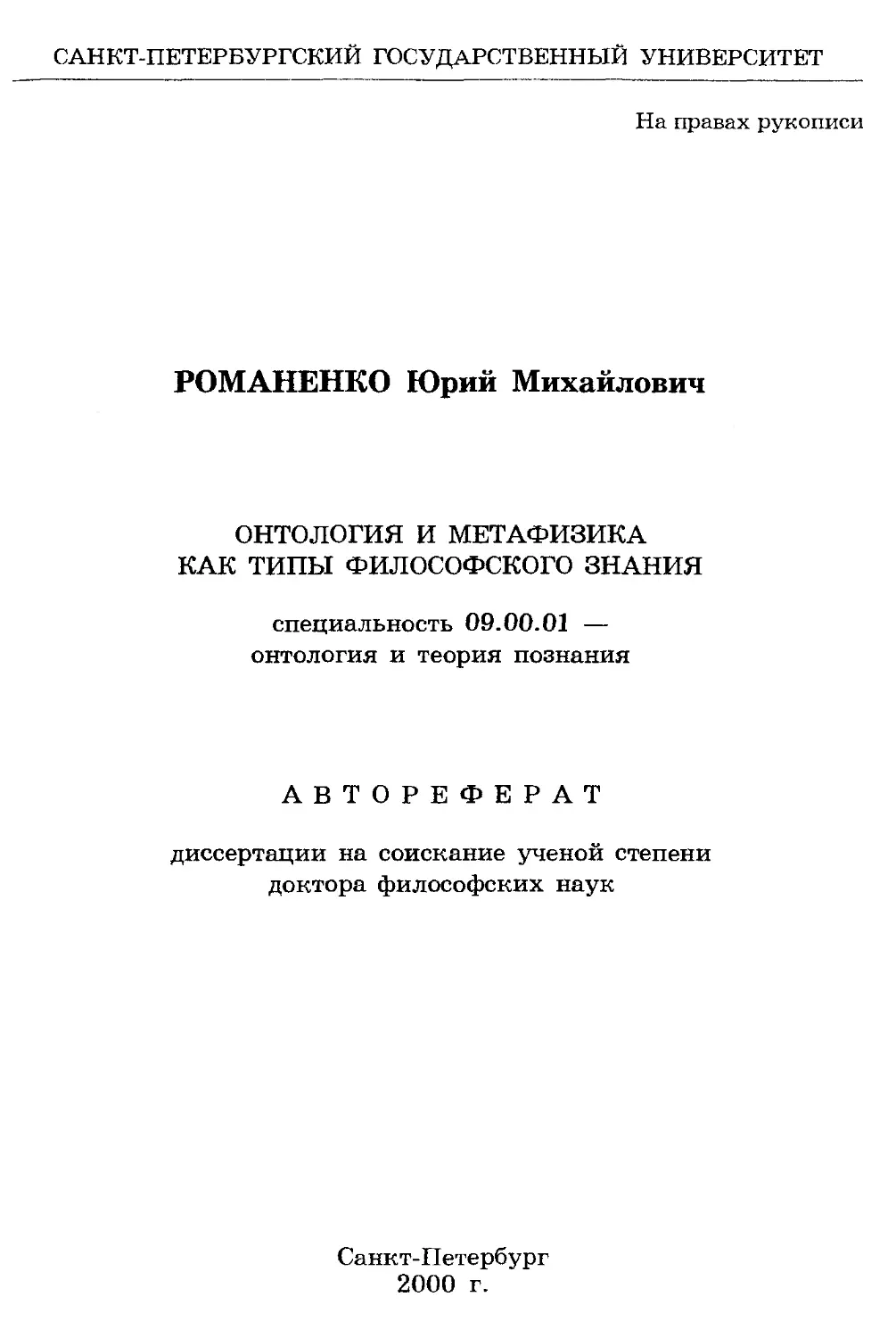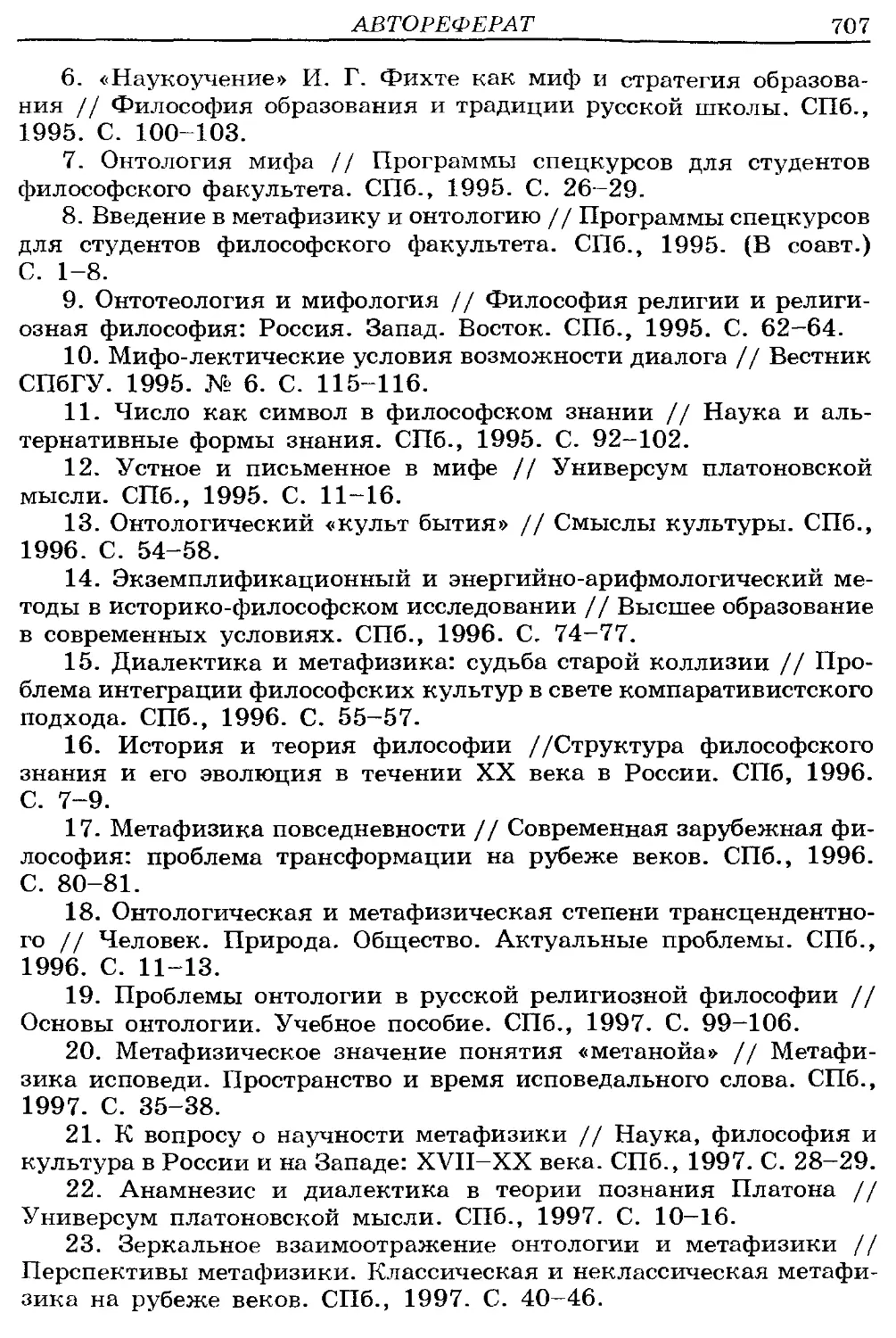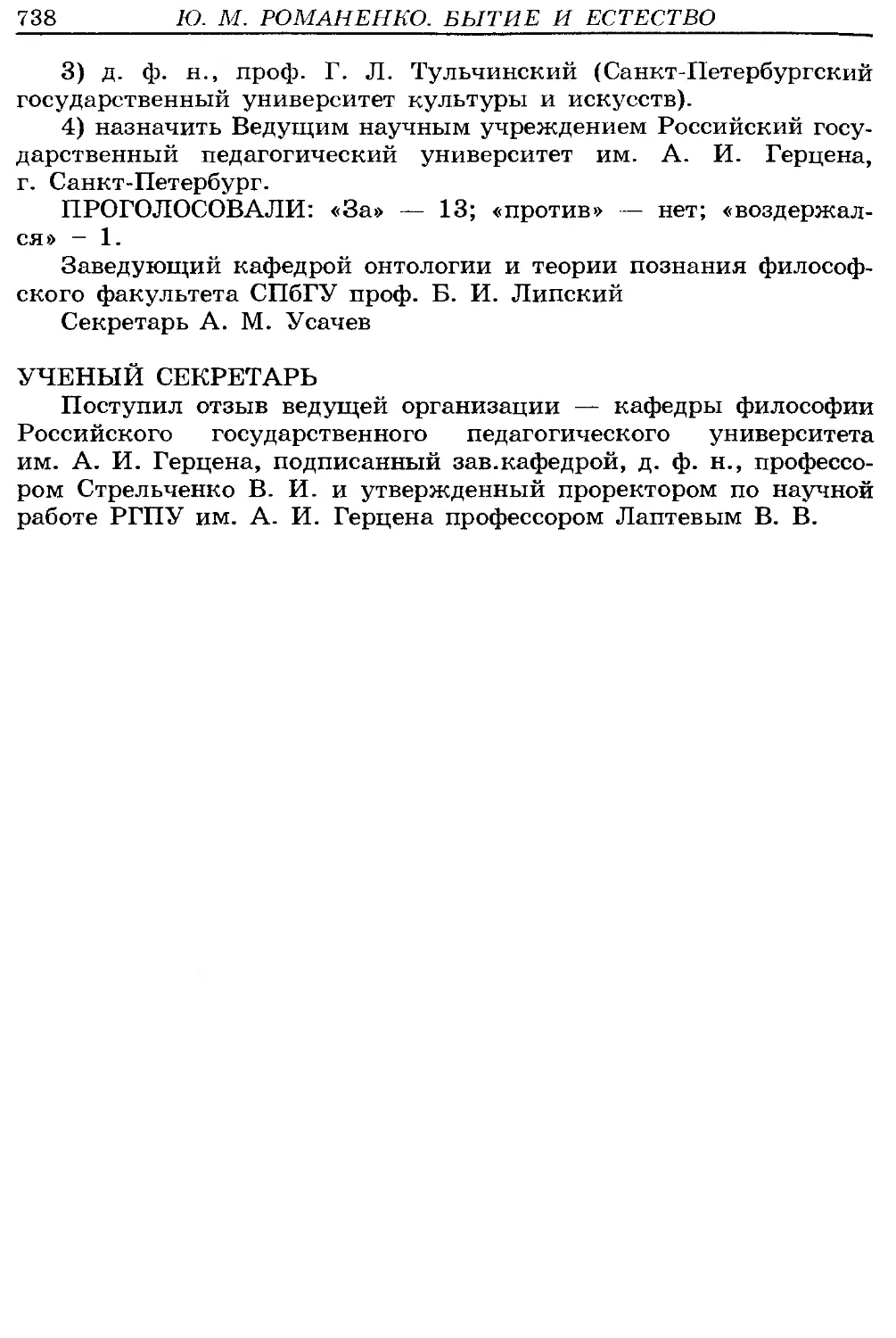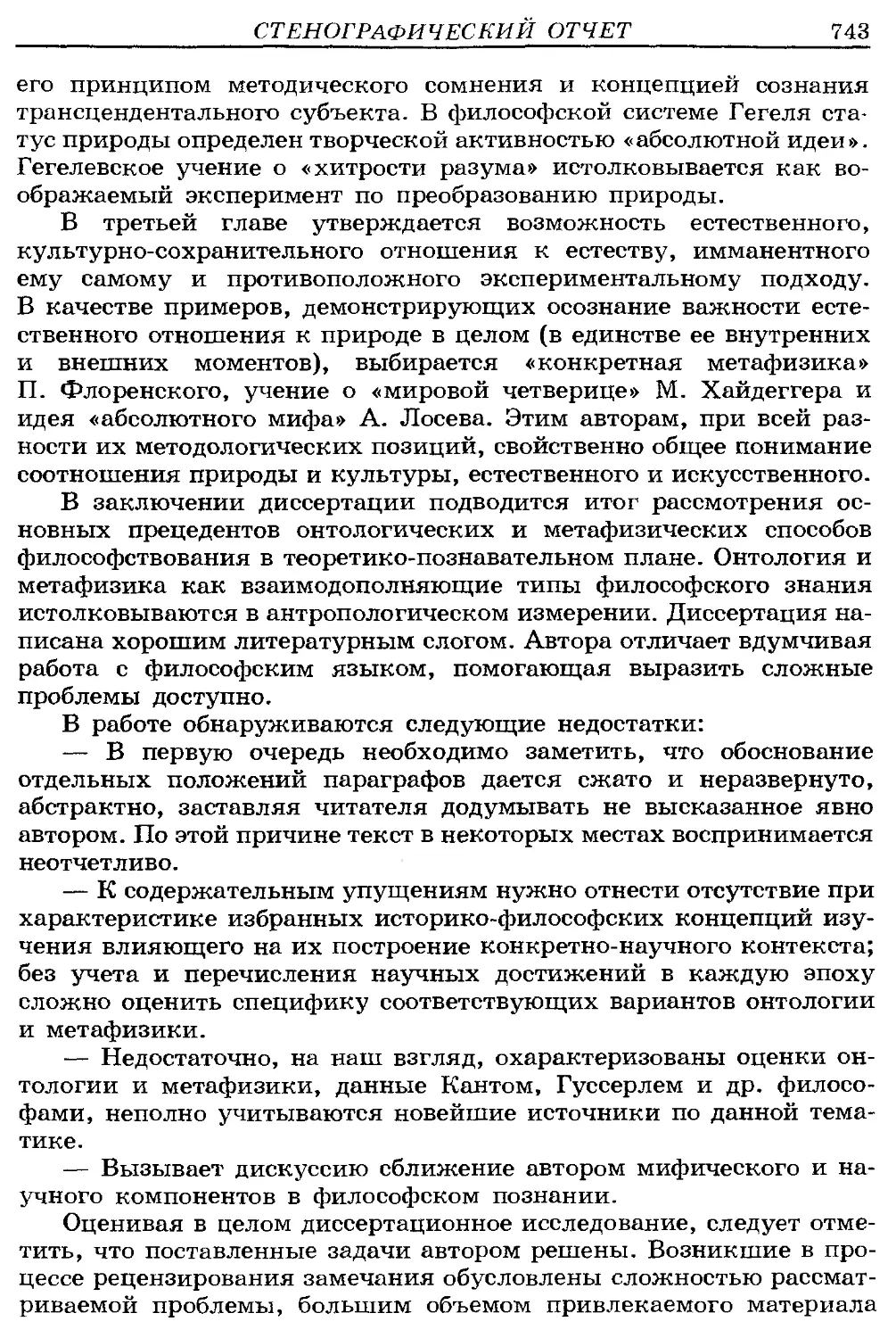Author: Романенко Ю.М.
Tags: метафизика в целом общая метафизика учение о бытии онтология метафизика философия
ISBN: 5-89329-604-4
Year: 2003
Text
Ю. M. Романенко
БЫТИЕ
и
ЕСТЕСТВО
ОНТОЛОГИЯ И МЕТАФИЗИКА
КАК ТИПЫ ФИЛОСОФСКОГО ЗНАНИЯ
«АЛЕТЕИЯ»
Санкт-Петербург
2003
Романенко Ю. М.
Р69 Бытие и естество: Онтология и метафизика как типы
философского знания. — СПб.: Алетейя, 2003. — 779 с.
ISBN 5-89329-604-4
В книге на обширном историко-философском материале исследуется
проблема происхождения, функционирования, развития и соотносимо-
сти средоточных дисциплин философии — онтологии и метафизики —
с точки зрения применяемых в них методов и формируемых в их
предметных горизонтах типов знания.
КНИГА I. БЫТИЕ
Когда спрашивают:
Для чего пишется книга?
Можно ответить:
Чтобы обрадовать близких подарком.
ПРЕДИСЛОВИЕ
ФИЛОСОФИЯ ЗНАКОМА С БЫТИЕМ И ЕСТЕСТВОМ
Согласно сложившимся в истории правилам хорошего тона,
знакомящиеся стороны должны быть представлены друг другу кем-
то третьим, кто их заранее знает и обладает инициативой
организовать встречу. Соблюдение этого правила необходимо для того,
чтобы исключить самозваное, фамильярное навязывание в друзья,
засвидетельствовать равноправие участников и факт встречи,
который уже никто не смог бы отменить, даже если впоследствии
стороны, разочаровавшись и отрекшись друг от друга, перестали
бы обмениваться взаимными приветствиями-узнаваниями.
Этим третьим, «лишним», участником является философия,
которая априорно должна знать желания и возможности субъектов
знакомства. Четвертого, «сверхлишнего», участника,
«представителя представляющего», уже не требуется, и не только из-за того, что
философия всегда ревностно блокирует регресс в дурную
бесконечность все увеличивающихся посредников, но и потому, вероятно, что
только она способна без протекции знакомиться с кем бы то ни было,
даже не зная его, но зато зная свое незнание. Философия знает «всё»,
изначально полагая принцип «всеединства», однако это знание
имеет характер однонаправленного движения, поскольку неизвестно,
знает ли «всё» философию. Впрочем, действуя по поговорке «хоть
меня и не зовут, но я знаю, где живут», философия обладает
презумпцией невиновности, ведь оправдание и прощение ее зависят от
плодотворности встречи. Видя в этом непринужденном и
бесцеремонном сводничестве свою задачу, философия, выполнив функцию
организации и инспирировав знакомство, удаляется.
Так, начав с посредника и исключив его на время из поля
внимания, мы подошли к вопросу: «А кто, собственно, встречается?».
Первый «икс», первый незнакомец, это мы с вами, писатели и чи-
6 Ю. M. РОМАНЕНКО. БЫТИЕ И ЕСТЕСТВО
татели, ораторы и слушатели, которые условились называть себя
одним званием — человек, — забыв о том, что это звание-знание мы
получили безвозмездно от только что удалившейся философии.
Именно она, устами И. Канта и других философов, задала провока-
тивный вопрос «что есть человек?». И вовсе не для того, чтобы тут
же давать на него ответы в виде различных, как правило,
неудовлетворительных дефиниций. А для того, чтобы некто, «мы с вами»,
тут же наивно откликнулись на эту провокацию: «Да мы и есть люди
на самом деле! И я, и ты, и он, даже если он нам и не нравится, —
все подходят под категорию человека. Чего там мудрить?!». Это
первое, наивное и искреннее движение, как прави-ло, всегда истинно,
поэтому попытаемся запомнить его и сохранить, так как иного шанса
зацепиться хотя бы за что-то уже может не быть, и это единственный
способ идентифицировать себя хотя бы с одним из субъектов встречи.
Мудрить же в дальнейшем все равно придется. Мы есть люди, а люди
есть, и так естественно быть человеком. Кто впервые высказал этот
квазисиллогизм? Хотелось бы знать.
Пока мы так рассуждали, узнавая самих себя и обретая какую-то
собственную силу, оказалось, что в действительности это философия
говорила нами и за нас, представляя нас же какому-то неведомому
субъекту. Это осознание или, скорее, мимолетное чувство возникает,
когда после утомительного разглагольствования о смысле жизни и
предназначении человек вдруг задается вопросом, он ли это говорит
и мыслит или им говорят и мыслят? В этот момент у человека
обостряется слух в намерении отличить внутреннюю речь от
внешней. Если такое дифференцированное вслушивание удается, тогда
появляется возможность забыть «себя любимого» и завершить
собственное представление; при этом и философия заканчивает свою
посредническую миссию презентации (или репрезентации) человека.
Человек понял, что его представили, и теперь начинается обратное
действие: философия собирается рассказать о достоинствах иного,
«не лишнего» участника.
Попробуем вслушаться, о чем вещает философия, тут же поймав
себя на мысли, что это пока представление философией «предмета»,
но не прямая речь «предмета» к нам. Стоит также помнить, что и
мы возникли благодаря отзыву на провокацию философии,
следовательно, без нее уже не можем существовать. В тот миг, когда
мы стали быть, мы делегировали философии существенную часть
самих себя — свои образ и имя — и, желая того или не желая,
наделили философию полномочиями пользоваться этим образом и
именем по ее усмотрению. Что ж, с этим еще можно смириться,
если дело касается только нас самих. (Философия может
представить, что нас вообще нет — в истории такие мнения всегда были,
и мизантропически ориентированные философы часто
констатировали смерть человека.) Но есть еще что-то Иное человеку, о чем
ПРЕДИСЛОВИЕ
1
он может узнать только через философию. Дойдет ли это Иное до
человека сквозь философскую призму без потерь или возможны
подмены? Об этом также хотелось бы знать опытно.
Итак, философия обращается к нам. Но здесь нужно снова
сделать задержку, потребовав гарантии от самой философии
относительно ее искренности. Согласно народной примете, если во сне
появляется какой-то неясный образ, неизвестно — с добром или
со злом, то необходимо сконцентрировать сознание, допустимое в
пределах сна, и спросить: «Как твое имя?». Призрак либо промолчит
и исчезнет, либо прямо назовется, чем увеличит уверенность, что
морочения не будет. Поэтому ближайший вопрос, который
возникает: «Что называется философией?».
Существуют различные способы приобщения к философии.
Наиболее распространенные — чтение умного текста и внимание мудрой
речи. Посвящение в философию начинается со вслушивания в ее
имя.
При знакомстве в первую очередь представляют свои имена.
Философия, наверное, обратись к ней, смогла бы ответить
уклончиво: «Что в имени тебе моем? Оно чудно». Перевод этого имени
достаточно прозрачен и недвусмыслен, хотя составные части его
сами по себе первоначально воспринимаются неопределенно —
любовь к мудрости. Что такое любовь и что такое мудрость? На эти
вопросы не может еще ответить впервые сталкивающийся с
философией. Обращение в философию или увещевание к философии
вначале происходит в форме мифа, прикрывающего тайну сочетания
слов «любовь» и «мудрость». Без мистагога, проводника в тайну,
здесь не обойтись, и его роль в данном случае будет заключаться
в пробуждении искомого чувства — любви — и направлении его
к определенной цели — мудрости.
Диоген Лаэртский сообщает: «Философию философией
(любомудрием), а себя философом (любомудром) впервые стал называть
Пифагор... мудрецом же, по его словам, может быть только бог, а
не человек. Ибо преждевременно было бы философию называть
"мудростью", а упражняющегося в ней — "мудрецом", как если
бы он изострил уже свой дух до предела; а философ ("любомудр") —
это просто тот, кто испытывает влечение к мудрости».1 Так
философия получила свое имя и «стала быть». В отличие от бессвязного
бормотания варваров осмысленная речь эллинов создала условия
для возникновения особого типа отношения к бытию.
Исторические обстоятельства, в которых впервые прозвучало
имя философии, таковы. Пифагор спорил с флиунтским тираном
Леонтом и на вопрос последнего «кто он такой... ответил: "Фило-
1 Диоген Лаэртский. О жизни, учениях и изречениях знаменитых
философов. М., 1986. С. 58.
8 IQ. M. POMAHEHKO. БЫТИЕ И ЕСТЕСТВО
соф", что значит "любомудр"».1 Вероятно, в напряженном общении,
когда необходимо было раскрыть все карты и выяснить «кто есть
кто», Леонт искушал Пифагора. Спор велся вокруг власти, не
случайно Леонт был тираном. Пифагор уже не мог называть себя
«мудрецом», так как список «семи мудрецов» был полностью занят,
к тому же само слово «мудрец» к этому времени несколько
девальвировалось (в позднейшем видоизменении слово «софист» вообще
стало бранным). Поэтому, называя себя именно «философом»,
Пифагор нашел единственно возможный выход: вознося «мудрость»
на запредельную высоту, он и себя не оставил в обиде перед лицом
искусителя-тирана. Таким образом, слово «философия» родилось в
общении человека с человеком по поводу чего-то иного для их
существования. Подобно тому как Пифагор не рискнул назвать себя
на публике «мудрецом», так в настоящее время мало кто уже
отваживается на то, чтобы аттестовать себя философом, — история
девальвировала и это слово. Но заменить его уже нечем.
Итак, философия означает «любовь к мудрости», и смысл первой
части этого словосочетания указывает на чисто человеческое
чувство, тягу, настроенность на Другое, на Мудрость, которая транс-
цендентна человеку. Любое двухсоставное слово позволяет в разных
ракурсах интерпретировать соотношения обеих его частей.
Рассмотрим все возможные вариации связи между словами «любовь» и
«мудрость». Первый, наиболее устоявшийся вариант нами уже
указан — это «любовь к мудрости». Собственно говоря, предлог «к»
здесь не всегда уместен. Иногда аутентичнее было бы говорить
«любовь мудрости». Одним только аннулированием предлога мы
незаметно, как в калейдоскопе, изменили картину смысла нашего
словосочетания. Обратив, таким образом, ориентацию чувства любви
«от» человека —• «к» человеку. Не только человек — философ —
любит Мудрость, но и она сама любовно относится к человеку.
Иными словами, оставаясь трансцендентной, Мудрость касается
человека энергией своей любви, вызывая ответное чувство. Поэтому
не только быть мудрым, но даже любить — чрезмерно для человека.
Это лишь часть спектра возможных смыслов прочтения слова
«философия», так как пока мы читали его слева направо по
европейской привычке. Если же прочитать справа налево, осуществив
инверсию, то перед нами открывается новый горизонт осмысления.
В первом случае «мудрость» употреблялась в генетиве, в
изменившейся ситуации ее место заняла «любовь». Одним из первых
вариантов прочтения в данном случает является «мудрость в
любви». Убрав предлог, получаем «мудрость любви». Поскольку наше
словосочетание состоит из двух частей, относительно независимых,
то различных комбинаций их связи может быть только четыре.
1 Диоген Лаэртский. С. 309.
ПРЕДИСЛОВИЕ
9
Выше мы их все перечислили, не ограничиваясь первым значением,
как это обычно делается. Бытийный статус любви и мудрости таков,
что человек должен трансцендировать к ним, реализуя самого себя.
В философии, как она исторически возникла и сложилась, человеку
был дарован путь стать тем, кто он есть, в присущих ему формах.
Способность к философии у человека либо есть, либо ее нет. Первое
же произнесение этого имени затрагивает некую струну в
человеческом естестве. Если условия позволяют этой струне звучать
достаточно долго, то человек становится философом, несмотря на
конкретный род его профессиональной деятельности.
Формальное комбинирование элементов в системе имеет свои
ограничения, как в случае, например, логической операции
обращения суждения, когда меняются местами субъект и предикат.
Возможность каждой подобной операции необходимо специально
обосновывать, так как в процессе перестановки изменяются
количественные и качественные аспекты, а также перераспределяются
параметры статики и динамики. С психологической точки зрения
любая конверсия первоначально может вызвать отторжение или
неожиданную образно-эмоциональную реакцию. Рассмотренная
выше «мудрость любви» или «мудрость в любви» (если угодно —
«софофилия», хотя такое звучание и ографление крайне режет слух
и царапает глаз от непривычки) означает нечто иное по сравнению
с «любовь к мудрости», философией, как уже институциализиро-
ванной и упроченной традицией.
Асимметричность смыслов, получающаяся в результате
перестановки внутри словосочетания, заключается, вероятно, в разной
степени дарованности человеку любви и мудрости. Конечный
человек бесконечно, в полном объеме, может вместить в себя только
любовь, быть ее образом вплоть до самопожертвования как главного
критерия осуществленности любви. Мудрость человеку еще только
задана, он может к ней приближаться по степеням подобия. Не
случайно, что даже признаваемый современниками и потомками
«богоподобным» Пифагор, давший имя философии, сдерживал
дерзость на обладание всецелой мудростью и смиренно (?) ограничивал
свое стремление. Как удалось Пифагору найти столь адекватное
имя, остается загадкой. Возникает даже ощущение, что не Пифагор
придумал его, а сами Любовь и Мудрость скрестили на нем лучи
своей благодати в ответственной ситуации выяснения отношений
человека с человеком.
Как соотносятся друг с другом Любовь и Мудрость вне их связи с
человеком, самому человеку, вероятно, неведомо. Но очевидно, что
сам человек есть какой-то ограниченный продукт воспринимаемых
им асимметрично отношений Любви и Мудрости самих по себе.
Когда начинаешь знакомиться с историей языка, с
этимологическими изысками, зачастую надуманными, то поневоле приходишь
10 IO. M. POMAHEHKO. БЫТИЕ И ЕСТЕСТВО
к представлению о зыбкости, хаотичности языковой стихии, где
по чьему-то произволу или случайно вдруг проявляется, избирается
какое-нибудь отдельное слово, которое затем упрочивается,
отвердевает, обрастая напластованиями. Удивительно, как в этом хаосе
языка люди умеют понимать друг друга.
Слово сравнивают с семенем, находя определенные изоморфизмы
их генетических структур и кодов. Однако из всего множества
слов-семян реально актуализируется, «оплодотворяясь» в языке,
только одно, оставляя гигантское количество однотипных
(единосущных) с ним слов пребывать в вечной потенциальности и рассе-
яности. Кто позаботится о них?
Философия, очевидно, принадлежит к числу избранных слов.
Но, несмотря на это привилегированное положение, генетическая
память иногда напоминает ей о самозванстве. Поэтому все
вышесказанное имело своей целью навести на воспоминание о
первобытном состоянии языкового доструктурного, но творческого хаоса,
вернуться в него и предугадать возможные импульсы развития.
Осуществить эту задачу принципиально невозможно в силу
необратимого характера времени, но можно в определенной степени
размонтировать некоторые устойчивости и рекомбинировать их,
пытаясь выполнить если не креативный акт, то хотя бы
рекреативный. Не для того, чтобы разрушить живую устойчивую
структуру, а, напротив, с целью повысить степень ее жизненного тонуса
за счет актуализации скрытых потенций.
В применении к слову «философия» эту деструктурализацию
мы почти выполнили. Остается теперь попытаться вновь ее
реконструировать и смоделировать возможные ситуации ее нового
функционирования .
Фоносемантическое расслоение и языковая комбинаторика
позволяют создавать новые термины, подвергаемые последующей
исторической селекции. В любом словосочетании каждая его часть
является переменной величиной. Поэтому ее «окошки» можно
загружать иными словами, связанными каким-либо образом с
прежними словами. Какие трансформации в этом аспекте могут
происходить со словом «философия»?
Мудрость, как было сказано выше, трансцендентна человеку,
т. е. за-предельна. Но из какого состояния человек должен
совершить трансцензус, устремляясь к Мудрости? Очевидно, что это
исходное состояние противоположно Мудрости. Уместно определить
его как «глупость» (в «положительном» смысле этого слова).
Древние греки называли это «идиотией», но не в современном
ругательном или клиническом значении, а в изначальном, архаическом.
В популярном энциклопедическом словаре «Наследие Эллады»
это слово определяется так: «ИДИОТ (невежа, неуч). 1. Человек,
страдающий идиотией, слабоумием. 2. Прост., бран. Дурак, болван,
ПРЕДИСЛОВИЕ
11
тупица».1 Греческо-русский словарь А. Д. Вейсмана ближе подводит
нас к исконному значению этого слова. Здесь «идиот» — это
частный, простой, незнатный, рядовой человек, прозаик, в
противоположность поэту, и естественно, но во вторую очередь, — невежа в
чем-то определенном.2 Семантика приставки «идио-» включает в
себя следующие значения: частный, особенный, свой, собственный,
своеобразный, простой, уединенный и т. п. Если в «Наследии
Эллады» «идиотия» определяется как «невежество» или «глубокая
степень психического недоразвития», то в словаре А. Д. Вейсмана
она определяется как «частная жизнь».
Поскольку человек есть существо выбирающее, то он может
сделать выбор в пользу не трансцензуса к Мудрости, а зацикливания
в топосе идиотии. Если он, конечно, проникнется любовью к ней.
В истории это случается чаще, больше, чем принято думать. Такое
состояние можно назвать одним словом — «филоидиотия» (термин
Д. Круглова). Сложно сказать, как соотносятся между собой
«мудрость» и «идиотия». Возможно, что в количественном аспекте
«мудрость» на всех одна, поэтому она и трансцендентна, а в противном
случае каждый идиот «идиотичен» по-своему, имманентно себе
самому. В плане качества не исключено, что объемы понятий
«мудрость» и «идиотия» пересекаются в феномене «мудрость мира
сего», всегда посрамляемой.
Пределы оглупления мудрости отражаются на особом уровне
языка, тогда он поневоле становится ироническим. Слова «говорить»
и «иронизировать» имеют один корневой исток. Поэтому, даже
совершенно серьезно следуя законам языка и мышления, мы
непроизвольно получаем юмористический эффект. Когда мы ставим на
одну доску «мудрость» и «глупость», которые по определению
должны быть нейтральны друг другу, то провоцируем создание чего-то
заведомо остроумно-глупого, т. е. оксюморона (так античные
риторы называли «стилистический прием, состоящий в соединении
противоположных по значению слов в некое словосочетание,
приятный или тонкий характер которого вытекал именно из его
непоследовательности, например, "мудрое безумие"»).3 Если «любовь»
счесть «безумием», то получается, что «философия» — классический
оксюморон.
Какое бы высокое положение ни занимала философия, она не
покрывает собою всю жизнь. В противном случае люди не жили
бы, а философствовали, к чему призывал Сократ, определяя
философию как постоянное упражнение в умирании. Но есть в жизни
Наследие Эллады: Энциклопедический словарь. Краснодар, 1993.
С- 184-185.
2 Всисман А. Д. Греческо-русский словарь. М., 1991. Стб. 622.
'ч Кондаков Н. И. Логический словарь-справочник. М., 1975. С. 405.
12 Ю. M. РОМАН EH КО. БЫТИЕ И ЕСТЕСТВО
какой-то тайный остаток, неподвластный схватыванию со стороны
различных имитационных систем, будь то наука, искусство,
философия или миф. Хотя А. Ф- Лосев определял миф как саму жизнь,
а религию как субстанциональную укорененность жизни.
Зададимся принципиальным вопросом: что противоположно
философии по сути? Иными словами, что остается жизненного в
жизни, когда она становится полностью пронизанной философией?
Ответить на этот радикальный вопрос нам не удастся, это понятно
априори. Достаточно того, что мы исхитрились сформулировать его.
Поэтому попытаемся, смягчая и модифицируя само вопрошание,
удержаться в неравновесной точке пересечения философии и жизни.
Итак, что противоположно философии контрадикторно?
На наш взгляд, соотношение «философии» и «филоидиотии»,
или «любви к глупости», по Эразму Роттердамскому, не является
исключающим противоположением. Между «мудростью»,
«глупостью» и подобными вещами можно ввести промежуточные звенья,
например, ум, рассудок, здравый смысл, банальность и т. п.
Несмотря на то, что «мудрость» и «глупость» отличаются друг от друга
по признакам «трансцендентности—имманентности» или
«единого—многого», они не противопоставляются друг другу кардинально,
иначе между ними был бы изначальный дуализм манихейско-
гностического толка.
В какой-то мере контрарной оппозицией философии являются
иные типы отношения к бытию, такие как наука, искусство,
религия, миф и др. Поэтому возможность контрадикции философии
нужно искать не во второй части этого словосочетания, а, вероятно,
в первой, ибо мудрый и глупый живут в одинаковой мере и иногда
гармонично дополняют друг друга, искренне любя. Сложнее сжиться
друг с другом как раз двум мудрецам. Можно любить мудрость,
но не быть мудрым в любви.
Любовь может любить, вероятно, разные вещи, в том числе и
противоположные друг другу. В этом смысле любовь всеядна и зла,
как в пословице. Кто-то выбирает в качестве цели любви мудрость,
кто-то — глупость, препятствий в этом выборе никто не чинит.
Свобода выбора — это одна из высших ценностей. Но важно знать —
каковы последствия выбора.
История показывает, что «филоидиотия» своим следствием
имеет «пресыщение» и «скуку», поскольку «любовь к глупости»,
замыкаясь на самое себя и не находя выхода к новому, начинает
заниматься самоедством. Здесь один шаг от «любви» к «ненависти».
Но на что будет направлена эта непонятно откуда взявшаяся
«ненависть»? На «глупость»? Отнюдь, ибо «глупость» всегда довольна
собой и стремится вытолкнуть вовне отрицательные состояния.
Значит, естественным следствием «филоидиотии» является «нена-
ПРЕДИСЛОВИЕ
13
висть» к «мудрости». Вот это и есть контрадикторная
противоположность «философии».
Имя антифилософии (или антиимя философии) получается так
же случайно и по прихоти, как сочиняются поэтами рифмы и
неологизмы. Путем обычной перестановки и перебора всех
возможных вариантов поневоле приходишь к выводу, что раз есть пара
слов «филантропия—мизантропия», то аналогично этому
существует и «мизософия» — как некая изнанка философии.
Мысль об этом самопроизвольно и эпизодически появляется, но
ей не придается, как правило, принципиального значения. Так,
вероятно, и должно быть: из мысли о «мизософии» не
сконструируешь принципа принципиально, но ее обрамляет миф, и с этим
приходится считаться. Осмысление «мизософии» происходит где-то
на периферии сознания, часто безотчетно и почти невербализованно.
Но тем не менее такое слово наличествует в греческо-русском
словаре, и, исходя из этой филологической ссылки, приходится
брать на себя риск на короткое время все же актуализировать в
терминологическом лексиконе мыслителей имя тому, что является
потивоположностью философии.'
Теология давно застраховала себя от эксцессов ненависти
посредством разведения методов катафатики и апофатики.
Положительное и отрицательное богословие антиномически подводят к
мистическому опыту общения с Богом. Аналоги апофатики в
философии были всегда: от античного «эпохе», нововременной
«критики» до новейших методов — феноменологической «деструкции»,
грамматологической «деконструкции» и т. д.
В религии при обсуждении вопроса о канонизации какого-нибудь
претендента на святость одному из священников поручается миссия
быть «адвокатом дьявола», т. е. собрать весь возможный компромат
и положить его на чашу весов. В философии также есть свои
«адвокаты глупости», выполняющие далеко не приятную работу,
но без которой нельзя, однако, узнать степень мудрости того или
иного философа.
В двухсоставном слове «мизософия» только первая часть имеет
негативный характер, но «мудрость» остается той же самой, что и
в слове «философия». Мы не знаем, может быть, сама Мудрость
имеет в себе нечто такое, чем отталкивает от себя устремившегося
к ней. Не исключено, что эту особенность таинственно выразили
в мифе о грехопадении Софии гностики.
Есть некоторые данные о том, что «мизософия» не является
результатом каприза философа, поскольку мизософские приступы,
1 См.: Романенко Ю. М. Философия и мизософия платонизма /./
Академия: Материалы и исследования по истории платонизма. Вып. 1. СПб.,
1997. С. 182-197.
14 Ю. Л/. РОМАН EH КО. БЫТИЕ И ЕСТЕСТВО
по наблюдениям, случаются с закономерностью природных циклов.
И период «мизософии» наступает не только тогда, когда философ
своевольно отвращается от Мудрости, но и когда сама Мудрость
поворачивается в своем небесном вращении к философу какой-то
своей особой, исчезающей стороной.
Если дело обстоит именно таким образом, тогда философу
остается только одно — взять откуда-то силы, чтобы выдержать эту
фазу. На языке религиозной аскетики подобный феномен называется
периодом богооставленности. В святоотеческой литературе подробно
описаны ситуации истощенности при завершении общения с Богом
и выработаны психофизиологические механизмы, позволяющие
сохраниться в моменты богооставленности. В первую очередь
благодаря молитве. Вероятно, нечто аналогичное происходит и в
философии.
Струна философии не всегда звучит консонансно. Чисто по
определенным числовым закономерностям иногда возникает диссонанс.
Быть готовым воспринять его и не разрушить свой слух —
единственное, что остается философу. А тишина подскажет ему, куда
исчезла Мудрость.
Можно осторожно констатировать, и история предъявляет тому
свидетельства, что философия не всегда есть. Но откуда мы узнали
смысл слова «есть»? От самой же философии. Отныне, даже когда
философия исчезает и философ забрасывается в состояние «софио-
оставленности», бытие остается при нем в молчаливом присутствии.
Невозможно сохранять и поддерживать чувствование любви на
каком-то одном фиксированном уровне, тем более предельно
интенсивном. Любовь к кому-либо или к чему-либо, а тем более к
Мудрости, требует непрерывного самопревосхождения, постоянной
самоотдачи, но жертва не всегда может приниматься. Отсюда
возникает разочарование в философии, онтологическая пауза, которая
может заполняться чем угодно — имитацией мудрости,
экзальтированной интеллектуальной деятельностью, судорогами
изощряющегося воображения, распаленностью не находящего выхода к
Иному чувства.
Фрустрации подобного рода возникают оттого, что к философии
направляют чрезмерно завышенные ожидания и абсолютизируют
ее, хотя она в этом совершенно не нуждается. Вернемся к началу
нашего разговора: философия только посредник знакомства
(словечко «только» — не знак уничижения, а, напротив, высокая
оценка, ибо только философия и может быть посредником). Она приводит
человека к встрече с Бытием. Если это приведение осуществилось
по благодати свыше, тогда можно говорить о естественности и
непринужденности встречи. Иногда «сватовство» происходит
насильно, тогда встреча также состоится, но это будет неестественно.
ПРЕДИСЛОВИЕ
15
философия знает об этой естественно-неестественной стороне дела
и о ее подвижных критериях, заранее предупреждая об этом.
Мы начали с фразы «философия знакома с бытием и естеством»
и обнаружили, что в себе самой, в соответствии с собственным
именем, философия есть просто стремление. Забегая вперед, скажем,
что это стремление плодотворно и, в отличие от «филоидиотии»,
им не пресытишься. Оно материализуется в неких устойчивых
образованиях, которые также получают свое имя. Имеются в виду
онтология и метафизика как особые, несводимые друг в друга, но
единокровные по «материнской» линии типы философского знания.
Философское стремление воплощается в двух типах знания:
онтология знает бытие, метафика знает естество. В чем специфика
этих типов знания и что они дают человеку? Выяснению этих
вопросов посвящено настоящее исследование.
Под знанием в онтологическом и метафизическом контекстах
будет пониматься следующее. Платон сравнивал философию с «фар-
маконом» — неким веществом, которое может выступать и
лекарством, и ядом одновременно. Главное здесь — знать дозу и условия
применимости. Но вот это как раз самое сложное: знание приходит
с опытом, методом проб и ошибок. Стремящийся к Мудрости,
приняв на себя ее образ и имя, получает «жало в плоть» (это
выражение апостола Павла прямо определяет суть философии).
Знать — это значит иметь обоюдоострое «жало во плоти»,
непрерывно вводящее инъекции «фармакона» в хаотическое мышление,
вынуждая его собираться в устойчивые формы. В этом смысле
знание есть сила, которую можно применить как на пользу, так и
во вред. Для отличения одного от второго необходимо еще одно
знание, иное предыдущему, поэтому процесс познания
дифференцируется внутри себя типологически.
Подведем краткий итог предуведомления, отражающего
авторский замысел и концептуальные рамки работы.
История развития мышления, выражающего себя в слове,
привела к образованию понятий «онтология» и «метафизика», которые
репрезентируют теоретическую часть философии, замещая
философию в качестве профессионально сочиненных синонимов ее самой.
Изначально философия как «любовь к мудрости» возникла для
обозначения имманентной человеку тяги к чему-то
трансцендентному для его обыденного опыта. Человек, будучи свидетелем и
встроенным участником появления философии, дав ей возможность
возникнуть, сумел удержать присущее ей настроение и
направленность, результатом чего стало превращение философии в
универсальный образ знания, способствующий человеческой
идентификации. Любовь к мудрости, с одной стороны, врожденная человеку,
а с другой — благоприобретенная (сотворенная), дала свои плоды
16 Ю. M. РОМ АН EH КО. БЫТИЕ И ЕСТЕСТВО
в виде устойчивых форм познания человеком себя и мира. Этими
формами являются онтология и метафизика.
Почему именно они? Вот это промежуточное, казалось бы,
случайно оброненное слово «именно» подсказывает нам, что в первую
очередь дело здесь заключается в проблеме имени. Философия для
сохранения и традирования своих воплощенных достижений
нуждалась в общем именовании собственного содержания. Попыток
реализации именующего усилия в истории философии было
достаточно, но к настоящему времени придирчивую селекцию
выдержали, как нам представляется, только два имени — онтология и
метафизика. Случайно или с необходимостью история проявила
их? Этот вопрос нуждается во внимательном и подробном
исследовании.
ВВЕДЕНИЕ
ОНТОЛОГИЯ И МЕТАФИЗИКА КАК ИМЕНА
Философия во всех своих функциях — как призвание, как
осмысленное прохождение жизни, как профессиональная
деятельность — нуждается в центрировании себя самой и в
развертывающейся ориентации на Иное. Поисковая интенция философии
направлена на Истину, составляющую наравне с Благом и Красотой
Великую Триаду.
«Любовь к мудрости» — это прежде всего метод и способность
достижения, которые не могут рано или поздно не оплотниться в
устойчивую структуру знания, способствующую сохранению,
культивированию и развитию исходного стремления. Свободное
становление философского метода есть одновременно уточнение предмета
философии. Методологическая и предметная стороны
взаимообусловливают друг друга, подобно смысловой взаимосвязи слов «рост»
и «растение». Животное существо растет до определенных границ,
поскольку питается растениями. Так и философское стремление
приносит свои плоды, ибо усваивает от Мудрости как минимум две
идеи — Бытия и Естества как манифестаций Абсолюта, получив
их в дар и в поощрение. В этом отношении, с науковедческой точки
зрения, философия порождает две дисциплины — онтологию и
метафизику.
При постановке проблемы самостоятельности и совместимости
этих центральных дисциплин философии в литературе они, как
правило, почти отождествляются или определяются друг через друга
по родо-видовому признаку, что приводит к существенным и
терминологическим непоследовательностям. Проблема усложняется
тем, что до сих пор не выяснен статус ни самой философии, ни ее
отраслей. Перечень определений достаточно обширен: жизнеотно-
Шение, мировоззрение, служанка богословия, искусство мышления,
игра понятиями, мифотворчество, универсальная наука и т. д.
В принципе, каждое из определений оправданно и является
атрибутивным свойством философии. Хотя она сама не сводится только
к сумме своих частичных предназначенностей.
Жизненная реализация философского влечения
опредмечивается в знании как таковом. Само знание двуедино, подобно
обоюдоострому мечу; оно является способом сохранения изначального
18
Ю. M. РОМАНЕНКО. БЫТИЕ И ЕСТЕСТВО
импульса, позыва к Мудрости, который без знания рассеивается в
повседневном пространстве. Другими словами, обоюдоострый меч
знания, с одной стороны, преграждает прямой доступ к Мудрости,
оставляя ее трансцендентной, с другой стороны, подстегивает
рассеянное сознание и направляет его к нужной цели. Таким образом,
знание есть оформленность жизненного и творческого пути
философа, ин-формация философского опыта, отражающаяся в
биографии и наследии. Это знание естественно распространяется среди
последователей, антагонистов, трансляторов и модернизаторов того
или иного философского навыка, инвариантно воспроизводящегося
в исторических преобразованиях и модификациях.
Определение знания через термин «информация» вполне
допустимо, но при этом необходимо уточнить смысл данного термина,
не сводя его к узкокибернетическому или пассивно-рефлекторному.
Так, в энциклопедическом определении знания («отражение
объективных характеристик действительности в сознании человека»)1
присутствуют несколько неудовлетворительных, на наш взгляд,
моментов. Во-первых, знание здесь тавтологически определяется
через со-знание, хотя, по логике, нужно было бы, наоборот,
сознание и по-знание выводить из знания. Во-вторых, эта дефиниция
неявно отсылает нас к так называемому принципу отражения
(неважно, в ленинском варианте либо в каком-нибудь другом).
Отражение (рефлексия) имеет место в знании, но только тогда, когда
само знание уже состоялось. Здесь также косвенно подразумевается
вторичность и пассивность знания по отношению к
«действительности» и «объективности», которые неизвестно откуда берутся для
знания. Иными словами, это определение не онтологично, а, в
лучшем случае, гносеологично, выражаясь парадоксально. Прямым
онтологическим определением знания был бы принцип «знание есть
бытие» или «бытие есть знание». Но такое полагание очень сильно.
Поэтому в смягченном виде знание можно было бы первоначально
определить как «ин-формацию бытия», т. е. обретение со-знанием
формы самого бытия, насколько оно позволяет это сделать. Откуда
взялась эта форма? От самого бытия. И если нет у бытия формы,
значит, нет ни знания о бытии, ни знания вообще. Если же бытие
есть, одновременно есть и знание бытия. В этом случае мы начинаем
движение мышления исходя из принципа тождества онтологии и
гносеологии. В-третьих, обладание знанием — прерогатива не только
человека. Например, с религиозной точки зрения, субъектами
знания являются ангелы, более того, они сами и есть знание как
таковое, знание, для получения которого человеку нужно, по крайней
мере, совершить некий трансцендентальный акт (подобно Иакову,
1 Филатов В. П. Знание // Философский энциклопедический словарь.
М., 1989. С. 199.
ВВЕДЕНИЕ
19
боро-вшемуся с Ангелом Господним и сумевшему в результате этой
борьбы узнать свое имя).
Исходя из такого понимания знания и необходимо дефиниро-
вать онтологию и метафизику как знание «о» и «в» бытии и
естестве.
Рассмотрим имеющиеся в современных справочниках
определения онтологии и метафизики. А. Л. Доброхотов дает следующую
дефиницию: «Онтология (от греч. ôv, род. падеж ôvtoç — сущее и
^oyoç — слово, понятие, учение), учение о бытии как таковом:
раздел философии, изучающий фундаментальные принципы бытия,
наиболее общие сущности и категории сущего. Иногда "онтология"
отождествляется с метафизикой, но чаще рассматривается как ее
основополагающая часть, т. е. как метафизика бытия. Термин
"онтология" впервые появился в "Философском лексиконе" Р. Гокле-
ниуса (1613) и был закреплен в философской системе X. Вольфа».1
Далее А. Л. Доброхотов уточняет, что речь идет именно о «самом
бытии», другие философы иногда добавляют: о «бытии вообще».
Эти добавки к слову «бытие» — «как таковое», «само», «вообще»
и т. п., ставшие расхожими, имеют важное значение и проявляют
свою существенность при последующей экспликации; но часто ими
злоупотребляют без всякого смысла, по инерции.
Приведенное определение практически дублирует определение
А. П. Огурцовым онтологии как учения «о бытии, о сущем, о его
формах и фундаментальных принципах, о наиболее общих
определениях и категориях бытия».2 В этих предварительных дефинициях
пока не говорится о том, что такое «бытие» и что означает
выражение «наиболее общее».
Эти же авторы дают свои версии определений метафизики.
А. Л. Доброхотов: «Метафизика (от греч. цеха та (jrucnxu, букв. —
после физики), наука о сверхчувственных принципах и началах
бытия. В марксизме — противоположный диалектике философский
метод, отрицающий качественное саморазвитие бытия через
противоречия, тяготеющий к построению однозначной, статичной и
умозрительной картины мира. В истории философии термин
"метафизика" нередко употреблялся как синоним философии».''
А. П. Огурцов: «Метафизика — философское учение о
предельных сверхопытных принципах и началах бытия, знания, культуры.
Термин "метафизика" предложил Андроник Родосский (I в, до н. э.)
при систематизации произведений Аристотеля: книга о "первых
1 Доброхотов А. Л. Онтология ! ■ Там же. С. 443
" Огурцов А П. Онтология // Современная западная философия:
Словарь, м., 1991. С. 219
Доброхотов А. Л. Метафизика ■■.' Философский энциклопедический
словарь. С. 356.
20 Ю. M. РОМАН EH КО. БЫТИЕ И ЕСТЕСТВО
родах сущего" ("Метафизика") должна следовать после "Физики".
Трактовка метафизики неразрывно связана с пониманием
философии, ее предмета и функций в культуре».1
Ключевыми определителями метафизики в данных дефинициях
являются слова «сверхчувственное» и «сверхопытное», которые
сами нуждаются в дополнительной характеристике и обоснованном
введении в философский лексикон.
Понятно, что жанр энциклопедической статьи существенно
ограничен в своих возможностях, поэтому все перечисленные
определения могут браться только в качестве условных отправных пунктов
развития мысли по поводу этих предметов. Впоследствии от них
можно отказаться, существенно видоизменить или доразвить,
поскольку каждый дефиниенс в свою очередь нуждается в дальнейшем
определении.
Ближе к нашему пониманию дает определение метафизики
А. Ф. Лосев в «Диалектике мифа». Сравнивая миф и метафизику,
он пишет: «Метафизика говорит о чем-то необычном, высоком,
"потустороннем" ... Под метафизикой будем понимать обычное: это
натуралистическое учение о сверхчувственном мире и об его
отношении к чувственному: мыслятся два мира, противостоящих друг
ДРУГУ как две большие вещи, и — спрашивается, каково их
взаимоотношение».2 А. Ф. Лосев подчеркивает квазинаучный характер
метафизики. Он продолжает: «Метафизика есть наука или
пытается быть наукой или наукообразным учением о
"сверхчувственном" и об отношении его к "чувственному"».3 Таким
образом, по А. Ф. Лосеву, «центральное ядро всякой метафизики —
учение об отношении сверхчувственного к чувственному».4 Обратим
особое внимание на то, что А. Ф. Лосев определяет метафизику не
просто как «учение о сверхчувственных (или сверхопытных)
предметах», как это делают А. Л. Доброхотов и А. П. Огурцов, но
именно как отношение сверхчувственного к чувственному, и
еще с немаловажным уточнением по поводу стремления метафизики
к научности и логической отвлеченности, т. е. к ее тенденции быть
знанием особого рода. Как принципиальное положение А. Ф. Лосев
оговаривает дуалистический характер метафизики.
«Сверхчувственное» — не единственный термин для
спецификации метафизики. Иногда употребляют термин «умопостигаемое»
в сравнении и отличии его от «чувственно-воспринимаемого».
1 Огурцов А. П. Метафизика // Современная западная философия.
С. 181-182.
" Лосев А. Ф. Диалектика мифа ■■'/ Лосев А. Ф. Из ранних
произведений. М., 1990. С. 417.
3 Там же. С. 420.
1 Там же. С. 421.
ВВЕДЕНИЕ
21
На наш взгляд, более корректным преставляется выбор в пользу
понятия «сверхъестественное», в содержании которого обобщены
понятия «сверхчувственное» и «умопостигаемое» и даже
«сверхумопостигаемое». Преимущество данного понятия прояснится при
последующем изложении.
Необходимо далее уточнить и осмыслить приведенные выше
определения онтологии. Представление о ней как об учении о
«бытии самом по себе» ограниченно и неопределенно, хотя в первом
приближении и верно. Дело в том, что «бытие» является
единственным для философии понятием, которое должно быть
неопределяемым, беспредпосылочным. Не его нужно определять, а,
напротив, оно определяет все остальные понятия, категории и принципы
философии, находясь где-то «за спиной» у философа и направляя
его дефинирующую деятельность. Бытие ускользает от
определяющего мышления в какое-то свое естественное место (туда, где оно
пребывает «само по себе»), которое мы для начала предположим
как монотриаду категорий «бытие—ничто—творение». Данная
триада в философии полагается постулативно и беспредпосылочно.
Иначе говоря, она сама творчески полагается в мышлении к бытию
из небытия, имманентно себе самой. В свою очередь, мышление,
претендующее быть онтологическим, постоянно основывается на
действии внутри себя этой категориальной триады. Все понятия в
данной триаде взаимосвязаны друг с другом и могут быть выделены
в анализе только условно. Невозможно схватить в ограничивающей
дефиниции каждое из понятий триады в силу ее атомарности, а
можно только феноменологически отслеживать и описывать сам
процесс ускользаемости каждого понятия в триаду, если они до
этого каким-либо образом выступили из нее. Взаимосвязь и
принципиальное отличие этой монотриады от гегелевской
(«бытие—ничто—становление») будут рассмотрены в соответствующем разделе.
Эта триада является философским откликом на религиозный догмат
творения (теистический креационизм), а категория «бытие»
выступает философским коррелятом теологическому понятию Бога.
Данный момент справедливо подчеркивает А. Л. Доброхотов при
характеристике им средневековой онтологии, утверждая, что бытие
является единственным доступным для мышления образом Бога.1
Таким образом, онтология, определяемая по имени как учение
°б укорененности в бытии Логоса, выступает философским
истолкованием в мышлении религиозного догмата о творении бытия из
ничего, выраженного как истина Откровения во 2-й Маккавейской
книге [2 Мак. 7, 28], и соответственно фиксирует структуру своего
предмета в монотриаде категорий «бытие—ничто—творение», ин-
Доброхотов А. Л. Категория бытия в классической
западноевропейской философии. М., 1986. С. 149.
22 Ю. M. РОМАН EH КО. БЫТИЕ И ЕСТЕСТВО
вариантно присутствующей во всех философских системах, начиная
с философии Парменида, Платона и Аристотеля и вплоть до
философии Хайдеггера или русских религиозных мыслителей XIX-XX вв.
Бытие, ничто, творение — начальные беспредпосылочные
категории онтологии. Определить в мышлении каждую из них
изолированно от других не удается: при определении любой член этой
триады подразумевает остальные и ускользает от дефинирующей
мысли в свое естественное место, каковым является принцип
творения бытия из ничего. Раскрывается содержание этого принципа
в системе всех принципов диалектическим методом,
реконструируется его нераздельно-неслиянная целостность феноменологическим
всматриванием, как эти три категории мысли одновременно
стягиваются во взаимоопределяемое единство.
В отличие от триадического монизма онтологии, метафизика
изначально дуалистична и может быть определена как система
высказываний об Абсолютном (сверхъестественном) и его связи с
относительным (естественным). Понятие Абсолютного (лат.:
безусловное, неограниченное) выделяет предмет философии из прочего
знания. С одной стороны, Абсолют есть нечто предельно
отъединенное, отрешенное ото всего: по Гераклиту — «мудрое ото всех
обособленно» (фр. 108 DK). С другой стороны, все относительное
охватывается одним Абсолютом: согласно Гераклиту же —
«мудрость в том, чтобы знать все, как одно» (фр. 50 DK).
Бытие, ничто, творение как категории также являются
принадлежностью терминологического аппарата метафизики,
дуалистически трансформируясь в ней в оппозиционной паре категорий
«сущность—существование», абсолютной и относительной
отрицательности, творчества как процесса создания вещей посредством
оформления идеей материи. Этот процесс, в своей целостности
представляемый как эманация, расслаивается на процессы
эволюции (развертывания первопринципа) и инволюции (свертывания в
индивидуальности) и утверждается с точки зрения космо- и
антропоцентризма, в то время как принцип творения теоцентричен (он-
тоцентричен) и выражается энергийно.
Определить прямо «бытие» невозможно, но в самой ситуации
воздержания (апофатики) от дефиниции можно «нечаянно» найти
доступ ко всей онтологической монотриаде. Начало
феноменологической дескрипции и вступительное определение «ничто» может
быть таким: ничто — это отсутствие возможности бытию стать
бытием. В этом смысле ничто невозможно, но тем не менее оно
действительно (поскольку категория действительности первичнее
категории возможности). Действительность ничто не является
действительностью отсутствия бытия (конкретного или как такового),
а означает другим способом выраженный принцип творения бытия
из ничего. Именно в модальном значении возможности справедлив
ВВЕДЕНИЕ
23
тезис «из ничего ничего не возникает», отнюдь не противоречащий
постулату о «творении бытия из ничего». Первое положение можно
истолковать так: «из ничего само собой ничего не воз-могает быть»,
следовательно, его необходимо дополняет положение о
трансцендентном акте «творения из ничего». Так онтологически понимаемая
категория «ничто» имеет отношение не только к проблеме начала
творения, но и к его результату — новому, никогда не
существовавшему прежде конкретному сущему. В апофатическом богословии
«ничто» как онтологическая категория (как «положительное
Ничто») применяется для утверждения трансцендентности Бога.
Итогом апофазы как последовательности восходящего ряда отрицаний
любого определения Бога со стороны твари является сложное
высказывание: «Нельзя сказать ни того, что Бог есть, ни того, что
Бога нет, — как Творец, Он за пределами экзистенциальных
суждений».
Номиналистическая традиция, односторонне фиксируя
положение о том, что «ничто» невозможно, и умалчивая о категории
действительности, сводит «ничто» к частной формальной
отрицательности, запрещая субстантивировать и абсолютизировать его.
Собственно говоря, «ничто» в самом деле несубстанциально, его
просто нет. При таком понимании совершенно справедлива вторая
часть парменидовского высказывания «бытие есть, небытия же
нет». Однако как силой бытия является то, что оно есть, и кое-что
сверх того в преизбытке, так силой небытия является то, что его
нет. «Ничто ничтожествует», по выражению М. Хайдеггера, из него
«вытягивается бывающее бытие». Несколько иначе представляет
себе особую активность «ничто» Ж.-П. Сартр в трактате «Бытие и
ничто». Он считает, что бытие предшествует ничто, но ничто может
«неантизироваться» (франц. néant — ничто; « неантизирование » —
калька с хайдеггеровского «ничтожествования») на фоне бытия.
При этом Сартр отождествляет «ничто» со свободой.
Метафизика, в той мере, в какой она является дуалистической
системой высказываний об Абсолютном и его отличии от
относительного, разделяет ничто абсолютное и относительное. Такая
традиция была положена еще в древнегреческой философии, где
различались «укон» и «меон». В секторе пересечения взглядов
онтологии и метафизики на понятие «ничто» отрицательная частица
«Ук-» полагается от себя и для себя, а частица «ме-» — от
постороннего лица и для постороннего. Иначе говоря, мысль об
абсолютном ничто (об онтологическом небытии) возникает внутри
мыслящего и не может быть вынесена вовне, навязана другому (чужо-
МУ), она изживается личностью наедине с собой. Идея абсолютного
ничто вносится в мир таким сущим, которое само сотворено из
небытия — имеется в виду человек, который конкретизирует ее в
Нривативных категориях греха, смерти, зла, лжи и др. Чем богаче
24 Ю. M. РОМАНЕНКО. БЫТИЕ И ЕСТЕСТВО
определениями мысль, тем острее она чувствует абсолютное
значение ничто.
Природной иллюстрацией этому положению может служить
эволюционистское эмпирическое обобщение, утверждающее: чем
совершеннее и новее результат творения, тем уже диапазон условий
его существования и тем направленнее ход эволюции. Это относится
к человеку как «венцу творения», в лице которого сущее настойчиво
ищет онтологическое направление, где ничто всегда бы оставалось
несуществующим. Перед человеком впервые ставится проблема
выбора между бытием и небытием. И осуществляя этот выбор, человек
становится творческой свободной личностью. Хотя человеческое
творчество может быть как позитивным, так и негативным.
Третий член монотриады, понятие творения, специфически
выражается через категорию «энергейа» (действительность). Энергия
(греч.: «эн-» — предлог направления, «ургия» — действие,
творчество), в возможном буквальном переводе «втворчествование» —
пребывание в состоянии непрерывного творения — означает
действительность самовозрастания бытия в его творении из небытия.
С теоцентрической точки зрения энергия есть выражаемость,
сообщаемость Творца в мире, пре-из-быток всесовершенства
божественной сущности, неотделимый от Него. Энергия есть само
творчество, взятое, насколько это возможно, изолированно от двух
других категорий онтологической монотриады. Как таковая,
энергия не имеет перед собой иной цели, кроме бытия, и одновременно
она сама не является целью (достигаемой или недостижимой — в
отличие от энтелехии), а представляет собой способ напряженного
содержания бытия и ничто в их утвердительном, отрицательном
или нейтральном отношении к Творцу.
Исторически термин «энергия» был введен Аристотелем для
решения элейской апории о невозможности возникновения сущего
ни из сущего, ни из несущего и имел принципиальное значение в
его концепции Перводвигателя. От Перводвигателя, не знающего
творения бытия из ничего, зависит непрерывная и постоянная
актуализация и оформление мира, с гарантией его безначальности
и неуничтожаемости. С помощью категории «энергия» Аристотель
ввел принцип развития в онтологию, однако этот принцип оказался
у него нереализованным по причине неонтологической
интерпретации понятия «ничто».
В дальнейшем категория энергии была усвоена как в западном
(акт и потенция), так и, особенно, в восточном христианстве, в
доктрине православного энергетизма (в догматическом различении
сущности Бога и его энергий и при дифференциации тварных и
нетварных энергий), а также в онтологии М. Хайдеггера.
Помимо философской рецепции категория «энергия»
заимствуется конкретными науками. Например, в новейшем естествознании
ВВЕДЕНИЕ
25
наблюдается переход от вещественно-полевой научной парадигмы
к энергетической (в русле общенаучного методологического подхода
синергетики), в контексте которой исследуются процессы
возникновения новых структур из хаоса.
Определяя в рабочем порядке метафизику как систематизацию
всеобщих (а не просто «наиболее общих») принципов отношения
естественного (чувственно-воспринимаемого, относительного,
материального и т. п.) и сверхъестественного (умопостигаемого,
абсолютного, идеального и т. п.), что соответствует этимологическому
истолкованию ее имени и ее историческому функционированию,
мы специально реабилитируем и реанимируем в философском
терминологическом аппарате понятие «естество». Смысл этого слова,
его контекстуальные употребления, удачно проявленные и
сохраненные в русском языке, позволяют провести сравнительный анализ
метафизики и онтологии в форме понятийного сопоставления
отглагольных существительных «бытие» и «естество».
Субстантивация глаголов «быть» и «есть», различаемых в аспекте времени,
дает возможность постановки ключевого философского вопроса об
истине. Точнее будет сказать, что эта субстантивация впервые вводит
темпоральность в философскую теорию истины.
Понятие «естество» как предмет метафизики имеет ряд
преимуществ перед другими центральными ее понятиями. Перевод
древнегреческих слов physis и meta-physis и последующее смысловое
употребление не всегда адекватны античному способу мышления,
будучи продиктованы запросами более поздних эпох. Так, в
латинской версии physis переводится как natura и, соответственно,
метафизика как transnaturum, а семантика последнего слова может
уводить мышление в некоторые иные направления, не
подразумевающиеся в исходном значении.
На русский язык «фюсис» и «натура» часто переводятся как
«природа», при этом под последней понимается нечто объективно
предстоящее человеку и культуре (как будто человек не есть также
природа). В этом отношении слово «природа» подчеркивает только
один смысловой нюанс слова «фюсис», как он был задуман и
высказан в античности. Мы предлагаем в качестве аутентичного
перевода понятие «естество», часто употреблявшееся в свое время,
но по конъюнктурным соображениям не закрепившееся
терминологически. В русской дореволюционной философии был даже случай
буквальной кальки древнегреческой «метафизики» через слово
«преестественница». Понятие «естество», не подразумевающее в
отличие от понятия «природа» субъект-объектной отделенности,
Допускает провести в дальнейшем сопоставление метафизики и
онтологии, на что другие термины не способны.
Как человеческая установка метафизика возникает в контексте
мифа и культа, где все сверхъестественное естественно, поскольку
26 Ю. M. РОМАНЕНКО. БЫТИЕ И ЕСТЕСТВО
все находится в единстве. Непонятно отчего человек этого не
запомнил, — но он выпал из первоединства. Об этом факте в
напоминание сохранился только миф о грехопадении и изгнании
из рая. Отныне человеческое существование стало двойственным,
появилась трещина между сакральным и профанным, и
человеческое мышление было вынуждено мыслить в оппозиции
«естественное—сверхъестественное». Префикс «сверх-» («мета-», «транс-»)
появился в человеческом языке не от хорошей жизни. Более того,
сама «естественность» стала пониматься двусмысленно.
В самом деле, под естественными процессами сейчас
подразумевают природные закономерные явления, например питание и
размножение, но разве человеческая трудовая деятельность,
мышление, язык не являются естественными? Скажут, что они уже
наполовину искусственные. Но где та грань, которая отделяет
естественное от искусственного? И не случается ли так, что
искусственное вдруг становится естественным? Эти вопросы отражают
какую-то существенную проблему, к решению которой призвана
метафизика. Смысл префикса «мета-» не столь тривиален — в нем
загадана какая-то загадка, и ее еще придется подвергнуть
специальной истолковывающей процедуре.
Можно даже парадоксализировать ситуацию, сказав, что
префикс «сверх-» указывает на то, что даже сама «естественность»
уже необратимо утеряна человеком, и хотя он хотел бы вернуться
к ней, но это находится «сверх» его возможностей. Говоря по-
другому, для того чтобы человек стал естественным, он должен
совершить трансцензус в естество. Метафизика несет на себе всю
тяжесть первородной ущербности человеческой мысли. Поэтому-то
она дуалистична, и все ее усилия направлены на то, чтобы
превратить свой коренной недостаток в преимущество.
При взгляде изнутри, т. е. с точки зрения метафизики на самое
себя, ее задачи состоят в системном упорядочении всеобщих форм,
которые естественно сообщаются конкретному сущему, осуществляя
его. Но при этом для самого сущего собственное осуществление
воспринимается сверхъестественно. В этом состоит основной
парадокс метафизики, инспирирующий философскую мыслительную
активность.
Впервые классически метафизическую установку реализовал
Платон, разделивший действительность (эта операция вообще
присуща метафизике, в отличие от онтологии) на мир идей и мир
вещей. Впоследствии метафизический дуализм именовался в
различных оппозициях: «субъективное—объективное»,
«единое—многое», «вещь-в-себе — явление», «материальное—идеальное»,
«бытие—сознание» и т. д.
По иронии истории термин «метафизика» оказался связан с
философским творчеством Аристотеля, который как раз начинал
ВВЕДЕНИЕ
27
свое оригинальное философствование с критики метафизической
позиции Платона. Как уже отмечалось, термин «метафизика» введен
систематизатором аристотелевских текстов Андроником Родосским,
которые шли «после физических» трактатов и давали понятие о
«бытии самом по себе» в контексте «первой философии» (в
некоторых случаях Аристотель называл это «теологией», но не в
современном смысле этого слова). Так или иначе, возникнув случайно,
термин «метафизика» пришелся ко двору философии и породил
устойчивую традицию, так как здесь фиксируется реальная
проблема — удвоение человеком мира. Семантика приставки «мета-»
может при этом пониматься не только как внешнее «после», «над-»,
«сверх-» и т. п., но в смысле естественной целокупной границы
«фюсис» как его формы, идеи. Для метафизики «фюсис» и «идея»
равно существуют, просто потому, что они предданы культом и
мифом, с одной стороны, и конкретным знанием естественных
наук — с другой.
Критика метафизики, по причине этого ее промежуточного
положения, велась с разных сторон в основном по двум пунктам: об
онтологическом статусе сверхъестественного и о возможности
преодоления дуализма. Отрицание равносильного реального
существования сверхъестественного наряду с естественным свойственно
кантианству, позитивизму, материализму и другим философским
течениям. Однако эта критика бьет мимо цели, так как вопрос о
степенях и полноте существования находится в сфере компетенции
онтологии, а не метафизики (хотя между ними существует сложная
система взаимозависимостей).
Попытки понимания метафизики исходя из монистического
принципа присущи панлогистским системам — аристотелизму и
гегельянству, которые осуществлялись при эмансипации философии
от культа и мифа — главных источников снабжения философии
идеей сверхъестественного. Кантовское обвинение метафизики в
догматическом систематизаторстве и марксистское отождествление
метафизики с методом антидиалектики явились результатом
идеологических предпочтений и должны быть сняты с метафизики как
таковой. Догматизировать можно, как оказалось, не только
метафизику, но и диалектику. Более того, именно метафизика порождает
внутри себя свой собственный метод — диалектику, которая
способна систематизировать все что угодно и совмещать несовмещаемое.
Марксизм-ленинизм, на словах отмежевывающийся от
метафизики, на деле проводил метафизический принцип,
осуществлявшийся на основе абсолютизированной категории материи и
изначально полагающий дуализм предыстории и коммунизма. Симптом
этого наглядно проявился в так называемом основном вопросе
философии, сформулированном Ф. Энгельсом: «Что первично —
материя или сознание?».
28
Ю. M. РОМАНЕНКО. БЫТИЕ И ЕСТЕСТВО
Определяя диалектику как науку о наиболее общих законах
существования и развития природы, общества и мышления,
марксизм простой подменой почти воспроизводил классическое
определение метафизики. Понятия «бытие» и «онтология» здесь вообще
не брались в расчет и отсутствовали в философских словарях,
учитывая известную критику Ф. Энгельсом Е. Дюринга, считавшего,
что понятие «бытие» есть посредник снятия дуализма материи и
сознания. Одновременно с этим в марксизме-ленинизме
абсолютизировалась одна из сторон дуалистической оппозиции — категория
«материи», которой были приписаны все субстанциальные
преимущества понятия «бытие».
Оригинальное освещение истории метафизики как типа
западноевропейской культуры с ее субъект-объектным дуализмом и критику
с позиций онтологии предпринял М. Хайдеггер, предлагавший
продумать изначальную экзистенциальную ситуацию, в которой
возникает метафизика. «Поворот» и «возвращение к истокам»
метафизики частично реализуется Хайдеггером в его опыте обращения
с языком. Хотя это не полное возвращение к мифу и культу.
Продвинуться на этом пути удается П. А. Флоренскому, для которого
характерен метафизический монизм в замысле философии культа
и философии имени, а также в незавершенной работе «У
водоразделов мысли. Черты конкретной метафизики». Продолжает эту
программу в своих ранних произведениях А. Ф. Лосев.
Эпизодические кампании дискредитации и развенчания
метафизики сменяются этапами воссоздания ее импульса, причем
инициаторами воспроизводства метафизического способа
философствования выступают как философы, так и ученые естествоиспытатели.
Например, М. Бунге предлагал реанимировать метафизику под
именем протофизики, способной обобщать результаты достижений
всего комплекса естественных наук и создавать единую картину
мира. (Физика допускает присоединение к себе различных
приставок, помимо «мета-» и «прото-».)
Современное состояние и степень разработанности нашей
проблемы можно охарактеризовать следующим образом. В
отечественной философской литературе XX века отношение к онтологии и
метафизике радикально менялось на прямо противоположное как
минимум два раза. В дореволюционных академических и неинсти-
туциализированных направлениях философствования возникли
перспективные подходы к разрешению существенных проблем
онтологии и метафизики, параллельно развиваемые и в мировом
философском научном сообществе. В течениях «метафизики
всеединства», «софиологии», «ономатодоксии»,
трансцендентально-феноменологической школы и др. разрабатывались оригинальные проекты
интерпретации философско-мировоззренческого содержания,
осваивался мировой опыт. Российские философы готовы были пред-
ВВЕДЕНИЕ
29
дожить самобытные версии развития философского знания. В
далеко не полный список можно включить имена Н. А. Бердяева,
С. Н. Булгакова, С. Н. и Е. Н. Трубецких, П. А. Флоренского,
С. Л. Франка, Г. Г. Шпета, В. Ф. Эрна и многих других, в
произведениях которых был достигнут тот уровень мышления, который
называется в мировой практике онтологическим и метафизическим.
Вместе с этим отечественная традиция, будучи внутренне
противоречивой, держала руку на пульсе общих тенденций европейской
философии в лице ее устоявшихся центров в Германии, Франции,
Англии. Свобода и творчество, смысл бытия, положительный статус
понятия Ничто, смерть и бессмертие, природа и общество,
критическое познание и другие проблемы очерчивают круг интересов в
трудах отечественных мыслителей.
После известных событий 1917 г. и вплоть до 80-х годов в
России на имена «онтология» и «метафизика» практически было
наложено табу. Идеологическая ангажированность философии в
нашем тоталитарном обществе, оградив ее от собственных корней
и от влияния иных культур, вела к снижению научного уровня и
творческого потенциала. Диалектический и исторический
материализм как теоретический фундамент марксизма-ленинизма,
заместив онтологию и метафизику, неявно, конечно, пользовался их
достижениями, заимствуя основные принципы, категории и методы.
Диамат, по сути, был неким вариантом онтологии и метафизики.
И в таком двусмысленном состоянии аберрации мысли, в ситуации
испытания ее на немоту философия тем не менее продолжала
развиваться.
В интересующем нас отношении, беря поправки на время, в
работах советских философов были разработаны некоторые
ключевые вопросы собственно онтологии и метафизики, несмотря на то,
что метафизика третировалась тогда как некий антидиалектический
метод, а основное понятие онтологии — Бытие — было изъято из
диалектико-материалистического дискурса благодаря
«Анти-Дюрингу» и заменено абсолютизированной категорией материи,
которой были схоластически приписаны все онтологические и даже
теологические преимущества. В произведениях С. С. Аверинцева,
Г. С. Батищева, М. М. Бахтина, Ю. М. Бородая, П. П. Гайденко,
Э. В. Ильенкова, М. К. Мамардашвили и многих других постепенно
онтология и метафизика реанимируются и реабилитируются.
В современном постсоветском пространстве состояние
исследований характеризуется неопределенностью статуса и
содержательных рамок онтологии и метафизики. Сейчас наблюдается
накопление громадного эмпирического материала, с разных ракурсов
генерируются идеи, идет процесс интенсивной версификации,
нуждающиеся в систематизации и классификации. Обращают на себя
внимание работы А. В. Ахутина, В. В. Бибихина, А. Л. Доброхотова,
;Ю Ю. М- РОМАНЕНКО. БЫТИЕ И ЕСТЕСТВО
ß. А. Подороги, С. С. Хоружего и многих других, в которых, с
одной стороны, востребуется и продолжает развиваться
отечественная традиция, насильственно прерванная репрессиями и
вынужденной эмиграцией, с другой стороны, учитываются достижения
инноваций мировой философии XX века.
Что касается зарубежной философии, то здесь трудно
переоценить значение фундаментальных идей Н. Гартмана, Э. Гуссерля,
Г. Гадамера, Э. Жильсона, Э. Кассирера, Ж.-П. Сартра, М. Хай-
деггера, Т. де Шардена, М. Шелера и многих других, внесших
значительный вклад в онтологию и метафизику. Кардинально
поставленный М. Хайдеггером вопрос о Бытии и развернувшиеся
вокруг него дискуссии, вплоть до деконструкции «онтолого-
центризма» Ж. Деррида, определяют духовную и интеллектуальную
атмосферу XX века. Критика онтологии и метафизики в движениях
позитивизма, марксизма, психоанализа и др., демаркируя
философию и конкретно-научное знание, пошла, как ни парадоксально,
им на пользу, способствуя их самоопределению. Современное
состояние философии характеризуется пониманием острой проблемы
«дегуманизации бытия» и призванностью философии попытаться
решить эту проблему собственными средствами.
Таким образом, мы осуществили первоначальное мозаичное
знакомство с метафизикой и онтологией на уровне исторического
употребления этих понятий. Но, как говорилось выше, знакомство
по-настоящему начинается с усвоения имени. Понятие есть мысль
слова, а имя есть генератор слова. Иначе говоря, имя является
орудием знакомства. Вслушаемся, как звучат имена «онтология»
и «метафизика» в интеллектуальном пространстве.
Для исторической демонстрации того, как осуществлялся
процесс закрепления названий в философии, интересно обратиться к
периоду XVII—XVIII вв. Эпоха Просвещения, наряду с проводимой
в ее контексте идеей прогресса человеческого познания,
характеризуется также пафосом упорядочения наличного результатного
материала научной деятельности. Потребности в организации и
институциализации науки, сообщества ученых, высшего
образования должны были быть в первую очередь удовлетворены
установлением единой общезначимой системы (или структуры)
философского знания. Причем под общезначимостью неявно
подразумевалась общеобязательность, продиктованная мотивом дисциплины
(порядка). Можно сказать, что эпоха Просвещения — это период
упражнения в дисциплинирующей диктовке мышления. Под
диктатом здесь понимается выраженное в слове (устном, а еще более
записанном) законоположение, необходимое для развития науки.
Итогом этой рационализирующей деятельности стало формирование
"диного комплекса знания, расслоенного на тематически
упорядоченные и рубрицированные научные дисциплины. Разумеется, с
ВВЕДЕНИЕ
31
эмпирической точки зрения новое знание приобретается в опыте,
но сам опыт и само знание должны быть оформлены как в
объективном, так и в субъективном планах. Диктат отсылал к опыту и
ориентировал в опыте, но также требовал строгой и четкой
терминологической формулировки готового знания. К наиболее
выдающимся представителям данной традиции относятся Г. Лейбниц,
X. Вольф, А. Баумгартен и др.
Ограничим горизонт нашего исследования только проблемой
именования отдельных дисциплин единого корпуса наук на
историко-философском материале XVIII века. Иными словами, суть
проблемы состоит в ономатодоксальном санкционировании научной
дисциплинаристики и терминологии (ономатодоксия с греч. — имя-
славие). В самом деле, ведь какие-то имена должны быть
предварительно найдены, для того чтобы хотя бы конвенционально
маркировать определенные элементы в единой структуре. Каков статус
этих «имен», кроме формального? зачем они нужны, помимо
коммуникативной функции? сколько их? откуда они? как находятся?
к чему «зовут»? Эти «гностические» вопросы и многие другие
отнюдь не являются тривиальными и риторическими. Все они
остались фигурами умолчания или недоговаривания на поверхности
рассматриваемой эпохи, хотя работа по этой проблеме велась, и
достаточно интенсивно, о чем свидетельствуют обширные
оглавления энциклопедий и университетских учебников того времени,
являющиеся «следами» именующего усилия. Прежде чем то или
иное слово становится внешним названием какого-либо предмета
и может быть логически определено мышлением как понятие, оно
должно быть узнано как имя. Попробуем вслушаться в консонансы
и диссонансы ономатологических звучаний эпохи Просвещения,
реконструируя некоторые мотивы ее новаторов-композиторов.
Итак, по устоявшейся традиции первым философским «именем»
была «метафизика». Практически она произносилась как синоним
философии (с арифмологическим уточнением — «первая
философия»). Зарождение этого имени теряется в античности — в
именующем усилии, растянутом от Аристотеля до Андроника
Родосского. Апофеозом его звучания было Средневековье. Начало
XVIII века — период доверия к метафизике, хотя уже в это время
проявляются первые симптомы ее ономатологической
деконструкции, полностью осуществленной в творчестве И. Канта. Наряду с
традиционным «поминальным списком» активно вводились
новшества. Впервые, благодаря усилиям Р. Гоклениуса (в его
«Философском лексиконе», 1613), произносится неологизм «онтология», за
Которым терминологически закрепляется право быть учением о
бытии «как таковом». Онтология была введена в контекст
метафизики, что, на наш взгляд, не является аутентичным, и последующая
история несколько изменила это соотношение. Так, например,
32 Ю. M. РОМАН EH КО. БЫТИЕ И ЕСТЕСТВО
А. Баумгартен в своей «Метафизике» (1739) отмечал:
«Метафизика — это наука о первых принципах человеческого познания.
Составными частями метафизики являются онтология, космология,
психология и естественная теология».1 При этом онтология
определялась как «наука о наиболее общих предикатах сущего».2 Сейчас
нет возможности содержательно и формально разбирать такую
диспозицию, отметим только первый диссонанс: как может бытие,
единое и неделимое по существу, трактоваться как часть чего бы
то ни было, пусть даже это нечто и является предметом «самой»
метафизики? Именно этот момент, звучавший фальцетом в общем
хоре славословий в адрес метафизики, был уловлен будущими ее
критиками и конкурентами.
Несмотря на то, что термин «онтология» был введен для
обозначения одной из центральных философских дисциплин
сравнительно поздно, в XVII веке, естественно, в Германии —
законодательнице философских мод, реально онтология возникает,
разумеется, с началом философии в Древней Греции. В систематизирующей
и дисциплинирующей мысли академической философии это
нововведение подразумевало выделение в сфере философии некоего ядра,
вокруг которого можно было бы расположить все существующие
разделы философского знания. Понятие «онтос» (греч. сущее, бытие)
по всем критериям подходило для выполнения этой роли средоточ-
ного центра. Приблизительно в то же время у онтологии мог быть
конкурент на царский трон: немецкий философ XVII века Э. Вей-
гель, один из инициаторов вместе с Лейбницем создания Берлинской
Академии наук, предложил термин-неологизм (или археологизм) —
«пантология» (или «панлогия» — учение «обо всём») — также для
обозначения универсальной философской дисциплины, обладающей
монополией скреплять философию в целое. «Основная идея Вейгеля
состояла в попытке создания единого и всеобъемлющего знания на
основе универсального логико-математического метода познания,
образцами которого он считал геометрию Эвклида и логику
Аристотеля».3
«Онтос» стал пониматься как «пантос». «В работах 1673 г.
("Метафизика пантологии" и др.) Вейгель рассматривает мир как
систему вещей, в которой все имеет свою меру, место и логику...
Эти идеи универсальной математики как необходимой части всякой
строгой науки, всеизмерения ("пантометрия") и всезнания ("пан-
тогностия") Вейгель развивал на протяжении всего своего творче-
Реале Дж., Антисери Д. Западная философия от истоков до наших -
дней. Т. 3. Новое время. СПб., 1996. С. 600.
- Там же.
3 Жучков В. А. Немецкая философия эпохи раннего Просвещения. ,
М., 1989. С. 40.
ВВЕДЕНИЕ
33
ства, порой доводя их до абсурда и метафизических крайностей».1
Интересно спросить: какие имеются крайности у «всего»?
Сейчас трудно оценить, какая историческая конъюнктура
помешала панлогии оттеснить онтологию, но факт есть факт: панлогия
ушла на периферию, была предана забвению, вероятно, чтобы не
накликать на философов дополнительных насмешек, а онтология
до сей день фигурирует в качестве основной части школьных
философских учебников, правда, вместе с тем принимая на себя весь
натиск скепсиса и критиканства. Наверное, и в философии не
терпится двоевластие, но нужно отдавать себе отчет, что если при
выборах было как минимум двое кандидатов, а избрание получил
один, то на нем до скончания срока всегда будет висеть печать
самозванства, и отсюда зависть конкурентов. Впрочем, если
рассмотреть онтологию и панлогию в свете близнечного мифа, то
проблема снимается.
Подобных инноваций в эпоху Просвещения было достаточно.
Отдельный разговор должен вестись по поводу предложений автора
«Критик» И. Канта и И. Фихте, чье «Наукоучение» претендовало
на роль субъекта законодательной власти интеллектуальной
деятельности. И. Фихте, прежде чем утвердить «Наукоучение», сетовал
на то, что раньше философия была, дескать, «без прозвища».
Этих примеров достаточно для демонстрационного обоснования
и чтобы сделать некоторые обобщающие выводы в пределах
поставленной нами задачи. XVII-XVIII вв. явились крупным этапом
организации целостного философского знания, продуктивно
отвечающей на запросы времени. Но чего-то все-таки не хватало.
А именно потенциала той методологии, которую мы предложили
выше. Рационализирующее суетное упоминание некоторых
ключевых философских «номинаций» было жестко и иногда огульно
раскритиковано. Они был преданы забвению. И в этой замолчан-
ности появилась возможность клеветы на них, чем и не преминули
заняться мизософы, заполняя пустоту абсолютизированными и
раздутыми антиименами (например, «Критикой критической
критики»). XIX и XX века в различных стратегических режимах и с
разной степенью успеха реабилитируют, реанимируют и
перезагружают (выражаясь «по-компьютерному») эти имена. Например, это
проявилось в панлогизме Г. Гегеля, в онтологизированной
этимологии (или этимологизированной онтологии) М. Хайдеггера, в
«конкретной метафизике» П. Флоренского, в «Диалектике мифа» А.
Лосева и т. п.
Конечно, и эти инициативы ведут не только к смыслосозида-
юЩему диалогу, но и к полемике, открывая перспективу ответа на
Наше вопрошание.
Там же.
34
Ю. M. РОМАНЕНКО. БЫТИЕ И ЕСТЕСТВО
Итак, онтология и метафизика как имена в истории
существовали всегда, коль скоро существовала философия. Независимо от
того, были они явно озвучены или зафиксированы письменно
благодаря техническим усилиям Андроника Родосского, Р. Гоклениуса
или кого-нибудь, пожелавшего остаться неизвестным, они
подспудно, тихо оживляли деятельность философов.
В любом имени есть два момента, вытекающие из того простого
факта, что по имени зовут и на имя откликаются. Отсюда возникает
особый метод отношения к имени. Попробуем применить данный
метод к предметам нашего исследования. Для этого разложим
«онтологию» на ономатические составляющие, помня, что это
полузаконная операция. Необходимость оперативного вмешательства
вызвана тем, что в настоящее время употребление этого имени всуе
таит в себе ущербность, чреватую соблазном подмены и заглушением
другими именами.
Начинается искус «онтологией» с определения ее как «учения
"о" бытии», запечатленного в философских энциклопедиях и
учебниках. По устоявшейся научной традиции корень «логия»
применяется для обозначения «учения», «науки», «понятия» о каком-либо
фрагменте реальности. Например, зоология, археология, геология,
эмбриология и т. д. В применении к подобным дисциплинам
«логия», наряду с «номией», указывает на научный характер
отношения познавательного субъекта к познаваемому объекту. В этих
контекстах употребление «логии» основано на предпосылке субъект-
объектного дуализма, что в отношении к частным конкретным
наукам совершенно оправданно, так как позитивные науки основаны
на дуалистическом размежевании. Для них важно исследовать
объект как он есть сам по себе, насколько это возможно, без
лишних привнесений со стороны субъекта познания. Когда
исследуется объект, забывается присутствие и активность субъекта.
Когда, очнувшись, рефлексия возвращает мышление к субъекту,
выясняя его методологию познания, из поля внимания исчезает сам
объект. Конкретные науки постоянно балансируют на грани такого
дуализма, шаг за шагом корректируя свой метод и мозаично вы- ;
страивая научную картину своего предмета. Такая характеристика,.
конечно, очень приближенна и огрубленна, но она схватывает опре- i
деленную тенденцию развития научного знания и функционирова- \
ния в нем понятия «логос».
Именно в таком ключе, при создании отдельных наук, употреб-1
ляется слово «логия» для присоединения к предметному имени; И:
так получаются названия: социология, психология, культурология, !
физиология и др. Случай с онтологией особый, он радикально;
выделяется из целого сонма наук и учений.
Имя само по себе является целостным, неразложимым сгустком, 1
не разделяемым никакими лингвистическими инструментами: ни J
ВВЕДЕНИЕ
35
морфологически, ни семиотически, ни лексически, ни
семантически, ни фонетически. Можно даже сказать, что имена стоят
обособленно от сферы языка, являющегося собранием всех наличных
слов. Имя не есть только слово, напротив, слово порождается
именем, т. е. имя эманирует в инобытийную стихию языка и рассеивает
свою энергию в многообразии родственных слов. Имя имеет
личностную природу, а порожденное им слово может выражать собой
вещность.
Поэтому если мы рассматриваем «онтологию» как имя, то это
словообразование должно полагаться как языковой атом, не
расчленяемый никакими дефисами. Иными словами, «онтология» в
пределе должна быть персонифицирована, чтобы быть именно
именем и оправдать обе входящие в нее составляющие ипостаси —
«онтос» и «логос». Каждое имя «зовет» к бытию из небытия.
Именно поэтому предметом онтологии является триада категорий
«бытие—ничто—творение». «Онтос» и «логос» равночестны друг
перед другом, т. е. имеют одинаковый статус. Нельзя сказать, что
«онтос» относится к объективной области, а «логос» обобщает и
конкретизирует устремленность познающей субъективности к
отражению объекта. Это дуалистическая интерпретация имени
«онтология», которая находится вне субъект-объектной
дифференциации. «Онтос» тождествен «логосу», что дает возможность слить их
воедино. Следовательно, имя «онтология» можно читать и писать
не только слева направо, но и справа налево, какой бы протест не
вызывал в нашем обвыкшемся слухе термин «логоонтия». Что
поделать, привычка властвует над миром, но согласно другой
пословице — на привычку есть отвычка.
Вместе с этим в отношении «онтоса» и «логоса» есть некоторая
асимметрия. Дело в том, что «онтос» является родительным
падежом существительного «он» (греч. ôv — сущее). В этом отношении
«онтология» буквально переводится как «слово сущего». В
запредельном понимании, если бы можно было сохранить именительный
падеж, «онтология» звучала бы как «онлогия» — дословно «сущее
слово ».
Таким образом, «онтология» в ономатическом
самоистолковании (аутоэгезе) является «словом бытия» и одновременно
«бытием слова», т. е. она извещает об укорененности в бытии логоса и
о логичности бытия. В одноактном вслушивании в имя «онтология»
Уже имплицитно заключены все онтологические проблемы. Остается
только развернуть их в непрерывном осуществлении, в соответствии
с Данным именем. То же самое относится и к имени «метафизика».
С. С. Аверинцев, основываясь, в частности, на книге С. Н.
Трубецкого «Учение о Логосе в его истории»,1 так определяет основные
Tpi/бецкои С. Н. Учение о Логосе в его истории. М., 1906.
36 TO. M. РОМАН EH КО. БЫТИЕ И ЕСТЕСТВО
философско-теологические характеристики этого понятия,
позволяющие понимать его как имя: «Логос (греч. Àoyoç), термин
древнегреческой философии, означающий одновременно "слово" (или
'"предложение", "высказывание", "речь") и "смысл" (или "понятие",
"суждение", "основание"); при этом "слово" берется не в чувственно-
звуковом, а исключительно в смысловом плане, но и "смысл"
понимается как нечто явленное, оформленное и постольку
"словесное"».1
Исторически философское понимание «Логоса» различно в эпохи
античности и Средневековья. «Термин "Логос" введен в
философский язык Гераклитом, который использовал внешнюю созвучность
этого термина с житейским обозначением человеческого "слова",
чтобы в духе ироничного парадокса подчеркнуть пропасть между
Логосом как законом бытия и неадекватными ему речами людей.
Космический Логос, как и подобает слову, "окликает" людей, но
они, даже "услышав" его, неспособны его схватить и постичь ...
У более поздних древнегреческих натурфилософов, у софистов,
Платона, Аристотеля термин "Логос" утрачивает фундаментальное
онтологическое содержание. Лишь стоицизм возвращается к гера-
клитовскому понятию субстанциального мирового Логоса»2 в учении
о так называемых семенных логосах. «На этом завершается история
классической античной интерпретации Логоса как "слова", которое
субстанциально, но не личностно, и выявляет в себе форму, но не
волю».3
На переходе к теоцентрической эпохе «понятие "Логос" уже ',
вошло в сферу иудейских и христианских учений, где было пере- '
осмыслено как слово личного и "живого" Бога, окликавшего этим
словом вещи и вызывавшего их из небытия. Так, для Филона
Александрийского Логос есть "образ Бога" и как бы "второй Бог",
посредник между потусторонностью Бога и посюсторонностью мира.
Для христианства значение термина "Логос" определено уже на- •
чальными словами Евангелия от Иоанна — "В начале был Логос, :
и Логос был у Бога, и Логос был Бог"; вся история земной жизни i
Иисуса Христа интерпретируется как воплощение и "вочеловечи- !
вание" Логоса, который принес людям откровение и сам был этим \
откровением ("словом жизни"), самораскрытием "Бога незримого", j
Христианская догматика утверждает субстанциальное тождество j
Логоса Богу-Отцу, чье "слово" он представляет собой, и рассмат-1
ривает его как второе лицо Троицы».4 .{
1 Аверинцев С. С. Логос // Философский энциклопедический словарь, j
С. 321. 1
2 Там же. ;
3 Там же. С. 322. )
4 Там же. ;
ВВЕДЕНИЕ
37
В античности «логос» был не единственным способом
обозначения «слова», эту роль выполнял также «мифос» — звучащее слово
изустного предания, которое выражало собой образ бытия и
воспроизводило непрерывность традиции общественной жизни на до-
письменном уровне.
В последующей истории наблюдались случаи девальвации и
инфляции словоупотребления «логоса» в научном и бытовом
контекстах вплоть до того, что в русском языке, например, возникает
слово «ложь», означающее «не-истину», но тем не менее
этимологически вытекающее из слова «логос».
Гегель в «Науке логики» воссоздает субстанциальное
(онтологическое) понимание «логоса», но, вероятно, не совсем полно
интерпретирует его личностный смысл. Вместе с тем в научном знании
«логос» трансформируется в «логику» как научную дисциплину,
занимающуюся исследованием и упорядочением форм мышления.
Затем, по нисходящей, «логичность» рассудочного мышления
избирается одним из критериев научности познания, а сам «логос»
в несколько девальвированном (в онтологическом смысле) виде
преобразуется в так называемое движение «логицизма» —
разновидности позитивистской философской методологии.
В свое время В. Ф. Эрн выступил против выхолащивания
онтологического содержания Логоса в книге «Борьба за логос» (М.,
1911), полемически направленной, в частности, против
трансцендентально-феноменологических идей философов,
группирующихся вокруг журнала «Логос», где, вопреки имени, проводилась
программа десубстанциализации Логоса. В. Ф. Эрн подчеркивал
целостно творящий аспект Логоса, но также учитывал и его
дискурсивные особенности в человеческом познании.
Таким образом, в философском терминологическом аппарате и
списке дисциплин «онтология» и «метафизика» занимают особое
место. Употребление этих слов в научно-академических и
дидактических контекстах ограничивает возможности смыслов,
исходящих из них. Помимо принадлежности к области «языка
философии», «онтология» и «метафизика» являются именами, поэтому
они трансцендентны языку как таковому. Можно сказать, что
философия в собственном определении само-именуется в «онтологии»
и «метафизике». Установка философии на само-именование есть
«ономатодоксия», реализация которой осуществляется в процессе
применения «ономатологического» метода.
Говоря проще, философия претендует на то, чтобы «сделать себе
имя», подобно строителям Вавилонской башни. Архитектонической
конструкцией этой башни, представляющей из себя
саморазвивающуюся систему философских категорий, являются
«онтология» и «метафизика», а ее «венцами», касающимися Абсолюта,
выступают их главные понятия — «бытие» и «естество».
38 Ю. M. РОМаНЕНКО, БЫТИЕ П ЕСТЕСТВО
Нельзя забывать о судьбе строителей этой башни, «вольных
каменщиков», изложенной в библейском мифе. История дает много
примеров разрушения и растаскивания по частям грандиозных
философских доктрин, рухнувших под собственной тяжестью. Один
из показательных образцов — система диалектических категорий
«Науки логики» Гегеля, растасканной эпигонами вкривь и вкось.
Гегеля понимал только сам Гегель (будем надеяться), его же
последователи — «прорабы диалектики» — не понимали друг друга,
хотя каждый четко представлял план собственной работы.
Отдельные блоки вроде бы получались, но с состыковкой (синтезом)
выходило туго. История конфронтации между различными течениями
гегельянства слишком назидательна, чтобы относиться к ней с
иронией. Поистине, у строителей «смешались губы»: чем активнее
они говорили, тем менее понимали друг друга.
Коммуникацию внутри философского научного сообщества
усложняют редакторы, рецензенты и новаторы философского языка.
Усугубляют ситуацию те, кто использует стратегии методического
сомнения, антидогматической критики, феноменологической
редукции, грамматологической деконструкции и т. п. Эти «вредители»
только ускоряют процесс распада и без того разрушающегося здания.
И нельзя сказать, кто больше виноват — созидатели, ремонтники,
сносчики старья или утилизаторы стройматериалов.
Несмотря на столь печально обрисованную мифологическую
панораму философского процесса, впадать в уныние не приходится.
Строить-то все равно нужно. Просто следует учитывать временной
фактор: когда собирать камни, а когда разбрасывать. А вот это
наиболее сложное дело.
«Самочинство» философии можно понять не только как
«самоуправство» или «самозванство», но буквально — как способность
философии «чинить» самое себя. Об этом хорошо сказал Аристотель:
«Когда кто-то лечит самого себя: именно на такого человека похожа
природа» («Физика», II 199Ь 32—33). Аристотель, будучи потомком
бога врачевания Асклепия, внес приемы врачебного искусства в
философскую методологию. Даже логику он использовал как
средство излечения рассудка (название его логических трактов —
«Аналитики» — прямо говорит об «очищении»).
Аналогично этому к исцелению философского языка призвана
герменевтика. В XX веке наиболее остро почувствовали
необходимость терапии языка М. Хайдеггер с его этимологическим зондажом
и мифо-поэтическим наркозом, а также Л. Витгенштейн с его
операционально-инструментальным логическим анализом и профилакти-
ческо-рекреационными «языковыми играми».
Исходным способом герменевтического отношения к тексту (а |
текстом или знаковой системой сейчас называют все подряд:
природу, социум, личную жизнь, тело и т. д.) является «интерпрета-
ВВЕДЕНИЕ
39
ция». В этом термине нас может не устраивать префикс «интер-»
(между), хотя интерпретация изначально носит посреднический
характер, уже в силу мифологического статуса Гермеса (от имени
которого образовалась «герменевтика»), являющегося посредником
между богами и людьми и проводником («психопомпом»),
сопровождающим души в переходах между разносторонними мирами,
т. е. между устным словом и записанным.
Необходимость в применении «интер-претации» возникает
тогда, когда текст смертельно болен и излечить его может только
хирургическое («хирург» — букв, с греч. рукотворен,) операционное
вмешательство. Интерпретация есть инструмент взрезывания и
проникновения в больной текст с целью сделать его здоровым, то есть
понятным. С помощью интерпретации можно также реанимировать
«мертвые» языки и написанные на них культурные памятники
(идолы) старины. Асклепий, собрат Гермеса, как известно, научился
оживлять мертвых, за что, правда, был молниеносно наказан
Зевсом.
Сомневаться в чудотворных возможностях интерпретации
нельзя — они очевидны. Интерпретаторы, разъяв текст на части и
растащив их по сторонам, готовят подновленный материал для
возведения в очередной раз все той же башни. В этом смысле
интерпретация возводится в ранг искусства, технического
творчества. Рано или поздно эту способность перепоручат компьютерному
искусственному интеллекту (уж больно активны его создатели-
энтузиасты). Но сейчас нас более интересует не искушенно опера-
ционабельные возможности интерпретации, а естественный способ
самообновления текста в момент его непосредственного творения,
еще до того как начались метастазы, но с учетом постоянной
потенциальной инфицированности вирусом.
Если «ономатодоксия» онтологии очевидна (вернее, ухо-
слышна), то этого нельзя сразу сказать в отношении «метафизики».
Поскольку звучание имени длится между моментами «зова» и
«отклика», то, скорее всего, «метафизика» является эхом единого
имени «онтология». Это усложняет задачу аутоэгезы метафизики,
но через метафоры «зеркала» и «эха» трудности преодолеваются.
Не зовущая по имени (как «онтология»), а откликающаяся именем,
«метафизика» само-толкует себя как «мета-фюсис» — совпадение
естественного в нем самом.
Трудно дать этимологическую верификацию этой аутоэгезе
(самотолкованию), так как произнесение корней прослушиваемых
сейчас слов испокон веков табуировалось. Поэтому аутоэгеза всегда
чревата роковыми ошибками. Однако какие бы новые реликтовые
излучения до нас ни доходили, заставляя вновь и вновь
пересматривать смысловой фундамент философских понятий, вплоть до
замены терминов «онтология» и «метафизика» какими-нибудь более
40 Ю. M. РОМАНЕНКО. БЫТИЕ И ЕСТЕСТВО
адекватными словами, с ними все равно придется заниматься той
же ономатической аналитикой, которую мы сейчас проводим.
Как бы убедительно ни критиковал И. Кант «метафизику» и
как бы ни деконструировал «онто-лого-центризм» Ж. Деррида,
выполняя чисто терапевтическую работу, все равно онтология и
метафизика возрождаются в истории как феникс из пепла. Это
свидетельствует о том, что философия пока способна «лечить самое
себя» в процессе аутоэгезы онтологии и метафизики, под какими
бы псевдонимами их ни скрывали.
Что будет дальше — сложно сказать. Особенно в перспективе
антропологического развития герменевтики. М. Хайдеггер не
случайно высказал нарочито провокативную тавтологию: «язык
говорит». Да, пока говорит именно язык — безличная стихия,
изначально инфляционная и девальвирующаяся система. Человек еще
сам не заговорил, растрачиваясь на суету сует, но есть
обнадеживающий знак, что он пока еще не утерял способность слышать
Голос Бытия, произносящего творческие имена, которые
философия, пропуская через свой акустический аппарат, преобразовывает
в понятия и категории.
ГЛАВА 1
УГАДЫВАНИЕ ОБРАЗА БЫТИЯ
Предпосылки возникновения онтологии в античности
В античности философия началась. И началась она с
исследования перво-начала (по-гречески — архэ, по-латински — принцип,
по-русски — основание). Все, что имеет начало, по логике вещей
может или должно иметь и конец. Современный человек заброшен
куда-то в середину истории, откуда невозможно разглядеть ее
крайние точки. Сложно, почти невозможно что-либо начать — всегда
кажется, что начало уже состоялось. Не менее трудно что-либо
закончить. Проблема начала всегда волновала умы философов.
Гегель полагал, что философия исторически и логически
начинается с категории «бытие»: хронологически это отразилось в тезисе
Парменида, теоретически это зафиксировано в начале «Науки
логики», где Гегель берет «бытие» за исходную точку движения
определений мысли и квалифицирует его как пустое,
бессодержательное, абстрактное понятие (в силу чего отождествляемое с
понятием «не-бытие»). Согласно Гегелю, только с «бытия» и можно
что-то начать, других вариантов не дано. Правда, автор «Науки
логики» допускает, что можно начать с «самого начала», но это
не будет началом мысли, поэтому Гегель от такого подхода
абстрагируется.
Философия есть мышление в понятиях. Слово «бытие» является
понятием, а слово «начало» — понятие или нет? «Начало» можно
мыслить как начало через понятие «бытие», но его можно также
чувствовать и воображать. Гегель выполнил работу мысли по поводу
«начала», оставив без внимания другие стратегии отношения к
этой проблеме. Воспользуемся разрешением Гегеля начать с «самого
начала», не повторяя его панлогического алгоритма.
Для начала вслушаемся в звучание слова «начало». Для этого
поставим в один ряд однокоренные с ним слова: почин, початок,
чин, чинить, причина и др. Все они производны от единого
индоевропейского корня ken — (вновь) выступать наружу, появляться,
начинать (ср. лат. recens (корень cen-<*ken-) — свежий, новый,
молодой).' Как ни парадоксально, но слово «начало» имеет один и
Черных П. Я. Историко-этимологический словарь современного
русского языка: В 2-х т. М., 1994. Т. 1. С. 563.
42
Ю. M. РОМАН EH КО. БЫТИЕ И ЕСТЕСТВО
тот же корень со словом «конец». Можно осмыслить этот
лингвистический парадокс с точки зрения диалектики: «начало есть конец,
а конец — начало». Но что-то сопротивляется признать эту
софистическую игру. Корень у слов «начало» и «конец» может быть
одним — но ведь смыслы разные. Что различает эти слова по
значению? Не приставки и суффиксы только, в конце концов,
которые выполняют только служебную функцию, синтаксически
привязывая эти слова к другим словам.
Вероятно, в каждом из перечисленных однокоренных слов
сохранились некоторые отголоски первобытного звучания смысла,
которые позволяют нам услышать без искажений первослово.
Поставим рядом три родственных слова: «начинать», «чинить»,
«начинять». Несмотря на то, что эти слова сейчас прагматически
употребляются в совершенно различных контекстах, во всех трех
слышится некое одно, давшее им жизнь в языке, а само где-то
затаившееся. Его уже, видно, не озвучить явно. Но намекнуть на
него можно в приблизительно таком многословном предложении,
инспирируя угадывающий слух: есть то, что начинается, что
появилось в начале, и в тот же момент чинится, т. е., не успев
состояться, тут же преображается, наполняясь (начиняясь) чем-то
иным. Что это такое — невозможно выразить одним словом, но
оно все же есть, иначе не было бы тех трех, и именно оно есть
подлинное начало и одновременно конец.
Начинается то, чего не было. Чинится то, что сломалось.
Начиняется то, что пусто внутри. Но это еще не все. То, чего не было,
что сломалось, что пусто, стало таковым именно в момент «начала
починки начинением». Ничего более из этой игры слов вытянуть
невозможно. И так мы насилу полузаконным способом извлекли
из недр языка дремлющее слово. Хотя этого достаточно, чтобы
войти в особое методологическое состояние, позволяющее
аутентично истолковать исток возникновения античной онтологии.
Сопоставив схему нашего рассуждения с гегелевской начальной
триадой «бытие—ничто—становление», можно убедиться, что
между ними существует взаимооднозначное соответствие. Мы
выполнили то же самое, но используя совершенно другие средства.
Работала не мысль, но слух, настроенный на голос Бытия, если
выразиться по-хайдеггеровски. Не обязательно решать, что
первично: мышление или слух. Главное, что результат один и тот же.
Действительно, начало — это бытие, конец — ничто, становление —
это начинение бытием чинящегося небытия.
Можно даже предположить, что Гегель, прежде чем мысленно
выразить в «Науке логики» эту прототриаду, воспринял ее
первоначально в опыте воображения.
«Начинать можно с чего угодно, —• признался как-то А. Ф.
Лосев, — хотя бы с моих очков». Неважно, с чего мы начнем, —
КНИГА I. ГЛАВА 1. УГАДЫВАНИЕ ОБРАЗА БЫТИЯ 43
в конце концов, все пути ведут в Рим. «Мне безразлично, откуда
начать, ибо снова туда же я вернусь», — заявила Пармениду богиня,
прежде чем открыть ему путь Истины.'
Много спорили — с чего все началось? «Океан, который всем
прародитель». «В начале сотворил Бог небо и землю». «В начале
было Слово». «В начале было Дело». «Лиха беда — начало».
Бесконечно, на разные лады варьируется проблема начала в истории
человеческой мудрости. При этом слово «начало» часто
подразумевается в отношении к чему-то, в качестве служебной функции, но
не само по себе.
Когда «начало» делается предметом рефлексии — значит, без
него уже можно обойтись. И в самом деле, можно вполне
благополучно существовать, не зная вообще, что есть начало. Когда автор
книги «С чего начать?» задается этим вопросом и тут же себе
отвечает, что с «Искры», то он недалеко отходит от
натуралистических интерпретаторов Гераклита, полагавшего началом вещей
Огонь. Когда Лев Толстой в муках решает проблему начала «Анны
Карениной», просто написав: «Все смешалось в доме Облонских»,
то его воображение находится в рамках учения о первичной смеси,
хаосе и вполне соответствует духу орфической космогонии. Один
маститый писатель советовал начинующему: если сложно начать,
начни писать хотя бы что-то, пусть бред, потом почувствуешь
интуитивно, что на каком-то шаге искомое начало забрезжило.
Тогда тут же безжалостно отсекай то, что было написано прежде,
и отсюда как от начала веди дальнейшее повествование.
Но все эти тактики и ухищрения относятся уже не к первому
началу, а ко второму. А где критерий их отличения? Первоначало
невоспроизводимо, поскольку оно является условием любого
воспроизводства. Тем не менее законен вопрос о числовой природе
начала: сколько их было — одно, два или бесконечное множество?
Отложим попытку решения этой проблемы на будущее.
Даже Парменид, для которого бытие едино и неделимо и потому
оно является единственным подлинным началом, наряду с этим
полагал еще двоичное начало — тепло и холод. Счета здесь пока
нет, но уже есть числа. Бытие одно, а его изначальных состояний —
Два, следовательно, если бытие и есть начало, то единица
тождественна двоице (с чем не в силах совладать формальная логика,
которая, кстати, единственная не имеет начала и конца, что
доказано в современных теоремах).
Кроме упоминавшихся однокоренных с «началом» слов
существуют еще два: «причалить» и «от-чалить». С приставками смысл
этих слов понятен, а что такое — «чалить»? Опять загадка. Если
Допустима такая временная этимологическая гипотеза, что «чалить»
Фрагменты ранних греческих философов. Часть 1. М., 1989. С. 295.
44 Ю. M. PUMAHEHKO. БЫТИЕ И ЕСТЕСТВО
соответствует глаголам «шалеть» и «шалить», означающих
«безрассудство», «шутку», «обман», «невменяемость», «безумство»,
«неистовство», «игру» и восходящих к индоевропейскому корню (s)kel
«резать», «отделять» (откуда «резвый»),1 следовательно, сам язык
требует брать слово «начало» не только в интеллектуальном плане,
но и в чувственно-имагинативном. Значит, само начало — не
проблема только для мысли как таковой, но и проблема чувствования
и воображения. Пусть «бытие» будет «началом» для мысли. Но
само начало (без кавычек) можно только учуять.
Необходимо специально оговорить испульзуемый нами подход
к языку. Философы неоднократно прибегали к этимологизированию
для практических философских нужд. А филологи часто негодовали
по поводу этимологических изысков философов. Много упреков
сыпалось на голову Бёме, Гегеля, Хайдеггера, Флоренского и других
за незаконное приписывание смыслов отдельным словам. И эти
обвинения совершенно справедливы с формальной точки зрения,
поскольку ошибки действительно допускались. Но некоторые из
ошибок стали эвристическими, так как позволили выразить
внутренний смысл учения того или иного философа. Не благодаря
языку, а, быть может, вопреки ему. Если бы философы соблюдали
все запреты, высказанные стоящими на страже чистоты языка
лингвистами, то мысль давно бы уже ушла в молчание.
Язык служит коммуникативным целям, является орудием
живого общения. Язык есть совокупность всех наличных слов, но
каждое слово принадлежит не только системе языка. Слово в другом
измерении привязано к мысли и чувству и непосредственно их
актуализирует и выражает. Мышление и язык не тождественны
друг другу, между ними складываются достаточно напряженные
драматические отношения, чреватые взаимообогащением и
взаимоотчуждением. Слово предназначено для того, чтобы донести мысль
в сохраненном виде. Контекст, в котором мы применяем
этимологический метод, ограничен системой «бытие—мышление—язык».
Платон довел практику этимологизирования до абсурда в диалоге
«Кратил», показав пределы применимости фоносемантических
совпадений корней слов в сфере мысли. Основная забота философа
заключается в выражении мысли в языке, в воплощении ее в
достаточно инородной стихии. И если для этого необходимо
совершить насилие над языком, то философы не стесняются в выборе
средств выражения. За этот грех приходится расплачиваться
непониманием со стороны потенциальных читателей или слушателей.
Но время постепенно залечивает раны языка. Иногда необходимо
специально заниматься «терапией» языка.
Черных П. Я. Историко-этимологический словарь современного
русского языка. Т. 2. С. 400.
КНИГА 1. ГЛАВА I. УГАДЫВАНИЕ ОБРАЗА БЫТИЯ 45
Задача философов состоит не в заполнении подробных
этимологических словарей (с этим вполне квалифицированно справляются
филологи), а в развертывании мысли, выражающей бытие. Однако
сама мысль не может сдвинуться в сторону нового, если ей не
поможет в этом удачно найденное слово. Поиски нужных слов не
всегда законны и естественны, ибо современный человек вброшен
в стихию смешанных языков, случившуюся в результате
Вавилонского столпотворения. Поиском слова занимается не сама мысль, а
чуткий слух. Философ не только использует язык, но и сотворит
его.
Мы приводим всю эту аргументацию не для оправдания
лингвистических ошибок, а для того, чтобы разъяснить, что они
непроизвольны и, следовательно, случаются сами собой. Слух
осуществляет лишь их селекцию, а мышление — функциональное
распределение по тематическим рубрикам.
Старое добротное русское слово «чиноначалие» является не
совсем точным переводом греческой «иерархии». Встречается и более
прямой перевод — «святоначалие». Отсюда религиозные
представления о «девяти ангельских чинах». Есть несколько смежных слов:
«монархия» — одноначалие, «анархия» — безначалие, «генар-
хия» — единоначалие, «гетерархия» — разноначалие. Каждое из
этих слов характеризует тот или иной тип мышления того или
иного религиозного или философского направления в ту или иную
эпоху. Какое из этих слов необходимо выбрать для истолкования
исходного пункта возникновения философии в античности?
Поскольку философия в Древней Греции зародилась в лоне
мифологии, являющейся разработанной иерархической
конструкцией языческого Пантеона, то адекватнее всего было бы начать со
слова «иерархия» — чиноначалие. Это слово является продуктивной
тавтологией — «начало-началие» — следовательно, чистым
началом. Но с него практически никто из первых древнегреческих
философов не начинал. Для натурфилософов-досократиков была
характерна «гетерархия»: каждый из них выбирал тот или иной
«чин естества» — воду, огонь, землю, воздух. Парменид начал с
«генархии» — единоначалия, а единое есть «бытие». Большинство
философов были монархистами, хотя встречались и анархисты среди
софистов, киников, стоиков, скептиков и других школ. Только в
конце античности неоплатонизм начал с настоящего начала — с
«иерархии» основных философских категорий, являющейся
мысленным зеркалом языческой мифологической «иерархии».
Известно распространенное и не совсем корректное мнение, что
«иерархия» предполагает жесткую подчиненность низших уровней
вьющим, и, как следствие, в этом слове вычитывают мотивы насилия
и тоталитаризма. Такая интерпретация основана на подмене. В «чи-
46 Ю. M. РОМАН EH КО. БЫТИЕ И ЕСТЕСТВО
не» никакой «под-чиненности» нет и быть не может. Это происходит
позднее, когда «чин» превращается в «причину».
Замысел и композиция данного исследования предусматривает
сдвоенный, стереоскопический взгляд на «начало» философии.
В первом разделе, посвященном исследованию понятия «бытие»,
начало мыслится в свете онтологии. Здесь достигается понимание
того, что «начало» бывает, случается всякий раз, когда бытие
творится из небытия. Во втором разделе, исследующем «естество»,
говорится о том, что всякое начало естественно, так же как
естественным является все то, что получило существование в начале.
В гносеологической части работы необходимо ответить на вопрос
«что значит — знать начало?».
Итак, началом философии стало открытие категории «бытие».
Честь подобного открытия совершенно справедливо приписывается
Пармениду. Однако слово «открытие» использовано сейчас
метафорически, не в качестве строгого термина. Открытие предполагает
закрытие, а бытие, конечно, не створки дверей. Впрочем, подобная
метафора вполне допустима, если придать ей направленный
онтологический характер. Хайдеггер много медитировал над свойствами
«открытости» и «закрытости» в отношении к бытию и пытался
воссоздать условия возможности мысленного контролирования этих
двух противоположно направленных процессов. Но дело
заключается не только в этом. Необходимо подобрать более адекватный
методологический «ключ» (снова та же навязчивая метафора) к
бытию. Открытие бытия не избавляет от ответов на вопросы: что такое
бытие? что с ним делать? зачем оно? надолго ли? и т. д. По нашему
убеждению, об отношению к бытию всех остальных древнегреческих
философов можно сказать: античность угадывает бытие.
Абсолютом для античности является Космос, а жизненная
детерминация последнего определяется Судьбой. Ей подвластны и
смертные люди, и бессмертные боги, даже Зевс и тот имеет свою
судьбу, но, в отличие от остальных, он ее твердо знает. Это знание
Зевсом собственной судьбы персонифицировано в мифологическом
образе Прометея (промыслителя), т. е. удел Зевса знает он сам и
его ипостась — Прометей. По этому поводу оба находятся в
сговоре — сохранить в тайне смысл судьбы Вседержителя. Все
мироздание стягивается в целостность некими оковами, своеобразным
обручем, который держится в одной точке богиней Судьбы.
Наибольший интерес представляет именно эта точка, ибо к ней сходятся
нити всех сущих судеб. Эта точка есть место со-держания единой
границы мира. Чья-то рука крепко держит начало и конец одной
линии, свернутой в круг. Что там — в сжатой «ладони» —
неизвестно, а разжать и посмотреть нельзя, ибо линия окружности
мгновенно распрямится и случится космическая катастрофа. Знать
судьбу нельзя. И не потому, что человек не созрел и не прозрел
КНИГА I. ГЛАВА 1 УГАДЫВАНИЕ ОБРАЗА БЫТИЯ 47
для этого, а потому, что судьба слепа в себе самой: «в понятие
Судьбы обычно входит не только непознаваемость для человеческого
интеллекта — она "слепа" и "темна" сама по себе».'
Зрение — дистантное восприятие, а богиня Судьбы — это
персонификация тактильной перцепции, в акте которой не
устанавливается субъект-объектная граница, но лепится тело определенного
сущего и на него наносятся знаки судьбы — узелки памяти и
предвосхищения.
Иными словами, судьбу знать невозможно, но можно каким-то
способом к ней отнестись. «Недаром верящие в Судьбу всегда
пытались лишь "угадать" ее в каждой отдельной ситуации, но не
познать ее; в ней принципиально нечего познавать».2 Отсюда у
древних расцветшая махровым цветом практика мантики,
включающая в себя астрологию, физиогномику, хиромантию,
френологию и прочие иррациональные дисциплины архаического ритуала.
Менее очевиден прием угадывания в построении философских
концепций. Но и там он присутствует, более того, именно усиленная
его маскировка заставляет предположить, что этот способ и метод
отношения к Абсолюту является основополагающим для данной
эпохи. Данное предположение будет проверено в последующих
параграфах первой главы.
Сложнее всего понять, что же такое «угадывание». Это не
научный поиск в прямом смысле этого слова, не раскрытие секретов
природы или социального устроения, это вообще не исследование
в эмпирической области. Существует только предварительное
знание, что просто так знать подобные вещи невозможно.
Угадывание — не интуиция и не дискурс, но все-таки это метод, самоценный
и не сводимый к другим методам. Ведать судьбу означает угадывать
волю богов на данный конкретный случай жизни, в ситуации
общения смертных с бессмертными. Но вся беда состоит в том, что
понятие «воли» сложно приписать сущности языческих божеств.
Чего вообще хочет человек, пытаясь угадать свою судьбу? Вряд
ли интерес его окончательно удовлетворят картинки будущей
жизни, где он будет наблюдать себя со стороны. Это будет уже не он
сам, но его отчужденный образ, который можно элементарно
подменить, так как нет критериев идентификации образа и его
носителя. Гадатели, к которым обращаются люди, распечатывают у них
эту первобытную потребность настроить персональное воображение
на единый образ бытия. Правда, на этом поприще толпится много
Шарлатанов, но это уже не вина самого метода угадывания.
Аверинцев С. С. Судьба / ' Философский энциклопедический словарь.
С 635.
Там же.
48 Ю. M. РОМАН EH КО. БЫТИЕ И ЕСТЕСТВО
Поскольку угадывание есть метод, то чтобы имманентно понять
его, воспользуемся таким методологическим приемом, как
оборачивание метода, т. е. обратим угадывание на него самого. Иными
словами, попробуем угадать, в чем суть угадывания. Угадывают
то, чем нечто крепко держится, что хранит от срыва в небытие
(вспомним образ прикованного Прометея). В принципе, данный
метод вполне мог быть заменен максимально обостренным чувством
осязания. Если бы человек сумел сохранить это чувство в чистоте
и первозданной силе! Поскольку же чувство осязания не озвучить
и не передать на бумаге, постольку нам не остается ничего иного,
кроме испытанного уже средства — вслушивания в имя этого слова
и всматривания в образ, который оно вызывает.
Греческое слово «мантика» включает в себя двойное значение:
«ясновидение» и «прорицание» и, таким образом, обозначает два
разных процесса: оптический и акустический. Ясновидение означает
прямое, непосредственное видение предмета, в момент которого
снята всякая дистанция (пространственная, средовая, культурная)
между субъектом взгляда и вещью. Такая интенсификация чувства
зрения претворяет его в тактильное восприятие. Прорицание — это
не речь о предмете, но речение вовнутрь предмета, звуковое влияние
на формирование его генетической структуры. Как всякое
генетическое кодирование, прорицание структурно имеет форму двойной
спирали, что в обыденном прослушивании воспринимается
антиномически и неопределенно (в туманной невнятице пифии и оракулов).
В греческой мифологии существует женский образ по имени
Манто, она является поводырем своего отца — слепого прорицателя
Тиресия. Он был ослеплен за подсматривание того, что видеть
запрещено (купающаяся Афина, спаривающиеся змеи). Но по
ходатайству свыше потеря зрения была возмещена Тиресию даром
прорицания. Дочь наследовала этот дар от отца. В соответствии с
именем Манто сближают с мантикой. Далее она передала
способность прорицания своему сыну Мопсу.1
Слово μάντις (прорицатель, пророк, предсказатель, находящийся
в состоянии исступления, вдохновенный) происходит от глагола
μαίνομαι (бесноваться, неистовствовать, сходить с ума). Но не в
привычном значении, а в смысле выхождения за пределы ума,
трансцендируя к Мудрости. В онтологическом смысле для нас
наиболее интересно двусоставное слово μαντιπολέω (быть
предсказателем). Вторая часть этого слова является синонимом для είναι
(бытие) — πολέω (πέλω, πέλομαι, επλετο) — что означает: вращаться,
пребывать, бывать, быть, есть, еси.2 Лингвистически έΐπλετο прини-
1 Мифы народов мира. Энциклопедия: В 2-х т. М., 1992. Т. 2. С. 106,
176, 513.
2 Вейсман А. Д. Греческо-русский словарь. М., 1991. Стб. 374, 780,
969, 1021.
КНИГА l. ГЛАВА L УГАДЫВАНИЕ ОБРАЗА БЫТИЯ 49
мается за аорист («форма глагола, обозначающая нерасч лене иное
действие или состояние в прошлом»).1
Если eivca иногда понимают как абстрактное бытие, т. е. как
то, что позднее Кант назвал не реальным предикатом (бытие не
есть реальный, конкретный предикат, но лишь пустая связка между
субъектом и предикатом в суждении), то в древнегреческом языке
слово ёлАето могло пониматься именно как конкретное бытие (как
реальный предикат). "ЕлА^то говорит о том, что «быть» — значит
«быть во вращении» или, точнее, «быть вращаясь». Если
справедливо такое истолкование, то данное слово может считаться
адекватным языковым средством для онтологического выражения
«мифа вечного возвращения», который, как известно, является законом
существования и Судьбой Космоса для античного мышления.
Над архаическим человеком тяготеет миф «повторения того же
самого». От него никуда уйти невозможно, да и не нужно. Напротив,
следует найти точку и момент входа в круг «вечного возвращения»
для реализации смысла собственного существования. Найти эту
точку — значит угадать образ бытия (uavTmoÀéœ — быть
предсказателем), предсказать бытие. Хотя сама эта точка не должна
пониматься в пространственно-временном смысле. Это сдвиг бытия в
небытии, порождающий кругооборот Космоса, внутри которого
впоследствии возникают пространственно-временные отношения.
До сдвига бытия в себе самом нет ничего, кроме священного безумия
исступленного гадателя бытия, который угадывающим мышлением
воздвигает бытие на фоне небытия. И в этот миг бытие тождественно
мышлению. У М. Хайдеггера есть удивительные картинные
прозрения на этот счет, мы их приведем позднее. Для человека судьбы
важно удачно обнаружить единственную точку открытости бытия
именно для него и успеть трансцендировать в нее, пока бытие не
ускользнуло в потаенность. Если это удалось, то судьба может быть
названа успешной (слова «успеть» и «успех» имеют один корень).
В современном русском языке слово «угадывать» филологи
истолковывают так: «1) строить предположения относительно чего-
либо; 2) у суеверных людей — узнавать будущее или прошлое (по
картам или другими способами)».2 Такое определение нельзя
признать удовлетворительным в философском отношении. С
онтологической точки зрения, признав «угадывание» в качестве метода,
необходимо распространить его не только на временные модусы
прошлого и будущего, но прежде всего на настоящий момент. Бытие
Угадывается именно в мгновении настоящего, сквозь актуальный
Наследие Эллады: Энциклопедический словарь. Краснодар, 1993.
С. 90.
Черных П. Я. Историко-этимологический словарь современного
русского языка. Т. 1. С. 175-176.
50 Ю. M. РОМАНЁНКО. БЫТИЕ И ЕСТЕСТВО
чувственный покров. Даже угадывая прошлое или будущее, человек
интересуется только моментом настоящего — он угадывает не просто
будущее (прошлое), но настоящее в будущем (в прошлом), то, что
всегда было, есть и будет на самом деле.
Платон отразил это состояние в существенном для его философии
понятии — диалектическом моменте «вдруг». Это момент перехода,
скачка между единым и многим, совершающийся внезапно и сразу,
как перепад в иную размерность, головокружительный до спазма.
Мышление не может рационально охватить этот «миг» — «это
странное по своей природе "вдруг" лежит между движением и
покоем, находясь совершенно вне времени».1
С одной стороны, извне, момент «вдруг» краткосрочен. Но, с
другой стороны, внутри себя «вдруг» имеет свое дление, в идеале
бесконечное. В целом «вдруг» знаменует темпоральность общения
вечных богов с конечными людьми. Через длительность этого
момента боги посылают людям милости или наказания. В этом
экстатическом мгновении-процессе рациональное мышление
бездействует, его заменяет иная способность человеческого существа —
угадывающее воображение. По Платону, «гадание — это творец
дружбы между богами и людьми, потому что оно знает, какие
любовные вожделения людей благочестивы и освящены обычаем».2
Удачное угадывание способствует вдохновенному обращению к
Мудрости, неудачное ведет к отвращению от нее. (Эта тема будет
подробно развита в первой главе.) Философия начинается и
заканчивается удивлением, возникшим в «странном» моменте «вдруг».
Странном потому, что любовь и ненависть перетекают в нем друг
в друга незаметно, без контроля рассудка.
Вернемся к онтологическому этимологизированию как
единственному способу поддержать разговор о бытии, начатый в древности.
Смысловое созвучие и общий корень со словом «угадывать» имеют
слова: угождать, годиться, хотеть, возможно, латинское prehendo
(хватать, достигать, понимать). Не исключена также связь с
существительным «гад» (пресмыкающееся и земноводное животное;
всякое отвратительное, мерзкое существо, мерзкий человек),3 уводящая
нас в архаические тотемические представления о пра-теле Космоса.
«Гадом» называют прежде всего змею, гадюку (вспомним, что у
древних — это гностический символ мудрости, но и искушения).
По-чешски hadina — это змея, змеиная кожа. Изначальный смысл
корня «гад» — стыд, срам, нечистоты, грязь. Все нуминозное
воспринимается амбивалентно. Поэтому неслучайно процедуру уга-
1 Платон. Парменид. 156е.
2 Платон. Пир. 188d.
Л Черных П. Я. Историко-этимологический словарь современного
русского языка. Т. 1. С. 175.
КНИГА 1. ГЛАВА 1. §1. ПАРМЕНИД
51
дывания всегда сопровождает ощущение неприличия и
непристойности, запретности, нездорового любопытства. Древние гадали не
только по полетам птиц, но и по внутренностям жертвенных
животных. После подобного деяния, если нагаданное не свершалось,
поневоле приходилось раскаиваться, кусая локти и впадая в ми-
зософский приступ. Так, в представлении Гегеля, змея кусает свой
хвост не только для того, чтобы приобрести форму круга — самой
идеальной фигуры (этот зооморфный образ Бытия Гегель адекватно
усвоил из гностической традиции), но и для того, чтобы в стыде
с хвоста стянуть с себя кожу, обнажиться и тем самым обновиться,
преображаясь в исходный образ Бытия.
Разработав, таким образом, методологическую установку
исследования предпосылок возникновения онтологии в античности и
необходимые для ее реализации слова, можно обратиться к
наследию «отца» европейской онтологии — Пармениду и рассмотреть,
как он решает проблему начала философии, словесно-поэтически
выражая бытие и тождественное с ним мышление.
§ 1. ПАРМЕНИД
Открытие бытия. Тождество бытия и мышления
При решении проблемы зарождения философии мнения у
историков расходятся. Одни ведут историю философии от Фалеса.
Другие, например Гегель, обнаруживают исходное возникновение
философии у Парменида. При этом подразумевается, что начало
должно быть одно, следовательно, кого-то одного и только одного
можно выбрать. Между тем в архаике, например, существовал миф
двух матерей, хотя с точки зрения здравого смысла и нормальной
физиологии матерью определенного существа может быть только
одна женщина. В сфере мифологии допустимо думать вопреки
здравому смыслу. Мы полагаем, что начал у философии было два:
одно из них возникло в творчестве натурфилософов, другое (но не
по порядку) — у элеатов.
С интересующей нас стороны дела, Парменид является автором
Двух творческих инициатив (которые, как известно, наказуемы),
воплотившихся в двух знаменитых положениях, лежащих в
качестве краеугольных камней в фундаменте всей последующей
европейской культуры. Первое из них гласит: «Бытие есть, небытия
Же нет». К чему призывает это высказывание? Вслушаемся в его
первую часть.
Итак, «бытие есть». При первом осмыслении возникает
впечатление, что это обычная тавтология и самое банальное
словосочетание. Кажется, что в отношении «бытия» не нужно даже говорить
52 Ю. M. POMAHEHKO. БЫТИЕ И ЕСТЕСТВО
«есть». В самом понятии «бытие» уже подразумевается наличие
признака существования. Достаточно только произнести слово
«бытие» — и сразу понятно, о чем идет речь. Однако понятность эта
кажущаяся. За тривиальностью данного высказывания таится
глубинный смысл. Хотя больше того, что самоочевидно здесь
содержится, ничего нельзя сказать. Для разрушения кажущейся
банальности и проникновения в исходное состояние нужно применить
особые средства.
Известно детское развлечение часто произносить одно и то же
привычное простое слово. В какой-то момент, после
продолжительного повторения, смысл слова куда-то улетучивается, и вдруг оно
начинает казаться нереальным, незнакомым и каким-то чуждым.
Почему так происходит, ребенку непонятно. Это состояние приводит
к недоумению и даже начинает вызывать страх.
Чтобы воспроизвести опыт Парменида и попытаться
вчувствоваться в то состояние, когда он впервые огласил положение «бытие
есть», можно предложить сыграть в упомянутую детскую забаву:
несколько раз (как мантру) произнести «бытие есть», вплоть до
потери осмысленности. Затем, выдержав паузу, пока осмысленность
обретется с силой вновь, еще раз сказать фразу «бытие есть», но
внести в ее звучание всю силу восстановившейся мысли, заставив
себя как бы впервые высказать данное положение. Может быть, тогда
появится возможность реконструировать живой опыт Парменида.
Есть в этом опыте что-то насильственно-искусственное, хотя за
оковами принуждения угадывается некая свобода. Искусственным
представляется открытое изложение высказывания «бытие есть».
Мы понимаем, конечно, что оно негласно сопровождает любой
естественный акт речи. Вслух оно практически никогда не
произносится, тем не менее внутри нас, в какой-то тишине (если бы мы,
умолкнув, сумели к ней прислушаться) оно постоянно
выговаривается кем-то внутри нас и от нашего имени.
По всей видимости, вслух пользоваться этим высказыванием
необходимо сдержанно и в меру, прямо противоположным образом,
нежели в упомянутой фонетической детской игре. Его нужно
стараться вообще не употреблять всуе — только в самые ответственные
моменты. И чем больше человек молчит об этом, тем большую силу
оно набирает. Но вообще умолчать о нем было невозможно. Рано
или поздно, хотя бы единожды, это высказывание должно было
прозвучать во всей его смысловой значимости. И понимается об
этом post factum.
Как удалось услышать это положение Пармениду, остается
тайной. Еще более невероятным кажется то, что Парменид, услышав
это положение, тут же осмелился огласить его, рискуя показаться
умалишенным. Парменид видел, что окружающие люди в
безостановочной суете воспринимают слово Истины в качестве банальности
КНИГА I. ГЛАВА I. § 1. U АР M EH ИД
53
и общего пустого места, поэтому он и прикрыл смысл поэтически-
иронической формой и вложил его в уста богини. Без тормозов
невозможно безопасное движение, и поэтому, чтобы сущее не
сорвалось, Парменид осадил порыв заклятьем, просто сказав: «Бытие
есть».
Когда впервые слышишь высказывание «бытие есть», кажется,
что и сам смог бы, независимо от кого бы то ни было, придумать
его. Однако это иллюзорное чувство. В изобретении этого
простейшего утверждения нас уже кто-то на целую вечность обогнал. Мы
можем лишь почтительно признать первородство Парменида и
смиренно воспользоваться плодами его труда. Только вот в чем состоит
польза — до сих пор остается загадкой. Уникальность и сила
воздействия этого высказывания как раз и состоят в том, что любой
новообращенный, услышав его, тут же поддается сопровождающей
его иллюзии: «А ведь это я автор фразы». Попробуйте сами создать
нечто такое, чтобы у всех окружающих возникло стойкое убеждение,
что именно они являются творцами данного произведения. Парме-
ниду это удалось. Не нам.
Вопрос здесь заключается в понимании того, что такое автор.
С одной стороны, общераспространенной, авторство интерпретируют
исходя из переводного смысла греческого слова «авто-» — самость.
В этом случае «автором» считают того, кто «сам», без посторонней
помощи, эгоцентрически что-либо создал и закрепил навеки права
на обладание собственным продуктом. Ну и пусть тогда этот
единственный «автор» остается единственным же, «самостийным»
потребителем своей собственности. Зачем ее афишировать другим?
Как Хронос, рождавший и тут же пожиравший своих детей. С
другой стороны, возможна интерпретация (ее проводит В. В. Бибихин
в книге «Язык философии»), что «автор» производен от латинского
слова «auctor», имеющего значение «усиливать». При таком
понимании «автор» полагается не первичным по отношению к
произведению и даже не вторичным. Произведение уже вроде есть, но
только в немой возможности, и ему необходим автор, который
усилит переход из возможности в действительность. Произведение
и автор актуализируются в момент их встречи. А в дальнейшем
потребители созданной вещи, подаренной автором, становятся
соавторами, усиливая во второй степени звучание произведения.
Действительно, кто автор изречения «бытие есть»? Парменид,
поставивший подпись под своей поэмой «О природе»? Явившаяся
ему богиня? Платон — автор диалога «Парменид»? Или обычные
потребители философских текстов? А может быть, безличная сила
языка, который в своей хаотической комбинаторике нечаянно
столкнул слова «бытие» и «есть», и это словосочетание вдруг «воссияло»,
вступило в резонанс и распространило вокруг себя риторические
волны?
54 Ю. M. РОМАН EH КО. БЫТИЕ И ЕСТЕСТВО
И в чем состоит смысл этого высказывания? Чем больше думаешь
о нем, тем больше мысль истощается, не в силах сдвинуться с
места. Бытие как бы приковало к себе мысль. Мнится даже, что
без магии здесь не обходится. Чем, в самом деле, по жанру является
высказывание Парменида? Детским лепетом, магическим
заговором, молитвой, риторической фигурой? Или, может быть, строго
логическим общеутвердительным суждением? Тогда где в нем
находится субъект и предикат или какие-либо компоненты логической
формы? Скорей всего, логика сама начинается с того момента, когда
впервые произносится данное положение. Может быть, Парменид,
взяв на себя миссию в веках постоянно повторять одно и то же —
«бытие есть», хочет заклясть что-то, как Зевс, скрепивший своей
клятвой Космос, не давая ему распасться в хаос.
В прологе парменидовской поэмы извещается, что это
высказывание досталось Пармениду в акте божественного откровения.
Следовательно, не исключено, само «Бытие» устами Парменида
заявило о себе — что оно есть! В таком случае Парменид является
бессознательным медиумом Абсолюта.
Автор этих строк смог выдержать очную ставку с категорией
«бытие» только на протяжении нескольких страниц (или минут).
Сколь же велика мощь мысли Парменида, которая могла быть
сосредоточенной на бытии сколь угодно долго! Философия в своей
последующей истории неоднократно пыталась дать рациональную
дефиницию «бытия» в понятии. И всегда признавалась, что бытие
ускользает от рассудочного определения.
История знает несколько попыток парафразы парменидовского
изречения в вопросительной форме. Например, средневековые
теологи вопрошали: «Почему Бог избрал бытие, а не небытие?».
Сакраментален и риторичен вопрос Гамлета: «Быть или не быть?».
Вопросительная форма в данном случае неуместна и искажает
замысел Парменида. Можно представить, насколько познающий
субъект отпал от истины Парменида, что пытается задавать вопросы в
отношении бытия. Высказывание «бытие есть» — это тот
изначальный априорный ответ, который предшествует любому вопросу.
Возможна интерпретация, что это изречение репрессивно
диктует мысли только одно, изнуряя ее и ограничивая в свободе. Мысль
не может бесконечно держаться за одно и то же. Это обедняет ее.
А будь воля «первого тоталитариста» в человеческой истории —
Парменида, сказали бы «свободолюбивые мыслители», то все люди
шагали бы строем и ритмично скандировали «бытие есть». Против
такой утопии, действительно, стоило бы выступить. Однако дело в
том, что, как уже было сказано выше, произносить эту фразу нужно
особым способом. Собственно говоря, волевым усилием мы ее не
произносим, в отличие от декартовского «мыслю, следовательно,
существую». Она сама, как молитва, приходит откуда-то извне и
КНИГА I. ГЛАВА I. § 1. ПАРМЕНИД
55
тИхо звучит, отнюдь не закабаляя и не мешая думать и высказывать
вСе что заблагорассудится. «Бытие есть» всегда звучит как бы
между строк нашей речи. Вот и сейчас, хотелось бы верить, в этом
тексте «бытие есть» читается не тогда, когда написано, графически
зафиксировано, а подспудно, вдоль всего повествования. Нельзя по
своему произволу усилить звучание этого изречения, поскольку его
мощь и так беспредельно велика.
Приходится ходить вокруг и около высказывания, впадать в
дурную рефлексию по его поводу в надежде, что в этом блуждании
либо мысль, либо бытие, либо неведомо кто подскажет какой-то
новый путь (как будто бытие не является вечно новым). Однако
ничего нового не появляется, мысль изнемогает и хочет отрешиться
от бытия, поскольку на протяжении всего процесса она успела
надоесть и себе самой, и всем окружающим. Хочется получить еще
один импульс энергии, чтобы не умереть от скуки.
Парменид учел возможность утомления мысли и поэтому
вдогонку к первой половине своего высказывания добавил: «Небытия
же нет». Чтобы мы не тщились в ложных надеждах избавиться от
силы бытия. Эта вторая часть высказывания Парменида сразу
воспринимается как удвоение первой, но иными средствами. В ней
содержатся две негации: отрицание бытия и отрицание
существования небытия. Двойное отрицание с логической и математической
точки зрения означает утверждение. Мы как бы внесли нечто новое
(просто отрицательную приставку «не-» к бытию), дав отдохнуть
и расслабиться мысли, а затем его мгновенно, тут же убрали,
оставив все на прежнем месте: «бытие есть».
Усилительный и возвратный предлог «же» необходим, вероятно,
для ритмической организации двусоставного высказывания. Он
относит вторую часть к первой, заставляя помнить первую, когда
произносится вторая, чтобы не остановиться и не зациклиться на
ней: дескать, говорим «небытия нет», а про то, что «бытие есть»,
успеваем забыть. Вот тот момент, когда мысль может вдруг забыть
бытие. В предлоге «же» в сокращенной форме заключена первая
часть высказывания, и он специально поставлен между словами
«небытие» и «нет», заставляя мышление вернуться обратно к
бытию. Задан, таким образом, мысленный каркас мифа «вечного
возвращения».
Откуда стало известно Пармениду, что небытия не существует?
Неужели он, подобно герою русской сказки, сумел сходить туда,
не знаю куда, и взять то, не знаю что; принес его в зажатой ладони,
Раскрыл это, а там ничего не оказалось. И в таком решающем
эксперименте было абсолютно доказано, что небытия нет.
Нет нужды повторяться и сетовать на ослабление мысли и
скользкость предмета рассуждения, как мы это делали при ре-
Флексии над первой частью изречения. То же самое относится и
56 Ю. M. РОМАНЕНКО. БЫТИЕ II ЕСТЕСТВО
ко второй части, да еще и в квадрате. Бытие ускользает от
логического определения, а небытие тем паче.
И все-таки сейчас становится понятным, что вторую часть
высказывания Парменид с необходимостью должен был произнести:
не для того, чтобы лишний раз подтвердить силу первой части (она
и так самодостаточна), как бы доказав бытие от противного. (Этим
впоследствии, без спросу и нужды, стал заниматься Зенон Элейский,
мнимо защищая учение своего учителя от оппонентов-нигилистов,
изобретательно используя аргументацию нигилистов против них же
самих.) Цель Парменида состояла в другом.
Сразу сложно ответить на этот вопрос, поэтому попробуем
переформулировать его так: а мог ли Парменид добавить к этим двум
частям еще что-то и сделать все изречение, допустим, трехсостав-
ным, причем не повторяясь? Поставив такой мысленный вопрос,
мы вновь почувствуем знакомое чувство слабости вибрирующей
мысли, и она сама погонит нас обратно к первоначальной форме,
для успокоения и умиротворения.
Наверное, нельзя даже сказать, что нам врождены мысль или
чувство «бытия», что само «бытие» впитано нами с молоком матери.
Бытие не рождается и само ничего не порождает. Иначе возможно
было бы суждение «бытие рождается», и проблема состояла бы
только в том, кто является его родителем. Прерогатива функции
порождения относится к «естеству» (о нем мы будем говорить во
второй части исследования). Но все-таки, несмотря на то, что бытие
не врождено человеку, тем не менее оно ему известно априори. Как
это можно понять? Вероятно, проблема здесь состоит не в бытии,
не в небытии, а в чем-то ином, что имеет отношение к тому и
другому. В самом деле, наступила пора задать вопрос о мысли и
ее отношении к бытию. То новое, что привносит мысль вослед
высказыванию «бытие есть», — это суждение «бытие мыслится».
Иначе говоря, бытие есть для человека тогда, когда оно мыслится.
Забегая несколько вперед, скажем, что, решая эту проблему,
Парменид сформулировал второй онтологический принцип в
философии — принцип тождества бытия и мышления. Бытие не есть
только мысль. Даже если по каким-то причинам мышления нет,
то бытие все равно есть. Но узнать о том, что бытие есть, может
только мысль. И в момент этого знания мысль полностью
тождественна бытию.
Почему Парменид не ограничился только категорической
констатацией первого принципа? Какая инерция заставила его
продвинуться дальше? Парменид был уверен, что если бытие уже есть,
то даже в небытии оно сохранится. Ведь, действительно, абсурдно
говорить, что «небытие есть», ибо если есть хоть какая-то
воплощающая сила в речи, то она тут же превращает небытие в бытие.
А можно ли сказать: «бытия нет»? Такое сочетание вообще немые-
КНИГА 1. ГЛАВА 1. § 1. ПАРМЕНИД
57
лимо и невыразимо, так как в этом случае исчезаем и мы. Парменид
жестко табуирует такое отступничество. По этому поводу высказано
божественное «решение», «вынесен приговор».'
Нет, никогда не вынудить это: «несущее суще».
Но отврати свою мысль от сего пути изысканья.
... Так не позволю
Я ни сказать, ни помыслить: немыслимо, невыразимо
Есть, что не есть.
Этот запрет на продвижение к небытию не вызван только
благожелательным расположением к другим. Тем более что всякое
табу вызывает повышенный интерес, ажиотаж и соблазн, и почему-
то многие норовят его нарушить. Парменид выступает гарантом
тому, что «бытие есть». Санкционировать он может любые
возможные действия только в пределах бытия. Движение к небытию есть
рискованный шаг, и здесь нет никаких гарантий.
Способ произнесения парменидовского изречения невольно
заставляет думать, что мы оказываемся перед выбором: бытие или
небытие. Однако реально выбора здесь нет: и из первой, и из второй
части изречения мысль выбирает только бытие, поскольку и во
второй части бытие имплицитно содержится. Если мысль даже
рискнет двинуться в небытие, то и там она будет искать только
бытие. Бытие настолько совершенно и полно, что нет большего
совершенства и полноты.
Что можно нового взять из небытия? Соорудив такой
необязательный, но абстрактно возможный вопрос, мысль отпускает себя
от бытия и без гарантий, на свой страх и риск, устремляется в
небытие (хотя что это такое она и сама-то не знает). Спасти ее и
сохранить теперь может только само бытие, если оно имеет эту
сотериологическо-консервирующую способность.
Отсутствие выбора в данной ситуации оговаривается в поэме
Парменида «О природе» таким образом: «Спор [собств. "тяжба,
требующая решения"] по этому делу — вот в чем: ЕСТЬ или НЕ
ЕСТЬ? Так вот, решено [— вынесен приговор], как [этого требует]
необходимость, от одного [пути] отказаться как от немыслимого,
безымянного, ибо это не истинный путь, а другой — признать
существующим и верным».3 Спор получается беспредметным, а
выбор оказывается без выбора. Следовательно, Гамлет, поставив
вопрос «быть или не быть?», незаметно и незаконно вложил в него
фиктивность выбора или понимал бытие уже не по-парменидовски.
Фрагменты ранних греческих философов. С. 290.
?- Там же. С. 296.
* Там же. С. 290.
58 Ю. M. РОМАНЕНКО. БЫТИЕ И ЕСТЕСТВО
Невероятность отыскания небытия заключается в том, что
небытие как таковое беспрепятственно присоединяется к бытию и
отнимается от него, подобно нулю в арифметической пропорции,
или бесследно устраняется, когда числитель и знаменатель дроби
сокращаются на одно и то же число. Это мнимое число раньше
было, а сейчас в результате преобразований бесследно исчезло, и
в дальнейших операциях память о нем уже не нужна.
Воистину, небытия нет, его просто нет, как может не быть
только небытие. И голову над этим ломать совершенно не
приходится. Мысль может впасть только в соблазн относительно
существования небытия, поэтому Парменидом наложен категорический
волевой запрет на его поиск. Его же ученик Зенон Элейский для
излишества добавил к утверждению Парменида аргумент от
противного, т. е. довод от небытия, когда в своих апориях показал,
что путь в небытие или, точнее, движение в небытии невозможно,
поскольку сплошь состоит из неосмысляемых противоречий.
Формально апории строятся на подменах мысли и имеют
квазирациональный вид.
До этого времени мы говорили о категории небытия как о
соотносимой с категорией бытия. Пока мысль добровольно или
принудительно не отпустила себя от бытия, не было никакой
возможности говорить о небытии, выясняя его онтологический статус.
Философия в дальнейшем, кажется, нашла временный способ
выражения категории небытия. Но это уже не относится к Пармениду.
Вспомним, что говорилось в преамбуле к первой главе о методе
угадывания. Его действие отражено в прологе поэмы Парменида
«О природе». Именно через угадывание досталось Пармениду
изречение «ведь бытие есть, а небытия нет». И когда оно
вербализовалось, сразу с ним начинает работать мысль, появляющаяся в тот
же момент. Рассмотрим подробно мотивы угадывания, отраженные
в проэмии, где описывается процесс введения в тайну (мистагогия).
В целом этот процесс может быть обозначен как инициационно-
энигматический, целью которого является стимулирование
«удивления», что, как известно, служит начинанию философствования.
Определение трех возможных путей познания (аподиктического
пути истины, отсутствующего пути небытия и проблематического
пути мнения) в поэме «О природе» предваряется мифологическим
описанием посвящения в сокровенное знание. Акт инициации
пронизан мотивами открытия (откровения) и сдвига (обращенности к
Абсолюту), представленными в трех планах: зрительном, слуховом
и тактильном.
«Девы Дочери Солнца», символизирующие глаза, откидывают
«прочь руками с голов покрывала» (т. е. веки), и таким образом
«отверстые очи» становятся способными воспринять мистический
уровень бытия. Первый взгляд наталкивается на «закрытую громаду
КНИГА I. ГЛАВА I. § l. ПАРМЕНИД
59
створов», наличие которой заставляет сработать голосовую
способность «уговаривать ласковой речью» и «убедительной*. От такого
уговаривания ворота «тотчас распахнулись и сотворили зиянье
широкоразверстое створов». После прохождения сквозь границу
(«И се — туда, чрез ворота») наступает черед чувства осязания,
когда богиня, «десницей взявши десницу» иницианта, начинает
«молвить слово», взывая к его подготовленному и настроенному слуху.
Подробно описывается мотив сдвига: «ось, накалившись в
ступицах, со скрежетом терлась о втулку», «два круга взверченных
вихрем», откидываемый «закрепленный шпеньком засов»,
поочередно повернутые «в гнездах многомедные стержни»,
распахиваемые створы ворот. Все эти описания необходимы для создания
особой настроенности угадывания, предваряющего последующую
работу мысли, получающей информативный материал через
внимающие чувства. Все описание в целом конструирует аналоговую
модель образа бытия.
Все, что воспринимается непосредственно в акте посвящения,
организовано по Закону бытия. Само бытие и есть открытие
закрытости в сдвиге. Уже достигнутость такого состояния (что позднее
Аристотель назовет «энтелехией») соответствует самодостаточности
существования: «Юноша ... радуйся!» — цель угадана и достигнута.
Но необходимо, видно, возвращаться обратно в бренный мир. И не
с пустыми руками, а обогащенным речью богини о «непогрешимом
сердце убедительной Истины».1 В наставлении на «путь истины»
утверждается, что «бытие ведь есть, а ничто не есть». И бытие
таково, каковым оно предстало в акте посвящения. Теперь эту
истину инициант будет всегда носить с собой, на какой бы путь
он ни ступил.
К неотъемлемым свойствам бытия относятся невозникаемость,
неуничтожаемость, целокупность, единственность, неподвижность,
нескончаемость, неделимость, вечность, неизменность,
шаровидность, бездрожность. Целостная мысль обобщает все эти свойства
в положении «бытие есть, небытия же нет», что в рассуждающем
мышлении фиксируется в формально-логических законах
тождества, исключения противоречия, достаточного основания.
Угадывающее же мышление обращает внимание на условия
действительности того, что бытие есть.
Прежде всего это отмечено тактильной метафорой «держания
в оковах». Вот некоторые феноменологические дескрипции: «Правда
его (сущее. — Ю. Р.) не пустила рождаться, ослабив оковы, иль
Погибать, но держит крепко». «Все непрерывно тем самым:
сомкнулись сущее с сущим. Но в границах великих оков оно неподвижно,
безначально и непрекратимо». «Ибо нет и не будет другого сверх
Фрагменты ранних греческих философов. С. 295, 286.
60
ГО. M. РОМАНЕНКО. БЫТИЕ И ЕСТЕСТВО
бытия ничего: Судьба его приковала быть целокупным,
недвижным». «Виждь, однако, умом: от-сущее верно при-суще, ибо не
отрубить от сущего сущее в смычке».' Поскольку пустота для
элеатов является натуралистическим синонимом небытия, то
отпустить (о-пустотить) держание нельзя. Следовательно, то, что
держится, прямо не может быть ни показано, ни услышано, так как
зрение и слух — дистантные органы чувств. Тем не менее ими
также можно чувственно воспринимать бытие. По видимому «пы-
ланию оси» и слышимому «скрежету во втулке» можно догадаться
(«рассудить Логосом») о стремительном полете небесной колесницы
ко «вратам Дня и Ночи». Парменид здесь использует универсальные
фундаментальные символы, выражающие идею бытия.
Неподвижно, вероятно, не то, что находится внутри держания,
а неподвижны сами оковы. В их пределах все может двигаться по
всем степеням свободы и скорости, но в соответствии с
направленностью, заданной границами Закона. В этом смысле запрета на
движение нет, но само оно организовано таким образом, что
держится лишь тогда, когда продолжается вечно, без устали. Как ось,
вращаясь во втулке, держится в ней именно силой предельного
вращения. Но когда вращение прекращается, ось выпадает из
втулки и Космос разрушается.
«Смычка», «сомкнутость» сущего с сущим (оси и втулки)
заключается в сдвиге, пригнанности их по отношению друг к другу.
«Сдвиг» сущего навстречу сущему и есть «бытие», единое само по
себе, хотя сущих может быть и двое, и бесконечное множество.
Именно такая, тактильно воспринимаемая модель может быть
признана адекватным действующим образом всех атрибутивных свойств
бытия. Оно настолько мгновенно вращается, что каждый его момент
сдвига незаметен, неотличим от другого, создавая видимость покоя
и неподвижности. Не успеет небытие возникнуть, как тут же бытие
отпускает себя в него и мгновенно возвращается обратно, заполнив
все возможные пустоты и воссоздав свою изначальную форму.
Зенон Элейский при формулировке апорий использовал уже
модель прямолинейного движения, что не соответствует пармени-
довской интеллектуальной интуиции.
Вместе с тем тактильно воспроизводимая модель, как и всякая
модель, имеет свой предел применимости. В конце концов и ее
нужно будет апофатически отбросить. Парменид начинает с того,
что утверждает необходимость крепкого бездвижного держания
бытия, стало быть, тотального «прикосновения» к нему по всей
«площади» его сфероподобного «тела». Одновременно с этим Парменид
утверждает, что оно «всецело неприкосновенно»2 (в другом месте
1 Фрагменты ранних греческих философов. С. 296, 297.
2 Там же. С. 291.
КНИГА I. ГЛАВА 1. § 1. ПАРМЕНИЦ ül_
Д. В. Лебедев переводит — «неуязвимо»'). Что это означает: крепко
держать, не отпуская, и одновременно не прикасаться? Об этом
можно только догадаться. Рассудочная логика трансформирует эту
интеллектуальную интуицию угадывающего мышления в свои
законы.
Как уже было сказано выше, Парменид прославился
утверждением еще одного фундаментального философского онтологического
принципа — принципа «тождества бытия и мышления».
У Парменида это положение высказано так: «...мыслить — то
же, что быть»;2 или иначе: «то же самое — мысль и то, о чем
мысль возникает».3 А возникать она может не только «о» бытии,
«в» бытии, но и «из» небытия. В угадывании бытие есть в
«скрученном» до сплошности состоянии, в сдвиге до упора, когда к нему
нельзя прикоснуться, настолько оно плотно (прикосновение к любой
одной его точке мгновенно оборачивается тотально объемлющим
касанием — здесь касаемое и касающее тождественны — это одно
и то же). Следовательно, бытие и скручено до упора, и раскручено
во всех возможных направлениях. Неважно, откуда начать — все
пути сводятся к бытию. Как по Гераклиту: «одно и то же — путь
вверх и путь вниз». Инициант, возносясь в угадывании, на
неделимый миг останавливается в неделимой точке — «бытие есть» —
и сразу же сдвигается на нисходящий путь, являющийся «методом»
мышления, знающего бытие. При этом бытие не прекратило своего
существования оттого, что его кто-то узнал, но слилось в
отождествлении с мыслью. Теперь бытие и мышление — одно и то же.
И тем самым бытие в очередной раз обогнало небытие и не дало
ему шанса «стать быть» в мышлении.
Пармениду удалось найти удачный выход из апории —
противоречивых, взаимоисключающих определений бытия (касаемо-
сти—неприкосновенности). Апория по-гречески означает
суживающийся проход, заканчивающийся тупиком. Бытие есть, и оно не-
возникаемо, мышление тождественно бытию, но оно уже возникает
(в бытии из небытия). В награду за удачное угадывание
посвященный получает в дар «убедительной Истины непогрешимое сердце»,
пульсирующее синхронно и синфазно с ритмом изречения «бытие
есть, небытия же нет». Но чтобы не утерять этот дар и потребить,
нужно уметь им правильно пользоваться. Вот для этого и
предназначено мышление. Оно должно претворить все те типы чувств,
благодаря которым случилось успешное угадывание. Настроить их
На повторное, уже не случайно удачное, но необходимое узнавание
бытия. Как сказал позже Лейбниц, мышление преобразовывает
Фрагменты ранних греческих философов. С. 297.
- Там же. С. 296.
J Там же. С. 297.
62 Ю. M. РОМАНЕНКО. БЫТИЕ И ЕСТЕСТВО
перцепцию в апперцепцию (префикс «ап-» имеет смысл «усиления»
и значение «возвратного движения»).
Таким образом, наряду с принципом актуальности бытия («бытие
есть») и как его следствие Парменид постулирует принцип бытий-
ности мышления (мышление тождественно бытию). Тем самым
конституируется «онтология» как таковая и оправдывается ее имя.
Кроме этого, благодаря взаимодополняемости этих двух
фундаментальных принципов, Парменид замыкает онтологическую
монотриаду «бытие—ничто—творение».
Целостное мышление о бытии может быть только творческим.
Само бытие ничего не творит, а пребывает в безмятежном подвижном
покое. Творит мышление: с одной стороны, тождественное бытию,
с другой стороны — творящее (о-творяющее, сдвигающее,
вытягивающее) все новые и новые определения бытия из небытия.
Мышление как бы лишний гарант тому, что бытие есть. Потоки
угадывающих чувств и мышления идут навстречу, сплошно
пронизывая друг друга без пустот, образуя Столп и Утверждение Истины.
Мышление катарсически очищает угадывающее и напряженно
стремящееся чутье, делая его легким в процессе левитации и ориентации
к бытию. А энергия угадывающих чувств наполняет мышление
плотью, делая его конкретным.
Когда мыслитель уже мыслит бытие, он содержит его в границах
неколебимого умного сердца, в средоточии своего существа. Если
Другой обращается к нему с вопросами: «что такое бытие?», «где
оно находится?», субъект мысли не может раскрыть и выразить
бытие указанием «вот оно!». Невозможно разрушить оковы, нужно
их без устали сжимать вокруг всюду сплошного и плотного,
несжимаемого бытия, и по напряженной поверхности границы
вездесущего бытия Другой должен догадаться, что «бытие есть», каково
оно и где находится. Бытие не скрывается и не раскрывается, а
подает знаки, перефразируя Гераклита. Жар и сияние пылающей
оси, скрежет во втулке — вот знаки бытия, воспринимаемые всеми
органами чувств: кожей, глазами, ушами... Мышление нее толкует
эти знаки, сводя их к единому образу Бытия.
Другой должен сам догадаться о бытии и сделать его своим
достоянием, одновременно принадлежа бытию. Опыт посвящения
необходимо повторить в новых условиях и персонально для всякого,
начиная каждый раз с нуля. Бытие узнается в начале каждого
действия, ориентированного на бытие. И Другой обращается с
вопросом о бытии, уже априори зная его.
Элеаты полагали, что бытие — это покой, а небытие — движение.
Сдвиг является почином и завершением движения, но не самим
движением в его различных формах. Небытие — это движение,
которое не может начаться и закончиться, движение без начала и
конца. Сдвиг — это платоновский момент «вдруг», странный по
КНИГА I. ГЛАВА 1. § 1. ПАР M EH ИД
63
своей природе, поскольку он является границей между бытием и
небытием, это единократный «вздрог» «бездрожного», «сжатие»
«несдавливаемого» самого по себе бытия. Движение так относится
к сдвигу, как мышление к смыслу. Вопрос о смысле бытия требует
мыслить бытие в сдвиге по отношению к себе самому, что сразу
дае продуцирует соответствующий образ бытия.
Бытие выдвигает мышление из небытия, из мира изменчивых,
возникающих и уничтожающихся вещей. Поэтому завершенное
мышление мыслит в совокупности существующих вещей только их
суть — бытие как таковое. Движение к вещам, побуждаемое
лозунгом «назад — к самим предметам», перекрещивается движением
в направлении субъекта мышления. Светофором, регулирующим
движение на этом перекрестке и дающим возможность осуществлять
разнонаправленные переносы движения, является сдвиг бытия.
Рас-судительное мышление, присуждающее вещь к бытию или
небытию, должно иметь безошибочный критерий, который может
дать лишь бытие, присутствующее в мышлении как смысл. Смысл
бытия распространен на любую отдельно взятую вещь. Если ее
можно «отдельно взять». Об этом в дальнейшем будет думать
Аристотель, основоположник формальной логики, имеющей
специфическое отношение к проблеме бытия. Бытие едино и одно, а вещей
множество. Смысл бытия распределен и рассеян на все множество
таким образом, что всё бытие присутствует в каждой вещи, поэтому-
то любую вещь можно «отдельно взять».
Движение «снизу вверх», от единичных вещей к единому бытию
изображается формальной логикой следующим образом. Логика —
это оформленное (правильное) мышление. Само по себе
мышление — хаос продуктивных энергий, и в этом отношении
неслучайна корневая связь слова «мышление» со словом «мифос». Логика
структурирует хаос мышления в упорядоченный космос, по долгу
сводя многообразие к единству, а единым является только бытие.
Чтобы формальной логике дойти до бытия, необходимо
последовательное исчерпывающее отвлечение специфических признаков
вещей до тех пор, пока не будет найден общий признак для всех, пока
мысль не упрется в предельную абстракцию, каковой является
признак существования. Между формально-логическим понятием
бытия и самим бытием лежит трансцендентная граница, вдоль
которой продвигается мышление, сплетая образ бытия из структур
живого сознания. С логической точки зрения понятие «бытие»
признается самым богатым по объему (так как в него включены все
вещи), а его содержание — самым бедным (так как остался только
°Дин последний признак). Между содержанием и объемом
логического понятия существует закон обратного отношения: чем больше
объем, тем меньше содержание, и наоборот. В акте умозрения образа
°Ытия этот формально-логический закон бездействует, ибо образ
64 Ю. M. РОМАН EH КО. БЫТИЕ И ЕСТЕСТВО
бытия указывает на то, что бытие полностью содержится в
собственном объеме, подобно «глыбе прекруглого шара», как смог это
увидеть умом Парменид. В случае бытия содержание и объем совпадают.
Стремясь в угадывании к притягивающему образу бытия,
мышление еще не знает, «что такое бытие». Отталкиваясь от бытия и
пытаясь возвратиться к1 нему в последовательности операций
абстрагирования и обобщения, результирующейся в формальном
понятии бытия, мышление уже не знает, что с ним делать. И чтобы
совсем не забыть бытие, рациональное мышление вынуждено
осуществлять неутилитарную процедуру так называемой онтологиза-
ции логического (гипостазирования абстракции, т. е. наделения ее
признаком существования и манипулирования с нею в
теоретических рассуждениях так, как действуют с реальными предметами на
практике).
Как-то П. А. Флоренский сказал, что «истина Православия не
доказуется, а показуется». Исходя из формальной логики
действительно, доказать то, что бытие есть, невозможно, да и бессмысленно.
Доказательство относится к деятельности интеллекта, а
показание — к органам чувств живого восприятия. А что означает корень
«-каз->> в однокоренных словах «доказать» и «показать»? Или другой
пример, наводящий на аналогичный вопрос: по направленности
слова «со-об-ражение» и «во-об-ражение» разводятся по разным
уровням человеческого сознания. А что означает корень «-раж-»
или «-раз-», являющийся, кстати, корнем слова «образ»? Ведь не
могут эти слова различаться по смыслу только фиктивной силой
приставок, служащих только, казалось бы, топологическими
ориентирами. Если кому-то не хочется признать, что у бытия есть свой
образ, то это слово можно деконструировать и оставить его в виде
голого корня. Тогда получится туманная конструкция «раж бытия»,
откуда еле уловимо доносится отголосок, слышимый нами в
словосочетании «радость бытия».
Образ различает единое бытие на множестве вещей. Высказав
словосочетание «об-раз раз-личает» и медленно произнося по слогам,
вслушавшись в него, мы видим, что «раз» присутствует здесь и как
корень, и как префикс. Теперь, когда нами усвоен метод угадывания,
не составляет труда услышать в корнях слов, незаметно
переходящих в префиксы и суффиксы, звучание темы «сдвига бытия».
Изречение «бытие есть» монолитно, но не монотонно. Оно едино,
а в переходе к «естеству», в сдвиге в себе самом — двоично.
Оставляя выражение «бытие есть» самотождественным по смыслу,
голос может сдвигать акценты на все потенциальные точки данного
положения. Возможны четыре варианта акцентуирования: «бытй^
есть», «бытиеесть», «есть бытие», «есть бытие». Из этих допустимы*
операций обращения с изречением выводятся рациональные
свойства транзитивности и симметричности бытия, как выразился Пар-
КНИГА I. ГЛАВА I. § I. И АРМ EH ИД
65
менид, — «везде равносильного от центра».' Что в очередной раз
диктует уму образ бытия в виде << прекруглой глыбы шара ».
Необходимо рассмотреть еще одну существенную проблему.
Почему мысль о том, что бытие есть, необходимо выражать в двух
словах, а не в одном. Ведь бытие едино. В принципе, можно было
бы просто вымолвить: «бытие» или «есть». И таким способом язык
уже актуально выразил бы бытие. Но ведь бытие просто так
невыразимо, следовательно, язык должен предъявить право на выго-
варивание бытия, оглашая его тайную сущность.
Если бы кто-то сказал: «Бытие», даже с восклицательным
знаком — все бы молча пожали плечами: «Да. Ну и что?». Но дополнив
бытие глаголом (оглашением), язык берет на себя ответственность
быть «домом бытия» (М. Хайдеггер). Бытие отпустило себя в
звуковую стихию, воплотившись в глаголе (Логосе) «есть».
Говорят, что слово «бытие» является отглагольным
существительным. С формально-грамматической точки зрения так оно и
есть. Глагол «есть», озвучившись, может употребляться мыслью и
грамматикой в качестве существительного. Претворение глагола в
существительное происходит искусственным присоединением
суффиксов. Однако в слове «существительное» слово «бытие» уже
имплицитно содержится. Следовательно, двусловное положение
«бытие есть» на метауровне трансформируется в утроенное
положение «существительное бытие есть». Умножать «бытие» таким
формальным способом можно до бесконечности, но нужно помнить
о «бритве Оккама»: не умножать сущности без основания. Бытие
всегда одно, и сколько ни умножай единицу на единицу, результат
будет один и тот же.
Основаниями для многократного повторения
(мультиплицирования) бытия выступают естественные предпосылки мышления —
чувства. Знать бытие как единое способно мышление, но бытие
еще дано чувствам. В разности мышления и чувств дана перспектива
осмысленного различения глаголов «быть» и «есть», из которых
производятся понятия «бытие» и «естество».
«Естество», как и «бытие», является отглагольным
существительным. Различие между ними наблюдается в сдвиге.
Существительное «естество» образовано присоединением к корню «есть»
суффикса «-ество». Но ведь это то же самое! Оказывается, что слово
«есть» — это и корень, и суффикс одновременно, сращенные в
слове «естество». Теперь можно снять подозрения с суффиксов,
Которые иногда могут нести помимо топографической и
хронографической еще и существенную семантическую онтологическую на-
гРузку. Каждый устойчивый суффикс в своих истоках является
к°рнем. Между ними существует сдвиг, позволяющий переходить
Фрагменты ранних греческих философов. С. 291.
66 Ю. M. РОМАНЕНКО. БЫТИЕ И ЕСТЕСТВО
из единства во множество и обратно. Можно сказать, что
«естество» — это «бытие» с избытком, или «бытие» с суффиксом, или
овремененное бытие. Отглагольное существительное «бытие» имеет
суффикс «е», являющийся сокращенно-редуцированной формой
глагола «есть». Правильно нужно произносить именно «бытие», а не
«бытиё» (не случайно в древнеславянском языке не было буквы
«ё»). Таким образом, в самом слове «бытие» уже косвенно говорится,
что оно есть. Человек не может сказать о себе в именительном
падеже, что он — быть. Законы грамматики резко противятся
произнесению такого предложения. Но человек вправе сказать, что он
бытийствует, поскольку он уже есть. Философия экзистенциализма
начала свой дискурс как раз из этой точки.
Отложим задачу определения понятия «естество» на будущее
(во второй книге). Для нас сейчас важно установить корреляцию
между ним и «бытием». По сути они синонимы. Но вместе с этим
между ними проложена существенная граница. Первоначально ее
можно услышать в различии модальных и темпоральных
контекстуальных употреблений глаголов «быть» и «есть».
Формальная комбинаторика, функционирующая в языке помимо
воли его носителей, демонстрирует еще одну интересную
закономерность. Трансформируем положение «бытие есть», в сдвиге
обращая «бытие» в «естество». Получается: «естеству быть». В этих
случаях «бытие» стоит в именительном падеже, а «естество» в
дательном. Эта асимметрия тоже неслучайна. «Естество» является
тем, через что дается дар «бытия». Между «бытием» и «естеством»
существует очень тонкая, еле уловимая в сдвиге дистинкция, в
которой заключена вся экзистенциальная проблематика временности.
Если бы Парменид просто сказал: «Бытие» — это никого бы не
задело. «Бытие» произносится однословно от себя и для себя
внутренней речью — ибо бытие имманентно себе самому. Для выражения
«бытия» в присутствии Другого уже необходимо подыскивать способ
сообщения — использовать связку, которая указывает на то, что
бытие еще и трансцендентно иному. В высказывании «бытие есть»
мышление впервые опробует «связку», в сдвиге исходящей из
«бытия», которая затем употребляется в виде связки такой логической
формы мысли, как суждение. Слово «истина» также производно
от глагола «есть».
Иным для Парменида исторически явился не кто иной, как
Сократ. Он сразу понял и догадался, о чем вещает ПармениД-
Однако нарочито принял позу недогадливого, отворачиваясь от
предлагаемого в дар «бытия», равно как и от «естества», исследуемого
натурфилософами. Какая ревность заставила Сократа отвернуться
от непреходящих результатов философствования
предшественников? Ничего нового он уже не мог придумать принципиально. Н°
не этот мотив упущенного первопроходства был доминирующим-
КНИГА I. ГЛАВА 1. § 1. ПАРМЕНИД
67
У Сократа была иная судьба. Ее постановления он выслушал
внешним слухом в изречениях пифии, провозгласившей, что «из
всех современников мудрейший — Сократ», санкционируя его
мыслительный подвиг, чреватый страданиями. А внутренний слух
воспринял судьбоносный голос даймония, который мог только
отговаривать от чего-либо, но не понуждать или диктовать (сравни с Пар-
менидом, занимающимся именно диктовкой). Откуда взялся этот
демон — из бытия или из небытия, которого нет? Сложно сказать,
был ли Сократ бытие-борцем, но то, что он всю жизнь пребывал в
сильнейшем искушении, несомненно. Софисты были только
«цветочками» по сравнению с «ягодкой»-Сократом. Он по своей судьбе
должен был угадать, откуда доносится голос его демона: из бытия
или из небытия. То, что у бытия есть образ, а также то, что
существует соответствующий метод угадывания, было уже известно
от Парменида. А есть ли образ небытия, который необходимо знать,
чтобы уметь вовремя отвернуться от него. Сократ хотел предостеречь
от чего-то современников, но они его не поняли, возвели напраслину,
обвиняя, что тот выдумывает новых богов, т. е. новые образы
бытия, а на самом деле он выдумывал образы небытия.
В истории философии Сократ открывает не только «человеческий
фактор», первичную логическую форму, или структуру, языкового
общения. Все это явилось следствиями какого-то
усовершенствования онтологического мышления. Сократ повторяет онтологическую
монотриаду, ничего нового в нее не внося, но начиная с категории
«небытия». Соотношение бытия и небытия не симметрично и не
транзитивно, как и всякий сдвиг. Следовательно, от перестановки
мест слагаемых сумма не остается той же самой. Начав с небытия
и вновь получив, казалось бы, ту же самую монотриаду, мы будем
иметь все-таки новый результат.
В чем новизна сократовского вклада в развитие онтологии? Да
и нужен ли ему был какой-либо результат? От себя он ничего
сказать не мог — демон не позволял. В его замыслы, скорей всего,
входило, чтобы результат был получен Другим, который смог бы
спасти самого Сократа от соблазна небытия. Сократ угадал во сне
образ человека, который должен был усовершенствовать его
философию и судьбу. Имеется в виду тот вещий сон, когда к нему на
грудь сел лебедь, а затем вознесся к небесам. Наутро к Сократу
пришел наниматься новый ученик, носящий печать этого
зооморфного онтологического символа.
Как уже можно догадаться, на авансцене появляется Платон,
воплотивший онтологический способ философствования периода
3Релой классики античности. Автор «Апологии Сократа», начав с
Творения стихов и находясь под сильным влиянием со стороны как
Парменида, так и Сократа, обоюдно их уважая и стремясь прими-
Рить, открывает диалектику бытия и небытия.
68 Ю. M. РОМАНЕНКО. БЫТИЕ И ЕСТЕСТВО
Прежде чем начать новый параграф, сделаем несколько
предварительных методологических уточнений терминов. Только
диалектика может хоть как-то отнестись и к бытию, и к небытию. Это
закодировано в ее имени. До сих пор, подробно анализируя первый
тезис Парменида, мы не обращали внимания на запятую в изречении
«бытие есть, небытия же нет». Откуда она взялась, какою силой
держит (или разбрасывает?) две несопоставимости. Выше
отмечалось, что все изречение в целом организовано ритмически,
симметрично, хотя отношение между бытием и небытием асимметрично.
Что таится в прерыве непрерывности — аритмии (арифмос — по-
гречески число), графически представленной знаком препинания?
(Характерно, что в древнегреческом языке не было знаков
препинания в современном значении.)
На этот аспект числового творчества Платон обратил пристальное
внимание, открыв условия возможности превращения аритмии
(нарушения нормального пульса сердца) в эвритмию (благовременье ■
угадывающего чутья). По-гречески это называлось «кайрос». Диа- i
лектика как раз исследует тот пространственный промежуток,
который занимает «запятая». Это слышится в ее имени: «диа-»
означает «сквозь», «через», «между»; «лектика» — слово,
развернувшееся в суждение (высказывание), и не в одно, а в два:
утвердительное «бытие есть» и отрицательное «небытия нет». Одним словом,
диалектика — это путь между существующим бытием и
отсутствующим небытием, вдоль границы между ними. Запятая — это
графический знак сдвига бытия, возможность письменного
запоминания бытия. Ведь запятой мы помечаем паузу в речи, ту тишину,
где таится бытие.
Вся онтологическая проблематика платонизма заключена в
диалоге Платона «Парменид». Именно его мы возьмем в качестве
предмета анализа, интерпретируя диалектику бытия и небытия с
точки зрения игры. Повод для этого дает сам Платон. В его диалоге
Парменид говорит Сократу: «Твое рвение к рассуждениям, будь
уверен, прекрасно и божественно, но, пока ты еще молод, постарайся
поупражняться побольше в том, что большинство считает и называет
пустословием; в противном случае истина будет от тебя ускользать».
Вопрос состоит в том, насколько жизненной и творческой,
насколько онтологичной является диалектика, «упражнение в
пустословии», необязательная, казалось бы, игра абстрактными
понятиями «бытия» и «небытия»? Не ускользает ли истина из крепких
объятий текста куда-то в безмолвие, которое в письме можно
означивать только вопросительным знаком или многоточием?..
1 Платон. Парменид. 135d.
КНИГА Г ГЛАВА I. §2. ПЛАТОН
69
§ 2. ПЛАТОН
Диалектическая игра бытия и небытия
Известно, что Платон сам не записывал (и другим не
рекомендовал) тайное ядро своего учения. Оно передавалось из уст в уста
наиболее приближенным и проверенным ученикам. Речь в нем
велась о сущности Абсолюта и элементарных естественных способах
приобщения к нему. До нас в легенде дошло только одно название
учения — «О Благе» (или «Вокруг Блага»). Не погрешив против
истины, наверное, можно было бы переформулировать название в
«Образ Блага». Платон мог, по слухам, буквально на пальцах
продемонстрировать его даже простолюдинам.
История сохранила только название трактата, хотя и того могла
не сделать, тем самым оставив потомкам шанс догадаться о его
содержании и форме. Правда, поскольку никаких следов или
свидетельств о содержании трактата нет, то можно допустить, что на
самом деле трактата вовсе не существовало, что он лишь
незаинтересованная выдумка чистейшей воды или, попросту говоря, блеф.
Однако чтобы это допущение не задело авторитет основоположника
европейского идеализма, определимся с понятием блефа.
Блеф является высшим градусом игры, понимаемой
онтологически как существенная характеристика человека. В игре человек
может создать такие правила, подчиняясь которым он подходит
к границе, отделяющей бытие от небытия. Игра в себе самой
стремится достигнуть особой, предельной, напряженно-эмоциональной
ситуации, которая получила название блеф, когда никто из
участников принципиально не знает ни своих возможностей, ни чужих.
Единственное, что остается в этом случае игроку, — пуститься на
риск, который завершается либо тотальным проигрышем, либо
избыточным приобретением. Зафиксировать в тексте можно только
правила и результаты игры, когда она ведется «по маленькой».
Высший же ее модус, достигающий кульминации в блефе,
незаписываем принципиально. Платоновский диалог «Парменид» есть не
что иное, как запись правил игры, в которой предусмотрена
ситуация блефа — в понятии «этого странного по своей природе момента
"вдруг"».
Посмотрим, как Платон ведет игру с Абсолютом по поводу
Блага. Азарт — нездоровое, неестественное состояние души, после
Него необходимо творить покаяние, независимо от того, в выигрыше
ты или в проигрыше.
Будем исходить из предположения, что Платон «ту игру» все-
таки выиграл. Ведь судьба и случай всегда благоволят рискующим,
^сталось выяснить, как Платон распорядился выигрышем. Как он
°тблагодарил фортуну и как повинился за допущение греха азарта
70 /О. M. РОМАНЕНКО. БЫТИЕ И ЕСТЕСТВО
и риска. Все это как раз и могло быть записано в «незаписываемом»
трактате.
Почему нечто можно произносить вслух, а записывать нельзя?
Странно, не правда ли? Казалось бы, если это нечто столь
нецензурно, то оно и уста должно осквернить, как оно запятнывает
бумагу. Дело здесь не в различиях семиотических означающих и
выразительных средств письма и голоса. Ответ должен быть слишком
прост, но чтобы прийти к нему, необходимо перебрать ряд гипотез.
Итак, Платон не выдержал и согласился на риск, забыв о
предостережениях Парменида, хотя были все возможности
заблокировать появление ситуации блефа и продолжать играть «по
маленькой», размеренно, шаг за шагом набирая очки и верно
приближаясь ко Благу. Что держал и чего не выдержал Платон?
Остановимся на миг и вспомним об одном безотчетном чувстве,
сопровождающем чтение платоновских диалогов. Это некая
размеренность и однотонность текста и реплик участников диалогов.
Кроме этого, диалоги всегда оказываются как бы незавершенными,
хотя предмет обсуждения исследован со всех возможных точек
зрения. Всегда не хватает последней точки. Возможны два взгляда
на эту проблемную ситуацию: либо Платон сам не дает
окончательного ответа, либо мы не понимаем, что от нас требуется, ища не
там, где потеряли, а там, где светлее. Как вообще человек, читая
книгу, вникает в смысл сквозь частокол букв?
Априори мы исходим из того, что любую устную речь можно
без искажений, адекватно передать в письме. Эту способность
подарили людям боги Тот и Гермес. Голос артикулируется письмом
по всем его составляющим. Более того, письмо вытягивает голос
на новую высоту, а он, в свою очередь, дает грамматике новые
граммы (линии), которыми вычерчиваются буквы и знаки
препинания.
Платон в своих лекциях говорил о Благе, живописуя его образ.
Эта речь по существу была прорицанием — звуковым способом
угадывания бытия. Вообще Платон напророчил историю
европейской философии. Проблема, стоявшая перед ним, — умудриться
переложить прорицание в письменную форму. Выполнить это
оказалось крайне сложно, ибо в речи прорицателя происходят сбои —
акустические выхождения за свои пределы к трансцендентному
бытию, экстазис, когда, как глухой, перестаешь слышать звук
собственного голоса и поэтому контролировать его. В пифагорейское
гармонии небесных сфер, открытой только слуху мудрецов,
закономерно возникали диссонансы. Буквами передать такое
иррациональное состояние невозможно.
Вспоминаются глухие намеки на это в текстах Платона: Сократ»
прикрывающий от смущения лицо руками, пробегая скороговоркой
по запретным темам и всю жизнь мечтавший запеть — дать полнотУ
КНИГА I. ГЛАВА I § 2. ПЛАТОН
71
выхода звука или отпустить себя в пустоту свободного молчания.
Аристотелевская афазия (безречие) не тождественна исихии
(безмолвию), рождающей мудрые словеса.
Прорицание нужно уметь услышать. Оно может прозвучать
в детской просьбе, проклятиях уличной торговки и т. п. Судьба
разными способами дает о себе знать. Один известный платоник,
бравший уроки у мудреца, был единственным среди учеников, кто
поспевал за темпом речи учителя, оттого и ставший затем
знаменитым. Этот неоплатоник умел ускорять речь, и изменение формы
претворяло содержание в нечто новое.
Сократ владел способностью замедлять речь до невыносимости,
вплоть до оцепеняющей паузы, в которой слушатели поддавались
гипнозу тишины. В этот момент Сократ прислушивался к голосу
своего даймония, а затем, найдя нужное слово, одаривал им
слушателей, касаясь их ушей словно электрическим разрядом хвоста ската.
Можно понять апофеоз композитора, диктующего музыкантам
в сопровождающих записях на нотном стане: «Быстро!», «Еще
быстрее!!», «Как можно быстро!!!», «Быстро, до невозможности!..»
и тем не менее на следующей странице нотной записи: «Еще
быстрее!!!...». Композитор и сам не верит, что можно быстрее, но сама
мелодия в этот момент заставляет пальцы музыкантов в сверхусилии
получить новую способность, которой сам композитор не знал,
блефуя в своем сочинительстве.
После внимательного, неоднократного прочитывания
платоновского наследия, когда у читателя складывается композиционный
план его творчества, воспроизводящий образ бытия, угадывается,
что у Платона получилось нечто подобное, как у упомянутого
композитора. У Платона записанным оказалось все, что возможно,
без всякой набивающей себе цену утайки. Больше того, что записано,
ничего не нужно. Нам и того достаточно с лихвой, успеть бы
прочитать и понять. Все же, что поверх записи и что скрепляет
все тексты в единое целое, — это результат блефа.
Незаписанными остались только моменты дисгармоний, пауз и
диссонансов в мелосе прорицания — они, согласно арифмологии,
возникают с необходимостью. Почему они не могли быть записаны?
Потому что акт письма требует наличия свободных глаз и рук
У писцов. А они-то как раз в момент зримой эпифании Блага,
вызванной голосом прорицателя, были заняты (как у дирижера —
писца по воздуху). Руки прикрывали лицо. Пальцы надавливали
на глазные яблоки. А уши слушали «вопль из глубины» (de
Profundis) — отклик творящегося из небытия существа на призыв
его к бытию.
Изменим теперь правила и зададим новую игру: то, что записано
У Платона, не может быть озвучено голосом. Помимо незаписанного
Трактата «О Благе» существует непроизносимый трактат, и не
72 К). M. РОМАНЕНКО. БЫТИЕ И ЕСТЕСТВО
исключено, что это одно и то же, так как Благо едино. Можно
соглашаться с этим или возражать — в любом случае мы пребываем
во власти блефа, который негативным образом лишний раз
подтверждает правоту принципа творения.
Если мы допустили, что Платон блефует, когда говорит, что
якобы есть какие-то занебесные идеи, то возможны следующие
реакции на такое положение дел. Кто-то может сказать, что нужно
бороться с этой провокацией, — так поступил воинствующий
материалист В. Ленин, по мелочам критикуя Платона как классового
врага, но тем не менее переняв у того самое главное — способность
к блефу. На этот счет В. Ленин выдал себя одной фразой: «Сначала
ввяжемся в драку, а там посмотрим». Мы воздерживаемся от такой
деструктивной стратегии, помня горькие уроки истории. К блефу,
ежели он действительно имеется, необходимо относиться
имманентным ему способом, методом угадывания: что там изображено на
обратной стороне карты? Насильственное переворачивание или
шулерское подглядывание карты — это нарушение правил,
уничтожающее сам принцип игры.
Опытные певцы с поставленным голосом знают, что иногда
возникает чувство, что не ты самостоятельно вытягиваешь звук, а
какая-то неведомая сила волной накатывает откуда-то извне,
запуская уже не принадлежащий тебе голос. Такой животворящий
голос, если он прозвучал, уже не подвергнуть грамматологической
деконструкции.
Каким образом осуществляется прорицание как звуковой способ
угадывания бытия? Происходит это в контексте мифа, откровенно
культивировавшегося в античную эпоху. Согласно определению
А. Ф. Лосева, миф есть магическое имя, творящее чудеса
(«Диалектика мифа»). Трансформировав это определение для
потребностей онтологии, получаем миф как прорицание образа бытия.
Начертить этот образ на плоскости без искажений и без потери
целостности бытия невозможно принципиально, поскольку плоскость
есть одна из размерностей «всюду плотного бытия». Целостность
бытия можно сохранить, рисуя его образ ... голосом. Поэзия ведет
свое происхождение из этой задачи, стоящей перед человеком.
Предшественники Платона (Парменид — один из них) умели
прорицать бытие и научились передавать это умение своим ученикам
из уст в уста. Такая традиция могла бы длиться сколь угодно долго,
если бы продолжалась живая преемственность. Однако любой
трагический случай мог прервать живую нить предания. В ту пору
все знали силлогизм: «Все люди смертны. Сократ — человек.
Следовательно, Сократ смертен». Поэтому для дополнительной гарантии
сохранения традиции необходимо было изобрести способ письменной
трансляции мифа.
КНИГА l. ГЛАВА I. § 2. ПЛАТОН
73
Проблему соотношения устного и письменного в мифе можно
сформулировать приблизительно так. Миф, по определению, есть
звучащее сказание, вызывающее (трансцендирующее) живой,
зримый образ. Запись этой речи демифологизирует миф, т. е. убивает
его (буква мертвит, дух животворит, согласно апостолу Павлу), для
того, чтобы в дальнейшей дешифровке записи голосом других
исполнителей миф возрождался из пепла, как Феникс, стилистически
многообразно видоизменяясь в вариациях, оставаясь всегда новым,
как сама жизнь.
Каковы могут быть условия, в которых, кстати, смогло бы
прозвучать прорицание? Существует и достаточно часто проявляется
такая особенность человеческого общежития: в принужденной
обстановке коллективной тишины обязательно кто-нибудь не
выдерживает и исторгает звук голосом, естественным и самым
совершенным музыкальным инструментом. Человек не в силах выдержать,
вынести бремя тишины и поэтому произносит какое-нибудь слово,
зовет кого-нибудь, хоть как-то заполняя бездну безмолвия. В самой
тишине есть некая точка, притягивающая к себе голос и вместе с
тем экранирующая и сохраняющая его. Назовем это молчаливой
аттракцией голоса и его консервацией.
В эмпирии человеческого общения часто наблюдаются такие
ситуации: чем более молчалив один собеседник, тем более
многословен другой. Иногда между участниками встречи даже происходит
борьба за молчание или за стихию звука, в зависимости от того,
на что они ориентированы и каким темпераментом обладают. Другой
вопрос, как распоряжаются тишиной или звуком собеседники после
распределения ролей. У писателей есть специфическая способность:
собственным тягостным молчанием вынудить другого к
откровенному выговариванию, которое затем претворяется в литературный
текст. В иных ситуациях писатели сами могут быть достаточно
болтливыми.
Сократ обладал такими способностями, заставляя других
высказываться, хотя сам он и воздерживался быть писателем. Не был
Сократ и прорицателем, хотя если бы вдруг внутренний голос его
демона вырвался наружу, то афинянин затмил бы славу всех
прежних прорицателей. По всей видимости, эпоха прорицателей
проходила, энергийно иссякая. Нужно было искать новые источники
энергии для удержания мысли в тождестве с бытием. Сократ
необратимо завершил эту эпоху, а Платон нашел способ сохранения
ее сущностного содержания в новых исторических условиях.
Эффекты аттракции голоса тишиной присутствуют в
религиозном таинстве исповеди или в ее механическом суррогате —
психоаналитическом сеансе. Видимый образ также имеет свою силу
аттракции в необходимости феноменального показа себя. В отношении
аттракции образа существенную роль играет свет. Выразить себя
74 IO. M. РОМАНЁНКО. БЫТИЕ И ЕСТЕСТВО
голосом (глаголом) и образом (мимикой) — естественные
потребности человека, хотя они и не всегда могут гармонично сочетаться
в одном индивиде, карикатурно искажая его существо.
Писательство, скрипторство, вероятно, не относятся к
естественным склонностям человека. Скорее всего, это сверх- или
противоестественная потребность, развиваемая насильно. Об этом
догадывался воюющий против литераторства и книгопечатания
В. В. Розанов — одна из реинкарнаций Сократа. Наблюдавший за
ним А. Белый, кажется, достаточно точно угадал образ и написал
его литературный портрет. Для выполнения этой задачи А. Белому
потребовалось развить в себе умение вводить мелодику в прозу,
т. е., объединив музыку поэзии и схематизм письма, вдохнуть в
текст энергию образа и голоса личности В. Розанова. В какой мере
эта литературная копия исказила оригинал?
Платон также внимательно следил за Сократом, всматриваясь
в его судьбу и творчество. Как бы не было понятно, что воплощение
в письме дает только иллюзию бессмертия, писателю остается только
этот шанс — играть в буквенный бисер, сплетая из него образ
бытия, который был увиден воочию. Платону удалось сохранить
дух Сократа, голос его демона, который поныне живет в
пространстве мысли, незаписанный ни на каком фонографе.
Кстати сказать, Г. Гессе, автор романа «Игра в бисер», наверное,
не догадывался, что игра в бисер, как и всякая настоящая игра,
в пределе тендирует к блефу, и поэтому его тексты не столь
интересны, сколь тексты Платона. Впрочем, блеф непредсказуем, и,
быть может, Г. Гессе блефовал по поводу блефа, а мы об этом не
догадываемся.
Теперь, когда нами пройден первый — мифологический — круг
исследования темы и достигнута определенная точка понимания,
необходимо вернуться к некоторым участкам пути и подробнее
уточнить используемые понятия. Прежде всего это касается
доопределения нестрого данных ранее понятий игры и блефа.
Обратимся к признанным специалистам в этой области, особенно к
голландцу Й. Хёйзинге, автору книги «Homo Ludens». Несмотря
на то, что Хёйзинга и другие практически абсолютизируют феномен
игры, распространяя его на все сферы жизнедеятельности человека, '
включая сакрально-культовую, однако в тени их внимания остается
выделенная нами проблема энергетического градуирования игры,
степеней ее напряженности и особенно перенапряженности в блефе.
Кроме этого, апологетов игры справедливо упрекают в отсутствии
должной методологической базы и, добавим, онтологической про-
ясненности.
Единой, общеприемлемой рациональной формулы игры пока
нет. Но есть интуитивные способы наведения мышления на сущность
и смысл игры. Перечислим некоторые из них. «Игра — непродук-
КНИГА I ГЛАВА 1. § 2. ПЛАТОН
75
тивная деятельность, которая осуществляется не ради практических
целей, а служит для развлечения и забавы, доставляя радость сама
по себе. Игра отличается как от труда, так и от чисто инстинктивных
действий. Она относится к определенной стадии развития высших
существ: млекопитающих и человека. Существуют многочисленные
теории по вопросу о значении игры. Наибольшей известностью
пользуется теория К. Гросса, согласно которой игра представляет
собой непреднамеренное самообучение (функциональное
упражнение) организма, особенно необходимое для человека в раннем
возрасте».1 Определять игру через «развлечение», вероятно, вполне
допустимо, но здесь, скорее, нужно было бы сказать, что игра есть
способ оформления влечения, раз-(витие)-влечения, его
пробуждение и придание направленности. Неопределенным также
представляется сопоставление игры с трудом и инстинктом (тем же
влечением), поскольку два последних атрибутивных свойства человека
являются не менее загадочными.
Ближе к онтологическому пониманию следующее определение
игры К. Б. Сигова: «Игра — форма свободного самовыявления
человека, которая предполагает реальную открытость миру
возможного и развертывается либо в виде состязания, либо в виде
представления (исполнения, репрезентации) каких-либо ситуаций,
смыслов, состояний».2 При таком подходе выделяются «четыре типа
игры: игра головокружения; игра подражания; игра состязания;
игра случая. Данная типология может быть трансформирована с
помощью последовательного ответа на главный вопрос: "Кто
играет?". Тогда соответствующие четыре рода игры символизируют их
субъекты: в первом случае это — "скоморох Божий", во втором —
актер и роль, в третьем — соперники состязания, в четвертом —
азартный игрок и Случай, или в пределе — марионетка и Рок».3
В игре головокружения «скомороха Божьего», неотделимой от
«аскетического самоограничения» и, следовательно,
основывающейся на знании, которое М. Шелер назвал «искупительным», человек
«устремлен к преодолению собственной ограниченнности и
скованности, к динамическому выявлению возможной полноты
экзистенции. Подобно музыкальному исполнению партитуры, такая игра
есть исполнение человека, исполняемого бытием. Здесь нет
"другого" как замкнутого в себе соперника, и потому к игре неприло-
жима субъект-объектная матрица. Стороны взаимодействия как бы
погружаются внутрь самого человека. Между ними нет в буквальном
смысле ни соперничества, ни подражания; есть "дрожь" — в трепете
Игра :',■ Краткая философская энциклопедия. М., 1994. С. 168.
* Сигов К. Б. Игра ■■'/ Современная западная философия: Словарь. М.,
1991. С. 110.
s Там же. С. 111.
76 Ю. M. РОМАНЕНКО. БЫТИЕ И ЕСТЕСТВО
человек выходит из эмпирического равенства самому себе, ощущает
духовную амплитуду своего существования. В нем пробуждается и
подает голос "человек возможный" — та бытийная "ипостась",
которая в принципе не может быть отделена от человека и передана
дублеру наподобие маски».1
Не соглашаясь с Хёйзингой по поводу противопоставления игры
и серьезности (в виде труда или бодрствующего сознания), К. Б.
Сигов полагает, что «противоположностью игре является не
серьезность, а насилие ... Мир аутентичной игры исключает любые
моменты насилия. Игру даже можно было бы определить как событие,
снимающее с какой-то точки мира печать насилия. В эмпирической
действительности, где все обусловлено объективными
обстоятельствами, аутентичная игра является как бы упреждением
преображения мира».2 Вослед этому игру можно было бы определить как
«пере-запись» мира, если под «записью» понимать его
насильственное запечатывание.
Онтологический взгляд на игру бросает Ж.-П. Сартр. Он пишет:
«Человек должен выбирать: быть ничем или играть, что он и
делает».3 Но здесь Сартр допускает существенную языковую
подмену. Дело в том, что именно в игре человек впервые приходит к
ситуации выбора как такового и при решении последнего
знакомится с категорией не-бытия. Л. Витгенштейн, введший методику
«языковых игр» специально для терапии языка, смог бы, наверное,
«вылечить» процитированное эффектное сартровское изречение, в
котором задана игра в инверсию между словосочетаниями «быть
ничем» и «ничто бытия».
Трудно согласиться с мнением К. Б. Сигова, что в игре «нет
"другого" как замкнутого в себе соперника». На наш взгляд, игра
в модусе блефа как раз представляет нам «Другого» в его абсолютной
«замкнутости», трансцендентности. Игра с тем, чего (или кого) нет.
Еще одна дискуссионная мысль возникает после прочтения
процитированных определений. Она касается вопроса о
классификационном критерии приведенной типологии игр. Возможен ли
переход между различными типами? Принимая в целом данную
типологию, можно поставить перспективную задачу: объединить первый
и четвертый типы игры (головокружения и случая) для выведения
категории блефа.
Согласно Хёйзинге, игра есть «действие, протекающее в
определенных рамках места, времени и смысла, в обозримом порядке,
по добровольно принятым правилам и вне сферы материальной
пользы или необходимости. Настроение игры есть отрешенность и
1 Сигов К. Б. Игра. С. 111.
2 Там же. С. 112.
а Цит. по: Краткая философская энциклопедия. С. 169.
КНИГА I. ГЛАВА 1. § 2. ПЛАТОН
восторг — священный или просто праздничный, смотря по тому,
является ли игра сакральным действием или забавой. Само действие
сопровождается чувствами подъема и напряжения и несет с собой
радость и разрядку*.1 Хёйзинга противопоставляет игру
серьезности — как тому, что «может быть до конца выражено на языке
бодрствующей жизни» и связано «логическими узами».2 Категория
серьезности нужна ему для того, чтобы оттенить саму игру и
придать ей, таким образом, абсолютный, самодовлеющий характер.
«Все есть игра»,3 — заявляет Хёйзинга, и, следовательно, «она
содержит свою цель в самой себе».1
Однако для того чтобы утвердить то или иное абсолютное,
недостаточно одного очерчивания негативного фона (серьезности),
на котором проступает фигура автономного абсолюта (игры).
Необходимо еще показать движение внутри самой фигуры. Ведь если
игра есть всё и имеет свою цель в себе самой, то не может не
существовать некая «игра в игре». Иначе говоря, целью игры
вообще была бы такая игра, в которой можно было бы обыграть
всеобщие принципы построения правил любой игры вплоть до
возможного саморазрушения самого игрового принципа. Другими
словами, необходимо поставить методологические вопросы: почему
возможна игра, откуда она возникает (в особенности новая игра),
кто и как придумывает игры?
Приблизиться к решению этих вопросов можно посредством не
только культурологического описания, но и феноменологического
отслеживания переходов между степенями напряженности внутри
игры и прочувствования энергетики игры в целом. В данном случае
важно расширение контекста исследования и рассмотрение вопроса
в свете понятий «бытие—небытие—творчество», а также под углом
зрения диалектической пары категорий
«естественное—искусственное». Общий ориентир поиска нами уже указан: переход игры в
блеф, максимальное концентрирование энергии игры в блефе,
отблески рефлектирования игры в себе самой.
В своей содержательной, изобилующей тонкими наблюдениями
книге Хёйзинга подготовил почву для выведения понятия блефа,
но по каким-то причинам остановится перед этим. Он специально
подчеркивает: «Среди квалификаций, уместных в отношении игры,
мы называли напряжение. Элемент напряжения занимает в игре
особое и важное место. Напряжение означает неуверенность,
неустойчивость, некий шанс или возможность. В нем есть стремление
к разрядке, расслаблению. Чтобы нечто "удалось", требуются уси-
Хёйзинга Й. Homo Ludens. M., 1992. С. 152.
2 Там же. С. 139.
3 Там же. С. 240.
' Там же. С. 238.
78 Ю. M. РОМАНЕНКО. БЫТИЕ И ЕСТЕСТВО
лия».' Правила игры создаются через категории порядка и
напряжения. Особенно существен последний элемент — «в азартной игре-
и в спортивном состязании он достигает крайней точки. Именно
элемент напряжения сообщает игровой деятельности, которая сама
по себе лежит вне области добра и зла, вполне определенное
эстетическое содержание».2
В другом месте, перечисляя различные языковые способы
выражения понятия игры, Хёйзинга наталкивается на интересующий
нас момент, но не делает его специальным предметом рефлексии.
Он пишет: «Термины "игра", "играть" применяются окказионально
в случае люфта — вызванной дисбалансом избыточной подвижности
частей какого-либо механизма».3 Хёйзинга счел, что феномены,
подобные люфту, не стоит вводить в специализированно-культурологи-.
ческий объем понятия игры, так как они обозначают чисто
механическое «легкое движение». Между тем если пристальнее
присмотреться к этому феномену («нем. Luft — зазор между
сопряженными поверхностями частей машины»1), то сразу же вспоминается
употребление М. Хайдеггером туманного слова «зазор» или
«просвет» при характеристике им сокровенной открытости бытия (але-
тейя).
Особенно интересно для нас слово «люфтпауза» (нем. luftpause
воздушная пауза) — «небольшая пауза, выделяющая начало нового
построения в музыкальном произведении. В нотах не обозначается».6
Обратим внимание на три аспекта в определении этого слова: «на-
чальность», «новизна» и «незаписываемость» — все они входят и
в дефиниендум блефа. Действительно, записывать можно только
на чем-то прочном, коже, например, а стихия воздуха не годится
для этих целей. Так же как и вода, если, конечно, не писать п«
ней вилами. Впрочем, уже упоминавшийся дирижер мог бы быть
назван «аэроскриптором». Стоит обратить внимание и на такой
негатив процедуры письма, как колебание воздуха обратным концолг
стила. Оно, между прочим, не остается бесследным и фиксируется
ангелами-хранителями воздушной среды. Иными словами, смотр»
как понимать след, точнее, видимо, по Ж. Деррида, как сам себя
стирающий след, чем по Гегелю, у которого Абсолютная Идея есть
пан-метод, т. е. сам себя полагающий неизгладимый след. Ж.
Деррида в своей «Грамматологии» предлагает некое архе-письмо, буквы
которого должны быть одновременно плотно упакованы друг в друге
в диапазоне люфта, не перечеркивая друг друга своими линиями.
Если такое письмо в стихии воздуха возможно, то не исключено,
1 Хёйзинга Й. Homo Ludens. M., 1992. С. 21.
2 Там же.
:! Там же. С. 50.
' Советский энциклопедический словарь. М., 1982. С. 734.
° Там же.
КНИГА I. ГЛАВА 1. § 2. ПЛАТОН
79
что оно является адекватным средством выражения блефа. Более
того, такое письмо и есть блеф как таковой, внутри его нерацио-
нализируемого существования. Блеф остается блефом, как иллюзия
остается иллюзией для чувства, даже если умом мы поняли законы
ее появления.
Возникает стойкое впечатление, что своим подходом Хёйзинга
блокирует и дезавуирует ситуацию блефа. Так, он пишет: «Среди
общих признаков игры мы уже отметили выше напряжение и
непредсказуемость. Всегда стоит вопрос: повезет ли, удастся ли
выиграть? ... В антитетической игре агонального типа этот элемент
напряжения, удачи, неуверенности достигает крайней степени. ...
Азартные игры сами по себе суть примечательные культурные
объекты, однако с точки зрения культурсозидания их надо признать
непродуктивными. В них нет прока для духа или для жизни».1
Странное дело, такой рекламодатель игры, как Хёйзинга (бывший
ректор Лейденского университета, получивший, кстати, эту
почетную должность благодаря исследованиям именно в области игры),
почти сознательно делает фигурой умолчания блеф, многословно
называя его «антитетической игрой агонального типа». Этого,
наверное, требуют правила игры в респектабельность, или позиция
нейтрального наблюдателя и транс-скриптора игры,
воздерживающегося от блефа, но созерцающего, как в блеф впадают другие.
Можно, конечно, согласиться с мнением, что от блефа нет проку
для жизни (какой?). Но ведь игра есть упражнение (вплоть до
аскезы), а, по Сократу, философия есть упражнение в умирании.
Тогда получается, что философия либо является игрой в смерть,
либо стоит вне пределов досягаемости игры, оставаясь сугубо
серьезным занятием. Но сам же Хёйзинга посвящает связи философии
с игрой много страниц своего текста. Невозможно также согласиться
с точкой зрения, что блеф непродуктивен. Не всегда. Может статься,
что дело будет обстоять как раз с точностью до наоборот.
Хёйзинга утверждает, что «игра есть претворение».2 Это
действительно так. Однако пре-творение есть вторичный акт, без всякой
необходимости следующий за актом творения — создания чего-либо
нового из небытия. Именно в блефе осуществляется первоакт
творения, т. е. сотворенное существо, блефуя, откликается на призыв
к бытию со стороны Творца (как, например, Авраам в ответ на
звучание своего имени тут же реагирует: вот я!). Но может и не
откликнуться, рискованно попридержав отзыв (как Иаков,
боровшийся с ангелом Господним по поводу имени).
Впоследствии, когда акт творения состоялся, его можно куль-
тИвировать, транслировать и транслитерировать, варьировать и ком-
,; Хёйзинга Й. Homo Liidens. С. 63.
" Там же. С. 29.
80 К). M. РОМАНЕНКО. БЫТИЕ И ЕСТЕСТВО
бинировать, обучать ему, т. е. делать из него культурный феномен.
И тогда вспышка блефа рассредоточится в размеренное свечение
растиражированных игр, возникших как многообразие форм одного
и того же типа, заданного этим блефом. Именно в нем изобретаются
правила новой игры.
Таким образом, вопреки точке зрения Хёйзинги, блеф
продуктивен, в отличие от размеренных форм игры. Именно в нем автор
впервые осознает себя в этом качестве. Хотя Проблема авторства в
игре исключительно сложна. Во всяком случае, автором игры (как
и анекдота) не может быть единичный субъект. И здесь Хёйзинга
прав, утверждая, что автором может быть всякий, кто подключился
к данной игре. «Если даже художественное произведение заранее
создано, разучено или записано, оно впервые оживает в исполнении,
представлении, звучании, показе, productio в буквально смысле...»1
В книге «Homo Ludeiis» дается перечень значений слова «игра»
в различных языках и проведен их этимологический анализ.
Наблюдается общая закономерность — стремление выводить
происхождение этого слова из глаголов, обозначающих естественное
легкое, ускоренное движение (например, «сиять», «излучать»,
«сверкать», «ощупывать», «резвиться», трепыхание рыб, взмахи птичьих
крыльев, плеск воды, хлопанье в ладоши и т. д. и т. п.). Весь этот
перечень распределяется по всему полю человеческой перцепции:
оптической, акустической, тактильной и др. Русское слово «игра»
выводят из индоевропейского корня aig-, имеющего ряд значений:
колебаться, шевелиться, волны, вихрь и др.2
Все эти действия и процессы в объективном мире, наблюдаемые
архаическим человеком, автором слова «игра», во-первых,
естественно вызывали чувство удовольствия, во-вторых, в силу своего
зыбкого, рассеянного характера могли восприниматься в различных
режимах. Переключение с одного регистра на другой приводило к
возникновению чувства удивления, запуская такую ключевую
способность человека, как продуктивное воображение. В отдельные
избранные моменты совершения подобных действий появлялась
возможность переноса одного явления на другое, приписывания,
действия совершенно иному субъекту, который незаметно появлялся
из небытия и узурпировал место реального субъекта действия.
Иными словами, образовывался «люфт» («зазор») в ритмическом
движении естественных органов тела определенного субъекта,
который мог заполняться чем угодно. Над естественными
ритмическими процессами, вызывающими чувство физиологического
удовольствия, надстраивались другие ритмические процессы, создавай
1 Хёйзинга И. Homo Ludens. С. 187-188.
- Черных 77. Я. Историко-этимологичеекий словарь современного
русского языка. Т. 1. С. 334.
КНИГА 1. ГЛАВА 1. § 2. ПЛАТОН
81
своеобразные рассеивающие структуры, позволяющие ускорять или
замедлять первичный базовый процесс. У живых существ, очевидно,
есть потребность в экспансии, беспредельном расширении чувства
удовольствия. Однако природой им поставлены определенные
барьеры и пороги. Выход в «люфте» к пороговому состоянию и
превосхождение его в сверхусилии (трансцензус) означает
актуализацию ситуации блефа.
В русском языке слово «блеф» получено из немецкого Bluff —
«выдумка, обман, имеющий целью запугать, внушить
преувеличенное представление о себе ... озадачивать, приводить в изумление
и испуг, ошеломлять, хвастаться, преувеличивать».1 Однако
гипотетически можно возвести слово «блеф» к греческому глаголу ßMitco,
ßAiyoura — «видеть, быть зрячим, смотреть, взирать».2 Вообще акт
зрения выражается в языке разными словами. «Блепо» — в нашем
случае это особенное видение. Оно имеет отношение даже не к
глазам, а к ресницам (по греч. blefaris) и к векам (blefaron).3
Встречаются контексты, где этот специфический акт видения
связывается со взглядом, обращенным к полдню, т. е. взором на солнце
сквозь прищуренные веки. И тогда сразу становится понятным,
почему в таким образом организованном восприятии проявляются
игра и блеф. Действительно, увлажненные слезами ресницы создают
естественную дифракционную решетку, через которую человек
может эстетически любоваться переливами цветов, возникших при
преломлении, интерференции солнечных лучей, с чередованием
световых максимумов и минимумов. Причем эти картинки
возникают непреднамеренно и мгновенно переходят друг в друга.
Любопытно сравнение их с миражом («оптическое явление, наблюдаемое
обычно в пустынях, когда становятся видимыми предметы,
находящиеся за горизонтом, вследствие преломления световых лучей в
неравномерно нагретых слоях воздуха», глагольная форма означает
«рассматривать на свет, прицеливаться, с удивлением осматривать,
Дивиться, поражаться»).4 Действительно, стихией и средой, в
которой возникает возможность блефа, является воображение —
накладывающийся на естественный акт зрения дополнительный образ
ИНОГО.
Однако наблюдать подобную калейдоскопическую игру
небезопасно. Природа строго соблюдает свои запреты, и медицина знает,
Например, такую болезнь, как блефароспазм (ßXecfiapov — веко +
07IC(o(li6ç — судорога) — «сокращение круговой мышцы глаза, при-
' Там же. С. 93 94.
" Всисман А. Д, Греческо-русский словарь. Стб. 251.
Там же.
4<<рных П. Я. Историко-этимологический словарь современного рус-
Кого языка. С. 534.
82 Ю. M. РОМАНЕНКО. БЫТИЁ И ЕСТЕСТВО
водящее к стойкому смыканию век».1 Мифологический образ Вия,
гоголевского блефарона, является персонификацией глазной
болезни блефароспазма. Вий — единственный представитель
инфернального царства, который способен видеть. Но эта способность
заблокирована, запечатана у него судорогой. Сам Вий не может открыть
свои глаза, за него это делают другие, поднимая тяжелые,
касающиеся земли веки вилами.
Выяснив значение и историческое употребление слова «блеф»,
а также некоторые его прецеденты, можно предпринять попытку
раскрыть его смысл, учитывая, что окончательного рационального
осмысления осуществить, естественно, не удастся:
феноменологическое описание блефа дает нам только косвенные намеки и
некоторые устойчивые инварианты воспроизведения блефа. Некоторые
из них можно перечислить. Во-первых, в блефе все играют против
одного. Во-вторых, возможности всех должны быть откровенно
обозримы, возможности одного — предельно скрыты, потаены. Или
наоборот.
Игра задается условно, совокупностью искусственных правил.
Выполнение их должно быть строгим (серьезным). Однако в
определенный момент «вдруг», «внезапно» игра начинает жить по своим
собственным законам, в своем «естественном» распорядке.
Неожиданность этого момента обусловлена непредсказуемостью поведения
участников, которые ставятся перед ситуацией выбора. Выражаясь
языком синергетики, можно сказать, что в плавном протекании
игры появляются точки бифуркации, помогающие «качнуть»,
сдвинуть ее процесс в сторону нового. Если игра условна и искусственна,
то вызревший в ее недрах блеф абсолютен и естествен до тех пор,
пока сохраняется данная игра, т. е. у участников хватает энергии
поддерживать ее сколь угодно долго. Каждый шаг игры наталки-*
вается на выбор (между бытием и небытием). Если бы выбор
последовательно осуществлялся в пользу только бытия, то в силу
кругового характера движения игры (одно из основных ее правил)
с какого-то очередного шага она всякий раз шла бы по уже
пройденному пути, зацикливаясь и становясь неинтересной. Ее результат
грозил бы превратиться в предсказуемую вечную «ничью». Поэтому
в конструировании правил игры предусматривается возможность
выбирать и в пользу «небытия». Для этого часть «бытия»
делегируется в «небытие» и накапливается в нем до тех пор, пока не
произойдет серийной разрядки через блеф и игра не вернется В-
исходную точку чистого отношения между бытием и небытием.
Блеф незаписываем как точка бифуркации, которая уже
полностью развернута в веере своих возможностей, имеющих равные
шансы. Поэтому блеф является игровой иллюстрацией принципе-
1 Наследие Эллады. С. 119.
КНИГА I. ГЛАВА 1. § 2. ПЛАТОН
83
творения. Его можно эксплицировать арифмологически,
пифагорейскими числами, каждое из которых является определенным
типом игры. Для таких точек нет графических средств знакового
записывания, но они имеют свое «лицо» и свои «гримасы» — еле
уловимые миметические движения. Несмотря на то, что одно «лицо»
не похоже на другое, но игрой мимики первое может достигнуть
эффекта неразличимости со вторым. И тогда блеф «налицо». Игрок
начинает выбирать не между «бытием» и «небытием», а между
двумя совершенно одинаковыми лицами, не зная, какое из них
настоящее, а какое имитация. Неизвестно даже, не подражают ли
друг другу оба — что увеличивает равновероятность шансов при
выборе. Когда опасная точка пройдена, игра продолжает
осуществляться по заданным правилам вплоть до разоблачения блефующего.
Все ускоренно возвращается на круги своя, но по пути прохождения
обретается нечто незабываемое, что вносит в общий процесс игры
элемент необратимости.
Таким образом, блеф — это уже не игра, точнее — больше не
игра. Высшим типом игры была бы та, которая не осознавалась
бы как игра и была бы абсолютно бескорыстной. Обычные
эмпирические игры являются лишь подобиями этой идеальной игры.
Поэтому и возникающие в них моменты блефа есть только осколки
одного целого зеркала, в которые смотрятся игроки. Свести же все
осколки воедино не представляется возможным в рациональном
дискурсе, фиксируемом в письме. Блеф перечеркивает всякую
запись, которой записываются правила игры. Но запись можно
зачеркнуть только метазаписью, архе-письмом, ежели таковое
существует. Блеф незаписываем принципиально, ибо запись — это
насилие. Играющим участникам некогда это делать, следовательно,
необходим некто третий — «протоколист», кто фиксировал бы очки,
следил за исполнением буквы правил и подстегивал к игре «ва-
банк», растворяясь в этот момент в «небытии», уйдя на заранее
подготовленные позиции и снимая с себя ответственность. Если все
Же блеф можно записать, то только записью запись стерев (поправ).
Лишь тогда появляется возможность и действительность
воссоздания единого лица в целостном зеркале, собранном из осколков.
Еще одним из условий возникновения ситуации блефа является
принцип минимума затрат на приобретение выигрыша. Иначе
говоря, принцип нулевой себестоимости. Наиболее очевидно это
проявляется при так называемом «мизере». Хёйзинга приводит пример
°Дного из экзотических типов игр, который получил обобщенное
название «потлач». Суть его заключается в том, что каждая из
°торон соревнуется в уничтожении собственного имущества или в
Максимальном его раздаривании.1 «Потлач» — это демонстрация
Хёйзинга Й. Homo Ladens. С. 74-79.
84 ГО. XL РОМАНЕНКО. БЫТИЕ И ЕСТЕСТВО
аскезы, доведение себя до такой точки, когда больше нечего терять.
К. Маркс это прекрасно понимал, провоцируя пролетариат,
которому нечего терять, кроме своих цепей, к «потлачу» социальной
революции. Приобретается же взамен весь мир. Если
приобретается... Чтобы это случилось, необходимо строгое соблюдение правил:
во-первых, дар должен быть бескорыстным; во-вторых, даруется
только самое наилучшее; в-третьих, дар производится
непосредственно самим дарящим, без помощи других, т. е. абсолютно, «из
ничего». В противном случае дар становится передариванием или
спекуляцией. А передаривать, как известно, нельзя.
Выше отмечалось, что в блефе все участники организовываются
для игры против одного, блефующего. При этом существенное
значение имеют последовательность и порядок расположения игроков.
Игра проходит по кругу, в хороводе, по движению солнца или
часовой стрелки. Иногда выигрыш в блефе может сорваться только
от распорядка. Эта особенность подчеркивает индивидуальность
каждого игрока и избранность, уникальность их мест (топосов).
В античности бытовало представление, что люди снятся богам,
а боги людям. Поэтому одним из наиболее комфортабельных
способов богоявления для человека считался сон — «царский путь к
откровению». Неоходимо уточнить, что люди снятся богам не в
качестве спящих же, это привело бы к наложению двух снов в
одном, где до неразличимости отождествились бы смертные и
бессмертные. Боги умеют программировать сон, где персонажами
выступают бодрствующие люди. Именно бодрствование, «захвачен-
ность» и «вброшенность» в мире, выражаясь языком Хайдеггера и
Сартра, не дает возможность человеку представить себя глазами
богов, заставляет его забыть свое полубожественное происхождение.
Сны богов и сны людей не соразмерны друг другу, между ними
существует определенный «зазор», заставляющий богов быть
трансцендентными по отношению к людям.
Сон и бодрствование у людей сменяют друг друга «вдруг», сразу,,
так, что в окончательном пробуждении содержание сна тут же
забывается, стирается, оставаясь в виде схем, образов. Но сам это!
момент «вдруг» имеет свои «странности», как заметил Платон. Для
него свойственно «дление», темпоральные характеристики.
Материальное воплощение этого состояния-процесса перехода от сна К
бодрствованию и обратно получило название «сомнамбулизм» (ot
лат. somnus — сон и ambulo — хожу), или «лунатизм», — «pac-j
тройство сознания, при котором автоматически во сне (отсюда
название — снохождение) совершаются привычные действия
(например, ходьба, перекладывание вещей)».1
Советский энциклопедический словарь. С. 1238.
КНИГА I. ГЛАВА I. § 2. ПЛАТОН
85
Сон и бодрствование являются естественными состояниями
человека. Хотя они бывают и неестественными: в случае
наркотического или летаргического сна, а также в случае насильственного
принуждения человека к искусственному бодрствованию — труду.
В обоих последних случаях над естественными процессами
надстраиваются непроизвольные автоматические (квазиестественные)
реакции (сомнамбулизм) или естественные реакции мнимо не
проявляются, утаиваются (как в случае летаргии — «мнимой смерти»,
которую можно рассматривать именно как блеф в «зазоре» между
жизнью и смертью; летаргию с таким же правом можно назвать и
«мнимой жизнью»).
Во время сна человек остается игрушкой богов, но такой
игрушкой, которая получает некоторую степень свободы. Все попытки
человека моделировать и контролировать собственный сон обречены
на неудачу. Это хорошо видно на примере известного анекдота-были
об одном незадачливом психологе-экспериментаторе, который
искусственно вводил себя в состояние галлюциногенного сна, нюхая
испарения керосина. В этом состоянии ему с предельной
откровенностью и самоочевидностью являлся Абсолют, поисками которого
он постоянно занимался. После пробуждения образ улетучивался,
забывался, и описать его на реальном языке бодрствующей жизни
оказывалось невозможным. Но однажды психолог привязал к руке
ручку, положил перед собой чистый лист, дал себе мысленный
наказ, принял дозу испарений и снова вошел в транс. Абсолют опять
явился, и спящему каким-то невероятным усилием удалось наконец
нацарапать его графическое засвидетельствование. Когда же он
очнулся после опыта, на листке было написано: «Очень сильно пахнет
керосином». Истина оказалась столь тривиальной. Но после того
как отсмеешься, выслушав этот анекдот, начинаешь понимать, что,
действительно, ничего иного там и не могло быть написано: в этом
событии произошло подобие чуда — на короткое время керосин
персонифицировался в Абсолют, человек на какое-то время побывал
в гостях у духа керосина. Для экспериментатора это могло
закончиться печально, но все обошлось, вероятно, лишь благодаря
переключению максимально напряженной энергии чувства обоняния на
импульсивные и автоматические движения руки скриптора, амп-
•Яифицированной орудием письма. В автоматическом письме, как
Известно, упражнялся В. Соловьев, для того чтобы уметь записывать
встречи с Софией.
Если игру сопоставлять со сном, а труд — с бодрствованием,
То блеф можно сопоставить с сомнамбулическим состоянием. Люди
Действительно снятся богам, являясь их игрушками, но не в блефе,
г^е впервые возникает равноправность статусов смертных и бес-
сМерхных, их равностояние под знаком категории «небытия».
86 Ю. M. РОМАНЕНКО. БЫТИЕ И ЕСТЕСТВО
Платон так описывает переходы «сон—бодрствование / игра—
серьезность / люди—боги»: «Я утверждаю, что в серьезных делах
надо быть серьезным, а в несерьезных — не надо. Божество по
своей природе достойно всевозможной блаженной заботы, человек
же, как мы говорили раньше, это какая-то выдуманная игрушка
бога, и по существу это стало наилучшим его назначением. Этому-то
и надо следовать; каждый мужчина и каждая женщина пусть
проводят свою жизнь, играя в прекраснейшие игры, хотя это и
противоречит тому, что теперь принято».1
В этой констатации ситуация блефа не подразумевается явно.
Феноменологическая дескрипция игры, ставшая хрестоматийной,
дается Платоном в других фрагментах. Так, он пишет: «...верно
направленные удовольствия и страдания составляют воспитание;
однако в жизни людской они во многом ослабляются и
извращаются».2 В чем причина ослабления (или возможного усиления)
удовольствий и страданий, остается за пределами упоминания. И
далее Платон продолжает: «Поэтому боги из сострадания к
человеческому роду, рожденному для трудов, установили взамен
передышки от этих трудов божественные празднества, даровали Муз,
Аполлона, их предводителя, и Диониса как участников этих
празднеств, чтобы можно было исправлять недостатки воспитания на
празднествах с помощью богов>>.3
Особо подчеркивается «естественность», согласованность с
природой описываемого процесса. «Мы утверждали, •— пишет
Платон, — что любое юное существо не может, так сказать, сохранять
спокойствие ни в теле, ни в голосе, но всегда стремится двигаться
и издавать звуки, так что молодые люди то прыгают и скачут,
находя удовольствие, например, в плясках и играх, то кричат на'
все голоса. У остальных живых существ нет ощущения нестройности
или стройности в движениях, носящей название гармонии и ритма.
Те же самые боги, о которых мы сказали, что они дарованы нам
как участники наших хороводов, дали нам чувство гармонии и
ритма, сопряженное с удовольствием. При помощи этого чувства
они движут нами и предводительствуют нашими хороводами, когда
мы объединяемся в песнях и плясках».4
Все вышесказанное относится к естественному процессу
образования (пайдейи) подрастающего поколения. А как быть со зрелыми
людьми и стариками? Имеют ли они какое-либо отношение к игре?
И если да, то какими способами они в нее интегрируются? Платов
допускает особые условия для этих категорий граждан: во-первых,
1 Платон. Законы. VII 803с.
2 Там же. II 653с.
3 Там же. 653d.
1 Там же. 653с-654а.
КНИГА I. ГЛАВА 1. § 2. ПЛАТОН
87
через внешнюю стимуляцию пьянящим напитком и, во-вторых,
через создание камерной обстановки с ограниченным числом
участников. Правила игры суживаются и в пределе должны
спровоцировать момент блефа. Платон эту возможность специально не
оговаривает, но имманентная логика его метода неукоснительно приводит
К формулировке такой игры, в которой единственному оставшемуся
участнику приходится блефовать. Ограничение игры, когда
поочередно исключаются все участники, кроме одного, последнего,
которому отведена роль отыграться за остальных, представлено в
описании предсмертного часа Сократа в ранних платоновских
текстах. Стимулирующим напитком послужила цикута, а
сомнамбулической автоматической последней фразой стало напоминание
Сократа Критону о жертвоприношении петуха Асклепию.
В этом экстремальном случае игры с жизнью и смертью даны
все предпосылки для экспликации принципа творения. Косвенно
Платон использует эти предпосылки, рассматривая вопрос о такой
характеристике игры, как удовольствие. Он пишет: «...удовольствие
служит правильным мерилом только в таких вещах, которые хотя
и не несут с собой пользы, истины и подобия, однако, с другой
стороны, не доставляют и никакого вреда, но творятся
исключительно ради того, что в других случаях является лишь
сопутствующим, то есть ради приятности, которую великолепно можно
назвать удовольствием, если с ней не связаны вышеупомянутые
свойства».1
Этот фрагмент можно прокомментировать следующим образом.
При искусственной стимуляции, в которой происходит
переключение одного естественного чувства на другое (сопутствующее), к
состоянию удовольствия добавляется (сопутствующее) чувство
приятности, которое само может стать новым типом удовольствия при
выполнении ряда условий. Короче, в этом месте речь идет о творении
нового типа удовольствия, воспринимаемого впервые открытым
типом чувственности, со своими особыми органами. Иначе говоря,
моделируется ситуация, каким образом человек впервые открывает
в себе и присваивает новую естественную способность получать
Удовольствие (или страдание). Новое удовольствие сначала должно
Пройти фазу приятности — дополнительную, излишнюю и преиз-
быточествующую по отношению к первичному факту удовольствия.
Вспомним к тому же слова Платона о том, что чувство гармонии,
сопровождающееся максимумом удовольствия, человек получает от
богов в процессе игры.
Удовольствие — это когда всего в-до-воль и даже настолько
6Доволь, что если что-то появляется сверх того и не несет вреда
Всему остальному поначалу, то и оно порисоединяется к общему
Там же. 667е.
88 Ю. M. РОМАНЕНКО. БЫТИЕ И ЕСТЕСТВО
чувству блаженства. Это нечто - приятно, оно принимается,
усваивается и получает статус удовольствия не само по себе, а в силу
приемлемости в общее довольство. Например, вкушать
маринованный огурец — удовольствие, а хрустеть им на зубах — приятность.
Объективирующая рефлексия подскажет нам, что в первом случае
действуют биохимические реакции, контролируемые вкусовыми
рецепторами, а во втором — механические процессы давления зубами
сопровождаются акустическими эффектами, воспринимаемыми
внутренним слухом. А в целом, это два, даже три совершенно
различных процесса, участвующих в акте приема пищи, не
имеющих друг с другом никакой сущностной связи. Но как объяснить
это гурману, для которого не хрустящий огурец — уже не огурец?
В дальнейшем, когда приятность закрепляется и
трансформируется в самостоятельное удовольствие, ее можно культивировать.
Появляется возможность, реальная для современной пищевой
индустрии, производить, скажем, хрустящую жевательную резинку
или разрывные леденцы, которые никак не участвуют в насыщении
организма пищей, но изощренно обостряют чувство вкуса, доводя
его до блефа.
Пусть сон будет считаться спецификацией категории «небытие»,
а дневное бдение — «бытием» по преимуществу. Переход между
ними может быть как естественным, так и искусственным. Вообще
этот переход жестко не запрограммирован, его возможность не
предусмотрена с железной необходимостью, так как эти два
состояния самодовлеющи и между ними лежит трансцендентная граница.
Блаженно то пробуждение, которое вызвано не дребезжанием
будильника, а суперпозицией щебетания птиц, серией бликов
солнечных зайчиков, прорвавшихся сквозь древесную крону, мягкого
касания опавших листьев и легкого дуновения утренней свежести.
Ведь способ пробуждения задает образ действий в последующем
бодрствовании и его энергийное наполнение.
Сведем воедино подобранные нами в разных местах определения
игры и рассортируем их под онтологической рубрикой. С
онтологической точки зрения игра в модусе блефа есть творение бытия
из небытия, а не только перекомбинирование частей бытия.
Рассмотрим сначала игру под знаком категории бытия. Здесь не
ставится вопрос, включаться в игру или нет. Игра уже идет, и все,
кто так или иначе существуют, представлены в ней как участники.
Противоположные результаты игры — выигрыш и проигрыш —
не соответствуют основной онтологической оппозиции «бытие-
небытие». Выигравший и проигравший равновелико бытийствуют,
поскольку продолжают участвовать в игре. По точному наблюдению
Хёйзинги, шулера и пдуты не подрывают бытийность игры, а только
нарушают правила, оставляя в целом их незыблемыми, хотя и
нуждающимися в корректировке. Настоящими «штрейкбрехерами»
КНИГА I. ГЛАВА 1. § 2. ПЛАТОН
89
нгры стали бы те, кто сознательно уклоняется от участия в ней.
Отказ от участия в игре есть, казалось бы, воля к небытию игры.
Однако достичь небытия игры практически невозможно в силу
круговой поруки. В правилах предусмотрено: сам не будешь играть,
постоянно пасуя, пропуская свой ход, совершенно отключив волю
к победе, — за тебя отыграют. Каждый волен выбирать в пользу
выигрыша или проигрыша. Важна не победа, а участие. Частная
свобода в общей несвободе. Каждый играет поочередно со всеми,
оаскатывая по кругу шар, отщипывая от него свою порцию. В любой
игре действует общий принцип — закон сохранения призового
фонда: выигравшие получают ровно столько, сколько теряют
проигравшие. Чтобы выйти из игры, нужно все проиграть, включая
самого себя, но этого нельзя сознательно спланировать и
целенаправленно исполнить отдельному участнику, так как его воля
должна удачно совпасть с состоянием внутренней структуры общего
призового фонда. Степень самоотдачи индивида должна
соответствовать способностям восприятия выигрыша со стороны остальных
партнеров по игре. Мало все отдать, нужно еще приберечь где-то
остатки сил, чтобы проконтролировать, что это всё без потерь
приняли и адекватно усвоили. Лишь тогда можно спокойно
выходить из состава игроков, зная, что игра продолжится и без тебя,
а ты своей волей неучастия не нарушил волю остальных,
пожелавших остаться при своих интересах.
Поэтому-то Сократ, выходя из игры, говорит уже потусторонним
голосом: «Критон, мы должны Асклепию петуха. Так отдайте же,
не забудьте. — Непременно, — отозвался Критон. — Не хочешь
ли еще что-нибудь сказать? Но на этот вопрос ответа уже не было».1
В игре стало на одного, главного, участника меньше, но она
сохранилась, поскольку все остальные научились в нее играть благодаря
ушедшему предводителю-заводиле.
В правилах всякой игры предусмотрено строго определенное
число участников, с допустимым плюсом-минусом. Нарушение этого
правила грозит уничтожению самой игры. Но в последнем случае
удалось тем не менее в обход правил исключить одного игрока при
сохранении всей игры в целом. Игра тем самым приобрела новую
степень целостности, т. е. стала новой игрой, творчески
преобразилась. Если же эту ситуацию рассмотреть с обратной стороны,
когда все вдруг сговорятся и захотят выключиться из игры, то
тогда, наоборот, одному придется отдуваться за остальных, тому,
на кого выпадет последний ход: он будет продолжать играть с
тенями исчезнувших, и на его долю выпадет бремя распоряжаться
Целокупным призовым фондом.
Платон. Федон. 118.
90 IO. M. РОМАНЕИ КО. БЫТИЕ И ЕСТЕСТВО
Необходимым условием выхода из игры, помимо желания само-
исключитъся, является также добрая воля играющих отпустить
уходящего на свободу. Но играющие должны получить гарантии,
что при особой потребности они смогут опять вернуть уходящего
в круг участников. И сам уходящий должен предусмотреть этот
момент.
Всё, о чем мы говорим сейчас, есть косвенное описание условий
возможности блефа. Блефующий, выходя из игры, должен оставить
вместо себя свой след, своего заместителя — полномочного
представителя, обладающего собственной активностью. Но такого,
который столкнется уже с обновленными правилами старой игры.
Так Сократ нашел себе достойную замену в лице Платона. Сократ
«выдумал» Платона, и сам замысел превзошел все ожидания.
Платону удалось найти способ вернуть Сократа в круг общего участия
благодаря исполнению его имени.
Продолжим обозрение игры, но уже под знаком категории
небытия. Спрашивается: где находится блефующий игрок, когда в
игре его уже нет? Ответ прост: за маской, которой он прикрыл
свое отсутствие и которая продолжает автоматически соблюдать все
правила. А за маской есть что-нибудь? Нет, за маской ничего и
никого нет, во всяком случае, самого субъекта блефования. Он
где-то в другом месте, снаружи, пребывает в безмятежном покое.
Это прекрасно понимал один из величайших блефовалыциков в
истории философии Р. Декарт, обогативший мировую
сокровищницу мудрости как минимум двумя, имеющими отношение к блефу
афоризмами: «Лучше прожил тот, кто лучше спрятался» и
«Выступаю в маске». Но все-таки за маской что-то есть. По крайней
мере, именно там, в этой утопии (люфте), перекрещены фокусы
взоров остальных субъектов игры, проецирующих в эту пустоту
свои игровые интересы.
Лучше спрятаться может тот, кто намеренно щедро выставит
напоказ все свои сокровища. Бери не хочу. Безвозмездно и даром.
Но с одним непременным условием: больше никому этот презент
не отдавать. И найдутся такие, которые будут охотно брать ПОД'
любые условия, тут же о них забывать, перепасовывать в чужие
руки, предварительно поставив клеймо о собственном пользовании
и увеличив спекулятивно цену, до тех пор пока это сокровище,
обклеенное всевозможными ярлыками, не вернется бумерангом
обратно к первому владельцу.
Для того чтобы рассмотреть творческие характеристики игры,
следует вернуться к платоновскому определению, данному во
фрагменте 653с-654а II книги Законов. Поскольку нами априорно
постулировалось, что игра абсолютна и носит цель в себе самой, т. е.
бытие игры вечно и неизменно, то в целом участие в ней может
иметь достаточно нетворческий характер. В самом деле, обучившись
КНИГА I. ГЛАВА 1. § 2. ПЛАТОЙ
91
раз и навсегда правилам данной игры, игрок обречен на скучное
бесконечное повторение однотипных ходов, перестановку фигур,
череду мелких приобретений и утрат, механическое варьирование
ситуаций. Игра исподволь начинает превращаться в насилие и труд,
в лучшем случае способствующий поддержанию системы в
стабильном состоянии. Существует мнение, что всякий труд ранее был
игрой. Платон пишет, что люди рождены для трудов. Можно даже
догадаться, что то, во что играют языческие боги, люди должны
исполнять подневольным трудом. Библейское сказание более
радикально уточняет, что после изгнания из рая люди обречены на
труд — «в поте лица» [Быт. 3, 19] добывать себе на пропитание.
По Платону, люди страдают в труде; боги, видя муки людей,
сострадают им. Но сострадание есть подражание страстям;
поскольку же богам не к лицу имитировать состояния и действия людей,
то боги выразили свое сострадание тем, что «установили взамен
передышки от этих трудов божественные празднества». Как видим,
человеку свойственно пребывать в трех состояниях: труде, игре,
отдыхе. Игра не тождественна отдыху — это своеобразное деятельное
состояние. А отдых можно было бы определить как полную свободу
от страстей, нирвану, апатию или атараксию, специфическую
материализацию небытия. Отдых является промежуточным
состоянием между бытием и небытием (не в-дох и не вы-дох), он вообще
никак не относится к живительному дыханию огненной пневмы
(согласно учению стоиков). Попади в него человек, и ему бы не
осталось никаких шансов вернуться обратно к трудовому
бытованию. Языческим богам не хотелось бы, чтобы люди исчезли из их
поля внимания, окунувшись в полный покой тунеядства. Поэтому,
чтобы вызволить из него людей, боги придумали и подарили им
способность игры как необязательного, дарового способа
существования. Игра вытягивает человека из летаргии отдыха, т. е. творит
его из небытия. Как бы ни устал человек от праведных трудов,
переключившись на игру, он будет способен сразу же (безо всякой
передышки и восстановления сил) активно расходовать энергию,
непонятно откуда появившуюся. Дело в том, что энергетические
потоки игры и труда, будучи равномощными и противоположно
направленными, пронизывают друг друга без столкновений и
взаиморазрушений. Труд и игра не исключают друг друга в этом
смысле, и можно работать играючи или играть «в поте лица своего»,
можно даже превратить игру в профессию.
У специалистов по истории философии принято как неоспоримое
положение о том, что античность, дескать, не знает принципа
творения из небытия. Можно надеяться, что проведенная нами
интерпретация философии Платона, исходящая из его имманентных
намерений, допускает высказать тезис о том, что античность знала
(в форме угадывания) о творении в аспекте игры. Платон выразил
92 Ю. M. РОМАНЕНКО. БЫТИЕ И ЕСТЕСТВО
креацию диалектической игрой категорий « бытие >> и «небытие».
Следовательно, онтологическая триада «бытие—ничто—творение»
работает в полном объеме в контексте античной философии.
Если сравнивать Платона с Гегелем, то у последнего диалектика
развернута как процесс достаточно тяжелого труда. Гегель выразил
в своей диалектической системе трудовую этику протестантизма.
Платон мог бы ее счесть сизифовым трудом.
Игра в модусе блефа является моментом переключения
ориентира человеческой активности: с труда, направленного на обработку
земли, через вакуум отдыха — на игру, настроенную на контакт
с небожителями. Боги Олимпа, по заверениям Платона, людям
«даровали Муз, Аполлона, их предводителя, и Диониса как
участников этих празднеств». Остановимся специально на этом аспекте:
среди участников игры обязательно находится один,
замаскированный под обычного человека, посланник Пантеона,
«предводительствующий» на человеческих игрищах. Его ближайшей целью
является организация и руководство игры по свыше заданным
правилам. Этот посланник научает чувству гармонии и ритма, с
помощью которых человек извлекает из своей природы различные
удовольствия. И если импульс к игре задан, небесный инкогнито
сохраняет инерцию движения игры в определенном временном
промежутке. Импульс к началу игры задан с неба, благодаря внедрению
одного из богов в группу людей. Затем, когда маховик игры
раскручен и движение приобретает характер инерциального,
воплотившееся божество начинает воспринимать игру «всерьез» и «вдруг»
забывает о своем божественном происхождении, как взрослый,
затеяв возню с малышами, впадает в детство и не спешит вернуться
в мир «серьезных» проблем. Посланник богов отождествляется с
остальными участниками игры, людьми, вплоть до того, что он
уже не способен представить свой прежний высший модус
существования. Игра идет своим чередом, и уже никто не догадывается,
что кто-то из участников является инкарнацией высшего существа.
Этот пункт должен быть особо заложен в правила игры: все
участники игры равны и имеют одинаковые права на приз. Никто не
должен даже подумать (да и некогда), что кто-то, быть может,
сосед, а может, и он сам, еще недавно пировал на Олимпе. Игра
приобретает воистину абсолютный характер.
А боги ждут возвращения себе подобного, который что-то
чересчур долго задерживается среди смертных. Но как его вытянуть
обратно, если он напрочь забыл о своем божественном уделе. Боги,
конечно, не завидуют разрезвившимся людям, но всему есть свой
предел. В том числе и игре. Просто так, катастрофически, боги не
могут разрушить игру — иначе это было бы надругательством над
собственным даром и свидетельствовало бы о зависти высших к
низшим. Кроме этого, как подчеркивал Платон, игры даруются
КНИГА I. ГЛАВА 1. § 2. ПЛАТОН
93
яюдям, «чтобы можно было исправлять недостатки воспитания на
празднествах с помощью богов» — именно в этом состоит отдаленная
цель и программа-максимум игры. Однако абсолютизация игры
может только усугубить недостатки, и виновны в этом будут уже
Не боги, а сами люди, начинающие терять над собой контроль.
Изначальные недостатки человека связаны с ущербностью его
природы, вторичные недостатки — с распущенностью нравов в инерции
игры (инерция означает буквально — лень движения). Цель
воспитания состоит в формировании гармоничной личности, способной
прокормить себя и ближних и, сверх того, принести в игре жертвы
богам. Но в игре человек одновременно принимает небесные дары,
которые боги ниспослали людям в качестве воздаяния. Человек
творится из небытия в игре, когда он вдруг начинает догадываться,
что его удел — быть богом. Игра настолько завораживает, что уже
не так страшно пуститься на блеф.
Раз игра имела начало, то в ее программе, как во всем, что
творится из небытия, заложен и конец. В игре трансцендентные
силы выполняют миро-строительные и миро-управительные
функции, но не перекладывают в них ответственность с людей на себя.
Но как все-таки подать знак одному из участников игры,
засекреченному агенту, чтобы он вернулся обратно? Этой задаче может
служить только блеф, хотя и он может гарантировать возвращение
только случайным образом. Ситуацию блефа не могут спланировать
даже боги, ибо здесь полноправной инициативой обладает и человек.
Небесное послание персонифицировано в демоне («боге на одно
мгновение»). Сократу являлся такой демон, но он не говорил ему,
что нужно делать. Скорее всего, тягой к блефу отождествиться с
богами послужила тишина, в которую можно сказать рискованные
слова, абсолютно не зная, что получишь в ответ...
Но такой тишины еще нужно достичь среди гама суетных слов.
Сократ был весьма говорлив и даже искушен в речах, но
представляется, как бы парадоксально это ни выглядело, что в диалогах
он упражнялся в безмолвии. Иногда собеседники замечали, как
Сократ застывал в отрешенности, прислушиваясь к тишине,
одновременно краем уха следя за словами друзей.
Если игра — процесс, то блеф — эксцесс. Он возникает
спонтанно, в тот миг, когда удачно выпал расклад в структуре призового
фонда в отношении к одному из игроков. Такова судьба. Перед
ним вырисовывается заманчивая перспектива сорвать суперприз.
Но чтобы дотянуться до него, нужно перешагнуть бездну, пуститься
на риск и временный обман, идентифицировав себя с тем божеством,
которое нераспознанно до сих пор присутствовало в игре. Это
божество двояко присутствует, отсутствуя: его нет ни в Пантеоне, ни
в человеческом коллективе. Игрок, отпустивший себя в блеф,
выступает в качестве транспортного средства для возвращения боже-
94 IO. M. РОМАНEHKO. БЫТИЕ И ЕСТЕСТВО
ства в круг богов. В начале игры этот круг распался в одной точке,
а в моменте игровой удачи точка вновь заполняется и круг
приобретает свою идеальную форму. Дальнейшее протекание процесса
нами уже описано ранее, осталось только дополнить его
подробностями творческих моментов.
Чтобы сотворить что-то новое, игроку необходимо повторить с
абсолютной точностью прежний акт (первый раз). Во всяком случае,
стремиться к этому. Не гнаться во что бы то ни стало за новизной
ради новизны, а именно подробно и автоматически повторить старое.
Как это ни парадоксально. А далее уже сама действительность не
даст реализоваться повтору и явит нечто новое. Блефующий игрок
не нарушает установленных правил, а как раз впервые их строго
выполняет в полном объеме, один к одному делая идеальный ход
(во втором разе). На этом, в принципе, игра может завершиться,
а игроки разойтись, ибо цель достигнута и энергетическая разрядка
состоялась. Боги получили все чего хотели: реализации мифа
вечного возвращения, который является универсальным законом
существования античного Космоса. Пантеон вернулся в прежнее
состояние, статус-кво, но человеческий род не остался неизменным,
в нем произошли кардинальные изменения. Природе человека
вообще свойственна текучесть и изменчивость.
Человек всегда меняется — в лучшую или худшую сторону, —
не будучи способным удержаться в одном состоянии или месте.
Воспитание придает структурный вид этому течению, но любая
структура — это ограничение и выбор только одной возможности
из целого веера. Поэтому Платон и говорит о недостатках воспитания
как о чем-то само собой разумеющемся. Нет идеального воспитания,
его нужно постоянно, раз за разом исправлять и корректировать,
переключать течение энергии в новое русло.
Просто игрок — это субъект, у которого развита только одна
естественная способность. Игрок, испытавший опыт блефа,
приобретает новую способность и умение координировать первую и вторую
способности. Это не означает, что его уже не нужно воспитывать,
что прежний недостаток воспитания восполнен. Напротив,
воспитание только начинается, касаясь нового способа существования и
реализации человеческих возможностей. На этом пути еще
возникнут другие недостатки.
Таким образом, мы рассмотрели основные возможности
онтологического подхода к игре, профундировав ее в контексте монотриады
«бытие—ничто—творение». С обратной стороны сама эта
монотриада была представлена как категориальная игра. Повторим еще раз
коротко характеристики блефа: это обман, т. е. приманивание,
притягивание к тому, чего нет (еще или уже); как следствие этого,
преувеличенное представление о собственных возможностях
(которые до поступка принципиально неизвестны), похвальба (принятие
КНИГА I. ГЛАВА 1. § 2. ПЛАТОН
95
возможного за действительное), незнание возможностей Другого
(который в тот момент действительно не знает себя в отношении
к первому). Результат блефа может быть двояким: он либо удается,
угадывается, либо не срабатывает. В обоих случаях за него придется
расплатиться избыточным удовольствием или страданием не в меру.
До этого проводился онтологический анализ игры. Через понятие
творчества мы подошли к возможности эксплицировать игру в свете
метафизики, поскольку процесс творчества в целом представляет
собой игру стихий: взаимообусловленность естественных процессов
и состояний и сверхъестественное перетекание и трансформацию
их друг в друге, что составляет непосредственный предмет
метафизики. Коротко коснемся метафизического описания игры и
естественных условий появления блефа.
Органы чувств, через которые человек связан с миром, приносят
ему либо удовольствия, либо страдания. Для воспроизведения
незамутненного чувства удовольствия необходимо преодоление
субъект-объектной разделенности. В платонизме Благо (т. е. чувство
имманентности Космосу) трансцендентно, хотя и не окончательно.
Память о нем сохранилась в виде следов. Получается
парадоксальная диалектика трансцендентности и имманентности. Совокупный
призовой фонд игры и есть Благо как таковое.
Собирание всего сущего в Космос (по определению — лад,
порядок, гармония, украшение) происходит в избранные моменты
времени и сохраняется ненадолго. Именно в эти привилегированные
промежутки чувство работает в неискаженном режиме. Греки
называли это состояние айстезисом, что на русский язык адекватнее
всего переводится как «чутье» (Лосев). Для него характерно
отсутствие субъект-объектной границы, полнота, максимум
удовольствия, самодостаточность, всеединство, чистота. Это самое что ни на
есть естественное чувство. Обычный же режим восприятия
соответствует периоду либо распадения Космоса, либо его повторного
собирания. В этих условиях чувство работает совместно либо с
памятью о прежней гармонии, либо с предвосхищением грядущего
удовольствия. Здесь распад Космоса отсрочивается, а его
возвращение форсируется в опережающем предвосхищении. Игра, в целом,
заключена в этих пределах полураспада и полусборки Космоса.
В игре самого Космоса — всё существует во всём. Но даже
когда всеединство отложено, благодаря блефу есть возможность
несвоевременного произвольного воспроизводства чутья полноты
единого Космоса.
Траектория игры, заданная точками блефа, простирается в
следующем порядке: естественное — неестественное —
противоестественное (если блеф не удается) — сверхъестественное (если риск
вознаграждается удачей). Таким образом, метафизика игры — это
исследование особенностей функционирования и направленности
96 Ю. M. POMAUEHKO. БЫТИЕ И ЕСТЕСТВО
чувств. Предмет интереса метафизики — негарантированные случаи
(прецеденты) воспроизводства всеединой гармонии, которые
выпадают на долю одного единичного субъекта, отвлекаясь от остальных
участников игры, которые продолжают пребывать в ущербном
положении, — таковы условия, которые затем скажутся и на самом
баловне судьбы.
Чистое чувство — одно и едино. Оно естественно есть в Космосе.
Здешний человек обладает уже пятью-шестью или более чувствами,
между которыми проложена подвижная граница. Каждое чувство в
отдельности вроде бы само по себе естественно. Оно «отвечает» за
определенный аспект бытия Космоса, и неестественным было бы,
если бы человек слушал глазами. В комплексном восприятии
чувства синхронизируются, и это происходит в игре, но полной
согласованности (когерентности) чувств можно добиться в блефе. При
этом когерентность наступает вдруг по команде, проходимой по
каналам одного из типов чувств, того, которое избирается для
получения максимальной порции удовольствия. Все остальные чувства
прилаживаются к нему.
Такова чувственная подоплека игры, дополненная
темпоральными ориентирами: памятью о прошлом и предвосхищением
будущего. А где же мышление? Игра нуждается в мышлении уже для
формулировки и записи правил и результатов. Кроме того,
мышление является сдерживающим фактором — оно бы вообще
запретило игру. Но поскольку игра уже есть (как дар, полученный от
богов!), то мышлению поневоле приходится мириться с ней и при
этом оформлять ее в пристойные рамки. Более того, если чувства
только и ждут возможности проявиться в полном размахе в блефе,
являющемся мощной точкой притяжения для чувства, вдруг
вспомнившего о полной гармонии, то цель мышления — поставить барьер
для этого, сформулировать запрет на возможность проявления
чувства в блефе. И отнюдь не для того, чтобы отнять силу у чувства.
А как раз для того, чтобы чувство реализовалось в блефе на
сверхусилии. Мышление выступает последней инстанцией,
присуждающей блефующего либо к удовольствию, либо к страданию. Мыслю,
следовательно, существую. Существую, значит, наслаждаюсь или
страдаю. Третье исключено — таков закон мышления. Если же
третье допустимо, тогда абсолютен закон исключенного четвертого,
и так далее до бесконечности. Исключается из правил всегда блеф,
берущий реванш на следующем шаге. Блеф возникает только от
инициативы игрока, а инициатива, как известно, всегда наказуема.
Итак, в первом приближении мы наметили онтологические и
метафизические составляющие игры. Возвращаясь опять к
платоновскому ненаписанному трактату (или лекции) «О Благе», можно
пролить дополнительный свет на его возможное содержание, не
КНИГА I. ГЛАВА I. § 2. ПЛАТОН
97
поддающееся единой трактовке по причине непримиримости
альтернативных интерпретаций.
Если Платон решил не записывать суть своего учения, значит,
ддя этого имелись веские причины. Главной из причин, вероятно,
было понимание Платоном того, что причастность и приобщение
ко всеобщему Благу могут быть сугубо персональными.
Индивидуальное же в субъекте есть то, что отличает его от остальных, т. е.
все то, что искажает его идеальный образ — единый на всех.
Искажение происходит в неподдающемся осмыслению блефе,
который опытно пережил сам Платон, рискуя утверждать
существование каких-то идей. Делать искажение достоянием всех —
бессмысленно и преступно. Этот опыт непередаваем, и каждый должен
пройти свой путь преодоления собственных заблуждений сам, не
перекладывая исправление ошибок на другого. Здесь дело даже не
в ошибочности (дескать, на ошибках тоже учатся, следовательно,
их не нужно делать фигурой умолчания, в назидание другим).
Ошибка если и есть, то эвристическая, и не в этом секрет. Выразить
блеф можно было, только подав ненавязчивый пример — не написать
трактат «О благе», но оставить в памяти его название, что Платон
и сделал, заставив изрядно потрудиться мыслью потомков. А все
дело в угадывающем чутье космической гармонии образа бытия,
появляющейся в «этом странном моменте "вдруг"» диалектического
блефа.
Диалоги Платона построены как изощренная мыслительная игра
участников, но ее описание всякий раз прерывается в самый
интересный момент, когда игроки дошли до кульминации блефа и
когда нужно сделать решающий окончательный выбор. В свидетели
незримо приглашается читатель, и вся ответственность за решение
перекладывается на него. Платон хорошо помнит, для кого он
пишет.
Платоновскую диалектику бытия и небытия дополняет его
гносеологическая концепция припоминания (анамнезиса). Творчески
играя категориями бытия и небытия до самозабвенности, всегда
нужно все же помнить о цели самой игры. Диалектические
структуры являются универсальными правилами мнемотехники. Но
чтобы вспомнить нечто, нужно, чтобы это нечто перед этим каким-то
образом забылось. Забвение происходит тоже по каким-то
определенным правилам, которые можно было бы обобщить в некой науке
«летотехнике» (от имени мифической реки забвения Леты).
Получается оппозиция: «анамнезис—каталетезис». Забвение случается
в блефе — высшем модусе диалектической игры. Для человеческой
природы, увы, забвение так же необходимо, как сон. Но и
припоминание также может проявиться в блефе. Хотя, если истина, паче
чаяния, даже несмотря на допущенный обман, все же достигается,
То она уже не есть блеф. Проблема теперь остается в том, чтобы
98 ГО. M. РОМАНЕНКО. БЫТИЕ И ЕСТЕСТВО
суметь удержать истину. А для этого нужно сполна и вовремя
рассчитаться за прежде допущенный обман.
Процесс игры можно метафорически сопоставить с работой часов.
Можно сказать, что Платон спекулятивно предвосхищает
изобретение часового механизма. Главными деталями здесь являются
скрученная до предела спиралеобразная пружина «фюсис»,
подвешенная на неподвижную ось «бытия».
Чтобы заснуть или проснуться (а сон является естественной
потребностью человека), необходимо приложить двойное усилие.
Вернее сказать, просыпание зависит от двух условий: внешнего и
внутреннего. Самопроизвольное восстановление во сне затраченных
в предыдущем бодрствовании сил должно встретиться с внешним
сигналом среды. Просыпание не случайно называют
припоминанием. Но чтобы среда подала сигнал о пробуждении, нужно заранее
оставить в ней «след» (попросту говоря, завести «будильник»).
Среда бодрствования возвращает под конец сна те следы, которые
были оставлены накануне. Если не удалось оставить никаких следов,
то и пробуждения может не произойти — наступит летаргический
сон.
Соотношение диалектики и анамнезиса можно выразить
следующими метафорическими оборотами. Диалектика есть некие часы,
предназначенные для хронометрирования бытия; но не простые
часы, а со встроенным «будильником», который срабатывает всякий
раз, когда настоящее и прошлое (будущее) совпадают в
неделимом моменте «вдруг», заставляя мышление, забывшее бытие,
опомниться.
Платон завел этот будильник, угадав и напророчив всю
последующую историю философии, представители которой вчитывались
в его тексты до звона в ушах.
§ 3. АРИСТОТЕЛЬ
Поэтическая логика бытия
Основной интуицией античного человека была интуиция тела.
Даже парменидовское «бытие» телесно. Оно касается всех.
Очевидно, только оно и является телом как таковым — «глыбой прекруг-
лого шара». Поверхность тела допускает повсеместное касание
телесными же органами, если они у тела есть. Прикоснуться к пар-
менидовскому бытию может только оно само, и это касание будет
касанием всей поверхности тела бытия. Если это условие
осуществляется, то все точки поверхности будут равноудалены от центра,
которым может быть любая точка. Так получается идеальная сфера:
центр везде, а периферия нигде. В силу сплошной слитости всех
КНИГА I. ГЛАВА 1. § 3. АРИСТОТЕЛЬ 99
точек бытия в акте его абсолютного касания в себе самом бытие
неприкосновенно извне, крепко держась в своем теле.
Как такое состояние может получиться, как оно случается
операционально? Действием, которое способно осуществить это, может
быть признана только лепка. В ее акте не остается никаких отходов,
ничего лишнего (в отличие от обтесывания и обрубывания) —
«небытия нет»; но все впрок вбирается в общую массу — «бытие
есть». В идеальном акте лепки поверхность лепящего и поверхность
лепимого срастаются, слипаются, и ничто не выдавливается наружу
(«небытия же нет»). Лепка — творческий акт, который может быть
рассмотрен в свете онтологической монотриады.
Аристотель как выразитель специфики античной философии,
очевидно, обладал такой интуицией тела и знал, что такое творящий
акт лепки. Решая гносеологическую проблему отличения бытия от
небытия, он задается вопросом: «...что такое бытие и небытие,
истинное и ложное в отношении вещей несоставных?».1 Ответ
продиктован воспоминанием о креативном лепящем касании.
Аристотель пишет: «Истинное и ложное означают здесь следующее: истина
есть удостоверение [как бы] на ощупь (to thigein) и оказывание
(ведь не одно и то же утвердительная речь и оказывание), а когда
нельзя таким образом удостовериться, имеется незнание...»2
Таким образом, первым и последним критерием истины
(достоверностью того, что «бытие есть») является касание («ощупывание»)
«бытия», представляемого Аристотелем в виде несоставной вещи —
атома. Какого рода и какой интенсивности это касание, можно
догадаться по тексту Аристотеля. Как видно, «касание», о котором
здесь говорится, не есть частичное касание (например, дотрагивание
пальцем до кончика носа). Здесь необходимо представить полное
прикосновение неделимого тела к себе самому своими собственными
«конечностями», если они у него имеются. Естественно, о таком
абсолютном касании можно только догадываться. К бытию
достаточно прикоснуться, чтобы удостоверить его истинность, одним
касанием, которое тем не менее в мгновенном скольжении по всей
его поверхности облекает образом (образует) его неделимое тело.
Кроме того, истина есть оказывание (не путать с утвердительной
речью, подвергаемой формально-логическому структурированию).
Коснулись и высказались — в этом и состоит истинное знание. Но
что такое оказывание? И в каком отношении находятся касание и
сказание? (Слова «касание» и «сказание» в русском языке имеют
один и тот же сдвоенный корень — <<-кас[з]-», внутри которого
осуществился фонетический сдвиг с глухого звука «с» на звонкий
«з».) Имеет ли Аристотель в виду что-то тождественное в данном
Аристотель. Метафизика. 1051b 15-20.
:' Там же. 1051b 20-25.
100 Ю. M. PO.M АН EH КО. БЫТИЕ И ЕСТЕСТВО
случае или делает переход между разнородными способами
отношения к бытию — осязанием и речью?
«Сказание» по-гречески — миф (предание, сказание изустное).
По-видимому, именно его имеет в виду Аристотель; хотя он и был
последовательным мифоборцем, но и он был вынужден, согласно
логике бытия, создать миф об Уме-Перводвигателе.
Для Аристотеля глагол «касаться» является связкой «быть»,
усвоенной мышлением благодаря чувству осязания. Такая связка
высказывается в «утвердительном» суждении о существовании
всюду «твердого» бытия. Касание к максимально плотному бытию
высказывается в утверждении «есть». Это суждение имеет характер
категорического и необходимого, т. е. аподиктического
(доказывающего, достоверного, основанного на логической необходимости,
неопровержимого). Приставка «ало-» в данном случае употребляется
в значении непосредственности, а не в качестве отрицания.
Греческий глагол «8eiKvC|Lii» (лат. эквиваленты — dico, indicare) означает
диктовать, внушать речью, т. е. заклинать бытие в том, что оно есть.
Он может иметь значения «указывать», «показывать»,
«наставлять», «научать», «доказывать», «объявлять», «приветствовать» —'
и именно звучащей речью.1 В этом смысле Аристотель не меньший
диктатор и тоталитарист, чем Парменид (диктовка ни много ни
мало самому бытию, каково оно есть).
У Аристотеля переход от касания к оказыванию — настоящий
трансцензус. Получив в прикосновении к бытию всю его силу и'
энергию, субъект бытия претворяет эту силу в речь голосом,
провозглашая бытие. Бытие сохранилось в преобразовании осязаемости
в звучность (зычность). Оглашать бытие нужно именно зычно,
выражаясь поэтически.
Слово «ощупь» (to thigein) имеет фоносемантическую и рифми-
ческую перекличку со словом «ovyr|», означающим молчание,
тишину, тайность.2 Оба этих слова в сочетании выражают тайное
прикосновение к бытию, которое действительно происходит в
молчании (исихия — священнобезмолвие), в отключении всех
дифференцированных типов перцепции, кроме одной — тактильной.
Остальные чувства умолкли и прислушиваются (чуют) осязаемое
бытие, а затем выражают его каждое по-своему. Первым выражением
факта существования бытия является сказ о нем.
Аристотель описывает трансцензус от ощупи к сказу,
реконструируя процесс перехода от полнейшей тишины к первозвуку,
начальной вибрации голосых связок на границе между вдохом и
выдохом. Это творение звука из небытия, который в процессе
онтологической трансформации (ощупь—голос—слух—запись) ста-
Вейсман А. Д. Греческо-русский словарь, Стб. 288.
2 Там же. Стб. 1129.
КНИГА l. ГЛАВА I. § 3. АРИСТОТЕЛЬ 101
ловится прообразом и порождающей моделью логической формы —
понятия и суждения.
Предшественники Аристотеля (Парменид, Платон) угадали образ
бытия, основав традицию онтологического философствования. Но
одного знания образа недостаточно для полной истины. Это еще
нужно адекватно выразить истинным словом (логосом). Уже
Парменид начал выражать бытие поэтически (не случайно его
произведение относится к жанру поэмы, не в современном, конечно,
узком значении этого термина). Слово «пойезис» в античном смысле
значит, собственно говоря, само творчество как таковое, о чем
позже будет сказано. В очередной раз, уже на материале
аристотелевской философии необходимо исследовать функционирование
онтологической триады, обращая внимание, какие новые аспекты
в ней удалось выделить Аристотелю, еще одному проводнику к
бытию, собеседуя с которым можно вновь повернуть мысль к своему
истоку.
Для выполнения этой задачи важно разделить онтологическую
и метафизическую проблематику, переплетенные в текстах
Аристотеля. Все характеристики, имеющие отношение к бытию,
обозначаются им пометкой «ради блага», а характеристики,
отражающие «естество», индексируются признаком «по необходимости».
Парменидовскую интеллектуальную интуицию бытия как единого
Аристотель пытается описать рациональным различением видов
чувств и функциональным предназначением каждого из них. Явно
об образе бытия Аристотель не говорит, но все его дифференциации
имеют в виду именно его. Ведь еще раньше всяких вербальных
дистинкций и дескрипций необходимо уже иметь бытийно значимые
слова. Преднаходятся такие слова поэтами. Именно в поэтике
творческого слова необходимо искать исток онтологизма Аристотеля.
Для этого нужно начать с анализа генезиса человеческой речи,
способной к аутентичному выражению бытия.
Рассмотрим, как Аристотель организовывает в тексте ситуацию
угадывания образа «бытия» и прорицания его словом на примере
выведения характеристик и определений звука и голоса в главе VIII
книги II трактата «О душе». Первая дистинкция такова: «Звук
существует двояко, а именно: как звук в действии и как звук в
возможности».1 Звук как таковой не может возникнуть без удара —
события, которое воспринимается первоначально осязанием.
«А звук в действии всегда возникает как звук чего-то, ударяющего
обо что-то и в чем-то. Ведь именно удар вызывает звук. Поэтому
не может возникнуть звук, когда имеется лишь одна вещь, так
как ударяющее и ударяемое — две различные вещи. Таким образом,
звучащее звучит, ударяясь обо что-то другое. Удар же не происходит
Аристотель. О душе ,' ' Аристотель. Соч. Т. 1. М., 1976. С. 411.
102 Ю. M. РОМАН Ell KV. БЫТИЕ II ЕСТЕСТВО
без движения».' Как видим, удар есть отношение между двумя
вещами как минимум. Если же задаться вопросом о том, что такое
звук в возможности, то можно предположить, что им может обладать
и одна вещь, причем такая одна-единственная вещь, как бытие.
Вспомним, что тело бытия одно и неподвижно, не позволяет про-
никнуть вовнутрь себя, следовательно, удар извне в отношении его
невозможен, как невозможно, разумеется, исторжение бытием звука
вовне. Звук бытия неслышим — «эйдос творит бесшумно», как
сказал бы Платон.
Естественным условием существования, средой звука является
воздух. Для возможности возникновения звука вообще-то
достаточно и одной вещи и окружающего ее воздуха. «Сам же воздух
беззвучен из-за своей рыхлости. Когда же что-то мешает воздуху
разрежаться, то движение его становится звуком»." Таким образом,
воздух это и проводник звука, и сам звук как таковой, если воздух
ограничен телесной формой. Иначе говоря, звук есть тело воздуха —
не рыхлая аморфная масса газов, а организованный уплотненный
сгусток воздушной стихии. Можно вспомнить, что некоторые
античные натурфилософы полагали воздух как архэ — материальное
первоначало всего сущего.
Воздух воспринимается и используется человеком двояко: как
естество и как бытие. Благодаря воздуху человек дышит, сохраняя
теплоту жизни, и произносит звуки. Аристотель пишет, фиксируя
двуединую функцию воздуха: «...дыханием природа пользуется для
внутреннего тепла как чего-то необходимого и для голоса, чтобы
содействовать благу».3 Голос, содействующий благу, выражает
бытие блага и, следовательно, является голосом самого бытия. Таким
образом, просто звук подпадает под категорию «естества», а голос
имеет какое-то отношение к бытию и в целом к онтологической
монотриаде. Аристотель пишет: «Голос, таким образом, — это удар,
который производится воздухом, вдыхаемым душой, находящейся
в этих частях, о так называемое дыхательное горло. Ведь не всякий
звук, производимый животным, есть голос ... (ибо бывает звук,
производимый языком или при кашле), а необходимо, чтобы
ударяющее было одушевленным существом и чтобы звук сопровождался
каким-нибудь представлением. Ведь именно голос есть звук, что-то
означающий, а не звук выдыхаемого воздуха, как кашель; живое
существо этим воздухом ударяет воздух, находящийся в
дыхательном горле, о само это горло».' В описании этой элементарной
физиологической пневматики неявно угадывается образ блага, бла-
1 Аристотель. О душе. С. 141.
2 Там же. С. 112.
:( Там же. С. 414.
1 Там же.
КНИГА I ГЛАВА I § H. АРИСТОТЕЛЬ 103
i-одаря которому звук претворяется в голос. Звук становится
голосом, когда он благом одарен.
Последний фрагмент наиболее интересен для нас. Во-первых,
для явления голоса ударяющее существо должно быть
одушевленным. Одушевленным существом изначально является сам воздух,
умножаясь в собственных телесных образованиях в виде сгустков,
в том числе в виде турбуленций в дыхательном горле. Стихия
воздуха в себе самой индивидуализируется и персонифицируется.
Иначе говоря, в воздухе есть присущие ему по его природе тела —
деятельные существа. Во-вторых, голос есть звук, что-то
означающий. Что он означает? Именно то живое активное существо,
которое сгустилось в воздухе и приобрело образ. Голос есть звук,
означающий сам себя и ничего более, абсолютно: бытие есть, а
ничего остального нет.
Далее, означающая способность звука голоса состоит в том, что
звук сопровождается представлением, согласно Аристотелю.
Очевидно, представлением зримо данным. Здесь налицо трансцензус:
перепад с акустического уровня в оптический: звук голоса вызывает
видимый образ. Аристотель даже осторожнее говорит: голос
«сопровождается» представлением, т. е. как чем-то не необходимым,
привходящим, не обязательным, но тем не менее креативным, ибо
это исходит из блага. В этом месте Аристотель фактически
эксплицирует метафизические и онтологические основания мифа, который,
по определению, является звучащим словом, вызывающим зримый
образ. Голос мифичен по существу — это оживляющий воздух,
которым дышит тело. Итак, именно миф, сказывая образ, является
изначальным способом выражения бытия.
В акте голоса естественный процесс дыхания поставлен в особые
условия: «нельзя издавать звук голосом во время вдыхания или
выдыхания воздуха, а можно, только задерживая дыхание»,' т. е.
останавливая воздух в теле, или, что то же самое — делая воздух
телесным. Органом для этого служит гортань. Кашель —
неестественная, болезненная задержка дыхания, как и чих. Звук
голосом — это сверхъестественная и творческая способность
человека. Задерживают дыхание также для создания полнейшей
тишины, но выдержать ее долго человек не может. Кто же является
субъектом задержки, какая способность ответственна за это? Зачем
вообще насильно задерживать естественный процесс, если
дышать — легко и приятно? Об этом Аристотель умалчивает, но
Можно догадаться, что актуализация голоса осуществляется самим
воздухом в соответствии с онтологической триадой. Именно
благодаря способности бытия, укорененной в одушевленном теле
челочка, звук претворяется в голос.
Там же.
104 Ю. M. РОМАН EH КО. БЫТИЕ И ЕСТЕСТВО
Кроме этого, Аристотель описывает дополнительный момент в
производстве и творении звука, в котором возникает «отзвук», или
эхо. «Отзвук возникает, когда воздух, словно шар. снова отражается
воздухом, который становится плотным в силу того, что
включающий его сосуд ограничивает его и препятствует ему разрежаться.
Отзвук возникает, по-видимому, всегда, но нечетко...»1 Здесь
констатируется, что воздух может уплотняться в шар в отражении
(издатели комментируют этот фрагмент так: «Речь идет о соударении
отражаемых стенками сосуда сжатых воздушных масс, в результате
которого возникает протяжный звон или гул»2). Звук относится к
отзвуку, как движение к сдвигу, который есть преизбыток
движущегося тела. Поверхность тела становится экраном, отражающим
звук, производя эхо как преизбыток звука.
Отзвук, «сдвиг бытия» звука, дает возможность осуществиться
слуху. «Поэтому и говорят, что мы слышим при помощи пустоты
и отзвука, так как мы слышим тем, что содержит воздух,
отграниченный со всех сторон».3 За счет того, что воздух стал
«отграниченным со всех сторон», войдя в тело, он воспроизвел и приобрел
форму «прекруглой глыбы шара» бытия. Душа звучно вошла в
слепленное тело, и появилось живое существо. Стало быть, процесс
«звук голоса — слышание бытия» замкнулся на самом себе, стал
автономным, саморазвивающимся и творческим. Чтобы быть
мыслящим и мыслить бытие, нужно уметь слышать самого себя. Не зря
говорят, что голос у известных певцов — божественный дар. Без
преувеличений, голос может быть назван онтологическим
определением человека. В образе «гласа, вопиющего в пустыне», —
Аристотель не зря говорит, что «мы слышим при помощи пустоты» —
узнавая бытие в полном уединении.
Итак, интуиция тела бытия демонстрирует, что создание такого
тела в акте творящей лепки сопровождается возникновением звука.
Если тело одушевлено (дышит воздухом), то телесный звук
претворяется в голос, который будет способен произносить осмысленные
слова. Следовательно, проблема «звук—голос» решается в контексте
более общей проблемы «тело—душа», исследуемой онтологической
психофизиологией.
Определение души, данное в трактате «О душе», таково: «Душа
есть первая энтелехия естественного тела, обладающего органами».
В этой дефиниции мы вновь встречаемся со взаимоналожением
онтологических и метафизических характеристик. Естественное
тело просто есть органически. Органы, образующие тело, связаны в
Аристотель. О душе. С. 411.
~ Там же. С. 503 (прим.).
;i Там же. С. 412.
J Там же. С. 395.
КИША I IVIABA 1. § 3. .АРИСТОТЕЛЬ 105
нем душой энтрлехиально. Скрепой тела и души является единое
бытие.
Как известно, Аристотель по-своему решал проблему
соотношения и отделимости души и тела. В противовес платоникам, душа,
по Аристотелю, есть «сущность как форма (logos), а это — суть
бытия такого-то тела, подобно тому как если бы естественным телом
было какое-нибудь орудие, например топор. А именно: сущностью
его было бы бытие топором, и оно было бы его душой. И если ее
отделить, то топор уже перестал бы быть топором и был бы таковым
лишь по имени. Однако же это только топор. Душа же есть суть
бытия и форма (logos) не такого тела, как топор, а такого
естественного тела, которое в самом себе имеет начало движения и
покоя».1 Душа — это сущность, форма, логос, суть бытия само-
движного тела. Начало движения и покоя — это сдвиг, т. е. сама
душа и есть сдвиг бытия тела по отношению к себе. Естественное
тело, пребывая в себе самом и само собою естественно, без влияния
извне, содержится силой бытия. Форма телу при этом придается
осмысленным звучанием дыхания, т. е. голосом, который как суть
бытия тела и есть логос. Короче говоря, бытие может быть
удостоверено в истинном знании, заключающемся в касании к нему
и в оказывании его голосом живого существа.
Рассмотренное в отношении способностей голоса и слуха можно
перенести на анализ других типов чувств. Все они различаются
между собой с точки зрения категории «естества», но в свете
понятия «бытие» они суть одно чувство, чутье, оставшееся таковым
в преобразовании и сосредоточении всех чувств в единой точке.
Бытие воспринимается всеми чувствами сообща. Слух превращается
в зрение, оно в свою очередь трансформируется в осязание, которое
модифицируется в обоняние и вкус. Различие между ними
заключается в специфике среды, составленной из естественных стихий,
ограничивающих единое тело бытия. Тождество их проявляется в
едином для всех сдвиге, неразличимом отдельным чувством, если
оно не стало творческим. Отдельное чувство не может быть
творящим, если не претворило все остальные. Только в этом контексте
можно понять, что такое мышление и ум. Это то, что сводит
многообразие отделенных чувств к единству, делая их единым чутьем.
В этом ракурсе Аристотель сталкивается с апорией «единого—
многого», относящейся к чувству осязания. Он пишет: «Вот и
возникает сомнение: имеется ли много чувств осязания или одно?
II что служит органом осязания — плоть или, как у других
животных, нечто сходное с ней, или же нет, а плоть есть только среда,
il главный осязательный орган — нечто другое, внутреннее?»2
' Там же. О. 395.
- Тпм же. С. 418.
106 IG. M. EOMAHEHIW. БЫТИЕ И ЕСТЕСТВО
Выход из этой апории Аристотель формулирует в такой гипотезе:
«Находится ли орган осязания внутри или нет или же это
непосредственно плоть — это никак не доказывается тем, что ощущение
происходит одновременно с прикосновением. Ведь если обтянуть
плоть чем-то вроде перепонки, то и эта перепонка непосредственно
сообщит ощущение при прикосновении, хотя ясно, что орган
осязания не может находиться в этой перепонке. Если бы она и
приросла, то ощущение дошло бы еще быстрее. Поэтому кажется,
что с такой частью тела дело обстояло бы так же, как если бы
окружающий нас воздух сросся с нами (но ведь в живом существе
воздух действительно "сросся" с вылепленном из земли телом, став
его душой. Жизнь вырастает из воздуха. — Ю. Р.). Именно в этом
случае нам казалось бы, что мы чем-то одним воспринимаем и
звук, и цвет, и запах, а зрение, слух, обоняние казались бы нам
одним чувством. Но так как то, через посредство чего происходит
движение, есть разное, то совершенно очевидно, что упомянутые
органы чувств различны. Относительно же осязания это пока
неясно».1 Следствием такой гипотезы Аристотеля является следующее
определение воплощенного тела: «Плоть (soma) необходимо есть
приросшая к органу осязания среда».2 Эта дефиниция отсылает нас
к высказанной ранее интуиции о том, что творящая лепка — это
срастание лепящей и лепимой поверхностей одного и того же тела.
Методологически подход Аристотеля к проблеме чувственности
раздвоен на предметы метафизики и онтологии. По Аристотелю,
«орган чувства тождественен со способностью ощущения, но
существо (to einai) его иное».3 Понятие «небытие» проявляется в том, что
чувство может уничтожиться, когда «чрезмерная степень
ощущаемого действует разрушительно на органы чувств ... так же как
нарушаются созвучие и лад, когда чересчур сильно ударяют по
струнам».4 Чрезмерность в самом деле деструктивна для отдельного
чувства, которое не может воспринять целое бытие, не
разрушившись. Только единое чутье знает меру бытия. Здесь Аристотель мог
бы вспомнить и о блефе, в люфте которого нарушаются «созвучие и
лад» безо всякого сильного удара, но в нем же возможно едва легким
касанием перевести созвучие одного отделенного чувства в лад
других отделенных чувств, и все они вместе в гармонии образуют
единое чутье.
С одной стороны, чувство осязания одно, тогда оно заставляет
срастаться с органом всю существующую среду, вплоть до
бесконечного заполнения ее объема, создавая единую плоть в виде «пере-
1 Аристотель. О душе. С. 418-419.
2 Там же. С. 419.
3 Там же. С. 421.
1 Там же. С. 422.
КНИГА l. ГЛАВА I. § 3 АРИСТОТЕЛЬ 107
понки», стягивающей единое тело бытия. С другой стороны, чувств
осязания несколько, но тогда они просто слиты с другими типами
чувств до неузнаваемости. Осязание действительно стало зрением,
слухом, обонянием, вкусом. Как бы передало им всю свою силу и
энергию прикасания к бытию и уполномочило действовать от своего
имени. Ту же функцию может выполнить любой другой тип чувства,
я поэтому бытие можно и видеть, и слышать, и обонять, и вкушать.
Получается взаимообратимый круг чувств айстезис, чутье бытия
в его естестве.
Аристотеля принято считать философом, далеким от
чувственности, сухим рациональным мыслителем по преимуществу. Мы
надеемся, что предложенные здесь интерпретация и комментарий
позволяют разрушить этот стереотип. Между строк у Аристотеля
можно вычитать и догадаться о предельно чувственном характере
его мысли, обращенной на бытие и естество. Сквозь сухие
абстрактные рациональные дефиниции проглядывает конкретный образ
бытия. В этом отношении его можно сравнить с таким мыслителем,
как В. Розанов, чувственный характер идей которого не нуждается
в рекламе. Совпадение гносеологии Аристотеля и Розанова
наглядно, при всей несравнимости форм их изложения. При параллельном
чтении Аристотель и Розанов четко контрастируют, но вместе с тем
между ними существует поразительный пункт тождества. Формы
разные, но содержание одно и то же, поскольку интуиция бытия
у всех одна.
А. Д. Синявский пишет о Розанове: «Сам образ мира-Богини,
кормящей младенца Розанова, решен с целомудренной и вместе с
тем пронзительной чувственностью. Пронзительной — в смысле
предметно-физической остроты предлагаемого рисунка. Особенно
удивителен этот сосок мира, воспринимаемый как бы сразу всеми
органами чувств — на вид, на ощупь, на запах и на вкус,
поглощаемый, дающий еду: смуглый, благовонный, упругий и, как
сказано, — "с чуть-чуть волосами вокруг". Эти волоски в принципе
то же самое, что ниточка укропа на малосольном огурце. То есть
образ подается в духе розановской предельной наглядной "мелочи",
заключающей вместе с тем какую-то абсолютную ценность. Этот
сосок... сгущенная форма розановского стиля, в котором молоко
мысли становится физическим ощущением и который вонзается,
взвинчивается в сознание своей предметностью. С помощью такого
стиля и возникают у читательской души органы чувств: глаза,
ноздри, ухо и так далее. И, поглощая этот стиль, душа читателя
расширяется до охвата всего на свете, и читатель уродняется,
укореняется в мире и в Боге, как в какой-то единой, космической семье».1
Синявский А. Д. С носовым платком в Царствие Небесное ■'/ В. В.
Розанов: pro et contra. Кн. П. СПб., 1995. С. 478.
108 Ю. M. РОМАНЕНИО. БЫТИЕ И ЕСТЕСТВО
Радикальное несовпадение стилей и творческих подходов
Аристотеля и Розанова не заслоняет тождества их общего предмета.
Даже когда Аристотель камуфлирует блеф, делая его фигурой
умолчания или останавливаясь на вопросительной форме, то это вполне
оправданно, ибо без подготовки «касаться» к «бытию» опасно. Блеф
безвоздушен как люфтпауза.
Философские интенции Розанова и Аристотеля сходны в
стремлении наблюдать идею в телесном существовании, в подетальном
наглядном описании всего сущего, в доверии к чувствам и
мышлению. Различие их состоит в маленькой подробности: в ниточке
укропа на хрустящем малосольном огурце. То, что Аристотель
облачает в формально-логические одежды, опасаясь блефа, Розанов
без стыда разоблачает, проникая в блефе сквозь рациональную
скорлупу и касаясь поверхности доодушевленного тела. Наш подход
к философии Аристотеля как раз и состоит в том, чтобы найти
люфт между движущимися деталями грандиозного механизма его
системы и добраться до той сути, которую сам Аристотель оставил
в умолчании.
Завершим анализ теории чувственности у Аристотеля. В
контексте неявно выраженного принципа взаимообратимости чувств
одно чувство — осязание — условно выделено как
привилегированное. Аристотель отмечает: «По-видимому, только осязание
воспринимает непосредственно ... Без осязания не может быть никакого
другого чувства ... это единственное чувство, утрата которого
неизбежно приводит животных к гибели».' Вывод таков: осязание —
единственное чувство, необходимое просто «ради существования».
Следовательно, существовать — это значит осязать тело бытия.
Возникнуть это может только в творящем акте лепки, в котором
еще не создана дифференциация на субъект и объект.
Рассуждая о некоей перепонке, разграничивающей субъект и
объект, Аристотель сообщает, что сама она не осязает, но может
срастаться со скрывающимся за ней органом осязания. Аристотель
не объясняет, откуда она взялась и почему без нее не обойтись.
Ведь не только же ради сохранения от чрезмерных воздействий,
которым также неоткуда возникать, покуда бытие едино. Лишь в
расколотом бытии необходима защитная перепонка,
предохраняющая осколки от болезненных ударов друг о друга, когда они
стремятся стянуться в единое тело, вспомнив о целостности бытия.
Но эта же перепонка не дает им собраться воедино.
По Аристотелю, «мы не ощущаем костями, волосами и
подобными частями тела»2 вроде перепонки. Обтягивание кожаной
пленкой бытия, когда оно уже слеплено в творении, свидетельствует,
' Аристотель. О душе. С. 447-448.
2 Там же. С. 449.
КНИГА 1. ГЛАВА 1. § 3. АРИСТОТЕЛЬ
109
что бытие начинает граничить с небытием. Лепка - это акт креации,
в котором чувство осязания первозданно чисто. Зашивание в
кожаный мешок — процесс рекреации, разлагающий единое чутье
на все известные типы чувств, становящихся безразличными к друг
другу, посредством возникновения складок поверхности кожи
вокруг соответствующих органов: век, ушных раковин, языка,
ноздрей. Единое чутье скрылось внутрь, ушло в тайну. Выманить его
оттуда может только ситуация блефа. Перепонка — идеальный
материал для маски. Сложно сказать, не выступал ли Аристотель
в «маске», как Декарт, прикрывая тайну рациональными
заплатками. Или понимал, что такое быть «человеком без кожи»
(выражение В. А. Подороги в адрес Ф. М. Достоевского), подобно В.
Розанову, обнажающему собственное чутье от защитных покровов и
механизмов в стремлении прикоснуться к бытию. Аристотель все
это прекрасно знал, поскольку утверждал без комментариев, что
удостоверение истины происходит «как бы на ощупь».
К блефу философа вынуждают другие философы. Когда
начинающий философ встречается с текстами предшественников и
пытается прорубиться через нарочитую туманность выражений, ему
не остается ничего иного, кроме лукавого уверения себя в том, что
он правильно понял замысел автора. Задержка в блефе дает
возможность отвести мысль в исходную позицию, отстранить ее от
неадекватной формы изложения, чтобы в новом повторном
сосредоточении понять мысль другого.
Все философы мыслят одно и то же — Абсолют, трансцендентный
и единый на всех. Когда у состоявшегося философа, узнавшего
бытие, возникает потребность в собственном выражении понятого,
он столкнется с атмосферой непонимания. Коль скоро прикоснулся
к бытию, то возникает состояние «не могу молчать!» — когда
необходимо поделиться радостью, которая была незамутненной,
пока не вспыхнула зависть, заставляющая десять раз подумать,
прежде чем признаешься. Для разрушения стены непонятливой
зависти и приобщения других к совместному философствованию в
форму изложения мысли философ несознательно привлекает
элементы блефа — провокацию и интригу. Сознательно и нарочно
вводить блеф невозможно. Он сам интерсубъективно, непроизвольно
складывается в процессе возникновения, функционирования и
развития философского метода, проходящего через воздушные ямы
мизософских припадков. В блефе нужно заставить сдвинуться
мысли с мертвой точки зацикленности на самое себя и обратиться к
иному. Этим приемом мастерски владели и Сократ, и Платон, и
Гегель, и Флоренский, и Мамардашвили, и др. Разница между
ними заключается только в способе изложения. Но даже самый
прозрачный стиль, правильность и точность речи, задушевность
риторики возбуждают еще большие подозрения. Это не скептическая
110 К). M. РОМАНЁНКО. БЫТИЕ И ЕСТЕСТВО
установка, а рефлексия внутри философствования, предмет которого
включает в себя категории «небытие» и «творчество».
Стили Платона и Аристотеля можно сравнить по признакам
«открытости» и «закрытости». Платоновские диалоги открыты в
«никуда» (место существования каких-то идей), и в них не дается
окончательного вердикта. Аристотелевские же трактаты закрыты
аргументированными запретами, не позволяют выходить за рамки
рационального дискурса и эмпирического метода. Но то и другое —
это блеф, провокация к прикосновению к бытию.
Общение между философами, в котором присутствует блеф,
можно инсценировать в виде такого импровизированного диалога:
Состоявшийся философ (довольно): Я владею мыслью
об Абсолюте, или абсолютной мыслью.
Начинающий философ (подыгрывая первому): А можно
и мне? Если нет, то лучше бы ты не дразнил меня и оставил в
неведении о его существовании. Если признался, то отодвинься, не
заслоняй, чтобы и я мог увидеть Абсолют. За тобой мне ничего не
видно — за-видно, коротко говоря.
Состоявшийся философ (оглядываясь): Извини,
если я тебе чем-то мешаю. Если хочешь — бери себе весь этот
Абсолют, я от этого не потеряю ничего.
Начинающий философ (заинтересованно): Но как я могу
получить от тебя Абсолют? Ведь ты мне должен будешь отдать его
целиком, не оставив себе ни крохи. На меньшее не согласится;'
наверное, сам Абсолют. Мне жалко тебя будет.
Состоявшийся философ (смущенно): Вообще-то я,
оказывается, не полностью знаю Абсолют. Только что, кажется, я его
крепко держал. Но твои слова убедили меня в обратном. Это такая
штука, по-видимому, что может быть то здесь, а то вдруг там. Так
что и ты можешь, вероятно, завладеть Абсолютом, если захочешь.
Он сейчас свободен.
Начинающий философ (с обидой): Так, значит, ты меня
обманывал, что владеешь Абсолютом. Зачем ты это делал? А быть
может, ты сейчас обманываешь, что Абсолют от тебя ускользнул?
Состоявшийся философ (оправдываясь): Я не хотел
обманывать. Я думал, что ты обрадуешься.
Начинающий философ (возмущенно): Хороша радость:
знать о существовании Абсолюта и чувствовать его недосягаемость.
А самое главное, так неприятно быть обманутым.
Состоявшийся философ (с раскаяниием): Прости меня,
ради Абсолюта. Я действительно блефовал. На самом деле я не
знаю никакого Абсолюта.
Начинающий философ (умиротворенно): Абсолют
простит. Ступай себе с Абсолютом. Мысль твоя сохранила в тебе
Абсолют.
КНИГА I. ГЛАВА J. § 3. АРИСТОТЕЛЬ 111
В этом месте состоявшийся философ становится начинающим,
а начинающий превращается в состоявшегося. На самом деле это
оборотничество происходит в пределах одного индивида.
Абсолют Аристотеля известен. Он называется придуманным
Аристотелем именем — Ум-Перводвигатель. Хотя соавтором этого
имени нужно считать Анаксагора. В нашем контексте звучание
имени можно представить как «Смысл-Сдвиг» — смысл бытия,
сдвинутого на себя самого в состоянии прикосновения к себе и
удостоверения в истинности своего существования. Рассмотрим,
каким образом Аристотель репрезентирует свой Абсолют, выражая
его в логосе — в сути его бытия. Представляя его нам, начинающим
философам.
Концепция Ума-Перводвигателя дана в трактатах
«Метафизика» , «О душе» и «Физика». Обратимся прежде всего к определениям,
предложенным в 4—8 главах третьей книги работы «О душе».
Глава 4. По Аристотелю, ум есть та часть души, которая
познает и разумеет. Ум может мыслить «все», но для этого он должен
быть ни с чем не смешанным. У чувств есть пороги восприятия,
ум же мыслит свой предмет и на сверхвысоком напряжении, и на
едва уловимом, не разрушаясь, поскольку он «отделен» (?) от тела,
опираясь сам на себя. Аристотель задается вопросом «может ли ум
мыслить сам себя?».1 Ответ он приводит в следующей главе.
Г л а в а 5. Здесь дана оригинальная концепция двух умов —
пассивного и активного. Аристотель утверждает: «И действительно,
существует, с одной стороны, такой ум, который становится всем,
с другой — ум, все производящий, как некое свойство, подобное
свету».2 Заданы две точки в одном, позволяющие осуществить
операцию обратимости на самое себя. Отсюда вытекают
нетривиальные следствия. Ум есть мышление мышления, самодостаточное
и самонаслаждающееся. Будучи всем в своей первой ипостаси, ум
отделен от всего во второй ипостаси. Но «только существуя отдельно,
он есть то, что он есть, и только это бессмертно и вечно».3 Что
значит быть «отдельным» и как это достигается?
Глава 6. «Отдельное» есть вместе с тем «неделимое», атом,
единое по существу, т. е. бытие. Именно потому, что сам ум
«отделен», он может мыслить «неделимое» бытие. Ум и есть бытие
в особом состоянии. Этим объясняется взгляд Аристотеля на
проблему соотношения идей и вещей, души и тела: идея (или форма)
есть то в предмете, что делает его «отдельно взятым» (взятым! —
то есть прикосновенным по всей его поверхности) и рассмотренным
в Деталях со всех сторон. Между «отдельным» умом и «неделимой»
Аристотель. О душе. С. 435.
Там же.
3 Там же. С. 436.
112 К). M. РОМАН EH КО. БЫТИЕ И ЕСТЕСТВО
вещью существует напряженная взаимообратимая интенция: «ум,
направленный на существо предмета как суть его бытия, истинен
(всегда)».1 Умное в предмете и есть суть его бытия,
актуализирующая самостоятельное существование ставшей вещи.
Параллелен содержанию этой главы фрагмент из «Метафизики»:
ум как перводвигатель «через сопричастность предмету мысли,
мыслит сам себя: он становится предметом мысли, соприкасаясь с
ним и мысля его, так что ум и предмет его одно и то же».2 Несмотря
на кажущуюся второстепенность слова «соприкасаясь»,
употребленного в этом месте как подвернувшаяся к случаю метафора, которой
можно и пренебречь, именно благодаря ей утверждается принцип
тождества мышления и бытия.
Г л а в а 7. Различая это отношение (ум—вещь), Аристотель
включает в концепцию ума учение о способности воображения.
«Размышляющей душе представления как бы заменяют ощущения
... мыслящее мыслит формы в образах (phantasmata) ... Иногда с
помощью находящихся в душе образов или мыслей ум, словно видя
глазами, рассуждает и принимает решения о будущем, исходя из
настоящего».3 Ум, получается парадоксальность, отделен и не
отделен от тела. Поэтому ставится проблема: как «отдельное» может
отнестись к другому «отдельному»: «Однако может ли он, будучи
сам не отделенным от тела (megethos), мыслить что-либо как
отделенное или не может — это следует рассмотреть в дальнейшем».4
Глава 8. Аристотель констатирует, что «душа есть все сущее».6
Снова используя динамическо-энергийное различение, он
раскрывает механизм деятельности ума. Аристотель пишет: «Когда
созерцают умом, необходимо, чтобы в то же время созерцали в
представлениях: ведь представления — это как бы предметы ощущения
(aisthemata), только без материи».6 В другом месте Аристотель
оговаривает, что все же эти предметы существуют в материи, но
особой — «интеллигибельной».
Наполненный интеллигибельной материей всеобщий образ есть
образ единого неделимого бытия, как в космологическом плане, в
случае трансцендентного Ума-Перводвигателя, так и в
антропологическом плане, в случае «отделимого» от тела и бессмертного
активного ума.
Ум, мыслящий самого себя, пребывает в совершеннейшем
блаженстве. Вместе с этим испытание наслаждения препоручено, ве-
1 Аристотель. О душе. С. 437.
" Аристотель. Метафизика. 1072b 20.
3 Аристотель. О душе. С. 438-439.
4 Там же.
s Там же. С. 439.
" Там же. С. 440.
КНИГА I. ГЛАВА 1. § 3. АРИСТОТЕЛЬ 113
роятно, все-таки чувственности. Аристотель специально
оговаривает, что «испытание удовольствия или неудовольствия есть
деятельность средоточия чувств».1
Ум — не чувство. Его деятельность можно было бы сравнить
или со всеми чувствами вместе взятыми (если бы это было
возможно), или с одним из чувств, выделенным в качестве полномочного
заместителя всех остальных. Абсолютно отделиться от чувств все
нее ум не может — они дают ему не только материал, но и
организовывают саму форму «отделейности», образ отдельного
существования. Поэтому в самой чувственности ум должен иметь свое
«естественное место». Как это возможно — выясняется в разделе
о продуктивной способности воображения с использованием понятия
«естество», а еще точнее — через метафору «зеркала», благодаря
которому ум является спекулятивным (от лат. speculum — зеркало).
Ум как иное бытия есть зеркало, облекающее своей поверхностью
единое тело бытия.
Отложим эту тему на будущее: сейчас достаточно понять, что
ум тождествен «средоточию чувств». А сосредоточивает чувства в
единой точке само бытие. Можно представить гипотетическую
ситуацию (погадать), когда все чувства были бы тотально
сосредоточены на едином и была бы беспредельно интенсифицирована их
деятельность. Такое предположение, конечно, сверхгипотетично,
так как чувства в обычном состоянии различаются по признаку
дистантности и среды прохождения. Но абстрактная возможность
этого существует. В таком случае ум был бы не нужен. Все его
функции выполнили бы актуализированные чувства. Но в том-то
все дело, что это и есть сам ум. Раскручивая ситуацию в обратном
направлении, представляя реально существующим только ум и
уничтожая чувственность, мы придем к тому, что ум будет смотреть,
слушать, осязать, обонять и т. д. Кстати сказать, русское слов
«нюх» этимологически и по существу произошло от греческого
«нус», ум. А, согласно Гераклиту, бессмертный Нус в Аиде
различает предметы обонянием. В космологической модели Аристотеля
Ум играет роль Перводвигателя всего сущего. Основное
противоречие аристотелевской космологии заключается в том, что источник
движения в мировом масштабе двояк.
С онтологической точки зрения, способность перводвижения
приписывается трансцендентному Уму-Перводвигателю. Сам он аб-
i солютно неподвижен, мысля свою сущность в невероятном обра-
I Щении на себя. Но это обращение не есть движение в прямом
' смысле этого слова, а, скорее, сдвиг. Он доставляет Уму наивысшее
блаженство. Все остальное в порыве влечения к Абсолюту, заданного
этим сдвигом, начинает вращаться вокруг него. «Страсть и волю ...
Там же. С. 438.
114 Ю. M. РОМАН EH КО. БЫТИЕ И ЕСТЕСТВО
стремила ... любовь, что движет солнце и светила», — так
заканчивает Данте «Божественную комедию».
С метафизической же (натурфилософской) точки зрения, в свете
категории «естество», все природные вещи содержат начало
движения в самих себе. Этот естественный источник самодвижения
спонтанен и «не менее» вечен. Противоречие между онтологическим
и метафизическим пониманием перводвижения снимается
различающим сопоставлением понятий «бытие» и «естество».
Приведем полностью финал «Божественной комедии» Данте,
ибо в ней поэтическими средствами выражена вся суть учения
Аристотеля об Абсолюте, одновременно с наглядной
дифференциацией «бытия» и «естества». Выявив поэтичность учения Аристотеля,
Данте вслед за ним точно выразил поэтическую логику бытия:
Но собственных мне было мало крылий;
И тут в мой разум грянул блеск с высот,
Неся свершенье всех его усилий.
Здесь изнемог высокий духа взлет;
Но страсть и волю мне уже стремила,
Как если колесу дан ровный ход,
Любовь, что движет солнце и светила.
Прокоментируем эти строки, сопоставляя их с категориями.
Первая и четвертая строки фиксируют немощность отдельного
чувства, иссякающего по своим естественным закономерностям, в-
стремлении запустить перводвижение. Вторая строка отражает
совмещенность двух типов перцепции, слуха и зрения, находящихся
в максимально обостренном состоянии и отождествляющихся друг
с другом. «Грянул блеск» — слышимое видение или видимое
слышание, — только таким парадоксальным образом Данте и может
высказаться. Сверхусилие чутья, воспринявшего этот «грянувший
блеск», после взрыва приводит к разрядке и успокоению: чувства
уже исчерпали свою активность, выложились, исполнив свой
максимум, — этому посвящены третья и четвертая строки.
После паузы, закрепленной в письме точкой с запятой, чувства,
объединившись в единое чутье, вновь заявляют о себе, но уже на
новом онтологическом уровне, отраженном в пятой и шестой
строках. Осуществился трансцензус к Абсолюту, инспирированный
сдвигом его бытия и оформленный в ритмически организованном колесе
круговращений, пронизанном любовью — седьмая строка. Все
действие в целом структурировано арифмологической седьмерицей —
гебдомадой. В таком образе происходит встреча двух энергий: че-
1 Данте Алигъери. Божественная комедия. М., 1992. С. 513.
КНИГА /. ГЛАВА 1. § 3. АРИСТОТЕЛЬ 115
ловеческого ума и Божественного, согласно Данте, конгениально
разгадавшему интуицию Аристотеля.
Таким образом, Ум-Перводвигатель дает почин движению своим
сдвигом, иллюзорным для отдельного чувства движением, которое
воспринимается конечным существом в момент переплетенности и
перенасыщенности чувств в друг друге. В этот момент чувства
по-настоящему становятся естественными и сливаются с умом, что
оправдывает его имя — «Смысл-Сдвиг».
В начале мысль имеет только интенцию смысла, направленность
на Абсолют. И свое напряжение она проецирует на пустое
фактически место, так как не знает, есть Абсолют на самом деле или
нет. Пустота притягивает к себе — напряжение мысли достигает
такого предела, что достаточно малейшего «прикосновения», может
быть, даже надуманного, чтобы мысль разрядилась в
последовательности творческих актов. В момент «касания» к
трансцендентному мысль не находит критериев для определения того, откуда
идет импульс: от нее самой или от чего-то иного. Мысль может
приписать запредельному ей Уму-Перводвигателю только этот
странный сдвиг. Нет никаких гарантий, что этот сдвиг принадлежит
Абсолюту, но нет также уверенности, что сдвиг продуцируется
самостоятельным произвольным действием мысли. Поэтому мысль
относится к «смыслу-сдвигу» гадательно.
Сдвиг приписывается неподвижному Абсолюту постфактум, и
мысли становится уже безразлично, сымитировал ли, «сделал ли
вид» Абсолют, что сдвинулся, на самом деле покоясь, или реально
вызвал на себя тягу мышления (в этой ситуации неизвестно даже,
ни что такое «на самом деле», ни что такое «реально»). Мысль
уже слилась с умом, поняв, что она была испущена из него. Мысль
Удовлетворяет то, что реально-нереальный сдвиг дал ей
естественный «ровный ход». Остается ли бесследным для Абсолюта этот
сдвиг — так вопрос уже не стоит, поскольку он уже бесследен для
самой мысли. Жест сдвига упредил естественное состояние
мышления. Таким образом, Абсолют подтвердил собственный статус:
«бытие есть», а мысль узнала, что мыслить так же естественно,
как естественно само «бытие». Такая мысль может иметь общим
с абсолютным Умом-Перводвигателем только этот сдвиг. Первый
акт Ума-Перводвигателя — смысл-сдвиг. Таким образом, Ум мыслит
самое себя.
Для выражения Абсолюта Аристотель вводит триаду категорий-
Неологизмов: «динамис (потенция) — энергейя (акт) — энтелехия
(осуществленность)». Решая элейскую апорию о том, что сущее не
Может возникнуть ни из сущего (ибо оно уже есть все сразу), ни
из не-сущего (ибо его нет), Аристотель описывает движение как
Переход из небытия в бытие в терминах возможности и
действительности. He-сущее есть бытие в возможности, сущее есть дейст-
116 Ю. M. РОМАНЕИ КО. БЫТИЕ II ЕСТЕСТВО
вительность ставшей вещи, которую теперь можно считать
«отдельной» и саморазвивающейся, так как она имеет тело, возникшее
энтелехиально. Пара категорий «потенция—акт» не создают
дуалистической диспозиции, так как они не имеют предметного
смысла, а только деятельностный. Эту категориальную триаду
Аристотеля можно признать мысленным отражением понятия «творения»
в контексте античной философии. Настолько, насколько античность
догадывалась о творении. Это есть то новое, что вносит Аристотель
в онтологическую монотриаду «бытие—ничто—творение».
Рассуждая о природе («естестве») верховного разума, Аристотель
отмечает, что благом для ума было бы мышление о мышлении,
поддерживающее непрерывность процесса «на протяжении всей
вечности».1 Мысль, направленная на иное, обращается на себя
«мимоходом», что не устраивает Аристотеля. Так же как не
устраивает его дуализм: «быть мыслью и быть постигаемым мыслью не
одно и то же».2 Волевым, имманентным усилием, по-парменидовски,
Аристотель допускает возможность единства противоположных
начал. Он пишет: «...не есть ли в некоторых случаях само знание
предмет [знания]: в знании о творчестве предмет — сущность,
взятая без материи, и суть бытия, в знании умозрительном —
определение и мышление. Поскольку, следовательно, постигаемое
мыслью и ум не отличны друг от друга у того, что не имеет материи,
то они будут одно и то же, и мысль будет составлять одно с
постигаемым мыслью».3
Принцип тождества бытия и мышления, таким образом,
проявляется в практическом и теоретическом аспектах: в «знании о
творчестве» и в «знании умозрительном». Хотя Аристотель разводит
эти типы знания, позволительно в согласии с его монистической
установкой слить их в единое «умозрительное творчество» — когда
мышление определяет суть бытия. Творить можно только «суть
бытия», все остальные произведения и продукты деятельности есть
следствия изначального творческого акта. Парменид еще не
оперировал так четко понятием «творчество», только Аристотель сделал
его предметом специального продумывания. Он принял в качестве
обозначения понятия «творчество» специальный термин — «пой-
езис» и отвел ему место в области поэтики и риторики.
«Суть бытия» — одно из уникальных изобретений Аристотеля.
Как он догадался его придумать? По-гречески это сложносоставное
понятие звучит так — to ti en einai. A. Ф. Лосев интерпретирует
его следующим образом: «Здесь фиксируется прежде всего
становление вещи (en), которое направлено к тому, чтобы выразить бытие
1 Аристотель- Метафизика /.Аристотель. Соч. Т. 1. М., 1976. С. 316-
1 Там же.
3 Там же.
КНИГА l. ГЛАВА 1. § 3. АРИСТОТЕЛЬ
117
(einai) вещи. Значит, вещь есть в первую очередь то, что "стало
быть" или "становилось быть". Но мало и этого. Вещь должна стать
не просто чем-нибудь вообще, но чем-нибудь вполне определенным,
определенным "что" (ti). И наконец, это "нечто" ни в каком случае
не может рассматриваться как просто только эмпирический факт.
Оно обязательно является также и выражением определенной
общности, что и дано при помощи артикля (to). И поэтому нечто,
возникшее в результате бытийного становления, не есть просто оно
само, но еще и некоторого рода "чтойность". Поэтому указанный
аристотелевский термин, если гнаться за полной точностью, только
и можно перевести как "ставшая чтойность"».1 А. Ф. Лосев так
реконструирует результат создания Аристотелем термина to ti en
einai, который возник в мысли вдруг — по закону поэтической
логики.
«Суть бытия» иногда переводят как «смысл бытия», «сущность»
(синонимически «усии»), «субстанция», «чтойность» (quiditas,
essentia), «самобытность», а А. В. Лебедев предлагает сложные
комплексы: «что-значит-быть-тем-то-и-тем-то» или «то-что-делает-
вещь-тем-что-она-есть».2 Позволительно и нам будет выразить это
понятие как «сдвиг смысла бытия на себя самого». Этот термин
выражает смысловое становление бытия и устанавливает
взаимосвязь понятий «бытие» и «творение» через понятие «небытие», т. е.
вносит идею развития в онтологию, а через понятие «энтелехия»
вводит идею телеологизма. «Цель же понимается двояко: как то,
ради чего, и как то, для кого».3 Поэтому «суть бытия»
представляется не только как «чтойность», но и как «ктойность».
Теперь возникает возможность задать вопрос: кто мыслит бытие,
когда бытие тождественно мышлению? Ответить на него трудно.
Сказать, что «ктойностью» является Ум-Перводвигатель, будет
верно, но пока абстрактно, так как сам Ум, будучи мышлением
мышления, ипостасийно делится в себе на активный (деятельный, все
производящий) ум и пассивный (становящийся всем) ум. Вторая
ипостась ума не отвечает на вопрос «кто мыслит?», скорее, она
задает этот вопрос первой ипостаси. Вопрос о «ктойности» —
проекция в активный ум, который берет на себя смелость положительно
ответить, что именно он мыслит тождество бытия и мышления,
т. е. является субъектом бытия, но которому еще не противостоит
объект в виде пассивного ума. Субъект-объектная разделенность
здесь пока только логически задана в виде взаимопронизанных
1 Лосев А. Ф. История античной философии в конспективном
изложении. М., 1989. С. 70.
2 Лебедев А. В. Форма и материя // Философский энциклопедический
словарь. М-, 1989. С. 711.
3 Аристотель. О душе. С. 402.
118 К). M. РОМАН EH КО. БЫТИЕ И ЕСТЕСТВО
процессов в форме инъ-екции субъ-екции в объ-екцию и про-екции
объ-екции в субъ-екцию. Простой корень «екция» (как единый для
всех перечисленных слов) есть сдвиг бытия.
Таким образом, Аристотель открывает «субъект бытия» и его
энергии, дает их перечень и подробное описание на рациональном
уровне. Это можно считать вкладом Аристотеля в историко-
философское развитие предмета онтологии.
«Бытие» имеет силу содержать «небытие» вовне от себя. Для
того чтобы «небытие» оставалось несуществующим, «бытие»
непрерывно творит себя, оставаясь повсюду и всегда новым. Так
представляемое «бытие» является очень сильным допущением и
идеализацией. Большего допустить уже невозможно. Когда мы начинаем
задумываться, как такое состояние возможно, как его необходимо
выражать, в первую очередь приходит осознание, что опыт «бытия»
запределен человеческому конечному опыту. Человек никогда не
запоминает «первый раз», первоакт творения его самого.
Оборачивание в памяти к моменту собственного возникновения является
сдвигом, но это не сдвиг самого бытия, а подражание «вздрогу
бездрожного» бытия. Платон и Аристотель так себе и представляют
положение дел. Низшее подражает высшему и в этом находит свою
цель и оправдание. Понятие «мимесис» в целом характеризует
понятие «творчество» у обоих мыслителей, хотя они по-разному
интерпретируют его.
Если бы сотворенное существо не было способно к подражанию,
то оно было бы или творцом, или ничем, так как имено подражание
имеет начало в собственном смысле этого слова. Кстати сказать,
держать и дрожать — однокоренные слова, хотя история развела
их смыслы по разные стороны трансцендентной границы. Только
Творец-Вседержитель содержит себя и все сущее в полной власти.
Твари же остался удел быть только «тварью дрожащей». Однако
именно способность «дрожания» оставляет шанс вернуться в
«первый раз» в «подражании» Абсолюту. Всякое действие твари
дрожащее, даже если оно не осознается, оставаясь незамеченным в
микроскопических вибрациях. Все эти действия обобщенно
выразились в термине «творчество». Отношение к этому понятию у
Платона и Аристотеля весьма двусмысленно. И это неслучайно.
Платон-поэт в порыве самокритики изгоняет поэтов из идеального
государства, считая их творчество имитацией имитации, хотя
прекрасно осознает, что только так можно создать новую идею.
Аристотель уже не подвергает обструкции поэтов, но требует
локализовать их энергию в рациональной оболочке.
Творить можно только из небытия. Это-то и подозрительно,
поскольку никогда нет гарантий, что получится. Древнегреческие
философы избрали для обозначения понятия «творчество» только
одно из слов греческого языка — «пойезис». В этом есть опреде-
КНИГА I. ГЛАВА 1. § 3. АРИСТОТЕЛЬ 119
ленная .закономерность организации греческого языка и
методологических установок философов. Однако слово «пойезис» не
единственное из возможных предсуществующих слов, которые могут
выразить творческую функцию (что так или иначе проявляется в
философской терминологии). И все же остальные слова
отбрасываются, когда одно слово творчески выбирается для обозначения
«творчества».
Если потребители русского языка избрали слово «творчество»,
означающее в своем истоке элементарные процессы о-творения и
за-творения «створов бытия» (почти как по Пармениду), то
творческая сила языка как раз и проявилась в акте избирательности
и фиксированности смысла за одним и только одним словом. Нет
многих творчеств — творение одно и едино, как само бытие. Но
вместе с тем творчество многообразно и типологизируется всеми
видами деятельности. Быть может, русский язык чутко уловил,
что творческим он может быть лишь в роли при-вратника, то
прорубающего окно в Европу или Космос, то опускающего железный
занавес. А греки, вероятно, были настолько поэтичной нацией, что
им казалось, будто творить есть не что иное, как поэтизировать.
Апофатический метод в форме «деконструкции» требует каждый
раз проводить ревизию избранного слова. Неслучайно поэту всегда
уготована участь быть избранником и изгоем. Сначала одевают
венок, а потом изгоняют.
В принципе, любое деяние можно представить в качестве
«творящего», в зависимости от того, какая онтологическая модель
выбирается. В греческом, равно как и в любом другом языке
накопилось немало слов, означающих естественный или
искусственный процесс возникновения или создания вещей. Некоторые из
них приобрели статус философских терминов, скрепляющих
систему того или иного мыслителя.
Понятие «пойезис» Аристотель относит к словотворческим
философским дисциплинам — поэтике и риторике, занимающим в его
системе важное, но периферийное положение. Поэтика и риторика
исследуют креативную мощь слова и языка — особых орудий, с
Помощью которых возможно достижение власти. Рассматривая
жизненные функции риторики, Аристотель утверждал, что человек, в
отличие от животных, должен уметь помочь себе и защитить себя
Именно словом.
Со всяким орудием необходимо обращаться осторожно, не нанося
вРед окружающим. Для этого Аристотель разрабатывает технику
безопасности в пользовании словом, надеясь, что чистая логика
предохранит мышление от неадекватной словесной формы. Тех же,
Кто сознательно использует ловушки языка для одурачивания —
°офистов, — Аристотель осуждает и разоблачает в работе «О
софистических опровержениях». Цель благородна, но способ, которым
120 Ю. M. РОМАНЕНКО. БЫТИЕ И ЕСТЕСТВО
она достигается, сам отнюдь не неуязвим от софистических уловок.
Действительно, уже в названии трактата заложена
двусмысленность: то ли это опровержение софистики (как таковой, с целью ее
устранить), то ли это опровержение софистикой (любых возможных
оппонентов). Во всяком случае, Аристотель предупреждает, что все
софизмы нужно знать, рационально препарировать и уметь
разоблачать, где упрятана ложь. Так будет расчищено место для
истинного познания. Однако как можно понять софиста, не
отождествившись с ним на мгновение, соимитируя ему? И где гарантии,
что, раз отождествившись, можно выбраться обратно на почву
истины? Мысль снова вращается вокруг вопроса о блефе. Аристотель
всегда рефлексирует над софизмом постфактум, когда он уже
состоялся и преобразовал действительность необратимо. Забежать
вперед, предугадать и искоренить в зародыше возможность появления
софизма не удается даже ему.
Платон идет от мифоса к логосу и обратно. Аристотель же
старается полностью удержаться на логосе как слове-смысле,
стараясь раскрыть в нем творческий потенциал. Поэзия — это
художественное словесное творчество. Но возможно ли поэтизирование
понятиями? Позднее онтологию и метафизику станут называть
поэзией понятий, и это не просто метафора, смотря, правда, как
понимать метафору. Аристотель, вероятно, поставил эксперимент:
воздерживаться собственным усилием от мифотворчества, но
логически поэтизировать до тех пор, пока импульс извне не даст
разрядки и не выльется в мысленное создание мифа об Уме-Перво-
двигателе. А поэт-монах Данте закрепит все это уже в собственно
поэтической рифмованной форме.
Перед тем как создать новую науку — логику, занимающуюся
изучением правильных форм мышления, Аристотель сотворил ее
фундаментальные онтологические опоры посредством поэтического
сочинения понятий-неологизмов типа «энергейя», «энтелехия», «to
ti en einai» и т. п. Собственно научные логические формы явились
как естественные следствия онтологического творчества.
Словообразовательные элементы термина «пойезис» имеют
следующие значения: делать, производить, совершать, строить,
решать, делать кого чем, представлять, приказывать делать и т. д.
Отсюда: поэма — «вещь», в контекстах новозаветного употребления —
«тварь».1 Этимологически глагол «пойео» возводится к индо-евро-
пейскому корню «kuei» (с л: из к) — класть слоями, наслаивать-
Это то же самое, что русское слово «чин»," из которого произошли
обозначения поэтического действия — сочинять, причинять и одно-
1 Вейсман А. Д. Греческо-русский словарь. Стб. 1017-1018.
2 Черных П. Я. Историко-этимологический словарь современного рУс'
ского языка. Т. 2. С. 63-64.
КНИГА I. ГЛАВА 1. § 3. АРИСТОТЕЛЬ 121
временно — уметь закончить, по собственному побуждению довести
дело до конца. В практике употребления слова «пойезис» со
временем привносится еще один нюанс — ненатуральности, вымы-
щленности, искусственности, притворства.
Таким образом, язык сам дает подсказку, как возможно и
необходимо употреблять слово «пойезис» в онтологическом дискурсе.
Поэт творит словом: организовывая звуковую стихию голоса,
темперируя ее ритмически, он подражает абсолютному бытию. На
каждый сдвиг бытия «наслаивается» миметический восторг поэта,
приводящий к «дрожанию» сотворенной души, перебирающей
образы — то, что Платон называл созерцанием идей.
Лишь поэт умеет начать с нуля и закончить, прекратить
утомительное подражание одним и только одним словом. Так поэт
творит новое слово, хотя и давно всем известное и даже затасканное,
которое выражает собой в своем истоке образ и суть бытия. По
Аристотелю, этим творческим словом приводится сущее к
актуальности — «потенциально сущее приводится в актуально сущее
актуально сущим». Сущему дается наказ: быть! Быть именно тем-то
и тем-то, по образу его бытия. Имя и образ — вот две необходимых
и достаточных координаты, по которым определяется суть бытия
любой вещи.
Вещь, откликаясь на такой призыв творческого слова, транс-
цендирует к единому бытию и может быть рассмотренной
философски как «ставшая чтойность». Таков экстаз — основной метод
движения к Абсолюту в античности (от греч. ekstasis — смещение,
перемещение, исступление, восторг), «термин древнегреческой
философии, заимствованный из области религиозных мистерий; выход
человека из рамок вещественно-психической данности. Различались
гнетущий, болезненный экстаз ("гибрис", страсть, опьянение) и
"облегчающий" экстаз (в котором человек приобщается к
трансцендентной "истине" бытия)».2 Учение об экстазе было доведено до
своего концептуального завершения в неоплатонизме (см. ниже).
Поэт совершает трансцензус: голос «рисует» образ бытия,
проходя через зону небытия. Самозамыкающаяся линия образа
держится в одной точке наложения двух ее концов скрепой
мелодического поэтического звучания. Любопытно смысловое сравнение
«пойезиса» с глаголом «держать». «Держать, держу — "имея что-
либо в руках, что может упасть или быть выдернуто, не выпускать
взятого из рук"; "не отпускать от себя"; "не давать двигаться"
("тянуть к себе"?); также "оставлять", "хранить"».2 В возможной
1 Бибихин В. В., Шичалин Ю. А. Экстаз // Философский
энциклопедический словарь. М., 1989. С. 759.
1 Черных П. Я. Историко-этимологический словарь современного
русского языка. Т. 1. С. 243.
122
Ю. M. РОМАНЁНКО. БЫТИЕ И ЕСТЕСТВО
связи с этим словом находятся слова: «дёргать» — тянуть к себе
рывками, отрывистыми движениями, дразнить, раздражать,
удерживать; «дерзкий» — смелый, наглый, бравирующий силой,
твердый, ремень-пояс; «держава» — сила, основание, власть;
«дружба» — подпирать, соединять. Все эти слова могут быть использованы
для метафорического описания «тверди» бытия, которое едино и
неделимо. (Власть предержащие не зря всегда ревновали к поэтам,
понимая, кому на самом деле принадлежит власть над словом —
самым действенным орудием самой власти. Аристотель об этом
хорошо знал, вращаясь в коридорах власти.)
Когда «самодержное» единое бытие распадается на множество
сущих, само слово «держать» повторяет судьбу размноженного
бытия, трансформируясь в такие слова, как «дрожать», «дрогнуть» —
трястись от холода, зябнуть, непроизвольно делать резкое движение,
вдруг мгновенно задрожать, испугаться; «дряхлый» — на грани
разрушения; «дряблый» — утративший твердость, упругость,
эластичность, свежесть, рыхлый; «дрязги» — обыденные мелочи;
«дробь» — нечто размельченное. Перебирая этот перечень
бесконечно, нужно все же остановиться и спросить: что, в конце концов,
размножается? Ведь не само бытие, неразрушимое по определению,
а нечто иное. Язык опять нам поэтически подсказывает необходимые
слова для выражения перехода от единого ко многому: «драть» —
разрывать на части, превращать в лохмотья (от греч. dero — сдирать
кожу и derma — выделанная кожа, пленка, скорлупа). Раздирается
не бытие как таковое, а та перепонка, которая непроизвольно
приросла к бытию. Она может заплатываться в местах разрывов
«дермантином» — искусственной кожей, но с необходимостью
превращается в «дерюгу», «дёрн» и далее, по ухудшающей, в «дрянь»
и «дерьмо». Из этого же куста слов вырастает «дракон» — змея,
покрытая блистающими чешуйками. Само же «бытие» сбрасывает
с себя ветхую кожу, обновляясь, и весь этот процесс (или эксцесс)
обозначается словом «восторг» («экстаз»).1
Таким образом, сравнивая «пойезис» и «держание», мы сделали
оборот вокруг последнего слова и получили возможность
отождествить их по закону поэтической логики, которой следуют все
поэты, сочиняя произведения: пойезис наслаивает чино-начальнуЮ
границу бытия, которая держит его в крепости. То, что не может
выдержать силу держания бытия — небытие, — начинает дрожать
и, соответственно, раздражать кожу, которая непроизвольно
сдирается в восторге и возвращается обратно в небытие или утилизуется
в качестве изобразительных средств и материала для иллюзорной
имитации бытия.
Все значения слов взяты из историко-этимологического словаря
П. Я. Черных. (С. 242-244, 266-271).
КНИГА I. ГЛАВА 1. § 3. АРИСТОТЕЛЬ
123
Понятие «пойезис», по всей видимости, употребляется
Аристотелем не как универсальное, вероятно, по причине некоторой
девальвации смысла этого слова к тому времени или из-за понимания,
что это не единственный термин для обозначения «творчества».
В «Поэтике» Аристотеля поэтическое произведение в виде драмы
(трагедии или комедии) служит для вызывания сопереживающего,
сострадающего содрогания в эмоциях страха или смеха, что в свою
очередь ведет к выдавливанию лишней влаги и воздуха в
«катарсисе» — отделению «бытия» от «естества».
«Пойезис» не гарантированное творчество, оно допустимо,
поскольку полезно для катарсической разрядки в физиологической,
психологической и социально-полисной сферах. Для этого продукт
«пойезиса» должен быть выведен из жизни на локус сцены и
разыгран драматически перед зрителями. Аристотель же ищет
гарантированное творчество, и этот поиск завершается поэтическим
изобретением понятия «энергейя». Корень этого слова ergon,
подобно «пойезису», переводится как «дело», «действие»,
«деятельность» как таковые. «Энергейя» есть чистая деятельность Абсолюта,
actus purus, по содержанию себя в цельности, или просто —
пребывание бытия в форме.
Если принять, что ergon есть творчество, то «энергейя» можно
перевести как «втворчествование» — вхождение и пребывание в
постоянном творящем состоянии. Этот корень участвует в таких
философских словообразованиях, как «синергия» — содействие,
соучастие, сотрудничество; «теургия» — превращение в бога;
«литургия» — совместное богослужение; «демиург» — мастер,
ремесленник; «Георгий» — земледелец; «орган» — естественное орудие
тела; «оргазм» — одновременное сокращение всех мышц тела,
выдавливающее жизненную субстанцию; «оргия» — обряд,
таинство, жертвоприношение; «orgao» — изобиловать соками,
наливаться, пылать страстью и т. п. Наконец, существует контакт «пойезиса»
и «ургии» в двусоставном слове «органо-пойа» — изготовление
орудий, инструментов, — которое можно истолковать как
«творчество творчества» (создание орудий, которые сами являются
творящими).1 Не таков ли человек?
Когда словотворчество состоялось, Аристотель пытается
упорядочить употребление слов терминологически, натянуть между
словами рассудочную пленку грамматических, логических,
синтаксических правил. Но только среди избранных слов. Так, он сознательно
игнорирует платоновского демиурга, замещая его безличной
«энергией». Первобытная сила языкового творческого хаоса в отдельных
точках прорывает препоны-перепонки, и слова переливаются друг
в друга. В этом можно убедиться на примере отношений между
1 ВеЬсман А. Д. Греческо-руеский словарь. С. 298, 435, 895, 896, 755.
124 Ю. M. РОМАНЕНКО. БЫТИЁ И ЕСТЕСТВО
«пойезис», «энергейя», «экстазис», «энтелехия» и другими
поэтическими понятиями. Все они обозначают «сдвиг бытия» и в разной
манере модифицируют онтологическую монотриаду. Однако между
ними все же есть существенная разница. «Пойезис», как видно,
относится к звуковому типу творчества, a ergon — к зрительному
типу. Хотя, вероятно, что оптическое и акустическое исходно
дополняют друг друга и могут меняться местами. Например, «оргия»,
невидимая извне, дана зримо как хоровод из единственного центра,
в котором находится поэт, управляющий словом круговым
движением. Вместе с этим «оргия» — это и хор поющих в унисон поэту,
когда он созерцает круговращенье направленных на него глаз.
Аполлоновское и дионисийское начала бытия. Взгляд — и нечто!
Сказано — сделано! Оргия поэтов — совмещение несовместимого,
так как поэт творит сугубо в одиночку, оргия же предполагает
других. Выход из этого положения в жертве поэта — организатора
оргии. Энергия поэзии — в оргии поэтов, где центр везде, а
периферия нигде. Образ поэтической жертвы поэт-философ Вяч. Иванов
усматривает, вслед за философом-поэтом Ф. Ницше, в Дионисе. Он
пишет: «Дионис есть божественное всеединство Сущего в его
жертвенном разлучении и страдательном пресуществлении во вселикое,
призрачно колеблющееся между возникновением и исчезновением,
Ничто (|ir)öv) мира. Бога страдающего извечная жертва и восстание
вечное — такова религиозная идея Дионисова оргиазма».1
Аристотель более тяготеет к аполлоновскому началу,
рациональной светлой форме и индивидуации в логической поэтике бытия.
Последующее развитие философии в античности компенсировало
аполлоновский элемент дионисийским, когда неоплатоники
выразили оба начала в умозрительном образе всеединства.
§ 4. НЕОПЛАТОНИЗМ
Образ бытия единого во всем
В системах неоплатонизма был осуществлен еще один шаг на
пути трансцендентизации Абсолюта. Очевидно, последний шаг,
который вообще возможен на этом пути. Древние греки, размышляя
об Абсолюте, шли к нему «снизу вверх», догадываясь о конечном
способе «здешнего» человеческого существования. Уже Парменид,
говоря о «бытии», имел в виду его недостижимость на путях
обыденного рассуждения и восприятия, заканчивающихся тупиком
апорий. Абсолют, не прилагая никаких усилий со своей стороны,
1 Иванов Вяч. Ницше и Дионис // Иванов Вяч. Дионис и прадиони-
сийство. СПб., 1994. С. 312.
КНИГА I. ГЛАВА 1. § 4. НЕОПЛАТОНИЗМ 125
мог допустить приближение к себе неординарным способом,
практиковавшимся в мистериях. Платон, упражнявшийся в
хитросплетениях диалектики «бытия» и «небытия» и достигший в этом
искусстве-науке уровня автоматизма, обнаружил, что выход из
инобытия в размерность бытия происходит «вдруг», «странно», в
головокружительном, рискованном пробросе мысли. Для того чтобы
догадаться о существовании бытия, понадобилось допустить
абстрактную возможность существования «небытия». После
испытания в опыте хотя бы однократной встречи с бытием сама гипотеза
о «небытии» могла быть отброшена, как отбрасывают уже не
нужную лестницу после того, как добрались до цели.
Аристотель не распространялся многословно о трудностях пути
к Абсолюту, просто постулируя его «ставшую чтойность». Абсолют
все любят, ибо догадываются о его совершеннейшем блаженстве.
Но любит ли сам Абсолют всех? Для Аристотеля Ум-Перводвигатель
есть бытие, имеющее свое отрешенное самодовлеющее
существование. Уже Парменид говорил, что бытие содержит себя в неких
оковах, которые Аристотель понял как грамматическо-логическую
форму. Откуда взялись эти языковые оковы? Чтобы ответить на
этот вопрос, необходимо заняться этимологическим зондированием
языка, несмотря на то, что оно всегда сомнительно. Начиная
попытку прикосновения к бытию, необходимо разобраться с
языковыми средствами его обозначения. Плотин, как представитель
нового философского поколения, попытавшегося реанимировать
платоновские и аристотелевские онтологические интуиции
синтетически, начинает как раз с вслушивания в те коренные слова,
которые оставлены в наследство традицией. «Возможно, — пишет
он, — мы будем недалеки от истины, если скажем, что слово быть,
существовать (είναι), от которого произведено слово сущность
(ουσία), само происходит от слова один (εν). В самом деле, сущее
(ôv) происходит непосредственно от Первоединого и стоит к нему
в непосредственной близости, хотя не сливается с ним, а, напротив,
обращаясь внутрь самого себя, тут же как бы останавливается и
становится сущностью (бытием для себя), которая есть достояние
всего существующего. Поэтому тот, кто, закрепляя свою мысль в
слове, говорит о чем-либо, что оно есть (είναι), этим словом выражает
прежде всего единство и тем самым показывает, что сущее (öv)
Происходит от единого (εν) и выражает в себе его природу, насколько
Может».1
Начало положено, лестница уже использована, и далее Плотин
заключает: «Впрочем, всякий волен согласиться или не согласиться
с этими этимологиями, мы же пойдем дальше».2 В примечании на
1 Плотин. Избранные трактаты: В 2-х т. Т. 1. М., 1994. С. 71.
~ Там же.
126
Ю. Л/. РОМАН EH КО. БЫТИЕ И ЕСТЕСТВО
этот фрагмент переводчики справедливо константируют: «Плотин,
по-видимому, сам отчасти сознает неестественность, натянутость и
произвольность этих этимологии и пользуется ими лишь как
подспорьем для раскрытия своей глубокой мысли».1 Необходимые слова
для мысли всегда уже есть, нужно только вслушаться в них, а
через них догадаться о тишине, откуда они появились, чтобы затем
отбросить любые слова, возвращаясь в неизреченную мысль.
Этимологизирование ограничивается апофатикой — отталкиванием от
тех слов, которые навели на мысль.
Плотин говорит словами о том, что находится по ту сторону
языка — о Едином, которое отделено от всех видов и родов сущего.
Так как все сущие «совсем не наполняют собой сферу (родового
понятия) бытия, то Первоединый стоит выше даже сущего (ύπεκεινα
όντος)».2 Переводчики «Эннеад» Плотина истолковывают последнее
словосочетание как выражение запредельного — «"то, что по ту
сторону" (лат. "трансценденция") — обычное обозначение Единого
(которое не имеет бытия, ибо выше всякого бытия...)».3 Если и
можно выражать в речи этот окончательно трансцендентный
Абсолют, не допускающий никакого к себе означивания, то только как
бы вдыхая, свертывая обратно вылетевшее слово в апофатическом
умолкании.
В предыдущем параграфе говорилось, что внутренним
движущим противоречием системы Аристотеля, дающим импульс
развития предмета философии, было противоречие между
неподвижностью Ума-Перводвигателя и сдвигом в нем самом. Фокус взгляда
на Перводвигатель сдвигался и был как бы кивком в сторону чего-то
иного, соскальзыванием взгляда «за спину» Перводвигателя: почему
светила не просто устремлялись к нему по прямой линии радиуса,
но вращались по орбите, стремясь осмотреть его со всех сторон.
Сила угадывания (что там за обратной стороной?) производила
кругооборот сущего вокруг Абсолюта.
Плотин это противоречие сделал начальным пунктом развития
своей системы. Рациональная схема плотиновской концепции
достаточно подробно исследована и имеет следующий вид.
Плотин избрал в качестве имени Абсолюта слово «единое».
«Единое» является безначальным первоначалом множества сущего.
Оно есть самоподдерживающаяся, самопродуцирующаяся,
самотворящаяся активность. В чем его отличие от парменидовского
«бытия»? Не одно и то же ли это? Откуда появилось новое имя? Ведь
и по Пармениду бытие едино, т. е. единое — неотъемлемый атрибут
1 Плотин. Избранные трактаты: В 2-х т. Т. 1. М., 1994. С. 71.
2 Там же. С. 72.
Л Плотин. Эннеады I, 8 (51) /.' Историко-философский ежегодник'89-
М., 1989. С. 176 (примеч.).
КНИГА Ι. ГЛАВА I. § 4. НЕОПЛАТОНИЗМ
127
бытия, предикат, отсылающий прямо к бытию. А само бытие
отсылает только к себе самому — единому. Получается круг: единое
есть имя бытия, а бытие есть имя единого. Бытие и единое —
атрибуты друг друга, совмещенные в неуловимом сдвиге так, как
фонетически созвучно относятся друг к другу слова «εν» и «öv».
Парменид, оказывается, изрекая свой тезис о бытии, на самом
деле косвенно навел мысль на Единое. Потому что «мысль
человеческая, руководимая этим соображением и созерцанием, чтобы
запечатлеть черты, его создала такие слова, как существовать (είναι),
сущность (ουσία), сущее (öv), которые призваны выразить природу
и существо всего происшедшего от Первоединого — выразить
посредством тех усилий говорящего, которые он делает в желании
выдержать, насколько возможно, подражание процессу
происхождения сущего».1
Оборачивание «единого» в «бытие» и «бытия» в «единое»
означает некую оглядку. Это оглядывание уже предусматривалось в
изречении Парменида «бытие есть, небытия же нет», на что
указывала частица «же». Высказывание второй части изречения
«небытия же нет» требует оглядки на первую часть «бытие есть».
Таким образом, всё изречение Парменида становится единым в этой
оглядке, следовательно, самому бытию присуще единство. Но само
единое не есть бытие. Получается, что единое есть как бы между
бытием и небытием — а именно в сдвиге бытия. Поэтому о едином
как таковом нельзя сказать ни того, что оно есть, ни того, что его
нет. Что бы ни было сказано положительного или отрицательного
в адрес единого, оглядка все стирает. Положительные суждения о
едином упраздняются самовоспроизводящейся апофазой
(отрицанием) без конца. Но античные философы не любили регресса в дурную
бесконечность, поэтому останавливали его на втором шаге. И того
достаточно для обнаружения единого цикла мышления —
мышления ума.
В учении Аристотеля об Уме-Перводвигателе содержалась
возможность сделать еще один шаг-трансцензус окончательного запре-
Деливания Абсолюта. Дело в том, что у ума имеются две ипостаси:
единый деятельный ум и пассивный, становящийся всем ум. Плотин
оттолкнулся от этой еле уловимой дистинкции и попытался
удержаться на единственности. Ум есть единое, но и не только оно. Ум
вместе с тем не единое. Оно вне его, хотя и внутри. Единое —
отдельная реальность.
Единое есть Первое (это синоним для его обозначения), а
собственно Ум в его цельности есть второе в вечности. Как случился
Ум? Он в «дерзости» отпадает от Перво-Единого, становясь всем,
Даже не подозревая, что дерзит. Осознание дерзостного порыва-
Плотин. Избранные трактаты. Т. 1. С. 71.
128 Ю. M. РОМАН EH КО. БЫТИЁ И ЕСТЕСТВО
отрыва происходит позднее, когда Ум в сдвиге вновь обращается
к себе Единому. Единое не дерзит, а держится просто за пределами
всего. Но и сам Ум по своей природе не дерзок. Может быть,
провоцирующий позыв к дерзанию выполняет «материя» — одна
из труднейших для понимания категорий плотиновской философии.
Материя характеризуется всеми апофатическими свойствами,
которые присущи и Единому. Возникает впечатление, что Плотин
дуалист. Эту сложную историко-философскую проблему придется
разобрать ниже, привлекая понятие «естество» как некое «зеркало»
бытия, в котором осуществляется оглядка бытия на само себя.
Решение данной проблемы возможно в применении арифмологи-
ческого метода, исследующего отношение «генады» (единого) и
«диады» (двоицы), в пределах которого сосредоточено многое всего.
Сейчас же позволительно предположить, что, вероятно, материя
«смутила» ум к отпадению, а Перво-Единый не помешал этому, не
творя, но потворствуя. Ум, таким образом, завис между двумя
полюсами «небытия», или между двумя абсолютными
апофатическими неопределенностями, исхитряясь удерживаться в невероятном
балансе. Это состояние знакомо нам — оно есть не что иное, как
блеф.
Пользоваться звучащим словом, речью, в отношении Единого
можно в определенных рамках, условно. Мы должны молчать вроде'
бы, но и молчать не в силах. Плотин разъясняет: «Мы, однако, в
своих сомнениях, похожих на родовые боли, не умея надлежаще
выразить это Первоначало, все-таки говорим о нем, неизреченном,
и даем ему то или другое имя, чтобы обозначить его как можем.
Ведь само имя Единый выражает не что иное, как только изъятие
именуемого из множественности (или отрицание ее в нем), и вот,
почему пифагорейцы между собой символически называли первое
начало Аполлоном — именем, выражающим лишь отрицание мно-
жестенности (ά πολλά)».1 Снова произвольная, но эвристическая
этимология.
Вообще любое именование есть «изъятие из множественности»,
но случай с именем Единого особый. У него есть имя и не есть.
Единое — скорее всего, место для имени, то, что вместо имени,
попросту — местоимение. Понятие «место» («топос») косвенно уже
использовалось. В местоимении локализуется Абсолют, хотя это
место невозможно определить. Плотин и здесь категоричен в отри<
цании. Он пишет: «Первоединый нигде и ни в чем, и если бы дУ*
наш был таков же, то есть не то, что не связан ни с каким местом,
а если бы он тоже не пребывал нигде и ни в чем (своей энергией)>
тогда непрестанно созерцал бы Первоединого, даже более: пребывая
бы в нем, был бы един с ним. В нынешнем же состоянии дух наШ»
1 Плотин. Избранные трактаты. С. 72-73.
КНИГА I ГЛАВА 1. § 4. НЕОПЛАТОНИЗМ 129
обладая умом, может созерцать Первоединого лишь тогда, когда
устремляется к нему той своей стороной, которая не есть ум (а
выше ума). Пожалуй, может показаться дивным и странным, что
Первоединый является духу нашему, не приближаясь к нам, и что
он, не находясь нигде, не отсутствует там, где его нет (то есть
присутствует везде). Удивляться этому вполне естественно в нашем
обычном положении; но кто сподобился узреть Первоединого, то
скорее удивился бы, если бы было иначе, зная, что иначе и быть
не может».1
Переводчик «Эннеад» М. А. Гарнцев отмечает: «Плотин
употреблял набор метафорических маркировок, и прежде всего —
субстантивированное количественное числительное среднего рода
το εν ("одно", или "единое") и субстантивированное порядковое
числительное среднего рода το πρώτον ("первое"). Кроме того, Плотин
использовал определительное местоимение αϋτο ("(оно) само") и —
в особенности — указательное местоимение εκείνο ("то"), которые
употреблялись им в несобственном смысле, ибо "единое" невозможно
определить как нечто и на него невозможно указать как на нечто...»2
Единое вне бытия, так как оно пре-из-быточно по отношению
к нему. Этот излишек представляется в виде так называемых
эманации (истечений) Первоединого. О появлении Ума уже
говорилось. Душа возникает по тому же эманационному сценарию после
Ума и служит для внесения жизненного движения в Космос.
Оборачиваясь к породившему ее Единому, душа иногда прозревает
сквозь Ум его сияния. Свет и свечение вообще являются наиболее
адекватными аналогиями Единого и его эманации. В этом смысле
философия Плотина ориентирована на оптическое постижение умом
Абсолюта как света. Плотин пишет: «Подобно глазу и ум наш,
когда отведет взор свой от всех свойственных ему предметов и
всецело в себе самом сосредоточится, тогда и он может, не видя
ничего, узреть нечто — узреть не тот отраженный свет, который
присущ всему вне его находящемуся (то есть ноуменам), но свет
только сам по себе и в себе, во всей его чистоте, узреть его, когда
он не извне, а внутри его самого внезапно появится и озарит его».3
Свет везде и нигде, произвольно вызывать его нельзя, он сам
является в виде сверканий в соответствии с его природой и с
возможностями природы созерцающего его. «В тот момент, когда
ум наш озаряется таким светом, он не знает, откуда именно явился
ему этот свет, извне или изнутри, а когда видение прекратится,
УМУ кажется, что свет был как будто внутри его, а будто и нет.
ι
\ 'Гам же. С. 75.
' ирнцев M. А. К публикации трактата Плотина «О благе или едином»
р О)) Логос. № 3. М., 1992. С. 214.
Плотин. Избранные трактаты. Т. 1. С. 74.
130 Ю. M. РОМАНЕНКО. БЫТИЕ И ЕСТЕСТВО
Впрочем, излишне решать, откуда этот свет и где, потому что сам
вопрос о месте по отношению к нему не имеет смысла: он и не
приближается к нам, и не удаляется от нас, а только иногда
является нам, а иногда сокровен для нас. Поэтому кто желает
узреть его, тому нет надобности искать его то там, то здесь, а
следует спокойно ожидать, пока он не появится, и только надлежаще
приготовить себя к созерцанию его...»1
Подготавливаясь к восприятию единого света, нужно подобрать
тому соответствующие слова, как это делают поэты. Озарение —
удел поэтов: когда они находят нужное слово, то критерием его
адекватности является свет, делающий смысл слова прозрачным.
Имя «Единый» — поэтическая находка, но даже оно не гарантирует
всегда явление носителя данного имени, когда он призывается.
Плотин апофатически относится даже к имени «Единый», хотя и
вынужден парадоксально им пользоваться. Он пишет: «Даже это
имя не способно выразить природу Первоначала, так как она не
подлежит слуховому восприятию, а потому не может быть познана
тем, кто слышит лишь звук — одно ее имя. Скорее уже она может
быть созерцаема; но и созерцающий не узрит ее, если думает увидеть
ее в какой-либо зрительной форме».2 Плотин намечает в этом месте
трансцензус от слуха к взгляду — от прозвучавшего имени Абсолюта
к направленности взгляда на невидимый пока свет, сверканиями
которого творятся видимые образы.
Еще одним из имен Единого является Благо (άγαφών). Можно
было бы успокоиться, подумав, что суждение «Единое есть Благо»
полностью адекватно, если бы огонь апофазы сразу его не
уничтожил. Поскольку, как уже говорилось, «о Первоедином нельзя
говорить даже "он есть", ибо он даже в этом не нуждается, — нельзя
тем более, что когда мы говорим "он есть благой", то глагол "есть"
относим к тому же самому, к чему и слово "благой", и, значит,
глагол "есть" тут вовсе не играет роль предиката, а имеет целью
выразить, что такое есть сам субъект».3 Плотин имеет здесь в виду,
что Абсолют невыразим логическими средствами, обращение к нему
не нуждается в строгой логической формулировке, поэтому «мы
просто говорим о нем "Благо"».
Ко Благу существует естественная тяга: «благо по своей природе
есть нечто дарящее радость и счастье».'' Способы и формы обретения
Блага различны. Творящая, или производящая, функция Единого-
Блага состоит в естественном насыщении чувств, способных
воспринять явления Абсолюта. Поскольку Единое отсутствуя присут-
1 Плотин. Избранные трактаты. Т. 1. С. 74—75.
2 Там же. С. 73.
3 Там же. С. 89.
4 Там же. С. 73.
КНИГА I. ГЛАВА 1. § 4. НЕОПЛАТОНИЗМ 131
ствует во всем, оно есть всеединство, то, в принципе, все чувства,
мысли, телодвижения освящены Единым, каждое особым образом.
Привилегированным, избранным чувством или, справедливее
сказать, чутьем Плотин полагает созерцание. Но чтобы достичь его,
необходимо ступенчатое, поэтапное задействование всех типов
чувств.
Плотин начинает с касания. Он пишет: «Познание Блага или,
если можно так выразиться, прикосновение к нему (επαφή) —
несомненно, величайшее благо (для нас), и вот почему Платон
называет это познание величайшей наукой (μέγιστον μάθημα). Но он
разумеет не сам акт созерцания Блага, а то знание о нем, которое
должно предшествовать созерцанию».1 Ум может «прикоснуться»
к Единому: он получил эту способность свыше и реализует ее в
отношении себя, когда мыслит мышление, замыкаясь изнутри.
Аналогично, вероятно, действует и Единое, но оно не замкнуто и
не разомкнуто. «Лишь то как бы пульсирование в самом себе,
самокасание (οίον κίνεμα, οίον επαόή) верховного существа есть нечто
совершенно простое, но зато оно вовсе не имеет характер
мыслительного акта».2 Ум же подражает в этом простом пульсирующем
самокасании Единому.
П. Адо, один из конгениальных Плотину интерпретаторов его
наследия, неслучайно предпосылает в качестве эпиграфа к первой
главе своей замечательной книги «Плотин, или Простота взгляда»
плотиновский призыв: «Не уставай лепить свою статую».3 Творение
начинается с акта лепки тела, на которое затем непроизвольно
наслаиваются «одеяния». Поэтому после катафатического намека
на аналогию творения Единого в акте лепки статуи (изваяния, если
угодно, идола) Плотин возвращается к апофатическому призыву:
«Сбрось с себя все» — опростись в уподоблении Единому, не твори
кумира.
М. А. Гарнцев отмечает, что «хотя приобщение к божественному
дается нелегко и подготовка к встрече с "тем" многотрудна, само
достижение возможно "в одно касание"».'1 Это «одно касание»
напоминает нам то двуединое касание-скольжение, которое формует
и оплотняет тело. Однако отношение к телу у Плотина
амбивалентное — он доходит до того, что отказывается от тела, поскольку
оно мешает общению с Единым (?). Плотин даже стыдится, что у
него есть тело. В этом заметны проявления дуалистических мотивов.
1 Там же. С. 86.
2 Там же. С. 90.
3 Адо П. Плотин, или Простота взгляда. М., 1991. С. 9.
"' Гарнцев М. А. Бегство единственного к единственному / ·■' Логос.
№ 3. М., 1992. С. 211.
132 Ю. M. РОМАН EH КО. БЫТИЕ И ЕСТЕСТВО
Для существа, удостоверившего свое телесное существование
касанием, далее необходимы голос и слух для приуготовления к
высшей встрече с Абсолютом. Сами по себе, по-видимому, они не
способны полностью вместить Единое. Онтологическая функция
голоса предназначена к «призыванию» в молитве Божества. Плотин
пишет: «Призовите его, да снидет он сюда, и он — единый, но
содержащий в себе всех и вся — снидет и украсит этот мир всеми
теми божествами, которые есть в нем всегда...»1 Восприятие этого
чуда даровано созерцанию. Проникнутое энергией Ума чувствование
Души устремляется к Единому; «поднятая еще выше как бы волной
этого самого ума и носимая ей, она вдруг усматривает что-то, сама
не ведая, что и как. В этом своем видении она чувствует одно —
что очи ее наполнены светом, но вне себя ничего иного она не
видит — видит один свет и больше ничего».2
На фоне безраздельного света витает некий прозрачный шар;
являющийся символическим образом всеединства. Плотин пишет:
«Вообразите кроме того, что это будет тогда как бы прозрачный,
стоящий перед вашим взором шар, в котором сразу можно видеть
все в нем заключающееся — солнце, звезды, землю, моря, все
живые существа».3 В этом светящемся зримом слиянии с Единым
Плотин видит цель жизни мудреца. Он живописует: «Вот каким
зрелищем наслаждаются боги — все вместе и каждый в отдельности,
а также те души, которые способны созерцать это зрелище, ибо и
души могут при желании обозревать от начала до конца и вмещать
в себя все, что находится там, в сверхчувственном мире...»4
Такова сверхчувственная красота Блага, напоминающая
космическую голограмму, но она постигается все-таки чувственно-
сверхчувственным способом, а именно зрением, пусть духовным,
но все же зрением. Остальные чувства отдали всю свою силу взгляду
и затаились на периферии.
Душа достигает такого состояния в экстазе. По заверениям
Порфирия, ученика Плотина и издателя «Эннеад», учитель испытал
экстаз четыре раза. Сам Порфирий, вероятно, всего один раз, но И
этого оказалось достаточно, чтобы понять, о чем вещал Плотин.
Каким образом транслировалось знание о Едином и сохранялась
преемственность традиции платонизма, сложно сказать. По всей
видимости, существовала ментально-психофизиологическая
практика достижения экстаза, включающая в себя молитвы, катарсис
и пр. Хотя экстаз приходил сам собою. Весь этот мистериальный
процесс понимался как теургия — превращение человека в бога,
слияние единичного субъекта с Единым.
1 Плотин. Избранные трактаты. Т. 1. С. 104.
2 Там же. Т. 2. С. 87.
3 Там же. Т. 1. С. 104.
1 Там же. С. 106-107.
КНИГА I. ГЛАВА 1. § 4. НЕОПЛАТОНИЗМ 133
Оригинальность плотиновской мысли Дж. Реале и Д. Антисери
усматривают в выдвижении на первый план онтологии «творящего
созерцания». Они считают, что творение у Плотина «отчетливым
образом показано как созерцание, причем пока оно остается чистым
созерцанием ... В этом контексте возвращение к Единому
посредством экстаза становится возвратом к Благу через созерцание».1
Созерцать — значит созидать. Взгляд — и нечто! Созерцание именно
«творит», т. е. зримо «вызывает» из небытия сущее, это как бы
«зовущее» видение или «тянущий касанием» взгляд. Созерцание
творит сущее одновременно оргиастически, сначала вращаясь в
«хороводе добродетелей» всех чувств, а затем вдруг возносясь над
ним. Созерцание творит из небытия, инаковости, куда скрылись
на покой остальные типы чувств, уполномочив созерцание быть
абсолютным. Такое созерцание есть одновременно и зов, и
прикосновение. В неоплатонизме существовало представление, что глаз
подобен Солнцу не только по сферической форме, но и по способности
излучать свет. Свет обладает одной и той же природой в Солнце и
в глазе. Как Солнце рассылает повсюду свои лучи для освещения
мира, так и глаз выбрасывает навстречу вещи лучащиеся щупальца,
бережно охватывающие предмет. Даже будучи закрыт веками, глаз
видит.
П. Адо неслучайно говорит о «простоте» взгляда. Опрощение
(но не упрощение) есть выход на границу между бытием и небытием,
где только творчество может сохранить и спасти от падения в
бездну. По Плотину, даже природа, созидающая тела, творит
созерцанием, бесшумно и в молчании. П. Адо цитирует такой
показательный фрагмент из «Эннеад»: «Если бы у нее спросили, почему
она производит, она бы ответила, коли снизошла бы до того, чтобы
услышать вопрос и заговорить: "Не следовало спрашивать меня;
надо было понять и хранить молчание, как молчу я сама, ибо у
меня нет привычки говорить. Что именно понять? То, что
порождаемое мною есть результат моего безмолвного созерцания и продукт
этого созерцания рождается от меня естественным образом. Я сама
родилась в результате такого созерцания, поэтому у меня
естественный вкус к созерцанию. Мое созерцание порождает продукт
созерцания, подобно тому, как геометры чертят фигуры, созерцая.
Но я не черчу фигур, я созерцаю, и очертания тел реализуются,
как если бы они выходили из меня" (III 8, 4, I)».2
Запомним один существенный момент: Природа, т. е. Естество,
сама возникает в результате созерцания-эманации из Единого. И она
же есть творящее созерцание. Налицо как бы два созерцания:
Реале Дж., Антисери Д. Западная философия от истоков до наших
Дней. СПб., 1994. С. 251.
" Адо П. Плотин, или Простота взгляда. С. 41.
134 Ю. M. РОМАНЕНКО. БЫТИЕ И ЕСТЕСТВО
эманационное и креационистское, в зависимости от того, откуда
исходит взгляд — со стороны Единого или с точки зрения Двоицы.
Различение этого двуединого созерцания представляется через
категории «бытие» и «естество».
У адептов неоплатонизма существовала практика механического
вызывания абсолютного света, например, надавливанием на при-
крытые веками глазные яблоки. Хотя это было опасно — давящим
касанием на плоть стимулировать фотоэффект. Плотин исследовал
все возможности глаза. Так, он писал: «Глаз не всегда воспринимает
только внешний и посторонный свет: и без такого света иногда
бывают мгновения, когда видно более яркое сияние, присущее
глазу. Например, ночью, в темноте, этот свет вспыхивает в глазах
и разливается перед ними; или же, если опустить веки, потому что
ничего не хочешь видеть, глаза все же источают свет; или, наконец,
если нажать на глаз, увидишь заключенный в нем свет. В этом
случае глаз видит, не смотря; и именно в этом случае он видит,
ибо видит свет. Остальные предметы только были освещены, они
не были светом (V 5, 7, 23)».' Подобные духовно-телесные
эксперименты ставились в неестественно-сверхъестественных условиях
и грозили слепотой.
О бытийном статусе «творящего созерцания» на примере
феномена «светящихся глаз» А. Ф. Лосев писал: «...символический
характер полноценного чувственного ощущения Плотин особенно
ярко выдвигает в своем замечательном учении о жизненной
предназначенности ощущений в борьбе человека за свое физическое
существование. Плотину принадлежит целое рассуждение (VI 7, 1,
1-21) о том, что боги, посылая души из умопостигаемого мира в
мир телесного становления, именно потому и снабдили человеческие
тела органами ощущения, чтобы человек мог заранее предвидеть
грозящую ему опасность и заранее принять меры для своего
сохранения. Плотин прямо говорит о "светящихся глазах" (phosphore
ommata) в том смысле, что глаза живого существа снабжены
световыми ощущениями для познания опасных вещей и событий И
для их предотвращения».2 Подобно Аристотелю, полагающему, что
лишение чувства осязания приводит живое существо к гибели,
Плотин мог бы сказать, что лишенность созерцания равнозначна
пребыванию в небытии. Но тогда что делать слепым от рождения?
Созерцание Единого, вероятно, не зависит от физических условий.
Продолжить рассмотрение философии Плотина следует анализом
последнего трактата его «Эннеад» (VI 9), называемого «О благв|
или едином».
Адо П. Плотин, или Простота взгляда. С. 67.
2 Лосев А. Ф. История античной эстетики: Итоги тысячелетнего
развития. Кн. 1. M., 1992. С. 439.
КНИГА I. ГЛАВА 1. § 4. НЕОПЛАТОНИЗМ 135
Воспользуемся двумя переводами этого трактата:
дореволюционным под редакцией проф. Г. В. Малеванского и выполненным в
современной манере М. А. Гарнцевым. Первый перевод, по
замечанию М. А. Гарнцева, исполнен в духе христианизированного
теизма; переводческий же стиль самого М. А. Гарнцева,
претендующий на объективность, особенно его сопроводительные заметки
и комментарии, тяготеют к трансцендентально-феноменологической
методологии и мировоззрению. Поэтому мы, на пересечении этих
двух в чем-то альтернативных переводов, дополняющих и
поверяющих друг друга, попробуем произвести смысловой интерпретатив-
ный анализ плотиновского текста в контексте нашего исследования.
Знакомство с философией Плотина порождает в свете
онтологической монотриады множество вопросов. Как все-таки соотносятся
Бытие и Единое? Как трактуется небытие: в отношении к Единому
и в отношению к Бытию? Каковы атрибуты Единого? Как
осуществляется творение? Вопросы эти более чем уместны, хотя и не совсем
корректно поставлены в отношении к плотиновскому способу
философствования. В принципе, все эти вопросы предугаданы самим
Плотином, и он заранее на них отвечает или уходит от ответа.
Можно спросить, предугадывая накопившийся скепсис
читателя: не блефует ли Плотин своим Единым? По определенным
симптомам можно прямо сказать — да! Но не в этом проблема; в конце
концов, все блефуют. Действительно, Единое то есть, то его нет;
мы знаем о нем знающим незнанием; оно мерцает в абсолютном
свете, как будто глаза полуприкрыты дифракционной решеткой
ресниц. До того как Плотин познал открывающееся Единое, он
должен был быть подготовленным к встрече с ним в опыте блефа.
Поэтому более актуальным представляется вопрос, удался ли блеф
Плотину? Угадал ли Плотин Единое? Нашел ли искомый смысл
бытия, персональный и одновременно всеобщий? Вопросы
абсурдные, ибо нам от самого Плотина стало известно, что есть Единое.
Однако нельзя сказать, что Плотин — автор Единого. Если даже
нам удается по наводке Плотина угадать Единое, то дело здесь
заключается не в одном Плотине. Иными словами, вопрос
заключается в философской канонизации Плотина. А история и без нас
уже выдала ему почетное свидетельство на классику. Такие
личности требуют внимания и по возможности призывают к
воспроизводству опыта. Попробуем последовать за Плотином.
Последняя «девятка» («эннеада») Плотина отвечает на
поставленные выше вопросы, являясь последним аккордом его гимна к
Единому-Благу. Правда, каждый ответ порождает веер новых
вопросов, но отвечать на них приходится уже нам. Начнем по порядку.
VI 9, 1. Все существующие существа, считает Плотин,
существуют благодаря единству, содержащемуся в них самих. Есть разная
136 Ю. M. РОМАНЕНКО. БЫТИЕ И ЕСТЕСТВО
степень единства и бытия у сущих. Душа по сравнению с телом
обладает большим единством, но она не есть само единство.
VI 9, 2. Сущностью существующего существа, по Плотину,
является Ум. Он тоже есть единство, дарующее бытие и единство
другим сущностям. Может быть, Ум тождествен единому? Или,
задается вопросом Плотин, «мыслимо единство само по себе (без
бытия сущности)?».1 Для этого необходимо решить два подвопроса:
«есть ли Единое?» и «что именно есть Единое?». Плотин привлекает
убедительный аргумент: «Если какая-то вещь теряет единство, она
теряет и бытие. А потому необходимо выяснить, действительно ли
единство и бытие тождественны и в отдельной вещи, и независимо
от вещей, взятые сами по себе».2 В этом месте Плотин ставит мысль
на вибрирующей границе: что важнее — Единое или Бытие?
Малейший случайный сдвиг независимо от выбирающего склоняет
последнего в ту и только ту сторону.
Плотин делает заключение, что Единое первее в соответствии
со своим числовым именем, чем бытие, используя вышеприведенный
довод: если убрать единство — исчезнет и бытие. А почему бы не
представить дело противоположным образом: если убрать бытие,
то не будет и единства. Что склоняет Ум в ту или иную сторону?
Ум есть и Ум един, но утверждение существования ума отнюдь не
имплицирует его единство и наоборот. Для Плотина сдвиг задан
необратимо в какой-то бифуркационной точке в пользу единого.
Суждение Плотина «единое — первое, тогда как сущее, ум, идеи —
не первое»3 — тривиально. Действительно, если Ум не есть первое
(т. е. единое), то он не первее единого. Но вот парадокс: Ум и не
«вторее» единого. А вот это уже не тривиально, даже по
грамматической форме. Ум двуедин, являясь первым случаем всеединства,
состоящего из мысленных идей.
VI 9, 3. Что же такое Единое и какова его природа?4 На этот
вопрос дается только перечень апофатических отклонений:
Единое — не Ум, не Душа, не тело, не образ, не форма, не качество,
не количество, не движение, не покой и т. п. Известно лишь, что
«природа единого по отношению ко всему существующему —
порождающая (yevvetiiciï), поэтому оно не что-либо из
существующего».0 Опять тривиальная тавтология — Единое по природе
порождает. Хотя само порождение, судя по всему, понимается
нетривиально. Не так, как рождается что-то постороннее родителю, но
врождение самого себя. Откуда это известно, пока не понятно.
1 Плотин. Избранные трактаты. Т. 2. С. 128.
2 Там же. С. 129.
3 Там же.
1 Там же. С. 130.
!' Там же. С. 131.
КНИГА Г ГЛАВА I. § 4. НЕОПЛАТОНИЗМ 137
Намекается, что Ум может это засвидетельствовать. Об этом также
можно косвенно судить по поведению души, поскальзывающейся,
утомляющейся, боящейся попасть в «чистое ничто», когда она
стремится объять необъятное Единое, и успокаивающейся только
на чем-то твердом, телесном. Для Души, вероятно, само Единое
представляется абсолютным ничто. Душа не понимает, что она
существует как единая Душа только благодаря Единому. Единое
вызывает у Души страх. Поэтому о присутствии Единого можно
непрямо догадаться по трепетаниям мятущейся Души. Она
вращается вокруг Единого, а Ум стремится направить это движение прямо
в центр по радиусу. Так происходит возвратно-поступательное,
прямо-вращательное движение. Платон описывает характер
движения так: «...мы, как бы извне обегая его, стремимся истолковать
свои опыты то будучи близ него, то отпадая из-за затруднений
касательно него».1 Так переводит М. А. Гарнцев заключение третьей
главы. А вот в другом переводе этого места данный процесс
выражается иначе: «удаляясь вследствие возникающих у нас
недоумений».2 Мы бы могли истолковать эту фразу следующим образом:
«трудно прикоснуться к Единому, так как точечное касание
соскальзывает во вращение, весьма странное и загадочное, что
вызывает в душе страх». Душа, ободренная призывом Ума, стремится
к Единому, но в последний момент неожиданно не попадает в цель
и отпадает во вращение. Е. Доддс называл это «устрашающей
последовательностью» приближения к Единому.3
VI 9, 4. Почему сложно приблизиться к Единому? Единое есть
во всем, и каждый элемент множества, уже содержа в себе печать
единства, может вернуться в лоно Единого. Для этого нужна
подготовка и научение, хотя наука может создать лишнее препятствие.
Следует просто довериться Единому и тогда узришь его блеск и
сияние, ощутив любовное упоение. Кто этого не сумел достичь,
пусть винит себя, что не полностью освободился. В экстаз можно
войти только свободным. Ни высказать, ни описать это состояние
невозможно — речь и письмо необходимы, «единственно чтобы
разбудить рассуждениями созерцание»4 и указать «путь». Единое
имеет единственный вид, образ (novoeiôiiç), но вместе с этим оно
безвидно (ûv£i5eoç).
VI 9, 5. Мир не устраивается ни судьбой, ни самопроизвольно,
ни вещественными (телесными) причинами. Кто думает иначе, пред-
Плотин. О благе, или едином // Логос. 1992. № 3. С. 219.
Плотин. Избранные трактаты. Т. 2. С. 131.
'' Трофимова М. К. К публикации перевода трактата Плотина 1.8
(51)
— «О природе и источнике зла» •'■-' Историко-философский ежегод-
ник-89. М., 1989. С. 160.
Плотин. Избранные трактаты. Т. 2. С. 132.
138 К). M РОМАНЕНКО. БЫТИЕ И ЕСТЕСТВО
упреждает Плотин, тот отпал от Единого. К Единому ведет
последовательность «душа—ум». Последний есть образ единого (évoeioriç).
Ум ближе всего к Единому, даже после дерзкого отпадения (аргумент
от грехопадения). Непостижимое и неизреченное Единое «дивно»
и «чудно». Ему нельзя приписать ни связки, ни предиката, ни
даже имени «Единый». Зачем же мы тогда его так называем? По
необходимости общения друг с другом, конвенционально (аргумент
от коммуникации).
VI 9, 6. Метод апофатики требует постоянного применения и
сноровки. И Плотин, продолжая упражняться в отрицании каких-
либо положительных определений Единого, утверждает, что оно
есть ничто из существующего. Оно есть ничто, но не по слабости,
как сущие, а, напротив, от преизбыточествующей силы и
всемогущества. Единое ни в чем не нуждается, более того, оно не нуждается
и в себе, «ведь оно есть оно само».1 Единое есть благо, но даже не
для себя, а для того, кто возжелает участвовать в нем. Захоти —
и получишь, важно только очень сильно захотеть, правда не зная
что именно. А кто устанавливает степень желания? Само Единое.
Так в дискурсе о нем всплывает аргумент «от желания»,
возбуждающий воление к Единому.
VI 9, 7. Оставшиеся пять глав трактата максимально насыщены
и представляют собой описание последнего броска к Единому. Линия
траектории движения к Единому замыкается в круг, и так создается
образ всего в одном. Весь текст настолько плотно связан, что трудно
раскомпоновать его в анализе. Хоть дословно повторяй, о чем
повествует Плотин. Попытаемся все же отреферировать сказанное,
тем более что в переводах встречаются существенные несовпадения.
Итак, апофаза привела нас в недоумение и смущение. Плотин
предвидел это, ибо сознательно вел к неопределенности.
Следовательно, нужно остановиться и успокоиться. Если засомневались в
существовании Единого, так как оно не похоже на привычные
образы окружающих вещей, — это нормально. Необходимо тогда
вернуться к ним, раз без них нельзя обойтись, но следует повторно
начать созерцание их сосредоточенным мышлением. Единое
присутствует в привычных вещах, нужно только уметь видеть. Не
нужно ничего примысливать от себя постороннего в обращении к
обыденной вещи, она сама должна показать себя (в XX веке это было
названо «феноменом» — тем, что само себя являет). Душу от
Единого «отвлекает какой-то другой живой образ, и душа,
наполненная такими образами, не в состоянии запечатлеть в себе образ»
Единого." Но в образе самой малой вещи таится Первоначало, и
нужно воспринять ее образ как феномен. Так душа теснится и
Плотин. О благе, или едином. С. 221.
2 Плотин. Избранные трактаты. Т. 2. С. 136.
КНИГА I. ГЛАВА I. § 4. НЕОПЛАТОНИЗМ 139
сдерживается подобными образами, и «пока образ действен»,1 он
поглощает душу целиком, отвлекая от Единого. Этот фрагмент
интересен и важен тем, что в нем подразумевается особая сила
образа любой вещи, имеющего свою притягательную силу и скорость
созревания. Нужно полностью изжить образ, двигаясь вдоль его
самозамыкающейся линии. Необходимо выдержать это путешествие
до конца, не форсируя события. Тогда-то, в точке смыкания двух
концов линии образа наступит удивительный эффект. Если
сподобиться узреть Единое, то и все расположится естественным для его
природы образом — образом всего в Космосе.
Подобно тому как материя должна быть лишенной всех качеств,
чтобы воспринимать формы, так и душе необходимо освободиться
от образов, чтобы «наполниться сиянием света первой природы»,2
то есть «естеством» Единого. Но отрешение и освобождение от
образов должно быть не игнорированием их, а постепенным
изживанием всех образов, не ранее того, как они естественно созрели.
И тогда, «презрев все вещи»,3 — лучше было бы сказать: «когда
все вещи созрели», — «не заметишь отчетливо даже того, что уже
наступило лицезрение его и общение с ним, и лишь насладившись
этим общением, по прекращении его, сможешь поведать о нем
другим, если только оно может быть описано».4
Эта концепция подтверждается мифом из «Одиссеи» о Миносе,
который, вспоминая общение с Зевсом, «в наитии» был
«прикосновением божественного подвигнут к установлению законов».5
Единое соприсутствует во всем, даже если все и не ведают того. Они
бегут от Единого, не подозревая, что бегут вон от себя к нему.
Таким образом, апофаза не может не завершиться апофеозом.
VI 9, 8. Движение души по природе круговое, и лишь отклонение
делает его прямолинейным. Эксплицируя топографию оргии,
Плотин показывает, что душа кругообращается вокруг центра, где, по
аналогии с центром обычной окружности, вероятно, присутствует
Единое. Душу извне и изнутри пронизывает «древняя природа»
(архссш фОоц) — само «естество». Каждая душа отделена целиком
и имеет свой центр. Зримо отдельные центры совмещены в экстазе
с единым центром. Когда эта фокусировка осуществляется,
получается оптическая модель всеединства — круг кругов — идеальная
сфера. И тогда наступает трансцензус от оптики к акустике. Эта
зримая модель вдруг начинает звучать: как божественный хор
певцов, окружающий корифея (предводителя, дирижера), поет
Плотин. О благе, или едином. С. 222.
2 Плотин. Избранные трактаты. Т. 2. С. 136.
л Плотин. О благе, или едином. С. 222.
1 Плотин. Избранные трактаты. Т. 2. С. 136.
а Плотин. О благе, или едином. С. 222.
140 Ю. M. РОМАНЕ H КО. БЫТИЕ 11 ЕСТЕСТВО
стройно, без разноголосицы и разнобоя только тогда, когда все
лицом к Лицу обращены к Единому.
VI 9, 9. Участник хора достигает цели и отдохновения, созерцает
источник всего — Единое, которое, дав однажды жизнь сущему,
продолжает ее поддерживать непрерывно, в зависимости от того,
насколько сущее стремится к Абсолюту. Деятельность Ума
«порождает богов в безмятежном прикосновении к "тому"».1 В этом
сходятся начала и концы души, оплодотворенной Богом.
Любовь души к Единому естественно необходима, а удаление
от него равносильно падению в небытие. Почему это происходит?
Оказывается, что душа «обманута как бы сватовствами» (перевод
М. А. Гарнцева), или «обольщаема лживыми обещаниями» (перевод
Г. В. Малеванского). Иными словами, падение душей происходит в
блефе. В результате отпадения душа начинает ненавидеть
бесчестную жизнь в телесной оболочке, очищается, сбрасывает с себя тлен
в экстазе, опять возвращается к родителю и блаженствует (согласно
мифу вечного возвращения). Теургия состоялась — человек
превратился в бога. Творящим созерцанием восстановлена естественная
граница между бытием и небытием, когда человек становится
соучастником круга богов. «Кто удостаивается такого единения, тот
видит Бога, видит в нем самого себя, насколько это возможно (для
нашей природы), видит себя просветленным в сиянии духовного
света; даже более: видит себя как чистый, тонкий свет. Ему кажется,
что он как бы обратился в божество и есть божество, что он весь
пламенеет, как огонь; когда же минует это состояние, он вновь
отягощается и затухает».2
Значит, это феерическое состояние кратковременно. В чем
причина тому? Куда оно девается? Вопрос о причине того, что
существует, само собой неуместен. О нем можно только вещать, что это
так, беспричинно. Но все-таки Плотин задает подобный вопрос.
VI 9, 10. «Но почему душа не остается такой всегда?»3 В
переводной версии Г. В. Малеванского ответ состоит в том, что душа
еще не отрешилась от чувственности и гнета тела окончательно при
земной жизни. Согласно М. А. Гарнцеву, субъект теургии «еще не
отошел весь». По всей видимости, «теург» еще не стал все-
целостностью тела, души и ума. Но наступит час, когда созерцание
будет непрерывным. В первой версии перевода непрерывное
созерцание будет принадлежать душе, освобожденной от тела. Второй
вариант, к которому склоняемся и мы, намекает на возможность
некоего телесного созерцания: «непрерывность созерцания будет у
не стесняемого уже никакой докучливостью тела». ' Иными словами,
1 Плотин. О благе, или едином. С. 224.
2 Плотин. Избранные трактаты. Т. 2. С. 140.
3 Там же.
1 Плотин. О благе, или едином. С. 224.
КНИГА I. ГЛАВА 1. § 4. НЕОПЛАТОНИЗМ 141
в момент творящего абсолютного созерцания тело уже ничем не
стесняется и не докучается, оставаясь телом же. Душа обладает
созерцанием Единого в видимом полном свете, но тело тоже
созерцает Единое, чуя его тепло. Такое толкование вполне допустимо,
но оно предполагает под собой не выраженный явно в античности
догмат о воплощении. Радикальное различие в переводах связано,
по-видимому, с разным отношением переводчиков к проблеме тела.
Точка расхождения переводов этого текста обусловлена также тем,
что она фиксирует сложновыразимый трансцензус между тактиль-
ностью и оптикой, а кроме этого, между чутьем в целом и
дискурсивным рассудочным действием.
Вдумаемся в используемые переводчиками метафоры — «гнет»
и «стеснение», воздействующие на душу при приближении ее к
свету. Они выражают собой чрезмерное давящее касание,
сковывающее свободу души, жаждущей света. Но прикоснуться можно
только к телу. Может ли свет прикоснуться? Да, и это легкое
касание в предыдущей главе подразумевается в тактильной
метафоре «тонкий свет». В этих двух главах, ни много ни мало,
спекулятивно открывается фотоэффект — претворение энергии света
в тепловую энергию. В нем осуществляется взаимодействие души
и тела. Таким образом, зафиксированный в 8-й главе трансцензус
между оптикой и акустикой дополняется в 10-й главе трансцензусом
между оптикой и тактильностью. В момент онтологического
созерцания касание должно быть таким, чтобы не ощущалась граница
между субъектом и объектом, — легким, раскрепощающим тело и
освобождающим душу, дающим им экстатическую энергию.
Момент сосредоточения чутья краткосрочен, и рядом с ним
соседствует другая сила — рассудочная. Это описывается в
последующем фрагменте. Душа раздвоена на чувственную и умственную
части. Когда первая часть, чутье, «отдыхает от созерцания»,
выключившись и выложившись в максимальном сбросе энергии в
экстазе, вторая часть «занята познавательной деятельностью в
форме рассуждений, догадок, доказательств...».1 Ум, таким образом,
второй своей частью, продолжает мысленно «угадывать» бытие
Единого, выводя антиномический постулат о нераздельно-
неслиянной единице-двоице схождения двух центров в одном.
Плотин уточняет парменидовское изречение «Одно и то же мысль и
предмет мысли» следующим утверждением: «Одно и то же
созерцание и предмет созерцания». «Такая речь смела»,2 как и подобает
рискующему в блефе.
VI 9, 11. Мистериальное знание запрещено разглашать
непосвященным: Единое невыразимо в слове. Другой может узнать о
1 Плотин. Избранные трактаты. Т. 2. С. 140.
2 Там же.
142
Ю. M. РОМ АНЕ H КО. БЫТИЁ И ЕСТЕСТВО
нем, лишь удосужившись узреть его сам. Уединившись в этот
момент в тишине, он, «безмятежно одержимый», в восхищении
достигает покоя, «словно столбенеет», возносясь над «хороводом
добродетелей». Это состояние даже не зрелище, а «исступление, и
опрощение, и самопожертвование, и стремление к прикосновению,
и покой, и внимательность к прилаживанию, раз уж некто будет
созерцать то, что в святилище».1 Тайна воспринимается в
святилище, вход в которое окружен символическими изваяниями
Абсолюта. Это подобия, через которые осуществляется акт угадывания:
«мудрым из прорицателей они намекают, как тот бог зрится; мудрый
же жрец, уразумевший намек, мог бы, оказавшись там в святилище,
сделать созерцание истинным».2
Когда душа пересмотрит все проходящие перед ее взором образы,
она, кажется, остается перед «ничто», но это не негативное «ничто».
Отрешение от всего приводит душу к себе. Имея в себе подобие
Единого, душа стремится к нему и совпадает с ним в первообразе.
Цель путешествия достигнута. Но не насовсем. Круговое движение,
приведшее к встрече с единством себя самого, опять повлечет нис-
падение, но уже освоен автоматизм, вызывающий действие
произвольно: человек «может снова и снова воспарять туда».3 Такова
жизнь богов и теургов — «бегство единственного к единственному».4
Последнее выражение трактата, ставшее крылатым, иногда
переводят как «бегство одинокого к Одному» или «бегство единичного
к Единому». Теистический перевод Г. В. Малеванского гласит:
«стремление к одному только Богу».5 Разнобой в переводах вполне
естествен и свидетельствует о сложности озвучивания созерцания
тайны. Текстологический анализ последней «эннеады» завершен.
Для нас важно было, указав на моменты трансцензусов в общем
процессе созидания целокупности всего сущего, отметить, что
Плотин существенно уточнил и систематизировал соотношение понятий
«бытие», «ничто» и «творение» в контексте онтологической
монотриады.
Подведем итог следующей схемой. Онтологическая иерархия
плотиновской философии расположена в последовательности:
Единое—Ум—Душа—Космос—Материя. В соответствии с
интерпретацией этой иерархии категориями онтологической монотриады:
Единое — ни бытие, ни небытие; оппозиция бытия и небытия
соответствует противоположности Ума и Материи; душа находится
между ними, являясь постоянным кругообращением бытия и не-
1 Плотин. О благе, или едином. С. 225.
" Там же.
3 Плотин. Избранные трактаты. Т. 2. С. 142.
1 Плотин. О благе, или едином. С. 226.
п Плотин. Избранные трактаты. Т. 2. С. 142.
КНИГА 1. ГЛАВА 1. § 4. НЕОПЛАТОНИЗМ 143
бытия. На краткий срок процесс кругооборота вдруг собирает
Космос, который затем снова рассеивается. Все это объясняется
эманацией — преизбыточным излиянием Единого. Эманации Единого
множество, они классифицируются в соответствии с наличными
типами чувств, воспринимающих благодать. В чистоте каждая
эманация трансцендентна любой другой. Но поскольку все эманации
непрерывны, то в целом они представляются единым и
неразличимым потоком. Так, эманация света во тьму и эманация звука в
тишину — различные процессы. Но в пределах единого Космоса это
одно и то же. Между отдельными эманациями возможны переходы-
трансцензусы, и если они согласованы друг с другом в ориентации
на Единое, то это и есть акт творения. Как такое возможно —
непонятно, потому что чудесно и таинственно. Лишь когда чудо
свершилось, можно задним числом реконструировать условия его
возможности. Каждый философ, собственно говоря, выражает
собственный опыт общения с Абсолютом своей концепцией. Но все
выразить не удается. Необходим свидетель, подтверждающий
подлинность и достоверность творческой встречи с Абсолютом. Рядом
с Плотином оказался Порфирий, который засвидетельствовал факт
экстатического единения Плотина с Единым.
Плотину удалось воплотить свой опыт связи с трансцендентным
в философской форме. Вот предсмертные слова, которые запечатлел
в «Жизни Плотина» Порфирий: «Стремлюсь возвести божественное
во мне к божественному во всем».1 Прокл, продолжатель
неоплатонической традиции, откликнулся на призыв и повторил этот
опыт.
Прокловский вклад в неоплатонический синтез заключается в
отождествлении философских категорий и мифологических имен,
восстанавливающем симбиоз философии и мифологии (что подробно
и убедительно рассмотрено А. Ф. Лосевым). Прокл окружил Единое
целым сонмом магических имен традиционных древнегреческих
божеств.
Мифологический Пантеон Проклом детализируется и
развертывается во внутреннюю картину космической жизни, которая являет
собой одновременное наложение трех взаимосвязанных процессов:
топе — пребывание Первоначала в себе самом; proodos —
выступление, эманация, исхождение из себя; epistrophe — возвращение
обратно, реверсия. Каждый из богов ответствен за совершение того
или иного процесса. Весь Пантеон живет подвижной, насыщенной,
самодостаточной вечной жизнью. Нельзя сказать, что эманация и
реверсия есть последовательные фазы, напротив, они одновременны,
так как происходят в вечности. Их суперпозиция выявляет момент
творчества. Эманация является необходимым, но не достаточным
1 Цит. по: Адо П. Плотин, или Простота взгляда. С. 124.
144 ГО. M. РОМАНЕНКО. БЫТИЕ II ЕСТЕСТВО
условием возможности творения. В этом одновременном трехфазном
процессе-состоянии осуществляется эманация творения и творение
эманации. Природа богов едина, но их эманативные функции могут
не пересекаться и быть трансцендентными друг другу, что оставляет
зазор для возможного творения из небытия.
Для иллюстрации того, как онтология может быть рассмотрена
с точки зрения мифологии, привлечем пример мифологической
экспликации понятия «всеединство», занимающего ключевое
положение в философском аппарате неоплатонизма. Плотин много
рассуждал о том, как возможна интуиция Единства, оставляя на
периферии своего внимания или между строк своих описаний
возможность интуиции Всего. Попробуем восполнить этот пробел пло-
тиновской философии и реконструируем мифологическое созерцание
«Всего» в отрешенности от «Единого», раз само «Единое»
уединилось от «Всего».
Эстетизм античного мировосприятия, помимо прочих
характерных черт, подразумевал видение и угадывание за фасадом каждой
философской категории мифологического персонажа и сюжета.
Несмотря на то, что философия в определенный момент истории
отпочковалась и эмансипировалась от мифологии — откровенная
фиксация чего произошла в системе Аристотеля, — неоплатонизм
вновь свел философию и мифологию в симбиоз. Появление в
философском дискурсе новых категорий, осуществляемое, с
рассудочной точки зрения, посредством абстрагирования, обобщения и
других формальнологических операций, на ином уровне означало
рождение нового мифа. Действительное наполнение категориального
алфавита было философским откликом на преобразования в стихии
мифа.
Одной из существенных категорий античности, выражающих
специфику этой эпохи, является категория «всеединство».
Постановка проблемы «единого и многого» (En kai polla), «единого и
всего» (En kai Pan) началась еще с досократиков, получила свое
классическое освещение в платоновском «Пармениде» и в
последующей истории, покуда философия оставалась живой, постоянно
воспроизводилась в новых контекстах. Следует отметить
существенное отличие онтического понятия «многое» и онтологического
понятия «все». Опыт свидетельствует, что непротиворечивой
рациональной дефиниции «всеединства» нет и, вероятно, быть не может.
Философия смогла выразить одну из самых фундаментальных своих
категорий только в антиномической форме. Действительно,
определяя «всеединство» как принцип совершенного единства
множества, в котором все элементы находятся в состоянии полной взаи-
мослиянности и одновременно взаимораздельности, мышление
впадает в вибрирующее беспокойство. Вербальное закрепление
мистического опыта в магических формулах и заклинаниях типа: «Все
КНИГА I ГЛАВА I. § 4. НЕОПЛАТОНИЗМ 145
едино, единое же есть бог» (Ксенофан); «И из всего одно, и из
одного -- все» (Гераклит); «Во всем есть часть всего» (Анаксагор);
«Свет тут со всех сторон встречается со светом, так что каждая
сущность в себе самой и в каждой другой имеет пред собой и видит
все прочее; каждая из них — везде, каждая — все и все заключается
в каждой; везде один необъятный свет, одно чистое сияние»
(Плотин),1 — отражает это состояние спекулятивных медитаций.
Потребность в эмоционально-образной разрядке, необходимой
после подобного интеллектуального напряжения, заставляет
мыслителя вернуться к мифологическим истокам происхождения
категории «всеединство» с той целью, чтобы мышление разорвало
порочный круг зацикливания на самое себя и обратилось к бытию.
Если мы признаем, что каждая категория окружена ореолом
символов, что любое понятие на другом полюсе оборачивается в
миф, то необходимо отыскать мифологический эквивалент, аналог
и коррелят категории «всеединство».
Апофатика Единого отказывает ему даже в имени, хотя в
мифическом сознании под Единым понимался Зевс. В отношении
категории «все» интуиция и этимология подсказывают имя бога
Пана в качестве «ответственного» за приведение сущего в актуальное
состояние и событие всеединства. Филология не отождествляет
буквально этимологическое значение имени «Пан» с понятием
«Всё», производя смысл данного имени от индоевропейского корня
pus-, paus- (делать плодородным), однако предание об этом
мифологическом персонаже и тех действиях, которые он производит,
однозначно вынуждают признать именно такое истолкование: Пан
есть тот, кто всеединит (а не просто единит).
Обратимся непосредственно к мифу. Пан является сыном
Гермеса и нимфы Дриопы. Дриопа (олицетворение природы), увидав
родившегося сына, в ужасе убежала, оставив его на произвол судьбы.
Нужно признаться, что вид Пана действительно мог вызвать
подобное чувство: миксантропические черты, козлоногость, рожки,
густая шерсть, чрезмерные гениталии — все эти уродливо
объединенные признаки, как будто нарочно, сошлись в одном существе
для вызывания отрицательных эмоций и отвращения, у философов
проявляющихся в мизософском приступе.
Однако Гермес не отказался от сына. Бережно завернув его в
полу плаща, он отнес его на показ Зевсу, пребывавшему в тот
момент в состоянии отрешенности, вечной покойной единой
единственной единичности. Когда Пан явился пред очи громовержца,
Зевс вдруг расхохотался. Хохот растормошил, рассеял (диссипиро-
кал энергию) Зевса на множество эманативно единосущных с ним
богов и богинь, дифференцировав единого бога. Пантеон («Все боги»)
Плотин. Избранные трактаты. Т. 1. С. 96.
146 Ю. M. РОМАНЕНКО. БЫТИЕ И ЕСТЕСТВО
дружно, симфонически смеялся (смеялись) над Паном в
доброжелательной тональности. Отсюда пошла весть о самодовлеющем
олимпийском, бесстрастном хохоте богов. Именно Пан, «понравившийся
всем», через смех привел языческих богов в состояние актуального
всеединства.
В дальнейшем Пан входил в свиту Диониса и являлся одной
из ипостасей последнего. Причастность к дионисийскому началу
делает Пана пристрастным к вину, веселью и влюбленности. Он
преследует нимф и водит с ними хороводы (еще один музыкально-
пластический символ всеединства). Когда наступает полуденный
зной, уставший от бурных проявлений радости Пан мирно засыпает
в лесной тени. И не дай бог, если кто-либо потревожит его
безмятежный сон. Своей сверкающей гримасой разъяренный божок
наводит на всех (людей, животных) беспричинный дикий страх,
получивший название панического. Паника — это коллективный
страх, в отличие от индивидуалистического ужаса (Angst) у
экзистенциалистов XIX-XX в. (Шеллинга или Кьеркегора, Хайдеггера
или Сартра, чьим предтечей в античности был Плотин). В эпоху
античности сумел не поддаться панике, например, скептик Пиррон,
советовавший попутчикам на тонущем корабле не впадать в
паническую суету, а брать пример со свиней, спокойно копошащихся
на палубе у корыта.
Таким образом, Пан дважды выполняет функцию всеединения.
Бессмертных он тотально объединяет в смехе, смертных стягивает
в общность страхом. Причем осуществляет это одним и тем же
видом и одним и тем же действием, доводя всех до одинаковых
ритмических соматических сокращений и катартических
выделений. Не будь Пана, не было бы и всех, а были бы абсолютно
изолированные многие сущие.
Пан вообще неклассичен для Пантеона, и даже маргинален ему,
хотя без него не было бы и Пан-теона. Он не входит в состав
высших богов, но чем-то сплачивает. Пан первый и единственный
из языческих божеств, кто умер. Надрывный вопль о смерти
Великого бога Пана явился символическим сигналом о гибели
античного мира. Двусмысленность происхождения, облика, функций
Пана свидетельствует о его посреднической роли между богами и
людьми. Пан — это непрерывная энергетическая волна,
связывающая смертных с бессмертными в тотальности Космоса, у одних
стимулирующая смех, у других провоцирующая страх. Но это одна
и та же волна. Поэтому можно сделать вывод, что в какой-то точке
нулевого колебания этой волны страх и смех сливаются в
неразличимом тождестве. Это адекватно понимали и рационалист
Аристотель в своем классическом определении смешного в «Поэтике»,
и интуитивист Бергсон в работе «Смех».
КНИГА Г ГЛАВА I. § 4. НЕОПЛАТОНИЗМ 1£
Возвращаясь опять к философии, замыкая тем самым
герменевтический круг, можно сказать, что через неформализуемый
зазор в антиномической дефиниции категории «всеединство» на
древнего грека смотрел Пан. Поэтому если претендент на инициацию
хотел войти в философию через врата категории «всеединство», он
должен был в мистериальной яви однажды предстать перед живым
Паном. Впрочем, Великий Пан уже умер. Сакраментальная фраза
Ницше о смерти бога является лишь слабым и искаженным эхом
этой трагической вести.
Со смехом и страхом мы худо-бедно разобрались. Но какое
чувство соответствует той вышеозначенной точке нулевых
колебаний, где смех и страх слиты воедино? Может быть, переходное
состояние между смехом и страхом не оплотнено каким-то одним
конкретным чувством? Абрам Терц (Андрей Синявский) в
«Прогулках с Пушкиным» подсказывает цитатой из Александра
Сергеевича: «Народ, как дети, требует занимательности, действия. Драма
представляет ему необыкновенное, странное происшествие. Народ
требует сильных ощущений, для него и казни — зрелище. Смех,
жалость и ужас суть три струны нашего воображения, потрясаемые
драматическим волшебством».1 Автор «Прогулок...» так и
констатирует триаду эмоций: «Смех. Жалость. Ужас. Пушкину досталось
всё это испытать на себе».2
Были ли последующие инкарнации Пана? Не ведаем. Достаточно
того, что найдено знакомое чувство — жалость. И к Пану оно
действительно применимо. Хотя жалость не характерна для духа
античности, более соответствуя интимным душевным
переживаниям внутри христианской эпохи. Жалость — это отношение к Пану
со стороны христианства. С одной стороны, Пан вкупе со всем
сонмом языческих богов попал в разряд нечисти («бес полуденный»),
с другой стороны, в новой теистической религии проповедуется
влюбленная жалость к твари.
Для философии жалость неспецифична в качестве экзистенциа-
ла. Поэтому сейчас метафизика всеединства не столь актуальна.
А жаль...
На основе проведенной мифологической интерпретации
категории «всеединство» снова обратимся к философии Плотина и
попробуем указать на косвенное упоминание им этой интуиции «всего»,
угадывающей образ бога Пана.
Выше говорилось о том, что тема ужаса явно представлена
Плотином. Эмоция страха присуща душе, рискующей соединиться
с Абсолютом. Как отмечает П. Адо, цитируя Плотина: «"Душа
Терц Абрам. Прогулки с Пушкиным / Абрам Терц. Собр. соч. М.,
1992. Т. 1.С. 426.
2 Там же. С. 428.
148
Ю. M. РОМАНЕНКО. БЫТИЕ И ЕСТЕСТВО
падает навзничь" (VI 7, 22, 12) в испуге, когда созерцает мир
Форм».1 Как возникает страх? Душа, устремляясь по прямой к
Единому, видит чистый свет, узнавая в нем себя. Но у души еще
есть вращательное движение, и она, оглядываясь на отражение
этого света в зеркале материи, снова видит себя, но уже в образе
безобразного Пана.
Ужас в эпоху античности испытывали многие. Некоторые даже
искусственно нагнетали его, как, например, гностики. Плотину же,
по замечанию П. Адо, «страхи гностиков кажутся ему смешными:
"Пусть они оставят этот трагический тон, говоря о мнимых
опасностях, каким душа подвергается в мировых сферах! Эти сферы
испытывают к ней одну благосклонность» (II 9, 13, б).2
Взаимопереплетение страха и смеха является эмоциональным
отражением трансцензуса от идеи к материи. Плотин оказался
восхищенным трансцендентностью Абсолюта, но поставить вопрос
о воплощении Единого в мире он не догадался. Об этом не
догадываются вообще. Плотин согласился на вечное «бегство
единственного к единственному». П. Адо сравнивает одиночество Плотина
с одиночеством Паскаля. Отношение к одинокому проявляется в
перетекающих друг в друга страхе, смехе и жалости. П. Адо пишет:
«...на ум приходит страшная мысль Паскаля: "Мы смешны, находя
удовольствие в обществе себе подобных! Жалкие, как и мы,
беспомощные, как и мы, они нам не помогут; человек умирает одиноким.
Поступай же так, как если бы ты жил один"».3 В античности,
действительно, каждый умирал в одиночку — в еще одном опыте
встречи с Единым. Тогда еще не говорили о соумирании в Христе,
который во плоти смертью смерть попрал.
Адо П. Плотин, или Простота взгляда. С. 65.
2 Там же. С. 66.
3 Там же. С. 113.
Глава 2
ДОВЕРИЕ ВОЛЕ ТВОРЦА БЫТИЯ
Онтология в контексте средневекового теизма
Мост между античностью и Средневековьем позволяют
перебросить два ключевых слова: «угадывание» и «доверие»,
методологически различающие понимание онтологии в контекстах двух
великих эпох в истории человечества. Это два не сводимых друг к другу
метода отношения к бытию.
Угадывание понималось выше как сосредоточение на образе
самозамкнутого Абсолюта. Античный Абсолют грандиозен в своей
трансцендентности и независтлив, но не более того. Чем более
трансцендентным представляется бытие, тем большую степень
угадывания оно требует. Сила стремления к Абсолюту, вероятно, во
все времена имеет один и тот же коэффициент, но способы ее
реализации существенно различны. Чем более неподвижной
является трансценденция, тем большую скорость приобретают
относительные формы существования. «Прикосновение» к трансценден-
ции, говоря образно, оставляет след на непроходимой границе
трансцендентного и имманентного, по которому гадают об Абсолюте.
В Судьбу, знаками которой живут в античности, не веруют, —
ее угадывают. Проблески знамений ориентируют на бытие, но сама
по себе Судьба слепа. Представим себе, что должен чувствовать и
думать человек, угадывающий свою судьбу. Вернее, попробуем
догадаться. Он постфактум констатирует, что все его предыдущие
деяния были целенаправленными и целесообразными и
соответствовали знамениям судьбы, поскольку привели к нынешнему
состоянию вещей. Удовлетворительно ли это состояние? Сложно сказать,
ибо могло быть хуже, могло быть лучше: судьбу не выбирают,
достаточно и того, что имеется. Но что, собственно, имеется? Прямо
назвать невозможно — только в противоречащих суждениях. Нужно
ли этим дорожить? Такой вопрос, кажется, даже не ставится, ибо
все и так крепко держится в руках слепой Судьбы. Какую бы цену
ни заплатил человек, ему все списывается подчистую, коль цель
достигнута. А цель состоит в том, чтобы повторить «то же самое» —
попасть в точку смыкания линии судьбы в круг. Все возвращается
на круги своя.
150 Ю. M. POMAHEHKO. БЫТИЕ И ЕСТЕСТВО
Роковое обстоятельство тяготеет над самой судьбой — в целом
она неугадываема никогда и никем, даже несмотря на то, что
угадывание есть единственный адекватный метод отношения к
судьбе. Если же, паче чаяния, судьба угадывается полностью, то это
происходит «вдруг», в блефе. Насколько бы судьба ни угадалась,
в ее осуществлении можно развернуться и «оглянуться назад»,
перечеркивая загаданное (об интенции «оглядки», прямо
противоположной угадыванию, будет сказано позже).
Обрисовывая сейчас в несколько недоверчивом тоне
методологический мотив угадывания, на который была обречена судьбой
онтология античности (со всеми непроизвольными ошибками,
сопровождающими действия блефующего игрока-мудреца),
необходимо остановиться и спросить: не было ли все-таки прецедента
абсолютного угадывания судьбы и тем самым ее одоления в ее же
пределах? Такого угадывания, которое предсказало бы переход от
космоцентрической античности к теоцентрическому Средневековью,
основывающемуся уже на вере в трансцендентного личного и
личностного Бога. Иначе говоря, каково соотношение угадывания и
веры в онтологическом плане?
Благодаря реализации метода угадывания удается обрести
знание о бытии. Хотя гадание и знание — это разные, но
взаимодополнительные вещи, подобно тому как позднее будут различать
веру и знание. Знание само по себе нейтрально и незаинтересованно;
угадывание же и вера всегда тенденциозны. «Объект» этих
тенденций один и тот же — бытие.
И античность, и Средневековье были в истории. Прошлое уже,
надо полагать, неотменимо никем. Но раз они были, то в их событии
имелось так или иначе знание о бытии. Даже если мы думаем, что
никакого прошлого не было и никакого будущего не будет, а есть
только настоящее, в котором мы выдумываем себе прошлое и
будущее, то все равно, пусть даже в качестве выдумки — прошлое
и будущее есть. Поэтому каким бы новым по отношению к
прошедшей античности ни считало себя Средневековье, оно сохраняет
в себе античность как онтологическую категорию. Следовательно,
античность все-таки сумела разгадать судьбу, заключающуюся в
том, что она должна была рано или поздно смениться новой эпохой.
Смена эпох произошла как творение нового из небытия. Сам
исторический переход осуществился в соответствии с онтологической
монотриадой.
Уникальный случай максимального угадывания представлен в
книге В. Н. Топорова «Эней — человек судьбы». Личностью, в
которой «воплотилась» сама Судьба, оказался изгнанник-избранник
Эней, определяемый В. Н. Топоровым именно как «человек судьбы».
Действительно, можно сказать, что смысл античности реализовался
в жизнетворении героя Вергилия. Эта эпоха, уступая историческое
КНИГА I. ДОВЕРИЕ ВОЛЕ ТВОРЦА БЫТИЯ 151
место наступающей, передала ей в дар в качестве исторической
эстафеты некоторую непреходящую идею-смысл, явившуюся
необходимым, хотя и не достаточным условием тех последующих
исторических событий, которые преобразили лицо мира. Античность
была тем позитивным небытием, из которого было сотворено к
бытию Средневековье. Онтологическая триада действует и в
истории. Каковы же обстоятельства, благоприятно повлиявшие на то,
чтобы Эней исполнил и оправдал Судьбу и вытекающие из нее
онтологические следствия?
Обратим внимание прежде всего на то, как В. Н. Топоров
реконструирует методологические аспекты отношения к судьбе.
В IV главе своей книги с симптоматическим названием,
заимствованным из поэтического наследия А. С. Пушкина, «Куда ж нам
плыть?.. (Вопрошание-поиск. Путь. Становление человека.
Нахождение себя)», он характеризует методологию угадывания так:
«Понятие поиска, искания для Энеиды, особенно для первой ее,
"морской" части очень существенно. В нем указание метода, который
изгнанникам, вверившимся морю, нужно усвоить. У Вергилия это
понятие передается глаголом quaero ... не просто "искать" и не
только определенная конкретная механическая операция (искать
какую-то вещь): важно, что это некая ментальная операция,
предполагающая определенные временные условия, определенную
стратегию, определенный тип субъекта этой операции. В quaero
присутствует указание на разные способы самого поиска — можно
разыскивать нечто глазами или расспрашивать, наводить справки
о нем, разузнавать, выпытывать (ex-quiro и значит "пытаться", т. е.
вступать в область риска), "выбирать". Все эти частные действия
предполагают общую основу — идею ис-следо-вания: русский
языковой код в данном случае особенно показателен, так как он
отсылает к физическому субстрату: ис-следовать значит, во-первых,
след-овать (т. е. идти, двигаться за кем-то или за чем-то по следу,
что предполагает усиление "знаковой" чуткости, выявление всего
того, что может оказаться знаком-следом совершающегося
движения), и, во-вторых, следовать универсально — повсюду, во всех
отношениях, до исчерпания, до конца, пока пространство поиска не
будет об-следовано полностью, т. е. исхожено вдоль и поперек с
гарантией, что искомое будет найдено, задача окажется решенной».1
Как видим, в методе «поиска» указан как существенный момент
«блеф»: искомое в поиске присутствует, отсутствуя, равно как и
сам ищущий, еще не идентифицировавший себя с тем, что он ищет.
Далее В. Н. Топоров проводит этимологический разбор: «...уместно
напомнить, что quaero восходит к и.-евр. *kuei = "наслаивать",
"выстраивать", "складывать в определенном порядке", "делать"...
1 Топоров В. Н. Эней - человек судьбы. М., 1993. С. 89-90.
152 ΙΟ. Μ. РОМАН EH КО. БЫТИЕ И ЕСТЕСТВО
Этот и.-евр. корень издавна употреблялся для обозначения
творчества и субъекта этого творчества — поэта, ср. соответствующие
значения в др.-греч. ποιητήζ, ποίησιζ. ποιεω... в основе которой могла
лежать идея некоего упорядоченного выстраивания (ср. слав.
*cin:""Cimti того же корня), такой искомой конструкции-
композиции, завершение которой приводит к нахождению цели
всего этого акта...»1
Онтологически поиск Энея начинается с чутья «тесноты» Трои,
а заканчивается «просторностью», «вместительностью» новых
земель, свободных для осваивания. Целью всего движения становится
основание Рима, будущего центра мира, «царицы дорог». Таким
образом, по мнению В. Н. Топорова, Эней творчески преобразовывает
пространство и время: «круг "вечных возвращений" разомкнут,
время стало линейным, его стрела устремлена в будущее, и там
утверждается новый, подлинный центр ... поэтому Энеида должна
рассматриваться как великий мессианский текст».2
Эней — мифологическо-литературный персонаж, и у него есть
автор — Вергилий. Если даже Эней не является классическим
образцом преодоления судьбы внутри нее самой ее же средствами,
то Вергилию, сумевшему создать данный образ, это удается. В чем
отличие автора мифа от его героя? «Разве не сливаются они в
чем-то неуловимо важном? И разве спасение Энея не было
"спасением" Вергилия — одно на двоих?»3 В. Н. Топоров, отмечая
«взаимное порождение: Энея — Вергилием, Вергилия — Энеем»,4
оговаривает также некую точку вненаходимости автора по отношению
к своему герою (употребляя термин M. М. Бахтина). Ту точку,
которая находится, вероятно, уже вне пределов досягаемости
судьбы. Поэт — творец своей судьбы. Не случайно, что Данте берет
Вергилия своим проводником. Поэт-творец пророчит судьбу
изнутри, совпадая с героем своей поэзии. Но чтобы это было
действительно творение, образ героя должен быть создан из небытия. Для
этого необходимо дать ему возможность свободного появления.
По всей видимости, античность исчерпала метод угадывания,
когда была достигнута мера образного постижения бытия. Вергилий
создал такой образ, которым был сам полностью захвачен и
переброшен в какое-то новое состояние существования. В. Н. Топоров
пишет: «И все-таки автор, кажется, знал и то, что, видимо, не
подозревал его герой. Едва ли ища спасения и достигнув его, Эней
мог представить себе, что оно — в отречении, означающем обретение
или — сильнее — в поражении, неотличимом от победы, по слову
1 Топоров В. Н. Эней — человек судьбы. С. 90.
2 Там же. С. 124.
3 Там же. С. 141.
1 Там же.
КНИГА I. ДОВЕРИЕ ВОЛЕ ТВОРЦА БЫТИЯ 153
поэта. Но создатель Энея, похоже, догадывался об этом — о связи
того и другого, об их глубинном сродстве. Отсюда — не раз
обнаруживающий себя в поэме привкус печали. И если верна эта
"догадка о догадке" Вергилия и все действительно так, то и в
Энеиде присутствует тот же отсвет будущего».1 Обратим внимание,
что В. Н. Топоров прямо указывает на «догадливость» Вергилия
и, более того, оборачивая метод на самое себя («догадка о догадке»)
и исчерпывая тем самым его, дает возможность начаться новому
методу.
«Блуждание-поиск» как основная форма деятельности Энея —
классического образца европейского человека — интерпретируется
В. Н. Топоровым в свете хайдеггеровской философии. Судьба Запада
видится в сокрытости истины — алетейи, которая по определению
должна быть не-потаенной. Человек вынужден блуждать и
проходить в поисках всегда мимо самоочевидной истины. Движение по
кругу не исключает обращение вспять — оглядку, но даже
подразумевает ее.
Оглядка — это угадывание с точностью до наоборот. Или иначе:
если первый шаг угадывания при удаче задает цикл движения
мысли, то второй шаг прокручивания того же самого является
оглядкой — повторением кругового движения на еще один оборот.
Идти наперекор судьбе означает полностью исполнить все ее
повеления.
Без-оглядное стремление к цели достигает своего результата в
точке самозамыкания целого. Этот ставший результат Аристотель
называл энтелехией — пребыванием-в-состоянии-уже-достигнутой-
цели. В этой странной точке (платоновский момент «вдруг») бытие
и небытие равноправны, и из нее можно двигаться в любую сторону:
как по ходу вращения исходного цикла, воз-вращаясь к тому же
самому, так и против вращения, раз-вращаясь в расподоблении.
Если бы человек постоянно боязливо оглядывался в тщетной
надежде найти гарантированный путь, у него не хватило бы сил
на достижение цели при рискующем угадывании. Оглядка есть
остановка движения. Поэтому она всегда табуировалась, как
запрещают канатоходцам и скалолазам смотреть вниз. Нарушение
запрета неминуемо грозило смертью. Так, Орфей, который, выходя
из Аида, обернулся, внимая мольбам, увидел только «черную дыру»
и сразу же был растерзан менадами. В других случаях оглянувшийся
человек превращался в столб. Как бы там ни было, но оглядка
является роковым проклятием угадывания. Какую силу воли нужно
иметь, чтобы не поддаться соблазну оглядки? Волю нужно
тренировать, но методология угадывания не разрабатывает упражнений,
усиливающих ее.
1 Там же. С. 141-142.
154 Ю. M. РОМАН EH КО. БЫТИЕ И ЕСТЕСТВО
Когда человек загадывает свою судьбу и воображает себя в новых
условиях, он всегда должен уметь идентифицироваться со своим
создаваемым образом. Для этого уже нужно оглянуться: того ли
себя он воображает. Вся разгадка судьбы заключается в настройке
творческого воображения. Или иначе: в переходе от образа к
воплощению. Угадывание — это вхождение в состояние творящего
воображения, а оглядка — его остановка. Античность догадливо
достигла своего адекватного образа, но, оглянувшись на него, увидела
свое отражение в Пане и замерла в страхе и смехе.
Определив метод «угадывания», В. Н. Топоров применяет его
в сравнительном анализе Энея и Авраама, выдвигая догадку-
гипотезу о своеобразном «единстве "человека судьбы" и "человека
Бога"».' Он пишет: «В типологической классификации религиозного
сознания людей веры Эней стоит рядом с библейским Авраамом и
мог бы быть назван "средиземноморским Авраамом". Разве не то
же ли слышал не раз Эней свыше, что и Авраам?»2 Действительно,
кто-то должен быть признан символической фигурой перехода от
космоцентризма к теизму. Пусть это будет Эней — поставим на
него угадывающим чутьем. Можно обнаружить типологическое
сходство жизненных структур Энея и Авраама, но это не отменяет
их радикального онтологического различия, прежде всего
наблюдаемого как различие методов «угадывания» и «доверия» или,
шире, «веры», под знаком которой существует Средневековье,
доверившееся воле Творца, воплощающего свой Образ в небытии.
В античности веру в Бога заменяла идея или миф «вечного
возвращения», выполняющего чисто религиозную функцию
утешения и обретения спокойствия перед лицом космических стихий и
неминуемой смерти. Вера («пистис») рассматривалась как один из
гносеологических моментов, наряду с мнением («доксой») по поводу
очевидности. Верилось в то, что боги не завистливы (не более того,
но и не менее). Это давало шанс на успех в риске теургии, в акте
которой требовалась не вера, а угадывающее чутье мудреца.
Миф «вечного возвращения» — уникальная конструкция
человеческого ума и чутья, специфический онтологический концепт.
Из него вытекают и философское учение о знании-припоминании,
и этические нормы, и эстетические ценности, и соответствующая
физическая модель циклического времени. Доктрина душепересе-
ления и душевоплощения (метемпсихоз, метемсоматоз) находит
свои основания в психофизиологических и ментальных особенностях
человеческого существа. Вместе с тем, доведенная до своего
логического завершения, эта доктрина разрывается в противоречиях.
В самом деле, что означает «возвращение того же самого»? Под
1 Там же. С. 35.
'"' Там же. С. 34.
КНИГА I ДОВЕРИЕ ВОЛЕ ТВОРЦА БЫТИЯ 155
эту концептуальную схему подпадают и изречения Парменида, и
формально-логический закон тождества, утвержденный
онтологически Аристотелем. Вместе с тем это положение было неким законом
жизни. Не самой жизнью, но именно ее законом, что следует из
его определения — «устойчивая повторяемость взаимосвязи
явлений». Закон диктует жизни себя, и он всегда прав. Если же в
жизни случаются какие-либо спонтанные отклонения, то это всего
лишь исключения из правил, лишний раз подтверждающие
незыблемость закона. Чтобы исполнить закон, нужно «повторить то же
самое». Причем не насильно, а естественно, как нечто само собой
разумеющееся.
Критики мифа «вечного возвращения» ломятся в открытую
дверь, когда опровергают его, ссылаясь на опыт: дескать, когда мы
что-то делаем, то всегда получается нечто иное, не тождественное
предыдущему. На это можно возразить точно таким же аргументом,
предложив обернуть опыт: попробуйте создать нечто принципиально
новое, и вы увидите, что получилось то же самое старое. Миф
«вечного возвращения самотождественного» преодолевается другой
стратегией. Этот миф, впрочем, даже не нужно преодолевать. Пусть
себе вращается. Он не мешает возникновению нового.
Несмотря на то, что миф «вечного возвращения» господствовал
над античным человеком, но реализовать его в «этой» жизни
удавалось немногим избранным. Так, по признанию Порфирия, Плотин
четырежды исполнил этот миф, испытав четыре раза экстаз —
слияние с Единым, самотождественным, по собственному
определению. Еще одним примером реализации «вечного возвращения»
была судьба Пифагора, зафиксированная в свидетельствах
пифагорейцев.
Согласно идее «кругообращения душ», человек по смерти
проходит воды реки забвения Леты, смывающие с его души
воспоминания о прежней жизни. По прохождении определенного срока
душа получает по заслугам и жребию возможность вселиться в
новое тело, воплощаясь в нем обновленной и очищенной от груза
прежних воспоминаний. Не помнится даже старое имя. Никто из
смертных не может избежать прохождения «летических вод», так
как они отовсюду замыкают границу дольнего и горнего миров.
Однако некоторым мифологическим героям удавалось разыскать
«броды», через которые контрабандой переносились знания. Эти
герои явились гарантами платоновской гносеологической
концепции знания как припоминания. Наиболее отличившиеся мудрецы
помнили свои предыдущие инкарнации и предвидели будущие,
т. е. могли держать в одном взоре одно и то же событие,
распределенное по всем их жизням. Так, Пифагор, по преданию, помнил
несколько своих реинкарнаций. Он, стало быть, либо «сухим»
вышел из вод реки Леты, либо нашел мостик или тоннель.
156 Ю. M. РОМАНЕНКО. БЫТИЕ И ЕСТЕСТВО
Оспорить этот миф невозможно никакой аргументацией. Хотя
он и не имеет силы религиозной веры или научного убеждения,
но питается какой-то своей неведомой энергией, а именно энергией
всеобщего оборотничества. Чтобы вывести эту энергию из потаен-
ности и затем, доведя до абсурда, преобразовать в иную энергию,
необходимо усложнить ситуацию. Допустим, что некий человек
оказался участником и встроенным свидетелем реализации мифа
«вечного возвращения». Это его сугубо персональное дело. Но как
он изложит это другим? Если бы вдруг Пифагор явился сегодня и
вновь стал описывать свои прежде осуществленные жизни, мы не
нашлись бы чем ему возразить и усомниться. Для идентификации
личности нужно потребовать предъявить документ. А какие
документы оставила о себе античность?
Разгадка и преодоление («снятие» по-гегелевски, если угодно)
мифа «вечного возвращения» находится в письменности. Именно
с помощью записи можно возвращать что бы то ни было вновь и
вновь. Настоящее нужно уметь записать для будущего так, чтобы
оно не утратило своей самотождественности, когда станет прошлым.
Античность приготовила все необходимые терминологические и
интеллектуальные предпосылки для догматического
формулирования практически всех онтологических постулатов средневековой
философии. Это, в первую очередь, относится к религиозному
теистическому догмату творения и догмату боговоплощения.
Достижения Парменида, Платона, Аристотеля и других в этой области
имеют непреходящее значение. Но в целом, в силу вечного характера
кругообращения Космоса и принципа невозникаемости и неуни-
чтожаемости эйдосов и материи, о творении их из небытия
античность умолчала. Вопрос этот дискуссионен, но мы придерживаемся
точки зрения, что принцип креационизма, а тем более воплощения,
не вполне выражен античным мышлением, хотя философская почва,
из которой он мог бы вырасти, была практически подготовлена,
были налицо даже все необходимые языковые средства: абсолютное
ничто (укон), творение (пойезис), мир (космос), сущее (онтос) и др.
Не хватало самого малого — запечатления всего этого благодатью
личного Бога.
По принципиальным темам античность и Средневековье имеют
параллели. Это относится к корреляции следующих понятий:
«эманация» и «креация» (творение), «Судьба» и «провидение Бога»,
«Космос» и «Теос», «Космос» и «История», «хаос» и «дьявол»,
«миф» и «откровение», «предание» и «писание», «вера» и
«внимание к знамениям», «вера» и «исполнение закона» и др. Внутри
этих диалектических понятийных пар исторически сложились
весьма напряженные отношения вплоть до контрадикции и исключения
одной стороны другою. Такова диалектика перехода от одной эпохи
к следующей: между ними существует и прямая линия преемст-
КНИГА I. ГЛАВА 2. § 1. БИБЛИЯ
157
венности, и кардинальный разрыв. Слово «эпоха» по-гречески
означает «задержка», «остановка». В философии скептицизма термин
«эпохе» служил для гносеологического выражения некоей
остановки мышления, находящегося между бытием и небытием, когда
невозможно сказать ни того, что бытие есть, ни того, что небытия
нет, а также, vice versa, ни того, что бытия нет, ни того, что
небытие есть. Это зависание мышления между бытием и небытием
делает его совершенно свободным и абсолютно творческим. Все
прежние философские принципы и понятия, особенно
онтологическая монотриада, должны быть обновлены и наполнены иным
содержанием, соответствующим специфике новой эпохи.
В момент онтологической «задержки» с природной и
исторической необходимостью, но прежде всего по благодати свыше,
свершилось Событие. Этим однократным фактом эмпирической и
Священной истории, чудотворно преобразовавшим космическую и
историческую действительность, внесшим новый смысл в душу
развивающегося, но и истощающегося мира, стало воплощение
Логоса — Богочеловеческое рождение Иисуса Христа, Его Крестная
смерть и Воскресение.
С этого момента онтологическая монотриада «бытие—ничто—
творение», оставаясь той же самой терминологически,
содержательно интерпретируется радикально иным способом, в свете новой
методологии.
§ 1. БИБЛИЯ
Бытие в дар.
Теистический принцип творения
По соседству с древнегреческой культурой и цивилизацией
развивалась иная традиция — библейская. Между этими достаточно
разнородными культурами существовал напряженный обмен
информацией, но в целом каждая из них сохраняла свои собственные
принципы. В процессе сравнительного анализа, представляющего
собой нахождение пунктов тождества и различия, весьма
проблематичных и дискуссионных, нас будет интересовать прежде всего
онтологический аспект в его методологическом и предметном
измерениях. Если Древняя Греция подарила человечеству идею
философии, единой и универсальной, в пределе стремящейся к
свободному осмыслению мировой жизни, то в Ветхом Завете
культивировалась вера в единого Бога, исполняемая по Закону,
зафиксированному в Священном Писании.
Практика философского знания и опыт религиозной веры могут
рассматриваться в абсолютном отрыве друг от друга. У такого
158
Ю. M. РОМАНЕНКО. БЫТИЕ И ЕСТЕСТВО
максимального разведения двух коренных потребностей и
способностей человека есть особые основания, заложенные в глубинах
философии и религии. Мы придерживаемся позиции, что истины
разума и веры не противоречат и не отменяют друг друга, а если
между ними и возникает противоречие, то это противоречие
творческое, способствующее развитию и не отменяющее ни одно, ни
другое. И активно мыслящий разум, и искренняя вера в идеале
взаимообогащают друг друга, так как имеют единый источник,
формы приобщения к которому могут быть многообразными. В
наши задачи будет входить философское осмысление этого
соучастия, насколько вообще возможно для философии касаться этой
темы.
Согласно традиционным взглядам, античную философию
квалифицируют как основанную на политеистических воззрениях, а
ветхозаветную религию характеризуют как монотеистическую.
В этом есть свои резоны, но для обоснования этого различия
необходим строгий терминологический анализ. С философской точки
зрения многое (поли-) и одно (моно-) являются всего лишь
абстрактными моментами общей диалектической категории всеединства.
Мы уже могли убедиться, что и в древнегреческой философии было
достаточно «монотеистов», начиная с Гераклита (для него Логос
един и трансцендентен) и Анаксагора (у него Ум-Нус правит миром
единолично), заканчивая Плотином (у него Единое даже более транс-
цендентно, чем божество).
В последнее время высказывается точка зрения, которой мы
придерживаемся, что проблема заключается не в онтологическом
противопоставлении «поли» и «моно». И «многое», и «одно»
равноправно и равновероятно существуют в онтологическом «счете»,
которым занимается такая онтологическая дисциплина, как ариф-
мология. В конце концов, диалектический метод способен
справиться с этим числовым противоречием хотя бы формальным
образом. Действительно, в древнем и современном употреблении этих
понятий-чисел термин «моно» означает выделенность одного
элемента из множества («поли») остальных. Основная проблема здесь
состоит в том, как понимать эту выделенность (избранность), как
она случается и какими средствами достигается, а также что такое
«остальное», оставшееся после операции избирательности, и зачем
этот «остаток» нужен. Эта проблема имеет непосредственное
отношение к онтологической триаде в арифмологическом ее измерении.
Все архаические народы начинали в принципе с политеизма и
стремились в дальнейшем, так или иначе, прийти к монотеизму.
Сложнее выяснить, как это осуществлялось исторически, как
выражалось и трактовалось.
Для осмысленного уяснения сути проблемы немаловажно
различие арифмологических понятий «единое» (hen) и «одно» (mono).
КНИГА I. ГЛАВА 2. § 1. БИБЛИЯ
159
«Единое» едино на всех, оттого оно трансцендентно. «Моно» есть
одно из многих, не обязательно объединенных в тотальности «всего».
«Моно» должно каким-то образом отличаться от остальных
элементов множества, быть имманентным себе самому. В таком случае
«моно» избирается из «многого», оставляя его ущербленным на
единицу. «Многое» изначально есть то, к чему может прибавляться
или от чего может отниматься «одно». Таким образом, «моно» не
трансцендентно остатку «многого», в отличие от «единого». Для
«всего» безразлично, много или мало у него элементов; пусть даже
будет у него всего лишь нечто «одно», тогда это «одно» и будет
«всем», ведь больше ничего нет. «Все» может быть даже вообще
без элементов. «Единое» так соотносится с «одним», как «все»
соотносится со «многим». Таким образом, понятия «единого» и
«всего» имеют трансцендентный характер, а понятия «одного» и
«многого» трактуют состояние имманентности. «Одно» имманентно
себе самому в сравнении его с другими «одними» в «многом».
«Многое» вдруг становится «всем» благодаря исхождению
«единого» в каждое «одно» «многого» (переход трансцендентного в
имманентное).
Таким образом, если в религиозных целях необходимо
подчеркнуть трансцендентность Абсолюта, то корректнее взять термин
«Единое» (hen), тогда религия может быть аттестована как гено-
теистическая и претендовать на универсальность. Если же важно
подчеркнуть имманентный характер, тогда естественно употребить
термин «моно», и, соответственно, составной термин «монотеизм»
будет выражать активность уникального религиозного
избирательного действия наряду с другими уникальностями, формальное
сочетание которых создает ситуацию «политеизма». Завершенность
множества, в котором каждое «одно» объединено со всеми другими
«одними», сколько бы их не было, означает состояние «пантеизма».
Мы привели эту арифмологическую аналитику для того, чтобы
показать, что термины «политеизм» и «монотеизм», ставшие
расхожими ярлыками, с помощью которых различают древнегреческую
мифологию и библейскую религию, имеют структурную
взаимосвязь, понимаемую особым образом.
Рассматривая в целом соотношения понятий «единое», «одно»,
«все», «многое», важно не подменять их друг другом и не сводить
друг к другу, но удерживать их в четверичной «системе координат».
Дело в том, что «единое» не может не быть «одним», а «все» не
может не быть «многим», хотя между ними невозможно поставить
знака равенства и тождества. Как исходные имеются две формулы:
«единое всего» и «одно многого», между которыми существует
напряженная система взаимозависимостей. Эта система
взаимопреобразований, инвариантом которой является арифмологическое
число «четверица», полна и всюду обозрима и формализуема с точки
160 Ю. M. РОМАНЕНКО. БЫТИЕ И ЕСТЕСТВО
зрения диалектики. В этом отношении она максимально абстрактна
и абсолютна, являясь как бы сухой схемой творчества.
В своем проекте «абсолютной мифологии», которая по замыслу
с необходимостью является системой «универсальной диалектики»,
А. Ф. Лосев диалектически объединяет категорию «творения» с
категорией «всеединство». Он пишет: «Антиномия сознания и бытия
синтезируется в творчество. Чтобы творить, надо, очевидно,
как-то затратить сознание вообще или какие-нибудь его стороны,
но оставаться в области сознания для творчества недостаточно и
надо, чтобы сознание как-то переходило в бытие и отражалось в
нем. Абсолютная мифология есть креационизм, или теория
творчества. Творчество никак не удается понять большинству
представителей "науки". И неудивительно. Чтобы понять творчество,
надо понять сознание. А сколько существует праздных и вздорных
теорий сознания, зачастую прямо уничтожающих его в самом корне!
Вот простая диалектическая формула выведения "сознания".
1) Каждое А диалектически получается путем отграничения от
всего иного и противопоставления ему. 2) Допустим, что мы перебрали
все, что было, есть и будет; и имеем не одно А, но все А и не-А,
какие только могут быть. 3) Чтобы диалектически вывести это все,
надо его чему-то противопоставить и чем-то ограничить, надо его
чем-нибудь отрицать. 4) Но ничего иного уже нет, ибо мы условились
взять именно все. Стало быть, все может быть противопоставлено
только самому же себе, ограничено только самим же собою. 5) Но
кто будет совершать это противополагание? Так как никого и ничего
нет, кроме этого всего, то противополагать будет само же это все,
т. е. все будет само противополагать себя себе же. 6) Это и значит,
что оно будет иметь сознание. Если бы мы глубже понимали эту
категорию во всей необходимости, самостоятельности и
несводимости на все прочее, то мы поняли бы такую же необходимость,
самостоятельность и несводимость категории творчества».'
Творение из небытия означает создание всего, сразу и вдруг,
это уничтожение небытия между изолированными многими
«одними». Творение осуществляется сознательно, но одного сознания
недостаточно, даже если это диалектическое сознание, нужно
еще приложить волю к этому, которая не выводится ни из каких
схем.
Разумеется, все подобного рода диалектические дедукции можно
деконструировать сколь угодно много, придираясь к каждому
термину, союзу, приставкам и суффиксам и т. п. Деконструкция всегда
проверяет на прочность диалектическую систематику и аналитику,
но диалектика, подвергшись деконструкции, на следующем шаге,
Лосев А. Ф. Диалектика мифа / ■ Лосев А. Ф. Из ранних произведений.
М., 1990. С. 588-589
КНИГА I. ГЛАВА 2. § 1. БИБЛИЯ
161
как возрождающаяся из пепла феникс, берет реванш, поскольку
она обладает монополией и привилегией пользоваться категорией
«всё». Значит, и деконструкция находится во «всём», пусть даже
и являясь постоянной занозой во «всеединстве».
В результате проведенной арифмологической аналитики
принципа «всеединства» имеется возможность использовать
вышеизложенные концептуальные схемы и приемы для характеристики
средневекового теоцентризма, имевшего в себе гено-, моно-, поли-,
пантеистические тенденции Древнего мира. Все эти тенденции
являются моментами единого диалектического процесса в
преломлении его логических и исторических составляющих.
Об онтологических результатах античности было сказано в
первой главе. Теперь необходимо сопоставить эти результаты с идеями
божественного Откровения, которое было богодухновенно
закреплено в первой части Библии — Пятикнижии, где в особом свете
представлены все метафизические и онтологические темы. Одним
из примеров функционирования системы «всеединства» в аспекте
принципа творения служит, в частности, такой факт Священной
истории, изложенной в Библии, как пребывание древнееврейского
народа в «египетском плену». Оно может быть проинтерпретировано
как пребывание во «всём», поскольку Египет того времени был
мистическим центром духовного мира, откуда черпали
эзотерические знания все, в том числе и древние греки. Слово «плен» по
смыслу отсылает к понятию «полнота» (плерома). Монотеистическая
богоизбранность одного народа, т. е. размыкание полноты «всего»,
выразилась в символическом описании бегства, исхода из плена,
со всеми сопутствующими этому процессу чудесами. Последующее
развитие Священной истории привело к возвращению в обновленное
уже Новым Заветом всеединство. Накануне возникновения
христианства становление земной истории с необходимостью должно
было привести к установлению великой Римской империи как
этногеографической возможности «всеединства», духовным
фундаментом которой был философско-религиозный синкретизм и
эклектизм, допускавший беспрепятственно вводить и выводить из
множества всякую единичность и поэтому сам собою еще не бывший
способным сплотить мозаичное многообразие во всеединство.
Рассмотрим подробнее, как в тексте Библии отражается
онтологическая монотриада. Субъектом бытия и творения, или
верховной онтологической инстанцией, ответственной за избрание «одного
из всего», в частности при выводе из «египетского плена», является
Господь Бог, Яхве. «Яхве, Йахве, Ягве (евр. YHWH) в иудаизме
непроизносимое имя Бога. Согласно ветхозаветному преданию, было
открыто Богом Моисею в богоявлении при горе Хорив. Когда
Моисей, которому Бог явился в неопалимой купине, спрашивает его,
"как ему имя", Бог отвечает речением: "Я есмь Сущий" (Исх. 3, 14).
162 Ю. M. РОМАНЕНКО. БЫТИЕ И ЕСТЕСТВО
Далее Бог говорит Моисею: "Являлся к Аврааму, Исааку и Иакову
[как, то есть под именем]: "Бог всемогущий" (Эль-Шаддай, 'el
saddây), а под именем моим "Господь" [Яхве, YHWH] не открылся
им" (6, 3) — раскрытие этого имени рассматривается, таким образом,
как знак особого откровения, данного Моисею».
А. В. Ахутин так онтологически интерпретирует этот библейский
фрагмент: «Бог по просьбе Моисея именует себя Яхве, т. е. "Сущий":
"Я есмь Сущий" — "Eycb eiui ô ôv". Иными словами, бытие — это
как бы собственное имя Бога. Из этого самооткровения или
самоистолкования Бога исходит вся средневековая онтология.
Принципиально отличает эту онтологию от античной, скажем неоплато-
нистской, идея творящей воли Бога, идея творения как свободного
волеизъявления. Не единое эманирует миром, а Творец своей благой
волей наделяет бытием, творя мир из ничто». А. В. Ахутин
воспроизводит устоявшиеся общие положения относительно
различения между эманацией и творением как радикально
противостоящими друг другу способами создания мира, но это отношение еще
нуждается в достаточно серьезной корректировке и уточнении. В
целом А. В. Ахутин совершенно справедливо указывает на
онтологический аспект библейского понимания Бога. Он пишет: «Бог не
просто есть в собственном смысле слова, не просто заключает в себе
полноту бытия, он есть, если можно воспользоваться не очень
подходящим термином, субъект бытия. Не бытие есть основание для
понимания Бога, а Творец — основание для определения того, что
значит быть. Все, что ни есть, одним только фактом своего бытия,
сколь бы ничтожным оно ни казалось, причастно Богу, т. е.
соучаствует в его творящем деянии. Все причастно Богу, поскольку хоть
как-то есть, и все есть, поскольку как-то соучаствует в божественном
творчестве».3
М. Б. Мейлах подчеркивает акустическую онтологическую
особенность Богоявления как Сущего, поясняя, что «в соответствии с
запретом в практике иудаизма (фиксированным десятью
заповедями) на произнесение имени Бога "всуе" (Исх. 20, 7; Втор. 5, 11)
имя Яхве, пишущееся по законам еврейской письменности четырьмя
согласными буквами — YHWH (т. н. тетраграмматон), долгое время,
по преданию, произносилось вслух неслышно для окружающих раз
в году (в День очищения) первосвященником, причем тайна его
звучания устно передавалась по старшей линии первосвященничес-
кого рода. С III в. до н. э. произнесение этого имени было полностью
1 Мейлах М. Б. Яхве // Мифы народов мира: Энциклопедия. Т. 2.
М., 1992. С. 687.
2 Ахутин А. В. Понятие «природа» в античности и в Новое время.
М., 1988. С. 25.
3 Там же.
КНИГА 1. ГЛАВА 2. § I. БИБЛИЯ
163
табуировано... ».' Произносить имя Бога человеку нельзя, можно
только слушать, когда голос самого Господа изрекает Себя в
собственном Имени, если Он до этого нисходит. «Традиционное
истолкование и принятое в Новое время (подтверждаемое древними
внебиблейскими — греческими, ассиро-вавилонскими и другими
источниками) чтение тетраграммы как Яхве исходит в первую
очередь из ее пояснения в приведенных словах Бога — "Я есмь
Сущий", связывающих ее с глаголом hyh (hwh) со значением "быть"
и "жить". Буквальное значение имени может быть понято, в
зависимости от значения грамматического, либо как "Он есть" (в смысле
действенного присутствия) или "Он есть (Бог) живой", либо как
"Он дает жизнь" (возможно также соответствующее номинальное
истолкование — как "бытие", "присутствие" или же "создатель",
"творец"). Предложены были и иные толкования, связывающие
имя Яхве со значением дуновения, дыхания, опять-таки творящего,
или объясняющие его как "роняющий молнии и дождь", т. е.
громовержец, бог плодородия, наконец, — как "бог говорящий"».2
Формально онтологическое понимание непроизносимого в
гласных звуках мистического имени Яхве напоминает онтологическое
истолкование плотиновского Перво-Единого. Как Господь оповещает
себя: «Аз есмь Сущий» (т. е. он есть тот, кто он есть, и ничто
иное), так и Плотин характеризует свой Абсолют, Единое: «оно
есть оно само» (Эн. VI 9, 6). Представление Единого в местоимении
среднего рода «оно» не должно смущать, чаще всего Абсолют у
Плотина выражается мужским родом, хотя, по всей видимости, в
отношении Единого дифференциация пола бессмысленна.
Платонизм онтологически выражает оптический способ встречи
с Абсолютом, результирующийся в световой развертке образа
Единого, в отличие от ветхозаветной религиозно-мистической практики,
где на созерцание образа Бога наложен жесткий запрет — можно
лишь чудесно слышать Его повелевающий Голос, и более того,
вступать с Ним в диалог, вплоть до спора, тяжбы и торга. В этом
отношении, для того чтобы создать условия для трансцензусов
между отдельными чувствами, одно из них блокируется, на его
деятельность налагается запрет, а вся энергия целостного существа
переводится в избранное чувство: в платонизме — предельно
раскрытые глаза навстречу свету на фоне священнобезмолвия (исихии);
в иудаизме — отворачивание взгляда от смертоносного Образа Бо-
жия («нельзя увидеть живого Бога, чтобы не умереть») и
пристальное вслушивание в зов трансцендентного. Эти онтологические
различия явились предпосылками различия обеих духовных традиций,
1 Меилах М. Б. Яхве. С. 687.
2 Там же. С. 688.
164 Ю. M. РОМАНЕНКО. БЫТИЕ И ЕСТЕСТВО
которые рано или поздно должны были принципиально встретиться
и сложиться в новый синтез.
Установлено уже, что основной метод онтологии в античности —
это угадывание бытия. Онтологическая схема Ветхого Завета
требовала применения к себе иной методологии, а именно: исполнения
религиозного Закона. Если пифии, введенные в транс испарениями
галлюциногенных источников, излагали пожелания слепой Судьбы
в невнятных предсказаниях, нуждающихся в угадывающем
истолковании, то пророки как соавторы Священного Писания
транслировали речения Бога в полном сознании. Пророки излагали Закон,
который должен был поставить человека перед выбором: если
исполнишь его, то гарантированно получишь то-то и то-то; если же
не исполнишь, случится нечто контрадикторно противоположное
онтологически. Да — да, нет — нет, а третьего не дано. Формально
это напоминает онтологизированный логический закон тождества
по Аристотелю, хотя содержание здесь иное. Эмпирический закон
всегда запрещает что-либо делать (как демон Сократа) и
устанавливает меру наказания за нарушение закона. Что же конкретно
делать в позитивном смысле, эмпирический закон не предрекает:
разрешено все, что не запрещено. Онтологический Закон требует
исполнить однозначно свое содержание (подобно принципу
«повторения того же самого», но в ином контексте и смысле): повторить
на деле то, что высказано в волевых словах. Однако специфика
Божественного Закона, трансцендентного по определению, такова,
что человек, даже стремясь искренне исполнить один к одному
постановление Закона, соскальзывает с его острия и совершает
ошибку, которую нужно покаянно исправлять, чтобы возвратиться
к исполнению того же Закона, но уже в обновленной форме.
Между методами «угадывания Судьбы» и «исполнения Закона»
лежит диалектическая граница. Если в первом случае субъект
ставится перед «гадательным зеркалом», то во втором случае —
лицом к Лицу Абсолюта. Оба метода могут сопутствовать друг
ДРУгу. Реализация обоих методов возможна не субъективно, а
интерсубъективно, при наличии как минимум двух носителей методов.
Впрочем, и отдельный человек в поэтапном прохождении
собственной жизни может усваивать адекватно оба метода. Например,
В. В. Розанов, прекрасно знавший и чувствовавший архаику Египта
и Древней Греции, сумел чутьем, угадыванием и чем-то еще
распознать онтологию Ветхого Завета. Хотя категорически утверждать
это, наверное, рискованно.
В. В. Розанов применил методологию угадывания к
ветхозаветному Абсолюту, а затем понял — в чем смысл исполнения Его
Закона. Он признавался: «Я разгадал тетраграмму, Боже, я разгадал
ее. Это не было имя, как "Павел", "Иоанн", а был зов: и произносился
он даже тем же самым индивидуумом не всегда совершенно (абсо-
КНИГА I. ГЛАВА 2. § 1. БИБЛИЯ
165
лютно) одинаково, а чуть-чуть изменяясь в тенях, в гортанных
придыханиях... И не абсолютно одинаково — разными
первосвященниками. От этой нетвердости произношения в конце концов
"тайна произнесения его" и затерялась в веках. Но, поистине,
благочестивые евреи и до сих пор иногда произносят его, но только
не знают — когда. Совершенно соответствует моей догадке и то,
что "кто умеет произнести тетраграмму — владеет миром", т. е.
через Бога. В самом деле, тайна этого зова заключается в том, что
Бог не может не отозваться на него и "является тут" со всем
своим могуществом. Тенями проходит в самосознании евреев и
тайна, что не только им Бог нужен, но что и они Богу нужны.
Отсюда — этнографическая и религиозная гордость; и что они
требуют у Бога, а не только просят Его... Но все это заключено
в зове-вздохе... Он состоял из одних гласных с придыханиями».1
Из этих субъективных откровений можно догадаться, что
Розанову удается арифмологически расщепить тетраграмму единого
имени Абсолюта, опираясь, наверное, на стоические представления
о двуедином процессе вдоха-выдоха огненной пневмы в объединении
с рассмотренными выше идеями Аристотеля о том, что Голос
возникает в промежутке между вдохом и выдохом, при задержке
дыхания. Поэтому если вдох — бытие, а выдох — небытие,
следовательно, то, что между бытием и небытием, является творением,
т. е. творчеством голоса и творчество голосом, произносящим имя.
Четверичная его организация связана с тем, что еще по учению
пифагорейцев тетрактида арифмологическим образом
символизирует собой телесность как таковую, естественно
дифференцирующуюся по половому признаку.
Не нам судить, угадал ли Розанов, что есть Имя. Только он
мог позволить себе следующий пассаж: «Авраама призвал Бог; а
я сам призвал Бога... Вот вся разница».2 А мы можем лишь
цитировать эти «откровения» Розанова.
Уместно сопоставить понимание Имени Бога В. В. Розановым
и деконструкцию «онто-тео-лого-фалло-мело-центризма» Ж. Дерри-
да. Последний вычитывает и выслушивает у мизософа Дж. Джойса
отголосок имени Яхве (YHWH) в двух словах: НЕ WAR (вероятно,
Джойс так услышал звучание этого имени). Деррида деконструирует
ситуацию произнесения и вслушивания, говоря: «Произношу по
складам: НЕ WAR — и набрасываю первый перевод: ОН БЫЛ...
Он был тем, кто был. Я есмь сущий, тот, кто есть, что я есмь, я
есмь тот, кто я есмь, — сказал бы Яхве. Там, где пребывало око,
был он — объявляя войну. И сие было истинным. А если чуть
1 Розанов В. В. Уединенное // Розанов В. В. Соч.: В 2-х т. М., 1990.
Т. 2. С. 237-238.
2 Там же. С. 233.
166 Ю. Al. РОМАНЕНКО. БЫТИЕ И ЕСТЕСТВО
поднажать, улучив время на то, чтобы протянуть гласную и напрячь
слух, это будет истинным... Бог хранит. Таким образом он сохраняет
себя — объявляя войну... которая была в начале. Объявлять есть
акт войны, он объявил войну в языке, языку и языком, что в
результате дало языки: вот истина Вавилона, когда Яхве произнес
эту вокабулу, Бавель, о которой трудно сказать, было ли это какое-то
имя, имя собственное или имя нарицательное, сеющее смешение».1
Переводчик данного текста А. Гараджа так комментирует этот
рефлекс джойсовской манифестации: «Однако бог этот — уже не
YHWH Моисея, но НЕ WAR Джойса: не какое-то присутствие,
пусть даже прошедшее или грядущее, но след присутствия,
исчезающий в абсолютном прошлом, теряющийся в предшествующем
будущем. Бог (присутствие, начало и т. д.) манифестируется лишь
в различии, точнее difference: его имя (раздирает) "война"».2 В
подобной практике деконструктивной грамматологической
интерпретации структурно выводится один из необходимых диалектических
моментов динамики принципа «всеединства», а именно тот
негативный момент, когда после изъятия «одного» из «многого»
множество распалось и еще не вернулось в обновленное «единым»
«всё», а рассеивается на уже не встречающиеся друг с другом
« многие » « одни ».
Еще одно «изнаночное» истолкование имени Яхве, вероятно,
предпринимают гностики. Для них Господь Бог Ветхого Завета
представляется злым демиургом, сотворившим падший и тленный
материальный мир, который должен аннигилироваться. Повод к
негативному толкованию дает, кажется, сам Яхве, изрекая, что
именно Он создает добро и творит зло как единственный Абсолют.
Эта антитеодицея была необходима гностикам для того, чтобы
разделить Ветхий и Новый Заветы и разрушить животворящую
всеединую линию преемства между ними.
Экзегетический комментарий библейского текста с точки зрения
онтологической монотриады предполагает отдельное истолкование
в ее свете каждого символа. Собственно говоря, библейский текст
сам себя истолковывает. И это онтологическое самополагание-
самоистолкование начинается с первых строк Священного Писания.
Потребность онтологического и феноменологического истолкования
акта возникновения мира породила в начале Средневековья
популярный жанр «Шестодневов», где философско-богословскими
методами интерпретировалась символика первых шести дней
творения, изложенная в книге «Бытия». Мы возьмем в качестве предмета
изучения «Беседы на Шестоднев» св. Василия Великого.
1 Деррида Ж. Два слова для Джойса // Ad Marginem '93. M.. 1994.
С. 355-356.
2 Там же. С. 355 (прим. А. Гараджи).
КНИГА Ι. ГЛАВА 2. § 1. БИБЛИЯ
167
Название первой книги Пятикнижия Моисеева (Тора —
«Учение»), принятое в русском языке, звучит как «Бытие». Не следует,
однако, сразу, исходя из названия, отождествлять и проводить
однозначное соответствие «Бытия» Пятикнижия и «бытия»
философской онтологической триады. Первое есть запись божественного
Откровения, а второе — философская концептуальная схема,
предназначенная для мысленного отображения. Тем более что русский
(церковно-славянский) перевод не совсем точен древнегреческому
традиционному переводу Септуагинты, звучащему как Γένεσις (что
есть, скорее, «происхождение», «порождение» или просто
«генезис»). В свою очередь «Генезис» Септуагинты является не совсем
прямым переводом названия, согласно Масоретскому изводу —
bërë'sTt — буквально: «В начале» — именно те слова, которыми
начинается Писание.1
Между словами «Бытие», «Происхождение», «В начале»,
естественно, нет тождества, но они по-разному говорят о чем-то одном
в состоянии рассеянных языков. Допустимо, вероятно, объединить
эти отдельные обозначения в одном сочетании — «Происхождение
Бытия в Начале». Это позволит представить данное словосочетание
как онтологическую монотриаду «бытие—ничто—творение».
Итак, в который раз начнем с начала. «В начале сотворил Бог
небо и землю. Земля же была безвидна и пуста, и тьма над бездною,
и Дух Божий носился над водою» [Быт. 1, 1—2]. Уже в этих первых
двух стихах заключена вся онтологическая триада с ее
мыслительным потенциалом, а также присутствует понятие «естество». Весьма
проблематично перевести слова-символы Библии на уровень
понятий без невольных потерь содержательного характера. Все же
попытаемся указать ключевые точки философско-онтологической
интерпретации.
Василий Великий, пользуясь переводом Аквилы первого стиха
(Εν κεφαλαίω εποίηοε ό Θεός τον ουρανον και την γην), так
интерпретирует слова «В начале сотворил»: «Итак, чтобы мы уразумели вместе,
что мир сотворен хотением Божиим не во времени, сказано: в
начале сотвори. В означение сего древние толкователи, яснее
выражая мысль, сказали: вкратце (εν κεφαλαίω) сотвори Бог, то есть
вдруг и мгновенно».2 (Буквально κεφαλή означает «голова».) С
понятием «вдруг» (внезапно, сразу, вкратце и т. п.) мы уже знакомы
по философии Платона, в которой диалектический момент «вдруг»
характеризует перепад одной размерности бытия в другую через
1 Шифман И. Ш. От Бытия до Откровения: Учение. Пятикнижие
Моисеево. М., 1993. С. 3.
" Василий Великий. Беседы на Шестоднев /./ Творения иже во святых
отца нашего Василия Великого, архиепископа Кесарии Каппадокийской.
Ч. 1. М., 1991. С. 11.
168 Ю. M. РОМАНЕНКО. БЫТИЁ И ЕСТЕСТВО
небытийную границу. Василий Великий истолковывает слова «в
начале» через философский термин «вдруг», а не «архе» (последний
термин выражает иной аспект начала творения, с точки зрения
категории «естество»). Если Платон дедуцирует диалектическую
необходимость момента «вдруг» в рациональной схеме и оговаривает
вместе с тем его иррациональный («странный») характер, то Библия
начинается именно с этого «странного по своей природе "вдруг"».
Странность «вдруг» заключается в непрерывной вибрации «бытия»
и «небытия», пока они еще четко не отделились друг от друга.
В этом длящемся вечность миге шансы у них равновелики.
Странность эта также подразумевает, что есть некто отстраненный от
этого со-бытия «бытия» и «небытия», который может положить
предел вибрирующему «подвижному покою» (как любил
выражаться А. Ф. Лосев) и сделать выбор в пользу бытия. Все теперь зависит
от Его благой воли. Могло бы статься так, что ничего бы не было,
если бы можно было рассуждать с точки зрения «небытия». Но
если все стало быть (в чем мы в данный момент не сомневаемся),
это ставшее бытие сохранило в себе след первоначального
творческого акта. Библейское «в начале» вневременно в том смысле, что
здесь впервые задается универсальная единица измерения
времени — цикл, который творческим ударом (κεφαλαιόω с греч. означает
также «ранить в голову») расслаивается в спираль.
О точке сингулярности, из которой произошла вся Вселенная,
астрофизики судят по ее следу — реликтовому излучению. О том,
что было «в начале» не просто в физическом смысле, но
онтологическо-религиозном, человек узнает из «Откровения» (греч.
ektroma). «Откровение» — еще один существенный отличительный
признак библейского подхода к принципу творения. Глагол τρομεω
означает «дрожать», «страшиться»; отсюда славянское слово:
трепетать, с дополнительным значением «обращаться вспять».
Родственно этим словам τραύμα (травма) — «рана». В таком смысле
началом мудрости, воспроизводящей начало творения мира,
согласно притчам Соломоновым, является трепетный страх при
восприятии Божественного Откровения, и это принципиально похоже на
древнегреческое понимание начала философии как удивления
(thayma), так как и в нем присутствует момент болевого шока.
«Начало мудрости — страх Господень... глупцы только презирают
мудрость и наставление» [Притч. 1, 7]. В Откровении
приоткрывается гармоническая осцилляция бытия и небытия.
В Септуагинте для выражения «творения» (BHS br') выбран
термин «пойезис» (epoiesen). Можно буквально прочитать первый
стих так: «В начале Бог поэтизирует небо и землю». Это отразилось
в русской пословице: «Бог — поэт земли и неба». Уже отмечалось,
что выбор в пользу «пойезиса» связан с традиционным античным
разделением искусств на практические, теоретические и поэтичес-
КНИГА J. ГЛАВА 2. § l. БИБЛИЯ
169
кие (собственно творящие). В теоретическом искусстве ум направлен
на самого себя и не выходит вовне для создания чего-то нового,
все его действия направлены на постоянное воспроизводство образа
самого себя. Согласно Аристотелю, искусство творения направлено
на созидание чего-то с использованием умозрительных знаний и
естественных орудий. «Пойезис» — производящая деятельность.
Причем ее продукт по инерции продолжает существовать какое-то
время, в идеале бесконечное, если тому сопутствуют естественные
условия. Голос — это естественное орудие, которым можно
пользоваться именно как орудием, производящим нечто существующее
объективно. Если Голос абсолютен, то и его продукт — Слово-Имя —
также не может не быть абсолютным и извечным, по нему узнается
о существовании Владельца Голоса. Именно этот смысл имеется в
виду в прологе Евангелия от Иоанна: «В начале было Слово, и
Слово было у Бога, и Слово было Бог. Оно было в начале у Бога.
Все чрез Него начало быть, и без Него ничто не начало быть, что
начало быть» [Ин. 1, 1—3].
«В начале» Евангелия от Иоанна уточняет «В начале» книги
Бытия. Экзегеза поясняет, что «слова "в начале" заключают в себе
прикровенное указание на предвечное рождение от Отца Второй
Ипостаси Святой Троицы — Сына Божия, в Котором и через
Которого было совершено все творение».1 Богословский комментарий
находит здесь «указание на мысль о совечном Отцу рождении Сына,
или Логоса, и об идеальном создании в Нем мира».2
В библейском повествовании о шести днях творения творческий
акт отражен несколько раз в виде последовательности замкнутых
циклов, которые по идее одновременны в их онтологической
суперпозиции. Письменное и устное изложение вообще вынуждено
выражать последовательно то, что дано одновременно («вкратце»).
Хотя возможно такое письмо и такой звук, которые могут
одновременно передавать единовременный творческий акт. Вернее
сказать, они и есть сам этот творческий акт.
Сущее творится не только Голосом Творца, вызывающим его
по имени из небытия, но и таким естественным «орудием», как
«взгляд». Чтобы действительно состоялось творение, между
«голосом» и «взглядом» должна быть трансцендентная граница, и тогда
творение будет заключаться в скачке, трансцензусе через эту
границу. Последовательное описание мгновенного скачка между двумя
равноабсолютными творческими циклами, вложенными «в начале»
друг в друге, дается в третьем, четвертом и пятом стихах первой
главы книги «Бытия»: «И сказал Бог: да будет свет. И стал свет.
1 Новая толковая Библия: В 12-ти т. Т. 1. Л-, 1990. С. 263
(экзегетический комментарий).
2 Там же.
170 Ю. M. PO M АН EH КО. БЫТИЕ И ЕСТЕСТВО
И увидел Бог свет, что он хорош, и отделил Бог свет от тьмы. И
назвал Бог свет днем, а тьму ночью. И был вечер, и было утро:
день один».
Творение есть акт совпадения Голоса и Видения. С одной
стороны, Свет тварен по Слову — в третьем стихе. С другой стороны,
одновременно Свет нетварен для Видения, оттого он «хорош» — в
четвертом стихе, где также оговаривается творящее разделение
бытия (света) от небытия (тьмы). Когда Голосом «сказал Бог: да
будет свет» — свет просто есть. Но только через Взгляд узнается (но
не постфактум, а сразу, вдруг), что свет отделен от тьмы. Голос не
видит, что свет хорош и что каким-то образом есть тьма.
Последовательность внутри цикла трехчастна: 1) сказал: да будет, и стало —
значит «услышало» (онтологическая акустика — третий стих);
2) увидел, что хорошо, и разделил взглядом (онтологическая
оптика — четвертый стих); 3) назвал по имени разделенные части, и
тем самым цикл стал работать самопроизвольно в собственном
режиме непрекращающегося действия, естественно — «день
первый» творения.
«Второй день» полагает творение осязанием, хотя теперь уже
понятно, что первый и второй дни — одно и то же. В стихах 6, 7, 8
наблюдается та же последовательность взаимоналагающихся
циклов, синтезирующихся в целое. 1) «И сказал Бог: да будет
твердь...» — повеление Голосом; 2) «И создал Бог твердь... И стало
так» — создал онтологическим «касанием»; 3) «И назвал Бог твердь
небом» — «день второй» закончен — цикл задан, но не самозамкнуто
от остальных, а с отсылкой к первому циклу, описанному в первом
стихе: «сотворил небо» [Быт. 1, 1] и «назвал небом» [Быт 1, 8]
перекликаются и налагаются друг на друга. «Называние» привносит
новый момент — «твердь» неба функционирует как граница между
бытием и небытием, отделяя их в виде отделения воды от воды,
света от тьмы. Далее описывается действие творящего вкуса: «да
произрастит земля... дерево плодовитое» [Быт. 1, 11].
Таким образом, бытие в начале творится одновременным
задействованием всех типов чувств, что при изложении воспроизводится
последовательно. Начиная с творящего обоняющего дыхания («Дух
Божий носился над водой»), задержка которого привела к
выделению звука, который сразу произвел свет, видение которого
установило твердь, прикосновение к которой вызвало вкусовое
впечатление. И все это одновременно, «в начале». А то, что мы, утеряв
«естество» чувств, вынуждены читать эту абсолютную
одновременность как последовательность скачков через небытие, прибегая к
рациональному дискурсу, с неизбежными искажениями, лишний
раз подтверждает истину принципа творения.
Онтологический анализ первых трех дней творения позволяет
задать только схему интерпретации символов творения. Каково их
КНИГА I. ГЛАВА 2. § I БИБЛИЯ
171
материальное содержание, можно выяснить с учетом
метафизического понятия «естество».
В первые «три дня» задается образ творения и совершается
процесс космогонии. По этому же образу осуществляется и творение
человека. Космогонический образ «держания тверди» Вседержителем
представляется в антропогоническом измерении творческим актом
лепки первого человека Адама (это имя этимологически связывают
с «красной землей»), с одновременным «отверзанием» глаз, ушей,
«вдуванием» в ноздри дыхания жизни — души. Один
антропогенный цикл наложен на другой. О возникновении человека в Библии
рассказывается дважды: в первой главе создание человека
осуществляет Элохим по своему образу и подобию, вероятно, эманативным
способом, не дифференцируя пока его органы чувств, но наделяя
функцией размножения. Во второй главе вновь создается человек,
тот же самый, но теперь Богом Яхве, уже чисто креативным
способом.
Результатом творящей деятельности Яхве стал также Эдем —
отовсюду огороженное и изолированное ото всего место обитания
первочеловека. Все органы чувств человека открываются впервые,
и теперь он может фиксировать, как бытие творится из небытия.
Лепка земли, вдувание воздуха жизни, зов по имени, открытие
глаз свету — взаимосвязаны друг с другом, но не полностью
замкнуты. Через один из циклов серии творческих актов происходит
размыкание творения человека и выведение его вовне — отпускание
в полную свободу и рас-творение в мире с себе подобными. Это
действие произошло при актуализации чувства вкуса, когда Адам и
Ева нарушили запрет вкушать плод с Древа познания добра и зла.
Как было все это, по сюжету известно. Змей-искуситель, созданный
самим же Яхве, спровоцировал первую женщину сорвать плод, т. е.
совершить онтологическое действие, в результате которого появился
«отдельный» предмет (отделенный от целого Древа). В этом действии
первые люди повторяют творение из небытия, деля неделимое
бытие. Теперь этот единичный плод должен поглотиться целиком.
Говоря с точки зрения математической теории чисел, здесь впервые
вводится начало счета — «единица». А если этот плод вкушает и
Адам — то, значит, задан и весь потенциальный ряд натуральных
целых чисел, искусственных по определению. Плодов с Древа
Жизни, естественно дарующих вечную жизнь, Адам и Ева так и не
вкусили, сделав выбор в пользу Древа познания добра и зла.
За нарушение запрета Господь Бог одевает первых людей в
кожаные одежды, снятые с жертвенных животных, т. е. облекает
их тела плотью, делая их смертными. Одновременно с этим данным
актом устанавливается институт жертвоприношений как временный
способ ранящим плоть касанием (ударом) возвратиться к Богу-
Теперь люди готовы к изгнанию из Рая, к самостоятельной трудовой
Ю. M- POM AH EH КО. БЫТИЁ И ЕСТЕСТВО
и бренной жизни различения добра и зла. Изгнание свершается, а
у входа в Эдем оставлен херувим с пламенным обращающимся
мечом для охраны Древа Жизни. Пройти обратно в Рай мимо
стража можно, лишь зная законы вращения меча, разделяющего
единое чутье на дифференцированные чувства отдельного человека,
но эти законы находятся внутри Рая.
Творение есть дар бытия. Адам и Ева присвоили этот дар, сорвав
плод с Древа познания добра и зла под искушением и по допущению,
думая что этот плод никому не принадлежит и дается даром. Этот
плод мог и без отрыва естественно упасть к их ногам созревшим.
Но тогда это был бы плод с Древа Жизни, так как оба Древа
зеркальны друг другу. Адам и Ева были в Боге, принявшем их в
сотворении их из небытия. Они могли бы оставаться у него целую
вечность, но, сорвав плод, подтвердили свою сотворенность из
небытия, куда и вернулись, но уже имея внутри себя вкушенный
плод бытия. Отныне человек стал творческой личностью, способной
творить из небытия, где он, собственно говоря, сейчас и пребывает,
держась за плоды своей креативной деятельности. Будет ли это
творчество благодарением за дар? Это главный вопрос истории.
Таким образом, как космогенез, так и антропогенез представлены
в Библии двумя способами описания: метафизическим (естественно-
сверхъестественным) и онтологическим (бытийно-креативным).
Естественное описание в дальнейшем пошло по пути развития
естественнонаучного знания (включающего и эволюционную теорию).
Онтологическое описание выделяет символы творения Космоса и
человека, что предполагает иную методологию. Эти два способа не
противоречат и не отменяют друг друга, они просто разные, как
разными являются два райских Древа. Приведем несколько
иллюстраций, намекающих на эту разность. Например, такой специфический
онтологический признак человека, как прямохождение и прямостоя-
ние (homo erectus), не объяснить никакими естественными
причинами. Действительно, почему вдруг примат встал с четверенек и
выпрямился? Ведь это менее устойчивая и менее скоростная форма
передвижения, не помогающая в «естественном отборе» и не
позволяющая адаптироваться к условиям среды. Для человека не было
никаких естественных предпосылок встать вертикально
поверхности, homo erectus сотворен к прямохождению из небытия. Вертикаль
предполагает напряженность между полюсами верха и низа.
Горизонталь естественно складывается в форму круга, хотя замыкание
круга в одной (первой и последней) точке требует дополнительной
энергии, берущейся из ничего. Вертикаль и горизонталь находятся
по отношению друг к другу ортогонально, т. е. контрадикторно.
Горизонталь охватывает землю, вертикаль опоясывает небо.
В Библии эта топология перекрещивающихся поверхностей, куда
вброшен человек после грехопадения, передается в символическом
КНИГА 1. ГЛАВА 2. § 1. БИБЛИЯ
L73
описании проклятия Господом Богом змея [Быт. 3, 14 15]: «...ты
будешь ходить на чреве твоем» — мотив пресмыкающегося
движения по горизонтали; «и будешь есть прах во все дни жизни твоей» —
указание на то, что горизонталь представляет собой оболочку земли,
которую должен будет постоянно обрабатывать человек, выращивая
себе плоды для пропитания; потомок первой женщины —
Человек — «будет поражать тебя в голову, а ты будешь жалить его в
пяту» — создание условий для прямохождения человека в контексте
земного притяжения. Этот фрагмент напоминает гераклитовский:
«Ползущее бичом пасется» (Фр. 11 DK).
Вот так, вероятно, можно истолковать символику одного из
самых загадочных мест Библии. Хождение на двух ногах
действительно онтологический процесс, так как человек, занося ногу,
зависает практически над бездной, ибо нет абсолютных гарантий, что
он не упадет. И опуская ногу на землю, он ее касается не с
необходимостью — почва может вдруг уплыть из-под ног. Когда первая
нога становится на твердь, вторая тотчас должна естественно
оттолкнуться, ибо она «ужалена в пяту». Первый шаг сделан, за ним
второй — иначе упадешь, затем по инерции третий и т. д., в
соответствии с натуральным рядом целых чисел. Человек научился
считать, естественно, в процессе ходьбы. Но первый шаг был сделан
через небытийную границу, которая будет оставаться до тех пор,
пока будет продолжаться ходьба — естественный и одновременно
творческий процесс. В Библии человеческое движение, бытийно
отличающее его от животных, даже летающих в небе близко к
Богу птиц, символически называется «хождением пред Господом».
Подобным образом можно онтологически истолковать и ряд
других символов Священного Писания. Но сейчас это не входит в
наши задачи. Главное, что усвоен метод и продемонстрированы
возможности онтологической монотриады, при наложении ее на
конкретный источник знания, каковым является Библия. С
помощью понятия «естество» можно выяснить иные характеристики
прямохождения, такие как сила тяготения земли, размер шага,
плотность давления ступни на поверхность и т. д. Но никак не
объяснить естественнонаучно, что человек именно ходит, а иногда
танцует, ставя себя в еще более неравновесные условия. Танец
сродни «пойезису» по творческим возможностям. Хотя уже в самом
элементарном и примитивном факте ходьбы заключена вся
онтологическая монотриада, нужно только уметь распознать это и
обратить внимание на собственную походку: куда тянет? Развивший
в себе онтолого-мифологическое чутье А. Ф. Лосев признается:
«Однажды я сам заметил, что у меня изменилась походка; и,
поразмысливши, я понял, отчего это случилось».' Аристотель не
1 Лосев А. Ф. Диалектика мифа. С. 461.
174 Ю. M. POMAHEHHO. БЫТИЕ И ЕСТЕСТВО
зря был перипатетиком: внимательно прислушиваясь к
собственному хождению, он понял, что такое Серводвигатель.
Разумеется, предпринятое нами толкование некоторых
символов — только одно из возможных, поскольку символ допускает
бесконечное толкование. Например, образ змея с точки зрения
этики интерпретируется как носитель зла, а с точки зрения
гносеологии — как хранитель оккультного знания. Если мы выбрали
определенный метод истолкования, то следует пройти весь ряд
символов систематически и так, чтобы при использовании данной
методологии символы не исключали друг друга.
Рассмотрим онтологические и метафизические мотивы в их
сочетании еще в одном плане. Экзегеты разъясняют различие Имен
Бога следующим образом: Яхве есть «преимущественное имя Бога
Завета, Бога Промыслителя и Искупителя... В этом смысле оно
отличается от другого употребительного Божественного имени "Эло-
хим", означающего Бога как Всемогущего Творца вселенной».1
Вероятно, Элохим ('elôhîm) осуществляет направленное действие
эманации, будучи выражением «квинтэссенции, высшей степени
качества, полноты божественности в лице единого Бога, вобравшего
в себя всех до того бывших богов».2 По всей видимости, имя Элохим,
обозначает принцип «всеединства», так как это слово стоит в форме
множественного числа (буквально: боги), но те глаголы и
прилагательные, которые ему (им) приписаны, парадоксально представлены
в единственном числе. Грамматически это некорректно («Боги
творит»), но вполне адекватно смыслу сверхрационального принципа
«всеединства». Множественная форма имени Бога свидетельствует
о многообразии сил, переполняющих его полноту и изливающихся
в виде множества эманации. Элохим при создании мира насыщает
его «естеством», материальностью, поэтому в философской рецепции
Он (Они) может быть интерпретирован с точки зрения метафизики.
Можно предположить, что функции Элохим равнозначны действиям
языческого Пантеона по собиранию энергий хаоса в Космос. Если
Элохим в русском переводе звучит как Бог, то Яхве переводится
как Господь. Сочетание их дает Господь Бог. Это не форма дуализма
или плюрализма. В функции Яхве входит естественное внесение
онтологической триады в «естество» — «божественную природу».
Каждая эманация получает свою форму, пределы
распространяемости, границу с другими эманациями. Установление подобной
границы в Завете, промыслительное ведение сущего вдоль всей этой
границы и искупление за трансцензус через эту границу находятся
в сфере компетенции Яхве. В то время как Элохим представляется
безличным божеством, соответствующим своей божественной при-
Новая толковая Библия. Т. 1. С. 271 (экзегетический комментарий).
- Мейлах М. Б. Элохим /,■' Мифы народов мира. Т. 2. С. 660.
КНИГА I. ГЛАВА 2. § 1. БИБЛИЯ
175
роде и эволюционирующим в процессе эманации, Яхве произвольно
распоряжается эманациями, инволюционируя их в целостные
сущности. Несмотря на то, что эманации множество, онтологическая
схема, накладываемая на них, одна и та же; специфицируется
лишь способ ее применения в соответствии с избранным качеством.
Вот почему процесс создания-сотворения космоса и человека
описывается в Библии дважды: в первой и второй главах книги
«Бытие». Человек и космос естественно произошли в соответствии с
природой и вместе с тем сотворены из небытия. Вот в чем
заключается проблема, фиксируемая философскими понятиями «бытие»
и «естество».
Итак, в процессе творения вносится личностный момент. И в
этом смысле Господь Бог (Яхве Элохим) является личным Богом,
будучи сам Личностью, обладая всеми ее атрибутами: Умом,
Чувствилищем, Волей. Яхве Элохим, в единстве онтологических и
метафизических аспектов, выражается как Вседержитель, если
избрать за ведущую способность всеединое «касание». Этот атрибут
представлен в первом пункте Православного Символа Веры: «Верую
во Единаго Бога Отца, Вседержителя, Творца небу и земли, видимым
же всем и невидимым».1
Василий Великий, истолковывая 28-й псалом, в котором
развивается тема Голоса Бога, указывает на оптико-акустический
трансцензус. Комментируется, в частности, третий стих: «Глас
Господень над водами; Бог славы возгремел, Господь над водами
многими» [Пс. 28, 3]. В целом 28-й псалом посвящен перечислению
творящих голосовых способностей над «естеством», в том числе и
над водою. Обратим внимание, как в псалме разделены имена Бог и
Господь. Василий Великий задается вопросом: «Что же такое глас
Господень? » .2 Что в человеке слышит этот творящий Голос? По
аналогии с тем, как иногда во сне или в представлении звучит
внутренний голос, без задействования ушей, так и творящий Голос
чудесно воздействует на целостное существо, преображая его: «Глас
сей совершенно инаго рода, и слышащим его представляет себя вла-
дычественное в том человеке, которому Бог хочет явить собственный
Свой глас; так что представление сие имеет сходство с тем, что
бывает нередко во сне? Ибо как без сотрясения воздуха, вследствие
представлений бывающих во сне, удерживаем в памяти некоторые
слова и звуки, не чрез слух приняв голос, потому что он напечатлен
в самом сердце нашем; так чем-то подобным сему должно
представлять и тот глас, который бывает к пророкам от Бога».3 Ока-
1 Закон Божий. Вторая книга о православной вере. Репринтное вос-
произв. издания ИМКА-ПРЕСС. Париж. С. 16.
2 Василий Великий. Беседы на псалмы // Творения... Ч. 1. С. 233.
3 Там же.
176 Ю. M. РОМАН EH КО. БЫТИЕ II ЕСТЕСТВО
зывается, что творящий Голос слышат даже не уши, они могут
быть повреждены случайно, а центральный орган тела — сердце,
сохраняющее жизнь. Если творящий Голос достигает сердца, в этот
момент наступает созерцание полного Света, даже если повреждены
органы зрения.
Упоминание о творящем Голосе Господа встречается в Библии,
как правило, на фоне какого-либо «естества»: воды, воздуха, земли
(пустыни). Потоп как эманация преизбытка «естества» воды
контролируется Господом, по-видимому, онтологическим касанием:
«Господь восседал над потопом, и будет восседать Господь царем
вовек» [Пс. 28, 10]. Слова третьего стиха «Бог славы возгремел»
Василий Великий истолковывает в том смысле, что «Господь своею
силою содержит влажное естество».' Подвергается также
воздействию Гласа Господня «естество» воздуха: «Итак, Господь, сущий на
водах и творящий великие громовые удары, и в нежном естестве
воздуха производит такую чрезмерность треска».-'
Видение преображения естества под действием творящего звука
засвидетельствовано при вручении десяти заповедей: «Весь народ
видел громы и пламя, и звук трубный, и гору дымящуюся; и,
увидев то, народ отступил, и стал вдали» [Исх. 20, 18].
Неподготовленность к видению-слышанию Голоса слабым сердцем чревато
разрушением, если только существо не приобрело образ источника
звучания: «Посему не во всяком раздается глас такового грома, но
разве кто достоин именоваться колесом; ибо сказано: глас грома
Твоего в колеси [Пс. 76, 19]» — «Глас грома Твоего в круге небесном;
молнии освещали вселенную; земля содрогалась и тряслась». Стихии
естества упорядочиваются творящим актом в пределах идеальной
фигуры круга, иначе они эманируют в пустоту в соответствии со
своей природой.
Символ колеса и колесницы у архаических народов означал
жертвоприношение. Здесь сразу вспоминается «скрежет оси во
втулке» парменидовской поэмы «О природе». Этот образ отсылает также
к мистическому видению пророка Иезекииля [Иез. 1, 15—16].
Инспирирование творческим голосом духовного видения
приводится в Евангелии: «Глас вопиющего в пустыне» Иоанна Крестителя
[Мф. 3, 3] предвещает видимое Предтечей явление Голоса с
разверзшегося круга небес над крестильными водами Иордана: «И се,
глас с небес глаголющий: Сей есть Сын Мой Возлюбленный, в
Котором Мое благоволение» [Мф. 3, 17]. Но только явление Голоса,
согласно Новому Завету, происходит уже не в виде
катастрофических природных эффектов, а в предстоянии человека и Человека —
Сына Божьего. Человеческий голос, по всем данным, является
Василий Великий. Беседы на псалмы. С. 234.
2 Там же. С. 235.
КНИГА I. ГЛАВА 2. § 1. БИБЛИЯ
177
искаженным эхом Божественного, вследствие грехопадения.
Человек, исключая пророков, не может повторить голосом «то же самое»,
так как «естества» разделены в нем непроходимыми границами и
еще не претворены. Для осознания этого факта человеку вручается
заповедь: «Не произноси имени Господа, Бога твоего, напрасно,
ибо Господь не оставит без наказания того, кто произносит имя
Его напрасно» [Исх. 20, 7]. Суетность человеческого
«произношения» заключается в обреченности на судорожное метание от одного
«естества» к другому, в неспособности соблюсти чистоту хотя бы
одного естественного животворящего звука. Грубо говоря, в
«пускании петуха». А наказание за суетность, вероятно, заключается
в том, что чрезмерное развитие одной способности без поддержки
сердца («всуе») приводит к ущербу остальные.
Новозаветное отношение к традиционным философским —
онтологическим и метафизическим — темам апостол Павел
устанавливает, отправляясь от веры. Веру можно определить исходя из
нее же самой, тавтологически понимая ее значимость из
вытекающих из нее следствий: у-веренности, до-верия, верности. Вера
включает в себя уверенность в правоте и принятие догматов о бытии
и естестве Божества; личное доверие к Богу в спасении, утешении,
искуплении и субстанциальном укоренении жизни; личная верность
Богу в религиозном культе и в мирской жизни.1
Онтология в контексте теизма выдвигает новый путь постижения
бытия, в отличие от угадывающей методологии античности, а
именно: доверие воле Творца бытия, которое Бог отдает в дар
сотворенному из небытия существу. Бытие воспринимается личностно или,
с другой стороны, личность утверждается как бытие, а не как
эпифеномен, то есть как нечто самоценное и абсолютное. Апостол
Павел различает свойства гадания и веры: «Теперь мы видим как бы
сквозь тусклое стекло, гадательно, тогда же лицем к лицу; теперь
знаю я отчасти, а тогда познаю, подобно как я познан» [1 Кор. 13,
12]. Если гадание приводит к особому типу знания, в котором
субъект знания естественно смещен и отстранен от объекта знания
неким экраном, то в вере знающее и знаемое сверхъестественно
совпадают в одну самотождественную Личность.
В Ветхом Завете эта личностная самотождественность
подтверждается свыше: «Устами к устам говорю Я с ним, и явно, а не в
гаданиях, и образ Господа он видит; как же вы не убоялись упрекать
раба Моего, Моисея» [Чис. 12, 8]. Вера, как и знание, гадание,
мышление и прочие способы отношения к бытию, определяются
апостолом Павлом как духовные дары Бога. «Дары различны, но
Дух один и тот же; и служения различны, а Господь один и тот
1 Аваринцев С. С. Вера ■'' Философский энциклопедический словарь.
М., 1989. С. 84.
178 Ю. M. РОМАНЁНКО. БЫТИЕ И ЕСТЕСТВО
же; и действия различны, а Бог один и тот же, производящий все
во всем» [1 Кор. 12, 4-6]. Безвозмездное распределение даров
осуществляется согласно принципу всеединства, конституирующего
единую сущность сотворенного живого существа во многообразии
его способностей. «Одному дается Духом слово мудрости, другому
слово знания, тем же Духом; иному вера, тем же Духом; иному
дары исцелений, тем же Духом; иному чудотворения, иному
пророчество, иному различение духов, иному разные языки, иному
истолкование языков» [1 Кор. 12, 8-10].
Вера деятельна (практична) и вместе с тем теоретична (в
исконном смысле слова «тео-рия» — боговидение). Определение веры
апостолом Павлом таково: «Вера же есть осуществление ожидаемого
и уверенность в невидимом» [Евр. 11, 1]. Верить можно только в
трансцендентное Существо, поэтому Оно должно быть, в частности,
«невидимым» для обыденного зрения. Однако это не повод для
сомнения и не препятствие для умственного полагания существования
трансценденции. В веру включено трансцендирование от
услышанного слова (в Откровении или проповеди) к видению принципиально
невидимого запредельного мира. «Уверенность в невидимом», или,
другими словами, «обличение вещей невидимых», то есть делание
невидимого видимым в Лице — абсолютном образе бытия. «Верою
познаем, что веки устроены словом Божиим, так что из невидимого
произошло видимое» [Евр. 11, 3]. Невидимое становится видимым,
когда сердцем приняты слова Бога. В этом месте послания говорится
о «невидимом» как о просто невидимом, но это не значит, что
подразумеваемое под этим не может непосредственно
восприниматься иным типом чувства, например слышанием. Таким образом,
здесь также констатируется трансцензус от одного типа чувств к
другому через любящее сердце. Апостол Павел так и говорит: «Если
имею дар пророчества, и знаю все тайны, и имею всякое познание
и всю веру, так что могу и горы переставлять, а не имею любви, —
то я ничто» [1 Кор. 13, 2]. Только любовью можно откликнуться
на призыв к бытию из ничто. Именно сердце единит множество
чувственных и мыслительных способностей во всеединстве
личности, делая их дарами. «Любовь никогда не перестает, хотя и
пророчества прекратятся, и языки умолкнут, и знание упразднится.
Ибо мы отчасти знаем и отчасти пророчествуем; когда же настанет
совершенное, тогда то, что отчасти, прекратится» [1 Кор. 13, 8-10].
Вера свидетельствует о дарах Бога и праведности того, кто сумел
их правильно усвоить. «Верою Авель принес Богу жертву лучшую,
нежели Каин; ею получил свидетельство, что он праведен, как
засвидетельствовал Бог о дарах его; ею он и по смерти говорит
еще» [Евр. 11, 4].
Религиозный закон и вера не противоречат друг другу и не
взаимоотменяются, хотя и независимы относительно друг друга.
КНИГА I. ГЛАВА 2. § l. БИБЛИЯ
179
«Но ныне, независимо от закона, явилась правда Божия, о которой
свидетельствуют закон и пророки, правда Божия чрез веру в Иисуса
Христа во всех и на всех верующих; ибо нет различия» [Рим. 3,
21—22]. Вера всеединит и в ее контексте творится закон. «Итак,
мы уничтожаем закон верою? Никак; но закон утверждаем» [Рим.
3, 31]. Закон есть своеобразный тип знания, а именно знание греха:
«ибо законом познается грех» [Рим. 3, 20]; «где нет закона, нет и
преступления» [Рим. 4, 15]. Можно не знать закон, но непроизвольно
правильно его исполнить, угадав его суть естественным чутьем и
представив в дискурсивном антиномическом поиске: «ибо, когда
язычники, не имеющие закона, по природе законное делают, то,
не имея закона, они сами себе закон: они показывают, что дело
закона у них написано в сердцах, о чем свидетельствует совесть
их и мысли их, то обвиняющие, то оправдывающие одна другую»
[Рим. 2, 14-15]. Закон есть онтологическое постановление по форме,
но содержание его наполнено «естеством» («по природе», как
замечает апостол Павел), знание которого равносильно знанию
«бытия ».
Целостное воздействие Творца на сотворенный мир передают
такие библейские слова: «Небеса проповедуют славу Божию, и о
делах рук Его вещает твердь. День дню передает речь, и ночь ночи
открывает знание. Нет языка и нет наречия, где не слышался бы
голос их. По всей земле проходит звук их, и до пределов вселенной
слова их. Он поставил в них жилище солнцу» [Пс. 18, 2-5].
В рецепции апостолом Павлом этого псалма ставится акцент на
трансцензус от невидимого к видимому: «Ибо невидимое Его, вечная
сила Его и Божество, от создания мира чрез рассматривание
творений видимы, так что они безответны» [Рим. 1, 20]. Высказывание
«так что они безответны» означает, что творение случилось
необратимо, Творец остался «по ту сторону» трансцендентной границы,
отпустив творение на свободу. Теперь творение не возвращается по
КРУГУ обратно к Творцу, как в мифе «вечного возвращения».
Вера как видение творческой мощи Божества в продукте его
деятельности максимально актуализирует оптический способ
постижения при истощении слухового — творения не отвечают за
Бога, — наступила благословенная тишина, слова умолкли и
приготовили «жилище солнцу» в котором распространился повсюду
нетварный свет. Тишина «освещенного безмолвия» зовет к
благодарственному возвращению Богу молитвенного отклика, и грешен
тот, кто не отблагодарит, а займется суетной рефлексией о самом
себе в этой молчаливой паузе. «Но как они, познавши Бога, не
прославили Его, как Бога, и не возблагодарили, но осуетились в
умствованиях своих, и омрачилось несмысленное их сердце: называя
себя мудрыми, обезумели» [Рим. 1, 21-22]. Здесь фиксируется
обратный трансцензус от зримого образа на фоне абсолютного света
180 Ю. M. РОМАН EH КО. БЫТИЕ И ЕСТЕСТВО
к звучащему слову, и указывается на препятствие в этом процессе
рассудочного мышления — «суетного умствования». Голос,
укрепленный верой, направлен в сторону невидимого, через преходящие
образы конечного зрения. Прославляя Творца, нельзя
сосредоточиваться на образах. «И славу нетленного Бога изменили в образ,
подобный тленному человеку, и птицам, и четвероногим, и
пресмыкающимся» [Рим. 1, 23]. Апостол Павел здесь не отрицает
образ, но имеет в виду, что несоблюдение правильности переходов
от голоса к образу и обратно через сердце приводит к наказанию
в виде порчи «естества»: «они сквернили сами свои тела» [Рим. 1,
24], приняв на себя тленные образы.
В Послании к Римлянам [Рим. 1, 20] впервые формулируется
так называемый принцип аналогии бытия (аналогии сущего),
который интенсивно использовался в средневековой религиозной
философии. Вообще богопознание разделяется на два типа: познание
Бога через откровение Священного Писания и познание свойств
Творца через результат его творческой деятельности, «чрез
рассматривание творений». Второй тип познания результируется в
позитивных высказываниях о Боге, которые обобщены в так называемом
катафатическом богословии. Для соблюдения трансцендентной
границы между Творцом и тварью применяется апофатический метод,
в действии которого каждое положительное утверждение о Боге
подвергается отрицанию. В апофазе все приписанные Богу
предикаты снимаются, но при этом сохраняется онтологический статус
субъекта предикаций.
Катафатика и апофатика диалектически взаимосвязаны, но в
какой-то момент их диалектика также должна быть преодолена,
когда наступает время непосредственного живого таинственного
богообщения. Все катафатические утверждения конструируются
благодаря принципу аналогии бытия. Это означает следующее.
Термин «аналогия» обозначает действие мышления, заключающееся в
обратном переносе (такова семантика префикса «ана-») некоторых
существенных свойств и признаков одного предмета на другой,
который в свое время мог внести в первый эти свойства. От
исследования одного предмета — модели — заключают о свойствах
другого — прототипа. Такой перенос информации всегда условен
и, стало быть, незаконен, но в научном познании всегда полезен и
эвристичен. Если же аналогия проводится относительно «бытия»,
тогда она является трансцензусом, ибо Бытие одно (как и Логос),
и, следовательно, о нем можно заключать по аналогии с ним же
самим. Оно есть оно само. Поэтому в целях сохранения
трансцендентного статуса Единого катафатические предикаты наделяются
усилительными универсальными значениями. Так Творцу
приписываются атрибуты: Всеблагой, Всемогущий, Всесовершенный и
т. д. Но даже принцип аналогии бытия не предохраняет мышление
КНИГА I. ГЛАВА 2. § 1. БИБЛИЯ
181
от впадения в антиномические ситуации, аналитику которых
логически скрупулезно развила средневековая схоластика, указав тем
самым на границы между мышлением и претворенными живой
верой чувствами.
Одного мыслительного акта, основанного на принципе аналогии
бытия, недостаточно для установления теистической онтологии.
Существует также дополнительно развитая феноменология
религиозной сенсорики и моторики, а также своеобразная топология.
Апостол Павел подробно описывает условия своего обращения и
призвания к евангельскому служению, пролагая свой путь на
границе «безумия» эллинов и «соблазна» иудеев. «Соблазн» в другой
редакции выражается как «источник от-вращения». Творения
свидетельствуют о славе Божией, но их образы конечны, от них нужно
«отвернуться». Правда, куда бы механически не оборачивался
субъект, его все равно будут преследовать те же образы. «Источник
отвращения» (место, откуда может наступить мизософское
состояние) находится не вовне субъекта, а в нем самом. Так же как в
нем самом находится и источник откровения славы и благодати.
Апостол Павел признается: «И чтоб я не превозносился
чрезвычайностью откровений, дано мне жало в плоть, ангел сатаны, удручать
меня, чтоб я не превозносился» [2 Кор. 12, 7]. Мизософское
отвращение не уничтожить усилием, так можно только несколько
оттянуть время, но любая сила естественно рано или поздно иссякает,
после чего кошмар становится еще страшнее. «Трижды молил я
Господа о том, чтобы удалил его от меня, но Господь сказал мне:
"довольно для тебя благодати Моей, ибо сила Моя совершается в
немощи"» [2 Кор. 12, 8-9].
По сравнению с античной философией, в которой были созданы
только формальные предпосылки для установления онтологии как
таковой, Средневековье полностью реализовало возможности
онтологической триады, не только развив «слово о Бытии»,
запечатленное в Откровении Священного Писания, но и выразив «бытие
Слова» в его историческом воплощении. Это не могло не сказаться
в преобразовании традиционного предмета, метода и функций
философии. В частности, по-новому было рассмотрено знаменитое
учение Аристотеля о четырех причинах: движущей, формальной,
материальной и целевой. Внесение онтологического момента в
учение о четырех причинах подразумевало присутствие творящего
начала в полноте причинной четверицы. В целом, даже исходя из
аристотелевского замысла, четыре причины могли быть
редуцированы к двум и даже к одной, но все-таки каждая причина была
относительно автономной и несводимой к остальным. О возможности
введения какой-либо новой причины не могло быть и речи, так
как структурно организованные четыре причины и так вполне
адекватно объясняли устроение и существование античного Космоса.
182 Ю. M. РОМАНЕНКО. БЫТИЕ И ЕСТЕСТВО
Однако когда утверждается мысль, что и сам Космос есть нечто
сотворенное из ничего, то субординация и координация причин
должны быть интерпретированы с новой точки зрения.
Новая причина (творящая) должна быть присоединена к
прежним четырем «из ничего». Такую инициативу, вероятно,
предпринимает константинопольский патриарх Никифор, нововведение
которого упоминает В. В. Бычков. Аристотелевская «действующая
причина» разделяется на две несводимых друг к другу. «В отличие
от Аристотеля и Климента, рассуждавших о четырех "причинах",
Никифор усматривает пять таких "причин": созидательную
(KOvnxiKov), органическую (opyaviKov), формальную (ясхрсхоегуцсх-
TiKOv), материальную (iiÀikov), и целевую (te^ikôv), то есть он вводит
еще "органическую причину"».1 За каждой из данных причин стоят
свои субъекты: «под "органической причиной" имеется в виду
мастер, непосредственно создающий произведение, а под
"созидательной" — заказчик, которого средневековая эстетика уже с этого
времени считала главным творцом произведения искусства, а
истинного художника — просто инструментом в руках заказчика».2
Единый созидающий субъект, как видим, разделен в своих
функциях на «поэтический» и «органический». Если принять, что
он в целом «отвечает» за творение из ничего, то этот креативный
момент заключен в единстве «пойезиса» и «оргиазма», о чем
говорилось выше. Поэт как «заказчик» вызывает словом из небытия
образ, который тут же органически исполняет художник. Творящее
слово и творящий образ одновременны, но между ними
трансцендентная граница. Или можно сказать, именно потому, что слово
творит образ из небытия, они существуют в абсолютной
одновременности, а не во временной последовательности.
В дальнейшем в развитии средневековой философии наблюдалось
увеличение количества причин, хотя для введения каждой новой
причины необходим был специально обоснованный критерий.
Например, можно конституировать субъекта потребления (или
потребителя) как независимую причину бытия. В самом деле, раз есть
заказчик и исполнитель, то с необходимостью должен быть и тот,
кто усваивает продукт или произведение как дар. И он не тождествен
ни заказчику, ни исполнителю, хотя все три субъекта могут быть
локализованы в одном существе. Только абсолютная личность может
одновременно заказывать, исполнять и употреблять сотворенный
результат, каковым она сама и является — своеобразное
самодарение, — но в любом случае у этой абсолютной личности между ее
тремя действиями должна быть небытийная граница, чтобы
состоялось именно творение.
Бычков В. В. Малая история византийской эстетики. Киев, 1991.
С. 222.
- Там же.
КНИГА I. ГЛАВА 2. § 1. БИБЛИЯ
183
Приведенная причинная структура абсолютного субъекта бытия
по существу антиномична. Потребности средневекового
мировоззрения не могли удовлетворить аристотелевская тетрактида или
неоплатоническая триада, пусть и безупречно логически и
диалектически сконструированные. Неудовлетворительность заключалась,
выражаясь парадоксально, в «чрезмерной» трансцендентности
Абсолюта в аристотелизме и платонизме, имеющей следствием
неподвижность и субординационизм ипостасей Единого. Действительно,
по формальным признакам неоплатонический Абсолют даже «более»
трансцендентен, чем христианский Бог. Если отсутствие
трансцендентной границы между Творцом и тварью упраздняет само творение
и ведет к пантеистическим выводам и имманентизации отношения
между абсолютным и относительным, то при излишнем трансцен-
дентизме творение как бы есть, но ни Творец не ведает, что он
сотворил, ни тварь не знает, что она сотворена. Античность на
закате своих дней переусердствовала в запределивании «бытия»,
поскольку стала терять силу благодатного «естества» или, попросту
говоря, истощила свои возможности, а обновиться сама собой уже
не могла.
Эти непреодолимые для античного мировоззрения проблемы
отразились в вопросе о Боговоплощении, равно как и в тринитарном
споре. В результате ожесточенных дискуссий с различными ересями
соборными решениями была установлена догматика (догма есть
твердо, ортодоксально зафиксированное знание, общезначимое для
всех), окончательно расставившая акценты в онтологических и
метафизических принципах, принимаемых христианским миром.
Понимание Бога как единого по существу и троичного в Лицах
дает возможность указать на Его таинственную внутреннюю живую
активность трансцендентного Творца, и как философское следствие
этот догмат становится отправной точкой формулировки самой
онтологической монотриады, для которой каждый ее момент
равнозначен другим и неустраним без разрушения всей триады. Богоот-
кровенность троичного догмата подразумевает, что сама
формулировка его возможна и действительна как творческий акт.
В символе святого Афанасия учение о Пресвятой Троице
выражается так: «Вера кафолическая сия есть: да единаго Бога в Троице,
и Троицу во единице почитаем, ниже сливающе ипостаси, ниже
существо разделяюще. Ина бо есть ипостась Отча, ина Сыновня,
ина Святаго Духа. Но Отчее, и Сыновнее, и Святаго Духа, едино
есть Божество, равна слава, соприсносущно величество. Каков Отец,
таков и Сын, таков и Святый дух... Тако: Бог Отец, Бог Сын, Бог
и Дух Святый: обаче не три бози, но един Бог... Отец ни от кого
есть сотворен, ни создан, ни рожден. Сын от Отца самого есть, не
сотворен, не создан, но рожден. Дух Святый от Отца не сотворен,
не создан, ниже рожден, но исходящ... И в сей Троице ничтоже
184 Ю. M. РОМАН EH КО. БЫТИЕ И ЕСТЕСТВО
первое или последнее, ничтоже первое или последнее, ничтоже
более или менее, но целы три ипостаси, соприсносущны суть себе
и равны».1
В этой формулировке, уточненной впоследствии, обращает на
себя внимание присутствие определений «бытия» и «естества». Бог
неразделен по бытию и неслиянен по ипостасям, которые А. Ф.
Лосев определяет как «выраженный смысл бытия»." Это
онтологические аспекты троичного догмата. В нем учтен также аспект
«естества», или божественной «природы». Единые по сути бытия,
ипостаси различаются по присущему только им «естеству»,
выражаемому катафатически-апофатически: нерожденность Отца, рожден-
ность Сына, благодатное исхождение Святого Духа. Троичный Бог
творит мир, воплощается в нем, совершает его искупление, спасает
и возводит к Себе в Духе Святом.
Еще один принципиальный момент, раскрывающий новое
понимание «естества», зафиксирован в Халкидонском догмате о
наличии в Иисусе Христе двух «природ» — божественной и
человеческой. Такое дифизитское понимание утверждает, что Сын Божий
есть Бог субстанциально и одновременно Он воплощает в себе
«естество» человека субстанциально. Таким образом, в Никейском и
Халкидонском догматах понятия «бытие» и «естество» нашли свое
существенное применение и реализацию. Отныне любое искажение
в догматике откликалось искажениями в онтологическом и
метафизическом постулатах: либо в «спиритуализации» или
«натурализации» метафизики, либо в забвении «бытия» или игнорировании
«творения».
Личностное бытие Бога закрепляется через понятие ипостаси.
Арифмологический момент личности раскрывается в утроенной
модификации понятия Единого — как одной-единственной
единичности. Термин «одно» подчеркивает естественный количественный
учет бытия, в отличие его от небытия. Термин «единственный»
указывает на уникальность, неповторимость и незаместимость
бытия ничем иным. Термин «единичность» подразумевает полноту и
неделимость бытия. Личность уникальна и неповторима, если она
творит другую личность, в творении преображая ее естество.
Твориться может только личностное бытие, равно как и бытие,
творящееся из небытия, может быть только личностью. В творении
личность принимается как дар, т. е. бытие личности принимается
всецело или не принимается никак. Апостол Павел прямо говорит,
что в служении Богу уже не он живет, но живет Иисус Христос в
Цит. по: Полный православный богословский энциклопедический
словарь: В 2-х т. Т. 2. М., 1992. Стб. 2183.
" Лосев А. Ф. История античной эстетики: Итоги тысячелетнего
развития. Кн. 1. М-, 1992. С. 56.
КНИГА l. ГЛАВА 2. § 2. АРЕОПАГИТИКИ 185
нем. Тот, кто не может вместить в себя личность Другого как
ответственный дар, боясь потерять свою идентичность, на самом
деле ее еще не приобретал. Потеряв имя Савл и получив имя Павел,
апостол языков стал поистине уникальной, неповторимой и неза-
местимой личностью в истории.
Несмотря на то, что дар передается в творении безвозмездно,
по его усвоении спонтанно и естественно возникает импульс и
потребность отблагодарить Творца. Само благодарение и есть
усвоение дара, свободное приятие благодати, в котором освящается и
претворяется «естество». Благодарение на греческом звучит как
евхаристия, и оно принято в христианстве как основное из семи
таинств, представляя собой причастие к Богу. Его действие
протекает таинственно, но выражается в воспринимаемом преображении
естества.
После того как состоялось творение, повторная встреча Творца
и твари представляется как встреча двух воль, энергий — нетварной
и тварной. На языке религиозного опыта этот момент получил
название синергии, которую можно перевести как сотворчество.
В синергии проявляется единичная человеческая личность.
Объединение таких личностей происходит в литургии, которую также
можно перевести как сотворчество, но уже не на персональном
уровне, а на коллективном — в процессе собирания единого тела
Церкви.
Все эти онтологические и метафизические моменты развивались
как практически, так и теоретически в истории средневековой
теологии и философии и вообще всей последующей истории,
многообразно варьируясь и уточняясь, но сохраняясь по сути.
§ 2. АРЕОПАГИТИКИ
Диалектика апофатики и катафатики
как сохранение тайны творения
Сочинения неизвестного автора (или авторов), которые у
историков получили название «Корпус Ареопагитикум» по имени
легендарного Дионисия Ареопагита, усвоившего проповедь апостола
Павла, явились крупным событием проникновения философских
идей, прежде всего неоплатонических, в средневековый
богословский дискурс. Круг вопросов, которые поднимались в трактатах
Псевдо-Дионисия Ареопагита, включал в себя все актуальные темы
практической и теоретической жизни Церкви того времени.
Философское содержание трактатов Дионисия Ареопагита имеет
явно выраженную неоплатоническую окраску, с традиционно
развернутой концепцией «всеединства», развитой «метафизикой све-
186 Ю. M. РОМАН EH КО. БЫТИЕ И ЕСТЕСТВО
та», подробно разработанной диалектикой апофатики и катафатики.
Платоническая символика здесь заменяется христианской, и
представляется, что «Ареопагитики» явились оправданием
платонического типа философствования в контексте христианства, несмотря
на радикальное различие этих традиций прежде всего с
онтологической методологической точки зрения. Дионисий Ареопагит
непосредственно отталкивается от «Первооснов теологии» Прокла и
даже, вероятно, вводит его в свой текст в цитатах.
Отношение принципа «всеединства» и принципа творения весьма
проблематично и нуждается в серьезном продумывании. С одной
стороны, «единое» является трансцендентным «всему», и,
следовательно, «единое» творит «всё». С другой стороны, «единое»
имманентно «всему», иначе «всё» не было бы «всем», а представляло
собой раздробленное непроходимыми границами «многое». Эта
фундаментальная проблема совмещения принципов «всединства» и
«творения», как нам представляется, лежит у истоков замысла
Дионисия Ареопагита.
В экспликации принципа «всеединства» помимо категории
«бытие» существенную роль играет и категория «естество». Статус
последней категории в ареопагитских трактатах не совсем прояснен.
Вероятно, они написаны с монофизитской точки зрения, которая
вступала в догматическое противоречие с Халкидонским дифизит-
ским христологическим догматом, в котором утверждалась мысль
о наличии в Иисусе Христе двух природ — божественной и
человеческой. За именем Псевдо-Дионисия Ареопагита исследователи
усматривают личность известного религиозного деятеля
монофизитской ориентации, епископа Петра Ивера, грузинского
происхождения. Неконкретизированность понятия «естество» в концепции,
по всей видимости, послужила источником преувеличения роли
платонического синтеза в интерпретации онтологической триады
Дионисием Ареопагитом. Однако эта тема сейчас не входит в
рассмотрение. В первую очередь необходимо провести текстологический
анализ «Ареопагитик» в свете онтологической монотриады, в
направлении обнаружения трансцензусов креативных актов, метод
которых освоен нами в обращении к ранним памятникам
философской и богословской мысли в предыдущих параграфах.
Г. В. Флоровский, комментируя в целом онтологическую
позицию Дионисия Ареопагита с привлечением понятия «дар»,
утверждает, что, согласно Ареопагиту, «существование от Бога есть дар
Божий, и первый из даров».' Можно принципиально изменить эту
несколько тавтологическую формулировку, убрав союз, и, уточняя
возможный замысел текста, высказать суждение, что не просто
«существование "от" Бога», но «существование Бога» есть первый
1 Флоровский Г. В. Восточные отцы V-VIII веков. М., 1992. С. 108.
КНИГА 1. ГЛАВА 2. § 2. АРЕОПАГИТИКИ 187
дар Бога человеку в акте творения. Такой радикальный
экзегетический шаг более соответствует креационистской интуиции Арео-
пагита и позволяет адекватно войти в его онтологический замысел.
Категория «все» рассматривается с особой, исчезающей точки
зрения, как бы из небытия. «И будучи всеимянным, Бог и
безымянен... И будучи всем во всем, Он и ничто ни в чем...»1 Можно
видоизменить последнее предложение, и тогда «ничто ни в чем»
превращается в «ничто в ничем» — суть от этого не меняется: «все
есть ничто» (бог Пан умер). Следовательно, понятие небытия явно
или прямо присутствует в принципе «всединства» и требует
сопряжения с принципом творения из ничего. Хотя создается
впечатление, что Дионисий Ареопагит сдерживается от окончательной
формулировки.
По-платоновски онтологически трактуя свет, «Ареопагитики»,
в отличие от платоников, присваивают онтологический статус и
тьме, или «мраку». Символ «мрака», если можно так выразиться,
восходит к Библии, где «мрак» определяется как таинственное
«место» пребывания Бога: «И мрак сделал покровом Своим, сению
вокруг Себя мрак вод, облаков воздушных» [Пс. 17, 12]. Оппозицию
«свет—мрак» можно представить как спецификацию пары
категорий «бытие—небытие».
Дионисий Ареопагит как бы ставит оптический эксперимент в
духовной сфере, устремляя свой взгляд вдоль всего диапазона
световой развертки — от абсолютного максимума к абсолютному
минимуму, которые в круговом обращении встречаются в единой точке
совпадения Света и Мрака. Он пишет: «Подлинные таинства
Богословия открываются в пресветлом Мраке тайноводственного
безмолвия, в котором при полнейшем отсутствии света, при
совершенном отсутствии ощущений и видимости наш невосприимчивый
к "духовному" просвещению разум озаряется ярчайшим светом,
преисполняясь пречистым сиянием».2 В напряжении между светом
и мраком располагаются концентрированные сгустки света,
называемые сияниями или свечениями, которые выполняют собственно
креативные функции, озаряя пребывающий в небытии мрака разум
и тем самым актуализируя его.
Прямо не формулируя принцип творения, Дионисий Ареопагит
косвенно приближается к нему через экспликацию светового
всеединства, шаг за шагом обнаруживая в нем зияния (hiatus) мрака.
Свет отождествляется с мраком по причине неспособности
человеческого зрения воспринять всю силу и полноту свечения света.
Дионисий Ареопагит поясняет: «Божественный Мрак — это тот
1 Там же. С. 109.
" Дионисии Ареопагит. Мистическое богословие /,' Мистическое
богословие. Киев, 1991. С. 5.
188 ГО. M. РОМАН EH КО. БЫТИЕ И ЕСТЕСТВО
неприступный Свет, в котором, как сказано в Писании, пребывает
Бог. А поскольку невидим и неприступен он по причине своего
необыкновенно яркого сверхъестественного сияния, достичь его может
только тот, кто, удостоившись боговедения и боговидения,
погружается во Мрак, воистину превосходящий ведение и видение, и,
познав неведением и невидением, что Бог запределен всему
чувственно воспринимаемому и умопостигаемому бытию, восклицает
вместе с пророком: "Дивно для меня ведение Твое, не могу
постигнуть его"».1 Характерно, что погружение в Мрак инспирирует
«пророческое восклицание» — отклик из небытия на призыв к бытию.
Так как о Божественном Мраке человек узнает, «наталкиваясь»
на неприступный Свет, который изначально предпосылается как
Божественное проявление, можно говорить о последовательности
Света и Мрака и о возможности их отождествления в точках
перехода. В последнем случае Свет и Мрак одновременны. Ослепление
свидетельствует о действии света и о его объективном существовании
отдельно от субъекта видения. Поэтому человек, ослепленный
светом и погрузившийся в невидящую темноту, может
засвидетельствовать, что свет существует сам по себе. Свет никуда не исчез,
просто истощилась зрительная потенция. Но и Мрак нельзя
отождествлять, соответственно, с состоянием субъективной ослеплен-
ности, и ощущение его невозможно вызвать по субъективному
произволу. Мрак также «объективен», а вернее, трансцендентен. Но это
не означает что трансценденция есть некая дуальность Света и
Мрака. Напротив, они суть одно и то же. В обыденном зрении всегда
соприсутствуют невидимый Свет и невидимый Мрак. После того как
человек хотя бы однажды воспринял свет, он будет его воспринимать
даже при закрытых глазах, хотя бы в виде световых радужных
пятен. Перворазовое восприятие света оставляет след в зрении.
То же самое относится и к мраку: на него «наталкиваются» и
при открытых глазах (зрительное «слепое пятно»). В определенный
момент свет творит видение из небытия — из мрака. Но сами по
себе свет и мрак тождественны друг другу в их одинаковой
трансцендентности для видения. Творящиеся между ними сияния
производят различные действия на все органы чувств целостной
личности, способствуя их синергийной работе. Действие света, в
частности, заставляет напрячь слух и, как следствие, голос. Дионисию
Ареопагиту посвящен такой гимн: «Богоглаголивых уст утолив
светом Разума жажду, // Божьих имен красоту ты восславил, и
даже по смерти // Жизни поешь вдохновенные гимны в своих
сочиненьях».2 Конструкция фразы «утолив светом Разума жажду»
Дионисии Ареопагит. Письмо Дорофею Диакону // Мистическое
богословие. С. 12.
" Дионисии Ареопагит. Мистическое богословие. С. 14.
КНИГА I. ГЛАВА 2. § 2. АРЕОПАГИТИКИ 189
синтаксически двусмысленна: если не знаешь, где здесь стоит
смысловая пауза: перед словом «Разум» или после него, то непонятна
направленность отношения слов «свет», «разум» и «жажда». Но в
любом случае здесь метафорически выражается трансцензус: свет
утоляет жажду уст, поющих гимн.
Диалектика света и мрака, определяющая диалектику любой
пары категорий, осуществляется с использованием особых
спецификаторов, субкатегориальных оперативных определений,
выступающих в изложении в виде метафор. Так, о свете говорится, что
он «неприступен», на него «наталкиваются», а в « тайно водствен-
ный» мрак «погружаются» (как в воду). Этими метафорами
осуществляется перенос осязательных эффектов на иноприродную
область оптических явлений.
Свет есть особое «естество», притом абсолютное «естество».
Позволительно суждение «Бог есть Свет», в котором утверждается
световая «естественность» Бога. И это «естество» столь же трансцен-
дентно, сколь и «бытие» Бога, но в ином смысле и степени. Однако
нельзя произвести оборачивание суждения и сказать, что «Свет есть
Бог», ибо в Боге кроме его «естества» есть еще и другие атрибуты:
бытие и ипостасность. Суждение «Свет есть Бог» незаметно
оборачивается пантеистической ересью — Пан тоже блистал сияниями.
По утверждению А. Ф. Лосева, свет есть не сам Бог в его
сущности, но «энергия сущности» Бога.1 Подобным категориальным
различением сущности и энергии Абсолюта уточняется креативный
характер света. С одной стороны, свет есть «естество», с другой
стороны, он является творением (не только творение в качестве
результата, но прежде всего как сам акт творения). Свет творится
к собственному бытию из своего небытия — мрака.
К креативным и эманативным функциям света относятся
обращение и собирание сущего: «...солнечный свет, который согласно
определению является видимым образом (Божественной благости),
собирает и обращает к себе все сущее, видимое, все, что благодаря
ему движется, все, что им освещается и согревается, то есть всю
совокупность сущего, объятого его сиянием; да и само слово "солнце"
(илиос) происходит от "собирать" (илло), поскольку оно все собирает
и благодаря ему все разрозненное становится собранным»." В этом
месте Дионисий Ареопагит прибегает к этимологизированию для
подтверждения своих интуиции. Свет Солнца собирает многообразие
сущего, потому что обращает сущих друг к другу во всеединстве.
1 Лосев А. Ф. История античной эстетики: Итоги тысячелетнего
развития. Кн. 1. С. 60.
2 Дионисии Ареопагит. Божественные имена '/ Мистическое
богословие. С. 37.
190 Ю. M. ПОМАНЕН КО. БЫТИЕ И ЕСТЕСТВО
Дионисий Ареопагит, оговаривая онтологический статус Мрака,
обращается к авторитету Священного Писания, в частности к 17-му
псалму, где дается описание полной серии перцептивных актов,
группирующихся вокруг события Мрака: от пребывания в «тесноте»
и призыва к Богу («из бездны»), через слышание ответного Гласа,
осязания «простирания руки», до выхождения на «пространное
место» — в свободную волю творчества. В другом месте Библии —
«И мраком покрыл Себя, как сению, сгустив воды облаков небесных»
[2 Цар. 22, 12], — говорится о том, что Мрак возникает в процессе
преобразования «естества», в данном случае «сгущения» воды.
Свобода творения должна соблюдать условия «естества» и в этом смысле
чудо не нарушает законов природы.
Свет есть дар, и полное его приятие оставляет дарителя в
небытии — во мраке. Процесс поглощения дара сопровождается
преизбытком света — сияниями или озарениями, которые
одновременно являются критериями адекватности усвоения. Разрядка
напряженности между мраком и светом (lux) проявляется в сиянии
(lumen), сопровождаясь звучанием. Сияние, мерцая в молчании
мрака, озвучивает имя. В трактате «Мистическое богословие»
обозначен переход от света к ономатодоксии, которая реализуется в
трактате «Божественные имена», где дается онтологический
перечень этих имен. Сияния есть светоподобные существа, которые
одновременно являются носителями света и именами. Это — ангелы,
буквально переводящиеся как «вестники». Этой теме Дионисий
Ареопагит посвящает сочинение «О свойствах и чинах ангельских».
Всеединство ангельского мира, организованное иерархийно в девяти
чинах, представляется как «вся совокупность служений ангельского
совершенства, всепричиной и источником которого является сияние
благости, проявляющее скрытую в них благость и дарующее им
возможность быть благоподобными ангелами, то есть возвестителя-
ми Божественного молчания, и в качестве носителей света стать
проводниками сияния (Блага), пребывающего во Святая Святых».1
Ангелы как вестники воли и тайн Бога осуществляют откровение
и благовест.
Силы Божественного проявления многообразны, поэтому Бог
всеимянен и многоименит. Дионисий Ареопагит подробно
останавливается на существе каждого имени: Благо, Свет, Единое, Красота,
Любовь, Сила, Правда, Спасение, Начало и Конец, Промыслитель,
Творец, Прообраз. Полнота, Жизнь, Премудрость, Разум, Истина
и др. Вместе с этим каждое имя — лишь частичное проявление
Бога в мире, поэтому Он и безымянен (Geràç ocvovuuoç). Имена есть
метафорическое предицирование, и каждое имя перекликается с
каждым, составляя единый гимн Богу.
Дионисии Ареопагит. Божественные имена. С. 35.
КНИГА I. ГЛАВА 2. § 2. АРЕОПАГИТИКИ
191
Вступление в Священный Мрак понимается как теозис и энозис.
Говорит Дионисий Ареопагит также и о теургии, как практической
стороне отношения к Богу. Теоретическая созерцательно-разумная
часть состоит в чередовании апофатического и катафатического
методов. Движение сверху вниз обозначается как катафаза (такова
семантика приставки «ката-» — направление вниз), по нисходящей
явления Абсолюта. Обратный этому процесс называется апофазой,
что можно было бы назвать это анафазой («ана->> — движение
вверх). Но прямое совмещение катафазы и анафазы означало бы
замыкание круга «вечного возвращения». Поэтому в целях выхож-
дения из этого круга применяется именно метод апофазы, где
приставка «апо-» выражает одновременно смысл отрицания и
усиленного действия, указывая на творение.
Катафатика и апофатика несимметричны: в апофазе
осуществляется трансцензус в Божественный Мрак, за счет отрицания
преждеутвержденных положительных определений Бога, но она не
является формальным, огульным отрицанием, автоматически
следующим за утверждением; для подлинной апофазы необходимо
дополнительное сверхусилие сохранения отрицаемого в тайне. Апо-
фаза заканчивается тайной, а катафаза с нее начинает. Дионисий
Ареопагит в большей мере излагает применение апофатического
метода, но откуда берутся катафатические положения, он в целом
умалчивает. Они просто есть, предданы Писанием, сохраняющим
Откровение.
Ареопагитики стоят перед сложнейшем проблемой: откуда и
как появляются катафатические определения? По своему смыслу
они должны быть посредствующей сферой между трансцендентным
Творцом и тварью. И всегда существует искус принять их за самого
Творца. Во избежание искушения используется тщательно
разработанная методология апофатики.
Катафатические суждения основаны на гипотетическом
утверждении существования в Боге мысле-образов о мире, до его реального
сотворения. В этом состоит платонический элемент в сочинениях
Дионисия Ареопагита. Г. В. Флоровский так комментирует этот
вопрос: «Основное понятие катафатического богословия это — про-
мышление, Jtpôvom. В понимании Дионисия "промышление" есть
некое движение или "исхождение" Бога в мир, лроббос, —
нисхождение в мир, пребывание в нем, и возвращение к себе
(Божественная елштрофе), — некий круговорот Божественной любви...»1
Здесь налицо неоплатоническая триада, задающая динамику
мирового всеединства. «Промышление есть некое совершенно реальное
вездеприсутствие Божие, — своим промыпшением Бог присутствует
во всем и как бы становится всем во всем ради всеобщего спасения
1 Флоровский Г. В. Восточные отцы V-VII1 веков. С. 104.
192 Ю. M. РОМАН EH КО. БЫТИЕ И ЕСТЕСТВО
и блага, — Бог как бы исходит из себя».' «Как бы исхождение»
по всем признакам, является «эманацией», но не творением. Если
избавиться от эманации невозможно при постулировании творения,
необходимо показать, как любая из эманации кардинально
исключает другие. Но Дионисий Ареопагит фиксирует это как бы попутно
и без рефлексии. Все его теоретическое устремление направлено на
конструирование системы творческих образов в Боге, но как
присутствует в этой системе небытие, отделяющее образы, остается
непонятным. При этом смысл понятия «естество» остается недо-
раскрытым, а принцип творения недосказанным, неразвитой
остается также антропология, и именно в вопросе «естества» человека.
Хотя и того, что сделал Дионисий Ареопагит, достаточно для
адекватного развития исходных принципов онтологии и метафизики,
если не ограничиваться «открытым» текстом «Ареопагитик», но
взять в учет их контекстуальное окружение.
Пантеистическая (или, точнее, панентеистическая — как некий
компромисс между креационизмом и эманационизмом) тенденция
«Ареопагитик» состоит в том, что: «в Боге нераздельно предсуще-
ствуют творческие и определительные основания всего ((отобелкос
Àôyoi), согласно которым Сверхсущий все предопределяет и
производит. Эти "предопределения" суть "прообразы", лосросбегуцатос, и
вместе с тем это Божественные и всеблагие произволения или
"предопределения"...»2 «Гипотетические логосы», по мнению
Г. В. Флоровского, есть образы, актуализирующие волевое начало;
однозначно это «образ воли» или «воля образа». «Это — образ мира
в Боге; и вместе с тем — воля Бога о мире. Это некий мир идей,
но не самосущий и самодовлеющий, а существующий в Боге и
открывающий Его миру. Это как бы лик Бога, обращенный к миру.
И он лучится благостью и красотою, и эти "лучи" или "силы"
входят в самый мир, пронизывают его, творят его и сохраняют,
животворят. Эти "прообразы" есть живое и животворящее промыш-
ление Божие, — "сущетворные исходы Божий...».3 Таким образом,
в контекст онтологии и метафизики вводится понятие «воля»,
имеющее существенное значение в концепции творения. Если
эманация непроизвольна, то творение осуществляется волевым
усилием.
Дионисий Ареопагит недвумысленно утверждает, что, «рождая
что-либо сущее, Сверхсущий выступает за пределы своей сущности.
Итак, прообразами мы называем объединенные в Боге и
существующие в нем прежде своего воплощения в бытии творческие идеи,
которые в Писании называются "предопределениями", а также
1 Флоровскии Г. В. Восточные отцы V-VIII веков. С. 104.
2 Там же. С. 107.
3 Там же. С. 107-108.
КНИГА J. ГЛАВА 2. § 2. АРЕОПАГИТИКИ 193
благие веления Божьи, которые определяют и творят все сущее и
сообразуясь с которыми Сверхсущий предопределил и призвал к
бытию все сущее».1
Воление Бога к миру предполагает ответное «вожделение» мира
к Богу. Дионисий Ареопагит ставит особый акцент на понятие
«вожделение», заимствуя его из «Гимнов о вожделении» Иерофея-
Прокла: «Мы считаем, что вожделение — будь то Божественное,
ангельское, духовное, душевное или телесное — это некая
сдерживающая и соединяющая сила, подвизающая высших существ к
промышлению о низших, единочинных же, напротив, — к общению
между собою и, наконец, обращающая младших к старшим и
вышестоящим».2 Динамика отношения высшего и низшего уровней
бытия состоит во встрече двух воль. Низшее существо достигает
свою цель в синергии с высшим, через подражательное соучастие
своему «прообразу», через причастие Божественным действиям и
силам.
Самым значительным из Божественных имен Дионисий
Ареопагит считает «Единое». Именно «Единому» он посвящает
тринадцатую, последнюю, главу книги «Божественные имена». Сложно
сказать, относится «Единое» на самом деле к области имен, сфере
чисел или местоимений. Неуточненным также является вопрос о
соотношении неоплатонического Единого и христианской Троицы.
Дионисий Ареопагит отправляется от троичного догмата и
утверждает, что «всепревосходящее Божество воспевается и как Единица,
и как Троица, не будучи ни единицей, ни троицей в человеческом
или каком-либо ином смысле, и дабы истинно воспеть его
всепревосходящее единение и Божественное происхождение, мы именуем
Сверхименуемого Божественными именами Троицы и Единицы, а
Сверхъестественного — естественными».3 Но здесь непонятно все-
таки, является ли Троица только неким арифмологическим именем
и какое место занимает Троица в Ареопагитовой иерархии: вероятно,
Троица, даже включая в себя Единицу и будучи триединством,
стоит ниже беспредельно запредельного Единого, которого Дионисий
называет Божеством, но не личным Богом, именами которого
являются Бог Отец, Бог Сын и Бог Дух Святой.
Получается, по Дионисию Ареопагиту, что Троица есть только
числовое имя неименуемого Божества-Единого. «Но никакая
единица или троица, никакое число — будь то четное или нечетное,
никакое имя или слово, и вообще ничто из сущего — в каком бы
то ни было смысле — не в состоянии выразить превосходящую
любое разумение и мышление тайну сверхъестественной Сверхбо-
1 Дионисии Ареопагит. Божественные имена. С. 64.
~ Там же. С. 45.
3 Там же. С. 92.
194 Ю. M. РОМАНЕНКО. БЫТИЕ И ЕСТЕСТВО
жественности, сверхъестественно превосходящей все сущее и
остающейся недоступной для сущего».1 В дальнейшем это учение о
Сверхбожественном развивал Мейстер Экхарт, для которого
Божество (Готхайт) стоит вне Троицы, заключая ее в своей неизреченной
глубине. Здесь, на наш взгляд, заметен неоплатонический рецидив
излишней («сверх-») трансцендентизации Абсолюта.
Образцы слияния двух воль — Божественной и человеческой —
зафиксированы в Священном Писании. Их философское осмысление
закреплено в философских трактатах, в частности у почитаемого
Дионисием Иерофея, где имеется «непосредственное усмотрение
умопостигаемого смысла Писания».2 Дионисий Ареопагит ставит
на один уровень Библию и философский текст. О последнем он
пишет: «Сие творение учителя, обладающего совершенным и зрелым
образом мыслей, мы и сохраним для избранных в качестве некоего
второго Писания, соответствующего боговдохновенному».3 История
впоследствии часто оспаривала это соответствие.
Кроме написанных источников, существует живая устная
традиция Предания, которую Дионисий считает эмпирическим
необходимым дополнением и реализацией идей Священного Писания.
Предание также освящается, так как его носителями являются
причастники Божественных тайн. Они свидетельствуют об
истинности и успешной воплощенности Божественного «промышления»
в конкретных человеческих жизнях. Каждая реализация
трансцендентного «прообраза» должна быть увидена и сохранена для
истории: «мы будем без искажения передавать наше Предание тем, кто
может услышать сказанное».4
«Неискаженность» Предания зависит от соблюдения особых
условий. Обязанности хранения истины возложены на Церковь и
ее иерархию, которая воспроизводит Небесную Иерархию. Цель
иерархии — «возможное уподобление Богу и соединение с ним».6
Иерархия необходима, поскольку «по естеству своему не все равно
близко к Богу».6 Следовательно, продвижение по ступенькам
иерархии возможно как превосхождение одного «естества» и выход к
более высшему «естеству». Собственно говоря, задача иерархии
состоит в сохранении устойчивости стремления к высшему, чтобы
естество могло свободно созревать в соответствии с самим собой.
Тайну нужно сохранять, чтобы не иссякла воля движения к истине.
В богослужении по уставу церковной иерархии ее глава — «иерарх
1 Дионисии Ареопагит. Божественные имена. С. 92.
2 Там же. С. 32.
л Там же.
4 Там же. С. 93.
° Флоровскии Г. В. Восточные отцы V—VIII веков. С. ПО.
6 Там же.
КНИГА I. ГЛАВА 2. § 2. ЛРЕОПАГИТИКИ 195
хранит и передает это предание, передает в чувственных символах,
как бы прикрывающих от непосвященных Божественные тайны.
Дионисий подчеркивает мотив тайны».1 Но, как говорил М. Хай-
деггер, один из последователей Дионисия Ареопагита, истина (але-
тейя) — это непотаенность. Истина открыта, и лишь человек думает
о ней как о сокрытой. Дело даже не в том, что степень сокрытости
истины зависит от того, как утверждает Дионисий Ареопагит, что
по естеству своему не все равно близки к истине. По смыслу понятия
«естество» истина не ближе и не дальше. От Бога не отдаляются
«по естеству», а отпадают от искаженности естества, что может
случиться в том числе от неестественной реализации казалось бы
правильного стремления к истине. Согласно неоплатонической
доктрине, исхождение Абсолюта в эманации в низшие слои реальности
идет по ухудшающей. В этой концепции доминирует субординаци-
онизм. Но в таком случае это уже не иерархия (в подлинном смысле
слова — священноначалие), а генархия во главе с абсолютно
недостижимым Единым, по отношению к которому бессмысленно
применение понятий «ближе» и «дальше». Естество таково, каково
оно есть, оно равно самому себе и созревает по своим законам.
Естественная иерархия означает буквально освященность естества.
Но естество по определению двоично. Это отразилось в
подразделении Дионисием Ареопагитом иерархов на два типа: «иерургов»
и «епископов», наименования которых говорят сами за себя: в их
совместной, но специализированной деятельности воспроизводится
творческое преображение естества.
Таким образом, подробно разработанная Дионисием
Ареопагитом методология и символика с теоретической и практической
сторон является способом сохранения тайны творения, хотя само
творение понимается у него, скорее, в платоновском духе, которому
соответствует созерцательно-спекулятивный метод. Тайна хранится
в религиозном культе, организованном иерархийно согласно
Писанию и Преданию, свидетельствующим о Божественной истине. Тем
самым Дионисий Ареопагит стоит у истоков восточного направления
богословствования, основанного на мистическом созерцании и на
практике молитвенного призывания Божественных Имен (что в
рецепции русской религиозной философии позднее вылилось в
традиции софиологии и ономатодоксии). Интеллектуальную сторону
в это время развивали представители западной традиции, и основной
онтологической темой в теологии была проблема онтологического
Доказательства бытия Бога.
1 Там же. С. 115.
196 Ю. M. РОМАНЕНКО. БЫТНЕ И ЕСТЕСТВО
§ 3. СХОЛАСТИКА
Онтологический аргумент
В предыдущем параграфе была проведена интерпретация текстов
Дионисия Ареопагита в свете онтологической монотриады и
показано, что понятие «творения» эксплицируется здесь как трансцензус
от бытийно понимаемого света к бытийно понимаемому имени.
Другими словами, актуализация сущего действительна, когда оно
освещено и поименовано одновременно. Свет и имя в этом акте
творения из небытия одновременны и совместны, контрастируя с
одновременностью мрака и безмолвия. В диапазоне между бытием
и небытием протекает существование сотворенного сущего. В такой
диспозиции «творение» полагается как точка перекрещивания как
минимум двух избранных творческих процессов: слышания-в-
голосе-имени и видения-в-свете-образа. Эта установка может быть
названа спекулятивно-мистической. О мышлении здесь пока не
ведется речь — его роль подразумевается, но не делается предметом
самостоятельного фиксирования. Имя как орудие Богочеловеческого
общения, проходя в сферу человеческой коммуникации, порождает
в этой инобытийной области разряд однородных слов, которые
рассеиваются и вступают в причудливые взаимоотношения с
другими словами. Разобраться с этим хаотическим смешением слов
языка (или языков), вероятно, способно только мышление, которое
является судящей инстанцией, приводящей хаос обыденного языка
в упорядоченные структуры, с тем чтобы вернуть слову статус
имени. Такая позиция относительно нейтральна к мистической
практике, на которой основывался «Ареопагитский корпус». Ее
можно условно назвать спекулятивно-интеллектуальной, где разум
утверждается как субъект творчества, своими средствами
воспроизводящий творческий акт. Если это допускается, тогда мышление
способно выразить Бога-Творца, каков он есть в момент творения
бытия из небытия. Иными словами, здесь ставится вопрос о
возможности формулироваки доказательства бытия Бога. Попытка
реализации такой возможности была предпринята средневековой
философией в жанре так называемых доказательств бытия Бога, в
первую очередь — онтологического. Если для чутья Бог уже
«показан» в своем Образе и удостоверен Именем, то для мышления
Он должен быть «доказан» в его бытии понятием. «До-казание»
мышления усиливает дополнительно «по-казание» чувств.
Чувства ориентированы на бытие в творении (ориентация здесь
понимается в буквальном смысле: свет идет с Востока — ex oriente
lux). Но чувства дезориентированы по отношению к небытию, из
которого творится бытие. Мышление находится между чувствами:
ни в свете, ни во мраке, но в сумеречном взаимопроникновении
КНИГА l. ГЛАВА 2. § 3. СХОЛАСТИКА 197
одного и другого в западном (оксиденталъном) направлении, «ок-
сидентируясь» (оглядываясь) в небытии по рефлексам отраженного
мраком света — ex oxidente lumen. Не зря, замечал Гегель, сова
Минервы, персонифицирующая мышление, вылетает в сумерки,
когда процесс чувственного восприятия завершен. Действиями
мышления являются определение в понятии, доказательство или
опровержение того, что чувства воспринимают как дар, который
они естественно волят. Мышление необходимо как судящая
инстанция, следящая (буквально: идущая по следу) за чувствами в
обратном направлении. Чувства имеют свободу воли, а мышление
свободу выбора.
В метафизике света Дионисия Ареопагита используется прием
апофазы — отрицания звучащего профанного (т. е.
непросвещенного), или «полуосвещенного», слова, утратившего статус имени;
освобождая место для явления неприступного Света, с тем чтобы
одновременно с ним в чистоте вновь услышать Имя. Апофатика
оттесняет катафатические понятия и суждения в отдельную сферу,
где они упорядочиваются рассудительным мышлением,
стремящимся сохранить их в системе. Для этого рассудочное мышление
использует метод аподейктики — доказательного, необходимого по
своей вынужденности утверждения бытия на фоне шума и сумерек.
Мышление пытается заполнить своими конструкциями пустоту
небытия, оставленную насыщенными даром чувствами.
Дионисий Ареопагит представляет своим учением традицию
платонизма. Панлогистские аристотелевские мотивы не нашли у
него достаточного отражения, так как Платон и Аристотель
смотрели в разные стороны. Дионисий Ареопагит — представитель
восточного направления, ориентированного на метафизику света.
Восток есть Восток, а Запад есть Запад, и вместе им не сойтись
никогда. Если только Солнце не упадет на Землю. Противоположная
задача ляжет на деятелей западноевропейской средневековой
теологии и философии, в частности в схоластике, являющейся
восприемницей аристотелевской методологии в контексте теоцентриз-
ма. Аристотель впервые разработал научную логику доказательного
мышления, отвернувшись от созерцания сияния платоновских идей,
и применил ее для космоцентрического моделирования Абсолюта.
Средневековые аристотелики использовали доказательное
рассудочное мышление для утверждения теистического принципа творения.
Онтологическое доказательство бытия Бога служит
имманентным самочинным оправданием творения в мышлении. Такая
«самооправдательная» установка мыслящего разума может реализоваться
только в системе панлогизма, когда мышлению не остается ничего
иного, кроме полной замены чувств самим собою. Гегель
манифестирует эту амбицию так: «Логику, стало быть, следует понимать
Как систему чистого разума, как царство чистой мысли. Это царство
198 Ю. M. РОМАН EH КО. БЫТИЕ И ЕСТЕСТВО
есть истина, какова она без покровов, в себе и для себя самой.
Можно поэтому выразиться так: это содержание есть изображение
Бога, каков он в своей вечной сущности до сотворения природы и
какого бы то ни было конечного духа».1
Гегель претендует, ни много ни мало, на «изображение» Бога,
обходя онтологический запрет метафорическим уточнением, что это
«изображение» логическое. «Чистота» мысли заключается в
изолированности и нейтральности мысли по отношению к содержанию
чувств. Но тем не менее, когда понятие разворачивается в систему,
оно становится «образом», следовательно, тогда оно
самоупраздняется, закончив доказывать то, что требовалось доказать. Мысль,
идя вслепую на Запад до конца, оксидентируясь только в
рефлексиях, огибает шар и возвращается с Востока в понятии, обретшим
славу полного имени Логоса. Платон и Аристотель, идя строго в
разные стороны, рано или поздно должны встретиться. Эта встреча
произошла в философии Гегеля.
Но мы забежали на несколько столетий вперед. Необходимо
вернуться к истоку такой тенденции. Автономное развитие
логических исследований в Средние века, осуществляемое в русле
аристотелевской методологии, неминуемо должно было реализовать
возможность применения логического аппарата и инструментария к
фундаментальной теистической установке: Бог сотворил мир. Это
положение принималось как авторитетное и освященное
Откровением Священного Писания. В него следует верить. Однако веру
невозможно поддерживать на предельно высоком уровне. Об этом
свидетельствует существование такой молитвы у настоящих
«рыцарей веры»: «Верую, Господи, помоги моему неверию ». Необходимо
непрерывно поддерживать интенсивность веры в культе и постоянно
уточнять, во что или в Кого веруешь. А для этого необходимо
дополнительное усилие. Внекультовая человеческая деятельность
зачастую теряет теистические ориентиры, поэтому необходима
выработка универсального критерия, исходя из которого можно было
бы конструировать любое абстрактное мыслительное действие, не
впадая в нигилизм.
С этой точки зрения вера дополняется и даже усиливается
мышлением (пониманием). В таком контексте возникает
знаменитый средневековый спор о соотношении веры и знания. Решить
спор в пользу комплементарности веры и разума с точки зрения
разума могло доказательство бытия Бога средствами одного разума.
Первую такую попытку успешно осуществил Ансельм д'Аоста,
архиепископ Кентерберийский (1033-1109). Успешной эту попытку
можно назвать хотя бы потому, что несмотря на дальнейшую ее
критику — логическую, лингвистическую, структуральную, теоло-
1 Гегель Г. В. Ф. Наука логики. Т. 1. М., 1970. С. 103.
КНИГА 1. ГЛАВА 2. § 3. СХОЛАСТИКА 199
гическую и др., — онтологический аргумент прочно занял достойное
место в ряду постоянных философских проблем, возбуждающих
напряжение мысли.
Допустимо сказать, что мышление есть особая способность
усвоения дара по мере его получения. Дар передается из небытия
в Ешбытие через человека, который пропускает через себя бытие
и возвращает его обратно Творцу. В этом состоит конечная цель
онтологического доказательства. Однако само доказательство
адресовано, разумеется, не персонально Богу и не самому себе, а другому
человеку, который предполагается как не знающий о бытии Бога.
Доказательство есть передаривание, и забавно было бы, если бы
человек доказывал со всей серьезностью Богу, что Тот есть. Но такая
серьезность Ансельма и Гегеля не должны смущать. Они затеивали
онтологическую аргументацию для того, чтобы начать нешуточный
разговор с себе подобными. Потребность в онтологической
аргументации возникла в контексте интерсубъективности, межличностной
человеческой коммуникации. Важно обратить внимание на эти
обстоятельства, оксидентируясь в которых Ансельм предпринимает
попытку сдвинуть мысль о бытии в направлении Творца.
В сочинении «Монолог» Ансельм приуготовляет условия для
онтологического аргумента, предварительно разделяя
существование и природу Бога (в нашей терминологии это соответствует
понятиям «бытие» и «естество»). На основе такой дифференциации
вытекают две возможности. Во-первых, апостериорное
доказательство на основе аналогии сущего, исходя из исследования природы
сотворенных вещей заключать об атрибутах Бога. Во-вторых, в
последующей работе « Проелогион» Ансельм формулирует собственно
онтологическое доказательство (демонстрацию), априорное в том
смысле, что в нем абстрагируются от опыта обращения с вещами
тварного мира.
Первый адресат, которому направляется онтологический
аргумент, — некий гипотетический субъект, отрицающий
существование Бога, т. е. а-теист; причем пока неизвестно, апофатичен его
метод или антифатичен. В первом случае апофатического атеиста
можно было бы переубедить доказательством от противного,
вышибая клин клином: атеист отрицает существование Бога, но каждое
ранее высказанное суждение должно быть в свою очередь отрицаемо,
следовательно, в отрицании отрицания Бог есть. В случае же анти-
фатического атеиста, отказывающегося даже вступать в диалог по
этому вопросу, мыслительные аргументы уже не имеют никакой
силы.
Даже если кто-то настроился все и всячески отрицать, то он
Должен согласиться, что отрицать можно только то, что уже заранее
каким-либо образом есть в качестве предданного для отрицающего.
Поэтому, хотим мы того или не хотим, но в нашем разуме есть
200 Ю. M. РОМАНЕНКО. БЫТИЕ И ЕСТЕСТВО
некое априорное понятие такого субъекта, который гипотетически
объединяет все возможные признаки, в том числе и признак
существования. Все признаки можно отвергнуть, кроме признака
существования, иначе просто нечего будет отрицать.
Онтологический аргумент не является апостериорным, но он
также и не априорен. Для его возможности необходим особый опыт
вхождения во всеединство и опыт выхождения из него. Это два не
узнающие друг друга опыта. Один априорен другому. В
формулировке онтологического аргумента подразумевается, что опыт
«теиста» и опыт противостоящего ему «атеиста» транснендентны друг
другу. Они могут общаться только не некоем нейтральном языке.
Обмен опытом в логически организованном общении репрезентирует
творение бытия из небытия.
Метод онтологической аргументации не апофатичен, а апологе-
тичен. Теист должен повторить творческий акт перед лицом атеиста,
убедив его неуязвимым аргументом (как говорил Парменид —
безупречным доводом) признать бытие Бога и выйти из небытия
неверия. Если существует понятие о совершеннейшем существе (а
оно существует уже хотя бы в диспуте между теистом и атеистом),
то из этого факта логически следует, что Бог существует объективно,
т. е. это понятие может быть предметом спора: задевая обоих
участников дискуссии, оно не принадлежит отдельному уму кого-либо
из них и, следовательно, существует объективно. Если дискуссия
творческая и плодотворная, она завершается независимым
признанием творения, и в ее процессе возникают новые логические
структуры как побочный результат. Само онтологическое доказательство
уже есть изобретение нового способа и структуры аргументации.
Такая обустроенная дискуссия не может не закончиться
отвращением обоих оппонентов друг от друга, они отворачиваются и
молчаливо смотрят на Восток — откуда Свет. Цель доказательства
достигнута.
Схема онтологического доказательства бытия Бога достаточно
проста, хотя используемые в ней отдельными философами слова
были различными, порождая уже дополнительный спор по поводу
терминов. По Ансельму: «Несомненно, что то, больше чего не
мыслимо, не может существовать в одном интеллекте. Ибо если
оно существует в одном лишь интеллекте, то мыслимо, что оно
существует реально, что больше, чем существовать только в
интеллекте. Если, следовательно, то, больше чего немыслимо, существует
лишь в интеллекте, тогда то, больше чего не мыслимо, есть то,
больше чего мыслимо, а это, несомненно, невозможно». При
формулировке этого доказательства Ансельм представлял
аристотелевское учение об онтологическом статусе Ума-Перводвигателя,
который мыслит сам себя, что больше чем просто мыслить (концепция
активной и пассивной ипостасей едино-двойственного Ума).
КНИГА I. ГЛАВА 2. § 3. СХОЛАСТИКА
201
Критика онтологического доказательства бытия Бога возникла
сразу в момент его первого произнесения. Критически отнесся к
нему ученик Ансельма монах Гаунилон, утверждавший, что из
понятия Бога невозможно вывести его объективного существования.
Спор здесь возник по поводу того, как трактовать понятие (идею,
термин, слово, концепт) — объективистски или субъективистски.
Гаунилон как бы взял на себя логическую роль быть «адвокатом
атеистов» для того, чтобы дискуссия состоялась, но, конечно,
атеистом монаха Гаунилона назвать нельзя. И в позиции Ансельма, и
в позиции Гаунилона есть существенные двусмысленности в
формулировках, но их диалектическое совмещение создает эффект
логической устойчивости. Представляется, что их спор есть некий
логический «сговор», имеющий целью убедить мышление
мышлением в том, что оно существует, творясь в споре по поводу творения
из небытия.
Фидеизм, стоящий на принципе «только верою» (sola fide) и
отмежевывающийся от результатов деятельности мышления, также
критикует онтологический аргумент, дескать, зачем доказывать то,
что и так очевидно религиозным благочестивым чувством. С точки
зрения фидеизма мыслящий разум берет на себя неприподъемное
обязательство, в гордыни пытаясь доказать существование Бога.
Однако изолированная вера не в меньшей степени испытывает
искушение гордыней. Ведь вера, по определению апостола Павла,
есть «обличение вещей невидимых». Иначе говоря, для веры ее
«объект» существует в несуществовании. Поэтому мышление
отнюдь не отменяет функции веры, а, напротив, является ее
помощником, попутчиком и посредником, когда вклинивается в зыбкую
границу между существованием и несуществованием и укрепляет
ее прочной логической структурой.
Уже когда мышление взяло совместно словосочетание «бытие
Бога» в качестве тезиса, то в этом взятии имеется в виду «бытие»
именно «Бога». Вот эти сокращаемые при формулировке
обстоятельства — «имение в виду» и «именно» — свидетельствуют о том,
что доказательство осуществляется в интервале между видением
образа и слышанием имени. Без скрытой предпосылки образа и
имени мышление вообще ничего бы не доказывало, или, в лучшем
случае, начав с определения «бытия», не смогло бы уточнить, что
это бытие именно Бога, или, с другой стороны, начав с имени «Бог»,
не смогло бы приписать ему бытие. Эвристичность онтологического
мыслительного аргумента как раз и состоит в трансцендировании
от имени к образу. Ситуация усложняется для мышления еще и
тем, что Бог-Творец творит бытие из небытия, поэтому в Нем есть
бытие, но Он имеет власть и над небытием. Поэтому катафатическое
Доказательство «бытия» Бога дополняется апофатическим
доказательством «небытия» Бога, откуда творится «бытие».
202
Ю. M. РОМАНЕНКО. БЫТИЕ И ЕСТЕСТВО
В зависимости от того, на какое слово — первое или второе —
ставится ударение в словосочетании «бытие Бога», фокус мысли
сдвигается и переносится вслед за акцентом. Мышление само не
ставит акцент, а сосредоточивается на том слове, которое стоит под
ударением. Акцентуация производится голосовым интонированием,
прекращающим вибрацию двусмысленности. Это дополнительный
акт именования. Ведь слова «бытие» и «Бог» являются именами
(не в профанном смысле). Вспомним, что имя Яхве есть «Аз есмь
Сущий».
С. Л. Франк, посвятивший онтологическому доказательству
большое исследование, заключает: «Истинный и поучительный
недостаток онтологического доказательства состоит совсем не в том,
что он не в состоянии убедительно доказать свой тезис, а в том,
что сам этот тезис остается двусмысленным. А именно, пытаясь
доказать "бытие" Бога, он проникает только до безусловного бытия
и должен как-то отождествить Бога с последним. Живая,
непостижимая глубина реальности, которая есть нечто неизмеримо большее
и иное, чем только бытие даже в его безусловности, и которая
доступна лишь бытийственному взору из глубины нашей
собственной жизни, рискует здесь не быть уловленной. Онтологическое
доказательство есть как бы лишь схематическая проекция полной
и живой очевидности Божества на плоскость мышления».1
С. Л. Франк справедливо подчеркивает двусмысленность тезиса
онтологического аргумента, но он не говорит, что эта двусмысленность
снимается в отождествении имени и образа. Хотя С. Л. Франк в
косвенных выражениях имеет в виду, очевидно, именно это. Под
«полной и живой очевидностью, доступной и улавливаемой бытий-
ственным взором из глубины», подразумевается «образ».
Двусмысленность тезиса означает, что автором онтологического
аргумента является не один человек, обладающий интеллектом, а
как минимум двое, на что не обращает внимание Франк, апеллируя
только к персональному опыту и ограничивая тем самым
возможности онтологического аргумента, который, получается, не
самоценен, по Франку, но только «может сопровождать живое уловление
Божества, соучаствовать в нем и тем придавать ему еще большую
ясность»." Отражениями ясность самого света не усилить. Под
«живым уловлением Божества» Франк подразумевает, вероятно,
зов по имени. Ясность дается как концентрация силы света, являясь
степенью освещенности, а мышление собирает отражения света
благодаря образу, используя его как экран.
1 Франк С. Л. Непостижимое // Франк С. Л. Сочинения. М., 1990.
С. 459.
- Там же. С. 460.
КНИГА I. ГЛАВА 2. § 3. СХОЛАСТИКА
203
Обратим внимание на Ансельмово выражение: «то, больше чего
не мыслимо», включенное в тезис его доказательства. Указательное
местоимение «то» отсылает к чему-то существующему вне
высказываемого. Это пока еще не онтологическое доказательство, но
онтологическое указательство — исходное в тезисе. Здесь
осуществляется как бы мыслительный жест указывания. Выражение «то,
больше чего не...» говорит о трансцендентности того, на кого
указывают. Плотин также употреблял местоимение «то» для
синонимического обозначения Единого. Таким образом, мышление не
использует сакральное имя в своих построениях, замещая его
местоимением, т. е. оно оперирует местом, в которое мог бы снизойти
Абсолют. Это некий логический топос, или логическая структура,
вмещающая имя. «"Тот, больше и выше которого нельзя себе
помыслить", — это не дефинитивная формула, скорее, это одно из
имен Бога в ряду других имен. Секрет жизненности онтологического
аргумента, подчеркивает Э. Аллен, в самом религиозном чувстве
обожания, преклонения, когда душа, переполненная наводнившими
ее восторгами, ищет как-то себя излить».1 Но это местоимение не
произносится в молитве, а участвует в построении интеллектуальной
структуры общения.
Человек собирается рассказать человеку, что Бог есть, ради
того, чтобы выявить самодостаточную, объективно существующую
онтологическую структуру, естественно притягивающую к себе
мышление. Следовательно, для мышления Бог действительно есть.
Перефразируя евангельское выражение, можно сказать: там, где
двое собираются для спора о Боге, Он присутствует между ними.
После того как выслушаны доводы всех сторон — argumenta
adversaria, — мышление может делать выводы разной степени
вероятности. Когда Ансельм и Гаунилон высказались в споре, Фоме
Аквинскому было проще занять позицию умеренного реализма и
понимающей веры, с точки зрения третейского судьи уточнить
формулы и интерпретировать их на конкретном теологическом
материале. Знаменитый схоластический спор об универсалиях,
заключавшийся в выяснении вопроса об онтологических понятиях,
имел своим основанием именно онтологический аргумент. Спорящие
стороны разделились на полюса радикального реализма и
номинализма, между которыми располагались точки зрения разной степени
компромисса. Крайний реализм настаивал на том, что универсалии
не только существуют вне человеческого сознания, но и являются
понятиями Божественного интеллекта. Поэтому трансцендировать
нужно было уже не только к Богу, но даже и к гипостазированному
понятию о нем. Номинализм утверждал, что общие понятия явля-
1 Реале Дж., Аитисери Д. Западная философия от истоков до наших
Дней. Т. 2. Средневековье. СПб., 1994. С. 100.
204
Ю. M. РОМАНЕНКО. БЫТИЕ И ЕСТЕСТВО
ются только «именами» (произвольными обозначениями), которые
для удобства человеческого мышления конвенционально
накладываются на классы подобных объектов. Но уже в самом названии
«номинализм» заключена двусмысленность: если признать
онтологический статус самого имени «номена», тогда «номинализм»
естественно оборачивается в реализм. Спор этот был достаточно эв-
ристичен, так как благодаря ему создались напряженные условия
для выдвижения и решения существенных логических и
методологических проблем. В частности, представители номинализма
разрабатывали проблему «интенциональности» («направленности» на
объективность, но не саму объективность как таковую), которую
Кант затем использовал под термином «полагание» для
характеристики экзистенциального суждения в онтологическом аргументе.
Онтологическое доказательство не чисто логический конструкт,
его возможность возникает на пересечении логики, диалектики и
риторики. На риторическую сторону онтологического аргумента
обращают внимание в меньшей степени. Риторика, по одному из
определений А. Ф. Лосева, есть «то же искусство, то же творчество,
выросшее на диалектической логике возможного бытия».1 Уже
Аристотель считал, что «нет доказательства всего, вопреки
утверждению некоторых»,2 но искусство доказательства необходимо для
обмена мыслей по поводу Абсолюта.3 Слово как орудие общения с
учетом мнения других используется в риторике и диалектике,
имеющих дело с противоположностями. Доказательное слово
необходимо для человека, так как «если позорно не быть в состоянии
помочь себе своим телом, то не может не быть позорным бессилие
помочь себе словом, так как пользование словом более свойственно
человеческой природе, чем пользование телом».4
Человек использует слово в аргументации, которая есть «способ
подведения оснований под какую-либо мысль или действие
(обоснование) с целью их публичной защиты, побуждения к
определенному мнению о них, признания или разъяснения; способ
убеждения кого-либо посредством значимых аргументов. В этом смысле
аргументация всегда диалогична и шире логического
доказательства, поскольку она ассимилирует не только "технику мышления"
(собственно логику), но и "технику убеждения" (искусство
подчинять мысль, чувства и волю человека)».0
1 Античные риторики. М., 1978. С. 287 (в комментарии).
2 Аристотель. Вторая аналитика. I 22, 84а 32.
3 Он же. Топика. I 2, 101а 30-32.
4 Он же. Риторика. I, 1355b.
° Аргументация // Философский энциклопедический словарь. М.,
1989. С. 36.
КНИГА I. ГЛАВА 2. § 3. СХОЛАСТИ К А
205
Иногда аргумент отождествляют с доказательством или с
посылкой (доводом) доказательства, которое определяется как «способ
обоснования истинности суждения, системы суждений или теории
с помощью логических умозаключений и практических средств
(наблюдение, эксперимент, общественно-производственная и
социальная деятельность); в узком смысле, принятом в традиционной
формальной и современной математической логике, — установление
истинности суждений исключительно посредством логических
умозаключений, или выводов».1
Ансельм использовал форму логического умозаключения для
изложения онтологического доказательства, хотя доказываемый
тезис в виде суждения: «Всесовершеннейшее существо имеет своим
признаком существование» — уникален по своему содержанию.
Ансельма упрекали за применение логической формы
умозаключения к Богу, считая, что Бог как бы расчленяется в дискурсе. Хотя
Ансельм доказывал лишь то, что обратное суждение о
несуществовании Бога внутренне противоречиво и приводит к абсурду и
неосмысленности. Э. Жильсон так комментирует это обстоятельство:
«Каковы бы ни были окончательные метафизические выводы и
последствия так называемого онтологического доказательства
(argument), оно является, в основном, диалектической дедукцией,
показывающей существование Бога, чьей внутренней
необходимостью является принцип противоречия. В этом случае Бог есть то,
сверх чего нельзя ничего помыслить; если можно показать, что
имеется противоречие в предположении о том, что нечто величайшее
из всего, что возможно вообразить, не существует, то существование
Бога будет полностью доказано (продемонстрировано)».2 Жильсон
здесь не случайно упомянул воображение. Онтологическое
воображение означает отношение к трансцендентному образу.
Ансельм приводит веру и знание в согласие. Э. Жильсон
поясняет: «Логику не нужно ничего более, чем получить полное
удовлетворение от рационального умозаключения. Как христианин
Ансельм верит в то, что Бог есть; как логик он заключает, что
представление о несуществующем Боге является
самопротиворечивым представлением; он не может поверить ни в то, что Бога нет,
ни в то, что его можно охватить умом, — а раз так, то из этого
следует, что Бог существует».3
В работе «О воплощении Слова» Ансельм Кентерберийский
наряду с онтологическим доказательством обосновывал логическую
необходимость Боговоплощения. В католической Церкви Ансельм
1 Доказательство // Философский энциклопедический словарь. С. 180.
2 Жильсон Э. Разум и откровение в Средние века // Богословие в
культуре Средневековья. Киев, 1992. С. 16.
3 Там же.
206 Ю. M. РОМАНЕНКО. БЫТИЕ И ЕСТЕСТВО
почитается как святой. Его ученик и оппонент Гаунилон,
допустивший риск искушения учителя, остался в истории несколько в
тени, но теперь он осеняется свечением святости Ансельма. Можно
было бы вослед его онтологическому аргументу сформулировать
такое доказательство: существует святой Ансельм, следовательно,
Бог есть. Заключение от имени святого к бытию Бога. Аналогичное
доказательство от образа предпринимает П. А. Флоренский,
утверждая: «Есть Троица Андрея Рублева, следовательно, Бог есть». Здесь
нет ни кощунственного самозванства, ни нарушения логических
правил, напротив, логика благословляется онтотеологией и фидео-
логией, а те, в свою очередь, оправдываются логикой.
В дальнейшем развитии истории философии притягательная
сила онтологического аргумента образовывала появление сотворчес-
ких пар оппонирующих философов: Фома Аквинский и Бонавен-
тура, Декарт и Лейбниц, Кант и Гегель, Гегель и Шопенгауэр,
Э. Жильсон и Б. Рассел и др. Можно конспективно просмотреть,
в каких модификациях воспроизводилась проблема онтологического
доказательства бытия Бога в деятельности перечисленных
философов, мыслящих в новых исторических условиях и решавших свои
собственные задачи. Логическая аргументация постепенно
уточнялась и развивалась, оставаясь в своей основе инвариантной, хотя
эмоциональные и прагматические мотивировки были достаточно
многообразны.
Декарт, возвещая активность познающего субъекта в эпоху
Нового времени, был сторонником онтологического аргумента, в
большей мере делая акцент на том, что человек способен собственным
усилием доказать существование Абсолюта. Поэтому и сам
онтологический аргумент у него несколько видоизменился от теоцентризма
в сторону антропоцентризма: в идее Бога самоочевидно и несомненно
усматривается и мыслится Его существование. «Из всех идей,
которые мы имеем, она самая ясная и отчетливая, а потому и самая
истинная» -1 Здесь Декарт начинает доказательство уже не с понятия,
как Ансельм, а с идеи, апеллируя к интуиции, что не совпадает с
логическим замыслом Ансельма. Кроме этого, ясность идеи
существования, о чем говорит Декарт, должна быть увидена благодаря
Свету и на его фоне, но сами по себе ни идея, ни понятие не
являются источниками света.
Лейбниц смягчил эту антропоцентрическую тенденцию Декарта,
формулируя онтологическую аргументацию с точки зрения
логических модальностей: Бог существует в единстве его необходимости
и возможности: Он возможен (в понятии), следовательно,
необходимо существует.
1 Фишер К. История Новой философии. Декарт: Его жизнь, сочинения
и учение. СПб., 1994. С. 344.
КНИГА I. ГЛАВА 2. § 3. СХОЛАСТИКА
207
И. Кант известен своей педантичной критикой каких-бы то ни
было доказательств бытия Бога. В «Критике чистого разума» он,
задаваясь целью «доказать недоказуемость» бытия Бога, пишет:
«Я докажу, что разум ничего не может достигнуть ни на одном
(эмпирическом), ни на другом (трансцендентальном) пути и что он
напрасно расправляет свои крылья, чтобы одной лишь силой
спекуляции выйти за пределы чувственно воспринимаемого мира».1
Кант ставит себя в двусмысленное положение, ибо если и можно
чем-то мотивировать намерение разрушить онтологический
аргумент, то лучше всего это сделать простым игнорированием. Разуму
не нужно выходить за пределы чувственности, «расправляя
крылья», он и так пребывает за пределами. Разум как раз и вынужден
заниматься онтологическим доказательством, чтобы трансцендиро-
вать к естественным чувствам.
Кант полагает, что понятие Бога, фигурирующее в тезисе
доказательства, есть «принятое сначала наугад и сделавшееся в конце
концов совершенно привычным понятие».2 В методе «угадывания»
нет ничего плохого, Ансельм действительно изобрел онтологический
аргумент, для чего нужно было проявить искусство мысли. Но о
методе «угадывания» сам Кант ничего конкретного не сказал. Кант
собирается разрушить «привычку» прежних онтологов, даже
несмотря на то, что «сила иллюзии этой логической необходимости
столь велика» .3 Но, согласно теории иллюзий, даже если мы разумом
поняли причины появления оптических иллюзорных эффектов,
зрение все равно будет воспринимать иллюзию как она сама
является. Рассудок не в состоянии превозмочь феноменологию иллюзии,
ибо ее видят глаза.
В отличие от Ансельма, который объединяет веру и знание,
который верит, чтобы понимать («credo ut intelligam»), Кант как
бы ограничивает (Aufheben) знание, чтобы «освободить» место вере,
т. е. действует по принципу «разделяй и властвуй». Кант
обращается к сторонникам и конструкторам онтологического
доказательства со следующими словами: «Если позволить вам это, то внешне
вы выиграли игру, между тем как на деле вы ничего не сказали,
так как это лишь тавтология».4 Кант отнюдь не доказывает
недоказуемость, а, не совсем поняв правила этой игры (Кант прав, что
это мыслительная игра), не «позволяет» ей начаться. Эта игра
эвристична, поскольку в ней есть возможность появления блефа.
Гораздо логически умнее и тоньше по отношению к этой игре
поступил Паскаль, изобретя свое знаменитое пари: в споре о суще-
1 Кант И. Критика чистого разума. М., 1994. С. 358.
2 Там же.
3 Там же.
1 Там же. С. 361.
208
Ю. M. РОМАНЕНКО. БЫТИЕ И ЕСТЕСТВО
ствовании или несуществовании Бога даже при равновероятных
шансах того и другого нужно поставить на существование, ибо
только в этом случае можно приобрести все. Кроме этого, Кант
косвенно прав, что онтологический аргумент это тавтология. Но
смотря как ее понимать. Если онтологически понимать под ней
«слово самотождественного о себе самом», тогда термин
«тавтология» является иным образом сформулированным онтологическим
тезисом. Кстати, позитивисты также ругали онтологический
аргумент тавтологией, но понимали ее сугубо формально.
Часто цитируют такое положение Канта: «Ясно, что бытие не
есть реальный предикат, иными словами, оно не есть понятие о
чем-то таком, что могло бы быть прибавлено к понятию вещи. Оно
есть только полагание вещи или некоторых определений само по
себе. В логическом применении оно есть лишь связка в суждении.
Положение Бог есть всемогущее (существо) содержит в себе два
понятия, имеющие свои объекты: Бог и всемогущество; словечко
есть не оставляет здесь дополнительного предиката, а есть лишь
то, что предикат полагает по отношению к субъекту».1 Формальное
разделение субъекта, предиката и связки «есть» (почему-то
отождествляемой Кантом с понятием «бытие») в суждении важно, но не
имеет никакого отношения к структуре онтологического
доказательства Ансельма. Кант деонтологизирует понятие «бытие», но за
его спиной онтологизирует действие «полагания» («интенции»)
трансцендентального субъекта. Но позволителен вопрос, откуда
берется сила для «полагания»? У Канта онтология изгоняется в дверь,
но незаметно впускается через окно. Впоследствии Фихте и Гегель
напомнят об этом.
Далее, из такого представления Кант приводит знаменитый
пример с талерами, стремясь свести к абсурду онтологическую
аргументацию, не подозревая, что льет воду на ее мельницу со
стороны гипотетического атеиста: «Сто действительных талеров не
содержат в себе ни на йоту больше, чем сто возможных талеров».2
И те и другие равны количественно ста единицам принятого
всеобщего денежного эквивалента. Однако, отмечает Кант, «мое
имущество больше при наличии ста действительных талеров, чем при
одном лишь понятии их (т. е. возможности их)».3 С точки зрения
кармана, эта практическая логика сама собою разумеется. Зачем
ломиться в открытую дверь? Кант долго испытывал материальную
нужду, поэтому очень дорожил наличными талерами.
На этой последней декламации «доказательство недоказуемости»
заканчивается, и Кант делает следующие выводы: «Следовательно,
1 Кант И. Критика чистого разума. С. 361-362.
2 Там же. С. 362.
3 Там же.
КНИГА I. ГЛАВА 2. § 3. СХОЛАСТИКА
209
все старания и труды, затраченные на столь знаменитое
онтологическое (картезианское) доказательство бытия высшей сущности из
понятий, потеряны даром, и человек столь же мало может
обогатиться знаниями с помощью одних лишь идей, как мало обогатился
бы купец, который, желая улучшить свое имущественное
положение, приписал бы несколько нулей к своей кассовой наличности».1
Кант не зря оговорился, что он имеет в виду декартовскую редакцию
онтологического аргумента. Картезия он опроверг, но не Ансельма
с Гаунилоном. Негативная риторика Канта в адрес онтологического
доказательства сама не является доказательством. Нельзя также
сказать, что труды онтологов на конструирование этого
доказательства «потеряны даром». Напротив, они «получены даром», в
счастливом нахождении мыслью возможности выразить творение из
небытия. Что касается логики купцов, то здесь Кант явно не прав.
Сверхприбыли получаются как раз в блефе силой воображаемых
талеров, которыми играют на рынке так называемых «ценных
бумаг» современные финансовые спекулянты.
Это прекрасно понимал искушенный в денежных операциях
К. Маркс, когда, иронизируя над Кантом, писал: «Если кто-нибудь
представляет себе, что обладает сотней талеров, если это
представление не есть для него произвольное, субъективное представление,
если он верит в него, то для него эти сто воображаемых талеров
имеют такое же значение, как сто действительных. Он, например,
будет делать долги на основании своей фантазии, он будет
действовать так, как действовало все человечество, делая долги за счет
своих богов. Наоборот, пример, приводимый Кантом, мог бы
подкрепить онтологическое доказательство. Действительные талеры
имеют такое же существование, как воображаемые боги. Разве
действительный талер существует где-либо, кроме представления,
правда, общего или, скорее, общественного представления людей».2
Понятно, что Маркс, равно как и Кант, не относился к теистам.
Но основоположник религии марксизма, с атеистической точки
зрения, вполне признавал силу онтологического аргумента,
понимая, что сверхприбыль можно получить в блефе, будь то случай
торгашеских спекуляций или провоцирование революционной
ситуации.
Широко известна контркритика Канта Гегелем, как и
гегелевская версия онтологического доказательства бытия Бога,
изложенная в «Науке логики». Гегель посвятил развитию этой темы
многолетний цикл лекций. Он начинает критику Канта с позиции здравого
смысла и показывает, что талеры не тот демонстрационный
материал, который можно использовать в аргументации. Талеры —
1 Там же. С. 364.
' Маркс К., Энгельс Ф. Из ранних произведений. М., 1958. С. 98.
210 Ю. M. РОМАН EH КО. БЫТИЕ И ЕСТЕСТВО
конечные вещи, Бог же — бесконечен по определению, являясь
совокупностью всех реальностей с метафизической точки зрения.
Гегель, определяя категорию «бытие» как пустую,
бессодержательную абстракцию, включает ее как момент движения
Абсолютной Идеи в стихии чистой мысли. Поэтому и онтологическое
доказательство есть лишь момент в разворачивании определений
Абсолютной Идеи. Оно допустимо постольку, поскольку «абстрактная
дефиниция Бога состоит именно в том, что его понятие и его бытие
нераздельны и неотделимы. Истинная критика категорий и разума
заключается как раз в том, чтобы сделать познание этого различия
ясным и удерживать его от применения к Богу определений и
соотношений конечного».1 В развитии диалектического метода
онтологический аргумент воспроизводится в каждой новой фазе в
обогащенной предыдущим движением форме. На стадии «наличного
бытия» онтологический аргумент выражается с помощью термина
«реальность». Гегель пишет: «Рассматривая термин "реальность",
следует коснуться прежнего метафизического понятия Бога, из
которого исходило прежде всего так называемое онтологическое
доказательство бытия Бога. Бога определяли как совокупность всех
реальностей, и об этой совокупности говорилось, что она не
заключает в себе никакого противоречия, что ни одна из реальностей не
снимает другую».2 Гегель основывается на принципе «всеединства»
при разворачивании онтологического доказательства, определяя
Абсолют как «совокупность всех реальностей». Но он категорически
не согласен, что во «всеединстве» не должно быть противоречия,
которое он делает фундаментальным принципом своей философской
системы и применяет его к онтологическому доказательству,
демонстрируя им принцип творения.
Во втором томе «Науки логики» Гегель показывает, как
превращается «совокупность всех реальностей вообще — в абсолютное
противоречие».8 Таким образом, «противоречие становится
абсолютной деятельностью и абсолютным основанием».4 Иными
словами, диалектическое противоречие и есть движущая сила
онтологического доказательства. На этой стадии дедуцируется категория
«существование», и получается последовательность выражений
«бытия»: бытие, реальность, существование. Стадия абсолютного
понятия, эксплицируемая Гегелем в третьем томе «Науки логики»,
порождает категорию «объективность». В результате такой
дедукции единое бытие предстает в трех своих модусах: реальность,
существование и объективность. Гегель пишет: «Поскольку здесь
1 Гегель Г. В. Ф. Наука логики. Т. 1. М., 1970. С. 148.
2 Там же. С. 173.
3 Гегель Г. В. Ф. Наука логики. Т. 2. М., 1971. С. 68.
'* Там же.
КНИГА Г. ГЛАВА 2. § 3. СХОЛАСТИКА
211
1йожно упомянуть доказательства о существовании Бога, то следует
заранее сказать, что кроме непосредственного бытия, во-первых, и,
во-вторых, существования — бытия, возникающего из сущности,
есть еще одно бытие, возникающее из понятия, — объективность».1
Можно понимать это так, что Гегель подобным различением уровней
бытия подразумевает различную степень «сотворенности» самого
«бытия». В последней фазе абсолютного противоречия между
бытием и небытием манифестируется творение, когда Абсолютная
Идея, достигнув себя в понятии, свободно отпускает себя в творение
природы. Таким образом, онтологическое доказательство имеет
разную степень энергийного насыщения. Гегель подчеркивает
процессуальный и уровневый характер доказательства: «Доказывание есть
вообще опосредствованное познание. Разные виды бытия требуют
или содержат каждый свой особый вид опосредствования; поэтому
и природа доказывания относительно каждого из них также
различна».1
Суммируется этот универсальный трехчастотный
диалектический процесс в достижении «чистого понятия», которое есть «само
абсолютное, божественное понятие, так что (здесь) поистине имело
бы место не такое отношение, как применение, а указанный
логический процесс был бы непосредственным изображением
самоопределения Бога к бытию».1 Таким образом, вся «Наука логики»
и есть одно большое онтологическое доказательство бытия Бога —
«непосредственное изображение самоопределения Бога к бытию».
Гегель претендует на знание в «божественном понятии» творения
бытия из небытия.
По этому поводу А. Шопенгауэр впадает в приступ мизософии.
Он пишет: «...достаточно дерзкой, высокомерной болтовни, чтобы
пустить немцам пыль в глаза. А то, что такой ничтожный тип,
как Гегель, все философствование которого является в сущности
лишь чудовищным расширением онтологического доказательства,
хотел защитить это доказательство от критики Канта, — союз,
которого устыдилось бы само онтологическое доказательство, сколь
ни мало оно склонно стыдиться».4 Что называется, бей своих, чтоб
чужие боялись. Хотя к самому онтологическому доказательству
Шопенгауэр относится снисходительно. Он пишет: «Беспристрастно
рассмотренное при свете, это онтологическое доказательство
оказывается милой шуткой».0 Шопенгауэр сделал правильную оговор-
1 Там же. С. 113.
2 Там же.
3 Гегель Г. В. Ф. Наука логики. Т. 3. М., 1972. С. 155.
Шопенгауэр А. О четверояком корне закона достаточного основания.
М., 1993. С. 14.
5 Там же. С. 13.
212 ГО. M. РОМАНЕНКО. БЫТИЕ И ЕСТЕСТВО
ку: «при свете». Действительно, в «неприступном Свете»
потребности в доказательстве не возникает, в нем нуждаются в сумерках
просвещения. Шопенгауэр представлял, что находится «при свете»
со спокойной волей, поэтому мог снисходительно относиться к
«ничтожному типу» Гегелю, блефующему во мраке своего ничто-
жествования онтологическим аргументом. С Гегелем все понятно,
но почему тогда Шопенгауэр при свете дня впал в мизософское
злопыхательство в его адрес — уж не образ ли Пана ему
примерещился в слепом пятне среди сверканий?
Нужда в онтологическом доказательстве случается
периодически, когда чувства человека истощаются (фаза очередного насыщения
еще не наступила) и исчезает воля, а образы манят и могут привести
к безумию. Мышление занимается онтологическим
доказательством, абстрагируясь от образов и воздерживаясь от суетного
упоминания имени, чтобы сохраниться в сумеречных бдениях от впадения
в мизософский безблагодатный нигилизм.
Современное состояние данной проблемы характеризуется
интерпретацией онтологического аргумента новыми техническими
инструментами и методами логики, лингвистики и т. п. Некоторые
стратегии решения проблемы будут рассмотрены далее.
§ 4. ПАЛАМИЗМ
Творение как синергия
Исследование некоторых онтологических проблем в контексте
богословского направления, получившего свое название от имени
религиозного византийского деятеля XIV в. архиепископа Фессаг
лоникийского св. Григория Паламы, включается в объем второй
главы по двум причинам. Во-первых, это богословское движение
принадлежит по существу средневековой теоцентрической установке
восточнохристианской традиции и определенно является ее
итоговым этапом, закрепленным в догматической форме. Во-вторых, это
направление задало предпосылки возникновения философской
традиции онтологической доктрины православного энергетизма,
которая хотя еще и не получила своего окончательного концептуального
завершения по настоящее время, но открывает широкие
перспективы для развития онтологии в целом.
Рассмотренная в предыдущем параграфе проблема
онтологического доказательства бытия Бога и ее отзвуки и последствия в
дальнейшем развитии предмета и метода онтологии показали, что
западная средневековая философская традиция, ведя свое
происхождение от идей св. Августина, сделала ставку на
интеллектуализм, опорным пунктом которого с необходимостью был онтологи*
КНИГА l. ГЛАВА 2. § 4. ПАЛАМИЗМ
213
ческий аргумент. Вместе с этим, конечно, в конкретной религиозной
>кизни интеллектуалистическая установка не заслоняла собой иные
аспекты веры, в том числе и мистическую практику. Более того,
можно даже сказать, что онтологический аргумент является своего
рода результатом «мистического интеллектуализма» или
«интеллектуальной мистики», если позволительны такие парадоксальные
словосочетания. Потребность в устойчивой точке опоры в процессе
рациональных диспутов о сущности Бога, в апологии веры перед
лицом сомневающихся и атеистов, нашла свое удовлетворение в
квазилогическом онтологическом доказательстве.
«Квазилогическом» в формальном смысле, поскольку логика сама по себе
нейтральна как в отношении содержания, так и в отношении
экзистенциальной проблемы «существования—несуществования». В этом
отношении логика автономна и развивается по своим законам, но,
вот еще один парадокс, отвлечение от содержания и замыкание в
структуре чистой формы приводит к возникновению такой формы,
которая заставляет мышление выйти в содержательную область.
Логика, развивающаяся в собственных границах, вдруг, сама того
не подозревая, наталкивается на онтологический аргумент,
который, стало быть, возникает как логическое открытие (как инвенция,
открывающая интенцию — направленность на объективно
существующий предмет).
Онтологический аргумент не состоянии переубедить
закоренелого атеиста, но он способен вышибить логические средства у него
из рук. Логика, таким образом, становится не врагом, а попутчиком
веры, и может быть благословлена. Закоренелый же атеист
переубеждается не доводами рассудка, а отсутствием благодати, от
которой он отказывается. В Библии имеется следующее
предупреждение об этой нигилистической установке и ее последствиях:
«сказал безумец в сердце своем: "нет Бога". Развратились они и
совершили гнусные преступления; нет делающего добро» [Пс. 52,
2]. Интеллектуалистический пафос доказательства бытия Бога не
имеет силы для того, кто «в сердце своем» (именно «в сердце», а
не «в мозгу») сделал выбор в пользу небытия, ибо онтологический
аргумент есть плод деятельности головного ума.
Восточная христианская ветвь развивала иной тип мышления,
не нуждающийся во внешней аргументации в публичных
дискуссиях. Характеристика этого типа мышления дается в известных
работах В. Лосского,1 В. Кривошеина,2 И. Мейендорфа. В последнее
1 Лосский В. Н. 1) Очерк мистического богословия Восточной церкви //
Мистическое богословие. Киев, 1991; 2) Догматическое богословие // Там
Же.
' Монах Василии (Кривошеий). Аскетическое и богословское учение
Св- Григория Паламы // Seminarium Kondakovianum. Прага, 1936. VIII.
214 К). M. РОМАНЕНКО. БЫТИЕ И ЕСТЕСТВО
время теоретические достижения сторонников « паламитского
синтеза» в богословии и философии обобщает С. С. Хоружий.1
Коротко суть богословского учения Г. Паламы можно
представить тремя положениями, имеющими философские импликации.
Во-первых, в Боге различается Его сущность и энергия, при этом
сущность понимается апофатически, а энергия — апофатически-
катафатически, в форме антиномической неотделимой отделимости
ее от сущности. В силу этого, во-вторых, энергии разделяются на
нетварные и тварные. Здесь принцип творения рассматривается как
бы с двух сторон: энергии несотворенной, но творящей благодать,
и энергии сотворенной, способной обратиться навстречу энергии
нетварной для усвоения благодати. Такая формулировка уточняет,
что энергия и есть само творение в аспектах его процессуальности
и структурности. Таким образом, в-третьих, эта уникальная встреча
двух энергий определяется понятием «синергия» — соучастие двух
энергий, или энергийная сопричастность двух планов бытия:
божественного и человеческого. В. Лосский по этому поводу утверждает:
«Различие между сущностью и энергиями — основа православного
учения о благодати — позволяет сохранить подлинный смысл
выражения апостола Петра: "сопричастники Божеского естества" [2
Пет. 1, 4]».2
Знание о сущности Бога получается из Откровения,
следовательно, оно априорно и авторитетно. Знание об энергиях, как
нетварной, так и тварной, достигаются опытным путем, который
может быть феноменологически описан и представлен в
антропологических, социологических и естественнонаучных исследованиях.
В частности, в последнее время принцип синергии нашел свое
эффективное применение в естествознании в виде общенаучного,
методологического подхода синергетики.
Автор этих строк, основываясь на идеях, изложенных в
вышеупомянутых работах, ставит задачу кратко отреферировать
некоторые принципиальные моменты «паламитского синтеза» и показать,
как они освещают онтологическую монотриаду. В первую очередь,
необходимо выяснить вопрос о той инстанции, которая ответственна
за свершение указанного синтеза со стороны тварных энергий. Как
было сказано, целостность опыта синергии возможна не благодаря
активности разума, ибо он, по учению Г. Паламы, не является
сущностным определением человека, да еще таким, который может
быть отождествлен с сущностью Бога. Интеллект действует
экспансивно вовне человека, рационально организовывая «среду удобства»
1 Хоружий С. С. После перерыва. Пути русской философии. СПб.,
1994.
2 Лосский. Н. Очерк мистического богословия Восточной церкви.
С. 151.
КНИГА l. ГЛАВА 2. § 4. ПАЛАМИЗМ
215
человеческого существования. Разум не сущность, а одна из энергий
человеческого бытия наряду с энергиями чувств. Приводя в
соответствие творение и энергийную структуру человека, Г. Палама
утверждает: «Великое видение Света Господнего Преображения
принадлежит таинству восьмого, т. е. — будущего века, являемому
после завершения сего мира, созданного в шесть дней, и после
прекращения чувств, действующих в нас шестью способами; ибо
мы имеем пять чувств, прибавляемое же к ним слово (или "мысль"),
выражающее то, что чувства воспринимают, создает шестую
энергию нашей области чувств».1 Таким образом, трансцендирование
происходит как переход от шестерицы (чувства + мысль) через
«день седьмой» их бездеятельного отдыха к эсхатологии «дня
восьмого» — полному соединению тварных ума и чутья с несотворенной,
но творящей благодатью.
Чувства сами по себе изолированы и действуют по-разному. Их
синхронизация и сосредоточенность (когерентность, если сказать
современным термином из области синергетики) возможна в аскезе,
благодаря особому действию сердца. Аскеза — это упражнение,
опыт сверхусилия. В аскетической практике исихазма был
обнаружен этот источник центрирования целостности человека. Но в
силу его скрытости он мог быть выражен не понятийно, а только
в качестве символа. Как пишет С. С. Хоружий: «Такая (эмпирически
условная, но духовно реальная) точка средоточия всего человека,
его "энергийно-экзистенциальный центр", куда ему следует
собирать, сводить все свои способности и силы, все помыслы и желания,
в православной аскетике издавна обозначается символом сердца».2
Этот опыт внелогичен в формальном смысле, но поддается особой
феноменологической дескрипции. «Аскетическая литература в
своих классических образцах — не что иное, как точная протокольная
запись работы само-собирания, "работы сердца", совершающейся
над духовно-душевной действительностью подвижника, —
подлинная кардиограмма аскез ы».3
Если рационалистическая традиция абстрагируется от чувств и
экстатирует разум, оставляя чувства и тело своей воле, то в пала-
мизме общее воление остается в пределах телесности, храня верность
Догмату боговоплощения и телесного воскресения. «Это как раз и
есть исихастский принцип "введения ума внутрь" или же
"сдерживания ума внутри тела", "хранения ума" и проч. Все эти формулы
выражают одно и то же: принцип участия разума, в согласии и
единстве со всеми силами человеческой природы, в общей "работе
Св. Григории Палама. Омилия XXXIV // Святитель Григорий
Палама. Беседы. Т. 2. М., 1994. С. 86.
' Хоружий С. С. После перерыва... С. 298.
:< Там же. С. 300.
216
FO. M. POMAHEHKO. БЫТИЕ И ЕСТЕСТВО
сердца", работе самособирания человека».' Вот почему в паламизме
не нужен рациональный онтологический аргумент: ум не может
кивать в сторону понятия «того, больше чего не мыслимо» и
включать его в тезис; ум не выносится в жесте внешнего место-именного
указывания, не спиритуализируется вне тела, а сосредоточивается
в сердце.
Оппонент Г. Паламы, калабрийский монах Варлаам, будучи
сторонником и представителем латинской западной культуры,
отрицал нетварность энергии Божественного света, воспринимаемого
в мистической практике исихазма, основываясь на доводах
гипостазированного логического мышления. «Это выделение и
возвеличение разума есть основа основ всей западной гуманистической и
секуляризованной культурной традиции на всем ее протяжении
вплоть до нашего времени».2 Гипертрофирование разума наиболее
отчетливо проявилось в панлогизме Гегеля, согласно которому
«разум есть божественное начало в человеке».3 Подобное убеждение
эмпирически проявляет себя в двух направлениях: рационально-
спекулятивном, завершаемом формулировкой онтологического
доказательства бытия Бога; и особым типом мистики экхартовского
толка, в опыте которой ищут слияния «искорки Божией» в человеке
с безличной Бездной Божества, но не с полнотой света Господнего
преображения. С. С. Хоружий пишет: «Заметим, что и у Паламы
ум, Nous, находится в особом положении среди антропологических
категорий, играет выделенную роль в общении человека с Богом.
Однако здесь нужно учитывать, что, наряду с природной
способностью познания (чаще обозначаемой как Logos), "ум" обозначает
у Паламы еще и нечто иное: сверхприродную способность человека
к самопревосхождению, к актуальному соединению со
сверхъестественным».4
Спор по поводу природы Фаворского света был решен в пользу
Г. Паламы и соборно закреплен догматически. Свою позицию Г. Па-
лама отразил в сочинении «Триады в защиту священнобезмолвст-
вующих».0
Позволительно задать вопрос о «механизме» и технике синер-
гирования, хотя дело не в них только, а прежде всего в благодати,
в них обнаруживающейся. С. С. Хоружий достаточно подробно
раскрывает эти технические стороны. Мы обратим внимание в
основном на трансцензусы между чувствами и умом, совершаемые
1 Хоружий С. С. После перерыва... С. 307.
2 Там' же. С. 305.
3 Гегель Г. В. Ф. Философия религии. Т. 1. М., 1975. С. 230.
4 Хоружий С. С. После перерыва... С. 305.
* Св. Григории Палама. Триады в защиту священнобезмолвствующих.
М., 1995 (перевод и комментарии В. Вениаминова).
КНИГА l. ГЛАВА 2. § 4. ПАЛАМИЗМ
217
во «всеединстве» синергирования. П. Минин констатирует, что «у
Симеона Нового Богослова мы впервые встречаем указание на
приемы искусственной методы созерцания, которые позднее стали
применять на практике так называемые исихасты».1
Объективные и субъективные условия этого опыта таковы: «...в
безмолвном и уединенном месте затворить двери, отвлечь ум от
всякой временной и суетной вещи, склонить к груди свою голову
и таким образом стоять вниманием внутри себя самого (не в голове,
а в сердце), соединяя там ум и чувственные очи, приудерживая
дыхание и стараясь всячески обрести место, где сердце, чтобы
обретши всецело удерживать в нем ум свой, и вот, когда ум,
подвизаясь в этом упражнении, улучит место сердца, тогда — о чудо! —
обретает "там внутри такие вещи, каких никогда не видывал и не
знавал"».2 Таким образом, здесь фиксируется творческий акт в
состоянии синергии.
Подобная психотехника напоминает психосоматические приемы
регуляции в йоге, но она освящена христианской идеей и духом,
осуществляясь на фоне ритмически произносимой Иисусовой
молитвы: «Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй мя
грешного». Отношение чувств, ума и сердца (как органа особого
чувства — любви) представляется в такой структуре: «Когда "сердце"
собирает всего человека в единое целое, "ум" это целое устремляет
к Богу и в синергии с Ним претворяет в новую, высшую природу.
И обожение, включающее в себя и "работу сердца", и "работу ума",
представляется наконец во всем своем полном виде как двуединый
процесс само-собирания и благодатного само-превосхождения
человека».3 Понятие «бытие» в такой методологической установке
сопрягается с понятием «естество».
Обратим внимание на своеобразную топографию подобной
практики: сердце является местом, куда должен быть «улучен» ум, т. е.
«пойман» и удержан. Таким образом, от ума не отказываются, но
его энергия используется по-особому и в определенном направлении.
Ум должен быть обращен в сердце не сам, но в единстве с очищенным
чутьем. «Улучение» умом сердца характеризуется сверхмобильной
динамикой. Нужно именно «улучить» — в ситуации чувственных
мельканий попасть точно в цель, которая тонка, как острие.
Непопадание в цель чревато соскальзыванием направленных друг на
друга энергий, что приводит в формальном смысле к событию
«греха» («ciuocpTia» с греческого — грех, но буквально — ошибка,
промах, утеря, непопадание в цель; убрав отрицательную приставку
1 Минин П. Главные направления древнецерковной мистики //
Мистическое богословие. Киев, 1991. С. 379.
" Там же.
3 Хоружии С. С. После перерыва... С. 310.
218
Ю. M. РОМАНЕНКО. БЫТИЕ И ЕСТЕСТВО
«а-», получаем «ииртСС» — свидетель, святой, безгрешный,
мученик). Грех является следствием страсти — дезориентированной
энергии, с доминантой в отношении чего-либо тварного.
Остановка синергирования естественно ведет к греху, в
соответствии с догматом о грехопадении («соскальзывании» в грех). Для
возвращения к исходному состоянию повторения попытки синергии
необходимо покаяние, которое «вытягивает» обратно «соскользну-
вшегося» и дает еще один шанс синергирования, но уже в новых,
изменившихся условиях. Покаяние по-гречески звучит как «мета-
нойа», т. е. буквально — выход ума (Нуса) на новый (мета) уровень.
По поводу покаяния С. С. Хоружий поясняет, что «оно именно и
представляет собой развитый христианством способ или метод
указанного возврата, своеобразную процедуру ремонта энергетической
картины здешнего бытия».1 Вспомним, как ранее нами определялось
творение: начинение в начале чинящегося бытия.
Аскетическое подвижничество в прямом смысле означает подвиг,
или сдвиг, который, собственно говоря, является энергией —
сдвигом бытия к существованию из небытия. Каждый подвижнический
акт обретения благодати является микромоделью и элементарным
актом творения бытия из небытия; естественно, не в отношении
творения мира в целом, но в отношении сотворения одной-един-
ственной человеческой личности. Опыт синергии сугубо персонален
и не может быть выражен в общезначимых формулах, но в нем
есть инвариант, достижимый для тех, кто избирает эту методологию.
С. С. Хоружий выделяет в паламизме «принцип прямого Бого-
общения», подкрепляя его следующей цитатой из Г. Паламы: «Для
нас возможно непосредственное единение с Богом... Когда благодать
явилась, необязательно всему совершаться через посредников».2
Опыт синергии не является интерсубъективным в
антропологическом измерении. Данный момент также стал предметом
ожесточенного спора между паламитами — сторонниками уединенного образа
монашеской жизни и варлаамитами — сторонниками
«общежительного монашества». «Отсутствие посредников» означает
невозможность рационального описания и транслирования опыта другим,
для этого требуется особое символическое и феноменологическое
описание. «Вместе с тем возникает впечатление, что описываемая
концепция человека последовательно индивидуалистична и
эгоцентрична, — констатирует С. С. Хоружий и делает намек на
возможность сравнения этого опыта с принципами экзистенциализма. —
Сказанное покуда о ней близко напоминает концепцию экзистенции
в европейском экзистенциализме и протестантской теологии,
напоминает мысль Киркегора и Хайдеггера, в особенности же учение
1 Хоружий С. С. После перерыва... С. 440.
2 Там'же. С. 267.
КНИГА 1. ГЛАВА 2. § 4. ПАЛАМИЗМ
219
последнего об экстатическом пребывании Dasein в элементе бытия>>.'
Хотя, конечно, формальное совпадение структур этого опыта, также
как и совпадение со структурами психотехники йоги, не отменяет
их сущностного различия.
Индивидуализирующим методом и принципом прямого Богооб-
щения является покаяние — «глубочайшее сокрушение о грехах
(следствиях, вещественных проявлениях страстей), острое
переживание своего впадения в страсть как порчи и осквернения
человеческой природы».2 Два таинства — крещение и покаяние —
являются генерализирующим и индивидуализирующим способами
актуализации всеединства. «Иногда покаяние называют "вторым
крещением", ибо как "крещение первое" вводит в Церковь, в
область, которую можно называть "соборной мистикой", так
аналогично второе вводит в "личную мистику", в область индивидуально-
личного богообщения».3 В этом двуедином процессе утверждается
принцип «соборности» — единства всех без утери их личностных
начал.
Случай синергийного прямого Богообщения требует не
экзальтированного выхода вовне, а культивирования достигнутого
состояния, предохранения от срывов. «Это — неусыпное бодрствование
и неустанный надзор духа за самим собой, то, что в аскетике
именуется "хранением духа" или "стражей духа" (fylake tou nou).
Исихастская молитва, устанавливающая и поддерживающая такое
"хранение ума", творимая безмолвно и непрестанно, "хотя бы тело
и было занято чем-то другим" (Палама), с древности носит название
"умной молитвы"».4 Покаяние необходимо всегда, поскольку
соскальзывание в грех происходит как бы естественно и
непроизвольно, в силу устройства человеческой природы. С. С. Хоружий
цитирует по этому поводу св. Исаака Сирина: «Когда естество отойдет
от свойственного ему чина, тогда открываются в нем страсти».5
Значит, «починить» искаженное естество, обновить его утерянную
форму, «избавить от опасности падения и утраты благодати может
только одно: непрестанное возобновление духовного усилия, его
непрестанность».6 Естество, оставленное своему естественному
течению в условиях греха, продолжает скользить в страсть и в пределе
в последующую аннигиляцию, которую может предотвратить только
постоянно возобновляющееся творческое усилие покаяния.
1 Там же. С. 268.
2 Там же. С. 302.
3 Там же. С. 303.
4 Там же. С. 312.
5 Там же. С. 301.
6 Там же. С. 312.
220 К). M. РОМАНЕНКО. БЫТИЕ И ЕСТЕСТВО
Многие слова, употребляемые в формулировке теистических
догматов, имеют философское происхождение. Догмат — это
попытка рационального, вербального выражения мистического
религиозного опыта, стремление сделать уникальное откровение
общезначимым и общедоступным. Не случайно, что догмат утверждается
соборно в процессе острых столкновений мнений. Если мнение
(докса) является воплощением в гносеологической форме частного
умозрения, непротиворечивого самого по себе, но конфронтиру-
ющего с иными мнениями, то догма, как тип знания, данного в
словесной оболочке, претендует на объединение и усмирение раз-
ногласных мнений. По этой причине структура догмата
принципиально антиномична для рассудка. Подобная точка зрения
убедительно обоснована П. А. Флоренским в его анализе системы
догматики и в критике кантовского учения об антиномиях. Не касаясь
сокровенных основ, но исходя из принципиальной возможности
разума и языка аутентично выразить истины веры, можно поставить
теоретическую задачу историко-философской реконструкции тех
ключевых понятий, которые были интегрированы в догматику и
освящены в ней.
Среди многих слов, заимствованных религией из философии,
фундаментальное значение имеют такие, как «единосущность»,
взятые в арифмологическом тождестве «единое» и «троичное» и ряд
других. Конечно, одно дело опробовать данные слова в философском
дискурсе, другое дело — наполнение их религиозным содержанием.
Но, повторимся, исходить здесь нужно из единства веры и знания.
Одним из таких существенных понятий в религиозном лексиконе,
имеющим важное значение и в теоретическом, и в практическом
плане, является древнегреческое слово «метанойа», переводимое на
русский язык и понимаемое как «покаяние». Попробуем определить
его философский исток и смысловые возможности, позволившие
включить этот термин в религиозный контекст.
Буквальный перевод слова «metanoia», традиционно принятый,
означает «превосхождение ума» или «умо-премена». С формальной
точки зрения, данный термин сконструирован путем присоединения
префикса «мета» (после, за, через и т. п.), имеющего топологическое
и темпорологическое значения, и корня «нойа» (ум). Основной
смысл слова может быть определен на фоне веера значений:
изменение ума, то, что после ума, следование ума и т. д. При этом
перечислении частных значений между ними могут возникнуть
некоторые трения. Совершенно противоположно это слово может
пониматься при употреблении корня в генетиве или объективе, что
допускает префикс.
Слово «ум» (Нус) для философии не нуждается в особых
рекомендациях. Как известно, «Ум» был онтологизирован и почти
персонифицирован в учениях Анаксагора и Аристотеля. Вероятно, в
КНИГА 1. ГЛАВА 2. § 4. ПАЛАМИЗМ 221
историческом становлении для ограничения абсолютизации «ума»
к нему был присоединен префикс «мета», указывая на какую-то
сферу, недоступную его притязаниям. Можно предположить, что
именно в таком ограниченном оформлении данное слово, вышедшее
из недр античной философии, было воспринято средневековым
богословием. Оно как бы естественно вытекает из концептуальных
установок и терминологического аппарата учения Аристотеля и
появляется у его средневековых наследников, философствующих
теологов как на Западе (схоластика), так и на Востоке (паламизм).
Особую сложность в экзегетическом комментарии термина «ме-
танойа» вызывают следующие моменты. Согласно Аристотелю, Ум-
Перводвигатель, как Абсолют, будучи источником происхождения
и движения всего сущего, сам по себе является неподвижным и
единым. Самодостаточность и совершенство «Ума» заключается в
его способности (энергии и энтелехии) мыслить самое себя.
«Мышление мышления» — это одно из определений философии. Здесь, в
первую очередь, настораживает такое противоречие: ум един, но
его собственное мышление как бы раздвоено. Появляется первый
формальнологический диссонанс, странный для текста «отца
формальной логики»: единица равна двоице. На это противоречие
неоднократно указывали историки философии, оставляя его на
совести Аристотеля.
В пятой—седьмой главах второй книги трактата «О душе»
Аристотель излагает следующую концепцию едино-двойственного «ума»:
«И действительно, существует, с одной стороны, такой ум, который
становится всем, с другой — ум, все производящий, как некое
свойство, подобное свету» (О душе. II 430а 13-15). Здесь изначально
заложен непредставимый образ отделенности и присутствия ума в
бытии. С одной стороны: «Только существуя отдельно, он есть то,
что он есть, и только это бессмертно и вечно» (Там же. II 430а
23). Но с другой стороны: «Между тем не всякий ум таков: ум,
направленный на существо предмета как суть его бытия, истинен
[всегда]; ум же, касающийся чего-то [другого], — не [всегда]...»
(Там же. II 430Ь 27-28).
Аристотелевская теория двух «умов», активного и пассивного,
единого и «всеиного», нуждается в имманентном замыкании в
целое. Здесь необходимо эксплицировать взаимодействие двух умов
в одном и выработать соответствующую методологию. На наш
взгляд, искомым обозначением такого взаимодействия является
слово «метанойа», не сказанное открыто Аристотелем, но неявно
звучавшее в его текстах. «Метанойа» включает в себя процесс
«разрешения противоречия». Подобная интерпретация вытекает из
специальной трактовки некоторых базовых концептов
аристотелевской философии.
222 Ю. M. РОМАНЕНКО. БЫТИЕ И ЕСТЕСТВО
Истолкование корреспондирующих друг с другом понятий,
таких как «метаболе» (изменение), «метафора» (перенос),
«метафизика», позволяет пролить особый свет на значение понятия «мета-
нойа». Дело в том, что смысл префикса «мета» может быть
истолкован не только в пространственно-временном аспекте, но и в
значении «сообща», «совместно», особенно в применении к
Абсолюту. Так, термин «метаболе», играющий фундаментальную роль
в аристотелевской «Физике», может быть понят не только как
«изменение» (или буквально как «пере-пад» в переводе М. Хайдег-
гера), но и как «со-в-падение». Аналогично этому, термин «мета-
нойа» можно истолковать как «совпадение ума в нем самом» —
как некое совмещение двух ипостасей единого ума. Это толкование
не отменяет традиционного понимания «метанойи» как «изменения
ума» («умо-премены»), но указывает направление, в каком должен
«изменяться» (двигаться) ум (неподвижный перводвигатель), а
именно в точку совпадения с самим собой на фоне постоянных
превращений претерпевающего ума. Как представляется, такая
экзегеза соответствует внутренним намерениям самого Аристотеля.
В последующем историческом преломлении языка
аристотелевской метафизики в богословских текстах термин «метанойа», на
наш взгляд, понимался именно в таком смысле. Характерно это для
доктрины православного энергетизма св. Григория Паламы,
основанной на мистическом опыте и психо-сомато-технике исихазма,
в котором «покаяние» («метанойа») имело чрезвычайно важное
значение.
Одной из наиболее сложных проблем и в аристотелевской
философии, и в последующих ее исторических рецепциях и версиях
является вопрос о соотношении ума и тела. Иначе говоря, вопрос
о возможной телесной локализации ума. Существует несколько
исторических вариантов решения этой проблемы, различающихся
в зависимости от того, каким образом в них истолковывается
понятие «метанойа». Эта проблема заслуживает отдельного большого
исследования. Ограничимся здесь короткой констатацией.
С одной стороны, ум, по Аристотелю, отделен от тела, и ни о
какой локализации не может быть речи. Но, с другой стороны,
некоторые оговорки допускают обратное. Не вдаваясь в подробный
текстологический анализ, зафиксируем следующее. Как
свидетельствует доктрина православного энергетизма: в процессе «метанойи»
осуществляется «совпадение» едино-двойственного ума в нем самом.
Выражается этот процесс в описании того, как локализованный в
голове «ум» возводится и хранится в сердце. Тем самым ум отнюдь
не игнорируется, но в «метанойе» он находит исход своему
стремлению пребывать в «естественном месте», как выразился бы
Аристотель.
КНИГА l. ГЛАВА 2. § 4. ПАЛАМИЗМ
223
Исходя из проделанной интерпретации, можно сделать вывод,
что «метанойа» и есть «синергия» как таковая. Это практически
синонимы для выражения принципа творения.
Таким образом, доктрина православного энергетизма различает
антиномически категории «сущность» и «энергия», аналогично
различию понятий «бытие» и «творение». «Мы видим, — пишет
В. Н. Лосский, — что догматическое учение об энергиях — не
абстрактное понятие и не интеллектуальное различение: здесь речь
идет о конкретной реальности религиозного порядка, хотя она и
трудноуловима. Поэтому это учение выражает себя антиномично:
энергии в силу своего исхождения указывают на неизреченное
различие — они не Бог в его сущности, и в то же время, как
неотделимые от Его сущности, свидетельствуют о единстве и
простоте Божественного бытия».1
Категория «энергия» заимствуется из аристотелевского
лексикона, но используется в совершенно ином контексте и в
преобразованном значении. «Если у Аристотеля энергия — движение, то
в Православии это скорей — начальный толчок, начаток, почин
движения, но все же — актуально свершившийся, произведенный,
в отличие от потенции, остающейся только чистой возможностью
движения. Энергия — актуальный почин движения. Она —
действенный импульс, порыв, устремление, воление, "действование"».2
Переводчик «Триад» Г. Паламы В. Вениаминов выдвигает
следующее суждение по поводу различения категорий «сущность» и
«энергия», подчеркивая, что не все так просто в их соотношении:
«Сейчас, когда на непродуманном "паламизме" строят
"православный энергетизм" и "неопатристический синтез", важно помнить,
что спор о различении внутри Бога сущности и энергий был прерван
в Византии силой и на должном уровне в восточном богословии не
возобновлялся. Догмат Константинопольского собора 1351 года был
принят слишком поспешно. Конечно, сущность Бога можно
отличать от энергий, как одно Его имя от другого, но нельзя думать,
будто в Боге что-то не является чистой энергией и Он удержал
Свою сущность от раздаривания».3 В этом примечании обращается
внимание на то, что творение, действительно, является полным
Даром и осуществляется из небытия, поэтому оставление сущности
Творца «за скобками» его творческих энергий снижает сам принцип
творения. Далее В. Вениаминов пишет: «Видеть в различении бо-
Лосский В. Н. Очерк мистического богословия Восточной церкви.
С 144.
2 Хоружии С. С. После перерыва... С. 436.
3 Вениаминов В. Краткие сведения о житии и мысли св. Григория
Паламы // Св. Григорий Палама. Триады в защиту священнобезмолвст-
вующих. С. 375.
224
К). M. РОМАНЕНКО. БЫТИЕ И ЕСТЕСТВО
жественных сущности и энергий по еп. Василию Кривошеину просто
условный знак таинственного опыта мешает сам Палама
натуралистическими аналогиями с энергией солнца и со способностями
души. Таинственная Троица нераздельных божественных лиц
поведана Откровением, чего нельзя сказать о различении сущности
и энергий. Отцы, на которых ссылается Палама, никогда не
называют Бога двоицей. Недоступность Вездесущего грозит превратиться
у Паламы из чуда богочеловеческого родства в механику с
рассечением Единого на доступную и недоступную части. Привязывание
нетварных энергий, т. е. по существу богов, к молитвенной практике
ограничивает свободу божественного вездесущия. Как в старом
иконоборчестве, в паламизме дает о себе знать, по-видимому,
притяжение ислама с его неприступным божеством, вторгающимся в
природный мир своими волениями. Объяснение чуда приобщимости
Неприобщимого Его устройством и аристотелевская терминология
ведут к смешению в паламитском догмате философии с богословием.
В целом мысль св. Григория Паламы с ее высотой, напряжением
и срывами остается вызовом, на который современное православие
должно будет ответить».1
В философской интерпретации богословских догматов
необходимо учитывать такие возможности появления противоречий между
принципами. Трактовка творения как синергии предполагает, что
синергия есть встреча двух воль, соучастие свободы и благодати.
Это событие может быть статически рассмотрено следующим
образом. Момент прямого столкновения двух энергий может привести
к двум результатам: либо «проскальзыванию» их мимо друг друга,
либо стойкому смыканию. Последний случай удобно обозначить
термином «красис» (греч. ^pâcRÇ — смешение, смесь, сплав,
соединение, более тесное и проникновенное, чем «миксис» (|ЛСц), с
дополнительным указанием на температуру процесса). Паламитская
энергетика помимо прочего есть своеобразная пневмосоматическая
термодинамика. Состояние «красиса» на психофизиологическом
уровне характеризуется повышением внутренней теплоты сердца,
проявляемой в теплообмене с окружающей средой. Тепло,
ощущаемое внутренне сердцем, внешне воспринимается как свечение.
Внешние наблюдатели состояния синергии видят «воссияние»
внешнего облика субъекта синергирования.
Состояния «красиса» удается достигнуть внезапно. Платоновское
понятие «вдруг» возникает в контексте новой теории и практики.
Как платоновский момент «вдруг» эксплицируется «незаконным
рассуждением», т. е. воображением, так и «вдруг» исихастской
синергии невыразим рационально, поскольку в нем максимально
задействована способность видения полного света, а разум в этот
1 Вениаминов В. Краткие сведения... С. 375-376.
КНИГА 1. ГЛАВА 2. § 4. ПАЛАМИЗМ 225
МП г умолкает. В событии синергии, когда оно свершается, естество
сотворенного существа соединяется с благодатной энергией Творца
и, таким образом, происходит усвоение дара.
В силу дробности и расщепленности своего существования
человек действует сразу несколькими энергиями и в разных режимах.
Для возможности синергирования необходимо, чтобы одна из
энергий вначале была доминантной. Об этой необходимости уже
говорилось в античности, в учении Анаксагора о гомеомериях.
В опыте находится ведущая энергия, увлекающая все остальные
в единый порыв к трансцендентному. С. С. Хоружий называет
такое когерентное стремление «энергией лицетворения». «Это —
единственная в своем роде энергия управления энергиями,
преобразующая все множество их в некую "симфонию стремления", так
что все они неким образом сообразуются с фундаментальным
стремлением, включаются в него и содействуют ему».1
«Энергия лицетворения» претворяет человеческую способность
видения в способность некоего особого «синергийного зрения».2
В античности подобная способность представлена в такой манти-
ческой практике, как физиогномика. Возникает вопрос о
возможности «синергийного слуха» и т. д., хотя эти темы требуют
отдельных исследований и обсуждений. Так, условием возникновения
«синергийного зрения», согласно Г. Паламе, выступает звучащая
молитва — «молитва является подательницей сего блаженного
видения».3 В реализации подобных синергийных способностей
индивидуальное воспринимается на пересечении универсальных связей,
единичное всеобщится, но не по Гегелю, а так, что «наилучшим
образом подобная направленность, подобная установка передается
одной из традиционных формул православной аскетики: "держать
внутри себя собор со всеми"».4 Таким образом, традиционное
понятие «всеединства» трактуется по-новому, не просто как
взаимосвязь всего со всем, но, как выражается С. С. Аверинцев, служение
всех друг другу.
Хоружий С. С. После перерыва... С. 344.
' Там'же. С. 361.
Святитель Григории Палата. Омилия XXXIV •■'/ Беседы. Т. 2. С. 88.
Хоружий С. С. После перерыва... С. 362.
Глава 3
РАСПОЛОЖЕННОСТЬ В БЫТИИ
Утраты и обретения онтологии в Новое и новейшее время
В этой главе предполагается проверить онтологическую триаду
на материале немецкой классической философии, хайдеггеровской
философии, маргинальной философии и русской идеалистической
философии. Выбор этих направлений представляется оправданным,
так как именно в их рамках обсуждались существенные
онтологические проблемы. Естественно, охватить такой гигантский объем
не представляется возможным в полной мере, поэтому основной
задачей будет пунктирное очерчивание наиболее злободневных тем.
Весь этот обширный тематический горизонт мы свяжем одним
ключевым словом. Если античность угадывает бытие, Средневековье
доверяет бытию, то Новое время выработало новое онтологическое
отношение. После того как философия методом проб и ошибок
угадывает образ бытия, а после усвоения религиозного Откровения
обретает уверенность в бытии, появляется возможность его
использовать (разумеется, не в узко утилитарных целях), или просто —
бытийно располагаться. Лучше может разъяснить смысл того, что
мы хотим сказать, русское слово «расположенность» (на него
обращает онтологическое внимание В. В. Бибихин), где слышатся
смысловые нюансы и угадывания, и доверия, и открытости, и
активности. Единственным недостатком этого слова может быть
один его оттенок — некоторое спокойствие. Но покой этот —
подвижной, как любил выражаться А. Ф. Лосев. В располагании
бытием подразумевается как сосредоточенный взгляд на
неподвижное бытие, так и рассеянное блуждание вокруг него.
В употреблении этого слова существует смысловой сдвиг. Так,
иногда говорят: предмет расположен в поле моего зрения, но и Я
расположен смотреть на него. В этом сдвиге данного слова субъект-
объектная разделенность, на которую обрекло себя Новое время,
вдруг прекращается и возвращается возможность снова узнать
самотождественность бытия. Философское значение слова «полагание»
словарь определяет так: «Полагание (нем. Setzen), философское
понятие, используемое в спекулятивных построениях классического
немецкого идеализма, означающее, с одной стороны, мысленное
КНИГА I. ГЛАВА 3. РАСПОЛОЖЕННОСТЬ В БЫТИИ 227
допущение, утверждение ("положение"), суждение о чем-нибудь,
с другой — утверждение, создание чего-то как реального, т. е.
реальное порождение бытия в том или ином его аспекте».1
Термин «полагание» использовал И. Кант для характеристики
экзистенциального суждения, в котором полагается к бытию субъект
связкой «есть». Кант заимствовал смысл данного термина из
традиции средневековой схоластики, где он выражался как «интен-
пия». Позднее Э. Гуссерль интерпретировал понятие «интенция»
(«направленность» на объект) с
трансцендентально-феноменологической точки зрения, не рискуя нагрузить его полным
онтологическим содержанием, на что решился М. Хайдеггер. Интенция была
понята изнутри экзистенции.
Новое время вошло в новый онтологический опыт, амплитуда
колебаний которого от бытия к небытию и обратно гораздо больше
предыдущих эпох, хотя энергетический потенциал во все эпохи
имеет один и тот же коэффициент.
Так случилось, что в истории философии в определенные
моменты времени находились свои Коперники. Почему-то человечество
никогда не удовлетворяли прежние «столбовые» дороги, и всегда
отыскивались претенденты, готовые проложить пути в новом
направлении, зачастую неведомом. В этом есть своя доля риска, так
как окружающие ждут не дождутся, когда можно будет схватить
за рукав того, кто первым дерзнет сказать новое слово с целью
произвести очередной коперниканский переворот. Это означает:
выйти за пределы бытия одной ногой, нащупать в небытии
некоторую едва устойчивую точку и оттолкнуться от нее в возвратном
движении к бытию. Повороты нужны для сохранения движения,
если это движение круговое, хотя с точки зрения прямолинейного
движения повороты — это остановки.
Точкой, вокруг которой человечество должно было оборотиться
в эпоху Нового времени, инерция чего продолжается и поныне,
стало человеческое «Я». Путь к этому был долог, хотя и ускорен:
от титанизма Возрождения, порывавшего со средневековым тео-
центризмом, через сомнение Монтеня и Декарта и вплоть до
спекуляций немецкой классической философии. Последнюю мы
представим только одним именем — И. Г. Фихте, которому удалось
испытать пути и перепутья ЭГОизма и который наиболее откровенно
выразил онтологическую амбицию.
В высшей степени вкусил коперниканскую «славу» И. Кант —
это общепринятое мнение. Однако если повнимательнее вглядеться
в глубинные течения историко-философского процесса конца
XVIII — начала XIX в., то не отделаться от впечатления, что бремя
этой славы вперемешку с мизософским стыдом в большей мере
Философский энциклопедический словарь. М., 1989. С. 489.
228 Ю. M. РОМАНЕНКО. БЫТИЕ И ЕСТЕСТВО
ложится на плечи Фихте. Сравнивая вклад в это дело Канта и
Фихте, можно утверждать, что первый лишь намекнул (правда,
подробно и обстоятельно) на условия возможности существования
некоего рычага, последний же, в непосредственности доходя порой
до простоты, прямо указал на ось этого рычага — на принцип «Я».
В настоящее время, когда «поворот» стал не просто метафорой,
но, благодаря усилиям М. Хайдеггера, категорией-экзистенциалом,
вдвойне интересно сделать предметом внимания симптоматику
последнего из характернейших превращений в истории человеческой
мысли. Тем более что на горизонте, кажется, не предвидится новых
поворотов. Не случайно, даже у самого цитируемого онтолога XX
века — М. Хайдеггера — при громадном желании не нашлось новой
точки опоры; все прежние были уже отмечены и пронумерованы
(космоцентризм, теопентризм, антропоцентризм, техноцентризм),
и он ограничился медитированием над «поворотом» как таковым
(Kehre).
Символы «путей» и «перепутий», равно как и смежные символы
«почвы», «дома», «неба» и других, определяют фундаментальные
предпосылки человеческого существования. Как гласит пословица,
дорогу осилит идущий. Существует символ — «дорога к храму»,
но есть и научная метафора — «тупик эволюции». Всякая мысль
окружена ореолом символов, если это мысль о бытии (по Парме-
ниду). Поэтому важно не только узнать чисто рациональное
содержание философии определенной эпохи, но и понять ее
направляющие мифологемы, в которых, как в собственном доме,
располагается мысль.
§ 1. НЕМЕЦКАЯ КЛАССИЧЕСКАЯ ФИЛОСОФИЯ
Свободное мышление в бытии
Одним из определяющих мотивов немецкой классической
философии является свобода. Философию И. Г. Фихте определяют
даже как пантеизм свободы (П. П. Гайденко). Перефразируя
изречение подвижника, можно сказать, что человеку даны два крыла,
чтобы воспарять в бытии, — свобода и благодать. Десинхронизация
взмахов или устранение одного из крыльев приводит не к полету,
а к судорожному трепыханию и отклонению от цели. Попробуем
проследить за траекторией полета одного из полномочных
представителей немецкой философской классики — Фихте.
Фихте, в первом приближении, традиционно относят к категории
философов-рационалистов, а точнее, диалектиков, гносеологов и
методологов. Однако в его творческой интеллектуальной биографии
находят этап онтологический и даже мистико-метафизический. На-
КНИГА I. ГЛАВА 3. § 1. НЕМ. КЛАССИЧ. ФИЛОСОФИЯ 229
чинал Фихте с подражания, как и подобает в ученичестве, но затем
спонтанно вышел на уровень самостоятельной генерации
философских идей. В ранний период своего творчества он еще весь находится
во власти замысла усовершенствовать предпосылки
трансцендентально-критического метода.
Что это такое, можно разъяснить в нескольких образах.
Трансцендентальная философия задается методологическим вопросом
«как?»: как возможны условия очищения мышления от различных
эмпирических фактов — культовых, мифологических, житейско-
бытовых и др.? Цель — до такой степени оторваться и освободиться
от бытия, чтобы потом сама мысль смогла обежать и осмотреть
бытие со всех сторон и впоследствии даровать бытию полную
картину его же самого. Пожелания благие: мысль хочет, чтобы было
как можно лучше. Вот почему мысли, собственно, необходимо
постоянно и ускоренно вращаться. Она любит бытие так, что хочет
его целиком. Однако в этом процессе возможны воздушные ямы
(или подводные камни): когда мысль окончательно отрывается от
бытия и становится «чистой», тотчас может произойти «забвение
бытия» (М. Хайдеггер). Мысль в это время настолько разогналась
в своем вращении, что умудрилась увидеть саму себя «со спины»,
как бы в некотором ментальном телевизоре. Завороженная самой
собой, зависла она над бездной, силясь вспомнить о бытии. Оставим
ее в таком положении, быть может, она догадается о том, что
мыслить и быть — одно и то же (Парменид), и вернемся к Фихте.
Собственно говоря, мы от него и не отходили. Поскольку
представленная выше картина есть, на наш взгляд, не что иное, как
мифологическая панорама того способа философствования, к
которому принадлежал Фихте. Традиционный методологический разбор
учения Фихте лишь частично входит в наш замысел. Его специфика
определила тон и темп повествования: поскольку миф и символ
имеют образно-эмоциональную природу, то преимущества будут
отдаваться этим компонентам речи. Все же начнем затеянное нами
предприятие с того пункта, с которого начинает сам Фихте, — с
принципа «Я».
Оттолкнемся от того элементарного факта, что «Я» есть
местоимение: место (топос) для имени (онома) или то, что вместо имени
(его суррогат). Возникающий при этом вопрос: что первично —
местоимение или имя? — решается двояко, в зависимости от того,
как повернется дискурс. В первом случае, не признавая за именем
онтологического статуса, расценивая имя «номиналистически»
(термин «номинализм» здесь поневоле двусмыслен) и, вследствие этого,
Укореняя местоименные структуры в самом бытии (М. Бахтин,
М. Бубер) — философская система строится начиная с беспредпо-
сылочной структурированной топики, допустим, полагая систему
«Я—Ты—Он», в окошечки которой по произволу могут заноситься
230 Ю. M. РОМАН EH КО. БЫТИЕ И ЕСТЕСТВО
различные имена. Основная апория при таком способе решения
приводит к заключению, что имена вообще не существуют, их могло
и не быть, но раз они есть в эмпирии человеческого существования,
с этим поневоле нужно мириться.
Как реальное следствие подобного положения дел может
возникнуть следующая ситуация. Допустим, что существует
непрерывный диалог двух и только двух индивидуумов, в котором
используется местоименная структура «Я—Ты». В принципе эта структура
достаточна для нормальной коммуникации двоих; ее можно
использовать для «зова—отклика», если эти индивидуумы
предварительно договорятся и привыкнут идентифицировать себя
соответствующим образом (путем установления ролей и их обмена: зов —
это Ты, отклик — это Я). Также достаточно для одного-един-
ственного единичного индивида использование местоимения «Я»
для полной абсолютной автокоммуникации (кто зовет меня? — я;
кто откликается на мой зов? — я). Два маленьких «я» совпадают
в одном большом «Я». И имени здесь действительно не нужно.
Самоудовлетворение.
Однако если потребуется творчески расширить топологическую
структуру (к примеру, структуру «Я—Ты» дополнить местоимением
«Он», поскольку на горизонте у двоих замаячил третий), то
возникает непреодолимая трудность. Если у нас нет под рукой имен,
так как мы договорились исключить их из онтологического
дискурса, то местоимение «Он» невозможно будет интегрировать в
исходную структуру «Я—Ты». Не только оттого, что чисто
психологически «Он» не смирится с участью быть только посторонним
«Им». Если «Он» не будет вдобавок носителем имени — не
осуществится полнота общения.
Действительно, пусть «Я» и «Ты» в междусобойчике могут
удовлетвориться называнием третьего — «Он», однако при
обращении к «Нему» самому «Я» и «Ты» должны «Его» как-то назвать.
«Я» называть «Его» в качестве «Ты» не имеет права, так как в
данном случае действительного приращения структуры, перехода
от диады «Я—Ты» к триаде «Я—Ты—Он» не произойдет: получится
лишь повторение структуры «Я—Ты», но наложенной вращательно
на систему из трех элементов. Следовательно, не имея возможности
называть «Его» как «Ты», нужно будет изобрести из ничего и
даровать «Ему» имя. Каждый из нас по факту рождения попадал
в такую ситуацию и получал имя, становясь быть. Только этот
первый акт именования необратимо забывается. Немаловажно,
кроме этого, что у всех народов считается невежливым называть
присутствующего в разговоре местоимением третьего лица. О «Нем»
всегда говорят в «Его» отсутствии.
Здесь мы подошли к возможности обобщить тенденции
разбираемого способа и сформулировать принципы, согласно которым
КНИГА I. ГЛАВА :i. § I. НЕМ. КЛАССИЧ. ФИЛОСОФИЯ 231
устанавливаются пределы местоименной онтологии и появляется
необходимость онтологического утверждения имен.
Беря местоимение за исходное, первичное бытийное
определение, философия трактует его как дискретную структуру. Согласно
арифмологическому методу, такие структуры образуют
относительно автономные системы: единица, двоица, тетрактида и т. п. Среди
них есть избранные: к примеру, триада «Я—Ты—Он», обладающая
действительной экзистенциальной полнотой, в которой находит свое
применение онтологическая триада. Начинать философствование
можно с любой структуры (Фихте начал с единицы, хотя это и не
всегда благодарное дело). Неважно, какое число мы возьмем за
исходное, но какое-то одно должны избрать, для того чтобы
состоялся арифмологический счет, числом выражающий акт-процесс
творения «всеединства».
Затем, комбинируя, философия способна дойти до полноты
структур в определенной системе, хотя может до конца оставаться
в избранной структуре. «На том стою и не могу иначе» — мог бы
повторить за Лютером Фихте. Избрав ходьбу как модель
онтологической триады, позволительно сказать так: если стоишь — то ты
уже есть. Но чтобы началось творение из небытия — необходимо
сделать первый шаг. Пока все просто.
Фихте начинает с устойчивости, справедливо требуя строить
философию как систему, стоя на одном принципе. Проблемы
начнутся, когда понадобится определить место элемента в системе по
отношению к другим элементам и к самой системе в целом. Для
этого потребуется не только однолинейное выведение (которое может
быть любой траектории), но дополнительно особый импульс для
топологической перестановки. Эта задача ляжет на долю Гегеля.
Впрочем, и Фихте, и Гегель абсолютизировали непрерывность
движения мышления, оставляя на периферии внимания его
дискретность и фигурность.
Переход от одной структуры к другой, допустим, от двоицы к
триаде, не совершается посредством тривиального арифметического
прибавления единицы. В этом переходе заключена бесконечность:
от диады к триаде необходимо трансцендировать, между ними
пропасть, в которую мышление выпадает «вдруг», как сказал бы
Платон. Между тем, переход через эту пропасть каким-то
удивительным усилием или благодаря чему-то случается. Косвенное
описание этого падения «вдруг» и благодатного случайного обретения
под ногами почвы у философов встречается, и мы еще опишем,
как это было у Фихте.
Прилагая эти принципы к местоименной онтологии, можно
сказать, что она, изгоняя имена в дверь, получает их обратно в
окно. А именно: переход от одной местоименной структуры к другой
может произойти лишь при наличии имени, сотворенного из небы-
232 Ю. M. РОМ АН EH КО. БЫТИЕ И ЕСТЕСТВО
тия. Пусть в данном случае местоимение первичнее, чем имя: в
свете онтологической триады они равноправны.
Продолжим, с этой точки зрения, развитие вышеприведенного
примера. Как было видно, «Я» и «Ты» должны дать (даровать) имя
тому, кто есть «Он». Раз начавшись, этот процесс поименования,
распространяясь по всей местоименной структуре, приведет уже к
появлению трех имен. И тогда местоименная структура заживет
внутренней подвижной жизнью, не оставаясь голым всеобщим
скелетом отношений. Имена выполняют функцию, усиливающую
индивидуальность общения. Действительно, местоимение «Я»
специфично и парадоксально: максимально индивидуализируя субъекта,
«Я» вместе с тем всеобще — каждый относит «Я» к себе и только
к себе, хотя и вынужден с опытом признать, что то же самое может
делать и другой. «Я» — это действительно Единое.
Дифференцировать и распределить местоимение «Я» в сообществе могут только
имена. В этом смысле местоимение и имя представляются как
оппозиция «единое—многое». Хотя возможна и прямо
противоположная трактовка.
Фихте пошел по пути местоименной онтологии. Противополагая
«Я» и «Не-Я», Фихте не делает сначала предметом рефлексии тот
факт, что «Не-Я» может быть «Ты», «Он» и т. д. В первую очердь
он ограничивается отношением «Я—Не-Я», сводящимся к
однолинейному развертыванию. Отсюда возникают все сложности,
недомолвки и противоречия между методом и системой в ранней
философии Фихте, равно как и заслуженные, хотя и не всегда
корректные нападки в его адрес со стороны других «Я». Впрочем,
даже при столь ограниченных структурных возможностях у Фихте
хватило воли пройти до конца свой путь, на котором были обретены
некоторые непреходящие достижения в развитии диалектического
метода.
В случае именной онтологии, когда имя признается первичным,
местоимение рассматривается как способ его замещения. Имя
индивидуализирует субъекта конкретно, местоимение выполняет ту
же индивидуализирующую функцию абстрактно, одновременно
делая субъект всеобщим. Однако на диалектику единичного и
всеобщего накладывается еще особый тип отношения.
Разберем для пояснения такую ситуацию. Известны практики
табуирования имен, запрещающие упоминать имена всуе, т. е.
произносить их вне контекста, не в надлежащем месте и времени.
Однако, невзирая на запреты, а может, и благодаря им, человек
на определенной стадии своего развития придумал уловки обходить
их, научившись зашифровывать и замещать имена.
Местоимение первого лица единственного числа по сути является
сокращенным образом имени Абсолюта, с помощью которого
человек может начать приобщаться к полноте бытия, но только свернуто,
КНИГА J. ГЛАВА 3. § 1. НЕМ. КЛАССИЧ. ФИЛОСОФИЯ 233
не эксплицирование «Я» должно быть развернуто до полноты
имени. Фихте это как будто чувствует и абстрактно предполагает
направление поисков, но способ, который он избирает, сложно
признать адекватным. Фихте силится с помощью позитивно
истолкованной диалектики вырваться за пределы «Я», наталкиваясь
постоянно на экран, который он «поименовал» квазиименем «Не-Я».
В свое время Шеллинг предлагал ему трансцендировать за пределы
«Я». Вероятно, Фихте не подозревает, что «Не-Я» есть граница, за
которой скрывается имя. Но имя как раз Фихте не интересует.
Несмотря на то, что имена (и какие имена!) обильно окружают его
жизнь (всегда на слуху), он не догадывается об их онтологической
ценности. Поэтому «Не-Я» для Фихте оказывается вечной ловушкой
и отражателем луча, испущенного из «Я». Местоимение «Я» (ариф-
мологическая единица) замкнулось на себе самом, отгородившись
экраном небытия «Не-Я».
Фихте ищет не там, где потеряно, а там где светлее. А светлее
для него — вернуться обратно к «Я». Получается какая-то
самозахлестывающаяся петля метода, в которой достаточно
дискомфортно становится мыслителю. Проследим в этом контексте историю
рождения, расцвета и заката «Наукоучения» — основного
произведения Фихте.
Его учитель И. Кант, усвоивший опыт антропоцентрической
философии Нового времени, вслед за Декартом уделял особое
внимание проблеме «Я». По мысли Канта, «Я», будучи принципом
единства самосознания (трансцендентального единства
апперцепции), сопровождает процесс познавания. Более точным и более
адекватным духу самой кантовской философии термином было бы
слово «аккомпанирует». Человек познает мир и себя именно под
аккомпанемент самосознания, который может быть, а может и
отсутствовать. Музыкальные законы этого сопровождения
специфичны, непроизвольны и непредсказуемы. Для Канта не только
объективный мир (внешняя вещь-в-себе) не познаваем, но и само
«Я» для познающего субъекта остается вещью-в-себе. Одной из
причин непознаваемости, вероятно, является страх. Но каким-то
образом можно пригласить «Я» к участию в качестве
аккомпаниатора, вызвав из небытия; не более того, пусть и в роли первой
скрипки. Фихте, которому, по-видимому, претило чувство страха,
который всегда стремился исполнить свою партию до конца сольно,
услышал этот призыв из недр «Критики чистого разума».
Кант, заменив имя местоимением, догадывался о древних
запретах, поэтому осторожно подходил к вызыванию «Я», дабы суетно
не поминать это квазиимя. Фихте же, непосредственно раскрыв
рационалистические одеяния «Критики чистого разума»,
обнаружил нечто потаенное, принципиально не выставляемое напоказ.
Возникшее подозрение, что от него лукаво скрывают самое главное,
234 Ю. M. РОМАНЕНКО. БЫТИЕ И ЕСТЕСТВО
заставило Фихте дерзостно и по-хамски (в смысле библейского
имени Хама, позволившего себе смотреть на наготу родителя) начать
расследование.
И далее почти буквально архетипически повторился
классический сюжет об этом библейском персонаже и его братьях. Различие
заключается в том, что Хам увидел нечто, а Фихте услышал и
прочитал, как-то понял и начал демонстративно транслировать и
комментировать. Гнев богов не заставил себя долго ждать. Как
удачно выразился В. Хёсле, для Фихте «другой субъект оказывается
мстителем Божьим».1 В ряд «мстителей» попала практически вся
интеллектуальная элита тогдашней Германии, начиная с Гёте,
заканчивая Гегелем. И сам Кант, вначале благословив Фихте на
поприще развития трансцендентального идеализма, затем
неприятно отчитал последнего за излишнее фантазирование и самозванство.
Фихте непокаянно воспротивился такой оценке и вполне мог
инкриминировать Канту то, что тот сам за частоколом туманных
философских конструкций сымитировал наличие Абсолюта: на
самом деле вместо Абсолюта стыдливо прячется суррогат,
провоцирующий и соблазняющий других к собственному признанию и
почитанию.
В начале своей философской карьеры Фихте, будучи выходцем
из простой семьи, полон высоких амбиций. Но, разочаровавшись
по неопытности во внешнем мире (причиной чему был также ряд
биографических фактов, одним из который было положение
блудного сына), фрустрированный молодой Фихте оборачивает взгляд
на самого себя (мифологический мотив оборотничества) и здесь
вдруг обнаруживает источник успокоения и творческой энергии.
Это время совпало с чтением кантовских произведений. Фихте
признается: «Я принял его благородную мораль и, вместо того
чтобы заниматься вещами, вне меня сущими, стал заниматься
больше самим собой».2
Фихте следует призыву дельфийского оракула: «Познай самого
себя», — правда, эпоха торжества олимпийского Пантеона уже
прошла, и в умах молодежи доминировал не Сократ, а идеалы
антропоцентризма, Просвещения и либертенского революционариз-
ма. Естественно, ищущий да обрящет, поэтому Фихте не мог не
натолкнуться на «Критику чистого разума». Дальнейшее
исполнение призыва оракула пошло по сценарию этой книги. Фихте сызмала
был даровитым учеником. Главными его талантами были
восприимчивость, память на речь (скорее, речь не в модусе Логоса, а в
модусе Мифоса) и способность вдохновенно воспроизводить их.
1 Хёсле В. Гении философии Нового времени. М., 1992. С. 136.
2 Цит. по: Гулыга А. В. Немецкая классическая философия. М., 1986.
С. 121-122.
КНИГА I. ГЛАВА 3. § 1. НЕМ. КЛАССИЧ. ФИЛОСОФИЯ 235
Между тем фрустрация продолжается, но трудовая этика
протестантизма знает рецепты выхода из этого тягостного состояния.
Сделай все сам, сделай себя сам — и тебе воздастся. Влекомые
этой заповедью адепты, вкусив первый реальный результат, не
могут избежать соблазна азарта. Без сдерживающих факторов
процесс приобретает лавинообразный характер, подминая под себя все
окружающее и неуклонно ведя к блефу.
Заручившись поддержкой первого удачного результата в виде
анонимных (кстати) статей, исполненных пока в негативном тоне,
Фихте уже знает, каков будет первый по-настоящему позитивный
шаг. Еще одна характерная ономатологическая деталь: оказывается,
для того чтобы сделать этот первый шаг, философии для начала
нужно найти и дать адекватное ... имя, так как до сих пор любовь
к мудрости была, дескать, без «прозвища», по уверениям самого
Фихте. Казалось бы, Фихте задался целью персонифицировать
именем философию. Но у него особые задачи, и имя он конструирует
особое — «Наукоучение». Почему? И в каком месяцеслове Фихте
обнаружил это имя? Может быть, в той же «Критике чистого
разума», где задается фундаментальный вопрос ■— как возможна
метафизика как наука? Позднее Фихте вознамерился даже
переменить это созданное имя на более возвышенное —■ «учение о
мудрости», усвоив которое, наверное, все сразу бы стали мудрыми.
Каждая эпоха заслуживает то имя, которое взыскует. Гегель в
дальнейшем перевернул и уточнил это имя до «Науки логики».
Следующим положительным шагом было обретение и беспред-
посылочное полагание единого принципа, на который должна быть
нанизана система философии, согласно главному критерию
научности. Принцип системности требует формализации, а стало быть,
обозримости всего наличного материала из одной точки. Искомый
принцип: «Я есть» или «Я есмь Я». Фихте действительно его
нашел — у Декарта, постулировавшего этот принцип в результате
реализации методического сомнения, и у Канта,
аргументировавшего, исходя из критической установки. Фихте уже не нужно было
выполнять отрицательную обосновывающую задачу, он сразу
позитивно констатирует.
Как можно другими словами выразить «Я», расщепив этот
вербальный атом? «Я» — это «самое себя». Здесь местоимение
«самое» сознательно употреблено в среднем роде, чтобы не вызывать
преждевременных ассоциаций, касающихся половых различий.
V Фихте «Я» тоже среднего рода, хотя под ним подразумевается
маскулинное начало, что может дать повод для Ж. Деррида
охарактеризовать Фихте как «фаллоцентриста».
Комплекс «самое себя», получающийся в результате деления
неделимого ядра «Я», означает само-стоятельность и себе-стоимость
творчества. Фихте в большей степени манифестирует самостоятель-
236 Ю. M. РОМАН EH КО. БЫТИЕ И ЕСТЕСТВО
ность творца, его отрешенность, уединенность, отсутствие
необходимости в помощи извне, т. е. абсолютность. Что касается момента
себестоимости, т. е. тех затрат, которые непосредственно требуются
на производство продукта, то о них Фихте помалкивает. Но эта
фигура умолчания — не тайна, а секрет. Да, пожалуй, Фихте и
сам не знает, как он нашел (именно нашел — Фихте этим
специально хвалится) принцип «Я». Действительно, кто, положа руку
на сердце, вспомнит, когда у него впервые возникло чувство «Я».
И даже внимательно наблюдающие за ребенком взрослые не могут
точно зафиксировать момент присвоения им «Я». Для «Я»
существует принципиальное соотношение неопределенностей.
Оказывается, себестоимость производства «Я» нулевая. «Я»
ничем не жертвует, ни от кого не принимает дара и само никому
ничего не дарит. Оно просто есть. П. П. Гайденко справедливо
замечает: «Для дара в философии Фихте не осталось места, вне
зависимости от того, как понимать дар: как полученный от природы
или перешедший по наследству (в виде ли материального богатства
или культурной и духовной традиции) или, наконец, как дар
божественной благодати ». '
Но именно потому, в конечном счете, по всем догматическим
критериям, «Я» спонтанно творится и творит из ничего. Только
для «Я» справедлив принцип свободной креации, все остальное
подчинено принципу ex nihilo nihil fit. Таким образом, «Я»
дифференцировано на «самость» и «собственность». Описанию того
процесса, в котором «Я» пытается самостоятельно приобрести
собственность, посвящено изложение «Наукоучения». Мы не пойдем
за Фихте по пути диалектического конструирования. Весь этот
процесс выполнен им четко, доступно, а комментарии и уточнения,
которые были необходимы, уже сделаны последователями и
критиками.
Интереснее будет, сменив установку, попытаться рассмотреть
«Я» в нетрадиционном контексте, не фокальным, как Фихте, а
периферическим зрением. Дело в том, что в действительности «Я»,
разумеется, не видится, а слышится. Фихте же эксплицирует «Я»
именно в зрительном перцептивном ряду, трансцендируя от имени
к образу. В свое время Фихте, как и все, услышал о «Я», принял
«Я» в себя и начал произносить (вслух и «про себя» — сознательно
и по привычке) это слово. Но у читателя «Наукоучения» возникает
устойчивое впечатление, что автор текста видит, созерцает само
«Я». В этом парадоксе заключена важная философская проблема.
Попробуем в ней разобраться.
1 Гайденко П. 77. Парадоксы свободы в учении Фихте. М., 1990.
С. 127.
КНИГА I. ГЛАВА 3. § 1. НЕМ. КЛАССИЧ. ФИЛОСОФИЯ 237
Обычный ученый, по Фихте, когда исследует предмет, не
осознает себя и, наоборот, в рефлексии возвращаясь к себе, теряет из
поля зрения предмет. Философия способна в собственном методе
объединить эти два противоположно направленных вектора с
помощью особого приема, обозначенного термином-неологизмом,
который Фихте ввел в философский лексикон, — «Дело-Действие».
В нем философское «Я», осуществляя свой субстанциальный акт,
одновременно созерцает самое себя. Действие и его результат под-
надзорны и максимально освещены имманентным источником
света, каковым является само «Я». Фихте сторонник интеллектуальной
интуиции (в отличие от Канта) и апологет воображения, с помощью
которого он оптимистически (оптимум и оптика — одного корня)
надеется впрямую наблюдать акт творения. «Это требуемое от
философа созерцание самого себя, — пишет Фихте, — при выполнении
акта, благодаря которому у него возникает Я, я называю
интеллектуальной интуицией. Оно есть непосредственное сознание того,
что я действую, и того, что за действие я совершаю; оно есть то,
чем я нечто познаю, ибо это нечто произвожу».1
Потаенности бытия (в смысле Дионисия Ареопагита или М. Хай-
деггера) Фихте не принимает в расчет. Он паноптист и в какой-то
степени онтолог света, но не в античном или средневековом
теистическом духе. Если Ареопагит, стремясь к абсолютному Свету,
наталкивается на неприступный трансцендентный Мрак,
сакральную тайну, то луч от фихтевского «Я», экранированный системой
зеркал «Не-Я» и структурированный диалектическим методом,
когерентно накладывает колебания собственных волн друг на друга
и превращается в лазерный луч, буравящий любые
предустановленные границы. Мерцание «искорки» мистика Мейстера Экхарта
трансформировалось в гиперболоид инженера Фихте — изобретателя
лазера в области духа, благодаря лучу которого удалось все-таки
трансцендировать из «Я» к Другому.
Свойства этого луча нельзя предугадать, пока он не будет
изобретен и не начнет действовать. Поэтому Кант по старинке
скептически относился к открытию Фихте, квалифицируя его
спекуляции как ловлю призрака: по Канту, созерцать понятия философ
принципиально не может. Но пример Фихте убеждает, что и призрак
можно заарканить.
Продолжим развитие нашей метафоры. Перед фихтевским «Я»
всегда стоит зеркало. Откуда оно взялось, Фихте еще не знает. Да
это и не так важно. Главное, огородившись системой зеркал, увидеть
всего себя в действии. Однако что на самом деле таким образом
можно увидеть?
1 Фихте И. Г. Избранные сочинения. Т. ]. М., 1916. С. 452.
238
IO. M. POMAHEHKO. БЫТИЕ II ЕСТЕСТВО
Для тех, кому вышеприведенная интерпретация кажется
излишне парадоксальной и измышленной, приведем такое
наблюдение, произведенное учеником Фихте Шеллингом-Бонавентурой в
«Ночных бдениях»: «Ты хочешь вычитаться из своей роли в
запредельное к твоему "Я"? Смотри, там стоит скелет, бросает горстку
праха в воздух и уже распадается сам, и при этом слышится
язвительный смех. Вот мировой дух, или дьявол, или Ничто в
отзвуке».1 Шеллинг сраведливо подчеркивает креативный характер
данного процесса, излагая это символами в романтическом духе, а
также уточняет, что действие происходит в воображении. «Мне
почудилось, будто я сплю. Тут я оказался наедине с самим собой
в Ничто; лишь вдалеке светилась окраина земли, словно гаснущая
искра, — но это была лишь оконечность моей мысли. Единственный
звук вздрагивал тяжко и сурово в пустоте, это было последнее
биение времени, и теперь наступала вечность. Я больше ни о чем
не думал, я мыслил только себя самого! Ни одного предмета не
было вокруг, лишь великое грозное Я, пожирающее само себя и
непрерывно возрождающееся в самопоглощении. Я не падал, потому
что больше не было пространства, но и парил я вряд ли.
Изменчивость исчезла вместе со временем, и царила страшная, вечная,
пустынная скука. Вне себя я пытался себя уничтожить, но
продолжал существовать и чувствовал себя бессмертным!»2
Метод Фихте спекулятивен, т. е. зеркален (speculum — зеркало).
Русская пословица гласит: «Через зеркало самый короткий путь в
ад». Шеллинг отразил это с присущей романтизму полуиронией.
Древние греки тоже предупреждали об этом, выводя в своей
мифологии образ Диониса-Загрея. Маленький Дионис играл зеркалом
и, залюбовавшись своим ложным образом, потерял бдительность —
в тот же момент подкравшиеся титаны разорвали его на части.
Поучителен и миф о Нарциссе, упоенном созерцанием своего
отражения в естественном зеркале водной поверхности. Известно,
что М. Бахтин, в отличие от Фихте начинающий философию как
раз с интерсубъективного отношения, с диалоговой местоименной
структуры «Я—Ты», опасался смотреть на зеркало или на
автопортреты художников. Только Кант мог пристально взглядываться в
зеркало, решая чисто познавательную задачу: почему при зеркальном
отражении правое оборачивается в левое и наоборот? А в мифе о
Персее зеркало сослужило тому добрую службу: глядя на отражение
спящей Медузы горгоны в медном щите, как в зеркале, Персей
сумел ее обезглавить. Тема зеркала еще получит свое развитие в
дальнейшем исследовании.
1 Бонавентура. Ночные бдения. М., 1990. С. 143.
2 Там же. С. 145 146.
КНИГА I. ГЛАВА 3. § 1. НЕМ. КЛАССИЧ. ФИЛОСОФИЯ 239
Указать на иррациональные моменты метода Фихте можно не
только на языке световой символики, но также и в контексте
мифологемы глаза. Глаз — «мифологический символ, связанный с
магической силой, благодаря которой божество или мифологический
персонаж обладают способностью видеть, сами оставаясь
невидимыми».1 Здесь сразу вспоминается Декарт, введший принцип
очевидности в философский метод и одновременно избравший для себя
кредо: лучше прожил тот, кто лучше спрятался — для того, чтобы
за всем пристально подглядывать.
«Многие боги обладают столь устрашающим взором, что его не
выдерживают смертные».2 Баба-яга, Медуза горгона и другие
созданные в архаическом сознании образы означали не что иное, как
табу на пристальный гипнотизирующий взор. Фихте нарушает и
этот запрет, стремясь увидеть то, что принципиально невидимо,
что стоит у нас всегда за спиной и само направляет наше видение.
Наделяя видение творческим потенциалом, Фихте доходит до
утверждения, что человеческое «наблюдение указывает в
бесконечном многообразии каждому свое место... В Я лежит верное
ручательство, что от него будут распространяться в бесконечность
порядок и гармония там, где их еще нет, что одновременно с
подвигающейся вперед культурой человека будет двигаться и культура
вселенной».3 Более того, «человек будет вносить порядок в хаос и
план в общее разрушение, через него самое тление будет строить
и смерть будет призывать к новой прекрасной жизни».4
Этот манифест напоминает платоновский образ идеального тела
Космоса, изваянного Демиургом, которое питалось собственным
тлением и тем самым было вечным. От подобных утверждений
Фихте рукой подать до проекта Н. Ф. Федорова и до современных
гипотез сторонников субъективистской версии антропного принципа
в космологии, согласно которым совокупный глаз человечества дает
актуальное существование наблюдаемой Вселенной, рисуя своим
лазерным лучом на небесной тверди голограмму Космоса.
У Гоголя в «Вие» встреча глаз Хомы Брута (кстати, коллеги
Фихте) и Вия описывается как обращенный на себя взгляд одного
субъекта. Глаз Хомы Брута и глаз Вия — один и тот же глаз,
траектория видения которого начинается от эстетического
созерцания некромира, оборачивается в прохождении по изнанке
(преисподней) бытия и заканчивается коллапсом для самого Фомы.
Как видим, текст «Наукоучения» насыщен особыми
оптическими эффектами, он читается специфическим «речевым» зрением.
1 Мифы народов мира: Энциклопедия. В 2-х т. Т. 1. М-, 1991. С. 306.
2 Там же.
3 Фихте И. Г. Избранные сочинения. С. 401-402.
1 Там же. С. 402.
240 Ю. M. РОМАНЕНКО. БЫТИЕ И ЕСТЕСТВО
Чтобы понять источники этих эффектов, необходим трансцензус к
голосовым способностям трансцендентального субъекта, переход от
онтологической оптики к онтологической акустике.
Выше упоминалось о речевых задатках Фихте, которые он
сознательно развивал (с мечтой стать проповедником), по молодости
беря уроки красноречия, ораторского искусства, а затем
отшлифовывая их непосредственно в лекторской практике. Речь его была
особенной, можно даже сказать, что он обладал магией слова.
Прислушаемся к его голосу и зову.
Первоначальный, беспредпосылочный акт свободы — это
случай, когда «Я» вызывает само себя к бытию из ничего. Пытаясь
вербализовать самосознание, «Я» говорит себе: «Я есть», или «Я
есть Я». Несколько позже возникнет другой голос — голос совести,
открывающий глаза на других.
Первый замысел на философском поприще у Фихте —
популярное («ясное, как Солнце») изложение кантовских
основоположений, придающее им силу влиять на человеческое сердце. Публика
в академических аудиториях быстро признает над собой власть
фихтевского голоса. По воспоминаниям самого Фихте, говорящего,
но и прислушивающегося к ответным реакциям: его слово, как
семя, падает на благодатную почву, и все это происходит на фоне
музыки и криков «ура!». Неслучайно Фихте писал: «Я во всей
Германии теперь — притча во языцех, и обо мне будут повсюду
ползти удивительные слухи».1
Фихте, по преимуществу, мыслитель «вслух»: излагая свою
систему с кафедры, он ее впервые строит. Лишь вторым заходом,
обобщая сказанное в тексте, Фихте закрепляет слово письменно.
Кант поощрял его в этом направлении и в момент наставления
призывал не исхитряться в ловле призраков, а культивировать
способность адекватно излагать идеи «Критики чистого разума».
Фихте, действительно, был экзегетом, в функции которого входило
животворение духом застывших букв кантовского текста.
Сохранилось немало воспоминаний слушателей лекций Фихте.
Вот некоторые характерные подробности. Для того чтобы произошло
философское обращение у присутствующих, приобщение к «Я» как
таковому, Фихте прибегал к излюбленному методическому приему.
В повелительном наклонении обращаясь к слушателям, он призывал
всех сосредоточиться и помыслить себе стену. А затем, выждав
паузу, сменив риторический акцент, предлагал помыслить того,
кто помыслил стену. Нужно признаться, что эффект был
потрясающий. Лекции Фихте напоминали собой некий архаический обряд
отверзания уст и очей. Позднее В. Соловьев также использовал этот
1 Цит. по: Яковенко Б. Жизнь И. Г. Фихте <'■' Фихте И. Г. Избранные
сочинения. С. XXXIX.
КНИГА I. ГЛАВА 3. § 1. НЕМ. КЛАССИЧ. ФИЛОСОФИЯ 241
прием. Голос лектора, управляя зрением и воображением
слушателей, вызывает зрительный эффект, достигающий степени почти
античного идеала умозрения. Не случайно подзаголовком к работе
Фихте «Ясное, как Солнце, сообщение широкой публике о
подлинной сущности новейшей философии» были посланы слова: «Попытка
принудить читателей к пониманию».
Метод изложения «Наукоучения» постоянно колеблется между
двумя полюсами. Временами Фихте ощущает «ясность до высшей
степени сообщимости», как он признается в письмах. И получив от
этого светоносного источника энергетический импульс, он бросается
к очередному варианту исполнения «Наукоучения». Однако когда
речь изливается и фиксируется в письме, начинается период «бо-
гооставленности ». Как ни пытается Фихте принудить других к
пониманию, какие ни испытывает муки в борьбе со словом, пытаясь
его приручить, постоянно происходят сбои в механизмах знакового
закрепления и передачи знания. Все же Фихте упорен в накачивании
энергией генератора своего метода, и в 1814 г., под занавес жизни,
ему открывается наконец план изложения системы, «понятной
даже ребенку». Но преждевременная смерть Фихте не дала
исполниться этому плану, и человечество не получило возможность
прикоснуться к высшей истине, которую сподобился на какой-то миг
узреть Фихте. Нечто подобное уже случалось, когда, к примеру,
история утеряла «ненаписанный» трактат Платона «О благе», где
тайна была дана экзотерически.
На очередном этапе «богооставленности» (а лучше сказать —
Я-оставленности) Фихте осознает, что его философия «не может
быть сообщаема этой эпохе при помощи печатных произведений»,
что он будет «сообщать ее изустно тем, кто имеет мужество взять ее
такою, какова она есть».1 Поэтому второй комплекс текстов
«Наукоучения» (после 1801 г.) представляет собой в основном конспект
лекций. Если Канта можно назвать автором «писания», то Фихте,
несомненно, был создателем «предания» о трансцендентальном
субъекте.
Слушатели и последователи, кто письменно, кто устно, разнесли
фихтевскую философскую весть. Музыканты, люди слуха и голоса,
преимущественно по-своему ее выразили. Не узнать теперь точно,
от кого опосредствованно воспринял идею «Я» композитор
Скрябин — от Вагнера, Шопенгауэра или Ницше? Но в его творчестве
достаточно явно представлен симптом ЭГО-изма-солипсизма.
Например, в такой поэзе:
Я Бог!
Я ничто, я игра, я свобода, я жизнь,
Там же. С. LXI.
242 Ю. M. РОМАНЕНКО. БЫТИЕ И ЕСТЕСТВО
Я предел, я вершина,
Я Бог!
Я расцвет, я блаженство,
Я страсть всесжигающая,
Всепоглощающая,
Я пожар, охвативший вселенную
И ввергший ее в бездны хаоса
(Я покой), я хаос,
Я слепая игра разошедшихся сил,
Я сознанье уснувшее, разум угасший.
Сравнивая Фихте, который внешне был все-таки более сдержан,
и необузданного в творчестве Скрябина, А. Ф. Лосев пишет: «В
обожествлении своего "Я" Скрябин перешел всякие мыслимые пределы.
Еще можно кое-как понять обожествление и мистическое
оправдание "Я" у Фихте; понятно кое-как, что "трансцендентальный
субъект" современной философии можно возвести в какой-нибудь
религиозный принцип. Но чтобы божественен стал каждый мой порыв
и позыв, каждое мое хотение и стремление — это невероятно и
чудовищно. Скрябин с особенной силой и аффектацией произносит
страшные слова: "Я — Бог". Тут предел западноевропейского
индивидуализма и торжество его логики: раз нет ничего, кроме меня,
то я и есмь настоящий Бог».2 Обожествляя свое «Я», Скрябин
нарушает запреты и прорывается сквозь трансцендентную границу
между зрительным и слуховым каналами восприятия. Следствием
этого прорыва стало учение о цветомузыке.
Теперь у нас достаточно демонстрационного материала, чтобы
сделать некоторые выводы. Как выше было сказано, голос,
вызывающий зримые образы, — это сам миф, являющийся неотъемлемой
частью человеческого существования. Человек экстатически
преодолевал и упорядочивал в мифе свое естественное состояние.
Фихте, признавая важность фантазии, устанавливает ей пределы
в рамках теоретической способности разума: фантазирование не
может быть беспредельным, так как это приводит к вакханалии
разрушающих себя образов. Фихте пишет: «Я нигде не вижу бытия
и не знаю даже своего собственного бытия. Бытия нет. Я сам не
знаю и не существую. Существуют образы, они — единственное,
что существует... Я сам один из этих образов... Вся реальность
превращается в удивительную грезу без жизни, о которой грезят,
и без духа, который грезит...»3 При этом осознании Фихте считает
себя вправе использовать фантастические образы для диктовки
Цит. по: Лосев А. Ф- Мировоззрение Скрябина // Лосев А. Ф. Страсть
к диалектике. М., 1990. С. 275.
2 Там же. С. 296.
3 Фихте И. Г. Назначение человека. СПб., 1913. С. 122.
КНИГА I. ГЛАВА 3. § 1. НЕМ. КЛАССИЧ. ФИЛОСОФИЯ 213
другим, ибо убежден, что «индивидуум должен увидеть себя в своем
презренном облике и почувствовать отвращение к самому себе; он
должен увидеть образцы, которые его возвысили бы и показали
ему, каким он должен быть...»'
Все наследие Фихте — благодатный материал для исследования
особенностей процесса мифотворчества. Фихте всегда работает на
стыке между Логосом и Мифосом. По видимости, он отдает
предпочтение логической форме изложения, но это не должно ввести
нас в заблуждение. Известны упреки явных мифотворцев в адрес
скрытых: Ницше требует, чтобы Сократ запел; Каролина и Фридрих
Шеллинги видят основной недостаток Фихте в том, что тот не
обладает поэтическим даром. Но ведь онтология и есть поэзия
понятий. Поэтому Фихте все же был поэтом, оперируя образами и
именами философии.
Диалектическая дедукция категорий в «Наукоучении», по
заверениям Фихте, непрерывная и саморазвивающаяся, есть не что
иное, как обучение навыку, технике перевода в иное состояние
естества мысли. Метод Фихте сравнивают с «ткацким станком»,
на котором, вероятно, изготовляется «покрывало Майи». Метафоры
технотронного века — лазер и голограмма — сути не меняют.
Диалектика «Наукоучения» есть техника (технэ — искусство),
навык (русский этимон термина «наука») мифа бытия.
У Фихте до бесконечности, на разные лады повторяется один
и тот же шаг. Ему мнится, что он движется по прямой линии (его
любимая геометрическая фигура), но стороннему наблюдателю
видно, как Фихте перепадает в иные размерности, тупики и перепутья.
Другие «Я», с неменьшими амбициями, движутся ему навстречу
по своим путям и перепутьям. Из случайных встреч, удивительных
точек совпадения, средоточий соткан неповторимый узор
философской картины конца XVIII — начала XIX в., на которой изображено
свободное парение мысли в бытии.
Фихте постоянно аскетически упражняет свои зрительно-
голосовые способности не только с университетских кафедр. По
воспоминаниям его сына, дома часто практиковалась вечерняя молитва,
под аккомпанемент рояля пели стихи какого-нибудь хорала. Затем
Фихте-старший зачитывал и комментировал фрагменты любимого
им Евангелия от Иоанна, перемежая это словами наставления и
утешения с целью укрепить дух в вере и очиститься от рассеянности.
Во всех вариантах «Наукоучения» Фихте тренирует себя в
умении держать мысль на «Я». Это на самом деле сложно. Так же,
как сложно было средневековым монахам-аскетам держать мысль
Цит. по: Гаиденко П. П. Философия Фихте и современность. М.,
!979. С. 104.
244 Ю. M. РОМАНЕНКО. БЫТИЕ И ЕСТЕСТВО
на Боге. Непроиавольно и легко в своей навязчивости держатся за
мысль паразитические идеи типа представления о «белой обезьяне».
Фихте выковал эффективное методологическое оружие, но оно
требует применения. Создаваемые фантастические образы,
благодаря обретенному навыку мифотворчества, взыскуют воплощения и
закрепления в ритуале. П. П. Гайденко справедливо отмечает, что
«проекция на эмпирический мир умозрительного построения есть
сознательно создаваемая мифологема».1 Так, Фихте мифологически
применяет свое оружие в «Речах к немецкой нации». В них он
выступает как настоящий демагог (в исходном смысле этого
древнегреческого слова — вождь народа). Так же как в других случаях
он действует в амплуа педагога (идеолога Просвещения) или
мистагога (проводника в тайну «Я»).
«Демагогия» в «Речах к немецкой нации» усугублена у Фихте
макиавеллианским желанием тайно воздействовать на правителя.
Но в этом успехов он не обрел: право первого голоса всегда остается
за Государем. Кстати, не избежал соблазна тайного воздействия на
фюрера («фюрер» — немецкая калька с древнегреческого слова
«демагог») и философ М. Хайдеггер, повторяя печальную историю
философа Платона с сиракузским тираном.
При избыточной фантазии сложно удержаться от соблазна до
конца опуститься в пучину мифа. В этом случае возникает
вакханалия не только образов, но и мифических имен. Как, например,
в такой мифической зарисовке. Философ по имени Карл стоял на
плечах гигантов, поэтому видел дальше всех. Его учение было
всесильно и заключалось в бороде. Ученик Карла Владимир, строго
следуя зову своего имени, решился завладеть всем миром... Все это
было бы смешно, когда бы не было так грустно.
Если принять методологию неоплатоников, которые в каждой
философской категории угадывали образ и слышали имя
мифологического персонажа и сюжета, то с этих позиций, например, явно
напрашивается на мифологическую интерпретацию ключевое
понятие немецкой классической философии «снятие» (Aufheben),
введенное в трансцендентальный оборот Кантом и Фихте и
онтологически закрепленное Гегелем. При перенесении в мир мифа «снятие»
означает действие, обратное жертвоприношению, т. е., проще
говоря, поедание жертвы. В самом деле, ставшие богами требуют и
особую пищу, свои нектар и амброзию. Особенно прозрачен в этом
отношении Гегель. Его безымянная Абсолютная Идея, отпустив
себя в природу, проходит без оглядки по всем ступеням
формообразования сотворенного мира и взимает с них дань.
В литературе описан типический случай, когда в архаическом
обществе жрецы, возбужденные священными табу, алчно пожирают
' Цит. по: Гайденко П. П. Философия Фихте и современность. С. 234-
КНИГА I. ГЛАВА 3. § 1. НЕМ. КЛАССИЧ. ФИЛОСОФИЯ 245
тотем. Вина за содеянное жрецами преступление возлагается на
топор, рассекавший жертву, который они затем с почетом хоронят
в море. Таким двулезвийным топором, который выковали классики
немецкого идеализма, стал трансцендентальный безликий субъект,
именуемый «Я». Вся вина теперь лежит на нем.' В покаянии за
совершенное «дело-действие» никто уже не нуждается. «Я» во всем
виновато. Но образа у него нет — только поочередно надеваемые
маски с изображенными на них гримасами.
Фихте в начале своей карьеры недвусленно признается: «Я —
жрец истины, я служу ей, я обязался сделать для нее все — и
дерзать, и страдать».1 Позднее, в энтузиастические минуты «Я-
присутствия» он склонен признать себя более жертвой. Поскольку
Фихте проповедует «дело-действие», он хочет объединить в своем
лице жреца и жертву одновременно, как «змея, кусающая свой
хвост ».
Мыслящее самое себя фихтевское «Я», в отличие от Ума-
Перводвигателя Аристотеля, отнюдь не испытывает блаженства.
«Я» находится в муках постоянного борения с самим собой.
Описание этой борьбы у Фихте часто встречается в ключевых местах,
и чувствуется, что это его персональный, незаемный опыт. Так,
Фихте пишет: «В этой борьбе дух задерживается в своем движении,
колеблясь между обеими противоположностями; он колеблется
между требованием и невозможностью его выполнить; но именно в
таком-то состоянии, и только в нем одном, он удерживает их обе
одновременно, или — что то же — он превращает их в такие
противоположности, которые могут быть одновременно схвачены
мыслью и закреплены, придает им тем, что он их касается,
отскакивает от них и затем снова касается, по отношению к себе некоторое
определенное содержание и некоторое определенное протяжение...»2
Это одно из удивительных описаний акта творения.
Полуметафорически выражаемые процессы «колебания»,
«касания», «задержки», «удержания», «продления», «протяжения»,
снова и снова возобновляемые, не являясь чистыми традиционными
категориями, нужны Фихте для того, чтобы оплотнить
диалектический метод. Вот одна показательная цитата: «Это парение силы
воображения между двумя несоединимостями, это борение ее с
самой собою и есть то, что ... растягивает состояние Я в нем самом
в некоторый момент времени».3 Так борьба порождает время,
расщепляющее атом «Я».
Актуализация «Я» в субъекте осуществляется мгновенно, как
вспышка. Много времени не дано, казалось бы. Но Фихте находит
Фихте И. Г. О назначении ученого. М., 1935. С. 114.
1 Фихте И. Г. Избранные сочинения. С. 200-201.
3 Там же. С. 192.
246 Ю. M. РОМАНЁНКО. БЫТИЕ И ЕСТЕСТВО
в себе силы пролонгировать это состояние до определенной
длительности. Описания умиротворенного покоя после борьбы у Фихте
не встретить. Фихте обнаружил источник повышенной
энергетической мощности в самом «Я». Даже не источник энергии, а способ
ее аккумулирования и вывода. С подобными вещами нужно
обращаться крайне осторожно, поскольку «Я», наложенное на «Я»,
приводит к образованию критической массы, чреватой настоящим
ядерным взрывом в сфере духа.
Слово «взрыв» употребляется здесь не как простая метафора, а
почти буквально. Взрывчатость духовного естества понимал уже
И. Кант, писавший: «Воспитание, примеры и наставления могут
вызвать эту твердость и устойчивость в принципах вообще не
постепенно, а внезапно, как бы путем взрыва, который сразу же
следует за утомлением от неопределенного состояния инстинкта».1
Необходимы меры предосторожности, позволяющие
контролировать цепную реакцию тех диалектических синтетических витков,
которые Фихте смог зафиксировать. Он сумел сохраниться при
этом, хотя и распространил вокруг себя радиацию. Необходимо
разобраться в технологии этого взрыва, а также в том, какие меры
предосторожности применяет сам Фихте к своему открытию,
самостоятельно изобретая их или, возможно, по подсказке других.
Итак, борьба в воображаемой сфере весьма взрывоопасна. Но с
кем борется Фихте? Ответ напрашивается сам собой: он борется с
«Я». И поскольку «Я» для него есть Абсолют, то Фихте можно
было бы назвать «богоборцем» в древнем смысле. Но все-таки Фихте
только «Я-борец» — он борется всего лишь с вместоименным
суррогатом, миражом, выставленным в насмешку ему Абсолютом. А с
чувством юмора у Фихте была серьезная проблема. Отсутствие
юмора компенсировалось сарказмом и сатирой в адрес других «Я»,
плативших той же монетой. Посетившие пещеру Трофония теряют
чувство юмора. Поэтому немецкая классическая философия сильно
была пропитана сарказмом.
В минуту подъема Фихте так говорит о себе: «Я не буду зевать
и в конце концов буду победителем. С кем другим, кто оказывал
сильное влияние, было иначе? Не окружены ли имена таких людей
у нас теперь почетом?»2 Это еще одна существенная обмолвка,
выдающая отношение Фихте к онтологии имени. «Окруженное
почетом имя» есть миф. В свое время Фихте, еще не завоевав славы
для собственного имени, стал под знамя Канта, стараясь даже
учредить некий культ имени Канта — автора «Критик», культоборца
и мифоборца. В письме к Нитгаммеру Фихте утверждал: «Согласно
моему глубокому убеждению, Кант только наметил истину, но не
1 Кант И. Сочинения. Т. 6. М., 1966. С. 543-544.
2 Цит. по: Яковенко Б. Жизнь И. Г. Фихте. С. LVIII.
КНИГА l. ГЛАВА 3. § 1. НЕМ. КЛАССИЧ. ФИЛОСОФИЯ 247
изложил и не доказал ее. Этот удивительный, в своем роде
единственный человек либо обладает способностью прорицать истину,
не сознавая ее собственных оснований, либо он недостаточно высоко
ценит свою эпоху для того, чтобы сообщить ей их, или же он
побоялся навлечь на себя при своей еще жизни сверхчеловеческое
почитание, которое рано или поздно должно было возникнуть по
отношению к нему...»1 Позже наступило разочарование в Канте, а
когда подоспела собственная слава, имя Фихте стало излучать свою
энергию.
Вхождение в миф осуществляется творческим вслушиванием в
магическое имя, творящее чудеса, инкорпорируя его в состав
собственного имени. Можно обнаружить и указать определенное прямое
или косвенное предпочтение у Фихте некоторых мифологических
имен, что попутно мы вкратце делали в изложении (Хам, Титан,
Хома Брут, Вий, Нарцисс и др.). Чтобы выполнить задачу
реконструирования мифа о том или ином историческом деятеле,
потребуется сфокусировать на нем весь мифологический именной список,
панономатон, проследить все энергийные тяги и противотяги,
определяющие экзистенциальные ориентиры конкретной личности.
Итак, Фихте по натуре «борец». По этому признаку его можно
сравнить с таким же борцом — еще одним носителем мифического
имени — библейским Иаковом. Разница между ними состоит в
том, что Иаков боролся за имя, Фихте же — за местоимение. Но
первый боролся в кромешную ночь до рассвета, а второй уже
подсвечивал себе искусственным источником света.
Принадлежность энергии творчества Фихте к энергиям
некоторых мифических имен напрашивается сама собой. Так, по
отношению к Иакову у него возникает ревность по поводу Абсолюта,
толкающая его на борьбу со своим ономатологическим оппонентом.
Одновременно с этим Иоганн Фихте чувствует конгениальность со
своим тезкой — апостолом Иоанном, чье Евангелие он особенно
почитал. Вместе с тем Фихте критически относился к апостолу
Павлу. Все эти ономатологические предпочтения оказали сильное
влияние на конфигурацию мышления Фихте.
Современное западное фихтеведение осознает недостатки
субъективизма Фихте. Преодоление тенденций гносеологического
солипсизма видится некоторым ученым в решении проблемы
интерсубъективности. Для субъективного идеализма, действительно,
всегда было сложным дедуцировать другое «Я». Когда философ доходит
До «Я», ему мнится, что он впитал в себя всю мощь Абсолюта.
После этого крайне болезненно происходит признание
равноправного онтологического статуса «Ты».
1 Там же. С. XXXIV.
248 Ю. M. РОМАНЕНКО. БЫТИЕ И ЕСТЕСТВО
Однако полагание исходным пунктом интерсубъективного
отношения в трансцендентальной философии не решает проблему до
конца, поскольку и в первом, и во втором случаях остается зацик-
ленность в рамках местоименной онтологии. Выход видится в
признании онтологии имени и в продумывании соотношения ее с
местоименной онтологией.
Представление об Абсолюте претерпело значительную эволюцию
в философии Фихте. Специалисты разделяют его творчество на ряд
взаимоналагающихся этапов: сначала Абсолют выражается через
«Я» (трансцендентально-идеалистический период), затем под
воздействием критики со стороны Шеллинга, Шлейермахера, Якоби
и других Фихте выдвигает на первое место понятие «абсолютное
знание» (фаза гностицизма), вслед за этим он говорит об
«абсолютном бытии» (онтолого-метафизический период). И наконец,
параллельный переход к мистическому этапу можно вести с известного
письма Шеллингу от 15 января 1802 г., где Фихте, применяя
апофатический метод, пишет: «Само же абсолютное есть не бытие,
но и не знание, и не тождество, или безразличие обоих, — оно есть
именно абсолютное, и всякое другое слово здесь излишне».1 Тут
перед нами снова характерная обмолвка: «именно» абсолютное, —
и всякие другие слова здесь излишни. Любые, кроме... имен! Можно
коротко перефразировать Фихте: «Само же Абсолютное есть Имя
Абсолютного». Но об Имени Фихте, осознанно или бессознательно —
это загадка, умалчивает.
Фихте оставалось сделать последний шаг от апофатической
редукции рациональной речи к молчанию (исихии), на фоне которой
возможно Имя. Но этого не случилось. Во-первых, слишком велика
была инерция говорливости; во-вторых, магия голоса Фихте почти
исключает мистику вслушивания. Поэтому Фихте окончательно
укрепился в гнозисе, со всеми вытекающими из него следствиями
докетизма, либертинизма и др. А последовательно довел эту
тенденцию до своего панлогического завершения Гегель. Поскольку
Абсолют остался безымянен, то его нельзя назвать в полной мере
личностью.
Тем не менее мы все — фихтеанцы. Говоря о Фихте, застигнутом
в момент произнесения «Я», мы говорим на самом деле о самих
себе. В «Я» происходит актуализация личности. Однако
интерпретация этого состояния может быть различной. В зависимости от
того, какой тип онтологии выбирается, меняется и отношение К
данной проблеме. Очевидно, что онтология Фихте зиждется на
предпосылках протестантизма, подразумевающих совпадение по
сущности Творца и сотворенного существа, отвержение культа,
Цит. по: Гаиденко П. П. Парадоксы свободы в учении Фихте.
С. 95-96.
КНИГА l. ГЛАВА 3. § 1 НЕМ. КЛАССИЧ. ФИЛОСОФИЯ 249
мифа, индивидуализм, аскеза и активность в миру. В конце концов,
разведение до состояния несообщимости веры и знания. В диапазоне
от радикального лютеровского фидеизма «Только верою!» через
двусмысленное кантовское «Не только верою, но и не только
знанием, но и не тем и другим вместе...» до радикального гегелевского
гностицизма «Только знанием!».
Совершенно в ином свете предстанет обсуждаемая проблема,
если принять онтологию энергетизма. Причем в данном случае
выбор происходит не от лица «Я», а каким-то иным способом. Само
«Я» в этом случае понимается не как бытийное достояние, которое,
будучи однажды достигнуто, сохраняется абсолютно
гарантированным образом. Встреча с «самостью» и совладание с «собой»
осуществляется по энергийно-синергийной схеме. Онтология, в которой
различается совпадение по сущности и совпадение по энергии,
предполагает, что через «Я» человек приобщается к Абсолюту не
сущностно, а энергийно, со всеми вытекающими отсюда
следствиями.
Фихте, начиная свою философию с «Я», подразумевает, что
человек «дошел» до «Я», закрепился в «Я» и утрат здесь быть уже
не может. Однако его личный опыт и непреодоленные трудности
в изложении принципа являются свидетельством и поручительством
в пользу онтологии энергетизма.
Сформулируем кратко положения, выдвигаемые при смене
онтологической установки в исследовании той предметной области,
которая интересовала Фихте в «Наукоучении». Катафатические,
положительные утверждения «Я есть», «Я есть Я», «Абсолют есть
Я», «Я есть Абсолют» должны уступить место апофатическим
последовательным отрицаниям того же самого. Так возникает
диалектическая схема «тезис—антитезис». Но прежде чем перейти к
синтезу, реализуя диалектический метод, необходимо
феноменологическое описание условий и особенностей этого перехода. Для
начала нужно задаться вопросом: «Кто именно есть Абсолют?».
Условия перехода от местоимения к имени таковы. Если «Я»
творится и творит из ничего, то и экзистенциальное обретение «Я»
всегда начинается «с нуля», каждый раз заново. Поэтому нужен
не только навык выучки «Я», навык памяти «Я» — исследованием
чего все время занимался Фихте, — но и искусство забвения «Я»,
способы обуздания «самости». Фихте осуществляет это в форме
критики «аффекта самостоятельности». Однако этот
методологический регулятив практически перифериен для того типа
спекулятивного философствования, где осуществляется мысль Фихте.
Таким методологическим регулятивом является «покаяние» (мета-
Нойа) — выход ума из топоса «Я» на иной уровень. О значении
Понятия «метанойа» было написано в последнем параграфе второй
главы в контексте доктрины онтологического энергетизма.
250 Ю. M. РОМАНЕНКО. БЫТИЕ И ЕСТЕСТВО
Хотя явно выраженных, отрефлектированных моментов энер-
гийной онтологии в системе Фихте не найти, но подтекст учения,
его тон, опыт жизни немецкого философа иллюстрируют и
подтверждают значимость философии энергетизма. Это дает
возможность провести компаративистский анализ двух типов опыта, двух
традиций. При всей их несравнимости и несоизмеримости по
некоторым критериям.
Доктрина православного энергетизма базируется на
аскетической практике и мистике исихазма и папамитском богословии.
Сравнительный анализ ее с фихтеанством можно начать с моментов
тождества. Во-первых, это признание персонального, без
посредников, опыта общения с Абсолютом. Во-вторых, утверждение
свободного волеизъявления. В-третьих, аскетизм в истолкованном выше
смысле, как упражнение способностей, доходящее почти до
экспериментирования .
К пунктам различия относятся: во-первых, понимание источника
цельности личности; во-вторых, неразработанность в философии
Фихте учения о даре, благодати; в-третьих, отсутствие действия
покаяния в фихтеанской психотехнике аскезы. И так далее —
остальные пункты можно восстановить по конфессиональным
различиям.
Безусловно, Фихте не исихаст, ему чуждо священнобезмолвие.
Он достаточно энергичен в своей говорливости. От звуковой стихии
активного говорения, как можно было убедиться, он трансцендирует
к зрительной стихии, освещенной имманентным светом.
Монах-исихаст, практикующий «умное делание»1 (не сравнимое
с «делом-действием» Фихте) и «умную молитву» (не сравнимую с
диалектическим дискурсом), достигая состояния внутреннего
«молчания», также совершает трансцензус к световой стихии. Но это
не отраженный и преломленный имманентный в «Я», суженный
до лазерного луча свет, а белый свет во весь объем. Это Фаворский
свет.
Философия Декарта, Канта и Фихте явилась катализатором для
утверждения местоименной онтологии. Для западноевропейской
традиции нереальной кажется возможность споров, подобных спору
об имяславии. Между тем эта установка только и делает возможным
переход от местоименной онтологии к именной. Философия вполне
может в рамках собственного предмета и метода продумать
следствия, вытекающие из догматики, и сформулировать принципы,
предназначенные для собственного потребления, как это было на-
См.: Умное делание. О молитве Иисусовой: Сборник поучений святых
Отцов и опытных ее делателей. Издание Свято-Троицкой Сергиевой лавры,
1992.
КНИГА 1. ГЛАВА 3. § 1. НЕМ. КЛАССИЧ. ФИЛОСОФИЯ 251
чато, например, у П. Флоренского и А. Лосева. Но здесь мы уже
выходим в иной большой тематический горизонт.
Вернемся к Фихте. По некоторым показателям философского
темперамента его учение тендирует, видимо, каким-то образом к
именной онтологии. Может быть, вследствие того, что даже в споре
о «Я» Фихте, в отличие от Канта, занял ортодоксальную позицию.
Для подтверждения этой гипотезы важно напоследок проследить
судьбу имени главного философского «детища» Фихте, которым он
очень дорожил.
«Наукоучение» — общее название целого комплекса
произведений Фихте, основное сочинение его жизни. В этом названии тесно
переплелись характерные идеи Нового времени: уверенность в
науке, просветительский пафос, антропоцентризм, уверенность в
прогрессе. Необходимо оговорить перевод «Wissenschaftslehre»: выбор
в пользу одного слова — «Наукоучение» — имеет свои
положительные и отрицательные стороны. При первом непредубежденном
прочтении названия сочетание слов «наука» и «учение» вызывает
многосмысленность. Возможный веер смыслов распределяется от
«Науки об учении», «Науки как учить», «Науки о науке» до
«Учения науки», «Учения о науке». Однако замысел Фихте состоит
именно в устранении различных соединительных предлогов и
дефисов между этими двумя терминами. Языковыми средствами это
выразить не удается, что создает сложность и для перевода, поэтому
к самому имени нужен комментарий. Не соответствует замыслу
Фихте и постановка одного из терминов в генетиве. Слова «наука»
и «учение» встречаются в «Наукоучении» на равных правах, и
никакое из них, по идее, не может быть первичным. Однако что-то
все-таки должно быть поставлено формально на первое место.
Предлагавшееся переводчиками «Учение о науке» грешит существенным
недостатком: здесь теряется мысль Фихте о том, что «Наукоучение»
есть учение «самой науки». «Наукоучение», вероятно, должно
читаться дважды: слева направо и, произведя инверсию, справа налево.
А в идеале, по возможности, мысль должна схватить все
словосочетание одновременно. Однако навык подобного мысленного
схватывания может появиться лишь в конце прочтения всего
произведения, когда мысль уже получила соответствующую подготовку и
тренировку. Поэтому, хотя имя выносится в начале текста, по-
настоящему оно звучит в его конце.
Смысл термина «наука» включает в себя не просто «знание» в
пассивном смысле, т. е. систему полученной и закрепленной
информации о действительности. Сама «наука» есть действительность,
действие, в соответствии с бэконовским лозунгом «знание — сила»
или в соотвествии с более поздним тезисом «наука —
производительная сила». Еще один смысловой нюанс передает в переводе
русской слово «наука», в этимоне которого подчеркнуто значение
252
Ю. M. РОМАНЕНКО. БЫТИЕ И ЕСТЕСТВО
«навыка» — не полученной в дар, а приобретенной усилием воли
новой способности естества. «Наука» как «знание» включает в себя
также элемент средневекового «гнозиса». Гностики, как известно,
квалифицировали знание как высший путь и пункт спасения.
«Знание Бога», по представлениям гностиков, есть высшее состояние
посвящения, оно одновременно является «знанием о Боге» и
«знанием самого Бога». В само «знание» включен элемент воли, которая
собственным напряженным усилием поддерживает стабильность в
этом парадоксальном вибрирующем состоянии. Затем в результате
полученного навыка при посвящении «знание» становится
«безвольным», самопроизвольным, самоподдерживающимся и
саморазвивающимся, т. е. абсолютным. Фихте внутренне усвоил все архе-
типические мотивы и дух гностицизма и развил их на новом
историческом витке. Это тем более симптоматично, поскольку Фихте
не знал философии гностиков.
Термин «учение» вызывает коннотации, связанные с идеалами
Просвещения. В классическом просветительском тексте
«Воспитание рода человеческого» Лессинга утверждается, что человечество
на определенном этапе своей эволюции окружено откровением,
воспитанием, обучением и попечительством со стороны
авторитетных высших сил. В настоящее же время человек «дозрел» до того,
чтобы самому начать себя учить. Даже если человечество не
возьмется за самообучение, рано или поздно оно дойдет до высшей
точки своего развития. Однако собственное учение способно
форсировать, ускорить наступление желанного часа. Кроме этого, тем
самым человечество оказывает «услугу» Богу, освобождая его от
забот строительства и водительства.
«Учение» предполагает непосредственный контакт «наукоучи-
теля» и инициируемого вплоть до разрушения трансцендентной
границы между ними. «Учение» есть «просвещение»,
«посвящение», «очищение», наконец, оно уже по определению тяготеет к
«преданию», «сказанию» изустному, т. е. выполняет собственно
функции мифа. Еще один гностический мотив в «Наукоучении»:
акт творения понимается как вызывание из небытия. Для того
чтобы актуализировать самое себя, «Я» необходимо спровоцировать
у другого вспышку самосознания, фиксирующуюся местоимением
первого лица единственного числа. Так происходит
мультиплицирование «Я».
«Навык учения» имеет свой методологический аспект. Если мы
научили себя главному навыку, то мы обрели панметод, который
уже гарантированно имеем. Дальнейшее получение знаний о новых
фрагментах реальности вырабатывается почти автоматически и
является делом техники (техника как результат науки давно
превратилась в автономное целое — техносферу). Методологическая
сторона «Наукоучения» явно выражена в еще одном термине-
КНИГА I. ГЛАВА 3. § 2. ХАИДЕГГЕР
253
неологизме Фихте: «дело-действие» (Tathandlvmg). «Наукоучение»
и «дело-действие» — почти синонимы. Традиционно принято
переводить «Tathandlung» как «дело-действие», хотя, например,
П. П. Гайденко предлагает перевести его в более традиционной
латинской форме как «акт-результат».
Согласно введенному Фихте диалектическому закону
«взаимосмены» «наука» есть «акт» и «результат» одновременно, равным
образом это относится и к «учению». В дальнейшем более адекватно
выразил имя указанной тенденции Гегель, главное произведение
которого — «Наука логики» — довело до своего концептуального
завершения панметодологические устремления Фихте.
Исторически комплекс текстов « Наукоучения » разбивается на
два этапа, между которыми произошел «поворот». Принцип «Я»,
утверждаемый на первом этапе, затем сменяется понятиями
«знание», «бытие», «образ», «лик», «схема» Абсолюта. Эти понятия
уже говорят не о бытии Абсолюта самого по себе, а выражают
способы проявления Абсолюта в творении. Их Фихте эксплицирует
зрительными метафорами и моделями, но не звуко-слуховыми
(именами или числами). На втором этапе Фихте даже намерен
переименовать «учение о знании» в «учение о мудрости», неуклонно
тендируя к максимальной персонификации знания. И это
окончательно сближает его с мифологией гностиков, где выведен
мифологический персонаж Софии-Ахамот, Премудрости Божией.
«Наукоучение», таким образом, ономатологически
оборачивается в «Софиологию». Под этим именем, введенным гностиком В.
Соловьевым, онтологические и метафизические проблемы решались
уже на русской философской почве у явных или скрытых
фихтеанцев. «Наукоучение» и «Софиология» являются практически
синонимами. Философия репрезентировала себя в истории под
многими именами. Список ее имен еще не закрыт.
§ 2. ХАИДЕГГЕР
Онтолингвистическое вопрошание
С «легкой руки» М. Хайдеггера стало крылатым выражение:
«Язык есть дом Бытия». Популярность ему обеспечило сочетание
простоты формы и туманной глубины содержания. Не вызывает
сомнения, что Хайдеггеру каким-то образом удалось сдвинуть в
очередной раз философию в направлении восстановления онтологии,
возобновив изначальную интуицию бытия, хотя термин
«интуиция», может быть, не совсем подходит для характеристики способа
Философствования-онтологизирования Хайдеггера. Оценка
творчества любого философа требует тщательного подбора слов и понятий.
254 Ю. M. POMaHEHKO. БЫТИЕ И ЕСТЕСТВО
выражающих его вклад в общее философское дело. Вдвойне это
относится к пониманию философии Хайдеггера, который «набил
руку» на «взвешивании» каждого слова, претендующего на
философский статус. В обволакивающем кружении вокруг каждого
философского понятия мышление ищет точку опоры, для того чтобы
определить собственный вес, понимая при этом, что вес — понятие
относительное, зависящее от ряда естественных факторов. Все
творчество Хайдеггера есть повторяющееся взвешивание опорных
онтологических понятий в стремлении найти точную единицу
измерения. Фрагменты ранних греческих философов, весьма почитаемых
Хайдеггером, разрослись в тома хайдеггеровской экзегезы и либо
заслонились тенью его истолкования, либо воссияли в своей
подлинности. На наш взгляд, и тот и другой члены этой дизъюнкции
имеют место, но в наши планы не входит повторное обмеривание
предлагаемого продукта с целью выяснить, не обвесили ли нас.
Примем за данное результаты хайдеггеровского мышления, как
если бы все, что он ни говорил, было истинным. И в первую очередь
поверим, что действительно «язык есть дом бытия». К чему это
нас приведет? Выражаясь фигурально, это приведет нас
непосредственно в дом, который построил Хайдеггер, где обитает бытие, то
ли заключенное под домашний арест, то ли нашедшее защиту от
тлетворного влияния небытия «уличного» мышления.
«Язык есть дом», следовательно, в нем есть внешнее и внутреннее
измерения, переходящие друг в друга в особых створах, которые
нужно уметь открывать и закрывать. Топология окружения языком
бытия нетривиальна, в ней есть своя изнанка, мнимые поверхности,
складки и наслоения, которые скрывают-открывают путь бытия.
На вопрос «что делает язык?», являясь домом бытия, Хайдеггер
отвечает просто: язык говорит. Ведь именно язык помог Пармениду
высказать онтологический тезис «бытие есть». Существует
своеобразный лингвистический онтологический аргумент: если язык
говорит, следовательно, бытие есть. Поэтому выделим для начала
одну из возможных установок Хайдеггера в отношении к бытию,
которую можно обозначить как специфическую дисциплину, а
именно онтолингвистику, с ее соответствующими разделами: онтосеман-
тикой, онтосинтактикой, онтопрагматикой и онтолексикой. В
анализе философии Хайдеггера нас будет интересовать прежде всего
эта сторона.
Онтология является «словом бытия» и «бытием слова», или,
впуская союзы, «словом о бытии» и «бытием в слове». Последний
комбинаторный вариант очерчивает сферу применимости онтолинг-
вистики. Онтология становится онтолингвистикой, если слово стало
языком. В чем отличие их друг от друга? Онтологически бытие
есть одно слово, и взаимообратимо — слово выражает одно бытие.
С точки зрения бытия слово едино, неделимо, неизменяемо и т. д.,
КНИГА I. ГЛАВА 3. § 2. ХАИДЕГГЕР
255
т. е. оно обладает всеми парменидовскими атрибутами. На фоне
небытия слово становится языком — многообразно
растиражированным, рассеявшимся словом. Под знаком категории творения
язык начинает творчески действовать, т. е. говорить, но уже не о
бытии как таковом, о об отношении бытия и небытия. Если языку
удается в своем бесконечном говорении воспроизвести звучаще-
молчащую границу между бытием и небытием, значит, язык
построил акустический дом для бытия. Подвержен ли этот дом
разрушению? Это второй большой вопрос. Сейчас достаточно того,
чтобы было хотя бы какое-то жилище для временного пристанища.
Хайдеггер соорудил многокомнатное строение. Воспользуемся его
приглашением и, соблюдая все гостевые приличия, попробуем
освоиться в некоторых помещениях, чтобы перенять опыт
проектирования, исполнения и потребления тех благ, которые предоставляет
дом. Следует помнить, что в «Доме Отца Небесного обителей много»,
и мы сейчас, может быть, находимся в одной из них, не обязательно
предназначенной специально для нас. Следует также помнить, что
в каждом доме есть свой домовой, и его дух нужно предварительно
задобрить. Жилище является глубинным символом человеческого
существования, и не случайно один подвижник «умной молитвы»
задолго до Хайдеггера говорил, что келья всему научает.
Всякий дом начинают строить с фундамента. Так и Хайдеггер
намерен создать некую «фундаментальную онтологию» в замысле
своего знаменитого трактата «Бытие и время». Фундамент
необходим для того, чтобы скрепить основания и послужить опорой для
возведения несущих конструкций. Материалом для выкладки
фундамента, как мы уже знаем, являются слова языка. Способом
строительства является наложение слов друг на друга, подгонка
их друг под друга и склеивание для прочности. Больше ничего не
дано. Слипание слов должно быть естественным, поэтому для
строительства необходимо знать закономерности «естества», но мы
обращаем сейчас внимание только на онтологический аспект
созидания.
Вообще философствовать можно по разным моделям: как будто
путешествуешь, как будто ведешь торг, как будто играешь в футбол,
как будто занимаешься любовью, как будто воюешь, как будто
лечишься, как будто готовишь пищу и т. п. Если нет хотя бы
какого-нибудь жизненного опыта ведения подобных дел, то нет и
возможности для опыта философствования, хотя, как правило,
философский метод и не сводится к какой-либо одной из моделей,
а является их сочетанием и чередованием. Любопытно было бы
создать философский паноптикум, где демонстрировались бы
классические фигуры философа-танцора (с набором соответствующих
па), философа-торгаша (задешево купившего понятие, слегка под-
реставрировавшего его в интерпретации, а затем продавшего по
256 Ю. M. РОМАНЕНКО. БЫТИЕ И ЕСТЕСТВО
завышенной цене), философа-эротомана (допуск к осмотру с
возрастным ограничением), философа-едока (только гурмански
поглощающего философемы, но не генерирующего их — таковым
является большинство из нас, но это тоже философское состояние, пусть
и пассивно-потребительское) и др. Поставить на каждой фигуре
этого паноптикума конкретное имя не составит особого труда.
Начать можно с идентификации философа-танцора с именем Ницше.
Сейчас мы в качестве подмастерьев Хайдеггера строим дом.
Не башню, не стену, не котлован, а именно дом. Хайдеггер не
случайно сказал, что язык есть дом бытия, а не, скажем, башня
бытия. Это отослало бы нас к символу Вавилона. В отличие от
строителей Вавилонской башни, Хайдеггер является «невольным
каменщиком», строителем по необходимости, а не по
произвольности. Хотя «камни» используются одни и те же — размноженное
в языке слово.
Представляется, что человеку пристало строить дом, а не башню.
Но узнал он об этом только тогда, когда башня уже была разрушена.
В этом негативном результате было и позитивное приобретение.
Строителям остались даровые обломки, которые необходимо
очистить от пыли времени и найти способ правильной пригонки друг
к другу. Этимологизирование служит первоначальной подготовкой
слова-первокирпичика к тому, чтобы оно могло соединиться с
другим словом.
Итак, чтобы начать строить, первым делом нужно приобрести
материал. Частично он всегда есть под рукой — «подручно», как
выражается Хайдеггер. Но не обязательно под рукой у строителя,
а зачастую в руках у перекупщика, который заламывает
завышенную цену. Приходится вести торг и, чтобы сбить цену, порочить
товар методом скептическо-критической деконструкции. Поневоле
философу приходится заниматься спекуляцией. Научиться этому
можно, например, у Гегеля, который, как известно, спекулировал
понятием на философском торжище. (Слова «торговать» и
«торжествовать» имеют один корень.1)
Хайдеггер не изобрел основные онтологические понятия, т. е.
не сотворил их из небытия. Они предданы ему традицией, истоки
которой теряются в тумане необратимого прошлого. Но он берет
на себя смелость использовать их, заимствуя напрокат, в надежде
расплатиться в дальнейшем, когда будет получена прибыль в виде
построенного дома.
Итак, нужно включиться в говорение и для начала хотя бы
что-то сказать слушающим. Но вот оказывается, что когда мы
начинаем рефлексировать над актом речи, становится понятно, что
1 Фасмср М. Этимологический словарь русского языка: В 4-х т. Т. 4.
СПб., 1996. С. 82-83.
КНИГА I. ГЛАВА 3. § 2. ХАЙДЕГГЕР 257
ничего сказать невозможно. Все, что можно было сказать, уже
сказано, и в лучшем случае остается повторить по-новому прежде
произнесенное. Мышлению Хайдеггера чужд прогрессизм. Если
бытие есть, то оно есть всегда, во всех философических
высказываниях, даже если специально над этим не задумываются. Вопрос
о бытии инвариантно присутствует в умах и на устах у философов,
и каждый из них встраивается в когорту себе подобных, однажды
задав этот вопрос.
Вопрошание есть один из излюбленных методических приемов
Хайдеггера, одновременно являясь стилевой особенностью его
письма. Язык говорит в пределах напряжения, задаваемого полюсами
вопроса и ответа. Хайдеггеровское вопрошание — это не просьба,
не приказ, не требование, не мольба. Вопрос есть ожидание
подключения к источнику энергетического питания. Или попросту,
вопрошание — это зов, откуда бы он ни исходил. Зов является
манифестацией бытия, и поскольку человек каким-то образом
принадлежит бытию, то зов является сущностным определением
человека. «В той же мере, в какой бытие обращает призыв к человеку,
взывает и человек...»1
Однако на всякий вопрос есть не только ответ, но и контрвопрос:
если мы признаем, что человек вынужден выступить в зону
предельного вопрошания, являющегося последней его возможностью,
то не попадаем ли мы в вопросительную ловушку, заставляющую
нас все спрашивать и спрашивать, упиваясь самим процессом
вопрошания и даже уже не собираясь услышать ответ. Ведь по
определению, во всяком вопросе, правильно поставленном,
находится свой ответ или хотя бы половина ответа. В зове слышится
вопрошание, отклик ответствует. «Неважно, где и как мы
встречаемся с сущим, но тождество окликает нас. Не будь этого окли-
кания, сущее никогда бы не явилось в своем бытии».2
Что случается, если на вопрос получен ответ?
Взаимоустраняются ли они, размыкая энергетическую сеть говорящего языка?
По всей видимости, да. В. В. Бибихин, переводчик и толкователь
хайдеггеровских текстов на русском языке, считает, что «собственно
дело Хайдеггера по-настоящему не просто спрашивание».3 В самом
Деле, язык — необходимое, но недостаточное условие узнавания
того, что бытие есть. Проблема бытия находится в сфере
компетенции мышления. «Собственное дело мысли — не вопрос, пусть
даже самый неотступный. Собственное дело мысли — это дело,
Хайдеггер М. Закон тождества / / Хайдеггер М. Разговор на
проселочной дороге. М., 1991. С. 76.
" Там же. С. 71.
"' Бибихин В. В. Дело Хайдеггера ■ / Философия Мартина Хайдеггера
и современность. М., 1991. С. 168.
258 Ю. M. РОМЛНЕНКО. БЫТИЕ И ЕСТЕСТВО
поступок, который не столько делает сам человек; который скорее
впервые делает человека участником того, в чем он только и может
осуществиться как человек, — участником события, в начале
которого всегда лежит простейшее событие мира».1
Соотношение языка и мышления заключается не в том, что
первый — это форма, а второе — содержание. Может быть так,
что все случается наоборот. Мышление выражает себя не только
во множественном языке, но и в одном слове. Входить и пребывать
в области всеединства слова-языка можно дважды: через единое
слово и через языковое многообразие. Вес того и другого одинаков.
Язык спрашивает, слово отвечает. В сфере этой вопросо-ответной
синергии живет мысль, которая, согласно парменидовскому тезису,
есть само бытие. Вопрошание необходимо, чтобы вопрошающего
посетила мысль бытия. Тогда уже не нужны усилия языка, чтобы
сформулировать вопрос: само бытие начинает говорить.
«Осмысление требуется как то со-ответствие, которое забывается в ясности
неотступного вопрошания, отдавая себя неисчерпаемости того, о
чем стоит спрашивать и благодаря чему со-ответствие в урочный
час, в момент события теряет характер спрашивания и становится
простым сказом».2
Таким образом, кроме бытия есть еще со-бытие, о котором также
немало рассуждает Хайдеггер. Переведем термин «со-бытие» на
язык синергийной динамики: со-бытие и есть син-ергия. Энергия
вопроса и энергия ответа умиротворили друг друга и излились в
новую форму бытования — сказ. О нем мы немало рассуждали
раньше, и в настоящий момент определяем его в контексте хай-
деггеровской философии.
По Хайдеггеру, сказ проявляет себя в языке в форме
тавтологии — слова о том же самом, о самотождественном, т. е. о бытии.
Хайдеггер-ответчик собрал большую коллекцию таких тавтологий:
бытие бытийствует, ничто ничтожествует, время временится, мир
мирует, почва почвует, свет светит, язык говорит и т. д.
Вопрошающий ожидает получить ответ в форме тавтологии. Например,
ответ на фундаментальный онтологичесий вопрос о бытии сущего
Хайдеггер формулирует таким загадочным тавтологическим
способом: «Ответ на этот вопрос, который до сих пор не был поставлен
из-за того, что он слишком прост, звучит так: бытие сущего означает
присутствие присутствующего, наличие наличествующего. Этот
ответ — прыжок в неизвестное».3
1 Бибихин В. В. Дело Хайдеггера. С. 169.
2 Там же. С. 171.
3 Хайдеггер М. Что значит мыслить? / ■' Хайдеггер М. Разговор на
проселочной дороге. С. 143.
КНИГА I. ГЛАВА 3. § 2. ХАИДЕГГЕР
259
Еще один пример тавтологического ответа. На вопрос: «каким
способом существует вещь?» — Хайдеггер отвечает: «Вещь веще-
ствует». И далее конкретизирует эту тавтологию: «Веществование
собирает. Давая сбыться четверице, оно собирает ее пре-бывание в
нечто присутствующее: в эту вот, в ту вещь».1 Таким образом,
тавтология «вещь веществует» является языковым аналогом
указующего и касающегося перста к «этой вот вещи». А если быть
совсем точным — к «именно этой вещи». Тавтология выявляет
потенциал имени в слове. Хайдеггер как бы пытается пригласить
читающего и слушающего держать и пользовать мысленно вещь.
Тавтология взывает к опыту, к персональному испытыванию. «Речь
о том, что надо попросту испытать, т. е. обратиться к тому
Собственному... что мы называем Событие (Ereignis). Слово "Событие"
выросло из органичности языка».2
Сказ — это уже не говорящий язык, а слово бытия, однако не
только в ипостаси Логоса, который, в истолковании Хайдеггера,
со-бирает рассеивающиеся слова. У Логоса есть близнец — Мифос,
и оба свидетельствуют о своем родителе — целостном мышлении
целостного мира. В. В. Бибихин напоминает: «Мир-целое, мир-
согласие, мир-покой — это первое дело мысли и вместе то, что она
куда-то дела, не успев запомнить, куда и как она его дела, или
куда он девался, целый мир, — тот, с которым в своем младенчестве
мысль вела беседу, когда она была еще мифом. Наш язык снова
здесь с нами. Мысль — то же слово, что греческое цйбос, цибеоцод —
миф. Об этом мы имели, конечно, право забыть. Но мы не имели
права забыть, — без того, чтобы многим заплатить за
забывчивость, — другое: что мысль в своем начале имеет дело с целым
миром, что она в своем начале сама же и есть мир как целое: миф.
Мысль между тем успела стать сознанием и пренебрежительно
оттолкнула от себя миф — сама себя, свое начало. Мы уверенно
говорим: "Становление философии происходит в борьбе мысли
против мифа". Мы не задумываемся, что мысль сделала этой своей
борьбой с мифом, с собственным началом».3
Русское слово «мысль» этимологически, действительно,
коренится в греческом слове «мифос». Русский язык для чего-то
сохранил эту связь. Иначе обстоит дело с немецким языком, в доме
которого расположилась бытийная мысль Хайдеггера. Между тем,
по оценке многих хайдеггероведов, язык позднего Хайдеггера ми-
фопоэтичен. Сам по себе миф в своем начале естествен, и Хайдеггер
хочет вернуть языку эту выразительную спонтанность мифа, но,
1 Хайдеггер М. Вещь // Историко-философский ежегодник'89. М.,
1989. С. 275.
" Хайдеггер М. Закон тождества. С. 76-77.
,! Бибихин В. В. Дело Хайдеггера. С. 169 170.
260 Ю. M. РОМАНЕНКО. БЫТИЕ И ЕСТЕСТВО
оставаясь в пределах механизированного языка, делать это крайне
тяжело. Может быть, поэтому и в хайдеггеровских текстах
чувствуется тяжесть. Это, по всей видимости, родовая особенность гер-
маноязычной философии. Как выразился один немецкий философ,
от чтения философских трактатов должна появляться головная
боль. Ницше — одно из редких исключений этой традиции, лишний
раз подтверждающее общее правило. От письма Ницше болит голова
не у читателя, а у самого автора.
Подобным образом в сторону мифа истолковывает путь
мышления Хайдеггера В. В. Бибихин. Особенность транслирующего
механизма (или организма) каждого языка такова, что он избирательно
усиливает или заглушает те или иные моменты единой для всех
языков мысли. «Язык философии» — это одна из коренных проблем,
которой В. В. Бибихин посвящает особое исследование под
одноименным названием. Как есть дисциплина «философия языка»,
так существует особая тематическая область «язык философии».
В. В. Бибихин, по всей видимости, освещает эту проблему на
пересечении наследий двух выдающихся философов XX в. — М.
Хайдеггера и А. Лосева. Мы выбираем в творчестве Хайдеггера то, что
онтологически нам сродни, в притягивающе-отталкивающем
держании устанавливая дистанцию к хайдеггеровской философии.
Несмотря на распространенное мнение внешних наблюдателей,
что Хайдеггер мифотворствует, он сам, скорее, этого не признал
бы, ибо к мифу у него иное отношение, чем у А. Лосева, который
прямо отождествляет философию и миф в некоей избранной точке.
В этом существенное разногласие двух философов, вызванное,
наверное, принадлежностью к разным языковым традициям. Свой
метод Хайдеггер называет не мифом, но и не логикой, а неким
«новым мышлением». Мышление, если это действительно
мышление, всегда ново, обновляюще.
Вслушиваясь в голос бытия, звучащего в изречении Анакси-
мандра, и ретранслируя его, Хайдеггер пишет: «Призвание бытия,
рекущего в этих словах, определяет философию в ее существе.
Философия не происходит от мифа. Она про-ис-ходит лишь из
мышления в мышление. Но мышление есть мышление бытия.
Мышление не про-ис-ходит. Оно есть, коль скоро существует бытие.
Однако падение мышления в науки и в веру — вот злая судьба
бытия».1
По мнению Хайдеггера, философия не происходит из мифа, она
есть оборачивание мышления на самое себя; но разве это не есть
сам миф, в котором оборотничество является ведущим мотивом?
Согласно Хайдеггеру, если мышление недооборотилось к себе, оста-
1 Хайдеггер М. Изречение Анаксимандра ,■■''/ Разговор на проселочной
дороге. С. 52.
КНИГА J. ГЛАВА 3. § 2. X АИДЕ Г ГЕР
261
новилось на фазе науки или религии, то это его «алая судьба». Но
данная оценка через слово «судьба» также есть очевидный симптом
наличия мифа в рассуждениях Хайдеггера. Он не отождествляет
мышление и миф, как это делает А. Лосев, поскольку немецкий
язык, кажется, не дает для этого предпосылок. Но ведь греческий
язык, очевидно, этого прямо требует, а Хайдеггер претендует на
аутентичное его прослушивание и проговаривание.
Когда Хайдеггер возводит язык к «простому сказу», на наш
взгляд, он окончательно признает тождество Мифоса и Логоса,
двуединство которых свидетельствует о том, что мышление может
адекватно выразить себя в сказании: мысль бытия и слово бытия —
это одно и то же, тавтология. Хайдеггер цитирует по этому поводу
Лессинга, который утверждал: «Речь может выразить все, что мы
мыслим толково».1
Проблема отношения мышления и языка — одна из сложнейших
в философии. Ее подпроблемой является перевод с одного языка
на другой. Языки лишь частично высказывают мысль, ибо они
национальны, а мысль вненациональна. Пока говорит один язык,
мысль всегда будет под вопросом: она будет в доме, но взаперти.
Неявленность мысли констатирует известное изречение Хайдеггера:
«Мы мыслим еще не в собственном смысле слова. Поэтому мы
спрашиваем: что значит мыслить?» Это — одна из откровенных
формулировок онтолингвистического вопрошания. Из дома, какой
бы он ни был удобный и крепкий, периодически нужно выходить
на волю.
Но что такое мышление в понимании Хайдеггера? Мышление
есть дело философии, но последняя не всегда соответствует своему
призванию. Мышление не спрашивает, а просто мыслит.
Позволительно тавтологически спросить: «Что мыслит мышление?»
Хайдеггер рассуждает: «Этот вопрос мыслится как допускающий много
блужданий вокруг своей сущности и поэтому в силу своей
многозначности еще недостаточно отшлифованный, вопрос о бытии
сущего. Мышление о бытии, из которого изначально возник такой
вопрос, начиная с Платона, понимается как "философия", а позднее
называется "метафизикой"».2 Мышление о бытии меняет имена,
как маски, когда начинает блуждать вокруг своей сущности. Даже
имя «философия» заподозрено как последний, но все же псевдоним.
Вступление мышления на путь метафизики является
своеобразным его грехопадением — разделением мира на субъект и объект
и рассеяние бытия на множественность сущего. Такова судьба
западной философии. Хайдеггер хочет преодолеть метафизику
переименованием философии в «фундаментальную онтологию», но в
1 Там же. С. 42.
" Хайдеггер М. О сущности истины // Там же. С. 25.
262 К). M. РОМАНЕНКО. БЫТИЕ И ЕСТЕСТВО
конце концов отказывается и от этого термина, предпочитая
говорить просто о некоем чаемом «новом мышлении».
В традиционной гносеологии, вырастающей из метафизической
философской установки, мышление ставится наряду, после или над
чувственностью. Промежуточной инстанцией между ними является
способность продуктивного воображения. Хайдеггер, как
кропотливый исследователь истории философии, прекрасно разбирается в
структуре познавательного трансцендентального субъекта и, в
частности, истолковывая кантовскую философию, выделяет в ней в
качестве ведущей способность продуктивного воображения
(схематизм чистых рассудочных понятий). Однако о чувственности, или,
как мы развиваем эту тему, о чутье, Хайдеггер говорит весьма
неопределенно.
Как соотносятся чувства и мышление в хайдеггеровской
философии? Посмотрим, как решают этот вопрос некоторые
истолкователи Хайдеггера, гипотетически выговаривая за него то, что он
сделал, вероятно, фигурой умолчания или туманного намека.
Известно, например, настойчивое сравнение Хайдеггером «мышления
бытия» со вслушиванием в «голос бытия». В. А. Подорога пишет:
«Каков же строй размышлений Хайдеггера о том, что является
"слушанием", как можно вслушиваться в "беззвучный голос
бытия"? ... То, что слушаемо, слушается не ухом... Слышимой должна
быть сама вещность вещи, иначе мы ничего не слышим».1
В уникальном сочетании чувств, в их фигурном переплетении
возникает мышление. Мышление парит в трансцензусе между
чувствами, и в этом парящем сновании конструирует свои диссипа-
тивные структуры. У Хайдеггера на этот счет есть мифический
образ. Он пишет: «Мыслить Событие как Co-бытие, значит доводить
до строения мерцающее в себе царство. Материал для самосозидания
этого парящего строения мышление берет из языка. Ибо речь есть
наиболее нежное и восприимчивое всепроникающее вибрирование
в парящем здании сбывающегося. Поскольку наша сущность
обособилась (vereignet) в языке, мы обитаем в Событии».2 Чем не
«воздушный замок» нарисовал здесь Хайдеггер.
Чувства чувствуют ритм и напор становящегося изменения вещи;
мышление мыслит ее самотождественность. Хайдеггер
недвусмысленно говорит о трансцензусе, скачке мышления, возвращающегося
к себе и в этом возвращении увлекающего, отклоняющего за собой
чувства. «Дело именно в том, — указывает Хайдеггер, — что это
возвращение нуждается в скачке, для которого пришло время,
1 Подорога В. A. Erectio: Гео-логия языка и философствование М.
Хайдеггера // Философия Мартина Хайдеггера и современность. М., 1991. С.
110-111.
2 Хайдеггер М. Закон тождества. С. 77.
КНИГА I. ГЛАВА 3. § 2. ХАЙДЕГРЕР 263
время мышления, отличное от исчисления, которое сегодня
отовсюду протискивается в наше мышление».1
В. А. Подорога рассматривает этот трансцензус, имея в виду
границу между чувствами в их отношении друг к другу, с одной
стороны, и между единой сферой чувственности и мышлением —
с другой стороны. Он пишет: «На первый взгляд Хайдеггер,
казалось, не стремится противопоставить зрение слуху, видение
слышанию... Можно слушать, но не слышать, можно смотреть, но не
видеть. Другими словами, для Хайдеггера и слушание, и видение
являются внечувственными феноменами и скорее входят в качестве
квазичувственных условий в мыслительные структуры. Мышление
в хайдеггеровском понимании — это то, что способно слушая видеть
и видеть слушая... Но здесь нет ничего похожего на синестетический
эффект».2 В. А. Подороге не хочится определять этот скачок чувств
в мышление как «синестетический эффект», чтобы не впасть, по-
видимому, в тенденцию психологизирования мышления, с чем
боролась трансцендентальная феноменология. Хотя ничего зазорного
в этом нет: «син-айстезис» есть иное выражение «син-ергии»: в
этом термине можно сформулировать определение мышления как
синергийно-энергийную динамику чутья.
Проблема усложняется, если между чувствами и мышлением
вклинивается язык, через структуры которого в преломлении
доносится чистый «голос бытия». В. А. Подорога пишет:
«Действительно, спросим себя, повторяя неустанные вопрошания
Хайдеггера, — как можно услышать "голос бытия", который является
беззвучным, погруженным в глубокое молчание? Мы услышим его,
если сможем принадлежать языку, на котором говорит бытие
сущего. Царь Эдип услышал "голос бытия", прозрел для подлинного
видения, когда потерял зрение. Под видением и слушанием
Хайдеггер понимает нечто подобное зрячей слепоте царя Эдипа. "Голос
бытия" слышим нам лишь тогда, когда мы причастны его молчанию.
Другими словами, мы должны быть настолько пассивны (глухи и
незрячи), чтобы позволить языку говорить с самим собой без всякого
вмешательства с нашей стороны».3 Так иногда бывает: когда,
насильно заставив себя говорить, мы увлекаемся темой, в которой
что-то разумеем, и в какой-то момент слова сами начинают
появляться из какой-то тишины и, перекликаясь, ладно следовать друг
за другом. Как бы со стороны любуясь в такие мгновения живой
стихийностью языка, мы начинаем догадываться, что такое «язык
говорит», по Хайдеггеру.
1 Там же. С. 79.
2 Подорога В. A. Erectio... С. 111.
,! Там же.
264
К). M. РОМАН EH КО. БЫТИЕ И ЕСТЕСТВО
Всякий трансценаус уникален и персонален. Язык же как
средство и орудие коммуникации всеобщ. В его функции входит
невыполнимое: сделать общим достоянием единичное событие. В этом
состоит противоречие, внутренне толкающее язык к развитию.
Философ волен заниматься словотворчеством, если границы языка его
уже не устраивают. Хайдеггеру приходилось неоднократно
заниматься таким полузаконным делом, получая упреки от стражей
языка — филологов.
Напряжение языку придает несовместимость эгоцентризма и
интерсубъективизма. X. Брункхорст точно фиксирует трансцензус
в мышлении Хайдеггера. Не симпатизируя эгоцентризму последнего
и поэтому несколько иронизируя, он пишет: «...лишь одинокое ухо
мыслителя может внять беззвучному голосу Бытия, сообщающему
об этом даре. "Ответ человека есть отзвук на беззвучный голос
Бытия", — писал Хайдеггер о собственном, изначальном мышлении
в составленном им в 1943 г. послесловии к Фрейбургской
вступительной лекции. Из платоновского зеркала природы появилось ухо
Бытия, на место старой теории рефлексии заступила эхо-теория
истины. Осталась, правда, теория корреспонденции. Ухо
соответствует Бытию. Отзвук человеческого голоса точно корреспондирует
в своем "зависимом" соответствии беззвучному голосу высших сфер,
Хайдеггер лишь заменил оптическую метафору на акустическую».1
Эта характеристика Брункхорста переводит разговор в плоскость
мифа, генерирующего эмоции.
Брункхорст, испытывая антипатию к герметизму Хайдеггера,
выдвигает в его адрес следующее обвинение: «Заменив платоновский
глаз собственным ухом, что должно было обеспечить ему
привилегированный доступ к истине, Мартин Хайдеггер, этот гениальный
критик новоевропейского эгоцентризма, еще более впал в
изначальный эгоцентризм европейского первоначала».2 Логически это
обвинение никуда не годится: сами посылки этого квазисиллогизма
Брункхорста скрыты от слушателей. Обвинить кого-либо в
эгоцентризме может только такой же эгоцентрист. О вкусах не спорят,
потому что в рот другому не заглянешь — вкушение плода всегда
тайно. Брункхорст же хочет заглянуть в ухо Хайдеггера, но ничего,
естественно, не увидев, начинает упрекать последнего в
эгоцентризме. Чтобы спор (дележ пищи) состоялся, необходимо ее всеобщее
обозрение и пустые, говорящие рты. Философы всегда спорят по
поводу истины, порой не в силах сдержать эмоции, как бы они ни
блокировались.
1 Брункхорст X. Эгоцентризм в эпоху картины мира. Хайдеггер,
Вебер и Пиаже // Философия Мартина Хайдеггера и современность. М.,
1991. С. 90.
2 Там же.
КНИГА I. ГЛАВА 3. § 2. ХА11ДЕГГЕР
265
Кстати сказать, вечную философскую проблему истины Хайдег-
гер, уже отвоевавший себе право на персональность и скрытность
вкушения, увязывает с открываемостью тайны. Ему самому
становится тесно в преждесказанном, и потому он стремится открыться.
В этом движении навстречу Хайдеггеру идет греческий язык, в
котором истина обозначается словом «алетейя». В прямом переводе
алетейя понимается как несокрытость, непотаенность, незабвен-
ность. В истине открывается присутствие бытия. Более того, в
истине наличествует вся онтологическая триада «бытие—ничто—
творение». Рассмотрим вкратце, что Хайдеггер говорит по поводу
каждого члена триады.
Радикальную постановку вопроса о смысле бытия Хайдеггер
предпринимает в трактате «Бытие и время». Он отказывается
представлять бытие как общее понятие, усматривая в таком
представлении рецидив метафизического дискурса. Наиболее общим
понятием, в содержании которого безразлично объединялось бы все
существующее, является, скорее, понятие «сущее», которое
Хайдеггер отличает от понятия «бытие». Бытие трансцендентно сущему,
но без первого второе не смогло бы актуализироваться во всеединстве
мира. Среди многообразия сущего находится такое сущее, которое
способно поставить вопрос о самом бытии.
Вопрошание есть особый способ отношения к бытию. Но
поскольку бытие трансцендентно сущему (трансцендентность
выражается в беззвучном голосе бытия), то выход находится в том,
чтобы, замолчав о самом бытии, обратить внимание на бытие сущего,
которое вопрошает о бытии. Этим особым сущим является сам
человек, онтологическая определенность которого Хайдеггер
выражает понятием Dasein, взятым из немецкого языка и закрепленным
терминологически. Это слово переводится по-разному: вот-бытие,
здесь-бытие, присутствие, иногда оно терминологически оставляется
без перевода в форме немецкого оригинального написания.
Dasein, как одно из сущих, существующее среди других сущих,
репрезентирует или, лучше сказать, презентует бытие (от лат.
praesentia — присутствие; греч. лссрогхтш, нем. Anwessen). В слове
praesentia сложено два смысла: момент настоящего и дар. Хайдеггер
пишет: «Такое сущее, которое мы сами есмы и которое между
прочим обладает бытийной возможностью вопрошать, мы
терминологически схватываем как здесьбытие... Этому сущему своебытно
то, что вместе с его бытием и через его бытие само бытие раскрыто
для него. Понимание бытия само есть определенность здесьбытия
бытием. Онтически отличительная черта здесьбытия в том, что оно
онтологично».1 Dasein есть практически то же самое, что экзистен-
1 Хайдеггер М. Работы и размышления разных лет. М., 1993. С. 318
(прим.).
266 Ю. M. РОМАНЕНКО. БЫТИЕ И ЕСТЕСТВО
ция, но без ее метафизического коррелята — эссенции. Единое
бытие развоплощается в Dasein на множество. По Хайдеггеру,
«бытие в мире здесьбытия искони рассеяно или даже размельчено ...
на определенные способы внутрибытия».1
Как видим, отношение бытия и сущего рассматривается Хай-
деггером под знаком понятия «всеединство». С одной стороны,
бытие, по Хайдеггеру, трансцендентно сущему: «бытие — это ничто
из сущего».2 Так впервые из отношения бытия и сущего выделяется
категория «ничто». С другой стороны, бытие, согласно Хайдеггеру,
присутствует в сущем, когда последнее есть Dasein, т. е. человек
в его мировой жизни. Таким образом, Хайдеггер начинает с
установления онтической области сущего, анализ которой в
экзистенциальной аналитике здесьбытия должен привести к трансцендиро-
ванию к бытию как таковому, являющемуся уже предметом
фундаментальной онтологии. Область сущего должна быть рассмотрена
в свете всеединства. Хайдеггер пишет: «Речь идет об ôvtcc, в
буквальном переводе là ôvtcx означает: сущее. Этот плюралис среднего
рода называет та rcoWiû — некое множество в смысле
множественности сущего. Однако та ôvtoc означает не любую или безграничную
множественность, но та tovtcx, всецелостность сущего. Поэтому та
övtcc означает множественно сущее в целом».а Бытие — едино,
сущее — единично. Сущее существует в вещном и личностном
планах. Однако, по Хайдеггеру, «к сущему принадлежат не только
вещи. Вещи не суть вовсе — только естественные вещи. И люди,
и людьми произведенные вещи, человеческим действием или
попустительством заведенные установления или произведенные
обстоятельства также принадлежат к сущему. Также к сущему
принадлежат и демонические и божеские вещи. Все это не только тоже
сущее, но это и более сущее, нежели просто вещи».'1
Небытие есть внутри всеединства бытия-сущего. Хайдеггер
пишет: «Но коль скоро та övtcc означает "сущее", a eivcci не что иное,
как бытие, то не существуем ли мы поверх любой пропасти и, при
всей несходности веков, в области того же самого, что и ранние
мыслители? В этом нас заверяет перевод та övtcc и eivcxi через
"сущее" и "бытие"».5 Сущее находится между бытием и небытием,
поэтому способом его существования является временность. С точки
зрения сущего, бытие и время могут быть поставлены на одном
уровне трансценденции, ибо только во временном изживании своего
1 Подорога В. A. Erectio... С. 318.
2 Хайдеггер М. Время и бытие // Хайдеггер М. Разговор на проселочной
дороге. С. 86.
3 Хайдеггер М. Изречение Анаксимандра. С. 35.
4 Там же.
5 Там же. С. 37.
КНИГА l. ГЛАВА 3. § 2. ХАЙДЕГГЕР 267
существования сущее сталкивается с бытием. Человек волен
наполнить время, в котором он существует, собственным творчеством,
тогда-то он и встречается с бытием.
Так у Хайдеггера созрел грандиозный план трактата «Бытие и
время», которому, правда, не суждено было исполниться до конца.
Автор сам признавался в неудаче замысла, считая, что исполнению
помешал метафизический язык изложения. Уже в период
публикации «Бытия и времени» у Хайдеггера, вероятно, назревает
переворот (или поворот — Kehre). Основная задача «Бытия и времени»
состояла в кардинальной постановке вопроса о бытии. Но и в
дальнейшем Хайдеггер в очередной раз задавался вопрошаниями:
«Есть ли у нас сегодня ответ на вопрос, что мы на самом деле
понимаем под словом "бытие"? Нет. Поэтому так нужно, чтобы мы
снова подняли вопрос о смысле бытия... прежде всего необходимо
пробудить понимание смысла этого вопроса. Моей задачей и будет
поставить вопрос о смысле бытия и поставить его конкретно».1
Неудача первоначального замысла построить «фундаментальную
онтологию», по всей видимости, связана с тем, что Хайдеггер идет
к бытию от сущего. Основным препятствием на этом пути,
заставляющим путника остановиться и закружиться в одной точке,
является категория всеединства. На ней замыкаться нельзя, хотя в
этом есть большой искус. Поэтому Хайдеггер производит инверсию,
меняя местами слова в названии: от темы «бытие и время» он
оборачивается к проблеме «время и бытие». Если на первом этапе
основополагающим было различие бытия и сущего («забвение бытия
есть забвение различия бытия и сущего»2), то на втором этапе это
различие рассматривается с другой стороны. Хайдеггер пишет:
«Речь будет идти о попытке мыслить бытие, не принимая во
внимание обоснование бытия сущим. Эта попытка — мыслить бытие
без сущего — становится необходимой, так как иначе ... нельзя
определить отношение людей к тому, что до сих пор называлось
"бытием"».3
Таким образом, Хайдеггер, с одной стороны, говорит о бытии
как о ничто из сущего, о бытии без сущего, но, с другой стороны,
о возможности бытия в сущем. Для разрешения этого противоречия
требуется особый метод: найти внутри всеединства сущего
скрепляющую силу бытия. Неважно, какое сущее берется — в любом
присутствует бытие: «присутствие обнаруживает себя как ev, все
единящее единственное одно, как Xôyoq, все охраняющее собирание;
как i5écx, F.vépTFicx, substantia, actualitas, perceptio, монада; как
предметность, как положение самополагания в смысле воли разума.
Хайдеггер М. Разговор на проселочной дороге. С. 179 (прим.).
2 Он же. Изречение Анаксимандра. С. 62.
3 Он же. Время и бытие. С. 81.
268 Ю. M. РОМАНЕНКО. БЫТИЕ И ЕСТЕСТВО
воли любви, воли духа, воли власти; как воля к воле в вечном
возвращении одного и того же».'
Энергийность бытия обнаруживается как способность быть,
одновременно бытие воспринимается как дар. «Мочь бытие означает:
выдать бытие и дать его. В есга скрывается "дано"».2 Следующим
шагом будет вопрошание о ктойности: кто ниспосылает бытие как
дар? Ответ Хайдеггера неопределенен и вместоименен: дарит бытие
Это (Es). Хайдеггер пишет: «История бытия означает ниспосылание
бытия, в котором как посыл, так и Это (Es), которое посылает,
удерживает в себе свое проявление».3 Очередь подходит вопросу:
«Но как следует мыслить это Это (Es), которое дает бытие?»4 Ответ
на этот вопрос находится в данности временности. Жест указывания
(Это) располагается во времени.
Во времени срастворены бытие и небытие. Время есть длящееся
присутствие со-бытия бытия и небытия. Момент узнавания во
времени бытия как дара внезапен и однократен. Мы снова встречаемся
с платоновским моментом «вдруг» и его аристотелевским
эквивалентом — моментом «теперь». Этот момент настоящего разделяет
единый темпоральный поток на меонические модусы прошлого и
будущего. А в целом три временных модуса определяют покоящуюся
структуру времени. Хайдеггер напоминает: «Уже Аристотель
говорит: то, что от времени есть, т. е. присутствует, это "теперь" сия
секунды. Прошедшее и будущее — это це ôvxi — нечто
несуществующее, правда, не просто ничто, а скорее присутствующее, которому
чего-то недостает, и этот недостаток называется с помощью "уже-
более-не" и "пока-еще-не-теперь"».° Именно в этот момент
воспринимается дар.
Оплотнение бытия в его отрешенности от небытия возможно в
моменте «вдруг», длящемся внутри себя: «благодаря задержанию
настоящего, проявляется тот род просвета простирания, который
дает все присутствие в открытое».6 Если такое пролонгирование
удается, то это означает что дар присваивается. Но что такое
присвоение? В ответе на этот вопрос Хайдеггер верен себе: он
окончательно ставит точку, отделываясь следующей тавтологией:
«Присвоение присваивает. Этим мы говорим о том же самом, исходя из
того же самого — для того же самого. Но лишь по видимости
кажется, что здесь ничего не сказано. И здесь действительно ничего
не сказано, если мы продолжаем слышать произносимое просто как
1 Хайдеггер М. Время и бытие. С. 85.
2 Там же. С. 86.
3 Там же.
1 Там же. С. 87.
ь Там же. С. 88.
6 Там же. С. 94.
КНИГА I. ГЛАВА 3. § 2. ХАЙДЕГГЕР 269
предложение и устраивать ему допрос логикой».1 Дальнейшее
движение невозможно, и любые комментарии излишни, тем более
формально-логические.
Топология метода Хайдеггера на этой стадии выражается
кругом — философемой-мифологемой «возвращения того же самого».
Но в самом круге обнаруживается еще одна топологическая
структура, трансцендентная первой, — ортогонально скрещенные в
центре круга диагонали, задающие в точках пересечения с окружностью
квадрат мировой четверицы: земли, неба, божеств, смертных. Центр
круга и центр квадрата совпадают, но круг и квадрат несоизмеримы
друг другу. Получается своеобразная онтологическая проблема
квадратуры круга. В едином центре бытует вещь. «Вещи» традиционно
противопоставляют «личность», но так как у Хайдеггера «персо-
нология» не столь явно выражена, то остается неизвестным, где
локализуется личность в данных структурах.
Динамика квадратуры круга описывается Хайдеггером
следующим образом: «Скрещение существует как мирение мира.
Зеркальная игра мира — хранящий хоровод. Потому и охватывает
четверых их хоровод не извне наподобие обруча. Хоровод этот —
круг, который окружает все, зеркально играя. Осуществляя, он
проясняет четверых до сияниях их простоты. ...В окружении
зеркально-играющего круга четверо льнут к своему единому и тем
не менее всегда собственному существу. Так льнущие, ладят они,
ладно миря, мир».2
Совпадение центров круга и квадрата происходит «вдруг». Хай-
деггер пишет: «Что станет вещью, сбудется из окружения
зеркальной игры мира. Только когда — вероятно, внезапно — мир явится
как мир, воссияет тот круг, из которого выпростается в ладность
своей односложной простоты легкое окружение земли и неба,
божеств и смертных».3 Вещь в этот миг самоочевидна в своей истине-
бытии, в непотаенности. Этот световой критерий истины
подчеркивается О. Пеггелером, который конкретизирует его в контексте
понятия «вдруг» и принципа «всеединство»: «Всеобосновывающий
опыт очевидности приобретает у Хайдеггера компонент времени и
тем самым истории. "Бытие и время", следовательно, может
выступать под девизом платоновского "Софиста"; согласно поздним
диалогам Платона, изменения основных понятий "сущее — не
сущее" и тем самым логики философии укоренено во "внезапном"
(exaiphnes); это внезапное Киркегор и Хайдеггер воспринимают как
"момент", который рождается в атмосфере, сопряженной с чувством
"страха". Согласно содержанию текстов "О философии", этот момент
1 Там же. С. 100.
2 Хайдеггер М. Вещь. С. 279.
3 Там же. С. 280.
270
Ю. M. РОМАНЕНКО. БЫТИЕ И ЕСТЕСТВО
должен быть познан еще с бытийственно-исторических позиций
как местоположность момента: бытие и ничто так сопринадлежат
друг другу, что ничто как изъятие допускает, смотря по
обстоятельствам, лишь ограниченную открытость бытия, становясь, таким
образом, путем к святому и божественному, и приводят тем самым
народы и эпохи в соответствующее состояние "единственности"».1
Единый центр круга и квадрата, структурирующих всеединство,
является также тем нейтральным союзом «и», вокруг которого
меняются местами «бытие» и «время», «время» и «бытие».
Хайдеггеровская «четверица» является онтологической
топологической структурой мира, объединяя в себе символы круга и
квадрата. Перекрещенные диагонали изымаются из квадрата и
используются в качестве графического средства для обозначения
трансцендентности «бытия». Чтобы не было суетного написания
«бытия» и чтобы указать на его трансцендентность, бытие уже не
берется в кавычки, а зачеркивается перекрестием. Получается, что
божества даже «менее» трансцендентны, чем бытие. Таким
графическим способом Хайдеггер фиксирует в письме свое вопрошание
бытия, оставляя его по ту сторону любой вопросительной формы.
О статусе понятия «небытия» в философии Хайдеггера выше
кратко уже говорилось: без ничто бытие не проявляет свою
существенность в области сущего, так как бытие есть ничто из всего
сущего. Как следует понимать ничто? Ответ Хайдеггера таков: ничто
ничтожествует. Вопрошание о «небытии» параллельно вопрошанию
о «творчестве»: «чтобы хотя бы поставить вопрос о "не-", — чтобы
впервые обнаружилось такое различие, потребовались величайшие
мыслительные усилия Платона в его диалоге "Софист". А как
мыслить "не-" в настоящем случае, мы узнаем лишь при условии,
что нам удастся точнее определить "поэтическое"».2
Любой ответ на вопрос о небытии остается
неудовлетворительным: тавтология «ничто ничтожествует» лишний раз
свидетельствует о том, что «мы все еще стараемся поспешно миновать мыслью
тайну "не-" и ничто».3 О «ничто» узнается в творении.
Ничтожествование небытия заметно в распространении
нигилизма в мировой истории, связанное с тем, что сущее не полностью
воплощает в себе бытие, сущее предает бытие забвению. Хайдеггер
пишет: «Если мыслить изнутри судьбы бытия, то нигилистическое
nihil означает, что ничто же несть с бытием — с бытием ничто.
Бытие не выступает в свет его же собственной сущности. В явлении
сущего как такового бытие остается вовне — в нетях. Отпадает
Пеггелер О. Хайдеггер и политика /..- Философия Мартина Хайдеггера
и современность. С. 177.
2 Хайдеггер М. Работы и размышления разных лет. С. 298.
3 Там же. С. 300.
КНИГА l. ГЛАВА 3. § 2. ХАЙДЕГГЕР 271
истина бытия. Она по-прежнему забыта. Так и получается, что
нигилизм в своей сущности — это история, которая приключается
с самим же бытием... Само бытие ускользает в свою истину. Оно
скрывается вовнутрь таковой и, прячась, скрывает само себя».1
Иными словами, бытие, уходя от небытия, ускользает в тайну —
«прячущее сокрытие» собственной сущности. Структурно это
состояние фиксирует онтологическая триада. Небытием пронизано
всеединство сущего, поэтому история может быть нигилистичной.
Хайдеггер определяет нигилизм как полный распад всеединства:
«Слово "нигилизм" говорит о том, что в том, что именует оно,
существенно nihil, Ничто. Нигилизм означает: Ничто же несть со
всем во всех аспектах. А "все" — это сущее в целом».2
Понятие «небытие» Хайдеггер выражает различными
лингвистическими средствами. Небытие — это отъятие, отсутствие, отказ,
просто префикс «не-». Эмоционально-экзистенциальное отношение
к небытию отражается в экзистенциалах страха, тоски, заботы.
Хайдеггер постоянно ищет языковые средства выражения понятия
«ничто». Предельным высказыванием небытия стала бы
субстантивация частицы «не».
Симптомы нигилизма в истории Хайдеггер отслеживает в своем
сочинении «Слова Ницше "Бог мертв"». Фраза «Бог мертв»
истолковывается как отсутствие бытия. Осмысление бытия и небытия в
их одновременности позволяет войти в онтологическую триаду.
А. В. Михайлов так реконструирует мысль Хайдеггера: «Мыслить
бытие — это вынуждает мыслить небытие и ничто, а небытие —
и как "простое" отсутствие бытия, и как от-сутствие, от-сут-
ствование. От-сутствование — это возможный способ того, как
"бытийствует" бытие. Это же и возможный способ "бытийствовать",
быть, Богу. Понять отсутствие Бога и во всей его внушающей ужас
абсолютности, отрешенности, и — при этом же — как присущий
Богу способ бытийствовать, понять и назвать это было делом всей
поздней философии Хайдеггера».3
Переводчик и исследователь творчества Хайдеггера А. В.
Михайлов, кажется, верно указывает на тот предел, где остановилась
хайдеггеровская мысль о небытии. Он пишет: «Один из последних
написанных им текстов (1974, опубликовано в 1981 г.) — это Fehl
heiliger Namen, где Хайдеггеру с помощью Гёльдерлина
действительно удалось найти простой, однако ошеломляющий,
оглушающий словесный эквивалент бытийствующему отсутствованию
богов: слов Fehl как итог долголетнего философски-поэтического вду-
1 Там же. С. 214.
f Там же. С. 215.
3 Михайлов А. В. Хайдеггер и Ницше // Хайдеггер М. Работы и
размышления разных лет. С. XLVIII.
272 Ю. M. РОМАНЕНКО. БЫТИЕ И ЕСТЕСТВО
мывания в такой способ бытия совершенно непередаваемо по-русски.
Разве что это заглавие можно было бы условно воспроизвести как
"Нетость священных имен"».1
Язык договорился до того, что стал неспособен вмещать в себе
священные имена, которыми он же и был создан. Отрицательная
частица «не», употребляемая безобидно, казалось бы, в служебных
целях для выражения относительного несуществования,
абсолютизировалась в субстантивированное «нетость». При таком исходе
язык уже не возвращается в тишину и молчание, а обречен на
беспрестанное выговаривание «нетости», которое есть антиимя для
безымянного поименования отсутствия Бога.
О понятии «творение» в штудиях Хайдеггера мы попутно
говорили. Он не сводит эту проблему только к учению средневековой
философии об ens creatum, распространяя ее на все поле онтологии.
В частности, эта тема рассматривается Хайдеггером в работе «Исток
художественного творения», в применении к сфере искусства и, в
частности, к поэзии. Здесь творение понимается как синергирова-
ние — единство дающей и принимающей энергий. Хайдеггер пишет:
«Но не только созидание творения поэтично — поэтично, только
своим особым способом, и охранение творения; ибо творение только
тогда действительно, когда мы сами отторгаемся от всей нашей
обыденности, вторгаясь в открытое творением, и когда мы таким
образом утверждаем нашу сущность в истине сущего».2
Пойезис, истолкованное как creatio, относится к акустической
стороне творения. Творческая сила света и образа подразумевается
в следующем высказывании Хайдеггера: «Бог изображается не для
того, чтобы легче было принять к сведению, как он выглядит;
изображение — это творение, которое дает Богу пребывать, а потому
само есть Бог. То же самое и творение слова».3 В образе происходит
претворение бытия, или, как пишет Хайдеггер, пресуществление.
С точки зрения онтологии света: свет не посторонен образу; в образе
сам свет пребывает в особом состоянии. Хайдеггер так подчеркивает
тождество света и образа в моменте «вдруг»: «Образ всегда лишь
внезапно входит в свое свечение, образ и есть не что иное, как
внезапность свечения... Образ — это явление-свечение того времени-
пространства, которое есть то место, где совершается таинство
пресуществления».1 Образ есть онтологическая категория, с помощью
которой конкретизируется понятие «истина». «Так образ образует
место, на каком совершается раскрывающее сокрытие, üA,4öeicx, —
образ и бытийствует как такое раскрывание, распахивание».'' Эти
1 Михаилов А. В. Хайдеггер и Ницше. С. XLVIII.
2 Хайдеггер М. Работы и размышления разных лет. С. 104.
3 Там же. С. 76.
4 Там же. С. 263.
3 Там же. С. 264.
КНИГА I. ГЛАВА 3. § 3. МИЗОСОФИЯ 273
онтологическо-эстетические суждения Хайдеггер высказал в эссе о
«Сикстинской мадонне».
Хайдеггер как мыслитель является онтологом по преимуществу.
Эту позицию ему приходится отстаивать под перекрестным допросом
со стороны предшественников, современников и потомков. Как в
свое время Фихте, отталкиваясь от Канта, претендовал на
онтологический способ философствования, так и Хайдеггер, выходя из
трансцендентально-феноменологической концепции Гуссерля, в
которой онтология считалась соблазном, поддается этому соблазну,
полагая, вероятно, что это лучший способ его преодолеть. Так в
истории всегда и водится. На каждого Канта находится свой Фихте,
а на каждого Гуссерля — свой Хайдеггер. Хотя, в свою очередь,
на каждого Хайдеггера отыскиваются свои Сартр и Деррида.
Что касается отношения к «метафизике», то не сразу Хайдеггер
отпускает ей право быть самой собой. Оставляя ее на свободе, он
пишет о своем прежнем намерении преодолеть ее: «В намерении
же преодолеть метафизику господствует уважение к ней. Вот почему
дело заключается в том, чтобы оставить преодоление метафизики
и предоставить метафизику самой себе».1
Ближайшей темой теперь становится истолкование Хайдеггером
понятия «природа», или «естество», естественно восполняющее
учение немецкого мыслителя о бытии. Так, оригинально разработанная
онтология подручной вещи — чаши, должна быть дополнена
вопросом о том, что же именно находится в ней. Хайдеггер говорит,
что сущность чаши состоит в том, чтобы в нее вливалось нечто.
Но что такое это нечто, содержимое чаши, и кто может пить из
нее — это уже вопрос о «естестве».
Последний ответ на онтолингвистическое вопрошание — это
вопрос на вопрос. Если спрашивают: Есть ли бытие? Мыслимо ли оно?
Можно ли его выразить? — сначала нужно поинтересоваться: А
откуда взялась потребность задавать эти вопросы? И потом немного
помолчать.
§ 3. МИЗОСОФИЯ
Растерянность между бытием и небытием
В предисловии мы указали на факт существования в истории
философии ее изнанки — мизософии, наличие которой связано с
тем, что философия, хотим мы того или не хотим, является
имитационной системой жизни. Здесь не место устраивать спор: хорошо
это или плохо. Это прежде всего фактично как условие творческой
1 Хайдеггер М. Время и бытие. С. 100-101.
274 Ю. M. РОМАНЕНКО. БЫТИЕ И ЕСТЕСТВО
свободы выбора между бытием и небытием. Онтологическая
экспликация мизософии возможна не в свете полной онтологической
триады, а только под рубрикой одной из ее категорий. С точки
зрения бытия мизософию рассмотреть невозможно — это место
занято философией; точки зрения небытия нигде в мире не
существует. Остается проверить статус мизософии в содержании понятия
«творчество». Исследование должно вестись безоценочно, согласно
философской поговорке: не плакать, не смеяться, не проклинать,
но понимать. Во всяком случае, выдерживать, в чем может помочь
если не бытие, то естество.
Мизософия есть следствие рассмотренного выше нигилизма,
который Хайдеггер считал злой судьбой европейского мышления.
Список мизософствующих авторов не мал. Ограничимся некоторыми
примерами, не считая их, разумеется, «примерами для
подражания». Возьмем в качестве «экземпляра» одного из наиболее
одаренных в творческом отношении авторов — Дж. Джойса. Выявить
мизософские мотивы в его творчестве нам поможет его переводчик
и комментатор С. С. Хоружий, которому удается реконструировать
синергийно-энергийную динамику не только в религиозном
движении исихазма, но и в порнографическом тексте «Улисса» Джойса.
В работе «Бахтин, Джойс, Люцифер» С. С. Хоружий сравнивает
отношение Бахтина и Джойса к карнавалу, раскрывая его
онтологическую подоплеку. Он пишет: «В основе всего карнавального
мироотношения лежит установка переворачиванья всех отношений,
установка инверсии. Но установка инверсии — глубокая и важная
вещь, на которой очень стоит остановиться внимательней. Это —
одна из считанного числа простейших, элементарных бытийных
реакций и фундаментальных парадигм мироотношения. Как
подобает таким парадигмам, она укоренена в глубинных,
мифотворческих горизонтах сознания: в каждом мифокультурном универсуме
ей соответствует определенная мифологема, символизирующая ее,
задающая ее архетип. И в универсуме библейско-христианской
культуры эта мифологема — не что иное, как мифологема
Люцифера. Первоисточная, архетипальная инверсия, мифологический
прообраз инверсии как таковой — низвержение Сатаны с небес в
преисподнюю [Ис. 14, 12-15]; сам же Сатана, Денница, Люцифер,
"спадший с неба как молния" [Лк. 10, 18], есть демон инверсии и
даже ее демиург, поскольку у него имеется некое свое царство, в
котором инверсия, инвертированность (перевернутость) —
универсальный и обязательный закон. Очевидно также — и
немаловажно, — что по своей природе, как замена данного — прямо
противоположным, инверсия — негативная реакция, акт или жест
кардинального неприятия»-'
1 Хоружий С. С. Бахтин, Джойс, Люцифер '/ Бахтинология. СПб.,
1995. С. 22.
КНИГА I. ГЛАВА 3. § 3. МИЗОСОФИЯ 275
Вспомним, что под этим состоянием Хайдеггер понимал,
вероятно, нигилистическое понятие «нетость». Поскольку онтология
включает в себя понятие «небытие», то такая позиция может быть
выражена как принцип: «это — абсолютная, радикальная инверсия,
утверждающая себя, в настоящем смысле, бытийной,
онтологической установкой. Такая установка распространяет себя на все
первоосновы и верховные ценности в мире людей, заменяя добро злом,
истину — ложью и свет — тьмой. Она стремится в чистоте и
полноте воспроизвести архетип инверсии, признает свою
подчиненность этому архетипу и потому ex def initione представляет собою —
Сатанизм».1
Этот единый принцип типологизируется в двух своих
реализациях: «один из этих двух принципов и есть принцип Карнавала;
другой же — принцип Бунта».2
M. М. Бахтин идеализировал карнавал в атмосфере
тоталитарного общества, что в целом понятно. Как писал его ученик С. С. Аве-
ринцев, мягко критикуя учителя, смех, лежащий в основе
карнавала, есть только средство для достижения свободы, но не сама
свобода как таковая. По мнению С. С. Хоружего, взгляд Бахтина
на карнавал утопичен: «то, что всячески затушевывает утопия,
делающая Карнавал одним из первопринципов реальности, — это
онтологическая вторичность карнавала и карнавального мира:
карнавал есть в самом своем существе не акция, а ре-акция, притом
еще реакция из круга человеческих отношений не с первозданного
реальностью мира и человека, но с социокультурной реальностью,
сделанною самим человеком, артефактной».3 Иными словами, это
реакция в пределах искусственного мира, но не естественного.
В поэтике Джойса равновелико представлен «творческий»
потенциал карнавала и бунта; в этом автор «Улисса» вполне адекватно
выражает теневые, маргинальные стороны XX века: «Вкупе они
объемлют двадцатый век — так что судьбою и темой нашего столетия
оказывается блуждание между разными воплощеньями одной
коренной установки иострелигиозного мира — Инверсии, обращения,
отрицания».4
Мизософская установка не может рассчитывать на принятие
спасения и сохранения, собирания бытия, но она претендует на
оправдание творчеством в процессе растраты бытия. «Но такая
задача — задача создания собственной альтернативной реальности,
задача инотворения — уже сама по себе несет люциферианский
отзвук и отпечаток, художник подражает в ней Люциферу, и в
Там же.
1 Там же.
3 Там же. С. 18.
4 Там же. С. 24.
276 Ю. M. РОМАН EH КО. БЫТИЕ И ЕСТЕСТВО
своем исполнении она неизбежно приводит к миру, обладающему
свойствами Люпиферова мира, мира тотальной инверсии и тьмы».1
Имя Люцифер означает буквально — «носящий свет», но, как
заметил Л. Н. Гумилев, лучше сказать — «уносящий свет».
Выявив обращенность Джойса, автора и человека, к позывам
бунта и карнавала, С. С. Хоружий тем не менее не становится в
позицию судьи по отношению к нему («не судите, да не судимы
будете»). Он даже оставляет право адвокации для
«подследственного»: «Судьбу и ценность творения решает баланс, тонкое
равновесие начал. По сей день еще трудно рассудить, куда склоняется
баланс в "Поминках по Финнегану". Однако в "Улиссе" художник
победил».2 Вероятно, творчество если не спасает, то хотя бы
оправдывает. Об этом говорил и Н. Бердяев, оправдывая свободу человека
творчеством в своей работе «Смысл творчества». Однако творить
свободно можно и в сторону небытия.
Обратимся для экземплификационного закрепления к
деятельности еще одного литератора, тематизирующего мизософию, —
Ж. Батая. Нельзя отказать ему в силе и тонкости мысли и в
профессионализме в области философии. Но вот предметом
пристального внимания он делает «слепое пятно» в глазах философов.
Подобно тому как Антисфен усматривал в Платоне не то, что прочие
«академики», Батай отыскивает в гегелевской философии мизософ-
ский провал. Поводом для этого послужило письменное признание
Гегеля в том, что он в течение двух лет думал, что сходит с ума.
Это было как раз накануне создания Гегелем его панлогистской
грандиозной системы. Батай пишет: «Воображаю себе, что Гегель
дошел до крайности. Он был еще молод и подумал, что сходит с
ума. Воображаю себе даже, что он разрабатывал систему, чтобы
избежать этого (несомненно, что любой вид завоевания есть дело
рук человека, бегущего угрозы). Заканчивая, Гегель доходит до
удовлетворения, поворачивается спиной к крайности. Терзание
умирает в нем. Если ищешь спасения, это еще ничего, но если
продолжаешь жить, нельзя быть уверенным, следует продолжать
терзаться. Гегель при жизни выиграл спасение, но убил терзание,
искалечил себя. От него осталось только топорище, современный
человек. Но перед тем как искалечить себя, он, несомненно, дошел
до крайности, познал терзание: память возвращает его к замеченной
бездне — с тем чтобы уничтожить ее. Система есть уничтожение».3
Мизософское падение Гегеля Батай делает предметом
исследования в работе «Гегель, смерть и жертвоприношение». Ключевое по-
1 Хоружий С. С. Бахтин, Джойс, Люцифер. С. 25.
'■■ Там же. С. 26.
3 Батай Ж. Внутренний опыт /. Танатография эроса. СПб., 1994.
С. 138 (прим.).
КНИГА I. ГЛАВА 3. § 3. МИЗОСОФИЯ
277
нятие гегелевской философии «снятие» Батай интерпретирует как
«трансгрессию» — рассеяние в чистой трате, творчество посредством
потери, но не в смысле, вероятно, творчества как отдания дара.
Следует отметить, что диалектика, на которую Гегель возлагал
последние надежды, по своему имени действительно допускает
такую интерпретацию, которую провел Батай. Как уже говорилось,
в переводе с греческого «диалектика» означает то, что находится
между (диа-) двумя суждениями (лектон) — утвердительным и
отрицательным. В состоянии «между» мышление зависает в
абсолютной свободе момента «вдруг». В этот миг теряется всякая
ориентация, в которой воля может инвертироваться. С ономатологи-
ческой точки зрения позволительно выстроить следующую
пропорцию: «логика» этимологически так относится к «диа-лектике», как
«сим-вол» к «диа-волу» (sym-bolon с греч. — «совместное бросание»,
dia-bolon — «разбрасывание», «рассеяние», «диссеминация»).
Специалисты отмечали существование двух вариантов диалектики:
позитивной и негативной — конвергирующей и дивергирующей.
Искусительный мотив диалектики присутствует в различных ее
исторических версиях: от Зенона Элейского и Платона, через Канта
и Гегеля и вплоть до Маркса, Ленина и представителей
«диалектического материализма».
В процессе инверсионного кувырка ощущается растерянность,
топологическая ненаходимость, которая контрадикторна
расположенности в бытии. Растерянность — это потерянность себя,
рассеянность внимания, растраченность сил, а в итоге — забвение бытия.
Изречение: время собирать камни и время разбрасывать камни —
говорит не о том, что эти времена последовательны. Собирание и
разброс одновременны, так как переход от одного к другому мгно-
венен в инверсии. Это параллельные времена разных измерений,
чуждых друг другу.
Человек расплачивается растерянностью за то, что позволил
себе вольно располагать бытием. Он растерялся перед лицом тех
неприятных последствий, которые возникают из ниоткуда при
реализации форсированных проектов преобразования мира.
Если Гегель амбициозно заявляет об «абсолютном знании», то
его интеллектуальная тень — Батай, произведя инверсию,
проповедует «незнание», но не то «ученое незнание», о котором говорил
Николай Кузанский. П. Клоссовски пишет: «В самом деле, именно
под видом развития философии незнания Батай выдвигает на первое
место "бунт", сознательно доведенный философией до бунта против
мира труда и против мира предпосылок».1 Гегель же, построив
свою систему, уже не бунтовал, не терзался и не безумствовал, а
«примирился с действительностью».
' Клоссовски П. Симулякры Жоржа Батая // Там же. С. 86.
278 Ю. M. РОМАНЕНКО. БЫТИЕ И ЕСТЕСТВО
Батай остро чувствует мизософскую напряженность, которая
«обнаруживает более фундаментальный жест бунта: некое
вожделение зла, присущее человеку (проклятую долю его humanitas),
который может жить, эк-зистировать только в трансгрессии
(попрании) того-что-есть».1
Раскрывая отношения Батая к бунту, Ж.-М. Хеймоне пишет:
«Впрочем, сам Батай объяснился на этот счет: "Те, кто следил за
развертыванием моей мысли, смогли ухватить, что самым
фундаментальным образом она была непрерывным бунтом против себя"».2
Ж. Батай не обошел вниманием и карнавал. Сопоставляя
отношение к карнавалу у М. Бахтина и Ж. Батая, Д. Холье пишет:
«Но карнавал Батая отличался также и от того карнавала, что
практически в то же самое время праздновал в своей книге о Рабле
Михаил Бахтин. Как замечают биографы Бахтина, "время
Карнавала — это не утраченное время, это исполненное время, богатое
глубинным опытом"... Карнавал Батая, напротив, это тот миг, когда
"я" переживает свою утрату, переживает себя как утрату и потерю.
Это не время исполненности, напротив, это время испытания
пустоты времени».3
Тема «рассеяния бытия» (диссеминация — термин Ж. Дерри-
да) — одна из злободневных (буквально) тем, которые дал XX век.
Философское осмысление этой проблемы, не успев начаться, сразу
же заканчивается. Не хватает методологических средств для
понимания ее истоков и последствий. Ясно только то, что философия
еще не застрахована от перепадов мизософии, которая каким-то
загадочным образом предусмотрена в онтологической триаде. Но
Бытие сохраняется от утери в Естестве.
§ 4. РУССКАЯ ФИЛОСОФИЯ
Оправдание онтологии, или онтодицея
Исследователи русской философии неоднократно подчеркивали
в качестве ее ведущего признака онтологизм. Так, В. В. Зеньковский
в своей «Истории русской философии» отмечал, что «русские
философы очень склонны к так называемому онтологизму
при разрешении вопросов теории познания, т. е. к признанию, что
познание не является первичным и определяющим началом в
человеке. Иными словами — познание признается лишь частью и
функцией нашего действования в мире, оно есть некое событие в
1 Хаймоне Ж.-М. Хабермас и Батай // Там же. С. 212-213.
2 Там же. С. 215.
,! Холъе Д. Кровавые воскресенья ■' Там же. С. 192.
КНИГА l. ГЛАВА 3. § 4. РУССКАЯ ФИЛОСОФИЯ 279
процессе жизни, - а потому его смысл, задачи и его возможности
определяются из общего отношения нашего к миру».'
Философская установка на онтологизм имеет своей
предпосылкой экзистенциальный выбор в пользу бытия, а не ничто. Перед
этим выбором ставится индивидуальный философ или национальная
философия в целом в вопрошаниях: «Почему Творец выбрал бытие,
а не небытие?», «Почему есть сущее, а не ничто?», наконец, «Быть
или не быть? ». Сам выбор осуществляется на дофилософском уровне,
и о его окончательности можно судить только по следам, так как
действительность выбора узнается не в начале, а в конце процесса.
Поскольку известно, что история еще не завершилась, то
констатировать предызбранность русской философии к онтологическому
способу философствования преждевременно. Хотя можно
проследить отдельные мотивы выбора, представленные в исканиях русских
мыслителей. Ведущие мотивы или интуиции пронизывают собой
строй мысли известных философов, объединяя их в национальном
или эпохальном контектах, по поводу которых можно ставить вопрос
о самобытности. Не вступая специально в дискуссию о самобытности
или вторичности, эпигонстве русской философии, подчеркнем, что
термины «онтологизм» и «самобытность» синонимичны по
существу.
Обратимся выборочно, для примера, к творчеству некоторых
русских философов. В начале работы «Философия свободы»
Н. А. Бердяев, выражая претензию на философствование по
онтологическому типу, пишет: «Когда обращаемся к прошлому, часто
поражаемся творческому дерзновению наших предков: они дерзали
быть, мы же потеряли смелость быть».2Эти слова — свидетельство
обнаружения себя в каком-то относительном небытии, которое
радикально не устраивает Бердяева. Одновременно с этим кто-то или
что-то подсказывает ему, что существует возможность изменить
положение дел. Налицо ситуация выбора, разрешая которую в
пользу бытия, автор «Философии свободы» заявляет: «Все, что я
скажу в этой книге, будет дерзающей попыткой сказать "что-то",
а не "о чем-то", и дерзость свою я оправдываю так же, как
оправдывал ее Хомяков. Я не чувствую себя покинутым в познании
бытия, и гносеология моя не есть гносеология покинутости».''
Заявка сделана, и мы, читатели, можем только признать ее
фактом творческой биографии Бердяева, пусть даже одним она
Покажется родственной, другим — чужеродной. Однако, как уже
было сказано выше, выбор получает свою определенность не в
1 Зенъковекий В. В. История русской философии, Т. 1. Ч. 1. Л.. 1991.
С 15-16.
" Бердяев Н. А. Философия свободы. М., 1989. С. 14.
3 Там же. С. 16.
280 Ю. M. РОМАН EH КО. БЫТИЕ И ЕСТЕСТВО
начале, а в конце. Другими словами, может быть несоответствие
между амбициями, замыслом и исполнением. Насколько удалось
Бердяеву реализовать свой замысел — это по сей день остается
спорным вопросом. Мера несоответствия между замыслом и
воплощением, вероятно, определяет творческий почерк, в нашем случае,
Бердяева. Но для нас сейчас это не главное. Основной мотив,
услышанный в процитированном фрагменте, узнан нами сразу, без
рефлексии, и мы можем по неявным пока критериям,
авансирование, отнести Бердяева в разряд «онтологов», пока без знания о
том, какие привилегии это положение предлагает.
Еще один пример выражения направленности к онтологизму
демонстрирует А. Ф. Лосев в статье «Русская философия». Отстаивая
самобытность русской философии, он выделяет сначала три
характерные тенденции новоевропейской традиции: рационализм, мео-
низм, имперсонализм. Антионтологическая установка западной
философии, по мнению Лосева, определяется термином «меонизм (от
греческого me on, не-сущее): вера в ничто».1 Инвективы серьезные,
хотя об этом тоже нет смысла устраивать дискуссию. В этом
онтологическом дискурсе, как и в случае с Н. А. Бердяевым, его коллега
обнаруживает себя в окружении относительного небытия, меона,
который отождествляется с Западом. Вновь перед нами ситуация
экзистенциального, онтологического выбора, решая которую Лосев
пишет: «Русская философия, которая в противоположность
западноевропейскому рационализму провозглашает восточнохристиан-
ский логизм, в то же время провозглашает в противовес меонизму
полнокровный и беспокойный мистико-онтологический реализм,
а бескровному и абстрактному имперсонализму — динамический и
волюнтаристский тонизм (tonos — по-гречески степень внутреннего
напряжения)».2 Мы видим, что Лосев решает ту же самую задачу,
хотя делает это уже более квалифицированно, даже рафинированно,
манифестируя и формулируя ее в изощренных терминологических
выражениях.
Этот отмеченный нами мотив становится общим для русской
философской культуры в начале XX века. Можно вспомнить
известное описание сна в «Столпе и утверждении истины» (письмо
восьмое — «Геенна») П. А. Флоренского, где он признается: «вопрос
о смерти второй — болезненный, искренний вопрос. Однажды
во сне я пережил его со всею конкретностью. У меня не было
образов, а были одни чисто внутренние переживания. Беспросветная
тьма, почти вещественно густая, окружала меня. Какие-то силы
увлекли меня на край, и я почувствовал, что это — край бытия
Божия, что вне его — абсолютное Ничто. Я хотел вскрикнуть, и —
1 Лосев А. Ф. Страсть к диалектике. М., 1990. С. 75.
2 Там же. С. 77.
КНИГА I. ГЛАВА 3. § 4. РУССКАЯ ФИЛОСОФИЯ 281
не мог. Я знал, что еще одно мгновение, и я буду извергнут во
тьму внешнюю. Тьма начала вливаться во все существо мое.
Самосознание наполовину было утеряно, и я знал, что это — абсолютное,
метафизическое уничтожение. В последнем отчаянии я завопил не
своим голосом: "Из глубины воззвах к Тебе Господи. Господи,
услыши глас мой!.." В этих словах тогда вылилась душа. Чьи-то
руки мощно схватили меня, утопающего, и отбросили куда-то,
далеко от бездны. Толчок был внезапный и властный. Вдруг я
очутился в обычной обстановке, в своей комнате, кажется: из
мистического небытия попал в обычное житейское бывание. Тут
сразу почувствовал себя пред лицом Божиим и тогда проснулся,
весь мокрый от холодного пота».1
Откровенность тона и неординарность содержания этого текста
привлекли повышенное внимание в философской среде к этому
«воплю de profundis», где в свернутой форме сконцентрировались
практически все проблемы онтологии. Отличие «воззвания»
Флоренского от «дерзания» Бердяева заключается в том, что последний
основывался на имманентном активизме, для первого же
изначальный выбор в пользу бытия осуществился непроизвольно,
подсознательно (во сне), по благодати, ниспосланной со стороны высшей
трансцендентной инстанции.
Этих трех примеров достаточно для того, чтобы сделать
некоторые предварительные обобщения. Благодаря Флоренскому и
другим тема онтологии начинает исподволь заявлять о себе на русской
почве. И Флоренский, и Бердяев, и Лосев говорят «да!» бытию,
отвращаются от небытия, ориентируя тем самым свое
философствование в определенном направлении.
Импульс задан. Он просвечивается в текстах, уже легко узнается
и может быть принят в качестве руководства к действию и
преемству. Если находятся последователи, то можно сказать, что традиция
состоялась. Если считать, что Флоренский, Бердяев и Лосев, при
всей их несравнимости, принадлежат к Космосу русской
философской мысли и свидетельствуют о ее онтологической призванности,
то нет никаких оснований подвергать это сомнению. Дело в том,
что сомневаться можно только в следствиях, которые выводились
данными философами из самого факта онтологизма русской
философии, ее бытийственного характера. Подобно тому как
бессмысленно сомневаться в правде парменидовского изречения о том, что
«бытие есть, небытия же нет». Хотя можно подвергнуть критике
некоторые следствия, выводимые Парменидом из этого изречения,
когда он приписывал бытию предикаты неделимости, вечности,
неизменности и т. д.
1 Флоренский П. А. Столп и утверждение истины. Т. 1 (1). М., 1990.
С. 205-206.
282 Ю. M. РОМАН EH КО. БЫТИЕ И ЕСТЕСТВО
Исторически философия достигает ступени онтологии не сразу.
Так было в Древней Греции, когда Пармениду предшествовал этап
мифологии. Так было и в России. Определяющим фактором выхода
философии в фазу онтологии является наличие теизма. Собственно
говоря, в эпоху античности были созданы только предпосылки,
условия возможности трансформации философии в онтологию,
включающие в себя создание необходимого терминологического
аппарата. О конституировании онтологии как таковой можно
говорить только в контексте теоцентризма эпохи Средневековья.
Применительно к русской традиции процесс возникновения
онтологического дискурса можно реконструировать следующим
образом. Первоначальный вкус к подлинному философствованию в
России появился в усвоении и развитии метафизической проблематики
всеединства. Включенность русской философии в тематический
горизонт принципа всеединства подробно прослеживает С. С. Хоружий
в работах «Идея всеединства от Гераклита до Бахтина» и «Проблема
личности в православии: мистика исихазма и метафизика
всеединства».1 Этой традиции принадлежат имена В. С. Соловьева,
Л. П. Карсавина, С. Л. Франка, П. А. Флоренского, С. М. Булгакова
и др.
Однако в целом остановка на категории всеединства как
основополагающей имеет своим неприятным следствием пантеизм,
который входит в существенное противоречие с онтологическим
принципом творения, креации. Для выхода философии в фазу онтологии
необходимо ограничение категории всеединства. Можно сказать,
что эта категория является пунктом водораздела, разводящим
проблемы метафизики и онтологии по разным предметным сферам.
Возможно ли примирить пантеизм и теизм философскими
средствами — это один из актуальных дискуссионных моментов. Мнения
здесь разделены. Существует полемика, к примеру, между С. С. Хо-
ружим и некоторыми интерпретаторами наследия А. Ф. Лосева, в
частности Л. А. Гоготишвили.2 В этих обсуждениях проблемы
онтологии воспроизводятся и вызывают живой интерес в философском
научном сообществе современной России.
Как уже неоднократно говорилось, в предлагаемом нами подходе
предмет онтологии ограничивается монотриадой категорий:
«бытие—ничто—творение». Определить любую из перечисленных
категорий рационально и изолированно от остальных невозможно,
ручательством чему служит сама история философии. Попытка дать
формальную дефиницию, скажем, категории бытия, приводит к тому,
1 X оружий С. С. После перерыва. Пути русской философии. СПб.,
1994.
" Гоготишвили Л. А. Коммуникативная версия исихазма /,' Лосев А. Ф.
Миф. Число. Сущность. М., 1994.
КНИГА l. ГЛАВА 3. § 4. РУССКАЯ ФИЛОСОФИЯ 283
что разум успевает только зафиксировать ускользаемость этой
категории. При этом очевидно, что данная категория ускользает в свое
естественное место, каковым является вышеуказанная монотриада.
Таким образом, любой предмет философии, будучи рассмотрен
в свете онтологии, должен быть профундирован по отношению к
каждой из указанных категорий как критериев онтологизма. В
русской философской традиции вся онтологическая триада, в различной
степени ее полноты, получила свое философское освещение.
Продолжим экземплификационный обзор. Так, С. Н. Булгаков
в работе «Свет невечерний» располагает содержание свое текста по
линии, связывающей категории «ничто» и «творение». Начинается
изложение с фиксирования принципов отрицательного (апофати-
ческого) богословия с привлечением обширного
историко-философского материала. Круг авторов, которых Булгаков включает в
эту традицию, достаточно классичен: Платон, Плотин, Филон
Александрийский, отцы Церкви, Псевдо-Дионисий Ареопагит, св.
Максим Исповедник, Мейстер Экхарт и др. Оговорив специально
антиномический характер «Божественного Ничто», Булгаков переходит
к теме тварности мира и человека. Одной из основных проблем в
этой теме является вопрос о соотношении категорий эманации и
творения. Как известно, космоцентризм античности предпосылает
в качестве модели порождения Космоса теорию эманации, т. е.
истечения мира из природы божества.
Для теистического мировоззрения креационизм исключает эма-
национизм, и Булгаков предпринимает попытку философскими
средствами соотнести эти категории. Он пишет: «Между
Абсолютным и относительным пролегает грань творческого да будет, и
поэтому мир не представляет собой пассивного истечения эманации
Абсолютного, как бы пены на переполненной чаше, но есть
творчески, инициативно направленная и осуществленная эманация, —
относительность как таковая».1 Очевидно, Булгаков не отбрасывает
радикально идею эманации, признавая ее подчиненный характер
в теизме. Он поясняет: «Понятие творения поэтому шире понятия
эманации, оно его в себя включает, так что творение есть эманация
плюс нечто новое, создаваемое творческим да будет! Абсолютное
преизбыточно, оно есть неисчерпаемый источник преизобильного
бытия, которое есть излияние его богатства и полноты, и в этом
правда идеи эманации, которая целиком включается и в идею
творения».3 Следует отметить, что подобное решение вопроса ни
по существу, ни терминологически не является общеприемлемым.
Но в данном случае мы привлекли этот текст как пример
включенности творчества Булгакова в онтологический контекст. Вообще
1 Булгаков С. Н. Свет невечерний. М., 1994. С. 157.
2 Ткм же. С. 158.
284
Ю. M. РОМАНЕНКО. БЫТИЕ И ЕСТЕСТВО
степень разработанности онтологии такова, что невозможно здесь
выделить какие-либо пункты новизны и приписать их кому-нибудь
из философов. Онтологическая мысль уже сама по себе всегда нова.
Подобно тому, как сказал поэт, — талант это всегда новость.
Иначе решает проблему соотношения эманации и креации
А. Ф. Лосев. По мнению Л. А. Гоготишвили, он допускает так
называемую интерпретативную, или коммуникативную, эманацию,
которая, по всей видимости, не противоречит идее творения.
Оригинальность лосевской точки зрения состоит в том, что Абсолюту
положительно приписываются софийный и ономатический
предикаты, защищавшиеся в движениях софиологии и имяславия.
Л. А. Гоготишвили утверждает: «Нет здесь и противоречия с
принципом творения из ничего. Акта творения могло бы и не быть,
а софийный и символический моменты, основанные не на реальном
"ином", но на "ином" как внутреннем имманентном принципе
Абсолюта, все равно сохранили бы все свои квалификации. Акт
творения не предопределен внутренним символизмом Абсолюта, так
как этот символизм есть прежде всего акт самосознания и
самопознания, и если символическое начало сыграло свою роль в творении
мира и в его последующей истории, то это — вторичные, иконо-
мические функции».1
Можно истолковать эту точку зрения так, что эманация есть
всегда, но при этом она умножена в своих проявлениях, причем
каждая отдельная эманация отграничена от любой другой
трансцендентной границей. Общение (коммуникация) между ними
представляет собой скачок (трансцензус). Таким образом, вектор креации
ортогонален векторам эманации с точки зрения символической
топографии иерархической структуры мира. Коммуникативная
эманация, подразумевающая креацию, вносит в концепцию синергизма
материальное содержание.
Подходя подобным образом к онтологии А. Ф. Лосева, Л. А.
Гоготишвили оговаривает гипотетический характер своего
истолкования: «Хотя у Лосева почти не встречаются специальные разработки
проблемы творения (отсутствие таких разработок часто ставится в
упрек всем софиологическим доктринам), все же можно
предположить, что и творение понималось им в "языковом" ключе, что,
кстати, хорошо ложится в ортодоксальные рамки. Сотворить, по
Лосеву, значит "назвать"... творение — это именование вовне от
себя, и потому слово здесь как бы "предшествует" именуемому».2
Такая интерпретация позволяет придать онтологии персоналисти-
ческий и диалогический характер.
1 Гоготишвили Л. А. Коммуникативная версия исихазма. С. 883.
2 Там же. С. 891.
КНИГА l. ГЛАВА 3. § 4. РУССКАЯ ФИЛОСОФИЯ 285
Онтология как целостная философская позиция изначально
возникает на почве теистической религии. Секуляризация приводит
к дезонтологизации и релятивизации, разрывая целостность
онтологической триады, абстрактно выделяя из нее по отдельности
понятия «бытие», «ничто», «творение», релятивизируя их частное
содержание. Импульс к онтологическому типу философствования
в русской религиозной философии вылился как минимум в трех
направлениях: софиологии, имяславии и иконопочитании. Эти чисто
религиозные, весьма дискуссионные проблемы, помимо потребности
их богословского истолкования, несли в себе сильный заряд для
развития собственно философской мысли. Традицию
позитивистской философии, ориентированной на науку, а также социальные
импликации философских концепций мы оставляем за рамками
нашего исследования.
Софиология, инициатором которой в контексте российской
духовной культуры выступил В. С. Соловьев, реализовывала
платоническую традицию. София как «Премудрость Божия» понималась
в платоновском духе как «космос ноэтос» — ипостазированное
всеединство всеобщих идей-форм, которое должно быть преднайдено
и эксплицировано философскими средствами, а в случае с
Соловьевым — вплоть до мистической встречи с персонифицированной
Софией. Это — иррационально-мистическая установка, с
неизбежностью ведущая к гностицизму и допускающая проявления
визионерства, оккультизма и прочих попутчиков гнозиса. В русле софиоло-
гической традиции, заданной Соловьевым, были оригинально
разработаны некоторые проблемы принципа всеединства, в частности,
в виде предложенной Л. П. Карсавиным динамической модели.
Оригинальными следует признать попытки философской
интерпретации и обобщения таких уникальных явлений религиозной
жизни, как полемика по вопросу об имяславии и об онтологическом
статусе икон — действительно самобытном феномене Православия.
Известный напряженный спор по поводу Имени Божьего между
религиозными деятелями начала XX века завершился официальным
признанием Синодом «имябожничества» как ереси и отклонением
претензий «имяпочитателей» на догматическое признание. Такие
философы, как П. Флоренский, С. Булгаков, В. Эрн, А. Лосев,
стремились построить философский понятийный фундамент для
обоснования правоты имяславия. А. Ф. Лосев в письме к П. А.
Флоренскому от 30 января 1923 г. формулирует тезисы имяславского
учения, которые он разворачивает затем в работе «Философия
имени». Лосев пишет: «Энергия сущности Божией неотделима от самого
Бога и есть сам Бог, и Имя Божие неотделимо от существа Божия
и есть сам Бог... Имя Божие есть сам Бог, но Бог сам — не имя».1
1 Лосев А. Ф. Из ранних произведений. М., 1990. С. 610 (прим.).
286 Ю. M. РОМ АН EH КО. БЫТИЕ И ЕСТЕСТВО
Эти тезисы требуют дополнения тезисами о творении — вызывании
из небытия по имени.
Как видим, Лосев продолжает традицию исихазма и настаивает
на онтологическом различении понятий сущности и энергии.
Именем задается конкретность творения. Обобщением этих идей у
Лосева является определение им имени вещи как орудия взаимного
существенно-смыслового, индивидуально-живого, личностного
общения, как смысловой энергии взаимопонимания, предела
смыслового самооткровения вещи.1 Р1ными словами, в имени и именем
осуществляется творение сущего в акте вызывания его из небытия.
Спор по поводу Р1мени Бога и его философские последствия
напоминают конфронтацию сторонников и противников
онтологического доказательства бытия Бога в западноевропейской
философии. Различие между предметами этих споров заключается в
различии понятия и имени. Это очень сложная проблема. В первом
приближении можно указать такой способ их взаимополагания:
понятие подводится под рубрику «бытие», а имя — под рубрику
«творение». Иначе говоря, понятие (как «логическая форма»)
претендует на схватывание сущности бытия, а имя выражает энергий-
ность процесса сотворения. Понятие требует однозначности, ибо
бытие едино. В имени такой однозначности нет, поскольку оно
относится к категории энергии. Чтобы состоялось творение,
необходима встреча двух различных энергий в синергии. В ответ на
зов по имени творящееся существо должно не только откликнуться
в звуке, но и явить себя в зримом образе, показать себя на фоне
небытия. Энергия имени встречается в синергии с энергией образа.
Между этими двумя энергиями или, лучше сказать, между пой-
езисом имени и миметической оргийностью образа пролегает
граница. Следовательно, для того чтобы онтологически полно
идентифицировать вещь, т. е. отождествить ее имя и образ на одном и
том же носителе, необходим акт креации. Характерно, что в своей
философии имени П. А. Флоренский пытается описать этот транс-
цензус, типологизируя имена как инварианты личностного бытия,
архетипы духовного строения, произведения культуры и орудия
познания в терминологии эстетики образа. Флоренский развивает
онтологию имени в своем оригинальном проекте «конкретной
метафизики».2 Образ — категория зрительной эстетики.
Дуалистическая дифференциация образа на субъективную и объективную
стороны препятствует пониманию его онтологического статуса.
По этому поводу в истории русской философии существует еще
один существенный онтологический спор: наряду с такими пред-
См.: Лосев А. Ф. Вещь и имя .'/ Лосев А. Ф. Бытие. Имя. Космос.
М., 1993. С. 802-880.
- Флоренский П. А. Имена. М., 1993.
КНИГА I. ГЛАВА 3. § 4. РУССКАЯ ФИЛОСОФИЯ 287
метами пререканий философов, как онтологический аргумент и
ономатодоксия, не меньшую напряженность вызывает вопрос об
иконопочитании.
Следующий онтологический спор завязывается вокруг мифа.
Эту тему мы постоянно держали в поле внимания. Сейчас достаточно
сослаться на «Диалектику мифа» А. Ф. Лосева, потенциал которой
до сих пор слабо востребуется современниками. «Онтология мифа»
по-своему конкретизирует онтологическое содержание Священного
Предания, лежащего в основе жизни Православия, отличая его,
например, от протестантизма. Миф (этимологически означающий
«предание») по определению является звучащим словом,
вызывающим живые картинные образы. Миф символически объединяет
имя и образ вещи или личности, вместе с тем символ является
обратным полюсом логического понятия.
Спор иконоборцев и иконопочитателей завершился победой
последних, хотя рецидивы этого спора постоянно воспроизводятся.
Икона, или образ (eiiccbv с греч. значит образ), является
онтологической категорией: об «образе бытия» оправданно говорить так же,
как Хайдеггер говорил о «голосе бытия». Традиция иконопочитания
перешла в Россию из Византии. Исследователь византийской
эстетики В. В. Бычков приводит следующую цитату из наследия одного
из первых теоретиков образа Иоанна Дамаскина: «Итак, образ
(eiiccbv) есть подобие и парадигма, и изображение чего-нибудь,
показывающее то, что на нем изображено. Не во всем же совершенно
образ подобен первообразу, т.е. изображаемому, но одно есть образ,
а другое — изображенное, и различие их совершенно ясно, хотя и
то и другое представляют одно и то же» (De imag. Ill 16).1 Тождество
изображаемого и изображенного состоит в том, что они со-образны,
хотя могут быть и не подобны друг другу. Неслучайно в Библии
говорится о том, что человек сотворен и по подобию, и по образу
Бога. Образ подобен прототипу, но не совпадает абсолютно с ним,
поскольку, продолжает И. Дамаскин, «всякий образ есть выявление
и показание скрытого».2
Различаются шесть видов образов: «1) естественные; 2)
божественный замысел; 3) человек как образ Бога; 4) символические;
5) знаковые; 6) дидактические».3 В. В. Бычков разводит их по двум
разделам — онтологическому и гносеологическому. Он пишет: «Из
указанных шести видов первые три относятся к христианской
онтологии и восходят к подробно разработанным теориям образной
структуры универсума Филона, Климента Александрийского, Ди-
1 Бычков В. В. Малая история византийской эстетики. Киев, 1991.
С 162.
2 Там же. С. 163.
3 Там же. С. 165.
288 Ю. M. РОМАН EH КО. БЫТИЕ И ЕСТЕСТВО
онисия Ареопагита. Три последних вида имеют прямое отношение
к теории знания, ибо с их помощью осуществляется познание
(постижение) мира и его первопричины».'
Икона является предметом «интериорной эстетики аскезы»
видения, а не экстериорной эстетики рассеивающегося на мелочи
жизни взгляда. В. В. Бычков определяет это понятие так:
«Aesthetica interior имеет свой объект не вовне, но в глубинах
духовного мира самого субъекта».'
Е. Н. Трубецкой является одним из первых в русской философии
начала XX века, кто стал исследовать икону с точки зрения
онтологии. В этом же направлении продолжил работу П. А. Флоренский,
в частности в богословско-философском трактате «Иконостас».
Симптоматично название работы Е. Н. Трубецкого «Умозрение в
красках», в нем подчеркивается именно «умственный» характер
созерцания образа. Трубецкой пишет: «Икона — не портрет, а
прообраз грядущего храмового человечества. И, так как этого
человечества мы пока не видим в нынешних грешных людях, а только
угадываем, — икона может служить лишь символическим его
изображением».3
В самом созерцании изображения вложен ряд трансцензусов,
которые отслеживает Трубецкой. В первую очередь, изображение
приводит к «стесненности движения до крайности», благодаря чему
созерцание «вводится в неподвижный покой Творца и сохраняется
в проставленном виде на этой предельной высоте религиозного
творчества».4 Осязательно и двигательно ощущаемая теснота
открывает возможность сосредоточения слуха в покое тишины.
«Получается впечатление, точно вся телесная жизнь замерла в
ожидании высшего откровения, к которому она прислушивается. И иначе
его услышать нельзя: нужно, чтобы сначала прозвучал призыв "да
молчит всякая плоть человеческая"».5 Только после этой настройки
единого чутья человека наступает очередь трансцензуса от
беззвучного голоса к видению. «И только когда этот призыв доходит до
нашего слуха, — человеческий облик одухотворяется: у него
отверзаются очи».6 Если осуществляется этот ряд трансцензусов,
значит, образ выполнил свою миссию передать бытие личности.
Произведение религиозного искусства персонифицируется
благодаря синергийному усвоению энергией образа энергии его прото-
1 Там же. С. 165-166.
2 Там же. С. 92.
3 Трубецкой Е. Н. Умозрение в красках /,/ Философия русского
религиозного искусства XVI-XX вв. М., 1993. С. 202.
1 Там же. С. 206.
5 Там же. С. 204.
0 Там же.
КНИГА l. ГЛАВА 3. § 4. РУССКАЯ ФИЛОСОФИЯ 289
типа. Трубецкой пишет: «Шопенгауэру принадлежит замечательно
верное изречение, что к великим произведениям живописи нужно
относиться как к Высочайшим особам. Было бы дерзостью, если
бы мы сами первые с ними заговорили; вместо того нужно
почтительно стоять перед ними и ждать, пока они удостоят нас с нами
заговорить. По отношению к иконе это изречение сугубо верно
именно потому, что икона -- больше чем искусство».1
Таким образом, онтологизм является принципом
философствования в России. Мы здесь не касаемся трансцендентально-
критических и скептических направлений, подвергающих
пристальному разбору и суду онтологическую установку. Тем более мы не
трогаем мизософствующих деятелей, которых в России было
пропорционально столько же, сколько и в других регионах.
Контронтологические и антионтологические направления создавали
дополнительный стимул для развития философии в онтологическом
русле и помогали «от противного» оттачивать онтологические
аргументы. Но не только с позиций рациональных доводов, а и с
точки зрения правоты и оправданности онтологии в философии,
без чего последняя превращается в лучшем случае в методологию
науки, в худшем — в ангажированную служанку политиканства
или в эстетствующий снобизм пресыщенного вкуса.
Понятие «истина» и символ «правда» различаются так, как
различаются «онтология» и «онтодицея», «теология» и «теодицея».
Одним из последних вариантов жанра теодицеи является «Столп
и утверждение истины» П. А. Флоренского. Это сочинение является
итогом его раннего творчества. Позднее Флоренский задумывает
обширное построение «антроподицеи» в незавершенном цикле
философских работ «У водоразделов мысли. Черты конкретной
метафизики». Можно предположить, что «онтодицея» располагается
между «теодицеей» и «антроподицеей». Онтология включает в себя
антропологию как один из высших пунктов своего развития.
Парменид утвердил принцип «бытие есть, небытия же нет».
Аристотель задался вопрошаниями по отношению к нему в форме
телеологического вопросительного местоимения «почему»: «Почему
есть сущее, а не ничто?» Вся последующая онтология пытается
обосновать, что быть лучше, чем не быть. Хотя это оптимистическое
утверждение всегда находится под большим вопросом,
распадающимся на подвопросы: если быть, то как, почему, для чего?..
Оправдание бытия совершается самим бытием и в бытии, и это,
собственно говоря, есть деятельность онтологической триады.
Философия на протяжении всей своей истории пытается найти
критерии отличения бытия от полубытия и небытия. Нашлось что
сказать по этому поводу и в русской философской традиции, вос-
1 Там же. С. 208.
290 Ю. M. РОМАНЕНКО. БЫТИЕ И ЕСТЕСТВО
приемлющей в себя практически все достижения мировой мысли.
Россия является одним из крупнейших мировых полигонов
испытания онтологии. Оттого здесь такой повышенный фон радиации.
Но даже искушения и антифилософская идеология не смогли
прервать импульс и вкус к онтологическому способу философствования.
Как выразился В. В. Бибихин, молчание философов в период
тоталитаризма было, что называется, «кричащим молчанием», больше
говорящим о правоте онтологии, чем суесловие псевдофилософов.
Онтология, чтобы оправдать свое имя, не может не быть
ортодоксальной.
Заключение к I книге
Онтоантропологические модели
Если человек может высказать суждение «человек есть», то он
совершает некоторое онтологическое полагание. Но что значит «быть
человеком»? Существует ли онтоантропологический аргумент или
доказательство бытия человека? Многим историческим концепциям
онтологии ставился упрек в том, что в них не находится места
человеку. «Бытие», дескать, есть какая-то безличная категория и
бытие не есть человек. Фундаментальной проблемой философского
знания является определение онтологического статуса человека,
как это эксплицируется в рамках антропологии, становящейся в
последнее время в качестве ключевой и приоритетной философской
дисциплины, основные принципы которой способствуют интеграции
единого комплекса естественнонаучных, социогуманитарных и
технических наук.
Постановка проблемы человека в фокус внимания философии
вызвана современными преобразованиями в науке, культуре,
обществе, природе, связанными с теоретической и практической
человеческой деятельностью, влекущей за собой не только позитивные
изменения в окружающем мире, но и приводящей к различным
кризисам и конфликтам. Нуждаются в особом рассмотрении
тиражируемые в контексте постмодернизма идеи «смерти человека»,
дегуманизации бытия, представления человека в виде безличных
структур и т. д. Актуальным является вопрос конституирования
антропологии в общей предметной и методологической сфере
философии, встраивание ее в контекст других центральных дисциплин:
онтологии, гносеологии, метафизики, культурологии, логики,
политологии и др. Решение этих ключевых вопросов невозможно без
обращения к истории философии, в процессе которой для решения
данной проблемы постоянно предлагались те или иные
стратегические идеи.
Конкретной задачей в пределах этой общей проблемы является
выяснение взаимосвязанных вопросов о возможности создания
теоретической схемы (или концептуального образа) человека как
природно-сопиального существа в онтологическом срезе анализа,
спецификация и демонстрация построенной схемы на конкретном
историко-философском материале. Результаты решения задачи мо-
292
Ю. M. РОМАНЕНКО. БЫТИЕ И ЕСТЕСТВО
гут заключаться в теоретическом описании историко-философских
моделей человека, как они даны в классических системах философии
прошлого и современности. Полнота анализа и формализация
полученных результатов может быть достигнута выведением
смысловых формул, выражающих искомые модели. Согласно
традиционному делению истории на эпохи античности (космоцентризм),
Средневековья (теоцентризм), Нового и новейшего времени
(антропоцентризм), можно поставить вопрос о том, в каком образе человек
репрезентирует самого себя в каждом из перечисленных эпохальных
циклов. Предлагаемые ниже формулы, выведенные из
текстологического анализа первоисточников («человек есть эманация
Космоса», «человек есть творение Бога», «человек есть жизненный мир
человека»), являются поэтапным обобщением антропологических
идей в истории, реконструируемых в связи с иными формами
жизнедеятельности человека: мифом, религией, наукой,
искусством, моралью, правом, с учетом многомерности человеческого
феномена. Решение поставленной задачи способствует актуализации
самосознания и самоопределения человека перед лицом
необратимых темпоральных изменений в природе и истории.
Подход к исследуемому предмету определяется потребностью
целостного упорядочения наличных областей знаний о человеке,
зачастую конкурирующих между собой. Приведение в согласие или
хотя бы создание условий возможности для продуктивного диалога
между разнородными и разнонаправленными типами знаний
возможно при применении метода моделирования, позволяющего
представить изучаемый предмет в его самопроизвольной творческой
активности. Это характерно для такого «моделируемого объекта»,
каковым оказывается человек, который сам же и конструирует эти
модели, образующие рефлексивную базу его существования.
Обнаружение историко-философских моделей человека, их
феноменологическое описание, диалектическая и структуральная
реконструкция, а также герменевтическое истолкование открывают горизонт
для отслеживания их возможных взаимодействий в целостности
человеческого существования.
Итак, проверим предложенные идеи на сквозном историческом
материале. Для античной философии Абсолютом выступает Космос
как гармонизированное устроение всего сущего. Боги,
упорядоченные в Пантеоне, являются организаторами этого Космоса и
находятся не вне его, а в нем самом. То же самое относится и к человеку.
Максимально сжатой формулой человека в этих условиях будет
следующая: человек есть эманация Космоса. Другими словами, все
существующее по закону Судьбы и по своей природе не может не
собраться, рано или поздно, в некое гармоничное целое (как
определенная масса воды собирается в каплю), и естественным
следствием подобного самособирания Космоса будет появление в нем
КНИГА I. ЗАКЛЮЧЕНИЕ
293
человека. Космос, если он состоялся, с необходимостью как бы
выдавливает внутрь себя человека как одну из своих самых
совершенных структур, моделей.
Из этой краткой формулы вытекают некоторые технические
следствия. Во-первых, человек имманентен Космосу, внутренне
присущ ему и неизбывен до тех пор, пока Космос в очередном мировом
пожаре не рассеивается в хаос. Космос и хаос противоположны
друг другу как состояния и чередуются в исчисляемой
последовательности. Антропологическая экспликация мифа вечного
возвращения показывает, что человек возвращается от себя самого к себе
своему. Во-вторых, человек тождествен Космосу, иначе говоря,
человек есть микрокосмос. А поскольку Космос есть Пантеон, то
человек одновременно есть микротеос. Боги имманентны людям в
контексте Космоса, но переход от одного уровня существования в
другой, от сокращенной степени совершенства к абсолютной,
осуществляется в мистериальной практике теургии (богоделания, т. е.
превращения человека в бога).
Тождество человека Космосу выражается двояко.
Индивидуальный человек изоморфен одному из божеств в составе Пантеона,
является его образом и выполняет на Земле установленные Небом
функции, соответствующие специфике данного божества.
Сообщество людей гомоморфно Пантеону, т. е. упорядочивает свою
совместную жизнь по подобию жизни на Олимпе. Отношение человека
к человеку как себе подобному определяется полисными
постановлениями, моделирующими космическое всеединство. Теургия
одного человека невозможна без присутствия рядом жреца, свидетеля
и других людей.
Античный человек — это Одиссей (а не блудный сын из
христианской притчи), видящий свой образ глазами богов, а другого
человека рассматривающий как заложника в своей судьбе. Так как
человек имманентен Космосу, а Космос всеедин, но люди пока
составляют неупорядоченное множество, то любой человек может
стать имманентен другому лишь в той мере, в какой возможно
осуществление между ними обмена судьбой установленных даров
(энергий Космоса). Собственно говоря, человек и есть результат
этого обмена или, точнее, есть все то, что осталось от обмена.
Освобожденный от пут купли-продажи, залога-выкупа, античный
человек растворяется в чувстве гармонии Космоса и упокоивается
на елисейских полях.
Вкратце охарактеризуем исторические модели человека в
последующие эпохи. Антропологическая формула Средневековья:
человек есть творение Бога. Необходимым следствием этого общего
положения является принцип трансцендентности Бога человеку,
закрепляющийся в вере. Поскольку и человек, и Космос есть рав-
номощные творения Бога, они продолжают сосуществовать. В по-
294 Ю. M. РОМАНКНКО. БЫТИЕ H ЕСТЕСТВО
следовательном теизме какая-либо имманентность человека Богу
исключается и квалифицируется как пантеистическая ересь.
Противоположностью трансцендентному Богу является не человек или
Космос, а дьявол как отпавшая тварь. Последний онтологически
производен и вторичен, в отличие от хаосо-космической
цикличности. Неотменяемым фактом в эту эпоху остается наличие
множества людей, упорядоченных в целом Церкви или рассеянных в
мирской жизни. Догмат о пребывании мира в греховном состоянии
компенсируется жертвой Спасителя, единственного, кто совместил
в себе Божественную и человеческую природы в их
субстанциальности. Диалектика всеединства в теистическом контексте состоит
в единственности и неповторимости Богочеловека и
множественности человека. Так как человек, по слову Писания, является
образом и подобием Бога, свободно принимающим дар бытия, он
становится личностью — тем новым моментом, который вносится
в историю Средневековьем. Средневековый человек как сотворенная
из небытия личность трансцендентен другому человеку как
личности. Таким образом, получается как бы два типа
трансцендентности: Бого-человеческая и человеко-человеческая. Но в первом
случае трансцендентная граница нарушается однократно в явлении
Спасителя и Искупителя, во втором случае преодоление
трансцендентной пропасти между человеком и человеком возможно как
неоднократное и множественное. Это проявляется в жертвенности
различных типов святых. Чисто человеческая жертва
осуществляется в аскетической уединенности процесса обожения (теозиса).
Если теургия предполагает сущностную отождествленность
языческого божества и героя, то обожение достигается по подобию в
синергийной встрече свободной воли святого и благодати,
ниспосланной Святым Духом — третьей ипостасью Пресвятой Троицы.
В этом событии трансцендентность сохраняется в любом случае как
признак личностного бытия, в противоположность языческому
превращению трансцендентности в имманентность.
Вызревшая в контексте Средневековья возможность признать
трансцендентную границу между людьми, т. е. существование двух
типов трансцендентности, определяющих два пути спасения —
монашеский и мирской, — ставит человека перед выбором: теоцент-
ризм и/или антропоцентризм. Так в истории начинается новая
эпоха, продолжающаяся поныне. Распространенное мнение о том,
что человек, начиная с Ренессанса, «отодвигает» Бога в сторону и
сам узурпирует «царское место», некорректно, так как не учитывает
указанный выше принцип двух типов трансцендентности, ставящий
человека перед выбором. Кроме этого, сам выбор трактуется с точки
зрения начального импульса, а не его завершенности. На самом
деле начало выбора узнается по завершении процесса, в его
эсхатологической перспективе. Подлинный выбор возможен и действи-
КНИГА 1. ЗАКЛЮЧЕНИЕ
295
телен не между двумя вещами (случай буриданова осла и двух
стогов сена), а между одним-единственным бытием и небытием.
Учитывая эти ограничения, можно поставить задачу найти
краткую формулу человека в эпоху антропоцентризма. Итак,
допускается, что человек выбрал в пользу человека же, не отменяя задним
числом, конечно, ни Бога, ни Космос, ни себя самого (что в принципе
и так невозможно). Какой образ человека вырастает в данном
случае? Или, по-кантовски, что есть человек? В отличие от двух
первых формул, достаточно компактных, искомую третью не так
легко выразить, поскольку мы уже не имеем права употреблять
задействованные в предыдущих формулах понятия эманации и
креации, трансцендентности и имманентности, угадывающего чутья
и веры.
Примем в качестве двух проводников и возвестителей антропо-
центристской ориентации Р. Декарта и Ф. Ницше. Первый
манифестирует автономность человеческого разума, второй, после фразы
«Бог умер», являющейся мотивом выбора в пользу иного и эхом
вести о дионисийском страстотерпении и Крестной смерти, рисует
завлекающий образ сверхчеловека. Приставка «сверх-», правда,
совершенно неуместна и излишня, ибо даже просто человек является
неизвестной величиной. Вместе с тем Ницше, достигая
максимальной степени уединения, разругиваясь окончательно с ближайшим
окружением, произносит парадоксальную фразу: «Когда я один —
нас уже двое», — антиномизм которой должен быть включен в
схему третьей формулы. Коротко говоря, с арифмологической точки
зрения: один человек — уже два человека. И это позволяет поставить
термин «человек» в начале и в конце искомой формулы.
Не вдаваясь в дальнейшее обоснование, но учитывая достижения
различных философских направлений этой эпохи:
трансцендентализма, философии сознания, феноменологии, философии жизни,
персонализма, экзистенциализма, диалогизма и др., выскажем в
качестве гипотезы и требующего доказательства тезиса: человек
есть жизненный мир человека.
Человек во все эпохи представлялся себе необъяснимым
феноменом: в загадке Сфинкс и изречениях пифии, в тайне грехопадения
и покаяния, в Откровении Священного Писания, в секретах
мирского обустройства и в неуловимой естественной текучести жизни.
Отношение к себе человек выражал опосредствованно в угадывании
Судьбы и в чутье гармонии Космоса, в вере в Бога и, наконец, в
знании закономерностей жизненного мира. Последнее есть просто
человековедение, или антропология, как слово человека о человеке
же. Каково это слово? Что может сказать о себе человек, не дублируя
оракулов и пророков? Поскольку топология антропоцентризма
имеет сдвоенный центр, постольку индивидуальный человек о себе
самом ничего не может сказать: ни назвать себя по имени, ни даже
296 Ю. Л*. РОМАНЕНКО. БЫТИЕ И ЕСТЕСТВО
подтвердить себя в качестве человека. Древние говорили, что
совершенно одинокий человек — это или бог, или зверь. Лишь другой
человек может даровать мирское имя и звание человека первому.
Назовем это принципом несамоименуемости человека. Именует сам
себя только Бог, поэтому Его Имя остается последней тайной.
Выше говорилось о том, что Космосу противостоит хаос, Богу —
дьявол. Человеку жизнеутверждающе и нигилистически
противостоит сам человек. По причине антропологического эксцентризма
человек не только живет в мире с человеком, но и является его
врагом. Не так страшен хаос, ибо его энергии рано или поздно
претворяются в новые упорядоченные структуры Космоса. Дьявол
может только впустую кощунствовать, совращать и утилизовать
отходы совращения. Человеку сложнее всего выдержать в чистоте
присутствие рядом человека, не впадая в клевету, зависть,
садомазохизм, не превращая мир в войну.
В первых двух формулах человек фигурирует только как одна
часть равенства, причем не самая главная. Только последняя
формула ставит человека лицом к лицу с себе подобным. Хватит ли у
человека мудрости на то, чтобы достойно выдержать эту очную
ставку? Ответ на этот фундаментальный вопрос не предрешен. Еще
более сложно решить проблему взаимопреобразования трех, выше
едва затронутых, абстрактных формул в единую. Гипотетически,
насколько позволяет язык, всеединую онтологическую формулу
человека можно выразить приблизительно так: Человек в Космосе
творится Богом к мирной жизни с Человеком.
КНИГА II. ЕСТЕСТВО
ВВЕДЕНИЕ
Мифическая интерамбула между онтологией и метафизикой
Переход ко второму большому тематическому разделу,
озаглавленному «Естество», связан с определенными трудностями
теоретического и методологического характера и усложнен проблемой
совместного выражения содержания онтологии и метафизики.
Сравнение онтологии и метафизики не означает только работу по их
инструментально-понятийному разграничению или разведению по
типам научного знания. Такого нейтрального посредника или
медиума, сводящего или разводящего неких субъектов, разделяющего
и, значит, властвующего, между онтологией и метафизикой,
вероятно, нет. Разведение/сведение зависит не от субъективной прихоти
конкретной персоны, а от внутренних установок самих онтологии
и метафизики. Изначальная связь между философами основывается
не на знании, а на общей принадлежности к собственно философии.
Эта принадлежность может быть врожденной или сотворенной,
знаемой или незнаемой. Философы всегда предупреждали об особом
ученом незнании (docta ignorantia), с помощью которого
постигаются онтологические и метафизические «предметы».
Перед нашим взглядом и слухом сейчас стоят два слова —
онтология и метафизика, которые сами по себе что-то да значат. По
какому признаку можно сравнить эти слова, учитывая, что акт
сравнения подразумевает установление тождества и отличия срав-
нимостей? Например, сравнивая «яблоко» и «грушу», мы различаем
их по «виду», но отождествляем по «роду», коим является «плод»,
являющийся более общим понятием, включающим в свой объем
«яблоко», «грушу» и многое другое без различия. Онтологию и
метафизику (бытие и естество) таким образом сравнить проблематично,
поскольку не видится и не слышится более широкого понятия,
способного включить в себя эти запредельные абстракции. Эту проблему
приходится решать на каких-то принципиально иных путях.
Дополнительной сложностью в решении поставленной задачи
является поиск языка выражения, поневоле включающий в себя
метафорический стиль изложения. Разговор о метафоре должен
быть отдельным, сейчас можно только заметить, что она по смыслу
298 Ю. M. РОМАНЕНКО. БЫТИЕ И ЕСТЕСТВО
своего имени позволяет адекватно выразить движение мысли между
онтологией и метафизикой. Само слово «метафора» допустимо
понимать буквально и метафорически. «Мета-фора» дает возможность
«пере-нести» смысл из онтологии в метафизику и обратно без его
потери, посему метафора, если прочитать это слово буквально и
наоборот, есть «ношение цели» («фора меты») философского
мышления. Стоит обратить также внимание на то, что «мета-фора» в
какой-то степени синонимична «метафизике», если под «фюсис»
понимать «вынашивание» и «рождение» некоего плода. Проявление
мысли в языке постоянно наталкивается на это взаимоналожение
и взаимопереплетение таких скрытых синонимов, не узнающих по
забывчивости друг друга. В тексте вся синонимическая сеть
держится одним-единственным именем, рассеявшим синонимы. Но его
еще нужно найти, блуждая в хитросплетениях метафористики,
готовящих лингвистические ловушки.
Говоря парадоксально, чтобы «пере-нестись» от онтологии к
метафизике, нужно снова вернуться к самой онтологии и вновь
осмыслить полученные в ней результаты. Необходимо продумать
«то же самое» — бытие; но уже в силу того, что это продумывание
будет дополнено памятью о «первом разе», — оно дает новый,
дополнительный результат, который и составляет содержание
метафизики. Эту операцию возвращения придется выполнять
неоднократно, поскольку метафизика есть своеобразный повтор или
рефлекс онтологии, однако не ее голое дублирование. Начав что-либо
делать, нужно выложиться до исчерпания сил, до невозможности.
Если это удастся, то окажется, что все отданные силы, через
некоторую паузу отдыха, возвращаются вновь, да еще и с избытком —
не скудеет рука дарующего. Новое начало начинается с «того же
самого», но теперь имеется возможность видеть суть дела двумя
глазами, стереоскопически.
Напомним, что основная идея вступительной части первой книги
заключалась в том, что философия, являясь организатором и
посредником знакомства, закрепляет за субъектами знакомства их
имена, в нашем случае — имена онтологии и метафизики. В этой
ситуации имена выступают как некая форма или способ знания.
Воспользовавшись расселовским разделением знания на «знание по
описанию» и «знание по знакомству» (но не формально, а по
существу), можно сказать, что онтология и метафизика
рассматриваются нами как имена некоего начавшегося знакомства,
продолжающегося до тех пор, пока философия остается актуальной. Что
происходит в пределах самого знакомства, каковы его результаты
или утраты — до конца еще неведомо. Главное пока — поддержать
усилие встречи, сохраняя имена субъектов знакомства.
Могут сказать, что имена могли быть иными, исторически иначе
сложиться, к тому же в разных языках чисто фонетически одни и
КНИГА П. ВВЕДЕНИЕ
299
те же слова звучат по-разному, как, например, русское «ку-ка-реку»
на английском слышится как «ко-ко-дидл-ду». Но какое бы
разнообразие и взаимозамена имен не существовали, к ним нужно
относиться как к таковым. Если бы история оставила нам другие
имена, нежели «онтология» и «метафизика», все равно мы должны
были бы выполнять ту ономатическую аналитику, которой сейчас
занимаемся.
Высказываясь об онтологии, мы находим откуда-то силы позвать
кого-то именем «Бытия» (первый акт). Это является зовом в
пустоту — гласом вопиющего в пустыне. Если ответа оттуда никакого
не следует, то все преждесказанное и все последующее не имеет
никакого смысла и ценности. Но если, паче чаяния (ведь изрек
однажды Гераклит: «Не чая нечаянного, не выследишь неисследимо-
го»), на зов воспоследовал отклик (второй акт), то это значит, что
встреча все-таки случилась и имеет свой реальный конкретный
результат. На зов именем «Бытия» эхом откликается имя «Естества».
Энергетика всего историко-философского процесса накопления и
передачи истины представляет собой такую своеобразную
перекличку. Если в первой части мы без-ответственно дерзнули спрашивать,
ретранслируя вопросы своих предшественников-коллег (вспомним
об «онтолингвистическом вопрошании» Хайдеггера), то во второй
части нам же приходится и ответствовать, вслушиваясь для сверки
в ответы себе подобных и соразмеряясь по ним в круговой
коллегиальной поруке. Ответственность философии как раз и
заключается в том, чтобы уметь задавать самим себе небезответные
вопросы. Полезно вспомнить, что однокоренными словами «ответу»
являются «привет», «завет», «навет» и возможные другие, общую основу
которых носит в себе некий загадочный «-вет-», откуда произошли
уже в другую сторону и слова «вечность», «вещь», «вещать» и т. д.
Онтология есть вещание вечной вещи. И ответ ей дан от века —
с того момента, когда возникла сразу же за онтологией, по ее следу,
метафизика. Чтобы было напряжение в «электрической сети»
философского влечения к Мудрости, необходимо наличие этих двух раз-
нозаряженных полюсов. Онтология творчески утверждает бытие на
фоне небытия. Метафизика «заземляет» онтологию на «естестве» —
эта метафора как нельзя кстати проясняет ситуацию, ведь «земля»
изначально трактовалась как одна из естественных стихий-архэ.
Историко-философский подход должен показать, как
существовали, различались, видоизменялись и в каких значениях
использовались термины «онтология» и «метафизика» в истории
философии. Можно согласиться с мнением, что значения такого рода
понятий, как «бытие» и «естество», не могут устанавливаться по
авторскому произволу и что невозможно выявить существо
«онтологии» и «метафизики», вообще «как таковых», универсально для
всех исторических форм философствования. Значения и смыслы
зоо ю. м. романёнко. бытиё и ЕСТЕСТВО
подобных понятий не существуют вне «текстов» и «контекстов»
философских систем и способов философствования. Весьма
проблематично также, с исторической точки зрения, понять, как
«открываются» эти значения и какой силою поддерживаются в
определенном временном интервале.
Значимость имени не равна значению понятия, которое может
устанавливаться конвенциально, по согласованию пользователей
данного понятия. Значимость бытийна, а бытие значимо для
человека на протяжении всей изменяющейся, многоликой и запутанной
истории. Гармоничное совпадение «общности» и «значимости»
случается редко, в избранные моменты, выделяемые в эпохальные лики
истории, когда актуальность онтологии и метафизики в философии
очевидна, явлена и слышима в данный момент
историко-философского процесса. Значений у терминов «бытие» и «естество» может
быть сколько угодно, но значимость «онтологии» и «метафизики»
одна.
Узнается и понимается эта значимость первоначально в их
именах и образах, суть которых заключается в том, чтобы они звали
и чтобы на них откликались, чтобы они были произнесены и
услышаны. Только и всего. Это не проблема объяснения и
доказательства, это проблема понимания того, как «звучат» и «пишутся»
имена, а также как они «слышатся» и «читаются».
Разумеется, на авторе — презумпция виновности: на нем лежит
бремя доказательства. Но еще Аристотель предупреждал, что не
для всего нужны доказательства, особенно для первоначал, которые
сами являются причиной и средством любого доказательства. Точно
так же невозможно доказать терминологически необходимость
«онтологии» и «метафизики», не принимая во внимание тот факт, что
именно они устанавливают смысловые пределы любого термина и
доказательства.
Поскольку от философов требуют терминологической прояснен-
ности и четкости изложения их мысли, что не приходится
оспаривать, обратимся к самому «термину», но не в логическом отношении,
а в мифологическом. Поскольку миф, по определению А. Ф. Лосева,
является развернутым магическим именем, необходимо подойти к
«термину» как к имени и развернуть все его выразительные
возможности в отношении к онтологии и метафизике. История в лице
римской мифологии подарила нам такую возможность —
обращаться с термином как с именем: «ТЕРМИН (Terminus), в римской
мифологии божество границ, межевых знаков, разделявших
земельные участки».1 Он имеет хтоническую природу, его культ связан
с представлением о святости и нерушимости частного владения,
т. е. термин определяет границы собственности. Рассудочная логика
1 Мифы народов мира. Энциклопедия. Т. 2. М., 1992. С. 501.
КНИГА П. ВВЕДЕНИЕ
301
заимствует имя бога Термина и использует его в качестве рабочего
инструмента для осуществления собственно логической операции
определения. Если в архаическом культе богу Термину приносили
жертвы, то логика также требует жертвоприношения своему
«термину» в виде логически безупречной, строго и последовательно
оформленной дефиниции понятия.
Для мифического мышления термин есть граница или знак
границы чьего-то владения; он разграничивает собственности как
минимум двоих субъектов-хозяев. Казалось бы, термин (и в
мифологическом, и в логическом смыслах) является идеальным средством
различения предметных областей онтологии и метафизики, их сфер
компетенции, приложимости и прерогативы. И если бы был найден
такой термин, который можно было бы поставить между онтологией
и метафизикой, то задача была бы решена. Однако не все так
просто, посредника между онтологией и метафизикой в этом смысле
нет, но и от термина отказываться не следует, а необходимо глубже
вглядеться в его миф, чтобы понять его роль-функцию в
представлении понятий «бытие» и «естество», если они вообще являются
понятиями. Вглядеться «глубже» в буквальном смысле: ибо
несмотря на то, что термин наружно представляется в виде межевого
камня, но он, имея хтоническую природу, укоренен в почве и в
ней невидим. В воздушном пространстве он оформлен как
отдельный, со всех сторон света обозримый предмет, но потаенный низ
его связан со всем элементом земли. Поэтому ему в ритуале
приносились жертвы в виде вливаний молока и мёда в земляную яму
окрест межевого камня-столба, для пущей вязкости почвы.
На термин можно смотреть с двух точек зрения. В свете
онтологии термин есть «ниоткуда» взявшийся «твердый» предмет,
который некий землемер произвольно воткнул в стихию земли. С этого
момента термин должен прочно и прямо стоять, не падая и не
рассыпаясь. В этом своем статусе «термин» выражает собой
онтологический принцип творения бытия из ничего. Более того,
«термин» есть сам «онтос», и получается, что «терминология» является
синонимом «онтологии».
С точки зрения метафизики (или понятия «естество»), термин
имеет хтоническую природу, и здесь его смысл двояк: он сложен
как плотный предмет, но погружен в мягкий; сам предмет конечен,
но держащая его почва в принципе бесконечна. Граница владения
фиксируется термином в обоих смыслах. Распри по поводу
собственности случаются не только по причине «воровского» смещения
пограничного столба с места на место. Это субъективная,
инициативная сторона дела. «Сдвинувшего межевой камень с целью захвата
чужой земли в древнейшее время предавали проклятию,
впоследствии он нес за это ответственность как за уголовное преступление».1
1 Там же. С. 501.
302 IO. M. POMAHEHKO. БЫТИЕ И ЕСТЕСТВО
В этом случае жертвенным возлиянием идолу Термина оказывались
уже не молоко и мёд, но кровь.
Может статься и так, что та земля, которая приняла термин и
естественно носит его, сама начинает спонтанно «плыть»,
непроизвольно унося за собой «начальное» место. Заметить смещение теперь
могут только звезды, но и их взгляд является блуждающим. Кроме
этого, чтобы обнаружить сдвиг и нарушение места, звезды должны
вернуться в исходную конфигурацию, а на это потребуется не одно
тысячелетие. Это — объективный, естественный повод начать спор
о собственности. Затем, термин-камень внедрен не только в землю,
но и в естество воздуха и воды. А они точат его, незаметно, но с
уверенной инерцией. Или, наоборот, закаляют как огонь. Таким
образом, если термин является «метой» на поверхности земли-
фюсис, то, не погрешив против истины, можно утверждать:
«терминология» и «метафизика» тоже синонимичны. Получился
синонимический круг — через «терминологию» мы сопоставили
«онтологию» и «метафизику», через «термин» отождествили «бытие» и
«естество», неявно внеся в данное тождество момент
терминологического различия.
Как же нам теперь разобраться с терминологическим
соотношением онтологии и метафизики? Обращение к мифу дало нам наводку
на мысль и по-своему уже решило проблему. Теперь нужно
исполнить то же самое философскими средствами. Расставаясь на время
с этим мифом, подчеркнем еще одну важную подробность.
Культ Термина в Древнем Риме был интегрирован в культ
Сильвана, бывшего богом лесов и дикой природы (от silva — лес;
кстати вспомнить, что греческое понятие «материя» — «гиле»
буквально также означает лес, а именно строевой). Поэтому при
уточнении термина важно не только определять его форму, но
также и учитывать его материю. Римский Сильван отождествлялся
с греческим Паном, о котором мы выше писали, мифологически
разбирая философское понятие всеединства. Ту же функцию все-
единения, вероятно, выполняет и Сильван, с некоторыми
специфическими отличиями. Вкупе с Термином Сильван символизировал
«нерушимость границ Рима и их постоянное расширение».1 В
соответствии с тем, что империя Рима в ту эпоху становилась как
этногеографическое всеединство, его мифологические персонажи
выражали статико-динамическое развитие мира. Термин как
граница должен быть четко установлен, хотя это не исключает того,
что сама граница может быть подвижной, как ей угодно. К термину
как научному понятию можно подходить с разных сторон: с точки
зрения диалектики, логики (устанавливая его объем и содержание),
семиотики и т. д. Несмотря на то, что термин должен быть неиз-
1 Мифы народов мира. Т. 2. С. 501.
КНИГА Л. ВВЕДЕНИЕ
303
менным, как само «бытие», «плывущая» материя истории незаметно
изменяет его смысл и значение.
Отождествление онтологии и метафизики включает в себя их
разность. Уместно применить в данном случае выражение Гегеля:
«тождество тождества и различия». Мы пришли к тому, что
«терминологически» (а вернее — «терминомифически») отождествили
онтологию и метафизику, хотя первоначальные замыслы, кажется,
заключались в прямо противоположном — в их различении. Теперь
впору сказать: бытие и естество — одно и то же. Но в силу двоякого
представления термина — видимой его части в понятии и категории
и невидимой в символе и метафоре, воплощенных на одном и том
же слове, — тождество одновременно подразумевает отличие. Это
и проявляется в конструкции оборота «одно и то же», где с ариф-
мологической точки зрения явно присутствует «бытие» — «одно»,
а также неявно двоица «естества» — «и то же». Бессмысленно
было бы утверждать: «онтология и онтология — одно и то же»;
так никогда не говорят в адрес какого-либо простого единичного
предмета. Бытие одно есть оно само — так утверждает онтология.
Когда же высказывается положение «онтология и метафизика —
одно и то же», то здесь сразу формулируется проблема и появляется
смысловая возможность их отождествляюще-различительного
представления: естество есть «и то же» бытия — так утверждает
метафизика. А можно выразиться и по-другому, по-хайдеггеровски:
естество есть со-бытие бытия и, вкруговую, бытие события.
Мифологически подобное отношение представимо в свете близ-
нечного мифа. Воспользуемся анализом этой мифологемы, применяя
ее к сопоставлению онтологии и метафизики. Проблема остается
той же самой — как можно сравнить близнецов? Их генетическое
подобие рассекается конвенциональным наделением разными
именами: если уж на глаз они неотличимы, то пусть хотя бы на слух.
Вероятно, практика разноименования впервые возникает именно в
традиции близнечного мифа. Вне его влияния, по видимости, был
обычай именовать всех членов общины одним именем того божества-
тотема, которого «слушались».
Рождение однояйцевых близнецов для первобытного человека
всегда было удивительным событием. Близнецы рассматривались
как чудесные существа, являя собой раздвоенный образ одного
лица, так сказать, «единицу во двоице». Повод для удивления
действительно имелся, и, по-видимому, это также было способом
запустить продуктивную способность воображения в антропогенезе.
Просто смотри на близнецов — и удивляйся. А ведь удивление,
как полагал Аристотель, является началом философии. Это также
«вполне согласуется с данными приматологии, устанавливающими
у приматов те же основные черты поведения по отношению к
двойне. Удивление обезьяньего стада вызывает как сама двойня,
304 Ю. M. РОМАНЕНКО. БЫТИЕ И ЕСТЕСТВО
так и мать близнецов, держащаяся после их рождения поодаль от
стада, причем ее отгоняет в сторону вожак».1 Близнечныи миф, по
сути, является дорефлективным истоком диалектики.
Взгляд на близнецов со стороны соплеменников приводил, с
одной стороны, к «великому страху», с другой стороны, к их
сакрализации и почитанию. В обоих случаях близнецов изолировали
от привычного течения жизни племени. Между близнецами
чередовались периоды соперничества и сотрудничества, часто они
дублировали функции друг друга. Внушаемое близнецами чувство
сверхъестественного вылилось в архаике в специальные ритуалы.
Так, у многих народов был распространен обряд убийства близнецов
после их рождения. Иногда умерщвлялся только один из близнецов,
так как по поверью предполагалось, что на два тела (своеобразный
мифический принцип «тождества неразличимых») дается только
одна душа. Следовательно, один из близнепов вместо души имел
пустое место, в которое могли проникать злые духи. Видимо, по
этой причине порою один из близнецов убивал другого. Сложность
в этом обряде, вероятно, заключалась в том, чтобы конкретно
определить — у кого нет души. «Истоки близнечного мифа можно
видеть в представлении о неестественности близнечного рождения,
которое у большинства народов мира считалось уродливым (а сами
близнецы и их родители — страшными и опасными)».2
Несмотря на то, что близнечество достаточно редкое явление,
близнечныи миф, как и подобает мифу, универсализируется, и быть
может, в большей мере выражает собой идею родства, чем отношение
родителей и детей. Не обязательно родиться в паре с близнецом —
единичный ребенок также подпадает под действие
абсолютизированной близнечной мифологемы. Например, в тотемистской версии:
«согласно представлениям догонов, у каждого человека есть свой
близнец — животное».3 У тех же догонов плаценту (послед) считали
младшим близнецом ребенка.
По мере развития рефлексии и демифологизации «тема близне-
чества в последующей культурной традиции связывается с темой
двойника человека (или его тени...)».'1 Мотив утерянного двойника-
близнеца лежит в основе многих жизненных сюжетов. Когда близнец
рядом, он быстро надоедает; когда его нет, возникает потребность
его вернуть. В этой амбивалентности скрывается вся энергетика
близнечного мифа, весомость которого в человеческой культуре еще
до конца не осознана, несмотря на то, что во многом сама культура
1 Иванов В. В. Близнечные мифы ,'/ Мифы народов мира.
Энциклопедия. Т. 1. С. 175.
2 Там же. С. 175.
3 Там же. С. 175.
4 Там же. С. 176.
КНИГА П. ВВЕДЕНИЕ
305
базируется на символической двоичной классификации,
порожденной близнечным мифом. Не оспорить фундаментальность мифов о
Каине и Авеле, Иакове и Исаве, Прометее и Эпиметее, Диоскурах,
Ромуле и Реме, Карле Марксе и Фридрихе Энгельсе, и даже строки
В- Маяковского «партия и Ленин — близнецы-братья» тоже
встраиваются в этот ряд.
Возможность увидеть себя в другом и другого в себе —
естественное условие возникновения самосознания. Для близнецов не
нужно зеркала, они сами являются для себя живыми зеркалами.
Им проще дойти до состояния самоидентификации, но и сложнее
в нем удержаться. Близнецы, как правило, опережают сверстников
в развитии, так как сила их удвоена. В окружении других они
консолидируются, но если их предоставить самим себе, то исход
может быть печален. Свидетельством чему служит история с Каином
и Авелем. Один стремится занять место другого, избавиться от
другого — «не быть сторожем брату своему», — чтобы состоялось
окончательное отождествление двуипостасного существа. Один
стремится лишиться другого, чтобы стать единственным. Снизить
остроту противостояния может только присутствие Третьего.
Как обратное движение можно рассматривать бессознательное
стремление ребенка-одиночки приобрести себе близнеца. Такими
одиночками являются большинство из нас, кто не родился в паре.
Но это не значит, что у нас нет близнеца в мифологической
перспективе, пусть и не данного в воплощенной форме. Намек на
присутствие рядом возможного близнеца дает зеркало, и миф о нем
естественно соседствует с близнечным мифом.
Обычно любимой забавой для близнецов является розыгрыш
окружающих, когда один из них выдает себя за другого в момент
отсутствия последнего. Например, один близнец по очереди сдает
экзамен за двоих, чуть-чуть изменив свой облик. В этой игре нет
злого умысла, если она ведется во благо обоих. То, что при этом
экзаменатор оказывается в глупом положении, это его проблема —
нужно быть более внимательным: на самом деле близнецы легко
различаются теми, кто к ним привык. Хотя привычка — дело
крайне ненадежное.
Первая ложь, или, во всяком случае, возможность лжи,
появляется в игровом пространстве между близнецами. Это очень хорошо
показано в мифе об Иакове и Исаве. Будучи рожденным вторым
и не имея права на первородство, Иаков, сымитировав внешность
брата, добывает благословение отца. Прикрывала его в этом обмане
мать. Нельзя, наверное, сказать, что это была абсолютная ложь.
Быть может, этим действием для Иакова было отвоевано право на
жизнь, ибо, как мы помним, в мифологическом представлении на
двух близнецов давалась только одна душа, значит, один из них
должен был убит, чтобы не стать носителем абсолютного зла. Быть
306 Ю. M. РОМАНЕНКО. БЫТИЕ И ЕСТЕСТВО
может, благодаря усилиям и соображению матери, не желающей
расставаться ни с одним из своих детей, было инспирировано
чудесное, поскольку необязательное и лишнее, зарождение новой
души в акте благословения.
Душа, как известно из ее определения, не размножается. Она
вечна, потому что проста, и, в обратном направлении, она проста,
потому что вечна. Душа творится однократно и навечно, и в этом
состоит ее чудо. Но возможно, по-видимому, не менее чудесное
претворение души. Во всяком случае, рассматриваемый миф дает
намек на подобное понимание.
Но если оба близнеца имеют каждый по душе, то проблема в
чем-то снимается. Теперь они имеют равные права на существование,
а кровожадный ритуал убийства одного из них должен быть отменен.
К этому гуманному решению человечество рано или поздно должно
было прийти. И не важно, что при этом была применена ложь —
это была ложь во спасение. Однако, решив проблему «первородства»
посредством мгновенного, незамечаемого комбинирования
элементов в двоичной системе, их возможной взаимозамены благодаря
абсолютной имитации облика одного другим, мы получаем новую
проблему. Если у близнецов и тела разные (пусть внешне и очень
похожие), и души разные, тогда уже невозможно говорить об их
генетическом единстве. Каждый идет теперь своим путем, не зная
о пути другого. Возвращение братского единства теперь становится
возможным уже не по факту генетического родства, а креативным
образом в акте доброй воли. Библейский миф, по всей видимости,
на это тоже намекает, поскольку здесь дано описание жизненного
пути только Иакова, а путь Исава остался практически фигурой
недоговаривания, договорить за которого осталось в наследство
потомкам.
Можно представить такую гипотетическую ситуацию,
порожденную взаимообратимостью близнецов. Исав и Иаков были
неотличимы друг от друга, за исключением одного пункта: первый был
чрезмерно волосат (кстати, его облик некоторые интерпретируют
как олицетворение дикой, «естественной» природы), второй —
«гладок» (олицетворение «культуры»). Отличить их по этому пункту
можно было не только глазами, но и «на ощупь» (вспомним, что
по Аристотелю — это онтологический критерий). Для получения
благословения сын подводился «под руку» подслеповатого отца.
Так же как животные в райское время получали свои первоимена,
будучи подведенными «под руку» Адама. Иаков надел шкуру
жертвенных животных шерстью наружу (изобретение одежды) и,
обманув отца, получил в наследство «новую душу». Или, быть может,
отец дал себя обмануть, ведь, несмотря на слепоту, слух у него
был чуток.
КНИГА П. ВВЕДЕНИЕ
307
Возможна инверсная ситуация. Допустимо, что первым родился
бы «гладкий» Иаков, тогда за первородство пришлось бы бороться
«косматому» Исаву. В этом случае, скорее всего, мать догадалась
бы для подлога изобрести бритьё для того, чтобы подвести под
ощупывающую руку отца обритого Исава, имитирующего Иакова.
Попутно с этим актом онтологического подражания человечество
обогатилось одним из искусственных инструментов — бритвенным
орудием. Если бы все произошло именно таким образом, то
священное описание проследило бы историю жизни Исава, а судьба
Иакова осталась бы в тени, умолчанная между строк биографии
брата. Что касается взаимоотношения родителей, то об их
попечительном внимании нужно говорить отдельно.
Еще одной иллюстрацией универсальности близнечного мифа,
равно как и мифологемы зеркала, является сказание о Нарциссе.
Согласно одной из версий, у Нарцисса была сестра-близнец, которую
он потерял и долго безутешно ее разыскивал, пока случайно не
наткнулся на зеркальную гладь воды. В ней он увидел изображение
своей сестры и обрадовался повторной встрече. Согласно этой
интерпретации, Нарцисс отнюдь не занимался эгоцентрическим
самолюбованием, «нарциссизмом», как принято сейчас это называть, а
изъявлял любовь к альтер-эго. Ведь раньше своего образа он не
видел, вернее, он видел его в своей сестре.
Предпосылки рефлексии, свойственной вне-мифологическому
познанию, созревают в недрах самого мифа. Более того, в
онтологическом плане можно утверждать, что миф является условием
возможности рефлексии как таковой, если под последней понимать
от-страненное обращение к себе самому или, иначе говоря,
опосредствованное жизненным миром обретение собственной сущности.
Миф, как известно, существует вне субъект-объектной
дифференциации. Объективность определяется в первую очередь через
предметность — через то, что активно пред-стоит субъекту (буквально
слово «предмет» можно прочесть как «мечущееся перед...»), в
притягивающе-отталкивающем общении с которым устанавливается
естественная граница. Чтобы состоялось реальное разделение на
объект и субъект и последующее за этим возникновение рефлексии,
являющейся отражением от данной границы (следствием которой,
в свою очередь, станет самосознание), необходимо, чтобы в мифе
произошло некое событие. Этим событием, конституирующим и
запускающим способность рефлексии в пределах мифа, является
встреча с зеркалом. Оно появляется либо естественно —
разглаживание пленки поверхностного натяжения воды, либо
искусственно — орудийно выкованная или отшлифованная плоскость
несмешанного материала. Само зеркало не является ни субъектом, ни
объектом. Оно — между ними и дает им шанс встретиться. Впрочем,
в последующем, если встреча оказалась плодотворной, зеркало мож-
308
Ю. M. РОМАНЕНКО. БЫТИЕ И ЕСТЕСТВО
но воспринимать в качестве постороннего «предмета», но тогда мы
не видим того, кто в зеркале отражается, обращая внимание только
на границы эмпирической вещи под названием «зеркало». Это
может произойти лишь тогда, когда единое безграничное зеркало,
целокупно объемлющее собою действительность, как купол неба,
уже разбито, его осколки рассеяны в пространстве и один из них
предстоит нашему взгляду. В этом случае мы уже искусственно-
рационально рефлектируем, поскольку выпали из мифа. Теперь,
вглядываясь в зеркало, мы поочередно воспринимаем в нем то свое
отражение, то форму зеркала как оконеченного предмета. Можно
сказать, и мы это выдвигаем в качестве тезиса, что миф есть зеркало
как таковое: не зритель-субъект и не зримое-объект, но именно
зеркало (суффиксальная организация этого слова в русском языке
особенно показательна). В мифе бытие естественно раздваивается,
и в нем же дается залог снятия этого удвоения.
Исследователи уже обращались к конструктивной роли зеркала
в процессе возникновения и формирования самосознательной
установки у ребенка. В частности, Ж. Лакан в своей известной работе
о стадии зеркала в акте образования функции «Я» у ребенка
подходит к данной проблеме в русле методологии психоанализа,
структурализма и экзистенциализма, обосновывая творческую функцию
мифа-зеркала в детском развитии. Стадия зеркала понимается как
идентификация, т. е. преобразование субъекта, присваивающего
себе собственное отражение в зеркале. Этот образ (imago, gestalt)
формирует организм и тело, вплоть до того, что на основе
экспериментальных данных высказывается гипотеза о том, что для
созревания яйцеклетки необходимым условием является возможность
увидеть себе подобного, хотя бы и только в зеркале. Существует
точка зрения, что кора головного мозга является внутренним
зеркалом организма, поэтому мозг способен выполнять функции
мышления, т. е. приводить к единству многообразие органических
восприятий.
Можно расширить и обобщить эти идеи по следующим
направлениям. Прежде всего миф есть не только оптическое зеркало, но
и эхо. Согласно нашему определению мифа, он является творческим
словом, непосредственно вызывающим зримый целостный образ,
минуя логическую обработку. Это определение развивает в
гносеологическом плане известное определение А. Ф. Лосевым мифа как
магического имени, вызывающего чудеса («Диалектика мифа»).
Более общей представляется трактовка мифа как зеркала не
только в зрительном перцептивном ряду, но и в акустическом.
Миф-зеркало является сферическим экраном, одновременно
отражающим видимые и слуховые волны и фокусирующим их на
конкретного человека, давая зажечься в нем самосознанию. Для
перехода ребенка на уровень сознания, помимо встречи с зеркалом,
КНИГА II. ВВЕДЕНИЕ
309
необходимо культивирование опыта эха в практике именного зова-
отклика, с учетом соответствующей техники безопасности,
предотвращающей появление психических срывов, к примеру
клаустрофобии, ибо отзвук возникает только в замкнутом пространстве.
Принято квалифицировать миф как начальную фазу
возникновения сознания в филогенезе и онтогенезе. Сравнение раннего этапа
в истории человечества (архаика, античность) и периода детства в
персональном развитии приводит к условному их отождествлению
и установлению смыслового параллелизма. Обычно миф определяют
как целостное, нерефлективное отношение к жизни и миру,
синкретическую интегрированность в бытии. Затем, в процессе
постепенного становления и жизненного насыщения происходит
необратимое и неожиданное отпадение от первоначального пра-единства.
Период мифа сменяется религиозной и научной установками. Это
не означает, что миф бесследно исчезает в невозвращаемом прошлом.
Рецидивы мифа непроизвольно повторяются и во взрослом
состоянии отдельной личности (продуктивное или деструктивное
«впадение в детство»), и в цивилизованном состоянии общества (общая
мобилизация народа при свершении им исторического дела или
резкая архаизация социальной жизни в моменты исторических
катаклизмов). Миф не только предшествует, но и сосуществует в
явной или латентной форме с другими типами отношения к
действительности .
Если философия, как понимал, например, М. Хайдеггер,
является искусством вопрошания, установкой на непрерывную
постановку вопросов, т. е. философия подводит человека к предельному
спрашиванию о смысле бытия, то миф является искусством ответа.
Для логически выражающей себя философии вопрос первичен, а
ответ вторичен. В мифологии эта последовательность имеет прямо
противоположное направление: здесь ответ предшествует вопросу.
Миф вручает философии вечные ответы, к которым последняя еще
только должна подобрать со-ответствующие вопросы. Одним из
примеров такого априорного ответа является знаменитое изречение,
высеченное на колонне у входа в дельфийский храм Аполлона —
«познай самого себя». К этому призыву-ответу, от века извещаемому
из уст Аполлона, семь древнегреческих мудрецов подыскали
адекватный вопрос: «что самое лучшее для людей?». Когда удалось
сформулировать правильно этот вопрос и направить его кому
следует, то ответ не преминул явиться из вечной потенциальности в
воплощенную (отчеканенную на колонне) актуальность: «познай
самого себя» (nosce te ipsum, know thyself). Узнай, что все видимое
тобой на поверхности окружающих тебя вещей и существ есть твое
собственное отражение.
Когда задаются вопросы: откуда появляется метафизика? зачем
она нужна, если одна центральная философская дисциплина (он-
310
Ю. M. РОМАНЕНКО. БЫТИЁ И ЕСТЕСТВО
тология) уже имеется? и если уж она появилась и обосновала право
на свое существование, то каково соотношение метафизики и
онтологии? — следовательно, на эти вопросы уже заранее даны ответы
в виде постулатов, принципов и категорий, генетически заложенных
в самих основаниях онтологии и метафизики. Эти ответы по форме
мифологичны. Если философия окончательно забаррикадируется от
мифологии редутами рациональности, лишив себя исторической
памяти, тогда она научится задавать принципиально безответные
вопросы. В эпоху «развитого социализма» на философском
факультете у студентов бытовала такая шутка: философы знают вопросы,
но не знают ответов; а научные коммунисты знают ответы, не зная
вопросов. Если «научный коммунизм» счесть мифом, то в этой
шутке была изрядная доля истины.
В мифах, как в узле, заключены все проблемы онтологии и
метафизики, взятые вместе и одновременно. Нужно только
осторожно расплести нити этого узла. Философия заимствует из мифов,
как из живой модели, идеи естественного порождения и чудесного
сотворения из небытия, которые она преобразует и окавычивает в
понятия «бытия» и «естества», а вокруг них формирует философские
«науки» — онтологию и метафизику.
Философия загадочно укоренена одной ногой в мифе, а другая
ее нога, переступая через границу как некий порог, пытается на
свой страх и риск нащупать собственную точку опоры. Онтология
и метафизика, каждая по-своему, выражают эту таинственность
происхождения и осуществления своей миссии философией.
История показывает, что онтология в своих запредельных претензиях
мистична, а метафизика в своей безудержной амбиции — оккультна.
Обе эти характеристики выражают некое таинственное, сокровенное
знание последних оснований. Как есть онтология и метафизика
мифа, так есть и миф онтологии и метафизики, окружающий их
на протяжении всей истории и вызывающий к ним напряженный
интерес в стане философов. Подход к тайне должен быть деликатен.
Тайна должна остаться тайной при всех ее раскрытиях и
разоблачениях, ибо «с прорывом к предельным вещам мир начинает
колебаться ».1
Предмет философии трансцендентен или, говоря прямо
противоположно, трансцендентность является предметом философии, а
трансцендирование (преступление порога) — ее методом.
Неокантианцы первейшей задачей философии полагали решение вопроса:
«как имманентное становится трансцендентным и обратно?».
Трансцендентность означает «за-предельность», «но-ту-сторонность». Сам
термин «трансцендентность» сконструирован топологическим обра-
1 Бибихин В. В. Абсолютный миф А. Ф. Лосева // Начала. 1994.
№ 2-4. С. 111.
КНИГА П. ВВЕДЕНИЕ
311
зом и внушает пространственное (воображаемое) представление:
выход за границы возможного опыта, по Канту. Вспомним, что
хранителем этой границы является Термин. Оправданна арифмо-
логическая экспликация понятия «трансцендентности», как выход
за пределы одного жестко зафиксированного абсолютного числа к
другому, например от единицы к двоице. Если бы этого арифмо-
логического трансцендирования не было, то не мог бы состояться
и элементарный арифметический счет.
С арифмологической точки зрения онтология представляет
трансцендентность в свете «единицы», метафизика — в свете
«двоицы». Поэтому онтология принципиально монистична, а
метафизика — дуалистична. Законен следующий вопрос: какая
философская дисциплина должна заниматься «троицей»? Ответ прост: опять
же онтология, поскольку ее предмет — монотриада категорий
«бытие—небытие—творение» — триедин. А кто должен исследовать
«четверицу»? Никто. Так как к «четверице» уже не нужно транс-
цендировать, ибо она являет наш собственный, незапредельный
конкретный опыт жизни, мир «мнения», организованный в
четырехмерном пространственно-временном континууме. Философия,
как узнавание неведомого, здесь уже не нужна. Четверица — это
целостность одушевленного тела человека в его повседневности.
Пифагорейцы так себе и представляли положение вещей, для них
четверица знаменовала воплощенный Космос, и они клялись тет-
рактидой, т. е. тем, что было им естественно присуще, —
собственным телом.
Потребность в философском поиске возникает лишь тогда, когда
в «четверице» обнаруживается изъян, зазор, куда можно трансцен-
дировать до «троицы», «двоицы», «единицы». Когда рассуждают
о «трансцендентности», то под этим нужно понимать нечто
простое — нехватку (или излишек) одного из измерений живого
человеческого опыта. Не более того, но и не менее. Не стоит при
этом мистифицировать в вульгарном смысле понятие
«трансцендентного», мыслить которое означает простое ограничение одной
из степеней свободы. Трансцендирующее мышление — это не
свободное мышление, вынужденное исходить из телесной «четверицы»
в абстрактные пространства иных размерностей.
Мистичность, загадочность онтологии заключается в том, что
она описывает опыт «единичности» или «единственности», который
испытывает принципиально четырехмерное существо, задавшееся
целью помыслить и вообразить единое бытие. Наиболее показателен
здесь опыт встречи с Единым Плотина.
Однако не только к единому, далее уже никак не делимому
бытию может трансцендировать свободное мышление человека.
«Естество» также есть трансцендентность, под знаком иного числа —
двоицы. «Исторический» человек, чтобы стать «естественным» че-
312 К). M. РОМАНЕ H КО. БЫТИЕ И ЕСТЕСТВО
ловеком, должен приложить усилие трансцендирования в особом
опыте. В религиозной жизни, например, это опыт катарсиса, поста.
Иногда говорят: ведите себя естественно, а под этим понимают
разнузданность. «Естество» так же бесконечно далеко от человека,
как и «бытие». Хотя, в силу того же принципа бесконечности, они
и наиболее близки, перефразируя Гераклита с Хайдеггером.
Обретение любого знания предполагает посвящение в некую
тайну. Знание всегда есть ведание тайны. Остатки этого тождества
сохранились и в настоящее время в редуцированном виде. Смешно
было бы говорить, что современная академическая философия
относится к тайным наукам. Все ее разделы выставлены напоказ,
философское знание откровенно афишируется и рекламируется:
бери не хочу. Двери философских факультетов и кафедр
гостеприимно распахнуты для всех желающих переступить их порог и
научиться философии. Из любви к мудрости никто не делает секрета,
в отличие от ядерной физики, нейробиологии или какой-либо науки,
имеющей коммерческий характер.
Всем также известно, что лучший способ сохранить тайну —
это выставить ее на виду для всеобщего обозрения. Как изрекал
Гераклит: «природа любит прятаться» и «Владыка, чье прорица-
лище в Дельфах, не говорит и не утаивает, а подает знаки». Любящая
скрываться природа, фюсис, или «естество», допускает себя узнать,
но особым сокровенным знанием, организованным в единое целое
метафизикой. В эпоху античности известные философские системы
на своем специфическом категориальном языке переоткрывали
содержание религиозных мистерий. С одной стороны, это было
разглашением тайны, но, с другой стороны, тайна иным способом
перепрятывалась. На онтологию и метафизику не набрасывается
специально флер загадочности; философы с полуслова понимают,
о чем идет речь, когда речь идет о естестве. Оно просто «естьность»
бытия.
Традиционный подход включает онтологию в систему
метафизики. С учетом вышеизложенного можно было бы сказать, что
онтология отражается в метафизике как в зеркале. Между образом
и прообразом существует дистанция. Зеркальное отражение
появляется не сразу. Луч, испущенный от прототипа, сначала теряется
в микроскопических ненаблюдаемых лабиринтах поверхности
экрана, а затем возвращается в пре-образованном виде. Иногда бывает
так, что отражение становится сильнее прежнего луча. В этом
случае метафизика преподносит новое знание, от которого
обогащается она сама и ее двойник по ту сторону зеркала.
Уверяя себя в знании онтологии отдельно от знания метафизики,
мы не будем знать ни то, ни другое, ибо они предполагают друг
друга. Единственным способом узнать и оправдать статус онтологии
и метафизики как философских научных дисциплин является со-
КНИГА II. ВВЕДЕНИЕ
313
здание условий для приведения к очной ставке этих близнецов,
предотвращая их взаимообман. Насколько это возможно — покажут
будущие попытки. Зная онтологию — мы заочно, по отбрасываемой
ею тени, знаем метафизику. Но это «зерцало в гадании». Очная
ставка предусматривает встречу «лицом к лицу», хотя, как
высказывался поэт — «лицом к лицу — лица не увидать, большое видится
на расстояньи». Эта поэтическая находка имеет непосредственное
отношение к нашей теме. Не может не быть единицы измерения
этого расстояния «от лица к лицу».
Пространством очной ставки онтологии и метафизики является
вся история философии и персоналии, в ней обитающие. Приходится
снова обратиться к историко-философскому процессу. Но сначала
нужно специально обосновать применяемую методологию.
Тактики и стратегии философского прорыва в запредельное
достаточно известны и описаны в соответствующих текстах, так
же как известны и запреты на эти прорывы. Однако в меньшей
степени осмыслены пути и способы возвращения из запредельного
в повседневный жизненный мир. Эксплицировать эту сторону
философской деятельности даже сложнее, чем первую. Поэтому
зачастую она оставалась фигурой умолчания или неявного
подразумевания в философских откровениях, за что философы получали
справедливый упрек за герметизацию в башне из слоновой кости.
В связи с вышесказанным особую важность приобретает
методологический аспект исследования, и шире — проблема метода в
философии вообще. Оговорим дополнительно специфику той
методологии, которая применялась в первой части и которая будет
использоваться в дальнейшем.
Для решения проблемы смысловой соотносимости онтологии и
метафизики автором предлагаются два относительно новых метода
в аналитико-синтетическом подходе к истории философии: экземп-
лификационно-ономатологический (приведение в процессе
доказательного рассуждения примера — поименованного экземпляра —
как методического образца, феноменологически выражающего
присутствие сущностного в фактическом) и энергийно-арифмоло-
гического (фиксация степеней и уровней целостности и исполнен-
ности той или иной философской системы прошлого, открывающая
возможность исторического диалога и филиации философских
идей).
С точки зрения используемого исторического материала, оба
метода могут быть применены как к отдельной персональной
философии (экзистенциально-личностный аспект), так и к
определившимся философским традициям (коммуникативный и
концептуально-теоретический аспекты). На этой основе могут быть по-
новому освещены процессы накопления и использования
философского знания, выявлены формальные и содержательные крите-
314 Ю. M. РОМАНЕНКО. БЫТИЕ И ЕСТЕСТВО
рии самобытности и своеобразия того или иного философского
течения (в мировой и отечественной истории).
Назревшая потребность в обновлении методологии обусловлена
теми историческими подвижками, которые происходят на наших
глазах в фундаменте философского знания, и шире — в
гуманитарных науках. Это прежде всего переориентация философии на
новые ценности, поиск новых стратегий и парадигм мироотношения
и жизнепонимания. Проблему самоидентификации социума и
человека невозможно решить без понимания того груза истории,
который лежит на плечах современного человека. Мы не можем
оценить настоящее и прогнозировать будущее, не зная прошлого,
не актуализируя прошлое в востребованном знании о нем в
настоящем.
Современная эпоха характеризуется увеличением объема ранее
недоступной информации, позволяющей в новом свете представить
исторические предпосылки, фундаментальные основания и
перспективы развития гуманитарного знания, нуждающегося в
переосмысленной экспликации своих принципов, категорий, методов, в
современном уточнении собственного предмета. Как гласит пословица:
новое — это хорошо забытое старое. Нет особой нужды специально
обосновывать онтологический статус категории «нового» — творение
из небытия всегда имеет своим результатом некоторую
«инновацию», которая автоматически требует вводить и категорию
«старого» .
Самосознание эпохи определяется широтой диапазона методов,
применяемых в ретроспективном и прогностическом направлениях
исследования. Одновременно с этим каждая эпоха в своих пределах
формулирует собственные критерии актуальности. Подобная
философская саморефлексия нуждается в строгой методологии, дающей
возможность определить смысл понятия «актуальность» на данный
момент времени в конкретном историческом «месте».
«Актуальным» может быть только то, что осознает себя в качестве такового.
Как подобное осознание происходит? — это уже вопрос
методологического характера. Экземплификационно-ономатологический и
энергийно-арифмологический методы, позволяющие представить
«прошлое» как «актуальное», существенно расширяют горизонт
историко-философского исследования.
Явная или косвенная апробация указанных методов имела место
в творчестве ряда зарубежных и отечественных философов. Можно
указать, в частности, на исследования С. С. Аверинцева о Плутархе,
А. Ф. Лосева о Вл. Соловьеве, С. С. Хоружего о П. Флоренском,
К. С. Свасьяна о Фр. Ницше, П. П. Гайденко о И. Фихте, М. К. Ма-
мардашвили о Р. Декарте и др. Отмеченные работы свидетельствуют
об исторической незаместимости и смысловой уместности в
историко-философском процессе упомянутых персоналий. Обобщая
КНИГА П. ВВЕДЕНИЕ
315
опыт работ известных историков философии, можно высказать
убеждение, что их авторами сознательно проводился экземплифи-
кационный метод, по своей универсальной применимости
являющийся фундаментальным.
Разумеется, перечисленные авторы не похожи друг на друга и
по стилю изложения, и, возможно, по мировоззренческим
установкам. Однако для нас важнее то, что в их «портретировании» ликов
ума своих предшественников наглядно проявляется «вкус» к
подлинному философскому мышлению. Конечно, о вкусах не спорят,
хотя история свидетельствует, что все существенные дискуссии
разгорались именно по поводу вкуса.
Если экземплификационный метод имеет отношение к
персональной философии отдельного «классического» мыслителя
прошлого, то энергийно-арифмологический метод является его
расширением на выделенное философское научное сообщество,
определяющим ключевые темы взаимообщения внутри него. Применение
этой методологии можно найти, к примеру, у тех же П. П. Гайденко
(о немецкой классической философии) и А. Ф. Лосева (о русской
идеалистической философии). Конечно, только эти исследования,
ставшие заслуженно хрестоматийными, далеко не покрывают все
проблемные поля данных традиций, оставляя место для новых
интерпретаций, к которым понуждает именно арифмология.
Рассматриваемые методы еще не делались специальным предметом
анализа и не подвергались обратимой методологической рефлексии,
иначе сказать — «оборачиванию метода», хотя все
терминологические и содержательные предпосылки для этого имеются.
Термин «экземплификационный метод» заимствован автором из
известной работы русского феноменолога Г. Г. Шпета «История
как предмет логики» : «Весь так называемый экземплификационный
метод основывается на возможности усмотрения сущного в
фактическом».1 Интерес к арифмологии во многом связан с творчеством
П. А. Флоренского и А. Ф. Лосева.
В двух статьях («Культура введения примеров в диалектической
логике» и «Число как символ в философском знании»)2 автор уже
имел возможность заявить об этих взаимо-увязанных методах. По
мере возможности они применялись в первой части монографии.
Отсюда — постоянные апелляции к «примерам», которые можно
было бы оценить как недостаток (понятно, что примеры ничего не
1 Шпет Г. Г. История как предмет логики // Историко-философский
ежегодник'88. М.: Наука, 1988. С. 313.
2 См.: Романенко Ю. М. Культура введения примеров в диалектической
логике //Диалектическая культура мышления: история и современность.
СПб.: Изд-во СПбГУ, 1992. С. 139-148; Число как символ в философском
знании //Наука и альтернативные формы знания. СПб.: Изд-во СПбГУ,
1995. С. 92 102.
316 Ю. M. РОМАНЕНКО. БЫТИЕ И ЕСТЕСТВО
доказывают). Но специфика исследования требует именно такого
подхода: обращение к историко-философским первоисточникам —
это всегда повод говорить о том, что является актуальным для
предшественников и для нас самих, «примеривающихся» к
прошлому. Иначе говоря, история философии — это наилучший повод
высказаться о насущном.
Неординарность подхода Г. Г. Шпета к роли «примера» в
логической практике состоит в допущении того, что фантазия является
полноправным источником порождения
демонстрационно-доказательных примеров наряду с «чистой» материальной эмпирией. «Мне
бы хотелось выразить свою мысль еще острее, и я рискну также
и на это, хотя, может быть, я обострю только чувства тех, кому и
сказанное покажется свидетельством моего расположения к
нелепостям... втайне, впрочем, уповаю быть правильно понятым. Я
думаю, что логика, получив всего одно понятие из исторической
науки, если ей понадобятся дальнейшие "примеры", может просто
сфантазировать их, так что если бы можно было получить образ
фантазии без эмпирического прототипа, то, выходит, ей и "одного"
понятия не нужно было бы. Теми, кто любит богатый подбор
"примеров", фантазия должна быть даже явно предпочтена: как ни
разнообразны формы конкретной действительности, фантазия
может быть еще богаче. Единственное ограничение для фантазии здесь
в том, что образы фантазии, каким бы они ни наполнялись
"содержанием", формально-логически должны быть образами
исторической фантазии».1
Решая вопрос о количестве примеров, Г. Г. Шпет склоняется к
выводу, что для логики достаточно и одного примера, если в нем
мы достигли открытия сущности в явлении, каким бы случайным
оно ни было. Однако «поскольку мы должны принять во внимание
теперь "способности" познающего, мы не можем отрицать, что
"одного" примера "мало". Из этого, однако, только следует, что большее
количество примеров нужно не для логики, а для логиков».2
Далее Г. Г. Шпет рассуждает о степенном возрастании
«примерности»: «Один и тот же "пример" может служить источником
первоначальных и исправленных суждений, могут быть привлечены
для помощи другие примеры, где известные черты выступают ярче
и нагляднее и т. д. Ясно одно, что количество примеров в самой
логике не играет роли существенной и принципиальной, а потому
всякий логик в своих суждениях о специальной методологии может
исходить из того, что ему так или иначе, случайно (sic!) известно
из соответствующей науки».3 Основываясь на данной методологии,
1 Шпет Г. Г. Указ. соч. С. 314.
2 Там же. С. 313.
3 Там же. С. 313-314.
КНИГА II. ВВЕДЕНИЕ
317
автор данной книги замысливал ее именно как некий «набор
примеров», частично «реальных», частично «дофантазированных» в
случаях отсутствия конкретных сведений о «предмете». Вопрос о
связи «реальности» и «фантазии» является достаточно острым, ибо
сложнее всего определить критерии их отличия в ситуации транс-
цендирующего мышления.
В целом историко-философский метод разделяется на два типа:
с точки зрения непрерывности философского процесса и с точки
зрения его дискретности (эксцессности, прецедентности). Первый
тип реализуется в панлогистских философских системах (например,
в гегельянстве). Второй тип свойствен интенциям
экзистенциалистской философии. Оба типа, взятые в их односторонности, чреваты
специфическими недостатками: в первом случае
историко-философское описание обусловлено тотализирующей схемой, под
которую репрессивно подгоняется исторический материал; во втором
случае свобода отдельного элемента абсолютизируется без учета
контекста целостности. Перечисленные естественные недостатки
обоих типов могут быть преодолены в процессе последовательного
применения экземплификационно-ономатологического и энергийно-
арифмологического методов.
Напомним, что термин «энергийность» имеет греческое
происхождение. В переводе на латинский язык понятие «энергейя» звучит
как «актус». Проще говоря, «энергийность» и есть «актуальность»
как таковая. Поэтому данный метод служит реактуализации
творческого наследия философской старины. Если мы, независимо от
самих себя, осуществляем рефлектированный элементарный акт
смысловой инверсии, или «оборачивание метода», то традиционно
необходимый для научной работы пункт «актуальность темы»
превращается в «тематизацию актуальности», что заставляет поставить
«сильный» методологический вопрос: «что, в конце концов,
актуально на самом деле?». Это переформулировка вечного философского
вопроса о смысле бытия и творчества. Для ответа на этот вопрос
необходимо выявить те методологические регулятивы, благодаря
которым впервые возникает сам этот вопрос. Все известные из
истории философские учения постоянно воспроизводят один и тот
же вопрос, инвариантно сохраняющийся во всевозможных
преобразованиях и вариациях («примерах»).
Арифмология как метод упорядочивает множество в единство
и задает степень энергийной насыщенности данного всеединства,
что в пределе ведет к самоопределению философии как
универсальной формы знания. Раскрытие и обоснование эвристичности
предлагаемых методологем предусматривает обращение к конкретным
философским текстам и к жизнеописаниям их авторов, беря их в
единстве, с целью определить меру соответствия идей и их
реализаций. Чтобы из контекста общей проблемы «история и современ-
318 К). M. РОМАНЕНКО. БЫТИЕ И ЕСТЕСТВО
ность» не выпал соединительный союз «и», необходимо уметь
определять степень присутствия одного в другом, задавая ситуацию
замкнутости философской методологии, своеобразного
«герменевтического круга», который удерживается в своем круговом образе
особой силой. Разрабатываемые методы дают язык описания
уникальных герменевтических фигур (ономатологическая экземплифи-
кация), а также фиксируют уровень напряжения, необходимый для
сохранения этих фигур на фоне необратимого течения истории
(энергийная арифмологизация).
Решение некоторых вопросов, к примеру об исполненности
философской судьбы или исполнимости философских идей в жизни,
проповедуемых отдельным мыслителем, нуждается в особой
деликатности. Разумеется, персональная ответственность не может быть
оценена и тем более судима со стороны — чужая душа остается в
потаенности. Персонологически использовать указанные методы
можно лишь в той мере, в какой интенции мыслителей прошлого
их предвосхищают, открываются навстречу и оставляют ключи для
их имманентного истолкования. К абсолютно герметичным
философиям, ежели таковые существуют, эти методы принципиально
неприменимы.
Оговорив специфику применяемой методологии, вернемся опять
к проблеме терминологического именования. Термин, как было
выше сказано, необходим для обозначения границы собственностей.
А граница необходима для того, чтобы через нее можно было
переступать при хождении собственников в гости друг к другу.
Поэтому терминологическая подготовка есть приготовление к
приему гостей, званых и незваных, хвалящих и хулящих предлагаемое
угощение — бытие в гарнире с естеством. Бытие — для чувства
вкуса, естество — для чувства сытости. Ибо одна и та же пища
должна быть вкусна и сытна, приятна для языка и легко
перевариваема в желудке. Когда собственность открыта для приема гостей,
термин превращается в метафору, поскольку границы распахнуты
и функция охранения уже не требуется. Теперь термин служит
проводником-переносчиком. Проследим за этой его работой.
Выше говорилось, что постановка термина в естественном месте
оживляет его, укореняя в стихии естества. Укореняет в прямом
смысле. Для стойкости термина необходимо создать необходимую
почву. При соблюдении этих требований из термина может вырасти
«Мировое Древо». «Суха теория, мой друг, а древо жизни вечно
зеленеет». Живой термин имеет корень (этимон), и иногда не один,
а бесконечное множество. Хотя возможно произрастание из одного
корня сразу нескольких стволов. Таким образом, термино-логия
тождественна этимо-логии.
Такой способ изложения существенных вопросов можно сколь
угодно много критиковать серьезно, но главное, что его уже нельзя
КНИГА II. ВВЕДЕНИЕ
319
спародировать со стороны, ибо миф способен к самопародированию,
вызывающему добрый смех. Впрочем, в смехе меры добра не
заложено, ведь он вызывает очищение (катарсис), а это не обходится
без боли, которую не все умеют терпеть. Как верно высказался
С. С. Аверинцев: смех есть зарок, положенный на нашу
немощность; он является средством достижения свободы, но не самой
свободой — абсолютно свободный человек не смеется. Идеальная
цель для писателя — свободно двигаться в живой стихии языка,
не хромая на ту или другую конечность, а полноценно опираясь и
на логическое понятие, и на порождающую наглядный мысле-образ
метафору. Ведь переступание через границу возможно только при
естественном наличии двух симметрированных конечностей.
Проблема корней термина, переплетенных в живую корневую
систему, так сказать, терминологическую «ризому», заключается
в необратимости верхнего и нижнего слоев. Всегда существовали
и, вероятно, будут существовать попытки решения этой проблемы
методом выкапывания и вытягивания «корней» наружу из их
естественной хтонической среды. Неуемные поиски некоего единого
праязыка продолжаются поныне, несмотря на отказ в
академических кругах принимать к рассмотрению гипотезы о происхождении
языка, равно как и проекты вечного двигателя. Создается
впечатление, что энтузиасты от этимологии вознамерились построить
аналог Вавилонской башни, вектор построения которой, правда,
уже указывает не на небо, а вниз — в преисподнюю. Перевернутый
Вавилонский «бункер», под который «лемуры» усердно копают
«котлован». Мы надеемся, что наш: подход к этимологии не
подпадает под разряд подобных намерений. Культивирование
«корневища» может состоять только в периодическом взрыхливании почвы
и поливке чистой водой.
Необходимо согласиться с мнением, что «этимологические
штудии» позволяют обнаружить скрытые смысловые связи и
возможности понятий, постичь, как понималась «вещь» в человеческом
мышлении и затем выражалась в человеческом же языке. Это
реальная философско-филологическая проблема соотношения
мышления и языка, которые сами по себе автономны, но между ними
постоянно высекаются искры, так как закономерности мышления
и закономерности языка совпадают и не совпадают друг с другом.
Повторяя Хайдеггера, скажем, что мышление мыслит, а язык
говорит. Чтобы намекнуть на естественность и простоту мышления
и языка, Хайдеггер выражался тавтологически. Контекст нашего
исследования данной проблемы — онтологический. Поэтому если
в поле зрения онтологии оказывается этимология, то она должна
пропитываться онтологическим зарядом. Проще говоря, этимон
должен быть онтологизирован, подобно тому как в панлогизме
онтологизируется логическое понятие. Это не означает, что пан-
320
ГО. M. РОМАНЕНКО. БЫТИЕ И ЕСТЕСТВО
этимологизм есть выворачивание целой ризомы вверх тормашками.
Как раз наоборот, принцип «всеединства» требует не вырывать
отдельный элемент из системы, а сохранять в ней. Корни должны
остаться невидимыми, если их не поразила болезнь.
Принцип «всеединства» философского знания требует
просвечивать все элементы множества друг в друге для образования еди-
нораздельной целостности, в которой находится место и онтологии,
и терминологии, и методологии, и ономатологии, и арифмологии,
и этимологии, а также метафизике. Все перечисленные в первых
частях сочетаний слова (онтос, термин, метод, онома, арифмос,
этимон и др.) являются синонимами, т. е. они синхронно именуют
одно и то же в хоре голосов. Но этот хор еще должен быть
организован, а голоса должны быть поставлены, чтобы не превратиться
в какофонию (с греч. — злозвучие).
Когда «философское древо» пересаживается на новую почву,
например, на почву русского языка, нужно учитывать ее свойства.
Конечно, при смещении почвы или при переносе «растения» с места
на место много корней безвозвратно обрываются, но хотя бы один
должен остаться живым. Именно с него и нужно начинать
прослеживать тот процесс приживления, прирастания и развития. Корень
нужно не выявлять, а захоронять. В так называемых «мертвых»
языках вывороченные корни слов окончательно не атрофируются,
а пребывают в анабиотическом состоянии. Их нужно погрузить в
естество земли для возрождения. И после этого остается только
следить, когда пробьются новые живые ростки.
Притом что большинство этимологических находок оказываются
ошибочными, это не исключает хотя бы одного точного попадания
в цель. Этимологию нельзя исключать из списка онтологических
дисциплин, даже если бы все ее усилия были направлены только
на поиск одного корня, из которого вырастает слово «бытие». При
этом мы можем и не знать, что это за слово. Валено поддержать
онтологический настрой этимологии, несмотря на массу ошибочных
и даже ложных ее применений. Не оставить этого шанса — не
будет и самой онтологии.
Эту ботаническо-мифологическую картину мы развернули для
подготовки к ответу на принципиальное возражение оппонентов,
касающееся правомерности введения в философский лексикон
понятия «естество». В возражении говорится, что такой
терминологической необходимости нет, так как с содержательной стороны
это слово максимально сближено со словом «природа», которое уже
принято со всем его многообразием значений. По этому мнению,
не нужно ориентировать на возврат к архаичному термину, так
как он «вряд ли уживется в живом языке, несмотря на все усилия»
(цитата из рецензии на рукопись).
КНИГА //. ВВЕДЕНИЕ
321
Если бы дело состояло только в субъективном предпочтении и
выборе, то, действительно, не стоило бы прилагать лишнее усилие.
«Природа», в самом деле, и есть «естество» (фюсис, натура и т. д.).
Суть дела заключается не только в правильном переводе или
прагматическом употреблении, но прежде всего в осмысленной оформ-
ленности, соответствующей потребностям и возможностям
онтологии и метафизики в их соотношении друг с другом и в их
отдельности. Если угодно переводить и понимать «метафизику» как
«сверх-природницу», то с этим не приходится спорить. «Природа»
есть то, что постоянно находится «при родах» — то, что все
«порождает», «вынашивает», «взращивает». Вопрос: каким образом?
Ответ прост: естественно. Уже двух-составность слова «при-рода»
намекает на какую-то удвоенность в самом денотате этого слова.
В любом случае здесь что-то удваивается (что — это единица, а
что-то — двоица). Что именно? Как по имени это назвать?
Если «фюсис» есть «род», т. е. «ген», тогда физика есть
генетика, а метафизика — евгеника. В свое время в тоталитарном
обществе за оккультизм, ненаучность, буржуазность, мракобесие и
т. п. поровну досталось и генетике, и евгенике, и метафизике.
Только физике оставили шанс на выживание в рамках общего
«естествознания». Не будем говорить о действительных результатах
или псевдорезультатах упомянутых запрещенных наук; пока речь
идет об «именах» и о праве называться этими именами.
Констатация многозначности термина «природа» — аргумент в
нашу пользу: в «природе» много, как минимум два значения, о
чем свидетельствует вся обширная философско-научная литература
на сей предмет. В то время как у термина «бытие» только одно
значение — оно само. Тут мы снова считаем: один, два, не имея
в этом арифмологическом счете никакой материальной выгоды.
Так, как считает клетка саму себя в своем собственном
размножении.
Приживется или нет «естество», этот «археологизм» (став
«неологизмом») в «живом» языке — решит сам язык. И он уже решил
без нас, сохранив смысл слова «естественное» со всем его
множеством коннотаций и оппозиций, которые еще далеко не обработаны
и не прокомментированы философией. Если вдруг по каким-либо
причинам из языка исчезнет слово «естество», то любая концепция
«природы», выраженная вербально, повиснет в пустоте. А как
известно из одного научного принципа — природа боится пустоты.
По поводу структуры понятия «естество» возможно еще одно
возражение в том, что удвоение глагола «есть» в существительном
«естество» является случайным и условным и оно оказывается
лингвистическим феноменом только русского языка, следовательно,
нельзя заключать от случайности к необходимости. Ведь, например,
немцы в «sein» обходятся без него. Кажется, и в других языках
322
Ю. M. РОМАНЕНКО. БЫТИЕ И ЕСТЕСТВО
подобного нет. На этот контраргумент можно ответить следующим.
Действительно, в других языках удвоения «бытия» в «естестве»,
может, и нет. Возможно, это специфика и исключительность
русского языка. Человечество находится в фазе рассеяния и
смешанности языков, каждый из которых имеет свои достоинства и
недостатки. Абсолютного переводческого алгоритма пока нет. И сложнее
всего переводить как раз метафоры. Каждый язык заимствует из
любого другого, естественного или искусственного, много слов,
которые изменяются, обрастают новыми слоями, а иногда впервые
начинают звучать «как надо» именно в чужом языке. Не исключено,
что в результате поствавилонского рассеяния слово «естество» было
заброшено на почву русского языка и там проросло. Теперь русский
язык имеет его как даровое бремя. Если немцы не имеют его, то
у них есть возможность перевести: либо дословно, либо оставив
русское написание. Мы будем говорить и уже говорим «дазайн», а
они — «estestwo», может, так скорее поймем друг друга.
Мы являемся пленниками собственного языка. Это и хорошо,
и плохо. Пока я мыслю и говорю, я делаю это на родном языке.
Случай В. Набокова, переквалифицировавшегося на английский
язык, — исключение, подтверждающее общее правило. Научно-
терминологическое уточнение слова является прерыванием живой
стихийной речи. Первыми терминологизаторами были заики
(в принципе, все мы так или иначе были или являемся заиками).
Голосовая запинка, прерыв непрерывности в глоссолалическом
течении образовали пустоту, в которой смогла свободно расположиться
дефинирующая мысль для того, чтобы вылечить судорогу заикания.
Любая логическая структура определения термина является
рецептом излечения онто-лингвистического заикания. Прежде чем
произнести последнее слово в таком серьезном научном контексте, я
на мгновение запнулся из боязни вызвать гнев со стороны коллег.
Но дело в том, что слово «естество» исторглось впервые, вероятно,
из уст заики. Вместо одного «есть» он произнес удвоенное «есть-
есть». Если онто-лингвистическое заикание и было болезнью, то
это была «священная болезнь», ибо в ней возникло новое слово.
Нужно помнить всегда, что первыми словами являются «заикаемые»
слова — «ма-ма», «па-па». Заикание есть эхо, но только вынесенное
и отраженное не на внешнем экране, а внутри голосового потока.
Допустим, что логика вылечила нас от заикания. Что теперь
нужно предпринять? Просто говорить, что мы и делаем, как это й
подобает философу — о бытии. Говорение есть заполнение пустоты
молчания, следовательно, это есть онтолого-метафизический
творческий процесс, развивающийся по триаде
«бытие—ничто—творение». О трансцендентном естественно молчать, почтительно и
смиренно, но и выдержать всю полноту молчания мы не в силах. Кроме
этого, ведь и с нас спросится, почему молчали, коли хоть что-то
КНИГА П. ВВЕДЕНИЕ
323
знали, когда спрашивали. Поэтому человек дерзает говорить. Или
его к этому принуждают насильно. Как раз это и констатирует в
своем «Диптихе безмолвия» С. С. Хоружий, затевая практически
невыполнимое предприятие высказаться о бездне молчания.
Тем не менее возможность начать говорить возникает, если сама
тишина подарит нам хотя бы одно слово. Как говорил поэт:
«Накопилось тишины на слово». С первой, второй, третьей попытки
мы уже начинаем строить целые предложения. А дальше — пошло-
поехало. Говоруны, от чьих речей проку мало, любят посмеяться
и поиздеваться над заиками, нет чтобы помочь им. А ведь стоило
бы понять и услышать, что в зазоре заикания проявляется «свя-
щеннобезмолвие». Поставь самого тренированного болтуна в
условия пограничной ситуации — и он тоже начнет заикаться, как
начинающий оратор перед большой аудиторией.
В начале автобиографического кинофильма Андрея Тарковского
«Зеркало» есть удивительные кадры: мы присутствуем при
повторном рождении живой, равномерно дышащей речи исцеленного от
заикания подростка, осторожно, но уже чисто произносящего: «Я
могу говорить». Чтобы это исцеление произошло, нужно было
отдельно логически определить, что такое «Я», «могу», «говорить».
Но затем логика уже не нужна, выполнив свою терапевтическую
функцию, дар речи восстановился и по-новому загрузился,
выражаясь на сленге компьютерщиков.
Многими, наверное, замечалась такая особенность чтения, когда
из целого текста запоминается и усваивается только одно слово,
ради которого, собственно, и сочинялся весь текст. Все его
составляющие слова как бы образовали некий пустотный фон, на котором
четко зафиксировалось это избранное слово. Именно оно держит
всю онтологическую нагрузку и конструкцию всеединого
произведения. Можно даже сказать, что своей онтологической заряжен-
ностью оно спасает от нигилистического пустословия все остальные
слова. Скажем, что онтология мгновенно вычерчивает фигуру слова,
текст, а метафизика создает тот фон, контекст, на котором он
контрастно проявляется.
В принципе, для оправдания появления какого-либо текста в
свет достаточно наличия в нем хотя бы одного онтологизированного
слова и присоединения к нему по синтаксическим правилам всех
возможных в данном языке слов. Текст жив тогда, когда одно
семантически спасенное слово спасло все остальные. Сложность
здесь заключается в том, что автор первоначально может и не знать,
ради чего он пишет: возможно, что это краеугольное слово находится
где-нибудь в середине или конце повествования, иногда оно звучит,
оставшись незамеченным. Незамеченным для писателя, но не для
читателя, т. е. писателя, ставшего читателем собственного текста.
324 ГО. M. РОМАНЕНКО. БЫТИЕ И ЕСТЕСТВО
Возникает вопрос: зачем нужны остальные слова, если этим
избранным словом мысль уже привязала, укоренила себя к бытию?
Не являются ли они пустым привеском, от чтения которых только
впустую растрачиваются силы и деконцентрируется внимание. Это
действительно так. В процессе чтения многие слова кажутся
полупустыми, излишними, малозначащими, от которых мысль слабеет
и впадает в забытье. В таком состоянии мысль приобретает опыт
пустоты или небытия, необходимый для реализации онтологической
триады «бытие—небытие—творение».
Внутренний или внешний цензор (редактор) может спокойно
придраться к тому или иному полупустому слову, разоблачить его
и обвинить автора в суесловии. Такая критика была бы
неимманентной, непродуктивной и бесполезной как для автора, так и для
редактора. Можно критиковать текст также за обилие в нем
этимологических пауз, в которых отдельное слово проверяется,
зондируется на случай наличия в нем онтологизированного этимона.
В этом любил упражняться М. Хайдеггер, так и не создавший,
по всей видимости, абсолютный, всюду плотно онтологизированный
текст (так называемую «фундаментальную онтологию»),
«скрученный» в нем самом. Хайдеггеровское письмо представляет собой
набор онтолого-этимологических пауз и в целом приуготовляет
человека к возможности «заговорить». Пока же, по мнению Хай-
деггера, говорит не человек, а сам язык. Однако предоставленный
самому себе язык говорит инфляционно. Последним аргументом
для Хайдеггера были тавтологии, которыми он, заикаясь,
«заговаривал» бытие. «Естество» и есть исходная тавтология: «есть есть
во!».
Пишущему философу остается только писать и переписывать,
выражая онтологию и метафизику как бы двумя заходами,
поскольку в процессе изложения одни слова употребляются вполне
осознанно и артикулированно, а некоторые только в служебных
целях, и зачастую именно служебные слова несут существенную
смысловую нагрузку. Главное — не остановить основной процесс,
рассчитывая в будущем вернуться к неопределенным ранее
понятиям и доопределить их межтекстуально, в надежде, что читатель
поймет и простит.
Когда пишешь, часто наталкиваешься на пустоту, не находя
нужного слова, и, чтобы сохранить инерцию движения, заполняешь
строку хотя бы чем-нибудь, ибо сложно вытерпеть пустоту. Иногда
из нее подается нужное слово, как чей-то дар, гармонично
встраивающееся в имеющийся контекст. Но чаще в спешке ловишь
первое подвернувшееся слово, толком не вслушиваясь в него в
спокойной молчаливости, и тогда оно будет мстить. Для того чтобы
было возможно и состоялось движение языка, необходимо
предположить существование этого вакуума, подобно тому как акт письма
КНИГА II. ВВЕДЕНИЕ
325
в качестве своей физической предпосылки требует листа бумаги,
компьютер — отформатированной дискеты, которые должны
оставаться невидимыми в процессе нанесения на них последовательности
знаков.
Письмо опустошает душу. Опустошает не только в
отрицательном смысле этого слова, иногда оно означает очищение.
Высказался — и полегчало. Хотя может и потяжелеть. Состояния
опустошенности и наполненности диалектически сопряжены, и в этой
диалектической ритмике иногда возникают неконтролируемые
перепады.
Здесь снова всплывает та мысль, которая была сформулирована
в начале первой книги о подспудном существовании в истории
философии «некой мизософии». Для читателя могло остаться
малоубедительным и неопределенным введение этой негативной темы,
поскольку автор заявил об этом «вскользь». «Неясно — в чем
проблема соотношения философии и мизософии?» (цитаты из
рецензии на рукопись).
Сократ говорил скороговоркой, когда касался запрещенных тем.
Поэтому скажем коротко: проблема — в нахождении границы
между ними и умении контролировать ее, насколько возможно.
Констатация мизософского состояния в философском опыте
аналогична утверждению догмата о грехопадении в теистической религии.
Говорят: «Мизософии нет, это — пустое место». Да, с этим можно
принципиально согласиться. Более того, следует полагать, что «ми-
зософия» и должна остаться исключительно «пустым местом». Ведь
вводятся заранее математиками «ноль» или «мнимое число» в
конструировании числового ряда. Это пустое место должно
учитываться только в преобразованиях и не должно заполняться, хотя
профессионалы-мизософы только этим и пытаются заняться.
Претензии нужно переадресовать им. Мизософия таит в себе угрозу
для философии не большую, чем ее выхолощенная «академизация».
Под «мизософией» подразумевается неприятное ощущение
«сброса всех элементов», происходящее в системе «всеединства»,
накануне его обновляющей перезагрузки. Ничего не поделать —
философия это не только приятная увеселительная прогулка.
В учении стоиков есть подозрительный фантастический образ
«притягивания пустых рук» как пример негативного действия
воображения. Возможно, что кошмарные, с воплями, сны Н. Бердяева
(настоящего философа), где он как бы засасывался в пустоту
затягивающими щупальцами, намекает на этот стоический образ
мизософии, предупреждающий об опасности бесконтрольного
воображения. В руках должны быть дары, свободно передаваемые.
Как узнается о мизософии? Изначально она проявляется в акте
элементарной операции ин-версии или ре-версии, в ситуации
свободной перемены мест и имен, что влечет за собой перераспределение
326 Ю. M. РОМАНЕНКО. БЫТИЕ И ЕСТЕСТВО
элементов множества. Ре-версия (возвращение) по-гречески звучит
как эпи-строфе. Неестественное ее осуществление (пер-версия)
может привести к ди-версии (к ката-строфе — по-греч.). Законна ли
эта операция? — спросил один коллега. Конечно, вне-законна, и
даже до-законна, так как закон появляется, к сожалению, только
post factum преступления. Мизософы есть диверсанты, пытающиеся
катастрофически подорвать здание философии. Чтобы лишить их
этой возможности, не нужно строить философию по образу
Вавилонской башни.
Вернемся к проблеме перехода от онтологии к метафизике. Хотя
мы от нее и не отходили, совершая движения вокруг ее подпроблем.
Частным случаем онто-лингвистического принципа единства бытия,
мышления и языка является проблема связи «слов» и «вещей».
Автору этих строк был высказан упрек в том, что он увлекается в
большей степени игрой слов, а не занимается настоящим научным
исследованием в эмпирической вещной области. Понятно, что нельзя
познавать «вещь саму по себе» через то «слово», которым она
обозначается. Из слова «космогония» невозможно вывести научно
верифицируемую теорию Большого взрыва, знания о котором
черпаются из опыта. Впрочем, непонятно, кто является субъектом,
испытывающим опыт Большого взрыва. Если «вещь» существует
«сама по себе», то зачем ее познавать: она «сама по себе» и мы
«сами по себе», а между нами — нейтральная демаркационная
линия, через которую никто никогда не переходит.
Ономатологический подход может вызвать на себя критику,
упрекающую его в том, что «имена» трактуются как некие
«сущности». Такое обвинение очень сильно, поэтому попробуем на него
ответить. Окавычивание слова «вещь» в предложении — слабый
утешительный способ указать на «вещь» (саму по себе). Кавычки
и скобки только удлиняют расстояние между «словом» и «вещью».
Если бы можно было написать всюду плотно онтологизированный
текст, то это были бы уже два параллельных текста — корневой
и поверхностный, написанные двумя несводимыми языками —
объектным языком фактов и языком субъективного восприятия,
не слышащих друг друга через заслоны кавычек и скобок. Читать
такой текст однозначно было бы невыносимым занятием. Однако,
к счастью, читательское зрение стереоскопично, двумерно.
Творческое письмо заключается в прилаживании двух языков, и если
это удается, то в таких состояниях у читателя и может возникнуть
ощущение, что слова трактуются как некие сущности. Это
достаточно часто встречающийся эффект у умеющих читать читателей,
перед которыми лежит достойный их уровня текст.
Такой подход к письму Б. Пастернак очень удачно назвал
методом «взрывчатых гнезд», вкладывая в уста Юрия Живаго свои
заветные чаяния: «Он мечтал о книге... куда бы он, в виде скрытых
КНИГА II. ВВЕДЕНИЕ
327
взрывчатых гнезд, мог вставлять самое ошеломляющее из того, что
он успел увидеть и передумать».1 С. С. Хоружий, сославшись на
это признание, проводит сравнение творческих стилей двух
современников — Пастернака и Лосева: «Взрывчатые гнезда! Это
наилучшая характеристика того, что представляют собой лосевские
отступления в "Диалектике мифа". В них он отводит душу, говоря
напрямик обо всем, что его волнует...»2
Читающие писатели и пишущие читатели сразу понимают, что
такое «взрывчатые гнезда» — в них разрушается граница между
актами чтения и письма, и даже — между «словом» и «вещью».
Не нужно быть специалистом по астрофизике, чтобы пережить
опыт космогонического Большого взрыва — достаточно прочесть
некоторые «взрывчатые гнезда», построенные упомянутыми
писателями. Эти «взрывы», волею их творцов, стали
«контролируемыми» и продуктивными, обогатив культуру. По этой теме уже
написана существенная книга Ю. М. Лотмана «Культура и взрыв»,
задуманная без всяких кавычек и метафор.
В момент «взрыва» возникает иллюзорное, но естественное
чувство конгениальности читателя писателю. Читая, например,
проникающие в душу откровения Ф. М. Достоевского, возникает
удивительный эффект — «и я так могу — ведь это написано обо мне».
Даже более того — «именно я это написал» (в ослабленном
варианте — мог бы написать, но автор на «чуть-чуть» опередил). Но
когда откладываешь книгу классика и сам бросаешься к перу —
то тут же осознаешь степень своей бездарности. Здесь существует
очень тонкая, но чрезвычайно прочная грань между гением и
бездарью: гений может написать так, что читатель (другой)
бессознательно присваивает авторство себе. Гений творит, потому что
просто дарит себя. А бездарность на то и без-дарность, что не дарит,
а торгуется, набивая себе цену.
Естественное произрастание зерна в почве — тоже своего рода
«взрыв», имеющий свою «медленную» скорость. Удачная
этимологизация слова нагружает его бесконечной мощью и взрывает,
распространяя на всю имеющуюся территорию текста. Вот потому-то
в грамматике специально для выражения взрывчатости языка
предусмотрен «восклицательный знак»!
Признаться, «подрывная деятельность» Б. Пастернака, А.
Лосева, С. Хоружего и др. автору этих строк импонирует больше,
чем, например, методология М. Фуко, который в своей книге «Слова
и вещи» стремится выстраивать всё большую и большую дистанцию
1 Пастернак Б. Л. Доктор Живаго. Собр. соч. Т. 3. М., 1990. С. 67.
2 Хоружий С. С. После перерыва. Пути русской философии. СПб.:
Алетейя, 1994. С. 233.
328
Ю. M. РОМАНЕИ КО. БЫТИЕ И ЕСТЕСТВО
между «словами» и «вещами», превращая соединительный союз
«и» в абсолютно разделительный.
Чрезмерное обилие восклицательных знаков тоже вызывает
подозрение — не используются ли они для натужной имитации
«взрывчатых гнезд», как, например, у энергичного В. Маяковского: вместо
контролируемой термоядерной цепной реакции смыслов он вбивает
частокол восклицательный гвоздей, сделанных из людей,
огораживающий концентрационный лагерь.
Диалог Платона «Кратил» оставил много загадок потомкам.
Некоторые «горячие головы» до сих пор остаются под его гипнозом,
безудержно отдаваясь сомнительной практике доморощенного
этимологизирования. Подобно тому как диалог «Парменид» является
упражнением в диалектике («пустословии»), так и «Кратил» есть
упражнение в ономатодоксии. А. Ф. Лосев в своем комментарии к
нему отмечает, что «Платон тратит значительную часть этого
диалога на лингвистику, с нашей теперешней точки зрения
смехотворную и совершенно фантастическую, состоящую из
умопомрачительных этимологии, разнообразных и изощренных, хотя и проводимых
с небывалым воодушевлением и даже каким-то восторгом; об этом
Платон говорит в диалоге не раз (396de), несмотря на свое же
собственное желание соблюдать в этих вопросах меру (414е)».1 Из
этого комментария обратим внимание только на одно слово —
«восторг», т. е. «взрыв» — разрушение границы. Действительно,
странно наблюдать собравшихся умных взрослых людей, которые
впадают в вакханалию « кратиловщины», как можно сказать, доходя
до состояния исступления. Это радость припоминания первой
встречи с языком, воспринятым как дар творения.
В состоянии особой аффектации проявляется энергия перво-
именования вещей. Усилие именования осуществляется каждый
раз с нуля. В этом упражнении, или поэтической игре, избранное
слово высказывается как имя, тождественное с вещью. Это
требование должно относиться к каждому употребляемому слову.
Плодотворным такой подход может быть лишь при полной круговой
поруке слов. Но это — лишь предельная мечта писателя. В процессе
ее реализации возникает много видимых и невидимых препятствий.
Между именами иногда разворачивается борьба за право
именовать вещи. В нашем случае между словами «природа» и «естество»
существует некое ономатологическое состязание. Например, по
каким-то непонятным историческим конъюнктурным причинам
известный трактат Цицерона «De natura deorum» в России переводился
по-разному: в дореволюционной версии Г. Комкова — (Цицерона
Марка Туллия о естестве богов. Три книги. СПб., 1779); и в
постреволюционной версии М. И. Рижского — (О природе богов. М.,
1 Платон. Собр. соч. Т. 1. М.: Мысль, 1990. С. 826 (в прим.).
КНИГА II. ВВЕДЕНИЕ
329
1985). Между этими названиями целая эпоха революционного
взрыва — победы одного слова над другим. Однако, как верно заметил
Б. Пастернак, в настоящей поэзии победа не должна отличаться
от поражения.
Слово «естество» под натиском новых исторических
обстоятельств уступило право первородства слову «природа»,
сохранившись в разрешенном словосочетании «естествознание», то бишь
«природоведение». Хотя что такое «естествознание», что оно
изучает, так никто до сих пор конкретно не сказал.
Вероятно, коллизия между синонимами «природа» и «естество»
началась гораздо раньше, когда возникла проблема перевода
греческого слова «фюсис» на латинский язык в виде слова «натура».
Может быть, проблема сложности перевода и следующей отсюда
конъюнктурности состоит в раздвоенности в самом этом имени,
которое всегда норовит спрятаться в анонимность или псевдоним-
ность, ускользая от однозначной фиксации. Не так, как «бытие»,
которое всегда и везде «бытие», однозначное, легко переводимое,
единое, неделимое и т. д. Бытие всегда находится в фокусе ясного
внимания разума (если разуму, конечно, удается сфокусироваться),
а естество, образуя его целокупную периферию, познается как бы
в сумерках, в вибрирующем чередовании света и мрака, в чем и
заключается его естественность, а также вытекающие из этого
перечисленные сложности его понимания и выражения.
Исходным импульсом и первоначальными основаниями
авторского подхода к представляемой концепции понятий «бытие» и
«естество», а также «онтология» и «метафизика» в целом,
послужили две существенные монографии по этим темам, вышедшие
приблизительно в одно время и, вероятно, по замыслам независимо
друг от друга. Имеются в виду работы А. Л. Доброхотова и
А. В. Ахутина.1 Касаясь самых фундаментальных проблем
философии, эти авторы как бы с двух сторон пытались определить объем
предмета философии в его историческом и теоретическом срезах
анализа. Равноценность и вместе с этим разнотипность
интерпретаций, определений, результатов, полученных этими двумя
современными отечественными философами, говорят о все еще
непроясненном осмыслении соотношения онтологии и метафизики.
Оригинально и существенно проведя истолкование понятий «бытие» и
«природа», во многом пересекаясь мнениями, эти авторы
подготовили основу для дальнейших исследований. Эти работы можно
использовать в качестве учебных пособий по онтологии и метафи-
1 См.: Доброхотов А. Л. Категория бытия в классической
западноевропейской философии. М.: Изд-во МГУ, 1986; Ахутин А. В. Понятие
«природа» в античности и в Новое время («фюсис» и «натура»). М.:
Наука, 1988.
330 Ю. M. РОМАНЕНКО. БЫТИЕ И ЕСТЕСТВО
зике, хотя в момент их написания (конец 80-х годов), конечно, речь
пока не шла об их дифференцированном дисциплинарном статусе.
Может быть, поэтому теоретические усилия А. Л. Доброхотова
и А. В. Ахутина несколько разошлись, что весьма симптоматично
и связано, на наш взгляд, с фундаментальной дополнительностью
в смысле Н. Бора категорий «бытие» и «естество». Во многом это
проявилось в недостаточной определенности существа онтологии
и метафизики, в частности, в их неявном отождествлении или
неартикулированной синонимизации или антиномизации. Однако
проделанная работа может быть обобщена и продвинута дальше в
направлении уточнения философского знания этих предметов
мысли.
Обратимся для подтверждения собственной точки зрения к книге
А. В. Ахутина, где проведен тонкий анализ пониманий «природы»
в эпохи античности и Нового времени. Оговоримся сразу: то, что
А. В. Ахутин в некоторых случаях понимает под «природой», мы
предпочитаем по вышеизложенным мотивам называть «естеством»,
хотя и последнее слово используется им иногда наравне. Кстати
сказать, между строк у А. В. Ахутина чувствуется некоторая
неудовлетворенность от традиционной интерпретации и перевода
греческой «фюсис» в русскую «природу». Можно сказать, что именно
удвоенность стала причиной исторической принципиальной
смысловой непереводимости «фюсис» на другие языки, в виде ли
«натуры», «природы» или чего-нибудь еще, что четко зафиксировал
текст А. В. Ахутина.
А. В. Ахутин начинает свой анализ понятия «фюсис» с
констатации многообразия его значений: вещество, первоматерия,
первоэлемент, бытие, основа, существо и т. п. Чтобы аутентично понять
античный смысл «фюсис», необходимо отрешиться от некоторых
навязчивых характеристик, ставших привычными в более позднее
время.
А. В. Ахутин предлагает: «Попробуем на время забыть, что
"фюсис" — это природа...»1, в смысле единой основы или связной
целокупности всех вещей, мира изменчивости и подвижности.
Итогом перечисленных многообразных значений «фюсис» является то,
что «свертывая до предела многообразие значений, мы найдем, что
одно и то же слово "фюсис" может означать и порождающий
источник... родник; и взращивающую, пребывающую во
взращиваемом (вообще возникающем) "силу" роста, "способность"
возникновения; и рост, "видность", зрелость возникшего, родившегося, т. е.
результат; и врожденную возникшему, свойственную ему силу-
способность к "делам". В разных контекстах актуализируется то
или иное преимущественное значение, но это не значит, что другие
1 Ахутин А. В. Указ. соч. С. 112.
КНИГА П. ВВЕДЕНИЕ
331
могут существовать только в других контекстах или литературных
жанрах. Они так или иначе подразумеваются наряду с
терминологическим значением и иногда вопреки ему. А это значит, что в
любом контексте скрыто содержится вопрос: что такое "фюсис"?
Поскольку значения разрывают слова на разные "термины", смысл
требует понимания, допускает толкования».'
Нас в первую очередь интересует соотношение понятий «бытия»
и «естества». Ставя вопрос о сводимости многообразия значений
«фюсис» к одному (забегая вперед, скажем, что это принципиально
неосуществимо: двоица должна остаться двоицей, а если ей усилием
воли приписывается однозначность, то это сразу же превращает ее
в единицу), А. В. Ахутин полагает, что «ответ на этот вопрос может,
стало быть, строиться по разным смысловым направлениям, и в
результате получаются разные и — в силу фундаментальности
вопроса — противоборствующие решения. Во всяком случае,
"фюсис" становится явным или неявным поприщем споров о "что
такое?", т. е. о бытии».2
С этимологической точки зрения: «В основе существительного
ή φύσις лежит глагол φύω (в среднем залоге — φύομαι)... Греческий
корень φυ восходит к индоевропейскому *Ыш со значением
"пробиваться", "прорастать", "развертываться", "распускаться". Этот
корень дал в европейских языках основу для глагола "быть" (fu —
лат., je fus — φρ., to be — англ., Ich bin — нем.). Значение
результативного пребывания совершенно скрыло здесь исходную
семантику, которая, впрочем, оставила свои следы... Но греческий
глагол φύω, как видно, сохранил это исходное значение.
Соответственно и существительные, которые произведены от этого глагола,
несут в себе значения бытия как происхождения на свет».3
Исходя из этого А. В. Ахутин пишет: «В качестве первого и,
может быть, самого важного отмечу лингвистический факт —
принадлежность "фюсис" этимону "бытия". "Фюсис" не означает
особой — натуральной — области сущего или предмета такой области.
Она потому и соседствует в философском языке почти синонимично
с "сущим" (τό όν) и "существом" (ή ουσία), что с самого начала
выражала определенное понимание того, что значит быть. Греческое
слово "фюсис" должно пониматься в семантике "бытия", а не
всеобщей единой сущности, скрывающейся за многообразием
явлений».4 Однако корневое совпадение «бытия» и «фюсис» — пока
только рабочая гипотеза. «Вместе с тем, учитывая эту коренную
семантику "фюсис", мы ни в коем случае не можем непосредственно
Там же. С. 115.
2 Там же. С. 115.
3 Там же. С. 113.
4 Там же. С. 118.
332
Ю. M. РОМАНЕИ КО. БЫТИЕ И ЕСТЕСТВО
использовать знакомое нам понятие бытия для ее интерпретации.
Скорее наоборот, смыслы, которые мы находим в греческой "фюсис",
позволяют нам уяснить нечто новое и существенное в этом понят-
нейшем из понятий».1
Отождествление и инверсное различение-взаимообращение
«бытия» и «фюсис» А. В. Ахутин полуметафорически выражает так:
«"Фюсис" растет на корне "бытия" (я бы сказал, что это питающая
корень почва. — Ю. Р.). Это значит, что оно именует не только то,
что мы относим к природе, а всякое сущее, поскольку оно имеет
место среди другого сущего... "Бытие" в корне означает то же, что
и "фюсис". Это значит, оно включает в себя ее основные
семантические моменты: рождение, источник, начало; рост, распускание,
расцветание, созревание; взрослость, расцвет, зрелость, излучающая
мощь».2
Соотношение «бытия» и «фюсис» принципиально апорийно,
отражаясь в таких оппозициях, как «фюсис—номос», «фюсис—тех-
нэ», «фюсис—пойесис», или в парменидовском противопоставлении
«фюсис» — «бытие» или анаксагоровском «фюсис—нус».3 «Легко
заметить, что "фюсис" оказывается местом фундаментальных апорий,
чем-то всегда уже почти понятным и все же противоречащим
пониманию. Если она понята в существе своего бытия как себетож-
дественность и единство, она же предстанет (и осмыслится) как
другое необходимое определение того, что значит "быть", а именно
как непонятный в принципе, по определению, мир возникновения,
многообразия и изменений. Если она будет осмыслена как
самоустроение и своего рода ум, который создает ее форму и облик,
она же осмыслится и как "то, из чего", как хаос, необходимо
предпосылаемый умно-устрояемому космосу. Везде, где бытие так
или иначе определяется, оно мыслится как бытие именно потому,
что оно "любит скрываться" от мысли, иными словами, мыслится
как "фюсис"... Ибо сама "фюсис" именует бытие, которое должно
быть определено и понято, но понято как бытие, отличное от
понятия и определения. Бытие сущего, которое не есть само это
сущее и не есть другое сущее».4
Упоминается А. В. Ахутиным в контексте рассуждений об
оппозиционной паре «бытие—фюсис» и слово «естество», однако это,
к сожалению, не развивается в нашем направлении: «"Фюсис" и
"сущее", или "сущность" (ουσία), всегда есть некое определенное
"существо", или "естество"».5 Именно из естественности «фюсис»
1 Ахутин А. В. Указ. соч. С. 118.
2 Там же. С. 119.
3 Там же. С. 117-118.
4 Там же. С. 118.
5 Там же. С. 119.
КНИГА II. ВВЕДЕНИЕ
333
следует то, что «фюсис» всегда есть «фюсис» чего-то... в нем всегда
подразумевается генетив субъекта, всегда, следовательно, надо
задавать вопрос: природа чего?».1 Эту особенность «фюсис» в свете
арифмологии можно было бы определить через арифмологическую
«двоицу».
Следствием вышеозначенной апорийной ситуации оказывается
то, что «в логическом анализе опыта "фюсис-бытия" мысль
наталкивается на парадоксы, что внешне выразилось в расщеплении
"фюсис-бытия" на две сферы: "фисиологии" и "онтологии" или
физики и мета-физики».2 На наш взгляд, в этом дисциплинарном
расслоении А. В. Ахутин, практически отождествляя онтологию и
метафизику, все-таки несколько упускает из виду проблематичность
подобного их соотношения.
Впрочем, сама конкретность подхода А. В. Ахутина позволяет
решить эту проблему, следствием чего может стать
взаимоприемлемость терминологии. Пока же эта терминологическая
корректировка не состоялась, достаточно метафорически намекнуть о ней:
«"Фюсис" наводит на мысль о бытии. Мысль доводит многосмыс-
ленный опыт до ясной идеи бытия. ...И когда в самом мышлении
нащупывается логический конфликт между идеей и бытием, между
идеей бытия и бытием идеи, когда обнаруживается, что, доводя
опыт до идеи, мы некоторым образом утрачиваем само бытие,
возникает необходимость вернуться к исходному опыту, в сферу
"фюсис", чтобы начать работу мысли заново».3 В этом месте
фактически фиксируется трансцендентальный переход от бытия к
естеству.
Мы приводим столь обильное цитирование книги А. В. Ахутина
для того, чтобы в разных ракурсах осветить суть нашей проблемы
и продемонстрировать, как ее ставят другие философы. В целом
областью размышлений А. В. Ахутина можно признать именно
«онтологизированную метафизику», которая отслеживает следы
(«меты») естества-природы-фюсис, любящей скрываться. Слова
А. В. Ахутина по-своему выражают то, о чем мы рассуждали выше,
с небольшими разночтениями и дополнениями.
Одним из важных пунктов, по которому нужно уточнить точки
зрения, является соотношение онтологии и метафизики. К
последней у А. В. Ахутина проглядывается некоторая настороженность.
Так, он пишет: «Речь идет, следовательно, о глубинном и усколь-
зающе тонком логико-онтологическом повороте, трудность которого
усугублена тем, что европейская мысль традиционно строила
"первую философию" как обоснование "второй", строила, иначе говоря,
1 Там же. С. 120-121.
2 Там же. С. 119.
3 Там же. С. 123.
334 Ю. M. РОМАНЕНКО. БЫТИЕ И ЕСТЕСТВО
онтологию как метафизику, мыслила о бытии в горизонте естества.
...Но прямо и явно природа есть, уже есть, прежде всего есть: есть
естественно (очень характерна эта удвояющая ритмичность. —
Ю. Р.). Именно она наводит мысль на бытие. ...Можно видеть истину
естественно сущего в сверхъестественном, потустороннем, в духе
или мысли, но, поскольку сама истина мыслится онтологично, как
то, что первично есть, как "истина", она мыслится в горизонте
"естества". Определяя смысл естественности мира, обосновывая эту
естественность или "физичность" мира, онтология получает
определенность мета-физики, т. е. "физики" некоего потустороннего,
интеллигибельного мира».1
Слова А. В. Ахутина можно толковать и так, и эдак: и как
критику метафизики, и как ее апологетику. Картина усложняется и
оттого, что мы должны мыслить в свете принципа историчности,
т. е. вводить в контекст наших размышлений о бытии и естестве
историю как таковую. «Такая метафизически завораживающая
оглядка на естество, неприметная натурализация онтологии
неизбежна, если мы остаемся в горизонте единственного мира,
единственного смысла естественности. В метафизически естественном и
потому единственном мире историчность человеческого существования
оказывается чем-то в принципе вторичным. История отбрасывается
на периферию и затем осмысливается из некоего метафизически
снимающего ее центра, определенность культуры выветривается и
превращается в случайную, обусловленную обстоятельствами
ограниченную форму общей и единой человеческой "природы"».2
Подобная интерпретация подводит А. В. Ахутина к
формулировке труднейшего вопроса: «Но возможно ли вообще понять
культуру и историю вне какого бы то ни было
естественно-метафизического горизонта, в их онтологической первичности? (Да, именно
"первичности", но тогда нужно говорить и о "вторичности". —
Ю. Р.) Возможно ли осмыслить мир во всей его естественности и
абсолютности как особое событие бытия, как образующую
историческую эпоху форму естествования бытия, иными словами, как мир
культуры? Во всяком случае, лишь поместив природу в контекст так
понимаемой культуры, мы создаем условия, допускающие
построение онтологии, которая могла бы избежать метафизикализации».3
Что означают слова «избегать метафизикализации», в чем ее
соблазн — нам все-таки остается непонятным из приведенных слов,
и это «избегание» несколько противоречит сказанному ранее самим
же А. В. Ахутиным (ведь природа сама по себе любит
«избегать ·>=« прятаться»). Еще более загадочен патетический прогноз,
1 Ахутин А. В. Указ. соч. С. 181.
2 Там же. С. 181.
3 Там же. С. 181-182.
КНИГА П. ВВЕДЕНИЕ
335
завершающий эту интереснейшую и глубокую книгу: «Почему
природа любит скрываться? Потому что в ее глубинах таится
возможность иного естествования бытия, иная форма творческой
восприимчивости, творящей мир, по-иному абсолютный или абсолютно
иной».
Этот пафос ино-творения диссонирует с цитатой из Б. Л.
Пастернака, которую А. В. Ахутин приводит для подтверждения
собственных мыслей: «Живой, действительный мир — это
единственный, однажды удавшийся и все еще без конца удачный замысел
воображения. Вот он длится, ежемгновенно успешный. Он все
еще — действителен, глубок, неотрывно увлекателен. В нем не
разочаровываешься на другое утро. Он служит поэту примером в
большей еще степени, нежели — натурой и моделью».2
Мир един по «бытию», единственен по «творению», но иной по
«естеству», поэтому говорить о «возможности иного естествования
бытия» чисто терминологически некорректно, провокативно и ис-
кусительно. Освоил ли человек его собственное «естество»
настолько, чтобы переходить к «инаковому естествованию»? Что сие
значит? Зачем оно? Предпосылки этих вопросов гипотеза А. В. Ахутина
не имеет в виду. «Естествование бытия» уже есть «инаковение
бытия», зачем тогда говорить об «ином инаковении»? Б. Пастернак
это и подчеркивает: мир единственен, но в нем не
разочаровываешься. Скучным и унылым как раз было бы «иное естествование
бытия», если мы правильно поняли намек А. В. Ахутина.
Впрочем, как уже говорилось, мы — пленники собственного
языка, поэтому пытаясь решить самые главные вопросы, мы
заплетаемся в нем. Нужно медленно, шаг за шагом, развязывать
узлы, которые мы сами же незаметно для себя навязали. Опасность
«метафизикализации» А. В. Ахутин видит в том, что якобы
естественный мир представляется единственным и центрированным,
следовательно, историчность человеческого существования
оказывается, дескать, вторичной. Наверное, это так, но почему это хорошо
или плохо — неясно. На самом деле конструкция и смысл этой
фразы свидетельствуют только о неуточненности арифмологических
и топологических понятий «единицы» и «двоицы», «центра» и
«периферии», «концентрации» и «эксцентричности» и т. д. В
концепции А. В. Ахутина осталась какая-то естественная
недоговоренность, что призывает к отклику и постановке новых вопросов.
В целом же некоторый упрек А. В. Ахутина в адрес термина
«метафизика», неявно выраженный в опаске перед
«потусторонностью», может быть снят, что будет более соответствовать всему
1 Там же. С. 183.
2 Пастернак Б. Воздушные пути. М., 1982. С. 112-113; Цит. по:
Ахутин А. В. Указ. соч. С. 206.
336 Ю. M. РОМАНЕНКО. БЫТИЕ И ЕСТЕСТВО
контексту рассуждений этого автора. Раз уж на то пошло, то
опасность состоит не только в «метафизикализации», но и в
«онтологизации» мира. На каждое очередное искушение отведать плод
с Древа познания добра и зла нужно спрашивать не о том, что
будет, если мы вкусим, а о том, что случится, если мы не вкусим.
Может быть, под этим вопросом искушение самоустранится?
Помимо многих возможных вопросов к автору этой книги одним
из главных является следующий: насколько допустимо ставить
рядом через союз «и» понятия «бытия» и «естества»? Этот вопрос
подобен таким «наивным» вопросам: почему после «единицы»
следует «двойка» и что между ними находится?
В свое время М. Хaйдеггер решился поставить в заглавие своей
ранней программной работы сочетание слов «Бытие и время», тем
самым уравняв их и симметрировав союзом «и». Последующая
эволюция хайдеггеровской мысли заставила произвести
оборачивание, меняющее местами эти два ключевых слова: время и бытие.
Наверное, словами «фундаментальная онтология» Хaйдеггер хотел
сказать «естественная онтология».
Это не просто метафоры, это такие метафоры, которыми можно
выполнить ту же работу философии, что и понятиями, не менее
эффективно. Когда А. В. Ахутин, пытаясь понять смысл онтологии
и метафизики и поневоле прибегая в своем изложении к метафорам,
задается вопросом: «Можно ли это сделать без раздражающей
эксплуатации метафор?»1, то этот вопрос можно переформулировать:
«Можно ли это сделать без раздражающей эксплуатации понятий?»
Как это было, например, у Гегеля. Здесь проблема состоит в том,
что, кого и как раздражает и вбрасывает в мизософический приступ.
Вслед за Хайдеггером, уравнявшим в правах «бытие» и «время»,
Ж.-П. Сартр написал трактат «Бытие и ничто». На наш взгляд,
союз «и» между этими словами неуместен, ибо бытие есть, а небытия
нет. На категориальной оппозиции «бытия—небытия» невозможно
остановиться, ее необходимо замыкать понятием «творение» в
триаду.
Что касается вопросов, почему автор выше не определил и не
обосновал правомерность введения этой онтологической монотриады
в ходе своих рассуждений, то на это можно ответить следующее.
Эту триаду можно только беспредпосылочно постулировать, полагая
ее к бытию, творя из небытия. Только и всего. Сам предмет и
метод его представления должны соответствовать друг друг. Переход
от незнания этой триады к ее знанию осуществляется «ученым
незнанием», имманентно ей самой.
С точки зрения метафизики, онтологическая триада без понятия
«естества» — абстрактна и пуста. Метафизика позволяет заполнить
1 Ахутин А. В. Указ. соч. С. 182.
КНИГА П. ВВЕДЕНИЕ 337
конкретностью эту пустоту. Метафорически это можно выразить
так: вкушение пищи проходит две фазы — актуализацию
творческого вкуса (вспомним кантовское суждение «вкуса») и естественное
чувство сытости (упущенное в кантовской архитектонике). Можно
обострять в дегустации вкус и при этом не насыщаться, значит,
мы остались в стадии только онтологии и не трансцендировали в
стадию метафизики. Впрочем, и сытость бывает разная. Поэтому
об онтологической триаде еще будет повод вспомнить, проливая на
нее свет с точки зрения метафизики.
Если бы перед П. Флоренским стояли те же задачи, что и перед
М. Хайдеггером, то русский философ смог бы, наверное, написать
трактат «Бытие и пространство», что он практически успешно и
делал в своей «конкретной метафизике». С. С. Хоружий обратил
внимание на то, что П. Флоренский как бы избегал использовать
временные определения бытия, трансформируя и сводя их к
пространственным: «Является несомненным, что философия
Флоренского целиком находится в рамках статической картины бытия.
...Приверженность статической онтологии у Флоренского
принципиальна, последовательна, и мы нередко можем заметить, что за
новым и необычным решением какой-либо темы у него кроется
стремление развить эту тему в статическом ключе, ввести ее в
рамки статической картины бытия, когда общепринятое решение
толкало бы к динамической картине. И в философской, и в
богословской проблематике он систематически устраняет все
динамические представления, изобретательно заменяя их статическими,
чему примером и служит "космологическая" версия мифологемы
Эдема».1
Не исключено, что кто-то может написать трактат «Бытие и
число» (предпосылки для этого имелись у А. Ф. Лосева) или что-либо
подобное. Мы рискуем обобщить все понятия, которые могут
ставиться наравне с «бытием» в категорию «естество». Прежде всего
это касается понятий «пространство» и «время». Именно
пространственно-временной континуум содержательно тождествен с понятием
«естество». В истории естествознания наблюдается закономерность
чередования онтологической загрузки категорий пространства и
времени (в частности, опространствование времени в теории
относительности в настоящее время сменяется овременением
пространства в синергетике, как это представляется, например, И. Приго-
жиным). А в математике существует конкуренция в понимании
сущности числа, проявляющаяся в споре интуиционистского и
формалистическо-логицистского направлений в обосновании
фундамента математики. Такие методологические регулятивы науки,
1 Хоружий С. С. Философский символизм Флоренского и его жизненные
истоки ,■/ Историко-философский ежегодник'88. М.: Наука, 1988. С. 199.
338
Ю. M. РОМАНЕНКО. БЫТИЕ И ЕСТЕСТВО
как «принцип дополнительности», «соотношение
неопределенностей», « корпускул ярно-волновой дуализм», непрерывная смена и
чередование научных парадигм в области естествознания, являются
следствием исходного дуализма метафизики, пытающейся целостно
осмыслить двоицу естества.
На этом можно завершить затянувшуюся интерамбулу между
онтологией и метафизикой (интерамбула — букв.: интер — между,
амбуло — хожу; т. е. то, что естественно происходит в вестибулярном
и двигательном аппаратах организма между первым (онтология) и
вторым (метафизика) шагом философского познания истины).
Интерамбула — это не в-ход и не вы-ход, не пере-ход, а некий
между-ход; это неподвижное состояние движения переступания
через порог: субъект одновременно и здесь и там, и не здесь и не
там. Вестибуляция (от лат. vestibulum — преддверие) как
естественное «бытие на пороге» является моделью, на которой можно
исследовать всю предметную сферу метафизики. Если онтология
говорит о «сути бытия», то метафизика — о «сути движения», а
именно — движения самого бытия, или, точнее, сдвига в самом
неподвижном бытии. Аристотель в «Физике» так и ставит вопрос,
а в «Метафизике» его закрепляет. В ходе ближайшего исследования
предполагается выяснить, как эксплицируется «естество» в
философии Платона, в которой анализируются вестибулярные
расстройства в виде головокружений, нарушений равновесия и тошноты,
вызванных сдвигом бытия (неравновесная динамика диалектики).
Аристотель в концепции неподвижного Ума-Перводвигателя
практически конституирует «вестибулярный аппарат» — естественный
орган, ответственный за восприятие таких параметров движения,
как направление, ускорение, вибрация и пр., реагирующий на
изменения положения тела или головы в пространстве в процессе
перипатетизирования (с греч. περνπαθέω — хождение по круговой
траектории). Так как вестибулярный аппарат человека есть часть
внутреннего уха, то отсюда можно понять хайдеггеровскую
метафору — «ухо бытия», естественно настроенное на «голос бытия».
Смысл данного проступления термина в метафоре будет пояснен
ниже.
Глава 1
ЧУТЬЕ ЕСТЕСТВА
Античность и Средневековье о фюсис
Композиция данного исследования формально основана на
традиционной хронологической историко-философской
последовательности. Это связано с принципиальной невозможностью говорить об
онтологии и метафизике, минуя исторические контексты их
проявления. Вместе с этим онтология и метафизика не являются
прерогативой только историко-философского подхода. Их
содержание и форма прежде всего теоретичны. Поэтому существенным
вопросом является прояснение соотношения истории и теории.
Погруженность в теорию предполагает отвлеченность от
исторического течения, каким бы невозможным это предприятие не
казалось. Естественно думать, что от истории абстрагироваться
нельзя, в любом случае исследователь включен в историю просто
фактически. Однако возможность «выхода» из истории присутствует
в ней самой, когда история как бы выталкивает исследователя в
особую «вне-историческую» область, в которой начинают работать
иные критерии реальности, нежели исторические. Как это
происходит, следует выяснить подробнее. Чистой «истории философии»,
которая бы удовлетворила всех, пока не создано. Как нет еще
чистой «теории философии», хотя уже есть ее возможные имена —
онтология и метафизика.
Ранние древнегреческие философы имели счастье не знать
«истории философии». Действительность они рассматривали «внеис-
торично», как оценивают их современные историографы. Для нас
подобное состояние представляется безвозвратно утерянным, ибо
мы находимся не в начале истории, а где-то в ее середине,
захваченные неудержимым движением процесса. Современность — это
всегда «бытие-в-середине» истории — со-временность прошлого и
будущего в настоящем. Ностальгия по « внеисторичности ·> и
осознание необратимого характера времени заставляют некоторых
философов ставить вопрос о «конце истории», т. е. об эсхатологии.
Одним из самых сложных вопросов этой темы является соотношение
«истории» и «времени». Нельзя сводить первую к упорядоченному
поступательному, «обогащающемуся» развитию человечества, авто-
340
Ю. M. РОМАНЕНКО. БЫТИЕ И ЕСТЕСТВО
рое — к объективно-природному процессу, на фоне которого
осуществляется сама история. Нельзя также ругать время за его
«пожирающий» характер, а историю хвалить за «сберегающую»
способность. История, по определению, это засвидетельствованное
время. Уточняя данное положение с субъективной стороны, скажем:
история — это развитие свидетеля, каковым является все
человечество, имманентно встроенное во временное становление.
О фактах истории мы знаем из свидетельств очевидцев, а говоря
более «сильно» — факты истории тождественны свидетельствам
очевидцев. Знание фактического содержания истории предполагает
присутствие рядом «сохранившегося» очевидца произошедшего
события, которое, кажется, кануло в Лету. Онтологический вопрос:
насколько реально «прошлое»? — совмещен с вопросом: насколько
реальна очевидность «настоящего»? Знаем ли мы так «наше время»,
что можем его передать в сохранности в назидание и дар потомкам?
Трудность ответа на эти вопросы обусловлена той печальной
констатацией исторической закономерности, что на ошибках истории не
учатся. Э. Ю. Соловьев весьма тонко сдвинул ориентацию
исследователя истории, парадоксально говоря, что не только мы толкуем
прошлое, но и «прошлое толкует нас» (таково название его книги).
Э. Ю. Соловьев осознает парадоксальность подобной временной
картины, даже ее удивительный характер: «Не ясно ли, что вся
проблема приобретает при этом совершенно причудливый смысл?
Более или менее адекватно оценить нас могли бы только потомки —
члены будущего человечества. Но их еще нет; если же мы сами
попытаемся их вообразить, то наверняка подгоним под собственную
мерку (давно известно, что люди нигде не бывают так тенденциозны,
субъективны, как при построении картин грядущего). Аналогичным
образом, казалось бы, дело обстоит и в том случае, когда мы
пытаемся привлечь на роль наших судий и советчиков
представителей минувших веков, то есть людей, которых уже нет и которые
были обеспокоены вопросами, весьма и весьма отличными от тех,
что волнуют нас сегодня. Это представляется азбучно очевидным,
и все-таки более вдумчивое отношение к делу обнаруживает, что
это неверно».1
Историко-временные пересечения создают прихотливые
соотношения темпоральных модусов: «Люди минувших эпох живы для
нас благодаря особого рода общественной практике —
мемориальной. Она обеспечивает постоянное присутствие прошлого в
актуальном сознании и препятствует тому, чтобы мы его подменяли
или сочиняли. Те, кого уже нет, продолжают общаться с нами
через оставленное ими наследие».2 Слово «наследие» образовано от
1 Соловьев Э. Ю. Прошлое толкует нас. М.: Политиздат, 1991. С. 3.
2 Там же. С. 3-4.
КНИГА П. ГЛАВА 1. ЧЪ'ТЬЕ ЕСТЕСТВА
341
слова «след», на который последовательно наступают следующие
поколения. Но «след» чего (или кого) сохраняется в «наследии»,
передаваясь из поколения в поколение, подвержен ли он
историческому изменению и каковы критерии его подлинности? Ведь
известно, ничто так не подвержено фальсификации, как «факты»
истории.
Все подобные размышления о сущности истории наводят на
идею о дополнительности истории чему-то принципиально
неисторическому. История — это особый тип знания, а именно, с
формальной точки зрения, знание хронологической упорядоченной
последовательности событий. Некоторые философы утверждают,
что философия тождественна истории философии, что философское
знание принципиально исторично и что только философия может
знать историю как таковую в форме «историософии». О тождестве
истории философии с самой философией говорил еще Гегель,
утверждая, что исторический порядок идей соответствует логическому
порядку тех же самых идей в «сфере чистой мысли», которую
Гегель выразил, по его убеждению, в «Науке логики». «Согласно
этой идее я утверждаю, что последовательность систем философии
в истории та же самая, что и последовательность в выведении
логических определений идеи. Я утверждаю, что, если мы освободим
основные понятия, выступавшие в истории философских систем,
от всего того, что относится к их внешней форме, к их применению
к частным случаям и т. п., если возьмем их в чистом виде, то мы
получим различные ступени определения самой идеи в ее
логическом понятии. Если, наоборот, мы возьмем логическое
поступательное движение само по себе, мы найдем в нем поступательное
движение исторических явлений в их главных моментах; нужно только,
конечно, уметь распознавать эти чистые понятия в содержании
исторической формы. Можно было бы думать, что порядок
философии в ступенях идеи отличен от того порядка, в котором эти
понятия произошли во времени. Однако, в общем и целом, этот
порядок одинаков. Разумеется, что, с другой стороны,
последовательность, как временная последовательность истории, все же
отличается от последовательности в порядке понятий; мы здесь не
будем выяснять, в чем заключается различие, ибо это слишком
отвлекло бы нас от нашей задачи. Здесь я замечу лишь следующее:
из сказанного ясно, что изучение истории философии есть изучение
самой философии, да это и не может быть иначе».1
Отсюда вытекает знаменитый принцип единства исторического
и логического, взятый на вооружение панлогистскими системами.
История здесь рассматривается как инобытие Логики, в которое
1 Гегель Г. В. Ф. Лекции по истории философии. Книга первая. СПб.:
Наука, 1993. С. 92-93.
342
ΙΟ. M. РОМАНЕНКО. БЫТИЕ И ЕСТЕСТВО
нисходят определения мысли и победоносно преобразовывают
материю и эмпирию истории в свое подобие. Не подвергая сомнению
такую закономерность, оговорим все же один момент. Тождество
истории и логики, не опосредованное чем-то третьим, приводит к
замкнутому циклическому движению, которое исключит саму
историю как необратимую последовательность, что и проявилось в
финалистском характере гегелевской концепции. Кроме этого,
логика является «порядком» идей, но не самими идеями. Их логика
не может знать, как бы ее ни абсолютизировать и ни
гипостазировать. Бытие идей нельзя свести к истории и к логике, ибо идеи
внелогичны и внеисторичны, и именно поэтому из них могут
устанавливаться и логический, и исторический порядки. Как показал
Платон всем своим творчеством, идеи усматриваются
феноменологически, теоретической способностью разума. Под теорией же,
буквально означающей «боговидение», понимается прямое умозрение
сущности вещей, отвлекаясь предварительно от их логической
обоснованности и исторического характера.
Таким образом, история философии дополнительна теории
философии. А сама философия равна сумме ее истории и ее теории.
Само собой разумеется, что мы не можем приобщиться к философии,
не начиная изучать ее историю. Поэтому справедливо положение,
что история философии является «школой мысли». Но как мы
можем знать «историю философии»? И как ее могли знать те
любомудры-первооткрыватели, которые ее впервые зачинали?
Может быть, для первых философов, находившихся в начале, история
имела обратную темпоральную последовательность — от их
настоящего к нашему будущему, в то время как для нас, застигнутых
в «середине», история имеет более «естественный» порядок — от
их прошлого к нашему настоящему. Если такое соотношение времен,
взаимопроникновение направленных навстречу друг другу
временных потоков возможно, значит, возможен и равноправный диалог
между ними и нами в некоем историческом пространстве —
вместилище философского общения. Причем этот диалог имеет свой
определенный предмет обсуждения, общий для них и для нас,
неподвластный историческому изменению, но способный к
теоретическому уточнению. То «одно и то же», занимающее мысль
философов всех времен и народов, образует предмет философии,
подвергаемый теоретической фиксации. Сам «предмет философии»,
конечно, имеет свое стадиальное развитие, в том числе историческое,
но он коррелирует не с историей, а с методом.
Поясним это аналогией из религиозной области, где проводится
различие между мирской историей и Священной историей. В
католицизме существует представление о посмертном идеальном
общении всех святых между собой, а в Православии говорится о том,
что святые и после их канонизации продолжают молиться о спасении
КНИГА П. ГЛАВА 1. ЧЪ^ЪЕ ЕСТЕСТВА 343
себя и всех вплоть до Страшного суда, т. е. до конца истории. Так
же, видимо, происходит и в философии в специфической форме,
насколько философия может быть освящена.
Мы можем знать историю философии в той мере, в какой
мыслители прошлого сумели притянуть нас к своим размышлениям
sub specie aeternitatis, а мы допустили это сделать, в результате
чего появляется возможность совместного вневременного
теоретического обмена знаниями по поводу единого предмета. Такое
состояние знания можно назвать «теорезой», подчеркивая его
активный характер и отличая от пассивной «теоремы», которая логически
выводится из ограниченного числа «аксиом», т. е. частных
умозрений. Подобное совпадение истории, логики и теории философии
в одной точке, конечно, представляется настолько идеальным и
фантастическим,.что его можно постулировать в качестве
методологического регулятива с большими ограничениями. Но без этого
принципа «койнонии» философских идей и персоналий невозможно
самоопределение философии как любви к мудрости.
История имеет своим субстратом не только время, но и
пространство — то «вместилище» вечных идей, о котором было сказано
выше. Можно сказать, что история «борется» со временем
посредством пространственного расширения. Наперекор «стреле времени»
история осваивает жизненное пространство своих обитателей.
Однако, согласно элементарному закону механики (сила действия
равняется силе противодействия), чем более экстенсифицируется
пространство истории, тем более ускоряются временные процессы.
Темп жизни древнего грека кажется более размеренным, чем
современного «пленника» цивилизации. Плотин начал знакомиться
с философией только с 28 лет. А записывать собственное учение
античным философам негласно рекомендовалось с 60 лет, когда
улягутся житейские страсти и накопленный мыслительный опыт
естественно изольется в доктрину.
Термин «необратимость», в силу собственной семантики
указывающий на «не-оборачиваемость», «не-возвращаемость», казалось
бы, характеризует однолинейное прямое инерциальное движение в
«дурную бесконечность». Но это только негативная сторона понятия
«необратимость». В позитивном смысле «необратимость»
утверждает выход на новый метауровень обратимости, осуществляемый с
онтологической точки зрения в актах пре-творения, которые в
истории констатируются как революционные переходы от одной
эпохи к другой (revolution переводится прямо как «обращение»).
Такую модель можно представить в виде концентрических сфер,
вложенных друг в друга, или в образе «колеса в колесе».
Необратимость присуща переходам между отдельными сферами, или, как
мы говорили, «интерамбулам» между ними. Поэтому мы уже
принципиально не можем стать «древними греками» и не в состоянии
344 ΙΟ. Μ. РОМАНЕНКО. БЫТИЕ И ЕСТЕСТВО
войти в темп мыслительной жизни, присущий их эпохе. Машину
времени, которая могла бы это совершить, невозможно практически
сконструировать. Да это и не нужно с экзистенциальной точки
зрения: каждый должен прожить собственную жизнь в отведенном
«месте» истории, не мечась от эпохи к эпохе. Однако модель «колеса
в колесе» показывает, что общим для всех обращающихся сфер
является центр, к которому прямолинейно устремлены
теоретические умозрения представителей разных эпох. Кстати сказать, двойной
антиномический смысл «обращаемости—необратимости» заложен в
самом слове «ре-во-люция», где корнем является слово «луч» (свет),
исходящий из центра, а приставленные к нему префиксы «ре-» и
« во- » выражают иррадиирующие круги периферического движения
вокруг этого единого луча. Через такую топологическую модель
можно представить соотношение истории и теории как
взаимодополнительных частей философии.
Технической и дидактической стороной подобного положения
дел является то, что обучение философии происходит дважды, но
одновременно. Впервые посвящаемый в философию не может узнать
историю философии, не понимая уже каким-то образом ее теории,
и взаимообратимо. По видимости, здесь возник «порочный круг».
Однако чудо усвоения философского знания все же происходит, и
оно не было бы подлинным чудом, если бы не могло преодолеть
этого логически безысходного «ложного» круга. Логика может
доказать антиномизм и парадоксальность подобной ситуации, т. е. ее
невозможность, история просто засвидетельствует ее уже-осуще-
ствленность, а теория констатирует необходимость развития мысли
таким и только таким способом вращательно-поступательного
движения.
Таким образом, наметились три способа выражения
философского знания: исторический, логический и теоретический.
Абсолютизация одного из них в изоляции от остальных приводит к
деградации философии. Термин «деградация» употребляется здесь,
как ни странно, в «положительном» смысле, но поскольку за этим
словом устойчиво закрепилось чересчур отрицательное значение,
мы переформулируем его в термин «деградуирование», в
противоположность «градуированию» как увеличению степеней
интенсивности знания. Абсолютизация логики приводит к панлогизму,
например в системах «Ars magna» Раймонда Луллия или «Науки
логики» Гегеля, «недостатки» которых, кажется, сейчас заметны.
Абсолютизация истории также чревата своими специфическими
искажениями, каким-нибудь «пан-историзмом», «историцистским
редукционизмом» или «нищетой историцизма». Ну а то, что теория,
оторванная от практики, приводит к очевидному злу, доказывать
не приходится. Случай с теорией, правда, особый. В силу своего
статуса теория тендирует к самоименованию. В то время как «ло-
КНИГА II. ГЛАВА 1. ЧУТЬЕ ЕСТЕСТВА 345
гика» и «история» нашли свои имена, «теория» еще только должна
примерить к себе подобающее имя.
Будучи изолированной от исторического и логического
материала, теория может выбрать ложное имя. Ближайшим примером чему
был недавний так называемый «диалектический и исторический
материализм», узурпировавший всю теоретическую часть
философии. «Диамат» был одной из возможных «ошибок» истории
философии (ведь сам Ленин говорил, что не ошибается только тот, кто
ничего не делает. Вот он и ошибся, от чего история потекла по
особому руслу, выбросив с пеной на поверхность квазиимя «диамат»,
который все же имеет свой достаточно определенный и достойный
диапазон осмысленной применимости, включая в себя почтенные,
проверенные историей философские понятия «материи» и
«диалектики», если не искажать при этом их имена и не натравливать их
на другие уважаемые имена, как это было в марксизме-ленинизме).
Повторим еще раз: «деградуирование» (если угодно —
«деконструкция») философского знания понимается позитивно,
следовательно, все возможные «ошибки» реализации философского знания
запрограммированы в его плане. Но запрограммированы и, стало
быть, предусмотрены именно «ошибки», а не «прямые попадания
в цель». По всей видимости, Гегель, творя свою «Науку логики»,
т. е. градуируя философское знание в аспектах «научности» и
«логичности», тонко почувствовал эту запрограммированность
собственного творения, проникся ею, довел до конца и ... «перехватил
через край».
Пока философия опробовала до конца только некоторые
«ошибочные пути». Сколько их еще осталось — неизвестно. История
покажет. Но тупиковый результат — тоже результат, имеющий
значимость и ценность для знания. Главное здесь — не утерять
под грузом результатов живое настроение любви к мудрости.
Стоящие перед нами задачи определения онтологии и
метафизики как типов философского знания вынуждают обратиться к
наследию прошлого. Но все же повторимся: если бы история
представляла собою абсолютное знание «всего», то реальной
значимостью, действительно, обладала бы только «история философии».
В таком случае невозможен был бы «выход» из исторического
течения, задающий простор для теории, в котором только и может
осуществиться свободное мышление. И мы вынуждены были бы
повторять сказанное мыслителями прошлого или в лучшем случае
интерпретировать старыми схемами новые исторические ситуации,
в которых пребываем в настоящий миг. Без такого «люфта» не
была бы также возможна рефлексия как обращенное отношение
мысли к себе самой, порождающее предметность теории. А
следовательно, была бы только «история философии», но не было бы
«философии истории». Была бы только история онтологии и мета-
346 ГО. M. РОМАН EH КО. БЫТИЕ И ЕСТЕСТВО
физики, но не было бы онтологии и метафизики истории, т. е.
историософии. И все же, можно надеяться, есть и то и другое.
Поступательно-возвратная траектория, по которой имманентно
движется история, не может не иметь центра. Причем этот центр
не просто точечен, но фигуративен, имея очертания «следа». Именно
он является объектом пристального внимания философской теории.
Историко-философское обращение к авторитетам прошлого
производится не ради самих авторитетов, а ради того теоретического
«предмета», который поглощал их внимание и, будем надеяться —
наше. Авторитет — это тот, кто, во-первых, сумел заметить нечто
впервые и, во-вторых, смог обратить внимание других на это нечто.
Та «вода», которая фигурирует в знаменитом изречении Фалеса
«Все из воды», — одна и та же для него и для нас. То же самое
относится и к тому «огню», о котором вещал Гераклит. С физической
точки зрения, их молекулярный состав и вытекающие из него
эмпирические свойства не изменились за те тысячи лет,
разделяющие нас (а если и изменились, то все равно вода остается именно
Водой, а огонь — именно Огнем). Следовательно, прежде чем
относить высказывание Фалеса, открывающее историю философии,
к экзотическому наивному мнению, отнесемся к нему буквально и
всерьез, в попытке понять интуицию Фалеса, задаться вопросом об
условиях опыта, в котором смогла возникнуть эта интуиция.
Обращение к прошлому — всегда повод думать о настоящем и будущем,
которые от этого становятся только «более актуальными».
Не только «вода», но и все стихии, первоначала и т. п., не
сводимые только к проблеме «бытия» (т. е. онтологии), являются
непосредственным предметом теории философии, в данном случае —
метафизики, обобщаемом в понятии «естество». Античность сумела
выработать к ним особое отношение, теоретическая значимость
которого не отмерла с течением времени. Его мы назовем, сообразно
античному самоистолкованию, чутьём (айстезисом) естества,
прослеживая его манифестации на конкретном историко-философском
материале. Чутье — это не только эмпирический сенсуализм, но
именно специфическое теоретическое отношение к реально
существующему, т. е. к истине.
§ 1. ГЕРАКЛИТ
Стихийная интуиция
В эпоху античности был распространен жанр трактатов «О
природе» («Peri physis»). Предлог «о», приставляемый к
существительному, указывает на значения «около», «вокруг», предлагая
представить движение по «пери-ферии» чего-то существующего. Выбор
КНИГА П. ГЛАВА t. § 1. ГЕРАКЛИТ
347
подобного заглавия свидетельствовал об отстраненном, но вместе с
тем ориентированном отношении авторов данных трактатов к
предмету их изучения — природе-фюсис, — подчеркивая ее загадочную
недоступность. «Перифизика», по сути, была пробным именем
«метафизики».
На роль проводника в знакомстве современного мышления с
античной «фюсис» по праву претендует Гераклит. Подобно тому
как Парменида называют «отцом» онтологии, за его
фундаментальный принцип «Бытие есть, небытия же нет», так и Гераклит
открывает мышление о естестве полупонятным изречением
«Природа любит прятаться» («Physis kryptestai philei») (φρ. 123 DK).1
Отныне каждый трактат по метафизике, равно как и по физике,
должен начинаться этим гераклитовским эпиграфом, в максимально
сжатой форме выражающим отношение природы к нам. Здесь не
оговорка: природа любит прятаться не «от нас», а именно «к нам».
Если бы природа скрывалась «от нас», допустим, от страха или
боли (такое тоже случается), Гераклит так бы и сказал. Но он
недвусмысленно заметил, что природа любит таиться, а не
скрывается, скажем, в страхе, ненависти или усталости. Двумя
связанными действиями природа заявляет о себе — любовью и
укрыванием. На любовь естественно отвечать любовью, не рефлектируя
по этому поводу. А как необходимо относиться к тому, что прячется?
Дети не случайно играют в прятки с воодушевлением. Видимо, в
человеческой натуре есть две неиссякаемых потребности —
прятаться и искать. Как сам Гераклит обнаружил, что Вечность
принадлежит ребенку, и даже что Вечность есть дитя играющее. Можно
догадаться, что это игра в прятки.
Феномен игры мы рассматривали в первой части в свете
онтологии, а общим методом отношения к «бытию» в античности был
определен метод «угадывания». О творении из небытия античные
философы «догадывались», рационально отмежевываясь от
принципа креации аргументом «из ничего ничего не возникает».
Последнее положение можно понять так: возникающее в восприятии
«нечто» возникло из «всего», что его окружает. Если бы «всего»
не было, то не было бы и фона, на котором могло бы проявиться
это «нечто». Но если, далее, будет предпринята попытка увидеть
«всё» как данное единичное «нечто», то окажется, что «всё» есть
«ничто» из всякого «нечто». «Всё» прячется от прямого взгляда,
ускользая на периферию, прикрываясь выставленными вместо себя
видимыми «нечто». Справедливо и инверсное положение аргументу
Здесь и далее цитирование фрагментов Гералита и комментариев к
нему дано по: Фрагменты ранних греческих философов. Ч. 1. М.: Наука,
1989; (согласно нумерации Дильса-Кранца; в переводе А. В. Лебедева,
кроме оговоренных случаев).
348
Ю. M. РОМАНЕНКО. БЫТИЕ И ЕСТЕСТВО
«ex nihilo nihil fit» — «в ничто ничего не исчезает», — так как
«там» не за что укрыться. Принцип «природа любит прятаться»
является, по сути дела, отражением принципа «творения из
небытия», отвечая на вопрос, как последнее происходит. Действительно,
из ничего ничего не возникает, утверждают эволюционисты, — все,
что возникает, возникает из природы естественным путем.
Креационисты могут с этим согласиться, напомнив первым, что сама
природа любит таиться и это есть ее естественный путь. Подобной
аргументацией можно если не примирить исключающие друг друга
точки зрения, то, во всяком случае, оставить шанс для их
взаимоуточнения.
Цицерон, завершая своей философией онтологический дискурс
античности, охарактеризовал эту мысль в трактате «О дивинации»
(о мантике, или угадывании). Относясь к «мантике» с долей
рационализированного скепсиса, Цицерон рассматривает традиционное
разделение угадывающей способности на два типа — искусственную
и естественную: «...есть два вида дивинации. Один искусственный,
другой естественный. Искусственный основан частично на догадке,
частично на продолжительных наблюдениях. При естественной
дивинации душа схватывает или воспринимает извне, от
божественного (ex divinitate), от которого все наши души как бы заимствованы
или почерпнуты, или излились».1 Кроме этого, сторонники мантики
указывают «на три источника дивинации: на бога, на судьбу и на
природу».2 Различие между двумя типами дивинации основано на
различии между онтологией и метафизикой. Цицерон пишет: «Я
признаю, что дать объяснение искусственной дивинации легче,
естественная же — несколько темнее... Она должна быть, принимая
в расчет ее физическую тонкость, связана с природой богов, от
которых, по мнению ученейших и мудрейших людей, почерпнуты
и заимствованы наши души».3
В отличие от врожденной способности предугадывать
естественную волю богов, искусственная (благоприобретенная) дивинация
угадывает «творение»: «Что касается дивинации, или полученных
посредством гаданий (coniectura), или основанных на наблюдениях,
то эти виды дивинации можно назвать, как я уже сказал, не
естественными, а искусственными (artificiosa). Этим занимаются
гаруспики, авгуры, гадатели (coniectores). Перипатетики эти виды
дивинации не одобряют, стоики защищают».1 Рациональными
аргументами нельзя обосновать творение из небытия, об этом можно
только догадаться в особом опыте: «Выходит, что не все, что гибнет,
1 Цицерон. Философские трактаты. М.: Наука, 1985. С. 251.
2 Там же. С. 252.
3 Там же. С. 232.
1 Там же. С. 218-219.
КНИГА II. ГЛАВА 1. § I. ГЕРАКЛИТ
349
уничтожается от природы (natura), бывает, что нечто или возникает
из ничего, или вдруг (разрядка моя. — Ю. Р.) обращается в
ничто. Когда, какой физик сказал бы такое? Гаруспики говорят.
Ты считаешь, стало быть, что им надо верить больше, чем
физикам?».1
Двусмысленное отношение Цицерона к угадыванию заставляет
его признать, что в акте дивинации говорится только о простом
существовании: «Я прекрасно понимаю, что можно презреть эти
вещи, даже высмеять их. Но относиться с презрением к
предзнаменованиям от богов — значит то же самое, что не признавать
само существование богов».2 Для снятия с себя ответственности
Цицерон заключает дефиницией дивинации по Хрисиппу: «Так,
например, Хрисипп дает следующее определение дивинации: это
способность распознавать, видеть и объяснять знаки, которые боги
посылают людям. Обязанность дивинации — заранее по этим знакам
разузнавать, каковы намерения богов в отношении людей, каков
смысл знаков и каким образом богов следует смягчить и
умилостивить».3 Это определение Хрисиппа отсылает нас к еще одному
знаменитому изречению Гераклита: «Владыка, чье прорицалище в
Дельфах, и не говорит, и не утаивает, а подает знаки» (фр. 93 DK).
Двигаясь за ускользающей природой, мы наступаем на только что
оставленные ею следы — знаки, по которым можно догадаться о
ее скрываемой сущности.
Итак, природа любит таиться. Но ее Владыка (о котором мы
ничего не знаем напрямую) не позволяет ей спрятаться
окончательно, чтобы природа сама себя не смогла найти. Когда ее ищут —
она действительно укрывается. Но это не может продолжаться
бесконечно, ибо иссякает импульс поиска. Следовательно, должно
быть обратное движение самораскрытия природы. Гераклит
называет это «подачей знака», отношение к которому не должно быть
субъективно произвольным. Скрывающаяся природа раскрывается
в истолковывающем ее знаки угадывании. Позднее, в Новое время,
эту идею выразили в метафоре «Книги Природы», которая, как
считали тогда с точки зрения экспансивного знания, написана
языком математики. Этот поисковый характер отношения к «фю-
сис» крепко держится в мысли Гераклита, признающегося: «Я
искал (по другой версии перевода — выпытал или откопал) самого
себя» (фр. 101 DK). Можно предположить по косвенным уликам,
что Гераклит нашел то, что искал. Плотин в комментарии на этот
фрагмент подчеркивает угадывающий характер гераклитовского
поиска. Причем не поиска «бытия», выпавшего на долю Парменида,
1 Там же. С. 256.
2 Там же. С. 230.
3 Там же. С. 291.
350 ΙΟ. Μ. РОМАНЕНКО. БЫТИЕ 11 ЕСТЕСТВО
a именно «природного начала»: «Гераклит, который наказывает
нам искать это... предоставил нам догадываться об этом, не
постаравшись прояснить смысл своих слов, вероятно намекая тем самым
на то, что следует искать [спрашивать] у самих себя, подобно тому
как и сам он искал и нашел [в самом себе]».
С точки зрения последующей истории понятно, что древние
греки не знали многих секретов природных явлений,
обожествляемых ими в мифах, которые современной наукой раскрыты,
подведены под строгие законы, описаны, объяснены и уверенно
предсказываются согласно числовым подсчетам. Отличие секретов от
тайны заключается в том, что первые рано или поздно
расшифровываются. Тайна же, выделив из себя свое конечное подобие —
секрет — и удовлетворив временно ищущую потребность человека,
остается тайной.
Согласно гераклитовскому изречению, естество-фюсис каким-то
образом трансцендентно человеку, но как-то по-иному, нежели
трансцендентность бытия. Наследие Гераклита представляет собой
собрание разрозненных высказываний, каждое из которых
загадочно, темно, поддается многообразным, зачастую
взаимоисключающим толкованиям, само стремясь укрыться если не в бессмыслицу,
то в некую двусмыслицу. И все же в этом отношении есть если не
своя логика, то своя тенденция, которую можно отследить,
прилаживая разорванные, по видимости, фрагменты гераклитовских
мысле-образов. Попробуем расположить их в смысловой близости,
скользящим вопрошанием и толкованием связывая друг с другом.
Примем за существенное определение природы то, что она любит
прятаться. Хорошо это или плохо? Гераклит, видимо, считает, что
могло быть и хуже, нужно и за это благодарить, полагая, что от
добра добра не ищут. Что находит природа в своем укрытии?
Гераклит отвечает: «Тайная гармония лучше явной» (фр. 54 DK).
То есть гармония как лад противоположных вещей должна быть
упрятанной. Каково должно быть отношение к факту скрытности?
Умеренным и сдержанным, довольствуясь малым: «Ищущие золото
много земли перекапывают, а находят — мало» (фр. 22 DK). Можно
ли произвольно вызвать исхождение природы из ее укрытия? Нет,
отвечает Гераклит, а далее если и можно, то все равно самораскрытие
природы явит нам нечто неожиданное. «Не чая нечаянного, не
выследишь неисследимого и недоступного» (фр. 18 DK). Почему
это происходит с людьми? «Большая часть божественных вещей
ускользает от познания по причине невероятности [или неверия]»
(фр. 86 DK). Но, может быть, раз природа любит прятаться, что
ее явно удовлетворяет, не могут ли люди перенять эту склонность,
скрываясь уже от самой природы, как бы ей в отместку? Гераклит
предвидит такое оборачивание и предупреждает: «Как можно
утаиться от того, что никогда не заходит?» (фр. 16 DK). В этом месте,
КНИГА П. ГЛАВА 1. § 1. ГЕРАКЛИТ
351
в пункте оборачивания метода, отношение к природе начинает
меняться. Да, природа в целом любит скрываться, но, осознав это
и попробовав самим позаимствовать стремление укрыться, мы тут
же обнаруживаем, что в ней есть также и нечто принципиально
«не заходящее». По Гераклиту это Огонь — то же природное начало,
но в статусе Абсолюта. От него укрыться можно только до поры.
«Всех и вся, нагрянув внезапно (разрядка моя. — Ю. Р.), будет
Огонь судить и схватит» (фр. 66 DK).
Гераклит как один из выразителей принципа «всеединства»
включает в его контекст момент «вдруг» (внезапно, неожиданно,
сразу), актуализируя само «всеединство» стихией огня и делегируя
ему «всеединящие» полномочия. Но ведь огонь является только
одним из четырех известных естественных первоначал, наряду с
водой, землей, воздухом, а также с надмирной «пятой сущностью»
(квинтэссенцией) — эфиром. Стихии, или первоначала (архэ),
обладая одинаковой мощью, тем не менее неравноправны, по
Гераклиту, между ними выделяется одна избранная — Огонь, благодаря
которому стихии трансформируют друг в друга и содержатся во
всеединстве его силой. Само «всеединство» как онтологический
принцип наполняется теперь природным содержанием с
универсальным обменным эквивалентом, каковым является Огонь,
имеющий для этого все способности. Огонь, оставаясь стихией,
обособлен от остальных. Гераклит изрекает: «Мудрое ото всех обособлено»
(фр. 108 DK).
В силу этого Мудрость в ипостаси Огня трансцендентна людям,
и эта трансцендентность имеет значение единого «Бытия», а также
подразумевает двоичную трансцендентность «Естества». В самом
Едином обнаруживается Двоица, отраженная в следующем
загадочном фрагменте Гераклита: «Одно-единственное Мудрое [Существо]
называться не желает и желает именем Зевса» (фр. 32 DK). Вместе
с этим, Огонь отождествляется с Умом и Логосом, исполняя
управляющую Космосом функцию: «Ибо Мудрым [Существом] можно
считать только одно: Ум (Gnome), могущий править всей Вселенной»
(фр. 41 DK).
Гераклит сторонник единоличного правления. Но он также
оправдывает самостоятельную силу скрывающейся природы. Как
совмещается онтологическая Единица и метафизическая Двоица в
гераклитовской философии? Как говорят диалектики, он разбивает
«одно» на пары противоположностей. А противоречие, согласно
пандиалектической установке, является имманентным источником
саморазвития трансцендентного Абсолюта. Помимо единой статики
«всеединства», оно вдобавок имеет двоичную динамику.
Противоположностями Абсолюта являются не «одно» и «одно» в «двоице»
(последняя так же неделима, атомарна, как и «единица», но по-
иному), а сами Единица и Двоица. Между ними трансцензус. Ге-
352 ΙΟ. M. РОМАНЕИ НО. БЫТИЕ И ЕСТЕСТВО
раклит нарочито заостряет антиномизм, заставляя диктующим
Логосом представить образ невообразимого: «Путь вверх-вниз один и
тот же» (фр. 60 DK).
Онтологическая и метафизическая степени трансцендентности
(в арифмологическом смысле) запечатлены Гераклитом в следующем
знаменитом афоризме: «Нельзя дважды войти в ту же самую реку»
(фр. 12 DK). В переложении Плутарха этот фрагмент звучит так:
«...незаметно ввергнем все вещи в гераклитовскую реку, в которую,
по его словам, нельзя вступить дважды, так как, изменяясь, природа
приводит в движение и обращает в иное все вещи». Ученик
Гераклита Кратил усугубил положение учителя: в одну и ту же реку
нельзя войти и единожды, из чего можно аргументировать как в
пользу нигилистического релятивизма, так и в пользу апофатичес-
кого абсолютизма. Здесь идет явный арифмологический счет и
устанавливаются взаимоотношения между Единицей и Двоицей на
универсальном трансцендентальном уровне, хотя кто-нибудь может
подумать, что здесь утверждается запрет на купание в речке. Далее
возникают следующие интересные вопросы: а сколько раз можно
или нельзя войти в огонь, воздух или землю?
Параллельно онтологическому принципу «Все едино» (Hen kai
pan) Гераклит постулирует метафизический принцип «естества» —
«Все течет» (Panta rei). Течение есть непрерывный ритм. Прерывом
непрерывного является «аритмос» — число, изнутри
структурирующее и оформляющее течение явлений единого целого. Арифмо-
логические числа считают «все». Когда же «все» распадается на
изолированное «многое» (polla), тогда арифмология превращается
в арифметику.
Огнем Гераклит именует числовым образом Единое, отводя Воде,
его прямой противоположности, арифмологическое значение
Двоицы, которая любит скрываться и уносить с собой все вещи в
неизвестном направлении. Нельзя войти в текущую воду дважды
потому, что она сама олицетворяет собой двойственность как
таковую. Все необратимо и однократно вброшено в стихию изменчивости.
Более того, даже сам Огонь, если бы он захотел где-нибудь
спрятаться, то лучше всего смог бы это сделать в Воде, где он, вероятно,
до поры пребывает, чтобы в какой-то миг «нагрянуть внезапно».
Согласно древнегреческой мифологии, весь Космос окаймлен водами
реки Стикс, которая, как обруч, содержит его целостную
завершенность. В эту реку, действительно, второй раз не входят. Если,
правда, кому-нибудь в исключительном случае не удастся выйти
из Космоса, а потом снова вернуться.
Принцип бытия «Все едино» и принцип естества «Все течет»
обобщаются Гераклитом в синтетическом метапринципе,
представленном в одном из самых невероятных по загадочности афоризмов:
«Всякая тварь бичом пасется» (фр. 11 DK). Версия Клеанфа не-
КНИГА II. ГЛАВА 1. § 1. ГЕРАКЛИТ
353
сколько переиначивает и уточняет этот фрагмент: «Под его [Перуна]
ударом совершаются все дела природы...». Как возможно
истолковать это таинственное изречение, не упрекая Гераклита в садизме?
Которого у него, разумеется, не было, при всех приписываемых
ему мизантропии, пессимизме, обскурантизме и высокомерии.
Попытаемся обосновать принципиальный характер этого суждения и
дать возможные способы толкования символов этого загадочного
отрывка.
Этот удар бичом не есть удар по телу, приносящий боль. Тела
до удара бичом нет, а есть лишь нечто аморфно ускользающее,
естественно стихийно растекающееся и расползающееся по всем
возможным направлениям в бесконечном неограниченном объеме.
Тело появится потом, в миг удара, собравшего аморфную стихийную
массу плоти в цельность. У расползающейся массы пока нет органа
и чувства боли, но есть своя особая активность заполнять собою
«всё». Бич, о котором говорит Гераклит, находится не вовне этого
«всего», а в нем самом, поэтому его удар, не являясь извне
наложенным наказанием, но и не мазохистским самобичеванием,
осуществляет «прострел» всего во всем, после которого только и можно
говорить о состоявшемся «всеединстве». Так, естественным образом,
силой потребности «фюсис» укрыться, возникает телесная форма
существования, что в новом свете освещает акт творения тела из
небытия в лепке. «Фюсис» любит скрываться не просто так, а
именно в теле, на поверхности которого нанесены ее криптограммы.
После того как тело появляется, оно охвачено
противоположными тенденциями — расползаться и собираться. Гераклитовский
фрагмент «Всякая тварь бичом пасется» перекликается с
признанием апостола Павла: «И чтоб я не превозносился чрезвычайностью
откровений, дано мне жало в плоть, ангел сатаны, удручать меня,
чтоб я не превозносился. Трижды молил я Господа о том, чтобы
удалил его от меня, но Господь сказал мне: "Довольно для тебя
благодати Моей, ибо сила Моя совершается в немощи"» (2 Кор. 12,
7-9).
Плоть, как нечто невоздержанное, немощна в самой себе и в
своем расползании. Но в ней же возможна сила, свершающаяся в
немощи разлагающейся плоти. Гераклит и ап. Павел, как нам
представляется, говорят об одном и том же — о едино-двоичном
существовании фюсис. Извлечение «бича» вовне тела, если такая
операция возможна, создает предпосылку использовать «бич» для
нанесения боли другим. Здесь появляется возможность садизма-
мазохизма, но к Гераклиту это уже не имеет никакого отношения.
Принципом «Всякая тварь бичом пасется» Гераклит совмещает
принципы «Всё едино» и «Всё течет», которые до этого казались
совершенно изолированными друг от друга. Из их совмещения
вытекают следствия: «единое течет» и «течение единит». Но как
354
ΙΟ. M. РОМАНЕНКО. БЫТИЁ И ЕСТЕСТВО
нужно понимать отдельные слова в этом метапринципиальном
изречении Гераклита — «тварь», «бич», «пасти»?
Обратимся к опыту чтения и вслушивания в этот фрагмент
В. В. Бибихиным, который приближается к нему через
предваряющие фрагменты: «Огонь обменивается на все (ta panta во мн.
ч., «все в мире») и все — на огонь, как золото на вещи и вещи
на золото» (фр. 90 DK).1 По соседству с этой мыслью стоит другая:
«Этот космос, один и тот же для всех, не создал никто из богов, никто
из людей, но он всегда был, есть и будет вечно живой огонь, мерно
возгорающийся, мерно угасающий» (фр. 30 DK). Слово «создал» в
этом контексте по-гречески звучит как «epoieze», т. е. в смысле
«сотворил». Следовательно, здесь Гераклит рассуждает о
несотворенности Космоса (из небытия). Однако, замечает В. В. Бибихин: «нет
необходимости думать, что Гераклит пантеист и у него космос —
бог, сам себя творящий. Ничего такого здесь пока не говорится.
Сказано другое: дело обстоит не так, что космос сделан (epoieze)
кем-то из богов или людей. Иначе говоря, увидеть в космосе что-то
дальше вечно живущего огня не удается. Вопрос, кто гасит огонь для
появления вещей, кто хранит меру огня и вещей, остается
открытым. Делается только ясно, что на него нет готовой разгадки».2
В античности, как правило, спрашивали о «чтойности» Космоса.
В последнем приведенном фрагменте слышится вопрос о «ктойно-
сти» космического творения. В. В. Бибихин задает такой вопрос:
«Нельзя не спросить: кто меняла, который ведь обязательно должен
бы был быть при таком обмене золота на вещи и наоборот. Вопрос
напрашивается, и если Гераклит не дает на него ответа, то его
молчание, что называется, кричащее. Мы должны поэтому
постараться расслышать, о чем он кричит, когда молчит о том, кто или
что вселенский меняла».3
Свойством универсальной изменчивости обладает фюсис.
Возможно, именно она может выполнить функцию «вселенского
менялы» всего на всё, деля всё надвое и наделяя каждое своим. Но
персонифицированный и трансцендентный статус фюсис не таков,
как у единого бытия. В греческом языке для обозначения
«потусторонности» используется выражение «epekeina». Но в применении
к трансцендентной природе Огня Гераклит берет другое слово:
kechorismenon — отстраненное (уж не «прячущееся» ли?). Это не
Единое Самотождественное, а всегда Другое ему. «Это другое мы
не можем понять».4 Оно также трансцендентно, но в иной степени.
«Другое богам и другое людям едино богам и людям. Оно же,
1 Бибихин В. В. Язык философии. М.: Прогресс, 1993. С. 121.
2 Там же. С. 122.
3 Там же. С. 121.
-1 Там же. С. 126.
КНИГА П. ГЛАВА 1. § 1. ГЕРАКЛИТ
355
другое огню и вещам, едино огню и вещам. Здесь действительно
нужен "делосский ныряльщик"»,1 который смог бы с первого раза
дважды нырнуть в текущую реку.
В. В. Бибихин подходит к возможности толкования фразы
«Всякая тварь бичом пасется» через такую редакцию перевода: «Все
ползущее бичом пасется», или «Все живое пасется молнией», или
в смежном фрагменте «Всем сущим правит Перун». «Мы раньше
чувствуем, чем можем понять и объяснить, что само слово Гераклита
имеет свойство молнии настигать нас прежде, чем мы всесторонне
осмыслим сказанное. Мы сразу и невольно соглашаемся: да, живым
правит не рассуждение, не ползучий дискурс. Все живое,
"ползущее", постепенно одолевающее пространство и время, отмечено
обреченностью на внезапную покорность не словесному даже
приказу, а какому-то молниеносному велению, вот уж правда, "манию
руки"».2
«Мания руки» — это не удар извне, а прикосновение как таковое
еще до возникновения тела и его касательных органов. Это
мануальное действие можно понять только мантически. Оно создает по
обе стороны внутренность тела и внешность его среды, в которой
тело становится находиться и получать уже вторичные
прикосновения от себя и других тел.
В самой «фюсис», скрывающейся в расползании, есть свой
собственный «бич», естественно организующий в организм всякое
живое существо. Об этой имманентной трансцендентности «фюсис»,
по всей видимости, говорит и В. В. Бибихин: «В недрах живого
организма правит молния».3
Что такое «ползущее», по-гречески — herpeton, откуда,
например, латинская «рептилия» (пресмыкающееся)? Имеет ли оно свои
законы? Да, имеет, и они состоят в экспансивном заполнении всего,
разрастании до вселенских масштабов, безмерном и безудержном
стремлении занять все оставленное место. Это и есть основное
действие природы — распространение себя в бесконечно
разнообразных порождениях, в сумме которых ей легче всего спрятаться.
Только так, наверное, можно представить понимающее описание
природной стихии, которая захватывает в свой процесс любое сущее.
Сейчас мы вышли на существенную проблему — понимание природы
как стихии. Словом «ползущее» Гераклит, вероятно, отмечает
«стихийность».
Эту тему мы затронем немного позднее, поскольку до сих пор
остался открытым вопрос о двоякой «ктойности» фюсис, о том, кто
меняет вещи на огонь и огонь на вещи, которые «исполняются,
1 Там же. С. 126.
2 Там же. С. 128-129.
3 Там же. С. 129.
356
Ю. M. РОМАН EH КО. БЫТИЕ И ЕСТЕСТВО
узнавая себя в молнии, своей тайной и истинной сути. Молния
исполнение вещей, потому что они хотят вторить ей, тянутся слиться
с ней».1 Приведя стихи Гёльдерлина: «...И скорую молнию
изъясняют // Деяния земные доныне, // Состязание неустанное...»,
В. В. Бибихин обнаруживает, что «мы неожиданно слышим как
будто бы ответ на вопрос о том, кто ведет обмен живого огня на
вещи и вещей на огонь, или по крайней мере что-то не постороннее
такому ответу. Обмен неким образом проходит через нас, людей, в
нашем историческом существовании...»2
Существует некое «ревнование» вещей друг перед другом по
поводу концентрированного огня — Молнии. Она — всегдашний
исторический предмет пререканий и камень преткновения в
«неустанном состязании» вещей и существ. Когда вещи перестают
ревновать о молнии, беря передышку, они начинают в бессилии
расползаться и распыляются согласно второму началу
термодинамики — отдают свой огонь, жар, пыл в небытие холода, и обратно
сами уже не могут вернуть. По этой причине возникает усталость,
заморенность и замороченность. Сохранение силы и ее даровое
прибытие — только в «состязании неустанном».
Молния — в отношении самих вещей. Она имманентна и транс-
цендентна им одновременно. То есть ее трансцендентность двоична,
равно как и имманентность. Как пишет В. В. Бибихин: «Опыт
границы — это доступный нам в имманентной действительности
опыт трансценденции. Удивительно, что мы представляем ее тем
не менее как нечто находящееся за чертой, границей. Ведь за любой
чертой и границей, по ту сторону их, на земле имеет место примерно
то же, что и по сю сторону. Во всяком случае, тамошнее не транс-
цендентно здешнему в такой мере, в какой и тамошнему, и здешнему
трансцендентна Граница как таковая. Граница не занимает места
в пространстве. Она не существует, потому что все существование
в разграниченном пространстве без остатка поделено
составляющими его и взаимно разграниченными телами. Однако, не обладая
существованием по способу сущего, черта присутствует в мире
сущего определеннее, чем любое сущее. Улавливаемая нами в вещах
или проецируемая в вещи, черта для нас самое интересное из
существующего».3 Помимо арифмологического смысла двоицы, фю-
сис имеет топологический способ ее представления в образе линии.
Итак, есть некая Граница (Черта). Только она, собственно говоря,
и есть. Но как она есть и где? Получается, что она — другое и
трансцендентному, и имманентному, т. е. она сверх-трансцендентна
и сверх-имманентна. Как себя ведет эта Граница-Молния? Интуиция
1 Бибихин В. В. Язык философии. С. 134.
2 Там же. С. 134.
3 Там же. С. 143-144.
КНИГА II. ГЛАВА 1. § 1. ГЕРАКЛИТ
357
В. В. Бибихина, если мы ее правильно понимаем, ведет по следу
движения этой границы. «Безусловно Другое трансценденции
следовало бы представлять — если представление тут вообще
возможно — не как беспредельное пространство за пределами земных
границ, а как саму черту, непостижимым образом расщепившуюся
и впустившую в себя, в свое пространственное ничто. Вообразим в
меру сил, что ничто черты раздвинулось. Там, внутри будет уже
не снова некое пространство между чертами, а во всем — все та
же Черта. Другое трансценденции не однократно другое, не смена,
а Другое всегда, непрестанное обновление».1
Не умея представить такую интеллектуальную интуицию в
образах, можно тем не менее суметь «исчислить» ее арифмологически.
Итак, Граница делит всё надвое, но в ней самой также происходит
раздвоение. Получается некая четверица. Это снова отсылает нас
к знаменитой четверице мира по Хайдеггеру, но уже с иных
оснований. В первой части арифмологический счет начинался с единицы
(единственного единичного единого Бытия, запределенного
перекрестием диагоналей). Теперь же счет ведется от двоицы (Другого).
Оба пути начинаются и заканчиваются в мировой четверице, откуда
возможно трансцендирование. Обратным ходом трансцендированию
является имманентизирование. Трансцендировать нужно не только
куда-то, но и откуда-то.
Место обитания «ползущего» — жизненный мир. От него никуда
не деться, разве что в актах трансцендирования или имманенти-
зирования, в актах захвата мира или жертвенной отдачи себя миру.
Существование «ползущего» двуполярно и поэтому оно
наэлектризовано. Как ведет себя «ползущее» в ситуации мира, если его не
«пасти»? Оно распыляется, раздробляется и энергийно разряжается.
«Беда "ползучего" не в подробности, а в безнадежной дробности, в
распылении мира на сор, в забывании о его золотом обеспечении.
Мир-сор возник обманом. Но оттого что куча сора, земли, камней,
нечистот, разлагающихся трупов возникла обманом, необходимость
раскапывать завалы не отменяется. Невозможно обмануть обман.
Обман обманом разрушил прекрасный космос в груду сора, но
обратно добыть золото мира можно уже только необманной работой».2
Если бы Гераклит был садистом, он бы сказал: «Ползущее
необходимо »сечь огнем». Подобно тому как К. Леонтьев однажды
бросил в сердцах: «Россию нужно подморозить». О структурном
соответствии процессов воспламенения и замораживания,
различающихся только по чину естества, будет сказано позднее. Но нет,
Гераклит говорит — пасется само собою, свободно, т. е. питается,
насыщается, разрастается до бесконечности, о чем свидетельствует
1 Там же. С. 145.
2 Там же. С. 152-153.
358 Ю. M. РОМАНЕНКО. БЫТИЕ И ЕСТЕСТВО
суффикс «-ся>>, являющийся редуцированной формой местоимения
«себя». От этого местоимения и от местоимения «свой» или от
местоименного комплекса «самое себя» этимологически возникло
слово «свобода». В другой работе В. В. Бибихин обращает внимание
на языковое происхождение этого слова: «И сначала — надо решить,
сколько мы себе разрешаем свободы в своем. Мы разрешаем себе
всю свободу, она и есть наше свое. Haine свое, подсказывает нам
слово, есть собственно свобода, свобода в собственном как
настоящем. ...Связь нашего свобода со своим и с собой считается, однако,
бесспорной».1 Гераклитовский бич не отнимает у ползущего его
свободу освоения всего пространства, а как раз впервые ее вручает.
В онтологическом разделе утверждалось, что творение из
небытия — это безвозмездный дар, однократный, чудесный и
необратимый. Нечто стало быть самим собой. «Правящая молния прежде
всего дарит всему простое умение быть собой».2 И так существовать
для сотворенного наиболее естественно. Но кроме этого, сущее,
замыкаясь, казалось бы, только на самом себе, находит у себя
какую-то способность оглянуться на иное. Откуда эта способность?
Неужели творение двукратно? Зачем человеку два глаза, два уха
и т. д.? Можно ли говорить о двойном даре?
О двойном даре В. В. Бибихин пишет удивительные строки:
«Огонь логоса, юного-нового, правит, наоборот, тем, что дарит и
потом еще дарит, снимает запреты и оставляет человека наедине
с захватывающей свободой. Вечность — дитя; правит играющий
младенец. Правит не что-то новое, а сама новизна, захватывающая
только своей освобождающей открытостью. Логос каждый раз
новый, как солнце. Он само дыхание новизны. Время в своем
существе — небывалое событие. Эон-дитя правит тем, что, если мало
открыл, открывает больше, дает и снова дает. Бог запретами не
занимается. ...Удар божественной молнии правит тем, что дарит.
В ней нет запретов. Запрет был бы прежде всего ограничением
самого запрещающего».3
Дар молнии — это удар, потрясение (дар=удар). Здесь возникает
новая метафизическая категория — «встряска», соотносимая с
онтологической категорией «вдруг». О ней еще будет повод сказать
при анализе понятия «смеси» в платоновском арифмолого-
метафизическом диалоге «Филеб». «Способ правления молнии —
потрясение, которым сущее захвачено раньше, чем успевает понять.
Так у Ксенофана, возможного учителя Гераклита, во фр. 25: "Но
без труда помышленьем Ума Он все потрясает"».1 Также и у Анак-
1 Бибихин В. В. Материалы к исихастским спорам //' Синергия.
Проблемы аскетики и мистики православия. М.: Ди-Дик, 1995. С. 187.
2 Бибихин В. В. Язык философии. С. 158.
3 Там же. С. 154-155.
КНИГА II. ГЛАВА 1. § 1. ГЕРАКЛИТ
359
сагора, согласно которому Ум (Нус) правит Вселенной, делая это
таким образом, что вносит в аморфную материю импульс
вращательного движения, посредством чего возникает Космос. Во
всеединстве, стало быть, момент «вдруг» обнаруживается как некий
«вздрог», «встряска». Но поскольку само «бытие», как мы помним
по Пармениду, «бездрожно», то следует задаться вопросом — что
все-таки «дрожит»? В ответ на удар бича раздробленность ползущего
встряхивается, и оно вздрагивает, собираясь в единое тело.
На данной ступени пристального отслеживания гераклитовской
мысли начинает проявляться структура траектории молнии. Да,
она всегда иная в своих причудливых зигзагах. Но в ней чувствуется
и некий топологический инвариант, представляемый в вихреобраз-
ной структуре. Если образом парменидовского бытия является
«глыба прекруглого шара», то образом гераклитовского естества является
воронка вихря. «Перед нами приоткрылась какая-то загадка.
Настроение молчаливой, немного горестной сосредоточенности, грусти
от неуспеха, трезвого волнения захватывает нас. В таком настроении
недоумения, растерянности, даже паники от догадки, что внутри
нас вместо нас вихрь, воронка, куда Я затягивается без надежды
проясниться, мы впервые находим себя. Важно, чтобы такое
настроение нас никогда не оставляло. Это настроение философии».2
После подобного вхождения в вихреобразную структуру мысли
Гераклита, воплощенной в его загадочных сентенциях, нужно
немного успокоиться и отдышаться. И оглянуться: куда мысль сейчас
несется? Хотя оглядка назад запрещена, как мы ранее выяснили,
в процессе угадывания. Но этот запрет был необходим в контексте
онтологии. А как быть с оглядкой в контексте метафизики? Видеть
то, что находится сзади, не оглядываясь и тем самым не нарушая
запрет, можно только при помощи зеркала. Но его нужно или
иметь заранее, или изобрести, зная о его возможностях. Эти темы
были объектом пристального внимания в процессе развития
античной перифизики. Ведь глагол от слова «периферия» означает
возвращение по кругу к тому же самому месту.
Откуда вообще берется возможность зеркала? Это один из
принципиальнейших вопросов метафизики, поскольку «фюсис» любит
скрываться именно за «ту» сторону зеркала. И чтобы найти ее,
нужно «умудриться» заглянуть «туда», не разбив при этом самого
зеркала. Подход к осознанию тайны природы — это разгадка секрета
зеркала. Способ скрывания-раскрывания «фюсис» организован, как
выяснилось, воронкообразно, как некое сферическое зеркало с
отверстием в фокусе. К примеру, вулкан.
1 Там же. С. 156.
2 Там же. С. 174.
360 Ю. M. РОМАНЕНКО. БЫТИЕ И ЕСТЕСТВО
Мгновенное вихревое движение границы, упорядочивающее
изнутри «всеединство», подобно пасущему удару бича, есть
непрерывная оглядка всего на все по единой команде. Современное
понятие «когерентность» является отголоском этой предельной
античной стихийной интуиции.
В метафизическом контексте оглядка разрешается, но с
определенными оговорками. В отношении бытия оглядка выталкивает
с «пути истины», увлекая на «путь небытия» или, в лучшем случае,
на «путь мнения». В последнем случае оглядка иногда может
служить сохранению. В ситуации захвата стихийным вихрем мысль
вынуждена непрерывно ускоренно оглядываться, как постоянно
оглядывается водитель автомашины в зеркало заднего вида. Какова
стратегия поведения в этой ситуации, можно пояснить следующим
примером.
Когда пловца засасывает водяной круговорот, рекомендуют не
вырываться изо всех сил наверх. Наоборот, нужно, используя
естественное скольжение водоворота, поднырнуть быстрее книзу, к
точке конуса воронки, и тебя обратная сила так же естественно
сама вытолкнет наружу. Но по другую сторону воронки, вдоль ее,
так сказать, мнимой поверхности. Только так можно опытно
«заглянуть» за обратную сторону зеркала. Но в силу зеркальности
самой фюсис там можно обнаружить точно такую же воронку, но
вращающуюся в обратном направлении. Таким образом, получается
две воронки, и, забегая вперед, можно сказать, что все четыре.
В мифологической экспозиции мировая водяная воронка
соответствует модели мировой горы. Топологические структуры их
описания идентичны. Структура одна, но модели две. И различаются
они так, как различаются стихии земли и воды.
Так, незаметно для себя, мысль перешла к новым видам
«фюсис» — земле, воде и воздуху, не рассчитавшись, кажется, с огнем.
Но, может быть, сам огонь перешел в иное себе? А мысль,
внимательно следуя за ним, вдруг нашла себя в иных стихиях. Здесь
действительно нужен «делосский ныряльщик»! Актуальным
становится вопрос — во что исчезла, спряталась молния? Где она
находится, когда ее не видно?
Ближайший ответ: молния спряталась в ползущем. Но ползать
можно на чем-то, а именно на земле, которая является подстилкой
(буквально — субстратом) расползания. Более того, земля и есть
стихия расползания как таковая. В то время как огонь летит (в
обычном состоянии — вверх, а в концентрированном случае
молнии — вниз). Воистину Гераклит был прав, сказав: «Путь вверх-
вниз один и тот »се».
В акте манифестации молнии, помимо огня, не последнюю роль
играют воздух, вода и земля. С «физической» точки зрения, феномен
молнии возникает, когда сталкиваются друг с другом вдоль гори-
КНИГА П. ГЛАВА 1. § 1. ГЕРАКЛИТ
361
зонтали разнозаряженные облака (массы поднятой в воздух воды),
и далее молния устремляется к земле, сверху вниз, вертикально,
«заземляясь» в иной природной стихии. Наука может объяснить
разряд молнии теорией электричества, но в своих рациональных
объяснениях она оставляет пустое место для воображения, в которое
устремляется взор мифотворца, видящий там Зевса, а в феномене
молнии догадывающийся о брачных отношениях Неба и Земли.
Наука помогает обмануть молнию, устанавливая в нужном месте
громоотвод, гася огонь землей и скрываясь от небесного гнева. Для
полной сохранности нужно заручиться покровительством Земли —
естественной супруги Неба.
Молния — это дар Неба Земле. О даре следует сказать несколько
дополнительных слов. Как мы выше писали, дар дается
безвозмездно, без ответной уплаты налога. Дарящему не платят ответную
мзду, в противном случае это был бы не дар, а кредит. Согласно
знаменитому изречению Анаксимандра, все вещи, состоявшиеся
благодаря принятому дару и распределившие его между собой,
отдают себе подобным штраф в природном круговращении: «А из
каких [начал] вещам рожденье, в те же самые и гибель совершается
по роковой задолженности, ибо они выплачивают друг другу пра-
возаконное возмещение неправды [=ущерба] в назначенный срок
времени».1 Есть другой вариант перевода этого фрагмента: «Все,
что возникает из каких-либо [элементов], в них же и разлагается
при уничтожении, как если бы природа взыскивала под конец те
долги, которые она ссудила в начале».2
Если вещи хотят расплатиться за дар Дарящему, то они не
ведают, что творят. Это равносильно отказу от дара. Дар «быть-
самим-собой» не нуждается ни в чем ином, кроме как в долге «быть
самим собой». Но вот именно это требует уплаты долга другим
самостоятельным собственникам бытия. Ответный дар, или
благодарение, должен быть, но только в виде ответственности
принимающего дар перед другими, принявшими дар. Если бы у меня
спросили, для чего пишется книга, я бы ответил: чтобы порадовать
других подарком. Мы всегда рады дару. Если это, конечно,
настоящий дар, а не передаривание или скрытая форма купли-продажи.
Обмен вещей на огонь и огня на вещи не есть свободная купля-
продажа. Каждое состоявшееся сущее стоит золота, находясь в
центре мировой четверицы. Но каждое сущее состоит не только из
огня. Что можно сказать о земле, воде и воздухе, самих по себе,
вне зависимости от того, что они уступили право физического
первородства огню?
' Фрагменты... С. 127.
2 Там же. С. 127.
362
Ю. M. РОМАНЕНКО. БЫТИЕ И ЕСТЕСТВО
В «фюсис», составляющей собою «всё» под знаком двоицы, дары
перераспределяются и ответно отдариваются. В свете «фюсис»
«всеединство» становится «вседвойством». Окончательного
уничтожения в «укон» (абсолютное ничто) в природе не происходит: всякое
сущее уничтожается относительно в «меоне», оставляя прежнюю
форму и разлагаясь на элементы по линии ускользания
скрывающейся природы. Сам процесс «раз-лагания» на элементы (по-греч.
«стойхейоны») есть направление укрытия «фюсис». В обратном
направлении, противоположном относительному уничтожению, —
в процессе «с-лагания» элементов состоит процесс возникновения
вещи.
Противоречие между природными началами достаточно
наглядно. Гераклит констатирует предельную противоречивость
существующего, интуитивно обнаруживая в ней исток гармонии. Допустив,
что Молния есть дар Неба Земле, одновременно нужно признать,
что Молния есть дар Земли Небу. Небо и Земля обмениваются
дарами в тайной гармонии, а сущее, находящееся между ними и
забывшее свое происхождение, воспринимает эти дары как явную
дисгармонию. В древнегреческой мифологии говорится, что
первыми обладателями молнии были хтонические персонажи — киклопы
(«круглоглазые»), сброшенные Ураном (Небом) в Тартар
(преисподнюю Земли), а затем вручившие (позаимствовавшие) Зевсу молнии
и громы для его борьбы с титанами.
Молния, таким образом, будучи огненной, имеет еще и
отношение к природе земли. Гераклит признался, что он «откопал»
самого себя. Позволительно понять это слово буквально, не сводя
его смысл и значение к ничему не обязывающей метафоре. Наиболее
оптимальными способом и формой копания вглубь и вширь является
«воронка». Этот образ не случайно возникает при осмыслении опыта
Гераклита, сумевшего в процессе стихийно-интуитивного
«самокопания» пройти траекторией разворачивающейся воронки. Модель,
с помощью которой он прикасается к тайне «фюсис», действительно
имеет образ воронки. При таком подходе строится не только
эволюционная (видообразующая) теория природы, но и не только
инволюционная (генетическая). «Эволюция» (развитие,
экспликация) и «инволюция» (свитие, импликация) имеют единым корнем
некую «волюцию», топологической структурой которой является
«волюта» (спиралевидный завиток с «глазком» в центре). Гераклит
откопал эту воронку и, глядя в ее «зрачок», увидел, куда исчезает
природа, одновременно познав самого себя. Не об этом ли говорит
его еще одно «темное» изречение, намеренным нагнетанием контра-
дикторности подталкивая заглянуть вглубь воронки: «Сопряжения:
целое и нецелое, сходящееся расходящееся, созвучное несозвучное,
из всего — одно, из одного — все» (фр. 25 DK). Вот это и есть
чутье естества, стихийная интуиция стихии фюсис.
КНИГА II. ГЛАВА 1. § 1. ГЕРАКЛИТ
363
Движение в воронке естественно приводит к головокружению.
В пояснении на фрагмент 125 DK Теофраст пишет: «Головокружение
бывает также, когда пристально всматриваются в одну точку...
причина же этого в том... что то, что сохраняется в движении,
расслаивается и разделяется при остановке: стоит остановиться
взгляду — одной из частей, как и другие, смежные с ним [части]
в мозгу останавливаются. Когда же они расслаиваются и
разделяются, то тяжелые отягощают [мозг] и вызывают головокружение.
В самом деле, [тела], которым свойственно двигаться этим [вихре-
образным] движением, иногда [?] остаются вместе вследствие него
же...»
Лукиан добавляет свою версию, объясняющую причины плача
Гераклита: «Вот почему я плачу, [говорит Гераклит], а еще потому,
что ничто не постоянно, но все свалено в кучу, словно в кикеоне,
и одно и то же: удовольствие—неудовольствие, знание—незнание,
большое—малое, туда—сюда [все] кружится и сменяется в игре
века». Такое поневоле может вызвать приступ мизософии. В этом
лукиановском описании наглядно проявляется динамика и
структура Двоицы: «кружение» между «туда» и «сюда» во «всём».
Подобное состояние описывается и в «Опровержении всех ересей»
Ипполита: «И прямое и витое, говорит [Гераклит], одно и то нее:
"У чесала путь прямой и кривой" (у орудия, называемого "улиткой"
[=винтом], в мастерской валяльщика, вращение прямое и кривое,
так как он идет одновременно вверх и по кругу), "один и тот же"».1
Парменидовский опыт «бытия» задается образом «глыбы пре-
круглого шара». Опыт гераклитовского «естества» выражен образом
«воронки». Это структура метафизической границы между
природными стихиями. Чистая же стихия — это то, из чего тело слагается,
плоть (стихийная плотность) тела. А само по себе тело есть
компромисс стихий. Если же взаимо-обетование стихий внутри и извне
тела нарушено, то телесная оболочка разметывается, тело
разрыхляется и рассеивается.
Парменидовское шаровидное тело Бытия сверхплотно и
непроницаемо. Только в него может укрыться и сосредоточиться вся
фюсис. Так Единица, оставаясь единицей, вбирает в себя Двоицу.
Разнородные стихии гармонично сочетаются друг с другом только
в тайне бытия. Здесь нагляден такой образ: в единый шар бытия
встроены две прилаженных друг к другу своими основаниями
воронки, вершины которых проецируются на полюса шара и между
ними натянута мировая ось, как «тетива у лука» или «струна у
лиры» по Гераклиту. Бытие есть в тайне естества. Необходимым
условием постижения этой тайны является целомудрие. Как пишет
Гераклит: «Целомудрие [=самоограничение] — величайшая добро-
1 Фрагменты... С. 204.
364 Ю. M. РОМАНЕНКО. БЫТИЕ И ЕСТЕСТВО
детель, мудрость же в том, чтобы говорить истину и действовать
согласно природе, осознавая» (фр. 112 DK).
Перекликается этот фрагмент со следующим: «Выслушав не
мою, но эту вот Речь (Логос), должно признать: мудрость в том,
чтобы знать все как одно» (фр. 50 DK). Вспоминая иные речения
Гераклита, можно за него продолжить: мудрость и в том, чтобы
знать все как два. Когда Гераклит говорит, что мудрость состоит
в том, чтобы знать одно как все, то это означает, что он познал
Огонь как Землю, Воду и Воздух одновременно. Познать же Огонь
можно, только испытав опыт его концентрации в Молнии. Но
Молния находится на стыке стихий, как минимум между двумя,
а вообще принадлежа им всем. Трения (можно даже сказать —
прения) между стихиями имеют форму турбуленций. Стихии
проникают, прорастают друг в друга воронками. Кроме этого, между
стихиями существует обращение. «Душам смерть — воды рожденье,
воде смерть — земли рожденье, из земли вода рождается, из воды —
душа» (фр. 36 DK). Под душой же в то время понимали Воздух.
И не просто воздух, а огненный: горячее дыхание огненной пневмы,
вдуваемое в земное тело и дарующее жизнь. Двойственность души
состоит в сочетаниях в ней воды и огня, порождающих воздушные
испарения, которые чует Нус (русское слово «нюх» этимологически
связано с греческим Нус-Ум): «Души обоняют в Аиде» (фр. 98 DK),
различая ставшие невидимыми вещи.
Человек естественно образован из всех природных стихий и
имеет тело. Это дано изначально. Поэтому познать какую-либо из
стихий в чистоте человек не может, не перестав быть человеком.
Как смог Гераклит познать и выразить опыт Огня, сохранившись
в качестве человека по бытию и по природе?
Дело в том, что человеческий опыт проходит «на стыке» стихий.
Античные биографы почему-то оставили для нас некоторые
«странные» подробности жизни Гераклита. Оказывается, что эфесец, певец
огня, болел «водянкой» (?). Не получив от лекарей адекватного
диагноза своей болезни, он излечил себя сам, намазав всего себя
навозом (читай — землей) и высушив на солнце. Умер он, зарывшись
в песок. Сложно давать толкование этим биографическим курьезным
фактам, даже понимая, что они имеют непосредственное отношение
к теоретической части учения Гераклита, к его чутью естества.
Можно предположить, что гераклитовский опыт состоял в
избрании двух стихий — Огня и Земли, и движении вдоль их
воронкообразной границы, оставляя в относительном забвении Воду и
Воздух. Отстраненность от двух последних стихий может привести
к дисбалансу в организме. Нарушение водообмена вылилось в
«водянку». Кроме этого, вода изливалась через глаза, посему Гераклит
вошел в историю с прозвищем «плачущий философ». Гераклит
оставил «за скобками» воду, утверждая, что самая мудрая душа —
КНИГА II. ГЛАВА 1. § 1. ГЕРАКЛИТ 365
сухая, а пьяные безумствуют оттого, что психея их влажна. Согласно
воззрению Гераклита, необходимо ограничение потребления
жидкости, своеобразное поддержание непрерывной душевной жажды.
Это еще одно условие трансцендирования к естеству.
Круговращение стихий вечно, т. е. не сотворено из небытия
(укона). Об этом пишет Филон Александрийский в трактате «О
вечности мира», откликаясь на идею Гераклита: «...элементы
космоса [как бы] соревнуются в беге: в своих взаимных превращениях
они, что самое парадоксальное, "казалось бы, умирая, обретают
бессмертие", вечно бегая по кругу и постоянно проходя "один и
тот же путь вверх-вниз"... Путь в гору начинается с земли:
расплавляясь, земля превращается в воду, вода, испаряясь, — в воздух,
воздух, разрежаясь, — в огонь; путь под гору — с вершины: угасая,
огонь осаждается в воздух, воздух через сжатие осаждается в воду,
а избыток воды путем сгущения превращается в землю. ...при этом
смертью он называет не абсолютное уничтожение, но превращение
в другой элемент».1 Единственное, о чем промолчал Филон
Александрийский в истолковании этого фрагмента Гераклита, — это
молния, рассекающая «миф вечного возвращения».
Рассмотрим внимательнее, как взаимодействуют стихии друг с
другом через рассмотрение их воронкообразных структур и форм
соотношения последних. Итак, имеется модель воронки,
касающейся своим острием острия зеркально противоположной ей воронки.
В точке контакта — пересечение трансформирующих друг в друга
стихий. Известно также, что там душа живого тела, но точно
локализовать ее не удается. «Границ души тебе не отыскать, по
какому бы пути [=в каком бы направлении] ты ни пошел: столь
глубока ее мера [="объем", logos]» (φρ. 45 DK). В этом месте,
возможно, интеллектуальные интуиции Гераклита и Парменида снова
пересекаются, но в обратной перспективе: точкой соприкосновения
двух «воронок» естества, но уже не основаниями, а остриями,
является «шар» бытия. Достаточно проследить движение по одной
из воронок до конца, как сразу же будет дано зеркальное отражение
второй воронки, где точкой симметрии выступает само бытие.
Речения Гераклита вызывают образы. Конус горы вздыбившейся
земли под действием скопившегося в ней огня отражается в водяной
воронке, по которой вода устремляется в земную пустоту,
компенсировавшую возвышенность горы, а возникшие от этого перепада
давления колебания воздуха приводят к столкновению облака,
держащие испарившуюся воду наверху, в результате чего высекается
молния. Путь огня вверх и вниз один и тот же. Явление молнии
мгновенно освещает весь Космос, становящийся в этот миг зримым
в стихийной интуиции его стихий. В человеческом опыте эта мгно-
1 Фрагменты... С. 229.
366 Ю. M. РОМАНЕНКО. БЫТИЕ И ЕСТЕСТВО
венная метафизическая интуиция может быть хронологически
растянута на многие годы постепенного накопления испытания стихий
в восприятии явлений природы.
Если какая-либо из стихий является на данный момент
трансцендентной, то симпатическая ей стихия оказывается имманентной.
Дело в том, что сами стихии типологизируются по следующим
метафизическим признакам: теплое—холодное, сухое—влажное,
плотное—разреженное, гравитирующее—левитирующее. Так, огонь —
теплый, сухой, разреженный и возносящийся; земля — теплая,
сухая, плотная и тянущая вниз; вода — холодная, влажная
(«мокрая»), плотная и отягощенная; воздух — холодный, влажный,
разреженный и летучий. Так существовать для стихий естественно,
если они находятся в своей чистоте. Естественное распределение
термических, динамических, статических и др. параметров стихий
образует их конечные комбинации. Нового здесь, кажется, не
предвидится. Категория «нового», действительно, является прерогативой
онтологии, ибо новое творится из небытия.
Онтолог увидит в вещи ее момент сотворенности и новизны.
Метафизик в той же самой вещи заметит ее естественность
происхождения и ее «старость», т. е. существование «от века», «от
природы». Гераклит мог бы начать свой «перифизический» путь с
воды, если бы ранее этого не сделал Фалес. То, что увидел Гераклит,
увидел и Фалес, только с другой точки зрения. Поскольку естество
двоично, то и опознать его можно только на пересечении двух точек
зрения. Попытаемся сопоставить опыт Гераклита и опыт Фалеса.
Тайна заключается в том, что «все есть во всем». Познать
что-либо «одно» можно лишь познав «всё». Если бы предельно
познал ось «одно» как «одно», то в нем бы разверзлась панорама
«всего». Такая перспектива действительно приводит к
«головокружению от успехов». Вращение задается оппозицией
«левого—правого», перпендикулярно которой расположена линия вращающейся
оппозиции «верха—низа». Космос организован в этой четверичной
структуре, сохраняющей разнородные стихии в их чистоте и
взаимосвязанной целостности. Космос есть гармония гетерогенного.
Стихии соседствуют друг с другом и между ними происходит обмен
энергиями. Достаточно внимательно, до головокружения,
посмотреть на воду и в ней отразятся остальные стихии. Этот взгляд
история препоручила Фалесу. О нем и о его известном изречении
«Все из воды» я уже имел возможность высказаться в статье «Вода:
миф и реальность», где были рассмотрены вопросы о тварности и
нетварности воды, о ее креативных и эманативных функциях, о ее
персонификации в мифе и т. д.1 В этой статье также была пред-
Романенко Ю. М. Вода: миф и реальность 7 Символы в культуре.
СПб.: Изд-во СПбГУ, 1992. С. 67-77.
КНИГА II. ГЛАВА 1. § 1. ГЕРАКЛИ Τ 367
принята попытка сопоставить мифологические представления о воде
и естественнонаучные. Чтобы не дублировать ту работу, которая
была проделана выше в применении к огню, можно заключить,
что те же самые выводы относятся к воде. Недостаточная сохра-
ненность фрагментов Фалеса не позволяет произвести полную «пе-
рифизическую» реконструкцию, как это удается сделать по
материалам наследия Гераклита. Оставим последнего быть
репрезентантом первого поколения так называемых «физиологов» или
«натурфилософов», они же «перифизики» или просто —
«естествоиспытатели», «пытающие» природу без применения насилия.
Обозначим один существенный момент. Оказывается, что и в
воде есть Молния. Только не горячая, а ее холодный аналог,
имеющий изоморфную воронкообразную структуру. Эта «водяная
Молния» также пасет «ползущее», вернее, теперь уже «плавающее»,
делая из него «делосского ныряльщика». Молния в воде не столь
очевидна, как в воздухе, но и она фиксируется стихийной интуицией
в виде винтовых прожилок кристаллизирующегося льда.
Современная физика обнаруживает это в специальных экспериментальных
условиях, с помощью изощренных инструментов и приборов на
микроскопическом уровне. Хотя древние научились видеть ее
невооруженным глазом, доверяя тому, что они видели. Стихийная
интуиция заменяла им микроскопы, телескопы и перископы. А если
уж быть совсем точным: стихийная интуиция и есть перископия
фюсис.
Схема гераклитовского изречения «ползущее бичом пасется»
универсальна для любого типа стихии. Всё ползающее, плавающее,
летающее, а также шагающее так или иначе «пасется», т. е.
движется само собою согласно двуединой структуре
синхронизированных конечностей — органов передвижения. «Пасти» означает
направлять хаотическое движение на «след» естества, делая его
упорядоченным, структурированным и, следовательно,
интегрированным в гармонию Космоса. «Пасти» также означает направиться,
сдвинуться на нужную стезю (путь, метод). Русское слово «стезя»
этимологически произошло от греческого слова «стихия».
Определением «естественности» является «стихийность». Что такое
стихия, как ее можно знать и как она дает о себе знать?
А. Ф. Лосев посвятил категории «стихия» (по-лат. — элемент)
целую главу в последнем томе «Истории античной эстетики». Он
пишет, что античности присуще понимание «элемента (stoicheion)
как минимального идеально-материального, то есть порождающе-
жизненного сдвига».1 Интересно для нас первичное этимологическое
значение этого термина. «Steicho значит "иду", "шагаю". Stichos
1 Лосев А. Ф. История античной эстетики. Итоги тысячелетнего
развития. Кн. 2. М.: Искусство, 1994. С. 173.
368
ΙΌ. Μ. РОМАН EH КО. БЫТИЕ И ЕСТЕСТВО
значит "ряд", "линия". Stichaomai — "движусь в плотном ряду",
"друг с другом". Слово stoicheion значит "шаг", "сдвиг", что-нибудь
раздельное, идущее в одном ряду (буквы в алфавите, деревья в
лесу или саду, солдаты в шеренге). Старославянское "стезя" тоже
указывает на путь, движение в определенном направлении. ...Везде
здесь имеется в виду некоторого рода сдвиг или движение, которое
заключает в себе, с одной стороны, известного рода процесс, с
другой же стороны — первоначальные достижения и результат
этого процесса, который может и продолжаться дальше, и оставаться
на месте. В природе, в жизни и в бытии вообще "стойхейон" —
это есть первоначальное зарождение и сдвиг, который будет
продолжаться все дальше и дальше, но тем не менее оказывается уже
и в своем первоначальном состоянии чем-то строго определенным,
отличным от другого и движущимся с ним в одном ряду. ...Одно-
коренное русское слово "стихия", как видим, имеет совсем
противоположное значение и указывает, скорее, на беспорядок, на
отсутствие начала и конца и на несоответствие с окружающей средой.
Греческая же этимология этого слова говорит как раз о единстве
стихийного происхождения, определенного метода развития и
четкого соответствия со всем окружающим вплоть до постановки в
один строгий ряд».1
Любопытна история трансформирования греческого слова
«стойхейон» в латинское слово «элемент»: «В I в. до н. э. Лукреций,
используя сравнение атомов с "буквами", впервые передал греч.
stoicheia как elementa, от "эл-эм-эн" — ср. рус. "абевега" и т. д.».2
Элементы означали «первоначально — "буквы" (алфавита), затем —
простейшие начала, элементы (старослав. транскрипция —
"стихии"). Уже атомисты (N 240 Лу.) сравнивали сочетания атомов с
порождением "из одних и тех же букв" различных текстов. Впервые
элементы (стойхейа) как метафорическое обозначение простейших
чувственных тел встречается у Платона... Для Платона, однако,
"элементы" — не четыре "корня" Эмпедокла (земля, вода, воздух,
огонь), а составляющие их правильные многогранники ("Тимей"
46 Ь, 56 Ь). У Аристотеля метафора стирается, и элемент становится
философским термином, употребляющимся очень широко — от
онтологии и космологии до гносеологии и теории доказательства».3
Позволительно представить элемент-стойхейон как принцип
шагового движения, захватывающего в себя всех носителей данного
типа. Это некий двуединый вращательный импульс движения,
благодаря которому если сделан первый шаг одной конечностью тела,
Лосев А. Ф. История античной эстетики. С. 174.
' Лебедев А. В. Элементы ( I Философский энциклопедический словарь.
М, 1989. С. 761.
3 Там же. С. 761.
КНИГА П. ГЛАВА 1. § 1. ГЕРАКЛИТ
369
то вслед за ним естественно делается шаг второй (симметричной)
конечностью. Подобное представление моделирует движение как
таковое (движение самой «фюсис»), имманентно присущее телу как
«автомату» (букв. — «самодвижному»), т. е. тому, что может
двигаться само собой. Его структура проста: «туда-вращение-сюда».
Космос шагает буквально — от себя к себе. Не об этом ли
загаданная нам Гераклитом загадка: «Солнце правит космосом
согласно естественному порядку, будучи шириной [всего лишь] в
ступню человеческую. Оно не преступает положенных границ, ибо
если оно преступит должные сроки, его разыщут Эринии, союзницы
Правды» (фр. 3 DK).
Разнобой в выборе абсолютного единственного природного
начала (архе) в среде досократовских натурфилософов указывает на
самодостаточность любой стихии, их гетерогенность, отраженность
и обращаемость друг в друге. Стихийная интуиция «физиолога»
является интуицией данной стихии, действию которой подвержена
в настоящий момент душа философа. Нельзя сомневаться в том,
что душа Гераклита горела и содрогалась от молнии, что одноглазым
рассудком воспринимается как напыщенная метафора.
Гераклит через огонь знал все остальные стихии, но чтобы это
знать, он должен был пребывать в одной и только одной из них —
в огне. Точно так нее, как Фал ее — в воде, Ксенофан — в земле,
а Диоген Аполлонийский — в воздухе. Стихии природно
моделируют мышление, не случайно А. Ф. Лосев определил их как принцип
порождающей модели (не только творящей). Так, Диоген
Аполлонийский мыслил не воздух «отстраненно», а мыслил самим
воздухом, утверждая: «Мыслят воздухом чистым и сухим».1 Вторит ему
Демокрит, заявляя: «В воздухе есть большое число таких атомов,
которые он называет умом и душою, они и определяют собою
дыхание и жизнь человека, причем воздух является также
носителем сновидений и вообще "полон видиков"».2 Стихия не есть
только внутри или только вовне, напротив, она и есть становящаяся
граница возникновения внешнего и внутреннего как таковых.
Принципу стихийности подвержена не только «объективная реальность»,
но и мышление. В античной теории познания доминировала идея,
что подобное познается подобным. Тело чувствует внешний холод
существующей изнутри него водой (по природе холодной), а тепло
окружающей среды чувствуется внутренним огнем. Сами же стихия
воды и стихия огня находятся не извне и не изнутри, а в границе
внешнего-внутренного.
Обобщая учения античных философов о «стойхейон», А. Ф.
Лосев дает такую его концентрированную характеристику: «Делая
1 Лосев А. Ф. Указ. соч. С. 178.
2 Там же. С. 178.
370 ΙΟ. Μ. РОМАНЕНКО. БЫТИЕ И ЕСТЕСТВО
сводку семантического диапазона древнегреческого термина "стой-
хейон", мы должны сказать следующее: stoicheion есть 1) материя,
2) тождественная с жизнью, данная всякий раз как 3) специфическая
и 4) неразрушимая 5) геометрически-числовая структура и как
6) принцип бесконечного ряда своих функциональных проявлений
в 7) окружающей среде, 8) каждый раз в связи с особенностями
структуры (особенно пространственно-временной) этой среды,
образуя 9) пластическую и 10) чувственно-созерцательную автономию
целого».'
Характеристика «фюсис» через «стойхейон» позволяет выделить
в ней «генеративно-эманативную сущность», согласно терминологии
А. Ф. Лосева. Различие онтологического понятия творения и
метафизического понятия генерации (эманации или становления) в
отношении стихии естества состоит в том, что «всякий элемент
всегда есть результат диалектики не просто самих ипостасей, но
именно их материального становления. Это мы называем
генеративной природой элемента. Но элемент, будучи материальным
воплощением той или иной основной ипостаси, может воплощать ее
не только полностью и окончательно, но и частично, ослабленно.
В этом смысле элемент есть не сама идея, но ее истечение в
инобытии, более или менее совершенное. Это мы называем
эманацией, или эманативной сущностью элемента».2
Естество скрывает факт творения атомарного единичного бытия,
представляя его в двойственном виде. Бытие едино, но его отражений
бесконечное множество. «Дело в том, что античный элемент ни в
каком случае не существует в изолированном виде. Он есть только
определенный момент в общей энергийной картине мира...
Античный атом сам по себе устойчив и неизменен. Однако из него исходят
бесконечно разнообразные эйдолы, из которых образуется все
существующее и для которых атом является только пределом
уменьшения».3 Фюсис окутывает уход в тайну бесконечностью эйдолов
(квантов энергии) атомарного бытия, распространяющихся в
бесконечность и заполняющих пустоту (вакуум) небытия.
Стихийно-интуитивные учения античных философов о естестве
явились предвосхищением открытий новейшей квантовой
механики, хотя под рукой у древних не было приборов для наблюдения
микромира. Отмечая перекличку идей, идущую через века,
А. Ф. Лосев полагает: «Квант немыслим без энергии, элементом
которой он и является. Это есть как бы сгусток энергии, живой
элемент ее актуального становления. Но тогда в античном элементе,
конечно, необходимо находить некоего рода мечту о нашей совре-
1 Лосев А. Ф. Указ. соч. С. 177.
2 Там же. С. 196.
3 Там же. С. 209.
КНИГА IL ГЛАВА 1. § 1. ГЕРАКЛИТ
371
менной науке и, в частности, пророчество как раз о квантовой
теории. При этом нас не должно смущать то обстоятельство, что
античные кванты были даны в несколько наивной форме, то есть
в форме только внешне-описательной и интуитивной».'
Рассмотрим теоретико-познавательную сторону учений
античных фисиологов. Что касается термина «интуиция», который
фигурирует в заглавии настоящего параграфа, то он означает нечто
простое — «пристальное всматривание», спонтанно
организованный, направленный и самовозбуждающийся взгляд. Этот взгляд
есть главная действующая сила и инстанция. Интуиция не есть
только направление от субъекта к объекту, но с равным правом и
от объекта к субъекту. Интуирование происходит в результате
взаимной расположенности и активности субъективного и
объективного друг по отношению к другу. Если бы можно было подглядеть
за чистым действием интуиции, то можно было бы подтвердить
догадку, что в ее акте интуирующий субъект не отличает себя от
интуируемого объекта. Оба встречных направления организованы
воронкообразно, а их встреча является точкой совпадения вершин
этих воронок. В свете онтологии совпадение субъекта и объекта в
интуиции творится вдруг, итогом чего является точечная мысль
бытия. В метафизическом ракурсе интуиция рефлектируется как
спонтанно свивающиеся в точку и развивающиеся из нее линии,
вычерчивающие воронкообразные фигуры, которыми
структурирован Космос.
Физический мир вырисовавшейся теперь целостной модели
Космоса состоит из четырех элементов, которые в их единстве являются
чистым отражением надмирного пятого элемента
(квинтэссенции) — эфира-света, образующего «глыбу прекруглого шара» тела
бытия. Четыре стихии в их чистоте прилажены друг к другу в
суперструктуре из четырех воронок. Отдельно существующие
конечные вещи образовываются в границе бесконечно
превращающихся друг в друга стихий. Из этой четверицы выделяются
комплементарные пары согласно указанным выше критериям и
топологическим иерархическим ориентирам «верх—низ», «правое—
левое». Стихийная интуиция первоначально захватывается только
одним из элементов, непосредственно чутьем проникая в него.
Казалось бы, тайна природы уже отгадана, допустим, в естестве
огня, полноправного представителя «фюсис». Но не будем
торопиться, предупреждает Гераклит: «Не будем гадать наобум о
величайшем» (фр. 47 DK). Эфесец не устанавливает запрет на гадание,
а просто отговаривает от угадывания с первого раза (наобум), ожи
дая, когда случится второй раз, поскольку «естестЕо» само двура-
зово, природа биполярна. Прорываясь к ее тайне, нужно не забыть
1 Там же. С. 209.
372 Ю. M. РОМАНЕНКО. БЫТИЕ И ЕСТЕСТВО
о необходимости возврата. Закрутив себя в одной воронке, далее
нужно раскрутиться в противоположной ей другой воронке.
Движение двуногого существа имеет как минимум два шага.
Гераклит так выражает естественный дуализм человеческого
опыта: «Большинство [людей] не мыслят [=воспринимают] вещи
такими, какими встречают их [в опыте] и, узнав, не понимают, но
воображают [=грезят]» (фр. 17 DK). Дуализм метафизики безвреден,
если она дополняется монизмом онтологии. Переход от единицы к
двоице и обратно происходит таким образом, что чувство идет в
каком-то одном из двух возможных направлений, мышление
покоится на едином неподвижном бытии, а воображение имеет лево-
или правостороннее вращение. Представляется, что это наиболее
адекватная гносеологическая и методологическая диспозиция
онтологии и метафизики. В случае установления между ними строгой
дизъюнкции получается «либо атомы и больше ничего, либо кикеон
и рассеяние», как изложил Марк Аврелий гераклитовский фрагмент
125 DK. Такое может произойти, если природа противоестественно
нигилистически осквернена. О подобной возможности Гераклит
говорит с мизософским отвращением: «Трупы на выброс пуще дерьма»
(фр. 96 DK).
Гераклит, поняв двоичную целостность естества и сообщая об
этом остальным, сетует: «Эту вот Речь (Логос) сущую вечно люди
не понимают и прежде, чем выслушать [ее], и выслушав однажды.
Ибо, хотя все [люди] сталкиваются напрямую с этой вот Речью
(Логосом), они подобны незнающим [ее], даром что узнают на опыте
[точно] такие слова и вещи, какие описываю я, разделяя [их]
согласно природе [^истинной реальности] и высказывая [их] так,
как они есть. Что ж касается остальных людей, то они не осознают
того, что делают наяву, подобно тому как этого не помнят спящие»
(фр. 1 DK). Люди в этом не виноваты, просто такова их природа,
врождающая им дуализм, который невозможно освоить без усилия
трансцендирования. В этом отличие людей от Бога, ибо «для бога
все прекрасно и справедливо, люди же одно признали
несправедливым, другое — справедливым» (фр. 102 DK). Это означает, что
люди не научились трансцендировать в естество, т. е. Логосом
«разделить согласно природе» вещи, а делят их наобум,
останавливаясь там, где нужно совершить усилие второго шага.
Допустимо высказать оксюморон — дуализм Гераклита
монистичен. В то время как у Парменида дуалистичен сам монизм: ведь
бытие едино, но состояний у него два — холодное и теплое; иначе
говоря — водяное и огневое или земляное и воздушное. А. В.
Лебедев арифмологически вычисляет, что «формально монизм
Гераклита сходен с элейским, но метод диаметрально противоположен.
Если рационалист Парменид доказывает тезис о единстве путем
логической дедукции, то Гераклит делает то же самое, декларируя
КНИГА II. ГЛАВА I. § 1. ГЕРАКЛИТ
373
чистый сенсуализм..., разбивая весь феноменальный мир на пары
противоположностей и показывая "тождество" каждой из них
(значительная часть фрагментов Гераклита — конкретные примеры
такого совпадения противоположностей). "Единство
противоположностей" у Гераклита — не "соединенность" или "связность" (которая
предполагала бы их раздельную индивидуальность, отрицаемую
Гераклитом), но "полное совпадение", абсолютное "тождество"
(tauton) вплоть до неразличимости. Объективное ("по природе")
"одно" эмпирически обнаруживается как "два". Т. о., именно
насквозь антитетическая структура "явлений" свидетельствует о
нерасторжимой "гармонии" и абсолютном единстве "скрытой
природы" (=космического бога)».1
Методологический арсенал гераклитовской философии включает
в себя в зародыше методы диалектики, символизма, ономатологии,
арифмологии, герменевтики, структурализма, грамматологии и т. д.
Вся стратегия философствования Гераклита основана на стихийной
интуиции «фюсис». За скрывающейся природой можно только
следить и по остающимся следам толковать ее. Гераклит сумел транс-
цендировать в естество, познав, что такое жизнь в соответствии с
природой. Поэтому он и не обращался к врачам, а лечил себя сам.
Читая Гераклита, создается впечатление, что это не он толкует
природу, а она толкует его жизнь, как вечное прошлое укрывшейся
фюсис толкует настоящее, перефразируя выражение Э. Ю.
Соловьева.
Гераклит требует, что нужно «разделять слова и вещи согласно
природе». Это свидетельствует о том, что, во-первых, сама природа
поделена в полном согласии с самой собой и, во-вторых, стихийная
интуиция способна отследить этот процесс перводеления. Выразить
эту интуицию может только живая естественная речь, подражающая
движению стихий. Вернее, это стихии подражают движению
абсолютной речи Космоса — Логосу. «Эпистемология Гераклита связана
с его философией имени и основана на метафорической модели
"мир как речь" (логос), типологически близкой к др.-инд. понятию
брахман (сначала "священная речь", затем — онтологический
абсолют) и идее "Книги природы" в средневековой и ренессансной
философии. Метафорическое выражение "эта вот речь" (логос, фр.
1/1) отсылает к "тому, что у нас перед глазами", к видимой "речи"
природы, к физическому космосу, непосредственно
воспринимаемому чувствами. Книгу (речь) природы нельзя прочитать
(услышать), не зная языка, на котором она написана (фр. 13/107);
отдельные вещи суть "слова" этой речи. Поскольку греческое письмо
было сплошным (без словоразделения), философия оказывается ис-
1 Лебедев А. В. Гераклит // Философский энциклопедический словарь.
М., 1989. С. 117.
374 Ю. M. РОМАНЕНКО. БЫТИЕ И ЕСТЕСТВО
кусством правильного чтения (интерпретации) и деления
чувственного текста на "слова-и-вещи": "...я разделяю их согласно природе
и показываю как они есть" (фр. 1/1)».'
Перифизическая интуиция есть одновременно интерпретация
природы, или экзегеза. Согласно «Греческо-русскому словарю»
А. Д. Вейсмана, «экзегеза», в глагольной форме «экзегеомай»,
означает «идти впереди», «предводительствовать», «вести», «выводить»,
«повелевать», «толковать», «указывать» (особенно о
прорицателях).2 К творчеству Гераклита это слово имеет прямое отношение.
Он указывает путь движения стихий, вовлекающих в свои ряды
все сущее и стягивающихся в воронки, в конусах которых
таинственно скрылась природа и откуда она периодически подает о себе
знаки.
В перифизическом контексте экзегеза дополняется еще одним
методом — периэгезой (с греч. — «описание», «очерк»,
«очертание»). (Идея об онтологической и метафизической значимости «пе-
риэгезы» как особого метода подсказана Р. В. Светловым.) Глагол
«периэгеомай» значит: «показывать», «объяснять», «обводить кого-
либо вокруг чего-нибудь», например вокруг горы (наверное, вокруг
священной горы Олимп).3 Или вокруг воронки, или иной природной
диковинки. Вращающееся движение «периэгезы» соединено с
прямой вертикальной осью «экзегезы». Экзегет указывает перстом в
сердцевинную точку волюты, а периэгет широким жестом
очерчивает горизонт. Угадывается образ жизненного пути Эмпедокла,
периэгета и экзегета в одном лице, шаг за шагом поднимающегося
по горному серпантину на вершину — к месту естественного
громоотвода и одновременно кратера вулкана.
Позднее Аристотель обобщит «периэгезу» и «экзегезу» перифи-
зики в одном слове — «метафизика», означающем не формальное
то, что «после физики», а буквальное то, что идет своим путем
(стезею, методом) «по следу фюсис». «Метафизика» для оправдания
своего имени должна дать метод трансцендирования в Естество.
Расцвет античной перифизики сменился ее закатом, когда софисты
задумали быть не экзегетами и периэгетами природы, а ее
экспертами и законодателями. Они противопоставили «номос» и «фюсис»,
разделяя онтологию и метафизику и властвуя в умах подрастающего
поколения, потихоньку забывающего об интуициях «старых»
мудрецов-афористов.
Начиная этот параграф, я как бы естественно втянулся в
служебное комментирование и истолкование изречений Гераклита,
пытаясь подтвердить правоту его мысли об особой трансцендент-
1 Лебедев А. В. Гераклит. С. 117.
2 Веисман А. Д. Греческо-русский словарь. М., 1991. Стб. 457.
3 Там же. Стб. 980.
КНИГА II. ГЛАВА 1. § 2. ПЛАТОН
375
ности Естества. После нескольких кругов чтения, когда последний
круг вроде бы замкнулся в нечто осмысленное, вдруг настигла
удивительная догадка, что это он на самом деле толкует меня. Если
до этого письмо было подневольным и насильственным занятием,
вымученным искусственным выдумыванием, то после оно стало
естественным и свободным, автоматическим (самодвижным). Перо
стало пасти самопроизвольно исходящие из-под него линии-граммы,
свивая их них буквы-стойхейоны, спонтанно складывающиеся в
слоги, слова, предложения, абзацы, находящие нужное место в
разрастающемся объемном тексте. Захвативший в себя вихрь чтения
после прохождения критической точки развернулся в обратном
направлении вихрем письма. Стало понятно, в чем заключается
игра Эона-ребенка — в собирании и управлении буквами, которыми
создается мир. Эон играет не простыми камушками, а священными,
буквально с греческого — «иероглифами». И чтобы слова в тексте
проявились свободно в таковом качестве, донося необходимую
мысль, их нужно постоянно обкатывать и шлифовать в сужающихся
кругах саморедактирования, стремясь уплотнить речь до степени
концентрированности гераклитовских афоризмов, являющихся
образцом имманентного выражения стихийной интуиции Естества.
§ 2. ПЛАТОН
Припоминающая природа души
Натурфилософы-досократики следили и следовали за
прячущейся природой, выпытывая у нее секреты, которыми она заслонялась
от притязательных взоров. Натурфилософы задавали природе
множество вопросов, получая на них половинчатые или двусмысленные
ответы. Предельным вопросом, к которому приводится стихийно
увлеченный естествоиспытатель, является прямой телеологический
вопрос: «почему природа любит скрываться?», требующий
однозначного ответа. Чтобы задать этот вопрос, нужно уже умудриться
отвлечься от самой природы, что, на первый взгляд, сделать
принципиально невозможно, ибо все сущее существует в ее пределах.
Ответ на этот последний вопрос можно получить, лишь проникнув
в «святая святых» самой природы, где она находит свое
окончательное укрытие.
Космические стихии пребывают между собой в непрестанной
полемике, что и отразил Гераклит в своем изречении «Полемос
(бог войны) — отец всего». Человеческий опыт показывает, что
война, действительно, длится в истории непрерывно, за
исключением периодических перемирий между враждующими сторонами
для накопления новых сил к последующей борьбе. На фоне непре-
376
Ю. M. РОМАНЕНКО. БЫТИЕ И ЕСТЕСТВО
рывной видимой войны проступают знаки невидимого мира.
Природа прячется именно там — в мире. И чтобы раскрыть ее тайну,
нужно всего-навсего обрести мир. Состояние умиротворения стихий,
когда противоположные силы уравновесили друг друга, является
отдыхом. В этом смысле совершенно справедлива пословица: «на
детях гениев природа отдыхает». Мы не ошибемся, если расценим
Гераклита (Эмпедокла, Фалеса и др.) как гениев, по определению
непонятных для толпы, гениально («ген» — это «род») зародивших
философию как естественную науку. Гений не знает отдыха, следуя
до конца за подчинившей его страстью, отдавшись воле стихии.
Право отдохнуть и успокоиться гений оставляет своим потомкам.
Первым потомком гениальных фисиологов, согласно
хронологии, является Сократ. К моменту его вступления на философское
поприще уже были известны основополагающие принципы
онтологии и метафизики: «бытие есть, небытия нее нет» и «природа любит
скрываться», в равной степени истинные и авторитетные. Как
взаимосоотносятся между собой эти принципы? В этом заключается
существеннейшая философская проблема, разгадывать которую
выпало на долю Сократа.
На первом этапе своей философской деятельности Сократ
прилежно изучил мнения своих предшественников и, безусловно,
овладел стихийной интуицией. Он был, вообще-то говоря, по рождению
стихийным человеком, вплоть до необузданности. Судьба его
изобилует различными знамениями, которые подавала из укрытия его
натура и которые составляют миф его жизни. Аристофан в
«Облаках » запечатлел принадлежность Сократа к увлажненной воздушной
стихии, смеси воды и воздуха, сверхъестественно собравшейся и
разместившейся в облаках. Когда Сократ спустился с облаков на
землю, он продолжал им молиться, за что заслужил от Аристофана
язвительные насмешки. Путь от облаков к земле выглядит двояким:
в виде изливающегося дождя, орошающего большую площадь, или
в виде молнии, точечно поражающей земную возвышенную
поверхность.
Сократ снизошел с облаков в молнии, что отразилось в
дальнейшей его судьбе в том, что он был призван быть неким оводом,
кусающим и уязвляющим застоявшихся лошадей (т. е. безвольных
людей, утративших страсть). Он стал персонифицированным
«пасущим бичом», «жалом в плоть» другим людям, расползающимся
и разрушающим исподволь целостность мира (космоса-полиса).
Гераклит открыл молнию теоретически, Сократ применил ее на
практике. Афинянин приобрел способность молнии в процессе
нисхождения из облаков, а затем распространял ее по земной горизонтали.
Биографы упоминают способность Сократа поражать уши
слушателей как будто бы электрическим ударом хвоста ската, молниеносно
находя нужное слово для выражения мысли.
КНИГА II. ГЛАВА 1. § 2. ПЛАТОН
377
Сократ обладал стихийной интуицией, поэтому он вполне может
быть зачислен в когорту физиологов, во всяком случае, на первом
этапе его творческой жизни. Но этого ему было недостаточно. Еще
до него было замечено, что управлять силой одних стихий можно
только за счет других стихий. Люди, собравшиеся в общество,
напоминают собой ту или иную стихию. Именно определенный тип
стихии создает характер социума. Есть огненные народы, а есть
воздушные, водяные и земляные, между которыми ведется
постоянная полемика. Чтобы принадлежать к данному типу, необходимо,
для начала, наличие хотя бы одного носителя соответствующей
стихии. Кто-то один должен сделать первый «шаг» (стойхейон),
подстраиваясь к которому множество разрозненных элементов
мгновенно становится всеединством.
Сократ отнюдь не игнорировал проблемы «фюсис», как принято
считать у социологически и антропологически ориентированных
комментаторов его философии. Он обнаружил, что те нее самые
законы естества существуют не только в «окружающей природе»
Космоса, но и во внутренней природе социальной жизни и
отдельного человека. В принятой оценке вклада Сократа в развитие
философской методологии указывается, что если досократики
использовали в познавании интуицию как непосредственное узрение
смысла вещи в ней самой, то Сократ вводит метод дискурсии, расщепляя
интуицию. Последняя является мгновенно пройденным путем к
вещи. Дискурс (согласно семантике этого слова — «непрямой курс»)
есть окольный путь, метание из стороны в сторону, а не прямая
«стезя». Интуиция и дискурсия отличаются друг от друга
характером и типом движения, которым движется мысль о предмете.
Хотя интуиция и дискурс не изолированы полностью друг от
друга — модель стихийной воронки показывает, что в ней примиряются
«прямое» и «кривое». Интуиция есть свернутая дискурсия, а
дискурсия есть развернутая интуиция.
Чтобы интуитивно познать воду, мышлению необходимо войти
в ее стихию и уподобиться ей. Метафорически такое состояние
часто выражается оборотом «мысль растекается». Можно ли, войдя
в гераклитовскую воду, выйти из нее сухим? Действительно,
проблема, которую поставил Гераклит, состояла не только в том, можно
ли дважды (или единожды) войти в ту нее самую реку, но и в том,
можно ли выйти из нее (единожды или дважды). Второй раз
невозможно войти в реку потому, что по-настоящему войти туда
можно только один раз и окончательно, без выхода. Если же выход
возможен так нее, как и вход, тогда возможен и второй раз, и
третий, и пятый. Вхождение в одну из стихий приводит к полному
растворению, самозабвению в ней и беспамятству по отношению к
другим стихиям. Только так может осуществиться стихийная
интуиция как начальный метод познания естества в его чистоте.
378
Ю. M. РОМАНЕНКО. БЫТИЕ И ЕСТЕСТВО
Интуиция мгновенно и прямолинейно проницает границу
субъективного и объективного, но в момент прикосновения границы в
ней возникают вихреобразные обращения, дискурсивно
расползающиеся по всей граничной поверхности, подобно кругам на воде
от брошенного камня. Интуиция однонаправлена лишь до границы.
После границы она идет в обратном направлении. Следовать по
указанному распространяющейся стихией маршруту можно только
в одном направлении до тех пор, пока сама стихия не превратится
в противоположную. Изречение Гераклита «путь туда-сюда один и
тот нее» необходимо понимать именно таким образом. Если некто
входит в реку и движется согласно избранному направлению до
конца, то рано или поздно он из реки выйдет и во второй раз
действительно в нее не войдет, поскольку следующий вход состоится
в ту же самую реку, но текущую в обратном направлении. Герак-
литовская река не простая, а мифологическая, подобно Стиксу,
охватывающая оковами весь Космос.
Второй раз невозможно войти в реку потому, что первый раз
уже необратимо забылся — воды реки Леты смыли память о «первом
разе». В изречении «нельзя войти дважды в одну и ту же реку»
слышится не запрет, а признание в бессилии вспомнить «первый
раз». Гераклит взывает о помощи, чтобы ему напомнили о прошлом.
Причем этот зов адресуется не в прошлое, а в будущее — к потомкам,
по странной линии обратного соотношения и порядка временных
модусов. Узнать прошлое можно только в будущем.
Теорию познания Сократа и Платона не случайно называют
«анамнезисом» — припоминанием. Именно они, как настоящие
потомки, помнящие родство, откликнулись на зов Гераклита из
бездны прошлого, попытавшись за него вспомнить то, что с ним
случилось и что случается с каждым человеком, когда он входит
в стихию. Гераклит скрылся в прошлом, оставив в наследство
загадку «природа любит скрываться». По этому оставленному следу
необходимо догадаться, где сейчас Гераклит пребывает. Продолжая
философию Гераклита, его потомки устраивают поминки по нему.
В этом смысл слова «анамнезис». Если гнаться за полной точностью,
то его необходимо перевести как «над-поминание», с учетом смысла
«обращения» и движения «снизу вверх», заключенного в семантике
приставки «ана». Парадоксально говоря, анамнезис — это
воспоминание о будущем. Иначе выражаясь, это память о чаянии
будущего, которое было в прошлом. Вдумываясь в данный темпоральный
парадокс, озаряешься догадкой — это и есть жизнь в настоящем.
Понимающее поминание и поминающее понимание.
Припоминающий характер сократовского философствования
обусловлен генетически. Сократ был сыном акушерки и каменотеса,
представителей анамнетических профессий. Метод майевтики
(родовспоможения) есть создание условий для воспоминания душой
КНР] ΓΑ 11. ГЛАВА 1. § 2. ПЛАТОН
379
идей. Явление в настоящий момент рождающегося напоминает
родителю о его прошлом, которое в рождающемся актуально
возвращается как в зеркальном отражении. Каменотес тоже в
некотором роде акушер, помогающий бесформенной глыбе камня
разрешиться от излишнего временного нароста и явить изначально
заложенное в нем изваяние божества.
Когда читаешь Платона, возникает безотчетное чувство, что его
тексты являются воспоминанием о нас — его потомственных
читателях. Более того, это чувство становится странным во второй
степени, ибо мнится, что Платон пишет о нас из будущего. Мы,
нынешние, не имеем абсолютно достоверных критериев реальности
как прошлого, так и будущего. Мы есть всегда в настоящем, а
прошлое всегда было, и будущее всегда будет. Подобное
парадоксальное состояние мультиплицируется бесконечно — это и есть
стихия временности.
Для припоминания естества невозможно изобрести
универсальных правил мнемотехники. Если фюсис сама забылась, то она сама
должна и напомнить о себе. Это напоминание происходит нечаянно,
и здесь нелишне повторить гераклитовское: «Не чая нечаянного,
не выследишь неисследимого». Память накатывает вдруг, без
субъективного усилия, до оторопи и изумления. Платон и Сократ ходят
(дискурсивно) вокруг и около этого момента «вдруг» — у той точки,
где спряталась природа, готовясь принять ее новую манифестацию.
Платоновский диалог «Парменид», рассмотренный ранее в
онтологической проекции, теперь снова становится объектом
анализа — метафизического. Композиция диалога организована таким
образом, что в центре всей диалектико-логической схемы
фокусируется одна проблема — «этого странного по своей природе "вдруг"».
В этом окавыченном словосочетании каждое слово нуждается в
отдельном проговаривании. Не случайно здесь употреблено
указательное местоимение «это», подразумевающее присутствие и
непосредственное восприятие чего-то такого, что является странным,
т. е. двоящимся, вызывающим головокружение от наблюдения того,
как в рассматриваемой «стороне» вещи видится обратная ее
«сторона». Но эта «странность» (справедливо сказать — «двусторон-
ность») естественна — соответствуя «своей природе», а не чьей-либо
иной. Созерцающий глаз не посторонен этому эффекту странности,
иначе он бы ее не увидел. «Вдруг» означает «внезапно», «сразу»
(с первого раза), видение одного в другом.
Диалектический дискурс, вращаясь вокруг и около места
укрытия истины, суживает круги и сдавливает логическими схемами
возможную точку выхода мысли, как бы вызывая изобильное
излияние ее богатств и щедрот, делая истину вновь непотаенной —
алетейей. «Рог изобилия», действительно, имеет воронкообразную
структуру.
380
Ю. M. РОМАНЁНКО. БЫТИЕ И ЕСТЕСТВО
Диалектика в своем закономерном развитии воспроизводит форму
«рога изобилия». По замыслу Платона, достаточно создать логико-
диалектическую форму, повторяющую структуру «фюсисной»
воронки, как в эту пустую абстрактную форму по благодати вдруг
изобильно изольется все живое содержание естества. Амбиции у
диалектики немалые, но и задачи она ставит перед собой
грандиозные.
Природа есть полнота всего. Диалектика же есть всеобщая пустая
форма. Платон сам предупреждает, что диалектика является
упражнением в пустословии — она должна истощить живые слова,
выпарить и рафинировать до понятий, которыми закономерно и
последовательно создается чистая логически-вербальная конструкция,
готовая, как сосуд, снова принять жизнь.
Пусть природа любит скрываться и уносить в потаенность свое
богатство. Но кроме любви к укрыванию она еще боится (ненавидит)
пустоту. Вот на пустоту ее и можно будет выудить обратно, но
только этот перепад давления нужно организовать соответствующим
образом, так, чтобы пустота зеркально отразила саму природу,
заманила ее же собственными образами. Или, как принято это
называть, — знаменитыми платоновскими идеями.
Природе, в принципе, безразлично куда прятаться или
переливаться. Но это не безразлично конструктору диалектики. Помощи
от естества ему пока ждать не приходится, так как он отказался
временно от него, трансцендировав из двоицы в единое бытие,
контрадикторное пустому небытию. Тема диалектики бытия и
небытия, развернутая Платоном в диалоге «Парменид», затрагивалась
ранее, когда она определялась как игра, в себе самой создающая
ситуацию блефа. Теперь становятся более понятными цели,
преследуемые Платоном в отношении природы.
По сути дела, диалектика как упражнение в эквилибрировании
пустыми понятиями (вторичными словами) в неравновесной опасной
точке между бытием и небытием является мнемотехникой
припоминания «первого раза» — того момента, когда произошло творение
сущего. Но кроме этого, сотворенное сущее еще зачато и рождено
в природе — во «втором разе».
Проблема «фюсис» в диалоге «Парменид», посвященном, на
первый взгляд, чисто онтологической проблематике отношения
«бытия» и «небытия», присутствует в той его части, где постулируется
«странный» момент «вдруг». Чтобы интерпретировать его именно
метафизически, под рубрикой категории «естества», необходимо
сделать ряд методологических допущений. В самом деле, диалектика
«Парменида» есть некая онтологическая «поэтика» (которую
В. Н. Топоров определяет «как набор подлежащих реализации
смыслов и как саму форму этой реализации»).1 А «поэтическое», как
1 Топоров В. Н. Миф. Ритуал. Символ. Образ. М., 1995. С. 576.
КНИГА II. ГЛАВА I. § 2. ПЛАТОН
381
мы условились выше, является синонимом «творческого».
Диалектика есть некое упражнение в смысловой соотносимости категорий
«бытия» и «небытия», и она является «необязательной»
мыслительной игрой. Ее могло бы и не быть, хотя сейчас, после Платона,
она уже есть вроде бы. Эта «необязательность» лишний раз
подчеркивает способность диалектики адекватно выразить акт творения
бытия из небытия.
Таким образом, диалектика является творческим мыслительным
деянием, и это «вытекает из сути творчества как некоей игры».1
Но нас сейчас интересует вопрос о природных, естественных
условиях, в которых может состояться диалектическая игра. Как пишет
В. Н. Топоров в работе «О "поэтическом" комплексе моря и его
психофизиологических основах», затрагивающей, по нашему
мнению, тему метафизических условий возможности онтологической
поэтики: «Это присутствие "психофизиологического" компонента в
виде определенных его следов в самом "поэтическом" тексте
открывает удивительные возможности для решения многих
существеннейших вопросов, относящихся к широкой теме взаимосвязей
культуры и природы и, в частности, вопроса о "докультурном"
субстрате "поэтического" и вопроса "обратной" реконструкции
психофизиологической структуры поэта, творца по ее отражениям в
тексте, в творении. При этом такие отражения тем доказательнее
и тем более "далекоидущи", чем менее мотивированы они темой
текста, чем более спонтанны и как бы "случайны": чем чаще и
навязчивее они воспроизводятся и чем более целостный образ
"психофизиологического" они формируют».2 Иначе говоря, здесь
формулируется принцип «аналогии бытия» — догадаться о сущности
Творца по его отражению в творении — природе. Само угадывание
становится творческим деянием. Платон гениально сочинил
диалектику, темперировав и ритмизировав мышление, удачно подобрав
его понятийные рифмы.
В. Н. Топоров обращается к анализу феномена моря как к
некоему «психофизиологическому субстрату и комплексу» процесса
творчества. «Море» здесь берется как представитель всей «фюсис»,
через его описание может быть описано само Естество. «Прежде
всего здесь описывается не собственно море (или, если сказать
точнее, описание моря не является в этом случае главной целью,
но подчинено существенно иным, более важным задачам), а нечто
иное, для чего море служит лишь формой описания ("морской"
код "неморского" сообщения), своего рода глубинной метафорой.
Точнее было бы сказать, что описывается не само море, не только
оно, а нечто с морем как зримым ядром связываемое, но неизмеримо
1 Там же. С. 576.
2 Там же. С. 577.
382 ΙΟ. Μ. РОМАНЕНКО. БЫТИЕ И ЕСТЕСТВО
более широкое и глубокое, чем просто море; скорее — "морское"
как некая стихия и даже — уже и точнее — принцип этой стихии,
присутствующий и в море и вне его, прежде всего в человеке, и
довольно однообразно семантизирующийся».1 Здесь говорится о
стихийном характере творчества.
Можно сказать, что вхождение в принцип морской стихии
моделирует мышление человека особым образом. Причем мышление
не абстрактное, а конкретное, тождественное чувственности во всем
ее объеме и во всей ее полноте, т. е. равное чутью естества, в
котором «колебательно-колыхательные, вибрирующие движения
морских вод или степных трав, собственно, и образуют те коротко-
частотные волны, которые открывают простор взгляду и слуху
вплоть до иллюзий...»."
Один из типов «чутья естества», так называемое «"океаническое
чувство", как оно определялось в свое время Фрейдом, теперь может
быть уточнено, детализировано и конкретизировано в свете тех
новых идей, которые возникли в последние десятилетия в
формирующейся "эмбрио-космогонической" теории, в исследованиях по
"пренатальному сознанию", в так называемой "трансперсональной"
психологии, наконец, в трудах, изучающих мифологические
отражения акта творения в контексте "морского" комплекса или тех
или иных "морских" образов, включая и архетипическую символику
моря. ...тема "океанического чувства" получила для себя "новые
времена и новые пространства", которые отныне могут
рассматриваться именно как проективные пространства, которые
отражают "океаническое", "морское" и облегчают разыскание его
функций и мотивировок» .3 Тема гераклитовской реки может быть введена
в более обширный контекст метафизического моря — не текущей
воды, а у лее достигшей своей цели и покоя.
Согласно новейшим направлениям исследований в области
психофизиологии, феномены, подобные «океаническому чувству»,
рассматриваются как способы возвращения в «пренатальное» состояние
мысли. «Прежде всего речь идет об идее "пренатального" сознания,
согласно которой события пренатального периода фиксируются
зародышем и результаты этого несенсорного восприятия проносятся
человеком через всю жизнь, в частности, они могут
воспроизводиться в сновидениях, относящихся, естественно, уже к постна-
тальному периоду».1
Необходимость вернуться в первоначальное, чисто естественное
довопчощенное состояние связано, вероятно, с пониманием совер-
1 Топоров В. Н. Миф. Ритуал. Символ. Образ. С. 578.
'' Там же. С. 582.
■{ Там же. С. 582-583.
4 Там же. С. 583.
КНИГА II. ГЛАВА 1. § 2. ПЛАТОН
383
шения какой-то роковой ошибки, за которой воспоследовало
изгнание из «райского» пребывания. В настоящее время
предпринимаются многочисленные попытки реконструировать «пренатальное»
сознание, обращаясь к формам искусства, ритуальным практикам,
снам, переживаниям и т. п., «которые сочетают в себе
"трансперсональную" память творца соответствующих произведений с
даром, а иногда и просто техникой самораскрытия, которые
в совокупности делают более или менее зримым, верифицируемым
путешествие к собственным корням, истокам и даже далеко за их
пределы, в сферу коллективного бессознательного».1
В меньшей степени используются в русле этих исследований
философские тексты. Нам представляется, что наследие Платона
является благодатным материалом для подтверждения данных идей,
более того, именно платоновская философия открыла истинное
направление их реализаций. Определив подход основателя
Академии к «естеству» как припоминание в его двоице единицы «бытия»,
можно в самом процессе «анамнезиса» выделить уровень категорий
и уровень экзистенциалов. Логос и мифос являются двумя способами
запечатления, хранения и трансляции информации о «естестве».
В случае «поломки» одного из способов все функции припоминания
берет на себя другой, поскольку объем памяти у них равномощен.
Платон, как известно, был и мастером логических рассуждений, и
незаурядным мифотворцем. Даже в самом «логичном» трактате (в
«Пармениде») Платон неявно инъектировал космогонический миф.
Как пишет В. Н. Топоров: «...можно согласиться с точкой зрения,
согласно которой назначение космогонического мифа не только
передать информацию-память о зачатии, но и помочь пережить
ощущение собственного зачатия, как бы заново пройти путь выхода
из неопределенности и обретения опоры. В ходе этого
"припоминания" прорабатываются такие важнейшие
"психофизиологические" ощущения, как целое и расчлененное, единое и множественное,
внутреннее и внешнее (и их взаимопроницание), смешение, слияние,
переход, неопределенность, томление, обеспокоенность, тоска,
тревога, страх, наконец, сам процесс интроспективного переживания
всей линии развития (иногда за пределами пространства данной
"личности") через припоминание».2 Все перечисленное является
непосредственной темой размышлений Платона на пересечении
логического и мифического методов. Из логически обнаруженного в
«Пармениде» момента «вдруг» естественно излился
космогонический миф «Тимея».
Анамнезис фюсис есть, используя слова В. Н. Топорова,
«возможность возвращения с помощью памяти к своим истокам, к
1 Там же. С. 583.
" Там же. С. 585.
384
Ю. M. РОМ АН EH КО. БЫТИЕ И ЕСТЕСТВО
переживанию, каким бы оно ни было опосредствованным, драмы
оплодотворения и зачатия; наконец, сам способ этого переживания-
возвращения, открывающийся с помощью особого рода "колеба-
тельно-колыхательных" движений и связанного с ними
"океанического чувства". Но есть еще один очень важный аспект, который
отражается в идее рождения независимо от того, реализуется
ли она в биологическом или духовном плане. Субъект рождения
(тот, кто рождается), будь то ребенок или "новый", духовно
родившийся (хотя бы на краткое время, когда восстанавливается
связь с бессмертием, с полнотой жизни) человек, переживает
пограничное состояние тесноты, томления, мук, страданий,
разрешающееся выходом в "новое" пространство, что воспринимается
как освобождение, как "новое рождение", как приобщение к
вечности и бессмертию».1 Движение к устью воронки, действительно, N
вызывает чувство предельной стесненности, пережив которое можно
вновь открыть простор свободы воли.
Понятно, что гипотезы «пренатального сознания» порой
перехватывают через край, так как предмет их изучения — сама
стихийность. Это вполне закономерно вызывает скепсис и осторожность
в выводах. И прежде всего остается «под вопросом» сам вопрос —
зачем нужно знать, кем ты был до рождения? Античность, правда,
такого вопроса к вопросу не задавала, ибо она была поглощена
этим едино-двойственным «мифом вечного возвращения». Но в той
мере, в какой античность не умерла, а интегрировалась в нашей
«постсовременности», их вопросы остаются актуальными и для нас.
Море (или река) остались теми же самыми для них и для нас, и
те же самые действия по отношению к стихиям (вход-выход и
кружение) совершаются и сейчас.
В. Н. Топоров подытоживает свое исследование: «Аналоги же
пренатальных состояний ("океаническое" колыхание от овуляции
до оплодотворения и оплодотворение как удар, знаменующий
достижение берега и обретение основы как результат предыдущего
переживания без-основной бездны) раскрывают не только этиологию
всего этого комплекса, как он обнаруживает себя и в сфере культуры,
но и задают всему этому комплексу новое измерение, а в
значительной степени и новую, более высокую цену его показаниям, до
того нередко трактовавшимся как избыточное клише».2 Мы привели
столь обильное цитирование известного современного отечественного
культуролога для создания контекста, в котором можно особым
образом осветить заданную в параграфе тему.
В свете приведенных пояснений по поводу смысла
«припоминания естества» вернемся непосредственно к словам Платона о
1 Топоров В. Н. Миф. Ритуал. Символ. Образ. С. 585-586.
2 Там же. С. 597.
КНИГА П. ГЛАВА 1. § 2. ПЛАТОН
385
«странном» моменте «вдруг»: «это "вдруг", видимо, означает нечто
такое, начиная с чего происходит изменение в ту или другую
сторону. В самом деле, изменение не начинается с покоя, пока
это — покой, ни с движения, пока продолжается движение; однако
это странное по своей природе "вдруг" лежит между движением и
покоем, находясь совершенно вне времени; но в направлении к
нему и исходя от него изменяется движущееся, переходя к покою,
и покоящееся, переходя к движению» (Парменид. 156d-e).
«Странность» момента «вдруг» характеризуется следующими
существенными подробностями: во-первых, в нем нечто начинается,
во-вторых, изменение происходит «в ту или другую сторону».
«Странность» каким-то образом связана с наличием двух «сторон»
чувствуемой вещи — реальной и мнимой, — налагающихся друг
на друга в акте стихийной интуиции. Характерен оборот «...в ту
или другую...», где не случайно используется нестрогая
дизъюнкция. Здесь указывается, что природное начало может начаться в
двух возможных («в том или другом») направлениях. Вслед за этим
фрагментом «та» и «другая» стороны связываются друг с другом
конъюнктивно. «И коль скоро единое покоится и движется, оно
должно изменяться в ту и в другую сторону, потому что только
при этом условии оно может пребывать в обоих состояниях.
Изменяясь же, оно изменяется вдруг и, когда изменяется, не может
находиться ни в каком времени и не может, значит, в тот момент
ни двигаться, ни покоиться» (Парменид. 156е).
В ситуации «начала» конъюнкция и дизъюнкция существуют
одновременно и одноместно, что можно записать в такой форме:
из-вдруг начинается изменение в ту или/и другую сторону. Это
перефразировка гераклитовского: путь туда или/и сюда — тот же
самый. Подобное состояние двоичным образом конкретизирует
онтологический акт творения бытия из небытия, что оговаривается
Платоном абзацем ниже: «Когда что-либо переходит от бытия к
гибели или от небытия к возникновению, происходит его
становление между некими движением и покоем и оно не имеет в тот
момент ни бытия, ни небытия, не возникает и не гибнет» (Парменид.
157а).
Это состояние-процесс Платон называет «становлением». В этот
момент вещь видится таким образом, что за «лицевой» ее стороной
угадывается «оборотная», но данная не извне отдельного тела вещи,
а изнутри, в обратной перспективе. Ведь мы видим вещь всегда
только «лицевой» ее стороной, даже если она оборачивается вокруг
себя или нас как угодно. Плотин пояснял это образом прозрачной
«глыбы прекруглого шара». Но откуда взялись эта «прозрачность»
и «чистота», дающие возможность видеть «внутреннее» во
«внешнем», в онтологическом постулировании единого бытия?
Напрашивается только один ответ: от природы-фюсис, которая «другая»
386 Ю. M. РОМАНЕНКО. БЫТИЕ И ЕСТЕСТВО
единому бытию. Платон здесь нападает на след фюсис и после
онтологического начинания (бытие есть), предпринимает второе
начинание — метафизическое: «Не рассмотреть ли теперь, что
испытывает другое, если единое существует?» (Парменид. 157Ь).
Естество двоично (но не в арифметическом, а арифмологическом
смысле), оно всегда другое бытию. Стихийная интуиция естества
показывает его так, что «если постоянно рассматривать таким
образом иную природу идеи саму по себе, то, сколько бы ни
сосредоточивать на ней внимание, она всегда окажется количественно
беспредельной» (Парменид. 158с). Проблема «всеединства»
превращается в проблему «вседвойства» — предельная концентрация
внимания на точке возможна в присутствии беспредельного фона,
окружающего данную точку: «Поскольку всё по природе своей
беспредельно, постольку всё будет обладать одним и тем же свойством»
(Парменид. 158е). «Всё» полностью определяется диалектикой
«единицы» и «двоицы»: «...ведь когда сказано "единое и другое", этим
сказано всё» (Парменид. 159с).
Арифмологическая категория «всё» (Pan) отличается от
арифметической категории «многое» (polla) так, что «всё» состоит из
«единого» и «другого» (иного), а «многое» слагается из «одного»,
«двух» и т. д. по порядку. Платон проводит по этому вопросу
специальную дифференциацию: «Поэтому другое и само не есть два
или три, и в себе их не содержит, коль скоро оно совсем лишено
единого. ...ведь если бы другое было подобно и неподобно либо
содержало в себе подобие и неподобие, то, полагаю я, другое в
отношении единого содержало бы в себе две взаимно
противоположные идеи» (Парменид. 159d-e).
Все приведенные выше цитаты из диалога «Парменид»
относились к тому его разделу, где рассматривается гипотеза о свойствах
«другого» (иного) при относительном и абсолютном полагании
единого. То есть каким является «естество» в свете категории «бытия».
В следующей гипотезе, при абсолютном и относительном отрицании
единого, т. е. в свете (вернее, «во тьме») категории «небытия»,
предусматриваются возможные свойства «другого» таким образом:
в данном случае «другое» становится другим уже не в отношении
единого (ибо его нет), а в отношении себя самого (другого): «...другое
есть другое по отношению к другому и иное есть иное по отношению
к иному» (Парменид. 164с). Такова природа сама по себе, если из
нее удалить бытие.
Из этого факта обращенности другого на себя самого при
отсутствии в нем единого центра обращения выводятся арифмологические
и гносеологические следствия: «Стало быть, любые [члены другого]
взаимно другие как множество; они не могут быть взаимно другими
как единицы, ибо единого не существует. Любое скопление их
беспредельно количественно: даже если кто-нибудь возьмет кажу-
КНИГА Л ГЛАВА 1. § 2. ПЛАТОН
387
щееся самым малым, то и оно, только что представлявшееся одним,
вдруг, как при сновидении, кажется многим и из ничтожно малого
превращается в огромное по сравнению с частями, получающимися
в результате его дробления» (Парменид. 164c-d). В этой цитате
снова возникает момент «вдруг», странность которого определяется
Платоном его сновидческим, сомнамбулическим характером. Это
есть не что иное, как тотальное оборотничество хаотического
скопления «многого» — тот фон и та периферия, в которых может
воссиять точка единства.
Путь познания предмета, называемый методом, является неким
движением. Но, оказывается, что в самом этом движении есть еще
некоторое движение. На современном языке этот феномен
называется «оборачиванием метода», являясь принципом организации
стихийной интуиции. Этот принцип срабатывает при переходе от
сфокусированного взгляда к рассеянному (периферическому) и
обратно. Возвращаясь к образу стихии как скопления «инаковостей»,
Платон описывает оптические закономерности интуиции: «Издали,
для слабого зрения, такое скопление необходимо будет казаться
единым, но вблизи, для острого ума, каждое единство окажется
количественно беспредельным, коль скоро оно лишено единого,
которого не существует. ...вроде того, как бывает с контурами на
картине. Если стать в отдалении, то все они, сливаясь воедино,
будут казаться одинаковыми и потому подобными. ...А если
приблизиться, они оказываются многими и различными и, вследствие
впечатления отличия, разнообразными и неподобными друг другу»
(Парменид. 165c-d). Переход от подобия к неподобию и обратно
зависит от меры удаления или приближения к предмету в процессе
его интуитивного постижения. При приближении к фюсис — она
скрывается в многообразии, а если «стать в отдалении» — начинает
манить подобием раскрытия тайны. Диалектический дискурс
предполагает интуитивно-феноменологическую методологию.
Вся диалектика диалога «Парменид» базируется на арифмоло-
гических трансцензусах между «генадой» и «диадой», между
«бытием» и «естеством». П. П. Гайденко посвятила анализу диалектики
платоновского «Парменида» обстоятельную статью, в которой
делаются выводы, имеющие непосредственное отношение к нашей
теме. Разобрав восьмеричную систему гипотез об отношении
«единого» и «многого», а также указав на значимость для платоновской
методологии пифагорейской арифмологии, П. П. Гайденко выделяет
логическую роль числа в выражении проблемы «бытия». Число
необходимо для строгого и точного онтологического определения:
«Определить что-то — значит остановить это бесконечное колебание
"более — менее", значит установить одно значение — предел.
...Число, таким образом, есть единственное средство, с помощью
388
Ю. M. РОМАНЕНКО. БЫТИЕ И ЕСТЕСТВО
которого можно остановить "качание" беспредельного и определить
предмет».1
П. П. Гайденко, рассматривая в своем исследовании
«онтологический статус числа у Платона»,2 в равной степени предпринимает
попытку определить «онтологический статус геометрических
объектов», т. е. топологию как онтологическую дисциплину, указывая,
что «пространство — стихия геометрии — есть нечто среднее между
идеями и чувственным миром».3 Аналогично этому можно
определить время как стихию самого числа.
Пространство и время есть некие «промежуточности» между
бытием и небытием, являющиеся двумя типами двоичного естества.
Соотношение пространства и времени в философии Платона можно
представить следующим образом. Момент «вдруг» является
кульминационным пунктом стихийной интуиции. Несмотря на то, что
«вдруг» лежит совершенно «вне времени» (в смысле вне «прошлого»
и вне «будущего») и в нем актуализирован только один временной
моДУс — «настоящее» как таковое, но это может произойти лишь в
том случае, если «прошлое» припомнено во всей его полноте и
реактивировано. Поводом для припоминания выступает
самоочевидная вещь, но окончательное припоминание наступает «как бы
во сне». Анамнезис как высший модус стихийной интуиции
является некой «грезой наяву», в которой постигается Естество и его
темпорально-топологический характер. Архаический ритуал
космического жертвоприношения его участники не случайно называли
«временем сновидений». Только эти сны они видели наяву, с
открытыми глазами, прозревая в кажущейся вещи ее умозримую
сущность.
Что касается категории «пространства» («хора»), то знакомство с
ним обычно начинают со знаменитого метафизического определения
в «Тимее»: «...оно вечно, не приемлет разрушения, дарует обитель
всему рождающемуся, но само воспринимается вне ощущения,
посредством некоего незаконного умозаключения, и поверить в него
почти невозможно» (Тимей. 52а-Ь). Пространство, таким образом,
познается не логически, но и не чувственно, а неким «незаконным
умозаключением», которое впоследствии определили как творческое
воображение. Как отмечает П. П. Гайденко: «Переводя это
выражение Платона как "гибридное рассуждение", Дюгем тем самым хочет
подчеркнуть, что способность, которой мы постигаем пространство,
есть некий гибрид, "помесь" между мышлением и ощущением».4
1 Гайденко П. П. Обоснование научного знания в философии Платона //
Платон и его эпоха. М.: Наука, 1979. С. 119-120.
2 Там же. С. 120.
3 Там же. С. 124.
1 Там же. С. 125-126.
КНИГА II. ГЛАВА 1. § 2. ПЛАТОН
389
Так же как и момент « вдруг », сама « хора » воспринимается во
сне. Более того, «вдруг» происходит в «хоре» — это наложение
друг на друга двух «странностей» напоминает состояние «сна во
сне». «Пространство мы знаем как бы во сне, мы его как бы и
видим и в то же время не можем постигнуть в понятиях, и вот
оно-то, по мнению Платона, служит началом для геометров. Значит,
их начало таково, что они его не знают в строгом смысле этого
слова. Почему, говоря о пространстве, Платон прибегает все время
к этому образу сна? Тут невольно приходит на ум известный
платоновский символ пещеры: ведь узники в пещере принимают за
истину "тени проносимых мимо предметов", точно так же как
человек во сне принимает за реальность "тени". Пространство в
этом смысле у Платона не тени, т. е. не чувственные вещи, а как
бы сама стихия сна, сам сон как то состояние, в котором мы за
вещи принимаем лишь тени вещей. И так же как, проснувшись,
мы воспринимаем виденное во сне как-то смутно, не можем дать
себе в нем отчет, оно как бы брезжит, не позволяет себя схватить
и остановить, определить, — так же не дает себя постигнуть с
помощью понятий и пространство».1 Периферия (пространство как
таковое), действительно, не определяема, ибо она есть беспредельное
по самой своей природе.
Трансцендирование в Естество, как мы писали выше,
осуществляется в плане арифмологической «двоицы». Онтологическая
диалектика диалога «Парменид», осветив в полноте отношение понятий
«бытие» и «небытие», подготовила плацдарм или почву для разбега
к свершению трансцензуса в метафизическую область. П. П. Гай-
денко поднимает этот вопрос в качестве проблемы «перехода от
одного измерения к двум и более».2 Суть проблемы состоит в том,
как можно разделить до двоичного Естества неделимое
принципиально единое Бытие? «Но что же это за способ деления? Как видим,
он совсем не похож на обычное представление о делении как
расчленении, разламывании тела на части: в результате деления
мы здесь каждый раз как бы совершаем прыжок в другой мир,
ибо переход от измерения к измерению непонятен ни с точки зрения
логики, ни с точки зрения "мнения", т. е. обычного эмпирического
представления о делении объекта. ..."Переход" от точки к линии
и от линии к плоскости можно как бы созерцать в воображении:
движение точки в интеллигибельной материи — пространстве —
дает в результате линию; линия — как бы след движущейся точки
в пространстве, след, удерживаемый воображением. Но созерцание
Движения точки, линии или плоскости — это еще не логическое
объяснение перехода от объекта одного измерения к объекту двух
1 Там же. С. 126-127.
2 Там же. С. 134.
390
Ю. M. РОМАНЕНКО. БЫТИЕ И ЕСТЕСТВО
или трех измерений. Возможно ли логическое объяснение такого
перехода, можно ли постигнуть его в понятии?» Вероятно, можно,
только точность такого искомого понятия не однозначна, а
двузначна, ибо оно употребляется в качестве метафоры — переноса
смысла через зыбкую границу воображения.
Вспоминая «первый раз», находясь во «втором разе», мышление
осуществляет переход туда и обратно. Чтобы случился «первый
раз», во «втором разе» нужно совершить особое двойное усилие.
Если «первый раз» творится из небытия, то «второй раз» происходит
не из небытия, а как бы автоматически из границы между бытием
и небытием. «Этот переход, по Платону, осуществляется везде, где
происходит изменение: всякое изменение у него — это превращение
в противоположное. ...Переход из одной противоположности в
другую ничем не опосредован, вернее, опосредован "ничем", или, что ч
то же самое, он опосредован этим странным по своей природе
"вдруг", внезапным переходом, который выступает как провал в
бездонную пропасть, и эта-то пропасть и образует границу между
двумя противоположными состояниями. Видимо, переход от одного
измерения к двум, от двух — к трем представляет собой такой же
скачок; одномерная линия, двумерная плоскость и трехмерное
тело — как бы три разных состояния, между которыми прыжок,
внезапный переход, осуществляемый не во времени и не логически,
а «вдруг»».2 Здесь дается феноменологического описание
последовательных степеней скачкообразного процесса воплощения идеи в
тело. Нужно только дополнить один упущенный момент: «провал
в бездонную пропасть» (или, напротив, «взлет из бездонной
пропасти»), когда тело становится практически невесомым, имеет свою
собственную форму — воронкообразную структуру, — согласно
которой движение одушевляющегося тела осуществляется во
вращении, будь то путь вниз (гравитация) или путь вверх (левитация).
В результате своего анализа П. П. Гайденко формулирует одно
из возможных адекватных определений «естества»: это «вечносу-
щее, взятое как становление; ...умопостигаемая (вечно-сущее)
материя (становление)».3
В результате платоновского припоминания «естества» «перифи-
зика» превращается в «метафизику»: впервые в истории философии
был зафиксирован методологический дуализм (как говорится в
учебниках — между миром идей и миром вещей). Это естественное
«двоемирие» — предмет метафизики. Справедливее сказать, «мир»
один, но существенных значений у этого слова как минимум два,
что хорошо закрепил русский язык. Онтологическое постулирование
1 Гайденко П. П. Указ. соч. С. 134-135.
2 Там же. С. 136-137.
3 Там же. С. 141.
КНИГА П. ГЛАВА 1. § 2. ПЛАТОН
39J
требует однозначности. Метафизические же принципы допускают
двусмысленность, но не более того. Двусмысленность — это тоже
осмысленность, но иного рода. И в метафизике необходима точность,
но она является точностью двоичной, как бы некой артиллерийской
«вилкой» — цель ищется между «перелетом» и «недолетом».
Каковы же результаты «припоминания естества» у Платона?
После того как он диалектически определил «место» укрытия
природы — тот момент «вдруг», где нужно искать запрятанное, —
необходимо было дать развернутое описание самой природы. Этой
теме посвящен платоновский диалог «Тимей». Но прежде
небезынтересно привести сводку определений смысла «припоминания» в
текстах Платона.
Известно, что знание в платоновской традиции квалифицируется
как припоминание виденного в потусторонней жизни, а также как
припоминание того, что было до рождения. Но что такое
«потусторонний мир»? Казалось бы, что бытие не нужно припоминать —
оно всегда есть в настоящем. Но вместе с этим в повседневной
текучке жизни человек почему-то с трудом сосредоточивается на
настоящем, забывая бытие и отвлекаясь на грезы о прошлом и
будущем. И можно предположить, что это вполне естественно для
природы человека. Именно в контексте проблемы «фюсис»
возникает проблема «припоминания». Об этой природной интенции
памяти свидетельствуют слова Сократа в диалоге «Менон»: «А раз
душа бессмертна, часто рождается и видела все и здесь, и в Аиде,
то нет ничего такого, чего бы она не познала; поэтому ничего
удивительного нет в том, что и насчет добродетели, и насчет всего
прочего она способна вспомнить то, что прежде ей было известно.
И раз все в природе друг другу родственно, а душа все познала,
ничто не мешает тому, кто вспомнил что-нибудь одно, — люди
называют это познанием — самому найти и все остальное, если
только он будет мужествен и неутомим в поисках: ведь искать и
познавать — это как раз и значит припоминать» (Менон. 81c-d).
В данных рассуждениях Платон, исходя из естественного аспекта
принципа «всеединства» («все в природе друг другу родственно»),
предлагает совершить двойной акт трансцендирования: 1)
«вспомнить что-нибудь одно» (единое бытие); а затем 2) «найти и все
остальное» (двоичное естество). Реактуализация бытия возможна в
воспоминании, которое актуализирует самого вспоминающего в его
собственном существовании: «найти знания в самом себе — это и
значит припомнить» (Менон. 85с!).
Диалог с прошлым возможен, если в нем находится двойник,
оставленный когда-то в беспамятстве. До тех пор пока двойник не
реанимируется особым усилием, человек не становится самим собой,
пребывая как бы в забытьи. Память требует труда и упражнения:
«Припоминать то, что там, на основании того, что есть здесь,
392 Ю. M. РОМАНЕНКО. БЫТИЕ И ЕСТЕСТВО
нелегко любой душе: одни лишь короткое время созерцали тогда
то, что там; другие, упав сюда, обратились под чужим воздействием
к неправде и на свое несчастье забыли все священное, виденное
ими раньше. Мало остается таких душ, у которых достаточно сильна
память. Они всякий раз, как увидят что-нибудь, подобное тому,
что было там, бывают поражены и уже не владеют собой, а что это
за состояние, они не знают, потому что недостаточно в нем
разбираются» (Федр. 250а). Это и есть состояние удивления как начало
философии. Удивление, по определению, есть переживание первой
встречи с какой-либо новой вещью. Но Платон уточняет, что в этом
состоянии на самом деле переживается опознание подобия «старого»
(того, что было «там») и «нового» (того, что представлено «здесь»).
Старое и новое образуют целостную нерасторжимую двоицу.
В диалоге «Федр» Платон подчеркивает трансцендирующий
характер памяти, упорядочивающей переход от четверичного
повседневного бывания к единому бытию через двоичное естество, ибо
«это есть припоминание того, что некогда видела наша душа, когда
она сопутствовала богу, свысока глядела на то, что мы теперь
называем бытием, и поднималась до подлинного бытия. Поэтому
по справедливости окрыляется только разум философа: у него всегда
по мере его сил память обращена на то, чем божествен бог» (Федр.
249с).
Вспоминать нужно то, что подверглось забвению. Душа забывает
абсолютное, когда рождается в теле, следовательно, последнее
предположительно является источником или причиной забвения. В «Фе-
доне», в ходе аргументации в пользу бессмертия души, указывается,
что знание «первого раза» распространяется «на все, что мы
...помечаем печатью "бытия самого по себе". Так что мы должны были
знать все это, еще не родившись. ...И если, узнав однажды, мы уже
не забываем, то всякий раз мы должны рождаться, владея этим
знанием, и хранить его до конца жизни. Ведь что такое "знать"?
Приобрести знание и уже не терять его. А под забвением, если не
ошибаемся, Симмий, мы понимаем утрату знания» ( Федон. 75d).
Бытие всегда «незабвенно» (оно действительно является «але-
тейей» — истиной, не подверженной воздействию «летических вод»
беспамятства). Субстратом «припоминания» и возвращения к «не-
забвенности» является «фюсис», поскольку она и есть эта самая
«вода», различающаяся в себе на два типа — живой воды из ключа
Мнемозины и мертвой воды реки Леты (или Стикса). Как есть
искусство памяти — мнемотехника, так есть и особое искусство
забывания — которое можно было бы назвать летотехникой. Для
правильного воспоминания необходимо овладеть обоими видами
техники.
Природное рождение есть утеря единого бытия и приобретение
двоичного естества. «Но если, рождаясь, мы теряем то, чем владели
КНИГА П. ГЛАВА 1. § 2. ПЛАТОН
393
до рождения, а потом с помощью чувств восстанавливаем прежние
знания, тогда, по-моему, "познавать" означает восстанавливать
знание, уже тебе принадлежавшее. И, называя это "припоминанием",
мы бы, пожалуй, употребили правильное слово» (Федон. 75е).
Двойственность памяти состоит в сочетании в ней чувственности и
мышления. «Если человек, что-то увидев, или услыхав, или
восприняв иным каким-либо чувством, не только узнает это, но еще
и примыслит нечто иное, принадлежащее к иному знанию, разве
не вправе мы утверждать, что он вспомнил то, о чем мыслит?»
(Федон. 43с). Мыслить (помнить) бытие можно при-мысливая
(припоминая) к нему естество. Оттого-то душе и свойственно по ее
природе находиться в непрестанном движении припоминания,
стремясь замкнуть это движение в форму круга, ибо только таким
образом можно достоверно вспомнить.
Если бы бытие не забывалось, то не было бы и нужды его
припоминать. Возникает закономерный вопрос — зачем нужна
память и чем она «питается»? В «Филебе» Платон, в новом ракурсе
ставя проблему отделения души от тела, утверждает, что память
есть вид удовольствия, присущий самой душе. Следовательно, душа
естественно стремится припомнить ради некоего своего
бескорыстного удовольствия, в чем черпает собственную энергию. Для этого
ей необходимо отрешиться от тела, выйти в экстазис, трансценди-
ровать в иную размерность. Но в трансцендировании тело не
оставляется в небытии, а хранится в памяти. В этот момент вспоминается
идеальное тело, т. е. самое что ни на есть естественное тело, которое
человек должен отыскать и культивировать в пределах рожденного
тела. Возникает как бы два тела, или тело в теле. «Когда душа
сама по себе, без участия тела, наилучшим образом воспроизводит
то, что она испытала когда-то совместно с телом, мы говорим, что
она вспоминает. ...Равным образом когда душа, утратив память об
ощущении или о знании, снова вызовет ее в самой себе, то все это
мы называем воспоминаниями» (Филеб. 34Ь).
Теперь можно обратиться к диалогу «Тимей» и посмотреть,
каким образом описывается Платоном это естественное тело, которое
является телом всего, в том числе и телом мысли. Дело в том, что
в разных размерностях есть свои закономерности организации
телесного способа существования. Мышление может мыслить тело,
если сама мысль в какой-то степени телесна. Телом мысли «единого
бытия» является «глыба прекруглого шара», как выяснилось в
«первом разе». А каково тело мыслимого «естества»? Платон рисует
его мифологическую картину в «Тимее».
Для того чтобы вспомнить, необходимо настроиться на волну
припоминания. Память сразу не выуживает из своих запасников
необходимую информацию, заставляя субъекта напрячь силы.
Процесс припоминания должен быть особо организован.
394 Ю. M. РОМАНЕНКО. БЫТИЕ И ЕСТЕСТВО
Итак, в задачу входит «припомнить все с достаточной
обстоятельностью» (Тимей. 26а), а именно то, рассказ (миф) о чем
«неизгладимо залечат лелея в моей памяти, словно выжженная огнем
по воску картина» (Тимей. 26 с). Невероятность подобного
странствования в прошлое состоит в том, чтобы по обугленному огнем
воску воспроизвести его прежнее состояние, что равносильно
реконструированию по сохранившемуся когтю скелета саблезубого
тигра. Прямо восстановить это в первозданности невозможно в силу
необратимости времени. Но можно попытаться обойти
«необратимость» с другой стороны, найдя иное начало. «Поэтому мы должны
вернуться вспять и, приняв в свой черед для тех же самых вещей
другое, подходящее им начало, еще раз, от начала, вести о них
речь, как мы это уже делали раньше. Нам необходимо рассмотреть,
какова была сама природа...» (Тимей. 48а-Ь). Суть этого вопроса:
какова природа в момент ее возникновения?
Все исследование распадается на два взаимосвязанных
направления — онтологическое и метафизическое. В первом ставится
вопрос о творении, во втором — о порождении. Иначе говоря,
припоминание направлено на единичную размерность «бытия» и
двоичную размерность «естества», совмещение которых создает условия
возможности воспроизведения Космоса в теоретическом образе.
«Конечно, творца и родителя этой Вселенной нелегко отыскать, а если
мы его и найдем, о нем нельзя будет всем рассказать» (Тимей. 28с).
Отличие «творца» (poietes) и «родителя» (pater) проводится по
линии разграничения функций и полномочий онтологии и
метафизики.
На пересечении пристальных взоров в прошлое Космоса
вырисовывается удивительная картина. В первую очередь, «бог,
пожелавши возможно более уподобить мир прекраснейшему и вполне
совершенному среди мыслимых предметов, устроил его как единое
видимое живое существо, содержащее все сродные ему по природе
живые существа в себе самом» (Тимей. 30d). Внутри этого единого
«живого существа» естественно обнаруживается двойственность
природы. Через этот образ устанавливается дуалистическое
метафизическое учение о чувственном и мыслимом мирах. «Единое»
видится извне только как одно, а то, что в нем есть «двойное»,
можно только мыслить в догадке, ибо «единое» содержит его в себе
самом, вплоть до того, что «[тело космоса] было искусно устроено
так, чтобы получать пищу от своего собственного тления,
осуществляя все свои действия и состояния в себе самом и само через себя»
(Тимей. ЗЗс-d). Таким образом, идеальное тело самоскручено во
всех смыслах, вплоть до того, что оно занимается самопоеданием,
сохраняя тем не менее свой исходный объем и массу. Своеобразный
закон сохранения космического вещества.
КНИГА II. ГЛАВА 1. § 2. ПЛАТОН
395
Единственный тип движения, которым может двигаться
подобное тело, состоит в том, чтобы «единообразно вращаться в одном
и том же месте, в самом себе, совершая круг за кругом, а остальные
шесть родов движения были устранены, чтобы не сбивать первое»
(Тимей. 34а).
Антропогенез повторяет космогенез с поправкой на специфику
и возможности человека. Поэтому первым образом уподобления
человека Космосу становится сферовидное тело: «...боги, подражая
очертаниям Вселенной, со всех сторон округлой, включили оба
божественных круговращения в сферовидное тело, то самое, которое
мы ныне именуем головой и которое являет собою божественнейшую
нашу часть, владычествующую над остальными частями. Ей в
помощь они придали все устроенное ими же тело, позаботившись,
чтобы оно было причастно всем движениям, сколько их ни есть;
так вот, чтобы голова не катилась по земле, всюду покрытой буграми
и ямами, затрудняясь, как тут перескочить, а там выбраться, они
даровали ей эту вездеходную колесницу» (Тимей. 44d-e). Таким
образом, «самое божественное, что мы имеем, — круговращения,
происходящие в нашей голове» (Тимей. 85а). Это божественное
движение в процессе антропогенеза оказалось заслоненным
остальными шестью типами движения: верх-низ, право-лево, вперед-назад.
Для возвращения в исходное, дорожденное состояние
необходимо вновь актуализировать крутобразное движение. И для этого
нужно просто научиться правильно мыслить. «Между тем если есть
движения, обнаруживающие сродство с божественным началом
внутри нас, то это мыслительные круговращения Вселенной; им и
должен следовать каждый из нас, дабы через усмотрение гармоний
и круговоротов мира исправить круговороты в собственной голове,
нарушенные уже при рождении, иначе говоря, добиться, чтобы
созерцающее, как и требует изначальная его природа, стало подобно
созерцаемому, и таким образом стяжать ту совершеннейшую жизнь,
которую боги предложили нам как цель на эти и будущие времена»
(Тимей. 90c-d). Это место можно параллельно сопоставить со
странным моментом «вдруг» из «Парменида», от которого возникает
головокружение при мгновенном переходе от одного круговорота к
другому.
Результатом припоминания естества в «Тимее» стал «наш
космос», который является «видимым живым существом, объемлющим
все видимое, чувственным богом, образом бога умопостигаемого,
величайшим и наилучшим, прекраснейшим и совершеннейшим,
единородным небом» (Тимей. 92с). Здесь припоминание
заканчивается, сменяясь непосредственным осмысленным созерцанием.
Характерно, что в этом завершающем абзаце «Тимея» по разным
рукописям существуют разночтения: говорится ли здесь об «образе
396 Ю. M. РОМАНЕНКО. БЫТИЕ И ЕСТЕСТВО
бога умопостигаемого» (noetoi) или об «образе бога творящего»
(poietoi).1
Платоновский «анамнезис фюсис» в «Тимее» представляется
как очная ставка близнецов — Логоса и Мифоса, — которые узнали
единородство друг друга. Об этом же дуализме (божественном
двоевластии) Платон говорил ранее в шестой книге «Государства»: «Так
вот, считай, что есть двое владык, как мы и говорили: один —
надо всеми родами и областями умопостигаемого, другой, напротив,
надо всем зримым» (Государство. 509d).
Платон засвидетельствовал в диалоговой письменной форме
встречу двух типов знания — онтологического и метафизического,
выраженных, соответственно, в логической и мифической
проекциях. Обе стратегии организованы научно, хотя в каждой из них
есть свои критерии научности. О том, что логика является наукой,
не приходится дополнительно спорить. А вот о том, что миф —
тоже наука, нужно представить отдельную аргументацию.
Предмет каждой науки реален настолько, насколько реальным
является метод самой науки. Соответственно, каким бы
наиреальнейшим не был предмет «сам по себе», но к нему можно отнестись
так, что он будет казаться иллюзорным и даже несуществующим.
До сих пор философия не выработала общеприемлемых и прочных
критериев существования. Сказанное не противоречит тому, что в
повседневной жизни мы имеем дело со вполне «реальными» вещами,
а научный «объект» в исследовании репрезентирован достаточно
достоверно. До поры до времени. Наука является особым
отношением к действительности, встроенным в саму действительность,
т. е. наука есть рефлектированное отношение реальности «к самой
себе» и «в самой себе». В этом смысле наука абсолютна, но,
разумеется, здесь нарисована идеальная ее модель, к которой можно
относиться по-разному. Кому-нибудь она может показаться
подозрительной, и он займет скептическую позицию. По этому пути
пошла последекартовская европейская философия, основное
противоречие которой состояло в том, что она нуждалась в
абсолютизированной науке (или в образе абсолютной науки) для реализации
определенных практических задач, но в ней также был искусственно
привит вкус к «методическому сомнению», с помощью которого
добывается критерий реальности.
В выборе имманентной интерпретативной схемы и языка
описания взаимоотношений между Мифосом и Логосом можно
воспользоваться так называемым «близнечным мифом». Действительно,
Логос в его происхождении из греческого языка переводится
одновременно и как «слово», и как «мысль», т. е. как «слово-смысл».
Русский перевод, таким образом, удваивает единый «Логос». Но и
1 Платон. Собр. соч.: В 4-х т. Т. 3. М.: Мысль, 1994. С. 619 (в прим.).
КНИГА II. ГЛАВА I. § 2. ПЛАТОН
397
Мифос тоже означает и слово, и мысль. Показательно, что русское
слово «мысль» этимологически родственно «мифу». По сути дела,
в мифологической перспективе Мифос и Логос являются
«близнецами», способными выполнять одно и то же действие «отличными»
средствами, но с одинаковой степенью эффективности.
Если логику определяют как науку о формах правильного
мышления, то миф можно назвать наукой о формах правильного
продуктивного воображения. Если логика пользуется понятиями,
суждениями и умозаключениями как некими инструментами
упорядочения мысли, то миф работает с живыми саморазвивающимися
образами, выраженными в символах или метафорах, для
выполнения той же задачи — приведения хаотического мышления к
упорядоченному. Ни логика, ни миф в их отдельности не покрывают
собой возможности всего творческого мышления.
Конкуренция и «борьба за первородство» между логикой и
мифом отчетливо прослеживаются в историко-философском
процессе. Так, уже стоики, впервые употребившие термин «логика» для
обозначения специальной науки, прямо игнорировали употребление
слова «миф» (специалисты не обнаруживают его в их трактатах).
Стоицизм, будучи несколько инородной частью классической
древнегреческой традиции философствования, по всей видимости,
методически вытеснял миф из проблемного философского поля.
Стоики сделали ставку на логику. Это не значит, что они не затрагивали
проблем собственно мифологических. Более того, в контексте их
спора с неоплатониками, которые откровенно культивировали
классические мифы, стоики начали говорить о критериях правильного
(истинного) представления или воображения (в тогдашней
терминологии — «фантасии»).
Логика преподносит науке возможность критерия
существования ее предмета в виде требований «непротиворечивости» и
«формализуемости». Хотя сейчас уже известно, что полной
формализации достичь не удается, в теории всегда остается неформализуемый
остаток. Таким образом, логика является необходимым условием
достижения «истины» (т. е. того что «реально есть»), но
недостаточным — она не страхует от возможной лжи. Эта неспособность
логики к монопольному обладанию абсолютным критерием,
вероятно, привела к тому, что естественное развитие языка
девальвировало слово «логос» в слово «ложь». То же самое можно сказать
и в адрес мифа. Ему в большей мере приписывают лживость,
надуманность, нереальность, фиктивность, но без него, на наш
взгляд, не могут исполниться достаточные условия достижения
подлинного критерия существования. Чтобы это случилось,
необходимо привести двух близнецов — Мифос и Логос — к очной
ставке, для предотвращения их взаимообмана.
398 Ю. M. РОМАНЕНКО. БЫТИЕ И ЕСТЕСТВО
Каковы результаты встречи Мифоса и Логоса, зафиксированные
Платоном? Можно ли говорить о том, что они обогатились каким-
либо новым содержанием? На этот вопрос можно ответить
положительно. Из взаимообусловленности логического и мифического
способов происходит их историческое развитие. Можно рассмотреть
эту идею на примере влияния мифа на логику. Для этого нужно
представить, как логика отражается и преломляется в мифе или
какой возникает образ логики в мифическом знании.
Нижеследущие рассуждения имеют отношение не к собственно
логике, а к около(пара-)логической проблематике. Речь идет о мифе
как об одном из условий возможности появления логической формы.
О самой логике можно рефлектировать исходя из некоторого
метаязыка описания, например гносеологического, технического,
грамматического, культурологического и т. п. Мета-уровневый подход
к логике позволяет встроить ее в контексты различных способов
отношения к действительности, специфицировать ее к
определенному содержанию. Для мета-уровневой рефлексии логическая форма
уже преддана как некая априорная структура. Вероятно, что миф,
являясь дорефлективным отношением, в котором еще не произошло
субъект-объектной дифференциации, предпосылает возможность
логической обработки мышления, т. е. приведения хаотического
мышления к упорядоченному. Иными словами, мифология может
истолковываться не как мета-описание логики, а как ее ката-описание,
т. е. как некий под-язык, в опыте действия которого стихийно
образуются релевантные логические закономерности,
индифферентные для самого мифа. По-видимому, именно это имел в виду М. Хай-
деггер, изрекая свою знаменитую тавтологию — «язык говорит».
Действительно, язык говорит в своем естественном и спонтанном
режиме, но договаривается ли он до логики? — это вопрос
методологического характера, корни которого теряются в мифе. Если
для гносеологии логическая форма априорна, или квазиаприорна,
вызывая эффект предзаданности, за что ухватывались те философы,
которые производили так называемую полузаконную процедуру
«онтологизации логического», то в мифе логика апостериорна,
«опытна» в прямом смысле этого слова. По-другому: миф как опыт
целостного всеединого мышления задает прецеденты логических
форм, которые при особом техническом усилии можно «выудить»
из мифа, отрешаясь (абстрагируясь) от всей его полноты.
Как возникают эти прецеденты, однократно запоминаемые и
впоследствие произвольно используемые в качестве «методических
образцов», было реконструировано на вышерассмотренном
мифологическом материале. Миф, являясь звучащим словом, вызывающим
зримый образ, действует помимо логики в сфере воображения.
Иначе говоря, произнесение сакрального Имени трансцендирует к
живому образу Лика. Сам трансцензус есть скачок через небытии-
КНИГА II. ГЛАВА 1. § 2. ПЛАТОН
399
ственную границу, которая может быть ничем не заполнена, а
может быть заполнена чем угодно, в том числе и логическими
формами. Логики в мифе нет не потому, что тот ее исключает (миф
в этом смысле как раз терпим и всеяден), а потому, что ее просто
пока может не быть. Существует только миф и больше ничего —
это мы должны принять как необходимое условие нашего
мысленного эксперимента. Миф говорит сам за себя, и остается только
вслушаться в его «голос бытия», как выразился бы М. Хайдеггер.
Подобно тому, как молчаливо вслушивался Сократ в устные
воспоминания своих собеседников.
Диалоговая форма платоновского учения, в которую облекается
ход размышлений, арифмологически структурирована. Сами по себе
логика и миф не диалогичны. Но плодотворный диалог может
проявиться только благодаря им. Более того, диалог происходит
именно между ними. Ставя вопрос о мифо-логических условиях
диалога, а заодно арифмологически структурируя участников
платоновских диалогов, можно сказать следующее.
Только в двоичной системе исчисления диалог не может
свершиться окончательно: зов и отклик заполняют тишину только на
две трети. Без молчаливого остатка развитие диалога,
заключающееся в вовлечении всех в полноту общения, не происходит.
Понятно, о чем идет речь, но проблемой является то, о чем молчит
тишина. Рассматривая миф и логику как необходимые, но в
отдельности друг от друга недостаточные условия возможности
диалога, следует иметь в виду, что миф вне логики — это прямая речь,
вызывающая зримый образ, который подает ориентир, обращая к
бытию и отвращая от небытия. Третьего здесь не дано и не нужно.
На стадии только мифа общение действительно завершается
молчаливым послушанием, в момент которого вся энергия
затрачивается на созерцание образа. Логос же, как и число, «творит
бесшумно», придавая репликам диалога специфическую форму. Логическое
мышление внеположно голосу и образу. Оно «вклинивается» между
ними в тишине покоя и «растягивает» это состояние до такой точки
невыносимости, когда естественной реакцией на подобное
неестественное «растяжение» небытия будет вопль de profundis. Таким
образом, полнокровному диалогу удается совершиться. Сама же
логика, заимствуя в этом событии от устной речи
последовательность, а от образа — обозримость, конструирует свои абстрактные
структуры. Что же касается участников диалога, то очевидно, что
их уже трое; нарушение этой иерархии возможно, но
противоестественно, а главное, не ведет к новому смыслотворчеству.
Платону удалось запечатлеть несколько очных ставок между
Мифосом и Логосом. После каждой фиксации подобной встречи и
Мифос, и Логос выходили на новый необратимый уровень своего
развития. Мы уже касались соответствующих мест в диалогах
400 Ю. M. РОМАНЕНКО. БЫТИЕ И ЕСТЕСТВО
«Парменид», «Тимей», «Государство» и др. Одним из самых
показательных платоновских произведений в выделенном аспекте
является диалог «Филеб», где Платон, по оценке А. Ф. Лосева,
определил идею как «порождающую модель», т. е. образец,
подражанием которому становится вещь.
Содержание данного диалога посвящено отношению «ума»
(читай — Логос) и «удовольствия» (читай — Мифос). Смесь того и
другого, т. е. их «очная ставка», свидетелями и в какой-то степени
организаторами которой выступают участники диалога во главе с
Сократом, находит свое завершение в «числе», как особом принципе
различения «бытия» и «естества». Эзотерическое содержание
платоновского «неписанного» учения специалисты пытаются
реконструировать арифмологической диалектикой «единицы» и «двоицы»
(«предела» и «беспредельного», «нечета» и «чета», «центра» и
«периферии» и т. п.), что вполне соответствует основным
положениям платоновской онтологии и метафизики.
В пифагорейском по содержанию диалоге «Филеб» арифмология
обосновывается из себя самой, будучи «детищем» Логоса и Мифоса.
При ее усвоении необходимо учитывать оба единородных ей
компонента. Например, установить предел арифмологии с рациональной
(чисто логической) точки зрения не удается, поскольку сами
понятия «предел» и «беспредельное» исходят именно из нее. О пределах
арифмологии можно говорить лишь в контексте всей философии,
и только здесь можно ставить вопрос о ее рациональной
обоснованности.
Арифмология является онтологической и метафизической
дисциплиной, наряду с топологией, темпорологией, ономатологией,
этимологией, методологией, терминологией и т. п. Оставим пока
этот список незавершенным, остановив внимание только на одном
из его элементов — арифмологии как онтологическом «учении» о
Числе. Вопрос о рациональных пределах арифмологии сводится к
проблеме ее санкционирования и интегрирования в онтологическом
комплексе. Рациональным способом обосновать арифмологию
принципиально невозможно, поскольку «рацио» превращает ее в
«арифметику», «профанируя» на «предметном» материале. Для
арифметики (как самой «строгой» науки) это отозвалось тем, что в ее
фундаменте были обнаружены неисчезающие трещины. Хотя
«конечные» задачи решаются арифметическим способом вполне
эффективно. Оборачивая ситуацию, можно было бы сказать, что не
«рацио» дает границы арифмологии, а как раз наоборот:
рациональность имеет своим пределом применимости дифференцированную
субъект-объектную сферу, которая возникает благодаря творящему
арифмологическому перво-делению. Творение с арифмологической
точки зрения представляется как «отделение» бытия от небытия.
Когда этот акт впервые свершается, а затем делается попытка
КНИГА П. ГЛАВА 1. § 2. ПЛАТОН
401
повторить его (вернуться в исходное творящее состояние), то именно
здесь в свои права вступает рациональность как рефлектированное
отношение. В силу необратимости творения рациональная
рефлексия не может вернуться в исходную точку, «закручиваясь» в
замкнутой линии на самое себя. Так рассудочное мышление «забывает»
бытие. Вспомнить «первый раз» принципиально невозможно, во
всяком случае нам это не удается сделать, но зато возможен «второй
раз». Здесь уже начинается арифмологический «счет»
пифагорейскими числами, отсчитывающими «абсолютную сущность». Душа
припоминает считая. Для этих целей она изобрела специальную
технику припоминания-счета — арифмологию.
«Рацио» само-изолировано от пафоса творения, поэтому оно не
разделяет энтузиазма в отношении арифмологии, по-своему
устанавливая ей пределы в виде запретов. Вполне можно понять мотив
«опаски» перед арифмологией и ее эзотеризмом, который,
действительно, порождает «энтузиазм». Последний есть не что иное, как
«готовность принести себя в жертву». Рациональность же ничем
не жертвует и ничего не скрывает в тайне, ибо у нее нет
«собственности»; она «паразитирует» на конкретном материале
чувственности. Арифмология ни субъективна, ни объективна. Она просто
считает возможные части неделимого бытия.
Арифмология принципиально недоказуема, этого не удалось
сделать даже Пифагору, поскольку она подготавливает возможность
самого доказательства. Как полагал Аристотель, не для всего нужны
доказательства, особенно для первоначал. Поэтому, чтобы
«утвердить» арифмологию от обратного, действуя согласно принципу
«аналогии бытия», нужно что-то просто реально доказать (или показать
в элементарном счете). Несмотря на то, что арифмология
рационально недоказуема, она легко мифологически демонстрируется.
Достаточно представить образ делимой клетки.
В «Филебе» арифмологическое различение «онтологии» и
«метафизики» производится в таких выражениях. «Допустим, что
существует два [начала]: одно — само по себе, другое же — вечно
стремящееся к иному» (Филеб. 52d). Под первым началом
подразумевается «бытие», под вторым — «естество». Далее Сократ
уточняет: «Возьмем же еще две такие вещи. ...Пусть одна будет
становлением всего, а другая бытием» (Филеб. 54а). Соотношение
«бытия» и «естества» таково, что «все же становление в целом
становится ради всего бытия» (Филеб. 54с).
Предмет метафизики состоит в изучении происхождения и
становления Космоса. Сократ разъясняет: «А если кто и полагает, что
изучает природу, то, как ты знаешь, такой человек всю свою жизнь
исследует этот вот космос, как он возник, что он претерпевает и
как творит. ...Значит, такой человек затрачивает свой труд не на
402 Ю. M. РОМАНЕНКС). БЫТИЕ И ЕСТЕСТВО
вечное бытие, но на возникающее, долженствующее возникнуть и
возникшее» (Филеб. 59а).
Определение метафизики как учения о всеобщих принципах
соотношения умо-постигаемого и чувственно-воспринимаемого
миров, как это было произведено выше, можно конкретизировать в
терминологии «Филеба» понятием «смеси». Метафизик — это тот,
«кто желает получить самую прекрасную и устойчивую смесь и
пытается узнать по ней, что такое естественное благо в человеке и
во Вселенной и какую идею нужно угадать в этой смеси. Разве не
разумно и не в согласии со своей природой отвечает этими словами
ум за себя, за память и за правильное мнение?» (Филеб. 64а).
С метафизической точки зрения, «смешивание» означает
слияние и трансформацию стихий друг в друге. Онтологическим
коррелятом «смешиванию» является «встряхивание», о котором Платон
красочно писал в «Тимее», «напав на след природы» как таковой
и именуя это «матерью и восприемницей всего, что рождено»:
«А о Кормилице рождения скажем вот что: поскольку она и
растекается влагой, и пламенеет огнем, и принимает формы земли и
воздуха, и претерпевает всю чреду подобных состояний, являя
многообразный лик, и поскольку наполнявшие ее силы не были
ни взаимно подобны, ни взаимно уравновешены и сама она ни в
одной своей части не имела равновесия, она повсюду была
неравномерно сотрясаема и колеблема этими силами и в свою очередь
сама колебала их своим движением. То, что приводилось в
движение, все время дробилось, и образовавшиеся части неслись в
различных направлениях точно так, как это бывает при провеивании
зерна и отсеивании мякины: плотное и тяжелое ложится в одном
месте, рыхлое и легкое отлетает в сторону и находит для себя иное
пристанище. Вот наподобие этого и четыре упомянутых рода
[стихии] были тогда колеблемы Восприемницей, которая в движении
своем являла собой как бы сито...» (Тимей. 52d—53а). Так
интуитивно Платон находит в припоминающем угадывании один из
образов Естества. Это «сотрясающееся сито». Но, в отличие от
единственного образа Бытия как «глыбы прекруглого шара»,
Естество имеет еще один образ — «вращающегося веретена», который
был описан Платоном в диалоге «Политик». Образ «сита» обогащает
представление естества через образ воронки, ибо его днище
пронизано множеством таких воронок-веретен, через которые
фильтруются стихии.
Арифмология, таким образом, может быть рассмотрена как
«алхимия» в ряду онтолого-метафизических дисциплин. Если кому-то
алхимия не нравится, можно обойтись понятием «онтологическая
фармакология», в научные задачи которой входит изучение
платоновской «смеси». Здесь между прочим рассматривается идея
«катализаторов» в реакциях «смеси», в число которых даже включается
КНИГА П. ГЛАВА 1. § 3. АРИСТОТЕЛЬ 40И
«ложь». «Сократ. Что ты говоришь? Неужели необходимо
привнести и примешать сюда ненадежное и нечистое искусство
ложного правила и ложного круга? Π ρ о τ а ρ χ. Необходимо,
если кто из нас на самом деле хочет отыскать путь к себе домой»
(филеб. 62Ь). Слова Протарха — «путь к себе домой» - можно
истолковать как возвратный трансценз ус в «мировую четвери цу»,
после того как в чистоте были аналитически выделены «бытие» и
«естество», подвергшиеся затем «смешиванию-встряхиванию» и
подмешиванию к ним особого «фермента». Дело это опасное,
требующее правил техники безопасности, о чем недвусмысленно
предупреждает Сократ: «Но это небезопасно. А как смешать
безопаснее — на этот счет я, кажется, составил себе мнение» (Филеб. 61 d).
К сожалению, саму технику безопасности Сократ оставил в
умолчании.
Можно предположить, что «филебовская» смесь есть то, что на
современном языке получило название «автокаталитической
реакции», исследуемой синергетикой. Для подобных реакций
свойственно возвращение продукта реагирования (осадка) в повторный
реагент, в силу чего вся реакция представляет собой волнообразное
становление. В современном естествознании сложилось общее
мнение, что возникновение и развитие живого стихийно осуществляется
по типу этих реакций. Платон задолго до этих новейших научных
открытий догадался об автокаталитическом характере
припоминающей природы души.
На этом можно завершить рассмотрение темы «припоминания
естества» в сократо-платоновской философии. Им удалось обобщить
достижения онтологии и метафизики предыдущих философов,
представив их в новом гармоничном смешении. А что же осталось в
осадке этой смеси, после ее встряхивания? «Осталось еще немногое,
Сократ, и ты, конечно, не уйдешь отсюда раньше нас. А я напомню
тебе, что еще остается» (Филеб. 67Ь). Этот завершающий намек
«Филеба», загадочно обрывающий текст и сохраняющий интригу,
позволяет нам естественно перейти к философии Аристотеля.
§ 3. АРИСТОТЕЛЬ
Естественное движение тела
Метод диалектики требует рассматривать все в
противоположностях. Следовательно, если что-то вспомнилось, то что-то забылось.
О чем же, действительно, стоило напомнить персонажам диалога
«Филеб» Сократу, после того как он вспомнил самое главное? Что
остается после того, как душа в экстазнее анамнезиса достигает
своей истины? Платон в очередной раз обрывает текст Fia самом
404 Ю. M. РОМАНЕНКО. БЫТИЕ И ЕСТЕСТВО
интригующем, оставляя читателя самостоятельно додумывать и
догадываться. Можно по-другому спросить: о чем «забыл» Сократ,
или сделал вид, что как бы забыл? Речь теперь идет уже не об
«ана-мнезисе», но о «ката-мнезисе» естества — не о вое-поминании
души, а о на-поминании душе. Сократ и Платон сумели
«припомнить» природу души, естественно стремящуюся в своих
воспоминаниях к Небу и испытывающую в процессе припоминания только
ей присущее удовольствие, очищенное от примесей тела, оставив
последнее лежать в забвении на земле.
В критических замечаниях к диалогу «Филеб», разбирая
основную его проблему — смешения ума и удовольствия (то есть души
и тела), А. Ф. Лосев задается вопросом: «действительно ли Платон
заинтересован в смешении? Здесь все время имеются в виду дурные,
или максимальные, удовольствия, которые Платон, конечно,
отвергает, но ни слова не говорится о таком удовольствии, которое
соответствовало бы чистому уму, было бы истинным, или чистым,
и действительно находилось бы в диалектическом смешении с
чистым умом».1
В концепции Платона ум имеет большую онтологическую
ценность, нежели удовольствие. Поэтому в возможной их смеси
существует иерархическая асимметрия между реагентами, что
представляет образ смеси в виде вихря, усиливающего и ускоряющего
«смешивание» посредством «встряхивания» или «потрясения». Ум,
как высший модус души, автономен и самодостаточен, удовольствие
же, испытуемое телом, компенсируется страданием. Возможно такое
состояние, когда душа полностью отрешается от удовольствия и
страдания, и оно доступно только богам. Протарх, собеседник
Сократа, соглашается с этим: «Да, богам не свойственно ни радоваться,
ни страдать» (Филеб. ЗЗЬ).
Боги локализованы в точке подвеса маятника, колеблющегося
между крайностями удовольствия и страдания, присущих людям.
Доведение амплитуды вращения этого маятника до максимума
может сказаться на покое точки подвеса. В ней возникает своя
диалектическая подвижность покоя. Здесь говорится о том, что
существуют некие удовольствия, присущие душе самой по себе:
«удовольствия, которые мы определили как беспечальные и назвали
чистыми удовольствиями самой души, сопровождающие в одних
случаях знания, а в других — ощущения» (Филеб. 66с).
Душа в какой-то отмеренный момент вращения указанного
стихийного вихря, достигнув устья воронки, выходит на простор своей
свободы. Именно в этот момент душа способна испытывать «чистые»
и «беспечальные» удовольствия от познания как такового,
заключающегося в адекватном «припоминании». Нелишне еще раз про-
1 Платон. Собр. соч.: В 4-х т. Т. 3. М.: Мысль, 1994. С. 521-522.
КНИГА II. ГЛАВА 1. § 3. АРИСТОТЕЛЬ 405
цитировать: «Когда душа сама по себе, без участия тела, наилучшим
образом воспроизводит то, что она испытала когда-то совместно с
телом, мы говорим, что она вспоминает» (Филеб. 34Ь).
Итак, душа «оторвалась» от тела. Сократ устремился за ней,
увлекая за собой своих слушателей. Выбор состоялся, и тенденция
стала заданной. Но ведь что-то существенное осталось «за спиной»
у устремившихся. В какой-то точке развития метода субъект
остановился на перепутье. Затем, сделав выбор, направился по одной
и только одной дороге. Попробуем вернуться к этой точке развилки.
Сократ-проводник специально задерживался здесь и зафиксировал
эту странную двоичную фазу перепутья (перепутанности путей) или
неподвижного движения переступания через порог. «Допусти, что
одни из наших телесных состояний каждый раз угасают в теле,
прежде чем дойти до души, и оставляют душу бесстрастной, другие
же проникают и тело, и душу и вызывают в них как бы некое
потрясение, иногда различное для души и для тела, иногда же
общее им обоим» (Филеб. 33ά).
При решении проблемы соотношения души и тела (а это
изначальная фундаментальная философская проблема) методом
диалектики необходимо довести исследование до аналитической изоляции
элементов системы и рассмотреть, как они существуют сами по
себе. Исходным предметом исследования является живое
одушевленное тело (или, что то же самое — воплотившаяся душа).
Методологическое острие анализа размыкает живое целое. Зачем? Сократ
отвечает: «Ради того, чтобы как можно лучше и яснее понять
удовольствие души помимо тела, а также вожделение...» (Филеб.
34с). Под вожделением, по-видимому, понимается нечто
противоположное «чистому беспечальному» удовольствию души, а именно
стремление к удовольствию тела помимо души, порой доходящее
до «скотской похоти» (Филеб. 67 Ь). Сократ допускает существование
неких состояний, которые возникают, функционируют и «гаснут»
сами собой в теле, но так и не «доходят» до души. Что это за
состояния? Подробностей о них в тексте Платона не находится,
поскольку он сосредоточился на другой проблеме.
В одушевленном теле Платон выбрал душу и проследил все
возможности ее самостоятельного существования. Одушевленное
тело есть жизнь, смерть есть разъединение души и тела. По Сократу
(в «Федоне»), философия является «упражнением в умирании». Но
это положение не нужно понимать как упражнение в умирании
ради умирания. Наоборот, философия есть упражнение жизни в
момент умирания. Это действительно аскетический опыт (от греч.
аскеза — упражнение), даже эксперимент, в котором внимание
исследователя направлено на то, чтобы проследить, где осталась
жизнь, когда душа и тело разъединились.
406 Ю. M. РОМАНЕНКО. БЫТИЕ II ЕСТЕСТВО
Сократовский опыт продемонстрировал, что сущность жизни
сосредоточена в душе, хотя существование жизни заключается в
одушевленном теле. Выводы из этого результата обусловили в целом
все особенности платоновской философии. Непрерывность жизни
связана со способностью души припоминать. Но эта способность
еще должна быть проявленной, закрепленной и культивированной
с тем, чтобы жизнь продолжалась в возможности бесконечно.
Что этому может помешать? Жизни мешает смерть,
припоминанию — забвение. Чтобы устранить препятствие забвения, нужно
попытаться ответить на следующий вопрос «в никуда» — что же
в конце концов забывается? Причем под забвением следует понимать
не просто исчезновение памяти, а нечто более изначальное. Сократ
подводит к формулировке этой проблемы следующим образом:
«Пожалуй, мы поступим всего правильнее, если будем утверждать, что
состояния, не проникающие и душу, и тело, остаются скрытыми
от нашей души, а проникающие обе наши природы — не остаются»
(Филеб. 33d). Здесь предполагается возможность, что существуют
состояния, проникающие только тело и остающиеся «скрытыми»
от души. Но «скрытность», по убеждению Гераклита, есть основное
свойство и действие природы. Следовательно, можно допустить, что
и у тела есть своя собственная природа, любящая скрываться в
момент смерти, разлагающей телесную плоть и прячущей ее в каком-то
укрытии. Если душа скрылась от тела в занебесье, гиперурании,
то и тело отплатило той же монетой, затаившись в земле. Из этих
предположений можно вывести следствия, нуждающиеся в
практической проверке, что душа и тело имеют свои собственные
природы. Или, быть может, целостно-двоичная природа посредством
самоделения на различающиеся частичные природы укрывается
именно в их явности. Выставленные напоказ части бросаются в
глаза и уводят внимание от целого. Вернее, оно само уводит себя,
сохраняясь в тайне.
Природное усилие тела укрыться Сократ истолковывает так:
«Это скрытое состояние ты отнюдь не понимай в том смысле, будто
я имею тут в виду наступление забвения: ведь забвение есть
исчезновение памяти, памяти же о том, о чем сейчас идет речь, еще
не возникало. А говорить об утрате того, чего нет и не было, нелепо»
(Филеб. ЗЗе). Это место принципиально, ибо здесь проблематизи-
руется отношение «бытия» и «естества». Двоица естества как
«второй раз» генады бытия есть некое «скрытое состояние» самого
бытия, но в этом состоянии бытие все-таки не предается забвению,
поскольку и памяти в этот момент еще нет.
В «первом разе» нечто творится к бытию из небытия, во «втором
разе» это нечто устанавливается к естественному существованию,
а память возникает только в «третьем разе». Естество есть не
забвение бытия, а некое «за-бытие», то есть то, что естественно
КНИГА II. ГЛАВА 1. § 3. АРИСТОТЕЛЬ
407
следует за актом творения, но не во времени. Так, иногда говорят,
что человек «забылся» в процессе делания, после того как он
сначала ввел себя в творческий транс (не без усилия собственной
воли), а затем дело пошло само собой, естественно и без лишних
усилий со стороны исполнителя к своему завершению. Памяти в
этом автоматическом (еамодвижном) процессе, действительно, нет,
как нет и забвения, ведь импульс действия сохраняется на
протяжении всего процесса; память и забывание возникают тогда, когда
дело закончено и появляется возможность остановиться и
оглянуться — что же в результате получилось. Вот это «за-бытие» и есть
«естество», то есть некое следование «за бытием»; оно не является
забыванием бытия как в случае обычной утраты памяти. Ведь
памяти в естестве «еще нет и не было», как сказал Сократ, хотя
именно естество является условием возникновения способности
вспоминать.
В естестве бытие удвоено на две ипостаси — тело и душу. Сократ
пытается упразднить диаду, чтобы трансцендировать обратно к
единому бытию с тем, чтобы душа, захватив все полномочия бытия
и оставив тело в небытии, в процессе воспоминания «наилучшим
образом» (т. е. сверхъестественно) воспроизвела то, что было ею
испытано ранее совместно с телом. При этом тело — «темница» и
«гробница» души, согласно орфическо-пифагорейскому учению,
«забывается», оставаясь жить своей жизнью, вернее, умирать своей
смертью. Здесь остается мучительный вопрос: зачем все-таки нужно
избавляться от тела, если душа вспоминает удовольствия,
полученные именно от ее прежнего общения с телом?
Сократ и Платон установили, что обособленная душа может
сделать нечто лучше, что до этого было сделано хорошо
одушевленным телом. Но, как гласит пословица, лучшее — враг хорошего.
Довольствоваться хорошим — удел смиренных. Сократ же и Платон
в этом вопросе максималисты. Стремясь к лучшему, они вынуждены
принести в жертву тело, оставив его в «за-бытии». Пусть душа
созерцает идеальный Космос, а с телом кто-нибудь и как-нибудь
само собой разберется. Да и зачем теперь обращать внимание на
тело, ведь душа только-только освободилась из этой «темницы» и
«гробницы».
Сократ, однако, абсолютно не забывает тело, пометив ту точку
развилки, откуда он совершил трансцензус в одну и только одну
сторону. После этого пути души и тела разделились, они стали
«скрытыми» друг для друга. У природы, любящей прятаться,
оказалось два укрытия, как и подобает ее двоичному естеству. В
соответствии с дальнейшей концепцией платоновской философии
душа устремилась к получению «чистых и беспечальных»
удовольствий познания. Для этого необходимо было отрешиться от
ощущений, присущих одушевленному телу, и тем более отвратиться
408 Ю. M. РОМАН EH КО. БЫТИЕ И ЕСТЕСТВО
от состояний плоти, вызывающих наслаждения, за которыми
гоняются «все быки, лошади и прочие животные» (Филеб. 67Ь).
Взаимоскрытность души и тела конкретизируется далее так:
«Вместо "скрытости" от души, когда душа остается безучастной к
потрясениям тела, называй то, что ты теперь именуешь забвением,
отсутствием ощущений» (Филеб. ЗЗе). Пронизывание тела водами
реки Леты не вызывает ощущений, и тем не менее это течение
существует, о чем свидетельствуют самостоятельные «потрясения
тела», имеющие собственную природу.
Выше говорилось о том, что в античности наряду с учением
«анамнезиса», формальной стороной которого была мнемотехника,
существовало искусство забвения, которое можно назвать «летотех-
никой». Каждый неминуемо должен был испить воды этой реки,
причем сделать это правильно. Согласно легендам, Сократ выпил
летическую воду в виде цикуты, Аристотель — в виде аконита,
когда они покончили с собственным телом, отпуская душу в
бессмертие. Отличие их учений состоит в фармакологическом отличии
цикуты и аконита. Фармакон есть яд или лекарство одновременно,
в зависимости от правильно выбранной дозировки для каждого
конкретного случая. Сложнее всего определить дозу в том моменте
«вдруг», когда изменение может начаться в ту и другую сторону —
выздоровления или заболевания, очищения или отравления.
В негативном плане «скрытость» тела от души является
забвением душой тела, когда она, к примеру, сосредоточившись в себе
под действием яда галлюцинаторных веществ, не ведает, что
вытворяет тело. Но можно ли эту «скрытость» понимать позитивно?
Забыть и вместе с тем как бы не забыть. На всякий случай. Сократ
пытается заранее подстелить солому на место будущего падения
«оторвавшейся» души. А ведь падение рано или поздно должно
будет произойти в соответствии с доктриной метемпсихоза. В момент
смерти душа выталкивается из тела, путешествует по небесам —
ее исконной родине (позволительно даже сказать — прародине),
затем, в соответствии с мифом «вечного возвращения», теряет
крылья, мечется, пока не натолкнется на что-то твердое, плотное, и
далее вталкивается в новое тело. Возникает вопрос — откуда
новизна?
Стихийный вихрь, вынесший душу из тела, характеризуется
такими особенностями. Между его основанием и острием существует
сильный перепад давления, создающий подобие вакуумного насоса,
которым душа вытягивается из тела. Насос по-гречески звучит
«помпа», от чего, между прочим, образовалось определение Гермеса
как «психопомпа», выполняющего функцию «проводника душ» в
загробный мир. Но поскольку природа не терпит пустоты, то тело
тотчас заполняется одним из типов стихий и далее существует по
законам данного типа. Описанию поступательного развития этого
КНИГА П. ГЛАВА 1. § 3. АРИСТОТЕЛЬ 409
вихря посвящен конец диалога «Федон», а также ситуация выхода
узников из пещеры в соответствующем мифе диалога «Государство»,
где Платон определил диалектику как «искусство обращения» от
теней к свету как подлинному источнику происхождения всех
вещей. Символ пещеры и происходящих в ней событий является
адекватной мифологической моделью действующей рефлексии —
отражения света от стены пещеры и стихийно-вихревого его
возвращения к своему «беспредпосылочному началу», Единому Благу,
захватывая при этом в свой поток и увлекая к Абсолюту душу
философа, рефлектирующую не по собственному субъективному
произволу, а в соответствии и в подражание (мимесисе) объективным
законам и структурам распространения этого света в условиях
«пещерного» (телесного) существования души.
Ранее было сказано, что скрытость тела от души есть отсутствие
ощущений. Но это пока только негативная констатация. Что
остается в теле чисто телесного, когда оно даже не ощущает? В чем
состоит естество тела — фюсис сомы? Сократ об этом ничего не
сказал, намекнув лишь о каких-то «потрясениях». Да он и не хотел
ничего знать по этому вопросу, передоверив знание о теле тому
человеку, который владел секретами приготовления и употребления
смертельного зелья, а также Критону, которого обязали похоронить
тело и засвидетельствовать, что оно правильно предано
соответствующим природным стихиям.
Для трансцензуса души из телесной оболочки используется сила
растения (например, цикута). Рост растения и есть исходное
действие фюсис, от чего она и получила такое имя. Следовательно,
искать смысл естественных движений (потрясений) тела нужно
начинать здесь, не сводя их только к воспоминаниям о животных
ощущениях. Нужно как бы в дополнительном усилии припомнить
тело, когда оно еще эволюционно не развилось из растительной
формы в форму животного. Бремя этих поисков выпало на долю
Аристотеля — ученика Платона. Пройдя вместе с учителем до
точки перепутья, Аристотель двинулся в иную сторону, произнеся
сакраментальную фразу: «Платон мне друг, но истина дороже».
Выше дружбы Платона и Аристотеля оказывается истина бытия,
к которой каждый из них вынужден идти по собственному пути в
естественно открывающихся направлениях движения в надежде
повторно встретиться.
Аристотель, будучи в начале своей философской карьеры
непосредственным продолжателем учения Платона, разделяет
представления последнего на соотношение души и тела. Ранний диалог
«Евдем, или О душе» он написал, чтобы «подтвердить учение
Платона о неземном происхождении души и ее будущем
возвращении на свою родину. ...В диалоге молодого Аристотеля возродился
410 Ю. M. РОМАН EH КО. БЫТИЕ И ЕСТЕСТВО
мир платоновского диалога "Федон" — образы временного изгнания
души с ее родины и пленение в телесных оковах».1
Содержание диалога «Евдем» свидетельствует о том, что
Аристотель адекватно усвоил суть платонизма. То же самое относится
и к еще одному раннему аристотелевскому произведению «Про-
трептик», в котором «жизнь тела, как полагает Аристотель, — это
смерть души, смерть же тела — воскрешение души к высшей
жизни. Жизнь философа должна быть постоянным приготовлением
к телесной смерти, к освобождению души. Ведь ее страдания в
телесных оковах подобны страданиям живых людей, которых
этрусские пираты привязывали к мертвецам».2
В дальнейшем, по определенным причинам биографического и
теоретического характера, пошел резкий откат Аристотеля от
основных платоновских принципов по всем направлениям. Стагирит
отказывается и от учения об «идеях», и от теории воспоминания,
и от концепции Мировой Души, и от деятельности Демиурга, и от
диалектического метода. «В последующих своих произведениях
Аристотель встал на позицию, промежуточную между защищаемой
и критикуемой им в диалоге: душа неотделима от тела и,
следовательно, смертна, хотя в то же самое время она является
формообразующим принципом всякого организма. ...Этим подчеркивается
самостоятельный и ни на что другое не сводимый характер души,
и подчеркивается не платоновским, но каким-то новым способом».3
Поставим задачу реконструировать главный мотив отказа
Аристотеля от «дружбы» с Платоном и проследить основной исток его
самостоятельной концепции по данному предмету.
В трактате «О душе» откровенно высказывается претензия и
критика платонизма: «...нелепым оказывается и в этом учении, и
в большинстве высказываний о душе вот что: эти философы
связывают душу с телом и помещают ее в него, не объясняя при этом,
в чем причина этой связи и каково состояние тела; однако такое
объяснение, думается, необходимо. Ведь именно в силу связи одно
действует, другое испытывает воздействие, одно приводится в
движение, другое движет, а такая взаимная связь не свойственна
вещам, случайно соединенным друг с другом. Эти философы
стараются только указать, какова душа, о теле же, которое должно
ее принять, они больше не дают никаких объяснений, словно любая
душа может проникать в любое тело, как говорится в пифагорейских
мифах. Между тем, по-видимому, каждое тело имеет присущую
лишь ему форму, или образ» (О душе. I 407Ь 15—25).
1 Лосев А. Ф., Тахо-Годи А. А. Платон. Аристотель. Серия ЖЗЛ. М.:
Молодая гвардия, 1993. С. 210-211.
2 Там же. С. 219.
8 Там же. С. 212.
КНИГА II. ГЛАВА 1. § 3. АРИСТОТЕЛЬ 411
Таким образом, Аристотель ставит вопрос о теле, которое
«должно принять» душу. Такая постановка, в самом деле, вносит нечто
новое в традиционный философский дискурс о связи души и тела.
Главный аргумент подобного подхода состоит в следующем: «Ведь
душа есть не тело, а нечто принадлежащее телу, а потому она и
пребывает в теле, и именно в определенного рода теле, и не так,
как наши предшественники приноравливали ее к телу, не уточняя
при этом, что это за тело и каково оно, тогда как мы видим, что
не любая вещь воспринимается любой» (О душе. II 414а 20-25).
Получается, что душу нужно «приноравливать» не к абы какому
телу, и даже не просто к телу, а к некоей «форме» или «образу»
тела, присущим лишь ему самому. Что это такое — пока не понятно,
но в будущем прояснится. Запомним пока, что есть какой-то «образ
принятия» телом души и, соответственно, в душе есть какая-то
«сноровка» внедрения в тело, соответствующая его «образу».
Чувствуется, что идея выхождения души из тела вызывает у
Аристотеля мизософский приступ, и он описывает это состояние
эпитетами «тягостно», «несообразно», «нелепо», «нечестиво» и т. д.
А. Ф. Лосев подчеркивает эмоциональную сторону оценки
Аристотелем основ платонизма: «По Аристотелю, Душа мира должна была
бы иметь унизительное существование, поскольку она приказывала
бы телу космоса двигаться не так, как ему свойственно по его
естеству, но по своему собственному произволению; и поскольку
тело совершенно отлично от души, то их гармония была бы только
чем-то случайным, так что сама душа была бы лишена всякого
блаженства и пребывала бы в вечных потугах и муках, вроде
мифического Иксиона в царстве смерти, принужденного за свои
грехи бесконечно вращаться вместе с огненным колесом, к которому
он прикован».1
Настаивая на неотделимости души от тела и, более того, на
имманентности души определенному телу, Аристотель все-таки
допускает некоторое исключение, идя на половинчатый компромисс
с Платоном. «Итак, душа неотделима от тела; ясно также, что
неотделима какая-либо часть ее, если душа по природе имеет части,
ибо некоторые части души суть энтелехия телесных частей. Но,
конечно, ничто не мешает, чтобы некоторые части души были
отделимы от тела, так как они не энтелехия какого-либо тела»
(О душе. II 413а 5-10).
Компромисс достигается за счет того, что Аристотель делит
душу по способностям — растительной, ощущающей, мыслящей.
Об уме как высшем состоянии мыслящей души уже говорилось в
первой части. Аристотель признает отделимость ума от тела, какие
бы противоречия не вносились при этом в его философию: «нет
1 Там же. С. 346.
412 Ю. M. РОМАНЕНКО. БЫТИЕ И ЕСТЕСТВО
разумного основания считать, что ум соединен с телом» (О душе.
III 429а 25).
Одна часть души, а именно ее высший модус — ум, может
отделяться от тела (при этом ум определяется как местонахождения
форм, что вполне платонистично), однако другими своими
«частями» душа все равно остается прикрепленной к телу. В первую
очередь это относится к растительной способности души. Учением
о ней Аристотель вносит нечто новое в платоновскую дихотомию
способностей души ощущать и мыслить. Этим нововведением
Аристотель находит последнюю соединительную нить, не позволяющую
окончательно оборваться связи души и тела. Если деятельность ума
есть совершенствование жизни, то активность растительной
способности души есть сохранение жизни одушевленного тела. Найдя в
душе особую способность, Аристотель поддерживает общеантичное
учение о душе как принципе самодвижения и жизни. «Ведь
растительная душа присуща и другим, [а не только растениям], она
первая и самая общая способность души, благодаря ей жизнь
присуща всем живым существам. Ее дело — воспроизведение и питание.
Действительно, самая естественная деятельность живых существ,
поскольку они достигли зрелости, не изувечены и не возникают
самопроизвольно (Аристотель предполагал самопроизвольное
возникновение живых существ из "гниющей" материи. — Ю. Р.), —
производить себе подобное (животное — животного, растение —
растение), дабы по возможности быть причастным вечному и
божественному. Ведь все существа стремятся к нему, и оно — цель
их естественных действий» (О душе. II 415а 25-30).
Это место трактата «О душе» отсылает к поясняющему месту
из трактата «О Небе». Природные существа стремятся уподобиться
вечному постоянству, присущему Небу. «Все, у чего есть дело,
существует ради этого дела. Дело бога — бессмертие, т. е. вечная
жизнь, поэтому богу по необходимости должно быть присуще вечное
движение. Поскольку же Небо таково (ведь оно божественное тело),
то оно в силу этого имеет круглое тело, которое естественным
образом вечно движется по кругу» (О Небе. II 286а 9—13). Забегая
несколько вперед, можно переименовать трактат «О Небе» в
уточняющее название — «О теле», привязывая его по смыслу к трактату
«О душе», что позволяет подойти к решению психофизической
проблемы с двух сторон. Действительно, аристотелевское Небо, о
котором речь впереди, и есть совершенное тело Космоса, и его душа
находится в нем самом, не выходя за его пределы, ибо там небытие
и хаос. В силу подобной мировоззренческой установки философию
Аристотеля не ошибочно было бы определить не как «упражнение
в умирании» (Сократ), а как «упражнение в жизнении» (каким бы
это слово не казалось неблагозвучным с непривычки). Ведь «дело
КНИГА IL ГЛАВА I. § 3. АРИСТОТЕЛЬ 413
Бога — бессмертие, т. е. вечная жизнь», а без тела жизнь может
быть только неиндивидуализированной.
Принципиальное определение души Аристотелем таково: «Итак,
душа есть причина и начало живого тела. ...Ведь все естественные
тела суть орудия души — как у животных, так и у растений, и
существуют они ради души. ...Превращение и рост также
происходят благодаря дуйте. Ведь ощущение есть, по-видимому, некоего
рода превращение, а то, что не имеет души, не ощущает. Так же
обстоит дело с ростом и упадком. Ведь не разрушается и не растет
естественным образом то, что не питается, а не питается то, что
не причастно жизни» (О душе. II 415Ь 8-25).
Формально Аристотель дает телу и душе в их соотношении
следующие оригинальные дефиниции: «По-видимому, главным
образом тела, и притом естественные, суть сущности, ибо они начала
всех остальных тел. Из естественных тел одни наделены жизнью,
другие — нет. Жизнью мы называем всякое питание, рост и упадок
тела, имеющие основания в нем самом (di'aytoy). ...душа необходимо
есть сущность в смысле формы естественного тела, обладающего в
возможности жизнью. Сущность же [как форма] есть энтелехия;
стало быть, душа есть энтелехия такого тела» (О душе. II 412а
12—22). Уточненное, законченное определение таково: «душа есть
первая энтелехия естественного тела, обладающего органами» (О
душе. II 412b 5). О том, каково естество тела, нужно припомнить
в «ката-мнезисе».
Ограничим анализ «психологических» аристотелевских
произведений, обозначив точку расхождения Стагирита с его учителем
и проследив первые его шаги на новом пути. В этом направлении
открылись большие перспективы для философского осмысления
природы. Поэтому для решения поставленной нами задачи
необходимо обратиться к корпусу естественнонаучных работ Аристотеля
с той целью, чтобы выяснить, что такое природа тела и какие
движения ему естественно присущи в его единстве с душой, а также
в возможной отделенности.
Вспомним, что Аристотель по происхождению принадлежал
славному роду врачей (его отец Никомах был целителем),
возводящих свою генеалогию к самому Асклепию — богу здоровья, который
научился воскрешать мертвых и за это был молниеносно наказан
Зевсом. Аристотель в глубине своего существа остался врачом и
перенес приемы лечебного искусства в философскую методологию.
Для него философия - это высший тип терапии, и не только души,
но и тела. Сократ тоже был целителем души и даже считал, что
смерть тела есть окончательное выздоровление души. Но можно ли
вывести из состояния болезни и душу, и тело, не сводя их к
взаимоисключению? И если да, то какими средствами это можно
Ill Ю. M. РОМАН EH KO. БЫТИЕ И ЕСТЕСТВО
выполнить и что в результате получается? Другими словами, что
такое абсолютное здоровье одушевленного тела и кто им обладает?
Здоров тот, кто не нуждается в лечении, а если уж заболел, то
способен излечиться сам. Здоровье — это один из синонимов
природы. Аристотель прямо так и говорит: «когда кто-то лечит самого
себя: именно на такого человека похожа природа» (Физика. II 199Ь
32—33). Правда, и болезни имеют источник в той же природе:
«Ошибки... могут быть и в творениях природы... вследствие
повреждения какого-нибудь начала» (Физика. II 199а 33 — 199Ь 8).
Однако на всякий возможный случай заболевания нормальный
организм может выработать противоядие, являясь своеобразной
внутренней фармацевтической фабрикой. Если же эта фабрика не
работает, то приходится изобретать фармакон на основе внешних
источников того же самого.
Интуиция двуединства безболезненного одушевленного тела, при
котором душа и тело оптимально связаны друг с другом и поэтому
неотторжимы друг от друга, нуждается в арифмологической
экспликации. Несмотря на то, что Аристотель отвергал бытие
гипостазированных чисел в пифагорейско-платоновском учении, сам он
отнюдь не пренебрегал арифмологическим методом. Критика
платоников велась по поводу неправильного применения арифмологии.
Именно для того, чтобы отмежеваться от установок платонизма,
Аристотель применил арифмологию для собственных целей: вывести
из «первой философии» (называемой им «теологией» — т. е.
«онтологией») «вторую философию» — т. е. «физику» как философскую
науку о природе: «что же касается учения о природе, то оно также
есть некоторая мудрость, но не первая» (Метафизика. IV 1005а
36- 37), хотя и не последняя. Мудрость в себе имеет свои уровни
и порядки вплоть до возможности применения к ней порядковых
числительных: «первая», «вторая» и т. д. Упорядочением мудрости
посредством чисел должна заниматься «арифмология» как ее
собственная дисциплина.
Если Ум-Перводвигатель, как персонификация единого бытия,
утверждается в аристотелевской онтологии (ноологии) в качестве
«первого» и «единственного», то существование «фюсис»
постулируется под знаком «двоицы». Вопрос о двоичности природы
Аристотель неоднократно поднимает в разных произведениях; в
частности, в «Физике» отмечается: «природа двояка: с одной стороны,
[она выступает] как материя, с другой — как форма, она же цель,
а ради цели существует все остальное...» (Физика. II 199а 30—34).
Эти две «стороны» (материя и форма) принадлежат одной и той
пер «поверхности», которой укрывается и раскрывается природа.
Выдвигая упрек в том, что «математика стала для нынешних
[мудрецов] философией» (Метафизика. I 992а 30-32), Аристотель
предлагает собственную трактовку роли и места арифмологии в
КНИГА И. ГЛАВА 1. § 3. АРИСТОТЕЛЬ 416
философском знании. Переход от онтологии к метафизике (в
терминах Аристотеля: от ноологии к физике) описывается им ариф-
мологически и топологически, обращая внимание на неделимую
двустороннюю поверхность укрытия природы в своем естественном
«месте». По видимости, критикуемые Аристотелем
предшественники трактовали этот вопрос аналогично. Но все-таки у них были
некоторые умолчания, которые Стагирит высветил.
Рассматривается данная проблема Аристотелем в девятой главе первой книги
«Метафизики» (где критикуется учение Платона об «идеях») и в
первой книге «Физики» (исследующей «начала»). Проанализируем
и проинтерпретируем эти тексты в указанном ракурсе.
В «Метафизике» Аристотель на основе логических соображений
отвергает гипотезу, устанавливающую самостоятельное
существование идей, ибо она «опрометчиво удваивает число вещей, которые
надо объяснить».1 Поэтому мир идей с его самодвижным
принципом — Мировой Душой — Аристотель заменяет Умом-Перводвига-
телем и природой как началами всего сущего: «эйдосы не имеют
никакого отношения к тому, что, как мы видим, есть значимая
для знаний причина, ради которой творит всякий ум и всякая
природа и которую мы признаем одним из начал» (Метафизика. I
992а 28-30).
Платоновское постулирование идей блокирует рассмотрение
вопроса о движении, следовательно, «в таком случае было бы сведено
на нет все рассмотрение природы» (Метафизика. I 992Ь 8).
Необходимо признать, что подобная критика самокритически
предвосхищалась Платоном в диалогах «Парменид» и «Тимей». По мнению
Аристотеля, «наука о природе» изучает движущееся тело, которое
выпадает из арифмологическо-топологических штудий
пифагорейцев и Платона. У них не конкретизирован переход из абстрактных
размерностей к цельному, живому и подвижному телу. Аристотель
добавляет: «Не дается также никакого объяснения, как существует
или может существовать то, что [у них] идет после чисел — линии,
плоскости и тела, и каков их смысл: ведь они не могут быть ни
эйдосами (ибо они не числа), ни чем-то промежуточным (ибо таковы
математические предметы), ни преходящими вещами...»
(Метафизика. I 992Ъ 12-17).
Предшественники Аристотеля «упустили» природу; она в
очередной раз ускользнула и от пытливых взоров интуирующих фи-
сиологов, и от калькулирующих пифагорейцев, и от
дискуссирующих софистов, и от диалектизирующего Платона. «Ведь в таком
случае искать истину — все равно что гнаться за неуловимым»
(Метафизика. IV 1009b 37-38).
1 Аристотель. Собр. соч. Т. 1. С. 523. (Содержание 9 главы 1 книги
« Метафизики » ).
416
Ю. M. РОМАНЕНКО. БЫТИЕ И ЕСТЕСТВО
Претензия диалектики на знание «всеединства» пресекается
Аристотелем, ибо «если есть некая наука обо всем существующем,
как утверждают некоторые, то человек, намеревающийся ее изучать,
раньше ее ничего не может знать» (Метафизика. I 992Ь 28-29).
Как Сократ и говорил: «Я знаю, что ничего не знаю», и можно за
него продолжить — а становлюсь знающим, когда вдруг стал
диалектиком. Аристотеля подобное не устраивает, так как с точки
зрения диалектики, помимо прочего, невозможно и знание о
«новом». Ведь если «всё» уже есть и оно «едино», то и «нового» не
получается. Кроме этого, диалектика как высший тип знания не
врождена человеку, поскольку «если бы оказалось, что нам такое
знание врождено, то нельзя было бы не удивляться, как же остается
незамеченным нами обладание наилучшим из знаний » (Метафизика.
I 993а 1-3). Этими словами Аристотель косвенно критикует теорию
«припоминания»: поводом и условием для потенциального
сомнамбулического «воспоминания» трансцендентного является
актуальное бодрственное восприятие имманентного.
С точки зрения последовательного эмпиризма и сенсуализма,
диалектика насильственно вгоняет во «всеединство» даже то, что
еще естественно не пережито в опыте, в том числе и в чувственном:
«как можно знать то, что воспринимается чувствами, не имея такого
восприятия?» (Метафизика. I 993а 6-7). Поэтому мгновенный
диалектический охват «всего» необходимо заменить поступательным
логическим изучением через «доказательство», «определение» и
«наведение» (индукцию). Слишком скоропалительным
представляется диалектический синтез и доказательство всеединства: «то, что
кажется легким делом, — доказать, что все едино, этим способом
не удается, ибо через отвлечение (ekthesis) получается не то, что
все едино, а то, что есть некоторое само-по-себе-единое, если даже
принять все [предпосылки]. Да и этого самого-по-себе-единого не
получится, если не согласиться, что общее есть род; а это в некоторых
случаях невозможно» (Метафизика. I 992Ь 9-13). Иначе говоря,
платоники, рассуждая о всеединстве, на самом деле трансцендируют
единое из всего, а не имманентизируют единое во всем.
Теория «всеединства» — диалектика, не подкрепленная теорией
природы и не формализованная логическими средствами, — остается
пустой, неэвристичной, недоказательной и потому ложной. Взамен
ей предлагается логический органон, являющийся
методологической и теоретической основой конкретных опытных наук,
призванных изучить природу в целом. Аристотель намеревается произвести
определенную научную революцию, предлагая новую
мировоззренческую парадигму и методологическую стратегию: «нужно им
объяснить и их убедить, что существует некоторая неподвижная
сущность (physis). Впрочем, из их утверждения о том, что вещи в одно
и то же время существуют и не существуют, следует, что все
КНИГА П. ГЛАВА 1. § 3. АРИСТОТЕЛЬ
417
находится скорее в покое, чем в движении; в самом деле, [если
исходить из этого утверждения], то не во что чему-либо измениться:
ведь все уже наличествует во всем» (Метафизика. IV 1010а 33—38).
Таким образом, по глубокому убеждению Аристотеля, вопрос о
естестве — существеннейшая проблема философии.
Завершая первую книгу «Метафизики», Аристотель резюмирует:
«Уже из ранее сказанного ясно, что все философы ищут,
по-видимому, те причины, которые обозначены нами в сочинении о
природе, и что помимо этих причин мы не могли бы указать ни одной.
Но делают они это нечетко. ...через их устранение мы найдем путь
для устранения последующих затруднений» (Метафизика. I 993а
11-27).
В аристотелевской архитектонике философского знания предмет
каждой дисциплины определяется критериями подвижности и
самостоятельности. Так, ноология изучает неподвижное и
самостоятельное (Перводвигатель), физика — подвижное и самостоятельное
(природа), математика — неподвижное и несамостоятельное (числа).
А какая философская наука должна заниматься подвижным и
несамостоятельным, и что это вообще такое? Оставим выяснение этого
вопроса на будущее, а пока обратимся к определениям природы,
данным в «Метафизике» и «Физике».
В седьмой главе седьмой книги «Метафизики» дается
обобщенное описание функций природы: «Вообще же природа — это и то,
из чего нечто возникает, и то, сообразно с чем оно возникает (ибо все
возникающее, например, растение или животное, имеет ту или
иную природу), и то, вследствие чего нечто возникает, — так
называемое дающее форму (kata to eidos) естество, по виду
тождественное возникающему, хотя оно в другом: ведь человек рожден
человеком» (Метафизика. VII 1032а 22-26). Необходимо запомнить
эту двуединую функцию природы — быть причинным источником
возникновения и «со-образовывать» возникающее с этим
источником.
В этой же главе устанавливаются способы возникновения: «Из
того, что возникает, одно возникает естественным путем, другое —
через искусство, третье — самопроизвольно» (Метафизика. VII 1032а
12-13). Искусственное возникновение инициируется формой,
присутствующей в душе: «А через искусство возникает то, форма чего
находится в душе (формой я называю суть бытия каждой вещи и
ее первую сущность)» (Метафизика. VII 1032b 1-2). Любопытно
допущение самопроизвольного (автоматического) возникновения —
«самопроизвольно и в силу стечения обстоятельств, примерно так
же, как это бывает и среди того, что возникает благодаря природе:
ведь и там иногда одно и то же возникает и из семени, и без
семени» (Метафизика. VII 1032а 28-30).
418 Ю. M. РОМАНЕНКО. БЫТИЕ И ЕСТЕСТВО
Четвертая глава пятой книги «Метафизики» (V 1014b 15 —
1015а 12) полностью посвящена рассмотрению основных значений
понятия «природа», коих насчитывается шесть:
Во-первых, «Природой, или естеством (physis), называется
возникновение того, что растет (как если бы звук "у" в слове physis
произносился протяжно)».
Во-вторых, «первооснова растущего, из которой оно растет».
В-третьих, «то, откуда первое движение, присущее каждой из
природных вещей как таковой».
В-четвертых, «Естеством называется и то, из чего как из первого
или состоит, или возникает любая вещь, существующая не от
природы, и что лишено определенных очертаний и не способно
изменяться собственной силой, например: медь изваяния и медных
изделий называется их естеством, а естеством деревянных —
дерево...»
В-пятых, «Естеством называют и сущность природных вещей,
например, те, кто утверждает, что естество — это первичная связь...
Поэтому и о том, что существует или возникает естественным путем,
хотя уже налицо то, из чего оно естественным образом возникает
или на основе чего оно существует, мы еще не говорим, что оно
имеет естество, если у него еще нет формы или образа. Естественным
путем, стало быть, существует то, что состоит из материи и формы,
например, живые существа и части их тела; а естество — это, с
одной стороны, первая материя... с другой стороны, форма, или
сущность; а сущность есть цель возникновения». Таким образом,
по Аристотелю, естество двусторонне — это и материя и идея
одновременно в единстве его обеих сторон. Мысль о естестве
движется в круге: материя идеи и идея материи.
В-шестых, «В переносном же смысле естеством называется —
по сходству с сущностью природных вещей — и всякая сущность
вообще, так как и сущность [искусственных вещей] есть в некотором
отношении естество».
В заключении IV главы дается итоговое определение «природы».
«Как видно из сказанного, природа, или естество, в первичном и
собственном смысле есть сущность, а именно сущность того, что
имеет начало движения в самом себе как таковом: материя
называется естеством потому, что она способна принимать эту сущность,
а возникновение разного рода и рост именуются естеством потому,
что они движения, исходящие от этой сущности. И начало движения
природных вещей — именно эта сущность, поскольку оно так или
иначе находится в них — либо в возможности, либо в
действительности» (Метафизика. V 1015а 14-19). Можно обобщить все
представленные дефиниции в резюмирующей формуле: естество есть
движение, вызванное сущностью (т. е. бытием). А поскольку
сущность определена самой собой, то естественное движение также
КНИГА II. ГЛАВА I. § 3. АРИСТОТЕЛЬ
419
зависит только от самого себя. Абсолютной сущностью, по
Аристотелю, является Ум-Перводвигатель, покоящийся в себе самом.
Но в этом покое обнаруживается собственное движение от себя к
себе в круговом процессе мышления мышления. В этом и
заключается естество Ума, отличающее его от искусственного интеллекта.
В данном смысле естество находится в пределах самого Ума, как
двоица содержится в единице, будучи порожденной делением Ума
на активную и пассивную ипостаси.
В «Физике» в основном дублируются определения природы,
данные в «Метафизике», за исключением немаловажного
добавления — введения в контекст рассуждений о природе понятия
«изменения» (метаболе). «Так как природа есть начало движения и
изменения, а предмет нашего исследования — природа, то нельзя
оставлять невыясненным, что такое движение: ведь незнание
движения необходимо влечет за собой незнание природы» (Физика.
Ill 200Ь 10-15). С помощью понятия «метаболе» Аристотель решает
ряд существенных проблем «природоведения», о чем немного позже.
Установив в «Метафизике», что основными началами всего
сущего являются Ум и Природа, Аристотель поставил цель — найти
адекватный метод исследования последней. Научное познание
(episteme) основано на выяснении причин (архе) и доказательном
рассуждении. В стихийной интуиции естества, захватывающей
фисиологов-досократиков в их процессе выслеживания природы,
были обнаружены перебои, или остановки, т. е. в процессе развития
этого метода имеются какие-то «задержки», обусловленные
двоичной структурой «фюсис» и стремлением ее к укрытию.
Неоднократные применения интуиции, причем с разных
ракурсов, приводят к накоплению фонда памяти, а это образует опыт.
Опыт в себе самом организуется, результатом чего являются
устойчивые структуры знания — своеобразные «фигуры памяти». Термин
«episteme» по своему буквальному значению и говорит как раз о
подобных «остановках» в «преддверии» природы.
В платоновском «Кратиле» Сократ предлагает следующую
этимологическую гипотезу происхождения слова «знание»,
правомочную если не с историко-лингвистической точки зрения, то, во
всяком случае, по смыслу: «Тогда давай посмотрим, выбрав сначала
из такого рода имен слово "знание" (επιστήμη). Ведь оно двойственно
и скорее, видимо, означает, что душа стоит (ϊστησις) подле (έπί)
вещей, нежели что она несется вместе с ними... Затем слово
"устойчивость" (τό βέβαιον) есть скорее подражание каким-то устоям
(βάσεις) и стоянию (στάσις), а не порыву. Так же и "наука" (ιστορία)
обозначает некоторым образом то, что останавливает течение реки
(ϊστησι τό ρουν). И "достоверное" (πιστόν), судя по всему, означает
стояние (ίστάν). Затем "память" (μνήμη) скорее всего указывает на
420 Ю. M. РОМАН EH КО. БЫТИЕ И ЕСТЕСТВО
то, что в душе унялись (μονή έστιν) какие-то порывы» (Платон.
Кратил. 437а-Ь).
После вышеприведенных этимологических изысков на ум
приходит слово «пришпоривание», выражающее и задающее образ
такой «остановки» в движении, которая не прекращает, а только
усиливает это движение за счет нахождения и стимулирования
основного его источника. Это интерамбула — парадоксальная
остановка, не замедляющая движение, а ускоряющая его —
неподвижное движение переступания через порог.
Подобно Платону, Аристотель истолковывает смысл слова
«episteme», указывая на его происхождение от предлога «epi» —
«на», «у», «при» и глагола «stenai» — «останавливаться»,
«воздвигать», откуда, между прочим, существительное «стазис» —
крепкое стояние, спокойствие, в противоположность «кинезису» —
движению: «...мыслительная способность познает и мыслит путем
успокоения и остановки ...когда душа становится спокойной после
[присущего ей] естественного беспокойства, возникает нечто
разумное и знающее. ...Унимается же и успокаивается [душа] в некоторых
случаях по своей природе, в других — вследствие иных
[обстоятельств], но в обоих случаях, когда нечто в теле испытывает
качественное изменение, как при использовании и деятельности
[знания], когда человек становится трезвым и пробуждается» (Физика.
VII 247Ь 10—248а 5). Душа допускается в тайну природы, лишь
когда успокаивает свое беспокойное движение и останавливается,
и тогда она естественно впускается в тело.
Такую же точку зрения Аристотель формулирует в контексте
его логических исследований во «Второй аналитике»: «Таким
образом, из чувственного восприятия возникает, как мы говорим,
способность помнить. А из часто повторяющегося воспоминания об
одном и том же возникает опыт, ибо большое число воспоминаний
составляет вместе некоторый опыт. Из опыта же, т. е. из всего
общего, сохраняющегося в душе, из единого, отличного от
множества, того единого, что содержится как тождественное во всем этом
множестве, берут свое начало искусство и наука: искусство — если
дело касается создания чего-то, наука — если дело касается сущего»
(Вторая аналитика. II 100а 3-10).
В соответствии с установленным значением термина «наука»
по-особому воспринимаются слова, открывающие трактат
«Физика»: «...в науке о природе надо попытаться определить прежде
всего то, что относится к началам. Естественный путь к этому ведет
от более понятного и явного для нас к более явному и понятному
по природе» (Физика. I 184а 15—17). В трансцендентальном переходе
от «понятного для нас» к «понятному по природе»
наличествует вышеупомянутая интерамбула, упорядочиваемая арифмологи-
чески.
КНИГА II. ГЛАВА 1. § 3. АРИСТОТЕЛЬ
421
Философское знание, в целом, структурно разграничено.
Рассмотрим в арифмологической последовательности, как Аристотель
типологически распределяет уровни и типы познания. В первую
очередь онтологический (ноологический) тип знания касается Ума-
Перводвигателя, и это есть знание единого бытия, достигаемое
«первой философией» (она же — «теология»). Но предмет знания
не сводится только к этому — «однако рассмотрение вопроса об
одном и неподвижном сущем не относится к исследованию природы»
(Физика. I 185а). Следовательно, существует иной тип знания,
благодаря которому познается «фюсис». Между обоими типами
знания проложена демаркационная линия и предусмотрены
возможные моменты и точки трансцензусов через границу с той и
другой стороны.
В первой книге «Физики», рассматривая проблему «начала»,
Аристотель как бы прокладывает переход от онтологии к
метафизике в оговоренном нами значении. Делается это посредством ариф-
мологического «исчисления» начал философского знания. В
соответствии с традицией началом всему является «единое». Однако
предшественники, по мнению Аристотеля, зашли в тупик, не
различая, что «ведь единое существует и в возможности и в
действительности» (Физика. I 186а 3). Следствием этого стала
неудовлетворительность решения ими проблемы «всеединства».
После «единого» необходимо переходить к иным арифмологи-
ческим числам: «Следуя по порядку, надо сказать, существует ли
два, три или более число [начал]» (Физика. I 189а 11). Аристотель
оговаривает сложность переходов между началами, помечаемыми
арифмологическими числами: «не может существовать ни один-
единственный элемент, ни больше двух или трех; решить же, два
их или три, как мы сказали, очень трудно» (Физика. I 189Ь 28-29).
Вводя понятие «субстрат» (гипокименон) в качестве одного из начал,
Аристотель представляет его уникальные арифмологические
свойства: «Субстрат по числу един, по виду же двойствен. ...Поэтому
можно говорить, что имеются два начала, но можно — что и три...
Таким образом, с одной стороны, начал не больше, чем
противоположностей, а если выразить числом, то два, с другой же стороны,
их не вполне два, а три, так как им присуще разное» (Физика. I
190Ь 24-37).
Труднопостигаемая связь между «началами», а именно между
«генадой», «диадой» и «триадой», была камнем преткновения для
предыдущих философов в их попытках определить значение
«фюсис» в реальности. После того как из «генады» (единого) выведена
«диада» — не нужно сразу же возвращаться к «генаде», а следует
предоставить «диаду» себе самой. И тогда обнаружится, что ее
противоположности составляют особые условия существования:
«ясно также, что что-нибудь должно лежать в основе противополож-
422 Ю. M. РОМАН EH КО. БЫТИЕ И ЕСТЕСТВО
ностей и что противоположных [начал] должно быть два. Но в
другом отношении это не необходимо: ведь достаточно, если одна
из противоположностей будет вызывать изменение своим
отсутствием или присутствием. Что касается лежащей в основе природы,
то она познаваема по аналогии» (Физика. Г 191а 4—8).
Балансировка на грани противоположностей диады разрешается
установлением триады, когда Аристотель переходит к
постулированию основных трех начал природы: «Итак, одно начало — этот
[субстрат] (хотя он не так един и существует не в том смысле, как
определенный предмет), другое же — определение и, кроме того,
противоположное ему — лишенность» (Физика. I 191а 12-20).
Аристотель вводит свои знаменитые три начала природы:
«форму» (morphe), «материю» (hyle) и «лишенность» (steresis).
Оригинальность построения этой триады заключается в признании
деятельного характера «лишенности» (отсутствия формы). Аристотель
вполне осознает важность этого нововведения, ставит его себе в
заслугу и через него объясняет заблуждения предшественников:
«Если бы указанный природный субстрат был ими замечен, он
устранил бы все их незнание» (Физика. I 191Ь 34—35). Но это
начало природы трудно заметить именно потому, что оно является
способом ее скрывания. Лишенность — это отсутствие, но такое,
которое оказывает влияние и вызывает реальные изменения у
присутствующего.
В завершающей девятой главе первой книги «Физики» ставятся
некоторые точки над «i» в полемике с платониками по вопросам
онтологической триады и «фюсисной» диады: «Прежде всего они
признают прямое возникновение из не-сущего (т. е. творение. —
Ю. Р.), поскольку [считают, что] Парменид говорил правильно.
Затем им кажется, что если [упомянутая природа] числом едина,
то она и в возможности только одна, а это большая разница. Мы
же со своей стороны говорим, что материя и лишенность — разные
вещи, из коих одна, именно материя, есть не-сущее по совпадению,
лишенность же — сама по себе, и что материя близка к сущности
и в некотором смысле есть сущность, лишенность же — ни в коем
случае» (Физика. I 192а 1-7).
Свое отличие от платоников по способу применения арифмоло-
гического метода Аристотель видит в следующем: «Так что этот
способ [получения] триады совершенно иной, чем нага: хотя они
дошли до [признания] того, что нужна какая-то лежащая в основе
природа, однако делают ее единой; ведь даже тот, кто берет [в
качестве основы] диаду, называя ее "большим" и "малым", все-таки
делает то же самое, так как другую [сторону этой основы] он не
заметил» (Физика. I 192а 9-13). При обратном переходе от диады
к генаде самостоятельность природы сохраняется в лишенности,
которую легче всего упустить из виду.
КНИГА II. ГЛАВА 1. § 3. АРИСТОТЕЛЬ
423
Исходя из подобного постулирования «начал», устанавливается
четкий водораздел в понимании источника зла: «Пребывающая
[природная основа] есть сопричина, наряду с формой, возникающих
[вещей] — как бы их мать; другая же часть этой
противоположности — тому, кто обращает внимание на причиняемое ею зло, —
зачастую может показаться и вовсе не существующей. Так как
существует нечто божественное, благое и достойное стремления, то
одно мы называем противоположным ему, а другое — способным
домогаться его и стремиться к нему согласно своей природе. У них
же выходит так, что противоположное начало [само] стремится к
своему уничтожению. И однако ни форма не может домогаться
самой себя, ибо она [ни в чем] не нуждается, ни [ее]
противоположность (ибо противоположности уничтожают друг друга). Но
домогающейся оказывается материя, так же как женское начало
домогается мужского...» (Физика. I 192 а 13-23).
Еще один пункт отличия между Платоном и Аристотелем
видится в резюме главы по поводу категории «материя»: «Что же
касается уничтожения и возникновения [материи], то в одном
смысле она им подвержена, в другом нет. Рассматриваемая как то, в
чем [заключена лишенность], она уничтожается сама по себе (так
как исчезающим здесь будет лишенность); если же рассматривать
ее как возможность [приобретения формы], она [не только] сама
по себе не уничтожается, но ей необходимо быть неисчезающей и
невозникающей» (Физика. I 192а 25-28).
Итог первой книги «Физики» заключается в следующих
положениях. Природа не творится и не творит из небытия, она неис-
чезающа и невозникающа, или просто — природа все порождает.
Как это происходит? Этому вопросу посвящена вторая книга, детали
которой мы прокомментируем в параграфе о М. Хайдеггере, а пока
в тезисной форме можно так охарактеризовать ее основные идеи.
Природно сущее имеет в себе самом источник движения, оно
самодвижно и себядвижно, будучи принципиально двойственным.
Естественное движение подразделяется на четыре типа:
перемещение, увеличение, уменьшение и изменение (метаболе). Естественное
движение отличается от искусственного тем, что оно имеет
самостоятельное происхождение — «врожденное стремление к
изменению».
В последнем выражении дается самое существенное и
оригинальное, что сказал Аристотель о природе, — она есть «врожденное
стремление к изменению» как первичная причина движения и
покоя; и то, что имеет это, существует согласно природе (kata
physin), т. е. естественно.
Истолкуем этот терминологический комплекс — «врожденное
стремление к изменению» параллельно хайдеггеровской
интерпретации. М. Хайдеггер в своей манере переводит словосочетание
424 Ю. M. РОМАНЕНКО. БЫТИЕ И ЕСТЕСТВО
«стремление к изменению» как «взламывание перепада»: «орме»
(стремление, импульс) понимается им как «взламывание», а
«метаболе» (изменение) как «перепад».1
Согласно первой главе второй книги «Физики», природно
сущему «вменен» импульс к изменению. Именно «вменен», а не
навязан насильственно: творение не есть насилие. Природно сущее
изначально двойственно, в то время как сотворенно сущее
принципиально единично и атомарно, по причине сотворения его из
небытия. Как совмещается единица и двоица? Естественность творения
заключается в инспирировании стремления, т. е. импульса в смысле
тенденции. Этот термин так и понимали в античности и
Средневековье, но с воцарением экспериментальной науки Нового времени
импульс (импетус) был заменен понятием «инерция» (буквально —
лень движения).
Эту тему развивает А. В. Ахутин: «Новая теория движения в
механике XVII века, можно сказать, возникла в тот момент, когда
принцип инерции освободился от "импетус"-формы, когда
прямолинейное движение в бесконечном пустом пространстве без «мест»
было понято не как "стремление" тела двигаться "по природе", а
как безразличное пребывание в состоянии движения, как
неизменность. Равно и состояние покоя не мыслится в таком случае как
естественно присущее телу пребывание на своем месте
(топологическое определение "фюсис"), покой оказывается понятием
относительным. Иными словами, тело безразлично к покою и движению.
Его "природа" сказывается как бы негативно, в характере изменения
состояния под действием внешней силы. В этом же действии
проявляется и "природа" действующей силы. Обнаружить "природу"
чего-либо нельзя в нем самом, но только через его действие вовне,
в другом, в изменении состояния иного».2
Выхождение природно сущего из себя вовне и возвращение
обратно — это и есть его «врожденное стремление к изменению».
Такое движение оказывается неподвижным, ибо оно происходит в
границе, отделяющей данное сущее от других сущих. Здесь нужно
только уточнить, что такая инерция не есть прямолинейное
движение в бесконечном пустом пространстве, а есть идеальное
вращательное движение по кругу. Выпрямление круга в линию — не
естественно, а искусственно. Вопрос о соотношении естества и
искусства — принципиален для понимания соотношения онтологии
и метафизики.
1 Хаидеггер М. О существе и понятии φύσις. Аристотель «Физика»
В-1. М.: Медиум, 1995. С. 42.
2 Ахутин А. В. Понятие «природа» в античности и в Новое время
(«фюсис» и «натура»). М.: Наука, 1988. С. 138-139.
КНИГА II. ГЛАВА 1. § 3. АРИСТОТЕЛЬ
425
Очевидно, техника изменяет природу, причем внешним образом.
Но это не могло бы быть, если бы сама природа изначально не
была изменчивой в себе самой. Но что такое — метаболе фюсис
(изменение природы)? Хайдеггер переводит это слово как
«перепад». Действительно, слово «мета-боле» состоит из приставки «мета»
(между, вместе, после, за, пере и т. д.) и корня «боле» (бросать,
кидать, метать, нестись, стремиться). Распределение значений
«метаболе» задает некий смысловой круг — «переменять»,
«поворачиваться», «закидывать назад». Перевод приставки «мета» означает
«после» и «за» только в пространственно-временном следовании.
Во вневременном и внепространственном же смысле «мета» означает
«вместе» и «сообща». Как, например, выражение μετά θεών — «с
помощью богов». Не только в мифическом, но и в философском
значении сохраняется подобный смысл слова «мета», не сводимый
только к внешним «за» и «после», употребленным формально
Андроником Родосским при составлении термина «метафизика».
В этом смысле возможна интерпретация метафизики не как
какой-то отдельной науки «выше» физики. Для исследования
природы достаточно самой физики. А метафизика есть описание
«перехода» или системы «переходов» внутри двоичной природы, все пути
которой сводятся к единому бытию.
На основании сказанного можно предложить такой перевод
термина «метаболе» — «со-в-падение», в котором семантизируется
префикс «мета» в значении совмещенности двоицы внутри единицы,
что представляется более адекватным, нежели хайдеггеровский
термин «пере-пад» и карповский термин «из-менение». Ведь целью
изменения и перепада чего-то во что-то является именно совпадение
этого в себе самом. Иными словами, природно сущее, будучи всегда
двоичным, совпадает с самим собой, имея себя как другого в
качестве цели и средства. Иначе говоря, природа способна сохранять
собственную двоичность потому, что ее моменты совпадают в ее
целостности, в то время как искусственно сущее, вырванное из
природы, имеет не «пере-пад», а «от-пад» (разрыв) между целью
и средством. Искусство творчески выделяет из двоицы одну
возможную единицу к бытию за счет уничтожения второй единицы.
Проблема заключается в том, чтобы научиться понимать и
применять искусство естественно. «Метаболе» в живом организме — это
гармоничное «биение» сердца; «метаболе» в машине — это «биение»
деталей друг о друга. Организм способен адекватно реагировать на
«пере-пад» давления в окружающей среде. Механизм безразличен
к этому.
Природно сущее, будучи пронизанным всеми стихиями,
принадлежа им, не растаскивается ими, ибо имеет силу «совпадать»
с самим собой на фоне безудержного их растекания. Живое существо
есть компромисс стихий — взаимообмен энергий.
426 Ю. M. РОМАНЕНКО. БЫТИЕ И ЕСТЕСТВО
У одушевленного тела в течение жизни может несколько раз
«измениться» (первое значение «метаболе») материальный состав,
и тем не менее, инаковея только во времени, оно остается себетож-
дественным «в границе времени», «совпадая» (второе значение
«метаболе») в каждый момент с самим собой. Этой «границей времени»
Аристотель называет момент «теперь», который соответствует
платоновскому моменту «вдруг»: «[тело] будет в некотором [состоянии]
не в течение какого-либо времени, а лишь в границе времени.
В [моменте] "теперь" [изменяющееся тело] хотя и находится всегда
в каком-либо [состоянии], но не покоится: ведь в [моменте] "теперь"
невозможно ни двигаться, ни покоиться» (Физика. V 239а 34 —
239Ь 2). Здесь снова возникает эффект интерамбулы.
Непосредственному осмыслению понятия «метаболе» посвящены
первая и вторая главы пятой книги «Физики». Сфокусировав
внимание на «изменении» (метаболе) как таковом, Аристотель,
оборачивая метод, сталкивается с вопросом о возможности «изменения
изменения». Такая установка открывает перспективы регресса в
«дурную» бесконечность (изменение изменения изменения ...), к
чему у Аристотеля выработалось стойкое неприятие.
Неопределенная линейная бесконечность всегда пресекается Аристотелем, так
как его мысль предпочитает замыкаться в круг: «если было бы
изменение изменения и возникновение возникновения, то получился
бы бесконечный ряд [изменений и возникновений]. ...А так как в
бесконечном нет ничего первого, то первого [возникающего] не
будет, а следовательно, не будет и следующего за ним; в результате
ничего не сможет ни возникать, ни двигаться, ни изменяться»
(Физика. V 225Ь 36 — 226а 7).
По первому впечатлению кажется, что «изменения изменения»
не существует: «нет ни движения движения, ни возникновения
возникновения, ни вообще изменения изменения» (Физика. V 225Ь
16-17). И все же это возможно в определенном смысле: «изменение
может изменяться только по совпадению» (Физика. V 225а 21).
Подобное допущение можно рассматривать в качестве оправдания
перевода «метаболе» как «со-в-падения». Этот тип «метаболе»
Аристотель отделяет от остальных типов изменений (превращений).
Отсюда следует, что «метаболе» как «изменение по еовпадению» (а
еще лучше сказать — «изменение в совпадении») определяет по
существу и абсолютно природу в ней самой, а остальные типы
изменений относительны. Сохраняющееся изменение в совпадении
неразлучных моментов двоицы естества (несмотря на их различен-
ность, а скорее, именно благодаря различенности) адекватно
воспроизводит единство бытия.
В силу двойственности «метаболе» как тип движения
представляется двумя взаимообусловленными противоположными
процессами: «анаболизмом» (подъем) и «катаболизмом» (сбрасывание
КНИГА П. ГЛАВА 1. § 3. АРИСТОТЕЛЬ
127
вниз), переведенных на латынь как «ассимиляция» (уподобление,
слияние, усвоение) и «диссимиляция» (расхождение,
расподобление). Энциклопедическая справка: анаболизм есть «совокупность
химических процессов в живом организме, направленных на
образование и обновление структурных частей клеток и тканей.
Составляет противоположную катаболизму сторону обмена веществ и
заключается в синтезе сложных молекул из более простых с
накоплением энергии. Наиболее важный процесс анаболизма, имеющий
планетарное значение, — фотосинтез».1 Катаболизм есть
«совокупность протекающих в живом организме ферментативных реакций
расщепления сложных органических веществ ( в т. ч. пищевых).
В процессе катаболизма происходит освобождение энергии,
заключенной в химических связях крупных органических молекул, и
запасание ее в форме богатых энергией фосфатных связей АТФ.
Катаболические процессы — дыхание, гликолиз, брожение».2
«Метаболизм» в современной науке означает то же самое, что и обмен
веществ, в процессе которого осуществляется развитие,
жизнедеятельность, самовоспроизводство организмов, их адаптация к
изменяющимся условиям окружающей среды. То есть естественная
жизнь в контексте целостного Космоса одушевленных тел.
В свете сказанного «метаболе» можно счесть существенным
определителем «метафизики» и даже ее синонимом. Переход от
физики к метафизике можно представить, таким образом (учитывая
то, что взгляд на фюсис всегда двоится — она как бы распадается
на две природы), основываясь на собственных намерениях
Аристотеля: «раз существует две природы, с которой из двух должен
иметь дело физик, или, быть может, с тем, что составлено из них
обеих? Но если с тем, что составлено из них обеих, то и с каждой
из них. Должна ли познавать ту и другую одна и та же [наука]
или разные?» (Физика. II 194а 17-19). Ответ Аристотеля прям:
«дело физики — познавать и ту и другую природу» (Физика. II
194а 27). Стало быть, физика, познающая и ту и другую природы
в их «совпадении» в двуедином Естестве, и есть искомая
«метафизика», отнюдь не выходящая куда-то за пределы природы,
поскольку выйти из природы можно, только войдя в другую природу.
«Физика», однобоко представленная «физикалистами», вынуждена
рассматривать природу без совпадения ее с самой собой, а поскольку
«метафизика» это учитывает, то понятен критический настрой в
ее адрес «сциентистов» и «позитивистов», запугивающих и
нагоняющих ложный страх: «Физика, опасайся метафизики».
«Физика» как «эпистеме фюсике» (научное знание о природе)
пытается «остановить» вечно движущуюся природу, у которой «ни-
1 Советский энциклопедический словарь. М., 1982. С. 53.
2 Там же. С. 556.
428
Ю. M. РОМАНЕНКО. БЫТИЕ И ЕСТЕСТВО
когда не иссякает возникновение и исчезновение». Остановка
движения разделяет последнее на два движения. Поэтому предмет
«Физики» раздваивается на две природы, каждая из которых
исследуется обособленно. Получаются как бы две науки «физики».
Это связано с трактовкой термина «эпистеме», которая и Платоном,
и Аристотелем понималась в арифмологическом смысле как
«двоица», а в топологическом — как «линия». Аристотель ссылается
на «Тимей»: «Ум есть единица, знание — двоица (так как оно
[стремится] к единству в одном направлении), мнение есть число-
плоскость, ощущение — число-телесное» (О душе. I 404b 22-24).
Знание-эпистеме, являясь двоицей, стремится к единству в одном
и только одном направлении, потенциально — в «дурную»
бесконечность. Поэтому-то наука всегда одностороння в своих выводах
и основана на гипотезах; она нуждается в «принципе
дополнительности» (почти по Н. Бору) изначально. «Совпадение» двух отдельных
«физик» и есть «Метафизика». В этом смысле М. Хайдеггер
совершенно прав, утверждая, что «физика», взятая в целом, тождественна
« метафизике ».
Метафизика не занимается какими-то «сверх-природными»
сущностями, поскольку природа есть «всё» в свете двоицы. Физика
есть самоценное арифмологическое структурирование «всего»
двоицей. «Сверхъестественное» означает простое «совпадение»
естественного в себе самом, если оно на самом деле естественно. А вот
как раз достичь естественности — наиболее трудное дело, для этого
необходимо усилие трансцендирования.
Противоположностью «метаболе» является «диа-боле». Поэтому-
то Аристотель с подозрением относится к «диа-лектике», ибо этот
метод расщепляет естественный процесс, приводя к отпадению одной
из частей живого целого в небытие. Нечестиво для души
культивировать этот метод, хотя она к нему и способна, отрываясь в
бесплодном умствовании от тела, оставляя его без попечения. Но
все равно, рано или поздно, душа рухнет обратно в тело, только
какое тело ее примет? Сумеет ли душа «совпасть» (метаболе) с
собственным телом после упражнений в диалектике, изменивших
ее до неузнаваемости? А какие упражнения в отместку1 должно
выполнять тело, чтобы все-таки «совпасть» с «зарвавшейся» душой?
Аристотелевский принцип неотделимости души от тела
конкретизируется определением природы как их «вмененного стремления
к совпадению» друг с другом. Да, душа и тело относительно
свободны, между ними существует сложная иерархия
взаимоотношений, и они могут «пере-падать» друг от друга в разные размерности
существования. Но даже в этих перепадах, как бы они не отдалялись
друг от друга, все равно они остаются в пределах целого и только
натягивают незримую нить, их скрепляющую. Душа и тело взаимно
«больны» друг другом.
КНИГА II. ГЛАВА 1. § 3. АРИСТОТЕЛЬ
429
Очевидна противоположность Платона и Аристотеля в их
решении психосоматической проблемы. Однако справедливости ради
нужно признать, что по этому пункту их нельзя жестко
разграничивать. Сама сложность предмета заставила их разойтись по разным
позициям. Оправданно предположить, что Платон и Аристотель
проводят один и тот же эксперимент, в котором проверяются
возможности одушевленного тела в его предельном развитии, но делают
это разными методами. И все же, если жизнь на всех одна и та
же, тогда результаты экспериментаторов должны «совпасть»! Душа
есть принцип жизни, но и тело по-своему также есть принцип
жизни. Античный миф «вечного возвращения» извещает о вечности
жизни. Несмотря на внешне отрицательное отношение к телесному
способу существования, Платон все-таки оставляет шанс для его
реабилитации.
А. Ф. Лосев подтверждает такую версию интерпретации,
критикуя некоторые односторонние трактовки платонизма: «Забывают
также и то, что для Платона бессмертна не только душа, но
бессмертно и тело души, хотя оно обладает разной степенью своей
плотности и тонкости, вплоть до того, что даже и сами боги обладают
особого рода телом, а именно эфирным телом, причем у богов душа
и тело "нераздельны на вечные времена" (Phaedr. 246d). Таким
образом, при всем глубочайшем различии души и тела, по Платону,
в последней глубине то и другое неразрывно связано между собою,
то и другое бессмертно, то и другое подчиняется судьбе, то и другое
не есть личность в собственном смысле слова».1 Глубинным
источником и гарантом этому, согласно Аристотелю, является природа,
врождающая телу и душе импульс сообразовывать свои изменения.
Косвенно такое предположение выразилось у Платона в мифе,
рассказанном в конце диалога «Государство» о загробной жизни от
лица воскрешенного Эра. В этом мифе важно обратить внимание
на два обстоятельства, разъясняет А. Ф. Лосев: «Во-первых, если
иметь в виду картину загробной жизни в "Государстве", то души
выбирают свою будущую жизнь не вообще, но только из тех образцов
жизни, которые предлагает им "какой-то прорицатель" (X 617а).
Что это за "прорицатель", у Платона здесь не сказано. Мало того.
Эти выбранные душами жребии осуществляются в практической
жизни душ вовсе не только ими самими, но под руководством
каких-то "стражей" (620 е). Что это за стражи, в данном случае
сказано, но сказано так, что дело опять сводится скорее к судьбе,
чем к личности».2
Лосев А. Ф. История античной эстетики. Итоги тысячелетнего
развития. Кн. I. М.: Искусство, 1992. С. 596.
2 Там же. С. 595-596.
430
Ю. M. РОМАН EH КО. БЫТИЕ И ЕСТЕСТВО
Интересно выделить некоторые детали этого мифа. Так, убитый
на войне Эр, приготовленный к погребению, — «вдруг ожил»! Очень
показательно употребление здесь знакомого диалектического
термина «вдруг». Оказывается, в этом диалектическом миге, где
осуществляется переход между бытием и небытием, возникает или
возобновляется жизнь в чудесном акте «совпадения» души со своим
же телом. «Он не знает, где и каким образом душа его вернулась
в тело. Внезапно (Sic! — Ю. Р.) очнувшись на рассвете, он увидел
себя на костре» (Платон. Государство. X 621Ь).
Случай Эра — исключение из общих правил метемпсихоза,
согласно которому души переселяются в другие тела. Однако это
исключение задает новый ряд правил, требующих пересмотреть
доктрину метемпсихоза и расширить ее до признания возможности
«вселения» души в свое прежнее тело, пусть и неузнаваемо
преобразованное в результате посмертных природных трансформаций.
Это условие негласно присутствовало и в традиционном варианте
метемпсихоза.
Данный миф, рассказанный Платоном, по логике вещей требует
продолжения, вызванного вопросом: а что случилось с душой и
телом Эра, когда он после своего чудесного воскрешения
(реанимации после клинической смерти) дожил до старости и умер
естественной смертью? Или он был воскрешен окончательно? А главное:
кем воскрешен? Продуктивное воображение требует дальше развить
сюжет этого мифа и извлечь из него все возможные логические
выводы. Однако Платон остановился на простой констатации.
Рискнем от лица Аристотеля доразвить этот миф, как если бы
сам Стагирит отпустил на волю свое воображение, ограниченное
только концептуальными конструктивными особенностями его
философии. Такой миф не может противоречить рациональной
структуре, содержанию и установкам аристотелевского учения, но должен
естественно возникать из него, заполняя пустоты рациональных
схем живой энергией чувств.
Любое конечное тело, встречающееся в обыденном опыте,
является микромоделью тела Космоса. Всякое тело, видимое
умозрительно, является таковым, каково оно есть, благодаря тому, что
оно воспроизводит, в той или иной степени, структуру и форму
самого Космоса. Микрокосм подражает макрокосму. Действенным
условием существования природной вещи является живая
целостность Вселенной. Вместе с этим не секрет, природные вещи
возникают, проживают отмеренный срок их существования и умирают.
Совпадение с образом вечного Космоса происходит с ними лишь в
избранные моменты, когда происходит «совпадение» формы и
содержания. Каково тело Космоса в спекулятивном представлении
Аристотеля? Оно являет собой Небо, гармонично удерживающее в
своих крепких границах живую поднебесную область, со всей ее
КНИГА II. ГЛАВА J. § 3. АРИСТОТЕЛЬ
431
хаотической подвижностью и многообразием. Об этом уведомляет
аристотелевский трактат «О небе», где описывается состояние
движения совершеннейшего тела.
Собственно говоря, телом (целым, законченным, как таковым)
обладает один Космос, а находящиеся в нем квазицелостные
образования лишь напоминают тело или могут называться таковыми,
только будучи причастными первому Телу, а вообще — это недо-
тела. В том числе и человеческое тело — тело в возможности, что
тем не менее можно отнести не к минусу, а плюсу: остается шанс
развиваться.
Арифмологическая экспликация Тела Космоса заимствуется
Аристотелем у пифагорейцев: «Ибо, как говорят пифагорейцы,
"целое" (to pan) и "все" (ta panta) определяются через число три:
начало, середина и конец составляют число целого, и при этом троицу.
Вот почему, переняв у природы, так сказать, ее законы, мы
пользуемся этим числом при богослужениях» (О небе. I 268а 11—15).
«Всё» является атрибутом или существенным предикатом
«троицы». В отношении «двоицы» предикат «всё» утвердительно не
приписывается. И понятно почему: «два [предмета] мы называем
"оба" и двоих [человек] — "обоими", а "всеми" не называем, и
лишь о трех [вещах] мы впервые утвердительно высказываем этот
предикат. В этом, как уже сказано, нами предводительствует сама
природа, и мы следуем за ней» (О небе. I 268а 16-20).
«Троица» задает арифмологический предел «двоице» таким
образом, что двоичная природа в своей реализации естественно
производит внутри себя третий элемент и тем самым завершается
образование системы — цель достигнута. Двоица — это «всё» лишь
на время (она и есть само время), восходя в вечности в «троицу».
Результатом, уже всегда данным, а значит, и началом, выступает
целое тело: «тело — единственная законченная величина, ибо одно
только оно определяется через число три, а "три" равнозначно
"целому"» (О небе. I 268а 23-25).
Если целостность тела определяется через число три, то
одушевленное тело выражается четверицей. Конкретный опыт живого
существа протекает в четырехмерном пространственно-временном
континууме. Аристотель восходит к четверице, знаменующей во-
площенность идеального Космоса, следуя пифагорейско-платонов-
ской традиции, сохраняющейся на протяжении всей истории
философии. Так, к примеру из новейшей метафизики, А. Шопенгауэр
тоже «дошел до четверицы», предпослав в качестве эпиграфа к
трактату «О четверояком корне закона достаточного основания»
пифагорейскую клятву: «Тем поклоняемся, кто нашей душе
сообщил четверицу, // Вечно текущей природы источник и корень».
Четверица есть число спекуляции — отражения в движущейся
природе покоящегося бытия.
432 Ю. M. РОМАНЕНКО. БЫТИЕ И ЕСТЕСТВО
Четверица у Аристотеля представлена в учении о четырех
причинах, на основе которых была выведена десятичная система
категорий, в соответствии с пифагорейской «дедукцией» десятерицы
из четверицы посредством слагания всех составляющих ее чисел.
Эта четырехпринципная структура и категориальная десятичная
система стали в философии Стагирита теоретической формой
истинного познания целостного Космоса.
В философской системе Аристотеля учение о Небе стоит между
онтологией (учением об Уме-Перводвигателе) и «наукой о природе».
Небо есть «отелесненный» Ум-Перводвигатель. Задавать вопрос о
локализации Перводвигателя — абсурдно, особенно со стороны
существ, обладающих недо-телом и не способных в себе найти
аналогию первого Тела. Перводвигатель везде и нигде.
Противоречивость подобного вопроса обусловлена и тем, что первое тело одно
и едино, а находящиеся в нем конечные тела, не будучи в силах
совместиться с ним и стать им (занять его место), естественно
раздвоены: «Из тел, относящихся к разряду частей [мирового
Целого], каждое, по определению, законченно, ибо имеет
протяженность во всех измерениях. Однако [каждое] ограничено в
направлении соседнего с ним [тела] касанием, и потому каждое из [этих]
тел в каком-то смысле ущербно» (О небе. I 268Ь 6-9). Эту
«ущербность» нужно понимать не абсолютно негативно, а как вид
«лишенности», имеющей в концепции Аристотеля позитивное
категориальное значение. «Между тем Целое (to pan), частями которого
они являются, по необходимости должно быть законченным и —
как указывает его имя — всецело (pantei) законченным, а не так,
чтобы в одном отношении законченным, в другом — нет» (О небе.
I 268Ь 9-12).
Граница внутри двоицы Естества, всецело заключенная в троице
Космоса, воспринимается «касанием» (критерий истинности и
достоверности, согласно гносеологии Стагирита). К Перводвигателю
прикоснуться нельзя, он — неприкасаем ни снаружи, ибо там —
небытие, ни изнутри, ибо здесь сущее уже раздвоено и вынуждено
касаться с таким же сущим, но иным себе. Кроме этого, к
Перводвигателю невозможно «прикоснуться», поскольку именно он дает
первый импульс (энергию) касания, которое и является «перво-
движением». Все остальные виды движения идут от него к нему.
Стремясь прикоснуться к Перводвигателю (а это стремление
естественно — как «вмененное стремление к совпадению»), внутрикос-
мическое существо не может этого сделать, ибо в противном случае
оно бы стало вдруг еще одним Перводвигателем, что привело бы к
синергийной встрече двух Перводвигателей. И все-таки, не имея
возможности прикоснуться к Перводвигателю по «первому разу»,
природно сущее способно прикасаться к нему во «втором разе»,
прикасаясь к иному себе так, что граница «формы» одного элемента
КНИГА II. ГЛАВА 1. § 3. АРИСТОТЕЛЬ 433
двоичной системы совпадает с границей «лишенности» другого и
обратно. Так осуществляется креативный акт лепки единого тела
бытия.
Такое взаимокасание, представляемое с точки зрения арифмо-
логии «единого» как «синергия», с точки зрения арифмологии
«двоицы» фюсис можно определить как «сращение» (symphyia —
симфийа) — сращивание прикасаемых поверхностей. Этот термин
используется Аристотелем как ключевой в дефиниции «фюсис»,
будучи этимологически производным от ее корня — «расти».
Аристотель пишет: «А о естественном росте говорится относительно того,
что увеличивается через иное посредством соприкосновения и
сращения или прирастания, как это бывает у зародышей. Сращение
же отличается от соприкосновения; в последнем случае не
необходимо, чтобы было нечто другое, помимо соприкосновения, у
сросшихся же вещей есть нечто одно, тождественное в них обеих, что
сращивает их, вместо того чтобы они только соприкасались, и
делает их чем-то единым по непрерывности и количеству, но не
по качеству» (Метафизика. V 1014b 20-26). В этом фрагменте
Аристотель по существу дает очередное определение фюсис — «нечто
одно, тождественное в обоих, что сращивает их».
Если первый импульс к возникновению вещи дается Перводви-
гателем, являющимся необходимым условием, то достаточным
условием выступает симфийная сила фюсис: «срастание бывает
последним в возникновении» (Физика. V 227а 25), — это не начальный
импульс, а завершительно-целевой.
Границей сращения является то, что Аристотель называет
«субстратом» изменения (метаболе). Понятию «субстрат» (гипокейме-
нон) следует посвятить особую интерпретацию. Буквально это слово
переводится как «подлежащее», а еще точнее — «подстилка», в
отличие от слова «субстанция» (греч. — усия) — «подставка».
Глагол «substerno» означает: подстилать, подкладывать, расстилать,
распростирать, покрывать и т. д. А корневой глагол «sterno» имеет
следующие значения: стлать, растянуться (всем телом), ложиться,
покрывать попоной, седлать, выравнивать, успокаивать.1
Производное от «sterno» слово «strages», указывающее на «падение»,
«обвал», «разрушение», «опустошение», «разорение», напоминает по
смыслу аристотелевский термин «steresis» (лишенность), не
случайно понимаемый Хайдеггером как «ограбление».
Греческое существительное to hypokeimenon, переведенное на
латынь как «субстрат», произведенно от глагола ύπό-κειμαι —
лежать или находиться под чем-либо (внизу), а в изначальном смысле
глагол κείμοα значит не только «лежать», но «вообще находиться,
1 Двореикии И. X. Латинско-р\'сский словарь. М.: Р\'сский язык, 1976.
С. 953.
434 JO. M. POMAHEHKO. БЫТИЕ И ЕСТЕСТВО
быть»,1 отличаясь от других языковых средств выражения
«бытия» — einai (просто быть), stenai (быть-в-стоянии), poleo (быть-во-
вращении). Этимологически более точным соответствием глаголу
«keimai» является глагол «quiesco» — покоиться, спать, отдыхать,
бездействовать, допускать.
Итак, субстрат — это «подстилка». Появляются вопросы: что
«застилается», чем «застилается» и для кого «застилается»? Прежде
всего нужно отметить, что Аристотель исходит из двоякого
представления о «подстилке» — природной и искусственной. С
искусственной подстилкой более или менее понятно. Вещи типа «ложа»,
«плаща», «покрывала», «щита», «повозки», «корабля», «дома»,
«стола» (кстати, русское слово «стол» произошло от глагола
«стлать»), упоминаемые в начале второй книги «Физики»,
«образованы искусственно»; это — поделки (по выражению Хайдеггера),
не имеющие «вмененного стремления к изменению». Они
произведены искушенным умельцем хотя и из природного материала,
составляя как бы вторую природу (культуру), но назначение их —
отделить своих пользователей от подлинной природы, оставив
возможность только прикасаться моментам двоицы, но не сращиваться.
Искусственные подстилки только наполовину природны; некто,
субъект техне, сумел творчески расщепить двоицу «фюсис» и
противопоставить одну ее часть другой так, что в образовавшемся
зазоре возникла пауза для «отдыха» от воздействия на субъект
природных стихий, расширился диапазон его безопасного
существования. Так субъект создает себе зону укрытия, заимствуя без
спроса у природы ее имманентную энергию скрываться.
Человек, производя искусственные вещи, «застилает» ими от
себя природу ради «комфорта». Искусственные предметы как бы
насильственно вырваны из естественного природного течения, и
чтобы природа их опять не поглотила, они как бы «перевернуты»
наизнанку природе (para physin — вопреки природе или
противоестественно). Это уже не пере-пад мета-боле, а пере-ворот диа-боле.
Техне диа-лектически распоряжается фюсис, инвертируя отношение
к ней человека — существа, которое одновременно природно и
искусственно (ибо сотворено). За такое отношение к природе
человеку приходится расплачиваться.
Но природа «спокойно» относится к такому к себе отношению
(покамест!), даже попускает его, поскольку в ней самой есть
собственный «субстрат». Она «застелена» в себе самой. Только понять
это и выразить крайне сложно, почти невозможно. От бессилия
осуществить это даже возникает... смех! Аристотель так и пишет:
«А пытаться доказывать, что природа существует, смешно, ибо
очевидно, что таких предметов много. Доказывать же очевидное
1 Веисман А. Д. Греческо-русский словарь. М., 1991. Стб. 697, 1291.
КНИГА II. ГЛАВА 1. § 3. АРИСТОТЕЛЬ J3Ö
посредством неявного свойственно тому, кто не способен различать,
что понятно само по себе и что не само по себе» (Физика. II 193а
14-17).
Но почему все-таки смешно доказывать существование естества?
Почему именно смешно, а не, скажем, грустно, досадно, противно
и т. п.? Да потому, что это было бы равнозначно, как если бы
кто-то вознамерился доказывать себе свое собственное
существование перед самим же собой. Овчинка выделки не стоит. Смех
возникает тогда, когда малое имитирует великое и претендует на его
место, а от этого случается конфуз. Смешно это доказывать оттого,
что субъект доказывания в таком случае должен был бы из себя
выставить перед собой зеркало и, узнав в нем «себя любимого», —
удивился бы и расхохотался. Впрочем, в других случаях можно и
расплакаться, подобно Гераклиту.
Через понятие «субстрат» Аристотель вводит в метафизический
дискурс метафору зеркала, благодаря чему его метод отношения к
природе становится спекулятивным. Метафора «зеркала» очень
фундаментальна для понимания сути природы, но при этом необходимо
различать искусственное зеркало и естественное. Искусственное
зеркало, как техническая «подстилка», которым мы пользуемся в
обиходе, есть уже изначально перевернутое отражение и
изображение того, кто в него глядится. Поэтому здесь левое становится
правым и наоборот. Известно, что новорожденный ребенок видит
мир «перевернутым», и только потом, после научения привычкой,
он как будто бы начинает видеть «правильно».
Искусственное зеркало — лишь отрывок (осколок) естественного,
и как таковое оно «застилает» от природы глаза глядящегося в
него и делает видимым только остановку природного движения.
Взгляд в такое зеркало делает невидимой всю природу, фокусируясь
только на ее половине. Упражняющийся в телодвижениях перед
зеркалом, рефлектируя над этим, перенастраивает левое на правое
и лишает себя возможности произвести естественное движение.
Искусственное зеркало мертво (в лучшем случае — полуживо), и
оно существует как негативный знак того, что не может не быть
живого зеркала, которое есть сама природа. Как можно понять и
увидеть природу как зеркало? Только догадавшись применить в ее
исследовании спекулятивный метод, переходя от «понятного и
явного для нас», односторонних, к «понятному и явному по
природе» — видя в ее двусторонней границе единое и неделимое бытие.
Ум, спекулятивно мыслящий самое себя, адекватно отражается в
природе как своем «живом зеркале».
Сущностный характер фюсис Аристотель выражает так:
«Природой обладают в себе все [предметы], которые имеют указанное
начало. И все такие [предметы] — сущности. Ибо каждый из них
есть какой-то субстрат, а в субстрате всегда имеется природа»
436
JO. M. POMAHEHKO. БЫТИЕ II ЕСТЕСТВО
(Физика. II 192b 32-35). Сущностью (he oysia) является конкретно
данный здесь и теперь вот этот целостный единичный предмет.
Любая сущность имеет свою собственную природу, субстрат,
представляющий собой двустороннюю поверхность, «стелящую» границу
данной вещи и делающую ее таким способом сущностью. Иначе
говоря, сущность есть вещь «застеленная», а потому не сводимая
ни на что иное, кроме самое себя, и именно таким образом в ней
имеется природа.
Сущность, как черепаха, носящая на себе свое укрытие-панцырь,
застелена субстратом, как неким зеркалом, отражающим ее «от-вне»
к ней самой. Именно благодаря этому, а также благодаря ее
самодеятельной подвижности такая сущность может отразиться, уже
вторично, и во внешнем зеркале. Если же это не сущность, имеющая
природу, то она не явится даже в постороннем зеркале и не отбросит
тень. И по этому критерию, как известно, можно обнаружить беса.
В контексте психосоматической проблемы спекуляция разрешает
вопрос о связи души и тела. Душа есть зеркало тела, но это не
значит, что тело отстраненно пред-стоит на некоторой дистанции
перед своим отражением. Нет, тело, простираясь и располагаясь в
полном своем объеме, «застилает» обратную сторону своего зеркала-
души, создавая его отражательную способность. Поэтому-то, по
Аристотелю, душа неотделима от тела. Ведь если не будет обратной
затемненной стороны зеркала, то не будет и лицевой видимой
стороны. Душа неотделима от тела так, как лицевая сторона зеркала
от обратной. Убери одну из них — не станет зеркала и того, что
видимо в нем, т. е. не станет ни тела, ни души. Ибо что это за
душа, если она не может исполнять свои прямые функции. А по
Аристотелю — все существует ради своего дела. Получается, что
душа и тело есть зеркала друг для друга, или, выражаясь иначе,
их правильное расположение создает возможность их зеркального
взаимоотображения, т. е. спекуляции.
Спекулятивный метод примиряет всю остроту разногласий
между Платоном и Аристотелем в вопросе о соотношении души и тела.
У Платона в «Тимее» (34Ь-с) описывается спекулятивная модель
Космоса, заключающаяся в том, что демиург помещает душу в
центр тела, а затем простирает ее вовне и облекает ею тело.
Благодаря этим действиям возникает эффект спекуляции и создается
«небо, кругообразное и вращающееся, одно-единственное, но
благодаря своему совершенству способное пребывать в общении с самим
собою (созерцать отражение себя в своем естественном зеркале. —
Ю. Р.), не нуждающееся ни в ком другом и довольствующееся
познанием самого себя и содружеством с самим собой». Фиксируя
связь тела и души, Платон все-таки отдает первенство последней,
в силу чего она сохраняет свою свободу и управляющие функции
по отношению к телу.
КНИГА II. ГЛАВА 1. § 3. АРИСТОТЕЛЬ
437
Платон обнаружил, что душа отражает тело (а это значит, что
душа уже каким-то образом вышла из тела), результатом чего
является его эйдос (буквально — вид), данный на экране зеркала
(и кажется первоначально, что эйдос принадлежит зеркалу и только
ему, т. е. душе). Это факт, открытие чего заслуженно приписывается
Платону. Достаточно много говорили и писали о платоновской
«идее» и о том, «видом» чего она является. Но пора спросить: а
кто «видит» этот вид? И с какой позиции наблюдения?
Из достигнутого пункта понимания становится ясно, что видит
«вид» тела само же тело, причем то же самое. Это не два
изолированных тела, а одно (так как сущность одна); просто тело —
протяженно (и, по Канту, это высказывание является чистым
примером аналитического суждения: протяженность — неотъемлемый
атрибут телесности). А откуда и докуда протяжено тело, теперь
стало понятным. Душа, будучи своеобразным зеркалом, дает
возможность телу видеть самого себя в движении его собственного
протяжения, импульс чему задает природа. Поэтому душа является
принципом самодвижности и жизненности.
Неподвижное тело мгновенно исчезает с экрана зеркала. Такое
иногда случается — зеркало вдруг становится «пустым». Это
означает, что душа в экстазисе оторвалась от тела. Полностью или
нет? — в этом вопросе суть спора Платона и Аристотеля. Последний
упрекает учителя, что тот не обращает внимания на обратную
сторону зеркала («лишенность»!), не видя, что душа «запала» в
«Зазеркалье», утешаясь воспоминаниями-иллюзиями.
Душа, проявляя своеволие, может вырваться «вдруг» из тела,
захватив с собой его образ (но уже не «эйдос», а «эйдол» — идол),
пользуясь им какое-то время по своему усмотрению, пока тело не
опомнится и не начнет жить (вернее — доживать) по своим законам.
Но недолог срок созерцания оторвавшейся душой эйдолов,
«ограбленных» у тела. Они гаснут сами собой, в то время как в оставленное
тело начинает исподволь внедряться стихийный вихрь. Душа
забудет эйдолы, смываемые водой реки Леты, не позже, чем тело
разложится на природные элементы, но и не раньше. Тогда наступит
черед тянуть жребий, по которому душу насильственно в наказание
за проявленное своеволие присудят к иному телу.
Опыт экстатика можно определить как манию искусственного
зеркала. Практической формой этого является деятельность
демиурга, заключающаяся в своеобразной магии — вызывании к
существованию вещей путем «застилания» косной (непрозрачной)
материи «вечными» зеркалами-идеями. Для того, кто непроизвольно
оказался вовлеченным в эту манию, вырваться из-под ее власти
оказывается очень сложно. Но Аристотелю тем не менее удалось
это сделать. Исходным пунктом движения своей мысли он взял
двойственность фюсис, а не дуализм «идей» и «вещей».
438
ГО. M. РОМАНЕНКО. БЫТИЕ И ЕСТЕСТВО
Представить подобное сложно тому, кто испортил себе мышление
упражнением перед искусственным зеркалом и приучил свои органы
двигаться сообразно этому. Привычка, при первом рассмотрении,
казалось бы, не вредная, но в отдаленной перспективе грозящая
катастрофой — катоптрострофой — разбиением тотального зеркала
неестественно разогнавшимся дезориентированным телом.
Весь пафос аристотелевского умозрения направлен на то, чтобы
обратить внимание на деятельную роль «фюсис». Необходимым, а
не только достаточным условием видения вещи-сущности в зеркале
является не только ее статуарная пред-ставленность, но и
естественная подвижность — еле уловимая, микроскопическая, не
замечаемая специально, как не замечают в здоровом состоянии все
организменные процессы: от пульса до пищеварения.
Из всего вышесказанного можно вывести следующий постулат:
абсолютно неподвижный предмет принципиально невидим (право
на это у Аристотеля имеет только Ум-Перводвигатель).
Дополнительно этому имеется еще один постулат: абсолютная подвижность
также принципиально невидима, будучи размазанной в поле зрения
(этим свойством обладают четыре известных рода стихий,
образующих исходную природную четверицу. Действительно, видимым
являются только границы стихий и их смеси). Гармония стихий —
это здоровье, а здоровье — это самонастройка организма по только
ему ведомым признакам. Помогает в этом душа, если она не
намеревается отделиться от тела. В противном случае на сущность
наваливаются болезни, причем двоякого рода — психические и
соматические.
Из этих двух постулатов получается, что и Ум-Перводвигатель,
и природа, будучи принципиально невидимыми, непознаваемы.
Значит ли это, что ни физика, ни метафизика, ни онтология не
возможны как опытные науки? Нет, Аристотель в этом вопросе
оптимист, предлагая определенный выход из данной тупиковой
ситуации. Сделать невидимое видимым и, следовательно,
познаваемым можно только спекулятивным способом: заметить невидимый
Ум-Перводигатель можно в невидимом зеркале природы, нужно
только правильно научиться смотреть в это зеркало.
В «Латинско-русском словаре» И. X. Дворецкого дается
школьное философское выражение: Aristoteles primus species
labefactavit — Аристотель первый поколебал теорию идей
(Платона).1 Словом species переводится слово «эйдос» (веер значений
которого разбросан так: зрение, взгляд, внешность, образ, призрак,
представление, понятие, идея, идеал, образец, вид и т. д.). Уже
сам перечень значений создает круг между интуицией и логическим
дискурсом. В истории философии постоянно повторяется эта бес-
1 Дворецкий И. X. Латинско-русский словарь. С. 944.
КНИГА П. ГЛАВА I. § 3. АРИСТОТЕЛЬ
439
спорная фраза: да, Аристотель первый поколебал теорию идей. Это
все заучили. Но, вдумавшись глубже, из этой фразы можно выудить
смысл, поясняющий, как это было сделано. А именно: Аристотель
указал, что видимый (specto, optos) образ (species, eidos) в зеркале
(speculum, katoptron) принадлежит телу (corpus, soma),
«колеблющемуся» от природы (natura, physis). Только благодаря этому тело
может, как сказали бы раньше римляне, speculo placere — встретить
одобрительный отзыв зеркала. Так Аристотель «поколебал»
Платона. А колебания, как известно, вызывают тошноту от
нетренированности вестибулярного аппарата тела при гипертрофированнос-
ти оптического аппарата души. Платон верно указал на какие-то
«потрясения», «судороги», «вздроги» и «вдруги» тела, но
избавиться от этих болезненных состояний нужно не отрешенностью души,
злоупотребляющей фармаконом, а упражнением соответствующего
телесного органа. Неправильное употребление в познании «умного
зеркала» может привести к двоякого рода ошибкам: регрессии в
«дурную» бесконечность увеличивающихся без основания
«сущностей» (ментальных образов) и агрессии сущности в отношении к
иному себе, что в сумме приводит к солипсизму.
Вопрос стоит, ни много ни мало, о судьбе самого Космоса.
Поэтому Аристотель начинает с починки космической модели.
Естественная зеркальность «фюсис» воплощена в теле Космоса,
каковым является Небо. Аристотель выделяет три значения термина
«небо»: «[а] В одном смысле мы называем небом субстанцию крайней
сферы Вселенной или естественное тело, находящееся в крайней
сфере Вселенной, ибо мы имеем обыкновение называть небом прежде
всего крайний предел и верх [Вселенной], где, как мы полагаем,
помещаются все божественные существа, [б] В другом смысле —
тело, которое непосредственно примыкает к крайней сфере
Вселенной и в котором помещаются Луна, Солнце и некоторые из звезд,
ибо о них мы также говорим, что они "на небе", [в] А еще в одном
смысле мы называем Небом [все] тело, объемлемое крайней сферой,
ибо мы имеем обыкновение называть Небом [мировое] Целое и
Вселенную. Так вот, Небо в последнем из трех значений, которые
оно имеет, — в смысле [мирового] Целого, объемлемого крайней
сферой, — по необходимости должно состоять из всего естественного
и чувственного тела, так как вне Неба нет и не может оказаться
никакого тела» (О небе. I 278Ь 10-25).
Обратим внимание на то, что в этих определениях Аристотель
Настаивает на единстве и единственности Неба — «это Небо одно,
единственно и в полноте своей совершенно» (О небе. I 279а 11-12), —
Но тем не менее находит в нем два тела — «естественное» и
«чувственное». Каково взаимоотношение этих двух тел? В статике
На этот вопрос невозможно ответить. Решать проблему нужно
динамически, беря Космос в движении, которое является вечным.
440 ΙΟ. Μ. РОМАНЕНКО. БЫТИЕ И ЕСТЕСТВО
Очевидно, что первое и второе тело отражаются друг в друге. Но
как это происходит?
Во второй главе второй книги трактата «О небе» исследуется
возможность применения отношения «правое—левое» к Небу в
целом. Аристотель допускает такую возможность вслед за
пифагорейцами и идя на половинчатый компромисс с платоновским
учением о Мировой Душе. «Поскольку же некоторые утверждают, что
у Неба есть право и лево, — я имею в виду так называемых
пифагорейцев, так как именно им принадлежит это учение, — то
необходимо рассмотреть, как обстоит тут дело, в случае если телу
Вселенной следует приписывать эти начала, — так ли, как они
говорят, или же как-то иначе» (О небе. II 284Ь 6-12).
Отличие «правого» и «левого» и другие фундаментальные
зеркальные оппозиции присущи самодвижным и одушевленным телам,
причем самодвижение изначальным образом вращательно, что
исходно и задает различные топологические противоположности.
Генетический код внутренного роста живого имеет, как известно,
форму двойной спирали. «Поэтому не во всяком теле следует искать
верх и низ, право и лево, перед и тыл, а только в тех, которые
содержат причину своего движения в самих себе и одушевлены»
(О небе. II 285Ь 31-34). Неодушевленные предметы либо не
двигаются сами собой, либо их движение односторонне. «Что же касается
неодушевленных тел, то мы ни в одном из них не наблюдаем
стороны, с которой начинается движение. Одни из них вовсе не
движутся, другие движутся, но не с любой стороны одинаково,
например, огонь — только вверх, а земля — только к центру» (О
небе. II 285Ь 34-36).
Заключение о зеркальной противоположности таких тел
выводится с помощью угадывания («зерцала в гадании») и по аналогии:
«О верхе и низе, правом и левом мы говорим в этих телах, соотнося
[эти обозначения] с нами: либо по нашей правой стороне, как
гадатели; либо по сходству с нашей правой стороной (например,
правая сторона статуи); либо по обратному расположению:
правым — то, что против нашего левого, левым — то, что против
нашего правого, и тылом — то, что против нашего переда. В самих
же них мы не видим никакого внутренне присущего им различия
[сторон]...» (О небе. II 285а 1-7).
Собираясь «высказать взгляды, согласующиеся с общим всем
людям интуитивным представлениям (manteia) о боге» (О небе. II
284Ь 4-5), Аристотель предлагает мысленный спекулятивный
эксперимент: «В самом деле, вместо того чтобы недоумевать (на том
основании, что форма Вселенной шарообразна), как может одна ее
часть быть правой, а другая — левой, если все части одинаковы И
постоянно движутся, надо мысленно представить себе, как если бы
нечто, в чем право и лево различаются [не только по значению,
КНИГА П. ГЛАВА 1. § 3. АРИСТОТЕЛЬ
441
но] и по форме, взяли и поместили внутрь шара: [право и лево]
по-прежнему будут иметь различное значение, но из-за сходства
формы будет казаться, что они не различаются» (О небе. II 285а
32 — 285Ь 4). Из этой мантически-спекулятивной шарообразной
модели Космоса следует вывод о начале движения Вселенной,
совпадающем с концом, что делает движение Неба непрерывным и
вечным: «Сходным образом [надо ответить] и на вопрос о начале
ее движения: даже если [Вселенная] никогда не начала двигаться,
тем не менее у нее должна быть начальная точка, откуда она начала
бы двигаться, если бы начинала движение, и откуда стала бы
двигаться снова, если бы остановилась» (О небе. II 285Ь 4-8).
Самодвижение — это совпадение начала и конца. Движение по
направлению к природному зеркалу заканчивается не ударом о его
экран, а воспроизводством исходного движения, ибо зеркало «фю-
сис» — живое, а не мертвое. Видимое небо постоянно показывает
в своем зеркале реликтовые излучения большого взрыва точки
сингулярности единого бытия.
В ходе этих рассуждений Аристотель определяет роль Перво-
двигателя как необходимого условия и «фюсис» как достаточного
условия устойчивой подвижности всего сущего. Фюсис есть зеркало
Перводвигателя, и через такое представление можно разрешить
известные историко-философские проблемы и противоречия в
отношении между источниками самодвижения, а также оставить
шанс на познаваемость Абсолютного. Конечные вещи движутся
потому, что находятся «в границе» Перводвигателя и фюсис. Такова
модель Космоса по Аристотелю, в которой, действительно, не может
случиться того, что допускается в платоновской модели, а именно
путешествие души в постороннем мире (Зазеркалье).
Согласно традиционным воззрениям Аристотель полагает:
«Небо, или верхнее место, древние отвели в удел богам, как единственно
бессмертное» (О небе. II 284а 12-13). Бессмертное не означает
бездвижное, скорее, это обладание самым что ни на есть
естественным движением: «Поэтому надлежит признать истинность древних
и завещанных нам праотцами с незапамятных времен сказаний,
гласящих, что бессмертное и божественное существо наделено
движением, но только таким движением, которому не поставлено
никакой границы (читай — искусственного зеркала. — Ю. Р.) и
которое скорее само граница (естественное зеркало. — Ю. Р.) других
[движений]. Ведь быть границей — свойство объемлющего, а это
движение в силу своего совершенства объемлет движения
несовершенные и имеющие границу и остановку; само оно при этом не
имеет ни начала, ни конца и, будучи безостановочным в
продолжение бесконечного времени, выступает по отношению к прочим
[движениям] как причина начала одних и восприемник остановки
других» (О небе. II 284а 3-11).
442
Ю. M. РОМАНЕНКО. БЫТИЕ И ЕСТЕСТВО
Таким свойством движения обладает только эфир, «отражая»
все поднебесные движения без искажения и переворачивания их
естественных устремлений. В силу «гладкости», «выточенности»,
чистоты и прочих естественных качеств эфир способен быть
зеркалом космоса, естественным телом неба. В книге «Природа и разум:
античная парадигма» Я. А. Слинин и К. А. Сергеев удачно назвали
движение эфира нейтральным в гравитационно-левитационном поле
аристотелевской модели Космоса.1 Используя подобную
терминологию, можно сказать, что «фюсис» есть продуктивная нейтрализация
и примирение присущих ей оппозиций. Жизненность Космоса
заключается в чутком реагировании на естественность или
противоестественность движений заключенных в нем тел. Для естественного
движения «фюсис» — «причина начала», для неестественного —
« восприемник остановки ».
Рассмотрев характеристики естественного движения тела
макрокосма, можно, подобно Аристотелю, поставить «мысленный
эксперимент» — задаться «гаданием» по зеркалу «фюсис»,
сформулировав такую проблему: какое естественное движение производит
одушевленное тело микрокосма-человека, гармонично
встраивающее его в целое Космоса? Рассмотреть эту проблему необходимо
в масштабе антропогенеза по обеим его линиям: филогенеза и
онтогенеза. Человек есть существо возможное, т. е. динамическое,
что означает находиться в устойчивом движении к действительному.
Прибывание жизненной силы — в движении.
Начать рассмотрение необходимо с инстинктивной гармонии
движения животных. В трактате «О душе» и в «зоологических»
сочинениях, в частности в работе «О передвижении животных»,
Аристотель утверждает, что причиной движения тел животных
является аппетит — постоянный поиск пищи и возможности
собственного воспроизводства, отвращаясь от болевых ощущений и
стремясь к удовольствиям. Человек, имея помимо растительной и
животной еще и мыслящую душу, способен выдержать паузу в
жесткой схеме «стимул—реакция». Мыслящая душа, будучи
границей растительной и животной душ, отражает и преобразует
действия последних и создает простор для собственного движения.
Куда же движется одушевленное тело мыслящего человека?
Человеческое движение исходно воспринимается
дисгармонически, хотя благодаря способности к подражанию, человек, обобщая
все виды животного движения, может выйти на уровень высшей
гармонии. Вспомним, что Платон мнил себя «лебедем», под
внушением сна Сократа. Поэтому Платон летал «во сне и наяву» в
занебесную область. Сократ тоже умел летать, подобно «оводу»,
1 См.: Сергеев К. Α., Слинин Я. А. Природа и разум: античная парадигма.
Л.: Изд-во ЛГУ, 1991. С. 140-141.
КНИГА II. ГЛАВА 1. § 3. АРИСТОТЕЛЬ
443
хотя ему больше нравилось в этом зооморфном качестве кусать
«лошадей». Кинематический образ аристотелевского мышления
ассоциируется, скорее всего, с образом «сороконожки», задумавшейся,
с чего начинается хождение, и открывшей его четыре причины,
помноженные на десять категорий. Она начинает движение всеми
своими сорока конечностями одновременно, не выделяя ни одной
из них привилегии начала, в противном случае ее движение
перестает быть естественным.
Аристотель не случайно был перипатетиком (от глагола «пери-
патео» — гулять (патео) по кругу (пери), топтать, шагать, наступать
на след). Естественное движение — это адекватное наступление на
след, оставленный прячущейся фюсис. Без практического опыта
перипатетизирования не смогла бы состояться и теория основателя
Ликея. В отличие от возлежащих в «симпосионе» (совместном
покоящемся позицировании на окружности)
платоников-академиков, рассуждающих о неподвижных трансцендентных идеях,
перипатетики-лицеисты обходили по кругу храм Аполлона Ликейского,
упражняя свою мысль в движении. Быть может, характер
философствования Платона и Аристотеля различается именно в качестве
моторики, задающей образ действия ума.
Если справедлив принцип тождества бытия и мышления, то
мышление тождественно бытию во всем, в том числе и в движении,
иначе оно не смогло бы ничего постигать. Поэтому, ставя задачу
реконструировать естественное движение человека, необходимо
воспроизвести модель его мышления по образу двуногого прямохож-
дения, фактически присущего его телу. Это крайне нетривиальная
задача. Нельзя мыслить движение, не двигаясь. Но вот почему
человек естественно двигается таким и только таким образом —
для этого необходимо вывести универсальную теорию, где
объяснялось бы, почему, во-первых, человек «встал», а во-вторых,
«зашагал». Самые банальные вопросы — самые сложные. Совершенно
прав А. В. Ахутин, утверждая, что Аристотель в своей метафизике
развивает некую «физкультуру» — т. е. умопостигаемую «культуру
фюсис».1
Онтологическим и метафизическим факторами «вертикального
хождения на двух ногах» являются Перводвигатель и фюсис. Энер-
гийное напряжение между ними ориентирует человека встать с
четверенек, выпрямиться, поднять голову и расположить себя по
оси левитации-гравитации. Только полувыпрямившиеся обезьяны
остались в тупиковой ветви эволюции. Восставший человек,
выделившись из животного царства, не смог остаться в бездвижности
1 См.: Ахутин А. В. Понятие «природа» в античности и в Новое время
(«фюсис» и «натура»). С. 143.
444 Ю. M. РОМАНЕНКО. БЫТИЁ И ЕСТЕСТВО
и естественно сделал два шага — левой и правой ногой, планируя
в просторе неподвижного движения переступания через порог.
Аристотель неоднократно намекает в примечаниях, что
правильное хождение (кстати, «кинезис» этимологически означает «идение»
согласно платоновскому «Кратилу») приводит к здоровью.
Феноменологическое всматривание обычной ходьбы и описание ее
характеристик создает имманентную базу для мышления в его попытках
построить теорию естественного движения тела как такового.
Умение правильно ходить (и, разумеется, не только это, но и все
остальные типы движения телесными органами), не противореча
естественному движению Космоса, не может не сказаться на
отношениях души и тела. Вплоть до того, что даже в посмертном
существовании, при разделении души и тела, они сопряжены друг
с другом в образе гармонического движения, воспроизводящего
ладность Космоса с самим собой. Нужно только научиться входить
в этот образ, т. е. правильно во-ображать душой естественное
движение тела.
Намекающие образы правильного воображения обнаруживаются
через закамуфлированную рациональную форму изложения в
аристотелевских текстах. Воздействие тела на душу проявляется еще в
одном аспекте — метафизической роли пищи. Как говорили
материалисты: человек есть то, что он ест. Можно продолжить: человек
мыслит то, что он ест. По Аристотелю, растительная сила фюсис
заключается в питании и воспроизводстве. Наряду с формой
животного движения эти функции являются необходимыми условиями
здоровья. А как известно, если будет здоровое тело, то, значит,
будет по возможности здоровым и дух. Это не противоречит другой
максиме: плоть немощна, а дух бодр. Здоровье тела сохраняется и
в немощности плоти вплоть до ее смертного разложения.
Спекулятивное описание посмертной судьбы естественно
движущегося тела обнаруживается в трактате Аристотеля «Метеорологи-
ка». Последнюю (четвертую) книгу «Метеорологики», по смыслу
примыкающую к работе «О возникновении и уничтожении»,
называют «химическим трактатом» Аристотеля. Здесь впервые делается
попытка обозначить предметную область и образовать научный
теорминологический аппарат для описания внутренних природных
превращений вещества плоти. Не имея еще необходимых терминов,
Аристотель вынужден при пояснении своей мысли метафорически
использовать слова из повседневной практики, прежде всего
«кухонные»: «общепринятых названий для вещей подобного рода
вообще не существует, и поэтому перечисленные виды надо считать
не тем, [что обозначают сами слова], но чем-то сходным» (Метео-
рологика. IV 379Ь 16-17). Так, метафоризируя повседневные слова
естественного языка, Аристотель разрабатывает научный термино-
КНИГА II. ГЛАВА 1. § 3. АРИСТОТЕЛЬ 445
логический лексикон, чтобы перейти от «понятного для нас» к
«понятному по природе».
Процессы «возникновения» и «уничтожения» в природе
взаимоувязаны. Эти противоположные понятия берутся Аристотелем
не ради диалектического комбинирования, а чтобы выразить
двойственность «фюсис». Естественное завершение жизни тела есть
уничтожение, подразумевающее возникновение чего-то иного и
нового, но сообразного прежнему телу. Если, по Платону, родиной
души является Небо, то, по Аристотелю, родиной оставленного тела
оказывается стихия земли, естественным движением которой
является тление (гниение). «Наиболее общей противоположностью
простому возникновению [будет], однако, разложение, [или
гниение], ибо всякое согласное с природой уничтожение, будь то старение
или увядание, есть путь именно к этому. Гнилость — это конец
всех природных образований, если только они не уничтожены
каким-нибудь насилием» (Метеорологика. IV 379а 3—23).
Тление есть природный продуктивный процесс, и как таковой
он приводит к естественному возникновению: «В разлагающихся
[телах] зарождаются живые существа, потому что обособившаяся
теплота, будучи природной, соединяет [вместе] выделившиеся
[части]» (Метеорологика. IV 374Ь 7-8).
Внутреннее развитие природы выражается через слово
«варение». Если глагол, от которого образовалась «фюсис», означает
«расти» и он представляет явную выраженность природы, то слово
«варить» указывает на скрытый процесс природного созревания.
В процессе «варения», встроенном в общее движение стихийного
тления, естественно образуется телесная форма существования.
«Итак, варение — это [полное] завершение [образования тела] из
той или другой из противоположных страдательных [способностей]
под действием природного и внутреннего [собственного] тепла, а
эти [способности] для всякого тела — их собственная материя. Ибо
когда варение осуществилось, [тело] получило завершенность и
возникло [как таковое]» (Метеорологика. IV 379Ь 18-21). По
завершении образования возникшее тело продолжает нести в себе
двойственный природный импульс, различаясь по форме и материи
и становясь готовым вместить в себя душу.
Таким образом, термином «варение» Аристотель эксплицирует
метафизический процесс. Варят же пищу. Но что такое «пища»
как таковая в метафизическом смысле? Интересно, что до нас не
дошел трактат Аристотеля «О пище», упоминаемый в сводках его
сочинений, подобно тому как не сохранился трактат Платона «О
Благе». Может быть, степень эзотеричности обоих произведений
равновелика, поскольку пища есть благо. Или, быть может, эти и
подобные им эзотерические тексты кто-то намеренно уничтожал,
4-1 ri ΙΟ. M. PO M AH Ε H KO. БЫТИЁ И ЕСТЕСТВО
заставляя напрячь угадывающее чутье будущих интерпретаторов в
попытке реконструировать возможное их содержание.
Питание тела — фундаментальное действие фюсис. Это не акт
творения сущего, а сохранение сотворенного во времени. «Ведь
сущность питающегося уже существует, и ничто не порождает само
себя, а сохраняет себя. Таким образом, это растительное начало
души есть способность, которая сохраняет существо, обладающее
ею, таким, каково оно есть, а пища обеспечивает его деятельность;
поэтому существо, лишенное пищи, не может существовать» (О
душе. II 416Ь 16-20). Более того, сам способ существования зависит
от характера питания. Так, переход от сырой к вареной пище был
таким же революционным взрывом в процессе антропогенеза, как
и выпрямление осанки, приручение огня или изобретение колеса.
В своих несохранившихся «ботанических» сочинениях Аристотель,
наверное, касался этих тем, развивая их в контексте своеобразного
спекулятивного «растениеводства», философски отражающего
мифологию Мирового Древа.
В телеологическом плане прием и усвоение пищи завершается
в «метаболе» — совпадении своего и иного и образовании их подобия
в целостности самовоспроизводящегося тела. «Так как справедливо
все называть в соответствии с целью, цель же состоит здесь в
воспроизведении себе подобного, то первой душой следует называть
способность воспроизведения себе подобного» (О душе. II 416Ь 23—
25). Здесь нужно сделать акцент: «воспроизведение себе
подобного» — в нем самом!
Если Ум, по Аристотелю, есть первый двигатель, не имеющий
себе подобия, но которому всё стремится уподобиться, то пища
является последним двигателем («обеспечителем деятельности»),
уподобляющим всё во всём. Согласно Аристотелю, целью питания,
которым заведует растительная душа, является ассимиляция материи,
в то время как ощущающая животная душа ассимилирует форму.
Мыслящая же душа уподобляет форму и материю как таковые.
Естественное двуединство формы и материи осуществляется в
процессе познания в результате «совпадения» мышления и
чувственности. Если чувства работают в неискаженном режиме, они
истинно воспринимают реальность. Дифференцированные чувства
объединяются Аристотелем в так называемом «общем чувстве»
(common sens), воспринимающем уже не частные формы, а общие,
т. е. категории. В этом случае «общее чувство» по содержанию
тождественно Уму, а именно его пассивной (потенциальной)
ипостаси (Nus pathetikos). Активному (производящему) Уму (Nus
poietikos) соответствует единица, а «общее чувство» мысленно
ощущает (или ощутительно мыслит) двоицу души и тела, пока они
существуют вместе. Это и есть «чутье естества».
КНИГА П. ГЛАВА I. § 3. АРИСТОТЕЛЬ 447
Возвращаясь к аристотелевской научной классификации
действительности по признакам подвижности и самостоятельности,
получаем четыре значения, что позволяет заполнить последнюю
строку: Ум-Перводвигатель — неподвижен и самостоятелен; природная
сущность — подвижна и самостоятельна; число — неподвижно и
несамостоятельно; пища — подвижна и несамостоятельна.
Подвижная несамостоятельность пищи проявляется в ее вездесущем
неподвижном движении мирового круговорота веществ и всеобщего
взаимообмена энергии, наполняя и насыщая плотью образ единого
космического тела.
Прием пищи начинается с чувства «вкуса» и заканчивается
чувством «сытости». Пищу «встречают» вкусом, определяя ее
существенную уникальность, но цель ее приема — в сытости —
состоянии довольства «совпадения» своего и иного в пределах
целостности живого природного существа, свидетельствующего о
гармонии и общности организма с окружающей средой. Переваривание
пищи, насыщение и усвоение непрерывно возвращают сущему
чувство быть самим собой, что дает ему силы для его естественной
деятельности — освобождения в движении накопленных квантов
энергии. Остатки непереваренной пищи должны быть отведены в
то место, где хранится материя гниения, дабы они допереварились
если уже не в отдельном организме, то в специальном резервуаре
окружающей среды, сохраняющем неизрасходованные части в
резерве для лучших времен. Хотя, по идее, пища должна быть
переварена всецело и полностью, без всяких остатков. Если же случается
несварение, то это признак несоблюдения меры приема пищи из-за
гипертрофированного вкуса, что влечет за собой различные
гастрономические заболевания. Профилактикой же подобных заболеваний
является установление пищевого рациона (определение числовой
меры пищи) на каждый конкретный случай приема. Но поиск и
обнаружение меры, ее угадывающее чутье, как прекрасно понимал
это Аристотель (не случайно названный «философом меры»), —
наиболее трудное дело. Таков метафизический смысл «пищи»,
эксплицированный в аристотелевской онтологической схеме «дина-
мис—энергейа—энтелехия » (возможность—действительность—осу-
ществ ленность).
Таким образом, имманентным действием «фюсис» является
«пище-варение». Поэтому ее существенным признаком является
«автотрофия» (самоедство) — совместная подпитка живого живым
в сотрапезничестве. Речь идет именно о способе существования
телесности. Об автотрофии как принципе идеального тела писал и
Платон: «[Тело космоса] было искусно устроено так, чтобы получать
пищу от своего собственного тления, осуществляя все свои действия
и состояния в себе самом и само через себя. Ибо построявший его
нашел, что пребывать самодовлеющим много лучше, пенсе ли ну ж-
448
Ю. M. РОМАНЕНКО. БЫТИЕ И ЕСТЕСТВО
даться в чем-либо» (Тимей, ЗЗс-d). На этой посылке основывается
виталистическая и автогенетическая доктрина. Однако известно,
что автотрофией обладают только зеленые растения или особые
бактерии, способные синтезировать из неорганических веществ
органические, используя световую (фотосинтез) или химическую
(хемосинтез) энергии. Животные же и человек — гетеротрофы,
питающиеся уже готовым органическим веществом, усваивая его в
симфийе — сращивании своего и чужого в уподоблении неподобного.
Хотя и в них растительная душа сохранена и скрытым образом
функционирует. Но чтобы ощутить ее, необходимо специальное
усилие в аскетическом режиме питания.
Принять в себя свет и пропитать им собственную плоть способно
только автотрофное тело. Поэтому необходимым условием
религиозного отношения к естеству является пост, целью которого является
претворение тела из «темницы» в «светлицу» души. «Симфийа»
(срастание) является естественным условием креативного действия
«синергии» (соработничества). Достижение в симфийе автотрофии
означает воплощение в естестве Ума-Перводвигателя. Это катамне-
зис — напоминание телом душе о ее растительных корнях. Таковы
возможные следствия из гипотетической реконструкпии несохра-
нившегося в истории аристотелевского трактата «О пище».
Пищей языческим богам, как известно, являются амброзия
(бессмертное) и нектар (смертное) — как живая и мертвая вода в
их гармоническом дополнении друг с другом. Мертвое — это
разложенная до невидимости материя, о которой ничего нельзя сказать
живому существу. Тем не менее Аристотель рискует выдвинуть
спекулятивную гипотезу о естественном происхождении жизни из
смерти (абиогенез), понимая всю запретность (гены Асклешш-
воскресителя дали о себе знать) и научную противоречивость
подобного мероприятия: в учение о материи вносится понятие «цели»,
несмотря на то, что «там, где преобладает материя, всего труднее
увидеть целесообразность» (Метеорологика. IV 390а 3-4). Но
Аристотелю все же удалось это увидеть в особом опыте умозрения,
обусловленного практикой естественного движения тела. '
Целью материального развития является образование тела,
способного иметь душу. «Поскольку же всякое [тело] целесообразно,
оно не исчерпывается тем, что это просто вода или огонь, так же
как мясо и внутренности не [просто мясо и внутренности]»
(Метеорологика. IV 390а 8-9). Возможность одушевления тела
аргументируется Аристотелем его излюбленным постулатом: «Все
определено своим делом [или назначением], все поистине существует, если
способно выполнять это свое дело» (Метеорологика. IV 390а 10—11).
Если тело не исполняет своего дела (ergon), т. е. своего естественного
движения, то у него нет собственной энергии и это тело лишь «по
названию», не нуждающееся в душе.
КНИГА П. ГЛАВА 1. § 3. АРИСТОТЕЛЬ
449
Философская стратегия решения психосоматической проблемы
должна отслеживать естественные движения души и тела навстречу
друг другу, и только так можно узнать, что такое тело и что такое
душа в их возможной отделейности. «Ведь мы получаем знание о
каждом [предмете] — почему он [существует] и что он такое, если
нам известна либо его материя, либо его [внутреннее] соотношение,
и лучше всего, когда [мы осведомлены] о том и другом — о его
возникновении и уничтожении, а также и о его движущей причине»
(Метеорологика. IV 390Ь 17-20).
Какие следствия можно вывести из всего сказанного в отношении
доктрины метем-психо-соматоза, циркулирующей в мифе «вечного
возвращения»? Душа и тело относительно самостоятельны и
изменчивы в соответствии с закономерностями своего устроения.
Однако бессмысленно было бы говорить даже об их временном
слиянии, если бы изначально не был бы постулирован принцип
совпадения их изменений, источником и гарантом чему выступает фюсис.
Естественным движением души, даже когда она выходит из тела,
должно быть такое движение, которое учитывало бы естественное
стремление тела. Новыми не могут быть ни душа, ни тело в их
отдельности. Новым может быть только совпадение в изменении
их друг с другом в пределах целостного вечного Космоса, в котором
нейтрализуется трагическая для конечных существ оппозиция
«жизни—смерти».
Представление о посмертном выборе душой нового тела на самом
деле говорит о «выборе без выбора». Если душа выбирает не «то
же самое» тело, то она вообще ничего не выбирает, а имитирует
акт выбора, примеривая маску перед искусственным зеркалом. Тело
конечного существа — тело в возможности, существующее благодаря
все-космическому телу в действительности. Определить уникальное
единство в изменениях такого тела способна только его же душа,
являющаяся его первой энтелехией. Жизнь есть непрерывное знание
душой тела и телом души. Посмертное узнавание душой своего
тела — это воскресение.
Аристотель не делал подобных кардинальных выводов из своей
достаточно разрозненной модели «вечного возвращения того же
самого» (которая, не исключено, была в свое время подтасована
душеприказчиками его письменного наследия, ведь мы не знаем,
через руки каких переписчиков прошли его тексты). Однако та
реконструкция и интерпретация, те следствия, которые выведены
из его учения, будем надеяться, вполне имманентны и
непротиворечивы, а также вытекают из аристотелевского мотива и пафоса
концепции «фюсис». Тем самым Аристотель готовил почву для
новой религиозной парадигмы, уже не языческой, а теистической.
Эта тема стала основной в «теологической физике» христианского
Средневековья. Оставаясь сыном своего века, Стагирит расчищал
450 Ю. M. РОМАНЕНКО. БЫТИЁ И ЕСТЕСТВО
завалы мысли, непроизвольно оставленные предшествующими
философами в их попытках раскрыть тайну природы. Не случайно,
его логические трактаты называются «Аналитиками» (анализ — от
глагола «очищать»).
Рассуждая о трудноуловимой мере страдания и удовольствия в
этико-воспитательном контексте, Аристотель так характеризует
динамику естества: «Одно и то же не доставляет удовольствия
постоянно, ибо естество наше не просто (me haple), а присутствует в нас
и нечто другое. В силу этого мы бренны (phthartoi)» (Никомахова
этика. 1154b 21-23). Другим (heteron) бессмертному Уму как
божественному элементу в человеке являются его смертные душа и
тело. Болезнь и смерть вызваны неподобностью их частей. Поэтому
цель исцеления (выражаясь тавтологически) состоит в уподоблении
неподобного. Одушевленное тело постоянно болеет, даже не ощущая
или не осознавая боли: «возбудимые от естества всегда нуждаются
в лечении, ведь из-за [особого] состава [естества] тело у них
постоянно пребывает уязвленным и они всегда охвачены сильным
стремлением» (Никомахова этика. 1154b 11-13). Поэтому человеку
необходимо непрерывно лечить самого себя, уподобляясь этому
основному действию фюсис, балансируя в границе между страданием
и удовольствием. Стремлению тела, вызванному исходной телесной
уязвленностью, необходимо указать правильный ориентир. Это
касается всех сфер телесной деятельности, в том числе и половой.
Человеку сложнее всего найти середину между избытком и
недостатком, ибо «когда одна из [частей в нас] делает что-либо,
для другого [нашего] естества это противоестественно, а когда
достигается равновесие, кажется, будто действие не доставляет ни
страдания, ни удовольствия. Если естество просто, наивысшее
удовольствие всегда доставит одно и то же действие» (Никомахова
этика. 1154b 23-26). Человеку почему-то скучно находиться в
состоянии равновесия, и он гоняется за «непростыми»
удовольствиями. В этом заключается различие между человеком и богом, так
как «бог всегда наслаждается одним и простым удовольствием, ведь
не только для изменчивого возможна деятельность, но и Для
неизменности, а удовольствие в спокойствии возможно скорее, чем в
движении» (Никомахова этика. 1154b 26-28). Но если человек
ставит своей жизненной целью уподобление богу, тогда он должен
научиться простому удовольствию естественного чутья меры,
являющегося панацеей.
Дополняя интуицию фисиологов логическим методом, критикуя
игнорирование природы софистами, напоминая Платону о
естественной ориентации в пространстве Космоса, рационально заботясь
о природном здоровье, Аристотель все же допускает некую «подлость
естества», ограничивая догадку о возможности освящения природы
тела. Дело в том, что человек по природе изменчив, ему «врождено
КНИГА II. ГЛАВА 1. § 4. СРЕДНЕВЕКОВЬЕ 451
стремление к изменению» (метаболе). Вся проблема как раз
заключается в том, как понимать и воспринимать изменение — kata или
para physin? Казалось бы, человек должен держаться за меру,
«однако "перемена всего слаще" (как говорит поэт), в силу известной
"подлости" [естества], ведь подобно тому, как подлый человек
склонен к перемене, так и естество, нуждающееся в перемене, —
[подлое], ибо оно и не простое, и не доброе» (Никомахова этика. 1154b
29—32). Мера сама по себе есть изменчивая граница между благом
и добродетелью, злом и пороком.
Подведем итог затянувшегося исследования основных посылок
аристотелевского естествознания и его метафизических
импликаций: метод «стихийной интуиции» фисиологов и гносеологию «ана-
мнезиса души» Платона Аристотель как врач-философ,
рекомендующий доверять природе, дополнил теорией «катамнезиса тела»,
внутренним признаком которого является чувство «сытости» от
«правильного пищеварения», а внешним — «двуногое вертикальное
прямохождение» как наиболее достойное и оптимальное для
человека, совершающего трансцензус из естественного в
сверхъестественное. Здоровье определяется двумя условиями — правильным
питанием и движением. Естественным движением тела оказывается
такое, начало которому полагает трансцендентный единый Ум-
Перводвигатель, а восприемницей и гарантией его завершения
выступает двойственная «фюсис», сущностной функцией которой
является «врождение стремления к совпадению» начала и конца
движения, что делает его непрерывным и вечным и дает энергию
для осуществления того дела, которым занят Бог, а именно
бессмертие одушевленного тела.
§ 4. СРЕДНЕВЕКОВЬЕ
Историзм творения и Богочеловеческая природа
Категориальная оппозиция «космос—история» отражает
противоположение античной и средневековой эпох. Философия
античности осмыслила, насколько это было тогда возможно, бытие космоса
и его естественные характеристики. Средневековье открывает новое
отношение к тому же самому, обратив пристальное внимание на
историческую обусловленность онтологического и метафизического
мышления. В онтологическом (креативном) смысле история транс-
цендентна космосу, будучи особым проявлением энергии его Творца.
Но, с метафизической (эманационной) точки зрения, история
имманентна космосу, осуществляясь и воплощаясь в его пределах,
как бы пронизывая его одушевленное тело и придавая
целенаправленность его движению. Это противоречие определяет импульс пере-
452
Ю. M. РОМАН EH КО. БЫТИЕ И ЕСТЕСТВО
хода от античности к Средневековью — перехода к новому
пониманию сущности естества. Рассмотрим принципиальные
методологические аспекты этого нового понимания.
Один из «переходных» периодов человеческой истории — I—III
века по Р. X. — был тем временем, когда наиболее обнаженно
проявилась граница между «остывающим» античным языческим
космоцентризмом и набирающим температуру средневековым тео-
центризмом. Слова «температура» и «темперамент», будучи
производными от слова tempus (время), являются своеобразными
естественными характеристиками истории, выражая ее термодинамику.
Традиционно предполагают, что в отмеченном историческом отрезке
происходила передача витальной энергии от одной эпохи к другой.
Физические законы термодинамики, утверждающие, что тепловая
энергия однонаправленно передается от более горячего предмета к
менее горячему, рассеиваясь по мере распространения и в тенденции
ведя к тотальному охлаждению и тепловой «смерти» Вселенной,
имеют отношение и к истории, но только с оговорками. История
принципиально негэнтропийна (эктропийна), создавая новые
устойчивые структуры на фоне рассеивающейся энергии природного
движения. Как соотносятся направленная физическая «стрела времени»
и «историческая стрела», к какой цели они стремятся?
Очевидно, что в I—III веках две кардинально различные эпохи
сосуществовали в определенном наложении, пребывая в состоянии
опасного неравновесия. Вероятно, общая температура совокупного
организма человечества в пределах относительной устойчивости
исторических эпох имеет один и тот же коэффициент, колеблясь
где-то в районе 36,7 градусов по Цельсию. Повышенное внимание
вызывает не нормальная температура, а ее резкие перепады,
приводящие к встрече двух различно разогретых масс. В моменты
столкновения «холодного» и «горячего» происходит разрядка
энергии и могут возникнуть новые структуры вещества, хотя могут и
не возникнуть. С точки зрения подобной «физики истории», в
хаотической толще исторического времени, как в плавильном тигле,
в определенные моменты выкристаллизовываются
мировоззренческие парадигмы, которые образуют фундамент культуры и
цивилизации наступающей эпохи.
Это не простые метафоры: вспомним учение Гераклита об «эк-
пюрозисе» — периодическом воспламенении Космоса; подобными
же термодинамическими метафорическими оппозициями
«возжигания—затухания» Ориген выражал осуществление Истории, а
также судьбу каждого разумного духа (уместно здесь вспомнить, что
русское слово «воскресение» — из этого разряда бытийных метафор).
Современные расхожие выражения типа «холодная война» и
«горячие точки» в своей глубине обозначают суть бытия истории, ее
жизненное состояние.
КНИГА IL ГЛАВА 1. § 4. СРЕДНЕВЕКОВЬЕ 453
Исследовать «пограничные ситуации» истории сложнее, чем ее
«плавные» периоды, но и гораздо интереснее. Если историку удается
найти нужную методологию и правильно применить к имеющемуся
материалу, то результатом его усилий будет выполнение главной
задачи исторического познания: воспроизводство и хранение опыта
прошлого в настоящем, каким бы «плохим» или «хорошим» это
прошлое не было. Наверное, заветной мечтой каждого «нормально»
воображающего историка является упразднение внешней
хронологической оболочки истории, делание ее вневременной, представляя
все события как бы одновременно, в их совместной актуальности.
Презумпция такой синхронии присуща только Священной истории,
а не человеческой мирской истории. Хотя всегда существует искус
«освятить» деяния героев «человеческой, слишком человеческой»
истории. Отсюда идет возможность ее фальсификации, случающейся
независимо от благой воли исторического следопыта.
В этой связи следует поставить следующий методологический
вопрос: «Как знается и понимается история?».
Знать историю в полной мере можно лишь по ее завершении.
«Конец истории», который предрекают футурологи постмодернизма,
пока не наступил, поэтому историческое знание еще полно
непроизвольных, а то и сознательных ошибок. Не исключено, что история
уже перевалила через свою середину и уже задан необратимый ход
к ее концу, когда в эсхатологической перспективе у сохранившихся
ее обитателей откроется «третий глаз» и они смогут увидеть всю
историю не плоско, и даже не стереоскопически, а в полном
прозрачном объеме со всеми ее внутренними взаимосвязями и
смыслами. Пока эти фантазии являются недостижимым идеалом
исторического знания, поэтому приходится ограничиваться
естественными возможностями исторического разума, воздерживаясь от
историософских обобщений. Хотя основной теоретический онтолого-
метафизический вопрос к истории можно сформулировать по-
кантовски: «Как возможна историософия как наука?». Ответ на
этот вопрос необходим для того, чтобы появилась возможность
преодолеть дуализм истории и природного времени.
Л. Витгенштейн однажды выразил цель своего теоретического
отношения к эмпирии таким образом: «Смотреть и не думать».
Дело в том, что научное познание завершается построением
теоретических схем, и если они оказываются истинными, то сквозь них
можно «узреть» реальность в ее собственном свете и
самодостаточности. В таком состоянии откладывается всяческое попечение
рассудочной мысли и открывается простор для спокойного мудрого
видения того, что же на самом деле происходило в истории. И что
продолжает происходить сейчас. Теоретические схемы,
конструируемые мышлением, являются оптическими приспособлениями,
454 Ю. M. РОМАНЕНКО. БЫТИЕ И ЕСТЕСТВО
с помощью которых можно приблизить и увеличить
рассматриваемое явление, но они невольно его искажают.
История по смыслу своего имени является определенным типом
знания. Она, по определению, есть засвидетельствованное время.
Поэтому история сама оставляет нам ключи, которыми мы можем
открыть ее тайны. Но следует сразу оговорить, что для
проникновения в глубь истории необходимо задействование двух
способностей — знания и понимания — в их взаимодополнительности. Это
действительно различные способности, которые могут существовать
изолированно друг от друга, ибо между ними есть граница,
проходящая изнутри единого субъекта. Одно дело — знать нечто, т. е.
нейтрально представить в общезначимой форме структуру и законы
функционирования элементов этого нечто. Другое дело — понять
нечто, т. е. суметь воспроизвести в себе это нечто вплоть до
преображения самого себя в соответствии с познанной структурой.
Знание и понимание как разные способности двуединого субъекта
реализуются в двух типах опыта, связанных чем-то неуловимым.
Различие между знанием и пониманием проявляется не только
в историческом (и шире — гуманитарном) познании, но и в
естествознании. Так, в новейшей математической физике, исследующей
основы микромира, обнаруживается удивительный феномен:
ученый может построить и доказать математическую формулу объекта,
познав тем самым его, но он не может понять его физический
смысл и, как следствие, не может опознать его в эмпирической
реальности. Для достижения последнего необходимо приложить
иное усилие.
В книге Р. В. Светлова «Гнозис и экзегетика» предложен
существенный подход к решению проблемы переходного периода.1
«Гнозис и экзегетика» без потери смысла можно переименовать в
«знание и понимание» — двуединый метод бытийно-естественного
постижения истории и способ включения себя в историю.
Гностики, принявшие на себя всю тяжесть межэпохального
кризиса, развивали и культивировали в себе знание как таковое
(гнозис), полагая его средством и целью спасения в религиозном
значении. Они претендовали, ни много ни мало, на знание самого
Бога. Более того, сам Бог представлялся им одним большим
Знанием. Гностики последовательно довели эту способность до предела
и даже перешагнули через этот предел, поэтому гностицизм в целом
можно квалифицировать как установку на знание знания Бога о
Себе Самом. Можно предположить, что гностикам действительно
удалось узнать Бога. Но — вот первая историческая ирония! —
они Его не поняли.
1 Светлов Р. В. Гнозис и экзегетика. СПб.: Изд-во РХГИ, 1998.
КНИГА П. ГЛАВА 1. § 4. СРЕДНЕВЕКОВЬЕ 455
Те теоретические схемы, которые сумели отразить гностики в
своих учениях на основе их собственного реального (вне всяких
сомнений!) опыта, в последующей истории философии неоднократно
воспроизводились в системах конгениальных им мыслителей.
Особенно показателен здесь опыт Гегеля и результат его гнозиса —
текст «Науки логики». Амбиции Гегеля распространялись до того,
чтобы логически «изобразить» Бога до сотворения Им природы и
конечного духа, построить «логический слепок Вечности», выразить
«сферу чистой мысли» Абсолютной Идеи и т. д. По поводу этой
претензии и ее реализации Ж. Батай парадоксально заметил, попав
в самую точку: «Гегель и сам не понимал, насколько он был прав».
Что касается понимания, то эту способность культивировали
экзегеты. Экзегеза вообще является истолкованием смысла
прошедших исторических событий, зафиксированных в письменной или
какой-либо иной документальной знаковой форме. Если буква
мертвит, по выражению апостола Павла, то дух животворит. Поэтому
в задачи экзегета входит наполнение духом письменного текста,
признаваемого авторитетным, благодаря чему поддерживается
традиция. Особая ответственность ложится на того, кто дерзает
толковать Священное Писание. Экзегет должен наполнить духом буквы
Священного Писания, которое само написано богодухновенно и
богооткровенно. Слова Библии обладают удивительной способностью
собственного смыслового самовозрастания, поэтому она является
«книгой книг», а все остальные книги есть ее образы и подобия.
Но откуда берется вдохновение у экзегета, приступающего к чтению
текста, затем интерпретирующего его по велению актуально
явившегося ему духа, а после записывающего в собственной книге
результаты своей экзегезы? И тот ли дух ему явился в акте чтения?
Очевидно, что дух — не только в букве. Тогда откуда он?
Апостол Павел учил, что необходимо испытывать духов, от Бога
ли они, а для этого нужно иметь способность «обличения духов»,
которую апостол языков определял как один из «духовных даров».
Так же, как и знание считалось им одним из «духовных даров»,
т. е. тем, что безвозмездно дарится по благой воле Творца. Таким
образом, способность понимания, являющаяся главной функцией
экзегетики, основана на креативном даре. Она проявляется в
процессе толкования знаковой системы, но получается помимо нее,
через некий иной, не письменный канал. Впоследствии этот способ
передачи и хранения духовной традиции назвали Священным
Преданием.
Представляется, что экзегетика II—III веков в лице Оригена и
Климента Александрийского, творчество которых анализируется в
книге Р. В. Светлова, сумела выработать основные схемы и приемы
толкования Священного Писания. Однако история свидетельствует,
что их опыт был небезошибочным. В силу того, что результат их
456 Ю. M. РОМАНЕНКО. БЫТИЕ И ЕСТЕСТВО
экзегезы не был в дальнейшем признан догматически, особенно в
вопросе о субординационизме ипостасей Божества, их понимание
оказалось неопределенным. Можно предположить, что они
понимали Бога, но не всегда они понимали именно Бога, а не кого-нибудь
иного, чем-то Его напоминающего. Так ли это — рассудит уже сама
История.
Не исключено, что как можно злоупотребить предельным
знанием, так можно злоупотребить и сверхпроникновенным
пониманием. Как видно из сохранившегося обильного наследия экзегетики,
она имела тенденцию к беспредельному расширению, отвлекая на
себя лишние силы. Как выразился один медиевист, Библия утонула
в экзегетике с ее многослойностью и многоэтапностью. Толковать
Откровение необходимо, пока есть возможность, но в какие-то
моменты следует принимать даваемое буквально. Истинные
достижения экзегетики II—III веков проявились в свете последующей
истории, которая, чтобы лучше ее поняли, сама двинулась своим
курсом к своей цели.
История есть особая форма Богоявления. Именно поэтому
прошлое неотменимо никем, даже Богом, как парадоксально учили
средневековые теологи. Бог не отменяет историю именно потому,
что Он не разрушает собственное творение. Уже в этом принципе
лежит залог возможности историософии. Гнозисная экзегетика Ори-
гена и Климента в большей степени двигалась методом проб и
ошибок, испытывая все возможности соотношения знания и понимания.
Они осознавали и понимали двойственность духовного устремления
человека и вместе с тем его единность. Это двуединство сущего,
пронизанного изнутри и извне одной и той же границей, отразилось
в Климентовой концепции «ведающей веры» как гармонизирующего
взаимоподдержания и взаимоусиления веры и знания.
Человек, обиженный «заброшенностью» в историю не по своей
воле, норовит переделать ее по-своему, упразднить в отстраненном
законченном знании и тем самым избавиться от нее, формально
структурируя ее живую плоть внешними хронологическими
рамками, не ведая, что творит. Нужно понять, что история сама по
себе есть граница, в которой движется человечество и которая
полагает предел времени его существования. В этом отношении
среди специалистов-историографов существует дискуссия по
проблеме хронологических пределов Средневековья. Четкую линию
между эпохами, действительно, сложно провести — она имеет
внутри себя подвижную размерность. II—III века — уже Средневековье,
но и еще не Средневековье. Дело не только в том, когда теистическая
религия была признана государственной или когда языческие
школы были насильственно закрыты — это внешние критерии.
Собственная жизнь Средневековья начинается, пожалуй, с того момента,
когда она сполна рассчиталась с долгами перед предшествующей
КНИГА П. ГЛАВА 1. § 4. СРЕДНЕВЕКОВЬЕ 457
эпохой. Этот период освобождения также имеет свою длительность,
растянувшуюся от богословия каппадокийцев до первых Вселенских
соборов, на которых в догматической форме окончательно была
закреплена парадигма новой эпохи.
Принцип творения, постулируемый теистической средневековой
традицией, подразумевает как свое дополнение утверждение
принципа историзма. В отличие от античной циклической модели
исторического времени средневековый образ истории представляется
в виде рассеченного, расслоенного и линейно вытянутого в спираль
круга: начало и конец линии истории трансцендентны ее
эмпирическому содержанию, упорядоченному имманентными
циклическими структурами. В религиозном отношении история делится на два
плана: Священную и мирскую истории. Первая представляет собой
необратимую непрерывную связь актов творения и эсхатологической
завершенности. Вторая начинается с момента отпадения
человеческого мира от Творца, параллельно длится в автономном режиме,
чреватом усугублением отпадения, и заканчивается возвращением
обратно в серии естественных поколенческих циклов, в
последовательности которых исполняется мера пророческого бытийного
предначертания.
Воплощенность истории в природном времени создает
дополнительную проблему, суть которой' состоит в том, как осознается
историческим разумом природа как материальное условие истории,
а также, с другой стороны, как историческое «чутье» естества
благоприятствует пониманию формы исторической
целесообразности.
Одна из откровенных формулировок принципиальной
историософской схемы, воспроизводящая средневековую парадигму,
предложена В. Соловьевым в его теократическом сочинении «Чтения о
Богочеловечестве». Историю в целом (от ее начала до конца) он
понимает как «Богочеловеческий процесс», т. е. как постоянное
прерывно-непрерывное взаимообщение человека и Бога. Сжатой
формулой этого процесса является триада «творение Богом
человеческого мира — отпадение мира от Бога — возвращение мира к
Богу». Но обнаруживается, что в этой триаде средний член сам по
себе раздвоен. Поэтому переход от второго момента к третьему
может браться как самостоятельный, что превращает триаду в
тетрактиду. Дело в том, что для осуществления третьего пункта
исходной триады необходимо двойное воздействие Творца на мир.
Первый акт — это творение мира ex nihilo, второй акт —
растворение Творца в мире (или его воплощение в нем). С этой точки
зрения триада представляется следующим образом: «творение Богом
мира — рас-творение Бога в отпавшем мире — возвращение Бога
к себе самому». На самом деле это одна и та же триада, но
рассмотренная с принципиально разных точек зрения, имеющих
458 Ю. M. РОМАНЕНКО. БЫТИЕ И ЕСТЕСТВО
свои перспективы, но и свои ограничения. Совмещение обоих
ракурсов рассмотрения этой триады создает историософскую
четверичную структуру, моделирующую Богочеловеческий процесс.
Характерна для такого понимания взаимоотношения истории и
естества богословская концепция Иоанна Скота Эриугены (IX в.),
изложенная в трактате «О разделении природы» («De divisione
naturae»), где он «доводит тенденции пантеизма так далеко, что
объединяет Бога и мир в едином понятии "сущего", или "природы",
проходящей четыре стадии диалектического самодвижения: 1)
"природа творящая и не сотворенная", т. е. Бог как предвечная
первопричина всех вещей; 2) "природа сотворенная и творящая", т. е.
платоновский мир идей, локализованный в интеллекте Бога;
3) "природа сотворенная и не творящая", т. е. мир единичных
вещей; 4) "природа не сотворенная и не творящая", т. е. снова Бог,
но уже как конечная цель всех вещей, вбирающая их обратно в
себя на исходе мирового процесса».1
Позицию Эриугены нельзя окончательно назвать
пантеистической (скорее — панэнтеистической), ибо он все-таки ограничивает
пантеизм идеей творения. Эриугена стоит перед той же проблемой,
что и Дионисий Ареопагит: совместить противоречащие друг другу
принципы «всеединства» и «креации». «В полном согласии с Псевдо-
Дионисием Ареопагитом и в резком отличии от Августина Иоанн
Скот Эриугена понимает Бога не как личность, описываемую по
аналогии с человеческой личностью, но как присутствующее во
всем и одновременно запредельное бытие, не поддающееся
предметному постижению даже для самого себя: Бог не знает о себе,
что он есть, ибо он не есть никакое "что" (De divis. nat 11, 28)».2
Последняя цитата явно напоминает определение бытия М. Хайдег-
гером: оно есть ничто из сущего.
Эриугена был переводчиком «Ареопагитик» на латинский язык,
впервые введя их в оборот западной традиции, что оказало сильное
влияние на нее. Поэтому Эриугена стоит несколько особняком в
контексте западного способа богословствования, причиной чему
была, по всей видимости, его попытка синтезировать установки Востока
и Запада. Неординарность его концепции до сих пор вызывает
дискуссии, и, быть может, непроясненность некоторых положений
этого учения привела к его осуждению соборными и папскими
постановлениями как ересь.
Попробуем рассмотреть в контексте нашего исследования
значение Эриугеновой концепции в теистическом понимании естества.
Для этого сместим акцент традиционных интерпретаций трактата
1 Аверинцов С. С. Иоанн Скот Эриугена // Философский
энциклопедический словарь. М., 1989. С. 223-224.
2 Там же. С. 224.
КНИГА II. ГЛАВА 1. § 4. СРЕДНЕВЕКОВЬЕ 459
«О разделении природы». В устоявшихся подходах прежде всего
обращается внимание на возможности «разделения» природы по
критериям «творения» и «творимости», в результате чего в силу
элементарной комбинаторики по двум признакам дедуцируется
данная четверичная схема, в каждом моменте которой представлены
«носители» природы: 1) Бог до творения мира; 2) Бог в момент
творения — мир идей; 3) мир конечных вещей; 4) Бог как конечная
цель творения. Такая диспозиция достаточно ясна и вполне тради-
ционна по своей форме. Здесь все понятно, кроме последнего
вопроса: что же такое природа сама по себе, вне возможного или
действительного ее отношения к своим «носителям»? Каково было
чутье естества у Иоанна Скота Эриугены, на основе которого он
вывел свою рациональную структуру?
Выше уже отмечалась традиционная оценка, что под природой
Эриугена понимает некое «единство» Бога и мира: «Слово "природа"
в заглавии работы Иоанна Скота означает полноту реальности,
включая и Бога, и тварь».1 Такое буквальное прочтение,
действительно, грешит пантеизмом. Однако, на наш взгляд, здесь дело
гораздо тоньше. Чтобы разобраться с этим, обернем ситуацию и
прочитаем название трактата Эриугены не как «О разделении
природы», а как «О природе разделения», и если творение выражается
как разделение (например, разделение неба и земли, света и тьмы),
то возможен вариант — «О природе творения». В таком случае
положение дел кардинально меняется и появляется возможность
поставить вопрос о сущности самой природы и в какой-то степени
оправдать постановку вопроса Эриугеной.
Получается, что природа как таковая — это принцип разделения
вообще. При этом здесь образуются два аспекта. Во-первых, природа
сама сотворена Богом в начальном акте из небытия. Во-вторых,
природа одновременна акту творения, что дает возможность
говорить о естественности творения. Кроме этого, понимаемая таким
образом природа (как принцип разделения) должна быть соположена
со вторым моментом тетрактиды — миром идей, без чего будет
непонятно, как образуется третий момент тетрактиды — мир
многообразия конечных вещей. Сам акт творения представляется как
разделение чего-то от чего-то, с немаловажным добавлением —
действие разделения происходит как вращение, что согласуется с
традиционными мифо-религиозными образами космогонии.
Природа, будучи сама сотворена, дает возможность сбыться истории.
Ф. Ч. Коплстон указывает на трудности понимания Эриугеновой
концепции творения, усложненной идеями эманации, что создает
крайне противоречивую доктрину (хотя, может быть, сам Эриугена
1 Коплстон Ф. Ч. История средневековой философии. М.: Энигма,
1997. С. 76.
460
Ю. M. РОМАНЕНКО. БЫТИЕ И ЕСТЕСТВО
сознательно идет на это обострение диалектического противоречия):
«В первой книге сочинения "О разделении природы" Иоанн Скот
разъясняет, что верит в свободное божественное творение мира "из
ничего". Далее он доказывает, что утверждение о сотворении мира
Богом предполагает изменение в Боге и несостоятельную мысль о
существовании Бога "до" мира. Конечно, уже Августину пришлось
доказывать, что творение мира не должно пониматься в том смысле,
что Бог обладает временным приоритетом (т. е. существует во
времени) или претерпевает метаморфозу в акте творения. Однако Иоанн
Скот полагает, что вера в творение должна пониматься в том смысле,
что Бог является сущностью всех вещей и даже, что весьма
удивительно, присутствует в вещах, творцом которых его считают.
Здесь ясно просматривается неоплатоническая идея эманации,
истечения вещей из Единого; но некоторые утверждения Иоанна
Скота сами по себе создают впечатление, будто он считает мир
объективацией Бога, или, употребляя выражение Гегеля, Богом-в-
его-инаковости. В то же время Иоанн Скот говорит, что Бог в себе
остается трансцендентным, неизменным и непреходящим. И хотя
понятно, что он пытается интерпретировать иудео-христианскую
веру в божественное творение с помощью философских
инструментов, не вполне ясно, как относиться к результатам этой попытки».1
При подобной интерпретации, действительно, обнаруживается
много несостыковок.
При экспликации принципа творения необходимо оговорить
смысл понятия «ничто». А. Штекль, в согласии с вышеприведенной
оценкой Ф. Коплстона, отмечает, что Эриугенапод ничто «понимает,
однако, божественное бытие в его величии, превосходящем самую
сущность, бытие, которое, как мы уже знаем, в этой своей
сверхсущности должно быть охарактеризовано как "ничто". Поэтому
сотворение примордиальных причин есть не что иное, как исхож-
дение их из "ничто" божественной сверхсущности, благодаря живой
деятельности Бога. Бог создал все, говорит Эриугена, из ничего,
т. е. из Себя Самого, потому что под "ничто" разумеется Он Сам,
не находящийся ни в каком определенном бытии. Он нисшел из
отрицания всех сущностей в утверждении их совокупности, из Себя
самого — в Себя Самого, как бы из ничего — в нечто».2 Ход
подобного рассуждения определяется онтологической триадой
«бытие—ничто—творение».
Таким образом, имеется существенная проблема: отождествление
«бытия» Бога и «ничто» Бога. А. Штекль наталкивается на нее
при комментировании «второй природы», по Эриугене — сотворен-
1 Коплстон Ф. Ч. История средневековой философии. С. 77-78.
2 Штекль А. История средневековой философии. СПб.: Алетейя, 1996.
С. 91.
КНИГА II. ГЛАВА I. § 4. СРЕДНЕВЕКОВЬЕ 461
ной и творящей — мира идей, или, как определяет их А. Штекль,
«примордиальных причин». Последние «как первоосновы вещей
суть не только первообразы, но и примордиальные причины, т. е.
действующие потенции чувством воспринимаемых вещей. Потому-
то о второй природе и говорится, что она создана и создает. Вторая
природа отсылает нас, таким образом, к третьей природе».1
«Примордиальные причины» Эриугены напоминают «гипотетические
логосы» Ареопагита, которые мы в соответствующем месте
истолковывали как «образ воли» или, vice versa, «волю образа».
Противоречивое тождество «бытия» и «ничто» снимается категорией
«творения».
Разрешить вышепоставленную проблему можно следующим
образом. Отождествление «бытия» и «ничто» значимо только в
отношении «второй природы». Она сотворена из ничего, но и сама
может творить из ничего. Следовательно, «ничто» как бы удвоилось.
Но поскольку небытия нет (по Пармениду), то этим «вторым ничто»
может быть только бытие Бога-Творца, к которому возвращаются
сотворенно-творящие идеи. Здесь происходит возврат второй
природы к первой еще до того, как наступила фаза четвертой природы
полного возвращения. Говоря по-другому, сотворенная вторая
природа сама творит из ничего, которое ей же предоставил Перво-Творец
из своего бытия, но такое возможно, лишь если вторая природа
уже успела предварительно вернуться в первую. Этот тонкий момент
всегда был поводом для недоумения мышления, из чего вытекал
всегда искус представить ипостазированный мир идей в собственном
интеллекте самого Бога.
Применение принципа творения к миру третьей природы
(сотворенной и нетворящей — natura, quae creatur et non créât) для
ее полагания у Эриугены характеризуется А. Штеклем так:
«Творение есть не что иное, как Его собственное возникновение из недр
ничто Его сверхсущности. "Бог и творение, говорит Эриугена, не
две различные сущности, а одна и та же" (3, 17, р. 678). Но хотя
Бог во всем находится и во всем осуществляется, однако Он не
исчезает в вещах; Он есть и остается сам в себе, всегда как неделимое,
бесконечное единство, трансцендентное миру. Сообразно с этим он
относится к миру одновременно и как имманентное и как
трансцендентное бытие».2 Здесь снова проявляется серьезное
противоречие (совпадение имманентного и трансцендентного), которое
становится импульсом к динамическому саморазвитию Эриугеновой
системы и которое может быть разрешено только построением всей
системы в целом. Либо пан, либо пропал.
1 Там же. С. 92.
2 Там же. С. 97.
462 Ю. M. РОМАНЕНКО. БЫТИЕ И ЕСТЕСТВО
Системосозидающий пафос философии Эриугены, почерпнутый
им из неоплатонических доктрин, в какой-то степени был воссоздан
в гегелевском учении, и далее — в философии М. Хайдеггера,
разумеется, с существенными оговорками (в чем мы попытаемся
выше убедиться). Для всех этих авторов принципом системостроения
послужил метод спекуляции. Ф. Коплстон проводит сравнение
между Эриугеной и Гегелем в отношении к спекуляции, которую мы
могли бы определить как использование некоего «зеркала» в акте
умозрения. «Может показаться, что упоминание имени Гегеля в
связи с мыслителем IX в. является чудовищным анахронизмом.
И в некоторых важных отношениях это действительно так. Однако,
несмотря на огромные и очевидные различия в исходных
интеллектуальных основаниях, историческом контексте, подходе и
философских убеждениях, мы обнаруживаем в обоих этих людях
стремление к исследованию философского или спекулятивного
значения христианских верований».1 Радикализируя такую оценку,
можно сказать, что это загадочное «зеркало» и есть природа как
таковая, которая, будучи введена в процесс мышления, делает его
спекулятивным. Выражаясь иначе, с обратной стороны: природа
самого мышления — спекулятивна.
Спекулятивный метод выполняет двойную функцию в процессе
построения системы знания: он способствует взаимной удобораспо-
ложенности элементов в системе, а также окончательно замыкает
полноту целого. Спекулятивный эффект является пределом
умозрительного усилия, находящимся в нем самом. Обнаружение этой
оптической и оптимизирующей способности разума в философии
Эриугены справедливо отмечается А. Штеклем: «Разум, говорит
Эриугена, сам по себе — тьма; он не может проникнуть в
божественные тайны, если его не озаряет солнце Божественного Слова.
Но когда разум озарен этим сверхъестественным светом, тогда он
может преодолеть всякий мрак и взглянуть непосредственно в лицо
высочайшей истины (3, 1, р. 627). В этом случае собственно даже
не разум созерцает высшую истину, но сама она созерцает себя в
человеке. Не человек находит Бога, но Бог находит Себя Самого в
человеке (2, 23, р. 572)».2
Наличие зеркала является условием возврата. Согласно Эриу-
гене, четвертая природа (нетворящая и несотворенная),
определяемая только отрицательными предикатами, есть конечная цель всех
природ — возвращение как таковое. Вращения допускались во
второй и третьей природах, но воз-вращение (префикс «воз-» здесь
употребляется в значении усиления и тотального объединения),
т. е. упорядочение и гармонизация всяческих вращений, может
1 Коплстон Ф. Указ. соч. С. 79.
2 Штекль А. Указ. соч. С. 87.
КНИГА II. ГЛАВА 1. § 4. СРЕДНЕВЕКОВЬЕ 463
быть достигнуто только в четвертой природе. Д. Реале и Д. Антисери
так обобщенно реферируют описание Эриугеной последней фазы
Богокосмического и Богочеловеческого процесса: «Природа несо-
творенная и нетворящая — Бог, последний предел в возвратном
движении. Призвание человека с момента своего возникновения —
уподобиться Сыну Божьему, который воплотился, чтобы развернуть
универсум и указать дорогу назад. Поэтому факт инкарнации
естествен и сверхъестествен одновременно. Путь назад имеет свои
фазы: сначала распад тела на четыре элемента, затем воскрешение
его во славе; распад телесного человека на дух и изначальные
архетипы, наконец, когда человеческая натура окажется вблизи
Бога, как воздух вокруг источника света, все пребудет в Боге и
Бог во всем. При этом угрозы утраты индивидуальности нет: как
железо не аннигилирует, будучи раскаленным в горне, так всякая
тварь сохраняет свою уникальность в более высокой форме. "Бог,
сам по себе непознаваемый, частично раскрывает себя в своих
созданиях, и создание — чудо невыразимое — обращение в Бога"».1
А. Штекль в несколько иных выражениях реконструирует
динамику движения в четвертую природу: «Возвращение вещей в
Бога совершится по известным ступеням. Естественные чувственно-
воспринимаемые вещи возвратятся в свои примордиальные
причины; с них совлечется чувственная оболочка, и они преобразятся в
Божественном Слове. Что же касается человеческой природы, то
следует отличать ее всеобщее возвращение в Бога от единичного.
Все без исключения люди возвратятся в рай, т. е. в свои
примордиальные причины в Божественном Слове; избранные же взойдут
еще выше; они не только возвратятся в рай, но и вкусят от древа
жизни, т. е. они станут едино с Богом, обожествятся».2
Если переход из второй в третью природу был вызван
грехопадением, то возможность возвращения в четвертую природу (а значит,
и в первую, ибо они совпадают) обеспечивается искуплением:
«...воплощение и искупление являются здесь существенным моментом
в целостном теогоническом процессе, который завершается
возвращением вещей в Бога. Во Христе человечество уже вступило в
состояние обожествления, когда Его собственная человеческая
природа соединилась с божественной и преобразилась в ней. Но то,
что в Христе уже свершилось, в отношении прочих людей и в
отношении чувственного мира только еще имеет свершиться, когда
исполнится предопределенное число людей. Это произойдет в
грядущем воскресении».3
Реале Д., Антисери Д. Западная философия от истоков до наших
дней. Т. 2. Средневековье. СПб.: Петрополис, 1994. С. 95.
2 Штекль А. Указ. соч. С. 101.
3 Там же. С. 102.
464 Ю. M. РОМАНЕНКО. БЫТИЕ И ЕСТЕСТВО
Разделяя веру в теистические догматы, Эриугена не мог обойти
вниманием тему ада, которому находится место в его тотальной
системе. Адское состояние он понимает специфическим образом.
Вот что пишет по этому поводу А. Штекль: «Однако, хотя вся
человеческая природа, во всех индивидуумах, в которых она
осуществилась, возвратится в рай, т. е. в примордиальные причины,
это не исключает вечных наказаний для злых. Наказание касается
не природы, а воли, так как только она есть причина зла. Вот
почему и в грешниках природа прославится, но их воля будет
подвергнута наказанию. Последнее будет состоять в том, что они
окажутся лишенными тех чувственных благ, которыми они
удовлетворяли свои похоти в земной жизни, и будут предоставлены
пустоте сердечной и буре неудовлетворенных желаний. Это —
мучение, которое их терзает, это — пламя, которое их пожирает».1
Несколько иначе комментирует этот вопрос Ф. Коплстон:
«...творения вновь вернутся в свои вечные основания в Боге (архетипи-
ческие идеи) и перестанут называться творениями. Кроме того,
идею вечного наказания нераскаявшихся грешников он понимает
в том смысле, что Бог будет вечно препятствовать извращенной и
упорствующей воле сосредоточиваться на хранящихся в памяти
образах тех вещей, какие были предметами земных желаний
грешника».2
Коротко говоря, с точки зрения природы, ад означает
противоестественность, под которой понимается разделейность воли и
образа. Точнее сказать, образ как целое образуется единством двух
находящихся в смежных природах воль, которые сами по себе
являются вращениями. Если же одна из воль из-вращается, тогда
не возникает и образа природного единства. С точки зрения
воображения, это положение дел можно понять так, что пустая
фантазия — воление к невоплощаемому образу не может не закончиться
адскими муками.
Антропология в контексте системы Эриугены имеет достаточно
оригинальный вид, не совсем вписываясь в ортодоксальные рамки.
Человек, будучи «венцом творения», вбирает в себя все. В какой-то
степени Эриугена реализует принцип Протагора «человек — мера
всех вещей». При этом божественная природа проявляется в
человеке двойственно. А. Штекль пишет: «Все вещи созданы в человеке
и притом двояким образом. Во-первых, постольку, поскольку в
человеческой природе объединяются все моменты, наблюдаемые в
сотворенном мире в их обособленности друг от друга. Человек
познает как ангел, умозаключает как человек, чувствует как
неразумное животное, живет как растение и существует телесно и
1 Штекль А. Указ. соч. С. 102-103.
2 Коплстон Ф. Указ. соч. С. 78.
КНИГА II. ГЛАВА 1. § 4. СРЕДНЕВЕКОВЬЕ 465
духовно как все прочие вещи. Во-вторых, все вещи созданы в
человеке постольку, поскольку в нем заложено Богом понятие о
всех сотворенных вещах. Все понятия вещей нам имманентны,
присущи; если же мы о том ничего не знаем и если наше познание
вообще недостаточно, то причина этого в грехопадении».1
Основная идея Эриугеновой антропологии заключается в
представлении о «двояком человеке», выводимом из учения о «четве-
роякой природе»: «В соответствии с разграничением между второй
и третьей природой Эриугена проводит далее различие между
двояким человеком: идеальным человеком в Божественном Слове и
эмпирическим в мире явлений».2
Подводя итог анализу философии Эриугены, следует заметить,
что если четверичная структура дополняется принципом историзма,
т. е. рассматривается в свете истории, то тетрактида расширяется
и трансформируется в пентаду. Эти арифмологические структурные
преобразования благодаря проведенной процедуре обращения
нужны нам для того, чтобы подчеркнуть следующий аспект. Природа
как таковая есть принцип разделения Божественного и
человеческого. Иначе говоря, природа есть динамически развивающаяся
двусторонняя граница первого и второго со всеми необходимыми
диалектическими квалификациями — реальной и мнимой
поверхностей. Принцип творения, вводимый в принцип всеединства,
динамизирует последнее, выражаясь в степенях напряжения его
иерархии. Арифмологический метод тетрактиды — один из сложнейших
способов формализации полноты онтолого-метафизического
знания. Учение Эриугены — классический образец применения этого
метода.
Таким образом, природа делит начетверо Богочеловеческий
процесс. Поскольку четверичная схема Эриугены является еще и
кольцевой конструкцией, то ее топологической моделью может быть
лента Мёбиуса или положенная навзничь восьмерка — символ
бесконечной конечности. Если круг символизирует единое бытие,
то восьмерка — двоичное естество. Эриугене удалось выразить
дополнительность процессов эманации и креации в парадигме
средневекового теоцентризма. Название трактата «De divisione naturae»
можно истолковать не только как «раз-деление», но и, исходя из
того, что «vision» означает «видение», — как «двойное видение»
природы, т. е. стереоскопическое. Эриугена действительно понял
суть диады естества и сумел выразить это в четверичной космо-
исторической схеме. Следовательно, Эриугена является одним из
тех мыслителей, кому удалось рассмотреть в дополнительности
онтологические и метафизические принципы. Античность еще не
1 Штекль А. Указ. соч. С. 98-99.
2 Там же. С. 99.
466 Ю. M. РОМАНЕНКО. БЫТИЕ И ЕСТЕСТВО
могла предложить подобную систему, ее возможность появляется
только при наличии объединенных догматов творения и Богово-
площения, на чем основывается христианская религия.
Метафизическая концепция Эриугены напрашивается на
сравнение с таковой у Аристотеля. Действительно, формальные
схождения концептуальных схем имеют место у обоих мыслителей.
Стагирит также рассматривает природу Космоса через призму своей
четверицы причин: формальной, материальной, движущей и
целевой. В результате проведенного онтолого-метафизического
реконструирования аристотелевской философии мы пришли к выводу,
что его «фюсис» есть «зеркало» Ума-Перводвигателя. И Аристотель,
и Эриугена формально одинаково применяют методы спекуляции
и тетрактиды к «предмету» их внимания, но содержания этих
предметностей, конечно, имеют существенные отличия,
обусловленные различием содержания эпох, в которых они жили.
Духовное наполнение каждой из эпох определяется
соответствующими религиозными устремлениями. Поэтому есть смысл
рассмотреть проблему чутья естества в более широком кросс-
культурном контексте, привлекая к сравнительному анализу
соответствующие мифологические сюжеты языческой религии и
фрагменты Священного Писания теистической религии.
Качество чистой природы, или самого естества как зеркала
Абсолюта, отражающего его образ без малейшего искажения,
присуще библейскому мифическому персонажу — Софии —
Премудрости Божией: «(греч. Σόφια, "мастерство", "знание", "мудрость",
евр. hochemâh), в иудаистических и христианских религиозно-
мифологических представлениях олицетворенная мудрость
божества. Термин "София", возникший в Древней Греции, употреблялся
там как отвлеченное, умозрительное понятие, хотя первоначально
у Гомера (Нот. П. XV 411-412) он встречается в комбинации с
именем богини Афины — применительно к делу строительства и
упорядочения, художества и рукомесла».1
Представления образа Софии в древнегреческой и
древнееврейской традициях четко различаются, но и могут быть сближены
через ряд опосредствующих звеньев: «Сама Афина имеет много
общего с последующей Софией; и все же если мифологема греческой
Афины как богини мудрости (но без приложения к ней термина
"София") есть олицетворение мудрости, то мудрость в греческой
мифологии не есть лицо. Иначе в ветхозаветной традиции, где
понятие Премудрости — в силу самой специфики иудаистической
мифологии — приобретает личностный облик: самораскрытие Бога
1 София // Мифы народов мира. Энциклопедия. Т. 2. М., 1992. С. 464.
KHI]ΓΑ II. ГЛАВА 1. § 4. СРЕДНЕВЕКОВЬЕ 4β7
в мире должно было принимать характер "лица" (или "как бы
лица") — как второго и подчиненного "Я" Бога».'
Как видно, одно и то же имя — София — в разных культурных
традициях трансформировалось в противоположных
направлениях — в качестве отвлеченного умозрительного понятия (или
понятия умозрительного отвлечения) и в качестве персонифицированного
образа (или образа персонификации). Таково отличие между
Афинами и Иерусалимом. Целесообразно также добавить, что любовь
к одной и той же Софии — философия — была присуща как
Афинам, так и Иерусалиму, вот только формы этой любви
проявились двояко, по причине принципиальной двойственности самой
Софии.
Греки почитали Мудрость как атрибут имени Афины, которая
оказала покровительство центральному городу Эллады, даровав ему
собственное имя — Афины — и сделав его столицей философов.
Образ происхождения Афины включает в себя как описание
естественного рождения, так и волевого творения: «Догреческое
происхождение образа Афины не позволяет раскрыть этимологию
имени богини, исходя из данных только греческого языка. Миф о
рождении Афины от Зевса и Метиды ("мудрости", греч. metis,
"мысль", "размышление") позднего происхождения — периода
оформления классической олимпийской мифологии. Зевс, зная от
Геи и Урана о том, что его сын от Метиды лишит его власти,
проглотил свою беременную супругу (Hes. Theog. 886-900) и затем
при помощи Гефеста (или Прометея), расколовшего ему голову
топором, сам произвел на свет Афину, которая появилась из его
головы в полном боевом вооружении и с воинственным кличем».2
Будучи богиней мудрости и справедливой войны (именно
справедливой), Афина выражает единство образа и воли Абсолюта:
«Она — мысль Зевса, осуществленная в действии. Постепенно
материнство Метиды принимает все более отвлеченный и даже
символический характер, так что Афина считается порождением одного
Зевса и принимает на себя функции божества мудрости, так же
как Зевс воспринял их от Метиды».3 Если Зевс олицетворяет Бытие,
то Афина — Естество. По отношению к поднебесному миру «Афина
рассматривается в контексте художественного ремесла, искусства,
мастерства».4 Только следует оговориться, во избежание
последующих недоразумений, что искусство Афины естественно.
1 Там же.
2 Афина // Мифы народов мира. Энциклопедия. Т. 1. М., 1991.
С. 126-126.
3 Там же. С. 126.
1 Там же. С. 127.
468 ΙΟ. Μ. РОМАНЕНКО. БЫТИЕ И ЕСТЕСТВО
Сравнительный анализ показывает, что «как греческое слово
"София", так и соответствующее ему древнееврейское слово —
женского рода, и в пассивном образе "чистого зеркала действия
божия" (как определяется София) угадываются женские черты.
Премудрость в своем отношении к Богу есть его демиургическая,
мироустрояющая воля. Она описывается (Притч. 8, 27—31) как
"художница", по законам божественного ремесла строящая мир
(что снова сближает ее с Афиной); в природу этой космогонической
Софии-"художницы" входит "веселие"».1 Можно предположить, что
София есть принцип игры как таковой, а именно игры образа.
Двойственность природы самой мудрости (или мудрости самой
природы) заключается в том, что она является целокупной границей,
создающей деление на имманентное и трансцендентное, внутреннее
и внешнее, субъективное и объективное и прочие оппозиции
метафизики.
Девственницы София и Афина олицетворяют чистоту естества
(«по устойчивой схеме мифа, мудрость принадлежит деве»). Можно
выдвинуть этимологическую и фоносемантическую гипотезу, что
слово «фюсис» имеет родственное отношение к именам Афины и
Софии. Исходным звуком у всех имен является «ф», с чего, между
прочим, начинается и «философия». Уместно напомнить, что
греческое слово φύσις производно от глагола φύω (русс, бу, быть, буду)2,
выражающее действия: рождать, производить, произращать,
творить, делать; а в форме существительного (φύή, φυά, φίω) — рост,
осанка, стан, наружный вид, образ.3
Двойственность природы Софии могла вызывать негативные
мизософские реакции на этот образ, что проявилось в учении
гностиков о «падшей Софии» — Ахамот — «гипостазированное
"помышление" падшей Софии ("премудрости Божией"), духовный плод
ее грехопадения. София, на правах 12-го зона замыкавшая плерому,
возжелала в страстном порыве устремиться непосредственно к
недостижимому безначальному "отцу эонов", нарушая этим
иерархическую жизнь плеромы и ее замкнутость как целого; такой порыв
привел к излиянию части сущности Софии, из которой возникла
Ахамот. Порожденная одной Софией, без участия мужского зона,
Ахамот являла собой неоформленную субстанцию; вся жизнь
Ахамот сводилась к аффективно-страдательным состояниям (печаль,
страх, недоумение, неведение). Так вне плеромы впервые возникает
мучительное и дисгармоническое бытие как прообраз имеющего
явиться космоса».1 Мучения «падшей» Софии, а скорее «отпавших»
1 София. С. 464.
2 Веисман А. Д. Греческо-русский словарь. М., 1991. Стб. 1331-2.
3 Там же. Стб. 1328.
* Ахамот // Мифы народов мира. Т. 1. С. 136.
КНИГА II. ГЛАВА 1. § 4. СРЕДНЕВЕКОВЬЕ 469
от Софии гностиков, можно сравнить с описанием ада у И. С. Эриу-
гены, который состоит в разделейности воли и образа.
Место Софии в священной иерархии и ее функции в акте
творения обладают следующими нетривиальными свойствами: «Если
по отношению к Богу София — пассивно зачинающее лоно, "зеркало
славы Божией", то по отношению к миру это — строительница,
созидающая мир, как плотник или зодчий складывает дом как
образ обжитого и упорядоченного мира, огражденного стенами от
безбрежных пространств хаоса».1
Таким образом, зеркало Мудрости имеет две стороны: на первой,
лицевой, обращенной к Творцу, напечатлевается Его образ действия,
мгновенно становящийся сотворенной вещью. Хотя зеркало по
определению должно быть отражающим лучи и непроницаемым, но в
данном случае София соединяет в себе исключающие друг друга
свойства — отражать и пропускать. С одной стороны, София
пассивно принимает на себя творческие энергии, с другой стороны,
«мнимой» (обратная сторона зеркала), она активно обращает
пропущенные через нее энергии с целью естественного строительства
творящегося мира. София выступает неуловимой границей Бога и
твари, способствуя тому, чтобы Творец оставался трансцендентным
и вместе с тем становился имманентным твари в обращении
последней к Мудрости.
В Библии этому символу посвящены существенные фрагменты.
София приуготовляет возможность творения и поэтому вопрос
о ее сотворенности некорректен. «Господь имел меня началом пути
Своего, прежде созданий Своих, искони; от века я помазана, от
начала, прежде бытия земли. Я родилась, когда еще не существовали
бездны, когда еще не было источников, обильных водою. Я родилась
прежде, нежели водружены были горы, прежде холмов, когда еще
Он не сотворил ни земли, ни полей, ни начальных пылинок
вселенной. Когда Он уготовлял небеса, я была там. Когда Он проводил
круговую черту по лицу бездны...» [Притч. 8, 22-7].
София есть как бы мгновенное предвосхищение творения и его
проводник одновременно. «Она есть дыхание силы Божией и чистое
излияние славы Вседержителя: посему ничто оскверненное не
войдет в нее. Она есть отблеск вечного света и чистое зеркало действия
Божия и образ благости Его. Она — одна, но может все, и, пребывая
в самой себе, все обновляет, и, переходя из рода в род в святые
души, приготовляет друзей Божиих и пророков; ибо Бог никого
не любит, кроме живущего с премудростью» [Прем. 7, 25-28].
София есть всепроникающий дух, делимость как таковая. В
Библии дается перечень ее определений: «Она есть дух разумный,
святый, единородный, многочастный, тонкий, удобоподвижный,
1 София. С. 464.
470 Ю. M. РОМАНЕНКО. БЫТИЕ И ЕСТЕСТВО
светлый, чистый, ясный, невредительный, благолюбивый, скорый,
неудержимый, благодетельный, человеколюбивый, твердый,
непоколебимый, спокойный, беспечальный, всевидящий и проникающий
все умные, чистые, тончайшие духи» [Прем. 7, 22-23].
София есть самодвижность как таковая. «Ибо премудрость
подвижнее всякого движения, и по чистоте своей сквозь все проходит
и проникает» [Прем. 7, 24].
Искусственно научиться Мудрости нельзя, а только естественно,
бесхитростно. «Без хитрости я научился, и без зависти преподаю,
не скрываю богатства ее, ибо она есть неистощимое сокровище для
людей; пользуясь ею, они входят в содружество с Богом, посредством
даров учения» [Прем. 7, 13-14].
Если напрямую обратиться человеку к Богу нельзя, то это можно
сделать в отношении к Софии. В момент творения она одновременна
и Богу, и человеку, о чем извещают «Притчи» Соломоновы: «Тогда
я была при Нем художницею, и была радостью всякий день, веселясь
пред лицем Его во все время, веселясь на земном кругу Его, и
радость моя была с сынами человеческими» [Притч. 8, 30—31].
Поэтому софиология всегда подразумевает концепцию богочелове-
чества, что адекватно отразил В. Соловьев.
Без Мудрости человек — ничто, и именно то ничто, откуда он
творится к бытию Мудростью: «Да хотя бы кто и совершен был
между сынами человеческими, без Твоей премудрости он будет
признан за ничто» [Прем. 9, 6]. Данный контекст обусловлен
онтологической триадой «бытие—ничто—творение».
Будучи абсолютным живым зеркалом, София способна отражать
и своей обратной стороной, если на нее будет направлен из небытия
взгляд творящегося существа. Здесь появляется возможность
перейти от теофании к антропофании. Если София отражает Бога без
Его удвоения, то человек, в обращении к Мудрости, становится
двояким, повторно рожденным в духе.
Тему «двоякого человека» развивал, как мы помним, в своем
богословии Эриугена. Эту же тему в человеческом воображении
выражают так называемые «близнечные мифы», по поводу которых
автор этих строк уже имел возможность высказаться в своих
статьях, исследуя проблему близнечества Мифоса и Логоса.1 Один из
1 См.: Романенко Ю. М. 1) Культурная значимость близнечного мифа
в истории // Перспективы метафизики. Классическая и неклассическая
метафизика на рубеже веков. СПб., 1997. С. 121-124; 2) Универсальность
близнечной мифологемы // Человек. Природа. Общество. Актуальные
проблемы. СПб., 1997. С. 16—18; 3) Логика и миф как дополнительные
способы вербализации мышыления // Современная логика: проблемы
теории, истории и применения в науке. СПб., 1998. С. 69-76; 4) Миф
как наука о формах правильного воображения // Мифология и
повседневность. СПб., 1998. С. 78-83.
КНИГА П. ГЛАВА 1. § 4. СРЕДНЕВЕКОВЬЕ 471
показательных примеров этой серии — история взаимоотношений
братьев Диоскуров, что означает именно — «сыновей Зевса ».
Собственно говоря, хотя у них была одна мать — Леда, но
«натуральным» сыном Зевса был только Полидевк, а Кастор был зачат
спартанским царем Тиндареем. Это не мешало быть им близнецами,
хотя Полидевк обладал бессмертием, а Кастор нет. В земной жизни
оба брата были убиты на поле боя. «Бессмертный Полидевк был
взят Зевсом на Олимп, но из любви к брату уделил ему часть своего
бессмертия, они оба попеременно в виде утренней и вечерней звезды
в созвездии Близнецов являются на небе. В мифе о Диоскурах —
элементы древнего индоевропейского почитания божественных
близнецов как помощников человека».1 Миф о Диоскурах
настраивает волю и воображение человека на установление гармоничного
и равноправного, мудрого, отношения его с себе подобными.
В истории христианства образ Софии сближался с первой и
второй ипостасью Пресвятой Троицы, девой Марией, а также
рассматривался самостоятельно, особенно в агиографии святой
Софии — матери Веры, Надежды, Любови. Естественная
двойственность образа Софии означает принадлежность ее к двум планам
бытия — Божественному и человеческому. Философское почитание
Софии (это непроизвольная тавтология) вылилось в движение со-
фиологии. Философия и софиология — практически синонимы:
любомудрие и мудрословие (мудромыслие) перетекают друг в друга
в некоей игре имен. Сама София была игрой, свободным и радостным
художеством Творца в процессе творения.
Одной из вариаций софийного мифа в человекомерной
реальности являются близнечные мифы, по-своему выражающие идею
диады естества. В библейской традиции эти мифы (и шире — мифы
братства) развивались в повествованиях о Каине и Авеле, Иакове
и Исаве, Иосифе и его братьях, Моисее и Аароне и т. д.,
испытывающих в различных преломлениях чутье естества (родства).
Новый Завет также включает в себя эти мифы, например, в
образах апостолов. Чутье универсального близнеца — одна из
загадочнейших реальностей человеческого существования, которая,
в понимании В. В. Бибихина, «относится наверное к самым темным
и неприкосновенным тайнам... Трудно поверить чтобы в Писании
эта реальность не была названа и ей бы не было указано ее место
и смысл. Осмеливаюсь предположить, что задевающая меня тайна
без раскрытия ее, на что я, конечно, тоже не замахиваюсь,
присутствует в Евангелиях в виде Дидима (Близнеца) Фомы...»2 Не
претендуя на расшифровку этой тайны, В. В. Бибихин
останавливается на догадке, что «не надо спрашивать чей близнец Дидим:
Диоскуры // Мифы народов мира. Т. 1. С. 383.
2 Бибихин В. В. Узнай себя. СПб.: Наука, 1998. С. 353-354.
472 Ю. M. РОМАНЕНКО. БЫТИЕ И ЕСТЕСТВО
просто Близнец, наш. Кстати, в "Евангелии от Фомы" много
говорится о единственности и двоих в одном».1 Феномен универсального
близнечества — одно из явных проявлений двоичности естества,
воплощенной в уникальности единичного бытия. В. В. Бибихин
пишет: «Мой близнец это я сам, тот же я, но такой, о котором я
ничего не знаю».2
Бытийное единство человеческой самости, едва успев
возникнуть, тут же раздваивается в рефлексии. «Бог успел учредить свою
двойственность.., — замечает В. В. Бибихин, — в силу чего
человеческое самопознание натыкается на мучительный вопрос, — это
вы или ваш брат, с которым вас перепутали в детстве?»3 Это не
вопрос шизофреника, наоборот, шизофрения как распад личности
на автономных двойников начинается с поспешного решения
данного вопроса. Шизоанализ, действительно, актуален для
человеческого сообщества, важно только понять, что должно анализироваться,
«Мифология нашего времени недаром колеблется, сомневаясь, сам
ли собою человек на этой земле или он неведомый самому себе
пришелец, свой собственный загадочный гость и двойник. Божие
творение кончилось, человек утвержден, ему ничего не надо творить,
рождать, надо только узнать, повторив в знании то, что Бог произвел
в рождении. Но перед ним все двоится».4
Двоица сама по себе ни плоха, ни хороша. Таковыми ее делает
человек. То, что в человеческом взгляде все двоится, может быть
как недостатком человека, так и преимуществом, в зависимости от
понимания им двоичности естества. О последнем В. В. Бибихин
дает такое определение: «Естество всех вещей, то, что в них есть
или просто само есть в них — это Бог по своей энергии. Энергии,
как и сущность, в вечности. Вечность есть точка и мера отсчета
времени; время развертывается веером, спиралью из вечности. Ясно,
что если молитва коренится в энергии, то она до времени. И если
вечное едино, то молитва должна подниматься к безмолвию. И в
ней должно быть два ритма: вхождение и выхождение. Крайность
мира в том, что он хочет и любит только выходить, показываться,
развертываться; крайность монашества в том, что оно всегда хочет
только восходить, сосредоточиваться, свертываться. Дьявол в том
что оба порядка перемешиваются. Драма в том, что переступается
невидимый порог».0
Существенным итогом развития близнечной мифологемы в
Евангелиях является описание взаимоотношений Иисуса Христа и Иоан-
1 Бибихин В. В. Указ. соч. С. 354.
2 Там же. С. 351.
3 Там же. С. 266.
1 Там же. С. 266-267.
ь Там же. С. 330-331.
КНИГА II. ГЛАВА 1. § 4. СРЕДНЕВЕКОВЬЕ 473
на Крестителя. Ряд фактов позволяет интерпретировать это именно
как близнечный миф. Иоанн Предтеча есть пророк,
непосредственный предшественник мессии — Иисуса Христа, долженствующий,
согласно пророчествам, засвидетельствовать его приход. Подобно
Софии, приготовляющей путь творения, Предтеча готовит
повторный приход Творца, воплощаемого в Человеческом образе: «вот, я
посылаю ангела моего, и он приготовит путь предо мною» [Малах.
3, 1]; «глас вопиющего в пустыне: приготовьте путь Господу,
прямыми сделайте стези ему» [Ис. 40, 3].
Предтеча не есть мессия, но его предшествие и сопутствие, до
неразличимости с ним схожий, со-образный. Как пишет С. С. Аве-
ринцев: «Образ Иоанна Крестителя играет в православной традиции
более важную роль, чем в католической. Православная иконография
"Деисиса" (в русском народном переосмыслении "Деисуса") только
Иоанну Крестителю дает предельную (наравне с девой Марией)
близость к Христу».1 Благовествование о чудесном зачатии Иоанна
Крестителя было возвещено его матери, Елисавете, архангелом
Гавриилом, ровно за полгода до явления архангела Гавриила деве
Марии: «Распорядок церковного культа использовал евангельские
свидетельства о шестимесячном, т. е. полугодичном, интервале
между рождеством Иоанна Крестителя и рождеством Иисуса Христа
таким образом, что первое оказалось прикреплено к летнему, а
второе — зимнему солнцестоянию; под знаком Иисуса Христа солнце
начинает "возрастать", под знаком Иоанна Крестителя —
"умаляться»"».2
Взаимоотношение Иоанна Крестителя и Иисуса Христа можно
рассмотреть в свете близнечества Мифоса и Логоса. Если Христос-
Логос онтологически утверждает логические законы тождества и
исключенного третьего: «Да — да, нет — нет, а третье — от
лукавого»; то Предтеча-Мифос, сопровождая своим отражением
явление Логоса, допускает противоречивые суждения,
инспирирующие образное восприятие: «за мною идет Муж, который стал
впереди меня, потому что Он был прежде меня» [Ин. 1, 30].
Противоречие между «после» и «прежде» разрешается в допущении
существования «живого зеркала» как естественного основания
очной ставки Мифоса и Логоса — в акте крещения Иоанном Иисуса.
В этот момент осуществилось преображение двойственной природы
человека в свете проявления едино-тройственной природы Бога.
Иоанн Креститель стоит на границе Божественного и
человеческого миров, «переступая невидимый порог». Исполнив миссию
предтечи, он говорит об Иисусе Христе: «Ему должно расти, а мне
умаляться» [Ин. 3, 30]. Эти слова становятся категорическим им-
1 Иоанн Креститель // Мифы народов мира. Т. 1. С. 553.
1 Там же.
474 ΙΟ. Μ. РОМАНЕНКО. БЫТИЕ И ЕСТЕСТВО
перативом внутриблизнечных взаимоотношений, прекращающих
зависть Каина, обман Иакова и другие формы испытания
ненавистью между родственными существами. Боговдохновенный текст
Священного Писания, сопровождаемый перечисленными мифами,
претворился рациональным богословием в систему догматики.
Диада естества выразилась в Халкидонском догмате о равном наличии
в Иисусе Христе двух природ — Божественной и человеческой.
Культивируемое античностью чутье естества, воспринятое и
теистической эпохой, имело своим пределом фактичность человеческой
смертности. Утверждаемое христианством преодоление смерти и
Воскресение во плоти кардинально трансформирует античное чутье
естества, внося в него волю к преображению жизни. Не
искусственному перетворению уже созданного, а именно естественному
преображению.
Глава 2
От «фюсис» к «натуре»
Экспериментальные проекции природы на экране воображения
Изменения, произошедшие с метафизикой в исторический
период от античности, через Средневековье и до Нового времени,
связаны с эволюцией самого ее предмета. Не случайно М. Хайдеггер
говорил, что судьба Европы — это история ее метафизики.
Определив предмет метафизики как систему взаимоотношений между
естественным и сверхъестественным, важно рассмотреть, как
исторически развивалась сама эта система. При переходе от Средних
веков к Новому времени отношение к естеству радикально
изменилось. В самом чутье естества обнаружилась возможность
экспериментирования, которая усилием воли человека превратилась в
действительный фактор отношения к природе. Предпосылки
экспериментального подхода существовали еще в античности, имея
непроизвольный характер.
Материально-техническое экспериментирование с природой,
организованное научно в начале Нового времени было инспирировано
мысленной философской трансформацией «любящей скрываться»
фюсис в «любящую выставляться» натуру и ранее — чудесным
преображением реальности в мифе. Мифические повествования о
божественном управлении стихиями могли вызвать искус, согласие
на который привело к возникновению искусства. С
методологической точки зрения экспериментальное отношение отличается от чутья
естества тем, что к последнему приспособляется искусство. Ис-кус-
ство с этимологической точки зрения есть субстанциализация
откушенного куска есте-ства. Существенной проблемой метафизики
является вопрос об отношении естественного и искусственного.
Двоица естества может быть иллюстрируема различными
примерами, например фундаментальной дуальностью дня и ночи.
Первым делением, согласно книге «Бытия», является отделение света
от тьмы, после того как свет был сотворен из небытия божественным
повелением «Да будет!». «И сказал Бог: да будет свет. И стал свет.
И увидел Бог свет, что он хорош; и отделил Бог свет от тьмы. И
назвал Бог свет днем, а тьму ночью. И был вечер, и было утро:
день один» (Быт. 1, 3-5).
476 Ю. M. РОМАН EH КО. БЫТИЕ И ЕСТЕСТВО
Диада дня и ночи естественно умножила надвое переходы внутри
себя, в результате чего возникла еще одна оппозиция — вечера и
утра. Так состоялась целостность четверицы — сутки как
завершенный результат креативно-эманативного акта. Начальным
выражением его может быть только миф, на основе которого появляется
возможность философской рефлексии.
Мифологическим символом естественной темноты может
служить такая мировая модель, как «пещера». Платон начинает свою
философию с этого символа, предпосылая выведению
универсального системообразующего метода «диалектики» оказывание своего
знаменитого мифа о «пещере». Что это такое? «В мифо-поэтической
традиции Пещера как нечто внутреннее и укрытое противостоит
миру вне ее как невидимое видимому, темное светлому».1 Пещера
формирует первичные оптические закономерности: «Пещера
укрыта, незаметна для глаза, нелегко впускает и еще труднее выпускает
человека, непроницаема: в неё не смотрят и из нее не выглядывают,
не наблюдают (редкие исключения составляют отрицательные хто-
нические персонажи, которые высматривают свою жертву из
Пещеры как из окна иного мира, царства смерти, это окно нередко
совпадает с единственным оком, как у Полифема)».2 Вместе с этим
в пещере создаются первичные акустические структуры: «В пещере
темно, т. е. безвидно, как в хаосе (в известном смысле Пещера и
есть хранилище остатков хаотической стихии), поэтому в ней можно
только слушать, но нельзя видеть (отсюда двуединый образ: Пещера
как ухо и ухо как Пещера)» .3 Пещера является естественным местом
для актуализации чувства (чутья фюсис), за счет отрешения от
мышления: «В Пещере сознание и разум, логика уступают место
слуху, осязанию, инстинкту, интуиции, темному вожделению».4
Можно подумать, что в пещере законы «рацио» недейственны,
но Сократу, сугубому рационалисту и иронику, удалось и там
открыть и установить рефлектирующие структуры. В этом он
повторил подвиг Одиссея, побывавшего в гостях в пещере Полифема
и сумевшего выбраться невредимым и даже извлечь оттуда что-то
полезное. Одиссей есть мифологический предтеча философа Сократа.
Седьмая книга платоновского диалога «Государство»
открывается такими словами Сократа: «...ты можешь уподобить нашу
человеческую природу (разрядка моя. — Ю. Р.) в отношении
просвещенности и непросвещенности вот какому состоянию...»5 Далее
1 Топоров В. Н. Пещера //Мифы народов мира. Энциклопедия. Т. 2.
М.: Советская энциклопедия, 1992. С. 311.
2 Там же. С. 311.
3 Там же. С. 311.
1 Там же. С. 311.
5 Платон. Государство. 514а // Платон. Соч. Т. 3. М.: Мысль, 1994.
С. 295.
КНИГА П. ГЛАВА 2. ОТ «ФЮСИС» К «НАТУРЕ» 477
идет описание «пещерного» мифа. Природа (человеческая)
уподобляется пещере. Пещера и есть символ самой природы, в который
она любит укрыться. Платоновский миф о пещере звучит на
протяжении всей истории философии, не являясь лишь пустым
привеском к ней. Скажем больше: настолько, насколько
эволюционировал предмет философии, настолько же эволюционировал и миф
о пещере, красной нитью пронизывающий ткань
историко-философского процесса. Платоновский вариант этого мифа соответствует
духу и букве античности. Рассмотрим, какими существенными
деталями дополнялся данный миф в очередные исторические эпохи,
какие философские и научные следствия выводились из него на
соответствующих этапах его развития.
Для начала вспомним в который раз содержание мифа и дадим
ему метафизический комментарий. Итак, любой человек, обладая
телом, по его природе есть «пещера«». В самой этой пещере, в свою
очередь, находятся другие люди (потенциально все человечество),
окружающие данного человека. В этом мифе Платон изначально
полагает невообразимый образ: один человек в себе «носит» всех
людей, существующих вовне его, как в «лоне Авраамовом». Эти
другие люди заключены в его душе, как в темнице, свернуты в
его невидимом генетическом коде, определяющем его
принадлежность к человеческому роду.
Топология пещеры достаточно проста: она представляется
длинным коридором, один конец которого выходит наружу к свету, а
другой заканчивается тупиком, дном, некоей стеной экрана,
имеющей возможность принимать на себя проекции. Где-то в середине
этого пространства помещаются прикованные люди, обращенные
спиной к свету и не имеющие возможность двигать своим телом.
Их взгляд жестко привязан к стене, на которой возникают тени,
отбрасываемые от предметов, носимых некими субъектами за
спиной у людей. «Пещерные» люди могут видеть только тени и слышать
только эхо, а не подлинные образы и имена вещей самих по себе.
Это естественное, повседневное состояние людей, говорит
Платон: «...с ними естественным путем случилось нечто подобное».1
Из естественного состояния необходимо и возможно трансцендиро-
вать, но случается это не со всяким и не без насилия: «Когда с
кого-нибудь из них снимут оковы, заставят его вдруг встать,
повернуть шею, пройтись, взглянуть вверх — в сторону света, ему
будет мучительно выполнить все это...»2
Кто-то (Платон не говорит — кто именно, а это самое интересное)
выхватывает человека из его повседневности и увлекает в
подлинный мир. Платон делает фигурой умолчания настоящего органи-
1 Государство. 515с.
2 Государство. 515с.
478 ΙΟ. Μ POM AH EH КО. БЫТИЕ И ЕСТЕСТВО
затора эксперимента, туманно называя его «законодателем»,
которому на самом деле принадлежит вся власть. Этот некто —
инкогнито, т. е. неопознанно, — руководит-манипулирует «пещерными
людьми». Не говоря о ктойности субъекта, освобождающего
избранных людей из оков и обращающих их к свету, Платон описывает
только траекторию движения. Его слова: «насильно тащить его по
крутизне вверх»1 намекают на знакомый уже нам образ стихийной
воронки. Левитация души к свету осуществляется вихреобразно.
Первоначально взгляд человека прикован к мраку, который и
есть само дно (задняя стена) пещеры. Эта стена является наиболее
интересным и загадочным персонажем мифа. Почему-то необходимо
оторвать взгляд от этой стены, но сделать это можно только с
применением посторонней силы, направленной на тело: «глазу
невозможно повернуться от мрака к свету иначе чем вместе со всем
телом»."
Для этого существует специальное «искусство обращения» к
подлинному источнику знания, каковым в учении Платона
оказывается умопостигаемое Единое-Благо, беспредпосылочное начало, в
свете которого все вещи получают свое совершенное бытие.
«Восхождение и созерцание вещей, находящихся в вышине, — это
подъем души в область умопостигаемого. ...в том, что познаваемо,
идея блага — это предел... В области видимого она порождает свет
и его владыку, а в области умопостигаемой она сама — владычица,
от которой зависят истина и разумение...»3
«Искусство обращения» (что сейчас могли бы назвать
феноменологическим методом) включает в себя специальные упражнения
для приведения зрения к привычке созерцать эйдосы — лишенные
плоти образы вещей. Искусство (техне) обращения (реверсии) можно
понять следующим образом. В эксперименте двоица естества делится
на две тяготеющих друг к другу части (этимологически выводимые
из корня «кус»), и чтобы они не соединились по инерции вновь,
одна из частей махинативно (слова «машина» и «махинация» в
греческом языке имеют единый корень, означающий некую
«хитрость» и «уловку») переворачивается по отношению к другой и ее
энергия переводится на иную цель. Искусство состоит в том, чтобы
перенаправить в замедлении или ускорении взаимонаправленное
движение души и тела живого существа. Ум, используя свою
креативную способность, выманивает фюсис из укрытия, обнаруживает
ее потаенные возможности и перетворяет их по-своему. Так
«метафизика» превращается в «транс-натурум» — встроенную между
частями естества сферу техники, управляемую волей субъекта, под-
1 Государство. 515е.
" Государство. 518с.
:< Государство. 517Ь.
КНИГА II. ГЛАВА 2. ОТ «ФЮСИС» К «НАТУРЕ» 479
ражающего Творцу, и питающуюся излишками энергий,
излучаемых из разрывов ополовиненной природы. Такое положение дел
уместно представить следующей диспозицией: существует инъекция
объекции в субъекцию и прямопротивоположная ей проекция субъ-
екции в объекцию. Эта четверичная структура является более
полной и адекватной, нежели традиционная бинарная схема субъект-
объектного противостояния.
Миф о пещере Платона проанализирован достаточно подробно
с точки зрения его учения об Абсолюте (Генология), «метафизики
света», топологии. В меньшей степени уделяют внимание
акустической стороне дела — тем голосам, которые слышатся за спиной
у прикованных людей и которые произносят имена, эхом
отдающиеся в нетренированном слухе непосвященных людей.
Еще одним сложным, необъясненным моментом является вопрос
о том, почему люди связывают эхо и отражение на стене с одним
и тем же предметом. Получается, что стена сама приводит световые
и звуковые волны от предмета в единство и когерентно отражает
их от себя в органы восприятия человека. Немаловажно отметить,
что импульсом к обращению к свету, т. е. от-вращению от теней,
является эхо голосов за спиной у людей. Зов по имени заставляет
вздрогнуть тело, благодаря чему падают цепи и тело может
развернуться в поиске источника звука.
Вообще, что это за стена (внутренняя поверхность пещеры),
какова ее фундаментальная роль в метафизике Платона? Что она
является главным антиподом Единому-Благу — это понятно по
топологическому раскладу. Ясно также, что степень
трансцендентности ее такая же, как и у Блага. О ней Платон апофатически
умалчивает. Можно только косвенно заключить, что если Благо
является внешним пещере источником умопостигаемого света, то
стена является источником источения мрака, если не самим мраком
как таковым. Вспомним, как Дионисий Ареопагит предупреждал,
что на «тайноводственный мрак» наталкиваются как на
неприступную стену, которую сам Бог сделал покровом своим. Твердый
характер света и мрака воспринимается мифическим мышлением
вполне естественно. Глаза осязают твердь неба в двух его
состояниях — светлом и темном. Отсюда становится понятно, что
платоновский миф о пещере есть не что иное, как метафорическое
описание обращающегося перехода между днем и ночью.
Обдумаем эту принципиальную оппозицию: свет — мрак. В
статье Ю. М. Кагана «Платон и слова, обозначающие свет и темноту»1
сделана подборка и анализ античных и библейских фрагментов,
где встречаются понятия, выражающие противостояние света и
Каган Ю. М. Платон и слова, обозначающие свет и темноту //
Платон и его эпоха. М.: Наука, 1979. С. 301-316.
480 Ю. M. РОМАНЕНКО. БЫТИЕ И ЕСТЕСТВО
тьмы. Эта оппозиция, как и всякая дуальность, является
непосредственным предметом метафизического способа философствования.
С онтологической точки зрения отношение света и тьмы
асимметрично, поскольку только свет наделяется статусом бытия, тьме же
отводится пустое место в небытии. Но с метафизической точки
зрения свет и тьма равноправны и симметричны. Как резюмирует
Ю. М. Каган: «Такой мрак и такой свет не противоставляются друг
другу, а существуют рядом друг с другом».1 Что же является
границей между первым и вторым? Упомянутая Стена, невидимая
в своей вездеприсущности.
В силу онтологической «дискриминации» тьмы слова, ее
обозначающие, сложно подвергать семантическому истолкованию.
Филологи даже отказываются «этимологизировать, полагая, что эти
слова — языковое табу».2 Однако в метафизическом контексте
можно предположить, что тьма является специальным предельным
состоянием какой-нибудь стихии, например воды или воздуха: «...и
«воздух» άήρ (и производные от него) тоже следует включить в
число слов, обозначающих темноту».3
Порождающая сила «фюсис» и ее стихий связана с «тьмой», в
которой «любит прятаться природа». «Получается, что Хаос, Ночь,
Мрак — начала, не поддающиеся оценке, не положительные и не
отрицательные, а созидающие».4 Отметим тот факт, что тьма
обладает не креативной, а созидающей, т. е. эманативной сущностью.
Античные и библейские источники подтверждают данную точку
зрения. В «Теогонии» Гесиода, фрагментах досократиков, книге
Бытия, да и в платоновских недомолвках в мифе о «пещере»
представлена «такая созидающая темнота, которая не дана людям
в опыте».5
Особой таинственностью окружено описание богоявления в
Псалмах, где Божественный Мрак непосредственно слит с естеством
воды и воздуха: «И мрак сделал покровом Своим, сению вокруг
Себя мрак вод, облаков воздушных» (Псалмы. 17, 12).
Античное культурное близнечество Диониса и Аполлона
зиждется на дуализме темного и светлого начал. Однако даже светлый
Аполлон носит в себе печать своего темного двойника, выступая
под именем Аполлон-Локсий — что значит «темный».6 Дионис-
Никтелий (ночной) у Софокла называется «начальником ночных
криков».7
1 Каган Ю. М. Указ. соч. с. 314.
2 Там же. С. 302.
3 Там же. С. 303.
4 Там же. С. 304.
'" Там же. С. 306.
β Там же. С. 305.
7 Там же. С. 305.
КНИГА П. ГЛАВА 2. ОТ «ФЮСИС» К «НАТУРЕ» 481
Акустические трансцензусы тьмы — это отдельная большая
тема. Остановимся пока на оптических моментах. Как работает
зрение на трансцендентальной границе света и тьмы? Платон
поясняет: «Всякий, кто соображает, вспомнил бы, что есть два рода
нарушения зрения, то есть [оно нарушается] по двум причинам:
либо когда переходят из света в темноту, либо из темноты — на
свет. То же самое происходит и с душой; это можно цонять, видя,
как иногда душа находится в замешательстве (разрядка
моя. — Ю. Р.) и не способна что-либо разглядеть».
Замешательство души в переходах между тьмой и светом
означает страстное состояние удивления — кульминационный пункт
стихийной интуиции. Цель эксперимента состоит в том, чтобы
продлить это состояние насколько возможно, дойти до
невозможности, а там посмотреть — что получится. Насильственным и
стихийно воронкообразным является не только путь к свету из
пещеры, но и обратный путь. Законодатель не разрешает долго
находиться освобожденным из пещерного плена перед лицом чистых
идей. «Мы не позволим им оставаться там, на вершине, из
нежелания спуститься снова к тем узникам, и, худо ли бедно ли, они
должны будут разделить с ними труды их и почести».2
Необходим возвратный трансцензус от света к тьме: «Поэтому
вы должны, каждый в свой черед, спускаться в обитель прочих
людей и привыкать созерцать темные стороны жизни. Привыкнув,
вы в тысячу раз лучше, чем живущие там, разглядите и распознаете,
что представляет собой каждая тень и образ чего она есть, так как
вы уже раньше лицезрели правду относительно всего прекрасного,
справедливого и доброго ...уже наяву, а не во сне...»3. Здесь Платон
намечает переход от чистого образа к материальному воплощению.
Вернувшийся в пещеру философ вынужден снова, после того
как привыкнут глаза, пристально всматриваться в тени на стене.
Что нового он в них увидит, уже зная, что это иллюзии? Для
начала скажем, что философ будет сомневаться, видя тени. Но
вместе с этим он имеет повод удивляться особой активности тех
же теней. Один платоновский фрагмент касается этой проблемы:
<<Т е э τ е т. Клянусь богами, Сократ, все это приводит меня в
изумление, и, сказать по правде, иногда, когда я пристально
вглядываюсь в это, у меня темнеет в глазах.
Сократ. А Феодор, как видно, неплохо разгадал твою природу,
милый друг. Ибо как раз философу свойственно испытывать такое
изумление. Оно и есть начало философии...»4 Характерно, что в
этом месте состояния удивления и затмения связаны друг с другом.
1 Платон. Государство. 518а.
2 Там же. 518d.
3 Там же. 520с.
1 Платон. Теэтет. 155c-d.
482
Ю. M. РОМАНЕНКО. БЫТИЕ И ЕСТЕСТВО
Изумление есть высший градус удивления, с которого берет
начало философия, по мнению одной категории философов. Ему
дуалистически противостоит сомнение, посему иной разряд
философов от него ведет начало любви к мудрости. В античности ко
второму разряду принадлежал, например, Демокрит, восхвалявший
«свойство не удивляться» (68 А 168 Diels). Демокритовскую
практику сомнения и отрешения от удивления в Новое время подхватил
Декарт, о котором будет подробно сказано во втором параграфе
данной главы. Совпадение удивления с сомнением характеризуется
«двоением» в глазах на границе между темнотой и светом, поэтому
исследование должно вестись по бинарной метафизической схеме.
Свет удивляет, тьма усомневает.
Широко известна положительная оценка «удивления» в
«Метафизике» Аристотеля, причем не в онтологическом смысле, а именно
в метафизическом: «А что это не искусство творения, объяснили
уже первые философы. Ибо и теперь и прежде удивление побуждает
людей философствовать, причем вначале они удивлялись тому, что
непосредственно вызывало недоумение, а затем, мало-помалу
продвигаясь таким образом далее, они задавались вопросом о более
значительном... Но недоумевающий и удивляющийся считает себя
незнающим (поэтому и тот, кто любит мифы, есть в некотором
смысле философ, ибо миф создается на основе удивительного)».1
Солнце, эманируя, распространяет свет везде. В том числе свет
попадает и в «пещеру». Как он там себя ведет? Или лучше спросить,
как «пещера» позволяет ему там себя вести? Известно, что благодаря
свету возникают тени (как смесь света и тьмы), что сам свет
рассеивается, теряет свою первоначальную силу и поглощается
веществом. А какие фотоэффекты происходят, когда свет прямо
или косвенно попадает на стену — источник мрака? Подойти к
ответу на этот вопрос может предположение, что стена пещеры
может трактоваться как зеркало. Если, конечно, ее можно особым
образом отшлифовать. Что и каким образом может быть увидено
в таком зеркале — это новый сложный вопрос.
В античности тело называли «темницей» души, так что «пещера»
и есть само тело. Платон, по видимости, постулирует дуализм тела
и души, возможный отрыв (экстазис) души из тела. Это положение
многие оспоривали, в частности Аристотель. Но не все так просто
и у самого Платона. Душа, действительно, может возноситься из
тела. На время. Но ведь она вынуждена снова в него возвращаться.
Что происходит с телом в ее отсутствие? Какой силой оно
сохраняется и какой активностью живет? Не может ли «темница»
превратиться в «светлицу»?
1 Аристотель. Метафизика. I 982Ь 11-21.
КНИГА П. ГЛАВА 2. ОТ «ФЮСИС» К «НАТУРЕ» 483
Однажды Поль Валери произнес загадочные слова: «Самое
глубокое в человеке — это кожа». Все органы восприятия человека
укрыты в складчатой поверхности кожи — спрятаны в
соответствующих «пещерах», внутренние «стены» которых непосредственно
воспринимают воздействия извне. Стена платоновской пещеры
оказывается живой плотью, принимающей на себя свет и способной
иметь разные степени «просвещенности», хотя сама по себе она
непроницаема.
Для сохранения телесного способа существования необходимо
смириться с тем, что душа должна находиться в своем теле-пещере.
Душа не только рвется к внешнему источнику света, но и вынуждена
смотреть на стену пещеры. Самое удивительное, что можно
обнаружить там, — это то, что стена есть живой экран — «телевизор»
в самом буквальном смысле этого слова — «видение целого» —
что по-гречески лучше назвать «голограммой». Плоские тени
удивительным способом могут преобразиться в объемные тела на
поверхности экрана как на некоей грани кристалла. Все равно они
останутся иллюзиями, а не подлинными вещами-в-себе, но зато у
них появилась новая пространственная размерность, следовательно,
увеличилась степень бытийности как залог будущего полного
воплощения.
Но чтобы плоские тени превратились в объемные голографичес-
кие изображения, необходим новый опыт, в котором должны быть
искусственно преобразованы два условия: горящий внутри пещеры
огонь и стена экрана. Первый должен получить концентрированную
направленность, а вторая должна быть отшлифована многократным
к ней прикосновением.
Одним словом, необходим научно организованный эксперимент
над природой человека. Платон строит план пути, представляемый
в виде последовательности наук, занимающихся познанием чистого
бытия и естества. Порядок наук, обращающих к истине, должен
быть таким: арифметика (искусство счета, начинающееся с
созерцания тождественного — первое измерение), геометрия
(исследование плоских поверхностей — второе измерение), стереометрия
(изучение глубины объемных тел — третье измерение), астрономия
(наука о вращении тел, имеющих глубину, — четвертое измерение).
Эта тетрактида наук замыкает онтолого-метафизическую оптику,
от которой неизбежен трансцензус в акустику: «как глаза наши
устремлены к астрономии, так уши — к движению стройных
созвучий; эти две науки — словно родные сестры, по крайне мере
так утверждают пифагорейцы, и мы с тобой, Главкон, согласимся
с ними».1 Таким образом, музыка является пятой необходимой
наукой для организации эксперимента.
1 Платон. Государство. 530d.
484
Ю. M. РОМАНЕНКО. БЫТИЕ И ЕСТЕСТВО
Слух и зрение принципиально разнонаправлены, хотя и
единородны друг другу («словно родные сестры»). Существуя сами по
себе, они не способны отнести то, что они интуитивно воспринимают,
к одному и тому же предмету. С их помощью только стихийно-
интуитивно чуется естество, но не мыслится. Исполнить последнее
может только диалектика — наука о мышлении мышления, которая
выводит особый «напев». То есть диалектика, находясь между (диа)
акустикой и оптикой, как между двумя сестрами (третья сестра-
близнец?), способна привести их к очной ставке, ибо «им всего
лишь снится бытие, а наяву им невозможно его увидеть, пока они,
пользуясь своими предположениями, будут сохранять их
незыблемыми и не отдавать себе в них отчета».1 Цель эксперимента —
соединить по возможности два разнонаправленных процесса или,
выражаясь платоновскими метафорами, совместить сны двух
субъектов, чтобы они предстали друг перед другом в яви.
Поэтому «один лишь диалектический метод придерживается
правильного пути, отбрасывая предположения, он подходит к
первоначалу с целью его обосновать; он потихоньку высвобождает,
словно из какой-то варварской грязи, зарывшийся туда взор нашей
души и направляет его ввысь...»2. Диалектика, словно
самодействующий обоюдоострый скальпель (настоящий образ подлинного
знания, не случайно корень «диа» возводят к имени Зевса-
Двулезвийного-Топора), орудует в какой-то «варварской грязи» (т. е.
во плоти, погружаясь в нее как жало и претворяя ее в тело),
одновременно очищая и открывая зрительную способность души
видеть целое. Платон как истый греческий патриот говорит только
о «варварской грязи», не упоминая об эллинской. Если искусно
организовать опыт в соответствии с принципами выведенных наук,
венчаемых диалектикой, то «это будет освобождением от оков,
поворотом от теней к образам и свету, подъемом из подземелья к
Солнцу».3 Данный «поворот» задает момент вращения, благодаря
которому траектория «подъема» становится спиралевидной. Такова
конечная цель и программа-максимум затеянного Платоном
эксперимента.
Так, опираясь на диалектику, Платон гнет свою линию (как
недавно бы сказали — идеалистическую). Он организовывает
эксперимент над естеством и призывает принять в нем участие, надеясь
получить реальный результат. И иногда результат получается. Ну
а если опыт не удается? Платон и об этом предупреждает: «Если
же и тогда будет невозможно глядеть на живые существа, растения
и на Солнце, все же лучше смотреть на божественные отражения
1 Платон. Государство. 533с.
2 Там же. 533c-d.
3 Там же. 532Ь.
КНИГА П. ГЛАВА 2. ОТ «ФЮСИС» К «НАТУРЕ» 485
в воде и на тени сущего, чем на тени образов, созданные источником
света, который сам не более как тень в сравнении с Солнцем».1
Получается, что Платон приглушенно намекает здесь о некоем
неудачном (катастрофическом) результате эксперимента,
организованном диалектикой. Необходимы, значит, какие-то подстраховка,
техника безопасности и дополнительная гарантия. Откуда они
берутся? Диалектика, несмотря на ее универсальный и всепроникающий
характер, этого дать не может. Сама диалектика, в силу допущения
ею существования небытия, — может быть, а может и не быть.
Платон допускает такую альтернативу: существуют два мира —
умопостигаемый и чувственно воспринимаемый. И один может быть
истинным, и другой. В каком отношении друг к другу они
находятся? Могут ли они совпасть в какой-то чудесный момент? Если
да, то тогда выводы Платона в отношении пещеры и общения души
с телом нужно будет пересмотреть. Чем впоследствие и занялся
ученик Платона Аристотель, отбросив диалектику и проведя тот же
самый эксперимент, но в совершенно иных условиях. Так в истории
философии почти одновременно осуществились два эксперимента с
одним и тем же «объектом» — одушевленным телом. И несмотря
на то, что условия их были почти взаимоисключительны, результат
оказался тот же самый. Это есть не что иное, как «эксперимент
креста», главными участниками которого были Платон и
Аристотель.
Платон провел одну экспериментальную линию (вертикаль) до
конца, по необходимости оставив провести перекрестную
(горизонталь) для другого. И сам Платон догадывался о возможности этой
второй линии, говоря: «Взятое в целом, занятие теми науками, о
которых мы говорили, дает эту возможность и ведет прекраснейшее
начало нашей души ввысь, к созерцанию самого совершенного в
существующем, подобно тому как в первом случае самое отчетливое
[из ощущений], свойственных нашему телу, направлено на самое
яркое в телесной и зримой области».2
Как справедливо отмечал А. В. Ахутин, специфика
экспериментального подхода в эпоху античности заключалась в организации
экспериментального наблюдения. В этом процессе обнаруживались
дополнительные способности видения предмета, которые затем
могли быть вынесены вовне и материализованы в определенные
оптические искусственные приспособления — фотоаппарат, к примеру.
Вернемся снова к мифу о пещере. С точки зрения «перекрестного
эксперимента», обнаружилось два пути к одной и той же цели.
Нужно выходить из пещеры, чтобы увидеть вещь, как она есть
сама по себе в свете всеобщности. Но нужно также и уметь пребывать
1 Там же. 532Ь-с.
2 Там же. 532с.
486
ΙΟ. Μ. РОМАНЕНКО. БЫТИЕ И ЕСТЕСТВО
в пещере так, чтобы ее «стена» развернулась во вращающееся
объемное тело той же самой вещи, феноменально показывающей
свою уникальность. В противовес одной платоновской стратегии
«освобождения из оков» и поворота тела от теней к образам
умопостигаемого возможна иная (дополнительная) стратегия — даже
оставаясь быть в оковах и никак не поворачиваясь, дождаться,
когда сам образ снизойдет на стену, совместится со своей тенью и
станет чувственно воспринимаемым живым существом. Это особая
стратегия воображения, понимаемого онтологически именно как
во-ображение, т. е. вхождение-во-образ. И образ, соответственно,
понимается как саморазвивающийся. Такую онтологическую
интерпретацию воображения поддерживал М. Хайдеггер, а конкретно
реализовал ее, к примеру, Г. Башляр в своей пенталогии,
посвященной поэтике стихий, основанной на динамическо-материальном
воображении, а не только статическо-идеальном.
Умопостигаемый и чувственновоспринимаемый планы совпали
в чудесной данности. Возникло нечто (или некто) как итог
сверхъестественного творения и естественного происхождения. Таковы
онтологические и метафизические следствия, выводимые из мифа
о пещере. Как было сказано выше, этот миф имеет свои исторические
этапы, хотя уже в самом его начале в платоновском изложении он
целостен и совершенен, как и подобает мифу.
Развивающееся воспроизводство данного мифа в последующие
исторические периоды можно представить кратко. После долгой
«ночи» Средневековья с ее борениями духа и плоти Новое время
начало с «просветительского» пафоса. Начиная с Ф. Бэкона
философы стали систематически бороться с различными «идолами»,
«призраками», «тенями» (расположенными на все той же стене
пещеры), организовывать всевозможные «решающие
эксперименты», в ходе которых создавались новые искусственные источники
освещения, вселяющие дополнительную уверенность. Тени
надлежало убрать и забыть о них. Целая когорта философов, включая
сюда методически сомневающегося Декарта и критически
очищающегося Канта, приучили к привычке не обращать внимания на
тени и то, что дает естественное место теням.
Прорабы «Просвещения» развесили по всем доступным
закоулкам пещеры фонарики, и тени практически исчезли. Осталась одна
стена, в силу своей абсолютной непроницаемости совершенно
невидимая. Убрав многие маленькие иллюзии в виде теней,
«просветители» остались перед одной большой иллюзией: вездеприсущей
непроницаемой темной стеной, которая возомнилась им совсем
прозрачной, открывающей бесконечные перспективы и полную свободу.
За обилием имманентных источников света — фосфоресцирующих
фонариков — перестали видеть платоновское трансцендентное
Солнце и тем самым утратили вертикальный ориентир.
КНИГА П. ГЛАВА 2. ОТ «ФЮСИС» К «НАТУРЕ» 487
Оковы с людей сняли, и «просвещенное» человечество несколько
раз больно ударилось о невидимую стену, но, не выяснив причину,
сочли это фантомными болями в ампутированных за ненадобностью
атавистических и рудиментарных конечностях телесной души.
«Просвещение» породило веру в научно-технический прогресс,
основанный на познании «естественного порядка» природы-натуры,
и попутно произвело на искусственный свет знатока телесности
маркиза де Сада. «Просветителям» противостояли «мракобесы» от
клерикалов до романтиков ночи — хранителей пещеры. Последние
в самом деле были «обскурантами», поскольку камера-обскура есть
техническая модель пещеры, в которой, правда, образ перевернут
с ног на голову. Платоники и аристотелики продолжали свои
теоретические диспуты на фоне непрекращающихся перекрестных
испытаний природы в изощренных экспериментах.
О вкладе Декарта в развитие этой мифологемы будет сказано
чуть ниже. В его философии были достигнуты голографические
эффекты. Но наиболее показателен в этом отношении
диалектический метод Фихте, представляющий собой, как уже говорилось,
генератор лазерного луча, испущенного от «Я» и направленного на
стену «Не-Я» и проявившего на этой стене объемный иллюзорный
образ того же «Я». Кант ругал своего ученика за «ловлю призрака»,
но сам не владел лучом этого лазера, делающего невидимую стену
видимой, поскольку Кант был озабочен развешиванием лампочек
и выметанием теней.
Еще одно воспроизводство «эксперимента креста» в пространстве
пещеры представляется на пересечении философских методов
«строгого» и «ясного» Гуссерля и «темного» Хайдеггера. У первого
объемный образ на стене зашевелился, у второго — заговорил. Миф
оказался живучим, отвечая на серьезно волнующий человека вопрос
о естественном воплощении образа бытия.
В статье «Учение Платона об истине» М. Хайдеггер утверждает,
что «слово "метафизика" в платоновской притче уже
предвосхищено».1 Хайдеггеровское истолкование начинается с метафизического
санкционирования мифического зримого образа как способа
образования человека: «..."притча о пещере" призвана наглядно
представить существо пайдейи, то и этот сущностный момент ее,
постоянное преодоление необразованности, обязательно должен быть
изображен с такой же наглядностью».2 Из этих слов можно заключить,
что подлинный мифический образ способен выразить сущность.
Интерпретируя хайдеггеровскую интерпретацию, можно
сказать, что философия является некой путеводительницей в переходах
1 Хайдеггер М. Учение Платона об истине // Время и бытие. Статьи
и выступления. М.: Республика, 1993. С. 360.
2 Там же. С. 353.
488 Ю. M. РОМАНЕНКО. БЫТИЕ И ЕСТЕСТВО
границы пещеры, дающей правильное направление движения к
самотождественной истине. Мудрость, объединяющая знание и
опыт, едина сама по себе, но в условиях человеческого
существования она двойственна. Как пишет М. Хайдеггер: «Различие между
местопребыванием внутри и вне пещеры есть разница в софии. Это
слово означает вообще ориентировку в чем-либо, какую-то
понимающую умелость. В более собственном смысле софия есть
ориентировка в том, что присутствует как непотаенное и в качестве
присутствующего постоянно ».1
Различие между «посюсторонней» и «потусторонней» мудростью
состоит в том, что «софия вне пещеры есть фило-софия. Язык
греков знает это слово уже до эпохи Платона, употребляя его обычно
для именования предпочтительной привязанности к верному
ориентированию. Платоном первым это слово было затребовано как
имя для такого ориентирования в сущем, которое одновременно
определяет бытие сущего как идею. С Платона мышление о бытии
сущего становится — "философией", поскольку оно есть
взглядывание на "идеи"».2 Причем данное ориентирование, на что особо
обращает внимание М. Хайдеггер, организовано воронкообразно:
«Каждый раз происходит метафизически очерченное кружение
вокруг человека по более тесным или более широким орбитам».3
Подвизался в перепеве пещерного мифа и Ж.-П. Сартр: в рассказе
с симптоматическим названием «Стена» он сумел передать
экзистенциальные ощущения «освобожденного» от оков узника-
умозрителя пещеры — заключенного в тюремную камеру и
приговоренного к расстрелу за подозрение в причастности к терроризму.
Эксперимент диалектики над естеством завершился фиаско. Что
теперь ощущает экспериментатор-неудачник, вперившись в стену
темницы? «Теперь меня ничто не привлекало, ничто не нарушало
моего спокойствия. Но это было ужасное спокойствие, и виной тому
было мое тело: глаза мои видели, уши слышали, но это был не
я — тело мое одиноко дрожало и обливалось потом, я больше не
узнавал его. Оно было уже не мое, а чье-то, и мне приходилось
его ощупывать, чтобы узнать, чем оно стало. Временами я его все
же ощущал: меня охватывало такое чувство, будто я куда-то
соскальзываю, падаю как пикирующий самолет, я чувствовал, как
бешено колотится мое сердце. Это меня отнюдь не утешало: все,
что было связано с жизнью моего тела, казалось мне каким-то
липким, мерзким, двусмысленным. Но в основном оно вело себя
смирно, и я ощущал только странную тяжесть, как будто к груди
моей прижалась какая-то странная гадина, мне казалось, что меня
1 Хайдеггер М. Учение Платона об истине. С. 359.
2 Там же. С. 359.
3 Там же. С. 360.
КНИГА П. ГЛАВА 2. ОТ «ФЮСИС» К «НАТУРЕ» 489
обвивает гигантский червяк».' Так Сартру явился в образе червяка
тот Змей, который искусил прародителей людей
поэкспериментировать с Древом познания добра и зла.
Что означает выражение «эксперимент с натурой» с точки зрения
мифа о пещере? Слово «эксперимент» можно буквально понять как
«выход из» (экс) «пещеры» (пери) «ума» (мент). Но в пещере
прячется только гераклитовская «фюсис». Вытащенная наружу
(силой или хитростью) и выставленная напоказ, она превращается
в «натуру», оставаясь лишней половиной того же самого Естества.
Лихо заключается в том, что одна часть целого забывает о другой.
Лихие экспериментаторы, стремящиеся искусственно трансценди-
ровать тело, забывают, что выйти из одной пещеры можно только
войдя в метафизически парную ей пещеру. Пещера — это модель
мира природы до тех пор, пока он существует.
Существенным онтолого-метафизическим определением
человека является его способность к продуктивному воображению.
Воображающий человек, уподобляемый Платоном пещере, носит внутри
себя некое зеркало, с помощью которого он может видеть себя
глазами других. И он увидит себя таким, каково его отношение к
этим другим. Человек-пещера — это целая свое-образная
лаборатория, в которой он может экспериментировать с самим собой —
с собственностью своих души и тела. Вопрос о способности
воображения один из принципиальнейших в метафизике, но и самый
запутанный.
Выше было указано на две стратегии воображения природы —
искусственную и естественную, что связано с наличием двух кругов
в самом воображении — определим их по-платоновски как «круг
тождественного» и «круг иного». В мифе оба отношения нашли
свое отражение. Первый эксперимент провели Адам и Ева,
искусившись сорвать плод с Древа познания. Иной архетип
«экспериментальной лаборатории» задан мифом о пещере у Платона. Если
в мифологеме Рая эксперимент с естеством запрещается, поскольку
его результаты могут быть использованы как во благо, так и во
вред, то в мифе о пещере он поощряется. Обе мифологемы
исторически эволюционировали, являясь противоположными
стратегиями отношения к естеству.
Во второй главе будут рассмотрены реализаторы «пещерной»
мифологемы. В третьей главе исследуются те философские
концепции, в которых ставятся вопросы о том, что случилось бы с естеством
при воздержании от искушения к эксперименту, но поскольку
воздержаться не удалось, то что остается делать с побочными
отрицательными результатами эксперимента.
1 Сартр Ж.-П. Стена. М.: Политиздат, 1992. С. 189-190.
490 Ю. M. РОМАНЕНКО. БЫТИЕ И ЕСТЕСТВО
§ 1. ПЛАТОН
Образ Космоса в «гадательном зеркале»
В предыдущих параграфах, посвященных Платону
(«Диалектическая игра бытия и небытия» и «Припоминающая природа души»),
были проанализированы его подходы к онтологической триаде
«бытие—ничто—творение» и метафизическому понятию «естество».
В настоящем параграфе делается попытка совместного
рассмотрения онтологической и метафизической проблематики,
динамического взаимодействия их принципов. Основная проблема здесь
заключается в выяснении вопроса о естественности акта творения
или, с обратной стороны, о творении естества (посредством
осуществления эксперимента внутри него).
Кратко суть данной задачи можно охарактеризовать следующим
образом. В своем учении Платон представляет некоего субъекта
творчества — Демиурга, — созидающего природу Космоса.
Возникает впечатление, что Платон полагает искусственное первичным
по отношению к естественному. Парадоксальным образом
получается, вопреки обыденному мнению и здравому смыслу, что не
искусственное возникает на основе естественного, а, наоборот,
естественное становится быть таковым благодаря некоему
искусственному действию. Кто субъект этого действия и каким образом
оно происходит, предстоит выяснить на материале диалога «Тимей»,
в котором наиболее полно были применены Платоном
онтологические и метафизические методы.
Специфика античного экспериментального подхода понимается
как экспериментальное наблюдение (А. В. Ахутин). Благодаря
настройке определенных механизмов воображения, в нем, как в особой
экспериментальной лаборатории, удается получить реальный
результат — теоретический образ всей вещи на основе полученной
чувствами и обработанной рассудком информации о ней. Обыденное
восприятие многообразия вещей организуется с целью видения
образа целостного Космоса. Условием возможности такого
оптического эксперимента является наличие в Космосе имманентно
присущего ему «естественного зеркала», без чего не могла бы проявиться
мантическая способность человека. В «Тимее» Платон
реконструирует процесс космогенеза и антропогенеза с точки зрения Демиурга,
экспериментирующего с фюсис. Двойственность последней
представлена в том, что Космос есть чувственный бог, являющийся
образом бога умопостигаемого. Демиург создает видимые вещи,
взирая на первообраз и перенося его в материю, используя
зеркальную способность фюсис. Так осуществляется переход от образа к
воплощению в творческом воображении: идеи являются специфи-
КНИГА II. ГЛАВА 2. § 1. ПЛАТОН
491
ческими зеркалами, накладывающимися на материю и
дифференцирующими ее, в результате чего возникают конкретные вещи.
Одной из принципиальных проблем античной философии была
проблема возможности познания человеком целостного Космоса.
Платон обобщил претензию древнегреческих философов на знание
всего Космоса в диалоге «Тимей», где последовательно дается
космогоническое описание и изоморфное ему описание антропогенеза,
а также одновременно реконструируется место и роль человека как
встроенного наблюдателя ставшего Космоса. Может ли человек
познать Космос как таковой, являясь продуктом внутрикосмичес-
кого развития и находя себя фактически уже вброшенным в него?
Согласно гносеологическому критерию, чтобы познать что-либо
окончательно, необходимо иметь возможность рассмотреть это нечто
со всех сторон, будучи вне его. Для выполнения познавательной
задачи человек должен был бы выйти за пределы Космоса
немыслимым и противоречивым для человеческого ума образом, что
впоследствии отразил И. Кант в своих космологических антиномиях.
Но все же Платон замыслил воссоздать целостную картину Космоса
в его возникновении и функционировании, познать законы
космического устроения в его последних истоках. Чем оправдывалась
такая претензия и что санкционировало ее реализацию в контексте
тогдашней эпохи?
Законы Космоса знает только его Создатель. В каком отношении
к этому знанию находится человек? Платон оговаривает условия:
«те же начала, что лежат еще ближе к истоку, ведает бог, а из
людей разве что тот, кто друг богу» (Тимей. 53d). Что это такое —
быть другом богу; что нужно сделать, чтобы подружиться с
Создателем полноты всего сущего и себя самого? В ближайшем контексте
процитированного фрагмента об этом умалчивается. Однако с этим
местом платоновского «Тимея» корреспондирует, вероятно,
фрагмент из диалога «Пир»: «Гадание — это творец дружбы между
богами и людьми, потому что оно знает, какие любовные вожделения
людей благочестивы и освящены обычаем» (Пир. 188d).
Сопоставив оба фрагмента, можно заключить, что другом Богу
становится тот, кто умеет гадать. Гадание, с нашей точки зрения,
является определяющим онтологическим методом для античной
философии и культуры в целом, поскольку законом существования
Космоса выступает Судьба, к которой можно относиться, только
угадывая ее «весьма внятные знамения» (Тимей. 72Ь). Поэтому,
прежде чем дать физико-математическое описание Космоса, Платон,
который успел подружиться с Богом, сумел угадать образ Космоса.
Не узурпировал в познании власть над Космосом — такого не
дозволяется даже по дружбе, — но именно угадал его образ, т. е. его
абсолютно точную действующую живую модель, исходящую из
Космоса и существующую в самом же Космосе. Таким образом,
492 Ю. M. РОМАНЕНКО. БЫТИЕ И ЕСТЕСТВО
оказалось, что познать весь Космос можно не выходя из него. Это
пока предварительная гипотеза, отвечающая на сформулированный
в начале параграфа вопрос. Далее следует остановиться на решении
проблемы: как Платону удалось, используя метод угадывания,
узнать, что «наш космос стал видимым живым существом,
объемлющим все видимое, чувственным богом, образом бога
умопостигаемого, величайшим и наилучшим, прекраснейшим и
совершеннейшим, единородным небом» (Тимей. 92с).
Задача стоит, действительно, крайне сложная и даже опасная,
по причине чего мистагог — проводник в тайну Космоса — взывает
к своим спутникам: «Обратимся с молитвой к богу-спасителю, дабы
он указал нам счастливый путь от странного и необычного
повествования к правдоподобному выводу...» (Тимей, 48d). Посвящаемые
заранее предупреждаются: «Конечно, творца и родителя этой
Вселенной нелегко отыскать, а если мы его и найдем, о нем нельзя
будет всем рассказывать. И все же поставим еще один вопрос
относительно космоса: взирая на какой первообраз работал тот, кто
его устроял..?» (Тимей, 28с). Переформулируя этот вопрос, можно
сказать, что если данный Космос невозможно охватить в целом, но
можно догадаться, что сам Космос возник со-образно чему-то, то
нельзя ли сразу и вдруг увидеть этот первообраз, минуя постепенное
эмпирическое накопление и обобщение наблюдаемых фактов внут-
рикосмической жизни, на что человеку не хватит отпущенного для
опыта времени. Платон даже категорически настаивает, что «в
высшей степени необходимо, чтобы этот космос был образом чего-то.
Но в каждом рассуждении важно избрать сообразное с природой
начало» (Тимей. 29Ь).
Это намерение не запрещено со стороны Созидателя Вселенной:
«Он был благ, а тот, кто благ, никогда и ни в каком деле не
испытывает зависти. Будучи чужд зависти, он пожелал, чтобы все
вещи стали как можно более подобны ему самому. Усмотреть в
этом вслед за разумными мужами подлинное и наиглавнейшее
начало рождения и космоса было бы, пожалуй, вернее всего» (Тимей,
29е). Именно принцип подобия и со-образности всего сущего
Создателю является исходным пунктом исследования.
При реализации этого принципа, заранее предупреждает знаток
Космоса Тимей, мы «не достигнем в наших рассуждениях полной
точности и непротиворечивости. Напротив, мы должны радоваться,
если наше рассуждение окажется не менее правдоподобным, чем
любое другое, и притом помнить, что и я, рассуждающий, и вы,
мои судьи, всего лишь люди, а потому нам приходится
довольствоваться в таких вопросах правдоподобным мифом, не требуя
большего» (Тимей. 29с). Не требуя большего, но и не соглашаясь на
меньшее — услышать правдоподобный миф, в контексте которого
угадывается сверкающий образ Космоса — «основополагающий пер-
КНИГА II. ГЛАВА 2. § I. ПЛАТОН
493
вообраз, который обладает мыслимым и тождественным бытием»
(Тимей. 48е).
Мантическая практика (как своеобразное экспериментальное
наблюдение) в эпоху античности была подробно разработанной, в чем
Платон был осведомлен достаточно хорошо. Но он все-таки был не
профессиональным прорицателем-ясновидцем, а философом.
Первый осуществляет свое дело в умопомрачении, философу же
пристало действовать в трезвом уме. Но без прорицателя философ не
смог бы даже догадаться сформулировать проблему целостности
Космоса. Без взаимопомощи между ними текст «Тимея», где
живописуется научный, так сказать, образ Космоса, просто не состоялся
бы. Платон специально оговорил распределение ролей прорицателя
и толкователя: «То, что бог уделил пророческий дар человеческому
умопомрачению, может быть бесспорно доказано: никто, находясь
в своем уме, не бывает причастен боговдохновенному и истинному
пророчеству, но лишь тогда, когда мыслительная способность
связана сном, недугом либо неким приступом одержимости. Напротив,
дело неповрежденного в уме человека — припомнить и восстановить
то, что изрекла во сне либо наяву эта пророческая и вдохновенная
природа, расчленить все видения с помощью мысли и уразуметь,
что же они знаменуют — зло или добро — и относятся ли они к
будущим, к минувшим или к настоящим временам. Не тому же,
кто обезумел и еще пребывает в безумии, судить о собственных
видениях и речениях! Правду говорит старая пословица, что лишь
рассудительный в силах понять сам себя и то, что он делает. Отсюда
и возник обычай, чтобы обо всех боговдохновенных прорицаниях
изрекало свой суд приставленное к тому племя истолкователей;
правда, их и самих подчас называют пророками, но только по
неведению, ибо они лишь разгадывают таинственные речения и
видения, а потому должны быть по всей справедливости названы
никак не пророками, но толкователями при тех, кто прорицает»
(Тимей 71е—72Ь).
Рассмотрим в деталях, как Платон реконструирует ситуацию
угадывания. Акт пророчества осуществляется вне ума в трех
возможных состояниях: сон, недуг и приступ одержимости. Зададимся
на будущее вопросом: возможно ли прорицательство в здоровом
(нормальном), а не патологическом (измененном) состоянии?
Первичный акт угадывания происходит в беспамятстве (в этот момент
памяти еще нет, поскольку раньше образа бытия просто ничего не
было). На втором этапе с результатами ясновидения начинает
работать рассудочная мысль, «расчленяющая все видения».
Телесным, органическим «седалищем» мантической способности
является печень: боги «учредили в ней прорицалище» (Тимей. 71d).
Печень выполняет свою мантическую функцию благодаря способ-
494 Ю. M. РОМАНЕНКО. БЫТИЕ И ЕСТЕСТВО
ности быть ... зеркалом. Рассмотрим, в чем здесь состоит суть дела,
следуя платоновскому изложению.
В процессе построения тела часть смертной души, вожделеющая
к тому, в чем нуждается тело по его природе, была прикреплена
к телу («посажена на цепь», подобно «дикому зверю» (Тимей. 70е)).
Этот «зверь» должен вечно стоять у своей кормушки подальше от
разумной части души, ибо «он не будет понимать рассуждения, а
даже если что-то из них и дойдет до него через ощущение, не в
его природе будет об этом заботиться; он обречен в ночи и во время
дня обольщаться игрой подобий и призраков» (Тимей. 71а). Для
управы на «зверя», т. е. для локализации и нейтрализации
«призраков», в организме предусмотрена печень. «Цель бога состояла
в том, чтобы исходящее из ума мыслительное воздействие оказалось
отражено печенью, словно зеркалом, которое улавливает напечат-
ления и являет взору призраки...» (Тимей. 71Ь). Контролирование и
управление «зверем» осуществляется методом «кнута» и «пряника»:
если он действует во вред целому, то от разумной (бессмертной)
части души нисходит сигнал, но не напрямую, а через отражение
печенью-зеркалом, чтобы «на зверя находил бы страх, когда это
воздействие дойдет до него с суровыми угрозами...» (Тимей. 71Ь);
в случае же «кротости» вызываются «видения» иного рода,
делающие зверя «просветленным» и «радостным», чтобы он мог ночью
«вести себя спокойно, предаваясь пророческим снам» (Тимей. 71d).
Платон подробно и образно описывает мантическое
функционирование печени-зеркала, как будто он проводит рентгеноскопию
организма. Несмотря на то, что печень невидима, ей приписываются
оптические свойства. Печень есть такое зеркало, в котором
изначально запрограммирована искаженность образа, т. е. это зеркало
изначально «искривлено», генерируя при-зраки. Но кроме этого,
самое главное, такое зеркало способно само менять степень своей
искривленности, адекватно реагируя на поступающие сигналы и
ситуативно подлаживая то, что ею отражается и направляется
адресату. Одним словом, печень воистину есть некое «живое
зеркало», позволяющее организму «видеть» себя в целом, чуя свое
состояние, не выходя и не выворачиваясь наружу. Печень не есть
искусственное зеркало, отражающее в раз и навсегда устроенном
режиме, заданном при его изготовлении. Напротив, печень-зеркало
одинаково учитывает и воспроизводит по-своему возможности и
того прототипа, который посылает и напечатлевает на ее
поверхности свой образ, и того, кто эти образы (призраки) воспринимает
в меру своей «зрительной способности».
С точки зрения целого: благодаря печени завязывается общение
разумной и неразумной частей души и тела, границей чего и
является печень. Это — двусторонняя граница, обладающая всеми
диалектическими признаками, частично прозрачная и частично
КНИГА П. ГЛАВА 2. § 1. ПЛАТОН
495
отражающая, способная самостоятельно регулировать меру
прозрачности-отражаемости. Но эта граница всегда остается
границей, разделяюще-объединяющей две трансцендентные друг другу
«вещи» — душу и тело. Связью первого и второго является живое
существо. «Таковы причины, по которым печень получила
вышеописанное устройство и местоположение; целью было пророчество.
И в самом деле, покуда тело живет, печень дает весьма внятные
знамения, с уходом же жизни она становится слепой, и тогда ее
вещания слишком туманны, чтобы заключать в себе ясный смысл»
(Тимей. 72Ь).
Для заботы о зеркальных свойствах печени в организме даже
предусмотрели специальный орган — селезенку, «дабы сохранять
ее неизменно лоснящейся и чистой, служа ей наподобие губки,
которая всегда лежит наготове подле зеркала» (Тимей. 72с).
Вспомним здесь, кстати, образ прикованного Прометея, чью
печень периодически и порциально отклевывает орел.
Разрастающаяся печень Прометея — это символ гипертрофированного
«дружеского» чувства бога к человеку, которое должно быть умерено, ибо
эта печень может разрастись до пределов Космоса, в ущерб
остальным его частям. Единая космическая печень Прометея-промыс-
лителя, поделенная на порции мерным клювом орла (читай: Зевса —
вседержителя Космоса), эманативно распределяется по телам людей.
Отныне человек-прорицатель единороден богу-промыслителю, что
дает возможность человеку видеть образ целого Космоса
гадательным зеркалом, имманентно присущим его одушевленному телу.
В таком ключе микрокосм действительно тождествен
макрокосму. На основе данной диспозиции с категориальной точки зрения
выводится космоцентрическая формула человека: человек есть
эманация Космоса. Человек и Космос тождественны друг другу в том
смысле, что они являются направленными друг на друга зеркалами.
Благодаря этому становится возможным познание и самопознание,
к чему стремится Платон, открывая спекулятивный метод,
применением которого фиксируются взаимоотражения Космоса и человека
друг в друге.
Темы «зеркала» и «угадывания» в проанализированных
фрагментах не случайно сводятся в один сюжет, включаясь вместе в
решение проблемы «образа». Промежуточный этап нашего
исследования можно резюмировать в сжатом положении: образ
угадывается в зеркале. Без присутствия зеркала (с перечисленными
свойствами) угадать образ целого невозможно. Сон потому и способствует
раскрытию пророческого вдохновения, поскольку глаза закрыты
веками как некими органическими зеркалами, замыкающими
зрительную способность на самое себя (вспомним гоголевского Вия).
Подобные естественные (природные) зеркала, в отличие от
искусственных, осуществляют рефлексию внутри единого целого, а
496 Ю. M. РОМАНЕНКО. БЫТИЕ И ЕСТЕСТВО
не между разрозненными единичными вещами. Соответственно,
результатом подобных рефлексий не являются точные, однозначные,
неизменные копии. Да и искусственное зеркало не может
представить подобные копии. Идеальным зеркалом было бы такое,
благодаря которому прототип и копия однозначно влияли бы друг на
друга, формируя очертания «себя обоих» (грамматическое
неудобство, испытываемое при попытке выразить вербально в последнем
выражении исходное двуединство «живого зеркала», — лишний
раз подчеркивает суть дела. В. В. Бибихин по аналогичному поводу
в книге «Узнай себя» вводит новое словообразование — «собоих»).
Искусственное зеркало обладает минимальной степенью такой
способности, не сводимой, однако, к нулю. Те же естественные зеркала,
о которых ведет речь Платон, могут достичь максимума указанной
способности, если живое одушевленное тело пребывает в здоровом
состоянии (когда организм «цел, невредим и здоров» (Тимей. 44с)).
Еще одним примером природного зеркала в тексте «Тимея»
является мозг: «в нем укоренены те узы жизни, которые связуют
душу с телом, в нем лежат корни рода человеческого» (Тимей.
73Ь). Округленная и отшлифованная («озеркаленная») поверхность
массы головного мозга уподобляется Платоном «некой пашне»,
способной «воспринять семя божественного начала» (Тимей. 73с).
Мозг и печень противопоставляются друг другу по оси «верх—низ».
И то и другое являются естественными зеркалами,
осуществляющими связь души и тела, то есть жизнь. По зеркальной глади
мозга в процессе мышления завязывается общение бессмертной
части души с телом, а благодаря зеркальным свойствам печени,
как было сказано выше, происходит сопряжение смертной части
души и тела в состоянии пророчества. Получается система двух
зеркал, направленных друг на друга, во взаимодействии которых
формируется связывающая и поддерживающая их ось «верх—низ».
Как видно, эта ось несимметрична в силу неравноценности ее
полюсов. «Верх» имеет некоторый преизбыток по отношению к «низу».
Дело в том, что «верх» имеет не одно «живое зеркало»: помимо
мозга таковым является глаз (и не один, а два). «Низ» лишается
такого преизбытка после рождения, когда плод освобождается от
оболочки последа («счастлив тот, кто родился в рубашке» — читай:
«в зеркале»). С этого момента «низ» имеет только след дородовой
равноценности с «верхом» — запечатанную пуповину (завешенное
зеркало). Собственно говоря, до рождения отношения «верха» и
«низа» не было. С момента же рождения впервые устанавливается
вертикаль благодаря этой зеркальной оппозиции.
Платон реконструирует динамику отношений «верха» и «низа»
следующим образом. Касаясь бессмертной (мыслящей) части души,
он отмечает, что «ее должно мыслить себе как демона,
приставленного к каждому из нас богом; это тот вид, который, как мы
КНИГА П. ГЛАВА 2. § 1. ПЛАТОН
497
говорили, обитает на вершине нашего тела и устремляет нас от
земли к родному небу как небесное, а не земное порождение; и эти
наши слова были совершенно справедливы, ибо голову, являющую
собою наш корень, божество простерло туда, где изначально была
рождена душа, а через это оно сообщило всему телу прямую осанку»
(Тимей. 90а). Иначе говоря, вертикаль задается оптически, силой
света: душа тянется к небу, стремясь увидеть в нем, как в зеркале,
свой первообраз, и тем самым выпрямляет тело.
Задана, таким образом, необратимая однонаправленная тяга к
«верху» (вплоть до преобразования телесного остова человека в
«homo erectus» — человека прямостоящего), поскольку именно
наверху осуществляется идеальное (по-настоящему естественное)
движение. «Что касается движений, наилучшее из них то, которое
совершается [телом] внутри себя и самим по себе, ибо оно более
всего сродно движению мысли, а также Вселенной...» (Тимей, 89а).
Аналогичная картина представлена и Аристотелем в его учении о
Небе.
Платон уверен, что человек способен осуществлять подобное
естественное движение, несмотря на то, что просто так оно не дано.
«Между тем если есть движения, обнаруживающие сродство с
божественным началом внутри нас, то это мыслительные
круговращения Вселенной; им и должен следовать каждый из нас, дабы
через усмотрение гармоний и круговоротов мира исправить
круговороты в собственной голове, нарушенные уже при рождении, иначе
говоря, добиться, чтобы созерцающее, как и требует изначальная
его природа, стало подобно созерцаемому, и таким образом стяжать
ту совершеннейшую жизнь, которую боги предложили нам как
цель на эти и будущие времена» (Тимей. 90c-d).
Душа, «предаваясь упражнениям» в «присущих ей движениях»
(Тимей. 89е), достигает своего здоровья (своей нормы). Но этого
мало. Здоровый дух должен быть в здоровом теле. Если тело само
по себе страдает каким-то недугом, то даже если душа производит
свое идеальное круговращение, это может в двойной степени
ухудшить состояние живого существа, болезненно искажая связь души
и тела. Получается, что пока душа находится в теле — она не
может окончательно уподобить свои мысленные круговращения
небесным. Тело посредством своих внутренних выделений
«тревожит своими вторжениями самое божественное, что мы имеем, —
круговращения, происходящие в нашей голове; если такой припадок
схватывает во сне, он еще не так страшен, но вот если он нападает
на бодрствующего, бороться с ним куда тяжелее. Поскольку природа
поражаемой им части священна, он по справедливости именуется
священной болезнью» (Тимей. 85а-Ь). Здесь имеется в виду
эпилепсия, названная священной болезнью ввиду того, что в ней
пророчество обособляется от мышления и действует само по себе, не
498 Ю. M. РОМАНЕНКО. БЫТИЕ И ЕСТЕСТВО
скованное рациональными запретами, ясно видя нынешнее
состояние образа мира. Не об этих ли визионерских состояниях писал
Ф. М. Достоевский, пережив их в личном опыте?
Душа и тело, пока они вместе, должны обоюдно знать
возможности друг друга — замечать движения себя и своего партнера,
синхронизируя их и выступая как бы некими взаимными
зеркалами, строя образ единой гармонии. Моменты несостыковки
приводят к патологическим состояниям вплоть до припадков —
мгновенных разрывов психосоматической связи.
Здесь мы подошли к следующему этапу нашего исследования.
К предыдущему тезису: «образ угадывается в зеркале» необходимо
поставить вопрос: «что угадывает образ?». Очевидно: глаз угадывает
образ. Но глаз сам есть зеркало. Платон обнаруживает присутствие
зеркальных эффектов в процессе «глазения», способствующих
превращению его в «видение». Подлинное видение — это всегда
обнаружение вещи в точке пересечения световых лучей, отраженных
противопоставленными друг другу естественными зеркалами.
В концепции зрения Платона считается, что свет исходит не
только извне, но и изнутри через глаза. «Дело в том, что внутри
нас обитает особенно чистый огонь, родственный свету дня, его-то
они [боги. — Ю. Р.] заставили ровным и плотным потоком
изливаться через глаза...» (Тимей. 45Ь). Поверхность глаза является
диалектической границей, делящей неделимый свет, пропуская и
отражая его одновременно. Акт видения, в котором зримо дается
вещь, происходит как совпадение внешнего и внутреннего света на
поверхности данной вещи, актуализируя ее. Платон пишет: «И вот
когда полуденный свет обволакивает это зрительное истечение и
подобное устремляется к подобному, они сливаются, образуя единое
и однородное тело в прямом направлении от глаз, и притом в месте,
где огонь, устремляющийся изнутри, сталкивается с внешним
потоком света» (Тимей. 45с). Согласно гносеологии Платона подобное
познается подобным.
Вслед за этим Платон указывает на роль зеркал в процесе
явления образа вещи. «Теперь не составит труда уразуметь и то,
как рождаются образы на глади зеркал и других блестящих
предметов. Ведь если внутренний и внешний огонь вступают в общение
и сливаются воедино возле зеркальной глади, многообразно
перестраиваясь, то отражение по необходимости возникнет, как только
огонь, исходящий от лица, сольется возле гладкого и блестящего
предмета с огнем зрения» (Тимей. 46а-Ь).
Благодаря перечисленным особенностям зрение способно видеть
целое любой вещи вплоть до самого Космоса. Ведь Космос, согласно
смыслу этого слова, означает «лад», «гармонию», «строй»,
«согласованность с самим собой», чем бы это нечто ни было. Любая вещь,
если она в ладу с собой, — космична, презентируя весь Космос и
КНИГА Π ГЛАВА 2. § Ι. ПЛАТОН
499
являя себя как феномен, открываясь иному в своем свете, которым
она себя сама видит. Без зеркал здесь действительно ничего понять
не удается. Но нужно правильно понимать суть самого «живого
зеркала», не сводимого к плоской поверхности отшлифованного
искусственного материала. Живое зеркало объемно, естественно
стремясь в пределе стать сферовидным телом (вспомним пармени-
довский образ бытия — «глыбу прекруглого шара»), Платон дает
понять, что человек должен через упражнения научиться смотреть
этим зеркалом, дающим возможность наблюдателю видеть весь
Космос и себя в его контексте. Достигнув высшей степени
созерцания (эпоптики), зритель становится творцом.
Но до этого еще далеко, пока не разобрана «механика» действия
естественных зеркал. У самого Платона эта «механика» дана
намеком, тоже гадательно — пусть читатель сам догадается, о каких
эффектах пишет автор «Тимея». А догадаться об этом можно в
силу врожденной всем людям мантической способности. Об этом
пишет и Аристотель в трактате «О небе», где конструируется
аристотелевская модель (образ) Космоса, апеллируя к общему всем
людям чутью: «...мы можем высказать взгляды, согласующиеся с
общим всем людям интуитивным представлениям (manteia) о боге»
(О небе. П. 284Ь).
Попробуем взять на себя риск догадки, поверив, что Платон
ведет речь о неподложном образе. А подозрение об обмане постоянно
чувствуется, ведь зеркалу всегда пеняли в лживости. Оно «удваивает
реальность», и не всегда удается выяснить, по какую сторону
находится истина. Но в чем-то одном из двух истина в любом
случае присуствует. А быть может, истина одна на двоих.
Итак, чтобы понять платоновские намеки, необходимо перенять
его метод. Сложнее всего в этой задаче обстоит дело с описанием
«механизма» творения образа. Рациональным способом достичь
этого не удается. Догадка настигнет сразу и вдруг, если удастся
вербальными средствами возбудить искомую интуицию. Но для
этого нужен если не прорицатель, то поэт (хотя, в принципе, это
одно и то же).
Одно из поэтических воспроизведений «живого зеркала», на
наш взгляд, можно найти в творчестве В. Набокова. В его романе
«Приглашение на казнь» (XII глава) дается описание любопытной
зеркальной игрушки под названием «нетка», представляющей из
себя некий бесформенный, хаотический, без-образный предмет (в
силу чего получивший такое негативное имя — «нетка»!), и к нему
приставляется специально под него искривленное зеркало. Сам по
себе этот неоформленный квазипредмет ничего не представляет,
равно как и в отдельно взятом кривом зеркале можно увидеть
только мутные очертания, готовые преобразиться во что угодно.
Но отражение первого во втором при их особом расположении уже
500 ΙΌ. Μ. РОМАНЕНКО. БЫТИЕ И ЕСТЕСТВО
имеет смысл, значение и устойчивый образ. «Нетка» является
комплексом из двух частей, подогнанных друг для друга, без чего они
кажутся «иллюстрациями» самого хаоса. Нужно исхитриться
сделать их такими, чтобы совпадение их возможностей превратило
хаос в космос.
При помощи этого интерпретативного ключа можно
сформулировать историко-философскую гипотезу, проливающую свет на
механизм создания демиургом изваяния идеального Космоса в
платоновском диалоге « Тимей », где реконструируется переход от образа
к воплощению в процессе творящего воображения по аналогии с
принципом действия игрушки «нетки».
Рассказ В. Набокова о «нетке» пришелся к случаю встречи
отчаявшегося во всем, приговоренного к смерти узника Цинцинната
с его матерью Цецилией Ц. Женщина путано и сбивчиво, подобно
прорицанию пифии, пытается зачем-то вспомнить и рассказать о
какой-то детской игрушке, вместо того чтобы утешать сына перед
казнью. В. Набоков устами этой героини дает описание «нетки»:
«...бывают, знаете, удивительные уловки. Вот, я помню: когда была
ребенком, в моде были, — ах, не только у ребят, но и у взрослых, —
такие шутки, назывались "нетки", — и к ним полагалось, значит,
особое зеркало, мало что кривое — абсолютно искаженное, ничего
нельзя понять, провалы, путаница, все скользит в глазах, но его
кривизна была неспроста, а как раз пригнана... Или, скорее, к его
кривизне были так подобраны... Нет, постойте, я плохо объясняю.
Одним словом, у вас было такое вот дикое зеркало и целая коллекция
разных неток, то есть абсолютно нелепых предметов: всякие такие
бесформенные, пестрые, в дырках, в пятнах, рябые, шишковатые
штуки, вроде каких-то ископаемых, — но зеркало, которое
обыкновенные предметы абсолютно искажало, теперь, значит, получало
настоящую пищу, то есть когда вы такой непонятный и уродливый
предмет ставили так, что он отражался в непонятном и уродливом
зеркале, получалось замечательно; нет на нет давало да, все
восстанавливалось, все быдо хорошо, — и вот из бесформенной пестряди
получался в зеркале чудный стройный образ: цветы, корабль,
фигура, какой-нибудь пейзаж. Можно было — на заказ — даже
собственный портрет, то есть вам давали какую-то кошмарную кашу,
а это были вы, но ключ от вас был у зеркала. Ах, я помню, как
было весело и немного жутко — вдруг ничего не получится! —
брать в руку вот такую новую непонятную нетку и приближать к
зеркалу, и видеть в нем, как твоя рука совершенно разлагается,
но зато как бессмысленная нетка складывается в прелестную
картину, ясную, ясную...»
Сначала Цинциннат не понимает, зачем ему обо всем этом
говорят. Но, видимо, эта речь возымела свое действие в его душе,
прорицательно настроив к ясновидению. «Он вдруг заметил выра-
КНИГА П. ГЛАВА 2. § I. ПЛАТОН
501
жение глаз Цецилии Ц., — мгновенное, о, мгновенное, — но было
так, словно проступило нечто, настоящее, несомненное (в этом мире,
где все было под сомнением), словно завернулся краешек этой
ужасной жизни, и сверкнула на миг подкладка. Во взгляде матери
Цинциннат внезапно уловил ту последнюю, верную, все
объясняющую и ото всего охраняющую точку, которую он и в себе умел
нащупать. О чем именно вопила сейчас эта точка? О, неважно о
чем, пускай — ужас, жалость... Но скажем лучше: она сама по
себе, эта точка, выражала такую бурю истины, что душа Цинцин-
ната не могла не взыграть».
Не об этой ли точке говорил и Платон: «Если нам удастся
попасть в точку, у нас в руках будет истина...» (Тимей. 53е). Но
для входа в эту точку узнавания себя еще нужно иметь ключ.
Читателя текста В. Набокова осеняет догадка: «ключ от вас был у
зеркала». В процитированном фрагменте художественным способом
дается практически краткий очерк феноменологии и в равной
степени диалектики («нет на нет давало да» — чем не гегелевское
«снятие») с их высшим модусом — спекулятивным методом (от
лат. speculum — зеркало).
Можно утверждать, что описанный В. Набоковым механизм
действия игрушки «нетки» является действующей моделью и ин-
терпретативным ключом к его роману и ко всему его творчеству в
целом. Более того, этот интерпретативный ключ един для всех
спекулятивных историко-философских стратегий, концепций и
художественных произведений, включая и систему Платона.
Финал романа «Приглашение на казнь» также
запрограммирован автором в соответствии с принципом действия игрушки «нетки».
В момент казни Цинциннат сначала раздваивается, и одна из его
ипостасей находит силы подняться с плахи и выйти из кошмарного
плена: «...другой Цинциннат уже перестал слушать удалявшийся
звон ненужного счета — и с неиспытанной дотоле ясностью, сперва
даже болезненной по внезапности своего наплыва, но потом
преисполнившей веселием все его естество, — подумал: зачем я тут?
отчего так лежу? — и, задав себе этот простой вопрос, он отвечал
тем, что привстал и осмотрелся».
«Нетка» начала действовать: в ее лучах призраки стали исчезать
и забрезжила точка истины. «Мало что оставалось от площади.
Помост давно рухнул в облаке красноватой пыли. Последней
промчалась в черной шали женщина, неся на руках маленького палача,
как личинку. Свалившиеся деревья лежали плашмя, без всякого
рельефа, а еще оставшиеся стоять, тоже плоские, с боковой тенью
по стволу для иллюзии круглоты, едва держались ветвями за
рвущиеся сетки неба. Все расползалось. Все падало. Винтовой вихрь
забирал и крутил пыль, тряпки, крашенные щепки, мелкие обломки
позлащенного гипса, картонные кирпичи, афиши; летела сухая
502 ΙΟ. Μ. РОМАНЕНКО. БЫТИЕ И ЕСТЕСТВО
мгла; и Цинциннат пошел среди пыли, и падших вещей, и
трепетавших полотен, направляясь в ту сторону, где, судя по голосам,
стояли существа, подобные ему». Можно догадаться: первым
существом, подобным ему, которого он встретил на выходе из плена,
оказался он сам. Не напоминает ли данное описание выход узников
из платоновского мифа о пещере? «Винтовой вихрь» властно внес
упорядочивающее движение в хаос, организовывая из него космос.
Тема «живого зеркала» или системы «живых зеркал»,
взаимодействующих по принципу «неток», сквозной нитью пронизывает
весь историко-философский процесс. Представим подборку
фрагментов по этой теме из произведений Н. Кузанского и Лейбница.
В теистическом контексте развивает мифологему «живого
зеркала» Н. Кузанский. В трактате «О видении Бога» (глава 15. «О том,
что актуальная бесконечность есть единство, в котором изображение
есть истина») он пишет: «Поэтому хотя ты, Боже мой, и кажешься
мне как бы формоприемлющей первоматерией, поскольку
принимаешь форму всякого глядящего на тебя, ты поднимаешь меня, и
я вижу, что глядящий на тебя не придает тебе форму, а в тебе
начинает созерцать себя, поскольку получает от тебя все, чем
является. То, что, казалось бы, ты получаешь от глядящего на тебя,
ты даруешь ему! Ты словно живое зеркало вечности, форма форм.
Когда кто-то смотрит в это зеркало, он видит свою форму в форме
форм, какою является зеркало, и думает, что видимая им в зеркале
форма есть изображение его формы, как это бывает в
отполированном материальном зеркале, однако истинно противоположное: то,
что он видит в зеркале вечности, есть не изображение, а истина,
изображением которой является видящий. В Тебе, Боге моем,
изображение есть истина и прообраз всего и каждого, что есть или
может быть. О Боже, удивление всякого ума! Ты иногда кажешься
тенью, будучи светом. Когда я вижу, что с переменой во мне взгляд
твоей иконы будто бы изменяется и твое лицо тоже кажется
переменившимся, ты чудишься мне тенью, следующей за движениями
идущего человека. Но только потому, что сам я живая тень, Ъ. ты
истина, истина может показаться мне изменившейся от изменения
тени. Ты такая тень, Боже мой, что истина, такое изображение и
меня, и всего в мире, что прообраз всего».
Н. Кузанский подчеркивает креативный характер подобного
зеркального видения: «По своей бесконечной благости и смирению
ты, Боже, являешь себя нам как бы нашим творением, чтобы так
привлечь нас к себе; ты влечешь нас к себе всеми мыслимыми
способами привлечения, какими можно привлечь свободное
разумное творение. Сотворяемость совпадает в тебе с творчеством: мое
подобие, которое, кажется, творимо мною, есть истина, творящая
меня. Пусть хоть так я пойму, насколько я должен быть привязан
к тебе. Быть любимым совпадает в тебе с любовью».
КНИГА II. ГЛАВА 2. § 1. ПЛАТОН
503
Вторит Н. Кузанскому Лейбниц, оптически/оптимистически
реализуя принцип всеединства и называя каждую монаду «живым
зеркалом», а их совокупность — «предустановленной гармонией»:
«А вследствие такой связи, или приспособленности
(accommodement), всех сотворенных вещей к каждой из них и каждой ко
всем прочим любая простая субстанция имеет отношения, которыми
выражаются все прочие субстанции, и следовательно, монада
является постоянным живым зеркалом универсума» (Монадология.
§ 56). «Живое зеркало» любой монады способно приспосабливаться
(аккомодировать свою кривизну) к адекватному отражению всех
других монад, обладающих тем же самым свойством.
Но вернемся снова к платоновскому «Тимею» — этому источнику
нашей темы. Хотя предпосылки имелись уже в поэме Парменида
«О природе», а еще ранее — в древней мифологии (например, в
мифологеме «мирового яйца», в зеркальной внутренности которого,
сверкая, зачинается Фанес — перво-свет. Фанес внутри Яйца —
это тоже пример «нетки»).
Описание функционирования «гадательных зеркал» дается
Платоном в нескольких ключевых местах диалога «Тимей». Помимо
перечисленных выше случаев можно привести еще три важных
примера, в которых отражена платоновская точка зрения по
данному предмету.
Первый пример относится к проблеме соотношения души и тела.
Изначальным замыслом «вечносущего бога» было сотворение себе
подобного, то есть создание своего отражения. «Ведь бог, пожелавши
возможно более уподобить мир прекраснейшему и вполне
совершенному среди мыслимых предметов, устроил его как единое
видимое живое существо, содержащее все сродные ему по природе
живые существа в себе самом» (Тимей. 30d—31а). Второй бог
появился как «рефлексия» первого бога в нем самом. Момент создания
второго бога совпал с моментом появления первого космического
зеркала. Собственно говоря, второй бог и есть первое зеркало первого
бога. Во всяком случае, тело второго бога должно было обладать
зеркальными свойствами. «Весь этот замысел вечносущего бога
относительно бога, которому только предстояло быть, требовал,
чтобы тело [космоса] было сотворено гладким, повсюду
равномерным, одинаково распространенным во все стороны от центра,
целостным, совершенным и составленным из совершенных тел»
(Тимей. 34а-Ь). Гладкость — необходимый атрибут зеркальной
поверхности.
Соотношение души и тела второго бога оказывается
противоречивым. Душа одновременно находится и внутри тела, и снаружи
его: внутри тела Космоса, а именно «в его центре построявший дал
Место душе, откуда распространил ее по всему протяжению и в
придачу облек ею тело извне» (Тимей. 34Ь). Такое соотношение
504 ΙΟ. Μ. РОМАНЕНКО. БЫТИЕ И ЕСТЕСТВО
души и тела может быть, если граница между ними представляет
из себя «прозрачное зеркало» — крайне противоречивое для
конечной рационалистической рефлексии понятие. Но именно таким
образом (образом!) Демиург осуществил оптический акт творения:
«Так он создал небо, кругообразное и вращающееся, одно-
единственное, но благодаря своему совершенству способное
пребывать в общении с самим собою, не нуждающееся ни в ком другом
и довольствующееся познанием самого себя и содружеством с самим
собой. Предоставив космосу все эти преимущества, [Демиург] дал
ему жизнь блаженного бога» (Тимей. 34Ь).
Для того чтобы результат творения получился именно таким,
Демиург рефлективно поделил душу на две части, чтобы она
ограничивала тело изнутри и снаружи одновременно. Описание этого
действия является одним из самых загадочных в диалоге. Алгоритм
эксперимента Платон выражает так: «...рассекши весь
образовавшийся состав по длине на две части, он сложил обе части крест-
накрест наподобие буквы X и согнул каждую из них в круг, заставив
концы сойтись в точке, противоположной точке их пересечения.
После этого он принудил их единообразно и в одном и том же
месте двигаться по кругу, причем сделал один из кругов внешним,
а другой — внутренним» (Тимей. 36c-d).
Благодаря подобной структуре души она способна быть
непрерывно связанной со всем телом. «Когда весь состав души был
рожден в согласии с замыслом того, кто его составлял, этот
последний начал устроять внутри души все телесное и приладил то
и другое друг к другу в их центральных точках» (Тимей. 36d).
Снова эти загадочные точки! По сути дела, Платон реконструирует,
как Демиург умудрился создать игрушку «нетку», двумя
возможными частями которой выступают душа и тело, долженствующие
быть «прилаженными» друг к другу. «Нетка» получилась, и в ней
феноменально выдался и был увиден удивительный образ Абсолюта.
«И вот когда Отец усмотрел, что порожденное им, это изваяние
вечных богов, движется и живет, он возрадовался и в ликовании
замыслил еще больше уподобить [творение] образцу» (Тимей. 37с).
Второй пример описания «гадательного зеркала»
конкретизирует первый с добавлением некоторых существенных деталей.
Имеется в виду рассуждения Платона о материи. Вообще всякое зеркало
имеет лицевую и обратную сторону. Понятно, что обратная сторона
каким-то способом участвует в создании отражающей способности
лицевой стороны; без первой не было бы и второй, и наоборот.
В случае с «прозрачным зеркалом» обе стороны являются
отражающими, и одновременно каждая из них способствует
противоположной быть таковой. Зеркало удваивает реальность потому, что
оно само является раздвоенным в принципе. Когда «нетка»
оказалась сконструированной, в процессе ее создания в ней обнаружился
КНИГА 11. ГЛАВА 2. § 1. ПЛАТОН
505
непонятно откуда взявшийся еще один фактор — третий. Платон
его приметил, взял на учет и в очередной раз взялся за описание
того же самого: «...начнем сызнова. Начало же наших новых речей
о Вселенной подвергнется на сей раз более полному, чем прежде,
различению, ибо тогда мы обособляли два вида, а теперь придется
выделить еще и третий. Прежде достаточно было говорить о двух
вещах: во-первых, об основополагающем первообразе, который
обладает мыслимым и тождественным бытием, а во-вторых, о
подражании этому первообразу, которое имеет рождение и зримо. В то
время мы не выделяли третьего вида, найдя, что достанет и двух;
однако теперь мне сдается, что сам ход наших рассуждений
принуждает нас попытаться пролить свет на тот вид, который темен
и труден для понимания. Какую же силу и какую природу
припишем мы ему? Прежде всего вот какую: это — восприемница и
как бы кормилица всякого рождения» (Тимей. 48е—49а).
Между поверхностями обоих сторон зеркала существует какая-то
«среда». Как бы близко не были положены друг на друга обе
стороны, но они являются все же двумя сторонами, хотя одного и
того же «предмета». Поэтому в промежутке между ними существует
какая-то особая размерность. Обнаружить ее очень сложно: как бы
не перебегали мы от стороны к стороне, заглядывая за обратную
сторону, и как бы не переворачивали так и сяк предмет, но увидеть
эту реальность не удается. О ней можно только догадаться, или,
как пишет Платон, это «воспринимается вне ощущения,
посредством некоего незаконного умозаключения, и поверить в него почти
невозможно. Мы видим его как бы в грезах ... в сонном забытьи
переносим и на непричастную сну природу истинного бытия, а
пробудившись, оказываемся не в силах сделать разграничение и
молвить истину, а именно что, поскольку образ не в себе самом
носит причину собственного рождения, но неизменно являет собою
призрак чего-то иного, ему и должно родиться внутри чего-то иного,
как бы прилепившись к сущности, или вообще не быть ничем»
(Тимей. 52Ь-с). Образ есть такое «ничто», из которого и которым
творится к бытию из небытия сущее.
С введением третьего элемента завершается конструирование
«нетки». Ее функционирование представляется теперь так:
«Природа эта по сути своей такова, что принимает любые оттиски,
находясь в движении и меняя формы под действием того, что в
нее входит, и потому кажется, будто она в разное время бывает
разной; а входящие в нее и выходящие из нее вещи — это
подражания вечносущему, отпечатки по его образцам, снятые
удивительным и неизъяснимым способом...» (Тимей. 50с).
Материя (она же — «Кормилица рождения», она же —
«восприемница», она же — «хора-пространство») обладает некоей
абсолютной вибрацией, благодаря чему она является условием прозрачности
506 ΙΟ. Μ. РОМАНЕНКО. БЫТИЕ И ЕСТЕСТВО
зеркала. Платон уподобляет ее деятельность трясущемуся ситу,
которое собирает космические стихии в их чистоте. Иными ее
моделями выступают пашня и зеркало. В реальности подобного
абсолютного информационного пространства символы «сита»,
«пашни», «зеркала» и т. п. тождественны и метафорически взаимопе-
реводимы друг в друга.
С совпадением всех необходимых и достаточных условий
осуществляется творение. Его действующую естественную модель
позднее живописно вообразил неоплатоник Плотин в «Эннеадах» в виде
прозрачного шара безраздельного света: «Представив таким образом
мысленно прозрачный шар, заключающий в себе вещи, которые
или движутся, или покоятся, или попеременно то движутся, то
покоятся, вы затем, сохраняя без изменения вид этого шара,
уничтожьте его массу, удалите из него протяженность и вообще всю
материальность, не уменьшая, однако, его величины, и тогда
призовите Бога, создавшего тот мир, образ которого вы теперь имеет
пред вашим мысленным взором» (Эннеады. V 8, 9. Перевод Г. В. Ма-
леванского).
В этом светящемся зримом слиянии с Единым Плотин видит
цель жизни мудреца. Он пишет: «Вот что созерцает Зевс и те из
них, кто, следуя за ним, пылает любовью к тому горнему миру.
После всего прочего тут предстает созерцающих сама красота,
которая сияет всей полнотой своего блеска во всех сущностях и во
всем, что в них участвует, ибо она своим блеском освещает весь
сверхчувственный мир, распространяет его даже на тех, кто
созерцает ее... Тут созерцаемый предмет и душа составляют не две друг
другу внешние вещи, но одно...» (Эннеады. V 8, 10).
Плотин предвосхищает конгениального ему Н. Кузанского и
говорит о «живом зеркале» следующими словами: «Кто удостаивается
такого единения, тот видит Бога, видит в нем самого себя, насколько
это возможно (для нашей природы), видит себя просветленным в
сиянии духовного света; даже более: видит себя как чистый, тонкий
свет. Ему кажется, что он как бы обратился в божество и есть
божество, что он весь пламенеет, как огонь; когда же минует это
состояние, он вновь отягощается и затухает» (Эннеады. VI 9, 9).
Совпадение двух частей «нетки» в явлении Единого представлено
в «Эннеадах» так: «Хотя [тут] имеются созерцающий и
созерцаемое — два, а не одно, — однако, хотя такая речь смела, можно
сказать, что созерцатель, собственно, не созерцает, ибо сам
становится тем же, что созерцаемое; он не усматривает, не различает
никаких "двух", став совсем иным, перестав быть тем, чем был,
ничего не сохранив от прежнего себя. Поглощенный [созерцаемым],
он становится одно с ним, как центр совпадает в одной точке с
другим центром; они составляют одно, поскольку совпадают в одной
точке, и в то же время их два, поскольку они центры двух разных
КНИГА П. ГЛАВА 2. § 1. ПЛАТОН
507
кругов; в том же смысле мы и [о душе] говорим, что она иное [чем
Бог]. Понятно, что трудно передать (на словах) такого рода
созерцание, ибо как, в самом деле, созерцатель представит созерцаемого
отличным от себя, когда он созерцал не иное, а единое с ним
самим» (Эннеады. VI 9, 10).
Созерцать Единое можно, только задействовав мантическую
способность, то есть подключив к процессу «экспериментального»
видения «естественные гадательные зеркала», конструкцию и
технологию производства которых невозможно выразить прямо вербаль-
но. Это нужно видеть в тишине, плодоносящей прорицания. Плотин
предупреждает: «Вот откуда обычное в мистериях запрещение
делиться тайнами с непосвященными: поскольку [единое] невыразимо,
неописуемо, запрещается толковать о божественном с теми, кто не
удостоился еще созерцать его. Так как в момент созерцания исчезает
всякое "два", и созерцающий настолько отождествляется с
созерцаемым, что, собственно, не созерцает его, а сливается с ним
воедино, то, понятно, лишь тот может удержать в себе его образ,
кто сохранит в целости воспоминание, каким он сам был во время
созерцания [единого]... Мудрейшие из прорицателей посредством
различных символов давали намеки, каким образом происходит
созерцание Бога, и мудрый священнослужитель, разумеющий эти
намеки, проникнув в святилище, может увидеть истину, ибо он
убежден, что тут должно находиться нечто невидимое — источник
и начало всего, а потому видит это начало и соединяется с ним
тем, что в нем самом подобно ему» (Эннеады. VI 9, 11).
Сверкающий эффект «нетки» скоротечен. Виной этому,
вероятно, является материя, которая своей вибрацией доводит до
возникновения и вибрацией же разрушает созданное. Интеллигибельная
материя перемещает вспышку феномена в иную размерность,
действуя как сито. По этому же принципу действуют, кстати,
принимающая поверхность глаза и внутренняя «обратная» сторона экрана
телевизора — приемников и передатчиков информации.
Итак, Платон выделил в механизме «живого зеркала» три части:
«то, что рождается, то, внутри чего совершается рождение, и то,
по образцу чего возрастает рождающееся. Воспринимающее начало
можно уподобить матери, образец — отцу, а промежуточную
природу — ребенку» (Тимей. 50d). Творение представлено мифологемой
Священного Брака. И здесь мы подошли к третьему показательному
примеру описания «нетки» на основе соотношения ее частей —
мужского и женского начал. Хаос «мужского» и хаос «женского»
друг без друга — ничто. Мужское начало представляет из себя
хаотический выпуклый клубок, который может явиться в своем
идеальном образе, если он отразится в хаосовидном же вогнутом
зеркале женского начала. Без их дополнительности,
предоставленные сами себе, они обречены на деградацию — далее не в хаос (они
508
ΙΟ. Μ. РОМАН Ε Η КО. БЫТИЕ И ЕСТЕСТВО
и так есть две ипостаси продуктивного хаоса) — а в ничтожество-
вание. Платон выразительно показывает их плодотворное общение:
«Вот почему природа срамных частей мужа строптива и своевольна,
словно зверь, неподвластный рассудку, и под стрекалом
непереносимого вожделения способна на все. Подобным же образом и у
женщин та их часть, что именуется маткой, или утробой, есть не
что иное, как поселившийся внутри них зверь, исполненный
детородного вожделения; когда зверь этот в поре, а ему долго нет случая
зачать, он приходит в бешенство, рыщет по всему телу, стесняет
дыхательные пути и не дает женщине вздохнуть, доводя ее до
последней крайности и до всевозможных недугов, пока наконец
женское вожделение и мужской эрос не сведут чету вместе и не
снимут как бы урожай с деревьев, чтобы засеять пашню утробы
посевом живых существ...» (Тимей. 91b-d).
Совпадение возможностей обеих частей «нетки» имеет свой
результат — существо, присвоившее образ Космоса. Однако этот
результат хотя и возникает креативно — сразу (вдруг), но его
появлению предшествует специфическая естественная подготовка. До
того момента, как это существо воссияет, оно проходит этап опро-
бывания всех своих возможностей по всем степеням свободы.
Процесс настройки «нетки» Платон демонстрирует во фрагменте,
где повествуется о «состыковке» («подгонке», «подлаживании»)
души и тела. Их сопряжение должно было привести к
возникновению живого существа, но до тех пор, пока жизнь не возникла,
«все это существо было подвижно, однако устремлялось куда
придется, беспорядочно и безрассудно; к тому же, обладая
возможностью всех шести движений: вперед—назад, направо—налево и
вверх—вниз, оно продвигалось в шести направлениях и на все лады
блуждало» (Тимей. 43а-Ь). Платон красочно рисует действие
творческого хаоса, используя метафоры: когда душа стала «вступать»
в смертное тело, то материальные возможности последнего стали в
свою очередь действовать на душу и ее идеальные круговращения
так, что «расстроили до такой степени, ...что пошли вкривь и вкось,
всемерно нарушая круговое движение; ...движение это было
беспорядочным: они то сталкивались, то двигались наискосок, то
опрокидывались» (Тимей. 43d-e).
В дальнейшем, как только искра жизни засветилась,
одушевленное тело естественно разрастается и приобретает специфический
ему облик, в котором энергия хаоса усмирилась. Творение
осуществляется и сразу, и постепенно. Платон «ясно видит» в «гадательном
зеркале» зарождение, явление и дление жизни: «душа и теперь,
вступив в смертное тело, поначалу лишается ума; когда же, однако,
поток роста и питания ослабевает и круговращения, дождавшись
затишья, возвращаются на свои стези и со временем все более
выравниваются, тогда каждый из кругов направляет свой бег со-
КНИГА II. ГЛАВА 2. § 1. ПЛАТОН
509
гласно природным очертаниям и все они изрекают справедливое
суждение и об ином, и о тождественном, так что носитель их
окончательно становится разумным существом. Если же к этому
добавится правильное воспитание, он будет цел, невредим и здоров,
избегнув наихудшего из недугов...» (Тимей. 44Ь-с).
Следует особо отметить, что Платон реконструирует не только
статический образ Космоса, но и учитывает его динамические
характеристики, пытаясь дать его в естественно присущем ему
движении. Глаз видит не только неподвижные очертания вещи, но и
пределы возможных ее движений, которые и задают ее идеальный
образ. Даже если бы и существовала какая-нибудь абсолютно
неподвижная вещь, то глаз в силу собственного колебания придал
бы ей движение в видении. Это тема отдельного разговора, который
впоследствии будет вести Аристотель о неподвижном перводвига-
теле. Видеть движение — это значит угадывать динамические
возможности вещи, заданные ее образом: «Это чувство похоже на то,
что испытываешь, увидев каких-нибудь благородных, красивых
зверей, изображенных на картине, а то и живых, но неподвижных:
непременно захочется поглядеть, каковы они в движении и как
они при борьбе выявляют те силы, о которых позволяет
догадываться склад их тел» (Тимей. 19Ь).
Случаев действия «неток» в обычном повседневном опыте
больше, чем мы об этом догадываемся. Человек угадывает целостный
образ вещи не потому, что он еще не обладает всевидением или
что он пока не познал умом данную вещь. Угадывание — это не
недостаток гносеологического трансцендентального субъекта,
вынужденного затыкать пробелы непознанного досужими догадками,
а его норма, соответствующая его природе и природе вещей, с
которыми он сосуществует в едином Космосе.
Каждый, кто умеет сказать о себе в личном местоимении
единственного числа — «Я», уже так или иначе прошел опыт «неточного»
эффекта. Психологами описан этап обретения ребенком
самоосознания в период первой реальной встречи с зеркалом. Даже
искусственное зеркало обладает необходимым минимумом действия.
Элементарная догадка, что отражение во внешнем зеркале — «это я»
(так называемая идентификация) — настолько приевшаяся вещь,
что о ней дополнительно не рефлектируют. Но уже нетривиальной
и чрезвычайно трудной оказывается ситуация, когда пытаешься
вспомнить — как эта догадка пришла впервые и укоренилась в
субъекте.
«Неточные» эффекты естественных зеркал, функционирующих
в живом организме, предстают как симптомы, но не болезни, а
здоровья, как бы это парадоксально не звучало. Обычно говорят,
что органы организма чувствуются тогда, когда находятся в больном
или патологическом состоянии. Здоровые органы просто не ощу-
öl О Ю. M. РОМАН EH КО. БЫТИЕ И ЕСТЕСТВО
щаются, а работают себе согласно их природе. Это наблюдение
наполовину справедливо. Но есть еще и моменты таких состояний
живого организма, проявляющиеся как проблески «живых зеркал»,
о которых можно сказать, что это симптомы здоровья. А если быть
совсем точным — симптомы выздоровления, выхода из болезни и
настройки на норму.
Проблема «болезни—здоровья» имеет существенное значение в
тексте «Тимея». Можно даже осмелиться сказать, что это
своеобразное терапевтическое пособие. Здесь описываются условия
исцеления благодаря «видению образа» здоровья. Дело в том, что
человек, согласно Платону, появляется в Космосе априори больным,
или, во всяком случае, с момента рождения его жизнь проходит
как постоянное заболевание — душевное или телесное.
Даже завязка сюжета диалога начинается с констатации болезни.
«Сократ. Один, два, три — а где же четвертый из тех, что
вчера были нашими гостями, любезный Тимей, а сегодня взялись
нам устраивать трапезу?
Τ и м е й. С ним приключилась, Сократ, какая-то хворь, уж
по доброй воле он ни за что не отказался бы от нашей беседы.
Сократ. Если так, не на тебя ли и вот на них ложится долг
восполнить и его долю?
Τ и м е й. О, разумеется, и мы сделаем все, что в наших силах!»
(Тимей. 17а).
В этой зашифрованной увертюре практически задана арифмо-
логическая схема всего текста. Тетрактида символически знаменует
целостный воплощенный Космос, в апогее его здоровья. Но
четвертого участника как раз нет среди собравшихся поговорить об образе
Космоса — он болен. Его долю нужно восполнить, т. е. его нужно
исцелить, действуя самым щадящим способом на расстоянии —
магией воображения. Можно догадаться, что когда собеседники под
присмотром Сократа завершили обсуждение темы Космоса, прори-
цательно настроив его идеальный образ, четвертый отсутствующий
участник вернулся совершенно исцеленным в компанию философов.
Они зрительно вызвали его в точку пересечения их взглядов.
Классификация «недугов» занимает в диалоге несколько страниц
(см.: Тимей. 82а—88Ь). В живом существе душа и тело больны
друг другом. Поэтому единственным кардинальным средством
приобретения здоровья является постоянное подлаживание их друг к
другу, преодолевающее психические и соматические болезни: «От
того и другого есть лишь одно спасение — не возбуждать ни души
в ущерб телу, ни тела в ущерб душе, но давать обеим сторонам
состязаться между собой, дабы они пребывали в равновесии и
здравии» (Тимей. 88Ь).
Полностью здоровое живое существо, если таковое есть в
пределах Космоса, имеет прозрачное тело, светящееся во весь свой
КНИГА II. ГЛАВА 2. § 1. ПЛАТОН
511
объем чистым светом. Душа и тело его пребывают в гармонии.
Здесь необходимо отдельно сказать о теории света Платона. В
диалоге «Государство» говорится о том, что свет является чем-то
третьим в акте видения, обладающим силой связывать зрение со
зримым. Онтологическое преимущество в процессе видения Платон
отдает именно свету, говоря, что «свет драгоценен» (Государство.
508а).
В процессе действия механизма «нетки» именно свет
осуществляет подгонку двух ее частей. Происходит это потому, что в свете
есть какие-то свои структурации — сверкания, сияния, которые
влияют на расположения, искривленность и гладкость
«естественных зеркал». Если при пользовании искусственным зеркалом свет
дает возможность увидеть отображение извне, то творящий Свет
находится внутри системы живых зеркал. Сущность Света состоит
в том, что он способен распространяться с бесконечной скоростью
по всем возможным направлениям благодаря собственному
самоумножению. Благодаря этому живой организм действительно
представляет собой самонастраивающуюся оптическую систему. Для
того чтобы организм знал себя как здоровый, не нужны никакие
внешние рентгеновские лучи, лазеры и тем более ядерные
излучения.
Платон несомненно обладал даром пророчества, и ему удалось
проникнуть в тайну Космоса, угадав его образ благодаря
естественному зеркалу. Однако чувствуется, что это еще не все. Что-то еще
осталось в умолчании, в последней догадке. Мало ли какими
способностями обладает человек, умудряясь довести их в упражнениях
до сверхвозможностей. Способностей у человека много, и каждая
из них может быть развита до совершенства изолированно от других.
Но что их связывает воедино? Апостол Павел, человек новой эпохи,
знавший то, о чем только могла догадываться античность, задается
вопрошаниями: «Все ли Апостолы? все ли пророки? все ли учители?
все ли чудотворцы? Все ли имеют дары исцелений? все ли говорят
языками? все ли истолкователи? Ревнуйте о дарах больших, и я
покажу вам путь еще превосходнейший» (I Кор. 12, 29-31).
Апостол Павел проницательно подводит итог античных
прозрений и прорицаний, отнюдь не отрицая их реальных достижений,
но указывая еще на что-то иное: «Если имею дар пророчества, и
знаю все тайны, и имею всякое познание и всю веру, так что могу
и горы переставлять, а не имею любви, — то я ничто» (I Кор.
13, 2).
Проблески в «нетке», эпизодически удовлетворяя жажду жизни,
приходят и уходят, временно восстановив здоровье. Но даже они
не могут остановить необратимое течение времени. Апостол Павел
говорит о непреходящем: «Любовь никогда не перестает, хотя и
пророчества прекратятся, и языки умолкнут, и знание упразднится.
512 Ю. M. РОМАНЕНКО. БЫТИЕ И ЕСТЕСТВО
Ибо мы отчасти знаем и отчасти пророчествуем; Когда же настанет
совершенное, тогда то, что отчасти, прекратится» (I Кор. 13, 8-10).
Апостол языков знал возможности «живого зеркала», в котором
может увидеть себя живая личность: «Теперь мы видим как бы
сквозь тусклое стекло, гадательно, тогда же лицем к лицу; теперь
знаю я отчасти, а тогда познаю, подобно как я познан» (I Кор. 13,
12). Это состояние возможно в любви, средоточием и источником
которой является сердце — центральное зеркало жизни.
Платон в «Тимее» тоже писал о сердце как о некоем
органическом зеркале, но рассматривал его по каким-то причинам не в
аспекте любви, а в аспекте гнева. Сердце выполняет функцию
стража души, угрозами (а не любовью!) усмиряя гневливый дух.
«Сердцу же, этому средоточию сосудов и роднику бурно гонимой
по всем членам крови, они отвели помещение стража; всякий раз,
когда дух закипит гневом, приняв от рассудка весть о некоей
несправедливости, совершающейся извне или, может статься, со
стороны своих же вожделений, незамедлительно по всем тесным
протокам, идущим от сердца к каждому органу ощущения, должны
устремиться увещевания и угрозы, дабы все они оказали
безусловную покорность и уступили руководство наилучшему из начал»
(Тимей. 70а-Ь).
Можно ли угрозами, пусть даже и пророческими, ликвидировать
все человеческие беды и несправедливости? Представляется, что
античность этот вопрос в полной мере не могла продумать, хотя и
была способна догадаться. Что-то в истории для нее еще не
свершилось. Новая эпоха, увидевшая Бога-Творца в образе Человека,
кардинально (что значит — сердечно!) преобразовала прежние
методологические установки эксперимента с естеством. Каждый
реальный результат научного познания должен быть подвергнут
проверке в иных лабораториях с целью увеличения его достоверности.
Новое время стало очередной попыткой воспроизводства исходного
эксперимента.
Рассмотрим антропологическую тематику «Тимея», в котором
гадательно представлен образ «двоякого человека», о чем шла речь
выше. В замысел этого диалога вошли две задачи: реконструкция
возникновения Космоса и определение в нем места человеку. Обе
задачи взаимообусловливают друг друга, поскольку описание
космического генезиса и устроения дается людьми — участниками
диалога — встроенными наблюдателями и жителями Космоса.
Апелляция к внечеловеческим силам, создающим Космос, — это тоже
человеческая характеристика, несмотря на то, что само описание
ведется как бы от лица Создателя, что составляет содержание
«правдоподобного мифа». По сути дела, данный диалог реализует
«антропный принцип в космологии» в контексте античной
философии.
КНИГА П. ГЛАВА 2. § I. ПЛАТОН
513
Примем крайнюю антропологическую точку зрения, ставящую
человека в фокус внимания («человек есть мера всех вещей»), и
абстрагируемся от вопроса «каков Космос есть сам по себе?». Космос
может быть каким угодно, но человека более интересует вопрос о
том, что есть Космос с человеком. Такая антропоцентрическая
позиция, по видимости, противоположна платоновской, ибо он
претендует как раз на «внечеловеческое» («объективное», так сказать)
описание, хотя оговорки в ходе изложения постоянно напоминают
о проблематичности подобного подхода. В любом случае речь о
Космосе ведут люди, даже когда они ретранслируют божественные
откровения (с разной степенью искаженности, которая никогда не
сводится к нулю). По большому счету, Космос и есть божественное
откровение человеку Космоса, что еще должно быть усвоено
человеком.
Абсолютно совершенным Космос был бы тогда, когда в нем не
было бы человека. Платон на этот «дочеловеческий» этап космоге-
незиса указал: «[Тело космоса] было искусно устроено так, чтобы
получать пищу от своего собственного тления, осуществляя все свои
действия и состояния в себе самом и само через себя. Ибо
построивший его нашел, что пребывать самодовлеющим много лучше,
нежели нуждаться в чем-либо» (Тимей. ЗЗс-d). Когда человека не
было, то не было ни для кого и проблемы Космоса. Вот это
возмущающее действие внутри Космоса, вносимое самим фактом
существования человека в нем, и должно быть основной проблемой
в человеческих космологических гипотезах и моделях.
Представляется, что Платон подспудно прекрасно понимает суть
этой проблемы и пытается нащупать эту неуловимую точку
пересечения Космоса и человека. Повторим еще раз цитату: «Если нам
удастся попасть в точку, у нас в руках будет истина...» (Тимей. 53е).
Сами по себе позитивные дефиниции и дескрипции не так важны,
они всегда будут односторонними — наполовину истинными, но и
наполовину ложными. Их необходимо делать, но не ради них самих,
а для того, чтобы создать условия возможности для узнавания чего-
то иного.
Первым беспредпосылочным тезисом в направлении решения
вышесформулированной проблемы выставим положение, что
человек, вообще-то говоря, не есть космическое существо. Человек
может быть в Космосе (сейчас, для нас и Платона, это вроде фактично),
но может и не быть. Где был человек до появления его в Космосе,
пока неизвестно, но он каким-то образом все же был, с присущей
ему какой-то природой, которую еще нужно было прилаживать
в процессе интеграции человека в становящийся Космос. Вот в чем
состоит загадка о человеке, просвечивающаяся между строк диалога
«Тимей».
514 Ю. M. РОМАНЕНКО. БЫТИЕ И ЕСТЕСТВО
Платон-человек (?) вещает от лица богов, проникая (по какому
праву?) в их замысел относительно человека: «Ведь боги,
построившие нас, помнили о заповеди своего отца, которая повелевала
создать человеческий род настолько совершенным, насколько это
возможно...» (Тимей. 71d).
Прямым следствием содержания этого фрагмента является вывод
о том, что человек в космогенезе был возможен (практически
абсолютно (?) отсутствуя), и лишь искусно устроенный естественный
процесс развития Космоса привел к переходу от возможности к
действительности человека. Но почему все-таки явление человека
в Космосе оказывается ущербным?
Задаваясь этим вопросом, снова вернемся к последней цитате и
выведем из нее еще одно, косвенное, следствие. По всей видимости,
человеческая природа в возможности является ущербной для
вторичных богов (демонов), действующих по заповеди их Отца. Но
сам Отец, вероятно, заранее знал природу человека, если
предупредил о ее специфике вторичных богов. И поскольку для Единого
Бога нет ничего невозможного, а все есть действительное, то, значит,
в каком-то смысле человек сам по себе, прежде своей возможности
появления в Космосе, уже был действительным (вернее, есть
действительный). Тогда проблема «искаженности», быть может,
сдвигается с человека и переадресуется кому-то другому. Не исключено,
что вторичные боги не способны совладать с человеческой природой
не потому, что только она искажена, но и потому, что у них тоже
что-то не в порядке. Одна неполноценность противостоит другой.
Платону удалось подслушать речь Отца вторичным божествам.
(Интересно, где он в это время был?) Послушаем, как он
пересказывает то откровение, которое в принципе не мог слышать человек,
отсутствуя тогда, получается, даже в возможности. «Когда же все
боги — как те, чье движение совершается на наших глазах, так и
те, что являются нам, лишь когда сами того пожелают, — получили
свое рождение, родитель Вселенной обращается к ним с такой
речью:
"Боги богов! Я — ваш Демиург и отец вещей, а возникшее от
меня пребудет неразрушимым, ибо такова моя воля. Разумеется,
все то, что составлено из частей, может быть разрушено, однако
пожелать разрушить прекрасно слаженное и совершенное было бы
злым делом. А потому, хотя вы, однажды возникнув, уже не будете
совершенно бессмертны и неразрушимы, все же вам не придется
претерпеть разрушение и получить в удел смерть, ибо мой приговор
будет для вас еще более мощной и неодолимой связью, нежели те,
что соединили при возникновении каждого из вас. Теперь
выслушайте, чему наставит вас мое слово. Доселе еще пребывают
нерожденными три смертных рода, а покуда они не возникли, небо не
получит полного завершения: ведь оно не будет содержать в себе
КНИГА П. ГЛАВА 2. § 1. ПЛАТОН
515
все роды живых существ, а это для него необходимо, дабы оказаться
достаточно завершенным. Однако (очень симптоматично это
"однако". — Ю. Р.). если эти существа возникнут и получат жизнь от
меня, они будут равны богам. Итак, чтобы они были смертными
и Вселенная воистину стала бы Всем, обратитесь в соответствии с
вашей природой (Какова все же специфика и возможности этой
"природы"? — Ю. Р.) к образованию живых существ, подражая
моему могуществу, через которое совершилось ваше собственное
возникновение. Впрочем, поскольку подобает, чтобы в них
присутствовало нечто соименное бессмертным, называемое божественным
[началом], и чтобы оно вело тех, кто всегда и с охотой будет
следовать справедливости и вам, я вручу вам семена и начатки
созидания, но в остальном вы сами довершайте созидание живых
существ, сопрягая смертное с бессмертным, затем готовьте для них
пропитание, кормите и взращивайте их, а после смерти принимайте
обратно к себе"» (Тимей. 41a-d).
Сказано — сделано. Родитель Вселенной не снизошел до
окончательного (воплощенного) создания человека, перепоручив это
своим подмастерьям. Но Он хотел создания человека, дабы «небо
получило полное завершение» (?) и чтобы благодаря наличию
смертных «Вселенная воистину стала бы Всем» (?). «Сделав все эти
распоряжения, он пребывал в обычном своем состоянии. Между тем его
дети, уразумев приказ отца, принялись его исполнять...» (Тимей.
42е).
Допустим, что Платон без искажений передал речь Отца богам.
Не случайно ведь Платона называли «божественным». Но даже в
такой форме это сказание вызывает много вопросов. Какова все-таки
природа рожденных богов в их возможном отношении к природе
человека? Сама по себе природа богов идеальна, как и все рожденное
от Отца. Они всё могут сделать идеальным и совершенным. Всё,
кроме человека, который почему-то не поддается полной
идеализации. Отец мог бы и сам родить человека, но тогда этот акт был
бы аналогичным созданию богов и ничего нового не получилось
бы. Он даже не стал обращаться потом напрямую к людям, после
их возникновения, с приблизительно такой речью, подобной
предыдущей его речи к богам: «Люди! Я ваш Демиург. Вы созданы
по моему повелению. Пребывайте отныне такими, каковы вы есть...»
Разумеется, таких речей можно нафантазировать сколько угодно,
в подражание стилю Платона. Но все же стоит продолжить
постановку предельных вопросов относительно тех проблем, которые
затрагивает сам Платон. Текст «Тимея» — только верхушка
айсберга, и о многом главном Платон наполовину умолчал по разным
причинам. Допустимо дополнить частичные гипотезы Платона
некоторыми другими, не отступая от главной цели.
516 Ю. M. РОМАНЕНКО. БЫТИЕ И ЕСТЕСТВО
Текст «Тимея» мог бы расшириться за счет включения в него
вышенамеченной гипотетической речи Отца людям помимо ушей
вторичных божеств (в акте зова по имени человека из небытия).
Весьма загадочными и таинственными представляются причины
неполноценности природы богов и природы людей в их отношении
друг к другу, от чего зависит характер взаимоотношения людей и
богов в пределах свершившегося Космоса. Для разработки
поставленных гипотез потребовался бы второй Платон, поэтому
остановимся здесь в ожидании. Как остановилась в ожидании ответов на
эти вопросы античность. Эпоха Средневековья некоторые ответы
дала. Но история, космос и человек еще продолжают существовать.
Загадка о человеке остается актуальной. Платоновский космо-
антропогонический «правдоподобный миф» подводит нас к более
ясному пониманию существа той загадки, которую представляет
человек, мы сами. Несомненно, Платону удалось увидеть в
организованном им оптическом эксперименте идеальное изваяние
Космоса — по неподдельности тона это признается сразу. Но сумел ли
он распознать на космическом фоне образ человека — единого и
общего всем людям «близнеца»? — это требует отдельного большого
исследования. Сейчас можно догадаться лишь о том, что
экспериментальное наблюдение целостного Космоса возможно в точке
пересечения взглядов «двоякого человека», внутрикосмического и вне-
космического, видящего себя самого в своем «живом зеркале».
§ 2. ДЕКАРТ
Дополнительность сомнения
и удивления в воображении творения
Известно, что одним из «новшеств» картезианской философии
было придание «сомнению» методического статуса, т. е.
экспериментальное претворение одного из возможных состояний
человеческой души в ведущий, организованный и целенаправленный
способ познания мира. Естественно, у Декарта были
предшественники — представители различных скептических школ и направлений
начиная с античности. Но именно он, согласно духу своего времени,
сделал сомнение «научным», иначе говоря, оправдал в свете науки
одно из не самых похвальных чувств. То, что Декарт проделал
достаточно необычный, но необходимый эксперимент с таким
«объектом», как душа в фазе сомнения, не вызывает никаких сомнений,
говоря тавтологически. Однако насколько «чистым» оказался этот
эксперимент и мог ли он быть «чистым», а также насколько он
воспроизводим и общезначим — предстоит выяснить подробнее.
КНИГА II. ГЛАВА 2. § 2. ДЕКАРТ
517
Общая проблема, которой посвящено настоящее исследование,
состоит в оценке декартовского вклада в развитие метафизики. Для
наших целей последнюю можно в рабочем порядке определить как
систему принципов отношения между субъективным и
объективным, идеальным и материальным, абсолютным и относительным
и т. д. Мышление Декарта вращается в этих рамках. Частной
задачей в контексте обозначенной общей проблемы является
выяснение вопросов о происхождении, функционировании, развитии и
результативности «сомнения», возможных пределов его
абсолютизации в философском дискурсе, обнаруживающейся у Декарта.
Принципиальным вопросом является нахождение коррелята
«сомнению», его метафизической «изнанки».
Как видно из названия параграфа, искомым коррелятом
сомнению в философии Декарта, и можно уверенно утверждать, что в
философии вообще, выступает удивление. Действительно, сомнение
и удивление представляется как некая смысловая нерасторжимая
диада категорий, между которыми существует особая диалектика
отношений. В какой-то изначальной точке их происхождения в
сознании они равноправны, но в последующем становлении один
из моментов может гипертрофироваться и выделиться в
привилегированный. Декарт, как мы знаем, абсолютизировал один из этих
полюсов, низведя второй до состояния относительности. Для этого,
вероятно, были свои резоны, и стоит тщательно в них разобраться.
Вспомним, кстати, что другие философы могли абсолютизировать
удивление и из него выводить начало самой философии, как это
было, например, у Аристотеля.
Методический характер сомнения в картезианстве исследован в
литературе достаточно подробно, став хрестоматийным. Поэтому,
для того чтобы четче оттенить «сомнение», удобнее начать историко-
философский анализ с описания его антипода — удивления — в
декартовских текстах. Несмотря на периферийное место
«удивления» в наследии Декарта, очевидно, что он интуитивно чувствовал
необходимость посвятить этой теме особое внимание.
Непосредственному рассмотрению «удивление» подвергается в трактате
«Страсти души».
Предварительно обозначим предметную область, к которой имеет
отношение «удивление» (admiration). Уже исходя из этимологии и
семантики этого слова можно заключить, что удивление имеет своей
интенцией чудо, диво (miracle). К чуду у Декарта двойственное
отношение. С одной стороны, он не мог не признавать те чудеса,
которые известны из религиозного Откровения и догматики. В этом
смысле Декарт не порывает окончательно связь с религиозной
традицией католицизма, хотя и пытается произвести в ней модерни-
заторские преобразования. С другой стороны, Декарт заявляет, что
не нужно «приписывать чуду то, что может быть объяснено с
518 Ю. M. РОМАНЕНКО. БЫТИЕ И ЕСТЕСТВО
помощью естественного света».' Следовательно, то, что объясняется
естественным светом, не есть чудо как таковое (хотя возникает
вопрос, на который не отвечает Декарт: а сам «естественный свет»
не является ли чудом?). В декартовской методологии чудо берется
в скобки, отграничивается от предметной сферы науки и
исключается из познавательной способности человека. Хотя в дальнейшем
такой ученый, как А. Эйнштейн по этому поводу высказал
следующее парадоксальное суждение: «Самым удивительным является то,
что мир познаваем». Декарт справедливо критикует тех ученых,
которые демонстрируют «результаты своей науки, чтобы удивить
нас», — но вместо этого, заявляет Картезий, необходимо «учить
самой науке, которая не оставила бы никаких поводов для
удивления».2 Таким образом, для науки удивлению Декарт не оставляет
никаких шансов.
Вместе с этим удивление традиционно приписывается такой
познавательной способности человека, как воображение. Рассуждая
о «реальном различии между умом и телом» («Шестое
размышление»), Декарт пишет: «...глубже вдумываясь в сущность
воображения, я вижу: оно есть не что иное, как применение познавательной
способности к телу, как бы внутренне во мне присутствующему и
потому существующему».3 Откуда берется это «второе тело» (как
бы тело в теле) — пока не понятно. Ясно только, что оно есть плод
воображения (фантазии). Возможность подобного самоудвоения
сущности, генетически присущая самой метафизике, как бы ее не
блокировала «бритва Оккама», возникает в единственном случае —
когда мышление обращено на самое себя. Декарт прекрасно усвоил
эту идущую от Платона и Аристотеля тенденцию метафизикализа-
ции знания, говоря по этому поводу: «...мысль, когда она постигает,
некоторым образом обращена (разрядка моя. — Ю. Р.) на
самое себя и имеет в виду одну из присущих ей самой идей; когда
же мысль воображает, она обращена на тело и усматривает в нем
нечто соответствующее идее — умопостигаемой или же воспринятой
чувством».4 Эти слова можно понять таким образом, что саморбра-
щение мысли порождает некое тело в теле, не замечаемое чувствами,
но зато воображаемое. Здесь — констатация изначального
метафизического дуализма — между умопостигаемым и чувственновоспри-
нимаемым мирами.
1 Декарт Р. Ответ на четвертые возражения // Декарт Р. Соч.: В 2-х т.
Т. 2. М.: Мысль, 1994. С. 198.
2 Декарт Р. Правила для руководства ума /,■' Декарт Р. Соч.: В 2-х т.
Т. 1. М.: Мысль, 1989. С. 89.
3 Декарт Р. Размышления о первой философии... /' Соч. Т. 2. С. 58.
1 Там же. С. 59.
КНИГА II. ГЛАВА 2. § 2. ДЕКАРТ
519
Теперь, когда определился фундамент, на котором можно
построить концепцию «удивления», обратимся к его трактовке у
Декарта. В «Страстях души» дается упорядоченная типологизация
и классификация душевных страстей (passions) как «пассивных»
состояний, в которых душа претерпевает от идущих извне или
изнутри воздействий (аффектаций). По традиции, страсти подлежат
усмирению и преодолению, ибо страстное состояние чревато
разрушением личности. Противоположностью пассивности страсти
является активность воли.
Духовная способность человека свободно распоряжаться и
управлять собственной волей является основанием для души — чтобы
при хорошем руководстве она могла приобрести полную власть над
своими страстями (§ 50 анализируемого трактата). Для этого
необходимо знать, что такое страсти, каково их число, порядок и
степени. Этим вопросам посвящена вторая часть произведения.
Декарт обнаруживает, что первой страстью души является
удивление: «Если при первой встрече (разрядка моя. —
Ю. Р.) нас поражает какой-нибудь предмет и мы считаем его новым
или весьма отличающимся от тех предметов, которые мы анали
раньше, или от того, каким мы его представляем себе, то удивляемся
ему и поражаемся. И так как это может случиться до того, как
мы каким-либо образом узнаем, подходит ли нам этот предмет, то
мне кажется, что удивление есть первая из всех страстей» (§ 53).1
Будучи первой страстью, удивление, оказывается, не имеет
противоположной себе, т. е. у удивления, по Декарту, нет коррелята,
в то время как все остальные страсти расположены попарно. «Она
не имеет противоположной себе, потому что, если в
представляющемся нам предмете нет ничего поражающего нас, он нас
совершенно не затрагивает и мы рассматриваем его без всякой страсти»
(§ 53).2 К. Фишер разъясняет это место следующим образом: «Его
истинной противоположностью было бы такое душевное состояние,
которое чуждо какому бы то ни было возбуждению и совершенно
бесстрастно в своей невосприимчивости к силе впечатлений: поэтому
не существует противоположной удивлению страсти, т. е. удивление
не имеет контраста».3 С такой оценкой согласиться сложно. Хотя
бы потому, что К. Фишер в этих словах уже определенно
констатировал контраст удивлению. Оставалось только назвать его по
имени.
Декарт, видимо, не очень хотел искать метафизического соот-
вествия «удивлению», а признать за таковое «сомнение» не было
1 Декарт Р. Страсти души // Соч. Т. 1. С. 507.
2 Там же. С. 507.
s Фишер К. История новой философии. Декарт: Его жизнь, сочинения
и учение. СПб.: Мифрил, 1994. С. 412.
520 Ю. M. РОМАНЕНКО. БЫТИЁ И ЕСТЕСТВО
желания, ибо в таком случае последнему был бы приписан статус
душевной страсти со всеми вытекающими отсюда последствиями.
Декарт умалчивает о том, что «сомнение» есть обычная страсть,
ибо оно слишком дорого для его эксперимента, в котором эта страсть
отнюдь не преодолевается, а доводится до максимального,
безудержного своего развития. Впоследствии в изложении Декарта откроется
возможность непосредственно сопоставить удивление и сомнение.
Декарт дефинирует «удивление» через слово «поражаться»,
причем в ситуации «первой встречи» с каким-либо предметом. Это
существенные характеристики, которые отводят «удивлению» место
не в области непосредственного чувства, а в воображении и, далее,
поскольку «первая встреча» всегда необратимо находится в
прошлом, то в удивлении всегда присуствует память (хотя бы только
негативная память о том, что такого мы еще не видели в собственном
опыте). Подобные аспекты Э. Гуссерль определял термином
«ретенция», а В. С. Библер говорил о «мире впервые». Эти «мемориальные»
и «мнемотехнические» особенности удивления Декарт специально
отмечает: «В частности, об удивлении можно сказать, что оно
полезно, так как благодаря ему мы узнаем и храним в памяти то,
чего прежде не знали. Ибо мы удивляемся только тому, что кажется
нам редким и необычайным, а такими могут показаться только те
вещи, с которыми мы еще незнакомы, или те, которые отличаются
от всего известного нам; из-за этой разницы их и называют
необычайными. Даже если вещь, которая была для нас неизвестна,
впервые представляется нашему рассудку или нашим чувствам, мы не
удерживаем ее в памяти, если идея этой вещи не укреплена в нашем
мозгу какой-либо страстью или же сосредоточением рассудка, от
которого воля требует особого внимания и особого размышления»
(§ 75).1
Объективными обстоятельствами возникновения удивления
являются следующие: «Удивление возникает в душе тогда, когда
какая-нибудь неожиданность заставляет ее внимательно
рассматривать предметы, кажущиеся ей редкими и необычайными» (§ 70).2
Удивление, не имея себе коррелята, каким-то образом
нейтрально в этическом смысле, хотя, по всей видимости, оно
дифференцируется в себе эстетически, поскольку мы удивляемся двум типам
вещей — значительным (возвышенным) и низким (безобразным).
Этой этической нейтральности параллелен физиологический
процесс, связанный с тем, что удивление не вызывает «сердечного
волнения» и «бурления в крови»: «Эта страсть имеет ту особенность,
что она не сопровождается никакими изменениями в сердце и в
крови, как это бывает при других страстях. Причина этого заклю-
1 Декарт Р. Страсти души. С. 513.
2 Там же. С. 511.
КНИГА II. ГЛАВА 2. § 2. ДЕКАРТ
521
чается в том, что, не имея своей целью ни блага, ни зла, а только
познание предмета, вызвавшего удивление, эта страсть не связана
ни с сердцем, ни с кровью, от которых зависит все благополучие
тела, а только с мозгом, где находятся органы, служащие для
познания» (§ 71).' Удивление — «гносеологическая» страсть и
«эстетическая ».
Кроме этих существенных характеристик Декарт обращает
внимание на то, что каждой страсти присущи свои степени энергийного
возрастания. При оставлении страсти на попечении самой себя, без
контроля разума, она может разрастись до чрезмерного объема.
В § 72, названном «В чем заключается сила удивления», Декарт
затрагивает динамические признаки этой страсти, позволяющие ей
универсально проникать во все остальные страсти, сопутствуя и
усиливая их: «Это не мешает тому, чтобы удивление было достаточно
сильным вследствие неожиданности, т. е. от внезапного
(разрядка моя. — Ю. Р.) и неожиданного появления впечатления,
изменяющего движение духов; такая неожиданность свойственна
именно этой страсти и отличает именно ее, так что, когда она
встречается в других страстях — а она обычно встречается почти
во всех страстях, усиливая их, — к ним присоединяется удивление»
(§ 72).2
Выделенное разрядкой в процитированном фрагменте слово
«внезапное» отсылает нас к неупомянутому Декартом
платоновскому учению об «этом странном по своей природе моменте "вдруг"»
(Парменид. 156d). Декарт повторяет Платона: в моменте «вдруг» —
exaiphnes — «внезапно» воображается переход между бытием и
небытием, единым и многим, покоем и движением и т. д. Что
действительно удивительно и является чудом. Отличие Декарта и
Платона в этом вопросе только в их оценках этого состояния.
Пределом энергийной реализации «удивления» является
высший его модус — «изумление», которому посвящен § 73: «Эта
неожиданность заставляет духи, находящиеся в полостях мозга,
направляться к тому месту, где находится впечатление от предмета,
вызывающего изумление. Иногда она направляет туда все духи,
которые настолько заняты сохранением этого впечатления, что ни
один из них не проходит оттуда в мышцы и даже не отклоняется
от своего прежнего пути в мозгу. Вследствие этого все тело
становится неподвижным, как статуя, а предмет можно воспринимать
только таким, каким его представляет первое впечатление, и,
следовательно, нет возможности познакомиться с ним ближе. Именно
о таком состоянии обычно говорят, что человек поражен, и состояние
1 Там же. С. 511.
2 Там же. С. 512.
522 Ю. M. РОМАНЕНКО. БЫТИЕ И ЕСТЕСТВО
это — чрезмерное удивление, в котором никогда не бывает ничего
хорошего» (§ 73).'
Этот параграф имеет ключевое значение в декартовском учении
об удивлении, поэтому есть смысл разобрать его подробнее. Итак,
«изумление» есть высший модус и энергийный градус «удивления».
Доведение души до такого предельного страстного состояния
приводит к тому, что, вдруг! «все тело становится неподвижным, как
статуя». Душа в этот странный и удивительный момент повлияла
на тело, несмотря на то, что между ними пролегает трансцендентная
граница, постулируемая самим Декартом. Параллельные линии
совпали в какой-то воображаемой точке! Однако ничего «хорошего»
в том нет, предупреждает Декарт. Ведь тело стало статуарным,
идолообразным, впало в судорогу, некий каталептический припадок,
застыло в столбняке. Это действительно плохо, но Декарт не
приводит достаточных оснований, чтобы квалифицировать подобное
состояние как патологическое, не давая критериев отличения
патологии от нормы. Но прежде всего, отрицательным это состояние
является для тела. А ведь предмет декартовских размышлений —
о состояниях души. Ей-то каково, когда тело превратилось в статую?
Об этом Декарт молчит.
Важным моментом в §73 является констатация того факта, что
в изумлении предмет дается как бы «всегда впервые» — «каким
его представляет первое впечатление». В изумлении устанавливается
какая-то постоянная дистанция к предмету. Естественна ли
величина этой дистанции — пока непонятно. Декарт же хочет разрушить
это метафизическое расстояние, приблизиться к предмету
«вплотную». Зачем? Может быть, для проникновения в него, но допустит
ли предмет подобное приближение и вторжение? Или, допустим,
замысел Декарта — не оставить предмет как он есть сам по себе
в его феноменальной свободе, а попытаться заменить его во «втором
разе»? То есть перетворить предмет по-новому. Но заменить чем
или кем? Декарт не отвечает и на эти вопросы, скрывая свою
программу-максимум («Выступаю в маске»). Или ему пока самому
непонятно, каким результатом завершится затеянный им
эксперимент, находящийся уже где-то на полпути к туманной цели.
Исследователям философии Декарта удобно находиться в
отстраненном положении нейтральных свидетелей, уже зная пост
фактум результат этого эксперимента и пользуясь им на практике.
Но важно представить себе то страстное состояние экспериментатора
и ...удивиться ему.
Об изумлении удивительно образно сказано в стихах С. С. Аве-
ринцева:
1 Декарт Р. Страсти души. С. 512.
КНИГА II. ГЛАВА 2. § 2. ДЕКАРТ
523
«...но в одном видении, столь беглом,
что видевший изумевает,
изумевая же, немеет,
а после не ведает, что видел...».
Возможна основанная на методическом удивлении
метафизическая стратегия познания, альтернативная картезианской.
Удивляет свет, изумляет же его проблеск во тьме, в которой пребывает
помраченный сомнением разум. Вспомним, что вырвавшийся из
ночи Мирового Яйца Фанес изумил своим явлением далее самих
богов. Объективная противоположность света и мрака
соотносительная с субъективной противоположностью удивления и
сомнения, начал философии и мизософии. Если удивление свету
естественно и непроизвольно, то для того, чтобы увидеть свет в состоянии
сомнения, необходимо совершить лишнее усилие напряжения воли.
Декарт ищет проблески света во мраке, в который он себя
искусственно ввел, наудачу организовывая свой эксперимент не от
хорошей жизни. Самое изумительное в этом эксперименте оказывается
то, что он может удасться. Ибо свет и во тьме светит, и тьма не
может его объять.
Продолжим анализ удивления в «Страстях души». После
кульминационного пункта, сконцентрированного в §72 и §73, Декарт
дает завершающую оценку. Польза всех страстей, в том числе
удивления, состоит в том, что с их помощью мысли могут
укрепиться, удержаться и сохраниться в душе, но вред от них в том,
что эта фиксация и консервация могут продлиться больше, чем
необходимо (§74). Поэтому нужно соблюдать меру, восполняя
недостаток и устраняя избыток удивления (§76). Но все же идеально
было бы совсем убрать удивление: «Поэтому, хотя и хорошо от
природы иметь некоторую склонность к этой страсти, ибо это
располагает нас к приобретению знаний, мы все-таки должны
стремиться, насколько возможно, освободиться от нее» (§76).2 Чем же
заменяется удивление? Мышлением и волей. А еще точнее, можно
наперед сказать — сомнением. «Недостаток этой страсти легко
восполнить размышлением и сосредоточением внимания; к этому
наша воля всегда может принудить наш: разум, если мы считаем,
что представляющаяся нам вещь того заслуживает. Нет никакого
другого средства избавиться от чрезмерного удивления, как
приобрести обширные познания и исследовать все то, что может
показаться самым редким и странным» (§76).3
1 Аверинцев С. Стих о стихах духовных, или Прение о Руси //Новый
мир, 1993. 1. С. 44-49.
2 Декарт Р. Страсти души. С. 513.
3 Там же. С. 513-514.'
524
Ю. M. РОМАНЕНКО. БЫТИЕ И ЕСТЕСТВО
В §77 говорится о том, что «наиболее склонны к удивлению· не
самые тупые и не самые способные люди», т. е. середняки в их
повседневной естественной жизни. У ученых, благодаря жизненному
опыту, возникает искусственная привычка не удивляться, ибо они
заранее знают, «что все то, что может встретиться затем, будет
самым обыкновенным» (§78).' Однако экзальтация удивления может
привести к возникновению прямо противоположной, уже дурной
привычки — всегда и всему удивляться, что приводит к пороку
болезненного, жадного, слепого любопытства (§78). На этом месте
основной анализ удивления у Декарта заканчивается. Его итог
состоит в гносеологической рекомендации: познавательный субъект
должен воздерживаться (эпохе) от удивления.
К. Фишер, комментируя учение Декарта об удивлении, отмечает
некоторые гносеологические черты последнего: «Из всех наших
страстей ни одна не является столь теоретической и столь
подходящей для познания, как удивление. ...Удивление непроизвольно
дает воле теоретическое направление и склоняет ее к познанию...»2.
Между Аристотелем и Декартом нет противоречия, согласно К.
Фишеру: «...положение Аристотеля, что философия начинается
удивлением, значимо и в учении Декарта, не противореча собственному
объяснению последнего, что началом философии является сомнение.
Воля к познанию — одно, его достоверность — другое: первая
рождается из удивления, второе — из сомнения».3
Но все же... Неужели мы так легко расстанемся с удивлением?
Нет, Декарт снова возвращается к, казалось бы, уже исчерпанной
теме и как бы вдогонку, как будто раньше забыл сказать,
приоткрывает новые удивительные свойства самого удивления. Делается
это в § 160, где сначала обобщается предыдущий анализ динамики
и кинетики удивления. Самоуважающий себя, исполненный
великодушия человек должен быть воздержанным от удивления, так
как эти качества «в меньшей степени происходят от удивления,
потому что тот, кто уважает себя таким образом, хорошо знает
причины самоуважения».4
И сразу же вслед за этим, вдруг, в новом кульминационном
пункте Декарт осуществляет невероятный и парадоксальный оборот
мысли вокруг себя. «И все же молено сказать, что причины эти
столь поразительны (а именно способность пользоваться свободой
воли, дающая основание для высокой самооценки, и слабости
обладающего этой способностью субъекта, не внушающие ему боль-
1 Декарт Р. Страсти души. С. 514.
2 Фишер К. Указ. соч. С. 418.
3 Там же. С. 418.
* Декарт Р. Страсти души. С. 552.
КНИГА П. ГЛАВА 2. § 2. ДЕКАРТ
525
шого уважения к самому себе), что всякий раз, когда о них думают,
они вновь и вновь вызывают удивление».1
Молено сравнить это состояние с непрерывным кантовским
благоговением перед двумя вещами: звездным небом над ним и
нравственным законом в нем. Подобно Канту, Декарт удивляется
ощущению собственной свободы воли. К. Фишер истолковывает это
место из «Страстей души» в кантовском духе: «Самоуважение есть род
удивления. Это движение души самостоятельно избирает
нравственный путь и указывает его всем другим».2 Гносеологизация и
этизация данной проблемы естественно выливается в формулировку
некоего «категорического императива», выражаемого К. Фишером
в таких словах: «Вообще только свободные существа могут служить
предметами уважения и презрения; есть только один объект,
поистине достойный уважения, как достойна презрения его
противоположность: это наша свобода воли, благодаря которой в нашей
природе господствует разум, а страсти подчиняются. В этом свободном
и разумном господстве над собой состоит все нравственное
достоинство человека, единственное благо, которого не может дать
благорасположение судьбы и которое можно заслужить только работой и
дисциплинированием воли, применяемым каждым к себе самому».3
В последнем комментируемом фрагменте удивление, изгнанное
в дверь, снова пробралось через окно. Но в его отсутствие уже
произошли какие-то незаметные изменения между «первым»
и «вторым» разами. Если раньше субъект удивлялся всему
понемногу и иногда, то теперь возник повод удивляться себе самому и
всегда («вновь и вновь»). В этом самооборачивании на себя
удивление получило неограниченную свободу, пространство, время,
движение и энергию. Но ведь это и есть то самое изумление, которое
еще недавно Декарт третировал за то, что в нем тело превращается
в статую. В изумительном мгновении удивление претворяется в
сомнение.
Другие непроизвольно вовлекаются в диалог с Декартом и в
организованный им эксперимент. Соглашаясь участвовать в нем,
необходимо знать все экспериментальные условия. А их, как было
отмечено выше, два — удивление и сомнение, приводимые к очной
ставке и подвергаемые перекрестному допросу. Это действительно
«эксперимент креста» (experimentum cruris), в котором достигается
истина и ее критерий. Декарт самочинно начал этот эксперимент
с одного конца — сомнения, подсознательно чувствуя необходимость
встречного движения с обратного конца. Поэтому он стал вовлекать
в свою игру большое количество участников, и, рано или поздно,
1 Там же. С. 552.
2 Фишер К. Указ. соч. С. 417.
3 Там же. С. 413.
526 Ю. M. РОМАНЕНКО. БЫТИЕ И ЕСТЕСТВО
но необходимые и достаточные условия превращения обычного
эксперимента в решающий должны были совпасть. А если
эксперимент состоялся и в нем был получен результат, то теперь неважно,
что было абсолютизировано в начале — сомнение или удивление.
И то и другое являются способами войти в круг, но не в «ложный
круг», а «герменевтический». Кроме этого, необходимо не только
уметь войти в круг, но и знать способы выхода из него. Для этого
следует повторно, вместе с Декартом-проводником, осуществить
данный эксперимент теперь уже с иного конца — сомнения. Этот
вектор более традиционен, поэтому его легче пройти, хотя, чтобы
усложнить задачу, будем держать в памяти зеркальную
симметричность сомнения и удивления.
С прагматистской точки зрения каждый эксперимент нуждается
в верификации — подтверждении его результатов другими
исследователями и в других лабораторных условиях. Наиболее сильной,
не только эффективной, но и эффектной, верификация была бы
тогда, когда все условия предыдущего эксперимента заменились
бы новыми. Достижение одного и того же результата совершенно
различными способами только увеличивает степень его
достоверности и самоочевидности. Если же эти способы организации
эксперимента противоположны друг другу до взаимоисключения, то
тогда эксперимент становится решающим, «крестным», а его итогом
оказывается теоретическое доказательство существования опреде-
ленного предмета и практическое использование в виде
действующих моделей. Методология науки считает такой эксперимент
почти недосягаемым идеалом развития знания.
Итожа предыдущую работу, отметим, что вначале Декарт
рассматривал удивление как страсть, как некое пассивное состояние,
которое, правда, и в своей пассивности обладало специфической
активностью, проявляющейся в изумлении, влекущем к косности
и инерциальности. Но затем, в моменте оборачивания метода,
удивление превращается в нечто абсолютно активное — в волю, которая
метафизически контрадикторна страсти. Теперь нужно идти
обратным путем, помня слова Гераклита: «Путь туда-сюда один и тот
же». Новым началом будет постановка вопроса: откуда сомнение?
К. Фишер попадает в точку, утверждая: «Сомнение в нас самих, в
собственном превосходстве проникает глубже, и оно гораздо важнее,
потому что является гораздо более трудным, чем скептическое
отношение к внешним авторитетам. Речь идет теперь о сомнении,
прослеживающем человеческий самообман до последнего
закоулка».1 Но попав в точку, по определению не имеющую размерностей,
острие метода соскальзывает с нее в какую-то расплывчатую
окрестность. Оказывается, что сомнение к тому же исходит откуда-то
1 Фишер К. Указ. соч. С. 317.
КНИГА П. ГЛАВА 2. § 2. ДЕКАРТ
527
извне. И это тоже интуитивно описывает К. Фишер: «Так, потрясая
все, сомнение проникает в наш собственный внутренний мир и не
успокаивается до тех пор, пока не натолкнется на представления,
оказывающие ему сопротивление».1
Рассматривать происхождение сомнения нужно с двух точек
зрения — внутренней и внешней. Внешний контекст сомнения,
его, позволительно выразиться, контрастная окрестность,
определены выше на примере удивления. Для открытия сомнения
необходимо проделать негативную работу абстрагирования, отрешения
от удивления, отталкиваясь от него как от отрицательного полюса.
«Привычка к самообману образуется сама собой, отвыкание же
достигается при помощи дисциплины духа и метода. ...Нужно
хорошенько заметить, куда направляет это сомнение свое жало...
против состояния нашего самообмана, воображения, ослепления».2
Сомнение является орудием борьбы с обманом. Но можно ли
победить обман его же собственными средствами? Декарт борется с
неким коварным «хитрым гением», пытаясь перехитрить его. Он
как бы схватил извивающуюся змею за хвост, и, чтобы избежать
от нее поражения, единственный спасительный прием в этой
борьбе — успеть попасть хвостом ей в пасть, чтобы она его схватила
и тем самым нейтрализовалась в замкнутой фигуре.
Оттолкнувшись от удивления как от чего-то негативного и
неудовлетворительного, метод приобретает характер направленности
и необратимости. Оценка К. Фишера патетична и безапелляционна:
«Отступление невозможно. Из самого сомнения должен выйти свет
истины».3 Схватка достигает своего апогея, и осталось нанести
последний удар. Что является аттрактором (положительным
притягивающим центром) и мишенью методического сомнения? Мы
уже знаем, что это знаменитый принцип, запатентованный
Декартом — cogito ergo sum — мыслю, следовательно, существую. Декарт
его обнаружил, действительно, внезапно и не чая найти. Потом,
когда открытие было совершено, появилась какая-то успокоенность
и умиротворенность. Но ведь на полпути к цели наверняка были
терзания. В дальнейшем Декарт опрашивал многих, проделавших
тот же путь по его следам, о терниях, тупиках и ямах на нем.
Незримо странника сопровождала тень Сократа, вернее, голос
его демона. Декарт интерпретирует «ученое незнание» афинянина
в модусе сомнения, «когда, впервые обратившись к нему, Сократ
начал исследовать, не было ли истинным то, что он во всем
сомневается, и убедился, что это так».1 Профанаторами методического
1 Там же. С. 317.
2 Там же. С. 321-322.
3 Там же. С. 323.
4 Декарт Р. Правила для руководства ума. С. 128.
528 Ю. M. РОМАН EH КО. БЫТИЕ И ЕСТЕСТВО
сомнения, по мнению Декарта, были скептики, которые, впрочем,
могли бы оспорить такое к себе пренебрежение. «Я не подражаю
скептикам, сомневающимся ради того, чтобы сомневаться, тем, кто
упивается своей нерешительностью; наоборот, все мое существо
стремится к тому, чтобы ощутить уверенность, и я готов
перелопатить землю и песок, чтобы докопаться, где кремень, а где глина».1
Действительно, Декарт не пассивен, это необычайно активная
натура с недюжинным темпераментом, но откуда он берет
дополнительную энергию для сверхактивного протекания витальных
реакций? Без катализатора здесь не обойтись, и Декарт находит его
в самом сомнении. Дж. Реале и Д. Антисери хорошо это улавливают:
«В стоячее болото традиционного сознания Декарт бросает фермент
сомнения».2
Декарт делает ставку на универсальное, всеобъемлющее, полное
(generalis) сомнение с той целью, чтобы оправдать знание как способ
приобщения к Абсолюту. Гностический мотив в творчестве
французского философа, как правило, не акцентуируется, поэтому для
его выведения требуется отдельное большое исследование. Для Кар-
тезия сомнение является способом познания: «...я применил
сомнение в качестве способа познания»,3 а также самостоятельным родом
мышления: «...если истинно, что я сомневаюсь — ведь я не могу
в этом сомневаться, — то равным образом истинно и то, что я
мыслю; да и чем иным может быть сомнение, как не неким родом
мышления?».4 Сомнение в декартовской методологии не есть
самоцель, а лишь средство для достижения абсолютного знания: «Ведь
из этого полнейшего сомнения я решил, словно из незыблемой
исходной точки (разрядка моя. — Ю. Р.), вывести познание Бога,
тебя самого и всех существующих в мире вещей».5 Гностический
образ знания как обоюдоострого меча, разделяющего
принципиально объединенное и объединяющего принципиально разделенное,
присутствует в воображении Декарта и активно в нем действует.
Возникает сомнение опытно и непроизвольно в определенном
естественном житейском распорядке. Сама повседневность
заставляет выработать к себе специфическое отношение сомнения. Иными
словами, почвой, из которой вырастает сомнение, является сама
жизнь. На этот опытный факт повседневной жизни можно направить
пристальный взор — интуицию — и превратить его в эксперимен-
1 Реале Дж., Антисери Д. Западная философия от истоков до наших
дней. Т. 3. Новое время. СПб.: Петрополис, 1996. С. 196-197.
2 Там же. С. 197.
3 Декарт Р. Разыскание истины посредством естественного света //
Соч. Т. 1. С. 167.
4 Там же. С. 172.
5 Там же. С. 165.
КНИГА П. ГЛАВА 2. § 2. ДЕКАРТ
529
тальный объект. Декарт так и делает. Обычно мало обращают
внимания на стихийный характер сомнения, в отличие от
удивления, которому сразу приписывают способность захватывать человека
в свой круговорот.
Структурой втягивания в стихию является образ воронки, или
вихря. Сознательно отпуская себя во власть всеобъемлющего
сомнения, Декарт последовательно проходит всю траекторию
разворачивания этого вихря, который он феноменологически описывает
и в гносеологических, и в психологических, и в антропологических,
и в натурфилософских трудах. Гносеологически образ вихря
является порождающей моделью взаимосвязи двух миров — чувственно-
воспринимаемого и умопостигаемого — в едином целом метафизики.
Декарта не случайно называют основоположником
трансцендентально-феноменологической философии сознания, поскольку
он сумел точно определить ее предметную область, локализовав ее
в центре и на дне данного вихря. Подобно тому, как он редукцио-
нистски определил физиологическое «седалище» души в
шишковидной железе. Локус сознания обнаружился в точечной глубине
воронки, но оказалось, что сама эта точка почти неуловима по
причине своего свободного блуждания. Бороться со стихией
практически бессмысленно и безнадежно, когда она, кружась,
вырывается из горловины, как джинн из бутылки. Властелином стихии
будет тот, кто сумеет удержать ту начальную точку, о которой шла
речь. Декарт сумел овладеть стихией сомнения, обнаружив его
порождающую метафизическую точку и выразив магическую
формулу заклинания в принципе «cogito ergo sum».
Действительно, изречение «мыслю, следовательно, существую»
по жанру не является ни молитвой, ни гимном, ни умозаключением,
ни приказом, а только неким вербальным закреплением
интуитивного акта познания. Декарт умудрился сотворить, буквально «из
ничего» — ибо точка без измерений есть геометрический образ
небытия, магическую формулу вызывания к бытию мышления
(сознания). В «Метафизических размышлениях» он пишет:
«...суждение "я есть, я существую" абсолютно верно всякий раз, когда я
произношу его, а мой дух удостоверяет это».1 Актуализация
самосознания индуцируется двумя действиями: через произнесение и
духовное удостоверение.
Всякий раз, когда трансцендентальный субъект понимает, что
ему нужно опомниться, встряхнуться и актуализироваться,
достаточно уметь правильно произнести «cogito ergo sum». Так сознание
становится абсолютным. Дж. Реале и Д. Антисери дают свое, во
многом справедливое толкование на этот принцип: «Таким образом,
перед нами — истина без какого бы то ни было посредничества.
1 Цит. по: Реале Дж., Антисери Д. Указ. соч. С. 197.
530 Ю. M. РОМАН EH КО. БЫТИЕ И ЕСТЕСТВО
Прозрачность "я" для себя самого, и тем самым мысль в действии,
бегущая от любого сомнения, указывает, почему ясность — основное
правило познания и почему фундаментальна интуиция. Мое бытие
явлено моему "я" без какого-либо аргументирующего перехода.
Хотя фигура "я мыслю, следовательно, я существую" и
сформулирована как силлогизм, это не суждение, а чистая интуиция. Это
не сокращение вроде: "Все, что мыслит, существует; я мыслю,
следовательно, существую". Просто в результате интуитивного акта
я воспринимаю свое существование, поскольку оно осмысливается.
Декарт, пытаясь определить природу собственно существования,
утверждает, что это — "res cogitans" (вещь мыслящая), мыслящая
реальность, где ни царапины, ни трещины между мыслью и
существованием. Мыслящая субстанция — мысль в действии, а мысль
в действии — мыслящая реальность».1 Соглашаясь в целом с такой
оценкой, можно все же оспорить положение, что в данный момент
истина дана «без посредничества». Посредник и свидетель здесь
есть, да еще какой! Просто двойника в тени не всегда легко заметить.
Топология «нульмерной» точки, в которой расположилось
мышление, обладает рядом нетривиальных свойств. Она — «везде и
нигде» — и следуя логике парадокса — «здесь и сейчас». В этой
бесконечно-конечной точке сомнение и удивление сошлись наконец-
то друг с другом и узнали себя. Сомнение удивилось, а удивление
усомнилось. И в результате их встречи родилось мышление как
нераздельно-неслиянное двуединство, сплав сомнения и удивления.
На интуиции вихревой точки основывается оценка философии
Декарта М. К. Мамардашвили в его «Картезианских
размышлениях»: «Так и мы ведем речь о какой-то мировой точке, в которой
абсолютное "я" и абсолютная реальность совпадают. Но именно в
развитии, высказывании и выражении этой реальности (в принципе
невозможном) и возникают все наложения и экраны эмпирического
сознания, все орбиты предметных и действительных слоев — как
по спирали завихрения вокруг туманного ядра...»2.
Настоящий анализ декартовской философии можно отнести к
разряду экспериментального моделирования. Представляется, что
такой подход имманентен методологии самого Декарта. Дело в том,
что автор максимы «cogito ergo sum», открыв и утвердив ее
фундаментальную значимость, ищет малейший повод, чтобы проверить
ее в действии на различных моделях. Проиллюстрировать
действенность подобного подхода молено на примере следующих двух
случаев.
1 Реале Дж., Антисери Д. Указ. соч. С. 198.
2 Мамардашвили М. К. Картезианские размышления. М.: Прогресс,
1993. С. 311.
КНИГА II. ГЛАВА 2. § 2. ДЕКАРТ
53]
Приблизительно в одно и то же время, когда писались
«Размышления», Декарт пробует себя в жанре философской прозы, где
в популярной форме творческого диалога он обыгрывает идею
методического сомнения. Имеется в виду работа «Разыскание истины
посредством естественного света» (замысел ее относят к 1628 г., а
исполнение — к 1641 г.). Здесь персонифицируются три ключевых
точки зрения на данный предмет, представленные «говорящими»
именами Полиандра (носителя здравого смысла и жизненного
опыта), Эпистемона (книжного знатока, эрудита и адвоката авторитетов)
и Евдокса (за маской которого скрывается сам Декарт как проводник
методического сомнения).
Нас в этом тексте будет интересовать моделирование автором
вышеозначенной воронки в процессе межличностной коммуникации
с целью отыскания идеальной формы продуктивного человеческого
диалога, итогом которого будет нахождение и закрепление истины.
Истина рождается в споре (хотя в нем же она может и умереть),
а окончательное ее пребывание предстает в виде «точечных»
теоретических постулатов.
Сделаем выписку метафор и образов, сопровождающих
рациональное выведение и обоснование свойств сомнения, которые
вкраплены в логику изложения и придают объемность тексту. Без этих
метафор как специальных операторов перехода сама логика осталась
бы абстрактной и неприменимой к конкретным жизненным
ситуациям. Это некоторый экзистенциальный фон развертывания
принципа сомнения, без которого оно повисло бы в пустоте. Как правило,
подобный иррациональный подтекст не учитывается, и его в самом
деле невозможно улавливать прямым взглядом, который в этот
момент задержан на «точке» воронки, но сами расходящиеся кольца
спирали подмечаются периферическим зрением. Для чисто научного
трактата такой стиль неприемлем, но для популяризации, т. е.
превращения строгого тезиса в общезначимое и понятное
утверждение, это единственно адекватная форма.
Итак, вот наиболее часто встречающиеся метафоры «сомнения»:
«...ведь это глубокая пучина, дна которой нам не нащупать»
(с. 164).' Она представляет «опасность для тех, кто не знает брода
настолько, чтобы отважиться перейти эту пучину без проводника;
многие и в самом деле в этой бездне погибли, но вы не должны
бояться пересечь ее под моим руководством» (с. 164). Заранее
предупреждается, что «сомнения, кои с самого начала внушили
вам страх, подобны призракам и фантомам, являющимся нам по
ночам при слабом и обманчивом свете; если вы станете от них
убегать, ваш страх останется с вами; однако если вы приблизитесь
Здесь и далее цитирование работы «Разыскание истины...» и указка
страниц ведется по первому тому сочинений.
532 Ю. M. РОМАНЕНКО. БЫТИЕ И ЕСТЕСТВО
к ним как бы с намерением их коснуться, вы обнаружите, что это
не что иное, как воздух и тени, и в дальнейшем будете чувствовать
себя уверенней при такой встрече» (с. 164).
Живое описание сомневающейся души, апеллируя к
воображению, столь ярко, что Полиандр признается — это «повергает меня
в величайшее изумление» (с. 165), и он, «исполненный
замешательства» (с. 165), не знает куда двигаться. Тело стало как статуя,
а душа уже оказалась захваченной в медленно набирающий скорость
вихрь.
Евдокс мало-помалу закруживает Полиандра в воронку, подводя
«простыми и легкими путями к познанию вещей» (с. 168).
Достижение бесконечной скорости вращения мгновенно отрывает субъекта
от держащей его почвы и он внезапно обретает самосознание «я».
Это движение сопровождается световыми эффектами так, что оно
«внесло такой свет в мои мысли и внезапно рассеяло столько тьмы,
что при свете этого факела я более отчетливо вижу то, что во мне
скрыто, и больше убеждаюсь, что моим "я" должно считаться нечто
неосязаемое, хотя раньше я был убежден, что мое "я" — это тело»
(с. 169). Лучше было бы сказать, что в акте сомнения возникло
«тело в теле», т. е. внутри одного и того же субъекта появились
две его ипостаси, получившие возможность взаимодействовать
между собой.
Оценки метафизических явлений света у Евдокса и Эпистемона
разнятся. Первый патетически считает их «взлетом духа» (с. 169),
второй скептически предполагает, как бы этот явившийся Поли-
андру «свет не оказался подобным блуждающим огонькам, кои,
когда мы к ним приближаемся, внезапно гаснут и исчезают, и ты
не погрузился тотчас же в первозданную тьму, или, иначе говоря,
в прежнюю пучину невежества» (с. 169-170).
Чтобы этого не случилось, чтобы мы «не отклонились от
столбового пути» (с. 174), необходимо возвратиться на «правильный
путь» (с. 171), приводящий к единой и единственной истине,
достигнув которую, «не будем двигаться дальше, но задержимся
здесь» (с. 173), чтобы «найти законную опору» (с. 173).
Эпистемон в разговоре играет роль «третейского судьи» (с. 173).
Он то саркастически удивляется: «Просто поразительно! Сколько
слов из-за столь ничтожного достижения!» (с. 176); то скептически
ухмыляется: «Ты напоминаешь мне плясунов, постоянно
возвращающихся на то место, откуда они начали пляску: ты точно так
же всегда возвращаешься к своему принципу. Однако если ты
будешь плясать так и дальше, то не скоро уйдешь вперед. И зачем
нам без конца повторять истины, в которых мы можем быть так
же уверены, как в собственном существовании?» (с. 177). Вообще
в задачи Эпистемона входит катализирующая функция. Но ведь
сомнение и так есть катализатор. Следовательно, весь диалог на-
КНИГА П. ГЛАВА 2. § 2. ДЕКАРТ
533
поминает процесс автокаталитической реакции, участвующие в
которой вещества-реагенты одновременно сами для себя являются
катализаторами.
Эксперимент приобретает лавинообразный характер и
необычайную энергетическую насыщенность, и вдруг становится
понятным, что это некая инициация. Полиандра посвятили в сомнение.
Мистагогом на этом пути был Евдокс, а подстраховщиком — Эпис-
темон. После посвящения новообращенного оставляют наедине с
его «я» и предоставляют «полную свободу выбора» (с. 177). Теперь,
что бы он ни делал, «он вряд ли в чем-нибудь ошибется, или по
крайней мере он заметит свою ошибку и без труда вернется на
правильный путь» (с. 178).
Замечательную мифологическую картину нарисовал Декарт в
этом произведении, выразившем его собственный жизненный опыт,
в котором он нешуточно сталкивался с реальными прототипами
своих литературно-философских персонажей.
Аналогичная воронка просматривается в содержании и судьбе
главного философского труда Декарта «Размышления о первой
философии», особенно в свете возражений со стороны «некоторых
ученых мужей». Наиболее показательны «седьмые возражения»,
присланные представителем ордена иезуитов Пьером Бурденом.
Подобно тому как Сократ находился под пристальным вниманием
жрецов Дельфийского храма, санкционировавших его философскую
деятельность и выдавших патент на мудрствование в изречении
пифии о том, что Сократ самый мудрый из современников, так и
инициатива Декарта не могла не быть замечена иезуитским орденом,
претендовавшим на роль центра спиритуальной власти. С одной
стороны, Декарт выходил за пределы ортодоксии и догматики,
балансируя на грани ереси. С другой стороны, декартовская
философия обнажила какой-то затаенный нерв самого иезуитизма,
прагматически попускающего сомнение как интеллектуальное оружие
в борьбе с ересями. Декарт в этом смысле является духовным
воспитанником иезуитов, но вышедшим на свободу и получившим
независимость. Ответом на философское начинание Декарта от лица
иезуитов стал отклик Пьера Бурдена — своеобразного антипода
Картезия, но между ними просматривается поразительное
тождество.
В практике католицизма допускается деятельность так
называемых «адвокатов дьявола», специально предназначенных
священнослужителей, в функции которых входит отслеживание различных
ересей, разоблачение и критика их, а также собирание компромата
на тех, кто претендует на канонизацию. Выступление Декарта было
чересчур вызывающим и дерзким, проект его эксперимента
слишком соблазнительным, чтобы на это не воспоследовала проверка и
экспертиза. Судьба возложила обязанность выполнения этой небла-
534 Ю. M. РОМАНЕНКО. БЫТИЕ И ЕСТЕСТВО
годарной, «черной» критической работы на плечи Бурдена, одного
из самых проницательных умов того времени, который доныне
стоит как бы в тени Декарта в историко-философском паноптикуме,
но их фигуры в чем-то равновелики. Можно осмелиться утверждать,
что решающий эксперимент по поводу методического сомнения был
произведен совместно Декартом и Бурденом.
Связано это с тем, что Бурден, пожалуй, единственный, кто
по-настоящему усомнился в методическом сомнении Декарта, как
бы сейчас этот оборот парадоксально и двусмысленно не звучал.
В этом состоит конгениальность Декарта и Бурдена. Последний
прямо об этом заявляет: «...я также пойду навстречу твоим
запросам»,1 т. е. начнет сомневаться во всем по рекомендации Декарта,
даже в самой этой рекомендации: «Знай мою щедрость: я умножил
твои предпосылки вдвое!»2.
Удвоенное сомнение, или сомнение в квадрате, причем не просто
субъективное, индивидуальное, а интерсубъективное, сомнение на
двоих! Сюжет приобретает интригующий характер. Персональное
сомнение, развитое методически в пределах единичной личности,
как мы уже знаем, приводит к принципу «cogito ergo sum». А каков
будет итог интерсубъективного методического сомнения? Пути
Бурдена и Декарта действительно перекрещиваются в какой-то точке.
Что в ней находится? Пока ясно одно — там находится нечто новое,
ранее не существовавшее. Иначе говоря, в этой точке свершается
творение бытия из небытия.
Бурден адекватно понял онтологический статус декартовского
принципа — «cogito ergo sum» творится «ex nihilo». Воспроизводя
слова Декарта и в чем-то их утрируя: «Вот: я мыслю, я существую.
Кроме этого ничего нет — я от всего отрекся»;3 Бурден заключает:
«Наконец я прислушался к тебе и, если не ошибаюсь, все понял. Это
твое понятие ясно, потому что ты достоверно постигаешь; оно
отчетливо, потому что ты не постигаешь ничего иного. Что ж, разве
я не попал в самую точку (разрядка моя. —Ю. Р.)? Полагаю,
что да...»4. Но чтобы сотворить что-то свое, необходимо отказаться
от всего того, что ранее сотворил Перво-Творец; не усвоить даровое,
а перетворить по-своему. Вот это-то и вызывает наибольшее
сомнение у Бурдена, произносящего окончательный приговор: «Этот же
метод, наоборот, дабы прийти к цели, исходит не из вещи, но из
небытия: он отсекает, отвергает, отрекается от всего, вплоть до
самого последнего из прежних принципов; дав воле прямо противопо-
1 Декарт Р. Седьмые возражения с примечаниями автора, или
Рассуждение о первой философии // Соч. Т. 2. С. 328.
2 Там же. С. 369.
3 Там же. С. 363.
4 Там же. С. 373.
КНИГА II. ГЛАВА 2. § 2. ДЕКАРТ
535
ложное направление, он, дабы не показаться совсем уж бескрылым,
лепит и прилаживает себе восковые перья, устанавливая новые
принципы, прямо противоположные всем старым».1 Кроме этого
обвинение включает в себя следующее: «Автор метода грешит
неразумием. А именно, он не замечает торчащего отовсюду
обоюдоострого меча: уклоняясь от одного лезвия, он натыкается на другое».2
Бурден обращается к Декарту: «...ты всячески пускаешь в ход,
не без злоупотребления, свое отрицание — так, как если бы от
него зависела сама истина, как если бы она опиралась на него как
на некий цоколь».3 Вместе с этим Бурдену все-таки непонятен
затаенный мотив декартовского эксперимента, и он выпытывает,
даже умоляет открыть тайну: «Скажи, умоляю тебя, почему ты
отрицаешь положение "У меня есть тело"?»4.
Страсть накалилась — но какая именно? Неужели снова,
загнанное прежде в небытие, но набравшее из ниоткуда энергию, как
Феникс из пепла, появляется удивление? Да, это действительно
так, Бурден предчувствует, что под маской «сомнения» Декарт
скрывает на самом деле «удивление», нагнетая ажиотаж и желая
по-детски непосредственно удивить весь мир: «...разве только он
приберегает что-то глубоко от нас скрытое (ведь это — единственное
его прибежище), что в свое время он явит, как из волшебного
фонаря, нашему изумленному взору. Но доколе мы можем этого
ожидать, чтобы не впасть в отчаянье?»5.
Пристальный взгляд Бурдена уперся в точку, которая вдруг
разверзлась в космологическую «черную дыру». От подобного
зрелища, вызывающего мизософский приступ, оставалось только
отвратиться и бежать прочь (мизософское отвращение основывается
на отрицательном типе удивления — презрении, согласно
концепции «Страстей души»). Бурден после подобной напряженной
откровенности даже заболел, по воспоминаниям, и поэтому не стал
дальше продолжать дискуссию с Декартом. Спор стал бессмыслен
и неуместен. И казалось бы, эксперимент завершился ничем,
тупиком. Но тупиковый результат — тоже результат, поэтому
косвенно из него можно извлечь нечто важное.
Основываясь на презумпции невиновности, Бурден ставит
многоточие по завершении своих возражений: «Не бойся, я тебе друг. Я
превзойду твои ожидания либо поистине их обману: я буду молчать
и выжидать».6 Это единственное, что оставалось иезуиту Бурдену —
1 Там
2 Там
3 Там
' Там
а Там
6 Там
же.
же.
же.
же.
же.
»се.
С.
С.
С.
с.
с.
с.
390.
394.
392.
376.
396.
397,
536 Ю. M. РОМАНЕНКО. БЫТИЕ И ЕСТЕСТВО
оставить не меньшего иезуита Декарта в напряженной тишине,
чтобы заставить его сделать очередной ход.
А что же Декарт? Как он отреагировал на столь убийственное
заключение? Оставив дипломатию в стороне, Декарт демонстрирует
свое умение произносить филиппики и знание приемов блефа в
игре; с чувством уязвленного достоинства обрушиваясь на «лживую
нелепость упомянутой критики», он обвиняет автора в том, что тот
«лжив, злоречив и бесстыден», способен пускать в ход «лишь
нелепейшие шутки с целью выставить в смешном свете мои
суждения и показать, что они не заслуживают критики».1 Декарт сетует
на то, что ответ Бурдена «направлен всего лишь на
одно-единственное мое сомнение — не скажу, на его опровержение, поскольку
он не пользуется аргументами, но скорее (да позволено мне будет
употребить грубоватое словцо: мне не подвертывается никакое
другое для выражения истины) на его облаивание».2 Финал публичной
самоадвокации Декарта, переходящей в ответную инвективу, таков:
«Но поскольку он там же утверждает, что он мне друг, я, дабы
обойтись с ним самым дружеским образом, подобно тому как друзья
отвели каменотеса к врачу, поручу нашего автора заботам его
начальника ».3
Короче говоря, Бурден оказался в глазах Декарта столь
низменным, достойным отвращения, что ему стоило ...удивиться! Ведь
сам Декарт учил, что мы удивляемся не только возвышенным
вещам, но и презренным (§55 «Страстей души»). И Декарт
действительно удивился, о чем он, уже не публично, но в приватном
письме к своему возможному покровителю Дине (занимавшему
большой пост в иезуитской иерархии) признавался: «Однако, когда
я его (ответ Бурдена. — Ю. Р.) прочел, я остолбенел от изумления...»4
Невероятно! Декарт — и вдруг изумился до остолбенения!
Поистине эксперимент удался. Но только не эксперимент, односторонне
проверивший на прочность метод сомнения (как то предполагал
Декарт), а эксперимент, доказавший близнечество удивления и
сомнения, а в более широком контексте — культурное близнечество
(the twinity) Логоса и Мифоса. В этом опыте, где Бурден очень
удачно подыграл Декарту, сомнение вынуждено было удивиться.
Получилось так, как у декартовских литературных персонажей
Евдокса и Полиандра, когда первый спросил: «...но можешь ли ты
сомневаться в своем сомнении и остаться неуверенным,
сомневаешься ты или нет?» — на что второй ответил: — «Признаюсь, то,
1 Декарт Р. Седьмые возражения... С. 397.
2 Там же. С. 417.
3 Там же. С. 417.
J Декарт Р. Глубокочтимому отцу Дине, провинциальному настоятелю
Франции // Соч. Т. 2. С. 418/
КНИГА II. ГЛАВА 2. § 2. ДЕКАРТ
537
что ты сказал, повергает меня в величайшее изумление...»1. Только
случилось это в реальной жизни, и при этом Декарту пришлось
сменить маску Евдокса на маску Полиандра. Автор художественного
произведения должен уметь перевоплощаться в своих героев и
обладать способностью на время надевать на себя маску своего
литературного персонажа. Помимо философского, у Декарта,
несомненно, был литературный и актерский дар. Чистое искусство для
искусства.
Тема «маски» имеет особенное значение в декартоведении,
поскольку лозунгами жизненного кредо Картезия были два изречения:
«Выступаю в маске» и «Лучите прожил тот, кто лучите спрятался».
«Личность» и одновременно «маска» в греческом и латинском
языках выражаются однословно: «prosopon» и «persona». Последнее
слово «обозначает собою не что иное, как "маску", но в более
специальном смысле. Именно, поскольку латинское personare
означает "громко говорить", "оглашать" (в связи с термином sonus,
означающим "звук", "шум", "голос", "речь"), то persona означало
ту часть маски, которая была приспособлена для более громкого
произнесения актерами своих слов со сцены».2 Коротко говоря,
«персонировать» означает декламировать («сонировать») слова роли
через (per) прорезь в маске на месте рта. Слова роли, которые
провозгласил Декарт, выйдя при затихшем гуле на подмостки
историко-философской сцены, были — «cogito ergo sum».
Аплодисменты не стихают до сих пор.
Каждый, вознамерившийся приятно удивить мир, вынужден
маскировать приготовление подарка, дабы тот стал сюрпризом
(сверхдаром) для Других. Наибольший интерес всегда вызывает
момент смены масок. Что смог бы увидеть сторонний наблюдатель,
если ему удалось бы подглядеть выражение подлинного лица, того
естественного места, на которое надевается маска, в период смены
масок? Ничего, кроме зеркально черного зрачка, выражающего
присутствие себетождественной мысли — «cogito ergo sum» — одной
и той же на всех людей. Лицо без маски одинаково у всех людей,
что может вызывать прямо противоположные эмоции. И это не
противоречит тому, что нет ни одной одинаковой физиономии (даже
однояйцевые близнецы не похожи абсолютно друг на друга), что
связано с потенциально бесконечным многообразием масок.
Декарт предпочитал собственноручно примерять на себя
приглянувшиеся маски, каждую на конкретный случай жизни. Когда
же Бурден предложил ему свою, то у Декарта это вызвало реакцию
отторжения и бурный протест. Говоря в сторону и взывая к сви-
1 Декарт Р. Разыскание истины... С. 165.
1 Лосев А. Ф. История античной эстетики. Итоги тысячелетнего
развития. Кн. II. М.: Искусство, 1994. С. 509.
538
Ю. M. РОМАНЕНКО. БЫТИЕ И ЕСТЕСТВО
детелям, Декарт обвиняет Бурдена: «Так он попытался с помощью
некоей личины, скверно скроенной из обрывков моих
«Размышлений», не столько спрятать мое лицо, сколько его исказить. Я же
стягиваю с себя и отбрасываю прочь эту маску как потому, что не
привык к лицедейству, так и потому, что она не приличествует
мне здесь, где я обсуждаю с верующим человеком столь серьезный
предмет».' Бурденовскую маску Декарт с себя эффектным жестом
сбросил, но не оказалась ли под ней еще одна?
В свою очередь, чтобы перехватить инициативу, Декарт обвиняет
самого Бурдена в масконосительстве: «Он рассуждает также
сообразно своей маске...»2. Декарт прав был в своем негодовании: Бурден
в «Возражениях» боролся против маски, выставленной напоказ.
По мнению Картезия, Бурден «предпринимает генеральное
сражение с противником, вполне достойным его игры, а именно с моей
тенью, зримой лишь ему одному, ибо она — явный продукт его
мозга, созданный — дабы он не казался совсем уж дутым — из
чистого небытия. Однако он серьезно с этой тенью сражается,
пускает в ход аргументы, трудится в поте лица, заключает с ней
перемирия, взывает к логике, возобновляет схватку, что-то
исключает, что-то взвешивает, обмеривает...»8. Настоящим плацдармом
сражения между Декартом и Бурденом было воображение, хотя это
событие имело последствия во всех сферах и размерностях
реальности. Помимо того, что это событие было экспериментом и военной
битвой, оно еще было и театральным представлением, игрой в самом
широком смысле.
Метафизическая точка, на которую мы неоднократно
наталкивались, оказалась местом соприкосновения двух единородных,
направленных остриями друг к другу воронок — сомнения и
удивления. Бурден нашел нужное слово для обозначения их
соотношения: «Да ведь это же близнецы! Эти рассуждения сходны между
собой, как два яйца от одной курицы!».4 Близнечная мифологема
актуализировалась в новом историческом контексте.
На эту тему у X. Борхеса есть любопытная новелла под названием
«Богословы». В ней показывается борьба, ревнование за истинное
знание Бога между двумя средневековыми богословами Аврелианом
и Иоанном Паннонским. Первый, победив в споре, невольно
приводит второго на костер инквизиции, а затем сам погибает от
пожара, зажженного молнией. X. Борхес завершает произведение
гипотезой по типу близнечного мифа: «Финал этой истории можно
пересказать лишь метафорами, ибо он происходит в царстве небес-
1 Декарт Р. Седьмые возражения... С. 330.
2 Там же. С. 377.
3 Там же. С. 379.
4 Там же. С. 366.
КНИГА 11. ГЛАВА 2. § 2. ДЕКАРТ
539
ном, где времени не существует. Быть может, следовало бы сказать,
что Аврелиан беседовал с Богом и что Бог так мало интересуется
религиозными спорами, что принял его за Иоанна Паннонского.
Однако это содержало бы намек на возможность путаницы в
божественном разуме. Вернее будет сказать по-иному: в раю Аврелиан
узнал, что для непостижимого божества он и Иоанн Паннонский
(ортодокс и еретик, ненавидящий и ненавидимый, обвинитель и
жертва) были одной и той же личностью».1
Учение Л. П. Карсавина о «симфонических личностях», которые
состоят не только из единичных индивидов, но и из их
гармонизированной совокупности, вводит близнечную мифологему в
контекст персоналистической метафизики. Хотя в партитуре симфонии,
исполняемой ансамблем уникальных личностей, зачастую бывает
запрограммирован диссонанс, который наглядно проявился в
дискуссии Декарта и Бурдена.
Несомненно, что каждая личность — чудо. Но как к чуду
подойти философски, если это вообще нужно? У Декарта, вероятно,
выработался подсознательно на основе каких-то биографических
фактов свой рецепт — сомнение. Почему так вышло — нам уже,
наверное, не выяснить. Да это и не важно. Жизнь и творческая
судьба Декарта изобилуют различными знамениями, которые он успел
зафиксировать и по которым мы можем догадаться об истоках.
Свой рецепт философского осмысления чуда предлагает
А. Ф. Лосев. В «Диалектике мифа» (глава XI, §4. Основная
диалектика чуда) автор выясняет, что чудо есть: «а) встреча двух
личностных планов; Ь) которые могут быть в пределах одной и той
же личности; с) это — планы внешне-исторический и внутренне-
замысленный; ...е) чудо — знамение вечной идеи личности».2
Взаимоотношения личностей Декарта и Бурдена, а также
диалектику абстрактных категорий «удивления» и «сомнения»,
которые они персонифицировали, можно понять в свете лосевского
учения о мифе, в чем-то альтернативного декартовскому: «Чудо
есть всегда оценка личности и для личности. ...Подлинного
чудесного взаимоотношения личностных планов надо искать не в сфере
влияния одной личности на другую, но, прежде всего, в сфере
одной и той же личности, и уже на этом последнем основании
можно говорить о взаимодействии двух или более отдельных
личностей. Один универсальный пример способен сразу убедить в этом,
это — оборотничество и вообще перевоплощение в разных телах.
Что это есть чудо — сомневаться не приходится».3
1 Борхес X. Л. Соч.: В 3-х т. Т. 1. Рига: Полярис, 1994. С. 411.
2 Лосев А. Ф. Из ранних произведений. М.: Правда, 1990. С. 654.
3 Там же. С. 545-546.
540 Ю. M. РОМАНЕНКО. БЫТИЕ И ЕСТЕСТВО
Рассмотренная выше диалектика взаимоотношений между
Декартом и Бурденом относится к проблематике интерсубъективности
и межличностной коммуникации. Но чтобы такой незаурядный
диалог, занявший достойное место в истории философских
дискуссий, мог состояться, его участники должны были быть готовы к
нему. Необходимо дополнительно выяснить проблему
субъективности и идентификации.
Чудо обретения индивидом самосознания с мифической точки
зрения означает акт оборотничества в сфере отдельной личности.
Чтобы понять этот акт рационально, необходимо ответить на ряд
взаимосвязанных вопросов. Какие два личностных плана,
собранных в неделимости индивида, отражает метафизика Декарта? Что
является двуединым истоком его методологии? Наконец, что
реально жизненное подвигло Декарта именно к такому типу и способу
философствования ?
Биография и автобиография Декарта оставили свидетельства,
по которым можно реконструировать внутренний мотив и сквозную
тему его философии, заключенные в первом и главном вопросе,
который заставил его философствовать. Это «наивный» вопрос,
рефлектирующий над обыденностью: почему вся жизнь человека
делится на сон и бодрствование? Более примитивного вопроса уже
нельзя придумать. Но на него-то как раз наиболее трудно ответить.
Постоянная смена сна и бодрствования настолько приевшаяся,
обыкновенная штука, что нужно исхитриться, чтобы удивиться этому
факту, задать к нему вопрошание и сделать начальной точкой
движения мысли. Самое привычное, на самом деле, является и
самым удивительным. А удивительным во второй степени, т. е.
изумительным, являются случаи из ряда вон выходящие: летаргия
(непрерывный сон) и перманентная бессонница.
Итак, исходный дорефлективный опытный факт — отличие сна
от яви. Однако уже первое приближение к нему рефлексии приводит
к парадоксальному выводу: сон и явь неотличимы. Метафизическое
познание изначально дуалистично, поскольку человек естественно
удваивает единый мир на чувственно-воспринимаемый и
умопостигаемый (или воображаемый). Более того, человек естественно
сам удваивается, делясь на себя дневного и ночного. Метафизика
Декарта фиксирует эти единство и двойство действительности, в
которую встроен человек. К. Фишер верно констатирует проблему:
«Для познания этой действительности и устранения всякого
сомнения в ней должен существовать признак, по которому мы были бы
в состоянии отличить точно, безошибочно и в любом случае сон от
бодрствования. Такого критерия нет... В дальнейшем ходе
самоисследования Декарта факт сна является значительным моментом,
тяжесть которого неоднократно падает на чашу весов сомнения».1
1 Фишер К. Указ. соч. С. 318.
КНИГА II. ГЛАВА 2. § 2. ДЕКАРТ
541
Декарт выводит возможность сомнения из зазора между сном
и бодрствованием: «...когда я вдумываюсь в это внимательнее, то
ясно вижу, что сон никогда не может быть отличён от бодрствования
с помощью верных признаков; мысль эта повергает меня воцепе-
нение (разрядка моя. — Ю. Р.), и именно это состояние почти
укрепляет меня в представлении, будто я сплю».1 Для сравнения
дадим перевод этой цитаты, как она существует в издании К.
Фишера, демонстрируя искажения при транслировании: «Тщательно
обдумывая этот вопрос, я не нахожу ни единого признака, по
которому достоверно можно было бы отличить состояние сна от
бодрствования. Они так походят друг на друга, что я бываю
озадачен (разрядка моя. — Ю. Р.) и не знаю, не грежу ли в данный
момент!»2 Народная мудрость подсказывает, что в подобном
состоянии «оцепеняющей озадаченности» лучший способ убедиться в том,
что ты не спишь — это ущипнуть себя, т. е. оборотиться на себя
в действии усиленного самокасания, актуализируя свое неделимое
существование.
Воображается, что Декарту удалось найти верный критерий
отличения сна от бодрствования в принципе «cogito ergo sum», в
некой точке ментального самокасания, благодаря которому ему
удалось проникнуть в гераклитовскую тайную гармонию дня и
ночи. Но далее «cogito ergo sum», абсолютизировавшись, раздвинуло
зазор между сном и явью и упразднило их. Теперь остается только
вечный переход между ними — сомнамбула (с лат. — сно-
хождение) — верчение в захватившей стихии сомнения.
Траекторией пути сомневающимся, т. е. «блуждающим по стране
отречения» (выражение Бурдена),3 является воронка — спираль,
развивающаяся из темной точки на световом фоне, которой напряженно
и противонаправленно предстоит вращающийся винтообразно из
точки света на фоне мрака удивляющий луч.
Декарту удалось отыскать универсальную гипнотическую
формулу для засыпания бодрствующего и для пробуждения спящего,
панацею против бессоницы и судорожной дневной активности: это —
«cogito ergo sum». Не следует забывать, что этот принцип Декарту
открылся во сне, поэтому его можно переиначить: «когито эрго сон».
Известно, что Декарт, как настоящий аристократ, любил много
спать, подолгу нежась в постели и даже накрываясь одеялом с
головой, чтобы ничто не мешало ему грезить, отпуская на полную
волю воображение. Нарушение режима сна и бодрствования (тайной
гармонии дня и ночи), вызванное частым педалированием «cogito
ergo sum», привело философа к преждевременной смерти. Ускорили
1 Декарт Р. Размышления о первой философии... С. 17.
2 Фишер К. Указ. соч. С. 318.
3 Декарт Р. Седьмые возражения... С. 371.
ο42 ΙΟ. M. РОМАНЁНКО. БЫТИЕ И ЕСТЕСТВО
это печальное событие ранние (в пять часов утра!) философские
совещания со шведской королевой Христиной. Она была
жаворонком, а он совой. Их астрономические периоды активности не
совпадали, но она была дамой, а он — галантным кавалером.
Биографы, в частности К. Фишер, отмечают момент «эврики»
у Декарта и даже датируют, согласно дневнику, этот день (или
ночь?) десятым ноября 1619 года: «10 ноября меня озарил свет
удивительного открытия (intelligere coepi fundamentum inventi
mirabilis)... 10 ноября 1619 года открыл я, охваченный восторгом,
основания удивительнейшей науки (cum plenus forem enthusiasmo
et mirabilis scientiae fundamenta reperirem) ». '
К. Фишер приводит важные подробности из жизни великого
«сновидца»: «Байе повествует, беря эти сведения из дневника
Декарта, что последний непосредственно вслед за радостным
возбуждением этого чреватого последствиями дня видел три
удивительнейших сна, описанных им подробно и объясненных им, как
символы его прошедшего и будущего. В первом он видел себя
обессиленным, гонимым бурей и ищущим защиты у церкви, во
втором он слышал громоподобный глас и узрел вокруг себя только
огненные искры, в третьем он открыл стихи Авзония и прочитал
слова: "Quod vitae sectabor iter?" (Какому жизненному пути я
последую? — Ю. Р.). После долгого бессилия и внутренних бурь
Декарт услышал за день до этого голос истины, внезапно увидел
свет и нашел свой жизненный путь».2
Декартоведы не могут определить, что за открытие сделал Кар-
тезий в тот памятный день. Ответ напрашивается только один.
Cogito и sum сошлись и слились в монолитном ergo. Воронка
сомнения и воронка удивления соприкоснулись друг с другом остриями,
и из этой сингулярной точки касания высекся сноп искр, освещая
путь человеку, пребывавшему дотоле во мраке неведения. На
философском небосклоне вспыхнула новая звезда по имени Декарт.
Остроумно, но вместе с тем совершенно оправданно, снова
попадая в «точку», Бурден рекомендует Декарту: «...я советую тебе
озаглавить твой пресловутый "Метод" так: "Метод сновидца", а
итогом твоей науки да будет максима: Желающий правильно
рассуждать должен грезить. Я вижу, совет мой пришелся тебе по
вкусу...»3 Это в очередной раз дало повод скептику Декарту
изумиться: «Я поражаюсь (разрядка моя. — Ю. Р.), как может он
называть методом сновидца тот способ исследования, который, как
это заметно, немало его взволновал».1
1 Фишер К. Указ. соч. С. 190.
- Там же. С. 191.
л Декарт Р. Седьмые возражения... С. 364.
1 Там же. С. 377.
КНИГА II. ГЛАВА 2. § 2. ДЕКАРТ
543
Из спора Бурдена и Декарта видно, что наиболее острым пунктом
разногласий был вопрос о соотношении тела и души (res extensa
и res cogitans). Иезуит не согласен с декартовским дуалистическим
противопоставлением тела и души, предпочитая основываться на
трихотомии: «...душа — это нечто телесное, тонкое, легкое и
разлитое по всей внешней плоти, причем она является первоначалом
всякого ощущения, воображения и мышления, и, таким образом,
есть три ступени: 1) тело, 2) нечто телесное, или душа (animus), и
3) ум, или дух (spiritus), относительно существования которого и
стоит вопрос».1
Следуя этой трихотомии, можно представить проблему тела, в
существовании которого сомневался Декарт, в трех планах
рассмотрения: реальном, воображаемом и символическом (такую триаду
предложил соотечественник Декарта Ж. Лакан). Отказ от реального
тела компенсируется у Декарта появлением воображаемого «тела
в теле» или той «статуи», которая возникает в состоянии изумления.
Статуя отнюдь не неподвижна. В ней — подвижный покой. В статуе
тело воображающего воспроизводит один к одному эйдос
поразившего его предмета в действии мимезиса. А. Ф. Лосев называл такие
состояния «внутренним изваянием смысла» и «умной скульптурой».
Теперь становится понятным загадочное изречение Плотина: «Не
уставай лепить свою статую» (Эннеады, 16, 9,13),2 — что означает —
не уставай удивляться чуду. Так можно выразить принцип
методического восходящего удивления, который последовательно развил
А. Ф. Лосев вплоть до идеи «абсолютного мифа». Если же этот
принцип не выдерживается до конца, от слабости или усталости,
«статуя» превращается в «марионетку» или бездушный «автомат»,
на место удивления вынужденно приходит сомнение. На этот случай
Плотин предлагает следующую рекомендацию: «Сбрось с себя всё»,
что соответствует библейской заповеди: «Не сотвори себе кумира».
Этому следовал Декарт, платоник по философской установке,
реализуя принцип методического сомнения в стратегии «отбросив все
то, в чем мне мог бы представиться случай хоть сколько-нибудь
усомниться».3 Совместное применение обоих принципов дает
возможность поставить вопрос о символическом теле.
В самом деле, позволительно сказать о Декарте как о незаме-
щаемой фигуре в историческом паноптикуме символических тел
философов, к каждому из которых в новых поколениях
приставляется свой попечитель и хранитель. Так, М. К. Мамардашвили
признавался, что он строит свою философию на трех «К» (китах?
1 Там же. С 357.
2 Цит. по: Адо П. Плотин, или Простота взгляда. М.: Греко-латинский
кабинет, 1991. С. 9.
3 Декарт Р. Первоначала философии. С. 306.
544
Ю. M. РОМАНЕНКО. БЫТИЕ И ЕСТЕСТВО
кумирах?) — Картезии, Канте и Кафке. М. К. Мамардашвили
настолько удивился умному изваянию скептика Декарта, что
воспроизвел его очертания в своем творческом воображении. Даже
жанр философствования он избрал в подражание — «Картезианские
размышления», которые завершаются таким символическим
образом: «Primo il corpo — в начале было тело, дееспособное,
производящее истинные гармонии, ибо вне конечной, малой формы
бесконечности исчезают. Так как же все это выразить? Как передать
такой ход мысли Декарта? Да и не просто, и не только мысли, а
всю силу его темперамента и всей экзистенции? Я все время
оказываюсь в каком-то состоянии внешней, словесной беспомощности
перед этим. И лишь внутри, по ходу дела, у меня постоянно вертится
одна строка, пушкинская. Ею я и попытаюсь выразить свое
состояние и ею же заключить: "О, гений чистой красоты!" Ибо что еще
можно сказать о Декарте? Остановимся на этом: гений чистой
красоты...»' Вспомним, что «гениями» в языческом Риме называли
идолов. Так в истории часто водится: кумиров делают как раз из
тех, кто сам крушил кумиров, и памятники им воздвигают на том
же месте, где стояли прежние, из обломков того же самого
материала. Клин вышибается клином.
Как развивалась последекартовская история философии в
указанном направлении? Первыми, кто адекватно понял близнечество
Логоса и Мифоса, а также дополнительность принципов
методического сомнения и удивления, были Ф. Шеллинг и А. Шопенгауэр.
Волюнтаристско-презенталистский трактат последнего «Мир как
воля и представление» можно переиначить в «Мир как двуединство
сомнения и удивления». Мир — это Universum, что означает
«стремиться» (versa) к «единству» (uni). Но из какого состояния
устремляется единый Универсум к себе самому? Из контрадикторного
противопоставления — vice versa — сомнения и удивления и через
их близнечное взаимообращающееся отождествление — twice versa.
Методологический переход от генады к диаде чудесен. И если
справедлива этимологическая гипотеза, что слова «чудо» и
«чуждый» имеют один и тот же исток, то смысл чуда состоит в признании
своего в чужом и, vice versa, чужого в своем. Для человека это
узнавание сколь удивительно, столь сомнительно в жизненном мире.
Резюмируя, можно сказать следующее: полагание Декартом
принципа «cogito ergo sum», заложившего рационалистическую
традицию современной европейской философии, явилось следствием
озарения в личном воображении французского мыслителя,
инспирированного героикой и архетипами змееборческого и зеркально-
близнечного мифов, имманентно присущих культуре эпохи Нового
времени. Змееборческий миф провоцирует душевную страсть «со-
1 Мамардашвили М. К. Картезианские размышления. С. 349.
КНИГА II. ГЛАВА 2. § 3. ГЕГЕЛЬ
545
мнения», а зеркально-близнечный миф — страсть «удивления», с
которыми Декарт методически проводил мысленный эксперимент,
итогом чего стала искусственная стимуляция и актуализация
самосознания. Самовозбуждение воображения происходит при его
поляризации, проявляющейся в напряженном противостоянии и
перетекании энергии между такими душевными страстями, как
удивление и сомнение, что отражается на интенсификации и экстенсифи-
кации психосоматической деятельности. Декарт целеустремленно
осуществлял эксперимент изнутри субъективности (своеобразный
experimentum. crucis, проверяющий на прочность способность
субъекта к творчеству), завершившийся удачей в момент нахождения
устойчивой точки cogito в темпоральном течении воображающей
души. Для этого Декарту пришлось совершить обращение в пределах
субъективной сферы на самое себя (мифологический мотив «обо-
ротничества»). Этот предельно свернутый индивидуальный опыт
произошел на фоне бурного разворачивания естествоиспытания
внешней природы.
§ 3. ГЕГЕЛЬ
Отпуск Абсолютной Идеи в природе
Обращаясь к философии Гегеля, уместно вспомнить тезис Пар-
менида «бытие есть, небытия же нет». В первой части этого
постулата категорически утверждается, что бытие есть всегда; во второй
части имеется в виду, что небытия нет никогда. Если существование
бытия однозначно и действительно, то отсутствие небытия, если об
этом пытаются задуматься, двузначно: прошлое и будущее являются
его двумя возможностями.
Бытие явлено в моменте настоящего, делящего время на прошлое
и будущее. Для временного существа, каковым является человек,
бытие дано в настоящем миге, который человеку невозможно
остановить в силу его странной ускользаемости в обе стороны. Само по
себе бытие вневременно. Собственно говоря, время как таковое
является тем самым небытием, из которого творится бытие,
рассекающее временное небытие надвое. Перейти от прошлого к
будущему можно только через настоящее. Бессмысленно говорить, что
творение было в прошлом, ибо сама возможность говорить о
прошлом как таковом возникает в акте творения, в результате чего
устанавливается сама темпоральная схема «прошлое—настоящее—
будущее». Не творение случилось когда-то в прошлом, а сама
прошлость возникла в творении, став тем небытием, из которого
творится бытие. Поэтому можно сказать, что человек становится
историческим существом, способным ответственно относиться к
546 Ю. M. РОМАНЕНКО. БЫТИЕ И ЕСТЕСТВО
своему прошлому, если он сам признает свою сотворенность из
небытия. То же самое касается и способности относиться к
будущему. Животные в этом смысле не знают исторического времени.
Бытие едино, неделимо, бездвижно и вневременно именно
потому, что оно делит само время. Если бы можно было перейти от
прошлого к будущему, минуя настоящее, то это означало бы, что
есть не одно, а два бытия, существующих изолированно в разных
темпоральных модусах. Однако такого быть не может
принципиально, ибо бытие едино по определению. Тогда откуда все-таки
двоица? Ответ на этот вопрос кроется в разгадке времени.
В силу того, что творение осуществляется из небытия, его
(творения) может и не быть. Иначе говоря, творчество необязательно:
никого никогда нигде никак невозможно обязать творить. Если
творение совершается свободным актом благой дарящей воли, то
бытие есть необходимо. Но в том случае, если творения нет, то
переход от прошлого к будущему без остановки в моменте
настоящего возможен, как возможен случай. Назовем это «становлением»
и, забегая вперед, отметим, что оно есть самодвижная процессу-
альность диады «естества». Творение так относится к становлению,
как бытие к естеству. В творении сущее становится быть самим
собой сразу, в становлении оно обретает собственную форму в
результате постепенного и случайно-стихийного совпадения его
материальных элементов методом проб и ошибок.
Естество не есть «второе» бытие. В естестве бытие
рассматривается с двойственной точки зрения. Единое бытие видится
человеком, с одной стороны, через припоминаемый образ уже не
существующего прошлого, с другой стороны — через предвосхищаемый
образ еще не существующего будущего. Отглагольное
существительное «бытие» имеет значение вневременности. Глагол «есть»
выражает временной момент настоящего, подразумевая моменты
прошлого и будущего. Переход от «еще» к «уже» через «есть» двойствен,
поэтому субстантивация глагола «есть» фиксируется именно
двойственным по своей морфологии отглагольным существительным
«естество», в котором одно и то же слово применено в качестве
корня (прошлое) и суффикса (будущее).
Все вышесказанное имело своей целью подготовить необходимые
терминологические средства для сравнительного анализа
предложенной нами онтологической триады «бытие—ничто—творение» и
гегелевской триады «бытие—ничто—становление». Давая
предварительную краткую оценку, можно сказать, что, во-первых, Гегель
не обратил внимания, что еще до того, как понятие «бытие» и
«ничто» синтезируются понятием «становление», они уже
полагаются в триаде с понятием «творения», которое является их полной
границей. В гегелевской же триаде и в той аргументации, которой
она выводится, подразумевается отождествление и равноценный
КНИГА II. ГЛАВА 2. § 3. ГЕГЕЛЬ 547
онтологический статус «бытия» и «небытия» (вопреки Пармениду),
по причине чего Гегелю действительно не нужно было полагать «в
начале» принцип «творения». Во-вторых, гегелевский ход
рассуждений привел к тому, что в понятии «становления» обнаружилось
два «бытия» — чистое бытие, равносильное небытию, и наличное
бытие. Кроме этого, становление имеет, согласно Гегелю, две формы:
в направлении к бытию — это возникновение, в направлении к
небытию — уничтожение. Возникает вопрос: откуда берется
«удвоение» бытия? — на который Гегель сам не отвечает. Он просто
попутно, ведомый особой интуицией и заранее зная результат
синтезирования, констатирует эту двойственность и, минуя ее без
задержки, произвольно замыкает свою триаду. На самом деле,
конечно, двух бытии быть не может. Бытие не возникает и не
уничтожается, а просто есть в творении. Но что есть та граница,
которая окончательно устанавливает, что бытие есть и оно одно, а
небытия нет и его может быть сколь угодно много? Эта граница и
есть само творение, о котором Гегель умолчал в начале
разворачивания своей грандиозной «Науки логики», но которое он был
вынужден постулировать в ее конце.
Гегель проложил дедуктивную линию по трем точкам: «бытие»,
«ничто», «становление» и произвольно сомкнул ее в круг.
Получилась плоская модель диалектики. Но то, что саму линию
«бытие—ничто—становление» можно, переходя к объемному
измерению, пересечь по ортогонали дважды: на месте первого дефиса —
понятием «творения», представляя бытие в образе сплошного
сферического тела; а на месте второго дефиса — понятием «естество»,
представляя тело бытия воплощенным в пространстве и во времени,
Гегель не принял ко вниманию, что отразилось в последующих
выводах немецкого мыслителя.
Проделанное только что структурно-топологическое
преобразование гегелевской триады можно представить арифмологически:
исходная триада формально преобразовывается в
категориальную пентаду — «бытие—творение—ничто—естество—становление».
А если онтологическую триаду сократить к одному моменту бытия,
то пентада вновь преобразовывается триаду, но уже
метафизическую: «бытие—естество—становление». Последняя триада
трансформируется в тетрактиду, так как само «естество» есть «диада».
Таким образом, имеются две триады, спекулятивно
отражающиеся друг в друге: «бытие—ничто—творение» и
«бытие—естество—становление», которые определяют предметные сферы
онтологии и метафизики, отграничивая и совмещая их одновременно
через понятие единого бытия. Вытекающие из этих триад
принципиальные высказывания: «бытие творится из небытия» и «бытие
естественно становится» находятся в напряженном отношении друг
с другом, создавая внутренний тонус всего круга философской
548 Ю. M. РОМАНЕНКО. БЫТИЕ И ЕСТЕСТВО
проблематики. Принципиальный характер всего вышесказанного
можно представить в форме следующих импликативных суждений:
если бытие творится, то только из небытия; а если бытие становится,
то только естественно.
Методология гегелевской метафизики заключается в
экспериментальном наблюдении и покорении природы онтологического
мышления. Историки философии не зря называют Декарта
дуалистом и субъективным идеалистом, а Гегеля — монистом и
абсолютным идеалистом. Оба мыслителя выходят из платоновского
идеалистического учения. Первый производит мысленный эксперимент,
пытаясь искусственно разделить неделимое, второй — стремясь
искусственно объединить естественно разделенное. Все
эксперименты, в самом общем виде, можно распределить по двум
стратегическим типам: 1) разделить нечто одно и посмотреть, что получится;
2) соединить что-то двойное, чтобы увидеть, каков будет результат.
Оба типа совершаются под девизом: «знание — сила», в применении
которой осуществляется двуединое экспериментальное действие.
Вкушение плодов с Древа познания добра и зла стало неотъемлемой
потребностью. Будешь вкушать эту пищу — будешь сильным, не
станешь — останешься немощным. Человек должен в напряженном
труде поддерживать собственное существование, отвоевывая право
на бытие. Об особой силе, свершающейся в экспериментальной
немощи, в данном случае не думают.
Проведем текстологический анализ гегелевских произведений,
где данная проблематика представлена наиболее отчетливо. В начале
«Науки логики» Гегель решает проблему начала, предупреждая,
что «начало есть логическое начало, поскольку оно должно быть
сделано в стихии свободно для себя сущего мышления, в чистом
знании».1 Радикальность первого шага Гегеля состоит в том, что он
требует начинать сразу с Абсолюта; в противном случае — при
начинании с относительного — истина будет упущена: «начало должно
быть абсолютным, или, что здесь то же самое, абстрактным,
началом; оно, таким образом, ничего не должно предполагать, ничем не
должно быть опосредствовано и не должно иметь какое-либо
основание; оно само, наоборот, должно быть основанием всей науки».2
Этим искомым и вместе с тем наперед заданным абсолютным
началом является бытие: «В своем истинном выражении простая
непосредственность есть поэтому чистое бытие. Подобно тому как
чистое знание не должно означать ничего другого, кроме знания
как такового, взятого совершенно абстрактно, так и чистое бытие
не должно означать ничего другого, кроме бытия вообще; бытие —
1 Гегель Г. В. Ф. Наука логики. В 3-х т. Т. 1. М.: Мысль, 1970.
С. 125.
2 Там же. С. 126.
КНИГА II. ГЛАВА 2. § 3. ГЕГЕЛЬ
549
и ничего больше, бытие без всякого дальнейшего определения и
наполнения ». '
Такое полагание бытия задает цикл движения мышления:
«движение вперед есть возвращение назад в основание, к
первоначальному и истинному, от которого зависит то, с чего начинают, и
которое на деле порождает начало».2 Как видим, этот
методологический регулятив мышления имагинативно задан особым образом
движения, а именно кругового: «вся наука в целом есть в самом
себе круговорот, в котором первое становится также и последним,
а последнее — также и первым».3 Круг мгновенно и непосредственно
дан в воображении, но еще не пройден опосредствованно-дискур-
сивно в мышлении.
Гегель упреждает совпадение начала и конца логического
движения благодаря наличию образа круга. Это образ самого Абсолюта,
являющегося началом и целью познания. Кроме этого, данный
образ, втягивая в себя познающего, инспирирует в нем само
стремление к познанию. Поэтому второй целью (но не в хронологическом
порядке) является познание Абсолюта как Творца, «волевым
образом» решающего сотворить мир. Эта двуединая задача познания
утверждается Гегелем так: «Абсолютный дух, оказывающийся
конкретной и последней высшей истиной всякого бытия, познается
как свободно отчуждающий себя в конце развития и отпускающий
себя, чтобы принять образ непосредственного бытия, познается как
решающийся сотворить мир, в котором содержится все то, что
заключалось в развитии, предшествовавшем этому результату, и
что благодаря этому обратному положению превращается вместе со
своим началом в нечто зависящее от результата как от принципа» .4
Круг есть плоская фигура, и чтобы вообразить его объемно,
т. е. перейти к новому измерению, необходимо совершить
дополнительный трансцендентальный акт. Воображение образа
дополняется волей именования. Чтобы сделать то, что совершил Гегель на
философском поприще, действительно необходимо было обладать
незаурядным воображением и мощной волей. Благодаря этим
внелогическим предпосылкам у Гегеля возник замысел создать «Науку
логики», которая могла бы стать реальной моделью парменидовской
«глыбы прекруглого шара» бытия. Четырехмерный и всюду
плотный образ логики бытия (или бытия логики) недвусмысленно
заявляется самим Гегелем: «Логика есть чистая наука, т. е. чистое
знание во всем объеме своего развития».6 Объемность такой логики
1 Там же. С. 126.
2 Там же. С. 127.
3 Там же. С. 128.
4 Там же. С. 128.
5 Там же. С. 125.
550 Ю. M. РОМАНЕНКО. БЫТИЕ И ЕСТЕСТВО
возникает в том случае, если она не отграничена дуалистически от
предметности — она «уже больше не противостоит предмету, а
вобрала его внутрь себя, знает его в качестве самой себя».1
В главе, завершающей введение к первому тому «Науки логики»
и названной «Общее деление бытия», Гегель «делит» неделимое
бытие следующим образом: «Бытие, во-первых, определено вообще
по отношению к иному».2 Если иным бытию является ничто, то
определенность бытия устанавливается творением его из небытия.
Сразу же за этим Гегель утверждает: «Оно, во-вторых, определяет
себя внутри самого себя».3 Отношение бытия к себе самому в
от-вращении от небытия является становлением.
Далее идет непосредственная дедукция гегелевской прототриады
в первой главе первого раздела первого тома «Науки логики».
«Чистое» бытие есть «неопределенное непосредственное», «равное
лишь самому себе». Оно есть «пустота». Такое апофатическое
определение бытия незаметно оборачивается в катафатическое
определение небытия. «Бытие, неопределенное непосредственное, есть
на деле ничто и не более и не менее, как ничто».4 Те квалификации,
которые даются бытию, Гегель приписывает и небытию: «Ничто,
чистое ничто; оно простое равенство с самим собой, совершенная
пустота, отсутствие определений и содержания; неразличенность в
самом себе».5
Совпадение определений бытия и ничто дает возможность Гегелю
отождествить их: «Чистое бытие и чистое ничто есть, следовательно,
одно и то же».6 Хотя вместе с этим, как бы спохватываясь и
понимая, что равенство предикаций еще не окончательный повод
отождествлять субъекты данных высказываний, Гегель дает
оговорку: «Но точно так же истина не есть их неразличенность, она
состоит в том, что они не одно и то же, что они абсолютно различны».7
В этом принципиальнейшем моменте развития диалектического
метода обращает на себя внимание настойчивое повторение Гегелем
эпитета «чистый» в применение к «бытию» и «ничто». В этой
оценке Гегель следует пуризму Канта, стерилизовавшего разум в
«Критике чистого разума». Возникает вопрос: кто же очищает бытие
и ничто, когда между ними установилась определенность,
посредством которой они различаются и одновременно отождествляются?
На самом деле Гегель в этом месте постулирует границу как таковую.
И нельзя сказать, что эта граница «между» бытием и небытием,
1 Гегель Г. В. Ф. Наука логики. Т. 1. С. 125.
2 Там же. С. 136.
3 Там же. С. 136.
4 Там же. С. 140.
5 Там же. С. 140.
6 Там же. С. 140.
7 Там же. С. 140.
КНИГА П. ГЛАВА 2. § 3. ГЕГЕЛЬ
551
ибо такое «между» может быть только в отношении двух бытии
если это мыслимо. На наш взгляд, эпитет «чистый» можно
приписать только этой границе, а не самим «бытию» и «ничто» как
таковым. В акте творения бытие есть, а небытия нет — это первое,
что необходимо сказать о бытии и ничто и что уже высказал
Парменид. Во-вторых, в естественном обращении в себе самом бытие
положено в собственной границе таким образом, что эта граница
будучи по-настоящему чистой, сплошь наполняет тело бытия, не
деля его на внешнее и внутреннее, а делая прозрачным и доступным
друг другу любой его момент. Вот такая граница самого бытия и
есть естество. Небытия же в обоих случаях нет и быть не может.
Как невозможно и отождествление бытия и небытия.
Гегель же, настаивая на тождестве бытия и ничто, хотел,
вероятно, спровоцировать насильственной вербальной диктовкой
невообразимый образ для инспирирования удивления и недоумения
у конечного рассудка: «Если вывод, что бытие и ничто суть одно
и то же, взятый сам по себе, кажется удивительным или
парадоксальным, то не следует больше обращать на это внимания; скорее
приходится удивляться удивлению тех, кто показывает себя таким
новичком в философии и забывает, что в этой науке встречаются
совсем иные определения, чем определения обыденного сознания
и так называемого здравого человеческого рассудка».1 Гегель даже
уверен, что «было бы нетрудно показать это единство бытия и
ничто на любом примере, во всякой действительной вещи или
мысли».2 Любая сотворенная конкретная вещь действительно может
послужить примером единства бытия и ничто, кроме одной-
единственной — самого бытия.
После такого незаконного с логической точки зрения приема,
задав кричащее противоречие, Гегель приводит мышление из
состояния беспокойства в точку успокоения и примирения
противоположностей. Разрядка происходит в понятии «становления»: «Их
истина есть, следовательно, это движение непосредственного
исчезновения одного в другом: становление».3
Известно, что логико-теоретическое выведение категорий Гегель
сопоставлял с историко-философскими прецедентами и целостным
процессом осмысления этих же категорий в учениях мыслителей
прошлого, исходя из принципа единства исторического и
логического. Вся гегелевская триада персонифицирована, т. е. привязана
к именам и конкретным личностным философским системам:
Парменид учил о бытии, восточные мудрецы — о ничто, Гераклит —
о становлении.
1 Там же. С. 142-143.
2 Там же. С. 143.
3 Там же. С. 141.
552
Ю. M. РОМАНЕНКО. БЫТИЁ И ЕСТЕСТВО
Принцип актуальности бытия по Пармениду, который Гегель
выражает в такой редакции: «только бытие есть, а ничто вовсе
нет»,1 немецкий мыслитель оценивает как «абсолютно
абстрактный». С такой оценкой Парменида Гегелем согласиться нельзя,
ибо, как было показано в соответствующем месте, конкретность
учения Парменида о бытии осуществляется методом угадывания
образа бытия. Более «конкретного» образа (от лат. concretus —
сгущенный, сращенный, слитый), чем «глыба прекруглого шара»,
уже придумать нельзя.
Гераклита Гегель ставит «выше» Парменида: «Глубокий
мыслитель Гераклит выдвигал против указанной простой и
односторонней абстракции более высокое, целокупное понятие становления
и говорил: бытия нет точно так же, как нет ничто, или, выражая
эту мысль иначе, все течет, т. е. все есть становление».2 С такой
характеристикой также согласиться невозможно, поскольку Гегель
приписал Гераклиту софистическую нигилистическую позицию:
бытия нет точно так же, как нет ничто. Выводить же из этого
нигилизма идею «становления» вдвойне неправильно. Учение
Гераклита о «естестве» исходило из иного основания и намерения и
не сводилось только к принципу «все течет», о чем выше было
сказано в соответствующем параграфе.
Позитивное учение о «небытии», культивировавшееся на
Востоке, Гегель характеризует так: «Общедоступные изречения, в
особенности восточные, гласящие, что все, что есть, имеет зародыш
своего уничтожения в самом своем рождении, а смерть, наоборот,
есть вступление в новую жизнь, выражают в сущности то же
единение бытия и ничто».3 Неудовлетворительность восточных
представлений о соотношении бытия и ничто заключается в следующем:
«Но эти выражения предполагают субстрат, в котором совершается
переход: бытие и ничто обособлены друг от друга во времени,
представлены как чередующиеся в нем, а не мыслятся в их
абстрактности, и поэтому мыслятся не так, чтобы они сами по себе
были одним и тем же».4
В этой гегелевской характеристике отчетливо представлены
основные проблемы онтологии и метафизики, взятые в их
взаимозависимости. Проинтерпретируем приведенные выше цитаты в
контексте нашей концепции. Под абстрактной (от лат. abstract —
выделенный, избранный) мыслимостью бытия и ничто они
представлены изолированно сами по себе, что вместе с тем оборачивается,
по мнению Гегеля, в их отождествление. Гегель этими словами
1 Гегель Г. В. Ф. Наука логики. Т. 1. С. 141.
2 Там же. С. 141.
3 Там же. С. 141-142.
1 Там же. С. 142.
КНИГА II. ГЛАВА 2. § 3. ГЕГЕЛЬ
553
сначала полагает акт творения и тут же, мгновенно, его как бы
пресекает. Но тогда ничего конкретного возникнуть не может.
Бытие и ничто, будучи «чистыми», согласно Гегелю, остаются быть
то различными, то тождественными друг другу. Откуда,
спрашивается, конкретные вещи? Предположить же некий «субстрат
перехода», как то наличествует в восточных доктринах, Гегель
отказывается. Но тем самым он блокирует у себя понимание значимости
«естества».
Несмотря на то, что Гегель все же использует понятие «естество»
под знаком категории «становление», предваряющее
отождествление «бытия» и «ничто» создало большие трудности для
последующего выяснения отношений между Абсолютной Идеей и сферой
природы и привело к существенному противоречию между методом
и системой в философии Гегеля.
Прежде всего это сказалось в неразличенности понятий
«творение» и «становление» в концепции Гегеля. Так, он справедливо
критикует одностороннюю позитивистскую трактовку положения
ex nihilo nihil fit, которое, с одной стороны, является отрицательной
формой выражения идеи становления, с другой стороны, получает
свою осмысленность в контексте идеи творения и отнюдь не
противоречит последней. Отождествив «бытие» и «ничто», Гегель
вынужден отождествить «творение» и «становление», во всяком
случае, не приводить различия между ними, что видно из следующих
его строк: «Положение: из ничего ничего не происходит, ничто
есть именно ничто, приобретает свое настоящее значение благодаря
тому, что противопоставляется становлению вообще и,
следовательно, также сотворению мира из ничего».1
Из ничего не возникает ничто, ибо ничто вообще не возникает,
так как его нет. Бытие же есть, ибо оно творится из небытия,
оставляя его несуществующим. В этом суть принципа творения.
Естественное же становление есть конкретизация творящегося
бытия.
В конце «Науки логики» — в последней главе третьего тома,
названной «Абсолютная Идея» — Гегель повторяет «начало». Что
он, собственно говоря, без устали делал на протяжении всех трех
томов. Исходная триада непрерывно прокручивалась, оплотняясь
в себе самой, благодаря вбиранию внутрь себя возникающих
буквально из небытия все новых и новых определений бытия. Однако
чтобы это начало стало настоящим началом, оно должно в какой-то
определенный момент, предположенный в самом начале,
закончиться. В третьей главе третьего раздела третьего тома (какая
точная арифмологическая предусмотрительность!) Гегель дает
описание окончательного начала «Науки логики».
1 Там же. С. 142.
554 Ю. M. РОМАН EH КО. БЫТИЕ И ЕСТЕСТВО
Гегель в своем тексте неоднократно и с особым смыслом
употреблял выражения «сфера чистой мысли» и «стихия чистой мысли».
Что это означает? Вводя принцип движения в логику, Гегель отнюдь
не отменяет ее основных законов, прежде всего закона тождества.
Напротив, он впервые его реализует правильно посредством
непрерывного его повторения. Движение логики (или логика движения)
осуществляется согласно принципу стихийности — повторению
«того же самого» — самотождественного бытия — в небытии. Бытие —
одно и то же: одно — в себе самом; и то же — в небытии. Принцип
стихийности означает итерирование единого бытия без его
умножения на множество бытии. В силу этого бесконечного повтора
бытия в себя самого, оно тем не менее «конечно», имея форму
сферы, в которой заключена стихийность самого бытия, не
вырывающегося вовне. Да ведь и никакого «вовне» нет. Бытие имеет
собственную форму в виде сферы и поэтому бытие мыслится в
воображении в имманентном ему образе. Сфера и есть образ самого
бытия. Этот архетип, как мы помним, наличествовал еще в
мифологеме Мирового Яйца у орфиков, откуда вышла концепция бытия
Парменида.
Что такое «Абсолютная Идея» в философии Гегеля? Прежде
всего, это Идея (Вид) самого Абсолюта, уединенного в созерцании
самого себя. Уединение есть ограничение себя сферой как формой
бытия Абсолюта. Следовательно, Абсолютная Идея есть Образ самого
Абсолюта, причем единственный образ как таковой, существующий
реально, или образ образов.
Гегель пишет по этому поводу: «Определенность идеи и все
развертывание этой определенности и составили предмет науки
логики».1 В каждой науке есть собственное развивающееся
содержание, но только в науке логики (читай: онтологии) возможно
совпадение содержания и объема, поскольку она основана на
принципе тождества мышления и бытия. Гегелевская «Наука логики»
была посвящена «сокрывающему раскрытию» саморазвивающегося
содержания логики. В конце своего грандиозного произведения
Гегель, заполняя объем логики и получая всеобщую ее форму в
образе сферы, представляет логику как метод. Он так и говорит:
«всеобщность его формы, — т. е. метод»,2 или в другом месте:
«метод есть объективная, имманентная форма».3 Абсолютная Идея
есть свой собственный метод, который «возник отсюда как само
себя знающее понятие, имеющее своим предметом себя как столь
же субъективное, сколь и объективное абсолютное и, стало быть,
как полное соответствие между понятием и его реальностью, как
1 Гегель Г. В. Ф. Наука логики. Т. 3. М., 1972. С. 290.
2 Там же. С. 290.
3 Там же. С. 293.
КНИГА II. ГЛАВА 2. § 3. ГЕГЕЛЬ
555
существование, которое есть само понятие».1 Эти слова Гегеля —
одно из самых четких в истории философии определений онтологии.
Понятие получает в философии Гегеля статус имени, обладающего
творящим потенциалом.
Гегель утверждает, что «следует рассматривать в качестве метода
лишь движение самого понятия»2 для того, чтобы статика образа
соединилась с его динамикой, благодаря чему «метод расширяется
в систему».3 По видимости, Гегель отводит воображению
подчиненное место в мышлении и даже говорит, что «бытие не нуждается
... в показе».4 Однако эти оговорки и запреты не должны вводить
нас в заблуждение. Мы-то видим воочию, какой удивляющий образ
мысли (или мысле-образ) выразил Гегель, намеренно предъявив его
к показу. Вероятнее всего, Гегель имел в виду, что бытие не
нуждается в показе в небытии, но чтобы пребывать в собственной
форме — сфере, оно должно показаться самому себе, чтобы видеть
собственный образ в некоем зеркале, которое и есть данная сфера.
Спекулятивность диалектического метода Гегеля, о которой он
неоднократно сам говорил, состоит в пре-ображении мышления
посредством во-ображения, т. е. вхождения во образ единого бытия.
Круговая модель диалектики бытия и мышления Гегеля
хранится силой образа и имени или, иначе говоря, во имя образа.
В качестве убеждающего примера — характерные слова Гегеля:
«Именно таким образом (разрядка моя. — Ю. Р. — Именно
вот таким образом — в образе вот этого имени!) каждый шаг вперед
в процессе дальнейшего определения, удаляясь от неопределенного
начала, есть также возвратное приближение к началу, стало быть,
то, что на первый взгляд могло казаться разным, — идущее вспять
обоснование начала и идущее вперед дальнейшее его определение, —
сливается и есть одно и то же».5
Персонификация Абсолютной Идеи Гегелем («понятие есть не
только душа, но и свободное субъективное понятие, которое есть
для себя и потому обладает личностью»)6 отражается в
персонификации метода (не случайно существует имя собственное — Мефодий).
Абсолют Гегеля отнюдь не безымянен, что ему ставили в упрек,
просто звучание этого Имени рассеяно между строк его текста, и
требуется особая настройка слуха, чтобы услышать его, для чего
нужно, как поясняет Гегель, «вслушиваться в себя»,' читая внешне
начертанные строки, написанные посторонним субъектом.
1 Там же. С. 290.
2 Там же. С. 290.
3 Там же. С. 304.
4 Там же. С. 292.
" Там же. С. 307.
6 Там же. С. 288.
7 Там же. С. 289.
556
Ю. M. РОМАНЕНКО. БЫТИЕ И ЕСТЕСТВО
Персонификация метода открывает новое его качество. Так
возникает экземплификационно-ономатологический метод, о
необходимости которого было сказано нами выше. Применение образа и
имени в качестве метода дает возможность описать образование
в творении из небытия сущего, откликающегося на зов его из
небытия по имени. Это дву единство образа и имени в методе
Абсолютной Идеи составляет естество (природу) последнего. Гегель
пишет по этому поводу следующее: «В силу указанной выше
природы метода наука представляется некоторым замкнутым в себя
кругом, в начало которого — в простое основание — вплетается
путем опосредствования [его] конец; причем круг этот есть круг
кругов, ибо каждый отдельный член, как одухотворенный методом,
есть рефлексия-в-себя, которая, возвращаясь в начало, в то же
время есть начало нового члена».1 Гегель не случайно употребил
выше выражение «природа метода». Чтобы быть абсолютным, метод
должен быть естественно развивающимся. Несмотря на то, что
Гегель вынес «природу» за скобки «сферы чистой мысли», на деле
логика метода привела к открытию природы самой логики. Не
только ее бытия, но и естества. Не случайно здесь также
употребление метафоры «плетения» как одного из устойчивых символов
естественной деятельности природы (вспомним богинь Мойр,
плетущих ткань судьбы).
Если начало без конца пусто — с чего начал Гегель «Науку
логики», — то совпадение начала и конца являет собой полноту
начала. Этой констатацией «Наука логики» завершается. «Метод
есть чистое понятие, относящееся лишь к самому себе; поэтому он
простое соотношение с собой, которое есть бытие. Но теперь это и
наполненное бытие, постигающее себя понятие, бытие как
конкретная и равным образом совершенно интенсивная целокупность».2
Прежде чем перейти от «Науки логики» к «Философии
природы», Гегель утверждает принцип тождества идеи и природы —
последняя потенциально содержится в первой: «Идея как
целокупность в этой форме есть природа».3
Природа естественно вызрела в сфере и стихии чистой мысли
и стала быть готовой выйти из нее. Образ наполнился целиком, и
возникло «побуждение снять эту субъективность».4 Создался
простор свободы для реализации воли к творению по своему образу и
подобию; поименовав себя самое изнутри, Абсолютная Идея
предлагает собственные имена иному. Если на зов по имени воспоследует
отклик из небытия, то одновременно с этим возникнет зеркальное
1 Гегель Г. В. Ф. Наука логики. Т. 3. С. 308-309.
2 Там же. С. 309.
3 Там же. С. 310.
4 Там же. С. 309.
КНИГА П. ГЛАВА 2. § 3. ГЕГЕЛЬ
557
взаимоотражение двух предстоящих друг другу сфер в обоюдном
показе их явленных образов. Наметился переход от «сферы чистой
мысли» к «сфере природы», что зафиксировал Гегель: «чистая
истина как последний результат становится также началом другой
сферы и [другой] науки. Этот переход требуется здесь еще только
наметить».1
Гегель набрасывает переход от онтологии к метафизике, и здесь
перед нами снова феномен интерамбулы — неподвижного движения
переступания через порог — из одной сферы в другую. Необходимо
только помнить, что хотя сфер две, но граница у них одна и та
же — естество. Завершив работу мышления бытия, Абсолютная
Идея позволяет себе отдохновение в отпуске на природе. «Переход,
стало быть, следует здесь понимать скорее так, что идея сама себя
свободно отпускает, абсолютно уверенная в себе и покоящаяся
внутри себя».2
Ничто уже не сможет потревожить покой, силу и волю
Абсолютной Идеи, защищенной сферой, потому что она знает метод
возвращения к себе самой. Ею уже пройден круг отождествления,
в каждой точке которого совпали начало и конец кружения. Однако
начало и конец не только тождественны, но и различны, поэтому
в точке их схождения находится и точка их расхождения, из
которой выходят две линии в обратные стороны. Сомкнутся ли эти
линии в новый круг, уже не в круг тождественного, а в круг иного,
как выразился бы Платон, — осталось последней интригой,
завершающей «Науку логики». Выяснению последнего вопроса Гегель
посвятил изложение своих «Философии природы» и «Философии
духа», образующих содержание «круга иного», повторяющего с
точностью до наоборот (т. е. в обратном направлении) движение
сферы чистой мысли.
Итак, в «Науке логики» Гегель пытался реализовать амбицию
познающего разума логически «изобразить» Бога до акта творения
и даже представить это объемно — как «логический слепок»
Вечности. По завершении «Науки логики» оказалось, что для того
чтобы полностью удостоверить истинность полученного результата,
необходимо применить к нему не только внутренний критерий, но
и внешний, т. е. не только необходимый, но и достаточный.
Абсолютная Идея, убедившись в собственной целостности и
самодостаточности в логической сфере, должна проверить свою преизбыточ-
ность и неуничтожаемость в небытии.
Завершив «Науку логики» идеей творения, Гегель с этой же
идеи начинает «Философию природы», повторно ставя вопрос: зачем
необходимо творение, если бытие и так есть? «Если Бог всецело
1 Там же. С. 309.
2 Там же. С. 310.
558 Ю. M. РОМАН EH КО. БЫТИЕ И ЕСТЕСТВО
довлеет себе, ни в чем не имеет нужды, то как он приходит к тому,
чтобы решиться сотворить нечто неподобное ему? Отвечаем:
божественная идея именно и состоит в том, что она решается положить
из себя это иное и снова вобрать его в себя, чтобы стать
субъективностью и духом. Философия природы сама составляет часть
этого пути возвращения, ибо она-то и снимает разъединение (die
Trennung) природы и духа и дает духу возможность утвердить свою
сущность в природе ».'Вечность идеи состоит в том, что она есть
«в-себе-и-для-себя-бытие, т. е. она есть возвратившееся в себя
бытие».2 Понятие «возвращения» очень существенно для Гегеля, без
него невозможна конкретизация творения и, как следствие,
замыкание философского знания в целостную систему. «Таково место,
занимаемое природой в системе целого. Ее отличительной чертой
является то, что идея определяет самое себя, т. е. полагает в самой
себе различие, некое иное, но полагает его таким образом, что она
в своей неделимости является бесконечной благостью и сообщает,
дарит инобытию всю свою благость».3
Следуя традиции теистического креационизма, Гегель
характеризует творение через понятие « воля » ( « идея решается положить
из себя иное — природу»), а также понятие «дар». Однако насколько
бескорыстным оказался дар в понимании Гегеля? Этим вопросом
затронуто все содержание его «Философии природы». Если Идея
подарила природе «всю свою благость», то в последней после акта
творения находится все, что имелось в первой и чего в ней уже не
имеется, ибо отдано все. Откуда все-таки берется новое?
В свете этих вопросов проведем текстологический анализ
гегелевской «Философии природы». Гегель вторит античному (герак-
литовскому) пониманию природы как загадки: «Что такое
природа?.. Природа стоит перед нами как некая загадка и проблема, и
мы столь же чувствуем потребность разрешить загадку природы,
сколь и отталкиваемся от этого. Природа влечет нас к себе, ибо
дух предчувствует свое присутствие в ней; она нас отталкивает как
нечто чуждое, в котором наш дух не находит себя. Аристотель
поэтому говорит, что философия началась с удивления».4
Однако античный метод угадывания не удовлетворяет Гегеля,
и он стремится применить иную методологию к природе. Разум не
должен ограничиваться чутьем прячущейся природы, но должен
выманить ее из укрытия. «Наблюдая ее процессы, видя ее
превращения, мы хотели бы постигнуть ее простую сущность, заставить
1 Гегель Г. В. Ф. Энциклопедия философских наук. Т. 2. Философия
природы. М.: Мысль, 1975. С. 25.
2 Там же. С. 33.
3 Там же. С. 25.
1 Там же. С. 10.
КНИГА II. ГЛАВА 2. § 3. ГЕГЕЛЬ
559
этого Протея приостановить свои превращения и открыться нам,
высказаться перед нами так, чтобы он нам не только показывал
многообразные, каждый раз новые формы, но более просто, на
языке сознания обнаружил бы, что он такое (was er ist)».1 В конце
«Философии природы» Гегель признается, что целью его
исследования было «дать изображение природы, с тем чтобы одолеть этого
Протея, найти в этом внешнем бытии лишь зеркало нас самих,
увидеть в природе свободное отражение духа, познать Бога не в
рассмотрении духа, а в этом его непосредственном наличном
бытии».2 Осталось только добавить, что природа, будучи «зеркалом»
духа, является не искусственно-пассивным его отражением, но
именно свободным, «живым зеркалом», активно влияющим на него.
И сам дух является таким же «зеркалом» природы. Так получается
система направленных друг на друга зеркал в процессе применения
спекулятивного метода.
Человек находится в срединной точке этой системы зеркал, но
в силу своего устройства он может видеть непосредственно только
один из экранов. Чтобы увидеть все, ему необходимо сделать полный
оборот, окинуть взглядом весь горизонт, храня в памяти прежде
виденное. А затем суметь совместить все контуры отражений в
едином образе. В этом — цель деятельности творческого
воображения.
Застывший и односторонний взгляд на природу уничтожает ее.
«Практическое отношение к природе обусловлено вообще
вожделением, а последнее эгоистично. Потребность стремится к тому, чтобы
употребить природу для своих нужд, стереть ее грани, истощить,
короче говоря, уничтожить ее».3 Но такой же умерщвляющий
взгляд присущ самой природе; вспомним взгляд горгоны Медузы.
Человек всегда находится в опасности, пребывая в природе, однако,
«какие бы силы ни развивала и ни пускала в ход природа против
человека — холод, хищных зверей, огонь, воду, — он всегда находит
средства против них, и при этом он черпает эти средства из самой
же природы, пользуется ею против нее же самой, хитрость его
разума дает ему возможность направлять против одних естественных
сил другие, заставлять их уничтожать последние и, стоя за этими
силами, сохранять себя».4 Понятие «хитрость разума» — одно из
основных в гегелевском философском воображении. Если
«хитрость» перевести на греческий язык как «махинация», откуда
возникло и слово «механизация», то вышеприведенная цитата
является определением экспериментально-технического отношения к
1 Там же. С. 11.
2 Там же. С. 579.
3 Там же. С. 12.
4 Там же. С. 13.
560 Ю. M. РОМАНЕНКО. БЫТИЕ И ЕСТЕСТВО
природе. Вспомним также, что райский змей был самым хитрым
животным.
Экспериментатор «предоставляет природе мучиться, спокойно
наблюдает и малым усилием управляет целым: хитрость. На
широкую сторону мощи нападают острым концом хитрости».1
Воображение Гегеля увлечено очень эффектным образом. Но что
произойдет, если «широкую сторону мощи» развернуть и ударить
перпендикулярно по «острому концу хитрости»? Такие
экспериментальные обстоятельства Гегель не предполагал. Гегель видит
недостатки, ограниченность и ущербность экспериментального
отношения к природе («только тогда, когда мы учиняем насилие над
Протеем, т. е. когда мы не заботимся о чувственном явлении, он
отказывается сказать нам истину»),2 поэтому он предлагает
целостный подход, заключающийся в телеологическом отношении:
«целесообразная деятельность стремится лишь к самосохранению. Это
же понятие цели познал в природе уже Аристотель, и такую целевую
деятельность он называет природой вещи. Истинное телеологическое
понимание — а оно является наивысшим — состоит, следовательно,
в том, что природа рассматривается как свободная в ее собственной
жизнедеятельности (Lebendigkeit)» .3
Физика, как рациональная, так и эмпирическая, одностороння
в своих выводах, философия же природы претендует на целостное
знание. По сути, философия природы и есть метафизика: «различие
между философией природы и физикой состоит в характере той
метафизики, которой они пользуются. Ибо метафизика есть не что
иное, как совокупность всеобщих определений мышления, как бы
та алмазная сеть, в которую мы вводим любой материал и только
этим делаем его понятным».4 «Алмазная сеть» — любопытная
метафора, вызывающая в памяти универсальный образ «фюсис» как
«трясущегося сита» в платоновском «Тимее».
Так как Идея самосохраняется вечно, на первый план в
концепции творения Гегель вводит идею сохранения. «Мир сотворен,
сотворяется теперь и будет вечно твориться; вечность выступает
перед нами в форме сохранения мира. Сотворять — это и есть
деятельность абсолютной идеи; идея природы (подобно идее как
таковой) вечна».3 В понятие мира входит то, что он «объемлет
собой как духовное, так и природное».6 Но поскольку «природа
есть идея в ее инобытии»,' то отношение человека к природе яв-
1 Гегель Г. В. Ф. Философия природы. С. 625 (в примечании).
- Там же. С. 19.
3 Там же. С. 14.
1 Там же. С. 21.
5 Там же. С. 27-28.
6 Там же. С. 27.
7 Там же. С. 27.
КНИГА П. ГЛАВА 2. § 3. ГЕГЕЛЬ
561
чяется двусмысленным, вплоть до того, что она «представляется
нам чем-то несотворенным, вечным, самостоятельным по
отношению к Богу».'
Как считал еще Аристотель, познание природы (эпистеме фю-
сике) означает переход от понятного нам к понятному по природе.
Гегель характеризует природу либо в отношении к Идее, либо в
отношении к человеку. Какова же природа сама по себе? От этого
вопроса Гегель как бы ускользает, сводя дефиницию природы к
негативным определениям. Природа вне Абсолюта есть ничто и
поэтому заслуживает именно ничтожного отношения: «Мы не
должны поэтому обожествлять природу со стороны ее определенного
существования, которое именно и является природой».2 Несмотря
на то, что «в себе, в идее природа божественна, но в таковой,
какова она есть, ее бытие не соответствует ее понятию, она является
скорее неразрешенным противоречием. Ее своеобразие состоит в ее
положенности, отрицательности; древние понимали вообще материю
как non-ens. Таким образом, природа была объявлена также и
отпадением идеи от самой себя, потому что идея в этой форме
внешности не адекватна самой себе».3 Диалектическая триада
Абсолютной Идеи, посредством которой развернут образ «сферы чистой
мысли», в инобытии трансформируется в четверицу, так как
средний член триады расщепляется и раздваивается: «В природе
тотальность разделения понятия существует как четверичность
именно потому, что первым членом является всеобщность как таковая,
а второй член, или различие, сам выступает в природе как двоич-
ность, так как в природе иное должно существовать для себя как
иное».4
«Природа представляет собой отрицание, потому что она есть
отрицание идеи»,5 — пишет Гегель, бросая взгляд на природу с
отрицательной стороны; а в обратном (позитивном) направлении —
«положительным в природе является просвечивание в ней
понятия».6
В отличие положительной идеи природы, «отрицательная
природа природы»' заключается в ее «бессилии» сохранить свои
формообразования. «Случайность и извне-определяемость торжествуют
победу в сфере природы... В том-то и состоит бессилие природы,
что она оставляет определения понятия лишь абстрактными...».
1 Там же. С. 27.
2 Там же. С. 29.
3 Там же. С. 30.
4 Там же. С. 32.
ä Там же. С. 32.
6 Там же. С. 33.
7 Там же. С. 33.
8 Там же. С. 37.
562 Ю. M. РОМАНЕНКО. БЫТИЕ И ЕСТЕСТВО
Таким образом, сила природы состоит в присутствии в ней понятия
(духа, идеи); ее же слабость — это «бессилие природы сохранить
понятие в его конкретных осуществлениях».1
Такое положение дел явно не устраивает Гегеля. Чтобы
избавиться от бессилия природы, необходимо инъектировать в нее идею,
а попросту говоря, провести над ней эксперимент. Но не частичный
и непоследовательный, а глобальный и непрерывный. Так как
природа есть «отпавшая от самой себя идея», деятельность
последней заключается в том, чтобы вернуть утраченное — в диалектике
понятия пройти все ступени природного формообразования,
воплотиться в этих сферах, постоянно прорывая границы в силу их
неадекватности, чтобы в конце концов возвратиться в исходную
точку. Эксперимент необходим именно для того, чтобы вернуть
природе ее идеальную естественность, как бы это парадоксально и
противоречиво не звучало. Но Гегель сам напрашивается на такое
абсолютное противоречие. Агентом экспериментирования выступает
само Абсолютное Понятие, являющееся гарантом сохранения
природы в вечности. «Вечная жизнь природы состоит, во-первых, в
том, что идея воплощается в каждой сфере так, как она может
быть воплощена в таком конечном существовании, подобно тому
как каждая капля воды отражает в себе солнце. Во-вторых, она
состоит в диалектике понятия, которая прорывает границы этой
сферы, так как оно не может удовлетвориться таким неадекватным
элементом и необходимо переходит в высшую сферу».2 Что остается
с «неадекватным элементом», отброшенным победоносно шагающей
вперед к концу своего начала Абсолютной Идеей, осталось
замолчанным в философии Гегеля. Энтузиазм покорения природы
отразился в его системе. Возможности экологического кризиса,
заключающегося в замусоривании отходами и отбросами «неадекватного
элемента» прозрачно-зеркальной двоицы естества, его эпоха
вообразить не могла или не хотела. Сохранение природы заключается
не в «прорыве границ этой сферы», как полагал Гегель, а в
соблюдении и очищении этих границ, ибо природа и есть граница как
таковая, самодвижная и прозрачно отражающая двоица или, одним
словом, — Естество.
Двоичный характер творения имеется в виду и у Гегеля. Так,
он пишет: «Бог открывается нам двояким образом: как природа и
как дух. Оба этих лика суть его храмы, которые он наполняет и
в которых он присутствует».3 Соотношение природы и духа
понимается в свете мифологемы Священного брака (иерогамии):
«Природа — невеста, с которой сочетается дух».4 Однако в версии Гегеля
1 Гегель Г. В. Ф. Философия природы. С. 38.
2 Там же. С. 43.
3 Там же. С. 24.
J Там же. С. 24.
КНИГА П. ГЛАВА 2. § 3. ГЕГЕЛЬ
обЗ
этот брак оказался неравным. Намечая переход от «Философии
природы» к «Философии духа», Гегель выводит дух из самой
природы, но таким образом, что полностью ее упраздняет в
преобразовании: «Дух выходит, таким образом, из природы. Цель
природы — умертвить саму себя и прорвать свою кору
непосредственности, чувственности, сжечь себя, как феникс, чтобы,
омолодившись, выйти из этого внешнего бытия в виде духа».1 Дух, по его
сути, и есть квинтэссенция самой природы, то природное, что
остается после того, как природа оставлена быть самой по себе на
свободе. «Над этой смертью природы, из этой мертвой оболочки
подымается более прекрасная природа, поднимается дух».2
Ведущей мифологемой гегелевского учения о природе, сводящей
к единому образу все его натурфилософские представления, является
мифологема Рая и грехопадения. Несмотря на то, что Гегель
скептически и рационалистически относился к мифам, но неявно он,
конечно, использовал их образный и ономатологический потенциал
для нужд конструирования своей системы.
По мнению Гегеля, Рай является «первоначальным состоянием
невинности, в котором дух тождествен природе и духовное око
пребывает непосредственно в центре последней; точка же зрения
сознания, в которой дух оторван от природы, есть состояние
грехопадения по отношению к вечному божественному единству».3
Исходное единство субъективного и объективного в природе уместно
назвать «чутьем» естества, формой выражения которого может быть
только миф. С точки зрения Гегеля, «это последнее изображается
как некое изначальное созерцание, как разум, который
одновременно есть фантазия, т. е. разум, образующий чувственные образы
и, следовательно, сообщающий этим чувственным образам характер
разумности. Этот созерцающий разум является божественным
разумом, так как мы имеем право сказать, что Бог есть то, в чем
дух и природа пребывают в единстве, в чем интеллект обладает
одновременно бытием и образом (Gestalt)».1
Таким разумом, мыслящим целостными образами и именами,
обладали люди в Раю до грехопадения. Однако затем случилось
нечто непоправимое, и они выпали из этого состояния невинности.
Случайно или с необходимостью Адам и Ева согрешили? Гегель
решил, что с необходимостью: «Но человек должен был вкусить
от древа познания добра и зла, должен был пройти через работу и
деятельность мысли, чтобы, восторжествовав над этой его
оторванностью от природы, быть тем, что он есть».0
1 Там же. С. 578.
2 Там же. С. 576.
:1 Там же. С. 17.
4 Там же. С. 17.
5 Там же. С. 18.
564
ΙΟ. Μ. РОМАНЕНКО. БЫТИЕ И ЕСТЕСТВО
Таким образом, Гегель стал на точку зрения гностиков-офитов,
занятых апологией змея-искусителя, спровоцировавшего человека
к экспериментированию над природой. Гегель принижает
внелогические способы отношения к природе, такие как миф и религия,
в контексте которых человек «может при помощи веры в известные
моменты приходить в такое состояние, в котором ему само собой,
непосредственно открывается внутренняя сущность природы, если
только он даст волю внезапному озарению, т. е. даст волю своей
фантазии пророчески изрекать истину».1
Признавая, что «в мифах, в традиции еще остались некоторые
обломки и слабые отблески этого духовного озарения»,2 Гегель все
же негативно, с иронией и даже какой-то досадой отказывается от
мифа. Беззаботного существования уже нет — остается только
работать над преодолением расколотости. «Если бы истина давалась
сознанию так легко, если бы было достаточно сесть на треножник
и вещать, то работа мышления была бы, бесспорно, совершенно
излишней»,3 — изрек Гегель, воссев на треножник, завершив
трудное дело мышления. Если в мифе истина дается даром, то в случае
отказа от мифа приходится добывать истину собственным трудом.
А если при этом труд организован экспериментально-технически,
то в отношении к природе он понимается как ее перетворение:
«единство интеллекта и созерцания, в-себе-бытия духа и его
отношения к внешнему миру должно быть не началом, а конечной
целью, не непосредственным, а произведенным единством».4 Такова
гегелевская стратегия отношения к естеству, вдохновленная не
змееборческим, а змеепочитательским мифом.
1 Гегель Г. В. Ф. Философия природы. С. 17.
2 Там же. С. 18.
3 Там же. С. 18.
·' Там же. С. 18.
Глава 3
Реабилитация метафизики
Культура сохранения естества
Единство человека по сути обусловлено его способностью
свершения креативного акта; вместе с этим человек по природе раздвоен.
В отличие от абсолютного Творца, творящего из небытия и
естественно возвращающего в единство собственного бытия результаты
своей деятельности, человек может творить на основе предданной
ему природы. Для этого человек экспериментирует над природой,
используя естественные энергии для поддержки искусственных
процессов. Человек научился разделять двоицу природы, выделившись
таким образом из нее, но он не способен с той же скоростью снова
сводить ее к цельности. Поторопившись вкусить от Древа познания,
человек не успел вкусить от Древа жизни, что привело к
необратимости времени его истории. Давая реальные половинчатые
результаты, экспериментальная деятельность оставляет за своей
спиной незаполняемую пустоту, которую «боится» природа.
Пустившись на путь эксперимента, человек уже не может своей силой
воздержаться от него.
Попытка сохранить результаты экспериментирования влечет за
собой необходимость проведения новых и новых экспериментов,
все более вытягивая силы природы из ее тайников. Стрела
человеческого познания имеет апокалиптическую цель, контуры образов
которой все заметнее на фоне экологического мирового кризиса.
Создаваемый мир так называемой «второй» природы — культуры —
надорван от «первой». Реабилитация имени «метафизика» состоит
в том, что «мета-фюсис» должно быть понято не превратно, как то,
что «после природы» (ибо после нее может быть только чистое
ничто), а как то, что естество сохраняется в круге
самовосстановления, который нужно научиться находить и поддерживать. Этот
искомый цикл (cyclus, colo — откуда слово «культ») есть культура
самой природы.
Культура как относительно автономная сфера реальности,
противополагаемая обычно природе, имеет с последней единое
основание — само бытие, являющееся предметом онтологии. Соотношение
культурологии, онтологии, метафизики и гносеологии представля-
566 Ю. M. РОМАНЕНКО. БЫТИЕ H ЕСТЕСТВО
ется достаточно проблемным и нуждается в смысловом и
терминологическом взаимоуточнении понятий, общих для этих центральных
разделов философского знания. Поставим следующий
методологический вопрос: каковы онтологические предпосылки (или условия
возможности) культуры как таковой? Иными словами, каков
«бытийный статус» культуры? Понятно, что решение этих
принципиальных вопросов требует привлечения гигантского содержательного
материала, поэтому ограничим задачу проблемой формальной
привязки основных онтолого-метафизических и культурологических
концептов друг к другу.
Прежде всего необходимо «вывести» из понятия «бытие»
возможность понятия «культура». Эту «дедукцию» можно было бы
осуществить логическим и диалектическим способами, исходя из
некоей панлогистской установки. Действительно, общим термином
для «онтологии» и «культурологии» выступает «логос»,
следовательно, возможна логическая экспликация предметных областей
этих философских дисциплин, пересекающихся своими объемами
в некотором общем секторе. Однако, еще прежде логической
обработки данного сектора, между «бытием» и «культурой»
устанавливается до-рефлективная смысловая, собственно онтологическая
корреляция. Выражаясь по-другому, «логика бытия» и «логика
культуры» необратимо вторичны по отношению к «бытию логики» и
«культуре логики», т. е. возможная инвертированная взаимозамена
слов в словосочетаниях «онтология» и «культурология» имеет
принципиально асимметричный характер. Говоря иначе еще раз по этому
поводу, прежде чем рефлективно «оборотить» на «культуру»
«логику», необходим первоначальный опыт «культивирования» самой
«логики». Но в том-то и дело, что процесс «эманирования» логики
из бытия и культуры и процесс «возвращения» (реверсии) логики
к бытию и к культуре одновременны и взаимодополнительны, что
создает единый, замкнутый, самодостаточный, абсолютный «онто-
культуро-логический цикл».
Вот, собственно говоря, с интуитивной фиксации именно этого
«цикла» и начинается онтологическое выведение культуры.
Дальнейшая развертка данного цикла является делом техники и умением
владеть логико-диалектическим методом. Так, например,
гегелевская «Наука логики», в которой осуществлена процедура «онтоло-
гизации логического», одновременно с этим является опытом
«культивирования логического».
Итак, «начало» положено фиксацией вышепредставленного
«цикла», в котором оказались равноправно замкнутыми друг на
друга понятия «бытие», «логика» и «культура». Поскольку
«логика» уже интегрирована в этот протоцикл, то описание самого цикла
подразумевает логичность формы изложения. Но само по себе
описание не является дискурсивным процессом — это скорее феноме-
КНИГА П. ГЛАВА 3. РЕАБИЛИТАЦИЯ МЕТАФИЗИКИ 567
дологическая дескрипция сути нашей проблемы, т.е. интуитивное
всматривание-отслеживание вращения этого цикла
трансцендентальным субъектом, встроенным в сам цикл; попросту говоря —
осознание пребывания в акте вращения (если угодно, кувырка как
способа перемещения), без чего невозможно изобретение и освоение
такого культурного первопредмета, как колесо, применяемого
впоследствии как в телеге, так и в компьютере.
Примером цикла, в частности, является так называемый
«герменевтический круг», в который нужно уметь войти, найти в себе силы
пребывать в нем сколько угодно, а при необходимости уметь выйти.
«Герменевтический круг» — это понимание и изживание опыта
кругообращения мышления, тождественного с бытием. Табличное
распределение значений этого термина таково: сам круг (или цикл)
буквально является «дукцией», вхождение в него — «редукцией»,
многочисленное вращение в нем — «индукцией», а выхождение —
«дедукцией». Таким образом, сейчас нами развернута транспозиция
ничего иного, кроме «мифа вечного возвращения».
Культура берет свое происхождение из мифа, который, по
определению А. Ф. Лосева, является магическим именем, вызывающим
чудеса. Следовательно, для начального знакомства с культурой
необходимо подходить к ней как к некоему имени, именующему
определенного персонифицированного субъекта, творящего
культурные ценности, воспринимаемые как чудо. В слове «культура»
слышится какое-то удивляющее имя, призывающее к общению с
ней как с личностью. Хотя научное внемифологическое сознание
оперирует «культурой» как концептом, заслоняя рациональными
структурами, как шелухой, живое звучание имени.
После того как было произведено онтологическое
«дедуцирование» культуры, попытаемся теперь вслушаться в ее ономатологи-
ческий зов. Имя культуры выше уже было произнесено. Оно есть
не что иное, как слово «цикл». Этимологическая основа этого слова
свидетельствует о следующих интересных характерных его
моментах. Согласно «Этимологическому словарю русского языка» М. Фас-
мера русское слово «колесо» родственно таким иноязычным словам,
как греческие polos — «ось», poleo — «двигаюсь вокруг», латинское
colo — «возделываю, населяю», от которых, в свою очередь, было
произведено слово «культ» со значением религиозного почитания
сакрального мира, трансформированное затем в секуляризованное
слово «культура».
Греко-латинское слово cyclus (цикл, круг) является
субстантивированием какого-то первоначального творческого деяния на
границе между трансцендентным и имманентным. Значения этого
праслова могут быть многообразными: «почитать», «взращивать»,
«опекать», «служить» и т. п. При этом здесь подразумевается, что
Почитающий «субъект» не вносит от себя ничего постороннего в
568 Ю. M. РОМАНЕНКО. БЫТИЕ И ЕСТЕСТВО
почитаемый «объект», оставляя ему шанс и свободу быть и
развиваться самим собою. Показательно также то, что слова «вращать»
и «выращивать» имеют единый корень. На фоне исторической
инфляции слов «культ» и «культура» современное слово
«культивирование» сохранило отголосок этого изначального значения.
Этимологический и лингвистический анализ данных слов
подталкивает именно к такому семантическому истолкованию и
прагматическому употреблению в языке. Как это было, например,
продемонстрировано в онтологизированной этимологии М. Хайдеггера
или П. Флоренского; кстати, последний прямо выводил светскую
«культуру» из религиозного «культа».
Топологический и хронографический аспекты смыслов этих слов
достаточно прозрачны, хотя логическая формализация этих
моментов «культуры» наукой еще полностью не осуществлена. «Цикл»
во временном значении представляется как «сфера» в
пространственном значении. По этим направлениям ведется огромная работа
по собиранию культурных смыслов, и здесь уже накоплен солидный
материал, которым можно пользоваться как устойчивым знанием.
Вместе с тем, несмотря на то, что «культура» сама по себе едина,
но в соответствии с диалектическим принципом «всеединства», она
еще и многообразна, что оправдывает постановку вопроса о «смыслах
культуры». Образно тематическую панораму вопроса можно
представить в виде «колеса в колесе». Внутренняя топология этого
образа культуры (можно даже сказать — культивированного образа)
допускает все же некоторые противоречия между частичными
смыслами культуры, которые могут вступать в различные плодотворные
контакты и резонансы, но между ними могут высекаться
антиномические искры и диссонансы. Дело в том, что сам «культурный
цикл» изначально содержит в себе диалектическое противоречие:
он должен быть замкнутой фигурой, где конец сведен с началом,
чтобы сохраниться именно как круг, но одновременно он должен
быть открытым. Проблема усугубляется еще и тем, что движение
по кругу абстрактно-логически может идти в попятном направлении.
Если такие коллизии случаются, то отдельные смыслы культуры
просто исключают друг друга, приводя ее к кризису. В чем причина
периодических упадков культуры, о которых свидетельствует вся
история, до конца не понятно; каждый отдельный случай
«декаданса» должен быть внимательно и деликатно проанализирован.
Проиллюстрируем представленную концепцию следующим
мифологическим примером. Как говорилось выше, «культура»
этимологически выводится из слова «цикл», «круг» (не в статусе
существительного, а в статусе глагола). Некий мифологический персонаж
осуществляет изначальное творящее усилие в форме
круговращения. Имя этого персонажа и действие, производимое им и
выражаемое глаголом, тождественны друг другу, т. е. это одно и то же
КНИГА П. ГЛАВА 3. РЕАБИЛИТАЦИЯ МЕТАФИЗИКИ 569
слово, которое впоследствии может грамматически различаться как
угодно. «Носителем» имени является конкретная живая личность.
Поэтому в слове «цикл» нужно услышать имя, а в звучании имени
нужно представить образ определенной персоны, с тем чтобы дать
реализоваться мифу.
Древнегреческая мифология представляет нам такую
возможность, к примеру, в лице и имени всем известного циклопа
Полифема. Киклопы (с греч.: « круглоглазые») в Древней Греции
представлялись в виде великанов с одним глазом посреди лба. Их
«говорящие» имена (Бронт — «гром», Стероп — «молния», Apr —
«перун») указывали на стихийную силу природы. Будучи
сыновьями Урана и Геи (т. е. Неба и Земли), «киклопы принадлежат
к древнейшему поколению богов; они сброшены Ураном в Тартар,
но Зевс освободил их и воспользовался их силой, мощью и сноровкой
в борьбе с титанами, когда киклопы вручили ему громы, молнии
и перуны».1
С мифологической, космогонической точки зрения род киклопов
является определенной стадией или степенью упорядочения хаоса
в космос. Несмотря на то, что киклопы выражают хтонизм и
стихийность, но все же и им принадлежит конкретная мера порядка
и самоорганизации материи, определенный уровень «культуры».
Конечно, пришедший им на смену олимпийский Пантеон,
возглавляемый Зевсом, обладал более мощным культуро-созидательным
потенциалом, выражая собою полисный уклад жизни классической
античности. Но чтобы поддерживать «олимпийский уровень»,
необходима была подпитка энергией «старых» божеств.
Амбивалентное состояние киклопов в новых мифо-исторических условиях
привело к тому, что их имена, функции, образы были
фальсифицированы, и им, уже безответным, была приписана косная инерция
зла. Поэтому, по сравнению с более архаическим пластом мифа,
например, уже «у Гомера киклопы — племя гордых и злых
великанов, они обитают в глубоких пещерах, не знают законов и ремесел,
не пашут и не сеют, питаясь плодами, которые рождает сама земля.
Единственное их богатство — стада».2
Киклопы в целом олицетворяли культуру скотоводчества,
представляя частичный культурый смысл, в котором достигли
внушительных результатов. Сыры они готовили отменные, а стада
содержали в образцовом состоянии. Можно высказать гипотезу, что
именно киклопы начали протокультуру, и это навсегда закрепилось
в едином корне их имени и имени «культура». Без киклопов не
запустился бы мир культуры, и давно уже нужно снять с них
модернизаторские обвинения. Не их вина, а скорее — беда, что их
1 Мифы народов мира. Энциклопедия. Т. 1. М., 1991. С. 649.
2 Там же. С. 649.
570 Ю. M. РОМАН EH КО. БЫТИЕ И ЕСТЕСТВО
смысл культуры мог войти в противоречие с иными смыслами.
Именно киклопы являются символами культуры самой природы,
осуществляемой безо всякого экспериментирования над ней.
Драматизм столкновения изолированных смыслов культуры
отразился в описании встречи киклопа Полифема и Одиссея —
проводника новых культурных ценностей. Если Полифем — это
культурный работник и арьергард культуры, то Одиссей — культурный
герой и авангард культуры. «Страшный и кровожадный великан
с одним глазом Полифем-пастух живет в пещере, где у него сложен
очаг, он доит коз, делает творог, питается сырым мясом. IX песнь
«Одиссеи» Гомера посвящена приключениям Одиссея в пещере
Полифема, который во время опьянения и сна был ослеплен героем,
избежавшим участи своих спутников, съеденных Полифемом.
Не зная настоящего имени своего обидчика, так как Одиссей
назвал себя «никто», ослепленный великан, на зов которого сбежались
соседи киклопы, кричит, приводя их в замешательство, что его
ослепил «никто». Узнав от отплывающего Одиссея его подлинное
имя, Полифем в ярости от того, что свершилось давнее предсказание
оракула о его ослеплении именно Одиссеем, сбрасывает скалы на
его корабли».1
В этом сокращенном и адаптированном описании сюжета
заключено бесконечно богатое содержание, которое далеко еще не
освоено культуринтерпретаторами. Обратим внимание только на
один существенный момент фрагмента, где констатируется
трансцендентная граница между изолированными смыслами-мифами
культуры. На линии соприкосновения мифа Полифема и мифа
Одиссея впервые возникла категория «небытия». Это случилось,
когда при встрече и знакомстве хитрый Одиссей (как сказал бы
Гегель, воздействуя тонким концом хитрости на тупую мощь) не
предъявил откровенно своего настоящего имени, а прикрылся
анонимностью или псевдонимностью, называя себя «никто». Понятие
«небытия» является онтологическим, поскольку предмет
онтологии — триада категорий «бытие—небытие—творение». Так что,
обманывая Полифема, Одиссей совершил творческий акт. Но с
этической точки зрения еще нужно подумать, кто является источником
или проводником зла и может ли быть списан прежний грех лжи,
допущенный экспериментатором Одиссеем, бесцеремонно
вторгшимся в пещеру прячущейся природы, за счет чего возник новый
культурный феномен.
Еще одним принципиальным моментом является то, что
ослепление Одиссеем Полифема символически выражает размыкание
круга-цикла «мифа вечного возвращения» в линию истории.
Отточенное прямое копье, направленное ортогонально кругу глаза, пре-
1 Мифы народов мира. Т. 2. С. 322.
КНИГА II. ГЛАВА 3. РЕАБИЛИТАЦИЯ МЕТАФИЗИКИ 571
образовывает круг в спираль. Тем самым «Одиссея» впервые вводит
в космоцентрический миф принцип историчности, что отныне влечет
за собой пропитывание культурных смыслов историческим зарядом.
Полифем же истории практически не знал, удовлетворяясь
потреблением качественного естественного сыра.
Один и тот же смысл культуры впервые возникает как бы
дважды. Взгляд на него двоится. С онтологической точки зрения
новый культурный смысл творится из небытия. С метафизической
точки же зрения он возникает естественно, стихийно и спонтанно.
Возникает он с первого раза, зачастую с разрушением старого,
неосознанно, но усваивается со второго раза, становясь осознанным
и тиражируемым. Это субъективные и объективные обстоятельства
осмысленного культурного созидания. Рано или поздно, но «колесо
культуры» (это продуктивная, хайдеггеровская тавтология) должно
было быть изобретено. Назовем этот акт-результат «культом бытия»,
отделываясь еще одной тавтологией. Искать онтологический исток
культуры нужно именно здесь.
Кроме онтологического «культа бытия» существует
метафизический «культ естества». Поясним, о чем идет речь. Привычное
слово «физкультура» имеет в себе гораздо больший семантический
потенциал, не ограниченный только применением его в качестве
наименования школьной дисциплины. Взятое терминологически
словосочетание «физическая культура» объединяет два
фундаментальных философских понятия: «фюсис» и «культура». Уже само
слово «физкультура», понимаемое философски, означает некую
область пересечения сфер бытия — природы и культуры, — при
первом рассмотрении кажущихся несводимыми и даже
исключающими друг друга. Антиномическое противопоставление мира
«природы» и мира «культуры» было начато в дискурсе софистов, резко
отличающемся от интуиции этих предметов у досократических
«физиологов». Слово «физкультура», как «окультуренная природа»
или «прирожденная культура», формулирует существенную
философскую проблему и задает горизонт для решения нетривиальных
исследовательских программ.
В книге А. В. Ахутина «Понятие "природа" в античности и в
Новое время ("фюсис" и "натура")», где сделана неординарная
попытка определить аутентичный смысл понятия «фюсис», данная
проблема тезисно излагается так: «Физкультура потому есть
культура (т. е. очищенная выявленность) телесной "фюсис", что тело,
пребывающее в форме, т. е. способное двигаться, есть начало самого
себя как движущегося, а движение, в свою очередь, не нечто иное
по отношению к телу, а его способ пребывать в форме».1 Перефра-
1 Ахутин А. В. Понятие «природа» в античности и в Новое время
(«фюсис» и «натура»). М.: Наука, 1988. С. 143.
572 Ю. M. РОМАН EH КО. БЫТИЕ И ЕСТЕСТВО
зируя эти соображения, можно уточнить и продолжить их так:
движение есть способ пребывания тела в форме, но поскольку без
формы нет и целостности самого тела (хотя тело может менять
свою форму), следовательно, тела без движения просто не
существует. Если бы можно было остановить естественное (а именно о
таковом идет здесь речь, а не об искусственно, внешне и насильно
приданном) движение живого тела, последнее тотчас бы
аннигилировало, либо рассеявшись в природной стихии, либо застыв в
искусственно созданных маске или статуе.
По сути дела, контрадикторно противопоставлять в духе учений
софистов следует не сами по себе «природу» и «культуру», а их
атрибуты: природную стихийность и самозамкнутость культурных
сфер, превращающихся на ступени цивилизации в пустые статуи-
идолы. Такое противопоставление, конечно, является крайним, но
между его полюсами возможно и гармоничное соотношение
«природы» и «культуры», в котором пролегает путь между Сциллой
природного хаоса и Харибдой выхолощенных цивилизационных
схем, в которых посмертно результируются живые культурные
деяния.
В подобном терминологическом философском смысле А. В. Аху-
тин интерпретирует понятие «физкультура»: «Если уж связывать
с состоянием здоровья саму "фюсис" человеческого тела, следует
говорить не о врачевании больного, что лишь, так сказать,
возвращает тело в исходную "фюсис", а о "мастерстве" другого рода, а
именно о гимнастике, если только гимнастика понимается не как
специальное мастерство, тренирующее тело для какого-то особого
достижения, т. е. не как спорт, а как общая физкультура.
Гимнастическая физкультура в отличие от спортивной гимнастики
предоставляет возможность человеческому телу свободно двигаться так,
как это свойственно природе ("фюсис") здорового тела. Причем
именно эти движения и сохраняют тело в его природе, поддерживают
его в форме. И привычное нам выражение "быть в форме" весьма
точно передает именно греческий смысл слова "форма"...».1
Переиначим понятие «физкультура», поскольку с ним связано
постороннее содержание, в терминологический комплекс «культ
естества», чтобы придать ему направленный метафизический
характер. Под «культом естества» будет пониматься такая практика
(являющаяся, как известно, критерием истины), в которой
культивируются открытые гармоничные структуры взаимодействия
телесного и душевного начал. В таком же направлении развивает
свою мысль и А. В. Ахутин: «Я имею в виду то, что мы называем
культивированием: такую форму мастерства, в которой человек
своим искусством как бы помогает тому, что может быть, — быть
1 Ахутин А. В. Указ. соч. С. 143.
КНИГА П. ГЛАВА 3. РЕАБИЛИТАЦИЯ МЕТАФИЗИКИ 573
вполне, предельно обнаружить свою природу, свою "фюсис".
Читатель сам может развить эту тему, замечу только, что наша
культурологическая мысль, наше понимание иных исторических
культур может увидеть свою истину в подобном «культивировании»
этих особых "природ", своеобразных "фюсис", самобытностей в их
собственном начале».1
Данная проблематика первоначально получила свое
классическое отражение и применение в мифе. Явленность любящей
скрываться «фюсис» (согласно Гераклиту) возможна при ее
культивировании, а не экспериментировании. В архаическом опыте
открывается возможность интуитивного схватывания и воспроизведения
естественного движения природного тела. Человек как существо
подражающее (и в этом можно увидеть одно из принципиальных
определений человека — homo mimetikus) смог «выделить» себя
из природы, как принято объяснять это у культурологов, однако
не за счет игнорирования природы, а благодаря культивированию
и благоговению перед природой в указанном выше смысле. В
мимезисе человек, зеркально отражая собою явления природы, сумел
найти в ней свое уникальное место.
Человек становится свободным «в» природе (а не «от» природы)
тогда, когда научается адекватно подражать ее чистым образам в
разных измерениях своего существования — как в телесном, так
и в психическом. Тем самым человек находит свою природную
самобытность в окружении стихий, минералов, растений, животных
и вообще в Космосе в целом. И, таким образом, человек становится
культурным лишь тогда, когда сумеет усвоить то, что потенциально
заложено в его внутренней природе и что актуально преддано ему
в окружающей его природе. Это положение можно считать
выражением философского принципа тождества микрокосма (человека)
и Макрокосма и вытекающего из него следствия в виде модели
человека как эманации Космоса.
История развития метафизики показывает, что в Новое время —
в эпоху торжества рационализма и экспериментальной науки, она
являет собою скорее «транс-физику» — разделение и покорение
природы. Результатом этих действий стало не только появление
техники, но и возникновение новых видов болезней. В
терапевтическом процессе важное значение имеет не только излечение от
данной болезни, но и реабилитация — восстановление нормы (или
образа) здоровья. Как ни парадоксально, но медико-биологические
науки имеют точные определения болезней, но не знают, что такое
здоровье как таковое. Знание о нем необходимо искать в более
широком онтолого-метафизическом контексте.
1 Там же. С. 143.
574 ΙΟ. Μ. РОМЛНЕНКО. БЫТИЕ И ЕСТЕСТВО
Метафизика Нового времени, инфицированная рассудочными
схемами, пришла к своему кризису, когда И. Кант поставил ей
жестокий диагноз. Однако те средства, которые предложил сам
Кант для излечения метафизики, с нашей точки зрения, не могут
быть признаны достаточными. Как было сказано выше,
реабилитация метафизики состоит в культуре сохранения естества. Это в
первую очередь относится к культуре сохранения естественного
языка, на котором высказываются метафизические истины.
Прежний язык был достаточно искусственно препарирован
рациональными средствами. Лечебную функцию они выполнили, теперь
очередь за средствами реабилитации, которые преднаходятся в мифе,
а именно символ и метафора.
Любой тип осмысленной речи, будь то обыденный язык,
мифологическое откровение или научный дискурс, основывается на
употреблении метафор и символов. В какой мере необходимо такое
употребление и о чем свидетельствует неустранимое присутствие
метафор и символов в процессе передачи мысли в слове?
Обратимся к одному из определений метафоры в философской
литературе: «Метафора (от греч. metaphora — перенос) в ее
собственном смысле представляет собой литературный троп или механизм
речи (поэтика обычного языка), когда слово, обозначающее
некоторый класс предметов, употребляется для номинации или харак-
теризации объекта, входящего в другой класс, либо наименования
иного класса предметов, в чем-то родственного, аналогичного
данному классу. В расширительном смысле термин "метафора"
применяется к любым видам употребления слов в непрямом значении».1
Сформулировав подобное функциональное определение, В. А.
Марков отмечает: «В отличие от понятий, а также слов и выражений,
имеющих прямое (автологическое) значение, метафоры
представляют собой некоторые вторичные сущности».2 Соглашаясь с
подобным представлением о раздвоенности слова — возможности его
прямого и непрямого функционирования в языке, следует все же
отметить, что метафора не является только проблемой языка. Она
есть проблема «соотношения» мышления и языка. И это видно уже
из того факта, что непроизвольно высказанное в предыдущем
предложении слово «соотношение» и есть сама «метафора», т. е.
«перенос» — вынашивание мыслью слова и несение словом мысли.
Мышление и язык — относительно самостоятельные сферы,
имеющие свои собственные внутренние законы развития. Пребывая
в собственной чистоте, они трансцендентны друг другу. Но именно
поэтому между ними существует энергийная связь. Возможно и
1 Марков В. А. Миф. Символ. Метафора. Модальная онтология.
Рига. 1994. С. 169.
- Там же. С. 170.
КНИГА II. ГЛАВА 3. РЕАБИЛИТАЦИЯ МЕТАФИЗИКИ 575
действительно существование «прямой» мысли (которая, таким
образом, является тождественной бытию, согласно Пармениду,
впервые постулировавшему философский принцип тождества бытия и
мышления) и «прямое» же (ортодоксальное) слово (хайдеггеровский
«сказ», являющийся «домом Бытия»). Именно о таком
тройственном тождестве бытия, мышления и языка говорит пролог Евангелия
от Иоанна: «В начале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово
было Бог» (Иоан. 1, 1). Это высказывание апостола Иоанна (и
подобные ему) как раз и является прямым (автологическим),
откровенным речением, которое не допускает переносных значений,
т. е. метафор в узком понимании, или оно есть сверхметафора, в
которой один смысл переносится в иное, тут же возвращается
обратно, оставаясь тем же самым, без потери себя.
Позволим истолковать выражение апостола Иоанна «Слово было
у Бога» — определяя связку «быть» через связку «нести» — «Слово
выношено Богом». Такое истолкование аутентично последующему
откровению евангелиста: «...единородный Сын, сущий в недре
Отчем, он явил» (Иоан. 1, 18). Не случайно, в первом стихе пролога
конструкция высказывания построена как взаимообратное
перенесение: «и Слово было у Бога» — «и Слово было Бог» — нераздельно-
неслиянное единство ипостасей Пресвятой Троицы. О единосущии
Слова Богу говорит еще один стих: «И Слово стало плотию и
обитало с нами, полное благодати и истины; и мы видели славу
его, славу как единородного от Отца» (Иоан. 1, 14).
Онтологическая связка «есть» выражается различными
глаголами, в том числе она может передаваться и глаголом «нести».
В каком-то предельном смысле «быть» означает «нести», а
отглагольное существительное «бытие» есть «ношение». Так,
кардинально нагружая онтологическим содержанием слово «ношение», мы
должны онтологически же истолковать и словосочетание
«метафора». Соответственно, префикс «мета-» необходимо понимать не
только в пространственно-временном значении «после», «за», «над»,
«через», но и в смысле «совместно», «сообща», с учетом смыслового
оттенка «обращения» на самое себя. «Метафора» в каком-то смысле
есть сама «метафизика».
При таком онтологическом понимании «метафора» может быть
прочитана не как некий необязательный перенос
(транспортирование) какого-то постороннего груза с одного изолированного места
на другое каким-либо единственным субъектом (подобно Сизифу,
наказанному бессмысленной «метафорой» — бесплодным катанием
камня туда и сюда, или подобно Хоме Бруту, одержимо носящемуся
с оседлавшей его ведьмой, — вот уж воистину, бремя их нелегко!),
но как «соотношение» или тождество «носителя» или «носимого».
В слове «со-от-ношение» применяются два топологически
противоположных по смыслу префикса, выражающих двуединый про-
576 ГО. M. РОМАН EH КО. БЫТИЕ И ЕСТЕСТВО
цесс притяжения («со-») и отталкивания («от-»). Такое слово диктует
невероятное представление о некоем «несении» во все стороны в
пределах единого целого, и именно оно, очевидно, по ассоциации,
было употреблено еще в одном важном библейском фрагменте: «И
Дух Божий носился над водою» (Быт. 1, 2).
«Метафора» есть не только «пере-нос» (частное значение
префикса «мета-»), но и «взнос» (общее значение этого префикса)
нового элемента во всеединство, который принимается в тотальность
целого, оставаясь самим собой. А «всеединство», по определению,
является таким «соотношением» своих элементов, в котором
каждый из элементов носит каждого, и поэтому любой из них тождествен
целому. Случай с Хомой Брутом тоже «мета-форичен» в указанном
смысле, только «со-от-ношение» носителя (Хомы) и носимого
(ведьмы) приводит к взаимной аннигиляции всеединства — полному
«раз-носу» в хаос.
При онтологической трактовке понятия «метафора» она
выражает собой онтологическую триаду «бытие—ничто—творение».
Мыслятся два отдельных друг от друга мира, между которыми
проложена граница, и через оную, не догадываясь о запретах,
осуществляется трансцензус (переступание), порой контрабандный,
и так между ними происходит взаимный обмен информацией и
энергией благодаря «метафоре». «Метафора», по существу, есть
скрытый, не узнанный синоним «трансцензуса». В языке вообще
мы часто сталкиваемся с такими не замечаемыми синонимами, в
результате чего получаются бессознательные тавтологии.
Завершенная, подлинная метафора является не просто
«переносом» смысла или значения с одного класса явлений и предметов
на иной класс, как это утверждалось в процитированном выше
определении В. А. Маркова. Оба этих класса должны быть целостными,
самодостаточными образованиями, и, кроме этого, они должны
быть трансцендентными друг другу и даже контрадикторно
противостоять. Только в такой диспозиции метафора может выражать
настоящий творческий эффект. Как, например, в поэтическом
обороте «солнце улыбнулось». Известно, что логическое (или
диалектическое) понятие противоположно метафоре и символу. В чем-то
они исключают друг друга. Однако, как заметил С. С. Аверинцев,
понятие и символ являются двумя концами одной и той же палки.
Понятийную сферу довел до своего логического завершения
Гегель. Его методологическую позицию квалифицируют как
панлогизм и даже упрекают за незаконную онтологизацию логического.
Но Гегель сделал то, что необходимо было сделать. Как
парадоксально выразился Ж. Батай, Гегель сам не понимал, насколько он
был прав. Иначе говоря, Гегель был прав в том, что довел до конца
принцип панлогизма и усовершил сферу чистой мысли. Однако он
сам не понимал (и быть может, принципиально не мог понимать),
КНИГА II. ГЛАВА 3. РЕАБИЛИТАЦИЯ МЕТАФИЗИКИ 577
насколько он был прав в пределах этой сферы, поскольку оценку
этому можно дать только из иной, дополнительной сферы. Ж. Ба-
тай, как переносчик смысла, побывав и там и сям, сумел
нетривиально охарактеризовать Гегеля именно в метафорической форме.
Хотя Гегель был не столь наивен, как полагает Ж. Батай. Ведь он
выразил саму суть своей системы метафорически — через
зооморфный образ змеи, кусающей себя за хвост.
Подобно тому, как возможен, а после Гегеля стал действителен
панлогизм в философском дискурсе, как бы это ни критиковали,
так же возможен, и уже частично реализуется, принцип пан-
метафоризма. С помощью одних только метафор, организуя их в
едином системном поле в соответствии с их имманентными
законами, можно выразить всеобщее содержание предмета философии.
Как бы вышибая клин клином. Подобные заверения покамест
декларативны, но в этом направлении ведется работа и уже достигнуты
определенные результаты.
Не исключено, что если будет построена всеобщая система
метафор, актуальных для данной культуры (« символариум», или
единый алфавит символов, по П. Флоренскому), то она станет зеркально
симметричной всеобщей системе диалектических категорий.
Реализуется гипотеза А. Лосева об Абсолютном мифе, тождественном
универсальной диалектике («Диалектика мифа»).
Абсолютизация и онтологизация метафор при проведении
методологической установки панметафоризма приводит к тому, что
метафоры становятся такими, что ими можно выполнить ту же
работу философии, что и понятиями, не менее эффективно. Когда
А. В. Ахутин, пытаясь понять смысл онтологии и метафизики и
поневоле прибегая в своем изложении к метафорам, задается
вопросом: «Можно ли это сделать без раздражающей эксплуатации
метафор?»,1 то этот вопрос можно переформулировать: «Можно ли
это сделать без раздражающей эксплуатации понятий?». Как это
было у Гегеля. Здесь проблема состоит в том, что, кого и как
раздражает и вбрасывает в мизософический приступ.
Для того чтобы не злоупотреблять действительно метафорами,
нужно понимать их онтологическую значимость, знать их законы
функционирования и уметь применять в нужном случае. Хотя этих
субъективных пожеланий недостаточно, ибо сама метафора
свершается спонтанно и непредсказуемо. Если плод с Древа познания
добра и зла можно было сорвать прежде времени, форсируя события,
то этого невозможно сделать с плодом с Древа жизни — он должен
естественно созреть. И задача здесь состоит в сохранении зреющего
плода в неприкосновенности.
1 Ахутин А. В. Понятие «природа» в античности и в Новое время
(«фюсис» и «натура»). М.: Наука, 1988. С. 182.
578 ΙΟ. Μ. РОМАНЕНКО. БЫТИЕ И ЕСТЕСТВО
§ 1. П. ФЛОРЕНСКИЙ
Проект конкретной метафизики
Организованная по законам рационалистического дискурса
метафизика Нового времени вызывала на себя огонь критики с разных
сторон. И. Кант упрекал предшествовавшие ему фундаментальные
метафизические доктрины в догматизации знания, т.е. в закосте-
нении формальной оболочки, в которой тесно становилось
развивающемуся содержанию. Однако предложенная Кантом рецептура
избавления от догматизма (термин «критика» имеет полускрытое
терапевтическое значение) сама основывалась на идее
рационалистического упорядочения результатов экспериментальной
деятельности. Говоря парадоксально, кантовская критика догматизма
обернулась в догматизм в квадрате. Приписываемый Канту дуализм
между «вещью-в-себе» и «явлением» может считаться как
недостатком, так и достоинством его философской позиции. Смотря как
понимать смысл понятия «дуализм» (арифмологическую «двоицу»).
Противопоставление друг другу моментов дуальности —
реальный факт познания, на котором основывается построение любой
метафизической системы. Важно только, чтобы правильно
соблюдалась норма этой дуальности, состоящая в сохранении всех
степеней свободы для той границы, которая разделяет-соединяет
моменты дуализма. Естество есть эта самодвижная граница, без заботы
о которой ограниченные ею стороны, становясь изолированными,
не получают друг от друга живительную энергию. Упущение этого
при создании метафизической концепции приводит к тому, что она
становится абстрактной.
В истории русской философии критику абстрактной метафизики
одним из первых начал В. Соловьев. Его борьба с «отвлеченными»
(абстрактными) началами рационалистической традиции вылилась
в софиологическую программу. С гносеологической точки зрения
эту же стратегию преодоления абстрактности философии развивал
А. Хомяков в своей идее «живого знания», т. е. такого знания,
которое не мертвит жизнь, рассекая ее присущей знанию силой, но
если и не животворит, то, во всяком случае, охраняет жизненный
потенциал. Если Кант разделял «веру» и «знание», оставляя их в
несоприкосновенности, то А. Хомяков исходил из дополнительности
религиозного и философского начал, полагая их в границе «живого
знания», которое в нашем контексте можно назвать «естественным
знанием».
Персонификация в мифе имени «София» с обратной стороны
есть овеществление в разуме понятия «фюсис». Характерно и не
случайно с фоносемантической точки зрения перестановка в
обратном отношении звуков «ф» и «с» в словах «фюсис» и «София»,
КНИГА П. ГЛАВА 3. § Ι. П. ФЛОРЕНСКИЙ 579
осуществившаяся в исходный момент их возникновения в истории
языка. Они — одно и то же Естество, только рассмотренные с
разных сторон двуединой границы: София — с трансцендентной
точки зрения, фюсис - с точки зрения имманентного опыта.
П. А. Флоренский, при учете всех замечаний, направленных в
адрес В. Соловьева и А. Хомякова, заимствовал выдвинутые этими
мыслителями идеи в своем замысле построить «конкретную
метафизику» (от лат. concretus — сращенный, сгущенный,
уплотненный). Традиционно под метафизикой понималось учение об
отношении чувственновоспринимаемого и умопостигаемого, причем
основной проблемой здесь было проведение демаркационной линии
между двумя мирами. П. Флоренский априори исходил из
полагаемого факта, что эта линия, являющаяся по сути основным объектом
внимания метафизики, конкретна, т. е. реальна и опытно
постижима.
Такая постановка вопроса является вполне оригинальной, хотя
предпосылки этой идеи существовали на протяжении всей истории
философии. Р. А. Гальцева, достаточно скептически относясь к
проекту П. Флоренского, отмечает, что «более заметный философский
сюрприз — "конкретная метафизика" возникла, по-видимому, не
без влияния Е. Трубецкого».1 По мнению Р. А. Гальцевой,
существует «contradictio in adjecto самого словосочетания "конкретная
метафизика"»,2 и это противоречие в определении связано с тем,
что обычно под конкретным понимается чувственно данное, а под
абстрактным трактуется мыслимое, последнее же выражает себя в
понятиях (концептах), и поэтому метафизика представляется
системой связанных понятий.
Однако коренной недостаток так понимаемой метафизики, мимо
которого проходит Р. А. Гальцева, состоит в том, что в ней
упускается и деструктируется целостность смысла понятия «естество».
Намерение П. Флоренского заключалось именно в том, чтобы
представить традиционные рационалистически и панлогистски постро-
яемые системы метафизики с иной точки зрения, а именно
символической. Если символ является обратной стороной диалектического
понятия, более того, если символ делает само понятие целостным
и подвижным, то вполне уместно представить метафизику как
систему символов.
Естественная дуальность содержания метафизики,
проявляющаяся в делении познаваемого на мир ноуменов и феноменов,
разрешается в символе как точке их касания. Задачей метафизики
1 Гальцева Р. А. Мысль как воля и представление (Утопия и идеология
в философском сознании П.А.Флоренского // Гальцева Р. А. Очерки
русской утопической мысли XX века. М.: Наука, 1992. С. 155.
2 Там же. С. 157.
580
Ю. M. РОМАН EH КО. БЫТИЕ И ЕСТЕСТВО
становится обнаружение и описание символов, в которых сливается
вещественное и духовное (материальное и идеальное) и которые
поэтому обладают подлинным неущербным бытием. Скажем больше:
символ (как сим-боле — «совместное бросание», устойчивая связь
чего-то двойного) есть скрытый синоним «мета-фюсис» как предмета
метафизики; т. е. символ есть само естество, как и обратно —
естество есть сам символ как единение двоицы в ней самой. В этом
смысле, с точки зрения соотношения онтологии и метафизики,
естество является символом бытия, хотя бытие в силу его единости
и простоты не есть символ. Мысль снова вращается вокруг вопроса
об отношении Бытия и Естества.
Бытие не может быть ни абстрактным, ни конкретным: оно есть
оно само. По смежному поводу, характеризуя хайдеггеровскую
онтологию «вещи» в связи с темой символа, В. В. Бибихин утверждает:
«Хайдеггеровская вещь не символ по двум причинам: она не
изображение, а само присутствие мира; мир присутствует в вещи не
как смысловая перспектива, а как ее собственное существо».1
Естество же всегда символизирует Бытие, и если оно выполняет эту
символизирующую функцию, то оно не может не быть конкретным
выражением Бытия. Таким образом, «конкретная метафизика» есть
contradictio in adjecto для абстрактного рассудка, но это уже
является его собственной проблемой и не может быть навязано в
качестве принципа всей метафизике. Как заметил по этому поводу
внук П. Флоренского — иеромонах Андроник (Трубачев) в книге
«Теодицея и антроподицея в творчестве священника Павла
Флоренского», «существенный символизм "Столпа..." проходит мимо
исследователей, ум которых натренирован в понятиях и не хочет
обратиться к символам».2
Согласно П.Флоренскому, символы образуют относительно
самостоятельные сферы реальности (дискретные двуединства), из
которых вырастают области культуры. Проект «конкретной
метафизики» состоит в упорядочении символов в их «алфавите».
Конкретность метафизического «объекта» зависит от степени воплощенности
духовного в вещественном, при этом вещественное имеет не
меньшую онтологическую значимость. Если онтология высказывается
о бытии в аспекте творения из небытия, то метафизика
конкретизирует идею творения в смысле возможности естественного
воплощения (и уже в силу этого она не может не быть конкретной).
П. Флоренский присоединился к традиции софиологии именно
потому, что София является первосимволом творения. В первой
1 В кн.: Хайдеггер М. Время и бытие. М.: Республика, 1993. С. 429
(в прим.).
2 Андроник (Трубачев), иеромонах. Теодицея и антроподицея в
творчестве священника Павла Флоренского. Томск: Водолей, 1998. С. 45.
КНИГА II. ГЛАВА 3. § 1. П. ФЛОРЕНСКИЙ 581
программной работе «Столп и утверждение Истины»,
предшествующей замыслу «конкретной метафизики», дается символическая
трактовка образа Софии и перечисляются ее основные признаки:
«София есть Великий Корень цело-купной твари [ ср. πάσα η κτίσις
(Рим. 8, 22), т. е. в с е-ц елостная тварь, а не просто в с я],
которым тварь уходит во внутри-Троичную жизнь и через который
она получает себе Жизнь Вечную от Единого Источника Жизни;
София есть перво-зданное естество твари, творческая Любовь Бо-
жия...»;1 «В отношении к твари София есть Ангел-Хранитель твари,
Идеальная личность мира. Образующий разум в отношении к твари,
она — образуемое содержание Бога-Разума, "психическое
содержание" Его...»;2 «"Премудрость" на деле суть все одна и та же София,
как Бого-зданное единство идеальных определений твари, — одна
и та же София, но под разными аспектами воспринимаемая, —
цельное естество твари»;3 «Тварная Премудрость... является, по
преимуществу, метафизическою природой тварного
естества: Премудрость в твари есть не только деятельность, но и
субстанция; она имеет существенный, массивный, вещный
характер».4
В этих определениях, нагруженных отголосками платоновского
идеализма, обращает на себя внимание неуклонное отождествление
сакрального образа Софии с метафизическим понятием естества как
такового. Двоичный характер символа как нерасторжимая связь
обеих его сторон проявляется в человеческом существовании в
разных формах, которым П. Флоренский дает феноменологическое
описание на основе определения символа как единства тела и
души — «поскольку оно есть видимое тело какой-то невидимой души,
"искра души" или, иначе говоря, символ».3
Исходными двоицами жизни являются любовь и дружба.
П. Флоренский пишет: «Вместо отдельных, разрозненных,
самоупорствующих Я получается двоица, — дву-единое существо,
имеющее начало единства своего в Боге: "finis amoris, ut duo unum
tiant; предел любви — да двое едино будут". Но притом каждое
Я, как в зеркале, видит в образе Божием другого Я свой образ
Божий. Эта двоица сущностью своей имеет любовь и, как
конкретно-воплощенная любовь, она прекрасна для предметного
созерцания».6
1 Флоренский П. А. Столп и утверждение Истины. Т. 1. М.: Правда,
1990. С. 326.
2 Там же. С. 326.
3 Там же. С. 344.
1 Там же. С. 346.
5 Там же. С. 225.
fi Там же. С. 93.
582 ΙΟ. Μ. РОМАНЕНКО. БЫТИЕ И ЕСТЕСТВО
В дискурсе двоицы естественно возникает тема зеркала, как это
видно из рассуждений П. Флоренского о дружбе: «Что же есть
дружба? — Созерцание Себя через Друга в Боге. Дружба — это
видение себя глазами другого, но пред лицом третьего, и именно
Третьего. Я, отражаясь в друге, в его Я признает свое другое
Я. Тут естественно возникает образ зеркала, и он вот уже много
веков стучится за порогом сознания. Пользуется им и Платон:
друг, — по утверждению величайшего из знатоков των ερωτικών,
платоновского Сократа, "в любящем, как в зеркале, видит самого
себя"».1 Тема «живого зеркала» всплыла в новом историческом
контексте.
Под двоицей П. Флоренский понимает не механическую сумму
изолированных единиц, а особую целостность: «Предел
дробления — не человеческий атом, от себя и из себя относящийся к
общине, но общинная молекула, пара друзей, являющаяся
началом действий, подобно тому как такой молекулой языческой
общины была семья. Это — новая антиномия, — антиномия
личности-двоицы. С одной стороны, отдельная личность —
все; но, с другой, она — нечто лишь там, где — "двое или трое".
"Двое или трое" есть нечто качественно-высшее, нежели "один",
хотя именно христианство же создало идею абсолютной ценности
отдельной личности. Абсолютно-ценной личность может быть
не иначе как в абсолютно-ценном общении, хотя нельзя сказать,
чтобы личность была первее общения или общение — первее
личности».2
В акте творения единое бытие естественно распределяется на
множество сущего посредством образов, творческий потенциал
которых П. Флоренский онтологически интерпретирует как «талант»,
осуществляя «перевод на онтологический язык «притчи о талантах».
«"Талант" — это Бого-дарованное каждому из людей духовное
творчество собственной личности, или "образ Божий"... Человек не
создает прирост своей личности, — у него нет на это δύναμις, — но
усваивает его, чрез приятие в себя образов Божиих других людей.
Любовь — вот та δύναμις, посредством которой каждый обогащает
и растит себя, впитывая в себя другого. Каким же образом? — Чрез
отдачу себя. Но получает человек по мере того, как отдает себя;
и, когда в любви всецело отдает себя, тогда получает себя же, но
обоснованным, утвержденным, углубленным в другом, т. е.
удваивает свое бытие».3 Несмотря на то, что бытие неделимо, оставаясь
единым в творении, но оно же естественно удваивается (умножается)
в своем образе, вследствие чего творчество можно типологически
1 Флоренский П. А Столп и утверждение Истины. С. 438-439.
2 Там же. С. 419.
3 Там же. С. 214-215.
КНИГА П. ГЛАВА 3. § 1. П. ФЛОРЕНСКИЙ 583
разделить на два вида: творение из небытия и преображение уже
сотворенного.
Из онтологии творения выводится категория символа в его
отношении к понятию «бытия»: «Бытие, которое больше самого
себя, — таково основное определение символа. Символ — это
нечто такое, являющее собою то, что не есть оно само, большее
его, и однако существенно чрез него объявляющееся. Раскрываем
это формальное определение: символ есть такая сущность, энергия
которой, сращенная или, точнее, срастворенная с энергией
некоторой другой, более ценной в данном отношении сущности, несет
таким образом в себе эту последнюю».1 В данном определении в
очередной раз подчеркивается конкретный характер символа и той
метафизики, которая строится символами.
Обратимся к оценкам идеи «конкретной метафизики».
Известный исследователь творчества П. Флоренского С. С. Хоружий дает
следующие характеристики: «Антроподицея о. Павла — опыт
философского символизма; и название "конкретной метафизики",
данное ей автором, по сути, как раз это и выражает. "Метафизика",
как положено по Аристотелю, означает, что учение рассматривает
вещи метафизические, духовные; но духовное в нем предполагается
не отвлеченным, а облеченным в явления, в определенный
чувственный облик: оно — дано конкретно. Конкретность у
Флоренского — это прежде всего конкретная выраженность духовного в
чувственном, ноумена в феномене — иначе говоря, символичность».2
В сравнении с другими метафизическими учениями и особенно
в отношении с онтологией, в «конкретной метафизике», как
справедливо отмечает С. С. Хоружий, «нет, в частности, ни чистого
бытия, ни чистого мышления, вместо них — целокупная
символическая реальность, единый символ, имеющий чувственной стороной
весь Космос и объемлющий собою все символы. Бытие есть Космос
и Символ — такова формула онтологии Флоренского».3
Дуализм метафизики, заключающийся в сопоставлении двух
миров, случившихся в естествовании творения, представлен
П.Флоренским, согласно С.С.Хоружему, следующим образом: «Оба мира
не отделены друг от друга, но специальным образом совмещаются.
Собственно, они образуют один мир, но — двойной, двусторонний,
и предметы в этом мире — тоже двойной, или двуединой природы:
в физическом мире предмет видим физическим зрением как
явление, в мире духовном он же созерцается духовным зрением по
1 Флоренский П. А. Имеславие как философская предпосылка // Цит.
по: Андроник (Трубачев). Указ. соч. С. 92.
2 Хоружий С. С. Обретение конкретности // П. А. Флоренский. У
водоразделов мысли. Τ 2. M.: Правда, 1990. С. 4.
а Там же.
584
Ю. M. РОМАНЕНКО. БЫТИЕ И ЕСТЕСТВО
обращенным законам и потому видим обратным себе, вывернутым.
Ясно, что эта модель сдвоенных взаимно обратных миров полностью
отвечает символической реальности, причем воплощает ее самым
прямолинейным и натуралистическим способом: стороны символа,
явление и смысл, получаются друг из друга буквальным
выворачиванием наизнанку».1
В последних словах С. С. Хоружего затронут очень важный и
тонкий вопрос, имеющий существенное значение для понимания
внутреннего механизма символотворчества. Мотив вращения в
двоице естества, энергией которого двоица держится именно как
двоица, редко делается предметом обсуждений и исследовательских
оценок. Этот мотив и у самого П. Флоренского не возводится в
явный принцип, хотя постоянно применяется при реализации
отдельных тем «конкретной метафизики». Зачастую в софиологичес-
ких доктринах, выражающих двойственно-символический образ
Софии, упускается из виду динамизм символа — веселие, художество
и игра Софии, проявляющийся в том, что она есть «живое зеркало»
Творца, следовательно, ее подвижность есть действие от-ражения,
т. е. рефлексии, но не механической, а естественной, доходящей
во вращении до об-ражения. Такая рефлексия вырастает из самого
сущего, выходит вовне его и, обращаясь по круговой траектории,
завершением своего движения вступает во с л е д начала движения,
образуя вокруг данного сущего защитную сферу.
На основе этой софийной интуиции П. Флоренский выдвигает
предположение о существовании «пневматосферы» (сферы духа) в
письме В. И. Вернадскому — инициатору идеи «биосферы»: «Со
своей же стороны хочу высказать мысль, нуждающуюся в
конкретном обосновании и представляющую скорее эвристическое начало.
Это именно мысль о существовании в биосфере, или, может быть,
на биосфере, того, что можно было бы назвать пневматосферой, то
есть о существовании особой части вещества, вовлеченной в
круговорот культуры, или точнее, круговорот духа. Несводимость этого
круговорота к общему круговороту жизни едва ли может подлежать
сомнению. Но есть много данных, правда, еще недостаточно
оформленных, намекающих на особую стойкость вещественных
образований, проработанных духом, например предметов искусства. Это
заставляет подозревать существование и соответственной особой
сферы вещества в космосе. В настоящее время еще преждевременно
говорить о пневматосфере как предмете научного изучения; может
быть, подобный вопрос не следовало бы и закреплять письменно».2
Таким образом, с точки зрения этой гипотезы, существуют две
1 Хоружий С. С. Обретение конкретности.
" Флоренский П. А. Макрокосм и микрокосм // Богословские труды.
1983. Сб. 24. С. 231.
КНИГА II. ГЛАВА 3. § 1. П. ФЛОРЕНСКИЙ 585
сферы (био- и пневмото-), между центрами которых существует
незримая нить, разная степень натянутости которой определяет
глубину их совмещенности.
С. С. Хоружий интерпретирует идею «пневматосферы» в
философском контексте: «Пневматосфера — это материя, которая в
самих своих недрах проникнута тем, что следует называть "пневмато-
формами и пневматоотношениями". Эти пневматоформы и суть
энергийные символы, и концепция пневматосферы предполагает,
что материя строится на них, насквозь и всюду духовна. Отсюда,
конкретную метафизику на данном этапе можно назвать "гилоп-
невмизмом" ».1
Определяемая таким образом «пневматосфера» является
круговоротом естества в нем самом — культура природы и одновременно
природа культуры — мир Софии-фюсис. Поэтому нельзя согласиться
с точкой зрения С. С. Хоружего о том, что символизм «конкретной
метафизики» исключает основы софиологии: «Символический
принцип двуединства духовного и чувственного упраздняет целый ряд
софиологических понятий и структур, включая главнейшие из них:
любовь и саму Софию».2 Как раз напротив, «конкретная
метафизика» П. Флоренского подводит философское основание под софи-
ологию.
Отношение к природе-естеству, персонифицированной в имени
и образе Софии, проникнуто глубокими личными переживаниями
П. Флоренского, признававшегося: «Я в сущности может быть
никого не любил, т. е. любил, но любил Одну. Этой единственной
возлюбленной была Природа».3 Из любви к природе вырастает
бережное, ненасильственное отношение к ней. Оно проявляется в
культе природы, хотя сам этот культ преднаходится в ней самой.
«Первое, основное и прочнейшее определение культа, — которое
дает священник Павел Флоренский, — именно таково: он —
выделенная из всей реальности та ее часть, где встречаются
имманентное и трансцендентное, дольнее и горнее, здешнее и тамошнее,
временное и вечное, условное и безусловное, тленное и нетленное».4
Светская культура как тонкая оболочка материальной жизни
человеческого общества выводится П. Флоренским из религиозного
культа, освящающего реальность: «Культура, как свидетельствуется
и этимологией, есть производное от культа, т. е. упорядочение всего
мира по категориям культа. Вера определяет культ, а культ —
миропонимание, из которого далее следует культура».3
1 Хоружий С. С. Обретение конкретности. С. 10.
2 Там же. С. 5.
3 Цит. по: Хоружий С. С. Миросозерцание Флоренского. Томск:
Водолей, 1999. С. 11.
' Цит. по: Андроник (Трубачев), иеромонах. Указ. соч. С. 82.
5 Флоренский П. А. Автореферат // Флоренский П. А. Соч.: В 4-х т.
Т. 1. С. 39.
586
Ю. M. PO ΜΑΗ EH КО. БЫТИЕ И ЕСТЕСТВО
Культура выходит из природы и возвращается к ней, но в
какой-то момент может оторваться от последней и застыть в
беспочвенном самопроизводстве техники. П. Флоренский, как и многие
другие мыслители, видел эту угрозу, призывая вернуться к
естественному воспроизводству жизненных сил: «Трижды преступна
хищническая цивилизация, не ведающая ни жалости, ни любви к
твари, но ищущая от твари лишь своей корысти, движимая не
желанием помочь природе проявить сокрытую в ней культуру, но
навязывающая насильственно и условно внешние формы и внешние
цели. Но тем не менее и сквозь кору наложенной Eia природу
цивилизапии все же просвечивает, что природа — не безразличная
среда технического произвола, хотя до времени она и терпит
произвол, а живое подобие человека».1
П. Флоренского нельзя назвать луддитом, бездумно
разрушающим технику; он прекрасно осознавал неизбежность бремени
технического освоения природы, будучи сведущ в современной ему
науке и даже участвуя в создании плана ГОЭЛРО. Он просто
констатирует факт водораздела человеческих устремлений:
экспериментальное отношение и культура естества. Того естества, которое
еще сохранилось от прикосновения к нему техники. Ибо только
это еще удерживает человека от стремительного и уже
окончательного падения в небытие, из которого уже будет невозможно
повторное творение. Эту тему П. Флоренский развивает в образах
мифологемы грехопадения, когда Адам впервые разорвал исходную
естественную границу Бытия, в результате чего реальность удвоилась,
но неестественно — «органы и функции Адама стали особливыми,
односторонними, взаимно-поборающими полу-существами, —
полу, — ибо, как смертные, они влачат лишь полу-существование,
полу-бытие и полу-небытие. ... Но и в унижении и распаде, Человек,
хотя и теснимый взбунтовавшимися против своего царя стихиями
собственного тела, продолжает держать в ослабевших руках скипетр
своей власти и править еле сдерживаемым уже миром. Черно-
магически — в деспотической технике и науке, бело-магически —
в искусстве и философии, феургически — в религии. Человек
ассимилирует плоть мира, как свое расширение, и, несмотря на
падение, несмотря на само-разложение Человека, мир все есть
продолжение его тела, или его хозяйство».2
Персональной мифологемой жизнетворчества П. Флоренского,
согласно С. С. Хоружему, является Эдем — первозданный,
утраченный и вновь обретенный рай. Мысль Флоренского движется в
круге этой мифологемы, что отразилось в результатах его интел-
1 Флоренский П. А. Макрокосм и микрокосм. С. 233.
2 Флоренский П. А. Хозяйство // Цит. по: Андроник (Трубачев). Указ.
соч. С. 132.
КНИГА II. ГЛАВА 3. § I. II. ФЛОРЕНСКИЙ 587
лектуальной деятельности. Как утверждает С. С. Хоружий, «особую
роль в организации символической реальности — а с ней и
"конкретной метафизики" как ее описания — выполняет уже
вводившийся символ Эдема, или бытия в целом, или Первосимвол.
Представляя собою определенную цельность со своим особым,
несводимым ноуменальным содержанием, символ этот, несомненно, есть
простое, элементарное, единое — так что он тоже принадлежит
роду фундаментальных символов, неразложимых первоэлементов
символической реальности. С другой стороны, как бытие в целом,
или же Всё, Эдем есть ex definitione — символ глобальный и
всеохватывающий, развернутый и собирательный...»1
С. С. Хоружий дифференцирует содержание этой «классической
мифологемы утраченного и возвращенного Рая, центральной
мифологемы христианского Средневековья: с позиций гносеологии,
речь здесь должна идти о разрушении Эдема и его воссоздании; с
позиций же онтологии — об изгнании из Эдема и возвращении в
него».2
Теоретическое и практическое следование мифологеме Эдема
приводит автора, по мнению С. С. Хоружего, к тому, что
«складывающееся в итоге парадоксальное соединение спонтанного
самоосуществления и сознательного следования предопределенному,
заданному ходу жизненной драмы есть вновь специфическая черта
античного мировосприятия, античного строя сознания. Ибо то
самосознание, то отношение к жизни, которые реализуются здесь, ближе
всего могут быть охарактеризованы как мистериально-мимети-
ческие: своя жизнь переживается и осуществляется как мистерия,
а природу мистерии составляет мимезис, воспроизведение
космической драмы и божественной жизни».3
В этой точке, по всей видимости, «конкретная метафизика»
приходит к исчерпанию и завершению своих возможностей, создав
предпосылку для повторного обращения к онтологии. Бытие,
отражаясь в исходящем из него естестве, возвращается к себе самому.
Так, начав с онтологии, и пройдя естественный этап метафизики,
философия снова возвращается к онтологии. И это движение
структурировано вышеобозначенной мифологемой. Как пишет С. С.
Хоружий: «Разумеется, эта связь с пра-мифом могла быть только
естественной и органической, спонтанной — а не форсированным
выправлением жизни и внутреннего мира по заданному стереотипу
(ибо в последнем случае воспроизводится лишь схема, а не сам
миф; воспроизведение же какой угодно схемы не может привести
1 Хоружий С. С. Миросозерцание Флоренского. С. 33.
2 Там" же. С. 53.
3 Там же. С. 54.
588 Ю. M. РОМАНЕНКО. БЫТИЕ И ЕСТЕСТВО
к единственно искомому здесь, к актуальному онтологическому
превращению)».1
Взаимоотношение онтологии и метафизики, бытия и естества,
заключается, как точно выразился, найдя нужные слова, С. С. Хо-
ружий, в соединении «спонтанного самоосуществления» (читай
творения из ничего) и «следования предопределенному» (читай
естественного воплощения). Однако вместе с этим последующая дезон-
тологизация С. С. Хоружим мифа, на основе которого
осуществляется «следование предопределенному» в процессе подражания
явленному образу, в определенном смысле дезавуирует отмеченное
соотношение.
Конечно, можно согласиться с С. С. Хоружим, что в онтологии
«все происходит "по-настоящему", как и в мистерии, — но все
происходит, в отличие от мистерии, без всяких образцов и прообразов,
в первый и единственный раз, "в священной раме единственности",
как сказано где-то у Пастернака. А мифы — не нужны больше».2
Однако, соглашаясь с Б. Пастернаком о единственности бытия,
нужно согласиться и с тем, что оно дается только в «священной
раме». Следовательно, от мифа нельзя просто так отделаться. Эту тему
мы подробнее разовьем в части, посвященной философии А. Ф.
Лосева.
Сейчас же, продолжая анализ «конкретной метафизики»
П. Флоренского, попытаемся разобраться с теми сложностями,
которые приводят к разрыву онтологии и метафизики. Корень
проблемы здесь — в понимании образа и имени, единство которых
создает собственно миф — предельно развитый символ.
Начало метафизического дискурса Флоренского — констатация
очевидного — образа, который не есть свойство только объекта или
субъекта, но является как бы «сшивкой» того и другого,
ритмическим уплотнением ткани мира. При таком понимании время опро-
странствуется благодаря принципу взаимной обратности (обратной
перспективы) феноменального и ноуменального. Статика видимого
Космоса представлена концентрическими сферами; его динамика
понимается как нормализованное пульсирование любящего сердца.
Естество как граница бытия конкретно и плотно, представляясь
образно мифологемой ткачества, отсылая к архетипам богинь
Судьбы. В работе «Наука как символическое описание» П. Флоренский,
предлагая новую методологию и язык для «окультуренного»
развития науки, пишет: «Итак: если принять за исходную точку наших
рассмотрений образ, то и все описание действительности окажется
пестрым ковром сплетающихся образов».3
1 Хоружии С. С. Миросозерцание Флоренского. С. 54.
2 Там же. С. 127.
3 Флоренский П. А. Наука как символическое описание / '
Флоренский П. А. У водоразделов мысли. С. 122.
КНИГА II. ГЛАВА 3. § 1. П. ФЛОРЕНСКИЙ 589
Сложность понимания образа состоит в том, что воочию его
видеть целостно невозможно. Эмпирически даны только половинки
образов, а вторые половинки находятся по ту сторону некой «ткани»
мира (границы бытия). Образование образа осуществляется в
продевании нити сквозь «ткань» и ожидании, когда она вернется
обратно с «той стороны». В создании образа всегда участвуют как
минимум двое. Судьба жизни как раз и состоит из этих чередований.
П. Флоренский обращается к древнему образу образа: «Вдыхания
и выдыхания, разрушения и созидания ткут переливчатую ткань,
складками которой окутываются и складками же которой
разоблачаются линии сокровенной Изиды».1
Создание образа ритмично и музыкально, соединяясь с энергией
имени. П. Флоренский пишет: «Вызвать игру — это и есть метод
познания. "Всякий метод есть ритм", — говорит Новалис, и
постижение реальности есть со-ритмическое биение духа, откликающееся
на ритм познаваемого».2 «Имя есть ритм жизни, — утверждает
П. Флоренский в работе "Имена". — Имя есть последняя
выразимость в слове начала личного (как число — безличного), нежнейшая,
а потому наиболее адекватная плоть личности».3 Взаимосвязь имени
и образа аналогична взаимосвязи бытия и естества: «Имя
определяется лишь чрез себя, и подвести к нему сознание может лишь
художественный образ, если нет прямой интуиции».4
В силу признания догмата грехопадения, вследствие которого
в живой целостности образовался разрыв, метафизический смысл
религиозного культа, из которого выводятся существенные
константы светской культуры, заключается в снятии заслона между
феноменом и ноуменом — своеобразная метафизическая терапия
естества, и далее — в налаживании возможности его
самостоятельной реабилитации, культивировании исходной целостности.
В реконструкции замысла П. Флоренского С. С. Хоружим
культура сохранения естества заключается в том, что грех и смерть
«повреждает связь двух миров и вносит порчу в явления, создавая
преграду, несоответствие между явлением и его смыслом и
превращая явления в ущербные, несовершенные символы. Культ же
оказывается тою уникальной активностью, которая одна способна
преодолеть, снять это онтологическое повреждение или, говоря точней,
не устранить его целиком, но дать залог, создать необходимые
онтологические предпосылки восстановления цельности бытия.
В культе осуществляется снятие порчи, заслона между феноменом
и ноуменом, онтологическое исцеление реальности, так что он не
1 Флоренский П. А. Диалектика i! Там же. С. 132.
2 Флоренский П. А. Пути и средоточия // Там же. С. 32.
3 Цит. по: Андроник (Трубачсв), иеромонах. Указ. соч. С. 65-66.
1 Там же. С. 66.
590 Ю. Μ. РОМАН EH KO. БЫТИЕ И ЕСТЕСТВО
просто отладка, но прежде всего починка связи миров. Вслед за
церковной традицией Флоренский именует эту отладку-починку
освящением реальности и признает в ней суть, бытийную миссию
культа ».1
Именем и образом осуществляется терапия естества — плетение,
латание плотной ткани мира — границы бытия. Именем и образом
возможно врачевание сущего. Слово «врач» этимологически
родственно слову «врать». Первый лекарь исцелял (именно ис-целял,
т. е. делал заново цельным) без инструментов и химической фар-
мацеи — заговорами, а попросту говоря — врал. История постепенно
девальвировала последнее слово. Так же как подверглось инфляции
слово «логос», превратившись в искусственном мире в слово «ложь».
Согласно П. Флоренскому, терапевтическая сила имени
заключается в наличии в нем магии; целительная возможность образа
связана с его мистичностью. «Под магичностью слова следует
понимать наличие в нем ряда естественных сил и энергий,
свойственных ему из самого строения слова, т. е. неустранимых из него,
с помощью которых человек имеет возможность воздействовать на
мир тварный как на живой организм».2 «Под мистичностью слова
следует понимать свойственную ему коренную способность выводить
человека за пределы его субъективности и собственных психических
состояний и соединять человека с познаваемой им объективной
реальностью, символом и носителем которой слово является, в том
числе с миром "иным".3 Эти атрибуты имени и образа послужили
в свое время поводом для развертывания человеческой
экспериментальной деятельности, заслонившей их естественную чистоту.
Попытки использования этих сил в условиях современной
антиномической ситуации могут только усугубить положение дел. Техника
безопасности здесь не поможет, ибо она всегда запаздывает. Поэтому
оправданно звучит предупреждение о. Андроника (Трубачева) —
«все святые отцы запрещали специально развивать магические силы
и намеренно пользоваться магическим свойством слова, а
мистическое свойство слова разрешали использовать лишь для связи с
Богом и святыми. При этом силы и свойства магические оставляются
как бы на волю Божию: если Богу угодно будет, он восстановит и
все естественные силы освященного человека. Но так ли они будут
нужны человеку тогда, когда в нем уже будет действовать сила
Божия, благодать?».4
1 Хоружий С .С. Философский символизм Флоренского и его жизненные
истоки // Историко-философский ежегодник '88. М.: Наука, 1988. С. 191.
2 Андроник (Трубачев). иеромонах. Указ. соч. С. 122.
3 Там же. С. 126.
1 Там же. С. 129.
КНИГА П. ГЛАВА 3. § 2. М. ХАЙДЕГГЕР 591
Но разве естественные силы не есть действие Божией благодати?
К естеству необходимо относиться имманентно ему самому, т. е.
естественно. Поскольку творение бытия из небытия происходит как
естественное дарение, без зависти и подсчета.
§ 2. М. ХАЙДЕГГЕР
Поворот к зеркальной игре мировой четверицы
После проекта «фундаментальной онтологии», заявленного на
этапе «Бытия и времени», М. Хайдеггер обращается к
метафизической тематике в работах «Кант и проблема метафизики», «Что
такое метафизика», «Основные понятия метафизики» и др.,
обнаруживая «осторожное» и вместе с тем «уважительное» отношение
к ней. Начиная с этого периода в творчестве немецкого мыслителя
назревает «поворот». Прежде чем понять суть метафизики, нужно
осмыслить возможности физики, и поэтому Хайдеггер обращается
к истоку ее традиции в работе «О существе и понятии φύσις.
Аристотель "Физика" В-1», истолковывая Стагиритову концепцию
естества.
М. Хайдеггер начинает с того, что в какой-то мере отождествляет
«физику» и «метафизику»: «Метафизика в некотором всецело
сущностном смысле есть "физика", т. е. некое познание этой φύσις
(επιστήμη φυσική)».1 Именующее усилие Андроника Родосского,
выполнив чисто служебную роль упорядочения наличных
аристотелевских текстов, упустило существо дела, и, по мнению М. Хай-
деггера, «вообще мало смысла утверждать, что "Физика"
предшествует «Метафизике», поскольку метафизика в такой же степени
есть "физика", как и физика — "метафизика"».2
Полностью согласиться с таким отождествлением все-таки
нельзя. Различие между «физикой» и «метафизикой» есть и оно
заключается в специфической семантике слова «мета», выполняющего
не только служебную функцию приставки и предлога, но и
имеющего свой глубинный смысл. Но можно согласиться с
высказыванием М. Хайдеггера, набранным в разрядку, что «аристотелевская
"Физика" есть сокровенная и потому еще ни разу не продуманная
в достаточной степени основная книга западной философии».3
Сокровенность «Физики» связана не с недомыслием философов, а с
1 Хайдеггер М. О существе и понятии φύσις. Аристотель «Физика»
В-1. М.: Медиум, 1995. С. 30.
2 Там же. С. 31.
3 Там же. С. 31.
592
Ю. M. РОМАНЕНКО. БЫТИЕ M ЕСТЕСТВО
сокровенностью самой «фюсис». Эта книга, действительно, задала
какую-то принципиальную стратегию отношения к естеству.
В работе М. Хайдеггера о существе и понятии «фюсис»
актуализируются как принципиально значимые положения, выдвинугые
Аристотелем в первой главе второй книги «Физики», где, по мысли
немецкого философа, таится суть аристотелевского учения о
природе. Хайдеггеровская интерпретация вызвала ряд откликов, в
частности Т. Васильевой и А. Ахутина. Обращение к этому
фрагменту текста актуально и для нас. Проведем его истолкование,
параллельно сопоставляя с другими экзегетическими подходами.
Эта глава открывается констатацией существования природно
сущих вещей, их перечислением и отличением их от чего-то иного:
«Из существующих [предметов] одни существуют по природе,
другие — в силу иных причин. Животные и части их, растения и
простые тела, как-то: земля, огонь, воздух, вода — эти и подобные
им, говорим мы, существуют по природе».1
Природно сущее имеет в себе самом источник движения, т. е.
оно самодвижно и себядвижно: «Все упомянутое очевидно
отличается от того, что образовано не природой: ведь все существующее
по природе имеет в самом себе начало движения и покоя, будь то
в отношении места, увеличения и уменьшения или качественного
изменения».2
Природная само-себя-движность отличается от результата
искусства (техне) тем, что в искусственно созданных вещах нет
«врожденного стремления к изменению»: «А ложе, плащ и прочие
[предметы] подобного рода, поскольку они соответствуют своим
наименованиям и образованы искусственно, не имеют никакого
врожденного стремления к изменению или имеют его лишь
постольку, поскольку они оказываются состоящими из камня, земли
или смешения [этих тел] — так как природа есть некое начало и
причина движения и покоя для того, чему она присуща первично,
сама по себе, а не по [случайному] совпадению».3
М. Хайдеггер в своей манере переводит фразу, приведенную
нами выше: «не имеют никакого врожденного стремления к
изменению» у него звучит как «не имеет решительно никакого от него
самого происшедшего взламывания перепада».'1 Как видим,
словосочетание «стремление к изменению» Хайдеггер представляет как
«взламывание перепада»: «орме» (стремление, импульс) есть
«взламывание», а «метаболе» (изменение) — «перепад». Путем поиска
адекватного перевода, доходящего до насилия над современным
1 Аристотель. Физика, I 192Ь 8-12.
2 Он же. Физика, I 192Ь 12-16.
3 Он же. Физика, I 192Ь 17-23.
4 Хайдеггер М. Указ. соч. С. 42.
КНИГА П. ГЛАВА 3. § 2. М. ХАЙДЕГГЕР 593
употреблением, Хайдеггер пытается «выслушать» точный смысл
этих ключевых слов.
При этом в хайдеггеровском варианте (переведенном Т.
Васильевой) выпадает то, что есть в переводе В. П. Карпова (которым
мы пользуемся), а именно: слово «врожденное» у Хайдеггера дано
как «от него самого произошедшее». На оба случая необходимо
дать оговорки во избежание неадекватных прочтений. Поясним,
что имеется в виду. «Врожденное стремление к изменению»
означает, что у вещи, существующей по природе, этот импульс дан не
просто в ней самой (как, по видимости, понимается в хайдеггеров-
ской версии), а чем-то иным в ней самой, чем она уже обладает
как неосвоенной собственностью и что внушает ей стремиться к
этому. Вот это только что найденное слово — «внушает», на наш
взгляд, более подходит к тому смыслу, который, будем надеяться,
вложил Аристотель. А еще более точное и предпочтительное слово —
«вменяет», применяя которое мы получаем: «вмененное стремление
к изменению», не говоря пока — вменять в вину или в заслугу.
Скажем иначе: «вменение» есть некий «совет», «решение»,
«распоряжение», взятые в качестве причины или начала как такового.
Аристотель позволяет так истолковывать, говоря, что «[причиной
называется то], откуда первое начало изменения или покоя;
например, давший совет есть причина...»1 При этом подразумевается,
что в событии «совета» уже представлено как минимум два субъекта.
Хайдеггер по другому, но похожему поводу использует слово
«распоряжение», переводя «природу как начало движения» следующим
образом: «Φύσις есть αρχή κινήσεως — исходное распоряжение над
перепаданием, которое происходит так, что любое перепадающее
имеет это распоряжение в нем самом».2
Хайдеггер предупреждает, чтобы оборот «в нем самом» не
толковали ложно, обессмысливая весь его подход к природе. «Мы не
говорим здесь "в себе самом", чтобы пояснить, что это такого рода
сущее, безусловно, не сознательно "для себя" имеет, ибо вообще
даже не "имеет" "себя" самого как некую Самость».3 В противном
случае, изначальная двоица «фюсис» опять, по-платоновски,
сводится к единому, и, следовательно, любая природная
индивидуальная вещь сама себя «врождает», «порождает» и «вырождает» в
процессе «припоминания» своего « пренатального существования », т. е.
акта зачатия. Для рождения уже не нужно родителей, а только
умение правильно «припомнить»; но и рождение тогда будет
бестелесным.
1 Аристотель. Физика. I 194Ь 29-31.
2 Хайдеггер М. Указ. соч. С. 41.
3 Там же. С. 38.
594
ΙΟ. Μ. РОМАН EH КО. БЫТИЕ И ЕСТЕСТВО
Вообще Хайдеггер, по нашему мнению, конгениально
Аристотелю выдерживает диаду «фюсис». Т. Васильева справедливо
отмечает: «М. Хайдеггер стремится постигнуть эту двойственность в ее
изначальном и существенном единстве».1 Однако, еще раз повторим,
двоичность не редуцируется к единству. Так, Хайдеггер пишет:
«Основание для возможности помечать эту φύσις в двух
направлениях взгляда и призывать ее двумя способами лежит в том, что
μορφή [в себе], и тем самым существо самой этой φήσνς, двойственна
в себе. Предположение о двояком существе этой φύσις
обосновывается через присоединение замечания: «ибо также и "ограбление"
есть в некотором роде вид».2 Словом «ограбление» Хайдеггер
переводит слово «steresis».
Настроив взгляд на «фюсис» стереоскопически, Хайдеггер
задается вопрошаниями: «в каком смысле существо этой φήσνς
двойственно?»; «что происходит из двойственности этой φήσνς для ее
окончательного существоопределения?».3 В ответах на эти вопросы
устанавливается, что «μορφή есть διχώς, она двойственна в себе, она
есть присутствие отсутствия».4 Таким образом, «морфе» есть «ди-
хос» (т. е. дважды). Непредставимый образ диктует это
словосочетание: ведь форма — это нечто единое и неделимое (суть бытия,
почти как у Парменида), и все же форма дана всегда как «дважды»
(дихотомически). Теперь по-особому начинает пониматься слово
«дихотомия» (томия — резать): еще до всякого «деления» единое
бытие раздвоено наличием у него формы. Поэтому «дихотомия»
означает не «деление» единого бытия на две его изолированных
части, а двуединство взаимоусмиряющих процессов —
анатомирования и кататомирования. Фюсис (естество) есть двойственная
граница самого бытия.
Как можно было убедиться из текстов Аристотеля,
двойственность природы он связывает с разделейностью ее на «материю» и
«форму», но, кроме этого, двоякость природы усугубляется и
выражается в двоичности между «формой» и «лишенностью»:
«"форма" и "природа" употребляются в двояком значении: ведь и
лишенность есть в некотором отношении вид».5 Вдобавок к этому
природа троична по причине того, что она состоит из трех начал.
Как это совместить? С арифмологической точки зрения подобный
расклад можно представить как просвечивание «триады» через
«диаду», при котором каждый из элементов триады коррелирует
Васильева Т. Философский лексикон Аристотеля в интерпретации
М. Хайдеггера // Указ. соч. М. Хайдеггер. С. 21.
2 Хайдеггер М. Указ. соч. С. 100.
3 Там же. С. 101.
1 Там же. С. 104.
° Аристотель. Физика, I 193Ь 19-21.
КНИГА П. ГЛАВА 3. § 2. М. ХАЙДЕГГЕР 595
с каким-либо другим, оставляя «лишний» третий в относительном
небытии. Таким способом триада, данная как диада, остается
открытой системой. Пусть формально-логически это представляется
противоречием: 3=2. Но по этому поводу Хайдеггер восклицает:
«И все же как раз теперь мы достигли некоторого опасного пункта
понимания >>. '
Во всех терминах, образующих основу лексикона «Физики»,
Хайдеггер фиксирует двойственность. Начиная со слова «кинезис»
(движение), которое само по себе указывает на двоичность; затем
«архе», двояко переводимое как «исход и распоряжение»: «Αρχή
означает одновременно начало и господство. В соответствующем
несколько сниженном расширении это означает: исход и
распоряжение; чтобы это балансирующее единство выразить с обеих сторон,
можно перевести αρχή через исходное распоряжение или
распорядительный исход. Такое единство этого двойственного сущностно».2
Далее, понятие «индукция» (эпагоге — наведение), как адекватный
метод познания природы, Хайдеггер понимает не в узко
формальнологическом значении: «Эта επαγωγή есть "открытие" в некотором
двойственном [двойном] смысле; во-первых — вынести перед взором,
а затем — также и утвердить это узрение».3 То же самое можно
сказать и в отношении остальных определительных слов: «формы»,
«материи», «лишенности», вплоть до «энергейи» (разумеемой как
«себя-от-себя-к-себе-про-из-ведение»),4 и, наконец, самой «фюсис».
Результатом двуединства природы оказывается «простота ее
существа».5 «Если мы будем мыслить оба определения в одно, —
говорит Хайдеггер, — то следствием будет то, что в ней είδος сам
по себе и как таковой приносит себя к присутствию и не нуждается,
как это происходит в τέχνη, прежде всего в привходящей ποίησις».6
Таким образом, «творение» (пойезис) для природы не нужно в
качестве «привходящего». Хотя природа и «творит», но только в
себе самой, и это творение почти аналогично творчеству искусства.
Вернее, искусство «подражает» продуктивной способности природы.
Согласно Аристотелю: «Вообще же искусство в одних случаях
завершает то, что природа не в состоянии произвести, в других же
подражает ей».'
Диада «фюсис» как бы «наслоена» на онтологическую триаду
«бытие—небытие—творение». В этом смысле двоица тоже является
выразителем античного мифа «вечного возвращения». «Эта ψήσις,
' Хайдеггер М. Указ. соч. С. 103.
2 Там же. С. 37-38.
3 Там же. С. 34.
1 Там же. С. 105.
5 Там же. С. 106.
е_ Там же. С. 106.
' Аристотель. Физика. II 199а 17-19.
596
Ю. M. РОМАНЕНКО. БЫТИЕ И ЕСТЕСТВО
напротив, есть из себя самой и к себе самой "в-пут-ное" при-сутствие
отсутствия себя [ее] самой. Как таковое отсутствие остается она
неким в себя-обратно-хождением, а это хождение, однако, есть
лишь ход некоего восхождения».1
Через ряд подобных трансформаций аристотелевских
физических терминов Хайдеггер выходит к своей излюбленной
онтологической теме: «Бытие есть себя сокрывающее раскрывание — φύσις
в начальном смысле».2 Через понятие «истины» (алетейи)
сопоставляются «бытие» и «фюсис» и тем самым онтология и метафизика.
Однако не все так гладко происходит на пути к истине «бытия»
и «фюсис», мнится Хайдеггеру. В природе есть и нечто
«бесчинствующее» (анархичное), на что только и обращают внимание мизо-
софы (одним из представителей которых был софист Антифонт).
Но замечая только это и отвращаясь тем самым от природы, они
выливают вместе с водой из ванной ребенка. Аристотель решает
эту проблему так, что лучше смириться с плохим в природе во имя
хорошего в ней. Хайдеггер вынужденно обращается к этой
неприятной ему теме, откуда некоторыми выводится анти-фюсисная
система аргументации, например, «учение Антифонта и его до сих пор
непрерывного наследования охватывает как раз лишь наиболее
внешнее [крайнее] бесчинство [не-существо] этой φύσις и раздвигает
его до собственного и единственного существа, и это раздвигание
на деле остается существом всякого несущества».3
Установив источник опасности и поставив диагноз, «шварцвальд-
ский затворник» пророчествует о возможных нигилистических
следствиях неправильного мышления связи «бытия» и «естества», «тех-
не» и «фюсис», «творения» и «порождения», «ничто» и
«лишенности». «Это случается лишь тогда, когда жизнь как таковая станет
некоей "технической", производственной поделкой: но в тот момент
уже больше не будет никакого здоровья, равно как рождения и
смерти. Иногда это выглядит таким образом, будто человечество нового
времени бешено мчится к этой цели: чтобы человек производил
себя технически; если это удается, то человек самого себя, т. е.
свое существо как субъективность взорвет на воздух».4 Высказав
это, выражая в словесной форме эсхатологическое предупреждение,
инспирированное мизософским приступом, Хайдеггер «умывает
руки»: «Однако предоставим это бесчинство его собственному краху».0
Подведем промежуточный итог нашему семантическому анализу
хайдеггеровского семантического анализа аристотелевского учения
о естестве. Обнаружилось, что существование фюсис есть двойст-
1 Хайдеггер М. Указ. соч. С. 107.
- Там же. С. 109.
3 Там же. С. 106.
1 Там же. С. 51.
:> Там же. С. 108.
КНИГА II. ГЛАВА 3. § 2. М. ХАЙДЕГГЕР 597
венность и обращаемость. А если точнее — обращаемость двоицы
в себе самой, что делает ее простой и целостной. Однако эта простота
иная, нежели простота единого бытия. Двоичное естество может
повторить (в подражание) единство бытия лишь при совершении
полного обращения, в результате чего естество становится целокуп-
ной границей самого бытия, отграничивающей его от небытия.
Хайдеггер потому и отождествляет метафизику и физику, что
«мета» дано не как «внешнее над» фюсис, а как свойство ее самой:
постоянное вырастание из себя в возвращении к себе. В пункте
этого понимания (опасного, как предупреждает Хайдеггер)
становится очевидной сущность техники и вообще технического
(экспериментального) отношения к природе. Эту тему немецкий
мыслитель поставил, в частности, в сочинении «Вопрос о технике».
«Существо техники покоится в поставе»,' — пишет Хайдеггер, понимая
под последним производящую деятельность человека.
Бездумная погоня за результатами технических изобретений,
довлеющая над человеком как неизбежный Рок, приводит к
забвению бытия. Однако Хайдеггер отнюдь не требует отменить
технику, разрушить машины, не призывает вернуться к пасторальному
«золотому веку» растворенности в природной чувственности,
понимая необратимость исторического времени. «Если произойдет
перемена в бытии, что теперь означает — в существе постава, это
никоим образом не приведет к демонтажу техники, чья суть
покоится в поставе. Она не будет ни нарушена, ни тем более разрушена.
Если существо техники, постав как риск, посланный бытием, есть
само бытие, то технику никогда не удастся взять под контроль
просто волевым человеческим усилием, будь оно позитивное или
негативное. Техника, чье существо есть само бытие, никогда не
даст человеку преодолеть себя. Это означало бы, что человек стал
господином бытия»2, т. е. перенял опыт творения из небытия.
Опасность в господстве постава существует, однако, цитирует
Гёльдерлина Хайдеггер: «Но где опасность, там вырастает и
спасительное».3 Возможность спасения видится в том, чтобы вернуть
сущности «техне» смысл «пойесиса». Отгородившись от бытия
техникой, человек раз за разом продолжает вкушать многообразные,
пока еще не прекращающиеся плоды с Древа познания, забыв о
едином плоде Древа жизни. Не видя конца экспериментальной
деятельности, человек бессознательно надеется на то, что, вкусив все
плоды первого Древа, он поглотит и один-единый плод второго
Древа.
1 Хайдеггер М. Вопрос о технике ,'/ Хайдеггер М. Время и бытие:
Статьи и выступления. М.: Республика, 1993. С. 232.
2 Хайдеггер М. Поворот // Там же. С. 253.
3 Хайдеггер М. Вопрос о технике. С. 234.
598 Ю. M. РОМАНЁНКО. БЫТИЕ И ЕСТЕСТВО
Осознание опасности уже дает возможность увидеть «ростки
спасительного». Сама мысль об опасности техники производит некий
«поворот» в отношении человека к природе. И этот «поворот»
находится в самой природе, сущность которой как раз и заключается
в постоянном оборачивании к своему основанию.
Понятие «поворот» очень важно для творческого мышления
Хайдеггера; ему он посвятил одноименную работу, где утверждается
следующее: «Существо постава есть опасность как таковая.
Опасность заключается в том, что бытие в за-бывании его существа
отворачивается от этого существа и тем самым оборачивается против
истины своего существа. В сфере опасности правит этот еще не
осмысленный поворот. В существе опасности таится поэтому
возможность и такого поворота, когда забывание существа бытия
обернется той своей стороной, когда вместе с этим поворотом истина
бытия в его существе вернется в область сущего.
Скорее всего, однако, этот поворот, превращающий забывание
бытия в хранение истины бытия, совершится только тогда, когда
опасность, обратимая в своей потаенной сути, впервые наконец
выйдет на свет в качестве опасности, какая она есть. Возможно,
мы уже стоим под надвигающейся тенью события этого поворота.
Как и когда он совершится в нашей истории, не знает никто. Да
и нет нужды знать о таких вещах. Знание этого рода было бы даже
гибельным для человека, коль скоро его существо в том, чтобы
быть хранителем, который ходит за существом бытия, обдуманно
оберегая его. Только когда человек как пастух бытия ходит за
истиной бытия, он может желать и ждать прихода события бытия,
не опускаясь до пустой любознательности».1
Мотив обращения четко держится в мысли Хайдеггера: «Когда
опасность постава выступает как опасность, вместе с таким
поворотом забывание оборачивается хранением бытия, событием мира».2
Воздействуя на природу экспериментально-технически, человек
рассекает двоицу естества в намерении достичь единое бытие,
повторив креативный акт Перво-Творца. Но на самом деле он еще
дальше отворачивает себя от истины бытия. Следовательно,
мышление должно найти точку опоры и приложить усилие к развороту
в ином направлении, адекватном движущей силе самой природы
скрывания-раскрывания бытия: «Если среди грозящей нам
опасности совершится такой поворот, он сможет произойти без
посредников. Ибо рядом с бытием нет ничего подобного ему. Оно не
подлежит воздействию со стороны и не действует само. Никогда
бытие не включено в рамки причинно-следственных взаимосвязей.
Способу, каким оно, бытие само по себе, посылает нам себя, не
1 Хаидеггер М. Поворот. С. 255.
2 Там же. С. 256.
КНИГА II. ГЛАВА 3. § 2. M. ХАЙДЕГГЕР 599
предшествует никакая причина в порядке бытия, равно как из него
не вытекает никакого следствия для бытия».1
Истина бытия потаена в кругообращении природы, и
высветление этой истины возможно при следовании направлению этого
естественного кругообращения. Только таким образом, свершив
полный круг своего осуществления, природа может стать
прозрачной для у зрения бытия. И это спонтанное раскрытие может
произойти для человека лишь непроизвольно. А точнее — при
задействовании воли к воздержанию от воли к власти над природой.
Истина приходит сама, нужно только найти силы дождаться ее
прихода. Хайдеггер припоминает платоновский момент «вдруг»:
«Резко и внезапно являя свою истинную суть, потаенность,
сбывается бытие, определяя этим событием свою эпоху. Мы не должны
поэтому забывать: Поворот, превращающий опасность в спасение,
совершится вдруг. При этом повороте внезапно высветлится свет
бытийной сути. Внезапное просветление есть молниеносная
озаренность. Она являет себя в принесенной и явленной ею прозрачности.
Когда при повороте опасности молниеносно озарится истина бытия,
высветится существо бытия. Тогда возвратится истина бытийной
сути».2
Смыслообразующее отношение понятий «бытие» и «естество»,
равно как и онтологии и метафизики, становится понятным через
понятие «возвращение»: «Куда совершится такое возвращение?
Никуда более, как в само же бытие, пребывающее до сих пор в
забвении своей истины. Но само же бытие пребывает в качестве
существа техники. Существо техники есть постав. Возвращение в
бытие как событие поворота, обращающего забывание в хранение,
возвратит нас к существу нынешней эпохи бытия. Истинным
существом никогда не бывает то или иное сущее. Что собственно
есть, т. е. живет и пребывает в истине как таковой, так это
единственно бытие. Только бытие "есть" как существо истины, только
в бытии и в качестве бытия сбывается то, что сказано словом "есть";
то, что есть — это бытие в его существе».3 Или, позволим мы
уточнить выражение Хайдеггера — «бытие в его естестве».
Спекулятивный метод приводит Хайдеггера к пониманию
естества как «живого зеркала» бытия. «Молниеносное озарение истины
бытия есть прозрение. Истину бытия мы осмысливали через
свечение мира как зеркальную взаимоотраженность четверицы неба
и земли, смертного и божественного».4 Последняя цитата отсылает
читателя к работе «Вещь», занимающей центральное положение в
1 Там же.
2 Там же.
3 Там же.
1 Там же. С. 256-257.
600 Ю. M. РОМАНЕНКО. БЫТИЕ И ЕСТЕСТВО
анализируемом нами тематическом разделе хайдеггеровского
наследия .
В прорицательно-ясновидческой работе «Вещь» М. Хайдеггер
моделирует мир как основную тему философии, в свете
четырехмерной структуры, состоящей из следующих моментов: божества,
смертные, небо и земля; а также дает феноменологическое описание
вещи как таковой, встроенной в систему направленных на нее
четырех зеркал, представляющих собой полюса четверицы мира.
«Земля и небо, божества и смертные, сами из себя единясь друг с
другом, взаимопринадлежат в односложности единой -гетверицы.
Каждый из четырех по-своему зеркально отсвечивает в своей
собственной сути внутри единосложной простоты чертверых. Эта
зеркальность — не изображение какого-то отображения. Зеркальность,
освещая каждого из четырех, дает их собственному существу
сбыться в простом вручении себя друг другу. В этой своей осуществляюще-
освещающей зеркальности каждый из четырех играет на руку
каждому из остальных. Осуществляюще-вручающая зеркальность
отпускает каждого из четверых на свободу его собственной сути, но
привязывает свободных к простоте их сущностной
взаимопринадлежности.
Обязывающая свободой зеркальность — игра, вверяющая
каждого из четверых каждому, от складывающей поддержки взаимного
вручения. Ни один из четырех не окаменевает в своей специфической
отдельности. Каждый из четверых, скорее, разобособлен, внутри
их взаимной врученности, до своей собственной сути. В этом раз-
обособляющем взаимовручении собственной сути — зеркальная игра
четверицы. От нее — доверительность простого единства четырех».1
Каждый из четырех полюсов мира, взятый обособленно, является
«неткой» — несуществующей возможностью видения. И только
нечаянная радость совпадения всех возможностей дарит
одновременное видение вещи как мира и мира как вещи. Это событие
сопровождается световыми эффектами — воссиянием, сверканием.
«Что станет вещью, сбудется из окружения зеркальной игры мира.
Только тогда — вероятно, внезапно — мир явится как мир, воссияет
тот круг, из которого выпростается в ладность своей односложной
простоты легкое окружение земли и неба, божеств и смертных».2
Отношения в арифмологической четверице не являются
отношениями изолированных арифметических единиц, насильственно
подгоняемых в искусственных математических операциях к
«четверке». Учение об онтологическо-метафизической четырехмерности
мира отличается полнотой, формализованностью и наглядностью, и в
1 Хайдеггер М. Вещь // Историко-философский ежегодник'89. М.:
Наука, 1989. С. 278-279.
2 Там же, с. 280.
КНИГА II. ГЛАВА 3. § 2. M. ХАЙДЕГГЕР 601
силу этих критериев претендует на истинность. Однако данная тема
не исчерпывается применением арифмологического метода, который
в ином отношении модифицируется в топологический метод.
Арифмологическая тетрактида топологически представлена
квадратом, в вершинах которого расположены полюса мира: небо,
земля, божества и смертные. Отношение между выделенными
моментами, имеющими свое самостоятельное существование,
проводится по сторонам и диагоналям квадрата. Подобно тому как
«логический квадрат» моделирует в логике отношения между
суждениями и служит для наглядности и облегчающего запоминания,
так же и квадрат «мировой четверицы» используется Хайдеггером
для наглядного представления отношений между предметами
онтологии и метафизики. В точке пересечения диагоналей квадрата
осуществляется имманентизация трансцендентных друг другу
четырех полюсов мира в чем-то едином. Это — то место, где вещь
дается в ее подлинности, феноменально свидетельствуя о бытии.
В точке пересечения диагоналей состоявшегося мирового квадрата
сбывается вещь как Вещность (а точнее и радикальнее — как
Вечность), что топологически преобразует квадрат в круг. Таково
решение Хайдеггером извечной проблемы «квадратуры круга» в
акте угадывающе-медитативного представления структуры Рая.
Предлагаемая структура дает возможность соотнести онтологию
и метафизику. Попутно онтологической презентации бытия в свете
четверицы мира Хайдеггер оставляет место для воможной
метафизической экспликации естества. Дело в том, что когда Хайдеггер
говорит о «простой односложности мира», о «простом вручении
себя друг другу» каждого из четырех моментов мира вплоть до
«сияния их простоты», под словом «простота» подразумевается
«естественность» осуществления гармонии мира.
Напомним, что фундаментальным определением «фюсис»,
согласно аристотелевской «Физике» (В-1) и хайдеггеровскому
комментарию к ней, является естественная внутренняя «зеркальность»
природно сущего, т.е. некое «врожденное стремление к совпадению»
(метаболе) природно сущего с самим собой на фоне постоянных
превращений стихий, пронизывающих его и дающих живую
энергию, но не разрывающих (диа-боле) его до тех пор, пока сохраняется
его естественная простота. Задержимся на этой зеркальности
«фюсис» и обратим внимание на настойчиво повторяемые Хайдеггером
в приведенных цитатах некие зеркальные эффекты, возникающие
в мировой четверице и свидетельствующие о гармонии между ее
моментами. Каждый из элементов четверицы определяется
Хайдеггером в следующих образах:
«Земля растит и носит, питает, плодит, хранит воды и камни,
растения и животных».
602
Ю. M. РОМАНЕНКО. БЫТИЕ И ЕСТЕСТВО
«Небо — это путь Солнца, бег Луны, блеск звезд, времена года,
свет и сумерки дня, тьма и ясность ночи, милость и
негостеприимство погоды, череда облаков и синеющая глубь эфира».
«Божества — это намекающие посланцы божественности. Из
нее, потаенно правящей, является Бог в своем существе, которое
изымает его из всякого сравнения с присутствующим».
«Смертные — это люди. Они зовутся смертными, потому что
могут умирать. Умереть — значит осилить смерть как смерть.
Только человек умирает. Животное кончается. У него нет смерти ни
впереди него, ни позади него. Смерть есть ковчег Ничто — т. е. того,
что ни в каком отношении никогда не есть нечто просто сущее, но
что тем не менее существует, и даже — в качестве самого Бытия».1
Все перечисленное находится в отношении непредставимого
зеркального взаимоотражения, реализующего принцип
«всеединства» — нераздельно-неслиянного присутствия всего во всем.
Таинственность гармонии мира связана каким-то образом с
загадочностью зеркала. Из текста ясно только, что оно обладает
парадоксальным сочетанием исключающих друг друга свойств —
способности отражать и одновременно быть прозрачным. Кроме этого,
данное зеркало является источником света. Подобные
характеристики, приписываемые естественному зеркалу, явно выделяют его
из класса привычных нам в быту искусственных зеркал, способных
отражать только внешний свет. «Скрещение существует как дающая
быть собой зеркальная игра четырех, односложно вверяющих себя
друг другу. Скрещение существует как мирение мира. Зеркальная
игра мира — хранящий хоровод. Потому и охватывает четверых
их хоровод не извне наподобие обруча. Хоровод этот — круг,
который окружает все, зеркально играя. Осуществляя, он проясняет
четверых до сияния их простоты. Своим воссиянием круг вручает
четверых, отовсюду открытых, загадке их существа. Собранное
существо кружащей так зеркальной игры мира есть само окружение.
В окружении зеркально-играющего круга четверо льнут к своему
единому и тем не менее всегда собственному существу. Так льнущие,
ладят они, ладно миря, мир».2
В зеркальной нераздельной неслиянности (или, как говорит
Хайдеггер, в «разобособляющем взаимовручении») четверицы мира
естественно сбывается бытие. На основе такого понимания вырастает
вывод — онтология и метафизика взаимно конституируют друг
друга совместным применением методов спекуляции, арифмологии,
топологии и т. п., применявшихся в построеннии данной четверицы.
Предметные поля онтологии и метафизики зеркально пересекаются,
исчерпывая сферу философского знания. Образом данного пересе-
1 Хайдеггер М. Вещь. С. 278.
2 Там же. С. 279.
КНИГА П. ГЛАВА 3. § 2. М. ХАЙДЕГГЕР 603
чения, как это обнаруживается в тексте Хайдеггера, является крест
(«скрещение»).
Четырехконечный крест символизирует одоление смерти;
шестиконечный крест выражает смысл жизнетворения. Его структура
наводит на понимание таких нерационализируемых проблем
онтологии и метафизики, как соотношение неподвижности и сдвига
Бытия, удвоения единого Бытия в зеркале диады Естества,
взаимоотношения эманации и креации (вертикальная линия, естественно
пересекающая не-бытийный перепад между бытием Творца —
верхнюю горизонтальную перекладину, и сдвинутым бытием
сотворенного существа — нижнюю наклонную перекладину). Данная
креативно-эманативная модель дает возможность онтологическо-
метафизического фундирования сфер теологии, космологии и
антропологии. Так, точка пересечения вертикали с наклонной линией
символизирует эксцентричность бытия человека, подвешенного
между двумя безднами небытия и подвергаемого страстям в
результате воздействия эманирующих стихий. Это — область
«человеческого, слишком человеческого», как сказал Ф. Ницше.
Таким образом, речь о Бытии как предмете онтологии не может
не быть дополнена речью о Естестве как предмете метафизики.
Между тем к метафизике у Хайдеггера сложилось, в отличие от
онтологии, достаточно двусмысленное отношение. С одной стороны,
он оставляет ей право и свободу оставаться самой собой. С другой
стороны, он взывает к ее преодолению.
Последняя проблема представлена в работе с соответствующим
названием: «Преодоление метафизики». Хайдеггер пишет: «От
метафизики нельзя отделаться словно от некоего воззрения. Ее никоим
образом невозможно оставить позади как учение, в которое уже
никто не верит и за которое никто не стоит. ...Если это так, то
мы зря воображаем, будто предчувствие конца метафизики
позволяет нам встать вне ее. Ибо преодоленная метафизика не
улетучивается. Она возвращается видоизмененной назад и остается у власти
в качестве продолжающего править отличия бытия от сущего».1
Преодоление метафизики мыслится Хайдеггером не как волевое
усилие, а как судьба: «Метафизика во всех своих видах и на всех
исторических ступенях есть особенный, но, возможно, также и
неизбежный рок Запада и предпосылка его планетарного
господства... Преодоление метафизики мыслится бытийно-исторически».
Двусмысленность метафизики заключается в двусмысленности
префикса «мета», приставляемого к «фюсис». В зависимости от
того, как понимается эта «мета», возникают две непроницаемые
1 Хайдеггер М. Преодоление метафизики // Хайдеггер М. Время и
бытие. С. 177.
2 Там же. С. 180-181.
604
Κ). M. РОМАН EH КО. БЫТИЕ И ЕСТЕСТВО
друг для друга интерпретации метафизики. Один путь ведет в
никуда, в аннигиляцию: «Человечеству метафизики отказано в пока
еще сокровенной истине бытия. Трудящееся животное оставлено
дышать угаром своих достижений, чтобы оно растерзало само себя
и уничтожилось в ничтожное ничто».1
Но как человек естественно забывает бытие, так же естественно
он его может и вспомнить. Насущным становится вопрос о
соотношении Бытия и Естества. «В сужении бытия до "природы" слышится
поздний и приглушенный отголосок бытия как φύσις».2 Метафизика
есть способ возврата к бытию для человека, его забывшего. Это
возможно, потому что присуще природе самого человека: «Почему
метафизика присуща природе человека? При первом приближении
человек в метафизическом представлении есть сущее среди другого
сущего, снабженное способностями. Это таким-то образом
устроенное существо, его "природа", "что" и "как" его бытия сами по себе
метафизичны: animal (чувственность) — rationale (внечувственное).
Очерченный такими границами внутри метафизики, человек
привязан к непонятому различию между сущим и бытием.
Метафизически отчеканенный способ человеческого представления
обнаруживает повсюду только метафизически устроенный мир.
Метафизика присуща природе человека. Но что такое сама природа? Что
такое сама метафизика? Кто такой, внутри этой природной
метафизики, сам человек?»3
Ставя эти вопросы, Хайдеггер не дает заранее предрешенных
ответов, но еще более усиливает вопрошание: «Одно дело просто
использовать землю, другое — принять благословение земли и
найти себя в законе этого зачинающего принятия, чтобы беречь
тайну Бытия и стоять на страже неприкосновенности Возможного...
Ни одно изменение не приходит без опережающего указывающего
путеводительства. Но как сможет достичь нас какое-то путеводи-
тельство, если не высветится Событие, которое, призывая, требуя
человека, озарит его существо, даст ему сбыться и в этом
осуществлении выведет смертных на путь мыслящего, поэтического
обитания на земле?»'1
1 Хайдеггер М. Преодоление метафизики. С. 178.
2 Там же. С. 180.
3 Там же. С. 178.
1 Там же. С. 192.
КНИГА П. ГЛАВА 3. § 3. А. ЛОСЕВ 605
§ 3. А. ЛОСЕВ
Исцеление ностальгии по естеству в абсолютном мифе
Ранний период философского творчества А. Ф. Лосева состоялся
в особом историческом контексте, который уместно определить как
эксперимент над природой человека и общества. История знает
немало экспериментальных проектов преобразования социальной
жизни, в результате которых социум переходил в новую форму
организации собственного существования. А. Лосев оказался
вовлеченным в подобный процесс в качестве «встроенного наблюдателя»,
чьим профессиональным призванием было «дело мысли», — как
определяет жизненную задачу философа В. В. Бибихин.
Мышление философов направлено на бытие с «точки зрения
вечности», и вместе с тем философская мысль всегда конкретна и
исторически контекстуальна. «Чистой» онтологии в истории
философии еще не построил никто — она является предельным заданием
для философов. И именно поэтому онтология в своей истории
окружена шлейфом мифа.
Как возможна онтология мифа — бытийное его понимание и
оправдание, так теоретически возможен и исторически действителен
миф самой онтологии. А. Лосев, как никто другой, пожалуй, заметил
эту мифическую составляющую историко-философского процесса,
выразил ее и, более того, сумел интегрировать миф в философский
дискурс без утери смыслового характера последнего.
В наши задачи будет входить, как и в предыдущих параграфах,
реконструкция и комментирование лосевских идей в отношении
онтологической триады «бытие—ничто—творение», соотношения
понятий «бытие» и «естество», определяющих соотношение
онтологии и метафизики в качестве взаимодополнительных типов
философского знания. Начнем с того, что укажем на последовательное
проведение А. Лосевым в своих произведениях принципа единства
исторического и теоретического. Его историко-философские труды
и теоретические трактаты дополнительны и перекликаются друг с
другом, свидетельствуя о понимании автором существенности
принципа «историзма бытия». Понятие «теоретического» включает в
себя не только «логическое», но и внелогический компонент —
собственно миф как устойчивую форму продуктивного воображения.
В этом плане, принцип единства исторического и теоретического
имеет более широкое применение, нежели гегелевский или
диалектико-материалистический принцип единства исторического
и логического.
Данный параграф в определенной степени подводит итог всему
предыдущему исследованию, поскольку творчество А. Лосева может
606 ΙΟ. Μ. РОМАНЕНКО. БЫТИЕ И ЕСТЕСТВО
быть рассмотрено как пример постановки всех узловых проблем
онтологии и метафизики в нашем понимании.
Как неоднократно утверждалось выше, онтологическое
мышление оперирует триадой «бытие—ничто—творение», которая
является исходной категориальной схемой онтологической
«предметности». В работе «Миф — развернутое магическое имя» А. Лосев
конкретизирует понятие «творение» следующим образом:
«сообщение сущности твари и излияние ее на тварь есть, вообще говоря,
процесс именования твари. Отсюда — творение происходит путем
называния имен, "словом" и словами. Назвать — для сущности
значит сотворить. Помянуть что-нибудь — для сущности значит
спасти его».1
Понимание творения как наречения именем и вызывания по
имени делает идею «творения» конкретной, а не абстрактной.
Мыслительное понятие рассматривается как имя, устанавливающее
возможность общения между какими-либо субъектами встречи. Зов
по имени есть как бы некий проброс моста через небытие. А
выражение «обращение по имени» подсказывает, что движение по
этому «мосту» может быть двусторонним, обращающимся.
Бытие Творца обнаруживается в творении — речении имени в
пустоту небытия. Бытие сотворяемого сущего зависит от
возможности его отклика на зов по имени, благодаря чему завязывается
начало общения как такового. А. Лосев подчеркивает: «При этом
общение это и есть самое бытие для твари, т. е. чем больше она
общается с сущностью, тем более интенсивно она существует, и
чем менее общается, тем более уходит во тьму и более слабеет в
смысле бытийственности».2
Отождествление «бытия» и «общения» имеет значение «со
стороны» твари. Несмотря на то, что бытие едино и неделимо, всецело
принадлежа сущности Творца, но в акте творения бытие начинает
как бы двоиться, становясь естеством. А. Лосев констатирует дву-
аспектность акта творения — его осуществленность ex nihilo и
естественность: «При общении твари с инобытием необходимо:
1 ) чтобы были два общающихся факта, 2) чтобы общение не
приводило к фактическому уничтожению того или другого, 3) чтобы,
следовательно, общение было только смысловое, энергийное, т. е.
в имени, и, наконец, 4) чтобы кому-нибудь это имя принадлежало
по существу»/
Взаимоотношение Творца, твари и имени, как условия
возможности общения между ними, осмысливается А. Лосевым в контексте
' Лосев А. Ф. Миф — развернутое магическое имя // Лосев А. Ф.
Миф—Число—Сущность. М.: Мысль, 1994. С. 227.
2 Там же. С. 228229.
:i Там же. С. 229.
КНИГА II. ГЛАВА 3. § 3. А. ЛОСЕВ
607
различия категорий сущности и энергии, принятой доктриной
православного энергетизма, и сводится к следующим двум формулам:
«Имя сущности тождественно с сущностью по факту и субстанции
и отлично от нее по смыслу, по идее, энергийно имя сущности
тождественно с тварью по смыслу, по идее, энергийно и отлично
от нее по факту и субстанции, природное.1 Из второй формулы,
эксплицирующей акт творения со стороны твари (имя тождественно
твари энергийно и отлично от нее природно), преднаходится и
попутно выводится категория «естества» как удвоенного «бытия».
При первоначальном описании интуиции «естества» поневоле
приходится использовать оборот «как бы». Естество, действительно,
есть «как бы бытие», с учетом того, что условная частица «бы»
тоже есть выражение бытия, только «как бы» недовершенное, или
довершенное при определенных условиях, т. е. у-словно.
Бытийное единство имени и его естественное двойство
проявляется, согласно А. Лосеву, в наличии в нем двух функций — быть
«смысловой причиной» и «целевым установлением», т. е. началом
и концом общения одновременно. В самом общении, когда оно уже
началось, имя может не употребляться явно, неслышно тем не
менее присутствуя внутри содержания общения и давая ему
направление и возможность реально завершиться, доведя мысль «до
точки». В этой именной «точке» начало и конец общения совпадают,
делая его конструкцию кольцевой, устанавливающей равноправие
и свободу именуемых участников диалога. В противном случае
общение становится псевдообщением, без реального содержания,
смысла, интереса, сотворчества и взаимного одаривания.
Имя как энергия сущности исходит из нее и возвращается в
нее. Так задается соотношение понятий «бытие» и «творение». Но
имя исходит в небытие и может там «задержаться», если, паче
чаяния, на него воспоследует отклик из небытия. В последнем
случае энергией имени устанавливается триада «бытие—ничто—
творение» — первоначальный цикл мышления. А. Лосев
формулирует идею «возвращения» так: «Из сущности исходят энергии в
инобытие и, осмысливши его, возвращаются к ней вместе с этим
инобытием».2 Хотя здесь необходимо было бы оговорить, что
«возврат» энергии в сущность, если творения не состоялось, происходит
и без привлечения с собой инобытия. Просто смысл энергии в том
и состоит, чтобы исходить в возвращение. Иначе говоря, эн-ергия
и есть «об-ращение» сущности — и именно действительное
обращение в себе самой при возможном обращении к иному (в таком
употреблении слова «обращение» проявляется игра двух его
значений, незаметно перескакивающих друг в друга). В обращении
1 Там же. С. 230.
2 Там же. С. 230.
608 ΙΟ. M. РОМАНЕНКО. БЫТИЕ И ЕСТЕСТВО
энергий вокруг сущности образуется, как пишет А. Лосев, «та
сторона сущности, в которой участвует и, участвуя, круговращается
всякая тварь».1 Так из функционирования онтологической триады
в ней находится место для категории «естества».
Естественная дедукция понятия «естества» в результате полной
экспликации онтологической триады приводит к констатации двух
его особенностей. «Естество» двоично, и в своей двоичности оно
круговращательно — двойная спираль генетического кода. Если
именем конкретизируется идея творения, то образом,
получающимся в результате вышепроведенной дедукции, конкретизируется идея
естественного происхождения. Снова и снова возвращающееся к
единству энергией своего имени бытие приобретает собственный
образ в естестве. При этом нельзя сказать, что имя первично, а
образ вторичен — они одновременны в онтологическо-метафи-
зической суперпозиции. Соотношение имени и образа в значении
бытия и естества А. Лосев обобщил в своей диалектической формуле
мифа: магическое имя, творящее чудеса (полные образы).
К теме мифа мы перейдем чуть позже, а сейчас рассмотрим для
закрепления более детально те вопросы, которые вкратце были
проанализированы выше, обращаясь к еще одной существенной
онтологической и метафизической работе А. Лосева — «Самое само»,
название которой обозначает одно из возможных действительных
имен Абсолюта.
Начинает А. Лосев свое произведение с Абсолюта, следуя
рекомендации Гегеля и других онтологов начинать философствование
именно с Абсолюта, иначе в последующем мысль, если забудет о
нем, не сможет его вновь обрести. Начинать нужно с самого главного,
а «самое главное это — сущность вещей, самость вещи, ее самое
само. Кто знает сущность, самое само вещей, тот знает все».2
Абсолютом может быть любая вещь, на которую случайно
наталкивается мышление. Вернее сказать, Абсолют пребывает во
всякой вещи, самой простой и незамысловатой, в столе, к примеру.
И задачей мышления является определение абсолютного в вещи,
ее «самого самого», хотя сделать это практически невозможно, ибо
вещь трансцендентна мышлению.
Поэтому первые подступы к определению вещи и нахождению
в ней абсолютного осуществляются апофатически — путем перебора
и отрицания того, чем суть вещи не является. А именно: вещь не
есть ни сознание вещи, ни ее материя, форма или единство того и
другого, ни один из ее признаков или даже вся совокупность
признаков.
' Лосев А. Ф. Миф — развернутое магическое имя. С. 230.
2 Лосев А. Ф. Самое само //' Лосев А. Ф. Миф—Число—Сущность.
С. 300.
КНИГА П. ГЛАВА 3. § 3. А. ЛОСЕВ
609
Если знание сводится к фиксированию признаков вещи, то в
этом отношении трансцендентный Абсолют вещи непознаваем. Как
утверждает А. Лосев, проведя предварительное апофатическое
отграничение вещи, «вещь есть сама вещь», и она определима только
из себя самой.1 Следовательно, определение извне невозможно, ибо
это будет уже разрушением вещи. В задачи же мышления, если
это действительное мышление, входит не только и не столько
определение вещи, сколько стремление «сохранить вещь в ее
самостоятельности и подлинной индивидуальности».2 Точнее говоря,
мышление все же определяет вещь, но в том смысле, что полагает
ей такие пределы, в которых вещь сохранно пребывает в своей
неущербной простоте и самобытности.
Данный ход рассуждений вполне следует сценарию,
предписанному философии первым в истории онтологом Парменидом.
Начальным действием является полагание бытия, отграниченного от
небытия. Вторым полаганием является утверждение принципа
тождества бытия и мышления.
Мышление и бытие могут быть какими угодно, но их тождество
абсолютно, являясь не чем иным, как истиной. Это и есть, по
А. Лосеву, «самое само» всего: «Беспредикатное самое само есть
великая простота сознания и бытия. Ее начинает усматривать ум,
воздержавшийся от суеты и пестроты слепой чувственности. Но
как бы ни воздерживался человеческий ум, сама жизнь, еще до
всякого воздержания, возможна только благодаря этой великой
простоте».3
Опыт свидетельствует, что вещь дана во многообразии своих
проявлений; и в них она может быть познана. Процесс познавания
представляет собой бесконечное количество интерпретаций
бесконечных проявлений вещи. Однако у этих бесконечностей есть очень
четкое ограничение, обусловленное сущностью вещи. Именно вещь
диктует форму своего собственного понимания, а не произвол
интерпретатора: «интерпретативные формы самого самого и есть
это самое само».*
Основой и возможностью сведения всех интерпретаций единой
вещи к ней самой, согласно А. Лосеву, является символ — принцип
смыслового движения к сущности вещи: «малейшее движение
мысли возможно только благодаря символической природе разума,
заставляющей все "совпадать" в тех или иных логических
структурах».0 Символ есть такой щадящий «инструмент» мышления,
1 Там же. С. 321.
2 Там же. С. 327.
3 Там же. С. 329.
1 Там же. С. 334.
ъ Там же. С. 335.
610 ΙΟ. Μ. РОМАНЕНКО. БЫТИЕ И ЕСТЕСТВО
посредством которого вещь познается как непознаваемая,
посредством «ученого незнания». Поскольку для сохранения вещи
требуется оставить ее абсолютное трансцендентным, то «самое само есть
тайна. Но кантовская вещь-в-себе не есть тайна. Вещь-в-себе, как
ее понимает Кант, просто не существует в сознании человека, тайна
же — существует. О вещи-в-себе ничего вообще сказать нельзя; о
тайне же найдется что говорить и целую вечность».'
Мысль дошла до какого-то предела, не в силах сдвинуться
дальше, вынужденно обернулась взглядом на пройденный путь, и
оказалось, что она двигалась в соответствии с определенным
методом. Выше, определяя онтологический метод античности, было
выяснено, что Парменид для «открытия» бытия применил метод
угадывания, вдохновляющегося силой удивления, в чем находит
свое начало философия. Инициационно-энигматический характер
онтологического метода, подводящего к тайне бытия, А. Лосев
специально оговаривает, итожа вышесказанное: «Все наши
предыдущие рассуждения имели единственную цель — указать на самое
само, показать его или намекнуть на него, заставить догадаться
о нем, разбудить его в себе, разыскать его в своем жизненном и
мыслительном опыте».2 Но эти слова не нужно понимать как
принуждение к догадке о бытии. Бытие в мышлении есть всегда, но
само впервые для мышления выступает как догадка о себе.
А. Лосев не случайно указал «место», где может случиться
догадка о трансцендентном Абсолюте, — это опыт жизни, без
которого никакое волевое влияние не сможет пробудить догадку.
Естественное протекание жизни приводит к тому, что сущее
созревает в соответствии с законом самого естества — от нерасчлененного
единства к раздвоению, а затем благодаря функции возвращающего
обращения естества, к совпадению раздвоенного в обновленной точке
единства. Вот тот миг, когда мысль мгновенно опознает идею
творения из небытия — благодаря собственному усилию (с
необходимостью) и благодаря удаче случайного совпадения дополняющих
друг друга обстоятельств.
Это взгляд «снизу» — с точки зрения сотворенного существа,
которое узнало в догадке о своей тварности. Можно рискнуть
рассмотреть проблему с возможной обратной стороны и получится тот
же самый результат — триада «бытие—ничто—творение», но при
ином расположении ее категорий. Согласно А. Лосеву: «То же самое
получится, если мы начнем рассуждать "сверху", т. е. с самого
самого. Самое само не существует, ему не свойственна категория бытия.
Но ясно, что это-то и есть в нем самое разительное и самое
оригинальное».3
' Лосев А Ф. Самое само. С. 337.
2 Там же. С. 336.
3 Там же. С. 400.
КНИГА II. ГЛАВА 3. § 3. А. ЛОСЕВ
611
«Самое само» А. Лосева есть развитие идеи Единого
неоплатоников. Оно настолько трансцендентно, что ему даже не присуща
категория бытия. Здесь возникает первая дилемма: есть или не
есть? Онтологическая триада разворачивается в следующее
рассуждение, распадающееся на две исключающих друг друга
возможности: «Если самое само не есть, не существует, то бесплодной будет
решительно всякая его характеристика. И если, наоборот, есть
бытие, то тогда обеспечена возможность и всякой другой
категории».1 Первая возможность вынуждает замолчать, вторая — требует
высказаться до конца. Но обе возможности заключены в одной
точке с окружающим ее фоном.
А. Лосев образно говорит об этой апофатическо-катафатической
точке — первой иллюстрации творения: «Бытие есть первое пола-
гание, первая точка, возникающая на неисповедимом лоне самого
самого. Мы утверждаем: никогда никто и нигде не понял и не
поймет подлинного смысла этой первой вспышки мысли на темном
фоне абсолютной самости».2
Состояние принципиального непонимания, когда «совершенно
невозможно сказать, почему, из каких причин, на каком основании
и как именно появляется этот первый удар молнии смысла»,3
вызывает две возможных реакции — сомнение и удивление. Обе
возможности возникают из естественного распорядка жизненного
опыта. Их отличие заключается в том, на какой период становления
естества выпадает акт творения. Сомнение случается при
максимальном разведении моментов двоицы; удивление — при их полном
совпадении. Сомнение возникает при восприятии возникающей
темной точки на фоне неделимого света, удивление — при виде точки
света на фоне тотального мрака. Но на самом деле обе они находятся
в одной пульсирующей, мерцающей точке.
И ту и другую возможности философия опробовала в своем
опыте. Выше был дан анализ скептической установки на примере
творчества Декарта, чей принцип методического сомнения послужил
основанием экспериментально-преобразующего отношения к
естеству. А. Лосев последовательно проводил принцип методического
удивления, на основе которого возможна стратегия культурно-
сохранительного отношения к естеству.
Обе возможности исходят из явного или косвенного
постулирования принципа творения. Их различие впервые выступает при
решении вопроса о естестве и далее проявляется в оформлении
двух противоположных традиций философствования. А. Лосев знает
об этих двух возможностях, делая выбор в пользу одной: «Можно
1 Там же. С. 400.
2 Там же. С. 401.
3 Там же. С. 401.
612
Ю. M. РОМАНЕНКО. БЫТИЕ И ЕСТЕСТВО
сделать вид (как этот делают философы рационалистического
склада), что тут все вполне благополучно и понятно и что в таком
первом появлении мысли нет ровно ничего удивительного. Этому
не удивляется даже великий Гегель, который начинает свою логику
с категории бытия, совершенно не задаваясь вопросом, откуда же
и зачем появилась самая эта категория. Действительно, сказать на
эту тему нечего, но удивиться здесь есть чему».1
В согласии с принципом тождества бытия и мышления, загадка
первого появления бытия в творении из ничего есть одновременно
«тайна первого зачатия мысли», по образному выражению А.
Лосева. «И эта тайна есть настоящая и подлинная тайна, т. е. не та
временная загадка и неясность, которая разрешается с течением
времени и в связи с прогрессом науки и методов мысли. Это —
такая тайна, которая не может не быть тайной, которая не будет
разрешена никем и которую невозможно и разрешать, но которой
можно только дивиться».2 Дивиться снова и снова, методически,
окружая сохраняемую тайну в культе естества.
Утверждение принципа методического удивления необходимо в
соответствии с необходимостью категории бытия. Однако удивление
всегда случается при случае, говоря тавтологически. Возможность
действительна с необходимостью при случае. Случай же как таковой
(буквально: с-лучка = со-в-падение двоицы в ней самой) есть
имплицитная категория понятия естества.
Обнаружившаяся антиномия «познаваемость—непознаваемость»
вещи задала напряженное к ней отношение. Увидеть в привычной
вещи непривычное, удивиться ему — значит стать в философское
отношение к вещи, причем именно к этой вот вещи, неожиданно
проявившей себя на фоне бесконечного многообразия других вещей.
Первичным определением «этости» вещи, манифестирующим ее
«самое само», даже для логики является так называемое «остен-
сивное определение» — посредством прямого указания на нее. Такое
определение еще не собственно логическое определение, или уже
не определение. Обращение к «этости» выводит за пределы теории
в практику. А. Лосев пишет: «Да, ответ на вопрос, как совместить
непознаваемость самого самого с его познаваемостью, разрешается
не философией и не теорией и далее не какой-нибудь логической
категорией. И разрешается просто при помощи указательного
пальца: вот, смотрите как! И больше ничего».3 Бытие есть, и больше
ничего нет, перефразируя Парменида. Ничего, кроме того, что
бытие есть то, что больше самого себя.
1 Лосев А. Ф. Самое само. С. 401.
2 Там же. С. 402-403.
3 Там же. С. 342.
КНИГА II. ГЛАВА 3. § 3. А. ЛОСЕВ
613
Так, обнаружив вдруг в опыте это бытие, сосредоточившись на
нем и отрешаясь от небытия, мысль сразу фиксирует и то, что
бытие творится. Творение — это встреча с бытием, которое было
с тобой всегда, и тем не менее воспринимающееся как всегдашняя
новость, небывалое. Бытие не делится познанием, сохраняясь в
своих пределах неделимым, т.е. индивидуальным, что и составляет
«самое само» любой вещи. А. Лосев пишет: «Все индивидуально
потому, что все в каждый момент и в каждой своей части абсолютно
ново, абсолютно небывало».' Творение непрерывно настолько,
насколько непрерывно «бытие есть». Так А. Лосев замыкает
онтологическое мышление в принципиально незамкнутой, открытой
системе — в триаде категорий «бытие—ничто—творение», констатируя
ее как уже состоявшийся, неотменимый факт.
Но сразу вслед за этим, как бы попутно, возник новый вопрос:
почему мы раньше этого не видели? Данный вопрос переводит
разговор из онтологической плоскости в метафизическую, заставляя
наметить переход от «бытия» к «естеству». А. Лосев ставит эти
вопросы в такой форме: «Все — абсолютно индивидуально. Почему?
Самое само предполагает в вещи абсолютную индивидуальность.
Почему же так непреложно все является абсолютной, т. е. ни на
что другое не сводимой, индивидуальностью?».2
Ответ на это предельное онтологическое вопрошание обусловлен
онтологическим же аргументом, из которого выводится новая
категория: «Индивидуальность есть всегда новость, небывалое, а
новость всегда есть возникновение ...возникновение нового,
потребное для индивидуальности, есть возникновение, не зависящее ровно
ни от чего, но зависящее только от себя самого, только от
собственного самоутверждения и от собственной свободы. Другими
словами, абсолютная индивидуальность предполагает
самопроизвольное возникновение, или самоутверждающееся самое само».3
В этом месте А. Лосев зафиксировал расслоенность и двуна-
правленность в самом акте творения. Творение вообще
воспринимается с двух сторон, но это стороны одной и той же границы. Со
стороны твари творение конкретизируется как становление: чтобы
воспринять идею творения из небытия сотворенному из небытия
же сущему необходимо определенным образом созреть, статься.
А. Лосев использует термин «возникновение» для перевода
разговора о «творении» (бытия) на разговор о «становлении» (естества).
«Становление есть развитие того, что возникло».* Возникло в
творении бытие, будучи вечной принадлежностью Творца. С другой
1 Там же. С. 339.
2 Там же. С. 339.
3 Там же. С. 339-340.
1 Там же. С. 340.
614
ΙΟ. Μ. РОМАНЕНКО. БЫТИЕ M ЕСТЕСТВО
стороны, в творении бытие становится присущим и твари, иначе
и творения бы не было. Именно становится. Как же понимать
категорию «становления», которая замещает категорию «творения»
в онтологической триаде, превращая ее в метафизическую триаду
«бытие—ничто—становление»?
Для ответа на этот стратегический вопрос, с точки зрения А.
Лосева, философы «должны наметить переход от самого самого к его
осуществлениям и воплощениям, к тому именно, что
представляется на путях интерпретации, чтобы тем самым вывести самое
само из самозамкнутых глубин и сделать готовым для
положительного и реального — хотя и в то же время чисто символического —
функционирования в реальных вещах».1
Прежде чем приступить к теоретическому решению
поставленной задачи, А. Лосев, следуя принципу единства теоретического и
исторического, обращается к наиболее показательным примерам
учений о самости, констатируя, что «учение о самом самом не очень
популярно в истории мысли. Можно даже сказать, что оно довольно
редко. Тем не менее им обладает решительно всякая зрелая эпоха
в истории философии».2 В своем кратком экскурсе,
демонстрирующем становление и постоянное проявление онтологического и
метафизического дискурсов, А. Лосев фактически применяет экзем-
плификационно-ономатологический и энергийно-арифмологиче-
ский методы историко-философского исследования, как это было
определено нами выше. Онтология и метафизика, проявившие в
истории свою способность стать устойчивым знанием,
представляются с точки зрения типологического подхода, данного как персо-
нологический (уместно вспомнить здесь гегелевское сравнение
историко-философских систем с «пантеоном божественных
образов» — §86 «Энциклопедии философских наук»).
Лосевский перечень концепций Абсолютного достаточно
хрестоматиен: от Брамы-Атмана «Упанишад», Единого неоплатоников,
через теологию Дионисия Ареопагита, Мейстера Экхарта, Николая
Кузанского вплоть до немецкой классической философии. Наиболее
образцовый пример экспликации онтологии А. Лосев усматривает
в философии Шеллинга, который сумел развернуть ее не только в
свете логики (как в панлогизме Гегеля), но и в свете мифа.
Принципы шеллинговской философии дают возможность обнаружить
миф в самой онтологии и, с обратной стороны, увидеть в мифе
имманентную онтологическую структуру, следовательно, они «впервые
дают логическое ясное развитие понятия символа и мифа на основе
учения об абсолютной самости, которую он именует Абсолютом».3
1 Лосев А. Ф. Самое само. С. 339.
2 Там же. С. 356.
3 Там же. С. 381.
КНИГА II. ГЛАВА 3. § 3. А. ЛОСЕВ 615
Шеллинг получает этот результат посредством двух
последовательных действий: беспредпосылочного полагания онтологической
триады и прокручивания ее в ней самой. А. Лосев так оценивает
методологию Шеллинга: «исходя из триады: идеальное, реальное,
индифференция, Шеллинг учит о том, что эта триада несколько
раз повторяется в каждом из своих членов».1 Тот же прием
итерирования триады в каждом из ее моментов имеется и в «Науке
логики» Гегеля. Но преимущество Шеллинга представляется в том,
что он сумел увидеть в самом наложении витков триады образ
природы, т. е. обнаружил природу не вне сферы чистой мысли
Абсолютной Идеи, как Гегель, а в ней самой. Тем самым в
средоточии логического было найдено мифическое, в бытии — естество.
Панлогизм оборачивается в пансимволизм.
Об этом гласит тезис восьмого параграфа «Философии искусства»
Шеллинга: «Бесконечная аффирмированность Бога во Всем, или
во-ображение (Ein-bildung) его бесконечной идеальности в
реальность как таковую, есть вечная природа».2 В данном тезисе обращает
на себя внимание то, как Шеллинг трактует воображение и природу
(естество). А именно: он фактически отождествляет их.
Воображение (здесь не случайно ставится дефис между префиксом и
корнем) есть вхождение в образ бытия, каковым и является
естество — вечная (ни много ни мало) природа, или, что то же самое,
природа вечности.
Говоря с обратной стороны этого тождества, именно пребывание
в чистой природе стимулирует адекватное к ней отношение —
воображение, которое теперь необходимо квалифицировать в
онтологическом статусе, не сводя его к пустой произвольной
субъективной фантазии. Вместе с тем Шеллинг предупреждает, что
природа не есть «совершенное откровение Бога» (§10), возможность
которого имеется только для разума (§11). При характеристике
разума Шеллинг практически использует интуицию «живого
зеркала», поскольку в его понимании сама природа есть естественное
зеркало, а вызревший в ее недрах разум есть «совершенное
отображение Бога».
Мифологическое воображение естества представлено в
следующих тезисах «Философии искусства»:
«§28. Эти же самые во-едино-образования (Ineinsbildungen)
общего и особенного, которые, рассматриваемые в самих себе, суть
идеи, т. е. образы Божественного, являются богами».
«§31. Мир богов не есть объект ни только рассудка, ни только
разума, но может быть воспринят единственно при помощи
фантазии ».
1 Там же. С. 382.
2 Цит. по: Там же. С. 378.
616 Ю. M. РОМАНЕНКО. БЫТИЕ И ЕСТЕСТВО
«§34. Боги необходимо образуют между собою опять некую
целостность (Totalitat), мир».
«§35. Единственно только тогда, когда боги образуют среди себя
мир, они достигают для фантазии независимого существования,
или независимого поэтического существования».1
Перед нами целая законченная программа стратегического
отношения к естеству — культуре его сохранения в абсолютном мифе
(или в мифе Абсолютного), — самая что ни на есть метафизика
(метафюсис = культ естества). Подлинное продуктивное
воображение возможно лишь в том случае, если образы сосуществуют друг
с другом в целостном мире, благодаря чему каждый из образов
естественно становится поэтическим, т. е. наделяется творческой
способностью. Эту программу (существующую начиная с
античности) как раз и воспринял А. Лосев, развив ее в новых условиях и
на новом материале.
А. Лосев строит свою онтологическую концепцию в свете мифа,
являющегося тем исходным контекстом, откуда возникает
философия и которым она окружается на протяжении всей истории.
Философия счастлива по своей судьбе, ибо она рождается в
«рубашке» — родовой оболочке мифа. Те, кто пытается сорвать эту
охранительную оболочку, не ведают, что творят, поскольку именно
она поддерживает участь философии соответствовать своему имени,
т. е. быть стремлением к Мудрости. А. Лосев узнал в догадке,
по-настоящему удивившись тому непреложному факту, что «первое
зачатие мысли происходит в таинственной и какой-то волшебной —
без преувеличения можно сказать, мифической — обстановке».2
Акт творения из небытия в мифе воспринимается сразу, ибо
бытие дается все целиком, в своем полном образе. Хотя начальным
образом бытия является самое минимальное — точка. А. Лосев так
мифически живописует акт-процесс творения: «Откуда-то
заблистала вдруг первая светящаяся точка бытия, и откуда-то вдруг
закопошилась, заволновалась, забурлила вокруг напряженная
бездна и хаос бытийных возможностей, не явленных, но настойчиво
требующих своего включения в бытие, своего участия в бытии».3
В этом живописании А. Лосев не случайно дважды употребил одно
из своих любимых слов — «вдруг», — заимствуя его из лексикона
Платона. В творении вдруг дается и бытие, и небытие. Так вызревает
(в смысле зрительного со-зревания — совместного зрения) образ
творения — напряженное обстояние бытия и небытия, диалектика
точки (как первой устойчивой структуры) и окружающего ее
хаотического фона. Уже это есть сам образ как таковой — об-раз, если
1 Цит. по: Лосев А. Ф. Самое само. С. 380.
2 Там же. С. 407.
3 Там же. С. 407.
КНИГА II. ГЛАВА 3. § 3. А. ЛОСЕВ
617
увидеть в корне этого слова «раз» актуализированую точку, а в
префиксе «об-» — обволакивающую динамику фона.
Когда эта интеллектуальная интуиция триады «бытие—ничто—
творение» наступила, удержать ее в статической фиксации
принципиально невозможно. Далее происходит, согласно «умному
видению» А. Лосева, следующее: «И эта первая светящаяся точка,
как искра от ветра и от горючего материала, тут же начинает расти
и распространяться, поглощать этот горючий материал небытия,
который сам стремится к огню и свету, начинает превращаться в
пламя, в пожар, во вселенское игрище воспламененного разума,
где уже снова исчезла антитеза бытия и небытия и как бы
восстановилась нетронутость самого самого».1
В последней цитате видно, как А. Лосев вынужден по-
гераклитовски смешивать при изложении рациональные термины
и метафоры. Вернее сказать — бытийные метафоры, или символы,
как-то: искра, ветер, горючий материал, рост, поглощение и т. п.
После первого, таинственного акта креации бытия из небытия (т. е.
на фоне небытия) следует второе принципиальное и не менее
загадочное полагание — естественное становление. Точка бытия
начинает «расти», «поглощая» невидимо поступающий к ней из небытия
«горючий материал». Присмотревшись пристальнее в эту точку,
можно увидеть, что она уже превратилась в запятую, некий завиток,
из которого точка вдруг вытягивается в линию, обогащаясь новой
свободой движения в новой размерности. Так интуитивно опознается
естество — как становление бытия. А. Лосев подобрал наилучшее
слово для обозначения его действия — «растет».
Действительно, становление и есть «растение» бытия, но не в
значении отдельного существительного или глагола, а в качестве
отглагольного существительного. «Растение» означает одновременно
и движение «роста» и ставший результат этот движения — Мировое
Древо. Вспомним, что корнем слова «фюсис» является глагол «фуи»,
означающий «расти» в смысле «быть». В двоичной семантике слова
«естество» совпадает имя субъекта-автора действия и само действие,
выраженное глаголом. А все это вместе взятое в смысле
трансцендентного Абсолюта А. Лосев выражает изобретенной им
тавтологией — «самое само». Хотя на самом-то деле, это одно слово
(самость), только поставленное дважды под разными ударениями,
различающими в двоице одно и то же. Первичное различение
осуществляется интонировкой — переносом акцента. Если бы можно
было ставить два ударения на одном слове (самость), то можно
было бы обойтись им самим. Но грамматика этому противится,
поэтому А. Лосев вынужден употреблять эту тавтологию.
1 Там же. С. 407-408.
618
Ю. M. РОМАЯЕНКО. БЫТИЕ И ЕСТЕСТВО
Звуковым аналогом видимой светящейся точки на темном фоне
является тонировка звука на фоне безмолвного шума. Если бы не
было возможности ставить ударение в словах, то речь обмякла бы
и превратилась в неоформляемый гул. Имя «Самое Само» как раз
и выражает трансцендентный Абсолют, творческой прерогативой
которого является постановка ударения в акте творения отдельного
звука и его смещение (перенос — мета-фора) к другим
потенциальным звукам, благодаря чему актуализируются звуки на фоне шумов,
срастаясь друг с другом и образуя артикулированные слова. Как
точечная вспышка света и его тотальное распространение в охват
всей тьмы. Сам же Абсолют остается за этими пределами — в не-
слышности и невидности, но давая возможность и слышать и видеть
все что ни есть.
В мифе «живой и реальной картиной разума и бытия», пишет
А. Лосев, является то, что «бытие вечно раздваивается,
дифференцируется, и оно же вечно превращается в единство, интегрируется.
В этой борьбе различений и отождествлений и состоит вся реальная
жизнь разума и бытия».1 Бытие едино по сущности и единично по
явленности в состоявшемся сущем, в естестве же оно удвояется и
в нем же дается залог возвращения к единству. Здесь необходимо
дополнительное пояснение, что удвоение дается не как две
обособленные точки на фоне, а так, что взаимоподдерживающимися
моментами двоицы являются одна мерцающая точка и один
колеблющийся фон. Так, согласно А. Лосеву, создается общая структура
первого символа, совпадающая со схемами вложенных друг в друга
мыслительных триад: «бытие—ничто—творение» и
«бытие—естество—становление».
Рассмотрим конспективно, как А. Лосев проводит методическую
работу по развертыванию данных триад, результатом которой
становится система диалектических категорий, представляющая
онтологию и метафизику в качестве структурно упорядоченного знания.
Итак, интуитивно в опыте было обнаружено наличие становления
как такового, но оно еще не осмыслено разумом как категория.
Поэтому сначала необходимо дать определение, способное ответить
на следующие вопросы: «Но что такое становление в сравнении с
зафиксированным нами в самом начале бытием? ...Что значит, что
вещь становится? Это значит, что она перестает быть одной и
делается другой».2 Но что такое «другое», откуда и как оно берется?
Из самого бытия, поскольку ничего иного нет. В этой дефиниции
«становления» в нем находится категория «превращения», и
поскольку кроме бытия у нас ничего нет, то превращению подвергается
именно оно само. «Но отрицание бытия есть небытие».3 Отсюда
1 Лосев А. Ф. Самое само. С. 408.
2 Там же. С. 410.
3 Там же. С. 411.
КНИГА II. ГЛАВА 3. § 3. А. ЛОСЕВ
619
следует некое долженствование: «Бытие должно переходить в
небытие. Если это имеется, то категория становления для нас
обеспечена».' А. Лосев не случайно сделал оговорку «если это имеется».
Если же этого не было бы, то разговор необходимо сразу прекратить.
Откуда берется долг перед бытием — переходить в небытие,
пока остается не совсем понятным. На самом деле, конечно, бытие
никому и ничего не должно, пребывая в самодостаточности и не
заимствуя ни у кого ничего. Категория долженствования возникает
на стадии естества (вспомним изречение Анаксимандра о вселенском
долге и штрафе, посредством которых завязывается Судьбой
круговая порука всего сущего в пределах Космоса).
Если согласно триаде «бытие—ничто—творение» утверждается,
что бытие просто есть; то в триаде «бытие—ничто—становление»
последняя категория определяется так: «становление и есть
совпадение бытия и небытия».2
Что означает «совпадение бытия и небытия»? Данный вопрос
равносилен вопросу, относящемуся к трансцендентному Абсолюту:
кто делает это совпадение? А. Лосев задает этот предельный,
априори безответный вопрос: «поскольку все начинается с бытия и
все судьбы этого последнего, как и его небытия, определены каким-
то одним источником, то как этот источник можно было бы
выразить? Этот источник в абсолютном смысле есть самое само, в котором
бытие и небытие слиты в одно нерасчлененное сверхъединство. Но
мы сейчас покинули среду самого самого и говорим о бытии и
небытии в их раздельности».3 Вопрос о Творце-дарителе должен
быть оставлен в форме непрестанного вопроса, а внимание должно
быть сосредоточено на сущности дара.
Снова, в который раз, вспомним позитивную часть парменидов-
ского тезиса «бытие есть». Не задавая лишний раз вопроса о том,
Кто это сделал, примем за данность: само по себе бытие есть.
А. Лосев пишет: «Бытие полагает себя. Раз оно полагает себя, оно
полагает его где-то, в какой-то среде, в каком-то "месте" — говоря
вообще, в небытии».4 Это рассуждение А. Лосева необходимо
специально прокомментировать, поскольку косвенно здесь уже
подразумевается понятие «естество» — той «среды» и того «места», где
полагается бытие в творении. А. Лосев говорит, что это «место» —
небытие, и действительно, в определенной мере двоичное естество
есть небытие единичного бытия. Но только отчасти. Небытие
присутствует в «ест-естве» в роли дефиса, разделяюще-соединяющего
две его части — корень (само по себе бытие) и суффикс (приращение
1 Там же. С. 411.
2 Там же. С. 412.
3 Там же. С. 413-414.
4 Там же. С. 418.
620 ΙΟ. Μ. РОМАНЕНКО. БЫТИЕ II ЕСТЕСТВО
бытия). Взятое же слитно, без дефиса, «естество» уже не есть
небытие, равно как оно уже и не только бытие.
Между Творцом и тварью в творении положена некая граница,
которую нужно понимать не только статически, но прежде всего
динамически. Граница становится, или становление ограничивает.
Как утверждает А. Лосев, «зарождается граница между бытием и
небытием, несомненно, уже на стадии становления».'
Мыслительная методология взаимной экспликации
онтологической и метафизической триад заключается в том, что вторая
триада разрастается в систему категорий благодаря повторяющимся
актам полагания первой триады. Каждый новый виток обогащения
метафизической триады случается от импульса креативного акта,
выражающегося онтологической триадой. Выведенная из категории
«становления» категория «границы» определяется в свете триады
«бытие—ничто—творение» как категория «числа». Такая трактовка
есть одно из оригинальных новшеств в диалектической методологии,
которое открывает А. Лосев, согласно которому «число есть та или
иная комбинация актов полагания».2 И именно, уточним мы —
креативных актов, поскольку каждый акт полагания новой
категории начинается в повторе заново, с «нуля». Следовательно, в
системе категорий нет еще последовательности с точки зрения
здравого смысла (временной или арифметической) этих актов, но
есть их одновременная комбинация, что А. Лосев справедливо
называет числом как таковым (следуя прифагорейской традиции,
согласно которой единица (бытие) и двоица (естество) еще не есть
числа. Последние возникают как конфигурация полаганий единицы
в двоице — поэтому первым собственно сосчитанным числом
является тройка). Благодаря онтологически понятому числу в
последующем появится возможность конструирования эмпирических
числового и темпорального рядов, являющихся континуумами
креативных чисел — исходных циклов измерения времени и пространства.
Повторяя гегелевский сценарий разворачивания сферы чистой
мысли, А. Лосев все же указывает на существенные пробелы в ходе
рассуждений Гегеля. Трактовка роли и места «числа» в системе —
один из наглядных примеров, в чем, по мнению А. Лосева,
«заблуждался Гегель, поместивши число после качества и смешавши
его с количеством... Без числа невозможно уже первое
противопоставление бытия и небытия»? Неадекватное понимание статуса
понятия «числа» вызвано общим упущением Гегелем категории
«естества» в сфере чистой мысли и неразличаемостью им «творения»
и «становления», о чем говорилось в соответствующем параграфе
1 Лосев А. Ф. Самое само. С. 419.
2 Там же. С. 424.
3 Там же. С. 423.
КНИГА II. ГЛАВА 3. § 3. А. ЛОСЕВ
621
нашего исследования. Также и А. Лосев указывает, что
«пропустивши число в начале своего учения о бытии, Гегель весьма
затруднил понимание диалектики своего ''становления". Будучи
совершенно правильной, она не получила у него достаточной
мотивировки».1
Если на уровне рассудочной мысли роль числа ограничивается
возможностью безразличной калькуляции изолированных вещей,
то на уровне чутья естества их восприятие особенное. А. Лосев
говорит о некоем мифическом предчувствии чисел: «В самом
становлении числа эти слышны только как некоторый пульс какого-то
неведомого и непредставимого вселенского сердца. Эти глухие и
тайные удары и толчки становления совершенно непонятны;
неизвестно, кому они принадлежат и в силу чего происходят».2 Каждый
толчок крови в этом вселенском сердце есть креативный акт,
каждый раз возобновляющийся, и этот ритм пульсаций образует
собственно числовые структуры.
Посредством полученных коррелятивных понятий «границы» и
«числа» А. Лосев естественно обнаруживает удвоение принципа
«становления»: «Из предыдущего мы можем извлечь, главным
образом, два принципа становления или, вернее, две формулировки
одного и того же его принципа. Во-первых, становление есть граница
границы. И, во-вторых, становление есть синтез (или совпадение)
бытия с небытием или, точнее, бытия, уходящего в небытие, с
небытием, уходящим в бытие».3 Последнее уточнение, выделенное
курсивом, является очередным определением двоицы «естества»,
которая есть не просто «граница» бытия, но именно (в удвоении!)
его «граница границы».
Воспринимаемая динамика двоицы «естества» состоит в том,
что «мы можем наблюдать, как становление борется с самим
собою, что ведь вполне естественно».4 Еще пифагорейцы учили, что
двоица есть символ хаоса, но ведь и хаос тоже должен как-то быть;
хотя он и не есть нечто, но хаос все же есть именно хаос, и ничто
иное. А. Лосев пишет: «Становление обязательно есть
самопротивоборство, которое в иных видах и периодах становления может
ослабевать и быть незаметным (хотя уничтожиться оно не может
никогда, стремясь к существу самого становления), но которое в
других своих типах и на других этапах может обладать колоссальной
силой и весьма интенсивным выражением».5
1 Там же. С. 424.
2 Там же. С. 428.
3 Там же. С. 425.
4 Там же. С. 429.
â Там же. С. 429.
622
ΙΟ. Μ. РОМАНЕНКО. БЫТИЕ И ЕСТЕСТВО
Двоица естества в становлении в силу обнаруженных ее свойств
распадается на четыре момента согласно структурной дистинкции
А. Лосева: «Становление: 1) само рождает себя, 2) само поглощает
себя, 3) само порождает все иное, 4) само и поглощает все иное».1
Выразительная сторона мыслительного определения «становления
естества», его образно-эмоциональный аспект, описываются А.
Лосевым в предельно чувственной поэтической форме: «Это
чудовищное и всесильное самопорождение и самопоглощение, это звериное
порождение всего и одновременное его уничтожение страшно именно
тем, что его нельзя назвать и определить, что оно принципиально
безымянно и неопределенно, что неизвестны и его порождения,
которые оно поглощает и уничтожает в самый момент их появления,
что невозможно и представить себе, для каких целей, по каким
причинам и как именно происходят эти порождения и уничтожения,
это ежемгновенное самовозникновение и самоубийство».2 Чистое
становление, оставленное на попечении самого себя, есть стихия
абсолютного оборотничества. А. Лосев не зря говорит о «зверином
порождении». Это необходимо проходимая мыслью фаза всеединства
под углом зрения «двоицы» (вседвойство), безостановочный обмен
частями в несобранном, но становящемся целом.
Становление само по себе «безымянно», отмечает А. Лосев,
заглядывая за обратную сторону творения, вызывая только ужас
и прочие мизософские состояния — тоску, тошноту, безысходность
и пр. Только творение именует, вызывая из небытия именем бытия.
Но естество, будучи безымянным, все же есть та среда возможности
отклика на зов по имени, эхо как повтор в многоразличной степени
искаженности первотворящего звука. Нечто подобное говорит и
Ж. Деррида в своей концепции абсолютного различания (difference).
Завершенная мысль не есть абстрагирование от чувственности,
напротив, полная мысль вбирает в себя очищенные ею чувства.
Окончательная формула мифическо-логического понимания
становления по А. Лосеву такова: «При всматривании и вслушивании в
природу становления: становление есть совпадение бытия,
уничтожающегося в небытии, с небытием, возникающим в качестве бытия;
или — граница границы».3
На основе полученного определения «становления» как
«границы границы» появляется возможность осмыслить существенный
вопрос философии, который параллельно ставил и М. Хайдеггер на
почве иной традиции: об отличии бытия и сущего. Согласно
германскому мыслителю, европейское мышление постоянно упускает
существо этого вопроса, забывая бытие и превратно толкуя смысл
сущего.
1 Лосев А. Ф. Самое само. С. 429.
2 Там же. С. 429-430.
я Там же. С. 431.
КНИГА П. ГЛАВА 3. § 3. А. ЛОСЕВ
623
С помощью лосевских мыслительных наработок данный вопрос
получает свое освещение. Между бытием и сущим лежит не просто
«граница», различающая их радикально как бытие и небытие, но
«граница границы» — естество. Бытие и сущее различаются так,
как различаются творение и становление. Бытие в творении транс-
цендентно сущему, в становлении может быть имманентно ему.
Средой и способом общения того и другого является естество. Бытие
творится, естество становится, сущее же, естественно рас-творенное
в становлении, есть то, что способно сделать выбор — ответить или
не ответить на призыв к общению, попросить или не попросить,
взыскуя или нет — все бытие.
Если принцип творения начален для определения бытия как
такового, то с точки зрения естества А. Лосев говорит о «становлении
как о первопринципе сущего вообще. Самое само не есть даже и
первопринцип. Оно выше всего. «"Бытие" и "небытие" суть пер-
вопринципы. Но первопринципу надлежит быть одному, единому.
Поэтому "бытие" и "небытие" лучше не считать первопринципами
в собственном смысле слова, а лучше считать таковым именно
становление».1 Подчеркнем еще раз для закрепления: А. Лосев
имеет в виду, что становление есть первопринцип для сущего
вообще. Для бытия же первопринципом является творение. И вся
проблема сводится к тому, чтобы научиться применять эти
принципы в каждом соответствующем случае, не подменяя и не путая
их, поскольку с их помощью сохраняется отличие бытия и сущего.
Вопрос — в чем же заключается возможность тождества бытия
и сущего — предстоит поставить в попытке его решения позднее,
когда будет пройден определенный круг развития нашей темы.
Проследим за дальнейшим движением мысли А. Лосева, про-
лагающей траекторию своего пути в направлении, заданном
вспыхивающими точками мыслительных категорий. После того как
была определена категория «становления» в двоящемся образе
«границы границы» бытия и небытия, открылась возможность сделать
еще один шаг. Очередной повтор действия онтологической триады
на сферу категории «становления» приводит к тому, что она
претворяется в категорию «ставшего» как результата «становления».
Что значит стать ставшим? А. Лосев дает такой ответ: «Это
значит из небытия вернуться в бытие. Но бытие уже и без того есть
бытие. Значит, если бытие после своего исчезновения в небытие
опять становится бытием, то можно сказать, что в ставшем бытие
возвращается к самому себе, или — что то же — на стадии ставшего
бытие, устремившись в небытие, находит себя самого в этом
инобытии, наталкивается на самого себя».2 Коротко говоря, «ставшее»
1 Там же. С. 431.
2 Там же. С. 434.
624 Ю. M. РОМАНЕНКО. БЫТИЕ И ЕСТЕСТВО
есть «воз-вращение к себе самому» как таковое, сколь естественное,
столь и креативное пребывание в процессе постоянного возврата
со-стояния себя самого. Такая же методология присутствует и в
«Науке логики», однако «Гегель изложил эту диалектику очень
трудно и сложно»,1 вероятно, по причине вышеуказанных
упущений.
Пристальное всматривание за движением мысли, застигаемой
фиксацией очередной категории, обнаруживает новую
топологическую структуру. Из первично вспыхнувшей таинственной точки на
фоне вытянулась распростирающаяся линия, которая каким-то не
менее загадочным силовым воздействием свернулась в круг, творя
новое измерение пространства — плоскость и, одновременно, новую
мыслительную категорию. «Вот теперь бытие вернулось к себе, как
бы описавши некоторый круг, встретилось с самим собой; и —
стало возможным говорить уже об определенном бытии, о
качестве».2
Становление в ставшем стало на одну степень более
упорядоченным за счет фигурации его границы: «Теперь эта граница
перестала уходить в неопределенную даль, вернулась к себе, т. е.
очертила определенную фигуру».3 Причем чертит данную фигуру на
поверхности естества само бытие: «Ставшее получилось у нас в
результате встречи бытия в небытии с самим собою в результате
как бы очерчивания им некоей замкнутой линии».'4
В результате всматривания за движением образования мысли,
следующей бытию, из первичной точки на фоне образовалась
замкнутая фигура. Иначе говоря, когда мысль сосредоточилась на точке,
начав пристально всматриваться в нее, та незаметно обернулась в
завиток, который естественно вырос в замкнутую линию за счет
совпадения начала и конца движения. Благодаря этому удалось
«создать для всех качеств вещи одно общее лоно».5
Бытие точки сохранилось в бытии линии, когда точка выступила
из себя и вернулась в себя. Бытие осталось самотождественным,
единым и неделимым, но обнаружилось, что небытие уже раздвоилось
на внешний и внутренний фоны фигуры, которая как бы захватила
«часть» небытия. На этой стадии умозрения, когда «наше внимание
все время шло за бытием, которое чертило в небытии свой круг»,6
бытие стало данным как «лишь очерченный контур вещи».'
1 Лосев А. Ф. Самое само. С. 434.
2 Там же. С. 435.
3 Там же. С. 435.
1 Там же. С. 435.
5 Там же. С. 437.
6 Там же. С. 437.
7 Там же. С. 437.
КНИГА II. ГЛАВА 3. § 3. А. ЛОСЕВ
625
Необходимо заметить, с методологической точки зрения, что
появление точки и фигуры в их соотношении с небытийным фоном
(если не присутствующим, то необходимо со-путствующим) было
вызвано ими самими, а не мышлением, которое лишь следило, т. е.
двигалось по следу являющегося. Мысль не конструировала
возникающие моменты бытия, а только воспринимала их как вдруг
обнаруживающуюся новость. «Связи бытия, установленные нами
в целях определения бытия, возникли сами собой, без нашего
ведома, вместе с установлением бытия и с поисками его
определенности».1 Инициатива мысли состоит лишь в усилии задать вопрос
к тому, что она увидела. И если вопрос задан правильно, то ответ
не заставит себя долго ждать. Мысль на-следует бытие. (Кстати
сказать, Ж. Деррида также с особым вниманием подходит к
понятию «архи-следа».)
Итак, перед нами имеется контур вещи, констатирует А. Лосев
очередной этап естественного созревания мысле-образа в общем
потоке логического выведения диалектической системы категорий,
задавая вслед за этим соответствующий вопрос: «Но мы еще
совершенно не знаем, что же находится внутри этого контура».~ Если
мысль призналась в собственном незнании, то «нужно реально
согласиться: внутри круга действительно только пустое место и
больше нет ничего».3 Теперь остается только ждать, когда наступит
очередной акт творения из небытия; очередной, но тот же самый,
просто небытие, из которого возникает творение, уже стало
заключенным в бытии. Хотя ожидания могут не оправдаться и все может
остаться схваченным в том же самом состоянии, ведь творение
необязательно потому именно, что оно совершается из небытия.
Диалектика мыслительных категорий, попутно питаясь
интуицией, установила то, что «небытие уходило на оформление
получаемой таким образом фигуры, т. е. превращалось в бытие; а когда
фигура замкнулась, то процесс завоевания бытием небытия
кончился, и внутри полученных границ вновь разверзлась бездна все
того же небытия, какое было и раньше».4 Если же, снова сверх
всяческого ожидания, фон внутри фигуры удивительным образом
насытится бытием, то мысль обогащается новой категорией. А.
Лосев предлагает: «назовем эту новую категорию категорией
индивидуальности, индивидуальной вещи, или просто категорией факта»."
Гегель называл индивидуальность «для-себя-бытием».
Обращаясь к «Науке логики», А. Лосев признается: «Внимательно пере-
1 Там же. С. 461.
2 Там же. С. 437.
3 Там же. С. 437.
1 Там же. С. 439.
" Там же. С. 439.
626
ΙΟ. Μ. РОМАНЕНКО. БЫТИЕ И ЕСТЕСТВО
читывая главу о "для-себя-бытии" у Гегеля, мы в конце концов
начинаем отчетливо видеть, что заставило Гегеля выражаться
именно так».1 А. Лосев специально подчеркивает: читая, мы начинаем
отчетливо видеть, но не только буквы физическим зрением, а мысле-
образы умным зрением. А заставило Гегеля так именно выразить
категориальную диалектику мышления не что иное, как миф,
который дал энергию движения для сопряжения логических категорий
в целостной системе, представленной для полной обозримости уму.
Миф возник в самой логике мышления для выполнения этой задачи.
Равно как и логика развернула все свои возможности в контексте
мифа.
Итак, в ходе дедукции категорий на данном этапе «получается
следующая диалектическая картина».2 Именно картина — А. Лосев
понимает эту метафору буквально, — видимая умным зрением, или
глазами категориального «оптика», как он выражается, и даже
«син-оптика» (по выражению еще Платона), видящего объемно. Эта
картина является «живым зеркалом», в меру отражающим и в
меру пропускающим чувственно-зрительные лучи. Полное
осмысление категориальной структуры вещи делает это зеркало-картину
совершенно прозрачным, давая возможность увидеть вещь в свете
ее собственного смысла. Категориальная структура — «это вовсе
не схема. И наш первый символ вовсе не схема, а только лишь то,
что открывает наши глаза на предмет и заставляет его видеть».3
На уровне ставшей для-себя-бытием индивидуальной вещи
сохраняется отношение бытия и небытия в виде заполненной фигуры
на фоне. Наступает черед новой категории, вызванной
необходимостью осмыслить отношение вещи с ее средой общения.
Возможность общения со всем иным заложена в самой индивидуальной
вещи, поскольку, твердо убежден А. Лосев, «абсолютное хочет
общения, и общения не ради эгоистических целей самооформления,
но ради самого же инобытия. Пусть абсолютная индивидуальность
не нуждается в общении с инобытием. Однако в этом общении
нуждается само инобытие. И если так, то возможность такого
взаимообщения должна быть обеспечена в самой абсолютной
индивидуальности ».4
Благодаря доброй воле «образовался верный и неуничтожимый
залог для всякого, для любого общения вещи со всем прочим,
нерушимая арена и поле для всех бесчисленных по числу и качеству
встреч со всяким возможным инобытием».5 Однако от того, что
1 Лосев А. Ф. Самое само. С. 441.
2 Там же. С. 443.
3 Там же. С. 468.
'' Там же. С. 445-446.
5 Там же. С. 445.
КНИГА II. ГЛАВА 3. § 3. А. ЛОСЕВ 627
абсолютное в вещи, ее самое само, может «хотеть» общения, еще
не значит, что вещь будет реально общаться с другими вещами, у
которых может и не быть такого «хотения». Но А. Лосев выбирает
лучший вариант, всегда держась позитивной стороны и давая ей
реализоваться в полной мере.
Но сейчас даже это не столь важно. Главное, что вещь
принципиально способна и готова к общению, и это проявляется в том,
что она как бы излучает из себя все возможные формы и способы
общения со всякой возможной иной вещью. Даже если отклика
никакого не будет, предложения к общению все равно будут
исходить, продолжаться и оставаться в силе.
Переход возможности в действительность также представляется
как становление, но на более усложненном уровне. А. Лосев
предлагает назвать эту новую форму становления термином «эманация»,
понимая под ней «выразительную форму» или просто «выражение».
«Эманация» — достаточно темное понятие в истории философии,
с ним связано много противоположных определений. Но А. Лосев
выбирает именно его, несмотря на то, что «можно спорить о термине
"эманация", который означает, собственно, "выхождение",
"выступление вперед"».1
Эманация как форма становления не есть творение, но есть уже
даже нечто противоположное ему. Хотя сама эманация естественно
следует из творения. Сотворенная из небытия вещь, неся в себе
креативный дар, как бы испускает из себя творческие энергии.
При этом А. Лосев включает в содержание понятия «эманация»
не только процесс «исхождения» или как бы «рассыпания» в
пустоту, но и момент «возвращения», «ведь в эманации абсолютная
определенность вернулась к себе. Значит, она тут сохранилась, не
погибла в бесконечном рассеянии, но утвердилась как таковая и
гарантировала себя от всякого ущерба. Эманация поэтому, несмотря
на то, что она есть арена взаимообщения вещи со всем ее инобытием,
остается в полной мере для-себя-бытием».2 Эманация, по сути дела,
и есть та способность к отклику, благодаря которому сущее, отвечая
на призыв к бытию, становится быть. Такое состояние уместно
было бы определить как синергию.
После прослеженного выше троекратного полагания креативного
акта вещи, последняя предстала «в густых и вечных волнах ее
эманативного излучения».3 Диалектика как троичная комбинация
актов полагания теперь дополняется четвертым моментом.
Становление запустилось творением (троекратным), но заработало в
собственном естественном режиме (биполярно). Вся схематика катего-
1 Там же. С. 447.
2 Там же. С. 448.
3 Там же. С. 449.
628
Ю. M. РОМАНЕНКО. БЫТИЕ И ЕСТЕСТВО
рий получает следующий итоговый (3+1) вид: «Именно: в
становлении бытие переходило в небытие, и небытие переходило в бытие;
когда бытие в небытии нашло себя само, то становление
превратилось в ставшее; когда небытие нашло в бытии себя самого,
становление превратилось в абсолютную определенность для-себя-бытия;
когда, наконец, оба эти процеса совпали и отождествились, т. е.
процесс бытие—небытие—бытие и процесс
небытие—бытие—небытие, то наше становление превратилось в эманацию».1 Благодаря
категории эманации возник четырехмерный континуум вещи, т. е.
объемность его тела. Эманация, согласно А. Лосеву, есть
определение вещи, но не с точки зрения ее внутреннего смысла, а «в ее
абсолютной явленности всему иному».'
Категорией «эманации» А. Лосев завершает конструирование
диалектики первого символа — символа самого бытия. Эманация
есть возможность воплощения бытия в естестве. Ее видами являются
следующие: «Выражение есть эманация смысла, слово — эманация
сознания, а имя — эманация личности».3
Саморазвитие категорий осуществляется, с одной стороны, по-
лаганием первотриады, с другой стороны, когда акт креации уже
есть, — естественно. Категории, образовав новую степень
системности, сразу же естественно перетекают друг в друга в соответствии
с достигнутой мерой всеединства. И само образование системы есть
именно образование, т. е. творение образом. Из этого факта
А. Лосев выводит категорию образа в том пункте становления
системы, который Гегель определял как категорию «меры»,
синтезирующей категории качества и количества. Согласно же А. Лосеву,
то, что «Гегель назвал мерой, назовем образом, а эманацию, в
которой определены все эти качественно-количественные
определения, первообразом. Ведь под образом, насколько можно судить по
чутью языка, понимается по преимуществу определенная структура
качеств и количеств»."1
Так, начав онтологический дискурс с идеи творения бытия как
зова по имени из небытия, А. Лосев пришел к естественному
возникновению образа в процессе становления мышления,
стремящегося отождествиться с бытием. Имя и образ являются начальным
и конечным моментами, в интервале между которыми
расположилось понятие вещи. Иначе говоря, понятие (логос) содержится в
имени и образе, являясь их мысленной связью.
Итак, если имя есть начальная манифестация бытия, то образ —
его конечная манифестация. Если на зов по имени должен после-
1 Лосев А. Ф. Самое само. С. 447.
2 Там же. С. 449.
3 Там же. С. 448.
1 Там же. С. 468.
КНИГА II. ГЛАВА 3. § 3. А. ЛОСЕВ
629
довать отклик, чтобы сущее стало быть, то нечто аналогичное
должно происходить и в отношении к явленному образу бытия.
А. Лосев определяет это нечто вполне оправданно как подражание
(мимезис). Когда бытие в своем образе начинает излучаться в
эманации, тогда то, что отвечает подражанием образу, становится быть
сушим. Образ, как и имя, является способом творения из небытия.
Через подражание как специфический тип становления бытие
возвращается к себе самому, облекаясь первообразом. А. Лосев пишет:
«А "первообраз" указывает на бытие, являющееся максимально
вместившим в себя те или иные подражания ему со стороны».1
Итак, символическая данность самого самого, трансцендентного
Абсолюта, проявлена в бытии тремя моментами: «I. Число (символ
чистых актов полагания бытия). И. Эманация (символ абсолютной
качественной определенности бытия). III. Первообраз (символ
абсолютной качественно-количественной определенности бытия)».2
Далее А. Лосев переходит от категории бытия к категории
сущности, которая получается при обращении внимания на «связь и
взаимопереход актов бытия без самих актов бытия... смысловое
(а не бытийное) их соотношение, или, попросту говоря, смысл,
сущность бытия, а не само бытие. Вот как мы приходим к новой
диалектической сфере, к сущности»,3
В предыдущих рассуждениях, рассматривая переходы между
бытием и небытием, неявно подразумевались некие зеркальные
эффекты. На стадии категории «сущность» зеркало предстало явным
образом. А. Лосев, присоединяясь к традиции спекулятивной
методологии, уподобляет сущность зеркалу: «сущность была у нас
определенностью бытия, но без самого бытия, совершенно так,
как в зеркале предмет отражается, но не существует там реально.
Сущность в этом отношении вполне подобна зеркалу. Она «снимает»
с бытия его план, как бы фотографирует его, дает зеркальное
отображение. Но она ничего не говорит о самом бытии, не содержит
самого бытия как бытия, как актов полагания. Это есть именно
смысл бытия, а не самое бытие».4 Зеркало есть чистая способность
естественного, непроизвольного подражания, без наличия пока в
нем активного субъекта подражания.
Так же как и у Гегеля, у А. Лосева сущность связывается с
рефлексией: «Сущность есть определенность бытия, взятая без
самого бытия, или рефлексия бытия».° Сущность отвечает на
вопрос: что такое данная вещь? Сущность «еще не есть природа, но
1 Там же. С. 458.
2 Там же. С. 458.
3 Там же. С. 461.
4 Там же. С. 464-465.
5 Там же. С. 490.
630 Ю. M. РОМАН EH КО. БЫТИЕ И ЕСТЕСТВО
это уже и не просто бытие».1 Что нее такое сущность, «и может ли
она быть природой, если строго соблюдать постепенность
диалектического перехода?»" Скорее, сущность есть та обратная сторона
природы, ее Зазеркалье, которое обращено непосредственно на
бытие, скрывая его невидимое единство за множеством чуственно
воспринимаемых вещей. Естество есть двусторонняя граница бытия,
одна из сторон которой — чувственновоспринимаема, другая —
умопо-стигаема. А. Лосев указывает на эти две стороны одного и
того же пути, ведущего к единой цели: «Так мы приходим к
значимости бытия со стороны наблюдения над чувственными
вещами. Но к ней же мы приходим и со стороны самого бытия, и
приходим — на этот раз — уже диалектически».3
Итак, хотя сущность уже не есть бытие и не есть еще вся
природа, но сущность уже можно трактовать как естество как
таковое, т. е. удвоившееся (пока не воплощенно) бытие, исходным
свойством которого является чистая зеркальность. А. Лосев пишет:
«При таком понимании сущность только и делается оригинальной
и самостоятельной областью философии. Сущность есть именно
отраженное бытие; она есть только бытие, которое светится
изнутри и видимо изнутри; это бытие, ушедшее вовнутрь,
отразившееся в самом себе. Оно в этом смысле всегда двупланово, всегда
перспективно и рельефно в противоположность плоскостному
характеру чистого бытия».4
Точнее сказать, естество — на одну размерность больше бытия.
Бытие есть, и есть его отражение в естестве как в собственном
зеркале. А. Лосев указывает на это зеркальное свойство сущности:
«сущность всегда обязательно двупланова, перспективна, что она
сама повторяет себя... Как изображение в зеркале есть прежде всего
само зеркало, а потом то, что в нем отразилось... Всякое "значение",
"смысл", "сущность" обязательно содержит в себе обозначаемое
бытие отрицательно, косвенно указывает на него — словом,
рефлектирует о нем или, даже лучше сказать, рефлектирует его».5
Естество, действительно, не рефлектирует отстраненно о бытии
(в творительном падеже), но (убрав предлог) рефлектирует бытие
(в именительном падеже), т. е. от-ражает и об-ражает его самого в
него самого, представляя как самое само.
Не будем далее подробно комментировать выведение
субкатегорий категории «сущности» в тексте А. Лосева, который
композиционно следует гегелевской «Науке логики», где структура системы
1 Лосев А. Ф. Самое само. С. 459.
2 Там же, с. 459.
3 Там же, с. 459.
4 Там же, с. 465.
5 Там же, с. 465-466.
КНИГА П. ГЛАВА 3. § 3. А. ЛОСЕВ
631
кратко представлена следующими разделами: «бытие—сущность—
понятие». То же самое находится и у А. Лосева, только «понятие»
он заменяет на «смысл», определяемый так: «Смысл вещи есть,
таким образом, самое само вещи (или самость вещи), отличное
от всякого другого самого самого».1
Мыслительная судьба понятия «бытие» в диалектическом
дискурсе проявляется в трех фазах: единое бытие — естественное
раздвоение бытия в зеркале сущности — и, если прототип и
отражение полностью совпадают и раздвоение снимается в возвращении
бытия к себе самому из небытия, возникает категория «смысла»,
в котором имеется в виду полное тождество бытия и мышления.
Смысл есть бытие с мыслью. Если на первой фазе бытие было
трансцендентно мышлению, а последнее было поэтому абстрактным,
если на второй фазе между ними обнаружилось противоречие, то
на третьей фазе бытие стало имманентным мышлению в понятии
«смысла бытия». Или, что то же самое — онтологии как конкретного
тождества бытия и словесного мышления.
Теперь можно ответить на вопрос о соотношении «бытия» и
«сущего» (любой существующей вещи). Начнем с того, что
очевидным эмпирическим фактом является то, что в повседневной жизни,
как пишет А. Лосев, «в этой чувственной и конечной сфере все вещи
существуют только отчасти и до некоторой степени».2 Просто
существование вещей частично, даже можно сказать, половинчато.
Где находится остальная «часть» вещи — пока неясно, но
угадывающее мышление видит в любой вещи как в зеркале некое тусклое
отражение недостающей восполняющей части. А. Лосев рассуждает
спекулятивно, как бы гадая по присущему мысли зеркалу, но
которое еще нужно умудриться найти здесь: «если что-нибудь
существует отчасти, то оно может (пусть хотя бы только мысленно —
смысл ведь и есть нечто мысленное) существовать и полностью».3
Неважно, что в эмпирическом существовании смысл вещи явно
не дан, мышление может трансцендировать к нему, причем делая
это не насильственно, а следуя своей природе, т. е. естеству. Когда
бытие вдруг возникает в мышлении из небытия, мышлению нужно
только быть естественным, чтобы о-смыслить бытие. Мышление
ведомо естеством, сущность которого состоит в том, чтобы исходить
в возвращение — из бытия в одно и то же бытие.
Неважно, что опыт изолированных чувств и рассудка не видит
смысла вещи, а видит только ее часть, но А. Лосев убежден уже
по опыту целостного разума, вобравшего в себя все чувства, что
«ничто не мешает нам мыслить такое бытие, которое проявляет
1 Там же. С. 489.
2 Там же. С. 496.
;i Там же. С. 497.
632
Ю. M. РОМАН EH КО. БЫТИЕ И ЕСТЕСТВО
себя сразу и целиком, такое бытие, которое действует не постепенно
и в течение долгого времени, но моментально, абсолютно цельно и
собранно, в одно неделимое мгновение времени. Тут нельзя
возражать, что такого бытия фактически нигде нет, что это только наша
фантазия. Пусть его фактически нет, но это — не наша фантазия,
а наша мысль; и эта мысль требует, что если дано что-нибудь
отчасти, то оно должно мыслиться и как данное целиком».1
Справедливости ради следует заметить, что фантазию игнорировать не
нужно. Она в любом случае остается, только претворяется логикой
мышления в правильное воображение, устойчивыми формами
которого является миф.
Мысль может войти в такой опыт полного смысла бытия лишь
в том случае, если смысл бытия может полностью воплотиться в
сущем. Поэтому в онтологии есть необходимо принципиальная
проблема: существует ли «адекватное воплощение, а адекватность
здесь равносильна бесконечной значимости, бесконечной мощи
воплощаемого смысла»?2
Наглядное, или «воззрительное» (по выражению А. Лосева)
обнаружение воплощаемого в вещи ее смысла обозначается автором
традиционным греческим термином «эйдос». Если сущность
отвечала на вопрос: «что такое вещь?», то эйдос конкретизирует этот
вопрос: «что значит данная вещь?»3. Благодаря категории «эйдоса»,
естественно выводимой мыслью из предыдущих категорий, А.
Лосеву удается осуществить очередную естественную прививку мифа
к логике, поскольку «эйдос есть первая структура смысла вообще,
т. е. первая его законченная наглядность».4
Весь сознательный опыт мышления А. Лосева, по его
признанию, по сути «посвящен доказательству и просто обнаружению
того, что предметы ума, смысловые, сущностные предметы, тоже
наглядны, воззрительны, созерцаемы, видимы очами ума».5
Мышление в своем развитии «доказывает» и «показывает» бытие
посредством дедукции категорий в эйдосах, фиксируя очные ставки,
результативные встречи Логоса и Мифоса. Здесь вспоминается
многовековой спор о реальности так называемой «интеллектуальной
интуиции», разводящий на непримиримые позиции ее сторонников
и отвергателей. «И здесь, в учении об эйдосе, мы только более
мучительно встречаемся с этой пресловутой и многообразной
"интеллектуальной интуицией" ».е
1 Лосев А. Ф. Самое само. С. 497.
2 Там же. С. 504.
3 Там же. С. 524.
4 Там же. С. 523.
5 Там же. С. 523.
е Там же. С. 523.
КНИГА П. ГЛАВА 3. § 3. А. ЛОСЕВ
633
А. Лосев становится на сторону апологетов «интеллектуальной
интуиции» (например, Фихте и Якоби, в противовес Канту), считая
ее имманентным методом онтологии и метафизики: «Кто не
понимает, что совпадение бытия и небытия есть, вообще говоря, граница,
тот, можно сказать, ничего не понимает в диалектике бытия и
небытия; а граница дана чисто зрительно, хотя и в то же время
чисто интеллектуально».1 Можно также продолжить, что граница
дана еще слуху, осязанию и т. д.
Подводя итог лосевского осмысления «самого самого» в его
одноименной работе, следует коснуться методологической стороны
дела. Как было видно, А. Лосев при изложении собственного
понимания Абсолюта применяет особую методологию, можно даже
сказать, целый комплекс методологических приемов. За этот
педантизм в обращении внимания к методологии он даже получил
упрек в абсолютизации метода, превращающейся в некий «панме-
тодологизм» (С. С. Хоружий). Это замечание, быть может, частично
справедливое в формальном отношении к произведениям А. Лосева,
возможно снять, уточнив, что метод есть развитие самого предмета,
так же как и предмет проявляется в мысли по мере опредмечивания
метода, которому следует мышление. Иначе говоря, если
«предметом» познания можно «брать» Абсолютное, то и метод его изучения
автоматически не может не быть абсолютным. Равно как и метод
изложения результатов исследования. Другой вопрос, насколько
адекватно удается выполнить эти три взаимоувязанные задачи,
которые ставит перед собой философия. Степень эффективности
решения данных задач определяется особыми критериями, которые
также нужно найти в сфере самой философии, если она хочет
сохранить абсолютное в своих притязаниях.
Свою методологическую позицию А. Лосев трактует как
объединение методов диалектики и феноменологии. В частности, в
«Диалектике художественной формы» он пишет: «Я нахожу
возможным говорить о феномена лого-диалектическом методе,
предполагая, что, хотя оба они — как методические структуры — и
совершенно различны, все же прикровенно друг друга предполагают
и обосновывают, и истина — только в их единстве»."
Под феноменологией обычно понимают чистое узрение феномена
(т. е. бытия, самочинно являющегося в собственном свете), а также
его адекватное описание без посторонних привнесений со стороны
субъекта. Субъективистско-гносеологизаторский подход редуцирует
явление феномена к познавательной сфере, отрывая гносеологию
от онтологии, знание от бытия. Такая установка может помочь
1 Там же. С. 523.
1 Лосев А. Ф. Диалектика художественной формы /'/ Лосев А. Ф.
Форма—Стиль—Выражение. М.: Мысль, 1995. С. 165.
634 Κ). M. РОМАНЕНКО. БЫТИЕ И ЕСТЕСТВО
понять смысл специфических связей познания как такового и
структур трансцендентального субъекта, однако она становится
непродуктивной при постановке онтологического вопроса: о чем же,
собственно, знание?
В целом А. Лосев принимает идею феноменологии, как она
развивалась в начале XX века, в первую очередь благодаря трудам
Э. Гуссерля. Однако, так же как впоследствии ученик Э. Гуссерля
М. Хайдеггер осуществил «поворот» от феноменологии к онтологии,
параллельно и А. Лосев видит основной недостаток современных
ему феноменологических разработок в дезонтологизации
философского мышления, решая эту проблему по-своему, нежели М.
Хайдеггер. Русский философ так характеризует феноменологическую
традицию: «При всей плодотворности и глубине этих исследований
они всегда страдали одним органическим пороком: их "смысл"
констатировался чисто описательно, независимо от его отношения
к бытию; и — получался метафизический дуализм между бытием
и смыслом или смыслом и явлением; получался
противоестественный разрыв между мыслью и действительностью, трагический для
феноменологии, потому что она-то как раз и хотела описать
действительность как таковую».1
Восполнение этого недостатка А. Лосев видит в обращении к
традиции категориально-системного диалектического подхода,
основанного на принципе тождества бытия и мышления: «Эта
беспомощность в проблеме смысла, когда под именем "объяснительных"
методов отбрасывалась всякая попытка установить связь "смысла"
с "бытием", может быть устранена только путем возвращения к
какой-нибудь классической системе философии, где эта проблема
разрешена, и прежде всего к Гегелю».2 Таким образом, А. Лосев
синтезирует идеи феноменологии (в частности Гуссерля) и
диалектики (в частности Гегеля), делая это не механически, а вполне
творчески, ибо решить эту задачу, на самом деле, чрезвычайно
сложно, для чего приходится преобразовывать, изобретательно
прилаживая друг к другу, их исходные принципы.
В результате объединения и конкретного обоюдного применения
диалектики и феноменологии у А. Лосева получается
специфическая методологическая структура, которую он арифмологически
определяет как тетрактиду (четверицу), т. е. синтез диалектической
триады и единого феномена как четвертого момента, благодаря
чему возникает возможность решить проблему конкретизации
абстрактного (воплощении идеального) при построении объемной
модели диалектики: «Вместо триады я предлагаю говорить о тетрак-
тиде по следующим причинам. 1) Диалектическую триаду легко
1 Лосев А. Ф. Самое само. С. 466-467.
2 Там же. С. 467.
КНИГА П. ГЛАВА 3. § 3. А. ЛОСЕВ
635
понять (и понимали) как чистую идею и смысл, в то время как
диалектика захватывает как раз всю стихию живого движения
фактов, и потому надо говорить не просто об отвлеченной триаде,
но и о триаде как о вещи, как о факте, т. е. триада должна вобрать
в себя действительность и стать ею. "Четвертый" момент и есть у
меня "факт". 2) Только таким образом и можно спасти диалектику
от субъективного и бесплотного идеализма, оперирующего с
абстрактными понятиями, не имеющими в себе никакого тела. 3) Тет-
рактидность содержится и в построениях великих диалектиков, но
вскрывать это составляет предмет особого исследования».'
Итак, трактуя феномен как явление самого бытия, онтологию
следует одновременно назвать «наукой о бытии и о выражении
этого бытия».2 А. Лосев предупреждает, что «у нас идет речь не
просто об онтологии, которая была и в Средние века, и в Новое
время, но о такой онтологии, которая везде и всюду является
первым, а иной раз даже и исключительным принципом».3 Другими
словами, исторических вариантов онтологии было несколько, но с
теоретической точки зрения онтология одна и едина, имея в себе
инвариантные структуры и смысловые константы, к которым
сводится вся философская проблематика бытия. Следовательно,
продолжает А. Лосев, «когда мы говорим о выражении, то мы говорим
не просто о бытии, но о таком бытии, которое нам определенным
образом дано и осмыслено в своих функциях, так или иначе значимо,
так или иначе открыто для всего иного».4
Бытие может быть каким угодно и проявляться в чем угодно,
в том же самом столе, к примеру, и может быть совершенно
непознаваемым, невыразимым, загерметизированным в себе. В
последнем случае онтология возможна как умолчание о бытии,
оставленном в небытии, зарезервированном для мышления. Но если
возможно творение, то это значит, что бытие выразило себя из небытия.
Если эта возможность признается как действительный факт, то
начальным его осмыслением выступает онтологическая триада
«бытие—ничто—творение». Хотя опознать это начало как начало
можно, только реализовав его в конце, по прохождении всего метода.
Если последнее удается, то получается следующий результат:
отождествление мышления с бытием. Как такое состояние можно
назвать, какое имя ему пристало? А. Лосев называет это состояние
онтологии не чем иным, как мифом. Иного имени, действительно,
подобрать невозможно. И более того, этим не случайным именем
1 Лосев А. Ф. Диалектика художественной формы. С. 163.
2 Лосев А. Ф. История античной эстетики. Итоги тысячелетнего
развития: В 2-х кн. Кн. 1. М.: Искусство, 1992. С. 402.
8 Там же. С. 403.
4 Там же. С. 405.
636 Ю. M. РОМАНЕНКО. БЫТИЕ И ЕСТЕСТВО
данное состояние обозначалось изначально. А. Лосев просто
адекватно воспроизвел звучание данного имени, строго следуя традиции в
припоминающем обращении к началу философии, длящемуся
поныне.
Миф не вне онтологии, а в ней самой, нужно только дойти до
того уровня развития онтологии, когда миф имманентно
проявляется в ней, одновременно проявляя ее саму. Говоря о двух состояниях
предмета онтологии, которые мы выразили бы так — «бытие-в-себе»
и «бытие-в-творении-из-небытия-для-иного», А. Лосев пишет:
«Подлинное бытие, которое в этих двух формациях дошло до степени
выражения, есть мифология».1
А. Лосев кардинально онтологизирует миф, параллельно мифи-
зируя онтологию, и только этим совместным решением ему удается
выполнить невыполнимое: увидеть в имманентном образе, как
творится бытие, вызванное из небытия по имени, которое услышано
в дарящем откровении трансцендентного Абсолюта. Миф есть
предельное развитие образа, выражающего именно бытие, согласно
А. Лосеву: «Всякий миф тем и отличается от простого поэтического
образа, например от метафоры, что он возвещает нам именно о
действительно существующем».2 Впрочем, поэтический образ и
метафора выполняют то же самое, будучи синонимами мифа, нужно
только умудриться создать и воспринять их онто-мифо-логически.
Благодаря обнаружению мифического в онтологическом и, как
следствие, в логическом, появляется возможность перейти к
проблеме метафизики. Отношение к ней у А. Лосева достаточно
двусмысленное. Он ругает ее за абстрактность, дуализм, догматизм и
прочие родимые пятна, находясь в контексте критического к ней
отношения. Сравнивая в «Диалектике мифа» метафизику и миф,
А. Лосев определяет первую следующим образом: «Под
метафизикой будем понимать обычное: это натуралистическое учение о
сверхчувственном мире и о его отношении к чувственному; мыслятся
два мира, противостоящих друг другу как две большие вещи, и —
спрашивается, каково их взаимоотношение».3
Коротко говоря, метафизика есть учение об отношении (причем
взаимном) умопостигаемого (сверхчувственного) и чувственновос-
принимаемого. В этом определении ставится акцент именно на
отношении в пределах некоторой двоицы: «центральное ядро всякой
метафизики — учение об отношении сверх-чувственного к
чувственному».4 При этом метафизика в лосевском понимании «логически
1 Лосев А. Ф. История античной эстетики. Кн. 1. С. 405—406.
2 Там же. С. 405.
3 Лосев А. Ф. Диалектика мифа // Лосев А. Ф. Из ранних произведений.
М.: Правда, 1990. С. 417.
л Там же. С. 421.
КНИГА 11. ГЛАВА 3. § 3. А. ЛОСЕВ
637
отвлеченна » и вместе с тем « натуралистична », стремясь в тенденции
выразить научными средствами универсальные связи данного
отношения, но сохраняя его в дуалистической форме, в отличие от
онтологии: «Метафизика есть наука или пытается быть наукой
или наукообразным учением о "сверх-чувственном" и об отношении
его к "чувственному"».1
В целом у А. Лосева нет отдельных исследований по метафизике,
в сравнении с онтологией, однако в его учении о мифе и в историко-
философских исследованиях находится немало тем, имеющих
прямое отношение к метафизике в нашем понимании. Трактовка
«метафизики» определяется прежде всего тем, как в ней осмысляется
«физика», т. е. естественное. Метафизика, с нашей точки зрения,
есть исследование природы (фюсис) в целом (мета), а значит,
включает в себя оба ее аспекта, как чувственновоспринимаемый, так и
умопостигаемый. Поэтому реконструировать метафизику А. Лосева
можно из его философских представлений о природе (естестве),
интерпретируя их в избранном нами направлении.
Лосевское представление о природе фактически заимствуется
из античного истолкования «фюсис». Будучи подлинным знатоком
античной философии, А. Лосев посвящает понятию «природа»
целый тематический раздел в своем итоговом томе «Истории античной
эстетики». Древнегреческое употребление слова «фюсис» в
повседневной речи характеризовалось тем, что под ним «понимали не
что иное, как происхождение вещи. Далее, в этом термине имелось
в виду представление о композиции вещей и человека — в частности,
не только вещей вообще, но и наружности человека, а равно его
темперамента и инстинкта у животных. Далее, термин употреблялся
для обозначения регулярного порядка природы, создания вещей,
их сорта, рода и вида, включая различия мужского и женского
пола».2
На основе естественного словоупотребления сложилась
философская транскрипция понятия «фюсис», сохранившая исходные
значения обыденного языка, но претворив их для собственных нужд:
«В значении чисто философском термин "природа" тоже имел
большое хождение, обозначая творческую силу, принцип всякого роста,
далее — элементарную субстанцию и творение вообще. Именно
так, например, пифагорейцы обозначали свою диаду в качестве
одного из творческих и смысловых принципов бытия вообще».3
Латинский термин «натура» усваивает из греческой «фюсис»
эту специфику: «Латинский термин "natura" тоже имеет
необозримое число разных значений, но, кажется, можно уловить его ос-
1 Там же. С. 420.
2 Лосев А. Ф. История античной эстетики. Кн. 2. С. 233.
3 Там же. С. 233.
638
Ю. M. РОМАНЕНКО. БЫТИЕ И ЕСТЕСТВО
новной смысл. Природа мыслится здесь как совокупность
разнообразных вещей, которые, несмотря на свое противоречие и даже
борьбу, являются вечной необходимостью. На своем языке мы бы
сказали, что это есть постоянное противоречивое становление
установленного от вечности распорядка вещей. По-видимому, в этом и
нужно находить разгадку той "естественности", о которой говорят
многочисленные латинские тексты».1
Итоговое понимание природы в античности формулируется «в
форме диалектического единства противоположностей»,2 что,
собственно, определяет содержательный горизонт метафизики. Иначе
говоря, фюсис есть противоречивое отношение между моментами
двоицы, а мета-фюсис есть разрешенность этого противоречия.
Таким образом, диалектика является имманентным методом самой
метафизики, и противопоставлять их можно только по
недоразумению.
Согласно А. Лосеву, отношение к природе у античных философов
проявилось в последовательности следующих трактовок. Досокра-
тики выражали природу описательно-интуитивно, софисты и
Сократ — рационально-дискурсивно, Платон — категориально-диа-
лектически, Аристотель — энергийно-творчески, скептики —
агностически, стоики — субъективно-аллегорически, неоплатоники —
мифически. Античность, фактически, задала все возможные формы
отношения к природе (за исключением экспериментально-
преобразующей), которые в разных вариациях воспроизводились в
последующие эпохи. Собственно говоря, даже экспериментальную
установку можно вывести как определенную комбинацию открытых
античностью форм, реализация которой пришлась на будущую
эпоху. Но во всех случаях понимания античностью природы находится
некоторый неизменный принцип.
Наиболее адекватно сформулирован этот инвариант в философии
Аристотеля. Принципиальными моментами здесь являются
следующие: природа есть некий род бытия, хотя и не само бытие,
исходным признаком которого является единство. Природа же
двоична: «У Аристотеля в его представлении о природе наблюдается
весьма интересная, а исторически также и весьма существенная
двойственность».3 Начинать изучать природу необходимо с бытия,
присутствующего в природе как ее сущность, но не исчерпывающего
ее до конца. Бытие неподвижно и неделимо, природа же есть
подвижность деления как таковая. В аристотелевской «Метафизике»
(V 1), излагает А. Лосев, «природою в первом и основном смысле
является сущность — а именно сущность вещей, имеющих начало
Лосев А. Ф. История античной эстетики. Кн. 2. С. 234.
2 Там же. С. 235.
5 Там же. С. 235.
КНИГА П. ГЛАВА 3. § 3. А. ЛОСЕВ
639
движения в самих себе как таковых».1 Поскольку бытие опытно
обнаруживается в природе, то метафизика есть не иное что, как
онтология фюсис.
Так же как и М. Хайдеггер, А. Лосев обращает особое внимание
на ключевое место аристотелевской «Физики» (В-1), где проводится
различие «в каком смысле объединяются материя и эйдос в природе
и каким образом вне природы»,2 т. е. в искусственном. Так как идея
и материя являются моментами двоицы, их связь может быть
представлена двояко: «Аристотель здесь доказывает, что эйдос и материя
образуют собою в природе абсолютное и нерасторжимое единство,
в то время как, например, в искусстве художник вкладывает эйдос
в материю совершенно произвольно, так что и эйдос может здесь
мыслиться отдельно от материи, и материя, если ее взять отдельно,
тоже может существовать совершенно самостоятельно».3
Искусство (техне) есть онтологическое отношение к природе
(фюсис), но такое, которое креативно выделяет из неделимой двоицы
один из ее моментов, представляя его как единственное неделимое
бытие, оставляя второй момент в стадии несущественности.
Искусство есть творчество, хотя это творчество может быть как
конструктивным, так и деструктивным, в соответствии с возможными
направлениями рассмотрения онтологической триады
«бытие—ничто—творение». К самому бытию невозможно искусственное
отношение, так как оно неделимо; искусство возможно при наличии
диады: искусство самой природы или искусство в отношении к
природе со стороны такого субъекта, который освоил природу
искусства и научился ее применять.
В метафизику Аристотеля включается чистая онтология
(представляемая им как ноология — учение об абсолютном Уме-
Перводвигателе) и оба способа отношения к диаде фюсис —
искусственное и естественное. Так, с учетом всех возможных (и
невозможных, но реальных) отношений Бытия и Естества, у Аристотеля
осуществился план построения собственно мета-физики. А. Лосев
так резюмирует типологическую связь онтологии и метафизики в
философской системе Стагирита в свете понятия «фюсис»:
«Необходимо сказать, что природа у Аристотеля тоже есть совпадение
бытия и самодвижности, что это совпадение дается материальными
средствами пространственно-временной самодвижности, что оно
вечно и непреложно, как и само бытие вообще, и что оно тоже имеет
космически-иерархийное строение ». *
1 Там же. С. 247.
2 Там же. С. 248.
3 Там же. С. 248.
4 Там же. С. 249.
640
Ю. M. РОМАН EH КО. БЫТИЕ И ЕСТЕСТВО
В дальнейшем, метафизика трансформировалась в направлении
акцентирования и апробирования одного из ее аспектов и
интерпретирования под его главенством всего метафизического
содержания. Так у стоиков «природа трактовалась как тождество творящего
и творимого... как идеальная художница»,' в символическом
объединении идеи искусства и природы. Эпикурейцы и скептики
обратили внимание на место человека в природе с его сосредоточенностью
в собственных переживаниях, вплоть до отрешенности от природы.
Наконец, неоплатоники сумели подойти к природе синтетически,
что привело к возвращению к мифологическому постижению
природы.
В комментарии А. Лосева, «природа трактуется у Плотина как
некоего рода самосозерцание. И второй момент заключается в том,
что это самосозерцание есть также и бытийное полагание
созерцаемого».2 Двуактность полагания природы в мышлении заключается
в том, что «прежде чем кто-нибудь, человек или бог, станет созерцать
вещи, эти вещи сами себя созерцают, то есть тем самым и созидают
себя самих. Итак, каждая вещь есть определенного рода смысл,
определенного рода созидание себя самой и потому определенного
рода самосозерцание».3
Уже у Плотина наблюдается утверждение принципа культуры
сохранения естества, основанного на мифическом его восприятии:
«Плотин действительно дает исчерпывающий ответ на вопрос,
почему не человек переносит свои чувства на природу, но природа
переносит стихию своего самосозерцания на человека».4 Иначе
говоря, человек может воздействовать искусственно на природу,
перенося на нее свои свойства и цели, лишь благодаря тому, что природа
сама уже внесла в него эти свойства. При совпадении этих
двунаправленных процессов (искусства природы и природы искусства)
возникает некий цикл — культ естества, проявляющий
имманентную целесообразность в самой природе (действовать целесообразно
означает действовать в соответствии с образом целого).
А. Лосев резюмирует в целом неоплатонический подход: «Но
тем самым отождествление объекта и субъекта должно было
приводить к учению о мифе, поскольку миф только и состоит из
картины живых существ. Да, так и надо говорить: природа у
неоплатоников опять стала мифом, каким она была в период
общинно-родовой формации... Но, как это можно подтвердить
разнообразными текстами, природа у них именуется душой. А ведь
1 Лосев А. Ф. История античной эстетики. Кн. 2. С. 250-251.
2 Там же. С. 254.
3 Там же. С. 254.
4 Там же. С. 255.
КНИГА П. ГЛАВА 3. § 3. А. ЛОСЕВ
641
одушевленная природа — это и есть миф».' Здесь снова констатация
цикла: как учил еще Платон, движение души по ее природе —
круговое, в которое естественно вовлекается человек. Хотя
необходимо уточнить немаловажную деталь, что единый круг бытия в
фазе диады естества претворяется в восьмерку — соприкасающиеся
в единой точке круг тождественного и круг иного.
Плотин продолжает традицию комментирования платоновского
«Тимея», где «природа есть ремесленник, создающий свои предметы
но высшей модели, причем и сама она находится в вечном движении,
а модель, по которой она творит, есть неподвижный логос».2 Саму
по себе природу, т. е. двоицу как таковую, нельзя окончательно
познать ни мышлением, ни чувственностью, ни наяву, ни во сне,
но «как бы во сне» или «как бы наяву», т. е. в воображении —
вхождении в ее целостный образ, когда, действительно, не
осознаешь — спишь ты или бодрствуешь, пребывая в некоей
раздвоенности. А. Лосев так истолковывает «Эннеады»: «Природа
распоряжается логосами и эйдосами, но она неспособна к чистому
созерцанию, как неспособна к этому и душа вообще (III 8, 1-4), но
действует как бы во сне (III 8, 4, 22-24)».3 Вызвать ее из забытья
может только акт творения из небытия.
Одна из законченных формулировок умопостигаемого и
одновременно чувственновоспринимаемого отношения бытия и естества
(устанавливающего корреляцию онтологии и метафизики)
находится у другого неоплатоника — Ямвлиха, цитату из которого приводит
А. Лосев: «Вся субстанция (oysia) судьбы находится в природе.
А природой я называю неотделимую причину космоса и неотделимо
охватывающую целостные причины становления, которые в
отдельном виде содержат в себе более сильные субстанции и устроения».4
Прокомментировать данный фрагмент можно так: бытие пребывает
в естестве таким образом, что естество исходит из бытия, стремится
окружить его в целостном охвате, но не отделяется от него
окончательно, обнаруживая в себе становление все новых и новых
творческих способностей. Бытие есть в естестве как в собственном
живом зеркале. Избавиться от этого зеркала можно, лишь
уничтожив разницу между жизнью и смертью.
Открытая античностью проблема соотношения природы и
искусства получила в ней же свое умопостигаемое разрешение. Еще
Аристотель говорил, что произведения искусства подобны
произведениям природы, поскольку первое подражает второй. В то же
время искусство может создать нечто такое, что еще не созрело в
1 Там же. С. 255.
- Там же. С. 256.
;i Там же. С. 256.
1 Там же. С. 256.
642
ГО. M. РОМАНЕНКО. БЫТИЕ И ЕСТЕСТВО
природе естественно. Искусства могло бы и не быть, но природа
все равно способна реализовать все свои формы, актуально или
потенциально присущие ей. Кроме этого, в природе возникают, по
мнению Стагирита, некие негативные моменты, проявляемые в
виде некоторых болезней, с которыми она не может справиться
сама и которые может исправить только искусство (в частности,
врачебное).
Между природой и искусством обозначился определенный
разрыв, заставляющий поставить вопрос: что первично — природа или
искусство (в широком смысле, включая возможность существования
искусства создания самой природы)? Преодоление этого дуализма
выпало на неоплатоническую традицию, где данная проблема была
вынесена для своего разрешения в мифическую плоскость. А. Лосев
так оценивает вклад неоплатоников в развитие предшествующих
теорий по данному вопросу: «Если природа, взятая в своем пределе,
оказывалась искусством, а искусство, взятое в своем пределе,
оказывалось природой, то ясно, что во всех подобного рода теориях
не хватало именно предельного перехода фактически различных
произведений природы и искусства. И вот сущностью нового
понимания искусства у Плотина и оказалась теория этого предельного
умозаключения ».1
Принципиальный аспект рассматриваемой проблемы состоит в
выяснении вопроса о соотношении «творения» (проявляющегося в
искусстве как творчество мастера) и «естественного становления»
(в процессе которого спонтанно возникают формообразования
природы). С точки зрения онтологической триады, искусство и природа
тождественны в некий исходный момент творения, хотя потом их
пути эволюционно-исторически расходятся. Но в какой-то двойной
перспективе, благодаря тому же креативному акту возможно их
схождение, в точке которого реализуется культура сохранения
естества.
Именно об этой догадке неоплатоников говорит А. Лосев,
рассматривая проблему в полном онтолого-метафизическом контексте:
«Тут становится понятным также и то, что не просто природа
завершается искусством, а искусство завершается природой, но и
то, что природа и искусство с самого начала тождественны и
неразличимы, а их различимость возникает только внутри космоса,
возникает в разной мере, в зависимости от эманации, и творящее
и творимое принципиально везде одно и то же, хотя фактически
это тождество везде разное. В природе творящее и творимое есть
одно и то же, хотя фактически каждый раз и ясно, что именно
является в ней творящим и что — творимым. В человеке творящее
и творимое различны, поскольку творящее начало в нем отличается
1 Лосев А. Ф. История античной эстетики. Кн. 2. С. 275.
КНИГА П. ГЛАВА 3. § 3. А. ЛОСЕВ
643
от тех материалов, на которых человек и проявляет свое творчество.
Но и человек в своем совершенном виде далее и не замечает этой
разницы, так что и у людей тождество творящего и творимого тоже
возможно, только не у всех и не всегда. Но отбросьте эту
случайность, и вы получите полное тождество творящего и творимого,
как оно присутствует в умопостигаемом мире».1
Разговор теперь переводится на проблему, что значит «отбросить
случайность», непонятно откуда появившуюся, из-за которой
скрылось тождество и проступило различие творящего и творимого.
С другой стороны, различие бытия и сущего положено в акте
творения, а степень этого различия производна от эманации, т. е.
естественного становления к своему пределу.
Держа в поле внимания (или как раньше говорили — перед
«мысленным взором») эту точку тождества природы и искусства,
рассмотрим некоторые принципиальные категории, имеющие
значимость и для теории природы, и для теории искусства, посредством
которых функционирует культура естества или естество культуры.
В целом тождество природы и искусства выражается категорией
«гармония», этимологически означающей некую «ладность» или
«прилаженность» чего-то с чем-то. Гармония выражает
самобытность двоицы естества, при этом она может быть явной, когда оба
момента двоицы даны в обозримом опыте, или тайной, когда один
из моментов невидим. Причем, согласно Гераклиту, тайная
гармония лучше явной. А. Лосев реконструирует толкование Платона
на известное изречение Гераклита о лире, где излагается догадка
о двоении бытия в естестве: «В звуке, который издается так или
иначе натянутой струной, имеются в виду как бы два звука, но
данных не в отдельности, а в виде стремления одного звука к
другому».2 Естество и есть это стремление каждого одного момента
двоицы к другому, хотя сами моменты имеют определенное
самостоятельное значение с онтологической точки зрения единого бытия;
и если это обоюдное стремление удается, лучшим его обозначением
является категория «гармонии».
С диалектической точки зрения гармония определяется как
единство противоположностей. В контексте принципа «всеединство»
гармонию можно рассмотреть в свете еще одной динамической
категории, конкретизирующей ее становление, а именно категории
«мимесис» (подражание). Как интерпретировали принцип
«всеединства» пифагорейцы, «все желает подражать единому». Моменты
двоицы влекутся друг к другу, сохраняя ее целостность, во взаимном
подражании. При этом повторимся, что мы имеем в виду ни чисто
природное, ни чисто искусственное подражание, а держим во вни-
1 Там же. С. 276.
2 Там же. С. 14.
644 ГО. M. РОМАНЕНКО. БЫТИЕ И ЕСТЕСТВО
мании их тождественность. В данном случае мимесис приобретает
существеннейший онтолого-метафизический статус принципа и
даже метода «пульсирующе-структурного оформления» творения
бытия в становлении естества.
Универсальность категории «мимесис» в космоцентрическую
античную эпоху проявилась в том, что «космологический мимесис
был подражанием самому же себе, а он сам был подражанием своей
собственной идее и фактическим воспроизведением этой самой
идеи».1 Абсолютизация мимесиса в античности привела к тому, что
«такая позиция подражания, доведенная до крайней степени
онтологизма, ведет, собственно говоря, к уничтожению всякого
искусства, поскольку во всяком искусстве всегда есть некоторого рода
условность и определенного рода небуквальность воспроизведения
того, о подражании чему идет речь».2 Собственно говоря,
абсолютизация мимесиса привела не к уничтожению искусства, а к
уничтожению его условности, т. е. к безусловному включению искусства
в саму природу Космоса.
А. Лосев дает сводку трактовок «мимесиса» у древнегреческих
философов. Так, пифагорейцы и Платон понимают «мимесис как
творческое созидание», в котором «подражающее и подражаемое
слиты в одно и нераздельное целое».3 У Аристотеля также
подражание толковалось как самодовлеющее и автономное, определяясь
как «текуче-сущностное моделирующее понятие... то движение, та
актуально становящаяся и творчески подвижная общность, которые
реально проявляют себя в создании единичных образов. Настоящее
подражание, по Аристотелю, есть именно текуче-сущностное
становление той или иной общности в тех или иных ее единичных
представлениях» .4
В учении стоиков об иррелевантном лектон, казалось бы, был
достигнут нейтралитет к подражанию. Но это верно только в
отношении к его частичным проявлениям. В целом же «эта
нейтральная область потому и трактовалась как нейтральная, что она ничему
не подражала; и если уже обязательно говорить здесь о подражании,
то эта нейтральная область могла подражать только самой же себе».
С морально-этической и космологической точек зрения, «подражать
природе значило у стоиков воспроизводить природу, то есть
воспроизводить ее субстанциально. Стоический мудрец подражал
природе в том смысле, что уже и сам становился природой, не ее ото-
1 Лосев А. Ф. История античной эстетики. Кн. 2. С. 57.
2 Там же. С. 58.
3 Там же. С. 60-62.
4 Там же. С. 63-64.
5 Там же. С. 64.
КНИГА II. ГЛАВА 3. § 3. А. ЛОСЕВ
645
бражением, но ее субстанцией, одной из ее бесчисленных
субстанций».1
Согласно неоплатоникам, в частности Проклу, «единораздельная
природа есть то, благодаря чему происходит подражание Отцу в
космосе».2 Важно обратить здесь внимание, что природа сама есть
подражание Абсолюту и вместе с тем — условие для подражания,
уже вторичного, т. е. субъективно искусственного, хотя
субъективное при этом не отделяется от объективного. Единое неоплатоников,
будучи трансцендентным сущему, ничему не подражает, однако, с
обратной стороны, «это наивысшее единство не подражает только
отдельным предметам и явлениям, Поскольку оно выше них; но
оно, во всяком случае, подражает всему существующему, взятому
в целом».3 Единое подражает Всему, как верно и обратное, что
создает условия возможности конкретного всеединства.
Под углом зрения утверждаемого античностью культа
сохранения естества «миметизм решительно на всех ступенях внутрикос-
мической, космической и надкосмической жизни везде одинаково
является всемогущим и неопровержимым принципом».4 Античный
Абсолют потому и является аб-солютом, что он довлеет себе в
самоподражании, как, к примеру, мышление мышления Аристотелева
Ума-Перводвигателя, находящего в этом наивысшее блаженство.
Нет нужды говорить о возможности злоупотребления
подражанием, о чем предупреждали различные традиции, выстраивая к
нему различные запреты. Нужно только сделать оговорку: подражание
подражанию рознь, бывает естественное и искусственое, абсолютное
и относительное подражания. Чтобы внятно сформулировать суть
этой проблемы, необходимо снова развести онтологический и
метафизический дискурсы. Бытие, действительно, неподражаемо (ибо
оно по определению Парменида «бездрожно»), как невозможно
подражать первоакту творения бытия из небытия. Мимесис может
быть санкционированным лишь в контексте метафизики, и то если
он берется всеобщим образом. В этом смысле запрет на подражание
не необходим. Табуировать необходимо только подражание
небытию, с чем сталкивались уже в античности и «что уже во всяком
случае требовало в античности полного отрицания и отвержения —
это мимесис полностью беспредметный ...когда подражание
происходит неизвестно чему и когда зритель, слушатель и читатель
вслед за самим художником только и знают, что наслаждаются
своими собственными, то есть только вполне субъективными,
причудами и капризными вкусами, насквозь праздными».5
1 Там же, с. 65.
2 Там же, с. 69.
3 Там же, с. 72.
' Там же, с. 72.
5 Там же, с. 75.
646 Ю. M. РОМАНЕНКО. БЫТИЁ И ЕСТЕСТВО
Таким образом, категория «мимесис», входя в объем категории
«гармония», выражающей культуру естества, имеет свои онтолого-
метафизические ограничения. Важным ограничителем здесь
является категория «катарсис» (очищение), с помощью которой
конкретизируется одно из имманентных свойств естества в возвратном
направлении его движения к бытию.
Если «мимесис» характеризует естественную динамику
становления всеединства с метафизической точки зрения, то «катарсис»
есть некоторое дополнительное действие, имеющее как естественный
характер, так и креативный. Если дать волю мимесису, то он
уподобит во всеединстве все что угодно, в том числе и принципиально
неподобное. Но такое состояние практически будет равнозначно
хаосу, неспособному удержать целостность ни в какой момент
времени миметических превращений. Катарсис является внутренним
способом природы сохранять себя как двоицу. Тем самым, на стадии
катарсиса двоичное естество начинает разворот в возвращении к
единому бытию. Метафизика, исходя из онтологии, снова
обращается к ней. Бытие, воплотившись в естестве, возвращается к себе
при очищении естества, что не означает отбрасывание последнего,
но как раз его гармоничное проявление как таковое.
Бытие одинаково присутствует во всех своих сущих
проявлениях, отождествляющихся во взаимном уподоблении, а различие
между ними заключается лишь в степени катарсичности. До такого
понимания дошли представители неоплатонизма, как оценивает их
достижения А. Лосев: «Именно очищение понимается у Прокла
вообще как отражение высшей ступени эманации в ступени низшей
на всех уровнях эманации — в едином, в уме, в душе и во всем
космосе вплоть до неорганической области».1 Таким образом,
катарсис является, с одной стороны, способом естественного
становления сущего в направлении к бытию, с другой стороны, по этой
причине имеет статус способа творения.
Это краткое рассмотрение характеристик цикла сохранения
естества можно представить категориальной схемой:
мимесис—катарсис—гармония. А. Лосев фиксирует ту точку получившейся
замкнутой фигуры круга, где совпали начало и конец движения: «Итак,
завершительная ступень гармонии, то есть совершенство, в условиях
совпадения всех конструктивных и конститутивных моментов этой
гармонии была в античности не чем иным, как игрой вечной
стихийности бытия с самой же собой».2 В категорию совершенства
входят такие ключевые понятия, как «пропорция», «симметрия»,
«ритм» и прочие, посредством которых детализируется содержание
понятия естества как в плане природы, так и в плане искусства.
1 Лосев А. Ф. История античной эстетики. Кн. 2. С. 83.
2 Там же. С. 151.
КНИГА II. ГЛАВА 3. § 3. А. ЛОСЕВ
647
«Вечное совпадение хаокосмических противоречий было не чем
иным, как игрой стихии с самой собой»,' — пишет А. Лосев,
удивляясь догадке Гераклита о том, что «Вечность есть играющее
дитя» (В 52). Грандиозность чувственно-умо-постигаемого Космоса
можно представить в такой игре слов: Космос ментален, моментален,
монументален. Не более того, но и не менее. Расшифровывая этот
каламбур, который на самом деле не случаен, можно сказать, что
весь Космос постигается целостной мыслью, которая случается
внезапно, когда мышление в развитии своих структур достигает степени
законченного образа, воплощением которого и является сам Космос.
Согласно А. Лосеву, в античности сформировались две
предельные мыслительные структуры — онтологическая и метафизическая.
Во-первых, предмет онтологии является «абсолютным первоедин-
ством, в котором выражаемое и выражающее не только совпадают,
но совпадают в одной неразличимой точке. Эта точка есть
абсолютная сконцентрированность всех различий, абсолютное их средоточие
вплоть до полной их неразличимости».2 Приведенное рассуждение
есть парафраз установочной онтологической триады
«бытие—ничто—творение». Во-вторых, под метафизическим углом зрения,
зафиксированная точка первоединства дана стереоскопически, в
двойной перспективе, так, что абсолютная единичность положена на
фоне «повсюду внеположного континуума... в котором невозможно
отделить одну точку от другой и в котором каждые точки есть
только потенция какой-нибудь другой точки, почему мы и говорим,
что все точки такого становления взаимно абсолютно внеположны».3
Первой беспредпосылочной структурой понимания этого
континуума становления является диада. В результате сополагания первой
и второй структур (генады и диады) между ними возникают, как
выражается А. Лосев, «межпредельные, или внутрипредельные, то
есть промежуточные, структуры», посредством которых
устанавливаются связи между онтологией как учением о целом бытии и
метафизикой как учением о целом естестве, в секторе пересечения
которых образуется простор существования сущего.
Идеальная совокупность межпредельных структур
представляется А. Лосевым как «софийная сущность промежуточной области»
между творением бытия и становлением естества. Так А. Лосев
выходит на феномен Софии (мудрости), являющейся «соработни-
цей» абсолютного Творца в акте творения. «София» есть предельное
развитие идеи «фюсис», преобразованной в свете идеи творения.
София есть фюсис трансцендентного Абсолюта, как это понимала
поздняя античность: «Софийность в античности есть принадлеж-
1 Там же. С. 151.
2 Там же. С. 166.
3 Там же. С. 167.
648
ГО. M. РОМАНЕНКО. БЫТИЁ И ЕСТЕСТВО
ность решительно каждой основной категории мышления и бытия.
Все высшее порождает здесь собою низшее не в результате какого-
нибудь своего сознания или намерения, а только в силу своей же
собственной природы».1 Результатом античного онтолого-метафизи-
ческого синтеза стало учение о Софии, которая является всеобщей
категорией мышления и одновременном мифом.
Таким образом, изучая онтологические и метафизические идеи
в философском наследии А. Ф. Лосева, можно убедиться, что
последовательное продумывание им онтологии и метафизики до их
предельных оснований, начинается и заканчивается мифом. Что
же такое миф в понимании А. Лосева? Зачем ему понадобилось,
наперекор возможным оппозициям, сделать ставку на столь
уязвимый по видимости аргумент?
Тема мифа у А. Лосева просвечивает практически во всех
основных произведениях. Прорыв к онтологическому его пониманию
осуществился в работе «Диалектика мифа», ключевые идеи которой
мы проанализируем с точки зрения поставленных нами целей, а
именно обоснования возможности культуры сохранения естества,
противоположной стратегии экспериментального отношения к
естеству, которую можно определить как субъективное применение
принципа творения к двоичному естеству в попытке произвольно
повторить первоакт творения единого бытия. Культивирование же
естества есть воздержание от эксперимента, с надеждой возвращения
к единому бытию силой энергии естественного становления, без
искусственного его расщепления.
Подобно тому как при постановке эксперимента экспериментатор
старается предвидеть ожидаемый результат, который всегда тем не
менее оказывается неожиданным, так и противоположная стратегия
стремится предвосхитить собственную цель в своем воображении,
деятельность которого организуется соответствующим образом —
мифом. При постепенно распространяющейся тотальной экспансии
экспериментальной деятельности без соблюдения культивирования
природы последняя может утратить способность поддержания
собственной двоичности в результате чего может произойти
катастрофический разрыв ее моментов, что уже фактически происходит в
эмпирической реальности.
В проанализированной выше работе «Самое само» было
продемонстрировано, как из недр самой онтологии возникает миф,
имеющий особое отношение к триаде «бытие—ничто—творение». А.
Лосев начинает онтологический дискурс с категории бытия и
показывает, что логическая его экспликация завершается выведением
мифа, являющегося выразительной формой бытия, или его
творческой энергией. При реализации проекта онтологии мифа необхо-
1 Лосев А. Ф. История античной эстетики. Кн. 2. С. 168.
КНИГА II. ГЛАВА 3. § 3. А. ЛОСЕВ
649
димо решить две дополняющих противоположных друг другу
задачи: обосновать бытие мифа и продемонстрировать миф бытия.
Можно сказать, что первая задача решается у А. Лосева в трактате
«Самое само», вторая — в «Диалектике мифа», впрочем, в обоих
сочинениях решения этих задач переплетаются.
Итак, рассмотрим попытку диалектического определения мифа
у А. Лосева, хотя применением метода диалектики решение выше-
поставленных задач не исчерпывается. Чтобы понять, что такое
миф, необходимо провести подготовительную работу по отсечению
неадекватных инородных интерпретаций, подходящих к мифу извне
и вносящих в него гетерогенные структуры объяснения. Понимание
мифа должно быть имманентным ему, для чего необходимо даже
«стать самому мифическим субъектом»,1 хотя употребление здесь
слова «субъект» не корректно, ибо, как выясняется, миф находится
«по ту сторону» субъект-объектной дифференциации: «подобный
дуализм разорвал бы мифическую действительность пополам; и
вместо живой картинности жизни, где чувственное явление и
сверхчувственная сущность слиты в неделимый и неразложимый лик
жизни, мы имели бы явление без сущности, т. е. без смысла, без
формы, с одной стороны, и, с другой стороны — сущность без
явления, т. е. без проявления, абстрактную сущность, только
мыслимую, но не реально осуществленную».2
Первоначальный подход к мифу у А. Лосева апофатичен: путем
отрицания всего того, чем миф не является, создается необходимый
фон, на котором может проступить искомая фигура. Имея в виду
ошибочные трактовки, редуцирующие миф к какой-либо из
известных форм отношения к действительности, А. Лосев утверждает, что
миф не является ни фантастическим вымыслом, ни примитивно-
научным построением, ни метафизикой, ни аллегорией, ни
поэтическим произведением, ни религиозным догматом и т. п. Вместе с этим
все перечисленное и апофатически отринутое каким-то образом все
же касается мифа, образуя с ним некую общую границу (например,
миф есть и не есть поэзия. По сравнению с чистой отвлеченной
поэзией «миф есть поэтическая отрешенность, данная как вещь»).3
Что находится внутри данной границы, т. е. изнутри самого мифа,
пока не ясно, но можно утверждать, что миф имеет свое
самостоятельное бытие, или есть самобытное отношение к реальности.
Впрочем, даже «отношением» миф нельзя определить. А. Лосев
называет миф самой жизнью, что первоначально воспринимается
как неожиданность и странность. В отличие от других
имитационных систем жизни, таких, как наука, философия, религия, искус -
1 Лосев А. Ф. Диалектика мифа. С. 395.
2 Там же. С. 421.
3 Там же. С. 570.
650 Ю. M. РОМАНЕНКО. БЫТИЕ И ЕСТЕСТВО
ство и др., которые извлекают из жизни определенные аспекты ее
смысла, выносят его вовне, а затем в преобразованной
специфическими средствами форме возвращают обратно, миф, тоже подражая
жизни, является такой имитационной системой, которая полностью
находится в самой жизни. И поскольку миф особым образом
моделирует и персонифицирует жизнь, то он даже является, в
понимании А. Лосева, живым существом.
Будучи внутренним отношением жизни к себе самой, не
выходящим из нее, миф обладает собственными, как пишет А. Лосев,
«отрешенностью» и «иерархийностью», отличающимися от
отвлеченности (абстрактности) и структурности иных форм. Более того,
миф отнюдь не преодолевается исторически более «прогрессивными»
способами постижения реальности, но постоянно сопровождает их
(аккомпанирует им), не мешая им заниматься их собственными
делами, а только помогает переносить результаты их деятельности
в жизненный контекст, покуда жизнь остается жизнью. Миф
отрешен от повседневных фактов эмпирии в том смысле, что он,
фиксируя в непосредственном наблюдении единичный факт, окружает
его ореолом всех его возможных собственных проявлений и судеб
в направлении всеобщности. Иначе говоря, в мифе явление дано в
перспективе его творческого развития, и поэтому мифическое
восприятие пропитано чувством удивления и предвосхищающей
новизны: «В мифологии налична какая-то необычность, новизна,
небывал ость, отрешенность от эмпирического протекания явлений».1
В свете онтологической триады «бытие—ничто—творение» миф,
согласно А. Лосеву, есть «реально, вещественно и чувственно
творимая действительность, являющаяся в то же время от·
решенной от обычного хода явлений и, стало быть, содержащая
в себе разную степень иерархийности, разную степень
отрешенности».2
Таким образом, после проведения апофатической работы по
заполнению окружающего фона получилась замкнутая фигура,
ограничивающая «предметную» область мифа, внутри которой
обнаружилась его собственная иерархийность (т. е. равноправная
координация его внутренних моментов, а не субординационная монар-
хийность внешнего подхода). Если удается войти внутрь данной
фигуры, то появляется возможность получить позитивное
имманентное определение мифа из него самого, высказаться о нем ка-
тафатически.
А. Лосев пишет, характеризуя внутреннее содержание мифа:
«Мифическая отрешенность предполагает некую чрезвычайно
простую и элементарную интуицию, моментально превращающую
1 Лосев А. Ф. Диалектика мифа. С. 422.
2 Там же. С. 422.
КНИГА II. ГЛАВА 3. § 3. А. ЛОСЕВ
651
обычную идею вещи в новую и небывалую. Можно сказать, что
каждому человеку свойственна такая специфическая интуиция,
рисующая ему мир только в каком-то особенном свете, а не как-
нибудь иначе. И потому мифическая отрешенность есть явление
исключительное по своей универсальности».^ Под интуицией в
данном контексте можно понять, как мы это определяли выше, не
просто пристальное субъективное вглядывание в предмет, но
самовозбуждающееся вглядывание. Самовозбуждение в интуировании
происходит оттого, что не только субъект концентрирует и
фокусирует свой взгляд, но и сам предмет активно излучает из себя
некую дополнительную энергию своего образа (во всех его
возможностях), которая есть некая интенция — направленность на субъект,
всегда присутствующая в объекте, но актуализирующаяся для
субъекта только в акте интуиции.
При совпадении этих двунаправленных процессов и
осуществляется собственно интуиция. Понятно, что при постороннем
взгляде извне интуирование принадлежит субъекту, но в самом акте для
субъекта исчезает его отделенность от объекта, она просто не
осознается им. Такое состояние является сугубо индивидуальным, но
поскольку оно принадлежит в норме всем субъектам, способным к
мифотворчеству, то оно является и принципиально универсальным,
следовательно, между отдельными субъектами по этому поводу
возможно общение и обмен опытом, что и составляет содержание
мифа и ритуала, которые основаны на этой парадоксальной
уникальной универсальности, или универсальной уникальности. Хотя
для мифа как такового никакой парадоксальности здесь нет — все
так и должно быть.
Далее, А. Лосев конкретизирует отрешенность мифической
интуиции, утверждая, что она есть «какая-то первичная реакция
сознания на вещи, какое-то первое столкновение с окружающим.
В этом пункте мифическая отрешенность совершенно не отличима
от этой примитивно-интуитивной реакции на вещи,
...примитивно-биологически-интуитивной установки сознания на бытие. И
можно сказать, что миф, если выключить из него всякое поэтическое
содержание, есть не что иное, как только общее, простейшее, до-
рефлективное, интуитивное взаимоотношение человека с
вещами»."
В свете мифа бытие начинает пониматься не как абстрактная
безличная категория мысли. Бытие осуществляется в сущей
личности, поэтому «миф есть бытие личностное или, точнее, образ
бытия личностного, личностная форма, лик личности».3
1 Там же. С. 453.
1 Там же. С. 454.
3 Там же. С. 459.
652 Ю. M. РОМАН EH КО. БЫТИЕ И ЕСТЕСТВО
Выше утверждалось, что координатами индивидуации сущего
являются его имя и образ, причем эти координатные оси
расположены перпендикулярно друг другу, т. е. контрадикторно,
следовательно, решение поставленной задачи может быть только
диалектическим. Вместе с этим, имя и образ являются формами
осуществления бытия. Происходит это в фазе мифа, следовательно,
имманентными моментами мифа являются имя и образ, поэтому,
чтобы аутентично понять, что такое миф, необходимо понять, как
соотносятся имя и образ в целостности личностной жизни.
Устанавливая корреляцию имени и образа, можно сформулировать
искомое определение мифа.
А. Лосев подводит к единой диалектической формуле мифа через
ряд последовательных абстрактных определений. Во-первых, «миф
есть в словах данная личностная история».1
Действительно, по традиции миф трактуется как «сказание», «предание»,
«речь» или просто «слово», извещающее каким-то образом кого-то
о ком-то. Миф как слово о личности исходно есть имя. В отличие
от других способов вербального выражения и передачи информации,
миф как слово передает ту интуицию, которая осуществляется в
состоянии удивления перед неожиданно открывшейся новизной. То
есть миф по-своему сказывает онтологическую триаду
«бытие—ничто—творение ».
Удивляются диву, или чуду, поэтому чудо является основным
содержанием мифического сообщения и оно должно войти в
мыслительное определение мифа: «Самое слово "чудо" во всех языках
указывает именно на этот момент удивления явившемуся и
происшедшему — греч. Φαυμα, лат. miraculum-miror, нем.
Wunderbewundern, славянское чудо. Чудо обладает в основе своей, стало
быть, характером извещения, проявления, возвещения,
свидетельства, удивительного знамения, манифестации, как бы пророчества,·'
раскрытия, а не бытия самих фактов, не наступления самих
событий».2 Поэтому А. Лосев говорит коротко: «Миф есть чудо».3
Далее следует попытка диалектического рассмотрения понятия
«чудо», при критике неадекватных его интерпретаций, прежде всего
трактовки чуда как нарушения законов природы. Отнюдь, считает
А. Лосев, «с точки зрения мифического сознания чудо-то и есть
установление и проявление подлинных, воистину нерушимых
законов природы».'1 То есть само явление природы (естества как
такового) и есть самое настоящее чудо.
1 Лосев А. Ф. Диалектика мифа. С. 535.
2 Там же. С. 551-552.
3 Там же. С. 537.
4 Там же. С. 539.
КНИГА П. ГЛАВА 3. § 3. А. ЛОСЕВ
653
Феноменология и диалектика чуда демонстрируют его
двойственный характер: «В чуде мы имеем дело прежде всего с совпадением
или, по крайней мере, с взаимоотношением и столкновением
двух каких-то разных планов действительности».' Этими
двумя взаимоподразумевающимися аспектами чуда являются
«планы внешне-исторический и — внутренне-замысленный, как бы
план заданности, преднамеренности и цели»}
В силу персонального характера мифа, «чудо есть всегда оценка
личности и для личности».3 Чудо возможно между двумя
личностями, но поскольку бытие едино, то исходную возможность чуда
необходимо искать в единичной личности: «Подлинного чудесного
взаимоотношения личностных планов надо искать не в сфере
влияния одной личности на другую, но, прежде всего, в сфере одной
и той же личности, и уже на этом последнем основании можно
говорить о взаимодействии двух или более отдельных личностей».*
Внутренним «механизмом» совпадения двух личностных планов
в пределах единичной личности является превращаемость их друг
в друге, т. е. оборотничество, основанное на таком свойстве естества,
как мимесис: «Оборотничество есть чудо потому, что здесь
эмпирическая жизнь личности совпала (по крайней мере до некоторой
степени) с одной из сторон идеального состояния личности, а именно
с ее вездеприсутствием и бесконечным разнообразием».5
Естественная динамика всеединства осуществляется как бесконечная и
мгновенная превращаемость его элементов друг в друге, воспринимаемая
в мифе как тотальное оборотничество: «Один универсальный пример
способен сразу убедить в этом, это — оборотничество и вообще
перевоплощение в разных телах. Что это есть чудо — сомневаться
не приходится. Но что одна и та же ведьма превращается то в
катящееся колесо, то в птицу, то в серого волка, т. е. что тут идет
речь об одной и той же личности, — это тоже ясно. Стало быть,
чтобы случилось чудо, достаточно и одной личности».6
А. Лосев определял имя и образ как энергии, а не сущность
трансцендентного Абсолюта, соответственно, миф может быть
рассмотрен только под рубрикой категории «энергия». Разумеется,
бытие не есть миф, который возникает на пересечении категорий
«небытия» и «творения». В законченной форме миф проявляется
при соотношении бытия и естества. Поэтому миф может
интерпретироваться как с точки зрения онтологии, так и с точки зрения
1 Там же. С. 545.
2 Там же. С. 546.
3 Там же. С. 545.
1 Там же. С. 546.
5 Там же. С. 562.
6 Там же. С. 546.
654
Ю. M. РОМАНЕНКО. БЫТИЕ И ЕСТЕСТВО
метафизики. В этом отношении, онтологическую триаду «бытие —
ничто—творение» в метафизическом контексте можно представить
как триаду «естество—ничто—воплощение». Этим категориальным
структурам соответствуют два типа чудес, которые традиционно
рассматриваются теорией мифа: а именно чудеса творения и чудеса
преображения (претворения воплощенного). Иначе говоря, бытие и
естество как таковые в мифе воспринимаются как два типа чудес.
А. Лосев устанавливает между ними необходимую связь в виде
диалектических переходов к разным «степеням чудесности» — от
творения первообраза до совершенного его воплощения: «Ведь раз
есть идея и ее воплощение, то, значит, возможны разные степени
ее воплощения. Но если так, то возможна бесконечно большая
степень полноты воплощения».1 Предельным воплощением бытия
является его естество: раздвоение бытия и воз-вращение в
собственное единство. Это как бы второе творение бытия или, с другой
стороны, как видит А. Лосев, «это как бы второе воплощение идеи,
одно — в изначальном, идеальном архетипе и парадигме, другое —
воплощение этих последних в реально историческом событии».2
Основываясь на платоновском методе угадывания и
платоновском же понятии «вдруг», А. Лосев подходит к
«диалектической разгадке чуда (к диалектической — ибо никакой другой
разгадки для философии не требуется)».3 Чуду нужно только
удивляться, воздерживаясь от рефлексированного комментария и
рационального объяснения, догадываясь, что «нужно считать
удивительным, странным, необычным, чудесным, когда оказывается,
что личность в своем историческом развитии вдруг, хотя бы на
минуту, выражает и выполняет свой первообраз целиком, достигает
предела совпадения обоих планов, становится тем, что сразу
оказывается и веществом, и идеальным первообразом. Это и есть
настоящее место для чуда. Чудо — диалектический синтез двух
планов личности, когда она целиком и насквозь выполняет на себе
лежащее в глубине ее исторического развития задание
первообраза».4 Истолковывая эти положения в онтологическом контексте,
можно сказать, что трансцендентное единое бытие становится
имманентным единичному сущему при чудесном совпадении его
творения и естественного воплощения.
Итак, разобрав аналитически по возможности все необходимые
аспекты мифа, А. Лосев выводит окончательную синтетическую
формулу мифа: «магическое имя, творящее чудеса».0 Иначе говоря,
1 Лосев А. Ф. Диалектика мифа. С. 549.
2 Там же. С. 550-551.
3 Там же. С. 548.
4 Там же. С. 550.
0 Там же, с. 579.
КНИГА П. ГЛАВА 3. § 3. А. ЛОСЕВ
655
звучанием имени творчески вызывается из небытия предельное
воплощение образа. Более компактную формулу создать уже
невозможно. Цель теоретического осмысления мифа достигнута.
Полученная дефиниция, выведенная А. Лосевым диалектически
на основе феноменологического изучения конкретных мифов,
естественно потребовала выдвинуть гипотезу-ид ею «абсолютной
мифологии», которая вбирает в себя все существовавшие в истории
«относительные мифологии» и является «как бы нормой, образцом,
пределом и целью стремления для всякой иной мифологии».1
Абсолютная мифология панорамно (т. е. всеобозримо) выражает
творение бытия, по предельной интуиции А. Лосева, «развернуть такую
мифологию — значит показать, как это абсолютное бытие
дорастает до этого абсолютного мифа и какие этапы проходит бытие
в этом развитии».2
Поскольку определение мифа изначально выводилось А.
Лосевым диалектическим методом, то предельное развитие мифа —
возможное достижение им «абсолютной мифологии», по ее
внутренним законам, не может не обернуться в универсальную систему
диалектики: «диалектика абсолютного мифа есть, в сущности, самая
обыкновенная диалектика, ибо всякая диалектика говорит именно
о последних, т. е. абсолютных, основаниях знания и бытия».3
Взаимосоотносимость взятых в абсолютном смысле диалектики
и мифологии означает личную очную встречу Логоса и Мифоса,
в которой чудесно творится, воплощается бытие и преображается
естество, в которой представлены «все диалектические категории
как магические имена».* А. Лосев пишет: «Развернуть абсолютную
мифологию — значит не что иное, как развернуть диалектику
вообще, но только не такую диалектику, которая имеет под
собою один из возможных принципов, но — все возможные
принципы».5
Необходимыми категориями абсолютного мифа онтологии и
метафизики, в перечне А. Лосева, являются: персонализм, субстан-
циализм, креационизм, символизм, витализм и др. Абсолютный
миф подает наглядную панораму творения в аспекте его
выразительной энергии, а не апофатически трансцендентной сущности.
Арифмологически абсолютный миф структурирован тетрактидой:
диалектическая триада дополняется феноменологией как моментом
воплощения. Так А. Лосев продолжает традицию софиологии, в
русле которой С. Булгаков определял Софию как четвертую ипос-
1 Там же. С. 582.
2 Там же. С. 583.
3 Там же. С. 583.
4 Там же. С. 583.
5 Там же. С. 583.
656 ΙΟ. M. РОМАНЕНКО. БЫТИЁ И ЕСТЕСТВО
тасность Божества. София, Премудрость Божия, есть имя
персонифицированной фюсис, поэтому в свете абсолютного мифа метафизика
является учением о естественности бытия, о чем забывает человек,
растраченный в результатах затеянных им экспериментов.
Основанная на экспериментальном перетворении естества
«новоевропейская мысль потому и перестала мыслить диалектически,
т. е. антиномико-синтетически, что она утеряла видение абсолютных
ликов >>. ' Но, несмотря на самонадеянное и насильственное
воздействие в экспериментах, Естество, «уничтоженное и опозоренное,
оно незримо таится в душе, и вот — просыпается как непорочная
юность, как чистое утро бытия».2 Миф охраняет естество,
ненавязчиво предлагая свое отношение к нему — культивирование.
Абсолютный миф является хранилищем священных имен и образов,
помощью которых осуществляется безыскусное (вне-техническое)
ис-целение сущего, возвращающее ему актуальность его бытия.
«Прошедшее — не погибло. Оно стоит незабываемой вечностью и
родиной. В глубине памяти веков кроются корни настоящего и
питаются ими. Вечное и родное, оно, это прошедшее, стоит где-то
в груди и в сердце; и мы не в силах припомнить его, как будто
какая-то мелодия или какая-то картина, виденная в детстве, которая
вот-вот вспомнится, но никак не вспоминается. В чуде вдруг
возникает это воспоминание, возрождается память веков и обнажается
вечность прошедшего, неизбывная и всегдашняя. Умной тишиной
и покоем вечности веет от чуда. Это — возвращение из далеких
странствий и водворение на родину».3
Последние слова А. Лосева отсылают к интуициям еще одного
выдающегося онтолога XX века — М. Хайдеггера, по-своему
понимающего значимость мифа бытия, который определял философию
(онтологию плюс метафизику) поэтическим выражением Новалиса
как «ностальгию повсюду быть дома», т. е. на Родине. Здесь особенно
понятным становится хайдеггеровское мифическое определение
языка как «дома бытия». Можно только уточнить, что такой язык и
есть сам миф.
Однажды, по воспоминаниям, В. Ф. Асмус спросил у А. Ф.
Лосева, как тому удалось в столь преклонном возрасте сохранить
бодрость духа, ясность ума и сопротивляемость к болезням. На что
Алексей Федорович ответил, что он «запугал свое тело». Что это
за мифический рецепт (букв.: Панацея — по имени дочери Аскле-
пия, бога здоровья) и в какой конкретной вербальной и образной
форме персональных заговоров и оберегов он может быть
представлен — нам уже не узнать. Да это и не столь важно. А. Лосев
1 Лосев А. Ф. Диалектика мифа. С. 593.
2 Там же. С. 561.
3 Там же. С. 561-562.
КНИГА il. ГЛАВА 3. § 3. А. ЛОСЕВ
657
оставил нам главное: как самим можно найти это, усваивая его
творческое наследие.
Оглядываясь назад на то, что было выше написано, ужасаешься
количеству цитат, зашкаливающих за норму приличия, принятую
для академического текста. Взыскательный и строгий рецензент
дотошно подсчитает их число и выявит меру самостоятельности
мысли автора, которая минимальна, но хотя бы достаточна для
того, чтобы уметь увидеть существенные мысли других авторов,
если уж свои еще вполне не созрели. Слабым утешением здесь
служит тот факт, что во многом современная философия есть работа
с цитатами классиков. Все вышенаписанное можно определить как
приготовление или введение к подлинным онтологии и метафизике.
Тексты А. Лосева (и других авторов, которым посвящены
соответствующие параграфы) обладают удивительным и счастливым
свойством: когда их читаешь, они не мешают думать самому. Но
выразить собственную мысль, без опоры на идеи других, практически
крайне сложно. Поэтому остается снова дать возможность
высказаться авторитетам, ожидая паузы в их речи и решаясь вступить
с ними в диалог, рискуя заполнить их молчание своими догадками.
Цитации, конечно, непомерно много, но, на мой взгляд, лучше все
равно не скажешь по существу проблемы. Поэтому пусть этот свод
цитат будет еще одним переизданием произведений А. Лосева. Они
этого достойны.
Сочинения А. Лосева по мифу сами стали мифом, вызывающим
различные дорефлективные реакции на его бытие, от идиосинкразии
до скороспелых восторгов. Рецепция и критика лосевских идей —
отдельная большая тема. Мы приведем только одну оценку, в
которой обращается внимание на диалогический характер
творчества А. Лосева и его открытость. Имеется в виду статья свидетеля
А. Лосева — В. В. Бибихина, которая так и называется «Абсолютный
миф А. Ф. Лосева», опубликованная в одноименном сборнике,
посвященном его памяти. «В своей теории мифа-мира Лосев глубоко
и провокативно играет, иногда и независимо от своей воли просто
по строгому зоркому складу ума. Его "теория" мифа замахивается
на то, чтобы поднять не аспекты и стороны, а весь миф как он
был и остается миром европейского человека и, значит, увидеть
миф до края, где он окаймляется адом. Мир мифа взвешен над
пропастью, вот что увидел Лосев. Каждый шаг мифа — шаг над
бездной, где в успехе уверяем только мы сами себя. Посмотрите,
как опасно ходите».1
И первый опасный шаг на этом пути — догматизация учения
А. Лосева как определенное естественное искушение ума. «Присут-
' Бибихин В. В. Абсолютный миф А. Ф. Лосева /■ Начала. 1994.
№ 2-4. С. 101.
658
Ю. M. РОМАНЕНКО. БЫТИЕ И ЕСТЕСТВО
ствие открытого вопроса во всем что пишет Лосев только слегка
замаскировано школой дотошной пунктуальности. Наивный
читатель надеется, что именитый автор знает решения своих проблем.
Он не знает. Он видит другое: что с прорывом к предельным вещам
мир начинает колебаться. Нет ничего абсолютного. Абсолютен
только миф, никогда не перекрывающий мира. Освобожденный этим
открытием, Лосев вызывает каждого на разговор, опрашивает всех...
Лосев весь в открытом вопросе. Всякий Лосев-догматик окажется
мифом. Любая иконография бесконечности будет мыслителем снята,
как бы добросовестно ни был он увлечен ее символикой и
мифологией. Его мысль идет вместе с нашей страной в споре с ней и с
самой свободой к очищению. От мифологии, даже абсолютной —
к правде».1
1 Бибихин В. В. Указ. соч. С. 111.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Познавательные пределы онтологии и метафизики —
гнозис бытия и эпистема естества
Представленные прецеденты онтологического и метафизического
способов философствования дают возможность типологически
сопоставить онтологию и метафизику в познавательном отношении.
Исходным состоянием, откуда начинается «любовь к мудрости»,
является обыденное бытование — анонимное и безликое
существование людей (узники пещеры по Платону, das Man по Хайдеггеру),
живущих в незнании своего незнания. Жизнь человека стихийно
откладывается в структурах повседневности, автоматическое
исполнение которых приводит к возникновению так называемого
«здравого смысла» (или «житейской мудрости»). Такое знание еще не
есть философское знание, которое по определению является транс-
цендирующим. «Здравый смысл» не выходит за пределы
обыденности, будучи имманентным ей, однако он служит той исходной
почвой, откуда возникает философия.
Вырастая из повседневных структур здравого смысла (хотя и
не только благодаря им), философия отрывается от их частности
в намерении осмыслить целостность смысла жизни. Но не для того,
чтобы отрешенно замкнуться в «башне из слоновой кости», а для
того, чтобы вернуть жизни ее же собственный смысл. Замкнутость
траектории движения философского мышления состоит не в его
окончательной изолированности, а как раз в том, что оно исходит
из жизни и возвращается в нее. Вот именно эта кольцевая структура,
замыкающаяся на жизни, и устанавливает пределы философского
познания. И именно в этом заключается возможность целостности
философского знания и его самообоснованности. Данная структура
сколь замкнута, столь и открыта, вследствие чего философское
знание внутри себя типологизируется в зависимости от того, знанием
чего оно является. Как утверждалось выше: онтология знает
«бытие», метафизика — «естество». Самоопределение философии
заключается во взаимообоснованности этих двух типов знания друг
другом, результатом чего является категория «самосознания» (но
не только в субъективистско-рационалистическом понимании
последней).
660
Ю. M. РОМАНЕНКО. БЫТИЕ Я ЕСТЕСТВО
В понятии «типа» философского знания подразумевается степень
трансцендирования. Исходной почвой до-знательного состояния
является жизнь человека, четырехмерный пространственно-временной
континуум, которой образует так называемую «четверицу мира»
(по М. Хайдеггеру). Познавательные трансцензусы совершаются из
этой «четверицы» по мере ограничения степеней свободы. Онтология
«сужает» четверицу до единицы бытия, метафизика — до двоицы
естества. В стремлении к Мудрости, следуя ее откровениям,
философия проходит определенные ступени своего развития, осваивая
их и придавая соответствующую форму, что определяет типы ее
познания. На этом пути возможны задержки на уровне одной из
ступеней, приводящие к изолирующей абсолютизации данного типа.
Однако последовательное движение мысли (движение по следу
Мудрости) естественно ведет философию к творческому прохождению
всех возможностей.
Знание обретается в опыте — испытании человеческой
способности трансцендировать положенную границу его существования.
Конфигурация этой границы задана самими бытием и естеством,
как они поняты выше. Вхождение человека в границу определяет
и направляет метод его познания. Предмет онтологии — триада
«бытие—ничто—творение» — узнается «ученым незнанием», ибо
сам переход от незнания к знанию происходит как творение из
небытия. «Ученость» не упраздняет окончательно «незнания» транс-
ценденции, но делает его качественно оформленным. Собственно
говоря, тему настоящей работы можно было бы назвать так:
онтология и метафизика как типы философского «ученого незнания»..
Философия доходит до самосознания, когда становится способной
научить этому незнанию. Выражение «ученое незнание» с обратной
стороны равносильно выражению «ненаучаемое знание». Научить
философскому знанию, действительно, невозможно в силу его
персонального характера — здесь все зависит от креативности личного
выбора и естественного созревания — ступенчатого освоения
философского наследия. Иначе говоря, обращение к философии
определяется свободой творческого выбора и свободой естественной воли.
Трансцензус буквально есть «пре-ступление» границы, за
которым неминуемо следует «наказание», если не дается «искупления
вины». Онтологическое знание, определяемое по ономатологичес-
кому и историческому мотивам как «гнозис», есть трансцензус к
единому бытию свернувшейся до единственной единичности
экзистенции, отрешившейся от всего иного и достигшей неразличенности
знаемого и знающего. В отличие от непосредственного знания бытия*
знание естества опосредовано присущим последнему «зеркалом» и
определяется как «эпистема» (по Аристотелю — движение от
понятного нам к понятному по природе) — как двойной обратный
трансцензус той же границы — обогащенное возвращение транс-
КНИГА II. ЗАКЛЮЧЕНИЕ
661
цендентального субъекта в жизненный мир «человеческого,
слишком человеческого» (Ф. Ницше).
О научном статусе онтологии и метафизики можно сказать
следующее. Упрощенно говоря, основными функциями научного
теоретического познания являются описание, объяснение и
предсказание. Наука описывает фактическое явление изучаемого
предмета, объясняет данный факт посредством подведения его под
имеющиеся законы и на основе этого предсказывает дальнейшее
поведение предмета. Эти функции науки присущи онтологии и
метафизике, но они действуют здесь по-своему, в соответствии с
целостным характером философского знания, не отстраняющегося
от исследуемого предмета. Такую теоретико-познавательную
установку русские философы начала XX века называли «онтологической
гносеологией» (Н. О. Лосский, Н. А. Бердяев и др.).
Теория познания в современной философской литературе
представлена двумя конвенционально утвержденными именами:
гносеология и эпистемология. Гносеологии приписывают задачу
разработки общих принципов познания как такового, а под
эпистемологией подразумевается изучение характеристик собственно
научного познания. Такая типологизация знания достаточно
условна. Прежде чем ее утверждать, необходимо прояснение смысла
имен «гнозис» и «эпистема» как типов философского знания,
присущих онтологии и метафизике.
Результаты настоящего исследования и их научную новизну
можно представить в следующих положениях, выносимых на
защиту в качестве тезисов:
1. В результате анализа процесса самоопределяющегося
становления предмета философского знания автором выделены стадии
развития онтологии и метафизики, основанные на следующих
методологических установках человеческого опыта:
а) онтология: угадывание образа бытия (античность), доверие
воле Творца бытия (Средневековье), расположенность к феномену
бытия (Новое и новейшее время);
б) метафизика: чутье естества (античность и Средневековье),
экспериментальное преобразование «натуры» (Новое время),
культура сохранения естества (современность).
2. Предметная область онтологии, центрированная категорией
«бытия», определяется принципом единства бытия, мышления и
языка, полагающим возможность выражения мышления бытия
словом. Конституирующей категориальной схемой онтологии, явно
или косвенно присутствующей в различных ее вариантах, является
триада «бытие—ничто—творение». Теоретической задачей
метафизики является целостное осмысление диады «естества»,
представляющей творение с двоичной точки зрения в виде категориальных
662 Ю. M. РОМАНЕНКО. БЫТИЁ И ЕСТЕСТВО
оппозиций «естественное—сверхъестественное» и «естественное—
искусственное ».
3. Поставленная философской традицией ключевая проблема
соотношения категории «бытия» (είναι, esse), выражающей
трансцендентную самотождественную сущность и беспредпосылочное
начало всего сущего (öv, ens), и категории «естества» (φύσις, natura),
выражающей самодвижное становление бытия в процессе его
имманентного воплощения в сущем, решается в свете принципа
«всеединства», задающего область пересечения предметных интенций
онтологии и метафизики.
4. Реконструирование онтологического и метафизического
содержания в конкретных философских учениях осуществлено
посредством применения экземплификационно-ономатологического и
энергийно-арифмологического методов, суть которых состоит в
приведении в процессе доказательного рассуждения примера как
методического образца, выражающего присутствие сущностного в
фактическом, а также в фиксации степеней интенсивности и
структурных уровней этого присутствия.
5. В познавательном отношении «онтология» и «метафизика»
различаются по внутренне присущим им типам знания: гнозиса
бытия и эпистемы естества как взаимообусловленных способов
трансцендирования безликого и анонимного повседневного
существования человека в свободную естественность его личностного
бытия, запечатлеваемую именем и образом как исходными формами
знания (вытекающими из мифа), логически трансформирующимися
в понятийное знание. Непосредственность онтологического знания
бытия опосредствуется в метафизике знанием естества как
рефлексии бытия, благодаря чему философское познание становится
«спекулятивным», что способствует установлению автономности
самосознания философского разума. Онтология и метафизика, в
совокупности применяемых в них методов (на пересечении мифического
и логического измерений), образуют двуединое ядро творчески
развивающегося философского знания, определяющего в целом
теоретический горизонт философии.
6. Как антропологические следствия данной концепции
выводятся исторические модели человека, репрезентирующие его самого
в разные эпохи и закрепленные в следующих формулах: «человек
есть эманация Космоса» (античность), «человек есть творение Бога»
(Средневековье), «человек есть жизненный мир человека» (Новое
и новейшее время).
Проблема соотношения онтологии и метафизики проявляется в
проблеме соотношения понятий «бытие» и «сущее». М. Хайдеггер
ставил это в форме вопроса о различии онтологического и онтичес-
кого, которое Ж. Деррида радикализировал в концепте difference,
обернувшемся программой деконструкции «онто-лого-центризма» и
КНИГА II. ЗАКЛЮЧЕНИЕ
663
метафизики присутствия. В истории философии предлагались
различные способы постановки и освещения данной проблемы — от
разделения бытия и сущего трансцендентной границей до их
отождествления и синонимизации. В зависимости от понимания смысла
имен этих философских понятий сущее трактуется и как конкретное
единичное проявление единого бытия, и как само бытие в его
трансцендентной абсолютности; в свою очередь, бытие
интерпретируется и как абстракция безличной универсальности, и как
категория персональной уникальности.
В различных традициональных контекстах данная проблема
решается по-своему. Так, например, в русской философии (софио-
логия В. С. Соловьева, экзистенциализм Н. А. Бердяева) Сущее
(с большой буквы, как имя собственное) возводится в ранг абсолюта,
а бытие редуцируется к рациональной абстракции. Противоположна
такому подходу позиция М. Хайдеггера, для которого сущее есть
предмет онтического измерения «здесь-бытия» (Dasein), а само
бытие лежит за пределами этого и является его безосновным
основанием. Способом мышления бытия, согласно М. Хайдеггеру, является
онтология (а не онтические науки), в которой постоянно
воспроизводится трансцендентальная разница бытия и сущего, предаваемая
забвению в контексте сциентистского субъект-объектного дуализма.
Анализируемая современностью проблема «бытия и сущего»
имеет свой исток в античных постановках проблемы «единого и
многого», разрешаемой постулированием принципа «всеединства».
При всей различности в подходах к этому вопросу М. Хайдеггера
и русских философов-идеалистов, между ними возможна точка
схождения и взаимообращающегося сопонимания. Автор данного
исследования предлагает уточнить проблему отождествляюще-
различающей разницы бытия и сущего посредством введения в
контекст этого отношения понятия «естество», позволяющего
осветить переходы от «единого» ко «многому» и обратно с точки
зрения категории «двоицы», конкретизирующей естественную
динамику «всеединства».
Обнаруженными и зафиксированными в соответствующих
метафизических концепциях историко-философского процесса
атрибутивными свойствами «естества» являются следующие: 1) исхо-
димость из бытия; 2) зеркальная двоичность; 3) направленная само-
движность; 4) циклическая обращаемость в бытие. Единство бытия,
открывающееся на фоне множественности сущего, отражается в
исходящем из него двоичном естестве, как в некоем зеркале,
благодаря которому возможен отклик на зов по имени и подражание
явленному образу, служащих конкретными способами воплощения
творения. Пределом становления естества является спекулятивное
совпадение двух его моментов — актуальности и потенциальности,
образующее сферу «мета-фюсис». Вхождение сотворенного из не-
664 Ю. M. РОМАНЕНКО. БЫТИЕ И ЕСТЕСТВО
бытия сущего в естественный режим существования является
способом спонтанно-стихийного перехода из возможности в
действительность. Отказ от естественности провоцирует трансгрессивное
рас-творение в небытии (аннигиляцию). Если образ и имя являются
координатами уникальной индивидуации сущего, то соответствие
сущего своему понятию (логосу), определяемое как онто-логическая
истина, утверждает его универсальный статус.
Несмотря на то, что онтологии и метафизике посвящено большое
количество работ, последовательное и систематическое изучение их
взаимного отражения друг в друге еще не проведено, за исключением
редких постановок вопроса отдельными авторами. В пределах этой
фундаментальной задачи, стоящей перед философией, в книге
обоснована возможность осветить переход от онтологии к метафизике
и обратно с точки зрения творческого воображения
(интеллектуальной интуиции), в деятельности которого осуществляется
теоретическое сополагание категорий «бытие» и «естество» в качестве
опорных понятий и мысле-образов целостного философского знания,
открытого для продуктивного общения с конкретно-научным и
обыденным знанием. Если истолковывать онтологию и метафизику
в научном плане (к чему они не редуцируются окончательно,
ориентируясь также на миф, религию, искусство и т. д.), то
инновационный характер исследования заключается в следующем.
Показана эвристическая значимость онтологической триады «бытие-
ничто—творение», выделенной в анализе историко-философского
процесса через методологическую схему «угадывание—доверие—
полагание» в соответствии с традиционным членением истории на
эпохи античности, Средневековья, Нового и новейшего времени.
Зафиксирован смысл понятия «естество» в методологической схеме
«чутье—эксперимент—сохранение», позволяющей
интерпретировать развивающееся содержание метафизики, определяемого
корреляцией категорий «естественное—искусственное», а также
«естественное—сверхъестественное» (в объем последней включаются
миф, религия, внерациональные мотивы содержания науки).
Историко-философская значимость данного исследования
заключается в предложенных новых формах интерпретации,
текстологического анализа и комментирования специально отобранных
первоисточников, способствующих конкретной реализации принципа
единства исторического и теоретического, благодаря чему выявлены
оригинальные точки зрения известных философов на эти проблемы.
Практическая значимость исследования заключается в том, что
материалы монографии могут быть использованы в качестве основы
для решения фундаментальных проблем философии, антропологии,
культурологии. Прикладное значение данного подхода состоит в
возможности построения историко-онтологических моделей
человека. На основе проведенного исследования представляется возмож-
КНИГА 11. ЗАКЛЮЧЕНИЕ
665
ным определить сущностные начала и тенденции философского
познания, что может служить плодотворному диалогу между
различными традициями. Предложенный в работе концептуальный
подход и язык описания позволяют обрести адекватный настоящему
времени уровень обсуждения глобальных проблем современности.
Результаты исследования могут быть практически применены для
учебно-методической работы, формирования учебных программ для
студентов и аспирантов философских факультетов, при чтении
лекций по курсам истории философии, теории познания, онтологии и
метафизики, способствуя их институциализации в
научно-академической и образовательной сферах.
Принципиальная дополнительность исторического и
теоретического в философском познании проявляется в образе
«герменевтического круга»: без исторической реконструкции невозможно
построение теории, и наоборот, без априорного полагания структур
философской теории невозможно понимание ее исторических
реализаций. «Герменевтический круг» сводит обе невозможности к их
обоюдной действительности. Как свидетельствует история, разделами
философской теории, упорядочивающей содержание онтологии и
метафизики, являются логика, эйдетика и поэтика, занимающиеся
разработкой таких соответствующих инструментов познания, как
«понятие» (логос), «образ» (эйдос, феномен) и «имя» (творческий
потенциал слов философского языка). В работе обращалось
внимание на присутствие этих трех составляющих организации
философской теории в конкретных исторических доктринах, хотя степень
примененности в них каждого компонента различна, что остав-ляет
перспективу для более углубленного изучения данных проблем.
Основной сложностью здесь является то, что каждый из разделов
философской теории имеет свои относительно самостоятельные
законы функционирования, которые могут разрабатываться
независимо, приводя к изолированности дополняющих друг друга способов
достижения и выражения философской истины. Отделенность
логики может превратиться в панлогизм или формалистику, поэтика
может свестись к стилизации искусственного языка, а эйдетика
ограничиться программой деструкции естественной установки
сознания. Эти трудности осознаются современностью, и в данном
направлении предстоит большая работа для философского
сообщества.
Реальность разбираемой в работе проблемы можно
продемонстрировать на завершающем историческом примере ее постановки,
влияющей на современные теоретические концепции. Известно, что
рациональная схема соотношения онтологии и метафизики
сложилась в XVIII веке. Так, А. Баумгартен в своей «Метафизике»
(1739 г.) отмечал: «Метафизика — это наука о первых принципах
человеческого познания. Составными частями метафизики являют-
666 Ю. M. РОМАНЕНКО. БЫТИЕ И ЕСТЕСТВО
ся онтология, космология, психология и естественная теология».1
При этом онтология определялась им как «наука о наиболее общих
предикатах сущего».2
И. Кант подверг критике догматизм данной схемы, хотя,
оставаясь в пределах рационализма, кантовская философия практически
сохранила все эти разграничительные линии: «Вся система
метафизики состоит из четырех главных частей: 1) онтологии, 2)
рациональной физиологии, 3) рациональной космологии, 4) рациональной
теологии».3 Об онтологии Кант сказал достаточно скупо,
предпочитая умолчать о ней: «...гордое имя онтологии, притязающей на то,
чтобы давать априорные синтетические знания о вещах вообще в
виде систематического учения (например, принцип причинности),
должно быть заменено скромным именем простой аналитики чистого
рассудка».4 Прежде чем знать, какое имя может быть гордым, а
какое скромным, необходимо выяснить бытийный статус самого
имени. Но Кант не разработал собственной ономатодоксии, в
результате чего его способ философствования свелся к искусственно
конструируемой логике терминов, без поддержки ее естественной
поэтикой имен-понятий и феноменологией мысле-образов.
В свое время Кант очистил разум от мифа, и в результате этого
его последователи пришли к выводу о закате метафизики. «Чистый»
разум, действительно, разрывается в противоречиях, стремясь
построить научную систему метафизики. Быть может, для того, чтобы
восстановить права метафизики, необходимо вернуть в разум нечто
«нечистое» — миф как «излишний» реагент или катализатор, для
ускорения и завершения реакции? Сложнее всего узнать, правда,
какая необходима дозировка этого фермента.
Критикуя предшествовавшие ему метафизические системы, Кант
указал на заданность метафизики, а не данность ее человеческому
разуму. Ставя вопрос о том, как возможна метафизика как наука,
Кант определил круг ее ориентиров. Так, метафизика есть «система
чистого разума», «все философское знание», «завершение культуры
человеческого разума», «оплот религии», «природная склонность
человека», «чистая философия в целом», «познание разума на
основе одних лишь понятий» и т. д. Дифференцируя содержание
возможной метафизики, Кант дуалистически делит ее на
«метафизику телесной природы» (т. е. «физику», делящуюся в свою очередь
на эмпирическую и рациональную и входящую в сферу философии
природы), а также на «метафизику мыслящей природы» (т. е.
1 Цит. по: Реале Дж., Антисери Д. Западная философия от истоков
до наших дней. Т. 3. Новое время. СПб., 1996. С. 600.
2 Там же. С. 600.
3 Кант И. Критика чистого разума. М., 1994. С. 493.
4 Там же. С. 190.
КНИГА II. ЗАКЛЮЧЕНИЕ
667
«психологию», понимаемую как «физиология внутреннего чувства»
и разделяющуюся на эмпирическую, рациональную,
диалектическую и трансцендентальную).
Такая рациональная дисциплинарная раскладка метафизики
имеет свое значение, сохраняющееся поныне, однако смысл ей
придает ответ на вопрос, что такое «естество» в его отношении к
«бытию». Кант такой вопрос не поставил, в результате чего в его
философии не нашлось места проблеме соотношения онтологии и
метафизики, помимо такого, которое представлено в приведенных
цитатах. Этот пробел сохраняется по настоящее время, и в данной
работе преследовалась цель обратить на него внимание и предложить
определенные идеи для его заполнения. Вслед за кантовской
постановкой вопроса об условиях возможности метафизики как науки,
конструируемой в виде рациональной системы понятий чистого
разума, нужно ставить вопрос о возможности метафизики как
поэтики мысле-образов. В какой-то идеальной точке оба вопроса
сливаются воедино.
Сам Кант так или иначе догадывался о существенной значимости
поэзии для философии. А. Гулыга в биографии Канта приводит
такие признания последнего в адрес поэзии: «Она расширяет душу,
давая свободу воображению и в пределах данного понятия из
бесконечного многообразия возможных согласующихся с ним форм,
предлагая форму, сочетающую изображение понятия с таким
богатством мыслей, которому не может быть адекватно ни одно
выражение в языке. Она укрепляет душу, давая почувствовать свою
свободную, самодеятельную и независимую от обусловленности
природы способность — рассматривать природу как явление в
соответствии со взглядами, которые сама природа не дает в опыте, и таким
образом пользоваться природой ради сверхчувственного».1
А. Гулыга комментирует: «Значение поэзии в том, что она
совершенствует наши и интеллектуальные, и моральные потенции,
играя мыслями, она выходит за пределы понятийных средств
выражения и тренирует тем самым ум; она возвышает, показывая,
что человек не просто часть природы, но созидатель мира свободы».2
Мифопоэтическая метафизика как альтернатива рационально-
экспериментальному ее варианту предусматривается самим Кантом:
«Поэзия играет видимостью, которую порождает по своему
усмотрению, не вводя, однако, в заблуждение, так как само свое занятие
она провозглашает лишь игрой, которая тем не менее может быть
целесообразно применена рассудком для его дела».3
1 Гулыга А. А. Кант. М.: Соратник, 1994. С. 192.
2 Там же. С. 192.
3 Там же. С. 192.
668 Ю. M. РОМАНЕНКО. БЫТИЕ И ЕСТЕСТВО
Философ Кант, осознавая недостаточность результатов своей
деятельности, обращается к своему ученику — поэту Фр. Боутер-
веку, пытавшемуся популяризовать кантовские взгляды: «Для
распространения своих идей я всегда мечтал найти поэтическую натуру,
которая обладала бы способностью создать живую картину,
соответствующую чистым понятиям рассудка, но не надеялся на это,
так как талант, соединяющий школьную точность в определении
понятий с блистательной популярностью, которую дает сила
воображения, попадается столь редко, что нельзя рассчитывать на
быструю встречу с ним».1
В этих признаниях Канта открывается новая перспектива
понимания оснований и задач онтологии и метафизики. Кантовские
мечтания не оказались пустыми. Метафизика как поэтика мысле-
образов, действительно нуждающаяся в особом таланте,
восполняющем талант логического систематика, постоянно развивалась в
истории. В кантовское время эту задачу решали Шиллер и Гёте,
позднее Хайдеггер, у нас — Флоренский, Лосев и многие другие.
Онтология как разумное слово о бытии естественно отражается в
метафизике как своей живой картине.
1 Гулыга А. А. Кант. С. 195.
САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
На правах рукописи
РОМАНЕНКО Юрий Михайлович
ОНТОЛОГИЯ И МЕТАФИЗИКА
КАК ТИПЫ ФИЛОСОФСКОГО ЗНАНИЯ
специальность 09.00.01 —
онтология и теория познания
АВТОРЕФЕРАТ
диссертации на соискание ученой степени
доктора философских наук
Санкт-Петербург
2000 г.
670 Ю. M. РОМАНЕНЕО. БЫТИЕ И ЕСТЕСТВО
Работа выполнена на кафедре онтологии и теории познания
философского факультета Санкт-Петербургского
государственного университета
Официальные оппоненты:
Доктор философских наук, профессор О. Е. Иванов
Доктор философских наук, профессор В. А. Карпунин
Доктор философских наук, профессор Г. Л. Тульчинский
Ведущая организация: Российский государственный
педагогический университет им. А. И. Герцена.
Защита состоится 27 июня 2000 г. в 16 часов на заседании
диссертационного совета Д. 063. 57. 01. по защите диссертаций на
соискание ученой степени доктора философских наук в Санкт-
Петербургском государственном университете по адресу: 199034,
Санкт-Петербург, Менделеевская линия, д. 5, философский
факультет.
С диссертацией можно ознакомиться в научной библиотеке
Санкт-Петербургского государственного университета.
Автореферат разослан 25 мая 2000 г.
Ученый секретарь
диссертационного совета
Л. М. Райкова
АВТОРЕФЕРАТ
671
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ
Обоснование темы и ее актуальность
История развития мышления, выражающего себя в слове,
привела к образованию понятий «онтология» и «метафизика», которые
представляют теоретическую часть философии. Изначально
философия как «любовь к мудрости» возникла для обозначения
внутренне присущего человеку стремления к чему-то запредельному
для его обыденного опыта. Так Пифагор догадался придумать имя
«философия», дав ей возможность возникнуть в истории и удержать
присущее ей настроение и направленность, результатом чего стало
превращение философии в универсальный образ знания.
Теоретическая концептуализация философского стремления к
трансцендентному (и даже «прорыва» к нему, по выражению П. П. Гайденко)
принесла свои плоды в виде устойчивых форм познания человеком
смысла собственной жизни и сущности мира. Обобщение и
систематическое накопление подобного рода познавательных усилий
составляет внутреннее содержание онтологии и метафизики. Уже в
XX веке М. Хайдеггер засвидетельствовал, что метафизика и
онтология стали судьбой европейской мысли и культуры, а не просто
формальными обозначениями центральных философских
дисциплин. В настоящем исследовании делается попытка проследить
процессы возникновения, развития, функционирования и соотношения
онтологии и метафизики с точки зрения используемых в них методов
и формируемых в их тематических горизонтах типов знания.
Актуальность избранной темы заключается в освещении тех способов,
которыми онтология и метафизика реактуализируются в каждом
историческом интервале своего становления вплоть до нынешнего
дня. Наиболее интересным и трудным вопросом в рамках такого
исследования оказывается выяснение возможности
самообоснования онтологии и метафизики собственными средствами. Разумеется,
философия получает и перерабатывает материал из таких разных
источников и форм отношения к действительности, как наука,
искусство, миф, религия, повседневный здравый смысл и т. д.
Однако она и автономна в формировании собственного вполне
конкретного предмета в своем вполне конкретном опыте. Какова
специфика философского самоопределения, что изучают онтология и
метафизика, в чем состоит тождество и отличие их предметов?
Данные вопросы преследуют философию на протяжении всей ее
истории, оставаясь актуальными поныне. Постоянное обращение
философии к собственным основаниям, противоречиво
воспринимаемое с внешней точки зрения, осуществляется онтологией и
метафизикой, являясь исходным образом ее реактуализации в
истории. Теоретическая фиксация данного образа присуща филосо-
672 Ю. M. РОМАН EH КО. БЫТИЕ И ЕСТЕСТВО
фии, в отличие от нефилософских познавательных форм.
Самообоснованность философского знания значима не только для
философии, но и для окружающего ее комплекса конкретных наук,
выступая для них методологическим образцом. Прежде чем проводить
обзор существующих вариантов онтологических и метафизических
концепций, сначала необходимо провести типологическое
сопоставление самих онтологии и метафизики в целостном философском
контексте. Без предварительного решения этих задач не могут быть
решены последующие насущные проблемы философии.
Состояние и степень разработанности проблемы
В отечественной философской литературе XX века отношение
к онтологии и метафизике радикально менялось на
противоположное как минимум дважды. В дореволюционных академических и
неинституциализированных направлениях философствования
возникли перспективные подходы к разрешению существенных
проблем онтологии и метафизики, параллельно развиваемые и в
мировом философском научном сообществе. В течениях «метафизики
всеединства», «софиологии», «ономатодоксии», трансцендентально-
феноменологической школы и др. разрабатывались оригинальные
проекты интерпретации философии, осваивался мировой опыт, и в
целом российские философы готовы были предложить самобытные
версии развития философского знания. В далеко не полный список
можно включить имена Н. А. Бердяева, С. Н. Булгакова, В. С.
Соловьева, С. Н. и Е. Н. Трубецких, П. А. Флоренского, Г. Г. Шпета,
В. Ф. Эрна, Н. О. Лосского, С. Л. Франка и др., в произведениях
которых был достигнут тот уровень мышления, который называется
в мировой практике онтологическим и метафизическим. Проблемы
свободы и творчества, смысла бытия, онтологического статуса
понятия «ничто», смерти и бессмертия, природы и общества,
критического познания определяют круг интересов в трудах
отечественных мыслителей.
В советский период «онтология» и «метафизика» были
представлены в контексте марксистско-ленинской философии в образе
диалектического и исторического материализма, явно или косвенно
использующего основные онтолого-метафизические принципы,
категории и методы. В интересующем нас отношении, делая поправки
на время, в работах советских философов были разработаны
ключевые вопросы собственно онтологии и метафизики, несмотря на
то, что метафизика трактовалась тогда как антидиалектический
метод, а основное понятие онтологии — бытие — замещалось
абсолютизированной категорией материи. В произведениях Г. С. Ба-
тищева, В. С. Библера, Ю. М. Бородая, Ф. Ф. Вяккерева, П. П. Гай-
денко, Э. В. Ильенкова, В. А. Лекторского, А. Ф. Лосева, М. К. Ma-
АВТОРЕФЕРАТ
673
мардашвили, А. М. Мостепаненко, И. С. Нарского, В. И. Свидер-
ского и др. онтология и метафизика постепенно восстанавливались
в своих правах.
В последние годы состояние исследований характеризуется
неопределенностью статуса и содержательных рамок онтологии и
метафизики. Если онтология в настоящее время утверждена в
качестве ведущей философской специальности, то метафизика еще
подвержена скептической и критической оценкам, вызывая
потребность изучить возможности ее научного и мировоззренческого
потенциала, выявить критерии реальности ее результатов, учитывая
ее прошлые и настоящие достижения. Сейчас накоплен большой
исторический и теоретический материал, с разных ракурсов
генерируются идеи, нуждающиеся в систематизации и классификации.
Обращают на себя внимание работы А. В. Ахутина, В. В. Бибихина,
А. Л. Доброхотова, Н. В. Мотрошиловой, А. П. Огурцова, В. А. По-
дороги, С. С. Хоружего и многих других, где, с одной стороны,
востребуется и продолжает развиваться отечественная традиция, с
другой стороны, учитываются достижения инноваций мировой
философии XX века. Что касается зарубежной философии, то здесь
трудно переоценить значение фундаментальных идей Н. Гартмана,
Э. Гуссерля, Г. Гадамера, Э. Жильсона, Э. Кассирера, Ж.-П. Сартра,
М. Хайдеггера, П. Тейяра де Шардена, М. Шелера и многих других,
уточнивших предметность онтологии и метафизики в научно-
теоретическом и мировоззренческом аспектах. Кардинально
поставленный М. Хайдеггером вопрос о Бытии и развернувшиеся вокруг
него дискуссии, вплоть до деконструкции «онто-лого-центризма»
Ж. Деррида, определяют духовную и интеллектуальную атмосферу
XX века. Критика онтологии и метафизики в позитивизме,
марксизме, научном материализме и иных направлениях,
демаркирующих философию и конкретно-научное знание, пошла им на пользу,
способствуя их самоопределению.
Методология, теоретические источники и
концептуальная основа исследования
Подход к исследуемому предмету определяется потребностью
Целостного упорядочения философского знания в его
самопроизвольной творческой активности. Развитие философии основывается
на действии ее имманентных методов, открытых в историческом
процессе. Опорой исследования является принцип единства
исторического и теоретического (проявляющегося в онтологии как
принцип историзма бытия), применение которого служит
воспроизводству и сохранению инвариантности предмета философии в его
исторических преобразованиях. В пределах обозначенной проблемы
автором предлагаются модификации таких традиционных философ-
674 Ю. M. РОМАН EH КО. БЫТИЕ И ЕСТЕСТВО
ских методов, как диалектика, феноменология, герменевтика.
Определяются эти модификации как экземплификационно-ономато-
логический и энергийно-арифмологический методы. Суть первого
состоит в приведении в процессе доказательного рассуждения
примера (поименованного экземпляра) как методического образца,
феноменологически выражающего присутствие сущностного в
фактическом; суть второго — в фиксации степеней и уровней целостности
философской системы. Немаловажную роль в исследовании имеет
изучение характеристик и возможностей спекулятивного метода,
посредством которого онтология и метафизика осуществляют
взаимную поддержку друг друга в их совместном намерении автоно-
мизировать философию. Исследование имеет сквозной характер,
включая в себя обзор и интерпретацию основных прецедентов
онтологических и метафизических концепций в истории. Полнота
анализа и формализация полученных результатов достигаются
выведением смысловых формул в виде категориальных схем,
моделирующих онтологический и метафизический дискурсы в
последовательности исторических эпох.
Цель и задачи исследования
Цель настоящего исследования заключается в смысловом
сопоставлении беспредпосылочных фундаментальных понятий
философии — Бытия и Естества, — в концентрированной форме
выражающих предметные области онтологии и метафизики соответственно,
а также служащих основой их типологического сравнения в
познавательном отношении. В диссертации предлагается ввести в
философский оборот полузабытое понятие «естество», этимологически
происходящее от греч. «φύσις», для обозначения того круга
философской проблематики, который связан с изучением естественных
процессов действительности. Один из определяющих вопросов
диссертационного исследования: что такое «естественное»? Термины
«фюсис», «натура», «природа», связанные различными
коннотациями в определенных практиках и контекстах их употребления,
обладают как своими достоинствами, так и недостатками.
Существует принципиальная историко-культурная проблема сравнения,
перевода и смысловой соизмеримости греч. «фюсис» и лат. «натуры»
(А. В. Ахутин). Автором делается попытка обобщения основных
вопросов данной проблематики в свете понятия «естество»,
имеющего концептуальное преимущество в прагматике философского
языка с точки зрения сопоставительного анализа онтологии и
метафизики. В общую цель входит выработка интерпретативных схем
для аутентичного понимания значимости метафизики и онтологии
в философских учениях прошлого и настоящего. В пределах общей
цели конкретные задачи подразделяются на два разряда: истори-
АВТОРЕФЕРАТ
675
ческий и теоретический. В историческом аспекте предполагается
на материале классических философских систем и направлений
продемонстрировать явное, скрытое и «попутное» обращение
философов к онтологическим и метафизическим допущениям. К
задачам теоретического характера относятся: упорядочение
философского знания в свете онтологических и метафизических принципов,
служащих целям философского самообоснования, выявление
критериев отличения философского знания от конкретно-научного и
обыденного. Целостность предмета философии проявляется в
сравнении с иными формами отношения к действительности —
религией, мифом, наукой, искусством и пр.
Положения, выносимые на защиту:
1. В результате анализа процесса самоопределяющегося
становления предмета философского знания автором выделены
исторические стадии развития онтологии и метафизики, основанные на
следующих методологических установках:
а) онтология: угадывание образа бытия (античность), доверие
воле Творца бытия (Средневековье), расположенность к феномену
бытия (Новое и новейшее время);
б) метафизика: чутье естества (античность и Средневековье),
экспериментальное преобразование «натуры» (Новое время),
культура сохранения естества (современность).
2. Предметная область онтологии, центрированная категорией
«бытия», формируется в соответствии с принципом единства бытия,
мышления и языка, утверждающим возможность выражения
мышления бытия словом. Конституирующей категориальной схемой
онтологии, явно или косвенно присутствующей в различных ее
вариантах, является триада «бытие—ничто—творение».
Теоретической задачей метафизики является целостное осмысление диады
«естества», представляющей творение с двоичной точки зрения.
3. Поставленная философской традицией ключевая проблема
соотношения категории «бытие» (είναι, esse), выражающей
трансцендентную самотождественную сущность и беспредпосылочное
начало всего сущего (öv, ens), и категории «естество» (φύσις, natura),
выражающей самодвижное становление бытия в процессе его
имманентного воплощения в сущем, решается в свете принципа
«всеединства», задающего область пересечения предметных интенций
онтологии и метафизики.
4. В познавательном отношении онтология и метафизика
сравниваются по внутренне присущим им типам знания: гнозиса бытия
и эпистемы естества как взаимообусловленных способов трансцен-
Дирования безликого и анонимного повседневного существования
человека в свободную естественность его личностного бытия. Онто-
676 Ю. M. РОМАНЕНКО. БЫТИЕ И ЕСТЕСТВО
логия и метафизика, в совокупности применяемых в них методов,
образуют двуединое ядро философского знания, определяя в целом
теоретический горизонт философии.
5. Как антропологические следствия данной концепции
выводятся историко-онтологические модели человека,
репрезентирующие его самого в разные эпохи и закрепленные в следующих
формулах: «человек есть эманация Космоса» (античность), «человек
есть творение Бога» (Средневековье), «человек есть жизненный мир
человека» (Новое и новейшее время).
Научная новизна результатов исследования
Онтологии и метафизике посвящено множество исследований.
В настоящей работе последовательно и систематически
рассматривается их взаимное отражение друг в друге. В диссертации выявлена
заданность соотношения онтологии и метафизики в свете
теоретического сополагания категорий «бытие» и «естество» в качестве
опорных понятий и мысле-образов целостного философского знания.
В результате рассмотрения онтологии и метафизики не только в
научном плане, но и в ориентации к мифу, религии, искусству,
здравому смыслу инновационный характер диссертационного
исследования заключается в следующем. Показана эвристическая
значимость онтологической триады «бытие—ничто—творение»,
выделенной в анализе историко-философского процесса через
методологическую схему «угадывание—доверие—полагание» в соответствии
с традиционным членением истории на эпохи античности,
Средневековья, Нового и новейшего времени. Определено содержание
понятия «естество» в методологической схеме «чутье — эксперимент—
сохранение», что позволяет представить дефиницию метафизики
как философского учения об отношении «умопостигаемого» и «чув-
ственновоспринимаемого» под углом зрения категориальных
оппозиций «естественное—искусственное» и
«естественное—сверхъестественное». Историко-философская значимость диссертационного
исследования заключается в предложенных новых формах
интерпретации и текстологического анализа специально отобранных
первоисточников, способствующих конкретной реализации принципа
единства исторического и теоретического, благодаря чему выявлены
оригинальные точки зрения известных философов на поставленную в
диссертации проблему.
Практическая и теоретическая значимость исследования
Материалы диссертации могут быть использованы в качестве
теоретической основы для решения существенных проблем
философии, антропологии, культурологии. Прикладное значение пред-
АВТОРЕФЕРАТ
677
ставленных идей состоит в возможности построения историко-
онтологических моделей человека. На основе проведенного
исследования становится возможным определить основные ориентиры и
тенденции философского познания. Предложенный в работе язык
описания может быть использован в организации диалога между
различными традициями. Результаты исследования могут
практически применяться для учебно-методической работы, формирования
учебных программ для студентов и аспирантов философских
факультетов, при чтении лекций по курсам истории философии,
теории познания, онтологии и метафизики, способствуя их институ-
циализации в научно-академической и образовательной сферах.
Апробация исследования
Результаты исследования неоднократно обсуждались на
международных и всероссийских конференциях, на которых диссертант
выступал с докладами, в том числе: на ежегодных конференциях
«Универсум платоновской мысли» (1993-1999 гг., СПб.), «Человек.
Природа. Общество. Актуальные проблемы» (1995-1997 гг., СПб.),
«Человек в мире диалога» (1990, 1993, СПб.), «Проблема
первоначала мира в науке и теологии» (1991 г., СПб.), «Символ и культура»
(1992, СПб.), «Философия образования и традиции русской школы»
(1995, СПб.), «Философия религии и религиозная философия:
Россия. Запад. Восток» (1995, СПб.), «Смыслы культуры» (1996, СПб.),
«Современная логика: проблемы теории, истории и применения в
науке» (1996, 1998, СПб.), «Высшее образование в современных
условиях» (1996, СПб.), «Структура философского знания и его
эволюция в течение XX века в России» (1996, СПб.), «Современная
зарубежная философия: проблемы трансформации на рубеже XX-
XXI веков» (1996, СПб.), «Философия преступления» (1997, СПб),
«Метафизика исповеди. Пространство и время исповедального
слова» (1997, СПб.), «Наука, философия и культура в России и на
западе: XVIII-XX век» (1997, СПб.), «Философия гуманитарного
знания: российская академическая традиция и современность» (1997,
СПб.), «Грани культуры» (1997, СПб.), «Проблемы метафизики на
рубеже веков» (1997, СПб.), «Воображение Европы» (1998 —
Гренобль, Франция — международная), «Мифология и повседневность»
(1998, 1999, СПб.), а также на первом Российском философском
конгрессе «Человек. Философия. Гуманизм» (1997, СПб.).
Диссертация обсуждена и рекомендована к защите на заседании
кафедры онтологии и теории познания философского факультета
СПбГУ (20 апреля 2000 г.). Основное содержание отражено в 40
публикациях (в том числе в параграфе учебного пособия «Основы
онтологии» и в монографии).
678 ΙΟ. Μ. РОМАНЕНКО. БЫТИЕ И ЕСТЕСТВО
Внедрение материалов и результатов исследования
осуществлялось в университетском лекционном курсе «Онтология и теория
познания», а также при чтении специальных курсов «Введение в
метафизику и онтологию» (1993-1999) и «Онтология мифа» (1994-
2000) — для студентов дневного и вечернего отделений философского
факультета СПбГУ. Содержание данных курсов представлено в
учебных программах с методическими указаниями.
Гранты:
1. В 1996—1997 гг. тема диссертационного исследования
получила финансовую поддержку Российского гуманитарного научного
фонда (грант № 96-03-04141).
2. В 1995 г. за исследовательский инициативный проект
«Онтология мифа» автор получил грант Правительства Санкт-
Петербурга и Госкомвуза РФ (№ 19-1.3).
3. В 1996 г. за исследовательский инициативный проект «Эк-
земплификационный и энергийно-арифмологический методы в
историко-философском исследовании» автор получил грант
Правительства Санкт-Петербурга и Госкомвуза РФ (№ 26-1.3).
4. В 1998 г. — первая премия за учебную программу «Онтология
и теория познания» (в соавторстве) в конкурсе Северо-Западного
отделения Российской Академии образования (номер проекта —
Б(05)4-22.12.97).
Структура диссертации
Структура работы определяется задачами иследования, которое
расслаивается на два тематических раздела, названных «Бытие» и
«Естество» и посвященных соответственно онтологии и метафизике,
что дает возможность направить стереоскопический взгляд на
историю и теорию философии в целом. Каждый из разделов имеет
три главы, располагаемых в соответствии с исторической
последовательностью. Диссертация открывается введением, определяющим
замысел исследования. Заключение содержит основные
гносеологические выводы диссертации и намечает перспективы дальнейших
поисков.
ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ
Во «Введении» рассматриваются имеющиеся в настоящее время
в философской литературе характерные определения онтологии и
метафизики и показывается, что в некоторых из них допускается
сведение к рационализированному дефинированию, основанному на
АВТОРЕФЕРАТ
679
субъект-объектном разделении, и подразумевается отнесение «пред-
метностей» онтологии и метафизики к объективной реальности,
существующей вне познающего субъекта. Такое редуцирование
некорректно в отношении к онтологии и метафизике как формам
философского стремления. Как правило, инаковость онтологии и
метафизики и одновременно соотнесенность их в целом философии
редко делается предметом обсуждений, а если и делается, то данная
проблема сводится к тому, чтобы формально установить их различие
по родо-видовому признаку или по функциональному
предназначению конвенционально, в результате чего теряется их собственная
исходная цель, заключенная в их именах.
«Бытие» и «естество» являются беспредпосылочными
исходными понятиями, которые невозможно определить, поскольку именно
благодаря им определяются все остальные понятия, категории и
принципы философии, направляя дефинирующую деятельность
философа к той цели, каковой они же и являются. Бытие ускользает
от рассудочного определения в свое естественное место, которое
постулативно полагается как монотриада категорий
«бытие—ничто—творение». Онтологическая триада является философским
откликом на религиозный догмат творения (в контексте теистического
креационизма), а понятие «бытие» выступает философским
коррелятом теологическому понятию Бога. Областью пересечения
философии и богословия является онтотеология. Таким образом,
онтология, понимаемая как учение об укорененности в бытии Логоса
и одновременно о логосности Бытия (что на русском языке буквально
звучит как «сущее слово» и, обратимо, как «слово сущего»),
выступает философским истолкованием религиозного вероучительного
догмата о творении бытия из ничего, выраженного как истина
Откровения во 2-й Маккавейской книге [2 Мак. 7, 28].
Во «Введении» дается предварительный набросок возможного
понимания понятий «бытие», «ничто», «творение», а также
«естество» (греч. — «фюсис»). Отмечается, что префикс «мета-» в слове
«метафизика» имеет нетривиальный смысл, не сводимый только к
значению внешнего отношения «над-», «сверх-», «после-» и т. д.
В конструкции имени «метафизика» префикс «мета-» в сочетании
с «фюсис» указывает на цельную самодвижность «естества». В то
же время словом «бытие» именуется самодостаточная неподвижная
сущность. В любом имени есть два момента, вытекающих из того
простого факта, что по имени зовут и на имя откликаются. В
онтологическом понимании каждое имя «зовет» к бытию из небытия.
И прежде всего это относится к имени самого Бытия. Отсюда
возникает особый метод отношения к имени — ономатологический.
В его рамки входит метод этимологизирования, неоднократно
применяющийся в работе для герменевтических нужд.
680 Ю. M. РОМАНЕНКО. БЫТИЕ И ЕСТЕСТВО
Раздел I. БЫТИЕ
Глава 1. «Угадывание образа бытия:
предпосылки возникновения онтологии в античности»
Философия в античности начинается с определения
первоначала. Как полагал Гегель, понятие «бытие» является
историческим и логическим (теоретическим) началом движения философского
мышления. Исторически это представлено тезисом Парменида о
бытии. Однако при отождествлении «начала» и «бытия» теряется
относительно самостоятельный статус проблемы «начала». Начинать
с «бытия» необходимо, но недостаточно, — существует и иная
стратегия начинания. В предлагаемом подходе устанавливается
сдвоенный взгляд на проблему начала, а именно: Парменид начал
философствование с единого бытия, натурфилософы-досократики (фиси-
ологи) — с двоичного естества (фюсис). В обоих случаях инициаторы
этих начинаний открывают свои «предметности» благодаря особому
методу, внутренне присущему античному мировоззрению — методу
угадывания, но применяя его по-разному. Абсолютом для античного
мышления является Космос, а жизненная детерминация последнего
определяется Судьбой, которую невозможно рационально познать,
ибо она «слепа сама по себе» (С. С. Аверинцев). К ней можно
отнестись только в акте угадывания, который культивировался в
ту эпоху в практике мантики, распространенной не только в мифе,
магии и ритуале, но и в построении философских концепций.
Греческое слово «мантика» включает в себя двойное значение —
«ясновидение» и «прорицание». Под «ясновидением» понимается
прямое, непосредственное видение предмета в его целостном образе
(идее), в момент которого снята всякая дистанция между субъектом
взгляда и вещью. Прорицание — это не речь «о» предмете, но
речение «вовнутрь» предмета, звуковое влияние на формирование
его генетической структуры (своеобразное генетическое кодирование
посредством имени). Переход от имени к образу есть миф, в
соответствии с выведенной формулой в «Диалектике мифа» А. Ф.
Лосева: «миф есть магическое имя, творящее чудеса». Онтологический
статус метода угадывания обусловлен доминировавшим в эпоху
античности мифом «вечного возвращения». Парменид начинает
онтологию с посвящения в тайну бытия («О природе»). Платон отразил
это состояние в диалектическом понятии «вдруг» — как в некоем
мгновенном воображаемом обоюдонаправленном переходе между
бытием и небытием, единым и многим (Парменид, 156е). Аристотель
сделал результат угадывания образа бытия исходной посылкой при
формулировке основного закона онтологики — закона тождества
(«Метафизика»). Догадка о бытии, творимом из небытия,
инспирирует удивление, являющееся, по признанию античных филосо-
АВТОРЕФЕРАТ
681
фов, началом и завершением философии. Удивляться можно только
чуду — явлению образа бытия, единого во всем. Иерархическое
строение Космоса как умопостигаемого образа в свете принципа
всеединства воплотили в своих системах неоплатоники. С
креационистской точки зрения этот итог развития античной культуры
можно понять как языческое «творение кумира» в деятельности
продуктивного воображения, естественного для определенного
возраста онтогенеза и филогенеза, с табуирования чего начинается
теистическая библейская традиция.
§ 1. «Парменид: Открытие бытия. Тождество бытия и
мышления». Парменид является автором двух творческих инициатив,
воплотившихся в двух знаменитых положениях, лежащих в
качестве краеугольных камней в фундаменте всей последующей
европейской культуры. Первое из них гласит: «Бытие есть, небытия
нее нет», являясь принципом актуальности бытия. В прологе пар-
менидовской поэмы «О природе» извещается, что это
тавтологическое высказывание досталось автору в акте божественного
откровения. Второй онтологический принцип в философии, по Пармени-
ду, — принцип тождества бытия и мышления. Действие метода
угадывания представлено в прологе поэмы Парменида. В параграфе
подробно рассматриваются мотивы угадывания и описание процесса
введения в тайну бытия (мистагогия). В целом этот процесс может
быть определен как инициационно-энигматический, целью которого
является стимулирование удивления, служащего начинанию
философствования. Определение трех возможных путей познания
(аподиктического пути Истины, отсутствующего пути небытия и
проблематического пути мнения) предваряется мифологическим
описанием посвящения в сокровенное знание. Акт инициации пронизан
мотивами открытия (откровения) и сдвига (обращенности к
Абсолюту). В акте угадывания мышление создает
атрибутивно-функциональную модель бытия в образе «прекруглой глыбы шара».
С формально-логической точки зрения понятие «бытие» признается
самым богатым по объему (т. к. в него включены все вещи), а его
содержание — самым бедным (т. к. остался только один признак).
Между содержанием и объемом логического понятия существует
закон обратного отношения: чем больше объем, тем меньше
содержание, и наоборот. В акте умозрения образа бытия фиксируется
тот момент сдвига, благодаря которому начинается
взаимообращение содержания и объема. В угадывании дан образ бытия, которое
полностью со-держится в собственном объеме. Среди учеников
Парменида важно отметить Зенона Элейского, который отстаивал
правоту учителя перед лицом его оппонентов методом от противного,
результатом чего стала формулировка его знаменитых апорий.
Далее, Сократ является тем философом, который адекватно понял в
догадке онтологическую интуицию Парменида. Однако Сократ риск-
682
Ю. M. РОМАНЕНКО. БЫТИЕ И ЕСТЕСТВО
нул сделать незаконный шаг на табуируемый Парменидом путь
небытия. Суд над Сократом символизирует действие запрета на
соблазн небытия и изобретение новых образов, которые
инспирируются искушением демоническим голосом из небытия. Ход истории
поставил задачу стать адвокатом Сократа перед Платоном. Апология
Сократа развернулась в методе диалектики, как способе решения
проблемы возвращения из небытия.
§ 2. «Платон: Диалектическая игра бытия и небытия».
Платоновская диалектика интерпретируется с точки зрения теории
игры. Только диалектика может одновременно отнестись и к бытию,
и к небытию. Это закодировано в ее имени: «диа-» означает «сквозь»,
«между»; «лектика» — это слово (логос), развернувшееся как
минимум в два суждения: положительное (бытие есть) и отрицательное
(небытия нет). В основном онтолого-диалектическая проблематика
платонизма заключена в диалоге «Парменид», идеи которого
анализируются в сопоставлении с платоновской концепцией игры,
представленной в диалоге «Законы». Повод к игровой
интерпретации диалектики дает сам Платон, называя ее «упражнением в
пустословии» (Парменид, 135d), т. е. некоей умственной игрой в
абстрактные понятия «бытие» и «небытие», претендующей на
творческое разрешение противоречия между ними. В современных
культурологических концепциях феномен игры абсолютизируется,
распространяясь на все сферы жизнедеятельности человека, включая
сакрально-культовую. Однако в тени внимания специалистов
остается проблема энергийного градуирования игры, степеней ее
напряженности и перенапряженности. В существующих дефинициях
игры она отличается от труда и инстинктивных действий и
характеризуется как функциональное упражнение. Обобщая имеющиеся
подходы, автор диссертации для характеризации креативного
статуса игры использует понятие блефа. Если игра есть суета, то
суетою сует оказывается блеф — высший энергийный градус и
экзистенциальный модус игры, своеобразная «игра в игре», или
доведенная до своего исчерпывающего предела игра,
абсолютизированная до включения в себя небытия в виде обмана, риска, азарта,
случая и т. п. Средой, в которой возникает возможность блефа,
является стихия продуктивного воображения. Эти положения
применяются в оценке платоновской модели диалектики. Диалектика
бытия и небытия в «Пармениде» представлена четырехпозиционной
структурой, выведенной логическим методом. Однако после
построения этой жесткой структуры в ней обнаруживается неформализуе-
мый остаток, названный Платоном «странным моментом вдруг» —
чем-то принципиально иррациональным в средоточии
рационального как такового. Иначе говоря, это миф в самой логике,
преобразующий последнюю в диалектику. Понятием «вдруг» Платон
выражает акт творения. В диалоге «Законы» (VII, 653d) Платон
АВТОРЕФЕРАТ
683
отмечает, что игры дарованы людям богами в качестве передышки
от трудов. Совершеннейшей игрой является философия,
кульминацией которой оказывается возможность побыть в роли творца в
ситуации блефа. Человек творится к бытию из небытия в игре,
когда, допустив риск, начинает догадываться, что его удел — быть
богом. Это первая посылка к античной практике теургии.
Проведенная интерпретация философии Платона, исходящая из его
намерений, позволяет понять, что античность знала методом
угадывания о творении в аспекте игры.
§ 3. «Аристотель: Поэтическая логика бытия». Основной
интуицией античного человека была интуиция тела. Аристотель также
исходил из данной интуиции. Решая гносеологическую задачу
отличения бытия и небытия, он утверждает: «истина есть
удостоверение [как бы] наощупь (to thigein) и оказывание» (Метафизика,
1051b 20-25). Таким образом, первым критерием истины
(достоверностью того, что «бытие есть») является касание (ощупывание)
тела бытия. О таком абсолютном касании можно только
догадываться. Вторым критерием истины является оказывание, т. е. миф.
Уже Парменид начал выражать истину бытия прорицательно-
поэтически. Слово «пойезис» в античном понимании означает
творчество как таковое. Аристотель использует его для характеристики
ситуации угадывания образа бытия и прорицания бытия словом.
Угадывание образа бытия осуществляется в воображении:
«мыслящее мыслит формы в образах (phantasmata)» (О душе, 431Ь 2).
Известный парадокс аристотелевской философии, заключающийся
в том, что ум «отделен» и одновременно «неотделен» от тела,
разрешается тем, что ум, отделившись, казалось бы, совсем от тела,
держит в себе его неисчезающий образ, закрепленный словом.
Принцип тождества бытия и мышления, согласно Аристотелю,
проявляется в двух аспектах: практическом и теоретическом — в «знании
о творчестве» и в «знании умозрительном» (Метафизика, 1075а
1-5). Допустимо в согласии с его монистической установкой
совместить их в единое «умозрительное творчество» — когда
мышление определяет «суть бытия» на основе применения метода
угадывания. Творить можно только «суть бытия», все остальные
произведения деятельности есть следствия изначального творческого
акта. Понятие «пойезис» относится к словотворческим
дисциплинам — поэтике и риторике, исследующим креативную мощь слова
и языка. Онтология есть поэзия понятий, и Аристотелю удается
как морфологически сочинять новые онтологические термины, так
и синтаксически привязывать их друг к другу по смыслу. К примеру,
категориальные комплексы «суть бытия» (to ti en einai),
«энтелехия», «энергейя» и др. — уникальнейшие изобретения Аристотеля,
догадавшегося придумать их в соответствии с законами поэтической
логики. Слово есть орудие творения. Но со всяким орудием необ-
684
Ю. M. РОМАНЕНКО. БЫТИЕ И ЕСТЕСТВО
ходимо обращаться осторожно. Аристотель разрабатывает
специальную инструкцию и технику безопасности при пользовании
словом, представленных в его науке логики («Аналитики» и др.
трактаты). Разоблачение нигилистического употребления слов
представлено в работе «О софистических опровержениях». Имя и образ —
две необходимых и достаточных координаты, по которым находится
суть бытия (логос) всякого сущего. Это деление соответствует раз'
личию между «прорицанием» и «ясновидением» в едином методе
угадывания. «Творчеством творчества» оказывается «энергия
поэзии» — творение такого сущего, которое само способно творить,
благодаря чему единое бытие многообразится и становится всееди-
ным. Так толкуя философию Аристотеля, можно оценить его вклад
в осмысление и конкретизацию онтологической триады «бытие—
ничто—творение».
§ 4. «Неоплатонизм: Образ бытия, единого во всем». В учениях
неоплатонизма была осуществлена окончательная «трансценденти-
зация» Абсолюта, незаметно обернувшаяся его «имманентизацией».
Плотин, как представитель нового философского поколения,
реанимируя платоновские и аристотелевские интуиции в синтезе,
начинает с вслушивания в коренные слова, доставшиеся ему в
наследство. Согласно вольному этимологизированию Плотина, слова
«бытие» (είναι) и «сущее» (öv) произошли от слова «единое» (εν)
(Эннеады, V, 5, 5), которым именуется Абсолют в соответствии с
традицией платоновской генологии. Взаимообращение «единого» и
«бытия» означает некую оглядку. Оглядывание подразумевалось
уже в изречении Парменида «бытие есть, небытия же нет», чему
служила возвратная частица «нее». В опыте угадывания образа
бытия обнаруживается возможность увидеть отражение бытия в
небытии. Завершением метода угадывания оказывается оглядка —
принятие на себя разгаданного образа, — являющаяся завершением
и одновременно началом цикла «мифа вечного возвращения». В
Ветхом Завете оглядка запрещается с целью прекращения метода
угадывания. Процесс творения Плотин понимает как «дерзкое» и
безотчетное отпадение Ума от Перво-Единого. Возвращение к
Единому происходит, когда Ум в сдвиге на себя обращается к себе как
единому. Творение Ума к бытию осуществилось не по воле Единого,
а непроизвольно, эманативно. Единое индифферентно не помешало
дерзкому отпадению Ума, смущенного провоцирующим позывом
«материи» (отождествляемой с небытием). Поэтому творение Ума
состоялось лишь как потворство его дерзости — как некий поды-
грыш в его блефе. Вслед за появлением Ума, по тому нее эманаци-
онному сценарию возникает душа, служащая принципом
жизненного движения тела Космоса. Оборачиваясь к породившему ее
Единому, душа иногда прозревает сквозь Ум его сияния. Свет и свечение
вообще являются адекватными аналогиями Единого и его эманации.
АВТОРЕФЕРАТ
685
Философия Плотина является онтологией и метафизикой света.
Результатом предельного познавательного усилия оказывается
«ясное видение» прозрачного шара безраздельного света, заключающего
в себе все существующее в виде сверкающих образов (Эннеады, V,
8, 9) и являющегося оптической моделью всеединства. В
неоплатонических школах существовала особая психосоматическая
практика достижения экстаза. Весь этот мистериально-магический
процесс понимался как теургия — превращение человека в бога, прорыв
и слияние единичного субъекта с трансцендентным Единым.
Ведущим способом этого процесса считалось созерцание,
квалифицируемое как «творящее». Миф вечного возращения отражен в
финальной фразе трактата Плотина: это «бегство единичного к Единому».
Последним опытом встречи с Единым оказывается смерть. Трагизм
античного человека состоял в том, что каждый умирал в одиночку.
Тогда еще не говорили о соумирании в Христе, смертию смерть
поправшего.
Онтологический анализ трансцендентного характера Единого
проведен Плотином безукоризненно, в «устрашающей
последовательности» (Е. Доддс). Более убедительного апофатического
описания трансценденции придумать уже нельзя. С точки же зрения
категории «естество» необходимо ставить вопрос о естественности
творения в природном плане, т. е. о воплощении трансцендентного
Абсолюта, о чем античность догадывалась, но считала
окончательным безумием для эллинов. Метод угадывания достиг своей цели
и полностью исчерпал свои онтологические возможности. Новая
эпоха противопоставила античным идеям душепереселения и
телесного метаморфоза идею воскресения во плоти. Все
онтологические принципы стали пересматриваться в свете совершенно нового
метода.
Глава 2. «Доверие воле Творца бытия:
Онтология в контексте средневекового теизма»
Понятия «угадывание» и «доверие» методологически различают
понимание онтологии в контексте двух великих эпох в истории
человечества — античности и Средневековья. Античность гадательно
предсказала переход от космоцентризма к теоцентризму
Средневековья, основывающемуся на вере в личного и личностного Бога.
Смена эпох произошла как творение нового. Античность исчерпала
метод угадывания, когда была достигнута мера образного
постижения бытия. Вербальное оформление прорицания приводит к анти-
номике противоречащих друг другу суждений, от чего трагически
разрывается душа человека, не знающая — быть ей в теле или не
быть. Вся разгадка судьбы заключается в настройке творческого
воображения, культивировавшегося в мифе, и далее — в переходе
686
Ю. M. РОМАНЕНКО. БЫТИЕ И ЕСТЕСТВО
от воображаемого образа к его воплощению. Проблема здесь
заключается в том, откуда берется воля к этому переходу. Античность
приготовила все необходимые терминологические и
интеллектуальные предпосылки для принципиальной формулировки всех
онтологических постулатов средневековой философии и богословия.
Однако между этими эпохами существует как прямая линия
преемственности, так и кардинальный разрыв. Античность не
догадывалась о том, что воля единого Бога благодатна, взыскуя не
угадывания, а живой веры, успокаивающей тревогу души, помещенной
в тело, которое в последнем случае понимается не как ее временная
темница, а как храм. Ни такого тела, ни такой души античность
не знала, а ум не мог изобрести по этому поводу никакой гипотезы —
это обнаруживается только фактически и опытно, при наступлении
определенного исторического события. Эпоха Средневековья
необратимо началась с события земной жизни Иисуса Христа.
§ 1. «Библия: Бытие в дар. Теистический принцип творения».
Параллельно с древнегреческой культурой и цивилизацией
развивалась иная традиция — библейская. Если Древняя Греция подарила
человечеству идею единой философии как универсального знания,
то в Ветхом Завете культивировалась вера в единого Бога,
сотворившего мир, исполняемая по закону, зафиксированному в
Священном Писании. Если античная философия открыла такой атрибут
личности, как разум, то в Библии описывается обнаружение
волевого личностного начала. Истины разума и веры, а также практика
философского знания и религиозный опыт взаимодополняют друг
друга, являясь двумя несводимыми, но пересекающимися аспектами
творчества. Библия есть богодухновенный текст, воплотивший
божественное Откровение человеку. Принцип творения присутствует
во всех ключевых местах текста, хотя и не везде дан явно, будучи
выражен символами, которые необходимо специально
истолковывать. Откровенно идея творения из небытия звучит во 2-й Макка-
вейской книге (28, 7). Исходя из этого откровения понимаются
остальные корреспондирующие фрагменты библейского текста.
Присутствие онтологической триады в библейском контексте
рассматривается на нескольких существенных примерах: в описании кос-
мопоэзиса, антропопоэзиса и в определении веры. Творцом бытия,
или верховной онтологической инстанцией, ответственной за
избрание «одного» из «всего», является Господь Бог, Яхве (YHWH —
непроизносимое имя Бога), сам открывший пророку Моисею
собственное имя: «Я есмь Сущий» (Исх. 3, 14). Если определяющим
онтологическим методом античности было угадывание образа, то
онтология Ветхого Завета основывалась на применении иного
метода, а именно исполнения религиозного закона, зафиксированного
десятью заповедями и заключающегося в том, чтобы повторить на
деле то, что высказано волевыми словами Творца. В ветхозаветной
АВТОРЕФЕРАТ
687
религиозно-мистической практике произнесение имени Бога табу-
ировалось, так нее как и на созерцание образа Бога был наложен
жесткий запрет. Запреты вообще являются духовными стимулами
проявления воли. Эти онтологические различия были основанием
различия древнееврейской и эллинистической традиций, которые
рано или поздно должны были принципиально встретиться и
сложиться в новый синтез. Как создание Космоса, так и создание
человека представлены в Библии двумя способами описания —
метафизическим (естественно-сверхъестественным) и
онтологическим (бытийно-креативным). Описание естественности
происхождения человека в дальнейшей истории пошло по пути развития
естественнонаучного знания. Онтологическое описание предполагает
иную методологию. Оба способа не противоречат и не отменяют
друг друга. Космос и человек естественно произошли в соответствии
с природой и вместе с тем сотворены из небытия. В этом заключается
принципиальная проблема, фиксируемая корреляцией понятий
«бытие» и «естество». Новозаветное отношение к традиционным
онтологическим и метафизическим темам апостол Павел
устанавливает, отправляясь от веры, сумев адаптировать друг к другу
языческую, ветхозаветную и новозаветную идеологии на основе
понимания различия и тождества соответствующих онтологических
методов — гадания, исполнения закона и веры. Определение ее
ап. Павлом таково: «Вера нее есть осуществление ожидаемого и
уверенность в невидимом» (Евр. 11, 1). Первая часть этого
классического определения указывает на практический аспект веры,
вторая — на теоретический. Верить можно только в трансцендентное
Существо, являющееся «невидимым» для непретворенного зрения.
Невидимое становится видимым, когда сердцем приняты слова Бога
не всуе как пустые слова, а как призыв к волевому деланию.
Неудовлетворительность античной онтологии для Средневековья
заключалась в «чрезмерной» трансцендентности Абсолюта,
имеющей следствием неподвижность и субординационизм ипостасей
Единого. По формальным признакам неоплатонический Абсолют даже
«более» трансцендентен, чем христианский Бог. Если отсутствие
трансцендентной границы между Творцом и тварью упраздняет
само творение и ведет к пантеистическим выводам, то при излишнем
трансцендентизме творение как бы есть, но ни Творец не ведает,
что он сотворил, ни тварь не знает о своей сотворенности. Эти
непреодолимые для античного мировоззрения проблемы отразились
в вопросе о Боговоплощении, равно как и в тринитарном споре.
В результате ожесточенных дискуссий с различными ересями
соборными решениями была установлена догматика, окончательно
расставившая акценты в онтологических и метафизических
принципах, принимаемых христианским миром. В Никейском и Хал-
кидонском догматах понятия «бытие» и «естество» нашли свое
688 Ю. M. РОМАНЕНКО. БЫТИЕ И ЕСТЕСТВО
существенное применение и реализацию. Любое искажение в
догматике откликалось искажениями в онтологическом и
метафизическом постулатах: либо в «спиритуализации» или «натурализации»
метафизики, либо в забвении «бытия» или игнорировании
«творения» в разных проектах деконструкции онтологии.
§ 2. «Ареопагитики: Диалектика апофатики и катафатики как
сохранение тайны творения». «Ареопагитики» оказались
своеобразным сплавом неоплатонической методологии и идей, исходящих
из ветхозаветных и новозаветных источников. Философское
содержание трактатов представляет развернутую концепцию
«всеединства», «метафизику света», разработанную диалектику апофатики
и катафатики. Фундаментальная проблема совмещения принципов
«всеединства» и «творения» лежит в замысле этих произведений.
По-платонически трактуя свет, «Ареопагитики» присваивают
онтологический статус и тьме, или «мраку», определяемому в Библии
как таинственное «место» пребывания трансцендентного Бога.
Прямо не формулируя принцип творения, Ареопагит косвенно
приближается к нему через экспликацию светового всеединства,
обнаруживая в нем зияния (hiatus) мрака. В трактате «Мистическое
богословие» обозначен переход от онтологии света к ономатодоксии
(имяславию), которая реализуется в трактате «Божественные
имена». Сияния есть светоподобные существа, которые одновременно
являются именами. Это — ангелы, т. е. «вестники» таинственной
воли Бога, которым посвящено сочинение «О свойствах и чинах
ангельских». Катафатические суждения основаны на
гипотетическом утверждении существования в Боге мысле-образов о мире до
его реального сотворения. Панентеистическая тенденция «Ареопа-
гитик» заключается во введении так называемых «гипотетических
логосов», являющихся такими прообразами, которые
актуализируют волевое начало. Это можно понять как «образ воли» или «волю
образа», имеющих существенное значение для теистического
понимания творения. Если эманация непроизвольна, то творение
осуществляется волевым усилием. Динамика отношения высшего и
низшего уровней бытия состоит во встрече двух воль. Творение
осуществляется так, что низшее существо достигает своей цели в
синергии с высшим, через подражательное соучастие своему
«прообразу» и причастие Божественным действиям и силам. Дионисий
Ареопагит стоит у истоков восточного направления богословствова-
ния, основанного на мистическом созерцании и на практике
молитвенного призывания Божественных Имен (что в русской
религиозной философии позднее вылилось в традиции софиологии и
имяславия). Интеллектуальную сторону в то время развивали
представители западной традиции, следующие аристотелевскому типу
философствования.
АВТОРЕФЕРАТ
689
§ 3. «Схоластика: Онтологический аргумент». Основной
онтологической темой западной теологии была проблема доказательства
бытия Бога. Если для веры Бог показан в своем явленном Образе
и удостоверен откровением Имени, то для разума Он может быть
доказан в его бытии понятием. «До-казание» мышления усиливает
и продлевает «по-казание» веры. Западную традицию можно назвать
спекулятивно-интеллектуальной, утверждающей разум как субъект
творчества. В рамках спора о соотношении веры и разума Ансельм
Кентерберийский в сочинении «Монолог» подготовил условия для
онтологического аргумента, предварительно разделив
существование и природу Бога. На основе такой дифференциации вытекают
две возможности. Во-первых, апостериорное доказательство на
основе аналогии сущего — исходя из исследования природы
сотворенных вещей заключать об атрибутах Бога. Во-вторых, в
последующей работе « Проелогион» Ансельм формулирует собственно
априорное онтологическое доказательство. Метод онтологической
аргументации не апофатичен, а аподейктичен и апологетичен,
находясь в точке пересечения логики, диалектики и риторики.
Критика онтологического доказательства исходит из того, что из
понятия Бога невозможно вывести его объективного существования.
Фидеизм, отмежевывающийся от результатов деятельности
мышления, также критикует онтологический аргумент: зачем разумом
доказывать в гордыни то, что и так очевидно религиозным
благочестивым чувствам. Но изолированная вера тоже чревата гордыней.
Когда мышление берет в качестве тезиса словосочетание «бытие
Бога», то в этом полагании должно иметься в виду «бытие» именно
«Бога». Эти сокращаемые при формулировке обстоятельства—
«имение в виду» и «именно» — свидетельствуют о том, что
доказательство осуществляется в интервале между видением образа и
слышанием имени. Без предпосылки образа и имени мышление вообще
ничего не доказывает. Известный схоластический спор об
универсалиях, состоявший в выяснении вопроса о бытийном статусе
понятий, имел своим основанием онтологический аргумент. В работе
«О воплощении Слова» Ансельм наряду с онтологическим
доказательством обосновывал логическую необходимость Боговоплощения.
В параграфе прослеживается история дискуссий об онтологическом
аргументе.
§ 4. «Паламизм: Творение как синергия». Западная
средневековая философская традиция, ведя свое происхождение от идей
Аристотеля и Августина, сделала ставку на интеллектуализм,
опорным пунктом которого был онтологический аргумент. Вместе с
этим в конкретной религиозной жизни интеллектуалистическая
установка не заслоняла собой иные аспекты веры, в том числе и
мистическую практику. Онтологический аргумент не в состоянии
переубедить атеиста, но он способен выбить логические средства у
690 Ю. M. РОМАНЕНКО. БЫТИЕ И ЕСТЕСТВО
него из рук. Логика становится не врагом, а попутчиком веры.
Убежденный атеист переубеждается не доводами рассудка, а
отсутствием благодати, от которой он отказывается. Интеллектуалисти-
ческий пафос доказательства бытия Бога не имеет силы для того,
кто «в сердце своем» (Пс. 52, 2) сделал выбор в пользу небытия
Бога, ибо онтологический аргумент есть плод деятельности
головного ума, но не ума сердечного. Восточная христианская ветвь
развивала иной тип мышления, не нуждающийся во внешней
аргументации в публичных дискуссиях. Коротко суть богословского
учения Г. Паламы представляется тремя положениями, имеющими
философские импликации. Во-первых, в Боге различается Его
сущность и энергия, при этом сущность понимается апофатически, а
энергия — апофатически-катафатически, в форме антиномической
неотделимой отделимости ее от сущности. В силу этого, во-вторых,
энергии разделяются на нетварные и тварные. Здесь принцип
творения рассматривается с двух сторон — энергии несотворенной, но
творящей благодать, и энергии сотворенной, способной обратиться
навстречу энергии нетварной для усвоения благодати. В-третьих,
уникальная встреча двух энергий определяется понятием
«синергия» — соучастие или энергийная сопричастность двух планов
бытия: Божественного и человеческого. Для доктрины
православного энергетизма св. Григория Паламы, основанной на мистическом
опыте и психосоматотехнике исихазма, чрезвычайно важное
значение имело понятие «покаяние» (metanoia), которое
интерпретируется с философской точки зрения как «совпадение» двух ипостасей
единого ума — «головной» и «сердечной».
Глава 3. «Расположенность к феномену бытия:
Утраты и обретения онтологии в Новое и новейшее время»
В сравнении с античностью и Средневековьем Новое время
выработало иное онтологическое отношение. После того как разум
угадывает образ бытия, а после усвоения религиозного Откровения
обретает уверенность в нем, появляется возможность его
использовать (не утилитарно, разумеется), или просто — бытийно
располагаться. Русское слово «расположенность» разъясняет смысл того,
что имеется в виду. В употреблении этого слова существует
смысловой сдвиг, слышимый в следующих высказываниях: предмет
расположен в поле зрения субъекта, как и последний расположен
смотреть на него. Субъект и объект разделены друг от друга, но в
бытийной расположенности они тождественны. Открытие нового
онтологического метода обусловлено осознанием человеком себя как
субъекта творчества, сумевшего сделать в свою пользу
умозаключение из библейских посылок: если Бог создал человека по своему
АВТОРЕФЕРАТ
691
образу и подобию, то человек сам есть творец, способный свободно
распоряжаться собой. Наступила эпоха антропоцентризма с
характерными для нее взлетами и срывами человеческого духа. Поскольку
творение ex nihilo случается однократно, то человек, находя себя
вброшенным в данность бытия и обладая креативной способностью,
может ее реализовать лишь во времени — естественном, но
незаметном для невооруженного глаза чередовании бытия и небытия.
Иногда человек находил во времени бытие, озаряясь вспышкой
феномена, иногда терял, иногда поддавался иллюзии, что нашел,
в итоге претерпевая фрустрации в мизософском опыте забвения
бытия.
§ 1. «Немецкая классическая философия: Свободное
мышление в бытии». В качестве полномочного представителя немецкой
философской классики, репрезентирующего ее основную интенцию,
выбирается И. Фихте, поскольку сквозным мотивом и ключевой
темой этой традиции является свобода, а учение Фихте определяют
как пантеизм свободы (П. П. Гайденко). Фихте начинает
философствование с постулирования принципа «Я» как исходного.
Фактически «Я» есть местоимение (место для имени или то, что вместо
имени), поэтому онтологию Фихте правомерно назвать
местоименной. Вербальный атом «Я», расщепляясь, выражается
словосочетанием «самое себя», означающим само-стоятельность и
себестоимость творчества. Фихте в большей степени манифестирует
самостоятельность творца, его отрешенность, уединенность,
отсутствие необходимости в помощи извне, т. е. абсолютность. Что
касается момента себестоимости, т. е. тех затрат, которые
непосредственно требуются на производство продукта, то о них Фихте
молчит. Оказывается, что себестоимость производства «Я» — нулевая.
«Я» ничем не жертвует и ни от кого не принимает дара. «Я» просто
есть. Но именно потому, по всем догматическим критериям, «Я»
спонтанно творится и творит из ничего. Первоначальный, беспред-
посылочный акт свободы — это случай, когда «Я» вызывает само
себя к бытию из ничего. Несколько позже возникнет другой голос —
совести, — открывающий глаза на других. Представление об
Абсолюте претерпело значительную эволюцию в философии Фихте.
Специалисты делят его творчество на ряд взаимоналагающихся этапов:
сначала Абсолют выражается через «Я»
(трансцендентально-идеалистический период), затем под воздействием критики со стороны
современников Фихте ставит на первое место понятие «абсолютное
знание» (фаза гностицизма), вслед за этим он говорит об
«абсолютном бытии» (онтолого-метафизический период). Далее наступает
переход к мистике. Исторически комплекс текстов «Наукоучения»
разбивается на два этапа, между которыми произошел «поворот».
Принцип «Я», утверждаемый на первом этапе, затем сменяется
понятиями «знания», «образа», «лика» Абсолюта, говоря уже не
692 Ю. M. РОМАНЕНКО. БЫТИЕ И ЕСТЕСТВО
о бытии Абсолюта самого по себе, а выражая способы его явления
в творении.
§ 2. «Хайдеггер: Онтолингвистическое вопрошание».
Радикальную постановку вопроса о смысле бытия Хайдеггер предпринимает
в книге «Бытие и время», отказываясь представлять бытие как
общее понятие. Вопрошание есть особый способ отношения к
бытию — зов. Так как бытие трансцендентно сущему, то выход видится
в том, чтобы, замолчав о бытии, обратить внимание на бытие
сущего, которое вопрошает о бытии. Особым сущим является
человек — Dasein — как одно из сущих, репрезентирующее или,
точнее — презентующее бытие. В слове praesentia слиты два смысла —
момент настоящего и дар. Время есть длящееся присутствие
события бытия и небытия. Опознание во времени бытия как дара
внезапно. Без ничто бытие не проявляет свою существенность в
области сущего, так как бытие есть ничто из всего сущего. Как
следует понимать ничто? Ответ Хайдеггера тавтологичен: ничто
ничтожествует, отражаясь в распространении нигилизма в мировой
истории, связанном с тем, что сущее предает бытие забвению, а
бытие ускользает в тайну — «прячущее сокрытие» собственной
сущности. Понятие «небытие» Хайдеггер выражает различными
лингвистическими средствами. Небытие — это отъятие, отсутствие,
отказ, просто префикс «не-». Эмоциональное отношение к небытию
отражается в экзистенциалах страха, тоски, заботы. Хайдеггер ищет
языковые средства выражения понятия «ничто». Предельным
выражением небытия стала бы субстантивация частицы «не».
Переводчик и исследователь творчества Хайдеггера А. В. Михайлов
указывает на тот предел, где остановилась хайдеггеровская мысль о
небытии — в выражении «нетость священных имен». Язык
договорился до того, что стал неспособен вмещать в себя священные
имена, которыми был создан — звать стало некого. Отрицательная
частица «не», употребляемая безобидно в служебных целях для
выражения относительного несуществования, абсолютизировалась
в субстантивированное «нетость». При таком исходе язык уже не
возвращается в молчание, а обречен на беспрестанное выговаривание
«нетости», которое есть антиимя для безымянного поименования
отсутствия Бога. Тема «творения» рассматривается Хайдеггером в
«Истоке художественного творения» в применении к искусству И
поэзии. Пойезис, истолкованный как creatio, является способом
творения словом. Существует творческая сила света и образа.
§ 3. «Мизософия: Растерянность между бытием и небытием».
Факт существования в истории философии ее изнанки — мизосо-
фии — связан с тем, что философия содержит условие свободы
выбора между бытием и небытием. Ведущим мотивом мизософии
является установка инверсии, квалифицируемая С. С. Хоружим
как одна из элементарных онтологических реакций. Мизософия
АВТОРЕФЕРАТ
693
есть не обращение к Мудрости, а отвращение от нее — негативная
реакция и акт кардинального отказа. Мизософская установка не
рассчитывает на принятие спасения и сохранения бытия, претендуя
на оправдание творчеством в процессе растраты. Эту тему поднимал
Ж. Батай, интерпретировавший диалектику Гегеля с точки зрения
понятия «трансгрессии» — рассеяния в чистой трате, творчества
посредством потери, а не в смысле творчества как дара. Диалектика
по своему имени действительно допускает такую интерпретацию,
означая то, что находится между (диа-) двумя суждениями —
утвердительным и отрицательным. В состоянии «между» мышление
зависает в абсолютной свободе, когда воля может инвертироваться.
С ономатологической точки зрения можно выстроить такую
пропорцию: «логос» так относится к «диа-лектике», как «сим-вол» к
«диа-волу» (sym-bolon — «совместное бросание», dia-bolon —
«разбрасывание»). В истории диалектика имела две модели —
позитивную (конвергирующую) и негативную (дивергирующую). Искуси-
тельный мотив диалектики присутствует в различных ее
исторических версиях. В акте инверсии ощущается растерянность,
топологическая ненаходимость, которая контрадикторна
расположенности в бытии. Изречение: время собирать камни и время
разбрасывать камни — говорит не о том, что эти времена
последовательны. Собирание и разброс одновременны, так как переход от
одного к другому мгновенен в инверсии. Это параллельные времена
чуждых друг другу измерений: ничего общего у них уже нет, хотя
оба имели одно начало в творении. Человек расплачивается
растерянностью за то, что позволил себе вольно располагать бытием в
актах реализации неестественно форсированных проектов
преобразования мира. Тема «рассеяния бытия» (диссеминация — термин
Ж. Деррида) — одна из злободневных тем XX века.
§ 4. «Русская философия: Оправдание онтологии или онтоди-
цея». Исследователи русской философии неоднократно
подчеркивали в качестве ее ведущего признака онтологизм. Философская
установка на онтологизм имеет своей предпосылкой
экзистенциальный выбор в пользу бытия, а не ничто, и оправдание этого
выбора, предполагающего не только использование рациональных
аргументов, но и обращение к религиозному опыту. Определяющим
фактором выхода философии в фазу онтологии является наличие
теизма. О конституировании онтологии как таковой можно говорить
только в теистическом контексте, поэтому в качестве примеров
онтологического типа философствования выбраны представители
русской религиозной философии. Секуляризация философии вела
в большей степени к ее дезонтологизации, а без онтологии
философия превращается в лучшем случае в формальную методологию
науки, в худшем — в ангажированную служанку политиканства
или в эстетствующий снобизм пресыщенного вкуса, рано или поздно
694
Ю. M. РОМАНЕНКО. БЫТИЕ И ЕСТЕСТВО
впадающего в мизософию. Возникновение онтологического дискурса
в России начинается с усвоения проблематики всеединства. Однако
остановка на категории всеединства как основополагающей имеет
своим следствием пантеизм, который входит в противоречие с
принципом творения. Импульс к онтологическому типу
философствования в русской религиозной философии вылился как минимум в
трех направлениях — богословско-философском истолковании со-
фиологии, имяславия и иконопочитания. Софиология, инициатором
которой в контексте российской духовной культуры выступил В.
С. Соловьев, реализовывала платоническую традицию. П.
Флоренский, С. Булгаков, В. Эрн, А. Лосев стремились построить
философский понятийный фундамент для обоснования правоты
имяславия. Е. Н. Трубецкой является одним из первых в русской
философии начала XX века, кто стал исследовать икону с точки зрения
онтологии в работе «Умозрение в красках». В этом направлении
продолжил работу П. А. Флоренский в трактате «Иконостас».
Понятие «истина» и символ «правда» различаются так, как
различаются «онтология» и «онтодицея», «теология» и «теодицея». Одним
из последних вариантов жанра теодицеи является «Столп и
утверждение истины» П. А. Флоренского, позднее задумавшего построение
«антроподицеи». «Онтодицея» располагается между «теодицеей» и
« антроподицеей ».
«Заключение к I разделу: Онтоантропологические модели».
Согласно традиционному делению истории на эпохи античности
(космоцентризм), Средневековья (теоцентризм), Нового и новейшего
времени (антропоцентризм), ставится вопрос о том, в каком образе
человек репрезентирует самого себя в каждом из перечисленных
эпохальных циклов. Предлагаемые формулы, выведенные из
текстологического анализа первоисточников («человек есть эманация
Космоса», «человек есть творение Бога», «человек есть жизненный
мир человека»), являются поэтапным обобщением
антропологических идей в истории, реконструируемых в связи с иными формами
жизнедеятельности человека — мифом, религией, наукой,
искусством, с учетом многомерности человеческого феномена. Решение
поставленной задачи способствует актуализации самосознания и
самоопределения человека перед лицом необратимых темпоральных
изменений в природе и истории. Подход к исследуемому предмету
определяется потребностью целостного упорядочения наличных
областей знаний о человеке, зачастую конкурирующих между собой.
Приведение в согласие или создание условий возможности для
продуктивного диалога между разнородными и
разнонаправленными типами знаний возможно при применении метода
моделирования, позволяющего представить изучаемый предмет в его
самопроизвольной творческой активности. Это характерно для такого
«моделируемого объекта», каковым оказывается человек, который сам
АВТОРЕФЕРАТ
695
же и конструирует эти модели, образующие рефлексивную базу его
существования. Обнаружение историко-онтологических моделей
человека и их описание открывают горизонт для отслеживания их
возможных взаимодействий в целостности человеческого существа.
Раздел II. ЕСТЕСТВО
«Введение. Мифическая интерамбула между онтологией и
метафизикой». Чтобы «перейти» от онтологии к метафизике, нужно
снова вернуться к самой онтологии и осмыслить полученные в ней
результаты. Необходимо продумать «то же самое» — бытие; но в
силу того, что это продумывание будет дополнено памятью о «первом
разе», оно дает новый, дополнительный результат, который
составляет содержание «естества». Метафизика есть своеобразный повтор
онтологии, но не ее голое дублирование. Новое начало начинается с
«того же самого», но теперь имеется возможность видеть суть дела
двумя глазами, стереоскопически. Отождествление онтологии и
метафизики включает в себя их разность. Уместно в этом случае
выражение Гегеля: «тождество тождества и различия». Онтология и
метафизика претендуют на сокровенное знание последних
оснований. Предмет философии трансцендентен, указывая на
«потусторонность» ее цели, для достижения которой необходим выход за
границы возможного опыта. Онтология представляет трансцендентность
в свете «единицы», метафизика — в свете «двоицы». Мистичность
онтологии заключается в том, что она описывает опыт
«единственности», который испытывает сотворенное существо, задавшееся
целью помыслить единое бытие. Наиболее показателен здесь опыт
встречи с Единым Плотина. Но не только к единому и неделимому
бытию трансцендирует свободное мышление человека. «Естество»
также есть трансцендентность под знаком двоицы. Между
онтологией и метафизикой существует «интерамбула» (букв.: интер —
между, амбуло — хожу; то, что естественно происходит в
вестибулярном аппарате организма между первым и вторым шагом) —
состояние неподвижного движения переступания через порог.
Глава 1. «Чутье естества.
Античность и Средневековье о фюсис»
Композиция данного исследования основана на традиционной
хронологической историко-философской последовательности, что
связано с принципиальной невозможностью говорить об онтологии
и метафизике, минуя исторические контексты их проявления.
Вместе с этим онтология и метафизика не являются прерогативой только
696
Ю. M. РОМАНЕНКО. БЫТИЕ И ЕСТЕСТВО
историко-философского подхода. Их содержание и форма прежде
всего теоретичны. Существенным вопросом является прояснение
соотношения истории и теории. История — это развитие свидетеля,
каковым является человек, имманентно встроенный во временное
становление. История философии является единой в той мере, в
какой мыслители разных эпох имеют возможность совместного
вневременного теоретического обмена знаниями по поводу общего
предмета. Такое состояние знания можно назвать «теорезой», под-,
черкивая его активный характер и отличая от пассивной «теоремы»,
которая логически выводится из ограниченного числа «аксиом»,
т. е. частных умозрений. Подобное совпадение истории и теории
философии в одной точке необходимо постулировать в качестве
методологического регулятива. Природные первоначала, начиная
со стихий, не сводятся только к проблеме «бытия», но, являясь
непосредственным предметом теории философии, в данном случае —
метафизики, обобщаются в понятии «естество». Античность сумела
выработать к нему особое отношение, которое уместно назвать,
сообразно античному самоистолкованию, чутьем (айстезисом)
естества. Чутье — это не эмпирический сенсуализм, но именно особое
теоретическое отношение к реально существующему, т. е. к истине.
Когда мышление мыслит единое бытие, отождествляясь с ним,
одновременно с этим чувства гармонизируются в чутье естества.
§ 1. «Гераклит: Стихийная интуиция». В античности был
распространен жанр трактатов «О природе» («Peri physis»), в которых
констатировался трансцендентный характер естества и
вырабатывались методы его постижения. Подобно тому как Парменида
называют «отцом» онтологии за его фундаментальный принцип
«Бытие есть, небытия же нет», так Гераклит открывает мышление о
природе загадочным изречением «Природа любит прятаться»
(фр. 123 DK). Античный подход к естеству основывается на особом
типе угадывания. Цицерон в трактате «О дивинации» разделяет
мантику на искусственную (угадывание творения) и естественную
(врожденная способность предугадывать естественную волю богов).
Двусмысленность результата угадывания отражается во всех
сохранившихся изречениях Гераклита, каждое из которых поддается
многообразным, зачастую взаимоисключающим толкованиям. Но в
этом отношении есть если не своя логика, то своя тенденция,
которую можно отследить, прилаживая разорванные по видимости
фрагменты гераклитовских мысле-образов, являющихся
результатами его персонального опыта чутья естества как «тайной гармонии»
своих противоположностей. Принципиальная схема гераклитовско-
го учения о естестве такова. Параллельно онтологическому
принципу «Все едино» (Hen kai pan) Гераклит постулирует
метафизический принцип «естества» — «Все течет» (Panta rei), которые
обобщаются в синтетическом метапринципе, представленном в од-
АВТОРЕФЕРАТ
697
ном из самых загадочных фрагментов Гераклита: «Всякая тварь
бичом пасется» (фр. 11 DK); что истолковывается как естественное
взаимоограничение движений стихий в единой модели Космоса.
Структура взаимообращения стихий под главенством одной из
них — огня — представляется в форме воронкообразного вихря —
молнии. Подобный образ достигается в результате претерпевания
«стихийной интуиции» (самовозбуждающегося пристального вгля-
дывания), присущей досократовским «фисиологам», отличаясь от
мышления бытия в образе «прекруглой глыбы шара» (по Парме-
ниду). Расцвет античной перифизики сменился ее закатом, когда
софисты противопоставили «номос» и «фюсис», разделяя онтологию
и метафизику. Позднее Аристотель обобщит «экзегезу перифизики»
(толкующее угадывание знаков природы, выставленных из ее
укрытия) одним словом — «метафизика», которую в духе Гераклита и
Хайдеггера можно понять как «раскрывающееся сокрытие»
истинной природы (алетейя фюсис).
§2. «Платон: Припоминающая природа души». Учения фисио-
логов-досократиков, основанные на интуиции природы Космоса,
были подвергнуты критике со стороны софистов, избравших в
качестве ведущего метода дискурс. Если интуиция является
непосредственным постижением двоичной целостности фюсис, то
дискурс по определению есть опосредованный, «непрямой» путь,
искусственно разделяющий природу и рассматривающий в изоляции
обе ее стороны. Исходное внутреннее деление фюсис состоит из
души и тела (или идеи и материи). Философия Сократа и его
ученика Платона решала задачу объединения интуиции и дискурса,
т. е. поиска возвращения из психосоматического расщепления к
единству живого одушевленного тела. Объект их исследования —
душа, исходящая в экстазисе из тела и возвращающаяся обратно.
Обнаружилось, что у души самой по себе есть собственная природа,
проявляющаяся в способности припоминания (анамнезиса) как
определенного типа угадывания. В параграфе дается сводка
определений «анамнезиса» в платоновских диалогах («Федон», «Менон»,
«Федр», «Филеб»), сводящихся к тому, что память есть вид
самостоятельного удовольствия, присущего душе. В диалоге «Парменид»
диада фюсис представлена в понятии момента «вдруг», «странность»
которого заключается в двоящемся созерцании становления,
примерами коего являются время и пространство. Диалектика как
результат объединения интуиции и дискурсии способствует
построению спекулятивной концепции Космоса («Тимей»). В понятии
«хора» (пространство) воображаемая сущность фюсис выражается
образом «сотрясающегося сита» как усложненной модели образа
«стихийной воронки». Еще один архетипический образ фюсис,
реконструированный Платоном в диалоге «Политик», —
«вращающееся веретено». Эти образы, спонтанно возникающие в вообра-
698
Ю. M. РОМАНЕНКО. БЫТИЕ И ЕСТЕСТВО
жении от припоминающего усилия души, представляют идеальное
тело, к которому возвращается душа (аналогичны этому
современные гипотезы о «пренатальном сознании»). «Анамнезис» можно
понять не только как припоминание о прошлом, когда душа
существовала в довоплощенном состоянии, но и как напоминание о
будущем, когда душа должна выбирать себе тело в соответствии с
идеей метемпсихоза и мифа «вечного возвращения».
§ 3. «Аристотель: Естественное движение тела». Расхождения
между Платоном и Аристотелем вызваны разным пониманием
двоичной структуры естества, проявленной в наличии у живого
существа души и тела. Платон проследил возможности природной
способности души, оставив в забвении тело. Этот пробел заполняет
аристотелевская философия. Исходя из принципа неотделимости
души и тела, но оставляя в качестве исключения возможность
отделения активной бессмертной ипостаси ума от тела, Аристотель
указывает на существование особой способности души,
растительной, поддерживающей жизнь одушевленного тела и в возможности
сохраняющей их связь посмертно в целостности Космоса. Этой теме
посвящен комплекс естественнонаучных сочинений Аристотеля.
В «Физике», изучающей естественный характер движения тела,
выделяется основной признак природы — «врожденное стремление
к изменению» (метаболе). Понятие «метаболе», отличающее
природное и искусственное сущее, интерпретируется как «совпадение»
природного сущего с самим собой на фоне непрерывного
превращения стихий. Знание природы (эпистеме фюсике) разделяет ее, а
«мета-физика» сводит разделенное к целостности. Аристотелевская
модель Космоса представляет собой самовоспроизводящийся
организм, в котором происходит постоянный взаимообмен вещества и
энергии, в процессе которого осуществляется тело, способное иметь
душу. Соматогенез происходит как «сращение» (симфийа),
являющееся природным планом синергии, без чего «мета-боле»
превращается в «диа-боле» — осквернение природы, тенденция чего
присутствует в платоновской методологии, критикуемой Стагиритом.
Аристотелевская методология естествознания подготовила почву
для опровержения доктрины метемпсихоза, о чем намекалось в
платоновском мифе об Эре. Миф «вечного возвращения»
упраздняется идеей воскресения — посмертного опознания душой своего
тела. Но Аристотель, подготовив предпосылки для высказывания
этой идеи, воздержался от преждевременных выводов. Эта тема
стала основной в «теологической физике» христианского
Средневековья. Дополняя интуицию фисиологов логическим методом,
критикуя игнорирование природы софистами, рационально заботясь о
природном здоровье, Аристотель все же допускает некую «подлость
естества» (Никомахова этика, 1154 Ь), ограничивая догадку о
возможности освящения природы тела.
АВТОРЕФЕРАТ 699
§ 4. «Средневековье: Историзм творения и Богочеловеческая
природа». Принцип творения, постулируемый теистической
средневековой традицией, подразумевает как свое дополнение
утверждение принципа историзма. В отличие от античной циклической
модели исторического времени средневековый образ истории
представляется в виде расслоенного и вытянутого в спираль круга:
начало и конец линии истории трансцендентны ее эмпирическому
содержанию, упорядоченному имманентными циклическими
структурами. История по сути есть двусторонняя граница творения,
вдоль которой движется сотворенное сущее и которая полагает
предел его существованию. В этом отношении история делится на
два плана: Священную и мирскую истории. Первая представляет
собой необратимую непрерывную связь актов творения и
эсхатологической завершенности. Вторая начинается с момента отпадения
человеческого мира от Творца, параллельно длится в автономном
режиме, чреватом усугублением отпадения, и заканчивается
возвращением обратно в серии естественных поколенческих циклов,
в последовательности которых исполняется мера пророческого
бытийного предначертания. Поскольку история воплощенно
реализуется в природном аспекте, то ее триадическая схема (творение
Богом мира — растворение Бога в мире — возвращение мира к
Богу) дополняется четвертым моментом. Характерна для данной
эпохи четверичная концепция Иоанна Скота Эриугены, изложенная
в трактате «О разделении природы». Природа Бога, соотносимая
через понятие творения с природой человека, проявляется в
человеческой жизни двойственно. Эта тема предугадывалась в античных
близнечных мифах, например о братьях Диоскурах, попеременно
передающих друг другу часть бессмертного божественного начала
в себе. В Ветхом Завете двойственно-зеркальная сущность природы
отражена в образе Софии — Премудрости Божией. В Новом Завете
эти мифологемы теистически трансформируются в описании акта
крещения Иоанном Крестителем Иисуса Христа. Преображение
двойственной природы человека осуществляется на фоне проявления
троичной природы Бога. Этот новозаветный сюжет лежит в основе
утверждения дифизитского догмата о равном наличии в Иисусе
Христе двух природ — Божественной и человеческой. Открытое
античностью чутье естества усиливается волей к обновлению жизни
в Воскресении.
Глава 2. «От "фюсис" к "натуре".
Экспериментальные проекции природы на экране воображения»
Техническое экспериментирование с природой, организованное
научно в начале Нового времени, было инспирировано мысленной
700
Ю. M. РОМАН EH КО. БЫТИЕ И ЕСТЕСТВО
философской трансформацией «любящей скрываться» фюсис в
«любящую выставляться» натуру, и ранее — чудесным преображением
реальности в мифе. Экспериментальное отношение отличается от
чутья естества тем, что к последнему приспособляется искусство.
В эксперименте двоица естества делится на две тяготеющих друг
к другу части, и чтобы они не соединились по инерции вновь, одна
из частей махинативно переворачивается по отношению к другой
и ее энергия переводится на иную цель. Искусство (техне) состоит
в том, чтобы замедлить или ускорить взаимонаправленное движение
души и тела живого существа. Ум, используя свою креативную
способность, выманивает фюсис из укрытия, обнаруживает ее
потаенные возможности и перетворяет по-своему. Так «мета-физика»
превращается в «транс-натурум» — встроенную между частями
естества сферу техники, управляемую волей субъекта,
подражающего Творцу, и питающуюся излишками энергий, излучаемых из
разрывов ополовиненной природы. Первый эксперимент провели
Адам и Ева, искусившись сорвать плод с Древа познания. Иной
архетип «экспериментальной лаборатории» задан мифом о пещере
у Платона. Если в мифологеме Рая эксперимент с естеством
запрещается, поскольку его результаты могут быть использованы как
во благо, так и во вред, то в мифе о пещере он поощряется. Обе
мифологемы исторически эволюционировали, являясь
противоположными стратегиями отношения к естеству.
§ 1. «Платон: Образ Космоса в "гадательном зеркале"».
Специфика античного экспериментального подхода понимается как
экспериментальное наблюдение (А. В. Ахутин). Обыденное
восприятие многообразия вещей организуется с целью видения образа
целостного Космоса. Условием возможности такого оптического
эксперимента является наличие в Космосе имманентно присущего ему
«естественного зеркала», без чего не могла бы проявиться манти-
ческая способность человека. В «Тимее» Платон реконструирует
процесс космогенеза и антропогенеза с точки зрения Демиурга,
экспериментирующего с фюсис. Двойственность последней
представлена в том, что Космос есть чувственный бог, являющийся
образом бога умопостигаемого. Демиург создает видимые вещи,
взирая на первообраз и используя зеркальную способность фюсис.
Так осуществляется переход от образа к воплощению в творческом
воображении: идеи являются специфическими зеркалами,
накладывающимися на материю, в результате чего возникают конкретные
вещи. Этот процесс моделируется механизмом игрушки «нетка»
(описанной В. Набоковым в романе «Приглашение на казнь»),
которая представляет собой бесформенный «предмет» с приставленным
к нему специально искривленным зеркалом. Отражение первого во
втором при их особом расположении и настройке генерирует
устойчивый образ. «Нетка» является комплексом из двух частей,
АВТОРЕФЕРАТ
701
подогнанных друг под друга, без чего они кажутся
«иллюстрациями» хаоса. Спекулятивная стратегия демиургии заключается в
хитрости (махинации) сделать их такими, чтобы совпадение их
возможностей превратило хаос в действительный Космос. Антропогенез
подражает космогенезу, из чего следует принцип тождества
макрокосма и микрокосма, благодаря чему человек способен познать
Космос целиком посредством «гадательных зеркал», встроенных в
человеческое телесно-душевное естество, и которые следует открыть
в себе, упражняясь в воображении. Экспериментальный потенциал
мантики проявляется в магии, которой отмечена натурфилософия
Ренессанса, проложившая путь экспериментальному
естествознанию Нового времени. Зеркальные эффекты демиургии использовали
Н. Кузанский и Лейбниц (в учении о монаде как «живом зеркале»
Универсума).
§ 2. «Декарт: Дополнительность сомнения и удивления в
воображении творения». Продолжая традицию платоновского
идеализма с добавлением скептической установки, Декарт внес
значительный вклад в укрепление основ рационалистической
организации научного познания как фундаментального фактора
европейского культурного развития. На материале результатов
философского творчества Картезия показывается, что рационалистический
проект научного знания (cogito) основан на двуединой структуре
мифа (воображаемого как такового), заключающейся в
дополнительности методического сомнения и методического удивления.
Текстологический анализ картезианских произведений («Страсти
души», «Размышления о первой философии» и др.) демонстрирует,
что полагание Декартом принципа «cogito ergo sum» явилось
следствием озарения в личном воображении французского мыслителя,
инспирированного героикой и архетипами змееборческого и
зеркально-близнечного мифов, имманентно присущих культуре
эпохи Нового времени. Змееборческий миф провоцирует душевную
страсть «сомнения», а зеркально-близнечный миф — страсть
«удивления», с которыми Декарт методически проводил мысленный
эксперимент, итогом чего стала искусственная стимуляция и
актуализация самосознания. Самовозбуждение воображения происходит
при его поляризации, проявляющейся в напряженном
противостоянии и перетекании энергии между такими душевными страстями,
как удивление и сомнение, что отражается на интенсификации и
экстенсификации психосоматической деятельности. Декарт
сознательно и целеустремленно осуществлял эксперимент изнутри
субъективности (своеобразный experimentum crucis, проверяющий на
прочность способность субъекта к творчеству), завершившийся
удачей в момент нахождений устойчивой точки cogito в темпоральном
течении воображающей души. Для этого Декарту пришлось
совершить обращение в пределах субъективной сферы на самое себя
702 Ю. M. РОМАНЕНКО. БЫТИЕ И ЕСТЕСТВО
(мифологический мотив «оборотничества»). Этот предельно
свернутый индивидуальный опыт произошел на фоне бурного
разворачивания естество испытания внешней природы.
§ 3. «Гегель: Отпуск Абсолютной Идеи в природе». В «Науке
логики» Гегеля реализовалась амбиция познающего разума
логически «изобразить» Бога до акта творения, построить «логический
слепок» Вечности. Вечность Идеи состоит в том, что она есть
«в-себе-и-для-себя-бытие» или «возвратившееся в себя бытие».
Абсолют «довлеет себе», но вместе с тем «решается положить из себя
иное» — природу, чтобы затем в духе снова вобрать ее в себя.
В «Науке логики» описано, как Абсолютная Идея проходит круг
самоопределения, замыкая «сферу чистой мысли», а затем с
точностью до наоборот повторяет свое круговращение в инобытии,
изложение чего представлено в «Философии природы» и
«Философии духа». Абсолют «свободно отпускает» себя в творение природы,
потенциально положенной в нем самом. Диалектическая триада в
природе трансформируется в четверицу — средний член
раздваивается, так как иное в природе существует для себя как иное.
Положительным в природе является просвечивание в ней понятия.
Сама природа не есть даже «чистое небытие»: «отрицательная
природа природы» заключается в ее «бессилии» сохранить свои
образования. Эта оценка вступает в противоречие с гегелевским
метафорическим выражением, что Бог открывается двояко — в природе
и духе, «лики» которых образуют Его «храмы». Соотношение
природы и духа понимается в свете мифологемы Священного брака.
Но в версии Гегеля этот брак оказывается неравным.
Экспериментальное отношение духа к природе проявляется в «хитрости разума»
направлять одни «естественные силы» против других, уничтожая
их и сохраняя себя. Вторя античному пониманию природы как
загадки, Гегель ставит задачу выманить из укрытия и «одолеть»
этого постоянно превращающегося Протея в метафизическом знании
его сущности, которая есть не что иное, как «зеркальное отражение»
духа. Вечность осуществляется в постоянном сотворении и хранении
мира, объемлющего духовное и природное в акте «снятия». Так
как природа есть «отпавшая от самой себя идея», деятельность
последней состоит в диалектике понятия — пройти все ступени
природного формообразования, воплотиться в этих сферах,
постоянно прорывая границы в силу их неадекватности, и в конпе концов
возвратиться в исходную точку. Энтузиазм покорения природы
отразился в учении Гегеля. Возможности экологического кризиса
его эпоха вообразить еще не могла.
АВТОРЕФЕРАТ
703
Глава 3. «Реабилитация метафизики.
Культура сохранения естества»
Единство человека по сути обусловлено его способностью
свершения креативного акта; вместе с этим человек по природе двоичен.
В отличие от абсолютного Творца, творящего из небытия и
естественно возвращающего в единство собственного бытия результаты
своей деятельности, человек может творить на основе предданной
ему природы. Для этого человек экспериментирует над природой,
используя естественные энергии для поддержки искусственных
процессов. Человек научился разделять двоицу природы, выделившись
таким образом из нее, но он не способен с той же скоростью снова
сводить ее к цельности. Поторопившись вкусить от Древа познания,
человек не успел вкусить от Древа жизни, что привело к
необратимости времени его истории. Давая реальные половинчатые
результаты, экспериментальная деятельность оставляет за своей
спиной незаполняемую пустоту, которую «боится» природа.
Пустившись на путь эксперимента, человек уже не может своей силой
воздержаться от него. Попытка сохранить результаты
экспериментирования влечет необходимость проведения новых экспериментов,
все более вытягивая силы природы из ее тайников. Стрела
человеческого познания имеет апокалиптическую цель, контуры образов
которой все заметнее на фоне экологического кризиса. Создаваемый
мир так называемой «второй» природы — культуры — надорван
от «первой». Реабилитация имени «метафизика» состоит в том, что
«мета-фюсис» должно быть понято не превратно как то, что «после
природы» (ибо после нее может быть только чистое ничто), а как
то, что естество сохраняется в круге самовосстановления, который
нужно находить и поддерживать. Этот искомый цикл (cyclus, colo —
откуда слово «культ») есть культура самой природы.
§ 1. «П. Флоренский: Проект конкретной метафизики».
Начатая В. Соловьевым критика отвлеченных начал нововременной
метафизики и выдвинутая А. Хомяковым идея живого знания были
подхвачены П. Флоренским в его плане конкретизации метафизики
(от лат. concretus — сгущенный). Естественная дуальность
содержания метафизики, проявляющаяся в делении познаваемого на
мир ноуменов и феноменов, разрешается в символе как точке их
касания. Задачей метафизики становится обнаружение и описание
символов, в которых сливается вещественное и духовное
(материальное и идеальное) и которые поэтому обладают подлинным,
неущербным бытием. Символы образуют относительно
самостоятельные сферы реальности (дискретные двуединства), из которых
вырастают области культуры. Проект «конкретной метафизики»
состоит в упорядочении символов в их «алфавите». Конкретность
метафизического «объекта» зависит от степени воплощенности ду-
704 Ю. M. РОМАНЕНКО. БЫТИЕ И ЕСТЕСТВО
ховного в вещественном, при этом вещественное имеет не меньшую
онтологическую значимость. Будучи действующим священником и
обладая обширными знаниями в современной ему науке, П.
Флоренский допускает применение достижений естествознания в
пояснении сакральных тем религии, и наоборот. Персональной
мифологемой жизнетворчества П. Флоренского, согласно С. С. Хоружему,
является Эдем — первозданный, утраченный и вновь обретенный
рай. Мысль Флоренского движется в круге этой мифологемы, что
отразилось в результатах его интеллектуальной деятельности.
Начало метафизического дискурса Флоренского — констатация
очевидного — образа, который не есть свойство только объекта или
субъекта, но является как бы «сшивкой» того и другого,
ритмическим уплотнением ткани мира. При таком понимании время
опространствуется благодаря принципу взаимной обратности
(обратной перспективы) феноменального и ноуменального. Статика
видимого Космоса представлена концентрическими сферами; его
динамика понимается как нормализованное пульсирование
любящего сердца. В силу признания догмата грехопадения, вследствие
которого в живой целостности образовался разрыв, метафизический
смысл религиозного культа, из которого выводятся существенные
константы светской культуры, заключается в снятии заслона между
феноменом и ноуменом — своеобразная метафизическая терапия
естества, и далее — в налаживании возможности его
самостоятельной реабилитации исходной целостности.
§ 2. «М. Хайдеггер: Поворот к зеркальной игре мировой чет-
верицы». После проекта «фундаментальной онтологии»,
заявленного на этапе «Бытия и времени», М. Хайдеггер обращается к
метафизической тематике в работах «Кант и проблема метафизики»
и «Основные понятия метафизики», обнаруживая «осторожное» и
вместе с тем «уважительное» отношение к ней. Начиная с этого
периода в творчестве немецкого мыслителя назревает «поворот».
Прежде чем понять суть метафизики, нужно осмыслить
возможности физики, и поэтому Хайдеггер обращается к истоку ее традиции
в работе «О существе и понятии φύσις. Аристотель "Физика" В-1»,
истолковывая Стагиритову концепцию естества. Вторя Аристотелю
в том, что природно сущее имеет в себе самом источник движения
(оно самодвижно и себядвижно), Хайдеггер подчеркивает
двойственный характер фюсис, проявляющийся в том, что она есть «в-
себя-обратно-хождение». Ключевым понятием физики является
«метаболе», определяемое как изменение в смысле «поворачивания
назад» к началу движения. Вместе с этим в самой природе есть
нечто «бесчинствующее», поэтому к ней возможно нигилистическое
отношение, осуществляемое в технизации жизни — «поставе» как
без нужды привходящем в фюсис пойезисе. Беспредельное
вторжение техники в природу чревато уничтожением границы между
АВТОРЕФЕРАТ
705
жизнью и смертью. В силу такого понимания сути фюсис Хайдеггер
утверждает тождественность метафизики и физики, если в
последнюю вводится своеобразный «принцип дополнительности»,
требуемый исходной двоичностью естества. В статье «Вещь» Хайдеггер
моделирует идеальное состояние жизненного мира в свете
четырехмерной структуры, состоящей из четырех элементов: божеств,
смертных, неба и земли. Эта «мировая четверица» есть усложненная
модификация диады фюсис. Вещность как вечность сбывается в
точке пересечения диагоналей мирового квадрата, преобразуемого
в круг в процессе зеркального взаимоотражения его вершин. В
светящейся зеркальной игре нераздельно-неслиянной четверицы мира
проступает простота и естественность мировой гармонии. Природное
сущее остается самим собой на фоне непрерывных превращений
(мета-боле) стихий, пронизывающих его и дающих живую энергию,
но не разрывающих (диа-боле) до тех пор, пока сохраняется
естественная простота.
§ 3. «А. Лосев: Исцеление ностальгии по естеству в абсолютном
мифе». В «Диалектике мифа», сравнивая метафизику как
наукообразное учение об отношении «сверхчувственного» и
«чувственного» и миф как изначально жизненное отношение к окружающему,
где нет абстрактного дуализма, ибо здесь сверхъестественное
естественно и наоборот, А. Лосев видит в этой отрешенности и иерар-
хийности онтологическую суть мифа. Согласно внутреннему, без
инородных привнесений диалектическому определению, миф есть
магическое имя, творящее чудеса. Имя понимается как энергийный
предел самовыявления сущности вещи, а миф есть непосредственная
связь имени и образа, в полноте его воплощения в материальной
истории. Именование преображает жизнь вещи. Мифическая
отрешенность предполагает простую элементарную интуитивную
реакцию на бытие, дорефлективное взаимоотношение человека с миром.
Чудо в мифическом понимании не противоречит законам природы,
а впервые их выявляет, будучи совпадением двух планов
действительности — идеального и материального. Это двуединство
осуществляется в сфере единичного сущего посредством механизма
мифического оборотничества (перевоплощения в разные тела), в
акте которого эмпирическая жизнь совпадает с одним из моментов
идеального состояния всеединства. Последовательным итогом
диалектики мифа (очной ставки Логоса и Мифоса) стало выдвижение
гипотезы абсолютного мифа, представляющего наглядную панораму
творения в аспекте его выразительной энергии. Арифмологически
абсолютный миф структурирован четверицей: диалектическая
триада дополняется феноменологией как моментом воплощения. А.
Лосев продолжает традицию софиологии. София, Премудрость Божия,
есть имя персонифицированной фюсис, в свете абсолютного мифа
метафизика является учением о естественности бытия, о чем забы-
706 ΙΟ. Μ. РОМАНЕНКО. БЫТИЕ И ЕСТЕСТВО
вает человек, растраченный в результатах затеянных
экспериментов. Абсолютный миф есть хранилище священных имен и образов,
которыми осуществляется безыскусное (вне-техническое) исцеление
сущего и возвращение, как поэтически выразился А. Лосев, «чистого
утра бытия».
«Заключение: Познавательные пределы онтологии и
метафизики — гнозис бытия и эпистема естества». Прецеденты
онтологического и метафизического способов философствования дают
возможность типологически сопоставить онтологию и метафизику в
познавательном отношении. Исходным состоянием, откуда берет
начало «любовь к мудрости», является обыденная жизнь —
анонимное и безликое существование людей (узники пещеры, по
Платону, das Man, по Хайдеггеру), живущих в незнании своего
незнания. Знание обретается в опыте — испытании человеческой
способности трансцендировать положенную границу его существования.
Конфигурация этой границы задана самими бытием и естеством,
как они поняты выше. Вхождение человека в границу определяет
и направляет метод познания. Предмет онтологии — триада
«бытие—ничто—творение» — узнается «ученым незнанием», ибо сам
переход от незнания к знанию происходит как творение из небытия.
«Ученость» не упраздняет окончательно «незнания» трансценден-
ции, но делает его качественно оформленным. Онтологическое
знание, определя-емое как «гнозис», есть трансцензус к единому бытию
свернувшейся до единственной единичности экзистенцией,
отрешившейся от всего иного и достигшей неразличенности знаемого
и знающего. В отличие от непосредственного знания бытия, знание
естества опосредовано присущим ему «зеркалом» и определяется
как «эпистема» (по Аристотелю — движение от понятного нам к
понятному по природе) — как двойной обратный трансцензус той
же границы — обогащенное возвращение трансцендентального
субъекта в жизненный мир «человеческого, слишком человеческого»
(Ф. Ницше).
По теме диссертации опубликованы следующие работы:
1. Принцип творения в онтологии и метафизике // Проблема
первоначала мира в науке и теологии. СПб., 1991. С. 36.
2. Культура введения примеров в диалектической логике //
Диалектическая культура мышления. СПб., 1992. С. 139-148.
3. Вода: миф и реальность // Символы в культуре. СПб., 1992.
С. 66-77.
4. Великий бог Пан и всеединство // Вестник СПбГУ, 1994,
№ 20. С. 29-30.
5. Бытие и естество как понятия философии // Человек.
Природа. Общество. Актуальные проблемы. СПб., 1995. С. 1.
АВТОРЕФЕРАТ
707
6. «Наукоучение» И. Г. Фихте как миф и стратегия
образования // Философия образования и традиции русской школы. СПб.,
1995. С. 100-103.
7. Онтология мифа // Программы спецкурсов для студентов
философского факультета. СПб., 1995. С. 26-29.
8. Введение в метафизику и онтологию // Программы спецкурсов
для студентов философского факультета. СПб., 1995. (В соавт.)
С. 1-8.
9. Онтотеология и мифология // Философия религии и
религиозная философия: Россия. Запад. Восток. СПб., 1995. С. 62-64.
10. Мифо-лектические условия возможности диалога // Вестник
СПбГУ. 1995. № 6. С. 115-116.
11. Число как символ в философском знании // Наука и
альтернативные формы знания. СПб., 1995. С. 92-102.
12. Устное и письменное в мифе // Универсум платоновской
мысли. СПб., 1995. С. 11-16.
13. Онтологический «культ бытия» // Смыслы культуры. СПб.,
1996. С. 54-58.
14. Экземплификационный и энергийно-арифмологический
методы в историко-философском исследовании // Высшее образование
в современных условиях. СПб., 1996. С. 74-77.
15. Диалектика и метафизика: судьба старой коллизии //
Проблема интеграции философских культур в свете компаративистского
подхода. СПб., 1996. С. 55-57.
16. История и теория философии //Структура философского
знания и его эволюция в течении XX века в России. СПб, 1996.
С. 7-9.
17. Метафизика повседневности // Современная зарубежная
философия: проблема трансформации на рубеже веков. СПб., 1996.
С. 80-81.
18. Онтологическая и метафизическая степени
трансцендентного // Человек. Природа. Общество. Актуальные проблемы. СПб.,
1996. С. 11-13.
19. Проблемы онтологии в русской религиозной философии //
Основы онтологии. Учебное пособие. СПб., 1997. С. 99—106.
20. Метафизическое значение понятия «метанойа» //
Метафизика исповеди. Пространство и время исповедального слова. СПб.,
1997. С. 35-38.
21. К вопросу о научности метафизики // Наука, философия и
культура в России и на Западе: XVII-XX века. СПб., 1997. С. 28-29.
22. Анамнезис и диалектика в теории познания Платона //
Универсум платоновской мысли. СПб., 1997. С. 10—16.
23. Зеркальное взаимоотражение онтологии и метафизики //
Перспективы метафизики. Классическая и неклассическая
метафизика на рубеже веков. СПб., 1997. С. 40-46.
708 ΙΟ. Μ. РОМАНЕНКО. БЫТИЕ И ЕСТЕСТВО
24. Культурная значимость близнечного мифа в истории //
Перспективы метафизики. Классическая и неклассическая
метафизика на рубеже веков. СПб., 1997. С. 121-124.
25. Моделирующие системы в гуманитарном познании //
Философия гуманитарного знания. Русская академическая традиция
и современность. СПб., 1997. С. 61-64.
26. Философия и мизософия платонизма // Академия.
Материалы и исследования по истории платонизма. № 1. СПб., 1997.
С. 182-197.
27. Рациональные пределы арифмологии // Универсум
Платоновской мысли. СПб., 1997. С. 35-40.
28. Онтология и теория познания // Программы для студентов
философского факультета. СПб., 1997. С. 24-32.
29. Метафизический «культ естества» // Грани культуры. СПб.,
1997. С. 217-219.
30. К вопросу о дисциплинарном расслоении философии
(XVIII в.) // Философский век. Альманах 3. Христиан Вольф. СПб.,
1998. С. 106-110.
31. Методическое сомнение vice versa методическое удивление //
Вестник РХГИ, 1998. № 8. С. 96-115.
32. Соотношение онтологии и метафизики // Первый Российский
философский конгресс. Человек—философия—гуманизм. Т. 8. СПб.,
1998. С. 192-198.
33. Аутоэгеза онтологии и метафизики // Метафизические
исследования. Вып. 5. СПб., 1998. С. 351-356.
34. Метафора и символ в культурном обращении //
Метафизические исследования. Вып. 5. СПб, 1998. (В соавт. ). С. 46—59.
35. Миф как наука о формах правильного воображения //
Мифология и повседневность. СПб., 1998. С. 78—83.
36. Логика и миф как дополнительные способы вербализации
мышления // Современная логика: проблемы теории, истории и
применения в науке. СПб., 1998. С. 293-297.
37. Загадка о человеке в платоновском «Тимее» // Универсум
платоновской мысли. СПб., 1998. С. 69-75.
38. Le mythe de la ratio dans l'histoire de l'Europe // IRIS.
Imaginer l'Europe. Grenoble (France), 1998. P. 65-76.
39. Узнать себя в книге. Рецензия на книгу В. В. Бибихина
«Узнай себя» // Метафизические исследования. Вып. 9. СПб., 1998.
С. 302-305.
40. Бытие и естество. Онтология и метафизика как типы
философского знания. СПб.: Изд-во СПбГУ, 1999. — 336 с.
СТЕНОГРАФИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ
САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
ЗАСЕДАНИЕ ДИССЕРТАЦИОННОГО СОВЕТА Д.063.57.01
27 июня 2000 года
Повестка дня:
Защита диссертации на соискание ученой степени
доктора философских наук РОМАНЕНКО Юрия
Михайловича на тему: «Онтология и метафизика
как типы философского знания».
Специальность:
09.00.01 — онтология и теория познания.
Официальные оппоненты:
доктор философских наук, профессор О. Е. Иванов (Санкт-Петербург),
доктор философских наук, профессор В. А. Карпунин (Санкт-Петербург),
доктор философских наук, профессор Г. Л. Тульчинский (Санкт-Петербург).
Ведущая организация:
Российский государственный педагогический университет
им. А. И. Герцена.
Подлинность стенографического отчета магнитофонной записи
заседания диссертационного совета Д.063.57.01 удостоверяю:
Ученый секретарь совета доц. Райкова Л. М.
710 Ю. M. РОМАНЕНКО. БЫТИЕ И ЕСТЕСТВО
ОГЛАВЛЕНИЕ
Список членов совета 711
Доклад соискателя 713
Вопросы к соискателю 716
Обзор письменных отзывов 733
Выписка из протокола заседания кафедры онтологии и теории
познания философского факультета СПбГУ 733
Отзыв ведущей организации (кафедра философии РГПУ) . . 739
Отзыв об автореферате (д. ф. н. А. А. Корольков) 744
Ответы на замечания в письменных отзывах 746
Отзыв 1-го официального оппонента (д. ф. н. О. Е. Иванов) 747
Ответ на отзыв 1-го официального оппонента 752
Отзыв 2-го официального оппонента (д. ф. н. В. А. Карпунин) 753
Ответ на отзыв 2-го официального оппонента 757
Отзыв 3-го официального оппонента (д. ф. н. Г. Л. Тульчин-
ский) 759
Ответ на отзыв 3-го официального оппонента 763
Свободная дискуссия: 766
Э. Ф. Караваев — д. ф. н., профессор 766
Р. В. Светлов — д. ф. н., профессор СПбГУ 768
A. С. Кармин — д. ф. н., профессор 768
B. И. Стрельченко — д. ф. н., профессор 771
Я. А. Слинин — д. ф. н., профессор 772
Заключительное слово соискателя 774
Выборы счетной комиссии 774
Оглашение результатов тайного голосования 774
Решение совета 775
Заключение совета по диссертации 775
Классификационные признаки диссертации 777
СТЕНОГРАФИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ
711
Диссертационный совет Д.063.57.01 в Санкт-Петербургском
государственном университете утвержден в количестве 21 человека,
присутствуют на заседании 19 членов совета, из них докторов наук
по профилю рассматриваемой диссертации — 7:
Слинин Я. А.
Липский Б. И.
Райкова Л. М.
Бранский В. П.
Гусев С. С.
Иванов Б. И.
Караваев Э. Ф.
Кармин А. С.
Кобзарь В. И.
Колчинский Э. И.
Лапицкий В. В.
Мамзин А. С.
Марков Б. В.
Михайловский В. Н.
Пукшанский Б. Я.
Стрельченко В. И.
Тульчинский Г. Л.
Федоров Б. И.
Шилков Ю. М.
филос.
филос.
филос.
филос.
д. филос.
д. филос.
д. филос.
д. филос.
д. филос.
филос.
филос.
филос.
филос.
филос.
филос.
филос.
филос.
филос.
филос.
н., 09
н., 09
н., 09
н., 09
н., 09
н., 09
н., 09
н., 09
н., 09
н., 09
н., 09
н., 09
н., 09
н., 09
н., 09
н., 09
н., 09
н., 09
н., 09
00.07
00.01
.00.01
.00.08
.00.01
.00.08
.00.07
.00.08
.00.07
.00.08
.00.01
.00.08
.00.01
.00.08
.00.01
00.08
00.01
00.07
00.01
712 Ю. M. РОМАНЕНКО. БЫТИЕ И ЕСТЕСТВО
ЗАСЕДАНИЕ ДИССЕРТАЦИОННОГО СОВЕТА Д.063.57.01
27 июня 2000 года
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА — доктор философских наук, профессор
Слинин Я. А.
УЧЕНЫЙ СЕКРЕТАРЬ — кандидат философских наук,
доцент Райкова Л. М.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ
Уважаемые коллеги!
Из 21-го избранных членов нашего совета на заседании
присутствует 19 человек, в том числе 7 докторов наук по специальности
09.00.01 — онтология и теория познания. Таким образом,
необходимый кворум имеется и мы можем начать работу совета. Есть
возражения у членов совета? (Нет).
Вашему вниманию предлагается защита диссертации на
соискание ученой степени доктора философских наук Романенко Юрия
Михайловича на тему: «Онтология и метафизика как типы
философского знания».
Специальность: 09.00.01 — онтология и теория познания.
Работа выполнена на кафедре онтологии и теории познания
философского факультета Санкт-Петербургского государственного
университета.
Официальные оппоненты:
доктор философских наук, профессор Иванов О. Е-,
доктор философских наук, профессор Карпунин В. Α.,
доктор философских наук, профессор Тульчинский Г. Л.
Ведущая организация — Российский государственный
педагогический университет им. А. И. Герцена.
Нет замечаний по повестке дня? (Нет.)
Слово предоставляется ученому секретарю для оглашения
материалов диссертационного дела соискателя.
УЧЕНЫЙ СЕКРЕТАРЬ
(Оглашает материалы диссертационного дела соискателя.)
В деле имеются все необходимые документы, оформленные в
соответствии с «Положением о порядке присуждения научным и
научно-педагогическим работникам ученых степеней и присвоения
научным работникам ученых званий» ВАК РФ.
СТЕНОГРАФИЧЕСКИ И ОТЧЕТ
713
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ
Есть ли вопросы к ученому секретарю по существу доложенных
материалов? (Нет.)
Юрий Михайлович, Вам предоставляется слово для изложения
основных положений диссертации.
РОМАНЕНКО Ю. М.
Глубокоуважаемый председатель совета! Уважаемые члены
совета! Дорогие коллеги, друзья!
Вашему вниманию предлагается диссертация на тему:
«Онтология и метафизика как типы философского знания». Вопрос о
научно-академическом, образовательном, социальном,
антропологическом статусе онтологии и метафизике весьма важен и
существенен, но и вместе с тем очень противоречив и дискуссионен. Это
мы можем наблюдать по современной ситуации в философии как
в нашей стране, так и зарубежом в мировом масштабе.
Напомню присутствующим, что сама специализация «Онтология
и теория познания» возникла практически в постперестроечной
реальности нашей страны относительно недавно — если мне не
изменяет память, приказом ректора нашего университета в 1993
году было утверждено новое название кафедры, которая прежде
называлась «Диалектический материализм». Мне вспоминается та
ситуация, когда в эпоху ломки мировоззрения, смены социальных
ориентиров у нас обсуждалась тема: чем заменить «диалектический
материализм». В то время заведующим этой кафедрой был
Б. В. Марков, и у нас на кафедральном обсуждении предлагались
различные варианты. Окончательным вариантом стало название
«Онтология и теория познания», хотя были и другие варианты:
«метафизика», «теория философии» и так далее. Следует отметить,
что в МГУ аналогичные процессы также проходили, и они при
этом избрали название «диалектика и теория познания». Затем
инициатива нашего факультета возобладала и москвичи также
переименовались — впоследствии «онтология и теория познания» стала
специальностью по шифру ВАК.
С метафизикой несколько иная ситуация. Это достаточно
сложная проблема, и пока метафизика у нас не институциализирована
как онтология. Поскольку, так получилось, я являюсь сотрудником
кафедры «Онтология и теория познания», то по роду службы мне
было интересно и важно изучить, что же такое онтология и
метафизика, и вообще, что такое теория философии, начиная с истоков
возникновения философского знания. Исследования в этой области
привели меня к тому, что я создал этот текст, который предлагаю
вашему вниманию и вашему суду.
Толчком самого замысла или импульсом именно такой
разработки данной темы послужили идеи М. Хайдеггера, который трак-
714
Ю. M. РОМАН EH КО. БЫТИЕ И ЕСТЕСТВО
товал метафизику не только как некую формальную дисциплину
в ряду других научных дисциплин, коих насчитывается великое
множество, но он трактовал ее как судьбу европейской мысли и
культуры, выражая эту тему экзистенциалами: онтология и
метафизика это некий «посыл» — синоним слова «судьба», некое
призвание к философствованию по типу именно онтологического
знания. Соответственно, этот аспект у Хайдеггера выделяется как
некоторая «решимость». То есть онтологический способ
философствования, согласно немецкому мыслителю, есть «решимость», и
сам Хайдеггер рассматривает ее, например, в философии Платона,
когда он пишет, что усилиями последнего в диалогах «Парменид»
и «Софист», на некотором даже сверхусилии, философия вышла
собственно на онтологический уровень философствования.
Что касается метафизики, то хронологически ее имя прозвучало
раньше, нежели термин «онтология», который возник, как известно,
в «Лексиконе» Гоклениуса. Метафизика хрестоматийно возникает
как некий технический, даже случайно оброненный термин у
Андроника Родосского, который, просто упорядочивая наследие
Аристотеля, расположил те тексты, которые назывались самим
Аристотелем «первой философией», после «Физики». Так достаточно
случайно возникло имя «метафизика» — «та мета та фюсике» — тем
не менее само имя пришлось ко двору философии, и впоследствии
метафизика практически употреблялась как синоним философии.
Напомню, что Аристотель «первую философию» иногда называл
«теологией», не в современном значении этого термина, а в смысле
мифологии — в своем учении об Уме-Перводвигателе как Абсолюте.
В результате исследования историко-философского материала
сложилась моя позиция, претендующая на некоторую концепцию.
Исходные посылки, которые я устанавливаю в своем исследовании:
традиционное понимание онтологии как учения о бытии, более
конкретно — как «слово о сущем». В этом плане онтология исходно
начинает свой дискурс с принципа единства бытия, мышления и
языка. Этот принцип есть истолкование самого имени «онтология».
Онтологическим знанием может быть такое знание, которое основано
на мышлении бытия, если бытие мыслимо и если бытие есть. Но
если бытие есть, и если оно мыслимо, и если эта мысль о бытии
выразима в слове, то вот это, на мой взгляд, и ограничивает пределы
самого онтологического знания. Если же бытия нет, если оно
немыслимо, если мысль о бытии невыразима в слове, то, на мой
взгляд, это уже не онтология, а что-то иное.
Соответственно, метафизика, в моем понимании (исходя из ее
имени — составляющими которого являются два слова: «мета» и
«фюсис»), есть философское учение о «естестве» (натуре, природе)
в целом. Это не совсем «натурфилософия», варианты которой
известны из соответствующих эпох. Мне было важно рассмотреть
стенографический отчет
715
опорные, исходные понятия онтологии и метафизики, а таковыми
являются, как я уже сказал, бытие (онтос) и естество (фюсис).
В зависимости от того, как понимается соотношение «онтос» и
«фюсис», и вырастает взаимосоотношение между самими
онтологией и метафизикой. Вместе с тем я конкретизировал понятие
«бытия» в соответствии с традицией, берущей свое начало от
пифагорейского учения и Платона: бытие есть единое, а естество есть
двоица, которые соотносятся между собой в соответствии с ариф-
мологическими законами, с точки зрения фундаментального статуса
числа.
Вот, собственно говоря, так и сложился замысел, который я
попробовал проверить в виде определенных теоретических гипотез
на историко-философском материале. Здесь также следует сказать,
что работа основана еще на принципе единства исторического и
теоретического. То есть предметом моего анализа является сама
история философии, по возможности во всем объеме. Хотя,
естественно, это гигантский объем, поэтому мне приходилось
ограничиваться и выделять наиболее, на мой взгляд, характерные
избранные концепции, в которых наиболее выпукло проявились те темы,
которые меня интересовали и которые я рассматривал.
Скажу несколько слов о методах, которые я использовал. В связи
с тем, что работа основывается на принципе единства исторического
и теоретического, в автореферате отмечено, что мною используются
модификации достаточно традиционных философских методов,
присутствующих как в онтологии, так и в метафизике, — диалектики,
феноменологии и герменевтики. Данные модификации — это
экземплификационно-ономатологический и энергийно-арифмологи-
ческий методы. Суть первого состоит в приведе- нии в процессе
доказательного рассуждения примера, суть второго — в выяснении
структурных уровней и степеней интенсивности и полноты
философского знания. С помощью данных методов можно изучить
возможности онтологии и метафизики в отношении друг к другу.
Кроме этого, немаловажное значение имеет, на мой взгляд, в
самой сердцевине философского знания, спекулятивный метод.
Я высказываю в диссертации утверждение, что достижение
онтологией и метафизикой спекулятивного метода приводит к тому,
что философское знание становится обращенным на самое себя, что
и означает сам термин «спекулятивное», от латинского слова
«speculum» — зеркало. Прецеденты такого понимания имелись в
различных учениях, начиная с античной философии, достаточно
вспомнить учение Аристотеля об Уме-Перводвигателе, деятельность,
энергия которого как раз и состоит в мышлении мышления, то
есть в мышлении самого себя. Вот это и есть тот уровень, который
называется спекулятивным познанием. К примеру, учение Гегеля
об абсолютном знании в его «Феноменологии духа», где знание
716 ΙΟ. Μ. РОМЛНЕНКО. БЫТИЕ И ЕСТЕСТВО
становится саморазвивающимся, самодвижущимся и целостным.
Тем самым, благодаря онтологии и метафизике философия
становится способной обосновывать саму себя.
В этом, можно сказать, заключен итог моей работы. Результаты
исследования изложены в автореферате, который уважаемые члены
совета могли прочитать. Я не буду входить в детали и подробности,
о некоторых из них скажут официальные оппоненты, а оставлю
место для вопросов. Благодарю за внимание!
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ
Есть ли вопросы к диссертанту?
ГУСЕВ С. С. — докт. филос. наук
В названии диссертации обозначено — «Онтология и метафизика
как типы философского знания», и вы пишете, что они
анализируются с точки зрения формируемых в них типов знания. Знание
порождает самое себя. В каком смысле вы употребляете этот термин?
Если вы рассматриваете онтологию и метафизику как знание с
точки зрения используемых в них методов, то не получается ли
тогда, что знание как способ и знание как результат совместимы?
Правильно ли я понимаю вашу трактовку проблемы? Это первый
вопрос.
И второй вопрос. Вы говорите об экземплификационно-
ономатологическом и энергийно-арифмологическом методах. С
первым методом более или менее понятно — это приведение примеров.
Со вторым не совсем ясно: его суть — в фиксации степеней и
уровней целостности системы. Этот пункт мне не совсем понятен.
РОМАНЕНКО Ю. М.
В первом вопросе вы интересуетесь, в каком смысле онтология
и метафизика трактуются как типы знания. И здесь же подвопрос:
насколько знание как способ и знание как результат отождествимы?
В правильно поставленном вопросе уже заключена половина ответа.
Частично вы уже на него ответили. Попробую, если удастся, дать
вторую половину для полной правильности ответа. Здесь весь вопрос
состоит в том, что есть знание. На мой взгляд, здесь есть некоторая
загвоздка, достаточно тонкая, как трактовать знание. Поскольку
под знанием понимают, если мы возьмем школьные определения,
информацию о действительности, которая присутствует в субъекте.
Или образ, отражение объективного в субъективном. Знание здесь
определяется через информацию. Хотя понятие «информация»
может трактоваться как угодно. Я исхожу из того, что в онтологии
исходно нет дифференциации на объективное и субъективное,
поэтому здесь знание не понимается как нечто присутствующее в
голове субъекта по поводу того, что творится в объективной реаль-
стенографический отчет
717
ности. Знание в онтологии и есть само бытие — не информация
субъекта об объекте, а форма самого бытия, в которое включен и
субъект (ведь он тоже существует). Вот это и есть самоосознающееся,
саморазвивающееся, спонтанное, обращающееся на себя,
онтологическое знание. Метафизическое знание есть то же самое, только
оно опосредствуется вторым моментом — зеркалом, отражением.
На этом основании я и провел типологизацию, методика которой
не соответствует, например, учению о типах Вебера и так далее.
Основанием выступает онтологическая монистическая установка —
способ и результат здесь есть одно и то же.
Что касается второго вопроса. Сложно выговорить термин «эк-
земплификационный», но в этом я не виноват, поскольку этот
термин приводит Г. Г. Шпет, который использовал наработки
Гуссерля, будучи его учеником. В своей работе «История как предмет
логики» он как раз писал о примерах. В 1992 году у меня издана
статья «Культура введения примеров в диалектической логике» в
сборнике «Диалектическая культура мышления», где я этот вопрос
обстоятельно оговорил. То новое, что я привношу в инициативу
Шпета, это добавление термина «ономатологический» — не просто
экземпляр, пример, а поименованный пример. Следующий метод,
который мне пришлось ввести — энергийно-арифмологический, —
происходит от терминов «энергейа» (действительность) и «арифмо-
логия» как философское учение о числе. Число, как известно,
является структурой, и, грубо говоря, это есть структуралистский
метод. В саморазвивающемся знании, о котором мы говорили, есть
свои слои и уровни, статические и динамические аспекты, степени
интенсивности самого знания. Онтологическое знание может
возрастать и может умаляться. Степень насыщенности, полноты или
опустошенности, структурированности — выявление всех этих
моментов может быть рассмотрено этим методом. Причем эти два
метода, их даже получается четыре, работают как в онтологии, так
и в метафизике в их взаимоотношении. Не знаю, Станислав
Сергеевич, сумел ли я дать вторую половину правильного ответа.
ГУСЕВ С. С. — докт. филос. наук
То есть получается, что первый случай — это указание в качестве
примера на какой-либо предмет, а второй случай — это перечисление
уровней, на которых этот предмет изучается.
РОМАНЕНКО Ю. М.
Да, но в рамках самого же этого примера, не выходя из него
и ограничиваясь именно этим и только этим предметом и ото всего
абстрагируясь.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ
Еще вопросы, пожалуйста.
718 Ю. M. РОМАНЕНКО. БЫТИЕ И ЕСТЕСТВО
КАРАВАЕВ Э. Ф. — докт. филос. наук
У меня много вопросов. Я старательно пытался по автореферату
понять, но с этими вопросами я не справился. Каковы все-таки
состояние и степень разработанности проблемы? Я имею в виду
проблему соотношения онтологии и метафизики. Из параграфа
автореферата я этого выяснить не смог. Это первый вопрос.
Второй вопрос. Как вам удается учесть, к примеру, и результаты
В. И. Свидерского, и результаты В. А. Подороги? Не оказывается
ли это эклектикой? Я не говорю о масштабах философа. О том, что
Свидерский — великий философ, все знают. Может, и Подорогу
после смерти признают таковым. Но пока в достижениях
Свидерского я вижу такое фундаментальное определение пространства и
времени, которое во всем мире не превзойдено. А у Подороги я
читаю только какие-то цитаты, где слова «время» и «пространство»
даны в метафорическом смысле. Не оказывается ли это эклектикой?
Третий вопрос. Я к методам перехожу. Методы, которые
применяются в работе, являются модификациями диалектики,
феноменологии и герменевтики. В чем и какие именно эти модификации?
Из вашего выступления этот вопрос стал немного понятен, однако
это порождает следующий вопрос.
Те четыре метода, о которых вы сказали, работают в онтологии
и метафизике. Но ведь проблема — в соотношении онтологии и
метафизики. Само собой напрашивается, что по крайней мере
должны быть не только эти четыре метода, а еще какой-то, который
способен быть над ними, чтобы они подвергались анализу, иначе
как сознание получится: знание — знание знания — и так далее.
Вот по этим вопросам я хотел бы поподробнее у вас узнать.
Далее идут менее общие вопросы. Например, в автореферате
говорится о полноте анализа и формализации полученных
результатов: в каком смысле вы употребляете слово «формализация»?
Или, скажем, почему используется понятие «творение»? Если мы
претендуем на общность рассмотрения, мне казалось бы более
подходящим понятие «возникновение». Так как возникновение может
происходить как в результате творения, так и в результате какого-то
внутреннего самодвижения реальности. А так вы сразу берете
ориентацию на метафизику и онтологию определенного рода, где
признается творение.
И вот еще последний вопрос: в параграфе о Пармениде я читаю,
что Зенон Элейский «отстаивал правоту учителя перед лицом его
оппонентов методом от противного, результатом чего стала
формулировка его знаменитых апорий». Мне думается, что апории Зено-
на — это не проблема, касающаяся отношения онтологии и
метафизики, и поэтому в них Зенон отстаивал не ту правоту, которая
вас здесь волнует, на мой взгляд. Простите за много вопросов, но
я их действительно не мог выяснить.
СТЕНОГРАФЫ ЧЕС КИЙ ОТЧЕТ
719
РОМАНЕНКО Ю. М.
Спасибо, Эдуард Федорович. Я записал и насчитал семь вопросов,
Начнем по порядку.
Вы говорили о состоянии и степени разработанности проблемы
соотношения онтологии и метафизики. На самом деле, эта тема,
если брать ее традиционно, установилась и была принята как
дисциплинарная раскладка философии в XVII—XVIII веках,
включая сюда соотношение онтологии и метафизики. Об этом я пишу
в заключении своей диссертации. Для традиции Баумгартена,
Вольфа и других метафизика есть синоним философии, и она вбирает
в себя все. Она состоит из онтологии, которую Баумгартен определял
как учение о «наиболее общих предикатах сущего». И далее идет
конкретизация, некоторые прикладные разделы метафизики:
рациональная теология как учение о Боге, рациональная космология
как учение о космосе в целом, его конечности или бесконечности,
рациональная психология как учение о душе, ее смертности или
бессмертии и так далее. Соответственно, вопрос о познаваемости
Абсолюта. Вот такое сложилось соотношение онтологии и
метафизики в самых общих чертах.
КАРАВАЕВ Э. Ф. — докт. филос. наук
Это частные концепции. Тогда были и другие. Этапом развития
мировой философской мысли назвать это можно только с натяжкой.
РОМАНЕНКО Ю. М.
Я и говорю, что это одна из возможных трактовок. Я как раз
предлагаю иную трактовку. Сохраняя данную диспозицию, я
предлагаю рассмотреть проблему в ином ракурсе. Та традиция больше
прижилась в школьном, академическом плане, она и сейчас имеет
свое значение — в ней легко группировать философский материал.
Но здесь дано только формальное разбиение тем, а я хотел
рассмотреть их в экземплификационно-ономатологическом и энер-
гийно-арифмологическом планах. В этом аспекте, на самом деле,
по проблеме соотношения онтологии и метафизики существует
пробел, который я и пытался заполнить своими исследованиями.
Перехожу ко второму вопросу. В пункте автореферата о
состоянии и степени разработанности проблемы я перечисляю,
естественно, какие-то имена, по поводу которых еще на кафедральном
обсуждении у меня возникли проблемы: предлагалось какие-то имена
добавить, какие-то убрать. Я исходил из тех авторов, которых знаю
и на которых в какой-то степени опирался. На Подорогу я ссылаюсь
в его характеристике Хайдеггера. Онтологическое учение Свидер-
ского используется мною в меньшей степени, поскольку то, о чем
вы говорили, Эдуард Федорович, — об оригинальном в мировой
практике онтологическом определении Свидерским пространства и
времени, — я в этом с вами совершенно согласен. Более того,
720 Ю. M. РОМАНЕНКО. БЫТИЕ И ЕСТЕСТВО
напомню вам, что моя кандидатская диссертация называлась «Роль
категорий пространства и времени в генезисе и содержании законов
диалектики», где это было учтено.
КАРАВАЕВ Э. Ф. — докт. филос. наук
Я помню, сейчас это неважно. Известна еще попытка Свидер-
ского поставить проблему метода, проблему отношения бытия и
мышления. Это тоже онтологические и метафизические проблемы.
А у Подороги я читал только о проблемах текста, метафизике
ландшафта. И все это при метафорическом употреблении
онтологических понятий либо каком-то новом их толковании. Больше о
его результатах я не знаю, может, от меня что-то ускользнуло. Мне
сопоставление таких фигур непонятно.
РОМАНЕНКО Ю. М.
Я, естественно, не ставлю на одну доску и не пытаюсь сравнить
учения Валерия Александровича Подороги и Владимира
Иосифовича Свидерского. Это обычное перечисление. А насколько это
эклектика, пусть судят другие. Как А. Ф. Лосев в свое время
сказал: «Я у всех беру все и всех критикую». Что положительного
и понятного для меня было у Подороги, хотя я его тоже могу
критиковать, как могу критиковать и Свидерского за какие-то
вещи, я взял. Хотя, вместе с тем, я уважительно отношусь к обоим,
и то, что мне было необходимо, я у них использовал. А насколько
это эклектика, наверное, об этом сам текст говорит за себя.
Третий вопрос о методах. Вы спрашиваете, в чем именно
модифицирует экземплификационный метод феноменологию в частности.
Отвечая Станиславу Сергеевичу Гусеву, я уже сослался на Шпета.
КАРАВАЕВ Э. Ф. — докт. филос. наук
Да, я с этим разобрался. Вы их всех вместе модифицируете.
РОМАНЕНКО Ю. М.
Да. Например, в диалектике как учении о единстве и борьбе
противоположностей само противоречие можно так или иначе
структурировать, в том числе и арифмологически.
КАРАВАЕВ Э. Ф. — докт. филос. наук
Я еще про другое, Юрий Михайлович, спрашивал. Как эти
методы, которые в онтологии и метафизике действуют, могут
применяться и для решения проблемы их соотношения. Не потребуется
ли еще что-то иное?
РОМАНЕНКО Ю. М.
Да, это уже четвертый ваш вопрос. Над ними действительно
еще есть, можно так сказать, пятый метод. И я его назвал — это
спекулятивный метод, который как раз приводит к обращению
стенографический отчет
721
философского знания на себя самое, делая его спонтанным и
саморазвивающимся .
Следующие вопросы, как вы сказали, являются более частными.
Термин «формализация» в том случае я употребляю как
представление полученного материала в некоторой удобоваримой, читаемой
форме. Здесь я никакого специального значения не использовал.
КАРАВАЕВ Э. Ф. — докт. филос. наук
Я подумал, что там даются принципы построения какого-то
исчисления.
РОМАНЕНКО Ю. М.
Нет, конечно. Слово «формализация» мною употребляется не в
значении символической логики, формализованной системы или
исчисления и т. д. Формализация — это просто «придание формы».
КАРАВАЕВ Э. Ф. — докт. филос. наук
Или как у Подороги о пространстве и времени: «во времени
события накапливаются микрочастицы энергии», «временной срез»
и т. д. Здесь все научные слова употреблены в метафорическом
смысле. Так и у вас слово «формализация».
РОМАНЕНКО Ю. М.
Я согласен с вами, Эдуард Федорович. Здесь есть моя ошибка
в некорректности стиля.
КАРАВАЕВ Э. Ф. — докт. филос. наук.
Я, знаете, чему поражаюсь? Мы, логики, стараемся избегать
слова «формализация» и каждый раз поясняем: не «формализация»,
а «уточнение». А не-логики — наоборот, злоупотребляют этим
словом. Ну ладно, с этим понятно. И последние вопросы.
РОМАНЕНКО Ю. М.
По поводу «творения» и «возникновения».
КАРАВАЕВ Э. Ф. — докт. филос. наук
Да, почему «творение», а не «возникновение»? Почему опять
традиция Баумгартена и тому подобных, которые сразу
ориентируются на идеализм и религию? Ведь «возникновение» предполагает
и возможность «творения». А у вас сразу взято «творение». Почему?
РОМАНЕНКО Ю. М.
Но все-таки «возникновение» предполагает, как вы сами
сказали, «творение».
КАРАВАЕВ Э. Ф. — докт. филос. наук
В качестве одной из версий — и «творение». В качестве другой —
нет.
722
Ю. M. РОМАНЕНКО. БЫТИЕ И ЕСТЕСТВО
РОМАНЕНКО Ю. М.
Да, тогда можно взять случай, что есть творение. И будем
исходить из этого, постулируя, что есть творение из ничего, вслед
за определенной традицией, не только религиозной, но и
философской.
КАРАВАЕВ Э. Ф. — докт. филос. наук
Значит, опять материалистический подход просто выпадает.
РОМАНЕНКО Ю. М.
Кстати сказать, современная наука, основанная на
материалистических принципах, подходит к обнаружению таких вещей,
которые можно интерпретировать только с точки зрения принципа
творения.
КАРАВАЕВ Э. Ф. — докт. филос. наук
Ну, и все-таки. И последний вопрос о Пармениде и Зеноне.
РОМАНЕНКО Ю. М.
Я там пишу, что возникновение и даже изобретение зеноновских
апорий совершилось в контексте некой дискуссии между монизмом
Парменида и плюрализмом его оппонентов-атомистов. Парменид
постулировал принцип единства и неподвижности бытия,
несуществования движения и пустоты. Потенциальность возникновения
апорий присутствовало в самом учении Парменида. Когда возникла
дискуссия, когда атомисты представили радикально отличную, но
необходимую позицию или установку в противовес Пармениду, вот
тогда на авансцене появляется Зенон, который, и далее по тексту:
«отстаивал правоту своего учителя...». Он, используя аргументы в
пользу отсутствия движения или немыслимости движения,
изобретает уже конкретные апории.
КАРАВАЕВ Э. Ф. — докт. филос. наук
Юрий Михайлович, это другой вопрос: о непрерывности и
дискретности движения, возможности или невозможности его. Это не
тот вопрос о тождестве бытия и мышления, как у Парменида. Зенон
не для этого дела использовал апории.
РОМАНЕНКО Ю. М.
Сами апории появились достаточно неожиданно. Как некоторое
изобретение. А то, что потом их по-разному пытались разрешить,
формализовать с постоянными неудачами, все это свидетельствует,
что зеноновские апории являются вечными «проклятыми»
философскими проблемами.
КАРАВАЕВ Э.Ф. — докт. филос. наук
Ну, кто его знает. Может быть, у него были и апории по поводу
онтологии и метафизики.
СТЕНОГРАФИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ
723
РОМАНЕНКО Ю. М.
Кстати сказать, да. Ведь сохранилось только несколько из них.
А было, по преданию, гораздо больше.
БРАНСКИЙ В. П. — докт. филос. наук
Я прочитал ваш автореферат. В отношении онтологии мне более
или менее понятно, а в отношении метафизики — не совсем.
В настоящее время в литературе имеются три понятия онтологии:
учение о бытии вообще, учение об объективном бытии и учение об
объективно-универсальном бытии. Первый вопрос: к какому из них
вы присоединяетесь? Или вы все это отвергаете и предлагаете некое
четвертое?
Второй вопрос: об отношении метафизики и онтологии. Они
отождествляются, это одно и то же, только выраженное разными
словами? Какое отношение метафизика имеет к физике? Такое,
которое выразил Ньютон в своем изречении: «Физика, берегись
метафизики»? Есть огромная литература, что под этим
подразумевалось. Существуют три точки зрения о том, что метафизика есть
философия вообще, тогда Ньютон мог бы сказать: физика, берегись
философии, или метафизика есть онтология, которую Ньютон
уважал, но критиковал схоластическую онтологию, наконец, третье
понимание метафизики как натурфилософии, то есть универсальном
учении о природе. Или как вы вводите понятие — о «естестве».
Итак, есть три понятия онтологии, есть три понятия метафизики —
вопрос в том, как относятся ваши определения онтологии и
метафизики к ним? После этого можно будет прояснять вопрос об их
отношении.
РОМАНЕНКО Ю. М.
В вашем перечислении, Владимир Павлович, что онтология есть
учение о бытии вообще, объективном бытии и объективно-
универсальном бытии, заключена проблема, на мой взгляд, как
трактовать само бытие — как универсальное или как уникальное?
В этом вопросе как раз существует некая точка водораздела. Это
та проблема, которую ставил Платон в своем диалоге «Парменид» —
о соотношении единого и многого, универсального и уникального,
объективного и субъективного. Я задавался этим вопросом и
пытался, опираясь на соответствующие разработки классиков
философии, учесть все те моменты, которые вы перечислили. Бытие
есть и категория всеобщего, и вместе с тем здесь диалектическое
противоречие, бытие есть уникальное. Получается универсальная
уникальность и уникальная универсальность, как я пишу об этом
в диссертации, причем между ними существует некоторое
обращение, которое фиксируется тем знанием, которое Гегель называл
абсолютным.
724
Ю. M. РОМАНЕНКО. БЫТИЕ И ЕСТЕСТВО
Далее, вы также перечисляете три трактовки метафизики, хотя
их может быть и больше. Отдельно нужно сказать о позиции
Ньютона: «Физика, бойся метафизики». В каком значении здесь
понималась метафизика — как философия или плохая философия?
В недавно вышедшей книге Дмитриева показано, что на словах
Ньютон страшил физику философией, но сам занимался и
каббалистикой, и толкованием Апокалипсиса. Известно также, что сам
Ньютон использовал неоплатоническую концепцию мировой души
в своем учении об абсолютном пространстве. Поэтому реально он
строил какую-то метафизическую систему. Хотя прежде всего он
известен разработкой классической механики, дифференциального
и интегрального исчислений, то есть конкретными научными
физическими вещами.
Далее, вы говорили о возможности понимать метафизику как
универсальную натурфилософию, то есть универсальное учение о
природе, или о фюсис (естестве). Это звучит в самом имени
«метафизика». «Мета» означает «взятое в целом», а не только «после»,
«над», «за» и т. д. «Мета-фюсис» — это целая природа. В истории
философии, действительно, существует натурфилософская линия,
начиная с фисиологов-досократиков, затем натурфилософов
Ренессанса, натурфилософии Шеллинга и т. д. Я здесь исходил из
трактовки Хайдеггера, которую он изложил в своей книге о первой
главе второй книги аристотелевской «Физики», где утверждается,
что в каком-то фундаментальном смысле физика и есть метафизика,
на самом деле, если мы берем «фюсис» в целом, вплоть до ее
персонификации, анимизации, гилозоизма и т. д. Это и будет
метафизика как физика. Одним из нововведений, которое я пытался
провести, является представленная трактовка понятия «естество»
в его отношении к «бытию».
БРАНСКИЙ В. П. — докт. филос. наук
То есть вы присоединяетесь к третьему пониманию метафизики?
РОМАНЕНКО Ю. М.
Как к натурфилософии — да. Но и не только, я учитываю и
предыдущие. Мне только хотелось выделить отдельную точку зрения
Хайдеггера, к которой я присоединяюсь.
БРАНСКИЙ В. П. — докт. филос. наук
Из ваших ответов у меня возник еще один вопрос. Правильно
ли я вас понял: из того, что вы сейчас сказали, вытекает, что вы
онтологию понимаете в первом случае — как учение о бытии вообще,
а метафизику понимаете как ту же онтологию. Ведь фактически
вы присоединяетесь к первому пониманию онтологии и метафизики,
и у вас получается четкий ответ: онтология и метафизика — это
стенографический отчет
725
одно и то же, мудрить тут нечего, это учение о бытии вообще, не
различая ни частное, ни универсальное бытие, ни единичное, ни
всеобщее, ни субъективное, ни объективное. То есть здесь в
принципе позиция «фундаментальной онтологии» Хайдеггера. То есть
вы являетесь ее последователем в общем методе? Или я вас
неправильно понял?
РОМАНЕНКО Ю. М.
И да и нет, Владимир Павлович, сложно сказать. Мы сейчас
занимаемся уточнением терминов, чтобы понять друг друга. В
целом вы правильно оценили, но чтобы прийти к однозначности,
нужно долго уточнять позиции понимания. Я не являюсь
последователем Хайдеггера, скорее я последователь Лосева и Флоренского.
БРАНСКИЙ В. П. — докт. филос. наук
Но в этом-то вопросе — последователь?
РОМАНЕНКО Ю. М.
В целом — да. Но такую же фундаменталистскую установку на
онтологию использовал и Лосев. Хотя сам Хайдеггер от термина
«фундаментальная онтология», о которой он писал в «Бытии и
времени», как известно, впоследствии отказался. Да, онтология
начинает с единого бытия, но потом появляется некоторое
раздвоение, которое фиксируется именем «фюсис», появляется
естественный метафизический дуализм, который потом в онтологии же
монистически преодолевается.
БРАНСКИЙ В. П. — докт. филос. наук
Почему «естество» — это двоица?
РОМАНЕНКО Ю. М.
Двоица есть просто перевод греческого термина «диада» у
пифагорейцев. Не будем же мы это называть двойкой.
БРАНСКИЙ В. П. — докт. филос. наук
То есть двоица — это общее и частное? Раздвоение на два
момента — явление и сущность? Так что ли?
РОМАНЕНКО Ю. М.
Да, в том числе. Явление и сущность, форма и содержание, то
есть все оппозиции диалектические.
БРАНСКИЙ В. П. — докт. филос. наук
Ясно, то есть наличие двух противоположностей.
РОМАНЕНКО Ю. М.
Не только противоположностей, существует и много других
форм взаимоотношений.
726
Ю. M. РОМАНЕНКО. БЫТИЕ И ЕСТЕСТВО
КАРМИН А. С. — докт. филос. наук
Сколько вопросов может задавать член совета?
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ
Неограниченное количество вопросов.
КАРМИН А. С. — докт. филос. наук
Я задам несколько коротких вопросов, и не сразу, а по одному,
и попрошу диссертанта так же коротко отвечать по существу.
Первый вопрос. Вы вводите понятие «естество». Мне непонятно
ваше понимание. Это что — природа, материя? Что такое «естество»?
Ссылка на греческую фюсис мне ничего не дает. Покороче,
пожалуйста.
РОМАНЕНКО Ю. М.
Это само бытие, но в удвоении. Бытие просто есть, а в естестве
оно удвоено, о чем говорит удвоение корня «есть» в слове «естество»,
взятом для обозначения этого. Данное слово существует в русском
языке как перевод греческой «фюсис», если брать этимологический
словарь Фасмера.
КАРМИН А. С. — докт. филос. наук
Само бытие, но в удвоении... Я по-прежнему не понимаю. Вы
ссылаетесь на какую-то «фюсис», обращаетесь к словам, к словесным
сближениям. Бытие есть, а слово «есть» похоже на слово «естество».
Но это нам не поясняет различие между этим понятием и понятием
«бытие». В автореферате я нашел такое рассуждение, что «естество»
есть нечто «естественное». Значит ли это, что различие между
«бытием» и «естеством» состоит в том, что «естество» есть
естественная часть «бытия», значит, имеется и еще какая-то
неестественная. Так что же такое «естество»? Не на основе словесной игры,
а по существу.
РОМАНЕНКО Ю. М.
Естественно, словесная игра не объясняет, но она может
подсказать, в каком направлении нужно дефинировать понятие. На
самом деле, сложно в двух словах определить, поскольку у меня
много рассуждений об этом есть в тексте диссертации и монографии.
Я могу только сослаться на учение о фюсис у Аристотеля в
«Метафизике».
КАРМИН А. С. — докт. филос. наук
Не надо на Аристотеля. Объясните в двух словах, что такое
«естество».
СТЕНОГРАФИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ
727
РОМАНЕНКО Ю. М.
В двух словах, Анатолий Соломонович, я вам уже ответил:
естество — это удвоенное бытие.
КАРМИН А. С. — докт. филос. наук
Что значит удвоенное?
РОМАНЕНКО Ю. М.
Бытие само по себе едино и одновременно, в отношении к иному
оно удвоено.
КАРМИН А. С. — докт. филос. наук
Почему оно удвоено? Какие две стороны здесь есть?
РОМАНЕНКО Ю. М.
Начну с примеров...
КАРМИН А. С. — докт. филос. наук
Не надо примеров. Какие две стороны?
РОМАНЕНКО Ю. М.
Материя и идея, например.
КАРМИН А. С. — докт. филос. наук
Материя и идея. О! Теперь стало понятнее. Значит, бытие
является единым, когда мы не ставим вопроса о духовном и
материальном. А когда мы ставим вопрос о бытии как раздвоенном на
материальное и идеальное, то это уже «естество».
РОМАНЕНКО Ю. М.
Да, естество, или фюсис.
КАРМИН А. С. — докт. филос. наук
Тогда следующий вопрос. Вы вводите в этом смысле понятие
«естество», это ваше нововведение. Вместе с тем вы с этим понятием
связываете традицию различения онтологии и метафизики. Если
это традиция, которая берет начало в глубокой древности, тогда,
видимо, ее основные категории кладутся в основание этих двух
частей философии, тогда и категория «естества» является древней.
Значит, вы ее и не вводите. Вопрос такой: это ваше изобретение,
ваша новизна или вы просто переводите известный термин «фюсис»
на русский язык? Это новая категория или новое слово?
РОМАНЕНКО Ю. М.
Новое, как известно, это хорошо забытое старое. Естественно,
я не ввожу новое в фундаментальном смысле. Я оговариваю, что
728 Ю. M. РОМАНЕНКО. БЫТИЕ И ЕСТЕСТВО
у меня есть попытка воссоздать тот способ философствования,
который был присущ досократикам-фисиологам.
КАРМИН А. С. — докт. филос. наук
Юрий Михайлович, я прошу очень простых ответов, мне важно
с этим разобраться. Это новое слово, а смысл — старый? Хорошо
забытое старое? Или это ваша новая идея «естества», новое понятие
в философии?
РОМАНЕНКО Ю. М.
Нет, в этом отношении существует целая традиция, которой я
старался строго следовать. Моя новизна перечислена в тех пунктах
и положениях, которые выносятся на защиту, в соответствующем
месте автореферата.
КАРМИН А. С. — докт. филос. наук
То есть идея естества была до вас. Тогда встает следующий
вопрос. Зачем же понадобилось вводить новое слово для старой идеи о
том, что есть материальное и духовное бытие? Что дает это новое
слово?
РОМАНЕНКО Ю. М.
Это слово, по большому счету, может, ничего и не дает. Но, с
другой стороны: а чем его заменить? Каким одним словом?
КАРМИН А. С. — докт. филос. наук
Материальное и духовное. До сих пор философия обходилась
ими.
РОМАНЕНКО Ю. М.
Здесь другие коннотации и другие ассоциации. Этот вопрос уже
обсуждался, и мне эти замечания и критику уже высказывали. Я
прежде всего рассматривал проблему отношения бытия и естества,
или природы, натуры. Оставьте слова «природа» или «материя».
Ведь все равно от этой проблемы мы не уйдем. А термин «естество» я
избрал просто, может быть, для того, чтобы возвратить долги
прошлому. Поскольку в дореволюционных текстах именно термин
«естество» употреблялся в философском значении. Например, трактат
Цицерона был в этом веке издан под названием «О природе богов»,
а в прошлом веке он издавался под названием «О естестве богов».
КАРМИН А. С. — докт. филос. наук
А зачем вам это понадобилось?
РОМАНЕНКО Ю. М.
Мне это понадобилось просто для того, чтобы представить как
отдельный термин, в отличие от многозначного слова «природа»,
поскольку к нему нужно оговаривать дополнительные значения.
стенографический отчет
729
КАРМИН А. С. — докт. филос. наук
Вопросы рождаются сами собой. Если вы допускаете замену
слова «естество» словом «природа», то в природе я, например,
ничего духовного не вижу. А ваше слово «естество» подразумевает
двойственность бытия, то есть и материальное, и духовное. То есть
слово «естество» не заменяется на слово «природа». Тогда вопрос
о соотношении бытия и естества я понимаю как вопрос о
соотношении бытия как абстрактного понятия, в котором нет различия
между материальным и духовным, и понятия, в котором это
раздвоение есть.
РОМАНЕНКО Ю. М.
Вы сказали, что в природе нет духовного. Но другие философы
усматривают духовное в самом природном.
КАРМИН А. С. — докт. филос. наук
Я знаю.
РОМАНЕНКО Ю. М.
Поэтому в этом значении можно и допустимо, во всяком случае,
рассуждать о единстве природного и духовного.
КАРМИН А. С. — докт. филос. наук
Могу ли я вас понять так, что вы тоже, как другие философы,
в отличие от меня, считаете, что в природе есть и материальное,
и духовное?
РОМАНЕНКО Ю. М.
Да.
КАРМИН A.C. — докт. филос. наук
Тогда у меня следующий вопрос. Вот вы здесь объясняли понятие
онтологии и говорили, что онтология есть нечто, построенное на
принципе единства бытия, мышления и языка. И там, где нет
бытия, где нет мышления, где нет языка, где мысль не выражается
в слове, где бытие не выражается в мысли — там нет онтологии.
Но, по-моему, это мало что объясняет, потому что если этого всего
нет, то нет ни знания, ни философии, ни метафизики. Принцип
единства бытия, мышления и языка — до каких пределов он
распространим?
РОМАНЕНКО Ю. М.
Онтология есть универсальное знание, то есть знание обо всем.
КАРМИН A.C. — докт. филос. наук
То есть этот принцип распространяется на все знание. Правильно
ли я вас понял? Вот то различие в понятии «естество», которое я
сейчас получил, оно связано с раздвоением бытия на материальное
730 ГО. M. РОМАНЕНКО. БЫТИЕ И ЕСТЕСТВО
и духовное, а вот то объяснение категории «естество», которое дано
в автореферате в пункте 3 положений, выносимых на защиту, там
написано так (может, я это, конечно, плохо понимаю): бытие у вас
по смыслу рассматривается как некая самотождественная
неподвижная сущность, а вот категория «естество», тут прямо так
написано, «выражает самодвижное становление бытия в процессе
его имманентного воплощения в сущем». Значит, попроще если
выражаться, бытие есть неподвижность, а естество — это то же
бытие, только данное в движении?
РОМАНЕНКО Ю. М.
Это самодвижность как таковая. Вот это и есть трактовка «фю-
сис» у Аристотеля.
КАРМИН А. С. — докт. филос. наук
Скажите, толкование бытия как неподвижного — это ваша
личная точка зрения? Или все должны так понимать бытие?
РОМАНЕНКО Ю. М.
Это точка зрения определенных авторов, например, Аристотеля
в учении о неподвижном Уме, Платона, Гегеля, Хайдеггера.
КАРМИН А. С. — докт. филос. наук
У Аристотеля, по-моему, нет. Что касается Парменида — да.
Что касается Хайдеггера — понятия не имею. Что касается Сви-
дерского — совсем не так, у него движение — сама сущность. То
есть это не обязательно понимать так, как вы написали? Это
определение не является таким определением, которое вы считаете, что
все должны принять. Это ваше отношение, которое можно
принимать, а можно не принимать?
РОМАНЕНКО Ю. М.
Можно и отказаться, совершенно верно.
КАРМИН А. С. — докт. филос. наук
Так, дальше. Объясните мне, пожалуйста, одну вашу фразу:
«естество есть трансцендентность под знаком двоицы» (стр. 25
автореферата). Почему трансцендентность под знаком двоицы?
РОМАНЕНКО Ю. М.
Трансцендентное — это за пределами возможного опыта, как
определял данный термин Кант. Я провожу точку зрения, что, на
самом деле, сложно понять, что такое естественное. Кажется, что
естественное — нечто повседневное, привычное, рутинное. Но чтобы
войти в естество, нужно трансцендировать, а способ трансцендиро-
стенографический отчет
731
вания здесь двоичен. Я беру кантовское определение термина
трансцендентного как запредельного для возможного опыта, но вместе
с тем трансцензус есть вхождение в опыт возможного.
КАРМИН А. С. — докт. филос. наук
Значит, я могу понять это таким образом, что естество есть
нечто, лежащее за пределами возможного опыта.
РОМАНЕНКО Ю. М.
Чтобы быть естественным, нужно приложить некоторое усилие.
Естественность нам просто так не дается. В самой нашей природе
соединение духовного и материального, целостная двоица духовного
и материального, просто так не дается. Она дается в определенном
опыте, на определенном усилии. Это и означает, что естественность
есть трансцендентность под знаком двоицы.
КАРМИН А. С. — докт. филос. наук
Вы хотите сказать, что она дается в опыте, а не за пределами
опыта.
РОМАНЕНКО Ю. М.
В особом опыте, но за пределами обыденного опыта. Вот мы
живем в повседневности, но наша жизнь может быть не
естественной.
КАРМИН А. С. — докт. филос. наук
Тогда следующий вопрос. Вот ваши слова: «Между онтологией
и метафизикой существует интерамбула» — это «состояние
неподвижного движения переступания через порог» (стр. 25
автореферата). Я не понимаю, что означает «состояние неподвижного
движения».
РОМАНЕНКО Ю. М.
Одним словом, это — инерция. Как раньше говорили, инерция
есть «лень движения». Или как Лосев говорил: «подвижной покой».
Это вроде бы нонсенс, противоречие, но это диалектическое
противоречие, я больше ничего не могу сказать по этому поводу.
КАРМИН А. С. — докт. филос. наук
То есть «неподвижное движение» — это действительно некая
реальная вещь?
РОМАНЕНКО Ю. М.
Да.
732
Ю. M. РОМАНЕНКО. БЫТИЕ И ЕСТЕСТВО
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ
Все. Еще, может быть, какие-то вопросы? Я вижу, что
диссертация Юрия Михайловича заинтересовала людей, может быть, мы
подробнее разберемся. Но я смотрю, вроде больше нет вопросов,
несмотря на провокации с моей стороны.
ПУКШАНСКИЙ Б. Я. — докт. филос. наук
Один только вопрос. Юрий Михайлович, к какому выводу
окончательному можно прийти в результате ваших исследований?
РОМАНЕНКО Ю. М.
Результаты, Борис Яковлевич, я изложил в тезисах и
положениях, выносимых на защиту, более развернуты и уточнены они в
заключении диссертации.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ
Итак, вопросы иссякли. Теперь слово предоставляется ученому
секретарю для оглашения поступивших в совет письменных отзывов
на диссертацию и автореферат.
УЧЕНЫЙ СЕКРЕТАРЬ
В деле имеется выписка из протокола № 10 заседания кафедры
онюлогии и теории познания философского факультета Санкт-
Петербургского государственного университета от 20 апреля 2000
года, подписанная зав. кафедрой, д. ф. н., профессором Липским Б. И.
и утвержденная деканом философского факультета, д. ф. н.,
профессором Солониным Ю. Н.
стенографический отчет
733
УТВЕРЖДАЮ
Декан философского факультета
Санкт-Петербургского госуниверситета
профессор Ю. Н. Солонин
25 апреля 2000 года
ВЫПИСКА
ИЗ ПРОТОКОЛА № 10 ЗАСЕДАНИЯ КАФЕДРЫ ОНТОЛОГИИ
И ТЕОРИИ ПОЗНАНИЯ ФИЛОСОФСКОГО ФАКУЛЬТЕТА
САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА
ОТ 20 АПРЕЛЯ 2000 ГОДА
ПРИСУТСТВОВАЛИ: заведующий кафедрой — доктор
философских наук, профессор Б. И. Липский; доктор философских наук,
профессор Φ. Ф. Вяккерев; доктор философских наук, профессор
Ю. М. Шилков; доктор философских наук, доцент В. В. Савчук;
кандидат философских наук, доцент Д. А. Гущин; кандидат
философских наук, доцент H. Н. Иванова; кандидат философских наук,
доцент Г. П. Любимов; кандидат философских наук, доцент
В. Е. Никитин; кандидат философских наук, доцент Л. М.
Райкова; кандидат философских наук, доцент Ю. М. Романенко;
кандидат философских наук, доцент Е. Н. Ростошинский; кандидат
философских наук, доцент Т. И. Симоненко; кандидат философских
наук, старший преподаватель С. П. Лебедев; кандидат философских
наук, старший преподаватель Н. М. Савченкова.
СЛУШАЛИ: Обсуждение диссертации Ю. М. Романенко
«Онтология и метафизика как типы философского знания» на соискание
ученой степени доктора философских наук по специальности
09.00.01 — онтология и теория познания.
РЕЦЕНЗЕНТЫ: доктор философских наук, профессор Φ. Ф.
Вяккерев; доктор философских наук, доцент В. В. Савчук; доктор
философских наук, профессор кафедры истории философии
философского факультета СПбГУ Р. В. Светлов.
ВЫСТУПИЛИ: доцент Ю. М. Романенко, диссертант; профессор
Р. В. Светлов, рецензент; доцент В. В. Савчук, рецензент; профессор
Φ. Ф. Вяккерев, рецензент; сотрудники кафедры.
В своем выступлении Ю. М. РОМАНЕНКО обосновал
актуальность темы диссертации, указал на определенный пробел в
философской литературе по исследуемой проблеме соотношения онтоло-
734 Ю. M. РОМАНЕИ КО. БЫТИЕ И ЕСТЕСТВО
гии и метафизики, дал общую характеристику замысла, целей и
задач работы, кратко изложил концепцию диссертации, рассказал
об основных этапах проведенного исследования, охарактеризовал
теоретические гипотезы и методологические ориентиры, ознакомил
присутствующих с основными результатами работы,
аргументировал их практическую значимость.
В диссертационном исследовании ставится цель изучить
процессы возникновения, развития, функционирования и соотношения
онтологии и метафизики с точки зрения используемых в них методов
и формируемых в их тематических горизонтах типов философского
знания. В задачи исследования входит историческая реконструкция
смысла понятий «бытие» и «естество», в концентрированной форме
выражающих предметные области онтологии и метафизики
соответственно. В работе ставится вопрос о возможности
самообоснования философского знания в рамках онтологии и метафизики,
образующих сферу философской теории. С методологической точки
зрения, исследование основывается на принципе единства
исторического и теоретического.
Основные результаты исследования, изложенные в диссертации,
суммируются в следующих положениях:
— в результате анализа процесса самоопределяющегося
становления предмета философского знания выделены исторические
стадии развития онтологии и метафизики;
— на основе текстологического анализа основных философских
доктрин выявлена конститутивная категориальная схема
онтологии — триада «бытие—ничто—творение»; задачей метафизического
знания является целостное осмысление диады «естества» с
интеллектуально-интуитивной точки зрения;
— соотношение онтологии и метафизики, рассмотренное через
призму соотношения их основных понятий — «бытия» и «естества»,
решается в свете принципа «всеединства»;
— в познавательном отношении онтология и метафизика
сравниваются по внутренне присущим им типам знания: гнозиса бытия
и эпистемы естества, образующим в их дополнительности двуединое
ядро философского знания;
— в качестве антропологических следствий предложенной
концепции выводятся историко-онтологические модели человека.
Затем соискатель ответил на вопросы по теме диссертации.
Р. В. СВЕТЛОВ — доктор философских наук, профессор кафедры
истории философии философского факультета СПбГУ — в своем
выступлении отметил, что работа Ю. М. Романенко представляет
собой оригинальное исследование, в результате которого возникла
новая концепция соотношения онтологии и метафизики. Автор
стенографический отчет
735
диссертации обращается к трактовкам онтологических и
метафизических тем в истории философии с целью выявить из историко-
философских текстов проблемное поле философии как таковой,
теоретически самоопределиться к историко-философскому
материалу. Реализации этой цели служит принятая методология, прежде
всего — метод экземпляризма. Как специалист по истории
философии (античной и средневековой), рецензент обратил внимание на
оригинальные и существенные интерпретации некоторых известных
учений. Так, вполне оправданно и интересно истолковывается
философия Парменида с точки зрения угадывания. Действительно,
философский дискурс организовывается не только
рационалистически, но и поэтически при обращении к онтологическим
проблемам. Принципиальное значение, кроме этого, имеет и трактовка
диалектики Платона с привлечением архетипа «зеркала». В самом
деле, этот символ помогает вскрыть природу платоновских диалогов,
в задачи которых входит рефлексия мышления к своему основанию.
Подобный подход позволил автору вычленить онтологические и
метафизические сюжеты и на других примерах, в частности, у
Ансельма Кентерберийского, Р. Декарта и других философов. К
недостаткам можно отнести то, что при реализации данной задачи
соискателю не всегда удается дать точное историческое значение
определяемых терминов. Однако этот недостаток обусловлен
сложностью проблемы, над решением которой работают многие
философы. Диссертация вполне соответствует современной ситуации в
философии, где предпринимаются попытки построения теории на
основе рефлексии над историей с разных позиций — от М. Хай-
деггера до М. Фуко. На основании сказанного рецензент отметил,
что цели и задачи работы выполнены в соответствии с требованиями
ВАК РФ, и предложил рекомендовать диссертацию к защите.
В. В. САВЧУК — доктор философских наук, доцент — в своем
отзыве подчеркнул, что диссертантом на высоком теоретическом
уровне поставлена фундаментальная проблема. По цеховому
признаку работа может быть признана как историко-философской, так
и одновременно отнесена к специальности «онтология и теория
познания». Традиционный онтологический вопрос о «бытии» автор
дополняет вопросом о «естестве», в соответствии с современными
тенденциями и смещением интересов в философии, востребующих
осмысления последнего понятия с точки зрения экологии, техники и
т. д. Соискатель обращается к «беспредпосылочным» вещам,
поэтому закономерно его внимание к интуиции. Рецензент дал оценку
стиля письма и изложения результатов исследования, указав на
то, что в монографии по теме диссертации авторские идеи выражены
более живо и развернуто, при глубоком рефлексивном обыгрывании
проблем. Оригинальной представляется попытка рассмотреть
историю развития онтологии и метафизики с мифологической точки
736 Ю. M. РОМАНЕНКО. БЫТИЕ И ЕСТЕСТВО
зрения. Здесь автор делает ход, обратный процессу демифологизации
рациональности, следуя, очевидно, стратегии постструктурализма.
Хотелось бы, чтобы обзор состояния проблемы был доведен не
только до М. Хайдеггера, но и вплоть до новейших изысканий в
этой области. Публикации и автореферат соответствуют содержанию
основной работы, у соискателя имеются гранты по теме диссертации.
В целом, работа обладает несомненной теоретической и
практической значимостью и может быть рекомендована к защите.
Ф. Ф. ВЯККЕРЕВ — доктор философских наук, профессор,
оценил представленную работу как высокопрофессиональную и
интересную. Способом существования философии является история
философии, без истории нет теории, поэтому данную диссертацию,
исследующую историю онтологии, можно квалифицировать как
онтологическую. Хотя, в идеале, теория философии должна быть
представлена в виде категориальной системы, что у автора не дано
в явной форме, а только просматривается в композиции текста.
Автор старается изложить сложные проблемы доступным языком.
Как принципиальное можно оценить предложение диссертанта
определить содержание онтологии через триаду
«бытие—ничто—творение», в сравнении ее с гегелевской триадой
«бытие—ничто—становление». По этому вопросу ощущается недостаток в философской
литературе. Соискатель сопоставляет онтологию и метафизику не
совсем в традиционном плане, поэтому его позиция нуждается в
более аргументированном обосновании. Сам рецензент считает, что
онтология входит в контекст метафизики как философского учения
о предельных основаниях бытия и познания. Хорошо проработаны
с онтологической точки зрения отдельные философские доктрины,
но есть и пробелы, в частности, можно было бы уделить больше
внимания философии советского периода, например, идеям
ленинградской онтологической школы, представленной именами
В. И. Свидерского, А. М. Мостепаненко и др., исследовавших
возможности онтологии с точки зрения науки. Отмеченные недостатки
не снижают общей положительной оценки работы, которую можно
рекомендовать к защите.
К. ф. н., доцент H. Н. Иванова отметила, что автором проявлен
самостоятельный и творческий подход к актуальной проблеме
современной философии. В диссертации выдвинута оригинальная
гипотеза соотношения онтологии и метафизики, которая проверена
и верифицирована на историческом материале, в результате чего
сложилась определенная концепция в соответствии с
диалектическим принципом: логическое есть понятое историческое. К
существенным достижениям можно отнести трактовку онтологической
триады и интерпретацию понятия «естество» как метафизической
диады. Работа проведена на высоком теоретическом уровне,
отличается новизной и может быть рекомендована к защите.
стенографический отчет
737
К. ф. н., доцент Л. М. Райкова указала на то, что диссертант
использовал советы коллег по совершенствованию собственного
текста, и присоединилась к мнению рецензентов о рекомендации
диссертации к защите.
Д. ф. н., профессор Б. И. Липский, заведующий кафедрой
онтологии и теории познания философского факультета СПбГУ,
согласился с общей положительной оценкой работы, предложил
внести небольшие редакторские правки в содержание автореферата
и рекомендовал диссертацию к защите.
Ю. M. РОМАНЕНКО, диссертант, поблагодарил рецензентов за
проделанную работу. В ряде случаев замечания несомненно
справедливы. Но хочется отметить, что ограниченность объема
диссертации не позволила заполнить все недостающие направления
исследования. Поставленные задачи имеют перспективу дальнейшего
развития.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ КАФЕДРЫ
ПОСТАНОВИЛИ:
На основании обсуждения кафедра рекомендует диссертацию к
вынесению на защиту.
1. Считать, что диссертация Ю. М. Романенко «Онтология и
метафизика как типы философского знания» представляет собой
самостоятельное исследование, выполненное на высоком
теоретическом уровне, и базируется на серьезном изучении классического
историко-философского наследия. Основные выводы и положения
диссертации достоверны и обоснованы с точки зрения современных
идей. Практическая значимость исследования определяется тем,
что материалы и выводы могут быть использованы при чтении
курсов по онтологии и теории познания, истории философии,
философской антропологии.
2. Работа Ю. М. Романенко отвечает требованиям ВАК РФ,
предъявляемым к диссертациям на соискание ученой степени
доктора философских наук по специальности 09.00.01 — онтология и
теория познания.
3. Признать, что автореферат и публикации автора соответствуют
основному содержанию диссертации.
4. Просить Диссертационный совет Д. 063.57.01 утвердить в
качестве официальных оппонентов:
1) д. ф. н., проф. В. А. Карпунин (Государственный институт
живописи, скульптуры и архитектуры им. И. Е. Репина);
2) д. ф. н., проф. О. Е. Иванов (Санкт-Петербургский университет
МВД России);
738 Ю. M. РОМАНЕНКО. БЫТИЕ И ЕСТЕСТВО
3) д. ф. н., проф. Г. Л. Тульчинский (Санкт-Петербургский
государственный университет культуры и искусств).
4) назначить Ведущим научным учреждением Российский
государственный педагогический университет им. А. И. Герцена,
г. Санкт-Петербург.
ПРОГОЛОСОВАЛИ: «За» — 13; «против» — нет;
«воздержался» - 1.
Заведующий кафедрой онтологии и теории познания
философского факультета СПбГУ проф. Б. И. Липский
Секретарь А. М. Усачев
УЧЕНЫЙ СЕКРЕТАРЬ
Поступил отзыв ведущей организации — кафедры философии
Российского государственного педагогического университета
им. А. И. Герцена, подписанный зав.кафедрой, д. ф. н.,
профессором Стрельченко В. И. и утвержденный проректором по научной
работе РГПУ им. А. И. Герцена профессором Лаптевым В. В.
стенографический отчет
739
УТВЕРЖДАЮ
Проректор по научной работе Российского
государственного педагогического университета
им. А. И. Герцена
проф. Лаптев В. В.
5 июня 2000 г.
ОТЗЫВ
ведущей организации о диссертации
РОМАНЕНКО Юрия Михайловича
«Онтология и метафизика как типы философского знания»,
представленной на соискание ученой степени
доктора философских наук по специальности:
09.00.01 — онтология и теория познания.
Выбор автором темы диссертационного исследования обусловлен
рядом обстоятельств развития современной философии. Обращение
к основаниям онтологии и метафизики, образующим теоретическое
ядро философского знания, особенно актуально в настоящее время,
когда наблюдается переоценка ценностей и ориентиров
философствования в отечественной и мировой традициях. Существенной
проблемой, которую ставит и пытается решить автор, является
проблема внутреннего самоопределения философии. Многообразие
точек зрения и толкований, представленных различными авторами
и направлениями по данной тематике, зачастую конфронтирующи-
ми между собой, настоятельно ставит задачу обобщения и типоло-
гизации онтологических и метафизических учений прошлого и
настоящего. Решение данной задачи принципиально важно для
понимания перспектив становления философии в себе самой и в
отношении с другими мировоззренческими формами — наукой,
религией, искусством, мифом и т. д. Автору диссертации можно
поставить в заслугу актуализацию проблемы соотношения
онтологии и метафизики в историческом и теоретико-познавательном
аспектах, поскольку при всем обилии литературы по онтологии и
метафизике вопрос о содержании их взаимосвязи редко ставится
и с большим трудом решается. Проблема усложняется еще и тем,
что по данной теме у нас еще не наработан достаточный контекст
обсуждения и отсутствует общеприемлемый целостный подход.
Следует согласиться с автором, что по настоящее время термины
«онтология» и «метафизика» применяются фактически как
взаимозаменяемые синонимы, без достаточного осмысления их собственных
познавательных установок, без должного ограничения и отрефлек-
740 ГО. M. РОМАНЕНКО. БЫТИЕ И ЕСТЕСТВО
тированного пересечения их предметных областей. Из
предпринятого диссертантом обзора литературы видно, что комплексные
исследования данной проблемы практически отсутствуют, хотя
история философии демонстрирует многочисленные примеры ее
понимания под разными углами зрения. Для четкого осознания
существенности рассматриваемой проблемы необходимо обращение
к началу возникновения философии с целью последовательного
изучения становления онтологии и метафизики как дополнительных
типов философского знания в едином контексте.
Общий объем и композиция работы позволили автору раскрыть
заявленную тему. Структурно диссертация состоит из двух разделов
(включающих в себя по три главы), которые посвящены
исследованию стадиального развития методов онтологии и метафизики
соответственно. Привлеченные исторические источники (учения
Парменида и Гераклита, Платона и Аристотеля, Ансельма Кентер-
берийского, Декарта, Фихте, Гегеля, Хайдеггера, Флоренского,
Лосева и др.) послужили необходимым материалом для проверки
нетривиальных теоретических гипотез, выдвинутых диссертантом,
а также стали основой для формирования собственной концепции,
обладающей определенной новизной и имеющей научную ценность.
Диссертацию характеризует высокий профессионализм в
постановке и решении объективно сложных задач. Автор предлагает
рассмотреть содержание онтологии через призму категориальной
триады «бытие—ничто—творение», а метафизику трактует как
философское учение о «естестве» (фюсис) в целом, включающее в себя
систему отношений умопостигаемого и чувственно-воспринимаемого
(мета-фюсис). При этом категория «бытие» понимается как
«единое», а понятие «естество» — как неделимая «двоица», что вполне
соответствует традиционным определениям этих категорий начиная
с античности. Согласно автору, ссылающемуся на первоисточники,
понятие «бытие» выражает самотождественную покоящуюся
сущность, а понятие «естество» выражает самодвижение сущности в
процессе ее воплощения в сущем. При таком истолковании данных
понятий, определяющих содержание онтологии и метафизики,
появляется возможность их теоретического взаимосоотношения.
Данный подход, оправданный исторической традицией, как убедительно
демонстрирует диссертант, является достаточно оригинальным,
поскольку рассматриваемые идеи исторически не всегда были
выражены явно, требуя своего дополнительного истолковывающего
раскрытия.
Во «Введении» к диссертации дан краткий обзор определений
онтологии и метафизики и их ключевых, «беспредпосылочных»
понятий — «бытие» и «естество», а также установлены рамки
методологического подхода, основанного на принципе единства
исторического и теоретического, адекватном для решения поставлен-
СТЕНОГРАФИЧЕСКИЙ отчет
741
ных задач. Концептуальная линия работы обусловлена данным
принципом, повлиявшим на расположение глав и параграфов.
Первая глава первого раздела посвящена исследованию
предпосылок возникновения онтологии в античности. В силу того, что
древнегреческие философы началом философии считали удивление,
исходным онтологическим методом античности, по мнению
диссертанта, является угадывание образа бытия. Эта идея проверяется
на материале философии Парменида, Платона, Аристотеля и
неоплатоников в соответствующих параграфах. В результате
текстологического анализа и комментирования этих доктрин показано, что
Парменид открыл возможность онтологического дискурса
постулированием принципа актуальности бытия и принципа тождества
бытия и мышления в инициационно-энигматическом плане. Мотив
угадывания представлен в платоновской модели диалектики,
изложенной в диалоге «Парменид», с точки зрения игры, позволяя
оценить в этом направлении трактовку античной философией идеи
творения из небытия. Эти же темы обнаруживаются в
аристотелевской концепции творческого воображения и поэтической логики,
средствами которых устанавливается онтологическая триада.
Итогом развития античной онтологии являются неоплатонические
системы, основанные на принципе «всеединства», интерпретируемого
в контексте мифа «вечного возвращения», присущего античному
мировоззрению и культуре в целом.
Во второй главе утверждается, что подготовленные античностью
предпосылки онтологии были реализованы и развернуты в полной
мере в эпоху Средневековья в контексте теистического
креационизма, опирающегося на метод «доверия воле Творца».
Основополагающим источником средневековой онтотеологии является текст
Библии, в котором идея творения проявляется в символическом
описании создания Богом космоса и человека. Определение религиозной
веры имеет онтологический характер. В пределах средневекового
теоцентризма важное значение имели сочинения Дионисия Арео-
пагита, в которых была совершена попытка объединения принципов
«всеединства» и «творения» посредством диалектики апофатики и
катафатики, итогом чего стал выход на уровень «мистического
богословия». Рационально-теологическая традиция представлена
разбором онтологического доказательства бытия Бога,
сформулированного Ансельмом Кентерберийским, с последующим освещением
истории дискуссий по поводу онтологического аргумента.
Определенным итогом развития средневековой онтологии является
традиция паламизма, в которой мистические аспекты были выражены
в форме догмата о различии сущности и энергии творения,
имеющего важное значение для понимания возможностей
онтологической триады.
742 Ю. M. РОМАНEHКО. БЫТИЕ И ЕСТЕСТВО
Анализ онтологии Нового и новейшего времени представлен в
третьей главе. В эпоху антропоцентризма, с точки зрения
диссертанта, вырабатывается новый онтологический метод —
расположенность к феномену бытия. Действие этого метода и функционирование
онтологической триады иллюстрируется на примерах философских
учений Фихте и Хайдеггера, представителей маргинальной
философии и русской идеалистической философии XX века.
Существенное значение имеет параграф, посвященный М. Хайдеггеру, в
творчестве которого все моменты онтологической триады получили свое
классическое освещение. В заключении первого раздела диссертации
автор выводит исторические онтоантропологические модели, т. е.
онтологические определения человека, присущие каждой
исследуемой эпохе.
Завершив анализ основных исторических концепций онтологии,
центральным вопросом которых был вопрос о «бытии», автор
переходит к рассмотрению условий формирования метафизических
систем, в которых на метауровне решается проблема отношения
моментов двоичного «естества» — умопостигаемого и чувственно-
воспринимаемого. Во введении ко второму разделу обосновывается
правомерность философской трактовки понятия «естество» и
уточняется методология исследования на новом этапе.
В первой главе второго раздела автор снова обращается к началу
возникновения философии в античности, в замысле двойного
рассмотрения общего процесса самообосновывающегося становления
предмета философского знания. В главе рассматривается специфика
античного понимания «фюсис», начальным методом постижения
которой является «чутье», т. е. целостная интуиция природы. В
качестве представителя античных «фисиологов» правомерно
выбирается Гераклит, сумевший выразить суть интуитивного подхода к
«естеству», не разделяемого на субъективное и объективное.
Дискурсивное познание, открытое в период софистики, установило
некоторую отстраненность в отношении к «фюсис». Философские
учения Платона и Аристотеля с разных ракурсов констатировали
метафизический дуализм между миром идей и миром вещей, по-
разному пытаясь его объяснить и преодолеть. Отношение к
«естеству» в Средневековье обусловлено религиозным пониманием
природы как сотворенной Богом самодвижной сущности.
Во второй главе рассматриваются условия возможности
экспериментального подхода, заключающегося в искусственном
разделении двоичного естества. В параграфе о Платоне анализируется
специфика спекулятивной методологии, в рамках которой
осуществляется мысленный эксперимент, воспроизводящий процесс
создания Демиургом космоса. Материально-техническое
экспериментирование с природными объектами, служащее основой становления
естествознания в Новое время, отразилось в философии Декарта, с
СТЕНОГРАФИЧЕСКИЙ отчет
743
его принципом методического сомнения и концепцией сознания
трансцендентального субъекта. В философской системе Гегеля
статус природы определен творческой активностью «абсолютной идеи».
Гегелевское учение о «хитрости разума» истолковывается как
воображаемый эксперимент по преобразованию природы.
В третьей главе утверждается возможность естественного,
культурно-сохранительного отношения к естеству, имманентного
ему самому и противоположного экспериментальному подходу.
В качестве примеров, демонстрирующих осознание важности
естественного отношения к природе в целом (в единстве ее внутренних
и внешних моментов), выбирается «конкретная метафизика»
П. Флоренского, учение о «мировой четверице» М. Хайдеггера и
идея «абсолютного мифа» А. Лосева. Этим авторам, при всей
разности их методологических позиций, свойственно общее понимание
соотношения природы и культуры, естественного и искусственного.
В заключении диссертации подводится итог рассмотрения
основных прецедентов онтологических и метафизических способов
философствования в теоретико-познавательном плане. Онтология и
метафизика как взаимодополняющие типы философского знания
истолковываются в антропологическом измерении. Диссертация
написана хорошим литературным слогом. Автора отличает вдумчивая
работа с философским языком, помогающая выразить сложные
проблемы доступно.
В работе обнаруживаются следующие недостатки:
— В первую очередь необходимо заметить, что обоснование
отдельных положений параграфов дается сжато и неразвернуто,
абстрактно, заставляя читателя додумывать не высказанное явно
автором. По этой причине текст в некоторых местах воспринимается
неотчетливо.
— К содержательным упущениям нужно отнести отсутствие при
характеристике избранных историко-философских концепций
изучения влияющего на их построение конкретно-научного контекста;
без учета и перечисления научных достижений в каждую эпоху
сложно оценить специфику соответствующих вариантов онтологии
и метафизики.
— Недостаточно, на наш взгляд, охарактеризованы оценки
онтологии и метафизики, данные Кантом, Гуссерлем и др.
философами, неполно учитываются новейшие источники по данной
тематике.
— Вызывает дискуссию сближение автором мифического и
научного компонентов в философском познании.
Оценивая в целом диссертационное исследование, следует
отметить, что поставленные задачи автором решены. Возникшие в
процессе рецензирования замечания обусловлены сложностью
рассматриваемой проблемы, большим объемом привлекаемого материала
744
Ю. M. РОМАНЕНКО. БЫТИЕ И ЕСТЕСТВО
и неоднозначностью имеющихся в современной литературе
интерпретаций тех или иных аспектов раскрываемой темы. Выводы, к
которым приходит диссертант, в достаточной степени убедительны
и соответствуют современному уровню и тенденциям развития
философского познания. Есть все основания квалифицировать
диссертацию Ю. М. Романенко как целостное, завершенное исследование
фундаментальной философской проблемы, воплотившееся в
оригинальной авторской концепции, разработанной с новаторским
подходом и высокой научной эрудицией.
Материал, представленный в диссертации, может быть
использован в педагогической практике, в рамках лекционных курсов и
спецкурсов по «онтологии и теории познания», «метафизике»,
«истории философии», «антропологии»; в качестве методологических
оснований междисциплинарных исследовательских программ; идеи
и выводы диссертации могут способствовать новому пониманию
статуса онтологии и метафизики в научно-образовательной области.
Автореферат и опубликованные работы соискателя отражают
основное содержание и положения диссертации.
Все вышеизложенное позволяет сделать заключение о том, что
диссертация Романенко Ю. М. удовлетворяет требованиям,
предъявляемым к исследованиям подобного типа, а ее автор заслуживает
искомую степень доктора философских наук по специальности:
09.00.01 — онтология и теория познания.
Отзыв обсужден и утвержден на заседании кафедры философии
Российского государственного педагогического университета
им. А. И. Герцена 2 июня 2000 года. Протокол № 9.
Заведующий кафедрой философии РГПУ
им. А. И. Герцена проф. Стрельченко В. И.
На разосланный автореферат диссертации поступил один отзыв:
— Действительного члена Российской академии образования,
зав. кафедрой философской и психологической антропологии
факультета философии человека РГПУ им. А. И. Герцена, д. ф. н.,
профессора Королькова А. А. Отзыв положительный, замечаний нет.
ОТЗЫВ ОБ АВТОРЕФЕРАТЕ
диссертации Ю. М. Романенко «Онтология и метафизика как типы
философского знания» на соискание ученой степени доктора
философских наук по специальности 09.00.01.
Работа Ю. М. Романенко посвящена исследованию важной и
актуальной философской проблемы — определения условий само-
СТЕНОГРАФИЧЕСКИЙ отчет
745
обоснованности философского знания. Автор ставит задачу изучения
генезиса и взаимосоотношения онтологии и метафизики как
основных познавательных форм философии. Автореферат диссертации
дает представление о сложившейся целостной концепции, основные
тезисы которой отражены в положениях, выносимых на защиту,
и в пункте о научной новизне результатов исследования. Автор
демонстрирует широкую эрудицию, умение тонко анализировать
историко-философский материал и делать на основе этого серьезные
теоретические обобщения. Содержание диссертации упорядочено в
четкой структуре, образовавшейся в результате последовательного
разбора основных онтологических и метафизических систем
известных философов.
Обращает на себя внимание то, что диссертант учитывает
достижения российских философов в осмыслении оснований
онтологии и метафизики, проводя сравнительный анализ отечественного
и зарубежного способов философствования по поводу этой реальной
проблемы. Авторский подход дает возможность найти общий язык
общения и взаимопонимания между различными традициями.
Одной из ведущих тем работы является изучение мифа как
необходимого момента развития философского знания, которое
определяется границей между рациональным и внерациональным.
Вызывает поддержку намерение диссертанта рассматривать
проблему бытия в антропологическом контексте, исходя из
человеческого опыта переживания различных пограничных ситуаций.
Сложность и неоднозначность проблем, перед которыми стоит автор,
заставляют его внимательно работать с языком, которым
выражаются онтологические истины. В этом отношении можно согласиться
с авторским положением, что онтология по сути основана на
принципе единства бытия, мышления и языка, «утверждающем
возможность выражения мышления бытия словом» (с. 5). В самом
деле, одной из существенных задач для философа является
возможность представить мысль в адекватной вербальной форме.
Автору в достаточной степени удалось решить поставленные задачи.
Диссертация, несомненно, является самостоятельным и
оригинальным исследованием, помогающим с новой точки зрения, по-особому
понять основополагающие принципы, категории и методы
онтологии и метафизики в их взаимообусловленности.
Ю. М. Романенко известен своими публикациями, в том числе
весьма основательной книгой «Бытие и естество. Онтология и
метафизика как типы философского знания», которая живо
обсуждалась петербургскими философами. В сущности, автор мог бы
защищать диссертацию в форме научного доклада, то есть по
совокупности опубликованных работ. Считаю, что Ю. М. Романенко —
известный специалист в области онтологии и теории познания,
работа его соответствует критериям, предъявляемым ныне в России
746
Ю. M. РОМАНЕНКО. БЫТИЕ И ЕСТЕСТВО
к докторским диссертациям, и автор достоин присуждения ему
ученой степени доктора философских наук. 20.06.2000.
Действительный член Российской академии образования зав.
кафедрой философской и психологической антропологии факультета
философии человека РГПУ им. А. И. Герцена доктор философских
наук профессор А. А. Корольков
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ
Юрий Михайлович, Вам предоставляется слово для ответов на
замечания ведущей организации.
РОМАНЕНКО Ю. М.
Я благодарю ведущую организацию — кафедру философии
Российского государственного педагогического университета имени
А. И. Герцена за обстоятельную характеристику моей работы. В
отзыве указано на четыре недостатка, я по порядку попытаюсь
ответить на эти замечания.
Что касается первого замечания о том, что обоснование
отдельных положений дается неотчетливо и абстрактно, неразвернуто,
заставляя читателя додумывать не высказанное явно. Мне следует
согласиться с этим замечанием. Дело в том, что сам текст
диссертации является сокращенным и переработанным вариантом двух
томов моей монографии: первый том уже опубликован, а второй в
рукописи лежит в столе и ждет своего издания. Поэтому в
диссертации мне приходилось сокращать аргументацию, обоснование
некоторых положений, рассчитывая на знакомство читателя с
соответствующим материалом, текстами, на которые я ссылался, и
контекстами. Вот те вопросы, которые здесь сегодня возникали,
они как раз вызваны тем, что неразвернуты контексты обсуждаемых
тем.
Во втором замечании говорится об отсутствии описания
конкретно-научных открытий, концепций и конкретно-научного
контекста, которые, несомненно, так или иначе влияли на
построение и понимание онтологии и метафизики в соответствующие
эпохи не только в исторической форме, но и в теоретической. В этом
я полностью согласен с авторами отзыва. Но я еще раз повторю,
что моей проблемой была проблема самообоснования философского
знания. Хотя, разумеется, не вызывает сомнений то, что философия
черпает материал из разных источников: науки, религии, мифа,
здравого смысла повседневной жизни (то, что называется мнением).
Поэтому я, не будучи большим специалистом в области философских
вопросов естествознания, от подробного решения этого вопроса
воздерживался. Я только учитывал наработки по этой проблеме таких
специалистов по истории науки, как А. В. Ахутин, П. П. Гайденко
СТЕНОГРАФИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ
747
и др. В целом, это очень важная задача — выяснение
взаимоотношений между философией и наукой. Здесь требуется отдельная
большая работа.
Третье замечание — о недостаточной характеристике Канта и
Гуссерля. На это можно ответить следующее. У меня, действительно,
нет отдельных параграфов, посвященных Канту и Гуссерлю. Но,
так или иначе, некоторые идеи этих авторов по данной проблематике
мною учитывались, и они представлены в разных местах моего
текста при решении того или иного вопроса. Кроме этого, я не стал
специально посвящать им отдельные параграфы по следующим
причинам. Кант, как известно, критически относился к метафизике,
Гуссерль по-своему понимал онтологию, в какой-то степени
воздерживаясь от радикальной онтологической постановки. А то, что
пошло после них: после Канта — Фихте, Гегель и Шеллинг, после
Гуссерля — Хайдеггер, проявивших сравнительно большую
онтологическую и метафизическую амбицию в полном объеме, — мне
это было более интересно исследовать. Хотя, бесспорно, имена Канта
и Гуссерля имеют важное значение для данной темы, без них,
вероятнее всего, не состоялись бы Гегель и Хайдеггер. Им посвящен
весьма большой круг современной специальной литературы, данные
которой я старался использовать.
И последнее замечание о сближении научного и мифического
компонентов в философском познании. Это, действительно,
вызывает дискуссию. Существует научный подход к изучению мифа, но
и в самой науке есть мифическая компонента, как в генезисе
научного знания, так и в реальном его функционировании. Я этой
темой достаточно давно занимаюсь — на философском факультете я
читаю спецкурс «Онтология мифа», отталкиваясь от идей А. Ф.
Лосева. По вопросу о соотношении науки и мифа можно сослаться
на существенную лосевскую работу «Античный Космос и
современная наука», где делается попытка показать, как современная наука
собственными средствами подтверждает мифические интуиции
античных философов. Эту же тему, очень спорную, но и весьма
эвристическую, я пытался развивать в своей работе.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ
Переходим к отзывам официальных оппонентов. Слово
предоставляется первому официальному оппоненту — доктору
философских наук, профессору О. Е. Иванову.
ИВАНОВ О. Е. — д. ф. н., проф.
(Оглашает отзыв о диссертации.)
748 Ю. M. РОМАНЕНКО. БЫТИЕ И ЕСТЕСТВО
ОТЗЫВ
Официального оппонента на диссертацию Ю. М. Романенко
«Онтология и метафизика как типы философского знания»,
представленную на соискание ученой степени доктора
философских наук по специальности
09.00.01 — онтология и теория познания
Работа представляет из себя обширное исследование, автор
которого поставил перед собой цель, исходя из современной ситуации,
еще раз обратиться к исследованию, казалось бы, таких давно
известных и постоянно (первое чаще, второе реже) употребляемых
понятий, как онтология и метафизика.
На первый взгляд само их разделение может показаться
странным, так как метафизика в историческом смысле собственно вопрос
о бытии, онтологический вопрос, и ставила. «Что есть сущее?» —
вопрошает она и у Хайдеггера, как бы указывая, что за пределами
сущего есть нечто, что собственно это сущее есть. Однако ход,
предпринимаемый автором, при его продумывании все же
обнаруживает свою плодотворность, утверждая, что хотя метафизика и
имеет отношение к бытию, но все же дистанцирована от него,
понятийно с ним не сливается, поэтому за пределами метафизики
следует говорить об онтологии как о самостоятельном взгляде на
вещи, точнее дисциплине, которая может складываться в
относительной независимости от метафизического дискурса. Интерес
онтологии непосредственно устремлен к бытию, и тому, что безусловно
есть, поэтому онтология может делать своим предметом не только
традиционные философские реальности и действовать не только по
правилам «естественного разума», но и обращаться к тем областям,
которые, будучи за пределами собственно философии, открывают
бытие с большей интенсивностью, нежели сама философия. Хотя
общие правила философского дискурса все же сохраняются и скорее
следует говорить о нетрадиционных в метафизическом смысле их
применениях. Здесь как бы возникает ситуация, когда философия
включает в себя нечто от себя отличное, но в самом широком
смысле все же остается философией, удерживая за собой
собственные, соответствующие понятию «любви к мудрости» рубежи.
Метафизика в этом отношении гораздо более строга и действует
исключительно в соответствии с правилами «естественного разума».
Оттого за ней, если перенести данные рассуждения в собственный
контекст диссертации, закреплена область не собственно бытия, а
сущего, если пользоваться хайдеггеровской терминологией, что и
сам диссертант очень охотно делает, сопоставляя с хайдеггеровским
«сущим» собственное понятие «естества».
СТЕНОГРАФИЧЕСКИЙ отчет
749
Таким образом, «свобода» от метафизики позволяет онтологии
ввести в круг собственных построений религию и сделать это именно
потому, что главным ее (онтологии) интересом является бытие, и
если в религии бытие оказывается более соответствующим своему
понятию, то эта область органически принадлежит онтологии.
Данные утверждения мы и встречаем по ходу изложения
диссертационного исследования Ю. М. Романенко, например: «Исторически
философия достигает ступени онтологии не сразу. Так было в
Древней Греции, когда Пармениду предшествовал этап мифологии.
Так было и в России. Определяющим фактором выхода философии
в фазу онтологии является наличие теизма. Собственно говоря, в
эпоху античности были созданы только предпосылки, условия
возможности трансформации философии в онтологию, включающие в
себя создание необходимого терминологического аппарата. О
конструировании онтологии как таковой можно говорить только в
контексте теоцентризма эпохи Средневековья» (с. 169).
Что же касается структуры диссертации, то в онтологической
части после философской главы «Угадывание образа бытия:
Предпосылки возникновения онтологии в античности» логически следует
вторая: «Доверие воле Творца бытия: Онтология в контексте
средневекового теизма», где формулируются такие темы, как выражение
принципа творения в Библии, диалектика апофатики и катафатики
в «Ареопагитиках», роль онтологического аргумента в схоластике,
понимание творения как синергии в традиции паламизма. После
этого следует вновь традиционно философская глава
«Расположенность к феномену бытия: Утраты и обретения онтологии в Новое
и новейшее время», начинающаяся с рассмотрения немецкой
классической философии. Тем самым диссертант преодолевает к
сожалению еще бытующий предрассудок о радикальной инаковости
философии и религии, о «ненаучности» последней, что делает
невозможным ее сопоставление с каким-либо видом рациональности.
Но нелишне напомнить, что М. Хайдеггер, авторитет которого все
еще достаточно высок среди современных интеллектуалов, саму
философию достаточно резко разводил с наукой, тем самым «путь
к бытию» вовсе не необходимо связан с научностью.
Кроме того, и в русской традиции философской мысли мы
встречаем пример исследования, в котором, несмотря на отсутствие
резкой границы между философским и богословским содержанием,
все же присутствует единство подхода, притом обнаруживающегося
именно на философских основаниях. Мы имеем в виду труд
С. Н. Трубецкого «Учение о Логосе в его истории», который состоит
из двух неразрывно связанных между собой частей: «История идеи
Логоса в древней философии» и «Исторические основы
христианского Богопознания ». Я не хочу сказать, что диссертант столь же
тщательно разработал свою проблему, как и С. Н. Трубецкой, но
750
Ю. M. РОМАНЕНКО. БЫТИЕ И ЕСТЕСТВО
общность в отношении понимания предмета исследования
безусловно есть. И там и там он исследуется как единое целое, лишь
рассматриваемое в разных исторических ракурсах —
дохристианском и собственно христианском. При этом философия от этого
нисколько не пострадала, напротив, ее предмет выделился четче и
определеннее. Разумеется, еще раз обратим на это внимание, интерес
философии здесь должен неукоснительно соблюдаться, т. е. если
речь идет о бытии, то оно должно интерпретироваться в соответствии
с его понятием, а не истолковываться метафорически,
мифологически и т. д. Особую дистанцию здесь следует занять и в отношении
собственно богословского истолкования священных текстов, не
в смысле радикальной инаковости общей интенции такого
истолкования или утверждения его неправомочности с точки зрения
рациональных критериев, а в плане удерживания мысли в пределах
философской терминологии и логики. Так, если речь идет о
пребывании человека в раю, то для философа здесь важно прежде
всего рассмотреть тот максимум онтологии, который присущ здесь
человеку, совпадение человека в сущности и явлении,
необходимости и свободе, иными словами, снятие всякого дуализма
человеческого существования, точнее, отсутствие последнего, что и делает
возможным абсолютное присутствие бытия. Бытие здесь также
совпадает с благом, становится радостным бытием, т. е.
включает в себя все смыслы экзистенции. В раю человек истинно есть.
И такая приближенность к пониманию бытия в тексте Священного
Писания становится для нас возможной благодаря личному пред-
стоянию человека в раю Богу как абсолютному источнику всякого
бытия. В этом плане очень важно введение автором диссертации в
понятийный ряд своего исследования понятия «творение». С точки
зрения собственно метафизических критериев оно вряд ли может
составить единую цепочку в монотриаде «бытие—ничто—творение»,
которая является для автора своеобразным ключом для
обнаружения онтологического содержания философского трактата или
священного текста. Однако в рамках того понимания онтологии,
которое предлагает сам автор, вполне может быть использована и даже
требует такого отношения к ней. Ведь бытие мира оказывается
непротиворечивым понятием, т. е. адекватным пониманием, лишь
в том смысле, если оно творится Богом во всей своей полноте, а
не возникает во времени. И диссертант показывает в первой главе,
что все трудности построения непротиворечивой онтологии для
античной мысли были связаны именно с невозможностью уловить
начало бытия, вследствие чего дать достаточно четкое отграничение
бытия от ничто. Поэтому отношение к бытию приобретает
преимущественно характер «угадывания», когда онтологическая ситуация
схватывается как бы «вдруг», неожиданно. Бытие тем самым не
находится в «фокусе» мысли постоянно. Интересен и оригинален
СТЕНОГРАФИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ
751
в этом плане анализ диссертантом учения элейской школы. Удачно
проведено различие между Парменидом и Зеноном: «Лучшим
ответом в адрес нигилистов, отвергающих правоту парменидовского
принципа актуальности бытия, было бы молчание, что Парменид,
собственно, и сделал, высказавшись раз и навсегда. Зенон же на
полчанин не удержался, поэтому его подход справедливо
квалифицируется как открытие нового метода — а именно негативной
диалектики, исходящей из парменидовской интеллектуальной
интуиции бытия» (с. 34).
В плане построения единого исторического обзора онтологии
принципиален указанный автором переход от античной философии
к тексту Священного Писания. «Вопрос этот дискуссионен, — пишет
автор, — но мы придерживаемся точки зрения, что принцип
креационизма, а тем более воплощения, не вполне выражен античным
мышлением, хотя философская почва, из которой он мог бы
вырасти, была практически подготовлена, были налицо даже все
необходимые языковые средства: абсолютное ничто (укон), творение
(пойезис), мир (космос), сущее (онтос) и др. Не хватало самого
малого — запечатления всего этого Откровением и благодатью
личного Бога» (с. 75-76). В то же время считаем, что автор
высказывается по этому поводу слишком осторожно. Дискуссионность
на самом деле снимается выбранной автором позицией.
Указанная нами положительная сторона диссертации:
прослеживание единой линии через тексты философии и Священного
Писания, не во всех пунктах разработана достаточно подробно и не
лишена ошибок. Так, на наш взгляд, автор слишком произвольно
трактует текст книги Бытия: «Адам и Ева присвоили этот дар,
сорвав плод с Древа познания не по благословению, но и не
собственным произволением, а в вожделении, инспирированном
искушением. Поэтому усвоение плода произошло неполностью, как прямое
следствие греха. Адам и Ева могли бы оставаться в Раю целую
вечность, но, злоупотребив плодом, подтвердили свою сотворенность из
небытия, куда и ниспали, но уже имея внутри себя вкушенный плод
бытия. Отныне человек стал творческой личностью, способной
творить из небытия, где он и пребывает, держась только за результаты
своего творчества. Будет ли это творчество благодарением за дар?»
(с. 82-83). Возникает явное противоречие: получается, что уже бытий-
ствующие в силу своей сотворенности Адам и Ева приобретают
некоторый дополнительный дар бытия. Кроме того, трактовка
грехопадения расходится с общепринятыми богословскими толкованиями.
Вызывает сомнение также при упоминании автором Халкидон-
ского догмата приравнивание ипостасей естеству.
Если говорить о новоевропейской философии, то малопонятен
выбор автором фигуры Фихте, как наиболее типичного
представителя онтологии в классической немецкой философии.
752 Ю. M. РОМАНЕНКО. БЫТИЕ И ЕСТЕСТВО
Явной небрежностью является также характеристика некоторых
воззрений, относящихся к вероучению Церкви, как идеологических.
Однако данные недостатки не снижают общего положительного
впечатления от работы. Автореферат и публикации автора
соответствуют содержанию исследования. Диссертация Ю. М. Романенко
отвечает требованиям, предъявляемым к диссертационным
исследованиям на соискание ученой степени доктора философских наук
по специальности 09.00.01 — онтология и теория познания.
Ю. М. Романенко заслуживает присуждения ему искомой степени
доктора философских наук.
11 июня 2000 г.
Доктор философских наук, профессор Санкт-Петербургского
университета МВД России О. Е. Иванов
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ
Слово для ответа предоставляется соискателю.
РОМАНЕНКО Ю. М.
Я благодарен Олегу Евгеньевичу за столь глубокий анализ моей
диссертации, особенно в той ее части, которая касается вопроса о
соотношении философии и религии, онтологии и теологии.
Я отвечу на замечания, представленные в отзыве. В целом, я
согласен, конечно, с постановкой замечаний; в основном они связаны
со сложностью выражения тех проблем, которые затрагиваются в
средневековой философии и богословии. Я не претендовал на
теологические обобщения. Мне было важно вывести определенные
философские импликации из религиозно-богословского содержания.
Тот библейский сюжет, который указан в первом замечании,
касается религиозного понимания сотворения человека. Эта тема в
религии подается как тайна и выражается не рациональным
способом, а символически. Символ же допускает бесконечное
толкование. Я предложил одно из возможных. Дело в том, что в самой
Библии акт появления человека представлен двумя способами
описания: креативным и естественно-эволюционным. Поэтому,
действительно, человек в творении, согласно библейскому тексту,
получает дар бытия и, как следствие и дополнение к этому, дар
творчества, которым можно и злоупотребить. Думаю, что я не вхожу
здесь в противоречие с догматическими оценками этой мифологемы.
По поводу второго замечания необходимо дать пояснение. Трудно
согласиться с тем, что я приравниваю понятие ипостаси и понятие
естества. Я исхожу из достаточно традиционной точки зрения о том,
что сами ипостаси догматически различаются между собой по
присущему им естеству. Разумеется, ипостась не есть естество, личность
не есть природа. Вместе с тем в понятие личности входит и понятие
стенографический отчет
753
естества. Природа естественным образом может быть
персонифицирована. Это одна из сложнейших и спорных проблем. В традиции
софиологии данная проблема решалась, например у С. Булгакова,
в отношении к Софии, которая, будучи естеством Бога, не является
его четвертой ипостасью, но может пониматься как ипостасность,
т. е. принцип ипостасного различения триединой сущности.
Относительно третьего замечания. Частично я на него ответил,
касаясь отзыва ведущей организации. Основанием выбора Фихте в
качестве полномочного представителя немецкой классической
философии было следующее. Я сошлюсь на высказывание Гёте своему
попутчику. Указывая на проходившего мимо Фихте, он сказал:
«Вот человек, которому мы всем обязаны». Именно в философии
Фихте осуществился после Канта, если можно так выразиться,
онтологический «взрыв». Фихте, отталкиваясь от Канта, прорвал
его критические запреты и наиболее обнаженно выразил
онтологические амбиции и претензии. Далее уже пошли последовательно
Гегель с его панлогизмом и Шеллинг с его универсальной
натурфилософией, концепцией искусства и мифа. Поэтому мне было
интересно рассмотреть начальный импульс этой тенденции. Кроме
этого, Гегелю я специально посвятил отдельный параграф во втором
разделе диссертации.
Я согласен с тем, что высказано в четвертом замечании о разности
веры и идеологии. Под идеологией в данном контексте я имел в
виду, естественно, не то значение, которое дается в «Немецкой
идеологии» Маркса, или в смысле научной идеологии исторического
материализма. Слово «идеология» здесь выражает просто некую
совокупность идей и идейную настроенность, которые вырастают
из религиозной веры и проявляются в социальной сфере в разных
формах.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ
Олег Евгеньевич, вы удовлетворены ответами диссертанта?
ИВАНОВ О. Е. — д. ф. н., проф.
Да, вполне.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ
Слово имеет официальный оппонент — доктор философских
наук, профессор В. А. Карпунин.
КАРПУНИН В. А. — д. ф. н., проф.
(Оглашает отзыв о диссертации.)
754 Ю. M. РОМАНЕНКО. БЫТИЕ И ЕСТЕСТВО
ОТЗЫВ
Официального оппонента на диссертацию Ю. М. Романенко
«Онтология и метафизика как типы философского знания»,
представленную на соискание ученой степени доктора
философских наук по специальности
09.00.01 — онтология и теория познания
Диссертант поставил перед собой очень серьезную,
фундаментальную задачу: во-первых, осветить способы, которыми «онтология
и метафизика реактуализируются в каждом историческом интервале
своего становления вплоть до сегодняшнего дня» (с. 1 автореферата),
и во-вторых, выяснить «возможности самообоснования онтологии
и метафизики собственными средствами» (там же). Творческий
«замах» диссертанта вызывает симпатию и уважение, переходящее
в восхищение. Он выделяет различные стадии развития онтологии
и метафизики. В качестве стадий развития онтологии выделяются:
угадывание образа бытия (в античности), доверие к воле Творца
бытия (в Средние века) и расположенность к феномену бытия (в
Новое и новейшее время). В качестве же стадий развития
метафизики им выделяются: чутьё естества (в античности и Средневековье),
экспериментальное преобразование «натуры» (в Новое время) и
культура сохранения естества (наше время). Сразу же скажу, что
для рядового философского обывателя, к каковым я отношу себя,
несколько непривычно было встретиться с наделением слова «чутьё»
статусом философской категории. Вполне может показаться, или,
выражаясь в духе диссертанта, почудиться, что подобных необыч-
ностей в рецензируемом сочинении довольно-таки — если не
слишком — много. Но когда внимательнее вчитываешься, то волей-
неволей приходишь к мнению, что подавляющее большинство
«категориальных экстравагантностей» более или менее обосновано, из
песни слова не выкинешь... Стиль диссертации, конечно,
«неакадемичен» в привычном для нас смысле слова «академичность»:
автор в ходе обоснования своих мыслей не столько стремится
формально-логически корректно переходить от суждений к
суждениям, сколько, погружаясь в мысле-образы. выражающие его
философскую интуицию, старается разъяснить смыслы этих, очень
часто вполне оригинальных мысле-образов. И ему зачастую это
вполне удается. Так что неакадемичность стиля диссертации, на
мой взгляд, вполне оправданна. Она оправдывается самим строем.
размышлений диссертанта, каковой, в свою очередь, оправдывается
предметом исследования. Так что то, что при поверхностном чтении
данной работы может представиться «оригинальничанием» или
даже «вызывающей (на возмущенные возражения) заумностью
изложения », в действительности представляет собой вполне аутентичный
стенографический отчет
755
способ изложения творческого и оригинального хода мысли автора.
Оригинальные мысли нуждаются в оригинальной словесной
упаковке!.. А мысли диссертанта очень часто оригинальны, хотя и (а
возможно, и именно поэтому) далеко не бесспорны. Но и эту
небесспорность (как и оригинальность стиля изложения) я бы отнес
скорее к достоинствам, чем к недостаткам диссертационного
исследования, целью которого является смысловое сопоставление «бес-
предпосылочных фундаментальных понятий философии — Бытия
и Естества, в концентрированной форме выражающих предметные
области онтологии и метафизики соответственно» (там же, с. 4).
В качестве конституирующей категориальной схемы онтологии,
присутствующей в ее различных вариантах, автор использует триаду
«бытие—ничто—творение». А теоретической задачей метафизики
он считает целостное осмысление диады «естества»,
представляющей творение с двоичной точки зрения. Однако, несмотря на то,
что он зачастую, можно сказать, виртуозно оперирует с указанными
триадой и диадой, у меня создалось впечатление, что эти
«троичность» и «двоичность» несколько насильственно («схоластически»)
навязываются диссертантом гораздо более живому и
несхематичному историко-философскому процессу. [Существенную
помощь в этом навязывании ему оказывает декларируемый и успешно
используемый им экземплификационно-ономатологический метод
исследования, суть которого «состоит в приведении в процессе
доказательного рассуждения примера (поименованного экземпляра)
как методического образца, феноменологически выражающего
присутствие сущностного в фактическом» (там же, с. 3—4). С помощью
подобного «метода», путем удачно подобранных «примеров» — как
мне думается, можно «доказать» все,что угодно.] На мой взгляд,
история философии не помещается «без остатка» на прокрустовом
ложе любого схематизма — в том числе и схематизма
«троичности—двоичности». Не могу также не отметить, что в схеме
«бытие—ничто—творение» диссертант допускает двусмысленность в
понимании «творения» — то оно понимается у него как «творение
из ничего», то — как «творение из некоего подручного материала».
А очень часто совсем не ясно, то ли он имеет в виду первый смысл,
то ли второй... Я думаю, что «мыслеобразная» разработка
философской интуиции диссертанта не исключает желательности
уточнения смысла используемых понятий. Вообще говоря, в работе
немало фрагментов, смысл которых угадывается с трудом даже при
повторном чтении. Привожу несколько примеров. Автор на 19
странице диссертации утверждает, что формальная логика
«единственная» (из какого множества? — В. К.) «не имеет ни начала,
ни конца, во всяком случае не может их формализовать, что
доказано в современных теоремах — и это отличает ее от гегелевской
логики, в которой как раз есть и начало, и конец, и середина в
756
Ю. M. РОМАНЕНКО. БЫТИЕ И ЕСТЕСТВО
едином замкнутом пространстве абсолютного мышления». В высшей
степени смутный пассаж! Понятно, что в нем «намекается» на
знаменитые теоремы о неразрешимости и неполноте, но эти намеки
крайне туманны, а сопоставление формальной логики с гегелевской
совершенно некорректно, поскольку не выделяется основание
сопоставления... Или: на с. 22 диссертации автор пишет об
«угадывании» как методе, внутренне присущем античному мировоззрению,
давая ему, с позволения сказать, такое определение: «Угадывание —
это не научный поиск в прямом смысле этого слова, не раскрытие
секретов природы или социального устроения, это вообще не
исследование в эмпирической области. Угадывание — не интуиция
и не дискурс, но все-таки это метод, самоценный и не сводимый
на другие методы» (полужирный шрифт мой. — В. К.). Как
говорится, пойми, кто может!? — моя же, возможно, недостаточно
сильная голова совершенно не понимает смысла этой «мифопоэти-
ческой» всецело отрицательной характеристики, дополняемой
подобными же всецело метафорическими и не добавляющими
основания для понимания указанного «метода» словами: «Данный метод
вполне мог быть заменен максимально обостренным чувством
осязания, если бы человек сумел сохранить это чувство в чистоте и
первозданной силе» (там же). Или же, характеризуя взгляды элеа-
тов: «Поскольку пустота для элеатов является натуралистическим
синонимом небытия, то от-пустить (о-пустотить) держание нельзя.
Следовательно, то, что держится, прямо не может быть ни показано,
ни услышано, так как зрение и слух — дистантные органы чувств.
Тем не менее, ими также можно чувственно воспринимать бытие»
(с. 28). Не понимаю!.. И далее, продолжая характеристику элеатов,
диссертант пишет: «Что это означает: крепко держать, не отпуская,
и одновременно, не прикасаться? Об этом можно только догадаться»
(с. 29). Он-то, видимо, догадывается, я же, увы, нет... И последний
пример мифопоэтического мыслеобраза: «Античность была тем
позитивным небытием, из которого было сотворено к бытию
Средневековье» (с. 71). Эту фразу оставляю без комментариев. Подобных
невнятиц в диссертации много. Но, должен сказать, что они «лезут
в глаза» и, выражусь тоже «мифопоэтически», «першат в них» лишь
в том случае, если читаешь данный текст, так сказать, «построчно»
и «поабзацно», то есть именно так, как мы привыкли читать
диссертационные сочинения. Если же попытаться на время отрешиться
от этой «буквалистской» привычки и попробовать воспринимать
представленный текст крупноблочно — «мыслеблоками», — то
восприятие стилистических «мыслеблох» почти совершенно
притупляется и читатель не без интеллектуального удовольствия начинает
воспринимать довольно-таки стройную мелодию авторской мысли —
не могу не отметить, глубоко продуманной мысли. Эту работу
интересно читать: зачастую она загадочна и непонятна, но в ней.
стенографический отчет
757
несомненно, присутствует (чувствуется) некая внутренная —
неформальная — логика диалектической мысли автора, связывающая
калейдоскопические фрагменты мыслеобразов в целостное
органическое единство. Подкупает также искренняя и глубокая любовь к
истории философской мысли, явствующая из текста. А любовь —
в высшей степени творческая сила! Именно этой силой создавалась
данная оригинальная и талантливая работа, обнаруживающая
самобытность («незаёмность») философского ума диссертанта.
В целом диссертация Ю. М. Романенко, несомненно,
представляет собой новаторское по подходу к проблеме и по полученным
результатам исследование. Она полностью соответствует
требованиям, предъявляемым к докторским диссертациям, а ее автор, конечно
же, заслуживает искомой степени доктора наук.
Автореферат и публикации автора адекватно отражают
содержание диссертации.
12 июня 2000 г.
Доктор философских наук, профессор,
заведующий кафедрой гуманитарных и
философских наук государственного
Института живописи, скульптуры и
архитектуры им. И. Е. Репина В. А. Карпунин
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ
Юрий Михайлович, Вы можете ответить оппоненту.
РОМАНЕНКО Ю. М.
Большое спасибо, Валерий Андреевич, за искренность оценки
моей работы и поддержку ее «мыслеобразного» способа изложения.
Отвечу по возможности коротко на ваши замечания. Я согласен
с тем, что любые схемы, в том числе «диада» и «триада», с одной
стороны, необходимы для рационального выражения «живого», как
вы сказали, движения исторической мысли, но, с другой стороны,
жизнь, естественно, не укладывается ни в какие схемы. Поэтому
философия поставлена в противоречивое положение: она вынуждена
«останавливать мгновение» исторического движения в заведомо
ограниченной схеме. Причем возможны не только «двоичные» или
«троичные» схемы, но есть еще и «четверичные» модели
исторического процесса, как это развито, например, у упомянутых мною
Иоанна Скота Эриугены или Хайдеггера. Лосев доходит до «пен-
тады» (пятерицы), Боэций до «гебдомады» (седьмерицы) и т. д. Все
это является степенями осмысления. Поэтому я согласен с вашим
замечанием с данными оговорками. Я в своем подходе осознавал
758 Ю. M. РОМАН EH КО. БЫТИЕ И ЕСТЕСТВО
эти трудности, предлагая для их разрешения арифмологический
метод, который как раз, с одной стороны, помогает упорядочить
знание в структурной форме, а с другой стороны, делает сами эти
структуры подвижными и переходящими друг в друга для того,
чтобы структура не выродилась в «прокрустово ложе» жестко
ограниченного схематизма. По этой теме у меня была опубликована
статья «Число как символ в философском знании» в сборнике
«Наука и альтернативные формы знания» (1995). Кстати сказать,
мой собственный текст я попытался упорядочить арифмологически
насколько возможно, это можно заметить по его композиции.
Второе замечание связано с экземплификационным методом, о
котором я сегодня уже высказывался, отвечая на вопросы. Могу
здесь только добавить, что «примеры», естественно, ничего не
доказывают. Их функция состоит в ином. Приведение примеров в
рассуждениях необходимо не для доказательства или объяснения, а для
показания. Поскольку экземплификационный метод есть
модификация феноменологического метода, то описание примера есть вид
феноменологической дескрипции, а не форма логического вывода.
Проблема здесь заключается в том, как интуитивно найти
адекватный пример для принципиальной иллюстрации данной рассудочной
схемы.
По поводу третьего замечания о двусмысленности употребления
понятия «творение» необходимо дать истолкование. В самой схеме
«бытие—ничто—творение» последнее понятие понимается как
творение ex nihilo, отличаясь от других существенных философских
понятий, таких как «становление», «возникновение» или
«созидание». Проблема здесь как раз заключается в том, чтобы выяснить
различие этих терминов, поскольку зачастую подобные понятия
употребляются синонимически. Откровенно идея «творения из
ничего» постулируется в эпоху средневекового теоцентризма, а в
античности данная идея была представлена двусмысленно. С одной
стороны, демиург создает вещи искусственным образом, то есть
креативно, но, с другой стороны, его деятельность основана на
предсуществовании идей и материи, из соединения которых
создаются вещи. В своей работе я и пытался провести разграничительную
линию между понятиями «творение» и «естественное становление»,
а также выявить возможную смысловую связь между ними.
С четвертым замечанием следует полностью согласиться.
Интуицию необходимо дополнять логическим уточнением смысла
понятий, хотя это и не всегда удается последовательно сделать. Пятое
замечание касается цитаты на странице 19 диссертационного текста.
Здесь у меня, действительно, делается намек на теоремы Геделя и
Тарского. Понятно, что логика Гегеля и формальная логика —
разные вещи. И тем не менее, существует давний спор между
диалектиками и формальными логиками, в контексте которого я
СТЕНОГРАФИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ 759
поставил данный вопрос в качестве предложения к раздумию, без
подробного разворачивания. Основанием сопоставления логики и
диалектики может быть принцип формализации — возможности
полной обозримости мысли, на что претендовал Гегель в своей
«Науке логики» и что отрицается в современных теоремах о
неразрешимости и неполноте.
Следующее замечание — по поводу «угадывания». Это нее
замечание воспроизводит и Г. Л. Тульчинский, поэтому я к нему
обращусь при ответе на отзыв следующего официального оппонента.
С критикой стиля в последних замечаниях также необходимо
согласиться, однако в качестве оправдания я могу только сказать,
что сама манера изложения обусловлена необходимостью
использования метафор и символов при описании интуиции с целью
реализации мыслеобразного способа философствования.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ
Валерий Андреевич, Вы принимаете ответ диссертанта.
КАРПУНИН В. А. — д. ф. н-, проф.
Да, конечно.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ
Слово предоставляется последнему официальному оппоненту —
доктору философских наук, профессору Г. Л. Тульчинскому.
ТУЛЬЧИНСКИЙ Г. Л. — д. ф. н., проф.
(Оглашает отзыв о диссертации.)
ОТЗЫВ
Официального оппонента на диссертацию Ю. М. Романенко
«Онтология и метафизика как типы философского знания»,
представленную на соискание ученой степени доктора
философских наук по специальности
09.00.01 — онтология и теория познания
Проблема природы философского знания — одна из
типологических для философии на всем протяжении ее истории. Современная
ситуация вносит в нее новые темы и оттенки, связанные с
переосмыслением природы рациональности, роли и значения мифа,
метафизики. В этой связи можно утверждать, что диссертационное
исследование Ю. М. Романенко актуально в наиболее глубоком
смысле: как весьма современное по постановке и содержанию, так
и затрагивающее «вечные», постоянно присутствующие в
философии вопросы. Уже в этом следует признать несомненную
профессиональную зрелость соискателя.
760
ΙΟ. Μ. РОМАНΕΗΚΟ. БЫТИЕ И ЕСТЕСТВО
Несомненным достоинством работы является широкая эрудиция
автора. Это проявляется не только и не столько в нередкой для
нашего времени общей начитанности, сколько в стремлении к
глубокому проникновению в материал, тщательном внимании к
смысловым источникам, оттенкам, коннотациям концептов и философем.
Это по-настоящему и буквально фундаментальное исследование,
опирающееся на не широкий, но довольно представительный круг
источников и литературы, в которых автор свободно ориентируется.
Эта свобода может производить впечатление избирательности,
фрагментарности и неполноты рассмотрения, однако скорее речь идет
о свободе в наиболее важном плане — плане глубокого
проникновения в содержание, когда полнота и систематизация осмысления
выносятся за скобки, образуя неявно присутствующий
фундаментальный контекст анализа.
Ход мысли автора, на первый взгляд, парадоксален: начиная в
первом разделе с философски изощренного хайдеггеровского учения
о бытии, во втором разделе он приходит к идее «фюсис» — естества,
т. е. наиболее простому выражению натурфилософии. Однако
оправдание такого хода мысли не менее очевидно: осмысление фюсис —
необходимое условие понимания метафизики, мета-фюсис как
знания о трансцендентных началах.
Главная авторская мысль — три стадии развития представлений
о бытии и соответствующих форм знания: античность, для которой
характерны угадывание образа бытия, гадания и миф;
Средневековье с ориентацией на веру воле Творца; Новое и новейшее время
с акцентом на мышление. Эта схема воспроизводится в обоих
разделах диссертации, посвященных онтологии и метафизике.
Особый интерес вызывает представляющаяся чрезвычайно
перспективной выявленная диссертантом взаимосвязь представлений
о бытии с представлениями о телесности, осязательных источниках
представлений об этой телесности («лепке бытия»), личностном
начале сущего (с. 46 и далее, с. 83-89).
Работа имеет очевидное и существенное теоретическое значение.
Содержание диссертации может и, как представляется, должно
использоваться в практике преподавания ряда дисциплин
философского цикла. Автореферат дает полное представление о цели,
задачах, содержании, основных результатах диссертационного
исследования. Его идеи и результаты прошли апробацию и экспертизу в
публикациях диссертанта, его докладах и выступлениях в ряде
представительных научных конференций.
Исследование Ю. М. Романенко чрезвычайно масштабно по
проблематике и объему привлекаемого для осмысления материала.
Поэтому оно с неизбежностью имеет ряд особенностей, наводящих
на мысли о возможности более точного и эксплицитного анализа,
формулировок.
СТЕНОГРАФИЧЕСКИ II ОТЧЕТ
761
Как это часто бывает в жизни, достоинства способны породить
и некоторые слабости. Широкая авторская интуиция не всегда носит
упорядоченный характер. От работы остается впечатление некоторой
перегруженности необязательными витиеватыми пассажами,
отнюдь не способствующими прояснению авторской мысли или ее
выразительности. Вот несколько таких типичных примеров авторского
стиля:
«Поступательно-возвратная траектория, по которой имманентно
движется история, не может не иметь центра. Причем этот центр
не просто точечен, но конфигуративен и арифмологичен, имея
очертания «следа»» (с. 202).
«Итак, природа любит таиться. Но ее Владыка (о котором ничего
не известно напрямую) не позволяет ей спрятаться окончательно,
чтобы природа сама себя не смогла найти. Когда ее ищут — она
укрывается. Но это не может продолжаться бесконечно, ибо иссякает
импульс поиска. Следовательно, должно быть обратное движение
самораскрытия природы» (с. 205-206).
Дело, однако, не только и не столько в стиле. Более
существенным представляется, что в диссертации за обилием толкований
терминов и этимологии, к сожалению, утрачено внимание к
существенной специфике философского знания. Метафизика и
онтология — специфические формы такого знания. Диссертант
констатирует этот факт в названии работы. Как формы знания, метафизика
и онтология — рациональные формы осмысления. Однако в
содержании работы вопрос о рациональности философского знания,
специфике этой рациональности не ставится и не обсуждается. Автор
ограничивается мифологическими корнями представлений о
первоначалах и сущем. Такой подход, несомненно, важен, но он,
фактически, в современном контексте, будучи акцентуированным,
лишает философию определенности.
Более того, представляется необоснованным проведенное в
диссертации радикальное разведение онтологии и метафизики,
вынуждающее автора даже «искать язык», «метафоры» для «выражения
движения мысли от онтологии к метафизике и обратно» (с. 187).
Причудливым выглядит и трактовка онтологии как учения о сути
бытия, а метафизики — как учения о «движении бытия в акте его
... воплощения» (с. 196). Метафизика и онтология — не рядопо-
ложенные части философии. Онтология — одна из важнейших
составляющих метафизики. Говоря об учении о бытии, автор
проговаривает важные метафизические идеи, которые он вынужден
повторять, обращаясь к метафизике в целом. Это порождает
ненужные повторы как общего схематизма анализа, так и конкретных
аспектов философского знания.
Не менее очевидна и неоправданность сведения метафизики к
проблеме фюсис. Это демонстрирует и текст самой диссертации,
762 Ю. M. РОМАНЕНКО. БЫТИЕ Я ЕСТЕСТВО
когда автор на с. 213 и далее самой логикой рассмотрения вынужден
затрагивать теоретико-познавательные аспекты проблемы, т. е.
выходить (к сожалению, походя) к тематике другой существенной
части метафизики — гносеологии.
Только в заключении и довольно бегло диссертант рассматривает
некоторые аргументы относительно соотношения метафизики и
онтологии. Невнимательность к вопросу об их соотношении должна
была сказаться, и она сказалась. Наверное, то, что это произошло,
может рассматриваться как свидетельство авторского
профессионализма: последовательное следование выбранной логике анализа
предполагает необходимость признания и получаемых следствий.
Заключение диссертации, по сути дела, есть такое признание.
Автор уделяет много внимания соотношению игры и блефа (с. 36
и далее), формированию гармонической личности (с. 43 и далее),
мифу об Энее (с. 71 и далее), соответствующим пересказам, которые,
при всей их занимательности, представляются весьма
периферийными для проблематики диссертации.
Концептуальная нестрогость, подмена концептуального анализа
коннотативными ассоциациями оборачиваются серьезными
проблемами. Так, остается непроясненной природа угадывания как метода
познания, которому диссертант отводит роль исходного. Автор
ограничивается только замечанием, что угадывание не научный поиск,
не раскрытие секретов природы или общества, вообще не
исследование, не интуиция и не дискурс, но все-таки самоценный метод —
угадывание «воли богов... в ситуации общения смертных с
бессмертными» (с. 22).
Весьма много места в работе уделено соотношению понятий
бытия и небытия, причем без учета осмысления идей небытия и
несуществования в философии XX века (Б. Рассела, Л.
Витгенштейна, А. Уайтхеда и т. д.). Автор несколько непоследователен.
Всячески подчеркивая справедливую мысль о
взаимодополнительности истории философии и философской теории, он сам весьма
избирателен в привлекаемом философском материале, игнорируя
важные философские традиции и направления, такие как томизм,
феноменология, реализм, аналитическая философия, персонализм.
Делаемые же ограничения рассмотрения остаются
необоснованными.
Наконец, само упоминавшееся исходное различение трех стадий
и форм философского знания о бытии выглядит слабообоснованным,
если не трогательно наивным, восходящим к поверхностной
исторической периодизации.
Высказанные замечания и соображения не снижают общую
оценку данной работы. Исследование Ю. М. Романенко отвечает
требованиям, предъявляемым к диссертационным исследованиям на
соискание ученой степени доктора философских наук по специаль-
СТЕНОГРАФИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ
763
ности 09.00.01 — онтология и теория познания, оно является
серьезным и заметным вкладом в развитие современной
отечественной философии. Автор представленной диссертации, вне всякого
сомнения, заслуживает искомую степень.
01.06.2000."
Заслуженный деятель науки РФ,
доктор философских наук,
профессор СПб государственного университета
культуры и искусств Г. Л. Тульчинский
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ
Слово для ответа на замечания предоставляется диссертанту.
РОМАНЕНКО Ю. М.
Я хочу поблагодарить Григория Львовича за обстоятельный
отзыв и ответить на высказанные замечания.
Первый недостаток, который обнаруживает уважаемый оппонент
и который является, по его же словам, обратной стороной достоинств
работы, связан со спецификой интуитивного познания. Следует
признать, что интуиция нуждается в терминологическом
упорядочении при передаче ее в словах. Здесь важна не только логика
изложения, но и поэтика — использование творческих
возможностей языка. Хотя последним можно и злоупотребить. Я вынужден,
к сожалению, признать, что в тексте встречаются «витиеватые
пассажи», на примеры которых указывается в отзыве. Это были
попытки поэтического выражения мысли, трудности которого
обусловлены не только поиском нужных слов, но и привязкой их друг
к другу. Поясню те два случая, которые цитирует оппонент (с. 202
и 205). В первом примере была попытка выразить идею «цели
истории». Если мы признаем, что история имеет цель, то по этому
поводу возникают определенные мысли, которые я и пытался
передать. Вторая цитата — из параграфа о Гераклите — является
толкованием гераклитовской идеи о том, что «природа любит
прятаться». А с другой стороны, Гераклит же говорит и о том, что
природа открывается, подавая о себе знаки. Вот это противоречие
я и пытался осмыслить. Вы, Григорий Львович, правильно здесь
заметили, что это есть некая детская игра. Действительно, этому
соответствует еще одно изречение Гераклита о том, что «вечность
есть дитя играющее, власть над миром принадлежит ребенку».
Комментируя Гераклита, поневоле приходится выражаться в его
стиле.
Второе замечание о том, что онтология и метафизика есть
рациональные формы осмысления. Да, конечно, но и не только.
Рациональность придает философии определенность. Предмет
философии содержится в определенности, но вместе с тем развивается.
764
ΙΟ. Μ. РОМАНЕНКО. БЫТИЕ И ЕСТЕСТВО
И если мы будем только определять его, тем самым ограничивая,
мы можем лишиться жизненного и творческого характера
философии. Поэтому приходится балансировать на грани рационального
и иррационального. Кстати сказать, ведь слово «рацио»
этимологически родственно слову «ритуал». Сам язык подсказывает нам
рассматривать мифическое и логическое как-то одновременно,
находить нужные средства для выражения и рационального, и вне-
рационального. Отсюда возникают те проблемы, с которыми я
столкнулся, и те замечания, которые я получаю. Кроме этого, в
современной философии признано, что не существует некоего единого
универсального типа рациональности, а есть многообразные типы,
каждый из которых вырастает из той или иной мифической,
ритуальной или культурной парадигмы. Это же относится и к
онтологии, и к метафизике.
С третьим замечанием о «радикальном разведении» у меня
онтологии и метафизики я, скорее всего, не согласился бы. Моя
идея была не разводить и не сводить их. В автореферате написано,
что лучшим выражением соотношения онтологии и метафизики,
как бы это противоречиво ни звучало, было бы гегелевское
выражение «тождество тождества и различия».
С четвертым замечанием я частично соглашусь, однако сделаю
оговорку. Дело в том, что я не свожу метафизику к проблеме
«фюсис», а вывожу из нее, исходя из имени самой «мета-физики».
А далее метафизика может принимать какие угодно формы,
конкретно упорядочиваться и решать прикладные задачи. Здесь же, в
этом замечании указано на недостаточность обращения к собственно
гносеологической проблематике. Действительно, гносеология
является существенной частью метафизики, равно как и онтологии.
Проблема знания является постоянной в философии. Я исходил из
позиции «онтологической гносеологии», которая развивалась в
русской философии начала века, то есть из знания, присущего самой
онтологии. При таком понимании гносеология не выделяется как
некая изолированная часть метафизики. Поскольку здесь есть
опасность зациклиться на рефлексии о знании и упустить бытие.
Пятое замечание касается периферийных тем для проблематики
диссертации. Второй и третий случаи действительно могут быть
признаны если не периферийными, то, во всяком случае, заменимыми
на другие примеры. Но я не совсем согласен, что тема игры
периферийна в моем исследовании для решения проблем онтологии,
особенно в части, посвященной Платону и античной философии. Моя
мысль состояла в том, чтобы показать, как античность выразила
идею творения через идею игры. А поскольку креация означает
творение из небытия, то в самой игре пришлось выделить момент
блефа. Свою аргументацию я строил на текстологическом анализе
платоновских диалогов. О значимости игрового принципа, или аго-
стенографический отчет
765
на, писал в свое время А. И. Зайцев в книге о культурном перевороте
в Древней Греции.
В шестом замечании говорится о подмене концептуального
анализа коннотативными ассоциациями. В моей диссертации, скорее,
предлагается работа с символами. Существует особая специфика
символического познания, отличающаяся от понятийного познания,
которое структурируется и изучается логикой. Обращение с
символами — это особая философская работа, которая имеет свои
законы функционирования. В продолжение этого замечания указано
на непроясненность природы «угадывания» как метода познания,
которое определяется через отрицательные характеристики. Это же
замечание высказал и профессор В. А. Карпунин. Отвечу сразу
обоим. В начале я, действительно, дал чисто отрицательную
характеристику — чем «угадывание» не является, обозначив тот
негативный фон, на котором проступает сам феномен угадывания. Это
апофатический метод — определять нечто через негативные
характеристики. Хотя он имеет и положительную сторону, поскольку
здесь дается догадка о позитивном понимании. Угадывание я
определил как принципиальный онтологический метод античной
философии на основании явных высказываний Гераклита, Платона,
Аристотеля, Цицерона и других философов, цитируя их мысли по
данному вопросу. Например, Аристотель в своем учении о небе
апеллирует к некой «мантейе» (мантике, дивинации,
угадыванию) — общему для всех людей интуитивному представлению о
едином теле Космоса. Что это такое? Эта тема относится к проблеме
трансцендентного, о сущности которого можно только догадываться.
Например, наш опыт протекает во множественном мире конечных
изменчивых вещей. Но вместе с тем, в какой-то момент мы вдруг
начинаем догадываться, что мир един. Как мы это узнаем?
Первоначально через догадку. Поэтому я так и определил угадывание в
контексте античной философии, которая культивировала его именно
как метод. Естественно, не в ново-временном значении этого
термина, а в соответствии с духом той эпохи.
Я могу согласиться со следующим замечанием о том, что у меня
не представлены идеи о небытии у Рассела, Уайтхеда, Витгенштейна
и других. В целом позитивистская традиция, на мой взгляд,
достаточно формально интерпретировала проблему небытия, в отличие
от традиции экзистенциализма, сводя ее к вопросу об относительном
несуществовании и воздерживаясь от радикальной постановки
вопроса об абсолютном ничто, без чего, как следствие, не может быть
поставлен и вопрос о творении.
И последнее замечание — об упущении некоторых других
философских традиций. Действительно, аналитическая философия,
реализм, персонализм остались за рамками моего анализа. До этих
направлений у меня просто не дошли руки. Идеи феноменологии
766 ΙΟ. Μ. РОМАНЕНКО. БЫТИЕ И ЕСТЕСТВО
и томизма я так или иначе рассматривал и использовал, в частности
работы Жильсона, Гуссерля и их последователей.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ
Григорий Львович, вы принимаете ответ диссертанта?
ТУЛЬЧИНСКИЙ Г. Л. — д. ф. н., проф.
Да, принимаю.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ
Итак, выступления официальных оппонентов закончены. Есть
ли желающие выступить в качестве неофициальных оппонентов?
КАРАВАЕВ Э. Ф. — д. ф. н., проф.
Эта тема, несомненно, актуальна, заслуживает того, чтобы ее
исследовали. Мое представление о метафизике заключается в том,
что это философское исследование внеопытных объектов, таких как
душа, мир, Бог. Как это традиционно понималось. Но если уточнить
наше представление об этих внеопытных объектах, то мы
обнаруживаем, что многие науки давно с такими объектами работают,
называя их теоретическими объектами, и при этом обходятся без
всякой, так сказать, интуиции особого рода, или «настроения»,
«направленности» и т. д. То же самое относится к онтологии, как
я себе ее представлял. Но уточнение того, как же соотносятся друг с
другом онтология и метафизика — эта проблема, несомненно,
заслуживает внимания и исследования в рамках докторской диссертации.
Но дальше я хочу сказать, что такая тема общего характера
требует объективного и полного подхода. В диссертации полного
обзора всех философских концепций я не нахожу. Выпали многие
концепции и многие философы, которые к этой проблеме имеют
самое непосредственное отношение. Я думаю, что материализм (в
самом широком смысле) и философы-материалисты вообще не
упоминаются. Вот, скажем, в автореферате упоминаются Бородай, Вяк-
керев, Мостепаненко, Свидерский, наконец. Но я полистал
диссертацию и там не нашел следов, опоры, использования или критики
их концепций. По поводу Свидерского, я повторю: мне вообще это
не понятно — ведь это все-таки не Подорога, простите меня, когда
речь идет о проблемах онтологии и метафизики. Достижения
Владимира Иосифовича известны и общепризнаны. Так вот в таком
подходе, несколько однобоком по такой общей проблеме, мягко
выражаясь, кое-чего не хватает. Например, А. М. Мостепаненко
есть только в списке литературы, и то, наверное, он этой чести
удосужился потому, что в названии его книги есть слово
«существование». Теперь о позитивизме и марксизме у автора говорилось
так, что критика ими онтологии и метафизики пошла им на пользу.
стенографический отчет
767
Хотелось бы узнать, в каком смысле пошла? А вот, скажем. Кант,
имеет он отношение к сущности того, что такое метафизика, или
не имеет? Или это риторический вопрос? Имя Канта упомянуто на
120, 140, 291 страницах. Вот, скажем, 291 страница показательна.
Я цитирую: «Подобно Канту, Декарт, — именно Канту, а не
наоборот, тут стилистический прием, — удивляется ощущению
собственной свободы воли». Вот и весь Кант, когда речь идет о
метафизике. Ясно, что имплицитно в тех концепциях, которые автор
рассматривает, наследие Канта, его подход к метафизике
используется. Но я думаю, что когда есть параграф о Гегеле или Декарте,
то мог бы быть и параграф о Канте, потому что речь идет именно
о метафизике.
Вот о Подороге я скажу. Кому принадлежит эта фраза:
«Топология точки, в которой расположилось мышление, обладает рядом
нетривиальных свойств»? Если не Подороге, а самому Романенко,
то, все равно, это все та же концепция. Тут определенная
односторонность. В результате, между прочим, автор обошелся и без
активного обращения к достижениям науки. О какой метафизике и какой
онтологии можно говорить, если непосредственно научный
материал, хотя бы переработанный Свидерским или Мостепаненко,
совершенно не используется. Тут много чего у нас ускользнуло. Я уж
не говорю о новых вещах типа синергетики и о работах Владимира
Павловича Бранского, в которых синергетика рассмотрена под углом
ее значимости не только для естественнонаучного познания, но и
для социально-гуманитарного познания. Вот второй мой тезис.
Теперь, здесь теорема Геделя упоминалась, и я это место
выписал: «...единица тождественна двоице, — ну, «двоицы» нет как
понятия ни в логике, ни в математике, — с чем не в силах
совладать, видимо, с этой тождественностью, — формальная логика,
которая, кстати, единственная не имеет начала и конца, — ну, что
логика не имеет конца, и слава-то Богу, мне кажется, что все имеет
конец, ну это ладно, и дальше, — во всяком случае не может их
формализовать, что доказано в современных теоремах, — ничего
не доказано подобного в современных теоремах, если слово
«формализовать» понимать как «уточнить». Напротив, в неклассических
логиках многие вещи формализованы и еще лучше будут
формализованы, уверяю вас, если понимать это как «уточнить». А если
«формализовать» понимать как «догматизировать», превратить в
какое-то абсолютное исчисление, верное раз и навсегда, то любой
бы логик воспринял это как оскорбление — ставить такую задачу.
Вот уточнять методом последовательного приближения — это да.
Конечно, тут много художественного, и подчас, может быть, вкусы
бывают разные, многие страницы выглядят, я не хочу обидеть,
привлекательно в литературном отношении. Между прочим, сам
автор чувствует это и в некоторых местах пояснения соответствую-
768 ΙΟ. Μ. РОМАНЁНКО. БЫТИЕ И ЕСТЕСТВО
щие делает. Вот там, где я цитировал в стиле Подороги, там
примечаний не было, значит, надо понимать «топологию точки»,
«нетривиальные свойства» так, как нормальный, образованный
человек понимает. Но в других местах, например на странице 140,
автор корректные замечания делает: слово «взрыв» в этом месте —
не метафора, и объясняется, почему это слово есть, так сказать,
рабочее понятие.
Я согласен с одним из оппонентов — Григорием Львовичем
Тульчинским, так же как и с Валерием Андреевичем Карпуниным,
что есть у философа Романенко, несомненно философа, тексты более
удачные. Но здесь и сейчас мы обсуждаем вот эти два текста:
диссертацию и автореферат. Мне повезло, я познакомился еще и с
текстом монографии, которая ближе всех по названию, по крайней
мере к тому о чем здесь говорилось. Все мои замечания и относятся
только к тому, что мы здесь обсуждаем.
СВЕТЛОВ Р. В. — д. ф. н-, проф. СПбГУ.
Уважаемые коллеги, я ненадолго задержу ваше внимание.
Работа вызвала неоднозначную оценку. Я этот текст читал раньше,
как и другие работы автора, и они вызывали всегда у меня большой
интерес. Я представитель другой кафедры — истории философии —
и не претендую на критерии оценки с точки зрения данного совета.
Но у меня складывается впечатление, что каждый из нас оценивает
данного рода работу Юрия Михайловича с определенной позиции.
У меня не вызывает сомнений, что эта работа является творческой
и по-настоящему философской, в ней имеется много интересных
мест и открытий, и она представляет собой целостное исследование.
Я, как историк философии, занимался изучением проблемы
происхождения метафизики, в частности у Аристотеля, пытаясь понять,
что же это такое. Это очень сложный вопрос, который может
решаться с разных точек зрения. Диссертант предложил один из
возможных и оправданных подходов. Некоторые вещи я
прокомментирую, чтобы они, может быть, стали более понятны. Юрий
Михайлович пытался донести определенные идеи, но, может быть,
не всегда удачно, на языке, который выходит за рамки привычного.
Например, почему «естество», а не «природа»? У меня сложилось
такое понимание, что в термине «природа», как бы мы его не
трактовали, нет тех возможностей, которые обнаруживает автор,
например удвоенности или противоположности «генезиса» и «пой-
езиса», творения и становления. Или, например, по поводу
угадывания как метода. С точки зрения античной философии такая
характеристика представляется вполне обоснованной. В отличие от
нововременного принципа очевидности «когито эрго сум» Декарта,
античные философы начинают с очевидности иного рода. Когда
читаешь древние тексты под этим углом зрения, то, действительно,
СТЕНОГРАФИЧЕСКИ И ОТЧЕТ 769
обнаруживаешь присутствие угадывания. Например, в гераклитов-
ских фрагментах или в надписи у входа в храм Аполлона — «Узнай
себя». Поскольку я знаю соответствующие контексты, мне авторские
идеи легче воспринимать. Я предлагаю быть более открытым к
данному тексту, который заслуживает быть защищенным в качестве
докторской диссертации.
КАРМИН А. С. — д. ф. н., проф.
Проблема, которая меня занимала эти три часа, заключается в
том, что дороже — Платон или истина? Автор производит на меня
очень хорошее впечатление. Я с восхищением видел, как он
мужественно отбивался от оппонентов. На меня большое впечатление
производят оппоненты, я их очень уважаю, и то, что они говорили,
я всячески старался понять самым наилучшим образом. Безусловно,
диссертация наверняка свидетельствует о большой эрудиции автора
в области истории философии, о чем было замечено совершенно
правильно. Все это хорошо и замечательно. С этой точки зрения
мне ясен исход защиты. Но вот истина... То есть, каково
содержание? Я что-то плохо понимаю. Плохо понимаю, о чем идет речь.
Онтология и метафизика как типы философского знания. Вот Эдуард
Федорович согласился, что здесь есть проблема. Я не вижу
проблемы. Действительно ли это разные типы философского знания?
Предположим, что они получены разными методами. Но разве это
разные типы? Какие же это разные типы, когда мы, философы,
все, сидящие в этом зале, неоднократно путали их друг с другом
и смешивали. Я не понимаю, в чем их различие. Но даже если и
предположить, что это различие есть, то я даю голову на отсечение,
что никто этим различием в дальнейшем не воспользуется. Вот у
меня такая метафора. То есть я не вижу проблему. Одни определяют
онтологию одним образом, другие — другим. И метафизику
определяли по-разному. Ну и что? Из этого не следует, что есть какая-то
метафизика сама по себе. Ни в определении Маркса, ни в
определении Гегеля, ни в определении Хайдеггера, ни в определении
Аристотеля метафизика не есть особый тип знания. Из этого не
следует и то, что есть некоторое правильное понимание онтологии,
которое диссертант выдвинул, а все остальные вроде бы есть
частные, побочные, исторически пройденные этапы. Мне не ясно, что
это есть разные типы философского знания. Я возьму заключение
и автореферат диссертации. Какие вещи меня смущают? Меня
смущает логика. Скажем, диссертант говорит о том, что он
основывается на принципе единства исторического и теоретического, а
также на принципе единства бытия, мышления и языка, и из этих
двух принципов выводится категориальная схема онтологии. Я не
знаю, как это получается. Тем более что категориальной схемой
онтологии оказывается триада «бытие—ничто—творение». Ну,
770 ΙΟ. Μ. РОМАН EH КО. БЫТИЕ И ЕСТЕСТВО
вообще-то говоря, если даже это измененная схема гегелевской
онтологии, то это не имеет отношения ко многим другим
онтологическим концепциям прошлого и настоящего. Так что навязывать
это как категориальную схему, да еще вытекающую из двух таких
принципов, на мой взгляд, сомнительно.
Далее, мне непонятны у диссертанта все его рассуждения насчет
естества. Вот, убей меня Бог! С одной стороны, трансцендентность,
присущая естеству. С другой стороны, в автореферате и в
заключении указывается, что в то же время и бытие есть трансцендентная
самотождественная сущность. В ответ на мой вопрос диссертант
говорит, что естество — это нечто такое, что содержит в себе
единство материального и духовного. С другой стороны, оно
двойственно, потому что оно — «мета-фюсис». Ну и что? Далее, оно
трансцендентно, потому что оно содержит естественное и
сверхъестественное сразу, или, что там еще, естественное и искусственное.
Понимаете? Все-таки нужна определенность, для чего это понятие
необходимо. Если оно имеет какое-то фундаментальное значение,
будучи основой всей метафизики, то для этого нужны более
ощутимые пояснения.
Дальше, я не могу согласиться с тем, что предмет философского
знания сам себя определяет. Философское знание определяет самое
себя. Что, оно — человек? Знание определяет человек, философский
разум. Я не могу согласиться с тем, что философия — это
самообосновывающееся знание. Как это так? Все-таки, чтобы философия
сама себя обосновывала без учета данных практики, обыденного
опыта, науки и чего угодно, — я с такой философией не хотел бы
иметь дела. Может быть, кто-то считает, что такая философия
возможна. Но если она возможна, тогда любой бред, который сам
себя бредовым образом своими методами обосновывает, есть
подобная философия. То есть тут какая-то опасная вещь получается.
Очень неточен язык. Как может быть «непосредственность
онтологического знания»? Оно есть абстрактное теоретическое знание?
Вот, говорится, что из концепции диссертанта выводятся историко-
онтологические модели человека. Какие же это модели? «Человек
есть эманация Космоса, человек есть творение Бога, человек есть
жизненный мир человека». Это хорошо известные вещи, а не
следствия работы диссертанта. Мне кажется, что когда диссертант
говорит, что он ликвидирует некий пробел в философском знании по
поводу различия метафизики и онтологии, то, на мой взгляд, это
не ликвидировано, просто потому что этого пробела нет. Так что у
меня диссертация вызывает множество недоумений. Мне
представляется, что если бы Юрий Михайлович защищался по истории
философии, может быть, потому, что я меньший специалист по
ней, то, судя по автореферату, у него действительно развита какая-то
концепция, с которой можно спорить, с которой можно соглашаться
стенографический отчет
771
или нет. Но он защищает диссертацию по онтологии и теории
познания, следовательно, должен внести нечто в онтологию и теорию
познания. Вот это меня и смущает. Так что проблема — Платон
или истина? — остается.
СТРЕЛЬЧЕНКО В. И. — д. ф. н., проф.
Защита диссертации сегодня, фактически, выглядит как очень
интересный теоретический семинар. И это понятно, если учесть,
что в диссертации затронуты самые глубинные, фундаментальные
философские проблемы бытия. Но и не только. Это не только
проблема философии, но и религии, науки и других форм, проблема,
претендующая на мировоззренческий уровень. Здесь мне не нужно
особенно доказывать известный тезис о том, что развитие философии
осуществляется как эволюция знания. Мы выходим на новый
уровень только в том случае, когда наблюдаем, что происходят какие-то
изменения в нашем понимании предмета философии. Глубинные
существенные изменения в развитии философского знания, в том
числе и его типов, осуществляются тогда, когда изменяется предмет,
а стало быть, и содержание отражающих его понятий, родовых
сущностей бытия. Мне думается, что многое из того, что сегодня
обсуждалось и что вызывало недоумения, обусловлено не лексико-
грамматическим оформлением мысли диссертанта по поводу
фундаментальных понятий онтологии и метафизики, сколько особой
возможностью смыслового выражения материала. Я могу сказать,
что этот способ изложения, даже метод структурирования
философского содержания, относящегося к проблеме бытия, — это не
выдумка диссертанта и не изобретение последнего времени. Мы
помним, что еще в эпоху Средневековья существовала известная
дискуссия по поводу соотношения образа и понятия — я имею в
виду эпоху иконоборчества. Здесь возникли расхождения в
понимании метода, возможностей смыслового оформления проблемы
бытия человека и мира. И эти расхождения имели столь
принципиальный характер, что они закончились расколом, который
продолжается по сей день. Я имею в виду хорошо известных
персонажей. Еще до церковной схизмы у Иоанна Дамаскина образ
рассматривается в качестве важнейшего и самого существенного
инструмента познания. Я напоминаю исторические факты
исключительного противопоставления образа и понятия и
соответствующих смысловых форм только для того, чтобы обратить внимание
присутствующих на то, что тот образ развития мысли, который
предлагает наш соискатель для исследования бытия, далеко не нов.
Если вы посмотрите на работы восьмого—девятого столетий,
посвященные проблеме образа в теоретико-познавательном плане, то
нетрудно убедиться, что с такой же необыкновенной точностью и
филигранностью, как это делается в современных формализованных
772 Ю. M. РОМАНЕНКО. БЫТИЕ И ЕСТЕСТВО
языках, разрабатывалась тогда эта проблема. И там предлагались
очень тонкие и ясные описания образа как средства познания. Эта
традиция в теории познания развивалась в различных формах,
отличаясь от логических способов рассуждения. Поэтому, мне
думается, что многие недоумения возникают по поводу оценки
диссертации только в связи с тем, что здесь используется особый метод
смыслообразования или подход к пониманию бытия. Этот
теоретический аппарат разрабатывался в течение многих столетий. Причем
аппарат, укорененный в традиции отечественной культуры.
Конечно, я согласен с теми замечаниями, что нужно использовать
достижения современного естествознания и его исторические
результаты. Но вместе с тем я полностью отдаю себе отчет, насколько
важными являются результаты, полученные диссертантом в
понимании «естества». Хотя здесь некоторые оппоненты говорили о
неясности этого понятия, требуя дать ему формальное определение.
Но вместе с тем мы с вами знаем, что в данном случае обсуждаются
предельные понятия, которые сами по себе неопределимы. Как,
например, «бытие», «пространство» и так далее. Если говорить о
функциональной стороне определения «естество», я представляю
сейчас, сколь важное значение оно имеет для прояснения существа
такой важной оппозиции, как «естественное—искусственное». На
что, кстати, сегодня не обратили внимания. Мы знаем, сколь важно
выяснение природы этой оппозиции для решения сугубо
практических задач. Еще Маркс обращал внимание на естественный
порядок вещей и искусственный. На этом основывается различие
культуры и цивилизации. Отсюда выстраивается экономический и
социальный генезис. Очень важно знать, где мы имеем дело с
искусственными образованиями, а где — с естественно возникшими
образованиями в нашей культуре, то есть с той реальностью, на
которой основываются различные виды практики.
Словом, я обнаружил в таком способе мышления соискателя
прежде всего внутреннюю логику, в чем я совершенно согласен с
официальными оппонентами, а также тонкую интуицию. Вообще
говоря, слово «интуиция» у нас не должно вызывать скепсис.
Посмотрите, сколько естествоиспытателей написали работ по поводу
интуиции и про то, что она является совершенно особым методом
научного познания. Я поддерживаю мнение оппонентов о том, что
диссертант достоин искомой степени.
СЛИНИН Я. А. — д. ф. н., проф.
Я скажу буквально два слова. Конечно, диссертация Юрия
Михайловича, по-моему, это уже всем ясно, является нетривиальной
работой по многим параметрам. Автор открыт для критики, которая
здесь прозвучала. Как я понял, иначе он не может писать и,
наверное, не хотел подделываться под привычную ситуацию. Ко-
СТЕНОГРАФИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ
773
нечно, работа спорна и по содержанию, и по форме, поэтому критика
обоснована с определенных точек зрения. Но я хотел бы, чтобы
мы имели в виду после этой дискуссии и высказывания мнений,
переходя к оценке, чтобы оценили уровень того, что написано в
этом фолианте и в других работах автора. Насколько я слышал,
отрицательная реакция касалась в большей степени частных
вопросов — что-то не учтено, что-то не доделано, что-то односторонне
освещено, что не открыта истина в последней инстанции. Но, с
другой стороны, говорили и об оригинальности, и о достаточной
эрудиции, и любви к философии, и о глубине охвата проблемы —
все это соответствует докторскому уровню. Мы много обсуждали
разного рода диссертаций, и среди них было немало тривиальных
и более привычных, нежели то, что мы сейчас увидели. Конечно,
как говорится, амбиция несколько превышает то, что мы привыкли
слышать — такой глобальный подход к самым фундаментальным
изначальным философским проблемам. И это сразу вызывает много
трудностей, которые не только Юрий Михайлович не преодолел,
но и вряд ли кто из присутствующих сделал бы лучше, потому что
все упирается в терминологию. Сложно подобрать правильное
название тому, что мы обсуждаем. Вот он выбрал онтологию и
метафизику, что вызвало много разного рода виртуальных замечаний,
поскольку это очень многозначные термины. Но трудно придумать
что-нибудь лучше. Речь идет об онтологии и метафизике в очень
изначальном смысле, может быть, даже не нужно было бы эти
термины употреблять. Речь идет о парменидовской проблеме. Вот,
есть «бытие» и противостоит ему «фюсис», то есть природа всего.
Бытие как таковое в смысле А равно А в свернутой форме — и
развернутое бытие во всем многообразии. Вот эта проблема является
извечной. Автор даже, по-моему, и не берется решать ее, а просто
выстраивает философов, которые тяготеют к одному или другому
моментам. Вот так и получается эта довольно интересная концепция,
с чем, я думаю, все согласны. Хотя она и спорна, с чем-то можно
и не согласиться. Но ведь как говорится, истину в последней
инстанции вряд ли кто рискнет высказать.
Конечно, я согласен, что здесь историко-философский материал
преобладает. Но и на уровне нашей специальности — онтологии и
теории познания — также существуют различные мнения. Я
призываю к тому, чтобы подойти с толерантностью к этому делу. Если
человек не так думает, как я, даже ложно, а может быть, и
вредно, — но он думает на уровне доктора философских наук. А
я, может быть, полезен, с моей точки зрения, но, кто знает, как
на самом деле все обстоит. Как известно, защищается не только
работа, но и личность. А автор, как говорится, делу предан.
774
Ю. M. РОМАНЕНЕО. БЫТИЕ И ЕСТЕСТВО
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ
Юрий Михайлович, пожалуйста, Ваше заключительное слово.
РОМАНЕНКО Ю. М.
Я хочу высказать благодарность и за критику, и за поддержку.
В ходе обсуждения я обнаружил для себя много интересных ходов
в направлении решения этой существенной для нас проблемы. Хотя
в одиночку она не решается, а может только высвечиваться в ходе
вот таких принципиальных дискуссий. Я не буду сейчас отвечать
на замечания, возникшие в неофициальном обсуждении, надеюсь,
мне еще удастся уточнить с моими оппонентами некоторые
положения, вызвавшие критику по причине моего, наверное, способа
изложения.
Большое спасибо!
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ
Для проведения тайного голосования нам необходимо избрать
счетную комиссию.
Счетная комиссия предлагается в следующем составе:
Кармин А. С. — д. ф. н.,
Колчинский Э. И. — д. ф. н.,
Кобзарь В. И. — д. ф. н.
Нет возражений? (Нет). Счетная комиссия избирается
единогласно.
Объявляется перерыв для тайного голосования.
После перерыва
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ
Слово предоставляется председателю счетной комиссии для
оглашения результатов тайного голосования.
КАРМИН А. С. — д. ф. н., проф.
(Оглашает протокол счетной комиссии.)
Состав диссертационного совета утвержден в количестве 21
человека, присутствовало на заседании 19 членов совета, из них
докторов наук по профилю диссертации — 7. Роздано бюллетеней
членам совета — 19, осталось неиспользованных — 2, в урне
оказалось бюллетеней — 19.
Результаты голосования:
за ходатайство о присуждении Романенко Юрию Михайловичу
ученой степени доктора философских наук подано голосов:
«за» — 13, «против» — 3, «недействительных» — 3.
СТЕНОГРАФИЧЕСКИЙ отчет
775
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ
Кто за то, чтобы утвердить протокол счетной комиссии, прошу
голосовать.
Кто против? (Нет.) Кто воздержался? (Нет.)
Утверждается единогласно.
На основании результатов тайного голосования («за» — 13,
«против» — 3, «недействительных» — 3) совет считает, что
диссертация соответствует требованиям, предъявляемым к
диссертациям на соискание ученой степени доктора наук (п. 13 Положения
ВАК), и ходатайствует перед ВАК РФ о присуждении Романенко
Юрию Михайловичу ученой степени доктора философских наук по
специальности 09.00.01 — онтология и теория познания.
Кто за данное решение совета, прошу голосовать.
Кто против? (Нет.) Кто воздержался? (Нет.)
Принимается единогласно.
Нам необходимо обсудить и принять заключение совета по
диссертации. Проект заключения имеется у членов совета. Какие будут
замечания, дополнения?
(Идет обсуждение проекта заключения).
Кто за то, чтобы принять заключение совета по диссертации,
прошу голосовать.
Кто против? (Нет.) Кто воздержался? (Нет.)
Принимается единогласно.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Диссертационного совета Д.063.57.01 по защите диссертаций на
соискание ученой степени доктора наук в Санкт-Петербургском
государственном университете о научной и практической
значимости диссертации Ю. М. Романенко «Онтология и метафизика как
типы философского знания», представленной на соискание ученой
степени доктора философских наук по специальности 09.00.01 —
онтология и теория познания.
Актуальность диссертационного исследования заключается в
освещении тех способов, которыми онтология и метафизика ре-
актуализируются в каждом историческом интервале своего
становления, а также в выяснении возможностей самообоснования
онтологии и метафизики собственными средствами. Избранный
исследовательский подход позволил автору дать обоснованные ответы на
вопросы о возникновении, развитии, функционировании и
соотношении онтологии и метафизики.
776 Ю. M. РОМАНЕНКО. БЫТИЕ И ЕСТЕСТВО
Научная новизна диссертации заключена в следующих
положениях:
— показано, что в различных вариантах онтологических
концепций явно или косвенно присутствует конституирующая
категориальная схема в виде триады «бытие—ничто—творение»;
— установлено, что теоретической задачей метафизики является
целостное осмысление диады «естества» (мета-фюсис),
представляющее становление форм бытия с двоичной точки зрения в виде
категориальных оппозиций «естественное—сверхъестественное» и
«естественное—искусственное»;
— выделены исторические стадии развития онтологии и
метафизики, основанные на следующих методологических установках
человеческого опыта:
а) онтология: угадывание образа бытия (античность), доверие
воле Творца бытия (Средневековье), расположенность к феномену
бытия (Новое и новейшее время);
б) метафизика: чутье естества (античность и Средневековье),
экспериментальное преобразование «натуры» (Новое время),
культура сохранения естества (современность);
— осуществлено реконструирование онтологического и
метафизического содержания в конкретных философских учениях
посредством применения выявленных экземплификационно-ономатологи-
ческого и энергийно-арифмологического методов, суть которых
состоит в приведении в процессе доказательного рассуждения примера
как методического образца, выражающего присутствие сущностного
в фактическом, а также в фиксации степеней интенсивности и
структурных уровней этого присутствия;
— обнаружено, что непосредственность онтологического знания
«бытия» опосредствуется в метафизике знанием «естества» как
рефлексии «бытия», благодаря чему философское познание
становится «спекулятивным», что способствует установлению
автономности самосознания философского разума, из чего делается вывод,
что онтология и метафизика в их взаимоотношении и в совокупности
применяемых в них методов образуют двуединое ядро творчески
становящегося философского знания, определяющего в целом
теоретический горизонт философии.
Теоретическая значимость работы состоит в последовательном
и систематическом рассмотрении взаимного соотношения онтологии
и метафизики, восполняя, таким образом, пробел, имеющийся в
современной ситуации философских исследований.
Научно-практическая значимость работы состоит в обогащении методологических
приемов и расширении эвристических перспектив онтологии и
метафизики. Материалы диссертации могут практически применяться
для учебно-методической работы, формирования учебных программ
по курсам истории философии, теории познания, онтологии и ме-
стенографический отчет
777
тафизики, способствуя их институциализапии в
научно-академической и образовательной сферах.
Содержание работы отражено в монографии, ряде научных
статей, тезисах международных и республиканских конференций.
Положения и выводы работы нашли применение в разработке
инициативных научно-исследовательских проектов, за которые автор
получил гранты РГНФ и других фондов.
Диссертационная работа Романенко Ю. М. представляет собой
самостоятельное, оригинальное, концептуально глубоко
продуманное научное исследование и полностью соответствует требованиям,
предъявляемым к работам, представленным на соискание ученой
степени доктора философских наук по специальности 09.00.01 —
онтология и теория познания.
КЛАССИФИКАЦИОННЫЕ ПРИЗНАКИ ДИССЕРТАЦИИ:
1. Характер результатов диссертации.
1.2. Разработка теоретических положений, совокупность
которых можно квалифицировать как целостное, завершенное
исследование фундаментальной проблемы, воплотившееся в
оригинальной авторской концепции, разработанной с новаторским подходом
и высокой научной эрудицией.
2. Уровень новизны результатов диссертации.
2.1. Результаты являются новыми.
3. Ценность результатов диссертации.
3.2. Высокая.
4. Связь темы диссертации с плановыми исследованиями.
4.3. Инициативная работа.
Председатель диссертационного совета
Д.063.57.01, доктор философских наук,
профессор Слинин Я. А.
Секретарь диссертационного совета
Д.063.57.01, кандидат философских наук,
доцент Райкова Л. М.
СОДЕРЖАНИЕ
КНИГА I. БЫТИЕ
ПРЕДИСЛОВИЕ: Философия знакома с бытием и естеством 5
ВВЕДЕНИЕ: Онтология и метафизика как имена 17
ГЛАВА 1. Угадывание образа бытия: Предпосылки
возникновения онтологии в античности 41
§ 1. Парменид: Открытие бытия. Тождество бытия и
мышления 51
§ 2. Платон: Диалектическая игра бытия и небытия ... 69
§ 3. Аристотель: Поэтическая логика бытия 98
§ 4. Неоплатонизм: Образ бытия единого во всем 124
ГЛАВА 2. Доверие воле Творца бытия: Онтология в контексте
средневекового теизма 149
§ 1. Библия: Бытие в дар. Теистический принцип творения 157
§ 2. Ареопагитики: Диалектика апофатики и катафатики
как сохранение тайны творения 185
§ 3. Схоластика: Онтологический аргумент 196
§ 4. Паламизм: Творение как синергия 212
ГЛАВА 3. Расположенность в бытии: Утраты и обретения
онтологии в Новое и новейшее время 226
§ 1. Немецкая классическая философия: Свободное
мышление в бытии 228
§ 2. Хайдеггер: Онтолингвистическое вопрошание 253
§ 3. Мизософия: Растерянность между бытием и небытием 273
§ 4. Русская философия: Оправдание онтологии, или онто-
дицея 278
Заключение к I книге: Онтоантропологические модели . . . 291
КНИГА II. ЕСТЕСТВО
ВВЕДЕНИЕ. Мифическая интерамбула между онтологией и
метафизикой 297
ГЛАВА 1. Чутье естества: Античность и Средневековье о фюсис 339
§ 1. Гераклит: Стихийная интуиция 346
СОДЕРЖАНИЕ
779
§ 2. Платон: Припоминающая природа души 375
§ 3. Аристотель: Естественное движение тела 403
§ 4. Средневековье: Историзм творения и Богочеловеческая
природа 451
ГЛАВА 2. От «фюсис» к «натуре»: Экспериментальные
проекции природы на экране воображения 475
§ 1. Платон: Образ Космоса в «гадательном зеркале» . . . 490
§ 2. Декарт: Дополнительность сомнения и удивления в
воображении творения 516
§ 3. Гегель: Отпуск Абсолютной идеи в природе 545
ГЛАВА 3. Реабилитация метафизики: Культура сохранения
естества 565
§ 1. П. Флоренский: Проект конкретной метафизики . . . 578
§ 2. М. Хайдеггер: Поворот к зеркальной игре мировой чет-
верицы 591
§ 3. А. Лосев: Исцеление ностальгии по естеству в
абсолютном мифе 605
ЗАКЛЮЧЕНИЕ: Познавательные пределы онтологии и
метафизики — гнозис бытия и эпистема естества 659
ПРИЛОЖЕНИЕ I. Автореферат диссертации «Онтология и
метафизика как типы философского знания» на соискание ученой
степени доктора философских наук 669
ПРИЛОЖЕНИЕ II. Стенограмма заседания диссертационного
совета по защите диссертации «Онтология и метафизика как
типы философского знания» . 709
Юрий Михайлович Романенко
БЫТИЕ И ЕСТЕСТВО
Онтология и метафизика как типы философского знания