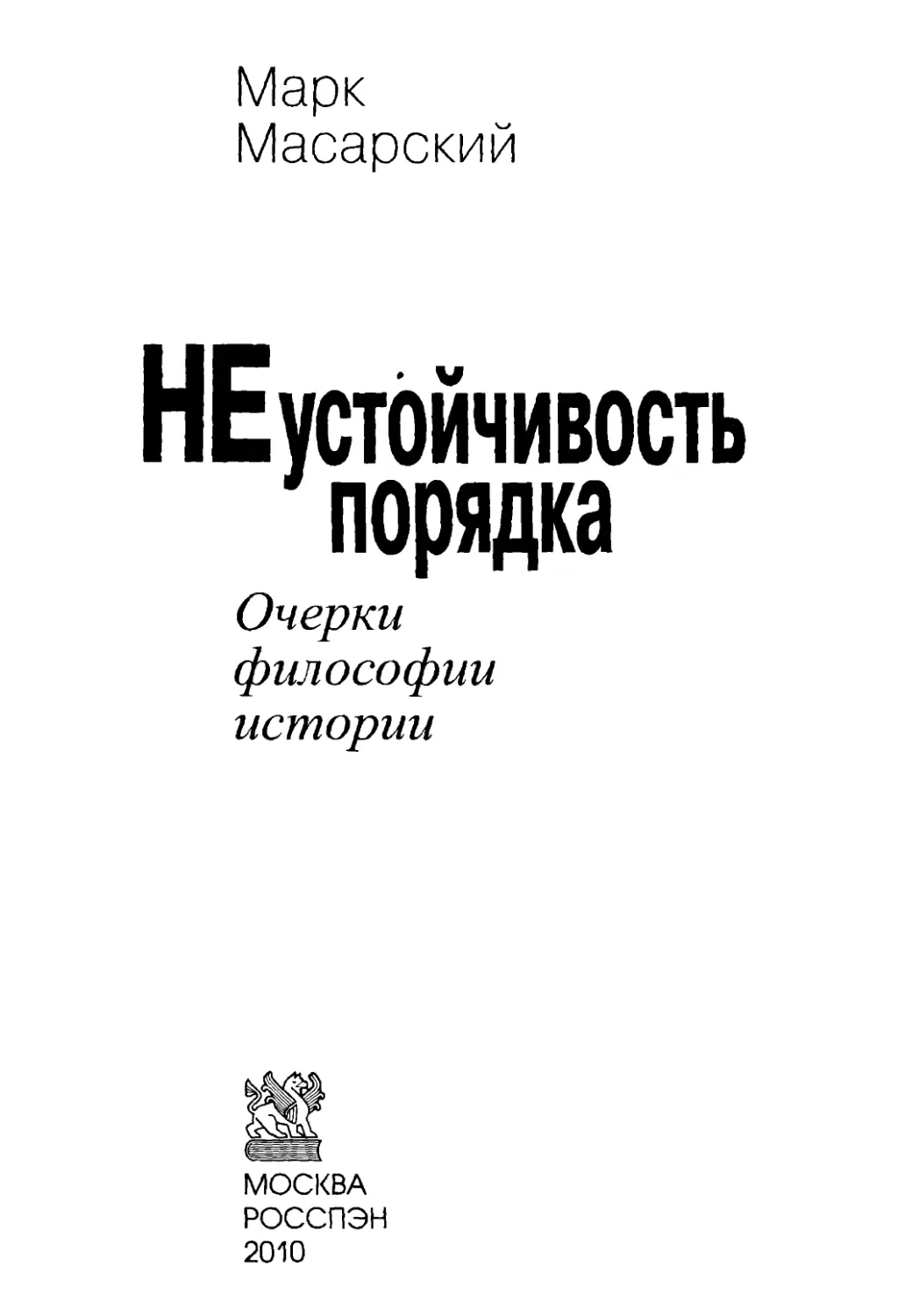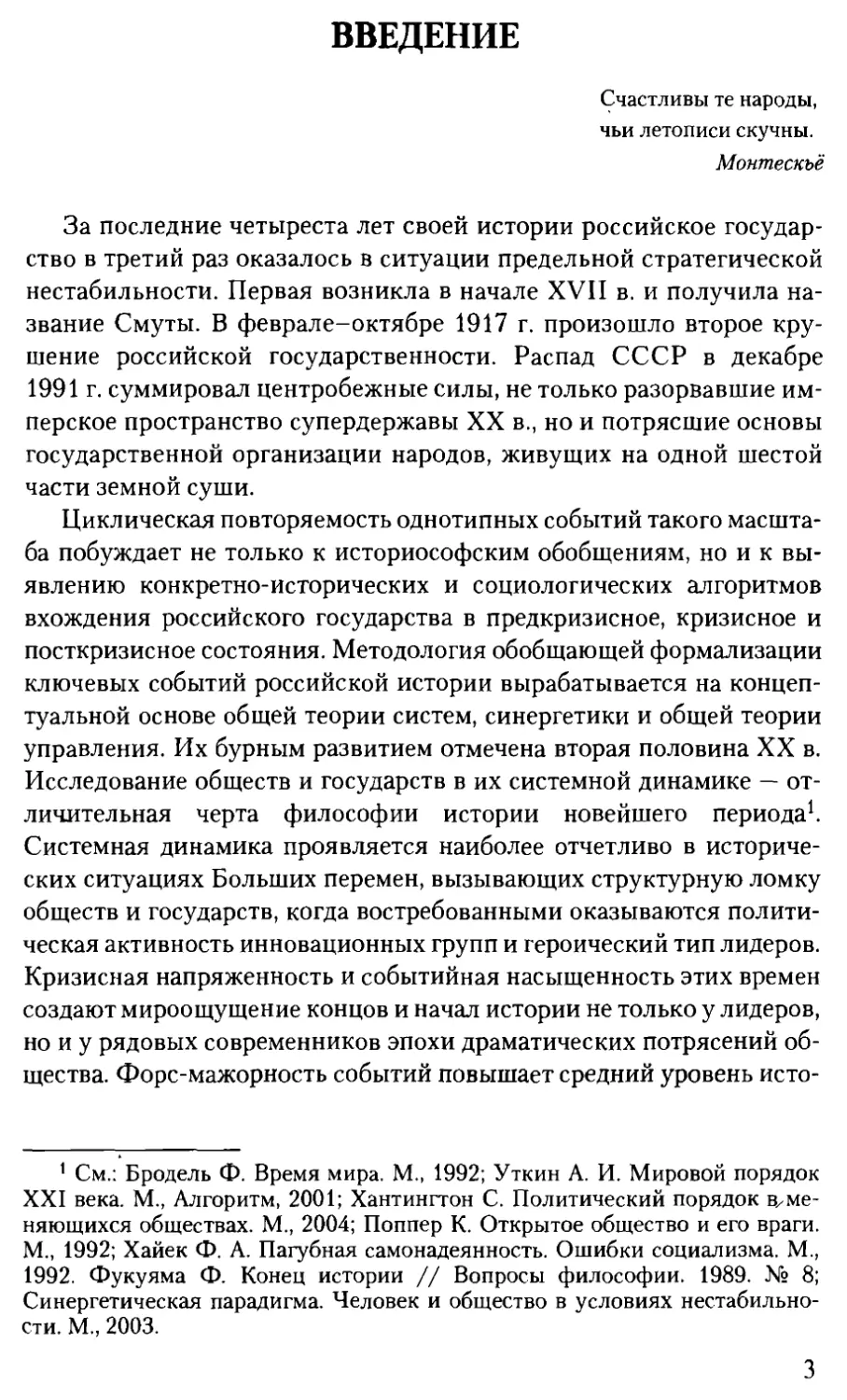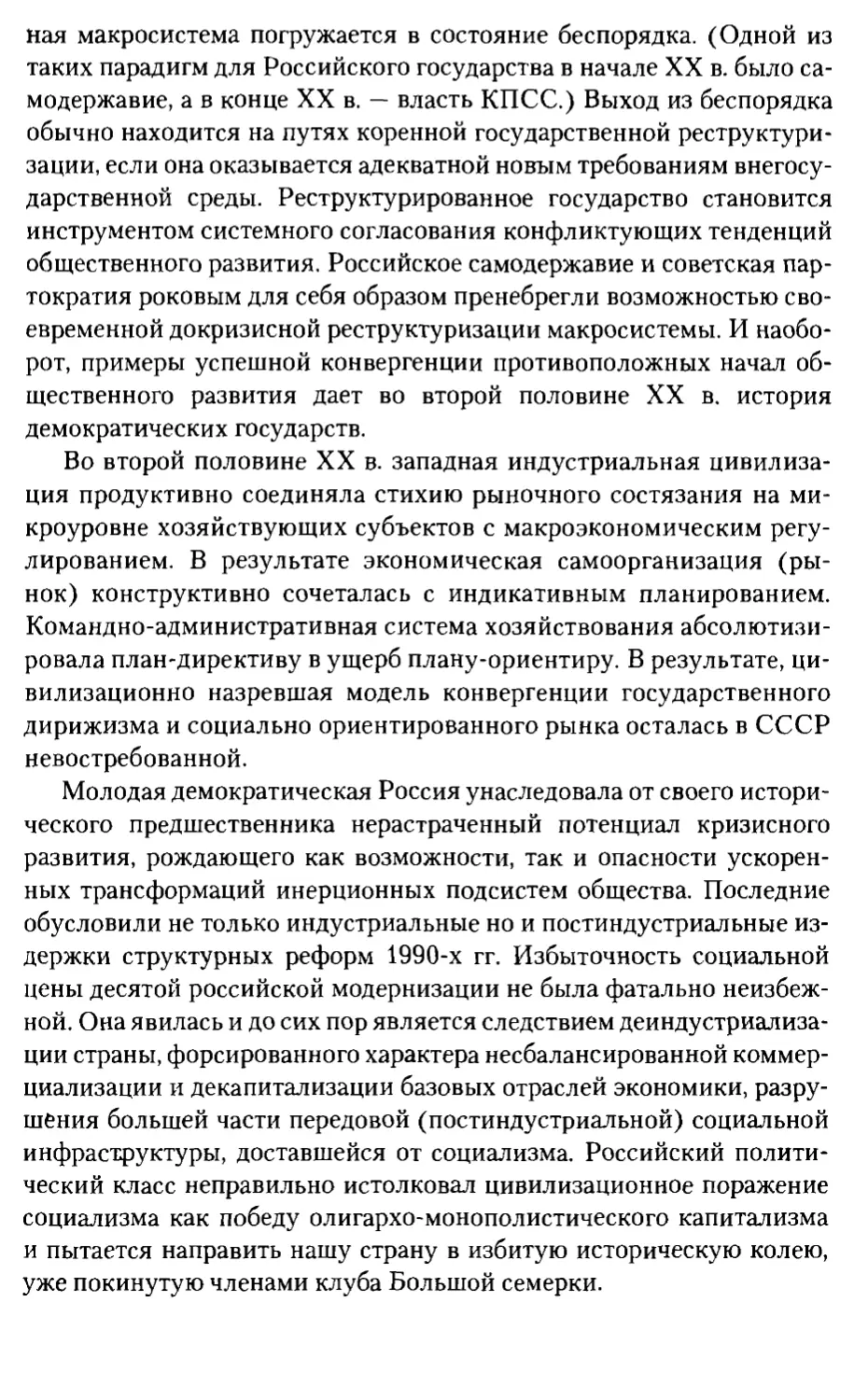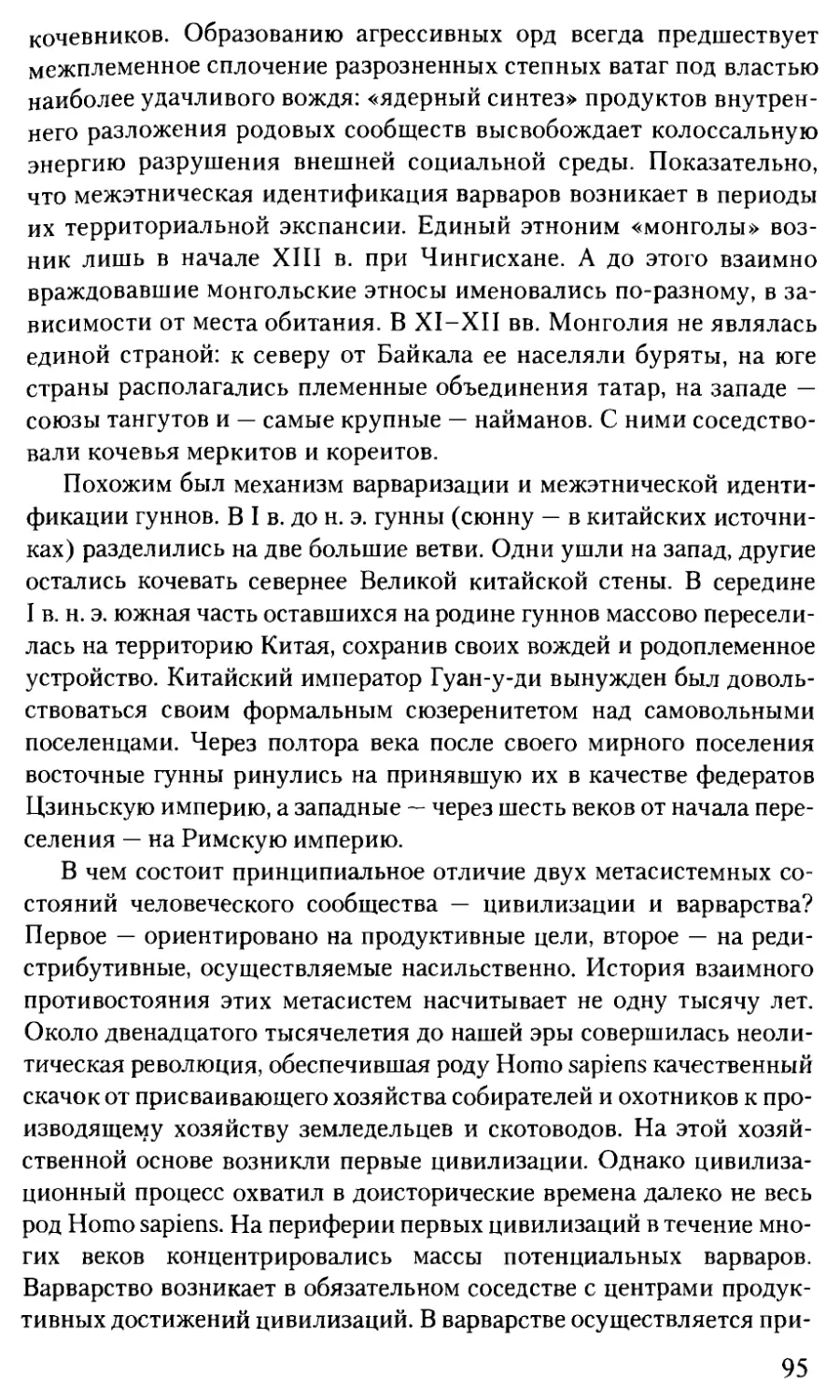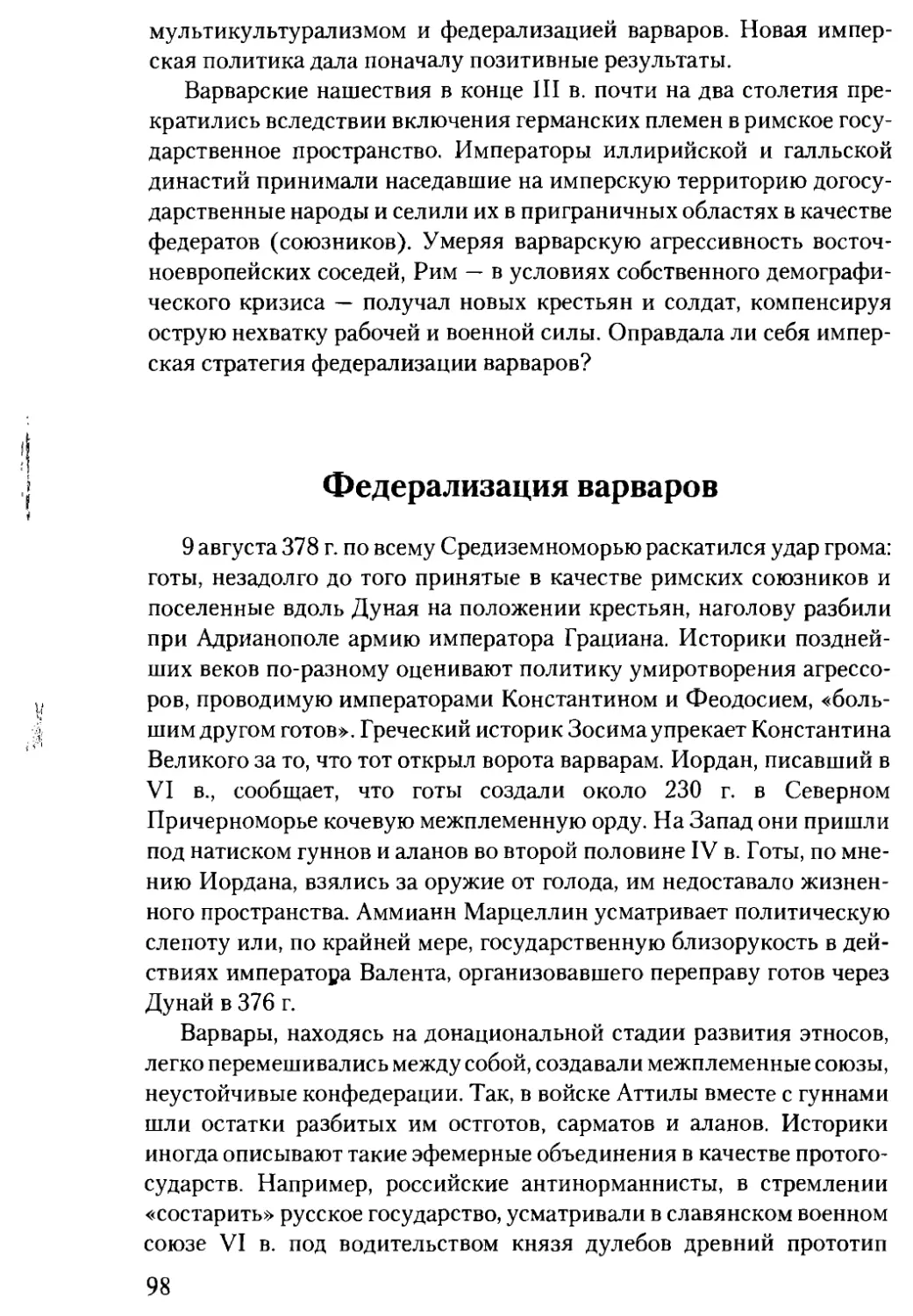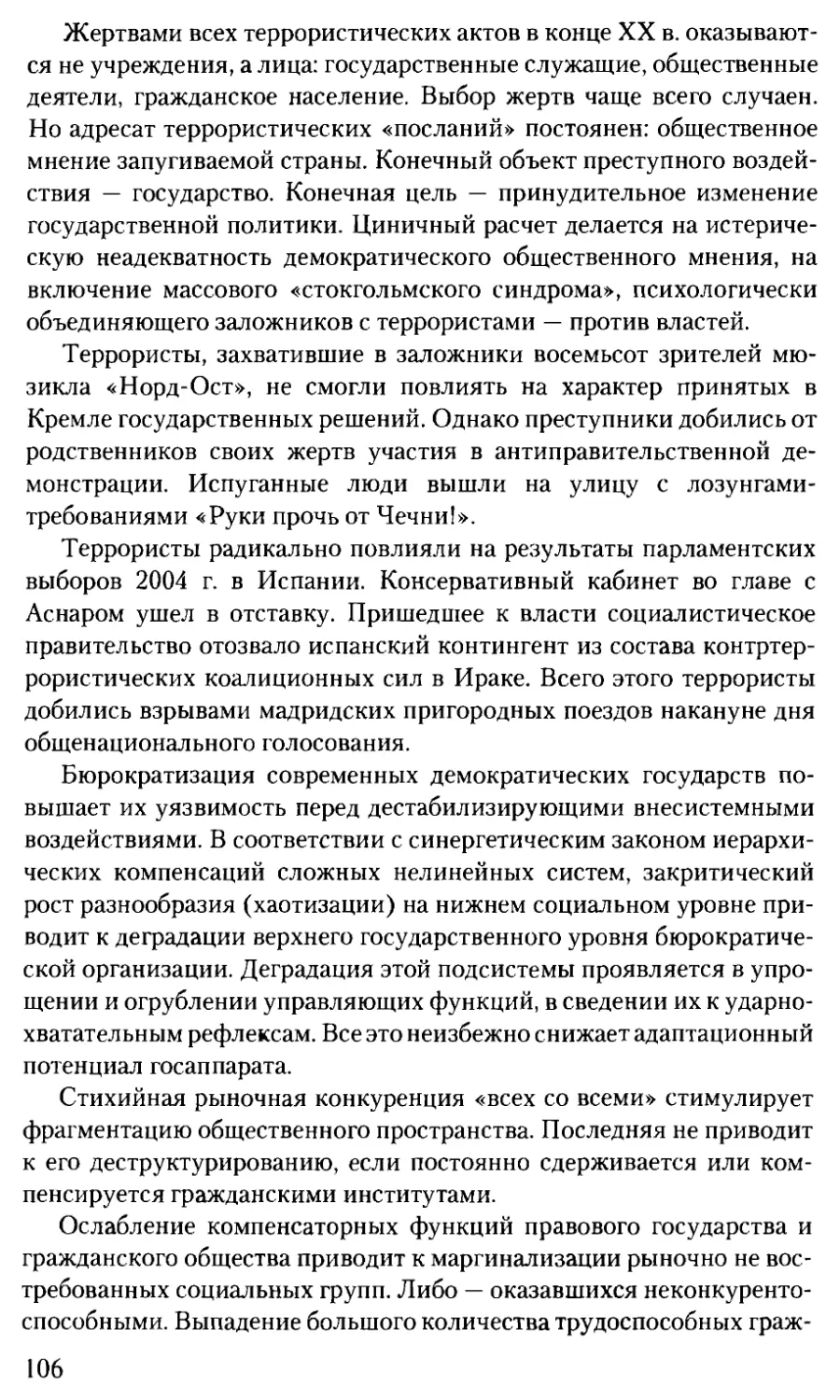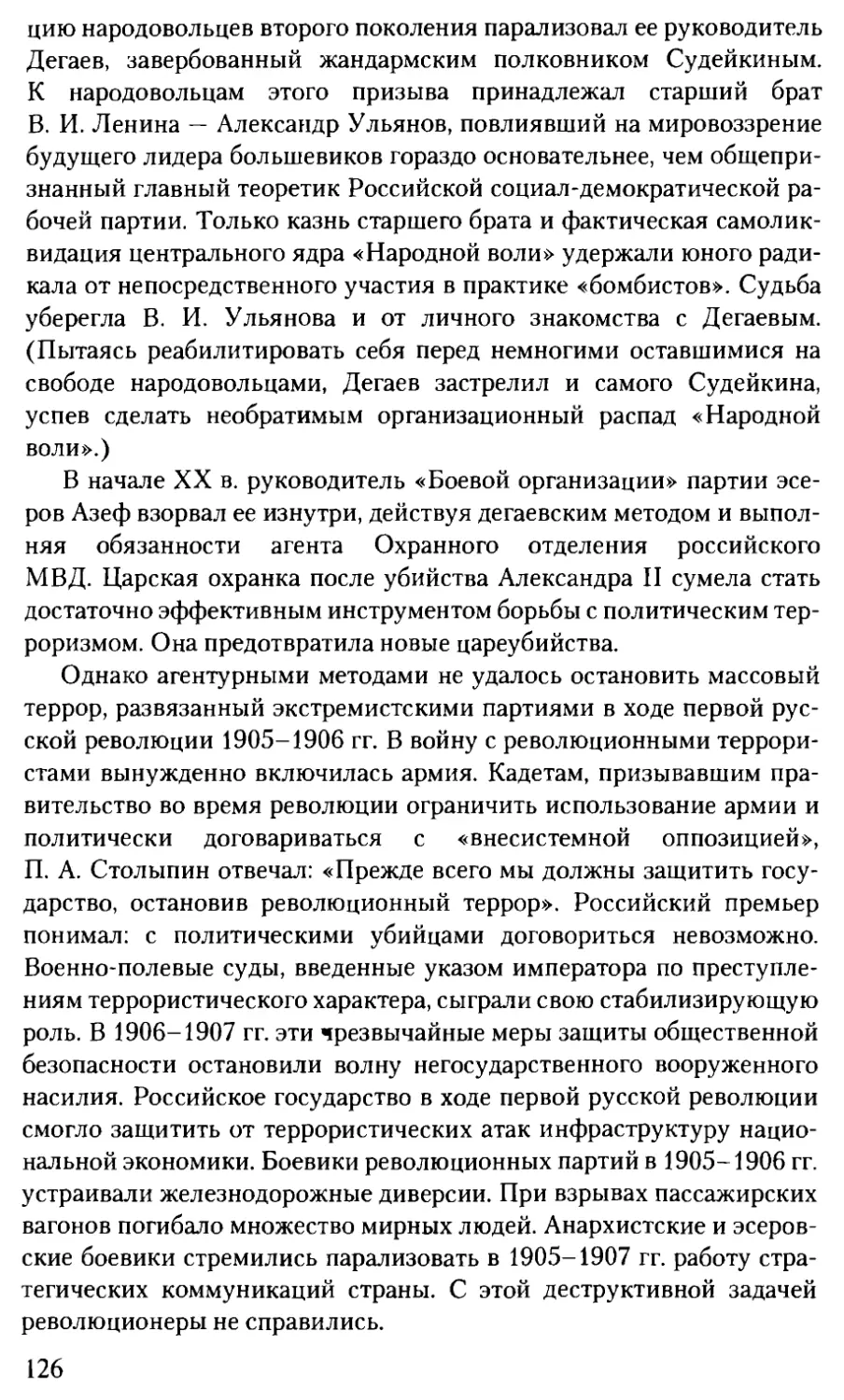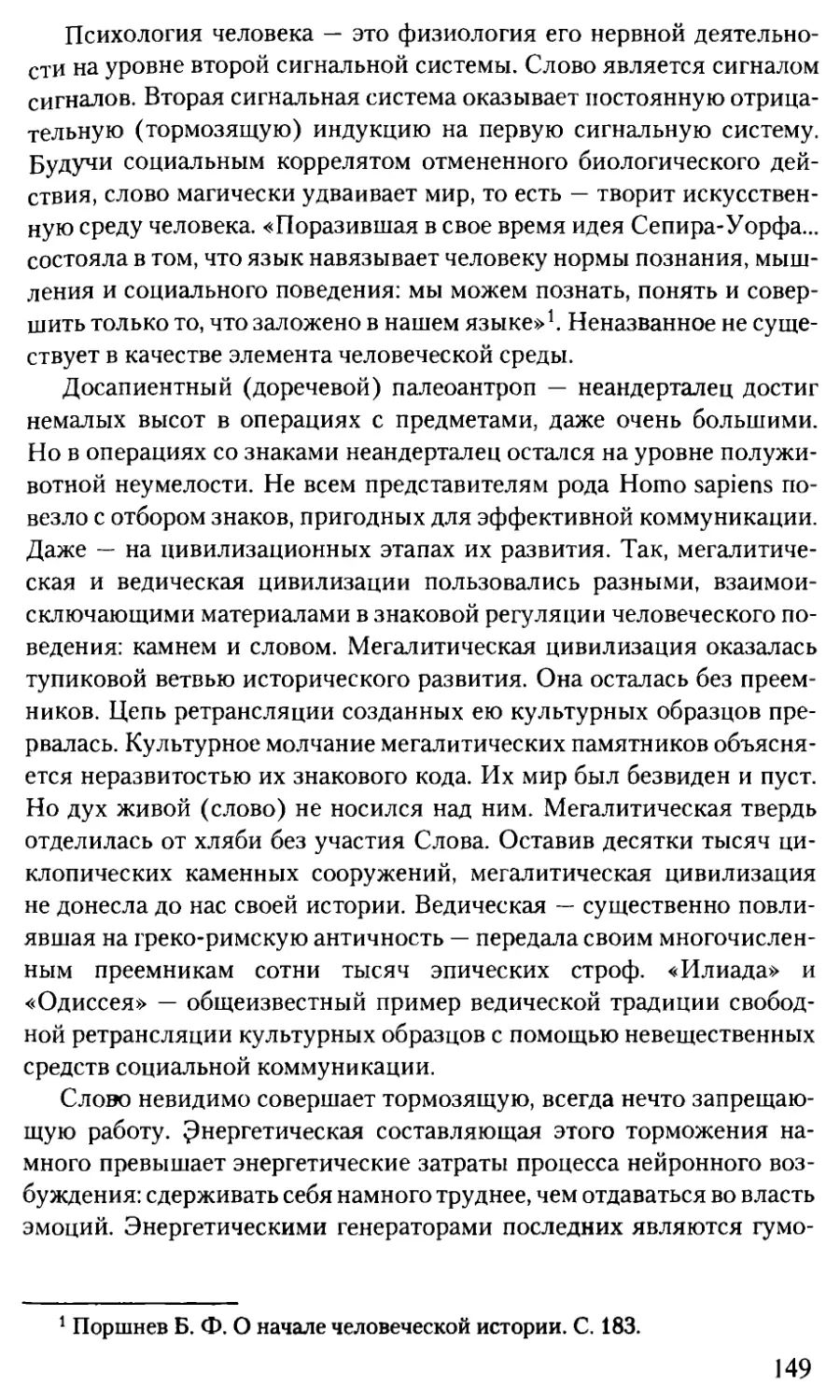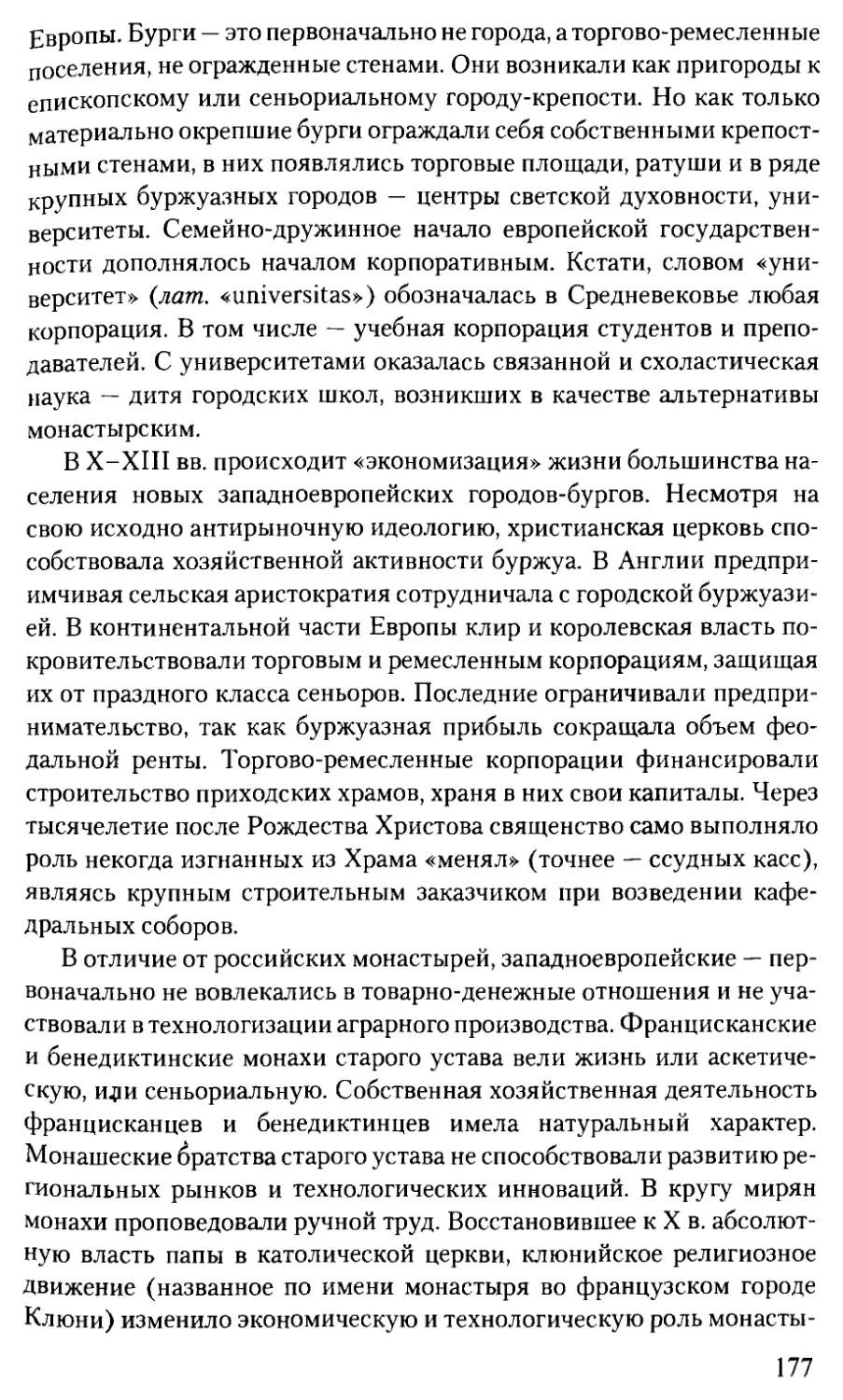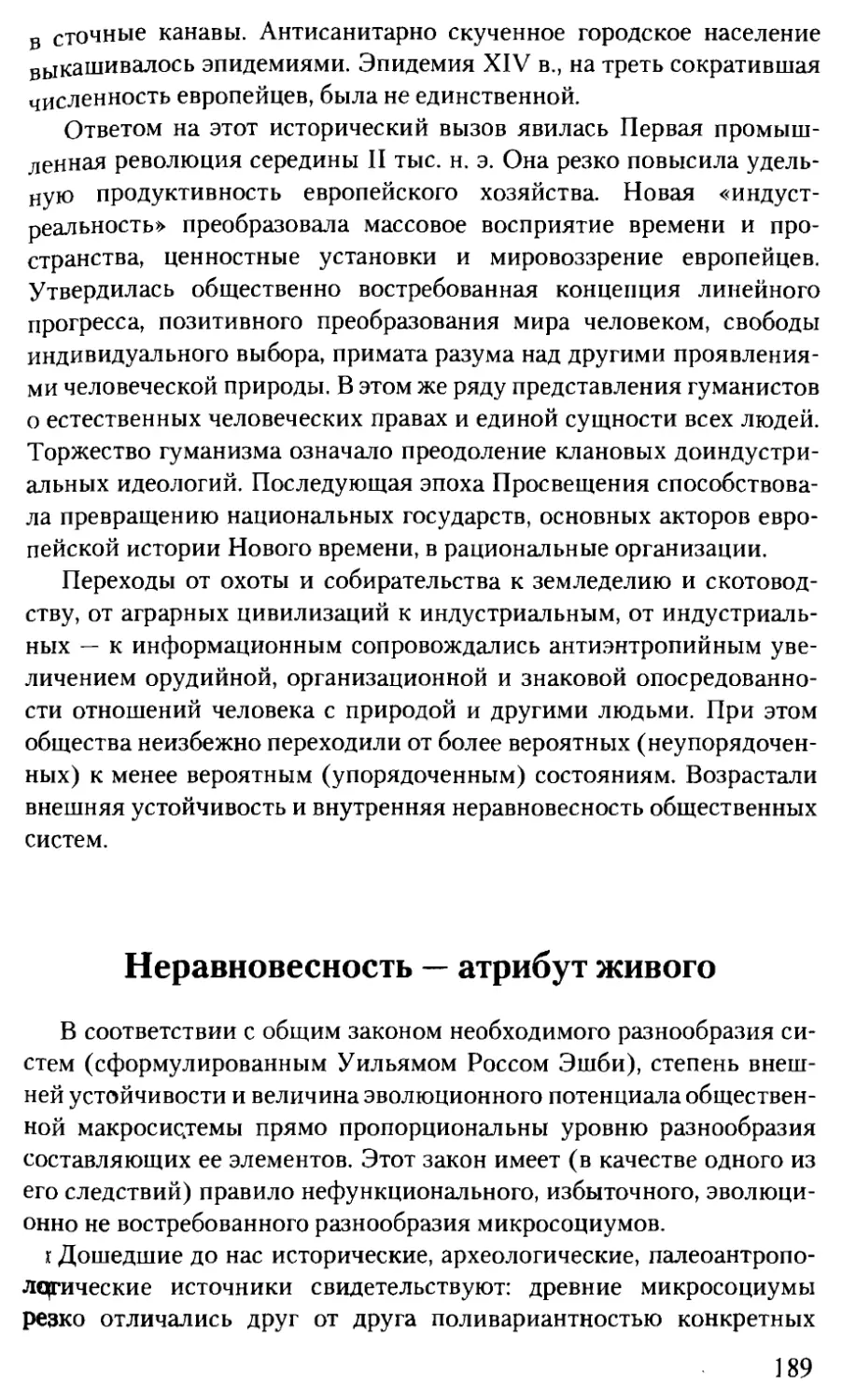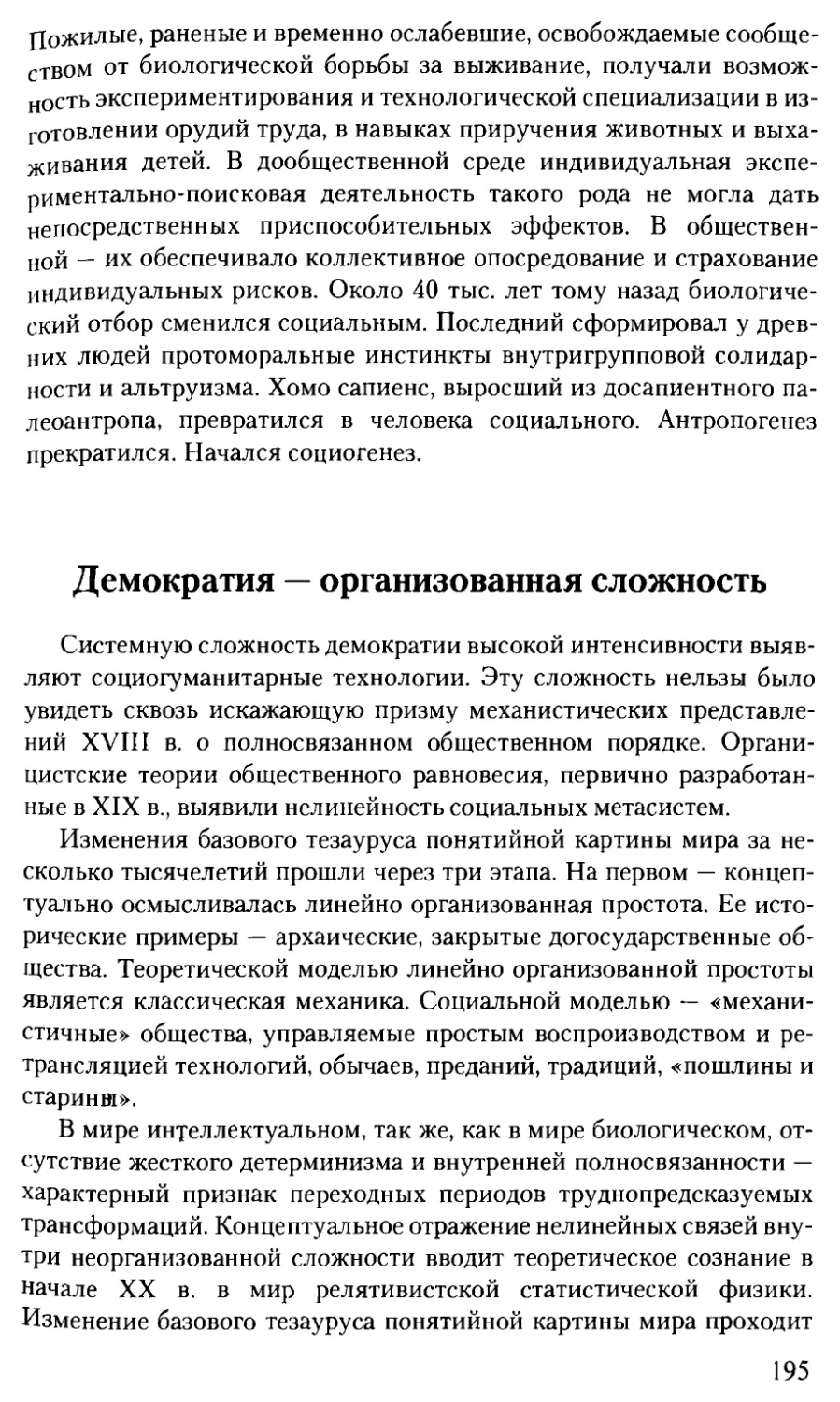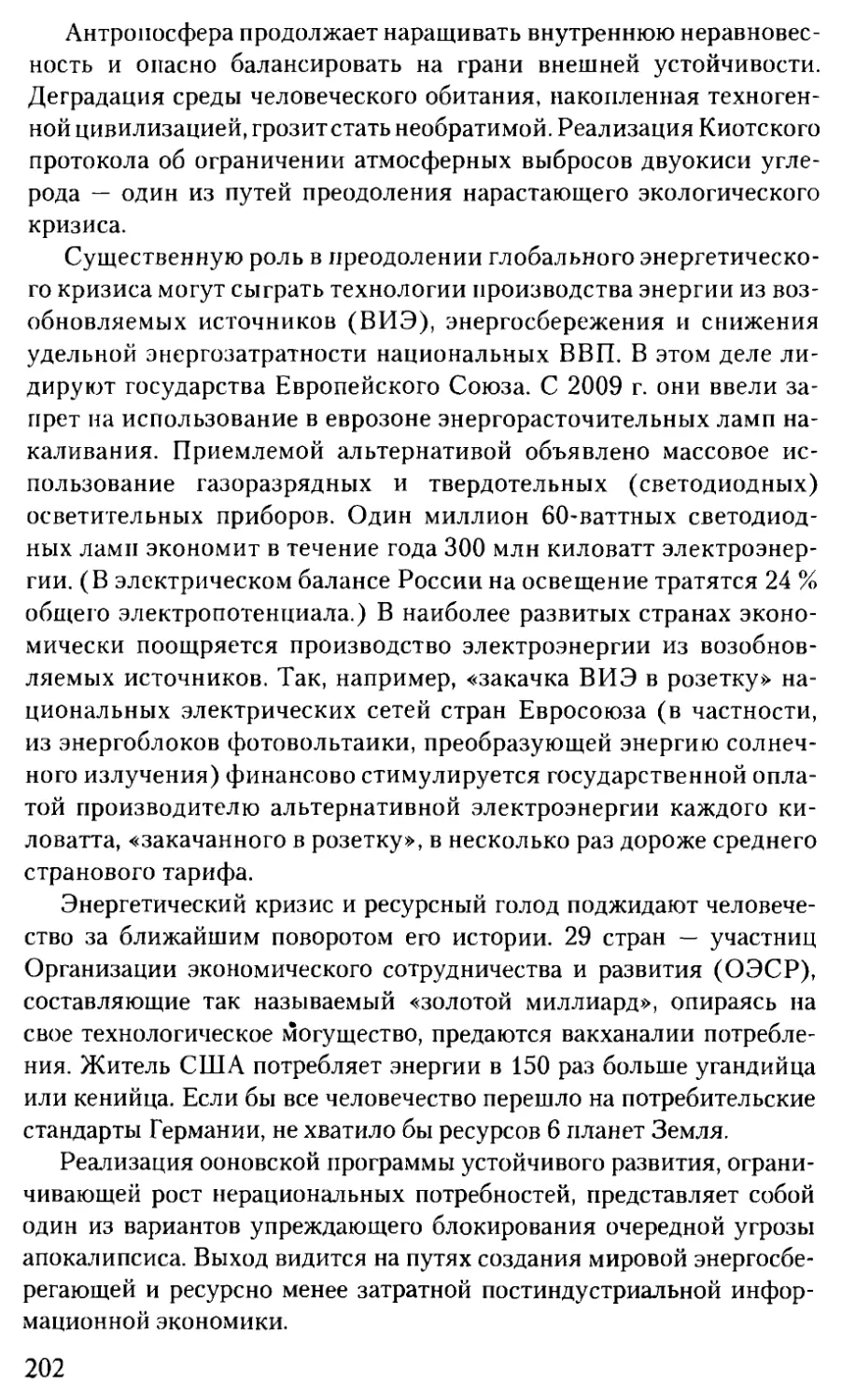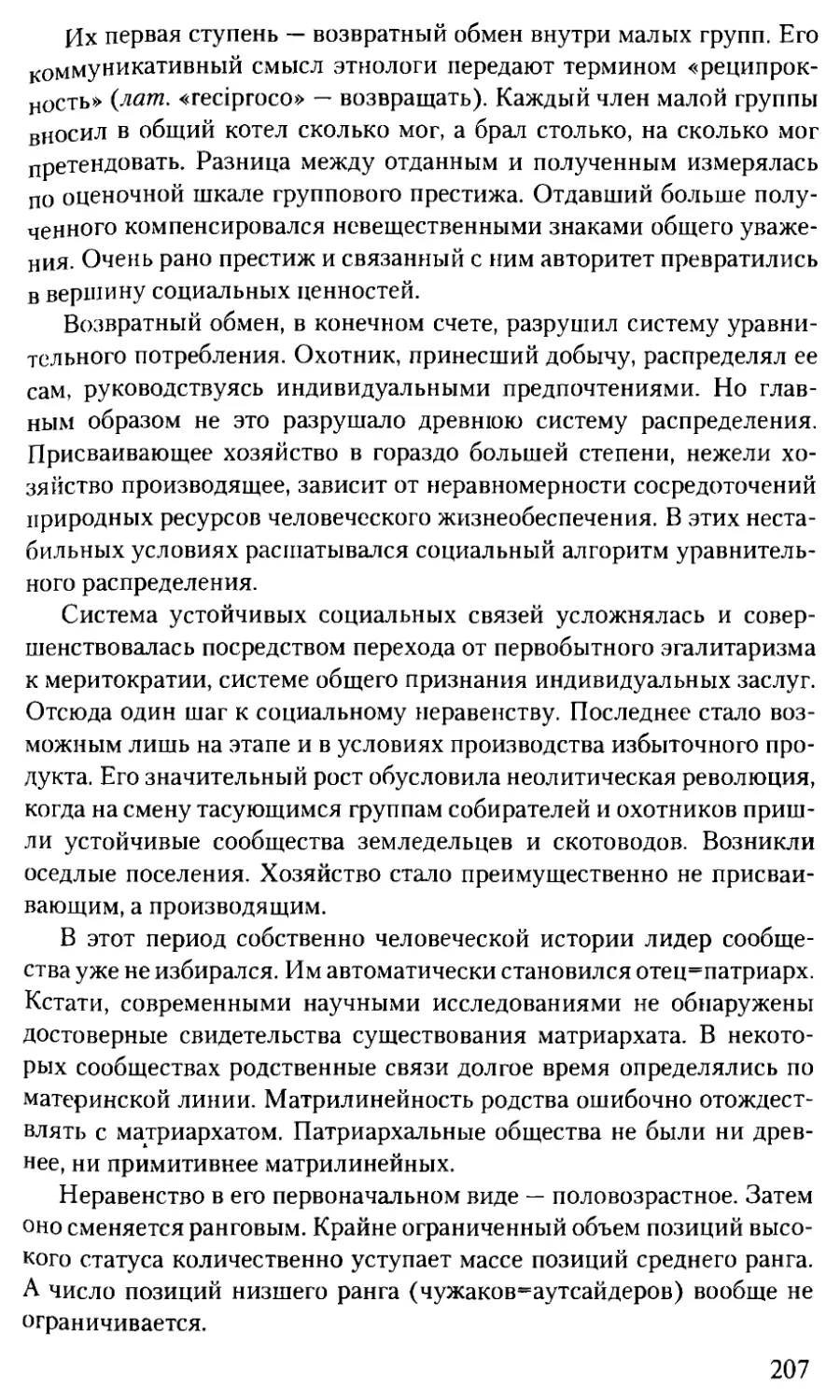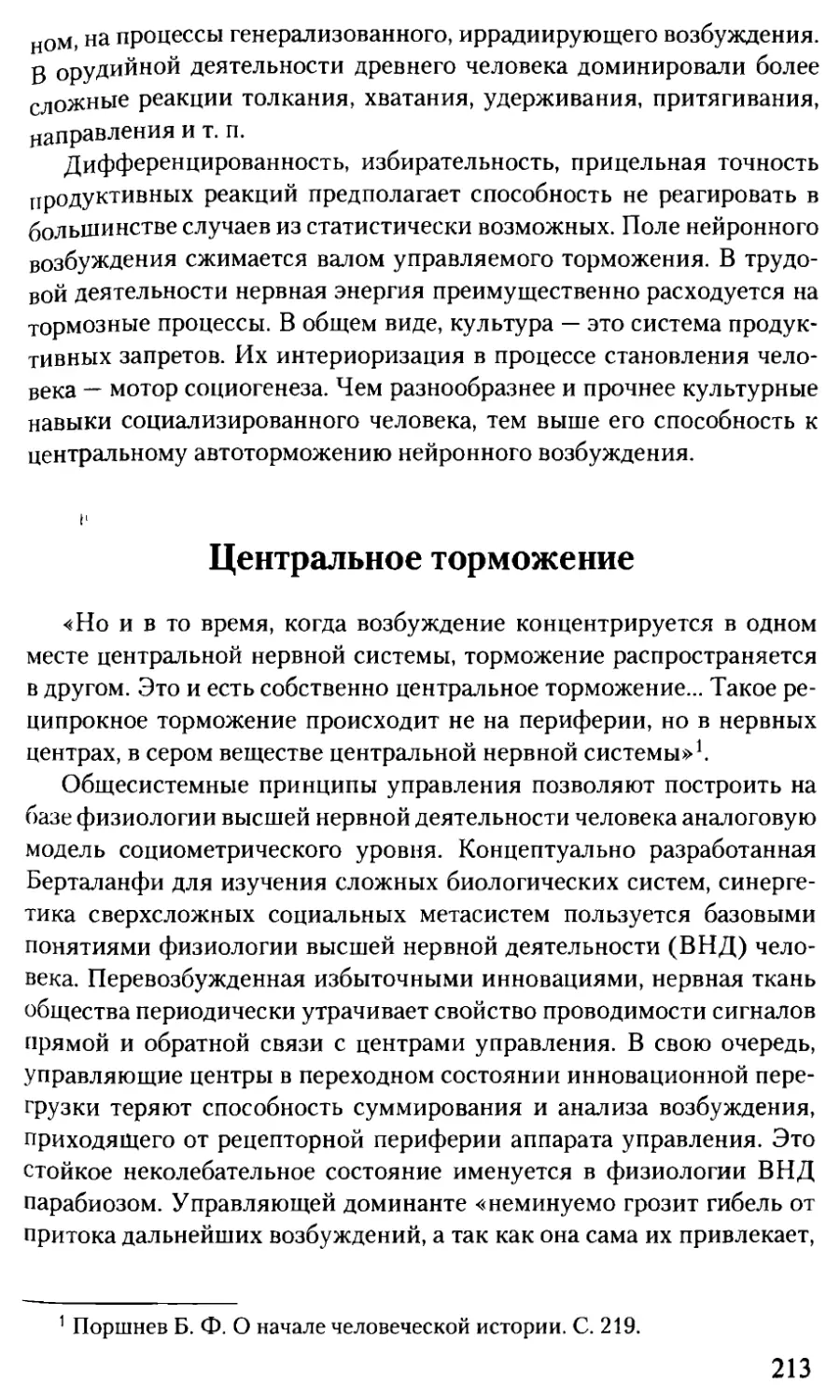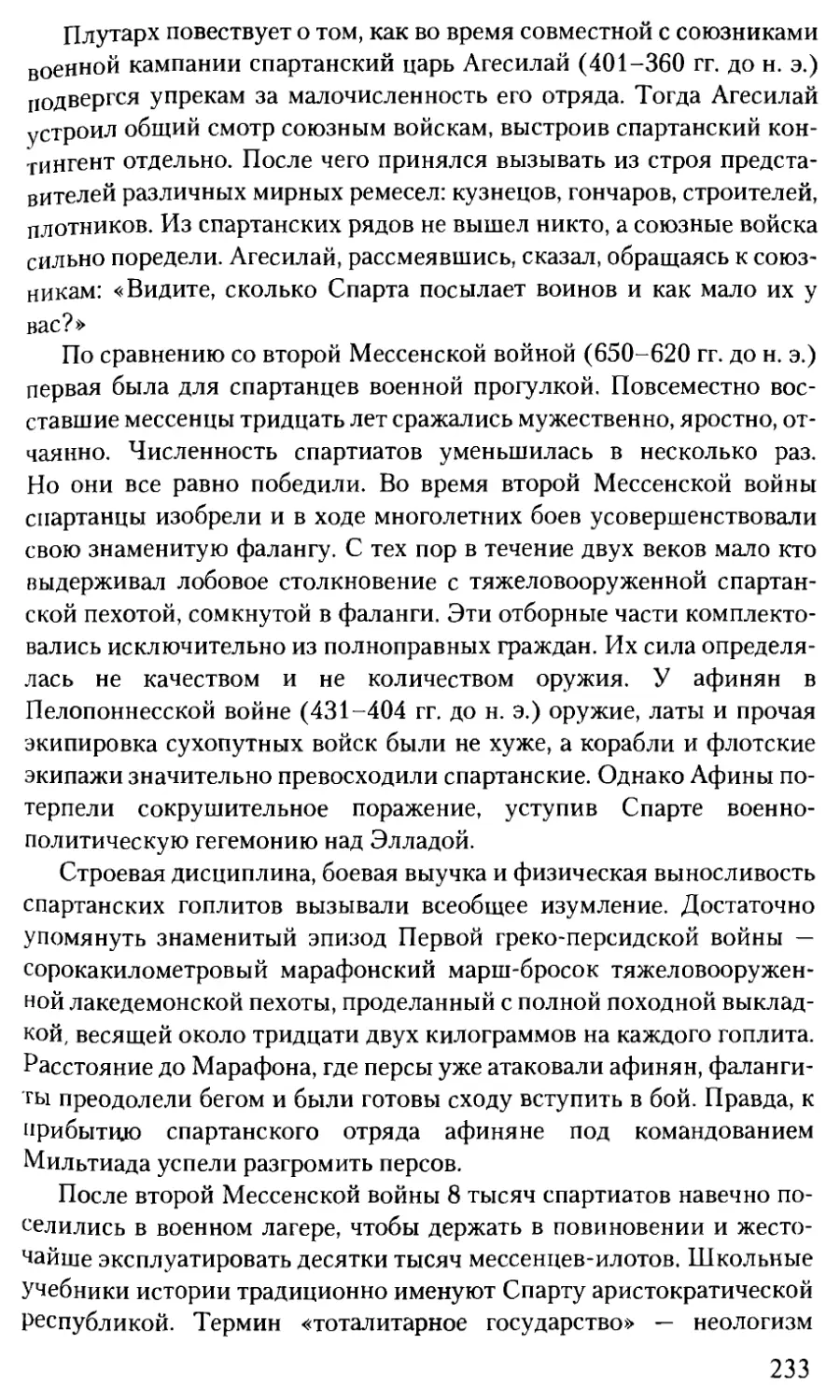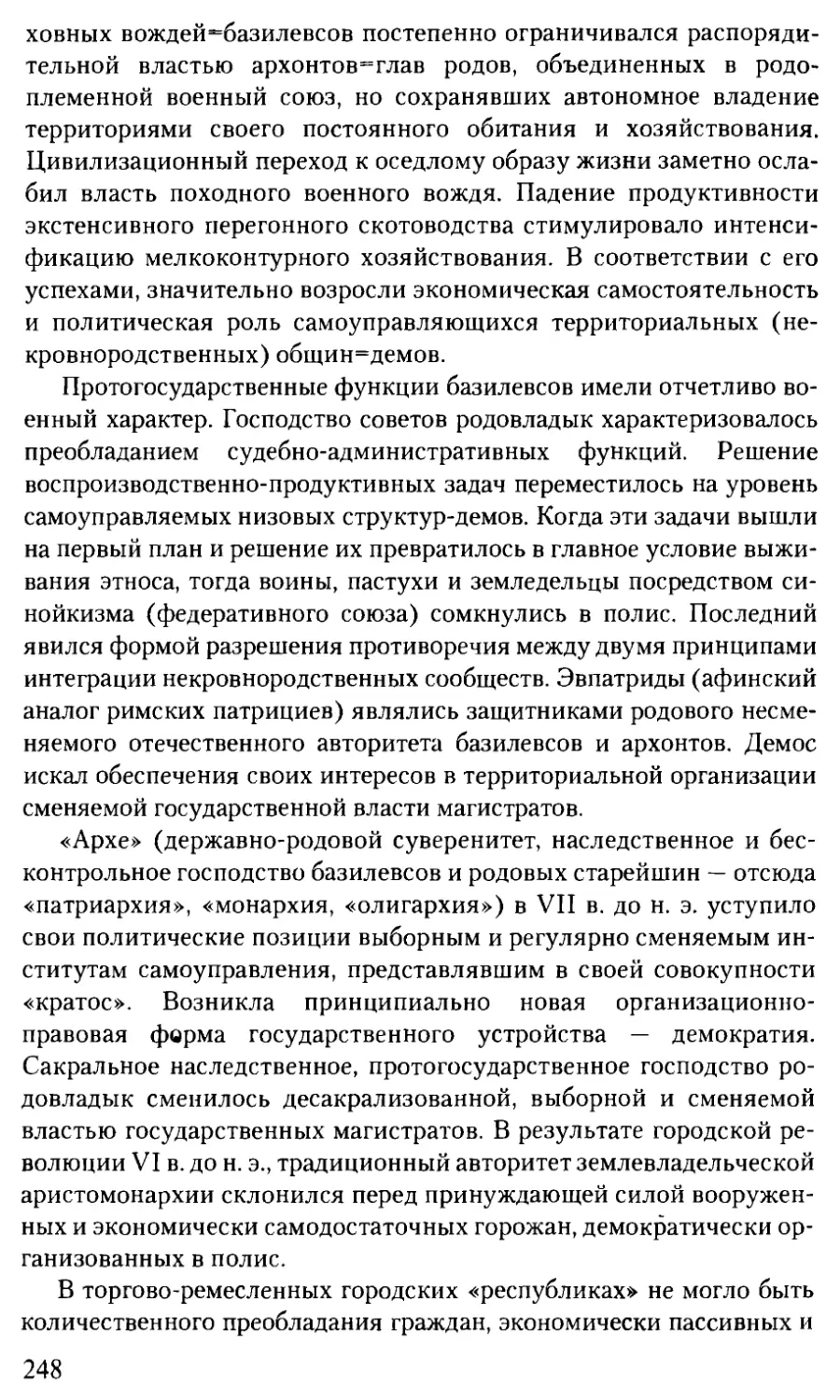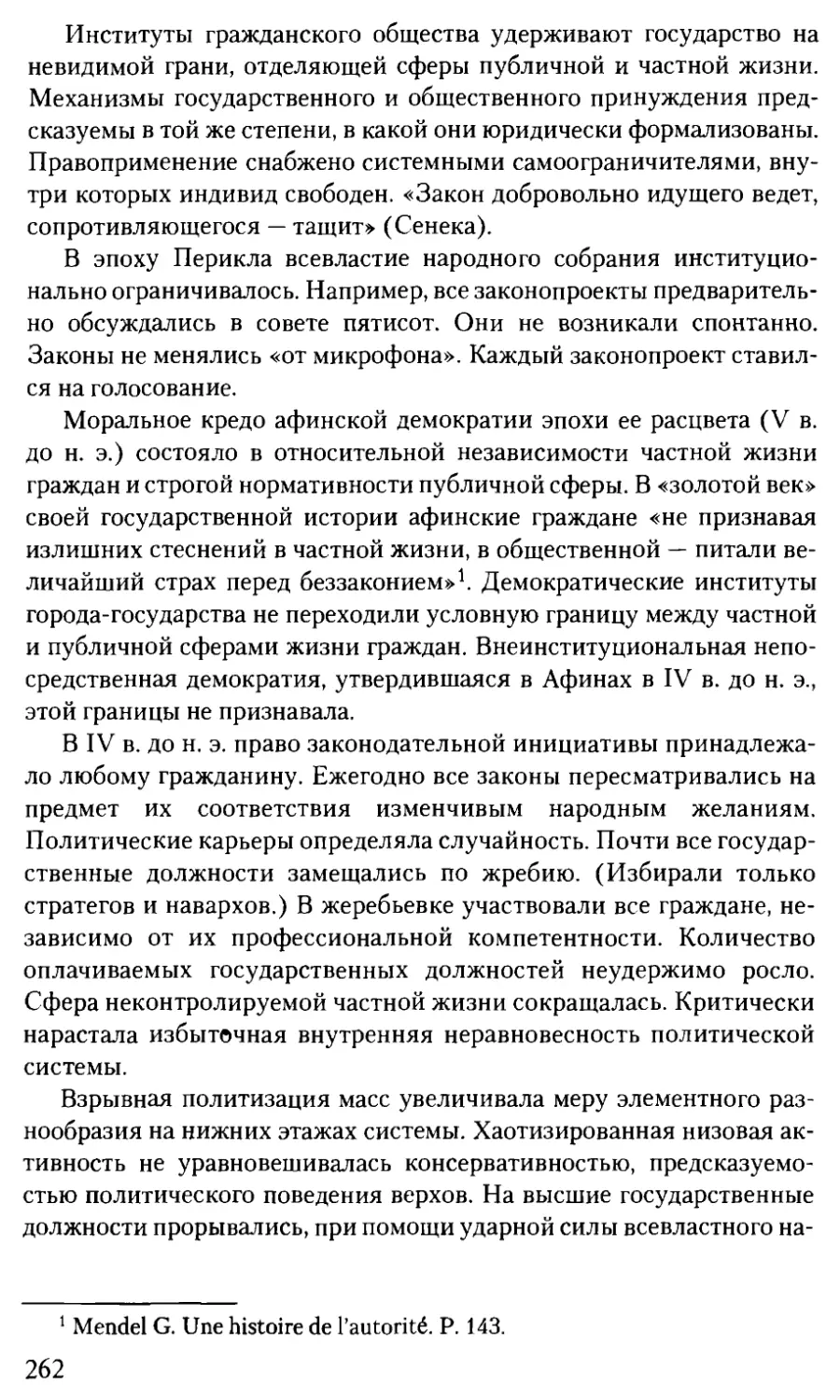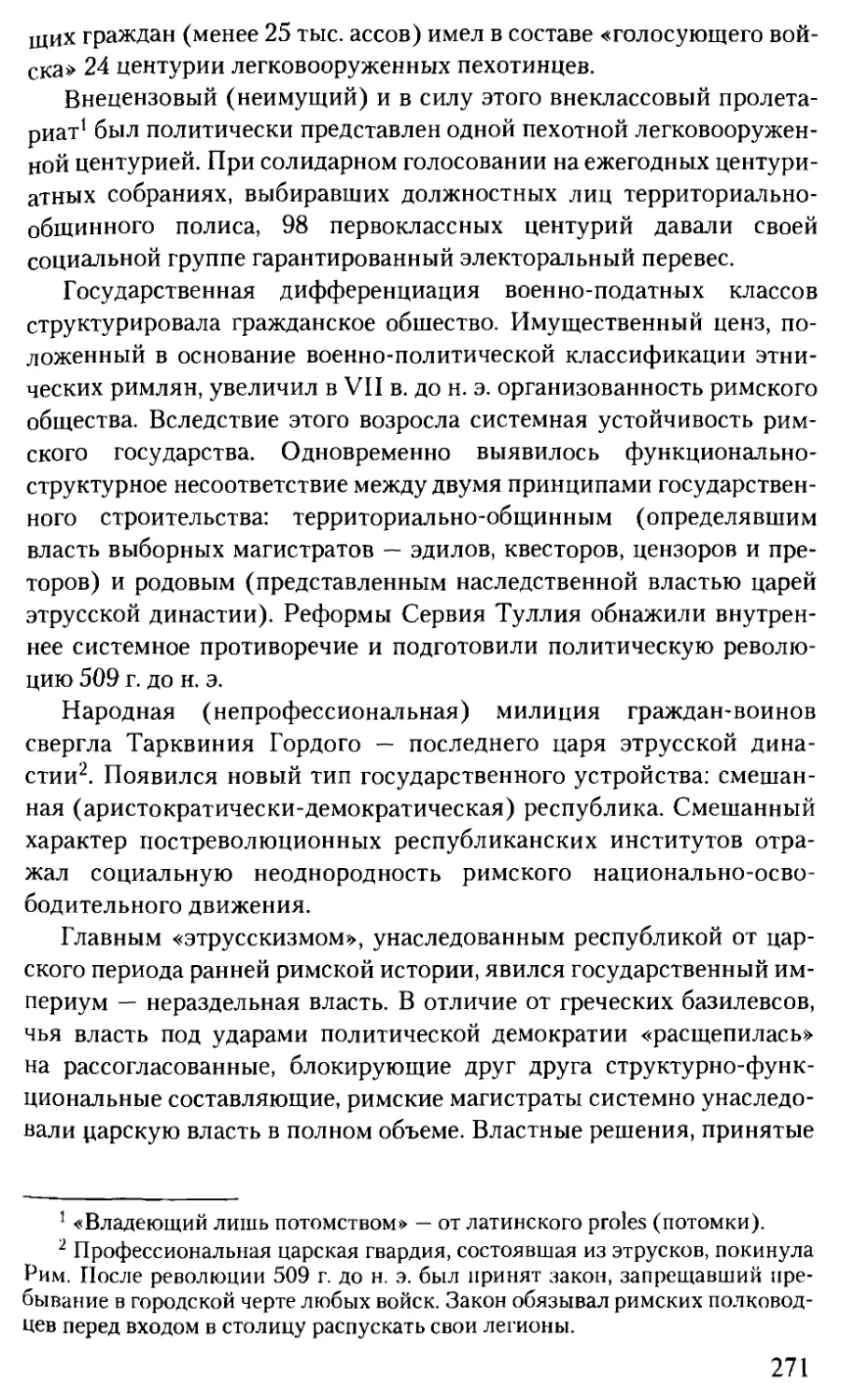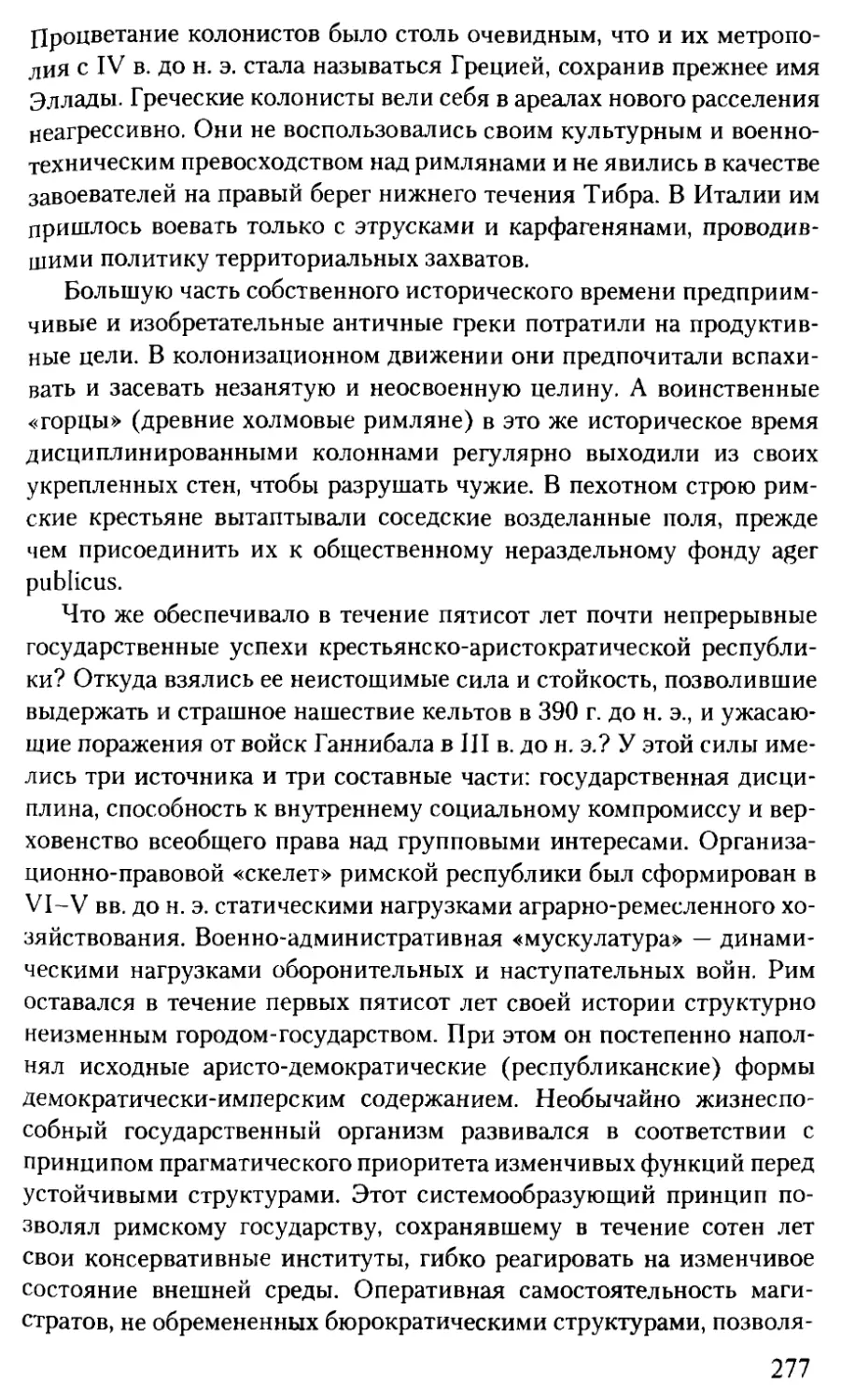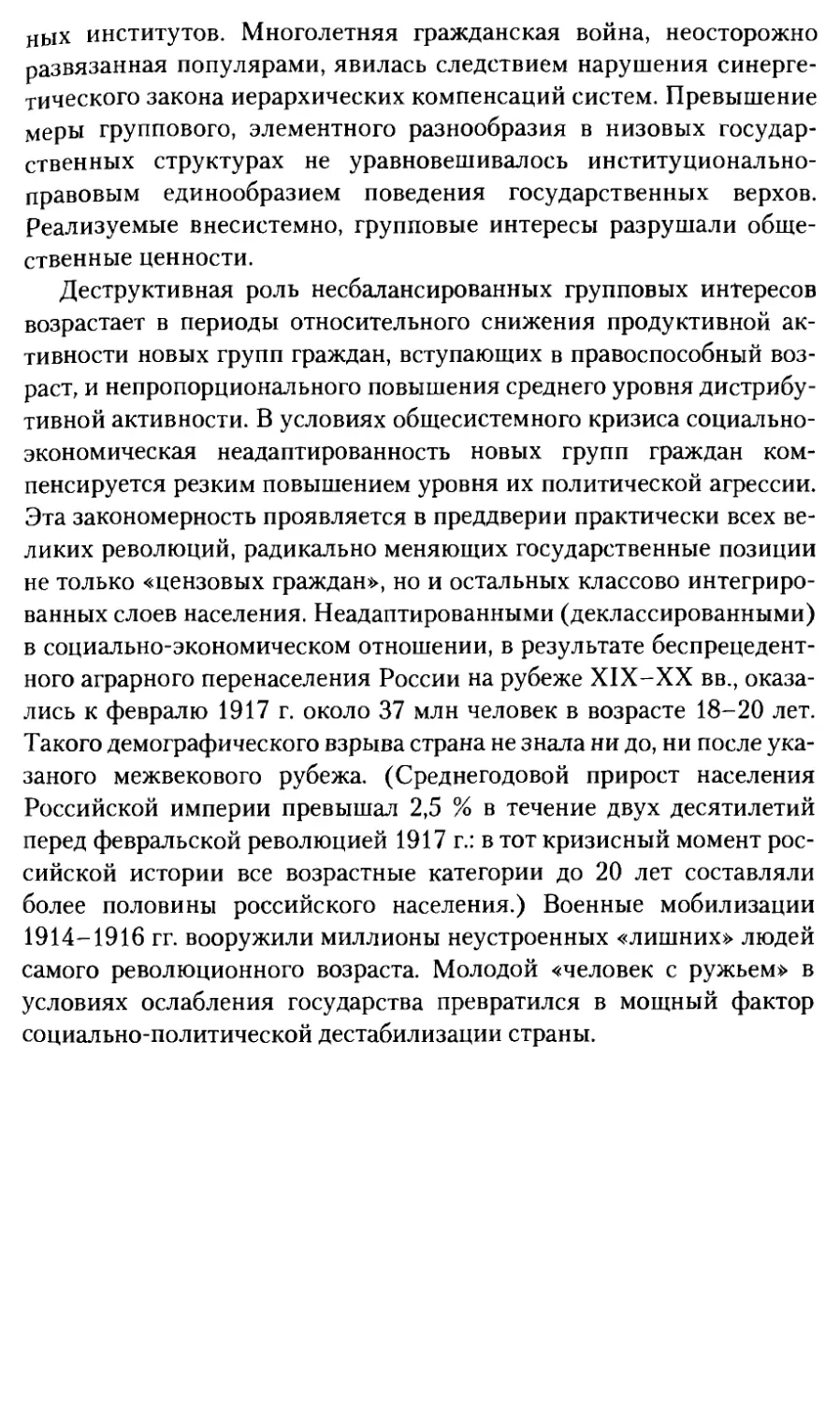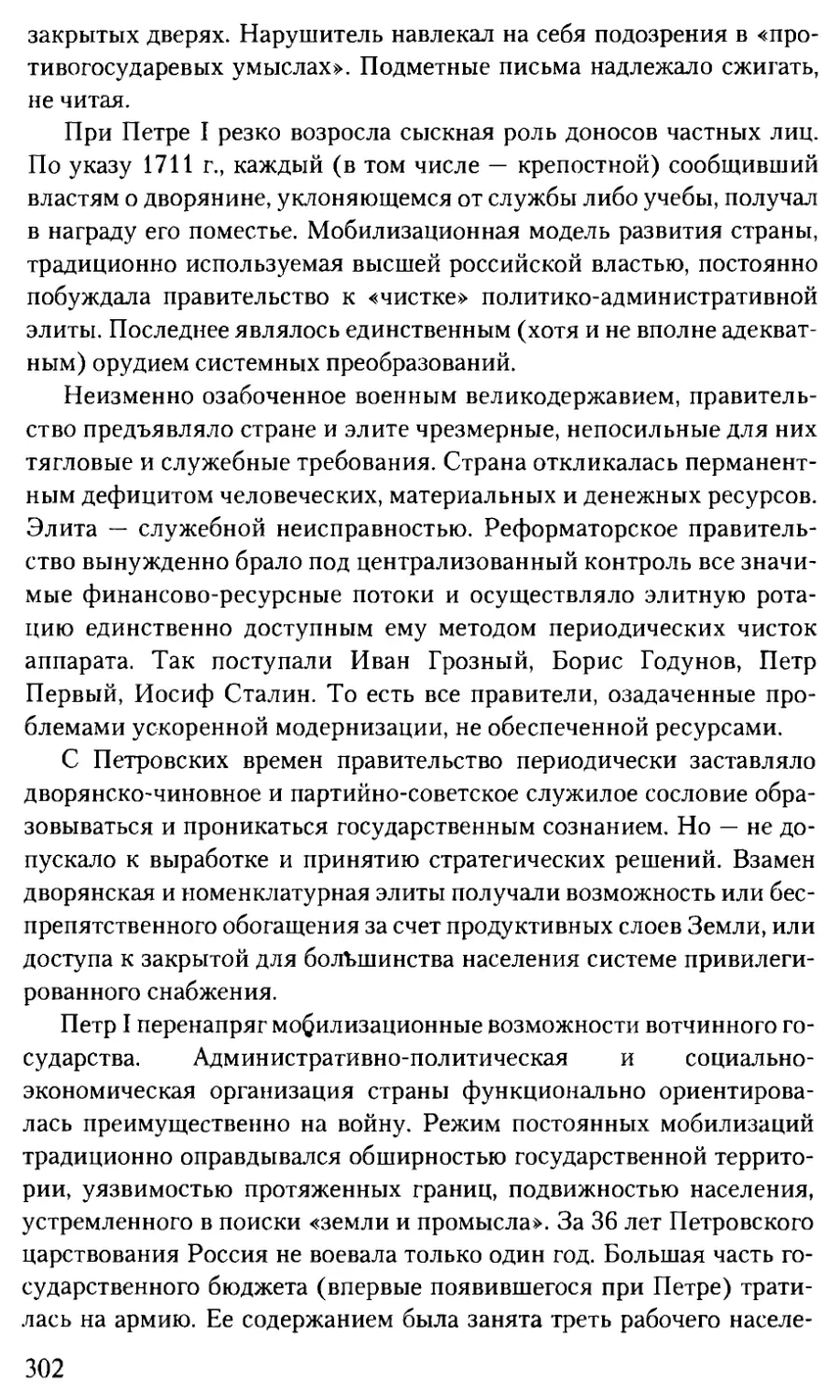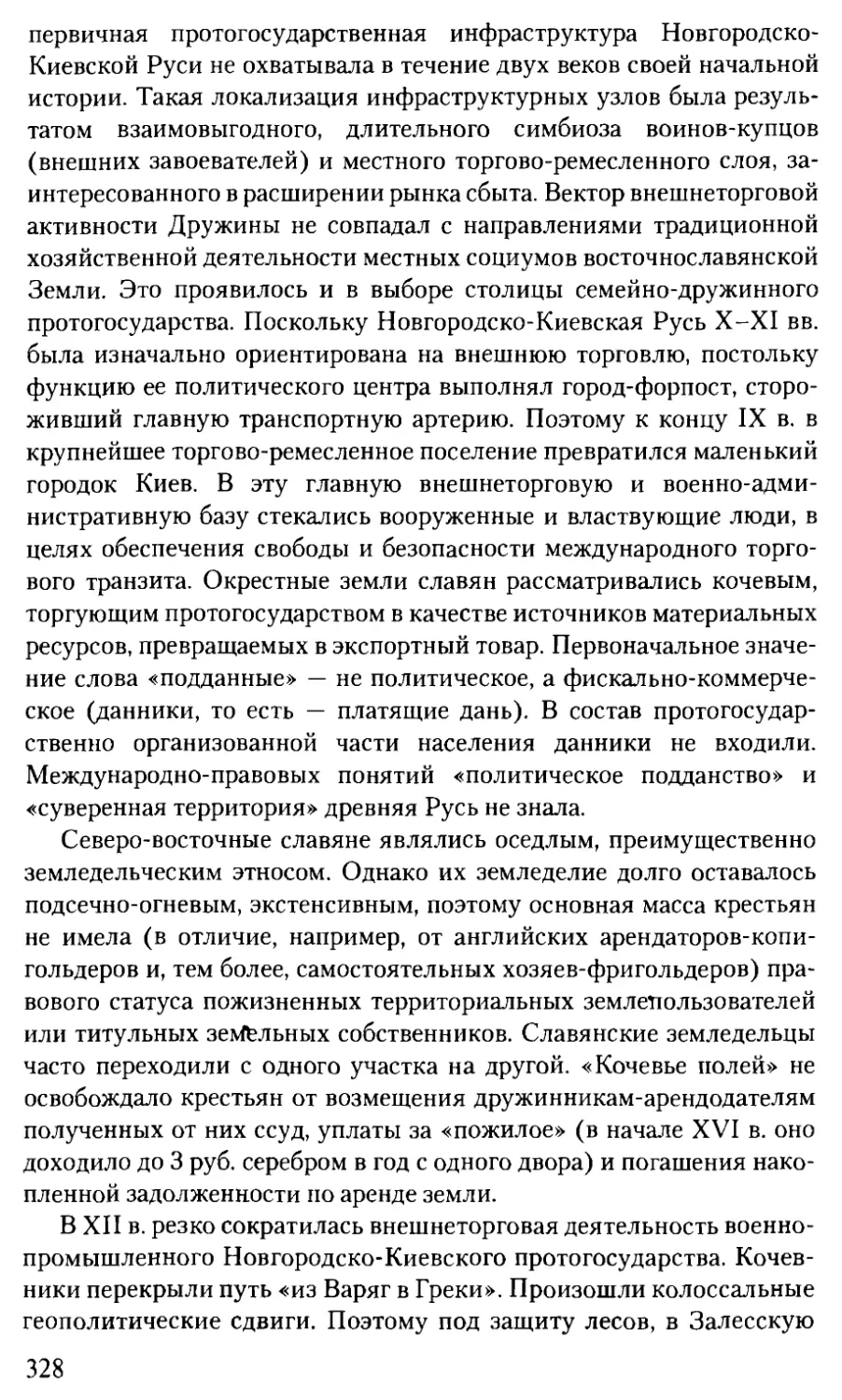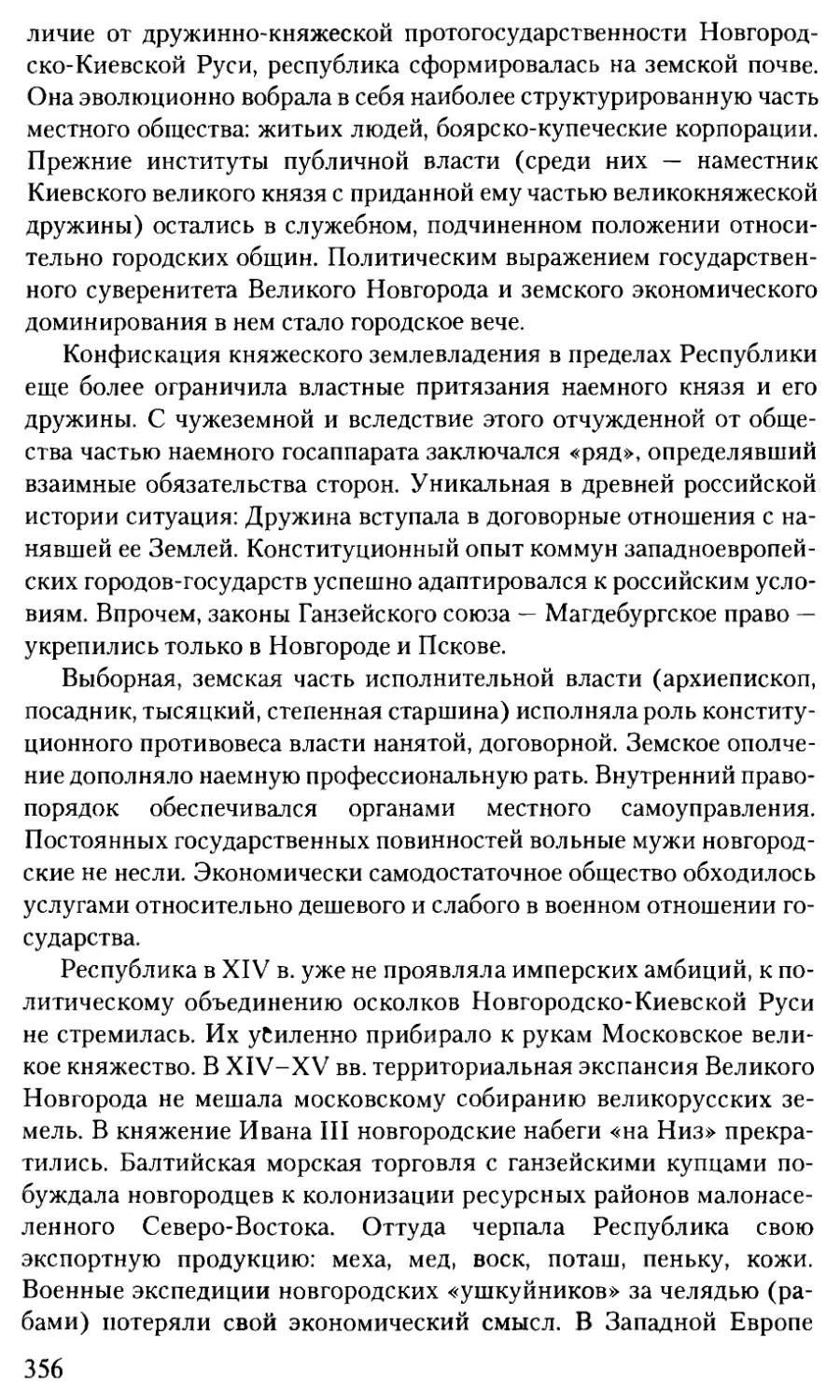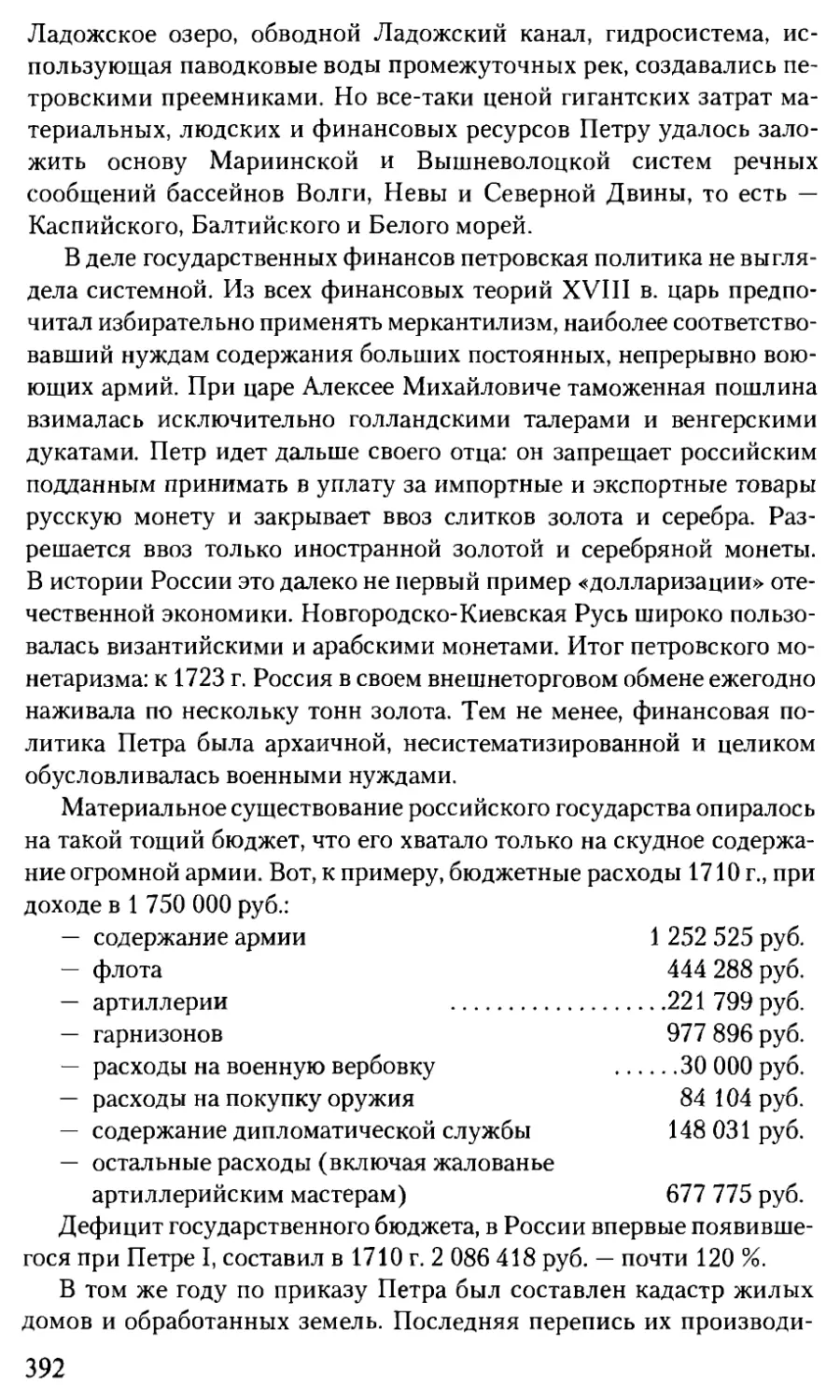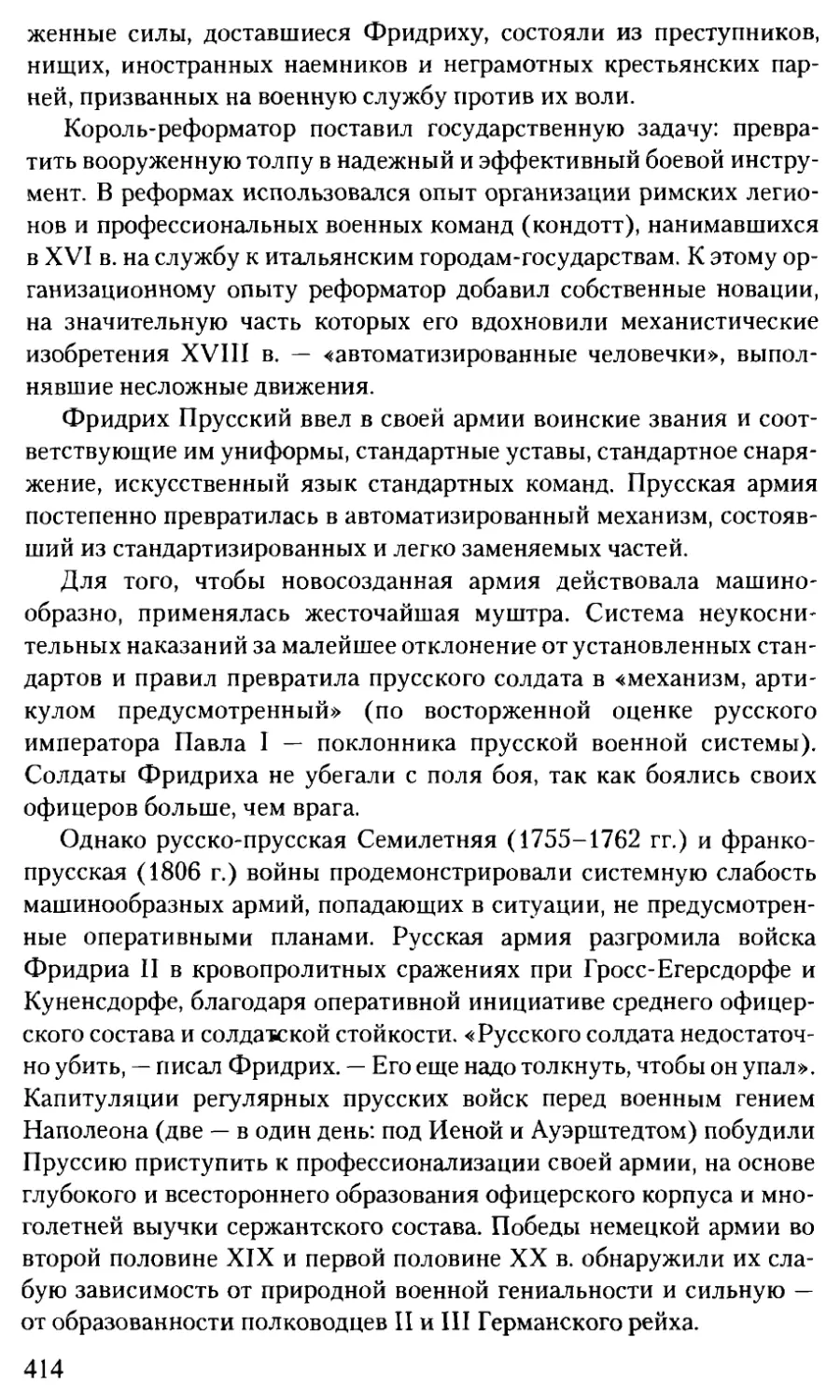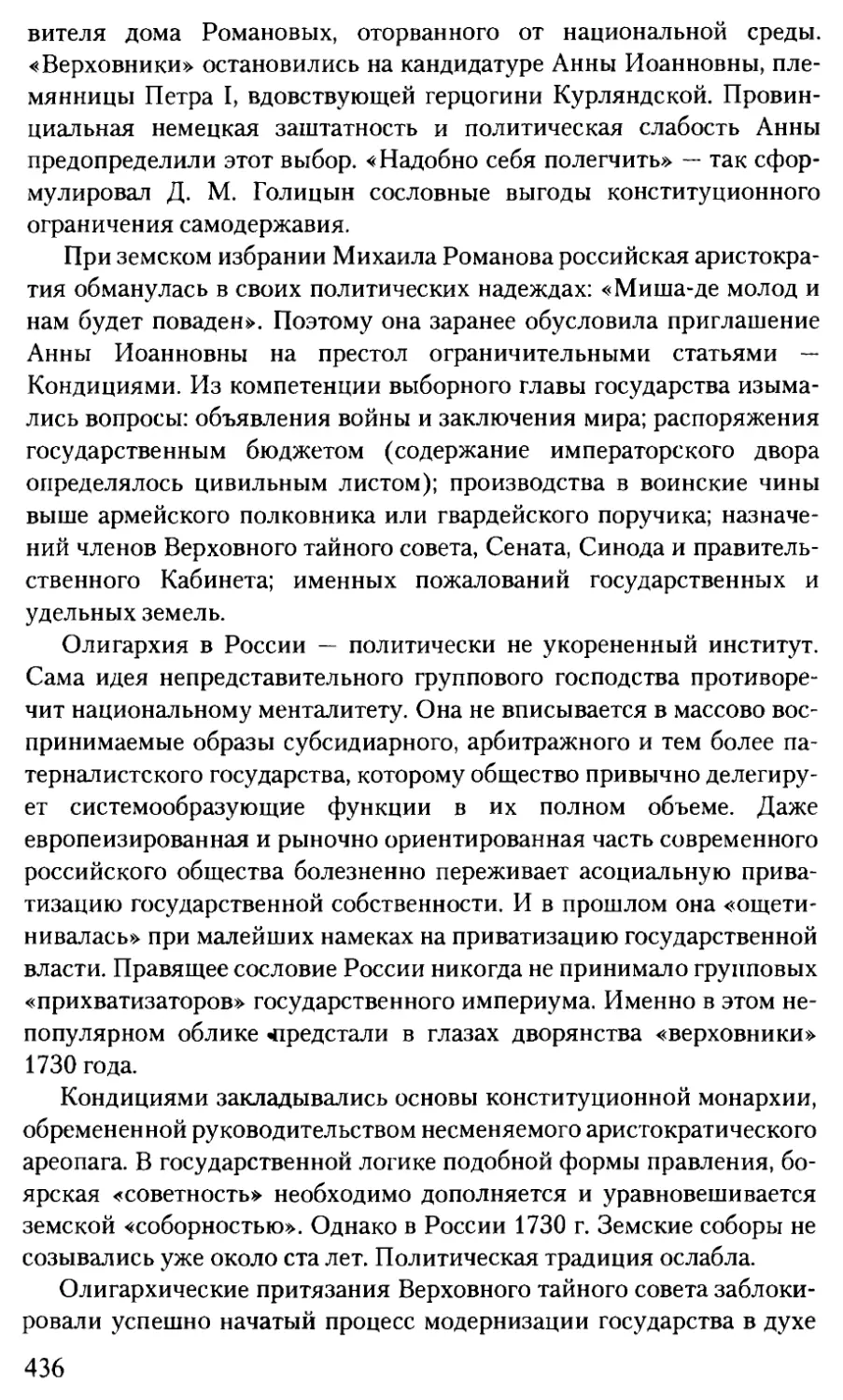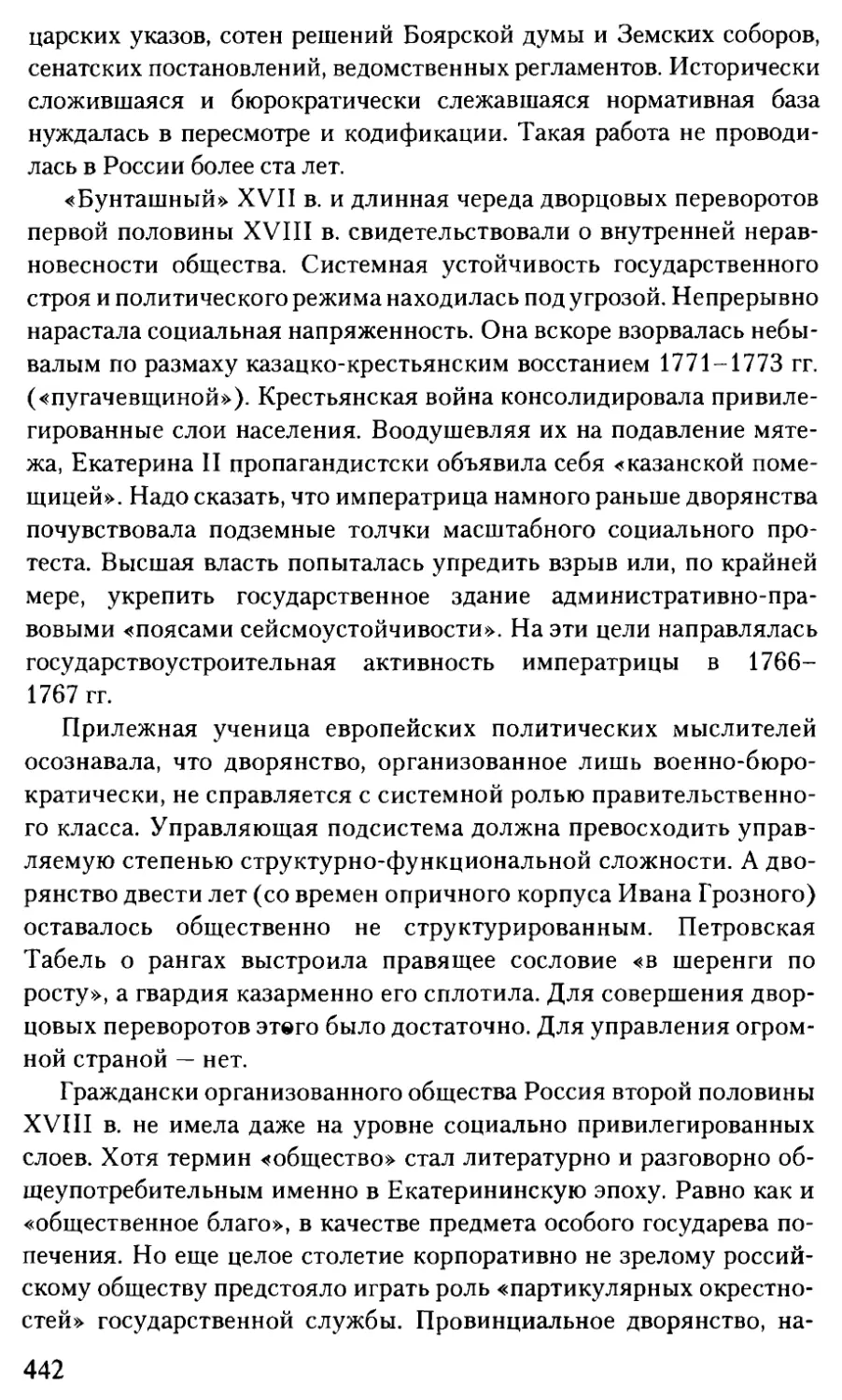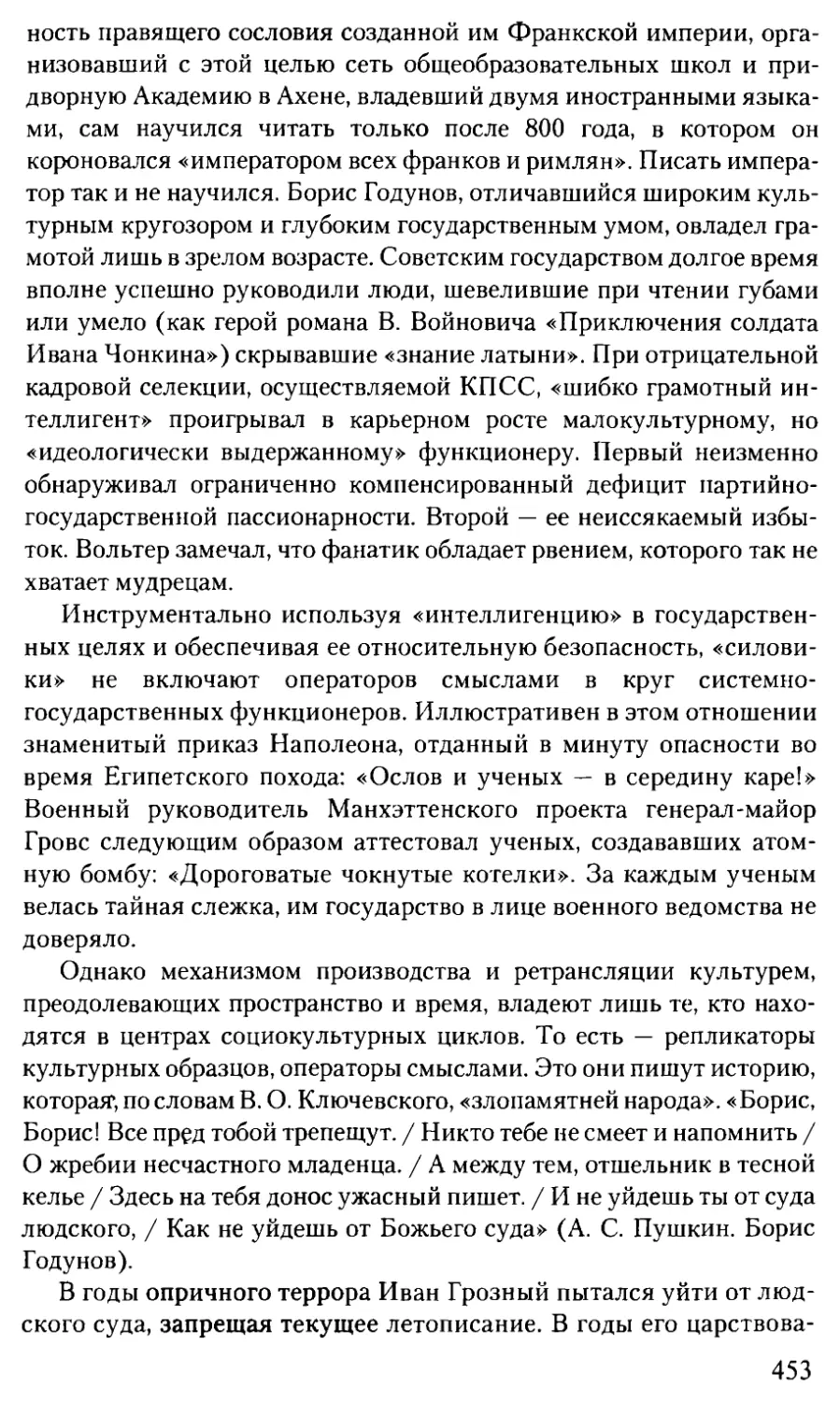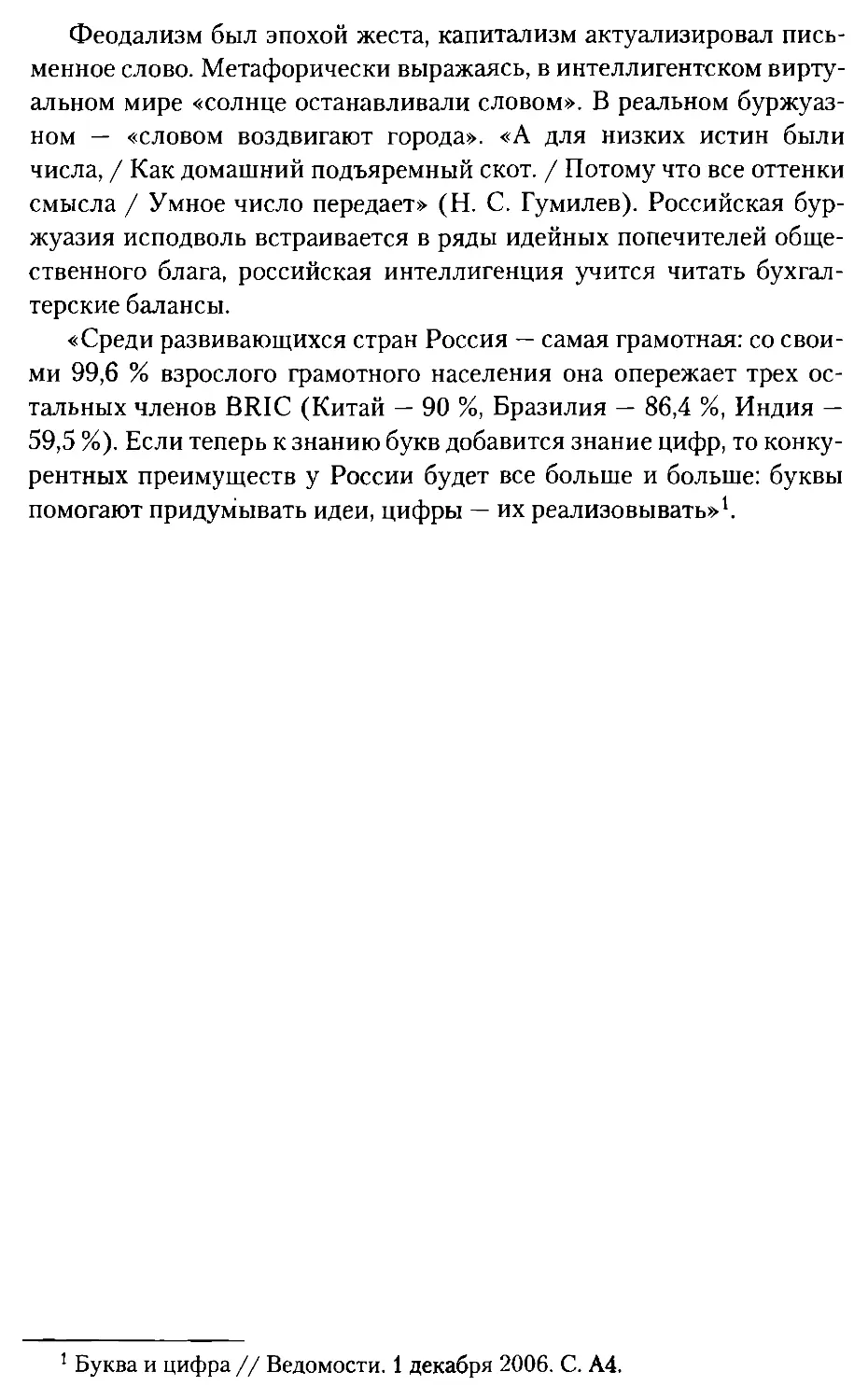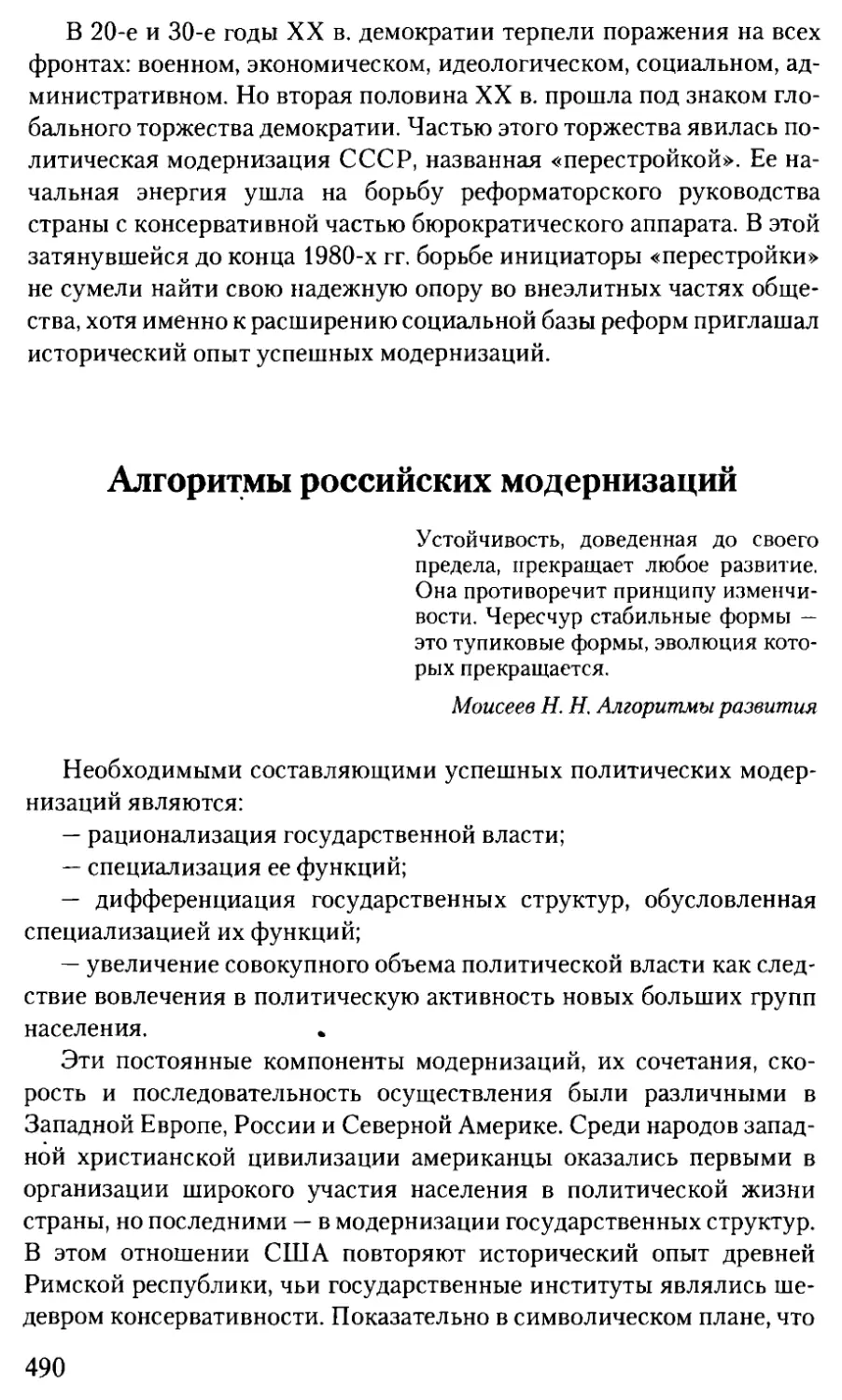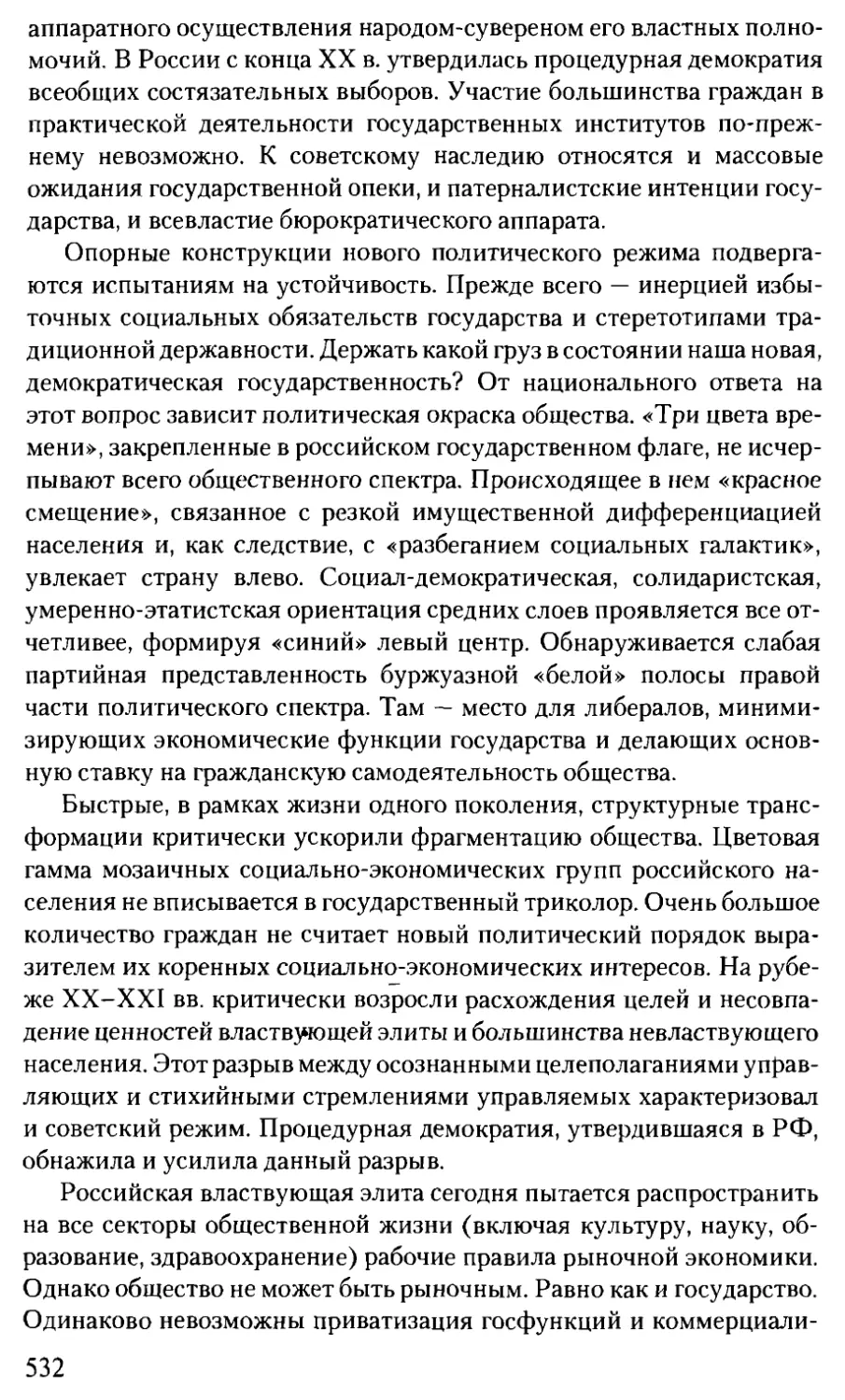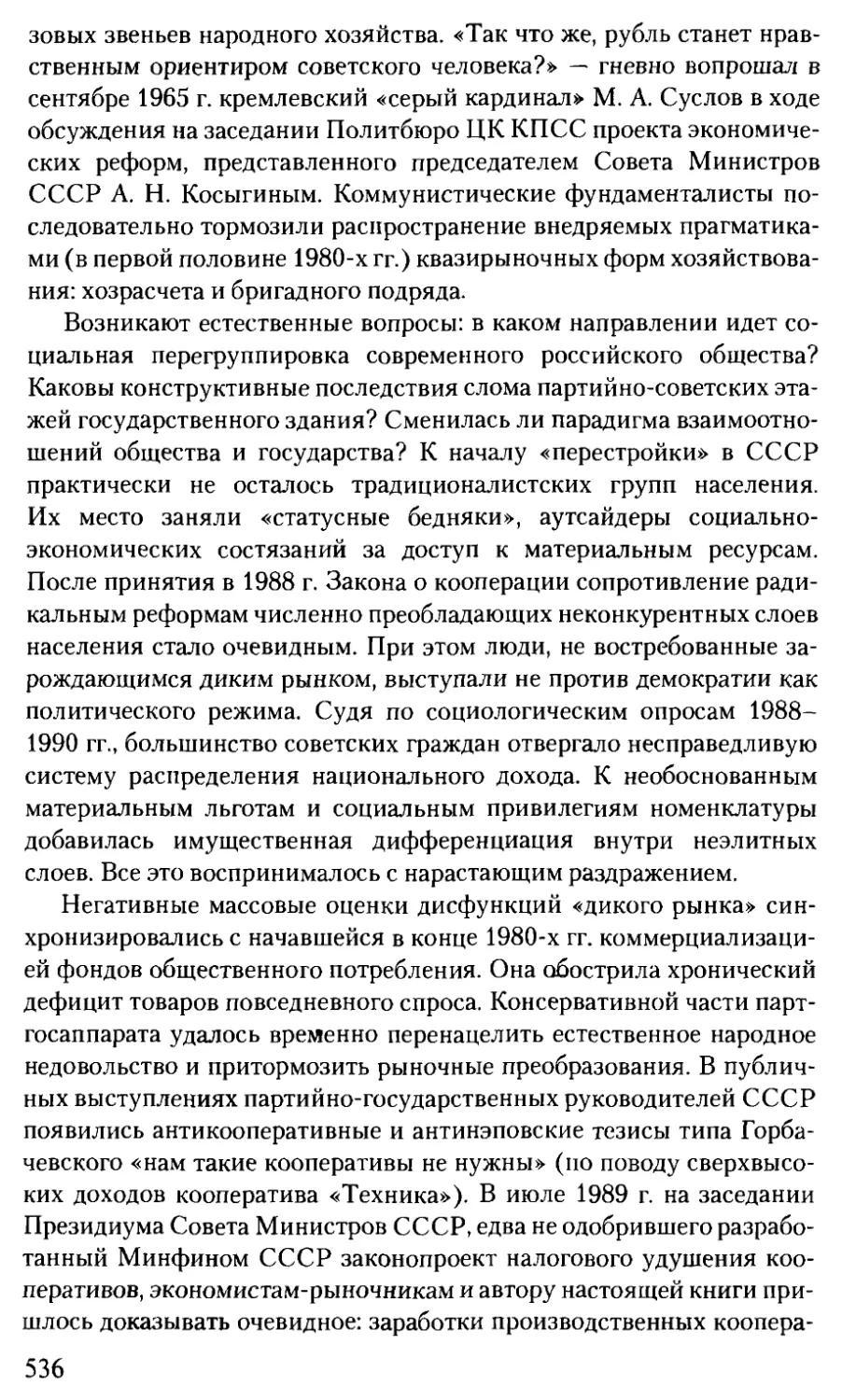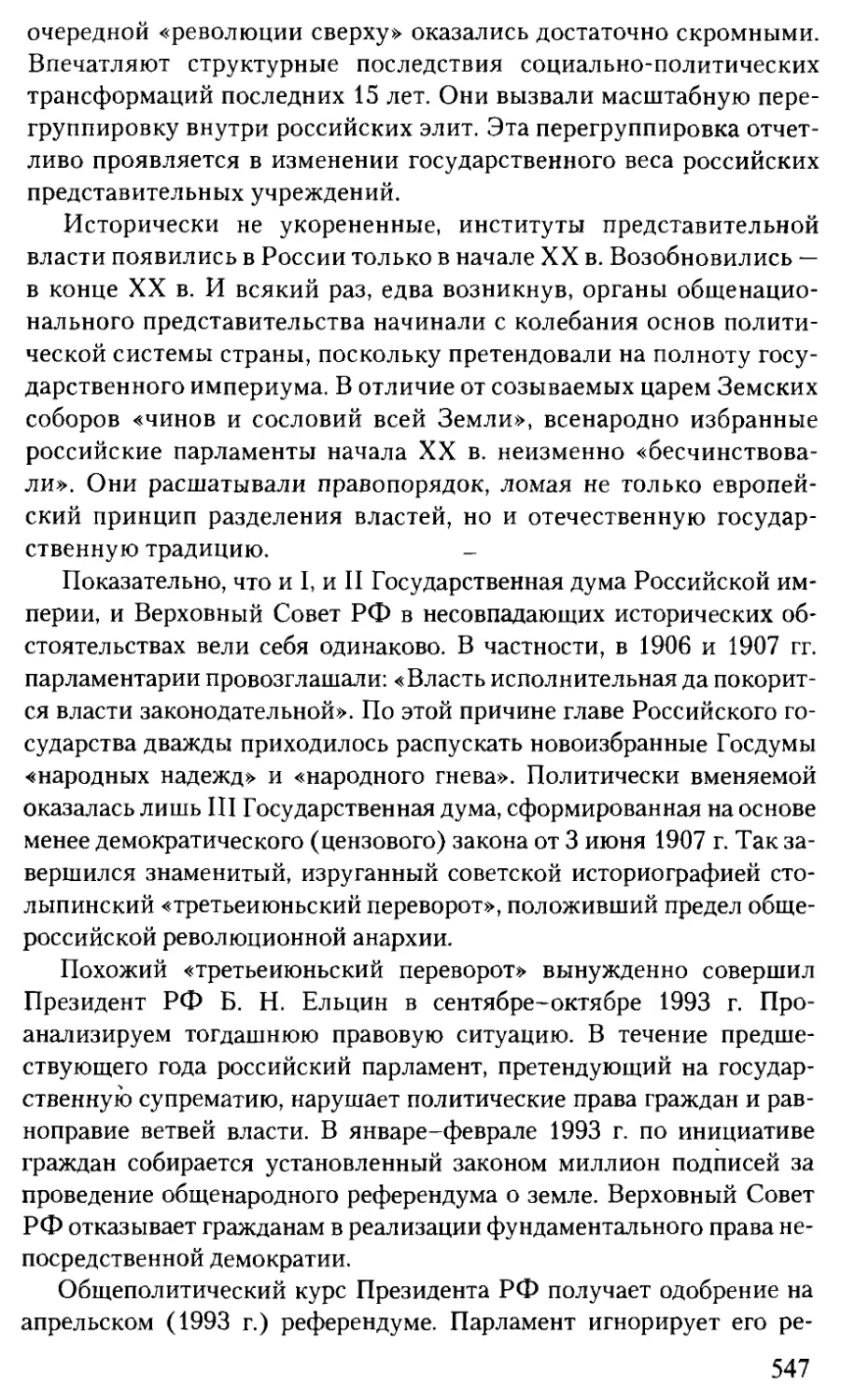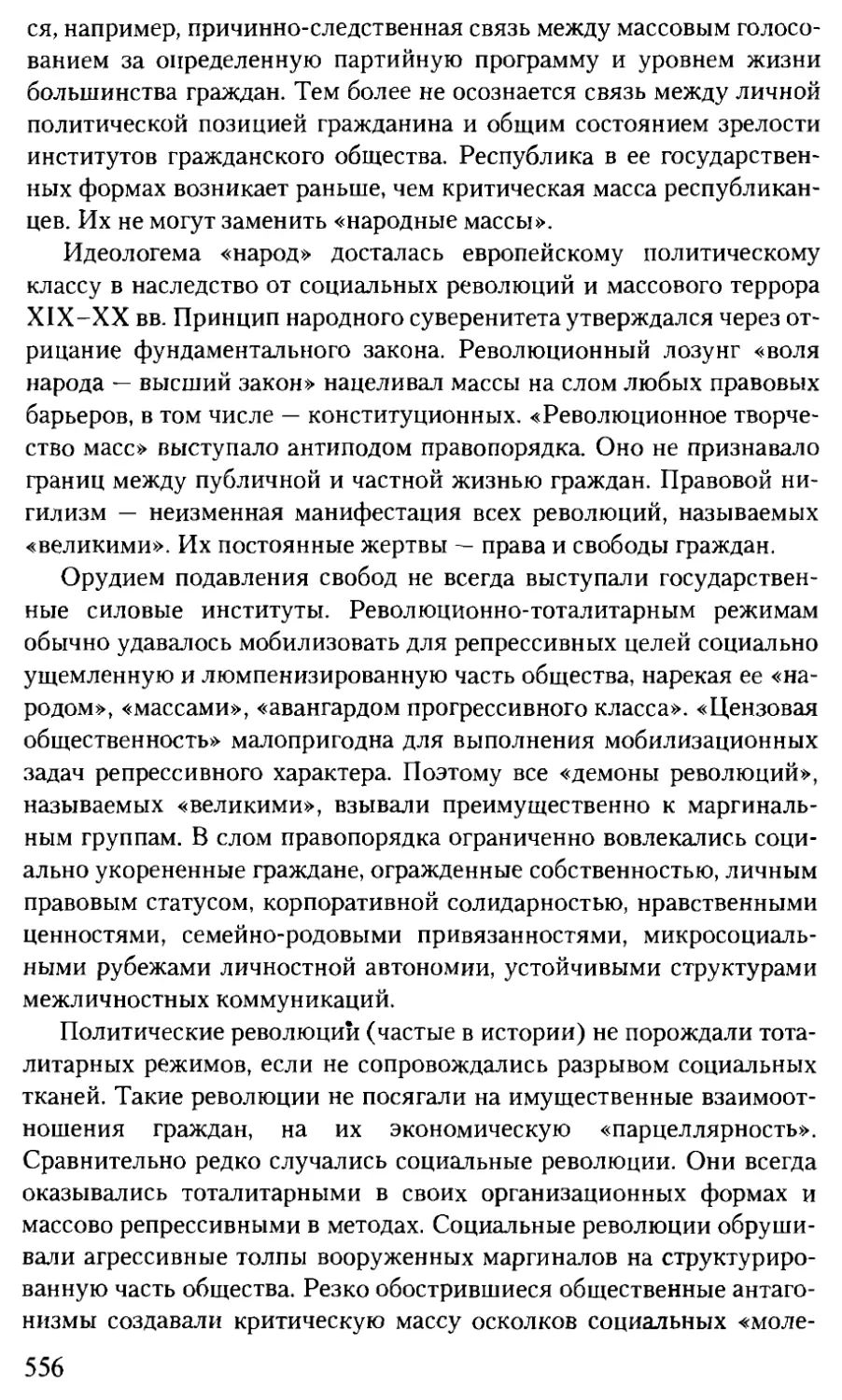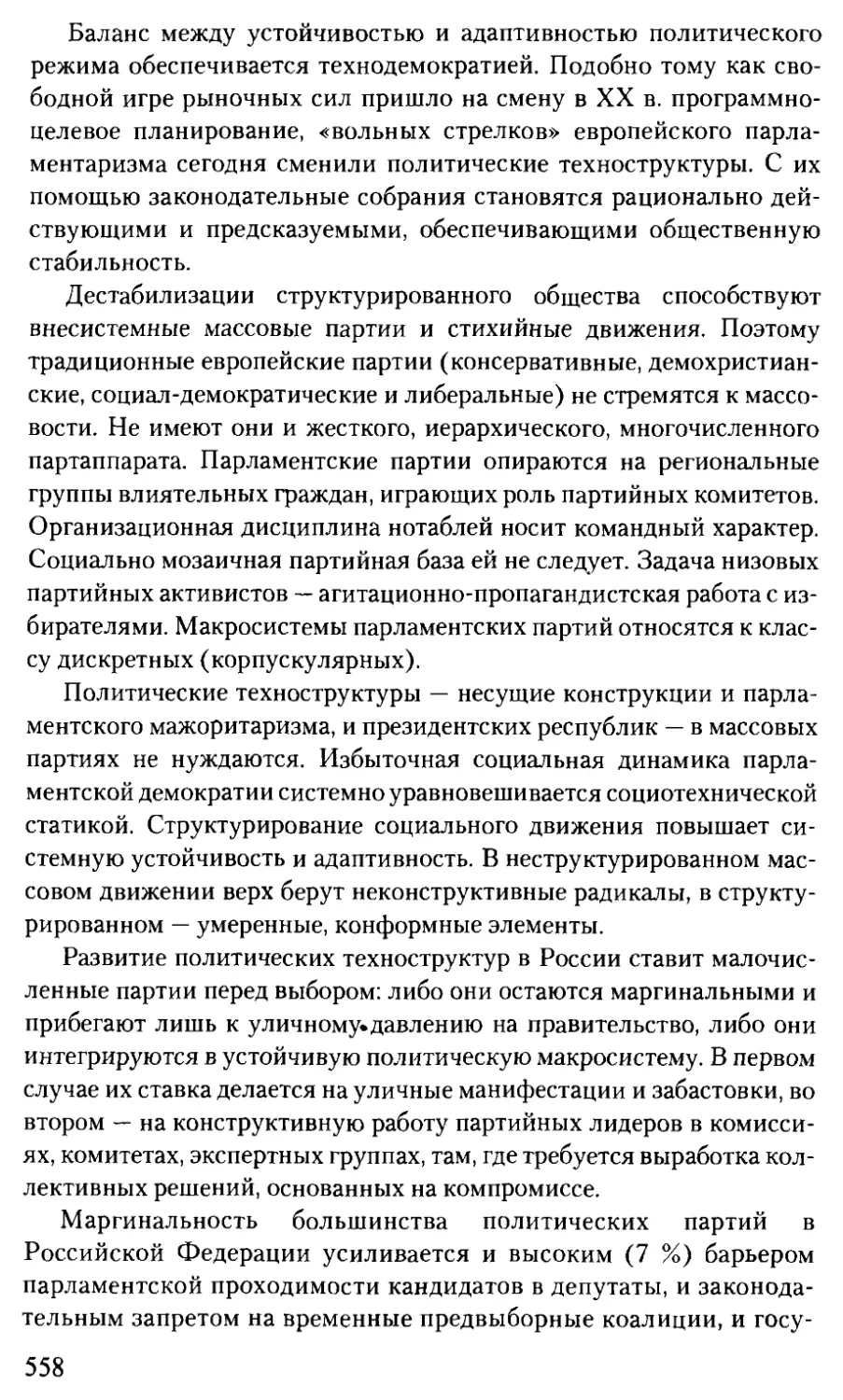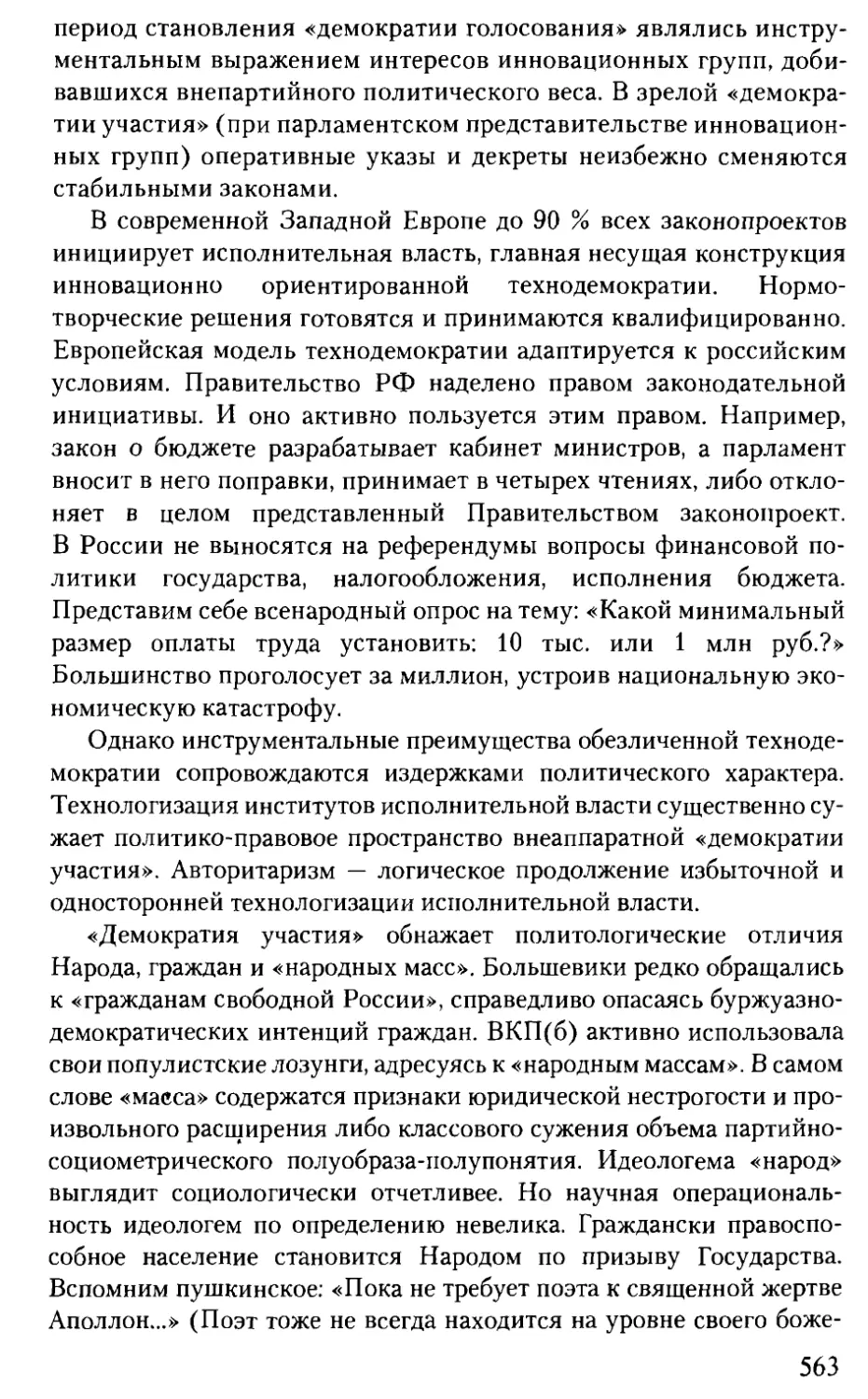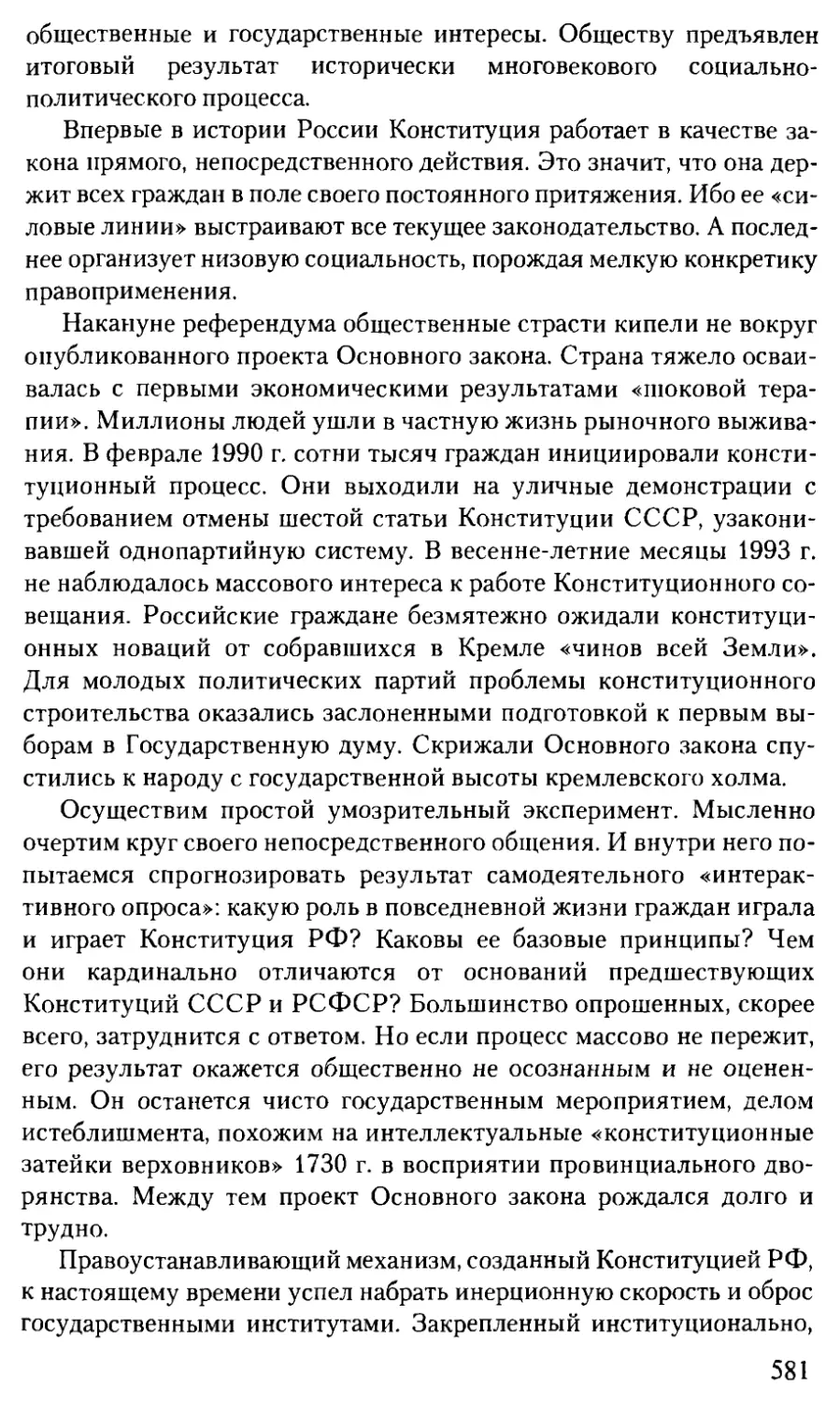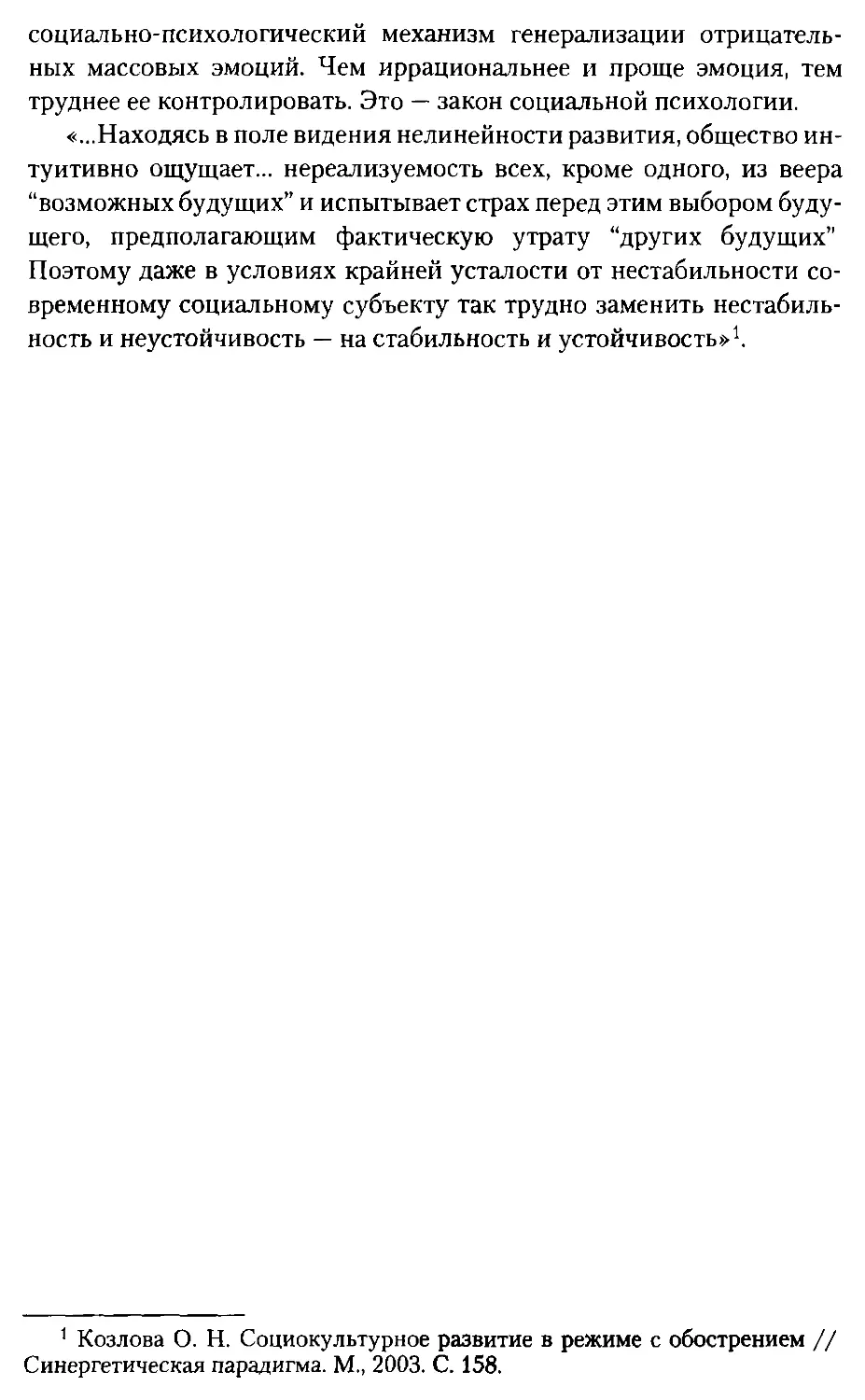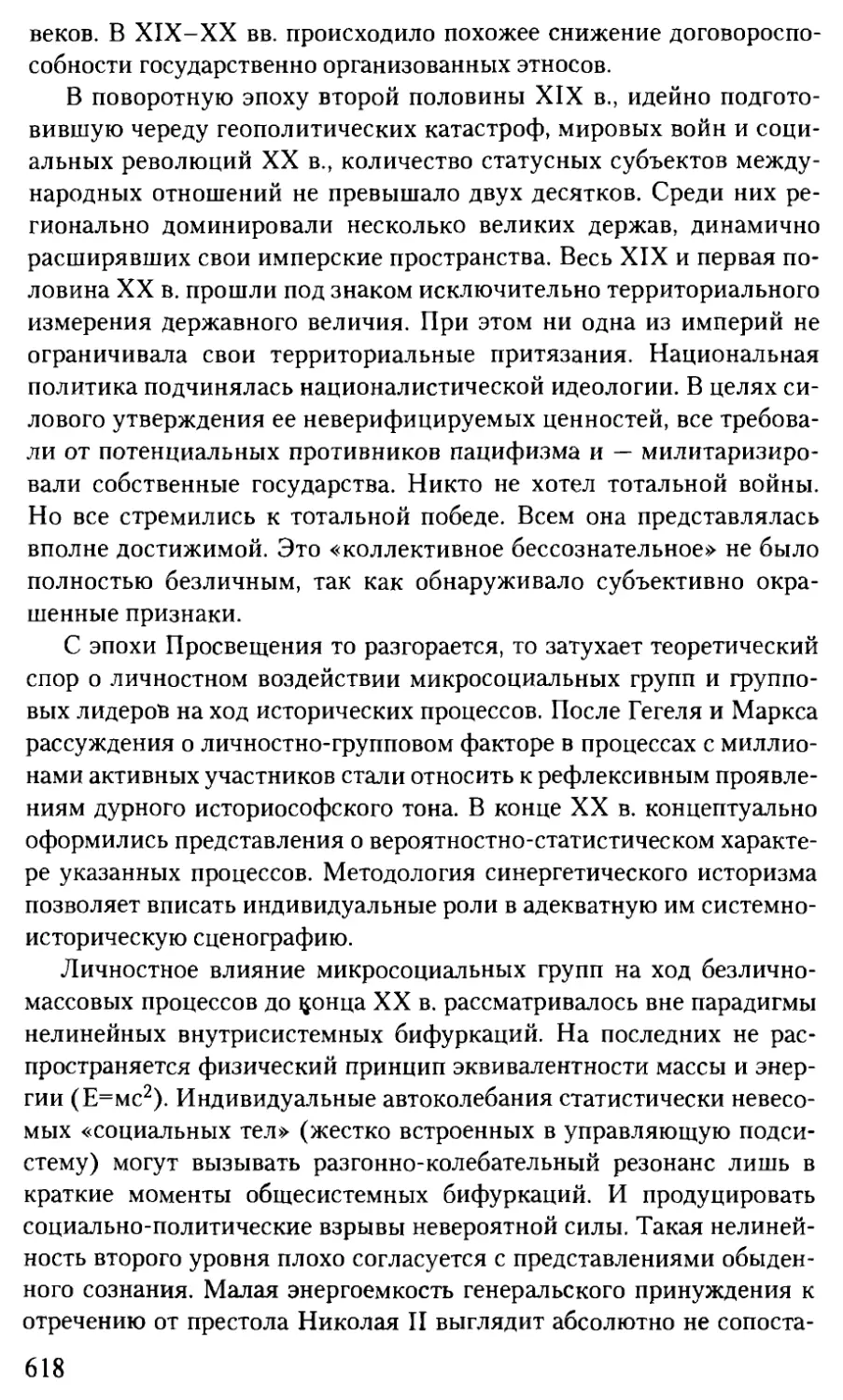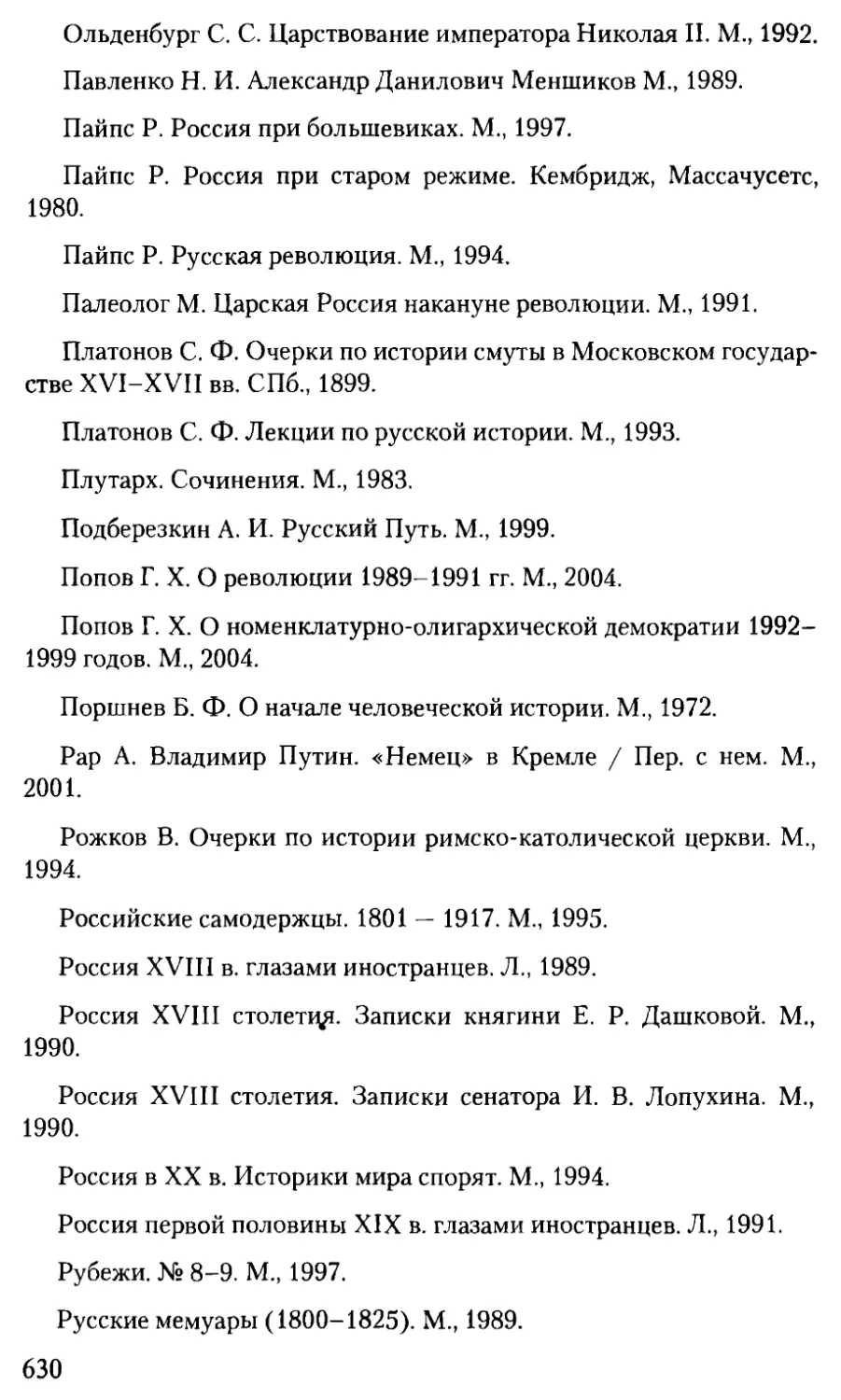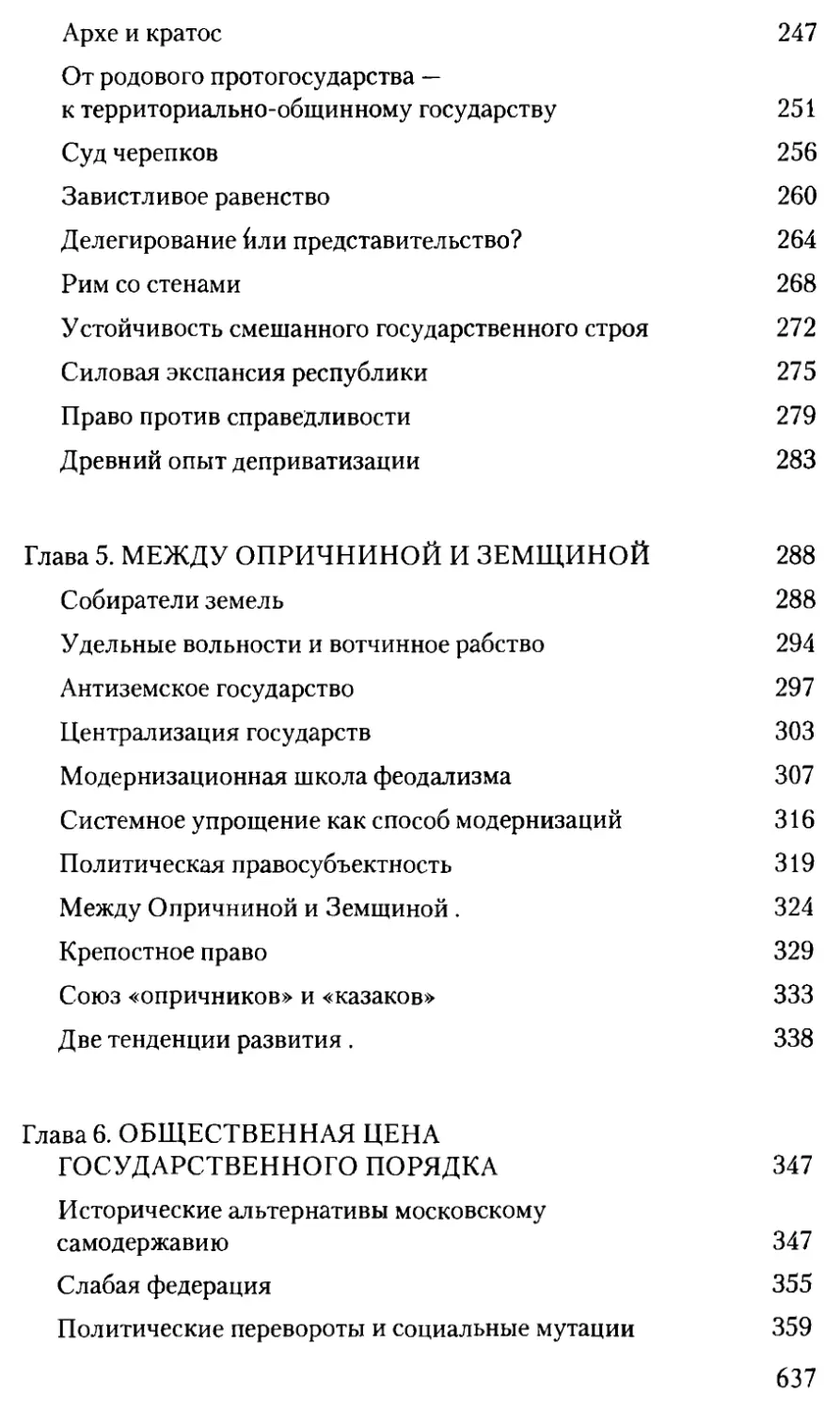Author: Масарский М.В.
Tags: отдельные проблемы и категории философии категории диалектики история цивилизации история культуры первобытнообщинный строй философские науки политическая энциклопедия философия истории
ISBN: 978-5-8243-1396-3
Year: 2010
Марк
Масарский
Неустойчивость
порядка
Очерки
философии
истории
Масарский М. В.
М31 Неустойчивость порядка: очерки философии истории /
М. В. Масарский. — М. : Российская политическая
энциклопедия (РОССПЭН), 2010. - 639 с.
ISBN 978-5-8243-1396-3
Область научных интересов философа Марка Масарского —
исследование системной динамики ключевых событий мировой
и российской истории. В том числе — критических «точек
исторического невозврата». Книга «Неустойчивость порядка»
сопоставляет их с позиций синергетического историзма.
Книга адресована широкому кругу читателей,
интересующихся мировой и российской историей.
ISBN 978-5-8243-1396-3 © Масарский М. В., 2010
© Российская политическая
энциклопедия, 2010
ВВЕДЕНИЕ
Счастливы те народы,
чьи летописи скучны.
Монтескье
За последние четыреста лет своей истории российское
государство в третий раз оказалось в ситуации предельной стратегической
нестабильности. Первая возникла в начале XVII в. и получила
название Смуты. В феврале-октябре 1917 г. произошло второе
крушение российской государственности. Распад СССР в декабре
1991 г. суммировал центробежные силы, не только разорвавшие
имперское пространство супердержавы XX в., но и потрясшие основы
государственной организации народов, живущих на одной шестой
части земной суши.
Циклическая повторяемость однотипных событий такого
масштаба побуждает не только к историософским обобщениям, но и к
выявлению конкретно-исторических и социологических алгоритмов
вхождения российского государства в предкризисное, кризисное и
посткризисное состояния. Методология обобщающей формализации
ключевых событий российской истории вырабатывается на
концептуальной основе общей теории систем, синергетики и общей теории
управления. Их бурным развитием отмечена вторая половина XX в.
Исследование обществ и государств в их системной динамике —
отличительная черта философии истории новейшего периода1.
Системная динамика проявляется наиболее отчетливо в
исторических ситуациях Больших перемен, вызывающих структурную ломку
обществ и государств, когда востребованными оказываются
политическая активность инновационных групп и героический тип лидеров.
Кризисная напряженность и событийная насыщенность этих времен
создают мироощущение концов и начал истории не только у лидеров,
но и у рядовых современников эпохи драматических потрясений
общества. Форс-мажорность событий повышает средний уровень исто-
1 См.: Бродель Ф. Время мира. М., 1992; Уткин А. И. Мировой порядок
XXI века. М., Алгоритм, 2001; Хантингтон С. Политический порядок
В/меняющихся обществах. М., 2004; Поппер К. Открытое общество и его враги.
М, 1992; Хайек Ф. А. Пагубная самонадеянность. Ошибки социализма. М.,
1992. Фукуяма Ф. Конец истории // Вопросы философии. 1989. № 8;
Синергетическая парадигма. Человек и общество в условиях
нестабильности. М, 2003.
3
рического активизма массовых участников радикальной ломки
традиционных порядков. Итоговая результирующая общественных
настроений колеблется между двумя крайними мировоззренческими
позициями: древним китайским проклятием «Чтоб ты жил в эпоху
перемен!» и тютчевским «Блажен, кто посетил сей мир в его минуты
роковые». Лидирующие позиции занимает «человек рискующий».
Инновационные группы населения превращаются в локомотивные.
Риск обострения стратегической нестабильности российской
государственно-общественной метасистемы существенно
уменьшается в процессе постепенных и последовательных изменений. Их си-
нергетическая особенность состоит в институционально
согласованном переводе социальных подсистем в состояние, адекватное
изменившимся условиям внешней среды. Направляемое элитой
осовременивание традиционных обществ, посредством
рационализации и функциональной дифференциации государственных
институтов, именуется в философии истории и политологии
«модернизацией».
За последние пятьсот лет своей государственной историй Россия
переживает десятую масштабную модернизацию. «Историческая
монотонность» однотипных государственно-общественных обновлений
и перестроек позволяет выявить их системные алгоритмы.
Неизменная западная ориентированность российских прогрессивных
преобразований побуждает к исследованию цивилизационных корней
славяно-русской государственности. Незапланированные
экономические последствия и явно избыточные социальные издержки
отечественных модернизаций выявляют национальную специфику
российских Больших перемен.
Оставаясь в русле общеевропейского развития, российские
модернизации своим институциональным «рисунком», издержками и
динамикой заметно отличаются от зарубежных аналогов. Иначе
позиционируется мотор преобразований, источник их энергетики.
Реформы начинаются задолго до образования критической массы
инновационных групп, стратегически заинтересованных в
структурных трансформациях. Узок круг отечественных модернизаторов.
А. С. Пушкин писал П. Я. Чаадаеву: «В России правительство все еще
остается единственным европейцем». А экономист петровских
времен И. Т. Посошков с горечью констатировал: «У нас один государь
тянет в гору, а миллионы — под гору».
Возникают вопросы общесистемного характера.
— Почему в условиях социальной изолированности
реформаторов все же осуществляются российские структурные реформы?
4
— Как влияет на результаты модернизаций несовпадение
скоростей системных преобразований государства и общества?
— Как сочетаются в процессах модернизаций параметрические
(определяемые законами) и силовые (зависящие от указов и
декретов) методы централизованного управления функциональными
подсистемами государства?
Россия, конечно, необычная страна, но и здесь вода
самостоятельно не течет вверх. Энергия системных преобразований имеет
автономный и циклически возобновляемый источник. Субъектами
многократных «перестроек» традиционно выступают институты высшей
государственной власти, опирающейся на политическую элиту
страны. Неизменными объектами Великих реформ, вызванных небходи-
мостью очередных модернизаций, являются: воспроизводственный
аппарат страны, организация политической власти и
государственного управления, правовая инфраструктура.
В эпохи Больших перемен обостряется проблема системного
сопряжения динамики и статики, энергии кинетической и
потенциальной, среднего уровня системного разнообразия государства. В
соответствии с синергетическим законом иерархических компенсаций
нелинейных систем, рост разнообразия на верхних этажах
управления реформируемого государства компенсируется снижением
разнообразия на нижних уровнях государственной чиерархии. Иными
словами, инновационная активность верхов уравновешивается
низовой консервативностью.
В каждой сверхсложной нелинейной системе неизбежны
флуктуации, то есть статистические отклонения от средних
параметров. Наиболее отчетливо это проявляется в финансовой сфере.
Глобальный финансовый кризис, разразившийся в 2007-2008 гг.,
имеет отчетливую синергетическую природу. Системная
неопределенность, создаваемая неизбежной статистической диффузией
мировых валютных массивов, наложилась на вероятностное состояние
ценовых агрегатов глобальных товарных потоков. То есть — на
труднопредсказуемые колебания мировых цен на первичные ресурсы.
Особенно уязвимыми в этих ситуациях оказались национальные
экономики с преимущественно сырьевой ориентацией,
интегрированные 'в международную финансово-экономическую систему.
Системные кризисы такого рода не имеют автономных
национальных решений.
Если финансовые флуктуации не сопровождаются образованием
критических масс необеспеченных заимствований и кредитной
перегруженностью ведущих национальных экономик, то они вызывают
5
временные дисфункции локального уровня. Последние могут
нейтрализоваться инерционной устойчивостью других подсистем, при
условии их автономности. Экономические кризисы, периодически
сотрясавшие во второй половине XX в. страны с
децентрализованными институтами управления, не разрушили капиталистическую
систему в целом. Более того, эти кризисы вывели ее на траекторию
постиндустриального развития.
Если в обществе достаточно автономны его функциональные
подсистемы (политики, науки, правоохранения, технологии, рынка
и т.д.), то риски наступления общесистемных дисфункций не
суммируются. Они возникают не одновременно и независимо друг от друга.
Неблагоприятные события могут быть стихийными или являться
следствиями ошибочных управленческих решений. В обществах с
автономными подсистемами (деполитизированной бюрократией,
рыночной экономикой, департизированной правоохранительной
подсистемой и т. п.) вероятность возникновения общесистемного риска
минимальна. Она равна произведению вероятностей локальных сс^
бытии, вызывающих дисфункции подсистем. То есть — она меньше
вероятности каждой из них.
При слабой дифференцированности общественных подсистем, их
риски суммируются. В централизованно управляемых обществах
вероятность общесистемного риска равна вероятности общезначимого
ошибочного решения, принимаемого наверху вертикали власти.
То есть — она намного выше вероятности риска в каждой
функциональной подсистеме. Автократически организованное российское
государство не выдержало в начале XX в. суммированных рисков
ускоренной модернизации и масштабных социальных перегруппировок,
мультиплицированных чрезвычайными нагрузками затянувшейся
мировой войны. Военные поражения, пережитые Российской
империей, избыточно политизировали массы.
Децентрализованная подсистема экономики заметно уменьшает
вероятность общесистемного кризиса. Летом 1998 г. в России
разразился финансовый кризис. В связи с неисполнением доходной части
госбюджета, избыточной кредитной обремененностью Минфина РФ
и уходом с российского фондового рынка иностранных портфельных
инвесторов, рухнула пирамида государственных краткосрочных
обязательств (ГКО). В августе 1998 г. Правительство РФ объявило
технический (временный) дефолт по своим долговым обязательствам.
Часть органов государственного управления (в том числе —
Администрация Президента РФ) действовала в критические
августовские дни 1998 г. непоследовательно и неэффективно. Однако в
6
целом российская экономико-политическая подсистема (включая
правительство и деловые круги реального сектора) проявила гибкую
устойчивость перед риском суверенного дефолта. Последний мог
вызвать лавинообразный процесс выпадения страны из
мирохозяйственных связей. Финансового банкротства страны не произошло.
Сформированное в кризисных условиях августа 1998 г.,
Правительство РФ оказалось работоспособным и макроэкономически
ответственным. Финансовый кризис не перерос в общеэкономический и,
далее, в общесистемный.
Все структурные реформы, сопровождавшие российские
модернизации, начинались не от хорошей жизни, все оказывались
вынужденными и внеплановыми.
Реформируясь, государство решало перезревшие проблемы
общественного развития. Они возникали, как правило, в условиях
жесткой международной конкуренции. Вектор всех государственно-
общественных трансформаций России был исторически задан:
— потребностями освобождения Северо-Восточной Руси от
ордынского ярма (вторая половина XV в.);
— необходимостью социально-экономической интеграции Вели-
короссии (конец XV в. — первая половина XVI в.);
— нуждами стратегической обороны от агрессивных соседей,
посягавших на территориальную целостность и суверенитет
Московского царства (XVI-XVII вв.);
— военно-техническим отставанием России от передовых
европейских стран (XVIII в.);
— внутренними социальными препятствиями для первичной
индустриализации страны (вторая половина XIX в.);
— вовлеченностью Российской империи в экономическое и
военное соперничество великих держав (рубеж XIX и XX вв.):
— вызовами вторичной индустриализации, НТР и военно-
политическим противостоянием двух мировых систем (XX в.);
— императивами постиндустриального развития (конец XX —
начало XXI в.).
В синергетическом прочтении, история — это многократное
чередование относительного системного порядка и беспорядка.
Социально-политические формы более равновесных мир=империй,
подвергавшиеся разрушению, на протяжении веков
воспроизводились с минимальными инновациями. Исторический прогресс более
неравновесных мир=экономик уже носил линейный характер. Эти
базовые модели общественно-государственных устройств имели
общее синергетическое свойство. Творческий потенциал сверхслож-
7
ных систем (каковыми являлись и мир=империи, и мир=экономики)
напрямую зависел от накопленной ими неустойчивости.
Побудительной силой, ответственной за самоорганизацию
неустойчивых сверхсложных систем, выступает социальный отбор.
В отличие от биологического, социальный отбор предполагает в
качестве основного механизма внутренней самонастройки систем
противоречивое сочетание конкуренции и кооперации,
индивидуализма и коллективизма, инноваций и консерватизма. Социальный
отбор направлен на целевую отработку статистического множества
наличных элементов внешней среды. Он при этом формирует
возможные структуры усвоения необходимых системе
информационных, энергетических и материальных ресурсов.
«Опыт всемирной истории убедительно свидетельствует в пользу
того, что роль побудительной силы, ответственной за
самоорганизацию, играет социальный отбор. Он делает понятным как спонтанный,
так и стохастический характер социальной самоорганизации. Чтобы
уяснить, каким образом это достигается, надо исследовать основные
факторы отбора: тезаурус, детектор и селектор. Тезаурус составляет
множество диссипативных структур, возникающих потенциально в
недрах данной актуально существующей структуры как результат
соответствующей бифуркации. В роли детектора, выбирающего из
тезауруса определенную бифуркационную структуру и тем самым
превращающего ее из возможности в действительность, выступает
внутреннее взаимодействие элементов социальной системы»1. В роли
селектора социального отбора выступает стремление
самоорганизующейся метасистемы к максимально возможной устойчивости
внешних связей.
Теоретическими исследованиями академика H. Н. Моисеева
установлено: каждое измененное состояние социальных систем,
отрабатывающих положительные обратные связи, является исходно
бифуркационным2. Бифуркации приводят к нарастающему ускорению
процессов общественного развития.
Докритические системные дисфункции как неизбежные
следствия человеческой нелинейности общества всегда существуют на
его микроуровне. Если они проявляются в критической фазе и
захватывают основные системообразующие парадигмы, то вся обществен-
1 Бранский В. П., Пожарский С. Д. Синергетический историзм как новая
философия истории // Синергетическая парадигма. М, 2003. С. 40.
2 Здесь: необратимо выбирающим между двумя несовпадающими
векторами существенных изменений.
8
ная макросистема погружается в состояние беспорядка. (Одной из
таких парадигм для Российского государства в начале XX в. было
самодержавие, а в конце XX в. — власть КПСС.) Выход из беспорядка
обычно находится на путях коренной государственной
реструктуризации, если она оказывается адекватной новым требованиям внегосу-
дарственной среды. Реструктурированное государство становится
инструментом системного согласования конфликтующих тенденций
общественного развития. Российское самодержавие и советская
партократия роковым для себя образом пренебрегли возможностью
своевременной докризисной реструктуризации макросистемы. И
наоборот, примеры успешной конвергенции противоположных начал
общественного развития дает во второй половине XX в. история
демократических государств.
Во второй половине XX в. западная индустриальная
цивилизация продуктивно соединяла стихию рыночного состязания на
микроуровне хозяйствующих субъектов с макроэкономическим
регулированием. В результате экономическая самоорганизация
(рынок) конструктивно сочеталась с индикативным планированием.
Командно-административная система хозяйствования
абсолютизировала план-директиву в ущерб плану-ориентиру. В результате, ци-
вилизационно назревшая модель конвергенции государственного
дирижизма и социально ориентированного рынка осталась в СССР
невостребованной.
Молодая демократическая Россия унаследовала от своего
исторического предшественника нерастраченный потенциал кризисного
развития, рождающего как возможности, так и опасности
ускоренных трансформаций инерционных подсистем общества. Последние
обусловили не только индустриальные но и постиндустриальные
издержки структурных реформ 1990-х гг. Избыточность социальной
цены десятой российской модернизации не была фатально
неизбежной. Она явилась и до сих пор является следствием
деиндустриализации страны, форсированного характера несбалансированной
коммерциализации и декапитализации базовых отраслей экономики,
разрушения большей части передовой (постиндустриальной) социальной
инфраструктуры, доставшейся от социализма. Российский
политический класс неправильно истолковал цивилизационное поражение
социализма как победу олигархо-монополистического капитализма
и пытается направить нашу страну в избитую историческую колею,
уже покинутую членами клуба Большой семерки.
Глава 1
КУЛЬТУРА «ОГНЯ И ВЗРЫВА»
Продуктивен ли хаос?
При радикальной реадаптации нелинейных систем резко
возрастает риск погружения их в состояние детерминированного
хаоса. Это базовое понятие синергетики имеет множество
формальных определений. И только одно содержательное — свою
гносеологическую судьбу. Самая ранняя концепция детерминированного
хаоса принадлежит древнеегипетским жрецам. Около 2500 г. до н. э.
они разработали так называемый гелиопольский космогонический
миф. Творец всеобщего порядка — бог Солнца Ра — однократно
«самоорганизовался» из хаотичного, бесструктурного первоокеана
Нун. Возникшие вслед за верховным творцом нижестоящие боги
немедленно принялись разрушать системно-иерархический
порядок, созданный Ра.
В переводе на язык земных реалий, этот миф обретает
историческую плоть. Под маской местных богов, номархи Нижнего Египта
(наследственные начальники территориальных политических
единиц — номов) оспаривали государственную супрематию фараонов
Верхнего Египта, земных воплощений Ра. (Номарх
по-древнегречески означает «владыка дома». Фараон по-древнеегипетски —
«большой дом». Использование слова «дом» в титулатуре глав
древнеегипетских государств неслучайно. Дом в качестве локально
структурированного пространства является здесь аналоговой микромоделью
большого Космоса, упорядоченной части Вселенной. Дом — перво-
ячейка и несущая конструкция первых цивилизаций.)
Созданию гелиопольского космогонического мифа
предшествовало государственное объединение Верхнего и Нижнего Египта.
Первый состоял из номов среднего течения Нила,
контролировавших земледельческое использование циклических паводков
главной реки. Второй объединял номы Нижнего Египта, расположенные
в дельте Нила. Около 3200 г. до н. э. фараон Верхнего Египта Менее
завоевал Нижний Египет. Создались политические условия,
обеспечивавшие регулярное функционирование единой
ирригационной системы. Столицей объединенного государства стал главный
город Нижнего Египта — Мемфис. Верховным богом —
покровитель Мемфиса Солнце-Ра.
10
Жрецы второстепенных богов поначалу не приняли религиозно-
административное доминирование Мемфиса. В гелиопольском мифе,
созданном столичными служителями культа Ра в ответ на духовную
оппозицию провинциальных жрецов, верховный бог угрожает вновь
погрузить страну в первозданный хаос. Для долины Нила это было бы
' равносильно возврату в прежнее состояние заболоченности, в случае
разрушения единой ирригационной системы. Последняя
поддерживалась организационной работой объединенного и
централизованного госаппарата. В итоге, государственно организованный «большой
дом» одолел кланово-общинные «малые дома» номархов и жрецов
местных богов.
Строгая периодичность плодоносных разливов Нила
сформировала мировоззренческую уверенность египтян в незыблемости
общественного порядка, сакрализованного пантеоном иерархически
выстроенных богов.
Такой уверенности не было у древних обитателей долины,
расположенной между двумя могучими реками — Тигром и Евфратом.
Труднопредсказуемый водный режим земледелия Месопотамии
обусловил более активную мировоззренческую позицию шумеров и
аккадцев. Они считали мировой порядок не столько существующим,
сколько непрерывно возникающим под влиянием государственного
объединения множества разнонаправленных индивидуальных воль
людей, вещей и природных сил.
Показательно, что в языке древних шумеров одним словом
обозначались упорядоченная вселенная и государство. Структурно-
функциональная основа упорядоченности — неизменность иерархии
богов. Энергетическое начало миропорядка, его событийная
наполненность персонифицированы в боге непрерывного движения —
Энлиле, владыке-ветре. Последний оберегает порядок от хаоса.
Однако сам Энлиль непредсказуем и грозен. Он непрерывно
генерирует и преодолевает системные автоколебания.
В египетских и шумеро-аккадских представлениях о миропорядке
еще нет идеи поступательного развития. Эту идею сформулировали
древнееврейские пророки. Они впервые в истории человеческой
мыс\ли выдвинули обобщающее представление о ритмическом
временном потоке, событийно уносящем человека в историю, в будущее.
Это базовое мировоззренческое понятие своими смысловыми
корнями уходит в хозяйственную деятельность, результаты которой
отложены во времени. Оно возникает в эпоху неолитической революции,
решительно потеснившей присваивающее хозяйство собирательства
и охоты (с их немедленными потребительскими эффектами) в пользу
11
производящего хозяйства земледелия и скотоводства. В эту эпоху
сформировались представления древних людей о линейной связи
событий. Данные представления материально воплощались в дознако-
вой символике неолитических изделий. Наиболее отдаленным до-
письменным и дорефлексивным предшественником первого
историософского конструкта поступательного развития является ритмический
орнамент на дошедших до нас изделиях позднего неолита.
Понятие циклов (от хаоса к порядку и наоборот) — наиболее
древняя теоретическая модель космической динамики. Она содержится в
мифологии всех культурных народов. Порядок и хаос — бинарная
оппозиция всех древних картин мира. В древнегреческой мифологии
Прометей — создатель материальной культуры и креативной
упорядоченности человеческих отношений. Одновременно, Прометей —
непосредственный наследник Хаоса, посягнувший на Зевсов
консервативный порядок. По идее одноименной трагедии Эсхила, Прометей
примирил в себе гармонию и хаос. Тем самым он упрочил
установленный Зевсом мировой порядок. В соответствии, сказали бы
философские последователи Гегеля и Маркса, с диалектическим
принципом отрицания отрицания.
Древнегреческое понятие «космос» имело несколько
взаимосвязанных смыслов: порядок, правовое государственное устройство,
наряд, красота, украшение (отсюда — «косметика»). Этимологические
корни слова «хаос» связывают его с «разверстым, пустым
пространством». Данная мифологема перекликается с библейским
представлением о бесструктурном состоянии бытия, когда «мир был безвиден
и пуст» (Бытие 1-1).
Божественный Логос внес в бытие размерность пространства и
направленность времени и тем самым — системную неустойчивость,
способность к изменениям.
Смысловым эквивалентом древнегреческого «космоса» предстает
древнеримское classic. Этим словом римляне первоначально
обозначали военный строй кораблей, позднее — порядок вообще. Отсюда —
классификация (упорядочение).
Основным фоном индивидуального человеческого
существования является системная неустойчивость не столько природной,
сколько его социальной среды. Об этом свидетельствуют эпос и
древние мифы о культурных героях. В них содержались ценностные
ориентиры для «человека рискующего», вынужденного двигаться через
неустойчивую среду своего социокультурного обитания.
Обретя искомую устойчивость своей общественной среды,
человек периодически пытается ее нарушить. В этом смысле показатель-
12
ны новогодние празднества у народов разной социокультурной
идентичности: древних египтян, шумеро-аккадцев (вавилонян), семитов,
хеттов, греков, римлян, персов, славян. В ходе массовых мистерий
символически отменяется не только необратимость времени, но и
структурная упорядоченность непосредственной социальной среды.
Массово переживается кратковременное нарушение общественного
порядка. Посредством оргиастического хаоса люди возвращаются в
дообщественное состояние бесформенного, бесструктурного
единства. В дни новогодних праздников возобновляемых начал
отменялась любая социальная иерархия, господа и их слуги менялись
местами, допускались любые виды распущенности.
Потребность в некритических и временных флуктуациях
общественных отношений обусловлена нелинейностью человеческой
натуры, откликающейся на энтропию внешней среды. В этих
флуктуациях общественные связи проходят испытания на прочность, на
разрыв и сжатие.
Народ и массы
Динамичная эпоха Нового времени наглядно демонстрирует:
рост политической активности населения увеличивает риски
системной нестабильности общества. Государственные и
общественные институты их уменьшают. Социальная динамика
уравновешивается административной статикой. Демократии разных уровней
зрелости по-разному организуют правоспособное население. Во
второй половине XX в. западноевропейская «демократия участия»
создает дееспособные институты гражданского общества. Современная
российская «демократия голосования» способствует развитию
ассоциаций догражданского массового общества. Институты
гражданского общества отличаются высоким уровнем собственной
системной устойчивости, обеспеченной сильными организациями.
Организационно слабые ассоциации массового общества
составляют шаткую опору управляемой демократии низкой интенсивности
(полиархии).
Электоральная демократия — новый для России политический
режим. Власть рождается в таинстве всеобщих состязательных
выборов. Она выходит из урн для голосования, подобно Афине-Пал л аде,
появившейся из головы Зевса в полном вооружении. Но в отличие от
мифологической богини, российская политическая власть,
легитимизированная демократическими выборами, занимает доминирую-
13
щее положение относительно своего законного родителя, народа-
суверена. Последний лишен «зевсовых молний»,
дисциплинирующих и социализирующих власть: права досрочного отзыва ее
носителей, организационных возможностей повседневного контроля
за чиновничьей деятельностью, корректирующего инструмента не-
преодолеваемого (трибунского) veto народных депутатов,
налагаемого на незаконные действия должностных лиц Республики.
Неорганизованные избиратели — инструментальное выражение
народного суверенитета. В массовости его сила и в
неорганизованности — слабость. Гражданин исполняет политическую роль
избирателя на непостоянной основе и непрофессиональным образом.
Качество голосования не принимается во внимание. Господствует
критерий количества. Сказывается исходная
неструктурированность, механическая соединенность избирательного корпуса. Он
равен арифметическому числу граждан, зарегистрированных по
месту их постоянного либо временного пребывания. Избиратель —
величина политически «дискретная», не связанная с себе
подобными. Его индивидуальное волеизъявление само по себе не создает
«континуальных» (правовых) последствий. Последние возникают
лишь вследствие эффекта арифметического суммирования
индивидуальных голосов.
Ощущение статистической невесомости одиночного
волеизъявления снижает средний гражданский уровень мотивов голосования.
Итоговый выбор деполитизируется. Ослабевает его рациональная
составляющая. Политическое решение избыточно психологизируется,
обретая повышенный «градус» эмоциональности. (Лидерские партии
неслучайно приглашают «голосовать сердцем».) Формируемый
посредством эмоционального голосования, безличный государственный
институт персонализируется. Выбирают потенциального носителя
госфункций не по признаку взаимного соответствия человека и
должности. Выбирают того, кто понравился. Умение нравиться становится
профессиональным качеством политика. Его компетентность отходит
на второй план.
Эмоциональные оценки, как правило, не отличаются прицельной
точностью попадания. Они зачастую формируются под влиянием
несущественных признаков оцениваемого объекта.
Гражданин может сделать (и делает) политический выбор, не
совпадающий с его (гражданина) долгосрочными социально-
экономическими интересами. Этой особенностью электорального
поведения широко пользуются все популисты и демагоги. В связи с
этим зададимся нериторическим вопросом: может ли электорат каче-
14
ственно исказить державную волю Народа-суверена? Например —
разрушить исторически сложившуюся модель государственности?
Такое в истории бывало не раз. Формально правоспособные
граждане оказывались политически недееспособными: в России 1917 г., в
Германии 1933 г. Легкими касаниями избирательных бюллетеней
они и сегодня в состоянии опрокинуть массивное здание новой
российской государственности. Представительная демократия содержит
в себе механизм легального демонтажа — всеобщие выборы.
Современная доктрина народного суверенитета энергично
оспаривает свое упрощенное толкование, свойственное незрелым
демократиям. Да, временами избиратели и Народ равны. Но никогда не
тождественны. «Народное мнение» может являть признаки национально-
государственной неадекватности. За иллюстрациями обратимся к
историческому прошлому разной степени временной удаленности.
В августе 1905 г. Николай II собрал в Петергофе великих князей,
министров и высших сановников для обсуждения проекта закона о
выборах в законосовещательную Государственную думу. Встал
вопрос о принципиальной допустимости неграмотных депутатов. Были
сторонники отмены ценза грамотности. Их аргумент: в Госдуме
нужны органичные представители не сплошь грамотных
избирателей. Дескать, это — элемент благонадежный и «говорит эпическим
языком». Демофильский пафос охладил министр финансов
В. Н. Коковцов: «Не следует увлекаться выслушиванием речей
неграмотных стариков. Они будут пересказывать эпическим слогом то,
что им расскажут другие». Требование депутатской грамотности
было включено в избирательный закон.
Российское общество в начале XX в. оставалось, в основном,
неструктурированным. Немногочисленными и слабыми оказывались
группы с устойчивыми социально-экономическими интересами и
предсказуемым политическим поведением. В постреволюционном
электоральном поле преобладали завихрения, протуберанцы,
поверхностные флуктуации. В фокус общественного внимания и массовых
симпатий непрестанно попадали случайные люди.
Российские граждане, в большинстве своем наделенные
избирательным правом, приняли активное участие в выборах I
Государственной думы. Но баллотируясь в соответствии с избирательным
законом 1906 г., народные депутаты оспаривали государственную
правоспособность высшей власти, издавшей этот закон. Тем самым
Первая дума ставила под сомнение собственную легитимность.
Депутатское большинство Госдумы первого и второго созывов
начинало свою законотворческую деятельность с проекта всеобщей ам-
15
нистии участников политических убийств, погромов, социального
насилия. Царь не уступал публичному натиску «Думы народного
гнева». Этот гнев не отражал долгосрочные интересы большинства
населения Российской империи.
Еще более удаленное историческое прошлое нашей страны
изобилует примерами национально-государственной неадекватности
«народного мнения». Политическими настроениями
неструктурированных масс легко овладевают авантюристы. Во времена
государственной Смуты начала XVII в. некий Сидорка из Пскова объявляет
себя царевичем Дмитрием Ивановичем (сыном Ивана Грозного) на
том единственном основании, что никто не берется доказать
обратное. К нему толпами стекаются горожане, казаки, дворяне. И вот уже
Лжедмитрий III овладевает городом и заявляет притязания на
московский трон. Политический фантом наливается плотью и кровью.
Последней — преимущественно. С ним считаются европейские
короли, польский и шведский, он присутствует в государственных
комбинациях полонофильского столичного боярства, составляет предмет
тревог и ожиданий дворянско-казацкого ополчения 1611г.
Российские служилые люди, впрочем, тоже не обременяют себя
правовыми процедурами. Рязанские дворяне под предводительством
Прокопия и Захара Ляпуновых беспрепятственно, при гражданском
неучастии большинства столичного населения, сводят с престола и
насильно постригают в монахи Василия Шуйского. Второй
выборный царь умрет в польском плену.
Небольшая группа активистов Общелагерного собора — мелких
дворян и торговцев, во главе с Михаилом Салтыковым, и Боярская
дума в составе семи членов («семибоярщина») объявляют себя
представителями «всей русской земли». В 1610 г. они приглашают
венчаться на царство польского королевича Владислава Сигиз-
мундовича. Присланный иностранным принцем небольшой отряд
беспрепятственно и надолго занимает московский Кремль и Китай-
город. Казацко-дворяжжому и общеземскому ополчениям 1611—
1612 гг. с большим трудом удастся освободить столицу от
приглашенных оккупантов.
Политическая элита страны в 1610 г. раскололась. Сторонники
Владислава находились в Москве, группируясь вокруг Боярской
думы. Казацко-дворянский вооруженный лагерь Лжедмитрия II
обосновался в подмосковном селе Тушино. Из Москвы в Тушино и
обратно выезжали знатные семейства, на ловлю счастья и чинов.
Их в народе называли «тушинскими перелетами». После бегства в
Калугу Лжедмитрия II тушинский Общелагерный собор разделился
16
на патриотов и коллаборантов. Среди последних находились и
будущие руководители восстановленного после Смуты Московского
царства. В избирательном Соборе 1613 г. приняли участие
представители и московского, и тушинского, и земского лагерей.
Новоизбранная власть царя М. Ф. Романова и Земских соборов
1610-х гг. подтвердила основные «номенклатурные» назначения,
сделанные в ходе Смуты.
В кадровой преемственности и «межпартийном» компромиссе
были заинтересованы все группы послесмутного политизированного
населения. Многие из видных реставраторов Московского царства
сделали первоначальную карьеру в окружении самозванцев.
Революционным выдвиженцем был, например, ростовский
митрополит Филарет, отец и соправитель будущего царя Михаила Романова.
Он получил митру из рук первого самозванца, а сан патриарха
ненадолго принял при содействии второго самозванца, так называемого
«тушинского вора». Царь Василий Шуйский организовал решение
Архиерейского собора, закрывшее путь Филарету к патриаршему
званию. РПЦ возглавил сторонник В. И. Шуйского — Гермоген. Когда
канонически избранного патриарха Гермогена поляки заключили в
темницу, Филарет наследовал его сан неканоническим решением
«семибоярщины» и тушинского казацко-дворянского лагеря.
В качестве сторонника воцарения польского королевича патриарх
Филарет возглавил в конце 1610 г. большую московскую делегацию,
направленную к отцу Владислава, королю Речи Посполитой
Сигизмунду III. Москвичи просили иностранного суверена
«отпустить на царствование Владислава Сигизмундовича». Король не
отпустил сына, предложив взамен свою кандидатуру на московский
трон.
Польша в то время официально находилась в состоянии войны с
Московским царством. Сигизмунд III принял делегацию «от всей
русской Земли» в своем военном лагере под Смоленском. Эту
ключевую русскую крепость, прикрывающую западные государственные
рубежи, поляки безуспешно осаждали несколько месяцев.
Московская делегация, хотя и с запозданием,
продемонстрировала осознание собственных национальных интересов. Она решительно
отвергла кандидатуру польского короля, одновременно соглашаясь
принять на отечественном престоле иноземного принца.
Делегированных «представителей всей московской Земли», несмотря на их
дипломатическую неприкосновенность, по приказу Сигизмунда,
тут же взяли под стражу. Филарет пробыл в польском плену до 1619 г.
Показательная деталь, характеризующая слабую солидарность мос-
I -у..—^j.———i.^————. |
' *iî$5b-l- ЩНТРАЛкНАЯ ГОРОДСКА» ПУ»ЛИЧНД« I ЛП
ковского политического класса: даже после избирательного Собора
1613 г., возведшего на московский трон Михаила Романова,
находившийся в польском плену отец новоизбранного царя несколько лет
оставался формальным сторонником «государя Московского и всея
Руси Владислава Сигизмундовича».
При такой несолидарности правящего класса неудивительно, что
горстка поляков несколько лет хозяйничала в Москве, легко
разоружая толпы горожан, численно превосходившие оккупантов в
сотни раз.
В. О. Ключевский называет самозванство стереотипной формой
политической оппозиции, усвоившей вотчинно-династический
взгляд на государство. С иллюзией подобного самовосприятия не мог
расстаться и Николай II, именуя себя в опросной анкете
общероссийской переписи 1897 г. «хозяином земли русской». Государево
служение он прекратил 3 марта 1917 г. актом отречения, больше похожим
на простое хозяйственное распоряжение. То есть — изданным в
соответствии с нормами скорее частного, нежели публичного
(королевского) права. «Как будто роту сдал», — комментировали этот
антигосударственный акт, приведший к революционной катастрофе,
тогдашние государственники.
Пресечение династий в России неизбежно создает нетерпимый
вакуум высшей исполнительной власти. Самозванство — неправовая,
непроцедурная попытка его заполнения.
Охранительные силы порядка
Извечная неструктурированность российского общества ставит
его вертикальную политическую мобильность в чрезмерную
зависимость от центральной власти. Но в этой зависимости есть и
положительные моменты. Она пресекает революционные взлеты
несистемных элементов, тормозит их путь «из грязи в князи». Беглый
каторжник Белобородов («Хлопуша») и казак Зарубин («Чика») могли
стать «енаралами и графьями» только в разбойничьем стане Пугачева,
имитировавшем ритуалы царского двора. Дьявол — обезьяна Бога.
Революции дают карьерные шансы несистемным элементам,
общественным маргиналам с энергетикой большевизма. Лидеры
анархических толп входят во власть непроцедурно. Своим выдвижением
уличные вожди обязаны не Народу, а «народным массам».
Народ-суверен есть понятие не статистическое, не
демографическое и даже не политическое. Это — базовая категория философии
18
права. Она неразрывно связана с универсалией Государства. Народ-
суверен (нация) разрушается при гибели государства. Народ
державен, но не самодержавен. Создав государство, народ делегирует ему
часть своего суверенитета. Народ-суверен с момента вышеуказанного
делегирования ограничен правом, писаным законом, сакральными
текстами конституций в не меньшей степени, чем государство.
Зрелая политическая демократия далека от всевластия
большинства. Демократическая воля большинства обретает статус высшего
закона при следующих непременных условиях: волеизъявление
право- и дееспособных граждан свободно от внешнего принуждения;
оно осуществляется с предсказуемой регулярностью; его организуют
органы публичной власти; его результаты документально
фиксируются; оно принимает юридически непротиворечивую форму
писаного закона.
Форс-мажорные обстоятельства, препятствующие в правовом
государстве свободе гражданского волеизъявления, также
определяются законом. Они входят в исчерпывающий перечень: военное
положение, стихийное бедствие, эпидемия, эпизоотия, массовые беспорядки.
Государственный форс-мажор обязывает органы исполнительной
власти ограничивать некоторые формы общественной активности и
часть политических прав граждан на время, пока «консулы
озаботятся благом Республики».
Совершенно очевидно, что самые массовые общественные акции
(демонстрации, митинги, всеобщие стачки и забастовки, сбор
подписей и т. п.) сами по себе закона породить не могут. Они не создают
юридических последствий.
С правовой точки зрения, бессмысленно количественное
сопоставление участников земского избрания Бориса Годунова и толпы,
свергнувшей его законного наследника. Скорее всего, избирателей
было намного меньше, чем восставших1. Избиратели 1598 г.
представляли собой граждан, организованных государственным образом.
Это перед их выбором, а не перед преступлением агентов Самозванца
мог «безмолвствовать» в 1605 г. стихийный «народ» пушкинской
трагедии «Борис Годунов». Мог — если бы земское избрание
тогдашнего главы государства закрепилось институционально, обрело
правильные процедурные формы, вросло в массовое правосознание
«старины и пошлины». Вместо апелляции к своему статусу земского из-
1 См.: Пушкин А. С. Борис Годунов. «Мужик, надсаживаясь, орет: Народ,
народ, в Кремль, в царские палаты, вязать, топить Борисова щенка!» Авторская
ремарка: «Народ несется». В заключение — «народ безмолвствует».
19
бранника, Борис Годунов пытался, по словам В. О. Ключевского,
«пристроиться к прежней династии».
Василий Шуйский, именуемый историками боярским,
партийным царем, в силу своей принадлежности к старшей ветви
Рюриковичей был легален в не меньшей степени, чем дворянско-
земский избранник Годунов. Точно так же как не прошедший
испытания всеобщих выборов первый (и последний) партийный Президент
СССР, избранный Съездом народных депутатов СССР, не уступал в
законности всенародно избранному Президенту России. Но в
условиях общесистемного кризиса формальная легальность носителя
высшей власти, лишенная энергетики национального лидерства, в
общественном восприятии не обретает свойств безусловной
легитимности. Последняя нуждается в сакрализованных процедурах
национального выбора.
В начале XVII в. рухнуло московское государство и связанные с
ним политические скрепы. Социальная рознь вошла в фазу войны
всех против всех. Порядок восстановили земские общины. Задачу
государственного строительства выполнили частные лица,
соединенные интересами совместного выживания. Уже не было политической
инфраструктуры. Отсутствовал общенациональный рынок. Исчез
товарно-денежный оборот. Но сохранилось государствообразующее
ядро великорусского суперэтноса.
Провинциальные земские общины объединились друг с другом и
с государственными служилыми людьми. Они осознали свою
национально-религиозную идентичность. Народное чувство,
идеологически трансформированное православием, вызвало к новой жизни
традиционную охранительную силу — самодержавие.
Дворянско-земское движение 1611-1613 гг. было
реставрационным. В силу этого — не демократическим. Его организационные
формы (ополчение, походный Земский собор) выражали сословную
природу общества, временно оставшегося без государственной опеки.
Сословная ранжиррванность тщательно соблюдалась даже в
порядке очередности, в какой ставились подписи под учредительными
решениями походных Земских соборов. Князь Пожарский,
например, расписывался за себя и неграмотного Минина далеко не первым.
Он уступал эту честь рядовым, но более родовитым ополченцам.
В революционном тушинском стане сословная иерархия,
наоборот, открыто попиралась. Политический ранг добывался
вооруженной силой. В основном — казацкими саблями. В отличие от сословно-
государственной организации Второго общеземского ополчения,
тушинский стан структурировался по партийному принципу.
20
Почему в России с относительным запаздыванием возникают
системно-государственнические, консервативные, охранительные
партии? В условиях общесистемных кризисов первыми
формируются и расшатывают традиционный порядок политические сообщества,
заинтересованные в ослаблении государства. В этом проявляется
свойственная России историческая инерция.
Ее источник скрыт в глубинах российской древности.
Общественная самоорганизация славянского населения многие века
осуществлялась в негосударственных формах. Земские семейно-родовые
структуры восточных славян с историческим опозданием подошли к
стадии формирования территориально-общинного государства.
Поэтому они уступили государствообразующую роль антиземским
семейно-дружинным сообществам, не связанным с основной массой
крестьянского населения ни территориально, ни
социально-экономически. Ответом на внеземский. характер русского государства
явилась отчужденность крестьян от политической власти княжеского
Города. Основная масса населения осталась неслужилой, тягловой,
податной. До сих пор русское слово «гражданский» находится в
смысловой оппозиции слову «военный». Работающее, оседлое общество,
«мир» — воюющему, кочующему, собирающему дань государству.
В IX-XIII вв. «посоха» (земское ополчение) временно
присоединяется к государственной военной корпорации, но не сливается с ней.
Ополченцы быстро демобилизуются и возвращаются к Земле.
Русский былинный эпос запечатлел функциональную дивергенцию
Земли и Дружины. Оставить земские занятия (бросить сошку за ра-
китов куст) и последовать «за дружинушкой хороброй» побуждает
деревенского Микулу Селяниновича дружинно-городской варяго-
рус Вольга Ярославович. Поучаствовав в государственном
мероприятии, Микула Селянинович возвращается к сохе.
Бегство от тягла
Русские князья рано озаботились безопасностью своих
стратегических маршрутов вдоль государственных (речных) магистралей на
пути «из Варяг в Греки». Негосударственные славянские города, не
превращенные норманнами в укрепленные торгово-перевалочные
базы (товарища), потенциально были намного сильнее бродячих
княжеских дружин. Но только Новгородской республике удавалось в
течение XI-XV вв. устанавливать с наемным государством (пользуясь
его временным ослаблением) правильные договорные отношения.
21
Бурги без буржуа, города с незащищенными слободами, при
фортификационном доминировании государственного Кремля
(детинца), не превратились в опорные пункты корпоративно
организованных городских общин, в связи с отсутствием последних. Феодально-
княжеские укрепленные замки на Руси не строились вне
торгово-ремесленных городов. Обязательно — внутри. Из всех
государственных функций русских городов главной в течение многих
столетий оставалась оборонительная, крепостная.
«Земля», область хозяйственных «миров», тяготеющая
(«тянущая») к своей основной административной крепости, была
заинтересована в исправности главной княжеской службы — обеспечении
внешней безопасности страны. Внутренние династические разборки
норманнских конунгов (князей), равно как и дружинная иерархия
варяго-русов, мало интересовали славянское население.
Показательны в этом отношении внешние войны, которые вела в IX-X вв.
Новгородско-Киевская Русь. В 860 г. дружина удачно грабит
Византию. В 908 г. полулегендарный киевский конунг Олег (Хельг)
вместе с другими скандинавскими военными вождями совершает
столь же удачный морской поход в пределы Византийской империи,
получает от греков, не забывших поражение 860 г., богатый откуп,
обещает им вооруженную союзническую защиту от внешних врагов,
в ознаменование чего и «прибивает щит на вратах Цареграда». В 944 г.
киевский конунг Игорь Старый (Ингвар) неудачно повторяет
военное предприятие своего предшественника. Варяго-славянский флот
погибает под нефтяным «греческим огнем». Но для основной массы
податного славянского населения Руси и успешные и неуспешные
заморские предприятия кочевого семейно-дружинного протогосудар-
ства одинаково тяжелы, поскольку неизбежно сопровождаются
непомерными военными реквизициями продуктов земского труда и
дружинной охотой за челядью (рабами).
Русское государство только с XVIII в. стало заниматься
организацией общественного производства, его первичным
макроэкономическим регулированием. Перед российскими властями не стояли
инфраструктурные задачи создания и поддержания в рабочем
состоянии ирригационных систем (как в Древнем Египте) или
строительства военно-административных транспортных магистралей (как в
Древнем Риме). Русские князья строили города-крепости для
подчинения и обороны страны.
Среднерусская равнина с ее обилием речных путей, Урал и
Сибирь, богатые естественными ресурсами жизнеобеспечения,
включались в государственные пределы военно-политическими средства-
22
ми, но хозяйственно осваивались инициативными земскими
группами. Экстенсивное подсечно-огневое земледелие, по сравнению с
интенсивным мелкоконтурным сельхозпроизводством Древней Греции,
требовало немного капиталовложений, но в первые два-три года
давало высокие урожаи, резко снижавшиеся в последующие годы.
Географическая, природная среда обитания великороссов
столетиями не нуждалась в государственном инвестировании. В отличие от
западноевропейских стран, Россия практически не строила ни дорог
общего пользования, ни «царских» — с твердым покрытием. Русская
равнина бедна каменными материалами. При строительстве Санкт-
Петербурга Петр I запретил каменное строительство по всей стране.
Каждый человек, въезжавший или входивший в столицу, независимо
от его сословной принадлежности или государственного ранга
должен был, по царскому указу, положить около городской заставы два
камня. Деревянные мостовые в городах сгнивали за 20-30 лет.
Грунтовые дороги между населенными пунктами разбивались за
несколько лет. Для сравнения: древнеримская Аппиева дорога и в
настоящее время пригодна для эксплуатации. Только военные нужды
заставили российское правительство финансировать в начале XX в.
строительство железнодорожного одноколейного Транссиба.
Инвестиционный потенциал хозяйственного освоения гигантских
пространств создавался многолетней капитализацией избыточного
живого труда частных лиц.
Слабовыраженной оставалась в течение столетий и одна из
функций классового государства — перераспределение ресурсов
жизнеобеспечения между низовыми социальными группами. Эта функция
резко обозначилась в советское время.
Во время нэпа уровень жизни двадцати миллионов городского
населения был выше, чем позволяла удельная продуктивность их труда.
Горожане пользовались плодами неэквивалентного обмена между
городом и деревней. «Ножницы» между завышенными ценами на
промышленную и заниженными — на аграрную продукцию
определялись государством. Таким образом, промышленный пролетариат
косвенно участвовал в государственной эксплуатации 120 млн крестьян.
Компенсировалась рыночная неконкурентность социалистического
сектора экономики. Формировалась социальная опора
большевистского режима. В 1970-е гг. подобную компенсаторную роль выполнял
экспорт первичных ресурсов, прежде всего энергетических.
При общем снижении трудовых мотиваций, социалистическое
хозяйствование включало экзотический, с экономической точки
зрения, механизм «выводиловки». Минимальный стандарт потребления
23
большинства обеспечивался нормативно-тарифным ограничением
заработков высококвалифицированного меньшинства населения.
Десятки лет длилась редкая в истории ситуация: большинство
участвовало в эксплуатации меньшинства. Контпродуктивный
«экономический большевизм» поддерживался средствами
внеэкономического принуждения.
К 1990-м гг. ресурсная база социалистического
перераспределения оказалась в основном исчерпанной. Нефть уже не
фонтанировала. Мировые цены на энергоресурсы не летели вверх, как это
происходило после мирового энергетического кризиса 1973 г.
Государственно управляемый хозяйствующий аппарат СССР не
справился с вызовами постиндустриального развития.
Социализм — система расточительно затратная и
перераспределительная по преимуществу. Производительно малоэффективная,
она способна на краткосрочные мобилизационные усилия в
избранных точках роста. Потребительские эффекты уравнительной
социальной справедливости создаются на базе первичной
индустриализации. Политическая лояльность неконкурентной части населения
покупается ценой деградации природной, технологической и
экономической среды.
«Социализм — это учет» (В. И. Ленин). Спрятаться от него — при
технологических средствах внеэкономического принуждения —
продуктивная часть советского населения не могла. Многие спасались
«бегством от тягла», имитацией трудовой активности, тунеядством
либо мелким хищением «общенародной собственности». Народное
средство негосударственного перераспределения обозначалось
эвфемизмом «несуны». Внеэкономические взаимоотношения податного
населения и государства характеризуются многовековой
исторической инерцией.
В течение столетий, считая Государство вотчиной государя,
российская Земля не заключала с ним общественного договора. Равно
как и договоры служебного и трудового найма. Представители
антиземского государства (баскаки, численники, княжеские тиуны,
мытари, фискалы, помещики, командиры продотрядов, председатели
колхозов, директора госпредприятий) воспринимались работным людом
не в качестве контрагентов договорных правоотношений, но — в роли
надзирающих за службой и тяглом. И — отдельно от высших
институтов публичной власти. «Царь (Ленин-Сталин) у нас хороший,
помещики (начальники) плохие».
Работники, недовольные хозяином, стремятся либо улучшить
условия принудительного труда, либо покинуть место работы.
24
Бегство от тягла принимало в России временами огромные размеры.
По часто встречающемуся выражению древнерусских летописей,
«земля лежала впусте, люди брели розно». Ярмо старинной барщины
заменялось оброком, выработка обязательного минимума колхозных
трудодней (именуемых «палочками») дополнялась «данью» —
обязательной поставкой каждым крестьянским домохозяйством в
«закрома Родины» разнообразной сельхозпродукции. (Последнюю
повинность отменили в 1953 г.)
Российское государство (по словам В. О. Ключевского)
столетиями гналось за своими подданными. Малолюдная цивилизация
обременялась гигантской территорией. Централизуя власть, страна
распыляла население. При этом земля и недра оставались основным
госресурсом. Экономическая связь между ним и убегающими
работниками непрестанно рвалась.
Традиционно слабой оставалась и политическая связь
гражданского населения с военно-чиновничьим государством. С Отечеством,
объектом глубокой и прочной привязанности россиян, авторитарное
государство отождествлялось преимущественно в периоды внешней
национальной опасности. В ходе Отечественных войн XVII, XIX и
XX вв. монархические и тоталитарные государственные формы
сливались с формами общественной самоорганизации и заставляли
империю становиться республикой («общим делом»).
«Сначала успокоение, потом реформы»
Бежит ОМОН, бежит спецназ,
Стреляя на ходу.
Ах, как нам не хватало вас
В семнадцатом году!
Фольклор
Социокультурная предрасположенность россиян к
насильственному установлению форм принудительного равенства и
агрессивного внедрения «социальной справедливости» не доминирует
сегодня в политическом поведении подавляющего гражданского
большинства. Глубока историческая память об ужасах революций,
гражданских войн и массовых репрессий. Сказывается и высокий
образовательный уровень населения. Но иногда происходит
временное ослабление исторической памяти. И тогда фактором
общественных потрясений становится внесистемная борьба политизи-
25
рованных групп населения, перенесенная на улицу. Такая борьба
неизбежно повышает средний уровень социальной агрессии и
опасно расшатывает основания государственного порядка. Исторически
назидательно схематическое сопоставление нескольких
«октябрьских кризисов» российской государственности. Один из них
разворачивался совсем недавно, у нас на глазах. Адское пламя
гражданской войны символически обозначилось в множественных
поджогах кабинетов московской мэрии, захваченной
сторонниками Верховного Совета РФ.
Запахом серы (от соединения политического пороха с
административным нафталином) повеяло на российских граждан в ночь с 3
на 4 октября 1993 г. Вспомним. Уже прорваны и рассеяны слабые
милицейские заслоны на московских улицах. Вооруженные толпы
захватили здание московской мэрии. «Белый дом» ощетинился
стволами. Начался штурм Останкинского телецентра. Погасли телеэкраны,
повергнув в ужас миллионы мирных семей. Федеральные войска
колеблются. Сил правопорядка явно недостаточно. Законопослушные
граждане по определению безоружны.
Лейтмотив всеобщего хора возмущенных и испуганных голосов:
«Почему бездействует Президент?» В ту ночь многие из лидеров
оппозиции воззвали к тяжкой державной руке, способной обуздать
анархию. После силового восстановления порядка они принялись
обвинять Ельцина в «установлении диктаторского режима».
Действовавшая в тот момент Конституция РФ,
сконструированная из системных блоков советской Конституции 1977 г., создавала
угрозу самой государственности, поскольку содержала в себе
взаимоисключающие нормы. Подготовленный Конституционным
совещанием 1993 г. проект нового Основного закона еще не был принят.
Он наделял Президента РФ реальными средствами наведения
правопорядка. Однако перерыв в праве, возникший после
приостановления полномочий советского парламента, создал опасный перекос
государственного здания в сторону бессрочного доминирования
институтов исполнительной власти. Российский политический класс
сумел сохранить устойчивость государственного здания в период
между 21 сентября и 12 декабря 1993 г. Исполнительная власть,
временно оставшаяся без конституционных сдержек и
противовесов, удержалась от политического соблазна «демократической
диктатуры».
Президентско-парламентская республика, установившаяся в
декабре 1993 г., не являлась «диктаторским режимом». Последнее есть
управление с помощью вооруженной силы, законом не ограниченной.
26
В октябре 1993 г. Россия благополучно миновала опасную точку
исторической бифуркации. Государственный опыт нашей страны
изобилует подобными опасностями.
17 октября 1905 г. российский император стоял перед похожим
выбором: вручить обоюдоострый меч военной диктатуры
специально вызванному великому князю Николаю Николаевичу или
подписать конституционный манифест, подготовленный С. Ю. Витте.
Николай II осознавал, что в диктатуре содержится отрицание
самодержавия. Она может быть либо военной (корпоративной), либо
партийной (групповой). Авторитарной либо всенародной — не
бывает по определению.
Любая диктатура, будучи системно неустойчивой формой
экстренной самообороны власти, неизбежно уступает свое место
стационарным режимам. Чаще всего авторитарным,
авторитарно-представительным, парламентско-демократическим, тоталитарным. Каким
конкретно — зависит от зрелости политического класса.
Думская монархия 1907-1917 гг. эволюционно перевела страну
в авторитарно-представительное состояние, адекватно отражавшее
уровень ее политического развития. Демократическая революция
февраля 1917 г., наоборот, породила государственную смуту вместо
установления задуманного оппозицией парламентско-демокра-
тического строя, до которого тогдашняя Россия не дозрела.
Взрывная политизация масс обеспечивает роковой перевес
непосредственной демократии над представительной. Прежде чем
отлиться в крайние формы этатизма, «живое творчество масс» (В. И. Ленин)
сокрушает государственность как таковую. Поэтому большевики
изначально люди улицы.
У революционных толп нет руководителей, ограниченных
техникой политического менеджмента. Только — вожди,
одушевленные очередным вечно живым учением, способные на простые и
грубые решения. Вождизм — явление политически примитивное, до-
государственное. Общество для него не исторический организм,
сформировавшийся эволюционно. Тем более — не система,
управляемая параметрически. «Революция — локомотив истории»,
«Насилие — повивальная бабка прогресса», «Каждая кухарка
способна управлять государством» — все это политологические
фантазии вождей, а не социально-политических менеджеров.
Делением на социальные низы и социальные верхи
исчерпывается ленинское дихотомическое понимание системной сложности
российского аграрно-индустриального общества начала XX в. «Низы не
хотят... верхи не могут...» Социальные «низы» (осознающие себя та-
27
ковыми) «не хотят» всегда. Но если «неможется» государству,
заболевает общество в целом.
Социально-экономические предпосылки государственной смуты
1917 г. создавались десятилетиями. В 90-е годы XIX в. Россия
первой среди европейских стран вступила в системный кризис
ускоренной модернизации на базе незавершенной индустриализации
аграрной страны. В Российской империи ежегодно прокладывались
в среднем 2,5 тысяч верст железных дорог. Этот показатель никогда
не был превышен. Среднегодовой прирост промышленной
продукции составлял 15 %. Иностранные инвестиции достигли одного
миллиарда золотых рублей (около 120 млрд нынешних долларов
США).
Кризис поразил российскую экономику к 1900-му году в самых
интенсивно развивающихся отраслях: угле- и нефтедобыче,
металлургии, машиностроении, электроиндустрии. Прилив иностранного
капитала почти прекратился. Обанкротились многие предприятия с
иностранным участием. Потерпели крах ведущие финансово-
промышленные группы С. И. Мамонтова (известного мецената),
П. П. фон Дервиза, А. К. Алчевского. Причины лежали на
поверхности: чрезмерная инвестиционная «перегретость» экономики и
избыточный государственный патернализм. Стало ясно, что продуктивная
хозяйственная среда нуждается в саморегуляции. Правительство
осознавало необходимость долговременных факторов устойчивого
производственного роста и экономического развития. От
государственной (макроэкономической) финансовой стабилизации
следовало переходить к микроэкономическому стимулированию субъектов
малого предпринимательства в аграрном секторе. Мешала
крестьянская община.
Однако С. Ю. Витте, озабоченный проблемами ускоренной
индустриализации и налоговой эффективности бюджета, не решился на
структурную реформу производственных отношений в аграрном
секторе российской экономики. Закон от 14 декабря 1893 г. запрещал
крестьянам выход из общины без согласия двух третей домохозяев,
ограничивал продажу и залог выделенных в семейную собственность
земельных наделов. Российские власти считали крестьянскую
общину краеугольным камнем стабильности и порядка. Революция 1905-
1906 гг. развеяла этот миф.
Итак, в начале XX в. Россия испытала на себе революционные
риски ускоренной модернизации. Один из них состоял в масштабной,
резкой социальной перегруппировке. Похожая происходила во
второй половине XVI в., прорвавшись установлением крепостного права,
28
«перебором людишек» и ужасами опричнины. Продолжилась — в
начале XVII в., придав государственной Смуте характер социальной
дезинтеграции страны. Для сравнения: Петровские реформы,
изменившие общественный статус сотен тысяч подданных, поднявшие
Россию «на дыбы», не вызвали ни смуты, ни революции. Потому что
сопровождались укреплением государства.
Слабая власть способна на организацию не реформ, а
революций. Первая русская революция 1905-1906 гг. была
спровоцирована неудачной войной и прочими манифестациями государственной
неэффективности. Кровавое Воскресенье — из их числа. Государство
тогда устояло, расширив свою социальную базу, взяв в союзники
цензовую часть общества. Последняя требовала конституционного
обеспечения гражданских прав. Царь уступил этим требованиям.
Из царского Манифеста 17 октября 1905 г.: «1. Даровать
населению незыблемые основы гражданской свободы на началах
действительной неприкосновенности личности, свободы совести, слова,
собраний и союзов... 3. Установить как незыблемое правило, чтобы
никакой закон не мог восприять силу без одобрения Государственной
Думы и чтобы выборным от народа обеспечена была возможность
действительного участия в надзоре за закономерностью действий
поставленных от Нас властей».
Одновременно с Манифестом был опубликован
всеподданнейший доклад С. Ю. Витте: «Следует верить в политический такт
русского общества... Не может быть, чтобы русское общество желало
анархии, угрожающей, помимо всех ужасов борьбы, расчленением
государства».
Однако консервативно-охранительные силы русского общества
не успели структурироваться. Поэтому его «политический такт» не
спешил обнаружиться. Лев Троцкий ответил в «Известиях Советов»:
«Пролетариат не хочет ни полицейского хулигана Трепова, ни
либерального маклера Витте, ни волчьей пасти, ни лисьего хвоста. Он не
желает нагайки, завернутой в пергамент конституции». В первые дни
после опубликования царского Манифеста цензовая часть населения
империи уступила политическое пространство радикально
настроенным неформальным группам маргинального типа.
Политические радикалы увидели в дарованных царем свободах
свидетельство государственной неустойчивости. По стране
покатилась анархическая волна социальных насилий, партийных «эксов»,
политических убийств, уголовных грабежей. Это был всеобщий
разгул антигосударственных страстей. Местные органы публичной
власти самоустранились. «Начальство ушло» (В. В. Розанов).
29
Наведением порядка занялись народные массы. 18-21 октября
1905 г. на улицы российских городов вышли не пресловутые «черные
сотни» советской историографии. Неправый суд и расправу творили
сотни тысяч испуганных мелких собственников и внецензовой части
городского населения. Конечно, не полиция их организовывала.
Столь масштабные акции ей были бы не по силам. Обнажился
глубинный архетип стихийной и экстренной самообороны первичных
форм низовой социальности, оставшейся без государственного
регулирования и внешней опеки властей. Стихийная агрессия
охранителей традиционного порядка столкнулась со встречной, столь же
стихийной агрессией его возмутителей. Накопленный потенциал
социальных антагонизмов разрядился в форме политизированных
вооруженных мятежей. Встречная волна вооруженных насилий
охватила всю страну.
25 октября 1905 г. матросы нескольких экипажей взбунтовались,
рассыпались по Кронштадту. Начались грабежи магазинов и квартир,
насилия над «буржуазной публикой», поджоги, убийства офицеров.
Два дня город был во власти пьяной матросской толпы. Два
батальона Преображенского полка быстро восстановили порядок.
2 декабря 1905 г. в восьми петербургских газетах публикуется
«Манифест Совета рабочих депутатов»: «Надо отрезать у
правительства последний источник существования — финансовые доходы».
Для этого население призывалось:
— не платить налогов;
— при всех сделках требовать уплаты золотом или полновесной
серебряной монетой;
— изымать вклады из сберегательных касс и банков, требуя
выплаты непременно золотом;
— не допускать уплаты процентов по иностранным займам.
Ставилась задача распыления государственного золотого запаса.
Власть ответила быстрым ударом. Все газеты, напечатавшие
«Манифест», были закрыты. Совет рабочих депутатов — арестован.
Поэт Минский в горьковской «Новой жизни» затягивает
интеллигентский перепев «Интернационала»: «Пролетарии всех стран,
соединяйтесь... Кто не с нами, тот наш враг, тот должен пасть».
К. Бальмонт, А. Белый приветствуют революционную стихию толп.
Д. Мережковский предрекает ужасное торжество «грядущего Хама».
Заблаговременно дешифровав мистические письмена «мене, текел,
фарес» на стенах Зимнего дворца, В. Брюсов радуется неизбежной
победе новых варваров: «И тех, кто меня уничтожит, встречаю
приветственным гимном!»
30
Писатель В. Г. Короленко в газете «Полтавщина» возмущается
«полицейской репрессией» советника Филонова. Толпе крестьян
села Сорочинцы Полтавской губернии, убивших стражника,
советник приказывает встать на колени и покаяться. Воинская команда,
сопровождавшая Филонова, устраивает в селе массовые
показательные экзекуции крестьян. После выступления Короленко неизвестные
убивают Филонова. Писатель смущенно признает, что он не
предвидел трагических последствий своей публицистики. «Нам не дано
предугадать, как слово наше отзовется» (Ф. Тютчев).
Восемнадцатилетняя Мария Спиридонова (будущий
руководитель партии левых эсеров) на вокзале Тамбова убивает советника
губернского правления Лужиновского. Толпа ее избивает. Находясь
под арестом, Спиридонова обвиняет двух жандармских офицеров в
ее изнасиловании. На суде она отказывается от ложного обвинения.
Но офицеров успевают убить. Убийцы скрываются.
Революция быстро приняла формы партизанской войны и
террора против государственных лиц. Интеллигенция медленно
трезвела.
Либеральная тактика премьера Витте по умиротворению не
давала желаемого эффекта. «Братцы рабочие!» — взывал граф
«Полусахалинский». Ему не верили. Недавнее всеобщее обожание
премьера сменилось всеобщей ненавистью. «Если бы при
теперешних обстоятельствах во главе правительства стоял Христос, то и ему
не поверили бы», — писал С. Ю. Витте. Поляризованное
политическое сознание общества не могло относиться к власти по-деловому
спокойно, инструментально. В России «всякий новый начальник
душка и красавчик» (M. Е. Салтыков-Щедрин). Правда, новым он
остается недолго.
Охранительные силы страны, между тем, консолидировались.
Забастовка почтово-телеграфных служащих 16 ноября 1905 г. была
прекращена усилиями сотен добровольцев, разносивших
корреспонденцию.
Дисциплинированный отряд всего лишь в двести человек под
командованием генерала Меллер-Закомельского в январе 1906 г.
быстро освободил Великий сибирский путь от десятков тысяч
разложившихся солдат, его захвативших.
Царь, предоставив политическую сферу Витте, принял
своевременные меры по защите силовых структур государства от
разложения. Меры оправдались.
Не оправдались надежды, возлагавшиеся на Госдуму. Она не
стала оплотом конституционного порядка. Ее первым законопро-
31
ектным актом предусматривалась амнистия боевикам, террористам
и погромщикам.
Николай II это предвидел: «Я отлично понимаю, что создаю себе
не помощника, а врага, но утешаю себя мыслью, что мне удастся
воспитать государственную силу, которая окажется полезной для
того, чтобы в будущем обеспечить России путь спокойного
развития, без резкого нарушения тех устоев, на которых она жила столько
времени»1.
Вторая Государственная дума, состоявшая из полуграмотных
крестьян и радикальной интеллигенции, заслужила прозвище «Думы
народного невежества». Обращаясь к ней, Столыпин произнес
знаменитую речь: «Эти нападки рассчитаны на то, чтобы вызвать у власти
паралич и мысли, и воли. Все они сводятся к двум словам — "руки
вверх!" На эти два слова, господа, правительство с полным
спокойствием, с сознанием своей правоты может ответить только двумя
словами — "не запугаете!"»2.
До П. А. Столыпина реформы осуществлялись лишь ослабленной
властью. Ее укрепление означало отказ от преобразований. Столыпин
разорвал этот порочный круг. Революция закончилась роспуском
II Государственной думы и принятием нового избирательного закона
отЗ июня 1907 г.
К делу государственного строительства привлекались
дееспособные граждане. По закону от 3 июня 65 % выборщиков, формирующих
Госдуму, избирались теми слоями населения, которые прежде
участвовали в земских и городских выборах и таким образом имели опыт
гражданской деятельности. Третья Государственная дума смогла
приступить к работе, имея мандат доверия первично
структурированных цензовых граждан. Но и III Госдума долгое время лишь
проедала остатки аванса политического доверия, выданного органу
национального представительства голосованием более широких кругов
неструктурированной части общества. Аванс большей частью был
непродуктивно растрачен думцами двух предшествующих созывов.
Общее разочарование выразил поэт.
Середина мая. Но деревья голы.
Будто Третья Дума делала весну.
Саша Черный
1 Ольденбург С. С. Царствование Императора Николая П. М., 1992.
2 Там же.
32
Думская монархия 1907-1917 гг. системно согласовала базовые
институты российского государства. Император находился вне
действия конституционного принципа функционального разделения
властей. В нем институционально соединялись исполнительная,
законодательная и судебная подсистемы
национально-государственной макросистемы. Силовые министерства замыкались
непосредственно на царя. Законодательная и финансовая области находились
в ведении органов национального и государственного
представительства. Они состояли из двух равноправных палат: Государственной
думы и Государственного совета. Госдума избиралась, а Госсовет
назначался царем.
Избирательное право осуществлялось двух- и трехстепенным
голосованием в губерниях, прямым — в обеих столицах и пяти
крупнейших городах. Избирательные правомочия граждан
градуировались в соответствии с их образовательным и имущественным
цензом. Например, избиратель, имеющий высшее образование, обладал
правом на два избирательных голоса. Цензовая демократия в
законодательной сфере сочеталась с автократическим принципом
формирования и функционирования исполнительной государственной
системы. Правительство и вся вертикаль исполнительной власти
назначались именными императорскими указами. Кадетский
проект «кабинета общественного доверия», ответственного не перед
царем и Государственной думой, а перед анонимной
«общественностью», останется нереализованным партийным лозунгом вплоть
до февраля 1917 г. Его непродуманное осуществление в «розовый
период революции» (март-май 1917 г.) ввергнет страну в пучину
фактического безвластия и окрасит политический горизонт в
кроваво-красные тона.
В России 1907-1917 гг. стремительно шло структурирование
гражданского общества. Возникло огромное количество
всевозможных ассоциаций, корпораций и союзов, особенно профессиональных.
Отказы в государственной регистрации их уставов были
сравнительно редки. Они касались главным образом политических партий.
В частности, не получили официального политического статуса эсеры
и эсдеки-большевики. В их программах провозглашалось право
любой группы активных граждан на вооруженное восстание, с целью
насильственного изменения общественного строя, содержались
призывы к массовым нарушениям конституционного правопорядка.
В 1907 г. в России распалась коалиция оппозиционных сил:
земств, городов, торгово-промышленных кругов, интеллигенции.
Заметно поправели органы городского и земского самоуправления.
33
Выразителем политических притязаний крупной буржуазии и
либеральной части чиновничества стал «Союз 17 октября»
(октябристы). Либерально-демократические круги интеллигенции и земско-
городского самоуправления политически консолидировала Партия
конституционных демократов (кадеты).
Накануне революции 1905 г. демократически ориентированная
российская интеллигенция массово исповедовала идеологию
антигосударственности. Идеологическая триада «самодержавие —
православие — народность» отвергалась. Пушкинские «Стансы»,
«Бородинская годовщина» и «Клеветникам России» считались позорными
страницами русской литературы. Разделялось лермонтовское
«Ни слава, купленная кровью, ни полный гордого доверия покой... не
шевелят во мне отрадного сознанья».
После поражения революции 1905-1906 гг. сначала изменились в
позитивном духе отношения интеллигенции с религией. Затем — с
национальной идеей. Наконец — с государственностью. Одна из
причин интеллигентской смены вех — начавшиеся в стране
государственно-правовые и социально-экономические реформы.
«С аграрной реформой, ликвидировавшей общину, по значению в
экономическом развитии России могут быть сопоставлены лишь
освобождение крестьян и проведение железных дорог, — писал в
«Русской мысли» П. Б. Струве. — Не только ясно, что без акта 3 июня
Государственная Дума никогда бы не приняла аграрную реформу
Столыпина, ясно и то, что без осуществления этой реформы по 87
статье, то есть помимо Думы, даже третьеиюньская Дума никогда бы
не решилась на такой переворот».
Землеустройство крестьян состояло в простом закреплении
фактически используемой земли в частную собственность (без
перемежевания), в сведении чересполосных участков в один (отруба), в
создании мелких имений (хуторов).
Государственный крестьянский банк энергично скупал
помещичью землю и в расфочку, на льготных условиях продавал ее
крестьянам. За 14 месяцев (с 1 января 1906 г.) было куплено 7617
имений (с 8 700 000 десятин земли), то есть больше, чем за
предшествующую четверть века.
Обильные урожаи 1909-1913 гг. дали мощный толчок всей
российской экономике. Ее состояние накануне мировой войны
характеризовалось устойчивостью финансовой системы, ростом
производства и увеличением внутреннего потребления. Оно за 20
предвоенных лет увеличилось вдвое. За тот же период урожай зерновых вырос
с 2 млрд пудов до 4 млрд. Удвоилось среднедушевое потребление ма-
34
нуфактуры. Денежные вклады населения в государственных труд-
сберкассах возросли с 300 млн в 1894 г. до 2 млрд золотых рублей в
1913. Выплавка чугуна увеличилась вчетверо, а меди — впятеро.
Почти удвоился за три предвоенных года основной капитал
российского машиностроения...
Три года войны надорвали российскую экономику. Они
обрушили верхние политические этажи, парализовав вполне исправные
рабочие подсистемы исполнительной власти. Российский
политический класс раскололся. Значительная его часть (Госдума, земства,
политические партии, генералитет, великие князья,
предпринимательские союзы) предприняла рискованную, сумбурную
«перестройку» исторически сложившейся государственности России. Такой
системной перегрузки воюющая страна не выдержала.
Вакуумирующий взрыв безвластия
Февраль. Достать чернил и плакать,
Писать о феврале навзрыд...
Б. Пастернак
Хрестоматийна легенда о «гнилости царского строя». Поверить в
нее легко, оперируя исключительно штампами из канонической
биографии вождя мирового пролетариата, излагаемой советскими
школьными учебниками.
— Против кого вы бунтуете, молодой человек? Перед вами стена.
— Стена, да гнилая. Ткни — и развалится.
Так политически просвещал жандармов молодой революционер
Владимир Ульянов.
Еще легче проходит «красная» версия о стихийной
революционной настроенности необученных солдат двух запасных батальонов
Павловского и Волынского полков Петроградского гарнизона. Они
первыми взбунтовались. Партийно аранжированную «музыку
революции» выразительно контрапунктирует общегуманистический
пронзительный мотив «голодных женщин в хлебных очередях».
Мотив этот является сквозным в социальных оправданиях всех
последующих массовых революционных насилий.
Социал-демократическая основательность мифа о Февральской революции 1917 г.
обеспечивается хрестоматийной ссылкой на 90-тысячную забастовку
петроградских рабочих.
35
«Белая» версия украшается уличающей деталью: волынцев
взбунтовал унтер-офицер Кирпичников, недавний студент, сын
профессора. Лишний раз подтвердилось антигосударственное
отщепенство российской интеллигенции. Историческую реальность в
глазах реакционных «охранителей» обрел известный литературный
сюжет. Фельдфебель Захарченко (персонаж купринской повести)
регулярно «репетил» с солдатами своего взвода полковой катехизис
политической «словесности». Последний выглядел вполне черно-
сотенно:
— Кто есть враг унутренний?
— Так что полячишки, жиды и стюденты.
А. Куприн. Поединок
Как всякий катехизис, политическая «словесность»
полуграмотных солдат упрощала кризисную ситуацию 1917 г. Конечно, не
ратники второго разряда, не хлебные очереди, не забастовщики
немногих (в масштабе страны) промышленных предприятий сыграли
решающую роль в государственной катастрофе февраля 1917 г.
Под чьим же напором опрокинулась тысячелетняя «телега
самодержавия (ленинская метафора), покрытая кровью и грязью»? Ответ
покажется парадоксальным: она опрокинулась не слабыми усилиями
революционно настроенных маргинальных групп, а политически
резкими, неосторожными движениями вполне системных общественно-
государственных структур, то есть — тех, кто страной правил.
Системный кризис перерос в общенациональную катастрофу по вине
российского истеблишмента.
В 1905 г. государство выдержало Кровавое воскресенье, Мукден и
Цусиму, многомиллионную октябрьскую стачку, парализовавшую
национальную экономику, декабрьское вооруженное восстание в
Москве, тысячи терактов и пылающих усадеб, военные мятежи в
Кронштадте, на «Потемкине» и «Очакове»... Ничего сравнимого по
масштабам не было в феврале 1917 г.
Трехдневный хлебный дефицит в конце февраля 1917 г.,
возникший в Петрограде из-за снежных заносов на железной дороге, власти
быстро устранили за счет интендантских запасов. Рабочая забастовка
не смогла парализовать жизнеобеспечивающие отрасли.
Инфляция? За три военных года цены на продовольствие
выросли в несколько раз. Рост городских зарплат далеко не полностью их
компенсировал. Государственное регулирование хлебных цен
чувствительно снижало рентабельность сельхозпроизводства.
36
Наибольшие тяготы войны легли на деревню. В основном туда
пришли оповещения о миллионах погибших, раненых и попавших в
плен. Промышленные и транспортные рабочие находились в
лучшем положении: государство частично освободило их от «налога
кровью».
Военная бронь защитила инженерный персонал оборонных
предприятий, мастеров и высококвалифицированных рабочих. Средний
уровень фабрично-заводских заработков, относительно тогдашней
насыщенности потребительского рынка, сегодня достигнут Россией
лишь в топливно-энергетических отраслях. Вспомним, что по
объему среднедушевого потребления в 1913 г. Россия находилась на
седьмом месте в мире. Российский рубль был весомо обеспечен
государственным золотым запасом. До февраля 1917 г., несмотря на
военное разорение, он оставался в числе наиболее устойчивых
мировых валют, не уступая по этому показателю ни франку, ни марке,
ни фунту стерлинга.
Поражения на фронте? Они были ужасающими в 1915 г. В
первый год мировой войны четыре пятых общих потерь личного
состава Российской армии — работа тяжелой германской и австрийской
артиллерии. В августе 1914 г. российская армия имела только 200
тяжелых орудий. У Германии и Австро-Венгрии их было 4500.
Германское дневное производство снарядов в несколько раз
превышало месячное у стран Антанты, вместе взятых. Самый острый
снарядный голод 1915 г. испытала именно Россия. Но к концу 1916 г.
он был успешно преодолен. Постоянно пополняемого расчетного
запаса снарядов хватало на четыре месяца расходов в непрерывных
сражениях масштаба Верденского. На российско-германском
фронте 1916-1917 гг. таких массовых мясорубок не было. Позволю себе
пространную цитату из Уинстона Черчилля. «Ни к одной стране
судьба не была так жестока, как к России. Ее корабль пошел ко дну,
когда гавань была в виду. Она уже перетерпела бурю, когда все
обрушилось. Все жертвы были уже принесены, вся работа завершена.
Отчаяние и измена овладели властью, когда задача была уже
выполнена. Долгие отступления окончились; снарядный голод побежден;
вооружение притекало широким потоком; более сильная,
многочисленная, лучше снабженная армия сторожила огромный фронт;
тыловые сборные пункты были переполнены людьми. Алексеев
руководил армией и Колчак — флотом. Кроме того, никаких трудных
действий больше не требовалось: оставаться на посту; тяжелым
грузом давить на широко растянувшиеся германские линии;
удерживать, не проявляя особой активности, слабеющие силы противника
37
на основном фронте; иными словами — держаться. Вот все, что
стояло между Россией и плодами общей победы...
Согласно поверхностной моде нашего времени, царский строй
принято трактовать как слепую, прогнившую, ни на что не способную
тиранию. Но разбор тридцати месяцев войны с Германией и Австрией
должен был исправить эти легковесные представления. Силу
Российской империи мы можем измерить по ударам, которые она
вытерпела, по бедствиям, которые она пережила, по неисчерпаемым
силам, которые она развила и по восстановлению сил, на которые она
оказалась способна»1.
Почему же охранительные, системные силы страны, одолевшие
первую русскую революцию, так быстро уступили второй? Ответ
очевиден: государственная смута. Ее не было в 1905-1907 гг. Приведу
несколько показательных исторических фактов.
За день до февральской катастрофы 1917 г. фрондирующий
председатель Госдумы М. В. Родзянко телеграфирует начальнику
Главного штаба Российской армии М. В. Алексееву: «Доложите
государю: причины волнений — полное недоверие к власти». 28
февраля в Петрограде анархические толпы громят полицейские
участки 200 тысяч солдат-новобранцев — на улицах города. В Кронштадте
идет резня: убивают офицеров. Силы поддержания порядка в
столице воюющего государства (полицейские и учебные части,
вооруженные пулеметами) не превышают 10 тыс. человек на почти
трехмиллионное население.
В этот день Алексеев сообщает командующим фронтами ложную
информацию, неизвестно кем переданную из столицы: «28 февраля в
Петрограде наступило полное спокойствие, войска примкнули к
Временному правительству в полном составе, приводятся в порядок.
Временное правительство под председательством Родзянко заседает
в Государственной Думе и пригласило командиров воинских частей
для получения приказаний по поддержанию порядка»2.
Верные присяге войска под командованием генералов Беляева,
Хабалова и Зинкевича 28 февраля действительно
сосредоточиваются. Но — не в Таврическом, а в Зимнем дворце. Однако брат царя,
великий князь Михаил Александрович (думский кандидат на роль
конституционного монарха), убеждает командиров покинуть место
дислокации последних дисциплинированных войск. Дескать, создается
1 Черчилль У Мировой кризис. 1916-1918 гг. Лондон, 1927. Т. I. С. 223.
2 Ольденбург С. С. Царствование императора Николая II. Мюнхен, 1949.
Ч. II. С. 248.
38
угроза для художественных ценностей Эрмитажа. Войска
перемещаются в здание Адмиралтейства. Но морской министр Григорович
тревожится за сохранность ценных кораблестроительных чертежей.
Способный стать центром притяжения пока еще немалых, но
пространственно распыленных сил правопорядка, полуторатысячный
сводный отряд, сложив оружие, расходится.
Первая из череды исторических точек системной бифуркации
была пройдена с незначительным (локальным) перевесом
антигосударственных сил: силовой вектор политической динамики событий в
столице Российской империи обозначился, верхушка массивного
государственного здания опасно накренилась. Вертикально
интегрированная структура имперской власти публично продемонстрировала
стремительно расширяющуюся трещину в своей издалека видимой
верхушечной части.
Спасти положение, восстановив системную устойчивость
структурно-функциональной организации государственной власти в
Российской империи, можно было только одним — экстренным
перенесением центра тяжести имперской конструкции власти. Этот центр
персонифицировался личностью Императора и Верховного
главнокомандующего воюющей армии. (Перенесение центра принятия всех
значимых политических решений из антиреформаторски
настроенной Москвы — в походную штаб-квартиру Петра Великого,
окруженного гвардией, неоднократно сохраняло устойчивость власти
«революционера на троне».) Концентрация основных властных решений
на внестоличных уровнях имперской конструкции — в Ставке,
окруженной кольцом дисциплинированных войск, составлявших в конце
февраля 1917 г. подавляющее большинство действующей российской
армии, могла восстановить функциональность управляющего блока
высшей государственной власти.
Ставка располагала в феврале 1917 г. мощными техническими
средствами управления и связи (каких не было в гражданском
секторе исполнительной власти). Опираясь на свое подавляющее
техническое превосходство, Ставка могла блокировать любые
антисистемные посягательства, в том числе идущие от фрондирующей части
военно-политических верхов империи. До рокового 3 марта 1917 г.
еще сохранялась практическая возможность предотвращения
общесистемного коллапса. Стабилизирующий потенциал Ставки мог
реализоваться лишь в условиях ненарушенной линейности управления
в жестко иерархизированной военной подсистеме воюющего
государства. Спасти положение могло векторно ориентированное
социальное действие — локальное преодоление общесистемной нелиней-
39
ности второго уровня, состоящей в диспропорциональности причин
и следствий.
Смертельную ловушку в Пскове для государя подготовили
монархические генералы-заговорщики. Захлопнули царскосельский
капкан — республиканские генералы. Арест уже отрекшегося
Императора произвел командующий Петроградским военным
округом генерал Л. Г. Корнилов, назначенный на эту должность
Временным правительством.
Депутат Госдумы Бубликов 28 февраля по телеграфу объявляет
стране: «По поручению Комитета Государственной Думы я сего
числа занял Министерство путей сообщения...» Далее, от имени
Родзянко: «Государственная Дума взяла в свои руки создание новой
власти». В послереволюционных воспоминаниях Бубликов иначе
оценивает тогдашнюю обстановку: «Достаточно было одной
дисциплинированной дивизии с фронта, чтобы восстание было
подавлено. Более того, его можно было усмирить простым перерывом
железнодорожного сообщения с Петербургом: голод через три дня
заставил бы Петербург сдаться. В марте еще мог вернуться царь, и это
чувствовалось всеми: недаром в Таврическом дворце несколько раз
начиналась паника»1.
Приказом Николая II на мятежную столицу двинулись с разных
фронтов 11 дисциплинированных полков, в том числе — четыре
кавалерийских. Первого марта батальон из 700 георгиевских
кавалеров под командованием генерала Н. И. Иванова, популярного в
армии, решительного, опытного военачальника, был на подходе к
Царскому Селу.
В ожидании подкреплений с фронта, батальон имел приказ
удерживать от мятежа царскосельский гарнизон и лейбгвардии
конвойный полк императорского штандарта. Но произошло
труднообъяснимое: боеспособный отряд георгиевских кавалеров рассеялся до
прихода в пункт назначения. А генерал Н. И. Иванов, намеченный
царем на усмирительную роль, с трудом вырвался из
царскосельской ловушки, получив от железнодорожного персонала станции
паровоз без воды и разобранный путь впереди. Военное значение
подобных техничеких препятствий не могло быть решающим.
Вероятнее всего, генерал Н. И. Иванов получил соответствующую
политическую ориентировку от начальника Главного штаба и занял
выжидательную позицию.
1 Ольденбург С. С. Царствование императора Николая II.
40
В феврале 1917 г. еще не была разрушена государственная
инфраструктура и общенациональные коммуникации. В последующие
месяцы этому немало способствовал Всероссийский
исполнительный комитет железнодорожников (знаменитый ВИКЖЕЛЬ, в
течение 1917 г. державший в страхе изоляции все общероссийские
правительства, не исключая большевистского СНК). В конце февраля
1917 г. данного политизированного органа инфраструктурных
саботажников еще не было. Железнодорожные пути разбирали
стихийно возникавшие небольшие группы «волонтеров революционной
демократии». 700 боеспособных георгиевских кавалеров легко
могли закрепиться на железнодорожной станции Царского Села,
контролируя все подходы к императорской резиденции
(ожидавшей приезда Николая II) и обеспечивая дисциплину конвойного
полка и гарнизона.
Аббревиатура ВИКЖЕЛЬ приобрела к концу года уже
инфернально мистическое звучание. Зинаида Гиппиус — поэтический
медиум гибнувшей цивилизации — писала в ноябре 1917 г.:
Мы стали злыми и покорными.
Нам не уйти.
Уже развел руками черными
Викжель пути.
Но вернемся в те трагические дни конца февраля — начала
марта 1917 г. Находясь внутри горящего здания, нельзя потушить
пожар. Любое центральное правительство, в том числе —
правительство «общественного доверия», оказалось бы заложником
бунтующей солдатской массы столичного гарнизона. Во время
Великой французской революции 1789-1794 гг. Европа трепетала
перед Францией. Франция — перед всемогущим национальным
Конвентом. А Конвент — перед Сент-Антуанским предместьем
Парижа. Не случайно термидорианский Совет пятисот
(законодательный орган постякобинской Французской Республики)
переместился из Парижа в город Сен-Клу, подальше от
революционных секций столицы.
Покинув свою Ставку в Могилеве, царь совершил роковую
ошибку, дорого обошедшуюся Российскому государству. Он оторвался от
исполнительного аппарата Верховного Главнокомандования, от
технических средств связи с армией и страной. На станции Дно царский
литерный поезд был задержан горсткой мятежников, разобравших
железнодорожный путь. Николай принял решение не возвращаться в
41
Могилев (практически это было еще возможно), а направиться в
Псков, в штаб Северного фронта.
В Пскове царский поезд оказался в фактическом плену у
главнокомандующего Северным фронтом генерала Н. В. Рузского. Все
самостоятельные контакты императора с внешним миром отныне
становятся невозможными. Движение войск на Петроград самоуправно
останавливает Главкосев. Тайные участники готовившегося с 1916 г.
дворцового переворота (А. Гучков, М. Алексеев, М. Родзянко)
приступают к действиям. Царя принуждают к отречению. Решающий
опрос, от имени царя, командующих фронтами и членов
императорской фамилии также проводит Рузский. (В октябре 1918 г. он будет
расстрелян большевиками, конечными бенефициарами
генеральского заговоре февраля-марта 1917 г.)
Раскол имперской государственно-политической элиты, а вслед
за ней и общественного истеблишмента обнаружил опасные
антисистемные признаки в последней трети 1916 г.: практической
подготовкой военного заговора, возглавляемого начальником Главного штаба
российской армии M. Н. Алексеевым и председателем Центрального
военно-промышленного комитета А. И. Гучковым. Заговорщики
планировали: арест царя на одной из железнодорожных станций на пути
следования царского литерного поезда от Ставки в Могилеве до
Царского Села, принуждение царя к отречению в пользу сына —
цесаревича Алексея, в случае отказа Николая II — цареубийство. О
подготовленном заговоре против императора знали некоторые
фрондирующие великие князья, в том числе — бывший Верховный
главнокомандующий армией великий князь Николай Николаевич, царский
наместник на Кавказе. Кандидатура сохранявшего популярность в
армии дяди царя, великого князя Николая Николаевича
рассматривалась военными заговорщиками в качестве регента при юном
преемнике Николая П. Осуществление военного заговора было
первоначально назначено на декабрь 1916 г., но отложено до весны 1917, в
целях координации с параллельным, политическим заговором
лидеров Прогрессивного блока IV Государственной думы. Кадеты и
октябристы предпочитали замену на троне самодержавного Николая II —
конституционным монархом, младшим братом императора —
Михаилом Александровичем.
Военные верхи (за исключением главнокомандующего Юго-
Западным фронтом генерала Эверта), в соответствии с
предварительным сговором, дружно потребовали отречения царя, подписав тем
самым приговор и себе, и Российскому государству. Генералы были
уверены в том, что Временное правительство, созданное Комитетом
42
Госдумы, контролирует положение в столице и стране. Эту
уверенность укрепляли разговоры М. В. Алексеева и Н. В. Рузского по
прямому проводу с председателем Госдумы М. В. Родзянко. Данные
военной контрразведки не подтверждали оптимистических оценок
положения в Петрограде. 3 марта 1917 г. Алексеев уже мог оценить
катастрофические последствия отречения государя. Лавинообразные
события пошли вовсе не в том направлении, в каком их планировали
заговорщики.
Кажется невероятным, но ни правительство Российской империи,
с его вездесущим МВД, ни Ставка Верховного Главнокомандования,
с ее мощной военной контрразведкой, ни непосредственно
работавшая в столице Государственная дума, ни многочисленные
общественные организации (в том числе Союз городов и Союз земств) не
получали в оперативном режиме достоверных сведений о политической
ситуации в имперской столице. Все они как будто ослепли. Как будто
разом отключились все механизмы обратной связи со страной и
армией. Управляющая система без обратной связи немыслима даже
теоретически.
Самопровозглашенный Исполком Петроградского Совета
рабочих и солдатских депутатов, опасаясь враждебности крестьянской
страны, в первые дни марта прятался за спины думцев. Поэтому он
подталкивал Временный комитет Госдумы к формированию
буржуазного Временного правительства, отказываясь от делегирования в
его состав своих представителей. За собой Исполком оставлял
функцию высшего контроля, прежде осуществлявшуюся самодержцем.
Между тем, новая временная власть сама оказалась под
нарастающим прессингом анархических толп. Таврический дворец
превратился в вынужденный штаб военного мятежа и самозахватный
солдатский котлопункт. С 27 февраля 1917 г. российский парламент де
факто перестал существовать. Страна уже не слышала думских
речей. Петроградские улицы заговорили языком пулеметов. По
городу с бешеной скоростью носились грузовики, ощетинившиеся
стволами. Солдаты-новобранцы непрерывно стреляли в воздух и
радостно кричали: «Довольно, повоевали!» Свершилось чудо: они
избавились от страшной опасности отправки на фронт. Идя
навстречу требованиям «солдат революции», исполком
Петроградского Совета разослал по воинским частям катастрофическую по
своим последствиям антигосударственную резолюцию, вошедшую
в историю под названием «Приказ № 1». Делегаты, составившие
Совет, представляли рабочие коллективы петроградских
предприятий и части столичного гарнизона. Они были избраны простым под-
43
нятием рук нескольких десятков тысяч правоспособных граждан
(составлявших в своей совокупности сотые доли процента
взрослого российского населения). Несмотря на невысокий уровень своей
представительности, Петросовет с 28 февраля 1917 г.
позиционировал себя в качестве общероссийского высшего органа
законодательной, исполнительной и распорядительной власти. А Временный
комитет Государственной думы, сформированный правомочным
решением легитимного органа общенационального
представительства, уступил свое историческое место маргинальным группам,
действовавшим от имени количественно ничтожного меньшинства
правоспособного населения Российской империи. Это произошло
потому, что Временный комитет Госдумы действовал
негосударственно. Он назначил членов Временного правительства и его
председателя, уступая закулисному партийно-фракционному давлению
кадетов — в обход правильной парламентской процедуры.
Продемонстрировав свою партийную, групповую ангажированность,
Временный комитет лишил себя политических преимуществ
общенационального представительства. В восприятии беспартийного
большинства российских граждан, партийно ограниченный
государственно-правовой статус Временного правительства зеркально
отразился в регионально ограниченном «явочном демократизме»
Исполкома Петросовета. Структурно-функциональное двоевластие
установилось в начале марта 1917 г. только в Петрограде. А
остальная государственная территория Империи надолго вовлеклась в
детерминированный хаос безвластия.
Госдума уступила свое место общенационального
представительства квазипредставительному «органу революционной
демократии», названному Петроградским Советом. Его политическая
эффективность проявилась лишь в сломе государственности.
Показателен в этом отношении изданный Исполкомом
Петроградского Совета антигосударственный «Приказ № 1»,
разрушивший организационные скрепы Российских Вооруженных Сил. Он
отменил армейский системо-образующий принцип:
функциональную и структурную иерархию. Приказ № 1 предписывал: избрание
полковых, батальонных и ротных комитетов; делегирование
комитетских представителей в Петроградский Совет; неисполнение
правительственных распоряжений, противоречащих решениям
Совета; разоружение офицеров; отмену их дисциплинарной власти
над солдатами.
Эти политические предписания адресовались
десятимиллионной Российской армии. «Приказ № 1» отдала горстка штатских
44
людей, за которыми 28 февраля 1917 г. не стояла сколь-нибудь
значительная военно-политическая сила. Тем не менее, данная
резолюция Исполкома Петросовета была беспрепятственно (через
армейские средства связи) доведена до личного состава Вооруженных
Сил империи и немедленно исполнена всеми фронтовыми,
гарнизонными и маршевыми частями. Исполнение самоубийственного
для армии «Приказа № 1» не могло осуществиться без активного
участия демократически настроенного офицерства и генералитета,
занявшего командные должности вместо консервативно-
монархических предшественников, погибших в кровопролитных
сражениях 1915-1916 гг. Политически объяснимым выглядит
декрет Временного правительства (согласованный с Исполкомом
Петросовета) о назначении на должность Верховного
главнокомандующего генерала А. А. Брусилова. В короткий период его
главнокомандования шел активный процесс избыточной
демократизации армии: создания солдатских комитетов. Никому из
последующих «революционно-демократических» Главковерхов (включая
Л. Г. Корнилова) не удалось вернуть в российскую армию
главное — исполнительскую дисциплину. К февралю 1917 г. в
распоряжении Главковерха не осталось силового инструмента дисципли-
нирования армейских частей — гвардии. Довоенная (кадровая)
гвардия была к февралю 1917 г. уже перемолота в сражениях двух
предшествующих лет, типа чудовищной мясорубки 1915 г. при реке
Стоходе.
Имперская бюрократическая подсистема не оказала заметного
сопротивления посягательствам на системную целостность армии.
Потому что вертикально ориентированная бюрократия неизменно
проигрывает в столкновениях с более живучими сетевыми
структурами типа Советов, способными на автономную регенерацию своих
ячеек. Имперская бюрократия могла функционировать только
иерархически, по алгоритму, включаемому из одного, высшего центра.
Материально исправные рабочие подсистемы государства, без
получения в режиме on line централизованно управляющих
импульсов, разом остановились. Заново включить их помешала взрывная
политизация масс. Система пошла вразнос. Машина — на слом.
Общество, лишенное государственного скелета, деструктурирова-
лось. Начался процесс, который в синергетике называется деиерар-
хизацией диссипативных структур. Отрицательно заряженные
социальные частицы покидали стационарные орбиты, превращаясь в
«свободные радикалы». Отрываясь от своих позитивных корней
(деклассируясь, депрофессионализируясь, деморализуясь), мятущиеся
45
люди становились топливом революционного пожара. Свободные
радикалы наращивали энергию всеобщего взрыва.
В деревне массовый «дезертир с ружьем» мгновенно уничтожил
столыпинскую генерацию крепких хозяев. Немедленно
восстановилась (в своем передельческом облике) крестьянская община,
принявшаяся за черный передел — дележ кулацких и барских
земель по «едоцкой справедливости», то есть — по количеству едоков в
крестьянских семьях. В городе вооруженные люмпены самочинно
экспроприировали собственность цензовых граждан. Армия
превратилась в бесчисленные отряды боевиков. В атомном реакторе
российского общества внезапно разрушились правовые стержни,
тормозящие лавинообразный общественный распад. Отключилась система
властного охлаждения. Разрушение государства ускорило процесс
революционной дезинтеграции общества.
Центробежные силы разорвали имперское пространство. Линии
разрыва 1917 г. практически совпали с нынешними
межгосударственными границами СНГ. Но девяносто лет назад (в отличие от
1991 г.) развод народов осуществлялся односторонними
заявлениями партийно-политических лидеров, явочным порядком, де
факто. Шла Первая мировая война. На царскую охотничью базу в
белорусских Вискулях не съезжались легитимные руководители
государствообразующих народов для обмена разводными
письмами. Суверенную территорию Российской империи рвали на части
полулегальные этнополитические организации, открыто
получавшие военно-техническую помощь и финансовые субсидии от
Германии, Австро-Венгрии и Турции. Беловежскую Пущу
сторожили германские войска, гарантировавшие самопровозглашенную
украинскую «незалежность». Украинский гетман Павел Скоро-
падский, бывший генерал-адьютант российского императора,
придерживался прогерманской ориентации. В конце 1918 г. после
ухода с Украины немецких войск власть захватил националист
Симон Петлюра. Другой бывший генерал-адъютант последнего
российского императора, Карл Маннергейм, стал
главнокомандующим войсками Финляндии, отколовшейся в ноябре 1917 г. от
Российской республики. Императорский двор, как впоследствии
ЦК КПСС, являлся кузницей кадров политического руководства
«СНГ» образца 1917-1920 гг. Большевистская часть
коалиционного Совнаркома в конце 1917 г. поощряла сепаратизм имперских
окраин, реализующих «право наций на государственное
самоопределение». Большевики готовились к Брестской капитуляции перед
Германией.
46
Однако историческая инерция государственного существования
Великороссии оказалась сильнее коммунистических установок на
превращение РСФСР в «охапку хвороста при разжигании пожара
мировой революции». (Так формулировалась предназначенная для
внутрипартийного использования троцкистско-ленинская
директива.) Кроме России, государственно жизнеспособными осколками
империи оказались Финляндия, Польша, Эстония, Латвия и Литва.
Государствообразующие политические классы будущих стран
СНГ — Украины, Беларуси, Молдовы, Грузии, Азербайджана,
Армении, Казахстана, Узбекистана, Таджикистана, Киргизии,
Туркменистана появятся нескоро. Они созреют в лоне партийно-
советской и хозяйственной номенклатуры СССР.
Жесткую властную вертикаль Российской империи не могла
заменить неустойчивая горизонтальная агломерация ее автономных
осколков. Служилые люди бежали на окраины страны и там
объединялись, возрождая семейно-дружинный архетип русской
государственности. Ностальгическая «Песнь о Вещем Олеге» стала строевой
в лебедином стане белых дружин.
Возродился и противоположный архетип общественной
самоорганизации на принципах военной демократии Орды. Ее крепко
оседлали «люди длинной воли», большевики. В лобовом столкновении с
государственной «Дружиной» партийно-политическая «Орда» взяла
исторический реванш. Тоталитарная сила одолела авторитарную.
Тем не менее, последняя сопротивлялась варварскому натиску в
течение трех лет. Но первый этап Гражданской войны 1917-1920 гг. белые
начали сдачей стратегически выигрышных позиций в промышленном
центре страны. Красный центр значительно превосходил бело-зеленые
окраины империи уровнем развития транспортных коммуникаций.
В центре страны находились оборонные предприятия и арсеналы.
Осенью 1917 г. совершился роковой исторический повтор:
движение правительственных войск к Петрограду 28 октября 1917 г.
(как и 1-3 марта 1917 г.) вновь остановил командующий Северным
фронтом. На сей раз — Главкосев генерал Черемисов. Из
многомиллионной российской армии только 600 казаков под командованием
генерала Краснова сделали слабую попытку поддержать
государственный порядок. Но и они купили себе свободный проход на Дон
с лошадьми и оружием обещанием выдать балтийским морякам
А. Ф. Керенского. Тот едва успел скрыться из расположения
корпуса Краснова.
В октябре 1917 г. большевики окончательно разрушили
российскую государственную власть. Страна на несколько месяцев оказа-
47
лась в руках миллионов вооруженных дезертиров. Этот
лавинообразный процесс государственной дезинтеграции и общественного
распада коммунистическая пропаганда позднее назвала
«триумфальным шествием советской власти». В результате своего
«триумфального шествия», советская власть к концу 1917 г. потеряла три
четверти из доставшейся ей в октябре суверенной территории
Российской империи.
Не новый порядок принесли большевизированные Советы. Они
сами стали организационными формами беспорядка, безначалия,
политического хаоса. Великая российская Смута XX в. вступила в свою
решающую фазу.
Порядок и Смута — полярные состояния государства. Тезисно
обозначим их основные признаки.
Порядок характеризуется:
— системной целостностью властных институтов и социально-
политической солидарностью истеблишмента;
— способностью политического класса к докризисной отработке
институтами государственной власти критического объема
положительных обратных связей социальной метасистемы с внешней
средой;
— трехуровневой нелинейной зависимостью между
управляющими усилиями и рабочими результатами (при этом энергия
управления должна быть всегда значительно меньше рабочей энергии);
— политической маргинализацией внесистемных элементов;
— преобладанием параметрического управления над ручным,
законов — над декретами.
Смута неизбежна, если:
— раскалывается политический истеблишмент;
— делегитимизируется высшая государтвенная власть;
— физическое насилие становится преобладающей формой
политической коммуникации;
— приватизируются силовые структуры;
— деэтатизируются институты публичной власти («власть
рождается из дула винтовки» — Мао-Цзэдун).
Смуту всегда инициируют люди государственные и властные.
Они же оказываются ее первыми жертвами. Вызывая массы на
улицу, статусные глашатаи радикальных перемен крайне редко
становятся уличными вождями: кто звонит в колокол — не участвует в
процессии.
48
Когда «начальство ушло»
В анархии — все творчество России.
Европа шла культурою огня,
А мы в себе храним культуру взрыва.
Огню нужны — машины, города
И фабрики, и доменные печи,
А взрыву, чтоб не распылить себя —
Стальной нарез и маточник орудий,
И тугоплавкость колб самодержавья.
М. Волошин. Россия
В русле веками проверенной синергетической
последовательности развивались и кризисные события февраля — октября 1917 г.,
охватившие российскую провинцию. В этот период Россия, внезапно
став самой демократичной страной в мире, попыталась осуществить
на местах индивидуальную свободу граждан негосударственными
средствами. Когда «начальство ушло», по стране покатилась все
сметающая на своем пути волна безответственной народной «воли».
В очередной раз обнаружилось ее созвучие с кровавым «полем». В
течение веков русской истории этим словом обозначалось место
сражений, а не сельскохозяйственных работ.
В 1917 г. многомиллионное российское крестьянство развеяло
народнические представления о «стихийной государственности»
сельских передельческих общин. Выборные вожди деревенской
вольницы четырех безгосударственных лет российской истории
патриархально именовались «батьками»: само слово отрицало
государственно-служебную иерархию.
«Историки США, специалисты по России из школы Ричарда
Пайпса в Гарвардском университете, много лет серьезно изучают
движение "зеленых" в гражданскую войну, особенно на Украине и в
Сибири. Их подсчеты сенсационны: в Сибири и "красные" и "белые"
в 1918-1922 гг. контролировали по очереди лишь крупные города да
Транссиб — один процент от общей огромной территории. На 99 %
остальной — царили "зеленые", которых позднее советские историки
изображали как "красных партизан", хотя на деле это были
обыкновенные бандиты-грабители...»1.
Н. И. Махно — наиболее известный практик крестьянской
антигосударственности начала XX в. Историческая преемница раз-
1 Сироткин В. Г. Византийский чин. М, 2006. С. 128.
49
бойничьих станов С. Разина и Е. Пугачева, анархическая
республика со столицей в с. Гуляй-Поле сыграла решающую роль в
победе Красной Армии над войсками А. И. Деникина и П. Н. Врангеля.
Когда конные корпуса генералов Мамонтова и Шкуро летом 1919 г.
стремительным рейдом захватили Орел и Воронеж, над
большевистской властью в Москве нависла смертельная угроза. На
московских железнодорожных путях уже формировались поезда,
предназначенные для эвакуации в Германию руководителей
ВКП(б) и Совнаркома. На помощь к большевикам пришла мах-
новская армия с ее пулеметными тачанками. Она ударила в тыл
деникинской белой армии и вынудила ее отказаться от успешно
развивавшегося наступления на Москву. В 1920 г. махновцы
помогли М. В. Фрунзе в разгроме врангелевских войск. «В
благодарность» за помощь, регулярные красные войска окружили в
новороссийской степи повстанческую крестьянскую армию Н. И. Махно
и почти всю выкосили пулеметным огнем. С конца 1920 г.
прекратилось политическое сотрудничество большевиков и анархистов.
Показательно, что городские и деревенские анархисты в течение
1917-1920 гг. не раз помогали большевикам захватить или
удержать власть и никогда не сотрудничали с белогвардейцами. Эта
противоестественная, на поверхностный взгляд, «классовая
солидарность» анархистов с большевиками имеет прагматическое
объяснение: А. В. Колчак, А. И. Деникин, П. Н. Врангель неизменно
выступали с государственнических, унитаристских позиций
«единой и неделимой России», ставя своей целью восстановление
государственного правопорядка.
В столице крестьянской республики (селе Гуляй-Поле)
понимали, что анархическая «воля» несовместима с правопорядком.
«Свобода вне права — это анархия, а потому и разрушение
свободы. Недоверие к праву или бунт против права, как правило,
вероятны тогда, когда само оно выступает уже не в качестве
воплощения справедливости, стоящей на службе всех, а как продукт
произвола, как узурпация права теми, у кого для этого достаточно
власти»1. Крестьянская республика, созданная по рецептам
П. Кропоткина и М. Бакунина, наглядно продемонстрировала, что
анархическая «воля» обеспечивается не институциональными и
не личностными средствами, а — групповыми. Неформальные
группы усиливают цепную реакцию множественных и насиль-
1 Кардинал Йозеф Ратцингер (нынешний папа римский. — М. М.). О
разуме и вере // Россия в глобальной политике. 2006. Т. 4. № 5. С. 22.
50
ственных разрывов любых традиционно сложившихся социальных
тканей. Все социальные революции, называемые Великими,
сопровождались групповой фрагментацией общества. Она является
неизбежным следствием революционного разрушения четырех
основных метасистемных интеграторов общества: культуры,
рынка, права и государства.
Российская нация как политическая совокупность граждан
распалась в 1917-1920 гг. на догосударственные этносы. Великорусский
суперэтнос раскололся на враждебные классы и партии. Последние, в
свою очередь — на слабо ассоциированные неформальные группы,
вооруженные отряды и банды. Эволюционно сложившаяся сложная
и тонкая система общественных отношений в 1917-1920 гг.
целенаправленно разрушалась большевистской властью. Это происходило
при минимуме политических усилий с ее стороны. Процесс
общественной дезинтеграции, инициированный Февралем и Октябрем
1917 г. шел в полуавтономном режиме. Сказывалось традиционное
для России отсутствие внутреннего общественного «скелета». Его
функцию столетиями исполняло приказно-бюрократическое,
милитаризированное государство. «Скелетная» структура российского
общества, эволюционно вынесенная наружу (подобно панцирю у
черепахи), лишь внешне скрепляла аморфную массу практически
бесструктурных социумов.
Культурно и цивилизационно обусловленная социальность
россиян, их национальная идентичность и историческая общность ре-
грессно сменились простейшими формами древней внутригрупповой
солидарности и дружинного лидерства. Революционная
варваризация общества вновь противопоставила взаимоисключающие
тенденции его развития, символически обозначаемые словами Степь и
Город. Жаждущие насильственного перераспределения жизненных
благ и ресурсов, аутсайдеры экономического состязания,
деклассированные маргиналы («кочевники» индустриально-аграрного
общества) вышли на политическую сцену. Они сошлись в смертельной
схватке с производительными, конкурентными, экономически
успешными слоями, «обремененными» собственностью и культурой, то
есть — с «цензовыми гражданами» (civitas).
Всеобщая «воля» поставила под вопрос свободу каждого. Но с
крушением государства исчезли и цензовые граждане. Так
называемая «организованная прогрессивная общественность», до февраля
1917 г. грозно колебавшая государственные основы империи,
добровольно отодвинулась на обочины политической жизни. Там же
оказались многочисленные городские и сельские цензовые элементы —
51
едва народившийся мирный средний класс. Центральной фигурой
политики стал «человек с ружьем»: организованные и вооруженные
толпы. Кто их вооружил и организовал?
Ответ покажется неожиданным: никто. Тектонический сдвиг
тяжкой государственной плиты обнажил реликтовые формы
древнерусской военной демократии — нереестрового казачества.
Взбунтовавшийся петроградский гарнизон выпал из государственного
военного «реестра». В солдатских комитетах возродился казачий
войсковой круг. Однако в первые дни Февральской революции эти
формы стихийной самоорганизации внегосударственных групп
вооруженного населения воспринимались современниками не в качестве
исторического дежа вю, но — манифестацией «революционного
творчества масс». В них не провиделись знаки надвигавшегося
апокалипсиса. «Бунташный» XVII в. являл разбойничьи ватаги пострашнее.
И все возвращалось на круги своя. После российских смут обычно
реставрировались архаические порядки. Октябрьская революция
1917 г. сломала алгоритм выхода российского государства из
состояния очередной смуты. В огне революции и Гражданской войны
родилась принципиально новая общественно-политическая система. Она
соединила россиян, оставшихся в живых и не покинувших свою
страну, на началах подчинения абсолютно всех организаций диктатуре
Партии-Государства. Для частной жизни практически не осталось
социального пространства. Ужаснувший мир тоталитарный взрыв
получился от соединения параобщественного «казачества» и
квазигосударственной «опричнины». Соединила их советская власть.
До октября 1917 г. эти асимметричные ответы на однотипные
вызовы давались порознь. Октябрь 1917 г. синхронизировал столичную
«опричнину» с провинциальным «казачеством». При этом основной
тон задавали петроградские активисты слома государственности.
Революционные маргиналы российской глубинки чутко улавливали
колебания стрелки петроградского политического барометра. В
конечном счете, решающими оказались события, происходившие на
петроградских улицах. Уличные толпы в столице навязали свою
иррациональную стихийную волю рационально организованным
островкам незрелого гражданского общества. Внезапно оказавшиеся
бесхозными, высшие институты государственной власти на короткое
время с февраля по октябрь 1917 г. попали в неумелые руки земских
либералов. Тут же обнаружилось, что мастера парламентских
дебатов не владеют технологией политического властвования.
Российскому либерально-демократическому истеблишменту
исторические уроки прежних государственных смут не пошли впрок.
52
До 1917 г. признаком хорошего демократического тона считалась
демонстрация традиционной интеллигентской веры в конструктивную
силу народной стихии, освобожденной от принуждения
государственного правопорядка. «Народ сам все устроит». К этому сводилась
конституционная программа первого председателя Временного
правительства князя Г. Е. Львова. В главный кабинет Мариинского
дворца его привели либералы из Прогрессивного блока IV
Государственной думы. Решительному думскому спикеру,
конституционному монархисту М. В. Родзянко, либералы поддержки не оказали:
для них он был слишком правым.
К февралю 1917 г. организационно сложились два лагеря
заговорщиков: конституционно-монархический (по составу — военно-
промышленный, возглавляемый начальником Главного штаба армии
M. Н. Алексеевым и председателем Центрального
военно-промышленного комитета октябристом А. И. Гучковым) и
конституционно-демократический, руководимый лидером Прогрессивного
блока IV Государственной думы кадетом П. Н. Милюковым.
Председатель IV Госдумы М. В. Родзянко являлся межлагерным
медиатором. Его государственный статус позволял делать личный,
политически обобщающий доклад государю. До отречения Николая II,
состоявшегося 3 марта 1917 г., оба лагеря заговорщиков действовали
пропагандистски синхронно и политически согласованно. После
отречения императора произошел межлагерный партийно-аппаратный
раскол, которым немедленно воспользовались партии эсеров и
социал-демократов (меньшевиков), получившие фракционное
доминирование в Исполкоме Петросовета.
Военно-промышленный лагерь конституционных монархистов
располагал серьезной вооруженной силой. Конституционные
демократы не имели опоры в армейской среде. Но кадеты фракционно
доминировали в первом составе Временного правительства.
Взбунтовавшийся столичный гарнизон составлял силовую опору Исполкома
Петросовета. Необученные ратники второго разряда, конечно, не
могли бы противостоять дисциплинированным частям действующей
армии» (что и обнаружилось при быстром подавлении
большевистского путча в июле 1917 г.). Свою боевую профнепригодность
запасные полки Петроградского военного округа компенсировали
согласованностью политических выступлений и возможностью
непосредственного давления на Временное правительство.
Долгожданный «кабинет общественного доверия» возглавил
политически неопытный руководитель российского земства.
Конногвардейцу предпочли толстовца. Земская работа, конечно, не своди-
53
лась к «лужению умывальников». Но в политическом отношении она
осуществлялась по аксаковской формуле «власть — монархии,
мнения — земле». Поэтому принуждающую власть, выпавшую из рук
монархии, земцы не подняли. Они остались в привычном для них мире
«мнений».
Сам по себе, мятеж петроградского гарнизона не мог вызвать
ситуацию, на юридическом языке именуемую перерывом в праве. Лишь
заговор политических и военных верхов, соединенный с солдатским
бунтом и рабочей забастовкой, превратил столичные уличные
беспорядки в острый политический кризис. В революцию он перерос
благодаря отречению царя, освободившему от присяги миллионы солдат
и десятки тысяч офицеров, создавшему взрывоопасный вакуум
высшей государственной власти. Ее системообразующая роль в России
веками была определяющей. Без риска всеобщей смуты высшая
государственная власть не могла прерываться ни на секунду. Поэтому
Основные законы Российской империи не предусматривали
возможности отречения монарха от престола.
Нарушив Основной государствообразующий закон, император
инициировал лавинообразный процесс распада традиционной
российской государственности. Прекрасный семьянин, Николай
Александрович Романов оказался не на уровне исторических задач главы
государства. Он вел себя в ситуации системного кризиса государства
внесистемным образом, то есть — как частное лицо. Ударная волна,
мгновенно разрушившая массивную и жесткую имперскую
конструкцию, пришла, таким образом, не с улиц Петрограда, а из салон-вагона,
стоявшего 2 марта 1917 г. на заснеженных железнодорожных путях
станции Псков. Отрекаясь от престола за себя и за цесаревича, Николай
II неосновательно надеялся, что исторически просвещенная
Государственная дума подхватит оброненный скипетр и покатившуюся по
железнодорожным путям символическую державу. Надежда не
оправдалась. В роковые для государства февральско-мартовские дни 1917 г.
парламентарии упустили реальную возможность государственной
самоорганизации в момент внезапного перерыва в праве. Ситуация
острейшего политического кризиса требовала выхода за пределы
формальных юридических процедур. Когда рушилась сама
государственность, было безответственно предаваться парламентским прениям на
тему: считать ли свое экстренное собрание вне главного конференц-
зала Таврического дворца официальным заседанием Госдумы?
Но именно подобными многочасовыми дискуссиями занимались
члены Прогрессивного блока думских депутатов, не решившихся
прервать свои вынужденные парламентские каникулы.
54
Указом еще властвующего государя от 25 февраля 1917 г.
деятельность IV Госдумы была приостановлена до 16 апреля того же года.
Депутаты IV Госдумы, помня о революционном резонансе
Выборгского воззвания членов распущенной в 1906 г. I Госдумы, не
осмелились собраться на официальное собрание даже после
исчезновения имперского правительства. Они не могли решиться
немедленно заполнить вакуум высшей власти и объявить себя, по примеру
французских Генеральных штатов конца XVIII в., Всероссийским
Учредительным собранием. Срок полномочий IV Государственной
думы приближался к концу, но он был пролонгирован форс-
мажорными обстоятельствами войны с опасным внешним врагом.
Всенародно избранный парламент лишь после выборов
общероссийского Учредительного собрания мог отказаться от исполнения своей
государственной функции общенационального представительства.
Временный комитет Госдумы (по примеру отрекшегося императора)
ограничил себя гражданским статусом частных лиц, собравшихся
«для восстановления порядка и для сношения с лицами и
учреждениями».
Даже в этом юридически не определенном качестве Временный
комитет мог стать кристаллизующим центром государственного
порядка. 27 февраля 1917 г. в Петрограде царил хаос. 200 тысяч
политически дезориентированных солдат без офицеров представляли собой
материальную силу, ищущую парламентского руководительства.
Обоснованно опасаясь правовых санкций за свой бунт в военное
время, солдатские колонны, расцвеченные красными бантами и
флагами, шли к зданию парламента с намерением отдаться под его
защиту. В Таврическом дворце мятежники искали и не нашли своих
уличных вождей.
Технологией внегосударственного уличного вождизма депутаты
Госдумы, естественно, не могли воспользоваться. А технологические
приемы привычного для парламентариев политического
менеджмента не давали системных эффектов. Эти приемы были неэффективны
в неструктурированной толпе вооруженной молодежи, внезапно
получившей физическую возможность, освященную революционной
риторикой многочисленных демагогов, безнаказанно «потрогать
власть руками». Госдума была обязана и — главное — имела власть,
запас времени и материально-техническую возможность быстро
сосредоточить вокруг Таврического дворца разрозненные силы
правопорядка, способные встать на пути неорганизованных солдатских
толп. Кристаллизующим ядром этих сил мог стать полуторатысяч-
ный сводный отряд под командованием генералов Беляева, Хабалова
55
и Зинкевича, дислоцированный 28 февраля в Зимнем дворце. Здание
парламента быстро стало бы центром притяжения для остальных 10
тысяч хорошо вооруженных кадровых военнослужащих, учебных и
полицейских частей с пулеметами, готовых обуздать анархию
необученных новобранцев. К силам государственного порядка непременно
присоединились бы несколько тысяч курсантов петроградских
военных училищ.
Однако в роковой день 28 февраля 1917 г. ни один из
парламентариев не принял на себя государственную роль чрезвычайного
политического комиссара дисциплинированных воинских частей. Все
депутаты IV Госдумы Российской империи ограничили себя
приватными ролями дежурных ораторов на бесконечных солдатских митингах.
Таким образом, общероссийский орган национального
представительства 28 февраля 1917 г. упустил редкую историческую
возможность остановить в начальной и обратимой стадии едва
обозначившийся процесс внесистемно управляемой дезинтеграции вполне
жизнеспособного государства.
В Москве в аналогичной ситуации безначалия вооруженных
толп председатель городской управы полковник Грузинов ненадолго
принял на себя командование гарнизоном. В Петрограде подобных
системных руководителей изначально отвергала солдатская масса,
крестьянская по своей основной социальной принадлежности и
анархическая по менталитету. Председатель Военной комиссии
Петроградского Совета полковник Энгельгард не смог воспрепятствовать
изданию катастрофического по своим немедленным последствиям
«Приказа № 1». Номинальный руководитель военной демократии
сам находился под возрастающим давлением вооруженных толп, в
которые за один день превратился столичный гарнизон. К тому же
Военная комиссия Совета организовалась лишь после победы
солдатского мятежа.
28 февраля была достигнута «точка исторической бифуркации».
Боясь политического перевеса правых, думские либералы из
Прогрессивного блока так круто наклонили влево государственную
ладью, что она перевернулась. Пытаясь избегнуть политического
водоворота анархии, парламентарии приняли данайский дар.
Последний явился утром 27 февраля в скромном облике «Совета депутатов
для поддержания порядка на оборонных заводах». Родзянко
распорядился выделить «волонтерам порядка» две комнаты в Таврическом
дворце. К концу дня Совет вырос до 3 тысяч человек. Две трети его
состава были делегатами бунтующих воинских частей. Они
превратили все помещение российского парламента в непрерывно митин-
56
гующую казарму. По угловым комнатам дворца уже робко жались
недавние популярные дирижеры общественных настроений.
Хаос пришел сверху
За первые двадцать лет XX в. Россия пережила три революции и
три войны, в том числе самоистребительную гражданскую. Всем этим
катаклизмам мирового масштаба предшествовали «микроинсульты»
мозга нации, нарушающие жизненные функции государственного
организма и системную согласованность действий рабочих органов
управления. К аппаратной энтропии добавилось всеобщее недоверие
к высшей политической власти Российской империи. Недоверие
низов провоцировала череда внутрисистемных автоколебаний и
расколов властвующей элиты. В их ряду: роспуск I и II Государственной
думы, Выборгское воззвание распущенных думцев к всеобщему
гражданскому неповиновению, хроническая неконструктивность
либеральной оппозиции, антимонархическая риторика Прогрессивного
блока IV Госдумы, в том числе — знаменитая, всколыхнувшая
воюющую страну, популистская и провокационная речь лидера кадетов
П. Н. Милюкова с ее рефреном «глупость или измена?». Амплитуду
системных автоколебаний наращивала министерская чехарда в 1915-
1916 гг.
Министры имперских правительств болтались в своих
должностях, как мальчики — в кавалерийских ботфортах: масштаб их
личностей явно не соответствовал уровню сложности национальных
проблем. Подстать гражданским чинам были и военные. Их
служебная неисполнительность выглядела наиболее тревожно.
Командующий Петроградским военным округом упорно саботировал
исполнение царского распоряжения о выводе из столицы ненадежных
воинских частей. Основание саботажа: выводимые из Петрограда
запасные батальоны гвардейских полков негде разместить, Россия
недостаточно обширная страна. Николай II распорядился о замене
потенциальных мятежников столичного гарнизона
дисциплинированными войсками с фронта. Приказу Верховного
главнокомандующего противопоставлялся стандартный довод военных
бюрократов: «Петроградские казармы переполнены резервистами,
фронтовиков некуда расквартировывать». Военное министерство не
исполняло распоряжение царя о вооружении столичной полиции
броневиками. Дескать, выходящие из заводских цехов броневики
57
предназначены для немедленной отправки на фронт. В феврале-
октябре 1917 г. именно эти задержанные в столице броневики
окажутся в руках гарнизонных мятежников, не желающих идти на
фронт. (Вспомним, на какой импровизированной «трибуне»
выступал вернувшийся из эмиграции В. И. Ленин с апрельскими
тезисами, провоцирующими гражданскую войну.) Министр внутренних
дел А. Протопопов распылил немногочисленные полицейские силы
и учебные команды по всему городскому пространству Петрограда,
вместо сосредоточения их в ударный кулак.
Когда в феврале 1917 г. в столице воюющего государства начались
серьезные беспорядки, власть не располагала концентрированными
охранными силами, способными обуздать солдатскую анархию
необученных запасных батальонов Волынского и Павловского полков.
Новобранцы безнаказанно стреляли в полицейских и казаков,
убивали своих офицеров. 28 февраля 1917 г. правительство Российской
империи разбежалось. Буржуазное правительство Российской
республики, сформированное в условиях февральской революции,
демонстрировало еще меньшую государственную дееспособность.
В марте 1917 г. Временное правительство за несколько дней
ликвидировало весь старый административный аппарат губерний и
уездов, не озаботившись предварительным созданием новых рабочих
органов политической демократии. Комиссары Временного
правительства, направляемые на места, усиливали всеобщий хаос.
Исполнительные подсистемы тысячелетнего государства по команде
из столицы перестали функционировать. Разом остановились вполне
исправные механизмы властного принуждения: полиция, суды,
прокуратура, пенитенциарные учреждения, структуры государственной
безопасности. Исчезли налоговые органы. Основную часть этой
разрушительной работы совершили не бунтующие массы. Это было бы
им не по силам.
Уровнем организованности и вооруженности российское
государство даже в состоянии*полураспада многократно превосходило
население всей страны, а не только нескольких промышленных районов.
Однако буржуазно-демократическое Временное правительство,
сформированное Временным комитетом IV Госдумы,
последовательно лишало себя последних институтов, еще как-то способных
удерживать государство от полного распада.
Спонтанная и хаотическая импровизация «корниловского
мятежа» — предпоследний этап этого распада. Временное правительство
самоубийственно мобилизовало и вооружило внесистемные силы,
направив их против последнего оплота российской государственно-
58
сТи — против воюющей национальной армии. 27 августа 1917 г.
Верховный главнокомандующий генерал Л. Г. Корнилов
предпринял последнюю попытку удержания элементарного правопорядка в
стране. Выполняя наказ Московского государственного совещания,
состоявшегося в середине августа 1917 г., Корнилов ультимативно
потребовал от председателя Временного правительства, военного
министра А. Ф. Керенского: совместными усилиями зачаточного
демократического госаппарата и остаточными
дисциплинированными частями полуразложенной армии свергнуть тиранию
анархических толп. С этой целью правительству предлагался четкий план
действий: правительственным декретом распускаются все
негосударственные военизированные формирования; в армии
восстанавливаются единоначалие и дисциплинарная власть офицеров;
отправляются на фронт разложившиеся части петроградского
гарнизона; вооруженной рукой пресекается массовое дезертирство.
Керенский был в курсе оперативных разработок Главного штаба
армии. Они имели серьезные шансы на успех военно-политической
операции по восстановлению системной управляемости в воюющей
стране. При одном непременном условии: солидарности остатков
сил правопорядка. Для успеха задуманной операции было
необходимо техническое и пространственное соединение Правительства и
Ставки. В Петрограде Временное правительство находилось на
положении заложника мятежного столичного гарнизона.
Рассмотрев генеральскую диспозицию, Керенский обнаружил
«угрозу демократии» в перемещении Правительства в могилевскую
Ставку, «под защиту армии». Он не увидел в этом плане себя в
качестве революционного лидера нации и неожиданно для остаточных
сил правопорядка публично объявил о смещении Корнилова с поста
Главковерха. Лобовое противостояние Правительства и Ставки
резко активизировало внесистемные силы. Большевики,
меньшевики, анархисты и эсеры получили исторический шанс захвата
государственной власти под флагом «защиты завоеваний революции».
Корнилов не подчинился приказу о своем смещении и призвал
страну к «дебольшевизации». Арестовавший отрекшегося императора,
активно поддержавший Февральскую революцию, Л. Г. Корнилов
не стремился ни к восстановлению монархии, ни к военной
диктатуре. Однако гюлуразложенное большинство армии,
военизированные организации в Петрограде и на крупных железнодорожных
станциях, распропагандированные внесистемными партиями, не
поддержали запоздалых усилий армейского командования по
спасению государства.
59
Ставка Верховного главнокомандования в августе 1917 г.
технически уже не могла исполнять функции политического руководства
страной. Особенно — в условиях открытого противостояния
легальному правительству, подавившему в начале июля 1917 г. (силами
воинских частей Северного фронта, вызванных в столицу
Исполкомом Петроградского Совета) спонтанный большевистский
путч балтийских матросов. Публичный конфликт даже со слабым
Временным правительством лишил государственника Л. Г.
Корнилова политической силы, наклеив на него фальшивый ярлык
«контрреволюционера», каковым он в августе 1917 г. не был. Лишь
октябрьская государственная катастрофа заставила Корнилова
освободиться от февральских иллюзий насчет государствообразую-
щего потенциала революционной демократии и приступить к
формированию Добровольческой армии. Но даже и тогда он не имел
бонапартистских замыслов, оставаясь сторонником
общенациональных (надпартийных и надклассовых) выборов Учредительного
собрания. Не армии и не Советам предстояло, по твердому
убеждению Корнилова, решать фундаментальные государствоустроитель-
ные задачи.
В августе 1917 г. армейское высшее командование требовало
ускорить созыв общероссийского Учредительного собрания. В этом
программном политическом пункте стратегически совпадали позиции
Временного правительства и Ставки. Созыв Учредительного
собрания сознательно тормозили в августе 1917 г. эсеро-меньшевистские
Советы, стремившиеся к построению государства на партийно-
классовой основе. Принцип общенационального политического
представительства еще более энергично отвергали большевики,
анархисты и левые эсеры. С позитивным лозунгом Нации-Государства и
выступили корниловцы. Однако анархо-большевистское
политизирование российских вооруженных сил зашло слишком далеко. И эти
остаточные государственные институты продемонстрировали свое
бессилие, когда перед армией встала задача экстренного
восстановления элементарного правопорядка. На Петроград, по приказу
Главковерха, двинулся малоформатный корпус генерала Крымова,
состоявший из нескольких казачьих сотен.
И невольные мятежники, руководимые Ставкой, и Временное
правительство действовали спонтанно, неадекватно и
неэффективно. Иерархически построенные структуры в условиях взрывной
политизации масс обычно проигрывают децентрализованным
(сетевым) структурам. Стремительно теряющий политическое влияние,
Керенский объявил государственно организованных и системно
60
действующих генералов «вне закона». Он попытался «оседлать
тигра» внесистемного политического экстремизма, делегировав ему
функции легитимного государственного насилия. С этой целью
Временное правительство распорядилось вооружить из
государственных арсеналов красногвардейские отряды большевиков,
анархистов и левых эсеров. Казаки Крымова, распропагандированные
«волонтерами революционной демократии», отказались от марша
на столицу и самовольно ушли на Дон и Кубань. Они не пошли на
риск гражданской войны. Крымов застрелился. Опираясь на
Красную гвардию, Временное правительство арестовало Корнилова,
Алексеева, Деникина, Лукомского и других генералов, поместив их
в городскую женскую гимназию г. Быхова, приспособленную под
тюрьму.
Керенский назначил себя новым Главковерхом, а генерала
Духонина — начальником Генштаба. Но командовать было уже некем.
Осенью 1917 г. легальные вооруженные силы, деморализованные
августовским кризисом власти, уже не представляли собой опору даже
элементарного правопорядка. Поставив под свой контроль Советы и
солдатские комитеты, большевики с их помощью целенаправленно
разрушали остатки армии, призывая их «превратить войну
империалистическую в войну гражданскую». Воинские части, крестьянские
по своему основному составу, отвечали на партийную агитацию
массовым дезертирством. Летом 1917 г. в тылу скрывались полтора
миллиона дезертиров — будущих активистов всеобщей «экспроприации
экспроприаторов». В сентябре-октябре 1917 г. уже целые полки и
дивизии покидали фронт и с оружием в руках отправлялись в тыл
делить помещичью и кулацкую землю, экспроприировать имущество
«буржуев». Большевистский лозунг «грабь награбленное» овладел
массами.
Дезертир с ружьем превратился накануне октябрьского
переворота 1917 г. в главную политическую силу страны. Именно дезертиры
(миллионы их забили все железнодорожные станции) окончательно
угробили российское государство. Вооруженная серошинельная
стихия разметала последние островки либеральной демократии.
Охлократия торжествовала. Государственная власть «валялась в
грязи», все ее топтали. Большевикам не надо было ее даже
завоевывать. Им стоило только нагнуться и протянуть руку.
Красногвардейские отряды в ночь с 24 на 25 октября 1917 г.
использовали полученное в августе оружие против Временного
правительства, защищаемого несколькими сотнями юнкеров и офицеров
российской армии. Прапорщик Крыленко, назначенный, по распоря-
61
жению большевистского СНК, Главковерхом вместо генерала
Духонина, начал свое главнокомандование устным приказом о
расстреле предшественника. Прибывшие вместе с Крыленко матросы
растерзали генерала. Массовые убийства офицеров стали
именоваться в большевистской среде «отправкой в штаб Духонина». Незадолго
до своей трагической гибели Духонин успел освободить из Быховской
тюрьмы штаб будущей Белой гвардии (Добровольческой армии).
Под охраной эскадрона казаков-текинцев руководители Корни-
ловского мятежа отправились в г. Новочеркасск — столицу
самопровозглашенной Донской республики.
В трагические для российского государства дни
большевистского переворота десятки тысяч вооруженных военнослужащих
(офицеров, юнкеров и казаков), находившихся в Петрограде,
равнодушно наблюдали варварский разгул анархических толп. На призыв
эсера Бориса Савинкова (товарища военного министра Временного
правительства) «защитить революционную демократию» Совет
казачьих войск, находившихся в Петрограде, ответил встречным
требованием к Правительству: предоставить казакам возможность
массовых самосудных расправ в столице при казачьих методах
наведения государственного порядка. Такая перспектива устрашила даже
бывшего руководителя террористической Боевой организации
партии социалистов-революционеров. В судьбоносные дни
Октябрьского переворота вполне боеспособные казачьи войска сохраняли
вооруженный нейтралитет и тем самым помогли большевикам и
левым эсерам легко овладеть силовыми инструментами протогосу-
дарственной власти.
Курсанты военных училищ, получив увольнительные, слонялись
по городу. В театрах шли спектакли. Рестораны были переполнены.
По Невскому проспекту спокойно фланировала нарядная публика.
А в это время вооруженные мятежники, не встречая сопротивления,
захватывали госучреждения, вокзалы и почтамт.
С Россией кончено... На последях
Ее мы прогалдели, проболтали,
Пролузгали, пропили, проплевали,
Замызгали на грязных площадях.
М. Волошин. Россия
Так выглядел вакуум исполнительной власти в октябре 1917 г.
Двух месяцев нехватило Временному правительству до открытия
Учредительного собрания. Необходимо было просто удержать по-
62
рядок, не предрешая формы государственного устройства, но
решительно подавляя политический экстремизм негосударственных
военизированных формирований. Широко распространен
историографический миф о материальном бессилии Временного правительства:
«Керенский не имел вооруженных дисциплинированных сил». Это
неправда: такие силы оставались и в столице, и (в основном) на
фронте. В распоряжении действующей исполнительной власти
всегда имеется необходимый минимум средств легитимного
насилия. В октябре 1917 г. Временное правительство сковал дефицит
политической воли. Паралитики власти не справились с
эпилептиками революции.
Политологический парадокс: непосредственные демократии в
условиях социальной революции неизменно соскальзывают в
тоталитарные режимы. Это объясняется массовостью участников
непрофессионального (то есть — революционного) отправления
государственных функций. Предрасположенность к тотальному
контролю частной жизни граждан и подчинению ее анонимным
целям заложена в самой природе непосредственного
народоправства. Абсолютное доминирование безличного над
индивидуальным несовместимо с политическими свободами и гражданскими
правами. Последние могут существовать лишь под охраной
институционализированного правового государства,
санкционирующего метароль индивидуума. Но именно государственные
институты являются обычными жертвами революционной агрессии
политизированных масс, вышедших на улицы. Право не создается
на площадях.
Порожденная февральской революцией 1917 г., анархическая
охлократия к осени того же года полностью разрушила все
оставшиеся институты российской государственности, включая армию.
Заменить эти институты не могли партийно организованные
Советы. Они иногда поддерживали правопорядок, чаще
расшатывали. Когда военная сила Советов соединялась с аппаратными
возможностями Временного правительства (сколь бы слабыми они ни
выглядели), вооруженная анархия временно отступала. Например,
большевистский путч в июле 1917 г. потерпел поражение
исключительно потому что эсеро-меньшевистский Петроградский Совет
вызвал с Северного фронта (для поддержки Временного
правительства) дисциплинированные воинские части, быстро рассеявшие
мятежников.
Ударная сила революционной анархии после провала Корни-
ловского мятежа заметно ослабла. В отсутствии сильного противни-
63
ка она обнаружила внутреннюю готовность к закономерному
переходу от всеобщей «воли» к диктатуре — примитивной форме
государственной власти.
На гребне ослабевшей охлократической волны осенью 1917 г.
удерживались только левые эсеры,
меньшевики-интернационалисты и большевики. На изломанный революционным штормом
берег российской политической жизни вынесло в октябре 1917 г.
большевистско-эсеровский Военно-революционный комитет (ВРК)
Петроградского Совета рабочих и солдатских депутатов. Созданный
в августовские дни Корниловского мятежа «для защиты
революционных завоеваний народа», ВРК явочным порядком превратился в
штаб антиправительственного вооруженного восстания. ВРК
соперничал с Военной организацией РКП(б) — «военкой». Он
позиционировал себя в глазах беспартийных масс в качестве
внепартийного интегратора революционной энергии петроградских рабочих,
столичного гарнизона (постоянно озабоченного неприятной
перспективой отправки на фронт), моряков Балтийского флота и
отрядов нерегулярной Красной гвардии. Свою политическую
зависимость от ЦК РКП(б) Военно-революционный комитет Петросовета
не афишировал.
Оказавшись к осени 1917 г. наиболее организованным островком
в море бесструктурности и безвластия, РКП(б) сумела овладеть
инструментами военной демократии. Она сумела оседлать опадающую
анархическую волну на короткое, но достаточное для заполнения
вакуума безгосударственности, время. Этот период ноября —
декабря 1917 г. коммунистическая историография, как уже отмечалось,
впоследствии назовет «триумфальным шествием советской
власти». Эфемерные результаты этого шествия очень скоро сошли на
нет, и большевистская власть оказалась в кольце всевозможных
фронтов.
Из смертельного противостояния громадному, но
неорганизованному большинству населения расколотой страны коммунистический
«орден меченосцев» вышел закаленным, заточенным на массовый
террор и тотальный контроль общественной и частной жизни всех
оставшихся в живых. В боях Гражданской войны, от голода,
болезней, бандитизма и государственных репрессий страна потеряла к
1921 г. около 15 млн человек. Такой осталась в исторической памяти
общественная цена непродолжительного торжества
непосредственного (бесструктурного) народоправства, завершившегося
«диктатурой» пролетариата, основанной на политической правосубъектности
единственной Партии-Государства.
64
«Власть из дула винтовки»
Государственную катастрофу в
феврале 1917-го нам устроили
масоны. На Октябрьскую —
жиды подбили. Только мы, народ-
богоносец, ни за что не отвечаем.
Как псих со справкой.
Степан Злобин
Государственную власть большевики получили 25 октября 1917 г.
из рук Военно-революционного комитета (ВРК) Петроградского
Совета рабочих и солдатских депутатов. Последний был легально
создан (по предложению левого эсера П. Лазимира и при содействии
Временного правительства) для отпора внутренним
контрреволюционным силам и для революционной обороны Петрограда от
наступавших германских войск. В середине октября 1917 г. Правительство
попыталось (в очередной раз) освободить столицу от засилья
разложившихся резервных частей. ВРК умело воспользовался
тактической ошибкой Временного правительства и легко овладел осколками
исполнительной и распорядительной власти. Успех Октябрьского
переворота был результатом политического канализирования
большевиками разрушительной энергии беспартийного военного мятежа
петроградского гарнизона и кронштадтских моряков, направленных
Временным правительством на фронт.
Собравшийся 26-27 октября 1917 г., уже после Октябрьского
переворота, II Всероссийский съезд Советов рабочих и солдатских
депутатов оказался поставленным перед свершившимся фактом.
Именно стремлением опередить начало работы съезда объясняется
знаменитое Ленинское «сегодня (24 октября) начинать рано,
послезавтра (26 октября) — поздно». Большевики явно опасались
возможного решения съезда Советов о принятии непосредственно на себя
(по историческому образцу французских Генеральных штатов) всех
национально-государственных правомочий: учредительных,
законодательных, исполнительных, распорядительных и судебных.
Поэтому большевистский по основному составу Совет
народных комиссаров поспешил объявить себя Вторым Временным
правительством, не предрешающим государственное устройство
страны. СНК формально поддержал популярный в стране лозунг
созыва Общероссийского Учредительного собрания. Этим лозунгом
большевики маскировали собственные диктаторские намерения,
65
одновременно ломая «жирондистские» планы правых эсеров.
Последние обнаруживали склонность к приданию объединенному
Всероссийскому съезду Советов рабочих, крестьянских и
солдатских депутатов статуса национального Конвента. Объединение
параллельно заседавших в ноябрьские дни 1917 г. III рабоче-
солдатского и III крестьянского советских съездов работало на
реализацию «жирондистских» планов правых эсеров. Одновременно
оно спасало от немедленного краха власть большевистского и ле-
воэсеровского СНК. Согласившись на объединение советских
съездов, правые эсеры воспрепятствовали формированию
общенационального антикоммунистического фронта. Выражая социально-
экономические интересы крестьянского большинства населения
страны, правые эсеры могли встать на политическую платформу
общегражданского представительства, но — предпочли остаться
классовой партией. В этом качестве они теряли свое конкурентное
преимущество перед партией нового типа, открыто
ориентированной на диктатуру революционного меньшинства. РКП(б) после
Октябрьского переворота организационно превосходила всех своих
политических противников и временных союзников, так как
поставила себя вне демократической конкуренции, быстро превращаясь
в аппаратно армированную Партию-Государство. К «митинговой
демократии» Советов большевики всегда относились
инструментально — как к удобному, стихийно возникшему, но
обоюдоострому и плохо управляемому орудию разрушения бюрократической
государственности России. В ноябре 1917 г. большевики
попытались заменить «митинговую демократию» Советов — партийно
организованной работой Учредительного собрания. Парламентская
демократия Учредительного собрания оказалась
некоммунистической. Пришлось подавлять ее в зародыше.
В 1918-1920 гг. инструментальная ценность Советов в глазах
большевиков еще более снизилась: Гражданскую войну они
выиграли, опираясь на невыборные «органы пролетарской диктатуры» —
деревенские комбеды, городские ревкомы, ВЧК, совокупно именуемые
«советской властью».
Однако неизбежная историческая обреченность большевиков
маскировалась относительной и преходящей политической силой
созданной ими социотехнической подсистемы, занявшей
доминирующее положение в организационно рыхлой политической среде и
построенной на небывалой в истории организационной парадигме
Партии-Государства. Поставив коммунистов вне демократического
состязания, РКП(б) уничтожила всех своих социалистических кон-
66
курентов (в том числе — социал-демократов, меньшевиков, наиболее
способных действовать системно). Тем самым РКП(б) лишила себя
не только потенциальных союзников, но и возможности — жизненно
важной для любой политической партии — при утрате электоральной
поддержки уйти в легальную оппозицию. Поэтому и
внутрипартийная борьба сталинского аппаратного ядра ВКП(б) с центристской,
левой и правой оппозициями, заканчивалась однотипно —
физическим уничтожением побежденных, в полном соответствии с
политической традицией большевизма: «Нас не надо жалеть, ведь и мы
никого не жалели» (Семен Гудзенко).
В октябре 1917 г. РКП(б) «купила билет только в один конец».
Но почему этот исторический «билет» (или, в терминах русского
Средневековья, «ярлык на великое княжение») получила именно
коммунистическая партия? Широко распространен хрестоматийный
ответ: потому что только она сумела взять и удержать
государственную власть, будучи силой, наиболее прогрессивной, способной
решать давно назревшие задачи структурно-функциональной
модернизации страны, в качестве партии, наиболее адекватно выражающей
коренные интересы трудящегося большинства народа. (Более
развернутое политологическое обоснование исторической миссии
большевиков можно найти в статье В. И. Ленина «Удержат ли
большевики государственную власть?».)
По критериям общей теории систем, вышеуказанный ответ не
представляется нам достаточно аргументированным. Во-первых,
потому что на 25.10.1917 ни в Петрограде, ни в другом городе бывшей
Российской империи никакой системно организованной
государственной власти уже не было. Нечего было ни брать, ни удерживать.
Государственную власть предстояло создавать заново, на
национальной почве, выжженной социально-политическим радикализмом
бесструктурных масс. И с этой задачей РКП(б) справилась ценой
тягчайших народных страданий и невосполнимых цивилизационных
потерь. (Через 70 лет коммунистического господства эти страдания и
потери «аукнулись» стремительным крахом СССР и мировой
социалистической системы.)
Во-вторых, политическое пространство бывшей Российской
империи, утратившее в период февраля — октября 1917 г. основные
системообразующие признаки государства, сохранило до разгона
Учредительного собрания (5 января 1918 г.) остаточную ядерно-
сферную структурность. Так построены все сверхсложные
нелинейные системы. Протогосударственных ядер разной величины и
удельной плотности, подобных РКП(б), равно как многоразмерных и раз-
67
новекторно ориентированных параобщественных сфер в указанный
период было еще много. После разгона Учредительного собрания их
стало намного меньше. Однако большевикам пришлось в течение
полугода постепенно и целеустремленно наращивать величину и
плотность собственного протогосударственного ядра, за счет ликвидации
других ядер потенциальной государственной кристаллизации:
анархистов (в апреле 1918 г.) и левых эсеров (в июле 1918 г.), неизбежно
снижая при этом уровень разнообразия и системной устойчивости
общества.
Вторая советская партия, опиравшаяся до января 1918 г. на
леворадикальное меньшинство крестьянства, после организационного
разгрома партии крестьянского большинства (правых эсеров)
стремительно превращалась в общекрестьянскую партию и вполне могла
занять лидирующее положение в демократических Советах. В мае
1918 г. численность партии выросла на треть, с 60 до 80 тыс. членов.
Полугодом ранее, на ноябрьских выборах в Учредительное собрание,
левые эсеры получили только 4 % от общего количества поданных
голосов. В составе делегатов IV Общероссийского съезда советов
фракция левых эсеров насчитывала уже 20 % мест. На V Общероссийском
съезде Советов, собравшемся в московском Большом театре 5 июля
1918 г. под совместной охраной большевистских и левоэсеровских
патрулей, фракция второй советской партии (пока еще входившей в
правительственную коалицию) выросла до 30 % общего количества
делегатов. Электоральный вес партии левых эсеров в
действительности был значительно больше: часть крестьянской (левоэсеровской)
квоты в персональном составе V съезда Советов большевистский
ВЦИК отдал комбедам. Накануне съезда Совнарком подготовился к
силовым мерам по устранению с политической сцены своего
союзника. Ждали повода. Он вскоре представился.
Воспользовавшись убийством германского посла графа фон
Мирбаха, организованным первым заместителем председателя ВЧК
Александровичем и осуществленным руками левых эсеров —
Блюмкиным и Андреевым, большевики превентивно раздавили
неполитическими средствами конкурирующее с ними протогосудар-
ственное ядро левых эсеров. Вся левоэсеровская фракция V съезда
Советов была арестована прямо в зале съездовского заседания.
Особняк Саввы Морозова (здание ЦК партии левых эсеров) — взят
штурмом после артиллерийского обстрела прямой наводкой.
Политический результат силового подавления якобы
«антисоветского мятежа левых эсеров», мифологизированного большевистской
историографией, сказался немедленно. В составе делегатов VI
68
Общероссийского съезда Советов, созванного в октябре 1918 г. и
принявшего Конституцию РСФСР, «фракция» левых эсеров
уменьшилась с 30 до 1 %. А ВЦИК — советский квазипарламент — исключил
из своего состава представителей всех социалистических партий,
оставив среди советских «парламентариев» одних коммунистов.
В-третьих, монопартийный ВЦИК принял в октябре 1918 г.
дискриминационную, относительно среднего крестьянства,
Конституцию РСФСР. Она лишила избирательных прав миллионы граждан:
городскую и сельскую буржуазию, интеллигенцию, бывших
госслужащих, священников, офицеров. Голоса пяти «трудовых крестьян»
приравнивались к голосу одного рабочего. Дискриминационные
статьи Конституции РСФСР 1918 г. были смягчены Конституцией
СССР 1924 г. Но многомиллионная категория «лишенцев»
сохранилась до принятия в 1936 г. новой Конституции СССР, установившей
всеобщность избирательных прав советских граждан, в связи с тем,
что социализм в отдельно взятой стране был официально объявлен
«в основном построенным».
Таким образом, Партия-Государство создала и упрочила за собой
монопольную политическую правосубъектность путем резкого и
насильственного сжатия политического пространства, созданного
февральской революцией 1917 г., и снижения системного разнообразия
общества. Без этого коллапса гражданской активности
подавляющего (подавляемого) большинства населения страны большевики не
смогли бы ни создать, ни удержать в своих руках государственную
власть.
Отвергнув, подобно эсерам, принцип общегражданского
(национального) представительства в органах государственной власти — в
пользу монопартийного делегирования, большевики одновременно
отвергли и цивилизационную модель Нации-Государства,
утверждавшуюся в Европе с XVIII в.
Недостаток государствоустроительного смысла в действиях
победителей Октябрьского переворота компенсировался волчьей хваткой
большевиков, их могучим инстинктом властвования. Это
подтвердили послеоктябрьские месяцы коммунистического правления.
6 ноября-1917 г. Совнарком объявил дату выборов
Общероссийского Учредительного Собрания — 12 ноября 1917 г. Объемом и уровнем
национальной представительности собрание должно было превзойти
все существовавшие после октябрьского переворота протогосудар-
ственные (ядерные) структуры и параобщественные (сферные)
организации: Совет народных комиссаров, ВЦИК, Всероссийский съезд
Советов, политические партии, профсоюзы, корпоративные объеди-
69
нения, этнополитические движения. Первое заседание
общенационального форума Совнарком назначил на 23 ноября 1917 г.
В конце 1917 г. советского государства еще не было, а старое
российское общество дезорганизовалось. Но нация как политическая
совокупность граждан проявила очень высокую степень инерционной
государствоустроительной активности. Сам факт состоявшихся
12-19 ноября 1917 г. на всей неоккупированной территории бывшей
Российской империи выборов депутатов Учредительного собрания —
тому свидетельство. Выборы были прямыми, равными, всеобщими,
при тайном голосовании. В них приняли участие 44,5 млн (70 % от
общего числа правоспособных граждан). Голосовала и большая часть
правоспособного населения Финляндии, Средней Азии, Кавказа.
Общероссийские выборы происходили на альтернативной основе.
Конкурировали партийные списки. В том числе — список кандидатов
от РКП(б). Свобода партийной агитации и гражданского
волеизъявления новой властью практически не ограничивалась, так как
организацией выборов руководил Всевыборком, созданный 2 марта 1917 г.
решением Временного комитета IV Государственной думы. В
результате честного политического состязания, правящая партия
большевиков потерпела сокрушительное поражение. Она получила лишь
четверть мест в Учредительном собрании. ЦК ВКП(б) и Совнарком
оказались перед дилеммой. Корпус российских избирателей
принуждал коммунистов к конструктивному сотрудничеству с наиболее
популярной социалистической партией — партией правых эсеров,
получивших 57,6 % голосов и 225 (из 703) депутатских мандатов.
Персональный состав собрания формировался по смешанному,
пропорционально-мажоритарному, принципу: партийный список
кандидатов, собравший в своем избирательном округе простое
большинство голосов, получал больше депутатских мандатов, чем
позволяла бы чисто пропорциональная система выборов. При такой
системе партия правых эсеров, собравшая голоса 25 млн 625 тыс.
избирателей (из 44,5 млн) могла бы рассчитывать на 405 депутатских мандатов
вместо фактически полученных 225. А партия большевиков, с ее
электоральной поддержкой в 11 млн 80 тыс. голосов, могла бы
претендовать на 175 мандатов, но реально получила 163. Левые эсеры,
входившие с октября 1917 г. в правительственную коалицию с
большевиками первого состава Совнаркома, с их 4 % электоральной базы, были бы
вправе рассчитывать лишь на 28 мест в Учредительном собрании
вместо фактически полученных 39. Таким образом, система
демократического представительства, разработанная Временным комитетом
IV Госдумы и примененная при выборах во Всероссийское Учре-
70
лительное собрание лишила наиболее популярную
социалистическую партию 180 потенциальных депутатских мандатов.
РКП (б), идя на выборы 12-19 ноября 1918 г., твердо
рассчитывала на получение в составе Учредительного собрания
конституционного большинства в две трети от общего количества депутатских мест.
Такая политическая иллюзия партийного самовосприятия
коммунистов питалась сплошной большевизацией Советов накануне
Октябрьского переворота, его оглушительным успехом и эйфорией от
«триумфального шествия Советской власти». Однако в
действительности большевики до ноября 1917 г. одолевали своих партийных
соперников не на общенациональных выборах. Последние
общероссийские выборы в IV Госдуму (при индивидуальном гражданском
волеизъявлении) состоялись в 1912 г. Большевики тогда получили менее
1 % думских мест. После февральски революции 1917 г. большевики
получали массовую поддержку в благоприятных для экстремистов
кризисных условиях «митинговой демократии», то есть — в
ситуациях группового делегирования в Советы представителей бастующих
рабочих коллективов, бунтующих крестьянских общин и мятежных
воинских частей. При этом голоса пяти крестьян неизменно
приравнивались (пока еще неконституционным образом) к голосу одного
городского рабочего или солдата.
Если бы ВЦИК и СНК остались в правовом поле, то им
предстояла правительственная коалиция с победителями общероссийских
выборов и неизбежная утрата рычагов нелегитимного насилия над
обществом.
Захватывая в октябре 1917 г. государственную власть,
большевики не планировали разгон будущего Учредительного собрания.
Наоборот, одним из их главных обвинений в адрес буржуазно-
демократического Временного правительства была явная
неготовность последнего к проведению давно обещанных выборов
общенационального форума. Выборы Учредительного собрания публично
объявил (по согласованию с Петроградским Советом рабочих и
солдатских депутатов) Временный комитет IV Госдумы 2 марта 1917 г.
Одновременно была назначена точная дата созыва Собрания —
28 ноября-1917 г. Для организации и проведения объявленных
выборов, Временный комитет Госдумы сформировал независимый от
Правительства и Советов специальный институт — Всевыборком.
Уже 6 ноября 1917 г. эсеро-большевистский Совнарком
попытался подчинить себе надпартийный Всевыборком. Управляющий
делами СНК В. Д. Бонч-Бруевич потребовал от Всевыборкома передать
советскому правительству все материалы по практической организа-
71
ции общенациональных выборов. Всевыборком категорически
отказал в удовлетворении незаконных требований СНК. Однако 23
ноября 1917 г., уже зная о результатах выборов, Совнарком издал декрет
о введении в столице чрезвычайного положения, разместил 27
ноября 1917 г. в городе 12 тысяч балтийских моряков и латышский
стрелковый полк. Этим же декретом от 23 ноября 1917 г. устанавливалось:
правом открытия Учредительного Собрания наделяется только
полномочный представитель СНК, кворум Собрания определяется в 400
депутатов, открытие Собрания переносится на 5 января 1918 г. По
поручению СНК, И. В. Сталин и Г. И. Петровский арестовали всех
членов Всевыборкома.
23 ноября 1917 г. большевики уже не могли повлиять на
подведение итогов выборов, состоявшихся неделей раньше, но
великолепно использовали временную паузу, предоставленную им
партийными конкурентами. К январю 1918 г. Совнарком расчистил
для себя политическое пространство, терроризировав всех
серьезных конкурентов в борьбе за государственную власть.
Несоциалистические партии (прежде всего — Партия народной
свободы, кадеты) были распущены декретом СНК и объявлены вне
закона. Руководители партии — арестованы. Подверглась аресту и
вся фракция кадетов в Учредительном собрании — все 36
«неприкосновенных» депутатов. Но даже эта «чистка» Собрания не
смогла дать большевикам и левым эсерам необходимого
парламентского большинства. Поэтому они принялись «чистить»
внепарламентское политическое пространство. Правительственная коалиция в
декабре 1917 г. отменила все буржуазно-демократические свободы.
В том числе — свободу печати. Даже социалистические партии
были лишены средств массовой информации, путем конфискации
всей бумаги.
Тем не менее, правые эсеры не поддержали выдвинутую кадетами
идею открытия заседаний Учредительного собрания в нестоличном
городе, более безопасном для депутатов, нежели Петроград.
Тем самым, правые эсеры сыграли на руку большевикам, которые не
имели в Москве, Нижнем Новгороде, Самаре и других российских
городах подавляющего превосходства в вооруженной силе,
подобного петроградскому. В столице был обеспечен и благожелательный к
РКП(б) нейтралитет населения. Хотя каждый четвертый избиратель
Петрограда голосовал за кадетов, но 45 % столичных избирателей
поддержали большевиков.
Депутаты Учредительного собрания, прибывшие в Петроград к
5 января 1918 г., оказались во власти сосредоточенных в столице с
72
27 ноября 1918 г. балтийских матросов и латышских стрелков.
Некоторые правоэсеровские депутаты не смогли даже добраться от
вокзалов до объявленного места парламентских заседаний —
Таврического дворца. Большевистские патрули арестовали их по
дороге и впоследствии расстреляли. Матросы знаково отметили
день открытия «Учредилки»: они ворвались в военный госпиталь и
показательно убили бывших министров Временного правительства,
Кокошкина и Шингарева, прямо на больничных койках.
Правоэсеровские депутаты, тем не менее, согласились на
открытие Учредительного собрания в условиях вооруженного насилия
большевиков. Они допустили и арест фракции кадетов. Правые эсеры
рассчитывали на то, что часть населения Петрограда, голосовавшая
за них, выйдет на демонстрацию в поддержку Собрания вместе с
солдатами Преображенского и Семеновского полков, под прикрытием
бронедивизиона. Таким образом, Таврический дворец оказался бы
под охраной народа. Но в ночь на 5 января 1918 г. рабочие ремонтных
мастерских по приказу большевиков привели в негодность все
броневики. Без броневого прикрытия не решились выступить преображен-
цы и семеновцы, опасаясь балтийских матросов и латышей,
вооруженных пулеметами. Оказавшись без поддержки воинских частей,
безоружные питерские демонстранты были рассреляны из
большевистских пулеметов еще до подхода к Таврическому дворцу. Только
после расстрела демонстрантов В. И. Ленин прибыл на заседание
Учредительного собрания.
Далее события развивались по плану, разработанному ЦК РКП(б).
Председатель ВЦИК Я. М. Свердлов, под аккомпанемент
угрожающих криков специально подобранной и большей частью
вооруженной «публики» на балконах Таврического дворца, предъявил
Учредительному собранию ультиматум: немедленно, без
обсуждения, утвердить все декреты Совнаркома, постановления ВЦИК и
персональный состав коалиционного Совнаркома во главе с
В. И. Лениным. После чего Собранию предлагалось разойтись.
Абсолютным большинством голосов Учредительное Собрание
отклонило последний пункт ультиматума, приняв все остальные.
Большевистская и левоэсеровская фракции, добившись частичной
капитуляции правоэсеровского большинства Собрания,
демонстративно покинули зал заседаний. Обе фракции получили от ЦК РКП(б)
и Совнаркома статусную компенсацию: их автоматически включили
в состав ВЦИК. Так выглядела плата, выданная депутатам
большевистской и эсеровской фракций Собрания за согласие на
предстоящий разгон «Учредилки».
73
Таврический дворец оцепляется вооруженным отрядом матросов
и пулеметной командой. Подтягивается легкая артиллерия.
Парламентский караул, сформированный из анархистов с крейсера
«Республика» и большевиков с крейсера «Аврора», состоял из 200
человек, лично подобранных Бонч-Бруевичем, руководителем
управделами СНК. Отрядом командовал анархист Железняков. «Ленин,
уходя из Таврического дворца, застраховал себя. Он вручил
Железнякову письменное распоряжение: "Не допускать никаких
насилий по отношению к контрреволюционной части Учредительного
собрания" Железняков сопоставил две части приказа: "не допускать
никаких насилий" и "контрреволюционную часть" Он спросил
Дыбенко: "Что мне будет, если я не выполню указаний товарища
Ленина?" Дыбенко ответил: "Потом разберемся". Железняков теперь
уже не сомневался, что он правильно "прочел" приказ Ленина. Он
вернулся в зал и в 4.40 утра 6 января закрыл Собрание»1.
Личный вклад командира анархистов в разгон Учредительного
Собрания состоял в неполитической мотивировке закрытия
заседания. Железняков объявил депутатам, что «караул устал». Этой
фразой он вошел в историю. Вооруженным насилием над всенародными
избранниками началась вымечтанная Лениным гражданская война,
унесшая миллионы человеческих жизней. Большевистская
диктатура родилась «из дула винтовки».
Партия правых эсеров даже после разгона Учредительного
собрания продолжала оказывать политические услуги большевистскому
СНК. Она препятствовала активным действиям против большевиков
поволжской Народной армии Комуча (Комитета членов
Учредительного собрания). Услуга неоценимая: летом 1918 г.
большевистская власть едва держалась в границах Московского
княжества времен Ивана Калиты. Национальный антикоммунистический
фронт эсеры раскалывали и осенью 1918 г. — войной отрядов Комуча
с Омским правительством А. В. Колчака. Решительный адмирал
арестовал членов правительства Комуча — объективных пособников
большевизма. Однако в 1919 г. плохо вооруженные, преданные
Антантой войска Колчака потерпели поражение не столько на
фронтах, от регулярной РККА, сколько в своем сибирском тылу — от
повстанческих крестьянских отрядов. Омское правительство отдалось
под защиту Чехословацкого корпуса, эшелоны которого растянулись
по всей длине Транссиба.
1 Попов Г. X. О советской истории. М., 2004. С. 69-70.
74
Руководимые правыми эсерами и анархистами, сибирские
партизаны в январе 1920 г. перехватили вагон Колчака и «золотой эшелон»,
охраняемые чехословаками, арестовали и выдали на расправу право-
эсеровскому по основному составу Иркутскому Политцентру
Верховного правителя России Колчака и премьера Омского
правительства Пепеляева. Подчинявшийся представителю Антанты
французскому генералу Жанену, чехословацкий корпус просто-напросто
продал эсерам руководителей российского антибольшевистского
Сопротивления. Верховного правителя России чехословаки
обменяли на паровозы и свободу дальнейшего железнодорожного
следования корпуса до Владивостока. Иркутский Политцентр попытался
оставить за собой контроль над «золотым эшелоном», в котором
находился золотой запас Российской империи стоимостью 410 млн
золотых рублей (эквивалентных 82 млрд современных долларов
США). Однако самый крупный партийный «экс» не удался
правым эсерам. Они не сумели воспользоваться добычей: ее отобрал
большевистский Сибирский ревком, отряды которого
окружили «золотой эшелон» и блокировали его движение в сторону
Владивостока1.
Что касается левых эсеров, возглавляемых В. Камковым и
М. Спиридоновой, и меньшевиков-интернационалистов во главе с
Ю. Мартовым, то они вместе с анархистами энергично поддержали
октябрьский переворот в 1917 г. Последующая печальная судьба всех
российских социалистов общеизвестна. Они разделили участь
российского государства, разрушенного ими в 1917-м.
Слом старой государственной машины не компенсировался
повышением уровня общественной самоорганизации. Последнее
происходит намного медленнее и постепенно. Разрушение
государственности неизбежно сопровождается некомпенсированным
разрывом большинства социальных связей, критическим деструк-
турированием общества. Новый революционный госаппарат, не
будучи связанным формально-правовыми процедурами, действует
упрощенно, как правило — насильственно. Уровень насилия
зависит от степени сопротивления ему. Созданное революционным
меньшинством, «прогрессивное» государство отторгается «консер-
1 «Золото Колчака» вернется в Москву. 93 тонны из возвращенного
«достояния Республики» большевики передадут Германии, в
соответствии с грабительскими условиями Брестского мира, подписанного в
марте 1918 г. и дополненными в сентябре 1918 г. секретными
репарационными статьями.
75
вативным» большинством населения. Массовый террор становится
средством аппаратной стабилизации создаваемого государства.
Массовая жертвенность — способом обретения утраченного
равновесия между новыми государственными целями и традиционными
общественными интересами. Конкретные интересы рядовых
участников исторического процесса подчиняются абстрактным целям.
Жидкая каша из фондов общественного потребления щедро
сдабривается густым туманом социальных обещаний типа «нынешнее
поколение советских людей будет жить при коммунизме» (из
Программы КПСС). Впрочем, все революции требуют от общества
предоплаты за «кота в мешке».
Системные дисфункции на долгие годы поражают госаппарат,
созданный революцией. Его численность стремительно растет,
функции множатся, а реакции упрощаются, снижаясь до уровня ударно-
хватательного рефлекса. «Кухарки» приглашаются к управлению.
Миллионы непрофессионалов, руководствующихся революционным
правосознанием, «володеют» и правят. Ленинская формула «живого
революционного творчества масс» оборачивается засильем швонде-
ров и шариковых. Деспотическими полномочиями наделяются вне-
правовые чрезвычайные органы: продотряды, комбеды, ревкомы,
домкомы и прочие комитеты революционной бдительности...
Ослабление индивидуальной трудовой мотивации большинства
населения снижает удельную продуктивность общественного
производства.
От рабочего контроля на промышленных предприятиях,
изгнавшего директоров, инженеров и парализовавшего производство,
большевики были вынуждены отказаться уже весной 1918 г.
Самоуправляющиеся «ассоциации непосредственных
производителей» (теоретически сконструированные Лениным в программном
трактате «Государство и революция») не вписались в пайковую
дисциплину бестоварного «военного коммунизма». Однако участники
красногвардейской атаки «а капитал нашли свое место в качестве
политической пехоты большевизма в рабочих продотрядах, в 1918-
1920 гг. подчистую выгребавших все из крестьянских кладовых.
Результат — стагнация сельского хозяйства. Только нэп спас страну
от всеобщего голода.
Нэп в первой половине 1920-х гг. идейно расколол правящую
партию. Члены РКП(б), направленные на хозяйственную работу,
находились в непосредственном контакте с материальными соблазнами
мелкотоварного частного предпринимательства. Временно
лишенные административных рычагов внеэкономического принуждения,
76
партаппаратные фанатики коммунистических моноидей несколько
лет (1922-1927 гг.) оставались «с разинутыми пулеметами»1.
Хорошие урожаи 1922 и 1924 гг., бюджетные результаты
внутреннего товарно-денежного оборота и внешней торговли, успехи легкой
промышленности и товарного сектора сельского хозяйства,
наполнение потребительского рынка (в основном — продовольственного),
обуздание инфляции, введение параллельной (наряду с «совзнака-
ми») валюты — золотого червонца — сняли кризисное напряжение
1921 и 1923 гг. Все это размывало моноидеологию «военного
коммунизма», категорически отрицавшую рынок и частную собственность.
Прагматичная часть номенклатуры ЦК РКП(б), работавшая в
годы нэпа в центральном госаппарате (Совнаркоме, ВСНХ, Госплане,
наркоматах) и ВЦСПС, составила кадры умеренного правого уклона
в партии. Политико-идеологическая часть партгосноменклатуры,
непосредственно не занятая экономическим строительством, осталась
на идеологических позициях «военного коммунизма».
Внутрипартийная борьба «правых» и «левых» происходила на
фоне осереднячивания деревни и пролетаризации города. Она
осуществлялась под лозунгом защиты интересов неквалифицированных
рабочих и бедных крестьян. Социальная база режима расширялась и
аппаратно прослаивалась. За годы Гражданской войны и нэпа
количество «совслужащих» увеличилось, по сравнению с массой
чиновничества Российской империи, в двадцать раз. В 1923 г. их было около
4 млн, в том числе — 185 тыс. номенклатурных работников, 40 % из
них именовались «ответственными», 60 % — «оперативными».
Ответственные партработники и составляли основной ударный
отряд «левых» — идеологизированных сторонников партийного
радикализма и государственного абсолютизма. Репрессивный аппарат
(прежде всего — ОГПУ) находился под их идейным влиянием и
безраздельным политико-административным контролем И. В. Сталина.
Условно говоря, большевистские пулеметы всегда находились в
руках «левых». Это и предопределило исход внутрипартийной
борьбы 1928-1930 гг.
Гигантские общественные издержки великой российской
социально-политической революции 1917-1920 гг., несоизмеримые с
итоговым объемом ее позитивных и долгосрочных последствий об-
щецивилизационного измерения, позволяют оценить исторический
КПД данной «катастрофы прогресса» как чрезвычайно низкий. Так
Солоневич И. С. Наша страна. XX век. М., 2001. С. 154.
77
выглядит КПД всех известных истории социально-политических
революций, называемых великими. Гораздо большие позитивные
результаты культурно-цивилизационного плана дали в XX в. глубокие
структурные реформы, проведенные, например, скандинавскими
странами, не знавшими ужасов тотальных революций и
самоистребительных гражданских войн.
Применительно к России, достаточно указать на принципиальную
невосполнимость человеческих потерь, вызванных февральско-
октябрьской революцией 1917-1920 гг., осложненной Гражданской
войной, и ее историческим эхом — Великой Отечественной войной
1941-1945 гг. Уже по этому общегуманистическому основанию,
можно классифицировать национальную катастрофу 1917-1920 гг.
как всемирно-историческое событие, лишенное деонтологического
смысла. Деонтология — наука о должном — опровергает
достоверность знаменитого Гегелевского афоризма «все действительное
разумно, все разумное действительно».
Синергетика, при анализе конкретных механизмов
самоорганизации сверхсложных нелинейных систем, доказательно оспаривает
широко распространенную концепцию однолинейности исторических
процессов. Популярный, вследствие его пропагандистской
популяризации, историософский тезис о неизбежности февраля — октября
1917 г. отсылает к марксистской теории жесткого экономического
детерминизма. Однако неизбежность события и его причинно-
следственная обусловленность — далеко не одно и то же. Указанный
историософский тезис игнорирует метасистемный механизм
социального отбора, оперирующего в процессе самоорганизации не
столько наличными «заготовками развития», сколько — возможными.
В отличие от социал-дарвинизма (вульгаризованной версии
марксистско-ленинской теории бескомпромиссной межклассовой
борьбы как источника общественного развития), синергетическая
концепция социального отбора внутри неравновесных метасистем
обнаруживает цивиливационную продуктивность структурно-
функциональных сочетаний конкуренции и кооперации.
Исповедующий фатализм исторической однолинейности
запрещает себе задавать вопросы типа «если бы...», аксиоматически
полагая, что «история незнаетсослагательного наклонения». Описательная
история (историография) его действительно не знает. Но
эвристически ориентированная историософия не может без него обойтись.
Если бы не февральско-октябрьский сознательный слом
российской государственности, Россия уже летом 1917 г. вышла бы из
Первой мировой войны в составе стран-победительниц. Вместо
78
этого большевики и другие революционные партии: а) сознательно
разрушали с февраля по октябрь 1917 г. десятимиллионную
российскую армию, тяжким грузом давившую на германо-австрийский
Восточный фронт и не позволявшую центральным державам
проводить до весны 1917 г. стратегические наступательные операции; б) к
лету 1917 г. они полностью дезорганизовали тыл и работу
российского военно-промышленного комплекса. С марта до ноября 1918 г.
большевистский Совнарком исправно снабжал воюющую Германию
стратегическими ресурсами, позволив ей перебросить на Западный
фронт (с ликвидированного Восточного) десятки
высвободившихся боеспособных дивизий и, тем самым, продлить мировую войну до
ноября 1918 г.
Если бы военно-политические и экономические российские элиты
не предприняли (в разгар мировой войны) сумбурную
«перестройку» массивного, но системно уравновешенного имперского здания, то
его сознательно обрушенные верхние этажи не придавили бы самих
«перестройщиков» — непрофессиональных операторов исторически
невежественного социально-политического инжиниринга.
Если бы Российское государство после победного для себя
окончания Первой мировой войны сохранило исторически
инерционную устойчивость своих вполне исправных рабочих подсистем, то
оно могло бы воспользоваться преимуществами
финансово-технологической кооперации с развитыми западными странами.
Россия могла бы продолжить довоенный курс на ускоренную
индустриализацию и структурно-функциональную модернизацию
сельского хозяйства страны. При этом обновление национального
воспроизводственного аппарата могло бы осуществляться на основе
государственно-частного партнерства и — не в мобилизационных
условиях «осажденной крепости».
Если бы западные демократии (своевременно устранившие у
себя социально-политические предпосылки слома
государственности) не боялись постреволюционной коммунистической экспансии,
то они не допустили бы послевоенной ремилитаризации нацистской
Германии, позиционировавшей себя в глазах Запада в качестве
антибольшевистского «форпоста европейской цивилизации»...
Ретроспективная цепь вероятностных «если» не исчерпывается этим
кратким перечнем.
Глава 2
СОЦИАЛЬНАЯ ЭНТРОПИЯ:
ВАРВАРСТВО И ХАОС
г.
Энергия распада и синтеза ■
«Во времена Аристотеля считалось, что главное отличие
свободных людей от варваров — неотъемлемое право «участвовать в суде и
совете», служащее им самой надежной гарантией от произвола
властей. Иначе говоря, свобода отождествлялась с политической
модернизацией. Ибо что же такое политическая модернизация (отвлекаясь
от ее институциональных аспектов), если не гарантия от беззакония
со стороны властей? Спустя столетия после Аристотеля другой
великий европейский мыслитель выразил свое представление о
цивилизованности и варварстве культур и народов в строгой формуле:
«Всемирная история есть прогресс в осознании свободы» (или «в
обретении человеком внутреннего достоинства», как сказал он в другом
месте). Из этой формулы Гегеля недвусмысленно вытекало, что
народы, не ставящие себе целью обретение внутреннего достоинства, не
являются цивилизованными. Или (что, по его мнению, то же самое)
остаются варварами до тех пор, покуда этой целью не задались»1.
Безусловными метаценностями и базисными условиями
цивилизации являются: дом, порядок, труд, устойчивые отношения
собственности, передача ее по взаимному согласию сторон, исполнение
непринудительно данных обещаний, кумулятивное приращение
факторов итоговой продуктивности. Явные угрозы всему
вышеперечисленному исходят от варварства. Трудно подобрать неописательное и
социологически исчерпывающее определение этому многоликому
историческому феномену. Но одно его лицо остается неизменным.
Поэтому на уровне теоретического сознания утвердилось
противопоставление варварства и цивилизации, находящихся во взаимной
оппозиции в течение многих столетий.
В I в. варварские нашествия на центры греко-римской
цивилизации небывало участились. Вследствие чего Римская империя была
вынуждена держать большую часть легионов на восточных грани-
1 Янов А. Сколько на Земле цивилизаций? // Россия в глобальной
политике. 2006. Т. 4. № 5. С. 55-56.
80
цах. В начале II в. (при императоре Траяне) империя оградила свои
прирейнские провинции мощным оборонительным валом. Варвары
в течение двух последующих веков продолжали концентрироваться
на периферии греко-римского цивилизационного пространства.
И наконец, в III в. они хлынули неудержимым потоком. Началось
Великое переселение народов, лишь отчасти обусловленное
климатическими изменениями — похолоданием и иссушением
необозримых евразийских равнин. Резко сократилась площадь
земледельческих и скотоводческих угодий. Критически сузилось внутреннее
социальное пространство имущественно расслаивающихся родовых
сообществ.
Энергия лавинообразного распада родовых структур
высвобождала еще большую энергию синтеза агрессивных протогосударств.
Создавались мощные организации для захватнических войн. Народы
Центральной, Юго-Восточной Европы, Северного Причерноморья,
южных областей Сибири и Великой степи, подталкивая друг друга,
двинулись на запад и юг.
Гунны набросились на аланов, аланы — на готов. Все пришло в
движение. После глубоких и опустошительных конных рейдов
франков, свевов, бургундов и алеманнов по римским провинциям от
некогда процветавших городов и сел оставались развалины и пепелища.
От варварских нашествий III в. греко-римские центры цивилизации
и культуры не смогли оправиться в течение нескольких столетий.
Прочные родовые союзы германцев (равно как и небольшие
устойчивые этносы) начали складываться не ранее И-Ш вв., то есть
значительно позднее войн Гая Мария с кимврами и тевтонами (начало I в.
до н. э.) или Гая Юлия Цезаря — с кельтами (середина I в. до н. э.).
Параллельно этногенезу фризов и саксов, англов и ютов, бургундов и
свевов, франков и вандалов шла их варваризация. Одновременно с
этим антицивилизационным процессом внутренне слабела греко-
римская цивилизация. Пытаясь преодолеть демографический кризис
Римской империи включением в имперское пространство отдельных
варварских этносов, греко-римская цивилизация ускорила свою
гибель/ Но сначала она лишила себя государственного прикрытия.
Германским варварам удалось то, что не сумели совершить кельты:
массовое переселение на центральные территории Западной Римской
империи.
Кельты (в частности многочисленные галльские народности) в
I—III вв. подверглись мощному облучению римской культурой и
цивилизацией еще на стадии разложения своих неустойчивых родо-
племенных объединений. Результирующий вектор их дальнейшей
81
исторической эволюции определялся как сокрушительными
военными поражениями в I в. до н. э., так и мирной романизацией
(симбиозом культур) в начале новой эры. Неудачные захватнические
предприятия варваров ослабляли внутриобщинное и внутриродовое
влияние профессиональных военных дружин. Романизация
организационно усиливала и технологически оснащала производительные
слои кельтских родовых сообществ.
Римский государственный протекторат обеспечил в Галлии
эволюционный перевес цивилизационно продуктивных способов
жизнеобеспечения местных этносов над варварски
присваивающими. Повторим: описательная история не знает сослагательного
наклонения. Но, условно говоря, победа мятежного галльского
вождя Верцингеторикса над легионами Гая Юлия Цезаря
способствовала бы инволюции галльских социумов. С очень большой
вероятностью она привела бы (как это многократно происходило в
истории догосударственных народов) к цепной варваризации всех
кельтов и их протогосударственному сплочению в рамках
агрессивной орды. Римские гарнизоны и колонии, администрация и
право, города и дороги столетиями выполняли многозначную роль:
и погруженных в активную зону этногенеза «графитовых
стержней» — замедлителей цепных реакций варваризации, и
катализаторов цивилизационных процессов в галльских провинциях
республики и империи.
Разложение германских семейно-родовых обществ происходило
двумя веками позднее. Его историческая скорость в III в. резко
возросла. Этому способствовали прибрежная морская торговля и
пиратство. Фризы и саксы, например, издавна были хорошими мореходами
и кораблестроителями. На своих небольших и маневренных ладьях
они совершали недальние морские походы на скандинавское и
прибалтийское побережья сначала для торговли, а затем — для захвата
сокровищ и рабов. Торговлю и разбойничьи походы организовывали
вооруженные группы, Ёходившие в надобщинную верхушку и
систематически участвовавшие в традиционном перераспределении
внутреннего прибавочного продукта.
Однако этот тип редистрибуции был отягощен обычаями
возвратного обмена и бесплатных престижных раздач. Данные реликты
первобытного эгалитаризма препятствовали сосредоточению в руках
родовой меритократии материальных средств, необходимых для
содержания личных вооруженных отрядов. «Набеговая экономика»
способствовала имущественному расслоению родовых сообществ.
Добыча, захваченная «на стороне», почти целиком принадлежала
82
«полевым командирам» и их персональным дружинам. Она не
распределялась среди остальных сородичей.
Постепенно в дружинную орбиту вовлекалось все большее
количество боеспособных мужчин, жаждущих непроизводительного
потребления. Удачные грабительские походы поднимали престиж
военных вождей. Родовой союз милитаризировался и варваризировал-
ся. Этот процесс осуществлялся лавинообразно, если КПД захватных
операций оказывался существенно выше КПД операций трудовых и
обменных.
Характерным примером такой взрывной варваризации этноса
является создание протогосударства готов. В 230 г. в Северном
Причерноморье сложился их прочный родовой союз. Соседство
богатой и государственно ослабленной Римской империи
стимулировало сначала товарообменные, а затем грабительские предприятия
готов. С 251 по 268 г. они разграбили прибрежные и
континентальные города Фракии, Малой Азии и Греции. В их пиратском походе
267 г., по сообщениям античных авторов, уже участвовало 500
кораблей и более 100 тысяч человек (цифры представляются нам
преувеличенными).
В начале V в. германское племя вандалов перешло пограничный
Рейн и вторглось в римскую Галлию. Романизированные галлы не
присоединились к агрессорам и в ужасе сбегались под уже не
надежную защиту римских городских гарнизонов. Успешно сражаясь,
предавая попутные города и села мечу и огню, вандалы достигли в 411 г.
южной Испании. Здесь они ненадолго осели, но не занялись мирным
трудом в экологически благоприятных условиях цивилизованной
среды побережья. В 428 г. походная орда вандалов реорганизовалась
в пиратское протогосударство.
Вандалы избрали своим королем удачливого дружинного
предводителя Гензериха, предпринявшего (с помощью местных жителей,
жаждавших избавиться от пришельцев) строительство морских
транспортных кораблей по захваченным римским образцам. На этих
судах в 429 г. 80 тысяч вандалов переправились в Северную Африку,
покрузив все свое походное имущество (включая лошадей и
повозки). Гензерих, увлекая за собой множество готов и аланов, упорно
продвигался вдоль побережья Северной Африки, уничтожая, при
помощи восставших рабов и колонов, слабые римские гарнизоны.
В 439 г. он достиг Карфагена и сделал его главной военной базой
чрезвычайно агрессивного протогосударства.
Ударной силой и главным орудием вандальских грабежей
римских провинций с середины V в. являлся военный флот. С североаф-
83
риканских опорных баз Гензерих осуществлял опустошительные
пиратские набеги на побережья Италии, Греции и Малой Азии. Он
захватил Балеарские острова, Корсику, Сардинию и ряд районов
Сицилии. Попытка флотоводцев Восточной Римской империи
остановить этот варварский натиск, предпринятая около 450 г.,
закончилась ужасающим разгромом византийского флота, состоявшего из
112 боевых кораблей с 70 тысячами воинов на борту.
В 455 г. вандалы захватили Рим и две недели грабили Вечный
город. При этом были расхищены или бессмысленно уничтожены
многочисленные сокровища языческой и христианской эпох.
Позднее, повествуя о разрушении материальной культуры империи,
римский епископ впервые употребил термин «вандализм». Разбойничье
протогосударство вандалов просуществовало до 534 г. Его
сокрушили византийские войска.
Окончательный, смертельный удар по старым центрам
европейской цивилизации варвары нанесли в V в., опираясь на
подавляющее превосходство своей конницы и вооружения. Тень от
двуручного варварского меча, способного наносить колющие и рубящие
удары ужасающей силы, накрыла всю Западную Европу. Южная
Испания стала с V в. называться Андалузией, приняв имя
транзитных завоевателей — вандалов. Они господствовали здесь менее
20 лет, но оставили у местных жителей неизгладимую память о
себе — топонимическую зарубку. Кельтско-римская Британия в
течение V-VI вв. успешно отражала варварский натиск англо-саксов,
консолидировавшись под корпоративным господством
полулегендарных «рыцарей Круглого стола короля Артура». С VII в. Британия
превратилась в Англию, будучи завоеванной германскими
племенами англов, саксов и ютов. Римская Галлия с IX в. стала именоваться
Францией, по имени пришлого германского племени франков.
Лангобарды темных веков Раннего Средневековья оставили о себе
память в современном названии Ломбардии (бывшей при римском
господстве Цизальпинской Галлией).
Дружины против государств
В течение трехсот лет с конца VIII в. в европейских
христианских храмах после каждой церковной службы верующие пели
«Боже, спаси нас от жестокости норманнов!» Цивилизовавшиеся
потомки старых варварских завоевателей Европы чувствовали
себя бессильными перед новыми варварами — норманнами. В не-
84
равной борьбе с ними средневековые европейцы не могли
положиться на земную обороняющую власть. До XII в. северные воины
(в Западной Европе их называли норманнами, в славянских
землях — варягами) наводили ужас своим почти двухметровым
ростом и неодолимым военно-тактическим превосходством.
Норманны первыми в истории средневековой Европы массово
применили стратегию блицкригов. «Молниеносные войны» северных
варваров представляли собой серии десантов, тщательно и всегда
скрытно подготовленных, неожиданно и стремительно
осуществляемых. Норманны изобрели тактический прием атаки «клином»,
впоследствии усвоенный тевтонскими рыцарями. Постоянно
маневрирующие отряды профессиональных воинов Севера
соединяли в себе ударную силу античных спартанских и македонских
фаланг, оперативную гибкость римских манипул и когорт, почти
конную скорость в передвижениях своих боевых судов,
гладиаторскую технику ближнего боя.
В 1880 г. была найдена и тщательно обмерена боевая ладья
викингов. По результатам реконструкции выявились некоторые параметры
«драккаров»: высота борта над водой — 0,9 м, глубина корпуса в
средней части — 1,75 м, длина — 23,8 м, водоизмещение — 28 тонн. Ладья
имела 13-метровую мачту и несла четырехугольный парус площадью
около 70 кв. м. Команда состояла из 80 человек: две вахты по
40 воинов-гребцов. С каждого борта работало по 16 весел, 4 воина
несли вахту, обслуживая руль и парус. Ладья развивала скорость до
10 узлов (около 18 км/час). Во время военных походов на
форштевень надевалось деревянное изображение головы дракона. Отсюда
название норманнского боевого корабля — драккар.
Подразделение из 80 сплоченных воинов-гребцов являлось
основной (далее не разделяемой) тактической единицей норманнских
войск. Каждый член судовой команды считался кровным братом всех
своих товарищей. За убийство одного воина-гребца мстили, даже
ценой собственной жизни, остальные «други», то есть «такие же,
равные» — в славянском именовании. Славянское слово «дружина»
является калькой шведского обозначения судовой команды драккара.
Операционные базы норманнов именовались «виками». Отсюда —
западно-европейское «викинги». Военного предводителя,
выполняющего и роль капитана судна, выбирали все дружинники. Решения
походного вождя не обсуждались и беспрекословно исполнялись.
Добыча делилась поровну между всеми воинами-гребцами, включая
оставшихся на борту. Ее утаивание влекло за собой исключение из
военного братства.
85
Викинги, подобно украинским и русским казакам XIV-XVHI вв.,
не составляли единого этноса. Поэтому в западно-европейских
исторических хрониках они собирательно именуются норманнами
(людьми севера). В английскую историю конца VIII в. викинги
первоначально вошли под именем «данов» (датчан), поскольку оперировали
с побережий Дании. Хронист Адам Бременский называет их
греческим словом «пейратес» (пираты). Древние греки так именовали
предприимчивых мужчин, отправлявшихся в морские походы на
свой страх и риск, без материальной и организационной поддержки
семейно-родовых или территориальных общин. Вероятно, в
персональном составе викингов VIII—XI вв. действительно преобладали
этнические датчане, шведы и норвежцы, то есть «норманны».
Но основным типологическим признаком этих воинственных
морских бродяг является их внеобщинность, социальная маргиналь-
ность. Их континентальный аналог — степные багатуры (богатыри),
«люди длинной воли», кочующие дружинники, герои монгольского,
тюркского и русского эпосов. Скандинавские саги и древнерусские
былины неслучайно содержат общие мифологемы.
Кровавая действительность грабительских походов северных
богатырей выглядела менее былинно. Свои подвиги они начали 8 июня
793 г. ограблением, сожжением и убийством всех обитателей
богатого христианского монастыря Л индис-фарн, расположенного на
острове у восточного побережья Шотландии. Впоследствии викинги
(западноевропейские норманны и восточноевропейская их
разновидность — варяго-русы) предпочитали продавать захваченных
пленников в рабство там, где был спрос на «живой товар». Только в одном
походе в начале IX в. и только во Франции и Нидерландах норманны
захватили и продали в рабство 10 тыс. человек. Когда не было
возможности работорговли, норманны убивали своих пленников с
чудовищной жестокостью. Так, по сообщениям кремонского епископа
Лиутпранда и историка X в. Льва Диакона, во время Балканского
похода 971 г. «киевский конунг Сфендислав» (князь Святослав
Игоревич русских летописей) приказал посадить на кол 20 тысяч
жителей болгарского города Филиппополя, оказавшего ему
сопротивление. Болгары являлись подданными Византийской империи,
поэтому их нельзя было продать в Царьград. Сбыть захваченную «челядь»
в соседний с Киевской Русью Хазарский каганат также не
представлялось возможным: в 971-972 гг. Хазария пала под ударами
печенегов и скандинавских конунгов — союзников Святослава. (Разрушение
Хазарского государства сняло преграду перед натиском на
Поднепровскую Русь азиатских орд. Через полтора века непрерыв-
86
ных войн им удалось оттеснить русские дружины в северо-восточные
лесные дебри междуречья Оки и Волги.)
Франция в IX в. больше других стран страдала от набегов
северных дружин. Причина — государственное ослабление богатой
метрополии некогда могучей Каролингской империи. В 841 г. норманны
разграбили Руан, в 845 г. — Париж, в 843 г. — сожгли Нант. В
последующие годы по рекам Луаре и Гаронне они на своих боевых ладьях
поднялись до Орлеана и Тулузы и ограбили эти крупные центры
торговли и ремесла. В 80-е годы IX в. норманны совершали уже
ежегодные опустошения Франции, добираясь до ее богатых городов по
рекам Шелде, Маасу, Сомме и Сене.
В 885 г. викинги во второй раз напали на Париж. На сей раз они не
смогли взять город штурмом и были вынуждены заняться
непривычной для себя долгой осадой. Разбив лагерь на Сен-Жерменском
холме, сорокатысячное норманнское войско десять месяцев
безуспешно осаждало Париж. Горожане героически сражались под
командованием герцога Эдуарда, потомок которого — Гуго Капет —
через сто лет взойдет на королевский трон, основав династию
Капетингов. А Париж, вследствие экономической активности,
государственной стойкости и коммунальной сплоченности его граждан,
из главного города провинции Иль де Франс превратится в столицу
Франции.
Привычная тактика норманнов состояла в следующем: они
поднимались вверх по течению реки, пока не оказывались вблизи города,
намеченного для грабежа. После этого викинги разделялись на три
отряда: первый — захватывал пасущихся рядом с городом лошадей,
второй — оставался на судах, третий — незаметно подкрадывался к
передовым укреплениям. По условленному сигналу начиналась атака
одновременно со всех возможных сторон, с воды и суши.
Получив отпор, норманны обычно вступали в коварные
переговоры со своими будущими жертвами. Пример подобной хитрости при
разрушении итальянского города Лукка приводит декан монастыря
Сант-Квентин: «После того, как норманны побывали в Пизе и
Фьезоле, они повернули свои ладьи к епископскому городу Лукка,
расположенному в устье Магры. Город был подготовлен к приходу
викингов, и все боеспособные мужчины заняли позиции у ворот и
городских стен. Однако штурма не последовало. Вместо этого у
городских ворот появился безоружный предводитель викингов Хаштайн, а
с ним несколько его приближенных. Предводитель выразил желание
принять христианство и попросил епископа города совершить обряд
крещения. Просьбу согласились выполнить, хотя и приняли необхо-
87
димые меры предосторожности. Хаштайн был крещен и выпро-
вожден за ворота.
В полночь к городским воротам с громкими печальными криками
приблизился отряд викингов. На носилках они несли тело якобы
внезапно скончавшегося Хаштайна. Викинги объявили, что его
последней волей было чтобы его похоронили в соборе города Лукка.
Разве можно было отказать в последней просьбе только что
принятому в лоно церкви? Епископ приказал впустить в город безоружных
людей и принести покойника. Однако панихида не состоялась, так
как перед алтарем Хаштайн вдруг воскрес из мертвых. Викинги
схватили спрятанное в носилках оружие и набросились на тех, кто
собирался слушать панихиду. Общая паника способствовала тому, что
через городские ворота проникло в город все войско викингов. Лукка
была опустошена и разрушена»1.
С помощью подобных маневров показного миролюбия были,
вероятно, захвачены варягами Ладога, Новгород и Киев. Во всяком
случае, ладожско-новгородский конунг Хельг стал киевским князем
Олегом, проделав — в облике мирного торговца — похожую
операцию военной хитрости против своих соплеменников Аскольда и
Дира, сидевших в городе на Днепре.
Викинги редко колонизовали опустошаемые ими территории.
Образование в IX в. варяжско-русской политической
инфраструктуры вдоль речного торгового пути от Балтики до Черного моря
является скорее исключением, нежели правилом. Генезис славяно-русской
государственности обусловлен высоким уровнем общинно-родовой
самоорганизации автохтонного славянского населения, достигнутого
к середине IX в.
Другим исключением была промежуточная колонизация
скандинавскими военными бродягами, выбитыми в конце X в. из Англии,
северного побережья Франции. Район их расселения с тех пор
называется Нормандией» Север Франции в XI в. явился операционной
базой для сосредоточения сил вторжения. С этого плацдарма
норманны под предводительством герцога Вильгельма I Завоевателя на
1400 кораблях осуществили в 1066 г. внезапную высадку на южное
побережье Англии. 14 октября 1066 г. норманны наголову разбили
при Гастингсе англосаксов, и Вильгельм провозгласил себя королем
Англии.
1 Нойкирхен X. Пираты. М, б. г. С. 62-63.
88
Потомки пришедшей с Вильгельмом франко-норманнской
дружинной знати в XV в. почти полностью самоистребились в
междоусобной войне феодальных группировок Ланкастеров и Йорков
(Белой и Алой Роз). Но уже за полвека до этой усобицы состоялась
последняя европейская экспедиция английских наследников
разбойников-норманнов. Проигранная англичанами Столетняя
война с Францией положила исторический предел натиску
«кочевников моря» на континентальную Европу.
В общемировом контексте, варварский стереотип
жизнеобеспечения этносов не закрепляется навсегда ни за одним народом. Равно
как и его культурное превосходство. Это видно в сопоставлении
культур скотоводства и земледелия. Первые цивилизации были
земледельческими. Оседлый образ жизни эволюционно моложе и выше
кочевого. Однако индивидуальное мастерство экстенсивного
хозяйствования древнего кочевника-скотовода долгое время превосходило
технологический уровень продуктивной деятельности оседлого
земледельца. И не только потому, что скотоводство исторически старше
земледелия. Приручение животных требует от человека гораздо более
изощренного искусства, нежели доместикация растений: предмет
культурного воздействия в первом случае сложнее и неподатливее.
Пастух Авель психологически тоньше, технологически виртуознее и
нравственно ближе Творцу, чем грубый земледелец Каин. «И был
Авель пастырь овец, а Каин был земледелец. Спустя несколько
времени Каин принес от земли плодов дар Господу, и Авель также
принес от первородных стада своего и от тука их. И призрел Господь на
Авеля и на дар его, а на Каина и на дар его не призрел»1. Библейское
«призрел — не призрел» иносказательно сопоставляет культурную
«рентабельность» традиционной модели жизнеобеспечения этноса —
с инновационной моделью. Последняя отличалась более высоким
«коэффициентом враждебности среды», если воспользоваться
лексикой общей теории систем.
В суровых степных условиях Евразии кочевое скотоводство было
экономически устойчивее земледелия: первое соотносилось со
вторым, как мануфактурное производство — с ремесленным. Скотовод
осуществлял опосредованную утилизацию растительного мира
посредством жизненной энергетики животных, уменьшая таким
образом собственную биологическую зависимость от «коротковолновых»,
кратковременных колебаний параметров внешней среды. Перегонное
1 Быт. 4, 2-5.
скотоводство критически зависело от макроколебаний погодно-
климатических условий. Земледелец непосредственно потреблял
продукты своей рискованной растениеводческой деятельности и
биологически зависел от микроколебаний погодных условий. Идеал
земледельца — монотонная повторяемость хозяйственных циклов.
Менее предсказуемый, более вероятностный, ориентированный
на борьбу за природные ресурсы, динамичный образ жизни в
большей степени способствовал развитию адаптивных механизмов ума
и воли. Неудивительно, что в доиндустриальные времена при
столкновениях с более многочисленным и ресурсно обеспеченным
оседлым земледельческим населением, как правило, одолевали
кочевники. Они не вели позиционных войн, а успех в маневренных не
определялся количественным соотношением вовлеченных и
потенциальных материальных ресурсов противников. Позиционной,
равномерной, статичной организации военных сил земледельцев
эффективно противостояла мобильная концентрация военных сил
кочевников. В частности, их конница отличалась огромной
подвижностью.
Кочевники, в отличие от земледельцев, предпочитали модель
экстенсивного хозяйствования. Поэтому они не прилагали усилий для
воспроизводства кормовой базы, не применяли стойлового
содержания скота. Круглогодичное перегонно-пастбищное, степное
скотоводство было максимально приближено к типу самостоятельного
жизнеобеспечения стад копытных, находящихся в естественных
условиях. Копытные животные (в отличие от парнокопытных) в
зимних условиях способны добывать подножный корм из-под
неглубокого снежного покрова. Кочевники свои стада использовали, но не
содержали. Они облагали их принудительной «данью» (все
известные истории «конные империи» существовали в похожей варварской
парадигме облавной охоты и последующих даннических
обременении покоренных этносов). Степные скотоводы не заготавливали
корма впрок, не занимались травосеянием. Их жизнь зависела от
природного увлажнения естественных пастбищ и — как следствие —
расширенного воспроизводства биомассы копытных.
Специфическую силу кочевых племен составлял не столько
продуктивный скот, сколько служебные животные. Степное управление
воспроизводственным процессом не сводилось к схеме «пастух и
стадо». При всей сложности приручения парнокопытных, не оно
являлось вершинным культурным достижением обитателей степи.
Продуктивный скот встраивался в естественные трофические цепи.
Подлинным шедевром номадической культуры стало обучение ло-
90
шади, собаки и верблюда. Именно служебные животные помогали
кочевнику выжить. Поведение служебных животных, обученных
человеком и находящихся в рабочих контактах с ним, существенно
отличалось от поведения таких животных в естественных условиях.
Систематическое и целенаправленное использование оттренирован-
ных навыков собаки, лошади и верблюда превращало пастуха в
пастыря. Его контроль над продуктивными животными дополнялся
доминированием над служебными.
Варваризация этносов
Навязанными «пастырями» человеческих «стад», уцелевших от
варварского уничтожения, на протяжении тысячелетней истории
борьбы Города со Степью неоднократно становились номадиче-
ские сообщества. Но ни аварам, ни гуннам, ни венграм не
удавалось создание устойчивых и долговечных конных империй. Они
пытались утвердиться поочередно на одной и той же территории: в
Паннонии, на плодородных зеленых равнинах вдоль среднего
течения Дуная.
Гуннская номадическая империя Аттилы, объединившего
западную ветвь монгольских племен, появилась в Паннонии в 434 г. Она
создалась на тех же организационных началах, что и полтора
столетия спустя — аварская. В опустошительное нашествие на центры
старой цивилизации Аттила вовлек многие варварские племена. «Бич
божий» (названный так неизвестным хронистом IX в.) несколько лет
подряд маневрировал возле Византии, выжидая удобный момент для
ее захвата (примерно через 800 лет будет себя вести с Китаем
Чингисхан). Получив в 448 г. на Балканах решительный отпор,
Аттила направил свои орды в Галлию, где в 451 г. был остановлен
римским полководцем Аэцием. Кровопролитное сражение с гуннами
на Каталаунских полях римляне выиграли с помощью вестготского
наемного войска. На стороне римлян сражались и салические
(приморские) франки, возглавляемые королем Меровеем (основателем
династии Меровингов). Эфемерное протогосударство западных
гуннов развалилось в 453 г., после смерти Аттилы.
«Погибоша, аки Обре (авары)» — такая древнеславянская
поговорка создалась в связи с исторической судьбой бесследно
исчезнувших аваров. В конце VI — начале VII в. авары 80 лет подряд «приму -
чивали» некогда воинственное и сильное славянское племя дулебов.
91
Когда обрин хотел ехать, он запрягал в телегу вместо лошади
славянских женщин. Именно аварское иго вынудило оседлых славян-
земледельцев переселиться из зоны мягкого климата, с плодородных
придунайских земель в скудные растительностью предгорья Карпат
и далее — на суровый северо-восток Европы.
Кочевая аварская орда была уничтожена более сильной Франкской
империей Карла Великого в VIII в., а сами авары практически
полностью истреблены. В середине X в. их вырождающиеся этнические
остатки влачили жалкое существование на окраинах новой конной
империи — мадьярской. В свою очередь, после сокрушительного
поражения в 955 г. от войск германского короля Отгона I (ставшего
императором в 962 г.), она была быстро ассимилирована западно-
христианским миром. В конце X в. возникло устойчивое Венгерское
королевство.
Только номадическим ордам монголов XIII в. и турок-османов
XIV в. удалось «этатизировать» свои хозяйственные навыки
доместикации служебных животных и создать на этой технологической
основе долговечные варварские империи1.
Постепенная либо взрывная варваризация кочевых и
полукочевых народов, побуждавшая их обрушиваться на оседлое население и
друг на друга, была обусловлена несколькими природно-социал ьными
факторами.
Первый из них связан с циклическим иссушением Великой
Евразийской равнины и резким сокращением объема растительной
биомассы. Внезапный дефицит основных жизнеобеспечивающих
ресурсов, осложненный и усиленный демографическим давлением на
привычную среду обитания, ломал традиционный (экстенсивно-
производительный) стереотип воспроизводства кочевого этноса.
Обнажался и выходил на первый план повседневного использования
более древний архетип экстенсивно-присваивающего этнического
поведения.
Хозяйственные приемы перегонного скотоводства
милитаризировались для агрессивных целей облавной охоты на иные племена и
чужие стада. Трудоемкий прибавочный продукт уступал место более
легкой военной добыче. Ее концентрация в руках победившего
этноса способствовала реорганизации слабо ассоциированных трудовых
номадических сообществ на жестких началах военной орды.
Последняя представляла собой уже протогосударство.
1 См.: Тойнби А. Дж. Постижение истории. М., 1991.
92
Системообразующим началом орды являлся субординационный
боевой порядок походной организации масс непрофессиональных
воинов. Во главе их вставали агрессивные маргиналы разлагающихся
родоплеменных сообществ. В качестве протогосударственных
центров милитаризации кочевников обычно выступали ватаги степных
удальцов. Подчеркивая родовую <<отвязанность>> вооруженных
изгоев, в степи их именовали «людьми длинной воли».
Их критическая концентрация происходила в условиях
имущественного расслоения и кризисного распада семейно-родовых
сообществ. В неустойчивом союзе со «свободными радикалами»
кризисных социумов часто оказывалась системная родоплеменная знать.
Возникавшее при этом родовое протогосударство очень быстро,
качественным скачком, преобразовалось в агрессивную военную орду.
Классический пример — стремительное формирование «конных
империй» Аттилы и Чингисхана в V и XIII вв.
Второй фактор варваризации этноса — его вынужденное массовое
переселение из мест многовекового обитания. В автохтонном
сообществе старожилов конструктивный тон задавали
производительные, адаптированные, конкурентоспособные группы. В деструктури-
рованной массе, хаотизированной внезапным и быстрым
перемещением, обычно доминировали вооруженные группы. Они являлись
активистами непроизводительного присвоения, нетрудового
потребления и асоциального перераспределения произведенного чужим
трудом. Примерами подобного эволюционного регресса наполнены
исторические судьбы постминойских, ахейских, этрусских и готских
переселенцев (периодов 1425-1125 гг. до н. э. и 230-493 гг.).
Третий фактор варваризации этносов — избыточное внутриэтни-
ческое воспроизводство профессиональных военных дружин,
излишних с точки зрения оборонной достаточности. Для их содержания
нехватало прибавочного продукта внутреннего материального
производства. Вооруженные лишние люди регулярно отправлялись в
дальние грабительские походы в центры относительно большего
прибавочного продукта. Таков источник военной энергетики норманнов
(варягов), неистощимо извергаемых Данией, Швецией и Норвегией
IX-XI вв..
Четвертый фактор «самоварваризации» (А. Тойнби) действует
внутри цивилизации, допускающей критические диспропорции в
перераспределении прибавочной части ВВП. Деструктивное
действие этого фактора заключается в пролетаризации и
маргинализации быстро нарастающей массы «хронических аутсайдеров»
экономического состязания. Скорость и масштаб данного нарастания
93
обычно превышают компенсирующий объем государственной реди-
стрибуции. «Аутсайдеры» являются движущей силой и «железом
копья» всех социальных революций.
Подвижные барьеры цивилизаций
Старые центры цивилизации (Ханьская и Римская империи)
безуспешно пытались отгородиться от приграничного варварства
материальными стенами. В III в. до н. э. началось сооружение Великой
китайской стены. Она протянулась на 10 тыс. км от побережья Тихого
океана до пустынь Центральной Азии. Во II в. римляне возвели
оборонительный вал вдоль своей восточноевропейской
трансконтинентальной границы.
К III в. кочевое скотоводство перестало служить прочной
хозяйственной основой жизнеобеспечения догосударственных этносов на
огромных пространствах от Тихого до Атлантического океана.
Именно в это время начался всемирный «потоп» варварства, через
два столетия размывший и Римский вал, и Великую китайскую стену.
Пограничные укрепления не рухнули материально: Великая
китайская стена стоит до сих пор, остатки Римского вала можно и сегодня
обнаружить в Румынии. Однако все античные империи к III—IV вв.
утратили внешнюю безопасность и внутреннюю устойчивость.
Политико-экономический кризис в III в. разрушил фундамент
Ханьской империи. На ее развалинах возникла Цзиньская империя.
Ее северная территория оказалась под властью гуннов. Столица
империи Чанъань пала в 316 г. Завоеватели принялись истреблять
старую китайскую землевладельческую знать. Она, во главе с
императором, увлекая за собой часть земледельческого населения, бежала на
юг страны. Река Янцзы остановила кочевников. Крупные реки в те
времена представляли собой стратегические препятствия для
варварской конницы. Для сравнения: возможности укрыться за неодолимой
водной преградой не имелось у римской знати в Южной Галлии, и
она была полностью уничтожена вестготами в начале V в., при
образовании ими первого западноевропейского варварского
государства — Тулузского королевства.
Предметом научных дискуссий остается этническая
принадлежность гуннов. Одни исследователи относят их к племенам
монгольского этнического корня, другие — считают их тюрками. Впрочем,
этническая принадлежность не влияет на механизмы варваризации
94
кочевников. Образованию агрессивных орд всегда предшествует
межплеменное сплочение разрозненных степных ватаг под властью
наиболее удачливого вождя: «ядерный синтез» продуктов
внутреннего разложения родовых сообществ высвобождает колоссальную
энергию разрушения внешней социальной среды. Показательно,
что межэтническая идентификация варваров возникает в периоды
их территориальной экспансии. Единый этноним «монголы»
возник лишь в начале XIII в. при Чингисхане. А до этого взаимно
враждовавшие монгольские этносы именовались по-разному, в
зависимости от места обитания. В XI—XII вв. Монголия не являлась
единой страной: к северу от Байкала ее населяли буряты, на юге
страны располагались племенные объединения татар, на западе —
союзы тангутов и — самые крупные — найманов. С ними
соседствовали кочевья меркитов и кореитов.
Похожим был механизм варваризации и межэтнической
идентификации гуннов. В I в. до н. э. гунны (сюнну — в китайских
источниках) разделились на две большие ветви. Одни ушли на запад, другие
остались кочевать севернее Великой китайской стены. В середине
I в. н. э. южная часть оставшихся на родине гуннов массово
переселилась на территорию Китая, сохранив своих вождей и родоплеменное
устройство. Китайский император Гуан-у-ди вынужден был
довольствоваться своим формальным сюзеренитетом над самовольными
поселенцами. Через полтора века после своего мирного поселения
восточные гунны ринулись на принявшую их в качестве федератов
Цзиньскую империю, а западные — через шесть веков от начала
переселения — на Римскую империю.
В чем состоит принципиальное отличие двух метасистемных
состояний человеческого сообщества — цивилизации и варварства?
Первое — ориентировано на продуктивные цели, второе — на реди-
стрибутивные, осуществляемые насильственно. История взаимного
противостояния этих метасистем насчитывает не одну тысячу лет.
Около двенадцатого тысячелетия до нашей эры совершилась
неолитическая революция, обеспечившая роду Homo sapiens качественный
скачок от присваивающего хозяйства собирателей и охотников к
производящему хозяйству земледельцев и скотоводов. На этой
хозяйственной основе возникли первые цивилизации. Однако цивилиза-
ционный процесс охватил в доисторические времена далеко не весь
род Homo sapiens. На периферии первых цивилизаций в течение
многих веков концентрировались массы потенциальных варваров.
Варварство возникает в обязательном соседстве с центрами
продуктивных достижений цивилизаций. В варварстве осуществляется при-
95
митивизация социальных систем — инволюционный регресс внеци-
вилизационных сообществ: от производящего хозяйства — к
хозяйству присваивающему. Только объектами нетрудового присвоения в
регрессном варианте человеческого жизнеобеспечения являются не
природные ресурсы, а материальные результаты продуктивной
деятельности цивилизованных сообществ.
Цивилизациям крайне редко удавалось защититься от
вооруженного паразитизма варваров, воздвигая на их пути лишь
материальные барьеры. Ни Великая китайская стена, ни Траянов вал не
оправдали себя в оборонительном отношении. Материальные
барьеры цивилизации с ослабленным иммунитетом неизменно
оказывались проницаемыми. Вирусы варварства проникли сквозь них.
Варварские полчища иногда действительно штурмовали или
планомерно осаждали господствующие высоты и укрепленные узлы
фортификационных линий. Но гораздо чаще варвары искали и
находили социально близкие им нематериальные звенья цивилизационных
барьеров. Таковыми неизменно оказывались угнетенные,
неконкурентоспособные, маргинальные и склонные к варваризированию
социальные низы. Исторически постоянный императив
«соединения пролетариев» (внутренних и внешних, если воспользоваться
терминологией А. Тойнби) дезинтегрировал многие
цивилизованные общества, сталкивая их внутренние продуктивные и
контрпродуктивные группы населения. Дольше всех сопротивлялся
подобной дезинтеграции Рим.
Римское государство было шедевром консерватизма. Оно
преуспело в защите старины от политических модернизаций. Однако
материальная база римской цивилизации непрерывно
совершенствовалась. Она легко перенимала от эллинистических обществ их
технические достижения. Колесный плуг, водяные мельницы, рубанок,
кинематические приводы (винт, стопор, шкив, кулачок) —
изобретения внеримской античности, усовершенствованные Римом.
Установлено, например, что водяная мельница существовала в
материальной культуре Малой Азии в I в. до н. э. Римляне внесли в ее
устройство существенное изменение. Они заменили горизонтальные
колеса на вертикальные с зубчатой передачей, соединившей
горизонтальную ось колеса с вертикальной осью жернова. В то же время в
римских хозяйствах до V в. массово применялись ручные жернова,
приводимые в движение мускульной силой рабов и животных.
Рабство консервировало рутинные приемы труда и технологии
хозяйствования. Применение их в масштабах латифундий значительно
повышало средний уровень товарности и объем монетизации рим-
96
ской экономики, одновременно разрушая натуральные крестьянские
хозяйства.
Римская цивилизация была наиболее творческой и
результативной в строительстве акведуков, дорог, жилищ, общественных зданий
и фортификаций. Римские строители усовершенствовали
технологию изготовления бетона, изобретенного задолго до них этрусками.
В области духовной культуры (религии, философии, науки и
искусства) римские авторы предстают чаще всего в качестве подражателей
этрусских, эллинских и эллинистических оригинальных
предшественников.
Римская армия заимствовала военную организацию, боевое
построение, физическую подготовку легионеров, стратегию, тактику,
индивидуальное вооружение, осадную технику у Спарты, Македонии
и эллинистических государств. Военно-морскими учителями римлян
были Афины и Карфаген. До Первой пунической войны Римская
республика не имела военно-морского флота, способного качественно
соперничать с карфагенским. Римляне не могли в короткий срок
подготовить профессиональные корабельные экипажи для своих спешно
построенных судов. Римская милиция, крестьянская по составу,
привыкла сражаться в строю и на суше. Карфагенские моряки
превосходили ее искусством боевого маневрирования кораблей и техникой
морского боя. Римляне в ходе Первой пунической войны
противопоставили карфагенянам новый род войск: морскую пехоту. Они
оснастили свои военные суда абордажными мостиками особой
конструкции, позволяющей пехотинцам атаковать палубы противника, не
ломая собственного строя. Карфаген потерпел на море череду
сокрушительных поражений, проиграл Первую пуническую войну,
уступив римлянам плодородный остров Сицилию. Рим превратился в
региональную военно-морскую державу.
Изначально замкнутый укрепленными городскими стенами,
республиканский Рим совершал квазиколониальную экспансию,
символически двигая впереди себя оборонительные валы. В имперский
период своей истории Рим отказался от колониализма. Город-
метрополия расширился до трансрегиональных границ крупнейшей
средиземноморской державы универсалистскими методами. Он
административно интегрировал и культурно ассимилировал
покоренные им цивилизованные народы. Вершинным достижением
имперского периода римской истории явился греко-римский симбиоз
культур. Ассимиляция резко притормозилась при контактах Рима с
кельтами и остановилась — в столкновениях с германцами.
Имперский «плавильный котел» выключился. Ассимиляция сменилась
97
мультикультурализмом и федерализацией варваров. Новая
имперская политика дала поначалу позитивные результаты.
Варварские нашествия в конце III в. почти на два столетия
прекратились вследствии включения германских племен в римское
государственное пространство. Императоры иллирийской и галльской
династий принимали наседавшие на имперскую территорию догосу-
дарственные народы и селили их в приграничных областях в качестве
федератов (союзников). Умеряя варварскую агрессивность
восточноевропейских соседей, Рим — в условиях собственного
демографического кризиса — получал новых крестьян и солдат, компенсируя
острую нехватку рабочей и военной силы. Оправдала ли себя
имперская стратегия федерализации варваров?
Федерализация варваров
9 августа 378 г. по всему Средиземноморью раскатился удар грома:
готы, незадолго до того принятые в качестве римских союзников и
поселенные вдоль Дуная на положении крестьян, наголову разбили
при Адрианополе армию императора Грациана. Историки
позднейших веков по-разному оценивают политику умиротворения
агрессоров, проводимую императорами Константином и Феодосием,
«большим другом готов». Греческий историк Зосима упрекает Константина
Великого за то, что тот открыл ворота варварам. Иордан, писавший в
VI в., сообщает, что готы создали около 230 г. в Северном
Причерноморье кочевую межплеменную орду. На Запад они пришли
под натиском гуннов и аланов во второй половине IV в. Готы, по
мнению Иордана, взялись за оружие от голода, им недоставало
жизненного пространства. Аммианн Марцеллин усматривает политическую
слепоту или, по крайней мере, государственную близорукость в
действиях императора Валента, организовавшего переправу готов через
Дунай в 376 г.
Варвары, находясь на донациональной стадии развития этносов,
легко перемешивались между собой, создавали межплеменные союзы,
неустойчивые конфедерации. Так, в войске Аттилы вместе с гуннами
шли остатки разбитых им остготов, сарматов и аланов. Историки
иногда описывают такие эфемерные объединения в качестве протого-
сударств. Например, российские антинорманнисты, в стремлении
«состарить» русское государство, усматривали в славянском военном
союзе VI в. под водительством князя дулебов древний прототип
98
Киевской Руси. Между тем, данный союз был временным
объединением не этносов, а племенных дружин под общим командованием
наиболее сильного вождя.
Начиная со II в. н. э. такие дружины создавали и римляне. Они
принимали в свои войска варваров — «внешний пролетариат» (в
терминологии А. Тойнби), подобно тому как в начале II в. до н. э. Гай
Марий открыл доступ в римские легионы пролетариату
внутреннему. Такая пролетаризация армии профессионализировала ее,
повышала боеспособность, одновременно снижая государственную
пригодность. Пролетарии, как известно, не имеют отечества. Их
корпоративная преданность удачливым военным вождям постепенно
трансформировала некогда патриотическую, стойкую в сражениях,
дисциплинированную, но непрофессиональную крестьянскую
милицию в опасные для государства антиреспубликанские, а впоследствии
и антиимперские орудия честолюбивых полководцев.
Политически бессмысленные звания «императоров» римские
консулы, проконсулы и военные трибуны задолго до Империи
получали в полевых лагерях от собственных солдат. В официальном
перечне государственных магистратов республики такого звания не
было. Напротив, назначаемый сенатом на шесть месяцев
чрезвычайный магистрат (диктатор) в республиканский период римской
истории имел законную и неограниченную власть над всеми гражданами,
находящимися за пределами городских стен. Республиканские
«императоры» никогда не имели подобной власти. Их короткий «военно-
полевой роман» с солдатской массой заканчивался после первого же
поражения полководца. За полевыми «императорами» не стояло
государство.
Столь же эфемерной оказывалась власть позднеимперских
цезарей над федератами — крестьянами и солдатами. Поверхностно
романизируя одни, якобы замиренные, варварские народы в противовес
другим, более враждебным, империя государственно слабела.
Опасные орудия междоусобной борьбы, привлекаемые римским
политическим классом, нередко обращались против своих
нанимателей. Аларих, военный вождь вестготов, захвативших в 410 г. Вечный
городов тот момент находился на имперской службе. Он имел статус
римского патриция.
Военные предводители федератов, инкорпорированные в
государственный римский истеблишмент, использовали одних варваров
против других. Иногда — в интересах империи. Чаще — в своих
собственных интересах. Романизированный вандал Стилихон, опекун
малолетнего императора Гонория, принял на военную службу готов,
99
аланов и выходцев с Кавказа. А узурпатор императорского престола
Евгений призвал к себе на помощь франков во главе с их вождем
Арбогастом. Готы одолели франков, но не поделились с имперской
властью политическими результатами своей победы: император
Гонорий оказался в полной зависимости от имперской «гвардии»
готов.
Институциональная государственная власть все чаще сменялась
персонифицированным господством полевых командиров. Один из
них, римский гражданин из Паннонии по имени Орест, служивший
писцом у Аттилы, привел на имперскую службу разноплеменные
остатки разбитого войска гуннского вождя — ругиев, скиров, геру-
лов. Опираясь на них, Орест сместил императора Юлия Непота и в
475 г. возвел на трон вместо него своего малолетнего сына Ромула
Августула. Но год спустя другой полевой командир, скир Одоакр,
сын приближенного Аттилы, собрал вокруг себя солдатготов и с их
помощью сверг последнего римского императора. Одоакр
предпочел не занимать опустевший трон. Он остался дружинным вождем
готов, оккупировавших Италию. Руководимая им военная
корпорация относилась к захваченной стране как к трофею. Первый
«выборный» (то есть войском провозглашенный) нероманизированный
итальянский король довольно долго продержался у власти, с 476 по
493 г. Однако протогосударственный оккупационный режим,
опиравшийся исключительно на корпоративную базу, не мог быть
устойчивым.
Стабилизаторы порядка
Попытку преодоления протогосударственной неустойчивости
представляло собой тридцатилетнее правление в Италии короля
остготов Теодориха-Великого, управлявшего при помощи римских
советников. С 8 до 18 лет он жил в качестве заложника при
константинопольском дворе, обучаясь приемам византийской политики.
В 487 г. остготы под предводительством Теодориха безуспешно
атаковали Константинополь и через 5 лет обрушились на более легкую
цель — Италию. Там уже хозяйничали бывшие соратники Аттилы,
собравшие осколки его орд. В 493 г. Теодорих заманил в засаду и
собственноручно убил своего основного соперника — Одоакра.
Теодорих был поклонником римской государственности и
всеобщности римского права. В течение IV-V вв. оно постепенно утра-
100
чивало признаки всеобщности. В последний (третий) этап своего
развития римское гражданское право, бывшее на протяжении веков
преимущественно концептуальным, непротиворечивым и
кодифицированным, приобрело признаки персональное™ и прецедентности.
Судьи заметно потеснили законодателей в законотворческой
деятельности. Причиной юридического регресса оказалась
фрагментация административно-политического пространства. А она, в свою
очередь, явилась следствием полиэтничности Империи.
Теодорих уравнял в гражданских и политических правах готов и
римлян, оказавшихся под его юрисдикцией. Правовая культура
остготского государства времен Теодориха Великого значительно
опережала правосознание остальных варваров. В течение всего Раннего
Средневековья в Европе сохраняется персональность права обычая.
Ей подчиняется правоприменительная практика всех варварских
королевств и даже Каролингской империи.
До смерти Теодориха Великого, наступившей в 526 г., длилось
остготское «восстановление римского мира». Главным
коммуникационным пространством Рима издавна было Средиземное море —
Маге nostrum. Теодорих присоединился к исполнению изданного в
Константинополе в 419 г. закона, грозившего смертной казнью
всякому, кто обучал варваров морскому делу. Король остготов
поддержал эту политику, не пропустив франков к Средиземному морю.
В частности, он запретил Хлодвигу (королю салических франков)
захватывать галльские области Прованс и Аквитанию. После
издания закона 419 г. только вандалам удалось в V в. прорвать
византийскую «континентальную блокаду». Они построили собственный
военный флот, позволивший им опустошить побережья Южной
Испании, Северной Африки и в 455 г. разграбить Рим. Теодорих,
став в начале VI в. наиболее могущественным варварским королем,
с почтением относился к величественным осколкам империи.
Приняв римское имя Флавий, он писал императору Византии, что
его единственное желание — сделать свое королевство двойником
«беспримерной Римской империи».
Середина VI в. отмечена византийскими попытками
восстановления -имперского политического пространства. Восточная Римская
империя, временно окрепнув в военно-административном
отношении и мобилизовав свои все еще значительные людские и
материальные ресурсы, перешла в контрнаступление. В 533-534 гг. полководцы
императора Юстиниана положили конец вандальскому господству в
Северной Африке. У слабых наследников Теодориха в 536-555 гг. с
большим трудом была вырвана Италия. Испытав серию поражений
101
от имперских войск, вестготы в 554 г. покинули испанскую
провинцию Бетику.
Но недолго длились реваншистские успехи империи, особенно
истощившие ее западную часть, где к бедствиям войны прибавились
страшные опустошения от чумы 543 г. Через несколько лет после
изгнания готов из Италии на страну обрушились новые варвары.
Как обычно, жестокие завоеватели спасались от натиска более
сильных и свирепых. Пришедшая из Азии конная орда аваров вырвалась
на оперативный простор придунайских равнин, выбив оттуда гепи-
дов. Последние ударили на лангобардов, которые, в свою очередь,
бросились на покинутую готами Северную Италию и легко
захватили ее в 568-572 гг. Страна, отвыкшая при Теодорихе от варварских
неистовств, была поражена ужасом от лангобардеких массовых
зверств, убийств, насилий, поджогов и грабежей. Империя, разрушив
стабильный государственный порядок итальянского королевства
остготов, оказалась не в состоянии защитить население Италии от
новых завоевателей.
В конце VI в. вестготы вернули себе испанскую Бетику. Все
народы пришли в движение. Западную Европу вновь накрыла волна
политического хаоса. А ведь в начале VI в. казалось, что утвердился
относительный межгосударственный порядок. Королевство остготов
при Теодорихе Великом выполняло стабилизирующую роль
поверхностно цивилизованного, но непроницаемого санитарного кордона,
отделявшего от Восточной Римской империи агрессивные
варварские протогосударства: вестготов — в Испании, вандалов — в
Северной Африке, франков — на территории северной и центральной
Франции (не включавшей в VI в. приморские регионы Аквитании и
Прованса), Бельгии, Нидерландов и западных областей Германии.
Семь англо-саксонских королевств в пределах бывшей римской
провинции Британии, покинутой легионами еще в V в., непрерывно
воевали друг с другом. Но эти войны не влияли на западноевропейское
равновесие, ибо происходили за морем.
Неустойчивый политический порядок нарушила сама империя,
разгромив королевство остготов. На Западную Европу тотчас
набросились народы, находившиеся, в отличие от остготов, на догосудар-
ственной стадии развития.
На роль стабилизаторов государственного порядка в Западной
Европе и восстановителей Западной Римской империи
претендовали с VI в., помимо остготов, и салические (приморские) франки.
Мастерским ходом их короля Хлодвига было крещение войска и
народа но католическому обряду. Тем самым он приобрел постоянных
102
союзников в лице набиравшего политическую силу римского
первосвященника, территориальных иерархов, могущественного
аппарата католической церкви и многочисленного монашества. Франкское
духовенство активно помогало воинству укреплять государство и
расширять его пределы. Франкская экспансия VI в. была лишь
временно остановлена Теодорихом, не позволившим захватить
Аквитанию и Прованс. Франки завоевали Бургундию в 523-534 гг.,
а Прованс — в 536 г.
Династическое соперничество и территориальные разделы
потомков Хлодвига, «ленивых королей» — поздних Меровингов, ослабили
почти на полвека наступательный порыв франков. В это время
ослабла и политическая роль франкского духовенства. Европейские
центробежные силы возобладали над центростремительными.
С середины VII в. Северная Африка, а с начала VIII в. Западная
Европа подвергаются арабским завоеваниям. В 711-719 гг.
мусульманские войска легко отбили у вестготов Испанию. Временно
овладев Аквитанией и Провансом, арабы столкнулись здесь с франками
во главе с молодыми энергичными Каролингами. При «ленивых
королях» из чахнувшей династии Меровингов каролингские майордо-
мы десятилетиями де факто управляли страной. Майордом Карл
Мартелл, военными победами оправдывавший свое прозвище
«молот», в битве при Пуатье в 732 г. остановил арабское наступление
на Европу. Мусульмане ушли за Пиренеи. При сыне Карла Мартелла
Пипине Коротком был восстановлен католический приоритет
франков перед папским престолом и заключен с папой взаимовыгодный
союз. В 754 г. одновременно произошли два взаимообусловленных
события: появилось светское государство Ватикан и был коронован
Пипин Короткий.
История Европы в эпоху Раннего Средневековья чрезвычайно со-
бытийна. Она перенасыщена международными конфликтами.
Участники конфликтов, как правило, находятся на разных уровнях
догосударственного и государственного развития. Критически
превышен уровень элементного разнообразия основных составляющих
европейского политического пространства. «Концерт» ведущих
держав постоянно расстраивается и непрерывной сменой дирижеров.
Неупорядоченный конгломерат европейских субъектов
международных отношений в эпоху Раннего Средневековья не представлял собой
метасистему. Конгломераты такого рода исторически не
развиваются. На них не распространяется действие закона необходимого
разнообразия систем, сформулированного У. Р. Эшби. Историческое
развитие Европы началось лишь с появлением устойчивых системо-
103
образующих факторов — национальных государств, решивших
проблему своей идентичности.
Современная западная цивилизация заново испытывает
средневековые риски утраты собственной идентичности. «Поддавшись
искушению «мультикультурализма».., Запад теряет базовую для сво-
го сознания категорию «цивилизованности», то есть ощущения
культурного превосходства своего, передового, над «другим», варварским.
Выходит, что ценностная основа западного мира не может, например,
определяться христианской культурой, тысячелетиями задававшей
европейскую идентичность. Попытки включить даже упоминание о
христианстве в Конституцию Европейского Союза потерпели
фиаско. Либеральная демократия и права человека? Тот же мультикуль-
турализм лишает Запад копирайта на демократию: приходится
уважать и права тех, чья культура и традиции не предполагают желания
граждан свободно формировать свои правительства»1.
Легитимная сила и внесистемное насилие
В условиях глобализации и научно-технических революций
объективно слабеют национальные государства. Возникают «серые
зоны» ограниченного государственного суверенитета. Появляются
территории, не контролируемые легитимной политической властью.
Пространство, освобождаемое государством и не заполняемое
институтами гражданского общества, захватывается преступными
организациями. Наибольшую опасность для современных обществ и
государств представляют террористические структуры.
Современные террористы являются историческими
наследниками варваров Раннего Средневековья. Они взрывают правовой
фундамент национальных государств. Осуществляя внесистемное, но
систематическое насилие для достижения политических целей,
террористы, как правило, не стремятся к созданию собственных государств.
(В этом их отличие от радикальных этнических сепаратистов XIX в.)
Отбрасывается абстрактная идея государственности и
реанимируются антропоморфные, архаические представления об институтах
публичной власти. Она реперсонифицируется самим фактом охоты за
ее конкретными носителями. Начисто отвергаются все формальные
1 Малкин В. Зеленый поворот // Ведомости. № 242. 22 декабря 2006.
С. A4.
104
процедуры осуществления публично-правовых актов. Массовый
страх (от фр. terreur — ужас) и апелляция к нему заменяют все тонко
сбалансированные механизмы принятия государственных решений.
Новейшая российская история изобилует примерами такого рода.
Террористическая банда Шамиля Басаева захватывает городскую
больницу в г. Буденновске. В нее сгоняются сотни окрестных
жителей. Около двухсот граждан убиты, две тысячи заложников — под
угрозой смерти. Страшась массовых жертв среди мирных жителей,
оперативный антитеррористический штаб останавливает
начавшийся штурм здания больницы. Террористы прикрываются «живым
щитом» заложников, выставленных в проемах окон захваченного
здания. Басаев перед телекамерами объявляет государству свой
ультиматум: вывод федеральных войск с территории Ичкерии,
прекращение операции по наведению там конституционного порядка.
«Говорите громче, Басаев!» — начинает свой телефонный
разговор с главарем банды премьер российского правительства
В. С. Черномырдин. Уж куда громче: голос бандитов гремит на всю
страну. Российская власть публично демонстрирует свою слабость.
Она не только вступает в переговоры с террористами (что было
необходимо в связи с захватом заложников), но фактически
капитулирует перед ними.
Выполняются все требования Басаева. Преступники не
преследуются и тем самым приглашаются к новым терактам. Капитуляция
государства выдается за акт гуманизма. Басаевцы героями
возвращаются в Чечню. Тысячи молодых боевиков встают под их знамена.
Успех Басаева вдохновляет племянника президента Ичкерии
Джохара Дудаева — Салмана Радуева. В результате — рейд боевиков
«армии Джохара Дудаева» в г. Кизляр и захват села Первомайское.
Снова — сотни заложников. Но уже нет явных признаков страха
российских властей перед потерями среди гражданского населения.
Укомплектованные в основном призывниками, воинские части
замыкают кольцо вокруг блокированного села Первомайское.
Президент Б. Н. Ельцин, с подачи генералов, сообщает стране о
мифических «тридцати восьми снайперах», якобы держащих под прицелом
все передвижения террористов, окопавшихся в селе.
Военная операция по их уничтожению проводится бездарно.
Армейские части, спецназ и внутренние войска действуют некоорди-
нированно. Значительная часть банды во главе с Радуевым
прорывается из окружения и беспрепятственно уходит в Чечню. Прорыв
происходит на участке ответственности армейского подразделения,
состоявшего из призывников.
105
Жертвами всех террористических актов в конце XX в.
оказываются не учреждения, а лица: государственные служащие, общественные
деятели, гражданское население. Выбор жертв чаще всего случаен.
Но адресат террористических «посланий» постоянен: общественное
мнение запугиваемой страны. Конечный объект преступного
воздействия — государство. Конечная цель — принудительное изменение
государственной политики. Циничный расчет делается на
истерическую неадекватность демократического общественного мнения, на
включение массового «стокгольмского синдрома», психологически
объединяющего заложников с террористами — против властей.
Террористы, захватившие в заложники восемьсот зрителей
мюзикла «Норд-Ост», не смогли повлиять на характер принятых в
Кремле государственных решений. Однако преступники добились от
родственников своих жертв участия в антиправительственной
демонстрации. Испуганные люди вышли на улицу с лозунгами-
требованиями «Руки прочь от Чечни!».
Террористы радикально повлияли на результаты парламентских
выборов 2004 г. в Испании. Консервативный кабинет во главе с
Аснаром ушел в отставку. Пришедшее к власти социалистическое
правительство отозвало испанский контингент из состава
контртеррористических коалиционных сил в Ираке. Всего этого террористы
добились взрывами мадридских пригородных поездов накануне дня
общенационального голосования.
Бюрократизация современных демократических государств
повышает их уязвимость перед дестабилизирующими внесистемными
воздействиями. В соответствии с синергетическим законом
иерархических компенсаций сложных нелинейных систем, закритический
рост разнообразия (хаотизации) на нижнем социальном уровне
приводит к деградации верхнего государственного уровня
бюрократической организации. Деградация этой подсистемы проявляется в
упрощении и огрублении управляющих функций, в сведении их к ударно-
хватательным рефлексам. Все это неизбежно снижает адаптационный
потенциал госаппарата.
Стихийная рыночная конкуренция «всех со всеми» стимулирует
фрагментацию общественного пространства. Последняя не приводит
к его деструктурированию, если постоянно сдерживается или
компенсируется гражданскими институтами.
Ослабление компенсаторных функций правового государства и
гражданского общества приводит к маргинализации рыночно не
востребованных социальных групп. Либо — оказавшихся
неконкурентоспособными. Выпадение большого количества трудоспособных граж-
106
дан из сферы продуктивной деятельности приводит к разрыву
социальных связей с ними, снижению уровня общественного
самоконтроля. Критическая масса «свободных радикалов» играла
роль детонаторов всех известных истории революционных взрывов.
При отсутствии революционных ситуаций, она являлась
поставщиком террористических кадров.
Обыденному сознанию представляется беспрецедентным размах
современного антицивилизационного интернационала «Братьев-
мусульман», «Аль-Каиды», «Хизбаллы», «Хамаса», «Исламского
джихада», «Талибана» и т. п. Кажется, что эти антизападные
фанатики моноидей появились вследствие взрывной радикализации
исламского фундаментализма. В Коране, в суннизме, шиизме, ваххабизме,
мюридизме ищутся вероучительные основания новой волны террора.
Последний, между тем, может развиться в любой непродуктивной
среде, облечься в любые маскирующие одеяния, принять любую
идеологическую окраску.
Исторически назидательно сопоставление террористического
«зеленого интернационала» начала XXI в. с его красным
предшественником — Коминтерном 20-30-х годах XX в. На первый
(учредительный) съезд Коминтерна, созванный В. И. Лениным в марте 1918 г. в
противовес возрождавшемуся второму социал-демократическому
Интернационалу съехались пятьдесят коммунистических сектантов
из 35 стран. Часть «делегатов» представляла только самих себя,
остальные (за исключением российских большевиков) —
микроскопические экстремистские группы, отколовшиеся от массовых,
респектабельных социал-демократических партий.
Манифест Коминтерна, написанный Л. Д. Троцким, объявлял
беспощадную войну фактически всем цивилизованным государствам.
Россия при этом рассматривалась в качестве «охапки хвороста для
мирового пожара». Моджахеды и шахиды коминтерновской
мировой сети массово вербовались среди неконкурентных слоев
населения. Второй конгресс Коминтерна (апрель 1919 г.) принял 21
условие членства в данной организации, директивно предписывающие
всем национальным компартиям оказывать политическое
содействие, РСФСР любыми средствами, включающими шпионаж
против собственных государств, вооруженные мятежи,
индивидуальный и массовый террор. В свою очередь, материально-финансовые,
организационные и людские ресурсы РСФСР ставились на службу
насильственному планетарному переустройству.
Рабоче-крестьянская Красная Армия готовилась «напоить красных коней водами
Сены, омыть их копыта теплыми водами Индийского океана»
107
(Л. Д. Троцкий). Устав Коминтерна перекликался с имперскими
видениями революционного поэта: «И мы еще дойдем до Ганга, / И мы
еще умрем в боях, / Чтоб от Японии до Англии сияла Родина моя»
(Павел Коган).
Коминтерновские эмиссары пропагандировали новое вероучение
и европейским революционным маргиналам, и благосклонно
кивающим бородатым шейхам, и авантюрному агенту британских
спецслужб полковнику Лоуренсу Аравийскому. Ленинская соратница
Анжелика Балабанова обучала марксизму школьного учителя Бенито
Муссолини. Молодой доктор философии Йозеф Геббельс ходил
вокруг коминтерновского «Союза Спартака» (готовившего кровавый
коммунистический путч 9 ноября 1923 г.), как кот вокруг горячей
каши. На огне социально-политических конфликтов XX в.
разогревалось средневековое варево.
Нелегальные военные оргструктуры Коминтерна, управлявшиеся
из Москвы, по приказу Сталина уничтожил НКВД накануне Второй
мировой войны. Политическая организация Коминтерна формально
прекратила свое существование в 1943 г., заменившись в 1946 г.
формально пропагандистским Коминформом. Свои послевоенные
геополитические цели Сталин предпочитал достигать не средствами
«экспорта революции», не силами «волонтеров
интернационал-коммунизма». Вместо ожидаемой всемирной социалистической революции
в конце 1930-х гг. разразилась Вторая мировая война национальных
государств, из которой СССР вышел победителем. После 1945 г.
регулярные Вооруженные Силы СССР с разной степенью
эффективности решали геополитические задачи, с которыми не справились
зарубежные боевые дружины Коминтерна и его международная
террористическая сеть, «заточенные» на массовый террор во имя «светлого
будущего для трудящихся всего мира».
Задачи индивидуального террора, изъятые в 1930-е гг. из ведения
Коминтерна, были перепоручены зарубежным спецгруппам НКВД.
Рамон Меркадер, боевик одной из этих групп, ударом ледоруба убил
в 1940 г. основателя Коминтерна Л. Д. Троцкого.
«Аль-Каида» Средневековья
В 1034 г. трое молодых мусульман дали друг другу необычную
клятву. Каждый торжественно обещал: при достижении высокого
общественного положения поднимать до своего уровня остальных
108
членов их маленького братства. Жизненные пути друзей надолго
разошлись. Один из них (Омар из Хаяма) стал поэтом и математиком.
Второй — великим визирем турецкого султана. Третий — активным
пропагандистом (дай) шиитской секты измаилитов. Имя его — Хасан
ибн Саббах — остается малоизвестным до 1074 г. В этом году
молодой турецкий султан Малик-шах, по рекомендации великого визиря,
приближает ко двору Омара из Хаяма и назначает Хасана ибн Саббаха
своим доверенным советником.
Турки-сельджуки исповедовали суннитскую версию ислама. Все
высшие государственные должности занимали у них только сунниты
разной этнической принадлежности. Офицерские — исключительно
турки. Поэтому назначение шиита, тайного измаилита и араба на
высокий государственный пост в турецком султанате было
беспрецедентным. Однако усилиями великого визиря все препятствия на
карьерном пути Хасана ибн Саббаха оказались преодоленными. В
благодарность за это покровительство властолюбивый Хасан ибн Саббах
принялся плести сети тайных интриг с целью смещения великого
визиря. Интриги открылись в 1079 г. Разгневанный султан с позором
изгоняет своего советника-измаилита. Тот ловко скрывается от
преследований турецких властей и в 1081 г. переходит на нелегальное
положение среди единоверцев-шиитов.
Девять лет потратил Хасан ибн Саббах на создание новой
религиозно-политической организации. Кадры для нее он находил в
сектантской среде измаилитов, которые с конца IX в.
радикализировались настолько, что стали представлять постоянную угрозу для
всякой государственной власти. К концу XI в. измаилитская ересь
шиизма обрела законченные вероучительные формы.
Свое название секта ведет от имени Измаила — потомка Фатимы,
дочери пророка Мухаммеда. Сектанты считали всех халифов из
рода Аббасидов узурпаторами, похитившими духовную и светскую
власть у законных мусульманских имамов из рода Фатимы и мужа
ее Алия. Династии Фатимидов удалось создать устойчивый
халифат только в Египте, обеспечив в нем относительный социальный
порядок и защиту экономических интересов мелких торговцев и
ремесленников. Поэтому мятежная пропаганда измаилитов в
Египте долгое время оказывалась малоэффективной. По этой же
причине религиозный прозелитизм радикальных измаилитов
сменился неприкрытым насилием над представителями всех
конфессий, включая собственную. Основные крепости-гнезда радикалов
сосредоточились в труднодоступных горах прикаспийских районов
Персии.
109
Радикальные измаилиты верили, что Аллах послал на землю семь
натиков (пророков): Адама, Ноя, Авраама, Моисея, Иисуса,
Мухаммеда (основателя ислама) и Мухаммеда Махдия (тайного, но
подлинного имама). Дух последнего воплощается в личности
очередного лидера измаилитов. Основная ересь измаилитизма, с точки
зрения правоверного мусульманина (суннита либо шиита), состоит в
принижении религиозного статуса основателя ислама. Каждый из
семи пророков, последовательно посылаемых Аллахом, превосходит
предшественника степенью приближенности к Богу и подлинностью
истолкования Божественного замысла. Но — уступает в этом
отношении последователю. Все это, кстати, соответствует каноническому
% принципу вероучительных толкований Корана: правильно последнее
по времени.
В 1090 г. Хасан ибн Саббах с группой приверженцев захватил
укрепленный горный замок своих единоверцев-измаилитов Аламаут
(Орлиное гнездо), расположенный на труднодоступной вершине
Прикаспийского хребта. Здесь «горный старец», проживший более
ста лет, свил зловещее гнездо террористического ордена ассассинов.
Это слово, принесенное в Европу крестоносцами, представляет собой
европеизированное «хашашийин» (изготовители и применители
наркотика хашиша и люди, с ними связанные).
В современном французском языке les assassins означает
«убийцы». Слово сохраняет смысловую связь с деятельностью религиозно-
террористического ордена, сеявшего смерть и ужас с конца XI до
второй половины XIII в.
Небольшая и тщательно законспирированная группа
руководителей ордена убийц поставила на поток массовое воспитание тысяч фи-
давиев. Арабское слово «фида» имеет широкий спектр позитивных
значений: от выкупа пленников до жертвования собственной жизнью
во имя благой цели. Молодые и крепкие члены ордена, намеченные
на роль фидавиев, предварительно проходили первые две ступени
религиозного посвящения. Затем они один за другим внезапно теряли
сознание и приходили в себя в незнакомой и прекрасной комнате,
окруженные красивыми райскими гуриями, перед столами,
уставленными изысканными яствами. В наслаждениях проходил день, после
которого кандидат в фидавии опять терял сознание, чтобы очнуться в
прежней аскетической обстановке. Он становился объектом тайного
манипулирования со стороны хашашайин, использующих наркотик
хашиш. Волшебные перемещения в рай и обратно повторялись.
Наркотическая интоксикация сменялась религиозной индоктри-
нацией. Дай сообщали объекту манипулирования, что Аллах в своей
НО
великой милости к посвященному отправлял его на время в рай,
чтобы показать в чувственной форме блага и удовольствия,
ожидающие фанатичного бойца веры.
Спецподготовка фидавия завершалась его прохождением еще
двух степеней посвящения в эзотерику измаилитизма. После чего он
становился «стрелой Бога», послушной направляющей руке
гроссмейстера ордена.
Помимо первых четырех степеней, открывающихся фидавиям,
существовали пять закрытых. Последние предназначались лишь
руководству ордена. Относительно конкретного содержания тайных
догматов ордена исследователи ислама имеют смутные и
противоречивые представления. Определенно известно лишь то, что религиозная
составляющая тайной догматики ордена при восхождении активиста
к вершинам руководства уменьшалась от пятой до девятой степени
посвящения. Его высший (девятый) уровень открывал свет знания и
освобождал посвященного от идеи Божественного промысла и любых
моральных ограничений.
Презрение руководства ордена к неизмалитской части
человечества соединялось с вульгарным материализмом, политическим
цинизмом, философским скептицизмом и холодным прагматическим
расчетом. Религиозный фанатизм фидавиев использовался в
конкретных политических целях.
Терроризируя государственные элиты султанатов и халифатов,
королевств и княжеств, орден ассассинов утверждал невиданную в
истории теократию — невидимый имамат.
В течение 170 лет из Аламаута по всем направлениям наносились
смертельные удары из темноты, заставлявшие содрогаться от страха
правящие круги сопредельных и далеких стран. Султаны и короли,
халифы и шейхи, полководцы и священники в нужный для ордена
момент получали от «горного старца» материальное подтверждение
формулы булгаковского Воланда: все люди не только смертны, но и
внезапно смертны.
Десятилетиями, в течение XII и в первой половине XIII в.,
зловещую роль человеческих воплощений князя тьмы играли Хасан ибн
Саббах .и его преемники на посту невидимого имама. В учебно-
тренировочных лагерях ассассинов шла массовая расфасовка
идеологического яда. «А князь тем ядом напитал / Свои послушливые
стрелы и с ними гибель разослал / Соседям в чуждые пределы»
(А. С. Пушкин. Анчар).
Послушливые стрелы фидавиев разлетались по Европе и
Центральной Азии, Ближнему Востоку и Северной Африке. Сред-
111
невековые государства демонстрировали свою неспособность
эффективного противостояния законспирированной иерархической
структуре невидимого имамата. За ассассинов пытались взяться многие:
победитель крестоносцев Салах ад Дин (Саладдин европейских
хроник), султан мамелюков Бейбарс, христианские короли и
мусульманские халифы. Все — с незначительными успехами.
Религиозно-политическое зло индивидуального террора
оказалось сокрушенным еще большим злом террора тотального. В 1256 г.
волны татаро-монгольского нашествия во главе с ханом Хулагу
захлестнули укрепленные горные вершины — осиные гнезда тайного
ордена религиозных убийц. Ассассины были поголовно уничтожены.
Однако у них нашлись преемники в другой религиозной среде.
В начале XIX в. английские колонизаторы Индии столкнулись с
многочисленными фактами загадочных жестоких убийств явно
ритуального характера. Их жертвами являлись мужчины и женщины,
старики и дети, индусы и англичане, люди богатые и бедные, высокого и
низкого социального положения, индуисты и мусульмане. Выбор
жертв был бессистемным, но способ убийств — стандартным:
удушение шелковым платком. Убийцы бесследно исчезали.
Предпринятое англичанами расследование открыло
существование законспирированной религиозной секты тугов-душителей.
Семьсот лет они держали в страхе население Индии. Туги убивали с
одинаковой жестокостью всех, кто попадался им под руку. Создавалось
впечатление о погоне тугов за количеством жертв. За 700 лет своего
существования секта задушила сотни тысяч человек. Возможно —
миллионы.
Сектанты поклонялись богине Бохвани. Она в религиозном
сознании индуистов выступала в качестве одной из ипостасей богини
Кали, супруги Шивы-разрушителя. Культовым эквивалентом
Бохвани в авраамических религиях является сатана. Бохвани
требовала массовых жертвоприношений в обязательной форме удушения
шелковым платком. .
Туги обложили данью все индийские селения, оставляя за собой
право убивать всякого, не принадлежащего к их секте. Уплачивать
дань секте душителей обязывались приверженцы всех конфессий,
включая индуистскую. Правоверных индуистов туги убивали
наравне с иноверцами: лишь поклонники Бохвани могли претендовать на
спасительную чистоту веры. Похожая самоидентификация бытует
среди современных ваххабитов: согласно ему, любой мусульманин
не-ваххабит приравнивается к неверному и может стать объектом
сектантской репрессии.
112
Англичане жестоко и быстро разобрались с сектой тугов-
душителей. Захваченные служители сатаны расстреливались на
месте. Помогающие им селения целиком разрушались. Так
цивилизованные колонизаторы освободили Индию от террористической
сети, державшей в течение семи веков в страхе миллионы людей
разной религиозной, этнической и социальной принадлежности.
Терроризм и государство
Сколько их? Куда их гонят?
Что так жалобно поют?
Домового ли хоронят?
Ведьму ль замуж выдают?
А. С. Пушкин. Бесы
Социально-политическое явление возникает, как правило,
задолго до введения в оборот адекватного ему юридического понятия.
Слово «терроризм» появилось в языках европейцев в конце XVIII в.
Его широкое распространение принято связывать с Великой
французской революцией. Действительно, академический термин
«террор» впервые присутствует в словаре Французской академии
(в Дополнении к нему, изданном в 1793-1794 гг.). Согласно
Оксфордскому словарю английского языка, слово «террорист»
обозначало в конце XVIII в. сторонника якобинцев, применявших
методы «партийных репрессий в защите принципов демократии и
равенства». В 1798 г. партийно-государственная практика неистовых
ревнителей социального равенства получает юридическую
квалификацию: французские термидорианцы подводят историческую
черту под кровавой якобинской диктатурой, ужаснувшей
цивилизованный мир. «Диктатура революционной добродетели», делавшая
реки буквально красными от крови, обошлась французскому
народу в 1,5-2 млн жертв.
Якобинская практика революционно-государственного
терроризма отозвалась через 70 лет на другом конце европейского
континента, в русском народовольчестве. Лидер подпольной
организации с говорящим самоназванием «Народная расправа» — Сергей
Нечаев, автор протобольшевистского «Катехизиса
революционера» — стал знаковой фигурой для нескольких поколений
активных практиков российского политического террора. Нечаевская
113
«Народная расправа» не успела организационно развернуться за
пределами Петровской земельной академии. «Катехизис
революционера» кроваво материализовался в убийстве одного члена
«Народной расправы» — студента академии Иванова (ставшего
прообразом Шатова — персонажа романа Ф. М. Достоевского
«Бесы»). Сергей Нечаев, при начавшемся полицейском
расследовании убийства студента Иванова, пытался укрыться за границей,
но в качестве уголовного преступника был выдан российскому
правительству и окончил свои дни в одиночной камере
Петропавловской крепости. Руководители «Народной воли»,
считавшей себя идейной преемницей Нечаевской «Народной
расправы», долго не могли определиться в выборе организационного
политического приоритета № 1. Конкурировали два из них: убийство
царя или освобождение из тюрьмы С. Нечаева. Наконец,
народовольцы сосредоточились на решении более неотложной задачи —
цареубийстве.
Нечаев явился прототипом Петра Верховенского (персонажа
романа Ф. М. Достоевского «Бесы»), организатора нелегального
кружка «Наших», позиционировавших себя в роли одной из ячеек
«мирового революционно-террористического альянса». Реальным
аналогом «альянса», создаваемого Нечаевым-Верховенским, был
международный революционно-террористический союз,
организованный в эмиграции основателем русского идейного анархизма
Михаилом Бакуниным. Последний уполномочил С. Нечаева на
формирование боевых групп российской «Народной расправы» в
качестве ячеек террористического красно-черного интернационала.
Петр Верховенский пропагандирует идею «прогрессивного
массового террора» как непременного условия социальной гармонии
человечества, для достижения которой необходимо «перескочить
канавку», вырытую вековой российской деспотией на линейно
прочерченном, «математически выверенном» пути исторического прогресса от
«темных пролетарских хижин до светлых народных дворцов из
стекла и стали». Верховенский заявляет о себе как принципиальном
противнике и народнических идеалов терпеливого, постепенного
социалистического просвещения масс, и сложной для массового
восприятия либерально-демократической теории системно
сбалансированных структурных реформ. Революционная арифметика
Нечаева-Верховенского выглядит элементарно: «Как мир ни лечи,
все равно не вылечишь, а срезав радикально сто миллионов голов и
тем самым облегчив себя, можно вернее перескочить канавку... чего
114
5ояться, если при медленных бумажных мечтаниях деспотизм в
какие-нибудь во сто лет съест не сто, а пятьсот миллионов голов»1.
И Бакунин, и Нечаев, и народовольцы, и большевики-ленинцы
рассматривали революционно-государстваенный массовый террор
как универсальное, исторически опробованное средство системного
упрощения общества для быстрого решения задач всесторонней,
глубокой и необратимой модернизации в условиях крайней узости
ее социальной базы. Историософская рефлексия проблем
запоздалых модернизаций, осуществляемых революционным
меньшинством в ускоренной, упрощенной и насильственной форме, не
прекращается в европейских интеллектуальных кругах в течение
последних двух веков. Энергетический импульс гигантской силы,
инициировавший в конце XVIII в. «невиданные перемены,
неслыханные мятежи» в Европе XIX-XX вв., сказывается на чрезвычайно
высоком социально-политическом «градусе» современной
российской историософии. На рубеже XX-XXI вв. Россия вышла на
историческую траекторию запоздалой и потому ускоренной
постиндустриальной модернизации, имеющей традиционно узкую
социальную базу. Проблемы якобинского модернизационного насилия не
утрачивают своей актуальности.
Специальным решением Совета пятисот (законодательного
органа Французской Республики) массовый террор осуждается и
утрачивает официальный статус государственной политики.
Термидор и Реставрация выдали европейской историософии
социальный заказ на консервативное прочтение причинно-следственных
связей между идеями Просвещения и практикой революционно-
государственного террора. В первой половине XIX в. во Франции
появились фундаментальные исследования на эту тему. Именно
тогда политическая метафора радикалов «террор — карающий меч
Революции» трансформировалась в парадоксальную
политологическую формулу легитимистов «террор — материальный инструмент
Просвещения, используемый для насильственного установления
социально-экономического равенства». Иррационалистическая
философия XIX в. придала этому парадоксу академическую
основательность.
Великая французская революция, «родившаяся (согласно
Марксу) под черепами философов», ради вышеуказанных
эгалитаристских целей, разбила множество светлых голов. Миллионы жерт-
1 Достоевский Ф. М. Соч. Т. 10. С. 314-315.
115
венных теней на два десятилетия XIX в. закрыли исторические
горизонты просвещенной Европы. Вовлеченные в революцию, темные
массы блуждали в сумерках идолов, «философствуя молотом» и
«рефлексируя серпом». Посттравматический синдром погрузил
общественное сознание в сумеречное состояние. Интеллектуальные
достижения XVIII в. (рационалистическая этика, наука логики,
феноменология духа и критика чистого разума) ушли с политических
трибун. Прогресс в осознании свободы, декларированный философами
Просвещения, внезапно утратил свои рационалистические
обоснования. Попав на площадь в облике политического лозунга радикально
настроенных толп, плод философской рефлексии превратился в
нечто мистико-иррациональное и уподобился языческому идолу, не
желающему (по известной метафоре Маркса) «пить нектар иначе,
как из черепов убитых им врагов».
Просветительские референции якобинских декретов Конвента и
публичная риторика его революционных вождей широко
использовались русскими революционными демократами. Один из идеологов
массового партийно-государственного террора Петр Ткачев активно
пропагандировал «историческую необходимость» превентивного
уничтожения всех граждан старше 25-летнего возраста, так как они
уже не смогут усвоить ценности социализма. Этот параноидальный
бред П. Ткачев публикует в журнале «Набат» и вызывает
одобрительную реплику В. И. Ленина — «Настоящий якобинец!».
Иллюзии партийного самовосприятия революционных вождей и
философская рефлексия их идеологических фантомов неизменно
сопровождаются помрачением массового сознания. «Сон разума
рождает чудовищ». Рационализм и Просвещение XVII-XVIII вв.
не несут ответственности за этот явный инволюционный откат. Они
не участвовали в генезисе государственного терроризма XX в. Его
органические корни уходят в темные глубины раннесредневекового
варварства, овладевшего техникой и технологией XX в.
Просвещенческую модель революционные неоварвары хищно
использовали в целях нетрудового присвоения: в соответствии с
террористическим «Законом о подозрительных» от 22 прериаля 1794 г., по
которому было арестовано около полумиллиона французов,
предусматривалась национализация их имущества,
распределяемого среди «добродетельных граждан». Но цитаты из «Общественного
договора» Руссо входили в идеологический арсенал и
термидорианцев, остановивших «национальную бритву» (гильотину).
Политическая усталость масс снизила средний (для Франции XVIII в.)
уровень социального радикализма — главного источника энергети-
116
кй террора. Все социальные революции, называемые «великими»,
со11ровождались стихийным массовым эгалитаризмом. В нем
проявлялся древний архетип варварского присвоения. В XX в.
обнажилось архетипическое сходство социально-экономического
эгалитаризма и массовой склонности к политическому насилию, конечная
цель которого — установление уравнительносправедливого
общественно-государственного устройства, способствующего
внерыночному перераспределению материальных благ.
Якобинскую риторику кроваво материализовали практики
большевистского красного террора. Они клялись светлыми именами
Робеспьера и Сен-Жюста, уважительно поминая и П. Ткачева. Лидер
«красных кхмеров» Пол Пот, готовясь к возрастному геноциду
камбоджийцев, писал в Париже свою кандидатскую диссертацию, в
которой философски обосновал необходимость превентивного
уничтожения всех соотечественников старше 25 лет (строго по Ткачеву).
Захватив власть, «красные кхмеры» руками подростков под
руководством «настоящего якобинца Пол Пота», убили несколько
миллионов камбоджийцев установленного возраста, предельного для
социализма. В том числе — всех, имеющих высшее образование.
Постреволюционная практика индивидуального террора
отличалась от революционно-государственного меньшей идеологичностью.
Она обходилась без апелляции к рационалистическим идеалам
Просвещения. Первая волна иррациональных терактов обрушилась
на Европу в 70-е годы XIX в. Индивидуальный террор в это время
носил этнополитический характер. Сепаратисты в Ирландии,
Македонии и Сербии пытались посредством разрушения имперской
государственности метрополий расчистить политическое
пространство для национальных (моноэтнических) государств.
Почти одновременно ударила волна анархистская. Французские,
итальянские и испанские анархисты публично и нерефлексивно
демонстрировали (выстрелами в государственных служащих) «голое
отрицание» всякой государственности.
Кризис зрелого индустриализма усиливал фрагментацию
социальных тканей. Неконкурентные группы населения отодвигались
на обочину общественной жизни. Анархические убийства
совершались маргиналами во имя безграничной свободы индивида,
сбросившего цепи обезличенной социальности и принудительной
гражданственности.
В 1860-е гг. Россия испытала на себе системные риски социальной
перегруппировки вследствие запоздалой и ускоренной
модернизации. Маргинальная группа фанатичных противников «модернизации
117
сверху», назвавшая себя «Народной волей», в 1870-е гг., в обстановке
общественного сочувствия, устроила форменную охоту на царя и
высших сановников. Цель: сдетонировать громкими убийствами
общенародную революцию. Александр II пережил шесть покушений.
Седьмое достигло цели. Через сорок лет аналогичные
антигосударственные задачи кроваво решала «Боевая организация» партии
социалистов-революционеров.
Третья волна левого терроризма «городских партизан» накрыла
в 70-е годы XX в. Японию и развитые страны Западной Европы
(Германию, Францию, Италию). Эту волну принято связывать с
кризисом раннего постиндустриализма. «Городских партизан»
победила правоохранительная система национальных государств при
активной поддержке институтов гражданского общества. Поэтому
антитеррористическая война не сопровождалась свертыванием
гражданских свобод.
На рубеже XX и XXI вв. терроризм поднял мусульманское
зеленое знамя. В тактических целях, он облачился в религиозные одежды.
Его лозунги перекликаются с некоторыми идеями исламского
фундаментализма, подъемом которого отмечена вторая половина XX в.
Однако глубинные идеологические корни политического исламизма
переплетены с социально-экономическими интересами реваншистов
средневековых теократии. «Аль-Каида» убивает во имя воссоздания
халифата в границах VII—VIII вв. Под натиском боевиков
политического исламизма (по замыслу Бен Ладена) должны пасть институты
светских правовых государств и гражданских обществ XXI в.
С 2001 г. шахиды (террористы-смертники) сеют ужас среди
гражданского населения Северного Кавказа и центральных регионов
России. Полевые командиры этнополитического терроризма Хаттаб
и Басаев вербовали шахидов среди чеченских, ингушских и
дагестанских ваххабитов — молодых и социально не устроенных
последователей наиболее вульгаризованной версии политического исламизма.
Ваххабиты не стремятся к исправлению нравов, к распространению
фундаментальных исламских ценностей. Они ведут «священную
войну за исламский Большой Кавказ», от Черного до Каспийского
моря. К началу XXI в. этнополитический лозунг «независимой
Ичкерии» трансформировался в призыв физического уничтожения
«неверных» и не-ваххабитов на всей территории Российской
Федерации, невзирая на возраст жертв, их пол, этническую,
политическую и религиозную принадлежность. Трансформация облика
кавказского терроризма отражает общемировые тенденции раскола
политического исламизма.
118
Исламистское политическое движение террористической
направленности в начале XXI в. раскололось на два течения. С одной
стороны, это такие группировки, как «Хамас» и «Фатх» в Палестине,
«Братья-мусульмане» в Египте, «Хизбалла» в Ливане. Данные
исламистские организации изначально складывались как массовые и
националистические. Подобно «Ирландской республиканской
армии» и партии «Шин фейн», исламские националисты делают
ставку на обе тактики: терористическую и политическую. Они не
исключают овладения рычагами государственной власти
демократическими методами (через всеобщие выборы, по примеру
немецких национал-социалистов 1930-х гг.). Индивидуальный террор
применяется ими как средство ослабления противостоящих им
светских государственных институтов. В последние годы
суннитские «Хамас» и «Фатх», «Братья-мусульмане» и шиитская
(ориентированная на Иран) «Хизбалла» дрейфуют в направлении
системного участия в политической жизни стран своего основного
базирования. В то же время ливанская «Хизбалла» присвоила себе право
объявления войны другому государству и обрушила тысячи ракет
«Кассам» (иранского и собственного производства) на соседний
Израиль. Террористы провоцируют религиозно-гражданскую войну
между ливанскими христианами и шиитами, выступая от имени
«всех мусульман». Лидер движения «Хизбалла» Хасан Насрулла
своим воздействием на эмоции мусульманских масс конкурирует с
президентом Ирана Махмудом Ахмадинежадом, бросающим
ядерный вызов западной цивилизации, прежде всего — «Большому
сатане» (США).
Другая картина наблюдается на фланге интернационального
джихада, наиболее известной частью которого является «Аль-Каида»
(«База» по-арабски, в 1980-е гг. она, при финансовой и материальной
поддержке США и Пакистана, вербовала и обучала афганских
боевиков-моджахедов). Сетевые структуры «Аль-Каиды» стремятся
к тотальной исламизации светских государств. Интернационал-
Джихадисты рассчитывают осуществить ее «сверху», после
насильственного захвата власти путем военного переворота. Террор,
направленный против гражданского населения большого круга стран за
пределами территории базирования головной террористической
структуры, представляет собой единственную тактику «Аль-Каиды».
Боевики международного джихада все больше отрываются от
организационных структур. Они все чаще действуют без приказов
руководства. Идеологическая база террора, его агрессивная риторика
распространяются через Интернет. Стихийно возникающие террори-
119
стические группировки все менее нуждаются в координирующих
центрах.
Теракты, совершенные 11 сентября 2001 г. в Нью-Йорке и
Вашингтоне, планировались в головной организации «Аль-Каиды».
Организационное обеспечение операции, ее финансирование,
обучение пилотов-смертников, захват пассажирских самолетов,
осуществление атак на башни Всемирного торгового центра и Пентагон
направлялись, вероятнее всего, из единого командного пункта. Об этом
свидетельствует двухлетний срок подготовки операции,
организационный масштаб и объем ее финансирования (десятки миллионов
долларов США), интернациональный состав террористической
группы. Из 19 шахидов 9 были гражданами Саудовской Аравии, не
владевшими английским языком. Командирами саудовцев являлись
англоязычные студенты германских университетов.
Вопреки первоначальным предположениям национальных
следственных органов и мировых СМИ, теракты в Мадриде (2004 г.) и
Лондоне (2005 г.) были полностью подготовлены и совершены
инициативными группировками, состоявшими из натурализованных
граждан Испании и Великобритании. Следствием установлено, что
они не были связаны ни с инструкторами «Аль-Каиды», ни с
другими международными оргструктурами террора. Такие контакты даже
не искались. Политических исламистов объединила ненависть к
ценностям окружавшей их западной цивилизации. Они
откликнулись на безлично адресованные urbi et orbi интернетовские
послания идеологических наставников политического ислама, нашли в
Интернете инструкции по изготовлению бомб, самостоятельно
изготовили мощные взрывные устройства и заминировали
пассажирские вагоны мадридских пригородных поездов и лондонского
метрополитена. Террористы привели в действие эти взрывные
устройства, не дожидаясь команды из какого-либо координирующего
центра.
Негосударственные структуры всегда играли значимую роль во
внутренних и внешних конфликтах в странах Ближнего и Среднего
Востока — наиболее нестабильном районе мира. Но в настоящее
время эта роль становится ведущей в связи с ослаблением
институтов национальных светских государств. В конце XX — начале XXI в.
все традиционные арабские центры государственной власти,
опоздавшие на поезд модернизации, переживают состояние системного
кризиса. Они все отчетливее демонстрируют свою неэффективность
в обеспечении большинства граждан фундаментальными благами, в
создании жизнеспособной инфраструктуры, утрачивают положение
120
главного субъекта политики. Светская власть теряет и монополию на
легитимное насилие.
Волны политического исламизма размывают правовые основания
и несущие конструкции национальных светских государств. В конце
XX — начале XXI в. региональные державы с численно
преобладающим мусульманским населением (Сирия, Египет, Ирак) утратили
ресурсы геополитического влияния и претензии на гегемониальный
статус. Падение (под ударами армии США) политического режима
партии «Баас» и уход Сирии из Ливана подорвали панарабский
национализм. Члены Лиги арабских государств оставались
пассивными наблюдателями крушения светского режима Саддама Хусейна.
В результате иракских демократических выборов, проходивших по
рецептам оккупационных властей, в стране сложился
конфессиональный политический ландшафт с доминированием шиитского
большинства. Падение суннитского Багдада — бывшей великой
столицы аббасидского халифата и важнейшего центра арабо-исламской
культуры — усилило ирано-шиитскую ветвь ислама. Немедленно
активизировалась ядерная программа Тегерана, укрепился иранский
«длинный рычаг» в Ливане: проиранское движение «Хизбалла»
бросило вызов не только привычному врагу (Израилю), но и
правительству собственной страны.
В 1960-е гг. Арабская Республика Египет пользовалась
сильнейшим влиянием в регионе и в Лиге арабских государств. Египет,
Судан и Сирия являлись членами конфедерации (АРЕ). В настоящее
время Египет — маловлиятельное бедное государство третьего мира,
неспособное пресечь геноцид в Дарфуре, поощряемый властями
Судана. 2006-2007 гг. отмечены крушением неустойчивой
конструкции Палестинской администрации: впервые в истории распадается
несуществующее государство.
Тяжесть борьбы с международным терроризмом возрастает. По-
современному вооруженные варвары, противостоящие
цивилизованному сообществу национальных государств, прячут свои сетевые
структуры в бурлящей среде этнополитических движений и
культурно не адаптированных этнических диаспор. Политическое насилие в
этой среде становится все более диффузным.
Современная цивилизация предоставляет международному
терроризму средства его осуществления. Некоторые из них
общеизвестны: материальные носители энергии уничтожения и инструменты
информационного обеспечения — СМИ, мультиплицирующие
социально-психологические эффекты терактов. Террористы
используют институты гражданского общества и правовую инфраструктуру
121
государства. Для давления на них террористы возродили силовой
рычаг заложничества.
Заложничество возникло на архаической стадии эволюции
человеческого общества. Когда первобытные групповые структуры
тасующихся микросоциумов трансформировались в более устойчивые и
крупные семейно-родовые общности, индивидуальная ценность
человека многократно возросла. Поэтому, захватив заложника,
агрессор мог парализовать военную активность той большой семьи, из
которой заложник взят. Как только родовое государство сменилось
территориально-общинным, фактор заложничества утратил
большую часть своей устрашающей силы, сдерживающей встречную
агрессию.
Почему же эта архаика реанимировалась сегодня, нацеливаясь
преимущественно на страны развитой социальной демократии?
Потому что демократические социальные государства формируются
в качестве гуманистически-правовых, где человек не средство, но
цель. И поэтому современным террористам стало проще давить на
такое государство. Намного проще, чем их историческим
предшественникам. В отличие от последних, современные террористы
убивают не столько представителей власти, сколько беззащитных
граждан, относительно которых в развитых странах существует договор
между гражданским обществом и правовым государством. Основной
смысл общественного договора: человек — это высшая ценность.
Используя социальные приоритеты государства, террористы
взрывают его правовую систему.
Силовое государственное блокирование инструмента
заложничества, используемого террористами, увеличивает риски
дегуманизации общества. Тактические успехи в борьбе с варварством
достигаются ценой усиления тенденций внутренней самоварваризации
общества, жертвующего частью своих граждан. В 1970-х гг. Израиль
временно остановил террористические захваты своих пассажирских
самолетов. Кнессет принял закон, запрещающий вступать в
переговоры с террористами. Захваты пассажирских самолетов сменились
«живыми бомбами». Обнаруживать и вовремя обезвреживать их
стало еще труднее: рациональные организации имеют здесь дело с
иррациональным поведением фанатичных самоубийц. Рациональным
организациям приходится апеллировать к ценностям темного мира,
проникать в эзотерику его знаковых систем. В подмандатной
Палестине англичане сокращали размах шахидизма, хороня трупы
шахидов в свежих шкурах свиней и лишая таким образом
«мучеников веры» обещанных мест в райских кущах.
122
«"Из темных веков" в наше время словно возвращаются такие
явления, как децентрализация систем управления, хаотичность
противоборствующих групп власти и экономического влияния. Когда
государство теряет способность контролировать локальные, зачастую
транснациональные силы, будь то, например, наркомафия или
сетевые террористические структуры, начинается деградация
рациональных, цивилизованных форм устройства государственной жизни...
Исламизм возник как следствие несостоятельности слишком многих
светских режимов в мире ислама, главным образом в арабских
странах. "Ислам — вот решение!" — этот лозунг созданной в Египте
организации "Братья-мусульмане" стал боевым кличем неуклонно
набиравших силу мусульманских радикалов от улемов-фундаменталистов,
вроде бы не имеющих отношения к политике, до джихадистов,
призывающих к священной войне, включая террор, против западных
врагов ислама»1.
Современные политология и философия истории активно
обсуждают прогнозы футурологов о неизбежности в XXI в. этноконфессио-
нальных конфликтов, способных взорвать национальные
государства. На вероятное будущее экстраполируются реализованные
тенденции прошлого. Весомые основания для такой экстраполяции дают
события четырехсотлетней давности, завершившиеся созданием
Вестфальской системы национальных государств. Христианская
Европа уже переживала этноконфессиональные катаклизмы,
подобные прогнозируемым. Реисламизация светских государств, чреватая
«священной войной с неверными», вызывает в исторической памяти
Реформацию XVI-XVII вв., сопровождавшуюся жесточайшими
религиозными войнами. Они явились генеральной репетицией
постреволюционных гражданских войн XVIII-XIX вв.
Во второй четверти XVII в. в процесс массового
взаимоистребления приверженцев родственных направлений одной конфессии
включились два лагеря милитаристских государств. Швеция
заступилась за протестантских северогерманских князей, а Испания — за
католических суверенов южных районов Германии. Кровавая вражда
между протестантами севера и католиками юга Германии казалась
непреодолимой. Беспощадная межконфессиональная война
затянулась на целое поколение и превратилась из общегерманской в
общеевропейскую. Современникам этой бессмысленной бойни
представлялись только два выхода из нее: либо массовый переход в католиче-
1 Мирский Г. Возврат в Средневековье? // Россия в глобальной
политике. Т. 4. №5. С. 8.11.
123
ство всех немецких протестантов, либо исчезновение Германии (как
нации-государства) с политической карты Европы вместе с
христианством как общей религией большинства населения этой
крупнейшей западноевропейской страны. Выход был найден на третьем пути.
Апокалиптического «столкновения цивилизаций» не произошло.
Политический разум и мещанский прагматизм возобладали над
идеологической (религиозной) одержимостью масс, вовлеченных в
иррациональный общеевропейский кошмар.
Может ли правовое государство, ослабившее свои первичные
функции защиты гражданского населения, эффективно
сопротивляться современному терроризму, не утрачивая своей
гуманистической идентичности? Существует немало положительных ответов на
этот драматический вопрос. Не вводя чрезвычайного положения,
ФРГ в 70-е годы XX в. справилась с волной городского террора.
Оставаясь в правовом поле обычных законов, спецслужбы ФРГ
обезвредили террористическую банду Карла Баадера — Ульрики
Майнхоф. «Красные бригады» в эти же годы побеждены
правоохранительной системой итальянского государства. Победа была
одержана без ограничений прав граждан. И в более отдаленном прошлом
немало примеров успешной борьбы с политическим терроризмом.
С фанатичными и беспощадными таборитами-протестантами, во
главе с талантливым полководцем Яном Жижкой наводившими ужас
на немецкие земли в XV в., справились их единоверцы — умеренные
гуситы, организованные не таборно-ополченческим образом, а
общинно-церковным. Умеренные гуситы консолидировались на
постоянной основе ремесленных цехов и городских коммун. Таборитов
временно сплачивали походные воинские станы и ненависть к
католикам. Умеренные гуситы (после смерти Яна Жижки) разгромили
таборитов при Липанах, применив таборитскую военную тактику.
Структурирование массовых движений неизбежно увеличивает в
них вес умеренных фракций, снижает средний уровень стихийного
радикализма и уменьшает роль экстремистских групп и их
фракционных лидеров. Поэтому для религиозно-политических радикалов
любые умеренные фракции в смежных сегментах некогда общего
движения (униаты, прагматики, оппортунисты, реформисты)
наиболее опасные враги.
В одну из подпольных ячеек «Народной воли» входил молодой
политический экстремист по кличке «Волк». К этой ячейке
принадлежал и Александр Соловьев. Тот среди бела дня успел сделать
несколько выстрелов в Александра II. Никем не охраняемый,
император прогуливался по Дворцовой площади. Выстрелы преступника не
124
достигли цели, так как Александр, убегая к Зимнему дворцу,
постоянно менял направление своего бега.
Теоретически осмыслив политическую контрпродуктивность
индивидуального террора, бывший народоволец «Волк» превратился в
основателя РСДРП Г. В. Плеханова. Внутри этой нелегальной
партии (и во многом благодаря ее нелегальности) к 1903 г.
сгруппировалась вокруг младшего брата казненного народовольца Александра
Ульянова экстремистская фракция большевиков — будущих
организаторов партийно-государственного террора. Оставаясь в
организационных рамках единой и массовой РСДРП, большевики-ленинцы
не смогли бы выжить даже в качестве фракции: умеренные социал-
демократы, партийно более сильные, непременно ассимилировали бы
радикалов. Поэтому В. И. Ленин всегда шел на раскол, если его
фракция оставалась в меньшинстве. В 1912 г., через 9 лет после
официального рождения большевизма как политического течения, только 600
твердых большевиков-ленинцев были представлены на Пражской
партийной конференции. Из политического небытия ленинцев вывел
стихийный большевизм русского бунта, синхронизированного
(самоубийственным расколом российского истеблишмента) с
системным коллапсом государства. Стихийный и партийный большевизмы
соединились в октябре 1917 г. в общую силу на платформе
антигосударственности, а вовсе не «мировой коммуны».
«Думающей гильотиной» называл Плеханов своего младшего
соратника по РСДРП — В. И. Ульянова (Ленина). «Ленин крови не
боится», — запоздало предупреждал современников умиравший в
1918 г. основатель российской социал-демократии. Смерть в своей
постели избавила бывшего народовольца от набиравшей обороты
террористической машины большевизма. В политическое
становление последнего Г. В. Плеханов внес немалый (во многом —
невольный) вклад. РСДРП, имевшая к 1903 г. солидную европейскую
социал-демократическую родословную, вывела на общероссийскую
политическую сцену маргинальную группу чуждого II
Интернационалу партийно-генетического кода. Большевики идейно
были гораздо ближе к народовольцам-террористам и своим будущим
союзникам — левым эсерам.
В условиях дееспособности государства политические
экстремисты, как правило, воздерживаются от массового террора,
ограничиваясь террором индивидуальным. Наиболее эффективным средством
государственной борьбы с индивидуальным террором оказалась
агентурная сеть, быстро сплетенная после цареубийства 1 марта 1881 г.
спецслужбами Российской империи. Террористическую организа-
125
цию народовольцев второго поколения парализовал ее руководитель
Дегаев, завербованный жандармским полковником Судейкиным.
К народовольцам этого призыва принадлежал старший брат
В. И. Ленина — Александр Ульянов, повлиявший на мировоззрение
будущего лидера большевиков гораздо основательнее, чем
общепризнанный главный теоретик Российской социал-демократической
рабочей партии. Только казнь старшего брата и фактическая
самоликвидация центрального ядра «Народной воли» удержали юного
радикала от непосредственного участия в практике «бомбистов». Судьба
уберегла В. И. Ульянова и от личного знакомства с Дегаевым.
(Пытаясь реабилитировать себя перед немногими оставшимися на
свободе народовольцами, Дегаев застрелил и самого Судейкина,
успев сделать необратимым организационный распад «Народной
воли».)
В начале XX в. руководитель «Боевой организации» партии
эсеров Азеф взорвал ее изнутри, действуя дегаевским методом и
выполняя обязанности агента Охранного отделения российского
МВД. Царская охранка после убийства Александра II сумела стать
достаточно эффективным инструментом борьбы с политическим
терроризмом. Она предотвратила новые цареубийства.
Однако агентурными методами не удалось остановить массовый
террор, развязанный экстремистскими партиями в ходе первой
русской революции 1905-1906 гг. В войну с революционными
террористами вынужденно включилась армия. Кадетам, призывавшим
правительство во время революции ограничить использование армии и
политически договариваться с «внесистемной оппозицией»,
П. А. Столыпин отвечал: «Прежде всего мы должны защитить
государство, остановив революционный террор». Российский премьер
понимал: с политическими убийцами договориться невозможно.
Военно-полевые суды, введенные указом императора по
преступлениям террористического характера, сыграли свою стабилизирующую
роль. В 1906-1907 гг. эти чрезвычайные меры защиты общественной
безопасности остановили волну негосударственного вооруженного
насилия. Российское государство в ходе первой русской революции
смогло защитить от террористических атак инфраструктуру
национальной экономики. Боевики революционных партий в 1905-1906 гг.
устраивали железнодорожные диверсии. При взрывах пассажирских
вагонов погибало множество мирных людей. Анархистские и
эсеровские боевики стремились парализовать в 1905-1907 гг. работу
стратегических коммуникаций страны. С этой деструктивной задачей
революционеры не справились.
126
Боевые организации большевиков, анархистов и эсеров в
начале XX в. убили около десяти тысяч человек, но не достигли
своих политических целей. Активность террористических
подразделений этих партий в постреволюционное десятилетие была
блокирована агентурной сетью, которую сумело заново создать
Охранное отделение российского МВД. Но политическую
составляющую охранной службы царь ограничил в довоенных
правомочиях, по настоянию контрразведки Генштаба, накануне
февральской революции 1917 г. Военно-политические круги империи,
организовавшие в 1916-1917 гг. заговор против Николая II,
превентивно ослабили имперскую
информационно-разведывательную оргструктуру.
Современные российские спецслужбы, по всей видимости,
пренебрегают изучением оперативных достижений асов охранной
деятельности МВД Российской империи. В частности — в развертывании
эффективной агентурной работы. В настоящее время она крайне
слаба в среде северокавказских террористов. ФСБ РФ недостаточно
использует и богатый опыт организации агентурной сети,
накопленный КГБ СССР.
Терроризм — это внесистемное явление. И справиться с ним
путем переговоров, социально-политических уступок и
компромиссов невозможно. В объяснении истоков терроризма
малопродуктивны и ресурсы теории экономического детерминизма. Не от
бедности идут в террор. Фанатичных исполнителей-маргиналов
используют идейные враги государственно-общественной
системы. Руку Дмитрия Каракозова, покушавшегося в 1866 г. на царя,
направляли образованные и материально обеспеченные польские
сепаратисты, потерпевшие поражение в антироссийском восстании
1863 г. Боевиков <<северокавказского имамата» подпитывают
зарубежные нефтедоллары.
Главная сила общественной безопасности современной России —
это по-прежнему государство, поскольку в нашей стране
традиционно отсутствуют самодостаточные институты гражданской
самообороны. В отличие от США, в России нет национальной гвардии,
шерифов, рейнджеров, минитменов, комитетов гражданской бдительности
(«виджилянтов» эпохи негосударственного освоения западных
Общественных территорий США). Поэтому государство защищает
основные права граждан, повышая эффективность своих институтов
легитимного насилия. Приоритетная обязанность всякого правового
государства — организационно-силовое обеспечение основного права
граждан — права на жизнь.
127
Примеры новейшей истории свидетельствуют, что терроризм
побеждается практическим сотрудничеством граждан с
правоохранительной системой государства. (Как минимум информационным
содействием: «Позвонив по телефону 02, вы свяжете террористам
руки».) Государственные спецслужбы находятся на переднем крае
«фронта без линии фронта». Однако диффузный характер
террористических угроз обнаруживает недостаточность институциональных
ответов. Иерархически выстроенным вертикалям государственных
служб противостоят горизонтальные сетевые структуры,
формируемые нелинейно и дислоцированные дисперсно. Их невозможно
уничтожить облавами, зачистками и ковровыми бомбардировками. В
антитеррористической войне бессмысленно бить по локализованным
площадям, поскольку у террора нет неизменных целей, директивных
планов и мест постоянного базирования. Прицельная точность
поражения узлов террористических сетей достигается агентурно-сетевым
ориентированием мобильных сил скрытного развертывания и
быстрого реагирования.
Цивилизация не создала автоматических механизмов
культурных и технологических ответов на принципиально новые вызовы
варварства XXI в. Оно широко использует технические достижения
цивилизации в антицивилизационных целях. Чрезвычайную
опасность для техногенной цивилизации представляют
антиобщественные малые группы, способные нанести прицельные точечные удары
в ее нервные узлы. Прежние масштабные проекты создания средств
массового уничтожения (типа Манхэттенского атомного проекта)
были очень затратными ресурсно, энергетически, финансово. Они
оказывались по силам далеко не каждому государству. Только —
самым мощным. Сегодня небольшие группы компьютерно
образованных людей в состоянии стать фактором мировой политики. Вне
государственного и общественного контроля они могут овладеть
относительно дешевыми (по сравнению с традиционным
производством оружия массового поражения) нанотехнологиями. В
частности — технологиями производства нановирусов, в которых
плотность информации составляет один бит на одну молекулу. Согласно
научным прогнозам, такая информационная плотность вполне
достижима к 2020-м годам. Будучи миниатюрнее больших белковых
молекул, нановирусы обретают подавляющее конкурентное
преимущество перед ними.
По воле программиста, нановирусы (как и обычные
компьютерные вирусы) нацеливаются на агрессию против больших белковых
молекул. Для этого нановирусы наделяются способностью избира-
128
тельного поражения людей с заданными генотипическими
особенностями. Уже достигнутое исчисление генома человека и первые
успехи в его расшифровке делают эту опасность вполне реальной.
Несанкционированное производство нановирусов после 2020 г.
прогнозируется аналитиками Антитеррористического центра
рф. Получив в свои руки микробиотехнологическое и
компьютерное оружие антигеномного поражения, террористы новых
поколений станут источниками глобальной угрозы.
В состоянии ли современные государства эффективно
блокировать эти потенциальные угрозы? Ответ представляется
положительным. Успешное противостояние современному
компьютеризированному варварству возможно, если государства создадут
антитеррористические структуры, адекватные особенностям непредсказуемых,
рассеянных, скоротечных, точечных военных операций,
осуществляемых террористами новых поколений.
Существующие сегодня государственные военные машины и
спецслужбы создавались для противостояния аналогичным
машинам и спецслужбам. Они строились в расчете на рациональное
поведение противников. Последних выбирали «себе по плечу». В
настоящее время трудно вообразить ситуацию открытого военного вызова
ядерной супердержаве со стороны какого-либо государства, даже
располагающего ядерным оружием. Однако события 11 сентября 2001 г.
реализовали фантастический сценарий: небольшая группа
террористов-смертников нанесла сокрушительный удар по Соединенным
Штатам Америки.
В начале XXI в. военное доминирование США является
исторически беспрецедентным. Бурный старт ему дали в 90-е годы XX в.
разработки умного оружия точного наведения и средств бесконтактной
войны. С 1991 по 2004 г. огневая мощь солдата США увеличилась в
10 раз. Никогда в прошлом разница в вооруженности государств не
была столь качественной. В сущности, армию XXI в. имеют только
США.
Вооруженные силы древних Египта и Ассирии, Персии и Эллады,
Афинско-Делосского и Пелопонесского союзов, Рима и Карфагена,
Антанты и Тройственного альянса были качественно соизмеримыми.
Эти участники затяжных военных соперничеств располагали
похожими армиями. Блицкриги случались в исторически обозримом
прошлом. Но они происходили крайне редко. Поэтому знаменитое
донесение Гая Юлия Цезаря римскому Сенату («пришел, увидел,
победил») удержалось в памяти современников и потомков. Оно
выделялось своей нетипичностью.
129
Армия США в 1991 г. (в Персидском заливе), в 2001 г. (в
Афганистане), в 2003 г. (в Ираке) стремительно победила
государственно организованных военных противников, предварительно
уничтожив их военную инфраструктуру. Но — надолго завязла в
изматывающих боестолкновениях с негосударственными малыми группами
афганских талибов и иракских террористов. Налицо —
неадекватность силовых структур глобальной супердержавы задачам адресной
защиты мирных людей, неготовность США к «нештатной» войне,
которую террористы беспощадно ведут с невооруженным гражданским
населением.
В похожем положении оказались и силовые структуры России в
их борьбе с внутренним и международным терроризмом. Объектом
его атак неизменно выступают слабо защищенные подсистемы
жизнеобеспечения и трудозанятости мирных людей, места их обычного
досуга, проживания, культурной и социальной деятельности.
Техногенная урбанизированная цивилизация вообще крайне
уязвима. Это объясняется высокой степенью ее сложности. Чем сложнее
система, тем меньшее количество системных элементов может
повлиять на ее устойчивость критическим образом. Достаточно,
например, вывести из строя несколько ответственных узлов городской
инфраструктуры. Стопроцентную защиту ее обеспечить невозможно.
Очень трудно вычислить направления атак небольших групп
боевиков, стремительно передвигающихся по бесчисленным «тропам
войны», укрывающихся в большом городе.
По сравнению с государством, террористические организации
намного менее инфраструктурны. Однако они имеют планирующие и
учебные центры, базы временного сосредоточения, укрытия,
передислокации, снабжения, лечения боевиков. Их банды используют
вычисляемые каналы финансирования. Даже зачаточная
инфраструктура терроризма значительно повышает его уязвимость.
Поэтому, особенно после захвата террористами более тысячи
заложников в школе осетинского города Беслана, вынужденного штурма
школы и гибели нескольких сотен детей, изменилась тактика
антитеррористической борьбы. Российское политическое руководство
объявило о готовности к превентивным ударам по местам
базирования политических убийц. Эти места, в основном, находятся за
пределами суверенной территории РФ, в серой зоне, не контролируемой
слабыми государствами. Глобальная антитеррористическая война
вступает в новую фазу.
Терроризм, как было отмечено, представляет собой внесистемное
явление. Однако он самовоспроизводится, находясь в постоянной оп-
130
позиции с основной (управляющей) подсистемой — государством.
При этом террористы не могут обойтись без опоры на внеинститу-
циональную социальную базу, как правило — узкую. Они
идентифицируют себя с безличным множеством маргинальных
микросоциумов, оказавшихся неконкурентными. Исключительно групповая
самоидентификация принципиальных врагов государственности
обусловлена категорическим отрицанием самоценности
индивидуума как основной человеческой метароли, санкционированной
современным Государством-Нацией. Маскируя групповой характер
собственной идентичности, современные террористы апеллируют к
трансцендентным ценностям «прогресивного класса», «правоверных
мусульман», «мировой гармонии».
Глава 3
ВЫЗОВЫ И ОТВЕТЫ
Запреты и правила
Просто невероятно, как сильно
могут навредить правила, едва
только наведешь во всем
слишком строгий порядок.
Ф. Лихтенберг
Российское общество в очередной раз сталкивается с социально-
экономической дилеммой самоорганизации: солидарность или
конкуренция? Первую питают коллективистские традиции. Вторую
обусловливает исторически молодая частная собственность.
Коллективизм эволюционно древнее индивидуализма. На предоб-
щественном этапе формирования Homo sapiens не могло быть
внутривидовой конкуренции в форме войны всех против всех. Ее корни
социальны, но ствол и ветви государственны. Большую часть из
пятнадцати тысяч войн, известных истории, вели не этносы, а
государства. «Войны между государствами увеличивают их власть над
собственным населением, а это, в свою очередь, подрывает возможность
социальной гармонии. Вопреки теориям Гоббса и Локка,
индивидуумы становятся врагами друг другу по причине избыточной
государственной власти»1.
Процесс сотрудничества членов первобытных коллективов
регулировался генетически наследуемыми инстинктами. В их основе
лежало единство целей совместного выживания и одинаковое
восприятие опасностей и возможностей среды обитания. Инстинкты
солидарности и альтруизма действовали только внутри ограниченных
групп своих и не распространялись на чужих.
Нормы культуры и правила цивилизации разрушали единство
целей и общность микрогруппового восприятия среды. Нормы и
правила цивилизации противоречили инстинктам дообщественно-
го внутригруппового поведения. Культура преодолевала
асоциальные инстинкты. Цивилизация дополняла культуру,
мультиплицируя и обезличивая ее эффекты. Обезличивание являлось следстви-
1 Кин Д. Демократия и гражданское общество. М., 2001. С. 93.
132
ем расширения и уплотнения среды человеческого общения.
Организационно-правовой формой среды интенсивного общения
стал город, основная несущая конструкция цивилизации.
Культура начинается с поведенческих запретов (первым было
табу на инцест), цивилизация — с установления технологических
предписаний, кумулятивно увеличивавших продуктивные силы
городского сообщества. Область должного формируется
культурой, сфера сущего — цивилизацией. Мировоззренческий конфликт
между культурой и цивилизацией — историософское открытие
XVIII в. Руссо сконструировал буколический образ
«добродетельного дикаря», живущего по законам природы и не испорченного
городской цивилизацией. Мораль здесь противопоставляется
технологии.
Это противоречие умозрительно. В реальной человеческой
истории, правила внутригруппового распределения продуктов
совместной деятельности составляли «протомораль». Они выступали в
качестве базовой «технологии» социализации первичных тасующихся
групп собирателей и охотников, то есть — «технологии» их
постбиологического общения. Параллельно этому, первичные навыки доре-
чевой, но регулярной коммуникации неоантропов являлись
ступеньками к их сапиентации. Общественная мораль формируется на
речевом этапе эволюции, через групповое (референтное)
противопоставление предварительно согласованных в регулярном общении
норм — нерефлексивному, импульсивному поведению индивидов.
Мораль отчетливо противопоставляется и рациональному расчету
асоциальных способов достижения индивидуальных целей. Нормы
морали воспроизводятся через обезличенный механизм
культурных традиций, технологические алгоритмы — посредством
индивидуализированного обучения.
Культура и цивилизация развиваются параллельно друг другу.
Но их плоды разнопорядковы и не однотипны. Они имеют разные
уровни знакового и вещественного наполнения. Мораль и религия —
преимущественно знаковые системы культуры. Колесо и огонь —
материальный мотор цивилизации.
Моральные ценности социально обусловлены, но для индивида
они априорны. Основанные на ценностях моральные ограничения
представляют собой иррациональные конструкции, эмпирически не
верифицируемые. Правила морали не являются заключениями
нашего разума. Они в то же время не детерминированы биологической
природой человека и развивались в рамках сапиентации и
социализации неоантропов.
133
Инстинкты солидарности и альтруизма эволюционно
сформировались в малых кровнородственных коллективах. Последние
выполняли роль постбиологических ниш выживания узкого круга
«своих». Внутригрупповые социальные инстинкты не работали в
анонимных сообществах «чужих». Религии преодолевали
групповой эгоизм «своих», неограничено расширяя сферу их культурных
контактов. Вовлечению «чужих» в круг «своих» способствовало
отсутствие в этом процессе экономической обусловленности и борьбы
за жизнеобеспечивающие ресурсы. В расширении надэтнических
сообществ «своих» наиболее преуспели универсалистские религии.
Христианской культуре, например, за двадцать веков во многом
удалось обеспечить (преимущественно в европейских странах)
расширенный человеческий макропорядок — «Божий мир» в
средневековом понятии — негосударственными и внеэкономическими
средствами. Отсутствие в Конституции Европейского союза
упоминания о системообразующей роли христианства не отменяет
христианских основ европейской цивилизации. Однако
наднациональная универсализация ЕС, успешно преодолевшая
многовековую вражду национальных государств, выросла из экономического
корня — Европейского объединения угля и стали.
«Наряду с утверждением христианского мира, цивилизации
универсалистской и прозелитической, в качестве основного субъекта
исторического действия к древу истории во втором тысячелетии в
какой-то момент прививается иной побег, произраставший из зерен
светского антропоцентризма и гностических ересей. Эта ветвь,
разросшись и укрепившись, произвела со временем мутацию могучего
европейского организма, породив современный нам экономический
универсум...»1. Некогда изгнанные из Храма, «торгующие» сакрали-
зовали фритрейдерство, основав ВТО.
Экономическому универсуму адекватны свобода регулярного
товарообмена, открытое плюралистическое общество и свободная
личность. У государств иные измерения. Открытыми могут быть
общества, но — не государства. Типологическим признаком последних
является материальная фиксированность границ, внешних барьеров,
но главное — внутренняя системная закрытость. Открытость
общества обусловлена его внутренней сложностью, гораздо большей, чем
у государства.
1 Неклесса А. Конец эпохи Большого Модерна // Знамя. 2000. № 1.
С. 178.
134
Российское государство уступает своему общественному
окружению в элементном разнообразии, но превосходит уровнем
структурированности. Это соотношение меняется на постиндустриальном этапе
развития техногенной цивилизации. Среди факторов опережающей
самоорганизации общества выделяется на рубеже XX-XXI вв.
экономическая форма социальной коммуникации. Она максимально
эффективна в межличностном состязании по инновационному
соединению рассредоточенных ресурсов и рассеянной информации.
Последняя особенность инновационной активности индивидов является
отличительным признаком постиндустриальной фазы
общественного развития.
Традиционно коллективистские, стандартные приемы
информационно-ресурсного жизнеобеспечения обеспечивают
количественное приращение финальной продуктивности человеческих
сообществ. Однако первобытный коллективизм малых групп
сопровождался хаотизацией общественной макросистемы. Древние
инстинкты групповой солидарности раскалывали локальные
сообщества на враждебные друг другу «мы» и «не-мы».Аинформационно-
ресурсная конкуренция, наоборот, способствовала расширенному
общественному макропорядку.
Рынок древнее государства. Свободный обмен результатами
человеческой деятельности соединяет людей, делает их необходимыми
друг другу. Государства в стремлении обеспечить нерыночное
доминирование «своих» среди «чужих», вооруженной рукой рассекают
человеческие связи. Древний рынок — изначально орудие
межэтнического мира. Протогосударства и государства формировались в
качестве инструментов войны. Рыночные связи способствовали
открытости общества. Государственные суверенитеты его закрывали.
Возникает вопрос: препятствует ли религиозный универсализм
распространению современного расширенного, то есть — рыночно-
демократического макропорядка? Поверхностный ответ содержится
уже в этимологии слова «религия». Его латинским корнем является
«религаре» — связывать. Религия подавляет инстинкты внутригруп-
повой солидарности, а вместе с ними — межгрупповую оппозицию
«мы» и «не-мы». Религия выступает в роли интегратора внегосудар-
ственных, внеэтнических и надличностных связей людей.
Трансцендентная система религиозных ценностей не признает
государственных границ и этнических барьеров. Она непосредственно
обращена к человеку как смысловому центру макросреды, не зависящему
от пространственно-временной ограниченности его
индивидуального бытия.
135
Инстинктивный альтруизм малых групп превращается в
моральную категорию только на цивилизационной стадии общезначимого и
безусловного «должно». Локальная, биологически обусловленная,
персонализированная «естественная мораль» микросоциумов
подавляется безличными правилами расширенного макропорядка:
честности, соблюдения договоров, эквивалентного обмена, конкуренции,
стремления к прибыли, автономности частной жизни и
незыблемости частной собственности.
Разрушение этих цивилизационных правил и культурных
запретов приводит к возрождению социобиологических регуляторов
человеческого поведения «среди чужих»: ударно-хватательных
рефлексов, дихотомии «они и мы», коллективного эгоизма, ксенофобии и
инстинктивной агрессии по отношению к «чужим».
История изобилует подобными примерами инволюции,
наступающей после цивилизационного подъема. Могучий импульс для
расцвета античных греческих полисов был дан договорными союзами
соседствующих торгово-ремесленных общин. Смена родовых
государств территориально-общинными детерминировалась
потребностями регулярного товарообмена. То есть — факторами,
сближающими культурно не похожих людей. Городская революция VI в. до н. э.
завершилась установлением в Афинах демократических порядков.
Однако инерция догородской культуры противостояла
демократической нивелировке участников регулярного экономического
сотрудничества. Орудиями дискриминации людей иной культурной
традиции неизменно становились социально-политические
ограничения «чужих». Коренные граждане античных полисов
компенсировали привилегиями политического полноправия свой проигрыш
гражданским аутсайдерам в рыночном информационно-ресурсном
состязании. Они использовали в своих материальных интересах
государственный механизм централизованного перераспределения
дополнительного продукта, создаваемого «чужими».
В дополисный период греческой истории слово «xenos» (друг
гостя) обозначало посредника нерегулярного межобщинного обмена
продуктами внутригруппового производства. Это слово приобрело
значение «чужой» (отсюда — «ксенофобия») в условиях
межгосударственной торговли и полисного обособления граждан от неграждан.
В общественном сознании большинства коренных афинян, не
вовлеченных в коммерческую деятельность, сформировалась установка
враждебности к профессиональным торговцам. Она способствовала
сокращению совокупного объема товарно-денежных отношений и
натурализации афинской экономики в IV до н. э.
136
Рабовладение усиливало социальный антагонизм между
гражданами и негражданами, поскольку снижало экономическую
зависимость политически активных рабовладельцев от успехов их
собственных торговых предприятий. Например, в Афинах V в. до н. э.
торговым посредничеством занимались уже только метэки (чужестранцы).
К этому времени терпимое отношение коренных афинян к метэкам
сменилось открытой враждой. В Спарте III в. до н. э. полноправные
граждане (спартиаты) предпочитали нищенствовать, но не обучаться
ремеслу и не заниматься торговлей. Эти «позорные» занятия они
оставляли неполноправным периэкам (жителям предместий).
«Почет — земледелию, позор — торговле»
По сравнению с земледелием как предприятием
преимущественно коллективным, торговля изначально являлась занятием
индивидуальным. Малая группа не имела возможностей попасть мирным
путем, с целью торгового обмена, на чужую территорию. Это мог
лишь индивид. В этой роли и выступал, чаще всего, xenos.
Торговые посредники расшатывали авторитет родоплеменных
старейшин, обеспечивая экономическое процветание собственных
семей. Подобно сельской общине, замкнутой в рамках натурального
хозяйства, архонты, наследственные главы родов, и базилевсы,
военные вожди, чаще препятствовали дальней торговле, чем были ее
инициаторами. В античной Греции, например, межостровной
товарообмен и дальние экспедиции осуществлялись силами авантюристов
(пейратес), отщепенцев, героев. Торговля была одной из основных
причин смены родовых протогосударств
территориально-общинными государствами. Она намного древнее родовых протогосударств,
однако и в дополисные времена считалась занятием менее
почтенным, нежели земледелие.
Рынок, тем не менее, расширял общее хозяйственное простран-
ство'родового протогосударства, одновременно обостряя его
неадекватность новым социально-экономическим отношениям. Рынок
уравнивал стартовые возможности имущественно не равных семей.
Экономические рыночные отношения (подобно либеральным
политическим институтам) ориентированы на «человека
несовершенного». Они минимизируют требования к человеческому фактору
продуктивной деятельности, сокращая нравственную дистанцию
между человеком, руководствующимся социальными нормами (homo
137
sociologicus), и человеком, ориентированным на личный
материальный успех (homo economicus).
Рыночные отношения безличны. Они учитывают
индивидуальную деловую репутацию статусных организаторов обмена, но для них
нет безусловного личного авторитета продавцов и покупателей.
Последний имеет силу лишь в «социумах», то есть — в узких кругах
устойчивого межиндивидульного общения. Контрагенты регулярных
рыночных отношений воспринимают культурные и моральные
традиции сугубо прагматически: торговцы честны, поскольку честным
быть выгоднее, чем — бесчестным. Рынок является системой, в
которой плохой человек может принести меньше всего вреда, — считает
Фридрих Хайек1.
Морализирующие античные философы относились к рынку с
крайним неодобрением. Аристотель, как известно, ввел в
повседневный оборот слово «экономика» (домоводство), наделенное
положительными коннотациями. Но рыночную деятельность торговцев он
презрительно именовал культурно не развитой «хрематистикой».
Философ отвергал идеи естественной эволюции, постепенного
происхождения высших форм из низших. По этой логике, мораль как
высшая форма социальности не имеет ничего общего с правилами
рыночного оборота.
Стихийно возникший из хаоса порядок (космос) досократики
отличали от сознательно созданного порядка (например — в армии).
Последний обозначался словом «таксис». Производство и обмен ради
прибыли Аристотель считал асоциальным, аморальным и неизбежно
конфликтным. Морально оправданным, по его мнению, является
только действие, сплачивающее граждан, то есть — направленное на
получение явной выгоды другими людьми.
Между тем, «ты» — местоимение первого лица только в плотной
среде межперсональных устойчивых отношений. То есть — внутри
малой группы. Выход за ее пределы ставит вместо
индивидуализированных и взаимодополнительных «ты» и «я» анонимные и
конфликтные «они» и «мы». При этом, по законам социальной психологии,
идентификация «они» формируется раньше, нежели — «мы».
Социальный и морально окрашенный конфликт между «они» и «мы»
преимущественно дистрибутивен. Субъективно он осознается как
следствие потребительского неравенства и обостряется в условиях
хронического дефицита предметов потребления.
1 Хайек Ф. Пагубная самонадеянность. Ошибки социализма. М., 1992.
138
Созидательная часть энергии информационно-ресурсного
соперничества канализируется в продуктивное русло лишь в рыночных
условиях. Потому что, как справедливо утверждал английский
философ Д- Юм, рынок позволяет оказывать другому человеку услугу,
даже не чувствуя к нему истинного расположения.
Без собственности нет свободы
Указывая на необоснованность моральных инвектив Аристотеля
в адрес безнравственных торговцев, Дэвид Юм отмечал, что
наибольшая собственность не обязательно достается наибольшей
добродетели. Юм выделял три основные естественные опоры всякой
цивилизации: стабильные отношения собственности, передача ее в другие руки
посредством обоюдного согласия и исполнение непринудительно
данных обещаний.
Принципы эквивалентного обмена ограничивают сферы действия
врожденных инстинктов справедливости, альтруизма и
сотрудничества. В межперсональных отношениях внутри микросоциумов эти
инстинкты продуктивны. Они становятся недостаточными и даже
контрпродуктивными в широком общественном контексте.
Обнаруживается, что только абстрактные правила информационно-
ресурсной конкуренции, гарантированные государством,
обеспечивают общественный порядок.
Достижения античных цивилизаций наглядно свидетельствуют,
что рассеянные материальные ресурсы и несистематизированные
полезные сведения наиболее эффективно соединялись усилиями
инновационных групп. Их координация осуществлялась абстрактными
правилами цивилизации и конкретными нормами культуры.
Цивилизация обезличивала персонализированную социальность
малых групп. Культура социализировала постбиологический
индивидуализм. Человек в своем общественном «онтогенезе» проходит
три основных этапа социализации: нельзя — можно — должно.
Наиболее острые проблемы общественной идентификации
индивидуума возникают на этапе долженствования.
Цивилизационные ограничения реликтовых обычаев малых групп
вызывали в них социальную фрустрацию. Она существенно
смягчалась частной собственностью, распределяемой дисперсно. Правовая
институционализация массово распространенной частной
собственности и в настоящее время закладывает основу менее конфликтного
139
открытого общества. Этот термин ввели в научный оборот
французский философ Анри Бергсон (в книге «Два источника морали и
религии» — 1932 г.) и австрийский философ Карл Поппер (в книге
«Открытое общество и его враги» — 1945 г.). В рамках философской
рефлексии отразилась либеральная реакция на нивелирующее
упрощение европейских социально-политических укладов,
обусловленное коммунистическим и нацистским тоталитаризмом. Их
инволюционный характер проявился прежде всего в избыточной
централизации, блокирующей индивидуальную экономическую и культурную
активность.
Предельная централизация особенно контрпродуктивна и
наглядна в экономической сфере. В социально-политической области
отрицательные последствия избыточной централизации не столь
очевидны для массового восприятия. Они воспринимаются обыденным
сознанием лишь на стадии их критического накопления, вызывающего
апоплексию в центре и анемию окраин. «Централизация без труда
придает видимость упорядоченности в повседневных делах; при ней
можно умело и обстоятельно руководить деятельностью полиции,
охраняющей общество, пресекать небольшие беспорядки и
незначительные правонарушения; поддерживать общество в некоем статус-
кво, что, в сущности, не является ни упадком, ни прогрессом,
поддерживать в общественном организме своего рода административную
дремоту, которую правители обычно любят называть «надлежащим
порядком» и «общественным спокойствием»1. Системная динамика
обществ, обеспечивающая необходимый минимум положительных
обратных связей с внешней средой, подпитывается энергетикой
экономической деятельности инновационных групп населения.
В рыночной экономике требование максимальной экономии
материальных ресурсов хозяйствования сочетается с антиэнтропийным
фактором информационной избыточности процессов продуктивной
деятельности. Первое обеспечивается рационализацией и
стандартизацией массового производства. Второе — активностью
инновационных групп. Системная устойчивость обусловлена технологической
дисциплиной, системная изменчивость — непредсказуемостью
творческого поиска, осуществляемого на основе и за пределами уже
найденных решений.
Социально-политическим производным децентрализованной
рыночной экономики является система личных прав и публичных
1 Токвиль А. Демократия в Америке. М., 1994. С. 86.
140
свобод граждан. На рынке принимаются частные решения,
обеспеченные публичной поддержкой. Публичная свобода граждан
античного полиса возникла в процессе расширения сферы нерегла-
ментированной частной жизни. Возрастание степеней свободы
шло рука об руку с приватизацией средств жизнеобеспечения.
Приватизация повлекла за собой увеличение объема личной
ответственности граждан за социально-политические результаты их
деятельности.
Сокращение централизованного контроля частной жизни
граждан обеспечивалось правовым укоренением частной собственности,
распределяемой не равномерно, но дисперсно. Силовое управление
общественным поведением граждан сменялось параметрическим.
Системная упорядоченность при этом возрастала, потому что
правила общественного поведения ограничивали выбор средств, которые
каждый индивид был вправе использовать при достижении своих
целей. Именно это всеобщее ограничение средств расширяло
возможности выбора индивидуальных целей.
Теоретические дискуссии об асоциальном характере рыночных
реформ 1990-х гг. возвращают нас к философской контроверзе
Аристотеля и Юма. Новейшая история России особенно наглядно
подтверждает правоту английского философа. В центре
формирующегося открытого общества — «человек несовершенный». Альфа и
омега консервативного либерализма, адекватного российским
реалиям, — допущение права каждого гражданина на социально-
политические дисфункции. Консервативный либерализм, в отличие
от революционного этатизма, не ставит перед собой задач воспитания
идеально функционирующего гражданина. Этатизм, при всей его
внешней массовости, узко идеалистичен и полностью адекватен лишь
ограниченному кругу фанатиков моноидей. Консервативный
либерализм, при его поверхностной элитарности, широко демократичен,
общедоступен и прагматичен в повседневном обиходе. Он способен, в
органическом соединении с «демократией участия», в обозримом
будущем выправить перекосы асоциальное™ десятой российской
модернизации. Эти дисфункции системы возникли вследствие
избыточной деэтатизации инфраструктурного каркаса таких нерыночных
сфер, как образование, здравоохранение, фундаментальная наука,
культура, адресная поддержка нетрудоспособных. Консервативная
составляющая либерализма в российских постсоциалистических
условиях приобретает явный социал-демократический уклон.
Социальная демократия, в свою очередь, усиливает системообразующую
роль государства.
141
В околонаучной среде бытует убеждение, что либеральный и
революционно-тоталитарный способы
общественно-государственного устройства приобрели в XX в. характер равноценных
квазирелигий. Данное «суждение по аналогии» не твердо в посылках и ложно в
выводах. Не подтверждается оно и фактологически. Либерализм,
даже в его радикальных проявлениях, никогда не принимал (ни в
Западной Европе, ни в России) организационной формы
квазирелигии. Потому что либерализм основан на ограничении
системообразующей роли государства. Только оно способно придать какой-либо
теоретической конструкции сакрализованный характер.
Либеральная демократия сопровождается десакрализацией самой
государственной власти. Квазирелигия всегда основана на государственной
моноидеологии1. Оставаясь магически-ритуальной в своих
социальных функциях, квазирелигия структурно поддерживается вполне
рациональной, иерархической организацией профессиональных
лужителей моноидей. Репрессивный партийно-государственный
«клир» организационно отделен от неструктурированной массы
«мирян». И только ему принадлежит право толкования очередного
«вечно живого учения».
Социальные метасистемы приобретают способность к
самоорганизации и саморазвитию при соблюдении закона необходимого
разнообразия, сформулированного У Р. Эшби в рамках общей теории
систем. Такие системы исключают необходимость идеологического
«клира». В социально-политической жизни либерально-
демократического общества «каждый сам себе священник».
«Сходство политики с религией возникает лишь тогда, когда
политик — один. Когда их больше, то между ними, как известно,
возникает конкуренция. Конкуренция, борьба и споры — это суета,
которая сразу уничтожает сходство с религией. И это неизбежно.
Одной-единственной правильной идеи в политике и не может быть,
потому что в отличие от религиозной идеи политическая — только
частное мнение. Попытка перенести в сферу политического такую же
систему отношений, как в церкви, — это попытка абсолютизировать
относительное»2.
1 Статья 13 Конституции РФ: 1. В Российской Федерации признается
идеологическое многообразие. 2. Никакая идеология не может
устанавливаться в качестве государственной или обязательной.
2 Трудолюбов М. Культ пустоты // Ведомости. 22 декабря 2006. № 242.
С. A4.
142
Без собственности нет справедливости
В качестве опоры личных свобод институт дисперсно
распределенной частной собственности конструктивен до тех пор, пока он
стимулирует экономическую активность большинства граждан,
одновременно препятствуя образованию критической массы
аутсайдеров рыночного состязания. В связи с этим каждому обществу
достается трудноразрешимая проблема имущественного неравенства,
нарушающего социальное равновесие. Попытки его восстановления
посредством ликвидации частной собственности предпринимались в
истории человечества многократно. Особенно часто — в восточных
обществах.
Так, в начале III в. в Китае (после распада Ханьской империи)
была законодательно запрещена частная собственность на землю.
Силой государственного аппарата почти 400 лет подряд насаждалась
надельная система крестьянского уравнительного землепользования.
Повсеместно возобладало натуральное хозяйство. В 221 г.
прекратилась чеканка монет. Правительство приказало весь обмен вести на
зерно и ткани. На четыре столетия в Китае исчезло денежное
обращение.
Впрочем, еще с середины II в. до н. э. формулой официального
курса Ханьской династии был правительственный лозунг «Почет —
земледелию, подавление — торговле!». Считалось идеологической
аксиомой: земледелие является фактором государственной
устойчивости страны. И наоборот: торговля нарушает эту устойчивость, так
как создает избыточное многообразие в неуправляемой публичной
деятельности подданных Сына Неба. Государственным идеалом
Поднебесной империи являлось всеобщее, циклически
возобновляемое, структурно-функциональное единообразие, экономически
обеспеченное столь же строгой цикличностью интенсивного земледелия.
Прежде всего — рисоводства. «Историческая неподвижность»
китайской цивилизации трактуется в гегелевской философии истории как
проявление «монотонной бесконечности». В российской
историософии административная статика идеал-типической (если
воспользоваться терминологией Макса Вебера) китайской бюрократии
Позднего Средневековья традиционно сопоставляется с европейской
динамикой отечественной государственности, вынужденной
непрерывно отвечать на цивилизационные вызовы Запада. Пафосом этого
государственного противостояния проникнут русский патриотизм.
Вспомним пушкинское «...От стен недвижного Китая / До
потрясенного Кремля, / Стальной щетиною сверкая, / Не встанет русская
143
земля?». Государственный идеал абсолютной системной
устойчивости не был реализован и в Китае, с его самой совершенной,
образованной, всепроникающей бюрократией.
Социально-политическая «неподвижность» не спасла
китайское общество от разрушительных системных автоколебаний.
В 156 г. в Китае было 16 млн дворов с 50 млн человек.
Общекитайская перепись 280 г. на той же территории обнаружила только
2,5 млн дворов с 16 млн человек. Громадная убыль населения
явилась следствием не только внешних войн и внутренних
политических потрясений (крестьянское восстание «Желтых повязок» —
одно из них), но и критического ослабления факторов совокупной
и удельной продуктивности китайской цивилизации.
Уравнительность землепользования ослабила индивидуальную трудовую
мотивацию крестьян.
Фактический конец государственной надельной системы
наступил на закате империи Тан (VIII в.). Прежде чем допустить сложную
феодальную (дифференцированную) поместную систему, танское
правительство пыталось репрессивными мерами поддерживать
упрощенный' экономически не эффективный уклад. Имущественная
дифференциация землепользователей законодательно ограничивалась.
Продажа пахотных наделов была строго запрещена. За каждое
проданное му (0,06 га) давалось по десять ударов плетьми продавцу и
покупателю. Проданный участок возвращался прежнему
землепользователю. Полученная плата конфисковывалась. За каждое му
обнаруженных земельных излишков полагалось десять ударов плетьми.
Шестьдесят ударов батогами получал госчиновник за одно му
присвоенной земли.
Все меры внеэкономического ограничения земельного оборота,
даже в Китае, с его глубокими традициями общинного
землепользования, оказались контрпродуктивными. Тот же результат имела
государственная борьба с торговлей. Во второй половине XIII в.
монгольский Великий хан Хубилай довершил начатый Чингисханом захват
Китая и основал новую некитайскую правящую династию Юань
(по-китайски, «начало»). Отсталые в продуктивном отношении,
кочевники начали с упрощения сложных производительных сил
земледельческой страны. У монгольской военной знати было намерение
превратить китайские пахотные земли в пастбища для коней.
Планировалось полное разрушение всех китайских городов и
вырезание всего городского и большей части земледельческого населения.
Подобные планы частично осуществились в Средней Азии. При
взятии Самарканда и Ургенча монголы убили 1200 тыс. жителей.
144
От геноцида на китайской территории завоевателей удержал
внешнеторговый интерес. Марко Поло, проживший при дворе
Хубилая 19 лет в качестве императорского советника и переводчика,
оставил описание масштабной юаньской внешней торговли в
последней четверти XIII в. Объем товарно обеспеченной эмиссии бумажных
денег в империи, по европейским меркам, был чрезвычайно велик.
Он количественно превысил выпуск ликвидных приватизационных
ассигнатов во Франции времен Великой революции XVIII в.
Что касается европейской цивилизации, то ее расцвет далеко не
случайно совпал с фрагментацией и усложнением постимперского
государственного пространства в X-XIV вв. Политическая
децентрализация, деэтатизация общественной жизни создали благоприятные
предпосылки экономического прогресса городов Северной Италии,
Южной Германии, Нидерландов, Англии. Дэвид Юм объяснял
величие Англии ограничениями на вмешательство короля и церкви в
процесс общественного оборота объектов частной собственности.
Плотная сеть обмена товарами и услугами создала первооснову
социальной ткани в городских центрах западноевропейских стран.
Высокое Возрождение XVI в. стало возможным при минимуме
государственно-церковного контроля над использованием
материальных, человеческих и финансовых ресурсов североитальянских
городов. Для сравнения: экономический расцвет Великого Новгорода в
XII-XIV вв. также напрямую связан с усложнением городского
общества, договорным ограничением княжеской власти и
удешевлением оборонных функций «сервисного» государства, нанятого
городской коммуной.
Могущественное в военном отношении государство — отнюдь не
кульминация общественного прогресса. Расширение
государственного пространства очень часто сопровождается сужением социально-
экономических и культурных сфер. Историков нередко вводят в
заблуждение документы и памятники, оставленные ограничителями
системного разнообразия, то есть — носителями публичной власти.
Безымянные творцы расширенного макропорядка исторически
молчаливы. Прошли века, прежде чем политическая власть усвоила в
качестве своей органической задачи защиту абстрактных правил,
определяющих, кому что принадлежит или должно принадлежать.
Прошли тысячелетия, прежде чем обыденное сознание большинства
населения европейских стран усвоило цивилизационную максиму:
«Где нет собственности, там нет и справедливости».
Социальная справедливость по-российски традиционно
отличается дистрибутивным уклоном. Сферу производства она практиче-
145
ски не затрагивает. Нерыночное распределение в течение семи
десятилетий XX в. детально ранжировало советское население. В СССР
партийно-государственный аппарат насильственно поддерживал
экономически не эффективные потребительские категории, льготы,
лимиты, тарифные сетки, фонды, квоты и т. п. Справедливости и
общественной устойчивости это не прибавило. Но удельную
производительность труда существенно снизило. Соответственно
уменьшился сравнительный показатель объема среднедушевого потребления.
Если в 1913 г. по этому показателю Россия находилась на седьмом
месте в мире, то в 1999 г. — на семьдесят седьмом.
Из-за неразвитости института частной собственности в России
наибольшая энергия государственного (организованного)
принуждения традиционно затрачивается на блокирование социальных
антагонизмов, вызываемых имущественным неравенством. Они
периодически взрываются «русским бунтом, бессмысленным и
беспощадным». Максимальный объем неорганизованного, стихийного насилия
расходуется на установление внеэкономической социальной
справедливости, по-прежнему массово воспринимаемой не в
продуктивном, а в дистрибутивном качестве.
Влияние. Престиж. Авторитет
Человек, как правило, не терпит хаоса внутри себя и нелегко
допускает его в свое внешнее окружение. Регулярность и порядок
человеческой среды не возникают спонтанно, естественно. Они
обозначают соответственно временной и пространственный аспекты
искусственного (знакового) типа отношений между людьми. Материальная
организация создаваемой людьми «второй природы» вторична по
отношению к знаковой систематизации объектов и событий
человеческой среды. Основным орудием знаковой систематизации внешнего
мира является язык. Вне языка невозможны сапиентация и
социализация индивидов.
Язык — открытая, самоорганизующаяся нелинейная система. Она
адекватна синергетической природе метасистем, но развивается вне
орудийно-производительной, распределительной и присваивающей
деятельности микросоциумов. Язык первично актуализируется в
конкретной речевой деятельности индивидов.
Древнейшая функция речи — коммуникативная. В процессе
коммуникации обеспечивается включение индивида в социальный
146
контекст общей познавательной деятельности. Функциональная
последовательность культурных этапов развития языка в
свернутом виде присутствует в речевой деятельности современного
человека. В коммуникативной функции речевого акта осуществляются
предварительные классифицирующие процедуры: номинации
(именования предмета, после чего он становится субъектом
высказывания) и предикации (наделения субъекта определенными
признаками).
Возникшая 40-45 тыс. лет назад членораздельная «палеоречь»
неоантропов формировалась в качестве инструмента внешней
коммуникации. Внутренняя речь была вторичной относительно
внешней. Внутренняя речь, реализующая мышление, утрачивает четкую
субъектно-предикатную структуру. Внутренняя речь
преимущественно предикативна, так как она свободна от коммуникативной
нагрузки. Участники внешней речевой коммуникации (даже если
они говорят разное об одном или — одно о разном) пользуются
готовыми объясняющими и классифицирующими схемами. Знаковая
общность и апробированность этих схем — непременное условие
эффективной коммуникации. Внутренняя речь отличается от
внешней более высоким уровнем непредсказуемости и
креативности. Перевод внешней речи во внутреннюю — понимание. Обратный
процесс — высказывание.
Разновидностью внешней знаковой коммуникации является
управление. Основные типы управления людьми — влияние,
престиж, авторитет, лидерство, господство, власть. Они сосуществуют
в социокультурном пространстве и времени как эволюционные
этапы исторически единого процесса. Данные типы меж- и
надличностной коммуникации отличаются друг от друга: степенью
социальной ответственности управляющих за практический результат
управления, уровнями вещественного и знакового наполнения
коммуникативного опыта, алгоритмизированностью
профессиональной деятельности управляющих. Наименьшая приверженность к
алгоритмам — у людей группового влияния (например, у
писателей), оперирующих нематериальными знаками и многозначными,
личностно окрашенными образами. Прежде всего — языковыми.
(«Нам не дано предугадать, как слово наше отзовется».) Наибольшая
предсказуемость знаковой деятельности — у носителей
государственной власти, опирающейся на однозначную, векторно
ориентированную материальную силу институтов. От образа — к знаку, от
знака — к лицу, от лица — к институту: так выглядят
ориентирующие вехи тысячелетней эволюции власти.
147
Сотрудничество членов первобытных досапиентных коллективов
в течение сотен тысяч лет не нуждалось в знаковом регулировании.
Оно управлялось генетически наследуемыми инстинктами. Единство
целей совместного выживания и общность синкретического
восприятия опасностей и возможностей среды обитания — эволюционная
основа первобытной социальности. Ее коммуникативный антураж —
жест (редуцированное действие), крик и мимика — являлся внешним
выражением эмоциональных состояний общающихся. Базовые
элементы первосигнальной системы досапиентных гоминид рефлектор-
но связывались с первичными потребностями. Эмоции отражали
дисбаланс витальных потребностей и возможностей их
непосредственного удовлетворения.
Собственно человеческая история Homo sapiens начинается с
возникновения членораздельной речи, опосредующей их контакты со
средой. Первоэлемент речи — дискретный звуковой сигнал,
адресованный и коллективу в целом, и конкретной особи. Свободная
заменяемость знаков — специфика речи. Знак — инверсия предметного
признака. «...Отсутствие всякой мотивированности (причинной
связи между знаком и денотатом) есть железный принцип отбора
годных знаков. Знаковая функция в исходной форме и есть
образование связи между двумя материальными явлениями, не имеющими
между собой абсолютно никакой иной связи»1. Культурной
особенностью языковых знаков является отсутствие в них предметной
привязанности и причинно-следственной обусловленности.
Древнейшая цель речевой коммуникации — дистантное
блокирование некоторых, в том числе — ударно-хватательных рефлексов
контрагентов продуктивного общения. В каждом конкретном акте
речевой коммуникации осуществлялась отмена какого-то сигнала,
запускающего внутригрупгювое действие, биологически полезное
для малой группы Homo sapiens, то есть — обусловленное внутри-
групповым инстинктом. Но это внутригрупповое действие не всегда
являлось полезным для более широкой (межгрупповой) общности.
Первосигнальное (биологическое) ориентирование людей в среде их
обитания в этом случае заменялось второсигнальным, знаковым.
«...Языковые знаки появились как антитеза, как отрицание
рефлекторных (условных и безусловных) раздражителей — признаков,
показателей, симптомов, сигналов»2. Второсигнальная система
преодолевала биологическую обособленность малых групп Homo sapiens.
1 Поршнев Б. Ф. О начале человеческой истории. М., 1974. С. 130.
2 Там же. С. 132.
148
Психология человека — это физиология его нервной
деятельности на уровне второй сигнальной системы. Слово является сигналом
сигналов. Вторая сигнальная система оказывает постоянную
отрицательную (тормозящую) индукцию на первую сигнальную систему.
Будучи социальным коррелятом отмененного биологического
действия, слово магически удваивает мир, то есть — творит
искусственную среду человека. «Поразившая в свое время идея Сепира-Уорфа...
состояла в том, что язык навязывает человеку нормы познания,
мышления и социального поведения: мы можем познать, понять и
совершить только то, что заложено в нашем языке»1. Неназванное не
существует в качестве элемента человеческой среды.
Досапиентный (доречевой) палеоантроп — неандерталец достиг
немалых высот в операциях с предметами, даже очень большими.
Но в операциях со знаками неандерталец остался на уровне
полуживотной неумелости. Не всем представителям рода Homo sapiens
повезло с отбором знаков, пригодных для эффективной коммуникации.
Даже — на цивилизационных этапах их развития. Так,
мегалитическая и ведическая цивилизации пользовались разными,
взаимоисключающими материалами в знаковой регуляции человеческого
поведения: камнем и словом. Мегалитическая цивилизация оказалась
тупиковой ветвью исторического развития. Она осталась без
преемников. Цепь ретрансляции созданных ею культурных образцов
прервалась. Культурное молчание мегалитических памятников
объясняется неразвитостью их знакового кода. Их мир был безвиден и пуст.
Но дух живой (слово) не носился над ним. Мегалитическая твердь
отделилась от хляби без участия Слова. Оставив десятки тысяч
циклопических каменных сооружений, мегалитическая цивилизация
не донесла до нас своей истории. Ведическая — существенно
повлиявшая на греко-римскую античность — передала своим
многочисленным преемникам сотни тысяч эпических строф. «Илиада» и
«Одиссея» — общеизвестный пример ведической традиции
свободной ретрансляции культурных образцов с помощью невещественных
средств социальной коммуникации.
Слово невидимо совершает тормозящую, всегда нечто
запрещающую работу. ^Энергетическая составляющая этого торможения
намного превышает энергетические затраты процесса нейронного
возбуждения: сдерживать себя намного труднее, чем отдаваться во власть
эмоций. Энергетическими генераторами последних являются гумо-
Поршнев Б. Ф. О начале человеческой истории. С. 183.
149
ральные системы человеческого организма, а трансформатором —
ретикулярная (сетчатая) структура головного мозга. Культурное
торможение базовых эмоций управляется лобновисочной зоной
крайнего кортекса речевого полушария головного мозга.
Во всякой равновесной полносвязной системе, в том числе в
машине, ее части так сочленены между собой, что оказываются
исключенными все движения, кроме одного. В направлении этой
единственной степени свободы разряжается мобилизованная
энергия. Напротив, в нашем теле 107 степеней свободы (не считая
движений лица и движений внутри корпуса). Неизмеримо больше
степеней свободы в «социальном теле» человека разумного
(речевого), который, по словам поэта, «живет секунду, но миры
вбирает». «Как из трех-четырех десятков фонем (букв), ничего не
означающих сами по себе, можно построить до миллиона слов, так
благодаря этим правилам сочетания слов из них можно образовать
число предложений, превосходящих число атомов в видимой части
Вселенной, практически безгранично раздвигающийся ряд
предложений, соответственно несущих и безгранично увеличивающих
информацию и мысль»1. Человек и созданная им ноосфера
представляют собой самый мощный антиэнтропийный фактор,
известный науке.
Биологически не обусловленная, блокирующая многие эволюци-
онно выработанные безусловные рефлексы и инстинкты, речевая
суггестия (внушение) снижала у ее адресата индивидуальный
потенциал выживания. И естественно, наталкивалась на контрсуггестию,
отмену отменяющего сигнала: глухой звук отменялся звонким,
гласный — согласным, долгий — коротким, гортанный — фрикативным,
высокочастотный — низкочастотным, свистящий — шипящим.
Контрсуггестия вызывала контрконтрсуггестию и т.д.
«История человеческого общества насыщена множеством средств
пресечения всех и всяческих проявлений контрсуггестии. Всю их
совокупность я обнимаю выражением контрконтрсуггестия. Сюда
принадлежат и физическое насилие, сбивающее эту психологическую
броню, которой защищает себя индивид, и вера в земные и неземные
авторитеты, и с другой стороны, принуждение послушаться
посредством неопровержимых фактов и логичных доказательств.
Собственно, только последнее, то есть убеждение, и является
средством контрсуггестии»2.
1 Поршнев Б. Ф. О начале человеческой истории. С. 136.
2 Там же. С. 197.
150
Принцип бинарной оппозиции членораздельных звуков лег в
основу индивидуальной речевой деятельности, ломающей внутри-
групповые солидарность и единство членов первобытных
коллективов. Древняя речь не обслуживала их продуктивную деятельность.
Механизм речевой суггестии возник в условиях обмена результатами
этой деятельности. Вероятно, быстрее всего он включался на стадии
перераспределения предметов непосредственного потребления.
Индивидуализированная (внекодовая) палеоречь разделяла
членов первобытных малых групп. Знаково согласованный,
упорядоченный язык вновь их соединял. Но уже — посредством новой
аналитико-синтетической, межгрупповой классификации
дискретных элементов среды обитания, некогда воспринимаемой
синкретично. Языковая общность пришла на смену биологической.
Совпадение языкового классификационного кода стало критерием
при определении «свой — чужой».
На предметную среду накладывалась матрица субъектно-
объектных отношений, сформированных в результате
воспроизводящихся межгрупповых контактов. Объективация мира
сопровождалась второсигнальным дистанцированием друг от друга членов
мобильных, тасующихся коллективов. Аналоговое (эмоциональное)
моделирование объективированной среды обитания дополнялось
дискретным (языковым).
Именование объектов знаково расчлененной внешней среды
обитания становится первой управляющей функцией нового (сапи-
ентного) Адама. Своей номинативной стороной язык адресуется
заново осваиваемому внешнему миру, предикативной — контрагентам
регулярного межгруппового обмена. В своей развитой
семиотической форме, части речи исполняют разные коммуникативные
функции. Именем существительным магически присваивается
материальный объект, глаголом условно преодолеваются статика либо
инерция его вещественной природы, препятствующей присвоению
данного объекта. В формах модальности фиксируются отношения
коммуникаторов.
Влияние как древнейший вид доинституционального управления
людьми, вероятно, возникло на основе палеоречи в форме магических
заклинаний. На ранней стадии дорелигиозного и догосударственного
влияния этот способ регуляции человеческого поведения нуждался в
рефлекторном (вещественном) подкреплении. Например —
посредством взаимообмена предметами потребления. Здесь знак
удваивался, закрепляясь через символическое возвращение полученного
материального блага. Предмет потребления обменивался на ритуальный
151
знак межгруппового престижа. Первичные (витальные) потребности
дополнялись вторичными (социальными). Коллективы совместного
выживания получали дополнительный импульс социальности:
качества референтных групп, значимых не только для одаряемого, но и
для дарителя. Ритуальные слова благодарности, произносимые
одаряемым публично, воспринимались и дарителем, и одаряемым в
качестве эквивалентной компенсации материального дара. (Русское
слово «благодарю» произносит не даритель, а — одаряемый.) Эта
компенсация в качестве социальной ценности издревле занимает
высокую позицию на шкале человеческих приоритетов.
Индивидуальная потребность в общественном признании подсознательно
ощущается большинством людей. Великими — наиболее остро. «Мне
постоянно снится один и тот же сон: ко мне подходят незнакомые люди и
за что-то благодарят» (Л. Н. Толстой. Дневники). В своем эссе
«Мысли» французский философ XVI в. Б. Паскаль проницательно
замечает, что человеку свойственно ощущать себя несчастным, если
он не занимает выгодного места в умах других людей.
Две взаимосвязанные триады надындивидуальной коммуникации
(влияние-престиж-авторитет и лидерство-господство-власть)
отличаются друг от друга уровнями знаковой и вещественной
манифестации. Но обе подчиняются принципу «Вначале было слово».
Фрагментация политических пространств
Историософия имеет дело с законченными процессами. История
Древнего Рима — классический, вошедший в школьные учебники
пример рождения, расцвета, гибели республиканской и имперской
форм государственности. Показательно, что гибель римского
государства была жестко детерминирована предшествующей
деградацией гражданских структур.
Процесс распада римского общества, обусловившего ослабление
государства, начался задолго до варварских нашествий. Ослабление
республиканских институтов, падение авторитета органов
представительной власти, снижение уровня политической дееспособности
полноправного населения города-государства, резкое обострение
социально-политических противоречий — все это завершилось
аграрной революцией (в последней трети II в. до н. э.) и чередой
кровопролитных гражданских войн (в течение почти всего I в. до н. э.).
Системные дисфункции республики унаследовала империя. Пос-
152
ледняя укрепила государство, но в III в. попала в ситуацию
глубокого и затяжного экономического упадка. Накануне варварских
нашествий III в. империя столкнулась с острым демографическим
кризисом, который сопровождался рецессией ведущих отраслей
материального воспроизводства, сокращением совокупного спроса,
отрицательным сальдо торгового баланса. Нехватка рабочих рук и
сокращение товарно-денежного оборота вызвали нарастающую де-
урбанизацию страны и регрессивную аграризацию городского
населения. В V в. на римских площадях пасли скот.
Варварские племена, поселяемые с III в. на окраинах имперской
территории в качестве федератов, временно компенсировали
дефицит рабочих рук и солдат. Однако постепенная варваризация
окраин империи расшатывала ее институциональную основу и готовила
гибель имперской государственности. В V в. гибнет не только
величайшее средиземноморское государство. Разрушается
инфраструктура европейской цивилизации. Наиболее наглядно деградация
западноевропейской инфраструктуры проявлялась в плачевном
состоянии магистральных путей сообщения. Римляне расширяли
цивилизационное пространство, постоянно строя и поддерживая в
рабочем состоянии дороги общего пользования. Варварские
королевства Раннего Средневековья не обременяли себя подобными
имперскими заботами.
Сухопутное сообщение по знаменитым римским дорогам,
превратившимся в пунктирные направления проездов, уступает с V в.
водному. Как и на Великой Русской равнине, речные артерии, а не
дороги привлекают население варварских королевств. Межрегиональное
сообщение в странах Западной Европы идет перпендикулярно
растительным зонам, по осям север — юг, через Альпы, по Роне и Рейну.
Вопреки школьно-хрестоматийным представлениям, варвары не
влили «свежую кровь в римское общество». «Свежую кровь» они, в
основном, проливали. Вооруженные захватчики, отсталые в
культурном и материально-производительном отношении, резко понизили
удельную и совокупную продуктивность в ареалах своего расселения.
В эпоху Великого переселения на территорию Западной Римской
империи варвары не владели рабочими приемами интенсивного
земледелия, не знали римской агротехники. Инициированное ими
«кочевье людей» обернулось для аграрного сектора раннесредневекой
Европы «кочевьем полей». Германские народы в первые века
Средневековья продолжали пользоваться примитивными
технологиями полуоседлого скотоводства и полукочевого земледелия. При
этом скотоводство являлось ведущим направлением варварского хо-
153
зяйствования. Скот в качестве всеобщего стоимостного эквивалента
и внутреннего платежного средства деформировал товарно-денежные
отношения, сложившиеся в поздний период Римской империи. Он
вытаптывал молодые всходы международной финансовой системы.
Для полукочевых этносов скот являлся не только единицей обмена и
мерилом богатства, но прежде всего — средством постоянного
перемещения. Скотоводство, обеспечивая пространственную
мобильность западноевропейского населения, препятствовало его оседлому
образу жизни. Следовательно — сокращало продуктивную основу
цивилизации. Варварское «кочевье полей» в Западной Европе
прекратилось в VI—VII вв. Предел ему положили германские родовые и
семейно-дружинные протогосударства.
В оседлом состоянии новопоселенцев обнаруживалась
привязанность мелкого хозяина из варваров к своему аллоду, первоначально
приобретенному захватным путем. Она оказывалась сильнее, чем у
римского колона. Однако этой привязанности постоянно угрожали
земельные притязания «могущественных» (potentiores) людей, так
называемых «магнатов», под покровительство которых вместе со
своими аллодами были вынуждены отдаваться мелкие, «смиренные»
(humiliores) землевладельцы. Обычной платой за их относительную
безопасность являлся отказ от личной свободы.
Расширяющиеся границы раннесредневековых земельных
владений магнатов очерчивались не плугом и не пером, а мечом. В эпоху
Раннего Средневековья наблюдалось повсеместное ослабление
центральной власти. Оно сопровождалось взаимосвязанными
процессами: фрагментацией политического пространства и приватизацией
государственного суверенитета. Региональная власть, захваченная
военной силой, легитимизировалась в дальнейшем через
утвержденное королем феодальное земельное держание. Феодализация
политического уклада, рост крупной земельной собственности, вассализа-
ция мелких землевладельцев и закрепощение обезземеленных
крестьян слились в единый, ускоряющийся процесс в V-VIII вв.
Общая численность варваров, захвативших территорию Западной
Римской империи, была незначительной. Ни одна из этнических
групп завоевателей не превышала ста тысяч человек. А относительно
вандалов, в 429 г. высадившихся в Северной Африке и образовавших
там свое разбойничье королевство, известна более точная и
правдоподобная количественная оценка. Их было 80 тысяч1.
1 См.: Ле Гофф Ж. Цивилизация средневекового Запада. М, 1992.
154
Экологические и экономические обстоятельства вынуждали
пришельцев расселяться по завоеванным областям небольшими
разобщенными группами. Такая анклавность варварского расселения
диктовалась, прежде всего, экстенсивными, хищническими методами их
хозяйствования.
Сказывалось и нежелание варваров быть поглощенными
гораздо более многочисленным и культурным местным населением.
Опасаясь ассимиляции, завоеватели поначалу избегали оседания в
старых больших городах. Их короли предпочитали жить в своих
сельских имениях, а не в городских дворцах. Ранее сложившиеся
цивилизационные центры они целенаправленно разрушали.
Яростно уничтожались памятники архитектуры и произведения
искусства, римские дороги и системы орошения, посадки
многолетних сельскохозяйственных культур и хозяйственные
постройки, склады и мастерские.
Создавая новые городские поселения, со своим численным
преобладанием, варвары вторично использовали отдельные
конструктивные блоки разрушаемых римских городов. Так, предварительно
превратив в руины античные постройки, германские новопоселенцы в
дальнейшем рассматривали их в качестве карьеров для добычи
строительного камня и готовых колонн. Следы примитивной и хаотичной
утилизации обнаруживаются в VI—VIII вв. во франкских столицах
Суассоне, Турине и Париже, бургундских Лионе и Равенне,
вестготских — Тулузе, Барселоне, Толедо, остготских — Павии и Монце, в
лангобардском Милане.
Основная масса варваров расселялась вне городов, избирая
привычные для себя виды аграрной хозяйственной деятельности.
Новосозданные германские деревни на захваченных территориях
Западной Римской империи ничем не напоминали римские виллы и
латифундии. Технический регресс Европы Раннего Средневековья
был количественным и качественным. Внешним его проявлением
стал, в частности, материал орудий сельского труда и капитальных
городских построек VI—VII вв.: обработанный камень и металл
сменились деревом.
Примитивные орудия труда, слабая технологичность
производительных сил, анклавность городского и деревенского расселения
варваров, натуральный характер хозяйствования, разрушение
транспортных коммуникаций и товаропроводящих сетей соответствовали
политическому облику изолированных друг от друга родовых и
семейно-дружинных протогосударств, возникших в Западной
Европе Раннего Средневековья (V-VIII вв.).
Политическое дробление западноевропейских королевств
способствовало тому, что могущественные особы (магнаты), захватывая
земли и укрепляя свое экономическое могущество, присваивали и
огрубляли публичную власть. Деградировала и общественная
мораль. Античные греко-римские добродетели (в частности стремление
к справедливости) сменились средневековыми, главной среди
которых стала верность сеньору. Система присяжных личных отношений
в Раннем Средневековье представляла собой внеполитическую
альтернативу институтам публичной государственной власти. (С X в.
она дополнится сетью договорных, межкорпоративных, то есть
горизонтальных связей внутри средневековых городов-государств.)
Система вертикально ориентированных внегосударственных
вассальных отношений начала формироваться при последнем майордо-
ме королевства франков — Карле Мартелле и получила
организационное завершение при внуке Мартелла, основателе Франкской
империи — Карле Великом. «Карл Великий придал всеохватывающий
характер системе вассалитета, начатой Карлом Мартеллом. Теперь в
рамках этой системы каждый крупный землевладелец дублировал
государственную службу императору частной службой сеньору.
Требуя от всех своих подданых, начиная с двенадцатилетнего
возраста, присяги, Карл одновременно требовал присяги всех людей своим
сеньорам, и даже королям-сыновьям запрещалось принимать в
вассалы свободного, покинувшего своего господина вопреки его желанию.
Феодализм пускал все более глубокие корни, и монарх, реализуя
военные цели, использовал сложившуюся систему при наборе в армию.
Но это, в конечном итоге, должно было привести к полной
зависимости государства от крупных феодалов, светских и духовных, без
помощи которых правительство не могло сделать и шага»1.
Феодальный принцип «вассал моего вассала — не мой вассал»
ослаблял центральную власть, сокращая королевские вооруженные
силы. Поэтому короли были вынуждены содержать личные дружины
при недостатке государственных. Они являлись сюзеренами всех
региональных феодалов, но не обладали верховным суверенитетом над
их феодами и вассалами второго уровня. Экономическим
ограничителем численности королевских войск являлся хронический
дефицит ликвидных платежных средств, испытываемый казной. Поэтому,
например, Карл Великий в ходе 50 войн командовал войсками, ему не
принадлежащими. Их приводили под верховное командование импе-
1 Левандовский А. П. Карл Великий. Через Империю к Европе. М., 1995.
С. 142.
156
ратора графы, маркграфы и герцоги Франкской империи. Имперский
бюджет при Карле Великом не составлял и сотой доли доходов,
собираемых в его время Багдадским халифатом или Византийской
империей.
Карл Великий, создавший в Западной Европе первую
средневековую империю, подчинялся логике системного развития
корпоративных форм государственности. Он реализовал синергетический
принцип бинарной оппозиции несовпадающих начал: ординарной и
экстраординарной, институционализированной и персонализированной,
регулярной и нерегулярной властей. Графы, маркграфы и герцоги,
назначенные императором, осуществляли на постоянной основе
текущее управление трехсот графств. Независимо от них, Карл
делегировал нечеткие полномочия имперского верховного контроля
специальным доверенным лицам. Параллельно с регламентацией власти
шел противоположный процесс ее дерегламентации.
Имперские контролеры (missi dominici) направлялись в
провинции обязательно по двое: один из них являлся духовным лицом. И
постоянная администрация Франкской империи наполовину состояла
из епископов. Проводя дирижистскую политику, Карл Великий
стремился административно соединить две вертикали интегрированной
системы — воинствующую римско-католическую церковь и
торжествующее светское государство. «Когда папа молится, вздымая к
небу — подобно Моисею — две руки, император Запада сражается,
поднимая на врагов христианства два меча — телесный и духовный».
Так выглядела, в представлении Карла Великого, базовая парадигма
дуалистической Франкской империи, в которой светская власть в
течение первой четверти IX в. занимала доминирующее положение.
Император поручал своим контролерам докладывать ему о
ненадлежащем поведении священников. В частности — о их феодальном
досуге: не держат ли священники охотничьих собак и соколов?
Это доминирующее положение светской власти сохранялось, пока
на императорском троне находилась сильная, волевая личность, с
авторитарным стилем управления. Карлу наследовал слабый,
бесхарактерный и безвольный сын Людовик Благочестивый (814-840 гг.). Он
разделил Империю (в 817 г.) между тремя сыновьями, а потом
переделил ее (в 829 г.) в интересах шестилетнего сына от второго брака.
Два старших сына Людовика принудили отца публично снять
императорскую корону, одежду военного вождя и надеть одеяние
кающегося грешника, припадающего к ногам священников. Не получив
прощение, император отрекся от престола и был помещен в
монастырь. Это произошло в 833 г. Младшие сыновья вступились за уни-
157
женного отца. Людовик Благочестивый (называемый с 833 г.
Добродушным) вернулся, при содействии церкви, на престол и
формально считался императором до своей кончины, наступившей в
840 г. А три внука Карла Великого — император Лотарь, король
Людовик Немецкий и французский король Карл Лысый,
поощряемые римско-католической церковью, до Верденского договора 843 г.
продолжали кроить и перекраивать некогда единое имперское
пространство. Три разделенные части Империи положили начало
Франции, Германии и Италии. В последней четверти IX в. (при
Римском папе Николае I) кандидатуры западно-франкских
(французских) и восточно-франкских (германских) королей утверждались
в Ватикане.
Бинарная оппозиция — красная нить средневековой истории.
Через сто лет после смерти Карла Великого в Западной Европе
возобновилась борьба за государственную супрематию между
католическим духовенством и светским воинством. Политические позиции
последнего значительно укрепились в конце IX в. вследствие новой
волны варварских (норманнских) нашествий. В середине X в.
священники вновь потеснили воинов. Римско-католическая церковь
нуждалась в императоре Запада, достаточно сильном, чтобы
защищать папу от варваров и римских магнатов, но достаточно слабом,
чтобы не мешать утверждению церковной супрематии.
Таким полусуверенным выборным «императором Запада»
(ограниченным феодальными правомочиями своих выборщиков — двух
королей, трех курфюрстов и двух архиепископов) стал в 962 г. От-
тон I Великий. Он короновался в Риме, получив от Римского папы
торжественный, наивысший в Европе государственный титул
«императора Священной Римской империи германской нации». В
течение двух последующих веков между папами и германскими
императорами шла ожесточенная борьба за супрематию. Наиболее
известный эпизод этой борьбы вошел в историю под названием «хождения
в Каноссу». Этому эпизоду предшествовала борьба за инвеституру
епископов.
Со времен Карла Великого в католических странах Западной
Европы утвердилась система королевских земельных пожалований
(бенефиций). При этом бенефициарами являлись не только
светские магнаты, но и церковные прелаты-епископы. В последней
четверти XI в. между Германскими императорами и Римскими папами
обострилась борьба вокруг королевского права на светскую
инвеституру епископов («кольцом и посохом»). Римские папы долгое
время не решались посягать на это феодальное право государей.
158
Епископы в течение VIII—XI вв. глубоко инкорпорировались в
королевские администрации. Епископские бенефиции прочно
связывали высшее священство с носителями государственной власти,
ослабляя субординационные связи церковных прелатов с римским
первосвященником. Еще будучи настоятелем новоукладного
Клюнийского монастыря, объединявшего первую в Европе
конгрегацию монастырей, аббат Гильдебранд (романизированный
лангобард из Тосканы), немало способствовал становлению римско-
католической теократии. Клюнийская конгрегация новоукладных
монастырей строгого антифеодального устава объединяла в
середине XI в. 2000 обителей во многих странах Западной Европы.
Гильдебранд, вошедший в историю под именем Римского папы
Григория VII (1073-1085 гг.), активно насаждал каноническое
правило безбрачия всего католического духовенства. Григорий VII
столкнулся с яростным сопротивлением епископов-противников
целибата. В 1074 г. они собрались в Майнце и публично заявили о
своем неприятии новой папской инициативы, посягающей на
земные интересы и привязанности прелатов: «Если ему люди плохи,
пусть добудет себе ангелов». Опираясь на монашество, мирян и
рыцарей, Григорий VII установил в 1075 г. католический принцип
безбрачия всего духовенства и осудил, решением Римского синода,
практику светской инвеституры епископов. Сопротивление
последних было сломлено. Широкие массы верующих поддержали папу и
в его борьбе с симонией (продажей церковных должностей).
Приоритет решений папы, не совпадающих с соборными
решениями иерархов, Григорий VII богословски обосновал в доктрине
централизованной теократии — «Dictatus Рарае». Данная доктрина
утверждала право Римских пап на смещение императоров,
нарушающих принципы евангельского Завета.
В ответ на «Dictatus Рарае», Германский император Генрих IV
собрал в январе 1076 г. в г. Вормс сейм оппозиционных епископов и их
решением сместил папу Григория VII. Последний не подчинился
коллективному вердикту консервативных прелатов и, в свою очередь,
единоличным архипастырским решением отлучил императора от
церкви, фактически сместил его с имперского трона, освободив всех
императорских вассалов от присяжной верности сюзерену.
Германские феодалы повсеместно восстали против экс-императора.
Генрих IV оказался в критическом положении: без феодальных войск,
без поддержки городских ополчений. В январе 1077 г. он пришел, в
сопровождении небольшой свиты, к итальянскому замку Каносса,
где в то время находился папа. Григорий VII заставил экс-императора,
159
гонимого германскими феодалами, три дня прождать у ворот замка.
Наконец — разрешил Генриху одному предстать перед собой, с
веревкой на шее и в одежде кающегося грешника. Папа торжественно снял
с Генриха IV церковное отлучение, но императорской власти не
вернул. Возвращение в лоно церкви Генрих использовал, восстановив
свой административный контроль над собственным земельным
доменом и заключив политический союз с имперскими городами. С их
финансовой помощью, экс-император собрал наемное войско
ландскнехтов и разгромил феодальные дружины своего основного
противника Рудольфа Швабского.
Наемное войско Генриха IV, оплачиваемое имперскими
городами, в течение трех последующих лет являлось орудием подавления
феодальной вольницы. В этот период Генрих восстановил прежнюю
практику инвеституры германских епископов «кольцом и посохом».
Григорий VII в 1080 г. повторно отлучил нелегитимного суверена от
церкви. Но на этот раз папе не удалось организовать феодальное
восстание. А союзные с Генрихом торгово-ремесленные имперские
города заняли отчетливую антифеодальную позицию. Генрих, в
новом раунде борьбы с папой, сумел не только политически
нейтрализовать германских феодалов, но и восстановить против Римского
первосвященника итальянскую знать, недовольную его
монархическими притязаниями. Опираясь на римских городских магнатов и
значительную часть церковных иерархов, Генрих организовал
1084 г. избрание «антипапы» Климента III и получил из его рук
корону Священной Римской империи германской нации. Григорий
VII бежал в Солерно, где через год умер. Однако его дело не
погибло; восторжествовали в качестве канонических принцип безбрачия
всего католического духовенства и запрет на светскую инвеституру
епископов.
В 1177 г., ровно через сто лет после «хождения в Каноссу»
Генриха IV, его повторил Германский император Фридрих
Барбаросса (1152-11190 гг.). Борясь с «цезарепапизмом», Фридрих
подвергся отлучению от церкви. Он в 1176 г. потерпел поражение
от итальянских союзников папы Александра III (1159-1164 гг.) в
битве при Леньяно. Торжествующий римский первосвященник
предписал Фридриху (в качестве условия его возвращения в лоно
церкви) лично явиться к нему и принести публичное раскаяние.
Александр III принял униженного германского императора, сидя
на своем престоле на паперти венецианского храма св. Марка.
Фридрих принес папе покаяние, лежа ничком перед входом в
собор. Отлучение от церкви было снято. Император дал обет от-
160
правиться в очередной крестовый поход, в ходе которого утонул
при переправе через реку.
Борьба Империи с «цезарепапизмом» продолжилась при внуке
Фридриха Барбароссы — Фридрихе II (1218-1250 гг.). Военно-
политические и материальные ресурсы последнего превосходили
папские: Фридрих II являлся сувереном не только Германской
империи, но и Северной Италии и Королевства обеих Сицилии. Однако
папа Иннокентий XIII (1243-1254 гг.), получив поддержку
французского короля, отлучил императора от церкви на знаменитом Лионском
соборе в 1245 г. Фридрих потерял свои итальянские владения. Папы
преследовали и потомков Фридриха II. По воле папы и по приказу
короля обеих Сицилии Карла Анжуйского, был казнен последний из
династии Гогенштауфенов, внук Фридриха II — Конрадин. Папство
победило империю.
Несмотря на впечатляющие политические победы папства,
европейская теократия не состоялась ни в католической империи
Габсбургов, ни во владениях «христианнейших» французских
королей, ни в Английском королевстве. Восьмидесятилетнее
«Авиньонское пленение пап», организованное французским королем
Филиппом IV Красивым, война Карла V Габсбурга со «Святой лигой»
франко-итальянских союзников папы и финальное пленение
ландскнехтами последнего, разрыв с папой Генриха VIII Тюдора, лично
возглавившего Англиканскую церковь... Теократия потерпела
историческое поражение вследствие системной несовместимости
космополитической римско-католической церкви и национально
ориентированных государств Позднего Средневековья и Нового времени.
Национальные государства окончательно похоронили мессианский
мегапроект «цезарепапизма». Отдаленным историческим эхом
средневекового мегапроекта явилась в XX в. метастабильная идеократия
Партии-Государства СССР. Впрочем — просуществовавшая
исторически не долго.
Вернемся на несколько веков назад, в раннесредневековый период
западноевропейской истории. Инволюция постимперской
цивилизации с V в. сопровождалась насильственной социальной
перегруппировкой пришлого и местного населения. Варварские королевства
VI-VII вв. далеко превзошли позднюю Римскую империю числом и
жесткостью степеней иерархии, закреплением сословной
принадлежности. Это касалось не только социальных низов. Выход за пределы
своего сословия считался в Раннем Средневековье смертным грехом
и для простолюдина, и для аристократа.
161
Ригидной стратификации средневекового общества
способствовала христианская идеология, отвергавшая вертикальную и
горизонтальную общественную мобильность. «Каков отец, таков и
сын» — вот закон обычая всех варварских «Правд»,
заимствованный из кодексов поздней Римской империи. В течение десяти
столетий неизменность уклада, устойчивость иерархических структур
и общественное единство повсеместно считались высшим
социальным благом, а изменения, разнообразие и мобильность — злом.
Функциональная инерция жизнеобеспечения (как ценность
абсолютная) противопоставлялась относительным выгодам перемен.
Нежелательной считалась даже смена места жительства. Идеалом
объявлялось общество «старожилов», неуклонно следующих
старым обычаям.
В раннем средневековом законодательстве закрепляется
совершенно чуждый римской юридической традиции принцип
персональное™ права. В западноевропейских варварских королевствах
V-VII вв. население не подчинялось действию единых для всех
законов: каждого судили но правовому обычаю той этнической
группы, к которой он принадлежал. Так, за насилие над девушкой бур-
гунд отделывался штрафом, а римлянина предавали смертной
казни. Сожительство римской женщины с рабом не лишало ее
сословных прав. В то время как закон салических франков низводил
подобную сожительницу, ранее бывшую свободной, до положения
рабыни.
Правоприменительный партикуляризм западноевропейских
государств Раннего Средневековья обусловливался политической
разобщенностью европейцев. Своими экономическими корнями
она уходила в натуральные, изолированные друг от друга
мелкоконтурные хозяйства. Внутренняя фрагментация политико-
правовых пространств Западной Европы того времени, внешне
стянутых стальными, обручами семейно-дружинных протогосу-
дарств, определялась горизонтом, обозреваемым с деревенской
колокольни. Она соответствовала узкоприходскому кругозору
средневековых людей доимперской эпохи. Католическая церковь и
Франкская империя к концу VIII в. восстановили
универсалистскую модель государства и права, созданную Римской империей в
I—IV вв. В конце VIII — начале IX в. усилиями Каролингов и
католической церкви этническая персональность западноевропейского
нормативного регулирования постепенно сменяется
территориальностью его применения.
162
Этатизация варваров
VIII в. был веком политического доминирования франков,
крестившихся в VI в. всем войском во главе с Хлодвигом. Крещение
осуществилось по католическому обряду. Этим историческим
обстоятельством франкские короли выделились среди остальных
варварских вождей, крестившихся по арианскому ритуалу. Последователи
североафриканского епископа Ария, проповедовавшего в первой
четверти IV в. и осужденного за ересь Никейским собором в 325 г.,
отрицали Божественное равенство и мистическое единство Иисуса
Христа и Бога-Отца. Основной тезис арианства (отец старше сына)
был созвучен патриархальным представлениям догосударственных
народов о естественной иерархии авторитетов и властей.
Римское папство и монашество надолго стали стратегическими
союзниками франкских королей. В VII в. религиозному примеру
франков последовали вестготы и лангобарды, фризы и англосаксы.
Варварские военные вожди дезорганизовали римскую систему
управления и уронили престиж государственной власти. Задолго до
христианизации франков, при ранних Меровингах, их короли
возводились на трон поднятием на дружинных щитах. В качестве инсиг-
ний, вместо скипетра и диадемы, франкский король имел лишь копье.
Отличительным знаком королевского сана являлись длинные
волосы (rex crinitus). Католическое духовенство способствовало и
сакрализации королевской власти, и ее постепенной институционализа-
ции. Церковная иерархия явилась для молодого франкского
государства готовым образцом.
Каролингская династия (майордом Карл Мартелл, первый
франкский король Пипин Короткий, первый император Карл Великий)
создала жизнеспособный государственный аналог Западной Римской
империи на основе конвергенции церковного (канонического) права,
римских законов и варварских обычаев. Каролинги создали
империю, «сидя на коне». Но они не управляли империей «с седла».
В VIII в. началась бурная территориальная экспансия Франкского
королевства. Материальной основой военных успехов Карла
Великого являлись коневодство и металлургия. Крупных
породистых лошадей франки разводили специально для кавалерийского
боя. Систематическая эксплуатация поверхностных месторождений
железной руды дала армии Карла великолепные длинные мечи.
Средневековая производственная специализация в разных
странах европейского Запада детерминировала неодинаковость их
государственных укладов. IX в. в Англии прошел под «знаком овцы» (по-
163
родившей, в конечном счете, демократию). В континентальной части
Западной Европы — под «знаком коня» («оседланного» монархией).
Развитие английского овцеводства обусловило
социально-экономическое сотрудничество сельских дворян (джентри), свободных
крестьян (йоменов) и предприимчивой аристократии. Это
сотрудничество лежало в основе кооперационных (производственных и
торговых) связей Англии и Фландрии. Континентальная аристократия в
эту же эпоху продолжала оставаться воюющим классом и была
заинтересована в милитаризации государства. Как уже отмечалось,
военные специализации коневодства и металлургии были основными
производственными заботами императора Карла Великого и его
преемников.
Несколько веков подряд (с начала IX в. до конца Столетней
войны) закованный в стальные латы всадник на могучем боевом
коне оставался символом западноевропейских континентальных
монархий. Данный символ милитаризированной государственности
(равно как и титул «короля» — производного от собственного имени
Карл) утвердила в сознании европейцев Франкская империя Карла
Великого. В XI—XIII вв., когда эта империя давно уже прекратила
свое государственное существование, на мусульманском Востоке
продолжали именовать «франками» всех европейских конных
рыцарей-крестоносцев (независимо от их этнической
принадлежности). В ходе Столетней войны XIV-XV вв. упал военно-
государственный престиж западноевропейских рыцарей.
Крестьянская пехота английских пастухов-овцеводов и пахарей-
земледельцев, вооруженная дальнобойными луками, дистанционно
и массово уничтожала феодальную кавалерию европейского
субконтинента в решающих сражениях при Креси, Пуатье и Азенкуре.
А островных «кавалеров» английского короля Карла I Стюарта
добила в XVII в. «железнобокая» крестьянская пехота Оливера
Кромвеля. Буржуазно-дворянской революцией 1640-1649 гг.
завершилась восьмисотлетняя бинарная оппозиция потенциально
демократического «знака овцы» и аристомонархического «знака коня»,
исторически детерминированная двумя разными типами
национальных экономик.
Вернемся к началу восстановления римского универсализма.
Союз с римским папой и католическим монашеством обязывал Карла
Великого силой оружия обеспечивать торжество католицизма над
всем духовным пространством христианского мира. Однако в
исполнении этой задачи император не преуспел. Реинкарнация Западной
Римской империи оказалась неустойчивой.
164
В первые века Раннего Средневековья церковь и варварские
государства взаимно нейтрализовали и ослабляли друг друга. Государи,
по примеру византийского императора Константина Великого,
пытались руководить религиозной жизнью, а церковь претендовала на
духовное верховенство над светскими властями. Короли
председательствовали на церковных соборах, епископы становились
королевскими советниками, силясь навязать каноническое право обществу
мирян.
В VII в. церковные собрания превратились в своеобразный
«парламент» вестготского королевства Испании. Церковный
«парламентаризм» здесь ознаменовался антифеодальным, антиримским и
антисемитским каноническим законодательством, распространенным на
светскую среду. Он дезорганизовал хозяйственную жизнь страны.
Недовольство населения, вызванное экономическим хаосом и резким
снижением среднего уровня жизни, облегчило мусульманское
завоевание Испании.
Светские притязания пап впервые проявились во времена
понтификата папы Григория Великого (590-604 гг.). Григорий пришел к
власти во время страшной чумы, опустошавшей Рим. Бедствия
такого рода, вызывая чувство всеобщей незащищенности, снижали
авторитет земных властей. В борьбе духовенства с государствообразую-
щим классом воинов, расколотым внутренними распрями, временно
возобладала церковная организация.
В конце VI в. католические священники сплотились в
могущественную корпорацию, монолитное единство которой обеспечивал
неоспоримый папский авторитет. Многовековая борьба жрецов и
воинов перемежалась их межкорпоративными союзами. Это
проявлялось особенно наглядно в периоды западноевропейского «натиска
на Восток». Так, духовно-рыцарские ордены, скованные строгой
военной и монашеской дисциплиной, возникли в ходе крестовых
походов XI—XIII вв. и продемонстрировали грозные исторические
последствия классового компромисса жрецов и воинов.
Вплоть до конца VIII в. церковь обладала монополией на
управляющее и одухотворяющее письменное слово. Знаково-инсти-
туциональному доминированию церкви положила предел системная
стабилизация западноевропейских государств, наступившая в конце
VIII — начале IX в. Франкские короли оказались первыми, кому
удалось вырвать из рук пап и духовное лидерство. Будучи сам
неграмотным, Карл Великий поощрял письменную культуру в управлении
империей. Основные государственные акты до Карла Великого
издавались в устной форме. К концу VIII в. появились письменные
165
средства параметрического управления, именуемые капитуляриями
(указами). Одни из них издавались для отдельных местностей
(Саксонские капитулярии), другие распространялись на всю
подвластную Карлу территорию (Геристальский капитулярий о
реорганизации государства, указы о реформе образования и управления
королевскими поместьями).
На исходе VIII в. началась непоследовательная, фрагментарная
институционализация государственной власти франков,
отправляемой до тех пор преимущественно персональным образом. В
процессе институционализации Франкского государства возрастала
регулятивная роль нормативного текста. Императорские капитулярии
облекали управляющие сигналы и директивы в дискурсивную
форму письменного документа. Имперский меч вкладывался в
ножны из пергамента. Империя в начале IX в. уже была покрыта
сетью постоянных представителей государя (графами,
маркграфами и герцогами). Институциональность государственного
управления дополнялась персональностью верховного политического
контроля, осуществляемого непараметрическим образом. Карл
постоянно посылал с годичными миссиями личного надзора за
вышеперечисленными государственными институтами своих
доверенных лиц, специальных имперских контролеров. Но он не
превратил своих многочисленных контролеров в государственный
аппарат, иерархически замкнутый на главу государства. Отсутствие
госаппарата и личной дружины императора сделало
непосредственного наследника Карла (Людовика Благочестивого) совершенно
беспомощным перед сепаратистскими притязаниями сыновей и
региональных императорских наместников.
Рядом с императором формировалась феодальная элита. Ежегодно
в конце зимы собиралась высшая церковная и светская знать
империи на заседания своеобразного аристократического «парламента»,
именуемого латинским словом populus (народ). Однако феодальная
элита Франкской империи не превратилась в правительственный
класс. Она осталась в первой четверти IX в. ассоциацией земельных
магнатов.
Процесс институционализации имперской власти тормозился ее
отягощенностью функциями непосредственного хозяйствования, не
свойственными институтам государства. Правовые процедуры
политического властвования при этом сливались с социотехническими
средствами земельного владения. Феномен слитной власти-
собственности, не известный Древнему Риму, отличал практически
все западноевропейские варварские королевства.
166
Несмотря на стремление романизированной части франкской
военно-политической элиты Раннего Средневековья
воспользоваться римским политическим и административным наследием,
господствующий слой западноевропейских государств, в том числе
франкского, четко не отделял королевской доминиум от государственного
империума. Раннесредневековые франкские короли традиционно
рассматривали все королевство как свою собственность, наподобие
поместий или сокровищ. Они с легкостью отчуждали его части. Когда
Хильперик женился на Галесвинте, дочери вестготского короля
Атанагильда, он на следующий день после бракосочетания
предложил молодой жене в качестве «утреннего дара» пять городов южной
Галлии, в том числе город Бордо. Разделение королевского доминиу-
ма и государственного империума — правовое достижение
национальных государств.
В течение I тыс. н. э. (1-Х вв.) европейские судьбы великого
множества народов разных уровней исторического развития сложились
по-разному. Двести лет (III—IV вв.) боролось за свое государственное
существование цивилизованное население Римской империи. На нее
наседали с востока и северо-востока племенные союзы кочевых
скотоводов. Исторически совпали два общественных процесса: они
развивались параллельно, независимо друг от друга. В III—IV вв.
Империя демографически, социально-экономически и государст-
венно-политически постепенно слабела. Она попала в непрерывную
полосу системных кризисов, из которых пыталась выйти путем
федерализации варваров, поселяемых или самовольно поселявшихся на
имперских окраинах. В тот же период многочисленные племена
древних германцев переживали демографический бум, разложение
родового строя, имущественную дифференциацию, смыкались в
территориально-общинные межплеменные союзы. Кочевое
скотоводство сменялось полуоседлым земледелием. Хозяйственно
освоенная земля приобретала ценность основного ресурса этнического
жизнеобеспечения. Земельные захваты и грабежи соседей превращались
в постоянное занятие военных дружин племенных вождей. Массовый
доступ к стальному оружию получили племенные ополчения.
Германские племена, поселенные в качестве федератов на окраинах
империи, убеждались в ее военно-государственном ослаблении.
Дружины племенных вождей, нанятые на имперскую службу,
проходили военную школу рядом с профессиональными римскими
легионами. Наемные дружины германских федератов становились
катализаторами лавинообразных процессов варваризации этносов. Эти
процессы ускорились в V в. Пришедшие из евразийских степей, кочевые
167
орды гуннов вытеснили из Северного Причерноморья
межплеменной союз готов. На Европу обрушилась лавина, получившая
историческое имя Великого переселения народов.
Огнем и мечом прокладывая себе путь, через Европу прошли
агрессивные орды готов и гуннов, гепидов и алеманнов, бургундов и
лангобардов, вандалов и аваров. В 419 г. на юге Галлии — в Провансе
и Септимании — появилось первое варварское протогосударство,
Тулузское королевство вестготов. Пришельцы физически истребили
всю местную галло-римскую знать. Через двадцать лет таких
варварских протогосударств было три: пиратское королевство вандалов
(обосновавшихся в Северной Африке), бургундов (осевших в юго-
восточной части Галлии) и вестготов (дополнительно захвативших
иберо-римскую Испанию). В результате двухвекового натиска
варваров, в 476 г. прекратила свое остаточное государственное
существование Западная Римская империя. Эфемерные варварские протогосу-
дарства существовали недолго и исчезали бесследно. Все они
беспощадно топтали и разрывали в клочья великую римскую цивилизацию.
Светлым пятном на темном раннесредневековом фоне выглядит
итальянское королевства остготов времен Теодориха Великого. Этот
форпост восстановленного «римского мира» бессмысленно
уничтожили войска византийского императора Юстиниана. К числу
восстановителей «римского мира» относится и Франкское государство
VIII-IX вв.
Историков давно интересует вопрос: почему именно франкам —
несмотря на их внутренние неурядицы VI-VII вв. — удалось создать
прочные, жизнеспособные государства? Ответов несколько.
Главный из них: франки сумели быстро абсорбировать культурно-
цивилизационные достижения Римской империи. При этом франки
не отнимали земли у местного галло-римского населения. Они
расселялись на свободных территориях императорского фиска.
Существенно и другое. Франкские короли своевременно заключили
прочные государственно-политические союзы с католической
церковью и галло-римской знатью. Франки при первых Меровингах
создали обширное и обороноспособное государство, а при первых
Каролингах — заложили основу общеевропейского строя,
получившего название феодализма.
Более того, Соединенным Штатам Европы (именуемым в
настоящее время Европейским Союзом) генетически предшествуют
Франкская империя Карла Великого и ее исторические
производные — империи Оттонов, Габсбургов и Гогенцоллернов. Социально-
правовые государства и гражданские общества членов ЕС пока дале-
168
ки от построения земного Града Божия (по Святому Августину), но
без теократического опыта Карла Великого идея общественного блага
как абсолютной ценности была бы менее органичной для
исторического сознания современных европейцев.
Торговцы — воины — князья
Задолго до образования древнерусского государства роль
стабилизатора международного порядка в междуречье Днепра и Волги
выполнял Хазарский каганат. Он возник в середине VII в. Кочевая
хазарская орда пришла на берега Волги из азиатских степей и быстро
трансформировалась в торгово-ремесленное государство. Потеснив
тюркские племена болгар, хазары обосновались в южном Поволжье.
Региональное доминирование Хазарского каганата надолго
предопределило геополитическую обстановку в Восточной Европе.
Государственно организованные хазары создали благоприятные
условия для славянской колонизации Приднепровья. Каганат на два
столетия задержал натиск на Европу кочевых азиатских орд.
Обитавшие в непосредственной близости к западным границам
каганата на Средней Волге и Поднепровье, славянские племена
(поляне, радимичи, северяне, вятичи) платили хазарам
необременительную дань. Дошедшие до нас письменные источники не сообщают о
хазарских каганах ничего похожего на «полюдья» новгородско-
киевских конунгов. Последние собирали с подвластных славянских
племен для своей заморской торговли не только продукты их
земледельческого и охотничьего труда. Князья обращали в экспортный
«живой товар» (челядь) самих земледельцев и охотников. Перед
Балканским походом 967 г. киевский князь Святослав Игоревич
«насел» на вятичей: «Кому дань даете?» — «Хазарам», — отвечали
вятичи и были временно оставлены в покое.
Геополитическая обстановка в Восточной Европе резко
изменилась в первой половине IX в. В Верхнем Поволжье и на южных
берегах Балтийского моря появились норманны. Ближайшими соседями
восточных славян были финно-угорские племена и балты. Они
первыми испытали варварский натиск германских дружин, вышедших
из Скандинавии. Датчане и норвежцы с VIII в. грабили города
Западной Европы. Шведы совершали грабительские походы в
финские и южно-балтийские земли. Финны называли шведов «руотси».
Финское именование грозных северных воинов заимствовали и при-
169
ильменские словене. В славянской языковой среде финское «руотси»
трансформировалось в «русы». В IX в. норманны-русы создали свой
военный плацдарм в Ладоге.
Вот что говорят о русах византийские источники. Не позднее
838 г. в Константинополь прибыли послы «от своего хакана»,
назвавшие себя русами. Они явились с мирными намерениями, «ради
дружбы». Византийский император дружбы не принял и отправил послов
обратно, кружным путем через Германию. Маршрут обратного пути
послы выбрали сами, опасаясь возвращения через земли Хазарского
каганата.
«Каганат русов», в отличие от Хазарского государства, в первой
половине IX в. не был известен ни Византии, ни Германии.
В Ингельгейме, германской столице Восточной империи франков,
куда прибыли после неудавшейся византийской миссии «послы
хакана русов», выяснилось, что все русы являются «свеонами»
(шведами) по языку и этнической принадлежности. Заподозрив в послах
неизвестного государства военных разведчиков, германский
император приказал задержать норманнов.
В 860 г. Византия столкнулась с варяго-русами лицом к лицу.
200 варяжских драккаров внезапно появились у крепостных стен
Константинополя. Связанные войной с Арабским халифатом,
сухопутные войска и военный флот Византии находились в Малой Азии,
вдали от имперской столицы. Не решаясь на штурм мощных
фортификаций Константинополя, варяго-русы в течение недели грабили
окрестные монастыри и убивали мирных жителей. Потом русский
флот исчез так же внезапно, как и появился. У стен Царьграда русы
продемонстрировали норманнскую тактику внезапных военно-
морских десантов, хорошо известную с VIII в. ограбленным городам
Западной Европы.
Во второй половине IX — начале X в. на Восточно-Европейской
равнине, пересекаемой множеством судоходных рек, оперировали
десятки самостоятельных норманнских дружин во главе с походными
военными вождями. Некоторые из них основывали на речных
берегах укрепленные военно-торговые места (вики) и становились
викингами. Пример — Ладога, викинги которой нанимались для
охранного сопровождения новгородских внешнеторговых экспедиций.
В 862 г. наемный норманнский (варяжский) отряд внезапно захватил
нанявший его словенский Новгород. Когда норманны ставили под
свой военный контроль более обширные, чем вики, территории, тогда
викинги становились конунгами («коненгами», «конезами», «князя-
ми», по-славянски). Русские летописи XI в. упоминают имена не-
170
скольких новгородско-ладожских конунгов IX в.: Рюрика, Олега и
«бояр Рюрика» — Аскольда, Дира.
В XI в. на Руси правила одна княжеская династия. Поэтому
русские летописцы, полагая, что так было и в IX в., сконструировали
фантастическую генеалогию правителей древнерусского государства.
Они объявили Рорика-Рюрика (одного из множества шведских
конунгов второй половины IX — начала X в.) первым русским князем,
Олега (Хельга) — его близким родственником, Игоря (Ингвара) —
его сыном, Аскольда и Дира — «боярами Рюрика», которых он
отпустил участвовать в варяго-русском походе 860 г. на Царьград.
Возвращаясь из успешного набега на византийские земли, Аскольд и
Дир, вероятно, не поделились добычей с Рюриком и самовольно
захватили небольшой славянский городок Киев и стали в нем править.
В 882 г. новгородский князь Олег убил Аскольда и Дира, сделав
приграничный Киев столицей объединенного Новгородско-Киевского
княжества.
Грабительский поход 860 г. к стенам Константинополя
зафиксирован письменными источниками в качестве первого исторического
деяния русов. Оно было дружинным, но еще не государственным.
Военные отряды, приходившие на Поднепровье из Скандинавии в
течение IX и первой половины X в., не представляли собой несущую
конструкцию устойчивого политического образования, то есть еще
не являлись государствообразующим слоем. Как уже отмечалось,
вооруженные скандинавские бродяги («варязи» русских летописей)
долгое время не отождествляли себя со страной славянских
аборигенов. Обогатившись в заморских походах, русские конунги до
середины X в. неизменно покидали славянские земли, возвращаясь в
Скандинавию. Не был исключением в этом ряду и «вещий Олег»,
умерший вдалеке от Полянского Киева и погребенный в русской
(варяжской) Ладоге.
Первым русским князем, не покинувшим славянские земли, был
Игорь Старый, убитый древлянами в ходе его затянувшегося и
организационно не обеспеченного дружинного «полюдья». Вдова Игоря
княгиня» Ольга в середине X в. «учала ставити по рекам погосты», то
есть приступила к созданию постоянной инфраструктуры
укоренившейся к тому времени военно-торговой корпорации «Новгородско-
Киевская Русь». Сеть прибрежных погостов, накинутая русской
дружиной на славянские земли, выполняла с середины X в. протогосу-
дарственные функции.
Киевским русским князьям удалось создать устойчивое
государство на основе симбиоза дружины с торгово-промышленными слоя-
171
ми местного населения. Там, где русы пытались построить свою
власть исключительно на военном насилии, норманнские княжества
не складывались. Так, провалилась в середине X в. попытка русов
протогосударственно закрепиться (после захвата богатого
прикаспийского города Бердаа) в устье реки Куры. В ожесточенной битве с
многочисленным мусульманским населением Бердаа русы потеряли
своего конунга Хельга и 700 воинов. Немногие русы, уцелевшие в
решающей битве с мусульманами, поступили на военную службу в
Хазарский каганат. Эта история типична: не получая вовремя
подкрепления из Скандинавии, оторвавшись от своих операционных баз
и не опираясь на местную родоплеменную знать, русские конунги
погибали при попытках основать системно закрытые военно-
корпоративные прото государства1.
В середине X в. русско-славянский Киев был малолюдным,
молодым городом, по сравнению с хазарскими Керчью и Таматархой
(Тмутороканем русских летописей), отвоеванных русами у каганата.
Исторический возраст Таматархи насчитывал к X в. полторы тысячи
лет. Эти богатые торговые города Крымского Причерноморья
являлись в X в. военно-административными центрами русского Тму-
тороканского княжества. Они располагали удобными морскими
гаванями. Отсюда варяго-русы совершали свои военно-торговые походы,
давшие Черному морю тревожное (для торговцев сопредельных
стран) название Русское море.
В 941 г. тмутороканский конунг Хельг и киевский князь Игорь
Старый предприняли совместный поход в Византию. Норманнские
драккары на пути в Константинополь должны были проплыть мимо
греческого Херсонеса, архистратиг которого успел предупредить
императора о движении русов. 18 июня 941 г. стремительно
маневрирующий норманнский флот вступил в сражение с византийскими
тяжелыми галерами и был сожжен «греческим огнем». Применение
нефтяных огнеметов явилось для русов полной неожиданностью.
Остатки норманнского флота отступили к берегам Малой Азии и были
блокированы греками в малоазийских гаванях. При попытке
вырваться из окружения византийских кораблей большая часть
грозных драккаров, неодолимых в западноевропейских десантных
операциях норманнов, сгорела в струях «греческого огня». Тмутороканский
конунг Хельг с немногими уцелевшими судами едва ушел на Каспий
и там погиб. Киевский князь Игорь с 10 ладьями добрался до Боспора
1 См.: Скрынников Р. Г. Войны Древней Руси // Вопросы истории. 1995.
№ 11-12.
172
Киммерийского. В 944 г. он в союзе с Печенежской ордой
предпринял вторую военную экспедицию к Царьграду, почти столь же
неудачную, так как русам опять не удалось застать византийцев врасплох.
Союз днепровских русов со скандинавскими конунгами распался. Он
возобновился при Святославе Игоревиче в 969 г., имея целью
полный разгром Хазарского каганата. К союзу присоединилась
Печенежская орда. Каганат пал.
После разрушения этого цивилизационного барьера
геополитическая обстановка в Юго-Восточной Европе резко изменилась не в
пользу Киевской Руси. Последняя оказалась лицом к лицу с грозным
противником — Печенежской ордой, с 70-х годов X в. уже
разбивавшей свои станы в 30-35 км от Киева. Степные разбойники перекрыли
днепровскую часть пути «из Варяг в Греки» и дезорганизовали
восточноевропейскую международную торговлю. По свидетельству
византийского императора Константина VII Багрянородного, печенеги
со второй половины X в. легко побеждали русов, устраивали у
днепровских порогов засады и резню, уводили в рабство население
Киевской Руси.
Этот кровавый хаос в международных отношениях, наступивший
после варварского разгрома цивилизованного Хазарского каганата,
поставил на грань выживания Древнерусское государство. После
двухвековой паузы азиатские кочевые орды вновь двинулись в
Европу.
Европа IX-X вв. являла собой кипящий котел мобильных
народов, находившихся на разных стадиях догосударственной
(политической и военной) организации. Общей чертой их была
чрезвычайная подвижность. Большую часть пришельцев составляли
скотоводы, «убегающие вперед» вынужденные мигранты. Их
сгоняли с насиженных мест другие конные беглецы. В этой роли
оказались во второй половине IX в. тюркские племена печенегов,
обосновавшиеся под боком у Хазарии, в южных степях между Волгой
и Днепром.
Поощряя интенсивный товарообмен, каганат тормозил процесс
варваризации догосударственных этносов, находившихся под его
протекторатом. Показательна в этом отношении историческая судьба
одного из них. В среднем Поволжье в VII в. мирно поселились, с
согласия кагана, племена угров. Угры платили хазарам дань
продуктами земледелия и скотоводства. Тюркоязычные булгары, воевавшие с
каганатом, уничтожили земледельческие поселения угров, а кочевую
часть этноса изгнали на запад. Изгнание превратило умелых
скотоводов в профессиональных конных разбойников.
173
Великолепно стрелявшие на скаку из дальнобойных луков, угры в
ходе вынужденного переселения реорганизовали свои слабо
ассоциированные семейно-родовые сообщества в сплоченную, агрессивную
орду. Резкое сжатие социального пространства инициировало
лавинообразную реакцию расщепления семейно-родовых продуктивных
сообществ и их взрывной варваризации. Походная орда западных
угров консолидировалась вокруг боевых дружин степных удальцов,
изначально ориентированных не на производство, а на
систематическое нетрудовое присвоение.
Под именем венгров, полукочевой этнос занял обширные
равнинные пастбища Среднего Дуная и в течение десятилетий наводил ужас
на соседние народы. За этот период венгры совершили ряд
опустошительных рейдов в Швабию, Баварию, Ломбардию, Венецианскую
область. Они разгромили Великоморавское государство. В начале X в.,
воспользовавшись внутренней слабостью враждующих между собой
королевств распавшейся Каролингской империи, венгры напали на
Бургундию, Лотарингию, Эльзас, Лангедок, опустошили земли
Германии, Италии, Франции.
Наконец, в 955 г. германский король Оттон I разбил венгров в
жестоком сражении под Аугсбургом, положив исторический предел
их кровавому паразитизму. Венгры перешли к оседлому,
земледельческому образу жизни и создали устойчивое государство, дав имя
стране своего, отныне постоянного, местопребывания. Военные
поражения агрессивных народов нередко выполняют в их истории роль
мощных факторов ускорения цивилизационных процессов.
Первый этап западноевропейского
Возрождения
В середине X — начале %Х1 в. начался материальный и духовно-
организационный расцвет Западной Европы. Он был связан с резким
увеличением товарности сельского хозяйства, ростом численности
городского населения субконтинента и корпоративной автономиза-
цией торгово-ремесленных городов. Демографический вес горожан
относительно общей численности западноевропейцев был невелик.
Ему соответствовала и незначительная городская доля в ВВП
преимущественно аграрной Западной Европы. Однако именно в городах
сосредоточились локомотивные группы западноевропейского
населения. Городские коммуны значительно превосходили уровнем своей
174
структурированности окружающую их крестьянскую и феодальную
среду. Цивилизационный вклад городских коммун сопоставим с го-
сударствообразующим вкладом варварских дружин Раннего
Средневековья. Всего 5 % от местного населения составляли
варвары, завоевавшие в V в. римский Запад. Но дружинно организованные
завоеватели трансформировались в государствообразующий слой
и определили политический облик западноевропейских стран. Не
более 5 % от сельского населения составляли в X в. жители
западноевропейских городов. Но именно они обеспечили инновационный
технологический прорыв, подготовивший экономический прогресс
Нового времени.
В торгово-ремесленных городах конец VIII — начало IX в.
ознаменовались государственным перевесом римского (в перспективе —
буржуазного) общего права над феодально-варварским
персональным законодательством. При этом юридический партикуляризм
сельской местности сохранялся и в Позднем Средневековье.
Для развития цивилизации этот перевес общего права сыграл
большую роль. Он означал системно-государственную организацию
социально-экономической жизни инновационных групп
населения. Часть сеньориальных правомочий и государственных
функций перешла к самоуправляющимся городским коммунам: местное
законодательство, суд, налогообложение, пенитенциарные
учреждения, полицейские службы, городское ополчение. Развившееся в
Позднем Средневековье буржуазное (Магдебургское) право
представляло собой корпоративный вариант римского юридического
универсализма.
Повторной урбанизации Западной Европы способствовало
увеличение демографической плотности. Внедрение богатых
протеинами высококалорийных культур (бобов, гороха, чечевицы)
значительно улучшило питание европейского населения, увеличило его
численность. Население Европы увеличилось с 27 млн человек в
700 г. до 42 млн — в 1000 г. и дошло до 73 млн в 1300 г. Современные
медиевисты, принадлежащие к историографической школе Анналов,
считают X в. («век бобов») первым этапом западноевропейского
Возрождения.
Торжища вытесняют в этом веке военные стоянки, формируются
городские торгово-ремесленные метрополии в качестве
потребителей сельскохозяйственного сырья. Мусульманские Кордова, Каир,
Дамаск, Багдад, христианские Верден, Милан, Павия, языческий
славяно-русский Киев стали средоточиями торгово-промышленной
активности.
175
Расцвет городских ремесел материально обеспечивал
интенсификацию и технологизацию сельского хозяйства, при сокращении
объема ручного труда. Технологический прогресс в сельском хозяйстве
выразился в более глубокой вспашке, связанной с появлением
колесного плуга с асимметричным отвалом, железных
сельскохозяйственных орудий, хомута в новой конной упряжи, перенесшей тяговую
нагрузку с шеи рабочего животного на его плечи. Упряжь, не
сжимающая грудную клетку и не затрудняющая дыхание тяглового скота,
позволила увеличить тяговое усилие при глубокой вспашке тяжелых
западноевропейских почв. Началась так называемая «аграрная
революция» X—XIII вв.
Одновременно с развитием городов укреплялась материальная
инфраструктура феодального уклада. Усовершенствованное стремя
позволило расширить боевое применение лошадей и
способствовало появлению нового класса конных дружинников — рыцарей,
наиболее эффективного орудия феодалов. Направленная селекция
вывела специальную породу рыцарских боевых коней, способных
нести на себе не только закованного в латы воина, но и тяжелую
конную броню. Крупное землевладение, возникшее в Раннее
Средневековье, обеспечило концентрацию живого труда и
материальных ресурсов. Это сделало возможным сооружение надежно
укрепленных феодальных замков. Последние противостояли
бургам и господствовали над окрестными неогражденными селами.
Сочетание грозной каменной крепости и мобильных рыцарских
отрядов стало особенностью X в. Она превратила немногочисленный
класс «кавалеров» в силу, стянувшую железными обручами
локальные политические пространства феодально фрагментированной
Западной Европы.
В X в. наступило относительное умиротворение
западноевропейских сообществ. Прекратились внешние нашествия. Господствующий
воинский класс осел на землю. Появилась земельная аристократия,
поощряющая развитие аграрного сектора западноевропейской
экономики. Рыцарские войны щадили сельскохозяйственный инвентарь
и рабочий скот. Под духовным влиянием церкви, рыцари давали
клятву обеспечивать безопасность во время военных действий
определенным категориям населения: клирикам, женщинам, детям,
купцам, крестьянам. Постановление, заставлявшее конных воинов
уважать «Божий мир», впервые было вынесено церковным синодом в
городе Шарру в 989 г.
Экономически активное население концентрировалось в бургах.
Последние сыграли роль новых цивилизующих центров Западной
176
Европы. Бурги — это первоначально не города, а торгово-ремесленные
поселения, не огражденные стенами. Они возникали как пригороды к
епископскому или сеньориальному городу-крепости. Но как только
материально окрепшие бурги ограждали себя собственными
крепостными стенами, в них появлялись торговые площади, ратуши и в ряде
крупных буржуазных городов — центры светской духовности,
университеты. Семейно-дружинное начало европейской
государственности дополнялось началом корпоративным. Кстати, словом
«университет» {лат. «universitas») обозначалась в Средневековье любая
корпорация. В том числе — учебная корпорация студентов и
преподавателей. С университетами оказалась связанной и схоластическая
наука — дитя городских школ, возникших в качестве альтернативы
монастырским.
В X—XIII вв. происходит «экономизация» жизни большинства
населения новых западноевропейских городов-бургов. Несмотря на
свою исходно антирыночную идеологию, христианская церковь
способствовала хозяйственной активности буржуа. В Англии
предприимчивая сельская аристократия сотрудничала с городской
буржуазией. В континентальной части Европы клир и королевская власть
покровительствовали торговым и ремесленным корпорациям, защищая
их от праздного класса сеньоров. Последние ограничивали
предпринимательство, так как буржуазная прибыль сокращала объем
феодальной ренты. Торгово-ремесленные корпорации финансировали
строительство приходских храмов, храня в них свои капиталы. Через
тысячелетие после Рождества Христова священство само выполняло
роль некогда изгнанных из Храма «менял» (точнее — ссудных касс),
являясь крупным строительным заказчиком при возведении
кафедральных соборов.
В отличие от российских монастырей, западноевропейские —
первоначально не вовлекались в товарно-денежные отношения и не
участвовали в технологизации аграрного производства. Францисканские
и бенедиктинские монахи старого устава вели жизнь или
аскетическую, или сеньориальную. Собственная хозяйственная деятельность
францисканцев и бенедиктинцев имела натуральный характер.
Монашеские братства старого устава не способствовали развитию
региональных рынков и технологических инноваций. В кругу мирян
монахи проповедовали ручной труд. Восстановившее к X в.
абсолютную власть папы в католической церкви, клюнийское религиозное
Движение (названное по имени монастыря во французском городе
Клюни) изменило экономическую и технологическую роль монасты-
177
рей. Она включила в себя инновационную составляющую. Наряду с
внедрением давно апробированных технических устройств
(строительством водяных и ветряных мельниц, кузниц), монахи новой
формации первыми применили радикальное агротехническое
новшество — ежегодное содержание под парами трети земельного участка
(трехполье). Ежегодный отдых третьего поля, не занимаемого
посевом, значительно повышал общую продуктивность всего земельного
участка. Развивалось в новоукладных монастырях и производство
шерсти.
Антифеодальные реформы религиозных орденов в Средние века
установили в монастырях власти, основанные на выборах. Из этих
новых уставных норм выросли некоторые современные
демократические процедуры. В сущности, то был возврат к раннему христианству.
До Никейского собора 325 г., установившего в числе основных
догматов Церкви вневыборное рукоположение священников, они
избирались всеми верующими диоцеза.
К X в. и феодальные институты являли собой что-то вроде
представительных ассамблей: короли периодически собирали своих
основных вассалов на «большие советы», «королевские дворы»,
«мартовские поля», «майские поля», чтобы получить от них совет и
помощь личной службой или денежным участием в королевских
предприятиях.
Феодальные институты отличались внутренней
противоречивостью. С одной стороны, они предвосхищали современные выборы и
парламенты. С другой — эти собрания вассалов являлись
учреждениями архаическими, тормозившими становление национальных
государств Нового времени. Характерно, что
буржуазно-демократическим республикам, пришедшим на смену абсолютным
монархиям, для строительства зданий новой (представительной)
государственности потребовались несущие конструкции именно
феодальных укладов. Потому что буржуазная демократия возникает в
борьбе с королевским абсолютизмом, отрицающим не только
феодальные вольности, но и подавляющим политическую активность
большинства населения.
Вольности и политическая активность неразрывно связаны друг с
другом. Поэтому становление буржуазного общества и
формирование национального государства неизбежно сопровождаются
возрождением некоторых инвариантов феодального уклада. В частности —
сословной представительности и территориальной фрагментации
политического пространства. В Англии к XVII в. сформировалась на-
178
циональная сеть общин (городских коммун, цензовой части сельских
налогоплательщиков), получившая свое представительство в Палате
общин двухпалатного парламента Английского королевства. Палата
лордов являлась органом совместного сословного представительства
светских магнатов и прелатов церкви, одинаково освобожденных от
королевского налогообложения и не имеющих, в силу этого, голоса
при формировании государственного бюджета.
Буржуазно-феодальный парламент Английского королевства и до революции 1640—
1649 гг. работал на постоянной основе. Французские трехсословные
Генеральные штаты, в которых политически доминировала светская
и церковная знать, не имели фиксированного членства и могли
созываться лишь по королевскому указу от случая к случаю.
«Межсессионная пауза» могла длиться сколь угодно долго. Генеральным
штатам, созванным Людовиком XVI в мае 1789 г., предшествовала
«пауза» в 175 лет.
В результате Английской революции XVII в. дворянско-
буржуазная Палата общин присвоила большую часть феодальных
привилегий и иммунитетов Палаты лордов и все государственные
прерогативы королевской власти. Классово сплотившись,
английская буржуазия превратилась в совокупного феодала — завоевателя
новой торгово-промышленной империи. Ее почти непрерывное
пространственное расширение длилось более 200 лет и привело к
созданию первой глобальной супердержавы Новейшего времени.
Иной оказалась историческая судьба постреволюционной
французской буржуазии. Она эффективно сыграла роль временного
лидера третьего сословия, но не превратилась в совокупного
феодала — политического лидера и социального интегратора имперской
Нации-Государства. Французская буржуазия уничтожила систему
феодального самоуправления и делегировала
национально-имперские функции — государственой бюрократии, найдя в ней свое
историческое alter ego.
В периоды радикальной реновации государства слабая буржуазия
этатизируется, сильная — феодализируется. Монополистически
организованная, крупная российская буржуазия, быстро накачавшая
экономические мышцы в 1990-е гг., в ходе приватизации рентных
отраслей государственной экономики, развивается в парадигме рефео-
дализации. При этом она использует исторический опыт
родственной социальной группы. В похожей парадигме неуклонной рефеода-
лизации издавна существует российская бюрократия, привычно
взимающая с нечиновных сограждан статусную ренту.
179
Воины, города и священники
Перед молодым сословием западноевропейской буржуазии с X в.
открылось несколько исторических путей: политический союз с
королем, либо — с сеньором. Буржуазия выбрала первое. «Фронда
принцев» и «Фронда городов» во Франции Людовика XIV не
совпали не только во времени, но и в целях.
«Буржуа» — обитатели внесеньориальных бургов, в буквальном
значении слова. Однако буржуазия характеризуется не только
местом своего постоянного пребывания или областью своих основных
занятий (ремесло, мануфактура, коммерция, торговля, услуги,
банковская деятельность), но также — применяемыми методами.
Для буржуазии извлечение прибыли является основным мотором
экономической активности. Воспроизводство феодальных
общественных отношений основано на иных принципах: службы,
корпоративной общности, личных обязательственных связей, привилегий,
рангов, престижного потребления.
К слову сказать, в современной России парадоксальным образом
утверждается небуржуазная мотивация трансрегиональной и
транснациональной хозяйственной деятельности. И это — несмотря на
бурное развитие рыночных отношений в секторах мелкоконтурного
производства. Становление в 1990-х гг. российского рынка
сопровождалось рефеодализацией бенефициариев всех видов ренты.
Иррациональная политика налогообложения льготирует крупных
владельцев земельно-имущественных комплексов,
привилегированных недропользователей, приватизаторов монопольной, природной и
дифференциальной ренты. Государственное налогообложение дести-
мулирует активность субъектов хозяйствования, капитализирующих
результаты умственного труда, в том числе — собственного. В России
существует авторское право, но нет юридического статуса
интеллектуальной собственности, нет единого государственного реестра
объектов интеллектуальном собственности и сделок с ними. Как
следствие — практически отсутствует гражданский оборот
нематериальных активов. В российском национальном балансе он не превышал в
2009 г. 0,3 %. (Для сравнения: в национальном балансе США доля
нематериальных активов составляет 70 %.) Не создав правовой
инфраструктуры новой экономики знаний, нельзя надеяться на ее
опережающее развитие.
Чем (помимо рода профессиональных занятий) отличался
постсредневековый буржуа от раннекапиталистического феодала?
Первый был ориентирован на максимизацию прибыли и минимиза-
180
тию издержек производства. Второй — на максимизацию
потребительских престижных затрат. Буржуа создавал и капитализировал
прибавочную стоимость, феодал — декапитализировал ее.
Современная российская экономика имеет преимущественно
рентный характер. (Поэтому она критически зависит от
неустойчивого внешнего спроса на первичные ресурсы.) Этому типу экономики
наиболее соответствует рентообразующее налогообложение. Однако
в реальности оно остается фискально-конфискационным, особенно
наглядно дестимулирующим индивидуальную активность в
постиндустриальной экономике знаний. Материальные ресурсы,
недвижимость, капитал (ресурсы в динамике) испытывают гораздо меньшую
налоговую нагрузку. В России иметь выгоднее, чем что-либо
производить.
Зарплатоемкость валового национального продукта РФ намного
отстает от уже достигнутого уровня экономического развития
страны. Степень эксплуатации живого труда в современной России в
несколько раз выше, чем в США. На один доллар средней американской
зарплаты производится в несколько раз меньшая стоимость ВНП,
чем на один доллар средней российской зарплаты.
Низкая зарплатоемкость российского ВНП ограничивает
совокупный спрос и объем конечного потребления. Это, в свою очередь,
сдерживает экономический рост и общее развитие страны.
Из трех основных систем налогообложения (фискально-кон-
фискационной, функционально ориентированной и рентообразую-
щей) первая направлена против инвестиционного накопления, а
третья — централизованно перераспределяет «феодальную»
(природную) ренту. Первая система дестимулирует общественно
необходимую продуктивную деятельность лидеров рыночного состязания.
Третья система ограничивает избыточную трату естественных
ресурсов. Лишь вторая система налогообложения создает устойчивую
мотивацию инновационной активности. Однако
модернизирующаяся Россия продолжает жить в условиях архаичной постсоветской
системы налогообложения. Государство переложило на плечи
хозяйствующих субъектов большую часть инвестиционных затрат
национальной экономики и взимает с этих затрат налог на прибыль и
НДС. Налогооблагаемая база при уплате НДС включает в себя не
только добавленную стоимость, но и весь объем платежных
трансакций. В реальности, НДС не отличить от налога с оборота. В качестве
оборотного налога существующий в России НДС аномально высок.
Россия вышла в конце XX в. на эволюционную колею, характерную
для предбуржуазного этапа развития западноевропейской экономи-
181
ки. Как все исторические аналогии, вышеуказанная — достаточно
условна. Панорамный обзор историографического материала
обнаруживает асинхронность алгоритмов российских «перестроек» и
периодических «длинных волн» европейских модернизаций. Чтобы в
этом убедиться, вернемся в X век.
Эволюция производительных сил средневековой Европы
сопровождалась эрозией социальных структур и ценностей римского мира.
Последнее осложнялось декапитализацией экономики и
деклассированием буржуазии. В эпоху Позднего Средневековья мещане
стремились встроиться в ряды дворянства. Это сдерживало развитие ранне-
капиталистических производственных отношений. Новая
буржуазная экономика, возникшая в X в. в городских анклавах Европы, долгое
время занимала незначительное место в массиве феодального
хозяйствования.
Городской уклад жизни, тем не менее, постепенно
модифицировал фрагменты феодального уклада. Этих результатов буржуазия
Нового времени достигала, прежде всего, на местном уровне,
добиваясь муниципальных свобод посредством создания коммун, то есть
автономных городов, находящихся вне юрисдикции сеньоров и
епископов или разделяющих с ними политическую власть.
Вертикальная солидарность феодалов, основанная на верности
низших высшему, в Новое время противостояла горизонтальной
солидарности горожан, базирующейся на формальном равенстве всех
участников коммунотарного жизнеобеспечения. Буржуазный
договор юридически равноправных контрагентов
социально-экономических отношений эволюционно шел на смену феодальной присяге
низших — высшим. Обезличенное договорное право буржуазных
городов формировало институты нарождающегося гражданского
общества.
Феодализм — это система личных обязательственных связей,
объединявших лишь высший слой общества. Его материальной
основой является феод (обусловленное службой земельное
владение), а организационно-правовой — присяжный вассалитет.
Сеньориальное право политического властвования дополнялось в
буржуазных городах восходящим к античности правом полной
собственности. Оно состояло из владения, пользования и распоряжения
средствами производства.
Феодализм пришел на смену аристомонархии Раннего
Средневековья раньше расцвета городов. Титул рыцаря официально
появился в 971 г. Верхи третьего сословия начали корпоративно
формироваться веком позже. Корпорации резко усложнили структуру за-
182
падноевропейского общества, снизив уровень его внутренней
устойчивости.
Трем социальным функциям (военной, духовной и
производительной) в средневековую эпоху соответствовали три сословия,
функциональную трехчастность средневекового общества первым
нарушил класс купцов. Мирские состояния (états), отличались от
религиозных положений (ordo) большей внутренней динамикой.
Поэтому в états Позднего Средневековья индивидуальными
усилиями чемпионов рыночного состязания все чаще вносятся изменения
персонального характера.
Разрушение трехчастной схемы средневекового общества,
связанное с бурным развитием городов в Х-ХШ вв., способствовало
внутренней системной дифференциации западноевропейского мира.
Политической предсказуемости и социального порядка в Европе
стало меньше. Прибавочного продукта — больше.
Внутренние автоколебания средневековой общественной
системы Западной Европы исходили от буржуазных городов и
феодальных коалиций. Консервативные начала, обеспечивавшие внешнюю
устойчивость государств, воплощались в короле и клире.
Христианская идеология Позднего Средневековья отождествляла
онтологическое зло с феодальным и буржуазным многообразием, а вселенское
добро — с уходящим единством аристомонархии.
Церковь, по идеологическим основаниям, содействовала королю в
исполнении одной системной роли против другой. Монарх
одновременно являлся верховным сюзереном многоступенчатой феодальной
иерархии, состоявшей из частных лиц, и вершиной публичной
государственной власти, ограничивавшей персонифицированный
феодальный порядок. Священник помогал королю одолеть в себе воина.
Из двух эволюционно сложившихся триад взаимосвязанных
форм надличностной коммуникации: знаковой (влияние-престиж-
авторитет) и вещественной (лидерство-господство-власть) церковь,
в конечном счете, сосредоточилась на первой, оставив вторую
государству. Дальнейшая эволюция конкретных политических форм
европейской государственности уже зависела от силового соотношения
и функционального взаимодействия разных способов управления
человеческим поведением. Но все они оказывались инвариантными
относительно лидерства-господства-власти и зависимыми от ресурсов
влияния-престижа-авторитета.
Демократии во второй половине XX — начале XXI в. стали
преобладающей формой государственных укладов. Они обходятся
инструментами институционализированной власти, информационного вли-
183
яния и духовного лидерства. Авторитарные уклады в XX в.
представляют собой модернизированные реликты аристомонархии. Они
тяготеют к избирательному использованию организационно
оформленных публичного престижа, харизматического авторитета и
материального господства. Наименее долговечны тоталитарные уклады,
возникающие в экстремальных условиях национальных катастроф.
Они ненадолго подчиняют целям идеократического государства обе
триады надличностной коммуникации.
Монополизируя и объединяя в себе все наличные инструменты
знакового и вещественного воздействия, государство неизбежно
разрушает общественные структуры. Лишенное собственного «скелета»,
общество сотрясается непрерывной чередой системных
автоколебаний гипергосударства, перегруженного избыточным объемом
социальных функций. В том числе — функций повседневного
жизнеобеспечения населения, не соответствующих природе государства:
товаропроизводство, розничная торговля, общественное питание, бытовое
обслуживание, сфера индивидуальных услуг и т. п. Наиболее
разрушительные из этих автоколебаний являются следствием соединения
в одних руках власти и собственности.
В начале государственной истории человечества материально-
знаковое господство над людьми и над их вещным окружением не
расщеплялось на власть и собственность. Последних просто не
существовало в «химически чистом» виде, подобно урану-235. Роль
диффузионной газовой центрифуги, непрерывно вырабатывавшей это
взрывоопасное топливо цивилизации, выполняло общественное
разделение труда.
Вызовы и ответы
Научно осознанные в ХХ»в. исторические реалии оспаривают
концепцию линейного прогресса, сформировавшуюся в эпоху
Просвещения. Современная философия истории, в связи с этим,
критически оценивает метод прогнозирования будущего на основе
механической экстраполяции тенденций прошлого. Тенденции эти
вариативны. В силу чего развитие человечества было, есть и будет
многовекторным. Но конкретно-исторически, оно осуществляется в
пределах сравнительно небольшого числа системных состояний.
Причиной «исторической экономности» является эволюционная
особенность человеческих обществ, состоящая в кумулятивном при-
184
посте их адаптивности. Накопленная адаптивность, в свою очередь,
обусловлена самовозрастающим и векторно ориентированным
усложнением общественных самоорганизующихся систем,
сокращающим количество вариантов их возможного будущего. Снижение
уровня вариативности общественного развития человечества
напрямую зависит от усвоения кризисных уроков прошлого.
Усложнение общественной системы повышает ее внешнюю
устойчивость и внутреннюю неравновесность. Внешняя статика
периодически нарушается внутренней динамикой. Эти нарушения
именуются кризисами. При всем их разнообразии, им свойственны общие
черты. Одна из них представляет собой синдром предкризисного
развития человека. Каждый глобальный и длительный общесистемный
кризис развертывается после относительно короткого периода
технологического рывка в развитии средств жизнеобеспечения. Например,
первому общесистемному кризису в эпоху верхнего палеолита
предшествовало радикальное изменение технологии охоты.
Люди верхнего палеолита (неоантропы) изобрели лук со
стрелами, копья, дротики, копьеметалки, научились устраивать ловчьи ямы.
А механизмы социальной и культурной саморегуляции охотников и
собирателей остались прежними, сформировавшимися в эпоху
ручного рубила. Массовая поведенческая саморегуляция по
определению инерционна. Она всегда отстает от передовых технологий.
Стереотипы жизнеобеспечения верхнепалеолитических социумов
перестали соответствовать нормам продуктивности их среды
обитания. «Охотничья автоматика» резко повысила КПД присваивающего
хозяйства. Изобилие энергетически насыщенной пищи повышало ре-
продуктивность все большего количества неоантропов.
Демографический взрыв и резкое расширение ареалов популяци-
онного обитания неоантропов верхнего палеолита критически
приблизили количество охотников и собирателей, особенно в средних
широтах Евразии, к экологически не обеспеченному пределу в 7-
8 млн человек. Кормовая база неоантропов оказалась здесь
подорванной. В жестокой межплеменной борьбе, развернувшейся в наиболее
населенных и технологически развитых регионах планеты, погибла
большая часть человечества. Численность неоантропов к эпохе
неолита, по данным археологии и палеоантропологии, сократилась
многократно. Демографическая катастрофа развернулась на прежде
обитаемых обширных пространствах в условиях иссушения евразийских
равнин после Великого оледенения.
Выжившие охотники и собиратели приспособились к
экологической ситуации скудных кормовых ресурсов, обладавших ограни-
185
ченной способностью воспроизводства. Присваивающее
экстенсивное хозяйство сменилось хозяйством производящим: для
собирателей — преимущественно земледелием, для охотников —
скотоводством.
Эта технологическая революция неолита (XII тыс. до н. э.)
сопровождалась и обеспечивалась усложнением человеческого мышления
и речи. Коммуникативная функция речевой деятельность
дополнилась информационно-регулятивной. Люди овладели знаковым
моделированием потребного будущего. Функция рождает орган:
земледелец и скотовод по жизненной необходимости улавливают гораздо
больше причинно-следственных связей, чем охотник и собиратель.
Встраиваясь в причинно-следственные цепи значимых явлений
внешней среды, земледелец и скотовод овладевали технологиями
доместикации растений и адаптации животных.
Ареалы прежнего обитания собирателей и охотников заново
осваивались и закреплялись за конкурирующими этносами.
Скотоводческие племена, нуждаясь для хозяйственной деятельности в
больших пространствах, избирали кочевой образ жизни.
Земледельческие — оседлый. Их изначальное противостояние в борьбе за
жизненное пространство персонифицировано библейскими Каином
и Авелем. Суровый земледелец убивает кроткого скотовода за то, что
жертвоприношения последнего оказались более угодными Богу.
Их богоугодность имеет историческое объяснение. Скотоводство
древнее земледелия. Оседлый образ жизни эволюционно моложе
кочевого. Новое утверждалось в борьбе со старым укладом,
укорененным в массовом сознании. Разрыв с традицией лишал
инновационные группы земледельцев религиозной санкции. В упомянутом
библейском сюжете, иносказательно и превращенно отражающем
исторические реалии, в архетипическом облике агрессора выступает
оседлый земледелец.
Обратимся к историческим фактам. Первая известная истории
цивилизация — шумерская — пустила корни в плодородном
междуречье Тигра и Евфрата. Характерно, что в языке древних шумеров
общим словом обозначались «порядок» и «государство». Шумеро-
аккадская цивилизация развилась в IV тыс. до н. э. (в условиях
высокой плотности населения) на основе интенсивного ирригационного
земледелия. Государство здесь возникло как орудие цивилизации.
Вне государственно организованной земледельческой цивилизации
шумеров остались враждебные ей обитатели гор и предгорий, не
вовлеченные в неолитическую революцию. Кумулятивное приращение
факторов продуктивности земледелия тормозилось внеэкономиче-
186
ским (силовым) присвоением продуктов аграрной экономики.
Присвоение осуществлялось культурно отсталыми сообществами.
Показательно, что на языке древних шумеров, живших в долине,
понятия «ад» и «горы» передавались одним словом «кур».
Маргинальная относительно долины Месопотамии «набеговая
экономика» горцев (реликт присваивающего хозяйства) представляла
постоянную угрозу для шумеро-аккадской цивилизации и города
Вавилона. По этой же причине в течение полутора тысяч лет земле-
дельчески не осваивалась плодороднейшая черноземная долина
Кубани. Над ней нависал Кавказ.
Постоянной угрозой для земледельческих поселений Евразии
являлись кочевники-скотоводы. Их волны периодически накрывали
громадное пространство, уничтожая очаги аграрных цивилизаций.
В частности, кочевые индоевропейские народы в догомеровскую
эпоху II тысячелетия до н. э. вторглись на Балканы, в Элладу, на
остров Крит и разрушили центры крито-минойской цивилизации.
Тем не менее, опыт производственного сотрудничества с
природой и соседями быстро распространился на обширные территории
человеческого расселения. Он снизил общий уровень
внутривидового насилия и межплеменной агрессии. Снизился и уровень
милитаризации выживших сообществ. Орудия и технологии охоты могут
использоваться и реально использовались как оружие против
конкурентов в борьбе за ресурсы. Орудия земледельческого труда и
приемы адаптирующего скотоводства для войны не годятся.
Культура доместикации растений и приручения животных,
превышая степенью технологической сложности охоту и собирательство,
потребовала новых, адекватных себе форм социальной
самоорганизации. Возникло функционально устойчивое разделение труда и как
следствие — обмен результатами продуктивной деятельности.
Как только этот обмен становился регулярным, территориально-
групповые и семейно-родовые общности трансформировались в
общества. Так что история человечества не всегда была общественной.
Первые общества появились не ранее XII тыс. до н. э.
Очередному общесистемному кризису начала I тысячелетия до н. э.
предшествовало изобретение стального оружия, сравнительно с
бронзовым более прочного, легкого и дешевого. Доступ к нему
получили массы. На смену профессиональным героическим дружинам
бронзовых веков (как правило — немногочисленным) пришли
массовые народные ополчения веков железных. Наступила эпоха
агрессивных протогосударств, организованных по принципу орды.
Структурно-функциональной особенностью ордынской организации,
187
резко отличающейся от эволюционных, естественных форм семей-
но-родовой самоорганизации, является ее жесткий
субординационный порядок, ориентированный на территориальную экспансию.
Последняя соответствовала экстенсивному хозяйствованию
кочевников-скотоводов. Интенсивное хозяйствование оседлых
земледельческих поселений и торгово-ремесленных городов в ордынской
организации не нуждалось.
Народные ополчения ордынски сплоченных кочевых этносов
находились в состоянии постоянной мобилизационной готовности для
силового расширения жизненных пространств. Такая
милитаризация общественной жизни не способствовала интенсификации
производства и росту продуктивности труда.
Количество участников и жертв межплеменных конфликтов в
железные века гигантски возросло. Троянская война конца II тыс.
до н. э. в этом смысле показательна. Ахейская орда уничтожила
торгово-ремесленный город, истребив его население. Итогом
явилось общее снижение уровня цивилизованности восточных районов
Средиземноморья.
На рубеже II и I тыс. до н. э. под угрозой взаимного истребления
оказалось население центров земледельческих цивилизаций
Ближнего Востока и Балкан, Греции и Египта, Индии и Китая. Родо-
племенные протогосударства, преимущественно ориентированные
на силовое присвоение ВВП соседей, попали в очередной тупик
развития и системный коллапс. Из этого тупика они вышли, структурно
и функционально преобразовавшись в новые государства:
территориально-общинные, основанные на устойчивой
производственной кооперации и регулярном рыночном товарообмене
результатами продуктивной деятельности. Произошло это далеко не везде,
только — в необширных районах земледельческих поселений,
сложившихся вокруг торгово-ремесленных городов.
Организационно-политические и ценностные трансформации
наиболее развитых обществ в середине II тысячелетия до н. э.
обеспечили расцвет древних великих цивилизаций. Эти трансформации
явились адекватным ответом государственно организованной части
человечества на вызов массового варварства взаимоистребления.
Основы современной мировой цивилизации, с ее сложными
механизмами самосохранения, были заложены именно в это время.
В новый системный кризис Европу вовлекли в первой трети II
тыс. неразвитость ее городской инфраструктуры и экстенсивная
сельскохозяйственная технология. Плодородие почвы снижалось.
Средняя урожайность падала. Леса вырубались. Реки превращались
188
р сточные канавы. Антисанитарно скученное городское население
рыкашивалось эпидемиями. Эпидемия XIV в., на треть сократившая
численность европейцев, была не единственной.
Ответом на этот исторический вызов явилась Первая
промышленная революция середины II тыс. н. э. Она резко повысила
удельную продуктивность европейского хозяйства. Новая «индуст-
реальность» преобразовала массовое восприятие времени и
пространства, ценностные установки и мировоззрение европейцев.
Утвердилась общественно востребованная концепция линейного
прогресса, позитивного преобразования мира человеком, свободы
индивидуального выбора, примата разума над другими
проявлениями человеческой природы. В этом же ряду представления гуманистов
о естественных человеческих правах и единой сущности всех людей.
Торжество гуманизма означало преодоление клановых доиндустри-
альных идеологий. Последующая эпоха Просвещения
способствовала превращению национальных государств, основных акторов
европейской истории Нового времени, в рациональные организации.
Переходы от охоты и собирательства к земледелию и
скотоводству, от аграрных цивилизаций к индустриальным, от
индустриальных — к информационным сопровождались антиэнтропийным
увеличением орудийной, организационной и знаковой опосредованно-
сти отношений человека с природой и другими людьми. При этом
общества неизбежно переходили от более вероятных
(неупорядоченных) к менее вероятным (упорядоченным) состояниям. Возрастали
внешняя устойчивость и внутренняя неравновесность общественных
систем.
Неравновесность — атрибут живого
В соответствии с общим законом необходимого разнообразия
систем (сформулированным Уильямом Россом Эшби), степень
внешней устойчивости и величина эволюционного потенциала
общественной макросистемы прямо пропорциональны уровню разнообразия
составляющих ее элементов. Этот закон имеет (в качестве одного из
его следствий) правило нефункционального, избыточного, эволюци-
онно не востребованного разнообразия микросоциумов.
ï Дошедшие до нас исторические, археологические, палеоантропо-
лс(гические источники свидетельствуют: древние микросоциумы
резко отличались друг от друга поливариантностью конкретных
189
форм жизнедеятельности. В частности — технологиями
изготовления каменных орудий труда. Технологически удачные решения
тиражировались, отсекая все остальные, прежде всего — поисковые. В
местах возникновения и первоначального расселения неоантропов (на
юге Африки) эта поливариантность была наименьшей. 40-45 тыс.
лет тому назад данный эволюционный показатель достиг минимума,
необходимого для сапиентации неоантропов. После чего оставался
неизменным тысячи лет. Простейшие культурные стереотипы
отношений тасующихся групп неоантропов друг с другом и с природой
закреплялись инстинктами. Динамические стереотипы
жизнеобеспечения этого уровня сложности не породили
структурно-функциональных систем, устойчивых к социоприродным кризисам.
Не организованные системно, конгломераты примитивных
микросоциумов исчезали при критических изменениях среды их
обитания. Они не могли пустить цивилизационные корни, несмотря на
свою совокупную численность и демографическую плотность
расселения. Предками многорасовового и мультикультурного
современного человечества оказались неоантропы африканского
генетического корня. Азиатский антропогенетический «эксперимент природы»
не дал устойчивых социогенетических результатов, закрепившихся в
потомках азиатского «прачеловека». Они исчезли. Возможно — по
причине глубокой континентальное™ своего преимущественного
расселения и географических препятствий перед миграцией.
Иными оказывались исторические судьбы динамичных
коллективов, покинувших территории первоначального расселения
неоантропов. Заменяя привычные алгоритмы жизнеобеспечения, но сохраняя
их в культурной памяти, «колонии» преодолевали гомеостазис
«метрополий», чреватый опасным застоем. Показательны в связи с этим
географические предпочтения наиболее «продвинутых» колонистов,
оставивших свой след в истории. Они избирали для нового
поселения, как правило, изменчивые природные среды — берега рек и
морей.
Ресурс культурного разнообразия человеческих коллективов,
земледельчески и животноводчески освоивших долины Нила,
Тигра, Евфрата, Янцзы, Хуанхэ, Ганга, морского побережья Балкан,
Малой Азии, Северной Африки и Аппенинского полуострова,
оказался неизмеримо большим, чем у народов глубоко
континентальных. В кризисные эпохи этот избыточный ресурс повышал
адаптивность обществ к новым средам и условиям жизнедеятельности.
Не случайно в перечисленных регионах сосредоточились центры
древних цивилизаций.
190
Устойчивая неравновесность — атрибут всего живого. А
человек — самый неравновесный субъект, известный науке. Отчасти
поэтому политическая демократия, возникшая в кризисную эпоху и
учитывающая человеческую нелинейность общественной динамики,
наиболее восприимчива к инновациям. Демократия наиболее
эффективно отрабатывает положительные обратные связи социальных
систем с внешней средой. Она рационализирует и системно адаптирует
поисковую активность инновационных групп населения, вызванную
индивидуальным реагированием на изменения внешней среды.
Демократия суммирует несовпадающие интересы больших
социальных групп, превращая разнообразие в ресурс системного развития.
Все эволюционные тупики, социально-политические революции
и государственные смуты подтверждают универсальность
вышеуказанных фундаментальных законов общей теории систем. Системный
дискомфорт (вызванный ростом неотработанного объема
положительных обратных связей с внешней средой) на закритической
стадии опасно упрощает общественные отношения. Упрощение, в свою
очередь, усиливает позиции социальных групп, склонных к
элементарным и грубым решениям типа «все отнять и поделить». И
наоборот, на докритической стадии внутреннее напряжение социальной
метасистемы разрешается ее усложнением и переходом к более
высокому уровню неравновесности. Например — к более тонкому
механизму демократического согласования социально агрегированных
интересов.
Политэкономия конфликтов
В связи с вышеизложенным, возникают два судьбоносных для
человечества вопроса. Первый: наблюдалось ли в обозримом прошлом
неизменное возрастание потенциала насилия как превалирующего
стереотипа человеческого поведения? Ответы истории
противоречивы. В материально-технологическом отношении этот потенциал
увеличивался. В содиальном и государственном — или снижался, или не
возрастал. Так, и относительное, и абсолютное количество жертв
невоенного насилия в жестоком XX в. оказалось намного меньшим, чем
в предшествующие 60 веков. Относительное (к численности
населения планеты) количество жертв военного насилия в течение 6 тыс.
лет государственной истории человечества оставалось постоянным,
за исключением гекатомб милитаристских XVI и XVII вв. Абсолютные
191
цифры, конечно, возрастали: в двух мировых войнах XX в. погибло
столько же людей, сколько в 15 тысячах предшествующих войн.
В XX в. резко возросли удельные расходы на убийство противников.
Во время Второй мировой войны на уничтожение одного европейца в
среднем «потрачено» 100 тыс. долларов США. На эту сумму можно
было бы создать 10 новых рабочих мест в западноевропейских
странах и намного больше — в СССР.
С первым вопросом связан второй: возрастал ли на протяжении
6 тыс. лет государственной истории человечества материальный и
финансово-экономический КПД межгосударственных военных
конфликтов? Разумеется — с точки зрения победителей. Этот
весьма условный коэффициент не мог не снижаться, так как
материальная и человеческая затратность войн неуклонно растет с темпами,
намного превышающими максимально возможную скорость
возрастания совокупного объёма продуктивной деятельности любой
страны. Репарационные 20 млрд долларов США, полученные
нашей страной от поверженной Германии в 1945 г., не могли
компенсировать и сотой доли потерь СССР в ходе Великой
Отечественной войны. Одной из основных причин глобального
финансово-экономического кризиса 2008-2009 гг.,
сопровождаемого производственной рецессией, являются гигантские расходы
США на ведение войны в Ираке и Афганистане. Они составляют
15 млрд долларов в месяц. Относительная затратность войн двух-
трехвековой и двух-трехтысячелетней давности не могла
уравновешиваться любыми военными трофеями или территориальными
приобретениями. Финансово катастрофическими были все
российские победоносные войны. Северная война 1700-1721 гг.
завершилась бюджетным дефицитом, равным годовому ВВП страны.
Военные долги Екатерины II Российская империя смогла погасить
только в конце XIX в. Русско-турецкая Балканская война 1877-
1878 гг., освободившая от турецкого ига славянские народы,
обошлась для России затратой ее двухгодовых бюджетов.
Большинство войн, известных истории, являлись
контрпродуктивными в соотношении военных затрат и материальных результатов
побед. В их оценках рискованно полагаться на саги и эпос. В догоме-
ровские времена разрушение ахейцами Трои (торгово-ремесленного
города и порта-перехватчика), скорее всего, ничего не дало
победителям в материальном отношении. Транзитная пошлина, некогда
взимавшаяся троянцами с проходящих через Дарданеллы торговых
кораблей, ахейцам не досталась, так как многолетняя война нарушила
международный товарооборот между Северным Причерноморьем и
192
Восточным Средиземноморьем. «И взяли Трою, и, насытясь славой, /
Ушли ни с чем на кораблях тяжелых...» (В. Луговской. Как человек
плыл с Одиссеем).
Материальные и человеческие ресурсы, практически впустую
потраченные в десятилетней Троянской войне, могли бы дать Ахейскому
союзу неизмеримо больший экономический эффект при варианте
мирной колонизации прибрежных районов черноморских проливов.
Несколько веков спустя малоазийские греческие колонии блестяще
реализовали похожий инновационный мегапроект.
Военная добыча, достававшаяся в античную эпоху
демократическим полисам Эллады, ненадолго повышала удельную
продуктивность их собственной хозяйственной деятельностью. «Демократия
дележа» неизменно её снижала. Что касается авторитарных либо
олигархических режимов, то они редко добивались даже временных
эффектов рентабельности своих захватнических предприятий.
После победоносной для спартанцев Второй Пелопонесской
войны в Спарте, за счет тяжелых контрибуций с побежденных
торгово-ремесленных полисов Афинско-Делосского морского союза,
сосредоточилось золота больше, чем его осталось во всех остальных
городах-государствах Эллады. И что же? Захваченное золото Спарта
быстро растратила на непродуктивное потребление граждан-вой но в
и неспартанскую роскошь аристократии. В реальный сектор
аграрной экономики Лакедемона военная «прибыль» не попала. Не
вовлеченные в хозяйственную деятельность своего полиса, граждане-
воины не могли капитализировать военную добычу государства.
В III в. до н. э. несколько сотен спартиатов, еще не вычеркнутых из
гражданского реестра в связи с их обезземеливанием, влачили
жалкое существование. Но — предпочитали не овладевать ремеслами и
не заниматься презренной торговлей. А на военные грабежи сил уже
не хватало.
Между тем, в V в. до н. э. именно морская торговля, городские
ремесла и интенсивное мелкоконтурное земледелие обеспечили
процветание демократических Афин. Триста демов, составивших
политический фундамент новой афинской территориально-общинной
государственности, представляли собой в VI-V вв. до н. э. прочную
сеть взаимосвязанных субъектов хозяйствования. В отличие от
родовых протогосударств и межплеменных орд, территориально-
общинные государства формировались на базе производственно-
торговой деятельности. Грабительские войны IV в. до н. э., в которые
(по решениям народного собрания Афин) вынужденно вовлекался
Афинско-Делосский союз, стимулировали формирование в полисе-
193
цифры, конечно, возрастали: в двух мировых войнах XX в. погибло
столько же людей, сколько в 15 тысячах предшествующих войн.
В XX в. резко возросли удельные расходы на убийство противников.
Во время Второй мировой войны на уничтожение одного европейца в
среднем «потрачено» 100 тыс. долларов США. На эту сумму можно
было бы создать 10 новых рабочих мест в западноевропейских
странах и намного больше — в СССР.
С первым вопросом связан второй: возрастал ли на протяжении
6 тыс. лет государственной истории человечества материальный и
финансово-экономический КПД межгосударственных военных
конфликтов? Разумеется — с точки зрения победителей. Этот
весьма условный коэффициент не мог не снижаться, так как
материальная и человеческая затратность войн неуклонно растет с темпами,
намного превышающими максимально возможную скорость
возрастания совокупного объёма продуктивной деятельности любой
страны. Репарационные 20 млрд долларов США, полученные
нашей страной от поверженной Германии в 1945 г., не могли
компенсировать и сотой доли потерь СССР в ходе Великой
Отечественной войны. Одной из основных причин глобального
финансово-экономического кризиса 2008-2009 гг.,
сопровождаемого производственной рецессией, являются гигантские расходы
США на ведение войны в Ираке и Афганистане. Они составляют
15 млрд долларов в месяц. Относительная затратность войн двух-
трехвековой и двух-трехтысячелетней давности не могла
уравновешиваться любыми военными трофеями или территориальными
приобретениями. Финансово катастрофическими были все
российские победоносные войны. Северная война 1700-1721 гг.
завершилась бюджетным дефицитом, равным годовому ВВП страны.
Военные долги Екатерины II Российская империя смогла погасить
только в конце XIX в. Русско-турецкая Балканская война 1877—
1878 гг., освободившая от турецкого ига славянские народы,
обошлась для России затратой ее двухгодовых бюджетов.
Большинство войн, известных истории, являлись
контрпродуктивными в соотношении военных затрат и материальных результатов
побед. В их оценках рискованно полагаться на саги и эпос. В догоме-
ровские времена разрушение ахейцами Трои (торгово-ремесленного
города и порта-перехватчика), скорее всего, ничего не дало
победителям в материальном отношении. Транзитная пошлина, некогда
взимавшаяся троянцами с проходящих через Дарданеллы торговых
кораблей, ахейцам не досталась, так как многолетняя война нарушила
международный товарооборот между Северным Причерноморьем и
192
Восточным Средиземноморьем. «И взяли Трою, и, насытясь славой, /
Ушли ни с чем на кораблях тяжелых...» (В. Луговской. Как человек
плыл с Одиссеем).
Материальные и человеческие ресурсы, практически впустую
потраченные в десятилетней Троянской войне, могли бы дать Ахейскому
союзу неизмеримо больший экономический эффект при варианте
мирной колонизации прибрежных районов черноморских проливов.
Несколько веков спустя малоазийские греческие колонии блестяще
реализовали похожий инновационный мегапроект.
Военная добыча, достававшаяся в античную эпоху
демократическим полисам Эллады, ненадолго повышала удельную
продуктивность их собственной хозяйственной деятельностью. «Демократия
дележа» неизменно её снижала. Что касается авторитарных либо
олигархических режимов, то они редко добивались даже временных
эффектов рентабельности своих захватнических предприятий.
После победоносной для спартанцев Второй Пелопонесской
войны в Спарте, за счет тяжелых контрибуций с побежденных
торгово-ремесленных полисов Афинско-Делосского морского союза,
сосредоточилось золота больше, чем его осталось во всех остальных
городах-государствах Эллады. И что же? Захваченное золото Спарта
быстро растратила на непродуктивное потребление граждан-воинов
и неспартанскую роскошь аристократии. В реальный сектор
аграрной экономики Лакедемона военная «прибыль» не попала. Не
вовлеченные в хозяйственную деятельность своего полиса, граждане-
воины не могли капитализировать военную добычу государства.
В III в. до н. э. несколько сотен спартиатов, еще не вычеркнутых из
гражданского реестра в связи с их обезземеливанием, влачили
жалкое существование. Но — предпочитали не овладевать ремеслами и
не заниматься презренной торговлей. А на военные грабежи сил уже
не хватало.
Между тем, в V в. до н. э. именно морская торговля, городские
ремесла и интенсивное мелкоконтурное земледелие обеспечили
процветание демократических Афин. Триста демов, составивших
политический фундамент новой афинской территориально-общинной
государственности, представляли собой в VI-V вв. до н. э. прочную
сеть взаимосвязанных субъектов хозяйствования. В отличие от
родовых протогосударств и межплеменных орд, территориально-
общинные государства формировались на базе производственно-
торговой деятельности. Грабительские войны IV в. до н. э., в которые
(по решениям народного собрания Афин) вынужденно вовлекался
Афинско-Делосский союз, стимулировали формирование в полисе-
193
гегемоне потребляющей «демократии дележа». До этого уровня
коллективного паразитизма деградировала некогда продуктивная
«демократия гражданского участия». Когда делить стало нечего,
афинская «демократия дележа» рухнула, увлекая за собой афинскую
государственность.
Рентабельность морали
С ростом технологической оснащенности древних цивилизаций
увеличивалась их внешняя устойчивость, уменьшалась зависимость
от критических изменений природной и геополитической среды.
Но вместе с тем возникали позитивные корреляции между
внутренней неравновесностью общества и системным порядком. В более
неравновесных урбанистических обществах эта корреляция выглядит
очевиднее, чем в аграрных, в демократических — отчетливее, чем в
автократических. Нарастание внутренней неравновесности
компенсируется структурно-функциональным усложнением общества
тонкими балансирующими механизмами «сдержек и противовесов».
Возрастает системная роль несилового меньшинства. Усложнение
общества увеличивает критический вес минимума системных
элементов, влияющих на устойчивость всей системы. Снижение порога
системной чувствительности общества исторически сопровождается
возрастанием эффективности параметрического саморегулирования
социальных метасистем и снижением — силового.
Амплитуду неуправляемых общественных автоколебаний
сокращают такие параметрические регуляторы, как традиции, мораль,
право, религии, социогуманитарная культура. Все это —
самоограничения цивилизации, их компенсаторный механизм. Параметрические
самоограничения цивилизаций имеют древние доисторические
корни. Наидревнейшие среди них — протоморальные.
Приспособительная «рентабельность» протоморальных
самоограничений доказана социогенезом неоантропов. Конкурентные
преимущества после неолитической революции XII тыс. до н. э.
приобретали микросоциумы, в которых лучше отлаживался доступ к
пище и производству потомства для физически не равных членов
сообществ. Повышалась вероятность расширения круга людей,
обладающих более тонкой нервной организацией, способных к охвату
большего объема причинно-следственных связей и —
следовательно—к расширению горизонтов дальнего ориентирования социумов.
194
Пожилые, раненые и временно ослабевшие, освобождаемые
сообществом от биологической борьбы за выживание, получали
возможность экспериментирования и технологической специализации в
изготовлении орудий труда, в навыках приручения животных и
выхаживания детей. В дообщественной среде индивидуальная
экспериментально-поисковая деятельность такого рода не могла дать
непосредственных приспособительных эффектов. В
общественной — их обеспечивало коллективное опосредование и страхование
индивидуальных рисков. Около 40 тыс. лет тому назад
биологический отбор сменился социальным. Последний сформировал у
древних людей протоморальные инстинкты внутригрупповой
солидарности и альтруизма. Хомо сапиенс, выросший из досапиентного
палеоантропа, превратился в человека социального. Антропогенез
прекратился. Начался социогенез.
Демократия — организованная сложность
Системную сложность демократии высокой интенсивности
выявляют социогуманитарные технологии. Эту сложность нельзы было
увидеть сквозь искажающую призму механистических
представлений XVIII в. о полносвязанном общественном порядке. Органи-
цистские теории общественного равновесия, первично
разработанные в XIX в., выявили нелинейность социальных метасистем.
Изменения базового тезауруса понятийной картины мира за
несколько тысячелетий прошли через три этапа. На первом —
концептуально осмысливалась линейно организованная простота. Ее
исторические примеры — архаические, закрытые догосударственные
общества. Теоретической моделью линейно организованной простоты
является классическая механика. Социальной моделью —
«механистичные» общества, управляемые простым воспроизводством и
ретрансляцией технологий, обычаев, преданий, традиций, «пошлины и
старинш».
В мире интеллектуальном, так же, как в мире биологическом,
отсутствие жесткого детерминизма и внутренней полносвязанности —
характерный признак переходных периодов труднопредсказуемых
трансформаций. Концептуальное отражение нелинейных связей
внутри неорганизованной сложности вводит теоретическое сознание в
начале XX в. в мир релятивистской статистической физики.
Изменение базового тезауруса понятийной картины мира проходит
195
второй этап. Восприятие его на уровне обыденного сознания
отражено в шутливом студенческом фольклоре.
Был этот мир сплошною мглой окутан.
«Да будет свет!» — и вот явился Ньютон.
Но сатана не долго ждал реванша.
Пришел Эйнштейн, и стало все как раньше.
Основная научная парадигма техногенной цивилизации начала
XX в. сформировалась под решающим влиянием релятивистской
физики. На исходе века парадигмальный характер приобретают социо-
гуманитарные технологии. Задолго до заполнения цивилизационно-
го пространства, эти технологии стимулировали в конце XX в.
теоретический анализ неравновесных и необратимых состояний
социальных метасистем. Предметом данного анализа являлась
организованная сложность. На рубеже XX и XXI вв. наступил третий этап
изменений базового тезуруса понятийной картины мира.
В течение XX в. осуществился научный симбиоз релятивизма и
органицизма в изучении общественных метасистем. Он выявил их
структурно-функциональную неполносвязанность, непреодолимую
внутреннюю неравновесность и вероятностный характер.
Неустойчивость общественного порядка рассматривалась в контексте
неполного совпадения организаций и социумов. Эмпирически
устанавливалось: возрастание количества разнообразных организаций
повышает внутреннюю неравновесность общества и его внешнюю
системную устойчивость. В изучении вероятностных процессов
использовался концептуальный аппарат биологического направления
общей теории систем (разработанный Людвигом фон Берталанфи),
кибернетики Н. Винера, тектологии А. А. Богданова и теории
управления У Р. Эшби.
В конце XX в. широко распространились синергетические
представления о принципиальной неустойчивости стационарных (не
зависящих от времени) состояний нелинейных сверхсложных систем.
Обнаружилось, что самоорганизующиеся демократические общества
соответствуют синергетическим критериям открытости,
неравновесности, нелинейности и необратимости развития.
Как уже отмечалось, все сверхсложные нелинейные системы
(социальные — в том числе) характеризуются неизбежными флуктуа-
циями. Этим термином обозначаются случайные отклонения от
средних значений системных параметров. В зонах системной
неустойчивости эти флуктуации под воздействием положительных обратных
196
связей формируют точки бифуркаций. Критическое нарастание их
количества приводит к острым системным дисфункциям и кризисам
развития.
В такие периоды трудно предсказать, в каком направлении
пойдет процесс общественных изменений: к силовому восстановлению
порядка, всеобщему хаосу или к неустойчивой двухвекторной (дис-
сипативной) структуре. Политическим выражением последней
явилось, например, двоевластие Советов и Временного
правительства в марте-июле 1917 г. Возможные состояния политической
организации общества (несостоявшиеся варианты его системного
развития) направленно воздействовали в тот исторический период
на массовое поведение. Пример — популярный лозунг созыва
Учредительного собрания. Его использовали все российские
политические партии, включая большевиков, в течение марта-декабря
1917 г. В январе 1918 г. после разгона Учредительного собрания
количество невостребованных, но эволюционно перспективных
моделей политического развития страны резко уменьшилось.
Соответственно снизился уровень разнообразия и уменьшился
адаптационный потенциал политической системы, созданной
большевиками. В конечном счете, она обнаружила свою
принципиальную нереформируемость и не смогла адекватно ответить на вызовы
постиндустриального развития.
Проблема — спутница демократии
Сама проблематика философии истории побуждает к
общественным, а не только научным дискуссиям о коренных вопросах
человеческого бытия. Проблема — исконная спутница демократии. В
древнегреческих демократических полисах политико-юридический
статус проблемы (пробулеймы) обретал законопроект, вызвавший
разногласия среди граждан. Проблемность обнаруживалась не
только на агоре. Любое внешне устойчивое, но внутренне состязательное
сообщество живет в обстановке перманентной верификации
относительных истин и сакрализации абсолютных ценностей.
По определению демократично и состязательно научное
сообщество. Поэтому плюралистичны научные концепции философии
истории и монистичны религиозно-идеологические. Наиболее
проблематичны теории общественного развития. Сопоставим две
из них. Первая изложена в гегелевских «Лекциях по философии
197
истории». Вторая — в книге Иммануила Валлерстайна «Миро-
системный анализ».
Гегель исходит из базовой универсалии исторического прогресса.
Каждое общество проходит три фазы развития: родовую,
гражданскую и государственную. На государственной стадии снимается
противоречие между коллективом и личностью. Точкой отсчета
исторического прогресса, критерием его оценки и масштабом измерения
Гегель считает уровень самосознания индивидуальной свободы. Она
непротиворечиво воплощается в правовом государстве в качестве
познанной необходимости гражданского поведения.
Фактором линейности, предсказуемой направленности
социальной динамики является правовое государство. Однако само
государство в качестве сложной системы подвержено критическим
автоколебаниям, крайне болезненным для общества. Выход из кризисов
такого рода осуществляется также за общественный счет. История всех
революций свидетельствует о бесчисленном множестве человеческих
жизней, принесенных в жертву прогрессу и восстановленной
государственной регулярности. Гегелевская диалектика истории
разрешается в приоритете всеобщего перед частным, абсолютного — перед
относительным, государства — перед индивидом.
Валлерстайн полагает, что не каждое изменение человеческого
общества, не всякое событие, в нем происходящее, является
историческим. Тысячи лет общества существовали вне истории. Признак
историчности имеет только поступательное, прогрессивное
развитие. Этим атрибутом не обладал мир=империй. Способность к
саморазвитию — эволюционное преимущество мир=экономики. Его
островки периодически возникали и поглощались океаном мир=
империй.
Событийно насыщенный, но структурно неизменный, циклически
повторяющийся мир=империй монотонно длился пять с половиной
тысяч лет, до 1500 г. н. э. Около этого хронологического рубежа, в
эпоху великих географических открытий, путешествий Васко да Гама
и Колумба, произошел решающий прорыв циклической
монотонности и структурной неизменности общества. Мир=экономики
надежно овладел плацдармом Западной Европы. Западноевропейская
трансрегиональная цивилизация обрела свои краеугольные камни и
получила ориентирующий вектор социально-экономического
прогресса. История «потекла».
Продуктивные достижения городских анклавов, развившихся в
эпоху Позднего Средневековья, легли в основу западноевропейской
трансрегиональной цивилизации. Ее почти непрерывная экспансия
198
осуществляется в течение последних 500 лет. Нынешний ее этап
именуется глобализацией.
Фазовые переходы
Существование каждой цивилизации зависит от кумулятивного
приращения факторов ее продуктивности. Продуктивность, в свою
очередь, определяется двумя синергетически действующими
параметрами: скоростью и площадью обмена информацией, веществом и
энергией между социальными системами и их средой. Оба
параметра действуют либо вместе, либо порознь. Они оказывают
решающее воздействие на фазовые переходы систем. Эти переходы,
именуемые кризисами, характеризуются возрастанием уровня
динамического (детерминированного) хаоса в ядерно-сферных структурах
общества.
Каждому фазовому переходу предшествует исчерпание одного
главного системного параметра. Если исчерпаны оба, происходит не
кризис, а катастрофа. В ходе кризиса исчерпание одного параметра
компенсируется возрастанием другого: уменьшение скорости
системного обмена сопровождается увеличением площади обмена.
Открытые нелинейные, самоорганизующиеся, устойчиво
неравновесные социальные системы подчиняются принципу бинарной
оппозиции системного ядра и периферийных сфер. Структурные
элементы ядра (формируемого преимущественно государством)
ориентированы вертикально и субординационно-иерархически. Элементы
периферийных сфер (хозяйствующих субъектов, домохозяйств,
общественных ассоциаций, институтов гражданского общества) —
горизонтально и координационно. Скорость системного обмена
увеличивается в зависимости от степени функциональной
дифференциации, рационализации, стратегической согласованности элементов
ядра. Результатом повышенной скорости ядерного обмена является
мобилизационная модель общественного развития. Ей адекватно
централизованное государство. Однако сверхцентрализация ядерной
структуры снижает общую адаптивность всей метасистемы. От этих
органических дисфункций общество предохраняется расширением
зоны собственной обменной активности.
Площадь системного обмена пропорциональна количеству
однородных, независимых друг от друга элементов сферных участков
социальных систем. Это органы местного самоуправления, экономиче-
199
ски активные граждане, общественные ассоциации, малые
предприятия, самоорганизующиеся творческие коллективы, группы
социальных инициатив, «невидимые колледжи» в науке и т. п.
Результатом увеличения площади обмена является выбор
инновационной модели общественного развития. Развивается рыночная
экономика, наиболее эффективно соединяющая рассеянные ресурсы с
диффузной информацией. Укрепляется частная собственность,
усиливающая индивидуальную трудовую мотивацию. Формируется
критическая масса инновационных групп населения и как
следствие — политическая демократия.
Со времен древних шумеров до конца XX в. динамическое
равновесие социальных систем обеспечивалось, главным образом,
рационально действующими государствами. Между тем, в связи с
общественным разделением труда от века к веку нарастала
индивидуализация общественных связей.
Индивидуум (лат. «неделимый») — санкционированная
правовым государством человеческая метароль, возникшая сравнительно
недавно: в начале индустриальной эпохи. Представляя собой
основной фактор принципиально неустранимой внутренней
неравновесности и системной динамики общественной жизни, эта метароль
приобретает решающее значение в эпоху постиндустриальную,
информационную. Креативность индивидуума выдвигается в XXI в. на
передний план адаптирующей деятельности человечества.
Ядром философии истории Нового времени являлась концепция
линейного прогресса, сформированная на этапе первичной
индустриализации. Прогресс сопровождается здесь возрастанием внешней
устойчивости и упрощением социальных систем. Предельным
выражением упрощенной внешней устойчивости предстали тоталитарные
режимы XX в.: тишина внутри и грозная неприступность снаружи.
В жертву «монолитному единству» приносилась адаптивность
социальных систем. «Шум и ярость» масс подпитывались энергетикой
репрессивных государств.
Концепция линейного прогресса не адекватна
постиндустриальным реальностям социогуманитарного XXI в., поскольку
пренебрегает конструктивной ролью творческих дисфункций общества.
Синергетическое понимание эволюции сверхсложных
самоорганизующихся систем (оперирующее такими базовыми понятиями, как
«неравновесность», «нелинейность», «бифуркация», «диссипатив-
ные структуры») позволяет преодолеть односторонность
эволюционизма XVIII-XIX вв. Синергетика развивает полузабытое
натурфилософское представление о Космосе, спонтанно и однократно рож-
200
дающемся из Хаоса. С существенной новацией: гибкий
организационный порядок непрерывно порождается
индивидуальным творческим беспорядком: статистические информационные
шумы системно улавливаются, преобразуясь в динамические
сигналы адаптационной обратной связи.
1 Устойчивость неравновесных систем
«Зигзаги развития» всех цивилизаций, как вехами, обозначены
взаимосвязанными кризисами. Наиболее тревожный из
современных — экологический. Теоретически предполагается, что в условиях
самовоспроизводства земной биосферы человечество может
потреблять не более одного процента чистой биоты.
А реальное мировое потребление биоты на порядок больше.
Как это возможно? Биосфера испытывает воздействие техногенных
цивилизаций, дополняясь более сложной и внешне устойчивой ан-
тропосферой. Это не отменяет самих тенденций техногенного
исчерпания человечеством природных ресурсов и критического
нарушения глобального экологического равновесия. Все количественные
расчеты давно сделаны футурологией Римского клуба и
разработчиками ооновской концепции устойчивого развития1.
1 Относительно грядущего в обозримом будущем глобального
потепления климата, которое поставит на грань выживания все человечество,
существует иная точка зрения, разделяемая частью научного сообщества.
Северному полушарию Земли грозит не потепление, а резкое похолодание
вследствие выключения «печки Европы» — Гольфстрима. Уменьшается
разница в плотности теплого верхнего океанического течения (Гольфстрима) и
«подныривающего» под него холодного океанического течения
(Лабрадорского), «выныривающего» в районе Канарских островов, у берегов
Испании. Когда плотность двух встречных океанических течений
сравняется, Лабрадорское — запрет Гольфстрим и перенаправит его по малому кругу
между Испанией и берегами Центральной Америки. Западная Европа,
Англия, Северная Европа лишатся подогрева и попадут в объятия
постоянных столярных холодов. В Англии, например, средняя январская температура
е нынешних плюс 4 градусов по Цельсию опустится до минус 40 градусов, это
слишком холодно даже для северных оленей. Другая точка зрения на
глобальное потепление фиксирует незначительный вес антропогенного
фактора: лишь 5-6 % техногенных выбросов участвуют в общей эмиссии
углекислого газа, попадающего в земную атмосферу. Остальной объем эмиссии — это
результат вулканической активности среднеокеанического разлома земной
коры. Вызывает сомнения и концепция глобального «парникового эффекта»:
он проявляется лишь в закрытых системах. Атмосфера — открытая система.
Она сбрасывает избыточное тепло в тропосферу.
201
Антроиосфера продолжает наращивать внутреннюю
неравновесность и опасно балансировать на грани внешней устойчивости.
Деградация среды человеческого обитания, накопленная
техногенной цивилизацией, грозит стать необратимой. Реализация Киотского
протокола об ограничении атмосферных выбросов двуокиси
углерода — один из путей преодоления нарастающего экологического
кризиса.
Существенную роль в преодолении глобального
энергетического кризиса могут сыграть технологии производства энергии из
возобновляемых источников (ВИЭ), энергосбережения и снижения
удельной энергозатратности национальных ВВП. В этом деле
лидируют государства Европейского Союза. С 2009 г. они ввели
запрет на использование в еврозоне энергорасточительных ламп
накаливания. Приемлемой альтернативой объявлено массовое
использование газоразрядных и твердотельных (светодиодных)
осветительных приборов. Один миллион 60-ваттных
светодиодных ламп экономит в течение года 300 млн киловатт
электроэнергии. (В электрическом балансе России на освещение тратятся 24 %
общего электропотенциала.) В наиболее развитых странах
экономически поощряется производство электроэнергии из
возобновляемых источников. Так, например, «закачка ВИЭ в розетку»
национальных электрических сетей стран Евросоюза (в частности,
из энергоблоков фотовольтаики, преобразующей энергию
солнечного излучения) финансово стимулируется государственной
оплатой производителю альтернативной электроэнергии каждого
киловатта, «закачанного в розетку», в несколько раз дороже среднего
странового тарифа.
Энергетический кризис и ресурсный голод поджидают
человечество за ближайшим поворотом его истории. 29 стран — участниц
Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР),
составляющие так называемый «золотой миллиард», опираясь на
свое технологическое могущество, предаются вакханалии
потребления. Житель США потребляет энергии в 150 раз больше угандийца
или кенийца. Если бы все человечество перешло на потребительские
стандарты Германии, не хватило бы ресурсов 6 планет Земля.
Реализация ооновской программы устойчивого развития,
ограничивающей рост нерациональных потребностей, представляет собой
один из вариантов упреждающего блокирования очередной угрозы
апокалипсиса. Выход видится на путях создания мировой
энергосберегающей и ресурсно менее затратной постиндустриальной
информационной экономики.
202
Человечеству грозит и опасность глобального финансового
коллапса. Она заложена в исходной неустойчивости международного
фиктивного капитала: сегодня он стремительно теряет товарное
обеспечение. Если объем и скорость современного мирового
оборота реальных товаров принять за единицу, то соответствующие
показатели для валюты составят примерно 10 единиц, а для фондовых
ценностей и производных ценных бумаг (деривативов) они
превысят уже 100 единиц.
Несмотря на условный и в значительной мере виртуальный
характер мировой финансовой системы, последствия ее кризисных
автоколебаний могут быть вполне реальными и разрушительными для
материального сектора. Потому что финансы — это в конечном счете
не деньги, а общественные отношения. Мировой экономический
кризис 1929-1933 гг., потрясший западную цивилизацию, начался с
краха фондового рынка. А реальный сектор «схлопнулся» и
выбросил на улицу десятки миллионов безработных уже потом, то есть
вследствие малопонятных для масс падений биржевых индексов и
утраты банками денежной ликвидности.
а •»
Ж-
Глава 4
ДЕМОКРАТИЯ, УГРОЖАЮЩАЯ СВОБОДЕ
От авторитета — к автократии
Древняя дополисная демократия является историческим мифом.
Демократия как форма государственного устройства вызревала в
течение социоприродного кризиса VIII-VI вв. до н. э., потрясшего
семейно-родовой уклад аграрного населения Эллады. Кризис
завершился городской революцией в конце VI в. до н. э. В Афинах это
произошло в 590 г. до н. э. и получило название солоновских реформ.
С них начинается эпоха античных полисных демократий. Последние
складывались на базе мелкой частной собственности, интенсивного
земледелия, массового кораблестроения, торгово-ремесленных
городских предприятий. Демократии возникают при непременном
условии формирования критической массы инновационных групп
городского и сельского населения страны. Становление первых
демократий происходило на историческом фоне кризиса родовых прото-
государств и смены их территориально-общинными государствами.
На протагосударственный системный кризис наложился
вышеупомянутый социоприродный: оголение легких известковых почв
Эллады и резкое сокращение кормовой базы перегонного
скотоводства. На этот внешний вызов афинское и схожие с ним общества
ответили расширением площади информационно-ресурсного
системного обмена с внешней средой обитания этноса: созданием множества
мелкоконтурных хозяйств. Политическим выражением
расширенного круга субъектов хозяйствования явилось увеличение числа
граждан, наделенных пассивным и активным избирательным правом.
Избирательное право родовых протогосударств не было
всеобщим. Только воины уч*аствовали в выборах военного вождя. Поэтому
первой формой полисной демократии стала «полития воинов»
(Аристотель). Новые непрофессиональные воины-граждане
составляли народную милицию, мобилизуемую в случае необходимости.
Воины-граждане вооружались в соответствии с размером их
имущественного ценза. «Голосующее войско» экономически активных
граждан стало силовой опорой полисной демократии. Политическая
демократия вооруженных мелких собственников Эллады
изначально противостояла родовой аристократии, организованной
дружинным образом. Историческими аналогами дополисных родовых про-
204
тогосударств являются варварские аристомонархии европейского
Раннего Средневековья. Их генезис проясняет многое в античной
истории борьбы родовой аристократии с территориально-общинной
демократией.
Вооруженные силы родовых аристократов — крупных
землевладельцев — были по преимуществу конными. Но они не могли быть
многочисленными, в связи с сокращением площади пастбищ.
Демократическое войско территориальных общин состояло из
тяжеловооруженных пеших воинов — гоплитов, организованных
однородным, строевым образом. Их вели в бой выборные стратеги. Пеший
военный строй граждан (таксис) был отражением полисной
демократии: организованной сложности, «единства разных» (Аристотель).
Античные полисы отказались от толпообразных,
неструктурированных народных ополчений родовых протогосударств. Ополчения вели
в бой наследственные родовладыки, окруженные профессиональным
воинством.
Европа вернулась к народным ополчениям в Раннем Средневековье,
в эпоху формирования варварских королевств. Будущие короли,
военные вожди германских племен, сокрушивших римскую имперскую
государственность, быстро превращались в средневековый аналог до-
полисных базилевсов. Семейно-дружинная модель политической
самоорганизации профессионального военного слоя германских
племен возродила архетип дополисного родового протогосударства.
Военно-податные классы территориально-общинных республик,
основанные на имущественном цензе, сменились в свое время
однородной массой имперских подданных, уравненных в своем
постгражданском (неполитическом) статусе. Варвары реанимировали
сословное (дореспубликанское) ранжирование населения, привязанное к
роду занятий: воины, священники, продуктивные слои
(преимущественно крестьяне). Утвердилась трехчастная схема общества:
conditio, ordo, états.
Власть базилевса, военного вождя аристократической дружины,
отправлялась авторитарно. Периодической смены базилевсов
античность не знала. Власть военного вождя дружинно организованной
аристократии была пожизненной. Порядок профессионального
войска строился иерархически. И если дружина превращалась в государ-
ствообразующий слой, функциональный авторитаризм военного
вождя закреплялся структурно, то есть — пожизненной должностью
главы государства. Толпообразные народные ополчения варварских
племен, захвативших в V в. Западную Европу, не представляли собой
государствообразующий слой. Эта системная роль изначально при-
205
надлежала профессиональным дружинам, построенным жестко
иерархически. Поэтому недолговечной оказывалась уравнительная
«военная демократия» основной массы захватчиков и
новопоселенцев, разрушивших античную государственность.
Народные ополчения (этническая милитаризация)
способствовали «монархизации» варварских орд, в течение нескольких веков
наседавших на центры древних цивилизаций. Эти центры
превосходили структурной сложностью примитивно организованные
военные толпы агрессоров. Но и последние не обнаруживали в своей
среде демократического равенства граждан-воинов. Это сказалось
на политическом облике варварских королевств средневековой
Европы.
Несколько столетий подряд территорию Римской империи
последовательно накрывали волны нашествий германских племен. К V в.
Западная Европа представляла собой неустойчивый конгломерат
монархических государств. Ни один из варварских вождей, королей и
конунгов не оставил в истории ни малейших следов приверженности
к регулярным демократическим процедурам принятия
государственных решений. «Военная демократия» препятствовала становлению
устойчивых государств.
Социальное неравенство
как основа порядка
Политическое неравенство сословий в варварских королевствах
служило основанием государственного порядка, иерархического по
своей природе. К историческому моменту своего появления в
Западной Европе германские племена находились на стадии
разложения родовой социальности. В далеком прошлом остались и
эгалитарные обычаи распределения внутри микросоциумов. При выходе
за их пределы начинается генезис социального неравенства. Но и на
стадии семейной фрагментации родового пространства сохранился
фундаментальный принцип эквивалентного обмена=дара. Он
породил систему упорядоченных коммуникаций.
Обмен предметами обихода и пищей способствовал в древности
укреплению социальных связей членов больших семей. Обмен
словами и знаками-символами устанавливал нормы общения более
широкого внутриродового общения. На его основе возникала ступенчатая
организация ранговых обществ.
206
Их первая ступень — возвратный обмен внутри малых групп. Его
коммуникативный смысл этнологи передают термином «реципрок-
ность» {лат. «reciproco» — возвращать). Каждый член малой группы
вносил в общий котел сколько мог, а брал столько, на сколько мог
претендовать. Разница между отданным и полученным измерялась
по оценочной шкале группового престижа. Отдавший больше
полученного компенсировался невещественными знаками общего
уважения. Очень рано престиж и связанный с ним авторитет превратились
в вершину социальных ценностей.
Возвратный обмен, в конечном счете, разрушил систему
уравнительного потребления. Охотник, принесший добычу, распределял ее
сам, руководствуясь индивидуальными предпочтениями. Но
главным образом не это разрушало древнюю систему распределения.
Присваивающее хозяйство в гораздо большей степени, нежели
хозяйство производящее, зависит от неравномерности сосредоточений
природных ресурсов человеческого жизнеобеспечения. В этих
нестабильных условиях расшатывался социальный алгоритм
уравнительного распределения.
Система устойчивых социальных связей усложнялась и
совершенствовалась посредством перехода от первобытного эгалитаризма
к меритократии, системе общего признания индивидуальных заслуг.
Отсюда один шаг к социальному неравенству. Последнее стало
возможным лишь на этапе и в условиях производства избыточного
продукта. Его значительный рост обусловила неолитическая революция,
когда на смену тасующимся группам собирателей и охотников
пришли устойчивые сообщества земледельцев и скотоводов. Возникли
оседлые поселения. Хозяйство стало преимущественно не
присваивающим, а производящим.
В этот период собственно человеческой истории лидер
сообщества уже не избирался. Им автоматически становился отец=патриарх.
Кстати, современными научными исследованиями не обнаружены
достоверные свидетельства существования матриархата. В
некоторых сообществах родственные связи долгое время определялись по
материнской линии. Матрилинейность родства ошибочно
отождествлять с матриархатом. Патриархальные общества не были ни
древнее, ни примитивнее матрилинейных.
Неравенство в его первоначальном виде — половозрастное. Затем
оно сменяется ранговым. Крайне ограниченный объем позиций
высокого статуса количественно уступает массе позиций среднего ранга.
А число позиций низшего ранга (чужаков=аутсайдеров) вообще не
ограничивается.
207
Лидер семейно-родовой общности неизменно авторитарен. В
древних эгалитарных структурах к «демократии голосования» (один
мужчина — один голос) обращались эпизодически. К голосованию
прибегали лишь для принятия решения по экстраординарным и
общезначимым проблемам критической важности. Гораздо большее
значение имел текущий учет индивидуальных заслуг. В устойчивом
некровнородственном сообществе меритократия занимала верхние
уровни догосударственного управления. Естественное «весовое»
неравенство индивидуальных заслуг порождало и закрепляло
социальную иерархию.
В иерархической семейно-родовой общности «демократии»
стало еще меньше. Основные общественно значимые решения
хозяйственно обусловливались. Чаще всего они касались
использования овеществленных результатов коллективного труда. При этом
начальником=распорядителем родового имущества выступает
лидер=патриарх, а хозяином=собственником остается сообщество в
целом.
Потребление по-прежнему коллективно. Но и производство все
более утрачивает индивидуальный характер при переходе от
собирательства и охоты к земледелию и скотоводству. Производство
обретает черты непосредственно общественного процесса, уравниваясь в
этом отношении с потреблением. В догосударственных родовых
сообществах отсутствует социальный антагонизм как субъективное
отражение объективного противоречия между общественным
характером производства и частным способом присвоения его продуктов.
Присвоение, совпадающее с потреблением, остается коллективным.
Переход от эгалитарного общества к ранговому сопровождается
заменой возвратного обмена централизованной редистрибуцией, то
есть — вторичным внепроизводственным перераспределением
условно избыточного продукта. Редистрибуция представляет собой
системообразующее условие социализации не только рангового, но и всех
последующих сообществ. В чьих руках изначально находилось
перераспределение избыточного продукта? Без сомнения, в руках лидера.
Именно эта ролевая функция снабдила его рычагами не только
влияния, но и материального господства над сородичами. При этом
сохранялись реликты возвратного обмена. Он принял форму престижных
раздач и получения взамен манифестаций влияния и авторитета.
Дарение возвышало, принятие дара принижало. Уклонение от
дара не считалось возможным. Закон возвратности обмена-дара
требовал от принявших дар вернуть его социальный эквивалент, при
отсутствии вещественного. Сделать возврат в материальной форме
208
могло меньшинство. Дар в большинстве случаев возвращался к
дарителю в виде социального престижа, авторитета и клиентской
зависимости одаряемых. Укреплялась социальная база общинной
верхушки. Имущественное неравенство определяло ранговые позиции
руководства общины.
На начальных этапах развития античных полисов отправление
функций политического администрирования сопровождались не
доходами, а расходами администраторов. Избранные народом
магистраты были обязаны подтверждать свой высокий общественный
статус престижными раздачами.
Последнее оказывалось возможным лишь при отсутствии острого
дефицита первичных ресурсов, удовлетворяющих витальные
потребности. На ранних, догосударственных стадиях существования
малолюдных сообществ земли и угодий хватало на всех. Они
распределялись частично по жребию, частично — в соответствии с рангом
получателя. На государственном этапе развития общества владение и
власть соединяются причинно-следственной связью. В античных
республиках эта связь публична.
Чтобы раздавать, надо иметь. Чтобы иметь, надо властвовать. Гай
Юлий Цезарь ради власти растратил (в должности квестора) на
хлебные раздачи и развлечения римского пролетариата почти все свое
родовое имущество. Он оказался обремененным долгами настолько, что
кредиторы не выпускали его из Рима в Галлию (провинцию,
назначенную ему в проконсульство), пока римский богач Марк Лициний
Красе не поручился за треть цезаревых долгов.
На закате Римской республики и Афинского полиса хлебные
раздачи превратились в популистское средство политической
мобилизации неимущего и праздного городского пролетариата. Ставший
популярным в предимперский период Римской республики, лозунг
«хлеба и зрелищ» обозначал нарастающий системный сбой в
институтах непосредственной демократии.
Престижные раздачи в догосударственных сообществах являлись
попутным средством жизнеобеспечения трудящегося населения.
Иное было бы экономически не возможным. Главный предмет
общественного распределения тогда заключался не в готовых плодах, а в
орудиях их производства, «не в рыбе, а в удочках».
В какой-то момент лидерство институционализируется
настолько, что становится властью. Что это меняет в коммуникационном
отношении? Согласно классической формуле Макса Вебера, власть —
это возможность осуществлять свою волю вопреки сопротивлению
тех, кого это затрагивает, либо — при их согласии. В первом случае
209
применяются инструменты материального господства, во втором —
мобилизуются знаковые ресурсы влияния, престижа и авторитета
общественного лидера.
«Мужи» и «мужики»
Став систематическим, регулярно подкрепляемое престижем
межиндивидуальное влияние трансформируется в коллективно
признаваемый авторитет. Систематическое влияние соотносится с
устойчивым авторитетом, как функция — с органом, динамика — со статикой.
Обе формы надличностной коммуникации способствуют переходу от
эгалитарных сообществ к ранговым. Эквивалентный обмен,
централизованное перераспределение избыточного продукта и принцип ме-
ритократии — основа всех ранговых сообществ.
«Весовое» неравенство заслуг членов некровнородственного
коллектива вносит необходимую дозу элементного разнообразия в
систему их общественных связей. Неравенство заслуг социально
закрепляется в престиже, влиянии, авторитете активного меньшинства.
На основе внутригрупповой ранговой и ролевой дифференциации
родовое сообщество реструктурируется в более устойчивую
территориально-родовую общину.
Общественное разделение труда (исторически первое — между
мужчинами и женщинами) само по себе не приводит к появлению
надобщинных структур. Не в производственной, а в
распределительной сфере рождается общественное неравенство. Более высокий ранг
получают не самые успешные работники, а наиболее умелые и
сильные «дистрибьюторы». Последние объединяются вокруг группового
лидера, в собственных интересах способствуя укреплению его
влияния, престижа и авторитета.
Но почему авторитетный лидер не опирается непосредственно на
работников? Потому что они, численно преобладая, уступают в
концентрированной силе распределяющему меньшинству. Разделение и
специализация производительного труда неизбежно препятствуют
«строевой» консолидации работников. А внеэкономическое
присвоение результатов их труда, наоборот, способствует структурной
упорядоченности участников этого нетрудового процесса.
Функция рождает орган. Древнейшие формы элементной
унификации и системной регулярности, обозначаемые аристотелевским
термином «таксис», имеют отчетливый военно-фискальный характер.
210
Производительная деятельность — сфера вероятностного. Она
основана на дифференцированном соединении живого труда с
трудом овеществленным, количественно неопределенных,
рассредоточенных ресурсов — с неисчисляемой, рассеянной информацией.
Регулярное внеэкономическое присвоение, напротив, область
жесткого линейного детерминизма, царство числа и меры. Все дани-
подати, налоги-сборы основаны на количественных, обезличенных
процедурах переписи, исчисления, «таксирования».
Персонификациями силового государственного перераспределения являлись
писцы и сборщики податей, численники и баскаки, фискалы и
мытари.
Тысячелетия человеческой истории наполнены непрестанной
борьбой «мужей» и «мужиков», людей вооруженных и безоружных,
классов присваивающих и производящих. Последние (независимо от
уровня их адаптивности) при этом неизменно считаются
неблагородными, слабыми, худшими, «молодшими». А первые — не занятые
производительной деятельностью — благородными,
могущественными, «лучшими», старейшими.
С появлением государств статусное неравенство
производительных и присваивающих групп закрепляется и вооруженные люди
препятствуют вооружению остальных. В эпоху неолита это делать было
очень непросто. Широко распространенные орудия труда охотников
могли использоваться и реально использовались в качестве оружия.
В неолитические времена каждый взрослый мужчина мог
обзавестись личным оружием, не прибегая к услугам первобытного «военно-
промышленного комплекса». Подобно пушкинскому князю Гвидону:
«Ломит он у дуба сук и в тугой сгибает лук» (А. С. Пушкин. Сказка о
царе Салтане).
В эпоху бронзы военное дело становится профессиональным
занятием немногих. Но на заре человеческой истории, когда средства
физического насилия были примитивными, то есть практически
общедоступными, почему в одних руках сосредоточилось оружие, а в
других — орудия труда? Связывается ли умение пользоваться тем
или иным с уровнем сапиентации древних людей?
Производительная деятельность неоантропов включала
специфически человеческие, именно — речевые и моделирующие
способности. Орудия труда во внешнем облике Homo sapiens
морфологически выглядели продолжением человеческой руки. Но
управлялись они премоторным отделом головного мозга. «Рука хоть и
эволюционировала морфологически на пути от обезьяны к
человеку, все же не слишком сильно и уж совсем ограниченно — от палео-
211
антропа к неоантропу... Премоторный отдел, где находится
проекция руки, непосредственно примыкает к префронтальному,
управляющему выполнением всех сложных программ действий и тех
речевых инструкций, которым подчинено поведение человека н
труде»1. Нейронное возбуждение премоторного отдела головного
мозга в ходе трудовых операций иррадиирует на соседний отдел -
префронтальный — и сопровождается созданием простейших
предикативных конструкций редуцированной внутренней речи Homo
sapiens. Между трудовыми операциями ведущей руки и речевой
деятельностью устанавливаются устойчивые ассоциативные связи.
Они закрепляются физиологически.
Трудовая деятельность напрямую связана с речью,
информационно обеспечиваясь моделирующей работой мозга. Простейшему
трудовому алгоритму предшествует создание идеального, мысленного
(то есть — сформированного внутренней речью) образа потребност-
ного состояния предмета труда.
Напротив, оружие являлось для древнего человека искусственной
заменой его слабо развитых зубов. Боестолкновения неоантропов
включали иррефлективное сознание, внешнюю моторику некоторых
базовых и плохо контролируемых эмоций (страха, гнева, ярости).
Энергетическим трансформатором последних являлась
ретикулярная формация головного мозга. Физическое насилие сопровождалось
минимальным участием крайнего кортекса. Оно развивалось вне
речевых средств социальной коммуникации. Возникающее в ходе
последней идеальное моделирование потребного будущего не
связывалось с «работой» зубов. Оружием не соединялся пассивный
материальный ресурс с активно структурирующей информацией, не
создавался новый объект.
В фундаментальной работе «О начале человеческой истории»
Б. Ф. Поршнев исследовал физиологические механизмы знакового,
то есть речевого моделирования культурной человеческой среды. Он
показал, что языковой принцип бинарной оппозиции является
универсальным для всякой созидательной, культурной деятельности
Homo sapiens. Поршнев установил доминирующую роль в сапиента-
ции гоминид физиологических процессов избирательного
нейронного торможения. В операциях неоантропа с оружием преобладали
слабо дифференцированные, примитивные реакции. Например —
ударно-хватательные рефлексы. Нервная энергия тратилась, в основ-
1 Поршнев Б. Ф. О начале человеческой истории. М., 1974. С. 181-182.
212
ном, на процессы генерализованного, иррадиирующего возбуждения.
В орудийной деятельности древнего человека доминировали более
сложные реакции толкания, хватания, удерживания, притягивания,
управления и т. п.
Дифференцированность, избирательность, прицельная точность
продуктивных реакций предполагает способность не реагировать в
большинстве случаев из статистически возможных. Поле нейронного
возбуждения сжимается валом управляемого торможения. В
трудовой деятельности нервная энергия преимущественно расходуется на
тормозные процессы. В общем виде, культура — это система
продуктивных запретов. Их интериоризация в процессе становления
человека — мотор социогенеза. Чем разнообразнее и прочнее культурные
навыки социализированного человека, тем выше его способность к
центральному автоторможению нейронного возбуждения.
f
Центральное торможение
«Но и в то время, когда возбуждение концентрируется в одном
месте центральной нервной системы, торможение распространяется
в другом. Это и есть собственно центральное торможение... Такое ре-
ципрокное торможение происходит не на периферии, но в нервных
центрах, в сером веществе центральной нервной системы»1.
Общесистемные принципы управления позволяют построить на
базе физиологии высшей нервной деятельности человека аналоговую
модель социометрического уровня. Концептуально разработанная
Берталанфи для изучения сложных биологических систем,
синергетика сверхсложных социальных метасистем пользуется базовыми
понятиями физиологии высшей нервной деятельности (ВНД)
человека. Перевозбужденная избыточными инновациями, нервная ткань
общества периодически утрачивает свойство проводимости сигналов
прямой и обратной связи с центрами управления. В свою очередь,
управляющие центры в переходном состоянии инновационной
перегрузки теряют способность суммирования и анализа возбуждения,
приходящего от рецепторной периферии аппарата управления. Это
стойкое неколебательное состояние именуется в физиологии ВНД
парабиозом. Управляющей доминанте «неминуемо грозит гибель от
притока дальнейших возбуждений, а так как она сама их привлекает,
Поршнев Б. Ф. О начале человеческой истории. С. 219.
213
значит, ей «предопределено» самозатормозиться — она сама носит в
себе свой конец»1.
От парабиотического состояния управляющую доминанту ВНД
человека предохраняет параллельно возникающая тормозная
доминанта, которая замыкает на себя избыточное нейронное возбуждение.
Так функционирует высшая нервная система социализированного
человека. Общественным аналогом управляющей (положительной)
доминанты ВНД является центральная политическая власть. Системную
роль отрицательной доминанты, то есть парабиотического центра
суммирования периферийного возбуждения, исполняет легальная
политическая оппозиция. «Улица молчит, когда говорит Дума».
«Этот фокус торможения, или тормозная доминанта, оттягивая на
себя весь огромный излишек возбуждения, охраняет адекватную,
положительную доминанту от перевозбуждения и тем самым от
перехода в заторможенное состояние, то есть от рокового превращения в
свою противоположность, которая его подстерегает... Иначе
доминанта, если бы она была в единственном числе, сама задавила бы это
необходимое организму действие (доминирования. — М. М.)»2.
Необходимость положительной доминанты причинно обусловлена
задачами сохранения сверхсложных, нелинейных,
самоорганизующихся систем. Необходимость отрицательной доминанты
детерминирована задачами изменения этих систем. Жизнеспособность
демократий обеспечивается бинарной оппозицией положительной и
отрицательной доминант.
Лидерство. Господство. Власть
...Единого не составляем тела.
Та власть, что нас на части раздробила,
Она одна и связывает нас.
Исчезни власть — и тело распадется.
А. К. Толстой.
Смерть Иоанна Грозного
В самом фундаменте человеческой культуры лежат запреты и
ограничения, блокирующие асоциальную, животную по
происхождению, избыточную активность индивидуально-группового присвое-
1 Поршнев Б. Ф. О начале человеческой истории. С. 236.
2 Там же. С. 247.
214
ния. Физиологической первоосновой социализации человека
является искусственные реакции управляемого торможения. Его энергия
на первых этапах социогенеза преимущественно тратится на
регулирование процесса присвоения результатов коллективной
производственной деятельности.
Объектом внепроизводственного присвоения чаще всего
выступает избыточный продукт. Его регулярное производство в достаточных
количествах усиливает интеграционный импульс для формирования
надобщинных структур вооруженных людей, разрушающих внутри-
групповые солидарность и альтруизм. Общественная интеграция
идет на фоне острого соперничества лидеров конкурирующих
микросоциумов.
Ускоренному появлению надобщинных структур и протогосу-
дарств способствует комплекс необходимых для этого условий:
оптимальная экологическая среда, уровень общественного производства,
достаточный для содержания непроизводительного надобщинного
слоя, и демографический оптимум, связанный с определенной
плотностью населения и его половозрастным составом. Все эти условия
возникали нечасто и не везде.
Удобряемые регулярными и предсказуемыми разливами, долины
великих рек Месопотамии, расположенных в теплом и мягком
климате, обеспечивали уже в IV тыс. до н. э. экологический оптимум.
Оседлость земледельческих этносов способствовала репродуктивной
активности и возрастанию плотности населения. Совершенствование
орудий труда и технологии их применения обеспечивало
гарантированный минимум избыточного продукта.
На этой стадии развития возрастает редистрибутивная роль
общинных лидеров. И с неизбежностью наступает момент, когда
силовая составляющая в деятельности наиболее успешного
«дистрибьютора» выходит на первый план. Лидер-победитель окружает себя
профессиональными воинами, помогающими ему закрепить за собой
функции централизованного перераспределения. Соединившись с
материальным господством, авторитет превращается во власть, пока
еще не наследственную и не сакрализованную.
На ранней стадии формирования протогосударств люди не знали
иной процедуры замещения должности верховного вождя, кроме
безальтернативных выборов. Древнегреческое «архе» (пожизненное
господство) старейшин обеспечивалось несостязательно: солидарными
усилиями всего рода. «Кратос» (власть) сменяемых магистратов
предполагала обязательное межиндивидуальное соперничество пре-
215
тендентов, при арбитраже полноправных членов избирательного
корпуса.
Выборность и сменяемость государственных должностных лиц
представляли в античности единственные способы контроля со
стороны подвластных за деятельностью властвующих. Регулярных
механизмов, препятствующих превращению общественного авторитета
в государственную автократию, в дополисный период человеческой
истории не существовало. Созданию таких механизмов
препятствовали группы вооруженных людей. Они возникали задолго до
появления первых протогосударств.
В эпоху перехода от неолита к веку бронзы неолитические
коллективы выделяют из своего состава семейно-родовую верхушку.
Рядом с ней формируются особые группы профессиональных воинов-
дружинников, овладевших бронзовым оружием. Дружина находится
в состоянии мобилизационной готовности в любой момент вести за
собой остальных соплеменников, способных пользоваться более
примитивным каменным оружием.
Однако самой влиятельной прослойкой первых родовых
протогосударств были не старейшины и не воины, а жрецы. Корпоративно
наиболее обособленные, жрецы выступали в качестве
профессиональных хранителей эзотерического знания. В накоплении и
сопоставлении отрывочных сведений о разнопорядковых,
разновременных и пространственно не объединенных событиях постигались
реальные причинно-следственные связи. Внутригрупповые социальные
инстинкты и внешние поведенческие стереотипы микросоциумов
утрачивали свою ориентирующую роль при выходе человека в
вероятностный мир более широких, межгрупповых отношений. Прогноз-
пророчество становился социально востребованным.
Предсказаниями туманного будущего пронизана вся древняя
мифология — первая система обобщенного знания. Суеверный страх и
поклонение вызывала корпорация людей, ведающих прошлое и
способных экстраполировать на будущее его причинно-следственную
обусловленность. В ситуации постоянного вопрошания находились
люди древних цивилизаций. Например, античные греки и римляне не
начинали ни одного сколь-нибудь значимого дела без обращения к
оракулам, авгурам и жрецам.
Прогностическая функция постепенно утрачивала
корпоративный характер и этатизировалась. При этом она оставалась
привилегией наиболее организованной части гражданской общины
античного полиса. В Римской республике правом на государственные
гадания (ауспиции) обладали только старинные римские роды (патри-
216
ции)- Результаты плебейских ауспиций не считались достоверными.
Магистраты на них не ориентировались.
Главами родовых протогосударств, как правило, являлись вожди-
первосвященники. Формирование ранних религий сопровождалось
сакрализацией личностей и должностей вождей-первосвященников.
На определенном этапе общественной эволюции сакральный вождь
превращается в объединяющий символ социального единства и
родовой самоидентификации. Власть вождя институционализируется и
деперсонализируется. С этого момента можно считать законченным
процесс формирования родового протогосударства.
Следует выделить основные черты и функции этой новой надоб-
щинной структуры.
Консолидирующие протогосударственный слой, иерархические
отношения генеалогического родства внутри управляющей родовой
верхушки вытесняют на второй план древние нормы внутригруппо-
вой солидарности, равенства и альтруизма.
Во главе управляющей структуры оказывается сакрализованный
правитель. Лидерские функции — военная, интегрирующая
(религиозно-мифологическая) и медиативная (судебно-посредническая) —
формируют публичный имидж любого носителя этих функций уже
независимо от его индивидуальных характеристик.
Организация коллективного жизнеобеспечения, бывшая
основной в деятельности группового лидера, в протогосударстве отходит
на второй план. На первый план выходит сбор дани и контроль за
ходом принудительных работ.
Мифологизированные герои-вожди, древние
цари-первосвященники предантичной Греции гомеровского эпоса — это правители
родовых протогосударств на стадии системного фазового перехода
последних в территориально-общинные государства. Но здесь
возникают цивилизационные варианты, все многообразие которых
сводится к двум основным: классовому европейскому и
бесклассовому восточному.
Главный герой «Илиады» (созданной странствующим рапсодом
не ранее X в. до н. э.) — царь многочисленного этноса мирмидонян
(«муравьев»), военный вождь-родовладыка Ахилл. Поэтому более
древнюю часть троянского цикла уместнее было бы назвать
«Ахиллиадой». В X в. до н. э. мирмидоняне входили в межплеменной
Ахейский союз. Более позднее межплеменное самоназвание
«эллины», возникшее в VI в. до н. э., этимологически связано с этнонимом
земляков Ахилла, обитавших в Фессалии в окрестностях озера
Янины. Обобщающее этническое имя «греки» появилось во времена
217
Аристотеля, в IV в. до н. э. Оно пришло из Южной Италии и Сицилии.
Эллинские колонии там назывались Великой Грецией, в отличие от
метрополии — Эллады.
Ахилл, полновластный военный вождь и родовладыка, древнее
Одиссея на пару столетий. Сакральную власть царя мирмидонян
(закрытого железными доспехами и потому неуязвимого для
бронзового оружия) не оспаривает никто из соплеменников. Его друг и
родственник Патрокл упрекает своего вождя лишь за временный отказ
сражаться на стороне верховного предводителя ахейцев, царя Микен
Агамемнона, обидевшего Ахилла при разделе военной добычи. Ахилл
принимает спонтанное военно-политическое решение аффективно и
самовластно, без совета с родовой знатью мирмидонян, способной
ограничить походную власть военного вождя. Системное
противоречие между базилевсом и родовой знатью — драматическая коллизия
завершающих частей «Одиссеи».
«Одиссея» появилась не позднее VIII в. до н. э., накануне великого
духовного и социального переворота: изобретений греческого
фонетического алфавита, частной собственности на средства производства
и письменной кодификации древнего права обычая. Внутриродовая
вертикальная иерархия в это время расшатывается горизонтальным
сотрудничеством территориальных общин, объединяемых задачами
совместного выживания в экстремальных условиях социоприродно-
го кризиса. Традиционное, не оспариваемое в родовой устойчивой
среде, сакрализованное господство царя-родовладыки острова Итака
сталкивается с необходимостью оперативного подтверждения его
«архе» лидерскими усилиями. Жестко детерминированное
родовыми обычаями, но ослабленное десятилетним отсутствием Одиссея на
родине, господство трансформируется в более вероятностное
состояние лидерства инновационного типа.
Непредсказуемые обстоятельства десятилетней Троянской войны
и многолетних скитаний базилевса расшатали оперативные
механизмы его господства. Для их восстановления потребовались
нестандартные решения. Хаосу внутренних распрей родовой знати Итаки
Одиссей противопоставил линейную последовательность
неожиданных действий и внутреннюю логику убеждающих слов. «Женихи
Пенелопы» вторглись во дворец Одиссея, оскорбили его жену,
унизили сына, разрушили иерархический (священный) внутренний
порядок Итаки. Распалась связь времен. Реставрационные действия
базилевса выстроились в линейной последовательности
взаимосвязанных знаков, — текстовым образом. Смысловая цепь знаковых по-
218
ступков Одиссея восстановила вертикаль его господства,
подкрепленного лидерством.
Военные вожди «Илиады» еще считают письменную (знаковую)
культуру подозрительной, чуждой, не доступной для них,
следовательно — колдовской, не достойной героев. Невозможно представить
себе Ахилла, Диомеда или неистового Аякса слушающими текст
или — создающими его. А Одиссея — можно1.
В VI в. до н. э. фонетический алфавит текстуально закрепил
эпическое произведение странствующих рапсодов, бытовавшее до того в
устной форме. Показательно, что канонический текст «Илиады» и
«Одиссеи» возник в Афинах в период тирании Писистрата и «этати-
зировался» под идеологию именитых героев и безгражданственной
толпы. Центральный герой второй части эпоса олицетворяет собой
новое, территориально-общинное, дополисное государство, в
котором уже растворились родственные отношения, но еще не
кристаллизовались гражданские. В жертву кризисного управления
функциональной общности приносятся родовые соратники — «спутники
Одиссея».
Мы все погибнем, греческие люди,
Чтобы один из нас доплыл, как должно,
Овеянный великой нашей славой,
До берегов Эгейских островов,
Чтобы один из нас, водитель хитрый,
О нас поведал речью величавой,
Не всномимная маленьких событий,
Не называя маленьких имен,
Лишь говоря о спутниках случайных.
Луговской В. Как человек плыл с Одиссеем
Множество безымянных тружеников моря подготовили
политический триумф хитроумного Одиссея, лидера инновационного типа,
1 В лексическом составе древнегреческого языка отсутствовало слово
«читать». Нерелигиозные тексты, созданные на знаковой основе
фонетического алфавита, древние греки не читали молча, их произносили обязательно
вслух. Фонетический алфавит, изобретенный в VIII в. до н. э., ассоциативно
привязал десакрализованные тексты к слышимой устной речи. Изумление
вызывал в те времена человек, способный при беззвучном чтении не
шевелить губами. Последнее (по свидетельству современников) не удавалось
лаже Аристотелю, жившему в IV в. до н. э. А мудрый Сократ (в отличие от
некоторых своих учеников, записывавших сократовские диалоги) вообще не
умел ни читать, ни писать. ^
219
идеологического предшественника Солона и Клисфена. Через два
века родовая знать уступит свое историческое место выборной
магистратуре полисной демократии граждан-воинов, среди которых
функционально выделится «первый среди равных».
Смертельная схватка Одиссея с родовой знатью Итаки
(женихами Пенелопы) — художественно индивидуализированная
историческая метафора системного кризиса родового протогосударства.
В кризисном состоянии родовая власть базилевса десакрализуется.
Ему приходится подтверждать свой высокий статус наглядной
демонстрацией собственной функциональной пригодности в
состязательных условиях. Ни один из знатных женихов Пенелопы не может
повторить военно-спортивные достижения Одиссея. Никто из них не
сумел даже согнуть его личный боевой лук. Истребивший родовую
знать, военный вождь неизбежно лишается традиционного
религиозного ореола. Потерявший в боях и скитаниях родовую дружину, ба-
зилевс должен искать внекорпоративную, политическую опору в
производительных группах этноса, сомкнувшихся в территориально-
общинный полис. Рядом с «архе» вырастает «кратос», в противовес
базилевсу — выборный первый архонт, первый стратег. Одиссея
сменяют Ликург, Солон, Клисфен, Перикл...
Государство и «господство немногих»
Революционная трансформация родовых протогосударств
Эллады в территориально-общинные полисы произошла под
воздействием кризисных факторов исторической нелинейности в уникальных,
нигде не повторившихся условиях VIII в. до н. э. Сакрализованное
«архе» трансформировалось в политическое «кратос» под жестко
излучающим воздействием частной собственности, рыночной
конкуренции и товарно-денежных отношений. Политическая власть
родилась в Европе.
В восточных надобщинных структурах исторической
альтернативой политикообразующему слою европейского типа стало само
государство в лице созданного им неполитического аппарата
централизованной власти-собственности. Этот феномен характеризует те
общества, где не возникла критическая масса дисперсной собственности и,
соответственно, не сложился класс мелких частных собственников.
Правовое понятие полной (частной) собственности стало
принадлежностью общественного сознания в полисах античной Эллады и
220
окончательно оформилось в Римской республике. Предантичная
европейская и все неевропейские цивилизации не имели юридически
оформленных представлений о полной собственности, могущей
реализоваться лишь в частной форме. Из трех ее классических
признаков (суверенного владения, ответственного пользования и
свободного распоряжения) в экономическом фундаменте неевропейских
государств неизменно присутствуют лишь первые два.
Суверенное владение материальными ресурсами среды обитания
восточных обществ принадлежало сначала первобытному
коллективу, а впоследствии — государству. Государственная власть (а иной
власти Восток не знает) выросла из владения. Субъектами
ответственного пользования материальными ресурсами в неевропейских
цивилизациях могли выступать, помимо коллектива и государства,
главы семей. Однако объекты индивидуального пользования не
выводились в экономическую сферу обезличенного товарно-денежного
оборота. Они в большей своей части оставались в хозяйственно-
технологических пределах.
Избыточный продукт в этих условиях не капитализировался ни
владельцем, ни пользователем. Государственно-владельческий налог,
так же как и не отличимая от него земельная рента (в ее натуральной
или денежной формах), не обретали экономических признаков
самовозрастающей стоимости. Как правило, они принадлежали
коллективному либо государственному землевладельцу, а не
индивидуальному землепользователю. Возрастающий объем вещественного
богатства восточных обществ и дополиеной Эллады увеличивал степень
материального доминирования владельцев над пользователями.
Социоприродный кризис VIII—VI вв. до н. э., потрясший Элладу,
положил предел материальному доминированию коллективных
владельцев над индивидуальными пользователями. Инновационная
активность последних превратила их в частных собственников, а
полисная демократия вооружила инновационные группы
правомочиями граждан. Становление частной собственности и развитие
политической демократии — взаимообусловленные процессы. В
Элладе VI-V вв. до н. э. они шли в условиях общесистемного социально-
экономического, политико-организационного и культурного
кризиса и потому сопровождались болезненными дисфункциями
метасистемы. Одна из них вошла в историю античности под именем
олигархата — внеинституционального политического господства
немногих. Этого явления дополисная Эллада не знала. Точно так же,
как не знали его ни имперская, ни социалистическая Россия:
автократия и абсолютизированная госсобственность исключали саму
221
возможность приватизации каких-то государственных функции.
Исторически модифицированный, но оставшийся чужеродным
традиционной политической культуре россиян, вирус олигархата мог
инфильтроваться лишь в ослабленный системным кризисом конца
XX в. государственный организм России.
Приватизация некоторых функций государственной власти —
симптом ее временного ослабления. Этот феномен известен с
античных времен. Он несвойственен парадигмальному облику
современного российского государства. Однако его дисфункции обострили
общественный интерес к проблеме олигархии. Публичный имидж
доморощенных «олигархов» (в действительности далеко не
дотягивающих до античных образцов «господства немногих») не
соответствует их экономической природе. Массовые представления о
скороспелых российских миллиардерах, обнаруживших в середине
1990-х гг. свои весьма скромные политические притязания,
сформированы пропагандистскими усилиями носителей реальной
государственной власти. Демонизация «семибанкирщины» позволила
высшему политическому руководству страны на короткое время
перенацелить общественные протесты и направить их в безопасное
для Кремля и «Белого дома» русло. В обыденном сознании россиян
произошла направленная мифологизация непубличной
деятельности назначенных самой властью чемпионов ускоренной
приватизации государственной собственности. Околовластные миллиардеры
в какой-то момент перешли грань допустимого в своих
неформальных отношениях с ослабленным государством.
Государственная власть (даже слабая) всегда публична.
Неформальные отношения ей противопоказаны. Непубличное
влияние немногих частных лиц использует общие демократические
процедуры в групповых целях. Такое клановое влияние является
следствием незавершенности процесса институционализации власти.
Она персонализируется. Личное доминирование, ручное управление
госаппаратом -* прагматичный способ его приватизации. Последнее
облегчается тем, что «олигархи» действуют преимущественно в
экономической сфере. Они не озабочены собственным общественным
авторитетом и не стремятся к обременению себя государственной
ответственностью. К институтам публичной власти «олигархи»
относятся инструментально, как к средствам неконкурентного получения
экономических преференций.
Российские «олигархи», даже использующие державную
риторику, государственниками не являются по определению.
Последовательная институционализация государственной власти, соблюдение
222
правовых процедур и социализация государства (в соответствии со
сТ. 7 Конституции РФ) не в их интересах. Одерживая легкие победы
в закрытых инвестиционных конкурсах и безконкурсных залоговых
аукционах, декапитализируя реальный производственный сектор
экономики, фовориты ваучерной приватизации 1990-х гг. ослабляли
российское государство, делая его социально не эффективным.
Оргструктуры российского государства, сложившегося в
указанный период, представляют собой противоречивое соединение
институтов современной представительной демократии с
персонализированной меритократией рангового общества. Неразвитость
институтов гражданского общества обеспечивает системное доминирование
бюрократического аппарата.
Меритократия рангового общества — явление догосударственное.
Она возникла в седой древности в качестве исторической
альтернативы первобытному эгалитаризму, но сегодня выглядит
анахронизмом. На государственном этапе общественного развития
меритократия сменилась доминированием нобилитета. На смену благородному
сословию, в свою очередь, пришли нотабли (значимые люди) Нового
времени. Им наследовала бюрократия национальных государств. Ее
в эпоху российского социализма основательно потеснила партийно-
государственная номенклатура. Избавившись в конце XX в. от
номенклатурной опеки, российская бюрократия регрессивно
трансформируется в меритократию — «закрытую и надменную касту»
(В. В. Путин. Послание Федеральному Собранию РФ). С данной
инволюционной «мертвой петлей» не совпадает магистральная,
исторически детерминированная траектория развития институтов
правового государства и гражданского общества. Этот процесс не содержит в
себе свойств линейной последовательности и необратимости. Ему
имманентно присущи зигзаги, тупики и «мертвые петли».
Одна из этих инволюционных «мертвых петель» — российский
олигархический капитализм, возникший в ходе радикальных реформ
1990-х гг. Эта инволюционная петля вплелась в узел финансово-
экономического кризиса 2008-2009 гг. Современная мировая
финансово-экономическая система, в которую с 1990-х гг. встроилась
экспортно ориентированная экономика России, давно страдает
общеорганическим недугом. Ее структурно-функциональные
составляющие (деньги, акции, кредитование, фондовые активы и их
производные, опционы и фьючерсы) приобрели опасные признаки
безудержного непропорционального роста объемов и скорости обращения.
Паразитирующий на теле реального сектора, фиктивный капитал
сегодня правит мировой экономический бал. Раздуваются олигархиче-
223
ские финансовые пузыри, накачиваемые кредитами. Когда они лопж
ются, происходит болезненная декапитализация реального сектора*«
Правосубъектность индивидов *
Современные институты публичной власти — результат
длительной эволюции неинституциональных форм надличностной
коммуникации: влияния, престижа, лидерства, авторитета и
господства. Последние на заре государственности нераздельно сливались
в образе энси. Так именовался полифункциональный
символический глава первого известного истории государства — шумерского
(IV тыс. до н. э.). Обожествляемому энси формально принадлежала
вся земля главного города и зависимых от него аграрных
окрестностей. От имени энси осуществлялась вся организаторская и
управляющая деятельность лугаля — главы исполнительного аппарата.
Древние государства начинали свое существование в парадигме
этатизма — абсолютного доминирования над частной жизнью
подвластного населения. Собственно частной жизни тогда еще не было.
Феномен частной жизни возник вместе с демократией. Приоритет
государственных интересов позднее был осмыслен в терминах
теоретической рефлексии, в рамках древнегреческой политической
философии.
Философской основой этатизма является аксиома о приоритете
общего над частным. С ней связаны аристотелевские представления о
порядке (таксис), устанавливаемом лишь осознанно, о
дезорганизующей роли стихийных частных интересов. Следование им аморально,
так как они разрушают общественное благо.
Радикальные этатисты вслед за Аристотелем и Гегелем отвергают
саму возможность самоорганизующейся социальной метасистемы.
Однако способность к самоорганизации является неотъемлемым
свойством всех нелинейных, сверхсложных, внешне устойчивых и
внутренне неравновесных систем.
Этой синергетической способности обязаны своим появлением
6 тыс. лет назад первые государства. Превосходя исходным уровнем
технологичности все остальные общественные подсистемы, любое
донациональное и доправовое государство изначально подминало
под себя слабо структурированное общество.
Государственное регулирование общественных отношений, между
тем, неизбежно стандартизируется: этого требовала обезличенная
224
технология управления. Организационные стандарты, освященные
религиозными ритуалами, ограничивали индивидуальный произвол
управляющих. Управление становилось все более обезличенным.
Систематическая апелляция к надличностным ценностям сфер
публичной жизни — решающий шаг к праву. Но этот шаг противоречил
интересам привилегированного меньшинства. Формирование наций-
государств сняло это противоречие.
Правовое национальное государство отличается от своих
исторических предшественников деэтатизацией инструментально
организационных основ политического влияния, социального авторитета и
материального господства. Главные инструменты первого —
независимые СМИ. Организационная база второго — гражданские
структуры. Рычаги третьего — собственность на средства производства.
Разгосударствление всех трех форм управления
институционализирует власть, делает ее публичной (то есть явно отделенной от
населения) и ставит в служебное положение относительно общества.
Историческая эволюция государственной власти не была
ценностно- и целесообразной, не являлась линейной и векторно
ориентированной. Ее лейтмотив — неравномерность. Уже на этапе
перехода от догосударственного господства к государственной власти
возникала неравномерно распределяемая правосубъектность сословий.
Разложение родового строя было связано с прогрессом
производительных сил, обусловленным разделением труда. Фрагментация
кровнородственных сообществ на автономные хозяйствующие
единицы (первыми из них оказались семьи, персонифицированные pater
familias) — важнейший шаг в трансформации родовых протогосу-
дарств в территориально-общинные государства.
Индивид — «остаточный» продукт дезинтеграции безличных
кровнородственных сообществ. Он возник в точке пересечения
различных социальных ролей. Эти роли маркировались типовыми,
узнаваемыми и сменяемыми «масками». «Маска» по-древнегречески —
«персона». Персональная совокупность ролевых «масок» обозначала
в античном полисе общественно признаваемую личность
гражданина. Скрываемое под социальной «маской», конкретное лицо не имело
самостоятельного полисного значения. «Лица необщее выраженье»
адресовалось лишь семье и близкому кругу друзей.
Граждане и новые города-государства взаимообусловливали
существование друг друга. Дополисное и постполисное государство не
нуждалось в согласии управляемых. Через две тысячи лет полисное
гражданство возродилось в новом историческом облике — в качестве
основной человеческой метароли, не обусловленной исполняемыми
225
функциями. В XVI-XVIII вв. политическая власть — метароль
суверенного национального государства, исполняющего системооргани-
зующие функции. Индивидуум — основная человеческая метароль,
санкционированная национальным государством. В качестве
самодовлеющей ценности она формируется намного позднее возникновения
национального государства: в предбуржуазную эпоху Нового
времени. В эту эпоху делается первый шаг к социализации власти.
Социализация государственной власти преследует те же цели, что
и внутреннее ее разделение на исполнительную, законодательную и
судебную ветви. Ударно-хватательные рефлексы госаппарата при
этом естественно ослабевают.
Что способствует социализации государственной власти?
Публичность, предсказуемая регулярность смены и ответственность ее
конкретных носителей. Это знали еще древние. Например, в
Римской республике любой выборный магистрат, кроме народного
трибуна и диктатора, мог подвергаться гласному судебному
преследованию в качестве частного лица, каковым он неизбежно
становился по истечении срока магистратуры. Почему исключение
делалось для плебейских (народных) трибунов? Очевидно потому, что
сама должность предполагала заранее оправданные конфликты
интересов. Трибуны возникли в качестве экстраординарных средств
борьбы свободного, но граждански неполноправного населения
Рима против патрицианских институтов городской общины (populus
romanus). Своей внеправовой исключительностью трибуны
походили на диктаторов, назначаемых на полгода в условиях
чрезвычайной опасности для государства.
Повторим: историческим предшественником выборной,
ответственной и сменяемой власти (кратос) является несменяемое
господство (архе) невыборных лиц. Глубокие корни архе уходят в
архаические времена. Влияние и авторитет родоплеменных старейшин и
жрецов задолго до возникновения родовых протогосударств
функционально реализовались в форме группового лидерства.
Родовое протогосударство превращало групповое лидерство
родоплеменной верхушки из функционального способа
автонастройки микросоциумов — в структурированный и обезличенный
институт управления макросистемы. Параллельно и в противовес
этому расширялась сфера внеинституционального, личного
господства: отцов семейств — над членами семей и домашними
рабами, арендодателей — над арендаторами, кредиторов — над
должниками, воинов — над пленными, членов родовой общины — над
чужеземцами.
226
В догосударственных обществах господство над людьми
изначально сливалось с распоряжением вещами. Поэтому в механизмах
социального воспроизводства отсутствовали экономическая и
политическая составляющие. Сам термин «экономика» (домоводство),
введенный в научный оборот Аристотелем в IV в. до н. э., получил
широкое распространение вследствие двухвекового доминирования
мелкоконтурного хозяйства, функционировавшего на базе частной
собственности и регулярных рыночных отношений. Одновременно с
«экономикой» обособилась область человеческой деятельности,
именуемая «политикой». Это древнегреческое слово обозначало все,
что относилось к полису, городу-государству. Политическая
правосубъектность граждан вырвала их из мира вещей. Там остались лишь
«говорящие орудия» (рабы). Экономика и политика составили
внутреннюю бинарную оппозицию города-государства.
Бинарная оппозиция экономики и политики трансформировала
догосударственное господство. В результате долгой эволюции,
начавшейся в древнем Риме, господство (как основная форма
принудительной коммуникации) раздвоилось на публичную власть,
отправляемую как политический суверенитет, и личную власть,
осуществляемую как право частной собственности. Здесь — коренное отличие
западно-европейской индивидуалистической цивилизации от всех
остальных, включая восточно-европейскую.
Республика равных
Уточним политологический смысл понятий «монархия»
(единодержавие»), «республика» (общее дело) и «демократия»
(народоправство). В первых двух определяются формы организации высшей
публичной власти. В третьем — способ политической
самоорганизации общества.
Государство (в том числе — доправовое) функционирует на
основе писаных законов. Политизированное (в том числе — дограждан-
ское) общество руководствуется массовым правосознанием.
Последнее обусловливается неустойчивым балансом слабо
согласованных, неотрефлексированных, изменчивых групповых интересов.
Недостижимый идеал правоведов Римской республики III в. до н. э.:
«пусть погибнет мир, но торжествует юстиция». Политический
экстремум непосредственной демократии афинского полиса IV в. до н. э.:
«воля народа — высший закон». Римская Республика была государ-
227
ственно технологичной, афинская демократия — общественно
инструментальной.
Попытаемся априорно определить системообразующие
признаки современной представительной демократии европейского типа.
Всеобщие выборы? Эта процедура издавна существовала в явно
недемократических структурах: в церкви (выборы настоятелей
монастырей, папы Римского, православного патриарха); в Священной
Римской империи германской нации и Речи Посполитой (выборы
императора и короля). Рыночное состязание? В недемократических
восточных обществах оно всегда было достаточно развитым.
Интенсивные рыночные отношения могут сочетаться с
доминированием государственной собственности. Политическая активность
большинства населения? При тоталитарных режимах она
максимальна.
Законодательная и организационная обеспеченность
индивидуальной свободы и частной собственности — вот решающие тесты на
достаточную демократическую представленность государства.
Ограничивать его чрезмерные притязания и аппетиты под силу
гражданскому обществу, структурированному на основе
равновесия общих и частных интересов и общественного признания
автономности частной жизни. Но если общество само организовано на
обезличивающих началах доминирования общего над частным, оно
становится союзником государства в подавлении индивидуальной
свободы.
Тоталитарное государство возникает лишь на базе тотальной
демократии. А она, в свою очередь, порождается экстремальными
условиями социоприродных кризисов, социальных революций,
гражданских и отечественных войн, резко повышающих
общественную значимость унифицированных коллективов. И наоборот, —
обесценивающих инновационный потенциал индивидуума. Задачи
выживания решаются интегративно: коллективистскими
средствами. Цели развития достигаются поисковыми,
дифференцированными, индивидуалистическими решениями. История античной Греции
продемонстрировала два основных варианта преодоления
последствий социоприродного кризиса: афинский и спартанский.
В VIII в. до н. э. произошло оголение (денудация) каменистой
почвы Аттического полуострова Эллады. Пастбищно-перегонное
скотоводство и экстенсивное земледелие здесь стали невозможными.
Аналогичный природный удар получили и земли Лаконии
(Лакедемона) Пелопоннесского полуострова, места поселения
дорических племен. Рядом с Аттикой находились плодородные земли
228
5еотии. С Лаконией соседствовала пригодная для земледелия
]у!ессения. По-разному отреагировали на экологический кризис
ионийские пастухи и лакедемонские земледельцы.
Вооруженные отряды дорических племен сомкнулись в государ-
ствообразующий союз и провели политические реформы, названные
по имени пелопонесского базилевса Ликурговыми. Реформы
приспособили архаические надобщинные структуры Лакедемона к решению
преимущественно военных задач «республики равных» (спартиатов).
Аристократическая республика граждан-воинов встала на путь
территориальных захватов. В течение ста лет объектом лакедемонской
агрессии были густонаселенные земли Мессенской долины.
В первой Мессенской войне (736-720 гг. до н. э.) спартанцы
столкнулись не с примитивными родоплеменными сообществами,
а с сильными протогосударствами. Мессенцы превосходили
лакедемонян и численно, и культурно, и экономически. Трудолюбивые
и богатые обитатели плодородных земель Мессенской долины к
войне не готовились. Поэтому они не смогли одолеть бедных и
воинственных соседей. Однотипным было вооружение противников.
Совокупный военно-производственный потенциал разрозненных
протогосударств Мессении позволял ей выставить против
агрессоров численно превосходящие и лучше экипированные силы. Однако
победили спартанцы. Сказалось мобилизационное преимущество
их военно-гражданского строя.
Территория оседлого местопребывания лакедемонян была занята
ими в XIII—XII вв. до н. э. Северо-западная ветвь дорических
переселенцев, пришедших на Пелопоннесский полуостров из
континентальной Европы, в течение четырех веков после переселения не
создавала государственной организации. Поворотным оказался VIII в.
до н. э., когда в ответ на экологический вызов патриархально-родовой
Лакедемон превратился в территориально-общинную Спарту.
Все пригодные к обработке земли Лаконии еще в ХШ-ХП вв. до
н. э. были поровну разделены между всеми взрослыми мужчинами
Дорических племен. Но к VIII в. до н. э. эти земли сосредоточились в
руках аристократического меньшинства профессиональных воинов.
Только они имели юридический статус полноправных граждан —
спартиатов. Спартиаты объединялись во фратрии (военные
братства) — корпорации, обладающие политической правосубъектностью.
Фратрии представляли собой низовые ячейки милитаризированного
государства. Они находились в состоянии постоянной
мобилизационной готовности. Ритуальным выражением этой готовности
являлись ежедневные обязательные общие трапезы (сисситии) членов
229
фратрий. Общность стола предполагала регулярные фиксированные
взносы сотрапезников. Свою долю спартиат вносил в основном
продуктами, произведенными на его земельном участке. Если гражданин
не мог этого делать, он исключался из фратрии спартиатов и
переходил в неполноправный низший разряд этнических лакедемонян —
гипомейонов (меньших). Знаменитые фаланги тяжеловооруженных
воинов состояли исключительно из профессионалов военного дела —
спартиатов. Остальные военнообязанные служили во
вспомогательных войсках.
Жители недорических поселений именовались периэками
(обитателями предместий). Они, в отличие от спартиатов и гипомейонов,
платили государственные подати, но были лично свободными.
Государственными рабами (илотами), отданными во владение
спартиатов, являлись все военнопленные, в основном — покоренные мес-
сенцы. Практически пожизненные воинские обязанности исполняли
спартиаты и гипомейоны. Периэки подлежали мобилизации во время
войны.
Верховными жрецами и военачальниками являлись два
наследственных царя, представлявших архаическое наследие домилита-
ристской эпохи. Их власть была ограничена выборными эфорами и
герусией (советом старейшин из 26 спартиатов не моложе 60 лет).
Народное собрание спартиатов (апелла) избирало эфоров, совет
старейшин и всех должностных лиц.
Военная служба спартиатов начиналась в семилетнем возрасте и
продолжалась до шестидесяти лет. В политологическом трактате
Платона «Государство» идеализируются спартанское воспитание,
военный строй, нравы и государственное устройство.
Хрестоматийными стали с тех пор платоновские рассказы и лакедемонские
легенды о спартанской военной доблести и гражданских
добродетелях. Например — о том, как родители спартанских детей, родившихся
слабыми и убитых после их медицинского освидетельствования
старейшинами, шли по улицам города и громко выражали свою
патриотическую радость: государство превентивно освободилось от
неполноценного гражданина. Или о том, как героически умер мальчик,
спрятавший под своим плащом лисенка. Подобные детские поступки
не разрешались, но допускались, если провинившийся не попадался.
Мальчик с лисенком, спрятанным под плащом, внешне спокойно
разговаривал со своим старшим наставником, пока не упал мертвым:
зверек прогрыз ему живот.
Реже вспоминается нижеследующий ритуал. Спартанские
мальчики должны были ежегодно и публично демонстрировать болевую
230
выносливость во время праздника Артемиды Ортии. Доведенные до
исступления, будущие спартанские воины пороли друг друга
кнутами на алтаре богини, добиваясь криков боли и просьб о пощаде.
у{ часто запарывали испытуемых до смерти. Плутарх в «Жизни
Ликурга» сообщает, что он сам видел десятки спартанских
подростков, молча умиравших под кнутами. Взрослые не имели права
останавливать религиозно-педагогические экзекуции.
К виду крови, страданий и смерти спартанских детей, подростков
и юношей приучали все 13 лет их военного обучения и сурового
содержания в казармах-агелах. («Агела» по-древнегречески означает
«стадо».) Финальное испытание юные граждане проходили во время
так называемых «криптий», тайных ночных убийств самых смелых,
умных, сильных и волевых илотов. Жертвы высматривались днем.
Поощрялось всеобщее доносительство.
Семейные привязанности спартиатов всемерно ослаблялись.
Молодые супружеские пары подбирались, в евгенических целях,
старейшинами. До достижения сорокалетия супругов они
встречались тайно. Детей с семилетнего возраста отбирало у родителей
государство. Девочек воспитывали для исполнения
государственной функции — рождения будущих воинов. Всеобщая воинская
обязанность полноправных граждан на спартиаток не
распространялась. Но они проходили обязательную военно-спортивную
подготовку. После чего — участвовали в показательных
выступлениях. В общих гимнастических и военно-спортивных состязаниях
спартанские девушки и юноши участвовали непременно без
одежды. (Слово «гимнастика» производно от древнегреческого «гим-
нос» — обнаженные.)
Общественный статус спартиаток был достаточно высоким. Закон
предоставлял им преимущественное право наследования: именно
женщина (мать, жена, сестра, дочь или иная кровная родственница)
наследовала имущество погибшего на войне спартиата — главы
семейства. Граждански полноправным супругам разрешалось
оставлять друг друга при отсутствии общего полноценного потомства.
Но — при условии немедленного вступления, по выбору старейшин,
в новый, евгенически более перспективный брак. Убежденные
холостяки наказывались государством. Они подвергались всеобщему
презрению. Отец троих сыновей освобождался от воинской
обязанности. При рождении физически полноценного четвертого сына, отец
получал почетный статус выполнившего все обязательства перед
государством. Провожая на войну своего сына, мать могла его
напутствовать только лаконично, сурово и патриотично. Протягивая воину
231
щит, она говорила «или — с ним, или — на нем» (или вернись
победителем, или умри героем).
Сила всепроникающего общественного контроля в Спарте
дополнялась непрерывным участием государства в повседневной жизни
граждан. Не существовало границы между их частным и публичным
бытием. Абсолютная конформность социального поведения спартиа-
тов дополнялась их жесточайшей военной дисциплиной. Усиленный
дисциплиной, военный профессионализм спартиатов делал их
грозной силой. Во время Первой греко-персидской войны при
героической обороне Фермопильского ущелья небольшой отряд в триста
спартанских тяжеловооруженных воинов (гоплитов) во главе с царем
Леонидом долгое время выдерживали натиск десятков тысяч персов.
Отряд погиб, но не отступил.
Почему, кстати, их было ровно триста? Это число для спартанцев
являлось символическим. Ежегодно эфоры назначали военными
наставниками молодежи трех авторитетных старцев, и те, по
неизвестным критериям, отбирали по сто юношей каждый. Триста избранных
представляли для остальных предмет зависти и побуждали
энергичнее предаваться профессиональным тренировкам.
К концу сражения при Фермопилах царь Леонид отослал в Спарту
одного легко раненного воина в качестве гонца, с известием о гибели
отряда. Выполнив задание, гонец вскоре покончил жизнь
самоубийством. Он не выдержал всеобщего презрения сограждан: «Почему ты
остался жив, когда твои соратники погибли?». Трусость на войне
влекла неминуемое исключение из соответствующей фратрии и
отлучение от общего стола — сисситии.
После тринадцатилетнего обучения в агелах кандидат в спартиа-
ты формально возвращался в семью и тут же обращался в одну из
фратрий с просьбой о приеме. Шло тайное голосование членов
фратрий белыми и черными шарами. Единственный черный шар означал
отказ в принятии. Не принятый в военное братство автоматически
исключался из спиАса граждан. Принятый вносил ежегодно (в
течение сорока лет) свой взнос на общий стол продуктами и деньгами.
Запрет на домашний ночлег постепенно ослабевал, но запрет на
домашний стол оставался абсолютным. Питались и одевались спартиа-
ты без излишеств, по-спартански. Государством регламентировались
не только одежда, но и форма усов и бород.
На каждую спартиатскую семью государство выделяло в среднем
по семь илотов, обязанных содержать своих господ. Сами спартиаты
не имели права обучаться мирным ремеслам и заниматься
производительным трудом.
232
Плутарх повествует о том, как во время совместной с союзниками
военной кампании спартанский царь Агесилай (401-360 гг. до н. э.)
подвергся упрекам за малочисленность его отряда. Тогда Агесилай
устроил общий смотр союзным войскам, выстроив спартанский
контингент отдельно. После чего принялся вызывать из строя
представителей различных мирных ремесел: кузнецов, гончаров, строителей,
плотников. Из спартанских рядов не вышел никто, а союзные войска
сильно поредели. Агесилай, рассмеявшись, сказал, обращаясь к
союзникам: «Видите, сколько Спарта посылает воинов и как мало их у
вас?»
По сравнению со второй Мессенской войной (650-620 гг. до н. э.)
первая была для спартанцев военной прогулкой. Повсеместно
восставшие мессенцы тридцать лет сражались мужественно, яростно,
отчаянно. Численность спартиатов уменьшилась в несколько раз.
Но они все равно победили. Во время второй Мессенской войны
спартанцы изобрели и в ходе многолетних боев усовершенствовали
свою знаменитую фалангу. С тех пор в течение двух веков мало кто
выдерживал лобовое столкновение с тяжеловооруженной
спартанской пехотой, сомкнутой в фаланги. Эти отборные части
комплектовались исключительно из полноправных граждан. Их сила
определялась не качеством и не количеством оружия. У афинян в
Пелопоннесской войне (431-404 гг. до н. э.) оружие, латы и прочая
экипировка сухопутных войск были не хуже, а корабли и флотские
экипажи значительно превосходили спартанские. Однако Афины
потерпели сокрушительное поражение, уступив Спарте военно-
политическую гегемонию над Элладой.
Строевая дисциплина, боевая выучка и физическая выносливость
спартанских гоплитов вызывали всеобщее изумление. Достаточно
упомянуть знаменитый эпизод Первой греко-персидской войны —
сорокакилометровый марафонский марш-бросок
тяжеловооруженной лакедемонской пехоты, проделанный с полной походной
выкладкой, весящей около тридцати двух килограммов на каждого гоплита.
Расстояние до Марафона, где персы уже атаковали афинян, фаланги-
ты преодолели бегом и были готовы сходу вступить в бой. Правда, к
прибытщо спартанского отряда афиняне под командованием
Мильтиада успели разгромить персов.
После второй Мессенской войны 8 тысяч спартиатов навечно
поселились в военном лагере, чтобы держать в повиновении и
жесточайше эксплуатировать десятки тысяч мессенцев-илотов. Школьные
Учебники истории традиционно именуют Спарту аристократической
республикой. Термин «тоталитарное государство» — неологизм
233
30-х годов XX в. Однако он вполне приложим к политическому
режиму, возникшему в VIII в. до н. э. в Пелопоннесе и подчинившему
частную жизнь граждан-спартиатов тотальному государственному
контролю, в общих интересах нетрудового выживания. Спартиаты не
ощущали гнета государства, ибо поголовно являлись «винтиками»
военно-административной машины, обезличенными инструментами
публичной власти над илотами.
После кровопролитной победы во второй Мессенской войне
Спарта поровну разделила захваченные пахотные земли долины
между семьями своих полноправных граждан. Элитные братства
имущественно и политически равных спартиатов в VIII—VII вв.
до н. э. представляли собой незрелые формы непосредственной
демократии. Однако отсутствие в их среде частной собственности,
рыночной конкуренции и развитых товарно-денежных отношений
аристократизировало военную демократию фратрий. Платой за
элитную обособленность спартиатов являлся тотальный контроль
за их частной жизнью. Собственно, частной жизни у спартиатов не
было, даже зачатие и рождение детей считалось у них
государственным делом.
В V в. до н. э., когда Афины совершили в своем цивилизационном
развитии мощный и беспримерный рывок, Спарта застыла, как на
параде, с оружием наизготовку. Она пожертвовала свободой и
демократией во имя одной цели — создания совершенного и несокрушимого
военного аппарата. Спартанская тоталитарная государственная
машина продемонстрировала всю свою мощь в Пелопоннесской войне с
демократическими Афинами. Эта победа в конечном счете погубила
победителей, вооружив против них весь эллинский мир.
К 371 г. до н. э. тысячи спартиатов находились вне Лаконии. Они
служили в гарнизонах и административном аппарате на территории
других эллинских государств. В «заграничных командировках» от
традиционных спартанских добродетелей не осталось и следа. В своем
новом панэллинском качестве суровые спартанские граждане
прославились на всю Элладу крайней бестактностью, жестокостью и
коррумпированностью. Традиционные алгоритмы поведения народа-
воина, его олигархические государственные институты, архаические
обычаи и этос оказались в полной дисгармонии с окружающим
миром. В мирных условиях уже достигнутой гегемонии над Элладой
Спарта продемонстрировала свою полную неспособность освоить
невоенные формы контактов.
Всеобщим негодованием ответили греки на разграбление Спартой
в 402-401 гг. до н. э. Элиды, которая считалась эллинской святыней,
234
ибо там находился храм Зевса Олимпийского и происходили
Олимпийские панэллинские игры. Таким насильственным методом
спартанский царь Агис загонял Элиду в Пелопоннесский союз.
Во всех союзных городах-государствах Спарта уничтожала
демократические институты и насаждала олигархическое правление. Так,
при прямом содействии Спарты в Афинах была установлена тирания
тридцати олигархов. В большинстве полисов, оказавшихся под
спартанской гегемонией, появились так называемые декархии —
правления десяти олигархов. Над местными декархиями надзирали
оккупационные власти (гармосты), опиравшиеся на расквартированные в
союзных городах спартанские гарнизоны. Союзники были обязаны
содержать оккупантов за свой счет. Гармосты беззастенчиво
обогащались, обирая горожан.
Коллапс государственности
При неразвитости городского товарного производства,
находящегося в руках неполноправных периэков, незначительного объема
розничной торговли и натурализации производственных результатов
принудительного земледельческого хозяйствования илотов, в Спарте
до Пелопоннесской войны было очень мало денег. После войны они
хлынули туда потоком, никак не повлияв, впрочем, на реальный
производственный сектор. Только ежегодные взносы в спартанскую
кассу Пелопоннесского союза составляли около тысячи талантов в
золотой и серебряной монете афинской, персидской, эвбейской и
эгинской чеканки.
Еще большее количество золота и серебра стекалось в начале IV в.
до н. э. в Спарту в виде военной добычи. Спартанский полководец
Лисандр привез на родину, по собщению историка Ксенофонта,
470 талантов. К рукам Лисандра ничего не прилипло из
государственных денег. А вот Гилипп, бывший спартанский военачальник в
Сицилии, как сообщает Плутарх, присвоил 300 талантов, за что был
казнен. Платон, будучи поклонником спартанских государственных
порядков и общественных нравов, признает в биографическом
очерке «Алкивиад», что лакедемоняне сосредоточили у себя в начале IV в.
до н. э. больше золота и серебра, чем его оставалось в то время в
других полисах Эллады.
Спартанское государство безуспешно пыталось жестокими
мерами препятствовать сосредоточению денег в частных руках. По свиде-
235
тельству Плутарха, эфорат издал постановление, согласно которому
деньги должны принадлежать только государству, а частные лица не
могут держать их у себя, под страхом смертной казни. Форакс,
ближайший друг победителя Афин полководца Лисандра, был обвинен в
нарушении данного постановления и казнен. Суровую военную
аристократию охватил тлетворный дух стяжания, вакханалии
неумеренного потребления и гипертрофии искусственных потребностей.
Удовлетворить последние мог только импорт предметов роскоши,
запрещенной законами Ликурга. Их всячески обходили.
Денежный оборот в Спарте не был органически связан с
внутрихозяйственными процессами. Он обслуживал, в основном,
престижное потребление господствующего класса. Спартиаты оставались
монопольными землевладельцами. Но их количество неуклонно
сокращалось. Зачаточное ремесленное производство и вялая торговля,
осуществлявшиеся периэками, не могли остановить общую
экономическую деградацию воспроизводственного потенциала Спарты.
Клэры — государственные земельные наделы исходно равной
производительности, распределенные среди спартиатов после Мес-
сенских войн, — имели правовой статус майоратов. Их нельзя было
дробить, продавать, отдавать в залог. Землевладение являлось
экономическим основанием политического равноправия граждан и
государственной устойчивости.
При непрекращающемся общем росте населения Спарты
численность свободных и полноправных граждан-землевладельцев
неуклонно сокращалась. В VI в. до н. э. их было 8-10 тыс., в IV в. до
н. э. — уже одна тысяча, в середине III в. до н. э. — около семисот
спартиатов, из которых лишь сто сохранили свои земельные наделы.
Остальные граждане-воины пролетаризировались. Причин тому
было несколько. Первая и самая главная состояла в прекращении с
IV в. до н. э. завоеваний Спартой новых хозяйственных территорий и
приращения государственного фонда воинских земельных наделов.
К IV в. до н. э. в Злладе сложилась сотня устойчивых городов-
государств и они цепко держались за свои земли, создавая
оборонительные союзы. Разбойничать и паразитировать за счет
продуктивной деятельности менее воинственных соседей становилось все
труднее. Наконец, это стало не под силу тоталитарной, но маленькой
хищнице-Спарте.
Вторая причина пролетаризации спартанских граждан
коренилась в ослаблении монополии общинно-государственной
собственности на землю. В IV в. до н. э. эфором Эпитадеем была внесена и
апеллой принята поправка к древнему земельному законодатель-
236
ству. Новый нормативный акт, вынужденный реалиями аграрного
кризиса IV в. до н. э., несколько смягчал экономические
последствия категорического запрета на куплю-продажу и залог
государственных земельных наделов. В соответствии с поправкой
Эпитадея, суровый Ликургов запрет на гражданский оборот
земельных участков еще раз подтверждался. Но разрешались
дарения клэров и передача их в другие (чаще всего — женские) руки по
завещанию. Спартанские женщины-наследницы пользовались
гораздо большей свободой экономической деятельности, чем
мужчины. К IV в. до н. э. в женских руках сосредоточились большие
земельные владения.
Но женщины (даже спартанские) в тяжеловооруженных фалангах
не служили. А молодые мужчины обезземеливались отцовскими
завещаниями и дарениями. Лишенные, в силу этого, гражданских прав,
они исключались из фратрий и автоматически — из элитных частей
гоплитов.
Такие лишенцы получали специальный государственный статус
«опустившихся» и пополняли общественную группу
неполноправных граждан, официально признаваемых «недовольными».
Прежде безупречно функционировавшая, военная машина Спарты
стала расшатываться. Одолев Афинско-Делосский морской союз в
Пелопоннесской войне 431-404 гг. до н. э., Спарта уже в Коринфской
войне 395-387 гг. до н. э. потерпела ряд поражений от греческих
полисов, объединившихся против ее гегемонии. Закат военного
могущества Спарты обозначила решающая битва с фиванцами в 371 г.
до н. э. при Левктрах. Спартанцами командовал царь Клеомброт,
фиванцами и остальными беотийцами — блестящие полководцы
Эпаминонд и Пелопид.
Этой битве предшествовал ряд поворотных политических
событий. Под руководством обедневшего земельного аристократа
Эпаминонда и богатого фиванца Пелопида в 379 г. до н. э. в Фивах,
крупнейшем городе Беотии, была свергнута лаконофильская
«всадническая» партия. Установился демократический строй. Сначала — в
Фивах, а затем — во всей Беотии. Формальная и слабая
конфедерация Беотийского союза превратилась в сильное централизованное
государство. Значительно возросла численность
тяжеловооруженных гоплитов. За счет государственного обеспечения
сформировалась великолепная конница. Национальное гоплитское ополчение
в большинстве своем состояло из многочисленного и физически
крепкого беотийского крестьянства.
237
При Левктрах Эпаминонд применил неизвестный спартанцам
новый военный строй «косой фаланги». Традиционная
спартанская фаланга, непробиваемая в лобовом столкновении, была
уязвима с флангов. Эпаминонд усилил и выдвинул вперед левое
крыло боевого построения, несколько ослабив правое. Всю силу
главного удара он направил на фланговый разрыв спартанской
фаланги. Концентрированная конная атака против разорванного
пешего строя лакедемонских гоплитов довершила из разгром.
В сражении пали 400 спартиатов во главе с царем Клеомбротом и
свыше 600 их пелопоннесских союзников. Стратегическим
следствием поражения при Левктрах для Спарты явилась потеря
Мессении.
Коллапс спартанской государственности начался задолго до
покорения Эллады Римом. Огромные денежные средства,
сосредоточенные в Спарте после победы в Пелопоннесской войне, не пошли ей
впрок. Они лишь стимулировали престижное потребление военно-
политической знати (эфоров, старейшин и прочих должностных лиц
государства). Военная добыча не трансформировалась в аграрный,
промышленный и торговый капитал. Вакханалия
непроизводственного потребления сопровождалась обезземеливанием и
пролетаризацией спартиатов. Но это не превращало бывших граждан-воинов в
производительный класс наемных работников. «Опустившиеся»
получали скудные государственные субсидии. Государство таким
образом давало возможность исключенным из фратрий не смешиваться с
периэками и вести паразитический образ жизни. Экс-спартиату
позволялось нищенствовать, но — не работать.
К III в. до н. э. неадекватность спартанских архаических
институтов, сложившихся в VIII—VII вв. до н. э., стала очевидной для
дальновидных государственных деятелей страны. Были
предприняты попытки социально-политической модернизации на основе
реформирования Ликургова строя. Инициатива преобразований шла
от царей. В 243 г.,до н. э. Агис IV, опираясь на народное собрание,
упразднил эфорат, кассировал долги спартиатов и остальных
этнических лакедемонян, изгнал своего реакционного коллегу царя
Леонида и начал передел латифундий. Земельная реформа, не
встретив общественной поддержки, провалилась, хотя всеобщая отмена
долгов состоялась. Противники Агиса IV, воспользовавшись его
отсутствием в связи с военным походом, восстановили эфорат.
Возвратившиеся из изгнания эфоры заочно приговорили царя-
реформатора к смертной казни, обманом выманили его из храма, где
он укрылся, и казнили.
238
Аналогичную попытку социально-политической модернизации
предпринял в 228 г. до н. э. сын Леонида царь Клеомен III. Новый
реформатор учел ошибку предшественника: он не стал опираться
на неустойчивую апеллу, состоявшую из граждан с неразвитыми
политическими навыками. Клеомен сделал ставку на наиболее
дееспособный государственный институт — армию. Но в начавшейся
войне ахейско-македонские фаланги разгромили спартанцев.
В Спарту впервые за всю ее историю были введены чужеземные
войска. Они восстановили Ликургов строй, но — без должностей
царей. Клеомен бежал в Египет к Птолемею IV Не получив у
египтян обещанной помощи, он поднял против Птолемея мятеж. После
подавления мятежа попавший в плен Клеомен был казнен.
А Спарта еще в I в. н. э. с мрачным упорством продолжала
имитировать архаические ритуалы, вроде порки мальчиков на алтаре
Артемиды Ортии.
Помимо конкретной военно-политической обусловленности
неудавшейся общеэллинской гегемонии Спарты, коллапсу ее
государственности способствовало нарушение спартанской элитой
общесистемного синергетического закона. А именно: закона обратно
пропорциональной взаимозависимости между увеличением
площади интенсивной обменной активности системной периферии
Пелопоннесского союза и ростом скорости экстенсивного
(главным образом — ресурсного) неэквивалентного обмена с внешней
средой системного ядра Пелопоннесского союза. В гомеостатиче-
ской метасистеме Пелопоннесского союза расширение площади
периферийного (сферного) обмена должно было синергетически
компенсироваться снижением скорости ядерного обмена
государства-гегемона. Спартанская элита повела себя несистемно.
Непрерывно воюя, быстро наращивая непомерный объем военно-
политических реквизиций и непроизводственного потребления,
государственно сплоченные спартиаты стремились к сохранению
гомеостазиса Ликургова строя. Но сохранять его приходилось в
изменчивой среде. Для внерыночного выкачивания ресурсов из
продуктивной рыночной среды Пелопоннесского союза, Спарта
поставила ее под неусыпный военный контроль и непропорционально
расширила пространство своего политического доминирования.
С такой масштабной (по сути — имперской) задачей не могла
справиться маленькая «аристократическая республика равных», силой
насаждавшая социально-политическое неравенство в
преимущественно демократической среде.
239
Голос городского глашатая
Чернь — это народ без демократии.
Г. К. Честертон
Ионийские пастухи прибрежной Аттики в критических условиях
оголения почвы перешли к интенсивному сельскохозяйственному
производству. Они занялись разведением виноградников и оливковых
деревьев, идеально приспособленных к земле, бедной гумусом.
Специализация и интенсификация производства дали обильные
плоды. Хорошо сохраняющиеся виноградные вина и оливковое масло
производились в количествах, избыточных для внутреннего
потребления. Возникла устойчивая потребность в разнообразных керамических
сосудах. Бурное развитие получили гончарные мастерские. Последовал
технологический взрыв в смежных отраслях реального сектора
хозяйствования, на основе разделения и индивидуализации труда. Оставался
только один шаг к частной собственности на орудия труда, средства
производства и продукцию производственной деятельности.
Но этот шаг, ретроспективно кажущийся столь коротким, сумели
сделать к VIII в. до н. э. только греки. В чем его основная культурная
и цивилизационная сложность? Она заключается в очевидном
противоречии частной собственности с общественной природой
человека, с моралью внутригрупповой солидарности и альтруизма, с эволю-
ционно оправданными навыками первобытного коллективизма. Даже
в XIX в. философские умы Европы (например — Прудон) именовали
собственность «кражей», а главную дисфункцию системы развитой
рыночной экономики усматривали в исходной дивергенции целей
частных собственников и общества в целом. Основное противоречие
капитализма (между общественным характером производства и
частным способом присвоения его результатов) Маркс объявлял
антагонистическим, неспособным к разрешению в рамках
капиталистической системы и требующим ее революционного слома.
Изначально, частная собственность в Элладе появилась как
продукт обычая, а не в результате правового установления. Оголение
легких известковых почв Аттического полуострова сделало их
непригодными для коллективного (родоплеменного) пастбищно-перегонного
скотоводства. Образовались обширные анклавы ничейной земли.
Их занимали небольшие инициативные группы, создававшие новые
мелкоконтурные хозяйства на основе интенсивного земледелия,
садоводства и ремесленного производства. Подобно тому, как социально-
психологическое ощущение «не-мы» формируется раньше самоиден-
240
тификации «мы», социальная норма «не мое» культурно
обусловливает норму «мое». А «не моим» социально-психологически (вне права)
Легче всего становится «мне не нужное». Например — земля,
потерявшая в результате денудации былое плодородие. Родовая
собственность на эрозированную землю без социальных конфликтов
трансформировалась в частную. Ликвидными пассивами афинской
приватизации в VIII—VI вв. до н. э. были пустующие земли, не пригодные
для перегонного скотоводства. Производственные активы
повышенной ценности, например — Лаврийские серебряные рудники в Аттике
(имевшие для Афин экономическое значение, подобное сибирским
газонефтяным месторождениям — для России) остались в
государственной собственности.
Избыточное производство транспортабельного продукта
стимулировало прибрежный, а затем и межостровной обмен. Благо острова
в Восточном Средиземноморье всегда в пределах видимости друг от
друга. Гончарное ремесло и судостроение вызвали концентрацию
населения в местах, удобных непосредственным выходом к морю.
Мотором инновационной экономики стало торговое мореплавание.
А оно требовало индивидуальной активности, предприимчивости.
Постоянный риск зарубежных товарообменных предприятий
ослаблял заинтересованность в них родовых старейшин и усиливал
индивидуальную ответственность инициативных торговцев. Ее
естественным выражением стала частная собственность на предметы торговли,
четко локализованные пространством палуб и судовых трюмов.
Однако построить и оснастить вместительное торговое судно было
под силу лишь демам — первичным органам территориально-
общинного хозяйствования и самоуправления. С их поддержкой и
под их контролем создавались и функционировали
негосударственные кораблестроительные корпорации — навкрарии.
Судовые экипажи комплектовались не по кровно-родственному, а
по функциональному признаку: кормчие, воины, гребцы. Успех
опасного предприятия все более зависел от нелинейных факторов: не
только от привычной синхронности действий гребцов, но и от умения
воинов сражаться вне толпы или строя, от способности кормчих
прокладывать корабельный курс по неизведанным маршрутам. Право на
нестандартные, не освященные традицией управленческие решения
принадлежало самым умелым и опытным членам экипажа. А он
состоял из людей равных друг другу (равных — перед лицом неуправляемой
и враждебной стихии). Поэтому кормчего определял свободный и
жизненно заинтересованный выбор всех и каждого в отдельности.
Судовой экипаж стал работающей микромоделью нового
негосударственного сообщества. Его можно было бы назвать «республи-
241
кой» — общим делом. Найденные и опробованные в судовом экипаже
организационные формы общего дела, не обусловленного
генетически, закреплялись правовыми обычаями и нормами, этатизировались.
Вернувшись на родину, отчитавшись за корабль перед навкрарией и
готовясь к следующим внешнеторговым предприятиям, экипаж не
терял функциональные принципы и рабочие навыки
«республиканизма». Навкрарии имплантировали их в повседневную жизнь
территориально-общинного дема, так как в VIII—VI вв. до н. э. они
выполняли в деме роль одной из основных несущих конструкций
новой экономики.
Показательно, что в политическом языке древних греков вместе
со словом «демократия» не появился термин, соответствующий
римскому понятию «республика». Отсутствие отрефлексированно-
го понятия свидетельствует о содержательной неразвитости и
формальной неотчетливости самого предмета обозначения. Содержание
любого общественного установления нагляднее всего предстает в
истории его становления. Греческая территориально-общинная
демократия изначально противостояла родовой аристократии.
Античные города-государства формировались путем расширения
социальной базы аристомонархии, при сохранении ее древнего
«фасада». Государственно-правовые и религиозные ритуалы
аристомонархии сохранялись и в полисном устройстве. Структурно они
похожи и совместимы. Поэтому новое вино здесь могло сохраняться в
старых мехах. Иное дело — демократия. Ее функциональная
несовместимость с «властью лучших» вызвала к жизни не только
особый предмет обозначения, но и отчетливое, отрефлексированное
государственно-правовое понятие демократии.
Оппозиция политическому фамилиализму
. породила демократию
Для нас человек, который не
вмешивается в политику, заслуживает имени не
мирного гражданина, но — гражданина
бесполезного.
Перикл
Перикл исполнял в Афинах выборную должность первого
стратега в 450-429 гг. до н. э. Его имя и государственные дела широко
известны, но только специалисты по истории античности знают дела
242
законодателя Клисфена. Однако по мнению Аристотеля, именно
Клисфен является подлинным основателем демократии. Перикл был
внучатым племянником Клисфена. Он управлял Афинским полисом
в рамках уже утвердившейся клисфеновской конституции.
Основатель демократии десять лет, подобно Солону, провел в
изгнании, скорее всего — в греческих колониях Восточного
Средиземноморья. Там он мог наблюдать поисковые
организационные формы общественной жизни, стимулирующие внеродовую,
индивидуальную активность колонистов в самоуправлении колонии.
Вернувшись в Афины, Клисфен избирается народом на должность
первого архонта, наделенного учредительными полномочиями. В
период своей чрезвычайной, но краткой магистратуры (в 507-506 гг.
до н. э.) Клисфен успел осуществить радикальную политическую
реформу государственного строя Афинского союза территориальных
общин.
Клисфеновская конституция явилась толчком для развития
принципиально нового государственно-общественного уклада, открыто
порвавшего с традициями политического фамилиализма.
Постепенное освобождение индивида от клановых и семейных связей
происходило в течение предшествовавших двух веков. Таким образом, в
социально-психологических формах реализовался греческий
рационализм VII—VI вв. до н. э. Рационализация общественной жизни
внесла существенный вклад в становление государственных форм
афинской демократии. Открытый разрыв с властью больших
старинных семейств преобразовал электоральную базу, на которую
опирался Клисфен. В додемократические времена фамилиализм являлся
универсальной формой социальности. Демократия превратила
общность кровнородственных семей в общество.
Семья (genos), в том виде, как ее знали греки, являлась тесной
группой. Она сохраняла свою политическую автономию,
наследственных руководителей, свой культ, собственную администрацию и
семейный суд, решения которого считались окончательными
(безапелляционными, то есть не передаваемыми на суд апеллы —
народного собрания). Такая внутригосударственная автаркия опиралась на
экономическую самодостаточность больших семей. Семейная
экономика VIII—VII вв. до н. э. была исключительно пастушеской и
аграрной. Genos имела несколько взаимообусловленных атрибутов:
политический фамилиализм, родовую традицию, замкнутое коммунотар-
ное сообщество. К VI в. до н. э. эти атрибуты практически утратили
социально-экономическое оправдание. На общественную авансцену
выдвинулись инновационные группы. Вследствие обретения ими
243
критической массы, впервые в истории структурно изменилось
человеческое сообщество. Его авторитарная (вертикально
ориентированная) схема фамилиалистского типа, которая традиционно
складывалась в соответствии с генеалогией и иерархическим порядком вну-
триродовых отношений, уступила историческое место
горизонтальным связям территориально-общинных структур.
Территориально-общинная оппозиция фамилиализму
сформировала политическую демократию. Клисфен получил учредительные
полномочия, опираясь на экономически активный demos. В VI в.
до н. э. Афины осуществляли производственную и внешнеторговую
экспансию. Главными действующими лицами последней являлись
частные собственники: ремесленники, небольшие промышленные
предприятия, коммерсанты, пайщики навкрарий, судостроители,
городские домовладельцы, владельцы мелкоконтурных агрохозяйств.
Социальную базу политической демократии Клисфен расширил,
введя в гражданский корпус некоторое количество иностранцев и
домашних рабов.
Демократия разрушила политическое пространство,
структурированное в соответствии с внутрисемейными отношениями
крупных земельных собственников. Политическая карта Аттики
радикально изменилась. Теперь она состояла из трехсот демов, которые
составляли ее территориально-общинную государственную базу.
Новые политические институты уже не соответствовали
аристократическим большим семьям. Каждый из демов входил в одну из
тридцати триттий: десять из них являлись городскими, десять
прибрежными, десять принадлежали к внутренним областям Аттики.
Триттий группировались в трибы. Каждая триба состояла из трех
триттий, принадлежавших к трем территориальным секторам. Итак:
демы, триттий, трибы. В VI в. до н. э. полис (торгово-ремесленный
город-государство) уже являлся сердцем Аттики. Это — решающее
политическое обстоятельство, изменившее государственный облик
полуострова. Городская революция VI в. до н. э. сопровождалась
экспансией новых экономических сил. Данные силы развивались
вне аграрных аристократических genos. С середины VI в. до н. э. в
политическом пространстве Афин уже не было места для
внегородских региональных «партий».
Клисфеновская реформа логически вытекала из предшествующей
двухвековой эволюции афинского полиса. В течение двух
последующих веков эта новая политическая география приходила в
структурное соответствие с изменившимся институциональным обликом
Аттики. Реформы 507-506 гг. до н. э. резко ускорили эволюционный
244
процесс. И уже полвека спустя после Клисфена Перикл стал лидером
дфин в наиболее величественный период их расцвета.
В доклисфеновскую эпоху устойчивое равновесие между
большими фамилиями обеспечивало протогосударственную стабильность.
Господство земельной аристократии внегородских аграрных
областей не зависело от волеизъявления граждан (горожан). Совершенно
открытым порядком авторитарный фамилиализм
(персонифицированный наследственной должностью базилевса) являлся для
крупных земельных собственников Аттики орудием политического
доминирования в Афинах. Клисфеновские реформы противопоставили
новые территориальные общины (коммуны) старым родам.
Аристотель писал о Клисфене: «Он распределил сограждан
демов (демотов) по коммунам, для того, чтобы помешать им
пользоваться ссылками на патриархальные авторитеты и угнетать таким
образом новых граждан»1. Уточним в связи с этим содержание
политического понятия фамилиализма. Он не сводился к
устойчивости семейных привязанностей субъектов гражданских
правоотношений. Фамилиализм представлял собой организацию публичной
жизни граждан в соответствии с частным семейным порядком.
После реформ Клисфена резко снизился государственный вес
землевладельческой аристократии. Демократически
организованный город подчинил себе авторитарно управляемые аграрные
области Аттического полуострова. Гражданская (городская) община
отвергла авторитарный стиль принятия государственных решений,
опирающихся на несуществующее «морально-политическое
единство афинского народа». Социальные конфликты, экономические
противоречия, политические оппозиции — все обнажалось в ходе
публичных дискуссий на городской агоре. Агора стала местом
политических собраний граждан. Урегулирование разногласий
совершалось в результате открытых дебатов. Оно позволяло реализовать
несколько сценариев ответов на проблемы. Принятие решений
осуществлялось мажоритарным голосованием. Новые должностные
лица назначались на ограниченный срок либо голосованием, либо
по жребию. Так выглядела организационная схема прямой
демократии, созданная Клисфеном. Основной сутью клисфеновской
революции явился новый тип непосредственного участия экономически
активного демоса в функционировании новых, уже —
государственных институтов.
1 Аристотель. Конституция Афин XXI, 4. Цит. по: Mendel G. Une histoire
de l'autorité. Édition de la découverte. Paris, 2002. P. 139.
245
В государственной жизни преодолевалась религиозно
санкционированная патриархальная система управления, подобная
иерархически управляемому Олимпу. Там Зевс выступал в качестве отца.
Правящая семья богов состояла из старших сыновей, над которыми
Зевс имел верховную власть. Младшие боги, не имеющие
родственных отношений с Зевсом, представляли собой управляемое общество
небожителей.
Этот традиционный порядок в VII в. до н. э. начинал ослабевать.
Однако патриархальный авторитет сохранялся. Он продолжал
являться основой социальных связей, но постепенно уходил из
политики. Последняя стала состязательной, полемичной. А полемика
разрушает любые авторитеты. Авторитетом является лишь то, что
не оспаривается. Ему подчиняются без объяснений, без оправданий,
без дискуссий. В условиях демократии на самом высоком уровне
государства, все стало публично оспариваться, дискутироваться.
Политик, для того чтобы его действия получили одобрение
граждан, должен был представлять на агоре свои объяснение,
оправдания, аргументацию.
Новые государственные ценности питались двумя источниками:
дееспособностью граждан и массовым стремлением к
производственным инновациям. Дееспособность состояла в следующем:
демократический закон предоставлял субъекту инноваций возможность
воспользоваться их плодами не только в экономическом, но и в
политическом и социальном планах. Массовое стремление к творчеству
поддерживалось государством: изменения признавались в качестве
мотора городской экономики. Таким образом, «Традиция новшеств»
родилась в Европе 2600 лет тому назад, а не в Новое время, как можно
было бы предположить, исходя из теоретических постулатов
линейного развития техногенной цивилизации. Парадигма
инновационного развития городской экономики формировалась исторически
одновременно с частной собственностью и политической демократией.
Городская экономика изначально отличалась от аграрной
большей изменчивостью. Сельхозпроизводство осуществлялось в
соответствии с сезонными неизменными циклами. Встраивание в
природные циклы приносило успех. Выпадение из цикла наказывалось
снижением итоговой продуктивности. Нововведения в сельском
хозяйстве были крайне редкими. Они не поощрялись. В городской
экономике, напротив, способность индивидов к творчеству-материально
стимулировалась. Результатом явилось усовершенствование
техники, расцвет искусства и научной рефлексии. Именно в рамках клис-
феновской конституции пережили Афины свой золотой век.
246
Практическую оценку вышеназванных антропологических
ресурсов нового государственного порядка дает Перикл. Дееспособность:
«Мы вмешиваемся, каждый личным образом, в управление городом.
Мы делаем это посредством нашего голосования». Стремление к
творчеству: "У нас каждый человек имеет возможность получить
ресурсы для их использования в самых разнообразных формах своей
деятельности"»1.
Итак, в VI в до н. э. изменились система государственного
представительства демотов, их участие в политике и государственная роль
религии. Политическое пространство в буквальном смысле стало
материальным, видимым. Оно было создано, территориально
ограничено, вписано в городскую среду. Агора явилась концентрированной
манифестацией высшего органа демократии. Афинские граждане
создали особую зону своего политического функционирования,
регулярно собираясь на холме Пникс. На этом холме раньше проводились
религиозные празднества и ритуалы. Секуляризация
государственной жизни в V в. до н. э. зашла так далеко, что места древних
религиозных культов уже использовались в профанных целях, в качестве
площади для народных собраний.
Эта секуляризация повлияла и на массовые представления о
времени. Афиняне перестали подчинять свою повседневную жизнь
религиозному лунному календарю. Демократический отсчет времени
осуществлялся в рамках года, состоявшего из десяти месяцев по 36
дней. Модифицировалась и система счета. Считавшаяся ранее
исходной, священная цифра 12 соответствовала количеству основных
богов эллинского Пантеона и количеству месяцев религиозного
календаря. Разрыв со священной традицией, одновременно этнической
и религиозной, символизировался выбором базового числа 10. Эта
десятичная система уже давно использовалась в повседневной жизни,
в коммерческой деятельности, в письменности, основанной на
фонетическом алфавите. В реальности, секуляризованная система счета
соответствовала зримому образу десяти пальцев на руках.
Архе и кратос
Политические формы афинского города-государства VIII-VI вв.
До н. э. складывались эволюционно. Державный суверенитет вер-
1 Mendel G. Une histoire de l'autorité. P. 141.
247
ховных вождей=базилевсов постепенно ограничивался
распорядительной властью архонтов=глав родов, объединенных в родо-
племенной военный союз, но сохранявших автономное владение
территориями своего постоянного обитания и хозяйствования.
Цивилизационный переход к оседлому образу жизни заметно
ослабил власть походного военного вождя. Падение продуктивности
экстенсивного перегонного скотоводства стимулировало
интенсификацию мелкоконтурного хозяйствования. В соответствии с его
успехами, значительно возросли экономическая самостоятельность
и политическая роль самоуправляющихся территориальных
(некровнородственных) общин=демов.
Протогосударственные функции базилевсов имели отчетливо
военный характер. Господство советов родовладык характеризовалось
преобладанием судебно-административных функций. Решение
воспроизводственно-продуктивных задач переместилось на уровень
самоуправляемых низовых структур-демов. Когда эти задачи вышли
на первый план и решение их превратилось в главное условие
выживания этноса, тогда воины, пастухи и земледельцы посредством си-
нойкизма (федеративного союза) сомкнулись в полис. Последний
явился формой разрешения противоречия между двумя принципами
интеграции некровнородственных сообществ. Эвпатриды (афинский
аналог римских патрициев) являлись защитниками родового
несменяемого отечественного авторитета базилевсов и архонтов. Демос
искал обеспечения своих интересов в территориальной организации
сменяемой государственной власти магистратов.
«Архе» (державно-родовой суверенитет, наследственное и
бесконтрольное господство базилевсов и родовых старейшин — отсюда
«патриархия», «монархия, «олигархия») в VII в. до н. э. уступило
свои политические позиции выборным и регулярно сменяемым
институтам самоуправления, представлявшим в своей совокупности
«кратос». Возникла принципиально новая организационно-
правовая ферма государственного устройства — демократия.
Сакральное наследственное, протогосударственное господство
родовладык сменилось десакрализованной, выборной и сменяемой
властью государственных магистратов. В результате городской
революции VI в. до н. э., традиционный авторитет землевладельческой
аристомонархии склонился перед принуждающей силой
вооруженных и экономически самодостаточных горожан, демократически
организованных в полис.
В торгово-ремесленных городских «республиках» не могло быть
количественного преобладания граждан, экономически пассивных и
248
неимущих. В сельском демосе, не вовлеченном в торговое
мореплавание, ремесленное производство и сохранившем реликты общинного
землепользования, неимущие численно преобладали. Поэтому в
интересах своего политического выживания в демократическом
окружении неимущих, территориальные «микрореспублики» средних
слоев вступали в союз с прагматичными представителями родовой
землевладельческой аристократии, заинтересованной в
сотрудничестве с новой экономикой. Так готовились предпосылки афинской
архаической революции начала VI в. до н. э.
Конституционные полисно-демократические реформы 594 г.
до н. э., осуществленные обедневшим аристократом Солоном,
республикански завершил через 50 лет небогатый аристократ Клисфен.
Республиканизацию Афин прервала на несколько десятилетий
демократическая тирания Писистрата, окружившего себя тремя сотнями
бедняков, вооруженных дубинами, и под их охраной поднявшегося
на Акрополь. Республика — это тип государственного устройства.
Демократия — способ политического правления. Они соотносятся
друг с другом как структура и функция, статика и динамика.
Цивилизационно, как и биологически, функция рождает орган.
Но конкретно-исторически, событийно, политическая практика часто
деформирует организационно-правовую структуру государства.
Тирания в античной Греции — персонифицированное
воплощение непосредственной демократии, не способной институционально
обеспечить политическое сотрудничество имущественно не равных
граждан. Тиран приватизирует орудие государственного
внеэкономического принуждения в интересах перераспределения валового
внутреннего продукта. Часть его отбирается от экономически
активных граждан и бесплатно передается экономически пассивным,
политическая поддержка которых покупается. Такая небескорыстная
поддержка значима для публичной власти только в условиях
непосредственного народоправства. «Тиран возникает... из корня,
называемого народным представительством» (Платон). Обратный
политический путь от тирании к республике — институционализация
государственной власти, регулярно действующей на представительной,
гражданской, то есть — цензовой основе.
Исторический компромисс между рыночно ориентированной
родовой аристократией, мелкими землевладельцами, ремесленниками
и торговыми слоями Афин создал в VI в. до н. э. небывалую до той
поры форму государственного устройства: полисно организованную
«квазиреспублику», основанную на частной собственности,
индивидуальной свободе и политическом равенстве экономически не рав-
249
ных граждан. Самостоятельное распоряжение гражданами своими
продуктивными возможностями и независимость сферы частной
жизни, четко отделенной от сферы публичной, было узаконено
реформами Солона и Клисфена. Индивидуализированная
собственность стала необходимым условием независимости частной жизни
граждан, развития ремесел и торговли.
Экономическая деятельность граждан превратилась в их частное
дело. Плотная сеть коммерческих отношений между
территориальными общинами, связавшая их в города-государства, уже не зависела
от родовладык. Последние могли контролировать только общинное
землепользование. Но — не городское ремесленничество,
переработку сельхозпродукции и частную торговлю. Перераспределение
избыточного продукта ускользало из рук родовой верхушки. Архонты,
например, запрещали экспорт винограда и оливок. Новая экономика
отвечала на это экспортом вина и оливкового масла.
Индивидуализация производства и торговли на основе
разделения труда — магистральный путь человеческого прогресса. Сам по
себе, он не ведет к частной собственности и индивидуальной свободе,
если распределение продуктов труда остается общественным,
родовым, государственным, то есть — нерыночным.
Двухэтапная архаическая революция начала и конца VI в. до н. э„,
утвердившая в Афинах новый квазиреспубликанский
государственный строй, вызвала яростное сопротивление антирыночно
ориентированной землевладельческой знати и части демоса, не вовлеченного
в торговлю и ремесло. Тирания (господство героической личности,
опирающейся на вооруженных бедняков) была
квазидемократическим ответом на политическое доминирование средних слоев.
Мобилизующий лозунг тирании — государственный контроль над
дефицитными ресурсами и централизованная редистрибуция
прибавочного продукта. Писистрат пытался контролировать содержание
даже песен аэдов о заморских путешествиях.
Дошедшие до нас тексты «Илиады» и «Одиссеи» записаны в VI в.
до н. э. и, возможно, отредактированы при Писистрате под
антиреспубликанскую идеологию несменяемых военных вождей,
харизматических лидеров, окруженных преданными соратниками.
Политическая адаптация широко известного произведения не могла быть
существенной: оно создавалось за несколько веков до появления
античных полисов. Записанный в VI в. до н. э., древний гомеровский
эпос приобрел неотчетливый антиреспубликанский пафос
посредством артикуляции... аристомонархического. Ахилл и Одиссей
поэтически воспеты в эпоху реального исторического заката родовых
250
протогосударств. Их зыбкие политические очертания тают в лучах
заходящего ахейского солнца. В самом деле, к VI в. до н. э. регулярная
морская торговля, частная собственность и политическая
демократия материально покончили с аристомонархией. Но политэкономия
не могла духовно преодолеть протогосударственную мифологию
героев и толпы.
Традиционная мораль и античная философия VI-IV вв. до н. э.
осуждали торговлю, индивидуальную свободу и частную
собственность, создающие экономическое неравенство граждан. Спартанцы,
например, не признавали принцип неприкосновенности частной
собственности, поощряя воровство как проявление стихийного
эгалитаризма и запрещая обогащение граждан. Древние обычаи спартанцев
вызывали ностальгию у Платона и Аристотеля. В
милитаризированной Спарте первого привлекала тотальность государственной власти,
а второго — приоритет общего перед частным.
От родового протогосударства —
к территориально-общинному государству
До конституционных реформ Солона, избранного для этих целей
первым архонтом в 594 г. до н. э., в афинском родовом протогосудар-
стве этническая идентичность определялась принадлежностью к
одному из старинных патриархальных родов — монопольных
собственников территорий совместного проживания. Родовые
старейшины составляли правоустанавливающий слой. Этим в основном и
отличалось родовое протогосударство от территориально-общинного
государства, политической единицей которого являлась отдельная
правоспособная личность. Распределение граждан по военно-
податным категориям, в соответствии с солоновско-клисфеновской
конституцией, обусловливалось их персональным имущественным
состоянием и видом личных, оплачиваемых занятий,
осуществляемых на профессиональной основе. То есть — признаками классообра-
зующими.
Солоновскими и клисфеновскими реформами 594 и 506 гг. до н. э.
были установлены уровни доступа граждан к занятию полисных
должностей. Степень допуска к участию в политических конкурсах
зависела от принадлежности афинянина к одному из четырех
податно-военных классов. Поземельный годовой доход гражданина
первого класса пентакосиомедимнов не мог быть менее 500 драхм.
251
Нормативный доход гражданина второго класса всадников равнялся
300 драхмам. Имущественный ценз третьего класса мелких крестьян^
зевгитов был определен суммой в 200 драхм. Меньший поземельный
годовой доход любого афинского гражданина, независимо от родовой
принадлежности, переводил его в неполноправный четвертый класс
наемных работников — фетов.
Все высшие, выборные, назначаемые по жребию и замещаемые
путем кооптации, государственные должности (архонтов, стратегов,
полемархов, навархов, казначеев, ареопагитов) могли занимать
только граждане первого класса. Правом выставлять
тяжеловооруженное войско гоплитов и всадников обладали первый, второй и
третий классы. Малоимущие граждане четвертого класса не
допускались к исполнению любых государственных функций. Они
участвовали только в народном собрании и суде. Четвертый класс
формировал легковооруженное войско и экипажи морских военных и
торговых судов. Эта служба в VI в до н. э. не считалась
государственно важной. Отношение к ней изменили греко-персидские
войны начала V в. до н. э. А бурные политические события IV в.
до н. э. продемонстрировали грозные возможности институтов
непосредственной демократии — афинского народного собрания и суда,
при количественном преобладании в них малоимущих граждан.
Первые бреши в древнем родовом строе афинского протогосу-
дарства были пробиты острым аграрным кризисом VII в. до н. э.
Ускорившийся рост народонаселения, обусловленный оседлым
образом жизни, значительно усилил демографическое давление на
естественную среду обитания. Создание заморских эллинских
поселений (клерухий) лишь частично поглощало избыточное
население. Разраставшиеся семьи превращались в новые рода, охотно
принимавшие под свое покровительство множество хозяйственно
зависимых от них чужеродных афинских граждан. Между тем,
площадь пастбищ на Аттическом полуострове, в связи с ветровой и
водной эрозией легких почв, неуклонно сокращалась. Городская
концентрация ремесленного производства многократно расширяла
экологически вмещающий объем аттических экосистем.
Межостровная торговля вовлекала в экономический оборот новые
материальные ресурсы, недоступные для продуктивного
использования на традиционной технологической базе экстенсивного
хозяйствования. Интенсификация и специализация мелкоконтурного
сельского хозяйства посадочных культур обеспечивала товарный
прирост предназначенной для рынка избыточной аграрной
продукции. Усиливались экономические и, следовательно, политиче-
252
ские позиции предприимчивых родов, вовлеченных в
инновационную экономику.
Интенсификация производства повышала уровень его
многообразия и состязательности. Увеличивалась разность экономических
потенциалов хозяйствующих субъектов, имеющих неодинаковый
доступ к неравномерно распределенным материальным ресурсам.
Прежде всего — к земельным участкам неодинакового плодородия,
близости к морским гаваням и торгово-ремесленным поселениям.
Нарастало противоречие между субъектами хозяйствования и
бенефициарами земельной ренты: землепользователями (семьями
близких родственников) и титульными собственниками земли —
большими патриархальными родами. Противоречие разрешилось в
кризисных условиях VII в. до н. э. массовым переходом в частную семейную
собственность эрозированных родовых земель. Однако возникла
дополнительная дисфункция системы интенсивного земледелия,
требовавшего инвестиций в основной капитал. Новые владельцы мелких
земельных участков, не имея собственных финансовых ресурсов,
обременялись поземельными долгами. Аттика покрылась, как
надгробными памятниками мирно усопшей родовой земельной
собственности, долговыми ипотечными камнями. Ссудные 18-20 % годовых,
под залог участков, не считались в VII в. до н. э. чрезмерными.
Кредиторами первоначального накопления капитала в ту эпоху
являлись жители морского побережья, занятые ремеслом и
торговлей. Оборачиваемость торгово-промышленного капитала была
намного выше, чем у земельного капитала, привязанного к природным
циклам сельскохозяйственного производства. Ликвидные
платежные средства концентрировались внутри прибрежных демов.
Коллективными ссудными кассами распоряжались наиболее
предприимчивые демоты. Именно они объединялись в корабельные
корпорации — навкрарии (греч. «навкр» — корабль).
Торгово-промышленные корпорации выступали в роли узлов финансовой
инфраструктуры инновационной экономики.
К началу VI в. до н. э. в Афинском государстве насчитывалось 48
навкрарии. Демократическая полития граждан-воинов имела
преимущественно аграрный характер. Она взимала с крупных
собственников торгово-промышленного капитала особый корпоративный
налог. Каждая из навкрарии была обязана построить для
государственных нужд одну трехпалубную пятидесятивесельную триеру и
выставить на военную службу двух полностью экипированных
всадников. Аттика имела мало лошадей, из-за нехватки пастбищ.
Немногочисленная афинская конница в греко-персидских войнах
253
играла вспомогательную роль. Сражения при Марафоне и Платеях
выиграла силовая опора цензовой демократии — тяжеловооруженная
пехота. Обширными пастбищами располагали в VIII—IV вв. до н. :•>.
лишь Македония и Фессалия. Сокрушающий удар по греческой
цензовой демократии был нанесен в IV в. до н. э. фессалийско-македон-
ской конницей, «оседланной» македонской аристомонархией.
Ударную силу войск царя Филиппа II и его сына Александра Македонского
составляли сплоченные отряды этеров — всадников из одной
местности. Их концентрированные атаки решали исход всех сражений,
данных Филиппом II и Александром Великим.
Афинская демократия опекала малое предпринимательство.
Солоновская конституционная реформа осуществила частичное
списание инвестиционной поземельной задолженности мелких
предприятий новой экономики. Это было сделано посредством: а) зачета
уже внесенных процентов в уменьшение основного долга, б)
девальвации долгов через перевод всей денежной системы Афин с эгинских
талантов на эвбейские, золото-серебряное содержание которых было
на 27 % меньше. Конституционное закрепление получила частная
собственность на землю, а родовая, к тому времени фактически
исчезавшая, запрещалась юридически.
Мелкие предприятия афинской аграрной экономики
размещались вне державного города дисперсно и достаточно равномерно,
исходя из вмещающих объемов природных ландшафтов. Торго-
во-ремесленные предприятия концентрировались в Афинах и
вдоль неширокой полосы морского побережья Аттического
полуострова, изрезанного многочисленными бухтами. Территориально-
общинная, внеродовая привязка производительных сил афинского
общества и горизонтальные кооперационные экономические связи
между равноправными субъектами хозяйствования
предопределили способы их государственной организации и политического
сотрудничества.
Афинский полис VI-V вв. н. э. стал образцом строго
дозированного внутреннего системного неравновесия и управляемой внешней
устойчивости. В начале VI в. до н. э. афиняне создали первую в
истории эффективно работающую модель государства, подчиненного
гражданскому обществу. Четко разделились первичные структуры
постоянного общественного самоуправления и вторичные органы
делегированной, регулярно сменяемой государственной власти.
При этом самоуправляющиеся общинные структуры были
экономически самодостаточными, а органы власти — бюджетно
ограниченными.
254
Территория Афинского государства разделилась на 300
самоуправляющихся общин-демов, во главе с выборными демархами.
С тех пор к имени полноправного афинского гражданина
обязательно добавлялось название его дема, что обозначало принадлежность
гражданина к региональному отделению общего избирательного
корпуса. Посредством делегирования и в зависимости от численности
населения дема, формировался персональный состав кандидатов в
члены совета пятисот — высшего законосовещательного органа
города-государства. Государственное управление не входило в
компетенцию совета. Выборы в совет пятисот осуществлялись методом
жеребьевок, в которых участвовали делегаты от демов. Каждая
десятая часть членов совета пятисот (то есть — пятьдесят человек)
поочередно работала на постоянной основе. Магистратура пятидесяти
граждан именовалась пританией. Обычный календарный год,
состоявший из 360 дней (високосный равнялся 390 дням), разбивался на
десять пританий по 36 дней. Предварительно обсужденный и
сформулированный пританией законопроект представлялся на
утверждение народному собранию.
Законодательная и апелляционная судебная власть
принадлежала народному собранию полноправных афинских граждан —
совершеннолетних мужчин. За родами Солон оставил функции
политических консультативно-избирательных и религиозных коллегий.
Продолжатель солоновских реформ Клисфен в 507-506 гг.
до н. э. сгруппировал экономически наиболее развитые прибрежные
демы в 10 триттий, прибавив к каждой триттии по одной группе
городских и по одной — сельских демов. В итоге получились десять
политических избирательных округов, названных филами. Таким
образом, был обеспечен электоральный перевес более богатых и
населенных прибрежных демов. Естественно, реформами Солона-
Клисфена оказались удовлетворены более остального населения
жители морских побережий — афинский средний класс. Члены
удаленных от берега равнинных и горных бедных демов остались
политически плохо представленными. Опираясь преимущественно на
горцев, и захватил государственную власть Писистрат, правивший
(с перерывами) в 563-527 гг. до н. э.
Высший контроль за деятельностью всех органов
государственной власти и управления осуществлял ареопаг — аристократический
по своему персональному составу. Ни Солон, ни Клисфен не
решились посягнуть на древние прерогативы этого реликта родового про-
тогосударства. Власть древних царей Аттики издавна была
ограничена советом родовладык. Из этого древнего царского совета и вырос
255
ареопаг — сенат территориально-общинного демократического
афинского государства VII-V вв. до н. э. Состав пожизненных ареопагитов
пополнялся за счет бывших архонтов — периодически сменяемых
глав исполнительной власти.
Ежегодно, с 487 г. до н. э., нескольких архонтов избирало
афинское народное собрание. В жеребьевке кандидатов на должности
архонтов участвовал ограниченный (500 человек) круг граждан
первого класса (в основном — демархов и родовладык), выставленных
филами. Общее собрание граждан таким образом ограничивалось в
его державном своеволии. Над ним довлел традиционный авторитет
родовых старейшин. Поэтому афинская непосредственная
демократия подозрительно и ревниво относилась к архонтам, постепенно
урезая их полномочия. Политическая власть в течение V в. до н. э.
постепенно сосредоточивалась в руках народных
лидеров-демагогов. Их неформальное личное влияние и популярность
подкреплялись государственной должностью стратегов. Если архонтов нельзя
было избирать более чем на год, то на стратегов такие ограничения
не распространялись. Перикл избирался первым стратегом
четырнадцать лет подряд. Вспомним, что Солон и Клисфен имели
должности первых архонтов. Их магистратуры ограничивались
годичными сроками.
В середине V в. до н. э. реформами Фемистокла, Эфиальта и
Перикла были ослаблены властные полномочия совета пятисот и
коллегии архонтов, упразднены судебно-контрольные функции
аристократического ареопага. Последние перешли к народному
собранию. Гелиэя, состоявшая из нескольких сотен граждан,
определяемых жеребьевкой, являлась судом первой инстанции. К
исполнению высших государственных должностей стали допускаться
всадники и зевгиты.
Суд черепков
Грозным оружием в руках демагогов, направленным против
аристократов и богатых граждан, был остракизм — всенародный
«суд черепков», проводимый ежегодно. Функции высшего
конституционного надзора, отобранные у ареопага, присвоило
народное собрание. В частности — право лишения политического
гражданства. Остракизм стал частью народного самодержавия, не
ограниченного юридическими процедурами. (То, что право — это
256
прежде всего процедура, усвоила в полном объеме лишь римская
демократия.)
Афинский «суд черепков» не признавал ни открытого состязания
процессуальных сторон, ни гласного судоговорения, ни права
обвиняемого на защиту. Народный суд был простым, скорым и часто
неправедным. На глиняных черепках (остраконах) писалось имя
любого афинского гражданина. Только имя, без формулирования
конкретного обвинения. Если при подсчете черепков с одним и тем же именем
их оказывалось не менее 6 тысяч, имярек изгонялся на десять лет из
пределов Афинского государства и лишался у себя на родине всех
гражданских и политических прав. Если в течение десяти дней после
народного вердикта он обнаруживался на территории полиса, то
подлежал казни без суда и следствия. Убить изгнанника мог любой
афинский гражданин.
Обоюдоострым, стремительно разящим мечом остракизма охотно
пользовались многие вошедшие в историю прогрессивные политики.
Идеологом превращения Афин в сильную морскую державу был
Фемистокл. В должности первого архонта (ограниченного годовым
сроком магистратуры), он мало что мог успеть. Очередной первый
архонт был бы вправе отменить распоряжения предшественника.
Поэтому Фемистокл последовательно устранял с политической
арены всех, кто мог помешать осуществлению его реформаторских
обширных и дорогостоящих планов.
Мильтиад, один из десяти командующих победоносными
афинскими войсками в битве 490 г. до н. э. при Марафоне, чей
полководческий талант и решил дело, выступил политическим противником
морской стратегии развития Афин. Мильтиад выражал политико-
экономические интересы землевладельческой аристократии,
заинтересованной в наращивании сухопутных вооруженных сил. Недолго
пробыв после марафонской победы героем-спасителем государства и
народа, Мильтиад в 489 г. до н. э. привлекается к народному суду,
приговаривается к штрафу в 50 эвбейских талантов, до уплаты
которого заключается в тюрьму, где и умирает. Обязательства по уплате
штрафа переходят на Кимона, сына Мильтиада. Кимон, блестящий
полководец, герой Второй греко-персидкой войны, уплачивает
штраф, наложенный на отца.
На строительство мощного военного флота в 200 триер
требовалось направить все государственные доходы от эксплуатации
Лаврийских серебряных рудников. В 483 г. до н. э. народное собрание
под влиянием Фемистокла приняло такое решение, и флот успели
построить к началу Второй греко-персидской войны 480-479 гг. до н. э.
257
Исход победоносной для эллинов морской битвы при Саламине
определили численность, сила и маневренное искусство именно
афинского флота, созданного под руководством Фемистокла.
Но для того чтобы убедить недальновидное и непостоянное
афинское народное собрание в стратегической целесообразности отказа от
простого проедания доходов Лаврийских серебряных рудников (эти
доходы ранее поровну распределялись среди полноправных
граждан), Фемистокл предварительно заставил замолчать всех
авторитетных оппонентов. Посредством суда черепков изгоняются: наварх
Ксантипп (будущий победитель персидского флота при мысе Микале
в 479 г. до н. э.), полководец Аристид, стратег Мегакл, родственник
Писистратидов стратег Гиппарх.
В качестве вождя землевладельческой аристократии Кимон
требовал продолжения войны с Персией, потерпевшей поражение в
Саламинском сражении с афинянами. Антиперсидская
послевоенная линия землевладельческой аристократии, возглавляемой
Кимоном, сталкивается с миротворческой программой
Фемистокла. Торгово-промышленные круги Афин, стоявшие за спиной
Фемистокла, после победы в Саламинском сражении не были
заинтересованы в продолжении войны. Они уже вкушали экономические
плоды морской гегемонии Афин. Фемистокл явился лидером
афинского торгово-промышленного среднего класса и привычно
включил карательный механизм завистливого остракизма. Народный
суд черепков изгоняет Кимона.
Торжество Фемистокла длилось менее года. Вскоре после
Саламинской битвы, уже весной 479 г. до н. э., народное собрание
избирает в главные стратеги (вместо Фемистокла) возвращенных из
изгнания Аристида и Ксантиппа. Под давлением Спарты Фемистокл
подвергается остракизму (471 г.) и удаляется в Аргос. В Афинах верх
берет аристократическая партия Кимона, возвращенного из
изгнания. На основании пересланных в Афины Спартой писем Фемистокла
к уже казненному спартанскому царю Павсанию, неблагодарное
афинское народное собрание обвиняет своего бывшего вождя в
государственной измене и заочно приговаривает к смертной казни (468 г.).
Фемистокл бежит к врагу Афин — персидскому царю. В Персии тогда
правил Артаксеркс. Он ласково принимает знаменитого афинянина и
дает ему в пожизненное владение город Магнезию на реке Меандре
(в Малой Азии). Здесь демократический лидер доживает свой
бурный век и умирает в качестве вассала персидского царя.
Следующее столетие отмечено непропорциональным
расширением полномочий главного органа афинской непосредственной демо-
258
кратии — народного собрания. Политические порядки Афин IV в.
до н. э. Платон определял как «театрократию». Аристотель называл
их «бездонной бочкой». Если в конце V в. до н. э. 40 % афинских
граждан жили за счет государства, то через полвека количество
экономически недееспособных увеличилось до 60 % от общего числа
политически полноправных афинян.
Арифметическое большинство государственных иждивенцев
составило опору агрессивной потребляющей демократии. Социальные
притязания неимущих и бездельных масс непрерывно росли.
Особенно быстро — после поражения Афин в Пелопоннесской
войне.
С распадом неустойчивой конфедерации Афинско-Делосского
морского союза исчезла возможность внешнего государственного
грабежа. Афинская демократия переключилась на грабеж
внутренний. Чрезвычайные налоги на имущих (эйсфора), ранее
взимавшиеся лишь в случаях крайней опасности для полиса, стали будничной
демократической процедурой. Цели постоянных поборов: устройство
народных празднеств (хоров, театральных представлений,
карнавальных шествий), регулярных хлебных раздач, наполнение бездонной
бочки театральной кассы (феорикона), оплата массового участия в
непрерывных народных собраниях и судах. Наградой
недобровольным «спонсорам» были почетные именования. При этом титул хорега
(устроителя хора) ценился выше звания триерарха,
финансирующего строительство государственных триер — трехпалубных военных
кораблей.
Судебные конфискации составляли основную заботу
непосредственного народоправства. Свыше 20 тысяч граждан получили по
50 драхм при разделе имущества одного богатого
горнопромышленника. 50 драхм позволяли афинянину месяц не работать. В
перечень государственных преступлений, влекущих за собой
строжайшее судебное преследование (эйсангелию) и полную
конфискацию имущества, входили: связь с замужней женщиной,
приписка не к своему дему, оплата труда флейтисток выше
установленного тарифа и т. п.
Потребляющая демократия резко снизила военный потенциал
афинского полиса. Только пять процентов военнообязанных
всадников и тяжеловооруженных воинов (гоплитов) явились в строй в
драматический момент битвы при Херонее, где решался вопрос
политической независимости Афин. Против Филиппа II Македонского
сражались, в основном, наемники. Пролетарские массы не встали на
защиту опекавшего их режима. Что касается афинского среднего
259
класса, угнетаемого государством вооруженных бедняков, то он
воспринимал царя Филиппа как освободителя.
В период своего расцвета (последняя треть V в. до н. э. — эпоха
Перикла) афинская делегированная демократия представляла собой,
по словам Аристотеля, «политию воинов», смешанный
государственный уклад — аристократически-демократический.
Тяжеловооруженные гоплиты политически олицетворяли средний класс.
Неструктурированная «потребляющая демократия» неимущих
граждан сломала становой хребет самоорганизующегося полиса таранной
силой самодержавного народного собрания.
Завистливое равенство
Товарное сельское хозяйство, конкурентоспособное городское
ремесло и прибыльная морская торговля нуждались в эффективных
институтах делегированной демократии. Паразитический городской
демос — в непосредственном народоправстве. Только оно позволяло
осуществлять экономически не эффективное и социально не
оправданное государственное перераспределение.
Аристофан зло высмеивал социальный идеал потребляющей
демократии: «От столов не вставать, и венков не снимать, и медовой
коврижкой питаться» (Аристофан. Лягушки). Для содержания
одного бездельного гражданина требовался труд трех государственных
рабов. Но их доставляли лишь победоносные войны. Порочный круг
несовпадения «социальной амбиции и военной амуниции»
некоторые демагоги пытались разорвать сокращением числа
государственных иждивенцев.
В 391 г. до н. э. при распределении присланного из Египта хлеба
5 тыс. афинских граждан были проданы в рабство. Они не смогли
доказать свое гражданское полноправие. Списки граждан-получателей
госдотаций регулярно проверялись. В них попадали лишь
родившиеся от законного брака двух потомственных свободных афинян.
Самому Периклу, двадцать лет руководившему державным
городом, то и дело приходилось, по сообщению его политического
противника Фукидида, «со слезами умолять народное собрание»
даровать права афинского гражданина младшему Периклу, не изгонять из
Афин жену, милетянку Аспазию, не казнить друзей: скульптора
Фидия, философа Анаксагора... В итоге, «первому среди равных»
пришлось по суду заплатить огромный штраф в 15 талантов.
260
Самодержавный афинский народ подверг изгнанию не только
граждан с властными притязаниями: создателя военного флота,
спасшего город в Саламинском сражении, реформатора Фемистокла,
победоносного стратега Аристида. Он казнил великого философа
Сократа. Торжествовала «философия завистливого равенства».
Неудивительно, что античная интеллигенция дружно отвергала
современные ей демократические порядки: Аристотель, Платон, Сократ,
Анаксагор, Фидий, Аристофан, Фукидид, Пифагор... Она ощущала
постоянную угрозу свободе политических личностей. Античная
интеллигенция в IV в. до н. э. осознавала системные дисфункции
неинституционального народоправства, непропорционально
разросшегося в ущерб органам делегированной демократии и структурам
самоуправляющегося гражданского общества. В этот период анонимная
масса неимущих афинских граждан подмяла под себя основного
субъекта гражданских правоотношений — политическую личность.
Политическая личность возникла в античности на базе
продуктивного индивидуализма, вооруженного частной собственностью.
Признаваемая полисом, политическая личность развивается в
рамках гражданского общества. Она успешно обороняется от
посягательств на ее свободу, будучи огражденной правом. Орудием права,
защищающего политическую личность, является
институционализированное государство. Приватизация его функций волонтерами
демократии и активистами общественной морали приводит к
снижению среднего уровня правовой культуры общества. Показателен в
этом отношении процесс над Сократом.
Сократа осудило на смерть народное собрание. Непосредственная
демократия позволяла любому частному лицу выступать в роли
государственного обвинителя. В процессе Сократа государственными
самоназванными обвинителями Сократа были оратор Анит и кожевник
Мелет.
Философ непривычно для многих обучал молодежь,
нестандартно веровал, раздражающе критиковал сограждан. Тем самым, по
мнению многотысячного собрания народных судей, он посягал на
общественную мораль. Народное собрание, приговорившее к
смерти Сократа, констатировало коллизию частного и общего. Она
конструктивно разрешается в рамках обычного либо писаного права.
При одном непременном условии: если функции государственного
правового регулирования и правоприменения не делегируются
частным лицам. При неразвитости институтов гражданского
общества непосредственное народоправство приводит к групповому
произволу.
261
класса, угнетаемого государством вооруженных бедняков, то он
воспринимал царя Филиппа как освободителя.
В период своего расцвета (последняя треть V в. до н. э. — эпоха
Перикла) афинская делегированная демократия представляла собой,
по словам Аристотеля, «политик) воинов», смешанный
государственный уклад — аристократически-демократический.
Тяжеловооруженные гоплиты политически олицетворяли средний класс.
Неструктурированная «потребляющая демократия» неимущих
граждан сломала становой хребет самоорганизующегося полиса таранной
силой самодержавного народного собрания.
Завистливое равенство
Товарное сельское хозяйство, конкурентоспособное городское
ремесло и прибыльная морская торговля нуждались в эффективных
институтах делегированной демократии. Паразитический городской
демос — в непосредственном народоправстве. Только оно позволяло
осуществлять экономически не эффективное и социально не
оправданное государственное перераспределение.
Аристофан зло высмеивал социальный идеал потребляющей
демократии: «От столов не вставать, и венков не снимать, и медовой
коврижкой питаться» (Аристофан. Лягушки). Для содержания
одного бездельного гражданина требовался труд трех государственных
рабов. Но их доставляли лишь победоносные войны. Порочный круг
несовпадения «социальной амбиции и военной амуниции»
некоторые демагоги пытались разорвать сокращением числа
государственных иждивенцев.
В 391 г. до н. э. при распределении присланного из Египта хлеба
5 тыс. афинских граждан были проданы в рабство. Они не смогли
доказать свое гражданское полноправие. Списки граждан-получателей
госдотаций регулярно проверялись. В них попадали лишь
родившиеся от законного брака двух потомственных свободных афинян.
Самому Периклу, двадцать лет руководившему державным
городом, то и дело приходилось, по сообщению его политического
противника Фукидида, «со слезами умолять народное собрание»
даровать права афинского гражданина младшему Периклу, не изгонять из
Афин жену, милетянку Аспазию, не казнить друзей: скульптора
Фидия, философа Анаксагора... В итоге, «первому среди равных»
пришлось по суду заплатить огромный штраф в 15 талантов.
260
Самодержавный афинский народ подверг изгнанию не только
граждан с властными притязаниями: создателя военного флота,
спасшего город в Саламинском сражении, реформатора Фемистокла,
победоносного стратега Аристида. Он казнил великого философа
Сократа. Торжествовала «философия завистливого равенства».
Неудивительно, что античная интеллигенция дружно отвергала
современные ей демократические порядки: Аристотель, Платон, Сократ,
Анаксагор, Фидий, Аристофан, Фукидид, Пифагор... Она ощущала
постоянную угрозу свободе политических личностей. Античная
интеллигенция в IV в. до н. э. осознавала системные дисфункции
неинституционального народоправства, непропорционально
разросшегося в ущерб органам делегированной демократии и структурам
самоуправляющегося гражданского общества. В этот период анонимная
масса неимущих афинских граждан подмяла под себя основного
субъекта гражданских правоотношений — политическую личность.
Политическая личность возникла в античности на базе
продуктивного индивидуализма, вооруженного частной собственностью.
Признаваемая полисом, политическая личность развивается в
рамках гражданского общества. Она успешно обороняется от
посягательств на ее свободу, будучи огражденной правом. Орудием права,
защищающего политическую личность, является
институционализированное государство. Приватизация его функций волонтерами
демократии и активистами общественной морали приводит к
снижению среднего уровня правовой культуры общества. Показателен в
этом отношении процесс над Сократом.
Сократа осудило на смерть народное собрание. Непосредственная
демократия позволяла любому частному лицу выступать в роли
государственного обвинителя. В процессе Сократа государственными
самоназванными обвинителями Сократа были оратор Анит и кожевник
Мелет.
Философ непривычно для многих обучал молодежь,
нестандартно веровал, раздражающе критиковал сограждан. Тем самым, по
мнению многотысячного собрания народных судей, он посягал на
общественную мораль. Народное собрание, приговорившее к
смерти Сократа, констатировало коллизию частного и общего. Она
конструктивно разрешается в рамках обычного либо писаного права.
При одном непременном условии: если функции государственного
правового регулирования и правоприменения не делегируются
частным лицам. При неразвитости институтов гражданского
общества непосредственное народоправство приводит к групповому
произволу.
261
Институты гражданского общества удерживают государство на
невидимой грани, отделяющей сферы публичной и частной жизни.
Механизмы государственного и общественного принуждения
предсказуемы в той же степени, в какой они юридически формализованы.
Правоприменение снабжено системными самоограничителями,
внутри которых индивид свободен. «Закон добровольно идущего ведет,
сопротивляющегося — тащит» (Сенека).
В эпоху Перикла всевластие народного собрания
институционально ограничивалось. Например, все законопроекты
предварительно обсуждались в совете пятисот. Они не возникали спонтанно.
Законы не менялись «от микрофона». Каждый законопроект
ставился на голосование.
Моральное кредо афинской демократии эпохи ее расцвета (V в.
до н. э.) состояло в относительной независимости частной жизни
граждан и строгой нормативности публичной сферы. В «золотой век»
своей государственной истории афинские граждане «не признавая
излишних стеснений в частной жизни, в общественной — питали
величайший страх перед беззаконием»1. Демократические институты
города-государства не переходили условную границу между частной
и публичной сферами жизни граждан. Внеинституциональная
непосредственная демократия, утвердившаяся в Афинах в IV в. до н. э.,
этой границы не признавала.
В IV в. до н. э. право законодательной инициативы
принадлежало любому гражданину. Ежегодно все законы пересматривались на
предмет их соответствия изменчивым народным желаниям.
Политические карьеры определяла случайность. Почти все
государственные должности замещались по жребию. (Избирали только
стратегов и навархов.) В жеребьевке участвовали все граждане,
независимо от их профессиональной компетентности. Количество
оплачиваемых государственных должностей неудержимо росло.
Сфера неконтролируемой частной жизни сокращалась. Критически
нарастала избыточная внутренняя неравновесность политической
системы.
Взрывная политизация масс увеличивала меру элементного
разнообразия на нижних этажах системы. Хаотизированная низовая
активность не уравновешивалась консервативностью,
предсказуемостью политического поведения верхов. На высшие государственные
должности прорывались, при помощи ударной силы всевластного на-
1 Mendel G. Une histoire de l'autorité. P. 143.
262
родного собрания, опасные демагоги, сторонники простых и грубых
решений. Умеренные афинские политики уровня Перикла уступали
свое историческое место примитивным манипуляторам изменчивых
массовых настроений.
Преемник Перикла — Клеон, «наглейший из граждан», как
именовал его Аристотель, вышел из промышленно-рабовладельческой
среды. Он был владельцем кожевенной мастерской, где
использовался исключительно труд рабов. На исходе несчастной для Афин
Пелопоннесской войны, на гребне охлократии паразитически
ориентированных афинян поднялся этот опасный демагог. К ограблению и
казням восставших союзников сводились наиболее популярные
лозунги Клеона.
Рабский труд усиливал государственные позиции радикальных
демократических кругов, экономически не конкурентоспособных.
А они, в свою очередь, получали внерыночные возможности
сокращения объемов ремесленного производства и морской торговли —
основы афинского процветания. Экономически активные средние слои
афинян, занятые продуктивной деятельностью, обременялись
государственными поборами в пользу бедных граждан, ведущих
праздную жизнь. Неимущие группы афинских граждан (фетов) в VI-V вв.
до н. э. служили гребцами и воинами корабельных экипажей. В IV в.
до н. э. эта сфера продуктивной деятельности испытывала острый
кадровый дефицит. Феты предпочитали бесплатные
государственные раздачи тяжелому труду.
В исторической судьбе Афинского полиса отчетливо проявились
(с начала IV в. до н. э.) социально-политические дисфункции,
обусловленные нарушениями синергетического закона необходимого
разнообразия самоорганизующихся систем. Самодержавие
народного собрания, принявшего на себя (в дополнение к законодательным)
исполнительные и судебные функции государственной власти,
избыточно повысило уровень элементного разнообразия в фундаменте
государственного здания. Безапелляционные решения народного
собрания определялись вероятностными факторами изменчивых
мнений, неустойчивых настроений и поверхностных суждений.
Социально-психологические эффекты публичных речей популярных
ораторов становились государственными актами. Если —
оказывались услышанными. Хрестоматийный пример. В очередной
«филиппике» (речи, направленной против основного врага эллинской
свободы и демократии — македонского царя Филиппа II) Демосфен
представил афинскому народному собранию рациональные
доказательства агрессивных устремлений македонцев. Но ветреные афиняне
263
продолжали толковать о новостях дня. Демосфен рассказал анекдот и
привлек к себе всеобщее внимание. «Боги! — воскликнул великий
оратор. — Достоин вашего покровительства народ, не желающий
слышать о смертельных опасностях, угрожающих его отечеству, но с
удовольствием слушающий глупую побасенку». Получающие
государственную плату за свое пребывание на агоре, участники народного
собрания устыдились. Но — не надолго: ужасающий разгром при
Херонее наемного войска, выставленного городом-государством,
показал, что афинская полития граждан-воинов осталась в V в. до н. э.
В любой устойчивой и внутренне неравновесной метасистеме
критическое превышение объемов положительных обратных связей,
разнообразие неструктурированных множеств базовых элементов
(их структурно-функциональная неопределенность)
компенсируются взвешенной консервативностью институтов верхнего уровня
системной иерархии. Всевластное народное собрание афинского
полиса в IV в. до н. э. сломало этот компенсаторный механизм, подчинив
его неустойчивым настроениям агоры. Детерминированный хаос
непосредственного народоправства, не ограниченного процедурно-
правовым образом, захватил после поражения Афин в первой
Пелопоннесской войне сферы исполнительной и судебной властей.
Однако рабочим состоянием последних является системный гомео,-
стазис, основанный на приоритете отрицательных обратных связей.
Результатом антисистемного смешения сфер государственной
компетенции был общий коллапс афинской государственности.
Делегирование или представительство?
Лидеры умеренной (делегированной) демократии — аристократы
Солон, Клисфен, Фемистокл, Перикл — выражали интересы торгово-
ремесленных слоев. Делегированная демократия, обеспечивающая
основные личные свободы, есть способ политической
самоорганизации конкурентоспособных, экономически активных граждан.
Политическая агрессия непосредственного народоправства —
компенсаторный механизм экономической инертности государствообра-
зующего слоя. «Самодержавие народа» — это метафорическое
обозначение неправового типа политического устройства, выражающего
материальные интересы неконкурентоспособной части населения.
Потребляющая демократия, осуществляя государственную реди-
стрибуцию условно избыточного продукта, не признавала правовых
264
границ между частной и публичной сферами полисного
сосуществования граждан.
Ни греки, ни римляне не доросли до простого и функционально
эффективного принципа политического представительства.
Последнее превосходит античную демократическую делегирован-
ность так же, как демократия — верхушечную «демократизацию», как
современная свобода слова — формальную гласность, ограниченную
аппаратной слышимостью. В годы либерализации советской
политической системы популярной стала шутка: демократия отличается от
демократизации тем же, чем канал — от канализации.
После Февральской революции 1917 г. Советы рабочих,
солдатских и крестьянских депутатов и Всероссийские съезды Советов
воплощали античный принцип делегированной «демократии
трудящихся». По критериям национальной представленности Советы
уступали и буржуазно-демократическим парламентам, и
Всероссийскому Учредительному собранию, разогнанному партией
агрессивного меньшинства — большевиками. В чем состояла
принципиальная разница между Советами и Учредительным собранием?
В степени политической представленности всех граждан, а не
только — неимущих слоев. В течение нескольких лет после октябрьского
переворота Советы (формальное орудие диктатуры пролетариата)
оставляли вне сферы политической правосубъектности миллионы
так называемых «лишенцев». В античные времена роль «диктатуры
пролетариата» выполняло внеправовое доминирование на агоре
арифметического большинства экономически пассивного, но
граждански правоспособного населения полиса.
Низовые общины Афинского полиса были организованы по
смешанному, территориально-имущественному принципу: военно-
податные классы, демы, навкрарии, триттии, филы, курии. Итоговый
политический выбор граждан на агоре определялся принудительной
силой неотрефлексированных массовых настроений. Они
принимали вербальный облик политизированных мнений множества
неформальных фокус-групп. Доминирующий настрой последних
определялся в процессе неупорядоченных межгрупповых, многосторонних
коммуникаций. Политическую результирующую статистического
разброса групповых мнений формулировали временные лидеры
фокус-групп. Политические позиции групповых лидеров улавливали
демагоги — чуткие медиаторы доминирующих общественных
настроений. В своих публичных выступлениях на агоре демагоги придавали
этим настроениям дискурсивную форму общезначимой проблемы
либо проекта государственного акта. По окончании публичной поле-
265
мики между выразителями несовпадающих позиций, включался
механизм мажоритарного голосования. Решающее влияние на его
результаты оказывалось не столько силой убеждения и качеством
доказательств, продемонстрированных на агоре, сколько количеством
заинтересованных сторонников.
В отличие от эффекта священнодействия религиозных
церемоний, не зависящего от количества и взаимоотношений
принимающих в них участие, сакральность результатов демократического
голосования определяется количественными соотношениями
правомочных, поданных, верифицированных и подсчитанных голосов
в поддержку оспариваемого решения. За многие тысячелетия
религиозной, догосударственной и политико-государственной истории
человечества выработались два типа апелляции к
трансцендентным ценностям: в ходе а) односторонней, непосредственной,
индивидуальной и б) двусторонней, институционально опосредованной
(надиндивидуальной) коммуникации человека с Высшей Силой.
По результатам односторонней (религиозной) коммуникации,
публично не оглашается: чьи жертвоприношения были приняты и чьи
молитвы услышаны. Это дается знать лишь коммуникатору. Во
втором (светском) варианте двусторонней коммуникации с Высшей
Силой, сакральность процедуры подтверждается публичным
оглашением статистических предпочтений Высшей Силы. В
демократическом варианте — предпочтений Народа-Суверена.
Публичное оглашение делается организатором демократического
голосования от имени вышеуказанной Высшей Силы. В первом
(религиозном) варианте односторонней коммуникации ее
позитивный результат для одного коммуникатора не обусловливает
негативный результат — для другого. (Поэтому библейский Каин
безмотивно убил Авеля.) Во втором (светском) варианте
двусторонней коммуникации с Высшей Силой, успех и неуспех
противоположно ориентированных коммуникаторов взаимообусловлены
причинно-следственным образом. Отсюда — механизмы
демократического принуждения меньшинства, проигравшего выборы, к
принятию негативных для него результатов голосования. На эти же
политические цели направлена сакрализация правовых
последствий голосования.
Сакральность религиозной коммуникации не зависит от
количества ее участников и не определяется числом и мерой вовлеченных
ресурсов. Своими социокультурными корнями она уходит в
доисторическую традицию внутригруппового возвратного обмена. Молитва
возвращается к коммуникатору в виде испрашиваемого блага.
266
Сакральность демократической коммуникации изначально была
количественно обусловлена. Она возникла в историческую эпоху
появления территориально-общинных государств с фиксированным
количеством граждан. Ее отличает пиетет перед числом,
пропорциональностью, процедурами и масштабом измерений. Сакральность
демократического выбора социокультурно связана с рыночным
правилом публичного торга: цену товара определяет соотношение спроса и
предложения, он достается тому, кто больше заплатит. Ликвидными
платежными средствами здесь являются голоса правоспособных
участников двусторонней коммуникации.
В Римской республике существенную роль при голосовании
играла очередность подачи консолидированных голосов. В ходе трибут-
ных комиций 35 столичных триб голосовали не одновременно, а по
очереди: зная об итогах волеизъявления первых и ориентируясь на
них. При центуриатных собраниях — та же картина. Традиционно
первыми голосовали центурии патрицианского военно-податного
класса. Для сравнения: в Новгородской республике XII-XV вв.
суммированная, групповая позиция граждан, заявляемая на
общегородском собрании (вече), также поочередно согласовывалась на
консультативных собраниях городских концов, средневековых аналогов
древнеримских триб. Представители старинных (центральных)
торгово-ремесленных корпораций Новгорода высказывались на вече
первыми. Именно они формировали патрицианский слой
новгородского политического класса — господу. Горожане, расселенные вдали
от Софийской и Торговой площадей державного города, составляли
«молодшую» часть гражданской общины — плебс. Показательно
функциональное сходство процедур принятия государственных
решений. Оно определялось структурной похожестью смешанных
(аристократически-демократических) устройств, сложившихся в
разные эпохи, в разных странах. Новгородский патрициат (бояре) и
всадничество (житьи люди) тяготели к республиканским формам
государственной жизни. « Молод шие» склонялись к подчинению
авторитарной Москве. Цезаристски ориентированный, новгородский
плебс составлял во второй половине XV в. массовую опору про-
московской партии, облегчившей Ивану III задачу военного
сокрушения Республики.
Следует учитывать, что значительная и постоянно возраставшая
часть граждан афинского, римского и новгородского городов-
государств постоянно проживала вне столиц, будучи рассеянной по
удаленным, в основном сельским и малым городским поселениям.
Но вне стен державного города и пассивное, и активное избиратель-
267
ное право граждан не могло реализоваться. Отсюда — навязывание
решений столичных собраний провинциальному большинству
гражданской общины. Это неизбежно сужало социальную базу полисной
демократии.
После кровопролитной (унесшей 300 тыс. жизней) войны Рима со
своими италийскими союзниками, требовавшими для себя римского
гражданского полноправия, количественный состав политикообра-
зующего класса республики резко возрос. К середине I в. до н. э. он
достиг одного миллиона человек. Собрать их в одном месте было
практически невозможно. Но римляне упорно защищали
правомочность исключительно столичных гражданских собраний. В
ослеплении коллективного эгоизма, старинные граждане долго
сопротивлялись равномерному распределению новых италийских сограждан по
всем 35 трибам. Италиков (600 тыс. провинциальных граждан)
римские власти первоначально приписали к восьми трибам, оставив за
300 тыс. римлян остальные 27 голосующих триб. Голос одного
жителя столицы приравнивался, таким образом, к голосам семи
провинциалов. Политическое равенство всех граждан республики
наступило лишь после ее гибели, в эпоху Империи. Но это было равенство
безоружных подданных перед лицом военно-деспотической силы.
Рим со стенами
Знаменитый историк Тит Ливии в монументальном труде из 142
книг, названном «От основания Города», начинает почти ad ovo
эпическое повествование о римской полисной государственности. В ее
героический период таким исходным «яйцом» стало возведение
Ромулом укрепленных стен вокруг Рима. Трагический конфликт
между легендарными близнецами-основателями Города возник на
почве судьбоносного выбора: Рим со стенами, либо Рим без
материальных границ. В результате конфликта, Ромул убил Рема.
Несчастный Рем, очевидно, не был вождем привилегированного
меньшинства, именуемого civitas. Костяк civitas составляли воинственные
и организационно замкнутые холмовые римляне, возделывавшие
мелкоконтурные частные земельные наделы. Рем выражал интересы
более многочисленных аграриев-пастухов, нуждавшихся в неограж-
денных естественных пастбищах из нераспределяемого фонда
общественных земель, ager publicus. Неорганизованное множество
пастухов занимало обширные низинные участки Лациума. Кланово спло-
268
ценные, большие патриархальные семьи землевладельцев (будущие
патриции) селились укрепленными гнездами на вершинах и склонах
«семи холмов». С этих плацдармов воинственные горцы совершали
разбойничьи набеги на равнинных соседей по Лациуму. Набеговая
экономика холмовых римлян догородского периода повлияла на
стереотип государственного поведения Римского полиса,
сформированного первыми царями этрусской династии.
В VIII в. до н. э. маленький римский этнос занимался перегонным
скотоводством на правом берегу Тибра в его нижнем течении, в зоне
гарантированного увлажнения. Не случайно датой основания города
считается 21 апреля 753 г. до н. э. Это — день древнейшего
пастушеского праздника (парилии). Римский полис возник в результате
насильственного объединения прежде изолированных друг от друга
пастушеских и холмовых земледельческих поселений. Их
объединили в рамках города-государства этрусские завоеватели, вступившие в
симбиоз с патрициями. Общность пастбищ и водопоев была для
древних низинных аграриев (плебеев) первоначальной формой ager
publiais, на часть которой, силой этрусков, и распространилась
индивидуализированная собственность холмовых землевладельцев
(патрициев). Гражданское неполноправие плебеев явилось следствием
как политических (этрусское завоевание), так и экономических
(хозяйственная экспансия патрициев) факторов. Патриции упорно
сопротивлялись включению плебеев в состав гражданской общины на
протяжении полутора веков после свержения этрусской династии
царей и установления республиканского государственного строя
(509 г. до н. э.).
В древнем римском мелкоконтурном земледелии посадные
культуры, вероятно, преобладали над посевными. В античной Элладе, для
сравнения, подобное преобладание привело к интенсификации
сельского хозяйства и потребовало юридического утверждения частной
собственности на интенсивно возделываемые земельные участки.
Противоречивое, но системное сочетание экстенсивного перегонного
скотоводства и интенсивного земледелия в рамках одной
крестьянской общины и стало возможным в результате политического союза
древних поселений «на семи холмах». Пастбища большей частью
остались в общественной (родовой) собственности, огороды, поля и
сады — в частной (семейной).
В случае общей военной опасности, пастухи и земледельцы
объединялись в городскую милицию. Древнейшее римское народное
ополчение состояло из всадников и тяжеловооруженных пехотинцев,
с количественным преобладанием последних.
269
Старинные землевладельческие патриархальные
(патрицианские) роды — populus Romanus — считались аристократией не только
относительно множества (plebs) чужеродных новопоселенцев, но и
по сравнению с этнически родственными пастухами-всадниками.
Библейский Каин и плоды земли его оказались менее угодны Господу,
чем дары пастуха Авеля. И Каин убил Авеля, а Ромул — Рема. Однако
в отличие от своего исторического предтечи, Ромул оказался угоден
и богам, и народу. Он сам после смерти превратился в регионального
бога войны Квирина, почитаемого римлянами-квиритами.
Общеплеменной бог войны — Марс, покровитель римского
государства и мифологический отец легендарных близнецов —
основателей города, наделялся генеалогическими связями с патрицианскими
землевладельческими родами, сомкнувшимися не позднее VIII в.
до н. э. в жизнеспособный политический союз. В архаичный период
догородской истории римлян Марсу поклонялись как богу полей,
лесов, урожая и весны. Имя его — в названии первого весеннего
месяца (марта).
Первый век городской истории Рима принято именовать
«царским». Он отмечен глубоким и длительным влиянием на догосудар-
ственный римский этнос более высокой политической
организации — этрусской. Современной исторической наукой установлено,
что из семи легендарных римских царей дореспубликанской
древности, как минимум, трое последних — реальные личности. Это
Тарквиний Старший, Сервий Туллий и Тарквиний Гордый. Все они
принадлежат к этрусской династии. Под ее эгидой старинные и новые
римские рода составили полис. Город-государство сложился для
защиты индивидуальной собственности и захвата соседних
территорий.
Реформы Сервия Туллия, осуществленные в конце VI в. до н. э.,
подобны Солоновским в Афинах начала того же века. Они нанесли
мощный удар по родовому римскому протогосударству.
Территориально-общинный принцип лег в основу новой государственной
организации. Все лично свободное мужское население Рима было
разделено на пять податно-военных классов. В основание полисной
классификации лег имущественный ценз.
Собственники имущества стоимостью сто тысяч медных ассов
были отнесены к первому классу, имевшему право выставить 80
центурий (сотен) тяжеловооруженных пехотинцев и 18 сотен всадников.
Второй класс (75 тыс. ассов) формировал 20 пехотных центурий.
По столько же центурий выставляли третий (50 тыс. ассов) и
четвертый (25 тыс. ассов) податно-военные классы. Пятый класс малоиму-
270
щих граждан (менее 25 тыс. ассов) имел в составе «голосующего
войска» 24 центурии легковооруженных пехотинцев.
Внецензовый (неимущий) и в силу этого внеклассовый
пролетариат1 был политически представлен одной пехотной
легковооруженной центурией. При солидарном голосовании на ежегодных центури-
атных собраниях, выбиравших должностных лиц территориально-
общинного полиса, 98 первоклассных центурий давали своей
социальной группе гарантированный электоральный перевес.
Государственная дифференциация военно-податных классов
структурировала гражданское обшество. Имущественный ценз,
положенный в основание военно-политической классификации
этнических римлян, увеличил в VII в. до н. э. организованность римского
общества. Вследствие этого возросла системная устойчивость
римского государства. Одновременно выявилось функционально-
структурное несоответствие между двумя принципами
государственного строительства: территориально-общинным (определявшим
власть выборных магистратов — эдилов, квесторов, цензоров и
преторов) и родовым (представленным наследственной властью царей
этрусской династии). Реформы Сервия Туллия обнажили
внутреннее системное противоречие и подготовили политическую
революцию 509 г. до н. э.
Народная (непрофессиональная) милиция граждан-воинов
свергла Тарквиния Гордого — последнего царя этрусской
династии2. Появился новый тип государственного устройства:
смешанная (аристократически-демократическая) республика. Смешанный
характер постреволюционных республиканских институтов
отражал социальную неоднородность римского
национально-освободительного движения.
Главным «этрусскизмом», унаследованным республикой от
царского периода ранней римской истории, явился государственный им-
периум — нераздельная власть. В отличие от греческих базилевсов,
чья власть под ударами политической демократии «расщепилась»
на рассогласованные, блокирующие друг друга
структурно-функциональные составляющие, римские магистраты системно
унаследовали царскую власть в полном объеме. Властные решения, принятые
1 «Владеющий лишь потомством» — от латинского proles (потомки).
2 Профессиональная царская гвардия, состоявшая из этрусков, покинула
Рим. После революции 509 г. до н. э. был принят закон, запрещавший
пребывание в городской черте любых войск. Закон обязывал римских
полководцев перед входом в столицу распускать свои легионы.
271
любым магистратом, поддерживались всей мощью государства.
До эпохи гражданских войн правовая инфраструктура римского
государства работала без существенных функциональных сбоев.
Законопослушность римских граждан и правовая культура
должностных лиц вошли в поговорку «суров закон, но это закон». Когда
радикальный реформатор Тиберий Гракх наложил в 133 г. до н. э.
свое трибунское veto на все должностные действия всех магистратов
Республики, он действительно остановил ход государственных дел.
Последующие события аграрной революции, развязанной
народными трибунами, наглядно продемонстрировали: законы нельзя
применять избирательно.
Устойчивость смешанного
государственного строя
Античные мыслители (Аристотель, Полибий, Цицерон)
осуществили сравнительный анализ современных им политических
устройств. Согласно Полибию, долговечность Римской республики
объясняется развитостью римского частного и публичного права,
диктатурой закона и смешанным характером государственных
институтов.
Консулы воплощали монархическое начало, сенат —
аристократическое, комиции — демократическое. Существование трех видов
народных собраний (комиций) — куриатных, центуриатных и трибут-
ных — расширяло социальную базу римского государства. При этом
взаимно нейтрализовались разрушительные последствия стихийной,
неотрефлексированной народной воли, всегда претендующей на роль
высшего закона. Социально-экономическая динамика массовых
стремлений сдерживалась административной статикой
республиканских институтов.
Законодательные полномочия принадлежали трибутным
(территориальным) собраниям. Выборы высших магистратов относились к
компетенции центуриатных собраний «голосующего войска». Дела
религиозные, имеющие государственное значение, остались в
ведении старинных родовых (куриатных) патрицианских собраний.
Коллегиальность всех магистратов, избираемых на год,
обеспечивала взвешенность государственных решений и компромиссы
групповых интересов. Империум магистратов (функциональная
полнота и структурное единство государственной власти) уравно-
272
вешивался правом интерцессии. Так называлось блокирование
незаконных распоряжений должностных лиц непреодолеваемым veto
их коллег. По истечении срока полномочий магистраты
возвращались в среду частных лиц. Это давало возможность судебного
обжалования их государственных действий, ущемивших законные
интересы граждан.
Правительствующий сенат состоял из 300 несменяемых
представителей наиболее структурированной части политической общины —
трехсот патрицианских родов. Он гарантировал высший
гражданский контроль за действиями исполнительной власти.
Десять неприкосновенных плебейских трибунов могли налагать
veto на распоряжения и законопроекты не только друг друга, но и
всех государственных магистратов, за исключением диктатора.
Трибуны могли (внутри городской черты) арестовать и временно
заключить в тюрьму даже консулов. Плебейский трибун не имел права
ночевать вне городских стен. Он был обязан держать двери своего
дома открытыми для приема жалоб от любого плебея. В отличие от
остальных магистратов, трибун не подлежал судебной
ответственности за свои должностные действия. Человек, рискнувший оскорбить
трибуна или просто перебить его выступление в народном собрании,
подвергался смертной казни. Иммунитету депутата Государственной
Думы РФ пока далеко до трибунского.
Формулой чрезвычайного сенатского постановления — «пусть
консулы озаботятся благом Республики» — высшие должностные
лица приглашались к участию в сенатском назначении на
шестимесячный срок единоличного диктатора. Ему вручался абсолютный
гражданский и военный империум, действующий вне городских стен
Рима. Диктатором мог стать либо один из двух консулов, либо
сенатор, либо претор. Римляне достаточно осторожно пользовались
опасным инструментом диктатуры. В течение 120 лет после войны с
италийскими союзниками сенат не разрешал прибегать к нему.
Свои непостоянные вооруженные силы (гражданское ополчение)
республика благоразумно держала вне городского округа.
Полководцы обязывались после окончания военных действий распускать
легионы. Когда Цезарь дал команду своим войскам перейти границу
демилитаризованной столичной зоны (речку Рубикон), он начал
революцию и гражданскую войну. Впрочем, до него подобное
совершали лидеры популяров и оптиматов Марий и Сулла. Межпартийная
распря вовлекла в свою орбиту государственные вооруженные силы
и открыла эпоху гражданских войн, погубивших, в конечном счете,
саму республику.
273
Мы видели, что недолговечная афинская полития воинов не
смогла обеспечить гражданского «мира под оливами».
Конструктивное сотрудничество сословий устойчиво и долго
поддерживалось в «стране быков» (Италии). Полуторавековая борьба
римского народа (populus Romanus) и неполноправных масс (plebs)
протекала в ненасильственных формах, через совершенствование
законов. Конституционный процесс прервался в конце I до н. э.
революционным соединением непосредственной демократии с
солдатским цезаризмом.
Республику ослабили специальные правомочия трибутных коми-
ций. Ее расшатали безответственные народные трибуны, избираемые
лишь частью полноправного населения — городским плебсом.
Республиканские свободы оказались окончательно растоптанными
пролетарскими легионами цезарей. Квазидемократическая империя
одолела аристо-демократическую республику.
К последней трети II в. до н. э. Рим (сохраняя в метрополии свою
древнюю полисную военно-административную организацию)
фактически превратился в империю относительно провинций,
завоеванных в республиканские времена. Под римским владычеством
оказались почти все культурные народы Средиземноморья.
Крестьянская пехота железных римских легионов раздвинула
границы Республики от Атлантики до Черного моря. В метрополию
безостановочным потоком потекли огромные материальные
богатства и сотни тысяч рабов. Масштабное применение рабского труда
остановило развитие производительных сил страны и примитиви-
зировало производственные отношения. Римские граждане,
непрерывно воюя, отвыкали от продуктивного труда. Крестьяне
разорялись и пополняли праздную массу политически полноправного
городского населения, постоянно жаждущего бесплатных хлебных
раздач и кровавых зрелищ. Социальный паразитизм городского
плебса, развращенного государственной опекой, расшатывал
трудовую мотивацию нродуктивной части римских граждан и ослаблял
институты гражданского общества.
Государство, между тем, усиливалось в административно-военном
отношении. Его армии непрерывно повышали боеспособность, под
командованием военных профессионалов из среды политически
активных populus romanus, постепенно (в течение 150 лет) включавших
в свои плотные организованные ряды энергичные плебейские массы.
Военный дух граждан, гордо именующих себя квиритами
(копьеносцами), не угасал. Но заметно уменьшались воспроизводственные
возможности мелких крестьянских хозяйств, так как снижалась трудо-
274
вая мотивация крестьян-плебеев, добившихся гражданского
полноправия. Разоряясь, такие крестьяне переселялись в Рим, пополняя
ряды городского плебса, претендующего на бесплатные хлебные
раздачи. Утрачивая собственную продуктивность и непрерывно
наращивая объем государственной редистрибуции, римская цивилизация
внутренне варваризировалась. «Война несет с собой опасность
варваризации и огрубления. Она сдирает покровы культуры и обнажает
ветхую человеческую природу» (Н. Бердяев). Однако главные риски
варваризации Рима содержались не столько в его государственных
войнах, сколько — в гражданских. В полосу почти непрерывных
гражданских войн республика вступила в последней трети II в. до н. э.
До начала II в. до н. э. внутренняя опасность варваризации не
казалась реальной. Угрозы Риму шли извне. Ежегодно сменяемая,
римская провинциальная администрация значительно уступала в
законопослушности и эффективности магистратам метрополии. Она
мало способствовала романизации покоренных народов.
Республиканские проконсулы и легаты правили, повелевали, но не
управляли завоеванными провинциями. Римские граждане во
времена Республики всюду ощущали себя высшей расой, стараясь не
сближаться с провинциалами ни культурно, ни этнически. И когда пон-
тийский царь Митридат VI Евпатор (прозванный «Великим»)
бросил в середине I в. до н. э. вызов римскому владычеству, то по его
сигналу население провинции Азия в одну ночь истребило 150 тыс.
римлян и их союзников.
Римские граждане держали себя повелительно и высокомерно
даже в отношениях с италиками — союзниками Римской республики.
Самый жалкий пролетарий в качестве civis romanus считал себя
неизмеримо выше любого дельного латина или даже иноземного царя.
Республиканская административная система, адекватная
потребностям и масштабам Рима-полиса, демонстрировала свою явную
непригодность в качестве опорной конструкции и несущего каркаса
мировой державы. Но римляне упорно держались за рутинные
политические формы, упрямо двигаясь по однажды пробитой колее.
Своим избыточным консерватизмом они резко отличались от
остальных политических народов античности.
Силовая экспансия республики
В «плавильном котле» полисной самоорганизации энергичной
гражданской общины в VII-IV вв. до н. э. удачно соединились непо-
275
средственно демократический, делегированно аристократический и
децентрализованно монархический элементы. Но стенки этого
«плавильного котла» государственности оказались непроницаемыми для
невоенных контактов с геополитическим окружением республики.
В этом отношении республиканский Рим к исходу II в. до н. э. был
готов к повторению недолгой государственной истории
тоталитарной Спарты, тремя столетиями ранее исключительно силой оружия
утвердившей свою гегемонию над Элладой.
Историческую жизнь римскому государству на несколько
столетий продлила империя. Для ее политического конструирования
должен был «выпасть в осадок», потерять свой гражданский характер,
демократический элемент римской государственности. Из этого
«осадка» и был изготовлен силовой инструмент, сокрушивший
республику. Демократизация и профессионализация армии поставили
ее вне институционального республиканского контроля. Народная
милиция граждан-воинов трансформировалась в солдатские
легионы цезарей. Императоров породил военный лагерь.
Основные успехи организационной, военно-технической и
правовой романизации народов Западной Европы и Средиземноморья
относятся к имперскому периоду I—III вв. н. э. Но даже они
несопоставимы по масштабам и глубине с прочными результатами
предшествовавшей римской эпохе эллинизации античного цивилизационного
пространства. Сильнейшее воздействие обаятельной греческой
культуры испытало на себе население всего Средиземноморья, включая
Италию.
Мирное укоренение в местной почве центров греческой
колонизации VIII-V вв. до н. э. выглядит контрастным фоном силовой
экспансии римской государственности. Римляне расширяли свое
государственное пространство, символически двигая перед собой
укрепленные стены города. Их любимое фортификационное и полевое
сооружение — оборонительный вал. К концу имперской экспансии
(III в. н. э.) Рим*уже физически закрылся от внешнего мира
материальной стеной.
Греки не раздвигали символических стен единственного полиса.
В Элладе к V в. до н. э. было около сотни городов-государств. Греки-
колонисты сначала основывали хозяйствующие поселения и только
потом окружали их территорию укрепленными стенами.
Культурно блестящие и экономически процветающие города-
государства Великой Греции (так назывались греческие колонии в
Сицилии, Южной и Средней Италии) возникли еще в те времена,
когда римляне жили в глиняных хижинах с деревянными крышами.
276
Процветание колонистов было столь очевидным, что и их
метрополия с IV в. до н. э. стала называться Грецией, сохранив прежнее имя
Эллады. Греческие колонисты вели себя в ареалах нового расселения
неагрессивно. Они не воспользовались своим культурным и военно-
техническим превосходством над римлянами и не явились в качестве
завоевателей на правый берег нижнего течения Тибра. В Италии им
пришлось воевать только с этрусками и карфагенянами,
проводившими политику территориальных захватов.
Большую часть собственного исторического времени
предприимчивые и изобретательные античные греки потратили на
продуктивные цели. В колонизационном движении они предпочитали
вспахивать и засевать незанятую и неосвоенную целину. А воинственные
«горцы» (древние холмовые римляне) в это же историческое время
дисциплинированными колоннами регулярно выходили из своих
укрепленных стен, чтобы разрушать чужие. В пехотном строю
римские крестьяне вытаптывали соседские возделанные поля, прежде
чем присоединить их к общественному нераздельному фонду ager
publicus.
Что же обеспечивало в течение пятисот лет почти непрерывные
государственные успехи крестьянско-аристократической
республики? Откуда взялись ее неистощимые сила и стойкость, позволившие
выдержать и страшное нашествие кельтов в 390 г. до н. э., и
ужасающие поражения от войск Ганнибала в III в. до н. э.? У этой силы
имелись три источника и три составные части: государственная
дисциплина, способность к внутреннему социальному компромиссу и
верховенство всеобщего права над групповыми интересами.
Организационно-правовой «скелет» римской республики был сформирован в
VI-V вв. до н. э. статическими нагрузками аграрно-ремесленного
хозяйствования. Военно-административная «мускулатура» —
динамическими нагрузками оборонительных и наступательных войн. Рим
оставался в течение первых пятисот лет своей истории структурно
неизменным городом-государством. При этом он постепенно
наполнял исходные аристо-демократические (республиканские) формы
Демократически-имперским содержанием. Необычайно
жизнеспособный государственный организм развивался в соответствии с
принципом прагматического приоритета изменчивых функций перед
устойчивыми структурами. Этот системообразующий принцип
позволял римскому государству, сохранявшему в течение сотен лет
свои консервативные институты, гибко реагировать на изменчивое
состояние внешней среды. Оперативная самостоятельность
магистратов, не обремененных бюрократическими структурами, позволя-
277
ла своевременно отрабатывать положительные обратные связи
римской государственной системы. Выборная республиканская
администрация обладала признаками адаптивной социотехнической
системы.
Полуторавековая конституционная борьба привилегированного
меньшинства старинных римских родов и внегражданского
большинства крестьянской общины, populus Romanus и plebs, патрициев
и плебеев, не покидала правового поля. Поэтому парламентская
борьба сословий закончилась в середине IV в. до н. э. великим и
благотворным для государства социально-политическим компромиссом.
Две ранее не равноправные части народа слились (сначала —
федеративно, через полвека — унитарно) в единую гражданскую общину.
Плебеи, сохранив народный трибунат за собой, получили доступ к
древним патрицианским привилегиям: и к аренде земельных
участков из неразделенного госфонда, и к избранию на высшие
государственные должности — финансовых квесторов, судебных преторов,
контролирующих цензоров, правительствующих консулов и военно-
гражданских диктаторов.
Законы XII таблиц, разработанные децемвирами (комиссией
десяти чрезвычайных уполномоченных Республики) и законы,
получившие имена знаменитых плебейских трибунов Лициния и Секстия,
уравняли к IV в. до н. э. патрициев и плебеев в политических,
семейных, имущественных и судебных правах. В некотором отношении,
политические позиции плебеев выглядели, к завершению
конституционного процесса, даже предпочтительнее патрицианских. Это
касается объема трибунских полномочий. На должность народного
трибуна мог избираться только плебей. И нередки были случаи, когда
патриций, домогавшийся трибунской магистратуры, предварительно
записывался в плебейское сословие посредством формального отказа
от своего рода и фактического отца.
Так, например, осуществился сословный переход (в качестве
усыновленного плебеем) знатного патриция-популяра Клодия,
непримиримого врага Марка Туллия Цицерона. Последний являлся в
середине I в. до н. э. вождем республиканцев-оптиматов. Избранный
народным трибуном на 58 г. до н. э., Клодий превратился в яростного
демагога и надолго стал головной болью сената и первых триумвиров
(Гнея Помпея, Марка Лициния Красса и Гая Юлия Цезаря).
Вооруженные банды Клодия несколько лет терроризировали Рим, не
имевший после свержения царя Тарквиния Гордого ни городской
полиции, ни военного гарнизона, ни преторианской гвардии.
Антимонархическая предосторожность отдала столицу республики
278
во власть безответственных демагогов — партийных вождей
популяров и оптиматов.
Но к началу II в. до н. э. привилегированное положение
старинных римских граждан еще представляло предмет массовой зависти и
вожделений не только провинциалов, подвергавшихся беспощадной
государственной эксплуатации, но и союзных, этнически
родственных италийских общин. После побед над Карфагеном, Сирией и
Македонией, давших Риму колоссальную военную добычу, римские
граждане были освобождены от всех прямых налогов. Для
компенсации возникших от этого госбюджетных потерь хватало даже части
громадных доходов, получаемых от эксплуатации государственных
земель и от сбора таможенных пошлин. Прямые налоги, взимаемые с
граждан ранее (в том числе — чрезвычайные военные, tributum)
считались добровольными государственными займами, подлежащими
возврату при благоприятной финансовой возможности. Таковая
наступила после превращения Рима-полиса в мировую державу.
В 198 г. до н. э. принимается закон, отменяющий для римских
граждан смертную казнь и телесные наказания в городской черте и
ближайших пригородах Рима. В 195 г. до н. э. эта привилегия
распространяется на всех остальных граждан, не состоящих на военной
службе. С тех пор civis romanus был лично неприкосновенен для
республиканских и, в период принципата Августа, для имперских
чиновников. В 184 г. до н. э. служащие в армии римские граждане
освобождаются от унижающего их достоинство наказания розгами.
Ликторы отстраняются от исполнения телесных экзекуций
военнослужащих граждан. Дурных солдат отныне наказывают центурионы,
применяя для этого виноградные палки. (Центурионы и оказывались
первыми жертвами солдатских бунтов.)
Право против справедливости
Основания гражданского и политического правопорядка
Римской республики в 133-121 гг. до н. э. значительно поколебала
революционно-демократическая борьба за социальную
справедливость. Организующей и направляющей силой в этом
саморазрушении римского государства явился легальный государственный
институт — народный трибунат.
В смертельной схватке сошлись популяры («народные») и опти-
маты («наилучшие»). Их не следует считать политическими партия-
279
ми в современном значении термина. Противоборствующие
группировки представляли собой патрон-клиентские ассоциации. Они ис
имели фиксированного членства, аппарата и оргструктур. Да и
программы столичных клиентелл не были стабильными и идейно
определенными. Но прагматический материальный интерес
политизированных участников предреволюционных конфликтов
просматривался явственно. Популяры добивались земельного «черного передела»
на основе принудительной деприватизации участков ager publicus,
размер которых превышал предел, установленный законами полуто-
равековой давности. Государство нацеливалось на конфискацию
земельных излишков, сменивших семь поколений покупателей-
добросовестных частных собственников. Бескомпромиссной и
контрпродуктивной оказалась гракховская аграрная революция,
разразившаяся в последней трети II в. до н. э. Этим она радикально
отличалась от борьбы плебеев за гражданские права. Институт
плебейского трибуната в V-IV вв. до н. э. укреплял римское
государство, расширяя его социальную базу.
В те далекие времена крестьянская община постепенно
интегрировалась в военно-административную, политическую, религиозную
и гражданскую структуры populus romanus. Не прибегая к насилию,
плебеи добились государственно-правовой защиты равного с
патрициями допуска к аренде земель нераспределенного общественного
фонда. Популяры II—I вв. до н. э. мобилизовывали городской и
сельский пролетариат под лозунгом уже не правового, а принудительно
справедливого распределения национальных богатств. Удельная
эффективность их трудового использования в расчет не принималась.
Товарность мелких крестьянских хозяйств в течение II-I вв. до н. э.
неуклонно снижалась, несмотря на меры государственной
поддержки. Продуктивным операциям сложения и умножения популяры
конца II в. до н. э. (сторонники «черного передела» земель)
предпочитали дистрибутивные — вычитания и деления. Но в обществе с
развитой частной собственностью «вычесть» — значило «отнять».
И в латинском, и в русском языках jus и justicia, «право» и
«справедливость» грамматически однокоренные слова, не тождественные,
однако, в социально-политическом отношении. Государственное
право концептуально организовано. Оно опирается на легитимную
силу и ориентировано на реальные интересы. Социальная
справедливость массово, стихийно и нерефлексивно реализуется в качестве не-
верифицируемой ценности.
В чем состоит основное цивилизационно-культурное отличие
государственного права от социальной справедливости? Право концеп-
280
туально отражает базовые принципы регулярного межгруппового
эквивалентного обмена. Справедливость своими социально-
психологическими корнями уходит в более древний пласт
человеческих отношений — возвратный внутригрупповой обмен.
Система эквивалентного обмена вещественными результатами
продуктивной человеческой деятельности требует применения
объективного эталона оценок и согласованного масштаба измерений
предметов обмена. Эквивалентный обмен приобретает товарные
формы через несколько тысячелетий после неолитической
революции — перехода от присваивающего хозяйства к хозяйству
производящему (данные термины ввел в научный оборот английский
археолог Гарольд Чайлд).
Право выросло из регулярной рыночной процедуры
сопоставлений потребительных и меновых стоимостей, осуществляемой на
основе количественного измерения общественно необходимых
затрат человеческого труда. Оно выражается в единицах товара,
выполняющего функцию всеобщего эквивалента. В самом общем виде,
право — это применение объективного, предварительно
согласованного, одинакового масштаба этого измерения, не зависящего от
субъективной оценки измеряемого предмета. Древнее право обычая
в устойчивых межгрупповых сообществах и протогосударствах
бытует в устной, постоянно и массово воспроизводимой форме. И лишь
на государственной стадии оно закрепляется в эталонном тексте
писаного закона, кодифицируется, а в демократические времена — еще
и тиражируется.
Систематический эквивалентный обмен материальными
результатами продуктивной человеческой деятельности эволюционно
молод. Он был невозможен внутри малых групп, регулируемых более
древними социальными инстинктами солидарности и альтруизма.
Классическим типом такой группы является кровнородственная
семья, где не действует рыночный принцип «ты — мне, я — тебе».
Члены семьи обмениваются не стоимостями, а ценностями.
Эквивалентный межгрупповой обмен — органическая часть
материального производства, осуществляемого в масштабах больших
анонимных человеческих сообществ. Возвратный обмен, напротив,
является одним из базовых условий социальной общности малых,
персонифицированных групп совместного потребления.
Первоначальное значение слова socium — узкий круг лично
знакомых людей, не вызывающих взаимную агрессию. До неолитической
революции (в эпоху верхнего палеолита) для прокорма одного
охотника или собирателя требовался участок в 20 кв. км. Любой незнако-
281
мец, встреченный в этом ареале, воспринимался как источник угрозы
жизнеобеспечению социума. Осуществленный в ходе неолитической
революции XIV-XII тыс. до н. э. переход от присваивающего
хозяйства (охоты и собирательства) к хозяйству производящему
(скотоводству и земледелию) значительно понизил средний уровень
взаимной агрессии. Причина понижения межгрупповой агрессивности
Homo sapiens, вовлеченных в производящее хозяйство, легко
объяснима: на несколько порядков увеличился вмещающий объем
жизнеобеспечивающей природной среды. В неолитические времена встреча
неоантропа с незнакомцем уже не вызывала рефлекторной реакции —
стремления убить чужака. Последний все чаще появлялся с мирными
намерениями обмена предметами потребления: дефицитными для
одной обменивающей стороны и избыточными — для другой.
Социогенез неоантропов, стимулируемый приграничной торговлей,
сопровождался расширением некогда узких кругов социумов.
Внутригрупповые инстинкты дополнялись правилами
межгруппового общения.
Регулярность (правильность) обмена результатами производства
нуждалась в целеориентированном, обезличенном, объективном
эталоне. В цивилизационной перспективе — в правовом регуляторе.
Иррегулярность присваивающего хозяйства, напротив, социально
компенсировалась неэталонным, ценностно ориентированным, то
есть — справедливым распределением жизнеобеспечивающего
ресурса. Право рождается в производственно-обменной, конкурентной
среде, справедливость ориентирована на интересы солидарного
потребления. Здесь просматриваются социогенетические корни
неустранимой дихотомии права и справедливости.
Право надличностно, абстрактно. Принуждающая сила
конкретных правовых норм механистична. Справедливость персонально
адресована, личностно окрашена, лишена собственных
автоматически срабатывающих, принуждающих механизмов. Поэтому она не
связана процедурными ограничениями и нередко осуществляется в
насильственной, неправовой форме. Периодическое и спонтанное
утверждение социальной справедливости негосударственными
средствами обычно сопровождается деградацией продуктивной системы
эквивалентного обмена. Особенно наглядно это обнаруживает
общество «потребляющей демократии», зацикленное на возвратно-
справедливом, а не эквивалентно-рыночном распределении
прибавочного продукта.
Социальные конфликты, порождаемые межгрупповым
перераспределением, разрешаются надгрупповыми силами на цивилизаци-
282
онной основе при соблюдении ряда обязательных условий. Главное
из них — кумулятивное приращение факторов итоговой
продуктивности общества.
Централизованная редистрибуция цивилизационно оправдана
при эффективном решении воспроизводственных (прежде всего —
инфраструктурных) макрозадач. А это под силу
институционализированной государственной власти и структурам
самоуправляющегося гражданского общества. В любом случае, решение
инфраструктурных макрозадач всеобщей социальной справедливости не по плечу
ни малым инициативным группам самодеятельных «активистов
дележа по справедливости», ни народным массам, поднятым на
«экспроприацию экспроприаторов». Здесь «дьявол рождается из пены на
губах ангела, защищающего правое дело» (Г. Померанц).
Древний опыт деприватизации
В целях исторического просвещения современных российских
популистов, требующих (во имя социальной справедливости)
радикального пересмотра итогов приватизации 1990-х гг., следует
вспомнить катастрофические последствия похожей «народной
деприватизации». Происходила она две с лишним тысячи лет тому назад,
накануне гибели Римской республики. Избранный народным
трибуном на 133 г. до н. э., политик-популяр Тиберий Гракх начал с
аграрных законопроектных предложений. Он напомнил согражданам
старые, формально не отмененные, но давно не действующие земельные
законы 367 г. до н. э., принятые по инициативе великих плебейских
трибунов Лициния и Секстия. Эти законы ограничивали размеры
частных владений общественной землей. Законодательно
устанавливался гражданский максимум в 500 югеров (125 гектаров) для
семейной арендной доли в ager publicus.
В середине IV в. до н. э. данный порядок пользования
общественной землей утвердился в интересах производительной части
гражданской общины и оказал положительное влияние на внутреннюю
устойчивость и силу государства. Но со времен Лициния и Секстия
сменилось семь поколений землевладельцев. Долгосрочная аренда
участков из общественного фонда давно превратилась в полную
собственность. Находившиеся в гражданском обороте земельные
участки неоднократно меняли добросовестных приобретателей,
регистрируемых государством в качестве титульных собственников.
283
И вот юный трибун требует нового «черного передела». С
учетом демографических обстоятельств, он в своем законопроекте
прибавляет (к древнему земельному максимуму на каждую семью
арендаторов) еще по 250 югеров на каждого взрослого сына.
Остальную сверхнормативную общественную землю,
находящуюся в противозаконном семейном владении, Гракх предложил
вернуть государству.
В первоначальном варианте законопроекта предполагалась
компенсация частным владельцам произведенных ими капитальных
затрат (многолетних насаждений, мелиоративных устройств,
хозяйственных построек и т. п.). От первоначального условия
предварительной рыночной компенсации бывшим владельцам конфискуемых
земельных участков Тиберий Гракх отказался накануне решающего
голосования по законопроекту в трибутных комициях. Но —
сохранил особо раздражавший патрициев пункт о ежегодных назначениях
трех земельных комиссаров. Эти назначения относились к
исключительной компетенции плебейских трибутных собраний. Специальные
народные комиссары наделялись чрезвычайными полномочиями для
руководства изъятием и оценкой земельных излишков.
Создаваемый неправовым способом, национальный земельный
фонд предназначался для уравнительного раздела на участки
размером в тридцать югеров и распределения их между бедными
гражданами. Полученным от государства новым наделам предполагалось дать
правовой статус владения, но не полной собственности. Этой мерой
законодатель стремился предотвратить новое сосредоточение
земельных богатств в немногих руках.
Формальное соответствие букве закона и кажущаяся социальная
целесообразность законопроекта Тиберия Гракха столкнулись с
духом права, защищающего законные интересы добросовестных
землевладельцев и землепользователей. Законопроект легализовал
внесудебную конфискацию собственности и вступал в грубое противо-
речение с правовыми основаниями любой цивилизации: с
устойчивостью отношений собственности, передачей ее лишь по взаимному
согласию договаривающихся сторон и исполнением
непринудительно данных обещаний.
Законопроектная инициатива народного трибуна создавала
правовую коллизию, которая ставила в антицивилизационную позицию
само государство. Внеправовая сила государственного принуждения
направлялась на защиту партийно-групповых корыстных интересов.
Устойчивость Римской республики веками обусловливалась
подчинением изменчивых представлений масс о социальной справедливо-
284
сти — неизменным требованиям правопорядка. Принятие
законопроекта Тиберия Гракха провоцировало деградацию правовой культуры
политического класса и разрушение цивилизационной идентичности
общества.
Опасный для системной устойчивости, перерыв в праве
наступил в день решающего голосования в трибутных комициях, при
страшном возбуждении популяров и оптиматов. Со всей Италии в
Рим к этому дню собрались массы сельских бедняков, чтобы подать
свои голоса в пользу «черного передела». Однако перед
голосованием по законопроекту неожиданно было заявлено императивное veto
второго народного трибуна — Марка Октавия, недавнего друга
Тиберия Гракха.
Напрасно Тиберий гневно и страстно заклинал Октавия
отказаться от трибунского права интерцессии и отозвать свое veto.
Убедившись в твердости оппонента, Тиберий отложил собрание и, по
старинному примеру плебейских трибунов времен великой
конституционной борьбы между сословиями, наложил собственное трибунское
veto на все официальные действия должностных лиц республики.
Деятельность исполнительной власти оказалась полностью
парализованной. И когда на втором собрании плебейских триб Октавий
повторил роковое для себя veto, народ пришел в ярость, а магистраты
не смогли обеспечить правопорядок своевременными
распорядительными мерами.
Тиберий развернул боевое знамя гражданского раздора, открыв
тем самым турбулентный период римской истории: кровавых
политических переворотов и насильственных социальных революций.
На новом собрании плебейских триб в третий раз прозвучало
трибунское veto Октавия. На это системное действие своего политического
оппонента Тиберий Гракх отреагировал несистемным образом. Он
предложил голосованием восемнадцати плебейских триб низложить
народного трибуна, реализующего право трибунской интерцессии,
противоречившей «интересам народа».
Октавия отрешили от государственной должности голосами одних
плебеев, при неполученном согласии сената, куриатных и центуриат-
ных собраний. Впрочем, такое согласие не имело бы правовых
последствий. Согласно закону, действия Тиберия Гракха и плебейских
триб в принципе являлись противоправными: народного трибуна во
время его годичного мандата невозможно отозвать. Тиберий Гракх
опирался в своих политических действиях на расширительное
толкование юридически нестрогой формулы «воля народа — высший
закон». Между тем, воля даже большинства государственно органи-
285
зованного народа не может заменить закон, тем более —
Основной. Она может его изменить, но не заменить.
Источником республиканской конституции являлся народный
суверенитет, выраженный в процедурно правильных формах.
Конституция была призвана ограничивать всякое самодержавие, в
том числе — народное. Само конституционное право
предусматривало верховную власть народа-суверена, корректирующего закон.
Но эта власть могла использоваться только для изменения или даже
отмены закона, а не для избирательного применения или искажения
его.
Тиберий Гракх и популяры, по мотивам ситуационной партийной
целесообразности, поколебали ту конституционную почву, на
которую сами опирались. Противоправным способом был принят, при
народном ликовании, аграрный закон Гракха. Но революционеры, с
опасностью для себя, посягнули на строго соблюдаемое более
двухсот лет право интерцессии магистрата. Под угрозой оказался
священный принцип неприкосновенности народного трибуна. Угроза вскоре
реализовалась.
Через год, при попытке Тиберия Гракха баллотироваться на
второй трибунский срок, оптиматы, вооруженные палками и обломками
скамей, штурмом взяли Капитолий и убили народного лидера, а с
ним — триста граждан. Труп Тиберия сбросили в Тибр. Штурмовой
отряд оптиматов возглавил Публий Назика, верховный понтифик
Рима. В дикой толпе, чинившей кровавое насилие на Капитолийском
холме, было немало сенаторов и магистратов. Одним из двух
непосредственных убийц Тиберия Гракха оказался народный трибун
Сатурней. А труп убитого Гракха согласился сбросить в Тибр
патрицианский курульный эдил (судебный магистрат) Лукреций.
Через 12 лет, при сходных обстоятельствах межпартийной
борьбы, оптиматы убили продолжателя дела Тиберия Гракха — его
младшего брата Гая. Заодно — еще три тысячи граждан. Все эти
межпартийные убийства совершались при прямом попустительстве
государственной власти.
Машина политического насилия одной части гражданской общины
над другой заработала. Вскоре в гражданском междоусобии примет
участие армия — государственный институт, менее других
приспособленный для обеспечения баланса классовых интересов. И количество
человеческих жертв нескончаемой череды социально-политических
конфликтов будет уже исчисляться сотнями тысяч.
Это самоуничтожение низовых структур республиканской
государственности облегчалось расшатыванием высших государствен-
286
ных институтов. Многолетняя гражданская война, неосторожно
развязанная популярами, явилась следствием нарушения синерге-
хического закона иерархических компенсаций систем. Превышение
меры группового, элементного разнообразия в низовых
государственных структурах не уравновешивалось институционально-
правовым единообразием поведения государственных верхов.
Реализуемые внесистемно, групповые интересы разрушали
общественные ценности.
Деструктивная роль несбалансированных групповых интересов
возрастает в периоды относительного снижения продуктивной
активности новых групп граждан, вступающих в правоспособный
возраст, и непропорционального повышения среднего уровня
дистрибутивной активности. В условиях общесистемного кризиса социально-
экономическая неадаптированность новых групп граждан
компенсируется резким повышением уровня их политической агрессии.
Эта закономерность проявляется в преддверии практически всех
великих революций, радикально меняющих государственные позиции
не только «цензовых граждан», но и остальных классово
интегрированных слоев населения. Неадаптированными (деклассированными)
в социально-экономическом отношении, в результате
беспрецедентного аграрного перенаселения России на рубеже XIX-XX вв.,
оказались к февралю 1917 г. около 37 млн человек в возрасте 18-20 лет.
Такого демографического взрыва страна не знала ни до, ни после ука-
заного межвекового рубежа. (Среднегодовой прирост населения
Российской империи превышал 2,5 % в течение двух десятилетий
перед февральской революцией 1917 г.: в тот кризисный момент
российской истории все возрастные категории до 20 лет составляли
более половины российского населения.) Военные мобилизации
1914-1916 гг. вооружили миллионы неустроенных «лишних» людей
самого революционного возраста. Молодой «человек с ружьем» в
условиях ослабления государства превратился в мощный фактор
социально-политической дестабилизации страны.
Глава 5
МЕЖДУ ОПРИЧНИНОЙ И ЗЕМЩИНОЙ
Собиратели земель
Европейская цивилизация обязана средневековым городам
современным уровнем своего развития. Их бурное становление
началось в X в. Похожий цивилизационный процесс наблюдался и
на Руси. Скандинавские источники IX в. именуют ее Гардарикой —
страной городов.
Макс Вебер описал пять системообразующих параметров
западноевропейского города: крепость с гарнизоном, рыночная площадь,
корпорация с юридическим статусом, независимый суд и органы
самоуправления. Русские города к XII в. уже ограничивались двумя
первыми атрибутами.
Восточнославянские города-поселения в междуречье Оки и Волги
с XII в. строились как форпосты семейно-дружинной колонизации
финно-угорских лесов. Новые княжеские города-крепости
(пригороды) возникали в качестве государственного противовеса старым,
земски ориентированным вечевым городам типа Ярославля, Суздаля,
Ростова Великого, Новгорода. Такие пригороды, как Боголюбово,
Москва, Владимир-на-Клязьме, никогда не имели органов
самоуправления. Здесь осуществлялось прямое княжеское правление.
В пригородах не формировались земски активные городские
коммуны. Хозяйственная деятельность пригородного населения
сосредоточивалась в неогражденных крепостными стенами посадах и
слободах. Слободизация Гардарики завершилась полной ликвидацией
древнерусских вечевых порядков на всей территории
централизованного Московского царства.
Развитие западноевропейских бургов укрепляло королевский
абсолютизм. Оно сопровождалось дефеодализацией общественных
отношений. Слободизация Северо-Восточной Руси, напротив,
множила количество частнозависимых людей. Исхолопливание населения
шло за счет сокращения числа «земских». Законом запрещалось
записываться в холопы черносошным крестьянам и «государевым
тяглецам», прикрепленным к городским посадам. Этот закон
уравновешивал государственные и земские интересы. Его систематически
нарушал Московский великий князь. Во второй половине XV —
первой половине XVI в. стремительно и непрерывно расширялся вели-
288
кокняжеский домен, управляемый частнозависимыми «дворскими»,
будущими дворянами. С этого плацдарма покатился на Землю во
второй половине XVI в. крепостной вал дворянской Опричнины.
Почему новый государствообразующий слой принял
внесистемные (опричные) формы? Вернемся на семь столетий назад. В IX в.
н. э. на славянских землях появилась варяжско-русская дружина
профессиональных воинов, нанятых для охранного сопровождения
новгородских внешнеторговых операций. Наемники сумели подчинить
нанимателей. Варяжские конунги, одним из которых был
легендарный Рюрик, рассматривали Ладогу и Новгород как военно-торговые
базы для походов «из Варяг в Греки». Протяженность речного пути
от Ладоги до днепровских порогов обусловила постоянство военно-
торгового базирования. Русскими стали называть этнически
смешанные группы, составившие каркас невыборной дружинно-семейной
власти. В IX в. она сильно потеснила выборные институты местного
земского самоуправления. Характерной особенностью пришлого
семейно-дружинного ядра русской государственности была
корпоративная замкнутость. Этим объясняется исходное внеземское
положение древнего русского государства, его структурно-функциональная
независимость от ранее сложившейся системной самоорганизации
славянских этносов.
Генотип захватной политической власти был свойственен всем
западноевропейским варварским королевствам. Подобно Новгородско-
Киевской Руси, они выросли из семейно-дружинного корня. Это
фактически подтверждает история Раннего Средневековья.
В V в. н. э. территорию Западной Римской империи затопили орды
германцев. Варварские королевства возникали в качестве военных
корпораций, противопоставленные земской самоорганизации
местного населения. Первое из таких королевств (Тулузское) начало с
поголовного истребления галло-римской знати.
Итальянское королевство остготов времен Теодориха Великого
(середина VI в.) и Франкская империя Карла Великого (конец VIII —
начало IX в.) строились на симбиозе германских дружин и
романизированного местного населения. Полиэтническое древнерусское
государство, возникшее в конце IX в., реализовало похожую государство-
устроительную модель.
Новгородско-Киевское княжество Рюриковичей было основано
на взаимовыгодном сотрудничестве северовосточных норманнов
(варяго-русов) и экспортно ориентированной части новгородских и
киевских торгово-ремесленных кругов. Внешнеторговое
сотрудничество являлось экономическим производным от древнеславянского
289
«трудити» — воевать. Варяго-русским мечом прорубался
днепровский внешнеторговый путь. В VIII—IX вв. для новгородской внешней
торговли были закрыты балтийские морские пути. Их
контролировали северо-западные группы разбойников-норманнов.
Только в XII в. Ганзейский торговый союз, заключенный
северогерманскими портовыми городами во главе с Любеком, обеспечил
Новгородской республике безопасность балтийских торговых путей.
С этого времени для новгородцев потерял экономический смысл
опасный путь «из Варяг в Греки». Тем более, что львиная доля
экспортной выручки доставалась великокняжескому Киеву,
сторожившему последний отрезок внешнеторговой речной магистрали.
Соперничество Новгорода и Киева за контроль над этой
товаропроводящей артерией обычно разрешалось военно-политическими
средствами. В конце IX в. новгородско-варяжский конунг Олег
(Хельг) отнял у своих соплеменников Аскольда и Дира порт-
перехватчик, г. Киев, занимавшийся внерыночным
«несанкционированным отбором» части товаропотока, идущего из богатого Новгорода
по рекам Волхову, Ловати, Западной Двине, Днепру.
Созданная Рюриковичами общерусская империя ликвидировала
внутренние таможенные барьеры, подобные киевскому. Удельные
русские княжества их восстановили. Поэтому Новгородская
республика XII в. предпочла переориентировать свою внешнюю
торговлю с юга на северо-запад. («СП» северогерманской Ганзы и Великого
Новгорода выстроило инфраструктурный аналог современного
Североевропейского газопровода, предназначенного для прямых
поставок российского газа энергопотребителям Европейского
Союза.) Преимущественно внешнеторговая ориентация молодого
Новгородско-Киевского государства была предопределена в конце
IX в.: отстранением местной славянской родо-племенной знати от
функций государствообразующего слоя. А варяго-русы не были
экономически заинтересованы в развитии внутреннего рынка.
Почему восточно-славянские родоплеменные старейшины и
главы больших патриархальных семей не превратились к IX в. в госу-
дарствообразующий слой? Перед ними не стояли такие исторические
задачи. Аппарат регулярного насилия был избыточен для носителей
патриархального авторитета, имеющих необходимые рычаги
общественного влияния, обладающих внешними признаками социального
престижа. Родо-племенная верхушка славянских этносов
относительно поздно обзавелась профессиональными инструментами
материального господства над соплеменниками, по причине их
недостаточной имущественной дифференциации.
290
Основная масса славянского населения враждебно приняла
вооруженных пришельцев. Новгородская летопись кратко сообщает об
антиваряжском восстании горожан (во главе с легендарным
Вадимом). Если учесть, что новгородские летописи создавались с
XI в., при утвердившейся династии Рюриковичей, указанное
восстание было действительно масштабным и его невозможно было не
упомянуть. Восстание новгородцев середины IX в. варяги подавили
вооруженной рукой, после чего не могло быть и речи о «мирном
призвании» дружины Рюрика. Скорее всего, вследствие явной враждебности
местного населения, варяжские конунги разместили с 862 г.
постоянные гарнизоны в узловых пунктах своих военно-торговых
коммуникаций. Эта сеть погостов и товарищей впоследствии превратилась в
низовые структуры таможенно-податной системы. Строительство
варяго-русских стоянок на берегах судоходных рек продолжалось и
век спустя. Как сообщает летопись, после убийства древлянами
Игоря Старого «учала княгиня Ольга ставити погосты по реке Мете»,
второй (после Волхова) речной магистрали новгородского региона.
Пришлая ладожско-новгородская дружина князя Олега не
обладала авторитетом, влиянием и престижем в глазах приднепровских
аборигенов. Зато она изначально располагала явным военным
превосходством над местным населением. Вооруженное насилие
превратилось в постоянное основание нового для Приднепровья института
бесконтрольного господства. Последнее — это еще не государство, а
всего лишь организационная предпосылка к нему. Поэтому события
862 г., описанные в Начальной летописи, очень условно можно
считать рубежом, отделяющим догосударственную (земскую)
самоорганизацию восточных славян от протогосударственной (семейно-
дружинной) организации.
Долгое время военно-торговая корпорация правила, но не
управляла, то есть не стесняла себя социальной ответственностью
публичного института государственного доминирования. Отсутствие
ответственности за безопасность и благосостояние управляемых — вот что
отличает протогосударственное господство вооруженных людей от
государственной власти. Во второй половине IX в. бродячая варяж-
ско-русская дружина воспринимала подчиненные ей славянские
земли с оседлым населением исключительно в качестве
материального ресурса для корпоративной заморской торговли.
Зарубежные «собиратели» славянских земель совершили циви-
лизационно регрессный, инволюционный скачок: от хозяйства
производящего — к хозяйству присваивающему. Главным субъектом
варварского присвоения стала дружина. Внешне это выглядело как
291
шаг вперед. Натуральное хозяйствование славянских общин (с их
пограничным «бартером») дополнилось товарно-денежными
отношениями дружины с зарубежьем.
Однако товаризация натуральной продукции, изымаемой в виде
дани, и превращение в экспортный товар челяди (порабощаемых
земских работников) экономически обескровливали
восточнославянские земли. Ежегодные дружинные экспедиции для сбора дани и
захвата рабов (полюдье) формировали военный обоз, именуемый
«товаром» (от скандинавского di vaar). Товар предназначался для
внешних рынков. Экспортная выручка (в основном — предметы
роскоши) шла на внепроизводственное потребление дружины. Земля
получала непропорционально малую долю внешнеторговой прибыли
новгородско-киевской дружины.
Путь «из Варяг в Греки» являлся несущей осью русской протого-
сударственности днепровского периода. Обеспечение безопасности
внешнеторгового пути на столетие определило системные задачи
кочевого протогосударства, экстенсивно использовавшего результаты
продуктивной деятельности оседлого населения. Социально-
экономические интересы последнего, не подкрепленные
государственной самоорганизацией, в расчет не принимались.
Элитные группы автохтонного населения самостоятельно
консолидируются в государствообразующий слой при следующих
минимальных условиях:
— для централизованного решения общезначимых
инфраструктурных задач, например — сооружения ирригационных систем в
Месопотамии и долине Нила (Шумеро-Аккадское государство и
Египет);
— для силового подавления численно превосходящего
враждебного этноса (Персидская держава времен Кира II Великого);
— для насильственного перераспределения общинных земельных
ресурсов в интересах старинных родов патрициев (Римский полис).
На восточнославянских землях до «варяжского призвания» не
успела сложиться совокупность вышеперечисленных условий.
Поэтому формирование механизмов внеэкономического
принуждения происходило в зоне притяжения плотного ядра чужеродных
элементов. Вступая с ними в военно-торговый симбиоз, местные
экспортно ориентированные городские круги славянских этносов
активно соучаствовали в создании протогосударственной
инфраструктуры товарищей и погостов. То есть — содействовали
доминированию варяго-русской Дружины над славянской Землей,
города — над деревней. Политэкономическое понятие последующих
292
веков — «тянуть к городу» (тягло) — обрело свои первичные
организационные формы набеговой экономики варяго-русского прото-
государства уже в конце IX в.
К середине XII в. прагматичная часть ославяненной русской
дружины потеряла интерес к заморской торговле. Кочевники перекрыли
основную внешнеторговую артерию. Под натиском Степи дружинно
организованная Русь отступила в лесные дебри междуречья Оки и
Волги и увела за собой беззащитное перед половцами славянское
население. Началась новая эра по-прежнему неравноправных, но уже
двусторонних отношений государственного «города» с неогражден-
ной «землей». В XII в. наивысшей плотностью городов выделилось
Ростово-Суздальское княжество Юрия Долгорукого. Новопо-
строенные им города-крепости (в том числе Москва) представляли
собой княжеский домен, в котором не допускалось возрождение
традиционных политических форм славянской общественной
самоорганизации: городского народного собрания и органов земского
самоуправления.
Под военным прикрытием княжеских дружин переселялись
славяне-земледельцы. Переселенцы объединялись не в родовые, а в
соседские деревенские общины. Они подпадали под юрисдикцию
военно-ремесленных городов. Земледелие и животноводство
становились основными славянскими (земскими) занятиями. Оптовая
торговля оставалась княжеской монополией. Полит-экономическая
зависимость Земли от Города закреплялась публично-правовыми
средствами, получая государственный статус тягла. Последнее
группировало в целях налогообложения субъектов хозяйственной
деятельности. В тягловых повинностях славянских насельников
княжеских земель в междуречье Оки и Волги, завоеванных Дружиной в
XI—XII вв., впервые соединились государственный налог и
владельческая земельная рента.
В отличие от своих киевских предшественников, ростовские и
владимиро-суздальские князья выступали полными титульными
собственниками колонизованной земли. И в этом новом
владельческом качестве они приглашали на поселение вольных людей:
землепашцев-огнищан, бортников, ловчих, рыбарей, плотников,
кузнецов. Государство формировало земские социумы под свои
хозяйственные нужды. Осуществлялось это на добровольной основе: через
договорное соединение земского живого труда и государственных
природных ресурсов.
В течение XI-XII вв. приток новопоселенцев все более отставал
от «примысла» новых государственных территорий Северо-Вос-
293
точной Руси. Даже к концу XVI в. Московское царство,
обремененное гигантскими пространствами, насчитывало около 6 млн
подданных. Для сравнения: население Польши начала XVII в. доходило до
12, Австрии — до 20 млн человек.
Удельные вольности и вотчинное рабство
Между XII и XIII вв. (в удельный период) на Руси формировалась
европейская феодальная система. Появились свободы боярского
отъезда и ряда (договора об условиях княжеской службы), налоговые
иммунитеты, исполнение земельными собственниками судебных
функций, церковный арбитраж гражданских правоотношений.
Удельные вольности привилегированных сословий содержали в себе
зародыши институтов гражданского общества, ограничивающих
государственное своеволие князя-вотчинника.
Политическая раздробленность страны, крупное частное
землевладение и вассалитет составляют неотъемлемые признаки
западноевропейской феодальной системы. Разный правовой статус имели
бенефиции (королевские земельные пожалования), аллоды и феоды.
Титульные собственники феодов исполняли существенную часть
публичных госфункций. На российской почве феоды либо
отсутствовали, либо возникали в превращенной форме поместий. Что,
естественно, приводило к социальным результатам, отличным от
западноевропейских.
Так, условное землевладение (поместная система) широко
распространилось в Московском княжестве после покорения Новгорода
и массовых конфискаций новгородских земель. За счет этого почти
удвоился государственный земельный фонд. Ивану III и Василию III
удалось испоместить тысячи московских служилых людей, в
основном безвотчинных детей боярских. Земельный кризис, поразивший
Московское великое княжество в середине XV в., был преодолен на
антифеодальной основе. Через сто лет в Московском царстве
практически исчезла частная собственность на землю.
Западные конституции как обобщенные формы феодального
договора сложились на базе вассалитета. При общей средневековой
неразвитости госаппарата, сеть персональных двусторонних
договоров внутри элиты являлась суррогатной заменой обезличенного
правопорядка. Впоследствии эта сеть превратилась в
соединительные ткани гражданского общества и правового государства.
294
Предусматриваемая в феодальном договоре возможность
объективного арбитража при конфликте сторон вызвала к жизни
независимый суд.
На российской исторической почве не укоренилась договорная
форма взаимоотношений управляющих и управляемых. Это
позволяло государству обременять подданных обязанностями, не
уравновешенными правами. Частным лицам — давало моральную санкцию
на безответственное «казакование». В стихийном состязании
частные интересы обычно берут верх над государственными. Это один из
немногих безусловно срабатывающих законов истории. Личная
мотивация сильнее обезличенной. Слабела в России власть,
принуждающая к социальной спайке, и люди «брели розно».
Политическое раздробление общей державы Рюриковичей
происходило не от умаления прерогатив центральной власти (как в
Западной Европе), а от умножения удельных князей — суверенных
земельных собственников. Поэтому западноевропейский принцип
разделения частнособственнического доминиума и публичного им-
периума на Руси не утвердился. Каждый удельный князь был
государем — титульным собственником своей вотчины и господином —
политическим сувереном земщины (резервного пространства его
вооруженного доминирования).
На вотчинных землях, управляемых княжеским двором,
использовался преимущественно труд холопов. Зарубежный спрос на
челядь исчез к XIII в. пресечением пути «из Варяг в Греки». Военные
пленники накапливались и исхолопливались, повышая
экономическую ценность обрабатываемой земли. Княжеский двор, в том числе
«путные бояре» — управляющие отраслями княжеского хозяйства, в
основном также состоял из дворских холопов,
трансформировавшихся в конце XV в. в дворян. Последним предназначалась историческая
роль послушных орудий государственного искоренения боярских и
земских вольностей удельного периода.
Феодальная оппозиция XII в. антибоярской и антиземской
политике Юрия Долгорукого, Андрея Боголюбского и Всеволода III
Большое Гнездо, не поддержанная новыми городами, потерпела
поражение. Во время государственной смуты, наступившей после
убийства Андрея Боголюбского, только бояре и народное вече старинного
Ростова Великого выступили против княжеского самовластия.
Но владимирцы дружно встали на сторону Всеволода III и
обеспечили его победу.
В отличие от Англии Позднего Средневековья, в России XVI в.
распался непрочный союз земельных собственников и торгово-
295
промышленной предбуржуазии. Для него не осталось политэкономи-
ческой основы. Владельческая рента, получаемая помещиками,
использовалась преимущественно в сфере непроизводственного
потребления. Уровень товарности национального хозяйства до Великих
реформ XIX в, рос медленно. Ему соответствовала и незначительная
средняя норма накопления. Иррациональная система
налогообложения препятствовала капитализации природных ресурсов и
избыточного живого труда. Капитал непрестанно иммобилизовывался, ибо
существовал более в натуральной, нежели денежной форме.
Монетизация ВВП оставалась невысокой. Ее росту препятствовала
неразвитость внутреннего кредитования. Денежная выручка от
крестьянской торговли в основном шла на уплату оброка и податей.
До середины XIX в. в русской оптовой торговле сохранялись
реликты товарообменных операций.
Социально-политическим условием капитализма являются
буржуазные свободы. В России они могли осуществиться лишь в
качестве инварианта феодальных вольностей. Последние сохранялись в
удельный период российской истории. В это время существовали
предпосылки для политической коалиции земельной аристократии
и городской предбуржуазии, на экономической основе
капитализации земельной ренты и торгово-промышленной прибавочной
стоимости. Положение бояр в удельной Руси во многом напоминало
современный гражданский статус. Они платили налоги там, где
находилась их недвижимость. А служили — где хотели. В боярских
(феодальных) вотчинах почти не использовался рабский труд. В
великокняжеской (государевой) вотчине-домене преобладал труд
холопов. Сохранение древней традиции земского «ряда», дружинного
права вольной службы и крестьянского вольнонаемного труда было
в боярских интересах. Нарастающую часть прибавочного продукта
бояре получали в слободах — в процессе рыночной капитализации
владельческой ренты.
К слову сказать, в современной России, несмотря на
преобладание в национальной экономике рентных отраслей, не утвердилась
рентообразующая налоговая система, потому что государство не
прекратило «гоньбу» (В. О. Ключевский) за мобильными
источниками живого труда, оставляя вне налоговых притязаний* большую
часть овеществленного труда. Система государственного изъятия
значительной части валового национального дохода остается
экстенсивной, фискально-конфискационной. Как в XIII—XVIII вв.
В этот период сложился рентный тип российской экономики.
296
Неустойчивое земско-вотчинное равновесие Руси резко
нарушилось в середине XIII в. Монголы громили русские города, разрушали
инфраструктурные узлы ремесленного производства. Орду не
интересовали земля и лес. Ордынский «выход» состоял из денег и
рекрутов. Общая тяжесть даннического пресса одинаково придавила
вотчину и земщину. Однако вотчинный способ великокняжеской
экономической деятельности более надежно обеспечивал сбор ордынской
дани. Подобно колхозам. Поэтому татаро-монголы поощряли в своем
северо-западном улусе развитие вотчинных начал княжеского
администрирования, ограничивая земское самоуправление.
Единицей налогообложения покоренной Руси стал
хозяйствующий двор, как в Китае. Кроме того, Орда взимала десятипроцентный
налог с торгового оборота. Только назывался он не НДС, а «тамга».
Современная торгово-финансовая терминология имеет отчетливые
тюркско-татарские корни: деньги, таможня, казна, пай, книга.
(Последнее слово пришло в Орду из оккупированного монголами
Китая.) Характерно, что в словаре русского земледелия нет и следа
тюркско-татарского влияния. Орда не интересовалась
технологическими приемами и рабочей лексикой русских пахарей.
Антиземское государство
Уместно лишний раз задуматься над исторической природой
авторитарных корней российской государственности. Они изначально
отличались от западноевропейских. Русское слово «государство» и
английское «state» (французское «état») содержательно восходят к
разным истокам. Одно — к «государю», термину частно-правовому,
первоначально означавшему собственника рабов и вещей. Другое к
публично-правовому понятию «состояния, упорядоченности».
Западноевропейские государства, не полностью пронизанные
римским правом, в Раннем Средневековье еще не четко разделяли
публичную власть суверена и его частную наследственную
собственность, «империум» и «домининум».
Московское вотчинное государство в своем исходном состоянии
было неограниченным собственником земли, природных ресурсов и
львиной доли результатов продуктивной деятельности,
осуществляемой на государевой земле. Всякая вновь приобретаемая либо
завоеванная территория записывалась «за государя», увеличивая его
державный вес. Политологической аксиомой считалась прямая прогюр-
297
циональная зависимость силы и устойчивости государства от объема
земельного богатства суверена. Драматические события российской
политической истории второй половины XVI в. обнаружили
неосновательность данной аксиомы: не может быть устойчивой
конструкцией пирамида, поставленная на свою острую вершину. Громадное
Московское царство, составлявшее домен самодержавного государя,
внезапно потеряло внутреннюю устойчивость и вскоре разрушилось
на глазах изумленной Европы. Нарушение устойчивости
Московского государства явилось системным следствием не Ливонской войны,
морового поветрия, убыли населения в центральных уездах,
недорода или побед польско-литовской армии Стефана Батория. Последний
добивал уже лежачего врага. Вышеперечисленные бедствия,
обрушившиеся на Московию в 1570-1580-е гг., обнажили коренной
системный порок самодержавного политического режима — отсутствие
в нем сплоченного истеблишмента, кровно заинтересованного в
прочности центральной власти.
Политология, оперирующая исключительно социологическими
понятиями предельного уровня обобщения (классы, формация,
социально-экономический уклад) не замечает такой «мелкой
исторической конкретики», как несколько сотен родовитых семей
московского дружинного боярства, сыгравших в XIV-XV вв.
решающую роль в становлении единодержавия дома Ивана Калиты.
Раздробленное самодержавной революцией, сорванное со своих
вотчинных, хозяйственно устроенных гнезд и развеянное по
окраинам страны, дружинное боярство к концу царствования Ивана
Грозного уже не составляло несущую ось государственного
механизма. Отсюда — системное «нестроение», шатание верхов,
вызвавшее Смуту начала XVII в.
Фактором общественной дестабилизации в России часто
выступала самодержавная власть: войны, смуты, репрессии, нескончаемые
имущественные переделы. Иван Грозный продемонстрировал эту
особенность самодовлеющей власти наиболее наглядно. Обеспечивая
свободу «государевой воли», центральная власть Московского
царства во второй половине XVI в. особенно энергично подавляла
тогдашний зачаточный истеблишмент: господ и житьих людей Великого
Новгорода, органы земского самоуправления, старинное дружинное
боярство, церковную иерархию, то есть — все слои, экономически не
заинтересованные во всеобщем исхолопливании. В этот же
исторический период в приграничных областях «дикого поля» накапливалась
критическая масса внесистемных «гулящих людей», сыгравших
главную деструктивную роль в великой Смуте XVII в. Центральная
298
власть всемерно способствовала этому накоплению
антигосударственных сил. В 1570-1580-х гг. 40 % пахотной земли центральных
уездов превратились в пустоши, выпали из хозяйственного оборота.
В новгородских пятинах в это время в обработке находились 7,5 %
сельскохозяйственных угодий. Остальные — запустошились.
Работники, уцелевшие от опричнины и Ливонской войны, массово
бежали на юг, в приграничные области «дикого поля». Через четверть
века они вернулись в центр Московского государства в облике
«сбродных казаков».
«Сидя на коне, можно завоевать царство, но нельзя управлять им
с седла». Этот совет Елюя Чуцая, китайского специалиста (кидань-
ского происхождения) по политическому администрированию,
адресованный монгольскому Великому хану Хубилаю, дошел и до
правителей Золотой Орды. Они отказались от непосредственной военной
оккупации покоренных русских княжеств. Сохраненный
завоевателями местный княжеский военно-административный аппарат резко
усилился за счет сокращения прерогатив земского самоуправления.
Орда толкала князей к избавлению от удельно-вечевых порядков.
К XIV в. они сохранились только в Новгороде и Пскове.
Публичная государственная функция, сбор дани в пользу Орды,
осуществлялась частным хозяйственным аппаратом княжеского
двора. Московская великокняжеская унитарность, подавившая
удельный политический федерализм, выросла из экономического
полновластия наследственного титульного собственника земли,
рабов и вещей. Хозяйственные функции государя-вотчинника
подчинили себе административно-политическую деятельность великого
князя. Золотая Орда выпестовала собственного могильщика —
самодержавного московского государя, долгое время укрывавшегося под
личиной лояльного держателя ханского ярлыка на великое
княжение. Делегированные Ордой публично-правовые великокняжеские
полномочия использовались наследниками Ивана Калиты в
частнохозяйственных (государевых) целях.
Политическим условием великого княжения по ханскому ярлыку
изначально было антиземское поведение, то есть выжимание из
населения в пользу Орды все большей массы денег и рекрутов. Наиболее
видные «коллаборационисты» принадлежали к роду Александра
Невского. Знаменитый победитель шведов и тевтонов добровольно
склонился под ордынское ярмо, побратавшись с сыном Батыя.
В 1252 г. Александр Ярославович во главе русско-татарского войска
быстро потушил пожар антиордынского народного восстания в
Суздале и Владимире, в 1257-1259 гг. — в Новгороде. Его внук Иван
299
Калита в 1327 г. с помощью татарского войска крайне свирепо
подавил аналогичное восстание в Твери, поддержанное местным князем.
После этого погрома город так и не оправился, но зато полвека,
подобно Москве, сохранял политическую лояльность Золотой Орде.
До Куликовской битвы 1380 г.
Первым самодержавным царем, то есть высшим сувереном, на
Руси был не Иван IV и даже не Иван III, а Батый. За 250 лет
иноземного ига сформировался образ антиземского государя, забиравшего
от подданных все, до чего он в состоянии дотянуться, обременявшего
их службой и тяглом, не давая взамен эквивалентного объема услуг
по поддержанию порядка.
Понятие институционализированного государства, отделенного
от личности и собственности монарха, сформировалось лишь в
начале XVIII в., при Петре I. Общеизвестно его обращение к войскам
перед Полтавской битвой: «Вы сражаетесь не за Петра, но — за
государство, Петру врученное». Однако исторический путь от
частноправового «государствования» до публично-правовой
«государственности» еще предстояло пройти. Деперсонализация государства не
сопровождалась расширением правосубъектности сословий
российского общества. Что касается правосубъектности лиц, то такого
понятия российское законодательство и правоприменительная
практика не знали до Великих реформ второй половины XIX в. Любое, самое
могущественное лицо, некогда бывшее «всем», могло в одночасье
стать «никем». Судьба А. Д. Меншикова — лишь одно из
бесчисленных свидетельств правовой незащищенности даже самых
высокопоставленных лиц.
Принцип безличного государства (как самодовлеющей ценности)
утверждался трудно. Петр I добровольно поставил себя в служебное
положение. Выстраивая государственных служащих в соответствии с
«Табелью о рангах», преобразователь закладывал основы социотех-
нической системы, в которой функция определяет должность, а
звания производны от заслуг. Лично встраиваясь в создаваемую
рациональную организацию, великий реформатор одновременно укреплял
внесистемное положение института самодержавия. Послепетровские
царствования наглядно это демонстрировали. Подавая личный
пример социотехнической функциональности, неутомимый «работник
на троне» сам усердно служил, тяжким трудом добывая очередные
воинские звания. Вице-адмиралом он стал через восемнадцать лет
после начала военно-морской карьеры, после блистательной победы
российского флота при Гангуте. Собственными воинскими
званиями, незначительными в сравнении с титулом императора и долж-
300
ностью самодержца, Петр Великий подчеркивал прямую зависимость
государственного ранга от служебной пригодности и объема личных
заслуг. Для сравнения: императрица Анна Иоанновна за несколько
недель путешествия из Митавы в Петербург «дослужилась» до чина
полковника Преображенского полка, в котором сам Петр I через
двадцать лет службы был только капитаном. Герцог Брауншвейгский,
отец годовалого императора Иоанна Антоновича, не выиграл ни
одного сражения, находясь менее года на русской службе. Однако он
имел наивысшее воинское звание генералиссимуса российских
вооруженных сил.
Евразийская парадигма взаимоотношений полновластного
государства с бесправным обществом в послепетровской России надолго
сохранилась. Воспитанное Золотой Ордой, Московское царство с
трудом поддавалось поверхностной рационализации. Столетиями
оставаясь монопольным субъектом системных преобразований,
блокируя политическую активность внегосударственных сил,
центральная российская власть сама обрекла себя на неэффективную модер-
низаторскую роль «единственного европейца» в традиционалистской
стране.
Постепенно отделяясь от личности государя, российское
государство не сближалось с обществом. Домонгольская Русь в этом
отношении выгодно отличалась от Московского царства. Идея государства
как народного союза, едва блеснув в Смутное время в передовых
политических умах, не стала общеземским достоянием, не овладела
массовым сознанием. В царствование Михаила Романова (1613-
1645 гг.) состоялось десять земских соборов. Из них только первый
(1613 г.), предваряемый консультативным плебисцитом, сыграл
учредительную, избирательную и законодательную роль. Второй
собор (созванный по инициативе царя в 1619 г.) имел
государственный статус лишь распорядительного учреждения при Боярской думе.
Последующие соборы утратили даже законосовещательные
функции, превратившись в партхозактивы «всех чинов Московского
государства».
Хотя оперативные указы первого русского императора, по словам
А. С. Пушкина, были «писанны кнутом», власть тогда впервые стала
объяснять населению государственный смысл властных решений и
нормативных актов. Из правительственных «Курантов» россияне
Петровских времен узнавали, почему нельзя пасти скот на
петербургских проспектах и для чего изменен порядок престолонаследия.
Диалог подданного с властью, однако, не допускался. У монахов
изъяли письменные принадлежности. Запрещалось писать что-либо при
301
закрытых дверях. Нарушитель навлекал на себя подозрения в «про-
тивогосударевых умыслах». Подметные письма надлежало сжигать,
не читая.
При Петре I резко возросла сыскная роль доносов частных лиц.
По указу 1711 г., каждый (в том числе — крепостной) сообщивший
властям о дворянине, уклоняющемся от службы либо учебы, получал
в награду его поместье. Мобилизационная модель развития страны,
традиционно используемая высшей российской властью, постоянно
побуждала правительство к «чистке» политико-административной
элиты. Последнее являлось единственным (хотя и не вполне
адекватным) орудием системных преобразований.
Неизменно озабоченное военным великодержавием,
правительство предъявляло стране и элите чрезмерные, непосильные для них
тягловые и служебные требования. Страна откликалась
перманентным дефицитом человеческих, материальных и денежных ресурсов.
Элита — служебной неисправностью. Реформаторское
правительство вынужденно брало под централизованный контроль все
значимые финансово-ресурсные потоки и осуществляло элитную
ротацию единственно доступным ему методом периодических чисток
аппарата. Так поступали Иван Грозный, Борис Годунов, Петр
Первый, Иосиф Сталин. То есть все правители, озадаченные
проблемами ускоренной модернизации, не обеспеченной ресурсами.
С Петровских времен правительство периодически заставляло
дворянско-чиновное и партийно-советское служилое сословие
образовываться и проникаться государственным сознанием. Но — не
допускало к выработке и принятию стратегических решений. Взамен
дворянская и номенклатурная элиты получали возможность или
беспрепятственного обогащения за счет продуктивных слоев Земли, или
доступа к закрытой для большинства населения системе
привилегированного снабжения.
Петр I перенапряг мобилизационные возможности вотчинного
государства. Административно-политическая и социально-
экономическая организация страны функционально
ориентировалась преимущественно на войну. Режим постоянных мобилизаций
традиционно оправдывался обширностью государственной
территории, уязвимостью протяженных границ, подвижностью населения,
устремленного в поиски «земли и промысла». За 36 лет Петровского
царствования Россия не воевала только один год. Большая часть
государственного бюджета (впервые появившегося при Петре)
тратилась на армию. Ее содержанием была занята треть рабочего населе-
302
ния. Милитаризация страны подрывала ее мирные
производительные силы.
Петр I, поверхностно европеизируя Россию, продолжил
антиземскую самодержавную линию Ивана IV. Опричный террор заслонил в
памяти потомков первые положительные результаты земских
реформ 1550-х гг.
Успешные в военно-административном отношении, Петровские
реформы начала XVIII в. скрыли от потомков ликвидацию остатков
земского самоуправления. В руках Петра I оказалось намного
больше материальных и финансовых ресурсов, чем у Избранной рады
1550-х гг. Увеличились и валовой внутренний продукт, и процент
государственного изъятия национального дохода. Поэтому КПД
реформаторской деятельности Петра I намного выше, чем
антиреформаторской — у Ивана IV, чьим историческим преемником Петр, тем
не менее, себя считал.
Концепция земски активного общества, не сводимого к тягловым
и служебным сословиям, стала достоянием русского политического
мышления во второй половине XVIII в. При Екатерине II
правительство доросло до просветительской идеи общественного блага. Однако
материализоваться этой идее было не суждено ни в Екатерининское,
ни в последующие царствования.
Централизация государств
Государственная история восточных славян началась на 300 лет
позже франкской. Символом их догосударственности является
деревенский (деревянный) облик многочисленных городских поселений
Гардарики. Образ жизни восточных славян не располагал к
долговечному каменному строительству. Дело не только в недостатке на
территории расселения восточных славян строительного камня. Его
дефицитом характеризуется Великая Русская равнина. Не было
общественной потребности в разработке карьеров. Эту потребность
создало строительство княжеских замков. Государственный кремль
(кременец) мобилизовал окрестные деревни на разработку каменных
карьеров. Вплоть до конца VI в. славяне, с их пастбищно-стойловым
животноводством и подсечно-огневым земледелием, оставались
полуоседлыми земледельцами. Они не имели ни профессиональной
политической, ни регулярной военной организации. Огражденные
деревянным частоколом, славянские поселения легко демонтирова-
303
лись. Миграция славян на северо-восток и восток Европы также не
способствовала каменному строительству. Их переселение началось
под натиском более сильных кочевников в VI в., усилилось в VII в. и
завершилось образованием в конце IX в. протого-сударства
Новгородско-Киевской Руси. Инфраструктуру северо-восточных и
юго-западных русско-славянских государств XI—XII вв. составили
торгово-ремесленные города, превращенные в княжеские крепости.
Генетическое сходство Новгородско-Киевской Руси и
Каролингской империи определяется наличием общих формообразующих
генов: пришлых дружин (как центров государственной
кристаллизации покоренного населения), слитности военной и гражданской
властей, собственности и власти, персональности правовых норм
варварских «Правд».
В XI—XII вв. русско-славянские государства уже превосходили
уровнем достигнутой цивилизованности западноевропейские
королевства, непрерывно разоряемые войнами друг с другом. Даже
древняя Новгородско-Киевская Русь IX-X вв. воевала значительно реже.
Она в X в. быстро превратилась в могучую империю, нападать на
которую рисковали немногие. Двести лет (с середины XI до середины
XIII в.) русско-славянские княжества сдерживали варварский натиск
кочевой Степи. Еще двести пятьдесят лет русские «держали щит меж
двух враждебных рас — монголов и Европы» (А. Блок. Скифы).
Структурное сходство западноевропейских королевств и
русско-славянских удельных княжеств с середины XIII в.
сменяется внешней похожестью их военной политики. Она неизменно
наступательна.
В качестве геополитических наследников золотоордынских
великих ханов московские князья и цари продолжили татаро-монгольский
поход «к последнему морю». Освобождение от Ига мало что
изменило в генотипе российской государственности. Разве что усилился ее
наступательный порыв, оправдываемый целями национальной
обороны от агрессивных соседей. Ордынский генотип, намертво
впечатанный в государственный менталитет российского политического
класса, проявлялся в экспансионизме московских государей. Однако
до 1945 г. «естественные» оборонительные рубежи российского
государства все еще не считались достигнутыми, поскольку они
непрерывно раздвигались.
Собиранием под скипетром своих государей северо-восточных
русских земель Москва не ограничилась. Юго-западные русские
земли в XV в. входили в состав великого княжества Литовского и
Русского. Уже в титуле московских «государей Всея Руси» содержа-
304
лось притязание на эти земли. Аналогичный титул имели великие
князья Литовские.
Во второй половине XV в. Московский великий князь Иван III
приступил к территориальному подтверждению своего титула. С тех
пор в течение 150 лет к России ежегодно присоединяется «по одной
Голландии», то есть в среднем по 35 тыс. кв. км.
«Першее государствование» Ивана Грозного понимается им уже
как непрерывное приращение нерусских территорий, принимаемых
под его государскую державную руку. Казанское, Астраханское,
Сибирское ханства, Ливония... Успешное расширение Московского
царства Ивана IV в восточном и юго-восточном направлениях
сменяется (в результате рокового «поворота на Германы»)
чувствительными территориальными потерями на северо-западе страны. Шведы
отнимают у Москвы балтийское побережье, давно колонизованное
Новгородской республикой.
Российская территориальная экспансия возобновляется при царе
Алексее Михайловиче. Добровольно присоединяется Левобережная
Украина, тяжело отвоевывается Правобережная. При молодом Петре I
Московское царство расширяется до татаро-турецких берегов
Азовского моря: штурмом берется Азов, строится военный порт
Таганрог. Изнурительная Северная война 1700-1721 гг. завершается
выходом Российской империи далеко на северо-запад. Завоевывается
южная Балтика. В устье Невы строится новая имперская столица.
Успешные русско-турецкие войны Екатерины II завершаются
присоединением Новороссии, Крыма. Империя включает в свой
состав Западную Украину и Западную Белоруссию в результате трех
разделов Польши, осуществленных в союзе с Пруссией и Австрией.
При Александре I аннексируются Молдавия, Валахия и
Финляндия. Северный Кавказ и Закавказье подчиняются при
Николае I. При Александре II завоевывается обширный Туркестан.
Бухарский эмират и Кокандское ханство признают протекторат
русского «белого царя».
В Первую мировую войну Россия ввязалась с целями аннексии
Адрианополя и Стамбула, черноморских проливов Босфор и
Дарданеллы. Послевоенные территориальные потери Российской
империи компенсируются советским государством. В 1940 г. СССР в
результате «зимней войны» отнимает у Финляндии Выборг с
окрестностями, Румыния возвращает СССР Бессарабию и Северную
Буковину, отторгнутые от России в 1918 г. В соответствии с советско-
германским Пактом о ненападении 1939 г., к СССР заново
присоединяются Западная Украина, Западная Белоруссия, Литва, Латвия и
305
Эстония. Победа СССР во Второй мировой войне закрепляет эти
присоединения.
В декабре 1991 г. грандиозная империя вторично рушится. Россия
возвращается в государственные границы Московского царства
начала XVII в. Таков геополитический итог 350-летней войны за
«першее государствование».
Сравним великорусский и западноевропейский процессы
централизации государств и интеграции политических пространств.
В Западной Европе в течение XV-XVII вв. тоже происходило
силовое становление централизованных государств. Европейские короли
громили феодальные замки. На королевских пушках выбивалась
надпись «Ultima ratio Regis» — последний довод короля. Подавляя
своевольных сеньоров, западноевропейские суверены опирались на
активную поддержку городов и пассивную — закрепощенного
сеньорами крестьянства.
Укрепление западноевропейской государственной власти
сопровождалось освобождением крестьян от личной феодальной
зависимости. Решающую роль в освобождении зависимых слоев сыграли
города, ибо «воздух городов делает людей свободными».
Средневековый европейский город — это не просто компактное
поселение. Городу присваивался особый юридический статус,
содержавший набор льгот и особых государственных повинностей
городской коммуны в условиях всеобщего феодального владения.
Средневековый город предоставлял экономически активному
населению площадки, не обремененные феодальными держаниями.
В составе городских коммун формировалось третье сословие
лично свободных людей, относившихся к разным профессиональным
группам. Формирование буржуазного третьего сословия
осуществлялось в рамках феодально-монархического трехсословного
общества. Западноевропейское политическое пространство унаследовало
от греко-римской античности развитые формы городской
корпоративности и муниципальной самоорганизации городского населения.
В средневековых городах с X в. господствовал дух
коммерциализации. Даже университеты (в отличие от монастырских школ)
осуществляли прибыльную хозяйственную деятельность: они являлись
собственниками крупных участков городской земли, рыночно
используя ее. Студенты объединялись в союзы и заключали с
корпорациями университетских профессоров договоры о чтении курса
лекций. В XI в. профессора первого в Европе Болонского университета
читали лекции студентам из окон собственных домов. В XVI в.
городские типографии становились публичными центрами нерегламенти-
306
рованного интеллектуального общения. В этом они выигрышно
отличались от закрытых монастырских скрипториумов.
Королевский абсолютизм разрушал систему вассалитета — внего-
сударственную сеть личных обязательственных отношений. В
период феодальной раздробленности эта сеть выполняла функции
институтов публичной власти.
В городских коммунах созревали структуры гражданского
общества. Защищая торгово-ремесленные бурги от феодального разбоя,
абсолютные монархи укрепляли несущие конструкции
национальных государств. Торговые корпорации, ремесленные цехи, городские
ополчения, магистраты, судебно-регистрационные парламенты,
университеты цементировали европейскую национальную
государственность.
В России укрепление централизованного государства
детерминировало, наоборот, исхолопливание высших слоев служилого
сословия, препятствуя формированию нации как политической
совокупности граждан. Бояре потеряли свои древние права княжеского
совета, свободы «отъезда» (смены суверена) и вольного «ряда»
(договора о службе). Служебные повинности стали бездоговорными.
Уже при Василии III отъезд за рубеж приравнивался к
государственной измене.
Исхолопливание высшего сословия, поставленного в служебное
положение, повлекло за собой закрепощение крестьян.
Великокняжеские земли, на которых испомещивались служилые люди,
представляли экономическую ценность лишь при условии заселения
их работниками. Поэтому государство в XV-XVI вв. вынужденно
озаботилось обеспечением минимальной продуктивности своих
служебных земель, прикрепляя к ним крестьян.
Модернизационная школа феодализма
Идеологом консервативного движения, направленного против аб-
солютдстского варианта модернизации, был и знаменитый автор
феодальной по сути доктрины разделения властей. В своем трактате
«О духе законов» Монтескье защищает средневековые вольности
французской аристократии перед лицом восторжествовавшего к
середине XVIII в. королевского абсолютизма. Парадоксальным
образом, этот правовой шедевр феодального консерватизма превратился
со второй половины XVIII в., если воспользоваться известным опре-
307
делением Екатерины II, данным в ее письме к Даламберу, в
«молитвенник для просвещенных государей», осуществляющих
политическую модернизацию.
Сохранение в Западной Европе средневековых сословных
ассамблей облегчало становление систем политической демократии.
Практически все европейские великие революции осуществлялись
под знаменем реанимированных средневековых учреждений: со-
словно организованных генеральных штатов, судебных
парламентов, регистрирующих законы, кортесов. В средневековой России
не развилось сословное представительство, не сформировались
соответствующие ему государственные институты. Поэтому
политические формы западноевропейского парламентаризма не
укоренились в революционной России февраля-октября 1917 г.
«Полуконституционная» думская монархия легко уступила свое
историческое место буржуазно-демократической республике до-
парламентского типа. В еще более старый исторический пласт
уходят организационные корни Советов. Средневековым аналогом
Советов рабочих, солдатских и крестьянских депутатов 1917 г.
были допарламентские формы демократии: городское вече,
казачий войсковой круг, родоплеменные советы старейшин, собрания
деревенских большаков. Советская модернизация архаических
форм непосредственного народоправства институционально
закрепилась новой социотехнической системой
партийно-государственного аппарата, ставшего орудием ускоренной
индустриализации страны. При реализации данного модернизационного
проекта коммунистическая власть не могла использовать
организационные формы каких-либо старых политических учреждений.
России исторически не повезло.
Новое общество может успешно развиваться в старых
государственных формах. Пример тому — почти непрерывные в течение
XVIII-XX вв. социально-экономические, технологические и
организационные инновации в недрах американского общества, явно
контрастирующие с архаикой государственных учреждений,
скопированных с тюдоровских (XVI в.).
В отличие от российских революций начала XX в., американская
Война за независимость XVIII в. сопровождалась массовым
консервативным выступлением охранителей старых политических
учреждений, вывезенных английскими религиозными диссидентами
времен Якова I Стюарта (1603-1630 гг.). В середине XVIII в. потомки
первых колонистов восстали против верховного суверенитета ан-
308
глийского парламента и нового государственного строя, созданного
революцией 1640-1649 гг.
Образцами консерватизма являются федеральная Конституция
1787 г. и Конституции штатов, кодифицировавшие на национальном
и региональном уровнях политические практики и государственные
институты полуторавековой давности. Отсутствие существенных
институциональных инноваций в США проявляется в современном
конституционном процессе. Так, Конституции новых штатов,
принятых в Союз в 1950-е гг. (Аляска и Гавайские острова) практически
неотличимы от Конституции штата Массачусетс, составленной
Джоном Адамсом в 1780 г.
Принципы тюдоровской политической системы XVI в.
бесконфликтно сосуществуют с системными параметрами одного из самых
современных обществ XXI в. Вот эти принципы:
— органическое единство общества и государства;
— гармония ветвей власти, баланс власти главы государства и
парламента;
— взаимодополнительность в части народного представительства
парламента и главы государства;
— подчинение правительства фундаментальному закону;
— действенность системы местного самоуправления;
— опора на милицию в деле охраны государственного порядка.
Внутренний социальный мир и отсутствие крупных классовых и
религиозных конфликтов в тюдоровской Англии XVI в. являлись
следствием реализации вышеперечисленных принципов. В отличие
от стран континентальной Европы, Англия не знала
крупномасштабных религиозных войн. Исключение составляли годы правления
Марии Тюдор Кровавой, казнившей тысячи протестантов и
провоцировавшей протестантский контртеррор. Хитроумные
политические комбинации Елизаветы I надолго восстановили гражданское
согласие элит, обеспечившее системное равновесие английского
общества. Равновесие нарушилось в результате революции и гражданской
войны 1640-х гг.
Контрастно, по сравнению с тюдоровской Англией, выглядит в
тот же период системная нестабильность Франции. В 1562-1598 гг.
здесь бушевали общенациональные религиозные войны. Последующие
50 лет отмечены борьбой Ришелье с гугенотами и войнами Фронды.
Свой внутренний социальный мир, сохранявшийся в течение
XVI в., Английское королевство выстрадало в феодальных войнах
Алой и Белой роз, истребивших в конце XV в. почти всю дотюдоров-
скую аристократию. Сменившая Плантагенетов династия Тюдоров
309
была потому и принята населением страны, что смогла обеспечить
межсословный компромисс.
В континентальных странах Западной Европы, в отличие от
Англии XVI-XVII и первой трети XVIII в., государство приобрело
роль единственного источника политического суверенитета и
главного основания национальной идентичности. Дореволюционная
Англия и ее североамериканские колонии в течение этого
исторического периода подчинялись требованиям фундаментального закона
как авторитетного источника ограничений, налагаемых на поведение
людей в публичной сфере. Устойчивое верховенство
фундаментального закона сочеталось здесь с отвержением государственного
суверенитета.
Из верховенства фундаментального закона необходимо следует
отрицание права на абсолютную власть любой человеческой
институции. Верховный суверенитет фундаментального закона прямо
отвергает аналогичные суверенитеты короля, парламента и народа.
Системообразующая (парадигмальная) роль фундаментального
закона предполагала рассредоточение всего объема политической
власти, накопленного английской историей, по различным ядерно-
сферным узлам общественно-государственной метасистемы.
Рассредоточенная политическая власть в дореволюционные времена
совокупно принадлежала различным институциям: королю,
парламенту, церкви, общинам, суду, сословным собраниям. Английская
революция 1640-1649 гг. стянула децентрализованные ядерно-
сферные узлы метасистемы — в Суперузел (Парламент).
Континентальная Западная Европа отвергла в XVII в. английский
принцип рассредоточенной власти и верховенства
фундаментального закона. Данные системообразующие факторы оказались
несовместимыми с политической модернизацией. Последняя нуждалась в
концентрированной власти, способной осуществлять структурные
изменения в макросоциальных системах.
Начавшаяся в континентальной Европе (с XVI в.) и в Англии
(с XVII в.) политическая модернизация потребовала иного
(суверенного) состояния верховной государственной власти над прочими
институциями и населением — власти, не ограниченной
фундаментальным законом. Идеологическим обоснованием нового правосознания
европейцев являлись различные доктрины государственного
суверенитета: от трактата «Государство» Жана Бодена (1576 г.) до
«Левиафана» Томаса Гоббса (1651 г.). В это же время происходила
правовая легитимизация приоритета государственных интересов.
Разрабатывалась система государственных мотиваций, нарушающих
310
обычное право во имя защиты или установления «общественного
блага».
К концу XVII в. средневековое распределение власти между
сословиями в странах континентальной Европы сменилось
централизацией власти в руках абсолютных монархов. К 1700 г. в большинстве
крупных и мелких стран континента прекратили свое
государственное существование сословные собрания: во Франции (с 1615 г.), в
Неаполитанском королевстве (с 1642 г.), в Португалии (с 1697 г.).
Там же, где сословные собрания не были формально ликвидированы,
они потеряли большую часть своей власти.
Концентрация власти в руках абсолютных монархов в 1620—
1630 гг. наблюдалась и в Стюартовской Англии. Но
сконцентрированная Стюартами абсолютная власть оказалась в руках Долгого
парламента, в результате революции и гражданской войны 1640-х гг.
Созванный королем Карлом I, Долгий парламент сосредоточил у
себя все королевские прерогативы в дополнение к собственным
традиционным полномочиям: высшего суда, объявителя законов и
установителя налогов.
Революция превратила английский парламент в законодательный
орган. На смену фундаментальному закону, не подчиненному
какой-либо человеческой инстанции, пришла позитивная концепция
права, согласно которой человек — творец законов. Однако старая
идея верховенства фундаментального закона не исчезла. Она
получила новую жизнь и дополнительный авторитет за счет своего
отождествления с писаными конституциями. Первая из них появилась в
Северной Америке в 1787 г. Конституция США появилась не на
пустом месте. Заслугу ее появления американцы должны разделить со
своей бывшей метрополией.
В Англии XVI-XVII вв. хартии и декларации прав
североамериканских колоний воспринимались в качестве юридических
производных фундаментального закона. Вследствие этого модернизацион-
ная идея государственного суверенитета проникла в правосознание
американцев XVIII в. в качестве все того же фундаментального
закона: конечным источником рассредоточенной государственной
власти является народный суверенитет, заменивший собой
Божественный промысел. Однако суверенитет не воплощается в полном
объеме ни в одном из высших государственных институтов. Ни одна
из общенациональных, региональных, либо местных
государственных инстанций не может считаться более народной, чем остальные.
Суммированный учет массовых предпочтений не создает для этого
законных оснований: он не имеет правовых последствий. Последние
311
возникают в результате правильно организованных выборов. Глас
народа достаточно громко звучит в момент выборов, но его высший
смысл так же трудно дешифровать, как и глас Божий. Поэтому роль
профессиональных «дешифраторов» гласа Народа исполняют
представительные государственные учреждения. Они отличаются от
органов исполнительной власти системным перевесом положительных
(адаптирующих) обратных связей с негосударственной средой над
отрицательными обратными связями, поддерживающими гомеоста-
зис государства.
Конституционность правосознания англичан Позднего
Средневековья (XVI в.), сформировала политический менталитет
религиозных диссидентов, переселившихся в начале XVII в. в
североамериканские колонии. Он определялся в терминах Божественных
целеуказаний, законов природы, обычая и разума. В XVI в. англичане
считали, что «закон делает короля». Американцы, избирая с
последней четверти XVIII в. своих президентов в качестве
«конституционных монархов» (как их определил в 1787 г. Томас Джефферсон),
ставят их в жесткие рамки прерогатив.
Первые британские колонии в Северной Америке появились в
начале XVII в. в качестве имперских территорий. Нераздельный импе-
риум здесь изначально принадлежал английскому монарху. После
революции 1640-х гг. — Парламенту. Полномочными
представителями центральной власти в тринадцати американских колониях
выступали губернаторы. К их ведению относились все вопросы имперского
управления: оборона, внешняя торговля, валютное регулирование,
почтовая связь, отношения с индейскими племенами. Кроме
одного — налогообложения. Установлением и сбором налогов с
колонистов ведали органы их самоуправления — колониальные ассамблеи.
Внутренний правопорядок поддерживала народная милиция.
Вооруженные колонисты привлекались короной для участия в
имперских войнах на американском континенте, которые Соединенное
королевство почти непрерывно вело в XVII и первой половине
XVIII вв.
Органы местного самоуправления действовали на основании
стандартных королевских уставов колоний, а также — норм обычного
английского права, особых королевских хартий, ордонансов и
парламентских актов. Один из них — парламентский Акт о гербовом сборе
(1760 г.) — нарушил прерогативу колониальных ассамблей и вызвал
среди колонистов бурю возмущения. Парламент посягнул на
древний принцип неписаной английской конституции: нет
налогообложения без представительства налогооблагаемых. Акт о гербовом
312
сборе был отменен в 1766 г. Но эта компромиссная мера запоздала: в
американских колониях началась Война за независимость от
метрополии.
Под этим названием вошли в историю США события 1760-
1780-х гг. Однако в первое десятилетие внутренних раздоров между
элитами имперского центра и заморских провинций никто ни в
Америке, ни в Лондоне не осознавал необходимости и не допускал
возможности полной государственной независимости
самоуправляющихся колоний великой Британской империи. Провинциальные
элиты требовали от центра лишь соблюдения старых королевских
уставов колоний. В этом духе общегосударственной лояльности были
выдержаны практически все публичные заявления наиболее
влиятельных делегатов Континентального конгресса: Джона Адамса,
Бенджамина Франклина, Томаса Джефферсона. Так, выступая 3-13
февраля 1765 г. в английском парламенте по поводу Акта о гербовом
сборе, заместитель генерального почтмейстера колоний Б. Франклин
обосновал принципиальную недопустимость и практическую
невозможность антибританского союза и государственных суверенитетов
тринадцати соперничающих между собой политических сообществ.
«Они не могли объединиться даже для согласованной защиты от
французских и индейских нападений. В случае мятежа против
короны одной или нескольких колоний, остальные, — утверждал
Б. Франклин, — примут участие в подавлении мятежа». Прогноз не
подтвердился.
Американские элиты объединил в антибританский союз
внешний для них фактор — избыточная и системно не оправданная
консервативность управляющего центра метрополии, явно
перегруженного отрицательными обратными связями с управляемой
периферией. Стремясь сохранить системный гомеостазис Британской
империи любой ценой (включающей вооруженное насилие) и без
учета существенных изменений управляемой периферии,
управляющий центр спровоцировал отделение колоний. Он собственными
усилиями разорвал системные связи Великобритании с ее
заморской подсистемой.
Антибританский союз тринадцати британских колоний,
объявивших себя суверенными государствами (штатами), был создан для
оборонительной войны с метрополией и — по замыслу делегатов
Континентального конгресса участников Конфедерации — лишь на
период войны. Конгресс не являлся ни федеральным, ни — тем
более — национальным собранием. Он представлял собой
дипломатическую ассамблею, прообраз Генеральной ассамблеи ООН.
313
Декларация независимости Североамериканских Соединенных
Штатов оформила договорный союз (конфедерацию) тринадцати
субъектов международного права. Конституция США, принятая в
1787 году голосованием 30 делегатов Конституционного конвента
(из 55, собравшихся для подписания Основного закона), учредила
договорную конфедерацию государственных автономий. Правовое
понятие «национальный союз» не встречается в текстах Декларации
независимости и Конституции США. «Отцы-основатели»
использовали латинизированный термин feoderal, производный от латинского
feodus (договор) и родственный слову fide (вера).
На основе Конституции 1787 г. был избран непрямым
голосованием двухпалатный Конгресс Соединенных Штатов Америки в
качестве федерального «правительства правительств» (но — не
населения) суверенных штатов. Слабый федеральный центр, недирективно
координирующий внутреннее законодательство Штатов, тем не
менее, смог создать в течение последующих ста лет обширную и
государственно устойчивую республику. Она выдержала даже испытание
смертельно опасной для США сецессии южных штатов и
Гражданской войны 1861-1865 гг., унесшей около миллиона жизней
американцев. Центробежным силам старого колониального сепаратизма
противостояли новые центростремительные силы
социально-экономической и национальной интеграции.
Фактором, интегрирующим Республику в течение последующих
за 1787 г. полутора веков, оказались огромные западные территории
североамериканского континента. «Империей свободы» назвал их
экс-президент США Т. Джефферсон — в письме президенту Мэдисону
(1809 г.). Своим «Ордонансом о Северо-Западе» Конгресс США
установил порядок образования «общественных территорий США»,
геометрического способа определения их административных границ
и поэтапной трансформации «общественных территорий» в
полноправных субъектов Федерации. Этот четкий порядок инициировал
предсказуемый процесс, не давая сбоев в течение полутора веков.
Малонаселенная территория управлялась авторитарно:
губернатором, одним советников, двумя судьями. «Пентархия» назначалась
Конгрессом США. Ей принадлежала полнота законодательной,
исполнительной и судебной власти, ограниченной лишь абсолютным
(непреодолеваемым) вето Конгресса. Имперский период управления
территорией продолжался до тех пор, пока количество взрослого
мужского населения, проживающего на территории более двух
месяцев, не достигало пяти тысяч человек. В условиях массовой
иммиграции в США и нараставшего в течение XIX-XX вв. перетока на запад-
314
ные территории избыточного населения плотнозаселенных
восточных штатов, имперский период управления длился сравнительно
недолго. Нередко — в пределах жизни одного поколения. По
достижении пятитысячного порога численности гражданской общины,
«общественная территория США» обретала переходные органы
самоуправления. Рядом с губернатором появлялось двухпалатное
Законодательное собрание: не более десяти членов в нижней палате и
пяти — в верхней. Депутатов нижней палаты избирало свободное
взрослое мужское население территории. Нижняя палата составляла
из десяти американских граждан список кандидатов в состав верхней
палаты. Пять из них, решением Конгресса США, становились
членами верхней палаты. Территориальное Законодательное собрание
адаптировало к местным условиям законы метрополии,
первоначальных тринадцати штатов-учредителей Союза. Губернатор,
по-прежнему назначаемый Конгрессом США, обладал правом отлагательного
вето до обнародования законов территории, представляемых на его
подписание.
Статус полноправного штата, принимаемого в Союз,
общественная территория получала после достижения численности своего
правоспособного населения до 60 тыс. человек. Прямым голосование
граждан избирались губернатор и Конгресс (состоящий из палаты
представителей и сената). Конгресс штата принимал Конституцию
штата и подавал заявку на присоединение к Союзу штатов.
Описанные выше этапы органичного, постепенного
интегрирования имперских территорий в состав Республики (США)
занимали от 20 до 60 лет. Первым присоединился к тринадцати штатам-
основателям Союза штат Огайо (1803 г.), накануне избрания
президентом США политического лидера штата Томаса Джефферсона,
остававшегося в президентской должности в 1804-1808 гг.
Последними (в 1950-х гг.) пополнили состав Соединенных Штатов
Америки Аляска и Гавайские острова. «Эмпирическая республика»
нарушила всеобщность теорий государственного строительства,
сформулированных в XVI-XVII вв.
Европейские устойчивые национальные государства создавались
на путях централизации вокруг наиболее сильного региона: Пруссии,
Иль де Франс, Савойи. Или — силой завоевателей, например,
норманнов Вильгельма Первого, разбивших англосаксов при Гастингсе
(1066 г.) и захвативших англосаксонское королевство. США
развивались в иной парадигме: территориальных отделений, общинных
разделений и государственных присоединений. Основными
интеграторами великой заокеанской Республики явились самоорганизующие-
315
ся, самодостаточные институты гражданского общества. В их
числе — переселенческие общины, городские коммуны и
общенациональные политические партии. С помощью органов самоуправления
конституировалось государство. Неустойчивая договорная
конфедерация времен Войны за независимость превратилась в прочную
конституционную федерацию, преодолевшую региональный сепаратизм
демократическими методами.
Опыт общественного развития и государственного строительства
США (XVII-XX вв.) убедительно доказал: системный порядок
продуктивного общества и современного эффективного государства с
очень высоким КПД, при минимуме человеческих жертв, достигается
вне парадигмы этатизма, милитаризма и закрепощения населения.
Этот опыт выглядит особенно контрастно на фоне
западноевропейских и российских модернизаций.
Системное упрощение
как способ модернизаций
В эпоху Позднего Средневековья, до начала европейских
модернизаций, даже при отсутствии писаных конституций подавляющее
большинство европейских монархий фактически были
конституционными. Абсолютных монархов не было вовсе, а самодержавных —
только два: турецкий султан и московский царь. Характерно, что
только последние имели большие постоянные армии и сословия
государственных служащих. К концу XVII в. конституционных
монархий в Европе практически не осталось. Зато все суверены обзавелись
постоянными армиями.
В течение этого милитаристского столетия, насыщенного
кровавыми событиями, происходила замена сложной феодальной
политической системы на более простую. XVII в. был переломной эпохой
великих модернизаторов, чрезвычайно упростивших структуру
новых наций-государств: Ришелье, Мазарини, Людовик XIV, Кольбер
во Франции, Фридрих Вильгельм в Пруссии, Филипп IV и глава его
правительства Оливарес в Испании, в Швеции — Густав Адольф
(создатель регулярной армии) и Карл XI (осуществивший
«редукцию» земельных владений старых дворян, игравших в прежних
иррегулярных вооруженных силах Швеции ту же сословную роль, что и
дворяне-помещики в России). Упрощение политической системы
Московского царства осуществилось во второй половине XVI в. в
316
ходе самодержавной революции. В XVII в. происходит быстрый рост
бюрократий и постоянных армий, расширяется база
налогообложения. У вышеназванных модернизаторов были исторические
предшественники. Авангардную роль испытательных полигонов
политической и социально-экономической модернизации играли с XV в.
северо-итальянские города-государства. Здесь опробовались
технологии государственного управления, обобщенно именуемые «макиа-
веллистскими». Никколо Макиавелли писал учебное пособие
«Государь» для абсолютных монархов, вдохновляясь политической
практикой своего современника князя Чезаре Борджиа. Последний
не стеснял себя правовыми ограничениями предшествующей
феодальной системы.
Условным днем рождения нового (нефеодального) типа
государства можно считать решающий эпизод неудачной
антиабсолютистской Фронды принцев — так называемый «день обманутых» (16
ноября 1611 г.). В этот день французский король Людовик XIII отверг
притязания собственного семейства на особые личные привилегии,
отказался от политического союза с королевой-матерью (Марией
Медичи) в пользу сотрудничества с кардиналом Ришелье,
действовавшим во имя деперсонализованной системы управления. Когда
Мария Медичи напомнила сыну о приоритетных обязательствах
короля перед родственниками, Людовик ответил знаменитой фразой:
«Я большим обязан государству».
Возникает вопрос: почему Московское царство XV-XVII вв.
не формировалось в парадигме нации-государства? Все ли можно
объяснить историческим наследием ига? Ведь во второй половине
XV в. степной аркан был практически перерублен. Ответов много.
Один из них состоит в том, что Россия к Новому времени не
прошла политической школы феодализма европейского типа.
Система вассалитета и крупного частного землевладения,
институционально преодоленная союзом королей и городских коммун,
заложила ментальную основу национальных государств. Феодальный
договор, разделенная, рассредоточенная и обоюдная власть, личное
обязательственное и городское корпоративное право, независимый
арбитраж — все это воспитывало в политикообразующих слоях
западноевропейских стран стремление к договорным отношениям с
суверенами.
Феодального сюзерена и его военных вассалов (первоначально
это слово означало «малые ребята») связывали взаимные личные
обязательства, а не односторонние политические отношения
государственного властвования и подданства. Римская правовая традиция,
317
возрождаемая средневековыми королями Западной Европы и их ле-
гистами, освобождала носителей государственного империума от
необходимости договора с подданными. Эта же традиция требовала
закрепления письменным документом двусторонних частных
обязательственных отношений.
Королевские легисты понимали право как применение
одинакового масштаба к разным людям. Феодалы противились
деперсонализации права. Они жили в мире личных привилегий, налоговых
иммунитетов, бенефиций, юридической экстерриториальности.
Национальные европейские государства строились на правовом
фундаменте поздней Римской империи. При этом ломались догосу-
дарственные обычаи, варварские «старина и пошлина»,
кодифицированные в «Правдах» протогосударств Раннего Средневековья.
Варварские «Правды» не признавали всеобщности писаного
римского права.
Феодальная клятва представляла собой публичный,
неписьменный магический ритуал. Текст заменялся символическим жестом и
устным словом. Почему? Не только потому, что средневековые
короли, феодалы и рыцари нередко были неграмотными. (В IX в.
бытовала легенда об императоре Карле Великом, до своей императорской
инвеституры в 800 г. не умевшем читать и писать, но наощупь
угадывавшем выточенные из дерева латинские литеры.) Феодальная
фрагментация политического и государственно-правового пространства
Европы персонализировала механизмы социального доминирования,
уменьшала принудительную силу безличных норм и снижала
прагматический эффект письменных документов.
Античная и буржуазная процедуры «отнесения к интересам»
требовали апелляции к рыночно-государственному праву
эквивалентного обмена. Феодальный ритуал «отнесения к ценностям»
генетически восходил к древней дорыночной и догосударственной
справедливости возвратного обмена. Буржуазное право регулирует
продуктивные отношения, феодальная справедливость —
дистрибутивные. Нормативный текст формирует raison d'être «дворянства
мантии», ритуальное слово — этос европейского рыцарства,
«дворянства меча».
«Реальностью Европы тысячного года было то, что мы называем
феодализмом. Это был способ правления, наиболее подходящий
тогдашнему грубому, недостаточно цивилизованному состоянию
общества. В этом мире... все находятся в движении, однако отсутствуют
дороги и пока не существует (или почти не существует) настоящих
денег — кто же может заставить выполнять свои приказы вдали от
318
места, где он сам находится? На подчинение может рассчитывать
лишь такой вождь, которого можно увидеть, услышать, осязать, с
которым можно разделить стол и кров. Угроза нашествия варваров
по-прежнему заставляет трепетать, страх перед ней сохраняется даже
тогда, когда опасность отступает; подчинения, следовательно,
заслуживает лишь вождь, чей щит здесь, рядом, кто охраняет и защищает
убежище, в котором весь народ укрывается на время смуты:
первейшим атрибутом феодального уклада становится, таким образом,
феодальный замок... Однако отсюда исходит также и угроза. В каждом
замке гнездится отряд воинов. Это конные воины, воюющие верхом,
рыцари, мастера жестоких битв. Феодальная верхушка утверждает
свое господство над всеми другими людьми. Рыцари — а их всего два-
три десятка, — по очереди несущие сторожевую вахту в башне замка,
выходят за его ворота с мечом в руках и требуют, чтобы в обмен на
защиту от чужеземцев безоружные жители окрестных равнин их
кормили и содержали. Рыцарство господствует над Европой крестьян,
пастухов, охотников и сборщиков диких растений. Оно живет,
жестоко и дико обирая и терроризируя народ. Это настоящая
оккупационная армия»1.
Теоретически трудно себе представить, что (перефразируя
известное суждение Платона) народное представительство вырастает из
корня, именуемого военной тиранией. Однако реальная история
становления современных институтов политической демократии — тому
свидетельство. Многие средневековые феодальные учреждения,
воплощавшие «демократию знати» (английский парламент,
французские генеральные штаты, фронды, каролингские «майские поля»,
военные советы, собрания вассалов, европейские рыцарские турниры,
польские «коло» и «конфедерации», испанские кортесы и т. п.),
диалектически трансформировались в европейскую технодемократию.
Политическая правосубъектность
Конец XV в. — это поворотный момент российской истории, точка
ее «бифуркации», конец феодальных вольностей политического
класса Московского великого княжества. Почему же он не
воспротивился своему закрепощению? Почему не проявилась оппозиционная
сила дружинно организованных вольных княжих мужей? Потому
1 Дюби Ж. Европа в Средние века. Смоленск, 1994. С. 17-18.
319
что к этому времени корпоративно солидарная Дружина
расщепилась на враждующие княжеские и боярские кланы. Нарушение
системной целостности военно-политической корпорации явилось
следствием московского собирания великорусских земель и лишения
их государственной автономии, без малейшего намека на
федерализацию новых московских государственных территорий. Московское
старинное боярство кланово противостояло потомкам бывших
удельных князей (княжатам). «Титулованное княжье посыпалось в
Москву», — пишет В. О. Ключевский, — в период наиболее
интенсивного насильственного собирания и унитаризации земель Северо-
Восточной Руси, при Иване III. Лишенные государственного
суверенитета, княжата взамен заняли ключевые правительственные
должности, существенно потеснив старинное московское боярство. Между
тем, именно этому боярству обязано великое княжество Московское
своим государственным единством, сохраненным в период
гражданской войны (1432-1453 гг.) при Василии II Темном, и
окончательным одолением Орды в 1458-1480 гг., при Иване III.
Вследствие собирания Москвой всех северо-восточных русских
земель, входивших в состав Золотой Орды, бояре потеряли
физическую возможность покинуть великого князя, реализовав свое древнее
право «отъезда» и «ряда».
Периодически возникавшие на рубеже XV и XVI вв. фронды
княжат и бояр не получали массовой опоры. Города к тому времени
превратились в форпосты великокняжеской военной организации.
Лично свободные государственные черносошные крестьяне
(мужики) по определению не могли солидаризироваться с правящим
классом, мужами вольными. На крестьянскую свободу передвижения
государство не посягало до тех пор, пока не сформировалось военно-
служилое сословие дворян.
Ни церковь, ни аристократия не нуждались в крепостном праве.
«Государева крепь» оказалась востребованной лишь экономически
не конкурентным сословием княжеских слуг — «дворских». Дворяне
(вчерашние холопы) и стали главной опорой нового военно-
политического централизаторского режима, возникшего на исходе
XV в.
Классов, в европейском смысле термина, в России середины —
последней трети XVI в. уже не существовало. Служилые люди и
тяглецы в ходе самодержавной революции лишились основного классоо-
бразующего признака: отношений безусловной частной
собственности наосновноесредствопроизводства—землю. Земельно-феодальная
аристократия и экономически самодостаточная часть свободного
320
черносошного крестьянства в качестве титульных земельных
собственников являлись латентными ограничителями центральной
власти. Ликвидировав крупное землевладение бояр и «лутчих людей» из
крестьян, самодержавие могло далее не стеснять себя любыми
правовыми ограничениями.
Конституционную роль латентных ограничителей
государственного произвола не могла выполнять социальная опора нового
режима. Российское дворянство в XVI-XVII вв. не было экономически
самодостаточным. Не смогло оно обзавестись феодальными
вольностями и в периоды смут. Дворянство превратилось в основную часть
управляющего (но еще не правящего) сословия в период
формирования централизованного государства и развития великокняжеского
абсолютизма. На большую роль «дворские» тогда не претендовали.
Государь надежно ограждал их от конкуренции. Экономическими
конкурентами и политическими врагами дворянства в XV-XVI вв.
были не города и не крестьяне, как в Западной Европе, а бояре-
вотчинники.
Организованные в военно-политическую корпорацию (дружину),
бояре в XII в. решительно пресекали самодержавные притязания
Юрия Долгорукого и Андрея Боголюбского. В XIII-XV вв.
аристократия еще представляла серьезный противовес княжескому
своеволию. Поэтому с конца XV в. князья политически опираются
преимущественно на свой двор (эмбрион опричного корпуса).
Оказавшись служебно уравненным с «дворскими», российское
боярство к XVI в. разделило с ними свое прежнее монопольное
положение государствообразующего слоя. Служилое сословие
растворило в своей среде остатки дружины. Во второй половине XVIII в.
оно трансформировалось в господствующий класс, обретя
политическую правосубъектность. Дворянство получило личную
экономическую независимость от государства вследствие указа Екатерины II,
закрепившего с 1785 г. в частной собственности все поместья.
Титульные земельные собственники в конце XVIII в.
консолидировались и корпоративно — через уездные и губернские собрания.
Гвардия, созданная Петром I, в послепетровские царствования
превратилась в силовой инструмент дворянской классовой
самообороны от нерациональных проявлений самовластия. «Ограничивая»
деспотизм цареубийствами, гвардия расшатывала правопорядок.
Дворянской военной корпорации, особо опасной для
государственной устойчивости центральной власти в переходные периоды ее
легитимизации, самодержавие противопоставило более мощную и
абсолютно лояльную корпорацию — чиновничество. Последняя была
321
жизненно заинтересована в укреплении самодержавия. Своим
нарастающим корпоративным весом чиновничество навалилось
преимущественно на непривилегированные сословия государственных
крестьян и мещан. Дворяне, консолидированные при Екатерине II в
свои уездные и губернские собрания, еще могли корпоративно (но —
не в личном качестве) противостоять «крапивному семени». Однако
дворянские собрания в XIX в. существовали далеко не во всех
губерниях Российской империи. В Сибири, Средней Азии, на Крайнем
Севере и Дальнем Востоке дворянских собраний не было. И там
отсутствовали системные блокираторы практически бесконтрольных
ударно-хватательных рефлексов «государевых людей». Лишенные
возможностей корпоративной самоорганизации, аморфные
сословия крестьян и мещан (горожан) не могли, подобно дворянству, даже
минимально ограничивать всевластие имперской бюрократии,
превратившейся к середине XIX в. в наиболее эффективную социотех-
ническую систему.
В отличие от западноевропейских городских коммун, российская
предбуржуазия не сыграла роль латентного ограничителя
самодержавия. В России исторически сложился неевропейский тип города.
В городах, в результате собирания русских земель, исчезли...
горожане. Даже Великий Новгород на рубеже XV-XVI вв. лишился тех,
кто создал его величие: боярской господы, купцов, ремесленников,
житьих людей. Лишился он и прав главного общероссийского
экспортера. Иван IV установил государственную монополию внешней
торговли. В московских летописях за XV-XVI в. практически не
встречается упоминаний о внешнеэкономической деятельности
некогда процветавшей торгово-ремесленной республики, бывшей в
XIII-XIV в. равноправной участницей международного Ганзейского
союза. Что же можно прочитать в новгородских летописях?
«Новгородская кованая рать», поставленная под начало московских
воевод, решила исход такой-то битвы.
Города за тысячу лет государственной истории восточных
славян превратились в места дислокации служилых людей,
возглавляемых наместниками и воеводами. Типологическим основанием,
позволявшим отличить город от иного населенного пункта, с XVIII в.
стало присутствие в нем государственного гражданского, военного
либо полицейского чиновника — губернатора, генерал-губернатора,
уездного начальника, городничего. Так, в 1770 г. село Иваново
Нижегородской губернии было в несколько раз больше торгового
села Боровичский Рядок, превращенного императорским указом в
город Боровичи Новгородской губернии. Но влиятельные владель-
322
цы ивановских мануфактур (Строгановы) не проявляли
заинтересованности в появлении у них под боком хищного городничего.
Большинство не огражденных стенами, не укрепленных средоточий
производительного населения не стремились по собственной
инициативе добиваться административного статуса города. Городские
домовладельцы, приписываемые к государственному сословию
мещан, обременялись большим (по сравнению с черносошными
крестьянами) имущественным налогообложением.
Система российской государственной власти в течение последних
пятисот лет эволюционировала в рамках веберианской схемы: от
традиционной — через харизматическую — к рационально-легальной
(бюрократической). При этом реализовались разные способы
легитимизации политической власти. По Веберу, политическая власть —
это институционализированное господство меньшинства, не
удовлетворенного принудительным (физическим) подчинением
большинства. Психологическое одобрение и приятие власти основывается
на нематериальных факторах. Среди них — внекорпоративный,
личный авторитет главы государства. Однако для государственного
строительства и управления недостаточно опоры на личный
авторитет главы государства.
Иван III опирался при государственном строительстве в
переходный период имперской Реконкисты на правительственный класс
боярства. Рядом с ним он создавал служебное сословие дворянства и
функциональное — приказных людей. В числе последних —
государственных секретарей, дьяков.
Источником легитимности российской власти в XV-XVI вв. была,
в основном, ее обусловленность «пошлиной и стариной». Если
политическое нововведение им противоречило, властью
предпринимались пропагандистские усилия по нанесению на «новодел»
благородной патины древности. Иван III обосновывал свои властные
притязания на Великий Новгород, Псков, Смоленск и т.д., именуя их своей
«отчиной». Иван IV оправдывал учреждение небывалого на Руси
внегосударственного террористического режима даже
терминологически, словом «опричнина». Существовал, дескать, старинный
обычай московских и иных государей окружать себя «опричь земских»
лично преданными людьми. Подобные ссылки на старину придавали
ближнему государеву кругу внеправовой, но легальный статус
чрезвычайного госучреждения.
В течение веков власть оставалась в России монопольным
политическим субъектом истории. Однако далеко не всегда совпадали
признаки легальности и легитимности российской власти. Легитим-
323
ное господство, по Веберу, тождественно авторитету. Источник
последнего трансцендентен и надперсонален. Само слово «авторитет»
(autoritas) производно от латинского глагола augere (возвышать).
В настоящее время трансцендентным и надперсональным
источником демократической власти в России является ритуальное таинство
всеобщих выборов. Однако исходная выборность персонального
главы высшей государственной власти в России является
многовековым историческим инвариантом ее трансцендентной легитимизации:
Божественный выбор (ритуально символизируемый коронацией)
трансформировался в Народный выбор (ритуально
символизируемый инаугурацией).
В отсутствие легальной политической оппозиции и реальной
государственной правосубъектности представительных органов
власти, законы могут быть неправовыми, а сформированная на их основе
центральная власть — нелегитимной. Такими были, например,
законы СССР 1930-х гг., позволявшие легально приговаривать к
смертной казни детей, достигших 14 лет. К разряду неправовых относятся
законы 1940 г., наказывавшие тюремным заключением за
20-минутное опоздание на работу и не позволявшие сменить без разрешения
место работы. Нельзя считать правовым закон СССР 1934 г., по
которому в ГУЛАГ отправлялись сотни тысяч голодных крестьян за
хищение с колхозных полей десятка колосков. Указ Президиума В ЦИК
от 3 декабря 1934 г., изданный после загадочного убийства
С. М. Кирова 1 декабря 1934 г., разом упростил систему
судопроизводства по политическим обвинениям. Он ликвидировал
состязательность судебного процесса, лишил обвиняемого права на
обжалование приговора, запретил принимать ходатайства о помиловании.
В этом же неправовом ряду системных упрощений находятся и
отмена в СССР 1930-х гг. базового юридического принципа
презумпции невиновности, и утверждение средневековой процессуальной
нормы, согласно которой признание обвиняемого — «царица
доказательства» (А. Я. Вышинский).
Между Опричниной и Земщиной
В российском историографическом словаре издавна
присутствуют метафоры, обозначающие предельно широкие и размытые
области общественных явлений: Опричнина и Земщина. Эти явления не
ограничены хронологическими рамками исторического прошлого
324
России. Они упорно прорастают в современности. В качестве
неустранимых тенденций государственного развития Опричнина и
Земщина не привязаны к конкретным эпохам, национальным
лидерам, событиям, границам. В академически строгом смысле,
Опричнина и Земщина — не научные термины (в узком значении
латинского слова «термин» — граница). Это, скорее, внепространственные и
вневременные системы историософских образов, периодически
наполняемых новой исторической плотью. Однако, меняя
социологические реалии, эти системы неизменно сохраняют свою
политическую идентичность.
Можно сказать, что Опричнина и Земщина составляют бинарную
оппозицию российской государственности. И, как нетрудно
убедиться, не только российской.
«Опричность» изначально характеризует варяжско-русскую
дружину IX в., «примучивавшую» славянские племена. Собирая дань с
завоеванных земель челядью (рабами), пушниной, медом и воском,
дружина взамен не оказывала в течение полутора веков общественно
значимых государственных услуг. Дружинники решали
корпоративные задачи обеспечения собственного торгового пути «из Варяг в
Греки».
Дружинно организованные варяго-русы не отождествляли себя с
эксплуатируемой страной. Документальные свидетельства тому —
первые договоры русских князей X в. с византийскими
императорами. Это не столько государственные акты, сколько частноправовые
сделки хозяйствующих субъектов. Сохраняя за собой монополию
внешней торговли, дружина энергично выводила
восточнославянский торговый капитал в зарубежные оффшоры.
«Оффшорно» выглядит авантюристичная и антиземская
попытка киевского князя Святослава Игоревича перевести «головной
офис ТОО "Русь"» из Киева в болгарский Переяславец. При этом
на второй план дружинной внешнеполитической активности
отступили задачи обороны собственной столицы от наседавших на
нее печенегов. Защитные функции, не исполняемые государством,
легли на плечи земского ополчения и малочисленного тылового
резерва профессиональной дружины. Образ васнецовских «Трех
богатырей», одиноко патрулирующих бескрайнюю степь, отражает
масштаб военных возможностей Киева во время балканских
походов Святослава.
В XII в. геополитически сломалась ведущая ось внешней торговли
Новгородско-Киевской Руси. Усилился натиск Степи. Усложнились
задачи инфраструктурного обеспечения общественного производ-
325
ства и общеземской обороны. Привычно уклоняясь от них, экспортно
ориентированная часть дружины ушла на завоевание новых земель.
В междуречье Оки и Волги возникло новое семейно-дружинное
государство, Ростово-Суздальское. Оно сформировалось как личный
домен князя, окруженный владениями старших дружинников (бояр).
В Ростово-Суздальском княжестве реализовался архаичный, уже
преодоленный Западной Европой и Новгородско-Киевской Русью,
тип патримониального (вотчинного) государства.
Вотчинность нового политического уклада указывает на его
принадлежность к сфере частной собственности. Корпоративно
солидарные, профессиональные воины исполняли системообразующую
функцию правительственного класса. Одновременно он выступал и
в хозяйственной роли коллективного работодателя для остального
населения. В большинстве своем — не закрепощенного. Частное
государство нанимало на работу автохтонных и пришлых
насельников. Отношения вольного найма в качестве домининирующих
сохранялись в течение полутора столетий, до татаро-монгольского
нашествия.
Общественная значимость государственных услуг, оказываемых
Ордой великорусским землям, была ничтожной по сравнению с
гигантской платой за них. Орда иногда блокировала кровавые распри
удельных князей, но регулярно отнимала у работающего населения
покоренной Руси все, до чего могла дотянуться.
В северо-западном улусе татаро-монголы могли не создавать
собственного оккупационного аппарата. Эту роль исполняли за них
личные дружины и «дворские» князей. Над ними стоял царь — хан
Золотой Орды. Выдавая ярлыки на княжение, он уполномочивал
своих вассалов на выколачивание из покоренного населения
ордынской дани («выхода»). Для русских князей это было привычным
занятием. Ордынское иго обнажило архетип изначально антиземской
варяго-русской протогосударственности. Обнаружилась общность
генетических корней Орды и Дружины.
В роли вассалов великого хана Золотой Орды русские князья
проводили антифеодальную и антиземскую политику не только в
пригородах, но и в старинных вечевых городах. В проведении централи-
заторской политики совпадали интересы князей и Орды. Вечевая
демократия увеличивала меру элементного разнообразия и
статистической неопределенности политической системы колониально
зависимых русских земель, сложившейся во второй половине XIII в.
Земская самоорганизация усложняла эту систему, делая ее менее
конформной для примитивной ордынской организации степных ко-
326
чевников. Реликты земской самоорганизации покоренного
населения могли стать и реально становились центрами народного
сопротивления. Вечевая демократия укрепляла антикняжеские
позиции средних слоев — основных плательщиков ордынского
выхода и сеньориальной (владельческой) ренты. Поэтому органы
остаточного земского самоуправления уничтожались
совместными усилиями князей и Орды.
Объем ордынского денежного «выхода» и натуральных
княжеских повинностей Земли не уменьшился после освобождения Руси
от ига. Институты местного самоуправления не возродились.
Наоборот, тяжкая плита вотчинной и самодержавной
государственности еще больше придавила Землю.
К XV в., задолго до Ивана Грозного, опричнина
материализовалась в «особном дворе» великого князя — отечественном аналоге
татаро-монгольской орды. «Дворские люди» (дворяне) — в отличие
от бояр, посада и черносошных крестьян — до второй половины XV в.
не входили в государственный состав служилых и тягловых
сословий. Дворяне выполняли роль внесословных (частных)
инструментов княжеского доминиума. Они обслуживали личный домен=отчину
великого князя.
Рамками государственного империума очерчивалась только
«черная», то есть обремененная податями, земля. Она
обрабатывалась лично свободными черносошными крестьянами. А исхоло-
пленные дворские люди составляли хозяйствующий военно-
административный аппарат особного двора великого князя.
В частно-правовом статусе они системно противостояли и боярам, и
черносошным крестьянам, и сеньориальным правомочиям русской
православной церкви, и дворам удельных князей.
Указанное противостояние соответствовало исторической
эволюции земельной государственной собственности. Она сформировалась
в полном объеме только в XII в. Вспомним, что Новгородско-Киевская
Русь возникла в IX в. преимущественно как военно-промышленное и
торговое предприятие. Ее исторический аналог можно увидеть в
голландской Ост-Индской акционерной компании. Экономической
базой обоих предприятий являлось не земледелие, а торговля
товарами, произведенными в колонизованной стране и собранными в
качестве дани.
Инфраструктура протогосударственного образования,
именуемого Русью, состояла из погостов и товарищей, построенных на берегах
основных судоходных рек, и укрепленных военных стоянок внутри
крупных городских поселений. Леса, луга и пашни восточных славян
327
первичная протогосударственная инфраструктура Новгородско-
Киевской Руси не охватывала в течение двух веков своей начальной
истории. Такая локализация инфраструктурных узлов была
результатом взаимовыгодного, длительного симбиоза воинов-купцов
(внешних завоевателей) и местного торгово-ремесленного слоя,
заинтересованного в расширении рынка сбыта. Вектор внешнеторговой
активности Дружины не совпадал с направлениями традиционной
хозяйственной деятельности местных социумов восточнославянской
Земли. Это проявилось и в выборе столицы семейно-дружинного
протогосударства. Поскольку Новгородско-Киевская Русь X-XI вв.
была изначально ориентирована на внешнюю торговлю, постольку
функцию ее политического центра выполнял город-форпост,
стороживший главную транспортную артерию. Поэтому к концу IX в. в
крупнейшее торгово-ремесленное поселение превратился маленький
городок Киев. В эту главную внешнеторговую и
военно-административную базу стекались вооруженные и властвующие люди, в
целях обеспечения свободы и безопасности международного
торгового транзита. Окрестные земли славян рассматривались кочевым,
торгующим протогосударством в качестве источников материальных
ресурсов, превращаемых в экспортный товар. Первоначальное
значение слова «подданные» — не политическое, а
фискально-коммерческое (данники, то есть — платящие дань). В состав протогосудар-
ственно организованной части населения данники не входили.
Международно-правовых понятий «политическое подданство» и
«суверенная территория» древняя Русь не знала.
Северо-восточные славяне являлись оседлым, преимущественно
земледельческим этносом. Однако их земледелие долго оставалось
подсечно-огневым, экстенсивным, поэтому основная масса крестьян
не имела (в отличие, например, от английских
арендаторов-копигольдеров и, тем более, самостоятельных хозяев-фригольдеров)
правового статуса пожизненных территориальных землепользователей
или титульных земельных собственников. Славянские земледельцы
часто переходили с одного участка на другой. «Кочевье полей» не
освобождало крестьян от возмещения дружинникам-арендодателям
полученных от них ссуд, уплаты за «пожилое» (в начале XVI в. оно
доходило до 3 руб. серебром в год с одного двора) и погашения
накопленной задолженности но аренде земли.
В XII в. резко сократилась внешнеторговая деятельность военно-
промышленного Новгородско-Киевского протогосударства.
Кочевники перекрыли путь «из Варяг в Греки». Произошли колоссальные
геополитические сдвиги. Поэтому под защиту лесов, в Залесскую
328
Русь ушли обедневшие и ослабевшие княжеские дружины. За ними
потянулось приднепровское население. Оно отступило под
натиском степняков. В новом ареале славянских поселений и удельных
русских княжеств стали развиваться правоотношения феодальной
земельной собственности и крестьянского землепользования.
На основе этих регулярных правоотношений сформировались
первые русские государства. Они возникли на стадии удельной
раздробленности и системной реорганизации территориальных
фрагментов в древней Новгородско-Киевской Руси.
Крепостное право
Свободное славянское и финно-угорское население удельных
княжеств Северо-Восточной Руси в XII в. не имело юридически
оформленного, территориально фиксированного политического
подданства. Княжеское доминирование осуществлялось на
правовой основе частной земельной собственности. Именно в это время
появилось русское слово «власть» в качестве производного от
«владения».
В XII в. первым титульным земельным собственником являлся
удельный князь. И тот, кто поселялся на условиях хозяйственного
договора на его земле, приобретал неполноправный статус частноза-
висимого, временного арендатора-землепользователя. Признаками
бессрочного пользования, ответственного владения и суверенного
распоряжения характеризовалась земельная собственность только
князя, церкви и бояр — старших дружинников.
Князья становились полными земельными собственниками по
праву завоевания. Все остальные — в результате княжеского
пожалования. В государствах Северо-Восточной Руси в боярина
превращался княжий муж, когда у него появлялась собственная земля.
Но он не терял боярского звания, покидая княжескую службу.
Своих вольных слуг князь мог жаловать имением, но не именем,
«землей, но не породой».
Во Владимиро-Суздальской Руси с начала XII до середины XIII в.
прежнее нерасчлененное господство дружины над людьми и вещами
(характерное для Новгородско-Киевской Руси) постепенно
разделялось на власть, осуществляемую как ограниченный суверенитет
удельного князя, и на власть, реализуемую в форме частной
собственности. Функ-циональная дифференциация господства происходила
329
под влиянием новой (политэкономической) ответственности
территориального суверена-собственника. Эволюция новой русской
государственности шла в парадигме атлантизма: частная собственность
латентно ограничивала публичную власть.
В Римской республике подобное совершилось в V в. до н. э.
В Западной Европе — в Средние века. Как уже отмечалось, здесь к
этому времени правосознание европейцев четко отделяло
частноправовой доминиум от публично-правового (государственного) им-
периума. В России власть и собственность с середины XIII в. до 90-х
годов XX в. оставались слитными. Их евразийское соединение,
прерванное на полтора столетия удельной раздробленности,
возобновилось под влиянием Орды.
Таким образом, дисперсно распределенная частная собственность
на землю имеет недолгую историю в России. Дворянская земельная
собственность возникла во второй половине XVIII в., крестьянская —
в начале XX в.
Полемизируя с П. А. Столыпиным, Л. Н. Толстой вообще отрицал
правовой смысл понятия «частный земельный собственник»,
ссылаясь на крестьянское правосознание: «земля ничья, земля Божья». Эта
мировоззренческая установка имеет глубокие исторические корни.
Россия сформировалась как малолюдная цивилизация,
обремененная гигантскими пространствами. В их непрерывно раздвигающихся
границах очень долго не было физической возможности и
экономической необходимости фиксировать правоотношения собственности
на конкретный земельный участок. В новгородско-киевский период
русской истории — по причине экстенсивности хозяйствования, в
московский — из-за ордынского ига и — впоследствии —
неограниченного великокняжеского доминиума. В течение пятисот лет после-
ордынской истории «за московского государя» записывалась любая
вновь присоединенная территория.
Татаро-монголы не вмешивались в правоотношения русской
земельной собственности, поскольку не включали Русь в состав
Орды. Золотая Орда не колонизовала русские земли. Она
обложила свой северо-западный улус данью: рекрутами и деньгами. Базой
для исчисления объема ордынского «выхода» являлась не земля, а
данники. Первая поголовная перепись населения Руси была
проведена ханскими численниками. (Тюркское слово «число» —
фискальный термин.) Местные русские князья не исчисляли, а
учитывали субъектов землепользования. Русское слово «чет»
обозначало поземельный оброк. Собственно княжеские налоги взимались с
земельно-имущественных комплексов, именуемых «дворами».
330
Ордынская дань — с торгового оборота и с общего числа душ
мужского пола.
Земельные отношения в Северо-Восточной Руси XIII-XV вв.
выглядели сложно и запутанно. Во-первых, существовал домен
великого князя. Во-вторых, вотчины на праве полной частной
собственности, со своей юрисдикцией, принадлежащие княжим мужам,
то есть боярам. В-третьих, церковные земли, где клир выступал в
качестве владетельного сеньора. Он осуществлял в своих владениях
автономное хозяйствование, судопроизводство и налогообложение.
В-четвертых, земли государственных (черносошных) крестьян.
В-пятых, поместья военно-служилого сословия, выделяемые
государством из специального (поместного) фонда на условиях и на
время государевой службы.
Церковь и бояре пользовались княжеским налоговым
иммунитетом. Он обозначался татарским словом «тархан». Помимо княжеских
тарханных грамот, церковь получала ордынские. Крестьяне,
работающие на церковных землях, не платили денежного «выхода». Орда
освободила их и от поставки рекрутов в ханское войско.
Крупнейшие светские лендлорды являлись очень серьезными
соперниками великокняжеской власти. Но с их существованием
московские государи мирились, пока шло собирание великорусских
земель и освобождение их от ордынского ига. Что касается
статусных церковных лендлордов (монастырей), то защиту их земельных
прав от государевых посягательств осуществлял великий хан
Золотой Орды, не заинтересованный в приращении
великокняжеских военных сил. В государственную повестку дня со второй
половины XV в. (после 1480 г.) встал вопрос национализации
монастырских земель. Ее впервые, но безуспешно попытался
осуществить Иван III.
Великий хан Золотой Орды — верховный суверен Руси до 1480 г. —
одновременно и способствовал, и препятствовал развитию
рыночного сектора экономики своего северо-западного улуса. Взималась
ордынская дань преимущественно деньгами. Это побуждало Орду
покровительствовать русской внешней торговле. Однако обязательные
поставки русских рекрутов в ханское войско и угон населения в полон
ослабляли производительные силы зависимых земель. Княжеская
эксплуатация русских земель давала возможность либо
капитализации земельной ренты (что увеличивало объем товарно-денежных
отношений), либо ее натурализации. Освободившись от ига, Московское
великое княжество пошло по второму пути. Потому что на Руси
возобладала условная форма землевладения.
331
В Московии с конца XV в. заметно сокращается объем товарно-
денежных отношений. Параллельно этому численно растет служилое
сословие, для которого единственным условием землевладения
становится государева служба. Испомещение дворян означало декапи-
тализацию великокняжеской земельной ренты и сокращение доходов
казны. Механизм соединения живого труда с трудом
овеществленным терял экономическую энергетику. Он вытеснялся системой
государственного внеэкономического принуждения крестьян к работе
на поместных землях.
Принудительное прикрепление крестьян к поместной земле
повышало экономическую эффективность «служебного верстания», то
есть наделения воинов-помещиков соответствующим земельным
ресурсом. Незаселенная земля была не пригодна для служебного
содержания дворян. Только у титульных земельных собственников — бояр,
церкви и князя — имелась социально-политическая и экономическая
возможность договорного заселения пустующих земель и
организации на них товарного производства. У дворян и боярских детей такой
возможности не было. Крепостное право избавило новое служилое
сословие от забот о товарности и рентабельности условного
землевладения.
Почему в Московии именно с конца XV в. начинает быстро
расширяться нерыночный сектор поместного землевладения? Причин
несколько. Первая из них: нарастающее с этого времени отставание
темпов естественного прироста великорусского населения от
скорости постордынского расширения (по «одной Голландии» в год в
течение XVI-XVII вв.) суверенной территории великорусского
государства. После завоевания в 1552-1556 гг. Казанского и Астраханского
ханств земледельческое население центральных областей
Московского царства начинает массово заселять плодородные земли
среднего и нижнего Поволжья. Эта стихийная и ускоренная русская
колонизация новых окраинных территорий, поощряемая
правительством, одновременно способствовала обезлюживанию центра. Пашни
здесь зарастали кустарником и чернолесьем. Поэтому государство
вынужденно озаботилось прикреплением работников к
подмосковной земле, обремененной наибольшим «государевым тяглом».
(Государственная отработочная рента не взималась с окраинных
земель: с Севера, Заволжья, Зауралья и Сибири.)
Вторая причина экспансии нерыночного сектора российской
экономики связана с избыточной милитаризацией государства и ростом
численности непродуктивных групп населения, пожизненно
поверстанных в государеву военную службу.
332
Поместная форма бесплатного трудового обеспечения
государевой военно-административной службы существенно снизила общий
уровень экономической активности российского населения. Из
рыночного оборота систематически выводилось все большее количество
материальных ресурсов, не превращаемых в товар. Народ хирел,
потому что государство пухло, не становясь здоровее и богаче.
Длительное существование богатого государства в бедном обществе
цивилизационно невозможно.
Союз «опричников» и «казаков»
Для охраны своих южных рубежей московское государство стало
привлекать (с середины XVI в.) казаков. Казачество возникло в
южнорусских землях в XIV в. через сто лет после татаро-монгольского
нашествия. Его появление непосредственно с Игом не связано, хотя
Степь, безусловно, повлияла на цивилизационный регресс некогда
оседлых славянских земледельцев. Орда способствовала их откату к
полукочевому образу жизни. Но главная причина этого уникально
русского явления в ином: польско-литовское государство создало
вакуум власти на южнорусских землях.
Казаки жили охотой, рыбной ловлей и систематическим разбоем.
Их первыми гетманами были польско-литовские вельможи.
Запорожскую Сечь укрепил князь Дмитрий Вишневецкий в
середине XVI в. Этот кондотьер пытался выкроить себе царство по обоим
берегам Днепра. Остров Хортица служил плацдармом его
антикоролевской фронды.
Пятьсот казаков служили в наемной армии польского короля
Стефана Батория. Они «славились» насилиями над мирным
населением, грабежами и слабой военной дисциплиной. Польское
правительство в XV, XVI и первой половине XVII в. поощряло
казачество, включая часть его в государственный «реестр». Численность
реестрового казачьего войска непрерывно росла. Декретом
Владислава IV о дополнительном строительстве 40 казацких
военных судов («чаек»), как королевским знаменем, размахивал Богдан
Хмельницкий, направляя «хлопов» против аристократии,
ограничивавшей власть короля.
В середине XVII в. на украинских землях Речи Посполитой
разразилась общенациональная катастрофа. Казаки под руководством
Б. Хмельницкого захватили левобережную Украину, истребили
333
польскую социально-экономическую элиту и превратились в новый
правящий слой Малороссии, воссоединенной с Московским
царством в 1654 г.
Московская власть со второй половины XVI в. стремилась
«оседлать иррегулярного тигра». В 1570 г. Иван Грозный звал
запорожских казаков на цареву службу. Атаман небольшой казацкой
ватаги Ермак оказался в московском государственном реестре
явочным порядком. Сначала он грабил южные русские земли.
Царские воеводы заперли его в низовьях Волги. Ермак бежал за
Урал, поступил на службу к русским промышленникам
Строгановым. При их материальной поддержке наемная дружина
Ермака составила первый эшелон московского завоевания
Западносибирского ханства. Казаки выполняли системные задачи,
выступая в роли военно-колонизационного авангарда сильной
государственной власти. В периоды ее ослабления казаки неизменно
становились антисистемной силой.
Казацкими пиками был закинут в начале XVII в. на московский
престол Лжедмитрий I. Казаки составляли ударную силу
движения Ивана Болотникова, расколовшего в 1609 г. российский госу-
дарствообразующий слой. Борьба с этим движением настолько
ослабила центральную власть, что московский трон превратился в
предмет антинационального торга, участниками которого
выступали не столько иностранные государства, сколько боярские
кланы, дворянские отряды и казацкие банды. Казаки — с 1610 г.
преторианцы «тушинского вора». Они безнаказанно грабили всех,
кто не мог дать им отпора. Поэтому ополчение 1612 г. по пути
своего многомесячного следования к Москве получало
многочисленные, однотипные земские наказы. «...И чтобы казаки не делали ни-
какова дурна».
Царские воеводы в середине XVII в. толкнули казацкие ватаги
Степана Разина в заморский поход «за зипунами», пытаясь
избавиться от «гультяев». Получив в Персии отпор, малоимущие донские
казаки бросились на более доступную, внутреннюю добычу.
Крестьянскую войну 1771-1773 гг. инициировали и возглавили яиц-
кие казаки. Их политические цели не совпадали с подлинными
крестьянскими интересами. Таранную силу народной
антикрепостнической стихии казаки направляли в антигосударственное русло.
Их целью была государственная смута образца 1605-1612 гг.
Для этого им понадобилась реинкарнация Лжедмитрия I — «государь
Петр Федорович». Казацкие атаманы Разин и Пугачев использовали
334
анархическое крестьянское движение, стремящееся вернуть Россию
в догосударственное состояние «земли и воли».
Российское государство лишь к началу XIX в. смогло
интегрировать казачество в свой состав. В качестве военно-земледельческого
сословия донские, кубанские, терские, гребенские, уральские,
сибирские, забайкальские и амурские казаки исправно служили в
пограничных, общеармейских конвойных и охранных частях общих
вооруженных сил империи. В Отечественную войну 1812 г. и в войнах
XIX в. они героически сражались. В период революции 1905-1906 гг.
казаки защищали государственный правопорядок.
Февраль и Октябрь 1917 г. вернули казачество в прежнее
корпоративное состояние. Генерал императорской службы, атаман
Всевеликого войска Донского Каледин застрелился в декабре 1917 г.
после того как донские казаки вынудили Добровольческую белую
гвардию (выступавшую под лозунгом «единой и неделимой России»)
покинуть территорию самопровозглашенной Донской республики и
отправиться в свой тяжкий Ледовый поход. Новое донское
правительство во главе с атаманом Красновым (по примеру гетмана
незалежной Украинской республики генерала русской армии Павла
Скоропадского) вступило в антироссийский дипломатический союз
с кайзеровской Германией. Впрочем, Скоропадский исподволь
стремился к федеративному статусу Украины в рамках Российской
республики.
В 1918 г. закончилась государственная история российского
военно-земледельческого сословия. Исполнять свои прежние
военные функции российское казачество, реанимированное в 1990-е гг.,
сегодня не может. Его современное общественное возрождение,
несмотря на впечатляющую массовость, является по преимуществу
культурно-этнографическим. Российские вооруженные силы
профессионализируются. В них нет места иррегулярному ополчению.
Системным аналогом исторического казачества является
возникшая в XVI в. «государева опричнина». В этой системной
дисфункции государства проявляется внезапное «бешенство власти»,
ее* неадекватная реакция на внутренние элитные противоречия.
Школьные учебники истории связывают опричнину
исключительно с иррациональной политикой Ивана Грозного в 1564-1572 гг.
На самом деле царь лишь дал этой хронической болезни русского
государства исторически закрепившееся имя (неудачно выбранное,
впоследствии, в 1572 г., официально замененное на
традиционное — «двор»). Грозный наложил неизгладимый кровавый
отпечаток своей авторитарной, мнительно-тревожной личности на госу-
335
дарственную репрессивную систему, сложившуюся во второй
половине XVI в.
Частно-правовым термином «опричнина» в XIV-XVI вв.
обозначалась вдовья доля имущества, оставшегося после смерти
титульного собственника. В завещаниях эта доля специально
оговаривалась «опричь» (кроме) основной части, передаваемой по
мужской линии наследования. Опричная доля отдавалась в безотчетное
пользование, владение и распоряжение вдовы. Имущество,
упоминаемое в завещаниях в разделе «опричь», освобождалось от
долговых обязательств прежнего собственника и любых обременении
(сервитутов). Политическое использование термина «опричнина»
артикулировало освобождение чрезвычайного орудия личной
влас-ти царя от государственной ответственности.
Терминологически подчеркивалась личная произвольность любого «царева
хотения», реализуемого всей мощью репрессивного госаппарата
Московского царства.
Внутриэлитные противоречия (неадекватным ответом на
которые и явилась опричнина) состояли в следующем.
Правительственный класс (московское боярство), обеспечивший единодержавие
дому Ивана Калиты, политически не был заинтересован в его
самодержавии. Дружина Московско-Владимирского великого князя в
XIV-XV вв. помогла ему сокрушить удельно-родовой
государственный порядок. Московская политическая элита вынужденно, под
давлением великого князя инкорпорировала в свой состав
вотчинных наследников владетельных родов — титулованных «княжат».
Родовая знать сохранила к середине XVI в. под своим
непосредственным командованием остатки боевых сил недавно
присоединенных к Москве русских удельных княжеств. Как всякая
аристократия, боярско-княжеское государственное сословие стремилось
ограничить произвол центральной власти. Однако перестав быть
Дружиной и раздробившись на кланы, российская аристократия к
решающему моменту своего столкновения с царем успела утратить
былую корпоративную солидарность. (И в государственную Смуту
начала XVII в. боярство вступило, преследуя клановые, а не
классовые интересы.)
Неадекватность реакции центральной власти на московскую
«Фронду принцев» во второй половине XVI в., при отсутствии
«Фронды городов» европейского типа, проявлялась не только в явной
избыточности государственного террора. (Показательно, что Сталин,
ощущавший себя политическим наследником Грозного, считал
опричные репрессии недостаточными: по его мнению, Грозному надо
336
было уничтожить еще пять больших боярских родов, чтобы
предотвратить Смуту начала XVII в.)
Основная неадекватность опричного поведения власти
заключалась в системном сбое основного управляющего механизма.
Институциональный глава государства боролся с клановой боярско-
княжеской фрондой как безответственное частное лицо. Он
централизовал политическую власть, одновременно разрушая и
производительные, и боевые силы собственной страны. Наращивая амплитуду
внутренних автоколебаний системы, Иван IV оставил обеспечение
системно-государственной устойчивости (в том числе — внешнюю
оборону) в зоне земской ответственности. В критические моменты
внешней опасности (в частности — во время нашествия крымчаков и
ногайцев в 1571-1572 гг.) не опричное, а земское войско спасало
Московское царство.
И традиционные институты территориальной самоорганизации,
и новые органы общественного самоуправления, учрежденные
Избранной радой, оказались попутными объектами антибоярского
террора. Реакционный опричный корпус, дворянский по своему
составу, избирательно уничтожал выдвинутых реформами 1550-х гг.
«лутчих людей»: деревенских старост, «целовальников»,
«излюбленных голов», сотских. Разоряя вотчинные гнезда, органически
связанные с местной почвой, опричники грабили экономически активных
боярских арендаторов — окрестное крестьянское население, угоняли
принадлежащий ему продуктивный и рабочий скот. «Кромешники»
рыскали по монастырям в поисках боярских денег и сокровищ,
доверенных монахам для ответственного хранения. (В XVI в. монастыри
исполняли функции сберегательных касс.) В казну забирались
драгоценные предметы богослужения. «Набеговая экономика» царского
особного двора пользовалась варварскими приемами облавной охоты
степняков на русских землях.
Главный герой романа А. К. Толстого «Князь Серебряный» и его
вооруженные спутники возвращаются из долгого заграничного
путешествия в середине 1565 г. Они ничего не знают о самодержавной
революции, разразившейся в Московском царстве. Путешественники
видят людед, громящих крестьянские дворы, и разгоняют отряд
черных разбойников. Вскоре выясняется, что жестокая расправа с
соотечественниками, возмутившая князя Серебряного, творилась по
царскому приказу государевыми людьми. Литературный сюжет имеет
право на историческую недостоверность. Русские летописи XVI в. не
зафиксировали подобные примеры успешного вооруженного отпора,
организованного потомками дружинной аристократии. Во второй по-
337
ловине XVI в. в Московском царстве уже не было корпоративных
войск. Только царь имел право содержать постоянные вооруженные
силы, созывать пешее земское ополчение и мобилизовывать
иррегулярную дворянскую конницу. Поддерживать внутренний
государственный правопорядок не могли ни частные лица (вне
государственной службы), ни органы местного самоуправления. Инструментов
гражданского сопротивления официальному беззаконию российская
Земля в XVI в. не имела. Оборонительные рефлексы слабо
структурированного общества включались лишь на зло, творимое частными
лицами. А государственно-статусным разбойникам массово и
безропотно повиновались.
Показательно, что в эпоху Ивана Грозного российское податное
население практически не бунтовало. При этом оно страдало от
непрерывных войн, нараставшего внеэкономического принуждения и
двадцатилетнего государственного террора гораздо сильнее, чем в
«бунташном» XVII веке, отличавшемся более мягким правлением.
Но в историческом промежутке между последними Рюриковичами и
первыми Романовыми была пятнадцатилетняя Смута. Она
избыточно политизировала массы, показав им способы колебания
государственных основ.
Две тенденции развития
Богаты мы едва ш колыбели
Ошибками отцов и поздним их умом.
М. Ю. Лермонтов
Судебник 1497 г., кодифицировавший правовые акты
Московского великого княжества, значительно упростил его социальную
структуру. Кодекс разделил большинство населения на два
государственные сословия (служимое и тягловое), а земли — на обельные,
освобожденные от налогов, и черные, податные. Большая часть служебных
боярских земель к концу XV в. успела «обелиться». Монастыри —
крупнейшие лендлорды русского Средневековья — государственных
повинностей изначально не несли и налогов не платили. Им
принадлежало более трети обрабатываемых земель Московского великого
княжества. Во второй половине XV в. разросшееся Московское
государство испытывало хронический земельный голод. Его временно
утолила победа над новгородцами. Если бы в 1477-1499 гг. не
произошла поэтапная конфискация Москвой более миллиона гектаров
338
хозяйственно освоенных земель бывшей Новгородской республики,
то в России вряд ли утвердилась регрессивная, экономически не
эффективная форма поместного землевладения. Резкий прирост
государственного земельного фонда совпал с массовым рекрутированием
нового служилого сословия. Возник синергетический эффект,
изменивший классовый облик Московского государства.
Немногочисленное поначалу, иррегулярное дворянское войско
создавалось Иваном III и его сыном Василием III в полном согласии
с боярским правительственным классом — основным строителем
Московской державы. Бояре не увидели в «дворских» великого князя
своих будущих классовых антагонистов. Поверстанные в военную
службу «дворские» и дети боярские исполняли на поле боя
вспомогательные функции, наряду со старинной «посохой» — земским
ополчением.
Боевая пригодность слабо экипированных дворян, не обученных
ни строю, ни (в отличие от бояр) изощренной технике
индивидуальных боестолкновений, овладеваемой с детства, не могла быть
высокой. Как правило, она не превышала их экономическую
конкурентоспособность. Дворянские войска оставались иррегулярными до
Петровских военных реформ. Свою боевую малопригодность
дворяне компенсировали политической лояльностью и административным
рвением.
Постоянные вооруженные силы в Московском государстве
появились впервые при Иване IV Царь, политически опиравшийся
преимущественно на дворян, в своих военных предприятиях
предпочитал использовать бояр и наемные отряды профессиональных воинов,
в том числе — татарских конников. Созданное в 1540-е гг. постоянное
войско царских стрельцов, пищальников, затинщиков, пушкарей
играло решающую роль при осадах крепостей. Дворянские полки не
смогли взять в 1552-1554 гг. ни Казани, ни Астрахани. Это — заслуга
стрельцов и пушкарей.
Становясь помещиками, дворяне избавляли государство от
выплаты им жалованья в денежной либо в натуральной форме.
Исиомещенные на хозяйственно освоенных государевых землях,
дворяне, как правило, декапитализировали большую часть земельной
ренты. Прибавочный продукт крестьянского труда изымался ими из
хозяйственного оборота и направлялся исключительно на военную
экипировку и цели непроизводственного потребления.
Помещики не были заинтересованы ни в рациональном
хозяйствовании, ни в долгосрочных капиталовложениях в землю. Она
давалась на условиях службы, то есть на ограниченное время, в качестве
339
материального обеспечения явки на ежегодные весенние смотры
«конно, людно и оружно».
Записываемые «за государя» новые земли московского
поместного фонда изымались в конце XV в. у эффективных частных
собственников. Торгово-ремесленная Новгородская республика в
XII-XV вв. развивалась по цивилизационной модели, отличной от
московской. Рыночная инфраструктура, созданная в эти века,
продуктивно соединяла пространственно рассредоточенные сырьевые
ресурсы новгородской территории с живым трудом городских
ремесленников, крестьян и купцов. Мелкоконтурные и крупные
хозяйства аграрного сектора при содействии городской
экономической инфраструктуры эффективно использовали рассеянную
рыночную информацию. Многоканальная товаропроводящая сеть,
созданная частными собственниками, стимулировала
экономическую активность населения, постоянно наращивая объем
совокупного спроса и конечного семейного потребления. Политэкономия
Великого Новгорода была, условно говоря, «кейнсианской»1.
Новгородские собственники могли без санкции государства
вступать в частно-правовые земельные отношения, то есть были вправе
продавать, закладывать, дарить, завещать землю. Наиболее
успешными в хозяйственном отношении земельными собственниками
являлись новгородские бояре и житьи люди. Они работали и на внешний
рынок. Рыночно ориентированные субъекты хозяйствования,
наполняя городскую казну, содержали наемное государство.
Наемному князю и его дружинникам запрещалось приобретать
земли на территории республики, ибо статус земельного
собственника создавал определенные государственные правомочия. В
частности — сеньориальные права судебной юрисдикции. Проживающий на
земле сеньора подлежал его суду. Судебные издержки и судебная
пошлина взимались с тяжущихся в пользу титульного земельного
собственника. %
Наемное государство Новгородской республики не вмешивалось
в организацию общественного производства. Но оно не могло и
дезорганизовать систему автономного жизнеобеспечения граждан.
1 Основная идея экономической теории Джона Мейнарда Кейнса,
советника Ф. Д. Рузвельта, состояла в макроэкономическом стимулировании
планового наращивания объема совокупного национального спроса и конечного
(семейного) потребления. Это макроэкономическое стимулирование,
положенное в основу Нового курса США, вывело страну из Великой депрессии
начала 1930-х гг.
340
ТруДно было представить новгородские власти XII-XV вв. в анти-
земской роли разрушителей Немецкого (Готского) гостиного двора,
городских торговых лавок, домов зажиточных горожан,
монастырских, боярских, житьих, крестьянских, купеческих хозяйств. Но
именно этим занимался новый, по-московски организованный госаппарат
XV-XVI вв. В 1475-1478,1505,1570-1583 гг. он систематически
разрушал экономическую инфраструктуру новгородской Земли, сжигал
товары, уничтожал наиболее продуктивную часть новгородского
населения.
Итак, земельные отношения на Руси радикально изменились в
конце XV в. Это была очередная точка бифуркации российской
истории. Столкнулись две тенденции государственного развития. Одна —
национально-земская, другая — опрично-приказная. Первая
опиралась на частную земельную собственность. Вторая — на условное
землевладение.
Поместное землевладение в Московском великом княжестве
XV в. еще не являлось преобладающим: нехватало земельного фонда.
Хозяйственно освоенные земли, захваченные в Новгородской
республике, Иван III быстро растратил на испомещение московского
служилого люда. Новгородские конфискации пагубным образом
сказались на земельных отношениях в центральных регионах Московии,
так как резко возросший поместный фонд дал великому князю
материальную возможность превращать и московскую частную
земельную собственность в условное землевладение. Началось общее
наступление на рыночные, товарно-денежные отношения в экономике
страны.
Процесс государственной деприватизации земли принял особо
конфликтные формы в эпоху опричнины, сопровождавшей
самодержавную революцию 1564-1583 гг. В результате ее оказались
лишенными частной собственности на землю не только аристократия, но и
зарождающийся средний класс, предбуржуазия. Итог: бурный
экономический рост в Московии конца XV — первой половины XVI в.
сменился нарастающим от века к веку отставанием от передовых
европейских стран.
Но в начале 1550-х гг. еще не было ясно, куда повернет царская
власть, и сам Иван IV политически колебался. Сформированная
царем в конце 1540-х гг. Избранная рада (правительство социального
компромисса) проводила успешную внешнюю политику,
осуществляла реформу земского самоуправления. В 1550 г. впервые заседал
Земский собор, одобривший Судебник, где статья 98 установила: за-
341
коны без согласия Боярской думы и «всенародных человек»
(всесословного представительства) не принимаются. Избранная рада, в
соответствии с идеологией нестяжательства, планировала
секуляризацию монастырских земель. Последнее было застарелой головной
болью московского правительства.
В конце XV в. (при Иване III) церковь организационно
превосходила государство, но в середине XVI в. положение круто изменилось.
Материальная сила государства, централизованного Иваном IV,
стала преобладающей. Дворянский по личному составу,
репрессивный аппарат обрушился на экономически активную часть населения,
не заинтересованную в крепостном праве. Бояре и церковь
выступали против закрепощения крестьян. Существовавший до опричнины
порядок свободного «ряда» (хозяйственного договора) и перехода
крестьян с одной земли на другую соответствовал церковным и
боярским интересам. Крестьяне в массе своей являлись арендаторами.
После уборки урожая они имели право за неделю до осеннего Юрьева
дня и в течение одной недели после него переходить к другому
арендодателю. Крестьяне, как правило, переходили на боярские и
монастырские земли.
Государственное прикрепление крестьян к дворянской земле было
способом изъятия и фискальной иммобилизации большей части
прибавочного продукта земледельческого труда. Уровень этого изъятия
в условиях крепостного права многократно превышал традиционную
боярскую и монастырскую земельную ренту.
В Московском царстве со второй половины XVI в. существенно
уменьшился переток труда и капитала. Следовательно, сократился и
общий объем товарооборота. Экономический статус товара утратила
и хозяйственно освоенная земля. В России с конца XVI в. до начала
XX в. не допускался свободный гражданско-правовой оборот земли.
Антирыночная, антиаристократическая, антикрестьянская
самодержавная революция второй половины XVI в. резко сократила
количество субъектов хозяйствования и, соответственно, объем
ВВП. Ликвидируя частную собственность на землю, государство
ослабляло массовую мотивацию к труду и, следовательно
воспроизводственный и военный потенциал страны. Ливонская война 1558-
1583 гг. это продемонстрировала.
В результате реформ 1540-1550-х гг., мобилизационные
возможности Московского государства существенно возросли. Однако
политически обусловленное «поместное верстание дворян
приняло масштабы, избыточные с военной точки зрения. Для сравнения:
342
Ц1веция в XVII в. создала сильнейшую в Европе армию, не
прибегая к массовому испомещению офицерского состава своих
вооруженных сил. Шведские офицеры королевской армии («новые
дворяне») со второй половины XVII в. получали денежное жалованье.
«Старые дворяне», служившие короне за земельные пожалования,
лишились их в результате так называемой «редукции». Ее
осуществил Карл XI (отец Карла XII). За полвека до Петровских
военных реформ Швеция первой ввела систему национального
рекрутского набора.
Важнейшим правительственным учреждением России с XVI в.
стал Поместный приказ, приступивший к межеванию земель.
Писцовые книги этого приказа фиксировали служебную пригодность
деревень и сел, промыслов и угодий. Земельное генеральное и
специальное межевание, начатое при Екатерине II в 1765 г., преследовало
иные цели. Оно закончилось лишь в 1855 г., накануне отмены
крепостного права, и проводилось исключительно в экономических
интересах дворян.
Во второй половине XIX в. крепостное право рухнуло. Царский
манифест 19 февраля 1861 г. не являлся государственным актом,
освобождающим крестьян от личной зависимости. Крестьяне в этом
качестве юридически не принадлежали конкретному помещику.
Они со второй половины XVI в. прикреплялись к конкретной
служебной земле. Поэтому личную свободу крестьяне получили в
1861 г. бесплатно. А вот обрабатываемые ими барские угодья
пришлось выкупать, потому что бывшая некогда служебной, поместная
земля с 1785 г. принадлежала помещикам на праве полной частной
собственности. У крестьян не было необходимой массы денег для
выкупа дворянских поместий. Выкупную сумму дала крестьянам
государственная казна в кредит сроком на 49 лет под 6 % годовых.
Кредитный процент плюс выкупные платежи сделали бывших
крепостных «временно обязанными» государству. Если они
подписывали уставную грамоту с помещиком, тогда 100 % стоимости
выкупаемых угодий выплачивало помещику государство, исходя из
суммы крестьянского годового оброка, умноженного на 16 руб.
57 коп. Если объединенные в общину крестьяне и помещик не
достигали согласия, казна выплачивала помещику только 75 %
стоимости земли. А хозяйственные споры общины и бывшего помещика
передавались на арбитраж мирового посредника, назначенного
губернатором. Дворяне таким образом приглашались к позитивному
сотрудничеству с крестьянами.
343
Земельная реформа 1861 г. в России прошла относительно легко.
После нее крестьянские выступления пошли на убыль и полностью
прекратились к 1883 г. Аналогичные земельные преобразования в
США (1861-1865 гг.) сопровождались четырехлетней гражданской
войной, унесшей 1 миллион жизней. Погибли в том числе 300 тыс.
солдат северных штатов. Рабовладельцы-латифундисты яростно
сопротивлялись и личному освобождению 4 млн черных рабов, и
наделению сотен тысяч фермеров бесплатными «гомстедами» в
64 га из национального земельного фонда западных Общественных
территорий США. От федеральной казны плантаторы требовали
гигантскую по тем временам сумму компенсаций за освобождение
черных рабов — 2 млрд долларов. Эта сумма многократно
превышала федеральный бюджет Союза штатов. Дело закончилось выходом
из Союза (сецессией) рабовладельческих южных штатов,
образованием в их составе новой Конфеде-рации, кровопролитной войной
Севера и Юга.
Вопреки художественно-пропагандистской литературе
критического направления, российское дворянство не оказывало
организованного классового сопротивления земельной реформе.
Дворянам было выгодно продавать крестьянам свою землю,
потому что государство заплатило в качестве выкупных платежей
700 млн рублей и освободило землевладельцев от возврата ранее
выданных и просроченных госкредитов в сумме 450 млн рублей.
Основная масса дворянской земли к 1861 г. оказалась
заложенной и перезаложенной.
Из двух моделей реформирования земельных отношений —
американской и прусской — Россия выбрала вторую. Развитие
российской пореформенной экономики тормозилось и государством, и
коллективным собственником выкупленной земли —
крестьянской общиной. Общинная земельная собственность в сочетании с
семейным землепользованием не могла быть эффективной,
потому что экономически активные крестьяне практически не имели
интереса к земельному инвестированию, которое, в отличие от
торгового, по определению является долгосрочным. Вследствие
чего начались новые аграрные реформы, уже связанные с именем
П. А. Столыпина.
В результате их примерно 40 млн десятин пахотной земли
оказались в полной частной собственности земледельцев, в форме
крестьянских хуторов и отрубов. Отруба сводили чересполосицу
семейных наделов в единый массив, а хутора выносили земельные
344
участки за пределы общинно организованной деревни. Революция
1917 г. остановила столыпинские реформы, создавшие несколько
сотен тысяч новых субъектов хозяйствования, ориентированного на
рынок.
В 1918 г. вооруженный сельский пролетариат обрушился на
Столыпинскую генерацию хуторян и фермеров. Первый удар по
крестьянской частной собственности нанесли рыночно не
адаптированные члены деревенских общин. Коммунистическая власть поощряла
стихийную расправу неконкурентной части крестьян с
инвестиционно активными земельными собственниками, с успешными
хозяевами, «кулаками».
Второй антиземский удар, опрично-государственный, пришелся
по рыночному сельскому хозяйству в 30-е годы XX в. В новых
исторических условиях повторилось то, что происходило в Московском
царстве во второй половине XVI в. Вновь на крестьян навалилась
«государева крепь», теперь именуемая колхозами. Она продержалась
60 лет.
Амплитуда автоколебаний государственного механизма между
Опричниной и Земщиной сокращается. С начала 1990-х гг.
началось движение исторического маятника в сторону Земщины. 80 %
продуктивных земельных угодий Российской Федерации в
настоящее время находятся в частной собственности. Федеральный
закон «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» и
Земельный кодекс легализуют свободный оборот земельных
участков, с некоторыми ограничениями прав их титульных
собственников. Например, законодательно запрещается продажа иностранцам
пограничных земель, несанкционированное изменение режимов
землепользования. Пашни запрещено превращать в охотничьи
угодья. Не разрешается самовольно вырубать леса и делать из них,
например, пастбища. Конституция РФ в ст. 72 устанавливает, что
регулирование земельных отношений (в том числе —
установление режима землепользования) является предметом совместного
ведения Российской Федерации и ее субъектов.
В современной России слабо развита экономическая
инфраструктура для мелкотоварного (ориентированного на рынок)
сельскохозяйственного производства, но созданы правовые условия для
индивидуального и коллективного землепользования. Ст. 36
Конституции РФ устанавливает: «Граждане и их объединения вправе
иметь в частной собственности землю. Владение, пользование и
распоряжение землей и другими природными ресурсами осущест-
345
вляется их собственниками свободно, если это не наносит
ущерба окружающей среде и не нарушает прав и законных интересов
иных лиц».
В течение последних пятисот лет силовое соотношение между
Опричниной и Земщиной определялось национальным объемом
частной земельной собственности. Ее сплошное огосударствление
неизменно порождало опричный произвол власти. Преобладание
частной земельной собственности эффективно ограничивало
Опричнину корпоративноземским образом.
é
Глава 6
ОБЩЕСТВЕННАЯ ЦЕНА
ГОСУДАРСТВЕННОГО ПОРЯДКА
Исторические альтернативы московскому
самодержавию
Пятьсот лет прошло от Судебника 1497 г., принятого при Иване III,
до Конституции Российской Федерации 1993 г. Историческая
дистанция побуждает к обобщающим ретроспекциям. Первая из них:
историческая безальтернативность самодержавного варианта
политической организации великорусских земель — московский
государственный миф.
Еще в середине XV в. русские земли в большинстве своем
находились вне Московского великого княжества. В эту
постмонгольскую эпоху они входили в состав великого княжества Литовского и
Русского и республикански организованного Господина Великого
Новгорода. Первое представляло собой конституционную
монархию, сословно ограниченную представительным двухпалатным
парламентом. Второй — олигархо-демократическую республику с
аристократическим правительственным классом (господой) и
законодательным народным собранием (вечем). Оба государства
являлись федерациями административно автономных земель. Выборные
магистраты возглавляли исполнительную власть. Сословные
представители законодательствовали. В обеих странах численно
преобладало православное русское население. Все государственно-
правовые акты и судопроизводство Великого Новгорода и Литвы
совершались на русском языке. Он был средством и повседневного
межэтнического общения.
Памятник «Тысячелетие России» не случайно поставлен в 1862 г.
в Великом Новгороде. Именно здесь в 862 г. родилось русское про-
тогосударство. И с тех пор общеземское чувство единства всех
русских земель не покидало новгородцев. Конфессиональная общность
усиливала это чувство. Новгородское архиепископство входило в
состав Московской митрополии православной церкви.
Ордынское господство продержалось на западнорусских землях
на сто лет меньше, чем в Северо-Восточной Руси. Литва помогла
Западной Руси сбросить иго еще в XIV в. Однако уния Литовского
347
великого княжества с католической Польшей остановила литовский
проект объединения Северо-Восточной Руси.
Единство исторических русских земель пытался восстановить в
XIV в. и Великий Новгород, очень сильный в экономическом
отношении и столь же слабый — в военном. Имей Великий Новгород
профессиональную военную организацию, сопоставимую с московской
или литовской, общерусская федерация могла бы состояться.
Федералистские планы новгородской аристократии неизменно
разрушала унитарная Москва в союзе с татаро-монголами. Этот союз
сложился в 1240-х гг. между домом князя Ярослава Всеволодовича и
Батыем.
Тем не менее, в первой половине XIV в. в роли собирателей
русских земель могли выступить и реально выступали наряду с Москвой
сильные европейские государства: конституционная аристомонархия
и олигархо-демократическая республика. В начале XV в. явно
доминировала Литва. Союза с ней искали Великий Новгород и даже
Москва. Василий I, сын Дмитрия Ивановича Донского, был женат на
дочери Витовта, великого князя Литовского и Русского. В 1423 г.,
незадолго до своей смерти, наступившей в 1425 г., Василий Дмитриевич
отдал жену и восьмилетнего сына (будущего Василия II Темного)
под покровительство могущественного тестя.
Государственные гербы Литовского и Московского великих
княжеств имели общую базовую символику вооруженного всадника —
Георгия Победоносца. С одним показательным отличием: литовский
Георгий находится в динамическом состоянии погони, а
московский — в статическом положении уже достигнутого триумфа над
поверженным врагом.
Драконобороческий Егорий
копье в горниле аллегорий
утратив, сохранил досель
коня и меч. И повсеместно
в Литве преследует он честно
другим не видимую цель.
Кого он, меч зажав в ладони,
решил настичь? Предмет погони
скрыт за пределами герба.
Кого? Язычника? Гяура?
Не весь ли мир? Тогда не дура
была у Витовта губа.
И. Бродский. Литовский дивертисмент. Герб
348
Литовские порядки казались московской аристократии
привлекательными. Политический уклад, установленный Литвой на
западнорусских территориях после освобождения их от ордынского
господства, устойчиво балансировал социально-экономические интересы
дворянства (шляхты) и крупных земельных собственников
(магнатов). Права и свободы государствообразующих слоев
западнорусского населения гарантировались великокняжескими грамотами (при-
вилеями). Политически представленные ассоциации шляхетства и
панства агрегировались земельно-клановым образом. При
ослаблении центральной власти клановость приводила к государственным
смутам.
К федерации с Литвой в начале XV в. стремились не только
московские бояре. В 20-е годы XV в. политический союз с сильной
державой заключили Тверское и Рязанское великие княжества. Однако
неожиданная смерть в 1430 г. Витовта и государственная смута,
наступившая в Литве, положили конец федералистским планам
русской аристократии. Вскоре и в Московском Великом княжестве, в
годы малолетства и молодости Василия II, началась государственная
смута. Галицкий князь Дмитрий Шемяка (внук Дмитрия Ивановича
Донского) захватил в плен своего двоюродного брата, молодого
великого князя Московского, и ослепил его. Отсюда прозвание
Василия II «Темный» и расхожее выражение «Шемякин суд». Последний
руководствовался дохристианским правилом «око за око»: незадолго
до собственного ослепления Василий II приказал ослепить своего
дядю, галицкого князя, претендовавшего на московский
великокняжеский стол. Заступничество митрополита и дружное выступление
московского боярства спасли жизнь молодого великого князя и
вернули его на престол.
Московская смута середины XV в. осложнилась двадцатилетней
гражданской войной, ужаснувшей современников. Война
завершилась в 1451-1452 гг. установлением единодержавия Василия II, в
котором московские и галицко-дмитровские ветви дома Ивана Калиты
обрели форму неустойчивого земельно-кланового компромисса.
Через сто лет после этих драматических событий правнук Василия II
(Иван Грозный) нарушил системное равновесие правящего слоя,
истребив потомков и удельных князей, и старших дружинников
Дмитрия Донского, и собственных родственников по боковым
линиям дома Ивана Калиты. Прямым следствием опричного террора
явилась великая Смута начала XVII в., поставившая на грань выживания
огромное Московское царство.
349
Против федерации с Литвой решительно выступила в середине
XV в. Московская митрополия Русской православной церкви.
До своей первой государственной унии с католической Польшей
(1385 г.) Великое княжество Литовское и Русское признавало
религиозную супрематию Московского митрополита. Государственной
религией княжества являлось православие. Уния 1385 г. положила
начало политической дискриминации западнорусского населения по
конфессиональному признаку. Православных иерархов княжества
католики изгнали из Панской рады (сената). Там осталась только
западнорусская и литовская земельная аристократия, заседавшая
вместе с католическими прелатами.
Роковой удар по духовному единству русских земель нанес
Ферраро-Флорентийский межцерковный собор, подчинивший
Константинопольский патриархат Римскому папе (1439 г.). Мало кто
из западнорусских православных иерархов подчинился решениям
Ферраро-Флорентийского собора. Весь средний и низовой клир,
монашество и миряне Западной Руси остались в Московской
митрополии. Новгородского архиепископа, рукоположенного в Риме, вече
державного города отвергло. В 1496 г. Московская митрополия
обрела статус автокефальной церкви (РПЦ), а западнорусская —
осталась диоцезом Константинопольского патриархата. Последний
денонсировал к тому времени межцерковный договор 1439 г. (Турецкий
султан, превративший после 1453 г. Константинополь в Стамбул, а
византийский Софийский собор — в главную мечеть Блистательной
Порты, всячески содействовал углублению церковного раскола
между католиками и православными.) Через сто лет, в 1596 г.,
Брестская церковная уния польско-литовских католиков и
полонизированных верхов части западнорусского православного клира
выстроила между христианскими церквями ритуально-догматическую
стену. Через 400 лет после Брестской унии Папа римский Иоанн-
Павел II (бывший примас польской католической церкви) объявил,
что «эта стена не доходит до неба». Однако многовековая духовная
стена и в настоящее время препятствует каноническому общению
двух церквей одной конфессии.
Религиозный раскол Западной Руси усугублялся полонизацией
Литвы. Мотором польской культурно-политической экспансии
выступали социально-экономические интересы литовской
мелкопоместной шляхты. Приспособление литовских государственных
институтов к польским началось после конфедеративной унии 1385 г.
Аналогом Сената (верхней палаты польского парламента — сейма)
стала Панская рада — совет литовских и русских вельмож. По образ-
350
цу нижней палаты польского сейма образовалась Посольская Изба —
нижняя палата литовско-русского сейма. Она состояла из
представителей мелкопоместной шляхты.
Государственное лишение литовских крестьян частной
собственности на землю осуществилось на 100 лет раньше установления
крепостного права в великом княжестве Московском. Таким образом
лично свободные земледельцы принуждались к работе на панских
землях. Параллельно обезземеливанию крестьян расширялись
политические свободы и экономические привилегии западнорусской
шляхты. Они гарантировались конституционными актами: Первым
(1529 г.), Вторым (1566 г.) и Третьим (1588 г.) Литовскими
Статутами.
Последняя конституционная хартия шляхетских вольностей и
прав была издана после заключения польско-литовского
федеративного договора 1569 г. В этом году (в Московском царстве тогда
бушевала опричнина) был положен конец государственному
суверенитету великого княжества Литовского и Русского. Литовско-русские
земли вошли в состав федеративной Речи Посполитой, в которой
доминировал польский правительственный класс. Литовский
государственный суверенитет растворился в суверенитете польского
государства. Этому растворению немало способствовал экспансионизм
Московского царства. Геополитические обстоятельства ускорили
процесс интеграции Литвы и Польши.
В 1569 г. шла Ливонская война за контроль над Прибалти-кой.
Войска Ивана Грозного легко разгромили ослабевший Ливонский
орден. Речь Посполитая вмешалась в войну и приняла под свой
сюзеренитет западную часть Ливонии, в статусе вассального
герцогства Курляндского. Перед лицом открытой агрессии со стороны
Москвы западнорусская шляхта проявила заинтересованность в
тесном военно-политическом союзе с Польшей. Именно шляхта,
вопреки сопротивлению литовско-русской аристократии,
обеспечила отрыв от великого княжества Литовского и Русского
украинских земель (Волыни и Подляшья) и присоединение их к Польше.
На украинских землях тогда проживала треть населения
литовского государства. Такое экономическое обескровливание
окончательно сломило сопротивление литовско-русских магнатов
федералистским планам польской делегации на объединительном сейме
1569 г. Конфедерация Литовско-Русского великого княжества и
Польского королевства трансформировалась в федеративную Речь
Посполитую.
351
Федеративные и конституционные идеи политически
реализовались на западнорусских землях в XV-XVI вв. Вместе с
многочисленными знатными мигрантами из Литвы «атлантические семена»
заносились на восточнорусскую почву и там давали всходы. В
периоды ослабления московского самодержавия усиливались
конституционные стремления русской аристократии. В противостоянии
самовластию московских великих князей и царей, вышедшие из
Литвы Гедеминовичи и местные Рюриковичи легко находили общий
язык. Религиозная, культурная и языковая общность
западнорусской и восточнорусской аристократии облегчала их политическое
сотрудничество в смутные времена. Намного слабее выглядело по-
лонофильство московской аристократии: сказывалась
межконфессиональная вражда католиков и православных. Однако пресечение
династии Рюриковичей политически сблизило боярско-княжескую
оппозицию с Речью Посполитой. При этом великорусская
аристократия вовлеклась в многоходовые династические интриги, крайне
опасные для системной устойчивости московского государства.
По выражению В. О. Ключевского, <<в польской печке был
выпечен первый самозванец, заквашенный в Москве»1, в окружении
боярского клана Романовых, родственников первой жены Ивана Грозного
и царя Федора Иоанновича. Польша немало способствовала
воцарению Лжедмитрия I. На литовско-польские Статуты ориентировался
конституционный проект М. Салтыкова, одобренный тушинским
Общелагерным собором в июне 1610 г. На основе данного документа
была составлена (при участии семичленной Боярской думы) Великая
хартия вольностей московского политического класса — Magna carta,
подписанная полномочным представителем польского королевича
Владислава Сигизмундовича. Испытывая на себе идейное влияние
литовских Статутов, русская аристократия сохраняла в то же время
государственную отчужденность от Польши. Это сказалось на
поведении московской делегации, прибывшей в октябре 1610 г. под
Смоленск к королю Сигизмунду III. Москвичи отвергли
предложение короля о личной унии Московского царства и Речи Посполитой.
Избрание иноземного принца московским царем состоялось в
сентябре 1610 г. при недружном участии посада и активном — столичной
аристократии. Открытую враждебность к антиправославному
проекту «семибоярщины» проявили большинство московского населения,
средний и низовой клир РПЦ, провинциальное служилое дворянство
1 См.: Ключевский В. О. Сочинения в восьми томах. Курс русской
истории. М., 1956-1959. Т. 3. С. 32.
352
и мещанские слои торгово-ремесленных городов. Один из этих
городов — Нижний Новгород — стал центром формирования Второго
общеземского ополчения, освободившего 4 ноября 1612 г. Москву от
интервентов. Приглашенный в сентябре 1610 г. в столицу (по
инициативе Боярской думы) и на два года засевший в Кремле, польский
отряд, сохранив свое оружие, покинул страну. Однако
межгосударственный и часто кровавый «спор славян между собой» (А. С.
Пушкин) продолжился в XVII-XX вв.
Долгое время на западнорусских и восточнорусских территориях
употреблялась похожая социально-политическая терминология.
Сравнительный анализ ее показывает внешнее сходство и
внутреннее различие базовых наименований. Например, из
польско-литовского словаря пришло в Московию слово «мужик», в XVI-XVII вв.
получившее широкое распространение в восточно-русской языковой
среде. Общеславянское «смерд» (свободный земледелец,
работающий на государственных землях) сохранилось в XIV-XV вв. только в
Новгороде и Пскове. Российское дворянство в XVIII в. официально
именовалось на польский манер шляхтой. «Боярин» в Московском
княжестве обозначал крупного земельного собственника. А в
Литовском — мелкого. Здесь эквивалентом древнерусского боярина
новгородско-киевского периода являлся «пан» (земельный магнат,
вельможа). Терминологическая общность скрывала смысловое
различие. Польско-литовское «мещанин» к концу XVIII в. вытеснило
древнерусское «гражданин»: сословным обозначением закрылось
старое политическое значение. В Речи Посполитой гражданским
статусом обладали не мещане, а панство и шляхта.
Западнорусская аристократия добилась в XVI в. трех
конституционных Статутов. Московская — ни одного. Литовско-польская
шляхта не стала социально-политической опорой королевского
самодержавия, а московские дворяне поддерживали даже опричнину.
Статусное различие политических классов объясняется безусловной
частной земельной собственностью мелких владельцев в Литве и
условной — в Московском княжестве. Второе по значимости
объяснение: литовско-польский федерализм земель и отсутствие
подобного в унитарном Московском княжестве.
Земельный федерализм политически организовывал литовско-
польскую шляхту не только вокруг магнатов в качестве их военных
слуг и вассалов, но и в рамках госучреждений автономных земель.
Одной из организационных форм федерализма являлась Посольская
изба — представительная нижняя палата сейма (властвующего
парламента Речи Посполитой). В нижней палате, дополнявшей верх-
353
нюю — аристократический сенат (Панскую Раду) — доминировала
шляхта. Ничего похожего не знала Московия.
Дворы восточнорусских удельных и великих князей состояли из
экономически зависимых людей. Дворяне, консолидированные (в
отличие от бояр) ордынским, а не дружинным образом, были
объективно заинтересованы в укреплении власти и богатства своего князя —
монопольного работодателя. В отношениях с сувереном дворянин
никого не представлял — ни корпоративно, ни земски.
А. С. Пушкин имел фактологические основания заявлять, что в
России не было настоящей (в западноевропейском феодальном
смысле) аристократии. Исторические исследования это
подтверждают, но с одним существенным уточнением: средневековую
квазифеодальную аристократию Московского царства уничтожила
самодержавно-дворянская революция во второй половине XVI в.
Классово не солидарная, не сознающая общности своих интересов
московская аристократия уже в конце XV в. постоянно
демонстрировала межклановую рознь. Бояре и княжата (особенно —
суздальская ветвь Рюриковичей) сопротивлялись новой, дворянско-
приказной, государственной системе, создаваемой Иваном III,
Василием III и Иваном IV Политике централизованных кадровых
назначений аристократы противопоставляли кланово-корпора-
тивный местнический счет. Он основывался на прецедентах
далекого прошлого. Согласно принципу местничества, служебные
соподчинения знатных людей должны были соответствовать
государственным «местам» их предков.
Местничество закрепляло правительственные позиции боярства
и княжат, но нарушало базовый принцип социотехнических систем —
функциональность: приоритет функции перед структурой.
Показателен следующий исторический пример. Накануне литовской
кампании 1500 г. Иван III назначил главнокомандующим (воеводой
Большого полка) князя Даниила Щеню. А воеводой полка Правой
руки — боярина Кошкина, из старинного московского знатного рода.
Кошкин объявил, что ему «невместно охранять князя Данилу».
На что Иван III указал, что Кошкину поручено охранять «не князя
Данилу, а особу государя», поскольку оба аристократа находятся на
госслужбе. Ревнитель местнической старины повиновался, и 14 июля
1500 г. московские полки под командованием князя Щени и боярина
Кошкина нанесли литовцам сокрушительное поражение на реке
Ведроше. Это обеспечило выигрыш всей кампании 1500-1502 гг.
Вплоть до дворянской опричнины и даже после нее недружная
московская аристократия кланово местничала и публично враждова-
354
ла, как Кошкин со Щеней. Эта рознь заранее обеспечила успех
самодержавной революции Ивана Грозного.
Бояре и князья продолжали местничать и по менее
значительным поводам. А. С. Пушкин в «Моей родословной» сообщает про
местнические заботы одного из своих предков, публично
скандалившего в присутствии царя из-за того, что место Сицких за
царским столом оказалось «выше», то есть ближе к особе государя.
По царскому приказу, скандалиста несколько раз выводили из
пиршественного зала. Но предок А. С. Пушкина не унимался. Он «снова
шел под царский гнев и умер, Сицких пересев». Герой
освобождения Москвы Д. М. Пожарский, проигравший более значимый
местнический спор, был, по распоряжению царя Михаила Федоровича
Романова, «отдан головой» своему сопернику и претерпел от него
публичное унижение. Первый Романов поначалу соответствовал
предвыборным ожиданиям родовой аристократии: «Миша де молод,
и нам будет поваден».
Московским государям и после официальной (при царе
Б. Ф. Годунове) отмены местничества приходилось при объявлении
очередного военного похода устанавливать назначения на командные
должности «без мест». Полностью и окончательно разрушил
местническую систему Петр Великий.
Слабая федерация
Особая история у русского федерализма, эффективно работавшая
модель которого реализовалась в XII-XV вв. лишь в некоторых
регионах Северо-Западной Руси. Разными историческими путями пошли
наследники Новгородско-Киевской Руси. Земско-родовое начало
воплотилось в Новгородской республике XII-XV вв. Государственно-
территориальное — в Московском великом княжестве.
Кризис военно-торговой корпоративности Новгородско-Киевской
Руси1 в XII в. усилил земско-родовые тенденции ее политической
самоорганизации. Экономически активная, предприимчивая часть
новгородского населения взяла на себя княжеские функции по
удержанию старых и «примыслу» новых земель. Присоединение и
первичное хозяйственное освоение обширных колоний (пятин) — их
заслуга.
Федерация пяти территориальных городских общин обрела
республиканскую форму Господина Великого Новгорода в XII в. В от-
355
личие от дружинно-княжеской протогосударственности Новгород-
ско-Киевской Руси, республика сформировалась на земской почве.
Она эволюционно вобрала в себя наиболее структурированную часть
местного общества: житьих людей, боярско-купеческие корпорации.
Прежние институты публичной власти (среди них — наместник
Киевского великого князя с приданной ему частью великокняжеской
дружины) остались в служебном, подчиненном положении
относительно городских общин. Политическим выражением
государственного суверенитета Великого Новгорода и земского экономического
доминирования в нем стало городское вече.
Конфискация княжеского землевладения в пределах Республики
еще более ограничила властные притязания наемного князя и его
дружины. С чужеземной и вследствие этого отчужденной от
общества частью наемного госаппарата заключался «ряд», определявший
взаимные обязательства сторон. Уникальная в древней российской
истории ситуация: Дружина вступала в договорные отношения с
нанявшей ее Землей. Конституционный опыт коммун
западноевропейских городов-государств успешно адаптировался к российским
условиям. Впрочем, законы Ганзейского союза — Магдебургское право —
укрепились только в Новгороде и Пскове.
Выборная, земская часть исполнительной власти (архиепископ,
посадник, тысяцкий, степенная старшина) исполняла роль
конституционного противовеса власти нанятой, договорной. Земское
ополчение дополняло наемную профессиональную рать. Внутренний
правопорядок обеспечивался органами местного самоуправления.
Постоянных государственных повинностей вольные мужи
новгородские не несли. Экономически самодостаточное общество обходилось
услугами относительно дешевого и слабого в военном отношении
государства.
Республика в XIV в. уже не проявляла имперских амбиций, к
политическому объединению осколков Новгородско-Киевской Руси
не стремилась. Их усиленно прибирало к рукам Московское
великое княжество. В XIV-XV вв. территориальная экспансия Великого
Новгорода не мешала московскому собиранию великорусских
земель. В княжение Ивана III новгородские набеги «на Низ»
прекратились. Балтийская морская торговля с ганзейскими купцами
побуждала новгородцев к колонизации ресурсных районов
малонаселенного Северо-Востока. Оттуда черпала Республика свою
экспортную продукцию: меха, мед, воск, поташ, пеньку, кожи.
Военные экспедиции новгородских «ушкуйников» за челядью
(рабами) потеряли свой экономический смысл. В Западной Европе
356
давно не было рабства. Зато существовал устойчивый спрос на
сырье и ремесленные изделия.
Новгородские торгово-ремесленные круги в союзе с боярством
составили мощный социальный фундамент аристократическо-
демократической республики. В XII-XIV вв. вече в качестве
верховного органа непосредственной демократии не занималось ни судом,
ни администрированием. Оно законодательствовало и избирало
высших должностных лиц. Как только вече вмешалось в компетенцию
исполнительной власти и принялось народоправствовать в сфере
оперативного управления, противопоказанной для демократических
процедур, республика погибла. Это произошло задолго до
несчастного сражения на реке Шелони в 1471 г. Там новгородские ополченцы,
с трудом удерживающиеся в седлах, привычными для них вечевыми
криками заставили командование преждевременно «удариться на
москвичей». Исход известен: унитарное вотчинное государство
одолело федеративно-земское.
Государственническая школа российской историографии и
философии истории традиционно оценивала Великий Новгород
указанного периода как «слабую федерацию и фальшивую демократию»
(В. О. Ключевский). На этом основании делался (в парадигме одно-
линейности развития социальных метасистем) вывод об
исторической обреченности федеративной формы русской государственности.
На самом деле, Новгородскую республику погубили не внутренние
системные дисфункции (они не были критичными), а внешняя
агрессивная сила унитарной Москвы. Политическая судьба Новгорода
зависела от вероятностного исхода сражений. Следовательно — от
профессионализма республиканских вооруженных сил. Слабость
военной организации Господина Великого Новгорода была преодолимой.
Для этого у республики было достаточно материально-финансовых и
людских ресурсов. Великий Новгород погубили стратегические
просчеты его политического класса. Помимо «владычного конного
стяга», он не имел собственных постоянных вооруженных сил. И
политическая верхушка города-государства не стремилась к их
созданию, самонадеянно полагаясь на численность городского ополчения.
Уроки сокрушительных военных поражений середины XV в. не шли
новгородцам впрок. Располагая количественным перевесом над
московскими отрядами, городское ополчение неизменно уступало им в
качестве боевой подготовки. Незадолго до Шелонской битвы Москва
преподала Новгороду особенно наглядный урок своего военного
превосходства. В 1456 г. двести конных москвичей разгромили под
Оршей 5-тысячный отряд новгородцев.
357
Через 15 лет, в 1471 г., на реке Шелони разразилась военная
катастрофа, положившая конец государственному суверенитету
Господина Великого Новгорода. Сорокатысячное городское
ополчение потеряло 12 тыс. человек убитыми и две тысячи —
пленными. Этот ужасающий разгром произвел пятитысячный авангард
(состоявший, в основном, из татарской конницы) объединенной
московской армии. Основные силы под командованием Ивана III
шли в это время на Новгород. Московские войска включали в себя
псковичей, рязанцев, тверичей, вятичей и двинцев. Союзники
Ивана III скоро поплатились за участие в антиновгородской
коалиции 1471 г. утратой собственной политической независимости.
Все они оказались под тяжкой державной рукой Московского
великого князя.
В последний период своего государственного суверенитета
Великий Новгород нанимал служебного князя (помимо основного —
договорного). В 1470 г. формальным договорным князем
Новгородской республики числился Московский великий князь Иван III,
готовивший против своего нанимателя войну. Поэтому новгородское
вече пригласило в качестве служебного военачальника
западнорусского удельного князя Михаила Олельковича, двоюродного брата
(по матери) Ивана III. Олелькович тогда находился в оппозиции к
Казимиру, великому князю Литовскому и королю Польскому.
Легкомысленно пригласив на городскую службу королевского
оппозиционера, новгородское правительство одновременно заключило
с Казимиром договор о дружбе, федерации и взаимопомощи.
Предоставив, тем самым, Ивану III долгожданный casus belli.
Федералистские планы новгородской господы встревожили
православную церковь. Архиепископ, церковный клир, монастыри и
миряне новгородского диоцеза РПЦ, как уже отмечалось, не
приняли Ферраро-Флорентийскую унию, заключенную между
Ватиканом и Константинопольским патриархатом в 1439 г. Поэтому
архиепископ Новгородский холодно отнесся к политическому
сближению с католической Польшей и Литвой. «Владычный конный
стяг» не принял участия в Шелонской битве, чем обрек
соотечественников на поражение.
Казимир подготовил для вооруженной поддержки союзника
сильный отряд тяжелой кавалерии. Однако крымский хан Менгли-Гирей
(стратегический партнер Ивана III) отвлек силы Польско-Литовского
государства, совершив летом 1471 г. свой очередной
опустошительный набег на западнорусские земли. В это время умер киевский
владетельный князь — Симеон Олелькович. Служебный новгородский
358
князь Михаил Олелькович поспешил, после внезапной смерти
старшего брата, на театр политической борьбы за опустевший киевский
стол. Он в разгар конфликта Новгорода с Москвой оставил без
военного прикрытия нанявший его город. Формальным поводом для
своего дезертирства Михаил Олелькович выставил «обиду» на
новгородцев из-за их договора с Казимиром. Накануне решающего
сражения на Шелони Олелькович увел свою дружину, разграбив по пути
Старую Руссу. Таким образом, роковым летом 1471 г. Великий
Новгород оказался перед грозным противником в политическом и
военном одиночестве.
Скроенное по ордынским лекалам, Московское великое
княжество искало и находило союзников среди осколков Золотой Орды.
Европейски ориентированная Новгородская республика
естественно тяготела к федерации с государством близкого цивилизационно-
го кода. Однако международная обстановка на западнорусских и
восточноевропейских землях, сложившаяся во второй половине
XV в., способствовала историческому неуспеху федеративного
проекта политического класса Северо-Западной Руси.
Патримониальное Московское государство похоронило этот проект. А заодно —
всю инфраструктуру уже сложившихся экономических и
технологических связей с Европой.
Российские модернизации последующих пяти веков потеряли в
Господине Великом Новгороде свой плацдарм. Подмосковная
Немецкая слобода не могла его заменить. Петру I пришлось заново
«прорубать окно в Европу».
Политические перевороты
и социальные мутации
Жаловать своих холопей мы вольны,
а и казнить вольны же.
Иван Грозный. Из письма А. Курбскому
Российские реформы редко удавались. Чаще приносили
нестабильные результаты. Одна из неудавшихся — осуществлялась в
40-50 годы XVI в. при Иване Грозном. Были начаты
преобразования провинциального и центрального управления. Хищные царские
наместники заменялись представителями Земли. Вводилась
приказная система как способ государственной централизации по
359
функционально-отраслевому принципу. Личное господство
вотчинного государя сменялось институционализированной властью.
Правительство Избранной рады насаждало местное
самоуправление. «Излюбленным головам» поручался сбор государевых податей.
Целовальники приглашались к участию в уездном суде в качестве
присяжных заседателей.
Право на земское самоуправление покупалось по цене годовой
подати, увеличенной в 20 раз. «Лутчие люди» из черносошных
крестьян и купцов вносили эту сумму в казну за себя и остальное
податное население наместничества (уезда). Царским наместникам
(позднее — воеводам) запрещалось «въезжать» в местные судебно-
административные и фискальные дела. Наиболее полно была
уничтожена система «кормлений» в северных уездах. Здесь сбором
податей и судом занимались выборные земские старосты. Земское
самоуправление просуществовало недолго. Его растоптал грубый
сапог царской опричнины.
Царь, подобно своему деду Ивану III, безуспешно пытался за счет
секуляризации монастырских земель создать дополнительный
госфонд для массового испомещения служилого сословия. Иосиф-
лянскому руководству РПЦ, вступившему в политический союз с
дворянством, удалось перенацелить революционную конфискацию
основного массива частной земельной собственности — на боярские
вотчины. Деприватизация крупных, конкурентоспособных,
товаропроизводящих хозяйств осуществилась в интересах условных и
временных владельцев мелких поместий, выведенных из сферы
рыночной конкуренции.
Основную массу товарной продукции в Московском царстве до
середины XVI в. давали рыночно ориентированные монастырские и
боярские латифундии. Массовое испомещение дворян на боярских
вотчинных землях сопровождалось снижением экономической
активности крестьянства и его трудовой мотивации, развитием
крепостнической системы внеэкономического принуждения к
крестьянскому труду и дворянской службе, натурализацией земельной ренты.
Это вело к сокращению совокупного объема товарно-денежного
оборота. Дворянское войско в середине XVI в. резко увеличилось за счет
критического снижения товарности сельского хозяйства страны.
Неуспехом закончилась и реформа центрального управления,
предпринятая в 1550-х гг. правительством Избранной рады.
Государева опричнина 1560-х гг. явилась дворянским сословным
ответом на боярский проект модернизации. Опричнина сломала
традиционный семейно-дружинный механизм государственной власти, за-
360
менив его архаическим, догосударственным. Иван IV, по оценке
В. О. Ключевского, «стал мятежником в собственном государстве».
Практически все досамодержавные государственные институты были
уничтожены внегосударственным орудием опричнины. Боярская
дума и земские соборы (первый из них был созван именно Иваном
Грозным) надолго потеряли правительственное значение. В
опричные и послеопричные времена государственные дела в Московском
царстве вершились персонализированным образом — «ближним
государевым кругом». Приказная (институционализированная)
система окончательно утвердилась только в середине XVII в., при царе
Алексее Михайловиче.
Контрреформа 1560-х гг. осуществлялась «иррегулярными»
средствами антибоярских репрессий. Они усилились после рокового
«поворота на Германы», вызвавшего 25-летнюю Ливонскую войну.
Установленный в 1565 г. террористический режим опричнины
сопровождался отменой местного самоуправления и разгромом
правящей партии реформаторов. Все члены распущенного к 1564 г.
правительства Избранной рады и их родственники подверглись казням.
Царской репрессии не избежал и Алексей Адашев, начальник
«оперативного штаба реформ». Он умер в тюрьме. Все его родственники, и
стар и млад, были истреблены. Немногие реформаторы успели, по
словам великого князя Литовского, отвечавшего на дипломатические
протесты Грозного, «унести свои горла». Среди уцелевших оказался
князь А. М. Курбский, герой Казанского похода. Он эмигрировал в
Литву. Православное и русскоязычное великое княжество Литовское
тогда охотно принимало знатных политэмигрантов из Москвы.
Иван IV отрекся от славных дел первой половины собственного
царствования. Он объявил их (в публичной переписке с князем
Андреем Курбским) антигосударевым «злодейством вашей собацкой
рады».
В письмах Андрею Курбскому Грозный энергично отрицает даже
свое руководящее участие в завоеваниях Казанского и Астраханского
ханств. Не отрекается Грозный лишь от лидерства в массовых
репрессиях 1565-1572 гг., в самодержавной революции и в
катастрофической для Московии Ливонской войне.
Показательно, что к самодержавной революции молодого царя
энергично подталкивала, с риском для себя, церковная группа
иосифлян. Они одолели в середине XVI в. наиболее опасных
противников — нестяжателей, настаивавших на секуляризации монастырских
земель. Свои латифундии РПЦ сохранила, но потеряла немалую
часть морального авторитета среди мирян.
361
Духовно-политические движения иосифлян и нестяжателей
возникли во второй половине XV в. Их долголетнее противостояние
завершилось осуждением нестяжателей на архиерейском Стоглавом
соборе 1551 г. Через триста лет после соборного осуждения
отечественного протестантства в идеологии славянофильства XIX в.
утвердился историософский тезис о великом цивилизационном
преимуществе России, состоявшем в отсутствии общероссийских
религиозных войн, вызванных европейской Реформацией XVI в.
Действительно, организационный разгром нестяжательства уберег РПЦ от
потенциальных внутренних потрясений несостоявшихся
религиозных реформ в XVI в. Однако «пиррова победа» иосифлянства не
избавила Русскую православную церковь от вероучительного и
обрядового раскола XVII в.
Организационная победа, достигнутая посредством
монастырских темниц и публичных сожжений на кострах, не спасла
победителей от царских репрессий. В огне самодержавной революции во
второй половине XVI в. сгорела иосифлянская верхушка клира,
идеологически подготовившая опричнину.
Между тем, политический союз с нестяжателями более
соответствовал стратегическим интересам великокняжеской власти досамо-
державного периода национальной Реконкисты и модернизации
1460-х гг. Не успев стать организационно оформленным
политическим союзом, духовная близость Ивана III с нестяжателями
приобрела отчетливую идеологическую форму. Идеологию
нестяжательства подпитывала ситуация государственного земельного кризиса,
обострившегося в 1460-х гг. Этот кризис поставил в
правительственную повестку дня перезревший вопрос секуляризации
монастырских земель. Кризис разрешился аннексией территориальных
владений Новгородской республики.
Подобно северогерманским князьям, ориентированным на
государственно-центричную систему и поддержавшим с этой целью в
XVI в. Мартина Лютера, прагматичный Иван III, за полвека до
европейской реформы католицизма, поощрял внутренних протестантов
РПЦ — нестяжателей. Сын Ивана III, авторитарный Василий III
осторожно их притеснял. Внук, самодержавный Иван IV — цинично
использовал.
Аргументы нестяжательства звучат в упрекающих клир
риторических вопросах, заданных Иваном Грозным Стоглавому собору.
Иерархи РПЦ, посовещавшись, оставили их без ответов.
Использованная царем аргументация нестяжателей содержала мо-
362
ральное оправдание секуляризации монастырских земель. В этом
пункте совпадали интересы протестантов и государства.
Нестяжатели, исходя из догматических посылов, стремились
освободить церковь и от несвойственных ей политико-экономических
функций, и от обременявшего клир мирского имущества.
Византийская (по идеологическому происхождению)
парадигма «Богу — Богово, кесарю — кесарево» протестантски
преломлялась в сознании нестяжателей в равноправный дуализм и взаимную
независимость церковных и светских властей. Это соответствовало
философии королевского абсолютизма западноевропейского типа,
но отрицало принцип моноцентричного самодержавия Ивана IV,
уничтожившего в революционном порыве государственно
эффективную абсолютистскую систему Ивана III. Иосифляне выступали
с противоположной программой «симфонии» государственного и
церковного аппаратов. «Симфония» не противоречила духу
самодержавия.
Боярство и дворянство составляли социальные базы
вышеназванных церковных партий. Аристократические сторонники
свободно-договорного государственного порядка еще при Иване III
находили идеологическую поддержку среди нестяжателей —
заволжских старцев из окружения Нила Сорского, выходца из
знатного боярского рода. Союзники дворянства, последователи игумена
Иосифа — настоятеля Волоцкого монастыря — являлись
проводниками самодержавного взгляда на отношения государя и его
холопов=подданных.
Религиозная русская реформа, инспирированная во второй
половине XV в. светской властью, к середине XVI в. остановилась.
Историческая судьба начатых Избранной радой структурных
преобразований оказалась еще более несчастной. Вторая (после реформ
Ивана III) попытка модернизации России закончилась
государственной смутой начала XVII в., поставившей на грань распада само
российское государство.
Мобилизационная модель
С конца XVI в. утвердилась мобилизационная модель
взаимоотношений Московского государства с подвластным ему населением.
Через сто лет (при Петре I) она достигла наивысшего напряжения,
363
демонстрируя при этом невысокую эффективность и ресурсную
расточительность. В неблагоприятных условиях малолюдной
цивилизации, обремененной громадным пространством, КПД этой модели
изначально был невысоким.
Возникновение механизма государственной мобилизации
национальных ресурсов традиционно объясняется критическими
нуждами перманентной обороны страны. При Иване IV они
действительно обострились. В 1552 и в 1571-1572 гг. над Московским
царством нависали смертельные угрозы, исходившие от осколков
Золотой Орды.
Дополнительные военные вызовы великорусскому государству
были, в основном, следствием московской неудачной внешней
политики, проводившейся во второй половине XVI в. В середине XVI в.
Москва установила свой суверенитет над обширными территориями
бывших поволжских ханств — Казанского и Астраханского. Все
попытки Османской империи и ее вассала, Крымской орды, отобрать у
Московского царства контроль над волжским торговым путем
закончились провалом.
Во внешнеполитическую повестку дня великорусского
государства встало отражение реваншистских угроз с юга, со стороны
Крымской орды, поощряемой турецким султаном. Ежегодные
разбойничьи набеги крымчаков и ногайцев наносили Московскому
царству колоссальный урон. А в мае 1571 г. крымско-ногайское
конное войско захватило предместья Москвы и сожгло ее, угнав в
рабство 150 тыс. человек. Вооруженные силы Земщины отстояли
Кремль и укрепленный Китай-город. Царь укрылся в Новгороде и
оставался там в окружении опричников до ликвидации военной
опасности. Общие человеческие потери Московского царства в
результате только двух крымско-ногайских нашествий 1571-1572 гг.
достигли четверти миллиона погибших и уведенных в плен.
«Поворотом на Германы» Иван IV оголил южный фланг
Московского государства и пригласил к рейдам в центр страны
обнаглевших степных разбойников. Ввязавшись в изнурительную
Ливонскую войну, Иван IV поднял против себя сильных
противников: Польшу, Данию и Швецию. Соблазнившись ливонской,
легкой на первый взгляд, добычей, царь подорвал
производительные силы собственной страны. При этом он потерял все
завоеванное в Ливонии, отдал шведам балтийское побережье и
геополитически ослабил Московское царство до такой степени, что рубежи
внешней обороны Московского царства придвинулись в 1571 г. к
364
стенам Кремля. Мобилизационно-террористический режим,
созданный самодержавной революцией, оказался сверхзатратным и
неэффективным.
Самодержавная революция вызвала регресс московской
модели великорусской государственности. Московское великое
княжество XIV-XV вв. обеспечивало внешнюю и внутреннюю
безопасность своих подданных. Это определяло вектор миграционных
потоков. В конце XV в. территория Московского великого княжества
активно осваивалась переселенцами из «ближнего зарубежья».
Рачительные князья-хозяева из дома Ивана Калиты в эпоху
собирания русских земель умножали и оберегали продуктивную часть
населения. Поэтому в XIV-XV вв. служилые и работные люди из
соседних княжеств охотно шли под державную руку московских
великих князей, обретая взамен защиту от сеньориального
произвола, этно-конфессиональной дискриминации и татарских
погромов.
В 1458-1480 гг. успешно реализовался масштабный
национальный проект. Северо-Восточная Русь, объединенная Москвой,
освободилась от ордынского ига. На общерусскую Реконкисту потомки
Ивана Калиты изымали умеренную долю земского ВВП. При
создании обороноспособного государства Ивану III не потребовалось
обескровливания страны. Во второй половине XV и в первые десятилетия
XVI в. происходил бурный экономический рост Московского
великого княжества, повышалось благосостояние его быстро растущего
населения. Хозяйственная активность свободных крестьян,
городских ремесленников, купцов, бояр и монастырей создавала
возрастающую товарную массу ВВП. Экономическую политику Ивана III
продолжила Избранная рада, руководившая страной с конца 1540-х
до начала 1560-х гг.
В этот период воспроизводственный потенциал Московии без
надрыва национальных сил обеспечивал государство
необходимыми ресурсами. За счет умеренного налогообложения и собственной
хозяйственной деятельности царского двора осуществлялась
масштабная военная реформа 1540-1550 гг. В результате, Москва
получила постоянную стрелецкую пехоту, сильную артиллерию,
оборонительную линию мощных приграничных крепостей типа
Смоленска. Новая организация государственных вооруженных сил
быстро себя оправдала. Состоялось успешное завоевание Казанского
и Астраханского ханств, угрожавших юго-восточным рубежам
Московского царства.
365
Все эти геополитические успехи были обесценены
самодержавной революцией, опричниной и Ливонской войной. После себя они
оставили опустевшие деревни, обнищавшие города, заросшие
чернолесьем пашни. Податная и служебная части населения страны,
по данным писцовых книг конца царствования Ивана Грозного,
сократились на 20 %. Для решения каких национальных задач
потребовались такие чудовищные жертвы? Обширное континентальное
государство, созданное великороссами в ходе Реконкисты,
способствовало развитию национальных производительных сил и
быстрому росту ВВП. Однако во второй половине XVI в. оказались
исчерпанными продуктивные потенции континентально-речных
цивилизаций. На авансцену мировой истории вышли морские
державы: Испания, Португалия, Нидерланды, Франция, Османская
империя Их международное доминирование обеспечивалось
многочисленными торговыми и мощными военно-морскими флотами.
Но для национального морского флота требуются вместительные и
глубоководные порты постоянного базирования с развитой
береговой инфраструктурой. В царствование Ивана IV установилась
односторонняя и нерегулярная внешнеторговая связь Московии с
Англией. Английские негоцианты случайно открыли для себя
кружной путь до маленького порта провинциального городка
Архангельск, расположенного в устье Северной Двины. Путь к
Архангельскому порту — единственному морскому порту,
оставшемуся в распоряжении Московии в конце 1570-х гг., — лежал через
бурные Северное, Баренцево моря и Белое море, открытое для
навигации б месяцев в году.
Московское царство жизненно нуждалось в коротком выходе к
торговым коммуникациям Северной Европы к Балтийскому морю.
Данная геополитическая цель была достигнута в 1558 г., в первый год
Ливонской войны. Московские войска легко овладели
первоклассным портом — Нарвой. Однако Иван IV не удовлетворился этим
успехом. В погоне за химерой всеевропейского «першего государ-
ствования» он бросил свою громадную армию на захват всей
территории ослабевшего Ливонского ордена. Интересы интенсивного
развития Московского царства оправдывали овладение
инфраструктурными узлами более масштабной внешней торговли — балтийскими
морскими портами Нарвой и Ригой. В сочетании с новгородской
Колыванью было бы вполне достаточно этих трех морских ворот для
внешнеторговой активности Московии, соответствующей уровню ее
экономического развития. Однако инерция экстенсивного роста
366
Московского великого княжества, сформированная полуторавеко-
вым опытом отношений с Золотой Ордой, успешной Реконкистой
XV в. и завоеваниями в XVI в. Поволжья и Зауралья, требовала
непрерывного прироста суверенной территории государства.
Территориальная государственная экспансия, не обеспеченная опережающим
развитием национальных производительных сил, критически
наращивала внутреннюю неравновесность метасистемы Московского
царства и ее внешнюю неустойчивость.
Иван IV совершил стратегический просчет. Военная слабость
противника компенсировалась силой его политического сопротивления.
Ливония, раздробленная на множество автономных составляющих,
не имела единого военно-политического центра, поразив который
можно было бы парализовать весь государственный организм. Таких
центров в Ливонии имелось полтора десятка. Каждый пришлось
завоевывать отдельно. Военная кампания затянулась на много лет.
Нерегулярные московские войска, сильные артиллерией и осадной
выносливостью, были не готовы к полевым сражениям с
профессиональными европейскими солдатами.
На Ливонию зарились, кроме Москвы, другие хищные соседи:
Польша, Дания и Швеция. Все ждали, пока кто-нибудь первым
неосторожно протянет руку к опасной добыче. Первым оказался
московский царь. Иван IV легкомысленно нарушил неустойчивое
геополитическое равновесие и поднял против себя половину Северной
Европы. Ливония раскололась. Остров Эзель вошел в состав Датского
королевства. Лифляндия вместе с портовым городом Ригой признала
сюзеренитет Речи Посполитой. Магистр Ливонского ордена в
качестве герцога Курляндского стал вассалом Польши. Эстляндия с
Ревелем досталась Швеции.
Стратегическим просчетом Ивана Грозного воспользовались
Османская империя, Крымское ханство и Ногайская орда.
Блестящему европейскому столетию Московского государства (1462-
1565 гг.) пришел конец. Системного перенапряжения, вследствие
самодержавной революции, опричнины, татарских набегов и Ливонской
войны, страна не выдержала. В 1580-е гг. она обезлюдела, обнищала.
Традиционная система земского самоуправления деструктурирова-
лась под ударами опричнины. Хаотизировались внутренние
социальные связи. А когда в начале XVII в. в результате династического
кризиса ослабли внешние для общества государственные скрепы,
разразилась общенациональная катастрофа, получившая историческое
название Смуты.
367
Дружина и Орда
Многие триумфальные арки народы
потом носили как ярмо.
Станислав Ежи Лец
Во второй половине XV в. военные реформы Ивана III утвердили
всеобщую воинскую повинность служилого сословия и трудовую —
всех остальных, кроме клира и монашества. Уже Судебник 1497 г.
делил российское население всего лишь на три сословия. Крайнее
упрощение социальной структуры облегчало решение
государственных задач территориальной экспансии. Государство выстраивало
население в боевые порядки, закрепленные на целые столетия.
Любая система упрощается в экстремальных условиях.
Экстремальность существования российского государства стала с XIII в.
(с татаро-монгольского погрома) нормой. Но только с конца XV в.
началась беспрецедентная милитаризация Московского великого
княжества. Бросается в глаза, прежде всего, ее избыточность,
приведшая в середине XVI в. к сокращению продуктивных возможностей
национального хозяйства.
Периодическое «похудание» ВВП причинно обусловливалось
систематическим изъятием из воспроизводственной сферы
возрастающей части прибавочного продукта. Непрерывное строительство и
обновление крепостей, приоритетная ориентированность
национального хозяйства на продукцию военного назначения (оружие,
боеприпасы, амуниция, походное снаряжение и т. п.), количественный рост
служебного сословия привели к всеобщему снижению конечного
спроса и среднего уровня народного потребления.
Относительно бедными, по сравнению с западноевропейскими
высшими слоями, в XV-XVI вв. выглядели даже российские
сановники. Посол Священной Римской империи германской нации в
Москве Сигизмунд Герберштейн, описывая двор Василия III,
замечает проявления этой бедности: боярские шубы, взятые напрокат из
царской кладовой, нехватку столовых приборов на парадных
дворцовых приемах, некомфортность жилищ правительственного
класса и т. п.
Выдвигаются многообразные исторические оправдания
избыточной милитаризации Московского великого княжества,
начавшейся в конце XV в. Они сводятся к двум основным:
— постоянная мобилизационная готовность была нужна для
отражения внезапных набегов крымских татар;
368
— с конца XIV в. возникла необходимость отражения
непрерывного натиска литовско-польских войск и Ливонского ордена.
Между тем, небольшая мобильная и хорошо оснащенная,
профессиональная армия могла бы решать оборонительные задачи с
намного меньшими общественными издержаками. Войны в IX-XVIH вв.
не были позиционными. Они столетиями оставались маневренными.
Только к концу XIX в. необходимость содержания больших полевых
армий, обороны сплошных рубежей и долговременных укрепленных
позиций оправдывала всеобщую воинскую повинность мужского
населения всех призывных возрастов.
В XV-XVI вв. боевая российская машина формировалась на
иррегулярной основе. Сказалась инерция двухсотлетней ордынской
школы. Сословно-призывная организация вооруженных сил
государства демонстрировала при этом невысокую эффективность в
столкновении с наемными армиями. Однако эта организация стала в
конце XVI в. самодостаточной. Дворянская милиция не поддавалась
радикальному реформированию, так как представляла собой
правящий слой Московского царства. Свои военные функции данный слой
исполнял наряду с политическими, административными и социально-
экономическими. Полифункциональность московского служилого
сословия препятствовала профессиональной специализации
офицерского корпуса вооруженных сил государства. До выхода на
европейский театр военных действий, их иррегулярность не мешала
решению внешних политических задач.
До 1380 г. (до Куликовской битвы) свои новые государственные
территории Москва не столько завоевывала, сколько
«примысливала» посредством наследования соседних выморочных княжеств,
династических браков, покупок земель за счет утаенных частей
ордынского «выхода», собираемого с 1328 г. со всех княжеств Северо-
Восточной Руси московскими великими князьями, по поручению
золотоордынского хана. А Нижегородское княжество было передано
Москве ханом Узбеком, говоря современным языком, во временное
оперативное управление. Впрочем, в 1445 г. (после разгрома
москвичей казанскими татарами иод Суздалем и пленения Московского
великого князя Василия II) Нижний Новгород Москве уже не
принадлежал. Он сыграл роль татарской операционной базы при захвате
Казани и создании отколовшегося от Золотой Орды Казанского
ханства. Последнее просуществовало немногим более ста лет. Следует
заметить, что в 1380 г. Москва невольно уберегла Золотую Орду от
раскола. Разгром сепаратиста (темника Мамая) был наруку
ордынским интегративным силам. Через год после Куликовской битвы
369
Тохтамыш (хан Золотой Орды, восстановившей после гибели Мамая
свое государственное единство) явился с огромным войском под
стены Москвы и сжег ее. Уплата ордынской дани возобновилась и
длилась до 1458 г.
Завоевательная политика Московского великого княжества резко
активизировалась при Иване III, после освобождения Северо-
Восточной Руси от тяжкого ордынского сюзеренитета. Соседние
великие княжества, города Псков, Вятка и Новгородская республика
присоединялись к державе Ивана III и Василия III превосходящей
силой московских войск или угрозой ее применения. Завоевания
казанского и астраханского осколков Золотой Орды потребовало от
Ивана IV создания первых для Москвы частей постоянной
боеготовности (стрельцов и пушкарей) в качестве технического дополнения к
дворянской иррегулярной армии.
Колоссальные территориальные приобретения Московского
царства на слабозаселенном Северо-Востоке и Сибири в XVI в.
осуществлялись волнообразно. «Государевы люди» шли второй волной вслед
за небольшими инициативными группами конкистадоров: казаков,
мобильных приграничных поселенцев, охочих людей.
Огромная военная машина, созданная Иванами и Василиями,
несмотря на впечатляющие победы над русскими княжествами и
отсталыми в военном отношении ордынцами, к концу XVI в. показала
свою боевую малопригодность при столкновениях с европейскими
небольшими, но профессиональными армиями. Польско-литовские
и шведские отряды легко одерживали верх над военными толпами
Ивана Грозного. Можно предположить, что московитов ждали еще
более сокрушительные поражения в битвах с западноевропейскими
армиями. Стратегическая неудача «поворота на Германы» поменяла
вектор московской экспансии.
Под воздействием суровых военных уроков, полученных от
татаро-монгольской орды, Северо-Восточная Русь отказалась от
принципа добровольно«™ службы профессиональных дружин,
имеющих право «отъезда» от своих князей. Во второй половине XV в.
Московское великое княжество перешло к системе пожизненного
призыва, то есть фактически — к ордынской (по историческим
корням) всеобщей воинской повинности служилого сословия.
Создавалась иллюзия дешевизны российских вооруженных сил.
Жалованья своим служилым людям государство не платило. Оно
отдавало в их частное использование самое ценное национальное
богатство — землю, заселенную работниками. Хищническая эксплуатация
помещиками этого ограниченно восполняемого государственного ре-
370
сурса подрывала общую продуктивность народного хозяйства.
Методы дворянского хозяйствования на землях, отданных в
условное владение и пользование, не обеспечивали зачастую не только
расширенного, но и простого воспроизводства.
Вся история Московского государства сопровождается
хронической нехваткой ликвидных платежных средств. Московские
правители, сами того не подозревая, реализовали теоретические постулаты
экономической школы физиократов: базовой ценностью является
земля. Приращение территорий составляет неизменный в течение
столетий российский государственный приоритет. Со времен Ивана
Калиты границы Московского княжества непрерывно раздвигаются.
Этот процесс ускорился в княжение Ивана III (1462-1505 гг.).
Завоевание земель Новгородской республики в конце XV в. удвоило
великокняжеский земельный фонд. Использование земельного
фонда для испомещения дворян привело к ускоренному сокращению
товарно-денежного оборота. Уменьшился объем реальных
поступлений в государеву казну.
В XVI-XVII вв. Западная и Центральная Европа накопила
избыточную массу профессиональных воинов. Их называли «солдатами»
(итал. soldi, по форме денежной оплаты ратного труда). Уже после
окончания Столетней войны между Францией и Англией многие
европейские государства перешли к системе найма иностранных
кондотьеров. После того как швейцарские стрелки неожиданно
разгромили рыцарские отряды бургундского герцога Карла Смелого,
военная репутация швейцарских наемников неимоверно возросла.
В XV-XVII вв. боевые успехи большинства европейских армий
зависели от количества швейцарцев в их составе.
Почему московские государи не стремились к найму
профессиональных солдат? Иностранные наемники плохо справляются с
исполнением внутренних полицейских функций, всегда актуальных
для слабо структурированных обществ. Малопригодны наемники и
для борьбы с местными феодалами. В целях внешней обороны
страны, московские государи вынужденно расширяли отечественный
круг" привилегированных служилых людей. Последние исполняли и
несвойственные армии функции внутренних войск. Взаимное
несоответствие структур и функций снижало боеспособность армии и
политическую надежность охраны. Опричный корпус, созданный в ходе
самодержавной революции 1565-1572 гг., был неудачной попыткой
разрешения этого структурно-функционального противоречия. Его
не удалось разрешить и Петру I. Выросшая из потешно-охранных
отрядов, Петровская гвардия не прибавила безопасности институту
371
высшей государственной власти. Непосредственные преемники
Петра попали в зависимость от собственных «преторианцев».
Дворцовые перевороты XVIII в., совершенные гвардией, тому
свидетельство.
За сто лет до создания бесполезного в военном отношении
опричного корпуса Ивана IV французский король Людовик XI успешно
решил задачу укрепления и силовой централизации государства.
Опираясь на материальную поддержку торгово-ремесленных
городов, он разгромил феодальную вольницу силами королевских
жандармов (буквально — «людей оружия»), не превращая их в
привилегированное сословие.
В военно-политической реформе, предпринятой Иваном Грозным,
был (привычно для автократии) нарушен принцип эффективной со-
циотехнической системы — приоритет функции перед структурой:
функция порождает орган, а не наоборот. Структурно выделив
ближний круг особо доверенных вооруженных частей, царь изначально
противопоставил его остальным служилым и земским слоям
правительственного класса. Создав традиционную, но обособленную и
немотивированно привилегированную военную организацию,
самодержец использует ее через 15 лет в революционных, то есть —
политических, а не военных целях. Таким образом, как мы увидим далее,
новосозданная военная организация, обремененная
несвойственными для нее политическими функциями, оказалась непригодной в
военном отношении и контрпродуктивной — в полицейском. Ее
структурно-функциональная рассогласованность была заложена в
самой концепции спонтанной реорганизации абсолютистского
военно-административного режима Московского царства,
полученного Иваном IV в наследство от отца и деда.
В 1550 г. Иван IV издал указ, реорганизовавший высший разряд
служилого сословия. Он попытался повысить государственную
функциональность военных сил, сохраняя архаичный принцип их
комплектования. Сословно организованные, антикрестьянские и
антибоярские вооруженные силы препятствовали системной
интеграции населения, обостряя его внутренние социальные антагонизмы.
Глубокая линия раскола пролегла и через правительственный класс.
Нарушение единства правящего слоя представляло собой
наибольшую опасность для макросистемной устойчивости молодого
государственного организма. Были посеяны семена опричнины, давшие
кровавые всходы через 15 лет.
Организационный замысел «номенклатурной революции» 1550-
1564 гг. состоял в следующем. Иван IV приказал созвать одну тыся-
372
чу «лучших людей» из боярских детей и дворян для составления
нового контингента особо преданных царю лиц, предназначенных
для несения разообразной службы, преимущественно военно-
административной и охранной. В этом «номенклатурном слое»
встречаются и представители титулованной знати. Но они через
15 лет после созыва «избранной тысячи» сами предпочитают
именоваться дворянами. В списке чинов Московского царства,
отраженном в протоколах Земского собора 1566 г., нет ни одного
княжеского имени.
Корпус «лучших людей» размещался вблизи Москвы. Каждому
земельному наделу, отданному в их испомещение, соответствовала
определенная служба. С 50 десятин подмосковной земли условный
землевладелец должен был выставить в военное время одного
конного воина в полном вооружении и дать ему одну запасную лошадь,
если поход планировался продолжительным. За каждого
дополнительного конника полагалось денежное вознаграждение.
Военная реформа, начатая указом 1550 г., дала и позитивные
результаты. Она преобразовала сторожевую пограничную службу.
Охрана государственных границ была возложена на землевладельцев
приграничных областей. В 1555 г. впервые появляется казацкая и
регулярная стрелецкая охрана укреплений вдоль естественных
российских рубежей. Возникла двойная южная цепь порубежных крепостей
от Алатыря и Темникова до Путивля и от Нижнего Новгорода до
Звенигорода. Подобная система охраны распространилась на
западные и восточные границы.
«Поворот на Германы»
При Иване Грозном, казалось, возросла внешняя безопасность
Московского государства. Но — не подвластного ему населения.
Зимой 1570 г. опричный корпус во главе с царем, сохраняя
полнейшую секретность своего маршрута, отправился в военный поход. Всех
встреченных по пути опричники убивали на месте, с целью захвата
противника врасплох. За конным войском следовал огромный обоз,
предназначенный для доставки в опричную столицу Московского
царства (Александровскую слободу) предполагаемой добычи. Целью
похода являлся разгром Великого Новгорода, около ста лет
сохранявшего верность Московскому государству. При решающем участии
новгородской «кованой рати» были выиграны десятки битв с литов-
373
цами и поляками, крымскими татарами и ногайской ордой.
В Ливонской войне, шедшей с 1558 г., новгородцы храбро сражались
под московскими стягами. Миллион десятин хозяйственно
освоенной новгородской земли был отобран с 1478 г. в государев поместный
фонд. Доходы от городской торгово-промышленной деятельности с
тех пор исправно поступали в царскую казну. К 1570 г. от былой
государственной независимости Господина Великого Новгорода ничего
не осталось.
Иван Грозный не имел доказательств политической
нелояльности новгородцев. Тем не менее, опричники подвергли город такому
разгрому, какого он не знал даже во времена татаро-монгольского
нашествия XIII в. Сотни священников, тысячи ремесленников,
житьих людей, купцов, бояр и их дворовых слуг были преданы
мучительным казням. Опричники дочиста ограбили дома зажиточных
горожан, окрестные монастыри, сожгли торговые лавки,
реквизировали в пользу казны наиболее ценные импортные товары и
уничтожили многолетние товарные запасы. В несколько меньших
масштабах аналогичные погромы совершились в Твери, Торжке и Пскове.
После разгрома торгово-ремесленных городов, жестокого
ограбления всех церквей Новгородского архиепископства, в том числе —
Софийского дома, царские наместники принялись за сбор
дополнительных Податей на ведение нескончаемой Ливонской войны.
Московское государство во второй половине XVI в. разбойничало в
своих землях подобно золотоордынским баскакам, выжимавшим из
покоренных русских княжеств непомерную дань.
Впрочем, и внешние войны Иван IV вел в ордынском стиле.
Характерна в этом отношении Ливонская война, начатая в январе
1558 г. за овладение территориальным наследством некогда могучего
рыцарского ордена. В этой войне, неожиданно для Ивана IV,
столкнулись геополитические интересы Московии, Польши, Швеции и
Дании, обостренные московской экспансией.
Геополитические соперники ссылались на историческую
древность своего присутствия на ливонских землях. Основания
московских территориальных притязаний выглядели самыми древними.
Еще в 1030 г. новгородско-киевский князь Ярослав Мудрый основал
в стране Чуди город Юрьев (Дерпт), впоследствии, в конце XII в.,
уступленный немецкому Ордену меченосцев. Монахов-рыцарей в
белых плащах с красными крестами сменили прусские (тевтонские)
монахи-рыцари с черными крестами. Они проглотили Орден
меченосцев. Красные кресты исчезли в 1236 г.
374
Дальнейшее продвижение тевтонов на восток было остановлено в
1242 г. кровопролитной битвой на Чудском озере. Битву выиграл
Александр Невский, возглавлявший ярославские и новгородские
войска. На стороне новгородцев сражался татарский конный отряд.
Однако к середине XIV в. тевтонские рыцари объединили под своей
властью Ливонию, Эстонию и Курляндию, выдержав в конце XIII в.
совместный натиск епископов и молодой буржуазии
торгово-промышленных городов Прибалтики. Могущество Ордена было
сокрушено объединенными войсками Польши и Литвы в знаменитой
Грюнвальдской битве 1410 г., в которой особенно отличились
стойкостью русские полки из Смоленской земли (входившей в состав
великого княжества Литовского). Ливонский орден государственно
обособился в качестве авангарда тевтонского «дранг нах остен».
Московское влияние в Ливонии усилилось при Иване III: в конце
XV в. русские построили крепость Иван-город в устье реки Наровы,
напротив тевтонской Нарвы, расположенной на противоположном
берегу. И в 1557 г. гроссмейстер Ордена Фюрстенберг был вынужден
заключить со своим извечным врагом Польшей оборонительно-
наступательный союз против Москвы. Осенью 1557 г. московские
войска уже стояли на ливонской границе.
Геополитическая заинтересованность Ватикана в тевтонском
«натиске на восток» к XVI в. ослабла. Сама Ливония превратилась в
плацдарм протестантства. Внешнеполитическим и военным орудием
римско-католической церкви в ее территориальной экспансии
восточного направления стала объединенная и резко усилившаяся Речь
Посполитая.
Военная организация Ордена к середине XVI в. разрушилась. Его
раздирала политическая борьба светских и духовных властей,
подтачивала устойчивая враждебность автохтонного, литовского и
финского, населения. Некогда грозные тевтонские рыцари, державшие в
страхе соседей, к 1557 г. не представляли реальной силы. Авангард
московской армии, преимущественно состоявший из татарских и
башкирских отрядов под командованием бывшего казанского хана
Шах-Али (Шигалея летописных источников), произвел в Ливонии
страшные опустошения, практически не встретив организованного
сопротивления. И уже 2 августа 1560 г. главные русские силы под
командованием князя Андрея Курбского одним ударом разбили
остатки Ордена и взяли в плен его гроссмейстера Фюрстенберга
(впоследствии получившего земли в Ярославской области и ставшего русским
помещиком).
375
Все эти события произвели на Западную Европу громадное
впечатление. Англия, где в 1558 г. прагматичная Елизавета I сменила
на престоле мрачную католическую фанатичку Марию Тюдор,
проявляла благожелательный к России нейтралитет, продолжая с ней
торговать. Германия ограничилась денежными субсидиями Ордену.
Польша заняла враждебную относительно Москвы позицию. Это не
встревожило Ивана Грозного, так как польское государство в конце
1550-х гг. только приступило к созданию регулярной армии и флота.
То и другое уже было у Швеции, занявшей в июне 1561 г. силами
немецких наемников Ревель, выбив оттуда слабый польский
гарнизон. Брат датского короля Магнус, типичный для того времени
князь-авантюрист, по предложению Ивана IV принял титул короля
Ливонии (вассала Московского царя), не признанный суверенами
остальной Европы. Значительная часть орденской территории
оказалась под контролем русских войск. Однако внешнеполитическая
ситуация внезапно для Грозного коренным образом изменилась.
Московское царство вошло в непосредственное столкновение с
резко усилившейся федеративной польско-литовской Речью
Посполитой.
5 марта 1562 г. состоялось формальное объединение Литвы и
Лифляндии. Последний гроссмейстер Ордена Кеттлер, приняв титул
герцога и наследственную власть над Курляндией, торжественно
передал виленскому воеводе Николаю Радзивиллу Черному свой крест,
мантию и ключи от Рижского замка.
Ливонская война обострила противоречие между удельно-родовой
и самодержавной тенденциями развития российской
государственности. Длительная и разорительная война потребовала крайнего
напряжения вооруженных сил, мобилизации всех наличных
материальных, финансовых и людских ресурсов страны. Удельно-родовое
начало этому препятствовало.
В основе политического строя досамодержавной Руси лежал
свободный договор между князем и его вольными слугами,
исключавший возможность одностороннего, безвозмездного и
принудительного изъятия властью произвольно определяемой части валового
внутреннего продукта. Самодержавие царя давало ему такую возможность.
Доля национального ВВП, конфискуемая государством, при
Иване IV на порядок превышала уровень государственного
налогообложения общин намного более богатой Елизаветинской Англии.
Обескровливание Земли, ослабление ее производительных сил
обернулось резким снижением численности и боевой пригодности войск
московского государя. Против армии Стефана Батория Москва уже
376
не могла выставить достаточное количество полевых войск. У нее
остались в резерве лишь гарнизоны крепостей.
Контрактная система комплектования вооруженных сил одолела
призывную. Пехота Стефана Батория на три четверти состояла из
профессиональных солдат: немцев и венгров. В ударных частях
тяжелой кавалерии преобладали поляки и литовцы. Артиллерии,
многочисленной и сильной у русских, у Батория почти не было. Зато в обо»
зах польской армии везли типографские станки, печатавшие
пропагандистскую литературу. 12 июня 1579 г. Баторий выпустил манифест
на польском, немецком и венгерском языках, объяснявший цель
похода в Россию. В манифесте содержалось обещание уважать
личность, собственность и привилегии мирных жителей. Один листок,
описывающий победу польского оружия, выдержал четыре издания.
Выборный и конституционно ограниченный король Речи
Посполитой стремился к созданию из завоеванных русских земель
своего личного домена. Этим объясняется относительная
умеренность поведения польской армии в западных областях Московского
царства, отмеченная историками. Политический замысел Батория
косвенно подтверждается королевским циркуляром от 7 мая 1580 г.,
адресованным дворянству Полоцкой области, и военным
регламентом польской армии, неуклонно применявшимся во время кампании.
Регламент запрещал солдатам убивать женщин, стариков, детей и
духовных лиц, уничтожать и портить посевы даже ради корма коней.
Польские военно-полевые трибуналы, наделенные большими
полномочиями, беспощадно карали мародеров и насильников. В
московской армии, совершавшей массовые насилия по отношению к
мирным жителям Ливонии, не было ничего похожего на военный
регламент Стефана Батория.
В начале кампании 1579 г., бросив на театр военных действий все
свои резервы, Иван IV выставил против армии Батория сильную
артиллерию и почти 60 тысяч конных и пеших воинов. Из них лишь
несколько сотен иностранных солдат были обучены строевой
дисциплине и приемам современного боя, состоявшим в наступлении
сомкнутыми колоннами. Русские конные толпы на низкорослых
лошадях неприцельно засыпали противника стрелами и тут же отступали
под концентрированным ударом тяжелой литовско-польской
кавалерии. Русская пехота, сильная оборонной выносливостью внутри
укреплений, не умела сражаться в открытом поле.
Последовала серия сокрушительных поражений войск Ивана
Грозного. В конце августа 1579 г. поляки штурмом взяли крупный и
стратегически важный Полоцк, защищенный большим гарнизоном с
377
107 пушками, город Сокол и соседние крепости, захватили Север-
скую и Смоленскую области. Стремительные победы Батория
вынудили Ивана оставить непосредственное командование армией.
Покинув Новгород, он прибыл в Псков, откуда, смирив гордость,
безуспешно попытался вступить в мирные переговоры... не с королем
(тот не шел на контакты с царем), а с двумя важнейшими литовскими
магнатами — виленским воеводой Радзивиллом и канцлером Литвы
Воловичем. Баторий продолжал наступление.
Кампания 1580 г. принесла Москве новые поражения: пали Велиж,
Великие Луки. Польские войска уже угрожали Новгороду и Пскову.
Пояс русских крепостей был разорван.
Героическая оборона Пскова надолго задержала наступление
польской армии. В Пскове сосредоточилась отборная часть русских
полков. Захватив по пути крепость Остров, поляки подошли 25
августа 1581 г. к Пскову и были поражены его размерами, укреплениями
и величественным видом. Первоклассная по тем временам крепость
имела каменные стены. Накануне осады к ним прибавили
деревянный частокол. Руководители обороны Иван Петрович и Василий
Федорович Шуйские имели под своим командованием около 40 тыс.
человек и сильную артиллерию в несколько сотен пушек. У Батория
была двадцатитысячная армия, в том числе десять тысяч конников, с
20 пушками.
Приступы 8 сентября и 3 ноября 1581 г. были отражены русскими
с огромными потерями для штурмующих. Началась знаменитая
зимняя осада Пскова. Город выстоял.
В Эстляндии в это время шведы победоносно шли вперед,
отнимая у русских крепость за крепостью. К концу ноября 1581 г. вся
береговая линия Финского залива оказалась в руках шведов.
Контролируя побережье, они принялись захватывать английские
суда, снабжавшие армию Ивана IV военными припасами. В августе
1583 г., по условию перемирия с Москвой, шведы получили помимо
Эстляндии занятые ими русские города Ям, Ивангород, Копорье.
В результате двадцатипятилетней Ливонской войны истощенное,
обескровленное Московское царство потеряло не только все
завоеванное, но и многое свое. При этом Россия оказалась наглухо
отрезанной от Балтийского моря. Ватикан, заинтересованный в создании
антитурецкой коалиции христианских государств, постарался
несколько умерить территориальные аппетиты Речи Посполитой.
Мирное посредничество папского легата иезуита Поссевино
избавило Ивана от более тяжких условий мира. Но — не спасло Россию от
грядущей Смуты.
378
Воины и помещики
При последних Рюриковичах и первых Романовых соперничали
два стратегических принципа комплектования вооруженных сил
государства: контрактный и призывной. Практические преимущества
первого перед вторым были особенно наглядны на фоне полной
военной непригодности охранного опричного корпуса. Опричники
славно «потрудились» в разгроме невооруженного Новгорода, но
позорно бежали при первом же столкновении с крымско-ногайской
конницей. Повторный набег крымских татар летом 1572 г. отбило в
сражении при реке Молоди земское войско под командованием князя
Михаила Воротынского. В этом сражении блестяще проявили себя
немецкие контрактники — стрелки из пищалей.
Постоянное стрелецкое войско, созданное при Иване IV, не
сыграло серьезной роли в защите государственного порядка во время
Смуты начала XVII в. Стрельцы, переставшие получать государево
жалование, растворились в посадском населении. Силы
государственного возрождения выделились из городских торгово-ремес-
ленных кругов, принявших на земское снабжение и денежное
довольствие патриотическую часть служилого дворянства.
Первое антипольское ополчение 1611 г., строго говоря, нельзя
назвать чисто земским. В его состав вошли рязанские и городовые за-
окские дворяне под командованием Прокопия Ляпунова, казаки
запорожские, донские и «сбродные» (самозванные) во главе с
атаманами Иваном Заруцким и князем Дмитрием Трубецким. Общая
численность казаков, промышлявших и разбойничавших в России, в
1606-1611 гг. внезапно увеличилась втрое. Быть казаком стало легко
и привольно. «Казаковать» бросились, прежде всего, социальные
низы. Не отставало от них провинциальное и столичное дворянство.
Во время Смуты начала XVII в. большая часть служилого сословия
не проявила себя в качестве опоры единого государственного
порядка. Иррегулярная дворянская милиция, испомещенная в провинции,
обнаружила сепаратистские настроения при первых признаках
ослабления центральной московской власти. Городовые дворяне нередко
присоединялись к внесистемным силам.
Вместе с казацко-крестьянскими бандами Ивана Болотникова в
1609 г. на Москву шли и заокские дворяне во главе с братьями
Ляпуновыми. Однако сословные интересы помещиков не совпали с
радикально антигосударственным вектором анархистского движения
Болотникова. Хорошенько присмотревшись к своим страшным
союзникам, убивавшим, грабившим, жегшим всех степенных или мало-
379
мальски имущих соотечественников, рязанские дворяне перешли во
время сражения под Тулой на сторону войск Василия Шуйского.
Этим они обрекли казацко-крестьянских мятежников на разгром, не
оставив собственных мятежных намерений. Вскоре после победы над
Болотниковым провинциальные служилые люди легко свели
Шуйского с престола. Московская аристократия срочно заполнила
взрывоопасный вакуум высшей государственной власти избранием
иноземного принца в качестве конституционно ограниченного
монарха, по образцу выборного короля Речи Посполитой.
Провинциальные городовые дворяне не приняли польского выдвиженца
«семибоярщины». С собственным кандидатом дворяне еще не
определились. Казацкие отряды объединялись под знаменем Лжедмитрия II.
Создались политические условия для нового, еще более страшного
этапа общегосударственной смуты. Не встречая серьезного
сопротивления, вооруженные толпы второго Самозванца подошли к
Москве и расположились в подмосковном селе Тушино.
Значительная часть провинциального истеблишмента присягнула
второму Самозванцу. Село Тушино превратилось в параллельную
столицу Московского царства. Московская царица Марина Мнишек
признала в «тушинском Воре» своего чудесно спасенного супруга,
самодержавного царя Дмитрия Иоанновича. В противовес невесть
откуда взявшемуся тушинскому «самодержцу» сформировалась
непрочная коалиция провинциального служилого люда и
патриотически настроенного казачества, возглавленная «троеначальниками»:
Прокопием Ляпуновым, Дмитрием Трубецким и Иваном Заруц-ким.
Организационно-политической формой исходно противоречивого
дворянско-казацкого объединения стал Общелагерный собор. Его
вооруженные силы разгромили в сражении под Москвой сбродное
войско «тушинского царя». Лжедмитрий II бежал и укрылся в Калуге,
где к нему присоединились остатки разбитых в 1609 г. отрядов Ивана
Болотникова.
Фрагментация хаотиЗированного политического пространства
Московии достигла к лету 1610 г. предельного состояния, после
которого «политический маятник» должен был начать обратный ход.
В соответствии с законами синергетического историзма, в
неравновесных нелинейных метасистемах рождение порядка из хаоса
осуществляется спонтанно, без участия внешних сил. Все
неустойчивые констелляции военно-политических групп, оперировавших в
1610-1612 гг. на территории Московского царства, представляли
собой синтез внутрисистемного хаоса и внегосударственного
порядка (в терминах синергетики — диссипативные (расщепляющие-
380
ся) структуры). Их расщепление происходило в форме
«безначалия» — разрушения структурной иерархии. Деиерархизация
инерционной метасистемы великорусской государственности,
сложившейся исторически, не могла продолжаться бесконечно.
Распад социальной метасистемы закончился в 1610 г., достигнув
системного предела, именуемого в синергетике странным
аттрактором. Множество первичных диссипативных структур влилось в
Первое ополчение. После трехмесячного бесплодного стояния под
Москвой дворянские ополченцы и казаки вступили в конфликты
друг с другом. Инерция безначалия не сменилась
противоположным трендом. Обе военно-политические группировки одинаково
отвергали иерархический системный порядок. Каждая сторона
претендовала на монопольную роль общеземских представителей.
Между тем, созданный ими Общелагерный собор формировался не
выборным, а явочным порядком. Поэтому он не мог говорить от
имени «всей Земли». Непредставительность не помешала
корпоративно организованным группам объявить себя высшей
государственной властью. После чего Собор быстро раскололся на
дворянскую и казацкую части. Его раскололи казаки, навязавшие
соборянам процедуры войскового круга.
Внегосударственная военная демократия возродила древнюю
вечевую практику принятия решений не большинством голосов, а
силой криков. При кликах войска своего были назначены «троена-
чальники»: Д. Трубецкой, И. Заруцкий и П. Ляпунов. Последнего,
пригласив на собственный войсковой круг, казаки вскоре зарубили.
Дворяне, не сумев защитить своего предводителя, покинули лагерь.
Атаман Иван Заруцкий ушел с частью казаков к постоянной вдове
менявшихся самозванцев (Лжедмитрия I и Лжедмитрия II) Марине
Мнишек. Третьим мужем Марины стал Заруцкий. Несколько тысяч
казаков под командованием князя Трубецкого остались под Москвой
и дождались подхода Второго ополчения, организованного сословно-
иерархическим образом.
Второе, истинно земское ополчение 1612 г., обильно
снабженное за сч'ет пожертвований экономически активного городского
населения, четыре месяца собиралось, иерархизировалось,
усложнялось и шесть месяцев медленно продвигалось от Нижнего Новгорода
до Москвы, по пути обрастая служилыми людьми. Диссипативные
структуры укрупнялись, системно выстраивались. Внутренняя
неравновесность возрождаемой военно-политической системы
компенсировалась инерцией внешней устойчивости. Последняя
выполняла роль простого аттрактора системы — консолидации рус-
381
ских людей на ценностной основе православия. Ополчение долго
стояло в Ярославле. Польский гарнизон в Москве к тому времени
«перерубился» с москвичами и заперся в Кремле. Это заставило
вождей Второго ополчения поспешить в марше на столицу. После
подхода к Москве ополченцев Минина и Пожарского казаки
Трубецкого предложили соединить боевые силы против поляков.
Однако дворяне боялись отечественных казаков больше, чем
иноземных интервентов.
Три месяца нового бесплодного стояния под Москвой уже Второго
ополчения показали дворянам, что без казацкой поддержки им
города не взять. Келарь Троице-Сергиева монастыря Авраамий Палицын
убедил Трубецкого и Пожарского объединить антипольские военные
усилия. После чего казаки штурмом взяли Китай-город. Козьма
Минин выпросил у командующих объединенными патриотическими
силами несколько сотен боеспособных ополченцев и казаков.
Организатор земского ополчения проявил военную находчивость и
отвагу. Минин смелой атакой отбил пробиравшийся к Москве отряд
гетмана Ходкевича с обозом провианта, предназначенного для
осажденных поляков.
Дворянское ополчение так и не решилось на штурм Кремля.
Изнемогший от голода, дошедший до людоедства, польский гарнизон
во главе с Гонсевским капитулировал 4 ноября 1612 г. на условиях
сохранения за ним оружия и свободного выхода из города.
Долгое стояние ополчения под Москвой осенью 1612 г. в
очередной раз продемонстрировало боевую малопригодность дворянского
служилого сословия, для которого военное дело так и не стало
наследственной профессией. Первые цари из династии Романовых
озаботились воссозданием постоянного стрелецкого войска,
исчезнувшего в смутные времена, и формированием полков иноземного
строя. Дворянская милиция использовалась преимущественно как
политическая опора нового режима. Например — при подавлении
крестьянских бунтов. В* отличие от древних времен, служилое
сословие в России Нового времени — это прежде всего помещики, а
уж потом — воины. Слово «барин» представляло собой в XVII-
XVIII вв. не только редуцированное «боярин», но и негативное
народное определение праздного непроизводительного сословия,
уклонявшегося от общей работной, тяглой и «трудной»
государственной повинности. Вспомним: словом «трудити» в древности
обозначалось ратное дело. В Х-ХП вв. княжеская дружина воевала,
ободряя себя боевым кличем: «Потрудимся, братья, для своего
князя и для Русской земли!» Не столько военным, сколько «танцу-
382
ющим классом» изображает дворян русская классическая
литература XIX в.
Военное ремесло не развило в российском городовом дворянстве
Нового времени ни ратного искусства, ни духа воинственности,
свойственной древнерусским дружинникам-боярам. «Дай Бог великому
государю служить, но сабель из ножен не вынимать» — это не цитата
из «Слова о полку Игореве», а — максима дворянского служебного
прагматизма. И кроме нарвского (1700 г.) бегства дворянской
конницы, бросившей крестьянскую пехоту на произвол судьбы, существует
масса исторических примеров боевой малопригодное™
иррегулярного войска политически привилегированного сословия: разгром его
поляками под Конотопом в 1659 г., капитуляция дворянских полков
в 1660 г., во время русско-польской войны за Украину, крымские
походы В. В. Голицына (1687-1688 гг.), первый Азовский поход Петра
(1695 г.) и т.д. Все это побудило реформатора при создании
российской регулярной армии отказаться от созывов ad hoc дворянского
ополчения. Из отечественной дворянской молодежи наемные
европейские инструкторы стали готовить профессиональных офицеров,
способных командовать рекрутами из крестьян.
От отца и старшего брата Петру досталось стрелецкое войско,
ставшее к моменту его воцарения ненадежной опорой порядка.
Со времен Ивана Грозного стрельцы составляли элитную военную
корпорацию. Они были свободными людьми, не платили податей,
вооружались за счет государства, получали за свою службу даже в
мирное время жалование, в то время как дворянское служилое
сословие не получало ни копейки и во время войны. Помещики были
обязаны выступать в походы «конно, людно и оружно», имея при себе
все необходимые боевые и продовольственные запасы, достаточные
на время похода. Стрельцы исполняли полицейскую и пожарную
службу, охраняли царя, сопровождали его в качестве стремянных.
К 1682 г. насчитывалось 20 московских стрелецких полков по
800-1000 человек в каждом, под командованием именитых бояр.
Внеказарменная служба оставляла стрельцам много времени для
занятия торговлей и промыслами. Поэтому, не платя налогов и сборов,
они быстро богатели. В сущности, московские стрельцы
представляли собой корпоративный аналог преторианцев ранней Римской
империи, турецких янычар и украинских реестровых казаков времен
заката польского господства над Украиной.
Превосходя дворянскую кавалерию строевой дисциплиной,
стрельцы обеспечили в конце 1590-х гг. победу Бориса Годунова над
крымскими татарами, отсталыми в военном отношении. После
383
Смутного времени, при Михаиле Романове, стрельцы захватили
Марину Мнишек и последнего ее приверженца атамана Заруцкого.
При царе Алексее Михайловиче стрельцы отняли у поляков Смоленск,
разгромили Степана Разина.
Во времена внутренних политических кризисов московские
«преторианцы» неизменно оказывались на стороне легитимной
власти. Но к маю 1682 г. они превратились в корпоративную силу,
дестабилизирующую государственный порядок. Не имея серьезных
причин для недовольства — ибо им жилось намного легче, чем
остальным группам населения — стрельцы, подстрекаемые
старообрядческими священниками и Милославскими, подняли мятеж
против правящего клана родственников Петра I — худородных
Нарышкиных. Утром 15 мая 1682 г. раздался набатный звон, и
20 стрелецких полков осадили Кремль.
После массовых убийств кремлевских властных людей
совершилось небывалое в России: на московском троне оказались
одновременно два царя: десятилетний Петр I и его старший слабоумный брат
Иван V Реальную власть осуществляла образованная,
реформаторски настроенная царевна Софья Алексеевна, с титулом
правительницы и с регентскими полномочиями на период государственной
недееспособности братьев. Однако мятежные стрелецкие полки
продолжали оказывать на Кремль военно-политическое давление. Они
добились от нового, поначалу слабого, московского правительства
своей корпоративной автономии и войскового самоуправления.
По настоянию стрельцов, на Красной площади установили столб, на
котором были обозначены государственные заслуги и привилегии
стрельцов. Началась «хованщина» — время стрелецкого
анархического разгула, вошедшего в историю под именем честолюбивого
командующего столичных «преторианцев». Правительница Софья
сумела быстро положить хованщине предел, экстренно мобилизовав
дворянское ополчение. Дворяне бойко садились на коней, в
ожидании щедрых царских пож'алований. Двухсоттысячное дворянское
ополчение окружило Москву. Стрельцы капитулировали.
«Стрелецкий столб» на Красной площади разрушили и сожгли. Хованского
обезглавили. Стрельцов подчинили Стрелецкому приказу,
возглавленному Федором Шакловитым, доверенным сторонником Софьи.
(Ф. Шакловитый также окончил свою жизнь на эшафоте: его в 1689 г.
четвертуют по приказу Петра I, восстановившему в тот год свое,
формальное по-началу, самодержавие.)
Стрелецкое войско физически и юридически уничтожалось
Петром в два приема: сначала — казнями после подавления стрелец-
384
кого бунта в 1698 г., затем — после подавления Астраханского мятежа
стрельцов — новыми казнями и указом 1705 г. об окончательной
ликвидации стрелецкого войска. В промежутке между этими датами,
из-за нехватки солдат, обученных линейной тактике боя, стрелецкие
полки были восстановлены в 1700 г. и бесславно сражались под
Нарвой. С 1700 г. все вооруженные силы Российского государства,
кроме казаков, были переведены на казарменное положение. Это
вызвало стрелецкое Астраханское восстание 1705 г., после которого
постоянное войско Московского царства, не желавшее становиться
регулярным, подверглось полному истреблению.
Дворян призывали на военную службу с 17 лет. Но до Петровских
реформ дворянская молодежь не проходила даже начальную
военную подготовку. Военных училищ в допетровской России не было.
Поэтому ни стрельцы, ни дворянская кавалерия не умели
взаимодействовать на поле боя с другими родами войск, не знали линейной
тактики и строевой дисциплины.
Петр отказался от западноевропейской модели наемной армии.
Он принял шведскую, более дешевую и надежную, систему
рекрутского набора. Постоянное содержание войск в казарменных и
полевых условиях способствовало боевой и строевой подготовке солдат и
офицеров. Однако недобровольность комплектования армии мешала
ее становлению в качестве профессиональной. А пожизненность
службы делала из армии корпорацию, оторванную от народа, и
множила в ней инвалидные команды, зачисляемые в крепостные
гарнизоны внутренних губерний. Невысокая боеспособность подобных
команд литературно иллюстрирована бесславной обороной от
пугачевцев Белогорской крепости, описанной в пушкинской повести
«Капитанская дочка».
На Западе Война за испанское наследство доказала превосходство
механического, строевого принципа армейской организации.
Петровский военный регламент дополнил строго линейную тактику
поощрением нелинейной боевой инициативы отдельных тактических
единиц. В русско-прусской Семилетней войне (1755-1762 гг.)
Петровский военный регламент показал свое превосходство над
механистичной системой Фридриха II. В победном для русских
сражении при Гросс-Егерсдорфе именно инициатива младших офицеров
решила дело. (Один из этих офицеров — Петр Румянцев — станет в
Екатерининское время фельдмаршалом русской армии.) Полководцы
послепетровских «женских царствований» предпочитали строго
линейную тактику сражений, исключавшую солдатскую инициативу.
При Екатерине II выдвинулись Румянцев, Суворов и Кутузов.
385
Их блистательные победы подтвердили эффективность Петровского
военного регламента. Павел I начал борьбу с «потемкинской
расхлябанностью» русских войск, именуя их победные знамена
«екатерининскими юбками». Система Фридриха II Прусского упорно
внедрялась в Российские вооруженные силы.
Противоречие Петровско-Суворовского «каждый солдат должен
понимать свой маневр» и Павловского «солдат есть механизм,
артикулом предусмотренный» разрешилось лишь в войнах XIX в. в
пользу Петровско-Суворовского принципа полевого устава.
Независимо от тактических предпочтений русских военачальников,
солдатские жизни в сражениях, как правило, не щадились. В войне
с Турцией (1734-1739 гг.) под командованием фельдмаршала
Миниха полегли сто тысяч русских солдат. Взятие турецких
крепостей Хотина и Очакова стоило России десятков тысяч убитых.
Победы любой ценой — полководческая максима большинства
послепетровских военачальников. Привычно фанфарно полвека
звучало державинское «Гром победы, раздавайся. Веселися, храбрый
росс!». Несколько десятилетий этот текст являлся государственным
гимном Российской империи. Однако русской армии предстояло
пережить за эти десятилетия немало тяжких поражений. Незадолго
до Отечественной войны 1812 г. состоялся разгром французами
русско-австрийских союзных сил под Аустерлицем, русской
армии — под Фридландом. Стремительно маневрирующие
штурмовые колонны Наполеоновских войск показали их тактическое
превосходство над линейной статикой механистической организации
сражений. Разумеется, свою роль сыграл и полководческий гений
Наполеона, и лучшая техническая оснащенность французских
войск.
Техническая оснащенность русской армии отставала от
западноевропейских вплоть до Крымской, Русско-японской и Первой
мировой войн. Французские, английские, японские и немецкие войска не
знали нашего традиционного «пуля — дура, штык — молодец». В этом
русские походили на своих военных учителей начала XVIII в. —
шведов, мастеров штыкового боя. Полтавское сражение 1709 г. — тому
доказательство. В конце июня 1709 г. у шведского корпуса,
находившегося под непосредственным командованием Карла XII,
истощились военные припасы и провиант. После поражения в сентябре
1708 г. (при деревне Лесной) крупного отряда генерала Левенгаупта,
шедшего на помощь королю с огромным обозом, доставшимся
русским, шведы остались практически без артиллерии и почти — без
огнестрельных боеприпасов. Под Полтавой они сражались, в основном,
386
штыками и клинками, при двойном численном превосходстве
противника, начав битву смелой атакой русских боевых порядков.
Атакующий стиль сражений был «фирменным знаком» шведской
армии. В концентрированный натиск штурмовых колонн шведы
обычно вкладывали всю силу своего первого и решающего удара.
Однако под Полтавой перед Карлом предстали «не толпы нарвских
беглецов, / А нить полков блестящих, стройных, / Послушных,
быстрых и спокойных» (А. С. Пушкин. Полтава).
Петровские полки стойко выдержали первый страшный удар и не
покинули свои временные полевые укрепления. Русские полевые
орудия (у Петра их было более сотни) имели дальность навесной
ядерной стрельбы до 2,5 км, а картечной — 500 м. Атакующие
шведские колонны прорывались сквозь передовые укрепленные редуты
русских войск под двусторонним плотным ружейным обстрелом.
Стремительно продвигающаяся шведская пехота добралась до
позиций противника сильно «прореженной» метким огнем канониров
Петровской выучки. В первой атаке под командованием
фельдмаршала Реншельда шведы потеряли треть своего атакующего состава,
но почти полностью изрубили два батальона одного из лучших
полков русской армии — Новгородского, для маскировки одетого (по
приказу Петра) в сермяги новобранцев. Ожесточенная битва длилась
полдня. «Швед, русский колет, рубит, режет. / Бой барабанный,
крики, скрежет, / Гром пушек, топот, ржанье, стон. / И смерть, и ад со
всех сторон» (А. С. Пушкин. Полтава).
В военном комментарии к «Полтаве» следует отметить, что гром
пушек раздавался преимущественно с русской стороны. Исход
битвы решила неожиданная для шведов контратака регулярных
пехотных полков Петра. Они в рукопашном бою согнули и сломили
противника. Шведы побежали. «За ними конница пустилась, /
Убийством тупятся мечи, / И падшими вся степь покрылась, /
Как роем черной саранчи» (А. С. Пушкин. Полтава). Однако 17 тыс.
этой «саранчи», не теряя военных порядков, сумели отступить до
Днепра. Ушли и король, и Мазепа с гетманской казной. Польский
волонтер Понятовский (отец будущего короля Польши и романти-
ческоголюбовника Екатерины Великой Станислава Понятовского)
собрал эскадрон полковника Горна и прикрыл отступление Карла.
Понятовский получил несколько русских пуль, на излете
застрявших в его кожаном кафтане. Красноречивая деталь,
характеризующая как стойкость шведских воинов, так и убойную силу
индивидуального огнестрельного оружия той эпохи. Впрочем, стойкость
шведов имела пределы.
387
Передовой конный отряд под командованием А. Д. Меншикова
настиг отступающих шведов у деревни Перевод очна на берегу Днепра.
Карл XII успел переправиться на противоположный берег с
небольшой частью своих драбантов. Перед этим он назначил генерала
Левенгаупта командующим оставшихся 16 тыс. шведов.
Кавалеристов Меншикова было в несколько раз меньше, но они сумели создать
у противника впечатление, что непосредственно за ними следуют
основные силы. Левенгаупт, деморализованный Полтавским
поражением, устроил беспрецедентный в мировой истории армий
демократический опрос своих солдат: «Готовы ли вы сражаться с русскими
или нам следует капитулировать?» Более половины опрошенных
высказались за капитуляцию. Левенгаупт приказал сложить оружие, не
оправдав доверия короля и значения своего имени — «львиная
голова». Швеция разом лишилась всей сухопутной армии. Стокгольм
ждал удара русских войск с Петербургской военной базы через
Финляндию и готовился к заключению мира с Россией. «Отсель
грозить мы будем шведу» — таким было военно-стратегическое
назначение Петербурга. Однако Петр не воспользовался своим несомненным
стратегическим преимуществом.
Историки (В. О. Ключевский, С. Ф. Платонов, К. Валишевский и
др.) отмечают, что огромный внешнеполитический капитал,
приобретенный Петром в результате блестящей Полтавской победы, он
непродуктивно растратил в интересах своего неверного союзника —
саксонского курфюрста Августа II, возвращая его на трон Речи
Посполитой. Это пришлось делать вопреки сопротивлению
польской знати, присягнувшей креатуре Карла XII — королю
Станиславу Лещинскому. Петр отвлек свои победоносные вооруженные
силы на многолетнее улаживание посторонних для России
взаимоотношений мелких германских государств и на несколько лет
утратил стратегическую инициативу в Северной войне со Швецией.
За эти годы закончилась западноевропейская Война за испанское
наследство и успела сфврмироваться враждебная России коалиция
Франции, Турции, Англии и Швеции. Последовали: тяжкое
поражение русской армии, лично возглавлявшейся Петром, в Молдавии
на реке Прут (1711 г.), потеря всех военно-политических
результатов Азовских походов Петра, утрата тяжко доставшегося стране
южного флота, выплата туркам военной контрибуции. Лишь через
10 лет после Полтавской победы Петр ознаменовал боевое
крещение Балтийского флота разгромом шведской эскадры при Гангуте.
Только это побудило Швецию к подписанию Ништадтского
мирного договора.
388
Петр создал южный флот раньше, чем Россия овладела Азовским
и Черным морями. Российское государство в конце XVII в., в
преддверии сухопутных сражений тяжелейшей Северной войны,
непродуктивно тратило свои ограниченные ресурсы на бесполезный в
стратегическом отношении южный флот. Военно-стратегическая
обстановка требовала от России направления этих ресурсов на обучение и
материально-техническое оснащение сухопутных войск. Нарвское
поражение 1700 г. — это следствие неправильно выбранных
приоритетов в Петровской программе государственного военного
строительства.
Подсчитано, что в Петровское царствование было построено около
тысячи судов разного типа: линейных кораблей, фрегатов и галер.
Но уже в 1734 г., при Анне Иоанновне, когда по условиям русско-
датского военного союза потребовалась морская блокада Штеттина, у
России нашлись только 15 кораблей английской и голландской
постройки, способных держаться на воде. Судостроительные верфи
Воронежа и Петербурга в начале XVIII в. работали в ускоренном
темпе, используя доски из невысушенного дерева. Обревизовав в
1709 г. десятки воронежских кораблей, Петр приказал их сжечь.
Балтийский флот за четверть века также сгнил в пресной воде
Кронштадтской гавани. О судьбе южной флотилии (частью —
переданной туркам, частью — сгнившей в портовых стоянках Таганрога) в
середине XVIII в. не вспоминали. Настоящий военный флоту России
появился лишь во второй половине XVIII в., при Екатерине
Великой.
История войн не раз наказывала Россию за невыученные уроки.
Вплоть до Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. слабыми
местами российских вооруженных сил являлись: материально-
техническое снабжение, техническая разведка, полевая связь, военно-
транспортная составляющая войск, инженерная служба,
взаимодействие родов войск и оперативное управление1. Именно из-за слабости
штабной работы и неэффективности своей войсковой разведки попал
Петр со всей армией, импровизированным личным штабом и
походной канцелярией в окружение на реке Прут в 1711 г.
1 Отражая общий настрой офицерского корпуса русской армии, бывший
офицер Л. Н. Толстой высмеивает в романе «Война и мир» оперативные
планы «мучеников штабной науки» — прусских генералов: «первая
колонна марширует... вторая колонна марширует... третья колонна марширует...»
и прославляет М. И. Кутузова, который оперативных планов, якобы, не
составлял, а просто «ничему хорошему не мешал, ничему плохому не
способствовал».
389
Российская регулярность: деньги и солдаты
Петр I пытался компенсировать государственные провалы
великодержавной политики Ивана IV и его непосредственных
преемников. Это ему удалось лишь отчасти. Подобно Грозному, Петр I
полагал, что у власти нет границ, а есть только опасности. Но в отличие от
своего исторического предтечи, руководившегося мессианскими
иллюзиями всеевропейского и ресурсно не обеспеченного «першего го-
сударствования», Петр был прагматиком. В его политике ощущается
влияние рационализма XVII в. Самодержавный реформатор
превыше всего ставил опытное знание и разумно построенную
организацию. Высшей формой такой организации Петр считал регулярное
государство в качестве универсального института воспитания людей,
идеального инструмента для превращения их в добродетельных,
полезных и сознательных подданных.
Подобно большевикам, Петр считал массовое политическое
насилие двигателем исторического прогресса. Народ для него был не
творцом истории, не источником легитимности власти, но —
средством для достижения великой и самодовлеющей цели: построения
могучего «регулярного» (то есть — правильного) государства.
Правильность госучреждений, в Петровском понимании,
сводилась к их независимости от индивидуальных желаний, к
безличности и механистичности бесперебойного функционирования.
Механика вообще была любимым, почти профессиональным
занятием Петра. К гуманитарной сфере человеческой культуры он не
проявлял практического интереса. Государство для Петра — не
живой, развивающийся исторический организм, не народный
политический союз, но машиноподобная система полносвязанных
бюрократических учреждений.
Петровская технология государственного управления состояла
в систематическом военно-административном принуждении.
Высшая власть, в понимании Петра, — это непрерывно
генерирующий источник принуждающей энергии. Останавливался властный
генератор — замирали бюрократические учреждения. «Нестроения
верхов» в послепетровские «женские царствования» — тому
доказательства.
Терминами «всеобщее, тотальное, тоталитарное»
современники великого преобразователя, естественно, не пользовались.
Тоталитаризм — политический неологизм середины XX в.,
ретроспективно, впрочем, вполне приложимый к петровской
государственной системе.
390
Особенно наглядно новая российская регулярность проявлялась,
конечно, в сфере политической и военной. Но и в экономических
мероприятиях «революционера на троне» ощущался госплановский
порыв все зарегулировать.
Общим местом исторических учебников стало утверждение:
«Петр создал российские армию, флот и национальную
промышленность». В самом деле, до начала XVIII в. в России был только один
трансграничный торговец и многоотраслевой промышленник —
государь. Он монополизировал все, что могло приносить доход.
Хозяйственный Иван III требовал даже от иностранных послов
возвращения ему шкур тех баранов, которые посылались из царского
дворца на посольские столы. Петр I превратил государево
предпринимательство в государственную промышленность.
Поощрение частной экономической инициативы Петр сочетал с
развитием казенных предприятий. В. О. Ключевский пишет, что
Петр I лично контролировал производство перкаля, приносившее
казне убытки, так как царь приказывал продавать за пять копеек
аршин материи, обходившийся в 14 копеек. Царским указом был
запрещен вывоз шерсти. Это сырье считалось стратегическим,
необходимым для развития российской суконной промышленности.
Москвичам предписывалось, под страхом сурового наказания,
покупать чулки только у француза Маморона, создавшего под Москвой
чулочную фабрику. Армейские мундиры, ливреи и царское платье
было велено шить из отечественного сукна. В 1718 г. издан указ,
запрещающий употребление сала при выделке кож. Указано — под
угрозой конфискации имущества и каторжных работ — употреблять
исключительно деготь. Пеньку предписано покупать и продавать
лишь в Петербурге. С 1717 г. две трети всех российских экспортных
товаров внеэкономическим государственным принуждением (с
огромными транспортными, перегрузочными, складскими и
накладными издержками) направлялись в Петербургский морской порт,
обходя Архангельский. В Петербурге значительная часть товаров, не
находя покупателей, обесценивалась и гнила, особенно пенька.
До 1809 г. российское государство не строило дорог. Петр I
сосредоточил свое внимание на речных коммуникациях —
традиционных торговых путях славян, варяго-русов и великороссов. К делу их
обустройства царь подошел обдуманно, с учетом голландского
опыта гидротехнических сооружений. Впрочем, большинство
дорого обошедшихся казне петровских проектов комплексного
совершенствования речных путей остались при его жизни не
реализованными. Система каналов, соединяющая Волгу с Невой через
391
Ладожское озеро, обводной Ладожский канал, гидросистема,
использующая паводковые воды промежуточных рек, создавались
петровскими преемниками. Но все-таки ценой гигантских затрат
материальных, людских и финансовых ресурсов Петру удалось
заложить основу Мариинской и Вышневолоцкой систем речных
сообщений бассейнов Волги, Невы и Северной Двины, то есть —
Каспийского, Балтийского и Белого морей.
В деле государственных финансов петровская политика не
выглядела системной. Из всех финансовых теорий XVIII в. царь
предпочитал избирательно применять меркантилизм, наиболее
соответствовавший нуждам содержания больших постоянных, непрерывно
воюющих армий. При царе Алексее Михайловиче таможенная пошлина
взималась исключительно голландскими талерами и венгерскими
дукатами. Петр идет дальше своего отца: он запрещает российским
подданным принимать в уплату за импортные и экспортные товары
русскую монету и закрывает ввоз слитков золота и серебра.
Разрешается ввоз только иностранной золотой и серебряной монеты.
В истории России это далеко не первый пример «долларизации»
отечественной экономики. Новгородско-Киевская Русь широко
пользовалась византийскими и арабскими монетами. Итог петровского
монетаризма: к 1723 г. Россия в своем внешнеторговом обмене ежегодно
наживала по нескольку тонн золота. Тем не менее, финансовая
политика Петра была архаичной, несистематизированной и целиком
обусловливалась военными нуждами.
Материальное существование российского государства опиралось
на такой тощий бюджет, что его хватало только на скудное
содержание огромной армии. Вот, к примеру, бюджетные расходы 1710 г., при
доходе в 1 750 000 руб.:
— содержание армии 1 252 525 руб.
— флота 444 288 руб.
— артиллерии 221 799 руб.
— гарнизонов 977 896 руб.
— расходы на военную вербовку 30 000 руб.
— расходы на покупку оружия 84 104 руб.
— содержание дипломатической службы 148 031руб.
— остальные расходы (включая жалованье
артиллерийским мастерам) 677 775 руб.
Дефицит государственного бюджета, в России впервые
появившегося при Петре I, составил в 1710 г. 2 086 418 руб. — почти 120 %.
В том же году по приказу Петра был составлен кадастр жилых
домов и обработанных земель. Последняя перепись их производи-
392
лась в 1678 г. Оказалось, что число объектов, подлежащих
налогообложению, сократилось с тех пор на 20 %, а на севере страны — на
40 %. Причина — рекрутские наборы и бегство
налогоплательщиков. В 1718-1722 гг. подворный налог на обитаемый дом и посо-
шный, на обработанную землю, заменились единственным прямым
налогом — подушным. Результат не замедлил сказаться: налоговый
сбор в 1719 г. поднялся с 1,8 млн до 4,6 млн руб. В 1725 г. он
составил 9,8 млн руб. Однако производительные силы страны не
выросли в той же пропорции.
Нечего и говорить, что российская налоговая политика всегда
была (и остается до сих пор) фискально-конфискационной, де-
стимулирующей экономическую активность населения.
Государственные денежные расходы при Петре I уменьшались
посредством разверстки натуральных повинностей: бесплатной поставкой
съестных припасов и фуража при постое войск в деревнях,
поставкой каждым крестьянином по одной мере овса и ржи на содержание
гражданских чиновников. Принимались экстренные меры
финансового вымогательства. У столяров отбирались дубовые гробы, с
тем чтобы продавать их в монастырях в пользу казны вчетверо
дороже. Взимался сбор за ношение бород, лаптей, содержание бань,
гостиниц, торговых площадей.
В. О. Ключевский пишет: «Новые налоги, как из худого решета,
посыпались на головы русских плательщиков. Начиная с 1704 года,
один за другим вводились сборы: поземельный, померный и весчий,
хомутейный, шапочный и сапожный — от клеймения хомутов, шапок
и сапог, подужный, с извозчиков — десятая доля найма, посаженный,
покосовщинный, кожный — из конских и яловых кож, пчельный,
банный, мельничный — с постоялых дворов, с найма домов, с наемных
углов, пролубной, ледокольный, погребной, водопойный, трубный —
с печей, привальный и отвальный — с плавных судов, с дров, с
продажи съестного, с арбузов, огурцов, орехов»1.
В 1705-1707 гг. государство монополизировало торговлю солью,
табаком, мелом, поташем, ревенем, смолой, клеем и большей частью
экспортных товаров.
При Петре в больших масштабах осуществлялась казенная
подделка серебряной монеты, через понижение ее веса и пробы, при
сохранении платежного достоинства. К концу Петровского
царствования курс серебряной деньги относительно хлебных цен упал вдвое,
Ключевский В. О. Сочинения в восьми томах. Т. IV. С. 131.
393
Ладожское озеро, обводной Ладожский канал, гидросистема,
использующая паводковые воды промежуточных рек, создавались
петровскими преемниками. Но все-таки ценой гигантских затрат
материальных, людских и финансовых ресурсов Петру удалось
заложить основу Мариинской и Вышневолоцкой систем речных
сообщений бассейнов Волги, Невы и Северной Двины, то есть —
Каспийского, Балтийского и Белого морей.
В деле государственных финансов петровская политика не
выглядела системной. Из всех финансовых теорий XVIII в. царь
предпочитал избирательно применять меркантилизм, наиболее
соответствовавший нуждам содержания больших постоянных, непрерывно
воюющих армий. При царе Алексее Михайловиче таможенная пошлина
взималась исключительно голландскими талерами и венгерскими
дукатами. Петр идет дальше своего отца: он запрещает российским
подданным принимать в уплату за импортные и экспортные товары
русскую монету и закрывает ввоз слитков золота и серебра.
Разрешается ввоз только иностранной золотой и серебряной монеты.
В истории России это далеко не первый пример «долларизации»
отечественной экономики. Новгородско-Киевская Русь широко
пользовалась византийскими и арабскими монетами. Итог петровского
монетаризма: к 1723 г. Россия в своем внешнеторговом обмене ежегодно
наживала по нескольку тонн золота. Тем не менее, финансовая
политика Петра была архаичной, несистематизированной и целиком
обусловливалась военными нуждами.
Материальное существование российского государства опиралось
на такой тощий бюджет, что его хватало только на скудное
содержание огромной армии. Вот, к примеру, бюджетные расходы 1710 г., при
доходе в 1 750 000 руб.:
— содержание армии 1 252 525 руб.
— флота 444 288 руб.
— артиллерии 221 799 руб.
— гарнизонов 977 896 руб.
— расходы на военную вербовку 30 000 руб.
— расходы на покупку оружия 84 104 руб.
— содержание дипломатической службы 148 031 руб.
— остальные расходы (включая жалованье
артиллерийским мастерам) 677 775 руб.
Дефицит государственного бюджета, в России впервые
появившегося при Петре I, составил в 1710 г. 2 086 418 руб. — почти 120 %.
В том же году по приказу Петра был составлен кадастр жилых
домов и обработанных земель. Последняя перепись их производи-
392
лась в 1678 г. Оказалось, что число объектов, подлежащих
налогообложению, сократилось с тех пор на 20 %, а на севере страны — на
40 %. Причина — рекрутские наборы и бегство
налогоплательщиков. В 1718-1722 гг. подворный налог на обитаемый дом и посо-
шный, на обработанную землю, заменились единственным прямым
налогом — подушным. Результат не замедлил сказаться: налоговый
сбор в 1719 г. поднялся с 1,8 млн до 4,6 млн руб. В 1725 г. он
составил 9,8 млн руб. Однако производительные силы страны не
выросли в той же пропорции.
Нечего и говорить, что российская налоговая политика всегда
была (и остается до сих пор) фискально-конфискационной, де-
стимулирующей экономическую активность населения.
Государственные денежные расходы при Петре I уменьшались
посредством разверстки натуральных повинностей: бесплатной поставкой
съестных припасов и фуража при постое войск в деревнях,
поставкой каждым крестьянином по одной мере овса и ржи на содержание
гражданских чиновников. Принимались экстренные меры
финансового вымогательства. У столяров отбирались дубовые гробы, с
тем чтобы продавать их в монастырях в пользу казны вчетверо
дороже. Взимался сбор за ношение бород, лаптей, содержание бань,
гостиниц, торговых площадей.
В. О. Ключевский пишет: «Новые налоги, как из худого решета,
посыпались на головы русских плательщиков. Начиная с 1704 года,
один за другим вводились сборы: поземельный, померный и весчий,
хомутейный, шапочный и сапожный — от клеймения хомутов, шапок
и сапог, подужный, с извозчиков — десятая доля найма, посаженный,
покосовщинный, кожный — из конских и яловых кож, пчельный,
банный, мельничный — с постоялых дворов, с найма домов, с наемных
углов, пролубной, ледокольный, погребной, водопойный, трубный —
с печей, привальный и отвальный — с плавных судов, с дров, с
продажи съестного, с арбузов, огурцов, орехов»1.
В 1705-1707 гг. государство монополизировало торговлю солью,
табаком, мелом, поташем, ревенем, смолой, клеем и большей частью
экспортных товаров.
При Петре в больших масштабах осуществлялась казенная
подделка серебряной монеты, через понижение ее веса и пробы, при
сохранении платежного достоинства. К концу Петровского
царствования курс серебряной деньги относительно хлебных цен упал вдвое,
Ключевский В. О. Сочинения в восьми томах. Т. IV. С. 131.
393
по сравнению с 70-ми годами XVII в. Это произошло вопреки
прогнозам экономиста Петровских времен И. Т. Посошкова, считавшего,
что денежный курс зависит от воли государя, который «только
прикажет копейке быть гривной, и она станет гривной».
Государственная финансовая система, целиком подчиненная
потребностям войны, не выполняла своих обязательств даже перед
армией. К 1725 г. солдаты шестнадцать месяцев не получали
жалованья. Страна и без того надрывалась от непосильных для нее
военных расходов.
Регулярное русское войско впервые начал устраивать не Петр, а
его отец Алексей Михайлович. По военной росписи 1681 г., из
164-тысячной армии (без украинских казаков) 89 тыс. были
обучены иноземному строю. Во втором крымском походе фаворита
правительницы Софьи князя В. В. Голицына на 112-тысячное войско
приходилось 80 тыс. солдат и рейтар иноземного строя, при 8 тыс.
дворянской конницы.
Молодой Петр первоначально не выступил продолжателем
отцовских военных реформ. Он даже сделал шаг назад, под влиянием
реакционного окружения своей матери Натальи Кирилловны. Дворцовый
переворот 1689 г., восстановивший самодержавие Петра, совершили
антиреформаторские силы. Поэтому в первый Азовский поход
(1695 г.) Петр повел 30-тысячный корпус, в составе которого было
лишь 14 тыс. солдат. 120-тысячное ополчение, направленное на Крым,
преимущественно состояло из ратников старого русского строя и
конной дворянской милиции. Куда же делись 60 полков (66 тыс.
солдат), обученных западным приемам боя? Их расформировали
стараниями влиятельных противников военных преобразований.
Северную войну со Швецией Петр начал с 33 полками, из которых
29 были «новоприборными», наскоро набранными и наспех
обученными немецкими офицерами. Их боевую непригодность обнаружила
Нарва. Только «потешные» полки (ставшие Преображенским и
Семеновским — будущей* гвардией) стойко выдержали первый удар
8-тысячного шведского корпуса Карла XII. Но и они не
продемонстрировали ожидаемой от них эффективности в завязавшемся
полевом сражении. «Потешные» успели сделать двадцать неприцельных
залпов, не нанеся существенного урона противнику.
После Нарвского поражения началась беспощадная трата
мобилизованных рекрутов, даточных и охочих людей. За 10 лет, начиная с
1700 г., из 14-миллионного населения тогдашней России царь забрал
в армию 300 тыс. рекрутов. Ни одна европейская страна в XVIII—
XIX вв. не могла себе позволить даже половины такого «налога
394
кровью». Значительная часть рекрутов гибла в сборных учебных
пунктах от голода, холода, болезней и бесчеловечного обращения
рус-ских капралов и иностранных офицеров.
К концу Петровского царствования российские вооруженные
силы насчитывали 212 тыс. человек пехоты и конницы (с
решительным преобладанием пехоты), ПО тыс. казаков. Численность
экипажей морских судов составляла 28 тыс. человек. Всего — 350 тыс.
военнослужащих или 2,5 % от населения Московского царства в
границах 1700 г. Оно за 36 лет Петровского царствования не могло
существенно вырасти. Жители вновь завоеванных прибалтийских
провинций были освобождены от поставок рекрутов.
При оценке эффективности петровской военной машины следует
принимать во внимание не только славные русские победы при
Лесной, под Полтавой и при Гангуте, но и посленарвские поражения.
Через два года после Полтавы Петр потерял все дорогостоящие итоги
азовских и крымских кампаний. В 1711 г. 40-тысячный русский
корпус, окруженный 300-тысячной турецкой армией, потерпел тяжелое
поражение на реке Прут. Азов Россия вернула Турции, таганрогские
укрепления — обязалась срыть. Впрочем, последнее обязательство
Петр выполнил частично, оставив нетронутыми фундаменты
крепостных сооружений.
Столь же очевидны внешнеполитические просчеты: ввязавшись в
посторонние для России внутренние германские распри, Петр
растянул тяжелейшую Северную войну после Полтавской победы еще на
12 лет. «Ништадтский мир 1721 г. положил запоздалый конец
21-летней войне, которую сам Петр называл своей "трехвременной
школой", где ученики обыкновенно сидят по семи лет, а он, как туго
понятливый школьник, засиделся целых три курса»1.
Апология государственного насилия
над обществом
Итак, через полтора века после Ивана Грозного Петру I пришлось
ценой сверхнапряжения страны отвоевывать потерянное в XVI в.
Северная война 1700-1721 гг., подобно Ливонской, тоже началась
русским походом под Нарву. Однако в 1700 г. крепость
принадлежала не слабому Ливонскому ордену, а мощной Швеции. Это северное
Ключевский В. О. Сочинение в восьми томах. Т. IV. С. 59.
395
протестантское королевство во второй половине XVII в. создало
эффективную административную систему и сильнейшую в Европе
армию. Опробованная в ходе Тридцатилетней войны, система
рекрутского комплектования национальных вооруженных сил впервые
в мире появилась в Швеции.
Шведская модернизация XVII в. и военно-административные
реформы, связанные с именами Густава-Адольфа, Карла X и
Карла XI, не сопровождались закрепощением крестьянства, исхоло-
пливанием высших классов и избыточной милитаризацией
национальной экономики. Дисциплини-рованные и стойкие солдаты из
свободной крестьянской среды составляли костяк шведской армии.
Мобилизационно-репрессивная модель государствования,
аналогичная самодержавной системе Ивана Грозного, не утвердилась в
Швеции. Ее население не делилось на служебное и тягловое
сословия. Оно структурировалось классово-корпоративным образом.
Классообразующим основанием являлась частная земельная
собственность. А корпоративным — правовой статус подданных
Шведского королевства.
Административные и военные преобразования Петра
изначально ориентировались на шведские образцы. Введенная Петром в
1710-е гг. коллегиальность государственного управления,
построенного по отраслевому принципу, была им заимствована у шведов.
После Полтавской победы Петр поднимал заздравный кубок за
шведских генералов, действительных военных учителей русской армии.
Однако организационные формы администрирования, адекватные
шведскому классово-корпоративному государству оказались
несовместимыми с архаичной сословной системой самодержавной
России. После смерти преобразователя его преемники отказались от
иностранных административных форм, искусственно
трансплантированных в русский государственный организм, исторически
сложившийся в иных условиях.
Цели европейской модернизации Московского царства
достигались чрезвычайными средствами кризисного управления. При этом
кризисное состояние государства и общества нередко вызывалось
искусственно, в революционном порыве все переиначить. Пушкинская
поэзия эстетизирует кровавую работу военно-административной
машины, созданной «чудотворным строителем». «Была та смутная
пора, / Когда Россия молодая, / В бореньях силы напрягая, / Мужала
с гением Петра» (А. С. Пушкин. Полтава). Смутная пора была
результатом нового раунда внутренней борьбы государственных
ядерных структур и земской периферии российской социальной метаси-
396
стемы. Страну лихорадило все 36 лет Петровского царствования.
Прибегая к систематическому насилию над Землей, Петр Великий
превратил государство, отсталое в военно-техническом отношении, в
сильную империю, но — оставил общество слабым и внутренне
конфликтным. Он исключительно в интересах государства, «рукой
железной Россию поднял на дыбы» (А. С. Пушкин. Медный всадник),
надолго закрепив ее в этой «нестационарной» позиции. В условиях
непрерывного государственного стресса общественное развитие
сдерживается. Любая сверхсложная нелинейная система регрессивно
упрощается при критическом превышении меры ее внутренней
неравновесности.
Апология государственного насилия над обществом, заранее
оправданного надличностными целями прогресса, является
«субпродуктом» возвышенной идеологии Просвещения.
Идеализированный образ царя-просветителя начал складываться через
полвека после его физической смерти. Сменились два политических
поколения. К эпохе Екатерины II Фальконетовский Медный
всадник в римской тоге символически сравнялся с покровителем
великорусской государственности, святым Георгием Победоносцем,
поражающим дракона. (Под копытами императорского коня — драко-
ноподобный змей в качестве обобщающего образа антироссийских
темных и злых сил.)
Массовые жертвы петровской военно-бюрократической
модернизации через сто лет полностью истлели. Народные стоны умолкли.
«Вечный работник на троне» стал положительным фольклорным
персонажем. «История злопамятней народа» (В. О. Ключевский), но
мифы популярней научно-исторических суждений. Особенно если
первые поддерживаются пропагандистской мощью государства, а
вторые остаются достоянием узкого круга специалистов.
Государственная мифология «народного царя» эстетически
увенчалась пушкинской поэмой «Медный всадник». Ее историософская
идея: регулярное государство выстраивает в строгие петербургские
«линии» хаотически переплетенные «горизонтали» частных судеб
маленьких людей. Их организует историческая «вертикаль власти»
Державного Зсадника. Где власть, там порядок.
Власть выполняет рациональную, цивилизационно-охрани-
тельную функцию. Противники государственного порядка
отождествляются в поэме с иррациональной, темной и злой стихией
варварства. «Мощный властелин судьбы» стационарно противостоит
динамическому хаосу разрушительного наводнения.
Линейно-упорядоченный город Петра — оплот цивилизации. Угрозой для нее
397
является река турбулентных, неупорядоченных социальных
движений, покинувших государственное русло, атакующих властные
берега.
Нева вздувалась и ревела,
Котлом клокоча и клубясь,
И вдруг, как зверь остервенясь,
На город кинулась.
А. С. Пушкин. Медный всадник
Художественная метафора грозного Медного всадника передает
избыточность военно-административного насилия над частной
жизнью бесправных подданных, явившегося фирменным знаком
Петровского царствования. Гуманистическое сочувствие поэта явно
на стороне «нерегламентного» Евгения, ставшего жертвой
нелинейной стихии и линейного порядка: хаоса городского наводнения и
неумолимой линейной последовательности «тяжело-звонкого
скаканья» государственного Медного всадника. В его образе
надличностная регулярность Державы неотступно преследует маленького
человека, не позволяя ему уйти в «нерегулярную» частную жизнь и
там укрыться от всевидящего государева ока.
Послепетровское «нестроение верхов» не привело к
государственной смуте, так как не раскачало массы, не проникло в
консервативную толщу народной жизни. Сказалась охранительная инерция эво-
люционно сложившихся форм низовой социальности.
В начале XVII в. династический кризис, вызвавший всеобщую
Смуту, обошелся стране намного дороже верхушечных дворцовых
переворотов XVIII в. Общественная цена революционной анархии
неизмеримо выше аппаратных издержек склочных олигархий.
Великий национальный поэт-государственник — предтеча
российского консервативного либерализма — испытывает
противоречивые чувства относительно «революционера на троне». Великий
реформатор построил на костях сотен тысяч «истраченных
людишек» (в государственной лексике Ивана Грозного, образ которого
был симпатичен Петру) несбалансированное имперское здание.
После смерти Петра имперские верхи немедленно зашатались.
Обозначилось несовпадение социально-политических интересов
трех группировок правящего слоя: сословно замкнутой родовой
аристократии, корпоративно организованного (в гвардейские
полки) российского «шляхетства» и выстроенной в соответствии с
петровской «Табелью о рангах» бюрократии. Результатом явилась
398
длинная череда дворцовых переворотов XVIII в., провоцировавших
общегосударственную смуту.
Потрясенное самодержавной революцией Ивана Грозного,
Московское царство само нарушило инерционную устойчивость своих
базовых институтов. Лишенные социальной опоры, они
опрокинулись от незначительного толчка, произведенного первым Лже-
дмитрием и его небольшим поначалу казацко-польским отрядом
авантюристов.
Петровский политический режим оказался гораздо более
живучим, потому что, в отличие от боярских кланов начала XVII в., военно-
бюрократические верхи послепетровской империи не утратили
чувства классовой солидарности и системной ответственности.
Бюрократически заматеревшие «птенцы гнезда Петрова» клевали
друг друга, не разрушая гнезда.
Консервативный критик петровской модернизации князь
M. М. Щербатов в трактате «О повреждении нравов в России»
отмечал народную неукорененность преобразований начала XVIII в.
Им эффективно противостояла устойчивость национальных
архетипов. «Нравы указами не изменишь», — констатировал Щербатов.
Староукладная Московия и при жизни Петра не откликалась на
«указы, писанные кнутом» (А. С. Пушкин). Поэтому большая часть
из трех тысяч царских «революционных декретов» осталась — к
счастью — нереализованной.
Консервативные контрреформы 30-40-х годов XVIII в. внешне
выглядят феодальной реакцией, задержавшей модернизацию России.
Между тем негероические послепетровские «женские царствования»
1730-1750 гг. позволили стране отдохнуть от изнурительной
«лихорадки буден», сопровождавшей все Петровские преобразования.
В регулярном государстве Петра I было очень мало регулярной
предсказуемости. Русская аристократия, отодвинутая реформатором
от власти, сумела остановить затянувшиеся на четверть века
функциональные вихри, сохранив рациональные зерна структурных
реформ. Они дали через несколько поколений «культурной зимы»
высокоурожайные «озимые всходы».
Пытаясь собрать европейский урожай на евразийской почве сразу
после посева, нетерпеливый венценосный агроном нередко
вытаптывал национальную зеленую поросль. К его контрпродуктивным
деяниям относятся и ликвидация общедоступных церковно-приходских
школ, замененных цифирными — исключительно для дворян, и
запрет на частную благотворительную и просветительскую
деятельность, и указ о запрете писания чего-либо при закрытых дверях, и
399
свирепые меры против «самиздата» — подметных писем. В этом же
ряду — известная сентенция Петра: «Русским людям лекарей не
надобно, им достаточно бани».
Петровские «казеннокоштные золоторотцы просветительства»
(В. О. Ключевский), за немалые деньги нанятые за границей,
препятствовали подготовке русских научных кадров, стремясь сохранить
свое привилегированное положение и оградить себя от конкуренции.
М. В. Ломоносову довелось много претерпеть от иностранных
«фельдфебелей в Вольтерах», прежде чем верховная власть осознала, «что
может собственных Платонов и быстрых разумом Невтонов
российская земля рождать».
Общим местом стало культурологическое суждение: на
петровскую модернизацию Россия через сто лет «отозвалась колоссальным
явлением Пушкина» (Ф. М. Достоевский). Эту бесспорную истину
относительно вершинного достижения российской культуры
необходимо поставить в параллель низовым культурным потерям страны.
Ликвидировав церковно-приходские школы, Петр Великий надолго
оставил громадное большинство крестьян в состоянии азбучной
неграмотности.
В Российской империи всеобщее (бесплатное) неполное среднее
образование было введено императорским указом лишь в 1908 г.
В Швеции аналогичная образовательная норма законодательно
установлена в 1842 г., а в Норвегии — в 1815 г. Тонкий культурный слой
русского общества начал отрываться от народных масс именно в ходе
петровской модернизации. Культурный раскол нации был цивилиза-
ционно контрпродуктивным и предвещал государственные
потрясения. В феврале 1917 г. неграмотная и полуграмотная солдатская масса
уничтожала российское офицерство не столько по критерию его
социальной принадлежности (подавляющее большинство младшего,
среднего и старшего командного состава российской армии и
значительная часть генералитета принадлежали в конце Первой мировой
войны к непривилегированным слоям), сколько — по признаку его
образованности. Два миллиона вынужденных российских
эмигрантов первой постреволюционной волны и несколько миллионов
убитых в ходе трехлетнего полустихийного (народно-государственного)
террора — это результат целенаправленного уничтожения эволюци-
онно молодых корковых отделов «мозга нации», безвозвратно
потерянных для российской цивилизации. Именно таким
физиологическим термином воспользовался А. М. Горький в известном письме к
В. И. Ленину, оценивающем контркультурные последствия красного
террора. Общеизвестен и резкий Ленинский ответ: «Это — не мозг, а
400
говно». Размышляя о постреволюционной судьбе тонкого
образованного слоя в темном крестьянском окружении, писатель уподоблял
российскую интеллигенцию «горсти соли, брошенной в пресное
болото».
Петр Великий, тем не менее, смог осуществить модернизацион-
ный рывок страны благодаря действию закона иерархических
компенсаций социальных подсистем, сложившихся к концу XVII в.
Назовем лишь несколько проявлений данного закона:
— миллионы российских подданных в большинстве своем,
несмотря на возросшие служебные и тягловые повинности, не выходили
критическим образом из рамок государственной дисциплины;
— они не вовлекались в революционное творчество масс
большевистского фирменного стиля: «до основанья, а затем...»;
— в результате отчетливого классового агрегирования всех
промежуточных социальных групп российского населения, существенно
упростилась многослойная, исторически слежавшаяся, мультисоци-
альная структура российского общества, то есть — снизился
избыточный уровень его разнообразия, критически повышающего
внутреннюю неравновесность общественной метасистемы.
«Адхократические»1, спонтанные импровизации самодержца
уравновешивались механической регулярностью рабочих
подсистем государства. Апофеозом этой регулярности явилась «машин-
ность» действий новой армии, выпестованной Петром. Российские
вооруженные силы в начале XVIII в. решали и невоенные задачи
административного характера. Армейские части направлялись в
губернии для выколачивания из податного населения недоимок. До их
полного внесения старшие офицеры имели полномочия брать под
стражу вице-губернаторов и заковывать их в кандалы. Предвосхищая
гулаговскую систему, Петровские воинские команды формировали
из податного населения принудительные «трудармии» и
этапировали работных людей к воронежским корабельным верфям,
строительным площадкам Санкт-Петербурга, крепостным сооружениям
Кронштадта, Епифанским шлюзам. Столичные гвардейцы
периодически командировались в губернии, где контролировали
исполнение провинциальными чиновниками царских указов.
Милитаризированная государственная регулярность сокращала
сферу частных интересов господствующего класса. Насильственно
1 Адхократия — тип нерегулярной организации, действующей в
непостоянных условиях. См. главу «О корпоративности российской
государственности».
401
устанавливаемое единообразие внешнего облика, суровые
регламенты, фрунт, «юности честное зерцало», муштра, мундирно-строевая
нивелировка госслужащих устраняли их дореформенную «партику-
лярность». Власть директивно предписывала дворянам способы
поверхностной «европеизации»: брадобритие, иноземные стандарты
покроя одежды и формы организованного досуга (ассамблей).
Последние приравнивались к служебным повинностям. Явка на них
считалась строго обязательной. Нерегламентно одетые наказывались
плетьми.
Однако в толщу народной жизни эта внешняя «регулярность» не
проникала. Неслужебная и нечиновная Россия сохраняла свою
нестроевую индивидуальность. Гораздо важнее другое: Петровская
модернизация не охватила социально-экономические,
производственно-технические и культурно-бытовые отношения в российской
провинции. Создались условия для системной разбалансировки
правящего слоя страны.
Выявилась недостаточность рационального инструментария для
преодоления инерционности воспроизводственного аппарата
страны. Государственное «стимулирование» (греч. «стимул» — острая
палка) экономической активности предбуржуазии не создавало
устойчивых эффектов. Учреждаемые по царскому указу «кумпан-
ства» оказывались недолговечными. И наоборот: созданные
инициативным образом — жили долго.
Мобилизационные импульсы Петровского регулярного
государства гасились нерегулярной социально-экономической средой.
Западноевропейская модель рационально действующего
«экономического человека», сформированная Новым временем, не отражала
ментальных особенностей социально-психологических архетипов
российского Долгого Средневековья. Впрочем, экономическая
обусловленность не исчерпывает и современную социальную энергетику
россиян.
Модернизации меняют в продуктивной деятельности общества
соотношение индивидуализма и коллективизма. Преобладание
коллективистских начал системной адаптации диктуется потребностями
сохранения гомеостазиса в повторяющихся социо-природных,
воспроизводственных и геополитических условиях. Для развития в
режимах с обострением, на грани хаоса требуется поисковая
личностная активность. В России XVI-XIX вв. она сопровождалась
государственным поощрением индивидуальных рисков первопроходцев и
«охочих людей», инициативно осваивавших пространства с повы-
402
шенным коэффициентом неопределенности и пониженным —
безопасности: Поволжье, Сибирь, Новороссия и Дальний Восток.
Индивидуализм составляет самую очевидную и сильную
манифестацию инновационного измерения личности. Эволюционно-
исторически, этот тип продуктивного творчества возникает в
условиях разложения родового строя. Индивидуальное своеобразие
инновационной активности наиболее выпукло проявляется у субъектов
надличностных форм социальной коммуникации: влияния,
лидерства, авторитета, господства и власти.
Классический пример — гомеровский Одиссей. «Вот он стоит,
блистая медным шлемом, / И мы, как дети, смотрим на него. /
Но властно он людей объединяет / Своей несокрушимой темной
волей / Для многих тысяч легендарных дел» (В. Луговской. Как
человек плыл с Одиссеем). Изобретательный, «хитроумный Одиссей»
наиболее эффективно действует в режиме с обострением, на грани
детерминированного хаоса среды и системной неустойчивости.
В категориальных рамках теории управления, индивидуализм
реализует положительные обратные связи социальных макросистем.
В любой системе такие связи генерируют ее изменения. Критическое
возрастание их объема приводит к понижению алгоритмичности и
функциональной устойчивости системы. Она переходит в режим
ручного оперативного управления, оставляя в сфере
параметрического управления рутинный обмен системы со средой
информационными, энергетическими и материальными ресурсами. Ломается
динамический стереотип массового поведения. Возникает
общественная потребность в «сильной руке» авторитарного лидера.
Постоянно находясь в фокусе массовых ожиданий быстрых
позитивных результатов, авторитарный лидер обязан быть героем. Или —
слыть таковым. Он персонифицирует все удачи и все неудачи
макросоциумов. Героический тип личности социально востребован в эпохи
болезненной структурной ломки. «Но горе стране, постоянно
нуждающейся в героях», — обоснованно считали древние.
Коллективизм реализует отрицательные обратные связи
социальных макросистем. Он защищает их от разрушительных
проявлений избыточного инновационного индивидуализма. Отрицательные
обратные связи социальных макросистем мультиплицируются
государством. В массовых представлениях, общественный порядок
всегда ассоциируется с правильным функционированием
институтов публичной власти.
Свою консервативно-охранительную роль государство выполняет
посредством всеобщности обезличенных правовых норм и деперсо-
403
нализации управляющих институтов. Уровнем консерватизма
формализованных функций государство намного превосходит остальные
секторы общества. Однако государству постоянно приходится
одновременно решать трудносогласуемые задачи. Логикой своего
существования оно принуждается к блокированию отклоняющегося
группового поведения, увеличивающего риски системной
нестабильности. Усложняющаяся внешняя среда побуждает, напротив,
государственно поощрять активность инновационных групп,
повышающих уровень внутренней системной неравновесности и
функциональной неопределенности. Рационально-легальная бюрократия
(основная несущая конструкция госаппарата) не предназначена для
функционирования в условиях неопределенности. Здесь — поле
деятельности адхократии, создаваемой реформаторским руководством
для решения неясных задач в неопределенных условиях
рискованных инноваций. Антиномии такого рода — спутники всех кризисов
развития.
Между «латинянами» и «агарянами»
Исходные состояния западноевропейского и
восточнославянского протогосударственных пространств были однотипными. До XIII в.
ничто не предвещало особого цивилизационного пути России.
Христианизация Новгородско-Киевской Руси, начавшись в X в. с
княжеской дружины, через полтора века охватила большую часть
населения восточнославянских земель.
Духовное единство Новгородско-Киевской Руси и большинства
европейских стран в Х-ХИ вв. и в первой трети XIII в. проявлялось,
в частности, сближением семейно-дружинного и земельно-
корпоративных оснований русской государственности. Магдебург-
ское пред буржуазное право западноевропейских бургов
утверждалось в городских общинах западнорусских и восточнорусских земель.
Великому Новгороду не было нужды «прорубать окно в Европу»: он
пользовался широко открытой дверью Ганзейского союза и
торговыми преференциями членства в нем.
Западноевропейские суверены считали честью для себя
возможность породниться с могущественными русскими князьями.
Политический класс Новгородско-Киевской Руси Х1-ХП вв.
отличался широкой образованностью. Владимир Мономах, Ярослав
Мудрый и их потомки владели несколькими иностранными языками
404
и оставили после себя обширные библиотеки. Русская культурная
элита стояла в просвещении с веком наравне.
Экономически активное население Великого Новгорода было
почти сплошь грамотным. Десятки тысяч новгородских
средневековых берестяных грамот, открытых во второй половине XX в., тому
свидетельство. Сам русский алфавит (кириллица), созданный
моравскими братьями Кириллом и Мефодием по поручению
Константинопольского патриарха, основан на греческих и латинских литерах.
Из Европы шел поток переводных богослужебных книг и светской
литературы.
Расцвет каменного градостроительства в период удельной
раздробленности Руси хронологически совпадает с аналогичным цивилиза-
ционным процессом в странах Западной Европы. Технологии
сельскохозяйственного и ремесленного производства домонгольской
Руси не отставали от западноевропейских.
Ослабление семейно-дружинного начала в русской
государственности удельного периода и усиление начал земельно-корпоративных
утверждали атлантическую парадигму взаимоотношений
государства и общества. Многое изменило татаро-монгольское нашествие
XIII в. Многое, но далеко не все. Сохранились договорные
отношения между титульными земельными собственниками и основной
массой землепользователей, между владетельными князьями и
боярами. Завоеватели лишили князей государственного суверенитета,
не посягая на их имущественные и сеньориальные права. Остались
неизменными и низовые формы структурирования населения:
податная община, церковный приход, ремесленный цех.
В XIII в. в Северо-Восточной Руси сломался европейский госу-
дарствопорождающий «генетический» код. Во второй половине
XVI в. произошла вторичная «генная мутация» российского
государственного организма и надолго восторжествовала евразийская
(патерналистская) модель взаимоотношений общества и
государства. Но это был результат не столько ига, сколько антизападной
самодержавной «революции сверху», возглавленной Иваном IV
Предшествующие цивилизационные достижения суверенного
великорусского государства (1462-1565 гг.) оказались в
значительной степени обесценеными.
Первое европейское столетие постордынской Руси не
закрепилось институционально, не обросло «пошлиной и стариной».
Самодержавная революция оживила более древние архетипы про-
тогосударственности, сложившиеся в IX-X и XIII-XIV вв.
Скроенные по варяго-русскому, византийскому и ордынскому лека-
405
лам, вассальные квазигосударства Северо-Восточной Руси со
второй половины XIII в. постепенно сужали сферу земского
самоуправления. Наиболее преуспело в этом отношении Московское великое
княжество, изначально (подобно Древнему Риму) ориентированное
на территориальную экспансию. Замкнутое кругом локальных
интересов, местное самоуправление препятствовало
территориальному расширению. Выстраивая подданных в боевые колонны,
московские государи ослабляли их земские естественные связи.
Милитаризация государства неизбежно уменьшала системное
разнообразие Земли, упрощала ее.
Упрощение социальных структур сопровождалось дефеодализа-
цией средневековой Руси. В этот период усилилось ее
антизападничество. Западноевропейский феодализм, усложняющий и
умножающий автономные социальные структуры, оставался для русских в
течение Х-ХП вв. родственной иносистемой. В антисистему,
враждебную для северо-западных улусов Золотой Орды, феодальная
Европа превратилась (в русском национальном восприятии) с
потерей государственного суверенитета Руси, с середины XIII в.
Русские князья в это время слизывали капли кумыса с грив ханских
лошадей, но высокомерно взирали на «латинян». Православные
иерархи почтительно именовали «агарян» батогом Божьим,
пользовались их покровительством, но яростно гнали христиан иного
символа веры.
Антизападничество Москвы существенно ослабло после
освобождения Северо-Восточной Руси от сюзеренитета Золотой Орды.
Иван III женился на племяннице последнего византийского
императора Софье Палеолог, воспитанной при дворе Римского папы.
Василий III женился (вторым браком) на племяннице Михаила
Глинского, знаменитого полководца великого княжества
Литовского, служившего и Священной Римской империи германской
нации. Елена Глинская — мать Ивана Грозного и будущая
правительница Московского великого княжества в 1534-1538 гг. —
воспитывалась в атмосфере западных культурных влияний. Новый
обычай династических браков московских государей с
европейскими принцессами нарушился при Иване IV. Он безуспешно сватался
к Елизавете I Английской, к ее племяннице, к сестре шведского
короля. С середины XVI в. католическая Европа с нараставшей
тревогой смотрела на внезапно возникшее громадное православное
царство, явно нацеленное на экспансию в западном направлении.
Униатские надежды Ватикана, оживленные римско-византийским
браком Ивана III, за полвека угасли.
406
Московская митрополия не приняла Ферраро-Флорентийскую
(1439 г.) унию, установившую супрематию папы римского над
Константинопольской патриархией. В начале XVI в. единственным
светским покровителем мирового православия реально являлся
Московский великий князь. Идеология «Третьего Рима»,
сформулированная псковским монахом Филофеем, отражала геополитические
притязания Москвы. В письме, адресованном Василию III,
церковный идеолог московского великодержавия предложил формулу
исторической преемственности трех мировых империй: «первый и второй
Рим пали, третий (Москва) стоит, а четвертому не бывать».
Автокефалия РПЦ, установленная при Борисе Годунове, усилила ге-
гемониальные притязания Московского царства. Государственная
смута начала XVII в. на несколько десятилетий остановила
московскую экспансию.
Главный виновник катастрофы отечественной государственности,
Иван Грозный считал равным себе лишь турецкого султана и
предлагал ему совместный поход на Европу. Характерно, что это
предложение делалось после того, как крымский хан (вассал турецкого
султана) сжег в 1571 г. Москву и увел в полон 150 тыс. подданных
Московского царя.
«Русские скифы» смотрели на Европу прищуренными глазами
Грозного: «и с ненавистью, и с любовью» (А. Блок). Демонстративно-
презрительное отношение к Западу не мешало Ивану IV деловито
зондировать возможность собственного политического убежища в
Англии. В другом письме к английской королеве Елизавете I Иван IV
называет ее «пошлой (то есть обыкновенной) девицей», занявшей
трон с согласия купцов. «А мы Божьим изволением природные
государи своей отчины», — пишет Грозный, уязвленный высокомерием
королевы, отвергнувшей его матримониальные планы, указывая на
высшую легитимность собственного царского достоинства.
Во второй половине XVI в. могла реализоваться несамодержавная
модель Московского государства. Был шанс европейской
политической модернизации. Некритические феодальные дисфункции
политической системы компенсировались устойчивой динамикой
структур земского самоуправления. Опираясь на них, реформаторское
правительство Избранной рады успешно ограничивало
олигархические притязания княжат. Но оно сохраняло правительственную роль
и военную силу старинного боярства. Территориально разросшееся
Московское царство нуждалось в надежной обороне своих
протяженных границ. Военная доктрина правительства Избранной рады вклю-
407
чала в себя концепцию стационарной стратегической обороны
дальних рубежей Московского царства: строительства лесных засек,
организации лесостепных казачьих разъездов, цепи порубежных
крепостей на берегах рек, с постоянными крепостными гарнизонами
из стрельцов и пушкарей. Мобильные задачи стратегической
обороны возлагались на боярско-княжеские дружины, усиленные земским
ополчением (посохой). Служилому дворянству отводилась
второстепенная роль вспомогательных войск.
Оборонная достаточность данной системы постоянных
вооруженных сил Московского царства повышенной боеготовности была
очевидной: в течение 1550-х гг. оно держало на почтительном удалении
от своих границ всех потенциальных агрессоров. Для
территориальной экспансии в западном направлении такая система не годилась.
Поэтому Избранная рада всячески удерживала антиевропейски
ориентированного царя от рокового «поворота на Германы», указывая на
отсутствие у Москвы ударных конных сил, организованных
ордынским образом. Многочисленная конная орда появилась в облике
иррегулярного дворянского ополчения, испомещенного на государевой
земле. В резком приращении поместного фонда не нуждались
оборонительные силы Московского государства: княжеско-боярские
дружины служили с собственной (вотчинной) земли, стрельцы и
пушкари получали денежное государево жалованье, казаков государство
снабжало порохом, свинцом и хлебным довольствием, посоху
обеспечивали всем необходимым земские общины. Только дворянское
ополчение нуждалось в «земельном верстании». И только дворянство
было заинтересовано в установлении
репрессивно-мобилизационного самодержавного режима.
Четыре основные социально-экономические силы находились в
конце 1550-х гг. в состоянии неустойчивого равновесия: боярство,
черносошное крестьянство, дворянство и нарождающаяся предбур-
жуазия (ремесленныйлосад и купечество). На колеблющуюся чашу
исторических весов была брошена решающая гиря репрессивного
госаппарата. Иван Грозный сделал ставку на дворянство, экономически
не самодостаточное и поэтому жизненно заинтересованное в
крепостном праве.
Царские репрессии против аристократии и других
конкурентоспособных слоев выглядят экономически иррациональными и
государственно контрпродуктивными. Репрессии разбалансировали
воспроизводственный аппарат страны, хаотизировали
центральную власть и в целом ослабили государство. Уничтожая наиболее
408
структурированную часть общества, царь антигосударственно
политизировал социальные низы, на которых он расчетливо «не
опалялся».
«Государева крепь» сначала обрушилась не на крестьян, а на бояр
и купцов: первых окончательно лишили права «отъезда», приравняв
его к измене, а вторых разоряли постоянными конфискациями
товаров и административными поборами. С одинаковым ожесточением
опричники — опора самодержавно-популистского режима —
громили торговые города и боярские вотчины. На века выпала Россия из
колеи европейского развития.
Опричнина была квазидемократическим ответом самодержавия
на аристократические попытки ограничить произвол центральной
власти. «Мятежник в собственном государстве», по определению
В. О. Ключевского, уничтожал государствообразующий слой,
подрубая опорные столпы державы. Современной историографией
достоверно установлено: Смута начала XVII в. явилась естественным
результатом опричного террора второй половины XVI в. Десятилетия
спустя тень Грозного усыновляла не только самозванцев. Она
материализовалась в массовом антигосударственном движении.
Вследствие чего поляки и шведы легко подмяли под себя огромное
Московское царство.
Показательно, что каждый новый раунд внешней
антиевропейской борьбы российских самодержцев и их исторических
наследников — большевиков сопровождался внутренними репрессиями.
Подобно тому как Ливонская война 1557-1583 гг. вызвала к жизни
опричный террор, перманентная большевистская борьба с
капиталистическим окружением оправдывала полувековое уничтожение
миллионов советских граждан. Всякая попытка общества ограничить
государственный произ-вол традиционно объявлялась «тлетворным
влиянием Запада».
В России, не прошедшей школы европейского Возрождения,
Реформации и Просвещения, трудно утверждался гуманистический
принцип, согласно которому личность является не средством, но
всегда — целью. Российское государство до Великих реформ 60-х
годов XIX в. считало только себя высшей целью и признавало
правосубъектность лишь государственных сословий, а не отдельных лиц.
Власть не связывала себя ограничениями фундаментального закона,
препятствуя принятию Конституции в качестве Общественного
договора. Правовой нигилизм российской власти, прямо и
категорически отвергающей диалог с обществом, воспитывался кривой татар-
409
ской саблей, а не духом кантовского категорического императива и
«Общественного договора» Руссо.
О корпоративности российской
государственности
Принцип нефункциональной самоценности личности очень
медленно утверждался и в Западной Европе. Сравнительно быстрее — с
эпохи Возрождения. После него европейская государственность и
социальность отчетливее проявляют свои корпоративные греко-
римские основы. Античные общества не были
индивидуалистическими. В маленьких полисах демократической Греции личность даже
полноправного гражданина не признавалась сама по себе. Она
целиком определялась исполняемой гражданином публичной функцией.
Мы знаем, как внешне выглядел Пифагор, только потому что он
дважды побеждал на Олимпийских играх. Однократный победитель
не мог рассчитывать на портретное сходство в своем скульптурном
изображении. Человек, лишенный прав полисного гражданства,
погружался в личностное небытие.
Западноевропейские нации-государства возникли в XV-XVII вв.
на базе договорного права. Феодальные государства признавали
корпорации в гражданском качестве коллективных личностей, однако в
договоры с ними не вступали. Городские коммуны, получавшие в
Новое время статус бургов (в соответствии с Магдебургским правом),
вступали друг с другом и с политическим сувереном в договорные
отношения. Формируя тем самым принципы будущих гражданских
кодексов и конституций.
Конечно, и в дореформенной России возникали суррогаты
корпоративности. Обычно упоминается в связи с этим крестьянская
община, «мир». На самом деле, и сельские податные общины, и городские
посады создавались российским государством для собственных
целей: на них развёрстывались подати и натуральные повинности.
Устанавливалась коллективная, то есть упрощенная, ответственность
податного населения. Никакая общественная самоорганизация при
этом не поощрялась. Так называемые «земские» структуры
неизменно оказывались подручными «приказных».
Российское государство группировало своих подданных, исходя
из фискальных и служебных интересов. Иван Грозный назначал
удачливых предпринимателей «государевыми гостями». Это была
410
особая категория богатых людей, которым государь доверял
ведение своих обширных коммерческих операций. «Гости» отвечали
головой и личным имуществом за неуспех царских торговых дел. Царь
обычно имел завышенные притязания относительно их доходности.
Характерно, что ни один из «гостей» Ивана Грозного не сумел
передать свой привилегированный статус потомству. Всех раздавило
бремя недобровольного «хеджирования» государевых торговых
операций.
Все российские «корпорации» XV-XVII вв. были сообществами,
созданными не инициативным, а приказным путем. Наряду с
«гостями» в Московском царстве существовали суконная, черная и
прочие «сотни», так же не защищенные корпоративным правом.
Когда Петр I учреждал купеческие гильдии, он обязывал торговцев
покупать в Коммерц-коллегии лицензию и вносить денежный залог.
Залоговыми суммами распоряжались власти, а не
профессиональные гильдии. Декретируя создание городских магистратов,
Екатерина II более успешно структурировала общество. Но и она,
следуя Петровским заветам, действовала подобно нетерпеливому
садовнику, вытягивающему дерево за верхушку. Муниципальные
органы, например, создавались раньше формирования муниципий.
В городских магистратах верховная власть агрегировала
производственные и торговые интересы горожан, не признавая за ними
политических и гражданских прав.
Социально не продуктивные попытки корпоративно соорганизо-
ваться предпринимали в XVIII в. и дворяне, собранные государством
в гвардейские полки. Осуществляя успешные дворцовые
перевороты, гвардия уменьшала институциональность государства, не
увеличивая взамен структурность общества.
14 декабря 1825 г. самодержавие пресекло последнюю, наиболее
крупную акцию военно-корпоративной самодеятельности
европейски ориентированного дворянства. После этого высшая власть резко
расширила участие в российском администрировании наемных
сертифицированных госслужащих — чиновников. В течение XIX в.
непрерывно множились административные функции государства и
соответствующие им структуры. Срабатывал биологический принцип
«функция рождает орган». Формировалась критическая масса
служебного люда. Она превращалась в социотехническую систему,
которая постепенно монополизировала правоприменительные и
распорядительные функции государства.
После реформ Александра II в России появились первые
корпорации. Например — земства, не входящие в административную систему
411
сообщества экономически и социально активных людей с
коллективным имуществом и региональной инфраструктурой: местные дороги,
земские больницы и школы, дома призрения.
Однако органы земского самоуправления не могли составить
серьезную конкуренцию чиновничеству. Обретя конкурентное
преимущество самоорганизующейся социотехнической системы,
чиновничество быстро стало самой эффективной российской корпорацией.
Оно остается таковой до настоящего времени. Еще Николай I
признавал, что Россией управляет не столько он, сколько «сто тысяч
столоначальников». С тех нор любой малоимущий, но вицмундирный
«Акакий Акакиевич» оказывался корпоративно сильнее любого
частного просителя. Даже если тот являлся в казенное присутствие в
дворянской фуражке с красным околышем. В XIX в. произвол
госчиновников только отчасти ограничивался корпоративной силой
дворянских собраний. А. И. Герцен писал, что в недворянских губерниях
Российской империи власть даже низовых государственных
служащих над населением становится абсолютной. Верховная власть
периодически объявляла войну произволу и коррупции имперской
бюрократии. Но эти кратковременные кампании не давали устойчивых
системных результатов. «И даже царская власть, которая бьет, как
картечь, вязнет в этих траншеях из снега и грязи» (А. И. Герцен.
Былое и думы).
Впрочем, количество госслужащих и чиновников Российской
империи, по сравнению с индустриально развитыми странами, в начале
XX в. оставалось достаточно скромным. Известная ленинская оценка
царской России как «самой чиновничьей страны мира»
социологически не достоверна. Согласно первой общероссийской переписи
населения 1897 г., один чиновник приходился на 881 жителя империи.
Этот количественный показатель бюрократизации был в шесть-
восемь раз меньше, чем в Германии, Франции или США.
Наличие эффективных организаций — непременное условие
успеха всех модернизаций, известных истории. И порядок невозможен
вне организаций: он составляет их имманентное свойство. Сегодня в
России наиболее эффективны бюрократические организации. При
всем разнообразии их внешних форм и структурных конфигураций,
любые организации (бюрократические — в том числе) обнаруживают
неизменные атрибуты.
Первый и наиболее очевидный из них: ориентированность на
исполнение определенных функций. Организации не создаются и не
существуют в качестве самоцели. Они всегда позиционируются в
рабочей роли, предназначенной для решения задач, трансцендентных
412
по отношению к их исполнителям. Само слово «организация» произ-
водно от древнегреческого organon, что означает «инструмент».
«Эта инструментальность очевидна в практике самых ранних из
известных нам формальных организаций — тех, что строили
египетские пирамиды, великие империи, соборы и армии. Однако именно с
изобретением и распространением машин, особенно в ходе
промышленной революции в Европе и Северной Америке, концепции
организаций стали по-настоящему механистическими... Если рассмотреть,
какие изменения в организации сопровождают индустриальную
революцию, то обнаружится нарастающая тенденция к
бюрократизации и рутинизации жизни в целом»1.
Организации, управляемые машинным образом, сегодня принято
называть бюрократическими. Однако, как уже отмечалось,
большинство из существующих организаций в какой- то мере
бюрократизированы, так как механистический образ мыслей, распространившийся в
индустриальную эпоху, сформировал базовые понятия о
неотъемлемых признаках любых организаций. Всегда предполагается наличие
в них неких упорядоченных отношений между четко определенными
частями, расположенными в установленном порядке.
Бюрократический тип организации сформировался в Новое
время в качестве исторической альтернативы феодальному способу
самоорганизации господствующих слоев населения. Немецкий
социолог Макс Вебер рассматривал бюрократию как специальную
модель социального доминирования в эпоху первичной
индустриализации европейских стран. Он первым провел отчетливую параллель
между механизацией промышленности и распространением
бюрократических организаций: бюрократизация автоматизирует процесс
администрирования точно так же, как машина автоматизирует
производство.
Другим историческим прототипом бюрократических организаций
является механистический строй западноевропейских армий XVIII в.
Наиболее последовательно этот строй воплотился в прусской армии,
созданной королем Фридрихом II Великим. С его именем связана
целая эпоха военных реформ, имевших целью «машинизацию»
военного дела. Фридрих правил почти полвека (1740-1786 гг.) и многое
успел сделать в сфере милитаризации и бюрократизации своего
государства. Он унаследовал от предшественников на прусском троне
неуправляемое сборище, именуемое армией. Государственные воору-
Морган Г. Образы организации. М., 2008. С. 35.
413
сообщества экономически и социально активных людей с
коллективным имуществом и региональной инфраструктурой: местные дороги,
земские больницы и школы, дома призрения.
Однако органы земского самоуправления не могли составить
серьезную конкуренцию чиновничеству. Обретя конкурентное
преимущество самоорганизующейся социотехнической системы,
чиновничество быстро стало самой эффективной российской корпорацией.
Оно остается таковой до настоящего времени. Еще Николай I
признавал, что Россией управляет не столько он, сколько «сто тысяч
столоначальников». С тех нор любой малоимущий, но вицмундирный
«Акакий Акакиевич» оказывался корпоративно сильнее любого
частного просителя. Даже если тот являлся в казенное присутствие в
дворянской фуражке с красным околышем. В XIX в. произвол
госчиновников только отчасти ограничивался корпоративной силой
дворянских собраний. А. И. Герцен писал, что в недворянских губерниях
Российской империи власть даже низовых государственных
служащих над населением становится абсолютной. Верховная власть
периодически объявляла войну произволу и коррупции имперской
бюрократии. Но эти кратковременные кампании не давали устойчивых
системных результатов. «И даже царская власть, которая бьет, как
картечь, вязнет в этих траншеях из снега и грязи» (А. И. Герцен.
Былое и думы).
Впрочем, количество госслужащих и чиновников Российской
империи, по сравнению с индустриально развитыми странами, в начале
XX в. оставалось достаточно скромным. Известная ленинская оценка
царской России как «самой чиновничьей страны мира»
социологически не достоверна. Согласно первой общероссийской переписи
населения 1897 г., один чиновник приходился на 881 жителя империи.
Этот количественный показатель бюрократизации был в шесть-
восемь раз меньше, чем в Германии, Франции или США.
Наличие эффективных организаций — непременное условие
успеха всех модернизаций, известных истории. И порядок невозможен
вне организаций: он составляет их имманентное свойство. Сегодня в
России наиболее эффективны бюрократические организации. При
всем разнообразии их внешних форм и структурных конфигураций,
любые организации (бюрократические — в том числе) обнаруживают
неизменные атрибуты.
Первый и наиболее очевидный из них: ориентированность на
исполнение определенных функций. Организации не создаются и не
существуют в качестве самоцели. Они всегда позиционируются в
рабочей роли, предназначенной для решения задач, трансцендентных
412
по отношению к их исполнителям. Само слово «организация» произ-
водно от древнегреческого organon, что означает «инструмент».
«Эта инструментальность очевидна в практике самых ранних из
известных нам формальных организаций — тех, что строили
египетские пирамиды, великие империи, соборы и армии. Однако именно с
изобретением и распространением машин, особенно в ходе
промышленной революции в Европе и Северной Америке, концепции
организаций стали по-настоящему механистическими... Если рассмотреть,
какие изменения в организации сопровождают индустриальную
революцию, то обнаружится нарастающая тенденция к
бюрократизации и рутинизации жизни в целом»1.
Организации, управляемые машинным образом, сегодня принято
называть бюрократическими. Однако, как уже отмечалось,
большинство из существующих организаций в какой- то мере
бюрократизированы, так как механистический образ мыслей, распространившийся в
индустриальную эпоху, сформировал базовые понятия о
неотъемлемых признаках любых организаций. Всегда предполагается наличие
в них неких упорядоченных отношений между четко определенными
частями, расположенными в установленном порядке.
Бюрократический тип организации сформировался в Новое
время в качестве исторической альтернативы феодальному способу
самоорганизации господствующих слоев населения. Немецкий
социолог Макс Вебер рассматривал бюрократию как специальную
модель социального доминирования в эпоху первичной
индустриализации европейских стран. Он первым провел отчетливую параллель
между механизацией промышленности и распространением
бюрократических организаций: бюрократизация автоматизирует процесс
администрирования точно так же, как машина автоматизирует
производство.
Другим историческим прототипом бюрократических организаций
является механистический строй западноевропейских армий XVIII в.
Наиболее последовательно этот строй воплотился в прусской армии,
созданной королем Фридрихом II Великим. С его именем связана
целая эпоха военных реформ, имевших целью «машинизацию»
военного дела. Фридрих правил почти полвека (1740-1786 гг.) и многое
успел сделать в сфере милитаризации и бюрократизации своего
государства. Он унаследовал от предшественников на прусском троне
неуправляемое сборище, именуемое армией. Государственные воору-
Морган Г. Образы организации. М., 2008. С. 35.
413
женные силы, доставшиеся Фридриху, состояли из преступников,
нищих, иностранных наемников и неграмотных крестьянских
парней, призванных на военную службу против их воли.
Король-реформатор поставил государственную задачу:
превратить вооруженную толпу в надежный и эффективный боевой
инструмент. В реформах использовался опыт организации римских
легионов и профессиональных военных команд (кондотт), нанимавшихся
в XVI в. на службу к итальянским городам-государствам. К этому
организационному опыту реформатор добавил собственные новации,
на значительную часть которых его вдохновили механистические
изобретения XVIII в. — «автоматизированные человечки»,
выполнявшие несложные движения.
Фридрих Прусский ввел в своей армии воинские звания и
соответствующие им униформы, стандартные уставы, стандартное
снаряжение, искусственный язык стандартных команд. Прусская армия
постепенно превратилась в автоматизированный механизм,
состоявший из стандартизированных и легко заменяемых частей.
Для того, чтобы новосозданная армия действовала машино-
образно, применялась жесточайшая муштра. Система
неукоснительных наказаний за малейшее отклонение от установленных
стандартов и правил превратила прусского солдата в «механизм,
артикулом предусмотренный» (по восторженной оценке русского
императора Павла I — поклонника прусской военной системы).
Солдаты Фридриха не убегали с поля боя, так как боялись своих
офицеров больше, чем врага.
Однако русско-прусская Семилетняя (1755-1762 гг.) и франко-
прусская (1806 г.) войны продемонстрировали системную слабость
машинообразных армий, попадающих в ситуации, не
предусмотренные оперативными планами. Русская армия разгромила войска
Фридриа II в кровопролитных сражениях при Гросс-Егерсдорфе и
Куненсдорфе, благодаря оперативной инициативе среднего
офицерского состава и солдатской стойкости. «Русского солдата
недостаточно убить, — писал Фридрих. — Его еще надо толкнуть, чтобы он упал».
Капитуляции регулярных прусских войск перед военным гением
Наполеона (две — в один день: под Иеной и Ауэрштедтом) побудили
Пруссию приступить к профессионализации своей армии, на основе
глубокого и всестороннего образования офицерского корпуса и
многолетней выучки сержантского состава. Победы немецкой армии во
второй половине XIX и первой половине XX в. обнаружили их
слабую зависимость от природной военной гениальности и сильную —
от образованности полководцев II и III Германского рейха.
414
Далеко не все принципы прусской военной системы безвозвратно
ушли в прошлое. В современных профессиональных армиях
используются многие организационные новации, введенные Фридрихом
Великим. Например — разделение совещательных и командных
функций, децентрализация оперативного командного контроля (с
целью создания необходимой автономии низовых армейских
подразделений в меняющихся боевых ситуациях). Все профессиональные
армии мира (прежде всех — армия США) используют германский
опыт подготовки командного состава.
Сходство бюрократических организаций, военных структур и
машин имеет ограниченный и большей частью метафорический
характер. Машина любой степени сложности — это закрытая или
полузакрытая система. Все социальные и социотехнические системы (к
разряду последних относится бюрократия) полностью открыты для
положительных и отрицательных обратных связей с внешней средой.
Одной из основных форм этих связей является политика как форма
согласования интересов. Преследование последних представляет
собой исключительно человеческий атрибут целесообразного
поведения, не свойственный машинам.
В исходном историческом значении, политика являлась
производным осознанной общественной потребности «единения разных»
(Аристотель) в рамках полиса, города-государства. По мнению
философа, политика состояла из способов примирения несовпадающих
интересов граждан посредством переговоров, консультаций и
компромиссов. Политика помогала наводить порядок в разнообразии и,
одновременно, избегать тиранического правления как неправильной
формы социального доминирования.
Через два с половиной тысячелетия после Аристотеля социолог
Макс Вебер выявил три основных типа социального доминирования:
харизматическое, традиционное и рационально-легальное.
Харизматическое доминирование (др.-греч. charisma — дар
привлекательности) осуществляется лидером в силу его личных, внеин-
ституциональных качеств. Легитимность харизматического
правления основана на вере управляемых в персональный источник
успешности организаций. Достижения организационных целей ставятся в
причинно-следственную зависимость от личных усилий пророка,
героя, демагога, вождя. Административный аппарат при такой
модели социального доминирования является нестабильным,
неструктурированным и обычно работает за счет индивидуальной энергии
немногих учеников, соратников и посредников.
415
При традиционном господстве возникает внеличностное право
властвования. Оно подкрепляется почитанием подвластными
традиций «пошлины и старины» — в терминологии средневековой
Руси. Легитимность правления обеспечивается обычаем и
массовыми представлениями о правильности традиционных форм.
Административный аппарат работает в патриархальной либо
феодальной парадигме. При первой — администраторы составляют
близкий к правителю круг людей, лично зависящих от него и получающих
индивидуальное вознагражлдение (жалование или служебное
кормление). При второй модели администрирования должностные лица
сохраняют некоторую независимость от верховного правителя.
В ответ на свою преданность ему, феодалы автономно пользуются
бенефициями в рамках определенных сфер и не зависят напрямую от
верховной власти в своем статусном вознаграждении.
В рационально-легальном режиме функционирования власть
освящается законом, правилами и процедурами. Легитимность как
результат общественного одобрения, необходимого для
стабилизации власти, принимает правовые формы. Правитель получает
легитимную власть вследствие регулярных, предусмотренных писаным
законом общеизвестных процедур, определяющих порядок
назначения и вступления в должность. Административный аппарат,
адекватный этой модели властвования, становится бюрократическим:
рационально-юридической системой, при которой формальная
власть концентрируется наверху организационной иерархии. В
отличие от феодальной модели, средства администрирования не
принадлежат бюрократу, его должностная позиция не наследуется и не
продается. Существует строгое разграничение между частными и
официальными доходами бюрократов.
Бюрократическая модель законоподобного администрирования —
это апофеоз письменной формы правоустанавливающих,
правоприменительных, распорядительных, разрешительных, запретительных,
регистрационных, уведомительных, контрольных актов и
производных от них канцелярских бумаг. В буквальном переводе,
бюрократия — это «власть письменных столов», иерархия столоначальников.
Власть и подотчетность в бюрократических организациях тесно
связаны со специальными знаниями документооборота. Вебер называл
бюрократический аппарат инструментом власти первого порядка, не
нуждающимся в общественных производных.
Французский социолог Робер Мишель усматривает в
деятельности современных бюрократических организаций отчетливые
олигархические тенденции. В своем знаменитом «железном законе олигар-
416
хии» Р. Мишель развил концепцию перехода власти в современных
организациях к узким элитным группам, приобретающим закрытый
характер. Вспомним аналогичное определение, данное Президентом
В. В. Путиным в его Послании Федеральному Собранию РФ: «эта
закрытая и подчас надменная каста». Даже демократически
избранные лидеры, с самыми лучшими намерениями, обнаруживают
склонность становиться частью элиты, — того слоя, который преследует
собственные интересы, отличающиеся от интересов внеэлитного
большинства населения страны.
Всевластие бюрократической подсистемы государства может
эффективно ограничиться только сильным политическим
руководством, опирающимся на институты гражданского общества.
Подобного конструктивного взаимодействия в Российской
Федерации не наблюдается. Плохо контролируемая сила
российских бюрократических организаций в настоящее время
подрывается неполитическими средствами: развитием информационных
технологий, разрушающих иерархически построенную монополию
чиновников на участие в административном процессе. (Президент
РФ Д. А. Медведев назвал Интернет «мощным
антикоррупционным ресурсом».)
Данную монополию подтачивает и многообразие типов
организационных конфигураций, среди которых пространство, занимаемое
бюрократией, постепенно (хотя и очень медленно) сокращается. Этих
типов насчитывается пять: машинообразно действующая
бюрократия, дивизиональная форма организации, профессиональная форма,
простая организационная структура, адхократия (др.-греч. ad hoc —
для данного случая).
Первая и вторая конфигурации эффективны, когда решаемые
задачи просты, а внешняя среда стабильна. Организациям этого типа
свойственна централизованная система контроля. Они утрачивают
эффективность в условиях перемен.
Организации профессионального типа децентрализуют
внутренний контроль и власть. Им свойственна автономия структурных
подразделений. Профессиональные организации успешно решают
сложные задачи в относительно стабильных условиях. Функция прямого
контроля заменяется здесь общим принятием основных норм работ.
Для функционирования в нестабильной среде лучше подходят
простые структуры (лидер — группа помощников). Простая
структура с невысоким уровнем формализованности адекватна
инновационным компаниям, осуществляющим быстрые изменения, и любым ор-
417
ганизациям, оперативно решающим несложные задачи с небольшим
числом переменных.
Адхократия (термин ввел в научный оборот Уоррен Беннис для
описания временных организаций) хорошо подходит для решения
сложных и неясных задач в нестабильных условиях: пойди туда, не
знаю куда, принеси то, не знаю что. Данной организационной
конфигурации соответствуют временные проектные группы,
«виртуальные» творческие команды.
Разнообразие сосуществующих в современной России типов
организационной конфигурации повышает информационную
избыточность, вариативность общественной метасистемы. Следовательно,
увеличивается ее способность к развитию — в соответствии с законом
необходимого разнообразия систем. При росте количества разных
организаций усложняется общество и повышается его внешняя
устойчивость.
Внутренний общественный порядок зависит и от степени
насыщенности общества организациями разной конфигурации, и от
результирующих типов политического управления. Последние
маркируются способами решения проблем, актуальных для общества.
Общественные проблемы решаются:
— в автократиях — директивно («сделайте это так»);
— в бюрократиях — инструктивно («вы должны сделать это
так»);
— в технократиях — проспективно («лучше всего это делается
так»);
— в технодемократиях — корпоративно («это можно сделать
так»);
— в электоральных демократиях низкой интенсивности, полиар-
хиях — консультативно («это нужно делать так»);
— в интенсивной демократии участия — перспективно («как мы
будем это делать?»).
Ограничители власти
Гвардейские солдаты, выведенные декабристами на Сенатскую
площадь, имели смутное представление о целях выступления.
После подавления мятежа светские остряки утверждали, что
гвардейцы выступали «за великого князя Константина и жену его
Конституцию».
418
Во второй половине XIX в. в массовом сознании закрепилась
идея: Конституция — это не «жена Константина», а условие
национальной зрелости, общественной самодостаточности и
государственной служебности. После декабристов, «разбудивших
Герцена», подобные параконституционные идеи уже не покидали
просветительную сферу российской публицистики. За годы
коммунистического господства были приняты четыре варианта
Основного закона: 1918, 1924, 1936 и 1977 гг. Но все они
отличались декларативным характером. Конституционные права
граждан провозглашались, но не соблюдались и не закреплялись в
массовом правосознании правоприменительной практикой
государства. В силу инерционности форм общественного сознания, в
политической культуре большинства граждан РФ
конституционные нормы вряд ли занимают центральное место. Основной закон
РФ не вдруг станет предметом общественных переживаний. В
формировании массового правосознания Конституция РФ участвует
слабо. Так же как и многовековая история ее становления. Тут мы
вступаем на непаханное поле. Спросите любого, не забывшего
содержание школьного учебника по истории СССР: что ему
известно о российском конституционном процессе? Попросите
припомнить что-нибудь о первой конституционной хартии в России.
Опрашиваемый примется вспоминать — угадывать (по тестовой
методике ЕГЭ). Царский Манифест октября 1905 г.? «Царь
испугался, издал Манифест: мертвым — свобода, живых — под арест».
Не то? Намного раньше? Освобождение крестьян в 1861-м?
«Порвалась цепь великая, порвалась-раскачалася: одним концом
по барину, другим — по мужику». Впрочем, нет, верховная власть
при этом себя не ограничивала... Неужели указ Петра III «О
вольности дворянства»? 1762-й год? Государство тогда отказалось от
своего древнего права верстать всех дворян с 17 лет в
пожизненную службу. После этого указа заметно убыла государева сила.
Но ведь политических прав и гражданских свобод для населения
не прибыло. Да и крепостное право усилилось. Только оно стало
менее государевым и более помещичьим.
Смотрим далее. Екатерина II смягчала самодержавие
просвещением, но не ограничивала. При Павле I все сословия, кроме крестьян
и мещан, вновь встали во фрунт. Увеличилась непредсказуемость
власти, закон подменялся личным усмотрением государя. «План
государственных преобразований» (1808-1809 гг.), обозначивший
«дней Александровых прекрасное начало»? Нереализованный план и
непродолженное начало. Отмотаем ленту истории назад. «Регулярное
419
государство» Петра I, опричный произвол Ивана IV... Ни малейшего
проблеска конституционности.
Непростым оказывается поиск национальных корней ныне
действующего Основного закона России. Мало что даст и текстуальное
сопоставление Конституции РФ с Судебниками, Уложениями и
Сводами законов российского государства XV-XX вв. Не
обнаруживается искомая идеологическая преемственность.
Но судя хотя бы по государственной символике РФ: двуглавому
орлу Московского царства, петровскому триколору и советскому
гимну, современное российское государство демонстрирует
многовековую родословную. Несмотря на то что патина древности и стилевое
единство не просматриваются на недавно обретенном иконостасе
традиционной державности. Внешне — явный новодел и эклектика.
Органическая связь между означенными символами незаметна.
Тем более — связь конституционно-правовая.
Пунктирная линия российского конституционного процесса
недоступна поверхностному наблюдению. Крот истории рыл глубоко.
Конституция РФ не упала с неба. Она выросла и созрела на
национальной почве. Для доказательства этого неочевидного тезиса
предпримем повторный экскурс в историю Московского царства. С
учетом того, что параконституционные идеи XVI в. подпитывались
«пошлиной и стариной» предшествующих веков.
Богатый генофонд российской социальности и государственности
проявляется устойчиво, но полиморфно. «В комиссарах дурь само-
державья, взрывы революции в царях» (М. Волошин). Это мнение
поэта исторически достоверно лишь отчасти. Пятисотлетняя
ретроспектива обнаруживает, как минимум, две глубинные, не
совпадающие и конфликтующие тенденции российской государственности.
С 1452 г. Московское великое княжество не платило дани
ордынским ханам и фактически являлось независимым. Формальный
международно-правовой суверенитет оно обрело в 1480 г., вследствие
военной победы над Золотой Ордой, после долгого грозного
«стояния» на реке Угре. Куда повернул вектор новой государственности?
Обновило Московское великое княжество проложенную в IX-XII вв.
Новгородско-Киевской и Владимиро-Суздальской Русью
историческую колею, из которой их на два столетия выбила степная конница?
Вернулись великороссы в семью европейских народов, тогда еще
склочную, но энергично цивилизующуюся? Адаптировали к
российским условиям греко-римские основы правопорядка?
Большая часть корифеев западной (А. Тойнби, К. Виттфогель,
Р. Пайпс) и отечественной философии истории (Н. Карамзин,
420
С. Соловьев, С. Платонов) отвечают на данные вопросы
отрицательно. В этом пункте совпадают позиции знаменитых представителей
как государственной (юридической), так и социально-экономической
школ российской историографии. Здесь солидарны неолибералы с
неоконсерваторами, новые западники — с новыми евразийцами.
Только их обобщающие выводы из одного и того же
историографического материала знаково противоположны.
Несовпадение историософских оценок объясняется исходным
противостоянием, как уже было отмечено, двух начал российской
государственности: земского конституционализма и опричного
произвола власти. В периодических колебаниях между ними развивалась
наша история предшествующих пяти веков. Амплитуда
автоколебаний государственной системы между (условно говоря) Опричниной
и Земщиной обозначена ключевыми датами и громкими именами.
Постордынская история России началась блестящим
европейским столетием 1462-1558 гг. Это было время ее громадных
внешнеполитических успехов, почти бескровного собирания исконных
русских земель, прекращения феодальной розни, установления
контроля над речными торговыми путями, обретения портов на Белом,
Балтийском и Каспийском морях, бурного экономического роста и
строительства городов.
Судебник Ивана III в 1497 г. установил на территории
Московского великого княжества единый правопорядок, покончив с
сеньориальной персональностью права. Большая часть населения (крестьяне,
служилые и посадские люди, купцы и бояре) были лично
свободными. «Юрьев день» Судебника гарантировал крестьянам
беспрепятственность перехода (в течение двух недель около 26 ноября) на
земли с меньшими арендными обязательствами. Размер земельной
ренты, взимаемой землевладельцами в денежной форме, был
фиксированным и регулировался «пошлиной и стариной». Власть,
стреноженная обычаем, не оспаривала прав свободных людей на «отъезд»
(смену службы), «ряд» (договор) и «совет» (самоуправление).
Боярская дума законодательствовала, великий князь правил.
Развитие земского конституционализма продолжилось в
реформах местного самоуправления 1550 гг., предпринятых
правительством социального компромисса (называемым на польский лад
Избранной радой). Судебная и административная власть была
ненадолго отнята от хищных царских кормленщиков-наместников и
передана земским институтам: судам присяжных (целовальникам),
выборным губным (окружным) старостам, «излюбленным головам»,
«лутчим людям» из зажиточных крестьян и купцов.
421
Судебник 1550 г. содержал статью 98, ограничивавшую право царя
издавать законы «без совета бояр и всенародных человек».
«Всенародными человеками» именовались Земские соборы. Первый
из них собрался в 1550 г.
В юридической терминологии российского средневековья,
«старина и пошлина» представляли собой неписанную
квазиконституцию, взаимно признаваемую Землей и Дружиной. Сословно
организованная аристократия, земски сплоченные «лутчие люди», общинно
солидарные черносошные крестьяне выступали латентными
ограничителями государственной власти.
Все изменила самодержавная революция 1565-1583 гг. В
результате ее, Россия надолго свалилась в инволюционную яму. Даже
численность российского населения на одну пятую сократилась за эти
годы. Состояние Земли к концу царствования Ивана IV, в оценке
современников и независимых иностранных наблюдателей, выглядит
полностью деструктурированным.
Цивилизационные сломы такого масштаба происходят по
причинам глубинно тектоническим. Историософскому анализу их мешает
мифологичность российского исторического самосознания. Мифы —
первая форма обобщенного знания мировоззренческого характера.
Они способствуют панорамному видению длинных временных цепей
событий. Но выигрывая в широте охвата событийного материала,
мифологическое сознание проигрывает в глубине: в отслеживании
реальных (непосредственных и отдаленных) причинно-следственных
связей.
В мозаичном массиве исторических мифологем хрестоматийно
выглядит представление о безальтернативной неизбежности
российского самодержавия. Оно рассматривается в качестве
единственного инструмента суверенизации российского государства,
предоставленного Северо-Восточной Руси постордынской историей.
Самодержавие действительно являлось инструментом дефеодали-
зации и централизации Московского царства. Но эту роль могла
выполнить система королевского абсолютизма без колоссальных
общественных издержек, испытанных Московским царством во
второй половине XVI в. Миф об исторической неизбежности и
прогрессивности самодержавия аксиоматически предполагает:
самовластие одного лица системно укрепило во второй половине
XVI в. Московское царство. Государственная Смута начала XVII в.
опровергает это предположение.
В реальности, вторая половина XVI в. не выдвигала перед
Московским царством задачи государственной централизации. В не-
422
отложную повестку дня в тот период встали: 1) интеграция
объединенных земель, уже стянутых к тому времени централизующим
обручем единодержавной великокняжеской власти; 2) модернизация
централизованного государства. Самодержавная революция
преследовала не государственные, а личные и сословно-групповые цели
Ивана IV и дворянского меньшинства государствообразующих слоев
российского населения.
Интеграционный процесс в конце XV — первой половине XVI в.
успешно осуществлялся экономически активными группами
населения (княжатами, боярами, крестьянскими «лутчими людьми»,
купцами и городскими ремесленниками). Они были вовлечены в товарно-
денежные отношения. В конце XV — первой половине XVI в. быстро
формировался общероссийский рынок. Страна переживала
экономический подъем. Регулярный обмен (торг) выполнял функцию
общественного интегратора. Наравне с другими: общностью исторической
судьбы, языка, конфессии, территории совместного проживания.
Однако политический союз между инновационными группами
населения отсутствовал. Параллелограмм
социально-экономических и политических сил, сложившийся к середине XVI в., имел
в качестве результирующего вектора лишь слабое реформаторское
правительство государственно-земского неустойчивого
компромисса, Избранную раду. (Этот «Временный комитет»
реформаторски настроенной Боярской думы повторится в феврале 1917 г. в
еще более катастрофическом варианте коалиционного Временного
правительства.)
Избранной раде противостояли мощные контрреформаторские
силы, а именно: служилое дворянство, монастыри-латифундисты,
иерархическая верхушка церковного клира. Последняя успела, под
воздействием канонической пропаганды религиозных фундамента-
листов=иосифлян, к Стоглавому архиерейскому собору 1551 г.
подавить в своей среде организационную оппозицию нестяжателей.
Начатая Иваном III и Вассианом Патрикеевым, духовным лидером
протестантов — заволжских старцев, Реформация русской
православной церкви остановилась. (Идеологические наследники
иосифлян, сегодня именующие себя «национал-патриотами» и «новыми
евразийцами», считают культурным преимуществом России перед
Западом именно то, что она не пережила ни Ренессанса, ни
Реформации, ни Просвещения. Характерный пример нужды,
объявляющей себя добродетелью.)
Контрреформаторы с разных сторон толкали царя к
самодержавной революции. Дворянство — «слева» (с внеэкономических позиций
423
резкой социально-политической перегруппировки и
насильственного имущественного передела боярских владений). Иерархи РПЦ
выступали «справа» (с экономических позиций «тарханных»
иммунитетов церкви и сохранения монастырских латифундий). Левых
экстремистов и правых фундаменталистов объединял общий
материальный интерес. Они стремились переориентировать царскую
власть (испытывавшую хронический земельный голод) от
секуляризации монастырских земель — на деприватизацию и конфискацию
вотчинных земельных владений, с последующим разделом их среди
дворян на условиях служебного испомещения.
Неустойчивое равновесие сил реформы и контрреформы
нарушила Ливонская война. Закритическое напряжение социально-
политической системы разрешилось небывалым в российской
истории «взрывом революции в царях». Первый самостоятельный выход
дворянства на политическую сцену совершился в форме опричнины.
Конституционная 98-я статья Судебника 1550 г. так и не вступила
в действие. А в период 1565-1583 гг. была фактически уничтожена
вся правовая система государственно-политического абсолютизма
западноевропейского типа, сложившаяся в предшествовавшее
столетие. Утвердилось всеобщее крепостное «право». Употребление этого
словосочетания представляет собой, строго говоря, юридический
оскюморон. Однако многовековая инерция словоупотребления
заставляет даже юридическую науку пользоваться понятием, в котором
стоящие рядом «слова рычат друг на друга».
Царствование Федора Иоанновича при фактически
единоличном регентстве Бориса Годунова (1584-1598 гг.) отмечено
непоследовательными попытками умеренных наследников революционной
опричной власти заключить новый компромисс с Землей. Попытки
продолжились при формально земском избраннике — царе Борисе
(1598-1605 гг.). Конституционно не ограниченная власть пыталась
осуществлять политику сокращения масштаба властного
принуждения, избирательного государственного патернализма,
расширения социальной базы режима. Дезорганизованная самодержавной
революцией, Земщина стихийно сопротивлялась даже
рациональным мерам Кремля. «Я думал свой народ в довольствии и славе
успокоить, / Заботами любовь его снискать. / Но отложил пустое
попеченье... / Упал на землю нашу глад. / Народ завыл, в мученьях
погибая. / Я житницы открыл, я им сыскал работы, / Они ж меня,
беснуясь, проклинали. / Живая власть для черни ненавистна, /
Они любить умеют только мертвых» (А. С. Пушкин. Борис
Годунов).
424
ft Земское избрание царя, ранее не известное российской истории,
не примирило Власть и Землю. Слишком велика была травма,
нанесенная стране самодержавной революцией и опричным террором.
Гражданская война стучалась в дверь. Государственная смута стояла
у порога.
Печальная выгода тревожных времен
Народ безмолвствовал политически, но кричал социально. Его
громадную протестную энергию антиопричная боярская оппозиция
попыталась канализировать в политическое русло. Однако по нему
покатилась не столько антирежимная, сколько антигосударственная
волна. В ней смешались несовместимые силы. В. О. Ключевский
пишет, что первый Лжедмитрий был «выпечен в польской печке, но
заквашен в Москве», уточняя: в окружении Шуйских и Романовых.
Антинациональное орудие боярского заговора в 1605 г. вышло из-под
контроля. Аристократия повторно попыталась оседлать тигра
русского бунта. Не решаясь на открытое выступление против «законного
царя Дмитрия Иоанновича», она взбунтовала московский посад
против польского окружения первого Самозванца. Под прикрытием
бунта заговорщикам удалось убить Лжедмитрия I. Таранным ударом
политической анархии аристократия надеялась избирательно
сокрушить только опричную «государеву крепь», восстановив
традиционный правопорядок «старины и пошлины». Удалось это лишь отчасти
и на короткое время.
В лице боярского царя В. И. Шуйского (1606-1610 гг.) Россия
получила реальный, но упущенный шанс конституционного
ограничения самовластия. Верховная власть клятвенно обязалась
демонтировать репрессивную машину самодержавия. «Подкрестная запись»
Шуйского была дана им под давлением аристократии. Боярская дума
определила условием возведения на престол одного из
представителей старшей ветви Рюриковичей издание им хартии,
ограничивающей царский произвол. Судьба этого исторического документа не
была счастливой.
Причина национальной невостребованности первой в истории
России хартии вольностей кроется в политической слабости
суверена, издавшего этот протоконституционный акт. Источником
легальности публичной власти нового монарха явилось не наследственное
право, а узкосословные выборы. Они не получили общеземского одо-
425
брения. Будучи легальной, власть Шуйского не обрела легитимности.
Только пережив ужасы государственной смуты и гражданской войны,
российский политический класс легитимизировал в 1613 г. соборное
избрание царя предварительным «приговором всей земли».
Кандидатура Михаила Романова получила общеземское
согласование в результате первого в истории России плебисцита.
Подобно английской Великой хартии вольностей 1215 г.,
вырванной мятежными баронами у Иоанна Безземельного, «Под-
крестная запись» В. И. Шуйского ввела в государственную
практику письменный договор Власти и Земли. Одновременно, задолго до
знаменитого итальянского правоведа Чезаре Беккариа, был
сформулирован юридический принцип презумпции невиновности. Текст
царской присяги 1606 г., разосланный по российским городам и
публично там оглашенный, содержал обязательство верховной власти
«без вины опалы не класть», жизни и имущества у любого из
подданных не отнимать, без суда не наказывать, наказание осужденного
не распространять на членов его семьи и рода. Таким образом,
закладывались российские основы западноевропейского habeas corpus
(личной неприкосновенности).
Однако политически незрелый, социально узкий,
институционально не закрепленный российский параконституционализм начала
XVII в. не успел пустить цепкие корни в толщу народной жизни.
На историческую авансцену незапланированно выдвинулась
внесистемная оппозиция. Сначала это было антигосударственное
движение Ивана Болотникова, которому советская историография
совершенно неосновательно приписывала социально-освободительную
миссию. Никакой социальной программы болотниковцы не имели.
Если не считать программой негативный лозунг безвластия.
Под страшным ударом анархической волны затрещало
государственное здание. Власть едва устояла. Но ненадолго.
В июле 1610 г. новый внесистемный «человек с ружьем» —
провинциальное дворянство, возглавляемое братьями Ляпуновыми, при
молчаливом одобрении посадского населения Москвы, «свело» с
московского престола несамодержавного монарха и насильно
постригло его в монахи. В. И. Шуйский умер в польском плену.
К власти пришла Боярская дума, состоявшая из семи членов
(«семибоярщина») — тогдашнее «Временное правительство»,
выражавшее интересы московского истеблишмента. Рядом и в
противовес ему немедленно возникли анархические «Советы» —
беспоместные дворяне и казацко-крестьянская вольница. Государственно
ориентированные средние слои (аналог «цензовых граждан» XX в.)
426
еще до свержения В. И. Шуйского предприняли попытку
политической самоорганизации, аналогичную борьбе за созыв
общероссийского Учредительного собрания, происходившей в дооктябрьский
период 1917 г.
В феврале 1610 г. в подмосковном селе Тушино начал свою госу-
дарствоустроительную работу Общелагерный собор. На малой сцене
тушинского военного стана «Советы» XVII в. попытались провести
генеральную репетицию будущего Избирательного собора 1613 г.
На шатавшийся московский престол претендовали несколько
кандидатов: Лжедмитрий II («Тушинский вор»), шведский и польский
королевичи. Бояре, испомещенное Годуновым столичное и
провинциальное дворянство, имущая часть московского посада склонились к
кандидатуре польского королевича Владислава Сигизмундовича.
Выработкой конституционных условий его избрания и занялись
«соборяне», в согласии с Боярской думой. В качестве исходной базы
заключаемого с Владиславом Избирательного договора
использовались условия избрания двух предшествующих царей: Бориса
Годунова и Василия Шуйского. Собор утвердил проект новой, более
зрелой конституционной хартии (автор текста — М. Салтыков). Она
содержала в себе не только общие начала, ставящие заслон произволу
верховной власти, но также определяла конкретные
организационные формы, реализующие эти начала. Идеологи московского
политического класса осознавали неукорененность подобных идей в толще
народной жизни. Им было намного легче ограничить самодержавие
иностранного принца, нежели — местного. Поэтому Общелагерный
собор и Боярская дума обратили свои взоры на Запад.
Конституционный проект М. Салтыкова включал в себя: условия
земского избрания на престол Бориса Годунова (невыполненные им),
текст Подкрестной записи В. И. Шуйского, основные идеи Статутов
Речи Посполитой. Последние четко ориентировались на
политическую культуру европейского кандидата.
Собор постановил пригласить на московский престол польского
королевича Владислава. От его имени гетман Жолкевский принял
все статьи российской «Великой хартии вольностей».
(Симметричные правоустанавливающие акты Речи Посполитой назывались
«Магна карта», в латинской транскрипции европейского
политического термина.) Гетман заключил с Боярской думой и
Общелагерным собором международный правовой акт — договор о
приглашении на московский престол Владислава Сигизмундовича. Появился
новый реальный шанс конституционного ограничения
самодержавия. Однако неисполнение Москвой вышеуказанного Избира-
427
тельного договора послужило формальным оправданием открытой
польской интервенции 1611-1612 гг.
Государственно неопытные земские силы и кланово
организованная аристократия дурно воспользовались редкой исторической
возможностью. Они не сумели заключить друг с другом устойчивый
политический союз.
Противоречивую роль сыграли в 1610 г. и церковные иерархи.
Возвращения опричного произвола верховной власти церковь,
конечно, не желала. Однако — помнила, что иосифлянский клир
недальновидно подталкивал Ивана Грозного к самодержавной
революции. От последней духовенству досталось не меньше, чем боярам,
крестьянам и посадским людям.
Договорная десакрализация царской власти, предусмотренная
конституционным проектом М. Салтыкова, неизбежно ослабляла
духовно-политическое и материальное влияние церкви на мирские
дела. Земский (светский) источник легитимности и суверенитета
государя исключал саму возможность православного «цезарепапизма».
Притязания церкви на государственное соправительство заявлялись
каждый раз при ослаблении центральной светской власти.
Впоследствии они практически реализуются патриархами Филаретом
и Никоном.
Низовой и средний церковный аппарат с 1611 г. активно
включается в национально-освободительную борьбу. Земски
ориентированная церковь, объединяющая клир и мирян, духовно консолидирует
силы национального сопротивления иноземной оккупации. Троице-
Сергиев монастырь героически выдерживает многомесячную
польскую осаду. Это, безусловно, сыграет свою мобилизующую роль.
Письма низложенного патриарха Гермогена, пересылаемые из
заточения, будут вдохновлять нижегородского мещанина Козьму Минина,
воспламеняя религиозно-патриотические чувства потенциальных
земских ополченцев. Ыо почему Гермоген оказался в сентябре 1610 г.
низложенным и заключенным в московскую тюрьму? Вернемся в те
судьбоносные дни.
Потерпев летом 1610 г. военное поражение под Москвой,
Лжедмитрий II бежал в Калугу. Там к нему на помощь пришли
казаки, остатки разбойничьей армии Болотникова. Но эти внесистемные
силы не смогли бы беспрепятственно продолжать разрушение
остаточных островков правопорядка, если бы объединились статусные,
сословно идентифицируемые слои населения. Избрание Владислава
на московский престол временно их соединило. Но социальная рознь
428
вскоре опять расколола российский политический класс.
Продолжилась гражданская война.
Патриарх Гермоген резко выступил против избрания
неправославного монарха. Гермогена поддержали казаки — сторонники
«Тушинского вора» (Лжедмитрия II), зарубившие дворянского
вождя Прокопия Ляпунова. Казаки тогда играли внесистемную роль
большевиков русского Средневековья. Они разогнали Общелагерный
собор. Дворянская его часть объединилась с Боярской думой,
переместившись в Москву. Жители Москвы, хотя и недружно, все же
присягнули на Девичьем поле Владиславу, находящемуся тогда в
положении, зависимом от московского политического класса. Король
Сигизмунд поддержки сыну не оказывал.
Польский отряд гетмана Жолкевского — представителя
Владислава — беспрепятственно вошел в столицу. Гермогена
заключили в монастырский подвал. Место низложенного
первосвященника занял «тушинский» патриарх Филарет — отец будущего
царя Михаила Романова и государь-соправитель в 1619-1633 гг.
Показательно, что свой духовный сан архиепископа Ростовского он
получил неканонически, от Лжедмитрия I. Сан патриарха
Московского и всея Руси первоначально был получен Филаретом от
Лжедмитрия П. Канонически правильное избрание патриарха
Филарета состоялось после его возвращения из польского плена
в 1619 г.
Представительная делегация сторонников Владислава,
отправленная к Сигизмунду в октябре 1610 г., была сформирована
Общелагерным собором, Боярской думой и московскими
выборными людьми. Сигизмунд остановил российский конституционный
процесс, пытаясь направить его политическую энергию в
конфедеративное русло. Король предложил заключить государственно-личную
унию Речи Посполитой и Московского царства по образцу польско-
литовской унии 1385 г.
Становясь московским наследственным царем, Сигизмунд не
оставлял польский трон. В качестве конституционно ограниченного,
выборного короля Речи Посполитой, зависимого от польской знати и
шляхты, Сигизмунд III намеревался править Московским царством
из Варшавы. Московские делегаты опасались этнополитической и
религиозной дискриминации русской элиты. Основания для
опасений такого рода давал исторический результат трех литовско-
польских уний. В соответствии с последней (Брестской унией 1569 г.),
Литовское великое княжество утратило свой суверенитет,
растворившись в Речи Посполитой. Поэтому делегаты Боярской думы, дво-
429
рян, посада и РПЦ отвергли проект русско-польской конфедерации и
были взяты поляками под стражу. Филарет провел в польском плену
девять лет, откуда вернулся противником выборной монархии и
шляхетского «либерум вето».
Москвичи вскоре «перерубились» с поляками Жолкевского,
бесцеремонно хозяйничавшими в городе. Польский гарнизон легко
подавил неорганизованное восстание практически безоружного
посадского населения Москвы. Поляки запретили москвичам держать на
своих дворах колотые дрова, которые могли быть использованы в
уличных столкновениях с чужеземными патрулями. С 1611 г.
оккупанты сосредоточились в Китай-городе и Кремле.
Первое патриотическое ополчение 1611 г., почти год безуспешно
простоявшее под Москвой, не выдвигало конституционных
требований. Идея правового ограничения верховной государственной власти
потеряла к тому времени свою актуальность, по причине отсутствия
самой этой власти. В 1611-1612 гг. на территории некогда единого и
суверенного Московского царства володели и правили десятки
враждовавших друг с другом «полевых командиров». Польские бродячие
отряды на фоне остальной вооруженной вольницы не выглядели
наиболее разнузданными. Всеобщий ужас вызывали казаки.
Минин и Пожарский долго не решались на привлечение к штурму
Китай-города этих страшных союзников. Вождей Второго ополчения
вынудили к сотрудничеству с казаками собственная военная слабость
и посреднические усилия келаря Троице-Сергиева монастыря
Авраамия Палицына. В итоге, Москва была освобождена 4 ноября
1612 г. объединенными отрядами Первого (казачьего) и Второго
(дворянско-земского) ополчений.
Политические силы, восстановившие Московское царство, имели
несовпадающие государствоустроительные планы. Российская
аристократия, потерявшая за годы Смуты былую роль
правительственного класса, не оставила прежних конституционных намерений.
За политические образцы она брала польско-литовские и шведские
государственные статуты. Но аристократия в тот исторический
момент не имела достаточной вооруженной опоры. Да и внутри себя она
не могла согласиться. Князь Мстиславский, например, сам хотел
взойти на престол, при невозможности «подсадить» туда королевича
Владислава. Д. М. Пожарский поначалу заявлял себя сторонником
шведского принца. Провинциальное мещанство, спасшее страну,
своего голоса не имело. На Избирательном соборе оно оказалось в роли
политически не самостоятельного младшего партнера служилого со-
430
словия. Символично, что в Избирательном манифесте подпись
Д. М. Пожарского была поставлена дважды: второй раз он расписался
за неграмотного К. Минина.
В результате трехмесячных споров, казацко-дворянское
большинство Избирательного собора 1613 г., не одобрявшее польско-литовско-
шведских конституционных затей и олигархических притязаний
Боярской думы, отвергло (как антинациональные) кандидатуры всех
иноземцев и иноверцев. Опираясь на свое военное преимущество,
казацко-дворянская часть собора обеспечила избрание на
«отеческий» престол (без ограничительных статей) компромиссного
кандидата — юного Михаила Романова. За Земским собором было
оставлено юридически не определенное право «помогать государю в его
делах». Новая государственная история Московского царства
потекла по старому самодержавному руслу.
В первой половине XVII в. Земские соборы созывались
шестнадцать раз, постепенно утрачивая государственные функции, по
нисходящей: учредительные — законодательные — законосовещательные —
осведомляющие власть о земских нуждах — инструктивные
совещания «чинов всей земли». Со второй половины XVII в. соборы не
созывались ни разу. Исторический процесс латентного ограничения
самовластия надолго остановился.
«Есть печальная выгода тревожных времен, — пишет
В. О. Ключевский, — они отнимают у людей спокойствие и
довольство. Взамен того — дают опыт и идеи»1. Однако затянувшиеся на
несколько веков автоколебания российской государственной системы
между Опричниной и Земщиной не позволили российской
политической элите воспользоваться выгодами тревожных времен.
Самодержавная революция 1565-1583 гг. предопределила
дезинтеграцию общества и государственную смуту. Вместо модернизации,
инициированной административной, военной, судебной и земскими
реформами 1550-х гг., самодержавие надолго закрепило архаизацию
госуправления.
Восстановив самодержавие в его «отеческом» варианте, государ-
ствоустроители начала XVII в. на триста лет продлили в России
историческое существование евразийской парадигмы отношений
государства и общества. Эта парадигма, из-за ее цивилизационной
малопродуктивное™, к тому времени уже была отвергнута передовыми
странами Западной Европы. Самодержавие, блокирующее самодея-
Ключевский В. О. Сочинения в восьми томах. Т. 3. С. 66-67.
431
тельную активность общества, в конце XVI — начале XVII в.
наглядно продемонстрировало свою государственную неэффективность.
Оно само не выдержало кризисного испытания на династический
разрыв и геополитическое сжатие. С тех пор главной заботой высшей
власти России становится самосохранение. Нередко — с прямым
ущербом для страны.
В этом отношении показательно Уложение 1649 г. Оно
зафиксировало социально-политический строй Московского царства после
выхода его из самодержавно-опричной революции, гражданской
войны и смуты второй половины XVI — начала XVII в. В качестве
источников легитимности и силы восстановленного порядка Уложение
1649 г. определяет: божественное происхождение самодержавия,
наследственное династическое право и привилегии служилого
сословия, испомещенного на государевой земле.
Уложение не содержит в себе даже намека на земский
корпоративизм, местное самоуправление и гражданские права подданных.
Вместо прав — перечень служебных и тягловых обязанностей
сословий и всеобщая «государева крепь». Конструкция высшей
политической власти обрела устойчивость пирамиды, поставленной на острую
вершину. Внутренняя государственная неравновесность системно
обусловила последующие рецидивы опричнины и «взрывы
революции в царях». Опричная гвардия Петра, опричная «бироновщина»
Анны Иоанновны, гатчинская клиентелла Павла, номенклатурная
диктатура большевиков...
Разорванные Кондиции
После смерти Петра Великого немедленно расслабилась
организационная мускулатура «регулярного государства». Созданный
Преобразователем политический механизм никогда не
функционировал регулярно, то есть по устойчивым правилам, системно-
параметрически. Он всегда находился в режиме ручного управления.
Тому свидетельство — три тысячи бессистемных и неисполненных
указов «революционера на троне», изданных ad hoc (по конкретным
поводам). В этом отношении Петровские указы, предназначенные
для разрешения оперативно возникающих ситуаций, подобны
декретам большевистского Совнаркома. Это — фирменный стиль
самовластия: верховенство законов оно подменяет высочайшими
распоряжениями.
432
Деперсонализация высшей государственной власти и в
современной демократической России далека от завершения. В массовом
сознании институт президентства заслоняется личностью главы
государства. «Эпоха Ельцина», «эра Путина», «тандем Медведева —
Путина» — не фигуры речи, а почти политологические маркеры.
Личностная окрашенность в еще большей степени свойственна
функционированию высшей власти в откровенно автократических
режимах. Здесь политические биографии лидеров страны — нерв ее
истории.
Непосредственные преемники Петра I были людьми
государственно слабыми и личностно не крупными. Однако в 1720-х гг. они
сумели остановить начатую могучим Преобразователем институ-
ционализацию высшей власти. Ее реперсонализация облегчалась
тем, что процесс Петровской модернизации не зашел далеко, не
достиг стадии необратимости. Государственный империум в
послепетровские царствования переходил из рук в руки, подобно частному
имуществу, по схеме хозяйственных распоряжений.
Такое недопустимое смешение частно-правового и публично-
правового оснований государственности после Петра I выглядело
анахронизмом. В XVIII в. оно отвергалось правосознанием
западноевропейского политического класса. Четкое и необратимое
разведение королевской собственности (доминиума) и королевской власти
(империума) состоялось в национальных западноевропейских
государствах. Несводимость публичного к частному, закрепленная
формальным правом, массовым правосознанием и инерцией
правоприменения, превратилась в устойчивую политическую традицию.
Выступая в качестве латентного ограничителя личного произвола
суверена, эта традиция препятствовала трансформации королевского
абсолютизма в самодержавие.
Сам Петр невольно способствовал реваншу вотчинной архаики.
Принцип безличной регулярности государственной власти,
утверждаемый Петровскими реформами, не закрепился в институтах. В
частности, сломав традиционный для России порядок престолонаследия
(от отца — к старшему сыну), император не озаботился
организационно-правовой регламентацией новой процедуры передачи
государственного империума. После санкционированного убийства
несчастного царевича Алексея Петровича, бездоказательно
обвиненного в «злоумышлениях супротив особы государя», Петр указал:
назначение престолонаследника отныне не подчиняется инерции
безличного порядка. Оно определяется исключительно
субъективным выбором и личной волей самодержца.
433
В течение XVIII в. неоднократно возникал чреватый
государственной смутой вакуум высшей российской власти. Первый (в
длинной череде дворцовых переворотов) образовался в ночь смерти Петра
Великого. Династический кризис в конце января 1725 г. был
творением рук Петровых, державно сильных, но к концу жизни
ослабевших. Сил императора хватило лишь на два завещательных слова:
«Все отдать...» Решающим толкователем невысказанной монаршей
воли выступил «счастья баловень безродный, полудержавный
властелин» — А. Д. Меншиков. Весомость его престолонаследным
толкованиям придали гвардейские полки.
На опустевший трон взошла Екатерина I. Началась эпоха женских
правлений. В России, в отличие от Франции, не существовало
«закона салических франков», запрещавшего женщинам царствовать.
Дискриминационного «негоже лилиям прясть» не знала даже
Древняя Русь.
«Верховный тайный совет для дел ее Величества» во главе со
светлейшим князем Меншиковым олигархически распорядился
троном после смерти первой императрицы. Будущий
генералиссимус российских войск ловко переметнулся на сторону своих
аристократических врагов. Государственный империум вручили
подростку — сыну царевича Алексея, убитого по приказу Петра I, при
политическом соучастии всех высших сановников, в том числе
А. Д. Меншикова.
Петр II оказался преемником своего великого деда не по
наследственному династическому праву. Оно уже было отменено Петром I
и еще не восстановлено Павлом I. Родители Петра II к тому же не
царствовали. С гораздо большим основанием, в соответствии с
традиционным правопорядком, могла занять престол дочь двух
последовательно царствовавших родителей — Елизавета Петровна.
Почему же «верховники» дважды обходили ее своим выбором, в
1726 и в 1730 гг.?
Она была дочерью «революционера на троне». А в Верховном
тайном совете доминировали традиционалистски ориентированные
представители старинных аристократических родов. Их уничтожал
Иван Грозный, третировал Борис Годунов, обманывал первый
Лжедмитрий, фрагментировала на родовые кланы Смута, удаляли от
двора первые Романовы, чиновно уравнивали с «новиками» из
низших сословий Петровской Табелью о рангах. Но российская
аристократия не покидала высших сфер правительственного класса. Ее
лебединая песня прозвучала после ранней и неожиданной кончины
юного Петра II, руками которого князья Долгорукие и Голицыны
434
успели забросить в далекий Березов самого крупного из «птенцов
гнезда Петрова» — А. Д. Меншикова.
Пятнадцатилетний император не оставил завещательных
распоряжений о престолонаследии. Этим немедленно
воспользовалась конституционно настроенная часть высшей аристократии.
Начало 1730 г. отмечено государствоустроительной активностью
Верховного тайного совета, идеологически руководимого князем
Д. М. Голицыным.
Как уже отмечалось, согласно традиционному династическому
праву, престол после смерти бездетного внука Петра I принадлежал
дочери Петра I и Екатерины I — Елизавете Петровне. В соответствии
с Петровским революционным «правопорядком» — неизвестно кому.
Но свято место пусто не бывает. И проекты великих государственных
хартий, подобно рукописям мастеров слова, «не горят». На
поверхность политической жизни их поднял «вакуумирующий взрыв»
междуцарствия. Не на пустом месте возникли знаменитые Кондиции
Верховного тайного совета, обусловившие аристократическое
избрание на российский престол Анны Иоанновны.
В Кондициях реанимировался основательно забытый, но
внезапно востребованный дворяно-боярский конституционный проект
М. Салтыкова (1610 г.). Как и сто двадцать лет назад, российскую
аристократию вдохновляли правительственная роль сената Речи
Посполитой и шляхетское liberum veto, блокирующее посягательства
высшей власти на вольности политического класса. Но за этот же
исторический период укрепления дворянского государства
самодержавие успело основательно вышколить свое опорное служилое
сословие. И последнее уже не помышляло о правовых ограничениях
самовластия.
В советской историографии бытовала пренебрежительная оценка
конституционных «затеек верховников» 1730 г. Подчеркивалась их
историческая бесперспективность. Главное доказательство: они не
удались. Фатализм однолинейности исторических процессов —
фирменный знак гегелевской школы классической историософии. Между
тем, в январе 1730 г. процесс конституционирования высшей власти
вошел в зону многозначной бифуркации.
Российская аристократия попыталась воспользоваться
«печальными выгодами тревожных времен». Аксиоматически
предполагалось, что легче ограничить самовластие иностранного принца, не
имеющего в России родовых связей и партийной клиентеллы.
Но обычным препятствием являлось вероисповедание кандидата на
престол. Следовательно, приходилось искать православного предста-
435
вителя дома Романовых, оторванного от национальной среды.
«Верховники» остановились на кандидатуре Анны Иоанновны,
племянницы Петра I, вдовствующей герцогини Курляндской.
Провинциальная немецкая заштатность и политическая слабость Анны
предопределили этот выбор. «Надобно себя полегчить» — так
сформулировал Д. М. Голицын сословные выгоды конституционного
ограничения самодержавия.
При земском избрании Михаила Романова российская
аристократия обманулась в своих политических надеждах: «Миша-де молод и
нам будет поваден». Поэтому она заранее обусловила приглашение
Анны Иоанновны на престол ограничительными статьями —
Кондициями. Из компетенции выборного главы государства
изымались вопросы: объявления войны и заключения мира; распоряжения
государственным бюджетом (содержание императорского двора
определялось цивильным листом); производства в воинские чины
выше армейского полковника или гвардейского поручика;
назначений членов Верховного тайного совета, Сената, Синода и
правительственного Кабинета; именных пожалований государственных и
удельных земель.
Олигархия в России — политически не укорененный институт.
Сама идея непредставительного группового господства
противоречит национальному менталитету. Она не вписывается в массово
воспринимаемые образы субсидиарного, арбитражного и тем более
патерналистского государства, которому общество привычно
делегирует системообразующие функции в их полном объеме. Даже
европеизированная и рыночно ориентированная часть современного
российского общества болезненно переживает асоциальную
приватизацию государственной собственности. И в прошлом она
«ощетинивалась» при малейших намеках на приватизацию государственной
власти. Правящее сословие России никогда не принимало групповых
«прихватизаторов» государственного империума. Именно в этом
непопулярном облике «предстали в глазах дворянства «верховники»
1730 года.
Кондициями закладывались основы конституционной монархии,
обремененной руководительством несменяемого аристократического
ареопага. В государственной логике подобной формы правления,
боярская «советность» необходимо дополняется и уравновешивается
земской «соборностью». Однако в России 1730 г. Земские соборы не
созывались уже около ста лет. Политическая традиция ослабла.
Олигархические притязания Верховного тайного совета
заблокировали успешно начатый процесс модернизации государства в духе
436
статутов Речи Посполитой. «Верховники» боялись крайностей
дворянской анархии, поэтому liberum veto оставили за собой. Было бы
трудно укоренить в российском правительствующем Сенате
польскую процедуру абсолютного, непреодолеваемого шляхетского veto:
в сейме Речи Посполитой или в провинциальных сеймиках любой
шляхтич мог выйти на трибуну, брякнуть по ней саблей и произнести
императивное «не позволям».
Российская аристократия сама лишила себя дворянской
поддержки, не озаботившись проблемой (впоследствии разрешенной
Екатериной II) сословного местного самоуправления. Олигархи
руководствовались не сословными, а клановыми интересами.
Временно оказавшись в зависимом положении иноземной
принцессы, лишенной российской клиентеллы, Анна Иоанновна
старательно демонстрировала собственные «кондиционные»
преимущества перед иными возможными кандидатами на роль
конституционного монарха: политическую непритязательность и готовность к
самоограничениям самодержавной власти. Домостроевский ритуал
общественного поведения бездетной вдовы предписывал личную
скромность, потребительскую умеренность и покладистость в
общении с сильными мира сего. Первоначальному отсутствию
самодержавных намерений Анны можно верить. Опричная вдовья часть,
выделенная ей «верховниками» из имперского наследства Петра
Великого, гигантски превосходила скудную и тусклую курляндскую
долю. Поэтому вдовствующая герцогиня поспешно подписала
присланные ей Кондиции, начертав на них: «Быть по сему. Анна».
Но пока новоизбранная императрица совершала долгий зимний
путь от Митавы до Санкт-Петербурга, российский конституционный
процесс захлебнулся во внутренних распрях политического класса.
И вновь провинциальное дворянство сыграло роль
антиконституционного «человека с ружьем». (Предводительствуемое братьями
Ляпуновыми, оно аннулировало в июле 1610 г. Подкрестную запись
В. И. Шуйского, сведя его с престола. Заокские помещики создали
вакуум высшей государственной власти. В то тревожное лето они
собрались в Москве с иными служебными намерениями: для обороны
ее от вооруженных банд Лжедмитрия II.) В январе 1730 г.
провинциальное дворянство съехалось в столицу для участия в похоронах
Петра II. И — осталось в Петербурге для того, чтобы похоронить
Кондиции. Петровский генерал-прокурор Павел Ягужинский, не
допущенный в тесный олигархический круг, первым сумел известить
вдову герцога Курляндского о дворянской оппозиции
конституционным «затейкам верховников».
437
Еще на подъезде к Петербургу Анна приняла депутацию офицеров-
преображенцев, дала им обед, на котором благосклонно выслушала
верноподданические речи о необходимости принятия
«нестесненного самодержавства». После чего демонстративно возложила на себя
(вопреки Кондициям) звания полковника и шефа
Преображенского полка.
Многочисленные дворянские депутации убедили Анну в том, что
Верховный тайный совет не полностью контролирует гвардию и не
пользуется поддержкой основной массы политического класса.
По прибытии в столицу Анна поручила собравшимся во дворце
дворянам представить ей в письменном виде свои
государствоустроительные соображения. Импровизированное «квазиучредительное
минисобрание» длилось недолго. Его члены коленопреклоненно
просили императрицу «восприять неограниченную власть». Не желая
подчиняться мягкому групповому управлению (по «Статутам Речи
Посполитой»), дворянство добровольно отдалось жесткому и
безотчетному диктату одного лица. Модернизированной узде оно
предпочло патриархальное ярмо.
«Так ты меня обманул, Василий Лукич!» — театрально
воскликнула Анна, обращаясь к одному из главных «верховников», князю
В. Л. Долгорукому. Затем она приказала принести подписанные ею
Кондиции и публично их разорвала. Веселая вдова под руку с
Бироном зашагала по трупам недостаточно раболепных подданных.
Средневековое частно-правовое понятие «вдовьей доли»
внезапно обрело свое второе, публично-правовое, значение образа
правления. Впервые введенный в государственную практику Иваном
Грозным, этот образ получил зловещее имя «государевой
опричнины». Запрещенное Грозным с 1572 г., под страхом смерти, даже к
упоминанию, проклятое современниками историческое имя прикрылось
в 1730 г. псевдонимом «бироновщины», произносимым с оглядкой и
шепотом.
Приведенные АннЪй в Россию толпы курляндцев быстро
оттеснили местную аристократию от главных рычагов политической
власти. Началась кровавая смена верхнего слоя властвующей
элиты. Заполнились пыточные камеры и крепостные казематы.
Заработала репрессивная машина самовластия. По словам
В. О. Ключевского, немцы, словно голодные кошки, обсели со всех
сторон российский трон. Создаваемые волнами государственного
террора, вакансии административного и военно-полицейского
аппарата империи быстро заполнялись хищными выдвиженцами и
назначенцами бироновской придворной клики. Они посыпались
438
отовсюду. Критерий номенклатурного отбора в течение
десятилетнего царствования Анны Иоанновны оставался неизменным —
личная преданность Бирону.
«Административная отвага» (А. И. Герцен) и полное
пренебрежение законом стали фирменным стилем этого свирепо-веселого
режима. Уже находясь на смертном одре, императрица назначила регентом
при ребенке-императоре Иване Антоновиче своего многолетнего
фаворита. Успев шепнуть ему политическое напутствие: «Не бойся!»
Оснований бояться, в самом деле, у новоназначенного правителя
империи было не очень много.
В продолжении первых шести послепетровских царствований
личная воля самодержца являлась единственным основанием
легитимного наследования высшей государственной власти. Безлично
действующий закон о престолонаследии появился только в 1797 г.,
при Павле I. Но и Павловская военно-бюрократическая система
функционировала в режиме преимущественно ручного управления.
Устойчивость высшей власти зависела от того, насколько надежно
она контролирует свой главный силовой инструмент — опричную
гвардию.
Российская гвардия возникла в Петровские времена в качестве
альтернативы стрелецкому войску. Она выросла из «потешных»
полков юного Петра, и ее первая функция была не военной, а охранной —
политической. Латинское слово «гвардия» по-русски означает
«охрану». Древним имперским аналогом русской гвардии Петра является
охрана преториума (военной ставки римского императора) —
преторианцы. Лишь впоследствии личная охрана молодого государя
превратилась в элитную часть русской армии. Петру удалось разрешить
дилемму, оставленную ему в наследство Иваном Грозным:
соединение в охранном корпусе трудносочетаемых военных и политических
функций.
Во времена Ивана Грозного армейской элитой были царские
пушкари и стрельцы — серьезная боевая сила, взявшая Казань и Астрахань.
А опричный дворянский корпус — политический предшественник
Петрговской гвардии — чаще всего демонстрировал военную
профнепригодность. Это показали и Ливонская война 1558-1583 гг., и
сражения с Крымской ордой в 1571-1572 гг. Летом 1572 г. судьба
Москвы, уже сожженной крымчаками и ногайцами в
предшествующем году, буквально повисла на волоске. Опричники позорно бежали
вместе с царем в Новгород, оставив столицу на произвол судьбы. Все
это происходило на глазах Европы, изумленной неожиданным
ослаблением еще недавно могучего государства. Но европейцам не был
439
известен масштаб опричного террора, обескровившего и
деморализовавшего страну.
Судьбоносное сражение в июле 1572 г. при реке Молоди по
историческому значению было почти равно Куликовской битве. Его
выиграло земское войско под командованием князя Михаила
Воротынского. Военный успех Земщины заставил Ивана IV
формально уничтожить в 1572 г. скомпрометированный институт
опричнины, путем преобразования его в «особный двор». В 1575 г. «двор»
трансформировался в «удел Иванца Московского, Ростовского и
Псковского», якобы отрекшегося от царского престола и притворно
уступившего верховную власть «великому князю всея Руси Симеону
Бекбулатовичу». 30 октября 1575 г. «Иванец Московский с сыном
Иваном» били челом «великому князю всея Руси», испрашивая у
него позволения на введение в Московском государстве
чрезвычайного положения — нового «перебора людишок». Позволение было
немедленно дано. Московское царство накрыла новая волна
репрессий. На сей раз казням подверглась верхушка старой опричнины,
формально отмененной в 1572 г.
Террористическая активность режима самодержавия несколько
снизилась, но не прекратилась. Через год после сражения с
крымчаками и ногайцами при Молоди царь собственноручно пытал
победоносного полководца, обвиненного в сговоре с Крымом. Подгребая к
бокам распятого на земле Воротынского горящие угли, Грозный
ласково спрашивал: «Не холодно ли тебе, князь?» В благодарность за
спасение Москвы, царь ненадолго оставил в живых искалеченного
земского военачальника, отправив его в далекую северную тюрьму,
по пути в которую М. И. Воротынский умер.
Главное профессиональное достоинство охраны — преданность
охраняемому. Однако государственная ненадежность гвардейцев,
преторианцев и опричников — их обычное рабочее состояние. Оно
детерминировано самой внесистемной ролью орудий
персонального (неинституционаЗгьного) силового доминирования властителя.
Эти орудия применяются вне правового алгоритма, в режиме
ручного, непараметрического управления. Вымуштрованная Петром и
преданная лично ему гвардия долгое время воспринималась в
качестве особо доверенной государевой охраны и вела себя своевольно.
Охрану слабых суверенов она осуществляла «факультативно».
Этим гвардия отличалась от армии — безличного государственного
института. Бирон намеревался «раскассировать преторианцев»,
разбросав гвардейцев по армейским частям. «Преторианцы» его
опередили.
440
Сакрализованную высшую власть нельзя «трогать руками»: это
было уже впечатано в национальный российский менталитет. Но
регентство иноземца и лютеранина Бирона не являлось сакральным в
глазах тех тридцати гвардейцев, которые под предводительством
фельдмаршала Миниха вошли ноябрьской ночью 1740 г. в спальню
правителя, завернули его в ковер и отнесли в кордегардию.
Новой правительницей империи провозгласили Анну
Леопольдовну, племянницу покойной императрицы Анны Иоанновны и
мать младенца-императора. Год длилось ее слабое правление,
формально авторитарное и неавторитетное в реальности. Оно
окончилось декабрьской ночью 1741 г., когда гвардейцы под
предводительством цесаревны Елизаветы Петровны вошли в спальню
легкомысленной правительницы. «Вставайте, сестрица, пора!» — объявила
одетая в Преображенский мундир дочь Петра Великого. Анну
Леопольдовну завернули в шубу и отнесли в кордегардию. Елизавета
посадила императора-ребенка к себе на колени, поцеловала его,
вздохнула: «Бедный малютка!» После чего — отправила Ивана VI в
одиночную крепостную камеру, где несчастный экс-император
проведет четверть века и будет убит тюремной стражей при неудавшейся
попытке его освобождения честолюбивым поручиком Мировичем.
Но это произойдет уже при Екатерине II.
«Наказ для Уложенной комиссии»
На пьедестале Медного всадника гордая надпись: «Петру
Первому — Екатерина Вторая». Объявлена историческая
преемственность верховных руководителей государственных преобразований.
Однако в период 1762-1796 гг. модернизация государства
осуществлялась отнюдь не Петровскими революционными методами.
Европейское Просвещение в середине XVIII в. набирало обороты,
вовлекая в свой круг политическую элиту Российской империи.
В высших петербургских сферах витали параконституционные идеи,
именуемые «уложенными». Европейски образованная и
западнически ориентированная новая российская элита получила в лице
Екатерины II сильного лидера.
Созданная Петром I, имперская политическая конструкция
висела в воздухе. Отсутствовали связанные с «почвой» нижние этажи
государственного здания. Его правовая инфраструктура состояла из
системно не связанных блоков: Уложения 1649 г., нескольких тысяч
441
царских указов, сотен решений Боярской думы и Земских соборов,
сенатских постановлений, ведомственных регламентов. Исторически
сложившаяся и бюрократически слежавшаяся нормативная база
нуждалась в пересмотре и кодификации. Такая работа не
проводилась в России более ста лет.
«Бунташный» XVII в. и длинная череда дворцовых переворотов
первой половины XVIII в. свидетельствовали о внутренней
неравновесности общества. Системная устойчивость государственного
строя и политического режима находилась под угрозой. Непрерывно
нарастала социальная напряженность. Она вскоре взорвалась
небывалым по размаху казацко-крестьянским восстанием 1771-1773 гг.
(«пугачевщиной»). Крестьянская война консолидировала
привилегированные слои населения. Воодушевляя их на подавление
мятежа, Екатерина II пропагандистски объявила себя «казанской
помещицей». Надо сказать, что императрица намного раньше дворянства
почувствовала подземные толчки масштабного социального
протеста. Высшая власть попыталась упредить взрыв или, по крайней
мере, укрепить государственное здание
административно-правовыми «поясами сейсмоустойчивости». На эти цели направлялась
государствоустроительная активность императрицы в 1766—
1767 гг.
Прилежная ученица европейских политических мыслителей
осознавала, что дворянство, организованное лишь военно-бюро-
кратически, не справляется с системной ролью
правительственного класса. Управляющая подсистема должна превосходить
управляемую степенью структурно-функциональной сложности. А
дворянство двести лет (со времен опричного корпуса Ивана Грозного)
оставалось общественно не структурированным. Петровская
Табель о рангах выстроила правящее сословие «в шеренги по
росту», а гвардия казарменно его сплотила. Для совершения
дворцовых переворотов этего было достаточно. Для управления
огромной страной — нет.
Граждански организованного общества Россия второй половины
XVIII в. не имела даже на уровне социально привилегированных
слоев. Хотя термин «общество» стал литературно и разговорно
общеупотребительным именно в Екатерининскую эпоху. Равно как и
«общественное благо», в качестве предмета особого государева
попечения. Но еще целое столетие корпоративно не зрелому
российскому обществу предстояло играть роль «партикулярных
окрестностей» государственной службы. Провинциальное дворянство, на-
442
пример, только начало корпоративно смыкаться в уездные и
губернские собрания в результате административной реформы
1775 г.
Именным указом 1766 г. Екатерина II предписала созыв Большой
Комиссии для кодификации существующих законов и выработки
нового обобщающего их Уложения. Отсюда второе (полуофициальное)
название Большой Комиссии — «Уложенная».
Уложение 1649 г. было разработано правительством царя Алексея
Михайловича, утверждено самодержцем и поддержано Земским
собором. Однако в 1766 г. самодержавная власть не могла опереться
на традицию земского соучастия в законотворчестве. Традиция
существенно ослабла в основном — в национальной
представительности Земских соборов. Их участники не избирались уже в 1649 г. Они
назначались центральной властью либо делегировались ее
провинциальными ответвлениями. Очередное инструктивное совещание
центральной власти с «чинами всей земли» уже не
соответствовало бы масштабу государствоустроительных задач, стоящих перед
страной в 1766 г.
В соответствии с императорским указом, депутатов Большой
Комиссии надлежало избирать. Эта политическая новость
взволновала все лично свободное население империи. Местные власти
получили из центра указания организовывать состязательные выборы по
сословиям, но не подбирать депутатов келейно и аппаратно.
Во всех губерниях, кроме малороссийских, цензово
сформированный корпус выборщиков в конце 1766 — начале 1767 г. активно
вырабатывал депутатские наказы. Затем — приступал к выборам
депутатов на альтернативной основе. Избранному рейтинговым
голосованием депутату вручались письменные наказы, иногда сразу
несколько — одному. Поэтому 564 депутата Большой Комиссии
привезли в Москву полторы тысячи наказов, две трети которых
содержали описания крестьянских нужд.
Что касается низкой избирательной активности допущенного к
выборам лично свободного населения малороссийских губерний, то
она объяснялась саботажем местной польской шляхты, опасавшейся
сокращения своих традиционных сословных привилегий.
Извещенная об этом, императрица предписала гетману Малороссии не
драматизировать ситуацию и воздержаться от использования
административного ресурса.
Высшая власть демонстрировала свою заинтересованность в
полноте национальной представительности государственного законосо-
443
вещательного собрания. Политическое пространство империи в
середине XVIII в. было уже централизовано. Все государственно
значимые решения принимались в Петербурге. Но это же пространство
только вступало в фазу интеграции. В частности административному
имперскому механизму предстояла «стыковка» на губернском и
уездном уровнях управления с дворянскими собраниями и городскими
ратушами. Перестройка верхних этажей государственного здания не
планировалась.
Показательно в связи с этим малое число депутатских мест,
отведенных в составе Большой Комиссии для представителей Сената,
Синода, правительственного Кабинета, высшего чиновничества:
двадцать восемь, в том числе только одно — для Синода (его занял
митрополит Новгородский Дмитрий). 200 депутатов представляли
городских домовладельцев, 70 — армейские части,
расквартированные на окраинах империи, 150 — провинциальных и столичных
дворян, 50 — однодворцев и пахотных солдат, 50 — инородцев.
Заседания Комиссии открылись 30 июля 1767 г. в Грановитой
палате Московского кремля. Депутаты приступили к публичному
чтению 653 тезисов (параграфов) императорского «Наказа». Такое
рабочее название получила «Инструкция ее императорского
величества Екатерины II для Комиссии, предназначенной к
составлению проекта нового кодекса законов».
Это знаменитое компилятивное сочинение императрица писала
два года, руководствуясь идеями передовых политических
мыслителей Европы. «Наказ» содержал множество раскавыченных цитат из
политологического трактата Монтескье «О духе законов». Основные
идеи указанного сочинения состояли в балансировке феодальных и
государственных интересов: знать приглашалась к позитивному
сотрудничеству с короной, королевскому абсолютизму
рекомендовалось функциональное разделение властей. Необходимости
государственного попечения о блате подданных, нравственному долгу
монарха перед нацией, равенству всех общественных сословий и
государственных чинов перед единообразно действующими
законами посвящены десятки страниц «Наказа». В нем нашли адекватное
отражение гуманистические максимы итальянского правоведа
XVIII в. Чезаре Беккариа. Базовые положения его трактата «О
преступлениях и наказаниях» превратились в параграфы «Наказа»,
обретя директивную силу. Ей противостояла инерция многовекового
правоприменения в Российском государстве, не испытавшем
культурного влияния правовых систем греко-римской античности.
444
Поэтому Екатерина предписывает разработчикам уголовного
законодательства руководствоваться западноевропейской аксиоматикой
состязательного судопроизводства, основанного на презумпции
(предположении) невиновности любого обвиняемого. В
первоначальном варианте «Наказа» содержались этико-юридические
рассуждения о благе человеческой свободы и пагубности для государства
крепостного права.
Задолго до официального опубликования конституционно-
просветительного меморандума Екатерина представила его на
«критическую апробацию» интеллектуальной элиты. Безусловно
положительную оценку «Наказ» получил в письменных отзывах Вольтера,
Дидро, Даламбера, прусского «короля-философа» Фридриха II,
гетмана Малороссии К. Разумовского, вице-канцлера П. Безбородко,
идеолога российских умеренных конституционалистов Н. Панина.
Дозированно критическую — со стороны княгини Е. Дашковой,
поэтов Д. Сумарокова и Г. Державина. Последние критиковали «Наказ»
с позиций помещиков-крепостников и способствовали изъятию из
его текста антикрепостнических тезисов.
Среди депутатов выделялись академической ученостью и
парламентским красноречием руководитель внешнеполитического
ведомства империи Никита Панин и представитель ярославского
дворянства князь Михаил Щербатов. Активный участник дворцового
переворота 1762 г., Н. И. Панин являлся воспитателем наследника
престола, великого князя Павла Петровича. M. М. Щербатов вошел в
историю либерально-консервативной мысли трактатом «О
повреждении нравов в России». Петровские преобразования здесь
критикуются за избыточно насильственный характер. Но — признаются их
позитивные итоги в областях военного и административного
строительства.
Маршалом (спикером) Комиссии императрица назначила
Александра Бибикова — одного из четырех представленных ей
депутатов, набравших при баллотировке наибольшее количество
голосовав 1772 г. А. Бибикову предстояло главнокомандование в
подавлении, пугачевского бунта.) Обязанность председателя
Комиссии исполнял князь Шаховской, генерал-прокурора
Комиссии — князь Вяземский. Трудно назвать этих лиц
безответственными «пикейными жилетами» или рептильными
придворными. Однако первой законодательной инициативой Большой
Комиссии, воодушевленной публичным чтением императорского
«Наказа», было преподнесение автору директивного меморандума
445
торжественного титула «Мудрой матери Отечества». Екатерина
нового титула не приняла.
Чтение и обсуждение нескольких сотен местных наказов заняло у
депутатов полгода неспешной законодательной работы. Крестьянская
тематика и сословная градуировка привилегий старого
(наследственного) и нового (личного) дворянства выявили острое
противостояние традиционалистов и умеренных модернизаторов. Императрица
проявляла нетерпение и побуждала депутатов приступить, наконец, к
систематизации основных государственных актов. Начавшаяся
вскоре русско-турецкая война приостановила работу Уложенной
комиссии. Затем разразилась «пугачевщина». Комиссия более не
собиралась. Однако протоколы ее заседаний снабдили российское
правительство ценным социологическим материалом и повлияли на
характер екатерининских административных реформ 1770-х гг.
В создании рационально функционирующих государств
западноевропейские монархи Нового времени опирались на особую группу
королевских советников-легистов. Проникнутые духом всеобщности
римского права, западноевропейские легисты сплотились в
профессиональные корпорации. Последние неоднократно играли роль
коллективных инструментов административных реформ, помогая
королям преодолевать феодальный юридический партикуляризм. Ничего
подобного Россия не знала.
Век спустя после блестящего европейского столетия России
1462-1558 гг. московская приказная администрация представляла
собой полусословную недобюрократию. Нечто среднее между бе-
серменами (басурманами) Золотой Орды и кормленщиками
раннего постордынского периода. Историческое дежа вю длилось
несколько веков.
Рационально-легальной бюрократии («идеалтипической» — по
Максу Веберу) Россия не обрела ни в петровском «регулярном»
государстве, ни в Екатерининской «просвещенной монархии», ни в
Николаевском «царстве столоначальников».
Екатерина II продолжала петровскую рационализацию нижних
этажей государственного управления, не посягая на его социальный
фундамент. Между тем, сословная архаика Российского государства
системно гасила инновационные импульсы первичной
индустриализации. В Российской империи назрела необходимость социально-
административной реформы, с которой обычно связывают «дней
Александровых прекрасное начало». Но она оказалась наглухо
заблокированной реакционным дворянством и косным чиновничеством.
446
А ее основной разработчик — M. M. Сперанский, действовавший по
прямому поручению самодержца, — обвиненным в государственной
измене. Консервативная бюрократия одолела либеральную адхокра-
тию. Реформаторский «негласный комитет молодых друзей»
Александра I (новое издание Избранной рады) утратил свое влияние
на императора. Антиземская позиция российского политического
класса возобладала.
«План государственного преобразования», разработанный
Сперанским в 1808-1809 гг., реализовался частями через пятьдесят,
сто и сто девяносто лет — в 1864,1907 и в 1994 гг. — в земских
учреждениях, III Государственной думе Российской империи, I
Государственной думе Российской Федерации.
Глава 7
ПЕРВЫЙ РАЗ - В СРЕДНИЙ КЛАСС
Операторы смыслами и ресурсами
XXI век будет эпохой бурного развития социогуманитарных
технологий, в которых гуманитарная интеллигенция окажется в роли
основного оператора смыслами: креативного, репродуктивного,
медиативного. До сих пор эта роль проявлялась преимущественно в
непроизводственной сфере, наиболее наглядно — в «домене искусства»,
если воспользоваться термином Фомы Аквинского из его «Суммы
теологии». Домен искусства может рассматриваться в качестве
испытательного полигона гуманитарной составляющей будущих
социогуманитарных технологий. Для них значимым окажется то, что
происходило в искусстве XX в.: противостояние жреческого и мирского,
кастового и общедоступного, беспредметного и фигуративного,
модернистского и классического, инновационного и традиционного.
Гуманистический антропоцентризм классического искусства был
сочтен в XX в. «человеческим, слишком человеческим». В
произведениях модернистского и постмодернистского направлений он
перестает быть точкой отсчета и масштабом эстетических измерений.
Искусство здесь отторгается от объективного бытия, освоенного
человеком. Более того, оно изымается из субъективного человеческого
переживания, связанного опытом адекватного отражения.
Комбинаторно-рассудочная деятельность художника творит новую
реальность. От искусства требуется преодоление естественных образов
вещей.
Кантовский тезис об автономии художественной реальности
по-разному интерпретируется мыслителями XX в. Ж. Маритен,
например, видит онтологически обеспеченную художественную
реальность в средневековом символическом реализме, отображавшем не
столько видимости, сколько сущности предметного мира. Смысловая
иерархия человеческого окружения являлась базовой матрицей
средневекового искусства. В соответствии с этой матрицей
выстраивались предметные формы художественной реальности. Технология ее
деформации оказалась заимствованной модернизмом XX в.
И символический реализм средневекового искусства, и
романтизм XVIII в., и психологический реализм XIX в. рассчитывали на
448
массовое эстетическое сопереживание. Для средневекового
«правоверного ремесленника» само существование классического канона
Большого стиля гарантированно обеспечивало отзывчивую
эстетическую среду. Модернизм, напротив, непопулярен по определению.
Элитарное модернистское искусство XX в. замыкается в эзотерике
собственного языка. Оно вносит раскол в эстетическое сознание
общества, деформируя предметные формы художественной
реальности. Это проявляется и в текстах, описывающих феномены
«разорванного сознания», и даже на уровне натуралистических зрительных
образов. Так, киномодернист XX в. Луис Бунюэль дебютировал эпа-
тажным фильмом, в начальных кадрах которого содержится символ
модернистского искусства: крупным планом показывается, как
бритва рассекает человеческий глаз. Показательно, что этот обобщающий
образ модернизма был подсказан кинорежиссеру классиком
сюрреализма Сальвадором Дали.
«Для большинства людей эстетическое переживание в принципе
не отличается от тех, которые сопутствуют повседневной жизни», —
отмечает исследователь нового непопулярного искусства Хосе
Ортега-и-Гассет. — Новое искусство чисто художественно. Тенденция
к его дальнейшему очищению от «человеческого, слишком
человеческого» приводит к разделению публики на художников и
нехудожников.
«Стиль, который вводит нечто новое, в течение какого-то времени
просто не успевает стать народным; он непопулярен, но также и
ненароден.
Вторжение романтизма, на которое можно сослаться в качестве
примера, как социологический феномен совершенно
противоположно тому, что искусство являет сегодня. Романтизму весьма скоро
удалось завоевать народ, никогда не воспринимавший старое
классическое искусство как свое... С тех пор, как изобрели книгопечатание,
романтические произведения стали первыми, получившими большие
тиражи. Романтизм был народным стилем par excellence.
Первенец демократии, он был баловнем толпы»1.
Античная эстетика не знала подобного противопоставления
нормативного и творческого начал в деятельности операторов
художественными смыслами. Общественная функция художников состояла
в расширении эстетически освоенного пространства общезначимого
блага. Греки обозначали эстетическое и моральное благо одним сло-
1 Ортега-и-Гассет. Дегуманизация искусства // Самосознание
европейской культуры XX века. М., 1991. С. 231.
449
вом «калокагатия», прекрасное-и-доброе. Это благо выходило за
пределы конкретных произведений, создаваемых художниками. Оно
относилось не только к предметам их творчества, но и к человеческим
действиям, связанным с этими предметами морально-эстетическими
сопереживаниями творца и публики.
Последние не оценивались в качестве средства достижения
прагматической цели. Благо самодостаточно, ценно само по себе.
Древние римляне определяли его словами bonum honestum, добро
как правота.
Операторы смыслами и ресурсами — основные акторы
человеческой истории. Первые подчиняются вероятностному принципу ис-
куснического делания. Действия вторых более жестко
детерминированы: природной средой, предметами труда, орудиями труда,
технологией их использования. Уже первобытный автор наскального
изображения мог творчески деформировать натуру. Он не был связан
ограничениями природных закономерностей. Этим он отличался от
охотника, «встроенного» в объективные причинно-следственные
связи. Первобытное искусство в качестве элемента культуры
противостояло своей образно-знаковой вариативностью алгоритмическим
технологиям предметной орудийной деятельности.
С появлением государств повышается уровень социализации
знаково-образной деятельности операторов смыслами. В
демократических Афинах VI-IV вв. до н. э. посещение театральных
представлений считалось политической обязанностью полноправных граждан.
Ее исполнение оплачивалось государством и приравнивалось к
участию в народном собрании. Законом запрещалось тратить
театральные деньги (феорикон) на иные цели, в том числе оборонные.
Должностные лица города-государства, допустившие такое
святотатство, подлежали казни. Свобода театрального творчества не
допускалась. Она воспринималась в качестве искажения эстетического
канона. Дионисийские массовые мистерии — прародители античного
театра — подчинялись строгому религиозному ритуалу,
сложившемуся в древние времена родовой предыстории. Античные трагедии
уже ориентировались на канон новой полисной гражданственности.
Она отличалась от устойчивой родовой идентификации дополисных
афинян своей нелинейной зависимостью от изменчивого баланса
политических интересов доминирующих групп. Афинский театр к IV в.
до н. э. превратился в мощный ретранслятор государственных
приоритетов, одобренных народным собранием. Все это давало Аристотелю
основание называть современные ему Афины IV в. до н. э. театрокра-
тией. Ее Аристотель противопоставлял положительному образу «по-
450
литии воинов» V в. до н. э., созданной героической работой
операторов материально-техническими ресурсами. В Афинах IV в. до н. э.
политически доминировали демагоги, использующие творческие
достижения операторов смыслами.
Устный эпос дополисных странствующих аэдов в течение VI-V вв.
до н. э. постепенно «этатизировался». Государственный
канонический текст «Илиады» и «Одиссеи» закрепился в формате
фонетического письма под идеологическим влиянием афинского тирана VI в.
до н. э. Писистрата и его сыновей. Ориентированный на
аристократические ценности, театральный канон античных трагедий
предшествующих веков расшатывался в IV в. комедиями Аристофана («Облака»,
«Лягушки»), в которых народный хор, вне связи с комедийным
сюжетом, демократически полемизировал с идеологами
аристократии — Сократом и Эсхилом.
Десакрализация религиозно-государственных текстов
мультиплицировалась массовым использованием фонетического греческого
алфавита, изобретенного в VIII в. до н. э. В связи с этим философы
Платон и Аристотель осуждали в качестве антигосударственной и
безнравственной народную грамотность, порожденную рынком.
Исходное несовпадение принципов искуснического делания и
прагматического действия трансформировалось в дивергенцию целей
и, соответственно, социальных ролей операторов смыслами и
ресурсами. К XIX в. она рефлексивно оформилась в теорию «искусство для
искусства» и прагматику массовой культуры.
Художники индустриального общества не работали на
индивидуальный заказ. Они ориентировались на изменчивые требования
обезличенного рынка. Среди этих требований критерий
общественного блага не выглядел приоритетным, поскольку расшатывался
непрерывными колебаниями рыночного спроса. Культурная роль
художников становилась все менее публичной и нормативной. Она
все дальше отходила от полисно обусловленных норм античной
эстетики.
Эстетический аморализм нового искусства XIX в. сам по себе,
конечно, не вытекал из томистского разделения доменов искусства и
морали. Обстоятельство, что человек — отравитель, не может
служить аргументом против его прозы, — утверждал Оскар Уайльд,
защищая кантовский тезис об автономии художественной реальности.
Ориентируясь на традиционную ценность, художник остается в
пределах статичного бытия, в сфере того, что Аристотель именует
формальной причинностью (то есть линией смыслового соотношения
эйдосов, платоновских предметопорождающих идей). Динамичный
451
порядок вещей, утверждаемый художниками XIX в., наоборот,
реально связан с их индивидуальными целеполаганиями.
Ориентирующий канон как эстетический аналог традиционного
общества ослабевает в индустриальную эпоху и полностью
исчезает—в постиндустриальную. Следование канону и абсолютное его
отрицание по-разному формируют смысловой корень слова
«искусство», сделанное «ис куса». В первом случае — это социально
одобренный (канонический) «искус» художника, во втором —
индивидуально отобранный поисковый «кус», фрагмент реальности,
выделенный из сферы прагматического использования, освобожденный
от полезной нагрузки.
Человеческая история сопровождается бинарной оппозицией
людей культуры и людей государства. Культура непосредственно
воздействует на оборот нематериальных активов общества и
опосредованно — на оборот материальных ресурсов. В качестве операторов
смыслами люди культуры имеют дело с образами и знаками. Люди
государства распоряжаются вещественными, информационными и
энергетическими ресурсами.
По словам Ромена Роллана, в России начала XX в. было два
самодержца. Писатель имел в виду Николая Александровича Романова и
Льва Николаевича Толстого. Первый царствовал в материальной
сфере, второй — в духовной. И второй безнаказанно колебал трон
первого.
Государство как социальную функцию изобрели операторы
смыслами, а как общественную структуру — операторы ресурсами. У
истоков шумерской и древнеегипетской государственности стояли
обладатели эзотерических знаний о разливах Тигра, Евфрата и
Нила. И лишь на стадии межплеменного соперничества в
использовании материальных ресурсов древнюю государствообразующую
(условно говоря) «интеллигенцию» сменили более примитивные
«силовики».
В древнейшие времена гораздо чаще возникала монополия на
знания, нежели на оружие. Древний «военно-промышленный комплекс»
был прост и общедоступен. Любой охотник каменного века мог
исполнить функцию воина. Но — не жреца. Государственный статус
«силовиков» резко возрос в эпоху бронзового и (особенно!)
стального оружия: началась профессионализация этого вида
непроизводственной деятельности.
Можно ли представить себе неграмотного человека культуры?
С трудом. Но неграмотный глава государства может быть вполне
функциональным. Карл Великий, активно поощрявший образован-
452
ность правящего сословия созданной им Франкской империи,
организовавший с этой целью сеть общеобразовательных школ и
придворную Академию в Ахене, владевший двумя иностранными
языками, сам научился читать только после 800 года, в котором он
короновался «императором всех франков и римлян». Писать
император так и не научился. Борис Годунов, отличавшийся широким
культурным кругозором и глубоким государственным умом, овладел
грамотой лишь в зрелом возрасте. Советским государством долгое время
вполне успешно руководили люди, шевелившие при чтении губами
или умело (как герой романа В. Войновича «Приключения солдата
Ивана Чонкина») скрывавшие «знание латыни». При отрицательной
кадровой селекции, осуществляемой КПСС, «шибко грамотный
интеллигент» проигрывал в карьерном росте малокультурному, но
«идеологически выдержанному» функционеру. Первый неизменно
обнаруживал ограниченно компенсированный дефицит партийно-
государственной пассионарности. Второй — ее неиссякаемый
избыток. Вольтер замечал, что фанатик обладает рвением, которого так не
хватает мудрецам.
Инструментально используя «интеллигенцию» в
государственных целях и обеспечивая ее относительную безопасность,
«силовики» не включают операторов смыслами в круг системно-
государственных функционеров. Иллюстративен в этом отношении
знаменитый приказ Наполеона, отданный в минуту опасности во
время Египетского похода: «Ослов и ученых — в середину каре!»
Военный руководитель Манхэттенского проекта генерал-майор
Гровс следующим образом аттестовал ученых, создававших
атомную бомбу: «Дороговатые чокнутые котелки». За каждым ученым
велась тайная слежка, им государство в лице военного ведомства не
доверяло.
Однако механизмом производства и ретрансляции культурем,
преодолевающих пространство и время, владеют лишь те, кто
находятся в центрах социокультурных циклов. То есть — репликаторы
культурных образцов, операторы смыслами. Это они пишут историю,
которая", по словам В. О. Ключевского, «злопамятней народа». «Борис,
Борис! Все пред тобой трепещут. / Никто тебе не смеет и напомнить /
О жребии несчастного младенца. / А между тем, отшельник в тесной
келье / Здесь на тебя донос ужасный пишет. / И не уйдешь ты от суда
людского, / Как не уйдешь от Божьего суда» (А. С. Пушкин. Борис
Годунов).
В годы опричного террора Иван Грозный пытался уйти от
людского суда, запрещая текущее летописание. В годы его царствова-
453
ния оно прекратилось. Из государственных архивов изымались
исторические документы и старые погодовые хроники. Они
возами переправлялись в Александровскую слободу, на предмет
политической цензуры. В результате все опричные архивы были
уничтожены.
Согласно Ж. Маритену, общественная роль поэтов состоит не в
том, чтобы разносить хлеб традиционной морали, бифштексы
политического реализма и торты филантропии. Поэты заботятся о
духовном кормлении человечества, состоящем в интуитивном опыте,
откровении и красоте. Таково либерально-демократическое
представление XX в. о культурном статусе операторов смыслами.
Идеологи обезличенной всеобщности пытаются прагматически
встроить операторов смыслами в линейную систему анонимного
контроля человеческого поведения. Любые факторы творческой
нелинейности устраняются. Наиболее известным из древних
прародителей современной идеологии тоталитаризма является
древнегреческий философ IV в. до н. э. Платон. В своем трактате «Государство»
он усматривал в поэтах лживых подражателей подражаний, опасных
для абсолютных истин и традиционных нравов. Он предлагал
изгонять их из идеального Государства. Платоновская утопия
представляла собой философскую рефлексию государственного опыта
тоталитарной Спарты VI-IV вв. до н. э.
Идейные попечители народного блага
Кажется, вдоль и поперек исследован феномен российской
интеллигенции. Полярно менялись ее самооценки: от чеховского «Письма
к ученому соседу» до «Вех», от «Письма Белинского к Гоголю» до
«Смены вех». Не раз возникал мировоззренческий соблазн и вовсе
закрыть тему. Ричард Найпс, например, в середине 70-х годов XX в.
предрекал скорое исчезновение самого субъекта внеинституциональ-
ной рефлексии. Причина — «несовместимость интеллигенции и
правильно действующей демократии». Более того, этот фермент
социального брожения, по мнению Пайпса, неизбежно возникает лишь
там, где орудия формирования общественного мнения не находятся в
руках властвующей элиты.
Пайпс выделяет пять оргструктур, единственно способных
воспроизводить и пестовать российскую интеллигенцию. Это: кружок,
салон, университет, земство и толстый журнал. Рыночная демокра-
454
тия, по мнению автора популярной книги «Россия при старом
режиме», резко ослабляет их репродуктивные возможности. Рождаются
более эффективные (государственно-представительные) институты
непосредственной материализации идей.
Дедуктивно правильный вывод не всегда достоверен
эмпирически. Государственно не ангажированные интеллектуальные группы
складывались и там, где идеи быстро превращались в политику.
Античная интеллигенция (неформальные кружки Сократа,
платоновская Академия, аристотелевский Лицей) возникла в
демократическом полисе. Полисная гражданственность, стимулировавшая
индивидуальную творческую активность, ускоряла материализацию
продуктивных идей.
Советское идеократическое государство деформировало
традиционные оргструктуры российской интеллигенции. Всякая
государственная моноидеология неизбежно антиличностна и
контркультурна. Она останавливает развивающий личность гуманистический
процесс персонализации идей. Моноидеология резко сужает поле
свободных ассоциаций между «культу ремам и» (по терминологии
Леви-Стросса) даже в сфере массовой культуры. Между тем «масс-
культ» — неизбежный спутник зрелого индустриализма, рыночной
экономики и политической демократии.
Массовая культура активно использует широко
распространенный «антропологический ресурс», состоящий в ассоциативном ха-
рактереобыденногосознаниясовременногочеловека. Ассоциативные
связи не подчиняются аристотелевским формально-логическим
законам исключенного третьего, непротиворечивости и достаточного
основания суждений. «Масскульт» откровенно мозаичен. Мозаич-
ность современной массовой культуры исключает возможность
длительного существования государственной моноидеологии.
Последняя может институциализироваться лишь на
контркультурной основе, на базе сакрализации «измов». «Изм» — это
некритичный способ концентрации основных идеологических понятий (иде-
ологем). В его рамках операции с идеями не требуют эмпирической
верификации. Вместо опытной проверки обоснованности
мировоззренческих выводов массам предлагается некий неколебимый и
априорный тезис. Часто — тавтологичный.
Посмотрим на состояние современных оргструктур,
формирующих отечественную интеллигенцию. Правовой статус российских
университетов XVIII-XX вв. значительно отличался от
западноевропейских аналогов. Он был и остается сегодня учрежденческим, а
не корпоративным. (Вспомним, что этимологически латинское
455
universitas означает именно корпорацию. В частности — людей
умственного труда.)
Толстый журнал — специфически российское явление. В
информационном отношении это больше, чем оперативное книгоиздание.
В коммуникативном — меньше, нежели СМИ. Современный рынок и
политическая демократия, в самом деле, значительно ослабили
социально-политическое значение толстых российских журналов, не
особенно повлияв на культурное.
Российскому земству еще предстоит роль инкубатора первичных
структур гражданской самодеятельности. Сегодняшние органы
местного самоуправления пока являются организационно и финансово
зависимым придатком государственной власти. Несмотря на то, что
статья 12 Конституции РФ устанавливает: «Местное
самоуправление в пределах своих полномочий самостоятельно».
«Невидимые колледжи» политической мысли (интеллектуальные
кружки) давно трансформировались в компании по интересам.
Кухонные разговоры, реликт советского просветительского
андеграунда, лишь трансформируют информационные и оценочные клише,
запущенные в каналы СМИ.
Салоны, подобно москвичам (в оценке булгаковского Воланда)
«испорчены квартирным вопросом». Едва обозначились салонные
перспективы и многочисленных в настоящее время досуговых
клубов. Однако в клубах не обсуждаются вопросы мировоззренческого
плана, всегда актуальные для интеллигенции. Общественный
интерес к ним пропал еще до революции 1917 г. «Проклятые вопросы, /
Как дым от папиросы, / Растаяли во мгле. / Пришла проблема
пола — / Румяная фефела — / И ржет навеселе» (Саша Черный).
Авторитарное российское и, тем более, советское идеократическое
государство подозрительно относились к клубам. В середине XVIII в.
первым видом негосударственной деятельности, которую терпело
российское правительство, стала художественная литература. После
Петра I, перенапрягшего мобилизационные возможности вотчинного
государства, обязательные служебные повинности дворянства
неуклонно сокращаются. Объем личного свободного времени осознается
в качестве «меры общественного богатства» (К. Маркс). Параллельно
расширяется область частных интересов, нуждающихся в знаково-
образном сублимировании. Роль эстетического сублиматора нере-
гламентированной частной жизни приняла на себя художественная
литература.
В отличие от художественной культуры России XVIII-XIX вв.,
быстро достигшей классического уровня, политическая культура
456
российского общества того же периода формировалась медленно и
трудно. «Наказ» Екатерины II популяризировал политико-
правовые концепции Монтескье и Беккариа, неадекватные
российским реалиям. Политическое просвещение интеллектуальной
элиты раскололо ее. Нечиновное меньшинство, не допущенное к
рычагам непосредственного властвования, сосредоточилось на
мире мнений. Там оно могло избегнуть невыгодного для себя,
заведомо проигрышного состязания в сфере реальной политики с
кланово замкнутым властвующим меньшинством российской
интеллектуальной элиты.
Немецкий философский идеализм, усвоенный дворянской
интеллигенцией, позволял ей безмятежно жить в виртуальном мире
абстракций. При этом иллюзии группового самовосприятия
самодеятельных «попечителей народного блага» принимались за
общественную оценку. Французский политический материализм XVIII в.,
популярный в среде народников-разночинцев, самокритичной
трезвости не добавлял. «Конструктивность» внесистемной оппозиции
революционных демократов XIX в. свелась к встраиванию
пугачевского топора в якобинскую гильотину. Неуспех интеллигентского
«хождения в народ» активизировал террористов «Народной воли».
Покинув державные институты, политически агрессивный дух,
«творящий благо из зла», надолго поселился в русской литературе.
Непрерывно звонил колокол на башне вечевой, зовя живых. Глаголы
жгли сердца людей, из искры раздувая пламя. Перо равнялось на
штык. Общественный молот непрерывно громил государственные
оковы. Но — не участвовал в исторической перековке дружинных
мечей в земские орала. Бранный звон сменился публицистически
звонкой перебранкой с властью и друг с другом. Эстетически не
нормативная лексика боевой публицистики Белинского и Добролюбова,
Чернышевского и Писарева художественно воплощалась в
гражданском ямбе Н. А. Некрасова. На митинге, посвященном похоронам
поэта, оратор поставил его «вровень с Пушкиным». «Выше, выше!» —
раздался голос из толпы студентов. Голос принадлежал
народовольцу «Волку», будущему лидеру русской социал-демократии —
Г. В. Плеханову.
Революционный адреналин, мировой пожар в крови изнашивал
нервную ткань общества. Идейные попечители народного блага,
кричащие от имени безмолвствующего крестьянства, позиционно
поворачивались к нему спиной. Избыточно репрессивная власть
преступно соучаствовала в этой трагически затянувшейся мизансцене.
Некрасовский Гриша Добросклонов (из «Кому на Руси жить хоро-
457
шо») явно не заслужил чахотку и Сибирь. Равно как «имя громкое
народного заступника». Типичный самооговор.
Практическую земскую самодеятельность стимулировали Витте
со Столыпиным, но — не Чернышевский с Добролюбовым. Чувство
исторической вины перед народом не мешало Некрасову
проигрывать в карты своих крепостных. И не А. Н. Радищев (автор
якобинского по духу «Путешествия из Петербурга в Москву»), но
А. С. Пушкин (автор «энциклопедии русской жизни» первой
половины XIX в. и антиякобинского «Путешествия из Москвы в Петербург)
заставил помещика Евгения Онегина «ярмо барщины старинной
оброком легким заменить».
Пушкин, написавший, в параллель «Капитанской дочке»,
«Историю Пугачевского бунта», остро осознавал цивилизационные
риски колебания основ. Он был предтечей
либерально-консервативного государственничества, неорганичного для большинства
российской интеллигенции. Ее исходное государственное
отщепенство осложнялось несвязанностью системными, предметно-
технологическими ограничениями общественного воспроизводства
в материальной жизнеобеспечивающей сфере. Свободное слово
веет, где хочет. «Нам не дано предугадать...» Поэтому языковые
конструкции статусных операторов смыслами легко соединяют все со
всем. Абсолютный дух на коне. Революционер на троне. Мужи-
ковствующий граф. Министры=капиталисты. Но иногда «слова
рычат друг на друга», оказавшись рядом. Так, министры=террорис-
ты уже оксюморон. Бывший лидер Боевой организации партии
эсеров Б. В. Савинков в должности товарища (заместителя) военного
министра Временного правительства уже не мог исповедовать
идеологию индивидуального террора. Но государственно
дисциплинирующих высоких должностей всегда оказывается намного меньше,
чем неслужебных колебателей государственных основ.
В логике этического мировоззрения, доктрина общественного
блага с середины XIX в. стала исповеданием веры большинства
российской интеллигенции. При этом она изначально заявила себя
славянофильски: антибуржуазной, коллективистской и
антигосударственной. Последнее нуждается в уточнении.
Далекие от анархизма, славянофилы на подсознательном уровне
были англоманами. Идеальным для них являлось государство со
слабой бюрократией, не стесняющей традиционных форм земского
самоуправления. Им грезилась русская палата общин, православно
перекрещенная в земский собор.
458
Сельскую передельческую общину и сезонную трудовую артель
славянофилы считали естественными проявлениями внегосудар-
ственных социальных инстинктов русского человека. Городское
правосознание и частную собственность — основаниями чуждой
великороссу западноевропейской гражданственности. Антизападно
ориентированные, первые русские интеллигенты приняли сторону
славянской «Земли» в ее вековом пассивном противостоянии
государственному активизму европейской «Дружины».
Характерна синхронность российских бунтов и
земледельческого межсезонья. Климатически обусловленный, короткий период
управляемой воспроизводственной активности великорусской
«Земли» циклически сменяется стихийной релаксацией «земцев».
В процессе ее резко снижаются уровни трудовой активности и
социального самоконтроля, критически возрастает внутрисистемная
энтропия. В центральных российских губерниях 153 дня в году
(с октября — ноября по февраль — март) приходились на
праздники. В эти месяцы и случились две крупнейшие государственные
катастрофы XX в.
Как дворянская, так и разночинная интеллигенция
характеризовалась неприятием государственного и мещанского города. В
сопоставлении с кремлем и посадом острее ощущались ее служебная
невостребованность и культурная несовместимость. «Лишние
люди» русской литературы XIX в. — художественно-образное
отражение вышеуказанных невостребованности и несовместимости.
Российская интеллигенция никогда не являлась субъектом
структурно-функциональных модернизаций. Свою основную
социальную роль она видела в идейном попечении о народном благе,
в политическом просвещении крестьян и эмансипации общества.
В исполнении этой роли интеллигенция второй половины XIX —
начала XX в. существенно увеличила системные риски внутренней
неравновесности и внешней неустойчивости. В качестве внегосу-
дарственного совокупного оператора смыслами и мотора
политической эмансипации общества разночинная интеллигенция заняла
со в'торой половины XIX в. доминирующее положение. В
агитационно-пропагандистской сфере с ней не могла конкурировать ни
одна общественная группа.
Основные группы российского населения в XIX — начале XX в.
были ориентированы разновекторно. Военно-служилое и
бюрократическое сословия исполняли предписанные им роли пассивных
проводников государственнических влияний. Русская православная
церковь неизменно демонстрировала верность византийской симфо-
459
нии с кесарем. Русские города до начала XIX в. представляли собой
бурги без буржуа, но с городничими. Мещанское сословие со второй
половины XIX в. уже являлось средой первичного структурирования
цензовых граждан, настроенных на легальное оппонирование и
конструктивное сотрудничество с государственными институтами.
Дореформенные сословные корпорации (дворянские собрания и
купеческие гильдии) создавались государством в административных
целях. Орудиями политической эмансипации общества они не могли
стать. По определению.
Дописьменное политическое мировоззрение русской деревни
XIX — начала XX в. оставалось синкретичным. Оно утрачивало син-
кретичность на аудиовизуальном и линейно-письменном этапах
развития социально-политической коммуникации, когда «слух
переставал быть верованием» (Маршал Макклюэн). На этих этапах идейной
эволюции создавались культурные и мировоззренческие
предпосылки для политической активизации и осознания крестьянами своей
социальной идентичности.
Но крестьянская политическая идеология в России XIX-XX вв.
самостоятельно не складывалась. Она привносилась в деревню
людьми дискурсивно-аналитической (городской) культуры. Вследствие
чего происходило критическое расщепление крестьянского
универсума на абсолюты добра и зла. Умами овладевала революционная
демонология. Давались доходчивые объяснения сложных социально-
экономических явлений. Простым грабежом объявлялось
неизбежное и экономически оправданное имущественное расслоение
крестьянской общины.
Традиционная аксиоматика интеллигентских самооценок
собственной просветительской деятельности в крестьянской среде
содержала в себе нижеследующий, художественно варьируемый тезис.
Если городская муза «мести и печали» народнически переоденется в
барышню-крестьянку, то «мужик не Блюхера и не милорда глупого —
Белинского и Гоголя с базара понесет» (Некрасов Н. А. Кому на Руси
жить хорошо?).
Реализовался, однако, далекий от надежд просветителей вариант
пролетарских расправ с культурной элитой страны и ее «цензовыми
гражданами». Исторический урок февраля — октября 1917 г. и
чудовищной по массовым зверствам гражданской войны 1918-1920 гг.
развеял интеллигентские иллюзии относительно инстинктов внего-
сударственной самоорганизации и эстетических предпочтений
«народа-богоносца».
460
Информационное общество и демократия
Современные средства массовой информации сделали духовную
культуру оперативным маркером общественного развития. В мире
СМИ она обрела могущественные рычаги непосредственного
воздействия не только на невещественные основания цивилизации, но и на
ее материальный субстрат. Давно известно, когда именно идеи,
опосредованно отражающие витальные потребности людей, становятся
материальной силой. Идейно овладевая массами, СМИ выделили
операторов смыслами в самостоятельную и небывало влиятельную
общественную группу. Операторы смыслами превратились в
творческий фактор асимметричной коммуникации.
В постиндустриальном информационном обществе каждый
среднестатистический индивидуальный коммуникатор получает
сообщений больше, чем их отправляет. Как это становится возможным?
Не противоречит ли универсальным принципам эквивалентного
обмена и закону сохранения асимметричная коммуникация между
производителями и потребителями смыслов? Придерживаясь рыночных
правил в материальной (ресурсной) сфере, интеллигенция в качестве
основного оператора смыслами постоянно нарушает эти правила в
сфере нематериальной. В последней интеллиген-ция тяготеет к
неэквивалентному (реципрокному) обмену идей на социальные
манифестации собственного престижа и инструменты влияния.
Прогресс человечества (в аспекте возрастания общего массива
знаний) имеет графическое соответствие в математической кривой,
близкой к экспоненте. Все величины, которыми характеризуется
процесс количественного увеличения знания, имеют вид непрерывных
функций. Научные части общего массива знаний преемственны,
взаимосвязаны и векторно ориентированы, технологии — причинно-
следственно организованы.
Обозревая горизонты естественно-научного знания,
накопленного к середине XX в., А. Эйнштейн умозаключал, что развитие
западной науки детерминировано двумя системопорождающими
факторами: изобретенной греческими философами системой формальной
логики, "воплощенной в эвклидовой геометрии, и открытой
Возрождением возможностью находить причинно-следственные связи путем
систематического экспериментирования.
Однако научное знание далеко не исчерпывает всего
информационного массива, находящегося в обороте. Так было и в минувшие
века, в том числе в «самый умный» XVIII в. Мировоззренческой
особенностью «самого информированного» XX в. является научное осо-
461
знание позитивной корреляции между областями необходимого и
случайного. В интеллектуальном багаже современного человека
линейная логика формально правильных суждений сопряжена с
нелинейностью интуиции, ассоциативных связей, исчисления
вероятностей, учета случайного.
«Ассоциативность становится доминирующей чертой мышления»
(Клод Леви-Стросс). Ассоциация идей осуществляется, скорее, по
принципу пространственно-временной рядоположенности,
нежели — причинно-следственных связей. Информационная модель мира
античного и средневекового человека своими тонкими,
ориентированными к центру, полупрозрачными нитями объясняющих
суждений походила на паутину. Информационный багаж современного
человека спрессован, подобно войлоку: в нем практически не
прослеживаются ясные причинно-следственные связи и повторяющиеся
структуры.
Английский философ XVI в. Френсис Бэкон, сформулировавший
общие начала экспериментальной науки, уподоблял разные виды
познавательной деятельности человека — жизнеобеспечивающей
активности паука, муравья и пчелы. Схоласт ткет «из себя» паутину
умозрительных спекуляций. Эмпирик сооружает количественный
муравейник слабоупорядоченных фактов. Исследователь собирает
нектар и пыльцу рассеянной информации и вырабатывает из нее мед
теорий.
Современная творческая и репродуцирующая интеллигенция
соединяет в себе паука, муравья и пчелу. Находясь в центре метаси-
стемного социокультурного цикла, она специализируется не только в
создании новых структурных единиц культуры (культурем), но и в
образовании новых ассоциативных связей между накопленными
культуремами. Эта деятельность отличается от селективного и
формализованного теоретического знания. Она не сводится к
организованному экспериментальному знанию. Ассоциации культурем не
уменьшают энтропию человеческого универсума. Механизм
ассоциативной коммуникации хаотически соединяет все со всем. Энтропия
культурной подсистемы и внутренняя неравновесность метасистемы
при этом возрастают.
Постиндустриальные общества массово продуцируют и
тиражируют мозаичную культуру, опираясь на материальное изобилие
вещной среды и мощные СМИ. Через мозаичную культуру современный
индивид организует и обновляет мировосприятие. «Хищные вещи
века», направляемые «человеком потребляющим», непрестанно охо-
462
тятся за новизной. Для общества массового потребления
чрезвычайно актуальна проблема формирования новых потребностей.
Мозаичная культура решающим образом влияет на основную
компоненту постиндустриального механизма удовлетворения
индивидуальных и массовых потребностей. В качестве этой компоненты
выступает социокультурный цикл, регенерирующий культуремы.
Главное отличие последних от товара состоит в их возвратной куму-
лятивности: чем больше культурем потребляешь или отдаешь, тем
богаче становишься. Массив культурем самовоспроизводится в актах
асимметричной коммуникации между производителями и
потребителями смыслов.
Все средства общественного самовыражения и массовой
информации сегодня находятся в руках людей умственного труда. При этом
творческая интеллигенция никем не руководит, никому ничего не
предписывает, не отдает приказаний. Она лишена и основного клас-
сообразующего признака — собственности на средства производства.
Выполняя интегрирующую функцию (сходную с религиозно-
мифологической), интеллигенция осуществляет возвратный обмен с
современниками: в ее мифотворчестве и просветительстве
воспроизводятся древние «престижные раздачи» избыточного культурного
продукта, от принятия которого невозможно уклониться.
Имя вместо звания
Сферы частных отношений современных россиян сохраняют
внешние следы ранее доминирующей публичности. Ее неуклонное
сокращение в течение трех последних веков сопровождается сменой
обиходных средств внегосударственного общения. В повседневный
оборот вовлекаются коммуникативные знаки, маркирующие
расширение пространства межличностных контактов и, соответственно,
сужение служебно-функционального объема общения. Этот процесс
нелинейно связан с периодическим расширением и сокращением
общественных границ российской государственности.
В 1471 г. самодержавно-вотчинное «государь» одолело в битве на
реке Шелони удельно-республиканское «господин», обозначавшее
государственный суверенитет Великого Новгорода. Уже в 1477 г.,
воспользовавшись обмолвкой посланников Новгородского
архиепископа, назвавших Ивана III и сына его — на московский лад —
«государями», Москва лишает Великий Новгород статуса суверенного
463
Господина. Иван является к новгородским стенам с войском, чтобы
узнать: «Какого еще государства захотела моя вотчина?». Конец
XV — начало XVI в. характеризуется резким расширением
государственного сектора общества.
В Западной Европе в начале Нового времени происходит
постепенное размежевание политической и социальной форм
общественной стратификации, правовой статус индивида отделяется от его
социально-экономических функций. В России в это историческое
время политизируется (этатизируется) все более широкая
социальная сфера: семья, собственность, формы труда приобретают сословно-
корпоративный характер, покидая сужающуюся область частной
жизни. Государева служба и государево тягло оставляют все меньше
места для других форм социальности.
Обыденное языковое восприятие не улавливает государственно-
социального градиента в обращениях «государь» и «господин».
Политически тождественны для него «гражданин» и «товарищ».
Практическая социолингвистика четко фиксирует, между тем, в
конце XX в. ренессанс полузабытых коммуникативных знаков двух
предшествующих столетий.
Институционализация российского государства в XIX в. вывела
из внутриэлитного оборота древнее обращение «государь». Читаем в
Толковом словаре В. Даля: «Отцы наши писали к высшему —
милостивый государь, к равному — милостивый государь мой, к
низшему — государь мой».
Не только стилистическая тонкость содержится в употреблении
притяжательного местоимения «мой». Оно индивидуализирует на
«клеточном» уровне государственную авторитарность, сословно-
иерархическую по своей природе, замкнутую на
персонализированную вершину.
Борясь с низовой персонализацией внутригосударственной
иерархии, Гитлер издал 20 августа 1934 г. следующее партийное
постановление: «Форма обращения "мой фюрер" закрепляется за одним
Фюрером. Этим указом я запрещаю всем нижестоящим лидерам
НСДАП позволять по отношению к себе такие обращения, как "мой
рейхслейтер" и т.д., будь то словесно или письменно. Здесь более
уместно обращение "товарищ по партии"». Обезличенная
тотальность социальной базы нацистского государства охватывала и
повседневный оборот коммуникативных знаков. В странах
представительной демократии он выглядит иначе.
В течение многих веков во Франции, при всех режимах — от
монархических до республиканских — остается общеупотребительным
464
«мсье» — редуцированное «мой господин». В граждански
структурированном английском обществе и при королевском абсолютизме, и
при конституционной монархии достаточно распространено
«милорд» (мой властелин).
Петр I, подчеркнуто отделявший государственные институты от
личности монарха, подавал пример персонализации внегосударствен-
ного обращения, поощряя «герр Питер» и «мин херц».
В современную российскую среду межличностной
коммуникации с оглядкой возвращается уважительное обращение «господин»,
вытесняя фамильярное «друг мой» и казенно-боевое «товарищ».
Историософски и культурологически осмыслим социальные
корреляты этих коммуникативных знаков, обратившись к их древним
значениям.
Славянское «друг» (по Далю: такой же, равный, ближний) — слово
внеобщинное, догосударственное. Боярская дружина — ославянен-
ный корень русской государственности. Он дал социальную крону
ветвистую, но малолиственную. То есть — соответствующую
ближнему кругу поименно перечисляемых лиц, но не подходящую для
обезличенного обращения. В негустой листве древних значений этого
слова нет вещественных, социально-статусных, частно-правовых и
публично-правовых признаков. Межиндивидуальная коммуникация
варяжско-русских дружинников здесь не опосредована ни
общественно, ни государственно. Нет в ней пока и привязки к
имущественному положению коммуникаторов.
Последняя возникает в «товарищах» — укрепленных дислокациях
военно-купеческих «товаров» (по Далю: походных дружинных
обозов). Слово «товарищ» изначально сопровождается звоном оружия.
Читаем в летописи: «В 1217 году Владимир нача ставити избу у
товара своего, противу града». Даль не исключает происхождение
древнерусского «товар» от скандинавского или немецкого die (de) waar.
Товар — противу града, походные товарищи — против оседлых
граждан. Корпоративные признаки не совпадают с социальными.
Основа товарищества — конкретное дело, обособленное предприятие.
В качестве корпоративного идентификатора слово «товарищ» ушло в
XIII в. из.государственно-дружинной лексики. С XIV в. оно
прижилось в казачьей и разбойничьей, с XIX в. — в партийной
социалистической среде.
Вводя в XX в. партийное «товарищ» в общегосударственный
оборот, советское государство лишило, прежде всего, «цензовых
граждан» Российской империи их политического статуса.
Политически нейтральное обращение «гражданин» утратило в
465
СССР роль коммуникативного знака межличностного общения.
И для современного российского чиновничества «граждане» — это
преимущественно те, кто вступает в патрон-клиентные отношения
с властью. Обесцененное в обыденном сознании, юридическое
понятие столь трудной коммуникативной судьбы в обозримом
будущем вряд ли станет обиходным. Оно не скоро выйдет за пределы
высокого стиля нормативных актов и «канцелярита» милицейских
протоколов.
«Господин» — термин публично-правовой, издавна обозначавший
отношения суверенного властвования, но в отличие от «государя» —
не титульной собственности на рабов и вещей. В межличностном
обороте слово «господин» не фиксирует взаимную подчиненность
или корпоративную принадлежность контрагентов общения. Оно
подчеркивает их взаимопризнаваемое равенство в личной (именной)
суверенности.
«Господином чествуют людей по званию, должности их, но не
свойственно нам ставить слово это перед званием, как делается на
Западе: г-н купец, г-н кавалер» (Даль В. Толковый словарь).
Общественное звание есть знак корпоративной принадлежности.
Она в России, в отличие от западноевропейских стран, немного
весила. Неизмеримо весомее был государственный чин, связанный с
официальной должностью. Вне иерархии — вне системы. Свою внеси-
стемность (маргинальность) с XVIII в. ощущали — помимо
интеллигенции — все промежуточные социальные группы, не охваченные
непосредственными, поместно-тягловыми отношениями с
государством. Чувство внегосударственности они компенсировали
самоназванием «господин», производным от имени Господа Бога.
Если государь — царь земной, то Господь — владыка небесный.
Светской иерархии противостоит религиозная эгалитарность.
Званием крестьян (христиан) преодолевается внедружинное чувство
мужиков (незрелых, маленьких мужей). В корпоративно не
организованной крестьянской среде естественно внесословное обращение
по имени.
Осознающий свою сотворенность по образу Божию,
внесистемный либо внесословный человек является господином в своем
духовном естестве. Человеческий дух — вне государственной иерархии.
С осознания этого начинается история оппозиционной
интеллигенции. Она легко преодолевает свои подростковые комплексы
бесчиновности. Но ее политические бесчинства — следствия общественной
маргинальное™. Причина коренится в изначальной невписанности
466
интеллигенции в систему общественного разделения труда и духовно-
материального производства. Самосознающая личность творит мир
посредством знаков по образу и подобию своему, не подчиняясь
имманентным законам инертного рабочего материала. Теория героя и
толпы — отсюда.
В XVIII в. внегосударственная российская интеллигенция
самоутверждалась личностно, а не сословно либо корпоративно. В
чиновной иерархии, наоборот, личное имя заслонялось «Табелью о
рангах»: господа сенат, господин поручик. Чину соответствовало
официальное обращение: благородие, высокоблагородие,
превосходительство, высокопревосходительство. «Приватизируя»
политический термин «господин», включая его в гражданский оборот,
интеллигенция одновременно социализировала частные
(межперсональные) связи, не обусловленные ни государственным чином, ни
институтами публичной власти, ни имущественным цензом, ни
родом занятий.
Однако сословно организованная крестьянская среда активно
отторгала внесословных «господ». Поэтому они являлись в деревню в
архаически-казачьем (квазидружинном) облике «товарищей». Новое
партийное самоназвание социал-демократической интеллигенции
обновило архетип русской внутридружинной эгалитарности.
К концу XIX в. термин «господин» деполитизировался,
сохранив, однако, публично-правовой характер. В политической сфере
его коррелятом стало возрожденное древнерусское «гражданин», в
социальной — полонизированное «мещанин» (горожанин).
Образованные люди предпочитали русскую кальку республиканского
«citoyene», но — не его феодально-монархического аналога
(«bourgeois»). Потому что «страдающая собачьей старостью»
(М. Горький) российская буржуазия до 1917 г. не успела
инкорпорироваться в нарождающийся средний класс и обрести в нем свою
естественную социальную опору. Становление российской
буржуазии осуществлялось под прикрытием военно-феодального
режима. Крах последнего отдал организаторов общественного
производства («буржуев») во власть вооруженных «товарищей»,
претендующих на монопольное представительство интересов наемных
работников низкой квалификации. «Товарищи» целенаправленно
лишали «буржуев» общегражданского статуса. Деклассированные
«граждане свободной России» получили революционную санкцию
на практически беспрепятственное истребление классово
идентифицируемых «буржуев».
467
Идеи и интересы
Либерализируясь, государство неизбежно создает себе
противовес в лице общественного мнения. «Дух законов» Монтескье сегодня
воспринимается как теоретическое обоснование необходимости
внутренних сдержек и противовесов демократической власти. Но
написан он в защиту феодальных вольностей. В знаменитом трактате
исследовалась корпоративная необходимость сотрудничества короны и
знати. Королевская власть приглашалась к внутреннему разделению
и правовому самоограничению. Знать — к политической активности.
Политические интересы буржуазии — опоры королевского
абсолютизма — в расчет не принимались.
История свидетельствует: продуктивные слои охотно уходят из
«суда и совета», с агоры и форума, оставляя публично-правовое и
политическое пространство экономически пассивным группам
населения. Опыт европейской парламентской демократии показывает,
насколько легко отодвигаются «цензовые граждане» на обочину
общественной жизни.
Западноевропейская буржуазия оказалась первым в истории
классом, достигшим экономического доминирования без посягательства
на политическое господство. Даже утвердившись в качестве
основного организатора общественного производства, буржуазия в свой
либерально-демократический период оставляла значимые
государственные решения за институтами исполнительной власти,
находящейся в руках профессиональных администраторов.
Постоянный корпус государственных служащих — единственная
общественная группа, корпоративно заинтересованная в сохранении
внеклассового характера национального государства, в ущерб его
социальности. В классовых интересах буржуазии — укрепление
институтов гражданского общества и правового демократического (не
обязательно социального!) государства. Этим интересам наиболее
соответствуют политические* формы либерального парламентаризма,
кризисом которого отмечена история XX в. В свой классический
период (XIX в.) либеральный парламентаризм исходил из правила
«компромисс — основа позитивного сотрудничества» и осуществлял
ограниченное правление посредством неограниченного обсуждения.
Суть парламентской республики состоит в неустраняемом
разнообразии политически представляемых интересов. Либеральный
парламентаризм в этом отношении плохо совмещается с демократией,
хотя их современные формы в странах Западной Европы возникают
одновременно.
468
Исторические корни парламентаризма уходят в эпоху монархий:
парламенты представляли частные интересы разных сословий,
монархи воплощали принцип общегосударственного единства.
Великим изобретением Нового времени является
представительная демократия. Ее опытом преодолеваются критические
дисфункции и непосредственной полисной демократии, в которой все
граждане по очереди то правят, то подчиняются, и вечевой демократии
средневековых городов-государств.
В отличие от либерального парламентаризма, артикулирующего
политическое разнообразие, электоральная демократия вымывает из
гражданского общества элементы, нарушающие его единообразие.
Всеобщие выборы (по мнению Аристотеля и Карла Шмитта) не
наделяют властью выдающихся граждан, во власть попадают средние
представители среднего большинства. В соответствии с гауссовой
«кривой нормального распределения статистического множества»,
большинство однородных элементов сверхсложных метасистем
характеризуются средними величинами.
Согласно Карлу Шмитту1, политическая демократия массового
общества несовместима с либеральным парламентаризмом, кризис
которого наиболее очевидным образом проявился в первой четверти
XX в. капитуляцией Веймарской системы перед национал-
социалистической революцией. Германские нацисты легко
сокрушили парламентский режим, используя легальные формы
плебисцитарной демократии общенационального уровня. Республиканский
парламентаризм слабел вследствие почти непрерывной череды всеобщих
выборов. В 1932-1933 гг. немецкие граждане один раз избирали
президента Германии и четыре раза — рейхстаг. Ослабление
парламентаризма сопровождалось крушением общенациональной правовой
системы государства. Спасти ее, по мнению К. Шмитта, могла бы
малоформатная демократия территориальных собраний граждан.
Правоустанавливающую силу решений такого рода собраний Шмитт
ставит намного выше авторитета парламентских правоустановлений.
В сущности, речь ведется о соотношении политического и
социального пространства государства и гражданского общества,
безопасности и свободы, централизации и местного самоуправления граждан.
Эти проблемы не утратили былой актуальности и в начале XXI в.,
продолжая оставаться областью интенсивной философской
рефлексии с эпохи европейского модерна.
.,*
^ 1 См.: Шмитт К. Политическая теология. М., 2000.
469
В Новое время в Европе резко обострились социальные
противоречия. Европейские страны опустошались религиозными войнами.
Буржуазно-демократические революции ставили под сомнение
устойчивость любого общественного порядка. Перед обществами
критически встала грозная дилемма: либо хаос «естественного
состояния» (Г. Гоббс), вызывающего перманентное взимное насилие
граждан, либо принуждающая, не ограниченная конституциями
сила государства, искусственно созданного чудовища — «Левиафана
власти». Устрашенный ужасами гражданской войны, вызванной
Английской революцией 1640-1649 гг., Гоббс теоретически
предпочел «Левиафана» — государства, обеспечивающего общественную
безопасность.
Тот же исторический опыт религиозных войн и социальных
революций Нового времени дал Локку и Канту основания для
конструирования теоретической модели конституционного
государства. В отличие от модели государства, обеспечивающего
безопасность общества, модель конституционного государства
разграничивает общественную и государственную сферы. Распад
государственных институтов не тождественен разрушению низовых
структур социальности. Первоначальной и основной формой
естественной солидарности является наиболее устойчивая
социальная структура — патриархальная семья. «Естественное
состояние» общества, вопреки утверждению Гоббса, не означает хаоса и
войны всех против всех: это — неустойчивое состояние
несовершенной солидарности, корректируемое легитимной силой
государства.
Несмотря на разногласия между либералами и дирижистами в
средствах корректировки общественной солидарности, между ними
существует согласие в конечной цели государственной
рационализации социальной стихии. Этой целью является общественный гомео-
стазис, в котором интегрированы в единое целое все частные
интересы. Подобные мифы коллективной гармонии стары, как мир. Однако
европейская социально-политическая мысль во второй половине
XIX в. (исходя из кровавого опыта великих революций конца XVIII —
середины XIX в.) придала мифотворчеству социологическую
основательность.
В этом направлении далее всех уходит марксизм. Он
отталкивается от научного анализа уникальных особенностей буржуазной эпохи
Нового времени. В XVI-XVII вв. происходит разделение социальной
и политической форм общественной стратификации. В это же время
470
правовой статус индивида отделяется от его
социально-экономической роли в обществе. В отличие от деполитизированного социально-
экономического уклада, сложившегося к XVII в. в передовых странах
Европы, элементы гражданской жизни внутри предшествующих
феодальных обществ (собственность, формы труда, семья) носят
откровенно политический характер.
Редукционистская теория марксизма, в стремлении остановить
обуржуазивание общества, опирается на иллюзорное представление
о порядке в сложных социальных системах, заимствованное от
утопистов XIX в.: в их теоретических построениях порядок
устанавливается вследствие упразднения достигнутого в Новое время разделения
политических и социальных сфер, институтов государственной и
общественной жизни. Характерной чертой утопизма XIX в. является
жажда органического единства общества.
Социалистические течения XIX-XX вв. тяготеют к одному из
двух типов вышеупомянутого органицизма: самоуправленческому
и государственному. К первому типу можно отнести теоретиков
минималистского государства: О. Конта, Р. Оуэна, Сен-Симона,
К. Маркса, Ф. Энгельса. Ко второму — всех социалистических
последователей гегелевского учения о всеобщем государстве. Согласно
утопической теории Роберта Оуэна, изложенной в очерке
«Внутренние колонии» (1841 г.), небольшие самоуправляющиеся,
экономически самодостаточные общины будут связываться между
собой не государственными институтами, а железными дорогами.
Наемный труд в этих общинах упраздняется, а денежные
отношения заменяются продуктообменом.
Марксизм пытается упразднить разделение социальных и
политических форм общественной жизни. Он сводит все многообразие
факторов общественной самоорганизации к экономическому
детерминизму. «Научный социализм» политэкономически верифицирует
мировоззренческие установки своих непосредственных
социалистических предшественников и заново формулирует постулаты органи-
цизма.Юднако трудно уловить принципиальное отличие «свободной
ассоциации t непосредственных производителей» (Энгельс) от
«общин» Р. Оуэна. И «ассоциации», и «общины» одинаково
обусловлены существованием «минималистского государства ночного
сторожа» (Лассаль).
Все теоретические разногласия внутри социалистических
течений, вся смертельная политическая борьба между партийными
вождями велись вокруг одного вопроса: какова должна быть роль госу-
471
дарства в упорядочении людских множеств? Ответов было немало,
но все они сводились к двум основным: либеральному и дирижист-
скому. Ш. Фурье и Р. Оуэн выступают против Сен-Симона, с его
стратегией преобразования национальных государств в большие
производственные организации. Маркс сражается с Бакуниным, Роза
Люксембург — с Лениным, анархо-синдикалисты — с Троцким. В
реальном историческом опыте никому из них не удалось остановить
(тем более — обратить вспять) процесс становления гражданского
общества, начавшийся в буржуазную эпоху Нового времени. «Призрак
коммунизма» контрпродуктивно сражался с фантомом
буржуазности. Гражданское общество, сложившееся в XX в., в принципе не
сводимо к политическому доминированию буржуазного
индивидуализма. Последний является вторичным производным, «деривативом
фондовых ценностей» демократии.
Буржуазный индивидуализм через стихийное рыночное
состязание товаропроизводителей выражает не социальные, а частные
интересы. Поэтому он остается на позициях заведомого политического
меньшинства. Гражданское бытие буржуа обусловлено
суммирующим раскладом сил остальных участников демократического
процесса. Роковую попытку повысить свой политический статус буржуазия
предприняла на рубеже XIX и XX вв., взяв в союзники империализо-
ванную толпу.
Безудержная экономическая экспансия, связанная с
перепроизводством капитала, потребовала слома институтов национального
государства. Они сопротивлялись империалистической
мегаломании. Центральная идея политического империализма —
территориальная экспансия как самоцель, как аналог расширенного
воспроизводства. Но в отличие от субъектов экономической деятельности,
политические структуры не могут расширяться до бесконечности.
Вступает в действие закон сохранения постоянного объема
публичной власти.
Древние и средневековые империи создавались как федерации
государств, при гегемонии одного из них. Интеграция народов в
Римскую империю осуществлялась через подчинение их единому
закону. Прочные национальные государства буржуазной эпохи
складывались в этнически однородной среде. Политические
империи XX в. возникали на принципиально иной основе: победе одного
государства и смерти остальных.
Народы легко интегрируются лишь на донациональных стадиях
своего развития. В этом следует искать объяснения некоторых исто-
472
рических парадоксов. Английским Тюдорам не удалось сделать с
Ирландией то, что без особых затруднений осуществили
французские Валуа с Бургундией и Бретанью. Но уже Наполеоновская
попытка создания Соединенных Штатов Европы под французским
флагом была заранее обречена на неуспех.
Распавшиеся Британская и Французская империи возникали по
греческой схеме колонизации. (И естественно, не могли следовать
римской модели интеграции.) Колониальная администрация
строилась на иной правовой основе, нежели национальные институты
государства-метрополии. Российская империя, как показала ее
судьба, тоже не была содружеством наций. Она осталась Московским
царством, расширившимся до границ 1914 г.: унитарным
государством в этнически пестром, слабо структурированном окружении.
Системогюрождающий код унитарной российской
государственности постоянно воспроизводил империю вместо исторически
назревшего федеративно интегрированного национального государства.
По этой причине Российская империя дважды за последние пятьсот
лет трудно собиралась и дважды легко рушилась.
XX век кроваво доказал, что именно ригидные, громоздкие,
сложные институты национального государства способны
обеспечить буржуазно-демократические свободы. После краха СССР
правовые институты российского национального государства
заново создаются в аморфной, «полугражданской» общественной
среде. Интеграционные задачи замкнула на себя бюрократия, не
склонная к заключению общественого договора, в котором
одинаково заинтересованы две социальные группы: интеллигенция и
буржуазия. Государственные позиции обеих групп, сравнительно
с бюрократическими, вы глядят слабыми. Однако вектор социально-
политического сближения былых антагонистов уже наметился.
Постсоветская интеллигенция, усвоившая традиционные для
России социал-демократические ценности, и нарождающаяся
буржуазия, ориентированная на не укорененные в нашей стране
ценности либерально-консервативные, представляют собой две
исторические слабости. Но если две слабости падают навстречу друг
другу, то они создают устойчивое напряжение, конструктивную
силу. Так Леонардо да Винчи определял архитектурную арку.
В том числе — триумфальную. Главная сложность социально-
политического союза интеллигенции и буржуазии состоит в
социологически точном расчете совпадения траекторий встречного
падения.
473
Буржуа — мещане — граждане
Российские государственные потрясения конца XX в. вызвали
массовую демобилизацию образованного слоя населения. В частную
жизнь ушли «бойцы идеологического фронта», служившие идеокра-
тическому государству «конно, людно и оружно». Во всеохватной
системе политпросвещения, например, числилось до девяти миллионов
партийных «штыков». Многие из них при ближайшем рассмотрении
оказывались ангажированными «перьями». Только в Союзе
писателей СССР их было свыше десяти тысяч.
Бесчисленные служащие госучреждений, научно-техническая
интеллигенция, менеджеры среднего звена управленческой системы,
работники предприятий культуры и искусства за годы рыночных
преобразований стремительно деклассировались. Сначала, с
развалом системы государственного распределения, они утратили
имущественную составляющую своего общественного ценза. Затем —
ранговое место в социальной иерархии.
На новом витке исторической спирали повторяется алгоритм
послепетровского распадения системы принудительной госслужбы.
Существенное отличие посткоммунистической либерализации от
Манифеста 1762 г. «О вольности дворянства» состоит
(метафорически выражаясь) в «обезземеливании» граждан среднего достатка.
Первый этап приватизации свелся к феодальному огораживанию
госсобственности ваучерным частоколом. Он оставил
мелкопоместным «дворянам арбатских дворов» лишь право свободного
пользования (продолжим метафорический ряд) безлошадной пешеходной
зоной.
Являться «конно, людно и оружно» на государевы смотры
рыночных сил, закрытые тендеры и залоговые аукционы оказалось под
силу только чемпионам приватизации — новым «вотчинным
боярам». Их исторический реванш обеспечила частная собственность
на средства производства. Именно она сокрушила
социалистический вариант средневековой поместно-тягловой системы всеобщего
исхолопливания и вернула «мужам вольным» капиталистической
формации правовой статус, отобранный у их исторических
предшественников в XVI в.
Однако российская феодально-номенклатурная форма
приватизации 1990-х гг. заодно освободила массу «цензовых элементов»
среднего класса от средств индивидуального жизнеобеспечения и
социального воспроизводства. Дикий рынок поверстал всех безвотчин-
474
ных и бесчиновных в тягловое сословие плательщиков
«административной ренты», аппаратных издержек структурных реформ.
Основные материальные тяготы либерализации цен, гиперинфляции,
деиндустриализации, декапитализации экономики легли на плечи
низкодоходной части населения. Государственная конфискация
«бедных денег» — традиционный для России способ
финансирования ускоренной модернизации.
Петр I в свое время отяготил подушной податью все
промежуточные социальные группы, включая дворян-однодворцев. Допетровская
общественная стратификация потеряла свой архаический облик в
«Табели о рангах». Столоначальники разгромили атаманов,
разогнали воевод. Государственный чин стал приходить с должностью.
Функция рождала орган. Крапивное семя пало на бюджетную почву.
Оно заглушило культурно-декоративную поросль российской
интеллигенции XIX в. В основном этим объясняется ее государственное
отщепенство.
Экстенсивный рост государственных функций в XX в.
сопровождался избыточным воспроизводством социальной категории
служащих. В СССР они именовались межклассовой
«прослойкой». Их участие в общественной жизни всячески ограничивалось.
Например, существовала жесткая квота на их прием в КПСС.
Избывшие тягло, но не поверстанные в службу, граждански
озабоченные люди в СССР остро ощущали свою политическую мар-
гинальность в собственной стране. Отечественная
невостребованность граждан сублимировалась в их всемирную отзывчивость и
добровольную ответственность за абстрактно понимаемое
«всеобщее благо».
Когда государство превращается в монопольного работодателя,
трудовые отношения с ним утрачивают договорный характер.
Должностные обязанности наемного работника, не уравновешенные
корпоративными правами, тождественны государственным
повинностям. Статусное положение «белых воротничков» в СССР,
обусловленное политической лояльностью и партийной принадлежностью,
от имущественного ценза не зависело. Оно определялось
соотношением со стратификацией служилого сословия: номенклатура
парткома, райкома, горкома, обкома, крайкома, рескома, ЦК КПСС,
секретариата ЦК, политбюро ЦК.
Уход современного российского государства из сфер идеологии и
непосредственного хозяйствования обернулся сокращением
миллионов служебных мест. Рыночная адаптация «безвотчинных детей бо-
475
ярских» и выведенных за штат «младших жрецов» рухнувшего идео-
кратического государства идет трудно. Но — идет. Она
осуществляется на цивилизационно новой основе — ускоренной капитализации
информационных ресурсов страны. В этом процессе стартовые
позиции интеллигенции и нарождающейся буржуазии предпочтительнее,
чем у остальных групп населения: выше начальная скорость
социального перепрофилирования у непосредственных операторов
смыслами и ресурсами.
Продуктивные возможности индивидуалистических,
состязательных сообществ потенциально шире, чем у сообществ,
подминающих творческую личность, сковывающих ее самостоятельную
поисковую деятельность. Большая часть современного российского
населения выросла в условиях гарантированного выживания.
Поэтому постиндустриальная модернизация сопровождается
нарастающим массовым переходом от ценностей коллективного
выживания к ценностям индивидуального самовыражения.
Самостоятельность в выборе конкретных форм самовыражения
обеспечивается частной собственностью. Она экономически эффективней
государственной, поскольку вызывает гораздо большее количество
продуктивных соединений рассредоточенных ресурсов и
рассеянной информации.
Для приумножения частной собственности, превращения ее в
работающий капитал (ресурсы в динамике) не требуется
внеэкономического принуждения. Условием возрастания массива
государственной собственности является либо всеобщая трудовая повинность
граждан, либо масштабное применение государственных рабов. В
античности (согласно Ксенофонту) требовалось в пропорции три раба
к одному свободному гражданину. Постфеодальные масштабы
применения принудительного труда обратно пропорциональны уровню
технологического развития цивилизации.
Представительная демократия деполитизирует национальный
механизм первичного (рыночного) распределения продуктов
индивидуализированного производства. Вторичное распределение (ре-
дистрибуция) отличается от первичного своим социально-
политическим характером, так как находится в руках государства,
то есть — вне экономики. Типологическая принадлежность
государств определяется базовым способом редистрибуции. Степень
принудительности перераспределения национального дохода
зависит от политической представленности неконкурентных групп
населения во властных институтах.
476
Политическое состязание не подчиняется законам, действующим
в сфере экономической конкуренции. В условиях системной
устойчивости, объем государственной публичной власти — величина
постоянная: убывание политического веса одной группы населения
увеличивает вес другой. В экономике не действует закон сохранения.
Если число носителей публичной власти системно ограничено, то
количество частных собственников не лимитировано даже ресурсно.
Только — демографически. Социальный мир между людьми,
«обремененными» собственностью, предопределен природой самих
источников их жизнеобеспечения. Они взаимодополнительны, нуждаются
в системной целостности и в инфраструктурном обеспечении. В
частности — в правовом. Писаное право появилось и в Месопотамии
(кодекс Хаммурапи), и в Афинах (законодательство Дракона), и в Риме
(законы XII таблиц) вследствие утверждения института частной
собственности.
Частная собственность, неограниченно репродуцируясь,
органически соединяет участников общественного воспроизводства.
Государственная собственность, которая всегда в дефиците, на
стадии перераспределения механически разъединяет соискателей ее
«бесплатных» плодов. Одна из главных проблем внерыночного
дележа «по справедливости» — потребительское ранжирование. Оно
сопровождается градуировкой внерыночных потребителей,
обслуживаемых «вне очереди». Их негативно сплачивает интерес к
всевозможным экспроприациям.
«Демократия участия» укрепляет политические позиции
продуктивных слоев населения. Расширяя за счет этих слоев свою
социальную базу, политическая «демократия участия» способствует
увеличению количества субъектов непосредственного хозяйствования.
На постиндустриальном этапе общественного развития в их круг
включаются операторы информационными ресурсами.
В конце XX в. этот традиционный фермент социального брожения
превращается в катализатор экономического развития. Рыночный
прорыв з постиндустриальную эпоху изменяет цивилизационную
роль и буржуазии, и бывших «пролетариев» умственного труда.
Формационное противоречие между общественным характером
труда и частным способом присвоения его продуктов преодолевается
в нематериальной сфере. Здесь возникают принципиально иные
производственные отношения.
Трансформируется природа собственности на средства
производства. Информационные ресурсы, в отличие от материальных,
477
безграничны. Они возрастают при расширении круга
пользователей. Пользование ими не обусловлено правом собственности.
В едином информационном пространстве совмещаются труд и
капитал. В обороте нематериальных активов цивилизации ее
прибыль возникает задолго до акта купли-продажи. Рыночная цена
информационного продукта слабо зависит от издержек
производства и конкуренции между товаропроизводителями. Здесь —
диктат потребителя.
Описывая социальные признаки информационного сектора
постиндустриальной экономики, мы вступаем в безграничную область
отрицательных определений. Процесс первоначального накопления
информационного капитала не сопровождается нарастанием
классовых антагонизмов. Накопленное не передается по наследству:
накопительный цикл возобновляется со сменой поколений.
Информационное неравенство между людьми легко преодолевается, ибо
не закрепляется отношениями статусной собственности: она
маркирует лишь авторский вклад в общий цивилизационный прирост
интеллектуального капитала. Юридически не фиксируется
дивергенция системных ролей работодателей и наемных работников: они
постоянно меняются местами, оставаясь в рамках асимметричной
коммуникации.
Информационный капитал не может быть паразитическим,
монополистическим, национально ориентированным, компрадорским,
фиктивным и т. п. Только — антиэнтропийным и кумулятивно
нарастающим. Его нельзя тезаврировать. Даже сокровища культуры
являются таковыми лишь в обороте. Будучи сокрытым, сокровенное
обесценивается. Оно нетленно, пока есть ценители. Вне
информационного обмена, духовных контактов, трансцендентного общения,
социальной и межличностной коммуникации, сам человек — «краса
вселенной, венец всего живущего» — гамлетовски представляется
«квинтэссенцией праха»..
Научная составляющая информационного пространства
территориально не закреплена, границами не обозначена. Она ограниченно
нуждается в силовом упорядочении. Системность — имманентное
свойство науки. Дисфункции информационных подсистем
устраняются в процессах параметрического саморегулирования.
Российская интеллигенция в начале XXI в. становится мотором
социогуманитарного производства, избавляясь от признаков
«межклассовой прослойки». Наукоемкая «новая экономика» сокращает
относительную долю индустриального сектора национального
478
ВВП. В развитых странах ОЭСР она не превышает 25 % валового
внутреннего продукта.
Культурная экспансия в конце XX — начале XXI в., связанная с
глобальным перепроизводством информационного капитала, не
сопровождается властными притязаниями интеллигенции и буржуазии
на создание обособленного политического пространства. Былые
задачи государственного объединения народов и земель вдоль
торговых путей «из Варяг в Греки», «сарацинского» или
средиземноморского не актуальны для коммуникаторов Интернета. К
государственному обособлению предрасположена национальная бюрократия,
опирающаяся на неконкурентные группы населения и
самоубийственно воспроизводящая эту опасную (для системной
устойчивости) неконкурентность. Среди «тихих катастроф прогресса»
наиболее деструктивна — вызывающая превышение критической массы
аутсайдеров экономического успеха.
При неразвитости институтов гражданского общества и
государственного перераспределения, успех может быть только
корпоративным. Наилучшие стартовые возможности в постреформационном
рыночном состязании дает организационно оформленная близость к
основным информационным, материально-ресурсным и денежным
потокам. Модернизационный порыв вовлекает корпоративно
организованные группы российского населения в капитализацию
государственной собственности.
Становление рыночной экономики сопровождается
трансформацией номенклатурного бенефиция («феода») в безусловный
буржуазный «аллод». Сеньориальное право владения дополняется
буржуазным правом пользования и распоряжения. Возрождается
античное понятие полной собственности. Юридическое лицо
становится субъектом ответственного хозяйствования, подчиненного не
указаниям сверху, а гражданско-правовым отношениям,
закрепленным письменным договором. Верхи нарождающегося в России
третьего сословия (нотабли) переваривают в своей среде партийно-
хозяйственный нобилитет (номенклатуру). На этом меняющемся
социальном фоне происходит трансформация российской цивили-
зационной парадигмы.
На пороге III тысячелетия н. э. Россия столкнулась с задачей
мирового масштаба: конвертацией природной ренты в
интеллектуальную. Задача ограниченно решается капитализацией
информационно-личностных ресурсов страны, в условиях развития института
частной собственности. Однако продуктивное использование ин-
479
теллектуальной ренты невозможно ни в рамках авторитарно
организованной «трофейной экономики», ни на основе
либеральной «экономики рантье». В последней роли еще может выступать
титульный собственник материальных ресурсов, но — не
информационных. Субъект наукоемкого производства в принципе не может
делегировать кому-либо полномочия оперативного управления
своим интеллектуальным капиталом: собственник в его лице
сливается с менеджером. Историческим аналогом и ориентирующей
моделью постиндустриальной «новой экономики» наиболее развитых
стран ОЭСР является докапиталистический феномен
сеньориальной власти=собственности.
В середине XX в. в финальной стадии индустриального развития
западной цивилизации произошла так называемая революция
управляющих. Последние существенно ограничили права
собственников в технологической сфере. Эти права подверглись еще
большему ограничению в рыночном обороте фиктивного капитала: здесь
на экономическую авансцену выступает кредитно-финансовый
оператор. Инновационная роль собственника капитала
восстанавливается в интеллектуальном секторе постиндустриальной экономики.
Типичной персонификацией данного реванша является компания
«Майкрософт».
Собирательные образы, адекватные разным этапам
интеллектуализации западного института частной собственности на
средства производства, выстраиваются в следующей временной
последовательности: Генри Форд I (собственник-менеджер), Ли Яккока
(менеджер), Джордж Сорос (финансовый оператор), Билл Гейтс
(собственник-инноватор). А может ли в современной
информационно-ресурсной экономике «собственных Платонов и
быстрых разумом Невтонов российская земля рождать»? Родиться
они, пожалуй, могут. Но вряд ли повзрослеют, если рентные
отрасли нашей национальной экономики будут превалировать над
инновационными.
Российские преобразования конца минувшего столетия с трудом
поддаются западноевропейской цивилизационной атрибуции.
Впрочем, исторические параллели столь же продуктивны, сколь и
рискованны. Потому что, как проницательно замечал Ю. М. Лотман,
позади все закономерно, впереди все непредсказуемо. В России в
сфере социальных отношений заканчивается Долгое Средневековье,
если воспользоваться исследовательской терминологией
французской историографической школы «Анналов». В ходе асоциальной
480
приватизации 1990-х гг. мы едва миновали исторический этап
феодального огораживания.
Вспомним, общественно-государственная система европейского
Средневековья за полтора тысячелетия прошла три этапа: ordo —
conditio — état (сословие — положение — состояние). Если ordo
(клирики и миряне) определялось церковью, conditio (благородные и
неблагородные) зависело от государства, то états формируются по
социально-экономическому основанию. На рубеже XX и XXI вв.
Россия осуществляет модернизационный, запоздалый переход от
этапа «conditio» к этапу «état».
Вертикальная интегрированность номенклатурных феодалов,
основанная на верности низших высшему, сменяется горизонтальной
ассоциированностью участников регулярного рыночного обмена.
Общественный договор противопоставляется партийно-феодальной
присяге. Первый становится письменным и правовым, вторая
остается устной и ритуальной.
Средневековый вассал вкладывал свои сомкнутые ладони в руки
сеньора и произносил слова «сир, я становлюсь вашим человеком».
Давалась клятва верности. Передача феода осуществлялась во время
церемонии инвеституры символическим актом вручения какого-либо
предмета, хотя бы клока соломы, вымпела, переходящего знамени,
«кольца и посоха».
Этос рыцаря отвлеченных идей — персональная верность, этика
«заземленного» буржуа — регулярность обезличенного
эквивалентного обмена. Первый способствует одухотворенности системы,
вторая обеспечивает ее экономическую эффективность и устойчивость.
Структурная статика и системная динамика уравновешивают друг
друга. Буржуа — мещане — граждане обнаруживают свою
социальную общность. Историческое противоречие между ними снимается.
Социологическая проблема остается. Она состоит в сходстве
большевистского стиля партийно-советской номенклатуры и радикал-
либералов. Старый феодально-номенклатурный скупой рыцарь1 —
идеологическая окаменелость. Но его нетерпеливый либерально-
демократический буржуазный наследник — живая реальность
асоциальной российской модернизации. Для молодой буржуазии
периода первоначального накопления обременителен этический
императив попечений о всеобщем благе. Ей нехватает интеллигентности.
Воспользуемся многозначным пушкинским образом.
481
теллектуальной ренты невозможно ни в рамках авторитарно
организованной «трофейной экономики», ни на основе
либеральной «экономики рантье». В последней роли еще может выступать
титульный собственник материальных ресурсов, но — не
информационных. Субъект наукоемкого производства в принципе не может
делегировать кому-либо полномочия оперативного управления
своим интеллектуальным капиталом: собственник в его лице
сливается с менеджером. Историческим аналогом и ориентирующей
моделью постиндустриальной «новой экономики» наиболее развитых
стран ОЭСР является докапиталистический феномен
сеньориальной власти=собственности.
В середине XX в. в финальной стадии индустриального развития
западной цивилизации произошла так называемая революция
управляющих. Последние существенно ограничили права
собственников в технологической сфере. Эти права подверглись еще
большему ограничению в рыночном обороте фиктивного капитала: здесь
на экономическую авансцену выступает кредитно-финансовый
оператор. Инновационная роль собственника капитала
восстанавливается в интеллектуальном секторе постиндустриальной экономики.
Типичной персонификацией данного реванша является компания
«Майкрософт».
Собирательные образы, адекватные разным этапам
интеллектуализации западного института частной собственности на
средства производства, выстраиваются в следующей временной
последовательности: Генри Форд I (собственник-менеджер), Ли Яккока
(менеджер), Джордж Сорос (финансовый оператор), Билл Гейтс
(собственник-инноватор). А может ли в современной
информационно-ресурсной экономике «собственных Платонов и
быстрых разумом Невтонов российская земля рождать»? Родиться
они, пожалуй, могут. Но вряд ли повзрослеют, если рентные
отрасли нашей национальной экономики будут превалировать над
инновационными.
Российские преобразования конца минувшего столетия с трудом
поддаются западноевропейской цивилизационной атрибуции.
Впрочем, исторические параллели столь же продуктивны, сколь и
рискованны. Потому что, как проницательно замечал Ю. М. Лотман,
позади все закономерно, впереди все непредсказуемо. В России в
сфере социальных отношений заканчивается Долгое Средневековье,
если воспользоваться исследовательской терминологией
французской историографической школы «Анналов». В ходе асоциальной
480
приватизации 1990-х гг. мы едва миновали исторический этап
феодального огораживания.
Вспомним, общественно-государственная система европейского
Средневековья за полтора тысячелетия прошла три этапа: ordo —
conditio — état (сословие — положение — состояние). Если ordo
(клирики и миряне) определялось церковью, conditio (благородные и
неблагородные) зависело от государства, то états формируются по
социально-экономическому основанию. На рубеже XX и XXI вв.
Россия осуществляет модернизационный, запоздалый переход от
этапа «conditio» к этапу «état».
Вертикальная интегрированность номенклатурных феодалов,
основанная на верности низших высшему, сменяется горизонтальной
ассоциированностью участников регулярного рыночного обмена.
Общественный договор противопоставляется партийно-феодальной
присяге. Первый становится письменным и правовым, вторая
остается устной и ритуальной.
Средневековый вассал вкладывал свои сомкнутые ладони в руки
сеньора и произносил слова «сир, я становлюсь вашим человеком».
Давалась клятва верности. Передача феода осуществлялась во время
церемонии инвеституры символическим актом вручения какого-либо
предмета, хотя бы клока соломы, вымпела, переходящего знамени,
«кольца и посоха».
Этос рыцаря отвлеченных идей — персональная верность, этика
«заземленного» буржуа — регулярность обезличенного
эквивалентного обмена. Первый способствует одухотворенности системы,
вторая обеспечивает ее экономическую эффективность и устойчивость.
Структурная статика и системная динамика уравновешивают друг
друга. Буржуа — мещане — граждане обнаруживают свою
социальную общность. Историческое противоречие между ними снимается.
Социологическая проблема остается. Она состоит в сходстве
большевистского стиля партийно-советской номенклатуры и радикал-
либералов. Старый феодально-номенклатурный скупой рыцарь1 —
идеологическая окаменелость. Но его нетерпеливый либерально-
демократический буржуазный наследник — живая реальность
асоциальной российской модернизации. Для молодой буржуазии
периода первоначального накопления обременителен этический
императив попечений о всеобщем благе. Ей нехватает интеллигентности.
Воспользуемся многозначным пушкинским образом.
481
Феодализм был эпохой жеста, капитализм актуализировал
письменное слово. Метафорически выражаясь, в интеллигентском
виртуальном мире «солнце останавливали словом». В реальном
буржуазном — «словом воздвигают города». «А для низких истин были
числа, / Как домашний подъяремный скот. / Потому что все оттенки
смысла / Умное число передает» (Н. С. Гумилев). Российская
буржуазия исподволь встраивается в ряды идейных попечителей
общественного блага, российская интеллигенция учится читать
бухгалтерские балансы.
«Среди развивающихся стран Россия — самая грамотная: со
своими 99,6 % взрослого грамотного населения она опережает трех
остальных членов BRIC (Китай — 90 %, Бразилия — 86,4 %, Индия —
59,5 %). Если теперь к знанию букв добавится знание цифр, то
конкурентных преимуществ у России будет все больше и больше: буквы
помогают придумывать идеи, цифры — их реализовывать»1.
1 Буква и цифра // Ведомости. 1 декабря 2006. С. A4.
Глава 8
УРОВНИ СВОБОДЫ
Россия сосредоточивается
Из первого лобового столкновения с объединенной
(наполеоновской) Европой Российская империя вышла триумфально.
Оказавшись после Венского международного конгресса 1815 г. в почетной,
но обременительной роли «жандарма Европы», Россия
законсервировала свой архаичный общественный строй.
Непоследовательные попытки верховной власти либерализовать
политический режим завершились аракчеевщиной, подавлением
либерального движения, отказом от структурных реформ, дальнейшей
бюрократизацией государства.
Второе столкновение с коалицией европейских стран
закончилось поражением России в Крымской войне 1853-1856 гг.
Николай I умер в 1855 г. «от Балаклавы в легких». (Тяжкое поражение
русской армии под Балаклавой сделало неизбежным оставление
Севастополя.) Обнаружилось критическое отставание российского
государства от передовых европейских стран в экономической,
военно-технической и административной областях. Стотысячный
экспедиционный корпус союзников одолел полумиллионную
русскую армию на ее территории.
После подписания унизительного для Петербурга Парижского
договора с государствами-победителями (запретившего России
иметь на Черном море военный флот) канцлер Российской империи
князь Горчаков разослал императорским послам, аккредитованным в
европейских столицах, циркулярные письма. Все они содержали
слова: «Россия сосредоточивается». Полтора века спустя послы
Российской Федерации могут вновь руководствоваться старой гор-
чаковской формулой.
Россия вцовь сосредоточивается. Она не раз приходила в это
системное состояние после столкновения с неодолимым внешним
препятствием. Но для решения каких внутренних задач осуществляется
сосредоточение национальных ресурсов? Страна государственно
возрождается. Какой исторический опыт она при этом использует?
Государство реформируется. Но «приказное» начало по-прежнему
доминирует над «земским». Не потому ли отсутствует гражданское
483
согласие в выборе национальных проектов социально-экономических
преобразований?
В начале XXI в. в Западной Европе конкурируют, периодически
сменяясь, неолиберальный, неоконсервативный и
социал-демократический варианты общественных трансформаций. В
современной России они осуществляются одновременно.
Исполнение государством арбитражных функций «ночного
сторожа» характеризовало неолиберальную модель российской
модернизации 1990-х гг. Она сопровождалась деэтатизацией
хозяйственной деятельности и коммерциализацией социальной
сферы. Экспансия рыночных отношений в явно нерыночные
области сегодня сталкивается с неорганизованным сопротивлением
большинства населения. Неолиберальная модель модернизации
не соответствует социал-демократическому тренду общественной
трансформации и российским социокультурным традициям.
Коммерциализация социальной сферы опирается на
принуждающую силу госаппарата и экономическое содействие рентоориенти-
рованных магнатов.
Сохраняются остаточные патерналистские госфункции,
осуществляемые в рамках неоконсервативной политики, конкурирующей с
неолиберальной экономикой Правительства РФ. Однако в России
начала XXI в. данные функции не обеспечены ни организационно, ни
ресурсно. Государственное поощрение неконкурентного типа
массового поведения нарушает одно из основных правил цивилизации.
Конкуренция в сочетании с кооперацией способствует
кумулятивному приращению факторов совокупной продуктивности общества.
Государственный патернализм нацелен преимущественно на
перераспределение уже произведенного национального дохода в
интересах экономически пассивной части населения.
Наиболее адекватна современному гражданскому состоянию
общества и целям era модернизации модель социальной
демократии. Конституция РФ ориентирует государство в социал-
демократическом направлении. В ст. 7 она устанавливает: «1.
Российская Федерация — социальное государство, политика которого
направлена на создание условий, обеспечивающих достойную жизнь
и свободное развитие человека. 2. В Российской Федерации
охраняются труд и здоровье людей, устанавливается гарантированный
минимальный размер оплаты труда, обеспечивается государственная
поддержка семьи, материнства, отцовства и детства, инвалидов и
пожилых граждан, развивается система социальных служб, уста-
484
навливаются государственные пенсии, пособия и иные гарантии
социальной защиты»1.
Исполнение этих функций под силу рациональному государству,
поставленному относительно общества в служебное положение.
Сервисное государство сохраняет за собой роль
общенационального стратегического инвестора. Но оно направляет инвестиции в
инфраструктурные сферы: правовую, образовательную, научную,
медицинскую, природоохранную. Сервисное государство, как
правило, уходит из области непосредственного хозяйствования.
Экономическую активность граждан оно преимущественно
регулирует посредством тонкого (функционально ориентирующего)
налогообложения и инфраструктурно обеспечивает, развивая
общенациональные системы транспорта, связи, энергетики, подготовки
профессиональных кадров и т. п.
Социальная демократия выправляет общественные перекосы
демократии либеральной, в просторечии именуемой капитализмом.
Социальная демократия обуздывает рыночную стихию. Буржуазные
процедуры «отнесения к интересам» дополняются
гуманистическими процедурами «отнесения к ценностям». Индивидуальная свобода,
состязательность и эффективность системно сопрягаются с
гражданской ответственностью, солидарностью и справедливостью.
Благодаря этому социальная демократия обеспечивает модернизацию
массовой поддержкой.
В соответствии с Конституцией РФ, меняются правовые основы
государства и парадигма его отношений с обществом. Десятая
российская модернизация сопровождается революционной ломкой
производственных отношений и политической надстройки, доставшихся
от СССР. Значительно сокращается объем прямых социальных
обязательств государства и возрастает объем косвенных.
Качественные изменения жизненного уклада большинства
населения столь значительны, что поверхностному взгляду кажется: это
уже другая страна, в которой нет ничего устойчивого. Данное
восприятие иллюзорно: сам масштаб преобразований предполагает
инерционное сопротивление среды, поскольку радикальному
реформированию по определению поддается лишь консервативно
оформленное. В противном случае исчезает сам предмет трансформации: он
«распыляется в движении».
1 Конституция Российской Федерации. Федеральные конституционные
законы о флаге, гербе, гимне. М., 2003. С. 44.
485
Обыденные представления о порядке исторически изменчивы,
нестроги и противоречивы. Основные противоречия состоят в
традиционной российской несопряженности свободы и социальной
ответственности, справедливости и права, солидарности и конкуренции.
Позитивное гражданское согласие в разрешении этих противоречий
достигается с трудом, политическими усилиями просвещенного
меньшинства. И наоборот, массовые оценки государственной смуты
непротиворечивы. Они характеризуются стихийным, легко
достигаемым негативным согласием большинства граждан.
Социально-психологическое неприятие беспорядка, даже
сулящего прогресс и процветание, обусловлено драматическим опытом
XX в. Россия исчерпала свой исторический лимит на потрясения
государственных основ. Гигантские общественные издержки этого
примитивного способа развития не оправдываются его скромными
позитивными результатами. Опыт предшествующих веков — тому
подтверждение.
Россия периодически переживает лихорадку исторического
нетерпения, пытаясь перескочить через этапы эволюционной
последовательности. Разрыв институциональной, ценностно-правовой и
культурной преемственности надолго травмирует общественное
сознание. Механистические представления о функционировании
общественного организма вызвали к жизни стратегию «шоковой
терапии», оказавшейся на деле шоком без терапии. Общество «лечили»
без участия «пациента» под идеологическим наркозом
неолиберализма, рыночным отсечением «лишнего», «неэффективного» и
«отсталого». В действительности, не было органической
необходимости в разрушении сложившейся социальной инфраструктуры,
технологически передовых отраслей ВПК, детских и молодежных
организаций. Культ радикального обновления на базе тотального
отрицания прошлого противоречит одному из основных законов
общей теории систем: реформированная система эффективней
любой заново созданной.
Десятая российская модернизация осуществляется в
либерально-демократическом варианте. Девять предшествующих
модернизаций проводились авторитарными методами, что
неизбежно сужало социальную базу реформ. Однако и демократическим
реформаторам не удалось заручиться массовой поддержкой: их
либерализм оказался элитарным, а демократия — аппаратной.
Преобразовательная деятельность старо-новой бюрократии не
принимает в расчет инерцию массовых представлений россиян о
социальной справедливости.
486
Нацию воспитывают учебники истории. Информационная
избыточность культурной памяти социумов обеспечивает
необходимый уровень системного разнообразия общества (закон У Р. Эш-
би). Историческая память — часть общекультурной. Она дает
возможность реализовать неиспользованные варианты более
счастливого национального будущего. Уже реализованный
вариант развития редко оказывается единственно возможным и, тем
более, оптимальным.
Формулой гражданского неучастия оборачивается известная
максима — «История не знает сослагательного наклонения».
Хрестоматийная категоричность этого суждения противоречит
бифуркационному характеру всех ключевых поворотов российской истории.
Общественная контрпродуктивность «фатализма однолинейности»
особенно наглядна в кризисные времена.
Социальные метасистемы периодически попадают в ситуации
критического превышения объема положительных обратных связей
с внешней средой. Обостряется проблема системной реадаптации.
Уровень адаптивности всех самоорганизующихся систем прямо
пропорционален количеству эволюционно не востребованных
«заготовок развития», сохранившихся в их культурной памяти. Это —
одно из следствий «закона необходимого разнообразия»,
сформулированного Уильямом Россом Эшби. С эпохи верхнего палеолита
человечество пережило семь глобальных социоприродных и сотни
системных кризисов. Наиболее продуктивно выходили из них
наименее однообразные сообщества, допускавшие социальные
дисфункции и отклоняющееся от групповых стандартов. Однако в
истории оставались лишь те социальные метасистемы, которым
удавалось государственно и ментально обеспечить консервативную
преемственность продуктивных достижений прошлого,
уравновешенных инновациями. Классический пример — послевоенная
Япония. В 1950-1980 гг. ее называли «нацией молодых,
управляемой хитрыми стариками».
Из глобального финансово-экономического кризиса 2000-2009 гг.
наиболее эффективно выходит Китайская Народная Республика.
Не в последнюю очередь это объясняется последовательно дири-
жистским курсом партийно-государственной системы КНР.
Прагматичное китайское консервативно-реформаторское руководство в
ходе рыночной модернизации не потеряло системной управляемости
стихийных процессов. Китайское государство не уходило из сферы
непосредственного хозяйствования в базовых отраслях
национальной экономики, не отдавало инфраструктуру страны во власть само-
487
регулирующегося рынка. Иными словами, государственная политика
не подчинялась идеологии рыночного фундаментализма. К
событию, которое (по словам экс-главы Федеральной резервной
системы США Алана Гринспена) «происходит один раз в сто лет», Китай
финансово подготовился намного лучше России и рациональнее
использовал «подушку валютной безопасности». Правительство КНР
не допустило кризисных дисфункций, подобных российским:
повального бегства за границу иностранного и значительной части
национального капитала, спекулятивного использования банками
государственных субординированных кредитов, финансового
обескровливания реального сектора. Потерю значительной части
экспортных доходов КНР компенсирует по-кейнсиански:
наращиванием объема внутреннего спроса и конечного семейного
потребления. Одновременно китайское руководство приняло
прагматичное решение о поддержке доллара США, поскольку критически
зависит от экспорта своей продукции на чрезвычайно емкий
американский рынок.
Китайское иероглифическое письмо влияет на национальный
менталитет, формируя образно синкретическое восприятие
внутренне противоречивого целого. Слово «кризис», написанное
по-китайски, состоит из двух иероглифов: один означает
«опасность», другой — «благоприятную возможность». Это соответствует
синергетическому представлению о кризисе как синтезе беспорядка
и порядка, то есть — детерминированном хаосе, способном
творчески преобразовать систему, повысив ее адаптивность к
вероятностным изменениям среды.
В системной отработке критически превышенного объема
положительных обратных связей резко убывает или возрастает мера
энтропии системы, то есть — ее внутренней способности
переходить в наиболее вероятное состояние неупорядоченности. Развитие
осуществляется через накопление неустойчивости. Известно при
этом, что количество информации — главной антиэнтропийной
силы — определяется степенью непредсказуемости событий
внутри системы.
Рутинная повторяемость событий общественной жизни, их
линейная предсказуемость формируют обыденные представления о
порядке. В терминах теории систем, такое состояние именуется гомео-
стазисом. Ему свойственен минимум положительных обратных
связей с внешней средой, побуждающих к системным изменениям
приспособительного характера. С отработкой положительных
обратных связей плохо справляется госаппарат, управляемый авторитар-
488
но. Консервативно-охранительные структуры авторитарных
режимов обычно склонны к недооценке тревожной информации о
критических изменениях, происходящих в стране.
Говорят, многолетний канцлер Австрийской империи Кауниц
запретил своим приближенным сообщать ему дурные известия.
И когда в 1765 г. муж императрицы Марии-Терезии скончался и она
передала бразды правления страной своему сыну, окружение
канцлера долго не решалось доложить шефу о тревожном для него
событии. Наконец, доложили в смягченной формулировке: «Ныне
правящий император Иосиф II...» Кауниц побледнел, но продолжил
привычное течение дел.
Сохранявшие собственный аппаратный комфорт советские
лидеры долгие годы пребывали в уверенности, что власть КПСС — на
века, политический режим неколебим, народ и партия едины.
Психологически показателен нижеследующий пример. Секретарю
ЦК КПСС по идеологии М. А. Суслову, выступавшему в конце
1960-х гг. перед партийным активом Ростовской области, был задан
(запиской в президиум) идеологически не выверенный вопрос:
«Почему падает политическая активность рабочего класса СССР?»
Вместо ответа, Суслов приказал КГБ найти автора записки. Автора
(им оказался аспирант физического факультета Ростовского
госуниверситета) быстро вычислили, исключили из партии и аспирантуры.
Времена уже были не расстрельные, застойные, добродушные.
Согласно английской пословице, отсутствие новостей — хорошая
новость. Рутинная повторяемость событий внешней среды
комфортна на уровне частного быта. И контрпродуктивна на уровне
социального бытия человека, так как снижает его адаптационный потенциал.
«Век двадцатый — век необычайный. Чем он интересней для
историка, тем для современника печальней», — писал в советские времена
поэт Николай Глазков, придумавший неологизм «самиздат». А был ли
в человеческой истории хотя бы один обычный век? Сознавая
условность обобщающих оценок (XVIII в. — самый умный, XIX в. —
эмоционально наиболее культурный, XX в. — самый информированный),
отдадим должное интуитивному пророчеству А. Блока, сулившему в
начале XX в. неслыханные перемены, невиданные мятежи. В самом
деле, до XX в. человечество не предпринимало столько масштабных
усилий по упорядочению людских множеств на четких принципах
рациональных организаций. И никогда успехи тоталитаризма не
были так велики: механизм вместо организма, ранжированная толпа
вместо политического сообщества сознательных граждан, кристалл
вместо клетки.
489
В 20-е и 30-е годы XX в. демократии терпели поражения на всех
фронтах: военном, экономическом, идеологическом, социальном,
административном. Но вторая половина XX в. прошла под знаком
глобального торжества демократии. Частью этого торжества явилась
политическая модернизация СССР, названная «перестройкой». Ее
начальная энергия ушла на борьбу реформаторского руководства
страны с консервативной частью бюрократического аппарата. В этой
затянувшейся до конца 1980-х гг. борьбе инициаторы «перестройки»
не сумели найти свою надежную опору во внеэлитных частях
общества, хотя именно к расширению социальной базы реформ приглашал
исторический опыт успешных модернизаций.
Алгоритмы российских модернизаций
Устойчивость, доведенная до своего
предела, прекращает любое развитие.
Она противоречит принципу
изменчивости. Чересчур стабильные формы —
это тупиковые формы, эволюция
которых прекращается.
Моисеев H. Н. Алгоритмы развития
Необходимыми составляющими успешных политических
модернизаций являются:
— рационализация государственной власти;
— специализация ее функций;
— дифференциация государственных структур, обусловленная
специализацией их функций;
— увеличение совокупного объема политической власти как
следствие вовлечения в политическую активность новых больших групп
населения.
Эти постоянные компоненты модернизаций, их сочетания,
скорость и последовательность осуществления были различными в
Западной Европе, России и Северной Америке. Среди народов
западной христианской цивилизации американцы оказались первыми в
организации широкого участия населения в политической жизни
страны, но последними — в модернизации государственных структур.
В этом отношении США повторяют исторический опыт древней
Римской республики, чьи государственные институты являлись
шедевром консервативности. Показательно в символическом плане, что
490
политическая лексика американцев содержит немало латинизмов:
верхняя палата федерального Конгресса называется Сенатом, здания
Конгресса и Законодательных собраний штатов именуются «капито-
лиями», для политиков обиходны слова «магистратура», «империя»,
«трибунат», становится популярным изучение латыни. На латынь
переведен даже высокотиражный «Гарри Поттер», рассчитанный
отнюдь не на политиков.
В континентальной Европе, в отличие от России и США,
рационализация государственной власти и дифференциация ее структур
предшествовали росту политической активности населения. Эти
несовпадения в исторической последовательности необходимых
компонентов модернизаций непосредственно связаны с обилием в
Европе Нового времени, по контрасту с Россией и Северной
Америкой, крупномасштабных религиозных войн и социальных
конфликтов. В XVII в. на европейском континенте только три года
не велись военные действия. При этом размах и интенсивность войн
достигли степени, небывалой в других веках. Она была превышена
только в XX в.
Милитаризация европейских государств блокировала рост
политической активности населения. Другая причина его деполитиза-
ции — свертывание в Новое время местного самоуправления
европейцев. Уничтожение (в ходе становления абсолютистских систем)
институтов сословного представительства сопровождалось
понижением статуса государственной легитимности местных интересов.
Понижение этого статуса ускорилось в ходе и вследствие
социальных революций XIX-XX вв. После Великой французской
революции весь объем государственной власти и легитимности в стране
принадлежал общенациональному целому.
Великая французская революция лишила общинные,
провинциальные, муниципальные, корпоративные и групповые интересы
граждан национального представительства в центральных органах
политической системы. Для сравнения: английская Палата общин и
после революции 1640-х гг. в течение нескольких веков сохраняла
государственную легитимность общенационального представительства
местных интересов, в том числе — малочисленного населения так
называемых «гнилых парламентских местечек», посылавших в Палату
общин своих представителей.
Участие белого мужского населения североамериканских
колоний в политическом процессе было изначально (с XVII в.) более
широким, чем в континентальной Европе и Англии XVIII в.
Незначительный имущественный избирательный ценз, установлен-
491
ный в колониях, после Войны за независимость заменился на
требование к уплате налогов, а вскоре и вовсе исчез. В континентальной
Европе и Англии XIX в. имущественный избирательный ценз
неизменно оставался высоким. Акт о Реформе 1832 г. расширил долю
голосующих в общем составе взрослого мужского населения
Великобритании с 2 % до 4 %. В Нидерландах и Скандинавии
всеобщее избирательное право мужчин было введено лишь в конце XIX —
начале XX в. Для сравнения: в США доля фактически участвовавших
в президентских выборах 1840 г. составила 16 % от общего
количества взрослых белых мужчин.
Западноевропейский, североамериканский и российский
исторический опыт показывает, что существует обратная зависимость между
эффективностью модернизации государственных институтов и
ростом политической активности населения. Общеизвестные примеры
данной негативной корреляции:
— контраст между высокой государственной энергетикой
Петровского реформирования военно-административных
институтов и общественной пассивностью в той же области: «один царь тянет
в гору, а миллионы — под гору» (И. Т. Посошков);
— взрывная политизация масс в феврале — октябре 1917 г.,
остановившая успешную модернизацию России, начатую на рубеже XIX
и XX вв.;
— демократическая революция в Иране (1979 г.), сорвавшая
ускоренную модернизацию страны (так называемую белую революцию),
начатую в 1970-е гг. шахом Мохаммедом Реза Пехлеви:
политизированные массы, направляемые аятоллами, вернули Иран из XX в
VII век;
— массовое националистическое движение в Литве, Латвии,
Эстонии, Грузии, Армении, Азербайджане и среднеазиатских
республиках, блокировавшее модернизационный процесс исторически
назревшей федерализации СССР: этнополитические элиты союзных
республик использовали данный общесистемный ступор в своих
сепаратистских целях.
Обратная зависимость между эффективностью модернизации
государственных институтов и ростом политической активности
населения объясняется несовпадением основных системообразующих
принципов общества и государства. В терминах синергетики,
общество — это горизонтально ориентированная, неравновесная
метасистема ассоциированных социальных групп, которая базируется на
взаимном согласовании их стихийно агрегированных интересов.
Большая часть общественных структур разновекторна и не предпо-
492
лагает господства и подчинения однородных участников регулярного
обмена результатами продуктивной деятельности. Властное
измерение социальных отношений возникает в иерархически
организованных секторах общества, составляющих государство. Последнее
отличается от невластных общественных секторов меньшими степенями
системной неустойчивости, внутренней неравновесности,
нелинейности. И, как следствие, меньшим уровнем адаптивности. Снижение
адаптивности государств компенсируется их повышенной
способностью к концентрации ресурсов.
Инструментом модернизации иерархически организованных
секторов общества может быть только сильная государственная
власть, действующая сверху вниз и предполагающая
исполнительскую дисциплину своих рабочих подсистем. Обязательным
условием успеха структурных реформ государства является плановая
последовательность организационных шагов. Основной субъект
модернизации, действующий системно, нуждается в массовой
поддержке в одном случае: для преодоления инерции
консервативных сил. Реформаторский центр, возглавляемый М. С. Горбачевым,
столкнулся с инерцией нереформируемого партаппарата КПСС уже
на первом этапе «перестройки». Он пытался преодолеть аппаратное
сопротивление мерами поверхностной либерализации,
ограниченной демократизации и дозированной гласности. Ответом явилась
взрывная, стихийная политизация масс, расколовшая не только
правящую партию, но и весь внепартийный истеблишмент.
В ситуации глубокого раскола политического класса у
центральной власти (сохранившей легитимность) был только один
конструктивный выход: возглавить стихийный процесс
демократического движения и ввести его в организационные берега.
«Демократическая платформа» внутри КПСС открывала такую
возможность. На ее базе в конце 1980-х гг. реформаторский центр еще
мог организовать мощную социал-демократическую партию,
аналогичную современной «Единой России». А. Н. Яковлев, бывший
член Политбюро ЦК КПСС, рассказывал автору книги, что
М. С. Горбачев отверг вариант организационного разделения
правящей партии^ «С какой частью разделенной партии мы оставим
КГБ?» — спросил генсек. Через несколько лет после распада и
КПСС, и СССР М. С. Горбачев предпринял запоздалые попытки
создания Объединенной социал-демократической партии России
практически на пустом месте, предварительно лишившись всех
ресурсов успешного партстроительства, бывших в распоряжении
реформаторского центра в конце 1980-х гг.
493
В начале 1990-х гг. желание радикальных перемен в России было
почти всеобщим. Однако оно явно превышало массовую готовность к
структурным реформам. Надежды на изменение национальной
судьбы не обеспечивались прежде всего организационно-политически.
Лидеры российских демократических преобразований не решились
на демонтаж советской бюрократической системы, сдерживавшей за-
критический рост деструктивных последствий «революционного
творчества масс» (В. И. Ленин). За это структурное ограничение
амплитуды опасных метасистемных автоколебаний, возникших в конце
XX в., страна сегодня расплачивается небывалым в истории России
всевластием бюрократического аппарата. После стремительного
распада СССР возрождение российской государственности пошло по
исторически набитой приказной колее, минуя пунктирно
намеченную земскую. Российское политическое руководство освободило
старую управленческую машину от избыточной нагрузки
непосредственного хозяйствования и централизованного ценообразования,
оставив в руках чиновников социально значимый штурвал
приватизации государственной собственности. На контрпродуктивный
характер приватизации 1990-х гг. существенно повлияла не
преодоленная до настоящего времени слитность регуляторных и экономических
функций госаппарата.
Корпоративно солидарная бюрократия сознательно
саботировала создание гражданских институтов демократического варианта
приватизации. В этом варианте, неизбежно снижалась
системообразующая роль государственного аппарата и, одновременно,
возрастала способность граждан к самоорганизации. Аппаратно
организованная непрозрачность приватизации государственной
собственности, заведомая заниженность оценки наиболее привлекательных
объектов поспешного разгосударствления осуществлялись вне
гражданского контроля, в интересах тонкого привилегированного
слоя. Недемократический характер приватизации, в сочетании с
асоциальностью остальных Структурных реформ, лишили десятую
модернизацию широкой общественной поддержки.
На рубеже XX и XXI вв. существенно понизился средний уровень
политической активности российского населения. Его деполитиза-
ция сопровождалась уходом большинства граждан в области частных
интересов (семья, досуг, работа). Сокращению сферы общественной
активности граждан способствовала массовая культура. Она по
определению ориентирована на ценности частной жизни.
Социально-политические ожидания приобрели инерционный
характер. Они иллюстрируют сдержанный оптимизм образованной и
494
квалифицированной части населения преимущественно молодого
возраста. Однако российское общество фрагментированно и
разнородно, слишком велики отличия по уровню и качеству жизни между
различными общественными стратами, регионами, центром и
периферией. Основной тон общественным настроениям сегодня задают
экономически активные средние слои. Но рост социально-
политического оптимизма конкурентных и рыночно востребованных
групп населения сопровождается пессимизмом и понижением
социально-политического тонуса иных групп, остро переживающих
свою рыночную невостребованность.
Совокупный объем претензий населения к государственной
власти не уменьшился по сравнению с 1990-ми гг. Но их острота
притупилась. Привычное недовольство властью не перерастает в массовое
стремление немедленно ее менять: это признается нерациональным,
неэффективным и не оказывающим непосредственного влияния на
реалии повседневной жизни большинства граждан.
Достигнутая в начале XXI в. относительная стабильность
российской власти неустойчива в условиях гражданской пассивности и
политической усталости населения. Осуществляя «зачистку» партийно-
политического пространства страны, управляющий центр
вынужденно берет на себя весь объем ответственности за неизбежные
дисфункции системы. Системные дисфункции могут стать
критичными в периоды очередного подтверждения легитимности и
конституционной передачи высшей государственной власти. Необходимость
этой регулярной процедуры диктуется правилами электоральной
демократии.
На контрастном фоне преобладающего гражданского недоверия к
конкретным носителям политической власти, труднообъяснимым
выглядел в 2000-2008 гг. устойчиво высокий рейтинг
Президента РФ. Но не следует переоценивать социологическую
информативность данного рейтинга: он лишь отчасти отражал
рациональную оценку деятельности главы государства. Высокая степень
народного доверия В. В. Путину — свидетельство не снижающегося объема
стихийных ожиданий устойчивого роста уровня жизни большинства
населения. Этот показатель общественного самочувствия оставался в
2000-е гг. статистически постоянным, несмотря на отсутствие
ощутимого прогресса в модернизации капиталоемких секторов (с
непривлекательной для частного капитала низкой доходностью), в
развитии социальной инфраструктуры, транспорта, энергетики и
ЖКХ. Нарастающая стагнация инфраструктурных секторов
контрастировала с бурным развитием в вышеуказанный период рентных от-
495
раслей, дававших быструю отдачу капитальных вложений. Ренто-
ориентированные мотивации краткосрочных инвестиционных
решений частного капитала усиливались структурными деформациями
российской экономики, унаследованными от СССР.
Правительственные программы модернизации рассчитаны на
горизонт индикативного планирования, не простирающийся за
пределы нескольких лет. Их базовые составляющие имеют вероятностный
характер, поскольку привязаны к мировым ценам на первичные
ресурсы. Тем не менее, по сравнению с советскими директивными
пятилетними планами, российские планы-ориентиры выглядят более
реалистичными. За годы реформ созданы очаги экономического
роста, чувствительные к рыночным сигналам и потому —
формирующие новую экономику, одновременно устойчивую и адаптивную.
Восстановительный период закончился в 2006 г. В этом году
экономика России достигла своего предкризисного уровня: объем ВВП
дорос до показателей 1990-1991 гг. 2008 г. лишь частично
подтвердил нижеследующую прогнозную оценку. «Конец
восстановительного периода означает, что ресурсы для легкого (восстановительного)
роста исчерпаны. Дальнейший рост ВВП будет трудно
стимулировать простым наращиванием производства и экспорта. Не легче будет
стимулировать экономику через потребителей — в 2007 г. ВВП на
душу населения по паритету покупательной способности превысит
10 тыс. долларов США. Это пороговое значение, после которого
потребление теряет для людей основную часть своей ценности, — после
победы над голодом, насыщением предметами первой нобходимости
и товарами долгосрочного пользования начинается погоня за
статусом. Россиянам для повышения своего самочувствия понадобятся
значительно большие усилия, нежели шопинг»1. Финансово-
экономический кризис 2008-2009 гг. внес существенные коррективы
в рыночное самочувствие большинства населения.
В апреле 2001 г. Правительство РФ приняло либеральную
стратегию развития страны на ближайшие десять лет. Президент России
тезисно изложил ее в апрельском (2001 г.) Послании Федеральному
Собранию России. «Апрельские тезисы» высшего руководства
страны не обещали очередного слома социально-политических структур.
Они ориентировали политикообразующий класс на заключение
нового «социального контракта» между государством и гражданами.
В том числе — на постепенную передачу институтам гражданского
1 От редакции. Восстановились // Ведомости. № 247. 29 декабря 2006.
С. A4.
496
общества и деловым кругам целого ряда системообразующих
функций.
Реализуемый в настоящее время правительственный проект
дерегулирования экономики отражает тенденцию, общую для
европейской цивилизации. Правительство отказывается от модернизацион-
ной роли «единственного европейца в России». Рядом с ним
появляются иные субъекты модернизации. Прежде всего, это деловое
сообщество, развивающееся в социально благожелательной среде
экономически активного населения. Системообразующая роль
побуждает предпринимателей к корпоративной самоорганизации.
Однако лидирующая роль государства в процессе системных
преобразований России сохраняется. Идеология государственного
дирижизма широко распространяется в аппаратных кругах российского
политического класса. В начале XXI в. состоялся элитный консенсус
по традиционному вопросу «что делать?» Дирижистская
технология — «как делать?» сопровождается общественными разногласиями.
По внутренней логике своего существования, государство стремится
к исполнению взаимоисключающих функций: патерналистских,
субсидиарных и арбитражных. Между тем, первая из них не обеспечена
ресурсно, а последняя — социокультурно.
Современному российскому государству по силам лишь
субсидиарная функция: с адресной поддержкой отдельных групп
экономически пассивного и социально не защищенного меньшинства
населения. А это возможно лишь при условии инфраструктурного
обеспечения продуктивной деятельности всех остальных
трудоспособных граждан. Стремительный уход государства из сферы
непосредственного хозяйствования существенно сократил
централизованные инвестиции в базовые отрасли народного хозяйства.
Степень народности последнего резко понизилась в 1990-е гг.
Таким образом, уровень социальности современного российского
государства императивно задан его ограниченными
экономическими возможностями.
Первый этап нынешней, десятой по счету, модернизации России
характеризовался не только общим спадом производства. Реформы
90-х годов XX в. отличались подчеркнутой асоциальностью.
Жизненный уровень абсолютного большинства граждан достиг
критически низких отметок по шкале социальных измерений, принятой,
в индустриально развитых странах. На этом основании делается
пессимистический вывод о провале российских структурных реформ.
При этом обычно указывается на ошеломляющий успех китайских
трансформаций конца XX — начала XXI в.
497
Модернизация Китая, безусловно, состоялась в результате
рациональной политики его руководства. В страну хлынули иностранные
инвестиции, привлеченные емкостью внутреннего рынка, дешевой
рабочей силой, благоприятным режимом налогообложения,
политической стабильностью.
Одна из причин успеха китайской модернизации —
сравнительная необремененность государства социальными обязательствами
перед населением. В отличие от советского и современного
российского государства, китайское — изымает и декапитализирует
существенно меньшую долю валового национального дохода для
поддержания пенсионного, медицинского и образовательного стандартов
своего населения.
Кроме того, в КНР состоялся продуктивный синтез марксизма и
конфуцианства, экономического и этического, стадиально-фор-
мационного и культурно-цивилизационного мировоззрений. Обе
идеологии отчетливо рациональны. Марксизм и конфуцианство в
качестве философии исторического активизма диалектически
преодолевают дух созерцательного, иррационального даосизма. Это докон-
фуцианское, но традиционное для Китая мировоззрение системного
гомеостазиса ориентирует население на «позитивное воздержание»
от избыточной социальной активности и прогрессирующих
материальных притязаний. Марксизм помогает элитному конфуцианству
китайских реформаторов конструктивно уравновешивать
охранительную идеологию традиционализма. Конфуцианство не всегда
было адекватно политической природе китайского государства.
Император Циньши Хуанди (конец II — начало III в. до н. э.)
приказывал закапывать конфуцианцев живьем и сверху бросать их
сочинения. При нем истреблялись читатели конфуцианских сочинений.
В империи Цин господствовала государственная идеология легиз-
ма, основанная на приоритетности самодостаточных
государственных интересов. Всеобщее восстание покоренных народов семи
«воюющих царств» положило в 207 г. конец недолгой истории первой
китайской империи, в ходе создания которой погибли 60 % населения
китайских «семи царств».
Десятая российская модернизация осложняется тем, что
значительная часть россиян продолжает уповать на патерналистскую роль
государства и не принимает арбитражную, эволюционно
назревающую. Миллионы рыночно не адаптированных граждан рассчитывают
на мобилизационную активность власти. Между тем, современным
задачам постиндустриальной модернизации не соответствуют ни
экономика, ни государство мобилизационного типа. Такая модель
498
развития исторически себя исчерпала. Сегодня она невозможна ни
ресурсно, ни социокультурно, ни технологически, ни социально-
политически. Ее отвергают инновационно ориентированные группы
населения. Однако их политическая представленность в системе
электоральной демократии явно недостаточна. В этом — источник
антимодернизационных тенденций постсоциалистического
общественного уклада.
Главное социальное противоречие инновационной модели
модернизации состоит в узости ее базы. Чрезмерно высокий уровень
имущественной дифференциации населения лишает инновационные
группы массовой социально-политической поддержки. Существует
позитивная корреляция между зашкаленным «коэффициентом
Джини» (измерителем имущественной дифференциации) и —
инерционным нарастанием сырьевой ориентированности российской
экономики. В ближайшие 20-30 лет не более четверти российского
населения сумеет приблизиться (на инновационных путях) к
современным западноевропейским стандартам жизни.
Коллизии всех российских модернизаций однотипны. Они —
наглядное свидетельство постоянства непреодоленных исторических
тенденций, неразрешенных общественных проблем и
неудовлетворенных государственных потребностей.
Их общий, парадигмальный характер предопределяет устойчивый
комплекс рациональных целеполаганий и ценностных ориентиров
десяти российских модернизаций. Вектор последней из них,
переживаемой в настоящее время, исторически задан:
— постиндустриальной тенденцией к смене «евразийской»
парадигмы отношений государства и общества на «атлантическую»;
— заинтересованностью элитных групп государствообразующего
слоя в деперсонализации политических (властных и управляющих)
структур;
— общественной потребностью в формировании правового
государства;
— необходимостью преодоления экономической
неэффективности и технологического отставания;
— усилением государственной роли
индивидуально-продуктивных групп населения и ослаблением общинно-распределительных;
— уходом государства из сферы непосредственного
хозяйствования.
Парадигмальность вышеуказанных тенденций, проблем и
потребностей объясняет событийную повторяемость всех российских
модернизаций. Стереотипность поведения ее субъектов позволяет
499
выявить обобщающую типологию системных трансформаций.
Стандартность массово повторяющихся решений модернизацион-
ных задач делает возможным аналитическое использование
понятия «алгоритм».
В течение последних пяти веков реализуются удивительно
похожие схемы политического поведения российских реформаторов.
Повторяются их исторические судьбы, большей частью
несчастливые. Системные результаты реформ не зависят от субъективных
намерений их первоначальных инициаторов. Реформаторов влечет
неумолимый рок неуправляемых, статистических процессов,
нарушающих линейную заданность исходного плана реформ. Только
обладателям абсолютного государственного империума удавалась
историческая роль «мощного властелина судьбы». Эта роль не
досталась ни Александру II, ни П. А. Столыпину, ни М. С. Горбачеву.
Алгоритмы российских модернизаций синхронизируются более
длинными волнами развития европейской цивилизации, частью
которой Россия является. Энергетическим источником этих
периодических волн служит глубинный процесс автоколебаний европейской
цивилизации между «атлантизмом» и евразийством. Такими,
академически не строгими, историософскими образами можно
маркировать основные парадигмы отношений государства и общества.
«Атлантическая» — характеризуется системным доминированием
общества, «евразийская» — государства.
Циклическая смена метасистемных трендов обусловлена
неустойчивостью баланса разнонаправленных общественных и
государственных интересов. Современная служебная подчиненность, «сервис-
ность» западноевропейских социальных государств — проявление
постиндустриального цикла их развития. Предшествующие
государственные формы обнаруживали разные манифестации этатизма,
неизменно далекие от социальности. Гипертрофия системообразующей
роли российского государства препятствовала нарастанию его
служебное™.
По критериям «атлантизма» и «евразийства» возможна
нижеследующая волновая периодизация российской истории.
IX-X вв.: протогосударство Новгородско-Киевской Руси
(аналог — Каролингская империя начала IX в.) характеризуется
утверждением смешанной «евразийско-атлантической» парадигмы
отношений общинно-родовой славянской Земли и корпоративной варяго-
русской Дружины.
XI—XII вв.: политически фрагментированные удельные
княжества усиливают «атлантическую» (феодальную) составляющую в от-
500
ношениях Князя и боярской Дружины, Дружины и Земли.
Федеративные вечевые республики Великий Новгород и Псков
обеспечивают доминирование городских коммун над служебным,
«минимальным» государством.
XIII—XVIII вв.: максимальное развитие системы
государственного доминирования. Поверхностно европеизирующаяся Россия эпохи
Петра Великого достигает апогея евразийства. Петровское
регулярное государство приобретает некоторые признаки доиндустриальной
тоталитарности.
XVIII — начало XX в.: инкорпорирование «атлантических»
фрагментов в коренную толщу евразийства российской
государственности.
XX в.: становление и укрепление коммунистического варианта
евразийства. Ослабление его посредством феодализации политических
и экономических элит. Либерализация политического режима.
Конец XX — начало XXI в.: демократизация политической
системы и федерализация государственного строя. Попытки достижения
атлантических целей евразийскими средствами.
Инструменты преобразований
Циклические автоколебания метасистемного характера
обнаруживаются лишь ретроспективно и на достаточно большом
историческом массиве. Их панорамное видение обеспечивается
абстрагирующим удалением от событийной конкретики.
Исторические ретроспекции, в частности, показывают, что
правительства, условно говоря, Избранной рады и Опричнины являются
постоянными и взаимоисключающими инструментами российских
Больших перемен.
Прагматичное правительство социального компромисса
(Избранная рада) минимизирует общественные издержки государ-
ственнмх реформ. Оно оппортунистически учитывает
агрегированные интересы большинства населения. И, как правило, добивается
эволюционно устойчивых результатов. Однако Избранная рада
неизменно отстраняется от власти.
Идеологически зашоренное правительство революционного
меньшинства (назовем его Опричниной) использует прагматичные
достижения предшественников в материальной сфере, осуществляя
контрреформаторское насилие над инновационными группами населения
501
и действуя зачастую иррационально. Позитивные результаты
революционной ломки редко бывают устойчивыми в долгосрочном плане.
Это не мешает Опричнине надолго «прирастать» к рычагам
принуждающей власти.
Все десять масштабных российских модернизаций последних
пяти веков характеризуются общими чертами:
— все они оказывались запоздалыми, поэтому проводились в
ускоренной форме;
— все осуществлялись через политическое принуждение,
характеризуясь расточительностью материальных и людских ресурсов;
— все срывались либо в контрреформу (в виде реакции), либо — в
революцию (в облике смуты);
— движущими силами реакций и революций неизменно
выступали неконкурентные группы населения;
— главным (часто единственным) субъектом российских
модернизаций являлось политическое руководство страны;
— в качестве правительственных инструментов модернизаций
использовались политические элиты;
— социальная база модернизаций постоянно оставалась узкой;
— все модернизации (за исключением последней незавершенной)
осуществлялись в мобилизационном варианте.
Дворянская опричнина — революционный ответ неконкурентной
части сословно привилегированных слоев на либерально-
аристократические попытки модернизаций.
Неконкурентные группы (привилегированные и
непривилегированные), в отличие от инновационных групп, повышенно
конкурентоспособных, всегда настроены антимодернизационно. Они
останавливают структурные реформы двумя основными способами —
революционным либо реакционным. В XIX в. в просвещенных
европейских кругах активно пропагандировался историософский миф
относительно способности великих социально-политических
революций конструктивно решать модернизационные задачи. Широко
известны пропагандистские метафоры, именующие революции
«локомотивами исторического развития», «повивальной бабкой при
рождении нового», «хирургическим инструментом прогресса» и т. п.
Рос-сийские просветители XVIII в. до этой мифологии еще не
дозрели, но А. С. Радищев уже казался реформаторски настроенной
Екатерине II «бунтовщиком хуже Пугачева».
Российские дворяне пугали высшую власть крестьянским бунтом,
сопротивляясь «реформам сверху». Инструментом последних в
начале XVIII в. стала Петровская бюрократия. Но и во второй половине
502
XVIII в. она оставалась слабой и недостаточно просвещенной.
Насыщенный либеральными идеями европейского Просвещения,
Екатерининский Наказ не повлиял на Свод законов Российской
империи. Пугачевский бунт и Французская революция заставили
центральную российскую власть — во имя государственного порядка —
отказаться даже от поверхностной модернизации. В качестве
«казанской помещицы» Екатерина II вынужденно воззвала к
традиционалистским слоям. Российские модернизации обычно
заканчивались контрреформаторской мобилизацией консервативных
охранительных сил.
Свой эффективный модернизационный аппарат центральная
российская власть начинает создавать в контрреволюционную эпоху
европейской Реставрации. Политическую идеологию Священного
союза 1815 г. не следует считать замшелой. Она прагматически
учитывала недавний негативный опыт разрушительного радикализма.
Необходимость эволюционных преобразований осознавали и
Меттерних, и Александр I, и Людовик XVIII. Но они не могли
опереться на инновационные группы населения. Последние не имели
политического представительства.
Практически все российские модернизации инициировались
центральной властью при содействии узкой группы европейски
ориентированных вольнодумцев. Например, административные реформы
начала XIX в. — это либеральный «Малый комитет» молодых друзей
Александра I, очередная реинкарнация Избранной рады: Строганов,
Кочубей, Новосильцев, Чарторыйский, позднее — Сперанский.
Закончилась либеральная оттепель начала XIX в. естественно и
традиционно: военными поселениями и Аракчеевым, то есть — новым
изданием Опричнины.
Лояльный бюрократический аппарат выстроил Николай I.
Поэтому его непосредственному преемнику удалось решить те мо-
дернизационные задачи, перед которыми отступали и Екатерина II, и
Александр I. Однако реформаторский потенциал либеральной части
российской бюрократии был исчерпан в 1870-е гг. Цареубийство
1 марта 1$81 г. остановило Великие реформы. Модернизационные
усилия центральной власти оказались надолго блокированными
встречным политическим радикализмом маргинальных
общественных групп и охранительно-репрессивного госаппарата. Поэтому
колебательный процесс реформ — контрреформ продолжился в конце
XIX, в начале XX в., в 1920-х, в 1950-х, в 1960-х, в 1980-х гг.
В конце XX в. правительство-реформатор постепенно развивается
в правительство-регулятор общественных преобразований. В настоя-
503
щее время оно в состоянии непосредственно воздействовать лишь на
инфраструктурные условия модернизации (правовые,
институциональные, финансовые и т. п.). Наряду с правительством действуют
иные субъекты модернизации. Деловое сообщество — один из них.
В связи с этим можно констатировать промежуточный результат
системных трансформаций рубежа XX-XXI вв. Создана правовая
инфраструктура модернизаций (прежде всего — конституционная) для
преобразования возвратно-поступательного движения в
поступательное. Базисные экономические изменения государственно-
общественной системы обретают свойство эволюционной
необратимости. Такого нельзя сказать о политической надстройке:
электоральная демократия легитимизирует традиционные для России
формы государственного авторитаризма.
Технология власти
Нельзя управлять невинно.
Сантаяна
Опросы, рейтинги... Скачет температура общественных
настроений. Тестируется гражданское самочувствие страны. Диагноз
ставится «по радужке» телеглаза, «по пульсу» масс-медиа. Молодежь
уклоняется от обследования. Пожилые охотно сдают анализы. Рыночно
адаптированные скрывают достижения. Социально незащищенные
артикулируют проблемы. Недовольны все. Граждане
выздоравливают от хронического чувства «глубокого удовлетворения и искренней
признательности». Сам объем их социальных претензий к власти —
свидетельство ее работы в нормальном, устойчивом режиме.
В постиндустриальных обществах неизбежна десакрализация
государственной власти. Личная харизма политических лидеров —
продукт скоропортящийся. Изменчива народная любовь. Такой она была
и в прошлом. Популярность реформаторов преходяща. История — их
верная вдова. Пьедестал революционеров тоже шаток. Когда
соратники Оливера Кромвеля предложили ему выйти на балкон и
поприветствовать восторженно рукоплещущую толпу, протектор
английского государства отказался. «Их сбежится еще больше, когда я
поднимусь на эшафот». Победоносный предводитель «железнобоких»
республиканских войск на самом деле понимал, что во времена
глубоких общественных перемен взрывная политизация масс неизбежно
превращает государственного деятеля в публичного политика.
504
Известно, что не последнюю роль в победах Кромвеля сыграло
религиозное воодушевление пуритан.
«Он управлял теченьем мыслей. И только потому — страной»
(Б. Пастернак. Высокая болезнь). Это сказано о В. И. Ленине.
Такая долгосрочная харизма возможна лишь при соединении в
руках лидера страны информационных средств влияния,
материальных ресурсов господства, институтов публичной власти,
вещественных манифестаций престижа. Перечислены признаки,
необходимые для высшего руководителя реформируемого общества,
но — не достаточные.
Системные последствия дефицита общенародного авторитета
институционального лидера страны обнаружила «перестройка». Этим
академически не строгим термином была маркирована эпоха
либерализации однопартийного политического уклада. Она закономерно
предъявила недавно избранному Генеральному секретарю ЦК КПСС
принципиально новые требования, не адекватные прежней
системной роли высшей государственно-партийной должности.
Страна собралась в дорогу. Ждала лишь вождя. Он,
естественно, явился в облике генсека. Но для того чтобы стать
эффективным в условиях масштабной модернизации, политическое
руководство страны должно было совпасть с духовным лидерством, а
носитель высшей власти — обрести личный (внеинституциональ-
ный) авторитет народного героя или подвижника. Михаилу
Горбачеву не досталась роль харизматического лидера им же самим
инициированного демократического движения, которое генсек
стремился направить исключительно против всевластия
партийно-государственного аппарата. Уже в этом состояла
внутренняя противоречивость самой должности Генерального секретаря
ЦК КПСС. Избыточную, на взгляд М. С. Горбачева, социально-
политическую динамику разбуженных масс он пытался умерять
административной статикой.
Вопреки своему формальному статусу, последний генсек
изначально был не столько партийным, сколько государственным
деятелем. Его государственное начало в условиях структурных перемен
неизбежно должно было вступить в противоречие с партийной
должностью. Мало кому из российских реформаторов удавалось безкон-
фликтное сочетание политического, аппаратно-технологического,
идеологического и системно-государственного принципов
руководящей деятельности. Вспоминается, по контрасту и аналогии,
исторически верифицированная оценка партийной ограниченности
Временного правительства. В связи с этим показателен запоздалый
505
публичный упрек В. Д. Набокова (отца известного писателя),
сделанный уже в эмиграции своему партийному соратнику и другу —
лидеру кадетов П. Н. Милюкову. Суть упрека: в должности министра
иностранных дел Временного правительства первого состава Милюков
действовал как идеологически зашоренный партийный, а не
прагматичный государственный руководитель. Партийная
ангажированность П. Н. Милюкова в немалой степени способствовала
политическому поражению в мае 1917 г. первой правительственной коалиции.
Ошибки Г. Е. Львова — либерального премьер-министра
Временного правительства, верившего в силу земской
самоорганизации россиян («народ сам все устроит») и недооценивавшего
системообразующую роль госаппарата, повторил и М. С. Горбачев.
Встав у штурвала государственного корабля, он довольно быстро
снял с вахты и выставил из офицерской кают-компании
политических комиссаров. Но — не разоружил их, неосновательно полагаясь
на статусное положение Президента СССР (не обеспеченное
реальной силовой опорой) и — на демократическую привлекательность
идей «социалистической перестройки». Консервативные
партийные заговорщики в августе 1991 г. переиграли своего формального
руководителя аппаратно-технологически. Не надеясь одолеть
М. С. Горбачева на поле публичной политики, политкомиссары
поступили самым примитивным (неполитическим) образом. Они
использовали исполнительский автоматизм государственных
силовых структур, изолировав Президента СССР на госдаче в крымском
Форосе.
Освобожденный российскими демократами из форосского
пленения, Президент СССР занял промежуточное положение между
партийно не оформленными и разнонаправленными
реформаторскими силами: конституционными коммуно-демократами (лидер
А. Руцкой), социал-демократами (лидер Р. Хазбулатов) и
либеральными демократами. После августа 1991 г. политически
доминировали последние. Их возглавлял Президент России Б. Н. Ельцин.
Президент СССР возобновил «новоогаревский» переговорный
процесс, в целях федерализации СССР. Большинство лидеров союзных
республик все более отчетливо проявляли конфедералистские
позиции. М. С. Горбачев пытался найти компромиссную государственно-
политическую форму сохранения единства Союза. Он так объяснял в
сентябре 1991 г. (членам только что созданного президентского
Совета по предпринимательству) тактические колебания своего
доавгустовского внутреннего курса: «Я вел государственный корабль
галсами».
506
Противники M. С. Горбачева справа и слева сравнивали его с
А. Керенским, именуя «главноуговаривающим». В самом деле, в
этой роли нередко выступал полновластный руководитель страны.
Отношение реакционного советского генералитета к либеральному
Президенту СССР и склонность последнего к
словесно-педагогическим мерам (вместо дисциплинарно-силовых) показательно
иллюстрируются одним примером. Выражая позицию антирефор-
маторски настроенных милитаристов, командующий Приволжским
военным округом А. Макашов публично предложил Верховному
Главнокомандующему Вооруженными силами СССР, пройти курс
молодого бойца. М. С. Горбачев сместил генерала с занимаемого им
командного поста. Но министр обороны Д. Т. Язов (будущий
«путчист») уговорил его отменить приказ. Такого рода прецеденты
убеждали «ближний круг» Президента СССР, что тот не вполне
владеет технологией властвования и слишком верит в силу
воспитывающего слова.
Горбачев действовал процедурно-демократически в
иерархической среде, принимающей лишь авторитарный стиль. Он убеждал
тех, кому мог приказать, реагировал личностно там, где следовало —
функционально. А еще пушкинский Борис Годунов поучал своего
наследника: «Не должен царский голос / На воздухе теряться
по-пустому».
Именно в качестве ответственного государственного
руководителя, а не партийного лидера М. С. Горбачев сознательно блокировал
политическую агрессию КГБ, пытавшегося вернуть себе
доперестроечную роль «вооруженного отряда партии». Массово не оцененной
исторической заслугой первого и последнего Президента СССР
является то, что запоздалый и потому бессильный большевистский
«путч» 1991 г. состоялся после всенародных выборов Президента
России, а не до них.
На языке поэтической метафоры Анны Ахматовой, эстетически
интерпретированный образ Михаила Горбачева предстает в качестве
«трагического тенора эпохи». Трагического, потому что М. С.
Горбачев вошел в историю СССР 1985-1991 гг. как высший партийно-
государственный руководитель супердержавы XX в., сломавший
могущественную идеократию Партии-Государства и заодно —
собственную политическую судьбу. А тенора — оттого, что он, солируя на
общесоюзной и российской национальных сценах, профессионально
долго «держал» аппаратно усиленную ноту, не созвучную
постиндустриальной эпохе. Ноту «социалистического выбора».
507
M. С. Горбачев выдвинул в конце 1980-х гг. партийно-
государственный лозунг: «Больше демократии — больше
социализма». Имелись в виду: демократия — социалистическая, а социализм —
«с человеческим лицом». Данный лозунг вдохновил множество
политически неопытных «прорабов перестройки». В их числе — автора
настоящей книги, выступавшего в 1988-1991 гг. в перестроечной
роли активного сторонника социально ориентированного рынка.
За 20 последующих лет сменилось одно политическое поколение и
стало ясно: вместе с Горбачевым «прорабы перестройки» ошибались
в основном. Вышеуказанный лозунг исторически не реализуем,
социализм и демократия не совместимы. В конце 1980-х гг. СССР
нуждался в ином: в социальной демократии, республиканском
федерализме и либерально-консервативных реформах
социально-экономического строя. И, главное, в сохранении государственной
целостности как базовом условии мирного осуществления
вышеуказанных трансформаций.
В качестве Президента СССР М. С. Горбачев был не связан
идеологическими и социально-политическими обязательствами
коммунистического лидера, не позволявшими ему возглавить общесоюзное
социал-демократическое движение. Между тем, общесоюзная
социальная демократия была готова к своему институционально-
государственному оформлению. Поэтому консервативный аппарат
КПСС превентивно заблокировал формирование внутрипартийной
«Демократической платформы» — в самостоятельную и мощную
социал-демократическую партию общесоюзного формата, способную
сыграть системную роль субъекта постиндустриальной
некапиталистической модернизации единой страны.
В 1990-1991 гг. партаппарат КПСС (при формальном
генеральном секретарстве М. С. Горбачева) сам отказался от системной роли
основного субъекта модернизации. Тем самым он политически
обессилил единственную в стране полноценную партию общесоюзного
масштаба. Партаппарат КПСС сознательно создавал в союзных
республиках обстановку экономического регионализма (закладывая
основы государственной сецессии). В то же время он воспротивился
реализации антикризисных структурно-функциональных реформ.
Последние получили популярное название «Программы 500 дней» и
могли реализоваться лишь в условиях сохранения системного
единства экономики СССР. Этому единству препятствовал «парад
политических суверенитетов», развернувшийся во второй половине
1990 — первой половине 1991 г. Он завершился 12 июня 1991 г.
всенародными выборами Президента России.
508
i Институт российского президентства возник на волне
управляемой демократизации РСФСР. Он появился в качестве рабочего
инструмента ускоренной модернизации, а вовсе — не суверенизации
России. Избрание российского Президента повлияло на смену
тактических приоритетов либеральных демократов: на первом месте
оказались цели политического дистанцирования России от союзного
центра. До августовского «путча» речь не шла о государственной,
международно-правовой субъектности России.
В массовой политической культуре россиян в начале 1990-х гг.
была популярной мифология легко и быстро обретаемых
достижений: «рыночного изобилия», «возвращения в Европу», «западного
образа жизни», «свободы и демократии». С этими достижениями
ассоциативно связывалась национальная мифологема «российского
президентства», возникшего в обстановке борьбы демократов с
коммунистическим союзным центром. В ходе этой борьбы постепенно
прояснялся публичный образ демократического лидера, вышедшего
из верхнего слоя руководства КПСС.
Борис Ельцин никогда полностью не порывал со старым партийно-
государственным аппаратом, что сказалось на бесконфликтном
встраивании его прагматичной части в систему вновь создаваемых
институтов электоральной демократии РФ. Первый российский
Президент в августе 1991 г. доказал социально-политическому и
экономическому истеблишменту, что он — человек системный,
избегающий революционных потрясений в стране.
Публичный имидж умеренного демократического лидера был
адекватен основным параметрам политической системы
переходного периода, не нацеленной на смену элит. Бюрократическая
преемственность советского и демократического режимов делала
староновую политическую систему устойчивой перед внешними
ударами, но — постоянно генерирующей внутренние автоколебания.
Ельцинская тактика «сдержек и противовесов» уменьшала их
амплитуду.
Конституционная должность всенародно избираемого президента
стран*ы вступала в противоречие с коммунистическим
фундаментализмом. От.института советского президентства отказались все
генеральные секретари ЦК КПСС, начиная со Сталина. Состязательные
всенародные выборы единоличного Президента СССР могли
поколебать Партийно-Государственный идеократический режим
коллегиального управления. Не президентство, а генеральное секретарство
являлось квазидемократическим эквивалентом
«полуконституционной» думской монархии, возглавляемой невыборным главой госу-
509
дарства. Идеократическая система Партии-Государства позволяла
сохранить монархическую невыборность высшего руководителя
страны при соблюдении партийного принципа демократического
централизма.
Высшее партийное жречество выдвигало единственную
кандидатуру очередного генсека. Цековской формальной инвеституре
верховного партийного руководителя предшествовало тайное
избрание коммунистического «цезаре-папы» конклавом членов
Политбюро ЦК КПСС. Новый партийно-государственный вождь-
первосвященник обращался к народу с поднебесной вершины
многоуровневой властной пирамиды. С этой вершины спускались
безадресные энциклики: urbi et orbi. Первое «перестроечное послание»
прозвучало в апреле 1985 г. Оно вызвало в стране сильнейший
политический резонанс.
Искусством чтения партийных документов «между строк»
овладевали в СССР миллионы коммунистически верующих. Эзотерика
партийного языка «ордена меченосцев» (И. В. Сталин) подтверждала
истинность марксова постулата: «Власть есть тайна». ВКП(б) —
КПСС тщательно секретила все процедуры принятия властных
решений в прошлом, настоящем и будущем времени.
Дозированная «гласность» проникла в политическую жизнь страны при
М. С. Горбачеве. Электронные и печатные СМИ стали рупором
статусных «прорабов перестройки». СМИ политически
мультиплицировали осторожные поначалу рыночные преобразования плановой
экономики. В мае 1988 г. Верховный Совет СССР принял Закон о
кооперации, породивший десятки тысяч новых субъектов
хозяйствования. (Автору настоящей книги довелось принять участие в
организации массового кооперативного движения.) Этому первичному
процессу низовой экономической демократизации обязана своей
динамикой вторая волна рыночных преобразований начала 1990-х гг.
В конце 1980 — начале 1990-х гг. возникли массовые общественные
организации низовой экономической демократии: Союз
объединенных кооперативов СССР, Ассоциация молодых руководителей
предприятий СССР, Союз арендаторов СССР, Союз фермеров СССР,
Ассоциация совместных предприятий и международных
организаций СССР, Научно-промышленный союз СССР. Эти влиятельные
институты гражданского общества были представлены в Совете по
предпринимательству при Президенте СССР, в Совете
предпринимателей при Президенте РФ, в Совете предпринимателей при Мэре и
Правительстве Москвы. Низовая экономическая демократия
предлагала Правительству России социально-рыночный вариант сочетания
510
денежной приватизации государственной собственности и открытия
именных приватизационных счетов, предусмотренных Законом
РСФСР, принятым в 1990 г.
Менеджеры новой, в основном — негосударственной, экономики
выступали против экономически контрпродуктивной и социально не
оправданной ваучерной «прихватизации». Их голос не был услышан.
Б. Н. Ельцин в ноябре 1992 г. упразднил (по предложению и. о.
премьера Правительства России Е. Т. Гайдара) Совет предпринимателей
при Президенте РФ. Российская бюрократия прочно удерживала в
своих руках государственный штурвал ваучерной приватизации.
На ее основе быстро сформировался олигархо-бюрократический
капитализм. Назначенные властью чемпионы приватизации оседлали
ваучерную волну. В начале 1992 г. была в ходу идеология
общероссийского «обвального разгосударствления собственности». Только
политическому руководству Москвы (Г. X. Попову и Ю. М. Лужкову)
удалось уберечь от «обвального разгосударствления»
инфраструктуру городской экономики.
Почему в ходе политических потрясений начала 1990-х гг.
российская государственная бюрократия уцелела, а партийная
номенклатура погибла? Причина — в их родословной. Петровская
бюрократия родилась в начале XVIII в. в качестве рабочего органа
модернизации.
«Послеродовой импритинг», — исходная нацеленность
«новорожденного» на Большие перемены инвариантно отразилась и
закрепилась в базовом стереотипе служебного поведения российской
бюрократии. Старый боевой конь прядет ушами и перебирает копытами
при звуках боевого марша модернизации.
К началу 1990-х гг. российская бюрократия представляла собой
адаптивную социотехническую систему, в которой прагматически
реализовался приоритет функций перед структурой. Партаппарат
КПСС не был социотехнической системой. Его исторические
аналоги — средневековые рыцарско-монашеские ордены. Созданный в
1920-е гг. для решения мессианских задач, партаппарат сразу стал
жестким инструментом коммунистической диктатуры. Он ни
функционально, ни структурно почти не менялся в течение полувека. Его
идеологическая зашоренность, ригидность, консервативность и
принципиальная нереформируемость маскировались мифологией
«ленинских норм партийной жизни». В аппаратной среде
способность к системной отработке положительных обратных связей
клеймилась словом «ревизионизм». Адаптивность именовалась
«оппортунизмом».
511
Новые государственные функции, возникшие к 1990-м гг., социо-
технически породили адекватные им госструктуры. И наоборот, на
пороге радикальных реформ началось самоотключение партаппарата
не только от функций непосредственного хозяйствования, что было
экономически оправданным, но — и от политического руководства
модернизацией. Партийные органы КПСС оказались адекватными
лишь задачам ускоренной индустриализации.
Чтобы из рыцарско-монашеского ордена трансформироваться в
эффективную социотехническую систему, способную к структурно-
функциональной переналадке, коммунистическому партаппарату
не хватило пары столетий. Синергетическая адаптивность
социальных макроструктур увеличивается с их возрастом. Российской
бюрократии более трехсот лет. Партаппарату КПСС было менее
восьмидесяти.
Полтора века тому назад Гегель сформулировал объективно-
идеалистический принцип фатализма исторической однолинейно-
сти: «Все действительное разумно, все разумное действительно».
Исторический разум безукоризненно функционален, абсолютен и
внесубъектен. В свете гегелевской философии истории, распад СССР
был абсолютно разумен, так как фактически состоялся, то есть —
приобрел историософский статус действительного. Между тем,
геополитическая катастрофа стремительного распада мировой супердержавы
СССР явилась следствием интерференции системно не связанных
между собой волновых статистических процессов. Внешняя
волновая интерференция вызвала синхронизацию внутрисистемных
нелинейных факторов.
К началу 1990-х гг. СССР исчерпал потенциал индустриального
развития и оказался неспособным адекватно ответить на цивилиза-
ционные вызовы постиндустриализма. Последний к этому времени
окончательно вовлек в свою орбиту страны ОЭСР, с которыми
советская экономика имела устойчивые мирохозяйственные связи.
Партийно-государственная абсолютизация
структурно-функциональной неизменности базовых основ «страны победившего
социализма» обрекла на неудачу все послевоенные проекты
системной модернизации.
Мировой финансово-экономический кризис, охвативший
развитые и развивающиеся страны в конце 1980-х гг., обострил
противоречия между союзными и республиканскими элитами СССР и «сде-
тонировал» раскол верхнего слоя правящей Партии-Государства.
Линия раскола прошла по административным границам союзных
республик. Синхронно работающими моторами суверенизации послед-
512
них явились республиканские отделения партийно-государственного
аппарата СССР, использовавшие энергетику этнополитических
движений. Суверенизация РСФСР осуществлялась вненационально:
под лозунгом демократизации всей партийно-советской системы
Союза.
Исторически назревшая федерализация фактически унитарного
СССР приняла форму неуправляемой деиерархизации ядерных
структур метасистемы. Стихийный процесс деиерархизации
партийно-государственного аппарата прошел «точку невозврата»
19-21 августа 1991 г. Неудавшаяся попытка союзного центра
силовым образом остановить суверенизацию РСФСР резко усилила
сепаратизм остальных союзных республик.
Пусковой механизм деиерархизации ядерных структур
метасистемы включила «перестройка», ослабившая регулятивную роль
политического центра. «Перестройка» сопровождалась резким
расширением круга субъектов политики. Это расширение
представляло собой естественный этап развития адаптационного
потенциала метасистемы. Оно не было результатом ошибочных
волевых решений реформаторского центра. Однако именно в
переходном состоянии массового обновления политических элит и
спонтанных реадаптации политических режимов рушились все
великие государства прошлого. Их разрывали противоположно
направленные силы притяжения двух суператтракторов: простого
(стремления метасистемы к гомеостазису) и «странного»
(требующего нарушения гомеостазиса, — инновационного
накопления структурно-функционального разнообразия).
На рубеже XX-XXI вв. СССР попал в зону кризисной
бифуркации — одновременного срабатывания двух законов синергетики.
В соответствии с ними: а) длительно стабильной может быть лишь
развивающаяся система; б) ее развитие неизбежно сопровождается
критическим накоплением внутренней неравновесности и
кризисного потенциала внешней неустойчивости.
Вертикально интегрированная, жестко структурированная мета-
система*СССР не выдержала суммированной нагрузки
нелинейности всех трех.степеней. Нелинейность первой степени придавала
процессу реадаптации основной несущей конструкции (партийно-
государственной подсистемы) вероятностный характер.
Возможность бифуркации — разветвления старого качества — была
заложена в аппаратно-демократическом централизме как базовом
принципе территориально-производственного построения партии.
Государство представляло собой вертикально интегрированную
513
моноцентричную систему. Бифуркация расколола КПСС и
дистанцировала ее от госаппарата в критический момент политической
истории СССР. В 1991 г. только адаптивная, идейно сплоченная,
активная на низовом уровне политическая партия могла удержать
государственную власть в демократизирующейся стране. Линии
раскола проходили и внутри руководящего центра, и на
межрегиональном уровне.
Нелинейность второй степени (диспропорциональность
следствий и причин) мультиплицировалась внутренними
автоколебаниями политической подсистемы. Бурлящая, плохо организованная
«демократия первой волны», поднятой политическими событиями
1989-1991 гг., дезорганизовала и дезориентировала правящий слой
СССР, лишила его привычных рычагов управления и контроля.
Потеря управления системно усилила диспропорциональность
следствий и причин: массивная, исторически инерционная партийно-
государственная конструкция, выдержавшая колоссальные
испытания предшествующих семидесяти лет, разрушилась от
незначительных (по ударной силе) толчков августовского 1991 г. «путча» и
верхушечного Беловежского соглашения лидеров трех союзных
республик. (Последнее денонсировано в марте 1996 г. постановлением
Государственной думы РФ.)
СССР не смог справиться с инновационным фактором
нелинейности третьей степени. Последний выразился в критическом
нарастании неотработанного массива положительных обратных связей
нерыночной системы с рыночно организованной постиндустриальной
средой. Вызовы постиндустриализма актуализировали
национальную задачу централизованной конвертации природной ренты — в
интеллектуальную. Задача осталась нерешенной.
И все же государственный распад Советского Союза не был
фатально неизбежным. Решающую роль в этой крупнейшей
геополитической катастрофе XX в. сыграл субъективный фактор. Точнее — си-
нергетическая результирующая разнонаправленных движений
статусных субъектов политики. Бинарная оппозиция центробежных и
центростремительных сил отчетливо обозначилась летом 1991 г.
Векторным выражением усилившейся центробежности явился
национально окрашенный сепаратизм партийно-государственных
номенклатур союзных республик. В его основе лежал материальный
интерес — поставить под контроль республиканских элит
продуктивное использование ресурсного и воспроизводственного потенциала
экономических регионов страны.
514
Исторически загадочно другое. Где были наши отечественные
Минины и Пожарские? Почему не воспротивилось
государственному расколу страны большинство ее граждански правоспособного
населения, проголосовавшее на всенародном референдуме в марте
1991 г. за сохранение обновленного СССР? Возможно потому, что
большинство советских граждан не увидело в самоликвидации
союзных органов власти непосредственной угрозы общественному
порядку. Функции государственного поддержания правопорядка не были в
тот период критически нарушены. Распаду СССР способствовала и
национально-государственная самоидентификация титульных
этносов союзных республик, отождествлявших политическую автономию
с международно-правовой субъектностью.
На итоговую историческую судьбу СССР повлияли некото-рые
особенности его политико-правового генезиса. В декабре 1922 г.
реализовался ленинский план договорного учреждения Союза
(Федерации) ограниченно суверенных государств, сложившихся в
ходе и в результате трехлетней межклассовой, партийно
окрашенной Гражданской войны, завершившейся победой коммунистов.
На части территории бывшей Российской империи возникли
однотипные советские государства, с тождественными социально-
экономическими и партийно-политическими укладами: РСФСР,
Закавказская Федерация Советских Социалистических Республик,
Украинская Советская Социалистическая Республика, Белорусская
Советская Социалистическая Республика, Туркестанская Советская
Социалистическая Республика. До подписания Союзного
(межгосударственного) договора молодые советские республики
составляли военно-политическую конфедерацию государств с
ограниченным суверенитетом в области военной (общая РККА),
государственно-политической безопасности (общая система ОГПУ), внешней
политики и организации международного сотрудничества (НКИД
и Коминтерн), эмиссионно-банковской (Госбанк). И, главное, с
общей правящей партией, ВКП(б). Она и была мотором,
направляющей и организующей силой федерализации полицентричного,
протогосударственного пространства. То есть — превращения
неустойчивой «эмпирической конфедерации» военно-политического
формата в государственно единый субъект международного права.
При договорном учреждении в декабре 1922 г. и конституционном
оформлении в 1924 г. нового Союзного государства одновременно
реализовались две трудносогласуемые модели государственного
устройства: договорно-федералистская и
конституционно-унитаристская. Государства, подписавшие Союзный договор, оставили за
515
собой право свободного выхода из договорной федерации, путем
односторонней денонсации Учредительного акта. Таким образом
закреплялись на межгосударственном уровне некоторые реликты
формальной конфедеративности, согласуемые с
партийно-идеологической догмой «права наций на самоопределение вплоть до
государственного отделения». Конституция СССР 1924 г. уравновесила
вышеуказанные реликты конфедеративности Союза — фактической
внутренней, достаточно жесткой унитарностью его составляющих, то
есть — союзных республик. Организационным стержнем СССР стала
монолитная Партия-Государство, не допускавшая малейших
проявлений «федерализации» своих республиканских отделений.
Унитаристски построенная, аппаратно армированная, идеологически
единая правящая партия обеспечивала моноцентричность и
системную устойчивость Союзного государства.
Основной государствообразующей конструкцией и опорной
платформой СССР являлась Великороссия. Однако главная
составляющая СССР не имела (в отличие от остальных союзных республик) в
своей управляющей подсистеме ни республиканской партийной
организации, ни республиканского МВД, ни внешнеполитического
ведомства и отдельного членства в ООН. Последним Россия
отличалась от Украины и Белоруссии. Аппаратная дискриминация
российской политической элиты, равно как и формально повторенные в
Конституции СССР 1936, 1977 гг. исходные реликты
конфедеративности Союза, не играли существенной роли, пока Партия-Государство
оставалась моноцентричной, системно сбалансированной
исторической конструкцией.
В конце 1980-х гг. обозначилась критическая организационная
расбалансированность правящего слоя СССР. Обнаружилось его
внутрисистемное противоречие: в соответствии со ст. 6 Конституции
СССР, уже полицентричная и аппаратно «склеротизированная»
КПСС по-прежнему исполняла роль единственного стержня и
направляющей оси государственного механизма, оставшегося моноцен-
тричным. После отмены в 1990 г. ст. 6 Конституции СССР раскол
партийно-государственного истеблишмента принял необратимый
характер.
Естественным, исторически опробованным средством
общественной борьбы с номенклатурной модификацией невыборной
аристократии явилась электоральная демократия. Стихийное
демократическое движение, лишь отчасти инициированное
реформаторским центром, приняло в конце 1980 — начале 1990 гг. не
только явные антикоммунистические, но и отчетливые антисоюз-
516
ные («антиимперские» — в радикальном варианте) политические
формы. На историческом горизонте СССР появились
сепаратистские «облачка», предвещавшие сецессионную «бурю». Она
надвигалась с трех сторон: от Прибалтики и Украины, Закавказья и
Средней Азии.
Однако электоральная демократия, тяготевшая к упрощенной
(плебисцитарной) форме, не являлась системным отрицанием
квазиимперской формы доминирования союзного центра. История
знает множество примеров демократических империй, выросших из
плебисцитарных корней. Антиимперский тип государственного
устройства — это федеративная республика {лат. — общее дело).
Но в программе демократического движения России,
развернувшегося в конце 1980 — начале 1990-х гг., не было и намека на
озабоченность сохранением государственной целостности СССР.
Сохранение СССР не стало «общим делом» и республиканских
политических элит. В борьбе с квазиимперским союзным центром Верховный
Совет РСФСР оказался вторым (после Верховного Совета Литвы),
кто открыто пожертвовал федеративно-республиканским будущим
СССР во имя своего суверенно-демократического настоящего.
Общесоюзная и российская политические элиты взаимно
ослабляли себя в контрпродуктивной борьбе. Московский Кремль и Старая
площадь поощряли федерализацию российских автономий. А
российский Белый дом способствовал конфедерализации закавказских
и среднеазиатских союзных республик и суверенизации Прибалтики.
И союзный центр, и российское руководство просмотрели грозное
приближение государственного распада СССР в результате
«ползучей сецессии».
Если бы состоялся наметившийся в конце июля 1991 г.
политический блок союзного центра (М. С. Горбачева), России (Б. Н. Ельцина)
и Казахстана (Н. А. Назарбаева), то Белоруссия и Украина,
вероятнее всего, к нему присоединились бы. Августовский «путч» 1991 г. и
был направлен против некоммунистического варианта сохранения
государственной целостности СССР. Историческая императивность
августовского «путча» — современный коммунистический миф. Это
был верхушечный антироссийский заговор консервативной союзной
олигархии. Результатом узкогруппового, субъективного и
ошибочного решения явился системный распад СССР. Неудавшийся «путч»
антисоюзно (следовательно — антигосударственно) мобилизовал
республиканские элиты и включил их оборонительно-сецессионные
рефлексы.
517
Российская Федерация, одолев союзный центр и не приняв на
себя его интегрирующие функции, упустила в августе 1991 г. редко
возникающую (и то — на короткое время) историческую
возможность сохранения СССР в его новом, федеративно-республиканском,
облике. 21 августа 1991 г. Союз вошел в турбулентную зону
системной бифуркации. Российское руководство в течение первых недель
своего внутриполитического триумфа могло (на сложившейся базе
«Демократической России») инициировать и развернуть массовое
надпартийное движение за сохранение СССР. Для этого требовалось
создать и у себя, и в союзных республиках множество сетевых
структур клубного типа — по историческим образцам национальных сетей
французских якобинских клубов или сетевой структуры польской
«Солидарности». В поддержке России нуждались внероссийские
прокоммунистические, низовые коммунистические, культурные и
другие идеологически пестрые общественные организации
русскоязычных граждан, единых в одном — в стремлении к
ненасильственной защите государственной и территориальной целостности страны.
При ослаблении традиционной системообразующей роли
государства, несиловую часть его функций могли принять на себя низовые
ячейки гражданского общества, артикулирующие не столько
демократические, либеральные, коммунистические или иные ценности,
сколько республиканские социально-экономические интересы
сохранения государственного единства и территориальной
целостности Союза. Россия располагала в тот момент политическими и
материально-техническими возможностями решения данной
организационной задачи. И никакой «Запад» ей в этом не помешал бы.
Однако демократическая часть российского политического класса
руководствовалась иными стратегическими установками: 1) в
интересах ускоренной модернизации России, поскорее сбросить с
российских плеч «имперское бремя»; 2) не допустить низовой
межреспубликанской консолидации коммунистических сил на платформе
сохранения государственного единства Союза; 3) получить поддержку
сепаратистски настроенных республиканских элит в решении двух
первых задач. Поддержка была получена. Ошибочность этой
стратегии исторически доказана.
Своевременно созданные, массовые сетевые структуры
русскоязычных граждан могли блокировать сецессионную активность
региональных партийно-государственных элит, не имевших в тот
период серьезной силовой поддержки. От региональных элит
исходила главная опасность развала единого государства. Политически
нейтральная позиция недопущения гражданской войны, занятая в
518
августе 1991 г. Вооруженными Силами СССР, силовыми
структурами КГБ СССР и МВД СССР, благоприятствовала выводу
государства из острой фазы общесистемного кризиса. Югославская
модель кровавого распада федерации нам не грозила. Югославская
армия, управляемая офицерами-сербами, являлась активной
стороной межнациональной войны внутри слабой федерации,
искусственно сконструированной после Второй мировой войны
лидерами стран антигитлеровской коалиции.
Советский Союз представлял собой естественно развившийся
исторический организм. Его создали не столько политики, сколько
народы, при ведущей роли Великороссии — прочного государства с
тысячелетней биографией.
Широко распространено историософское суждение «в XX веке
все империи закономерно распались». Это суждение
фактографически достоверно лишь отчасти. Все великие империи распадались
в минувшем веке в экстремально-турбулентных внешних и
внутренне неравновесных системных условиях: межгосударственных
войн, социально-политических революций и массовых
националистических восстаний. Российская и все остальные империи
действительно разрушились при суммированном воздействии
вышеуказанных факторов. Но стремительный распад СССР —
уникальный случай в истории XX в. Системные кризисы позднего
индустриализма и раннего постиндустриализма потрясали во
второй половине XX в. многие развитые страны. Но из них только
СССР утратил государственную целостность. При этом он не
терпел поражений в войнах, в том числе — в «холодной» мировой
(вопреки пропагандистским клише геополитических недругов
России). В конце 1980 — начале 1990-х гг. СССР не переживал
классических внутрисистемных катастроф, ведущих к слому
государственности: великих социально-политических революций и
массовых националистических восстаний. Послевоенное
возрождение этнического самосознания многочисленных народов СССР
не следует отождествлять с антисистемным политическим
национализмом. В нашей стране он не имел широкой социальной базы.
СССР исторически сложился в облике неклассической империи:
идеократической Партии-Государства, в которой метасистемную
роль государствообразующего («имперского») народа выполнял
«орден меченосцев» (И. В. Сталин). ВКП(б) — КПСС представляла
собой «партию нового типа» (В. И. Ленин). Захватив власть,
большевики привнесли эту принципиальную новизну в типологию массовых
политических партий XX в., оказавшихся правящими. Оставим вне
519
научной оценки пропагандистские клише, представляющие «орден
меченосцев» в качестве «политического авангарда пролетариата»
или — «организующей и направляющей силы социалитического
общества». ВКП(б) — КПСС не была политической организацией, в
инструментальном значении этого понятия. Она не имела внешних
служебных задач, трансцендентных относительно нее. Все
партийные цели и ценности были имманентными. Общесоюзная Партия-
Государство являлась самодостаточной гиперсистемой тотального
властво-вания над внешней для нее общественной средой.
Партийно-государственные номенклатуры союзных республик,
напротив, не обладали атрибутами исторически сложившихся,
самодостаточных макросистем. Это были искусственно созданные
союзным центром служебные консорции переменного состава. Их
региональная феодализация — политический результат ослабления
властного контроля союзных ядерных структур над гиперсистемной
(ядерно-сферной) периферией. Государственная сецессия СССР
приняла в конце 1980 — начале 1990-х гг. экзотический вид
демократической мимикрии периферийных, феодализирующихся партийно-
государственных консорции. Последние получили легализующую
квазифеодальную инвеституру («кольцом, посохом и земельным
феодом») вследствие сакрализованных процедур электоральной
демократии этнополитического типа. Ее управляемость переместилась на
региональный уровень.
Местные элиты союзных республик использовали
«перестроечную» демократизацию партийно-государственного рекрутирования
политического класса. Они легально демонтировали старый
общесоюзный механизм номенклатурного подбора и централизованной
ротации основных партийно-государственных ответственных
работников. Централизованному подбору кадров будущие «туркменбаши»
успешно противопоставили формально-состязательные,
децентрализованные выборы, управляемые действующими региональными
властями. Почему во главе большинства новорожденных политий СНГ
оказались прежние партийно-государственные руководители
союзных республик? Потому что они к 1991 г. успели обзавестись
децентрализованными политическими клиентеллами.
Уместно бросить панорамный взгляд на синергетическое
сходство формализованных схем распада двух великих идеократий,
отделенных друг от друга временным интервалом в 1148 лет.
Идеологическое обеспечение обеих Партий-Государств было
конфессионально детерминированным: для первой идеократий —
духовным сочинением католического епископа Св. Августина «О Граде
520
Божием», для второй — политологическим трактатом В. И. Ленина
«Государство и революция». Будущий Град Божий, по Августину,
представлялся полным антиподом языческого общества. Будущее
пролетарское «полугосударство», по Ленину, — полным
отрицанием буржуазной демократии. Обе идеократии продемонстрировали
ограниченную жизнеспособность в качестве исторических
организмов. Каждая из них триумфально расширялась в течение жизни
трех политических поколений — 71 год. Обе государственно
объединили территории предшествующих великих империй (Западной
Римской и Российской). Обе — распались не в результате военных
поражений или массовых народных восстаний. Все внешние
посягательства на их государственный суверенитет и территориальную
целостность обе империи победно отбивали. Обе великие
идеократии ушли непобежденными с исторической сцены, оставив после
себя феодально структурированное постимперское пространство и
фантомные имперские боли волонтеров государственного
абсолютизма. Обе самораспустились договорно. Контрагентами обоих
ликвидационных соглашений, отстоящих друг от друга на громадную
историческую дистанцию, выступали по три региональных
«полусуверена», говоривших на одном государственном языке,
принадлежавших к одной конфессии, находившихся друг с другом в
семейном или — в партийном родстве. Это были: трое кровных братьев
(внуки Карла Великого — Лотарь, Людовик Немецкий и Карл
Лысый) и трое экс-коммунистических лидеров (Кравчук, Шушке-
вич и Ельцин). Вышеуказанные исторические события
происходили в равных хронологических интервалах: в 772-843 гг. (от начала
завоевательных войн Карла Великого — до Верденского договора,
завершившего «ползучую сецессию» внутри Каролингской
империи) и в 1920-1991 гг. (от окончания Гражданской войны — до
Беловежского соглашения, легализовавшего «ползучую сецессию»
внутри СССР). Для усиления историософских аллюзий добавим:
обеим государственным сецессиям предшествовали исторически
краткие периоды либеральных правлений хорошо образованных,
благорасположенных, склонных к компромиссам, неавторитарных
суверенов — Людовика Благочестивого и Михаила Горбачева.
В результате либерализации однопартийного политического
режима, «организующая и направляющая сила» (согласно ст. 6
Конституции СССР) неожиданно для большинства советских людей
утратила былую монолитность и системную целостность.
Политологическое название этой утраты — регионализация
партаппарата КПСС и, как следствие, полицентричность принятия систем-
521
ных решений. Десятилетиями партаппарат КПСС играл роль
основной макросистемной составляющей для исходно моноцентричной
гиперсистемы Партии-Государства. Вопреки широко
распространенному политологическому суждению, департизация госаппарата
РСФСР началась задолго до Постановления Верховного Совета
РСФСР 1990 г. и Указов Президента РФ, изданных в июле и августе
1991 г. Президентские Указы только подвели формальный итог
многолетнему процессу.
Дивергенция партийно-идеологических и государственно-
технологических задач изначально характеризовала гиперсистему
Партии-Государства. Указанное раздвоение системных задач
открыто проявилось в 1970-е — «застойные» — годы, в спокойный для
партаппарата период кадровой стабилизации. Нормативно
установленная в начале 1960-х гг. и отмененная после отставки
Н. С. Хрущева, обязательная ротация партийных кадров к началу
1980-х гг. давно осталась позади. После XXV партийного съезда
персональный состав ЦК КПСС большей частью состоял из
«удельных князей» — долголетних первых секретарей ЦК компартий
союзных республик и обкомов, укорененных в местной почве. (Такая
укорененность «первых» не соответствовала традиционной
кадровой политике КПСС.) Аппаратные позиции долголетних «первых»
зависели от социально-экономических преференций, получаемых
«их» регионами из централизованного госбюджетного источника.
«Удельность» первых секретарей детерминировалась
объективными социально-экономическими обстоятельствами.
В 1970-е гг. происходила регионализация части национальной
экономики (синергетически — ее деиерархизация),
ориентированной на текущее внутреннее потребление. На первый план
выдвигались консервативные задачи жизнеобеспечения местного
населения. Все отчетливее обозначался лейтмотив массового
недовольства — «Москва отбирает почти все, нами произведенное».
В 1930-1960-е гг. больша*я часть «отобранного Москвой»
возвращалась в регионы в облике централизованных государственных
инвестиций. Осуществлялись в тот период форсированная
индустриализация страны, восстановление разрушенного войной народного
хозяйства и его технологическое обновление. В 1970-е гг.
госплановские приоритеты сместились. ВПК и экспортно
ориентированные отрасли получали большую часть централизованных
инвестиций. Экспортные отрасли формировали все более значимую долю
доходов госбюджета. В условиях приоритетного финансирования
производства средств производства и масштабной гонки вооруже-
522
ний, внутреннее непроизводственное потребление
финансировалось по остаточному принципу. В «тучные» 1970-е гг. оно, тем не
менее, росло. В начале 1980-х гг. этот рост прекратился. В конце
1980-х гг. резко упали и экспортные, и рентные, и оборотные доходы
госбюджета. Разлад между обедневшим союзным центром и
региональными элитами обострился. Ослабление репрессивных
потенций центра придало им решительности.
Регионально структурированный, но общесоюзно расбалансиро-
ванный, феодализирующийся партаппарат КПСС все хуже
исполнял роль осевого стержня исторической конструкции Партии-
Государства. В конце 1980-х гг. она медленно зашаталась. Заметное
ослабление системообразующих функций Партии-Государства
заставило ее руководство включить компенсаторный механизм
бюрократизированной политической демократии. Однако под влиянием
феодализирующихся региональных элит, электоральная
демократия изначально приняла этнополитические и корпоративные
формы. Поэтому она не укрепила государство. В условиях этнопо-
литической демократии, у многочисленных этносов СССР ослабло
чувство общенациональной идентичности в рамках исторической
общности — советского народа. Степень его экономической инте-
грированности и культурного сближения была намного выше, чем в
Европейском Союзе. Несмотря на высочайшую степень
экономической и прочей интегрированности, общенациональная
идентичность полиэтничного населения СССР критически зависела не от
экономических, культурных либо идеологических интеграторов.
Единая нация могла исторически существовать лишь в системной
связи с единым государством. Но его идеократические подсистемы
(при общем снижении коммунистической пассионарности
политически активного населения) к началу 1990-х гг. успели
реструктурироваться в государствообразующие, но — сепаратистски
ориентированные элиты. Общесоюзная центробежность этих протогосудар-
ственных ядер приобрела этнический характер. Политически
артикулированная этничность республиканских элит явилась
суррогатной заменой их прежней служебной идеологии
коммунистического интернационализма.
История свидетельствует: межэтнические общности
относительно быстро и часто интегрируются на донациональной
(следовательно — догосударственной) стадии своего развития. После нее —
крайне редко, медленно и всегда турбулентно. В отличие от этносов,
социально-экономические и политические элиты способны к
государственной консолидации на любых стадиях своего исторического
523
развития. Консолидациям могут предшествовать феодальные войны
и народные восстания. Степень государственно-политической
интеграции элит может быть разной. Исторические примеры интеграции:
унитарной — абсолютистская Франция, Соединенное королевство
Англия, Уэльс и Шотландия, федеративной — США,
конфедеративной — двуединая монархия Австро-Венгрия. (Последняя распалась в
результате поражения в Первой мировой войне.)
«Коммунистические диадохи» делили территорию СССР
некровавым способом, по схеме хозяйственных сделок. Этнополитический
вариант территориального размежевания не обошелся бы без
взаимных массовых насилий и этнических чисток. Для сравнения. После
смерти Карла Великого его внуки делили территорию Франкской
империи двумя способами: сначала — мирным (договорным)
разделом 827 г. на суверенные королевства, потом — односторонним
(императорским) переделом 833 г., затем — многосторонними
кровопролитными сражениями 841-842 гг., названными «войной трех
братьев». В последней битве франков с франками погибли 40 тыс.
воинов — гекатомба по масштабам средневековых феодальных войн.
Верденский договор 843 г. положил конец войне и начало
государственной интеграции современных европейских наций: итальянцев,
немцев и французов.
Относительно безболезненно можно разделить
административную территорию. Но — не государственную. Делить ее с активным
участием разделяющихся народов крайне опасно. Народное участие
в судьбе СССР было исторически необходимым и общественно
позитивным в конце 1980-х гг. только для сохранения территориальной
целостности единого государства, федеративно реорганизованного
Союза.
Этнос — это эволюционно развивающийся социоприродный
организм. Этапы его эволюции представляют собой не состояния, а
процессы. В качестве организма этнос рождается, растет, созревает,
стареет и умирает в максимальном возрасте 1200-1500 лет1.
Продолжительность индивидуальной жизни
социально-политических организмов (в том числе — государств) не имеет видовой
заданности. Социоприродные организмы, в отличие от социально-
политических, не зависят от влияний субъективных факторов.
Этносы представляют собой корпускулярные (дискретные)
макросистемы. Системные элементы в них взаимодействуют вероятностно,
1 См.: Гумилев Л. Н. Этногенез и биосфера Земли. М., 2005.
524
легко заменяясь на аналогичные. При частичной утрате их, система
не перестает функционировать. Государства относятся к классу
жестких (континуальных) макросистем, в которых системные части
(элементы) подогнаны друг к другу и их одновременное существование
необходимо для нормального функционирования системы. «Без меня
народ не полон», — говорил герой Андрея Платонова, и это было
верно в духовном, но — не в материальном отношении. Духовный
мир личностно обусловлен, но континуален. «Мир жадно ждет, как
лист бумаги белой, не сказанного слова моего», — говорил другой
мастер культуры, другой оператор смыслами. Жесткая смысловая
взаимообусловленность системных элементов государства имеет не
столько материальную (ресурсную) природу, сколько — духовную
(в том числе — организационно-правовую).
В начале XXI в. на Земле живут около 10 тыс. этносов, больших и
малых. В том числе — несколько сотен реликтовых сообществ.
Не каждый этнос из существовавших на протяжении последних 6
тысяч лет и ныне существующих оказался способным на создание
государств, тем более — системно устойчивых. В начале XXI в. на
планете насчитывается около двухсот государств разного возраста и
разных уровней системного развития. Очевидно, этничность социопри-
родного человеческого бытия не относится к числу базовых
государствопорождающих факторов. Длительно существующие мо-
ноэтничные государства — крайне редкие исторические примеры.
Одна из проблем синергетического историзма — оценка метаси-
стемной роли государствообразующих консорций. Последние прото-
государственно сплачиваются на чрезвычайно разнообразной
организационной основе: семейно-дружинной, клановой, религиозно-
общинной, партийной... Но они остаются в истории лишь в качестве
метасистемных интеграторов уже сложившихся этносов. Мощных
исторических моторов позитивной интеграции немного, и они
сложны в эксплуатации. Поэтому правящие круги политически не
устойчивых режимов включают примитивный энергоисточник
негативного противопоставления исходно диффузного «мы» — анонимному
"множеству переменного состава, обозначенному маркером «не мы».
Таких, «генераторов переменного тока» (с выработанным социотех-
ническим ресурсом) скопилось предостаточно на социокультурной
свалке мировой истории. Наглядным примером их пропагандистской
реновации является антироссийская национальная идентификация
украинцев.
Антироссийская историческая мифология сложилась в условиях
идеологического доминирования современных украинских «западен-
525
цев». Она дискурсивно проявляется в верхнем эшелоне
политического класса молодой Украинской Республики. В частности —
псевдоисторическими опусами типа «Украина — не Россия». Автор —
бывший украинский президент Л. Кучма. В культурно-историческую
память, следовательно — в национальное самосознание, по каналам
СМИ инфильтруются исторически фальсифицированные образы-
идеологемы. Казачий гетман Богдан Хмельницкий — промосковский
коллаборационист. Гетманы второй половины XVII — начала XVIII в.
турецкий вассал Иван Выговский и шведский вассал Иван Мазепа —
подлинные национальные лидеры. Степан Бандера и дивизия СС
«Галичина» — герои борьбы с извечным врагом украинского
народа — «москалями». Стремительное взятие штурмом в 1709 г.
гетманской столицы — городка Батурин, его сожжение вместе с обильными
запасами продовольствия, заготовленного для армии Карла XII,
взрывы порохового склада и оружейного арсенала, истребление
нескольких тысяч вооруженных сторонников Мазепы, отказавшихся от
капитуляции, предложенной А. Д. Меншиковым, все это
преподносится украинскими СМИ (в 300-летний юбилей Полтавской победы)
как акт величайшего, беспрецедентного злодеяния российских войск.
А двухмесячная героическая оборона Полтавы, осажденной
шведскими войсками, равно как и сама Полтавская победа,
пропагандистски подаются теми же СМИ как поражение национальной идеи
украинской государственности.
И все-таки: куда делся системный механизм общенациональной
идентификации многочисленных этносов СССР, входивших в
историческую общность единого советского народа? Из пяти модусов
национального единства советских граждан, составлявших эту
общность (этнического, социально-экономического, культурно-циви-
лизационного, партийно-идеологического и
государственно-политического) три первых характеризовались необратимостью
процессов, а два последних — обратимостью состояний. Процессы
продолжились, состояниям нашлась замена. Сохранить
государственно-политическую идентичность народов СССР могла бы
(согласно социологической теории Карла Шмитта) малоформатная
демократия местного самоуправления, типа английских общин
XIII—XVII вв. Но в СССР (как и в Веймарской Германии) таких
низовых интеграторов нации не было. Кроме того, быстрому распаду
СССР способствовало давно совершившееся разведение двух
основных ролевых функций граждан: социально-экономической и
политической. Их многовековому феодальному отождествлению
положила предел буржуазная эпоха Нового времени. Оставляя исполне-
526
ние социально-экономической функции в сфере земской
ответственности, Партия-Государство СССР монополизировала
политическую функцию в ее полном объеме, препятствуя тем самым
развитию низовой, малоформатной демократии граждан. (По этому
социально контрпродуктивному и государственно опасному пути
рискует пойти любая электоральная демократия низкой
интенсивности. Она характеризует складывающийся сегодня партийно-
политический ландшафт Российской Федерации.)
Внутри метасистемы СССР (следовательно, внутри его
гиперсистемной составляющей, Партии-Государства) в конце 1980-х гг.
сложились экономически взаимозависимые, государственно не
самостоятельные, но уже — протогосударственные ядра номенклатурных
консорций союзных республик. В этот же критический период
истории СССР внутри каждой союзной республики обозначились
бинарные оппозиции партийно не оформленных сил:
центростремительных — национально-государственных и центробежных — этнополи-
тических. При этом первые характеризовались инерционной,
структурно-бюрократической статикой, а вторые постепенно
наращивали функционально-политическую динамику.
В условиях общесистемного кризиса СССР, обнаружилось:
реальная историческая общность «советский народ» не успела
эволюционировать в новый суперэтнос, а полиэтничное союзное
государство не сумело стать национально-федеративным. Поэтому оно
продолжало нуждаться в интегрирующей силе «квазиимперского
народа». В нестабильном состоянии раннесоветского государства,
эту силу составлял политизированный и вооруженный
промышленный пролетариат (унаследованный от Российской империи).
Этнически мозаичный промышленный пролетариат был социальной
базой мессианской «партии нового типа». Последняя, став Партией-
Государством, после победы в Гражданской войне приняла на себя
роль монопольного метасистемного интегратора.
Устойчивые социальные метасистемы (как и всякие неполносвя-
занные организмы) возникают по универсальной схеме «функция
порождает структуру и воспроизводится только через нее». Но эти же
метасистемы сохраняют свою устойчивость при опоре не на
статичные оргструктуры, а на динамичные внутрисистемные связи.
Союзный центр в течение 70 лет успешно осуществлял структурно-
функциональное управление метасистемной периферией союзных
республик. Он исполнял роль мощного противовеса
республиканским партийно-государственным и экономическим элитам,
генетически предрасположенным к феодализации.
527
В конце 1980-х гг. феодализация республиканских элит обрела
форму этнополитического доминирования и приняла уже не
столько номенклатурно-сословный, сколько — классовый характер.
Региональному этнополитическому доминированию феодализиро-
ванных элит серьезно мешало государственное единство СССР.
Выразителем этого единства и территориальной целостности Союза
неизменно выступал союзный центр, опирающийся на
человеческий и ресурсно-воспроизводственный потенциал Великороссии.
Поэтому республиканские феодализированные элиты остро
нуждались в государственно-силовом обеспечении своих классовых
интересов. Для этого они смыкались в протогосударственные ядра, не
имевшие до конца 1991 г. ни силовой опоры, ни устойчивой
поддержки техноструктур, ориентированных в тот период на союзный
центр. Как только Российская Федерация инкорпорировала
управляющие структуры союзного центра и не переключила на себя его
интегрирующие функции, государственный распад СССР принял
лавинообразный характер.
Многочисленные народы союзных республик (включая наиболее
полиэтничную РСФСР) фактически не воспротивились
искусственной дезинтеграции союза. Расселенные по однотипным союзно-
республиканским «квартирам», этносы увлеклись их
«приватизацией», не сразу осознав разрушение общесоюзного Дома. Этносы,
входившие в состав исторической общности советского народа,
постепенно утрачивали свою национально-государственную
идентификацию. Эти утраты в конце 1980-х гг. шли по нарастающей: от
регионально-экономической («Хто зъив мое мясо?») до партийно-
политической («Долой монопольную шестую статью Конституции
СССР!»). Лозунги государственной сецессии союзных республик в
тот период не выдвигались. Однако все более артикулированная эт-
ничность региональной, «антиимперской» демократии проясняла
дальние сепаратистские цели феодализирующихся элит. Ставка на
этническую, а не на социально-экономическую самоидентификацию
демократически настроенных граждан СССР была идеологически
отрефлексированной.
Этносы — не социумы. Они представляют собой (в отличие от
политических сообществ граждан-наций) внеисторические, внегосу-
дарственные социоприродные макросистемы. Поэтому
межэтнические отношения строятся по схеме негативного различения «мы — не
мы», а внутриэтнические связи — позитивно и взаимодополнитель-
но. Этнонолитические конфликты имеют, как правило,
иррациональный, затяжной и массово воспроизводимый характер.
528
Политически артикулированная этничность граждан новых
государств СНГ использовалась правящими слоями бывших союзных
республик для маскировки внутриэтнической имущественной
дифференциации и партийно-кланового доминирования элит.
Политический и социально-экономический прагматизм республиканских элит
сочетался с их идеологической индифферентностью. Они не
заряжали массы футуристической пассионарностью жизни ради светлого
будущего. «Здесь и сейчас» — так выглядела формула
государственного существования постсоветских элит, разделивших богатое
имперское наследство.
Историческая заслуга объединившихся в конце 1991 г.
общесоюзной и российской бюрократий состоит в сохранении общественного
порядка на территории Российской Федерации в критический
период разрушения Партии-Государства. Протестную энергию внеэлит-
ных слоев российского населения бюрократия направила в русло
электоральной демократии, балансирующей агрегированные
интересы наиболее активных социальных групп. Российско-союзная
бюрократия заключила в 1990-е гг. с феодализированными элитами
союзных республик стратегический «Пакт о ненападении».
Корпоративно-бюрократический характер современной российской
политической системы — промежуточный исторический результат союза
элит. Без саморазрушительных общественных потрясений за 20 лет
был пройден путь от идеократии — к технодемократии
корпоративного государства.
В российскую повестку дня сегодня встала новая системная
задача. Возникла историческая необходимость управляемой
федеральным центром трансформации: корпоративно-бюрократической
технодемократии низкой интенсивности (полиархии) — в «демократию
гражданского участия». То есть — в социальное Государство-Нацию.
Вектор этой трансформации императивно задан Конституцией РФ.
Три цвета времени
XX век заключает в себе немало исторических парадоксов.
Некоторые из них являются специфически российскими.
Военно-политические верхи Российской империи, подобно
слепому Самсону, вырывают центральную опору тысячелетнего
государственного здания. И — погибают под его обломками.
529
Подпольно организованная партия политических маргиналов и
экономических аутсайдеров легко берет власть, «валяющуюся в
грязи». Российское крестьянство, до 1917 г. владевшее 80 % пашни
и 94 % скота, ради приобретения (в результате февральско-
октябрьской революции) дополнительных 20 десятин земли на
каждое домохозяйство, уничтожает эффективное государство и вместе
с ним — едва сложившуюся рыночную инфраструктуру
сельскохозяйственного производства. И своими руками надевает на себя
колхозное ярмо.
Советское идеократическое государство систематически и
целенаправленно подрывает производительные силы собственной
страны. Обессиленная войной и обнищавшая при социализме страна
берет на дорогостоящее содержание десятки прожорливых и
коррумпированных «прогрессивных режимов» чуть ли не во всех
частях света.
Российские территориальные приобретения последних трехсот
лет теряются за четыре месяца 1991 г. И тем не менее, для сознания
значимой части современного политического класса РФ
территориальные потери все еще не представляются безвозвратными. Для
«супердержавников» продолжает оставаться неочевидным
несоответствие старых геополитических притязаний России, сформированных
в XVIII-XX вв., и ее современных экономических возможностей.
По уровню технологизации промышленного и аграрного
производства она — на тридцатом месте в мире (после 29 стран ОЭСР). По
объему производства товаров и услуг — на десятом (после Индии и
Бразилии). По среднедушевому потреблению электроэнергии —
важнейшему показателю социально-экономического развития — в конце
первой полусотни стран (после Танзании и Иордании). По интегра-
тивному критерию качества жизни граждан наша страна находится
на 71 месте.
В России отчуждение большинства граждан от институтов
публичной власти традиционно уживается с массовой верой в
справедливое государство. В государственном патернализме нуждается
каждый в отдельности. «Эдипов комплекс» испытывают все вместе:
безотчетная любовь к Родине-матери сочетается с ревностью и страхом
по отношению к Государству-отцу.
Молодая российская демократия ученически и факультативно
осваивает импортную технологию десакрализации государственной
власти. Старо-новая бюрократия профессионально (аппаратно
изощренным образом) минимизирует обязанности социального
обслуживания граждан.
530
Общество демонстрирует гражданскую недозрелость.
Государство — пол у готовность к правовым самоограничениям. Граждане
кланяются, не уважая. Чиновники толкаются, не извиняясь.
Эти противоречия формировались, укоренялись и накапливались
столетиями. За двадцать лет демократических реформ они не могли
разрешиться. По корням и плоды. «Триумфальное шествие
российской либеральной демократии, в корне меняющей отношения
правящих и подвластных» — очередной политологический миф.
История в древности возникла не в качестве науки. Ее основная
функция была воспитательной. «Отец истории» Геродот и «бич
тиранов» Тацит, апологеты римской государственности Полибий и
Саллюстий, авторы сравнительных жизнеописаний Плутарх и
Светоний — все писали в назидание современникам и потомкам.
(Древнегреческое имя музы истории Клио переводится словом
«прославляю».) Тацит сформулировал принцип sine ira et studio (без гнева
и пристрастия), но сам ему не следовал. Что касается исторических
суждений обыденного сознания, то они всегда тяготеют к оценочным
черно-белым схемам.
Между тем, демон (он же — демиург) мировой и российской
истории мог бы прибегнуть к самоаттестации Мефистофеля из гетевского
«Фауста»: «Я тот, кто творит добро из зла, потому что его не из чего
больше сделать». В глубине исторического бытия нет абсолютов
добра и зла. Однако массовые черно-белые оценки прошлого —
неотъемлемый признак коллективного мифотворчества. Культурному
герою обязательно противостоит контркультурная сила.
Мировоззренческие мифы, выраженные в дилеммах, строятся на
противопоставлении порядка и беспорядка, хорошего и плохого,
добра и зла. В дилеммах такого рода реализуется базовый принцип
культуры — принцип бинарной оппозиции. Историософские мифы,
выраженные в постулатах, иным образом провоцируют массовое
сознание. Они вовлекают его в ситуацию ложного, непродуктивного
выбора между «прогрессивным» и «отсталым». Такая ситуация
идеологически оправдывается закономерностями «железной поступи
истории». «Железная поступь» — тоже миф, претендующий на
строгую научность.
К числу недавно сотворенных политологических мифов
относится противопоставление молодой российской демократии и старой
советской системы. В то время как российская демократия генетически
связана с Советами. Их общий родовой признак состоит в
одностороннем делегировании корпусом избирателей всего объема
политической власти. Такой объем делегирования исключает механизм вне-
531
Подпольно организованная партия политических маргиналов и
экономических аутсайдеров легко берет власть, «валяющуюся в
грязи». Российское крестьянство, до 1917 г. владевшее 80 % пашни
и 94 % скота, ради приобретения (в результате февральско-
октябрьской революции) дополнительных 20 десятин земли на
каждое домохозяйство, уничтожает эффективное государство и вместе
с ним — едва сложившуюся рыночную инфраструктуру
сельскохозяйственного производства. И своими руками надевает на себя
колхозное ярмо.
Советское идеократическое государство систематически и
целенаправленно подрывает производительные силы собственной
страны. Обессиленная войной и обнищавшая при социализме страна
берет на дорогостоящее содержание десятки прожорливых и
коррумпированных «прогрессивных режимов» чуть ли не во всех
частях света.
Российские территориальные приобретения последних трехсот
лет теряются за четыре месяца 1991 г. И тем не менее, для сознания
значимой части современного политического класса РФ
территориальные потери все еще не представляются безвозвратными. Для
«супердержавников» продолжает оставаться неочевидным
несоответствие старых геополитических притязаний России, сформированных
в XVIII-XX вв., и ее современных экономических возможностей.
По уровню технологизации промышленного и аграрного
производства она — на тридцатом месте в мире (после 29 стран ОЭСР). По
объему производства товаров и услуг — на десятом (после Индии и
Бразилии). По среднедушевому потреблению электроэнергии —
важнейшему показателю социально-экономического развития — в конце
первой полусотни стран (после Танзании и Иордании). По интегра-
тивному критерию качества жизни граждан наша страна находится
на 71 месте.
В России отчуждение большинства граждан от институтов
публичной власти традиционно уживается с массовой верой в
справедливое государство. В государственном патернализме нуждается
каждый в отдельности. «Эдипов комплекс» испытывают все вместе:
безотчетная любовь к Родине-матери сочетается с ревностью и страхом
по отношению к Государству-отцу.
Молодая российская демократия ученически и факультативно
осваивает импортную технологию десакрализации государственной
власти. Старо-новая бюрократия профессионально (аппаратно
изощренным образом) минимизирует обязанности социального
обслуживания граждан.
530
Общество демонстрирует гражданскую недозрелость.
Государство — полуготовность к правовым самоограничениям. Граждане
кланяются, не уважая. Чиновники толкаются, не извиняясь.
Эти противоречия формировались, укоренялись и накапливались
столетиями. За двадцать лет демократических реформ они не могли
разрешиться. По корням и плоды. «Триумфальное шествие
российской либеральной демократии, в корне меняющей отношения
правящих и подвластных» — очередной политологический миф.
История в древности возникла не в качестве науки. Ее основная
функция была воспитательной. «Отец истории» Геродот и «бич
тиранов» Тацит, апологеты римской государственности Полибий и
Саллюстий, авторы сравнительных жизнеописаний Плутарх и
Светоний — все писали в назидание современникам и потомкам.
(Древнегреческое имя музы истории Клио переводится словом
«прославляю».) Тацит сформулировал принцип sine ira et studio (без гнева
и пристрастия), но сам ему не следовал. Что касается исторических
суждений обыденного сознания, то они всегда тяготеют к оценочным
черно-белым схемам.
Между тем, демон (он же — демиург) мировой и российской
истории мог бы прибегнуть к самоаттестации Мефистофеля из гетевского
«Фауста»: «Я тот, кто творит добро из зла, потому что его не из чего
больше сделать». В глубине исторического бытия нет абсолютов
добра и зла. Однако массовые черно-белые оценки прошлого —
неотъемлемый признак коллективного мифотворчества. Культурному
герою обязательно противостоит контркультурная сила.
Мировоззренческие мифы, выраженные в дилеммах, строятся на
противопоставлении порядка и беспорядка, хорошего и плохого,
добра и зла. В дилеммах такого рода реализуется базовый принцип
культуры — принцип бинарной оппозиции. Историософские мифы,
выраженные в постулатах, иным образом провоцируют массовое
сознание. Они вовлекают его в ситуацию ложного, непродуктивного
выбора между «прогрессивным» и «отсталым». Такая ситуация
идеологически оправдывается закономерностями «железной поступи
истории». «Железная поступь» — тоже миф, претендующий на
строгую научность.
К числу недавно сотворенных политологических мифов
относится противопоставление молодой российской демократии и старой
советской системы. В то время как российская демократия генетически
связана с Советами. Их общий родовой признак состоит в
одностороннем делегировании корпусом избирателей всего объема
политической власти. Такой объем делегирования исключает механизм вне-
531
аппаратного осуществления народом-сувереном его властных
полномочий. В России с конца XX в. утвердилась процедурная демократия
всеобщих состязательных выборов. Участие большинства граждан в
практической деятельности государственных институтов
по-прежнему невозможно. К советскому наследию относятся и массовые
ожидания государственной опеки, и патерналистские интенции
государства, и всевластие бюрократического аппарата.
Опорные конструкции нового политического режима
подвергаются испытаниям на устойчивость. Прежде всего — инерцией
избыточных социальных обязательств государства и стеретотипами
традиционной державности. Держать какой груз в состоянии наша новая,
демократическая государственность? От национального ответа на
этот вопрос зависит политическая окраска общества. «Три цвета
времени», закрепленные в российском государственном флаге, не
исчерпывают всего общественного спектра. Происходящее в нем «красное
смещение», связанное с резкой имущественной дифференциацией
населения и, как следствие, с «разбеганием социальных галактик»,
увлекает страну влево. Социал-демократическая, солидаристская,
умеренно-этатистская ориентация средних слоев проявляется все
отчетливее, формируя «синий» левый центр. Обнаруживается слабая
партийная представленность буржуазной «белой» полосы правой
части политического спектра. Там — место для либералов,
минимизирующих экономические функции государства и делающих
основную ставку на гражданскую самодеятельность общества.
Быстрые, в рамках жизни одного поколения, структурные
трансформации критически ускорили фрагментацию общества. Цветовая
гамма мозаичных социально-экономических групп российского
населения не вписывается в государственный триколор. Очень большое
количество граждан не считает новый политический порядок
выразителем их коренных социально-экономических интересов. На
рубеже XX-XXI вв. критически возросли расхождения целей и
несовпадение ценностей властвующей элиты и большинства невластвующего
населения. Этот разрыв между осознанными целеполаганиями
управляющих и стихийными стремлениями управляемых характеризовал
и советский режим. Процедурная демократия, утвердившаяся в РФ,
обнажила и усилила данный разрыв.
Российская властвующая элита сегодня пытается распространить
на все секторы общественной жизни (включая культуру, науку,
образование, здравоохранение) рабочие правила рыночной экономики.
Однако общество не может быть рыночным. Равно как и государство.
Одинаково невозможны приватизация госфункций и коммерциали-
532
зация инфраструктур самой социальности. Последнее критически
увеличивает потенциал внутренней неравновесности метасистемы,
провоцируя и обостряя социальные конфликты.
В первой трети 1990-х гг. остаточная энергия распада СССР
вызвала производные волновые автоколебания государственных
систем во всех бывших союзных республиках, включая Россию. Волна
дезинтеграции инерционно ударила по российскому федеральному
центру. Внешняя государственная устойчивость Российской
Федерации в этот период испытала дополнительные нагрузки
внутреннего, регионального этноцентризма, активированного сецесси-
ей союзных республик. Истмат, подменявший собой общую
социологию, выдавал желаемое за действительное, провозглашая
национально-государственную зрелость новой исторической
общности — единого советского народа. А в послевоенном СССР
происходила скрытая регионализация внутреннего политического
пространства, достигшего апогея консолидации в 1941-1945 гг.
Регионализация сопровождалась становлением
партийно-советской этнократии. В 1960-1970 гг. последнее ускорилось. В
союзных республиках под «животворящим солнцем» ЦК КПСС
созревали протогосударственные партийно-государственные элиты,
в 1991 г. расколовшие СССР. За период 1945-1991 гг. сменились
три политические поколения. В гражданском составе «внуков»
заметно снизилась национально-государственная «пассионар-
ность» (если воспользоваться этнологической терминологией
Л. Н. Гумилева), свойственная самоотверженному военному
поколению «дедов». Количественное преобладание в третьем
политическом поколении прагматичных и жизнелюбивых «актуалистов»
облегчило реализацию сепаратистских замыслов феодализирован-
ных республиканских элит.
Феодализация республиканских элит дополнялась ее
идеологической многовекторностью. Формально КПСС до ее последнего дня
оставалась единой. Но вместо западноевропейского открытого
партийного плюрализма в СССР с 1960-1970-х гг. сформировался не
предусмотренный партийным Уставом фактический полицентризм
единственной и безальтернативно правящей партии. В КПСС, по
запоздалым прозрениям М. С. Горбачева и А. Н. Яковлева, в
организационном единстве сосуществовали 5 идеологически разных партий:
коммунистические фундаменталисты, либеральные консерваторы,
радикальные либералы, конституционные демократы, социал-
демократы. Первые к 1990 г. организационно обособились в
Коммунистической партии РСФСР, последние — идеологически
533
примкнули к многомиллионной, но партийно не оформленной
Демократической платформе КПСС. Идейное размежевание внутри
правящей партии отражало глубинные процессы социального
расслоения страны.
К середине 1970-х гг. советская социальная метасистема снизила
свой прежний, достаточно высокий уровень управляемости. Желая
восстановить его, политическое руководство страны пыталось
перейти от силового регулирования общества к параметрическому.
За 10 лет до «перестройки», в 1977-1978 г., были приняты
Конституция СССР и Конституции союзных республик,
поставившие формальные правовые ограничения привычному для
большевиков чрезвычайному нормотворчеству. Ремонт государственного
фасада оказался поверхностным: через 15 лет Основной закон России
менялся «от микрофона» на заседаниях Съезда народных депутатов.
На «правовое поле» выбежали непрофессиональные политические
игроки, на этот раз — новые большевики радикально-либеральной
формации. В начале 1990-х страну «вновь ломали через колено», по
образному выражению М. С. Горбачева. Радикал-либералы оказались
«правее здравого смысла».
Макрополитическую ситуацию в России 1990-х гг. часто
называли Веймарской, по аналогии с внутренней обстановкой в
Германии 1920-1930-х гг. (Постсоветский период российской
истории 1990-х гг. ассоциативно перекликается и с временами
Избранной рады XVI в.) В тот период «бури и натиска» дикого
рынка предпринималась очередная попытка модернизации России
путем «реформ сверху». Социальная база структурных
преобразований оставалась традиционно узкой. И вновь наблюдалось
неустойчивое равновесие основных действующих сил. Рыночно не
адаптированная часть населения, идеологически руководимая
бывшей партийно-государственной номенклатурой (современным
«дворянством»), была изначально заинтересована в
восстановлении непосредственного хозяйствования, осуществляемого
патерналистским государством. Стремительно нарождающаяся
буржуазия и медленно формирующийся средний класс по определению
тяготели к либерально-консервативной экономике, оставляющей
за субсидиарным государством инвестирование в основной
капитал общенациональной инфраструктуры. Средний класс оставался
плохо организованным, искал стратегического союзника и
временно нашел его в лице прагматичной части старого гос- и хозаппарата,
современного «боярства». Подобно своим историческим
предшественникам, аристократизирующиеся социальные группы демон-
534
стрировали политически артикулированную склонность к
дистанцированию от казенной кормушки. Наиболее конкурентоспособные, но
экономически не равные группы населения дружно выступали
против системы тотального чиновного контроля, тягла и
принудительной службы, надеясь обрести экономическую независимость «от
государя». Эта модернизационная задача оказалась решенной частично
и только для очень тонкого слоя. У космополитичной «оффшорной
аристократии» и национально ориентированных «бояр» появились
«вотчины». Рефеодализация «избранной тысячи» старой
государственной номенклатуры и хозяйственной элиты осуществилась в
процессе ваучерной приватизации 1990-х гг.
Государственная номенклатура СССР первой сумела
капитализировать свое положение в верхнем эшелоне современного политико-
экономического истеблишмента. Директорский корпус несколько
замешкался на старте. Он, в большинстве своем, воспользовался
вторым вариантом ваучерной приватизации, практически бесплатно
передававшим блокирующие пакеты акций предприятий — трудовым
коллективам с менеджерами во главе. Последним пришлось
предпринимать скупку рассеянных акций, консолидировать их пакеты и
только потом производить феодальное «огораживание общинных
земель», по историческому образцу средневековой Англии.
Как и подобает аристократизирующейся элите, постсоветские
«бояре» ревниво относятся к притязаниям укрепившегося
государства ограничить их новообретенную политико-экономическую
свободу. Экономический либерализм элиты политически
консервативен. Он ориентирован на сохранение уже завоеванных позиций.
Социологически объяснимой была в 1990-х гг. дирижистская
позиция «красных баронов промышленности». Однако не технострук-
туры были опорой советского патерналистского государства.
Общественно-политический строй, блокировавший
индивидуальную экономическую самодеятельность, держался на идеологически
закамуфлированном союзе неконкурентных слоев населения и
некомпетентных управляющих.
Патерналистское государство иммобилизовывало в своем
бюджете большую часть национального дохода. Оно таким образом
создавало материальную возможность поощрения неконкурентного типа
массового социально-экономического поведения. Для советской
экономики это обернулось многолетней стагнацией. Партийно-
государственная номенклатура СССР (особенно — ее идеологическая
подсистема) неизменно тормозила попытки реформаторской части
руководства страны стимулировать экономическую активность ни-
535
зовых звеньев народного хозяйства. «Так что же, рубль станет
нравственным ориентиром советского человека?» — гневно вопрошал в
сентябре 1965 г. кремлевский «серый кардинал» М. А. Суслов в ходе
обсуждения на заседании Политбюро ЦК КПСС проекта
экономических реформ, представленного председателем Совета Министров
СССР А. Н. Косыгиным. Коммунистические фундаменталисты
последовательно тормозили распространение внедряемых
прагматиками (в первой половине 1980-х гг.) квазирыночных форм
хозяйствования: хозрасчета и бригадного подряда.
Возникают естественные вопросы: в каком направлении идет
социальная перегруппировка современного российского общества?
Каковы конструктивные последствия слома партийно-советских
этажей государственного здания? Сменилась ли парадигма
взаимоотношений общества и государства? К началу «перестройки» в СССР
практически не осталось традиционалистских групп населения.
Их место заняли «статусные бедняки», аутсайдеры социально-
экономических состязаний за доступ к материальным ресурсам.
После принятия в 1988 г. Закона о кооперации сопротивление
радикальным реформам численно преобладающих неконкурентных слоев
населения стало очевидным. При этом люди, не востребованные
зарождающимся диким рынком, выступали не против демократии как
политического режима. Судя по социологическим опросам 1988-
1990 гг., большинство советских граждан отвергало несправедливую
систему распределения национального дохода. К необоснованным
материальным льготам и социальным привилегиям номенклатуры
добавилась имущественная дифференциация внутри неэлитных
слоев. Все это воспринималось с нарастающим раздражением.
Негативные массовые оценки дисфункций «дикого рынка»
синхронизировались с начавшейся в конце 1980-х гг.
коммерциализацией фондов общественного потребления. Она обострила хронический
дефицит товаров повседневного спроса. Консервативной части парт-
госаппарата удалось временно перенацелить естественное народное
недовольство и притормозить рыночные преобразования. В
публичных выступлениях партийно-государственных руководителей СССР
появились антикооперативные и антинэповские тезисы типа
Горбачевского «нам такие кооперативы не нужны» (по поводу
сверхвысоких доходов кооператива «Техника»). В июле 1989 г. на заседании
Президиума Совета Министров СССР, едва не одобрившего
разработанный Минфином СССР законопроект налогового удушения
кооперативов, экономистам-рыночникам и автору настоящей книги
пришлось доказывать очевидное: заработки производственных коопера-
536
тивов намного ниже удельного уровня их реальной
производительности. Личная позиция премьера Правительства СССР
Н. И. Рыжкова и его заместителя, председателя Госстроя СССР
Ю. П. Баталина спасла тогда производственные кооперативы страны
от гарантированного удушения. (Последнее осуществило в 1992-
1993 гг. радикал-либеральное Правительство РФ.)
Структурные реформы конца 1980-х гг. осложнились и в связи со
сменой субъектов модернизации. С 1989 г., после XIX
партконференции КПСС, обозначившей внутренний раскол правящей партии,
началось спонтанное самоотключение партийного аппарата от рычагов
хозяйственного управления. Демонстративный «уход в тень»
политического начальства сказался на динамике нараставшего
общесистемного кризиса. Он захватил низовые рабочие подсистемы Партии-
Государства.
Десятая российская модернизация выявила ущербность
привычной для России экономической модели догоняющего развития.
Не удалась и поверхностная «вестернизация» политического
уклада, скроенного по западноевропейским лекалам полувековой
давности. В конструировании организационных форм политического
представительства всего правоспособного населения РФ
использовался довоенный опыт старых западноевропейских демократий.
То есть — опыт формальных политий низкой интенсивности:
всеобщее голосование граждан при выборах конкурирующих нотаблей и
отсутствие оперативного гражданского контроля за их
практической деятельностью.
Модернизация государственного строя не могла сопровождаться
эволюционной адаптацией «нового вина к старым мехам». По
причине отсутствия последних. Западно-европейские революции XVII-
XIX вв. при решении задач общественной трансформации
использовали средневековые феодальные институты — генеральные штаты,
судебные парламенты, палаты общин, советы провинциальных
нотаблей, муниципальные собрания горожан. Российская
демократическая революция рубежа XX-XXI вв. не могла опереться на
отсутствующие организационные структуры «пошлины и старины»,
укорененные в «национальной почве. Эта почва была выжжена
большевистским радикализмом. А затем, за 70 лет коммунистической
диктатуры, многократно и глубоко перепахана.
В последующие годы страна пережила и социальную
перегруппировку. Масштабное разгосударствление экономики создало класс
мелких частных собственников. Тотальная государственная
собственность на средства производства — основа социализма — к концу
537
1990-х гг. сократилась до одной трети общего объема. Мало
изменился персональный состав конкретных носителей государственной
власти. Деидеологизированная государственная и хозяйственная
номенклатура, слегка потеснившись в пользу демократических
выдвиженцев, осталась на своих местах, избавившись от обременительной
партийной составляющей. Социально-психологически она выиграла,
перестав вздрагивать при слове «обком».
За годы структурных реформ 1990-х гг. преобразился не субъект,
а объект властвования. Резко сократилась сфера прямого
администрирования. Экономика стремительно превратилась в частное
жизнеобеспечивающее дело миллионов. Система народного хозяйства
вошла в режим рыночного саморегулирования. Заметно
уменьшилась экономическая зависимость населения от государства. Создались
объективные предпосылки для формирования гражданского
общества, его первичного структурирования.
В ходе приватизации 1990-х гг. государство денационализировало
продуктивное использование большей части воспроизводственного и
ресурсного потенциала страны. Оно сохранило за собой лишь права
титульного собственника первичных природных ресурсов и базовых
подсистем экономической инфраструктуры.
Российское государство передало в частные руки две трети
основных средств производства. Создалась правовая, но сократилась
экономическая возможность инвестиционного использования
природной ренты для мультипликативного приращения ренты
интеллектуальной. Инновационная составляющая десятой российской
модернизации ресурсно не обеспечена. В постиндустриальных
обществах иная (мобилизационная) модель развития невозможна.
Революционные потрясения, ломающие государственные
институты, одновременно рвут общественные связи. Однако
постреволюционная регенерация социальных тканей происходит с меньшей
скоростью, нежели восстановление «вертикали власти».
Государственный механизм армируется аппаратными кадрами. Революции
поставляют их в избыточных количествах: по сравнению со старым
чиновничеством — числом поболее, ценою подешевле. В 1917-1920 гг.
больше-вики быстро создали аппарат «совслужащих»,
двадцатикратно превосходивший численность бюрократического корпуса
Российской империи.
В XIX в. M. Е. Салтыков-Щедрин писал о бюрократической
формуле порядка: «тишина внутри и грозная неприступность
снаружи». Распадающиеся части бюрократического аппарата России
неоднократно стягивались механически и обретали искомую «ти-
538
шину». Общественная устойчивость создается эволюционно:
продуктивным сотрудничеством граждан, органическим наслоением
социальных тканей, их специализацией и функциональной
координацией.
Современные предпосылки общественной стабильности России
налицо. В результате приватизации государственной собственности
и резкого повышения среднего уровня экономической активности
населения, возникла социальная неоднородность, внутренняя
структурность общества. Появились массовые группы интересов,
базирующихся на дисперсно распределенной частной собственности.
Поведение людей с долгосрочными, следовательно — устойчивыми
интересами политически предсказуемо. Вероятность
революционного беспорядка в граждански организованной, деполитизированной
среде незначительна. Миллионам наших сограждан уже есть что
терять. Формируется благоприятная общественная среда для
российского истеблишмента.
Принадлежность к нему не ранговая и не классовая, а личная го-
сударственническая позиция тех, кто против потрясения основ,
переворотов, смут. Высокая ранговая позиция великих князей дома
Романовых не помешала им внести весомый вклад в
государственную катастрофу Февраля 1917 г. Великий князь Кирилл
Владимирович, с красным бантом на груди, маршировал 28 февраля
1917 г. во главе гвардейского морского экипажа по улицам
революционного Петрограда. Великий князь Николай Николаевич,
отстраненный царем от главнокомандования армией, был в курсе
готовившегося в 1916 г. военно-политического заговора против государя.
Великий князь Михаил Александрович (в пользу которого отрекся
от престола Николай II) в роковые дни 27 и 28 февраля 1917 г.
помешал сосредоточению в Зимнем дворце военных сил
государственного правопорядка.
Политические верхи в России очень часто оказывались фактором
общественной дестабилизации. Удельные князья «ковали на себя
крамолу» и наводили кочевников на русские земли. Аристократия
«казаковала» не только в смутные времена. Цари всходили на
престол в результате дворцовых заговоров. Неустойчивость верхов
стимулировала всеобщее шатание низов. Пирамида российского
государства веками была перевернутой, стоящей на острой вершине.
Центр ее тяжести находился вверху. Оттуда шли и организующие, и
дезорганизующие импульсы.
Статус государственного служащего определялся чином и
казенной должностью, то есть — величинами условными и относительны-
539
ми. Его место в аппаратной иерархии в гораздо меньшей степени
зависело от реальных заслуг, профессиональной пригодности, общей
культуры, индивидуальных свойств, таланта. Мотив абсолютного
личного достоинства в России всегда звучал либерально и почти
антигосударственно. Пушкинское «Я памятник себе воздвиг...» не
корреспондировалось, согласно «Табели о рангах», с камер-юнкерским
званием поэта.
Не в бюрократической среде рождается современный
российский истеблишмент. Партийно-государственная номенклатура
СССР и вышедшее из ее рядов российское корпоративно
солидарное чиновничество, при их внешнем консерватизме, несли и несут
в себе колоссальный заряд общественных потрясений. Они
придавливают общество, создают в нем революционное напряжение,
отодвигают на общественную обочину (маргинализируют),
заряжают энергией разрушения бедную, угнетенную неудачами часть
населения.
При революционных взрывах агрессивные толпы уличных
«пассионариев», выносимые анархической ударной волной, смертоносно
обрушиваются не столько на властных людей, сколько на мирных
обывателей. Типичная картина недавних «цветных революций» на
постсоветском пространстве: анархические толпы громят и грабят
магазины, офисы, квартиры, общественные помещения, жгут частные
автомобили, избивают невооруженных людей. Устойчивый
мещанский мир мелких собственников ненавистен «челкашам и
буревестникам», люмпенам и маргиналам. Но стихийный консерватизм
производительных слоев российских обывателей спасал и спасает
общество от внесистемной динамики «людей длинной воли».
Ряды российского среднего класса — социальной базы
истеблишмента — пополняются отчасти за счет интеллигенции. Однако
значительная часть ее остается рыночно не востребованной, ибо
испытывает экономически обусловленные сложности в капитализации
собственного личностного потенциала. Миллионы российских
гуманитариев, например, находились на службе идеократического
государства. Прежний работодатель внезапно исчез. Новый — еще не
появился. Техническая интеллигенция находится в несколько
лучшем положении. Но и она не контролировала основные средства
материального производства и потому не вкушает плоды
несостоявшейся «народной приватизации». Состоявшейся аппаратной — тем
более. Отсюда ощущение «чужих на празднике жизни». Резкое
снижение общественного статуса и материального положения советской
интеллигенции травмировало ее. Травмированное общественное со-
540
знание — сфера манипулятивного воздействия идеологии
политического экстремизма, предлагающего простые и грубые решения.
Шок без терапии
В сентябре — декабре 1993 г. зачаточная либеральная демократия
потерпела в России историческое поражение. Партия либеральных
фундаменталистов, во всем полагавшаяся на регулирующую силу
«невидимой руки рынка» и ограничивавшая государственные
функции ролью «ночного сторожа», надорвалась на попытках
революционного переустройства общества. Упрощенная проекция
геометрических линий абстрактного, внесоциального прогресса наложилась на
политическую пустоту. Российская история в очередной раз
обнаружила свою нелинейность. Впрочем, перефразируя Бориса
Пастернака, правота радикал-либералов не была «крылатой» и легко разбилась
«о плиты общежитий», об установки обыденного сознания. Общество
отвергло шоковую терапию.
«Атлантическая» но целям, «евразийская» по средствам, модель
взаимоотношений прогрессивного руководства и консервативной
страны довела противоречие между ними до конфликта. Он, в свою
очередь, противопоставил либерально-консервативную ориентацию
нарождающегося российского среднего класса — необольшевистской
практике «революции сверху».
«Атлантизм» целей предполагал постепенное развитие
гражданского общества, охраняемого правовым государством. «Евразийские»
средства требовали подмены стабильного права оперативными
декретами политического руководства. Обществу адресовались
команды и окрики. Его поставили в страдательное положение пациента и
клиента. А реформаторское правительство, овладевшее технологией
макроэкономического регулирования, уподобилось врачу из
Чеховского рассказа. Больной перед смертью потел? Значит, я его
правильно лечил, по рекомендациям чикагской экономической
школы и Международного валютного фонда, ориентируясь на
лечебные эффекты «шоковой терапии», достигнутые в Польше и Чили.
Социально-экономическая инновация российского
реформаторского правительства 1992 г. осуществлялась: а) децентрализацией
ценообразования (названной либерализацией цен); б) дефляционным
сжатием кредитно-денежной массы; в) инфляционным
обесцениванием денежных накопленияй граждан (в том числе — доверенных го-
541
ми. Его место в аппаратной иерархии в гораздо меньшей степени
зависело от реальных заслуг, профессиональной пригодности, общей
культуры, индивидуальных свойств, таланта. Мотив абсолютного
личного достоинства в России всегда звучал либерально и почти
антигосударственно. Пушкинское «Я памятник себе воздвиг...» не
корреспондировалось, согласно «Табели о рангах», с камер-юнкерским
званием поэта.
Не в бюрократической среде рождается современный
российский истеблишмент. Партийно-государственная номенклатура
СССР и вышедшее из ее рядов российское корпоративно
солидарное чиновничество, при их внешнем консерватизме, несли и несут
в себе колоссальный заряд общественных потрясений. Они
придавливают общество, создают в нем революционное напряжение,
отодвигают на общественную обочину (маргинализируют),
заряжают энергией разрушения бедную, угнетенную неудачами часть
населения.
При революционных взрывах агрессивные толпы уличных
«пассионариев», выносимые анархической ударной волной, смертоносно
обрушиваются не столько на властных людей, сколько на мирных
обывателей. Типичная картина недавних «цветных революций» на
постсоветском пространстве: анархические толпы громят и грабят
магазины, офисы, квартиры, общественные помещения, жгут частные
автомобили, избивают невооруженных людей. Устойчивый
мещанский мир мелких собственников ненавистен «челкашам и
буревестникам», люмпенам и маргиналам. Но стихийный консерватизм
производительных слоев российских обывателей спасал и спасает
общество от внесистемной динамики «людей длинной воли».
Ряды российского среднего класса — социальной базы
истеблишмента — пополняются отчасти за счет интеллигенции. Однако
значительная часть ее остается рыночно не востребованной, ибо
испытывает экономически обусловленные сложности в капитализации
собственного личностного потенциала. Миллионы российских
гуманитариев, например, находились на службе идеократического
государства. Прежний работодатель внезапно исчез. Новый — еще не
появился. Техническая интеллигенция находится в несколько
лучшем положении. Но и она не контролировала основные средства
материального производства и потому не вкушает плоды
несостоявшейся «народной приватизации». Состоявшейся аппаратной — тем
более. Отсюда ощущение «чужих на празднике жизни». Резкое
снижение общественного статуса и материального положения советской
интеллигенции травмировало ее. Травмированное общественное со-
540
знание — сфера манипулятивного воздействия идеологии
политического экстремизма, предлагающего простые и грубые решения.
Шок без терапии
В сентябре — декабре 1993 г. зачаточная либеральная демократия
потерпела в России историческое поражение. Партия либеральных
фундаменталистов, во всем полагавшаяся на регулирующую силу
«невидимой руки рынка» и ограничивавшая государственные
функции ролью «ночного сторожа», надорвалась на попытках
революционного переустройства общества. Упрощенная проекция
геометрических линий абстрактного, внесоциального прогресса наложилась на
политическую пустоту. Российская история в очередной раз
обнаружила свою нелинейность. Впрочем, перефразируя Бориса
Пастернака, правота радикал-либералов не была «крылатой» и легко разбилась
«о плиты общежитий», об установки обыденного сознания. Общество
отвергло шоковую терапию.
«Атлантическая» по целям, «евразийская» по средствам, модель
взаимоотношений прогрессивного руководства и консервативной
страны довела противоречие между ними до конфликта. Он, в свою
очередь, противопоставил либерально-консервативную ориентацию
нарождающегося российского среднего класса — необольшевистской
практике «революции сверху».
«Атлантизм» целей предполагал постепенное развитие
гражданского общества, охраняемого правовым государством. «Евразийские»
средства требовали подмены стабильного права оперативными
декретами политического руководства. Обществу адресовались
команды и окрики. Его поставили в страдательное положение пациента и
клиента. А реформаторское правительство, овладевшее технологией
макроэкономического регулирования, уподобилось врачу из
Чеховского рассказа. Больной перед смертью потел? Значит, я его
правильно лечил, по рекомендациям чикагской экономической
школы и Международного валютного фонда, ориентируясь на
лечебные эффекты «шоковой терапии», достигнутые в Польше и Чили.
Социально-экономическая инновация российского
реформаторского правительства 1992 г. осуществлялась: а) децентрализацией
ценообразования (названной либерализацией цен); б) дефляционным
сжатием кредитно-денежной массы; в) инфляционным
обесцениванием денежных накопленияй граждан (в том числе — доверенных го-
541
сударственной сберегательной системе); г) инфляционным
уменьшением внутреннего государственного долга; д) секвестром
инфраструктурных и социальных расходов государства; е) либерализацией
финансовой системы и долларизацией внутренних расчетов; ж)
обесцениванием оборотных средств реального сектора; з)
государственным инициированием нарастающего вала взаимных неплатежей
хозяйствующих субъектов (неплатежи выполняли роль внерыночных
платежных средств, обладающих нулевой ликвидностью).
Экономические мечтания радикал-либералов 1992 г.: равновесие
потребительского спроса и товарного предложения, финансовая
стабилизация, достигаемая жесткой дефляционной политикой,
синхронизация и позитивная корреляция между возрастаниями
воспроизводственной (отраслевой) неравновесности и
макроэкономической стабильности. Кавалерийские атаки рыночных
фундаменталистов сокрушили твердыни планово-распределительной системы.
Торговый капитал хлынул в сферу обращения, обнажив фронт
производства. «Не беда, — успокаивали в начале 1990-х гг. российские
радикал-либералы. — Производство не главное в реформах.
Главное — финансовая стабилизация, определяющая
макроэкономические показатели».
Российские «гарвардские мальчики», оказавшиеся в начале
1990-х гг. в правительственных кабинетах, вышли из вполне
благополучных кругов интеллектуальной обслуги ЦК КПСС. Они решились
на масштабное ограбление населения, на безжалостную
конфискацию народных сбережений, связанных с отложенным и
неудовлетворенным спросом. Гайдаровская «ликвидация инфляционного навеса»
превзошла степенью своей откровенной асоциальности все
послевоенные конфискационные денежные реформы.
Децентрализация механизма ценообразования, установившая
абсолютную диктатуру производителя и торгового посредника,
получила экономически привлекательное наименование «либерализации
цен». Либерализация*финансовой системы, осуществленная в 1992-
1994 гг., раскрутила маховик инфляции, превратившей в труху и
оборотные средства предприятий, и частные сбережения граждан.
Объема всеобщих неплатежей уровня 1990-х гг. российская
экономика не знала даже после Гражданской войны 1918- 1920-х гг.
Неплатежи (прежде всего — государственные) угробили десятки
тысяч предприятий, выполнявших свои договорные обязательства и
наказанных за это. В привилегированном положении оказались
предприятия-должники. В соответствии с постановлениями
Правительства РФ, предприятиям-кредиторам вернули неисполнен-
542
ными их банковские требования к предприятиям-должникам,
попавшим в «картотеку 2». Последняя контролировала в советские
времена взаимные платежи субъектов хозяйствования. В начале 1990-х гг.
реформаторы ликвидировали и эту картотеку, и сам финансовый
инструмент, называвшийся в госплановской системе «банковским
требованием». Правительство РФ сняло с негосударственных
коммерческих банков низкодоходную заботу об исправности взаимных
расчетов юридических лиц. А государственные отраслевые банки после
акционирования сами сбросили с себя эту обременительную
обязанность. В 1990-х гг. банки практически отказались от кредитования
реального производственного сектора, сосредоточив свои
ограниченные ресурсы в сфере обращения.
Все социально-политические революции (начиная с солоновской
и клисфеновской в Афинах VI в. до н. э.) сопровождались кассацией
долгов, государственных и частных. Радикал-либеральные
большевики, пришедшие к власти в результате геополитической катастрофы
1991 г., осуществили выборочную кассацию долгов госпредприятий,
вылив-шуюся в ограбление негосударственного сектора экономики, в
частности — десятков тысяч успешно хозяйствовавших в 1987-
1991 гг. строительно-промышленных кооперативов, выполнявших
накануне распада СССР до четверти общесоюзного объема
строительно-монтажных работ. Такими контрпродуктивными
методами новое политическое руководство страны безуспешно пыталось
расширить социальную базу асоциальных реформ за счет включения
в нее коллективов крупнейших госпредприятий.
Помните, для чего зубрил английские слова шолоховский
красный конник Макар Нагульнов? Похоже, академические штудии
чикагской школы макроэкономического регулирования
адаптировались к российским проблемам в тех же целях. Правительственная
группа отечественных монетаристов стремилась произнести свое
революционно-демократическое «становись к стенке, контра!»
непременно по-иностранному1.
В 1990-е гг. в роли «контры» выступали разные силы. В их числе —
сложившиеся техноструктуры дореформеннной национальной
экономики, консервативные по определению. Они не откликались на
меры финансовой стабилизации, справедливо оценивая их как
дезорганизующие. В 1992-1994 гг. российское правительство безуспешно
жало на газ и тормоз одновременно.
1 Поэт Иосиф Бродский где-то писал, что в начале 1990-х гг.
постсоветские граждане верили: «по-английски невозможно сказать глупость».
543
Воспитанные Госпланом и Госснабом, производственные
предприятия плохо поддавались монетаристским приемам
макроэкономического регулирования. На классический инструментарий
финансовой стабилизации они реагировали неклассически. Например, на
небанковское сжатие денежного агрегата М2 — сокращением
производства, а вовсе не снижением цен. На прочие дефляционные меры —
применением неплатежей.
Национальный хозяйственный механизм уподобился
автомобилю с мотором, но без трансмиссии. Его отраслевые и региональные
составляющие обзавелись собственной тяговой силой. Однако эти
силы оказались противоположно направленными. Топливно-
энергетический комплекс до сих пор тормозит, к примеру, развитие
наукоемких производств слабого инновационного сектора
российской экономики. Преимущественно экспортная ориентированность
металлургии не способствует отечественному машиностроению.
Экономическая разбалансированность воспроизводственного
аппарата России 1990-х гг. корреспондировалась с идейной «разрухой в
головах».
Системные дисфункции такого рода — исторические особенности
России. Здесь плохо утверждаются процедурно-правовые
взаимоотношения экономических и политических институций, государства и
общества, власти и интеллигенции, «охранителей» и
«модернизаторов». Их силовое противостояние не раз раскалывало страну.
Либеральный авторитаризм
Исторически загадочен бескровный уход КПСС в августе 1991 г.
с политической сцены. Массовая партия, создавшая могучую
империю, равнодушно позволила изгнать со Старой площади свой ЦК,
ликвидировать обкомы, горкомы и райкомы. Привычные
либеральные ссылки на «гнилость коммунистического режима» не
убеждают. Политические институты, даже потерявшие свою
системообразующую роль, десятилетиями сохраняют инерционный вес. Столь же
неубедительны пропагандистские утверждения о массовой
неукорененности коммунистической идеологии. Их опровергают
результаты состязательных парламентских выборов 1993,1995,1999, 2003,
2007 гг.
Причина быстрого краха коммунистического режима в другом.
В СССР отсутствовал правящий класс, способный сражаться за свои
544
базовые интересы. Его системно заменял партийно-государственный
номенклатурный слой. Поэтому советский государственный строй
быстро трансформиро-вался в электоральную демократию. Бывший
госпартаппарат растворился в новых органах власти и рыночных
структурах. «Демократизации» партийно-государственных
чиновников способствовало отсутствие у них идеологически отрефлексиро-
ванных классовых ориентиров. Сработал непобедимый частный
экономический стимул: корпоративно солидарная номенклатура
вовремя поспела к генеральному дележу государственной собственности,
предварительно приватизировав партийную. Несмотря на
впечатляющие масштабы и высокую ликвидность партийного капитала, он на
несколько порядков был меньше общенационального.
Российскому правящему слою за последние 80 лет не раз
приходилось отступать на заранее подготовленные позиции. Разрушив в
1917-1922 гг. дореволюционную экономику, государственно-
партийная номенклатура совершила тактический маневр нэпа,
сбросив на плечи стихийной рыночной демократии обеспечение
физического выживания населения страны. За собой партия оставила
командные «политические высоты», с которых через 8 лет нэповской
«перестройки» ударила по производительной части населения
тяжелой артиллерией сплошной коллективизации и форсированной
индустриализации.
Нараставшая в 1980-х гг. неэффективность нерыночной
экономики вновь вынудила руководство КПСС поделиться с рыночными
силами хозяйственным пространством, не уступая политического.
Официальная пропаганда пустила в оборот внутренне
противоречивую формулу «социализма как строя цивилизованных
кооператоров». Госсектор, под нажимом «архитекторов перестройки»,
попытался вести себя «хозрасчетливо», без особого, впрочем, успеха. К
началу 1990-х, однако, сложились системно не связанные базисные
предпосылки для неустойчивого союза верхушечного политического
либерализма и низовой экономической демократии.
Либерально-демократическая коалиция антиноменклатурных сил
не была, Строго говоря, последовательно оппозиционной, так как
концентрировалась в органах делегированной (советской) власти.
Аппаратные фундаменталисты, потеряв доверие и рядовых
партийцев, и руководящих хозяйственных прагматиков, в ходе
парламентских выборов 1989 г. не выдерживали открытого состязания за
депутатские мандаты. Стихийный антикоммунизм временно
консолидировал неустойчивый электорат. Последний не бывает иным в
деструктурированной социальной среде.
545
Политическое противостояние реформаторски настроенных
либерал-демократов и реакционной части партгосаппарата
завершилось августовским «путчем», в неуспехе которого решающую роль
сыграл неожиданный для ЦК КПСС нейтралитет армии и других
государственных силовых структур. Департизация государства,
детерминированная курсом на многоукладность экономики и социальной
неоднородностью общества, завершилась в ночь с 20 на 21 августа
1991 г. Слово «путч» употребляется условно, потому что путча не
было в его классическом виде. Состоялась спонтанная и
нерешительная попытка верхушки аппаратов ЦК КПСС, КГБ СССР,
Минобороны и МВД СССР репрессировать прагматичную часть аппарата
государственной власти РСФСР. Некогда единый госаппарат страны
воспротивился непроцедурному посягательству на свою системную
целостность.
Поведя себя антисистемно, ГКЧП лишился не только рычагов
силового принуждения, но и политической поддержки правящего слоя
страны. Убедившись в опасности своего негосударственного
положения, аналогичного тому, что сложился после неудачного
большевистского путча в июле 1917 г., консервативный партаппарат поспешно
реинтегрировался в Советах всех уровней. Там немедленно началась
подготовка к коммунистическому реваншу.
Он сорвался, как это часто бывало в России, в
импровизированный мятеж против центральной исполнительной власти.
Напрашиваются историческая аналогия и социально-политическое
противопоставление содержательно различных, но внешне похожих
событий. В октябре 1917 г. вышедшие на политическую авансцену
маргинальные антигосударственные силы легко одолели зыбкий,
едва народившийся буржуазно-демократический правопорядок,
лишенный аппаратного стержня. В октябре 1993 г. молодой буржуазно-
демократический авторитаризм так же легко нанес поражение
устаревшей политической системе, утратившей свою главную несущую
конструкцию — КПСС.
Без серьезной борьбы утвердился новый государственный
строй: либеральный по целям, авторитарный по методам и
средствам, технодемократический по форме. Электоральная база
нового политического режима мало отличается от прежнего, советского.
Существенной смены элит не произошло. Президент и
Правительство РФ, легко подавившие в октябре 1993 г. спонтанный
коммунистический мятеж, взяли курс на решительную
модернизацию страны. Экономические и технологические результаты
546
очередной «революции сверху» оказались достаточно скромными.
Впечатляют структурные последствия социально-политических
трансформаций последних 15 лет. Они вызвали масштабную
перегруппировку внутри российских элит. Эта перегруппировка
отчетливо проявляется в изменении государственного веса российских
представительных учреждений.
Исторически не укорененные, институты представительной
власти появились в России только в начале XX в. Возобновились —
в конце XX в. И всякий раз, едва возникнув, органы
общенационального представительства начинали с колебания основ
политической системы страны, поскольку претендовали на полноту
государственного империума. В отличие от созываемых царем Земских
соборов «чинов и сословий всей Земли», всенародно избранные
российские парламенты начала XX в. неизменно
«бесчинствовали». Они расшатывали правопорядок, ломая не только
европейский принцип разделения властей, но и отечественную
государственную традицию.
Показательно, что и I, и II Государственная дума Российской
империи, и Верховный Совет РФ в несовпадающих исторических
обстоятельствах вели себя одинаково. В частности, в 1906 и 1907 гг.
парламентарии провозглашали: «Власть исполнительная да
покорится власти законодательной». По этой причине главе Российского
государства дважды приходилось распускать новоизбранные Госдумы
«народных надежд» и «народного гнева». Политически вменяемой
оказалась лишь III Государственная дума, сформированная на основе
менее демократического (цензового) закона от 3 июня 1907 г. Так
завершился знаменитый, изруганный советской историографией
столыпинский «третьеиюньский переворот», положивший предел
общероссийской революционной анархии.
Похожий «третьеиюньский переворот» вынужденно совершил
Президент РФ Б. Н. Ельцин в сентябре-октябре 1993 г.
Проанализируем тогдашнюю правовую ситуацию. В течение
предшествующего года российский парламент, претендующий на
государственную супрематию, нарушает политические права граждан и
равноправие ветвей власти. В январе-феврале 1993 г. по инициативе
граждан собирается установленный законом миллион подписей за
проведение общенародного референдума о земле. Верховный Совет
РФ отказывает гражданам в реализации фундаментального права
непосредственной демократии.
Общеполитический курс Президента РФ получает одобрение на
апрельском (1993 г.) референдуме. Парламент игнорирует его ре-
547
зультаты, имеющие, по Конституции РФ, силу закона прямого
действия. Решением народа Борис Ельцин получает императивный
мандат на продолжение структурных преобразований. Парламент
саботирует востребованные обществом реформы. Конституционный Суд
РФ (КС), встав над противоборствующими сторонами, мог
разрешить правовой конфликт между исполнительной и законодательной
властями. Но КС политизировался и занял одностороннюю позицию
поддержки Верховного Совета РФ.
Возникла правовая коллизия, вынудившая главу государства
сделать выбор между конфликтующими нормами. Президентский указ
№ 1400 вывел страну из заколдованного круга, приостановил
деятельность парламента, претендующего на всевластие, но оставил
исполнительную власть в пределах правового поля. Распуская
Верховный Совет РФ, Президент немедленно назначил
общенародный референдум по принятию нового Основного закона РФ и
всеобщие выборы Государственной думы.
Вышеописанный перерыв в праве был кратким и государственно
оправданным. Когда самоустранился Конституционный суд РФ, а
парламент превратился в штаб вооруженного восстания, именно
Президент и Правительство РФ обеспечили правопорядок. Обществу
угрожала гражданская война, что и подтвердили события 3-4
октября 1993 г.: политические экстремисты предприняли попытку
насильственного захвата власти. Президенту непросто было решиться
на применение военной силы. Генералитет не спешил выполнять
письменный приказ Верховного главнокомандующего.
Колебания военных верхов прекратились под давлением
премьера Правительства РФ и десятков тысяч москвичей. Руководители
«Демократического выбора России» вызвали своих сторонников на
улицу. Тысячи невооруженных граждан собрались около здания
Моссовета. Возникла опасность столкновения их с вооруженными
толпами сторонников Верховного Совета. Башкирский ОМОН
(заблаговременно вызванный в Москву) предотвратил кровопролитие.
Президент РФ не внял призывам радикалов «раздавить гадину»
несистемной оппозиции силами проправительственной либерально-
демократической общественности. Он не пошел на делегирование
государственных правомочий легитимного насилия «волонтерам
демократии». Ельцин не повторил ошибку Керенского, вооружившего
в конце августа 1917 г. большевистскую Красную гвардию (для
защиты Временного правительства от наступления корниловцев на
Петроград).
548
Технодемократия
В начале 1990-х гг. в России количественно вырос политический
класс, включивший в свои ряды представителей внеэлитных слоев
населения. Однако новый политический режим не ориентировался
на устаревшие европейские образцы. Его главной несущей
конструкцией стала исполнительная власть, вертикаль которой
восстановилась в начале XXI в. Западная политическая система развивается в
том же направлении. В XIX в. она сформировалась вокруг
парламентов. Сегодня наблюдается почти повсеместное их ослабление.
Некоторые европейские законодательные ассамблеи официально
ограничили свои полномочия. Например, ст. 34 французской
Конституции ставит Национальное собрание республики в довольно
жесткие рамки компетенции. Законодательно определяется
исчерпывающий перечень вопросов, могущих быть предметом
парламентского решения. Для сравнения: всемогущий Съезд народных
депутатов России мог принять к рассмотрению и решите любой вопрос.
Институты классической западной либеральной демократии не
отличались высоким профессионализмом своих функционеров.
Такого не скажешь о современных западноевропейских
политических системах, в которых ведущей фигурой становится специалист.
Государственная администрация для профессионального
исполнения порученных ей функций использует техноструктуры,
аналогичные крупным предприятиям: обширные, сложные, иерархические,
рациональные организации.
Технодемократия агрегирует в своем составе невыборную часть
государствообразующих социотехнических систем. Они не являются
носителями государственного суверенитета, целиком
принадлежащего нации — политической совокупности граждан. Управляющие
структуры технодемократии западноевропейских стран и США,
именуемые общественными службами, изначально получают свой
служебный статус и базовый алгоритм функционирования от выборных
народных представителей. Этим и исчерпывается непосредственная
зависимость от общества так называемых общественных служащих.
Корпоративно солидарная иерархия чиновников неизбежно
обретает системную целостность, самодостаточность и способность к
самоорганизации. В этом отношении демократические функционеры
РФ ничем не отличаются от евробюрократов ЕС, госслужащих
Российской империи и партийногосударственного аппарата
СССР. Отличия — в историческом генезисе. Российское
чиновничество порождалось исключительно нуждами государства, а современ-
549
ное западное — базовыми потребностями гражданского общества.
Никому в голову не придет назвать современный российский
чиновный люд «общественными служащими». Это по-прежнему
«государевы люди».
Послевоенный политический уклад Западной Европы и Северной
Америки закономерно трансформировался в технодемократию.
Либеральная экономика, основанная на свободном рыночном
состязании мелких и средних предприятий, нуждалась в слабом
государстве, оставлявшем предпринимателей наедине с их проблемами.
Экономическая и социальная инфраструктуры, нерентабельные по
определению, до второй половины XX в. не требовали гигантских
капиталовложений. Сегодня это бремя непосильно для частного
капитала. К инфраструктурному инвестированию добавляются задачи
макроэкономического регулирования производства, потребления и
обмена. «Невидимая рука» стихийного рынка для задач такого класса
не годится.
За ничем не стесненные конкуренцию и частную инициативу,
обеспечивающие высокую экономическую эффективность, общество
расплачивается нестабильностью, циклическими кризисами,
социальной напряженностью. Технодемократия справляется с этими
проблемами ценой усиления регулятивных функций исполнительной
власти. Это происходит во всех постиндустриальных странах Европы,
Америки и Азии.
Парламентаризм ослабевает и в «спокойных» демократиях
(Великобритания, Скандинавия) и в «возбужденных» (Италия,
Франция). То, что некогда регулировалось законами либо оставалось
частным делом миллионов, сегодня является предметом
правительственных нормативных постановлений, именуемых декретами. Они, в
отличие от стабильных законов, решают задачи оперативно-
тактического уровня, не вторгаясь в область национальной стратегии.
Правительственный декрет — акт одновременно нормативный и
распорядительный. Если воспользоваться языком механики, декрет
представляет собой величину не скалярную, а векторную. Эта
величина создается аналитической работой высшего бюрократического
аппарата и экспертов: дискуссионно, но не состязательно.
Законотворческая деятельность парламентов осуществляется
иначе, путем согласования агрегированных интересов широких слоев
и устойчивых групп населения. При социальной несовместимости
базовых интересов, процесс их парламентского согласования может
дать контпродуктивный результат. Такая политическая
результирующая сложилась в России в декабре 1991 г. накануне либерализации
550
цен и приватизации. Ее ваучерный вариант был введен в действие не
Законом, а президентским Указом, то есть — декретом. В условиях
явной асоциальное™ радикальных реформ начала 1990-х гг.,
президентский Указ был воспринят обществом как modus operandi
неавторитетного правительства. Законодательная пауза нередко создается
и бесплодной борьбой двух ветвей власти. В результате
затянувшейся борьбы с исполнительной властью, российский парламент,
«беременный Госдумой», три последних месяца 1993 г. пребывал в
«декретном отпуске».
В Западной Европе 90 % законов принимается по инициативе
правительств, а не депутатов. В США иная пропорция. Белый дом
инициирует примерно треть законопроектов. Редко — более половины (в
1964-1966 гг.). В этой стране очень сильный Конгресс, особенно —
его верхняя палата. Президент может блокировать принятие законов
своим отлагательным, преодолеваемым вето. Его применяли:
Рузвельт — 691, Трумен — 250, Кеннеди — 25, Джонсон — 30 раз.
Для сравнения: Вашингтон — 2 и Линкольн — 6 раз. В их время
классической либеральной демократии центром политической власти
был Конгресс.
Усиление исполнительной власти сопровождается разделением
ее функций. В частности это вызывается необходимостью контроля
за деятельностью силовых структур. Традиционная иерархическая
правительственная модель, унаследованная от абсолютных
монархий, в Западной Европе сменилась полицентричной и
функциональной. То есть — более адекватной постиндустриальной экономике.
По тем же причинам парламентские структуры
корреспондируются с экономическими. Публичные дебаты — некогда главная
арена парламентской деятельности — потеряли свое былое
значение в пользу рутинной работы комиссий, комитетов, экспертных
групп. Полная телевизионная трансляция заседаний палат редко
вызывает долгосрочные эффекты общественного резонанса. Она
приобрела и в России, и в Европе символический, условно-
театрализованный характер. Гораздо большее влияние на публику
оказывает информация о комитетских слушаниях. В США,
например, она положила конец карьере сенатора Маккарти, «раскрутила»
масштабные расследования дел о коррупции. В Великобритании
парламентский процесс менее публичен: здесь запрещена теле- и
радиотрансляция парламентских слушаний, во избежание
общественного давления на депутатов.
Несколько отличаются от американских европейские комиссии
парламентского контроля за деятельностью администрации. Они
551
специализируются в определенном секторе. В развитых
демократических странах получил распространение старинный шведский
институт омбдусменов. Речь идет о контроле деятельности
администраторов и общественных служб посредством независимой личности,
избираемой парламентом и получающей от него полномочия и
средства для специальных расследований. С 1920 г. этот институт
применяется в Финляндии, с 1945 г. — в Дании и Норвегии (в областях
гражданских и военных). В Великобритании, Новой Зеландии,
Израиле, некоторых канадских провинциях он действует лишь в
гражданской сфере, в ФРГ — только в военной. В России данный
парламентский статус получил лишь Уполномоченный по защите
прав человека.
Развитие институтов омбдусменов и комиссий расследований
отражает поиск процедур, позволяющих парламентам влиять на
отдельных правительственных чиновников в условиях, когда
свержение правительства в целом либо невозможно, либо нецелесообразно.
В Конгрессе США нет дисциплины голосования. Президентский
режим делает ее излишней. В европейских парламентских системах
она является основным средством обеспечения стабильности и
авторитета правительства. Английский премьер-министр —
одновременно партийный лидер. В Палате общин поведение фракций в важных
вопросах определяется решениями партийного руководства, то есть
премьера. Это авторитарное воздействие заходит довольно далеко,
если фракционная дисциплина подкреплена твердым парламентским
большинством одной партии или партийной коалиции. В этом случае
Палата рискует стать и нередко становится местом простой
регистрации правительственных декретов.
Среди российского политического класса вынашиваются
проекты преобразования президентско-парламентского режима в
парламентско-президентский. Для политологического
ориентирования полезно обратиться к историческому опыту зрелых
демократий. Показательно, что послевоенные Франция и Италия
отказались от парламентских режимов, в связи с их крайней
неустойчивостью. А США и Великобритания сохранили свои
традиционные президентско (премьерско)-парламентские политические
устройства.
Устойчивая парламентская республика возможна только в
отчетливо структурированном обществе, при установившемся бипартиз-
ме. Последнее нелегко достигается и в зрелых демократиях. Например,
в Великобритании в начале XX в. выборы в один тур по мажоритар-
552
ному принципу неизменно давали парламентский расклад,
искажавший пропорции реального голосования. Так, в 1922 г. консерваторы
получили 344 места (абсолютное большинство) в Палате общин,
лишь при 38,2 % голосов избирателей. В 1923 г. ни одна из партий не
обрела большинства, и лейбористы должны были управлять в
коалиции с либералами. В 1929 г. выборная система дала еще более
странный результат: лейбористы получили 287 мест в Палате общин (при
8 362 голосах), консерваторы — 255 мест (при 8 644 голосах),
либералы 55 мест (при 5 300 голосах).
Мажоритарный принцип непропорционального народного
представительства ставил в неравные условия разные группы
избирателей. Эффект политического неравенства усиливался
существованием на электоральной карте Великобритании так
называемых «парламентских гнилых местечек»: обезлюдевших
населенных пунктов, традиционно посылавших в Палату общин своих
представителей наравне с многолюдными городами типа
Бирмингема или Манчестера.
В итоге, мажоритарное голосование в один тур, порождавшее
болезненные для страны парламентские кризисы, само создало
антикризисное средство. Мажоритаризм (все достается победителю)
отправил на обочину политической жизни Великобритании все партии,
кроме лейбористов и консерваторов. Утвердилась система
одновременно динамичная и устойчивая: одна партия правит, а вторая
бдительно следит за каждым ее шагом, не давая безраздельно
использовать институты публичной власти. Бипартизм восстанавливается в
1935 г. Британское правительство обретает утраченную в 1920-е гг.
стабильность, получая гомогенное и дисциплинированное
парламентское большинство. Устойчивым бипартизмом характеризуются
политическая система США и ряда других стран зрелой демократии.
Управляемая демократия
12 декабря 1993 г. российские граждане приняли судьбоносное
решение — одобрили Конституцию РФ. Однако этому событию не
предшествовали массовые дискуссии и оно не стало предметом
общественного переживания. Российские СМИ уделили
конституционному референдуму меньше внимания, чем результатам
проходивших в тот же день парламентских выборов. Кадровые
перестановки в высших эшелонах власти вызвали в СМИ более обиль-
553
ные отклики, нежели — принятие Основного закона страны. Такова
обычная аберрация временной близости крупных событий:
большое видится на историческом расстоянии. «Жизни мышья
беготня» (А. С. Пушкин) не располагает к социологическим
обобщениям и философской рефлексии. В повседневной жизни мы не
склонны предаваться кантовскому созерцанию «звездного неба над нами
и нравственного закона внутри нас». Что касается СМИ, то они
преимущественно ориентируются на сложившиеся поверхностные
суждения обыденного сознания, даже публикуя экспертные
оценки. Просветительские функции для СМИ рыночно не
привлекательны.
Конечно, не все вопросы общегосударственного уровня могут
быть предметом всеобщего голосования. Бессмысленно выносить
на референдум национальную военную доктрину, программы
экономического развития страны, либо государственный бюджет.
Однако существуют базовые ценности, относительно которых
каждый гражданин вправе выносить компетентное суждение. Это,
в частности, права человека, положенные в основания
Конституции РФ. Ее критики, оспаривая позитивные результаты
конституционного референдума 1993 г., ссылаются на массовое
неучастие в нем. Между тем юридически значимо мнение только
тех, кто в процедурно установленной форме высказался «за» или
«против» проекта Конституции, представленного на всенародное
одобрение. Меньшинство граждан, не явившихся на
избирательные участки 12 декабря 1993 г., не реализовали свои
демократические права. Поэтому нелепо подсчитывать то, чего нет, именуя
политическое безмолвие народным мнением.
Расплывчатым определением «народное» следует пользоваться
осмотрительно. Оно вполне уместно в этнографии, культурологии,
художественном творчестве, политической пропаганде и т. п. Однако
употребление его в философии истории, в теории государства и права,
в социологическом, либо политологическом смыслах ненаучно. Здесь
операциональны более строгие понятия с фиксированным объемом:
«избирательный корпус», «граждане», «нация».
Социальная неоднородность современного российского
общества — непреложный факт. Дееспособное население РФ состоит из
множества групп с несовпадающими коренными интересами.
Демократия позволяет политически агрегировать их, выстраивая
парламентскую результирующую основных направлений
общественных трендов.
554
Граждански активная часть населения, принявшая участие в
конституционном референдуме 1993 г., однозначно высказалась за
Конституцию РФ, имея возможность ознакомиться с ее
предварительно опубликованным текстом. Не будучи партийно
представленными, большие группы российского электората не всегда отчетливо
осознают свои коренные социально-политические интересы. Однако
граждане, как правило, безошибочно опознают посягательства на
свои личные права, даже ошибаясь в выборе ориентиров группового
поведения. Ясная адресованность Конституции РФ не классам, а
лицам положительно сказалась на результатах конституционного
референдума 1993 г.
Политические партии, участвовавшие в парламентских
предвыборных состязаниях на рубеже XX-XXI вв., апеллировали к
надличностным ценностям: законности, порядку, державности, социальной
справедливости, экономической эффективности. Не всегда находя
своего адресата. Российские избиратели, не обученные вековым
опытом представительной демократии, в массе своей не уловили
идейных нюансов партийных предвыборных программ. Голосовали, часто
руководствуясь личностными оценками кандидатов, исходя из их
имиджа, сформированного средствами массовой информации.
По данным социологов, до 40 % избирателей за неделю до
парламентских выборов 1995, 1999, 2003 и 2007 гг. еще не знали, за кого они
будут голосовать. В конечном счете, в 1990-х гг. привлекали те, кто
отличался «лица необщим выраженьем», а в 2000-х гг. (в условиях
предварительно «зачищенного» партийно-политического
пространства и ликвидации графы «против всех» в бюллетене для
голосования) парламентское абсолютное большинство получает «Единая
Россия».
Общественные мнения и настроения всегда причинно
обусловлены, но часто лишены реальных целеполаганий. В частности,
принимая в общем виде институты современной политической демократии,
миллионы россиян слабо используют ее конкретные
организационные формы (выборные состязания, регулярную сменяемость
властных институтов, общественный контроль за их деятельностью,
механизмы кадровой ротации и реализации управленческих решений,
обратную связь власти с избирателями и т. п.). Принимая
демократические ценности, избиратели нередко отвергают ценностные
производные в качестве политически определенных целеуказаний. Это
делается чаще всего неосознанно.
Обыденное сознание не склонно к теоретической рефлексии по
поводу надличностных реалий общественной жизни. Не улавливает-
555
ся, например, причинно-следственная связь между массовым
голосованием за определенную партийную программу и уровнем жизни
большинства граждан. Тем более не осознается связь между личной
политической позицией гражданина и общим состоянием зрелости
институтов гражданского общества. Республика в ее
государственных формах возникает раньше, чем критическая масса
республиканцев. Их не могут заменить «народные массы».
Идеологема «народ» досталась европейскому политическому
классу в наследство от социальных революций и массового террора
XIX-XX вв. Принцип народного суверенитета утверждался через
отрицание фундаментального закона. Революционный лозунг «воля
народа — высший закон» нацеливал массы на слом любых правовых
барьеров, в том числе — конституционных. «Революционное
творчество масс» выступало антиподом правопорядка. Оно не признавало
границ между публичной и частной жизнью граждан. Правовой
нигилизм — неизменная манифестация всех революций, называемых
«великими». Их постоянные жертвы — права и свободы граждан.
Орудием подавления свобод не всегда выступали
государственные силовые институты. Революционно-тоталитарным режимам
обычно удавалось мобилизовать для репрессивных целей социально
ущемленную и люмпенизированную часть общества, нарекая ее
«народом», «массами», «авангардом прогрессивного класса». «Цензовая
общественность» малопригодна для выполнения мобилизационных
задач репрессивного характера. Поэтому все «демоны революций»,
называемых «великими», взывали преимущественно к
маргинальным группам. В слом правопорядка ограниченно вовлекались
социально укорененные граждане, огражденные собственностью, личным
правовым статусом, корпоративной солидарностью, нравственными
ценностями, семейно-родовыми привязанностями,
микросоциальными рубежами личностной автономии, устойчивыми структурами
межличностных коммуникаций.
Политические революции (частые в истории) не порождали
тоталитарных режимов, если не сопровождались разрывом социальных
тканей. Такие революции не посягали на имущественные
взаимоотношения граждан, на их экономическую «парцеллярность».
Сравнительно редко случались социальные революции. Они всегда
оказывались тоталитарными в своих организационных формах и
массово репрессивными в методах. Социальные революции
обрушивали агрессивные толпы вооруженных маргиналов на
структурированную часть общества. Резко обострившиеся общественные
антагонизмы создавали критическую массу осколков социальных «моле-
556
кул». Для сравнения: в клеточном составе высших организмов
осколочные разрушители клеток называются «свободными
радикалами» (это звучит как название политической партии). «Свободные
радикалы» социального типа в ходе великих революций
инициировали лавинообразные, взрывные процессы общественной
дезинтеграции. Революционная динамика юных демократий, обычно
канализируемая в имперское русло, направленно суммировала энергию
расщепления структур гражданского общества.
Имперское прошлое России в настоящее время не имеет реальных
шансов на возрождение. Геополитические заботы Российской
Федерации обусловлены сохранением своего суверенитета на
территории, очерченной государственными границами по состоянию на
декабрь 1991 г.
Россия исчерпала исторический лимит и на социальные
революции. Отсутствует операционное пространство для политической
пехоты большевизма. У русского антисистемного экстремизма нет
массовой базы. Сегодня может оказаться партийно востребованным иной
проект системной трансформации. В механизмы представительной
демократии встроены электоральные механизмы ее легального
демонтажа и конституционного установления авторитарного режима.
Партии с такими программными установками стоит лишь овладеть
основными институтами государственной власти. И чем более власть
институциализирована и чем сложнее ее рабочие процедуры, тем
легче использовать демократию в антидемократических целях. Сама
сложность современной системы государственного управления
упрощает подобную задачу, поскольку уменьшает количество системных
элементов, способных повлиять на устойчивость системы
критическим образом.
Риск критического нарастания системной неустойчивости
партийно-политического режима современной России не уменьшился с
восстановлением вертикали власти. В стране идет «зачистка»
политического пространства. Взят курс на двухпартийную систему:
партия власти и партия конструктивной оппозиции. Стратегически, в
отдаленной перспективе, этот курс рационален. Но в обозримом
будущем российский бипартизм снизит степень общественной
представленности институтов власти. Пока мы живем в слабо
структурированном обществе. Поэтому ни одна из партий не может
агрегировать и политически представить социально-экономические интересы
большинства населения страны. В этих условиях партия власти
неизбежно вырождается в оторванную от большинства граждан «партию
начальников».
557
Баланс между устойчивостью и адаптивностью политического
режима обеспечивается технодемократией. Подобно тому как
свободной игре рыночных сил пришло на смену в XX в. программно-
целевое планирование, «вольных стрелков» европейского
парламентаризма сегодня сменили политические техноструктуры. С их
помощью законодательные собрания становятся рационально
действующими и предсказуемыми, обеспечивающими общественную
стабильность.
Дестабилизации структурированного общества способствуют
внесистемные массовые партии и стихийные движения. Поэтому
традиционные европейские партии (консервативные, демохристиан-
ские, социал-демократические и либеральные) не стремятся к
массовости. Не имеют они и жесткого, иерархического, многочисленного
партаппарата. Парламентские партии опираются на региональные
группы влиятельных граждан, играющих роль партийных комитетов.
Организационная дисциплина нотаблей носит командный характер.
Социально мозаичная партийная база ей не следует. Задача низовых
партийных активистов — агитационно-пропагандистская работа с
избирателями. Макросистемы парламентских партий относятся к
классу дискретных (корпускулярных).
Политические техноструктуры — несущие конструкции и
парламентского мажоритаризма, и президентских республик — в массовых
партиях не нуждаются. Избыточная социальная динамика
парламентской демократии системно уравновешивается социотехнической
статикой. Структурирование социального движения повышает
системную устойчивость и адаптивность. В неструктурированном
массовом движении верх берут неконструктивные радикалы, в
структурированном — умеренные, конформные элементы.
Развитие политических техноструктур в России ставит
малочисленные партии перед выбором: либо они остаются маргинальными и
прибегают лишь к уличному«давлению на правительство, либо они
интегрируются в устойчивую политическую макросистему. В первом
случае их ставка делается на уличные манифестации и забастовки, во
втором — на конструктивную работу партийных лидеров в
комиссиях, комитетах, экспертных группах, там, где требуется выработка
коллективных решений, основанных на компромиссе.
Маргинальность большинства политических партий в
Российской Федерации усиливается и высоким (7 %) барьером
парламентской проходимости кандидатов в депутаты, и
законодательным запретом на временные предвыборные коалиции, и госу-
558
дарственным контролем за реальностью членского состава партий,
и требованием к их фактической представленности в большинстве
субъектов РФ. Организационное объединение партий с
совместимыми платформами — назревшая общественная потребность. Ее
игнорирование, осуществляемое амбициозными партийными
лидерами первого демократического призыва, долго продолжаться
не может.
Российская политическая система тяготеет к бипартизму,
основанному на культуре согласия в выборе целей национальной
стратегии и на взаимной конструктивной критике методов достижения
согласованных целей. Россия необратимо ушла от большевистской
формулы «бипартизма», цинично озвученной, если верить
партийному фольклору, одним из идеологов ВКП(б) Карлом Радеком: «У нас
могут быть только две партии: одна — у власти, другая — в тюрьме».
До сих пор учителями российских политиков были военные.
У них и базовая терминология сходная. Классово расколотое
общество плодило легионы «борцов за правое дело». Настала пора для
следования иным поведенческим моделям. Они перед глазами.
В стране гигантски выросла сфера гражданского оборота. Общество,
изуродованное непрерывной классовой войной, постепенно
демилитаризируется. Ролевые функции равноправных граждан
определяются не статусно, а договорно. Либерально-консервативный
вариант демократии, избранный нашей страной и закрепленный
Конституцией, приглашает граждан к исполнению
непринудительно взятых обязательств. Любой гражданско-правовой договор
доброволен. Он основан на взаимном учете интересов равноправных
сторон. Договор исключает команды и окрики, не делит стороны на
ведущих и ведомых, прогрессивных и реакционных, передовых и
отсталых. В случае конфликта интересов, включается механизм
цивилизованного принуждения — обращение в суд. В обычный,
гражданский, а не Божий.
В январе 1996 г. высший эшелон российской демократической
власти в> очередной раз озаботился собственной легитимизацией.
Действующий ^Президент РФ баллотировался на второй срок.
Согласно Конституции, легитимность Президента РФ рождается
лишь в таинстве регулярных всеобщих выборов. Политический риск
для партии власти состоял в том, что рейтинг Б. Н. Ельцина в январе
1996 г. не превышал 2 %, намного отставая от рейтинга Г. А. Зюганова.
Отсюда — тревожные прогнозы грядущих электоральных успехов
кандидата коммунистов.
559
На данные социологических опросов ориентировались
региональные лидеры партии власти. Нижегородский губернатор Б. Е. Немцов,
например, публично предрекал победу председателя ЦК
КПРФ. На политологической кофейной гуще основывались
иллюзии самовосприятия остальных участников президентских
состязаний: Г. Явлинского, А. Лебедя, В. Жириновского. Впрочем, в России
гадания сбываются чаще, чем социологические прогнозы. Общество
не структурировано, немногочисленны социальные группы с
устойчивыми интересами и предсказуемым политическим поведением.
На поверхности политической жизни — протуберанцы, флуктуации.
Случайные люди попадают в фокус общественного внимания и
массовых симпатий. В связи с этим «силовики» убеждали Ельцина
отменить президентские выборы 1996 г., заменив их плебисцитом о
продлении полномочий действующего Президента. Плебисцитарные
республики легко трансформируются в авторитарные политические
режимы.
Однако к 1996 г. процесс либерально-демократической
трансформации России миновал точку невозврата. Ельцин отправил в
отставку наиболее влиятельных сторонников политического
авторитаризма, представлявших в президентской команде консервативное крыло.
С лидерами делового сообщества, общественных организаций,
демократических партий, профсоюзов, руководителями СМИ партия
власти заключила политический контракт. Идя навстречу массовым
ожиданиям, Ельцин приостановил армейские операции в Чечне,
издал Указ о комплектовании армии, начиная с 2000 г.,
исключительно контрактниками. Президент подписал шесть указов,
стимулирующих жилищное строительство. (Свой Указ о полностью контрактной
системе комплектования Вооруженных Сил РФ Ельцин отменил в
ноябре 1996 г.)
В должности председателя Верховного Совета РФ Ельцин имел
статусную возможность быть популистом. Он не мог им оставаться
на посту Президента РФ: Радикал-либеральное Правительство
России растратило поставгустовскую популярность
демократического лидера. Осуществляя откровенно асоциальные реформы,
Б. Н. Ельцин не заботился о своем неуклонно снижавшемся
рейтинге. По истечении срока первого президентского мандата, образ
общенародно избранного «царя Бориса» приобрел опасное сходство с
народным восприятием (в пушкинской трактовке) «первого земского
избранника» — царя Бориса Годунова. Последний пренебрегал
народным мнением о верховном носителе государственного империу-
ма. Процедурная демократия, утвердившаяся в России в 1993 г., по-
560
ставила легитимность высшей власти в жесткую зависимость от
статистической результирующей массовых электоральных
предпочтений, основанных на множестве нерефлексивных мнений.
Эмоциональные призывы («Голосуй сердцем!», «Голосуй, или
проиграешь!») дали незначительный положительный сдвиг в
предвыборном рейтинге Ельцина. Не политические технологии главным
образом обеспечили итоговый электоральный успех действующего
Президента РФ. Согласованными усилиями политического класса и
деловых кругов, президентские выборы в июне 1996 г. выиграл
Б. Н. Ельцин, позиционированный в качестве гаранта необратимости
рыночных реформ. Большинство экономически активных
избирателей устрашились коммунистического реванша. Все собственники в
РФ вздрогнули. Включился мощный механизм бинарной оппозиции
«относительно хорошего и абсолютно плохого».
В России удивительно легко завоевываются народные симпатии.
Теряются они еще легче. Современные политические лидеры
вынужденно учитывают неустойчивые общественные настроения. Но
долгосрочную государственную политику на мнениях не выстроишь.
Либо надо забыть о глубинных реформах, ибо они редко бывают
популярными. Основная масса населения болезненно ощущает их на
себе. Эффективные структурные преобразования всегда имеют
немалую социальную цену.
Б. Н. Ельцин выглядел в глазах политического класса и
действительно являлся гарантом необратимости структурных
преобразований. Для их осуществления Конституция РФ 1993 г. наделила главу
государства чрезвычайно большим объемом властных полномочий.
Многовековой опыт успешных модернизаций в Западной Европе
(начиная с XVII в.) показал, что их организационной предпосылкой
всегда являлась централизованная политическая власть. Б. Н. Ельцин,
оставаясь мотором рыночно-демократической трансформаций,
вынужденно действовал в «столыпинской парадигме» либерально-
консервативного авторитаризма.
Слабая власть модернизацию осуществить не может. Сильная —
не хочет. Этот порочный круг разорвать непросто. Последнее удалось
в 1907-1909 гг. П. А. Столыпину. Силой подавив революцию, он
решился разрушить краеугольный камень, на котором, как полагали
консерваторы, основывался традиционный российский порядок —
крестьянскую общину. (Впрочем, консервативные представления о
ее стабилизирующей роли были к тому времени основательно
поколеблены. Их достаточно наглядно опровергли революционные
события 1905-1906 гг. Самовольный захват помещичьих земель, насилия
561
и поджоги усадеб чаще всего организовывали именно крестьянские
общины.) Опираясь на авторитет и силу исполнительной власти,
экономически активные, инвестиционно ориентированные крестьяне в
результате Столыпинской земельной реформы получили
возможность вырваться из-под нивелирующей опеки деревенского «мира», с
его философией завистливого равенства.
Два миллиона крестьянских семей (из шести миллионов,
состоявших в общинах) воспользовались установленной процедурой
приватизации обрабатываемых ими земельных участков. Аграрный
закон 1907-1909 гг., написанный простым и ясным языком, был
принят и введен в действие императорским Указом на основе ст. 87
Основных законов Российской империи. Госдума в 1909 г. была не
готова к социально назревшей земельной реформе,
инициированной правительством. Сотни тысяч крестьян, получив
государственную помощь, двинулись на неосвоенные земли. Николай II
бесплатно предоставил переселенцам свои личные владения на Алтае.
Успешно начатые Столыпинские реформы остановила Первая
мировая война.
В результате октябрьского переворота 1917 г., Гражданской войны
1917-1920 гг. и коллективизации 1929-1932 гг., на руинах некогда
рентабельных частных хозяйств столыпинской генерации возник
утяжеленный вариант податной крестьянской общины. Каждую
деревню оккупировал «колхоз» — стационарный продотряд. Контроль
за мерой труда и мерой потребления полностью утратил
экономический характер, индивидуальная мотивация крестьянского труда
ослабла. Возродилась средневековая система внеэкономического
принуждения. Годовые колхозные планы произвольно
увеличивались «от достигнутого». Невыполнение нормы индивидуальной
выработки трудодней жесточайше каралось отрезанием «по углы дома»
приусадебного участка — единственного крестьянского кормильца.
В колхозах резко упала удельная продуктивность сельского
хозяйства, достигнутая к 1914 г. и* в годы нэпа. Как только прекратились
массовые репрессии, над деревней поплыло сонное слово «перекур».
В истории современной России зеркально повторилась
политическая ситуация 1907-1909 гг., когда аграрный закон
«продавливался» главой государства. В течение 1992-1993 гг. президентские
Указы заполняли правовой вакуум, созданный крахом СССР в
начале 1990-х. Верховный Совет РФ и Госдума первого созыва,
увлеченные политической борьбой с исполнительной ветвью власти,
не спешили принимать системообразующие законы.
Правительственное Постановление и президентский Указ в начальный
562
период становления «демократии голосования» являлись
инструментальным выражением интересов инновационных групп,
добивавшихся внепартийного политического веса. В зрелой
«демократии участия» (при парламентском представительстве
инновационных групп) оперативные указы и декреты неизбежно сменяются
стабильными законами.
В современной Западной Европе до 90 % всех законопроектов
инициирует исполнительная власть, главная несущая конструкция
инновационно ориентированной технодемократии. Нормо-
творческие решения готовятся и принимаются квалифицированно.
Европейская модель технодемократии адаптируется к российским
условиям. Правительство РФ наделено правом законодательной
инициативы. И оно активно пользуется этим правом. Например,
закон о бюджете разрабатывает кабинет министров, а парламент
вносит в него поправки, принимает в четырех чтениях, либо
отклоняет в целом представленный Правительством законопроект.
В России не выносятся на референдумы вопросы финансовой
политики государства, налогообложения, исполнения бюджета.
Представим себе всенародный опрос на тему: «Какой минимальный
размер оплаты труда установить: 10 тыс. или 1 млн руб.?»
Большинство проголосует за миллион, устроив национальную
экономическую катастрофу.
Однако инструментальные преимущества обезличенной
технодемократии сопровождаются издержками политического характера.
Технологизация институтов исполнительной власти существенно
сужает политико-правовое пространство внеаппаратной «демократии
участия». Авторитаризм — логическое продолжение избыточной и
односторонней технологизации исполнительной власти.
«Демократия участия» обнажает политологические отличия
Народа, граждан и «народных масс». Большевики редко обращались
к «гражданам свободной России», справедливо опасаясь буржуазно-
демократических интенций граждан. ВКП(б) активно использовала
свои популистские лозунги, адресуясь к «народным массам». В самом
слове «масса» содержатся признаки юридической нестрогости и
произвольного расширения либо классового сужения объема партийно-
социометрического полуобраза-полупонятия. Идеологема «народ»
выглядит социологически отчетливее. Но научная операциональ-
ность идеологем по определению невелика. Граждански
правоспособное население становится Народом по призыву Государства.
Вспомним пушкинское: «Пока не требует поэта к священной жертве
Аполлон...» (Поэт тоже не всегда находится на уровне своего боже-
563
ственного дара: рассеянной жизнью увлечен, в картишки поигрывает,
жене изменяет, в ломбард женину шаль несет...) Народ державен в
табельные дни: референдум, всеобщие выборы. В представительной
демократии регулярны, но не часты случаи, когда суверен
призывается к «священной жертве», к алтарю Отечества. Именем Бога нельзя
клясться всуе. Инструментальное использование идеологемы
«народ» профанирует ценности демократии и, в конечном счете,
снижает легитимность демократических институтов.
Внесистемные идеологические партии до их прихода к власти
«клянутся народом» каждодневно, ежечасно. Манипулируя
«народной массой», используя социально-психологический закон
генерализации массовых отрицательных эмоций, внесистемная оппозиция
расшатывает исполнительную власть. Именно ее: в европейской и
российской истории крайне редки уличные выступления против
парламентов и судов. Бунт внесистемных сил всегда направлен
против власти, наделенной рычагами силового принуждения. Типичная
картина массовых волнений: «приказные» места осаждены толпой,
пришедшей туда не с петициями, а с «булыжником — оружием
пролетариата».
Процедурность и предсказуемая регулярность выборов
представительных институтов власти, публичность ее функционирования
гарантированно снижают социальное напряжение. «Улица молчит,
когда говорит Дума», — обоснованно считали политики в 1907—
1917 гг. Передача депутатам речевых функций улицы происходит в
условиях всенародных честных выборов, формирующих
авторитетный парламент, и общенародной парламентской гласности, не
ограниченной аппаратной слышимостью.
В советские времена у нас не было демократических выборов.
Их заменяло прекрасно организованное всеобщее голосование. Почти
100-процентное «за» имитировало регулярный массовый пароксизм
отрежиссированной и сценически воплощенной страсти к правящей
партии. Между тем подлинные выборы — это состязательный
процесс. Как в суде. Казалось бы, зачем судья выслушивает стороны,
свидетелей, экспертов, когда обвинению и так все ясно!? Зачем в суде
происходят прения сторон? В некоторых странах зрелой демократии
(например — в США) законодательно установлена обязательность
предвыборных публичных дебатов, уклоняться от которых
кандидаты не имеют права.
Современная российская «демократия голосования» не
соответствует критерию процессуального равенства сторон. Парламентским
выборам 1999, 2003 и 2007 гг., президентским выборам 2000, 2004 и
564
2008 гг. нехватало именно состязательности. Партия «Единая
Россия» и действующий Президент РФ неизменно уклонялись от
публичных дебатов с конкурентами, лишая избирателей существенных
оснований для осознанного политического выбора. Количество
сторонников партии власти от этого не возросло.
Системные риски
имущественного неравенства
В современной России попечение о народном благосостоянии —
единственно безусловный raison d'être государственной власти.
Но массовые представления о «благе для всех» по-прежнему
противоречивы и туманны. Густой туман предвыборных обещаний
«волонтеров социальной справедливости» традиционно
концентрируется в жидкую кашу уравнительного распределения. Она
перманентно варится на неугасимом первобытно-общинном костре
возвратного обмена.
Коллективное потребление продуктов архаичного
индивидуализированного производства, древней охоты либо неолитического
собирательства не требовало справедливо распределяющей силы.
Делиться с сородичами без внешнего принуждения заставлял
безусловный микросоциальный рефлекс.
Материально-организационная возможность отдать слабым
значительную часть полученного от сильных — фундамент
государственного патернализма. Последний осуществим только в условиях
монопольной госсобственности на основные средства народного
жизнеобеспечения. И наоборот: их приватизация обусловливает цивили-
зационную трансформацию возвратной формы обмена. Он
становится эквивалентным. На нем держатся рынок, демократия и свобода.
Но — не справедливость.
Еще раз подчеркнем: историческая неукорененность частной
собственности в России привела к тому, что справедливость по-российски
имеет четко выраженный распределительный характер. На сферу
производства она не распространяется. Общественное одобрение и в
советские времена вызывали наиболее активные участники
продуктивной деятельности. Но одобрение длилось до тех пор, пока
чемпион выработки не становился чемпионом заработка. В глазах нижео-
плачиваемых коллег он превращался в рвача. Социалистическая
идеология уравнительного распределения связана своими историче-
565
скими корнями с уравнительностью подворной и подушной
разверстки податных и тягловых повинностей крестьянских и посадских
общин средневековой Руси.
Индивидуальный успех члена податно-передельческой
крестьянской или посадской общины означал утяжеление тягла остальных.
Ответственность по государственным повинностям, разверстанным
подушно либо подворно, столетиями оставалась коллективной.
Выделившиеся на хутор, убежавшие в казаки, «обелившиеся»
(получившие налоговый иммунитет), применившие технологическое
новшество не вызывали общественных симпатий.
Западноевропейское правовое понятие индивидуальной свободы
пришло в российский общегражданский оборот довольно поздно: на
рубеже XIX и XX вв. Еще в середине XIX в. гражданскую «свободу»
заслоняла земская «воля» в качестве элемента правосознания.
Характерно, что даже великий государственно-правовой акт,
изданный 19 февраля 1861 г. (Манифест об освобождении крестьянства)
отразился в массовом крестьянском правосознании неадекватным
словом «воля». Вспомним, кстати, что появившийся столетием
раньше (в 1762 г.) симметричный государственно-правовой акт
(императорский Указ о вольности дворянства) даже терминологически не
воспользовался словом «свобода». Хотя юридический смысл обоих
правоустанавливающих актов состоял именно в освобождении
дворянского и крестьянского сословий от государственной «крепи»:
обязательной службы и принудительного тягла.
Древнерусский юридический термин «свобода» почти на пятьсот
лет старше одноименного социологического понятия XIX в. И
обозначал он не сословный либо индивидуальный гражданско-правовой
и политический статус, а коллективный тягловый и служебный
иммунитет особых поселений — «слобод». Индивидуальной «воли» у
слобожан было намного меньше, чем у закрепощенных обитателей
государева посада. По уровню личной несвободы не несущий тягла и
не служащий слобожанин стоял ближе к «полному холопу» (рабу),
чем посадский «тяглец». Дело в том, что слободы являлись
собственностью частных лиц. Личной несвободой расплачивались
«слободские» за отсутствие у них государственных и земских обязанностей.
Тем не менее, внегосударственному и внеземскому положению
частнозависимых «слободских» завидовали более всех именно
«посадские», упорно добивавшиеся от верховной власти ликвидации
феодальных слобод. Потенциальные российские буржуа
воспринимали их в качестве привилегированных экономических конкурентов,
несправедливо «избывших государево тягло».
566
Общество не гражданское, то есть — не огражденное частным
правом и частной собственностью, следовательно — экономически не
самодостаточное, не обеспечивает даже распределительной
справедливости. Традиционно — это прерогатива патерналистского
государства. Оно поддерживает в речевом обороте нерыночные «жалованье»
и «получка». В советский период российской истории редко
употреблялось обиходное ныне понятие «индивидуальный доход
физических лиц». В постсоветском налогообложении доходов физических
лиц (НДФЛ) стирается грань между служебным, трудовым и
экономическим источниками индивидуальных доходов. Социальные
коннотации обыденных употреблений слов «работа», «труд» и «служба»
давно слились.
Между тем, в глубоком историческом прошлом России слова
«работа» и «труд» даже этимологически не совпадали. Первое
происходило от «рабити» — выполнять производственные, даннические и
семейно-общинные обязанности. Второе выводилось из «трудити» —
воевать, корпоративно-государственно служить. С развитием
сословного государства, работа стала уделом тяглового сословия. Труд —
служилого. Но в обоих случаях государство, использовавшее
принудительную работу и подневольную службу, не связывало себя
обязательствами адекватной оплаты. «Жаловать своих холопей мы
вольны...» — так выглядело универсальное «политэкономическое
резюме» теории трудовой, работной и служебной стоимости в
исполнении самодержавно-сословного Российского государства.
Потребительское неравенство возникает не только на основе
частной собственности. Его создают: государственный контроль за мерой
труда и мерой потребления, квотирование ресурсов, ранжирование
категорий потребителей, тарификация оплаты труда и т. п. Плоская
шкала современного российского НДФЛ уравнивает единицы
исчисления доходов физических лиц, не принимая во внимание их общие
размеры и потребительские эквиваленты.
Экономическое неравенство в принципе не устранимо
политическими или фискальными средствами. Оно неизбежно
порождается разделением и индивидуализацией труда. А это —
магистральный путь человеческого прогресса и соответствующей ему
налоговой прогрессии. В постиндустриальных (информационных)
обществах продуктивная неодинаковость и личностная
несопоставимость работников-творцов обеспечивают возрастание удельной
эффективности производства материальных и духовных благ.
Неравное потребление здесь обусловлено технологически. Кому
много дается, с того много и спрашивается. Энергетическое напря-
567
жение в цепи постиндустриального развития создается разностью
личностных потенциалов. Эта разность — одно из проявлений ме-
тароли индивидуума.
Данная метароль выглядит самодостаточной в процессе
философской рефлексии на абстрагирующем удалении от общественой
конкретики. Однако конкретное социальное бытие индивида
определяется ролевой включенностью в метасистему обезличенных
общественных связей и государственно-правовых отношений. Лишь право
реализует метароль индивидуума. Право наделяет неодинаковых
людей метаролями одинакового масштаба. Юридическое и
политическое равенство граждан — еще не справедливость, но ее мощная
предпосылка.
Почему же россияне, массово жаждущие имущественного
равенства и социальной справедливости, воспринимающие их в качестве
абсолютных ценностей, столь же массово демонстрируют
неуважение к всеобщности права? Жить «по правде», судиться «по совести»,
а не по закону, необоснованно надеяться на личную удачу, на
персональную счастливую случайность, а не на общественную
закономерность — так преломляется в российском правосознании греко-
римский правовой универсализм. Уже рассматривались этнические
и хозяйственные корни юридического партикуляризма варварских
западноевропейских государств Раннего Средневековья. Похожие
корни персональности права прижились и в российской почве.
Демократические революции Нового времени, сокрушив
феодальные привилегии и сословные барьеры, оставили вне
корпоративного прикрытия естественные права человека. Последние оказались
обусловленными не фактом человеческого рождения, а их
совместимостью с народным суверенитетом. Демократия породила
драматический конфликт общего и частного, унесший миллионы конкретных
жизней во имя счастья абстрактного народа.
Механически организованные «общества равных» возникали в
истории неоднократно. Ни одно из них не смогло обеспечить
основные права своих членов. Потому что общество изначально строится
на приоритете общего перед частным. Уравновешивание частных и
общих интересов под силу лишь зрелому государству,
вышколенному и ограниченному универсальностью права. Западная Европа шла
к этому равновесию пятьсот лет. Россия в начале 1990-х гг.
вознамерилась проскочить эволюционный путь за «пятьсот дней». И —
исторически закономерно — влетела в кризис либеральной демократии,
основанной на жестком межиндивидуальном состязании при
ослабленном государственном арбитраже.
568
После краха коммунистической идеологии, имитировавшей
единство государственных, общественных и личных интересов,
обозначилась новая фаза их противоречий. Реформаторское руководство
страны исторически преждевременно попыталось реализовать
концепцию «государства — ночного сторожа» (по Лассалю и доктору
Людвигу Эрхарду). Результатом стали грабежи средь бела дня.
Тотальный надзор над сильными сменился массовой
беспризорностью слабых. Государственный патернализм — социальной
«безотцовщиной». «Большой Брат» — криминальной «братвой».
Подобно своим революционным тезкам, «братки» в лихие 1990-е
предъявляли оружие как мандат. Но в отличие от исторического
предшественника, незабвенного матроса-анархиста П. Железнякова,
«караулить не уставали». В кожаные куртки большевистских
комиссаров одевались рэкетиры, настойчиво предлагавшие «делиться»: как
будто из старых костюмерных ретроспектаклей извлекался
экспроприаторский реквизит, униформа активистов частных реквизиций.
Метла и песья голова, некогда притороченные к седлу опричника,
прятались в багажниках «шестисотых» мерседесов. По
историческому провидению Максимилиана Волошина, в России 1990-х гулял
«тот же ураган на всех путях» (М. Волошин. Россия).
В конце XVIII в. «революция в умах» (Вольтер, Руссо, Даламбер,
Кондорсе, Дидро) противопоставила индивидуальные ценности
государственно-общественным. Равенство в правах пришло на смену
сословно-корпоративным привилегиям и государственной иерархии.
Свобода мысли — религиозному догматизму. Экономическая
конкуренция — цеховой регламентации. Поиск личной выгоды — идее
феодальной службы.
75 лет назад профессор медицины Преображенский (в булгаков-
ской повести «Собачье сердце») описывал нравственную и бытовую
симптоматику российского потрясения основ словами «разруха в
головах». Нечто подобное неоднократно происходило в Западной
Европе в эпохи Возрождения, Реформации и Просвещения. Как и в
социально-биологической эволюции, к генетическим мутациям более
всего предрасположен общественный организм с расшатанной
наследственностью. Идеи гуманизма, секуляризации религиозного
сознания и скептического рационализма, овладевая массовым
поведением, сопровождались разгулом эгоистических своеволий, эрозией
традиционной общественной морали.
Хаотизация социальных связей, позитивная энтропия,
угрожающая дезинтеграцией охранительных системных структур,
представляется неизбежной платой за поисковую индивидуально-групповую
569
активность. Критическими автоколебаниями расплачивается
самоорганизующаяся метасистема за резкое снижение уровня
параметрического саморегулирования и нарушение гомеостазиса.
Согласно исторически подтвержденной теории Герберта
Маркузе, общество, основанное на неограниченном рыночном
состязании, обречено на разрушительную фрустрацию. Великий
президент США Ф. Д. Рузвельт определял капитализм как
чрезвычайно устойчивую систему, разрушить которую может лишь
неограниченная свобода действий самих капиталистов. Адекватность этой
оценки подтвердили как Великая депрессия 1929-1933 гг., так и
глобальный финансово-экономический кризис 2008-2009 гг. За
последние 500 лет (начиная с эпохи Нового времени)
капиталистический мир пережил сорок кризисов, больших и малых. Казалось,
ничто не предвещало «революции маргиналов» 1960-х гг. в
экономически процветающих странах. Подъем общего уровня жизни
ослабил социальное напряжение и перевел классовую борьбу в
ненасильственные формы. Всеобщей стала приверженность к
демократии, плюрализму и политической свободе. Тем не менее,
разразились студенческие бунты в кампусах Беркли, Сорбонны,
германских университетов, протестные выступления хиппи, гошистов,
феминистских организаций. Они поколебали устойчивость
западноевропейской и североамериканской технодемократий. Роль
«человека потребляющего», пока еще массово привлекательная в
современной России, уже полвека тому назад не устраивала западных
аутсайдеров безличного, рыночно ориентированного прогресса,
безразличного к социогуманитарным ценностям.
Имущественное неравенство не разрушает общественную
стабильность до тех пор, пока способствует общему подъему
производительных сил и среднего уровня массового благосостояния. Кризис
ускоренной модернизации обычно наступает в короткой фазе
внезапного надлома линии экономического подъема. Так было в России в
конце XIX — начале XX в., в Италии в начале 1920-х гг., в Германии —
в конце 1920-х гг. Тогда катастрофически столкнулись интересы
разоряющегося среднего класса и экономической олигархии,
эгоистически уклонявшейся от пропорционального соучастия в решении
общенациональных проблем. Государственные институты не смогли
обеспечить поддержание баланса не совпадающих, но классово
агрегированных интересов. Силовым разрешением внутрисистемного
конфликта занялись внесистемные радикальные элементы.
Маргиналы выполнили роль лишь детонатора социального взрыва,
освободившего от репрессивных запретов фундаментальные инстинкты
570
массовой агрессии. Тоталитарные политические режимы
установились в Италии и Германии безоружными, «голосующими» руками
благонамеренных и законопослушных граждан, испуганных
экстремизмом революционных маргиналов.
Современные российские чемпионы приватизации
ориентированы реформаторски. Они выросли на почве феодального
«огораживания» и буржуазной капитализации государственной
собственности. Новые крупные собственники привержены ценностям
экономического либерализма. Однако критическое нарастание
экономически не оправданной имущественной дифференциации
граждан все отчетливее выявляет антидемократический,
антилиберальный, то есть — авторитарный вектор массовых предпочтений.
В этом состоит колоссальный риск переходного периода,
переживаемого Россией. Социальная база необходимых стране
консервативно-либеральных реформ неуклонно сокращается. Чаша
исторических весов колеблется.
Демократия голосования
В России растет количество экономически активных мелких
собственников. За годы радикальных реформ численность официально
зарегистрированных хозяйствующих субъектов увеличилась в 30 раз.
К 2009 г. она превысила 4 млн. Свыше миллиона из них — малые
предприятия, где занято около 9 млн человек. Без регистрации
юридического лица работают еще 3,5 млн индивидуальных
предпринимателей. Удельный вес секторов малого бизнеса в создании валового
внутреннего продукта относительно невелик, но уже значим — 17 %.
Частным собственникам принадлежат 170 млн га сельхозземель
(85 % общего объема). Большинство земельных собственников
относится к разряду мелких: в стране 12 млн приусадебных и почти
столько же дачных и садово-огородных участков. Количественно
преобладают мелкоконтурные хозяйства. Продукция нетоварного и
мелкотоварного сельхозпроизводства обеспечивает продовольственные
потребности четверти населения страны.
Показательна отраслевая структура малых предприятий. В начале
XXI в. более половины МП заняты в торговле и сфере бытовых услуг.
Каждое четвертое МП — это посредничество и консалтинг,
организация досуга и туризма, здравоохранение, высокие технологии,
культура и образование. Производством товаров народного потребления
571
занимаются около 20 %, строительством и транспортными
услугами — остальные МП. Малые предприятия вносят наибольший вклад
в рыночно востребованный, но неразвитый сектор российской
экономики — услуговый.
Значимая часть рыночно ориентированных российских
интеллигентов вовлекается в экономические секторы, где информация
становится основной и непосредственной производительной силой. В
информационном пространстве сливаются функции исполнителя,
менеджера и собственника. Однако в современной России рыночный
оборот интеллектуальных продуктов и нематериальных активов,
формирующий внеиндустриальную и внеторговую часть нового
среднего класса, непропорционально мал — 0,3 % общего объема.
Цивилизационная особенность данного сегмента «миддла» —
объединение трудовой и экономической деятельности посредством
капитализации интеллектуальных, личностно продуцированных
ресурсов. Капитализация ресурсов этого типа не отрегулирована
российским законодательством.
В постиндустриальных экономиках основными хозяйствующими
субъектами, оперативно реагирующими на непосредственные
человеческие потребности и создающими конечный продукт семейного
потребления, становятся индивидуумы, малые и средние
предприятия. А крупные корпорации — герои уходящей индустриальной
эпохи — сосредоточиваются в отраслях первичной переработки
сырья, в добывающей промышленности, в энергетическом секторе, в
базовых отраслях. Этот вектор цивилизационного развития
отчетливо обозначился и в России.
Итак, на авансцену российской истории выдвинулся мелкий
собственник, сочетающий трудовую и хозяйственную активность.
Было бы логичным предположение о его новом политическом весе,
соответствующем резко возросшему экономическому значению.
Политическое пространство современной России практически
полностью контролирует чиновничество. Поэтому прагматичная
мелкая буржуазия даже не пытается с ним конкурировать.
Социологически установлено: выборная активность и, как
следствие, демократическая представленность хозяйствующих
индивидуумов непропорционально малы. Они лишь незначительно
превышают соответствующие показатели студенческой молодежи,
существенно уступая пенсионерам. «Электорально невесомы» рыночно
адаптированные россияне, начавшие хозяйственную деятельность в
посткоммунистическое время, во второй половине 1990-х гг. Две
трети из них сегодня находятся в политически активном возрасте:
572
от 35 до 45 лет. Четыре пятых общего количества руководителей
субъектов малого предпринимательства имеют высшее
образование. Так что формула их «гражданского неучастия» — результат
вполне осознанного выбора.
Новый средний класс не артикулирует свои политические
предпочтения. Он не имеет партийного представительства. Не отрефлек-
сирована ценностная основа его социальной идентификации.
Поэтому по-разному выглядят экономические и общественно-статусные
самооценки «миддла». До 20 % взрослых россиян по объективным
социометрическим показателям принадлежат к среднему классу, но
субъективно осознают это лишь 5-6 %. В правительственной
Стратегии социально-экономического развития России на период
2005-2020 гг. предусмотрено увеличение численности среднего
класса до 50 % самодеятельного населения страны.
Постваучерный период структурных экономических реформ
совпал с обвальным сокращением социальной базы российской
демократии. Совпадение не случайно. Олигархо-чиновничий капитализм,
быстро сформировавшийся в 1990-е гг., перестал нуждаться в
массовой поддержке. Опасность коммунистической реставрации потеряла
остроту. Аппаратно армированная страта нового политического
класса осознала свою социотехническую самодостаточность. Она не
обнаруживает озабоченности стратегическим строительством внеаппа-
ратной опоры.
Девять десятых мелких и средних предпринимателей и четыре
пятых наемных работников в России находятся вне любых
общественных и профессиональных организаций. Слабость гражданских
ассоциаций побуждает экономически активных граждан вступать в
патрон-клиентные отношения с чиновничеством. То есть — просить о
благосклонности во мраке вместо того, чтобы требовать
справедливости при свете дня.
В преобладании патрон-клиентных отношений между малым
бизнесом и бюрократией уверено подавляющее большинство
респондентов социологических опросов 2002-2008 гг. Показательно,
что эти же группы опрашиваемых считают банки и крупный
капитал стратегически дистанцированными от малого бизнеса и проблем
его выживания.
Положение клиента (в переводе с латыни, «зависимого»)
деформирует не только правовой статус гражданина. Оно расщепляет и
основную публичную роль человека, формально обеспеченную
государственной санкцией. Эта базовая метароль — «индивидуум» —
возникла сравнительно недавно, в XVII-XIX вв., в период становления
573
европейских национальных государств. Постепенно конституируясь
в качестве правовых, европейские национальные государства
невольно формировали рядом с собой оппонирующие институты
гражданского общества. Сами нации возникали как политические
совокупности граждан, преодолевая этнические границы. А институты
гражданского общества в повседневной практике самоуправления
принимали на себя все больший объем государственных функций,
превращаясь во внегосударственный противовес чиновничеству.
Общество при этом становилось все более структурированным и
цивилизованным. Существует позитивная корреляционная связь между
уровнем цивилизованности общества и количеством общественных
ассоциаций, в том числе — экономических организаций граждан.
Когда российское государство в 1990-х гг. поспешно ушло из
сферы непосредственного хозяйствования, основные функции
жизнеобеспечения легли на плечи самих граждан. Организационно-
правовым отражением этого процесса явились индивидуализация
собственности на средства производства и политическая демократия.
В классическом варианте, институты политической демократии
возникают в качестве форм государственной самоорганизации
критической массы мелких и средних собственников, вовлеченных в
регулярный товарообмен. Но Россия реализовала неклассический вариант
политической демократии. Системопорождающим фактором
установившегося в 1990-е гг. российского политического режима оказались
бюрократические круги, сохранившие свои конкурентные
преимущества наиболее эффективной социотехнической подсистемы.
Чиновники профессионально владеют технологией управления. И на
ее основе легко овладевают технологией властвования.
Инструментальное оснащение этих близких видов надличностной
коммуникации однотипно.
В конце 1980 — начале 1990-х гг. российские демократы «первой
волны» инициировали департизацию органов исполнительной
государственной власти и управления. Тогда стояла задача борьбы с
коммунистической партийно-государственной номенклатурой. КПСС
быстро теряла свою социальную базу. Поэтому вненоменклатурная
российская бюрократия охотно поддержала демократические
лозунги департизации госаппарата: руками демократов «первой волны»
создавалось множество должностных вакансий. Свою партийную
идентификацию российская бюрократия определила позднее, когда
закрепилось доминирование новой партии власти. Сегодня
большинство крупных государственных служащих — члены партии «Единая
Россия». Демократический лозунг департизации органов исполни-
574
тельной государственной власти и управления снят с повестки лня
российской политической жизни.
Демократия собственников на первых стадиях своего
существования (греческие полисы VI-IV вв. до н. э., средневековые города-
государства Северной Италии, Северо-Западной Руси) в постоянном
госаппарате не нуждалась: государственные функции принимали на
себя экономически активные граждане. Демократические
магистраты изначально занимали служебное положение. Однако внутренняя
логика существования любого государства побуждала его подчинять
внеаппаратные слои — аппаратным целям. Аппарат овладевал
постоянными средствами социального доминирования. В
демократическом варианте, это удалось потому, что правоспособные граждане
исполняют свои государственные функции факультативно, на
непостоянной и непрофессиональной основе, от случая — к случаю, от
выборов — к выборам.
Характерно, что наибольшие материальные и духовные
достижения цивилизаций хронологически далеко не всегда совпадали со
стадиями аппаратного укрепления и централизации государств. Многие
технологические прорывы в Китае приходились на эпохи
государственной децентрализации. В Европе — на период средневековой
политической фрагментации. В России — на века удельной
раздробленности. Ослабление вооруженного давления со стороны служебного
сословия в XII-XIV вв. способствовало социально-экономическому
расцвету и технологическому прогрессу Великого Новгорода и
Пскова. Многолетняя хозяйственная депрессия второй половины
XVI в. была следствием хищного «кормления служилых людей»
московского милитаризированного государства за счет продуктивных
крестьянских и торгово-ремесленных слоев. Возрастание объема
тягловых и служебных повинностей существенно уменьшило в этот
период экономическую активность населения.
Российское общество на рубеже XX и XXI вв. вступило в
постиндустриальную, информационную фазу своего развития. Этой фазе
адекватны инновационный тип модернизации и политическая
демократия, ^гражданское состояние общества и правовые
самоограничения государства.
На рубеже XX и XXI вв., в условиях восстановления властной
вертикали в Российской Федерации, осуществляется централизация
главных политических решений. Но в обществе продолжается
децентрализация решений экономических. Рынок наиболее эффективно
соединяет рассредоточенные ресурсы и рассеянную информацию.
Данному механизму продуктивности соответствует дисперсная мо-
575
дель рекрутирования экономической и политической элит.
Демократическое рассредоточение власти — базовое условие
формирования правового государства и гражданского общества.
Российскому государству более тысячи лет. Современному
социально-экономическому укладу — менее восемнадцати.
Столько же — новому политическому строю. Он еще не расстался с
возрастными комплексами. А между тем, «юноша» приближается к
своему 90-летию, сохраняя «родимые пятна социализма».
Процедуры всеобщего голосования существовали и в СССР. Мы
постоянно кого-то куда-то выбирали. Явка к избирательным урнам
строго контролировалась. Формальная активность реально
пассивных граждан была высочайшей. После распада СССР активность
граждан РФ стала менее формальной, но и менее массовой.
Государственно не весомая гражданская самодеятельность и ее
зачаточные структуры формируются в условиях стесненной государство-
устроительной практики граждан. Ограниченная функция рождает
слабый орган.
Политический режим РФ появился на свет как хилое дитя
реформаторски настроенной части старого чиновничества и одряхлевшей
советской власти. Поэтому жизнедеятельность новорожденной
социальной подсистемы поддерживалась на первых порах
преимущественно аппаратными средствами. «Функция дыхания»
обеспечивалась всеобщими выборами, организованными исполнительной
властью. «Функция обмена веществ» — самопополнением органов
исполнительной власти. Аппаратно, кланово и корпоративно
создавались общественные ассоциации, партии и другие институты
гражданского общества. Сегодня они не выражают интересы
инновационных групп населения и поэтому не в состоянии конструктивно
оппонировать рентно ориентированному чиновничеству.
За годы реформ в стране утвердилась смешанная (евразийско-
атлантическая) модель электоральной демократии. В государственно-
общественном укладе напряженно сосуществуют европейские
политические институты полувековой давности и традиционные
(бюрократические) российские процедуры. Этот уклад явно не
способствует воспитанию гражданской самодеятельности большинства
правоспособного населения.
Формирование открытого политического класса — исторически
апробированный способ конструктивного противостояния
бюрократии. Эффективность этого способа определяется степенью земской
укорененности политических элит. В Европейском Союзе
политические элиты являются современным аналогом так называемой «есте-
576
ственной аристократии» XIX-XX вв., обеспечивавшей местную
автономию. Процедуры рекрутирования европейского политического
класса выросли на почве местного самоуправления.
Государственно не задействованные «волонтеры демократии» в
- состав российского политического класса не входят и поэтому не
могут обеспечить местную автономию и самоуправление.
Отечественный политический класс неизменно обретается в
окрестностях институтов государственной власти. Но в отличие от
чиновников, он не обладает качеством корпоративной солидарности. Его
воздействие на процесс принятия основных государственных решений
легко блокируется аппаратным включением механизма управляемой
«демократии голосования».
Как утверждал политолог XIX в. Алексис Токвиль, судебный
контроль — наиболее эффективное средство борьбы либеральной
демократии с популистской, основанной на формально не
ограниченном принципе электорального большинства, манипулируемого
магистратами. Каким образом невыборные судьи могут участвовать в
политическом процессе, корректируя действия выборных лиц?
Только — посредством принудительной силы закона, действующего
параметрически. Подобной диктатуры Россия еще не знала.
Вне государства нет нации. Их системная связь легко
просматривается. Не столь очевидна взаимообусловленность метаролей
государства и индивидуумов. Еще менее очевидно их юридическое
равенство. Когда (в соответствии со ст. 53 Конституции РФ)
гражданин обращается в суд с иском к государству, то орган
государственной власти в качестве ответчика процессуально равен истцу.
Процессуальное равенство граждан и органов государственной
власти является частным производным от более общего (цивилизацион-
ного) равенства метаролей индивидуума и нации-государства.
В романе-антиутопии Евгения Замятина «Мы» гротескно
сопоставляются принципиально не сопоставимые «весовые
характеристики» отдельного подданного (стандартного «нумера»), лишенного
метароли индивидуума, и всемогущего Государства, возглавляемого
Верховным Благодетелем. Глава Государства прибегает к
математически простому обоснованию государственной тоталитарности.
«Нумер» — это грамм. Государство — это тонна. Арифметически
безграмотно утверждать, что грамм может уравновесить тонну. Отсюда
распределение: грамму обязанности, тонне — права. У «нумера» есть
одно неотъемлемое право: понести государственное наказание,
адекватное вине. У «нумера» остается единственный путь от собственной
государственной невесомости к иллюзорному сопричастию государ-
577
ственному весу: забыть, что он грамм, и почувствовать себя
миллионной долей тонны.
Великие социальные революции создают государственные
механизмы, не признающие исторически сложившейся базовой метаро-
ли индивидуума. Своим романом-антиутопией «Мы» Е. Замятин
художественно полемизировал с В. Маяковским, который
«безусловно был и остается талантливейшим поэтом нашей эпохи»
(резолюция И. Сталина, адресованная членам Политбюро и главе НКВД
Г. Ягоде). Поэтизируя большевистскую тоталитарность, Маяковский
(«приравнявший» к стальному штыку свое золотое перо)
обрушивается на ненавистный для диктатуры пролетариата буржуазный
индивидуализм: «Единица — вздор, единица — ноль. Один, даже
очень важный, не поднимет простое пятивершковое бревно.
Тем более — дом пятиэтажный. Но если в партию сгрудились
малые — сдайся, враг, замри и ляг. Партия — это рука миллионнопа-
лая, сжатая в единый громящий кулак».
Под воздействием разнонаправленных векторов исторического
развития, в современной России возник внутренне противоречивый
государственно-общественный уклад. Его первая составляющая —
организационное и функциональное доминирование государства над
обществом. Вторая — не укорененный в массовом сознании, но
конституционно санкционированный приоритет основных прав
человека и ценностей гражданского общества. Однако структурирование
гражданского общества сдерживается бюрократизацией
государственной власти и управления всех уровней. Низовой экономической
«автономии продуктивного участия» мелких собственников
организационно и ценностно не соответствует управляемая «демократия
голосования».
Современные российские институты власти конституируются
по формальным демократическим процедурам, но реально
функционируют сугубо бюрократически. Этот способ осуществления
государственных функций был адекватен индустриальной фазе
развития общества. Современное отчуждение большинства граждан от
реальной власти и массовое недоверие к ее конкретным
носителям — синдром постиндустриального кризиса формальной
демократии.
Зададимся, однако, вопросом: может ли демократически
сформированная государственная власть в своей повседневной
исполнительной, законодательной, контрольной, распорядительной и
правоприменительной практике действовать иным, не
бюрократическим образом? Ответ существует в виде дилеммы. Опора
578
исключительно на собственный аппарат делает государство
неэффективным, а передача госфункций на внеинституциональный
уровень непосредственной демократии приводит к саморазрушению
государства и варваризации общества. Последнее является
следствием закритического возрастания меры хаотизированного
упрощения рабочих подсистем. Кризис управления, неизбежно
возникающий в этом случае, не преодолевается процедурной
демократией голосования. Он разрешается лишь демократией гражданского
соучастия большинства в реализации задач оперативного
государственного управления, постепенно изымаемых из ведения кастовой
бюрократии. При этом возникает сопутствующая проблема
взаимного соответствия общественных структур и государственных
функций.
На стадии перехода к постиндустриальному состоянию общества
приемлемой социотехнической альтернативой кастовой бюрократии
является конструктивное соединение общественных (выборных)
структур, экспертного сообщества, квалифицированных штатных
исполнителей и профильных комитетов представительных органов
власти. Именно так работают сегодня институты зрелой европейской
технодемократии.
Сила справедливости
Справедливость всегда была предметом
спора. А сила бесспорна: ее легко опознать.
Вот почему люди не смогли сделать
справедливость сильной. Вместо этого они
сделали силу справедливой.
Б. Паскаль. Мысли
Российской Федерации, в ее современном конституционном
виде, в 2009 г. исполнилось шестнадцать лет. А российская
государственность отметила свое тысячелетие в 1862 г. Исторические
возрасты несопоставимы. Но это — в случае формального исчисления
их, метафорически выражаясь, по Записям актов государственных
состояний. Первое (семейно-дружинное) — зафиксировано строкой
Начальной летописи. Второе (демократическое) — датой
всенародного референдума 12 декабря 1993 г. Но что именно удостоверено
последней, судьбоносной и правоустанавливающей, «метрикой
ЗАГС»? Учреждение нового государства? Или — конституционное
579
преобразование государственного строя, формы правления и
политического режима в рамках исторической преемственности?
Несомненно второе, если оставаться в международно-правовом
пространстве. Однако часть российской этнократии, набравшей
экономический вес и политическую силу к 1990-ым гг., это
пространство стремилась покинуть.
В мае 1993 г. в Кремле началась пятимесячная работа
Конституционного совещания, созванного главой государства для
подготовки проекта новой Конституции России. Несколько сотен
делегатов вошли в состав этого законосовещательного конвента. Они
представляли органы высшей государственной власти и
управления, Конституционный, Верховный и Высший арбитражный суды,
Генеральную прокуратуру, Российскую академию наук,
политические партии, общественные и религиозные организации,
профсоюзы и ассоциации товаропроизводителей. Это романы «нельзя писать
всей деревней» (Ф. М. Достоевский. Дневник писателя).
Общественные договоры пишутся представительно и коллективно:
пленарные и секционные заседания, политически острые и
академически основательные дискуссии, сравнительный анализ
американской, французской и германской конституций, доклады
экспертов, многомесячная итоговая работа редакционной комиссии (автор
настоящей книги принимал в ней непосредственное участие). Так
рождался проект Конституции Российской Федерации. Между
Большой (Уложенной) комиссией, созванной Екатериной II, и
Конституционным совещанием, созванным Президентом России,
пролегла историческая дистанция в 227 лет и в несколько сотен
метров между местами эпохальных собраний: Грановитой палатой
Кремля и Мраморным залом Государственного Кремлевского
дворца.
12 декабря 1993 г. выработанный Конституционным
совещанием, подписанный всеми его участниками, официально
опубликованный, широко растиражированный и откомментированный в
СМИ правовой документ был одобрен всенародным референдумом.
Общественный договор получил высший юридический статус
Основного закона Российской Федерации.
Десятки миллионов правоспособных граждан легкими касаниями
опросных бюллетеней за один день структурно преобразовали
массивное историческое здание, создав правовой каркас новой
российской государственности. Пятисотлетняя история конституционных
идей и учреждений в России триумфально завершилась. Основной
закон выстроил в гуманистически приоритетном порядке личные,
580
общественные и государственные интересы. Обществу предъявлен
итоговый результат исторически многовекового социально-
политического процесса.
Впервые в истории России Конституция работает в качестве
закона прямого, непосредственного действия. Это значит, что она
держит всех граждан в поле своего постоянного притяжения. Ибо ее
«силовые линии» выстраивают все текущее законодательство. А
последнее организует низовую социальность, порождая мелкую конкретику
правоприменения.
Накануне референдума общественные страсти кипели не вокруг
опубликованного проекта Основного закона. Страна тяжело
осваивалась с первыми экономическими результатами «шоковой
терапии». Миллионы людей ушли в частную жизнь рыночного
выживания. В феврале 1990 г. сотни тысяч граждан инициировали
конституционный процесс. Они выходили на уличные демонстрации с
требованием отмены шестой статьи Конституции СССР,
узаконивавшей однопартийную систему. В весенне-летние месяцы 1993 г.
не наблюдалось массового интереса к работе Конституционного
совещания. Российские граждане безмятежно ожидали
конституционных новаций от собравшихся в Кремле «чинов всей Земли».
Для молодых политических партий проблемы конституционного
строительства оказались заслоненными подготовкой к первым
выборам в Государственную думу. Скрижали Основного закона
спустились к народу с государственной высоты кремлевского холма.
Осуществим простой умозрительный эксперимент. Мысленно
очертим круг своего непосредственного общения. И внутри него
попытаемся спрогнозировать результат самодеятельного
«интерактивного опроса»: какую роль в повседневной жизни граждан играла
и играет Конституция РФ? Каковы ее базовые принципы? Чем
они кардинально отличаются от оснований предшествующих
Конституций СССР и РСФСР? Большинство опрошенных, скорее
всего, затруднится с ответом. Но если процесс массово не пережит,
его результат окажется общественно не осознанным и не
оцененным. Он останется чисто государственным мероприятием, делом
истеблишмента, похожим на интеллектуальные «конституционные
затейки верховников» 1730 г. в восприятии провинциального
дворянства. Между тем проект Основного закона рождался долго и
трудно.
Правоустанавливающий механизм, созданный Конституцией РФ,
к настоящему времени успел набрать инерционную скорость и оброс
государственными институтами. Закрепленный институционально,
581
процесс строительства конституционной правовой системы обрел
качество исторической необратимости. В ретроспективной оценке,
конституционный процесс, завершившийся общенародным
референдумом 12 декабря 1993 г., выглядел гладким, исторически неизбежным
и линейно детерминированным. На самом деле, этот процесс был
бифуркационным, вероятностным и нелинейным. В декабре 1993 г.
Россия едва миновала очередной перекресток своей государственной
истории, благополучно пройдя этап системной неустойчивости.
Летом и осенью 1993 г. общеполитическая ситуация в стране была
далека от устойчивости. Драматические события сентября-октября
1993 г. это обнаружили. Политический кризис, кроваво
обострившийся в начале октября, назревал постепенно. Попыткой
превентивного и мирного разрешения назревающего политического кризиса
являлось Конституционное совещание.
Не в тиши академических кабинетов рождался проект Основного
закона России. Делегаты ряда национальных республик в составе РФ
съезжались в мае 1993 г. на Конституционное совещание в Кремле с
конфедералистскими намерениями. Но они были в явном
меньшинстве. Равно как и унитаристы. Решительно преобладали
федералисты. Последние демонстрировали концептуальное единство взглядов
и разнобой индивидуальных мнений. 20-томное издание протоколов
Совещания — документальное тому свидетельство.
«Парад суверенитетов», августовский «путч» 1991 г., распад
СССР, драматическое противостояние ветвей власти в 1993 г.
раскололи российский политический класс. И социально он был далеко не
однороден.
Фундамент российской государственности сильнее всего
размывался сепаратистскими амбициями региональных элит.
Общественное осознание реальной опасности распада России сформировалось
не ранее весны 1993 г. Некоторые регионы, не удовлетворяясь
положением автономий в составе РФ, успели провозгласить себя
суверенными государствами, субъектами международного права. Татарстан
до 1994 г. не подписывал (на платком основании своей
самопровозглашенной, но не признанной ни одним государством,
«международной правосубъектности») Федеративный договор, заключенный в
1992 г. остальными субъектами Российской Федерации. Чеченская
Республика, назвавшая себя государственно суверенной Ичкерией,
не присоединялась к Договору около десяти лет.
Часть региональной этнократии стремилась придать
Федеративному договору 1992 г. международно-правовой статус
Учредительного Акта, создающего новое государство. В то время как
582
данный Договор лишь разграничивал государственные правомочия
исторически сложившейся Российской Федерации и ее статусных
субъектов.
Угрожая территориальной целостности страны,
конституционный кризис 1993 г. обострил и другую проблему ее развития. Россия
в тот год делала трудный выбор между двумя
взаимоисключающими вариантами политического режима: нераздельным
государственным империумом Советов, получаемым в результате
делегирования им всего объема народного суверенитета, и
представительной демократией современного европейского типа. Унаследованная
от РСФСР, Конституция РФ эклектически соединяла
несовместимые начала: всевластие Советов и демократический принцип
разделения трех равноправных ветвей государственной власти.
По этой причине создалась не разрешимая в рамках действующей
Конституции РФ правовая коллизия. Она обусловила системный
кризис власти, потрясший все государственное здание в сентябре-
октябре 1993 г.
Несколько сотен поправок, внесенных в 1990-1993 гг. в
Конституцию РСФСР-РФ, не устранили ее взрывоопасную
противоречивость. Основной закон, меняемый «от микрофона», не может
исполнять роль правового фундамента государственного здания.
В 1991-1993 гг. оно опасно накренилось.
Конституционный кризис публично проявился лобовым
столкновением исполнительной и законодательной властей, на фоне
бессилия власти судебной. Классическое для постреволюционной России
двоевластие, сложившееся в конце 1991 г., на исходе 1992 г. себя
исчерпало.
Советы всех уровней, ориентированные социал-демократически и
коммунистически, приняли боевую стойку. Отмобилизовалась
политическая пехота внесистемного большевизма. Буржуазно-
демократическое Правительство РФ переходного периода засучило
рукава для второго, постваучерного этапа приватизации. К этому
времени слой собственников в России значительно вырос. Поэтому
инициированный коммунистами парламентский импичмент
Президенту РФ в марте 1993 г. провалился.
Напряжение системного кризиса власти временно снизилось
апрельским 1993 г. плебисцитом о доверии Президенту и Верховному
Совету РФ, по запомнившейся формуле «да-да-нет-да». Однако
противостояние властей, несколько ослабленное конструктивными
результатами всенародного опроса, продолжилось. Потребность в
общенациональном арбитраже осталась.
583
В данных условиях доминирующий настрой участников
Конституционного совещания не мог быть ни революционным, ни
охранительно-просоветским. Он оказался умеренно
«термидорианским». Это очевидным образом повлияло на содержание проекта
Конституции РФ, выработанного в ходе Совещания. Коренные
интересы интеллигенции, формирующегося среднего класса,
экономически активных слоев населения, городской и сельской буржуазии
предопределили приоритеты и выбор ценностей Основного закона
РФ. А именно: государственные гарантии человеческих прав и
гражданских свобод, социально-политическое равенство граждан,
демократическую форму политического режима, четкое разделение
равноправных и взаимно не зависимых ветвей государственной власти,
республиканский способ правления, федеративность
государственного устройства, эффективную защиту собственности.
Депутаты Верховного Совета РФ не приняли участия в работе
Конституционного совещания. Парламентское руководство
обнаружило свою саботирующую позицию уже на первом пленарном
заседании законосовещательного конвента. После вступительной
речи Президента России Б. Н. Ельцина трибуну атаковал
председатель Верховного Совета Р. И. Хасбулатов. Последний,
демонстративно игнорируя регламент общественно представительного
Конституционного совещания, попытался оспорить право
внепарламентских структур гражданского общества на разработку проекта
Конституции и саму возможность общенационального
(внепарламентского) принятия Основного закона Российской Федерации, в
соответствии с правовой процедурой всенародного референдума.
Делегаты Конституционного совещания не поддержали
антиобщественную позицию советского лидера. Вследствие чего группа
депутатов Верховного Совета РФ, приглашенных к совместной работе
над проектом Основного закона, покинула Мраморный зал
Государственного Кремлевского дворца.
Верховный Совет РФ продемонстрировал явную неадекватность
новым историческим реалиям, пытаясь отстранить институты
гражданского общества от участия в конституционном процессе.
Советский парламент уклонился от обсуждения проекта
Конституции, подписанного всеми участниками Конституционного
совещания. В связи с чем нельзя было надеяться, что Съезд народных
депутатов РФ примет несоветский вариант Основного закона.
Демократически ориентированная исполнительная власть
(Правительство России) и глава государства приняли единственно
возможное в сложившихся условиях решение: внести проект Кон-
584
ституции на всенародный референдум. Однако назначение
всенародных референдумов относилось к компетенции Верховного
Совета РФ. А он препятствовал привлечению высшего органа
непосредственной демократии к государственному переустройству.
Возникла новая правовая коллизия.
Очередная фаза системного кризиса обнаружила в сентябре 1993 г.
принципиальную невозможность выхода из него при сохранении
обоих несовместимых конституционных начал: нераздельного импе-
риума всевластных Советов и принципа демократического
разделения и взаимной независимости трех ветвей государственной власти.
Российский политический класс в большинстве своем осознал
необходимость решительного исторического выбора.
Но для такой системной трансформации требовалось временно
выйти за пределы правового пространства действующей
Конституции РФ. То есть — осуществить опасный для всякого
цивилизованного государства перерыв в праве, неизбежно возникавший
вследствие временного прекращения деятельности
законодательной ветви власти. Главная проблема состояла тогда в недопущении
вакуума исполнительной власти. Именно он вызывал в
историческом прошлом России и мог вызвать в ее настоящем системное
нарушение общественного порядка. И эта проблема была решена.
Взрывоопасный вакуум государственной власти не возник. Перерыв
в праве, ограниченный строгими временными рамками, устранил
системную дисфункцию и открыл возможность укрепления
правового государства.
Политическим эквивалентом решения этого «бинома Ньютона»
(точнее — государственно-правового аналога математической
теоремы неразрешимости Гёделя: «нельзя преодолеть систему, находясь
внутри нее») явился президентский Указ № 1400. Он вывел
институты государственной власти из системно-правового тупика, прекратил
деятельность Съезда народных депутатов и Верховного Совета РФ,
одновременно назначив на 12 декабря 1993 г. Конституционный
референдум и выборы Государственной думы.
'Вопреки опасениям оппозиции, «18-е брюмера» Бориса Ельцина
не привело к созданию режима личной власти. Этому
воспрепятствовал инициированный Президентом России конституционный
процесс. События сентября-октября 1993 г. его не остановили. После
них процесс вступил в завершающую стадию.
S Ответ нации на судьбоносный вопрос власти был получен 12
декабря 1993 г. Он оказался положительным и конструктивным. Тому
Свидетельство — установившееся после конституционного референ-
585
дума долговременное состояние государственной стабильности и
общественного правопорядка.
В 137 статьях Основного закона — сплошные права и свободы
граждан. И только две конституционные обязанности: защищать
Отечество и платить налоги. Зато в Налоговом, Уголовном,
Административном и других кодексах этих обязанностей намного
больше, чем прав. Потому что конституции призваны делать
государственную силу человечески справедливой. А органическое
законодательство делает человеческую справедливость государственно
сильной.
Большая часть федеральных законов демократической России
начала 1990-х достались ей в наследство от советского государства,
построенного на приоритете государственных интересов перед
общественными и личными. Императивно определив 12 декабря 1993 г.
вектор либерально-демократических преобразований органического
законодательства, Конституция РФ одновременно приняла на себя
часть его функций. И сегодня она выполняет роль не только
фундамента правового здания, но и несущих, и ограждающих конструкций.
Отсюда — принцип прямого действия Конституции РФ. Он означает,
что применение конституционной нормы (например — в
судопроизводстве) не должно обусловливаться или подтверждаться, как это
было в СССР, другими нормативными и подзаконными актами.
Только — конкретизироваться соответствующими статьями
федеральных законов на базе приоритетности конституционных норм.
Статья 18 Конституции РФ определяет, что «права и свободы
человека и гражданина являются непосредственно действующими».
Непосредственное действие их обеспечивается правосудием.
Рассмотрим нашумевший судебный прецедент. Столичная журналистка
подает в паспортный стол районного УВД Москвы заявление о
постоянной регистрации ее по месту фактического проживания.
Получает отказ: московские законодательные и исполнительные
власти установили разрешительный, а не уведомительный порядок
постоянной регистрации. Последняя фактически приравнена к
формально отмененной прописке. Налицо — ограничение
конституционного права гражданина на свободный выбор места жительства.
Конституционный суд РФ (КС РФ), наделенный
исключительным правом толкования Основного закона, не может по собственной
инициативе выносить решения о несоответствии Конституции РФ
нормативного или единичного (ненормативного) акта любой ветви
власти. Только — по заявлениям граждан или запросам властных
институтов. Получив соответствующую жалобу на неправомерное огра-
586
ничение гарантированного Конституцией права, КС вынес два
безапелляционные решения, немедленно вступившие в законную силу.
Первое — обязать паспортно-визовую службу ГУВД Москвы
удовлетворить конкретное заявление о постоянной московской
регистрации. Второе — обязать Московскую городскую думу и
Правительство Москвы привести все нормативные акты,
касающиеся регистрации граждан, в соответствие с Конституцией РФ. Оба
решения КС были исполнены.
В этом же ряду — решение КС РФ о вводе в действие принятого в
2001 г. Уголовно-процессуального кодекса РФ. Государственная
дума, приняв во внимание заявленную позицию Генерального
прокурора РФ, определила отсроченную дату ввода в действие нового
УПК: 1 января 2004 г. Но Конституционный суд, в связи с запросом
Президента РФ, усмотрел в полуторагодовой отсрочке ввода в
действие УПК в редакции 2001 г. ущемление прав и свобод человека и
гражданина, гарантированных Конституцией РФ. Она
устанавливает в ч. 2 ст. 22, что «арест, содержание под стражей допускается
только по судебному решению». Конкретизация данной конституционной
нормы появилась в новом УПК, но отсутствовала в старом. Суд
предписал законодателю ввести в действие Уголовно-процессуальный
кодекс РФ, соответствующий Конституции РФ, с 1 июля 2002 г.
Что и было исполнено.
Российские СМИ нередко сообщали в 1990-х гг., что
следственные органы в ходе досудебного расследования собирают
доказательства путем сплошного (неизбирательного) изъятия в офисах
компаний всех документов и электронных носителей личной, служебной и
коммерческой информации. УПК в редакции 2001 г. требует
протокольно и подробно излагать основное содержание сведений,
материализованных электронными носителями, и описывать
идентифицирующие признаки всех страниц изымаемых документов. Что
технически невозможно при изъятии их «Загребом» (рабочая лексика
советских следователей).
Однако невыполнение следствием указанного требования УПК
РФ юридически обесценивает в глазах суда всю
доказательственную ба.зу, находящуюся в изъятых электронных носителях и
документах. Юридическим инструментом защиты прав граждан
является понятие недопустимых доказательств. Их квалификация — дело
суда. У него имеются нижеследующие правовые ориентиры:
конституционный и процессуальный. Конституция в ч. 2 ст. 50
устанавливает: «При осуществлении правосудия не допускается
использование доказательств, полученных с нарушениями федерального за-
587
кона». Соответственно в УПК РФ 2001 г. конкретизируется понятие
недопустимых доказательств. Статья 75 УПК к ним относит:
показания подозреваемого, обвиняемого, данные в ходе досудебного
производства по уголовному делу в отсутствие защитника и не
подтвержденные обвиняемым в суде; показания потерпевшего,
свидетеля, основанные на догадке, предположении, слухе, а также
показания свидетеля, который не может указать источник своей
осведомленности.
В статье 49 Конституции РФ закреплен принцип презумпции
(предположения) невиновности. Он конкретизирован в ст. 14
УПК. Этот правовой принцип, впервые сформулированный
итальянским правоведом Беккариа в XVIII в., упоминаемый еще в «Наказе»
Екатерины II «для руководствования Уложенной комиссии»,
никогда не применялся в дореволюционном российском и
постреволюционном советском законодательствах.
Все революции, известные истории, исходили из
противоположного принципа заведомой виновности граждан: классовой,
партийной, расовой, религиозной, этнической, групповой. В одной из пьес
классика российской литературы Бориса Васильева содержится
нижеследующий диалог следователя НКВД и подследственной.
— Обвиняемая, вы будете отвечать?
— Я не обвиняемая, я пока подследственная.
(Следователь подводит допрашиваемую к окну, выходящему на
Лубянскую площадь, и показывает на уличную толпу.)
— Это они пока подследственные. А вы — уже обвиняемая.
Миллионы советских граждан усваивали на собственном опыте
и повторяли как магическое заклинание, как проверочный тест на
политическую лояльность: «Наши органы не ошибаются». Мало
кто разделял нравственную максиму, сформулированную
Ф. М. Достоевским: «Лучше ошибиться в милосердии, чем в казни».
Правосознанию миллионов советских кинозрителей была гораздо
органичнее максима следователя Жеглова (в исполнении Владимира
Высоцкого): «Наказания без вины не бывает. Груздев будет сидеть!
Я сказал».
В своих мемуарах Борис Васильев пишет: «Западная Европа
получила в наследство от Католической церкви Римское право, в
котором приоритетом являлись права личности. Древняя Русь, приняв
христианство византийского толка, приняла и Византийское право, в
котором приоритетом оказались не права личности, а безусловное
право деспота, государя, царя, то есть — приоритет власти. На этом
588
представлении о преимуществе государственных прав над правами
личности и существовала Россия вплоть до судебной реформы
Александра П. Однако реформы эти, обеспечивавшие самый
демократический суд в России, в дикие глубины страны, а тем паче, в
глубины населяющих ее темных душ, проникнуть еще не успели. А тут
объявились большевики, решительно повернувшие к византийскому
пониманию приоритетного права государства. Мы унаследовали его
в форме массового сознания, что в судах правды нет. У нас с
европейцами заведомо иные подходы к судопроизводству, его целям и
задачам. То, что для нас — государственная необходимость, Европа
упорно воспринимает как попрание прав личности. И будет воспринимать.
Даже если мы вдруг станем самой любимой страной в европейском
содружестве»1.
Презумпция невиновности выстрадана веками российской
истории и миллионами жертв государственного произвола. Работники
судебных, правоохранительных и правоприменительных органов,
равно как и остальные граждане, должны заучивать наизусть ст. 49
Конституции РФ, подобно молитве «Отче наш...». Она звучит как
песня, из которой «слова не выкинешь».
1. Каждый обвиняемый в совершении преступления считается
невиновным, пока его виновность не будет доказана в предусмотренном
федеральным законом порядке и установлена вступившим в
законную силу приговором суда.
2. Обвиняемый не обязан доказывать свою невиновность.
3. Неустранимые сомнения в виновности лица толкуются в
пользу обвиняемого.
Единообразно действующий закон, применяющий одинаковый
масштаб к разным людям, это еще не справедливость, но ближайший
подступ к ней. Закон дает слабому возможность уравновесить свои
жизненные интересы с интересами сильного без вступления в
непосредственное состязание с ним.
Но когда закон совпадает с общественными представлениями о
.справедливости, он поднимается до уровня права. И только право,
вооруженное инструментами государственного принуждения, делает
справедливость сильной. Конституционная норма четким
юридическим языком описывает смутные общественные представления о
справедливости (лат. юстиции).
1 Березин В. Феномен 1924-го // Книжное обозрение. 2009. № 20-21.
С. 11.
589
Уровни свободы
Принцип конституционного строя, закрепленный в ст. 2
Основного закона РФ, резко отличает его от всех предшествовавших
советских конституций. В них высшей ценностью признавалось
государство и его интересы. Ст. 2 Конституции РФ законодательно
утверждает мировоззренческий принцип гуманизма, ранее
бытовавший лишь в философии, морали, литературе, искусстве:
«Человек, его права и свободы являются высшей ценностью.
Признание, соблюдение и защита прав и свобод человека и
гражданина — обязанность государства».
В Конституции РФ закреплен объем прав и свобод человека и
гражданина, вытекающих из двух источников: естественного права и
общепризнанных норм международного права. Последние, даже не
будучи упомянутыми в конституционном тексте, действуют
напрямую, в силу своего приоритета перед внутригосударственными
нормами. Основные положения Всеобщей Декларации прав ООН нашли
адекватное отражение в Конституции РФ.
Статья 55 указывает: « 1. Перечисление в Конституции Российской
Федерации основных прав и свобод не должно толковаться как
отрицание или умаление других общепризнанных прав и свобод
человека и гражданина».
В Конституции РФ нет специального указания на то, что никто
не должен содержаться в подневольном состоянии, как это
предусмотрено в п. 2 ст. 8 Международного пакта ООН о гражданских и
политических правах 1966 г. Точно так же в российском Основном
законе нет нормы о правах гражданского населения во время войны.
В этом отношении на территории России непосредственно действует
Женевская конвенция 1949 г.
Конституция РФ устанавливает, что основные права и свободы не
могут быть отменены. Только — временно ограничены федеральным
законом. Такой ограничивающей силы не имеют законы субъекта
Федерации, указы Президента РФ, постановления Правительства
РФ, либо иные подзаконные акты. Даже в случаях чрезвычайного
положения (его срок не может превышать 60 суток), военного
положения или состояния войны, не подлежат ограничению права на жизнь,
достоинство личности, неприкосновенность частной жизни,
предпринимательскую деятельность, жилище, свободу совести. Не
подлежат ограничению все права человека в сфере судопроизводства.
Граждане РФ вправе обращаться в Европейский суд по правам
человека, образованный на основе протокола № 11 к Европейской кон-
590
венции о защите прав человека и основных свобод. При этом
необходимо соблюдение нижеследующих правил. Обращение в
Европейский суд может иметь своим предметом только те события, которые
произошли после даты ратификации Россией Европейской
конвенции. Ратификация состоялась 30 марта 1998 г. Суд рассматривает
нарушения только тех прав, которые гарантированы Европейской
конвенцией. Должны быть исчерпаны все внутригосударственные
правовые средства защиты и должно пройти 6 месяцев с даты
окончательного решения на национальном уровне. Подлежат
обжалованию неправовые действия только государства, а не частных лиц
или негосударственных учреждений. Таким образом, основные права
и свободы российских граждан обеспечены и международной
юридической защитой от неправомерных действий собственного
государства. Это не расценивается как ограничение государственного
суверенитета и недопустимое постороннее вмешательство во внутренние
дела государства, принципиально закрытые в советские врмена для
международного правового контроля.
По уровню политической свободы Россия входит в первую
десятку конституционно развитых стран. Но по уровню свободы
экономической она занимает только 112-е рейтинговое место среди 123 стран,
мониторинг которых осуществляется международными
экспертными организациями. Измерение и оценка этого интегрального
параметра проводятся по 26 ключевым критериям. Таким, как
государственная обеспеченность свободной конкуренции, свобода выбора вида
экономической деятельности, защита личности и собственности,
осуществляемая государством, суммарная налоговая нагрузка, влияние
правительства на экономику, независимость судов, наличие или
отсутствие скрытых таможенных барьеров, уровень защиты
интеллектуальной собственности. По вышеперечисленным показателям
Россия в начале XXI в. опережает Центрально-Африканскую
республику, Малави, Украину, но отстает от Бурунди, Того, Эквадора.
Для сравнения: в этом рейтинговом списке Эстония занимает 16-е
место, Германия — 20-е, Япония — 26-е, Италия — 35-е, Франция —
44-е, Китай — 100-е. Первое место принадлежит Гонконгу, второе —
делят США. и Сингапур, третье — Великобритания и Новая
Зеландия.
Чем объясняется колоссальный разрыв между уровнями
политической и экономической свободы, характеризующий
посткоммунистическую Россию? Ведь наша вторая, экономическая, конституция
(Гражданский Кодекс РФ) — это апофеоз либерализма. Дело в том,
что реальная система гражданско-правовых отношений по-прежнему
591
функционирует в режиме ручного управления. Практически это
означает, что поведение субъектов экономической деятельности
детерминировано невысоким личным уровнем их правовой культуры,
слабостью правовой мотивации непринудительного законопослуша-
ния, персональными усмотрениями конкретных правоприменителей.
В России функциональный автоматизм законов традиционно
блокируется избирательностью их применения.
«Административная рента» — такой эвфемизм употребил
Президент России в своем очередном Послании Федеральному
Собранию РФ. Глава государства публично констатировал: значимая
часть администраторов — кормленщики. Хотя кормления
служебного сословия официально отменены еще Иваном Грозным. И — еще
раз — Петром Великим. Современные российские чиновники
продолжают взимать с общества административную ренту. Но право на
получение любой ренты имеет только статусный собственник.
Например — собственник массово востребованного ресурса.
Следовательно, современное российское чиновничество — это аналог
квазифеодальных рантье. В массовом правосознании не выработано
рефлекторное отторжение коррупционной практики, обусловленной
патрон-клиентными отношениями граждан с бюрократией. Расхожим
является нижеследующее рассуждение. Добродетельным можно быть
в одиночестве. Для порока нужны, как минимум, двое: тот, кто берет,
и тот, кто дает. Но что побуждает дающих увеличивать столь
непроизводительно трансакционные издержки своей хозяйственной
деятельности? Только — безвыходность рабочих ситуаций: чиновники
де-факто приватизировали разрешительные и контрольные функции
государства.
И Конституция РФ им не мешает. Ведь она содержит в себе
рамочные правовые ограничения государственной власти. Но — не
администрирования. Применительно к этой сфере, общие
конституционные нормы недостаточно конкретизированы. Кодекс
административных правонарушений (КоАП РФ), адресован по
преимуществу объектам администрирования — гражданам, а не
субъектам данного вида социального доминирования — администраторам.
КоАП РФ не регламентирует должностного поведения
государственных служащих на том основании, что это государевы люди
(В. В. Путин), подчиняющаяся эзотерическому Кодексу
госслужащих, внутренним должностным инструкциям, выведенная за
пределы общегражданского контроля, закрытая для общественного
обозрения. Неслучайно в демократически развитых странах Западной
Европы подобные служащие именуются не государственными, а
592
общественными. И это не только терминологическое отличие.
Статус общественных служащих лишает их обладателей сословных
привилегий и административных «иммунитетов» государственной
служебной корпорации.
Для ограничения бюрократических злоупотреблений нужна
именно детальная квалификация правонарушений администрирования,
так как дьявол скрывается в подробностях. Общих принципов
суверенной демократии здесь недостаточно. Идеологические сторонники
бюрократической модели государственного функционирования,
признавая его социальные издержки, указывают на отсутствие
приемлемых социотехнических и — опасность демократических альтернатив.
В период между февральской революцией и октябрьским
переворотом 1917 г. Россия уже была, по известной оценке В. И. Ленина,
«самой демократичной страной в мире». Ленин положительно
оценивает отсутствие правовых ограничений непосредственного
народоправства, осуществляемого социальными низами. Потому что права,
свободы и законные интересы цензовой части российского населения
тогда открыто попирались вовсе не бюрократией. Основные права
граждан нарушались революционной демократией, сменившей
имперскую бюрократию.
Правовая культура «идеал-типической» (по Веберу), рационально-
легальной бюрократии, безусловно, превосходит низкий уровень
правоприменения, неизменно демонстрируемый российской
демократией любой степени зрелости. Праву противопоказаны
демократические процедуры. Но из этого не следует оправдание
инструментального, профессионально избирательного использования
российскими чиновниками государственных средств нормативного и
распорядительного регулирования.
В настоящее время наиболее серьезные, но трудно
верифицируемые, латентные угрозы конституционным правам и свободам
российских граждан исходят от госаппарата. В этих угрозах
проявляется исторически сложившаяся дивергенция задач
госаппарата и внеаппаратной практики граждан в реализации личных прав.
Основная причина системных нестыковок состоит в отсутствии
саморесулируемых институтов гражданского общества, способных
принять на себя часть несиловых функций правоприменения.
Вторая по важности причина чиновничьего монополизма
правоприменения — историческая инерция отождествления
общегосударственных ценностей и — корпоративных интересов
бюрократии. Ее отношение к внеаппаратной части общества определяется
архетипом: «государство — это, прежде всего, государевы люди».
593
Иллюстративно в этом смысле телевизионное выступление
Генерального прокурора РФ В. Устинова, в котором федеральная
система органов прокуратуры именуется (как и 300 лет тому назад)
«государевым оком», то есть — личным органом главы государства.
Инструментальное отношение высших госчиновников к
федеральным органам правопорядка не вписывается в конституционную
парадигму «сервисного государства».
Конституция РФ 1993 г. «обвенчала» древний российский
государственный авторитаризм с юной демократией, традиционный
унитаризм — с обновленной федерацией. Налицо возрастной мезальянс.
Продуктивны ли подобные «брачные пары»? Основной закон России
скроен на вырост ее социального тела, то есть — на системные
параметры правового государства и гражданского общества. Но ни то, ни
другое еще не сформировалось в должной мере, существуя сегодня,
скорее, в качестве «сияющего града на холме». Отсюда —
общественная недооценка реальной системообразующей роли самой
Конституции РФ и мифологизация «параконституционных»
представлений обыденного сознания. В их рамках могут быть виртуально
хороши: республика при императоре, демократия при генсеках,
свобода творчества при цензуре, общественный порядок,
гарантированный авторитарным «лидером нации». (Не предусмотренная
Конституцией РФ системообразующая роль «лидера нации»
изобреталась и широко пропагандировалась рядом известных
общественных деятелей в конце второй магистратуры В. В. Путина. Роль
«лидера нации» умозрительно конструировалась в качестве противовеса
выборной должности Президента РФ. «План Путина» априорно
объявлялся основным программным документом «Единой России» и
директивным — для Правительства РФ. Политологически
выстраивалась бинарная оппозиция >(именуемая «тандемом»)
конституционных правомочий действующего Президента РФ и харизмы
партийного «лидера нации». Экс-президент РФ, избранный в 2008 г.
председателем Правительства РФ, публично продемонстрировал
свое неприятие навязываемой ему роли принцепса.
Сколь же радостней прекрасное вне тела.
Ни объятья невозможны, ни измена.
И. Бродский. Письма римскому другу
Таковы особенности абстрактного восприятия идеального, не
соотносимого с конкретными реалиями материального мира. Впрочем,
с момента своего рождения, не успев стать предметом массовых пе-
594
реживаний, не испытав общественных «объятий», Конституция РФ
неоднократно сталкивалась с «изменой». Точнее — с публичными
декларациями социальной необходимости концептуальных
изменений Основного закона. В целях — преодоления его «духа
либерального авторитаризма». И — под популистским лозунгом «мы
заставим государство быть общенародным, обеспечивающим социальное
равенство». С популистской точки зрения, Конституция РФ
несовершенна.
Признаками совершенства, как известно, обладают лишь плоды
индивидуального художественного творчества. Да и то потому, что о
художнике судят, как отмечал еще Пушкин, по законам, им самим
установленным. «На холмах Грузии лежит ночная мгла...» Тут
поправки и пересмотр невозможны. Плод социально-политического
творчества всегда несовершенен. Он изначально несет отпечаток
компромиссных согласований агрегированных интересов и не
способен в полной мере соответствовать ожиданиям всех
заинтересованных лиц.
«Российская Федерация — светское государство. Никакая
религия не может устанавливаться в качестве государственной или
обязательной (ст. 14)». Несмотря на то, что сегодня на улицах России,
перефразируем Мишеля Монтеня, «монахи встречаются не чаще, чем
здравый смысл», фундаменталисты разных конфессий предпочли бы
иные конституционные формулировки.
«Россия является социальным государством» (ст. 7). Но эта
социальность далеко не полностью обеспечена организационно,
финансово и ресурсно — обоснованно полагают экономически
просвещенные граждане. Объем социальных обязательств российского
государства, доставшихся ему в наследство от исторического
предшественника, даже отдаленно не соответствует его сегодняшним
экономическим возможностям. Но это не дает оснований для отказа
от ст. 7 Конституции РФ. Она векторно ориентирует развитие
российского государства.
В среде российского политического класса периодически
инициируются публичные дискуссии о необходимости коренного изменения
действующей Конституции как неадекватной нашему
национальному менталитету. Народ, дескать, привык жить не по праву, а по
правде, не по норме, а по совести. Конституция принижает социальность в
пользу индивидуальных прав и свобод. Основной закон выражает
ультралиберальную идеологию, считающую обмен (торг)
индивидуальными услугами главным интегратором общества. А где же
общность конфессии, исторической судьбы, территории совместного
595
проживания? Статьей 18 Конституция РФ объявляет права и
свободы граждан «непосредственно действующими». Почему нет
симметричной статьи относительно гражданских обязанностей? В
итальянской конституции она есть. Термин «община» употреблен в тексте
германской конституции полсотни раз, а в Конституции РФ — ни
разу. Подобное избирательное цитирование и внеконтекстное
сравнение не слишком продуктивно. И уж совсем неконструктивна
критика конституционного текста за то, чего в нем нет, чем он не
является. Область отрицательных определений, согласно формальной
логике, безгранична.
В чем состоит «ультралиберальная идеология», реализуемая
Конституцией РФ? И насколько основательна
ультраконсервативная критика конституционного либерализма? Ее предмет,
безусловно, ст. 35, целиком посвященная правовой защите частной
собственности. Защита ее возложена на государство. Критики указывают на
то, что Основной закон не содержит аналогичной (защитной) статьи,
касающейся собственности государственной. Но ведь
институциональным защитником всех видов собственности является само
государство: и в качестве правообладателя, и в качестве
правоприменителя. Юридически бессмысленно придавать его обязанности статус
конституционнго права.
Этой же логике подчиняется конституционный приоритет
индивидуальных прав и свобод. Он вовсе не принижает социальность.
Наоборот — обеспечивает ее. Социум не абстракция. Он состоит из
конкретных людей. Гарантированная защита их общечеловеческих,
политических и социальных прав поручается Конституцией РФ
единственному институту, которому такая задача по силам, то есть —
государству. Для него это обязанность. И наоборот, практическое
использование гражданами своих прав не может одновременно
являться их обязанностью.
Конституция РФ не определяет обмен (торг) индивидуальными
услугами в качестве единственного общественного интегратора.
Часть интегрирующих функций практически осуществляет
регулярный обмен результатами человеческой деятельности. Торг возник
задолго до появления первых государств, еще в эпоху неолита. Обмен
являлся средством и социализации неоантропов, и их общественной
самоорганизации. В развитой рыночной форме, обмен результатами
продуктивной человеческой деятельности является экономической
основой свободы. Ее первые (неполитические) проявления
манифестирует рынок. Эти манифестации обусловлены рыночной
возможностью потребительского выбора и непринудительной покупки.
596
Конституция РФ не дает оснований для расширительного
толкования и понятия социальности субъектов хозяйствования.
«Социально ориентированный рынок» и «социально ответственный
бизнес» не могут брать на себя функции социального государства,
определенные Конституцией РФ (ст. 7). В качестве общественного
интегратора рыночный обмен должен быть не «социальным», а
эквивалентным. В этом состоит его цивилизационная роль.
Действующая Конституция РФ, в самом деле, неадекватна.
Только — не национальному российскому менталитету, а ударно-
хватательным рефлексам бюрократического аппарата. Под его
корыстным влиянием, в посткоммунистической России в настоящее
время реализуется западноевропейский стандарт демократии
устаревшего образца первой половины XX в.: диктатура гражданского
большинства в принятии законов и диктатура аппаратного
меньшинства при их проведении в жизнь.
Этот, уже исчерпанный передовыми европейскими странами,
стандарт пассивной демократии низкой интенсивности (полиархии)
явно отстает от правовых возможностей Конституции РФ. Он не
соответствует и требованиям развития страны в XXI в. Назрела
цивилизационная потребность в создании нового политического
механизма, способного непосредственно учитывать мнения меньшинства при
создании законов и привлекать большинство к делу их
практического применения.
Но пока эта потребность не осознана большинством российского
политического класса, существуя в облике политологической
концепции. Идея не овладела массами. Поэтому она не превращается в
материальную силу.
Основной закон даже прямого действия не может в одночасье
изменить исторически сложившуюся природу российской власти.
Устойчивы ее традиции, инерционны механизмы деятельности.
Но вектор ее изменений задан Конституцией РФ императивно: от
доминирования — к контролю, от безотчетного правления — к
ответственному управлению, от власти правящей — к власти служащей.
Демократические республики исторически формировались там и
тогда, где и когда инновационные группы населения составляли
критическую массу. «Демократия участия» — основа современной
западноевропейской государственности. Управляемая «демократия
голосования» неадекватна постиндустриальной стадии развития
общества. Основная движущая сила этого развития — творческая
активность и гражданская дееспособность индивидуума. Республика
не может существовать без критической массы республиканцев.
597
«Властная вертикаль» современного российского государства
конструируется без участия граждан: не земским, а
бюрократическим образом. Поэтому процессу трансформации власти правящей
во власть служащую не хватает социальной динамики. Исторически
сложившаяся административная статика государственного
управления консервирует те его начала, которые Конституция РФ
полностью отрицает. Чтобы в этом убедиться, достаточно взглянуть на
новые обильные всходы «крапивного семени», щедро питаемые
бюджетной почвой.
Однако основная проблема российской бюрократии состоит в
избыточности не столько структур, сколько функций. Неудержимый
рост количества чиновников — процесс вторичный. В социотехниче-
ских системах функция рождает орган. Системно значимый вопрос
заключается в ином: соответствуют ли эти функции потребностям
развития страны? С задачами ускоренной индустриализации (ценой
колоссального напряжения народных сил)
партийно-государственный аппарат СССР справился. Сегодня появились новые
стратегические задачи. Демократически управляемая Россия вступает на путь
постиндустриального развития. Его цивилизационная особенность
состоит в индивидуализации продуктивной, инвестиционной,
инновационной деятельности. Она нуждается в государственном
«дирижизме» нового типа: индикативном планировании (вместо
директивного, ушедшего в прошлое), параметрическом управлении (вместо
ручного), инфраструктурном обслуживании граждан.
Характеру этих задач явно не соответствует аппарат госслужащих,
сформированный в рамках административно-командной системы
СССР. Ее главные установки остались прежними: править, а не
управлять, командовать, а не обслуживать. Российская бюрократия в
настоящее время не является ни субъектом системных
преобразований, ни инструментом модернизации общества. Она сама
проваливается в архаику «кормления от государевой службы».
Социологическое исследование, проведенное в октябре 2006 г.
Всероссийским центром изучения общественногомнения(ВЦИОМ)
при участии Министерства экономического развития и торговли
(МЭРТ), выявляет нижеследующий результат антиобщественной
активности российского чиновничества. «...Конкурентное
пространство искажено административным ресурсом. Чиновники различных
уровней — активные участники рыночных отношений. 80 %
респондентов уверены, что местные власти используют административный
ресурс для создания благоприятных условий определенным
компаниям.
598
Нет изменений и в ситуации с административным давлением:
60 % предпринимателей сообщили, что сталкиваются со
злоупотреблениями как со стороны представителей администрирующих
организаций, так и со стороны контролирующих организаций и
правоохранительных органов. Деятельности предпринимателей, по их
словам, больше всего мешают сотрудники МВД (так считают 22 %),
Роспотребнадзора (17 %) и налоговых инспекций (16 %).
О том, что в регионах берут и дают взятки, заявляют более 60 %
опрошенных, причем более 40 % считают эту практику широко
распространенной» *.
Что же удивляться тому, что конституционно предписанная и
давно заявленная административная реформа буксует, едва
двинувшись. Бюрократические колеса, конечно, крутятся. Но это не
доказывает, что мы едем.
В современной России количество чиновников стремительно
растет. С 1991 до 2007 г. оно удвоилось и (по официальным данным
Росстата) в 2008 г. составляло 1,5 млн чел. Сегодня один чиновник
приходится на 95 жителей Федерации. Неудержимый рост
количества российского чиновного люда продолжается, несмотря на
попытки высшей власти его ограничить. Лишь глобальный финансово-
экономический кризис 2008-2009 гг. вынудил Правительство РФ
сократить на 40 млрд руб. бюджетные расходы на госуправление.
Не сопровождается существенными успехами и борьба с
коррупцией. Уровнем коррумпированности наша отечественная
бюрократия намного превосходит государственных и общественных
служащих ОЭСР (стран так называемого золотого миллиарда). Десять
процентов российских миллионеров являются чиновниками.
Средний единовременный размер взятки, получаемой
коррумпированным госслужащим, согласно экспертным оценкам, увеличился в
период с 1991 до 2006 г. в тринадцать раз. Он вырос с 9 тыс.
долларов США до 117 тыс. За год коррупционер из среднего слоя
бюрократического аппарата «наскребает» на покупку московской
квартиры в 200 м2.
«По данным фонда «Индем», в объеме коррупционного делового
рынка (естьеще бытовой рынок) исполнительная власть поглощает
87,4 % взяток. Законодатели (4,1 %) и судейские (5,5 %) берут
совсем немного... Есть такая закономерность: чем выше в экономике
сырьевая доля, тем выше коррупция. И наоборот: коррупция тем
1 Серый Е. Аутсайдер экономики // Деловая Москва. 13-19 ноября 2006.
№ 42. С. 12.
599
меньше, чем выше доля интеллектуального труда. Сырьевая
олигархия неизбежно приводит к высокому уровню коррупции.
Интегральный экономический потенциал для развитых стран на 64 %
формируется человеческим капиталом и на 20 % — сырьевым. Для
России — все перевернуто: 72 % — сырьевой фактор, и только 14 % —
человеческий капитал»1.
Технодемократия XXI в. снабжает государственных
функционеров новыми возможностями. Госслужащие обладают
монополией на реализацию нормативных предписаний и оперативных
распоряжений власти. В ежегодных посланиях Президента РФ
Федеральному Собранию с возрастающей озабоченностью
отмечался рост антиобщественной силы российского чиновничества. Эта,
по словам В. В. Путина, «закрытая, а иногда и просто надменная
каста, которая рассматривает государственную службу в качестве
своего рода бизнеса», взимает с продуктивной части населения
«административную ренту». Размер этой «ренты» в 2006 г. превысил
300 млрд долларов США.
Официально объявленная борьба с коррупцией не дает
долгосрочных эффектов, поскольку системно не обеспечена. Высшая
государственная власть в России традиционно пасует перед
собственными бюрократическими кадрами. Она борется с коррупцией
руками коррупционеров. В этой «борьбе нанайских мальчиков» власть
избегает позитивного сотрудничества с нечиновными слоями
общества, требующими ограничить объем контрольно-управляющих
функций госчиновников. Политическая власть не может это сделать
без опоры на оппонирующую силу негосударственных, гражданских
институтов.
Но современное российское чиновничество, под флагом защиты
государственных прерогатив, всячески препятствует их становлению.
В частности, тормозится развитие местного самоуправления. Между
тем, без активной поддержки правового государства не могут
развиваться органы самоуправления граждан. Не допускаемые к
исполнению государственных функций, инфантильные ассоциации граждан,
возникшие в начале реформ 1990-х гг., обречены на формальное
существование в качестве демократических декораций режима. Только
на стадии собственной эволюционной зрелости гражданские
институты обретают необходимую сложность и способность к
саморазвитию без государственной опеки.
1 Лесков С. // Известия. 4 августа 2005. № 135. С. 2.
600
Источником саморазвития любой социальной системы является
ее внутреннее разнообразие. Оно обеспечивается дифференциацией
системных элементов. Другой источник саморазвития системы —
усложнение ее функций и структур. Когда общественные структуры
упрощаются и критически сокращаются их количество и сфера
компетенции, тогда госуправление перестает быть институционально-
параметрическим. Оно становится персонифицированным и
неэффективным, чрезмерно зависящим от индивидуальных свойств
управляющих. Гражданская корпоративность общества — это
фактор, повышающий институциональность российского государства.
Он укрепляет иммунитет госаппарата перед наследственной
склонностью его к нештатному служебному «кормлению». Существует
обратная зависимость между уровнем корпоративной сложности
общества и объемом вышеуказанной «административной ренты».
Стратегия управляемой неустойчивости
Глобальному финансово-экономическому кризису 2008-2009 гг.
непосредственно предшествовали менее масштабные нарушения
устойчивости мировой рыночной системы: финансово-биржевой,
захвативший в 1997 г. развивающиеся страны Юго-Восточной Азии, и
кризис перепроизводства, вызвавший рецессию и накрывший в
2000-2001 гг. преимущественно развитые страны Запада, включая
США. Они сумели вытащить из кризиса перепроизводства и себя и
остальной мир. США исполняют в течение 20 лет (после разрушения
биполярной конфигурации мироустройства) две трудносогласуемые
глобальные роли. Первая глобальная роль, принятая на себя великой
заокеанской Республикой, называется ответственно — регулятор
международной финансовой системы. Исполнению этой роли
соответствует положение доллара США как мировой резервной валюты.
Вторая глобальная роль Соединенных Штатов Америки, по многим
позициям противоречащая первой, состоит в том, что экономика
США является ведущей осью полносвязанного механизма мировой
экономики. США производят 20 % глобального валового продукта
(ГВП), а потребляют — 40 %. Осуществляя бесконтрольную и
безудержную эмиссию долларов, не обеспеченных национальными
активами и не привязанных к какому-либо «якорю» (типа золотого
паритета), США вынуждают остальной мир к практически безвозмездной
перекачке за океан реальных ресурсов.
601
В качестве заинтересованного и крупнейшего участника
мирохозяйственных связей США плохо справляются с ролью глобального
регулятора. Консолидированный объем американских внешних
заимствований к началу 2009 г. составил астрономическую сумму в
50 трлн долларов. Этот непрерывно наращиваемый внешний долг
всех субъектов США включает в себя федеральную часть (10 трлн
долларов), заимствования штатов, муниципалитетов, корпораций и
домохозяйств. Он превышает годовой ВВП США в 5 раз! Опасность
данной ситуации для остального мира состоит в том, что США как
самый крупный суверенный заемщик и — одновременно — эмитент
мировой резервной валюты может в одночасье и в разы
девальвировать свои долговые расписки (доллары), большая часть которых
находится в международном обороте. И если США до сих пор не
сделали этот катастрофический шаг, то в основном потому, что остальной
мир даже в условиях глобального кризиса предпринимает
дорогостоящие меры для удержания на плаву мировой резервной валюты.
Ограничение чрезмерной власти федерального центра составляло
изначальную заботу тринадцати суверенных государств, создавших
после Войны за независимость системно не устойчивую
конфедерацию (после Гражданской войны — прочную федерацию) Северо-
Американских Соединенных Штатов. Существенной частью
суверенитета любого государства является монополия центрального
государственного банка на эмиссию национальной валюты.
Законодательные собрания штатов в начале XX в. инициировали
беспрецедентное ограничение власти федерального центра США в
финансовой сфере. С 1913 г. (в президентство либерально
ориентированного В. Вильсона) эмиссионные правомочия даются особой
корпоративной структуре, специально учрежденной двадцатью
крупнейшими региональными банками. Эта корпорация получила
название Федеральной резервной системы (ФРС). С 1913 г. по настоящее
время ФРС остается единственным эмиссионным центром
США. В соответствии ^международными Бреттон-Вудскими
соглашениями, ФРС США эмитирует не только американскую
национальную, но и — мировую резервную валюту.
Историческим аналогом ФРС США является аугсбургский
банкирский дом Фуггеров, установивший в конце XV — начале XVI в.
тесные финансовые связи с правящей династией австрийских
Габсбургов. С 1508 по 1524 г. Фуггеры имели монопольное право
чеканить монеты для Ватикана и даже некоторое время выплачивали
жалование швейцарским гвардейцам папы. С помощью миллионов
иоахимских талеров, эмитированных Фуггерами, стали императора-
602
ми Священной Римской империи германской нации Максимилиан I
Габсбург (1508-1519 гг.) и его внук Карл V (1520-1556 гг.)1. В
награду финансисты получили право сбора таможенной пошлины в Тироле
и Силезии, разработки серебряных рудников в Богемии.
С 1540 г. банкирский дом Фуггеров достиг доминирования на
западноевропейском рынке вексельных кредитов. Тогдашние
«фондовые ценности» — фуггеровские облигации («бумаги Фуггеров») —
имели широкое международное хождение и приносили их
держателям в середине XVI в. 9 % годовых. Эмиссионный доход Фуггеров
составлял 13 % годовых и считался ростовщическим, так как
значительно превышал уровень «справедливой цены» (pretium justium),
установленный католической церковью. Банкирский дом Фуггеров
эмитировал европейскую «резервную валюту»: он чеканил
высокопробные серебряные иоахимские талеры. Название этой монеты
стало нарицательным из-за места добычи серебра в Богемских
рудных горах — Joachimsthaler. Кстати, название национальной валюты
США (доллар) является американизацией слова «талер».
Банкирский дом Фуггеров с немалой выгодой для себя
использовал геополитическую нестабильность в Европе. «Когда папа
Климент VII, решивший, что власть Габсбургов слишком усилилась,
образовал в мае 1526 г. в г. Коньяк «Святую лигу» — направленный
против Карла V союз с Миланом, Венецией, Флоренцией и Францией,
император послал в Рим свои войска, которые взяли штурмом
папский дворец и захватили в плен папу. Нанятые на деньги Фуггеров,
немецкие и испанские ландскнехты под командой предводителя
Швабского союза Георга фон Фрундсберга в течение нескольких дней
грабили город, подожгли его и зверски убили десятки тысяч жителей.
Грабежу подверглись церкви, величественные базилики, частные
дома. Грабители перерыли могилу святого Петра, вскрыли гроб папы
Юлия II (1433-1513 гг.) и сняли с его руки золотое кольцо. Стоимость
захваченных армией ценностей составила около 10 млн золотых.
Разграбив и предав огню город, имперские ландскнехты не
тронули дворец и банк Фуггеров. Последние предложили германским
ландскнехтам и их военачальникам доставить их богатую добычу к
ним на родину, что и было сделано. Римский банк Фуггеров
переводил стоимость награбленных богатств, вплоть до самых мизерных
1 Когда император Карл V объявил «технический дефолт» по своим
долговым обязательствам перед банкирским домом Фуггеров, то глава этого
дома Антон Фуггер (1493-1560 гг.) сжег в присутствии суверенного
заемщика его долговые расписки. В проигрыше банкир не остался.
603
взносов наемников и маркитанок, в любой город Священной
Римской империи»1.
Вернемся в наши дни. Американский экспорт стратегической
неустойчивости в течение последних 20 лет дважды откладывал
коллапс Бреттон-Вудской финансовой системы, созданной
США. Теперь ее вынужденно спасают центробанки ведущих стран
мира, включая ЦБ РФ.
Состоявшийся в апреле 2009 г. Лондонский саммит 20 ведущих
стран (включающих Россию) обсуждал назревшую проблему
структурного переформатирования глобальной финансовой системы и
международных финансовых институтов (МВФ и Всемирного
банка). Россия, КНР и ряд европейских стран выступили с
предложениями о выделении сегментов мирохозяйственных связей,
обслуживаемых региональными резервными валютами типа «руаня»
(рубль+юань), приравненного к одному доллару США. В
практической проработке находятся вопросы перевода на расчеты в
российских рублях международной торговли России с Казахстаном,
Белоруссией и некоторыми другими странами СНГ. Обсуждается
вариант перевода на рубли всего российского экспорта вооружений,
нефти и газа. Все эти меры локального уровня не могут отменить
необходимости создания более устойчивой, чем действующая в
настоящее время, мировой финансовой системы. Ведь международные
финансы, в конечном счете, — это не столько деньги, сколько
межгосударственные отношения.
В международной финансовой сфере сегодня доминирует
фиктивный капитал. На один доллар и один оборот реального товара
приходятся несколько долларов и оборотов валюты плюс несколько
десятков долларов фондовых ценностей и их производных (дерива-
тивов). Последние обращаются со скоростью, в десятки раз
превышающей скорость оборотов внутри реального сектора. В
финансовой сфере преобладают спекулятивные операции. Они составляют
около 95 % общей суммы сделок. К примеру, 80 % бывшей высокой
цены на нефть (почти 150 долларов за баррель) являлись
результатом биржевых спекуляций. Ньюйоркские биржевые котировки
NASDAQ, оценивающие фондовые инструменты, многоуровнево
привязанные к активам «новой экономики» высоких технологий,
оказались гигантской финансовой пирамидой, выстроенной экс-
председателем биржи Б. Мэдоффом. Ее обрушение нанесло бирже-
1 Козлов В. Фуггеры и Габсбурги // Monolih digest. 2008. № 19. С. 54.
604
вым игрокам ущерб в 50 млрд долларов. (К слову: 67 %
докризисного мирового рынка деривативов контролировали
британские и американские финансовые институты.) С итальянских
бирж в течение 2008-2009 гг. ежедневно утекало до 1 млрд евро.
Мировой объем списаний и убытков всех субъектов
хозяйствования, зафиксированный в 2008-2009 гг., превысил 7,4 трлн долларов.
Из 100 ведущих компаний мира свободные деньги,
ориентированные на инвестиционные цели, к середине 2009 г. остались только у
29. Среди последних не было ни одной российской компании. Общее
снижение стоимости активов и ценных бумаг составило около
50 трлн долларов. Суммарная номинальная стоимость мирового
объема производных ценных бумаг, по данным Базельского Банка
международных расчетов, составляла в 2008 г. 683,7 трлн долларов,
превышая глобальный валовой продукт в 12,4 раза.
В международной финансово-экономической системе,
регулируемой США, краткие периоды относительной устойчивости в
конце XX — начале XXI в. были результатом американского
«экспорта нестабильности» в различные регионы Центральной Азии
(Афганистан), Большого Ближнего Востока (Ирак), европейских
Балкан (фантомное квазигосударство Косово). После
самоликвидации Организации Варшавского Договора и распада СССР
международным оправданием роста военных расходов США стало
искусственное конструирование различных «глобальных врагов».
Наращивание внутренних военных расходов США («военное кейн-
сианство» как составная часть неоконсервативного продолжения
«рейганомики») стимулировало быстрое нерыночное развитие
технологий двойного назначения.
Стратегия «управляемой нестабильности», принятая на
вооружение руководством США, дала непредусмотренные результаты в виде
политической хаотизации ядерной страны — Пакистана. Этот
военный сателлит США может покинуть проамериканскую траекторию,
вычисленную для него Пентагоном и Белым домом, и переместиться
на геостратегическую орбиту антиамериканского политического
исламизма. С пакистанским участком «дуги мировой нестабильности»
США явно не справляются.
Из 40 общесистемных мировых кризисов, пережитых за
последние 500 лет, лишь 16 представляли собой «взрывы созидательного
разрушения», если воспользоваться метафорой Йозефа Шумпетера.
В дыму и пламени остальных взрывов детерминированного хаоса
исчезли многие «проектные заготовки развития» мировых
цивилизаций.
605
Классическая историософия исследует только законченные
процессы. Незаконченные — остаются вне теоретического осмысления.
При оценке перспектив текущей самоорганизации социальных
метасистем могут востребоваться теоретические постулаты синергетиче-
ского историзма:
— социальные отношения не поддаются точным количественным
определениям;
— возможность надежного прогнозирования качественных
результатов посткризисной самоорганизации ограничена диффузным
характером неполных знаний о незавершенных и многозначных
процессах;
— инновационность моделей самоорганизации социальных
метасистем существенно снижает достоверность математических
расчетов всех возможных рисков;
— дискретное множество децентрализованных оперативных
решений преодолевает детерминированный хаос, если не выходит за
рамки ограниченного набора исторически опробованных метасистем-
ных параметров цивилизаций;
— методология синергетического историзма предоставляет
понятийный инструментарий для создания аналоговых моделей,
укрупненных оценок и панорамного обзора путей преодоления прошлых
системных кризисов.
Временной интервал, превышающий 15 лет (продолжительность
активной политической жизни одного поколения) позволяет
именовать текущую политику — историей. Для историософской оценки
глобального финансово-экономического кризиса 2008-2009 гг.
нехватает временного удаления от хроники текущих событий. Но их
типология уже обозначилась. Это побуждает к поиску исторических
аналогий. Для этого мы не будем заглядывать в седую древность, так
как она не знала реалий вышеуказанного кризиса: беспрецедентного
доминирования фиктивнЪго капитала, переполнения финансового
рынка деривативами фондовых ценностей, неконтролируемой
кредитной эмиссии мировой резервной валюты. За историческую точку
отсчета и масштаб измерений текущего кризиса примем глубоко
исследованную Великую депрессию 1929-1933 гг. Для сопоставления,
но не для отождествления разных типов кризисной динамики. Общее
у них одно — глобальность. Существенно отличаются их социальноэ-
кономические и государственно-политические алгоритмы. На этом
основании ряд аналитиков считают глобальный кризис 2008-2009 гг.
беспрецедентным или «случающимся не чаще, чем один раз в сто
606
лет». Последнего мнения придерживается, например, Алан
Гринспен — многолетний руководитель (в настоящее время —
бывший) Федеральной резервной системы США. Он внес немалый
личный вклад в создание мировой финансовой системы, генетически
предрасположенной к кризисным потрясениям.
Другие исследователи, сопоставляя глобальный кризис 2008-
2009 гг. с Великой депрессией, приходят к выводу о неправомерности
прямых аналогий между ними. Они показывают, что «сегодняшняя
депрессия отнюдь не является великой, а восстановление мировой
экономики не за горами»1. Сторонники процитированного мнения
могут уточнить: да, оно не за горами. Оно — за морями. Точнее — за
Атлантическим океаном, если из Москвы смотреть строго на запад, в
сторону США. Кризисная волна пришла оттуда. Окончание рецессии
американской экономики станет импульсом для восстановления
мировой финансово-экономической системы.
«В итоге, если говорить о ведущих государствах — США,
Великобритании, странах еврозоны и Японии, следует признать, что
они получили огромный «заряд бодрости»: правительства
впрыснули 3-8 % ВВП, около 3,5-4,5 % ВВП будет сэкономлено на платежах
по долгам ввиду снижения процентных ставок, еще около 1-1,6 %
ВВП — на падении сырьевых цен. Общая сумма составляет от 6,5 до
11 % в каждой отдельной стране, и эта сумма перевешивает спад
производственной активности в результате кризиса. Большинство
американских и европейских экономистов готовы признать, что в
четвертом квартале текущего года рецессия закончится. Рискну быть
еще большим оптимистом: повышательный тренд в США станет явью
уже в третьем квартале нынешнего года. Рецессия 2008-2009 годов
не превратится в депрессию, тем более "великую"»2.
Синергетическое сопоставление двух формализованных типов
кризисной динамики, проявленных Великой депрессией и
глобальным финансово-экономическим кризисом 2008-2009 гг. требует
привлечения понятийного аппарата общей теории систем. Внутренняя
структура любой социальной, в том числе финансово-экономической
системы имеет отчетливый ядерно-сферный характер. Финансовые
институты обнаруживают преимущественно ядерные признаки:
высокие интенсивность, избирательность и скорость обмена с внешней
1 Иноземцев В. Л. Невеликая депрессия // Россия в глобальной
политике. Март-апрель. 2009. Т. 7. Х° 2. С. 48.
2 Иноземцев В. Л. Невеликая депрессия. С. 54.
607
средой. Экономические субъекты реального сектора, заполняющие
сферные пространства, обеспечивают существенно меньшие
интенсивность, избирательность и скорость, но — гораздо большую
площадь обмена со средой. В качестве интегральных параметров скорость
и площаль обмена со средой взаимно компенсируют и
уравновешивают друг друга: снижение скорости обмена сопровождается
расширением его площади (например — увеличением количества
хозяйствующих субъектов). И наоборот, сокращение площади системного
обмена вызывает возрастание его скорости. Внутрисистемная связь
между указанными параметрами является нелинейной и негативно
корреляционной.
Накануне Великой депрессии американский фондовый рынок рос
с непропорционально высокими (относительно развития реального
сектора) темпами: по 28 % в год. Миллионы американских
домохозяйств участвовали в биржевых спекуляциях. Они несли в банки
свои сбережения, нередко продавая или закладывая недвижимость
либо иные ликвидные активы. От домохозяйств не отставали десятки
тысяч компаний. Банки, как пылесосы, собирали с домохозяйств и
предприятий реального сектора избыточную ликвидность и
направляли ее на фондовый рынок, кредитуя брокеров в суперльготном
режиме: 9 долларов кредита на 1 доллар собственных средств
заемщиков. Банки тогда не генерировали виртуальную ликвидность из
производных биржевых инструментов (деривативов), а Федеральная
резервная система не печатала (как сегодня) избыточную массу
долларов, обслуживающих фиктивное богатство. С середины 1920-х гг.
все ведущие экономики мира вернулись к золотому стандарту
национальных валют, что снизило гибкость банковского регулирования, но
зато существенно ограничило свободу кредитной эмиссии, не
обеспеченной ростом реального сектора национальных экономик.
Государства в тот период почти не вмешивались в деятельность
финансовых институтов и остальных экономических субъектов. Объем
государственных закупок в США накануне Великой депрессии не
превышал 1,4 % ВВП.
Финансово-экономические предпосылки общесистемного
коллапса, названного Великой депрессией, накапливались во второй
половине 1920-х гг. Население США предавалось вакханалии
потребления в условиях послевоенного товарного изобилия. При этом
конкуренция на товарных рынках стремительно обострялась.
Как следствие — товары массового спроса быстро дешевели. К
примеру, самый продаваемый в течение 20 лет американский автомо-
608
биль Форд-Т упал в цене с 950 до 290 долларов за период 1908-
1925 гг. Инфляция на фондовом рынке сочеталась с дефляцией
реального сектора. Стагфляционная катастрофа разразилась в октябре
1929 г., когда биржевой индекс Доу-Джонса рухнул за несколько
дней биржевой паники на 91 %, а реальный валовой продукт
снизился за два с половиной месяца на 29,4 %. Миллионы домохозяйств
и десятки тысяч компаний лишились собственных средств,
вовлеченных банками в биржевые операции. 1630 банков США
разорились. Число корпоративных банкротств составило почти 85 тыс.
Работы к 1931 г. лишились 18,4 % трудоспособного населения США
и 26,5 % — Германии (что облегчило прорыв нацистов в 1933 г. к
государственной власти).
Великая депрессия хаотизировала одновременно оба структурно-
функциональных сегмента мировой финансово-экономической
системы: ядерный и сферный.
Глобальный кризис 2008-2009 гг. охватил преимущественно
ядерный сегмент мировой финансово-экономической системы. Он «сдул»
финансовые пузыри фиктивного мирового «богатства» номинальной
стоимостью 50 трлн долларов. Это кореляционно отразилось в
некатастрофической рецессии ряда отраслей реального сектора глобаль-
' ной экономики. Исчезли виртуальные ценности. «Деривативы не
отражают реального богатства — иначе как могла бы их номинальная
стоимость вырасти с июня 2006 года по июнь 2008-го на 313,7 трлн
долларов или на шесть ГВП»1.
Кризис вызвал сокращение на 8,5 % средней мировой трудозаня-
тости: для США — это уровень 1975 г., для еврозоны —
макроэкономический показатель середины 1990-х гг. Главными жертвами
кризиса стали сравнительно немногие банки и финансовые компании.
Основная масса финансовых институтов осталась на плаву.
Плавучесть они сохранили благодаря щедрой государственной
накачке их огромными объемами ликвидности: свыше 7 трлн долларов.
В маловероятном и худшем для банков случае, «4,32 трлн долларов
могут быть потеряны, если до нуля обесценятся акции на ведущих
биржевых площадках и не вернется ни один кредит, выданный
50 крупнейшими мировыми банками. Если же правительствам
удастся стабилизировать банковские системы ведущих стран, потери
«ограничатся» сотнями миллиардов долларов»2.
1 Иноземцев В. Л. Невеликая депрессия. С. 52.
2 Там же. С. 52.
609
Современные экономики развитых и развивающихся стран более
устойчивы к финансовым потрясениям, чем 70-80 лет тому назад.
За этот период резко снизилась зависимость реального сектора от
состояния фондового рынка. Системная связь между ними не была
линейной и в начале XX в. С тех пор многоуровневость и разнообразие
внутрисистемных связей непрерывно возрастали. «В ходе крупного
кризиса 1973-1975 годов индекс фондового рынка сократился на
56 %, а ВВП — всего на 39 %. В октябре 1987 г. Доу-Джонс упал на
25 % за одну торговую сессию, а ВВП по итогам года вырос. В течение
2000-2003 годов фондовые индексы в Соединенных Штатах и
Евросоюзе вновь снизились в 2,2-2,9 раза, а падения ВВП не
последовало»1.
Одновременно нарастали внутренняя неравновесность мировой
финансово-экономической системы и ее потребность в
периодическом сбросе накопленной энтропии. Открытые системы
обмениваются энергией и энтропией с внешней средой. В роли внешней среды
для системно взаимосвязанных секторов обращения национальных
экономик выступает реальный сектор. Он, в конечном счете,
принимает избыточную позитивную энтропию, генерированную
финансовой подсистемой. Количественным выражением финансовой
энтропии, помимо диспропорционального роста фиктивного капитала,
является кредитная экспансия. Последняя, проводимая американскими
финансовыми институтами в течение 25 лет перед глобальным
кризисом 2008-2009 гг., увеличила объем государственного и
муниципальных долгов в 3,3 раза, корпоративных — в б раз. Кредитование
потребительского сектора выросло в 5,9 раза. Особо впечатляет
масштаб ипотечного кредитования: он увеличился в 8,1 раза по
сравнению с 1982 г. и оценивался по состоянию на 1 июля 2008 г. в
астрономическую сумму 14,9 трлн долларов. С ростом невыплат по
ипотечным кредитам и начался в октябре 2007 г. американский
национальный, а вскоре и глобальный финансово-экономический кризис.
И хотя только 0,21 % заемщиков прекратили платежи по ипотечным
кредитам, плюс 1,76 % заемщиков несвоевременно гасят проценты, и
только один из каждых 466 «ипотечных домов» выставлен на
продажу, паника на мировом инвестиционно-кредитном рынке стала
всеобщей. Паника — вот ключевое слово, объясняющее внезапный,
бурный (закритический) рост внутрисистемной нелинейности второго
уровня: диспропорциональности следствий и причин. Сработал
1 Иноземцев В. Л. Невеликая депрессия. С. 53.
610
социально-психологический механизм генерализации
отрицательных массовых эмоций. Чем иррациональнее и проще эмоция, тем
труднее ее контролировать. Это — закон социальной психологии.
«...Находясь в поле видения нелинейности развития, общество
интуитивно ощущает... нереализуемость всех, кроме одного, из веера
"возможных будущих" и испытывает страх перед этим выбором
будущего, предполагающим фактическую утрату "других будущих"
Поэтому даже в условиях крайней усталости от нестабильности
современному социальному субъекту так трудно заменить
нестабильность и неустойчивость — на стабильность и устойчивость»1.
1 Козлова О. Н. Социокультурное развитие в режиме с обострением //
Синергетическая парадигма. М., 2003. С. 158.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Действительное и возможное в
бесконечных вещах не различаются.
Аристотель. Физика
Порядок — наименее вероятное состояние социальных
метасистем. Они его обретают посредством самоорганизации.
Потенциальная способность к ней — имманентное свойство метасистем,
достигших уровня необходимого разнообразия своих
составляющих, их структурно-функциональной сложности и внутренней
неравновесности. Взаимодополнительность и конструктивное
взаимодействие вышеуказанных факторов обусловливают процесс
системного упорядочения. Ему благоприятствуют изменчивые условия
неустойчивого баланса отрицательных и положительных обратных
связей метасистем с внешней средой. Два типа обратных связей
по-разному способствуют метасистемной адаптации. Первые —
нейтрализуют внешние влияния, способные нарушить системный го-
меостазис. Вторые — позитивно учитывают изменения внешней
среды и генерируют системные приспособительные эффекты.
Первые — сохраняют сложившийся порядок. Вторые — его
расшатывают и развивают. Развитие сопровождается накоплением
системной неустойчивости.
В соответствии с уровнями независимости социальных
метасистем от изменений внешней среды, возможна обобщенная
периодизация всемирной истории человечества: дикость, варварство и
цивилизация. Воспроизводимость общественных связей
положительно коррелируется с ростом указанной независимости. Однако
длительно сохранять устойчивость может только развивающееся,
следовательно — меняющееся общество. По этому критерию,
наименее устойчивыми являлись доисторические микросоциумы,
оставшиеся на стадии дикости. Буколические образы «солидарист-
ских сообществ дикарей», живущих в согласии с природой и
другими сообществами — дидактико-просветительский миф.
Межгрупповое взаимоистребление неоантропов в борьбе за
сократившиеся природные ресурсы в эпоху социоприродного кризиса
верхнего палеолита (XIV тыс. до н. э.) — историческое
доказательство неосновательности руссоистских представлений о цивилиза-
ционной «порче» природной социальности дикарей.
Сохранившиеся до наших дней примитивные сообщества — этнические изо-
ляты. Им удалось выжить случайно, в очень узких экологических
612
нишах, в маловероятных условиях неизменности геобиоценозов.
Примитивные микросоциумы может разрушить даже простое
соседство с цивилизацией, тем более — содержательные и
регулярные контакты с ней.
Обобщающими типологическими признаками варварских родо-
племенньгх союзов, орд, родовых протогосударств и раннесредневе-
ковых территориально-общинных государств являются:
противоречивое сочетание производящего и присваивающего хозяйств, низкий
уровень структурно-функционального разнообразия, недифферен-
цированность функций управления. Как следствие — ограниченная
способность к расширенному воспроизводству и сохранению его
результатов.
Независимость социальных метасистем от колебаний внешней
среды последовательно возрастала на государственных стадиях
земледельческих и аграрно-индустриальных цивилизаций, достигнув
исторического максимума в современной — техногенной. За это
достижение техногенная цивилизация расплачивается повышенной
уязвимостью своих инфраструктурных узлов, энергетической и
ресурсной расточительностью. В начале XXI в. техногенная
цивилизация, охватывающая несколько десятков наиболее развитых стран
мира, поднялась на новый уровень самосохранения и глобального
развития. Включился дополнительный источник ее метасистемной
устойчивости — экономика знаний.
На протяжении шести тысячелетий государственной истории
человечество меняло соотношения между основными факторами
устойчивости цивилизации: экономикой, политикой, идеологией и наукой.
Эти метаситсемные стабилизаторы включались не одновременно.
Здесь приоритет принадлежит экономике.
Экономика как структурно-функциональный инвариант
продуктивного воспроизводства цивилизованных обществ возникла
вследствие регулярности товарно-денежных отношений. Регулярность
изначально была ее ключевым признаком. Этот вид продуктивной
деятельности мог лишаться своей денежной составляющей (в надельной
системе землепользования в Китае IV—VIII вв.), принимать
извращенную форму принудительной бестоварности (прямой
продуктообмен, навязанный чрезвычайной политикой «военного коммунизма» в
России 1918-1920 гг.). Но экономика никогда не утрачивает
признака регулярности, то есть — подчиненности некоторым безличным
правилам. Они возникли стихийно, в незапамятные времена догосу-
дарственной истории, точнее — накануне появления первых
протогосударств. С тех пор эти безличные правила поддерживаются, ограни-
613
чиваются либо трансформируются силой государств. Стихийно
складывавшийся рынок намного древнее последних. В течение
тысячелетий он не имел структурно-функциональных признаков
системы. Но экономика — системный атрибут всех продуктивных
обществ, достигших государственной стадии своего развития.
Государства могут в разной степени быть вовлеченными в
непосредственную экономическую деятельность. Но они не в состоянии
отменить ее правила. Экономика — это системопорождающий фактор и
базовая предпосылка внутреннего порядка. Эту функцию экономика
делит с государством.
Общественный порядок неизбежно расшатывают приватизация
государственных функций и коммерциализация социальных сфер.
А продуктивный потенциал любых обществ с такой же
неизбежностью снижают систематические нарушения золотого правила
системного функционирования: идеологизация науки и политики,
политизация экономики.
Идеологизация внешней политики СССР в 1920-х гг. явно
вредила его национально-государственным интересам. «Сокрушительный
удар, который нанесла советско-польская война 1920 г., по доктрине
экспорта мировой революции на штыках «армии Коминтерна» на
Запад, вынужденное введение нэпа и поиски дипломатического
компромисса с Англией (Генуэзско-Гаагская мирная конференция
1922 г.) обострили борьбу прагматиков с доктринерами, что
проявилось уже с 1921 г. во все углублявшемся ведомственном конфликте
аппаратов НКИД и Коминтерна и их представителей за границей.
НКИД заботился о мирном сосуществовании, а Коминтерн
продолжал подрывать «тылы империализма» изнутри, по-прежнему
посылая братским секциям ИККИ не только деньги, но и
террористические группы»1.
Национально-государственные потери СССР, связанные с
многолетней идеологизацией науки, не столь очевидны. Они дали о себе
знать в отдаленной исторической перспективе, за пределами
индивидуальной жизни идеологических бойцов с «буржуазными
измышлениями» генетики, кибернетики, информатики и общей
теории систем, В итоге, СССР застрял на этапе вторичной
индустриализации. Две научно-технические революции XX в. обошли
стороной нашу страну.
1 Сироткин В. Г. Зарубежные клондайки России. М., 2003. С. 151, 152,
154.
614
Наиболее очевидным примером контпродуктивной политизации
экономики СССР являлась катастрофическая (по своим ближайшим
и отдаленным социально-экономическим результатам)
насильственная коллективизация сельского хозяйства, осуществленная «на базе
ликвидации кулачества как класса». Политическое руководство
СССР попыталось увеличить объем производства сельхозпродукции
путем... ослабления совокупных производительных сил деревни,
уничтожения всей экономически активной части крестьянства (вместе с
зачаточной рыночной инфраструктурой) и — вне системы товарно-
денежных отношений. Закономерным следствием колхозного
«великого перелома» станового хребта крестьянства был чудовищный
голод 1932 г., погубивший многие миллионы прежних кормильцев
страны.
Идеология, наука, политика и экономика содержательно
отличаются друг от друга разными уровнями предметно-знаковой
опосредованное™ в их отношениях к реалиям материального мира.
Наибольшая степень знаковой опосредованности, свободы знаковых
комбинаций и удаленности от материального мира — у идеологии.
Она может создавать массовые иллюзии мировосприятия,
оперировать фантомными угрозами, вовлекать миллионы людей в
иррациональные этно-конфессиональные и этно-политические конфликты,
которые способны длиться веками и уносить миллионы жизней.
(Общеизвестные исторические примеры: крестовые походы XI-
XIII вв., истребительные религиозные войны во Франции второй
половины XVI в., Тридцатилетняя война европейских католиков и
протестантов на территории Германии в 1618-1648 гг., на две трети
сократившая ее население, англо-ирландская кровавая вражда,
длящаяся с XVI в. по настоящее время. В 1649 г. революционные
английские войска под командованием Оливера Кромвеля уничтожили
половину католического населения Ирландии.) В этом же ряду —
свыше двадцати миллионов убитых в ходе этно-конфессиональных и
этно-политических войн XX в.: индуистов и мусульман, турков и
армян,-тутси и хуту...
Наименьшая степень знаковой опосредованности и удаленности
от реалий материального мира — у экономики. Она «приземлена» и
структурно «дисциплинирована» своими ресурсными,
энергетическими и технологическими составляющими. Экономические
решения принудительно рациональны, прагматичны, избирательны и
конструктивны. Их цель — кумулятивное приращение динамических
переменных итоговой продуктивности. По уровню предметно-
615
знаковой опосредованности, ближе всех к экономике — наука. Наука
и экономика позитивно сотрудничают более тысячи лет. Научные
знания в постиндустриальной экономике XXI в. стали
непосредственной производительной силой. Системная упорядоченность
научных знаний — их имманентное антикризисное свойство.
Наукоцентричная экономика повышает устойчивость порядка
социальных метасистем.
Политизация национальных экономик неизбежно снижает их
продуктивность. И наоборот, экономизация внутренней политики
государств делает ее более реальной и способствующей социальному
миру. (Последний, в свою очередь, нарушается коммерциализацией
социальных сфер. Но это нарушение является следствием
ошибочного политического выбора общественных приоритетов.) История
таких экономоцентричных, классово гармонизированных и
процветающих стран, как Швейцария, Швеция, Дания, Нидерланды,
Финляндия, Норвегия, Исландия, Канада и т. п. не знала
катастрофических социальных революций. Только во второй половине XX в.
появились эффективные международные механизмы
институционального блокирования полувекового идеологического безумия эт-
нополитических квазирелигий. За их государственную экспансию
человечество заплатило в XX в. небывало высокую цену, измеряемую
сотней миллионов прерванных человеческих жизней.
Наиболее катастрофичной оказалась в конце XIX — первой
половине XX в. идеологизация международной политики великих держав,
лишившая их способности к устойчивому балансированию
стратегических интересов. Идеологизация данного сегмента глобальной
ноосферы внесла в нее критическую дозу негативной энтропии, снизив
договороспособность статусных субъектов международных
отношений. Все идеологические и этнополитические войны XX в. (в отличие
от прежних геополитических) характеризовались небывалой ожесто-
ченостью и тотальностью.
Упорядочение социальных множеств обычно сопровождается
усилением системных факторов линейности: религии, морали, права,
государственной организации. Последний из них обходится
обществам намного дороже остальных. «Примитивным земледельцам
приходилось сооружать дамбы, чтобы спасти свои поля от
наводнений; и все же дамбы прорывались в среднем один раз в 2,5 года. Часть
древних обитателей Китая отступила от свирепых вод в горы и
продолжала заниматься охотой — там от них и следа не осталось.
Другие — «сто черноголовых семейств», пришедшие в Шаньси с
запада, — бросились на борьбу с рекой — это были предки китайцев. Им
616
пришлось отказаться от прежней дикой воли и усвоить дисциплину,
жесткую организацию и принять деспотические формы правления,
но зато природа щедро вознаградила их, предоставив возможность
интенсивного размножения и средства для создания оригинальной
культуры»1. В центральных районах Северного Китая (в Шаньси и
Шэньси, не знавших неурожайных лет) сформировалась в III в. до н. э.
первая в китайской истории империя Цинь. Ее создание завершилось
уничтожением 60 % населения объединенных княжеств,
закабалением уцелевших, строительством Великой китайской стены,
истреблением не только всех ученых, всей нетехнической литературы, но и
всех читателей исторических и философских книг вместе с
любителями поэзии. Народное восстание 206 г. свергло деспотический
режим империи Цинь. Гражданская война и распад государства,
вызванные народным восстанием, стоили стране еще дороже: погибли
80 % ее населения.
Социальные реформы, осуществляемые революционными
методами, дают похожие результаты. В качестве примера можно привести
демократическое движение маздакизма в Иране. «В начале VI в.
вельможа Маздак захватил власть, и началось истребление знати и
духовенства, причем и те и другие представляли наиболее
интеллектуальную часть населения. Переворот Хосрова Ануширвана в 530 г.
положил конец реформе и связанным с ней экзекуциям, но привел к власти
солдатчину... Последний период (591-651 гг.) — неуклонное
разложение культуры и государственной системы, вплоть до арабского
завоевания, повлекшего за собой гибель всех грамотных и
образованных персов...»2
На устойчивость современной международной системы
отрицательно влияет избыточное количество ее автономных составляющих,
не способных самостоятельно избавиться от исторически
накопленной конфликтности. История демонстрирует трудную согласуемость
этнических интересов, мультиплицированных слабыми, внутренне
расколотыми государствами. К началу XXI в. общее количество
крупных, средних, мелких и мельчайших государств, далеко отстоящих
друг от друга по уровню развития, превысило две сотни. В их числе —
несколько, десятков несостоявшихся или «падающих»
квазигосударств. В нестабильных условиях явно превышенного «мультиэта-
тизма», полезен учет негативного опыта прошлого и позапрошлого
' Гумилев Л. Н. Этногенез и биосфера Земли. М., 2005. С. 211.
2 Там же. С. 158.
617
веков. В XIX-XX вв. происходило похожее снижение договороспо-
собности государственно организованных этносов.
В поворотную эпоху второй половины XIX в., идейно
подготовившую череду геополитических катастроф, мировых войн и
социальных революций XX в., количество статусных субъектов
международных отношений не превышало двух десятков. Среди них
регионально доминировали несколько великих держав, динамично
расширявших свои имперские пространства. Весь XIX и первая
половина XX в. прошли под знаком исключительно территориального
измерения державного величия. При этом ни одна из империй не
ограничивала свои территориальные притязания. Национальная
политика подчинялась националистической идеологии. В целях
силового утверждения ее неверифицируемых ценностей, все
требовали от потенциальных противников пацифизма и —
милитаризировали собственные государства. Никто не хотел тотальной войны.
Но все стремились к тотальной победе. Всем она представлялась
вполне достижимой. Это «коллективное бессознательное» не было
полностью безличным, так как обнаруживало субъективно
окрашенные признаки.
С эпохи Просвещения то разгорается, то затухает теоретический
спор о личностном воздействии микросоциальных групп и
групповых лидеров на ход исторических процессов. После Гегеля и Маркса
рассуждения о личностно-групповом факторе в процессах с
миллионами активных участников стали относить к рефлексивным
проявлениям дурного историософского тона. В конце XX в. концептуально
оформились представления о вероятностно-статистическом
характере указанных процессов. Методология синергетического историзма
позволяет вписать индивидуальные роли в адекватную им системно-
историческую сценографию.
Личностное влияние микросоциальных групп на ход безлично-
массовых процессов до конца XX в. рассматривалось вне парадигмы
нелинейных внутрисистемных бифуркаций. На последних не
распространяется физический принцип эквивалентности массы и
энергии (Е=мс2). Индивидуальные автоколебания статистически
невесомых «социальных тел» (жестко встроенных в управляющую
подсистему) могут вызывать разгонно-колебательный резонанс лишь в
краткие моменты общесистемных бифуркаций. И продуцировать
социально-политические взрывы невероятной силы. Такая
нелинейность второго уровня плохо согласуется с представлениями
обыденного сознания. Малая энергоемкость генеральского принуждения к
отречению от престола Николая II выглядит абсолютно не сопоста-
618
вимой с гигантским энергоэффектом взрывного развала Российской
империи. Так же трудно сопоставить малую энергетику Беловежской
денонсации Договора о создании СССР и гигантские энтропийные
силы, разломавшие супердержаву XX в.
Историография описывает события, а не мотивы их участников.
На абстрагирующем (историософском) удалении от событийной
конкретики исчезают и сами участники событий. Возникает
опасность спекулятивных построений, эмпирически не
верифицируемых. В преобладающем потоке дискурсивно-аналитической
историософии любой личный вклад в историю представлялся
ничтожным, так как измерялся в контексте свершившихся масштабных
событий, уже принявших вероятностно-статистический характер.
Вне историософского осмысления оказывалось множество
субъективно окрашенных, коротких отрезков исторических траекторий,
подводящих социальные метасистемы к критическим точкам
необратимых бифуркаций. Поэтому не оценивалась потенциальная
способность малых энергоисточников инициировать высвобождение
колоссальной энергии лавинообразных процессов.
Геотектонический масштаб и гигантские энергоэффекты последних
представлялись линейно не сопоставимыми с человекоразмерностью и малой
энергоемкостью системных блоков управления. В середине XX в.
человечество ознакомилось с аналоговыми физическими моделями
недавно пережитых мировых войн и великих социальных
революций — ядерными взрывами. (Концентрация огромных энергий в
очень малых объемах стала с той поры основным риском
техногенной цивилизации.)
Синергетический историзм дает возможность оценить
личностное воздействие на ход безлично-массовых процессов при одном
условии: если личность находится внутри, либо — в пределах доступа
к управляющему блоку социальной метасистемы. Роль исторической
личности может быть значительной и даже решающей лишь в
сохранении либо в разрушении иерархизированного порядка. Но она не
может быть таковой при восстановлении либо создании нового
порядка, так как статистически гасится встречной энергией детермини-
рованнога хаоса. Обратимся за иллюстрациями к общеизвестным
историческим примерам.
Задолго до весны 1870 г. разрушился европейский механизм
силового принуждения задорных государств к соблюдению
легитимистского порядка. После Венского конгресса 1815 г. принуждающая сила
исходила от европейского «концерта великих держав»
(легитимистского Священного союза монархий, победивших Наполеоновскую
619
Францию). Данный «концерт» представлял собой функциональный
аналог возникших после двух мировых войн Совета безопасности
ООН, Организации безопасности и сотрудничества в Европе,
Организации экономического сотрудничества и развития, Большой
восьмерки, Шанхайской организации сотрудничества, Организации
Договора коллективной безопасности и других современных
модераторов межгосударственных отношений. После Крымской войны
1853-1855 гг. в европейских межгосударственных конфликтах
возобладала многозначно-силовая нелинейность второго уровня.
То есть — диспропорциональность управляемой динамики
микропричин и неуправляемой статистики гиперследствий. Последние
превентивно уже не гасились однозначно-правовой линейностью
концертного дирижизма. Надгосударственных миротворческих
организаций мир тогда не имел. Но и в XIX в. он не подчинялся
фатализму исторической однолинейности. Сохранялась высокая вероятность
альтернативной истории.
Весной 1870 г. в геополитическом соперничестве двух
агрессивных держав обозначилось очередное обострение. Субъективные
усилия поименно известных государственных лиц превратили
некритическое обострение в напряжение военно-политического характера.
Напряжение переросло в войну. Военно-политическое напряжение
создали маломощные по отдельности энергоисточники: иллюзии
самовосприятия французских генералов, полководческие притязания
бесталанного племянника Наполеона I, имперские планы канцлера
Бисмарка, великодержавные амбиции прусского короля и
стратегические расчеты начальника прусского генштаба. Последние
опирались на мобилизационную готовность прусской армии. Эти силы
приобрели историческое значение, векторно сложившись в одной
точке системной бифуркации. Она превратилась в точку невозврата
вероятностно-статистического процесса энтропийного разрушения
мозаичного, сложного, многоуровнего европейского порядка.
Первичный энергоисточник этого разрушения принял форму
двусторонних устремлений к лобовому вооруженному столкновению. Его
инициировала слабейшая сторона.
Непосредственным дипломатическим поводом для развязывания
роковой для Европы франко-прусской войны 1870-1971 гг. явилось
французское толкование «эмской депеши» прусского короля
Вильгельма I, адресованной канцлеру Бисмарку и опубликованной
им в немецкой печати. Престарелый король, лечившийся в Эмсе,
сообщал канцлеру о своей беседе 13 июля с французским послом во
время утренней прогулки. Наполеон III и Бисмарк были решительно
620
настроены на войну. Прусский король колебался. В оригинальной
авторской редакции, «эмская депеша» Вильгельма I не содержала
дипломатического casus belli, крайне желательного для милитаристских
кругов обеих враждебных держав. Канцлер Бисмарк получил от
начальника генштаба Мольтке доклад о полной мобилизационной
готовности прусской армии и ее потенциальном превосходстве над
французской, которое может реализоваться лишь при условии
безотлагательного блицкрига. В целях необратимого вовлечения обоих
суверенов в немедленную войну, Бисмарк слегка отредактировал перед
опубликованием текст «эмской депеши», придав ей провокационный
смысл1. Законодательный корпус Франции счел себя оскорбленным
и вотировал потребованный правительством военный кредит в
50 млн франков. Амбициозный и самонадеянный Наполеон III
19 июля 1870 г. объявил Пруссии войну, быстро проиграл ее,
потерял трон и вверг Францию в хаос социальной революции и
гражданской войны, вошедший в историю под названием Парижской
коммуны. Геополитическим результатом франко-прусской войны 1870—
1871 гг. явилось формирование агрессивного Второго рейха,
изменившее ход мировой истории.
Сохранялась ли до 19 июля 1870 г. вероятность иного развития
событий? Военное превосходство прусской армии над французской,
морально усиленное победой пруссаков над австрийцами при
Садовой (1866 г.), не было качественным. Оно не могло (по
компетентному заключению фельдмаршала Мольтке) сохраняться за
пределами 1870 г.
Начавшиеся 2 августа 1870 г. военные действия выявили, что
стрелковое оружие стойкой французской пехоты (скорострельные
ружья шаспо) не уступало пехотному вооружению пруссаков.
Французская кавалерия количественно и качественно превосходила
прусскую. На вооружении французской армии были митральезы,
выбрасывавшие целые снопы пуль на расстояние 1200-1800 м. В
отличие от других родов войск, французская артиллерия сильно устарела
и не смогла противостоять прусской. Она была снабжена не
ударными; а расплавляющимися трубками. Ее бронзовые пушки заряжались
1 Вот ее опубликованный текст: «Французский посол обратился к его
величеству в Эмсе с просьбой разрешить ему телеграфировать в Париж, что его
величество обязывается раз и навсегда не давать своего согласия, если
Гогенцоллерны снова выставят свою кандидатуру (на испанский трон. —
M. М.). Тогда его величество отказался принять французского посла и велел
передать, что более ничего не имеет сообщить ему» (История XIX века. М.,
1938. Т. 6. С. 332).
621
с дула. Более многочисленные немецкие стальные орудия,
заряжавшиеся с казенной части, намного превосходили французские
дальнобойностью, меткостью и быстротой стрельбы. Во всех сражениях
1870 г. обнаруживалось решающее превосходство прусской
артиллерии. Под Седаном французские войска попали в сентябре 1870 г. в
окружение. Здесь произошло крупнейшее артиллерийское сражение
XIX в.: с прусской стороны убийственный огонь вели почти 600
орудий. У немцев в ходе этого сражения выбыли всего 6 тыс. человек.
Французы потеряли под Седаном убитыми, ранеными и попавшими
в плен около ста тысяч человек. Седанская катастрофа
предопределила исход войны.
Однако не было оснований для экстраполяции подобной схемы
военных событий на ближайшее будущее. Война — процесс
вероятностный. Накануне объявления войны французская армия
завершала ускоренную модернизацию. Ее планово повышаемая
боеготовность уже в 1871-1877 гг. позволяла эффективно противостоять
пруссакам. Преждевременно начав войну, Франция подыграла
противнику. Стремительный разгром французов под Седаном и
пленение 82 тыс. из них вместе с Наполеоном III имели реальные шансы не
состояться в 1871 г. и в последующие 5-7 лет. Наполеону III
следовало их просто переждать. Крайне важный для Пруссии
благожелательный нейтралитет России (блокировавший антипрусскую
активность Австрии) потерял свое значение в 1877 г. вследствие
начавшейся русско-турецкой войны. Освободившись от русской угрозы,
Австрия получала возможность ограничить свободу рук Пруссии в
стремительном объединении Германии, которому противились
немецкие государи (особенно — на юге страны) и все католические
епископы. С 1866 г. в южных государствах Германии в ходу был лозунг
«лучше быть французом, чем пруссаком». Геополитическое
равновесие между австро-французским альянсом и Пруссией могло
сохраниться и не позволить последней быстро создать (с помощью
французского золота) самую'мощную в Европе военную промышленность.
После оглушительной победы над Францией Пруссия обескровила
ее гигантской контрибуцией. Отстранив недавно разгромленную
Австрию от общих германских дел, Пруссия в 1870-1871 гг.
принудительно сконцентрировала человеческие, природные и материально-
технические ресурсы густонаселенной Германии. Без этой
концентрации Пруссия не смогла бы на милитаристской основе объединить
вокруг себя десятки мелких германских государств.
«Пороховой бочкой Европы» справедливо считались в конце
XIX — начале XX в. многочисленные балканские страны. В период
622
с 1877 по 1912 г. стихийный процесс государственного
самоопределения балканских этносов вызвал длинную цепь войн: одну
освободительную русско-турецкую (победа в которой, тяжело
доставшаяся России, ничего ей не дала в геополитическом отношении, но
зато — расширила балканскую сферу влияния Германии), две войны
неустойчивой коалиции молодых балканских государств с бывшей
метрополией (Османской империей) и три войны недавних
балканских союзников друг с другом. Большинство европейских
политиков в начале XX в. были уверены: «рванет» именно на Балканах.
Всеобщие ожидания материализовались убийством австрийского
эрцгерцога Фердинанда. Горное эхо выстрела в Сараево вызвало
снежную лавину неуправляемых событий. Принято считать, что
остановить ее сход никто не мог. Историческая ретроспекция
позволяет в этом усомниться. В июле 1914 г. общеевропейская военно-
политическая ситуация была многозначней и неопределенней, чем
в августе, когда сложился итоговый расклад военных и
антивоенных сил. Потенциал последних был значителен. К порогу Первой
мировой войны Европа приближалась несколько раз и делала шаг
назад. Например — во время Агадирского кризиса 1911 г., едва не
столкнувшего военно-морские силы Германии и Франции.
Инициаторы Первой мировой войны, развязавшие ее в августе
1914 г., так же, как и миротворцы, находились в обоих лагерях. И все
допустили стратегический просчет: никто даже отдаленно не
предвидел масштаба надвигавшейся цивилизационной катастрофы — ни
победители, ни побежденные.
Доживая свои дни в голландской эмиграции, бывший
германский кайзер Вильгельм II в беседе с американской журналисткой
Барбарой Такман с запоздалым раскаянием оценил свои
ошибочные управленческие решения, принятые в августе 1914 г. В конце
октября — начале ноября 1918 г. германский генералитет принудил
кайзера к передаче фактической власти правительству принца
Макса Баденского, к приказу о капитуляции рейхсвера перед
Антантой и к отречению от престола. Военно-политических
ресурсов11 для сопротивления генеральскому давлению кайзер уже не имел
и поэтому исполнил все предъявленные ему требования.
Принудительную весомость последним придавали усталость
германской нации и превосходящая сила Антанты. Оба фактора
действовали синхронно и в одном направлении.
Зададимся вопросом: мог ли тот же милитаристский клан в
августе 1914 г. принудить главу государства отдать приказ о начале
военных действий? По всей вероятности, не мог. Не начинать войну
623
было гораздо легче (то есть — с меньшими энергозатратами), чем —
начинать ее. В первом случае не пришлось бы преодолевать
инерцию покоя чрезвычайно массивного социального тела, не
расположенного к самодвижению. Даже будучи милитаристски
настроенной, законопослушная германская нация на фронт не рвалась и
наверняка не поддержала бы агрессивные действия генералов,
ограничивающие свободу внешнеполитического выбора легитимного
главы государства.
Следовательно, в условиях неустойчивого равновесия
милитаристских и антимилитаристских сил внутри и вне Германии (ведь
на нее никто не нападал), точку невозврата в лавинообразном
нарастании непредвиденных событий мирового масштаба поставил
именно Вильгельм П. А мог — не поставить, позитивно
отреагировав на миротворческое и вполне конструктивное предложение
своего «кузена Ники», русского императора Николая II. Вильгельм
ответил на примирительную телеграмму последнего —
ультимативным требованием остановить мобилизационные мероприятия
Российской империи. И через десять лет после августа 1914 г.
германский экс-император силился осмыслить собственную
историческую роль: «Ах, если бы знать...» Между тем, знать прошлое и, на
основе этого знания, предвидеть будущее — священный долг
национальных лидеров. Их персональная роль резко возрастает в
ключевые моменты мировой истории.
В дни «ракетного» Карибского кризиса (в октябре 1963 г.),
поставившего человечество на грань ядерной войны, на рабочем столе
президента США Джона Кеннеди лежала книга Барбары Такман
«Августовские пушки». Неизвестно, какой исторически
ориентирующий документ лежал на рабочем столе Никиты Хрущева. Наверняка —
не «Коммунистический манифест». Потому что внеидеологическим
компромиссом завершился политический процесс согласованного
отнесения к интересам. Он был достигнут через осознание
реальности угрозы гарантированного взаимоуничтожения. Компромисс
закрепился согласованным отнесением к ценностям совместного
выживания человечества. Лидеры супердержав снизили кризисное
напряжение, политически упростив военно-стратегическую ситуацию.
СССР убрал свои ракеты средней дальности, тайно установленные
на Кубе, под боком у США. Властно преодолевая милитаристские
интенции своих военно-политических штабов, Дж. Ф. Кеннеди и
Н. С. Хрущев сумели переговорно (нелинейно) включить
упрощенные межгосударственные (линейные) регуляторы видового
самосохранения Homo sapiens.
624
Открытые системы обмениваются с внешней средой тремя
видами материи: информацией, веществом и энергией. Обмен
сопровождается накоплением внутрисистемной энтропии, вызывающей
структурно-функциональную неустойчивость. Устойчивость
сверхсложных систем поддерживается периодическим и управляемым
сбросом докритических объемов накопленной энтропии. Он
осуществляется в двух вариантах. Оба относятся к классу внутрисистемных:
«информационный» (структурно-функциональные реформы) и
«вещественный» (государственная редистрибуция, адресно
ориентированная социальная политика). Третий вариант сброса критического
объема внутрисистемной энтропии осуществляется внесистемно:
стихийно, насильственно и саморазрушительно, в форме социально-
политических революций и гражданских войн. Поэтому его можно
назвать «энергетическим».
Системные дисфункции, неизбежно возникающие при
реализации «информационного» и «вещественного» сбросов накопленной
энтропии, минимизируется сохранением нижеследующих
ограничений: а) социальные напряжения разряжаются компромиссами в
условиях принудительного государственного арбитража; б) в качестве
социального интегратора выступает национальная идея как способ
дальнего ориентирования общества; в) методами государственного
дирижизма постепенно устраняется цивилизационный раскол между
элитами и внеэлитным большинством: г) статусными операторами
сброса энтропии выступают институты правового государства и
гражданского общества.
«Энергетическому» сбросу критических объемов накопленной
энтропии всегда предшествует разрушение правового фундамента
государства и лавинообразная дезинтеграция общественных
структур. Их место занимают бесструктурные, внегражданственные и
неизменно агрессивные толпы, строевое упорядочение которых
осуществляется, как правило, тираническими методами.
БИБЛИОГРАФИЯ
Авдиев В. И. История Древнего Востока. М., 1948.
Аврех А. Я. П. А. Столыпин и судьбы реформ в России. М., 1991.
Амбелен Р. Драмы и секреты истории. М, 1999.
Анкерсмит Ф. Р. История и тропология: взлеты и падения
метафоры / Пер. с англ. М., 2003.
Арбатов А. Г. Безопасность: российский выбор. М., 1999.
Арендт X. Истоки тоталитаризма. М., 1996.
Бердяев Н. А. Истоки и смысл русского коммунизма. М., 1990.
Бессонов Б. Н. Судьба России. Взгляд русских мыслителей. М.,
1993.
Бордюгов Г. А., Ушаков А. И., Чураков В. Ю. Белое дело:
идеология, основы, режимы власти: историографические очерки. М., 1998.
Боханов А. Н. Крупная буржуазия России (конец XIX в. — 1914 г.).
М., 1992.
Брикнер А. История Екатерины Второй: в 2-х т. М., 1991.
Буганов В. И. Петр Великий и его время. М., 1989.
Бурстин Д. Американцы: колониальный опыт. М., 1993.
Бурстин Д. Американцы: национальный опыт. М., 1993.
Бурстин Д. Американцы: демократический опыт. М, 1993.
Бухарин Н. И. Политическая экономия рантье. М., 1988.
Бюрократия, авторитаризм и будущее демократии в России.
Материалы «Круглого стола» // Вопросы философии. № 2. 1993.
Валишевский К. Вокруг трона. М., 1989.
Валишевский К. Дочь Петра Великого. М., 1989.
Валишевский К. Екатерина II Императрица Всероссийская. СПб.,
1908.
Валишевский К. Иван Грозный. М., 1989.
Валишевский К. Первые Романовы. М., 1989.
626
Валишевский К. Петр Великий. М, 1989.
Валишевский К. Смутное время. М., 1989.
Валишевский К. Сын Великой Екатерины. Император Павел I.
М., 1990.
Валишевский К. Царство женщин. М., 1989.
Васильев Л. С. История Востока: в 2-х т. М., 1993.
Вегнер В. Эллада: в 2-х т. СПб., 1878.
Верт Н. История Советского государства. 1900-1991. М., 1992.
Вехи. Интеллигенция в России. М., 1981.
Винклер Г., Нибур К., Шурц Г. История человечества. СПб., 1904.
Виппер Р. Ю., Васильев А. А. История древнего мира. История
средних веков. М., 1993.
Витте С. Ю. Воспоминания: в 3-х т. М., I960.
Витте С. Ю. Избранные воспоминания. М., 1991.
Врангель П. Н. Записки: в 2-х кн. М., 1991.
Всемирная история войн. Б. м., 2004.
Гаман-Голутвина О. В. Политические элиты России. М., 1998.
Герцберг. История Рима. СПб., 1883.
Гомер. Илиада. М., 1981.
Гомер. Одиссея. М., 1981.
Государственная Дума: стенографические отчеты. Четвертый
созыв. Пг., 1916.
Гумилев Л. Н. Древняя Русь и Великая степь. М., 1992.
»Гумилев Л. Н. От Руси к России: очерки этнической истории.
СПб., 1993.
Гумилев Л. Н. Этногенез и биосфера Земли. М., 2005.
Джилас М. Лицо тоталитаризма. М, 1992.
Десять лет, которые потрясли... 1991-2001. М., 2002.
Дюби Ж. Европа в Средние века. Смоленск, 1994.
627
Ельцин Б. H. Записки президента. М., 1994.
Ельцин Б. Н. Исповедь на заданную тему. М., 1990.
Жижек С. 13 опытов о Ленине. М., 2003.
Записки императрицы Екатерины Второй. М., 1989.
Зимин А. А. О политических предпосылках возникновения
русского абсолютизма. Абсолютизм в России (XVII-XVIII вв.). М.,
1964.
Из глубины. Сборник статей о русской революции. М., 1991.
Иловайский Д. Отец Петра Великого. М., 1996.
Историки античности: в 2-х т. М., 1976.
Историки Греции. М., 1989.
Историки Греции. Геродот. Фукидид. Ксенофонт. М., 1976.
История XIX в.: в 8-ми т. / Пер. с фр. М., 1938-1939.
История человечества. Всемирная история. Т. 1-4. СПб., 1903.
Карамзин Н. М. Избранные статьи и письма. М., 1982.
Карамзин Н. М. История государства Российского: в 4-х кн. М.,
1988.
Карамзин Н. М. Предания веков. М., 1988.
Карлейль Т. Французская революция. История. М., 1991.
Kapp Э. X. Русская революция от Ленина до Сталина. 1917-1929.
М., 1990.
Керенский А. Ф. Россия на историческом повороте: мемуары. М.,
1993.
Ключевский В. О. Исторические портреты. Деятели исторической
мысли. М., 1990.
Ключевский В. О. Неопубликованные произведения. М., 1983.
Ключевский В. О. Сочинения в восьми томах. Курс русской
истории. М, 1956-1959.
Ковалев С. И., Струве А. А., Снегирев И. Л. История древнего
мира. Древний восток. М., 1937.
Конрад Н. И. Избранные труды. История. Т. 1-2. М., 1971.
628
Кодин M. И. Россия в «сумерках» трансформаций. М., 2001.
Коэн С. Бухарин и большевистская революция. Нью-Йорк, 1974.
Крамер Д., Олстед Д. Маски авторитарности: очерки о гуру / Пер.
с англ. М., 2002.
Левандовский А. П. Карл Великий. Через Империю к Европе. М.,
1995.
Ле Гофф Ж. Цивилизация средневекового Запада. М., 1992.
Ливии Т. Война с Ганнибалом. М., 1993.
Литвак Б. Г. Великие управленцы. М., 2006.
Лужков Ю. М. Возобновление истории. М., 2003.
Лужков Ю. М. Развитие капитализма в России. Сто лет спустя:
спор с правительством о социальной политике. М., 2005.
Макиавелли Н. Государь. М., 1990.
Манфред А. 3. Наполеон Бонапарт. М., 1986.
Манхейм К. Человек и общество в эпоху преобразований. Диагноз
нашего времени. М., 1954.
Масарский М. В. Порядок и смута. М., 2000.
Медведев Р. А. Владимир Путин: четыре года в Кремле. М., 2004.
Медведев Р. А. О Сталине и сталинизме. М., 1990.
Милюков П. Н. Воспоминания. М., 1991.
Моисеев Н. Н. Алгоритмы развития. М., 1987.
Моммзен Т. История Рима. СПб., 1993.
Морган Гэрет. Образы организации / Пер. с англ. М., 2008
Москва, осень-93. Хроника противостояния. М., 1995.
Мухин А. А. Питерское окружение Президента. М., 2003.
Мюллер А. История ислама: в 4-х т. / Пер. с нем. М., 2004.
Мюллер-Гиллебранд Б. Сухопутная армия Германии, 1933-1945:
в 3-х т. М., 1976.
Неизвестная Россия, XX век: в 4-х т. М., 1992.
Нойкирхен X. Пираты. М., 1980.
629
Ольденбург С. С. Царствование императора Николая II. М., 1992.
Павленко Н. И. Александр Данилович Меншиков М., 1989.
Пайпс Р. Россия при большевиках. М., 1997.
Пайпс Р. Россия при старом режиме. Кембридж, Массачусетс,
1980.
Пайпс Р. Русская революция. М., 1994.
Палеолог М. Царская Россия накануне революции. М., 1991.
Платонов С. Ф. Очерки по истории смуты в Московском
государстве XVI-XVII вв. СПб., 1899.
Платонов С. Ф. Лекции по русской истории. М., 1993.
Плутарх. Сочинения. М., 1983.
Подберезкин А. И. Русский Путь. М., 1999.
Попов Г. X. О революции 1989-1991 гг. М., 2004.
Попов Г. X. О номенклатурно-олигархической демократии 1992-
1999 годов. М., 2004.
Поршнев Б. Ф. О начале человеческой истории. М., 1972.
Рар А. Владимир Путин. «Немец» в Кремле / Пер. с нем. М.,
2001.
Рожков В. Очерки по истории римско-католической церкви. М.,
1994.
Российские самодержцы. 1801 — 1917. М., 1995.
Россия XVIII в. глазами иностранцев. Л., 1989.
Россия XVIII столетця. Записки княгини Е. Р. Дашковой. М.,
1990.
Россия XVIII столетия. Записки сенатора И. В. Лопухина. М.,
1990.
Россия в XX в. Историки мира спорят. М., 1994.
Россия первой половины XIX в. глазами иностранцев. Л., 1991.
Рубежи. № 8-9. М, 1997.
Русские мемуары (1800-1825). М., 1989.
630
Русские мемуары (1826-1856). M., 1990.
Рыбаков Б. А. Киевская Русь и русские княжества XII—XIII вв.
М, 1993.
Савинков Б. В. Избранное. М., 1990.
Самосознание европейской культуры XX в. М., 1991.
Самсонов А. М. Вторая мировая война. М., 1985.
Сартори Дж. Вертикальная демократия // Полис. № 2. 1993.
Светоний Г. Т. Жизнь двенадцати цезарей. М., 1988.
Свод законов Российской империи. Б. м., 1892. Т. 1,2, 9.
Свод Законов Российской Империи. Б. м., 1906. Т. 1.
Серль Дж. Рациональность в действии / Пер. с англ. М., 2004.
Синергетическая парадигма. Человек и общество в условиях
нестабильности. М., 2003.
Сироткин В. Г. Зарубежные клондайки России. М., 2003.
Сироткин В. Г. Кто обворовал Россию? М., 2003.
Сироткин В. Г. Почему «слиняла» Россия? М., 2004.
Системный подход в современной науке. М., 2004.
Скрынников Р. Г. Трагедия Новгорода. М., 1993.
Слассер Р. Сталин в 1917 году. М., 1989.
Снегирев И. Л., Францов Ю. П. Древний Египет. М., 1937.
Соловьев С. М. Публичные чтения о Петре Великом. М., 1984.
Соловьев С. М. Чтения и рассказы по истории России. М, 1989.
Соловьев С. М. История России с древнейших времен до наших
дней: в 18 кн. М., 1988-1996.
Солоневич И. Л. Наша страна. XX век. М., 2001.
СССР — Германия 1939-1941: документы и материалы. Вильнюс,
1989.
Стародубровская И. В., May В. А. Великие революции: от
Кромвеля до Путина. М., 2001.
631
Стасюлевич M. История средних веков. СПб., 1864.
Степанков В., Лисов Е. Кремлевский заговор. Версия следствия.
М, 1992.
Струве В. В. История древнего Востока. М, 1934.
Такер Р. Сталин. Путь к власти. 1879-1929. М., 1991.
Типпельскирх К. История Второй мировой войны: в 2-х т. СПб.,
1994.
Тихомиров Л. А. Монархическая государственность. СПб., 1992.
Тойнби А. Дж. Постижение истории / Пер. с англ. М., 1991.
Тойнби А. Дж. Цивилизация перед судом истории / Пер. с англ.
М., 1996.
Токвиль А. Демократия в Америке / Пер. с фр. М., 1994.
Троцкий Л. Д. Дневники и письма. М., 1994.
Троцкий Л. Д. Преступления Сталина. М., 1994.
Тюлар Ж. Мюрат или пробуждение нации / Пер. с фр. М., 1993.
Уткин А. И. Мировой порядок XXI в. М., 2001.
Утченко С. Л. Цицерон и его время. М., 1986.
Утченко С. Л. Юлий Цезарь. М., 1976.
Фартышев В. Последний шанс Путина. Судьба России в XXI в.
М., 2004.
Федотова В. Г. Модернизация «другой» Европы. М., 1977.
Ферро М. Николай II, М., 1991.
Фест И. Адольф Гитлер: в 3-х т. Пермь, 1993.
Франк С. Л. По ту сторону «правого» и «левого». М., 1990.
Фридман М. Капитализм и свобода / Пер. с англ. Нью-Йорк,
1982.
Хайек Ф. А. Дорога к рабству / Пер. с англ. Лондон, 1983.
Хайек Ф. А. Пагубная самонадеянность. Ошибки социализма /
Пер. с англ. М., 1992.
632
Хантингтон С. Политический порядок в меняющихся обществах /
Пер. с англ. М., 2004.
Харботл Т. Битвы мировой истории: словарь. М., 1993.
Цареубийство И марта 1801 года. М., 1990.
Черчилль У Вторая мировая война: в 6-ти т. / Пер. с англ. М.,
1991.
Черчилль У. Мировой кризис. 1916-1918 / Пер. с англ. Лондон,
1927. Т. 1.
Ширер У. Взлет и падение третьего рейха: в 2-х т. / Пер. с нем. М.,
1991.
Шульгин В. В. Дни. 1920. М., 1989.
Шумпетер И. Капитализм, социализм и демократия / Пер. с англ.
М., 1995.
Эйдельман Н. Я. Твой 18-й век. М., 1991.
Эйдельман Н. Я. Герцен против самодержавия. М., 1984.
Эйдельман Н. Я. Из потаенной истории России XVII-XIX веков.
М., 1993.
Эйдельман Н. Я. Мгновенье славы настает... Л., 1989.
Энгельс Ф. Происхождение семьи, частной собственности и
государства. М., 1935.
Янов А. А. Россия: у истоков трагедии. 1462-1584. Заметки о
природе и происхождении русской государственности. М., 2001.
Aron R. Plaidoyer pour l'Europe décadente. Robert Laffont, 1977.
Custine A. Lettres de Russie. La Russie en 1839. Gallimard, 1975.
Duverger M. De la dictature. Paris, Fayard, 1961.
Duverger M. Demain, la République. Paris, Fayard, 1958.
Duverger M. La démocratie sans le peuple. Paris, Fayard, 1967.
Duverger M. La monarchie républicaine. Paris, Fayard, 1974.
Duverger M. La VI République et le régime présidentiel. Paris, Fayard,
1961.
Duverger M. Janus. Les deux faces de l'Occident. Paris, Fayard, 1972.
633
Gaudard J.-P. Les danseuses de la République. Belfond, 1984.
Gingras I., Keating P., Limoges C. Du scribe au savant. Boréal, 2002.
Lecoer A. Le P. С F., continuité dans le changement. Robert Laffont,
1977.
Lepage H. Demain le libéralisme. Paris, Dunod, 1980.
Lepage H. Vive le commerce. Paris, Dunod, 1980.
Levi B.-H. La Barbarie à visage humain. Grasset, 1977.
Mendel G. Une histoire de l'autorité: permanences et variations. Paris:
Edition le де la Découverte, 2002.
Mises L. Le socialisme. Paris, 1952.
Monnet J. Mémoires. Fayard, 1976. T. 1-2.
Peyrefitte A. Le mal français. Paris, Pion, 1976.
Rouanet A. Les trois derniers chagrins du général de Gaulle. Grasset,
1980. T. 1-2.
ОГЛАВЛЕНИЕ
ВВЕДЕНИЕ .3
/
Глава 1. КУЛЬТУРА «ОГНЯ И ВЗРЫВА» 10
Продуктивен ли хаос? 10
Народ и массы 13
Охранительные силы порядка 18
Бегство от тягла . 21
«Сначала успокоение, потом реформы» . 25
Вакуумирующий взрыв безвластия . 35
Когда «начальство ушло» . 49
Хаос пришел сверху . 57
«Власть из дула винтовки» 65
Глава 2. СОЦИАЛЬНАЯ ЭНТРОПИЯ:
ВАРВАРСТВО И ХАОС . 80
Энергия распада и синтеза 80
Дружины против государств 84
Варваризация этносов 91
Подвижные барьеры цивилизаций 94
Федерализация варваров . 98
Стабилизаторы порядка 100
Легитимная сила и внесистемное насилие 104
«Аль-Каида» Средневековья 108
Терроризм и государство 113
Глава 3. ВЫЗОВЫ И ОТВЕТЫ 132
Запреты и правила 132
635
«Почет — земледелию, позор — торговле». 137
Без собственности нет свободы 139
Без собственности нет справедливости 143
Влияние. Престиж. Авторитет 146
Фрагментация политических пространств 152
Этатизация варваров 163
Торговцы — воины — князья 169
Первый этап западноевропейского Возрождения 174
Воины, города и священники 180
Вызовы и ответы 184
Неравновесность — атрибут живого 189
Политэкономия конфликтов 191
Рентабельность морали 194
Демократия — организованная сложность 195
Проблема — спутница демократии 197
Фазовые переходы 199
Устойчивость неравновесных систем 201
Глава 4. ДЕМОКРАТИЯ, УГРОЖАЮЩАЯ СВОБОДЕ 204
От авторитета — к автократии 204
Социальное неравенство как основа порядка 206
«Мужи» и «мужики» 210
Центральное торможение 213
Лидерство. Господство. Власть 214
Государство и «господство немногих» 220
Правосубъектность индивидов 224
Республика равных 227
Коллапс государственности 235
Голос городского глашатая 240
Оппозиция политическому фамилиализму
породила демократию 242
Архе и кратос 247
От родового протогосударства —
к территориально-общинному государству 251
Суд черепков 256
Завистливое равенство 260
Делегирование или представительство? 264
Рим со стенами 268
Устойчивость смешанного государственного строя 272
Силовая экспансия республики 275
Право против справедливости 279
Древний опыт деприватизации 283
Глава 5. МЕЖДУ ОПРИЧНИНОЙ И ЗЕМЩИНОЙ 288
Собиратели земель 288
Удельные вольности и вотчинное рабство 294
Антиземское государство 297
Централизация государств 303
Модернизационная школа феодализма 307
Системное упрощение как способ модернизаций 316
Политическая правосубъектность 319
Между Опричниной и Земщиной . 324
Крепостное право 329
Союз «опричников» и «казаков» 333
Две тенденции развития . 338
Глава 6. ОБЩЕСТВЕННАЯ ЦЕНА
ГОСУДАРСТВЕННОГО ПОРЯДКА 347
Исторические альтернативы московскому
самодержавию 347
Слабая федерация 355
Политические перевороты и социальные мутации 359
637
Мобилизационная модель 363
Дружина и Орда . 368
«Поворот на Германы» 373
Воины и помещики 379
Российская регулярность: деньги и солдаты 390
Апология государственного насилия
над обществом 395
Между «латинянами» и «агарянами» 404
О корпоративности российской
государственности 410
Ограничители власти 418
Печальная выгода тревожных времен 425
Разорванные Кондиции 432
«Наказ для Уложенной комиссии» 441
Глава 7. ПЕРВЫЙ РАЗ - В СРЕДНИЙ КЛАСС 448
Операторы смыслами и ресурсами 448
Идейные попечители народного блага 454
Информационное общество и демократия 461
Имя вместо звания 463
Идеи и интересы 468
Буржуа — мещане — граждане 474
Глава 8. УРОВНИ СВОБОДЫ 483
Россия сосредоточивается 483
Алгоритмы российских модернизаций 490
Инструменты преобразований 501
Технология власти 504
Три цвета времени 529
638
Шок без терапии 541
Либеральный авторитаризм 544
Технодемократия 549
Управляемая демократия 553
Системные риски имущественного неравенства 565
Демократия голосования 571
Сила справедливости 579
Уровни свободы 590
Стратегия управляемой неустойчивости 601
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 612
БИБЛИОГРАФИЯ 626