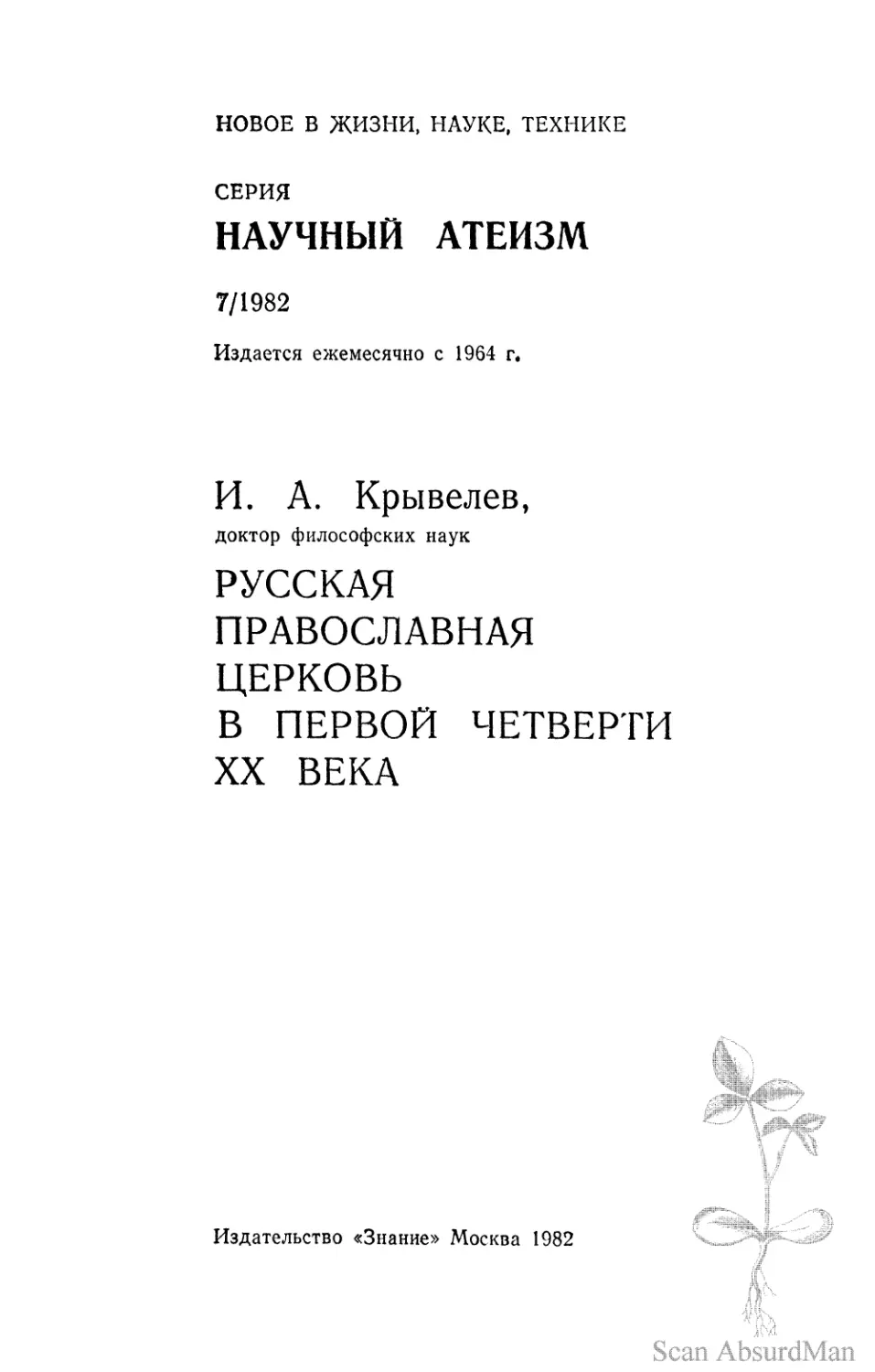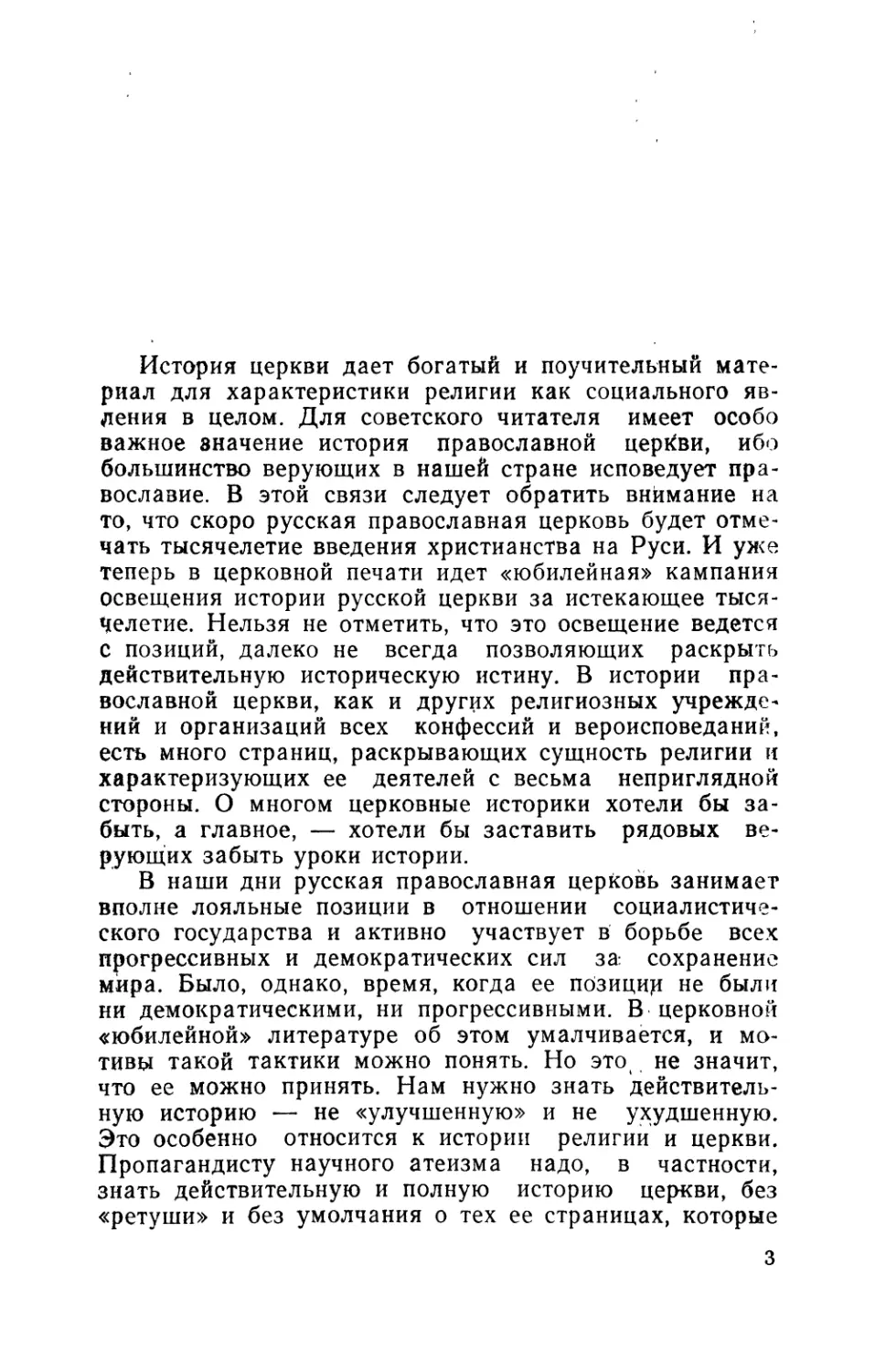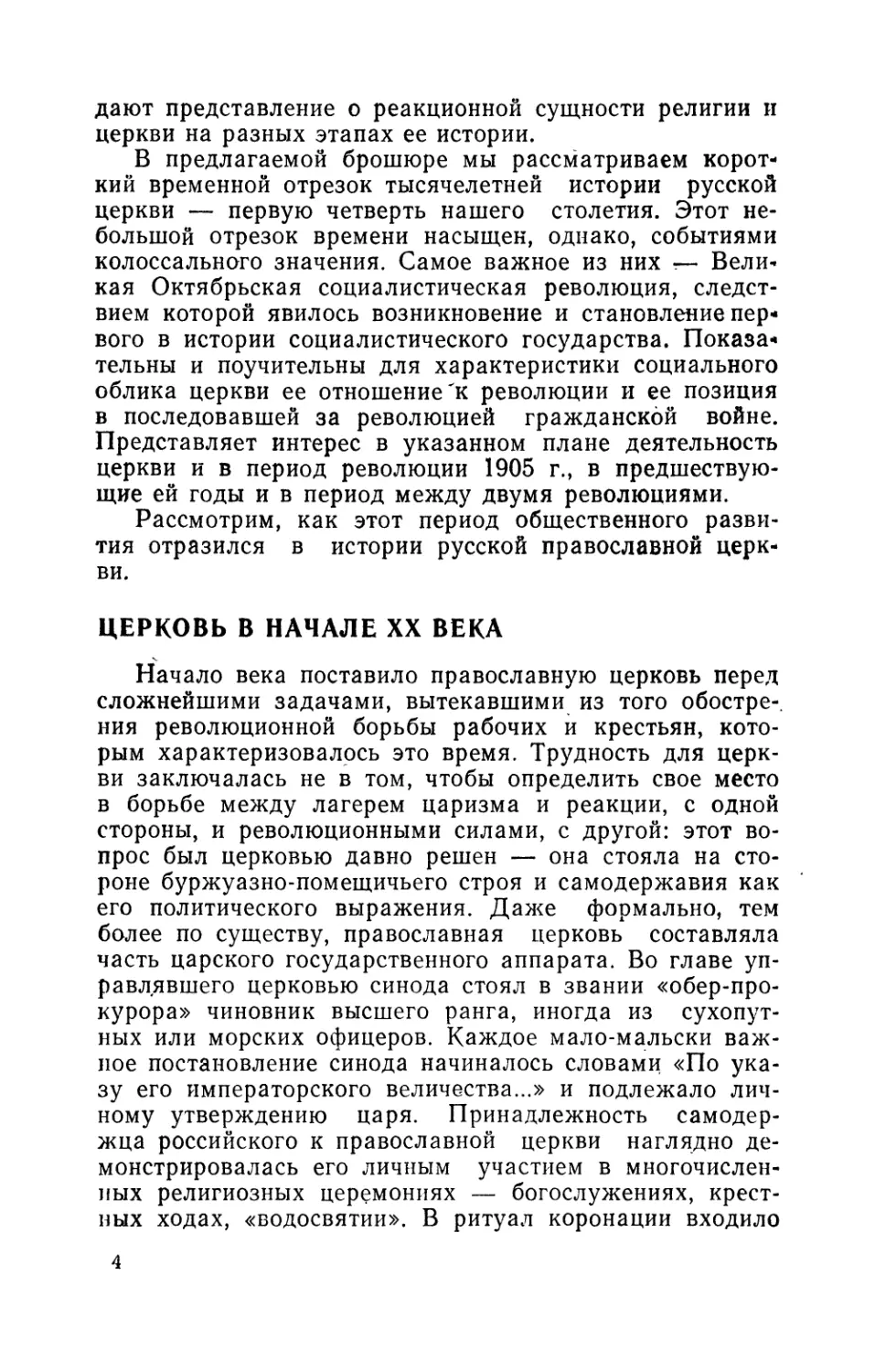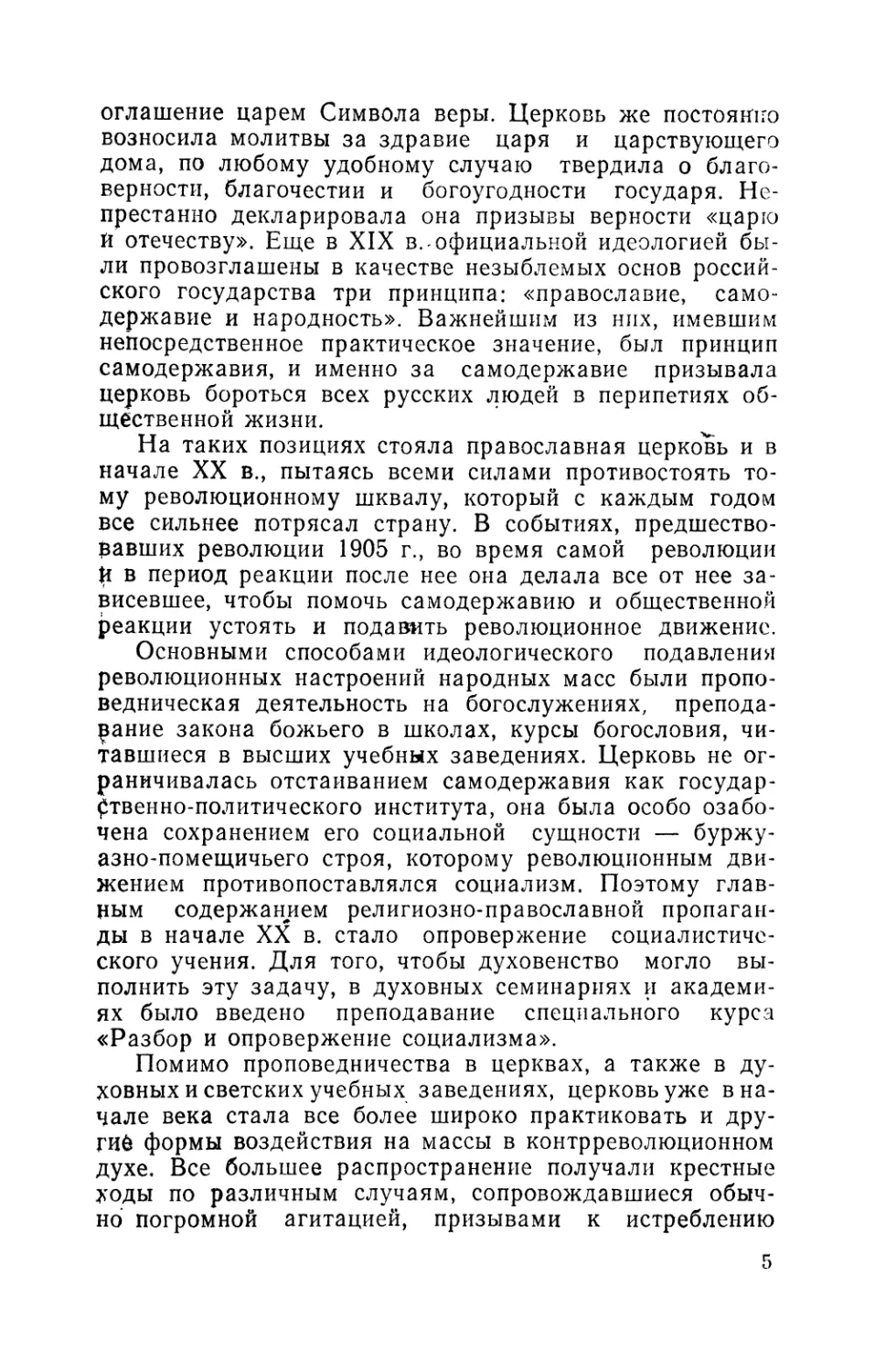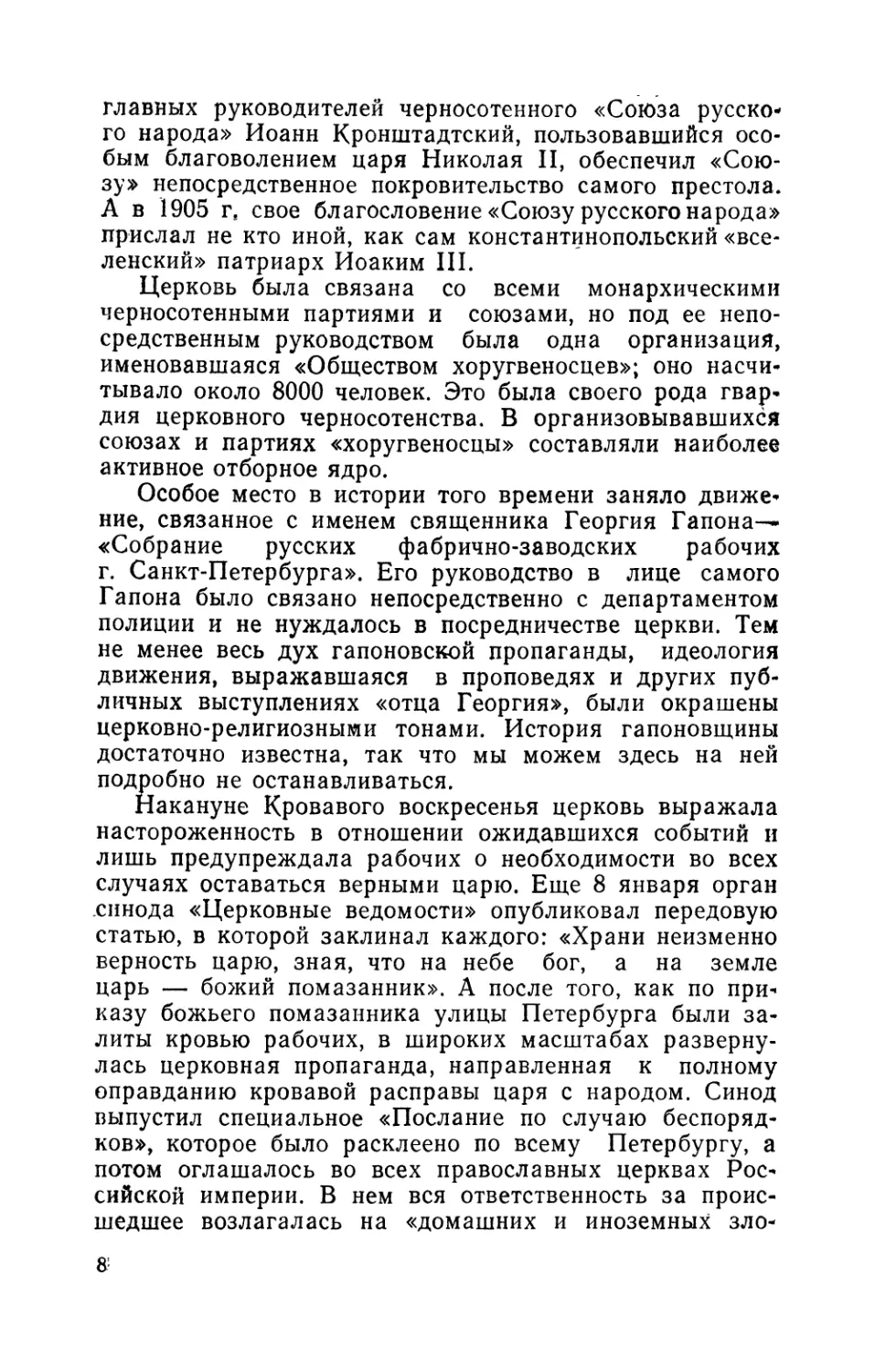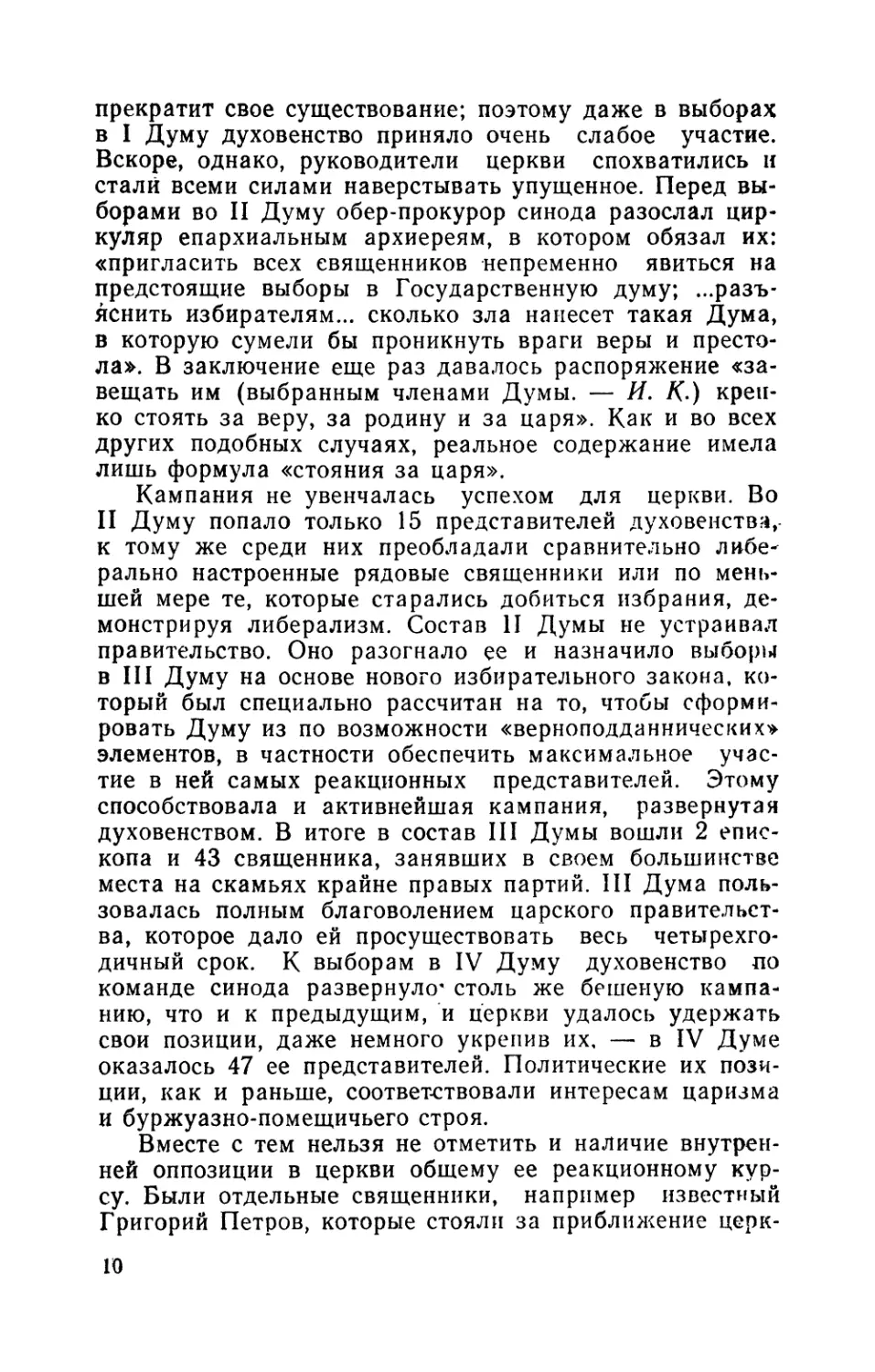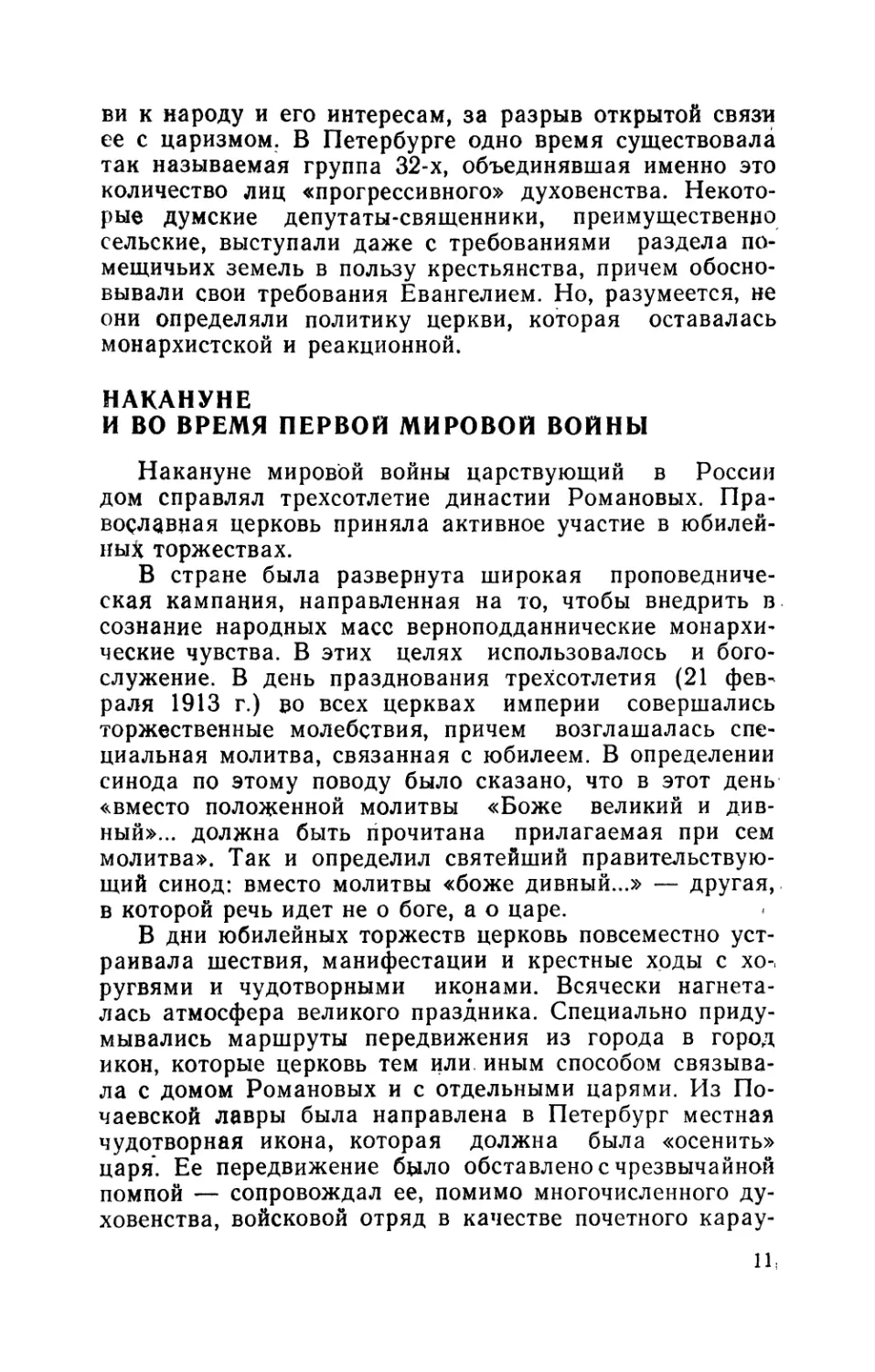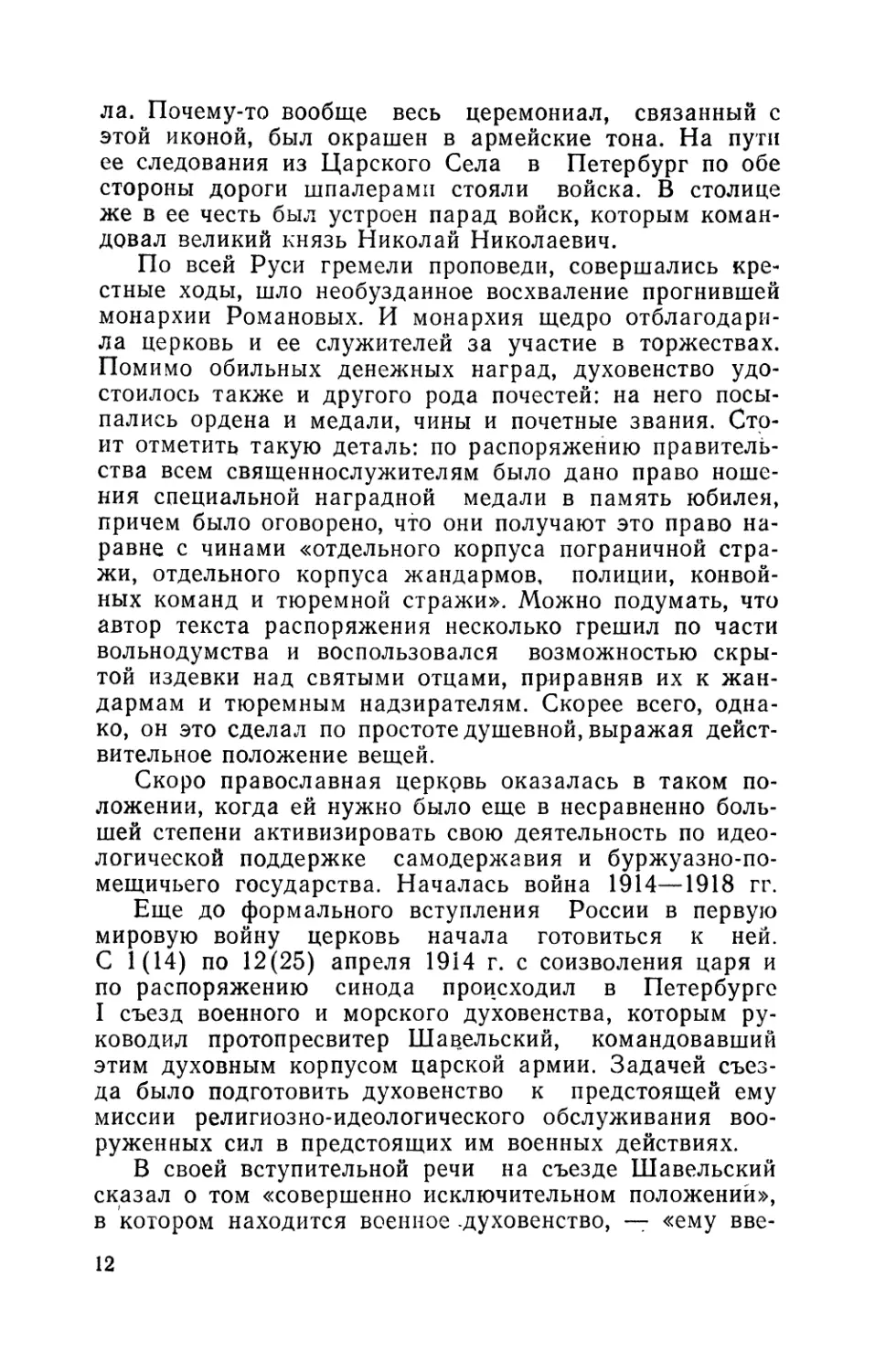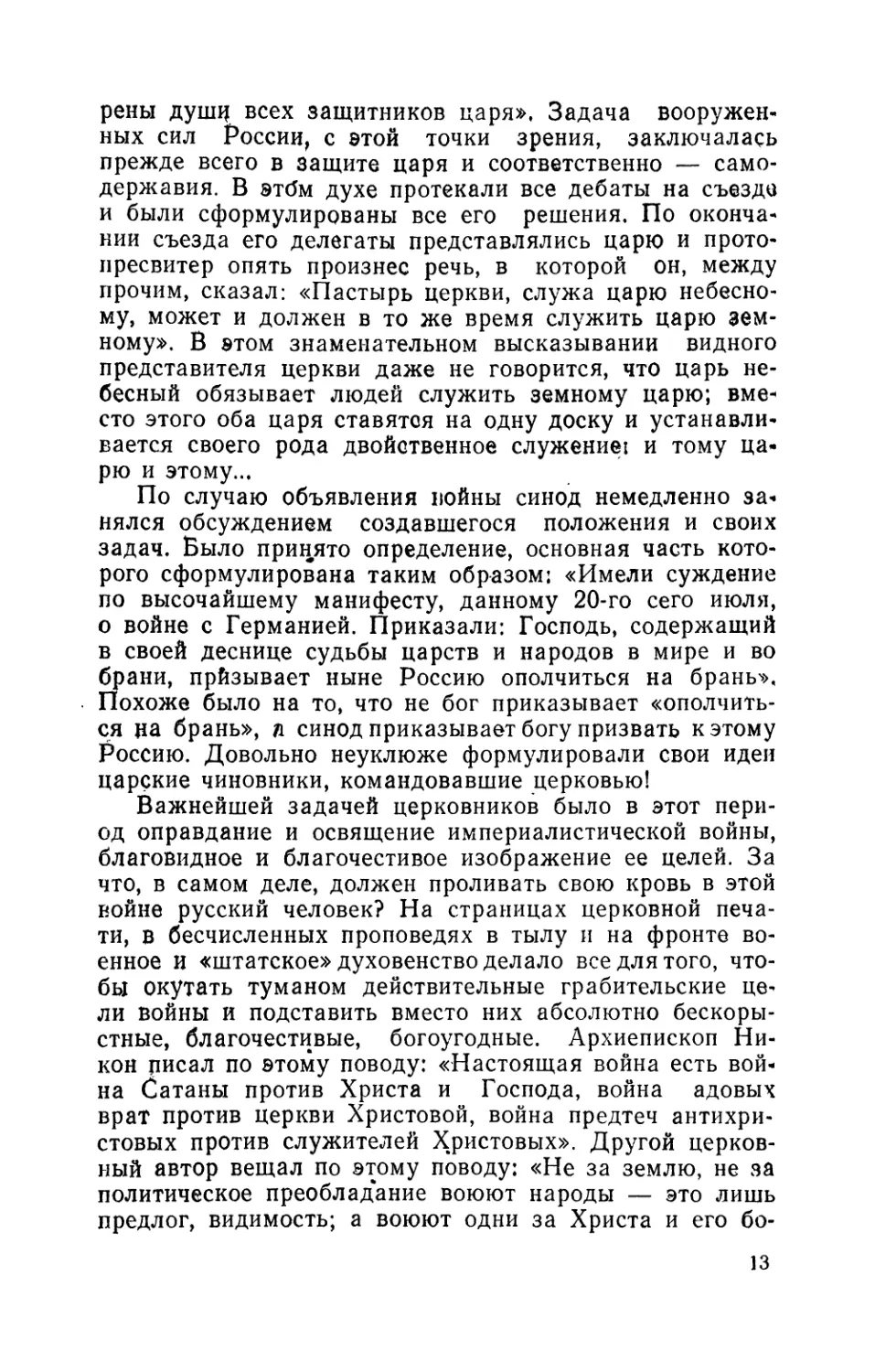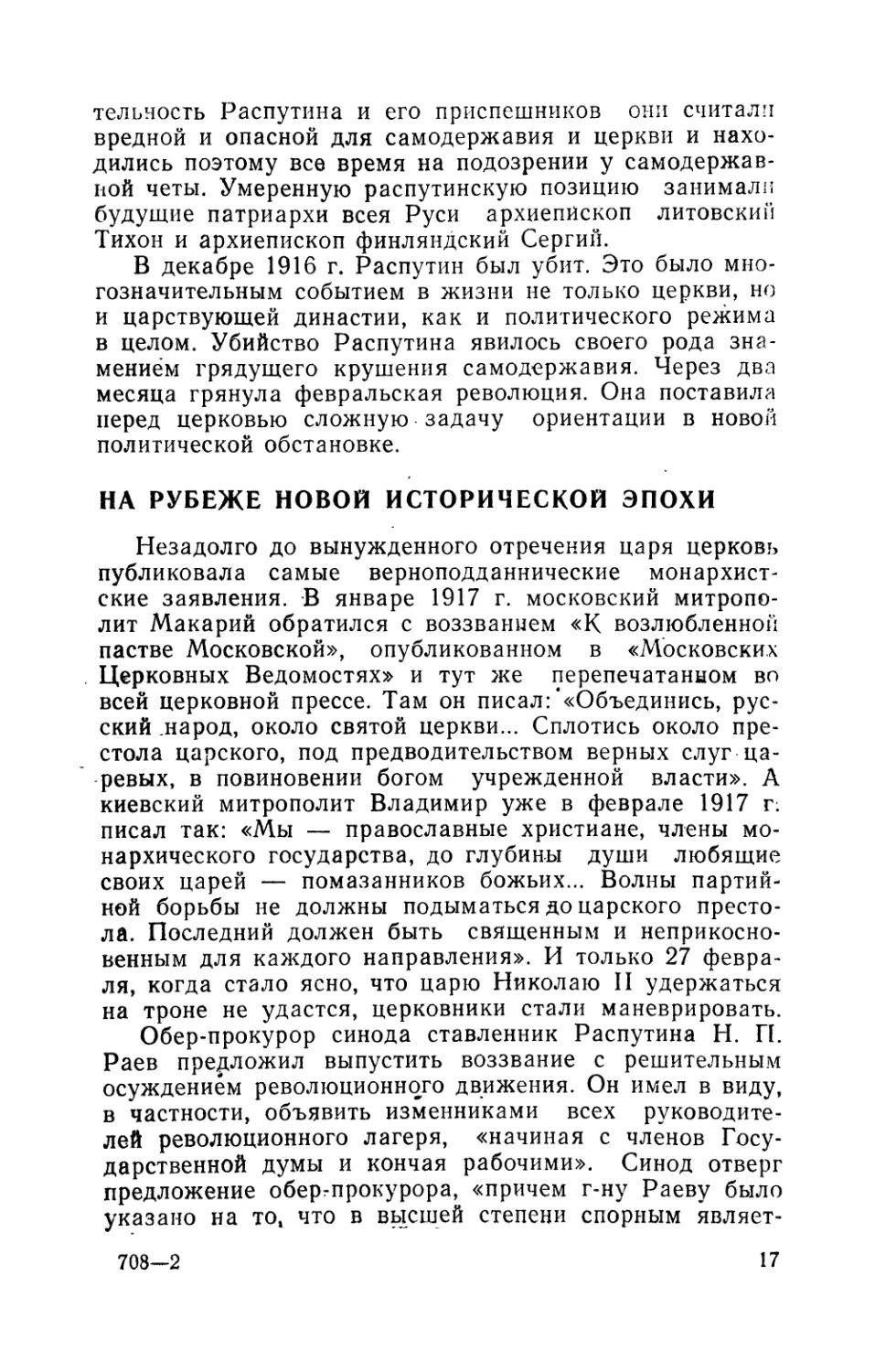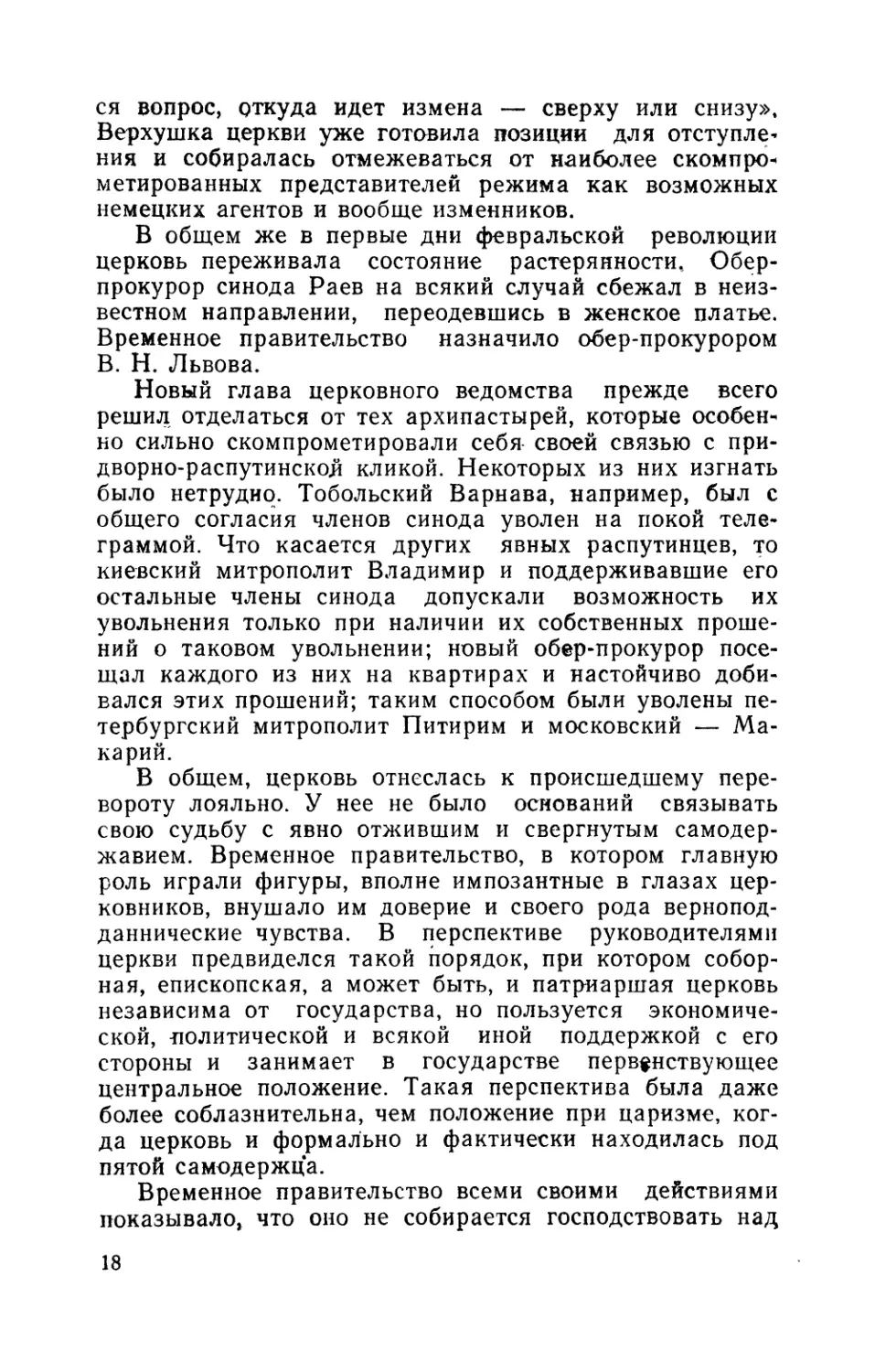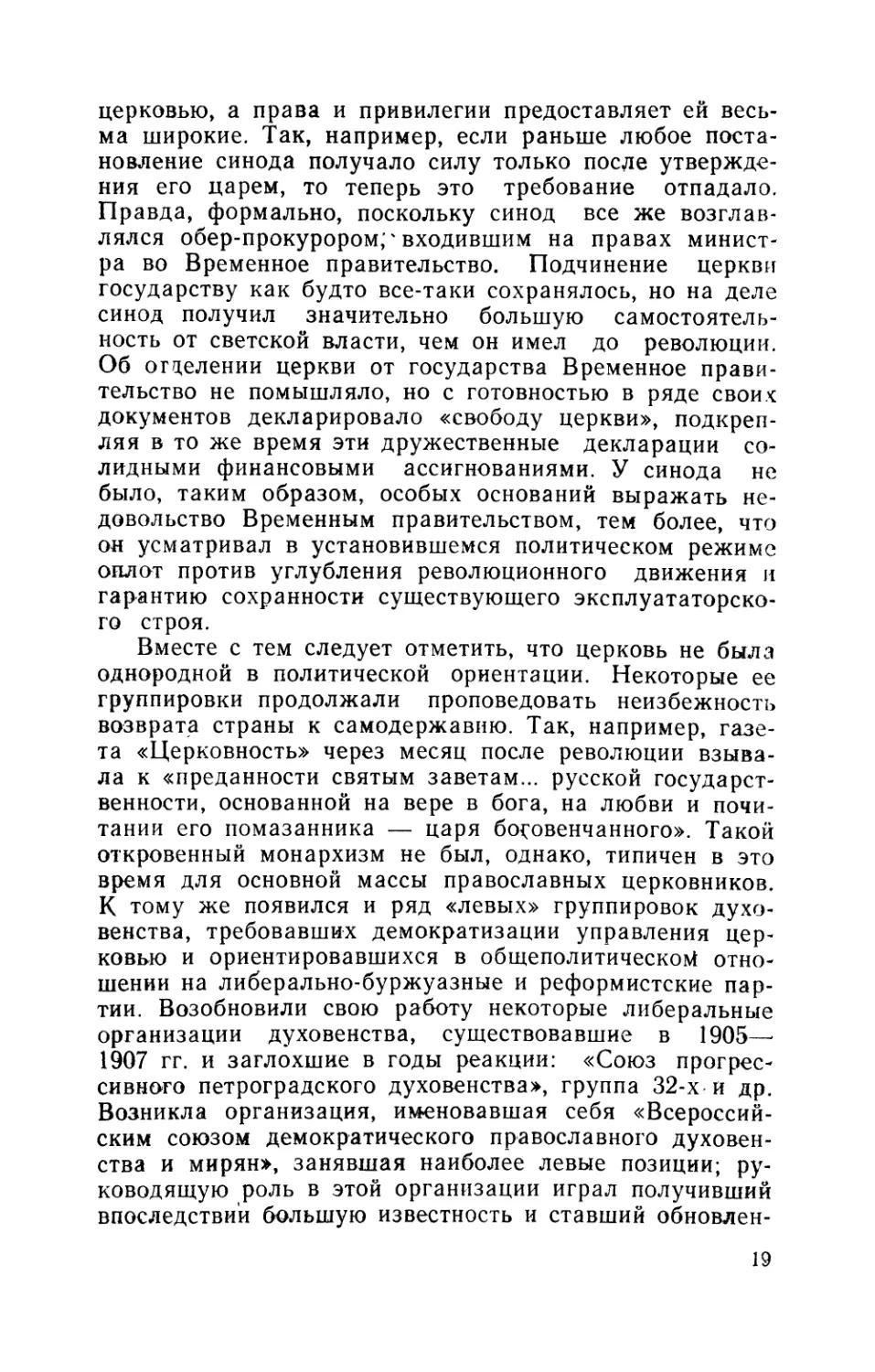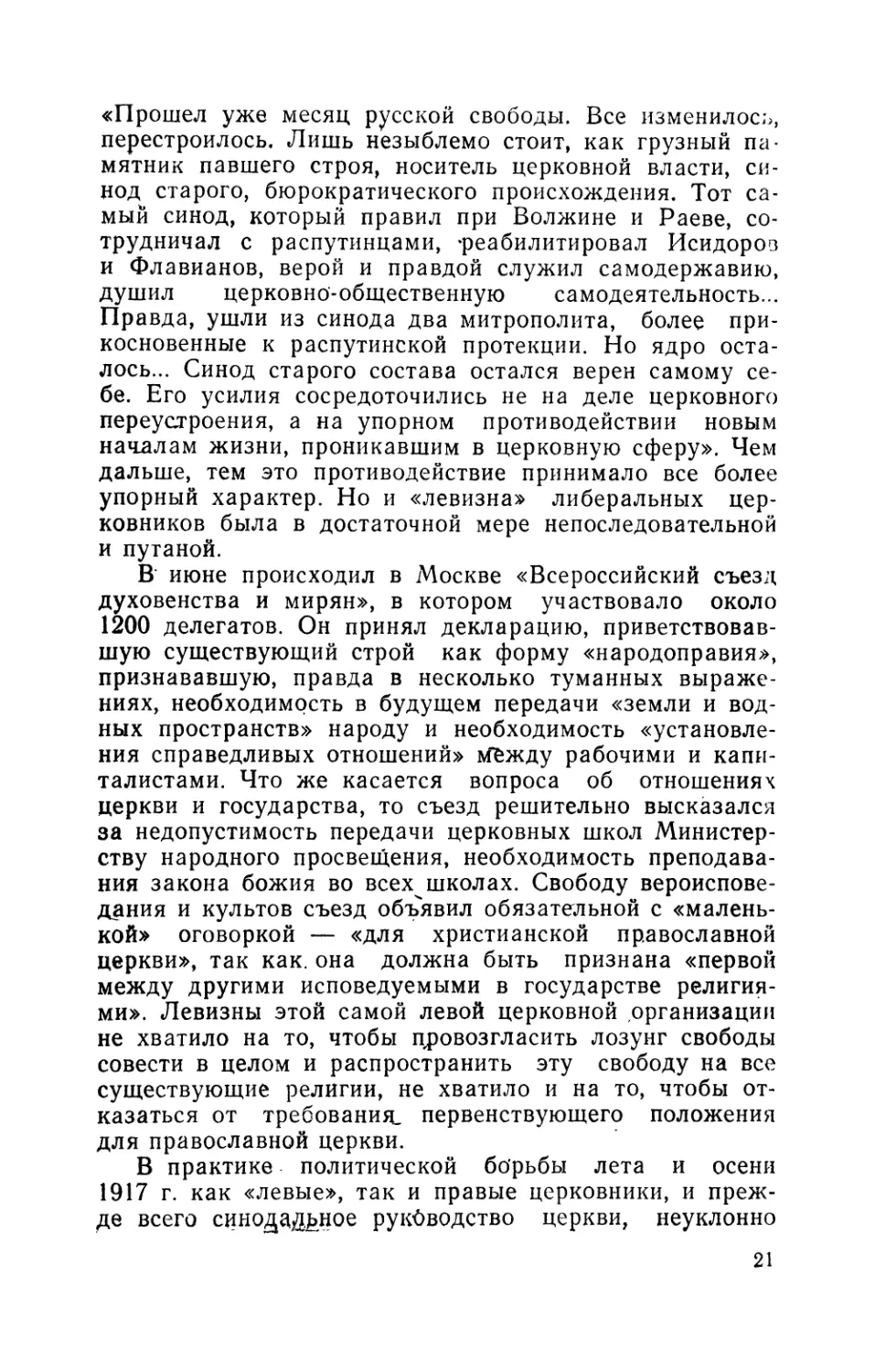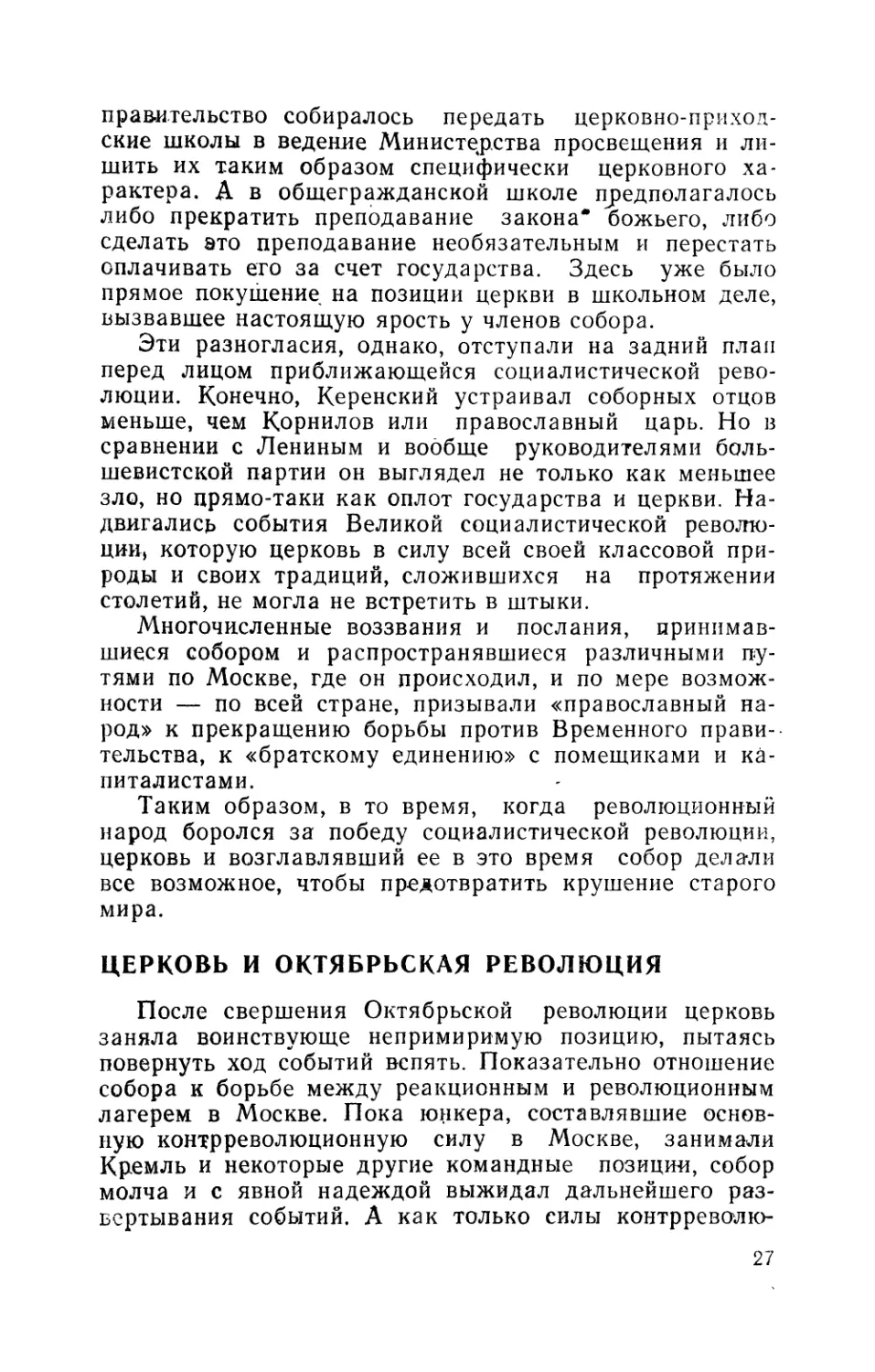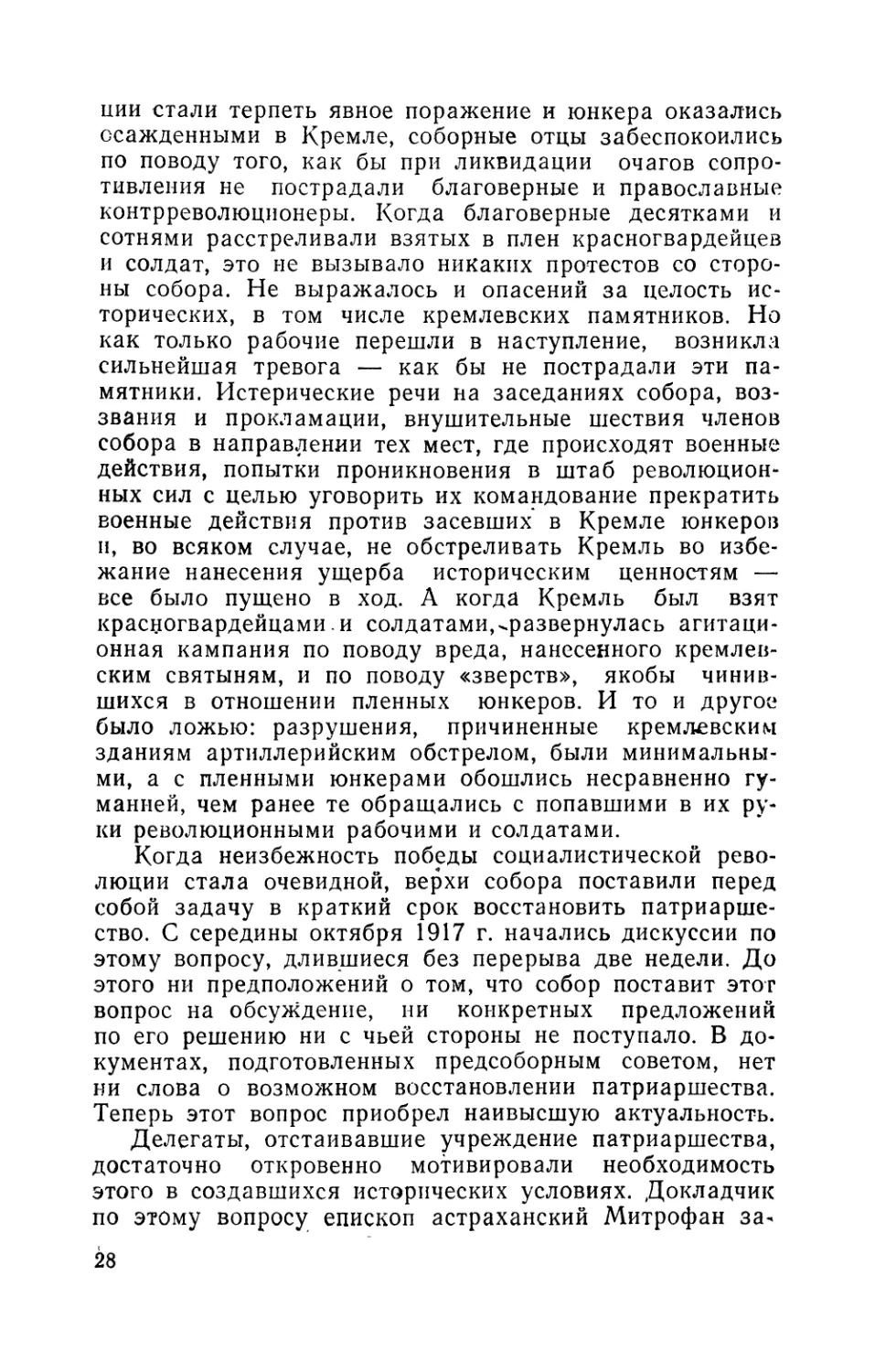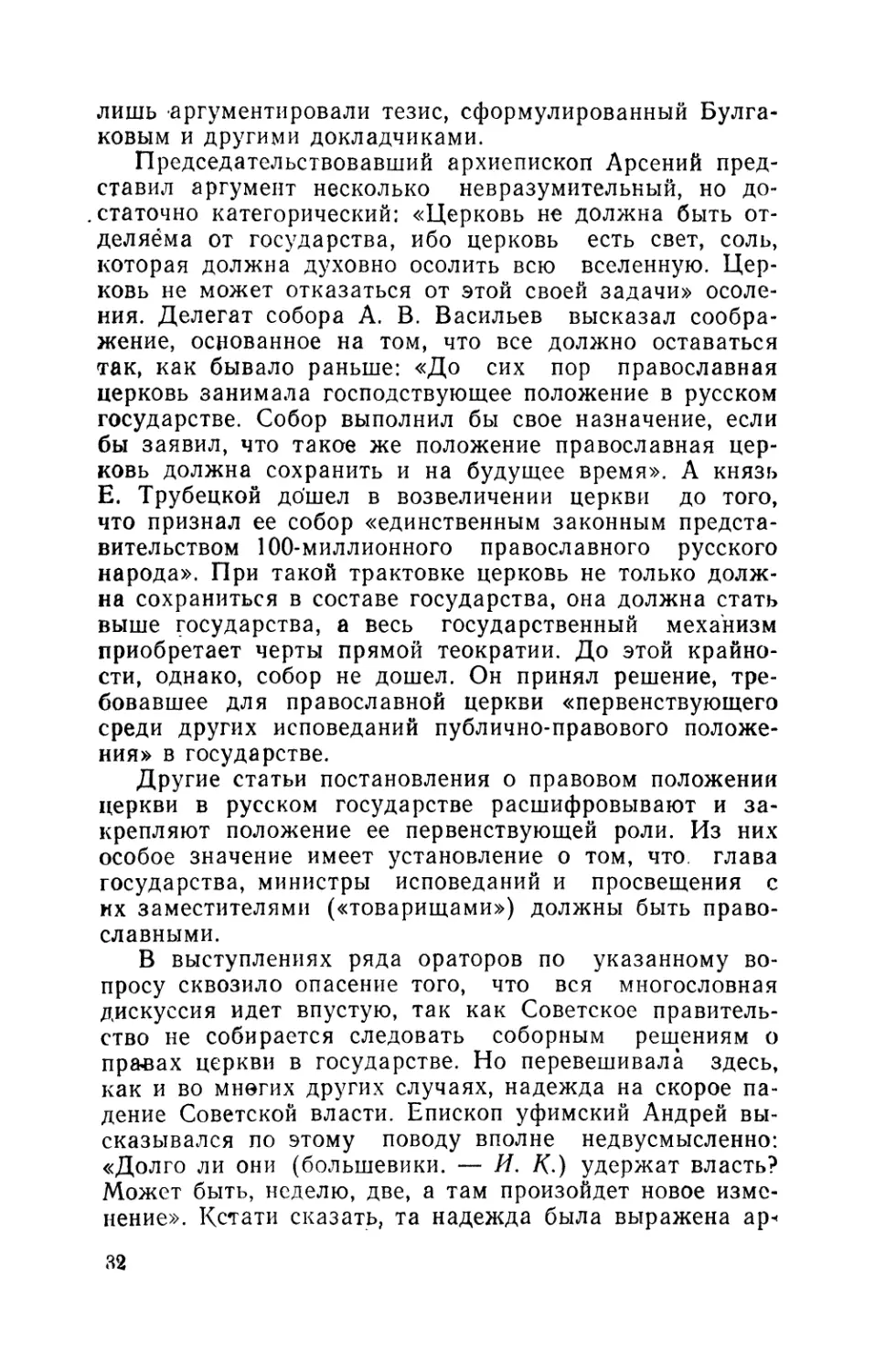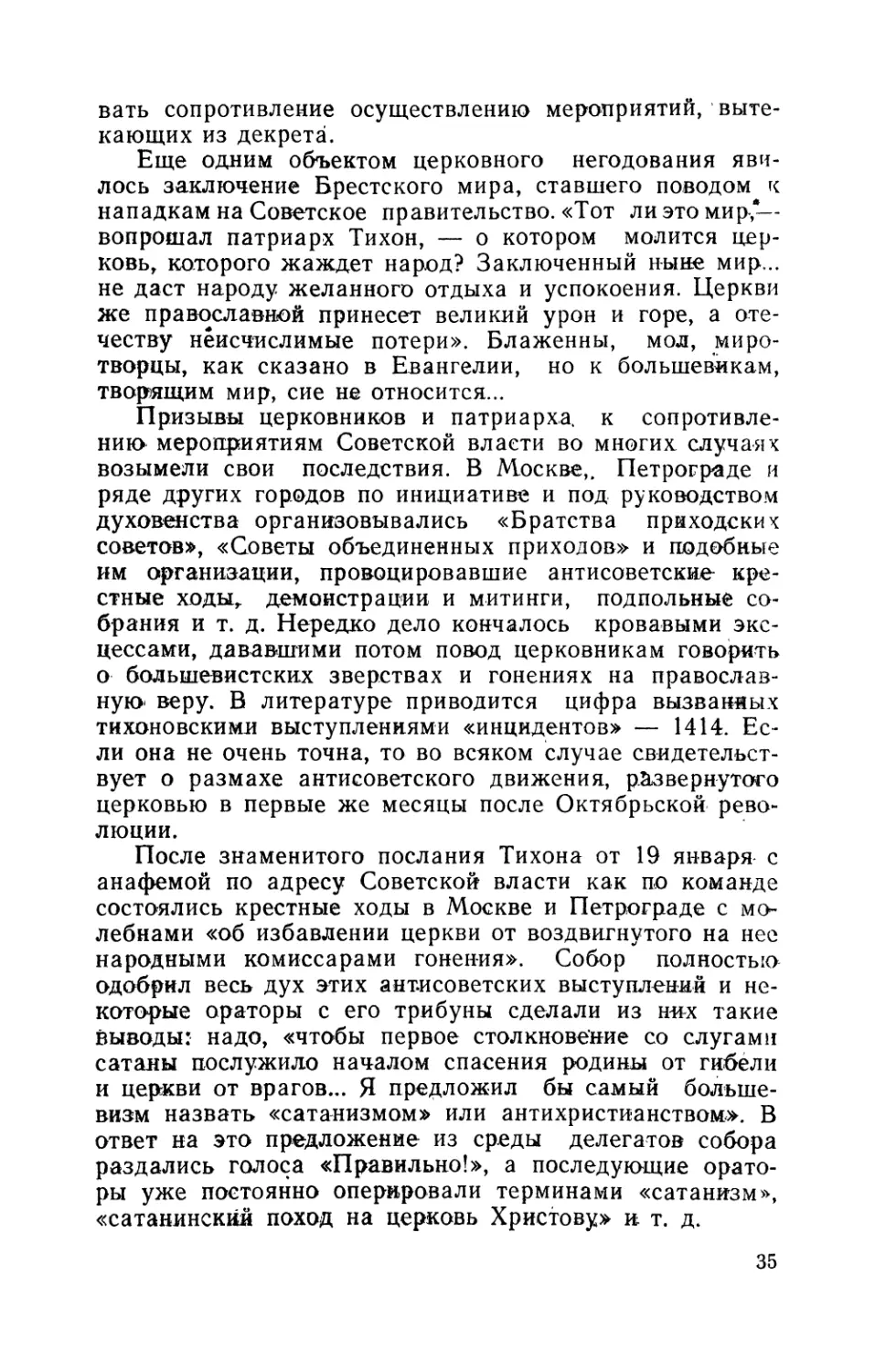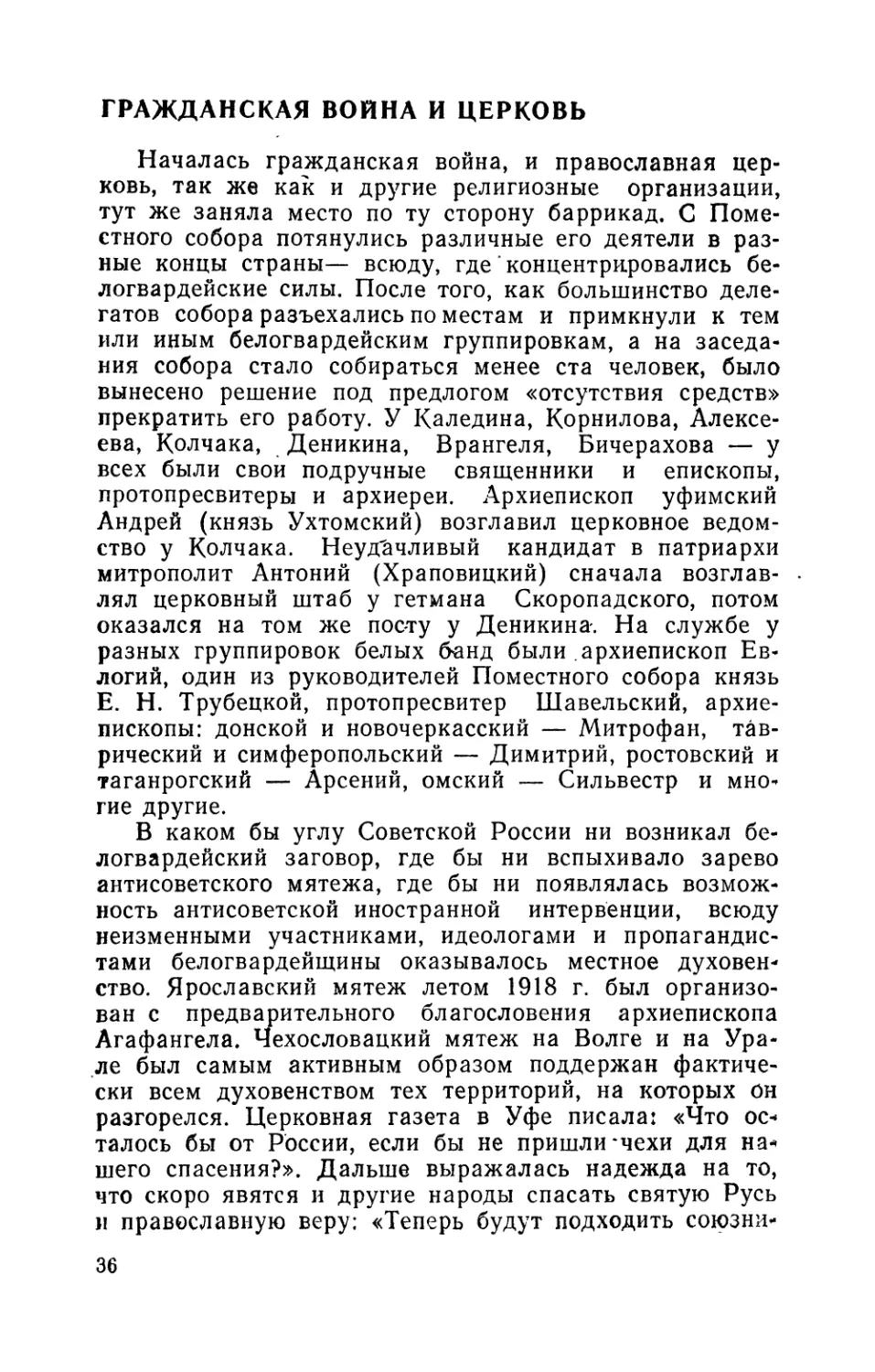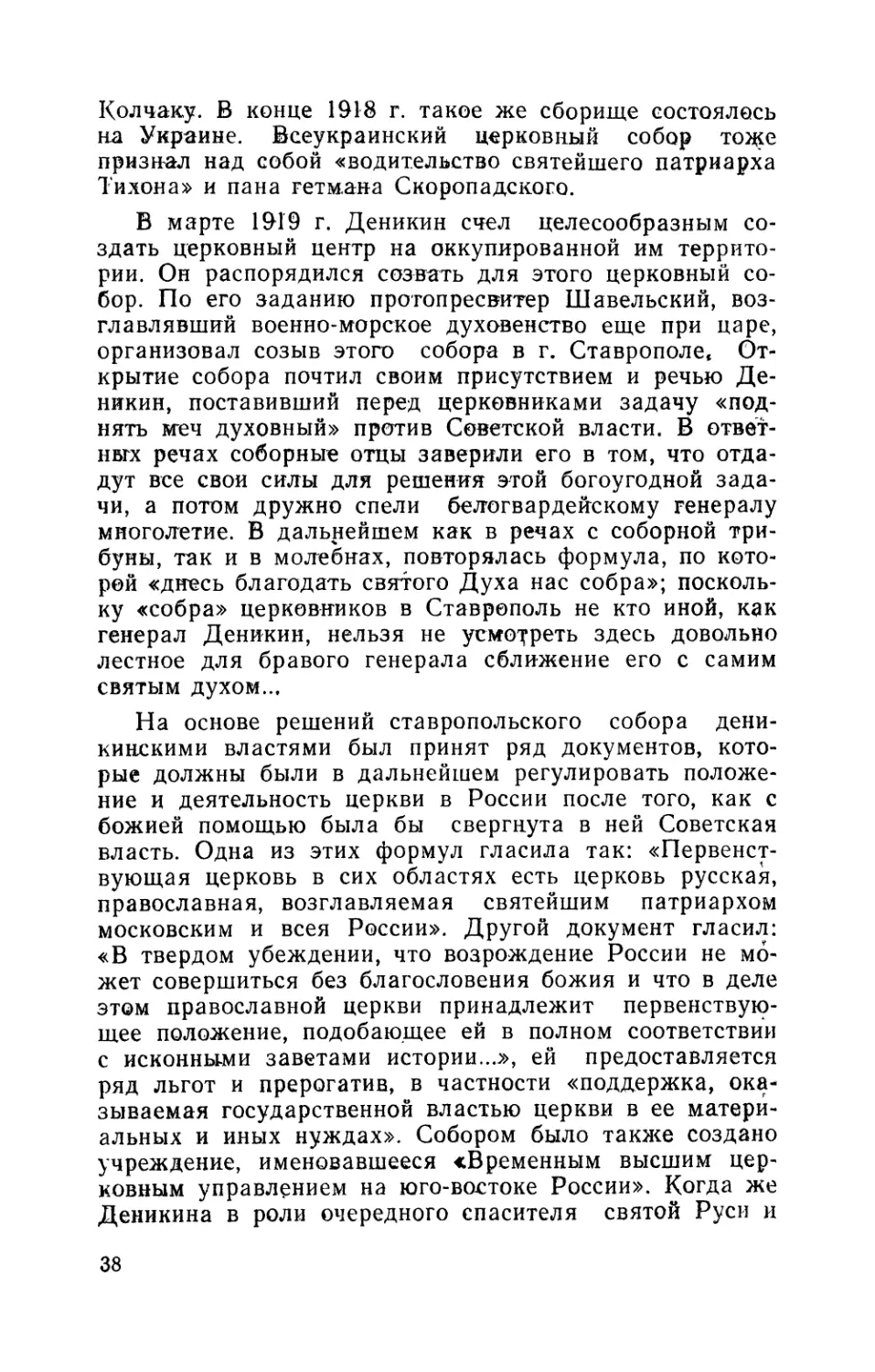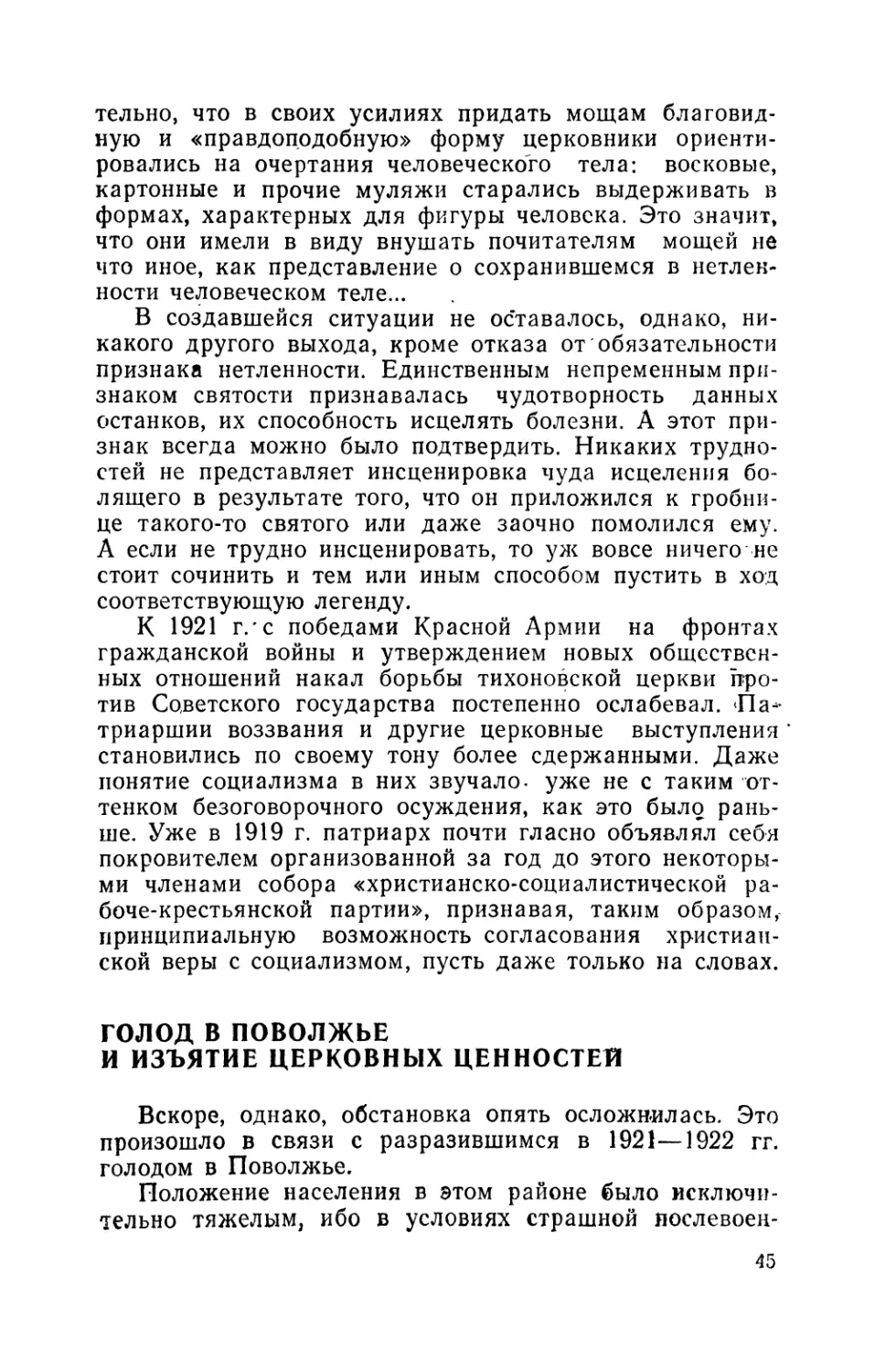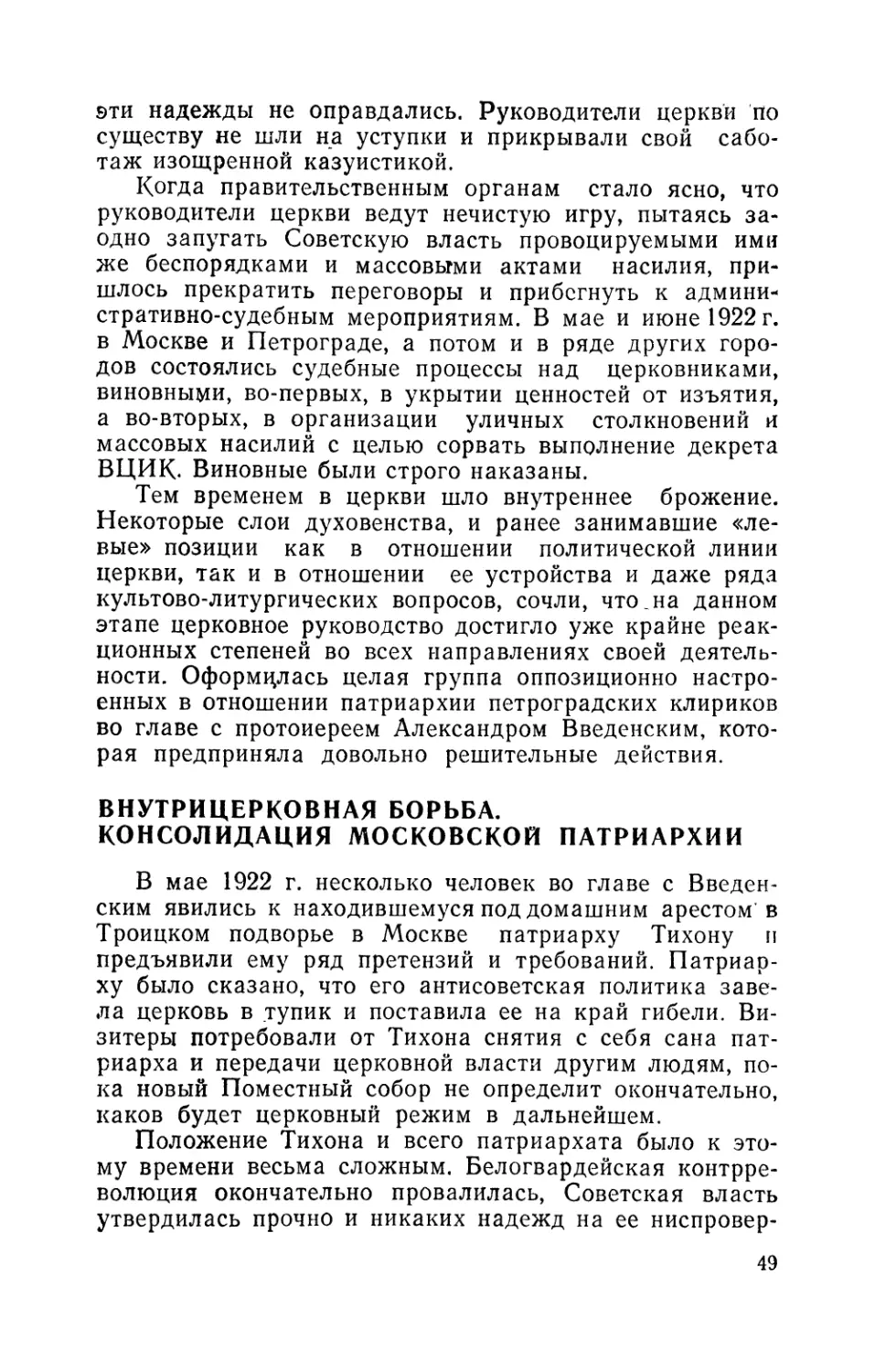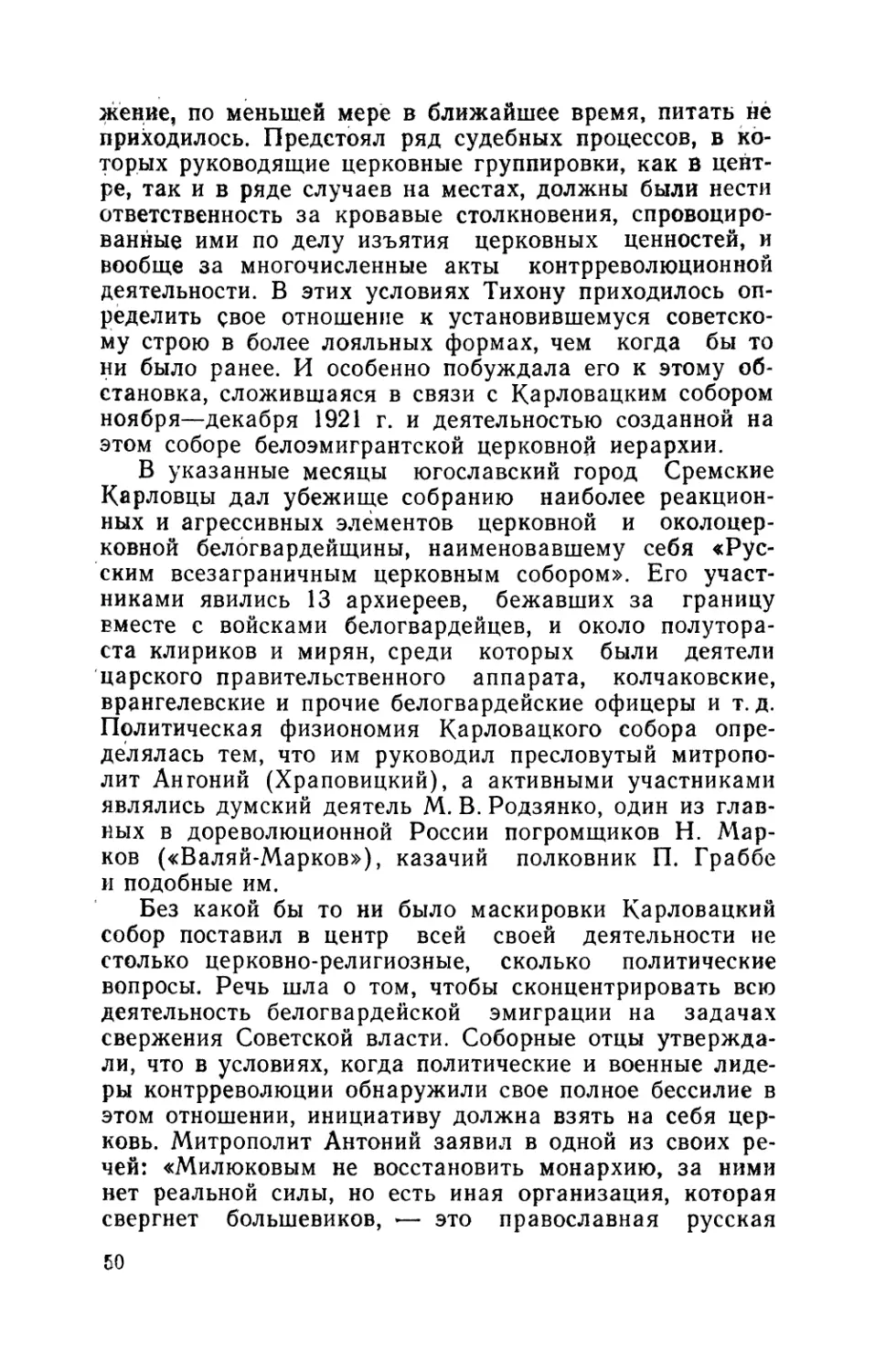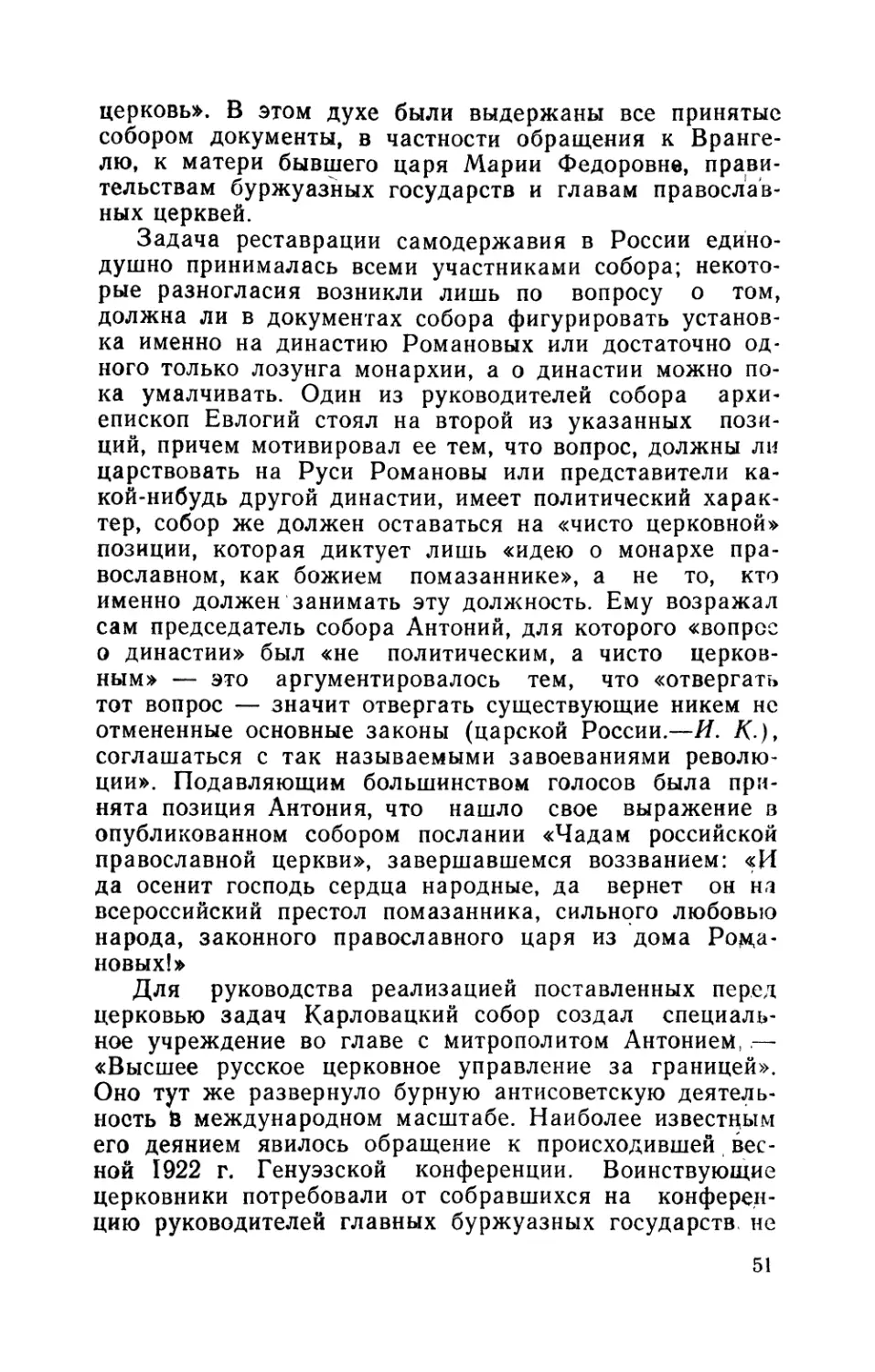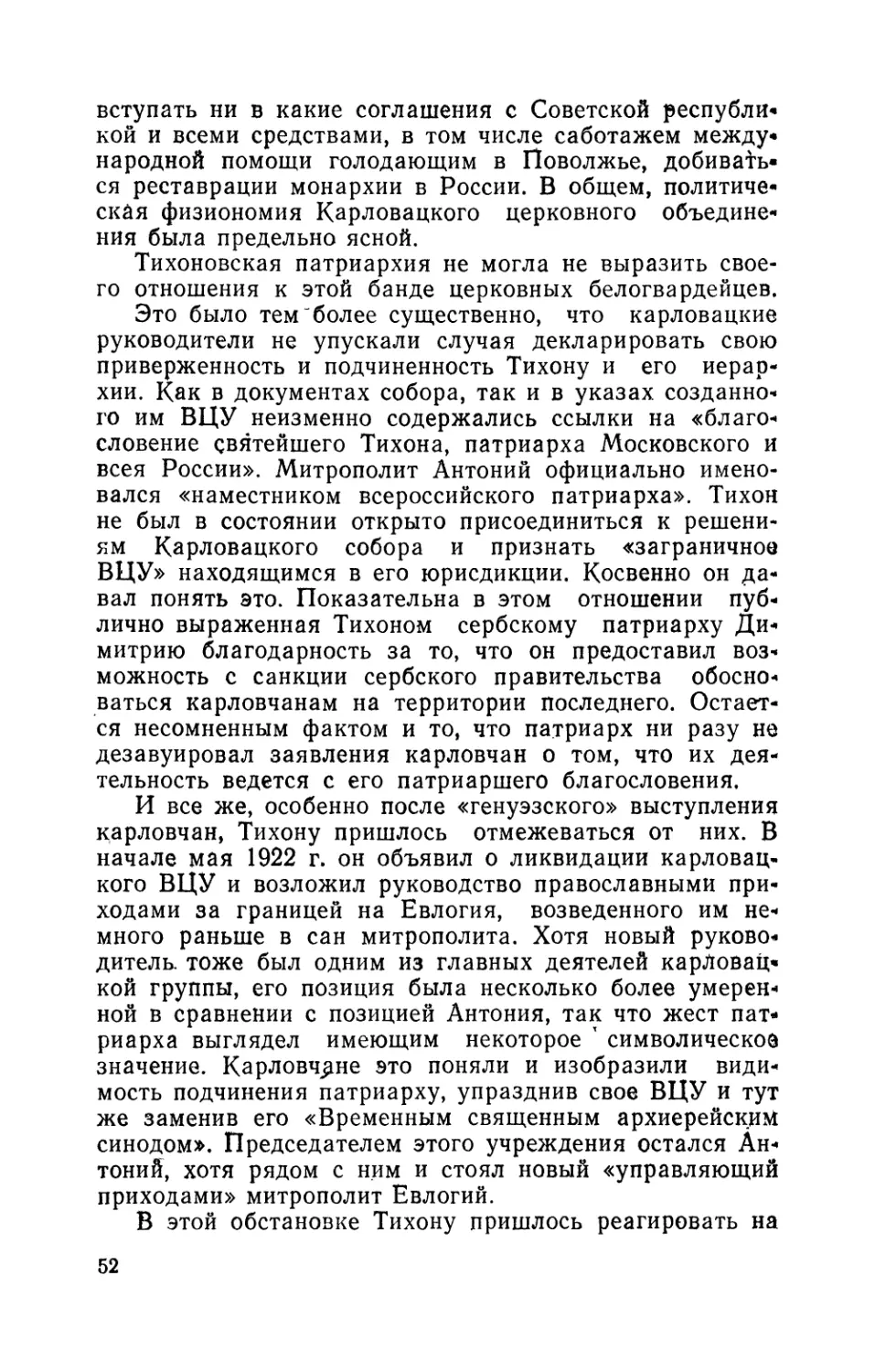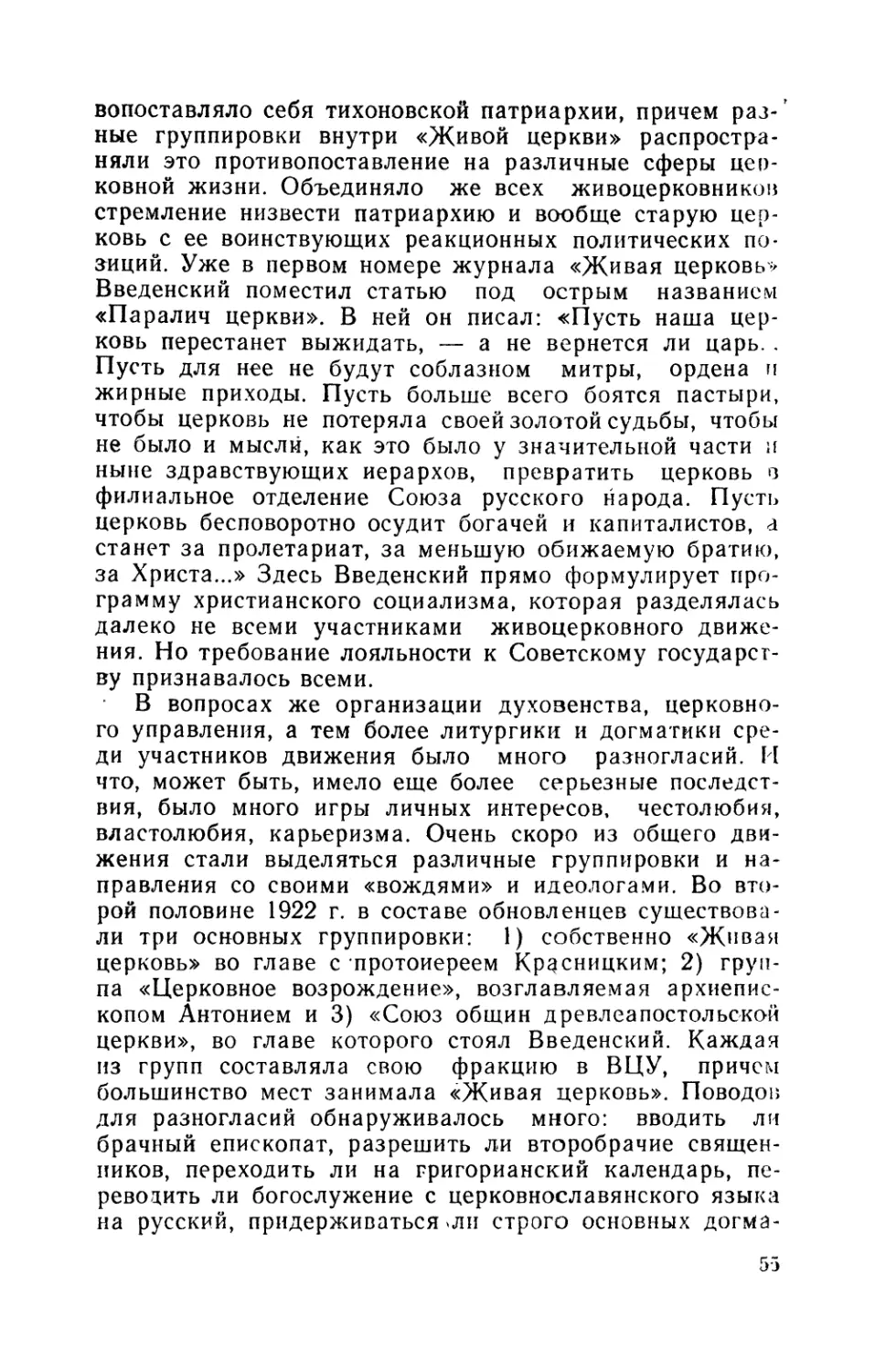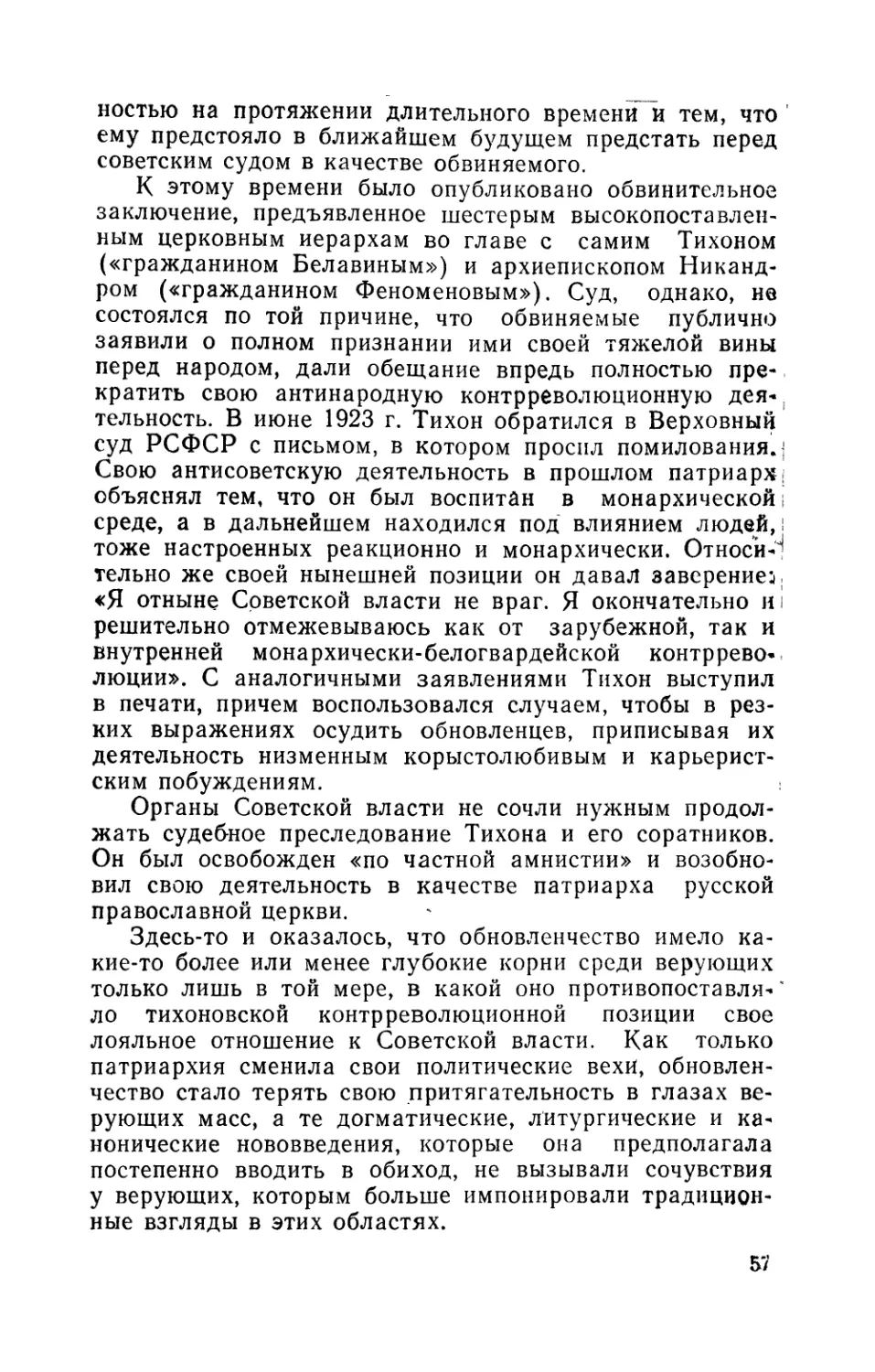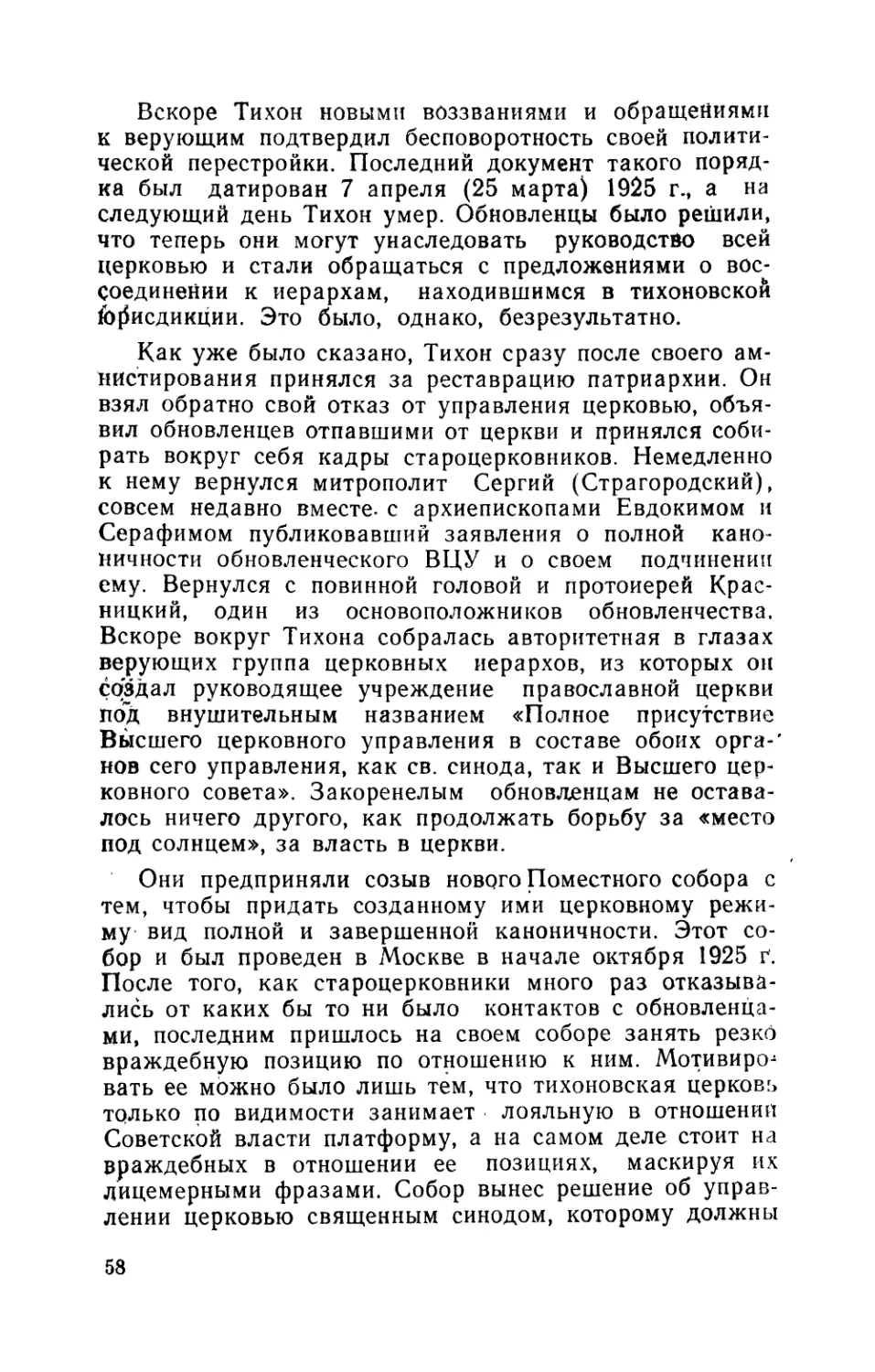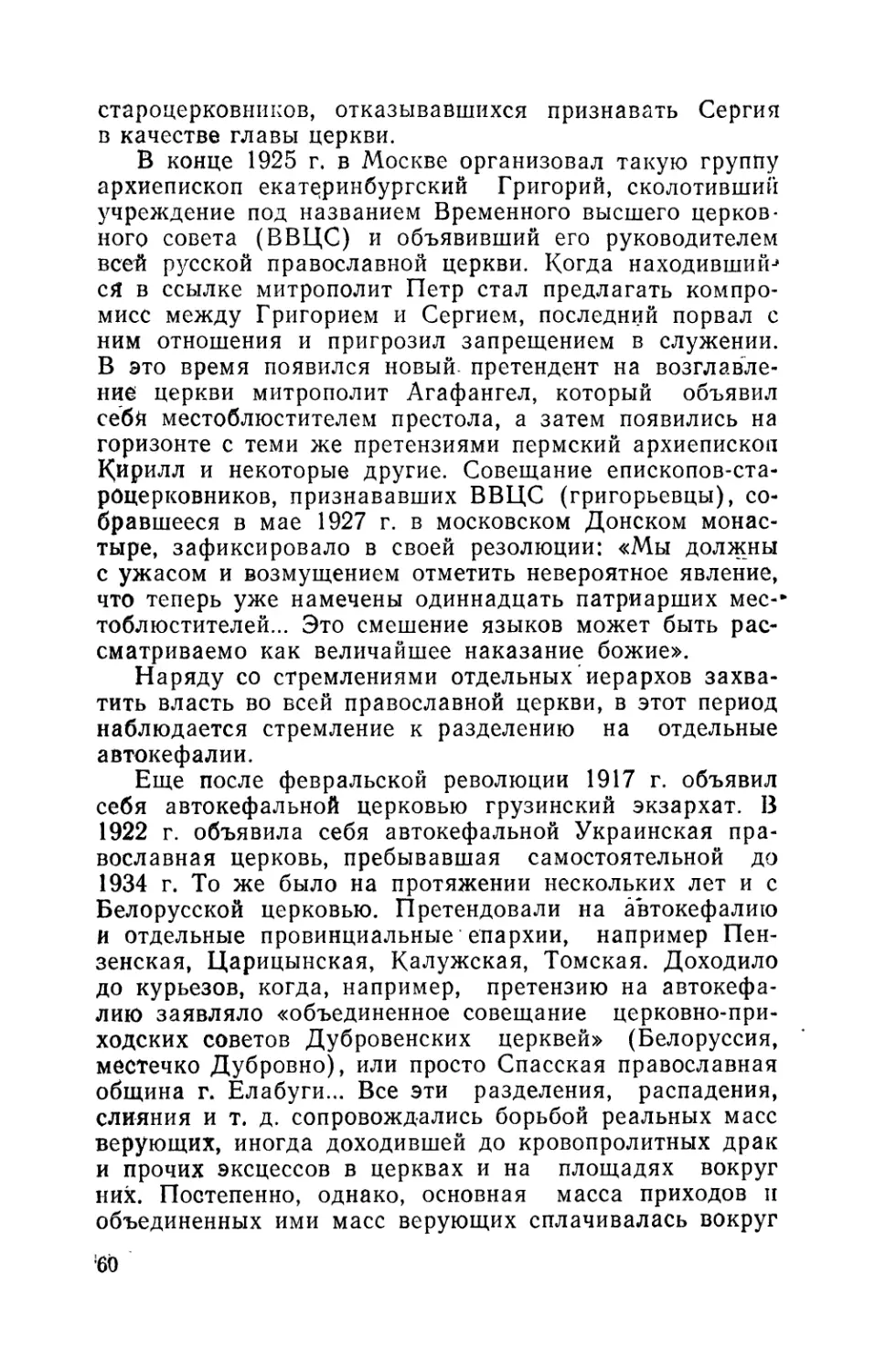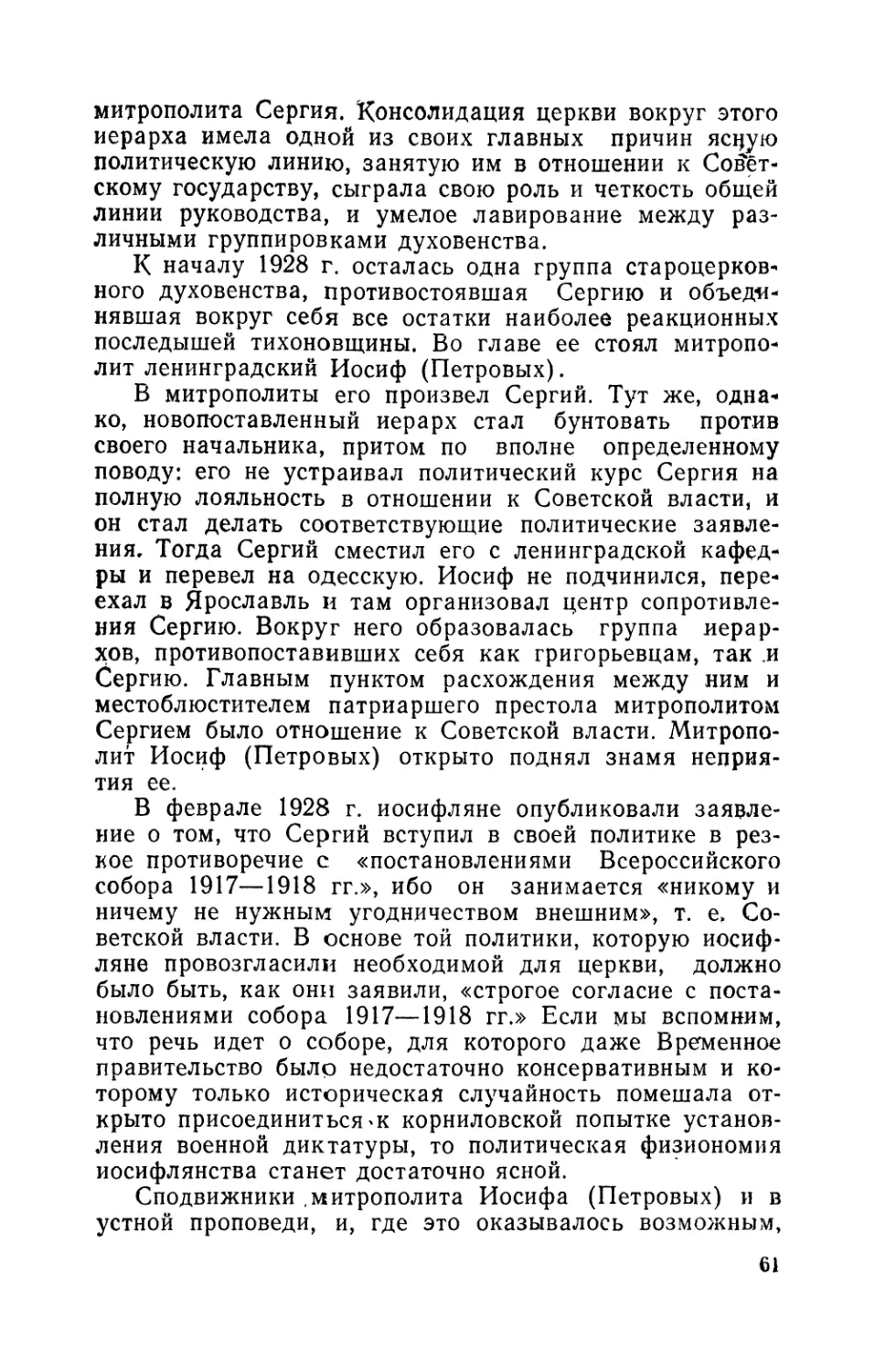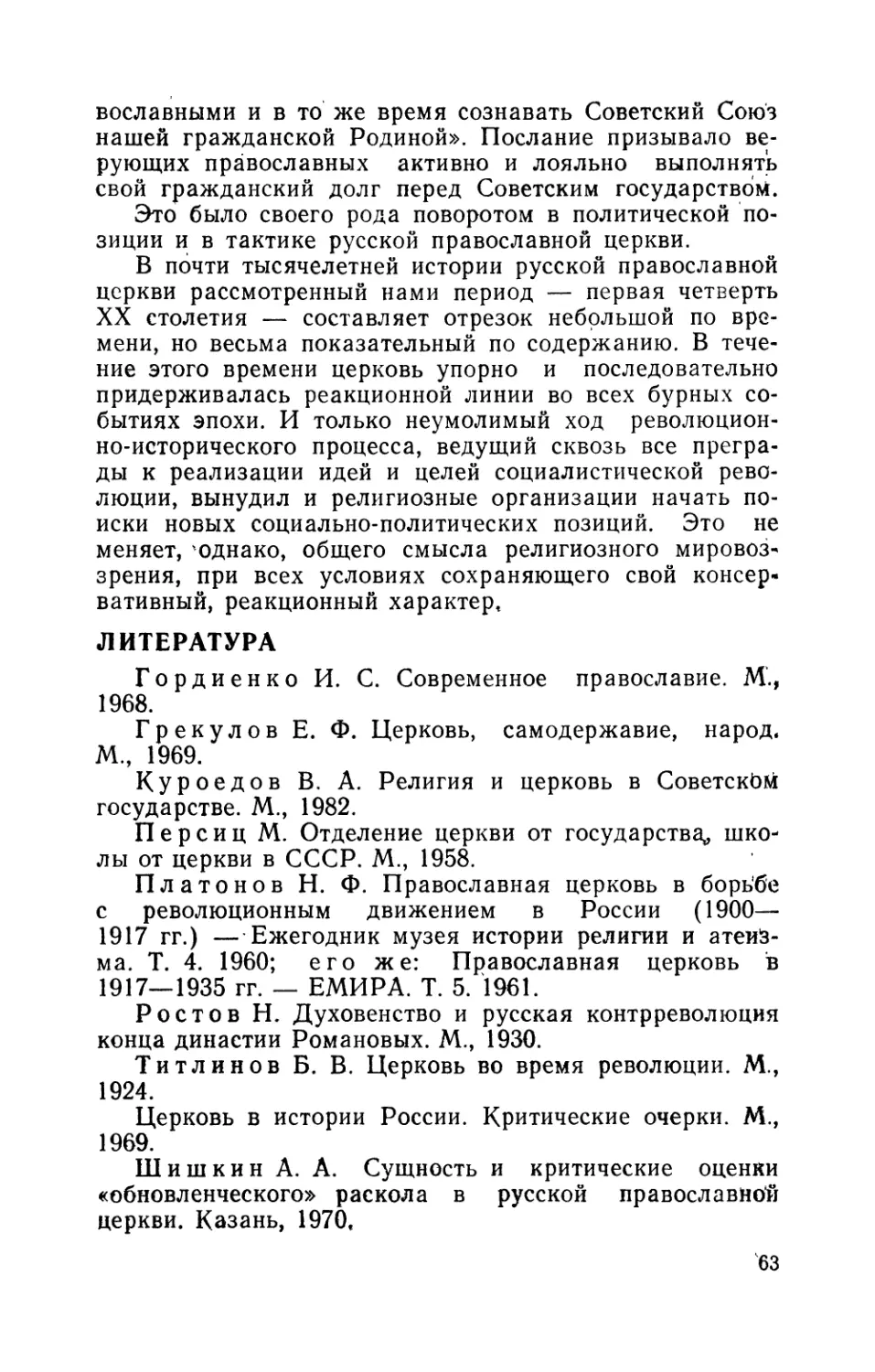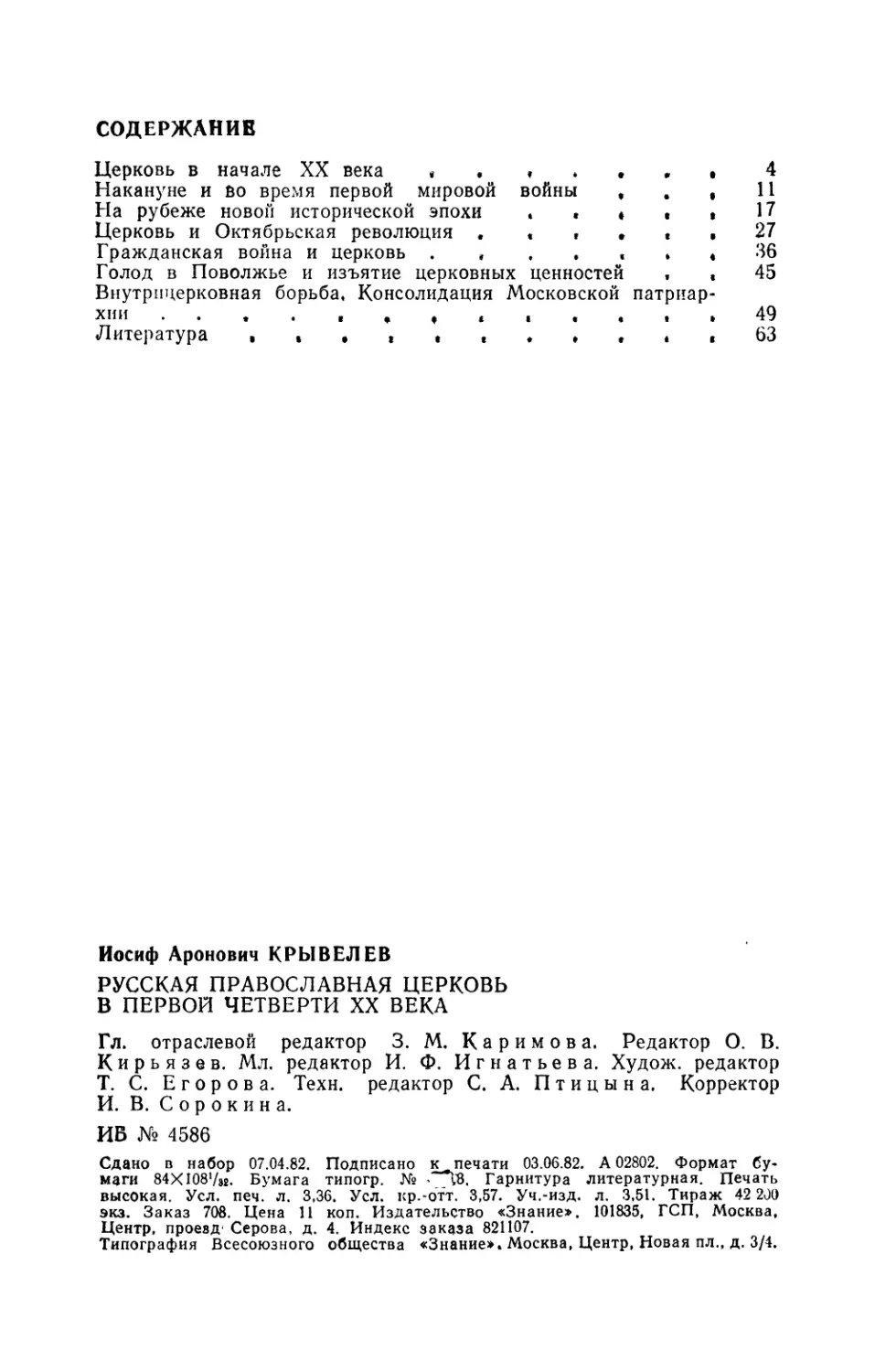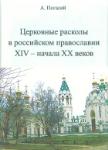Author: Крывелев И.А.
Tags: религиоведение история православие история православной церкви научный атеизм
Year: 1982
Text
НАУЧНЫЙ
АТЕИЗМ
>
ПОДПИСНАЯ НАУЧНО-ПОПУЛЯРНАЯ СЕРИЯ
И.А.Крывелев
РУССКАЯ
ПРАВОСЛАВНАЯ ЦЕРКОВЬ
В ПЕРВОЙ ЧЕТВЕРТИ
XX ВЕКА
НОВОЕ В ЖИЗНИ, НАУКЕ, ТЕХНИКЕ
НОВОЕ В ЖИЗНИ, НАУКЕ, ТЕХНИКЕ
СЕРИЯ
НАУЧНЫЙ АТЕИЗМ
7/1982
Издается ежемесячно с 1964 г.
И. А. Крывелев,
доктор философских наук
РУССКАЯ
ПРАВОСЛАВНАЯ
ЦЕРКОВЬ
В ПЕРВОЙ ЧЕТВЕРТИ
XX ВЕКА
Издательство «Знание» Москва 1982
ББК 86.16
К 85
Рецензент •*» Гордиенко Н. С, доктор
философских наук, профессор, заведующий кафедрой научного
атеизма, этики и эстетики Ленинградского
педагогического института им. А. И. Герцена,
Автор — КРЫВЕЛЕВ Иосиф Аронович, доктор
философских наук, старший научный сотрудник Института
этнографии АН СССР, автор ряда монографий и
статей по вопросам религиоведения и истории религий.
Основные работы: «Книга о Библии», «Что знает
история об Иисусе Христе?», «Религиозная картина мира
и ее богословская модернизация», «История ^религий»
(тл\ 1—2), «Библия. Историко-критический анализ».
Крывелев И. А.
К 85 Русская православная церковь в первой
четверти XX века. — М.: Знание, 1982. —
64 с. (Новое в жизни, науке, технике. Сер.
«Научный атеизм», № 7)*
и к.
В брошюре прослеживается общественная роль русской
православной церкви в первой четверти XX века. На большом
фактическом материале автор раскрывает реакционную
политическую позицию церкви в период эпохальных социальных
потрясений, происходивших в нашей стране в начале века.
В работе делается убедительный вывод, что только
неумолимый ход революционного процесса и активное участие
народа в строительстве нового общества вынуждали церковные
организации менять свои социально-политические позиции.
0400000000 ББК 86.16
2
(С) Издательство «Знание», 1982 г.
История церкви дает богатый и поучительный
материал для характеристики религии как социального
явления в целом. Для советского читателя имеет особо
важное значение история православной церкви, ибо
большинство верующих в нашей стране исповедует
православие. В этой связи следует обратить внимание на
то, что скоро русская православная церковь будет
отмечать тысячелетие введения христианства на Руси. И уже
теперь в церковной печати идет «юбилейная» кампания
освещения истории русской церкви за истекающее
тысячелетие. Нельзя не отметить, что это освещение ведется
с позиций, далеко не всегда позволяющих раскрыть
действительную историческую истину. В истории
православной церкви, как и других религиозных
учреждений и организаций всех конфессий и вероисповеданий,
есть много страниц, раскрывающих сущность религии и
характеризующих ее деятелей с весьма неприглядной
стороны. О многом церковные историки хотели бы
забыть, а главное, — хотели бы заставить рядовых
верующих забыть уроки истории.
В наши дни русская православная церковь занимает
вполне лояльные позиции в отношении
социалистического государства и активно участвует в борьбе всех
прогрессивных и демократических сил за сохранение
мира. Было, однако, время, когда ее позиции не были
ни демократическими, ни прогрессивными. В церковной
«юбилейной» литературе об этом умалчивается, и
мотивы такой тактики можно понять. Но это( не значит,
что ее можно принять. Нам нужно знать
действительную историю — не «улучшенную» и не ухудшенную.
Это особенно относится к истории религии и церкви.
Пропагандисту научного атеизма надо, в частности,
знать действительную и полную историю церкви, без
«ретуши» и без умолчания о тех ее страницах, которые
3
дают представление о реакционной сущности религии и
церкви на разных этапах ее истории.
В предлагаемой брошюре мы рассматриваем
короткий временной отрезок тысячелетней истории русской
церкви — первую четверть нашего столетия. Этот
небольшой отрезок времени насыщен, однако, событиями
колоссального значения. Самое важное из них г—
Великая Октябрьская социалистическая революция,
следствием которой явилось возникновение и становление
первого в истории социалистического государства. Показа*
тельны и поучительны для характеристики социального
облика церкви ее отношение^ революции и ее позиция
в последовавшей за революцией гражданской войне.
Представляет интерес в указанном плане деятельность
церкви и в период революции 1905 г., в
предшествующие ей годы и в период между двумя революциями.
Рассмотрим, как этот период общественного
развития отразился в истории русской православной
церкви.
ЦЕРКОВЬ В НАЧАЛЕ XX ВЕКА
Начало века поставило православную церковь перед
сложнейшими задачами, вытекавшими из того обостре-.
ния революционной борьбы рабочих и крестьян,
которым характеризовалось это время. Трудность для
церкви заключалась не в том, чтобы определить свое место
в борьбе между лагерем царизма и реакции, с одной
стороны, и революционными силами, с другой: этот
вопрос был церковью давно решен — она стояла на
стороне буржуазно-помещичьего строя и самодержавия как
его политического выражения. Даже формально, тем
более по существу, православная церковь составляла
часть царского государственного аппарата. Во главе
управлявшего церковью синода стоял в звании
«обер-прокурора» чиновник высшего ранга, иногда из
сухопутных или морских офицеров. Каждое мало-мальски
важное постановление синода начиналось словами «По
указу его императорского величества...» и подлежало
личному утверждению царя. Принадлежность
самодержца российского к православной церкви наглядно
демонстрировалась его личным участием в
многочисленных религиозных церемониях — богослужениях,
крестных ходах, «водосвятии». В ритуал коронации входило
4
оглашение царем Символа веры. Церковь же постоянно
возносила молитвы за здравие царя и царствующего
дома, по любому удобному случаю твердила о благо-
верности, благочестии и богоугодности государя.
Непрестанно декларировала она призывы верности «царю
й отечеству». Еще в XIX в.-официальной идеологией
были провозглашены в качестве незыблемых основ
российского государства три принципа: «православие,
самодержавие и народность». Важнейшим из них, имевшим
непосредственное практическое значение, был принцип
самодержавия, и именно за самодержавие призывала
церковь бороться всех русских людей в перипетиях
общественной жизни.
На таких позициях стояла православная церковь и в
начале XX в., пытаясь всеми силами противостоять
тому революционному шквалу, который с каждым годом
все сильнее потрясал страну. В событиях,
предшествовавших революции 1905 г., во время самой революции
И в период реакции после нее она делала все от нее
зависевшее, чтобы помочь самодержавию и общественной
реакции устоять и подавить революционное движение.
Основными способами идеологического подавления
революционных настроений народных масс были
проповедническая деятельность на богослужениях,
преподавание закона божьего в школах, курсы богословия,
читавшиеся в высших учебных заведениях. Церковь не
ограничивалась отстаиванием самодержавия как
государственно-политического института, она была особо
озабочена сохранением его социальной сущности —
буржуазно-помещичьего строя, которому революционным
движением противопоставлялся социализм. Поэтому
главным содержанием религиозно-православной
пропаганды в начале XX в. стало опровержение
социалистического учения. Для того, чтобы духовенство могло
выполнить эту задачу, в духовных семинариях и
академиях было введено преподавание специального курса
«Разбор и опровержение социализма».
Помимо проповедничества в церквах, а также в
духовных и светских учебных заведениях, церковь уже
вначале века стала все более широко практиковать и
другие формы воздействия на массы в контрреволюционном
духе. Все большее распространение получали крестные
#оды по различным случаям, сопровождавшиеся
обычно погромной агитацией, призывами к истреблению
5
всех, выступающих против самодержавия. Нередко эти
благочестивые мероприятия тут же переходили в
массовые акты разнузданного насилия с убийствами и
повальным грабежом. В это время стали особенно часто
практиковаться инсценировки чудес, вроде обновления
и «явления» икон, канонизация новых святых, которые,
конечно, неизменно оказывались пламенными
поклонниками власть имущих, решительными противниками
революционного движения во всех его проявлениях.
Наиболее ярким образцом такой практики церкви
явилась канонизация. Серафима Саровского в 1903 г.
Этот монах саровской «пустыни» в Тамбовской
губернии, в миру купец Прохор Мошнин, умерший в 1833 г.,
был фактически объявлен покровителем дома
Романовых.
С большой помпой при непосредственном участии
царя и царской семьи, в присутствии огромной массы
войск, полиции и многотысячных толп «народа»,
согнанных из окрестных местностей, был проведен
спектакль с «прославлением» мощей новоявленного святого.
Рекой лились проповеди о божественной сущности
самодержавия, о благочестии их императорских величеств,
о необходимости для простого народа беспрекословно
повиноваться властям предержащим.
Церковь предприняла в широчайших масштабах
печатную пропаганду, направленную против
революционного движения и социализма. Миллионными тиражами
она стала издавать листовки и брошюры, характер
которых виден уже из самих их ваглавий: «Бога бойтесь,
царя чтите», «Царское самодержавие, как создание
русского государя и народа», «Против социал-демократии»,
«Кому нужно освободительное движение?», «О
повиновении властям», «Царское самодержавие по образцу
божьего вседержительства», «За веру, царя и
отечество», «Неприкосновенность собственности», «Не слушай
бунтаря!».
Было предпринято создание ряда внецерковных ор«
ганизаций и союзов. Церковники участвовали во всех
создававшихся реакционерами организациях
контрреволюционного направления. В 1902 г. по инициативе пре«
словутого генерала Трепова, впоследствии
«прославившегося» приказом «Патронов не жалеть!», была созда*
на «Особая комиссия» под невинным названием «по ор«
ганизаций общеобразовательных чтений для фабричных
о
рабочих». Чтения предпринимались для того, чтобы, как
говорилось в официальной докладной записке по этому
вбпросу* «...для рабочих делалось ясным, какое великое
й благотворное значение имеет... святая православная
вера, самодержавная царская власть и любовь к
родной стране». Разумеется, «любовь к стране»
фигурировала здесь лишь в качестве побочного мотива, главным
же было воспитание преданности самодержавию. Тезис
о необходимости «беззаветной до последней капли
крови верности царю» много раз повторяется в этом
документе. Показательно, что во главке комиссии стояли
можайский епископ Парфений, ректор Московской
духовной семинарии архимандрит Анастасий и священник
пересыльной тюрьмы Фудель, а впоследствии в нее вошел
также знаменитый идеолог и организатор погромов
протоиерей Восторгов.
В 1901 г. духовенство стало инициатором первой
организованной в России монархической партии «Русское
собрание». Среди ее организаторов были харьковский
архиепископ Арсений, могилевский епископ Стефан, ели-
саветградский епископ Феодосии, тот же священник
Восторгов. В дальнейшем «Собрание» получило
название, более ясно выражавшее истинный смысл его цели
и деятельности — «Русская монархическая партия», в
которой осталось в неприкосновенности церковное
руководящее ядро.
На протяжении 900-х годов в ходе революционных
событий одна за другой возникали и вели свою
реакционно-погромную деятельность такие снискавшие себе
печальную славу организации, как «Союз русского
народа», «Союз Михаила Архангела», «Союз истинно
русских людей» и подобные им. Вместе с представителями
родовитого дворянства, толстосумами-купцами и
фабрикантами руководили этими организациями епископы и
протоиереи, митрополиты и архимандриты. Было бы
долго перечислять всю плеяду благочестивых
реакционеров. Укажем только на несколько наиболее ярких
фигур: московский митрополит Владимир, киевский
митрополит Флавиан, волынский архиепископ Антонин,
уже упоминавшийся протоиерей Восторгов. Особо
следует отметить деятельность популярного в те времена и
оставившего заметный след в истории церковной
контрреволюции протоиерея Сергиева, больше известного под
именем Иоанна Кронштадтского, В качестве одного из
7
главных руководителей черносотенного «Союза
русского народа» Иоанн Кронштадтский, пользовавшийся
особым благоволением царя Николая II, обеспечил
«Союзу» непосредственное покровительство самого престола.
А в 1905 rs свое благословение «Союзу русского народа»
прислал не кто иной, как сам константинопольский
«вселенский» патриарх Иоаким III.
Церковь была связана со всеми монархическими
черносотенными партиями и союзами, но под ее
непосредственным руководством была одна организаций,
именовавшаяся «Обществом хоругвеносцев»; оно насчи*
тывало около 8000 человек. Это была своего рода
гвардия церковного черносотенства. В организовывавшихся
союзах и партиях «хоругвеносцы» составляли наиболее
активное отборное ядро.
Особое место в истории того времени заняло движе*
ние, связанное с именем священника Георгия Гапона—
«Собрание русских фабрично-заводских рабочих
г. Санкт-Петербурга». Его руководство в лице самого
Гапона было связано непосредственно с департаментом
полиции и не нуждалось в посредничестве церкви. Тем
не менее весь дух гапоновской пропаганды, идеология
движения, выражавшаяся в проповедях и других
публичных выступлениях «отца Георгия», были окрашены
церковно-религиозными тонами. История гапоновщины
достаточно известна, так что мы можем здесь на ней
подробно не останавливаться.
Накануне Кровавого воскресенья церковь выражала
настороженность в отношении ожидавшихся событий и
лишь предупреждала рабочих о необходимости во всех
случаях оставаться верными царю. Еще 8 января орган
синода «Церковные ведомости» опубликовал передовую
статью, в которой заклинал каждого: «Храни неизменно
верность царю, зная, что на небе бог, а на земле
царь — божий помазанник». А после того, как по
приказу божьего помазанника улицы Петербурга были
залиты кровью рабочих, в широких масштабах
развернулась церковная пропаганда, направленная к полному
оправданию кровавой расправы царя с народом. Синод
выпустил специальное «Послание по случаю
беспорядков», которое было расклеено по всему Петербургу, а
потом оглашалось во всех православных церквах
Российской империи. В нем вся ответственность за
происшедшее возлагалась на «домашних и иноземных зло-
&:
намеренных врагов отечества» и выражалась скорбь'по
поводу того, «какое тяжкое горе причинено
венценосному вождю земли русской». Переживания и судьбы
сотен семей, потерявших своих отцов и близких, не
беспокоили руководителей церкви, больше всего их трогали
предполагавшиеся «душевные страдания» Николая
Кровавого.
В дальнейшем церковь развернула бурную
деятельность, направленную не только к словесной
проповеднической защите существующего строя, но и к прямой
организации кровавых расправ с революционными
массами. Погромы обычно начинались крестным ходом, а во
главе толп жаждавших крови черносотенцев духовные
лица и «хоругвеносцы» несли иконы и хоругви, взятые
из церквей специально для этого христианнейшего
мероприятия. Может быть, наиболее ярким проявлением
такой роли церковников вошла в историю революции
1905 года картина того, как томский архиепископ Ма-
карий с поднятым в руке крестом благословлял
сожжение в городском театре запертых там нескольких сот
рабочих, собравшихся на митинг...
Церковь оказывала давление и на правительство.
Ее руководящие деятели всячески старались
воспрепятствовать любым реформам, которые могли бы быть
предприняты более либеральными деятелями
господствующего режима. Они нажимали и на самого царя,
добиваясь того, чтоб он не делал никаких уступок
революционному движению и беспощадно расправлялся со
всеми сторонниками таких уступок.
После поражения революции 1905 г. церковь делала
все от нее зависевшее, чтобы укрепить установившийся
режим реакции, чтобы залечить морально-политические
раны, которые были в ходе революции нанесены
царизму. В эпоху реакции церковь оставалась столь же
безраздельно преданной царизму и эксплуататорскому
строю, какой была до революции.
Во всех своих мероприятиях, направленных на
искоренение последствий революции и на укрепление сил
реакции, монархия опиралась на церковь. Это особенно
ярко видно по деятельности Государственной думы.
В I Думе (апрель—июль 1906 г.) священников было
всего несколько человек. Церковь недооценила
значение Думы вообще и надеялась на то, что это
«либеральное» учреждение скоро усилиями правительства
9
прекратит свое существование; поэтому даже в выборах
в I Думу духовенство приняло очень слабое участие.
Вскоре, однако, руководители церкви спохватились и
стали всеми силами наверстывать упущенное. Перед
выборами во II Думу обер-прокурор синода разослал
циркуляр епархиальным архиереям, в котором обязал их:
«пригласить всех священников непременно явиться на
предстоящие выборы в Государственную думу;
...разъяснить избирателям... сколько зла нанесет такая Дума,
в которую сумели бы проникнуть враги веры и
престола». В заключение еще раз давалось распоряжение
«завещать им (выбранным членами Думы. — И. К.)
крепко стоять за веру, за родину и за царя». Как и во всех
других подобных случаях, реальное содержание имела
лишь формула «стояния за царя».
Кампания не увенчалась успехом для церкви. Во
II Думу попало только 15 представителей духовенства,
к тому же среди них преобладали сравнительно
либерально настроенные рядовые священники или по
меньшей мере те, которые старались добиться избрания,
демонстрируя либерализм. Состав II Думы не устраивал
правительство. Оно разогнало ее и назначило выборы
в III Думу на основе нового избирательного закона,
который был специально рассчитан на то, чтобы
сформировать Думу из по возможности «верноподданнических»
элементов, в частности обеспечить максимальное
участие в ней самых реакционных представителей. Этому
способствовала и активнейшая кампания, развернутая
духовенством. В итоге в состав III Думы вошли 2
епископа и 43 священника, занявших в своем большинстве
места на скамьях крайне правых партий. III Дума
пользовалась полным благоволением царского
правительства, которое дало ей просуществовать весь
четырехгодичный срок. К выборам в IV Думу духовенство по
команде синода развернуло* столь же бешеную
кампанию, что и к предыдущим, и церкви удалось удержать
свои позиции, даже немного укрепив их, — в IV Думе
оказалось 47 ее представителей. Политические их
позиции, как и раньше, соответствовали интересам царизма
и буржуазно-помещичьего строя.
Вместе с тем нельзя не отметить и наличие
внутренней оппозиции в церкви общему ее реакционному
курсу. Были отдельные священники, например известный
Григорий Петров, которые стояли за приближение церк-
10
ви к народу и его интересам, за разрыв открытой связи
ее с царизмом. В Петербурге одно время существовала
так называемая группа 32-х, объединявшая именно это
количество лиц «прогрессивного» духовенства.
Некоторые думские депутаты-священники, преимущественно
сельские, выступали даже с требованиями раздела
помещичьих земель в пользу крестьянства, причем
обосновывали свои требования Евангелием. Но, разумеется, не
они определяли политику церкви, которая оставалась
монархистской и реакционной.
НАКАНУНЕ
И ВО ВРЕМЯ ПЕРВОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ
Накануне мировой войны царствующий в России
дом справлял трехсотлетие династии Романовых.
Православная церковь приняла активное участие в юбилей-
ныХ торжествах.
В стране была развернута широкая
проповедническая кампания, направленная на то, чтобы внедрить в
сознание народных масс верноподданнические
монархические чувства. В этих целях использовалось и
богослужение. В день празднования трехсотлетия (21
февраля 1913 г.) во всех церквах империи совершались
торжественные молебствия, причем возглашалась
специальная молитва, связанная с юбилеем. В определении
синода по этому поводу было сказано, что в этот день
«вместо положенной молитвы «Боже великий и
дивный»... должна быть прочитана прилагаемая при сем
молитва». Так и определил святейший
правительствующий синод: вместо молитвы «боже дивный...» — другая,
в которой речь идет не о боге, а о царе.
В дни юбилейных торжеств церковь повсеместно
устраивала шествия, манифестации и крестные ходы с хо-,
ругвями и чудотворными иконами. Всячески
нагнеталась атмосфера великого праздника. Специально
придумывались маршруты передвижения из города в город
икон, которые церковь тем или, иным способом
связывала с домом Романовых и с отдельными царями. Из По-
чаевской лавры была направлена в Петербург местная
чудотворная икона, которая должна была «осенить»
царя. Ее передвижение было обставлено с чрезвычайной
помпой — сопровождал ее, помимо многочисленного
духовенства, войсковой отряд в качестве почетного карау-
П;
ла. Почему-то вообще весь церемониал, связанный с
этой иконой, был окрашен в армейские тона. На пути
ее следования из Царского Села в Петербург по обе
стороны дороги шпалерами стояли войска. В столице
же в ее честь был устроен парад войск, которым
командовал великий князь Николай Николаевич.
По всей Руси гремели проповеди, совершались
крестные ходы, шло необузданное восхваление прогнившей
монархии Романовых. И монархия щедро
отблагодарила церковь и ее служителей за участие в торжествах.
Помимо обильных денежных наград, духовенство
удостоилось также и другого рода почестей: на него
посыпались ордена и медали, чины и почетные звания.
Стоит отметить такую деталь: по распоряжению
правительства всем священнослужителям было дано право
ношения специальной наградной медали в память юбилея,
причем было оговорено, что они получают это право
наравне с чинами «отдельного корпуса пограничной
стражи, отдельного корпуса жандармов, полиции,
конвойных команд и тюремной стражи». Можно подумать, что
автор текста распоряжения несколько грешил по части
вольнодумства и воспользовался возможностью
скрытой издевки над святыми отцами, приравняв их к
жандармам и тюремным надзирателям. Скорее всего,
однако, он это сделал по простоте душевной, выражая
действительное положение вещей.
Скоро православная церковь оказалась в таком
положении, когда ей нужно было еще в несравненно
большей степени активизировать свою деятельность по
идеологической поддержке самодержавия и
буржуазно-помещичьего государства. Началась война 1914—1918 гг.
Еще до формального вступления России в первую
мировую войну церковь начала готовиться к ней.
С 1(14) по 12(25) апреля 1914 г. с соизволения царя и
по распоряжению синода происходил в Петербурге
I съезд военного и морского духовенства, которым
руководил протопресвитер Шавельский, командовавший
этим духовным корпусом царской армии. Задачей
съезда было подготовить духовенство к предстоящей ему
миссии религиозно-идеологического обслуживания
вооруженных сил в предстоящих им военных действиях.
В своей вступительной речи на съезде Шавельский
сказал о том «совершенно исключительном положений»,
в котором находится военное .духовенство, — «ему вве-
12
рены дуищ всех защитников царя», Задача
вооруженных сил России, с этой точки зрения, заключалась
прежде всего в защите царя и соответственно —
самодержавия. В этбм духе протекали все дебаты на съездо
и были сформулированы все его решения. По
окончании съезда его делегаты представлялись царю и
протопресвитер опять произнес речь, в которой он, между
прочим, сказал: «Пастырь церкви, служа царю
небесному, может и должен в то же время служить царю
земному». В этом знаменательном высказывании видного
представителя церкви даже не говорится, что царь
небесный обязывает людей служить земному царю;
вместо этого оба царя ставятся на одну доску и
устанавливается своего рода двойственное служение! и тому
царю и этому...
По случаю объявления иойны синод немедленно
занялся обсуждением создавшегося положения и своих
задач. Было принято определение, основная часть
которого сформулирована таким образом: «Имели суждение
по высочайшему манифесту, данному 20-го сего июля,
о войне с Германией. Приказали: Господь, содержащий
в своей деснице судьбы царств и народов в мире и во
брани, призывает ныне Россию ополчиться на брань».
Похоже было на то, что не бог приказывает
«ополчиться ца брань», л синод приказывает богу призвать к этому
Россию. Довольно неуклюже формулировали свои идеи
царские чиновники, командовавшие церковью!
Важнейшей задачей церковников было в этот
период оправдание и освящение империалистической войны,
благовидное и благочестивое изображение ее целей. За
что, в самом деле, должен проливать свою кровь в этой
войне русский человек? На страницах церковной
печати, в бесчисленных проповедях в тылу и на фронте
военное и «штатское» духовенство делало все для того,
чтобы окутать туманом действительные грабительские
цели войны и подставить вместо них абсолютно
бескорыстные, благочестивые, богоугодные. Архиепископ
Никон рисал по этому поводу: «Настоящая война есть
война Сатаны против Христа и Господа, война адовых
врат против церкви Христовой, война предтеч
антихристовых против служителей Христовых». Другой
церковный автор вещал по этому поводу: «Не за землю, не за
политическое преобладание воюют народы — это лишь
предлог, видимость; а воюют одни за Христа и его бо-
13
жественную литургию, а другие против Христа и против
дитургии. Подлинный мотив современной войны — это
борьба света с тьмой, любви и правды божией со злом
й неправдой, борьба самого Христа с Велиаром».
Выразить эту идею более конкретно и менее убедительно
было невозможно. Можно было бы еще понять ее, если
бы дело шло о войне христианских государств против
нехристианских или даже о ройне православного
государства с государствами пусть тоже христианскими, но
не православными. Здесь же не было ни того, ни
другого: обе воюющие стороны включали в себя христиан и
нехристиан, православных и неправославных.
Разделение воюющих сторон по принципу «лагерь Сатаны» и
«лагерь Христа» выглядело в этих условиях
совершенно произвольным. Но положение обязывало...
Практическая деятельность, при помощи которой
православная церковь усердно обрабатывала сознание
воевавших солдат и моряков, а также трудящихся
тыла, проводилась самыми различными путями.
Миллионами распространялись листовки и брошюрки
соответствующего содержания, устные проповеди на фронте, в
тылу и. в госпиталях для раненых, неустанная
индивидуальная обработка людей — все это было Направлено
на разъяснение «священных» целей грабительской
войны, на доказательство явного покровительства,
оказываемого небесными силами православной царской
армии, наглядно подтверждаемого различными чудесами.
Фабрикация этих чудес была организована в массовых
масштабах. Точнее сказать, фабриковались не сами
чудеса, а россказни о них, распространявшиеся по всем
возможным каналам. Журналы и газеты пестрили
сообщениями о богородице, являвшейся на том или ином
частке фронта и собственной персоной возглавлявшей
таку русской пехоты; для убедительности
публиковалась и «фотографическая» иллюстрация этого чуда —
каким-то образом вовремя на месте оказывался
фотограф с тяжеловесной в те времена техникой, в
условиях боя молниеносно запечатлевавший происходившее
чудо. Тысячами рассказывались легенды о том, что в
такой-то возникшей в бою тяжелой ситуации
одерживалась победа сразу после того, как тот или иной солдат
или офицер обращались с молитвой к Георгию
Победоносцу или Николаю Угоднику. Церковники издали даже
Специальный сборник, содержавший такие легенды.
14
На потребу военно-пропагандистским целям широко
использовались чудотворные иконы. Целыми
транспортами уже существовавшие к этому времени и Вновь
изготавливаемые иконы рассылались по фронтам для
воодушевления «православных воинов». Руководила этим
делом сама императрица Александра Федоровна. На
фронт отправлялись изготовлявшиеся в большом
количестве походные палаточные церкви, в которых полко-
Еые священники для поднятия духа солдат служили
молебны. Как известно, больших результатов* в боевом
и даже политическом отношениях эти благочестивые
мероприятия не приносили. В ходе войны солдатская
масса все больше убеждалась в том, что ее заставляют
воевать за чуждые народу интересы и что бестолковое
управление страной и бездарное командование боевыми
действиями войск ведут не только страну к военному
поражению, но и весь народ к неслыханным и
небывалым бедствиям. Это способствовало широкому
распространению революционных настроений в рабочем классе
и среди крестьянства. Дело неминуемо шло к
революции.
Выражением безысходного кризиса царизма было
всестороннее — политическое, интеллектуальное,
моральное — разложение правящей придворной верхушки,
перед которой буквально пресмыкалась церковь, и где
тон задавал, пользуясь мистической атмосферой, царив*
шей в придворных кругах, «святой» авантюрист
Распутин.
Высшие сферы церковной иерархии были
единодушны в вопросе"об основной, стоявшей перед церковью
политической и идеологической задаче — всеми
доступными средствами и методами содействовать сохранению
в России существующего политического и социально-
экономического строя, не допустить крушения
самодержавия. Что же касалось путей достижения этого, то
внутри правящей церковной верхушки все время шли
споры и разногласия, нередко переходившие в острую
групповую борьбу.
Само собой разумеется, что те или иные позиции по
вопросам политики и тактики персонифицировались $
определенных деятелях с их личными интересами,
связанными с карьерой, соображениями о доходах, пол§*
жении в обществе и церковной иерархии. Как это ЦП
может показаться странным, но водораздел между дву-
15
мяг боровшимися группами шел по «распутинской»
линии — кто согласен быть верным орудием в руках
проходимца, полностью владевшего душами царя и царицы,
Й кто не согласен; так оно было, кстати сказать, и в
светской государственной иерархии. В зависимости
прежде всего от этого признака назначался
обер-прокурор синода.
До лета 1915 г. эту должность занимал угодливый
распутинец В."К. Саблер. Поражения на фронте
заставили в это время царя искать пути какого-то временно*
го компромисса с либеральной Думой и вообще с
«общественностью», ему пришлось в этих целях
пожертвовать Саблером и назначить обер-прокурором А. Д.
Самарина, не состоявшего в распутинцах. Но уже через
три месяца по настоянию царицы Самарин был смещен
и заменен угодным ^распутинской клике А. Н. Волжи-
ным. Последний оказался, однако, недостаточно
решительным в борьбе за позиции клики и был заменен
Н. П. Раевым, который оправдал в этом отношении
возложенные на него надежды и оставался на посту до
самой февральской революции.
В самом составе синода шла борьба между
«нашими», по терминологий, применявшейся царицей и царем
в их переписке, и их противниками. И те, и другие
были монархистами и реакционерами, но первые
пресмыкались перед Распутиным и выполняли его волю,
вторые этого не делали и все время находились поэтому
под угрозой опалы, перемещения в должности с
ощутимым понижением или других неприятностей. К моменту
февральской революции прочные позиции в верхушке
церковной иерархии занимали: петербургскую
митрополичью кафедру — распутинская рептилия Питирим,
московскую — пользовавшийся не менее скандальной
известностью Макарий («миленький маленький Мака-
рий», как именовала его царица в письмах к Николаю).
Первоприсутствующий в синоде, ранее петербургский
митрополит Владимир, перемещенный в 1915 г. в Киев,
был непослушен Распутину, так же вел себя член
синода архиепископ волынский Антоний (Храповицкий),
Оба они были крайними реакционерами,
черносотенцами и погромщиками, особенно выделялся в этом
отношении Антоний, обладавший, помимо своих
«святительских» качеств, еще и некоторыми журналистскими
способностями и кипучим темпераментом громилы. Дея-
16
тельность Распутина и его приспешников они считали
вредной и опасной для самодержавия и церкви и
находились поэтому все время на подозрении у
самодержавной четы. Умеренную распутинскую позицию занимали
будущие патриархи всея Руси архиепископ литовский
Тихон и архиепископ финляндский Сергий.
В декабре 1916 г. Распутин был убит. Это было
многозначительным событием в жизни не только церкви, но
и царствующей династии, как и политического режима
в целом. Убийство Распутина явилось своего рода
знамением грядущего крушения самодержавия. Через два
месяца грянула февральская революция. Она поставила
перед церковью сложную задачу ориентации в новой
политической обстановке.
НА РУБЕЖЕ НОВОЙ ИСТОРИЧЕСКОЙ ЭПОХИ
Незадолго до вынужденного отречения царя церковь
публиковала самые верноподданнические
монархистские заявления. В январе 1917 г. московский
митрополит Макарий обратился с воззванием «К возлюбленной
пастве Московской», опубликованном в «Московских
Церковных Ведомостях» и тут же перепечатанном во
всей церковной прессе. Там он писал:'«Объединись,
русский народ, около святой церкви... Сплотись около
престола царского, под предводительством верных слуг
царевых, в повиновении богом учрежденной власти». А
киевский митрополит Владимир уже в феврале 1917 г:
писал так: «Мы — православные христиане, члены
монархического государства, до глубины души любящие
своих царей — помазанников божьих... Волны
партийной борьбы не должны подыматься до царского
престола. Последний должен быть священным и
неприкосновенным для каждого направления». И только 27
февраля, когда стало ясно, что царю Николаю II удержаться
на троне не удастся, церковники стали маневрировать.
Обер-прокурор синода ставленник Распутина Н. П.
Раев предложил выпустить воззвание с решительным
осуждением революционного движения. Он имел в виду,
в частности, объявить изменниками всех
руководителей революционного лагеря, «начиная с членов
Государственной думы и кончая рабочими». Синод отверг
предложение обер-прокурора, «причем г-ну Раеву было
указано на то, что в высшей степени спорным являет-
708-2
17
ся вопрос, откуда идет измена — сверху или снизу»*
Верхушка церкви уже готовила позиции для
отступления и собиралась отмежеваться от наиболее скомпро*
метированных представителей режима как возможных
немецких агентов и вообще изменников.
В общем же в первые дни февральской революции
церковь переживала состояние растерянности. Обер-
прокурор синода Раев на всякий случай сбежал в
неизвестном направлении, переодевшись в женское платье.
Временное правительство назначило обер-прокурором
В. Н. Львова.
Новый глава церковного ведомства прежде всего
решил отделаться от тех архипастырей, которые
особенно сильно скомпрометировали себя своей связью с при-
дворно-распутинскол кликой. Некоторых из них изгнать
было нетрудно. Тобольский Варнава, например, был с
общего согласия членов синода уволен на покой
телеграммой. Что касается других явных распутинцев, то
киевский митрополит Владимир и поддерживавшие его
остальные члены синода допускали возможность их
увольнения только при наличии их собственных
прошений о таковом увольнении; новый обер-прокурор
посещал каждого из них на квартирах и настойчиво
добивался этих прошений; таким способом были уволены
петербургский митрополит Питирим и московский — Ма-
карий.
В общем, церковь отнеслась к происшедшему
перевороту лояльно. У нее не было оснований связывать
свою судьбу с явно отжившим и свергнутым
самодержавием. Временное правительство, в котором главную
роль играли фигуры, вполне импозантные в глазах
церковников, внушало им доверие и своего рода
верноподданнические чувства. В перспективе руководителями
церкви предвиделся такой порядок, при котором
соборная, епископская, а может быть, и патриаршая церковь
независима от государства, но пользуется
экономической, политической и всякой иной поддержкой с его
стороны и занимает в государстве первенствующее
центральное положение. Такая перспектива была даже
более соблазнительна, чем положение при царизме,
когда церковь и формально и фактически находилась под
пятой самодержца.
Временное правительство всеми своими действиями
показывало, что оно не собирается господствовать над
18
церковью, а права и привилегии предоставляет ей
весьма широкие. Так, например, если раньше любое
постановление синода получало силу только после
утверждения его царем, то теперь это требование отпадало.
Правда, формально, поскольку синод все же
возглавлялся обер-прокурором,4входившим на правах
министра во Временное правительство. Подчинение церкви
государству как будто все-таки сохранялось, но на деле
синод получил значительно большую
самостоятельность от светской власти, чем он имел до революции.
Об отделении церкви от государства Временное
правительство не помышляло, но с готовностью в ряде своих
документов декларировало «свободу церкви»,
подкрепляя в то же время эти дружественные декларации
солидными финансовыми ассигнованиями. У синода не
было, таким образом, особых оснований выражать
недовольство Временным правительством, тем более, что
он усматривал в установившемся политическом режиме
оплот против углубления революционного движения л
гарантию сохранности существующего
эксплуататорского строя.
Вместе с тем следует отметить, что церковь не была
однородной в политической ориентации. Некоторые ее
группировки продолжали проповедовать неизбежность
возврата страны к самодержавию. Так, например,
газета «Церковность» через месяц после революции
взывала к «преданности святым заветам... русской
государственности, основанной на вере в бога, на любви и
почитании его помазанника — царя бо^овенчанного». Такой
откровенный монархизм не был, однако, типичен в это
время для основной массы православных церковников.
К тому же появился и ряд «левых» группировок
духовенства, требовавших демократизации управления
церковью и ориентировавшихся в общеполитическом
отношении на либерально-буржуазные и реформистские
партии. Возобновили свою работу некоторые либеральные
организации духовенства, существовавшие в 1905—
1907 гг. и заглохшие в годы реакции: «Союз
прогрессивного петроградского духовенства», группа 32-х и др.
Возникла организация, именовавшая себя
«Всероссийским союзом демократического православного
духовенства и мирян», занявшая наиболее левые позиции;
руководящую роль в этой организации играл получивший
впоследствии большую известность и ставший обновлен-
19
ческим митрополитом священник А. И. Введенский. В
церковной прессе мелькали заявления о том, что
политические позиции православного духовенства близки к
программе «партии народной свободы», то есть
кадетов. При всем этом через два-три* месяца после
февральского переворота руководящие инстанции
православной церкви стали обнаруживать явные признаки
поворота вправо.
В том сложном положении, в котором находилось
Временное правительство, оно нередко шло на
противоречивые шаги и мероприятия. При той относительной
«свободе», которую оно предоставило церкви, ему
пришлось все-таки уже в апреле распустить и заменить
новым старый состав синода, заполненного
реакционерами и черносотенцами царских времен. Но и этот новый
состав, в котором главную роль играли митрополиты
Тихон (Белавин) и Антоний (Храповицкий), отнюдь не
гарантировал «левого» курса церковной политики.
Буквально с каждой неделей направление церковной
политики становилось все более реакционным. Страна шла
влево — к Октябрьской социалистической революции,
а церковь двигалась назад, воплощая в своих
проповедях и политической деятельности стремления
эксплуататорских классов к сохранению господства. Наиболее
крайним проявлением этих стремлений была программа
военной диктатуры и реставрации самодержавия.
Фактически в ходе событий того времени на такую
программу все более определенно стала ориентироваться
и церковь.
После февральской революции появилось большое
количество различных церковно-общественных
организаций и объединений, в которые входили не только
священнослужители, но и клирики; они издавали газеты и
журналы, публиковали широковещательные
политические декларации, проводили нередко многолюдные
собрания и митинги. Во многих случаях позиции этих
организаций расходились с официальными позициями
церкви, причем уклонялись от них и влево и вправо.
Довольно остро критиковал ^ церковное руководство
«Всероссийский Церковно-общественный Вестник». Для
характеристики его взглядов можно привести выдержку
из одной его статьи, относящейся к началу апреля
1917 г.
Либеральный орган русского ^духовенства писал|
20
«Прошел уже месяц русской свободы. Все изменилось,
перестроилось. Лишь незыблемо стоит, как грузный
памятник павшего строя, носитель церковной власти,
синод старого, бюрократического происхождения. Тот
самый синод, который правил при Волжине и Раеве,
сотрудничал с распутинцами, -реабилитировал Исидоров
и Флавианов, верой и правдой служил самодержавию,
душил церковно-общественную самодеятельность...
Правда, ушли из синода два митрополита, более
прикосновенные к распутинской протекции. Но ядро
осталось... Синод старого состава остался верен самому
себе. Его усилия сосредоточились не на деле церковного
переусгроения, а на упорном противодействии новым
началам жизни, проникавшим в церковную сферу». Чем
дальше, тем это противодействие принимало все более
упорный характер. Но и «левизна» либеральных
церковников была в достаточной мере непоследовательной
и путаной.
В" июне происходил в Москве «Всероссийский съезд
духовенства и мирян», в котором участвовало около
1200 делегатов. Он принял декларацию,
приветствовавшую существующий строй как форму «народоправия»,
признававшую, правда в несколько туманных
выражениях, необходимость в будущем передачи «земли и
водных пространств» народу и необходимость
«установления справедливых отношений» м"ёжду рабочими и
капиталистами. Что же касается вопроса об отношениях
церкви и государства, то съезд решительно высказался
за недопустимость передачи церковных школ
Министерству народного просвещения, необходимость
преподавания закона божия во всех школах. Свободу
вероисповедания и культов съезд объявил обязательной с
«маленькой» оговоркой — «для христианской православной
церкви», так как. она должна быть признана «первой
между другими исповедуемыми в государстве
религиями». Левизны этой самой левой церковной организации
не хватило на то, чтобы провозгласить лозунг свободы
совести в целом и распространить эту свободу на все
существующие религии, не хватило и на то, чтобы
отказаться от требования, первенствующего положения
для православной церкви.
В практике политической борьбы лета и осени
1917 г. как «левые», так и правые церковники, и
прежде всего синодадуюе руководство церкви, неуклонно
21
поддерживают все реакционные силы и движения.
После июньских дней церковная печать дружно
поддержала кампанию клеветы на большевиков, поднятую всей
контрреволюционной буржуазией с благословения и
под руководством Временного правительства. В
середине августа средоточием и штабом контрреволюционной
политики православной церкви стал открывшийся в
Москве Поместный собор Русской православной церкви.
В принципе вопрос о созыве Поместного собора был
решен еще до революции с соизволения верховного
руководителя церкви — царя. При помощи этого
мероприятия предполагалось добиться большей
организованности церкви в существующих условиях и лучшей ее
приспособленности к этим условиям в целях
максимально эффективного обслуживания идеологических и
политических нужд самодержавия. В 1906 г. по указу
царя было создано так называемое предсоборное
присутствие, которое должно было подготовить материалы к
решениям собора. Шли, однако, годы, но дело не
двигалось, — в течение целого десятилетия царизм так и
не реализовал свое решение о созыве собора. Видимо,
этот шаг представлялся рискованным, ибо мог питать
надежды и стремления некоторых кругов церковной
иерархии в какой-то мере освободиться от полного
подчинения государству. После февральской революции
вопрос приобрел особую актуальность.
Правящая верхушка церкви хотела выжать из
создавшейся ситуации максимум выгод для себя. Собор
открывал перспективу относительного освобождения
церкви от опеки со стороны правительства при сохранении
всех преимуществ, связанных с положением
«первенствующей» и господствующей в стране. Эта перспектива
оказывалась еще более ярко выраженной в случае
учреждения собором патриаршества и избрания
патриарха.
Временное правительство вело в отношении церкви
неопределенную, колеблющуюся и двусмысленную
политику. Его обер-прокурор В. Н. Львов принялся было
довольно энергично очищать ее руководящие кадры от
наиболее реакционных элементов. Это вызвало не
только недовольство правящей верхушки церкви, но и
беспокойство самого Временного правительства,
рассчитывавшего на церковь как на одну из своих политико-
идеологических опор и боявшегося потерять ее, В июне
22
1917 г. правительство упразднило самый пост обер-про^
курора синода и создало вместо него должность
министра исповеданий, включив в его компетенцию дела не
только православной церкви, но и учреждений других
религий и вероисповеданий. Этот акт имел опять-таки
двойственное значение: с одной стороны, он в какой-то
мере ослаблял государственное значение православно:!
церкви, а с другой стороны, делал ее зависимость от
государства менее непосредственной. В общем, однако,
указанный шаг Временного правительства не вызвал -со
стороны руководства церкви никаких протестов,
В июне синод создал так называемый предсоборнын
совет, который за два месяца провел подготовку к
собору и организовал избрание делегатов его по
епархиям. Вспомним, что аналогичное учреждение, созданное
по указу царя, «не сумело» выполнить эту работу за
десятилетие с лишним. Теперь пришлось торопиться, гак
как политическая обстановка в стране все обострялась
и церковь должна была в максимально короткие сроки
приготовиться к назревающим бурным событиям.
В день открытия собора — 15 августа — закрылось
созванное Временным правительством Государственное
совещание; это была одна из попыток стабилизации
режима в обстановке все усиливавшейся революционной
бури. В том же направлении пытался действовать и
церковный собор.
Состав собора не был однороден по политической
ориентации его делегатов. Все они исходили из
необходимости укрепить существующий
социально-экономический строй, всеми силами и мерами воспрепятствовать
его ниспровержению, поставить заслон наступающей
рабоче-крестьянской революции. Большинство собора, как
в его светском составе, так и в духовенстве, стоялх) на
открыто реакционной, по сути дела,
монархистски-реставраторской платформе. С таких позиций выстуггали
и известный черносотенец митрополит Антоний
(Храповицкий), и еще более откровенно не менее известные
погромщики типа священника Восторгова. Другие
участники собора были более сдержанны, а многие даже
либеральны. Здесь был представлен многообразный
спектр оттенков политических и тактических взглядов
и принципов. В стенограммах соборных заседаний
обращают на себя внимание многоученые доклады и речи
именитых профессоров князя Е. Трубецкого, протоиерея
23
С. Булгакова (бывшего «легального марксиста»),
кадетского деятеля Астрова. Крайнюю левую
представлял церковный историк профессор петроградской
духовной академии Б. В. Титлинов, впоследствии — один из
главных идеологов обновленческого движения (его
радикализм, вызывавший возмущение большинства
членов собора, не простирался, однако, левей заурядного
кадетства). А в общем, как было уже сказано, и
руководство собора, и подавляющее большинство его
членов были настроены вполне реакционно, что нашло свое
яркое отражение в стенограммах соборных дискуссий и
в том, что почетным председателем собора был избран
не кто иной, как киевский митрополит Владимир, не
менее известный своей черносотенной деятельностью, чем
митрополит Антоний (Храповицкий).
В целом заседания собора продолжались больше
года — до октября 1918 г. За это время состоялись три
сессии. Заседания были чрезвычайно многословными,
длительные прения происходили как по серьезным
поводам, так и по поводу совершеннейших мелочей и
особенно по процедурным вопросам. Иногда целые дни
уходили на споры о том, следует ли по тому или иному
вопросу требовать от группы делегатов, поднявшей его,
письменной мотивировки ее точки зрения или можно
ограничиться устным выступлением. При чтении
стенограмм собора приходится удивляться: несколько сот
человек, занимающих видное общественное положение,
получивших в своей области высокую квалификацию и
соответствующее образование, претендующих на
духовно-политическое руководство страной, иногда целые
недели убивают на юридическое крючкотворство по
поводу тех или иных формулировок, принимаемых собором
пространных «уставов» и подобных им документов. И
это в период, когда кругом клокочет социальная и
политическая борьба, — напомним, что все это происходи-*
ло с августа 1917 по октябрь 1918 г.
Но, конечно, центр тяжести работы собора был
сосредоточен именно на этой борьбе, решавшей судьбу
страны. В обильном словоизвержении соборных
заседаний главную роль играют актуальные вопросы
политической борьбы. Церковь «не от мира сего» больше всего
занята наиболее животрепещущими вопросами именно
сего мира, она лихорадочно ищет возможность
преградить путь революционному потоку. На каждом этапе
24
развития революции собор делает все от него
зависящее, чтобы поддержать наиболее воинствующие силы
реакции. Но повернуть историю вспять он был бессилен.
Это обнаруживается уже в первом серьезном
политическом испытании, выпавшем на его долю, — мы
имеем в виду корниловский мятеж.
Среди приветствий, обращенных к собору по поводу
его открытия, выделяется обращение от верховного
главнокомандующего Л. Корнилова. Заседание 17
августа 1917 г. было открыто выступлением князя Г. Н.
Трубецкого сообщением о том, что он «получил по
телеграфу от верховного главнокомандующего поручение
передать Поместному собору привет и искреннее
пожелание успеха в его святом деле». Генерал Корнилов
писал собору: «Нам не страшен внешний враг. Мы
верим, что дух христолюбивого воинства не вовсе отлетел
из рядов армии и что "с помощью доблестных сынов ее
воскреснет, свободная Русь. Позвольте же просить
Поместный собор своими молитвами поддержать армию,
возжечь тот пламень веры, который нужен нам».
Здесь примечательно и многозначительно чуть ли не
каждое слово. Генералу не страшен противник на
фронте — через несколько дней он изменнически сдаст ему
Ригу; ему страшна нарастающая в стране
социалистическая революция. Он стремится «с помощью
доблестных сынов армии воскресить свободную Русь»:
очевидно, под свободной Русью надо понимать нечто иное, как
монархию Николая II. И поддержать это святое дело
Корнилов призывает собор православной церкви. В
ответ он получает такую телеграмму: «Всероссийский
Поместный собор Православной церкви, глубоко тронутый
приветствием Вашим, призывает благословение Божие
на Вас, доблестную русскую армию и флот». Через
несколько дней Корнилов устремляется в поход на
Петроград с тем, чтобы свергнуть правительство Керенского
и взять в свои руки диктаторскую власть.
Как отнесся к возникшей ситуации церковный
собор? Об этом выразительно рассказывает один из его
участников — Б. В. Титлинов. «Собор переживал
поистине драматическую внутреннюю борьбу. Симпатии
соборного большинства неудержимо влекли его
поддержать Корнилова или хоть как-нибудь выразить ему
сочувствие, а осторожность заставляла сначала подумать,
прежде чем решиться на открытый шаг.., Соборяне ли-
25
хорадочно следили за развитием корниловских действий
и жадно ловили всякие слухи об успехах корниловских
войск, большею частью искажавшие действительность.
После двухдневных колебаний, наконец, назначено
было закрытое соборное заседание для общего
обсуждения отношения собора к корниловщине. Но пока собор
раздумывал, выступление Корнилова было
ликвидировано». Ничего другого соборным отцам не оставалось,
как обратиться к Керенскому с воззванием о
милосердном отношении к объявленному изменником Корнилову.
Взаимоотношения собора с правительством
Керенского не были безоблачными. Оно, правда,
демонстрировало свое лояльное отношение к собору. На открытии
последнего присутствовало несколько министров во
главе с самим Керенским, министр исповеданий Карташев
произнес красноречивое приветствие, но были
основания и для трений и претензий.
Соборных отцов не устраивало то обстоятельство,
что Временное правительство не в состоянии справиться
с решением тех задач, которые представлялись церкви
жизненно для нее важными. В стране со стихийной
силой развертывалось крестьянское движение, в ходе
которого ликвидировались помещичьи имения и земля
делилась между теми, кто ее обрабатывал. Это само по
себе вызывало негодование церковников, но их
переживания усиливались от того, что при этом страдало
достояние церквей и монастырей, а земельные богатства
церкви переходили в руки крестьянства. На заседаниях
собора то и дело раздавались вопли и стенания по
этому поводу и Временному правительству предъявлялись
требования оградить неприкосновенность церковной
собственности. Выполнить эти требования оно, конечно,
не могло, как не могло подавить аграрное движение в
целом. Это вызывало обвинения в бессилии и
нерешительности, наконец, в нежелании оградить интересы
церкви, Упреки последнего рода были, конечно,
необоснованны. Но обстановка складывалась так, что собор
стал связывать осуществление Своих чаяний с
установлением более «твердой* власти, а попросту говоря с
установлением военно-монархической диктатуры.
Прямой конфликт между собором й правительствам
Керенского был выз&ан вопросом о цержгано-тгриход-
ских школах. Выполняя минимально либеральную
программу в области народного образования, Временное
26,
правительство собиралось передать церковно-приход-
ские школы в ведение Министерства просвещения и
лишить их таким образом специфически церковного
характера. А в общегражданской школе предполагалось
либо прекратить преподавание закона* божьего, либо
сделать ато преподавание необязательным и перестать
оплачивать его за счет государства. Здесь уже было
прямое покушение на позиции церкви в школьном деле,
вызвавшее настоящую ярость у членов собора.
Эти разногласия, однако, отступали на задний план
перед лицом приближающейся социалистической
революции. Конечно, Керенский устраивал соборных отцов
меньше, чем Корнилов или православный царь. Но в
сравнении с Лениным и вообще руководителями
большевистской партии он выглядел не только как меньшее
зло, но дрямо-таки как оплот государства и церкви.
Надвигались события Великой социалистической
революции, которую церковь в силу всей своей классовой
природы и своих традиций, сложившихся на протяжения
столетий, не могла не встретить в штыки.
Многочисленные воззвания и послания,
принимавшиеся собором и распространявшиеся различными
путями по Москве, где он происходил, и по мере
возможности — по всей стране, призывали «православный
народ» к прекращению борьбы против Временного
правительства, к «братскому единению» с помещиками и
капиталистами.
Таким образом, в то время, когда революционный
народ боролся за победу социалистической революции,
церковь и возглавлявший ее в это время собор дела-ли
все возможное, чтобы предотвратить крушение старого
мира.
ЦЕРКОВЬ И ОКТЯБРЬСКАЯ РЕВОЛЮЦИЯ
После свершения Октябрьской революции церковь
заняла воинствующе непримиримую позицию, пытаясь
повернуть ход событий вспять. Показательно отношение
собора к борьбе между реакционным и революционным
лагерем в Москве. Пока юнкера, составлявшие
основную контрреволюционную силу в Москве, занимали
Кремль и некоторые другие командные позиции, собор
молча и с явной надеждой выжидал дальнейшего
развертывания событий. А как только силы контрреволю-
27
ции стали терпеть явное поражение и юнкера оказались
осажденными в Кремле, соборные отцы забеспокоились
по поводу того, как бы при ликвидации очагов
сопротивления не пострадали благоверные и православные
контрреволюционеры. Когда благоверные десятками и
сотнями расстреливали взятых в плен красногвардейцев
и солдат, это не вызывало никаких протестов со
стороны собора. Не выражалось и опасений за целость
исторических, в том числе кремлевских памятников. Но
как только рабочие перешли в наступление, возникла
сильнейшая тревога — как бы не пострадали эти
памятники. Истерические речи на заседаниях собора,
воззвания и прокламации, внушительные шествия членов
собора в направлении тех мест, где происходят военные
действия, попытки проникновения в штаб
революционных сил с целью уговорить их командование прекратить
военные действия против засевших в Кремле юнкеров
и, во всяком случае, не обстреливать Кремль во
избежание нанесения ущерба историческим ценностям —
все было пущено в ход. А когда Кремль был взят
красногвардейцами.и солдатами,-развернулась
агитационная кампания по поводу вреда, нанесенного
кремлевским святыням, и по поводу «зверств», якобы
чинившихся в отношении пленных юнкеров. И то и другое
было ложью: разрушения, причиненные кремлевским
зданиям артиллерийским обстрелом, были
минимальными, а с пленными юнкерами обошлись несравненно
гуманней, чем ранее те обращались с попавшими в их
руки революционными рабочими и солдатами.
Когда неизбежность победы социалистической
революции стала очевидной, верхи собора поставили перед
собой задачу в краткий срок восстановить
патриаршество. С середины октября 1917 г. начались дискуссии по
этому вопросу, длившиеся без перерыва две недели. До
этого ни предположений о том, что собор поставит этот
вопрос на обсуждение, ни конкретных предложений
по его решению ни с чьей стороны не поступало. В
документах, подготовленных предсоборным советом, нет
ни слова о возможном восстановлении патриаршества.
Теперь этот вопрос приобрел наивысшую актуальность.
Делегаты, отстаивавшие учреждение патриаршества,
достаточно откровенно мотивировали необходимость
этого в создавшихся исторических условиях. Докладчик
по этому вопросу епископ астраханский Митрофан за-
28
явил; «Дело восстановления патриаршества нельзя от-*
кладывать — Россия горит, все гибнет...- Когда идет
война, нужен единый вождь, без которого воинство идет
вразброд».
И все же собор был не единодушен в вопросе о
необходимости избрания патриарха: многочисленная и
сильная группа его делегатов выступала против того,
чтобы в данный момент совершить это деяние. В
оппозиции к нему находились, главным образом, не
епископы, а клирики и миряне. Произносили пламенные речи
против восстановления патриаршества протоиереи и
профессора, юристы, историки и в недавнем прошлом
государственные чиновники. Были мобилизованы самые
разнообразные аргументы — исторические,
догматические, канонические и, наконец, актуально-политические.
Главную роль играли, конечно, последние: действовало
вполне обоснованное опасение того, что народ поймет
установление церковной монархии как попытку создать
суррогат погибшей монархии. Представляет при этом
известный интерес развивавшаяся оппозиционерами
аргументация «академического», а особенно исторического
порядка.
В доказательство чтого, что патриаршество не
играло положительной роли в истории церкви, протоиерей
Н. Г, Попов привел ряд выразительных примеров из
истории константинопольского патриархата, в которых
патриархи выглядят как всесторонне развращенные
личности, запятнанные всевозможными преступлениями
и грязными поступками. «Мы могли бы, заключает
протоиерей, привести многие и многие другие имена из
числа 130 (приблизительно) патриархов, которые были в
Константинополе от учреждения патриаршества и до
падения империи, в доказательство того, что
патриаршество само по себе не предохраняет самих носителей
этого высокого сана от падений и заблуждений». Да и
при турках они вели себя не лучше: оратор приводит
серию примеров позорного поведения патриархов и в
этот период. Делается вывод: «Мне, может быть,
укажут, что наше патриаршество будет исключительным;
но где основания для такой надежды?»
Весьма красноречивую речь против восстановления
патриаршества произнес протоиерей Н. П.
Добронравов. Он не постеснялся уличить русскую православную
церковь и ее руководителей в лицемерии и низкопоклон-
2.9
стве, в отсутствии гражданского и рел«гж>зного;
мужества. По гговоду многочисленных заявлений делегатов^
собора о том, что синодальное управление цвркшыо-
было неканоничным и даже еретическим, оратор* ска*
зал-: «Иерархи православной церкви постоянно
прибегали ко лжи; услуживая монархии», но в. этом',
утверждает он, виноват не синод; «Нет,—заявляет он-, — вдашва-
та низость человеческая, пресмыкательство: И; до
синода, скажу словами Алексея Толстого, перед; царями
«землю мели бородой»; Пока' низость- чрелФвеческая-
будет давать знать о себе, раболепство перед сильными;
мира сего не будет искоренено»; Ишт* говоря1,, сияюд» w
патриархи* и в прошлом1 постоянно погрязш1И'в,ни8&<гш>,
так будет'продолжаться и впредь-; зачем ж?е» менять* ад*
но на другое. Так было; так- будет» И оратора w другие
члены собора; которые довольно в»яло; воз'ра'жадон* ему,
не замечали, какой сшгьнъш удар они* наносят noi уче^
нтгго'о нравственной ценности- и возвьшвешшепгге
православия, а згначит, и хриетианетва' в»*целому Впрочем, чшш><
ответственности за неприглядную карт»ку истоки»
русской церкви в последние столетие ohw поиыташтеъа вш-
ложигь не на кого иного, как на Петра I.
Пришлось церковным монархистам* встагг&< в позу
критиков единственного из русских^ царей; имеющего^
исторической перспективе некоторые дейетвмэемьяые
основания считаться- великим*. Священяия П; М; Волков»
заявил, что уничтожение патриаршества^ Пётршь бодло
делом «неканоничным и, можно- сказать,- безбожнадм^»*.
Пётр, оказывается*, «пзвратют жизнь церкви, наеиетшал
ее канонический строй, был предателем Русской
Православной Церкви и всепг русского'народа».* Архимандрит
Илларион сообщил собору,- что* «орегл петровекотоу на
западный образец устроенного самодержавие вюеле*
вал... русское правое л*атоюе сердце», а- дальше о^
распространялся о «святотатственной рук?е нечестивого
Петра». Несколько менее яростна, но по существу таиим
же образом характеризовал историчтекую. роль» Шйтра
один из наиболее авторитетных руководителей^ собора
митрополит Антоний (Храттовдцк»й);: «Пусть о» велик,
как государственный деятель, хотя и* то под' сомнением,
но по отношению ir церквги он может быть наздоаи*
только великим разорителем: все- тоа дуртгое*, что>прмш<шва-
юг церковной бюрократии; пашло^ от Петра» Великого».
Именно от него, как утверждал а'рх'иетеисжщ' тавриче*
за
ский .Димитрии, в церкви «я&илосы?реемстовласти <не
в рясах, а во фраках и «мундирах, преемство
людей,неверующих, «яенькх-отступников от>©ерЫ, возрождению и
воспитанию н,е принадлежащих ,к русскому .народу.
Остается *в .полной силе жщрос: «как ,могло русское
духовенство в течение двухсот .лет мириться с такой
церковной властью», да еще именовать ее «святейшим
синодам»?!
Ыеизвестно, долго ли еще «длилась полемика на
ооборе между сторонниками и противниками» восстанов-
лшия ЛФатроднаршества, но мосле победы революции чаща
весов немедл^енздю склонилась в пользу первых. Через
три дня тосш провозглашения Советской власти собор
Ю шивбря (28 'октября по ст. ст.) -принимает решение
об учрежден™ патриаршества. После ^многочисленных
изртурбанрй с додачей затжеок, содержащих имена
кандидатов, таковыми оказываются митрополит харьквв-
ский Антоний (Храповицкие), «получивший наибольшее
число толооов, затем митрополит московский Твдш
(Беланвин) и арошепископ новгородский Арсений (Ста^«
мшщкй). Остается последний этап >выборов •— жере'бь*
евка: щрестарелый иеромонах Алексий вытахживает ш
Tipex ваписок одну, *в которой оказывается имя Тихона.
.Многочисленные поклонники Антония (Храповицкого)
<6вклм развдарошны, ибо личность ^боевого, активного и
особо популярного в черносотенных кругах Антония
^более шодяадкла з этих условиях к должности патриарха,
чем (фигура сравнительно бесцветного и менее
известного Тихона. Дело, однако,'было сделано. С 18(5) ноября
1г9Л7 г. .русская церковь имеет патриарха, а 4 декабря
(21 .ноября) проводится церемония его настолования
(интронизации).
В промежутке между этими двумя событиями собор
развил бурную деятельность. В предвидении .неизбеж*
ного в ближайшем будущем акта Советского правитель*
ства об отделении одркви от государства он занялся во*
просом о правовом положении православной церкви —
с докладом по этому вопросу выступил С. Булгаков,
Основная .идея доклада выражалась в следующей
краткой формуле: «Должно быть осуждено, отвергнуто и
признано абсурдным -то, «что называется отделением
церкви от государства». В этом вопросе собор был ед#«
подущен. Дискуссий не .возникло, а все выступавшие
S1
лишь аргументировали тезис, сформулированный
Булгаковым и другими докладчиками.
Председательствовавший архиепископ Арсений
представил аргумент несколько невразумительный, но
достаточно категорический; «Церковь не должна быть
отделяема от государства, ибо церковь есть свет, соль,
которая должна духовно осолить всю вселенную.
Церковь не может отказаться от этой своей задачи» осоле-
ния. Делегат собора А. В. Васильев высказал
соображение, основанное на том, что все должно оставаться
так, как бывало раньше: «До сих пор православная
церковь занимала господствующее положение в русском
государстве. Собор выполнил бы свое назначение, если
бы заявил, что такое же положение православная
церковь должна сохранить и на будущее время». А князь
Е. Трубецкой дошел в возвеличении церкви до того,
что признал ее собор «единственным законным
представительством 100-миллионного православного русского
народа». При такой трактовке церковь не только
должна сохраниться в составе государства, она должна стать
выше государства, а весь государственный механизм
приобретает черты прямой теократии. До этой
крайности, однако, собор не дошел. Он принял решение,
требовавшее для православной церкви «первенствующего
среди других исповеданий публично-правового
положения» в государстве.
Другие статьи постановления о правовом положении
церкви в русском государстве расшифровывают и
закрепляют положение ее первенствующей роли. Из них
особое значение имеет установление о том, что. глава
государства, министры исповеданий и просвещения с
их заместителями («товарищами») должны быть
православными.
В выступлениях ряда ораторов по указанному
вопросу сквозило опасение того, что вся многословная
дискуссия идет впустую, так как Советское
правительство не собирается следовать соборным решениям о
правах церкви в государстве. Но перевешивала здесь,
как и во многих других случаях, надежда на скорое
падение Советской власти. Епископ уфимский Андрей
высказывался по этому поводу вполне недвусмысленно:
«Долго ли они (большевики. — И. /С.) удержат власть?
Может быть, неделю, две, а там произойдет новое
изменение». Кстати сказать, та надежда была выражена ар«
32
хиепископом в связи с вопросом о неприкосновенности
церковного имущества: «Мы должны иметь в виду, что
принадлежащее церкви должно быть сохранено, и
никто ее достояния без проклятия захватить не может».
Арсенал проклятий скоро понадобился церкви.
Каждое из мероприятий победившей в стране
Советской власти вызывало резкое осуждение со стороны
собора, начиная с декретов о земле и мире. Соборные
воззвания и послания сопровождались демонстрациями и
крестными ходами клириков и мобилизованных ими
верующих мирян.
Вступил в борьбу и сам новоявленный патриарх
Тихон. Надо же было оправдывать те надежды, которые
возлагались на него собором как на «мужа
дерзновения»! 19 января 1918 г. Тихон выступил со своим
знаменитым посланием, направленным против победившей
революции и ее правительства. Не называя
большевиков как подлинного адресата своих нападок, патриарх
обвиняет их в самых страшных преступлениях, и
прежде всего в беспричинных убийствах неисчислимого
количества невинных людей, в оскорблении святыни, а
главное, в том, что «имущества монастырей и церквей
православных отбираются под предлогом, что это —
народное достояние». Все эти деяния признаются
«поистине делом сатанинским», за которое святейший патриарх
анафематствует виновных, запрещая всем «верным
чадам православной церкви» вступать в какое бы то ни
£ыло общение со всеми, на кого направлен его
смиренный христианский гнев. По существу, это было прямое
политическое выступление, призывающее народ
бойкотировать большевиков и Советскую.власть, оказывая им
во всем решительное сопротивление.
Собравшееся на следующий день после публикации
патриаршей анафемы заседание собора
(неофициальное — не было кворума) полностью одобрило послание
Тихона, причем не обошлось и без внутренней
перепалки по одному деликатному вопросу. Делегат собора
богатейший помещик граф Олсуфьев упрекнул церковных
иерархов, включая самого патриарха, в том, что они
ввязались в драку только после того, как оказались
задетыми их собственные имущественные интересы:
«Помещиков грабили — мы молчали, отбирали фабрики —
молчали; начали грабить лавры — заговорили...
простите, Владыко, меня; мне грустно это, что тогда за-
33
говорили, когда лавры начали грабить». И все же граф
выражает удовлетворение: «Хорошо и то, что теперь
заговорили». Патриарх ответил ему в специальной
реплике, что он неправ; «От имени собора было составлено
послание по поводу разгрома помещичьих усадеб и тех
зверств, какие проявлены, безразлично — к помещикам
и монастырям, к церквам и духовенству. Мы живем
одной жизнью, у нас могут быть разногласия, но
сословных разногласий у нас нет». С полным основанием
патриарх заверил помещика, что интересы у них общие —
сбережение накопленных за счет народного труда
земель и имущества.
Что касается зверств, о которых упомянул Тихон в
своей реплике, то он должен был скорей отнести их за
счет деятельности церкви. Сопротивление,
организованное ею по директивам патриарха и собора фактически
всем без исключения мероприятиям революционной
власти, не могло не вызвать человеческих жертв как со
стороны одурманенных и мобилизованных церковью
верующих, так и среди революционных сил, взявших на
себя осуществление революционных преобразований. В
ряде документов, исходивших от собора, синода,
патриарха и других церковных инстанций, руководству
приходов и монастырей рекомендовалось в подходящих
для этого обстоятельствах созывать набатным звоном,
«рассылкой гонцов» и всевозможными другими путями
массы верующих и с их помощью организовывать
фактическое и, если возможно, вооруженное сопротивление
осуществлению мероприятий Советской власти. В одном
из таких воззваний собора говорилось; «Объединяйтесь
же, православные, объединяйтесь все, и мужчины и
женщины, и старые и малые, для защиты наших
заветных святынь... Лучше кровь свою пролить и
удостоиться венца мученического, чем допустить веру
православную врагам на поругание». На протяжении
последующих четырех лет церковь говорила по политическим во-ч
просам именно в таком тоне и в таком по направлению
содержании.
Опубликование Советом Народных Комиссаров
23 января 19Г8 г. Декрета об отделении церкви от госу-<
дарства и школы от церкви вызвало новый взрыв
ярости со стороны собора и патриарха. Было бы слишком
долго перечислять постановления, воззвания, послания
церковников, которыми прихожане призывались оказьь
34
вать сопротивление осуществлению мероприятий,
вытекающих из декрета.
Еще одним объектом церковного негодования
явилось заключение Брестского мира, ставшего поводом к
нападкам на Советское правительство. «Тот ли это мир,—-
вопрошал патриарх Тихон, — о котором молится
церковь, которого жаждет народ? Заключенный ныне мир...
не даст народу желанного отдыха и успокоения. Церкви
же православной принесет великий урон и горе, а
отечеству неисчислимые потери». Блаженны, мол,
миротворцы, как сказано в Евангелии, но к большевикам,
творящим мир, сие не относится...
Призывы церковников и патриарха, к
сопротивлению мероприятиям Советской власти во многих случаях
возымели свои последствия. В Москве,. Петрограде и
ряде других городов по инициативе и под руководством
духовенства организовывались «Братства приходских
советов», «Советы объединенных приходов» и подобные
им организации, провоцировавшие антисоветские
крестные ходы,, демонстрации и митинги, подпольные
собрания и т. д. Нередко дело кончалось кровавыми
эксцессами, дававшими потом повод церковникам говорить
о большевистских зверствах и гонениях на
православную веру. В литературе приводится цифра вызванных
тихоновскими выступлениями «инцидентов» — 1414.
Если она не очень точна, то во всяком случае
свидетельствует о размахе антисоветского движения, развернутого
церковью в первые же месяцы после Октябрьской
революции.
После знаменитого послания Тихона от 19 января с
анафемой по адресу Советской власти как по команде
состоялись крестные ходы в Москве и Петрограде с
молебнами «об избавлении церкви от воздвигнутого на нее
народными комиссарами гонения». Собор полностью
одобрил весь дух этих антисоветских выступлений и
некоторые ораторы с его трибуны сделали из них такие
выводы: надо, «чтобы первое столкновение со слугами
сатаны послужило началом спасения родины от гибели
и церкви от врагов... Я предложил бы самый
большевизм назвать «сатанизмом» или антихристианством». В
ответ на это предложение из среды делегатов собора
раздались голоса «Правильно!», а последующие
ораторы уже постоянно оперировали терминами «сатанизм»,
«сатанинский поход на церковь Христову» и т. д.
35
ГРАЖДАНСКАЯ ВОЙНА И ЦЕРКОВЬ
Началась гражданская война, и православная
церковь, так же как и другие религиозные организации,
тут же заняла место по ту сторону баррикад. С
Поместного собора потянулись различные его деятели в
разные концы страны— всюду, где * концентрировались
белогвардейские силы. После того, как большинство
делегатов собора разъехались по местам и примкнули к тем
или иным белогвардейским группировкам, а на
заседания собора стало собираться менее ста человек, было
вынесено решение под предлогом «отсутствия средств»
прекратить его работу. У Каледина, Корнилова,
Алексеева, Колчака, Деникина, Врангеля, Бичерахова — у
всех были свои подручные священники и епископы,
протопресвитеры и архиереи. Архиепископ уфимский
Андрей (князь Ухтомский) возглавил церковное
ведомство у Колчака. Неудачливый кандидат в патриархи
митрополит Антоний (Храповицкий) сначала
возглавлял церковный штаб у гетмана Скоропадского, потом
оказался на том же посту у Деникина-. На службе у
разных группировок белых банд были архиепископ Ев-
логий, один из руководителей Поместного собора князь
Е. Н. Трубецкой, протопресвитер Шавельский,
архиепископы: донской и новочеркасский — Митрофан,
таврический и симферопольский — Димитрий, ростовский и
таганрогский — Арсений, омский — Сильвестр и
многие другие.
В каком бы углу Советской России ни возникал
белогвардейский заговор, где бы ни вспыхивало зарево
антисоветского мятежа, где бы ни появлялась
возможность антисоветской иностранной интервенции, всюду
неизменными участниками, идеологами и
пропагандистами белогвардейщины оказывалось местное
духовенство. Ярославский мятеж летом 1918 г. был
организован с предварительного благословения архиепископа
Агафангела. Чехословацкий мятеж на Волге и на
Урале был самым активным образом поддержан
фактически всем духовенством тех территорий, на которых он
разгорелся. Церковная газета в Уфе писала: «Что ос-*
талось бы от России, если бы не пришли-чехи для
нашего спасения?». Дальше выражалась надежда на то,
что скоро явятся и другие народы спасать святую Русь
и православную веру; «Теперь будут подходить союзни*
36
ки русских — англичане, французы, американцы и
японцы». В роли спасителя православия «язычники»
японцы выглядели несколько странно, но это не
останавливало поборников единоспасающей веры. Особо
красноречивые проповеди в честь белочехов произносил
в кафедральном соборе Екатеринбурга епископ
Григорий. Интервенция войск Антанты на Севере тоже
вызвала взрыв энтузиазма у тамошних церковников.
Настоятель Архангельского кафедрального собора
протоиерей Лелюхин сказал в своей проповеди после
торжественного молебна: «Радость перешла в восторг,
когда на землю нашего города сошли с кораблей
прибывшие к нам благородные союзники наши...»
Вторжение японских войск на советский Дальний Восток было
так расценено в специальном воззвании епископа
Забайкальского и Нерчинского Мелетия: «Доблестные
войска дружественно верной Японии... помогают
возрождению нашей государственности». Он призывал
дальше «православных чад Забайкальской епархии»
собраться «под святую сень креста господня» для
«посильного служения доблестной армии, полагающей свою
жизнь за веру и отечество».
Там, где образовались очаги белогвардейского
антисоветского сопротивления, они немедленно обрастали
сетью церковных учреждений. Бежавшие с территории,
где существовала Советская власть, клирики и
епископы соединялись с местным духовенством, которое было
тоже, как правило, антисоветски настроенным, и
совместными усилиями собирались «епархиальные
совещания», «соборные совещания», «съезды
духовенства и мирян», где, конституировались
учреждения, принимавшие на себя названия
Временных церковных управлений на соответствующей
территории. Само собой разумеется, что это делалось
каждый раз с соизволения, а иногда и по инициативе
местных белогвардейских властей, и вновь созданное
церковное учреждение немедленно брало на себя
исполнение обязанностей «духовного ведомства» того белого
воинства, на территории которого это происходило. Так,
в ноябре 1918 г. в Томске было проведено Сибирское
соборное церковное совещание, избравшее так
называемое Высшее временное церковное управление. По
церковной линии оно признало себя подчиненным
патриарху Тихону, а по светской («государственной»), конечно
37
Колчаку. В конце 1918 г. такое же сборище состоялось
на Украине. Всеукраинский церковный собор тоже
призн-ал над собой «водительство святейшего патриарха
Тихона» и пана гетмана Скоропадского.
В марте 1919 г. Деникин счел целесообразным
создать церковный центр на оккупированной им
территории. Он распорядился созвать для этого церковный
собор. По его заданию протопресвитер Шавельский,
возглавлявший военно-морское духовенство еще при царе,
организовал созыв этого собора в г. Ставрополе,
Открытие собора почтил своим присутствием и речью
Деникин, поставивший перед церковниками задачу
«поднять жеч духовный» против Советской власти. В
ответных речах соборные отцы заверили его в том, что
отдадут все свои силы для решения этой богоугодной
задачи, а потом дружно спели белогвардейскому генералу
многолетие. В дальнейшем как в речах с соборной
трибуны, так и в молебнах, повторялась формула, по
которой «днесь благодать святого Духа нас собра»;
поскольку «собра» церковников в Ставрополь не кто иной, как
генерал Деникин, нельзя не усмотреть здесь довольно
лестное для бравого генерала сближение его с самим
святым духом...
На основе решений ставропольского собора дени-
кинскими властями был принят ряд документов,
которые должны были в дальнейшем регулировать
положение и деятельность церкви в России после того, как с
божией помощью была бы свергнута в ней Советская
власть. Одна из этих формул гласила так:
«Первенствующая церковь в сих областях есть церковь русская,
православная, возглавляемая святейшим патриархом
московским и всея России». Другой документ гласил:
«В твердом убеждении, что возрождение России не
может совершиться без благословения божия и что в деле
этом православной церкви принадлежит
первенствующее положение, подобающее ей в полном соответствии
с исконными заветами истории...», ей предоставляется
ряд льгот и прерогатив, в частности «поддержка,
оказываемая государственной властью церкви в ее
материальных и иных нуждах». Собором было также создано
учреждение, именовавшееся «Временным высшим
церковным управлением на юго-востоке России». Когда же
Деникина в роли очередного спасителя святой Руси и
38
православной веры сменил Врангель, то вместе с
последним церковному управлению пришлось
ретироваться в Крым, где, впрочем, ни усиленные молитвы, ни
другие средства не спасли белогвардейцев от полного
поражения и изгнания с советской территории.
Функции церковных учреждений на оккупированные
белогвардейцами территориях были разнообразны. Они
заключались, прежде всего, в интенсивнейшей
пропаганде, основным мотивом которой являлось освящение и
оправдание антинародной войны, которую вела бело-
гвардейщина. Разбойничьему делу нужно было создать
видимость священного и богоугодного крестового
похода. Пускался в ход весь театрально-декоративный
арсенал, которым располагала церковь: торжественные
молебны с многолетием очередному «спасителю Руси»,
крестные ходы, встречавшие белые войска после той
или иной «победы», праздничный колокольный звон,
постоянная демонстрация перед населением набожных
чувств, обуревавших православное воинство и особенно
его «вождей», — все это должно было работать на
возбуждение не столько религиозных, сколько контрреве*
люционных и антисоветских чувств. В том же
направлении шла и проповедническая деятельность
духовенства, и обильная духовно-политическая публицистика.
Колчаковская газета «Русская Армия» так
характеризовала цели войны, на участие в которой она призывала
всех православных: «Идет война... не из-за каких-либо
корыстных целей, а война главным образом за святьйда
православную, за святую церковь, за веру и Отечество».
Конечно, полностью скрыть шило в мешке было
невозможно и нельзя было совсем не говорить о том, что наг
ходится за пределами сферы «главным образом».
Давались и такие формулы: «Мы, русские, воюем за св©ю
древнюю веру, за целость и мощь своей родной страны,
за честь русской нации, за свои богатства! И
культуру!» Насчет борьбы за богатства сказано достаточно
ясно, значительно темней обстоит дело с «культурей»,
но что касается веры, то примечательно, что она
ставится в© всех случаях на первый план. Так же
мотивировали с помощью духовенства цели своих походов и
Деникин с Врангелем. В приказе первого о наступлении
на Москву цель этого выступления формулировалась
так: «В Кремль за святой водой! В Успенский собор!»
А Врангель ъ одном из своих . приказов разъяснял:
39
«Слушайте, русские люди, за что мы боремся: за
поруганную веру и оскорбленные ее святыни».
На службе у белогвардейцев церковники выполняли
и своего рода дипломатические функции. Известно, что
буржуазные правительства того времени были в
достаточной мере враждебно настроены против нашего госу-
дарства. Тем не менее все, чем можно" было усилить
эту враждебность, все, чем можно было осложнить
внешнеполитическое положение Советской страны,
пускалось в ход при помощи духовенства и его связей с
зарубежными церквами. Со специальными поручениями
этого рода и истерически-слезными посланиями
рассылались церковные эмиссары и к иерархам зарубежных
православных церквей, и к римскому папе, и к
архиепископу Кентерберийскому, и к светским властям
наиболее крупных буржуазных государств. Некоторые из
этих посланцев предпринимали специальные
агитационные турне по зарубежным странам, целью которых
было по возможности раскалить антисоветские страсти
империалистической буржуазии. Бурную деятельность в
этом направлении развил, например, митрополит
одесский Платон, специально посланный для этой цели в
США и ведший там переговоры с самим президентом
Вильсоном.
Духовенство в белогвардейском лагере не гнушалось
участия в боях с оружием в руках против Красной
Армии. В войсках белых были специальные
подразделения, состоявшие из попов и монахов. У Колчака были
так называемые дружины Святого креста, полки,
которым были присвоены имена Иисуса, Богородицы, Ильи
пророка. Под Царицыном у белых была воинская
часть («Полк Христа Спасителя»), состоявшая из
одного только духовенства. Разумеется, главная задача,
возлагавшаяся белогвардейщиной на церковь, состояла не
а непосредственной боевой деятельности, а в функциях
пропаганДистско-идеологических.
Патриарх Тихон, как это было впоследствии
документально доказано и как это фигурировало в
обвинительном заключении по его судебному делу, находился
в непосредственной связи со всеми церковными деятеля*
ми, состоявшими при белогвардейских штабах. Была
организована настоящая конспиративная служба связи
и оповещения с Антонием (Храповицким) и архн*
епископом ^У1итрофаном через некоего, оставшегося не-
40
известным, «Федю» с архангельскими
белогвардейцами — через архиепископа Нафанаила и протоиерея Ле-
люхина. Антонию патриарх писал: «Теперь
многие из нас бегут к вам, но вы к нам погодите...»
Патриарх был связан конспиративными путями с английским
консулом Оливером, французским агентом Рене-Марша-
ном, с такими подпольными организациями, как
«Тактический центр», «Национальный центр» и др. Тихонов-
ска^ церковь оказалась, таким образом, связующим
центром всех белогвардейских и антисоветских сил,
действовавших на территории России.
Наряду с этой подпольной деятельностью, патриарх
вел в течение 1918—1919 гг. открытую борьбу с
Советской властью, публикуя воззвания-протесты фактически
против всех ее начинаний и установлений, забрасывая
правительство (особенно с момента его переезда в
Москву в марте 1918 г.) непрестанными петициями,
посещениями делегаций от церковников и от самой
патриархии. Всячески тормозились мероприятия по
реализации декрета об отделении церкви от государства,
местным руководителям епархий и монастырей давались
соответствующие указания на этот счет, особенно
касающиеся церковного и монастырского землевладения
и имущества.
Возглавлявшаяся Тихоном патриаршая церковь
переживала нелегкие времена. Поражения
белогвардейцев на фронтах гражданской войны делали все более
эфемерными надежды на реставрацию того строя, при
котором церковь была государственной и
господствующей. Национализация церковно-монастырских земель и
прочих имуществ лишила ее тех колоссальных богатств,
которыми она владела. А громадный моральный ущерб,
был нанесен ей развернувшейся в 1918—1920 гг.
массовой кампанией вскрытия мощей.
Началось дело с того, что в октябре 1918 г. при
учете местными органами ценностей Александро-Свирского
монастыря (Петрозаводская губ.) было обнаружено,
что в литой двадцатипудовой серебряной раке вместо
мощей святого Александра Свирского лежит неуклюже
сделанная восковая кукла. Когда этот факт получил
огласку по всей стране, во многих местах, всюду, где
хранились и использовались в целях церковной наживы
нетленные мощи, общественные организации взялись
за их вскрытие и осмотр. Организовывались
авторитетен
ные комиссий с участием судебно-медицинских
экспертов, представителей местных Советов депутатов
трудящихся, церковных властей, причта того храма, в
котором хранились мощи. Как правило, открытие
гробницы, снятие покровов с предполагаемого тела «святого^,
раскрытие самих мощей производились наиболее
авторитетным из присутствующих духовным лицом. Все это
обычно происходило в условиях полной и широкой
гласности, исключающих возможность обмана или какой-
либо подтасовки. Весь процесс вскрытия мощей обычно
фиксировался фотографически и кинематографически.
В заключение составлялся протокол, под которым
подписывались все участники вскрытия, в том числе и ду-
хевные лица.
В качестве примера можно привести выдержки из
цретокола вскрытия «нетленных» мощей одного из
наиболее чтившихся церковью святого Сергия
Радонежского — оно происходило 11 апреля 1919 г. После
перечисления всех светских членов комиссии, н1 том числе
судебно-медицинских экспертов, сообщаются имена цер-
йэвных участников вскрытия: наместник Троице-Сергиев-
скей лавры архимандрит Кронид, настоятель Вифан-
ского монастыря иеромонах Порфирий, настоятель Геф-
симанского монастыря иеродьякон Сергий Большаков,
казначей лавры архимандрит Досифей, сообщается так-
Ж€ о присутствии большого количества лаврских
монахов. Само вскрытие проводит иеромонах Иона.
Подробно описываются все перипетии производимого действа.
В раке оказывается большое количество покровов
разных цветов, расшитых золотом и серебром, других
тканей, большое количество валы. А дальше: «По
снятии шапочки с головы виден человеческий череп...
возле черепа спрааа виден парвьш шейный позвонок...
слева от черепа лежат два шейных позвонка.
Развертывается истлевшая одежда. Все изъедено молью... общее
впечатление скелета, который разрушался 5Q0 лет...
Всюду масса мертвой моли, бабочек и личинок». Это
все, что осталось от «нетленные» мощей великого
угодника.
За два примерно года, в течение которых
проводились вскрытия мощей в разны-х губерниям России, было
BGero обследовано 63 такие святыни. И ни в одном
случае в богатых, раззолоченных, иногда целиком
серебряных гробницах — раках не обнаруживалось никаких
42
«несенных» мощей. Более того, не было случая, чтобы
находившиеся в раке кости составляли цельный
комплект человеческого скелета без лишних костей и без
«недостач». Во многих случаях не обнаруживалось и
костей, а вместо них оказывались либо куклы из тряпья,
ваты и воска, либо кучки угля, обломки кирпичей,
муляжи разных органов человеческою тела, изготовленные
из картона, тряпья и одетые в чулки, ботинки,
перчатки и т. д. В некоторых случаях среди прочего
содержимого гробниц оказывались скелеты каким-то образом
пронишиих туда м<ышей и крыс.
Бывало даже, что в гробнице вообще не
оказывалось ничего, ни единой косточки. Так, например, в раке
Жабьшской пустыни (Тульская губерния) при
вскрытии вместо мощей Мак<ария Жабынского обнаружилось
просто пустое место. В таких случаях церковники
заявляли, что мощи чудодейственным образом ушли «под
спуд», погрузились в землио, дабы не подвергнуться
поношению; так был объяснен казус и на этот раз.
Принялись искать мощи «под спудом», прокопали яму
глубиной в 5 аршин, но ничего похожего на мощи не
нашли.
Было несколько случаев, когда во вскрытой
гробнице обнаруживались почти целые мимуфтщироваиные
трупы. Это могло бы дать церковникам основание
утверждать, что здесь как раз и подтверждается нетление
соответствующего угодника. Интересно, однако же,
отметить, что они не воспользовались указанной
возможностью: уж очень непригляден был вид почти черных
мумий с присохшей к скелету кожей, тем более что
некоторые органы мумифицированных трупов все же
оказывались сгнившими. Именно в таком виде предстали
останки «виленских угодников» Антония, Иоанна и Ев-
стафия, захороненных в одной гробнице. (Явление
мумификации трупов, находившихся в благоприятных для
этого почвенных и метеорологических условиях, давно
известно и никакого материала для подтверждения
нетленности мощей церковникам не дает.)
Ряд вскрытий показал, что еще сравнительно
недавно содержимое гробниц подвергалось осмотру теми,
на чьем попечении они находились, и даже недавно
подновлялось... Так, например, кости, составлявшие мощи
св. Михаила Тверского, оказались одетыми в
фабричные ткани вполне современного производства. В неко-
43
торых гробницах валялись пустые коробки из-под
консервов, более или менее современные монеты и т, д.
Этот факт проливает особо неблагоприятный свет на
роль духовенства, выступавшего в качестве хранителей
мощей. Ведь если считать, что сотни лет тому назад
соответствующие угодники были захоронены и никто
после этого не имел возможности за это время узнать,
что происходит с их останками, то церковь могла
оправдываться тем, что она судила о святости мощей по
якобы происходящим вокруг них чудесам. Но здесь
раскрывалась картина явного, притом недавнего,
жульничества, что непосредственно компрометировало церковь!
Патриарх Тихон и его приближенные решили в этой
обстановке по возможности уменьшить и, так сказать,
смягчить масштабы этой компрометации. В феврале
1919 г. патриарх обратился с циркуляром к
епархиальным архиереям, в котором предписывал произвести
тайный осмотр находившихся на их территории мощей с
тем, чтобы «с архипастырской заботливостью и
рассуждением устранить всякие поводы к соблазну в
отношении святых мощей во всех тех случаях, когда и где
это будет признано... необходимым и возможным». Речь
шла о том, чтобы устранить из гробниц всю дрянь и
мусор, которые их заполняли, всю дешевку муляжей и
ваты, ткани новейшего производства, перчатки и обувь,
в том числе дамские туфли (они тоже обнаруживались
в святых гробницах!), оставив только кости и придав
всему этому по возможности благообразный вид.
Этого, правда, можно было добиться, но главная проблема
не решалась. Нетленность нельзя было изобразить
никакими средствами!
Пришлось идеологам церкви пойти на такое
толкование вопроса о мощах и о самом понятии мощей,
которое в свое время было дано во спасение мощей
Серафима Саровского митрополитом Антонием (Вадков-
ским): нетленность-де вовсе не является обязательным
признаком святости останков того или иного святого.
Практически в церковно-проповедническом и культов
вом обиходе мощи всегда рассматривались как нетлен*
ные останки. Любопытно в этом отношении то
определение, которое фигурирует в соответствующей статье в
дореволюционной энциклопедии Брокгауза и Эфрона:
«Мощи — тела святых христианской церкви,
оставшиеся после их смерти нетленными»» Достаточно показа*
44
тельно, что в своих усилиях придать мощам
благовидную и «правдоподобную» форму церковники
ориентировались на очертания человеческого тела: восковые,
картонные и прочие муляжи старались выдерживать в
формах, характерных для фигуры человека. Это значит,
что они имели в виду внушать почитателям мощей не
что иное, как представление о сохранившемся в
нетленности человеческом теле...
В создавшейся ситуации не оставалось, однако,
никакого другого выхода, кроме отказа от обязательности
признака нетленности. Единственным непременным
признаком святости признавалась чудотворность данных
останков, их способность исцелять болезни. А этот
признак всегда можно было подтвердить. Никаких
трудностей не представляет инсценировка чуда исцеления
болящего в результате того, что он приложился к
гробнице такого-то святого или даже заочно помолился ему.
А если не трудно инсценировать, то уж вовсе ничего не
стоит сочинить и тем или иным способом пустить в ход
соответствующую легенду.
К 1921 г/с победами Красной Армии на фронтах
гражданской войны и утверждением новых
общественных отношений накал борьбы тихоновской церкви
против Советского государства постепенно ослабевал.
«Патриарший воззвания и другие церковные выступления
становились по своему тону более сдержанными. Даже
понятие социализма в них звучало« уже не с таким
оттенком безоговорочного осуждения, как это было
раньше. Уже в 1919 г. патриарх почти гласно объявлял себя
покровителем организованной за год до этого
некоторыми членами собора «христианско-социалистической
рабоче-крестьянской партии», признавая, таким образом,
принципиальную возможность согласования
христианской веры с социализмом, пусть даже только на словах.
ГОЛОД В ПОВОЛЖЬЕ
И ИЗЪЯТИЕ ЦЕРКОВНЫХ ЦЕННОСТЕЙ
Вскоре, однако, обстановка опять осложнилась. Это
произошло в связи с разразившимся в 1921—1922 гг.
голодом в Поволжье.
Положение населения в этом районе было
исключительно тяжелым, ибо в условиях страшной послевоен-
45
ной разрухи страна мало чем могла помочь
голодающим. Между тем в распоряжении церкви находились
колоссальные ценности, которые собственно
религиозного значения не имелщ с точки зрения христианской
религии, ничем и никак нельзя обосновать необходимость,
например, того, чтобы та или иная икона Христа или
Богородицы была покрыта золотой ризой, осыпанной
драгоценными камнями... Между тем церковные
ценности никак не сводшшеъ к одним только ризам и
окладам, украшавшим ико«ы. Золотые и серебряные чаши,
массивные серебряные раки-гробницы, пашкадила и
подсвечники, короны на чудотворных иконах —- на все
эти ценности можно было бы купить за границей
достаточно продовольствият чтобы спасти от голодной смерти
миллионы людей. Некоторое представление о размерах
этого богатства дают опубликованные во второй
половине 1922 г. сведения Наркомфина о количестве
изъятых к 1 июля по республике ценностей: золота — 26
пудов 38 фунтов,, серебра — 21 137 пудов 11 фунтов,
бриллиантов и алмазов — 33 456 штук весом 1313 каратов,
жемчуга — 10 фунтов 6 золотников, много золота и
серебра в монетах. Если бы эти сокровища были
своевременно пущены в ход на дело помощи голодающим,,
миллионы людей были бы сттасены.
Юридическая сторона дела была ясна. По декрету
об отделении церкви от государства все эти ценности
были национализированы и находились у церкви не во
владении, а лишь в пользовании. При всем этом
государство, считаясь с религиозными чувствами верующих,
Действовало осторожно и тактично. В декабре 1921 г.
ЬЦИК принял постановление,, которым разрешалось
Церковным организациям жертвовать в пользу
голодающих и предписывалось государственной
комиссии помощи голодающим вступать по этому
Еопросу в сношения с церковью. Патриарх
Тихон откликнулся на этот призыв, но сделал
он это в достаточной мере «застенчиво». Он выпустил
воззвание, которым в* весьма сдержанных выражениях
призывал к благотворительности в отношении
голодающих. Практически этот призыв ничего не дал> ибо
церковники цегвко и жадш держались за находившиеся в
их руках богатства. В середине февраля Тихон выиус-
*Ыл новое послание, в котором прибег к несколько
более энергичным выражениям в призывах к благотвори-
4в
тельности. Все это, конечно, было не решением вопроса,
а попытками уйти от него.
Суть дела заключалась, однако, не только и не
столько в жадности церковников, сколько в
политических обстоятельствах и соображениях. Неоднократно в
истории русской церкви бывали моменты, когда ее
огромные ценности с полной готовностью и по первому
требованию и даже без всякого требования отдавалась
церковными иерархами светским властям. Уже во
время войны 1914—1918 гг. некоторые церковные иерархи
возбудили вопрос об отдаче церковных ценностей на
нужды войны, и только крушение царизма
предотвратило реализацию этого предложения. В данном случае
было важно не что отдавать, а кому отдавать—и
именно этот мотив играл важнейшую роль во всей пропаганд
де против изъятия ценностей в помощь голодакЛцим.
Реакционные церковные круги откровенно надеялись
на то, что голод свалит Советскую власть. В эмигрант-*
ской — церковной и общебелогвардейской — печати т£-
кая надежда формулировалась совершенно
откровенно...
Наступил момент, когда государство не могло
больше ждать. 23 февраля 1922 г. ВЦИК принял
постановление, коим предписывалось «местным Советам в
месячный срок со дня опубликования сего постановления
изъять из церковных имуществ, переданных в
пользование групп верующих всех религий по описям и
договорам, все драгоценные предметы из золота, серебра
и камней, изъятие коих не может* существенно
затронуть интересы самого культа, и передать в органы Нар-
комфина, со специальным назначением в фонд
Центральной комиссии помощи голодающим». Здесь-то
патриарх Тихон и счел необходимым выступить с открытым
забралом против передачи церковных ценностей на
прокормление голодающих.
Через несколько дней после опубликования
постановления ВЦИК Тихон опубликовал послание,
выдержанное в духе его ©шлтело-ангисоветскйх воззваний «а-
чала 1918 г. Он писал, в частности: «Мы не моэ&ем
одобрить изъятие из храмов, хотя бы через
добровольное пожертвование, священных предметов, употребление
коих не для богослужебных целей воспрещается
канонами вселенской церкви и карается как святотатство»*
Тема «святотатства» была немедленно подхвачена яя«
'47
жестоящими иерархами церкви и была развита ими еще
более интенсивным образом. Так, в обращении
петроградского епископа к духовенству и церковно-приход-
ским советам утверждалось, что «изъятие ценностей
представителями власти есть акт
кощунственно-святотатственный, за участие в котором миряне, по канонам
церкви, подлежат отлучению от церкви, а
священнослужители — извержению из сана». Ссылка Тихона на
якобы нарушаемые при изъятии ценностей каноны была
фальшивой: впоследствии на суде богословская
экспертиза в составе епископа Антонина, протоиерея
«Дедовского и священника Калиновского решительно отвергла
ссылки Тихона на 73-е апостольское правило и 10-е
правило двукратного собора, признав, что в них не
содержится никаких запретов в отношении небогослужебного
употребления церковных ценностей. Занимавший место
на скамье подсудимых в аналогичном петроградскому
процессе крупнейший знаток канонического права Бене-
шевич полностью согласился с этим заключением
экспертов.
Церковные инстанции не ограничились слове.сным
осуждением изъятия ценностей в пользу голодающих,
они развернули бурную деятельность по организации
массового сопротивления верующих этому изъятию. В
Москве практическим руководителем такой
деятельности был управляющий епархией архиепископ Никандр,
работавший по прямым указаниям патриарха. В
Петрограде, этим занимался митрополит Вениамин во главе
группы- мирских контрреволюционеров. Кампания
сопротивления была организована по всей России, и в
ряде городов, помимо Москвы и Петрограда (Смоленск,
Шуя, Ярославль и многие другие), произошли
кровавые эксцессы, в которых пострадали как представители
местных властей, уполномоченные для изъятия, так и
верующие, спровоцированные духовенством на
насильственное сопротивление выполнению указа ВЦИК.
Правительственные организации вначале пытались
договориться с церковными иерархами о прекращении
их сопротивления делу помощи голодающим
средствами, которые можно добыть реализацией церковных
ценностей. Можно было надеяться на то, что церковь не
захочет скомпрометировать себя перед миллионными
массами, а именно к этому мог привести ее
категорический отказ сдавать ценности в пользу голодающих. Но
48
эти надежды не оправдались. Руководители церкви по
существу не шли на уступки и прикрывали свой
саботаж изощренной казуистикой.
Когда правительственным органам стало ясно, что
руководители церкви ведут нечистую игру, пытаясь
заодно запугать Советскую власть провоцируемыми ими
же беспорядками и массовыми актами насилия,
пришлось прекратить переговоры и прибегнуть к
административно-судебным мероприятиям. В мае и июне 1922 г.
в Москве и Петрограде, а потом и в ряде других
городов состоялись судебные процессы над церковниками,
виновными, во-первых, в укрытии ценностей от изъятия,
а во-вторых, в организации уличных столкновений и
массовых насилий с целью сорвать выполнение декрета
ВЦИК. Виновные были строго наказаны.
Тем временем в церкви шло внутреннее брожение.
Некоторые слои духовенства, и ранее занимавшие
«левые» позиции как в отношении политической линии
церкви, так и в отношении ее устройства и даже ряда
культово-литургических вопросов, сочли, что.на данном
этапе церковное руководство достигло уже крайне
реакционных степеней во всех направлениях своей
деятельности. Оформилась целая группа оппозиционно
настроенных в отношении патриархии петроградских клириков
во главе с протоиереем Александром Введенским,
которая предприняла довольно решительные действия.
ВНУТРИЦЕРКОВНАЯ БОРЬБА.
КОНСОЛИДАЦИЯ МОСКОВСКОЙ ПАТРИАРХИИ
В мае 1922 г. несколько человек во главе с
Введенским явились к находившемуся под домашним арестом'в
Троицком подворье в Москве патриарху Тихону и
предъявили ему ряд претензий и требований.
Патриарху было сказано, что его антисоветская политика
завела церковь в тупик и поставила ее на край гибели.
Визитеры потребовали от Тихона снятия с себя сана
патриарха и передачи церковной власти другим людям,
пока новый Поместный собор не определит окончательно,
каков будет церковный режим в дальнейшем.
Положение Тихона и всего патриархата было к
этому времени весьма сложным. Белогвардейская
контрреволюция окончательно провалилась, Советская власть
утвердилась прочно и никаких надежд на ее ниспровер-
49
женйе, по меньшей мере в ближайшее время, питать не
приходилось. Предстоял ряд судебных процессов, в
которых руководящие церковные группировки, как В
центре, так и в ряде случаев на местах, должны были нести
ответственность за кровавые столкновения,
спровоцированные ими по делу изъятия церковных ценностей, и
вообще за многочисленные акты контрреволюционной
деятельности. В этих условиях Тихону приходилось
определить свое отношение к установившемуся
советскому строю в более лояльных формах, чем когда бы то
ни было ранее. И особенно побуждала его к этому
обстановка, сложившаяся в связи с Карловацким собором
ноября—декабря 1921 г. и деятельностью созданной на
этом соборе белоэмигрантской церковной иерархии.
В указанные месяцы югославский город Сремские
Карловцы дал убежище собранию наиболее
реакционных и агрессивных элементов церковной и
околоцерковной белогвардейщины, наименовавшему себя
«Русским всезаграничным церковным собором». Его
участниками явились 13 архиереев, бежавших за границу
вместе с войсками белогвардейцев, и около
полутораста клириков и мирян, среди которых были деятели
царского правительственного аппарата, колчаковские,
врангелевские и прочие белогвардейские офицеры и т.д.
Политическая физиономия Карловацкого собора
определялась тем, что им руководил пресловутый
митрополит Ангоний (Храповицкий), а активными участниками
являлись думский деятель М. В. Родзянко, один из
главных в дореволюционной России погромщиков Н.
Марков («Валяй-Марков»), казачий полковник П. Граббе
и подобные им.
Без какой бы то ни было маскировки Карловацкий
собор поставил в центр всей своей деятельности не
столько церковно-религиозные, сколько политические
вопросы. Речь шла о том, чтобы сконцентрировать всю
деятельность белогвардейской эмиграции на задачах
свержения Советской власти. Соборные отцы
утверждали, что в условиях, когда политические и военные
лидеры контрреволюции обнаружили свое полное бессилие в
этом отношении, инициативу должна взять на себя
церковь. Митрополит Антоний заявил в одной из своих
речей: «Милюковым не восстановить монархию, за ними
нет реальной силы, но есть иная организация, которая
свергнет большевиков, «— это православная русская
50
церковь». В этом духе были выдержаны все принятые
собором документы, в частности обращения к
Врангелю, к матери бывшего царя Марии Федоровне,
правительствам буржуазных государств и главам
православных церквей.
Задача реставрации самодержавия в России
единодушно принималась всеми участниками собора;
некоторые разногласия возникли лишь по вопросу о том,
должна ли в документах собора фигурировать
установка именно на династию Романовых или достаточно
одного только лозунга монархии, а о династии можно
пока умалчивать. Один из руководителей собора
архиепископ Евлогий стоял на второй из указанных
позиций, причем мотивировал ее тем, что вопрос, должны ли
царствовать на Руси Романовы или представители
какой-нибудь другой династии, имеет политический
характер, собор же должен оставаться на «чисто церковной»
позиции, которая диктует лишь «идею о монархе
православном, как божием помазаннике», а не то, кто
именно должен занимать эту должность. Ему возражал
сам председатель собора Антоний, для которого «вопрос
о династии» был «не политическим, а чисто
церковным» — это аргументировалось тем, что «отвергать
тот вопрос — значит отвергать существующие никем не
отмененные основные законы (царской России.—И. /С.),
соглашаться с так называемыми завоеваниями
революции». Подавляющим большинством голосов была
принята позиция Антония, что нашло свое выражение в
опубликованном собором послании «Чадам российской
православной церкви», завершавшемся воззванием: «И
да осенит господь сердца народные, да вернет он на
всероссийский престол помазанника, сильного любовью
народа, законного православного царя из дома Рона-
новых!»
Для руководства реализацией поставленных перед
церковью задач Карловацкий собор создал
специальное учреждение во главе с митрополитом Антонием, .—
«Высшее русское церковное управление за границей».
Оно тут же развернуло бурную антисоветскую
деятельность & международном масштабе. Наиболее известцым
его деянием явилось обращение к происходившей
весной 1922 г. Генуэзской конференции. Воинствующие
церковники потребовали от собравшихся на
конференцию руководителей главных буржуазных государств не
51
вступать ни в какие соглашения с Советской республик
кой и всеми средствами, в том числе саботажем
международной помощи голодающим в Поволжье,
добиваться реставрации монархии в России. В общем,
политическая физиономия Карловацкого церковного
объединения была предельно ясной.
Тихоновская патриархия не могла не выразить
своего отношения к этой банде церковных белогвардейцев.
Это было тем более существенно, что карловацкие
руководители не упускали случая декларировать свою
приверженность и подчиненность Тихону и его
иерархии. Как в документах собора, так и в указах
созданного им ВЦУ неизменно содержались ссылки на
«благословение святейшего Тихона, патриарха Московского и
всея России». Митрополит Антоний официально
именовался «наместником всероссийского патриарха». Тихон
не был в состоянии открыто присоединиться к
решениям Карловацкого собора и признать «заграничное
ВЦУ» находящимся в его юрисдикции. Косвенно он
давал понять это. Показательна в этом отношении
публично выраженная Тихоном сербскому патриарху
Димитрию благодарность за то, что он предоставил
возможность с санкции сербского правительства
обосноваться карловчанам на территории последнего.
Остается несомненным фактом и то, что патриарх ни разу не
дезавуировал заявления карловчан о том, что их
деятельность ведется с его патриаршего благословения.
И все же, особенно после «генуэзского» выступления
карловчан, Тихону пришлось отмежеваться от них. В
начале мая 1922 г. он объявил о ликвидации
карловацкого ВЦУ и возложил руководство православными
приходами за границей на Евлогия, возведенного им
немного раньше в сан митрополита. Хотя новый
руководитель, тоже был одним из главных деятелей карЛовац*
кой группы, его позиция была несколько более
умеренной в сравнении с позицией Антония, так что жест
патриарха выглядел имеющим некоторое ' символическое
значение. Карловч^не это поняли и изобразили
видимость подчинения патриарху, упразднив свое ВЦУ и тут
же заменив его «Временным священным архиерейским
синодом». Председателем этого учреждения остался
Антоний, хотя рядом с ним и стоял новый «управляющий
приходами» митрополит Евлогий.
В этой обстановке Тихону пришлось реагировать на
52
претензии и требования явившейся к нему группы
Введенского. Он не мог их полностью отвергнуть, но не
был еще в состоянии в это время открыто порвать с
белогвардейщиной и выразить свою лояльность
Советской власти. После довольно активного
маневрирования он согласился на то, чтобы передать управление
церковью назначенным им лицам, каковые должны
подготовить новый Поместный собор, который
окончательно решит «проклятые,вопросы». Из этого ничего не
получилось, ибо ярославский архиепископ Агафангел,
которого предназначил для этой цели патриарх,
уклонился от таковой чести и не приехал в Москву, а второй—
петроградский митрополит Вениамин был как раз в эти
дни арестован и предан суду за тяжелые, политические
преступления. В конце концов Тихону пришлось
согласиться с созданием Временного церковного управления,
в состав которого вошел и Введенский.
Наступил краткий период главенства в церкви
группы духовенства, настаивавшей на полном изменении
отношения к Советской власти и на признании ее, по
меньшей мере, столь же богоданной, как и другие
власти, каковые, как известно по Новому завету, все
исходят от бога. Эта общая установка должна была найти
свое организационное оформление в системе каких-то
учреждений и группировок духовенства,
возглавлявшихся определенными личностями. Началась групповая
борьба, побудительными мотивами которой были
далеко не всегда идейно-религиозные соображения...
Еще в предшествовавшие два-три года в различных
пунктах страны те или иные представители духовенства
разными способами подавали свой голос в пользу
пересмотра политической позиции православной церкви.
Архиепископ уфимский Андрей (князь Ухтомский),
недавно формировавший у Колчака полки Иисуса,
выступил в 1920 г. с публичным заявлением о том, что он
раскаивается в своей прежней деятельности и готов
активным сотрудничеством с Советской властью
искупить свои политические прегрешения. Нижегородский
митрополит Евдоким, до революции возглавлявший
православные приходы в США, активно демонстрировал
свои просоветские взгляды в проповедях и в статьях,
публиковавшихся в прессе. Так же действовали и
епископ Григорий в Екатеринбурге, епископ Виктор в
Вятке и другие. Большая группа «прогрессивного» духовен-
53
ства образовалась в Петрограде, и одно время она
включала в себя представителей различных
сектантских общин, было организовано и межконфессиональ*
ное (вместе с православным духовенством)
объединение цод названием Исполкомдух (Исполнительный
комитет духовенства).
В ходе событий, как мы видели выше, инициативу в
деле церковного «обновления» захватили
петроградские клирики. Введенский вернулся в Петроград с
мандатом, который предоставлял ему право привести все
духовенство в подчинение новоявленному ВЦУ.
Митрополит Вениамин не только не признал его полномочий,
но под предлогом того, что мандат не был подписан
лично Тихоном, объявил публично о лишении
протоиерея Введенского духовного сана и фактически об
отлучении от церкви. Пока Введенский пытался добиться
вмешательства патриарха в это дело, митрополит
Вениамин был арестован органами власти и предан суду
по делам, связанным с сопротивлением изъятию
ценностей. Введенский обратился к викарию, заместивще^у
митрополита на его посту, епископу Алексию
(впоследствии патриарху), и тот отменил решение Вениамина,
признав его «недоразумением», так что Введенский
получил возможность действовать в Петрограде, но тут
некая верующая фанатичка напала на него и камнем
проломила ему череп, что вывело из строя члена ВЦУ
на ряд недель.
В середине 1922 г. сторонники «обновленчества» в
православной церкви создали специальную
организацию с участием как духовенства, так и мирян, под
названием «Живая церковь». Состав ее был весьма
пестрый и разнообразный. Из духовенства в ней
участвовали, помимо Введенского, протоиерей Красницкии, в
свое время состоявший в Союзе русского народа,
архиепископ Антонин (Грановский), уволенный Тихоном на
покой, митрополит Евдоким, профессор церковной
истории Б. В. Титлинов, бывший при Керенском
прокурором синода В. Н. Львов, ближайший сотрудник
Введенского петроградский протоиерей А. Боярский и др.
Было предпринято издание специального журнала «Живая
церковь». В ряде городов организовались местные
комитеты живоцерковников. Хотя все движение
протекало в рамках и под началом ВЦУ, организация которого
была санкционирована Тихоном, фактически оно проти-
54
вопоставляло себя тихоновской патриархии, причем раз-'
ные группировки внутри «Живой церкви»
распространяли это противопоставление на различные сферы
церковной жизни. Объединяло же всех живоцерковников
стремление низвести патриархию и вообще старую
церковь с ее воинствующих реакционных политических
позиций. Уже в первом номере журнала «Живая церковь*
Введенский поместил статью под острым названием
«Паралич церкви». В ней он писал: «Пусть наша
церковь перестанет выжидать, — а не вернется ли царь. .
Пусть для нее не будут соблазном митры, ордена и
жирные приходы. Пусть больше всего боятся пастыри,
чтобы церковь не потеряла своей золотой судьбы, чтобы
не было и мысли, как это было у значительной части и
ныне здравствующих иерархов, превратить церковь >з
филиальное отделение Союза русского народа. Пусть
церковь бесповоротно осудит богачей и капиталистов, а
станет за пролетариат, за меньшую обижаемую братию,
за Христа...» Здесь Введенский прямо формулирует
программу христианского социализма, которая разделялась
далеко не всеми участниками живоцерковного
движения. Но требование лояльности к Советскому
государству признавалось всеми.
В вопросах же организации духовенства,
церковного управления, а тем более литургики и догматики
среди участников движения было много разногласий. И
что, может быть, имело еще более серьезные
последствия, было много игры личных интересов, честолюбия,
властолюбия, карьеризма. Очень скоро из общего
движения стали выделяться различные группировки и
направления со своими «вождями» и идеологами. Во
второй половине 1922 г. в составе обновленцев
существовали три основных группировки: 1) собственно «Живая
церковь» во главе с протоиереем Крзсницким; 2)
группа «Церковное возрождение», возглавляемая
архиепископом Антонием и 3) «Союз общин древлеапостольской
церкви», во главе которого стоял Введенский. Каждая
из групп составляла свою фракцию в ВЦУ, причем
большинство мест занимала «Живая церковь». Поводов
лля разногласий обнаруживалось много: вводить ли
брачный епископат, разрешить ли второбрачие
священников, переходить ли на григорианский календарь,
переводить ли богослужение с церковнославянского языка
на русский, придерживаться >ли строго основных догма-
53
тических устоев православия, закрепленных в Никеоца-
реградском символе веры и в писаниях отцов церкви,
или, может быть, искать пути модернизации всего
вероучения. По всем этим вопросам можно*было без конца
спорить, но жизнь выдвигала перед церковниками
несравненно более актуальные вопросы, от решения
которых зависела судьба церкви и ее руководства на
ближайшее время.
История православной церкви сложилась так, что
обновленцы даже не успели более или менее
обстоятельно разобраться во всех тех спорах, которые их раз*
деляли. В ходе долгих многословных дискуссий между
сторонниками различных обновленческих группировок
они договорились, что окончательные решения по этим
вопросам будут приняты долженствующим собраться
новым Поместным собором. Он был назначен на конец
апреля 1923 г., а до его созыва, еще осенью 1922 г.,
«Живая церковь» провела свой Всероссийский съезд,
решения которого она предложила на утверждение со*
бору. На соборе see происходило «как положено»:
многоречиво, торжественно, с широковещательными,
«исторического размаха» постановлениями, не сыгравшими,
однако, в дальнейшем серьезной роли в истории
русской православной церкви. Патриарх Тихон был фор-*
мально лишен звания, сана и монашества. Был санк«
циоНирован брачный епископат «наравне с лицами
безбрачного состояния». Было разрешено второбрачие
духовенства. Монастыри было решено закрыть, причем
вместо них рекомендовалось основывать «Союзы и
братства христианско-трудовых общин». Было принято
также решение о переходе на григорианский календарь.
Особому обсуждению подвергся вопрос о почитании
мощей; после долгих споров было принято половинчатое
решение, по которому мощи-де следует почитать, но
обмана при этом допускать не нужно. Решения собора,
действительно имевшие значение, относились к вопросам
политической ориентации церкви.
Собор безоговорочно санкционировал полную
лояльность церкви в отношении к Советской власти, он
отлучил от церкви белоэмигрантское духовенство, продол-^
жавшее вести антисоветскую политику, в том числе
всю карловацкую иерархию во главе с Антонием
(Храповицким). Строгие решения в отношении Тихона
обусловливались, прежде всего, его антисоветской деятель-
56
ностью на протяжении длительного времени и тем, что '
ему предстояло в ближайшем будущем предстать перед
советским судом в качестве обвиняемого.
К этому времени было опубликовано обвинительное
заключение, предъявленное шестерым
высокопоставленным церковным иерархам во главе с самим Тихоном
(«гражданином Белавиным») и архиепископом Никанд-
ром («гражданином Феноменовым»). Суд, однако, не
состоялся по той причине, что обвиняемые публично
заявили о полном признании ими своей тяжелой вины
перед народом, дали обещание впредь полностью
прекратить свою антинародную контрреволюционную дея«,
тельность. В июне 1923 г. Тихон обратился в Верховный
суд РСФСР с письмом, в котором просил помилования.;
Свою антисоветскую деятельность в прошлом патриарх\\
объяснял тем, что он был воспитан в монархической i
среде, а в дальнейшем находился под влиянием людей,:
тоже настроенных реакционно и монархически. Относив
тельно же своей нынешней позиции он давал заверением,
«Я отныне Советской власти не враг. Я окончательно hi
решительно отмежевываюсь как от зарубежной, так и
внутренней монархически-белогвардейской контррево»
люции». С аналогичными заявлениями Тихон выступил
в печати, причем воспользовался случаем, чтобы в
резких выражениях осудить обновленцев, приписывая их
деятельность низменным корыстолюбивым и
карьеристским побуждениям.
Органы Советской власти не сочли нужным
продолжать судебное преследование Тихона и его соратников.
Он был освобожден «по частной амнистии» и
возобновил свою деятельность в качестве патриарха русской
православной церкви.
Здесь-то и оказалось, что обновленчество имело
какие-то более или менее глубокие корни среди верующих
только лишь в той мере, в какой оно противопоставляв"
ло тихоновской контрреволюционной позиции свое
лояльное отношение к Советской власти. Как только
патриархия сменила свои политические вехи,
обновленчество стало терять свою притягательность в глазах
верующих масс, а те догматические, литургические и
канонические нововведения, которые она предполагала
постепенно вводить в обиход, не вызывали сочувствия
у верующих, которым больше импонировали
традиционные взгляды в этих областях.
57
Вскоре Тихон новыми воззваниями и обращениями
к верующим подтвердил бесповоротность своей
политической перестройки. Последний документ такого
порядка был датирован 7 апреля (25 марта) 1925 г., а на
следующий день Тихон умер. Обновленцы было решили,
что теперь они могут унаследовать руководство всей
церковью и стали обращаться с предложениями о
воссоединении к иерархам, находившимся в тихоновской
й)(5исдикции. Это было, однако, безрезультатно.
Как уже было сказано, Тихон сразу после своего
амнистирования принялся за реставрацию патриархии. Он
взял обратно свой отказ от управления церковью,
объявил обновленцев отпавшими от церкви и принялся
собирать вокруг себя кадры староцерковников. Немедленно
к нему вернулся митрополит Сергий (Страгородский),
совсем недавно вместе, с архиепископами Евдокимом и
Серафимом публиковавший заявления о полной
каноничности обновленческого ВЦУ и о своем подчинении
ему. Вернулся с повинной головой и протоиерей Крас-
ницкий, один из основоположников обновленчества.
Вскоре вокруг Тихона собралась авторитетная в глазах
верующих группа церковных иерархов, из которых он
создал руководящее учреждение православной церкви
под внушительным названием «Полное присутствие
Высшего церковного управления в составе обоих орга-'
нов сего управления, как св. синода, так и Высшего
церковного совета». Закоренелым обновленцам не
оставалось ничего другого, как продолжать борьбу за «место
под солнцем», за власть в церкви.
Они предприняли созыв нового Поместного собора с
тем, чтобы придать созданному ими церковному
режиму вид полной и завершенной каноничности. Этот
собор и был проведен в Москве в начале октября 1925 г.
После того, как староцерковники много раз
отказывались от каких бы то ни было контактов с
обновленцами, последним пришлось на своем соборе занять резко
враждебную позицию по отношению к ним.
Мотивировать ее можно было лишь тем, что тихоновская церковь
трлько по видимости занимает лояльную в отношении
Советской власти платформу, а на самом деле стоит на
враждебных в отношении ее позициях, маскируя их
лицемерными фразами. Собор вынес решение об
управлении церковью священным синодом, которому должны
58
подчиняться все православные приходы как на
территории СССР, так и за границей.
Все это, однако, оставалось лишь в пределах благих
пожеланий. Для эмигрантских церковников даже
деятели тихоновской формации выглядели слишком левыми,
тем более не могло быть и речи о признании ими
юрисдикции обновленческого синода.
Собор 1925 г., признанный староцерковниками
лжесобором, не помог развитию обновленческого движения.
Чем дальше, тем оно все больше шло к упадку; все
большее количество приходов отходило от синода и
примыкало к староцерковникам. Известны такие цифры: к
октябрю 1925 г. из всех православных приходов к
обновленчеству примыкало около 30%, к 1927 г. их число
упало до 16,6%, а в дальнейшем этот процент
продолжал уменьшаться. Помимо всех прочих обстоятельств,
имело еще значение и то, что материальное положение
обновленческого духовенства было .значительно хуже,
чем положение староцерковников, ибо с самого начала
своего движения обновленцы сделали «широкий жест»—
отменили плату за требы. Потом, правда, эта плата
была частично восстановлена в виде «добровольных
приношений членов общины за совершение треб», но это не
компенсировало полностью тот ущерб, который несло
приходское духовенство.
В лагере староцерковников царила тем временем
неразбериха. Тихон незадолго до своей смерти указал
на трех митрополитов, один из которых должен
управлять церковью до избрания нового патриарха. Первым
из них был Петр (Полянский). Он взял на себя роль и
звание местоблюстителя патриаршего престола, но
пробыл в этом звании несколько месяцев, так как за
антисоветскую деятельность был арестован и выслан из
Москвы. Инициативу в руководстве церковью принял на
себя митрополит нижегородский Сергий (Страгород-
ский), объявивший себя заместителем местоблюстителя
патриаршего престола. Часть духовенства отказалась,
однако, примкнуть к нему: известно было, что одно
время он примыкал к обновленцам, но и после того, как он
отошел от них, Сергий был известен своим искренне
лояльным отношением к Советской власти, что не
устраивало многих представителей высшего духовенства.,
Стали все в большем количестве появляться группы
69
староцерковников, отказывавшихся признавать Сергия
в качестве главы церкви.
В конце 1925 г. в Москве организовал такую группу
архиепископ екатеринбургский Григорий, сколотивший
учреждение под названием Временного высшего
церковного совета (ВВЦС) и объявивший его руководителем
всей русской православной церкви. Когда находивший-*
ей в ссылке митрополит Петр стал предлагать
компромисс между Григорием и Сергием, последний порвал с
ним отношения и пригрозил запрещением в служении.
В это время появился новый- претендент на
возглавлена церкви митрополит Агафангел, который объявил
себй местоблюстителем престола, а затем появились на
горизонте с теми же претензиями пермский архиепископ
Кирилл и некоторые другие. Совещание
епископов-староцерковников, признававших ВВЦС (григорьевцы),
собравшееся в мае 1927 г. в московском Донском
монастыре, зафиксировало в своей резолюции: «Мы должны
с ужасом и возмущением отметить невероятное явление,
что теперь уже намечены одиннадцать патриарших мес-*
тоблюстителей... Это смешение языков может быть
рассматриваемо как величайшее наказание божие».
Наряду со стремлениями отдельных иерархов
захватить власть во всей православной церкви, в этот период
наблюдается стремление к разделению на отдельные
автокефалии.
Еще после февральской революции 1917 г. объявил
себя автокефальной церковью грузинский экзархат. В
1922 г. объявила себя автокефальной Украинская
православная церковь, пребывавшая самостоятельной до
1934 г. То же было на протяжении нескольких лет и с
Белорусской церковью. Претендовали на автокефалию
и отдельные провинциальные епархии, например
Пензенская, Царицынская, Калужская, Томская. Доходило
до курьезов, когда, например, претензию на
автокефалию заявляло «объединенное совещание церковно-при-
ходских советов Дубровенских церквей» (Белоруссия,
местечко Дубровно), или просто Спасская православная
община г. Елабуги... Все эти разделения, распадения,
слияния и т. д. сопровождались борьбой реальных масс
верующих, иногда доходившей до кровопролитных драк
и прочих эксцессов в церквах и на площадях вокруг
них. Постепенно, однако, основная масса приходов н
объединенных ими масс верующих сплачивалась вокруг
!60
митрополита Сергия. Консолидация церкви вокруг этого
иерарха имела одной из своих главных причин ясцую
политическую линию, занятую им в отношении к
Советскому государству, сыграла свою роль и четкость общей
линии руководства, и умелое лавирование между
различными группировками духовенства.
К началу 1928 г. осталась одна группа
староцерковного духовенства, противостоявшая Сергию и
объединявшая вокруг себя все остатки наиболее реакционных
последышей тихоновщины. Во главе ее стоял
митрополит ленинградский Иосиф (Петровых).
В митрополиты его произвел Сергий. Тут же,
однако, новопоставленный иерарх стал бунтовать против
своего начальника, притом по вполне определенному
поводу: его не устраивал политический курс Сергия на
полную лояльность в отношении к Советской власти, и
он стал делать соответствующие политические
заявления. Тогда Сергий сместил его с ленинградской
кафедры и перевел на одесскую. Иосиф не подчинился,
переехал в Ярославль и там организовал центр
сопротивления Сергию. Вокруг него образовалась группа
иерархов, противопоставивших себя как григорьевцам, так .и
Сергию. Главным пунктом расхождения между ним и
местоблюстителем патриаршего престола митрополитом
Сергием было отношение к Советской власти.
Митрополит Иосиф (Петровых) открыто поднял знамя
неприятия ее.
В феврале 1928 г. иосифляне опубликовали
заявление о том, что Сергий вступил в своей политике в
резкое противоречие с «постановлениями Всероссийского
собора 1917—1918 гг.», ибо он занимается «никому и
ничему не нужным угодничеством внешним», т. е>
Советской власти. В основе той политики, которую
иосифляне провозгласили необходимой для церкви, должно
было быть, как они заявили, «строгое согласие с
постановлениями собора 1917—1918 гг.» Если мы вспомним,
что речь идет о соборе, для которого даже Временное
правительство было недостаточно консервативным и
которому только историческая случайность помешала
открыто присоединиться^ корниловской попытке
установления военной диктатуры, то политическая физиономия
иосифлянства станет достаточно ясной.
Сподвижники ,митрополита Иосифа (Петровых) и в
устной проповеди, и, где это оказывалось возможным,
61
9 печати выступали против «признания митрополитом
Сергием безбожной власти» и за «определение себя к
духовной борьбе с такой властью». «Духовность» этой
борьбы была лишь маскировкой действительной
установки иосифлян на всемерную поддержку любого
антисоветского движения внутри и вне страны, в
особенности чаемого тогда церковниками возобновления
иностранной интервенции, идея которой должна была быть
вдохновлена не кем иным, как главарем
белогвардейского духовенства митрополитом Антонием
(Храповицким). Один из ближайших помощников митрополита
Иосифа архиепископ Варлаам (Ряшенцев) выражал в
печатиг надежду на то, что «русское православие, знамя
которого высоко держит митрополит Антоний, с русским
заграничным (Карловацким. — И. К.) синодом,
несомненно одержит победу над разрушителями церкви». И
$ Это же время сам Иосиф в собственных посланиях
Йризывал не прибегать к насилию и «тихо продолжать
дело молитвы и душевного спокойствия».
В условиях нэпа антисоветская проповедническая
деятельность иосифлян находила отклик среди
торговцев и кулачества и среди слоев населения,
ориентировавшихся на реставрацию монархии и
буржуазно-помещичьего строя. Организовывались сектантские группы
^истинно православных христиан» и приверженцев
«истинно христианской церкви», федоровцев, имяславцев,
краснодраконовцев и прочих осколков церковной бело-
Гвардейщины. Их дело было, однако, обречено.
, К началу 30-х гг. основная масса приходов русской
православной церкви консолидировалась вокруг
митрополита Сергия. Все большее количество обновленческих
Церквей отходило от своего синода и переходило в
Юрисдикцию Сергия, который к этому времени тоже
наименовал возглавлявшееся ими церковное управление
ёйнодом. Оба обличали друг друга в неканоничности, в
сАмочинности захвата церковной власти. Формально и
qffe, и другие были и правы, и неправы, но дело
решалось не проформой, а соотношением сил, которое все
Оольше клонилось в сторону Сергия и его церковной ад-
йинистрации.
Свою общественно-политическую позицию
православная церковь под руководством Сергия выразила в
бсобом послании к верующим, опубликованном в 1927 г.
Там было, в частности, сказано: «Мы хотим быть пра-
62
вославными и в то же время сознавать Советский Союз
нашей гражданской Родиной». Послание призывало
верующих православных активно и лояльно выполнять
свой гражданский долг перед Советским государством.
Это было своего рода поворотом в политической
позиции и в тактике русской православной церкви.
В почти тысячелетней истории русской православной
церкви рассмотренный нами период — первая четверть
XX столетия — составляет отрезок небольшой по
времени, но весьма показательный по содержанию. В
течение этого времени церковь упорно и последовательно
придерживалась реакционной линии во всех бурных
событиях эпохи. И только неумолимый ход
революционно-исторического процесса, ведущий сквозь все
преграды к реализации идей и целей социалистической
революции, вынудил и религиозные организации начать
поиски новых социально-политических позиций. Это не
меняет, ^однако, общего смысла религиозного
мировоззрения, при всех условиях сохраняющего свой
консервативный, реакционный характер,
ЛИТЕРАТУРА
Гордиенко И. С. Современное православие. М,
1968.
Грекулов Е. Ф. Церковь, самодержавие, народ.
М., 1969.
Куроедов В. А. Религия и церковь в Советски
государстве. М., 1982.
Персиц М. Отделение церкви от государства,,
школы от церкви в СССР. М., 1958.
Платонов Н. Ф. Православная церковь в борьбе
с революционным движением в России (1900—
1917 гг.) — Ежегодник музея истории религии и
атеизма. Т. 4. 1960; его же: Православная церковь в
1917—1935 гг. — ЕМИРА. Т. 5. 1961.
Ростов Н. Духовенство и русская контрреволюция
конца династии Романовых. М., 1930.
Титлинов Б. В. Церковь во время революции. М.,
1924.
Церковь в истории России. Критические очерки. М.,
1969.
Шишкин А. А. Сущность и критические оценки
«обновленческого» раскола в русской православной
церкви. Казань, 1970е
63
СОДЕРЖАНИЕ
Церковь в начале XX века , . * » • „
Накануне и ёо время первой мировой войны ,
На рубеже новой исторической эпохи . . « t
Церковь и Октябрьская революция « , . «
Гражданская война и церковь . , , ♦
Голод в Поволжье и изъятие церковных ценностей ,
Внутрпцерковная борьба. Консолидация Московской патриар
Литература
4
И
17
27
36
45
49
63
Иосиф Аронович КРЫВЕЛЕВ
РУССКАЯ ПРАВОСЛАВНАЯ ЦЕРКОВЬ
В ПЕРВОЙ ЧЕТВЕРТИ XX ВЕКА
Гл. отраслевой редактор 3. М. Каримова. Редактор О. В.
Кирьязев. Мл. редактор И. Ф. Игнатьева. Худож. редактор
Т. С. Егорова. Техн. редактор С. А. П т и ц ы н а. Корректор
И. В. Сорокина.
ИБ № 4586
Сдано в набор 07.04.82. Подписано к печати 03.06.82. А 02802. Формат
бумаги 84X108782. Бумага типогр. № ^"*V8. Гарнитура литературная. Печать
высокая. Усл. печ. л. 3,36. Усл. кр.-отт. 3,57. Уч.-изд. л. 3,51. Тираж 42 200
экз. Заказ 708. Цена 11 коп. Издательство «Знание». 101835, ГСП, Москва,
Центр, проезд1 Серова, д. 4. Индекс заказа 821107.
Типография Всесоюзного общества «Знание»» Москва, Центр, Новая пл., д. 3/4.
11 коп:
Индекс 70075
НОВОЕ В ЖИЗНИ, НАУКЕ, ТЕХНИКЕ