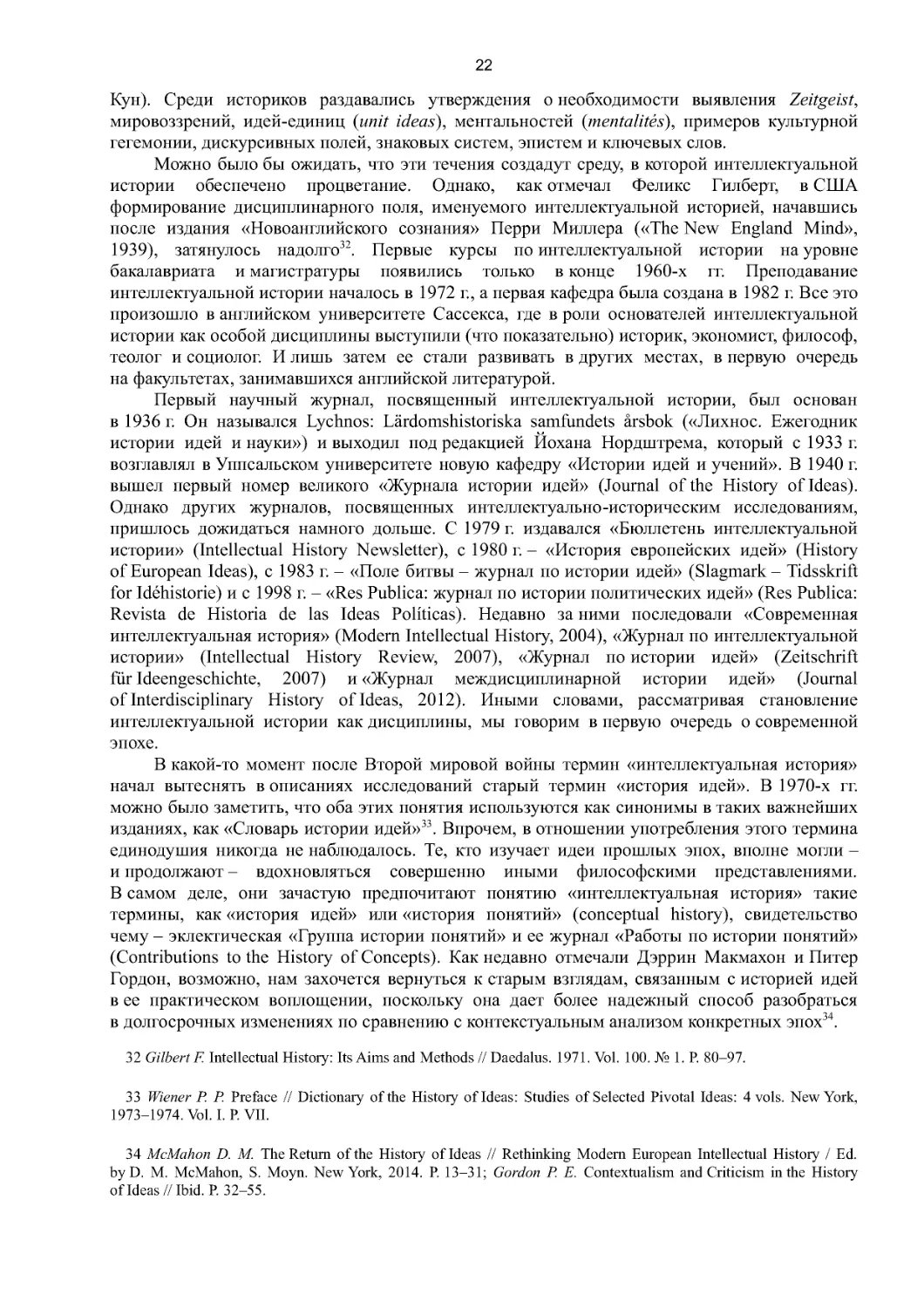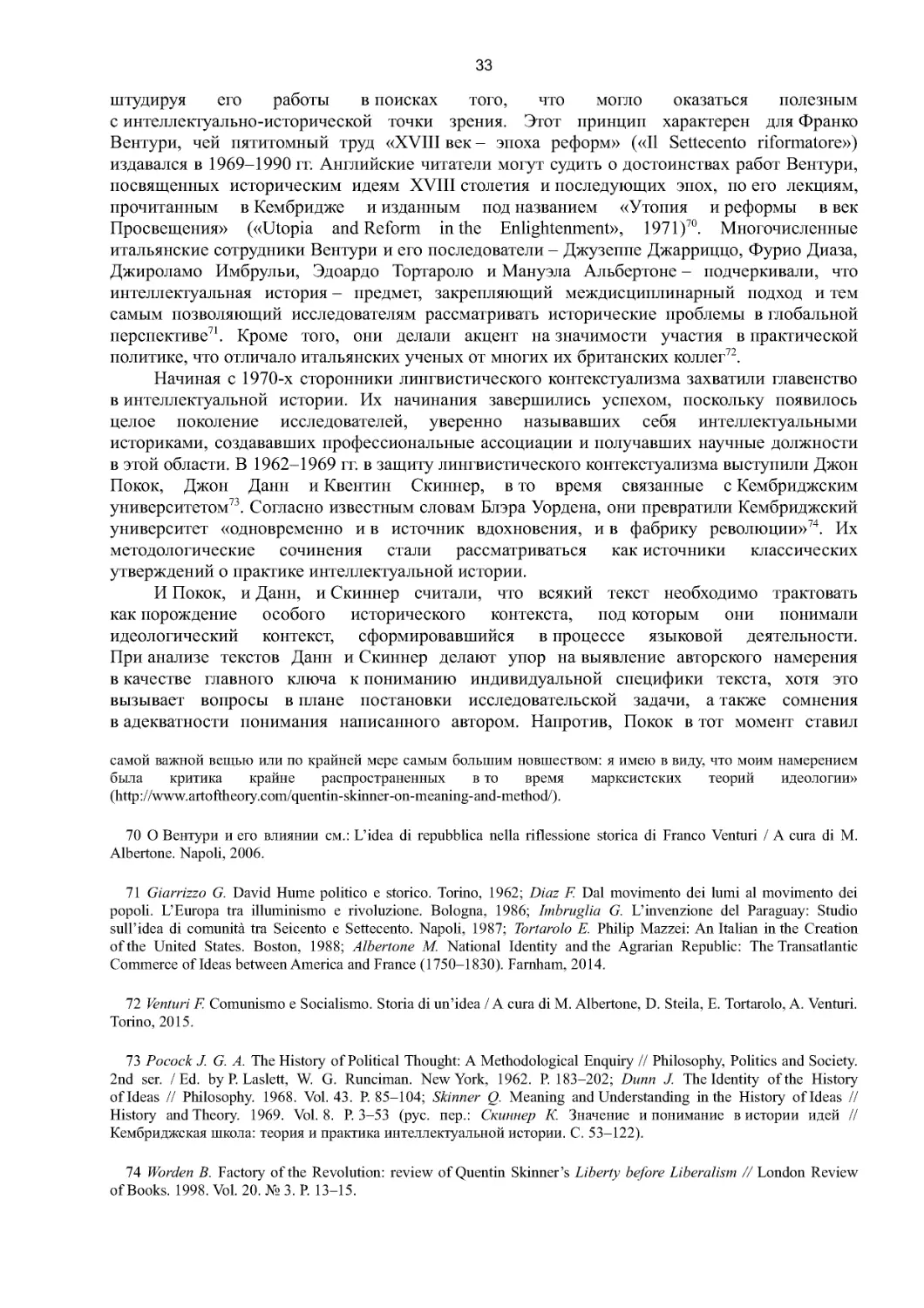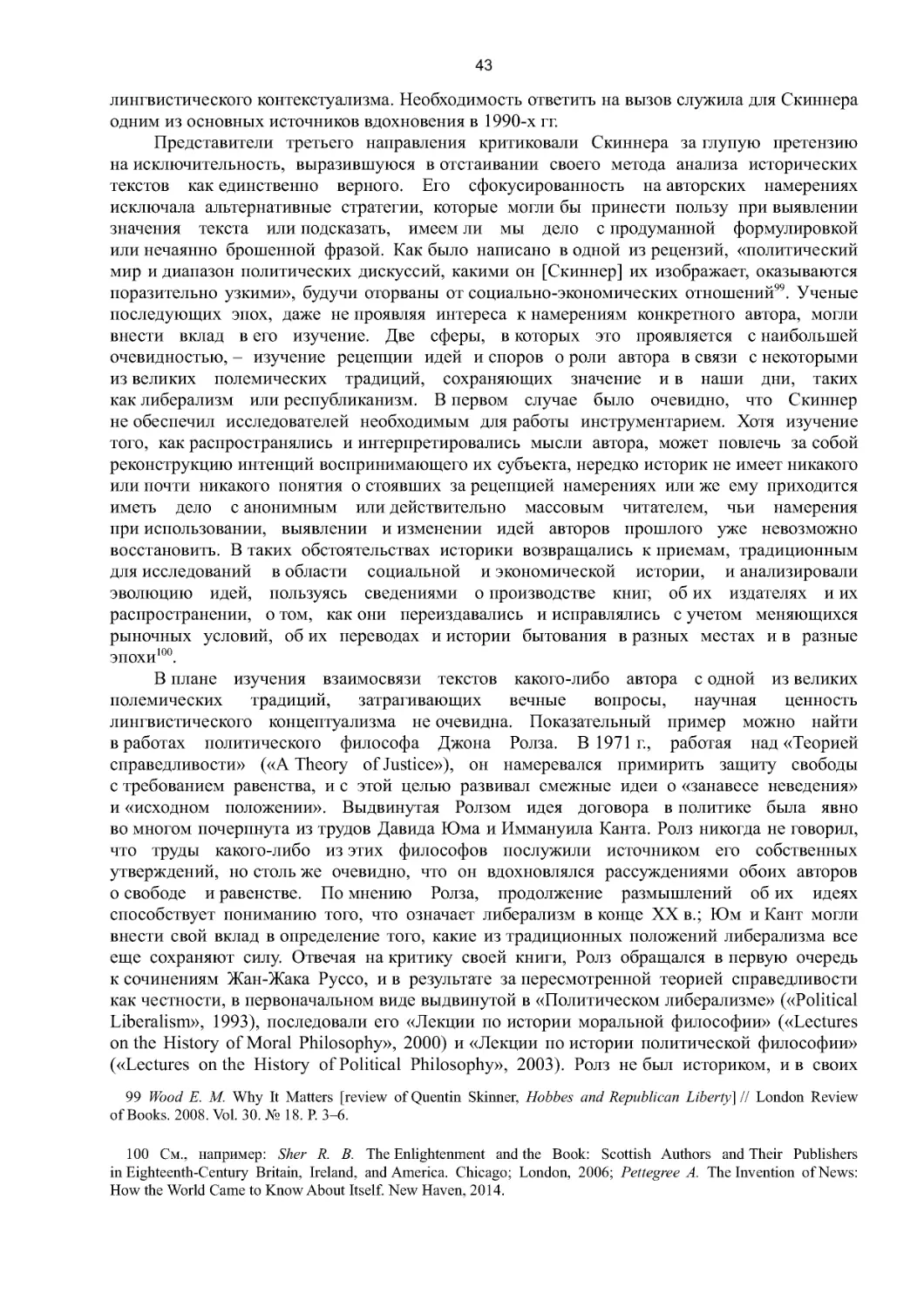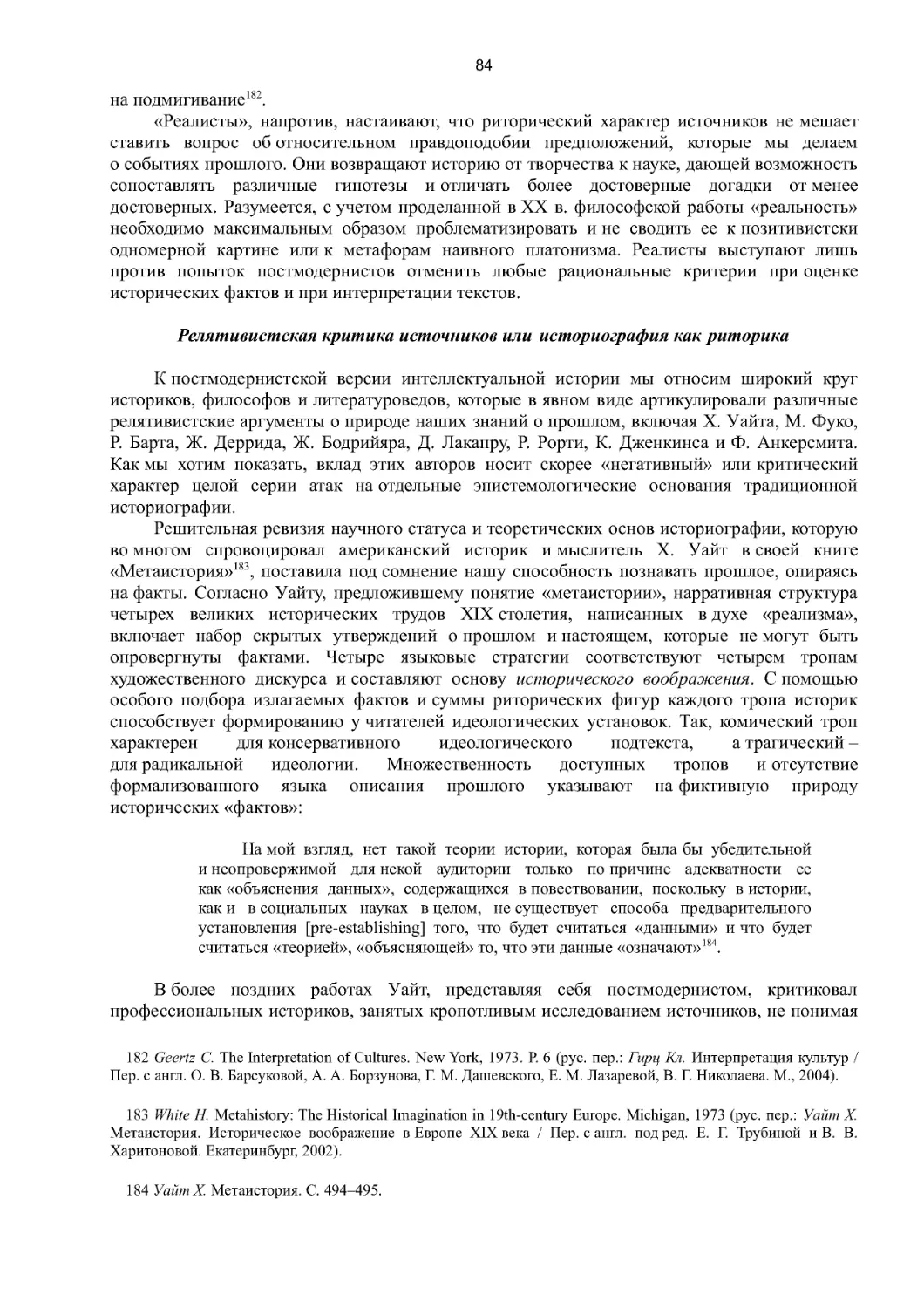Author: Уотмор Р.
Tags: история культуры историческая психология интеллектуальная история
ISBN: 978-5-4448-2134-3
Year: 2023
Text
Ричард Уотмор
Что такое интеллектуальная история?
Интеллектуальная история –
2
Текст предоставлен правообладателем http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?
3
art=68937219
«Что такое интеллектуальная история?»: Новое литературное обозрение; Москва; 2023
ISBN 978-5-4448-2134-3
Аннотация
Увлекательная, насыщенная смыслами и лаконичная книга Ричарда Уотмора,
ведущего представителя интеллектуальной истории в англоязычном мире, дает ясные
ответы на сложные вопросы. Зачем и как ученые реконструируют идеи и мировоззрения
людей ушедших эпох? Насколько тесно эта дисциплина связана с развитием политической
мысли? Когда возникает общественная потребность в таком типе знаний? Автор
просл еживает эволюцию подхода от первых опытов Юма и Монтескье до недавних работ
Скиннера, Хонта или Дарнтона, рассказывает о больших открытиях интеллектуальных
историков в области политической философии Нового времени и отвечает на базовые
теоретические вопросы. Уотмор показывает, как философские, научные, политические,
религиозные и художественные идеи зарождаются и формируются в различных
исторических контекстах, а затем сами оказывают прямое влияния на развитие общества
и решения людей. Знакомя читателя с современным состоянием интеллектуальной
истории, ученый предлагает собственное – доступное и убедительное – определение границ
этой дисциплины. Ричард Уотмор – профессор современной истории и директор
Института интеллектуальной истории в Сент- Эндрюсском университете.
Ричард Уотмор
Что такое интеллектуальная история?
Редакторы серии «Интеллектуальная история» Т. Атнашев и М. Велижев
Научные редакторы Т. Атнашев и М. Велижев
Перевод с английского Н. Эдельмана, послесловие Т. Атнашева и М. Велижева
В оформл ении обложки использованы портреты Дэвида Юма (худ. Аллан Рэмзи, 1766,
Национальная портретная гал ерея Шотландии) и Шарля Монтескье (копия неизвестного
автора с работы Жака- Антуана Дасье, вторая половина XVIII в., Версаль).
***
Моей матери, Бренде Уотмор
Предисловие
Цель этой небольшой книги – дать широкому читателю представление о том, что такое
интеллектуальная история и чем занимаются интеллектуальные историки. В настоящее время
интеллектуальная история является сферой чрезвычайно активных исследований.
Интеллектуальные историки находятся на переднем крае глобальных, транснациональных,
компаративных,
спациальных,
визуальных
и интернациональных
направлений
в исторической науке. Можно говорить об интеллектуальной истории научных доктрин,
страстей и чувств, градостроительства и национальных государств, каннибализма и других
(более естественных) форм потребления, трудящихся классов, биографии и гимнографии.
Как бы мы ни пытались определить, что такое интеллектуальная история, определение будет
неполным. Равным образом, оно неизбежно будет субъективным; остается лишь надеяться,
4
что этот недостаток простителен для вводно-ознакомительного текста, каковым является
настоящая работа. Книга, в которой дается дефиниция интеллектуальной истории, могла бы
без долгих предисловий обратиться к интеллектуальной истории науки, искусства, музыки
или антропологии – областей, в которых начиная с 1950-х гг. были достигнуты впечатляющие
успехи. Кроме того, в последние годы весьма плодотворным оказалось сотрудничество
интеллектуальных историков и историков философии, а также интеллектуальных историков
и историков литературы. В своей работе я пытаюсь обратить внимание читателя на полезные,
как мне кажется, путеводители по этим областям. Содержание книги с неизбежностью несет
на себе отпечаток моих личных интересов. К ним я пришел путем, который сейчас уже
можно назвать традиционным. Мне повезло обучаться в Кембриджском университете, где
в 1980-х гг. я получил представление об интеллектуальной истории благодаря двум курсам
с такими
вдохновляющими
названиями,
как «Политическая
мысль
до 1750 г.»
и «Политическая мысль после 1750 г.». Моими лекторами и наставниками были Джон Данн,
Марк Голди, Дункан Форбс, Квентин Скиннер, Гарет Стедмен Джонс, Ричард Так и другие
светила. Лишь после получения диплома и затем года в Гарварде я догадался, что стал
членом особого племени.
В Кембридже (Массачусетс) я прослушал курс «Политической теории Просвещения»,
который читала несравненная Джудит Шклар. На занятиях Шклар побуждала аспирантов
к установлению связи между изучаемыми в рамках этого курса текстами авторов былых эпох
и вопросами актуальной политики. Таким образом, нам следовало задуматься, какую
позицию занял бы тот или иной автор, столкнувшись с противоречиями современного мира.
Соответственно, предметом продолжительных дискуссий служил, например, вопрос –
«стал ли бы Монтескье сжигать флаг [США]». Эти дебаты вызывали у меня чувство
недоумения, потому что я не видел никакого смысла в поиске ответа на вопрос, который,
как казалось мне в то время (и кажется до сих пор), ничего не прибавляет ни к нашим
знаниям о Монтескье, ни к нашим знаниям о природе политических идей прошлого
и настоящего. Меня учили, что мы читаем труды авторов прежних времен с тем, чтобы
узнать их мнение о волновавших их вопросах. Увязать их воззрения с нынешней
политической проблематикой возможно, но лишь сложным и косвенным образом. Шклар же,
напротив, предлагала участникам своих семинаров обсуждать аргументы, приводимые
в изучаемых текстах, давать им оценку и сопоставлять их с современными взглядами. Шклар
была вдохновляющим педагогом, не признававшим догм и поощрявшим своих учеников
к самостоятельному мышлению. В отличие от моих наставников в британском Кембридже
она принципиально отказывалась высказывать свою позицию по обсуждаемым вопросам
и сводить свои семинарские занятия к упражнениям по передаче сведений о том, как думали
люди в прошлом. Это было досадно, поскольку я понимал, что Шклар разбирается
в политике XVIII века лучше, чем когда-либо буду разбираться я, и хотел учиться у нее.
Я рассказываю обо всем этом, чтобы обозначить свой подход к интеллектуальной
истории. Кое-кто из читателей, возможно, подумает, что речь идет о принадлежности
к Кембриджской школе интеллектуальной истории, как нередко называют группу, которая
зачастую ассоциируется с утверждением, будто интеллектуальная история – это то же самое,
что история политической мысли. Однако дело никогда не обстояло таким образом. В глазах
кембриджских авторов и прочих интеллектуальных историков на первом месте всегда стояла
история идей, а не политика, да и к изучению политики можно подойти через экономику,
антропологию, естествознание и множество других дисциплин. Одна из задач данной
книги – показать, что от такого ярлыка, как Кембриджская школа, при всем его удобстве
для обозначения ряда пионерских работ, в которых интеллектуальная история получила
теоретическое обоснование, в наши дни вполне можно отказаться. Он далеко не всегда
отражает весь спектр исследовательских интересов лучших интеллектуальных историков,
многие из которых по-прежнему так или иначе связаны с этим университетом.
Интеллектуальные историки, имена которых в массовом сознании ассоциируются
с Кембриджем, представляют самые разные методологические подходы и, следует признать,
5
находят последователей по всему англоязычному миру. В то же время нельзя забывать и о
вкладе, внесенном в становление интеллектуальной истории теми, кого называют
историками политической мысли; в настоящей книге подчеркивается, что некоторые из них
по-прежнему диктуют повестку интеллектуальной истории. В своих рассуждениях я привожу
примеры и иллюстрации, почерпнутые из истории политической мысли, особенно
политической мысли долгого XVIII в. Именно на этой почве я чувствую себя наиболее
уверенно. Анонимный рецензент рукописи моей книги задался вопросом, не следует ли
назвать ее «Что такое история политической мысли?». Однако я ставил перед собой цель
написать введение именно в интеллектуальную историю, не упуская из виду взаимосвязи
между этими по-прежнему тесно пересекающимися сферами. Один из моментов, на который
указывается как в этой книге, так и в других работах, заключается в том, что
интеллектуальная история стоит на распутье. В настоящее время из печати выходят,
возможно, последние труды некоторых из основоположников интеллектуальной истории в ее
нынешнем виде; и в то же время методы и установки этих ведущих фигур нашли приложение
ко множеству новых областей исследований и проблем. Куда интеллектуальная история
двинется завтра, остается только догадываться.
Благодарности
Мне хотелось бы поблагодарить коллег и друзей, связанных с Институтом
интеллектуальной истории при Сент-Эндрюсском университете и с Сент-Эндрюсским
университетом вообще. Я нахожусь в долгу перед моей женой, Рут Вудфилд, и нашими
детьми, Джессом, Ким и Дэйви Уотморами, давшими согласие на наш коллективный переезд
на север. Особых благодарностей заслуживают Мануэла Альбертоне, Риккардо Бавадж, Рори
Кокс, Эйлин Файф, Крис Гринт, Кнуд Хааконсен, Джеймс Харрис, Джон Хадсон, Бела
Капосси, Колин Кидд, Росарио Лопес, Ник Ренгер, Жаклин Роуз, Филип Скофилд, Майкл
Соненшер, Кон Стапелброк, Филипп Штайнер, Кит Трайб, Дональд Винч и Брайан Янг. Я
признателен им за замечания, советы и поддержку. Эллиотт Карстадт идеально
отредактировал эту книгу; от него и от отобранных им двух анонимных рецензентов
рукописи я получил массу конструктивных замечаний. Сара Дэнси превосходно проделала
редактуру готового текста, выявив множество ошибок. Ответственность за те, что остались
в книге, лежит исключительно на мне.
Введение
В Экклригг-Крэг, у восточной оконечности озера Уиндермир в Камбрии, что
на северо-западе Англии, когда-то был карьер, где добывали сланец и камень, из которых
в этих местах строили замечательные здания. Каменоломня, действовавшая с XVIII
по начало XX в., была достаточно крупной, чтобы иметь собственный погрузочный док.
Теперь это уже история, все, что осталось от тех времен на территории, ныне
принадлежащей построенному там отелю, – рукотворные скальные массивы, частью скрытые
водой, частью возвышающиеся над ее поверхностью, плюс пять огромных плит коренной
породы с высеченными на них с большим тщанием надписями. Некоторые из них были
сделаны в 1835–1837 гг., судя по всему, кем-то из каменотесов, работавших на карьере.
Стараниями этого человека были увековечены имена национальных и местных
знаменитостей – таких, как Нельсон, Ньютон, Вальтер Скотт, Вордсворт, Дженнер, Хэмфри
Дэви, Ричард Уотсон, а также имена хозяина каменоломни, Джона Уилсона, друга «озерных
поэтов», хорошо известного в тех краях (он писал для журнала Blackwood’s Magazine и с
1820 по 1851 г. преподавал моральную философию в Эдинбурге), Джона Лаудона Макадама,
прославленного строителя дорог, и ряда лиц, финансировавших местные школы. Одна
из самых больших плит, пятиметрового размера, дает представление о воззрениях
каменщика, выраженных гигантскими буквами: «800 000 000 фунтов национального долга /
6
Боже, спаси мою страну! / Георг III, Уильям Питт / Деньги – мускулы войны / Фельдмаршал
Веллингтон / героический адмирал Нельсон»
1
.
О чем эти надписи способны поведать историкам? Исследователю, занимающемуся
социальной историей, они, вероятно, укажут на классовую и гендерную принадлежность
рабочих каменоломни, на их ритуалы и идентичность, благодаря чему он сможет кое-что
узнать об их социальном положении, условиях их труда, о том, как они проводили свой досуг,
об устройстве общества, в котором они жили. Для историка экономики эти надписи могут
послужить источником сведений об относительной величине заработков рабочих,
экономической ситуации того времени, а также о том, какая доля в занятости местного
населения приходилась на труд в каменоломне и как это соотносилось с общенациональными
тенденциями в целом. Возможно, это стимулирует поиск и обследование других
аналогичных надписей. Историк культуры, скорее всего, пустится в рассуждения
о локальных, региональных и общенациональных дискурсах, служивших средством
самовыражения для индивидуумов и социальных групп, а затем перейдет к анализу властных
отношений между ними, рисуя картину взаимосвязей между отдельными представителями
данной исторической эпохи и более широкими социальными группами. Что же касается
интеллектуального историка, то ему придется начинать со слов. Что пытался сказать этими
надписями автор? Почему он выбрал именно такой способ самовыражения? Как те же самые
мысли могли быть выражены другим способом? Каким было происхождение этих
аргументов и какой они встречали отклик?
Поиск ответа на подобные вопросы может оказаться непростым делом, особенно когда
высказывания вырваны из контекста или же – как в данном случае – мы имеем дело
с отдельными словами или лаконичными изречениями. Разобрать имена лиц, упомянутых
в нашей надписи, относительно просто. Они позволяют заключить, что автор знал самых
известных жителей тех мест, по видимости, отдавал должное их статусу и ценил их
благотворительную деятельность – особенно финансирование школ для бедных. Кроме того,
он с подчеркнутым уважением относился к достижениям в науке и технике, к поэзии
и литературе, а также к воинской доблести и проявлениям героизма. Пожалуй, имена больше
ничего нам не скажут, но кроме них на каменных плитах высечены еще и изречения. Они
указывают на плачевное положение страны, вызванное национальным долгом, и на
необходимость экономии («Боже, спаси мою страну!»). В словах «Деньги – мускулы войны»
явственно видна неприязнь к соединению денег и войны. Наряду с этим в надписи дважды
упоминается Уильям Питт. Это невозможно ни подтвердить, ни опровергнуть, но, видимо,
автор считал Питта поджигателем войн предыдущей эпохи, а возможно, и поры своей
юности, о чем могут свидетельствовать упоминания Нельсона и Веллингтона. Характерной
чертой тех времен являлась способность восхвалять в патриотическом духе доблести великих
мужей и одновременно сокрушаться о размахе войн и их последствий.
Более значимо то, что фраза «Боже, спаси мою страну!» – это прямая цитата
из эпитафии Александра Поупа по случаю кончины доктора Фрэнсиса Аттербери, епископа
Рочестерского, который умер в 1732 г. в парижском изгнании на руках у дочери и, умирая,
якобы произнес эти слова. Источник, к которому восходит это речение, хорошо известен:
отец Паоло Сарпи, великий венецианский историк, на смертном одре сказал: «Да пребудет
она в веках» («Esto perpetua»), тем самым выразив надежду, что Венеция останется
независимой суверенной державой. Что касается утверждения «Деньги – мускулы войны»,
которое оспаривали и Николо Макиавелли, и Фрэнсис Бэкон, то оно восходит к «Пятой
филиппике» Цицерона. Мы находим его отзвуки у таких не похожих друг на друга авторов,
как Рабле и Теннисон. Что эти слова значили для каменотеса из Экклригг-Крэг? Они были
общим местом в литературе XVIII в., сетовавшей на распространение роскоши и духа
наживы и предсказывавшей, что это повлечет пагубные последствия для всех слоев
1 Tyson B. Quarry Floor Inscriptions at Ecclerigg Crag, Windermere // Transactions of the Ancient Monuments
Society. 1981. Vol. 25. P. 87 –101.
7
общества – необузданную вольность нравов, войны и увязание в долгах. Хороший пример
литературной иеремиады, жанра, наследником которого выступает наш каменотес, – статья
Давида Юма «О публичном кредите» из его «Политических рассуждений» (1752). У Юма
нарастало отчаяние по поводу последствий закредитованности европейских национальных
государств. При описании этих последствий в сфере международных отношений он
использовал выразительнейший образ – фехтование на деревянных мечах в посудной лавке.
Разумеется, в итоге вся посуда окажется побита, и примерно то же ожидает экономику
и гражданское общество в странах, накопивших большой долг. Подобные опасения достигли
пика во время войн с революционной Францией и Наполеоном, когда британский
национальный долг превышал 250 % валового внутреннего продукта – рекорд, который с тех
пор не обновлялся. Связь Питта с этим долгом, особенно явная в 1797 г., когда правительство
освободило Банк Англии от обязанности конвертировать деньги в золото, была очевидной
для всех, кто жил в то время.
Страх войны и банкротства из-за долгов служил главной причиной, по которой
в XVIII в. многие наблюдатели – современники Юма разделяли его уверенность, что
британское государство клонится к упадку. В отличие от них мы задним числом способны
разглядеть первые проблески того, что впоследствии получило название «промышленная
революция». По мнению некоторых историков, экономика никогда не росла более высокими
темпами, чем в XVIII в.
2
Кроме того, Бэзил Уилли и другие авторы писали, что типичной
чертой этого периода было укрепление стабильности, ставшее прелюдией к викторианской
самоуверенности. Современникам же Англия XVIII в. представлялась новым государством,
пребывающим в кризисе, изнуренным долгами, войнами и политическими распрями между
якобитами и ганноверцами, вигами и тори, англиканами, католиками и сектантами, а также
между противниками и сторонниками коммерциализации общества. Лишь немногие
наблюдатели полагали, что в настоящем можно рассмотреть черты какого-либо будущего,
если только речь не идет о предсказании национального краха. По всеобщему убеждению,
не за горами были великие потрясения; широко распространилось чувство неуверенности.
Даже авторы, известные своим бесстрастием, а то и некоторым оптимизмом при обсуждении
будущего Британии, такие как Адам Смит и Жан-Луи де Лольм, не думали, что статус-кво
сохранится или что он вообще достоин сохранения. Куда более привычными были мрачные
пророчества о гибели Англии и ее поражении в войне.
Тот факт, что Англия пережила Французскую революцию и Наполеоновские войны и в
итоге выдвинулась на лидирующие позиции в европейской экономике и политике, кажется
еще более примечательным на фоне скепсиса многочисленных наблюдателей. И все же,
несмотря на то что для многих стран мира Британия стала образцом в политическом
и экономическом отношении, ее интеллектуальная жизнь по-прежнему оставалась пронизана
чувством ложного величия, неизбежности грядущего упадка и неестественности взлета
к вершинам политического и коммерческого господства, которое не может быть
долговечным. Уровень долга, накопленного в XVIII в., к 1830-м гг. лишь незначительно
снизился, и потому кое-где по-прежнему раздавались отголоски былых сетований об упадке
Англии. И в случае с каменщиком из Экклригг-Крэг мы имеем дело именно с ними. Этот
человек был атавизмом минувшей эпохи с ее апокалиптическими настроениями
и предчувствиями национального краха. Высеченные им надписи значимы как свидетельство
живучести определенных идей. Мы можем видеть, что страх перед будущим сохранялся даже
накануне пресловутого «века равновесия». Таким образом, эти надписи важны
как напоминание о том, какими были первые годы Викторианской эпохи, о котором мы порой
забываем.
Понимание значения слов нашего каменотеса подчеркивает способность
2 Mokyr J. The Enlightened Economy: An Economic History of Britain 1700–1850. New Haven, 2009 (рус. пер.:
Мокир Дж. Просвещенная экономика. Великобритания и Промышленная революция 1700–1850 года /
Пер. с англ. Н. Эдельмана. М., 2017).
8
интеллектуальной истории выявлять скрытые аспекты мышления людей былых эпох, идеи
и аргументы, которые мы не принимаем во внимание, потому что они были забыты
или отвергнуты последующими поколениями. Интеллектуальный историк стремится
воссоздать ушедший мир, реконструировать по уцелевшим фрагментам точки зрения и идеи,
снять с них покровы и объяснить, почему в прошлом они так будоражили умы и имели
столько убежденных сторонников. Идеи, а также порождаемые ими культурные феномены
и практики лежат в основе всякого акта понимания. Идеи находят выражение
в размышлениях ведущих философов, чьи концепции свободы, справедливости и равенства
нуждаются в разъяснении, в деятельности культурно значимых представителей любого
общества, а по сути, носителей любых форм массовой популярной культуры. Ко второй
группе принадлежал, например, натуралист и писатель Генри Уильямсон, прославившийся
в 1927 г. после издания его книги «Выдра по имени Тарка». В 1964 г., давая интервью
Би-би-си для фильма о Первой мировой войне, он вспоминал, что служил рядовым
Пулеметного корпуса и на Рождество 1914 г., после кровопролитной первой битвы за Ипр,
братался в траншеях Фландрии с немецкими солдатами, внезапно заключившими со своими
врагами из Англии недолгое перемирие, где-то продолжавшееся несколько часов, а где-то
несколько дней. Во время этого братания Уильямсон разговорился с немцем, и тот сказал ему,
что его соотечественники сражаются «за родину и за свободу». Уильямсон ответил, что
войну начала Германия, что за свободу сражаются вовсе не немцы, а англичане и что Бог
и справедливость, несомненно, на их стороне. Кроме того, Уильямсон сказал, что война скоро
закончится из-за мощного натиска русских на Восточном фронте. Немец на это возразил, что
скорая победа Германии неизбежна, так как русская армия находится на грани краха,
и спорить тут бесполезно, потому что друг друга им не переубедить. Этот обмен мнениями
изменил отношение Уильямсона к войне. Он недоумевал: как бойцы по обе стороны фронта
могут быть настолько убеждены, что именно их дело правое, ведь из -за этого сражения
становились бессмысленными, превращаясь в войну на истощение, влекущую за собой
только гибель людей и разрушение наций. Позднейшие заигрывания Уильямсона с фашизмом
в 1930-х гг., когда он считал, что фашизм способен дать людям некую нравственную
уверенность, то, чего, по его мнению, западным демократиям явно недоставало, были
непосредственным продуктом идеологического откровения 1914 г., о том, что обе стороны
убеждены в абсолютной правоте своего дела. Именно истолкованием подобных воззрений, их
источников, внутренней сущности и границ – в идеале не скатываясь в крайности –
и занимается интеллектуальная история.
Другие примеры дает нам популярная культура. В первой экранизации романа Джона
Бакена «Тридцать девять ступеней» (1915), снятой Альфредом Хичкоком и вышедшей
в 1935 г., в эпизоде, когда поезд «Летучий шотландец» прибывает на станцию Уэверли
в Эдинбурге, один из двух англичан-коммивояжеров, оказавшихся в одном вагоне с главным
героем, находящимся в бегах Ричардом Хэнни, спрашивает у первого увиденного им
шотландца, с перрона продающего пассажирам газеты: «На нормальном языке говорить
умеете?» В одном из следующих эпизодов, когда Хэнни скрывается от полиции в болотах
к северу от Эдинбурга, мы видим фермера, набросившегося с кулаками на свою жену за то,
что та отдала его пальто замерзшему Хэнни. Фермер, которого играет Джон Лори,
впоследствии прославившийся ролью в сериале «Папашина армия», изображен как злобный,
грубый, нелюдимый и двуличный человек, который готов выдать Хэнни полиции, несмотря
на то что тот заплатил ему за молчание. Проникновение в кино межвоенной эпохи
нетерпимого отношения англичан к шотландцам и к шотландскому кальвинизму, в котором
они видели лицемерную, замкнутую на себе и варварскую религию, оправдывает изучение
идей, стоящих за подобными национальными стереотипами, и истории их возникновения,
распространения и исчезновения. Более свежую иллюстрацию эффекта трансформации идей
можно найти в фильме «Бегущий по лезвию», снятом в 1982 г. режиссером Ридли Скоттом
по роману Филипа К. Дика «Снятся ли андроидам электроовцы?» (1968). В этом фильме,
действие которого происходит в дистопическом Лос-Анджелесе 2019 г., почти все персонажи
9
непрерывно курят. Ни Ридли Скотт, ни Филип Дик не могли знать, что вскоре после
наступления нового столетия акт курения уже не будет сигнализировать зрителю о статусе
и настроении героя, а вместо этого станет точным указанием на то, что фильм посвящен
именно послевоенной эпохе, а не какому-то воображаемому будущему. Интеллектуальная
история, имеет ли она дело с мудреными философскими высказываниями, устоявшимися
культурными практиками или спонтанными проявлениями национальных предрассудков,
стремится объяснить происхождение и распространенность подобных мнений, история
которых никогда не бывает простой. Как писала об «Историческом и критическом словаре»
Пьера Бейля (1697) Элизабет Лабрусс,
история идей показывает, что произведение, будучи вырвано из своего
исходного социально-исторического
контекста и прочитано
как носитель
универсального послания, оказывает наибольшее влияние не через механическое
воспроизведение или точное отражение содержащихся в нем идей, а благодаря
двусмысленностям,
заблуждениям
и анахронизмам,
проникающим
в его
интерпретацию
3
.
Предвосхищение возможных изменений окружающей действительности составляет
суть великого множества представлений о жизни и идей; и история, как правило, жестоко
шутит над теми, кто претендует на дар пророчества.
Сказанное сводится к утверждению, что, хотя при изучении экономических циклов,
демографических режимов, данных об урожайности и т. п . как будто можно иногда не думать
о роли идей в человеческой истории, иметь с ними дело неизбежно придется. Все люди
думают, и все они облекают свои мысли в самые разные формы. И все это нуждается
в тщательной реконструкции, если мы хотим понять, чем люди занимались, что означали
излагаемые ими идеи и как они соотносились с общей идеологической культурой, внутри
которой они формировались. Анализ содержания идей возможен только после их
исторической интерпретации. Интеллектуальная история как таковая имеет очень много
общего с этнографическими исследованиями, которые стали обычным делом в антропологии
и родственных ей общественных науках. Лучше всего их описывает Клиффорд Гирц в своей
знаменитой статье «Насыщенное описание: в поисках интерпретативной теории культуры».
Он начинает с утверждения о семиотическом характере культуры, поскольку «человек – это
животное, висящее на сотканной им самим паутине смыслов»
4
.
Гирц позаимствовал понятие «насыщенное описание» (thick description) у Гилберта
Райла с его знаменитым примером про двух мальчиков, каждый из которых подмигивает
правым глазом. У одного из них просто тик, в то время как другой подает какой-то сигнал
друзьям. После этого третий мальчик также начинает моргать и подмигивать, передразнивая
первых двух. В данном случае насыщенное описание выявляет «стратифицированную
иерархию наполненных смыслом структур, в контексте которых можно моргать,
подмигивать,
делать
вид,
что
подмигиваешь,
передразнивать,
репетировать
передразнивание»
5
. Считается, что выражение «насыщенное описание» предложил Иеремия
Бентам, хотя мне не удалось найти этих слов ни в его опубликованных произведениях, ни в
текстах, которые не предназначались для печати. Впрочем, «насыщенное описание» вполне
соответствует процессу, прибегать к которому Бентам рекомендовал при объяснении смысла
конкретных идей. Бентам неоднократно – а в своем обращении к Национальному собранию
3 Labrousse E. Bayle // Transl. by D. Potts. Oxford, 1983. P. 90 .
4 Geertz C. Thick Description: Toward an Interpretive Theory of Culture // Idem. The Interpretation of Cultures:
Selected Essays. New York, 1973. P. 3 –30 (рус. пер.: Гирц К. Интерпретация культур. М., 2004. С. 9 –42; цитату
см.: Там же. С . 11; пер. с англ. Е . М. Лазаревой под ред. А. Л. Елфимова).
5 Geertz C. Thick Description. P. 7 (рус. пер.: Гирц К. Интерпретация культур. С . 13).
10
в Париже и довольно настойчиво – подчеркивал, что порой понять, что такое справедливость
или, скажем, свобода, так же непросто, как разобрать, моргает ли человек преднамеренно
или непроизвольно. Решение состоит в том, чтобы изучить все доступные варианты
употребления соответствующих слов. Скажем, в отсутствие примеров, иллюстрирующих
понятие «свобода», легко впасть в ошибку, что, по утверждению Бентама, сделали французы,
спутав установление свободы с построением империи. Соответственно, Бентам старался
точно проговаривать, что такое свобода и что она влечет за собой, и при этом объяснял, что
сплошь и рядом под ней могут понимать «навязанную свободу», которая становится орудием,
помогающим сильным эксплуатировать слабых
6
.
Лишь после тщательного изучения
воззрений, зафиксированных в исторических источниках, мы можем ответить на вопрос
о том, были ли Олимпийские игры просто спортивными состязаниями, представляли собой
некую правительственную структуру или, например, служили производным всеобщего
увлечения укрепляющими здоровье физическими упражнениями. Или, скажем, на вопрос
о том, являлись ли черепа, цветы, животные и насекомые на натюрмортах представителей
золотого века голландской живописи, таких как Амброзиус Босхарт, Питер Клас и Ян Давидс
де Хем, эмблемами, метафорами и символами того, как нужно жить и встречать свою смерть,
или же просто тюльпанами, ящерицами и бабочками.
При всем этом интеллектуальную историю часто ругают. Она уже давно служит
мишенью для критики со стороны историков, философов и социальных теоретиков. Льюис
Нэмир, сторонник просопографического метода в историческом анализе – выявления общих
черт той или иной группы на основе биографической информации, – еще в 1930 г. в своей
книге «Англия в эпоху американской революции» называл изучение идей «вздором», исходя
из того что люди в своих поступках на самом деле руководствуются личной выгодой.
Идеи же только сбивают с толку, поскольку скрывают истинный источник социального
действия. В дальнейшем представители различных философских позиций утверждали, что
идеи можно понять лишь увязав их с подлинными причинами социальных изменений, будь
то управляемые или неконтролируемые экономические силы, бессознательное «я»
или несознательные массы. Соответственно, идеи являются вторичным источником сведений
о мире. Настоящее исследование должно состоять в выявлении наиболее значимого
контекста, в котором эти силы представлены, а идеи можно объяснять только через
установление их связи с этими факторами. Антонио Грамши однажды обвинил историка
Бенедетто Кроче в «презренном понтийпилатстве», то есть в интеллектуальном высокомерии
и неизбежной оторванности от интересов народных масс. Он нападал на Кроче за то, что тот
не занимает четкой позиции, не желает ни за что отвечать и не принимает непосредственного
участия в общественных делах
7
.
Аналогичным нападкам интеллектуальные историки
подвергались вплоть до недавнего времени. Их называли идеалистами, оторванными
от настоящего любителями древности, проводниками политики «разговора книг с книгами»,
исследователями элиты и выдающихся одиночек, неспособными понять общество и не
верящими в существование иных причинных факторов, кроме идей. В нашей книге будет
показано, что вся эта критика бьет мимо цели, если ее объектом служит интеллектуальная
история как дисциплина, практикуемая в наши дни.
Интеллектуальные историки сходятся на том, что идеи важны как первичный источник
сведений о социальных явлениях и непосредственно выявляют те факты о нашем мире,
которые невозможно описать иначе, чем через ссылки на идеи. Идеи сами по себе являются
социальными силами. Они могут быть сформированы другими силами, но в свою очередь
сами неизбежно оказывают влияние на человечество. Однако в остальном согласия между
6 Jeremy Bentham to the National Convention of France (1793), впоследствии опубликовано как: Emancipate your
Colonies.
7 Gramsci A. Quaderni del carcere. Vol. 1 . Il materialismo storico e la filosofia di Benedetto Croce. Turin, 1966.
P. 174–175 (рус. пер.: Грамши А. Тюремные тетради: В 3 ч. Ч. 1 . М., 1991. С . 210; пер. с ит. Г. П. Смирнова, В. А .
Дмитренко, П. А. Козлова, Е. Г. Молочковской, А. К . Орла, Л. Б . Попова, Ю. А. Суворова).
11
интеллектуальными историками нет
8
. Отчасти дело в том, что они принадлежат ко множеству
различных философских племен, возникших во второй половине XX в. или еще раньше.
Некоторые из них будут описаны ниже. Следует подчеркнуть еще одну проблему
интеллектуальных историков: их можно встретить на самых разных гуманитарных
факультетах и потому их представления о самих себе неизменно определяются методами
работы, господствующими в соответствующих областях. Особой проблемой часто является
отношение к ним коллег-историков. Прежде нередко можно было услышать, что
интеллектуальные историки неловко чувствуют себя в присутствии «настоящих» историков,
считающих идеи эпифеноменами сил «настоящей истории». Дональд Винч однажды заметил,
что, когда интеллектуальный историк подает статью для публикации, он чувствует себя так,
словно ему предстоит сыграть «выездной матч»
9
. К счастью, сейчас такое происходит реже.
Одна из целей книги – помочь интеллектуальным историкам почувствовать себя членами
большой команды, очертив то общее для них пространство, на котором они могут играть
у себя дома.
Как указывали Дэррин Макмахон и Сэмюэл Мойн, в настоящее время одна из проблем
интеллектуальной истории состоит в том, что мы уже не воюем друг с другом, особенно
по поводу методов исследования; они видят в этом проблему, поскольку считают, что
появление на свет ряда лучших работ по интеллектуальной истории 1960-х и 1970-х гг.
сопровождалось методологическими спорами. Предполагается, что если мы прекратим
дискутировать друг с другом, то проникнемся самодовольством и перестанем писать
выдающиеся работы
10
.
По словам Марка Бевира, одного из виднейших исследователей
философии истории последних десятилетий, его книга «Логика истории идей» (1999) вышла
в свет под самый конец золотого века методологических разысканий
11
. Альтернативной точки
зрения держится Джон Барроу, написавший статью о нищете методологии. Он указывает, что
те, кто одержим поиском единственно верного способа задавать вопросы прошлому, скорее
всего, окажутся в информационных шорах
12
.
Стремление к тому, что Барроу называет
«методологическим
холизмом»,
заставляет
поставить
под вопрос
собственные
эпистемологические предпосылки. Оно нередко сопровождалось презрением к прошлому
и неспособностью оценить чуждый нам, но, возможно, внутренне логичный склад мышления
прошлых времен. Считается, что Иштван Хонт, интеллектуальный историк из Кембриджа,
зашел еще дальше, заявив, что «методология нужна лишь глупцам». Следует подчеркнуть,
что некоторые из лучших историков наших дней – например, Энтони Графтон – сторонятся
методологических споров. Я не имею ничего против обсуждения подобных вопросов, но в
моей книге нет ничего, что провоцировало бы методологические дебаты. Она написана
исключительно как введение в дисциплину, не более, и я не в состоянии сказать нечто
оригинальное в методологическом смысле. И тем не менее читатель найдет в моей книге
приглашение к дебатам.
В последующих главах я постараюсь в общих чертах описать историю изучения
8 О степени разногласий среди интеллектуальных историков дает четкое представление онлайн-видеопроект
«Что такое интеллектуальная история?», доступный по адресу: http://www.st-andrews.ac.uk/iih/.
9 Цит. по: Young B. Introduction // A Companion to Intellectual History / Ed. by R. Whatmore, B. Young. Oxford,
2016. P. 1.
10 McMahon D. M ., Moyn S. Introduction: Interim Intellectual History // Rethinking Modern European Intellectual
History. Oxford, 2014. P. 3 –12 .
11 Five Questions to Mark Bevir // Intellectual History. 5 Questions / Ed. by M. H. Jeppesen, F. Stjernfelt, M.
Thorup. Copenhagen, 2013. P. 30 .
12 Burrow J. Intellectual History: The Poverty of Methodology. Рукопись. Доступно по адресу:
https://www.sussex.ac.uk/webteam/gateway/file.php?name=intellectual-history –
the-poverty-of-methodolgy-ii .pdf&site=68 .
12
исторических идей и то, как подобные исследования ведутся в наше время и с какой
критикой они сталкиваются. После разговора о становлении интеллектуальной истории, о ее
методе и практике я рассмотрю утверждение о том, что стараниями интеллектуальных
историков исторические исследования потеряли связь с настоящим. В заключение будут
представлены некоторые размышления о последних достижениях интеллектуальной истории.
Читателям, которые рассчитывают на широкое разнообразие примеров, охватывающих весь
диапазон исследований в сфере интеллектуальной истории, нужно иметь в виду, что
по большей части я не выхожу за пределы наиболее изученной мной территории. Стоит
отметить, что интеллектуальная история, по-видимому, оказала лишь ограниченное влияние
на изучение идей в Античности – в частности, потому, что в «классической» сфере
существуют собственные давно сложившиеся академические подразделения и традиции.
Также подчеркну, что, хотя в данной книге дается общее представление о подходах
к интеллектуальной истории, связанных с именами Райнхарта Козеллека, Мишеля Фуко
и Лео Штрауса, в первую очередь речь пойдет о методах и практиках, ассоциирующихся
с Квентином Скиннером и Джоном Пококом. Дело в том, что, по моему мнению, именно
последние представляют подход, который является доминирующим среди англоязычных
интеллектуальных историков и который в наибольшей степени влиял на работу
интеллектуальных историков в последние десятилетия. Разумеется, все подходы в чем-то
совпадают и в чем-то похожи друг на друга, и эта тема будет затронута ближе к концу книги.
Впрочем, возможно, делать упор на «кембриджских» авторов было ошибкой. В сентябре
2014 г.,
находясь на конференции шведских аспирантов по интеллектуальной истории
в университете Умео, я почти сразу понял, что ни один из них никогда не слышал о Пококе,
ни один не изучал методологических работ Скиннера и что в своих исследованиях все они
вдохновляются одним лишь Фуко. Шведские аспиранты в основном занимались историей
техники в XX в. Одним из самых интересных итогов их трудов стало то, что многих из них
пригласили преподавать не на гуманитарных, а на технических факультетах. В других краях
все обстоит иначе.
Глава 1
Сущность интеллектуальной истории
Как определить, что такое интеллектуальная история? Сегодня ученые, называющие
себя интеллектуальными историками или проявляющие интерес к этой дисциплине, помимо
тем, традиционно ассоциирующихся с интеллектуальной историей, политической теорией
и международными отношениями, могут заниматься историей идентичности, времени
и пространства, империй и народов, пола и гендера, академической и популярной науки, тела
и его функций, историей отношения к еде, животным, окружающей среде и миру живой
природы, перемещениями народов и распространением идей, историей издательского дела
и историей вещей, историей искусства и историей книги. Порой мы слышим, что в силу
чрезвычайной пестроты, свойственной интеллектуальной истории, ей невозможно дать
дефиницию. Другие говорят, что было бы ошибкой пытаться дать определение тому полю
исследований, в котором, как мы считаем, мы сами работаем, поскольку это может привести
к установлению произвольных дисциплинарных границ. Джон Покок, человек, по мнению
многих, внесший самый большой вклад в интеллектуальную историю, написав целый ряд
новаторских работ, на вопрос «Что вас привлекало в интеллектуальной истории, когда вы
начали ею заниматься?» ответил: «Не уверен, что меня когда-нибудь что-либо в ней
привлекало, поскольку в то время я еще о ней не слышал и не знаю, верю ли я сейчас в ее
существование»13
.
Попытки дать дефиницию интеллектуальной истории предпринимались неоднократно.
Однако, стремясь определить сферу своей деятельности, интеллектуальные историки
13 Five Questions to John Pocock // Intellectual History. 5 Questions. P. 143.
13
уподобляются экономистам с их склонностью к спорам. Следуя этому правилу, я отвергаю
первое определение интеллектуальной истории, которое дал Роберт Дарнтон, писавший, что
интеллектуальная история охватывает
историю идей (изучение систематического мышления, обычно в виде
философских формулировок), собственно интеллектуальную историю (изучение
неформального мышления, интеллектуальной атмосферы и литературных
движений), социальную историю идей (изучение идеологий и процесса
распространения
идей) и культурную
историю
(изучение
культуры
в антропологическом смысле, включая мировоззрения и коллективные mentalités)
14
.
Такое определение представляется мне расплывчатым и невнятным. Например, чем
философские формулировки отличаются от нефилософских, а философское мышление –
от неформального? Своим определением Дарнтон, помимо прочего, стремился провести
черту между интеллектуальной историей и социальной историей идей как разновидностью
культурной истории
15
. На практике же интеллектуальные историки следовали примеру таких
ученых, как Арнальдо Момильяно и Энтони Графтон, которые, вдохновляясь великими
филологическими традициями и их современным воплощением в исследованиях по истории
науки, всегда занимались всем тем, что упомянуто в определении Дарнтона, но только
пренебрегая ложными различиями между социальной, культурной и интеллектуальной
сферами
16
. Джон Барроу, первый человек, ставший в Англии профессором интеллектуальной
истории, более удачно определял ее как процесс выявления того, «что в прошлом люди имели
в виду, говоря то, что они говорили, и что сказанное ими „означало“ для них»
17
.
Как предупреждал Барроу, зачастую «научные ярлыки – это скорее разметочные флажки,
нежели имена, отражающие сущности», однако его дефиниция – лучшая из тех, что у нас
есть. Равным образом хороши и метафоры, к которым он прибегал, говоря, что
интеллектуальный историк подслушивает разговоры былых эпох, играет роль переводчика
между живыми культурами и культурами прошлого и исследует миры, полные чуждых нам
допущений и убеждений
18
.
Вследствие того, что к интеллектуальной истории относят так много различных видов
деятельности, возникает вопрос: а что же, собственно, включает в себя исследование в этой
области? Некоторым историкам это дает повод договориться до того, что никакой
интеллектуальной истории как четко выделяемой предметной области не существует,
ибо почти вся историческая наука имеет дело с идеями, обычно в виде изучения письменных
текстов прошлых эпох. Однако это ошибка. Да, историки неизбежно будут иметь дело
14 Darnton R. Intellectual and Cultural History // The Past Before Us: Contemporary Historical Writing in the United
States / Ed. by M. Kammen. Ithaca; New York, 1980. P. 337 .
15 Darnton R. In Search of the Enlightenment: Recent Attempts to Create a Social History of Ideas // The Journal
of Modern History. 1971. Vol. 43. No 1. P. 113–132; Idem. The Kiss of Lamourette: Reflections in Cultural History.
New York, 1990.
16 Momigliano A. Studies in Ancient and Modern Historiography. Oxford, 1977; Grafton A., Jardine L. Studied
for Action: How Gabriel Harvey Read his Livy // Past and Present. 1991. Vol. 129. P. 30 –78; Grafton A. Momigliano’s
Method and the Warburg Institute: Studies in his Middle Period // Momigliano and Antiquarianism: Foundations of the
Modern Cultural Sciences / Ed. by P. Miller. Toronto, 2007. P. 97 –126; Soll J. Intellectual History and the History of the
Book // A Companion to Intellectual History. P. 72–82.
17 Письмо Джона Барроу Энтони Д. Наттоллу от 3 февраля 1978 г.: Burrow Papers, Special Collections,
University of Sussex Library, Box 11, «Correspondence T – Z», цит. по: Cuttica C. Eavesdropper on the Past: John W.
Burrow (1935–2009), Intellectual History and Its Future // History of European Ideas. 2014. Vol. 40. No 7 . P. 905 –924.
18 Burrow J. W. Intellectual History in English Academic Life: Reflections on a Revolution // Advances
in Intellectual History / Ed. by R. Whatmore, B. Young. London, 2006. P. 8 –24 .
14
с идеями, однако систематический анализ содержания этих идей и того, как происходит их
передача, перевод, распространение и восприятие, и создало интеллектуальную историю
как дисциплину. Интеллектуальная история обрела идентичность как отдельная область
гуманитарных наук и исторических исследований после 1950 г.
Главной и наиболее значимой особенностью интеллектуальной истории является ее
междисциплинарная природа. Интеллектуальные историки никогда не соблюдали границ
между дисциплинами, если только речь не идет о границах, проведенных носителями идей,
которые они изучают. Причина этого в том, что идеи никогда не носят чисто политического,
философского, экономического или теологического характера. Соответственно, тех, кто
занимается интеллектуальной историей, можно встретить на факультетах истории,
философии, политологии, международных отношений, классической филологии, богословия,
английского и иностранных языков, экономики, государственного управления, социологии
и антропологии. Это особенно характерно для европейских и североамериканских
университетов. Способствует этому и все более частый отказ от позитивистских курсов
истории частных дисциплин, в которых описываются становление и развитие последних.
Большинство интеллектуальных историков отвергает подобную историю в силу присущих ей
презентизма, телеологизма и анахронистичности. Одним из здоровых последствий такой
ситуации является поразительное разнообразие сфер, в которых ведут исследования
интеллектуальные историки. Они могут обращаться к истории науки, истории книги,
распространению и восприятию идей и вдобавок делать это в рамках транснациональных
и глобальных
исторических
исследований. Прежде
интеллектуальная
история
ассоциировалась по большей части с политической мыслью Европы раннего Нового времени,
но это, несомненно, уже давно не так.
Несмотря на все свое разнообразие, в массовом сознании интеллектуальная история
по-прежнему ассоциируется с изучением трудов великих философов. Автор блестящих
и спорных работ, немецкий историк Фридрих Мейнеке однажды вступился за изучение
наследия этих «мертвых белых мужчин», указав, что при исследовании философской мысли
прошлых эпох неизбежно придется двигаться от одной горной вершины к другой.
Иллюстрацией этого положения служит спор о нравственности между сторонниками
и противниками политики «государственных интересов»
19
.
Лесли Стивен, создатель
«Словаря национальных биографий» («Dictionary of National Biography») и автор нескольких
работ в сфере интеллектуальной истории, оправдывал изучение лучших умов прошлого,
прибегая к метафоре «переходящего факела»
20
.
При этом Стивен видел ценность своего
«Словаря» в фиксации мыслей «второстепенных» персонажей, благодаря чему он более
объективно отображал «историю мнений». Этот подход, разумеется, содержал в себе
отголоски теории о том, что историю творят великие мужи, нередко ассоциируемой
с Гегелем. Если исторические изменения происходят благодаря деяниям великих мужей
и великих авторов, то это дает историкам право игнорировать народные массы, а также менее
крупные философские светила, поскольку те не имеют серьезного значения как исторические
акторы. Еще одно оправдание дает история философии. Философы занимаются вечными
вопросами, а с этими вопросами лучше всего знакомиться, обращаясь к величайшим книгам.
Аналитический разбор, проверка и оценка аргументов, содержащихся в великих
произведениях, – жизненно важное эвристическое начинание. Этот подход до сих пор
оказывает влияние на изучение и преподавание истории философии в университетах.
Учебные курсы выстраиваются вокруг знакомства с трудами великих философов от Платона
до Ролза. Такой подход к текстам нередко противоречит принципу историзма в том смысле,
19 Meinecke F. Historicism: The Rise of a New Historical Outlook / Transl. by J. E. Anderson. London, 1972,
первоначально издано как: Die Entstehung des Historismus (1936); Idem. Cosmopolitanism and the National State.
Princeton, 1970, оригинальное издание: Die Idee der Staatsräson in der neueren Geschichte (1924).
20 Stephen L. The History of English Thought in the Eighteenth Century. Cambridge, 1876. P. 3 .
15
что студентам предлагают заняться критическим разбором изучаемого произведения,
оценкой выдвигаемых философами тезисов о справедливости, правах, нравственности,
свободе и многом другом. Цель такой стратегии – заставить задуматься о том, каков
гипотетический вклад философа прошлого в нынешние дискуссии на аналогичные темы.
В итоге слабые студенты тратят время без особой пользы. Порой я сталкиваюсь с попытками
выяснить, что думал Адам Смит насчет рас, классов и гендера, употребляя эти термины в их
нынешнем значении; ответ – ничего или почти ничего, а если и думал, то это вряд ли добавит
что-то внятное к нашим представлениям и о мире Смита, и о нашем собственном
21
.
У умного же студента, проработавшего главный труд изучаемого философа и другие тексты,
в итоге возникает ощущение, что он вполне овладел системой его аргументации и способен
оценить значимость этого мыслителя для нашего времени, отчасти благодаря пониманию
сильных и слабых сторон его доводов, проверенных применительно к современной
проблематике.
Интеллектуальный историк может соблазниться этим подходом, но один из тезисов
нашей книги состоит в том, что подобная деятельность не является интеллектуальной
историей. В качестве иллюстрации можно сослаться на автобиографическую книгу Джона
Барроу «Подвижные воспоминания» («Memories Migrating», 2009), где он описывает свое
посещение Отдела истории идей при Австралийском национальном университете
в Канберре, которым в 1980-х гг. руководил марксист Юджин Каменка. Барроу ожидал
встретить
там
круг
единомышленников,
но был
потрясен,
столкнувшись
с пренебрежительным отношением Каменки к работе самого Барроу об Уолтере Баджоте.
Каменка считал, что такая второстепенная фигура если и внесла, то весьма скромный вклад
в интеллектуальную историю. На это Барроу возразил, что те, кого мы считаем крупными
фигурами в истории философии, возможно, приобрели этот статус далеко не сразу и что те
труды, которым мы придаем величайшее значение, вероятно, не ценились столь же высоко
в прошлом. Короче говоря, современная мода – сама по себе продукт случайностей
и нечаянностей. Это один из важнейших уроков, которые дают нам исследования в сфере
интеллектуальной истории.
Можно привести множество других примеров. Так, трактат Жан-Жака Руссо
«Об общественном договоре» (1762) в наши
дни
обычно считается одним
из основополагающих текстов современной демократической мысли, поскольку именно им
вдохновлялась эпоха демократических революций, кульминацией которой в 1789 г. стала
Французская революция: всем известно, что французские революционеры преклонялись
перед Руссо. Таким образом, мы вправе включить великую книгу Руссо в список
канонических текстов современной политической теории. Без Руссо не обойдется ни один
учебный курс, посвященный значимым идеям и великим философам. Однако, если изучать
Руссо в контексте идей его времени, складывается совсем другая картина. Из всех книг Руссо
«Общественный договор» пользовался наименьшим успехом. По сравнению с его
романами – например, с «Эмилем», опубликованным в том же 1762 г., – трактат читали мало.
В том числе потому, что это была незавершенная работа – часть более обширного замысла,
носившего название «Политические институты», в котором Руссо надеялся объяснить,
как могут выжить небольшие государства в мире, где господствуют крупные коммерческие
монархии. Руссо вовсе не стремился к повсеместному учреждению демократического
правления. Собственно, он критиковал демократию как «власть для богов, а не для людей».
Руссо был убежден, что аристократическая власть предпочтительнее демократии, если
только у людей имеется коллективное право принимать либо отвергать законы,
предложенные правительством. Именно так обстояло дело в Женеве, родном городе Руссо,
отношения с которым у него, мягко говоря, не сложились. Достаточно лишь прочесть
несколько трудов о различиях между суверенитетом и властью, изданных в Женеве
21 Продуманный ответ на это заявление см.: Sebastiani S. The Scottish Enlightenment: Race, Gender, and the
Limits of Progress. London, 2013.
16
до публикации «Общественного договора», чтобы понять, что Руссо почерпнул ряд своих
идей из подобных источников. Еще более важно следующее обстоятельство. Руссо любил
маленькие европейские государства и считал, что они находятся в кризисе из-за чрезмерной
военной мощи крупных коммерческих монархий, приобретавших все больше имперских
черт. В этом контексте становится очевидной главная проблема, стоявшая перед философом:
когда он формулировал различие между суверенитетом и властью, он имел в виду именно
такие маленькие республики, как Женева. Руссо считал, что торговля в неправильных
условиях ведет к роскоши, а роскошь разрушает мораль и религию. Он был убежден, что
в крупных государствах люди теряют чувство сопричастности к человечеству и какое-либо
общее чувство идентичности или коллективной цели. Задачей Руссо было сделать то, что
до него пытались сделать такие авторы, как Франсуа Фенелон: добиться совместимости
морали с коммерческим обществом и обратить вспять тенденцию современной политики
становиться все более коррумпированной, а современных людей – все более эгоистичными
и зацикленными на себе. Достижение такой цели, по убеждению Руссо, было бы возможно,
только если бы удалось спасти малые государства Европы. Современная жизнь, по Руссо,
насквозь порочна и лжива, и такие государства, как Франция, никогда не смогут быть
реформированы. Они непоправимо испорчены, а это означает, что Руссо никогда бы
не признал Французскую революцию. Говоря более конкретно, он бы никогда не согласился
с тем, что такое великое, но коррумпированное государство, как Франция, можно превратить
в обширную демократию. Если мы хотим понять политические взгляды Руссо, нам
необходимо ознакомиться с его работами, примыкающими к «Общественному договору»,
в первую очередь с его письмами, в которых он удовлетворял нескончаемые просьбы
о советах, а также отвечал своим многочисленным критикам. Прочитав только
«Общественный договор» и не изучив ни других сочинений философа, ни иных текстов,
которые его занимали, мы сконструировали такого Руссо, которого никогда не существовало.
Хуже того, мы не поняли бы ни одного из его доводов.
Разумеется, Руссо, как и любого продуктивного мыслителя, можно включить
в программу курса по истории мысли. При этом, если мы хотим изучить его должным
образом, нужно внимательно ознакомиться с его трудами, равно как и с трудами его
предшественников и современников. Главное – не упрощать историю демократии
или политики вообще и не подавать «вклад» Руссо в данную тему, исходя из допущения, что
его понимание демократии непосредственно приложимо к нынешней ситуации. Даже если
мы рассмотрим лишь «Общественный договор», мы придем к утверждению о взаимосвязи
между конституционным строительством, практической политикой, экономикой, религией
и правом. Руссо, по сути, учит нас, что нельзя изучать политику, не имея понятия об идеях
в смежных областях. Реконструируя его грандиозное мировоззрение, мы получаем
представление о сложной системе взглядов, которая не может не вступать в противоречие
с господствующим философским течением нашего времени, однако от нас и не требуется
выбирать победителя в этом споре.
Политический философ может ответить на это, что в третьей книге «Общественного
договора» Руссо представляет обоснование демократического суверенитета в противовес
демократическому правительству, и это обоснование более убедительно, чем любые
утверждения о демократии, делавшиеся до него. Более того, представления Руссо
о демократическом суверенитете могут быть отнесены к современной политике.
Сравнительно недавно эта тема поднималась в книге Джошуа Коэна «Руссо: свободное
сообщество равных» («Rousseau: A Free Community of Equals», 2010). Допустим, что мы
вправе пренебречь пессимизмом Руссо в отношении развращенного коммерческого
общества, как и его желанием, чтобы мир был безопасным для маленьких государств.
Но почему бы по-прежнему не использовать демократические идеи Руссо как ориентир
или по крайней мере не открыть дискуссию о сущности демократии? Иными словами, брать
у авторов прежних эпох те идеи, которые можно счесть релевантными для нашего времени,
и игнорировать те, которые являются очевидным анахронизмом, – например, в случае Руссо
17
его отношение к женщинам. Я не собираюсь запрещать политическим философам делать все,
что им заблагорассудится, особенно в учебной аудитории, но я бы возразил им, указав на то,
что углубленное представление о трудах и делах данного автора в конечном счете позволит
прийти к более нюансированному пониманию политики его времени, а в идеале также
пределов возможного в современной политике. В свою очередь, политический философ
в ответ на это спросит: «Какой вклад интеллектуальные историки внесли в современную
политическую теорию?»
Все то же самое приложимо и к произведениям Томаса Гоббса, который был убежден,
что к гражданской войне в Англии привели религиозные споры. Он пытался положить им
конец в третьей и четвертой частях «Левиафана», посвященных «Христианскому
государству» и «Царству тьмы», –
тех частях, на которые порой современным
исследователям философии предлагается не обращать внимания. Однако именно в этих
разделах Гоббс, как ему казалось, самым непосредственным образом обращался к своим
современникам и согражданам, указывая, какие именно аспекты христианской веры
и практики совместимы с гражданским миром и какие убеждения получают, а какие
не получают обоснование в Библии. Кропотливые исследователи Гоббса, в частности Ноэль
Малькольм, Квентин Скиннер и Ричард Так, показали, что без реконструкции
интеллектуальной среды, окружавшей Гоббса, нам не понять ни одного из его аргументов
22
.
Еще один пример – Адам Смит, чей трактат «Богатство народов» порой считается
первоисточником современной экономики и неолиберализма. Однако Смит на протяжении
всего своего трактата в высшей степени критически отзывается о коммерческом обществе
и утверждает, что все пороки торговых отношений современной ему Европы восходят
к всемогущей торговой аристократии, порожденной британской меркантилистской системой.
Смит не был ни врагом перемен, ни сторонником свободной рыночной экономики.
По мнению Смита, каждое аргументированное утверждение подразумевает рассмотрение
предмета по крайней мере с двух сторон, и его необычайно осторожное отношение к новым
законодательным инициативам приводило современников в ярость. Можно сослаться
на проект создания гражданской милиции, за который выступал друг Смита Адам Фергюсон,
считавший, что служба в милицейских частях – самый надежный способ сохранения
общественной добродетели и защиты современного государства от угрозы абсолютизма.
В свою очередь, Смит в «Богатстве народов» утверждает, что создавать милицию
в современном мире бессмысленно, так как модерное государство могут защитить лишь
профессиональные армии. В то же время он указывает, что служба в местной милиции идет
на пользу обществу. Смит мог называть пагубными законы, поддерживающие существование
земельной аристократии – особенно право первородства и майорат, – и в то же время
признавать, что попытки отменить такие законы не принесут никакой пользы. С его точки
зрения, идеальным был принцип так называемой «естественной свободы», но идею о том,
что для развития человечества требуется свобода торговли и естественный рост изобилия, он
считал абсолютно ошибочной. По его мнению, развитие торговли в современном мире
не было порождением свободных рынков – оно происходило вопреки их отсутствию.
Умеренные, бесстрастные и сбалансированные представления Смита о мире сложились
у него благодаря углубленному изучению того, что он называл «наукой о государстве
и законах», включавшей наряду с политикой и политической экономией историю, моральную
философию, эстетику и право. Труды интеллектуальных историков – таких, как Кнуд
Хааконсен, Иштван Хонт, Ник Филиппсон и Дональд Винч, – поместивших аргументы Смита
в соответствующий исторический контекст, привели к пересмотру наших представлений
о том, какие цели ставил перед собой Смит в своих сочинениях и во что он верил
23
. Как часто
22 Tuck R. Philosophy and Government, 1572–1651. Cambridge, 1993; Skinner Q. Reason and Rhetoric in the
Philosophy of Hobbes. Cambridge, 1996; Malcolm N. Aspects of Hobbes. Oxford, 2004.
23 Haakonssen K. The Science of a Legislator: the Natural Jurisprudence of David Hume and Adam Smith.
Cambridge, 1989; Idem. Natural Law and Moral Philosophy: From Grotius to the Scottish Enlightenment. Cambridge,
1996; Hont I. Jealousy of Trade: International Competition and the Nation-State in Historical Perspective. Cambridge,
18
бывает с такими значительными авторами, как Адам Смит, сделать его посмертно «своим»
пытались и революционно, и антиреволюционно настроенные авторы. И Эдмунд Берк,
и Томас Пейн были одинаково уверены, что Смит стоял бы с ними плечом к плечу
в политических баталиях 1790-х гг. На самом же деле Смит выступал бы против Берка,
оправдывавшего законы, защищавшие земельную аристократию, а Пейна бы считал опасным
смутьяном и аферистом.
В книге я намерен показать, что сущность интеллектуальной истории, при всем ее
изменчивом и спорном характере, проистекает скорее из особого подхода к историческим
идеям, нежели из приверженности конкретному философскому методу. Для того чтобы
осознать это, необходимо обратиться, собственно, к истории идей, а также к новейшим
тенденциям развития интеллектуальной истории как сферы исследований.
Глава 2
История интеллектуальной истории
«Вся история – это история мысли». Этим утверждением прославился философ
и археолог Р. Дж. Коллингвуд, писавший в своей посмертно опубликованной работе «Идея
истории» (1946), что история стала наукой, когда историки осознали, что люди свободны
в своих действиях – в том смысле, что они рациональным образом обдумывают
открывающиеся перед ними возможности, будучи ограничены только идеологическим
контекстом, в котором они находятся
24
.
Хотя предмет истории мысли может относиться
к любому периоду времени, Коллингвуд вовсе не имел в виду, что всякую разновидность
исторических исследований следует считать областью истории мысли или того, что мы
сейчас называем интеллектуальной историей. На протяжении веков не было никакой
интеллектуальной истории, а существовали лишь преклонение перед идеями прошлого,
священная история отдельных религиозных учений и почитание предков, принимавшее
самые разные формы. Однако в какой-то момент возникло понимание, что прошлое следует
рассматривать как нечто, складывающееся из утверждения идей и конкуренции между ними.
Интеллектуальная история стала предметом, который дал почву для спекуляций
об альтернативном будущем, основанных на прошлом опыте человечества или его чаяниях.
Иными словами, изменения произошли с осознанием того, что в человеческой жизни нет
ничего безусловного и что конкретный опыт порождает конкретные идеи, которые далее
способны участвовать в формировании жизненного опыта и всего, что из него следует.
По утверждению Коллингвуда, то, что мы сейчас называем интеллектуальной историей, было
шагом вперед по сравнению с тем, что он называл «методом ножниц и клея», или с историей,
основанной на принципе «исторического натурализма», то есть на признании того, что все
происходит по воле безликих сил природы. Он полагал, что описывает революцию
в методологии, ставшую заметной еще в XVII в., в ходе которой постепенно возникло
понимание того, что «историческая мысль, мысль о деятельности разума, свободна
от господства естественных наук, а деятельность разума – от господства природы»
25
.
Слишком много исследователей сбивалось с пути в поисках исторических законов, подобных
тем, что господствуют в физических науках. Коллингвуд считал, что выводит историков
на путь истинный, проводя границу между ложными законами общественных наук
MA, 2005; Philippson N. Adam Smith: An Enlightened Life. Harmondsworth, 2010; Winch D. Adam Smith’s Politics.
Cambridge, 1978; Idem. Riches and Poverty: An Intellectual History of Political Economy in Britain, 1750–1834.
Cambridge, 1996.
24 Collingwood R. G. The Idea of History. Cambridge, 1946. P. 317 (рус. пер.: Коллингвуд Р. Дж. Идея истории.
Автобиография. М., 1980. С . 113; пер. с англ. Ю . А. Асеева).
25 Collingwood R. G. The Idea of History. P. 318 (рус. пер.: Коллингвуд Р. Дж. Идея истории. Автобиография.
С. 34, 121, 304).
19
и надлежащей практикой историка-исследователя.
Многие из тех, кто сегодня называет себя интеллектуальным историком,
подписались бы под тем, как Коллингвуд описывал данную дисциплину, хотя они могли и не
согласиться с его утверждением, что история стала наукой или должна к этому стремиться.
Вопрос о том, в какой момент прошлое начали изучать как историю конкуренции идей, сам
по себе дискуссионный. Можно указать, что история идей всегда являлась составной частью
studia humanitatis, связанных со взлетом ренессансного гуманизма, когда на первый план
вышли выявление и сверка древних текстов и истолкование их смысла. Как показал в своей
блестящей книге Энтони Графтон, многие положения, артикулированные сторонниками ars
historica в то время, когда этот жанр еще не был полностью забыт, предвосхищают
аргументацию современных дискуссий о сущности исторического знания
26
.
В глазах
большинства этих авторов изучение исторических идей представляет собой одну
из разновидностей философии, и в каждой подобной работе поднимался вопрос
о взаимоотношениях с материнской дисциплиной. Согласно альтернативной точке зрения,
о признании того, что изучение истории идей требует собственной терминологии,
в историческом плане можно говорить лишь с момента, когда оформляется термин «история
идей», сам по себе указывающий на признание того факта, что идеи подвержены регулярным
флуктуациям. Лютеранский пастор Иоганн Якоб Брукер в своей «Historia Philosophicae
Doctrinae de Ideis» (1723) использовал понятие «история идей» именно в этом смысле,
защищая эклектическую философию в целом. Существенно, что тогда же к этому понятию,
но в другом значении, имея в виду «историю знаний», прибег Джамбаттиста Вико в своей
книге «Новая наука» («Scienza Nuova», 1725). Томас Рид, несомненно самый проницательный
из комментаторов, впоследствии отмечал, что изучение идей еще до Брукера популяризовал
Локк в своем «Опыте о человеческом разумении» (1689), однако именно Брукер очертил
границы новой области
27
.
Понятие «история идей» получило всеобщее признание к концу
XVIII в. параллельно с диспутами о том, насколько человека человеком делает то, что его
действия предопределены его мышлением
28
. Термин «интеллектуальная история» появился
намного позже. Сэмюэл Джонсон в предисловии к своему «Словарю английского языка»
(1755) писал о «генеалогии мнений» как о «своего рода интеллектуальной истории», имея
в виду то, каким образом один автор «копирует мысли и стиль другого». Однако это
единичный случай и всего лишь попытка дать определение давней литературной практике.
Важные соображения об истории и историографии идей содержатся в серии
замечательных работ Дональда Р. Келли, в которых прослеживается превращение понятия
«идея»
из психологического
и эпистемологического концепта
в термин,
который
используется в исторических интерпретациях. Келли показывает, что к XIX в. между
эклектиками и позитивистами разгорелись дискуссии о функции идей и их связи
с общественными науками. Как и сегодня, на одной стороне находились скептики, а на
другой – те, кто утверждал, что «объективное» знакомство с идеями, как правило
сопровождавшееся минимумом ссылок на историю, может способствовать преобразованию
общества. В то же время признание в качестве самостоятельной университетской
дисциплины начала
получать «история»
29
.
Келли убедительно демонстрирует:
26 Grafton A. What Was History? The Art of History in Early and Modern Europe. Cambridge, 2007.
27 Reid T. Essays on the Intellectual Powers of Man. Edinburgh, 1785. P. 23; см. также: Anon. The History of the
Works of the Learned. Issue 2. Article 12. London, 1740. P. 179: «„Опыт о человеческом разумении“ г-на Локка...
может быть с достаточным на то основанием назван „Опытом об истории идей“».
28 The Cambridge History of Eighteenth-Century Philosophy / Ed. by K. Haakonssen. 2 vols. Cambridge, 2006.
29 Kelley D. R . Foundations of Modern Historical Scholarship. New York, 1970; Idem. Versions of History: From
Antiquity to the Enlightenment. New Haven, 1990; History and the Disciplines: The Reclassification of Knowledge
in Early Modern Europe / Ed. by D. R . Kelley. New York, 1997.
20
о существовании собственно истории идей уместно говорить лишь с момента признания
того, что степень свободы действий исторических фигур задается рамками современной им
интеллектуальной культуры. Именно это утверждал в 1770-х гг. Христиан Гарве, философ
из Бреслау. Он отмечал: если в английской жизни можно выявить идею общественного духа,
то в германских государствах ее не существует, и это обстоятельство будет определять
характер действий политиков той и другой страны
30
.
Как представляется, именно с этого
времени идеи «спустились» с платоновских высот в мир повседневного языка.
Разумеется, Гарве во многом исходил из «Очерков морали, политики и литературы»
Давида
Юма
(1742)
и «О духе
законов»
Монтескье
(1748).
Если
у интеллектуально-исторических исследований того рода, что ведутся в наше время, и есть
отцы-основатели, то Юм и Монтескье более, чем кто-либо еще, вправе притязать на это
звание. Ни один из них не был скептиком или релятивистом. Оба они полагали, что, когда
речь идет о мире людей, историческое исследование явления должно предшествовать его
объяснению. Однако для Юма и Монтескье сущность истории – это прежде всего
непрерывная борьба между идеями о жизни. В их исторических исследованиях движение
идей никогда не бывает простым; непреднамеренные последствия преобладают. Всегда
ожидается, что идеи, определенным образом ведущие себя в одних обстоятельствах, в других
обстоятельствах поведут себя совершенно иначе. Следовательно, было бы ошибкой пытаться
установить универсально применимые ценности. Равным образом, было бы глупостью
сочинять законы для всего мира, ибо один и тот же закон действует в разных местах
по-разному. Все отличия являются порождением идеологической истории. Историю идей
и последствий их влияния предлагалось принимать всерьез при поиске решений любых
социальных проблем. Именно поэтому Юм советовал, вынося суждения об исторических
деятелях, обязательно учитывать интеллектуальный контекст, в котором они находились;
осуждать же их – просто бессмысленно:
Вам неведомо снисхождение к нравам и обычаям иных эпох. Станете ли вы
судить грека или римлянина по законам английского общего права? Сперва
выслушайте, как он будет оправдываться ссылками на собственные законы, и лишь
затем выносите приговор. Нет обычаев столь невинных или разумных, которые
не могли бы быть сочтены отвратительными или нелепыми, если подходить к ним
с мерками, неизвестными лицам, их соблюдающим, – особенно если вы, прибегнув
к толике красноречия, постараетесь усугубить одни обстоятельства и затушевать
другие таким образом, который в наилучшей степени отвечает целям ваших
рассуждений
31
.
Монтескье, рассуждая в глобальном масштабе, пошел дальше Юма. Впервые он
прославился критикой Людовика XIV в своих блестящих «Персидских письмах» (1721).
В этой книге рассказывается история Узбека и Рики, путешествующих персов, впервые
прибывших во Францию и описывающих все увиденное в письмах на родину. Монтескье
подчеркивает, до какой степени восприятие любого общества глазами иностранца задается
унаследованными убеждениями. Такой прием позволяет автору обратить внимание на те
аспекты современной ему европейской жизни, которые вызывали у него негодование, и в
первую очередь на масштабы религиозной нетерпимости, кажущуюся неистощимой
готовность христиан воевать и восприятие тирании как чего-то само собой разумеющегося.
При этом Монтескье далеко не сразу пришел к нормативному ответу на вопрос о судьбе
30 Kelley D. R . Horizons of Intellectual History: Retrospect, Circumspect, Prospect // Journal of the History of Ideas.
1987. Vol. 48. P. 143–169; Idem. What Is Happening to the History of Ideas? // Journal of the History of Ideas. 1990.
Vol. 51. P. 3 –25; Idem. The Descent of Ideas. The History of Intellectual History. London, 2002.
31 Hume D. A Dialogue; An Enquiry Concerning the Principles of Morals // Hume D. Essays and Treatises
on Several Subjects. 2 vols. London, 1772. Vol. II . P. 392.
21
Франции, поставленной перед выбором: стать либо коммерческим обществом
по британскому образцу, либо империей, о которой мечтали «король-солнце» и его
приспешники, либо чем-то иным. В трактате «О духе законов» Монтескье использовал
историю идей для критики деспотизма и для обоснования отказа от британского сочетания
конституционализма и коммерческого общества. В 11-м томе своего труда он утверждал, что
Англия, будучи самым свободным государством в истории, все же никогда не сможет стать
образцом для Франции из-за фундаментальных различий между политическими культурами
обеих стран, а также из-за того, что британская свобода едва ли окажется долговечной.
Проведя новаторский анализ истории французской правовой мысли, Монтескье
сформулировал альтернативу, задававшую правила ведения дискуссий о политике и торговле
даже после Французской революции. Ни один исследователь истории идей по таланту
и амбициям не сравнится с Монтескье.
История идей или интеллектуальная история обычно переживает расцвет во времена,
когда люди не знают, чего ждать от будущего, и нуждаются в какой-то альтернативе
скептицизму, цинизму и утопическим предсказаниям о конце истории либо о планах
строительства почти идеального общества. В этом отношении и история идей, и ее новая
разновидность, интеллектуальная история, особенно характерны для мысли XX столетия.
Обе эти дисциплины можно рассматривать как итог размышлений XX в. о взаимосвязях идей
с историческими процессами, игравших все более заметную роль в гуманитарных науках.
Отчасти это было обусловлено растущим скепсисом как в отношении претензий
позитивистской науки XIX в., которая сама опиралась на определение разумной человеческой
деятельности, так и в отношении ожиданий всеобщего здоровья и благосостояния. Если
самоуверенность философов XIX в. или нигилизм тех, кто отрицал их философию,
действительно были как-то связаны с мировыми войнами и с беспрецедентным уровнем
институционализованного насилия первой половины XX в., то значит, с гуманитарными
науками что-то оказалось не в порядке и они нуждались в переосмыслении. Другой
серьезной проблемой являлась взаимосвязь дисциплин, практиковавшихся в стенах
университетов, и в первую очередь специфика общественных наук и их отношения
с гуманитарными предметами и предметами, изучаемыми на факультетах искусств. Еще
одним фактором стала неопределенность в вопросе об истинности марксистского учения
в его различных формах и, точнее, о способности марксистских государств уцелеть
в экономическом и военном противостоянии с капиталистическим Западом. Все больше
философов вслед за скептиком Людвигом Витгенштейном начали утверждать, что все
аспекты человеческого поведения определяются языком. Витгенштейн в своих
«Философских исследованиях» и «О достоверности» называл язык феноменом, настолько
тесно связанным с человеческими поступками, что будет справедливым утверждение, что
одни языки, находящиеся в распоряжении того или иного актора, способствуют переменам,
а другие препятствуют им. В сущности, слова – это и есть дела.
Историки – нередко под воздействием скептического отношения к результатам
исторических исследований
позитивистского
толка
или имитирующих подходы,
свойственные естественным либо некоторым общественным наукам, –
тоже начали
утверждать, что поведение исторических деятелей предопределяется идеями, а также
культурами, которые сформированы лингвистическими практиками. Представители самых
разных политических течений заявляли, что в истории необходимо выделять «символические
формы», то есть идеи, порождающие культурные практики (Эрнст Кассирер); что
истолкование смысла произведения искусства – трехступенчатый процесс, кульминацией
которого является иконологическая интерпретация, то есть объяснение цели и намерения
художника (Эрвин Панофский); что интеллектуальную жизнь и ее историю следует
рассматривать как последовательность непрерывных «бесед» (Майкл Оукшотт); что внутри
культур существуют «горизонты», задающие пределы возможных действий (Ганс -Георг
Гадамер); что крайне важно «проникнуть в сознание» мертвых писателей (Исайя Берлин);
и что общества изменяются в соответствии со «сменой интеллектуальных парадигм» (Томас
22
Кун). Среди историков раздавались утверждения о необходимости выявления Zeitgeist,
мировоззрений, идей-единиц (unit ideas), ментальностей (mentalités), примеров культурной
гегемонии, дискурсивных полей, знаковых систем, эпистем и ключевых слов.
Можно было бы ожидать, что эти течения создадут среду, в которой интеллектуальной
истории обеспечено процветание. Однако, как отмечал Феликс Гилберт, в США
формирование дисциплинарного поля, именуемого интеллектуальной историей, начавшись
после издания «Новоанглийского сознания» Перри Миллера («The New England Mind»,
1939), затянулось надолго
32
.
Первые курсы по интеллектуальной истории на уровне
бакалавриата и магистратуры появились только в конце 1960-х гг. Преподавание
интеллектуальной истории началось в 1972 г., а первая кафедра была создана в 1982 г. Все это
произошло в английском университете Сассекса, где в роли основателей интеллектуальной
истории как особой дисциплины выступили (что показательно) историк, экономист, философ,
теолог и социолог. И лишь затем ее стали развивать в других местах, в первую очередь
на факультетах, занимавшихся английской литературой.
Первый научный журнал, посвященный интеллектуальной истории, был основан
в 1936 г. Он назывался Lychnos: Lärdomshistoriska samfundets årsbok («Лихнос. Ежегодник
истории идей и науки») и выходил под редакцией Йохана Нордштрема, который с 1933 г.
возглавлял в Уппсальском университете новую кафедру «Истории идей и учений». В 1940 г.
вышел первый номер великого «Журнала истории идей» (Journal of the History of Ideas).
Однако других журналов, посвященных интеллектуально-историческим исследованиям,
пришлось дожидаться намного дольше. С 1979 г. издавался «Бюллетень интеллектуальной
истории» (Intellectual History Newsletter), с 1980 г. –
«История европейских идей» (History
of European Ideas), с 1983 г. – «Поле битвы – журнал по истории идей» (Slagmark – Tidsskrift
for Idéhistorie) и с 1998 г. – «Res Publica: журнал по истории политических идей» (Res Publica:
Revista de Historia de las Ideas Políticas). Недавно за ними последовали «Современная
интеллектуальная история» (Modern Intellectual History, 2004), «Журнал по интеллектуальной
истории» (Intellectual History Review, 2007), «Журнал по истории идей» (Zeitschrift
für Ideengeschichte, 2007) и «Журнал междисциплинарной истории идей» (Journal
of Interdisciplinary History of Ideas, 2012). Иными словами, рассматривая становление
интеллектуальной истории как дисциплины, мы говорим в первую очередь о современной
эпохе.
В какой-то момент после Второй мировой войны термин «интеллектуальная история»
начал вытеснять в описаниях исследований старый термин «история идей». В 1970-х гг.
можно было заметить, что оба этих понятия используются как синонимы в таких важнейших
изданиях, как «Словарь истории идей»33
. Впрочем, в отношении употребления этого термина
единодушия никогда не наблюдалось. Те, кто изучает идеи прошлых эпох, вполне могли –
и продолжают – вдохновляться совершенно иными философскими представлениями.
В самом деле, они зачастую предпочитают понятию «интеллектуальная история» такие
термины, как «история идей» или «история понятий» (conceptual history), свидетельство
чему – эклектическая «Группа истории понятий» и ее журнал «Работы по истории понятий»
(Contributions to the History of Concepts). Как недавно отмечали Дэррин Макмахон и Питер
Гордон, возможно, нам захочется вернуться к старым взглядам, связанным с историей идей
в ее практическом воплощении, поскольку она дает более надежный способ разобраться
в долгосрочных изменениях по сравнению с контекстуальным анализом конкретных эпох
34
.
32 Gilbert F. Intellectual History: Its Aims and Methods // Daedalus. 1971. Vol. 100. No 1. P. 80 –97.
33 Wiener P. P. Preface // Dictionary of the History of Ideas: Studies of Selected Pivotal Ideas: 4 vols. New York,
1973–1974. Vol. I . P. VII.
34 McMahon D. M. The Return of the History of Ideas // Rethinking Modern European Intellectual History / Ed.
by D. M. McMahon, S. Moyn. New York, 2014. P. 13–31; Gordon P. E . Contextualism and Criticism in the History
of Ideas // Ibid. P. 32–55 .
23
Понятие «история идей» получило более широкое распространение в Северной
Америке благодаря поразительному влиянию Артура Онкена Лавджоя, в 1910–1938 гг.
занимавшего должность профессора философии в Университете Джонса Хопкинса
и основавшего Клуб истории идей, а также «Журнал истории идей». Самой знаменитой
работой Лавджоя стала книга «Великая цепь бытия: история идеи», вышедшая в 1936 г.
Лавджой вдохновлялся аналогией между историей идей и аналитической химией, открыв
«идеи-единицы» (unit ideas), или «химические элементы», лежащие в основе мышления.
Сегодня в нем, пожалуй, в первую очередь видят критика, вскрывшего скальпелем (к этой
метафоре прибегают все его приверженцы) существовавшие представления о смысле
конкретных идей и показавшего многообразие определений, в большинстве своем
не сочетающихся друг с другом. Лавджой прославился подобными хирургическими
операциями над прагматической философией, связанной с именами Уильяма Джеймса и его
последователей, однако он всегда сохранял верность взгляду прагматиков на идеи как на
решения задач
35
. В случае Лавджоя следствием такого подхода стал скептицизм в отношении
великих нарративов, включая противоборствующие философские системы, большинство
из которых, по его мнению, могло быть сведено к «идеям-единицам», существовавшим
на протяжении всей человеческой истории, эволюционировавшим и в различные моменты
времени вступавшим в новые отношения с другими идеями-единицами, в ответ на проблемы,
встающие перед тем или иным человеческим сообществом
36
.
Лавджой стремился показать,
что идеи не подчиняются логическим процессам и что их невозможно свести к обобщающим
определениям, из которых могут быть дедуктивным путем выведены «реальные»
взаимосвязи. Он возводил идею «великой цепи бытия» к словам Платона в «Тимее» о том,
что Бог, будучи всеблагим существом, хотел бы, чтобы для человечества осуществились все
возможные явления мира; в этом заключалась идея-единица полноты, но ни Платон, ни его
последователи не могли себе представить всего разнообразия утверждений и аргументов,
следовавших из этой идеи, как и из родственных ей идей-единиц – постепенности
и непрерывности
37
.
На аналогичных непреднамеренных последствиях делался упор и в
работе Лавджоя о такой идее-единице, как примитивизм, воплощавшей в себе тоску
по утраченной утопии в сочетании с неприятием настоящего.
Короче говоря, в своих исследованиях Лавджой стремился обосновать такой подход
к прошлому, который не грешил бы избыточным рационализмом, телеологизмом,
зацикленностью на одиозных личностях, а про своих оппонентов писал, что они
истолковывают историю как «исключительно логический процесс, в ходе которого
рациональным образом постепенно раскрывается объективная истина»
38
. В равной мере он
добивался оправдания для тех фигур в истории идей, которые подвергались насмешкам
или оказались забыты. Лавджой, скептик и иконоборец, неизменно выступал как защитник
гражданских свобод, и особенно свободы слова в научной сфере, делая исключение лишь
для сторонников коммунизма, поскольку усматривал в этом учении столь опасную угрозу
для свободы, что считал гонения, которым подверглись его поборники в эпоху маккартизма,
35 Lovejoy A. O. The Thirteen Pragmatisms // The Journal of Philosophy, Psychology, and Scientific Methods. Part I
(02.01.1908). P. 5 –12; Part II (16.01.1908). P. 29–39 .
36 Lovejoy A. O. The Historiography of Ideas // Proceedings of the American Philosophical Society. 1938. Vol. 78 .
No 4. P. 529–543; Idem. Reflections on the History of Ideas // Journal of the History of Ideas. 1940. Vol. 1 . No 1. P. 3 –23.
37 Lovejoy A. O. The Great Chain of Being. A Study of the History of an Idea. Cambridge, MA; London, 1936 (рус.
пер.: Лавджой А. О. Великая цепь бытия. История идеи / Пер. с англ. В. Софронова-Антомони. М., 2001);
Wilson D. J . Lovejoy’s The Great Chain of Being after Fifty Years // Journal of the History of Ideas. 1987. Vol. 48. No 2.
P. 187–205.
38 Lovejoy A. O. Reflections on the History of Ideas. P. 21 .
24
вполне оправданными
39
.
Показательно, что Лавджой не предлагал иного обоснования
для исследований, кроме «интересности» поставленных вопросов.
Важно отметить, что исследования, посвященные идеям, в том числе и работы самого
Лавджоя, бросали прямой вызов тому, что в англоязычном мире называется «вигской
историографией», в которой свобода – это что-то без труда определяемое, уже обретенное
и защищенное. Например, в том, что касается истории Англии со времени Великой хартии
вольностей, вигская историография ассоциируется с «Конституционной историей Англии»
Генри Галлама (1827), «Историей Англии с воцарения Якова II» Томаса Бабингтона Маколея
(1848) и с аналогичными произведениями великих историков XIX в., таких как Уильям
Стаббс, Джеймс Энтони Фроуд, У. Э. Г. Лекки, Дж. Р. Сили и Дж. Б . Бьюри. Читатели
превозносили вигский подход, предполагавший исторический прогресс и линейное развитие,
поскольку он обосновывал славное настоящее английской нации и в этом качестве служил
опорой для историка, желавшего стать публичным мыслителем, а временами и публичным
моралистом
40
.
В свою очередь, критики историков-вигов подчеркивали, что все это очень
хорошо, но только это никакая не академическая история. Подлинный историк должен
скептически относиться к великим нарративам, к представлению о непосредственной
преемственности между настоящим и прошлым и к телеологическим истолкованиям,
основанным на гипотезе постепенных улучшений. Все эти аргументы выдвинул Герберт
Баттерфилд в «Вигской интерпретации истории» (1931), мишенью которого была презумпция
существования причинно-следственной связи между прогрессом, протестантизмом
и свободой, лежавшая, по его мнению, в основе вигской историографии XIX в. Лавджой же
видел своими оппонентами врагов Уильяма Джеймса и его философии прагматизма,
в частности таких историков идеалистического направления, как Джосайя Ройс. В глазах
Лавджоя историческое развитие не является линейным, а характеризуется тем, что он
называл осцилляцией – чередованием периодов пренебрежения интеллектуальной жизнью и,
наоборот, ее поощрения
41
.
По этой причине проведение параллелей между временными
моментами, которые кажутся взаимосвязанными, может быть ошибкой. Точно так же –
по причине осцилляции идей – к сомнительным результатам, скорее всего, приведут попытки
найти первоисточники идей или самые ранние свидетельства о наблюдении конкретного
феномена и, уж конечно, подлежат осуждению телеологические подходы.
В Западной Германии начиная с 1950-х гг., а впоследствии и во всем германоязычном
мире два поколения ученых, писавших в русле «Begriffsgeschichte», или «истории понятий»,
вели работу по картографированию политических и социальных изменений, опираясь на 120
с лишним понятий, используемых в языке. Эти труды увенчались изданием многотомного
фундаментального
«Словаря основных
исторических
понятий» («Geschichtliche
Grundbegriffe»), выходившего в 1972–1997 гг. Первоначально этот проект был связан
с именами медиевиста и специалиста по законодательству Отто Бруннера и социального
историка Вернера Конце. Его главной отличительной чертой являлось прослеживание
взаимосвязей между идеологическим контекстом и социально-экономическими структурами,
а затевался он с целью заменить старую школу, ассоциируемую с «Geistesgeschichte»
(историей духа) и «Ideengeschichte» (историей идей) и не уделявшую должного внимания
социальной и экономической контекстуализации текстов. Участники проекта вдохновлялись
работами Бруннера, и в первую очередь его книгой «Земля и власть» («Land und Herrschaft»),
впервые напечатанной по-немецки в 1939 г. и переизданной с исправлениями в 1941, 1943
и 1959 гг. В основе этого труда лежала идея о том, что исторические исследования грешат
39 Wilson D. J . Arthur O. Lovejoy and the Quest for Intelligibility. Chapel Hill, 1980; Diggins J. P. Arthur O.
Lovejoy and the Challenge of Intellectual History // Journal of the History of Ideas. 2006. Vol. 67 . No 1. P. 181–208.
40 Burrow J. W. A Liberal Descent: Victorian Historians and the English Past. Cambridge, 1981; Collini S. Public
Moralists: Political Thought and Intellectual Life in Britain, 1850–1930. Oxford, 1993.
41 Lovejoy A. O. Reflections on the History of Ideas.
25
искажениями, поскольку их авторы применяют к Средним векам различение между
государством и гражданским обществом, сформулированное в XVIII в. Речь должна идти
не столько о государстве с его полномочиями в сферах права, войны и налогообложения,
сколько о понятии трансцендентальной справедливости, или священного права, которому все
до единого подчинялись. По этой причине феодальные распри не были следствием частных
войн между эгоистичными землевладельцами, обладавшими чрезмерной властью. Они
велись по большей части в соответствии с устоявшимися представлениями о справедливости
и общинности, опиравшимися на идею благополучия семьи и домохозяйства – к XVIII в.
вытесненными более новыми взглядами. Изыскания Бруннера в сфере истории немецкого
народа («Volksgeschichte»)
привели
его
к попыткам
заменить
либеральную
и демократическую историю, которую он считал ложной и нравственно обанкротившейся,
историей народа (volk), способного создать подлинное сообщество. Бруннер поддерживал
нацистов, поскольку считал буржуазный строй XIX в. исторической случайностью, на смену
которой суждено было прийти национал-социализму. Подходы «Begriffsgeschichte» дали ему
возможность критиковать правовое государство («Rechtsstaat»), которому, по его убеждению,
идеологические силы 1930-х гг. вынесли приговор. После Второй мировой войны Бруннер
признал свою ошибку. В его пользу говорит тот факт, что он вступил в нацистскую партию
лишь в конце 1943 г. и неизменно делал все возможное, дабы оградить своих еврейских
коллег от преследований.
Столь же ясно, что разработанные Бруннером методы можно было использовать более
широко и с их помощью критиковать идею «особого пути» («Sonderweg») Германии и тезис
о различии между германским идеализмом и эпикурейским материализмом, встречавшийся
в британской и французской интеллектуальных традициях
42
. Именно этим под руководством
интеллектуального
историка Райнхарта
Козеллека занялась
«Begriffsgeschichte»,
приступившая к изучению специфики современной германской мысли в надежде дать отпор
экстремистским идеологиям, опиравшимся на ложную телеологию
43
.
В глазах Козеллека
германоязычный мир в 1750–1850 гг. претерпел фундаментальные изменения. Он называл
эту эпоху «Sattelzeit» («переломный период»), имея в виду переход от раннего Нового
времени к современности. В те годы изменению подверглись ключевые понятия социального
и политического языка, такие как «история», «демократия», «политическое», «революция»,
«идеология» и «гражданское общество». Если смысл концептов, подобных «демократии»,
прослеживается с античных времен и ясен современным носителям языка, то понятие
«государство» настолько изменило свое значение, что лишь ученые в состоянии уловить все
нюансы и проследить их трансформацию. В равной мере существенно, что такие
неологизмы, как «прогресс», «Просвещение», «цезаризм», «марксизм» и «фашизм»,
складывались в переходный период, когда они ассоциировались с определенными этапами
исторического развития, стали общеупотребительными и вошли в состав идеологий,
предполагавших крупномасштабные реформы или движение к социальной утопии.
С течением времени эти понятия приобретали более абстрактный и общий характер,
становясь все менее описательными, притом что в мире усложнявшихся социальных
взаимодействий они чаще, чем когда-либо, становились игрушкой могущественных
идеологий. История понятий обещала превратить исторические исследования в науку. Этой
цели предполагалось достичь путем слияния изучения идей с изучением общества, что
получило отражение в трудах таких ученых, как Ганс-Ульрих Велер из Билефельдского
университета. Конфликт между идеологией и эмпирикой надлежало преодолеть за счет
42 Van Horn Melton J. Otto Brunner and the Ideological Origins of Begriffsgeschichte // The Meaning of Historical
Terms and Concepts: New Studies on Begriffsgeschichte / Ed. by H. Lehmann, M. Richter. Washington, DC, 1996.
P. 21 –33; Tribe K. The Geschichtliche Grundbegriffe Project: From History of Ideas to Conceptual History. A Review
Article // Comparative Studies in Society and History. 1989. Vol. 31. No 1. P. 180–184.
43 Palonen K. An Application of Conceptual History to Itself. From Method to Theory in Reinhart Koselleck’s
Begriffsgeschichte // Finnish Yearbook of Political Thought. 1997. Vol. 1 . P. 39 –69 .
26
соблюдения строгой научной методологии. Симптомом противоречивости этого проекта
стали нападки Велера на историю понятий как на пережиток идеализма. Велер утверждал,
что история понятий не способна внести вклад в понимание современных социальных
проблем, сопоставимый с воздействием исторических исследований, опирающихся
на новейшие методы общественных наук. В свою очередь, Козеллек критиковал социальную
историю за ее телеологичность и чрезмерное внимание к идее особого пути, которым якобы
шла Германия в своей современной истории.
Несмотря на стоявшие перед «Begriffsgeschichte» сложности, ее большим достижением
стало подробное освещение того, как менялся смысл идей, а также хода дискуссий,
вызванных движением идей в XVIII в. В частности, с точки зрения Козеллека,
для современного мира, сложившегося после эпохи Просвещения, было характерно все более
абстрактное использование понятий в политике и их подчинение опасным идеологиям во имя
демократии и массовой политики. Козеллек считал, что требование постоянных и даже
безотлагательных изменений от любого демократического правительства или правительства,
считающего, что оно правит от имени народа, есть не что иное, как гражданская война,
ведущаяся под покровом мирного настоящего. Представление Козеллека о политике как о
перманентной войне свидетельствует о несомненном влиянии на него Карла Шмитта, хотя он
и не разделял стремления последнего к прояснению понятий с целью подтверждения
приверженности господствующей идеологии. Но при этом сохранялась некоторая
нерешительность в идентификации фундаментальных понятий, нуждающихся в тщательном
изучении, и данных, необходимых для того, чтобы снабдить понятие определением. Козеллек
всегда утверждал, что понятия невозможно изучать исключительно в языковой плоскости,
его целью никогда не была история сознания, а скорее установление взаимосвязи между
понятиями и реальностью
44
. Иными словами, в основу интеллектуальной истории, способной
провести различение между понятиями, ставшими реакцией на события эпохи, и понятиями,
служившими толчком к общественным изменениям, надлежало положить теорию
взаимоотношения между идеями и временем. Именно такую теорию Козеллек предложил
в своей книге о времени «Прошедшее будущее»
45
. Однако одна из проблем истории понятий
состояла в том, что, несмотря на выдающиеся труды Козеллека, осталось неясным, в какой
степени данный подход трансформирует уже накопленные знания. Эта неопределенность
порождалась, помимо словарного принципа подачи материала в «Geschichtliche
Grundbegriffe», его обилием и разнообразием.
В то же время исследовательская глубина «Geschichtliche Grundbegriffe» и явный успех
анализа «переломного периода», проведенного Козеллеком, привели к появлению
аналогичных работ на других языках. В этом плане хорошим примером служат два словаря
фундаментальных социальных и политических понятий, изданных Хавьером Фернандесом
Себастианом, в которых рассматривается испанская мысль XIX и XX вв. соответственно
46
.
Другой пример – «Iberconceptos», иберо-американский проект в сфере истории понятий
(http://www.iberconceptos.net/en/), осуществляемый с 2004 г. В его рамках был составлен
словарь общественно-политических понятий, бывших в ходу на Пиренейском полуострове
и в семи странах Латинской Америки в 1750–1850 гг. Из печати уже вышли два тома
из задуманных десяти
47
.
Кроме того, прекрасной иллюстрацией данного концептуального
44 Koselleck R. A Response to Comments on the Geschichtliche Grundbegriffe // The Meaning of Historical Terms
and Concepts: New Studies on Begriffsgeschichte / Ed. by H. Lehmann, M. Richter. Washington, DC, 1996. Vol. XV.
P. 60 –71.
45 Koselleck R. Futures Past: On the Semantics of Historical Time / Transl. by K. Tribe. New York, 2004.
46 Diccionario político y social del siglo XIX español / Ed. J. F. Sebastián, J. F. Fuentes. Madrid, 2002; Diccionario
político y social del siglo XX español / Ed. J . F. Sebastián, J. F. Fuentes. Madrid, 2008.
47 Diccionario político y social del mundo iberoamericano, 1750–1850 / Ed. J. F. Sebastián. 10 vols. Madrid, 2009–
...
27
подхода служит работа Кари Палонена, в которой делается попытка изложить историю
парламентских и, шире, политических понятий
48
.
Исторические исследования о понятиях
ведутся в Китае, Финляндии, Франции, Нидерландах, Скандинавии и Латинской Америке,
о чем свидетельствует «Проект в сфере европейской истории понятий», опирающийся
на устоявшиеся национальные подходы
49
. Английская версия истории понятий еще ожидает
своего создателя, хотя уже раздаются серьезные призывы к началу работы в этой области
50
.
Следует также упомянуть еще один подход к изучению исторических текстов,
сложившийся в 1960-х и 1970-х гг., поскольку он приобрел большое влияние, особенно
в Северной Америке. Речь идет о постструктурализме или деконструктивизме, связанном
с разнородной группой французских философов (Жак Деррида, Жиль Делез, Мишель Фуко
и др.), поставивших под сомнение тезис о необходимости помещать тексты в исторический
контекст. Как писал Деррида, тексты функционируют в отсутствие их автора и их можно
понять путем изучения самого текста. Знаменитое резюме этого взгляда содержится
во второй части книги Деррида «О грамматологии» («De la grammatologie», 1967): «Il n’y
a pas de hors-texte» («Вне текста не существует ничего»). Сторонники данного метода,
включая Хейдена Уайта и Доминика Лакапру, широко известны своими реконструкциями
«ментального климата» различных эпох, расширением круга источников, на которые
опираются интеллектуальные историки, и использованием методов, заимствованных
у постструктурализма и литературоведения
51
. Одним из следствий такого подхода стал фокус
на восприятии и трансформации идей, исходящий из утверждения, что история самого
текста – нечто намного большее, чем история намерений, которыми руководствовался автор
при его написании. Историческое понимание идей требует рассмотрения текста в его
культурном контексте и изучения истории его публикации и культурного влияния.
Интеллектуальная история подобного рода весьма близка к культурной истории с ее
акцентом на использовании методов общественных наук для понимания прошлого.
Интеллектуальная история, признавшая то, что иногда называют «культурным поворотом»,
занимается символами, практиками, дискурсами и объектами. Лакапра в своей книге
«История и ее пределы: человек, животное, насилие» («History and Its Limits: Human, Animal,
Violence», 2009) показывает, что по мере своего распространения интеллектуальная история
все настойчивее обращалась к социальным и политическим вопросам, включая проблемы
религии, расы, колониализма и сексуальности, считавшиеся прежними поколениями ученых
маргинальными. Среди прочего, это привело к превращению истории книги и социальной
истории идей в важные исследовательские области. Попытки сформулировать такой подход
48 Palonen K. Towards a History of Parliamentary Concepts // Parliaments, Estates and Representation. 2012.
Vol. 32. No 2. P. 123–138.
49 The European Conceptual History Project (ECHP): Mission Statement // Contributions to the History of Concepts.
2011. Vol. 6. P. 111 –116. См. также: Käsitteet liikkeessä. Suomen poliittisen kulttuurin käsitehistoria [Концепции
в движении. Концептуальная история финской политической культуры] / Ed. M. Hyvärinen, J. Kurunmäki, K.
Palonen, T. Pulkkinen, H. Stenius. Tampere, 2003; Hampsher- Monk I., Tilmans K., van Vre F. History of Concepts:
Comparative Perspectives. Amsterdam, 1998.
50 В особенности см. работы Мелвина Рихтера: Richter M. The History of Political and Social Concepts.
A Critical Introduction. New York; Oxford, 1995; Idem. A German Version of the «Linguistic Turn»; Reinhart
Koselleck and the History of Political and Social Concepts (Begriffsgeschichte) // The History of Political Thought
in National Context / Ed. by D. Castiglione, I. Hampsher-Monk. Cambridge, 2001. P. 58–79; Idem. Towards a Lexicon
of European Political and Legal Concepts: A Comparison of Begriffsgeschichte and the «Cambridge School» // Critical
Review of International Political and Social Philosophy. 2003. Vol. 6 . No 2. P. 91–120.
51 White H. The Fiction of Narrative: Essays on History, Literature, and Theory, 1957–2007 / Ed. by R. Doran.
Baltimore, MD, 2010; LaCapra D. Tropisms of Intellectual History // Rethinking History. 2004. Vol. 8 . No 4. P. 499–
529; Chartier R. Intellectual History or Sociocultural History? The French Trajectories // Modern European Intellectual
History. Reappraisals and New Perspectives / Ed. by D. LaCapra, S. L . Kaplan. Ithaca, 1982. P. 13–46.
28
к изучению прошлого, который бы примирил социологов, политологов и экономистов
с интеллектуальными историками, продолжается. Один из недавних примеров – «Логика
истории: социальная теория и социальные изменения» Уильяма Г. Сьюэлла («Logics
of History: Social Theory and Social Transformation», 2005). Однако есть опасность, что акцент
на культурном контексте делается в ущерб анализу содержания самих текстов, и этот
недостаток по-прежнему свойственен работам данного направления.
Пожалуй, наиболее влиятельные труды в этой области принадлежат перу
ученого-энциклопедиста Мишеля Фуко, в 1969–1984 гг. занимавшего должность профессора
на кафедре истории систем мысли в Коллеж де Франс. В своих ранних произведениях –
«История безумия в классическую эпоху» (1961) и «Рождение клиники» (1963) – Фуко
нападал на лицемерные интерпретации истории психологии, подававшиеся их авторами
как исследования рациональных подходов к лечению «психически нездоровых» людей, а по
мнению Фуко, описывающие способы контролировать тех, кто бросал вызов буржуазной
морали. Впоследствии Фуко разработал собственную философию изучения исторических
идей, иллюстрацией которой служит написанная им история общественных наук «Слова
и вещи» (первое издание – «Les Mots et les Choses», 1966) и которая получает обоснование
в качестве «археологического метода» в «Археологии знания» («L’archéologie du savoir»,
1969). В истории выявляются систематические знания по конкретным предметам, которые
Фуко называет «эпистемами» или дискурсивными формациями. Они подчиняются правилам,
которые работают в подсознании у исторических акторов и предстают как взаимосвязанные
понятия, определяющие существо идей и их границы. Диапазон идей, соответствующих этим
понятиям, является предустановленным. Исторические акторы не в состоянии представить
себе альтернативного будущего, не вписывающегося в эти рамки. Если археология выявляет
взаимосвязанные исторические понятия, то при использовании генеалогического метода
выясняется, что такие концепты подчиняются случайным и иррациональным факторам,
а вовсе не рациональным агентам, вносящим вклад в непрерывное развитие гуманитарной
науки, призванной решать социальные проблемы. По сути, история идей превратилась
в «систему репрезентаций, сквозь которую мы видим мир» и в которой не существует
единого субъекта, в котором можно было бы опознать проводника смысла.
Возможности метода Фуко подчеркивает его книга «Надзирать и наказывать»
(«Surveiller et punir», 1975). В ней Фуко обрисовывает процесс замены пыток и казней
как способа обуздать преступников современными методами социального контроля. По его
словам, их можно встретить в нынешних тюрьмах, школах и больницах, и основываются они
на принципах наблюдения и нормализации. Английский философ XVIII в. Иеремия Бентам
выдвинул проект тюрьмы «Паноптикон», способной «переделать негодяев в честных людей
и лентяев в трудолюбивых»
52
.
Главной ее особенностью стало наличие наблюдательного
пункта, позволявшего следить за всеми заключенными, причем сами они находились
в отдельных камерах и не видели друг друга. Согласно Фуко, такое устройство позволяло
предотвращать аномальное поведение посредством системы наказаний и поощрений
и послужило образцом для сегодняшних социальных организаций. Если в прошлом знания
могли быть орудием власти, то в современном мире индивиды подвергаются проверке
и оценке, цель которых – удостовериться, что то, что люди считают знанием, совпадает
с практиками, на которые опирается социальный контроль. Подобное состояние вещей, как и
вся история, стало результатом случайностей, а вовсе не исполнения какого-то грандиозного
плана по подчинению человечества группе лиц, проводящих его в жизнь. В последние годы
жизни Фуко прославился применением своего генеалогического метода к истории
сексуальности
53
.
52 Письмо Иеремии Бентама Жаку Пьеру Бриссо де Варвиллю, от 25 ноября 1791 г.: The Correspondence
of Jeremy Bentham: October 1788 to December 1793 / Ed. by A. T. Milne. 12 vols. London, 1968–2006. Vol. IV.
P. 341–342 (Letter 821).
53 Dreyfus H. L., Rabinow P. Michel Foucault: Beyond Structuralism and Hermeneutics. Chicago, 1983; MacIntyre
A. Three Rival Versions of Moral Enquiry: Encyclopaedia, Genealogy, and Tradition. Notre Dame, IN, 1990.
29
Большинство опубликованных работ Фуко стали классикой. Влияние его трудов
в особенной степени проявилось в том, что они послужили стимулом к исследованиям
в сфере интеллектуальной истории науки, не в последнюю очередь потому, что в его идеях
об эпистемах, управляющих процессом приобретения знаний и их восприятия, можно
усмотреть сходство с парадигмами, о которых пишет Томас Кун в «Структуре научных
революций» (1962). Вместе с тем интерес к Фуко был дополнительно подогрет публикацией
его лекций в Коллеж де Франс, освещавших, в числе прочего, историю политической мысли
и международных отношений
54
. Впрочем, генеалогический анализ Фуко подвергался критике
на том основании, что сам он не придерживался провозглашенного им метода
децентрализации субъекта. Фуко обвиняли в одержимости прерывностью и в создании
археологии знания, каждый аспект которой мог быть подвергнут сомнению. Кроме того,
с точки зрения других критиков, он не сумел определить цель своих исследований, когда
подчеркивал, что, хотя современный мир следует оценивать с генеалогической точки зрения,
этот метод никогда не приведет к реформам и социальным улучшениям
55
. Достижения Фуко
в том, что касается расширения диапазона интеллектуально-исторических разысканий,
бесспорны. Его трудами вдохновлялись авторы целого ряда работ по истории идей,
посвященных вопросам гендера, идентичности, власти и науки, включая, например,
«Ориентализм» Эдварда Саида («Orientalism», 1978) и «Укрощение случайности» Яна
Хакинга («The Taming of Chance», 1990)56
.
Иной подход к изучению исторических текстов предложил Лео Штраус. В своей работе
«Гонения и искусство письма» («Persecution and the Art of Writing», 1952) он утверждал, что
при тщательном изучении произведений крупнейших авторов обнаруживается, что зачастую
они писали эзотерически, то есть скрывали подлинный смысл, который пытались донести
до столь же образованных ученых, за преднамеренными темнотами и противоречиями. Страх
перед гонениями вынуждал авторов писать так, что массовый читатель видел в их
произведениях один смысл, а представители философски подкованной, утонченной элиты –
совершенно другой. Штраус был убежден, что именно так устроены сочинения Маймонида
и Спинозы, которые на первый взгляд утверждали, что разум и божественное откровение
можно примирить друг с другом, но в реальности придерживались противоположной точки
зрения. По сути, они вели речь о том, что Штраус называл «теологически-политической
проблемой модерна», столкновением «Иерусалима с Афинами» или конфликтом древних
и новых, проистекавшим из попытки построить светский мир на основе разделения теологии
и политики в раннее Новое время. Этот процесс начался с попытки возведения знаний
в статус науки или теории, в конечном счете безуспешной, что привело к утрате всякого
доверия миру – к ситуации, когда все знания стали относительными, будучи чисто
историческими или опирающимися на здравый смысл. По мнению Штрауса, этот сюжет
можно проследить от Гоббса с его пренебрежением к донаучным знаниям до позднейшего
философского релятивизма, из-за которого Мартин Хайдеггер в 1933 г. стал нацистским
ректором Фрайбургского университета
57
.
Решение проблемы заключалось не в возвращении к вере в откровение или в некоей
54 Foucault M. Security, Territory, Population: Lectures at the Collège de France, 1977–1978. London, 2007.
55 Habermas J. Modernity versus Postmodernity // New German Critique. Vol. 22 (1981). P. 3 –14; Martin B.
Feminism, Criticism and Foucault // New German Critique. 1982. Vol. 27. P. 3 –30; Merquior J. G. Foucault. London,
1985; Macey D. The Lives of Michel Foucault. London, 1993; Miller J. The Passion of Michel Foucault. London, 1993;
Lilla M. The Reckless Mind: Intellectuals in Politics. New York, 2003.
56 Hollinger D. A . The Disciplines and the Identity Debates, 1970–1995 // Daedalus. 1997. Vol. 126. P. 333 –351.
57 Ward J. F. Political Philosophy and History: The Links between Strauss and Heidegger // Polity. 1987. Vol. 20.
No 2. P. 273–295.
30
политической теологии в духе Карла Шмитта, а скорее в признании вклада, внесенного
мыслителями прежних времен в осмысление этой великой дилеммы современности. Штраус
вслед за Лавджоем предпочитал термин «история идей» и утверждал, что понимание
современной политики невозможно без рассмотрения идей в историческом разрезе
58
.
Увлекательность и значимость трудам Штрауса придает именно проведение прямой связи
между историческими штудиями и пониманием современного мира, если и не решением его
проблем. В частности, по этой причине у Штрауса нашлось множество последователей,
применявших его метод к различным сферам политической, философской и литературной
мысли
59
. Но это же дало повод для громких заявлений о том, что якобы именно Штраус стоял
за правым поворотом в американской политике с 1980-х гг. Утверждалось, что под влиянием
Штрауса его ученики сформулировали неоконсервативную философию, осуждающую
либерализм и плюрализм, обратились к религии как к опоре популистского национализма
и навязчиво толкуют о кризисе как об определяющей черте современной политики. Знания,
о которых говорят Штраус и его сторонники – а у этой секты есть несколько ответвлений, –
назывались «закулисным пропуском в империалистический разум Америки»
60
.
Штраус и его соратники также навлекли на себя критику – их оппонентами были
поставлена под сомнение не только оправданность поиска в литературе признаков
эзотеризма, но и, в тех случаях, когда соответствующие формы письма были найдены,
важность этих текстов для объяснения специфики политической мысли раннего и позднего
Нового времени
61
. Одной из проблем является заведомо неокончательный характер анализа
эзотерических текстов, затрудняющий сравнительную оценку убедительности различных
интерпретаций. В качестве примера можно указать, что Штраус, будучи критиком
либерализма, в 1930-х гг. сам прибегал к эзотерическому письму в своих посланиях Карлу
Шмитту, на основании чего делается спорный вывод о том, что интересом Штрауса
к взглядам Шмитта сегодня можно оправдать изучение работ последнего, вопреки тому, что
он поддерживал национал-социализм
62
.
Безусловно, трудно говорить, скажем, о значении
нумерологии Макиавелли, основанной на числе 13 и кратных ему величинах, или о смысле
отмеченного читателями Штрауса факта, что написанная им самим глава о «Государе»
делится на 26 параграфов
63
.
Подход Штрауса способен служить основой для критики
Макиавелли и макиавеллизма, но из-за акцента на эзотерике любые его выводы становятся
неоднозначными. Про Штрауса можно сказать, что в какой-то мере он был самым
влиятельным историком идей в последние десятилетия, однако в то же время его метод, как и
то, что он хотел сказать, остается спорным; впрочем, не исключено, что именно к этому он
в первую очередь и стремился. В глазах некоторых своих сторонников Штраус, которого
левые клеймили как «учителя зла», был скорее другом либеральной демократии, но в высшей
степени осведомленным, отчасти из-за своего иудаизма, о стоявших перед ней
58 Strauss L. What is Political Philosophy and Other Studies. Chicago, 1988. P. 74 (первое издание – 1959 г.) .
59 Lampert L. The Enduring Importance of Leo Strauss. Chicago, 2013.
60 Drury S. B . Leo Strauss and the American Right. New York, 1997; Norton A. Leo Strauss and the Politics
of American Empire. New Haven, 2004.
61 Pocock J. G. A. Prophet and Inquisitor: Or, a Church Built upon Bayonets Cannot Stand: A Comment
on Mansfield’s «Strauss’s Machiavelli» // Political Theory. 1975. Vol. 3 . No 4. P. 385 –401; Howse R. L . Reading
Between the Lines: Exotericism, Esotericism, and the Philosophical Rhetoric of Leo Strauss // Philosophy and Rhetoric.
1999. Vol. 32. P. 60–77; Blau A. Anti-Strauss // The Journal of Politics. 2012. Vol. 74. No 1. P. 142 –155.
62 Meier H. Carl Schmitt and Leo Strauss: The Hidden Dialogue / Transl. by J. Harvey Lomax. Chicago, 1995;
Howse R. L. From Legitimacy to Dictatorship and Back Again: Leo Strauss’s Critique of the Anti-Liberalism of Carl
Schmitt // Law as Politics: Carl Schmitt’s Critique of Liberalism / Ed. by D. Dyzenhaus. Durham, 1998. P. 56 –90 .
63 Strauss L. Thoughts on Machiavelli. Chicago, 1958. P. 54–84.
31
релятивистских и нигилистических вызовах
64
.
Дискуссия о Штраусе и его наследии
порождает все новые и новые исследования; последние годы отмечены появлением
превосходных обзоров этой области
65
.
Наконец, последний метод, который будет здесь описан, – это лингвистический
контекстуализм. Для того чтобы разобраться в сути данного подхода, следует вернуться
к «Идее истории» Р. Дж. Коллингвуда и его представлению о том, что прошлое невозможно
понять, изучая только то, что он называл «внешней стороной» событий, – факты о телах и их
движениях. Помимо этого, он считал необходимым описывать «внутреннюю сторону»
действий или взаимосвязь между поступком и тем, что впоследствии было названо его
идеологическим контекстом. Знаменитый пример, который приводит Коллингвуд, – это
убийство Юлия Цезаря. Можно сказать, что в мартовские иды на Цезаря напали около театра
Помпея, упомянуть о кинжалах, вонзившихся в его тело, о потоках хлынувшей из него крови.
Однако же все это не объяснит причин случившегося. Если мы хотим понять, почему Цезарь
был убит, то должны знать, что происходило в голове у него самого и у его врагов Гая Кассия
Лонгина и Марка Юния Брута. Цезарь был убит, поскольку незадолго до того был
провозглашен вечным диктатором (dictator perpetuo). В нем видели тирана и проводника
политических идей, противоречивших представлениям убийц о природе Римской республики
и ее государственного устройства. Короче говоря, для любого акта понимания истории
необходима реконструкция идей, изложенных политическими акторами. Как впоследствии
выразился Квентин Скиннер, Коллингвуд показал, «что историю мысли следует
рассматривать не как ряд попыток найти ответ на стандартный набор вопросов, а как
последовательность эпизодов, в которой вопросы, как и ответы, нередко менялись»
66
.
Через три года после публикации книги Коллингвуда Питер Ласлетт издал сборник
политических произведений Роберта Филмера, жившего в XVII в. защитника божественного
права монархов. Следующие годы Ласлетт посвятил осуществлению монументального
проекта – критического издания «Двух трактатов о правлении» Джона Локка, вышедшего
в 1960 г. Ласлетт стремился определить точное время написания текстов Филмера и Локка.
На основе сведений, содержащихся в переписке и свидетельствах современников, он
выяснил, что трактат Филмера «О патриархе» («Patriarcha») был создан ранее других его
произведений, но вышел из печати лишь после смерти автора, в 1679–1680 гг. Что касается
классического труда Локка в области политической мысли, впервые изданного в 1690 г., то
его традиционно интерпретировали как решительное выступление в защиту «Славной
революции» 1688–1689 гг. Однако Ласлетт показал, что «Два трактата» были написаны около
1681 г.,
в пору, когда виги, разделявшие точку зрения Локка, замышляли расправу
над династией Стюартов. В своем издании Локка Ласлетт поставил перед историками
вопросы, касающиеся взаимосвязи между намерениями автора, воплощенными
при сочинении того или иного текста, и целью его публикации, и это привело
к полномасштабной переоценке политической мысли конца XVII в. Требование Коллингвуда,
чтобы историки рассматривали идеи исторических акторов в контексте их эпохи, и призыв
Ласлетта реконструировать намерения автора на основе данных, содержащихся в его текстах,
привели к становлению движения, которое впоследствии получило название Кембриджская
школа, опиравшегося на сформулированный Коллингвудом и Ласлеттом новый метод
исторических исследований. Следом в свет вышли серьезные работы, посвященные
64 Zuckert C., Zuckert M. The Truth About Leo Strauss. Political Philosophy and American Democracy. Chicago,
2006.
65 Pangle T. L. Leo Strauss. An Introduction to his Thought and Intellectual Legacy. Baltimore, 2006; Tanguay D.
Leo Strauss: An Intellectual Biography. New Haven, 2007.
66 Skinner Q. A Reply to My Critics // Meaning and Context: Quentin Skinner and his Critics / Ed. by J. Tully.
Cambridge, 1983. P. 234 (Скиннер К. Ответ моим критикам // Кембриджская школа: теория и практика
интеллектуальной истории / Сост. Т. Атнашев, М. Велижев. М., 2018. С . 253; пер. с англ. Т. Пирусской).
32
реинтерпретации политической мысли раннего и зрелого Нового времени, например труды
Джона Покока, Кэролайн Роббинс («Человек Содружества XVIII в.», «The Eighteenth-Century
Commonwealthman», 1959), Феликса Гилберта («Макиавелли и Гвиччардини: политика
и история во Флоренции XVI в.», «Machiavelli and Guicciardini: Politics and History
in Sixteenth-Century Florence», 1965), Джона Барроу («Эволюция и общество», «Evolution
and Society», 1966) и Бернарда Бейлина («Идеологические истоки Американской
революции», «The Ideological Origins of American Revolution», 1967). Особенно влиятельной
стала монография Покока «Древняя конституция и феодальное право» («The Ancient
Constitution and the Feudal Law»). Покок подчеркивал, сколько препятствий возникало перед
английскими юристами, приверженными идее обычного права и конституции, восходящих
к незапамятным временам, в их исторических изысканиях в сравнении с их французскими
коллегами. Английские правоведы XVI и XVII вв. были одержимы историей, но их подход
к прошлому по сути являлся антиисторичным. Что касается французов, таких
как монархоборец Франсуа Отман, чей трактат по феодальному землевладению («De Feudis»)
вышел в 1572 г., то контраст между наследием римского права и традиционным правом
французских провинций облегчал им сравнительное изучение законов разного времени.
Покок описывает революцию, последовавшую за изданием «Glossarium Archaeologicum»
сэра Генри Спелмена (1626), который в своем труде прослеживает историю расцвета и упадка
феодального землевладения. В свою очередь, этот текст способствовал появлению новых
видов политического мышления, нашедших отражение в труде Джеймса Харрингтона
«Республика Океания» («Oceana», 1656), где собственность на землю определяет
функционирование политических структур. Показывая, что в раннее Новое время отношение
к прошлому как формировало, так и ограничивало политическое теоретизирование, Покок
самым тщательным образом иллюстрирует факт появления в ту эпоху новых разновидностей
исторической науки
67
.
Покок, Роббинс, Барроу, Бейлин и их современники делали упор на прерывности,
непреднамеренных последствиях, трагических неудачах и забытых традициях политических
дискуссий. Они изучали «второстепенные» фигуры и использовали их труды для прояснения
малоизвестных элементов мысли ученых, чьи труды традиционно считаются каноническими.
Кроме того, они выступали против всеобъемлющих нарративов или против интерпретаций,
создатели которых вдохновлялись философским подходом к истории, особенно воззрениями
Карла Маркса. Разносу подверглась и вигская историография. По иронии судьбы в число
вигов был включен и Артур Лавджой, недвусмысленно выступавший против
телеологических подходов. Оппозиция Марксу и марксизму явно вдохновляла многих
интеллектуальных историков. Они отвергали более грубые формы марксизма, в которых идеи
объявлялись производным материальных сил и как таковые могли быть проигнорированы:
именно такой метод долгое время господствовал в историографии Французской революции.
Интеллектуальные историки также критиковали более тонкую трактовку идей
как производного экономических процессов, встречающуюся, например, у Эрика Хобсбаума.
Важно понимать, как утверждал Дж. Г. Эллиотт, что «в период после Второй мировой войны
доминировали экономические и социальные интерпретации прошлого, вплоть до того, что
даже противник марксизма Хью Тревор-Ропер строил свой ответ [в статье, в которой он
возражал Хобсбауму, писавшему о «всеобщем кризисе» XVII в.] в той же самой системе
координат»
68
.
Квентин Скиннер также отмечал, что главной задачей его ранних
методологических работ являлась борьба с господствующими марксистскими подходами
к изучению идей
69
.
Другие интеллектуальные историки вели поединок с Марксом иначе,
67 Pocock J. G. A. The Ancient Constitution and the Feudal Law: A Study of English Historical Thought in the
Seventeenth Century: A Reissue with a Retrospect. Cambridge, 1959 (второе издание – 1987 г.) .
68 Elliott J. H. History in the Making. New Haven, 2012. P. 64.
69 Skinner Q. Quentin Skinner on Meaning and Method // The Art of Theory: Conversations in Political Philosophy:
«К моему разочарованию, никто толком не понял, что именно из всего, что я пытался сказать, было для меня
33
штудируя
его
работы
в поисках
того,
что
могло
оказаться
полезным
с интеллектуально-исторической точки зрения. Этот принцип характерен для Франко
Вентури, чей пятитомный труд «XVIII век – эпоха реформ» («Il Settecento riformatore»)
издавался в 1969–1990 гг. Английские читатели могут судить о достоинствах работ Вентури,
посвященных историческим идеям XVIII столетия и последующих эпох, по его лекциям,
прочитанным в Кембридже и изданным под названием «Утопия и реформы в век
Просвещения» («Utopia and Reform in the Enlightenment», 1971)70
.
Многочисленные
итальянские сотрудники Вентури и его последователи – Джузеппе Джарриццо, Фурио Диаза,
Джироламо Имбрульи, Эдоардо Тортароло и Мануэла Альбертоне – подчеркивали, что
интеллектуальная история – предмет, закрепляющий междисциплинарный подход и тем
самым позволяющий исследователям рассматривать исторические проблемы в глобальной
перспективе
71
.
Кроме того, они делали акцент на значимости участия в практической
политике, что отличало итальянских ученых от многих их британских коллег
72
.
Начиная с 1970-х сторонники лингвистического контекстуализма захватили главенство
в интеллектуальной истории. Их начинания завершились успехом, поскольку появилось
целое поколение исследователей, уверенно называвших себя интеллектуальными
историками, создававших профессиональные ассоциации и получавших научные должности
в этой области. В 1962–1969 гг. в защиту лингвистического контекстуализма выступили Джон
Покок, Джон Данн и Квентин Скиннер, в то время связанные с Кембриджским
университетом
73
. Согласно известным словам Блэра Уордена, они превратили Кембриджский
университет «одновременно и в источник вдохновения, и в фабрику революции»
74
.
Их
методологические сочинения стали рассматриваться как источники классических
утверждений о практике интеллектуальной истории.
И Покок, и Данн, и Скиннер считали, что всякий текст необходимо трактовать
как порождение особого исторического контекста, под которым они
понимали
идеологический контекст, сформировавшийся в процессе языковой деятельности.
При анализе текстов Данн и Скиннер делают упор на выявление авторского намерения
в качестве главного ключа к пониманию индивидуальной специфики текста, хотя это
вызывает вопросы в плане постановки исследовательской задачи, а также сомнения
в адекватности понимания написанного автором. Напротив, Покок в тот момент ставил
самой важной вещью или по крайней мере самым большим новшеством: я имею в виду, что моим намерением
была критика
крайне
распространенных
вто
время
марксистских
теорий
идеологии»
(http://www.artoftheory.com/quentin-skinner-on-meaning-and-method/).
70 О Вентури и его влиянии см.: L’idea di repubblica nella riflessione storica di Franco Venturi / A cura di M.
Albertone. Napoli, 2006.
71 Giarrizzo G. David Hume politico e storico. Torino, 1962; Diaz F. Dal movimento dei lumi al movimento dei
popoli. L’Europa tra illuminismo e rivoluzione. Bologna, 1986; Imbruglia G. L’invenzione del Paraguay: Studio
sull’idea di comunità tra Seicento e Settecento. Napoli, 1987; Tortarolo E. Philip Mazzei: An Italian in the Creation
of the United States. Boston, 1988; Albertone M. National Identity and the Agrarian Republic: The Transatlantic
Commerce of Ideas between America and France (1750–1830). Farnham, 2014.
72 Venturi F. Comunismo e Socialismo. Storia di un’idea / A cura di M. Albertone, D. Steila, E. Tortarolo, A. Venturi.
Torino, 2015.
73 Pocock J. G. A. The History of Political Thought: A Methodological Enquiry // Philosophy, Politics and Society.
2nd ser. / Ed. by P. Laslett, W. G. Runciman. New York, 1962. P. 183–202; Dunn J. The Identity of the History
of Ideas // Philosophy. 1968. Vol. 43. P. 85 –104; Skinner Q. Meaning and Understanding in the History of Ideas //
History and Theory. 1969. Vol. 8 . P. 3 –53 (рус. пер.: Скиннер К. Значение и понимание в истории идей //
Кембриджская школа: теория и практика интеллектуальной истории. С . 53 –122).
74 Worden B. Factory of the Revolution: review of Quentin Skinner ’s Liberty before Liberalism // London Review
of Books. 1998. Vol. 20. No 3 . P. 13–15.
34
на первое место не намерения, а парадигмы
75
. Скиннер отмечал, что цель историка – изучить,
«что же делал» автор конкретного текста, то есть выяснить, что данный автор намеревался
сделать, и оценить, что ему удалось сделать исходя из реакции других авторов. Об одном
из ожидаемых последствий такого метода сигнализировало первоначальное название статьи
Скиннера: «О незначительности великих текстов для истории политической мысли»
76
. Одно
из самых принципиальных положений Покока, Данна и Скиннера, на которое в первую
очередь делал упор Покок во всех своих методологических работах, заключалось в том, что
пределы аргументации задает язык или дискурс, в рамках которого работает автор, то есть
набор допущений, взятых им на вооружение и используемых при формулировании своих
аргументов. Язык или дискурс включает в себя грамматику и риторику, а также сложно
структурированный набор допущений, касающихся использования и понимания идей.
Авторы, живущие в языковых сообществах, способны обновлять и изменять существующий
язык, и задача исследователя состоит именно в поиске инноваций, поскольку через них
в существующих языках проговаривается происходящее в идеологическом и материальном
настоящем. Все три исследователя выступали против подходов, опирающихся
на презумпцию неизменности понятий, используемых в историческом анализе, против
любых метатеоретических рассуждений о человеческой природе и против использования
непроясненной или внеисторической терминологии.
С точки зрения этого братства историков, одна из целей, стоявших за попытками
анализировать высказывания в политических текстах как «речевые акты», заключалась в их
уподоблении «актам», которые изучают коллеги-историки. Так, в глазах Покока исследование
социального поведения вмещало в себя изучение языков дискуссий различных эпох –
например, дебатов о древней конституции в Англии XVII в.
77
Сообщаясь друг с другом
посредством речевых актов, индивиды при формулировании аргументов опираются
на доступные им существующие языковые традиции. При этом язык, по мнению Покока,
приобретает структуру, нередко именуемую дискурсом, в которой аргументы состоят
из серии речевых актов, совершенных индивидами в тех или иных социальных
и исторических контекстах. Речевые акты подтверждают или видоизменяют дискурсы
или парадигмы, внутри которых они осуществляются, делая это в одних случаях
преднамеренно и явно, а в других случаях – непреднамеренно и неявно
78
.
Историку в ходе
своей работы нужно заниматься поиском парадигм или дискурсов, оставивших след
в истории, таких как республиканизм, подпитывавший политическую аргументацию
по всему атлантическому миру в эпоху раннего Нового времени, и – в XVIII в. –
не менее
значимые выступления в защиту древнего конституционализма или историографии
Просвещения в ее арминианском, англиканском и вольтерьянском изводах
79
.
75 Pocock J. G. A. Politics, Language and Time: Essays on Political Thought and History. Chicago, 1971. P. 25.
76 Koikkalainen P., Syrjämäki S. Quentin Skinner. On Encountering the Past // Finnish Yearbook of Political
Thought. 2002. Vol. 6 . P. 34–63 .
77 Pocock J. G. A . The History of Political Thought: A Methodological Inquiry // Pocock J. G. A. Political Thought
and History: Essays on Theory and Method. Cambridge, 2009. P. 3 –19; Idem. The Reconstruction of Discourse:
Towards the Historiography of Political Thought // Ibid. P. 67–86 .
78 Pocock J. G. A . Languages and Their Implications: The Transformation of the Study of Political Thought // Idem.
Politics, Language and Time: Essays on Political Thought and History / Reprint. ed. Chicago, 1989. P. 3–41; Idem.
On the Non-Revolutionary Character of Paradigms: A Self-Criticism and Afterpiece // Ibid. P. 273–291.
79 Pocock J. G. A. The Machiavellian Moment: Florentine Political Thought and the Atlantic Republican Tradition.
Princeton, 1975 (второе издание – 2003 г.) (рус. пер.: Покок Дж. Г. А . Момент Макиавелли / Пер. с англ. Т.
Пирусской под общ. ред. Т. Атнашева и М. Велижева. М., 2020); Idem. Barbarism and Religion. Volume Two:
Narratives of Civil Government. Cambridge, 1999; Idem. Barbarism and Religion. Volume Three: The First Decline
and Fall. Cambridge, 2003.
35
Принципиальный момент заключается в том, что подобные парадигмы обретают
значимость по мере их употребления, навязывают историческим акторам конкретный образ
мысли. Можно показать, как они эволюционируют и видоизменяются в различных
обстоятельствах, а порой разрушаются и уходят. Становление и почти полное исчезновение
ряда парадигм рассматривалось в работах Покока. По его мнению, исследователь, который
воспользуется этим методом, обнаружит множество обоснований, применявшихся
для защиты конкретных политических стратегий. Он поймет, что в каждый конкретный
момент времени исторические акторы усматривали смысл и соответствующим образом
оценивали целый ряд таких обоснований, нередко противоречивших друг другу. Все это учит
историка благоразумию и осторожности. История превращается в изучение того,
как принимаются решения в обстоятельствах, когда нет черного и белого. Необходимость
пропадает из истории, становящейся последовательностью случайных развилок, каждая
из которых могла быть пройдена иначе. Благоразумие требует от историка проводить
различие между задающими тон идеологическими традициями или языками, на которые
опирались
авторы,
формулируя
свои
идеи,
и конкретными
высказываниями,
представляющими собой утверждения или аргументы. Покок разделяет «langue» и «parole»,
«язык» и «речь» и ссылается на это различение во всех своих исследованиях
80
.
Самой воинственной из всех работ, обосновывающих новую практику, была,
несомненно, статья Скиннера «Значение и понимание в истории идей» (1969). В ней
наиболее четко назывались противники и особенно решительно осуждались описания
классических текстов как «единственного объекта исследований» и вклада в копилку
«вневременной мудрости». Скиннер обрушивался с критикой на склонность усматривать
прямые связи между каноническими авторами, якобы предопределившими облик
существующих по сей день политических философий. Он утверждал, что историки
политической мысли приписывают авторам былых эпох понятия, которые были для них
недоступны (грех анахронизма). Они выискивают в сочинениях авторов прошлого примеры
предвосхищения утверждений более поздних эпох, которых в изучаемых ими текстах
на самом деле нет (грех пролепсиса). Скиннер требовал, чтобы содержащиеся в текстах
аргументы рассматривались как совершенные в истории действия. Такие аргументы не могут
не быть связаны с дискурсами соответствующей эпохи, равно как и с лингвистическим
контекстом. В итоге конкретный довод можно рассматривать как подтверждающий либо
опровергающий аргументацию людей, чьи произведения должны были быть известны
данному автору. Одной из целей Скиннера в «Значении и понимании...» являлась
историзация политических философий прошлого. Рекомендации, вытекающие из подобного
метода, заслуживают более подробного анализа.
Глава 3
Метод интеллектуальной истории
Работу Квентина Скиннера «Значение и понимание в истории идей» порой называют
манифестом Кембриджской школы. Ее влияние оказалось особенно сильным. Хотя
методологическая статья Джона Покока вышла шестью годами раньше статьи Скиннера, а за
год до нее в печати появилась статья Джона Данна, из этих трех работ именно текст
Скиннера оказался самым напористым и убедительным. К тому же он был наиболее
понятным: Скиннер четко заявил, что необходим новый метод изучения идей прошлого, дабы
80 Pocock J. G. A. The State of the Art // Idem. Virtue, Commerce, and History: Essays on Political Thought
and History, Chiefly in the Eighteenth Century. Cambridge, 1985. P. 1–33 (рус. пер.: Покок Дж. Г. А . The State of the
Art (Введение к книге «Добродетель, торговля и история») // Кембриджская школа: теория и практика
интеллектуальной истории. C . 142–188); Idem. The Concept of a Language and the Métier d’Historien: Some
Considerations on Practice // The Languages of Political Theory in Early-Modern Europe / Ed. by A. Pagden.
Cambridge, 1987. P. 19–38 .
36
положить конец тому ужасу, который, по его мнению, творился в этой сфере в предыдущие
десятилетия. О том, насколько спорной являлась данная статья, можно судить по тому, что ее
отвергли несколько журналов – по этой причине Скиннер чуть не отказался от ее
публикации
81
.
В «Значении и понимании...» Скиннер указывает, что находится в особом
долгу перед Данном, несколько раз упоминает работу Покока и отмечает, что получал от него
замечания еще до публикации своей статьи (так же как и от Джона Барроу, Мориса
Мандельбаума – в то время профессора истории в Университете Джонса Хопкинса,
экономиста Фрэнка Хана, Майкла Блэка из издательства Cambridge University Press
и специалиста по американской истории XX в. Джона Э. Томпсона). В свою очередь, статью
Данна, гораздо менее внятную и в гораздо большей степени насыщенную аргументами,
комментировали сам Скиннер и Питер Ласлетт. Существование группы, спаянной единой
миссией, становилось очевидным. Как выразился Покок, появление первых статей Скиннера
еще в 1964 г. «заложило основы нашего союза с другими коллегами, который, кажется, ничто
не в состоянии поколебать»
82
. Как впоследствии подчеркивал Скиннер, признавая свой долг
перед теоретическими работами Данна и Покока, сам он никогда не чувствовал, что говорит
нечто новое, но в то же время, по его словам, «пытался выявить и сформулировать в более
абстрактных терминах теоретические предпосылки, на которые, как мне казалось, опирались
Покок и в особенности Ласлетт»
83
.
Преемственность очевидна, однако Скиннер проявляет
излишнюю скромность. Хотя он переформулировал некоторые из своих аргументов, снял
часть своих критических высказываний и опубликовал статью в новой, существенно
пересмотренной редакции, вариант 1969 г. остается классическим, не переставая вдохновлять
других авторов. Этот текст по-прежнему должен входить в список обязательной литературы
для студентов: он продолжает формировать идентичность начинающих интеллектуальных
историков. Поэтому имеет смысл еще раз рассмотреть аргументы Скиннера в их
первоначальном виде, не учитывая внесенных в дальнейшем поправок84
. Кроме того, первому
варианту статьи присущ дух задора и самоуверенности, характерный для множества работ
по интеллектуальной истории, вторящих заявлениям Скиннера.
Скиннер начинает свою аргументацию с нападок на два подхода к пониманию
классических текстов. Первый заключается в привязке аргументов, содержащихся в тексте,
к экономическому, социальному или политическому контексту и истолковании идей
в соотнесении с соответствующими факторами. В числе авторов, выступающих за такой
подход, назывался Ф. У. Бейтсон, редактор журнала «Критические опыты» (Essays
in Criticism). Скиннер не говорил, что подобный метод недопустим или не способен принести
пользу при объяснении смысла исторических идей; скорее он имел в виду, что акцент
на контексте не позволит исследователю проникнуть в значение данного текста. Иными
словами, контекст служит лишь второстепенной опорой. Второй ошибочный подход основан
на представлении о том, что ключом к значению текста служит сам текст, и потому
исследователю нужно только снова и снова перечитывать его, дабы понять, что утверждал
автор в тот или иной момент времени. Скиннер указывал, что такой подход приводит
к поиску универсальных идей, из которых складывается «вневременная мудрость».
81 Skinner Q. On the Liberty of the Ancients and the Moderns: A Reply to My Critics // Journal of the History
of Ideas. 2012. Vol. 73. No 1. P. 146.
82 Pocock J. G. A. Foundations and Moments // Rethinking the Foundations of Modern Political Thought / Ed. by A.
Brett, J. Tully. Cambridge, 2006. P. 39 .
83 Skinner Q. A Reply to my Critics. P. 233 (рус. пер.: Скиннер К. Ответ моим критикам. С . 253,
с изменениями).
84 О поправках см.: Skinner Q. Seeing Things Their Way // Idem. Visions of Politics. Vol. 1 . Regarding Method.
Cambridge, 2002. P. 1 –7; критику поправок, внесенных Скиннером, см.: Wootton D. The Hard Look Back // Times
Literary Supplement (04.03 .2003).
37
Исследователи, прибегающие к подобному методу изучения текстов, уверены, что способны
определить великие книги и великих философов и писателей, заслуживающих изучения –
по факту их обращения к «вечным вопросам» и «фундаментальным понятиям». В число
сторонников обсуждаемого подхода записывали множество историков политической мысли,
включая Говарда Уоррендера, Джона Пламенатца, Лео Штрауса и Артура О. Лавджоя, а также
исследователя Античности Дж. Б. Бьюри, прославленного литературного критика Ф. Р.
Ливиса, теоретика международных отношений Ганса Моргентау, немецкого психиатра
и философа Карла Ясперса, философов Бертрана Рассела и Эрнста Кассирера,
литературоведа Аллана Блума и политических теоретиков Алана Райана и Роберта Даля.
Скиннер утверждал, что общее для них исключительное внимание к текстам имело своим
следствием «всевозможные исторические нелепости» и «мифы», поскольку эти
исследователи неизбежно приписывали изучаемым ими авторам такие воззрения, которых те
никак не могли придерживаться. Соответственно, они распространяли мифы, а не
верифицируемые истинные утверждения, к которым можно было бы прийти посредством
строгого исследования.
Скиннер полагал, что речь идет о парадигматическом подходе к истории идей; иными
словами, он описывал серию практик, опиравшихся на общий набор предположений о том,
как нужно писать о прошлом и для чего следует его изучать. Имея это в виду, Скиннер
призывал к смене парадигмы, обрисовывая совершенно иной подход к истории мысли.
Перечитывая «Значение и понимание...», можно ощутить то возбуждение, которое,
без сомнений, испытывал Скиннер, находясь в авангарде такого движения. Он был уверен,
что разъясняет смысл практик, взятых на вооружение группой новаторов, уже работающей
в этой области. Дух нового подхода к старым темам, подразумевавшего неизбежную смену
парадигмы, уже проник в историю искусства – в работы Эрнста Гомбриха (Данн также
положительно отзывался на книгу Гомбриха «Искусство и иллюзия» («Art and Illusion»),
изданную в 1960 г.) и в историю науки – в труды Томаса Куна. Оба автора удостоились
похвал в статье Скиннера.
Более того, отголоски предложенного Куном определения научного сообщества,
привязанного к парадигме, которая включает в себя и теорию, и набор критериев,
позволяющих оценить убедительность новой теории, и переходящего к новой парадигме,
когда в рамках прежней уже не могут быть объяснены возникающие аномалии, можно
увидеть в работах всех интеллектуальных историков 1960-х гг. Как известно, Кун уделял
основное внимание коперниканской революции – смене парадигмы в естествознании, когда
было признано, что центром Солнечной системы является Солнце, а не Земля. В том, что
касается современности, примером парадигмы в куновском смысле объявлялась
эволюционная теория, пришедшая на смену представлениям о божественном замысле,
или креационизму. Работа Куна быстро привела к пересмотру истории науки, чему
способствовали и труды ученых, чьи имена связаны с лондонским Институтом Варбурга:
в этих работах речь шла о важности алхимии, астрологии и магии для трудов таких великих
ученых, как Роберт Бойль и Исаак Ньютон. Очередным подтверждением развития новых
подходов к истории стали сочинения Фрэнсис Йейтс о значении идей, которые впоследствии
стали считаться иррациональными, начиная с ее работы «Джордано Бруно и герметическая
традиция» («Giordano Bruno and the Hermetic Tradition», 1964). Однако представление о том,
что мышление любой эпохи организовано в соответствии с «сочетаниями абсолютных
утверждений», нередко называемыми парадигмами, по мнению Скиннера, своим появлением
было обязано Р. Г. Коллингвуду и его «Эссе о метафизике» («An Essay on Metaphysics», 1940).
И Данн, и Скиннер критически отзывались о Коллингвуде, давая понять, что они не согласны
с многими аспектами его подхода к изучению прошлого. Тем не менее очевидно, что труды
Коллингвуда, влияние которых с точки зрения их вклада в общенаучную сумму знаний
можно заметить в работах самого Ласлетта, оказали на Данна и Скиннера наибольшее
воздействие.
Первая проблема старой парадигмы заключалась в «мифологии доктрин»,
38
по выражению Скиннера. Речь идет о том, что историкам и философам было свойственно
выделять какую-либо современную идею, а затем вести поиск схожих с ней учений
в различных текстах, созданных в другие эпохи. Так, американский философ Алан Гевирт
отыскивал корни идеи о разделении властей в «Защитнике мира» («Defensor pacis»)
Марсилия Падуанского (1324)85
; можно также сослаться на мнение о том, что за судебный
надзор выступал еще Эдвард Кок, юрист времен Якова I, в «Деле доктора Бонэма» (1610),
теорию общественного договора выдвигал Ричард Хукер в трактате «О законах церковного
государства» (1593), а Джон Локк был сторонником народного суверенитета. Скиннер же
указывал, что эти авторы не могли высказываться в поддержку подобным учениям, поскольку
в их распоряжении не было соответствующих идей – они появились позже, в ходе
последующего интеллектуального развития. Одним из негативных следствий убеждения
в том, что родственные друг другу учения могут обнаруживаться в отдаленные друг от друга
исторические эпохи, было утверждение о вкладе великих авторов в соответствующие
дискуссии. Это, в свою очередь, порождало одержимость поиском высказываний,
предвосхищающих положения известных позднейших теорий, с упором на оценку вклада,
внесенного автором этих высказываний в разработку данного набора идей. Предполагалось,
что можно проследить постепенное развитие идей вплоть до обретения ими их нынешней
превосходной формы и в то же время подвергнуть критике авторов прежних эпох,
не сумевших сформулировать идеи так четко, как это удалось их преемникам. Например,
Платона можно отчитать за то, что он не учел значимости общественного мнения, Локка –
за неясность его позиции по вопросу об избирательном праве, Гоббса – за недостаточно
внятно выраженное отношение к христианству. В то же время таких авторов можно было
призвать к ответу, например, по вопросу о том, что они думали о демократии, даже если эта
форма правления, как в случае Марсилия, их решительно не интересовала. Скиннер,
ссылаясь на работы Лео Штрауса и его учеников, возложил на них ответственность за другое
начинание, проистекавшее из общего подхода, а именно – стремление показать, что
современный нравственный релятивизм берет свое начало во взглядах Гоббса и Макиавелли,
как будто их каким-то образом можно было объявить виновными и предать суду за их
взгляды. Скиннер утверждал, что все подобные методы и полученные с их помощью
результаты влекут за собой ошибочные представления об истории и бесплодные научные
предприятия.
Другим следствием изучения одних текстов вне исторического контекста и поисков
интертекстуальных связей, протянувшихся через столетия, стала «мифология системности».
Скиннер имел в виду мысль о том, что произведения великих авторов следует оценивать
по признаку последовательности и глубины разработки великих концептуальных вопросов,
осмыслением которых занимались и другие выдающиеся умы. Этой идее неизменно
сопутствовало побуждение рассматривать мысли данного автора in toto, предполагая, что его
труды, опубликованные в самые разные периоды его жизни и в самых разных
обстоятельствах, вносят свой вклад в осмысление единого комплекса вопросов, составляя
согласованное единство. Опять же, Скиннер как исследователь предъявлял особенно
серьезные претензии Лео Штраусу и его методу. Эзотерический текст чрезвычайно трудно
поддается дешифровке, если даже он и прочитан, то все равно, настаивал Скиннер,
невозможно точно узнать, в чем заключается истинный смысл или внутренняя логика
эзотерического учения, поскольку нет никаких критериев оценки истинности его
содержания. Еще одним результатом использования этого порочного метода была
«мифология пролепсиса», когда значение, приписываемое тому или иному действию
апостериори, подменяет его истинное исходное значение. Сюда относится, например,
утверждение о том, что восхождение Петрарки на гору Венту ознаменовало начало
Ренессанса. Еще один пример из известной работы Карла Поппера и Джейкоба Талмона –
85 Gewirth A. Marsilius of Padua, the Defender of Peace. Marsilius of Padua and Medieval Political Philosophy.
Vol. I . New York, 1951.
39
заявление, что Платон и Руссо в каком-то смысле были ответственны за использование их
идей тоталитарным государством, и оценивать их произведения следует с точки зрения их
вклада в либерализм или в автократию. С точки зрения Скиннера, все это было сплошным
мифом, поскольку ни Платон, ни Руссо не имели и не могли иметь ни малейшего понятия
о последующей истории какой-либо из их идей и, безусловно, не несут никакой
ответственности за их возможное использование в ситуациях, которых они не могли себе
вообразить. Другие случаи – мнение о том, что Макиавелли положил начало современной
эпохе политических дискуссий, совершенно не задумываясь о том, к чему это приведет,
или что Локк был либералом, хотя он всего лишь автор трудов, которые, несомненно,
в дальнейшем пригодились либерализму. Как писал Скиннер, пролептические утверждения
ошибочны, ибо для того «чтобы действие обрело значение, должно наступить будущее»86
.
Еще одна трудность, которую Скиннер окрестил «мифологией ограниченности»,
заключалась в утверждении, что тексты ведут друг с другом диалог сквозь века и эпохи и,
соответственно, оказывают взаимное влияние. В качестве примера можно назвать
распространенную точку зрения, разделявшуюся в 1960-х гг. такими исследователями,
как Гарольд Ласки, Харви Мэнсфилд, Кингсли Мартин и Лео Штраус, согласно которой
Эдмунд Берк, по всей видимости, вел диалог с Генри Сент-Джоном, 1-м виконтом
Болингброком, Болингброк в свою очередь вел диалог с Локком, Локк – с Гоббсом, а Гоббс –
с Макиавелли. Другой иллюстрацией мифологии ограниченности служит гипотеза о том, что
авторы прежних эпох прибегали к понятиям, родственным таким современным
парадигматическим концептам (как называл их Скиннер), как демократия или государство
всеобщего благосостояния. Так, ведущий левый журналист Г. Н. Брэйлсфорд в своей
посмертно опубликованной работе «Левеллеры и английская революция» приписывал
левеллерам идеи XX в. о демократии и о государстве всеобщего благосостояния
87
. Еще один
пример – мнение о том, что, поскольку Джон Локк говорил о согласии в политике, он был
по сути протодемократом. Всякий раз, как речь заходила о Локке, Скиннер ссылался
на свежую на тот момент работу Джона Данна, показавшего, что, хотя Локк в идеале имел
в виду индивидов, дающих согласие на создание политических сообществ, его ни в коем
случае нельзя считать теоретиком, требовавшим, чтобы политические меры имели
демократические обоснования
88
.
Перечисляя мифологии, Скиннер подчеркивает, что невозможно изучать значение идеи,
рассматривая тексты только тех авторов, которые пользуются определенным термином.
Слова – это поступки, и их значением управляет тот, кто ими пользуется. В свою очередь,
значение слов меняется вследствие их употребления в различных идеологических
контекстах. С опорой на текст как таковой невозможно доказать, например, что Гоббс
или Бейль писали двусмысленно или иронично. Из текста как такового не может явствовать,
что те или иные проблемы в разные эпохи изучались идентичным образом. История идей в ее
традиционном виде ошибочна, потому что нет таких идей, которые были бы неизменными
с точки зрения их общего или специфического смысла. Идеи, выраженные в словах, в разных
местах и в разное время означали разные вещи.
Обращаясь к значению социального контекста для понимания идей, Скиннер
признавал, что подобная информация могла бы быть полезной исследователю при анализе
содержания данного текста, но отрицал, что одного только обращения к контексту достаточно
для истолкования смысла выраженных в конкретных произведениях идей. Считалось, что
подход, предполагающий соотнесение текста прежде всего с социальным контекстом, был
86 Skinner Q. Meaning and Understanding in the History of Ideas. P. 24 (рус. пер.: Скиннер К. Значение
и понимание в истории идей. С . 79).
87 Brailsford H. N . The Levellers and the English Revolution / Ed. by C. Hill. London, 1961.
88 Dunn J. Consent in the Political Theory of John Locke // Historical Journal. 1967. Vol. 10. No 2. P. 153–182.
40
усвоен историками марксистского и нэмировского направлений; ведущими фигурами первого
были Р. Г. Тоуни и К. Б . Макферсон, второго – сам Льюис Нэмир. Участие в дискуссии вокруг
этого подхода к текстам позволило Скиннеру лишний раз высказаться в пользу
альтернативного метода, основанного на различении значения высказывания в тексте
и иллокутивной силы этого высказывания. Последнюю, по словам Скиннера, необходимо
учитывать при выявлении намерений, стоящих за авторским высказыванием, которое
в противном случае может оказаться непрозрачным. Это различие проводил Дж. Л . Остин
в работе «Как производить действия при помощи слов» («How to do Things with Words»,
1962). В дальнейшем Скиннер пояснил, что он имел в виду, используя предложенный П. Ф .
Страусоном пример с полицейским, который говорит: «Там лед тонкий»
89
.
Буквально это
высказывание представляет собой указание на малую толщину льда в конкретном месте,
но иллокутивная сила этого утверждения превращает его в предупреждение
90
.
Скиннер
пользуется идеей Остина об иллокутивной силе, чтобы выдвинуть отрицательный аргумент
о том, что социальный контекст может способствовать пониманию значения высказывания,
но не в состоянии объяснить его иллокутивную силу.
Удачно иллюстрирует мысль Скиннера приведенный им в «Значении и понимании...»
пример, который был заимствован из проходившей в то время историографической
дискуссии по поводу значения «Государя» Макиавелли. Скиннер утверждал, что если
читателю попадется утверждение «Государь должен учиться тому, как не быть
добродетельным», сделанное в эпоху Ренессанса, то, возможно, это подвигнет его
на изучение социального контекста и он узнает, что Возрождение дает много примеров того,
что из аморальных государей получались очень хорошие правители. Далее Скиннер просит
своих читателей предположить, что такая точка зрения преобладала в ренессансных текстах.
В этом случае сила данного утверждения служит для обоснования морального трюизма тех
времен. Затем Скиннер предлагает читателям допустить противоположное, а именно что
обращенный к государям призыв отказаться от добродетели на самом деле редко встречается
в ренессансных сочинениях. В таком случае данное утверждение содержит в себе отрицание
общепринятой морали, поскольку нормой в текстах той поры служило обращенное
к правителям требование быть добродетельными. Скиннер подчеркивает, что и первая,
и вторая версия в связи с «Государем» были высказаны Алланом Г. Гилбертом и Феликсом
Гилбертом соответственно, и утверждает, что не важно, какая из них раскрывает истинные
намерения Макиавелли, побудившие его взяться за сочинение его самой знаменитой книги.
Методологический момент заключается в том, что выяснение того, что говорили
ренессансные авторы о необходимости добродетели для государя или о выгодах отказа
от нее, невозможно оторвать от социального контекста и от текста самого Макиавелли.
Скорее необходимо выяснить, «что подразумевалось сказанным и какие отношения могут
существовать между различными утверждениями даже в рамках общего контекста»
91
. Иными
словами, силу высказывания можно объяснить только в соотнесении с текстами той эпохи
или с тем, что впоследствии было названо идеологическим контекстом высказывания. Это,
и только это объясняет иллокутивную силу аргумента, а без рассмотрения иллокутивной
силы ни один аргумент не может быть объявлен полностью истолкованным.
Отсюда Скиннер выводит, что ключ к пониманию текста – выявление воплотившегося
в нем авторского намерения. Этот тезис подразумевает реконструкцию «всего диапазона
89 Strawson P. F. Intention and Convention in Speech Acts // The Philosophical Review. 1964. Vol. 73 . No 4. P. 439–
460.
90 Skinner Q. «Social Meaning» and the Explanation of Social Action // Philosophy, Politics and Society. Fourth
Series / Ed. by P. Laslett, W. G. Runciman, Q. Skinner. Oxford, 1972. P. 136–157; с исправлениями переиздано в:
Skinner Q. Visions of Politics. Vol. 1. P. 128–144 .
91 Skinner Q. Meaning and Understanding in the History of Ideas. P. 47 (рус. пер.: Скиннер К. Значение
и понимание в истории идей. С . 107; с исправлением; курсив автора).
41
языковых значений, которыми обладает высказывание». Социальный контекст может
облегчить понимание «силы значения», но он никогда не определяет самого значения.
Скиннер был уверен, что положительные стороны предложенного им подхода убедят
гуманитариев заняться этой областью. Признавая, что история мысли не состоит
из «обладающих вневременной значимостью попыток сформулировать универсальные
принципы политической реальности», ученый приходит к «самопознанию». Ключевое
открытие Скиннера заключалось в том, что современные идеи не обязательно превосходят
идеи прошлого и что все взгляды, выражавшиеся историческими деятелями, неизбежно
носят локальный, ситуативно обусловленный и ограниченный характер. Соответственно, он
советовал исследователям отказаться от амбициозных претензий создать универсальную
науку о человеке. Он настраивал их на более осторожный подход, на проведение
исследований,
опирающихся
на подтвержденные
методы,
ина
труды
своих
предшественников, уже использовавших аналогичные подходы. Нам никогда не прийти
к объективной истине о намерениях авторов былых эпох, однако Скиннер прогнозировал
получение намного более обширных знаний об идеях прошлого, а также лучшее понимание
их значения и использования. Скиннер стремился наладить диалог между историками
и философами, исходя из того, что историки впервые смогут внести вклад в социологию
знания и в представления о взаимосвязях между мыслью и действием, раскрыв философам
глаза на то, чем на самом деле занимаются лучшие умы в данной области.
В 1970-х гг. Скиннер опубликовал ряд методологических статей, в которых уточнял
и развивал утверждения, сделанные в «Значении и понимании...». Все эти работы до сих пор
не утратили свой актуальности; они собраны в книге «Видения политики: о методе» («Visions
of Politics: Regarding Method», 2002) и до сих пор собирают многочисленные отклики, самые
свежие из которых помещены в специальном номере Journal of the History of Ideas
92
.
Мы
не будем рассматривать здесь эту дискуссию, полезнее было бы сослаться на описанные
Джеймсом Талли «пять шагов» к тому, чтобы стать интеллектуальным историком
в понимании Скиннера. Эти пять шагов заключаются в ответе на пять вопросов:
а) Что делает или делал автор, когда писал свой текст, по отношению
к другим имеющимся в наличии текстам, образующим идеологический контекст?
б) Что делает или делал автор, когда писал свой текст, по отношению
к наличному и проблематичному действию, образующему практический контекст?
в) Можем ли мы идентифицировать идеологии, а также анализировать
и объяснять их формирование, критику и изменение?
г) Какого рода связь между политической идеологией и политическим
действием способна лучше всего объяснить распространение некоторых идеологий
и какое влияние она имеет на политическое поведение?
д) Какие формы политической мысли и политического действия участвуют
в распространении и конвенционализации идеологических изменений?93
Метод Скиннера подразумевает фокусировку на намерениях автора и идеологическом
фоне. Он предполагает рассмотрение комплекса утверждений, формулируемых в рамках
определенной идеологии, и, соответственно, опровергаемых положений альтернативных
идеологий. Исследователю необходимо проследить дальнейшее развитие данной идеологии,
исходя из аргументов, выдвинутых автором, и выявить их вклад в аргументационный пейзаж
эпохи.
92 Burke M. J . et al. Symposium: On Quentin Skinner, from Method to Politics // Journal of the History of Ideas.
2012. Vol. 73. No 1.
93 Tully J. The Pen is a Mighty Sword: Quentin Skinner ’s Analysis of Politics // Meaning and Context: Quentin
Skinner and his Critics. P. 7 –8 (рус. пер.: Талли Дж. Перо – могучее оружие: Квентин Скиннер анализирует
политику // Кембриджская школа: теория и практика интеллектуальной истории. С . 219; пер. с англ. А.
Логутова).
42
По убеждению Талли, метод Скиннера к началу 1980-х гг. преобразовал практику
интеллектуальной истории. Тем не менее этот подход критиковали много и зачастую весьма
едко. Общим местом стали три направления критики. Согласно первому, метод Скиннера
никуда не годится. Скиннер – слишком философ и недостаточно историк, он не интересуется
архивными источниками, сосредоточен на выявлении авторских намерений – то есть того,
что невозможно научно верифицировать, проявляет чрезмерную узость взглядов при защите
своего якобы универсального подхода, слишком самоуверенно утверждает, что
интеллектуальная история способна стать более точной и бесспорной в своих выводах,
игнорирует возможность рассмотрения истории текста отдельно от автора и не способен
на практике, в своих исторических исследованиях, точно следовать собственному методу94
.
На подобные заявления было потрачено немало чернил, однако ни один из критических
аргументов не выдержал проверки временем. Мнение о том, что подход, за который
выступает Скиннер, откровенно уязвим с методологической точки зрения, в наши дни
встречается редко
95
.
Согласно второму направлению, Скиннер лишил исторический анализ общественной
мысли всякого смысла, поскольку разорвал взаимосвязь между актуальной политикой
и историческими исследованиями. Эта взаимосвязь оказывалась в центре внимания
при любой попытке сделать политику или философию наукой и служила очевидным
обоснованием для работы ученых в обеих областях. Во времена, когда необходимость
исследований в гуманитарной сфере нужно специально обосновывать, поскольку более
строгие науки все громче требуют финансирования, заявление, что изучение исторических
текстов может принести лишь косвенную пользу, казалось многим безумием. Неоднократные
утверждения о неактуальности исследований в области интеллектуальной истории для более
традиционных общественных наук, которые не могут не интересоваться отношениями между
прошлым и настоящим, превращают интеллектуальную историю в предмет «любопытства
самых замшелых антикваров», как выражались многочисленные критики, включая тех, кто
в своих выступлениях с 1970-х по начало 2000-х гг. называл методологическую работу
Скиннера пустопорожней
96
.
В этом отношении антиподом Скиннера был Исайя Берлин,
который во времена, когда изучение идей отнюдь не пользовалось популярностью, особенно
в Англии, весьма преуспел на этом поприще
97
. Отчасти он добился этого, увязав между собой
интеллектуальную и нравственную проблематику,
таким
образом,
что
мораль
не превращалась в «сухой стук костей»
98
.
Как мы увидим, именно обвинение
в неактуальности оказало наибольшее влияние на самого Скиннера и на защитников метода
94 См., например: Leslie M. In Defence of Anachronism // Political Studies. 1970. Vol. 18. No 4. P. 433–470; Tarlton
C. D. Historicity, Meaning, and Revisionism in the Study of Political Thought // History and Theory. 1973. Vol. 12.
P. 307 –328; Parekh B., Berki R. N . The History of Political Ideas: A Critique of Q. Skinner’s Methodology // Journal
of the History of Ideas. 1973. Vol. 34. No 2. P. 163–184; Keane J. On the «New» History: Quentin Skinner ’s Proposal
for a New History of Political Ideology // Telos. 1981. Vol. 47. P. 174–183. Обзор по данной теме см.: Condren C.
The Status and Appraisal of Classic Texts. Princeton, 1985.
95 Bevir M. The Logic of the History of Ideas. Cambridge, 1999. P. 48–52.
96 Gunnell J. G. Interpretation and the History of Political Theory: Apology and Epistemology // American Political
Science Review. 1982. Vol. 76. P. 317–327; Minogue K. Method in Intellectual History: Quentin Skinner ’s
Foundations // Meaning and Context: Quentin Skinner and his Critics. P. 176–193; Wokler R. The Professoriate
of Political Thought in England since 1914: A Tale of Three Chairs // The History of Political Thought in National
Context / Ed. by D. Castiglione, I. Hampsher-Monk. Cambridge, 2001. P. 134–158.
97 Galston W. A. Foreword, Ambivalent Fascination: Isaiah Berlin and Political Romanticism // Berlin I. Political
Ideas in the Romantic Age. Their Rise and Influence on Modern Thought / Ed. by H. Hardy. Princeton, 2006. P. IX –
XXII; Cherniss J. L. Isaiah Berlin’s Political Ideas: From the Twentieth Century to the Romantic Age // Ibid. P. XLIII –
LXXXIV.
98 Berlin I. The Sense of Reality. Studies in Ideas and Their History. London, 1996. P. 25.
43
лингвистического контекстуализма. Необходимость ответить на вызов служила для Скиннера
одним из основных источников вдохновения в 1990-х гг.
Представители третьего направления критиковали Скиннера за глупую претензию
на исключительность, выразившуюся в отстаивании своего метода анализа исторических
текстов как единственно верного. Его сфокусированность на авторских намерениях
исключала альтернативные стратегии, которые могли бы принести пользу при выявлении
значения текста или подсказать, имеем ли мы дело с продуманной формулировкой
или нечаянно брошенной фразой. Как было написано в одной из рецензий, «политический
мир и диапазон политических дискуссий, какими он [Скиннер] их изображает, оказываются
поразительно узкими», будучи оторваны от социально-экономических отношений
99
. Ученые
последующих эпох, даже не проявляя интереса к намерениям конкретного автора, могли
внести вклад в его изучение. Две сферы, в которых это проявляется с наибольшей
очевидностью, – изучение рецепции идей и споров о роли автора в связи с некоторыми
из великих полемических традиций, сохраняющих значение и в наши дни, таких
как либерализм или республиканизм. В первом случае было очевидно, что Скиннер
не обеспечил исследователей необходимым для работы инструментарием. Хотя изучение
того, как распространялись и интерпретировались мысли автора, может повлечь за собой
реконструкцию интенций воспринимающего их субъекта, нередко историк не имеет никакого
или почти никакого понятия о стоявших за рецепцией намерениях или же ему приходится
иметь дело с анонимным или действительно массовым читателем, чьи намерения
при использовании, выявлении и изменении идей авторов прошлого уже невозможно
восстановить. В таких обстоятельствах историки возвращались к приемам, традиционным
для исследований в области социальной и экономической истории, и анализировали
эволюцию идей, пользуясь сведениями о производстве книг, об их издателях и их
распространении, о том, как они переиздавались и исправлялись с учетом меняющихся
рыночных условий, об их переводах и истории бытования в разных местах и в разные
эпохи
100
.
В плане изучения взаимосвязи текстов какого-либо автора с одной из великих
полемических
традиций,
затрагивающих вечные
вопросы,
научная
ценность
лингвистического концептуализма не очевидна. Показательный пример можно найти
в работах политического философа Джона Ролза. В 1971 г.,
работая над «Теорией
справедливости» («A Theory of Justice»), он намеревался примирить защиту свободы
с требованием равенства, и с этой целью развивал смежные идеи о «занавесе неведения»
и «исходном положении». Выдвинутая Ролзом идея договора в политике была явно
во многом почерпнута из трудов Давида Юма и Иммануила Канта. Ролз никогда не говорил,
что труды какого-либо из этих философов послужили источником его собственных
утверждений, но столь же очевидно, что он вдохновлялся рассуждениями обоих авторов
о свободе и равенстве. По мнению Ролза, продолжение размышлений об их идеях
способствует пониманию того, что означает либерализм в конце XX в.; Юм и Кант могли
внести свой вклад в определение того, какие из традиционных положений либерализма все
еще сохраняют силу. Отвечая на критику своей книги, Ролз обращался в первую очередь
к сочинениям Жан-Жака Руссо, и в результате за пересмотренной теорией справедливости
как честности, в первоначальном виде выдвинутой в «Политическом либерализме» («Political
Liberalism», 1993), последовали его «Лекции по истории моральной философии» («Lectures
on the History of Moral Philosophy», 2000) и «Лекции по истории политической философии»
(«Lectures on the History of Political Philosophy», 2003). Ролз не был историком, и в своих
99 Wood E. M . Why It Matters [review of Quentin Skinner, Hobbes and Republican Liberty] // London Review
of Books. 2008. Vol. 30. No 18. P. 3–6.
100 См., например: Sher R. B. The Enlightenment and the Book: Scottish Authors and Their Publishers
in Eighteenth-Century Britain, Ireland, and America. Chicago; London, 2006; Pettegree A. The Invention of News:
How the World Came to Know About Itself. New Haven, 2014.
44
работах он следовал простому принципу: читать труды выдающихся авторов прошлого
и размышлять о них. По ходу дела он развивал новые идеи, откликаясь на политические
проблемы современности. В то же время можно сказать, что он пролил свет на ряд
утверждений Юма, Руссо и Канта и сделал их произведения актуальными для новых
поколений исследователей либерализма. Это обстоятельство подчеркивает тот факт, что
в процессе интерпретации и использования идей прошлого можно обойтись и без принципа
лингвистического контекстуализма.
Знакомство с ранними статьями Скиннера по философии исторических исследований
дает представление о том, как новая идея лингвистического контекстуализма привела
к перевороту в наших знаниях и получила всеобщее признание в качестве научного подхода
к изучению идей. Попытки создать науки о человеке, не выходя за рамки гуманитарной
сферы, лишились всякой популярности, и Скиннер в своих ответах критикам, упрекающим
его в претензии на исключительность своего подхода, как правило, охотно признавал
альтернативные методологические практики, называя их поучительными и допустимыми.
Применительно к тому, что порой называют социальной историей идей, Скиннер указывал,
что он всегда учитывал социальные и материальные обстоятельства, в которых создавался
изучаемый им текст
101
.
Однако при этом он делал оговорку, что в тех случаях, когда
социальная история идей описывает сами идеи, следует обращаться к лингвистическому
контекстуализму, тем самым избегая поверхностности. Вторая сфера, в которой Скиннер
проявлял разборчивость, создавала для него наибольшие проблемы, поскольку она явно
связана с утверждением, что он превратил историческое изучение идей в чистую любовь
к древности. Ни Ролз, ни Штраус не пользовались методом Скиннера, но оба они находили
смысл в идеях прошлого, при этом делая их актуальными с точки зрения текущей политики.
В свою очередь, Скиннер отвечал, что разливать старое вино в новые мехи – занятие вполне
невинное и что даже размышления по поводу современных проблем в ходе чтения старых
книг могут быть весьма поучительными, но, если исследователь желает выяснить, что же
именно делали авторы прежних эпох, необходимо обратиться к методу лингвистического
контекстуализма. Согласно более амбициозному утверждению Скиннера, очевидному в его
последних работах, использование метода лингвистического контекстуализма идет на пользу
философии. По мнению Скиннера, более детальное и точное понимание целей, которые
ставили перед собой авторы, дает представление о проблемах, с которыми сталкивались
люди, и о препятствиях к их решению, заложенных в философском языке соответствующей
эпохи. Главным всегда оставался вопрос о том, можно ли считать, что данный метод сделает
труды по истории более качественными. В свою очередь, смогут ли те, кто занимается
актуальными
для нашего
времени
предметами,
использовать
в своих
целях
историографические работы. Это была самая большая из проблем, стоявших перед первым
поколением работавших в университетах интеллектуальных историков. Преуспели ли они
в ее решении? Ответу на этот вопрос посвящена следующая глава.
Глава 4
Практика интеллектуальной истории
Подобно Данну и Пококу, Скиннер признавал, что главный критерий оценки
правильности их соображений о лучшем методе, которого следует держаться при написании
исторических трудов, – качество итогового интеллектуального продукта. Само собой, как на
образцы использования нового подхода можно было сослаться на «Древнюю конституцию
и феодальное право» Покока, исследования германо-американского политического историка
Ханса Барона, а также на работы Питера Ласлетта и его последователей-контекстуалистов.
Однако для дальнейшего закрепления позиций требовались новые разыскания, которые бы
и в дальнейшем подтверждали на практике состоятельность этого метода. Предполагалось,
101 Skinner Q. Retrospect: Studying Rhetoric and Conceptual Change // Idem. Visions of Politics. Vol. 1 . P. 175–187.
45
что такие труды будут иконоборческими и вызовут споры. Первым примером стала книга
Джона Данна «Политическая мысль Джона Локка» («The Political Thought of John Locke»,
1969), которая оспаривала представления о Локке как о раннем или оригинальном
либеральном мыслителе. Данн устанавливал контекстуальную связь между политическими
аргументами Локка и его христианской верой, а также его приверженностью радикальной
кальвинистской теории о сопротивлении незаконным политическим властям. Выход в 1975 г.
«Момента Макиавелли» («The Machiavellian Moment») Покока стал водоразделом
в исторических исследованиях в силу своей масштабности (в книге рассматривалось
изменение представлений о времени от Аристотеля до американской революции) и глубины
(автор требовал пересмотра историографии раннего Нового времени, описывая зарождение
и эволюцию республиканских мотивов в политической аргументации на протяжении четырех
с лишним столетий). Выбирая название для своей книги, Покок воспользовался советом
Скиннера. Как признавал Покок, монография иллюстрировала предложенный Скиннером
метод, так как в ней рассматривались авторские намерения Макиавелли, а также то, как они
вызревали на протяжении его жизни, протекавшей на фоне бурных политических событий
во Флоренции первых десятилетий XVI в. Подзаголовок, «Флорентийская политическая
мысль и атлантическая республиканская традиция», указывал на более масштабные
«моменты» истории, о которых писал Покок. Речь шла об истории основания республик,
предпосылках их подъема, неизбежных кризисах, с которыми они сталкивались в ущербном
и растленном человеческом мире, и о неизбежном упадке и гибели республик, подобно тому
как это происходит с человеческим телом. Энергия и блеск Покока-историка полностью
оправдали метод, который он продвигал с начала 1960-х гг. «Момент Макиавелли» остается
самой влиятельной работой в сфере интеллектуальной истории последних десятилетий,
подобно тому как книга Э. П. Томпсона «Становление английского рабочего класса» стала
вехой для социальных историков.
Показательно, что в «Значении и понимании...» Скиннер писал, что надеется «вскоре
завершить более систематический обзор данной темы, уделив особое внимание как изучению
истории, так и использованию историографических примеров»
102
.
С середины 1960-х гг.
Скиннер читал в Кембридже лекции по истории политической мысли XVI – XVIII вв.
и предполагал написать систематический обзор этой темы от Макиавелли до Монтескье
и далее. В то же время он проявлял особенный интерес к предпринятому Максом Вебером
в «Протестантской этике и духе капитализма» (1905) поиску объяснений того факта, что
протестантизм был непосредственно связан с экономическим развитием в Германии,
обгонявшей более отсталые католические регионы. Вебер выдвинул знаменитую гипотезу,
согласно которой подъем капитализма следует объяснять не ссылками на утверждения
марксистов о смене феодализма капитализмом, а тем, что на всей территории Европы его
развитие легитимировалось через отождествление с религиозными ценностями и особенно
с кальвинистскими требованиями отказа от роскоши, бережливости и умеренности,
инвестиций в будущее, а не простого пользования уже имевшимися благами. Кальвинистская
неуверенность в спасении шла рука об руку с призывами к благочестивой жизни. Скиннер
хотел узнать, каким образом жизнь в согласии с Божественным провидением стала
ассоциироваться с предусмотрительностью и рациональными формами поведения. Кроме
того, он ставил под вопрос правомерность устойчивой ассоциации между протестантизмом
и Новым временем, которую защищает Майкл Уолцер в своей «Революции святых»
(«The Revolution of the Saints», 1966), а заодно и те свободы, которые объявляются
определяющими чертами современного мира
103
. Подобные проекты стали вспомогательными
102 Skinner Q. Meaning and Understanding in the History of Ideas. P. 45, примеч. 192 (рус. пер.: Скиннер К.
Значение и понимание в истории идей. С . 105, примеч. 1).
103 Goldie M. The Context of the Foundations // Rethinking the Foundations of Modern Political Thought / Ed.
by A. Brett, J. Tully. Cambridge, 2006. P. 3 –19.
46
элементами изучения политической мысли XII – XVII вв. и ее влияния на становление
современного государства и на бунты против него. Скиннер «пытался предложить образец
[своего] подхода»104
в изданной в 1978 г. двухтомной работе «Истоки современной
политической мысли», посвященной эпохам Ренессанса и Реформации. В этом труде он
описывает процесс постепенного отождествления государства с искусственной личностью,
стоящей над неуправляемыми элементами политического сообщества, что создавало
возможность для разрешения повсеместного религиозного конфликта.
По мнению Скиннера, Ренессанс определяется только на большом промежутке времени
и без четких временных границ. Такие историки, как Ханс Барон, ошибочно усматривали
существование четкого водораздела между Средневековьем и Ренессансом, который Барон
относил к 1400 г., когда во время конфликта Флоренции с миланскими Висконти произошел
отказ от идеи монархической империи в пользу самоуправления и политической свободы
105
.
Согласно Скиннеру, связь между свободой и самоуправлением установилась намного
раньше, за несколько поколений до восприятия идей Аристотеля Западом, и с опорой
на толкователей и комментаторов римского права. Двухтомный труд Скиннера завершается
рассмотрением теорий сопротивления начала XVII в., когда, по его мнению, уже можно
говорить о зачатках современной политики. Достижение Скиннера заключалось в критике
гипотезы о том, что кальвинисты и пуритане изменили политический пейзаж раннего Нового
времени. Он указал на близость политических аргументов радикальных кальвинистов
и лютеран 1530-х гг. Более спорным в его работе стало возведение истоков их идей
к неотомистам Саламанкской школы, таким как Франсиско де Витория, Франсиско Суарес
и Хуан де Мариана, а также к парижским теологам начала XVI в., таким как Джон Мейджор
и Жак Альмэн. Начало либерального модерна отодвигалось еще дальше в прошлое, а связь
между католическим концилиаризмом и последующим конституционализмом особо
подчеркивалась.
Скиннер и Покок сходились в понимании того, сколь значимой вехой в истории раннего
Нового времени стало формирование представления о гармоническом состоянии
человечества в итальянских городах-республиках в XIII в.: жизнь в независимой республике
превозносилась как естественная для человека форма существования, а гражданская
активность, как защита этого состояния, объявлялась наивысшей ценностью в светской
сфере. Однако это был едва ли не единственный пункт, в котором между Скиннером
и Пококом не было разногласий. От них можно было бы ожидать единства в вопросе о сути
истории политических идей, но на деле вышло совершенно противоположное.
Использование более или менее единой методологии привело скорее к разделению, чем
к сплочению, а также к появлению множества новых исследовательских сюжетов – отчасти
из-за признания важности так называемых малых фигур в истории мысли. Ни Покок,
ни Скиннер никогда не предполагали достичь единомыслия в своих интеллектуальных
поисках. И все же масштабу их разногласий можно только удивляться. Критики видели в этих
разногласиях доказательство того, что «кембриджский метод» явно не ведет к более
глубокому пониманию прошлого. И задавались вопросом: станет ли единственным итогом
трудов Кембриджской школы ярко выраженная любовь к древности.
Покок в своей работе об аристотелевском импульсе – стремлении жить жизнью
гражданина свободного города – описал зарождение такой философии как гражданский
гуманизм во враждовавших между собой коммунах ренессансной Италии. Мелким политиям,
процветавшим в Центральной и Южной Европе с XI в., приходилось отстаивать свою
независимость, на которую покушались то князья-грабители, римские папы и властители
104 Five Questions to Quentin Skinner // Intellectual History. 5 Questions / Ed. by M. H. Jeppesen, F. Stjernfelt, M.
Thorup. Copenhagen, 2013. P. 156.
105 Baron H. The Crisis of the Early Italian Renaissance: Civic Humanism and Republican Liberty in an Age
of Classicism and Tyranny. Princeton, 1955.
47
Священной Римской империи. При этом они еще и воевали друг с другом. Итогом стали
бесконечные умозрительные рассуждения о том, каким образом города-государства способны
сохранить свободу. Именно крайняя озабоченность Макиавелли этим вопросом дала толчок
для его появления в публичном поле в качестве политического мыслителя и деятеля. Однако
в более узком смысле эта проблематика предопределила ход его размышлений об основании
и формировании республики, а также о том моменте, когда существование республики
оказывается под угрозой. Возникновение республики всегда ассоциируется с кризисом, что
порождает споры об источниках и возможностях политической власти, которые, по мнению
Покока, во многом предопределили содержание интеллектуальной жизни в раннее Новое
время
106
.
Покок рассказывает историю рассуждений Макиавелли о продолжительности жизни
республики и о ее естественной кончине. Расширяя хронологические и географические
рамки сюжета, он описывает, как Джеймс Харрингтон в XVII в. подошел к истории Рима
с позиций Макиавелли, позволивших ему сделать вывод, что практика владения оружием
и неотчуждаемая собственность на землю являются предпосылками свободы и проявления
гражданских добродетелей. Далее Покок рассматривает дискуссии, развернувшиеся вокруг
этой точки зрения в XVIII в., в контексте совершенно иных представлений о свободе
и независимости, сопутствовавших окончанию религиозных войн и становлению крупных
европейских коммерческих монархий, конкурировавших между собой. Сохранение новых
форм государственности требовало создания регулярной армии и публичного кредита; их
необходимость в обществах, организованных по принципу разделения труда, обосновывалась
по аналогии с современными формами вежливости, наряду с потреблением и финансовой
независимостью, которые превозносились такими авторами, как Даниэль Дефо.
«Неохаррингтонианцы», как называет их Покок, –
например, шотландский писатель
и политик Эндрю Флетчер – проповедовали античные добродетели, находящиеся
под защитой народной милиции и землевладельческой элиты, чья заинтересованность
в сохранении государства гарантировала ее политическую мудрость и умеренный характер
принимаемых ею законов. Неохаррингтонианцы презирали современную цивилизованность,
полагая, что она влечет за собой утрату мужественности, приводит к испорченности,
сопровождавшей возникновение партий и профессиональных политиков, и имеет следствием
резкий рост чувства неуверенности как в гражданском обществе, так и среди политиков,
выражавшейся в опоре государства на суждения биржевых маклеров.
Покок называл дискуссию о человеческой личности конфликтом между «древними»
и «новыми» теоретиками свободы. Древние пребывали в уверенности, что познали себя и,
соответственно, выступали за соблюдение строгой последовательности четко определенного
набора действий. Новые были убеждены, что возможности для человеческой деятельности
расширились до бесконечности, что делает познание «себя» более невозможным.
В атлантическом мире для этого конфликта была характерна озабоченность вопросом
о защищенности недвижимого и движимого имущества, которая, в свою очередь,
усугублялась отсутствием у «композитных государств», состоящих из разных «наций»,
четкой идентичности и шедшими в протестантских и католических странах дискуссиями
о возможном влиянии коммерческого общества на веру, в ходе которых в том числе ставился
вопрос о совместимости различных видов христианской веры с государством, ведущим
борьбу за выживание посредством торговли и войн. Такое положение дел, в свою очередь,
породило целый ряд влиятельных произведений литературы, в которых оплакивалось
современное общество и изобличались его пороки, такого рода иеремиады занимают
особенно значительное место среди творений историков, политиков и философов конца
XVIII в. Согласно ключевой гипотезе Покока, принципиально важно различать политические
106 Pocock J. G. A . Afterword // Idem. The Machiavellian Moment: Florentine Political Thought and the Atlantic
Republican Tradition. Princeton, 1975. P. 554 (рус. пер.: Покок Дж. А. Г. Момент Макиавелли. Политическая
мысль Флоренции и атлантическая республиканская традиция. С . 768).
48
дискурсы, опиравшиеся на идеи о правах и вдохновлявшиеся юридическими рассуждениями,
и политические дискурсы, основанные на стремлении возродить добродетели и способности,
считавшиеся необходимыми для процветания человеческого сообщества. Проблема свободы
государства и ее сохранения стала общим местом в политических дискуссиях позднего
Средневековья, и Покок показывает, что они всегда ведутся с опорой на идеи
об историческом развитии свободы, неважно, возникла ли свобода в античном мире
и впоследствии была открыта заново или же появилась только после упадка Рима среди
сокрушивших империю варварских племен, в том числе и за счет утверждения собственного
права на создание суверенных наций.
Постепенно в ходе этих дебатов сформировалось представление о Европе как о
континенте, состоящем из множества суверенных держав, стремящихся жить в гармонии
друг с другом, или как основе для новой империи (этот тезис исходил из убеждения, что
лишь империи способны принести спокойствие в мир, который на протяжении всего
«христианского тысячелетия», начавшегося с обращения императора Константина
в христианство, одолевали бесконечные войны). В глазах всех авторов главный вопрос
заключался в том, в какой степени христианство ответственно за крах Римской империи
и каким образом успехи христианства в Европе связаны с варварством, которое,
как считалось, наступило после упадка Рима. Кроме того, картину усложняли извлеченные
из забвения классические знания, позволявшие еще лучше детализировать образ античной
науки, и готовность различных школ мысли встать под знамена стоической, скептической,
платоновской, аристотелевской и эпикурейской философий. Эти философские традиции
трансформировались, будучи пропущенными сквозь призму христианской апологетики.
Перед историками встал важный вопрос о том, в какой степени в своих рассуждениях
мыслители раннего Нового времени следовали античным образцам. Другая проблема
заключалась в том, в какой мере христианскую философию изменило знакомство с наукой
и философией дохристианской эпохи. Покок всегда утверждал, что в политических культурах
модерных государств до сих пор прослеживаются отголоски старых философских позиций.
Напоминать современникам о реальных истоках и подлинном значении используемых ими
аргументов – важная задача интеллектуального историка. Во многих современных
политических культурах возникают опасения по поводу того, что индивид-одиночка, который
утверждает свою свободу, полагаясь только на себя, впадет в варварство или что индивид,
обладающий различными способностями, но не желающий применять их в общественной
деятельности ради свободы всего общества, развратится и в итоге склонится перед тираном.
Убеждение Покока в том, что наследие гражданского гуманизма и классического
республиканизма особенно заметно в политической риторике Северо-Американской
республики, стало одной из причин неоднозначного отношения к его труду. Многие критики
обвиняли Покока в пессимизме и скептицизме, в пренебрежении истинными источниками
американской политической традиции, великим сюжетом об открытии, обретении и защите
свободы.
В результате
получалось,
что Покок
писал
о «либеральных»,
ане
о «республиканских» истоках американского государства
107
.
В своих «Истоках...» Скиннер излагает иной сюжет в пику концепции Покока, делая
особый акцент на отличии греческого политического наследия от римского. В частности,
Скиннер указывает, что Покок переоценивает значение «Политики» Аристотеля
как источника ренессансных представлений о том, что означала для граждан жизнь
в качестве равноправных суверенных субъектов в республике с верховенством законов.
По мнению Скиннера, в истории становления гражданского гуманизма более серьезную роль
сыграл Цицерон, превозносивший гражданские добродетели и республиканское гражданство,
107 Appleby J. Republicanism and Ideology // American Quarterly. 1985. Vol. 37 . No 4. P. 461–473; Idem.
Republicanism in Old and New Contexts // William and Mary Quarterly. 1986. Vol. 43. No 1. P. 20–34; Idem.
Recovering America’s Historic Diversity: Beyond Exceptionalism // Journal of American History. 1992. Vol. 79 . No 2.
P. 419–431; Idem. Liberalism and Republicanism in the Historical Imagination. Cambridge, MA, 1992.
49
возможные при свободном правительстве. Напротив, с точки зрения Покока, Цицерон – это
в большей мере моральный философ, ставивший во главу угла правосудие, наслаждение
благами человеческого общества и их справедливое распределение. Для Цицерона цель
философии заключалась в том, чтобы дать определение абсолютно нравственной жизни
и законов, которые могли бы защитить ее. Для реализации этого идеала не обязательно жить
в свободной республике. Макиавелли более важен для гражданского гуманизма, поскольку
его интересовало virtù, или гражданская доблесть – свойство, подразумевавшее личную
независимость и участие в общественных делах. Эти силы защищают государство
и обеспечивают его выживание перед лицом внутренней порчи и внешних угроз.
Своеобразная точка зрения Макиавелли предопределила республиканскую мысль и практику
в малых государствах Европы, пережив второе рождение, будучи адаптированной к условиям
больших европейских монархий и их колониальных империй. О реакции Покока на критику
со стороны Скиннера дают хорошее представление «Послесловие» к «Моменту Макиавелли»
и «Первый упадок и гибель», третий том его великой серии «Варварство и религия»,
в котором разбираются первые четырнадцать глав первого тома «Истории упадка и гибели
Римской империи» Гиббона (1776–1788), посвященной краху античной цивилизации
108
.
В этой серии книг Покок рассказывает историю интеллектуальных странствий Гиббона
начиная от его пребывания в Швейцарии, куда он удалился изгнанником в молодости,
и критики «Энциклопедии» до развития у него интереса к истории, возраставшего по мере
знакомства с «просвещенческой трактовкой» исторических процессов в западном обществе,
изложенной в произведениях Джанноне, Вольтера, Юма, Робертсона, Фергюсона и Адама
Смита. Покока интересует не только то, что Гиббон написал, но и то, что он мог бы написать.
Соответственно, он подчеркивает, насколько Гиббона не понимают те, кто объявляет его
представителем классической гуманистической риторики. Сам Покок изображает Гиббона
как историка «Афро-Евразии», занимавшегося не только греко-латинским миром, но и теми
регионами, которые могут быть названы китайским и арабо-иранским. Покок объясняет,
почему необходимо изучать священную историю, эрудицию, патристику, христологию
и экклезиологию, если мы хотим понять мир Гиббона. Он утверждает, что Гиббон писал
«Упадок и гибель...», не имея намерения ниспровергнуть веру в христианское откровение.
Скорее работа Гиббона являлась реакцией на то, что на современном жаргоне можно назвать
глобальным культурным наследием: этот тезис стал очевиден в 2015 г. после выхода шестого,
последнего тома «Варварства и религии».
С точки зрения Покока, политическая мысль в Европе во многом определялась
юриспруденцией, что способствовало развитию «идеологии либеральной империи», как он
писал в «Моменте Макиавелли». Напротив, историография, как создание великих
исторических нарративов, была сосредоточена в первую очередь на описании процесса
превращения республики в империю или на сюжетах о несовместимости свободы и империи.
По мнению Покока, при изучении вопроса о республиканизме Макиавелли подход Скиннера
лучше работает не напрямую, а в контексте истории юриспруденции. Покок утверждает, что
труд Скиннера о возникновении государства следует рассматривать именно как вклад
в изучение идеологии либеральной империи, основанной на принятии превращения
республики в империю, поскольку описанные Скиннером цицероновские добродетели
благодаря существованию права можно было реализовать и при народном правлении, и при
правлении государя – такого, как Август, Траян или Юстиниан и даже «священный» монарх,
описанный Евсевием. Покок критикует мнение о том, что идеи гражданского гуманизма,
аналогичные содержавшимся в флорентийских инвективах в адрес властителей-тиранов,
можно встретить уже в сочинениях Оттона Фрейзингенского (XII в.) . Как указывает Покок,
никто из мыслителей, рассматриваемых в труде Скиннера, не воспринимал всерьез идею
108 Pocock J. G. A. Afterword // Idem. The Machiavellian Moment. P. 559 –560 (рус. пер.: Покок Дж. А. Г.
Момент Макиавелли. Политическая мысль Флоренции и атлантическая республиканская традиция. С. 773 –775);
Idem. Barbarism and Religion. Vol. III: The First Decline and Fall. Cambridge, 2003. P. 154–156.
50
упадка и гибели, оказавшую столь сильное влияние на европейскую мысль, заставляя
усомниться в том, что свобода зависит от закона, и напоминая, что гражданские добродетели
легко могут быть утрачены, следствием чего становятся смуты, влекущие за собой
разрушение в государствах. Иными словами, Скиннер пренебрегал рассмотрением текстов
в достаточно широком контексте. Эта критика вполне согласуется с тем, как сам Покок
описывает интеллектуальный путь, проделанный им после издания «Момента Макиавелли».
По его словам, понятие «политического», которым он пользовался с 1975 г., оказалось
недостаточно всеобъемлющим, особенно в том, что касается богословских идей, игравших
столь заметную роль в XVII и XVIII вв. В свою очередь, Скиннер называет «Истоки...»
судном, получившим пробоину ниже ватерлинии и медленно дрейфующим назад в порт,
подобно кораблю «Отважный» на замечательной картине Дж. М. У. Тернера109
.
Не отказываясь от слов о роли римского права и историографии в ренессансных
выступлениях в защиту идеала свободы, ныне Скиннер сожалеет об использовании
определенного артикля в заглавии своей работы и вообще о том, что он занимался поисками
«истоков» современной политической мысли. Он соглашается с утверждениями
многочисленных критиков, согласно которым подобные разыскания противоречили его
собственному методу, поскольку имели откровенно телеологическую направленность.
В то же время он отмечает, что, хотя «Истоки...» были задуманы как обоснование его
методологического подхода, читать их следует с поправкой на его последующие работы. Это
важный момент для интеллектуальной истории, независимо от того, как мы ее определяем,
поскольку речь идет о попытке Скиннера опровергнуть обвинения в любви к древности
и неактуальности.
Глава 5
Актуальность интеллектуальной истории
После издания «Истоков...» Скиннер опубликовал новаторское исследование
о Макиавелли
110
.
Но была и еще одна тема, которой он уделил пристальное внимание
по окончании работы над «Истоками...». Речь идет о политической философии Томаса
Гоббса. Книга Скиннера «Разум и риторика в философии Гоббса» («Reason and Rhetoric in the
Philosophy of Hobbes», 1996), помимо всего прочего, стала иллюстрацией кембриджского
метода: ее первые пять глав посвящены исчерпывающей реконструкции той риторической
традиции, к которой Гоббс получил возможность приобщиться, когда получал образование
в тюдоровской Англии. Как отмечает Скиннер, Гоббс избегал тропов классической риторики
в своих ранних трудах «Элементы закона» и «О гражданине» («De Cive»), поскольку
усматривал одно из проявлений общей испорченности, которую философ связывал
с чрезмерным влиянием Аристотеля. Эти труды Гоббс писал с расчетом на то, что
прозрачный и научно обоснованный набор политических аксиом одержит верх
над лукавством доказательств и обтекаемостью формулировок – излюбленными приемами
ораторов, для которых главным было умение с равной убедительностью преподнести
слушателям одно и то же утверждение как истинное или ложное, в зависимости от ситуации.
Впрочем, после того как в Англии началась гражданская война, Гоббс пришел
к неутешительному выводу, что риторика – необходимая часть политики. Именно этим
объясняется изменение его позиции в промежутке между созданием трактатов
«О гражданине» (1642) и «Левиафан» (1651), в котором он прибегает ко всем риторическим
109 Skinner Q. Surveying The Foundations: A Retrospect and Reassessment // Rethinking the Foundations
of Modern Political Thought. P. 261.
110 Skinner Q. Machiavelli’s Discorsi and the Pre-humanist Origins of Republican Ideas // Machiavelli
and Republicanism / Ed. by G. Bock, Q. Skinner and M. Viroli. Cambridge, 1990. P. 121 –141; Idem. The Republican
Ideal of Political Liberty // Ibid. P. 293–309 .
51
ухищрениям, дабы лучше убедить своего читателя. Гоббсу обычно приписывают идею о том,
что единственной движущей силой в обществе является своекорыстный интерес. И,
как показывает Скиннер, Гоббс признавал, что любые доказательства должны быть
убедительно сформулированы в соответствии с канонами классической риторики
и апеллировать тем самым к иррациональному и эгоистическому началам. Иными словами,
он признавал краткосрочный характер современной ему политики и стремился использовать
риторику таким образом, чтобы подтолкнуть политических деятелей к принятию решений,
соответствующих их подлинным долгосрочным интересам.
В то же время Скиннера все сильнее волновали упреки в том, что он разорвал связь
между историей политической мысли и политической философией. Разумеется, его обвиняли
в требовании, чтобы каждый философ стал историком, поскольку, по его мнению,
исследователи могут задаваться не любыми вопросами по поводу того или иного текста,
а лишь теми, что исходят из знания идеологического контекста. В «Свободе до либерализма»
(«Liberty before Liberalism», 1998) и в ряде статей, посвященных истокам и сущности
современных идей о свободе, Скиннер делает попытки опровергнуть обвинение в любви
к идеологическим древностям
111
.
В частности,
он утверждает,
что
необходимо
реабилитировать и вернуть в обращение забытые или по тем или иным причинам
отвергнутые политические идеи, актуальные для прежних эпох. Именно в этом теперь
заключается задача интеллектуальной истории. В свою очередь, такой постановкой задачи
самым непосредственным образом подчеркивалась польза этой дисциплины и для тех, кто
интересуется настоящим, и для тех, кого занимает прошлое. Скиннер приводит пример
из 1640-х гг. Он выделяет две антагонистические концепции политической свободы,
существовавшие в то время. Историческая наука раннего Нового времени по большей части
сводилась к полемике между сторонниками «римских» представлений о свободе,
называвшими идеальными гражданами тех, кто занимается законотворчеством и живет
в соответствии с некоей системой нравственных принципов, и сторонниками «готической»
теории, согласно которой свобода проистекает из собственности на землю, права на которую
защищены законом. В готическом варианте подданный не принимает законов, но старается
жить не нарушая их и при этом лишь самым минимальным образом взаимодействует
с государством. В XVII в. главным адептом этой точки зрения был Гоббс. Неоримская партия,
к которой принадлежали писатель Марчмонт Нидхэм, поэт и чиновник Джон Мильтон,
солдат и сельский джентльмен Джеймс Харрингтон, политик Алджернон Сидней
и писатель-сатирик Генри Невилл, пыталась одолеть Гоббса. Обе группы высмеивали
«монархоборческий» лагерь Генри Паркера, английского адвоката и защитника
парламентаризма, утверждавшего, что суверенный народ делегирует свою свободу тем, кто
им правит
112
.
По словам Скиннера, ему удалось обнаружить существование особой точки зрения
на свободу, сформулированной после казни Карла I, когда Мильтон, Нидхэм и другие встали
на защиту только что провозглашенной республики. Они считали, что действия государства
должны диктоваться волей его граждан. Вместе с тем они критиковали демократию,
при которой народ сам управлял собой, и утверждали, что в итоге к власти приходят
невежественные и жестокие личности. Напротив, представительная власть, за которую они
111 Skinner Q. The Idea of Negative Liberty: Philosophical and Historical Perspectives // Philosophy in History:
Essays in the Historiography of Philosophy / Ed. by R. Rorty, J. B. Schneewind, Q. Skinner. Cambridge, 1984. P. 193–
221; Idem. The Paradoxes of Political Liberty // The Tanner Lectures on Human Values. Vol. VII / Ed. by S. M.
McMurrin. Cambridge, 1986. P. 225–250; Idem. A Third Concept of Liberty // Proceedings of the British Academy.
2002. Vol. 117. P. 237–268.
112 Skinner Q. Liberty before Liberalism. Cambridge, 1998. P. 12, 21 (рус. пер.: Скиннер К. Свобода
до либерализма / Пер. с англ. А. В. Магуна. СПб., 2006); Idem. The Foundations of Modern Political Thought.
Cambridge, 1978. Vol. II . P. 302–348 (рус. пер.: Скиннер К. Истоки современной политической мысли. Т. 2 /
Пер. с англ. А. Яковлева. М., 2018).
52
выступали, гарантировала, что в правительство войдут самые подходящие люди – самые
мудрые и самые добродетельные. Мильтон и Нидхэм признавали, что необходимо иметь
такие законы, которые бы поощряли в людях добродетель, и допускали, что порой бывает
нужно навязывать людям свободу. Впрочем, в первую очередь они стремились осудить
исключительные полномочия правительства. Скиннер придавал этим выступлениям
принципиальное значение и считал их проявлением большой смелости, учитывая ту власть,
которой располагал Кромвель, и общее стремление его режима к насаждению чистоты веры
и общественной дисциплины. Мильтон и Нидхэм полагали, что само существование
исполнительной власти лишает подданных или граждан свободы. Угроза жизни
и собственности, неотделимая от такой власти, называлась ими совершенно незаконной
и неприемлемой, даже если исполнительная власть не пользовалась своими полномочиями.
Соответственно, они выступали не только против ряда видных политиков Английской
республики, но и против гоббсовского определения свободного человека как индивида,
который ничем физически не стеснен, «того, кому ничто не препятствует делать желаемое».
Мильтон и Нидхэм превозносили гражданскую свободу и участие в политике, опираясь
на аргументы в защиту свободы, выдвигавшиеся такими римскими историками
и моралистами, как Саллюстий, Сенека и Тацит
113
.
По мнению Скиннера, сущность неоримской теории была удачно отражена в трактате
Джеймса Харрингтона «Oceana» (1656), в котором он давал ответ на знаменитое изречение
Гоббса о том, что свобода, провозглашенная на башнях итальянского города Лукка, была
иллюзорной, поскольку под властью закона граждане обладают не большей свободой, чем
под властью султана. Харрингтон утверждает: «Даже самый могущественный паша
в Константинополе не более чем арендатор своей головы» из-за наличия у султана
неограниченной возможности распоряжаться жизнью и смертью своих подданных, пусть
даже само существование такой возможности действует на подданных столь угнетающе, что
нужда в казнях возникает лишь изредка. Право султана на убийство являлось такой же
проблемой, как и сама практика смертной казни. Скиннер заключал, что для позиции
неоримлян характерна страстная защита гражданских прав перед лицом государственной
власти. И в этом следует видеть серьезный вклад античного наследия в современную
политику. Скиннер стремится актуализировать точку зрения, согласно которой тот, кто
не свободен от непосредственного принуждения, равно как и от угрозы или возможности
принуждения, не может быть свободен. Наряду с такими философами, как Филип Петтит,
выдвигающий аналогичные аргументы в книге «Республиканизм: теория свободы
и государства»
114
, Скиннер утверждает, что современным людям нужно остерегаться мысли
о том, что они свободны по определению. По мнению как Скиннера, так и Петтита, мы
не свободны, поскольку и государство, и корпоративные структуры в целом располагают
огромным потенциалом принуждения.
Скиннер был уверен, что восстановление утраченной традиции понимания свободы
поможет скорректировать свойственную современной западной политической теории
тенденцию различать две концепции свободы, позитивную и негативную, в духе знаменитой
лекции Исайи Берлина, прочитанной им в Оксфордском университете в 1958 г.
115
По мнению
Скиннера, эта тенденция приводит к поляризации позиций в политических дискуссиях,
как праволиберальных, так и левых. Неоримская традиция, о которой он пишет, стремилась
преодолеть эту грань, внушая и марксистам, и последователям Гоббса мысль
о необходимости защиты гражданских свобод, находящихся в опасности даже в том случае,
113 Skinner Q. Liberty before Liberalism. P. 17–23, 84–87 (рус. пер.: Скиннер К. Свобода до либерализма).
114 Pettit P. Republicanism: A Theory of Freedom and Government. Oxford, 1997 (рус. пер.: Петтит Ф.
Республиканизм: Теория свободы и государственного правления / Пер. с англ. А. Яковлева. М., 2016).
115 Berlin I. Two Concepts of Liberty // Idem. Four Essays on Liberty. Oxford, 1969 (рус. пер.: Берлин И. Два
понимания свободы // Берлин И. Философия свободы. Европа. М., 2001. С. 122 –185; пер. с англ. Л. Седова).
53
когда угроза принуждения редко воплощается в жизнь. Таким образом, исторические труды
Скиннера находятся в полном соответствии с его приверженностью более широкой трактовке
идеи гражданских свобод в сравнении с классическим либерализмом. Скиннер и Петтит
особенно настаивали на том, что отсутствие защиты со стороны закона или механизмов
парламентского представительства и согласования означает рабство.
Вступая
в дискуссии о свободе в современном
мире, Скиннер опирался
на определенный исторический нарратив. Имеются в виду рассуждения о расцвете
и крушении неоримской теории, о важности ее роли в истории политической мысли,
особенно в эпоху, предшествовавшую ее упадку в XIX в. По мнению Скиннера, неоримская
теория оказала «мощное структурообразующее влияние» на республиканцев, выступавших
против правления Карла I и провозгласивших недолговечную английскую республику.
Как утверждал Скиннер, неоримская теория повлияла на революционные движения конца
XVIII в. в Северной Америке и Франции через произведения и действия Генри Сент-Джона,
1-го виконта Болингброка, Ричарда Прайса и Томаса Джефферсона. Однако в XIX в.
неоримские представления о свободе оказались основательно забыты, отчасти по причине
социальных изменений. В поддержку неоримских идей главным образом выступали
независимые джентльмены из сельских районов, а вследствие упадка этого сословия во все
более коммерциализировавшемся мире все меньшее число людей было озабочено угрозой
для свободы, исходившей от исполнительных органов власти с их полномочиями. Еще более
существенно, что неогоббсианцы, такие как Иеремия Бентам, нападали на неоримские идеи
за их нелогичность. Как полагал Бентам, если люди на практике не подвергаются
принуждению, то они фактически свободны и не живут в состоянии зависимости
116
.
Скиннер утверждал, что неоримскую теорию нельзя считать одним из течений
либерализма. Более того, он полагал, что важно реконструировать историю ее взлета
и падения, поскольку она позволит взглянуть на историю либерализма в перспективе,
которая, возможно, заставит нас поставить под сомнение презумпцию ее верховенства среди
влиятельных политических доктрин. Как следствие, мы сможем отчасти оценить, в какой
степени Гоббс был противником римских идей о свободе и в какой мере его идеи развивались
до 1668 г., когда в свет вышло латинское издание «Левиафана»
117
.
Кропотливое изучение
Скиннером архивных документов и рукописей само по себе опровергает шутку о том, что
интеллектуальный историк способен не выходить из своего кабинета и посвящать все свое
внимание печатным книгам. Количество и тематический диапазон публикаций Скиннера
подчеркивают его миссионерское стремление доказать, сколь значим в интеллектуальной
истории труд, необходимый и для расширения исторических познаний, и для накопления
боезапаса, позволяющего бросить вызов господству либеральной идеологии в современной
политической мысли. Как писал Скиннер,
интеллектуальный историк способен помочь нам оценить, в какой мере
ценности, воплощенные в современном образе жизни и способе мыслить эти
ценности, отражают серию выборов, сделанных между различными возможными
мирами в те или иные исторические эпохи. Это понимание поможет нам
освободиться от гипноза того или иного господствующего понимания этих
ценностей и того, как их следует интерпретировать и понимать
118
.
В своих последних работах Скиннер перешел «от метода к политике», как было сказано
116 Skinner Q. A Third Concept of Liberty // Proceedings of the British Academy. Vol. 117. Oxford, 2003; Idem.
Liberty before Liberalism. P. 84–85 (рус. пер.: Скиннер К. Свобода до либерализма).
117 Skinner Q. Hobbes and Republican Liberty. Cambridge, 2007; Idem. On the Liberty of the Ancients and the
Moderns: A Reply to My Critics // Journal of the History of Ideas. 2012. Vol. 73 . No 1. P. 127–146.
118 Skinner Q. Liberty before Liberalism. P. 116–117 (Скиннер К. Свобода до либерализма. С . 97).
54
в 2009 г. на симпозиуме, посвященном его трудам, в Отделении аспирантуры Городского
университета Нью-Йорка. Однако он остается неутомимым защитником интеллектуальной
истории как дисциплины и самым известным в мире ее практиком. Его исследования
получили известность с оттенком скандальности по той простой причине, что они неизменно
вызывают споры, которые с течением времени только сильнее разгораются
119
.
Был ли
достигнут в интеллектуальной истории какой-либо прогресс – вопрос, остающийся
открытым, однако, дабы ощутить, что в этой сфере идут изменения, достаточно почитать,
например, Берлина, а следом Скиннера. По крайней мере читатель увидит, что Скиннер с его
четкостью и резкостью формулировок избегает обобщений и упрощений, свойственных
некоторым статьям Берлина. Берлин блестяще выражал свои идеи, и многие из его метафор –
например, различие между ежом, знающим только одну великую истину и смотрящим на мир
сквозь ее призму, и лисой, знающей много истин и отвергающей монизм, – стали источником
вдохновения уже не для одного поколения его учеников и комментаторов
120
.
Для работ
Берлина нередко характерны неожиданные противопоставления и сравнения – например,
сопоставление Толстого и де Местра, которое использовалось при объяснении исторической
концепции «Войны и мира». Подобные приемы позволяли Берлину, как это было с его
классической книгой «Русские мыслители» («Russian Thinkers», 1978), привлекать к своей
области исследований внимание новой аудитории, но, следует признать, из -за
злоупотребления ими некоторым из его разборов не хватает глубины и историзма. Статья
Скиннера о созданных в XIV в. фресках Амброджо Лоренцетти «Аллегория хорошего
и дурного правления» в Палаццо Публико в Сиене менее удобопонятна по сравнению
с трудами Берлина с точки зрения стиля, но она позволяет читателю оценить глубину
и значение данной темы, в этом смысле представляя интеллектуальную историю во всем ее
блеске
121
.
Методологическая критика подхода Скиннера в последние годы, как правило, ставит
во главу угла возможность объяснять исторические идеи, не прибегая к лингвистической
контекстуализации, как это делают, например Джерри Коэн в своей работе «Историческая
теория Карла Маркса: защита» («Karl Marx’s Theory of History: A Defence», 1978) и в
«Лекциях по истории моральной и политической философии» («Lectures on the History
of Moral and Political Philosophy», 2013) или Джереми Уолдрон в книге «Бог, Локк
и равенство» («God, Locke and Equality», 2002). Ответ Скиннера неизменно сводится к тому,
что аналитические философские методы отлично работают, когда их используют строго
для решения конкретных задач, воздерживаясь от лишенных историзма экскурсов в историю
философии. Именно этот тезис он выдвинул в 1984 г. вместе с Дж. Б. Шнеевиндом
и Ричардом Рорти, а Рорти затем дополнил его предложенным им самим различением между
тем, что он считал абсолютно пригодным аналитическим подходом в философии
и таковым же в интеллектуальной истории
122
. Вместе с тем, однако, Скиннер утверждает, что
интеллектуальная история всегда будет приносить философам неоценимую пользу; они
119 См. критические работы, появившиеся за последние тридцать лет: Bevir M. The Errors of Linguistic
Contextualism // History and Theory. 1992. Vol. 31. P. 276–298; Idem. Mind and Method in the History of Ideas //
History and Theory. 1997. Vol. 36 . P. 167–189; Dosse F. La Marche des idées. Histoire des intellectuels – histoire
intellectuelle. Paris, 2003; Levine J. M . Intellectual History as History // Journal of the History of Ideas. 2005. Vol. 66 .
No 2. P. 189–200; Perreau- Saussine E. Quentin Skinner in Context // The Review of Politics. 2007. Vol. 69. No 1.
P. 106–122; Lamb R. Quentin Skinner ’s Revised Historical Contextualism: A Critique // History of the Human Sciences.
2009. Vol. 22. No 3. P. 51–73.
120 Berlin I. The Hedgehog and the Fox: An Essay on Tolstoy’s View of History. London, 1953.
121 Skinner Q. Ambrogio Lorenzetti’s Buon Governo Frescoes: Two Old Questions, Two New Answers // Journal
of the Warburg and Courtauld Institutes. 1999. Vol. 62. No 3 . P. 1 –28.
122 Philosophy in History. P. 1 –14; Rorty R. The Historiography of Philosophy: Four Genres // Philosophy
in History. P. 49–75 .
55
многое приобретут, если осмыслят трудности, с которыми сталкивались исторические
деятели при решении стоявших перед ними задач, и изучат различные возможности,
имевшиеся в их распоряжении при принятии политических решений. Короче говоря, став
интеллектуальными историками, философы получают представление не только о смысле
высказывания, но и о его исторической прагматике, его ценности с точки зрения
современников, глубине в сравнении с другими актуальными в тот момент суждениями и об
убеждающем воздействии на тех, к кому это высказывание было обращено. В ответ одни
философы спрашивали, что уж такого страшного в анахронизмах, учитывая, что интересы
и устремления философов лежат совершенно в иной плоскости, нежели у историков
123
.
Другие просто решили «сказать „нет“ истории философии»
124
.
Альтернативные способы
примирения философов и историков, такие как перенос акцента на личность философа
при объяснении теорий прошлых эпох у Яна Хантера, оказались более успешными, чем
увещевания Скиннера125
.
Однако, если Скиннеру не удалось объединить лагерь историков
с лагерем философов, он по крайней мере стимулировал появление новых трудов по истории
философии – бесспорно процветающей области
126
. Скиннер постепенно смирился с тем, что
философы используют в своей аргументации исторические факты. Между тем другие
интеллектуальные историки настроены намного более непримиримо. Хороший пример,
с которым должен ознакомиться всякий интеллектуальный историк, – нападки Яна Хантера
на неокантианский подход к истории философии и анализ его влияния на гуманитарные
науки
127
.
Интеллектуальные историки, в отличие от философов, склонны сомневаться
в применимости метода Скиннера к решению исторических проблем. Его интерес
к фиксированному понятию свободы, определяющему историческое развитие школы мысли,
идентичной его собственной политической философии и, согласно его точке зрения,
имеющей непосредственное отношение к проблемам современной политики, перекликается
с основанными на пролепсисе подходами, которые он критиковал в статье «Значение
и понимание в истории идей». Тот факт, что никто из деятелей, чьи взгляды анализирует
Скиннер, не называл себя неоримлянином и не считал себя или своих идейных союзников
защитниками определенной системы воззрений на свободу, породили обвинения в том, что
ученый оперирует неисторическими или в лучшем случае дезориентирующими категориями,
поскольку они не использовались интересующими его историческими акторами. Итак,
в последние годы Скиннер больше, чем кто-либо, способствовал установлению диалога
между философами и интеллектуальными историками. Несмотря на это, представители
одного лагеря заявляли, что в нем слишком много от историка, а другого – что в нем слишком
много от философа. Его определение политики как набора точных, но узких понятий,
123 Rée J. The Vanity of Historicism // New Literary History. 1991. Vol. 22 . P. 961–983.
124 Catana L. Intellectual History and the History of Philosophy: Their Genesis and Current Relationship //
A Companion to Intellectual History. P. 129–140.
125 Hunter I. The History of Philosophy and the Persona of the Philosopher // Modern Intellectual History. 2007.
Vol. 4 . P. 571–600; Hunter I., Condren C. The Persona of the Philosopher in the Eighteenth Century // Intellectual
History Review. 2008. Vol. 18. P. 315–317; The Philosopher in Early Modern Europe: The Nature of a Contested
Identity / Ed. by I. Hunter, C. Condren, S. Gaukroger. Cambridge, 2006.
126 Haakonssen K. The History of Eighteenth-Century Philosophy: History or Philosophy? // The Cambridge History
of Eighteenth-Century Philosophy / Ed. by K. Haakonssen. Cambridge, 2006. P. 3 –25; Catana L. The Historiographical
Concept «System of Philosophy»: Its Origin, Nature, Influence and Legitimacy. Leiden; Boston, 2008; Idem.
Philosophical Problems in the History of Philosophy: What are They? // Philosophy and Its History: New Essays on the
Methods and Aims of Research in the History of Philosophy / Ed. by M. Lærke, J. E. H. Smith, E. Schliesser. Oxford,
2013. P. 115–133.
127 Hunter I. The Mythos, Ethos, and Pathos of the Humanities // History of European Ideas. 2014. Vol. 40. P. 11 –36 .
56
объяснимых в контексте критического осмысления идей о свобод, высказанных Исайей
Берлиным в середине XX в., было сочтено слишком грубым, чтобы служить инструментом
для исторического анализа текстов раннего Нового времени – чему, в частности,
способствовали успехи Покока, а также Джонатана Кларка, Энтони Уотермена, Колина Кидда
и других авторов, изучавших политику этого периода в сочетании с теологией
и политической экономией
128
.
Прозвучавшее в «Свободе до либерализма» утверждение
Скиннера, что идея «гражданской свободы» носила у неоримлян «строго политический»
характер, вызывает недоумение, поскольку из этого следует, будто и сами неоримляне
пользовались понятием политики в узком смысле, примеры чего в их произведениях найти
будет затруднительно. Скиннер подразумевает, что, будучи неоримлянами, они
не интересовались устройством христианской политии или различными формами
международной конкуренции, считавшимися жизненно важными для обеспечения
безопасности. Это ошибка.
Можно показать, что часть вышеуказанных критических аргументов бьет мимо цели,
если мы признаем, что главной задачей Скиннера было разобраться в запутанных спорах
о том, как понималась свобода в Англии XVII в., и в то же время весьма кстати напомнить
своей аудитории, что либерализм сам по себе является историческим конструктом. Скиннер
остается
мастером контекстуального прочтения исторических документов: его
продолжающееся исследование о понятии государства и новая работа о Шекспире
показывают это
129
.
И все же, поскольку ключевую роль в предлагаемой Скиннером
интерпретации современной политической мысли продолжает играть становление
обезличенного государства, главным для него становится вопрос о характере наблюдавшейся
с конца XVII в. реакции на ту великую смену убеждений и установок, которая сопутствовала
подъему коммерческих монархий, имевших возможность финансировать войны за счет
государственного кредита. На эту проблему некоторое время назад обратил внимание Джон
Данн. Он указывает, что определение политического, которое дает Скиннер, является
слишком узким и в целом неприменимым к миру коммерции и роскоши раннего Нового
времени
130
.
По мнению Данна, Скиннер не принимает всерьез экономические ограничения
политики Нового времени в виде национального долга и его последствий для национальной
безопасности, притом что начиная с XVIII в. это – главный предмет политических дискуссий.
В том же духе высказывался и Покок, никогда не забывавший о тех изменениях в политике,
что сопутствовали финансовой революции в начале XVIII столетия
131
.
Когда Скиннер
доходит до XVIII в., предложенные им категории, безусловно, становятся проблематичными.
Противопоставлять неогоббсианцев неоримлянам – например, Иеремию Бентама Ричарду
Прайсу – большого смысла не имеет, поскольку, пока Прайс был жив, оба они во всем
соглашались друг с другом и не имели разногласий ни в отношении того, что такое свобода,
ни в отношении политической программы их покровителя – Уильяма Петти, 2-го графа
Шелбурна. Зачисление в категорию неоримлян французских мыслителей, таких
128 Clark J. C. D. English Society, 1688–1832: Ideology, Social Structure, and Political Practice During the Ancien
Regime. Cambridge, 1985, исправленное издание: English Society 1660–1832: Religion, Ideology and Politics
During the Ancien Regime. Cambridge, 2000; Kidd C. The Forging of Races: Race and Scripture in the Protestant
Atlantic World, 1600–2000. Cambridge, 2006.
129 Skinner Q. A Genealogy of the Modern State // Proceedings of the British Academy. Vol. 162. Oxford, 2008.
P. 325–370; Idem. Forensic Shakespeare. Oxford, 2014.
130 Dunn J. The Identity of the Bourgeois Liberal Republic // The Invention of the Modern Republic / Ed. by B.
Fontana. Cambridge, 1994. P. 209–210.
131 Pocock J. G. A. Quentin Skinner. The History of Politics and the Politics of History // Common Knowledge.
2004. Vol. 10. P. 532–550 (рус. пер.: Покок Дж. Г. А. Квентин Скиннер: история политики и политика истории //
Кембриджская школа: теория и практика интеллектуальной истории. C . 191–217; пер. с англ. А. Акмальдиновой
под ред. Е . Островской).
57
как Бенжамен Констан, или женевца Симонда де Сисмонди вызвало критику, которая
вынудила Скиннера пересмотреть свою концепцию
132
. Нельзя сказать, будто все написанное
Скиннером о XVIII в. и последующих эпохах неверно, но следует заключить, что в XVIII в.
нечто изменило характер политики на Западе. Если хотим понять суть идеологий, которые
продолжают формировать политическую повестку по сей день, мы должны начинать именно
с этой точки – с взаимоотношений между политикой, политэкономией и теологией.
По мнению Джона Данна, подлинные основы современной политической мысли можно
найти в трудах покойного Иштвана Хонта, коллеги Данна по Кембриджу. В «Торговой
зависти» («The Jealousy of Trade», 2005) и других работах Хонт описывал политические
баталии по поводу взаимоотношений между политическим контролем над экономикой
и экономическим контролем над политикой, развернувшиеся после того, как Давид Юм
попытался опровергнуть точку зрения Бернарда Мандевиля на коммерческое общество.
В защите права на существование интеллектуальной истории Хонт был даже более
амбициозен, чем Скиннер. Он видел в интеллектуальной истории жизненно важную
дисциплину, с помощью исторического анализа способную оценить современные идеологии
и выявить их сильные и слабые стороны. Проблема политической теории XX в. заключалась
в приверженности реалистической или либеральной традициям мысли, опиравшимся
на «туннельные прочтения истории», оправдывавшие эти традиции исторические нарративы.
«Туннельные прочтения» были некорректными, поскольку они оставляли в стороне вопрос
о политизации экономики. Этот процесс радикально изменил интеллектуальную жизнь
последних десятилетий XVII в. и более позднего времени, став предметом исследования
в целом ряде замечательных работ о взаимоотношениях между политикой и экономикой
в XVIII в. Хонт настаивал, что ученые утратили способность понимать мысль XVIII в. из-за
развращающих идеологий, появившихся после Французской революции. Он не шутил,
утверждая, что XIX и XX вв. с точки зрения политических идей были «второсортными».
По его мнению, если мы хотим разобраться в современной политике, нам необходимо
изучить «период, когда взаимозависимость политики и экономики впервые заявила о себе
в качестве центральной темы политической теории». В «Торговой зависти» Хонт поставил
цель вернуться к Давиду Юму и Адаму Смиту, поскольку реконструкция их политических
взглядов без оглядки на современные нам идеологии дает возможность «обнаружить
в теориях международного рыночного соперничества XVIII в. политические озарения,
которые сохраняют свою актуальность и в XXI столетии». Именно такова цель
интеллектуальной истории – дисциплины, наиболее полезной в тех случаях, когда она
«указывает на тупиковые пути и избавляет дискуссию от стереотипно воспроизводящихся
противоречий». «Торговая зависть» представляет непосредственный пример «исторической
работы такого рода, с неослабным вниманием к вызовам современного мира»
133
.
Иллюстрацией тезиса Хонта об интеллектуальной истории также служат труды Майкла
Соненшера и Белы Капосси, работавших с ним в тесном сотрудничестве
134
.
Программа, предложенная Хонтом интеллектуальным историкам, основывается
на следующем представлении: дабы разобраться в современной политике, не стоит
обращаться ни к Гоббсу, ни к Марксу. Более того, громадное влияние, оказанное ими
на философов и историков, вредило исследованиям нескольких поколений ученых. Согласно
132 Garsten B. Liberalism and the Rhetorical Vision of Politics // Journal of the History of Ideas. 2012. Vol. 73 . No 1.
P. 83 –93; Urbinati N. Republicanism after the French Revolution: The Case of Simonde de Sismondi // Journal of the
History of Ideas. 2012. Vol. 73 . No 1. P. 95 –109.
133 Hont I. Jealousy of Trade: International Competition and the Nation-State in Historical Perspective. Cambridge,
MA, 2006. P. 2–5.
134 Kapossy B. Iselin contra Rousseau: Sociable Patriotism and the History of Mankind. Basel, 2006; Sonenscher M.
Before the Deluge: Public Debt, Inequality, and the Intellectual Origins of the French Revolution. Princeton, 2007;
Idem. Sans-Culottes: An Eighteenth-Century Emblem in the French Revolution. Princeton, 2008.
58
Хонту, Гоббс не был вполне «современным», модерным мыслителем, поскольку он
не предложил адекватного анализа взаимоотношений между торговлей и государством. Хонт
называет Гоббса одним из последних ренессансных гуманистов, исходя из того, что «в его
политике нет места экономике в каком-либо значимом смысле». Откликаясь на тогдашнюю
критику работ Скиннера, Хонт пишет, что размышления Гоббса – это «практически чистая
политика». Работам Маркса присущ противоположный недостаток. Маркс стремился
полностью отказаться от политики, заменив ее «чистой меновой экономикой подлинных
человеческих потребностей, очищенной от искажающего воздействия частной собственности
и ее политического стража, государства». Такое стремление было утопическим бредом
и привело к установлению авторитарных политических режимов. Хонт имел опыт
непосредственного знакомства с ними, так как вырос в коммунистической Венгрии. В 1970-х
гг. он сбежал в Англию вместе с женой Анной Хонт. По его утверждению, два главных
вопроса современности таковы: можно ли изучать экономику вне ее отношений с политикой
или же, наоборот, между экономикой и политикой существуют сложные связи, так
как «современная представительная республика... обладает избирательным сродством
с рынками». Для ответа на эти вопросы требуется вернуться к мыслителям, оставшимся
непревзойденными в плане «аналитической глубины»: к Юму и Смиту, поскольку их
«представления о будущем как о глобальном рынке конкурирующих коммерческих
государств... и по сей день не могут не привлекать нашего внимания»
135
.
Хонт признает значение республиканской критики рынков, реконструированной
Пококом
в «Моменте
Макиавелли»:
республиканцы
считали
причиной
войн
и международного соперничества торговую зависть. Более того, он согласен с утверждением
Покока, что республиканские идеи стали ассоциироваться с воинственностью в значительной
степени благодаря естественному праву и политической экономии. Республиканская
воинственность служила естественным источником «зависти государств»: если мы хотим
мира, то ее необходимо устранить из политической жизни. Согласно проницательной мысли
Хонта, между ренессансным республиканизмом и коммерческой модерностью сложилась
важная политическая синергия. Ее следует искать главным образом в отношениях «между
республиканской доктриной национального величия и современной политикой глобальных
рынков»
136
.
Государственный, в узком смысле – своекорыстный интерес проникал
в международную коммерцию в виде торговой зависти. Кроме того, упор на самооборону
в республиканских политиях сочетался с республиканским патриотизмом. Республиканским
патриотизмом и национальными интересами оправдывались империалистические замыслы
в отношении слабых наций за пределами Европы, многие из которых превратились
в зависимые территории либо через присоединение к европейским империям, либо
посредством
экономического
подчинения.
Когда же
национальные
интересы
и республиканский патриотизм регулировали торговлю между европейскими державами, то
возникали совершенно иные формы национальной политики. В XVIII в., по мнению Хонта,
широкое распространение получили аргументы о необходимости войны с «монополиями»,
а также экономическая практика, направленная на разрушение торговли соседних государств;
классический пример – разорение Ирландии Англией, вызванное тем, что экономический
потенциал Ирландии считался угрозой для английской торговли. В результате сложился
намного менее безопасный мир, в котором войны ради экономических преимуществ стали
обыденностью. Как считает Хонт, интеллектуальная история нашего мира, особенно в том,
что касается взаимосвязей между политикой и политической экономией, только начинает
обретать форму. Хонта интересовало, каким образом государственный интерес подрывали
подходы к политике, основанные на добродетели, в результате чего восторжествовали
национализм, меркантилизм и этноцентризм. Так сложился мир ложных демократий –
135 Hont I. Jealousy of Trade. P. 4 .
136 Ibid. P. 11 .
59
ложных в том смысле, что людям на практике не позволяли становиться политическими
игроками и участвовать в принятии политических решений. В этом и заключалась темная
сторона Просвещения.
Глядя на историю с этой точки зрения, Хонт рекомендовал «выбросить за борт
концептуальный багаж XIX и XX веков», отказаться от идеи третьего пути, пролегающего
между либерализмом и марксизмом, и отнестись с недоверием к понятию модерности. Он
был уверен, что интеллектуальная история в значительной степени существует в виде
«прикладной политической идеологии»
137
.
Герберт Баттерфилд усматривал в вигской
интерпретации истории апологию английского национализма. Историки -виги старались
замаскировать реальный процесс становления нового мира XIX в., возводя его к истории
прежних эпох и к отечественным традициям. Таким образом они создавали «ложное
историческое сознание». В глазах Хонта главным в Кембриджской школе было то, что она
пыталась продолжить дело Баттерфилда. Кембриджские историки делали это двумя
способами. В основе первого из них лежала работа Покока о влиянии идей Макиавелли. Хонт
называл английский макиавеллизм «стержневым дискурсом вигской интерпретации истории»
и подчеркивал связь между двумя исследователями; в самом деле, в 1952 г. Покок защитил
докторскую диссертацию под научным руководством Баттерфилда. Вторым важным
аспектом деятельности Кембриджской школы, по мнению Хонта, служили труды Данкана
Форбса. В 1960-х и 1970-х гг. Форбс дал поразительно детальную панораму того, как Юм
опровергал «вульгарное вигское» утверждение, будто британская свобода своим рождением
обязана протестантизму и бунту
138
.
Согласно «скептической вигской интерпретации» Юма,
основой всех форм свободы скорее являлась гражданская свобода, опиравшаяся на защиту
собственности и сложившаяся в ходе постепенного развития торговли. Не существовало
никакой изначальной саксонской свободы, а для гражданской свободы не требовалось
наличия свободы политической. По мнению Юма, для насаждения гражданской свободы
по всей Европе в повторении там английских гражданских войн XVII в. не было
необходимости. Хонт видел свою задачу в том, чтобы развить интерпретацию Форбса,
отказавшись от его «пренебрежения политической экономией». Достижение Адама Смита
заключалось в разъяснении тезиса, согласно которому источники современной свободы
лежат в торговле. Смит следовал аргументам Юма, но намного более точно раскрыл
происхождение свободы. Как он считал, и Римскую империю, и государства феодальной
Европы погубила роскошь. Впрочем, после падения империи некоторые римские города,
занимавшиеся коммерцией, уцелели, продолжая использовать издавна сложившиеся
торговые пути на Восток. Именно пристрастие феодальных элит, существовавших в крупных
монархиях, к потреблению предметов роскоши, поставлявшихся из стран Востока, подорвало
их социальную и политическую мощь. Согласно точке зрения Смита в реконструкции Хонта,
не ренессансный республиканизм был источником европейской свободы. Итальянские города
развивались экономически (и, соответственно, в них укреплялось аристократическое
самоуправление), но лишь потому, что они снабжали европейские монархии во время
Крестовых походов. Смит делал печальный вывод, что европейская свобода не являлась
следствием свободы политической. Он признавал, что «политические и коммерческие игроки
всегда преследуют краткосрочные интересы, не желая видеть долговременных последствий».
Торговля росла лишь благодаря тому, что экономические потребности войны порождали
милитаризованную элиту, ценившую гражданскую свободу. Распространение гражданской
свободы по Европе было «следствием соединения роскоши и войны».
Ключевой урок европейского экономического развития, по мнению Смита, заключался
в том, что оно, как выразился Хонт, шло «в обратном порядке». Иными словами, началось
137 Hont I. The Cambridge Moment: Virtue, History and Public Philosophy, неопубликованная лекция, декабрь
2005 г., университет Chiba: István Hont Archive, St Andrews Institute of Intellectual History, 11–13.
138 Forbes D. Hume’s Philosophical Politics. Cambridge, 1975.
60
оно еще при римлянах с торговли предметами роскоши с доставкой товаров на дальние
расстояния. Следом постепенно развивалась внутренняя торговля, и лишь в самую
последнюю очередь произошла коммерциализация сельского хозяйства. Как известно, Смит
предостерегал против физиократических, равно как и меркантилистских стратегий
политических и экономических реформ, широко распространенных в 1770-х и 1780-х гг.
Хонт указывал, что большим достижением Смита была предложенная им в «Богатстве
народов»
«стратегия
исправления
экономики,
не разрушавшая
экономического
и политического своеобразия Европы. В этом смысле его книга являлась великим –
возможно, величайшим оплотом гражданской свободы и ее уникальных европейских
экономических предпосылок, защищавшим их от всего наносного». Смиту, как и Юму,
удалось разрушить иллюзии в отношении истории европейской свободы и презумпцию о ее
связи как с античными традициями, так и с современными формами политической свободы.
По мнению Хонта, «туннельные трактовки», неспособные обойтись без телеологии,
возникают тогда, когда историки занимают те или иные политические позиции.
Соответственно, именно это происходило в тех случаях, когда интеллектуальные историки
выступали поборниками республиканизма или естественного права как важнейших сил
в истории развития европейской свободы. С точки зрения Хонта, происходившее
в Кембридже в 1970-х гг. может быть названо формированием «антишколы», объединявшей
самых разных по своим воззрениям ученых, разделявших скептицизм в отношении
либерального, марксистского, штраусианского и постмодернистского подходов к прошлому.
Членом этой группы можно считать каждого, кто признавал, что идеологии соответствующей
эпохи не учитывали взаимосвязей между экономикой и политикой и что эти взаимосвязи
могут быть выявлены в ходе интеллектуально-исторических исследований.
Ответ Покока на обвинение интеллектуальной истории в безразличии к проблемам
современной жизни чрезвычайно своеобразен. В последние десятилетия Покок в целом
избегает политической философии как сферы исследований и продолжает четко проводить
различие между политической ангажированностью и исторической осведомленностью.
Покок сделал больше, чем какой-либо другой исследователь в области изучения великих
исторических нарративов раннего Нового времени, и показал, что они означали для их
создателей и, что более существенно, для их читателей, ссылавшихся на них в ходе
политических, теологических и экономических дискуссий. Он выяснил, что исторические
трактовки в большинстве случаев складываются в рассказ о происхождении некоторого
сообщества, дополняющий другой классический сюжет о непрерывности существования
этого сообщества во времени. Эти нарративы оспариваются, подвергаются пересмотру, снова
оспариваются, и так до бесконечности
139
.
По мнению Покока, они входят в структуру
личности индивидуума как один из элементов, не менее важный, чем традиционные
определения собственной идентичности. Одной из ключевых тем «Момента Макиавелли»
служит все более и более сильный страх, порождаемый утратой личностной целостности,
якобы сопровождавшей коммерциализацию общества. Свобода в глазах гражданских
гуманистов и новых республиканцев зависела от «сохранения личностью цельности,
необходимой для действия в истории». История, особенно в XVIII в., превратилась в процесс,
«который делает эту цельность ненадежной». Исторические трактовки важны потому, что
они обрисовывают проблему личности в истории и рассматривают потенциальные решения
в случае утраты этой целостности
140
.
В последние годы Покока беспокоит то обстоятельство, что процесс, выявленный им
применительно
к эпохе Просвещения,
ускоряется
из-за утраты
суверенитета,
139 Pocock J. G. A. The Politics of Historiography // Idem. Political Thought and History. Essays on Theory
and Method. Cambridge, 2009.
140 Pocock J. G. A. The Machiavellian Moment: Florentine Political Thought and the Atlantic Republican Tradition.
P. 572 (рус. пер.: Покок Дж. А. Г. Момент Макиавелли. Политическая мысль Флоренции и атлантическая
республиканская традиция. С . 790).
61
сопровождавшей развитие федеративных взаимоотношений в Европе и других регионах.
Покок родился в Лондоне, но вырос в Новой Зеландии, в семье переселенцев в четвертом
поколении, неудивительно поэтому, что его особенно интересует утрата идентичности и ее
последствия. Именно это случилось в 1973 г., когда англичане бросили Новую Зеландию
и других членов давнего Британского содружества на произвол судьбы, вступив
в европейский общий рынок. Покок уже не один десяток лет призывает рассматривать
британскую историю в более широкой перспективе, исходя из того, что Британия – бывшая
империя, периферия которой может сказать нам не меньше, чем ее ядро – «Малая Англия».
В особенности Покок стремится подчеркнуть значение Британии в пределах, как он
выражается, «Атлантического архипелага». По его мнению, размышления об истории
и национальной независимости с использованием этого подхода всегда порождают дискуссии
о господстве, субъектности и суверенитете. Его собственные изыскания превратили его
в редчайшего
зверя –
по выражению
Колина
Кидда,
в «либерального
интеллектуала-евроскептика»
141
.
Покок озабочен не только утратой государствами национального суверенитета
в процессе становления общеевропейских политических структур. Еще большее
беспокойство у него
вызывает сопутствующая
этой политике
историография,
рассматривающая
Британию
как неотъемлемый
элемент
европейской
истории
и идентичности. Разумеется, между Британией и Европой всегда существовали связи
и взаимоотношения, но Покок настаивает на ошибочности представления о том, что
Британию можно без оговорок включать в различные континентальные нарративы,
по отношению к которым британское государство традиционно находилось в оппозиции.
В своих работах, в первую очередь в «Варварстве и религии», он подверг критике
представление о Европе как о континенте, указывая, что она всегда представляла собой лишь
субконтинент, полуостров громоздкой земельной массы Евразии. В рамках современной
историографии Покок нападает на то, что он называет «постисторической культурой»,
которая, особенно в тех случаях, когда она подвергается влиянию постмодернистских
нарративов о смерти автора или о недоступности знаний о прошлом и настоящем,
отказывается и от исторических нарративов как таковых. Покок задается вопросом: что, если
«постисторическая идеология», утверждающая, что история выдумана писателями,
свидетельствует об окончательном распаде исторической личности?
142
Вместе с тем он
напоминает читателям, что «состязание продолжается и до финиша еще далеко»
143
.
Для Покока, опирающегося на вечно опровергаемые и переосмысляемые исторические
нарративы, идеалом является либеральная полития, в которой переплетаются и пользуются
авторитетом множественные идентичности. Покок полагает, что задача по созданию
государства, устроенного по типу политии, со временем усложнилась: в нашу эпоху средства
связи и коммуникации принимают новые формы, в свою очередь вызывая дальнейшие
изменения идентичности. Покок убежден, что «я» никогда не исчезнет, едва ли нас ждет
конец истории, следовательно, процесс создания исторических нарративов продолжится.
По его мнению, именно этому и способствует либеральная политика.
На более прозаическом уровне значимость интеллектуальной истории может быть
подтверждена рядом опубликованных в последние десятилетия работ, вносящих вклад
в наши знания об идеях прошедших эпох. Трудно вспомнить автора или идею, о которых мы
за это время не узнали больше. Помимо этого, интеллектуальные историки, применяя навыки
141 Kidd C. Europe, What Europe? Review of J. G. A. Pocock, The Discovery of Islands: Essays in British History,
Barbarism and Religion. Vol. III: The First Decline and Fall and Barbarism and Religion. Vol. IV: Barbarians, Savages
and Empires // London Review of Books. 2008. Vol. 30 . No 21. P. 16–17.
142 Pocock J. G. A . Conclusion: History, Sovereignty, Identity // Idem. The Discovery of Islands: Essays in British
History. Cambridge, 2005. P. 293.
143 Pocock J. G. A . Gaberlunzie’s Return // New Left Review. 2000. Vol. 5 . P. 41 –52.
62
текстуального анализа, подготовили и опубликовали – как в сетевых, так и бумажных
изданиях – небывалое прежде количество текстов, созданных авторами прошлого. Один
из наиболее известных примеров – работа Джеймса Бернса, Филипа Скофилда и многих
других интеллектуальных историков,
инициировавших
и претворявших в жизнь
в Университетском колледже Лондона «Бентамовский проект», плодами которого стали
новаторские издания книг и рукописей Бентама. Еще один ведущий интеллектуальный
историк, Кнуд Хааконсен, уникален в смысле количества подготовленных им к изданию
исторических произведений. Впрочем, это вполне типично для интеллектуального историка –
видеть свою роль не только в объяснении идей мыслителей прошлого нынешнему
поколению, но и в подготовке научно выверенных изданий, рассчитанных на изучение
и реинтерпретацию будущими поколениями ученых. Образцом в этом отношении служит
предпринятое Хааконсеном «Эдинбургское издание произведений Томаса Рида». Множество
других интеллектуальных историков занимаются как подготовкой и комментированием
текстов, так и новым истолкованием идей авторов, чьи произведения они печатают.
Показателен, например, вызов нашим представлениям о Максе Вебере, брошенный Питером
Гошем
144
.
Если
учесть
успехи
издательств,
идущих
в авангарде
интеллектуально-исторических исследований, таких как Cambridge University Press с серией
книг «Идеи в контексте» и более старой серией «Кембриджские тексты в истории
политической мысли» или Фонд свободы с сериями «Онлайн-библиотека свободы»
и «Классики Просвещения и естественного права», то вклад интеллектуальной истории
станет очевидным. Издание текстов для широкого круга современных читателей, а также
подробнейшие разборы этих сочинений опровергают давние заявления о том, что
интеллектуальная история – наука по своей природе элитарная и снобистская.
Подобные обвинения, неизменно выдвигаемые в адрес Кембриджской школы, можно
услышать и в наши дни
145
.
Впрочем, трудно вспомнить интеллектуального историка,
который бы всячески избегал иметь дело с каким-либо текстом на том основании, что он
написан представителем низов. Об этом говорит Э. П. Томпсон в своем исследовании
«Общие обычаи» (1991), опирающемся на множество текстов, в которых выражаются
взгляды простых людей, поддерживающих то, что он называет «моральной экономикой», –
ее, по его словам, Адам Смит и другие полит экономы во второй половине XVIII в.
недооценивали. Хонт и Игнатьев в изданном под их редакцией сборнике «Богатство
и добродетель» (1981) указывают, что считать, будто дискуссии XVIII в. велись между
капиталистами и рабочими, означает приписывать аргументы XX в. прежним эпохам,
упрощая таким образом историческую интерпретацию
146
.
Томпсон в ответ язвительно
спрашивал, чего еще можно ожидать от сотрудников кембриджского Кингс-колледжа –
естественных наследников тех, кто два века назад на все лады осуждал бедных, о которых
идет речь в его работах
147
.
Нет сомнений, что интеллектуально-исторический взгляд на эту проблематику вполне
себя оправдал: мы получили гораздо более нюансированное представление о том, что Адам
Смит понимал под собственностью и что означало право на собственность в эпоху
Просвещения. Если мы хотим понять Смита и его мир, то объявлять философа и других
политэкономов естественными врагами рабочей партии бессмысленно. И сегодня мы можем
144 Ghosh P. A Historian Reads Max Weber. Wiesbaden, 2008; Idem. Max Weber and «The Protestant Ethic». Twin
Histories. Oxford, 2014.
145 McMahon D. The Return of the History of Ideas // Rethinking Modern European Intellectual History. P. 26.
146 Hont I., Ignatieff M. Wealth and Virtue: The Shaping of Political Economy in the Scottish Enlightenment.
Cambridge, 1981. P. 14 –15.
147 Thompson E. P. Customs in Common: Studies in Traditional Popular Culture. London, 1991. P. 274–285, 350–
351.
63
признать это благодаря успехам интеллектуальной истории. Собственно говоря, одна
из важнейших задач интеллектуального историка – выявлять случаи, подобные
томпсоновскому, когда имеет место пролепсис, ибо Томпсон вчитывает в исторические
документы идеи, которые появились в последующие эпохи. Дональд Винч в статье, которую
можно назвать идеальной отправной точкой для любого человека, интересующегося
интеллектуальной историей, показал, что случаи пролепсиса можно найти в посвященных
Англии XIX в. работах Ф. Р. Ливиса, Э. П. Томпсона и Рэймонда Уильямса, в которых
дискуссии той эпохи сводятся к противостоянию романтиков (хорошие) и утилитаристов
(плохие)148
. Стремление построить новый Иерусалим, свободный от рынков и материализма,
придает точке зрения этих историков на прошлое определенную окраску, в результате чего
идеи прошлого предстают в карикатурном виде.
Обвинение в неактуальности утратило силу: еще одним свидетельством этого служит
развитие интеллектуальной истории в странах, где прежде ей не удавалось пустить корни.
Например, можно сказать, что во Франции, где господствовала школа «Анналов»,
воплощением которой являлись труды Фернана Броделя, посвященные longue durée («время
большой длительности»), и выполненные в том же русле работы таких историков экономики,
как Эрнест Лабрус («Esquisse du mouvement des prix et des revenus en France au XVIIIe siècle»,
1932), интеллектуальная история твердо встала на ноги стараниями Франсуа Фюре,
Жан-Клода Перро, Марселя Гоше, Пьера Розанваллона, Филиппа Штайнера и других
149
.
В частности, французским интеллектуальным историкам принадлежат наиболее значимые
новейшие работы в области экономической и юридической мысли
150
.
Как отмечают Дэррин
Макмахон и Сэмюэл Мойн, «трудно вспомнить время, когда интеллектуальная история
играла столь же заметную роль, в масштабных историографических проектах, а равно и в
гуманитарных науках в целом»
151
.
Глава 6
Интеллектуальная история в настоящем и будущем
Как правило, интеллектуальные историки склонны скептически относиться
к утверждениям о прогрессе и успехах познания за пределами естественных наук. Широко
распространено мнение, будто убедительные версии альтернативного будущего, если
говорить об идеях, с равной вероятностью можно найти в любой исторической эпохе.
С учетом этого представления спекуляции о возможном будущем интеллектуальной истории
особенно нецелесообразны. Наша цель состоит скорее в том, чтобы очертить круг проблем,
вызывающих у современных интеллектуальных историков озабоченность в отношении их
собственной дисциплины. Во-первых, интеллектуальные историки в целом согласны с тем,
что следует ожидать все новых и новых дискуссий и что это как раз внушает оптимизм.
148 Winch D. Mr. Gradgrind and Jerusalem // Idem. Wealth and Life. Essays on the Intellectual History of Political
Economy in Britain, 1848–1914. Cambridge, 2009. P. 367 –398 .
149 Furet F. Penser la révolution française. Paris, 1978; Perrot J. - C . Une histoire intellectuelle de l’économie
politique, XVIIe
– XVIIIe
siècles. Paris, 1992; Gauchet M. La Révolution des droits de l’homme. Paris, 1989;
Rosanvallon P. Le Moment Guizot. Paris, 1985; Idem. Le Sacre du citoyen. Histoire du suffrage universel en France.
Paris, 1992; Oudin- Bastide C., Steiner P. Calcul et morale. Coût de l’esclavage et valeur de l’émancipation (XVIII e
–
XIXe siècles). Paris, 2015.
150 Steiner P., Vatin F. Traité de sociologie économique. Paris, 2009; de Champs E., Cléro J. - P. Bentham et
la France: fortune et infortunes de l’utilitarisme. Oxford, 2009; Le Cercle de Vincent de Gournay: Savoirs économiques
et pratiques administratives en France au milieu du XVIIIe siècle / Sous la direction de L. Charles, F. Lefebvre, C.
Théré. Paris, 2011.
151 McMahon D. M ., Moyn S. Introduction: Interim Intellectual History // Rethinking Modern European Intellectual
History. P. 3 .
64
Влиятельной остается точка зрения Покока, опирающегося, в частности, на Майкла
Оукшотта, согласно которой изыскания в гуманитарной сфере можно описать
как продолжающийся многоголосый разговор. Соответственно, продолжаются споры о том,
следует ли пользоваться при описании идеологий прошлого такими общими понятиями,
как «Средневековье», «Ренессанс», «Реформация», «Просвещение» и «модерность».
В частности, ключевое место в исследованиях по-прежнему занимают взаимоотношения
между древними и новыми. В этом плане опять же показательны труды Хонта. Он видит себя
на одном из полюсов спектра, состоящего из ученых, стремящихся ответить на тезис Р. Г.
Коллингвуда о том, что вопрос о наследии античного мира следует рассматривать прежде
всего в идейном контексте. По мнению Хонта, античные представления о политике в XVIII в.
подверглись глубокой трансформации. Другие, в том числе Скиннер, считают, что
для понимания современного мира по-прежнему прекрасно подходит категориальный
аппарат, которым пользовались греки и римляне. Напротив, Покок и Энтони Графтон
убеждены, что в тех случаях, когда речь идет об интеллектуальном наследии, доставшемся
авторам XVII и XVIII вв. и переданном последующим поколениям, понятие «античный»
правильно заменить более общими понятиями, которые бы учитывали древние
и средневековые философские школы Ближнего, Среднего и Дальнего Востока152
.
Второй главный водораздел проходит между теми исследователями, которые вслед
за Скиннером утверждают, что поворотной точкой в европейской истории, на которую порой
указывают как на кульминацию процесса секуляризации, стал момент, когда
интеллектуальным дискуссиям стало тесно в рамках теологической аргументации. По этой
причине нет нужды проявлять чрезмерное внимание к богословию в эпоху Просвещения,
которая сама по себе получила определение как период окончательной секуляризации
153
.
От историков не укрылась ирония истории, состоявшая в том, что процесс объявления
религиозных
текстов
спорными
сплошь
и рядом
ошибочно
воспринимался
как разновидность секуляризации. Резкое развитие библейской критики наблюдалось еще
в годы Реформации. Католические ученые ставили под сомнение авторитет священных
текстов, поскольку тем самым они могли прямо оспорить убеждение протестантов
в сакральной природе Слова. В свою очередь, протестанты нападали на авторитет папы
и церковных соборов. В то же время и в протестантской, и в католической среде шел процесс
обновления христианства, принимавший различные формы. Многие интеллектуальные
историки указывали, что вместе с окончанием религиозных войн в XVI в. произошел
тектонический сдвиг в сфере мысли, ознаменовавший перемены, впоследствии названные
становлением модерности. По мнению других ученых, теология перестала быть
детерминантой политических процессов позже: в конце концов даже Локк считал
богословские труды самыми важными из своих произведений и рассматривал их прежде
всего как вклад в будущее христианства.
Наиболее характерен в этом смысле переход от Локка к Давиду Юму. Так, некоторые
специалисты утверждают, что конец «христианского тысячелетия», как именовал его Гиббон,
приходится лишь на XVIII в. Как хорошо известно, Юм на протяжении всей своей жизни
считал, что его преследуют обвинения в ереси и атеизме. Впоследствии Смит отмечал, что
его короткий рассказ о мирной кончине Юма навлек на его голову больше яростных нападок,
чем какое-либо иное из написанных им произведений
154
.
Многочисленные исследователи
152 Grafton A., Weinberg J. «I Have Always Loved the Holy Tongue»: Isaac Casaubon, the Jews, and a Forgotten
Chapter in Renaissance Scholarship. Cambridge, MA, 2011.
153 Gay P. The Enlightenment: An Interpretation: The Rise of Modern Paganism. New York, 1966; эта точка зрения
снова выдвигается в работах: Israel J. The Radical Enlightenment. Oxford, 2001; Idem. Enlightenment Contested:
Philosophy, Modernity, and the Emancipation of Man 1670–1752. Oxford, 2006.
154 Письмо Адама Смита Андреасу Холту от 26 октября 1780 г.: The Glasgow Edition of the Works
and Correspondence of Adam Smith. Vol. 6: Correspondence of Adam Smith / Ed. by S. E . C. Mossner, I. S. Ross.
Oxford; Indianapolis, 1987. P. 251.
65
делали из этого вывод, что нам следует признать важность религии и богословской полемики
на протяжении XVIII и XIX вв., соглашаясь с известной характеристикой, данной Британии
XVIII в. Джонатаном Кларком: «Ancien régime» («Старый порядок») во французском смысле.
Таким образом, в интеллектуальной истории заметен теологический поворот
155
.
С этим
обстоятельством связана одна из самых интересных дискуссий в сфере интеллектуальной
истории – по вопросу о том, в какой мере Просвещение следует рассматривать
как совокупность различных течений и процессов национального и иного характера, включая
Католическое просвещение, Арминианское просвещение и его англиканские варианты,
или же оно, в соответствии с традиционными воззрениями, представляет собой единое
историческое явление, дававшее о себе знать в различных местах по всей Европе
на протяжении конкретного периода времени
156
. Новые факты в поддержку последней точки
зрения выдвинул Джон Робертсон, проследив историю Просвещения в Неаполе и Шотландии
на протяжении 80 лет с 1680 по 1760 г.
157
Неаполь, католическое владение испанских
Габсбургов в Южной Италии, и Шотландия, пресвитерианская страна, подчиненная Англии,
сильно отличались друг от друга. При всем том у них было много общего: споры по вопросу
о наследовании, экономические проблемы, участие в заморской торговле, заочные правители
и исключительно сильное чувство региональной идентичности. По мнению Робертсона,
Просвещение являлось ответом на новую общественно-политическую ситуацию,
сложившуюся в тот момент, когда торговля развилась до такой степени, что стала диктовать
новые представления о гражданских обязанностях. Направляющей силой Просвещения
являлась рефлексия в рамках новой дисциплины – политической экономии, которая выросла
из разновидности эпикурейской философии, связанной с августинианством. Несмотря
на спорный характер этой ключевой идеи, работа Робертсона воплощает в себе все сильные
стороны интеллектуальной истории в ее нынешнем виде, с легкостью преодолевающей
границы между дисциплинами и углубляющей наши знания о множестве авторов, редко
рассматриваемых в совокупности – от Эндрю Флетчера из Сальтуна и Адама Фергюсона
до Джамбаттисты Вико, Паоло Маттиа Дориа, Антонио Дженовези и Гаэтано Филанджери.
Все это не означает, что интеллектуальная история пребывает в полном здравии.
Следует помнить, что не всем она кажется убедительной, хотя уже и не вызывает прежнего
отторжения
у историков
других направлений. Ярчайшим
примером
отказа
от интеллектуальной истории является случай Питера Ласлетта – человека, который, наряду
с Коллингвудом, стоял у самых истоков этой дисциплины. К 1960-м гг. Ласлетт в своей серии
сборников «Философия, политика и общество» (издававшейся с 1957 г.) призывал
обращаться к более аналитическим разновидностям философии для изучения социальных
проблем. Также его интересовало, в какой степени выступления Роберта Филмера, в которых
выступал за сохранение патриархальных социальных структур в семье и государстве,
отражали реалии XVI в. По его мнению, изучение социальных структур с помощью методов
исторической демографии имело большее значение, чем исследование работ отдельных
мыслителей при помощи контекстуального анализа. Предпринятое Ласлеттом исследование
разных групп населения и домохозяйств до и после индустриализации легло в основу его
155 Hilton B. The Age of Atonement: The Influence of Evangelicalism on Social and Economic Thought, ca. 1795–
1865. Oxford, 1988; Young B. Religion and Enlightenment in Eighteenth-Century England. Oxford, 1998; Waterman A.
Political Economy and Christian Theology Since the Enlightenment. Essays in Intellectual History. London, 2004; Kidd
C. The Forging of Races: Race and Scripture in the Protestant Atlantic World, 1600–2000. Cambridge, 2006; Vance N.
Bible and Novel: Narrative Authority and the Death of God. Oxford, 2013.
156 Pocock J. G. A. Clergy and Commerce: The Conservative Enlightenment in England // L’Età dei lumi: studi
storici sul Settecento europeo in onore di Franco Venturi / A cura di R. J. Ajello e al. Napoli, 1985. P. 525–562; Sorkin
D. The Religious Enlightenment: Protestants, Jews, and Catholics from London to Vienna. Princeton, 2008.
157 Robertson J. The Case for the Enlightenment. Scotland and Naples 1680–1760. Cambridge, 2005.
66
наиболее известного труда, «Мир, который мы потеряли: Англия до индустриальной эпохи»
(«The World We Have Lost: England Before the Industrial Age», 1965). Хотя личные бумаги
Ласлетта после его смерти в 2001 г. не были переданы в общедоступный архив и мы
не располагаем информацией из первых рук, но, похоже, он считал интеллектуальную
историю неспособной дать ответ на интересовавшие его вопросы о прошлом и потому ему
пришлось обратиться за помощью к современным общественным наукам – прежде всего
к социологии. В глазах Ласлетта идеальным историком являлся Фернан Бродель, величайший
из представителей школы «Анналов» и один из тех людей, кто меньше всего интересовался
идеями. В последние годы жизни Ласлетт носил с собой открытку с подписью Броделя,
предъявляя ее в качестве верительной грамоты
158
.
Другая область, в которой интеллектуальная история, можно сказать, не нашла
приверженцев, – это история экономической мысли. Как указывал Дональд Винч, история
экономической науки, как правило, пишется экономистами и для экономистов:
Все это примеры практической истории, изолированной ветви истории идей.
Представлена она единственной дисциплиной, которая, по причинам, связанным
с профессиональной
гордостью,
педагогической
направленностью
и соответствующими критическими задачами, более ценится занимающимися
ею же коллегами. В периоды доверия, когда экспертные экономические знания
представляются надежными и по этой части наблюдается явный прогресс, история
экономики обычно пишется как рассказ об овладении мастерством. Кроме того, она
может быть изложена как пример бесшабашной отваги с целью поднять боевой
дух. В такое время господствующая историография носит преимущественно
вигский характер и стремится ответить на генеалогические вопросы (что от кого
и когда произошло) телеологическим образом (что и почему оказалось успешным
с точки зрения современного корпуса знаний)159
.
История экономической науки имела значение в глазах современных экономистов, когда
марксисты, неорикардианцы или кейнсианцы проявляли интерес к родословной теории
и политики, за которые они выступали. Впрочем, ныне эта область совершенно вытеснена
на обочину учебной программы студентов и аспирантов экономических факультетов. Многие
экономисты, одержимые математическими моделями и статистической проверкой больших
баз данных, либо путают историю экономической науки с историей собственно экономики,
либо игнорируют и то и другое, считая их не имеющими никакого отношения к своей
дисциплине
160
. Когда они все же проявляют интерес к своим предшественникам, их подходы
в большинстве случаев настолько далеки от практики интеллектуальной истории, насколько
это вообще можно себе представить. И все это несмотря на тот факт, что интеллектуальные
историки предыдущего поколения, не в последнюю очередь сам Винч, внесли существенный
вклад в историю экономики
161
. Складывается настолько мрачная картина, что один видный
английский историк экономической мысли на своей факультетской веб-странице призывал
студентов иметь в виду, что «перспективы академической карьеры для обладателей ученых
степеней в этой области ничтожны и существуют лишь в немногих местах (если вообще
не балансируют на грани исчезновения, по крайней мере в Европе и Северной Америке)».
158 Об этом мне рассказал Майкл Бентли.
159 Winch D. Intellectual History and the History of Economics // A Companion to Intellectual History. P. 170.
160 Backhouse R., Fontaine P. The Unsocial Social Science? Economics and Neighbouring Disciplines since 1945.
Durham, 2010; Tribe K. The Economy of the Word. Language, History and Economics. Oxford, 2015.
161 Clarke P. The Keynesian Revolution in the Making, 1924–1936. Oxford, 1988; Waterman A. M . C . Revolution,
Economics and Religion. Cambridge, 1991; Moggridge D. E . Maynard Keynes; An Economist’s Biography. London,
1992.
67
Равным образом, когда история экономической мысли все же становится объектом
исследования, представители этой науки зачастую относятся к числу авторов, наиболее
склонных к пролепсису и телеологии. В этом плане показательны работы Сэмюэла
Холландера, в которых как «открытие» преподносится, например, утверждение о том, что
Давида Рикардо следует считать прямым предшественником Леона Вальраса и Альфреда
Маршалла. Подобный пример сфабрикованной родословной сам по себе служит повторением
былых попыток Маршалла выстроить генеалогическое дерево экономики с учетом
квазинационалистических принципов
162
.
Интеллектуальную историю нельзя назвать абсолютно успешным делом, если учесть
степень живучести вигских подходов к истории. Более того, в некотором смысле сейчас они
являются общим местом в большей степени, чем когда-либо прежде. При любом знакомстве
с популярными историческими журналами, с отделом исторической литературы в книжных
магазинах любого города и даже со взглядами прославленных историков, приглашенных
на радио или на телевидение, становится очевидным преобладание такого подхода
к прошлому, который противников пролепсиса вгоняет в краску. Первый шаг к изображению
истории в подобном свете – оценка прошлого с точки зрения нравственности. Второй –
указание на прямую и непосредственную причину сегодняшнего явления в прошлом.
Третий – выведение простой морали из судьбы того или иного исторического лица. Она
может заключаться в очевидном: как же странно был устроен мир в прошлом, или –
в большинстве случаев – как же нам повезло, что в целом мы живем более разумно, богато
и счастливо. Одновременно мораль может сводиться к тому, что те или иные исторические
личности столько сделали для сотворения нашего мира, что нам следует у них учиться
и учиться, или что мы должны следовать их примеру, поскольку они принесли людям много
добра или были весьма могущественны. Недавний пример такого рода – книга Эндрю
Робертса, незатейливо названная «Наполеон Великий» (2014). Еще один пример. На обложке
рождественского номера самого успешного из современных исторических журналов – BBC
History – за 2012 год мы находим вопрос, был ли англосаксонский мир «сельской идиллией
или местом
невзгод
и неравенства»,
и приглашение
«отправиться
за покупками
с римлянами», узнаем об «опасных игрушках Тюдоров», свидетельствующих, что, как и
сегодня, «пьеса XVI века может перерасти в трагедию», а также о «политтехнологах
Наполеона». На обложке более свежего номера, за январь 2015 г., ставится вопрос, не был ли
Карл II, из-за подверженности «опасной сексуальной обсессии», слишком «скандальной
персоной для того, чтобы быть правителем». Знакомство с некоторыми статьями в подобных
изданиях лишний раз показывает, до какой степени многие практикующие историки
по-прежнему уверены, что мы изучаем прошлое в поисках предвестий настоящего, что
прошлое интересно только благодаря его связям с нашим собственным миром, что следует
подходить к историческим проблемам, применяя известные нам категории, и что необходимо
давать моральную оценку историческим деятелям и тем эпохам, в которые они жили.
Вполне оправданное обоснование такого подхода состоит в том, что он прививает
людям интерес к истории, показывая, что она самым тесным образом переплетена
с настоящим или, напротив, настолько чужда нам, что это само по себе заслуживает
внимания. Одно из отрицательных последствий описанной тенденции: книжные полки
полнятся изданиями, авторы которых признают, что при создании своих трудов опирались
на чужие работы и по большей части или полностью игнорировали источники – при том, что
все большее число политиков и публичных фигур начинают видеть в написании по крайней
мере одной книги по истории некий обязательный ритуал. С учетом количества подобных
работ упоминание одной-единственной книги может показаться несправедливым, однако я
все-таки сделаю это. Хороший пример такого рода опусов – книга Джесси Нормана, депутата
162 Hollander S. Ricardo – The New View: Collected Essays 1. London; New York, 1995. Пример работы,
избегающей пролепсиса и националистической родословной: Albertone M. National Identity and the Agrarian
Republic. The Transatlantic Commerce of Ideas between America and France (1750–1830). Farnham, 2014.
68
британского парламента от консерваторов, «Эдмунд Берк: философ, политик, пророк» (2013),
попавшая в шорт-листы нескольких премий и получившая многочисленные положительные
отзывы. И это понятно: Норман хорошо владеет пером и отлично знаком с опубликованными
произведениями Берка. В то же время если мы посмотрим на его книгу как на работу
в области интеллектуальной истории, то возникнет целый ряд проблем. Автор
разграничивает жизнь Берка и его воззрения, причем, разбирая последние, он называет Берка
«творцом современной политики», «стержнем политической модерности» и «первым
постмодернистским политическим мыслителем, главным и величайшим критиком
современности и того, что называют либеральным индивидуализмом». Кроме того,
из творчества Берка извлекаются уроки, которые могут пригодиться современным
политикам: власть нужно ограничивать, лидеру нужно мыслить независимо, нужно избегать
абстрактных принципов, нужно возрождать нечто называемое «общественными
ценностями». Проблема в том, что Норман почти ничего не знает об интеллектуальных
полемиках в эпоху Берка. То, что он именует «Просвещением», также предстает здесь
в карикатурном виде. Норман делит мыслителей на сторонников, с одной стороны, принципа
и абстракции, а с другой – практичности и точности. Наконец, такие авторы, как Норман,
не желают признавать факт, очевидный для всех современников Берка в 1790-х гг., – то, что
он призывал воевать с революционной Францией не на жизнь, а на смерть. Берк полагал, что,
пока сторонники революции не будут стерты с лица земли, никто не будет в безопасности. Он
считал несущественным, какими свободами придется пожертвовать в пору кризиса и что
Англия при этом могла подойти вплотную к банкротству. Вместо того чтобы исповедовать
продуманную консервативную идеологию, оставляемую в наследство грядущим поколениям,
Берк умер с убеждением, что идеологии его эпохи обесценились и нуждаются в радикальном
пересмотре, ибо они потерпели поражение в битве с революционным республиканизмом,
исходящим из Парижа. Критик может возразить, что академическая интеллектуальная
история неизбежно малопонятна для массовой аудитории и по этой причине таких авторов,
как Норман, следует только хвалить, поскольку они знакомят читателей с непростой темой.
Пусть даже и так, но можно привести примеры книг, созданных интеллектуальными
историками и обращенными к широкой аудитории, – таких, как прекрасно написанная
«Пагубная чистота» Рут Скарр
163
.
Интеллектуальных историков объединяет то, что они никогда ничего не напишут,
не ознакомившись с произведениями исторических фигур, вызывающих у них интерес.
Полагаться на чужие интерпретации и игнорировать первоисточники для них немыслимо.
Интеллектуальным историкам чаще всего несвойственен телеологический взгляд на прошлое
(хотя отдельные исключения имеют место). Собственно, на момент написания нашей книги
мы можем зафиксировать тенденцию, особенно заметную в Северной Америке, придавать
интеллектуальной истории видимость злободневности с помощью поиска истоков важных
для нас идей и обещаний показать истинные основания нынешних представлений о мире.
Разумеется, в США существует множество исследователей, приверженных обусловленной
скептицизмом осторожности, характерной для интеллектуальной истории последних
десятилетий. В то же время именно в Северной Америке интеллектуальные историки
зачастую втягиваются в большие дискуссии о значении понятия модерности. Исследованиям
такого рода присущ телеологический поиск корней современных идей. Как следствие, в свет
выходят книги, авторы которых пытаются отыскать первую тотальную войну, глобальную
революцию, конституцию, системы равенства перед законом, бесклассовое общество и т. д.
ит.п.
164
Некоторые из этих авторов отличаются поразительной начитанностью. В то же время
163 Scurr R. Fatal Purity: Robespierre and the French Revolution. London, 2006.
164 Goldstein Sepinwall A. The Abbé Grégoire and the French Revolution: The Making of Modern Universalism.
Berkeley, 2002; Pincus S. 1688: The First Modern Revolution. Newhaven, 2009; Bell D. A. The First Total War:
Napoleon’s Europe and the Birth of Warfare as We Know It. New York, 2007.
69
трудно понять, например, почему Стиву Пинкусу в работе «1688: первая современная
революция» было так важно обозначить голландское вторжение в Англию, которое он
называет ключом к «Славной революции», еще и как «первую современную революцию».
Пинкус не приводит сравнительного обзора прочих революций, главным образом потому, что
книга посвящена 1688 г. и его непосредственным последствиям. Пинкус не исследует идею
революции, и у читателя создается впечатление, что постановка вопроса о том, являлись ли
события 1688–1689 гг. первой современной революцией, –
это чисто маркетинговая
стратегия, призванная привлечь внимание тех, кому интересны последующие эпохи.
Пожалуй, самый яркий пример возвращения к вигской истории, ошибочно
ассоциируемого с Лавджоем и его проектом истории идей, – это работы Джонатана Израэля.
Израэль, историк экономики, изучавший Испанскую и Голландскую империи, став
сотрудником Принстонского университета, начал издавать толстые тома с описаниями
разных версий Просвещения, уделяя особое внимание радикальным и демократическим
архетипам. Израэль утверждает, что «пакет базовых ценностей», включавший толерантность,
гражданскую свободу, демократию, половое и расовое равноправие и свободу слова
и мнений, был сформирован критиками философии XVIII в., многие из которых являлись
последователями Баруха Спинозы и членами сети его сторонников, продолжавших
иконоборческую работу великого амстердамского ученого-энциклопедиста
165
.
Как считает
Израэль, апология демократии, которую он находит в трудах Спинозы, базировалась на идее
социального равенства и отказе от социальных иерархий; она была воспринята такими
французскими писателями-просветителями, как Дидро и Гольбах, а затем – французскими
революционерами, от которых перешла к нам. Прослеживая становление современных идей
с конца XVII в., Израэль задается вопросом, действительно ли такие личности, как Марат
или Робеспьер, всецело преданные радикальной идеологии, были демократами. Он высоко
оценивает абсолютную приверженность делу демократии и гражданской свободы, которую
он приписывает Томасу Пейну или Джозефу Пристли, причем такая верность объявляется им
ключом как к успеху демократического проекта, так и к рациональному отказу
от теологического понимания политики – еще одному продукту радикального Просвещения
и признаку наступления модерности. Труды Израэля привлекательны тем, что он, подобно
Скиннеру и Пококу в 1970-х гг., обращается к самым масштабным историческим вопросам.
Это одна из причин его успеха. Однако, с точки зрения скептически настроенного
интеллектуального историка, было бы ошибкой описывать идеи эпохи Просвещения так,
как это делает Израэль, и утверждать, что в ходе Французской революции и после нее они
каким-то образом подверглись модернизации.
В XVIII в. для оправдания демократии требовалось показать, что она совместима
с коммерческим
обществом.
Традиционно она
ассоциировалась с гражданскими
и международными войнами, с правлением невежд, с господством толпы, с возвышением
демагогов и в пределе – с крахом этой формы государства и переходом власти к диктатору,
чаще всего облаченному в форму военачальника. Демократические взгляды все же
встречались, но их сторонники полагали, что такое государство могло выжить лишь там, где
можно было рассчитывать, что политическое сообщество останется добродетельным,
патриотичным, отдающим все свои силы сохранению политии и невосприимчивым
к искусам роскоши и коммерции, которые неизбежно ведут к порче общественных
отношений. Неудивительно, что многие сторонники демократии были жителями небольших
европейских государств, в особенности республик, сумевших уцелеть в мире, господство
в котором захватывали большие коммерческие монархии. Спиноза, конечно же, жил в стране,
представлявшей собой редкий пример новой республики эпохи раннего Нового времени, –
165 Israel J. The Radical Enlightenment. Oxford, 2001; Idem. Enlightenment Contested: Philosophy, Modernity,
and the Emancipation of Man 1670–1752. Oxford, 2006; Idem. A Revolution of the Mind: Radical Enlightenment
and the Intellectual Origins of Modern Democracy. Princeton, 2009; Idem. Democratic Enlightenment: Philosophy,
Revolution, and Human Rights 1750–1790. Oxford, 2011.
70
речь о Голландской республике, которая возникла на волне патриотических настроений
в ходе войны с Испанией, длившейся с 1568 по 1648 г. Республики, подобные небольшим
политиям, входившим в состав федеративного голландского государства, а также
аналогичным образом организованным швейцарским кантонам или независимым
республикам, уцелевшим со времен Ренессанса – таким, как Венеция и Генуя, –
вырабатывали различные стратегии выживания. Они включали в себя строительство
городских стен, активную дипломатию, стремившуюся обеспечить равновесие сил на местах,
союзы с более сильными соседями, связи с крупными государствами, исповедовавшими
ту же религию, экономическую специализацию и, в первую очередь, патриотизм,
ассоциировавшийся с мужеством (virtus), позволявший жителям браться за оружие и отважно
сражаться против захватчиков в моменты кризиса. Проблемой для сторонников подобных
стратегий – таких, как Спиноза, – было то, что времена менялись и XVIII в. оказался отмечен
возраставшей мощью торговли, принимавшей бóльшие масштабы там, где существовали
крупные рынки. Это давало крупным государствам громадные преимущества с точки зрения
экономического развития. Доходы от торговли, а также возможность брать кредиты
под обещание будущих доходов выливались в военные расходы, порождая разрыв в силе
между крупными и мелкими государствами, менявший всю картину международных
отношений. С точки зрения многих наблюдателей, малые государства и республики, а равно
и связанная с ними идея демократии явно уходили в небытие, вовсе не являясь рассадниками
того, что называется модерностью.
Возможный выход из затруднения для республиканцев и демократов состоял
в объединении с более крупными государствами, как произошло в случае Шотландии, или в
заключении с ними более тесных союзов в надежде на то, что удастся сохранить
независимость и одновременно воспользоваться военной мощью более крупного партнера.
Во второй половине XVIII в. многие мелкие государства старались заручиться
покровительством Британии, видя в ней потенциальную защитницу своего суверенитета.
Опасность заключалась в том, что Британия как коммерческая держава могла разрушить
экономику мелких государств, давая им гарантии фиктивной независимости за счет их
включения в состав своей экономической империи. Французская революция создала другую
возможность. После того как революционное государство отказалось от войн и от имперских
амбиций и обещало защищать свободу по всему миру, на горизонте как будто бы замаячил
новый мир небольших суверенных стран, республик и демократий. Впрочем, многие
демократы в старых республиках не верили, что обширная полития может стать республикой
или демократией. Некоторые радикалы, включая участников гражданской войны начала
1780-х гг. в Женеве, поддерживали демократию, когда она развивалась в мелких
государствах, но решительно выступили против нее, когда она явилась в обличье
французского революционного государства. Как отмечалось в первой главе нашей книги,
было бы ошибочно считать, что Руссо, радикальный философ-просветитель, одобрил бы
события во Франции, произошедшие после его смерти. Французская революция прошла путь
от демократии до демагогии, от гражданской войны до военного господства, а затем и до
восстановления самодержавной империи, тем самым явив еще один пример того, чего
следует ожидать от любого народного государства. Все это не стало сюрпризом
для современников. В новых обстоятельствах республиканцы обратили свои взоры
к Британии – стране, которую ненавидело множество радикальных философов.
И политические деятели, и наблюдатели, включая бывших революционеров, обратились
за помощью к Британии, поскольку были уверены, что Французская революция потерпела
крах. Урок, преподанный революцией, заключался в том, что обретение гражданских
и политических свобод посредством народной революции есть путь, неизменно ведущий
к катастрофе. Применительно к повествованию Израэля все это означает, что никакого
прямолинейного перехода от Просвещения к модерности не существовало, идею свободы
нельзя рассматривать в отрыве от идей войны и экономики, а Французская революция
отнюдь не передала эстафету демократии XIX в. – она сделала ровно противоположное.
71
Сходный пример того, как бывший интеллектуальный историк возвращается к вигским
практикам, мы находим в лице Дэвида Вуттона, автора ряда работ о ересях, неверии
и политической мысли в Европе раннего Нового времени
166
.
Затем Вуттон обратился
к истории науки. Данный случай не столь однозначен из-за самого предмета разысканий.
Науку можно считать уникальной сферой исследований по причине очевидности прогресса,
достигнутого учеными, и наглядности преобразований, вызванных разработанными ими
технологиями. Если и есть такая сфера, в которой прежним идеям можно дать однозначную
оценку с точки зрения их правильности или ошибочности, то это история натурфилософии
и естественных наук. Сам Герберт Баттерфилд, что бы он ни думал о вигской теории истории
в других областях, предложил совершенно вигскую интерпретацию истории науки в книге
«Истоки современной науки: 1300–1800» («The Origins of Modern Science: 1300–1800», 1949),
в которой он показал масштабы прогресса и описал триумф изобретательства. Развитие идей
было наиболее очевидно в такой сфере, как медицина, однако историки медицины, как и
историки науки вообще, вслед за Томасом Куном пытаются разобраться в идеях с учетом
контекста времени их возникновения и ссылаются на гипотезы и конвенции, которые
регулируют научную практику. Классический пример такого подхода – книга Стивена
Шапина
и Саймона Шаффера «Левиафан и воздушный
насос: Гоббс, Бойль
и экспериментальная жизнь» («Leviathan and the Air-Pump: Hobbes, Boyle, and the
Experimental Life», 1985), в которой утверждается, что нападки Гоббса на экспериментальный
метод Роберта Бойля были не эпизодом борьбы истины против лжи, а, скорее, следствием
конфликта между различными социальными философиями, правильность которых с точки
зрения науки не казалась современникам очевидной. Напротив, Вуттон в работе «Скверная
медицина: как вредили врачи, начиная с Гиппократа» («Bad Medicine: Doctors Doing Harm
Since Hippocrates», 2006) находит в истории медицины проявления добра и зла, причем добро
дает о себе знать только начиная с 1865 г., когда Джозеф Листер стал использовать
антисептики при хирургических операциях, после того как врачи 2300 лет больше вредили
пациентам, чем спасали их. Вуттон ранжирует известных в прошлом ученых и указывает
на ряд ошибок, препятствовавших прогрессу в медицине, называя их плодами откровенного
невежества. Подобно Ласлетту в его последних работах, Вуттон обращается к текстуальному
анализу и использует для обоснования своих аргументов весь инструментарий
интеллектуальной истории. Впрочем, одновременно с этим он пишет, что цель «Скверной
медицины» – сделать историческую науку актуальной для широкой публики благодаря
выявлению «фантастических технологий», на которые опиралась медицинская практика
до конца XIX в. Стоит признать, что интеллектуальные и прочие историки, отказываясь
выносить оценочные суждения в отношении изучаемых ими предметов, снижают значение
и актуальность своих трудов для общества.
Однако интеллектуальная история вовсе не проповедует релятивизм. Ее задача – дать
более нюансированное представление о мысли прошлого, выяснить, как она возникла,
и понять, почему имели смысл различные варианты решения проблем, встававших перед
людьми в прошлом, а также выявить, в какой степени на их деятельность накладывали
ограничения идеологические конструкты, с которыми они сталкивались в своей жизни.
Чувство эмпатии в отношении деятелей прошлого историку необходимо, но это не влечет
за собой оправдания былых воззрений и поступков. Если интеллектуальные историки
склонны к скепсису в отношении проектов, обещающих возможность совершенствования,
и несклонны быть революционерами, то это проистекает из признания того факта, что
на протяжении всей истории человечества действия влекли за собой непреднамеренные
последствия, а идеи, сформулированные автором, переиначиваются его непосредственной
аудиторией и в известной степени изобретаются заново последующими поколениями,
166 Wootton D. Paolo Sarpi: Between Renaissance and Enlightenment. Cambridge, 1983; Idem. New Histories
of Atheism // Atheism from the Reformation to the Enlightenment / Ed. by D. Wootton, M. Hunter. Oxford, 1992; Idem.
Divine Right and Democracy: An Anthology of Political Writing in Stuart England. Cambridge, MA, 2003.
72
живущими в ином интеллектуальном контексте. В свою очередь, это означает, что
интеллектуальные историки, несмотря на все трудности изучения любых проблем прошлого
или настоящего, получают более полное представление о том, почему некая идея была так
важна, и о возможностях, открывающихся перед историческими акторами или перед нами
самими, благодаря знаниям о слоях истории, из которых складывалась и продолжает
складываться интеллектуальная жизнь. Как писал Джон Данн, знание того, как работают
исторические идеи – например, демократия или либерализм, – позволяет прочувствовать
ограниченные возможности политического активизма и в то же время ведет к признанию
того факта, что сменявшие друг друга в Новое время политические доктрины не сумели дать
ничего из того, что они обещали, в первую очередь обеспечить прочный мир
167
.
Подобный
вывод вовсе не подразумевает отречения от политики или интеллектуальной жизни. Он
скорее оправдывает создание гораздо более тонких инструментов для изучения идеологий
прошлого и настоящего. Хороший современный пример такого рода – работа Колина Кидда,
который снабдил аргументами сторонников юнионизма в Шотландии, показав, насколько
выступления за единую Великобританию шли рука об руку с шотландским национализмом
и вовсе не были враждебны ему, в чем нас пытаются убедить многие политики
168
.
Другой
пример – доводы Стефана Коллини в защиту гуманитарных исследований от обвинений
в том, что они не вносят никакого вклада в экономический рост и потому не заслуживают
государственного финансирования в университетах
169
.
Заключение
Интеллектуальные историки занимаются реконструкцией намерений, которые были
у авторов, когда они писали свои тексты. Они соединяют изучение важнейших и менее
известных опубликованных текстов того или иного автора и изучение всего спектра
доступных рукописных источников. Кроме того, они соотносят произведения авторов
прошлых эпох с окружавшим их идеологическим контекстом, дабы выяснить, что же
все-таки авторы делали, чего добивались, работая с идеями своей эпохи. У сегодняшних
студентов, занимающихся интеллектуальной историей, когда они сталкиваются с тем же
самым автором, работы прибавилось: им нужно прочесть далеко не только самые известные
труды изучаемых ими исторических акторов. В идеале студент-историк должен соотнести
произведения данного автора с другими произведениями эпохи, прочесть все значимые
работы, имеющие отношение к главным произведениям автора и питавшему их
идеологическому контексту. Такой подход дает более глубокое понимание автора или идеи,
особенно по сравнению с работами, которые ограничиваются одной лишь оценкой идей,
приписываемых давно умершим сочинителям. Более того, интеллектуальная история
вызывает у нас чувство уважения к прошлому и к авторам, сталкивавшимся в чуждом для нас
интеллектуальном мире с трудностями, которые сегодня едва ли осознаются.
Многие из лучших интеллектуальных историков утверждают, что критический
и научный подходы несовместимы. Если интеллектуальный историк сталкивается
с тошнотворным утверждением или идеей, высказанными автором иной эпохи, он не обязан
выступать с осуждением. Главное – понять, как автору удалось протащить эту идею и почему
в контексте той эпохи подобные высказывания были допустимы. Так мы получаем более
комплексное представление о том, что тогда происходило, и начинаем понимать, что некое
суждение, каким бы тошнотворным оно нам ни казалось, в свое время было вполне
нормальным. Впрочем, полностью избежать оценочного отношения к текстам нельзя,
167 Dunn J. The Cunning of Unreason: Making Sense of Politics. New York, 2000.
168 Kidd C. Union and Unionisms: Political Thought in Scotland 1500–2000. Cambridge, 2008.
169 Collini S. What Are Universities For? Harmondsworth, 2012.
73
по крайней мере вот в каком смысле. Интеллектуальные историки правы, когда возмущаются
поверхностно-критическим прочтением текстов прошлых эпох. Нас окружают суждения,
почерпнутые из исторических произведений, и с ними приходится считаться. И совершенно
бесполезно пытаться поставить мыслителей и деятелей прошлого к стенке, состоящей
из нынешних моральных ценностей, и расстреливать их за то, что они не похожи на нас.
Возвращаясь к метафоре Джона Барроу, можно сказать, что интеллектуальные историки
заменяют такую практику подслушиванием разговоров, которые ведутся чужаками,
попытками увидеть вещи с давно забытой точки зрения, переводом на более понятный язык
трудных для понимания идей, проникнуть в суть которых читатели без посторонней помощи
не способны.
В настоящее время позиции интеллектуальной истории исключительно сильны.
Интеллектуальных историков можно найти во всех ведущих университетах по всему миру
на множестве гуманитарных факультетов. Это обстоятельство привело к дискуссии о том,
как заниматься интеллектуальной историей в глобальную эпоху, и, в частности,
о взаимоотношениях между интеллектуальной историей и глобальной историей. Дэвид
Армитедж указывает, что интеллектуальная история обладает всем необходимым, чтобы
интерпретировать самые разные идеи, сформулированные в самые разные эпохи и внутри
самых разных культур, и предлагает для описания подобной работы термин «история
в идеях». Армитедж подчеркивает ошибочность представлений о том, что интеллектуальные
историки рассматривают только отдельные идеологические эпизоды в узком и четко
ограниченном контексте, поскольку на самом деле интеллектуальных историков всегда
интересовали долгосрочные изменения
170
.
Впрочем, в некоторых отношениях идея
глобальности входит в противоречие с интеллектуально-историческими исследованиями.
В наши дни интеллектуальные историки сплошь и рядом занимаются восстановлением
локальных контекстов и поиском материалов, утраченных из-за доминирования
национальных подходов. И акцент на глобальных перспективах может оказаться еще
большим преступлением, поскольку локальное и частное неизбежно будет вызывать
ощущение возросшей исторической дистанции. Кроме того, выделять что-то в качестве
объекта глобальной истории – занятие сомнительное, поскольку с точки зрения
интеллектуальной истории глобальным может быть все что угодно. Таким образом, смотреть
на что-то с глобальной точки зрения означает утверждать, что один объект имеет глобальное
значение, а другой – нет. Как указывают Сэмюэл Мойн и Эндрю Сартори, опасность здесь
состоит в том, что мы вновь провозглашаем господство западных либеральных идей
и ошибочно пересаживаем их на чуждую им почву
171
.
В то же время, как подчеркивается
в сборнике «Глобальная интеллектуальная история», вышедшем под редакцией Мойна
и Сартори, интеллектуальная история помогает проследить процесс миграции идей и ареал
их распространения, а также изучать неизбежную их трансформацию при пересечении
границ между странами и культурами. Нельзя допустить, чтобы итогом стало возвращение
к изучению «вершин духа» и пренебрежению к происходящему у их подножия из-за
сосредоточенности на фигурах с глобальной репутацией (что бы это ни значило). Ученым,
избежавшим этих грехов и написавшим работы, которые можно назвать образцовыми
для интеллектуальных историков, интересующихся глобальными идеями, является Джон
Покок. В его книгах из серии «Варварство и религия» («Barbarism and Religion»)
рассказывается о распространении идей в Римской империи и об их истории после ее
падения, включая их перемещение по просторам гигантской Евразии и их использование
в атлантическом мире и в странах, составлявших Британскую империю в конце XVIII в.
170 Armitage D. What’s the Big Idea? Intellectual History and the Longue Durée // History of European Ideas. 2012.
Vol. 38 . No 4. P. 493–507; Idem. Globalizing Jeremy Bentham // History of Political Thought. 2011. Vol. 32. No 1. P. 63 –
82.
171 Sartori A. Global Intellectual History and the History of Political Economy // Global Intellectual History / Ed.
by S. Moyn, A. Sartori. New York, 2014. P. 110–132; Moyn S. On the Non-Globalization of Ideas // Ibid. P. 187–204.
74
Еще более общий вопрос – способна ли интеллектуальная история вдохновить новые
поколения исследователей. Приносит ли интерес к чему-то порой сугубо локальному
и частному, к людям узко мыслящим и нередко заблуждавшимся, к тем, кто воодушевлялся
религией, и к тем, кто был полон скептицизма, достаточно плодов, чтобы убедить политиков
и университетских казначеев финансировать подобные проекты? Необходимо убедить этих
счетоводов, что картина исторических изменений, в которой долгосрочные процессы носят
постепенный и разнонаправленный характер, нередко являются непредсказуемыми
и неизменно влекут за собой непредвиденные последствия, достойна поощрения, а не
порицания за неспособность давать возвышенные, но упрощающие реальность ответы,
которые нравятся журналистам и политикам. Именно созданием такой сложной картины
занимаются многие из интеллектуальных историков, о которых шла речь в нашей книге.
Рекомендуемая литература
Классические работы
Berlin I. The Power of Ideas / Ed. by H. Hardy. London, 2001.
Burrow J. W. A History of Histories. Epics, Chronicles, Romances and Inquiries from
Herodotus and Thucydides to the Twentieth Century. Harmondsworth, 2009.
Burrow J. W. A Liberal Descent. Victorian Historians and the English Past. Cambridge, 1981.
Collini S. Absent Minds: Intellectuals in Britain. Oxford, 2006.
Dunn J. The Cunning of Unreason: Making Sense of Politics. New York, 2005.
Forbes D. Hume’s Philosophical Politics. Cambridge, 1975.
Haakonssen K. Natural Law and Moral Philosophy. From Grotius to the Scottish
Enlightenment. Cambridge, 1996.
Hirschmann A. O. The Passions and the Interests. Political Arguments for Capitalism before
Its Triumph. Princeton, 1977 (рус. пер.: Хиршман А. О. Страсти и интересы. Политические
аргументы в пользу капитализма до его триумфа / Пер. с англ. Д. Узланера. М., 2012).
Hont I. The Jealousy of Trade: International Competition and the Nation-State in Historical
Perspective. Cambridge, MA, 2006.
Hunter I. The Mythos, Ethos, and Pathos of the Humanities // History of European Ideas.
2014. Vol. 40. P. 11–36.
Kidd C. The Forging of Races: Race and Scripture in the Protestant Atlantic World, 1600–
2000. Cambridge, 2006.
Lovejoy A. O. The Great Chain of Being: A Study of the History of an Idea. Cambridge, MA,
1936 (рус. пер.: Лавджой А. О. Великая цепь бытия. История идеи / Пер. с англ. В .
Софронова-Антомони. М., 2001).
Moyn S. The Last Utopia: Human Rights in History. Cambridge, MA, 2010.
Perrot J. - C. Une histoire intellectuelle de l’économie politique, XVIIe
–XVIIIe
siècles. Paris,
1992.
Pocock J. G. A . The Machiavellian Moment: Florentine Political Thought and the Atlantic
Republican Tradition. Princeton, 1975 (рус. пер.: Покок Дж. Г. А. Момент Макиавелли.
Политическая мысль Флоренции и атлантическая республиканская традиция / Пер. с англ. Т.
Пирусской под общ. ред. Т. Атнашева и М. Велижева. М ., 2020).
Pocock J. G. A. Virtue, Commerce, and History: Essays on Political Thought and History,
Chiefly in the Eighteenth Century. Cambridge, 1985.
Robertson J. The Case for the Enlightenment. Scotland and Naples 1680–1760. Cambridge,
2005.
Schofield P. Utility and Democracy: The Political Thought of Jeremy Bentham. Oxford, 2006.
Shapin S., Schaffer S. Leviathan and the Air-Pump: Hobbes, Boyle, and the Experimental
Life. Princeton, 1985.
75
Skinner Q. The Foundations of Modern Political Thought. 2 vols. Cambridge, 1978 (рус.
пер.: Скиннер К. Истоки современной политической мысли: В 2 т. / Пер. с англ. А.
Олейникова, А. Яковлева. М., 2018).
Skinner Q. Meaning and Understanding in the History of Ideas // History and Theory. 1969.
Vol. 8. No 1. P. 3–53 (рус. пер.: Скиннер К. Значение и понимание в истории идей //
Кембриджская школа: теория и практика интеллектуальной истории / Сост. Т. Атнашев, М.
Велижев, пер. с англ. Т. Пирусской. М ., 2018. С. 53–122).
Sonenscher M. Before the Deluge: Public Debt, Inequality, and the Intellectual Origins of the
French Revolution. Princeton, 2007.
Winch D. Adam Smith’s Politics. An Essay in Historiographic Revision. Cambridge, 1978.
История интеллектуальной истории
Bentley M. The Life and Thought of Herbert Butterfield: History, Science, and God.
Cambridge, 2011.
Bentley M. Modernizing England’s Past: English Historians in the Age of Modernism, 1870–
1970. Cambridge, 2005.
Butterfield H. Christianity and History. London, 1949.
Butterfield H. The Englishman and History. Cambridge, 1944.
Butterfield H. The Whig Interpretation of History. London, 1931.
The Cambridge Companion to Leo Strauss / Ed. by S. B. Smith. Cambridge, 2009.
Chadwick O. Acton and History. Cambridge, 1998.
Clive J. Macaulay: the shaping of the historian. New York, 1973.
Forbes D. Historismus in England // Cambridge Journal. 1951. Vol. 4. P. 387–400.
Forbes D. The Liberal Anglican Idea of History. Cambridge, 1952.
Gilbert F. History: Politics or Culture? Reflections on Ranke and Burckhardt. Princeton,
1990.
Goldie M. J. N. Figgis and the History of Political Thought in Cambridge // Cambridge Minds
/ Ed. by R. Mason. Cambridge, 1994. P. 177–192.
Gordon P. Contextualism and Criticism in the History of Ideas // Rethinking Modern
European Intellectual History / Ed. by D. M. McMahon, S. Moyn. New York, 2014. P. 32–55.
Gossman L. Basel in the Age of Burckhardt: A Study in Unseasonable Ideas. Chicago, 2000.
Grafton A. Momigliano’s Method and the Warburg Institute: Studies in his Middle Period //
Momigliano and Antiquarianism: Foundations of the Modern Cultural Sciences / Ed. by P. Miller.
Toronto, 2007. P. 97–126.
Hobsbawm E. On History. London, 1997.
Meinecke F. Historism: The Rise of a New Historical Outlook / Transl. by J. E . Anderson.
London, 1972.
Momigliano A. Studies in Ancient and Modern Historiography. Oxford, 1977.
Oakeshott M. The Activity of Being an Historian // Idem. Rationalism in Politics and Other
Essays. London, 1962. P. 137–167 (рус. пер.: Оукшот М. Деятельность историка // Он же.
Рационализм в политике и другие статьи / Пер. с англ. Ю . Никифорова. М., 2002. С. 128–152).
Pocock J. G. A . Political Thought and History: Essays on Theory and Method. Cambridge,
2009.
Smith S. B. Reading Leo Strauss: Politics, Philosophy, Judaism. Chicago, 2006.
Trevor- Roper H. History and the Enlightenment / Ed. by J. Robertson. New Haven; London,
2010.
Метод интеллектуальной истории
Azouvi F. Pour une histoire philosophique des idées // Le Débat. 1992. Vol. 72. P. 16–26.
Bevir M. The Errors of Linguistic Contextualism // History and Theory. 1992. Vol. 31. P. 276–
76
298.
Bevir M. The Logic of the History of Ideas. Cambridge, 1999.
Boucher D. Texts in Contexts: Revisionist Methods for Studying the History of Ideas.
Dordrecht, 1985.
Chartier R. Intellectual History or Sociocultural History? The French Trajectories // Modern
European Intellectual History. Reappraisals and New Perspectives / Ed. by D. Lacapra, S. L.
Kaplan. Ithaca; New York, 1982.
Condren C. The Status and Appraisal of Classic Texts. Princeton, 1985.
Dosse F. La Marche des idées. Histoire des intellectuels – histoire intellectuelle. Paris, 2003.
Dunn J. The Identity of the History of Ideas // Philosophy. 1968. Vol. 43. P. 85–104.
Grafton A. T. The History of Ideas: Precept and Practice, 1950–2000 and Beyond // Journal
of the History of Ideas. 2006. Vol. 76. No 1. P. 1–32.
Gunnell J. Political Theory: Tradition and Interpretation. Cambridge, MA, 1979.
Gunnell J. Time and Interpretation: Understanding Concepts and Conceptual Change //
History of Political Thought. 1998. Vol. 19. P. 641–658.
Hampsher- Monk I. Political Languages in Time: The Work of J. G. A. Pocock // The British
Journal of Political Science. 1984. Vol. 14. P. 89–116.
Harlan D. Intellectual History and the Return of Literature // American Historical Review.
1989. Vol. 94. P. 581–609.
The History of Political Thought in National Context / Ed. by D. Castiglione, I.
Hampsher-Monk. Cambridge, 2001.
Janssen P. L . Political Thought as Traditionary Action: The Critical Response to Skinner
and Pocock // History and Theory. 1985. Vol. 24. P. 115–146.
Kelley D. R . The Descent of Ideas. The History of Intellectual History. Aldershot, 2002.
Kelley D. R. What Is Happening to the History of Ideas? // Journal of the History of Ideas.
1990. Vol. 51. P. 3–25.
Koselleck R. Futures Past: On the Semantics of Historical Time / Transl. by K. Tribe.
Cambridge, MA, 1985.
Koselleck R. Linguistic Change and the History of Events // The Journal of Modern History.
1989. Vol. 61. No 4. P. 649–666.
LaCapra D. Rethinking Intellectual History: Texts, Contexts, Languages. Ithaca; New York,
1983.
Lamb R. Quentin Skinner ’s Revised Historical Contextualism: A Critique // History of the
Human Sciences. 2009. Vol. 22. No 3. P. 51–73.
Meaning and Context: Quentin Skinner and his Critics / Ed. by J. Tully. Cambridge, 1988.
Palgrave Advances in Intellectual History / Ed. by R. Whatmore, B. Young. Basingstoke;
New York, 2006.
Palonen K. Quentin Skinner: History, Politics, Rhetoric. Cambridge, 2003.
Pocock J. G. A . The Concept of a Language and the Métier d’Historien: Some Considerations
on Practice // The Languages of Political Theory in Early-Modern Europe / Ed. by A. Pagden.
Cambridge, 1987. P. 19–38.
Pocock J. G. A. The History of Political Thought: A Methodological Enquiry // Philosophy,
Politics, and Society. 2nd ser. / Ed. by P. Laslett, W. G . Runciman. Oxford, 1962. P. 183–202.
Pocock J. G. A . Political Thought and History: Essays on Theory and Method. Cambridge,
2009.
Pocock J. G. A . Politics, Language, and Time: Essays on Political Thought and History.
New York, 1971.
Pocock J. G. A. Present at the Creation: With Laslett to the Lost Worlds // International
Journal of Public Affairs. 2006. Vol. 2. P. 7–17.
Pocock J. G. A. Quentin Skinner. The History of Politics and the Politics of History //
Common Knowledge. 2004. Vol. 10. P. 532–550 (рус. пер.: Покок Дж. Г. А. Квентин Скиннер:
история политики и политика истории // Кембриджская школа: теория и практика
77
интеллектуальной истории / Сост. Т. Атнашев, М. Велижев; пер. с англ. А. Акмальдиновой
под ред. Е. Островской. М., 2018. C. 191–217).
Randall J. H.,
Jr. Arthur O. Lovejoy and the History of Ideas // Philosophy
and Phenomenological Research. 1963. Vol. 23. No 4. P. 475–479.
Richter M. Begriffsgeschichte and the History of Ideas // Journal of the History of Ideas. 1987.
Vol. 48. P. 247–263.
Richter M. Reconstructing the History of Political Languages: Pocock, Skinner and the
Geschichtliche Grundbegriffe // History and Theory. 1990. Vol. 29. P. 38–70.
Skinner Q. Visions of Politics. Vol. 1: Regarding Method. Cambridge, 2002.
White H. The Content of the Form: Narrative Discourse and Historical Representation.
Baltimore, 1987.
Интеллектуальная история и история политической мысли
Armitage D. Foundations of Modern International Thought. Cambridge, 2013.
Armitage D. The Ideological Origins of the British Empire. Cambridge, 2000.
Bailyn B. The Ideological Origins of the American Revolution. Cambridge, MA, 1967 (рус.
пер.: Бейлин Б. Идеологические истоки Американской революции / Пер. с англ. Д. Хитровой,
К. Осповата. М., 2010).
Baker K. M . Inventing the French Revolution. Essays on French Political Culture in the
eighteenth century. Cambridge, 1990.
The Economic Limits to Modern Politics / Ed. by J. Dunn. Cambridge, 1990.
Haakonssen K. The Science of the Legislator: The Natural Jurisprudence of David Hume
and Adam Smith. Cambridge, 1981.
Kidd C. British Identities before Nationalism: Ethnicity and Nationhood in the Atlantic World,
1600–1800. Cambridge, 1999.
Pocock J. G. A. The Ancient Constitution and the Feudal Law: A Study of English Historical
Thought in the Seventeenth Century. Cambridge, 1957, 1987.
Pocock J. G. A . Barbarism and Religion. 6 vols. Cambridge, 1999–2015.
Robertson J. A Union for Empire: Political Thought and the British Union of 1707.
Cambridge, 1995.
Shklar J. Men and Citizens. A Study of Rousseau’s Social Theory. Cambridge, 1969.
Skinner Q. Hobbes and Republican Liberty. Cambridge, 2007.
Skinner Q. Liberty before Liberalism. Cambridge, 1998 (рус. пер.: Скиннер К. Свобода
до либерализма / Пер. с англ. А . В. Магуна. СПб., 2006).
Sonenscher M. Sans-Culottes: An Eighteenth-Century Emblem in the French Revolution.
Princeton, 2008.
Winch D. Riches and Poverty. An Intellectual History of Political Economy in Britain, 1750–
1834. Cambridge, 1996.
Winch D. Wealth and Life: Essays on the Intellectual History of Political Economy in Britain,
1848–1914. Cambridge, 2009.
Интеллектуальная история и история философии
Catana L. The Concept «System of Philosophy»: The Case of Jacob Brucker’s Historiography
of Philosophy // History and Theory. 2005. Vol. 44. P. 72–90.
Garrett A. Francis Hutcheson and the Origin of Animal Rights // Journal of the History
of Philosophy. 2007. Vol. 45. P. 243–265.
Haakonssen K. German Natural Law // The Cambridge History of Eighteenth-Century
Political Thought / Ed. by M. Goldie, R. Wokler. Cambridge, 2006. P. 251–290, в особенности:
P. 255–267.
Haakonssen K. The History of Eighteenth-Century Philosophy: History or Philosophy? //
78
The Cambridge History of Eighteenth-Century Philosophy / Ed. by K. Haakonssen. Cambridge,
2006. P. 3–25.
Haakonssen K. The Moral Conservatism of Natural Rights // Natural Law and Civil
Sovereignty. Moral Right and State Authority in Early Modern Political Thought / Ed. by I. Hunter,
D. Saunders. Basingstoke, 2002. P. 27–42.
Haakonssen K. Protestant Natural Law Theory: A General Interpretation // New Essays on the
History of Autonomy. A Collection Honoring J. B . Schneewind / Ed. by N. Brender, L. Krasnoff.
Cambridge, 2004. P. 92–109.
Hunter I. The Morals of Metaphysics: Kant’s Groundwork as Intellectual Paideia // Critical
Inquiry. 2002. Vol. 28. P. 909–929.
The Philosopher in Early Modern Europe. The Nature of a Contested Identity / Ed. by C.
Condren, S. Gaukroger, I. Hunter. Cambridge, 2006.
Rée J., Ayers M., Westoby A. Philosophy and Its Past. Brighton, 1978.
Rorty R. The Historiography of Philosophy: Four Genres // Philosophy in History / Ed. by R.
Rorty, J. B . Schneewind, Q. Skinner. Cambridge, 1984. P. 49–75.
Schneewind J. B . The Divine Corporation and the History of Ethics // Philosophy in History /
Ed. by R. Rorty, J. B. Schneewind, Q. Skinner. Cambridge, 1984. P. 173–191.
Stewart M. A . Two Species of Philosophy: The Historical Significance of the First Inquiry //
Reading Hume on Human Understanding / Ed. by P. Millican. Oxford, 2002. P. 67–96.
Stone M. Scholastic Schools and Early Modern Philosophy // The Cambridge Companion
to Early Modern Philosophy / Ed. by D. Rutherford. Cambridge, 2006. P. 299–327.
Постструктурализм и интеллектуальная история
Baring E. The Young Derrida and French Philosophy, 1945–1968. Cambridge, 2011.
Cusset F. French Theory: How Foucault, Derrida, Deleuze, & Co. Transformed
the Intellectual Life of the United States / Transl. by J. Berganza, M. Jones. Minneapolis, 2008.
Derrida J. Of Grammatology / Transl. by G. Spivak. Baltimore, 1976.
Derrida J. Signature, Event, Context // Idem. Margins of Philosophy / Transl. by A. Bass.
Chicago, 1982.
Farias V. Heidegger et le nazisme. Paris, 1987.
Geroulanos S. An Atheism That Is Not Humanist Emerges in French Thought. Stanford, 2010.
Hammerschlag S. The Figural Jew. Chicago, 2010.
Harlan D. The Degradation of American History. Chicago, 1997.
Hollinger D. The Return of the Prodigal: the Persistence of Historical Knowing //
The American Historical Review. 1989. Vol. 94. P. 610–621.
Kelley D. R . What is Happening to the History of Ideas? // The Journal of the History of Ideas.
1990. Vol. 51. No 1. P. 3–25.
Kleinberg E. Haunting History: Deconstruction and the Spirit of Revision // History
and Theory. 2007. Vol. 46. No 4. P. 113–143.
LaCapra D. Émile Durkheim: Sociologist and Philosopher. Ithaca, 1972.
LaCapra D. History, Language, and Reading: Waiting for Crillon // American Historical
Review. 1994. Vol. 100. P. 799–828.
LaCapra D. A Preface to Sartre. Ithaca, 1978.
LaCapra D. Representing the Holocaust: History, Theory, Trauma. Ithaca, 1994.
LaCapra D. Rethinking Intellectual History and Reading Texts // Modern European
Intellectual History: Reappraisals and New Perspectives / Ed. by S. L. Kaplan, D. LaCapra. Ithaca,
1983.
LaCapra D. Tropisms of Intellectual History // Rethinking History. 2004. Vol. 8. P. 499–529.
Pocock J. G. A. A New Bark up an Old Tree // Intellectual History Newsletter. 1986. Vol. 8.
P. 3–9.
Ricoeur P. Freud and Philosophy: An Essay on Interpretation / Transl. by D. Savage. New
79
Haven, 1970.
Scott J. W. Gender: A Useful Category of Historical Analysis // The American Historical
Review. 1986. Vol. 91. P. 1053–1075.
Spiegel G. The Task of the Historian // The American Historical Review. 2009. Vol. 114. P. 1–
15.
Surkis J. When was the Linguistic Turn? A Genealogy // American Historical Review. 2012.
Vol. 117. No 3. P. 700–722.
Surkis J. Sexing the Citizen. Ithaca, 2007.
Toews J. Intellectual History after the Linguistic Turn // American Historical Review. 1987.
Vol. 92. P. 879–907.
White H. Metahistory: The Historical Imagination in Nineteenth-Century Europe. Baltimore,
1973 (рус. пер.: Уайт Х. Метаистория. Историческое воображение в Европе XIX века /
Пер. с англ. Е . Г. Трубиной и В. В . Харитонова. Екатеринбург, 2002).
White H. Tropics of Discourse: Essays in Cultural Criticism. Baltimore, 1978.
Интеллектуальная история как Begriffsgeschichte
Anter A. Max Weber ’s Theory of the Modern State. Origins, Structure and Significance.
Basingstoke, 2014.
Hilger D. Begriffsgeschichte und Semiotik // Historische Semantik und Begriffsgeschichte /
Hsrg. R. Koselleck. Stuttgart, 1978. S . 120–135.
Hilger D. (mit L. Hölscher). Industrie, Gewerbe // Geschichtliche Grundbegriffe. Historisches
Lexikon zur politisch-sozialen Sprache in Deutschland. Vol. 3 / Hsrg. O. Brunner, W. Conze, R.
Koselleck. Stuttgart, 1982. S . 237–304.
Knemeyer F. - L. Polizei // Economy and Society. 1980. Vol. 9. P. 172–196.
Koselleck R. Begriffsgeschichte and Social History // Idem. Futures Past. On the Semantics
of Historical Time. New York, 2004 [1978]. P. 75–92 (рус. пер.: Козеллек Р. Социальная история
и история понятий // Исторические понятия и политические идеи в России XVI – XX веков:
сб. науч. работ / Пер. с нем. Ю . И. Басилова. СПб., 2006. С. 33–53).
Koselleck R. Begriffsgeschichten. Studien zur Semantik und Pragmatik der politischen
und sozialen Sprache. Frankfurt a.M., 2006.
Koselleck R. Einleitung // Geschichtliche Grundbegriffe. Historisches Lexikon
zur politisch-sozialen Sprache in Deutschland. Vol. I / Hsrg. O. Brunner, W. Conze, R. Koselleck.
Stuttgart, 1972. S . XIII – XXVII (рус. пер.: Козеллек Р. Введение // Словарь основных
исторических понятий: Избранные статьи в 2 т. Т. 1 / Пер. с нем. К. Левинсона. М ., 2014.
С. 23–44).
Koselleck R. Preußen zwischen Reform und Revolution. Allgemeines Landrecht, Verwaltung
und soziale Bewegung von 1791 bis 1848. Stuttgart, 1967.
Koselleck R. Zeitschichten. Studien zur Historik. Frankfurt a.M ., 2000.
Lepschy G. C . European Linguistics in the Twentieth Century // Studies in the History
of Western Linguistics / Ed. by T. Bynon, F. R . Palmer. Cambridge, 1986. P. 189–201.
Miller P. N. Nazis and Neo-Stoics: Otto Brunner and Gerhard Oestreich before and after
the Second World War // Past and Present. 2002. Vol. 176. P. 144–186.
Momma H. From Philology to English Studies. Language and Culture in the Nineteenth
Century. Cambridge, 2013.
Pocock J. G. A . Concepts and Discourses: A Difference in Culture? Comment on a Paper
by Melvin Richter // The Meaning of Historical Terms and Concepts. New Studies
on Begriffsgeschichte. Occasional Paper No. 15 / Ed. by H. Lehmann, M. Richter. Washington,
1996.
Reichardt R. Historische Semantik zwischen lexicométrie und New Cultural History //
Aufklärung und Historische Semantik. Interdisziplinäre Beiträge zur westeuropäischen
Kulturgeschichte / Hsrg. R. Reichardt. Berlin, 1998. S . 7–27.
80
Richter M. A German Version of the «Linguistic Turn»; Reinhart Koselleck and the History
of Political and Social Concepts (Begriffsgeschichte) // The History of Political Thought in National
Context / Ed. by D. Castiglione, I. Hampsher-Monk. Cambridge, 2001. P. 58–79.
Richter M. The History of Political and Social Concepts. A Critical Introduction. New York,
1995.
Richter M. Towards a Lexicon of European Political and Legal Concepts: A Comparison
of Begriffsgeschichte and the «Cambridge School» // Critical Review of International Political
and Social Philosophy. 2003. Vol. 6. No 2. P. 91–120.
Riedel M. Gesellschaft, bürgerliche // Geschichtliche Grundbegriffe. Historisches Lexikon
zur politisch-sozialen Sprache in Deutschland. Vol. 2 / Hsrg. O. Brunner, W. Conze, R. Koselleck.
Stuttgart, 1975. S. 719–800 (рус. пер.: Ридель М. Общество, гражданское // Словарь основных
исторических понятий: Избранные статьи в 2 т. Т. 2 / Пер. с нем. К. Левинсона. М ., 2014.
С. 93–219).
Schlak S. Wilhelm Hennis. Szenen einer Ideengeschichte der Bundesrepublik. Munich, 2008.
Интеллектуальная история и история науки
Agar J. What Happened in the Sixties? // British Journal for the History of Science. 2008.
Vol. 41. No 4. P. 567–600.
Agassi J. Towards an Historiography of Science (History and Theory, Studies in the
Philosophy of History. Suppl. 2). The Hague, 1963.
Alter P. The Reluctant Patron: Science and the State in Britain, 1850–1920. Oxford, 1986.
Alvargonzález D. Is the History of Science Essentially Whiggish? // History of Science. 2013.
Vol. 51. P. 85–99.
Bowler P. The Invention of Progress: Victorians and the Past. Oxford, 1989.
Cantor G. Charles Singer and the Founding of the British Society for the History of Science //
British Journal for the History of Science. 1977. Vol. 30. P. 5–23.
Chang H. We have Never Been Whiggish (About Phlogiston) // Centaurus. 2009. Vol. 51.
P. 239–264.
Christie J. R . R . The Development of the Historiography of Science // Companion to the
History of Modern Science / Ed. by R. C . Olby et al. London, 1996 [1990]. P. 5–22.
Dennis M. A . Historiography of Science: An American Perspective // Companion to Science
in the Twentieth Century / Ed. by J. Krige, D. Pestre. London, 2003 [1997]. P. 1–26.
Frangsmyr T. Science or History: George Sarton and the Positivist Tradition in the History
of Science // Lychnos. 1973/1974. P. 104–144.
Golinski J. Making Natural Knowledge: Constructivism and the History of Science.
Cambridge, 1998.
Hall A. R. Can the History of Science Be History? // British Journal for the History
of Science. 1969. Vol. 4. No 15. P. 207–220.
Hall A. R. Merton Revisited or Science and Society in the Seventeenth Century // History
of Science. 1963. Vol. 2. P. 1–16.
Hall A. R . On Whiggism // History of Science. 1983. Vol. 21. P. 45–59.
Harrison E. Whigs, Prigs and Historians of Science // Nature. 17.09.1987. Vol. 329. P. 213–
214.
Hesketh I. The Science of History in Victorian Britain: Making the Past Speak. London, 2011.
Jacobs M. Science Studies after Social Construction: The Turn Towards the Comparative
and the Global // Beyond the Cultural Turn: New Directions in the Study of Society and Culture /
Ed. by V. E. Bonnell, L. A. Hunt, R. Biernacki. Oakland, 1999. P. 95–120.
Jardine N. Whigs and Stories: Herbert Butterfield and the Historiography of Science //
History of Science. 2003. Vol. 41. P. 125–140.
Kuhn T. S. The Essential Tension: Selected Studies in Scientific Tradition and Change.
Chicago, 1977.
81
Kuhn T. S. The Structure of Scientific Revolutions. 2nd ed. Chicago, 1970 [1962] (рус. пер.:
Кун°Т. Структура научных революций / Пер. с англ. И. З. Налетова. М., 1977).
Mandler P. The Problem with Cultural History // Cultural and Social History. 2004. Vol. 1.
P. 94–112.
Mayr E. When is Historiography Whiggish? // Journal of the History of Ideas. 1980. Vol. 51.
No 2. P. 301–309.
Merton R. K. Science, Technology and Society in Seventeenth-Century England. New York,
1970 [1938].
Porter R. The Scientific Revolution: A Spoke in the Wheel? // Revolution in History / Ed.
by R. Porter, M. Teich. Cambridge, 1986. P. 290–316.
Shapin S. Discipline and Bounding: The History and Sociology of Science as Seen Through
the Externalism-Internalism Debate // History of Science. 1992. Vol. 30. P. 333–369.
Shapin S. The Scientific Revolution. Chicago, 1996.
Shapin S., Schaffer S. Leviathan and the Air Pump: Hobbes, Boyle and the Experimental Life.
Princeton, 1985.
Yeo R. Defining Science: William Whewell, Natural Knowledge, and the Public Debate
in Early Victorian Britain. Cambridge, 1993.
Тимур Атнашев, Михаил Велижев
По следам Уотмора. Реализм в интеллектуальной истории
Ричард Уотмор (р. 1968) – один из самых ярких современных специалистов
по интеллектуальной истории Нового времени. Профессор истории в университете
Сент-Эндрюс (Великобритания), директор местного Института интеллектуальной истории
и главный редактор журнала History of European Ideas, Уотмор сочетает талант
практикующего историка и теоретика своей дисциплины. Он известен как исследователь
европейской республиканской и либеральной традиций, принадлежащий к Кембриджской
и Сассексской школам изучения общественно-политической мысли (о том, что это означает
с точки зрения метода, мы расскажем ниже). В 2000 г. Уотмор выпустил две работы,
закрепившие его репутацию первоклассного ученого: монографию «Республиканизм
и Французская
революция:
интеллектуальная
история
политической
экономии
Жана-Баптиста Сея» и сборник статей «История, религия и культура: статьи по британской
интеллектуальной истории, 1750–1950», в составлении которого он принимал участие вместе
с двумя другими классиками дисциплины Ст. Коллини и Б. Янгом
172
.
В дальнейшем Уотмор продолжал успешно работать в двух направлениях – в области
методологии интеллектуальной истории и в сфере исторического анализа политической
жизни XVIII – XIX вв. Он является автором множества статей, фундаментальных
монографий и программных текстов, в числе которых следует прежде всего упомянуть,
с одной стороны, теоретические труды – сборники статей «Развитие интеллектуальной
истории» (2006) и «Гид по интеллектуальной истории» (2015)173
, а также настоящую книгу
и недавнюю работу «История политической мысли: очень краткое введение» (2021174
),
с другой – монографии «Против войны и империи: Женева, Британия и Франция
в XVIII столетии» (2012) и «Террористы, анархисты и республиканцы: жители Женевы
172 Whatmore R. Republicanism and French Revolution: An Intellectual History of Jean-Baptiste Say’s Political
Economy. Oxford, 2000; History, Religion and Culture: Essays in British Intellectual History, 1750–1950 / Ed. by S.
Collini, R. Whatmore and B. Young. Cambridge, 2000.
173 Advances in Intellectual History / Ed. by R. Whatmore and B. Young. London, 2006; A Companion
to Intellectual History / Ed. by R. Whatmore and B. Young. Oxford, 2016.
174 Whatmore R. The History of Political Thought: a very Short Introduction. Oxford, 2021.
82
и ирландцы в эпоху революции» (2019)175
,
где автор реконструирует и анализирует
многообразные контексты, внутри которых проходила политическая жизнь Женевы конца
XVIII в. Добавим, что работы Уотмора почти не переведены на русский язык и в этом смысле
настоящая публикация является пионерской
176
.
О том, как Уотмор видит интеллектуальную историю, читатель уже знает. Во многом
опираясь на его прочтение, ниже мы хотели бы поместить монографию «Что такое
интеллектуальная история?» и методологические пристрастия Уотмора в контекст полемик
о сути интересующей нас научной дисциплины и о ее месте в обществе
177
.
Мы намерены
описать и интерпретировать совместное существование двух видов интеллектуальной
истории в западной и отечественной академических традициях второй половины ХХ
и начала XXI в., указать на различия и неожиданные точки пересечения между ними.
Для этого мы планируем обратиться к вопросам природы исторического знания, философии
языка, презентизма и (ре)политизации историографии.
***
Историков часто и справедливо упрекают в недостаточном внимании к теории
и философским основаниям собственных изысканий. Как следствие, отдельные работы
порой страдают излишней дескриптивностью, отсутствием рефлексии над инструментами
анализа и некритическим подходом к проблеме политической ангажированности полученных
результатов, которые на деле оказываются маленькими пикселями в больших и чужих
идеологических проектах. Интеллектуальные историки в меньшей степени заслужили
подобные упреки. Вероятно, рефлексивная природа изучаемого ими предмета требует
хотя бы предварительного ответа на два вопроса: как возможно систематическое
и объективное (фальсифицируемое) исследование письменной речи и представлений людей
о себе и мире? Каково общественное значение полученных таким образом знаний?
Нашим центральным аргументом и ответом на первый из сформулированных вопросов
является утверждение языкового «реализма» как эпистемологического основания
для интеллектуальной истории в версии Уотмора. Репликой в дискуссии о втором вопросе
служит тезис о важности принципов историзма в противовес презентизму. Актуальная и даже
скандальная полемика вокруг колонки президента Американской ассоциации историков
об опасностях и достоинствах презентизма показывает, что занимающие нас проблемы
имеют как методологическое, так и прикладное значение для исторической науки в целом
178
.
В первой части статьи мы реконструируем два основных подхода к вопросу о философских
основаниях предмета интеллектуальной истории. Во второй части мы постараемся показать
преимущества и общественно-политические импликации реалистической философии языка
как методологической основы, которой могут руководствоваться интеллектуальные историки
самых разных направлений.
175 Idem. Against War and Empire: Geneva, Britain and France in the Eighteenth Century. New Haven, 2012; Idem.
Terrorists, Anarchists, and Republicans: the Genevans and the Irish in Time of Revolution. Princeton, 2019.
176 См., например: Уотмор Р. Предисловие к новому изданию Princeton Classics // Покок Дж. Г. А. Момент
Макиавелли: Политическая мысль Флоренции и атлантическая республиканская традиция / Пер. с англ. Т.
Пирусской под ред. А. Олейникова; общ. ред. Т. Атнашева и М. Велижева. М., 2020. С. 7 –27.
177 Настоящий текст представляет собой расширенную версию нашей статьи, опубликованной в 178-м
номере журнала «Новое литературное обозрение».
178 См.: Sweet J. Is History History? Identity Politics and Teleologies of the Present Perspectives on History //
https://www.historians.org/publications-and-directories/perspectives-on-history/september-2022/is-history-history-ident
ity-politics-and-teleologies-of-the-present (по состоянию на 22.10.2022), в частности, бурную полемику
и извинения Дж. Суита см.: https://twitter.com/AHAhistorians/status/1560737391958433792.
83
1. Одно понятие, два смысла
Генезис и значения «интеллектуальной истории»
Словосочетание «интеллектуальная история» на русском языке, на первый взгляд,
способно вызвать замешательство. Речь идет то ли о новом изводе «истории идей»
или «культурной истории», то ли об «истории интеллектуалов», то ли об интерпретации
любых продуктов умственной деятельности человека. Как отмечает занимавшийся
эволюцией самого понятия историк Р. Шартье, в европейской научной традиции XX в.
«интеллектуальная история» не имела четкого дисциплинарного референта, а само понятие
возникло относительно недавно. В национальных академических культурах доминировали
другие термины: во Франции – «история ментальностей», в Германии – «история духа»,
в Италии «интеллектуальная история» или «история идей» вообще не фигурировали
179
.
Советская и российская наука до недавнего времени использовали термины «история идей»,
«история общественной мысли» или «семиотика культуры».
Средой, в которой понятие «интеллектуальная история» смотрится куда органичнее,
является англоязычная гуманитария: собственно, intellectual history возникает и формируется
прежде всего в США и Великобритании, как об этом прекрасно пишет Уотмор в настоящей
книге. Однако и здесь есть своя сложность: в настоящий момент термин «интеллектуальная
история» используется для самоопределения носителями двух во многом противоположных
научных мировоззрений. С одной стороны, «интеллектуальными историками» считают себя
постмодернистские теоретики истории, с другой – сторонники различных чисто
историцистских методов
180
.
При этом первые, как правило, атакуют вторых, опираясь
на философскую критику оснований историографии. Далее мы хотели бы дать суммарное
описание теоретических принципов, которыми руководствуется каждое из направлений,
а затем попытаться проблематизировать существующие между ними различия и указать
на одно важное и недооцененное прежде сходство.
Мы предлагаем обозначить первую версию интеллектуальной истории как, собственно,
постмодернистскую, а вторую – как «реалистическую». Постмодернистские теоретики
истории, такие как Х. Уайт, Ж. Деррида, Ф. Анкерсмит, К. Дженкинс, делают акцент
на исключительной важности риторики, литературного письма, нарративов, исторического
воображения и способов переживания времени. Более того, они ставят под вопрос саму
возможность изучать прошедшее, которое поддается интерпретации только через творческое
воображение «реальности прошлого» в отчетливо анахронистическом ключе. Сторонники
этого направления считают, что имеют дело с «призраками» или «заветами» прошлого,
и отказываются систематически изучать исторические значения текстов, предпочитая
ответственному выдвижению и проверке гипотез работу с бесконечным многообразием
аллюзий и смыслов
181
. Вслед за Уотмором, заимствуя выражение американского антрополога
Кл. Гирца, можно сказать, что речь идет о подмигивании в ответ на подмигивание в ответ
179 См.: Шартье Р. Интеллектуальная история и история ментальностей: двойная переоценка? // Новое
литературное обозрение. 2004. No 66 . С. 17–47.
180 О становлении постмодернистской версии интеллектуальной истории в 1980–1990-х гг. и о ее
междисциплинарном характере свидетельствуют, в частности, ценные работы Д. Лакапры: LaCapra D.
Rethinking Intellectual History and Reading Texts // History and Theory. 1980. No 3 . P. 245–276; Idem. Rethinking
Intellectual History: Texts, Contexts, Language. Cornell: Cornell University Press, 1983; Idem. Intellectual History
and its Way // The American Historical Review. 1992. No 4. P. 425–439.
181 Barthes R. La mort de l’auteur // Mantéia. 1968. No 5 . P. 61–67 (рус. пер.: Барт Р. Смерть автора // Барт Р.
Избранные работы: Семиотика. Поэтика / Сост., общ. ред. и вступ. ст. Г. К. Косикова. М., 1989. С . 384–391;
пер. с фр. С. Н. Зенкина); Derrida J. De la grammatologie. Paris, 1967 (рус. пер.: Деррида Ж. О грамматологии /
Пер. с фр. и вступ. ст. Н. С . Автономовой. М., 2000); Jenkins K. At the Limits of History. Essays on Theory
and Practice. London; New York, 2009.
84
на подмигивание
182
.
«Реалисты», напротив, настаивают, что риторический характер источников не мешает
ставить вопрос об относительном правдоподобии предположений, которые мы делаем
о событиях прошлого. Они возвращают историю от творчества к науке, дающей возможность
сопоставлять различные гипотезы и отличать более достоверные догадки от менее
достоверных. Разумеется, с учетом проделанной в ХХ в. философской работы «реальность»
необходимо максимальным образом проблематизировать и не сводить ее к позитивистски
одномерной картине или к метафорам наивного платонизма. Реалисты выступают лишь
против попыток постмодернистов отменить любые рациональные критерии при оценке
исторических фактов и при интерпретации текстов.
Релятивистская критика источников или историография как риторика
К постмодернистской версии интеллектуальной истории мы относим широкий круг
историков, философов и литературоведов, которые в явном виде артикулировали различные
релятивистские аргументы о природе наших знаний о прошлом, включая Х. Уайта, М. Фуко,
Р. Барта, Ж. Деррида, Ж. Бодрийяра, Д. Лакапру, Р. Рорти, К. Дженкинса и Ф. Анкерсмита.
Как мы хотим показать, вклад этих авторов носит скорее «негативный» или критический
характер целой серии атак на отдельные эпистемологические основания традиционной
историографии.
Решительная ревизия научного статуса и теоретических основ историографии, которую
во многом спровоцировал американский историк и мыслитель Х. Уайт в своей книге
«Метаистория»
183
, поставила под сомнение нашу способность познавать прошлое, опираясь
на факты. Согласно Уайту, предложившему понятие «метаистории», нарративная структура
четырех великих исторических трудов XIX столетия, написанных в духе «реализма»,
включает набор скрытых утверждений о прошлом и настоящем, которые не могут быть
опровергнуты фактами. Четыре языковые стратегии соответствуют четырем тропам
художественного дискурса и составляют основу исторического воображения. С помощью
особого подбора излагаемых фактов и суммы риторических фигур каждого тропа историк
способствует формированию у читателей идеологических установок. Так, комический троп
характерен
для консервативного
идеологического
подтекста,
а трагический –
для радикальной
идеологии.
Множественность
доступных
тропов
и отсутствие
формализованного языка описания прошлого указывают на фиктивную природу
исторических «фактов»:
На мой взгляд, нет такой теории истории, которая была бы убедительной
и неопровержимой для некой аудитории только по причине адекватности ее
как «объяснения данных», содержащихся в повествовании, поскольку в истории,
как и в социальных науках в целом, не существует способа предварительного
установления [pre-establishing] того, что будет считаться «данными» и что будет
считаться «теорией», «объясняющей» то, что эти данные «означают»
184
.
В более поздних работах Уайт, представляя себя постмодернистом, критиковал
профессиональных историков, занятых кропотливым исследованием источников, не понимая
182 Geertz C. The Interpretation of Cultures. New York, 1973. P. 6 (рус. пер.: Гирц Кл. Интерпретация культур /
Пер. с англ. О. В. Барсуковой, А. А. Борзунова, Г. М. Дашевского, Е. М. Лазаревой, В. Г. Николаева. М., 2004).
183 White H. Metahistory: The Historical Imagination in 19th-century Europe. Michigan, 1973 (рус. пер.: Уайт Х.
Метаистория. Историческое воображение в Европе XIX века / Пер. с англ. под ред. Е. Г. Трубиной и В. В .
Харитоновой. Екатеринбург, 2002).
184 Уайт Х. Метаистория. С. 494–495.
85
философских оснований и следствий своей работы. С его точки зрения, любые
реконструкции нормального хода истории скрыто служат консервации сложившихся
общественных отношений через утверждение макронарратива как нормы
185
. Начатое Уайтом
переосмысление эпистемологических основ историографии оказалось усилено за счет
аргументов целого ряда философов и литературоведов, благодаря которым сформировалась
постмодернистская или релятивистская ветвь интеллектуальной истории
186
.
В основе сложившейся в 1970–2000-х гг. постмодернистской версии интеллектуальной
истории лежат два набора взаимосвязанных тезисов о возможности рационального познания
событий и текстов
187
. Постмодернисты указывают на ограниченность нашей способности а)
адекватно репрезентировать события с помощью исторического нарратива, который сам
опирается лишь на письменные источники, и б) адекватно интерпретировать специфическое
значение текстов прошлого с помощью новых высказываний. Мы покажем некоторые
из ключевых ходов этой философской деконструкции историографии.
В предреволюционном 1967 г. французский философ Ж. Деррида в книге
«Грамматология» произвел знаменитую деконструкцию письменного языка, за которой сразу
последовала публикация его не менее известного сборника «Письмо и различие»
188
. Деррида
заимствует и переворачивает оппозицию Ж. - Ж. Руссо «устная речь как чистый исток» vs
«письмо как искаженная и вторичная репрезентация речи». Он показывает, что письмо
как всякая членораздельность и артикуляция исходно опирается на аналитический опыт
«различания», лежащий в основе всей западной культуры, включая речь или даже протоязык.
Письмо обнажает изначальную коррупцию, порчу любого рационального, расчленяющего
мышления реальности в языке. Текст не поможет познать реальность вне-текста, ибо любая
реальность дана как ее всегда неадекватная интерпретация. Но и реальность текста, исходно
содержащего в себе испорченную структуру различания, в свою очередь непознаваема.
В свете такой метаатаки на язык как инструмент и объект анализа любой проект изучения
прошлого (и настоящего) посредством текстов обречен на неудачу
189
. Противопоставляя себя
господствовавшему в тот период «структуралистскому нашествию» как основе западного
мышления, Деррида критиковал историческую науку за мертвый схематизм, который никогда
не способен ухватить настоящее:
Подобно меланхолии для Жида, этот анализ возможен лишь после своего
185 White H. Historical fiction, fictional history, and historical reality // Rethinking History. 2005. No 9 . P. 147–157.
186 Впрочем, позиция самого мыслителя в отношении «реальности прошлого как оно было»
эволюционировала и оставалась необычной для своего лагеря, о чем мы скажем в заключении статьи.
187 Для этих и последующих рассуждений важно как различение порядка событий и порядка текстов, так
и два внешне противоположных этому различению утверждения. События общественной жизни невозможно
разумно интерпретировать, не рассматривая их в том числе как знаки, имеющие смысл в более общих
культурных контекстах. Появление конкретных текстов в заданной ситуации оказывается событием,
для понимания которого необходимо выйти за пределы значения текста в узком смысле. Скажем,
интеллектуальная история «публичной полемики о Великих реформах второй половины XIX века в России»
не сводится к анализу отдельных сочинений, но стремится реконструировать само общественное явление, где
тексты являются лишь частью более сложной социополитической конфигурации. Мы хотели бы указать
на важность отличия и частичной гомологии событий и текстов, но не будем входить в более подробный разбор
философских предпосылок этой диалектики, которая требует отдельного разговора.
188 Derrida J. L’écriture et la différence. Paris, 1967 (рус. пер.: Деррида Ж. Письмо и различие / Пер. с фр.
под ред. В . Лапицкого. СПб., 2000).
189 Опосредование исходной природы с помощью языка приводит к тому, что заместитель восполняет
или дополняет реальность, прямая связь с которой утрачена. Невозможность на письме выйти за пределы
искажающей и различающей логики протописьма делает и сам философский проект деконструкции Деррида
принципиально незавершенным и незавершимым.
86
рода поражения силы и в некоем порыве угасающего пыла. Вот в чем
структуралистское сознание – это просто-напросто сознание как осмысление
прошлого, я хочу сказать – факта вообще. Отражение свершенного, сложившегося,
сконструированного.
Историчное,
эсхатичное
и сумеречное
по своему
положению
190
.
В это же время Р. Барт провозгласил «смерть автора». Произведения без автора не могут
иметь никакого целостного смысла, который был бы кем-то авторитетно вложен. Текст
понимается как пестрая и скорее случайная по своему узору ткань из цитат, которые, в свою
очередь, также являются заимствованиями. В своем масштабном проекте археологии знания,
начатом годом раньше, М. Фуко обличал представление о «субъектности» человека
как дисциплинарную и дискурсивную ловушку для подлинной свободы
191
.
Объектом
исследования становятся порядки дискурса, дисциплины и борьба сил, в сетях которых
субъекты лишь выполняют безличную волю властной субстанции. Барт и Фуко почти
одновременно атакуют представление об исходном авторском намерении, хотя и предлагают
две очень разные стратегии ответа.
Натиск французской философии на рациональность, факты и письмо получил
продолжение по ту сторону Атлантики в другом академическом контексте. Начиная с конца
1970-х гг. американский философ-прагматик Р. Рорти опубликовал ряд влиятельных работ,
критиковавших классическую онтологию, возводимую к Платону, в которой тексты
и высказывания интерпретировались как зеркальное (пусть более или менее искаженное)
отражение подлинной реальности
192
. Отказ от устаревшей и догматической, согласно Рорти,
метафоры истинного знания как зеркала реальности оборачивается «иронизмом», то есть
пониманием, что люди неизбежно оказываются в интеллектуальном плену исторически
случайного, контингентного набора понятий, на смену которым со временем приходят новые
термины
193
.
Цунами, спровоцированное работами Уайта, пересекло Атлантический океан
в обратном направлении. Голландскому историку-постмодернисту Ф. Анкерсмиту
принадлежит еще один эффектный образ: представим себе дерево и опавшие листья – дерево
уподоблено прошлому, листья – источникам
194
.
Историки-«реалисты» пытаются изучать
190 Деррида Ж. Письмо и различие. С . 8 –9 .
191 См.: Foucault M. Sur l’archéologie des sciences. Réponse au Cercle d’épistémologie // Cahiers pour l’analyse.
1968. No 9. P. 9 –40; Id. Qu’est-ce qu’un auteur? // Bulletin de la Société française de philosophie. 1969.
Juillet-septembre. P. 73 –104 (рус. пер.: Фуко М. Что такое автор? // Фуко М. Воля к истине. По ту сторону знания,
власти и сексуальности / Сост., пер. с фр., коммент. и послесл. С. Табачниковой; общ. ред. А. Пузырея. М., 1996.
С. 7 –47); Idem. L’ordre du discours. Paris, 1971 (рус. пер.: Там же. С . 47–97).
192 Rorty R. Philosophy and the Mirror of Nature. Princeton, 1979 (рус. пер.: Рорти Р. Философия и зеркало
природы / Пер. с англ. В. В. Целищева. Новосибирск, 1997); Idem. Objectivity, Relativism and Truth: Philosophical
Papers I. Cambridge, 1991.
193 См.: Rorty R. Objectivity, Relativism and Truth: Philosophical Papers I. Ни один из языков не может
претендовать на более или менее адекватное изображение реальности, но они сами и задают то поле
лингвистической реальности, в котором живет человек. Ирония, связанная с осознанием относительности
наших представлений, дает обществам одно важное преимущество – надежду на мирный характер
сосуществования носителей разных языков, ни один из которых не вправе претендовать на монополию и власть.
Сходный аргумент об исчезновении конфликтов в ситуации постмодерна мы находим у Ж.- Ф . Лиотара, о чем
будет сказано ниже.
194 См.: Ankersmith F. Historiography and Postmodernism // History and Theory. 1989. Vol. 28. P. 137–153 (рус.
пер.: Анкерсмит Ф. Историография и постмодернизм // Анкерсмит Ф. История и тропология: взлет и падение
метафоры / Пер. с англ. М. Кукарцевой, Е. Коломоец и В. Кашаева. М., 2009. С . 275–306); критику тезиса
Анкерсмита см.: Гинзбург К. Микроистория: две-три вещи, которые я о ней знаю // Гинзбург К.
Мифы-эмблемы-приметы: Морфология и история. Сборник статей / Пер. с ит. С . Л. Козлова. М., 2004. С . 310–
311, 318–319 (впервые в 1994 г.).
87
ствол и ветви, в то время как постмодернисты заняты анализом листьев. Источники-листья
уже полностью оторвались от древа-реальности, таким образом восстановить целое-прошлое
по обрывочным свидетельствам представляется фундаментально невозможным. В итоге
Анкерсмит предлагает радикально антиисторицистский подход, в рамках которого особое
внимание уделяется субъективному переживанию исторического времени (которое во многом
производится самими историками), а связь текстов и породившей их реальности
окончательно утрачивается.
Наконец, своеобразная квинтэссенция постмодернизма в историографии представлена,
на наш взгляд, в работах американского историка и теоретика К. Дженкинса. В своем
сборнике 2009 г. он синтезирует постмодернистский подход к прошлому как часть того, что
теперь очевидно всем (кроме большинства упорных в своем неведении кротов-историков).
Опираясь на авторитет Деррида, он отмечает:
Прошлое осмысляется как ничто, как белый холст или экран, на который
историки проецируют полюбившуюся им историю. Это обозначает, что любой
смысл, который можно было бы приписать прошлому, приходит извне... Прошлое
(все то, что произошло «до нас») открывается бесконечным интерпретациям
и реинтерпретациям, непреодолимому релятивизму прочтений
195
.
Еще одной из лаконичных формул, заимствованной у Анкерсмита, Дженкинс
утверждает примат литературных операций по воссозданию прошлого над исторической
реальностью: «без репрезентации нет прошлого»196
.
Согласно постмодернистской логике,
онтологический статус фактов гетерогенен онтологическому статусу нарративов или письма
(ибо события не имеют исходную форму «рассказа»)197
.
Отсюда прямо выводится свобода
историка создавать мириады вольно парящих интерпретаций.
Однако существует еще одна важнейшая для Дженкинса и для значительной части
других постмодернистов линия аргументации о природе языка, которая указывает на не
отрефлексированную
ими
собственную
непоследовательность.
Когда
мыслители-релятивисты неожиданно переходят от культурной надстройки к экономическому
базису, на новой почве их суждения становятся более уверенными. Согласно этой точке
зрения, бесконечная пластичность постмодернистских интерпретаций отражает
современную структуру общественных отношений позднего капитализма.
Так, на рубеже 1970–1980-х гг. французский философ Ж. - Ф. Лиотар перформативно
и весьма успешно объявил о наступлении новой эпохи постмодерна
198
.
В чем, согласно
Лиотару, состоит существо нового состояния культуры и новых социальных механизмов
производства знаний? Информатизация и коммерциализация массовых коммуникаций
приводит к постоянному умножению версий любых авторитетных интерпретаций
в интересах политиков и частных компаний
199
.
Постмодернизм надолго становится
195 Jenkins K. At the Limits of History. Essays on Theory and Practice. P. 4 .
196 Ibid. P. 261.
197 Как если бы онтологический статус химических или физических формул должен был совпадать
с волно-корпускулярной текстурой материи, для того чтобы ученые могли спорить, какая из них лучше
описывает факты. Естественные науки обходятся без гомологии реальности и способов ее описания.
198 Lyotard J. - F. La Condition postmoderne: rapport sur le savoir. Paris, 1979 (рус. пер.: Лиотар Ж.- Ф. Состояние
постмодерна / Пер. с фр. Н. А. Шматко. М.; СПб., 199).
199 В результате изменения социально-экономической структуры коммуникаций исчезает доверие граждан
к «большим нарративам». Ни экспертные оценки технократов, ни консенсус по модели Ю. Хабермаса
не достаточны, чтобы вернуть веру общества в конкурирующие между собой дискурсы. Впрочем, с точки
зрения Лиотара, эта утрата легитимности сопровождается своеобразным умиротворением социальных
88
самоописанием нового интеллектуального и социального контекста в развитых обществах
«позднего капитализма». В работе другого французского классика, Ж. Бодрийяра, во многом
опиравшегося на постмарксистский анализ коммерциализации массовых коммуникаций,
близкий к концепции Лиотара, тексты и высказывания отрываются от реальности
и замещают ее «симулякрами»
200
. В «Призраках Маркса» Деррида отказывается от онтологии
присутствия и неприсутствия, но вполне уверенно формулирует структурную связь
капитализма и феномена призрачности, на который он стремится указать:
Предлагая данное заглавие, «Призраки Маркса», я поначалу думал
о всевозможных формах наваждения, которое, на мой взгляд, организует те формы,
которые господствуют в сегодняшнем дискурсе. В пору, когда новый мировой
беспорядок пытается установить свой неокапитализм и неолиберализм, никакому
отрицанию не удается избавиться от всех призраков Маркса. Гегемония всегда
организует репрессии, а значит, подтверждает наличие наваждений. Наваждение
относится к структуре всякого господства
201
.
Пожалуй,
чуть
менее рефлексивно
используя ту же онтологию
языка
и социально-экономических отношений, Дженкинс заключает:
Постмодернизм – это то, что прописал капиталистический доктор, ибо его
релятивизм срывает остатки ограничений на новые социальные практики в пользу
бесконечной гибкости и текучести, а значит, в пользу тысяч новых форм
национальной и международной эксплуатации
202
.
Разные по силе и происхождению аргументы Деррида, Уайта, Барта, Лиотара, Фуко,
Рорти, Дженкинса и других теоретиков второй половины ХХ в. множественными путями
приводят к схожему выводу – деконструкции языка как инструмента, пригодного
для адекватного и целостного отражения (социальной и исторической) действительности,
но и для анализа самого языка как особого рода социальной реальности. Ретроспективно
обозревая результаты проделанной постмодернистами работы, мы можем отметить их успехи
конфликтов через рынок и ощущение тотальной прозрачности массовых коммуникаций.
200 Baudrillard J. Simulacres et Simulation. Paris, 1981 (рус. пер.: Бодрийяр Ж. Симулякры и симуляции /
Пер. с фр. А. Качалова. М., 2015). Тексты-симулякры не просто прячут подлинный смысл, но представляют
собой единственную истину новых медиатизированных и коммодитизированных социальных отношений.
Бесконечные коммуникации и составляют отныне «пустыню реальности», за которой ничего больше не стоит.
Речь не карта реальности, но сама реальность. Впрочем, эта действительность лишена определенности
и смысла. Как показывает С. Н. Зенкин, подобно романтикам, Бодрийяр видит в симулякрах лишь тени
утраченной подлинной реальности (природы, исторического прошлого, народного волеизъявления),
но вернуться к истоку в современном социальном контексте уже невозможно (см.: Зенкин С. Н. Ложное
сознание: Теория, история, эстетика // Интеллектуальный язык эпохи: История идей, история слов. М., 2011.
С. 22–38).
201 Деррида Ж. Призраки Маркса / Пер. с фр. Б . Скуратова под ред. Д. Новикова. М., 2006. С . 30 .
202 Jenkins K. At the Limits of History. Essays on Theory and Practice. P. 11 . При этом радикальный релятивизм
Дженкинса и левых постмодернистов не сводится к утверждению позднего капитализма. По мнению
Дженкинса, он служит для атаки на статус-кво и разрушения любого интеллектуального обоснования
существующего общественного порядка. Впрочем, остается неясно, как разрушение любых оснований в целях
апологии позволяет сформулировать общую левую позитивную повестку, без которой релятивизм сохраняет
свою функцию поддержания бесконечного плюрализма мнений при позднем капитализме. Более критически
настроенный к релятивизму американский историк культуры и марксист Ф. Джеймисон написал скандальную
статью, а затем книгу, где прямо в названии увязывает постмодернизм и поздний капитализм (см.: Jameson F.
Postmodernism, or, the Cultural Logic of Late Capitalism. Durham, 1991; рус. пер.: Джеймисон Ф. Постмодернизм,
или Культурная логика позднего капитализма / Пер. с англ. Дм. Кралечкина под ред. А. Олейникова. М., 2019).
89
в проблематизации и теоретизации ремесла историков наряду со слабостью практических
результатов.
Сила доводов и жизнеспособность нового языка для рефлексии социальной реальности,
предложенные этой плеядой философов, значительна: они оказали огромное влияние
на историографию, литературную критику, филологию, антропологию, исследования медиа
и культуры. Утверждение о равенстве и невозможности разумного выбора разных
интерпретаций и «точек зрения» стало любимым прибежищем многих нерадивых студентов.
Между тем постмодернистская деконструкция социальной реальности как бесконечной
и случайной сети взаимно аллюзивных текстов весьма уязвима и пристрастна. «Поздний
капитализм», «коммодитизация» или «неолиберализм» оказываются для постмодернистов
инструментами вполне «реалистического» осмысления интеллектуальной истории
как отражения подлинной экономической и политической структуры общества. Коротко
говоря, постмодернистские теоретики по умолчанию используют реалистический тип
аргументации для релятивизации чужого дискурса об обществе и его прошлом, а собственная
реалистическая социальная модель при этом выводится из-под аналогичной критики.
Социальная реальность как речь: контекстуалистский подход
Адепты Кембриджской школы (а также Сассексской школы, чьи представители,
в отличие
от «кембриджцев»,
занимаются
преимущественно
«долгим»
XIX в.)
придерживаются во многом противоположного взгляда на интеллектуальную историю, хотя
развитие этого подхода также связано с радикальным обновлением философии языка. Их
подход стал результатом сознательной ориентации истории политической мысли на методы,
разрабатывавшиеся
в аналитической философии
в 1940–1960-х
гг.
Другим
эпистемологическим импульсом для историков из Кембриджа стала сверхпопулярная книга
Т. Куна «Структура научных революций»
203
, в которой он показал, что даже в естественных
науках, претендующих на строгость и объективность, действуют мощные социальные
факторы, определяющие границы доказательства и статус истины.
«Реалистическая» интеллектуальная история отталкивается от лингвистического
и исторического контекстуализма: во-первых, от поздних работ Л. Витгенштейна, согласно
которому значение того или иного слова исчерпывается не формальными определениями,
отсылающими к сущности понятия, но спецификой лингвистического узуса, то есть
контекстом конкретного высказывания, во-вторых, от теории речевых актов Дж. Остина,
в которой значение словесного действия определялось прагматическим контекстом того
или иного утверждения, понятного как ход во взаимодействии с другими людьми.
К. Скиннер перенес принципы аналитической философии языка в историю идей.
В программной статье «Значение и понимание в истории идей» (1969) он предложил
теоретическое основание
«лингвистического»
контекстуализма,
ориентированного
на реконструкцию специфически понятой авторской интенции, которая заключена в самом
тексте и его контексте, а потому подлежит научно верифицируемой экспликации
204
.
Позже,
уже в 1990-х гг. и далее, Скиннер обратится к исследованиям риторических конвенций,
заложенных в сочинениях самого разного жанра (от политических трактатов Т. Гоббса
до ранних пьес У. Шекспира) и предопределявших их раннюю рецепцию. Дж. Г. А. Покок,
в отличие от Скиннера, сделал акцент на изучении политических языков, чью эволюцию он
толковал из исторической перспективы – как постепенное формирование модусов
политической речи из профессиональных языков и языков второго порядка
205
.
203 Kuhn T. The Structure of Scientific Revolutions. Chicago, 1962 (рус. пер.: Кун Т. Структура научных
революций / Пер. с англ. И. З . Налетова. М., 1977).
204 Скиннер К. Значение и понимание в истории идей // Кембриджская школа: теория и практика
интеллектуальной истории / Сост. Т. Атнашев, М. Велижев. М., 2018. С . 53–122; пер. с англ. Т. Пирусской.
205 Покок Дж. Г. А . The State of the Art. (Введение к книге «Добродетель, торговля и история») //
90
«Кембриджская» разновидность интеллектуальной истории, как и сходные в этом
отношении исследовательские программы К. Гинзбурга, Р. Дарнтона или Р. Шартье,
противоположна по смыслу постмодернистскому проекту. Речь идет об историцистском
подходе, цель которого состоит в воссоздании утраченных контекстов, позволяющих
высветить оригинальные, исходные валентности текста или смыслы, свободные
от сложившихся вокруг них впоследствии мифологий. Более того, выяснилось, что прежнее
значение того или иного произведения способно сослужить анализу современной
политической ситуации не меньшую пользу, нежели анахронистическое прочтение
«из настоящего»206
.
Именно такой подход прежде всего и связывается с «интеллектуальной
историей»: он оказался наиболее продуктивным как методологическая программа
для эмпирических исследований на материалах по истории Италии, Англии, США, Франции
или России
207
.
Историцистская концепция прошлого получила свое обоснование в целой серии
академических опросников, появлявшихся в печати с середины 1980-х годов и посвященных
осмыслению интеллектуальной истории как самостоятельной дисциплины. Наиболее
недавний, репрезентативный и известный из них – датское издание «Интеллектуальная
история: 5 вопросов». Характерно, что среди более чем двадцати участников опроса нет
ни одного теоретика-постмодерниста. В остальном в книге представлены интервью
с историками, занимающимися самыми разными сюжетами, однако всех их объединяет
интерес к реконструкции первоначальных контекстов при исследовании политических
или культурных явлений
208
.
Название «интеллектуальная история» во многом закрепилось
за «кембриджской» версией дисциплины благодаря недавним основополагающим работам
Уотмора: издаваемой ныне в русском переводе монографии «Что такое интеллектуальная
история?» и специальному справочнику на аналогичный сюжет
209
.
В многочисленных
исследованиях, связанных с именем Уотмора, предмет и метод интеллектуальной истории
понимаются почти исключительно в рамках историцистского направления, а главным
вызовом интеллектуальной истории становится глобальный характер современного знания
о человеке.
Кембриджская школа: теория и практика интеллектуальной истории. С . 142 –188; пер. с англ. А. Бондаренко и У.
Климовой под ред. Е. Островской (впервые статья вышла в 1985 г.) .
206 Повышенное внимание к первоначальному контексту политического жеста не мешало Скиннеру
и Пококу выстраивать метанарративы: оба основателя Кембриджской школы (а также Дж. Данн, много
занимавшийся творениями Дж. Локка: Dunn J. The Political Thought of John Locke. Cambridge, 1969)
восстанавливали утраченные смыслы и языки, тем самым актуализируя их, но при этом следуя правилам
научного исследования, то есть главным образом избегая анахронизмов. Именно так Скиннер реанимировал
третье понятие свободы, оказав влияние на Ф. Петтита с его концепцией свободы как недоминирования, а Покок
«открыл» республиканскую традицию Нового времени (подробнее см.: Pettit Ph. Republicanism: A Theory
of Freedom and Government. Oxford, 1997; рус. пер.: Петтит Ф. Республиканизм. Теория свободы
и государственного правления / Пер. с англ. А. Яковлева, предисл. А. Павлова. М., 2016); Pocock J. G. A.
The Machiavellian Moment. Florentine Political Thought and the Atlantic Republican Tradition. Princeton, 1975 (рус.
пер.: Покок Дж. Г. А . Момент Макиавелли: Политическая мысль Флоренции и атлантическая республиканская
традиция / Пер. с англ. Т. Пирусской под ред. А. Олейникова; общ. ред. Т. Атнашева и М. Велижева. М., 2020);
Skinner Q. Liberty before Liberalism. Cambridge, 1998 (рус. пер.: Скиннер Кв. Свобода до либерализма /
Пер. с англ. А. Магуна. СПб., 2006).
207 См.: Кембриджская школа: теория и практика интеллектуальной истории; Collini S. The Identity
of Intellectual History // A Companion to Intellectual History / Ed. by R. Whatmore and B. Young. P. 7 –18, а также
настоящее издание.
208 Intellectual History: Five Questions / Ed. by M. H. Jeppesen, Fr. Stjernfelt and M. Thorup. Copenhagen, 2013.
209 A Companion to Intellectual History / Ed. by R. Whatmore and B. Young.
91
2. Языковой реализм: аргументы за
Существование двух версий интеллектуальной истории ставит перед гуманитариями
две проблемы – обоснование (не)научного статуса исторического знания и соотношения
знания и политики. Ниже мы намерены обсудить намеченные прежде точки расхождения
между двумя вариантами интеллектуальной истории в контексте вызовов, стоящих сегодня
перед науками о человеке. Как мы постараемся показать, постмодернистская программа
релятивизации отношений между текстом и социальной реальностью может быть
переосмыслена в «реалистическом» ключе. Для этого необходимо последовательно
прояснить ряд неотрефлексированных, но ключевых допущений постмодернистской критики
языка как инструмента и предмета научного познания, а также рассмотреть вопрос о том,
как политическая валентность историографических нарративов (не) ставит под вопрос их
научный статус.
Аргумент 1: постмодернистская критика и тайный языковой реализм
Полемический смысл значительного числа постмодернистских аргументов о природе
письма и языка (а мы, в отличие от наших релятивистских коллег, утверждаем, что в них,
как и в других высказываниях, можно реконструировать устойчивые исходные и заложенные
авторами смыслы) заключается в том, что историография должна служить эмансипаторной
критике сложившегося социального порядка. Лиотар, Фуко, Деррида, Дженкинс и многие
другие теоретики показывают, как язык и письмо, а также связанные с ними претензии
на достоверное и авторитетное знание работают на подавление и господство или на
коммерциализацию общественных отношений. Релятивисты хотят восстановить нарушенный
баланс, ограничив консерватизм и усилив эмансипацию через общественно-научный
дискурс. Вместо нейтрального медиума научной истины или кладезя здравого смысла язык
оказывается прежде всего инструментом скрытого политико-экономического господства.
Этот аргумент следует признать основательным. Однако само его признание, в свою очередь,
подразумевает модель социальной реальности как риторического агона, где, во-первых,
высказывания и тексты служат отражением другой реальности и одновременно местом
общественной борьбы, а во-вторых, сами релятивисты могут открывать и адекватно
познавать сложную связь речи и социальных конфликтов, обнажая консерватизм других
коллег или продвигая повестку освобождения. Именно на это неотрефлексированное
противоречие, центральное для постмодернизма, мы и хотели бы указать.
С точки зрения релятивистов, говорящих о неуловимой многозначности текстов,
в устроенном таким образом мире на самом деле и вполне однозначно существуют
отношения господства, неравенства и торговли, происходят столкновения групп,
соперничающих за право определять норму
210
.
Провозглашаемая призрачность реальности
и письма, в которой текст остается без референта, а реальность дана лишь как текст, на наш
вкус, слишком быстро уступает место безусловному утверждению идеологической борьбы
в обществе разных и неравных. Очевидно, что для постмодернистских авторов общественная
риторическая борьба и лежащий под ней поздний капитализм – это рабочая модель
210 Помимо аргументов Куна, о которых мы кратко сказали выше, мы также можем отметить более позднюю
версию социологии знания П. Бурдье, направленную на изучение академического пространства в современной
ему Франции (см.: Bourdieu P. Le champ scientifique // Actes de la Recherche en Sciences Sociales. 1976. Vol. 2.
No 2–3 . P. 88 –104; рус. пер.: Бурдье П. Поле науки // Альманах Российско-французского центра социологии
и философии Института социологии Российской академии наук. М.; СПб., 2002. С . 15–56; пер. с фр. Е . Д .
Вознесенской). Ученые играют в игру, где «научная истина» – главная ставка, которая определяется
исключительно признанием коллег, а реальной целью служит увеличение социального капитала. Объективная
истина и ее критерии не вполне исчезают из поля науки, но на первое место выходит социальное измерение
дискурса, претендующего на статус нормы в ученом сообществе. Однако сами эти процессы формирования
знания в конкурентном академическом поле социолог может вполне доказательно изучать, что позволяет
говорить об общей повестке языкового реализма.
92
социальной реальности, разделяющаяся и полагающаяся большинством мыслителей,
о которых мы упомянули выше. Однако сама эта модель претендует на статус адекватной
интерпретации социальной реальности.
Как мы помним, Т. Кун считал конкурирующие за признание и ресурсы сообщества
ученых, разделяющих общую парадигму, вполне адекватной интерпретацией социальной
реальности, однако делать из этого вывод, что любые интерпретации «свободно парят»
без связи с действительностью и являются лишь «инструментами господства», –
это
проявление поспешного «заглатывания» аргументов без их усвоения. Усваивая эти
аргументы, можно признать, что язык служит, с одной стороны, средством социальной
борьбы и кооперации, а с другой – ограниченным, но адекватным инструментом познания.
На достаточно высоком уровне абстракции Кембриджская школа (или, скажем,
итальянская микроистория) близка постмодернистам в критике позитивизма или наивного
платонизма в истории идей. Другим общим прозаическим фундаментом для реалистов
и части постмодернистов (впрочем, не осознающих, что говорят прозой) служит понимание
того, что риторические стратегии и тексты, по сути, и являются важнейшим слоем
социальной реальности. При этом теоретики-релятивисты по факту считают, что тексты
отражают иную действительность (политико-экономическую), а реалисты как раз
подчеркивают автономию культурного поля.
Ошибка радикальных постмодернистов заключается в том, что они используют
открытие языка как инструмента социального действия и господства в качестве аргумента
против возможности объективного научного поиска и изучения самой языковой реальности.
Однако на деле они разделяют веру в адекватность особой модели общественных отношений
как полемики или идеологической борьбы языковыми средствами. Более того, допускаемое
многими ведущими постмодернистами отождествление позднего капитализма (как мира
массовых и коммерциализированных коммуникаций) с релятивизмом и постмодернистским
отказом от установки на «реальность» и истину само содержит очень сильное утверждение.
Для людей, считающих любые устойчивые значения текстов и событий прошлого
иллюзорными, уверенность в господстве капитализма должна казаться избыточно
реалистичной. Откуда известно, что бесконечную сложность призрачных общественных
явлений и текстов можно адекватно описать как поздний капитализм?
Кажется, постмодернистам следует более систематически осмыслить обе части своих
убеждений. Представления о «чистом», незаинтересованном поиске истины, о полной
нейтральности научного или экспертного знания были убедительно опровергнуты в ходе
интенсивной полемики ХХ в. Более оправданный реалистический вывод из вышеописанного
набора релятивистских аргументов в применении к интеллектуальной истории состоит
в выборе языка или дискурса как специфического предмета изучения, который нужно изучать
в его собственной логике – полемического обмена высказываниями в соревновании
за признание, нормы, конкретные решения и общую картину мира.
Резюмируем наши тезисы в пользу языкового реализма. Во-первых, интеллектуальная
деятельность вплетена в ткань социальных отношений и, безусловно, оказывается
инструментом борьбы, кооперации и в широком смысле полем социального действия par
excellence. В этом качестве полемические высказывания (а любые высказывания и тексты
суть часть общественной дискуссии) составляют самостоятельный порядок, который
не сводится без остатка к игре каких-то иных факторов. Во-вторых, сами «идеи»
не представляются ни адекватным отражением реальности, ни выражением «сущностей»,
лежащих за пределами физического или социального мира. Историк не способен установить
сущность идеи «нации» или «государства», хотя многие современные исследователи в России
и в мире, вероятно, все еще мыслят внутри этой парадигмы. Вместо обращения
к абстрактным «идеям» историку скорее следует интерпретировать «высказывания» в их
специфическом языковом
и социальном контексте,
что
на практике указывает
на необходимость реконструкции локально заданного репертуара смыслов и значений,
на важность
конкретных
заимствований
и аллюзий (не случайно
филология
93
и интеллектуальная история имеют много общего). Релятивистская критика языка
и историографии дает методологический инструмент историку-реалисту. Наконец, в-третьих,
историки по умолчанию мыслят свою науку, находясь внутри предзаданной культурной
ситуацией воображаемой структуры времени (прогрессистской, апокалиптической,
контингентной и др.), которую полезно осознавать
211
.
Стратегия языкового «реализма» позволяет конструировать более или менее
убедительные модели описания, с помощью которых можно воссоздавать значения
сделанных ранее высказываний в исходном историко-социальном контексте, равно как и
изучать позднейшую рецепцию этих высказываний в конкретный исторический период.
Тексты принципиально открыты множественности истолкований в будущем, однако
потенциальная открытость новым интерпретациям не означает, что у текста не было
оригинального и более узкого контекста. Вернемся к тезису К. Гирца о подмигивании в ответ
на подмигивание, который кажется почти неотличимым от «призраков призрака» Деррида
или от утверждений Р. Барта. В отличие от постмодернистов, подчеркивающих творческий
и игровой характер своих трактовок, Гирц ближе «реалистической» линии. Он по умолчанию
исходил из того, что его анализ курьезных случаев взаимодействия людей разных культур
в Марокко или петушиных боев на Бали адекватен сложному устройству самого предмета
исследования. Указывая на важность воображения и fictio для антрополога, стремящегося
освоить и разъяснить «символические действия» людей иных культур, он настаивал
на научности и правдоподобии собственных гипотез
212
.
Рорти, который считал себя
релятивистом, ратовал за контекстно ориентированную историю философии как наилучшую
стратегию изучения истории мысли
213
.
Следовательно, «реальность» мысли (точнее,
высказываний) подлежит методической реконструкции.
Аргумент 2: историзм и/или «фиктивность настоящего»?
Значимым этапом в теории историографии последних двадцати лет стало большое
внимание к тому, как мы сегодня представляем структуру или режимы исторического
времени. Речь идет о так называемом темпоральном повороте в гуманитарных науках
214
.
Историк, погруженный в общественный контекст, стремится определить исходную точку,
из которой он смотрит на прошлое и намечает границу между прошедшим и настоящим.
В знаменитой реплике Л. Хант, тогда президента Американской ассоциации историков,
презентизм предстает как двойная опасность для историографии – он скрывает имплицитное
и незаслуженное чувство морального превосходства над прошлым и мешает понять
инаковость прошлого в его собственных терминах
215
.
Классическая работа Ф. Артога
о презентизме, вышедшая в 2003 г., во многом резюмировала накопленный опыт и задала
новую понятийную сетку для последующей дискуссии
216
. Книга Артога демонстрирует, что
речь идет, возможно, не просто об опасности для историографии, но о совершенно новом
211 Этот аргумент мы последовательно обсуждаем в следующем разделе, посвященном историзму.
212 Geertz C. The Interpretation of Cultures. P. 3 –30 (рус. пер.: Гирц Кл. Интерпретация культур. С . 9 –43).
213 См.: Rorty R. The Historiography of Philosophy: Four Genres // Philosophy in History / Ed. by R. Rorty, J. B.
Schneewind and Q. Skinner. Cambridge, 1984. P. 49–75 .
214 См., например: Олейников А. А . Время истории // Логос. 2021. Т. 143. No 4. С . 5 –30 .
215 Hunt L. Against Presentism. https://www.historians.org/publications-and-directories/perspectives-on-history/
may-2002/against-presentism (по состоянию на 23.10.2022).
216 Hartog F. Régimes d ’historicité. Présentisme et expériences du temps. Paris, 2003 (перевод книги Артога
в настоящий момент готовится к печати в издательстве «Новое литературное обозрение»).
94
интеллектуальном вызове. Обсуждение вопроса о времени стимулировало появление
аргументов в пользу признания «множественной темпоральности»
217
.
В свою очередь,
неотрефлексированная ранее фикция единства «настоящего» стала объектом продуктивной
критики
218
.
В рамках каждой культурной общности в данный момент времени мы обнаруживаем
сосуществование нескольких пластов или слоев темпоральности, то есть качественно
различных суждений о характере настоящего момента и об общей логике исторического
процесса. Скажем, в начале XXI в. С . Пинкер предлагает аргументы в пользу
прогрессистской модели истории, Артог фиксирует гегемонию презентизма, сохраняют свое
влияние циклические нарративы, а ряд современных российских и западных философов
в диапазоне от А. Бадью до А. Дугина актуализируют апокалиптические ожидания.
На уровне массовой культуры феномен исторической памяти общественных групп, многие
из которых осознают себя через верность знаковым событиям прошлого, создают
многоцветье «широкого настоящего времени»
219
.
В целом мы разделяем критические
аргументы
презентистской реконструкции
настоящего,
но хотим оспорить ее
методологические импликации.
Признание наслоения разных представлений о времени влияет на историцистскую
установку исследователей и ставит вопрос: можно ли проводить символическую границу
между прошлым и настоящим, если первое столь неоднородно? В недавнем номере журнала
«Логос» опубликован репрезентативный блок материалов о «темпоральном повороте»,
в котором современные теоретики истории развивают тему множественности настоящего.
В обстоятельной
и фундированной
статье
один
из крупнейших
специалистов
по темпоральности Б. Бевернаж заявляет, что следствием структурного расщепления
современности выступает невозможность провести грань между прошлым и настоящим,
поскольку нельзя утверждать инаковость или «прошедшесть» прошлого без исчерпывающего
исследования многослойной современности
220
. Опираясь на критику настоящего со стороны
П. Осборна, Бевернаж пишет о перформативном характере границы между современностью
и прошлым:
Называя современное фикцией, Осборн не хочет сказать, что оно не имеет
отношения к реальности. Скорее, он имеет в виду, что современное отчасти
возникает в результате «продуктивного воображения» и является очень даже
реальным, потому что функционирует как перформативная проекция, которая
«создает
настоящее»
или «социально
актуализирует»
несуществующую
в действительности взаимосвязь проживаемых времен
221
.
Согласно Бевернажу, профессиональные историки часто «производят прошедшесть»
как способ дискредитировать определенные типы поведения с высоты своей социальной
позиции. Скажем, утверждение об архаичности чужих культурных практик скрывает
перформативную попытку закрепить более сильную позицию говорящего в символической
217 Jordheim H. Against Periodization: Koselleck’s Theory of Multiple Temporalities // History and Theory. 2012.
No 2. P. 151–171.
218 Osborne P. Global Modernity and the Contemporary: Two Categories of the Philosophy of Historical Time //
Breaking Up Time: Negotiating the Borders Between Present, Past and Future / Ed. by C. Lorenz, B. Bevernage.
Göttingen, 2013. P. 69 –84.
219 См.: Gumbrecht U. Our Broad Present: Time and Contemporary Culture. New York, 2014.
220 Бевернаж Б. «Прошедшесть прошлого»: некоторые размышления о политике историзации и кризисе
истористского прошлого / Пер. с англ. А. Егоровой // Логос. Т. 31. 2021. No 4. С. 65 –94.
221 Бевернаж Б. «Прошедшесть прошлого». С . 82.
95
иерархии как представителя торжествующей современности.
Вместе с тем утверждение, что рабство в США – это феномен прошлого и нет нужды
критиковать Аристотеля за апологию рабовладения
222
, по мнению Бевернажа, направлено
против тех, кто указывает на сохраняющееся наследие расового неравенства в отношении
афроамериканцев, и тех, кто призывает к тому, чтобы проследить преемственность
современных форм угнетения в прошлом
223
.
Долгосрочные процессы деколонизации,
секуляризации или окончание апартеида (всегда) рано объявлять явлением прошедшей эпохи,
ибо мы никогда вполне не изучим разнообразие многослойного настоящего. Бевернаж
утверждает, что историзм не следует выбрасывать, но скорее оживить и обновить, осознав
его скрытые идеологические импликации
224
.
Мы согласны с критикой идеологического
производства исторической дистанции, где поспешно выстраивается иерархия современного
и устаревшего.
Наши возражения Бевернажу можно свести к нескольким соображениям. Мы легко
и всюду обнаружим сходную расщепленную структуру представлений о времени, и сегодня,
и в предшествующее время. Что не отменяет возможности исторического изменения
режимов темпоральности, или точнее, специфической конфигурации их разных «слоев»,
а значит, из этих открытий вовсе не следует «презентизм» как отказ от границы между
прошлым и настоящим
225
.
Актуальный историзм как методологическая установка близок базовой операции
антропологии и всех гуманитарных наук, нацеленных на понимание. Речь идет
о принципиальном допущении инаковости и множественности историко-культурных
контекстов. Антрополог по умолчанию делает подобное допущение границы по отношению
к своим современникам, а историк – к людям и сообществам прошлого. Осознание
множественности сообществ и контекстов настоящего, по сути, только усиливает
необходимость отдать себе отчет в дистанции между людьми, поведение которых
исследователь хочет истолковать, и самим исследователем. Прошедшесть прошлого
усиливается несовременностью настоящего внутри различных социальных групп. Историк
стремится осознать собственные представления и предрассудки, а также личный опыт
переживания темпоральности. Отменяет ли все сказанное историцистское дистанцирование
и отстранение от прошлого? Нам кажется, напротив, – лишь делает его необходимым
как условие понимания себя и других.
Аргумент 3: реполитизация истории: альтернативный путь
Наш третий аргумент связан с вопросом о желательности реполитизации (или,
напротив, актуальности деполитизации) историографии с учетом уже сформулированных
выше аргументов. Мы хотели бы использовать в качестве точки отсчета систематический
и тонкий анализ дискуссии о необходимости реполитизации исторического знания в работах
222 Как это делает в 2002 г. Л . Хант (Hunt L. Against Presentism), когда она переворачивает идеологическое
острие аргумента, который позднее использует Бевернаж, и указывает, что, обвиняя Юма в расизме
или Аристотеля в рабовладении, мы оказываемся в той же логике исторического превосходства, считая себя
вправе осуждать невежественных жителей прошлого.
223 Бевернаж Б. «Прошедшесть прошлого»: некоторые размышления о политике историзации и кризисе
истористского прошлого. С . 85.
224 Там же. С. 87.
225 Так, Покок показывает сосуществование нескольких линий анти-Просвещения в век Просвещения
(Pocock J. G. A. Barbarism and Religion. Vol. 1: The Enlightenments of Edward Gibbon, 1737–1794. Cambridge,
1999), что не отменяет того факта, что режимы темпоральности рубежа XVIII – XIX вв. и начала XXI в. могут
иметь существенные различия с точки зрения композиции слоев историософских представлений и образов
переживания времени, которые историки смогут реконструировать для каждого из этих периодов.
96
одного из главных отечественных теоретиков историографии А. А. Олейникова, которую мы
упоминали выше. Российский философ прямо увязывает два феномена – темпоральный
поворот, о котором мы говорили выше, и осознание политической значимости ремесла
историков в публичном пространстве.
Олейников убедительно показывает, что относительно новое представление об истории
как контингентном множестве различных тенденций, укладов и решений, в сочетании
с памятью
об альтернативах
господствующему
порядку,
служит
легитимацией
для политической «утопии», для поиска новых путей в политике. Такой тип реполитизации
истории как множества альтернатив для настоящего и будущего он считает наиболее
адекватным. Напротив, телеологические версии исторического нарратива, сложившиеся
в XIX в., импл ицитно содержат политическое утверждение «необратимости прошлого»,
которое привело к «благополучному настоящему», которое, в свою очередь, желательно
сохранить навсегда. Соглашаясь с поздним Х. Уайтом, Олейников утверждает, что
основанная
на телеологическом
нарративе
историческая
дисциплина
защищает
консервативный реализм как тип политического мышления и инструмент в руках политиков
и чиновников в национальном государстве
226
.
При этом сам Уайт предлагал иной модус
реполитизации истории – через возрождение ее моральной и воспитательной функции
и поэтизацию образцов добродетельного поведения (magistra vitae). Развивая аргументы М.
де Серто и М. Бевира, Олейников утверждает, напротив, возможность радикального
историзма, которая позволяет в принципе устранить предположение об исторической
закономерности происхождения настоящего из прошлого и тем самым указать на множество
политических альтернатив
227
.
Различение двух модусов реполитизации и морального подхода Уайта, а также
демонстрация консервативного заряда «политики интерпретации» истории как необратимого
и закономерного ряда событий представляются нам вполне разумными, но недостаточными,
чтобы стать общей нормативной рамкой историографии как дисциплины. Мы считаем, что
историк а) может по мере сил стремиться осознавать политические импликации своих
суждений и своего исторического воображения и для этого аргументы Уайта и Олейникова
дают прекрасный ориентир; б) способен явно артикулировать или бессознательно
проецировать свои политические предпочтения и ценностные интересы в диапазоне
от консерватизма до утопии
228
,
предлагать новые политико-философские концепции,
опираясь на раскопки старых и уже забытых теорий
229
, или же поддерживать память
о примерах добродетельного и недостойного поведения
230
.
Начало специальной военной
операции в феврале 2022 г. подтверждает, что потребность в моральной позиции историков
и гуманитариев не уменьшается со временем, как могло бы показаться из наивной
прогрессистской перспективы. Однако открытая политическая борьба на поле истории
или вмененный выбор одного из модусов политизации едва ли способствует свободному
поиску лучшей версии описания прошлого.
Реполитизация истории в любом из двух модусов, а тем более в форме политики
памяти, оказывается обоюдоострым оружием. Границы для битвы публичных интерпретаций
совместного прошлого будут задавать лишь разные формы цензуры и санкций против
226 Олейников А. А. Время истории. С . 12 .
227 Там же. С . 15–25.
228 Атнашев Т. М ., Велижев М. Б. Первооткрыватель республиканской традиции, или Как заниматься
политической философией с помощью истории политических языков? // Покок Дж. Г. А. Момент Макиавелли:
Политическая мысль Флоренции и атлантическая республиканская традиция. С . 821–850 .
229 Skinner Q. Liberty before Liberalism (рус. пер.: Скиннер Кв. Свобода до либерализма).
230 White H. The Practical Past. Evanston, 2014.
97
«еретиков». Сторонники и противники капитализма, прогресса, контингентности,
социализма, традиции или неизбежности войны смогут черпать свои аргументы
в политизированной истории. Если идеологические выводы из используемых методов
или получаемых результатов исследования о прошлом становятся важнее, чем возможность
научно их оспаривать, где гарантия, что историю не политизируют и не монополизируют
люди, чьи мнения нам чужды или прямо враждебны? Дабы не растворять настежь ящик
Пандоры, мы хотели бы дополнить призыв Олейникова к осознанию двух метамодусов
реполитизации истории двумя соображениями.
Во-первых, важно оставить за ученым право не иметь четкой политической позиции,
которая бы задавала выбор тем и тем более предопределяла бы его суждения об изучаемых
вопросах
231
. Во-вторых, мы считаем важным осознавать, обращать внимание на возможные
политические импликации или политическую валентность собственных исторических
штудий, даже если сам ученый не ставит себе явные идеологические цели
232
. Мы хотели бы
предложить эскизную типологию таких непреднамеренных политических следствий штудий
прошлого.
На макроуровне исторической абстракции мы можем говорить о политической
валентности режимов историчности, которые включают в себя как субъективные модели
переживания времени, так и макронарративы о ходе развития человечества или отдельных
сообществ. Скажем, апокалиптическое, контингентное или прогрессистское видение истории
будет иметь различные политические следствия
233
.
Из вышесказанного, однако, не следует,
что невозможно добиваться научного прогресса в аккумуляции знаний о макротенденциях
исторической эволюции, таких как модернизация, бюрократизация, отношение центра
и периферии или рост эмоционального самоконтроля
234
.
На втором, промежуточном уровне исследования отдельных явлений, например
в рамках истории чтения, эволюции политической философии либерализма или истории
повседневности, мы можем говорить о прямой политической валентности полученных
результатов. Суждения о «целостности» какого-либо периода или отдельной социальной
общности (класса, слоя, нации, региона, идентичности) являются результатом не вполне
обосновываемого выбора, скорее чем аргументации и отсылки к фактам
235
. Выводы историка
либерализма
о «либерализме»,
вероятно,
не оставят
равнодушным ни либерала,
ни марксиста, ни либертарианца. Тем не менее задача написания истории либерализма
как политической философии и как идеологии не является бессмысленной и может быть
решена с большей или меньшей убедительностью на основе эвристической модели
и фактов
236
.
231 Мы придерживаемся сделанного М. Вебером классического различения исследовательского интереса
(который определяется битвой Богов в душе ученого) и полученных результатов (которые должны
формироваться научным и беспристрастным образом). Однако мы можем констатировать, что существует
множество исследователей, не имеющих явной идеологической повестки.
232 См., например: Велижев М. Б. Чаадаевское дело. Идеология, риторика и государственная власть
в николаевской России. М., 2022.
233 См.: Олейников А. А. Время истории.
234 Как показывает Н. С . Розов, успехи исторической макросоциологии дают основания для сдержанного
оптимизма (Розов Н. С . Возрождение номотетики: основания и перспективы исторической макросоциологии //
Способы постижения прошлого. Методология и теория исторической науки / Отв. ред. М. А. Кукарцева. М.,
2011. С. 251–277). Однако важно не смешивать такие результаты с историософскими моделями, которые могут
быть гомологически им близки.
235 Jenkins K. At the Limits of History. Essays on Theory and Practice. P. 8 .
236 См., например: Freeden M. Liberalism: A Very Short Introduction. Oxford, 2015.
98
Наконец, мы можем обратиться к вопросу о политической валентности разысканий
в отношении отдельного случая, предполагающего реконструкцию локальной констелляции
фактов. На уровне анализа микрокейсов возможны как прямые политические импликации,
так и подчеркнутый нейтралитет. Скажем, изучение жизни одной коммуны способно
показать неустойчивость такой формы общежития и быть использовано как аргумент против
анархизма. Одновременно историк с анархистскими убеждениями может найти в этом пусть
краткосрочном опыте практическое воплощение глубинной потребности людей
в самоуправлении.
Впрочем, на всех трех уровнях важно, что для интеллектуального историка (в отличие
от философа, идеолога или политика) предметом интерпретации по умолчанию остается
прошлое или просто иное, которое сопротивляется предпочтениям ученого и содержит в себе
нечто новое в сравнении с его ожиданиями и опытом. Собственное настоящее и контекст
историка работает как фон для исследуемой фигуры прошедшего, который полезно
осознавать. Политическая борьба в настоящем не должна заменять споры о том, как лучше
понимать историю в диапазоне от макронарративов до суждений об отдельных фактах
и кейсах.
Post scriptum: аргумент Хейдена Уайта
Завершим наш анализ описанием и интерпретацией отдельного исторического факта.
В 2004 г. один из соавторов статьи имел редкий шанс лично задать вопрос Хейдену Уайту –
в автобусе, ехавшем вниз по дороге из Фьезоле, где расположен Европейский университет
(European University Institute). Вопрос звучал приблизительно так: считает ли Уайт
невозможным изучение того, как «на самом деле» обстояли дела в прошлом? Ответ
известного американского иконокласта неожиданно снял камень сомнений с души молодого
историка – Уайт признал, что «реальность» существует и мы способны ее реконструировать.
В более поздних текстах Уайт более четко обозначил свою позицию о возможностях
историографии свидетельствовать о подлинности прошлого. Мы можем исследовать
обстоятельства прошлого, но достоверные факты оказываются наименее важным
или наименее практическим из того, что должен делать хороший историк
237
.
Моральные
уроки и отказ от встроенного в дисциплину консервативного реализма историков, с его точки
зрения, гораздо важнее, чем, пусть и разумная, апелляция к фактам. Более того, Уайт
указывал, что даже писатель или художница, создающие произведение о Холокосте или о
Первой мировой войне, не просто воображают и представляют прошлое с помощью
литературного языка (фикции), но и обращаются к тому самому событию как референту
238
.
Вместо отказа от ссылки на подлинные события, как порой случается у постмодернистов,
Уайт скорее показывал, что история и литература образуют единый континуум, а зона их
смешения важнее двух крайних полюсов. Вопреки Уайту и Олейникову, мы считаем важным
допустить свободу историка не быть в плену у политических валентностей своих штудий
на любом из трех условных уровней анализа и сохранять научную автономию суждений
через полемику, которая не сводится к указанию на одобряемые или не одобряемые нами
политические предпочтения оппонента.
Как кажется, дисциплинирующее воздействие фактов языка и событий на историческое
воображение и моральные чувства историков – чрезвычайно важное для всех нас
обстоятельство. Языковой реализм утверждает речь как первичную социальную материю,
по которой можно строить и проверять наши предположения. Мы способны выдвигать
осмысленные гипотезы на уровне отдельных фактов, на уровне сообществ, воображаемых
и создаваемых людьми с помощью языка, а также на уровне макронарративов и хронотопа
237 White H. The Practical Past.
238 Ibid. P. 25–40.
99
истории в целом. Признание неизбежной политической валентности историографического
повествования на каждом из трех уровней не должно означать отказа от автономии научного
поиска – от идеалистической установки на интеллектуальную честность в обсуждении
наилучшей интерпретации языковых фактов. Без признания этой автономии наши дискуссии
и аргументы о высказываниях других людей теряют исходный смысл.