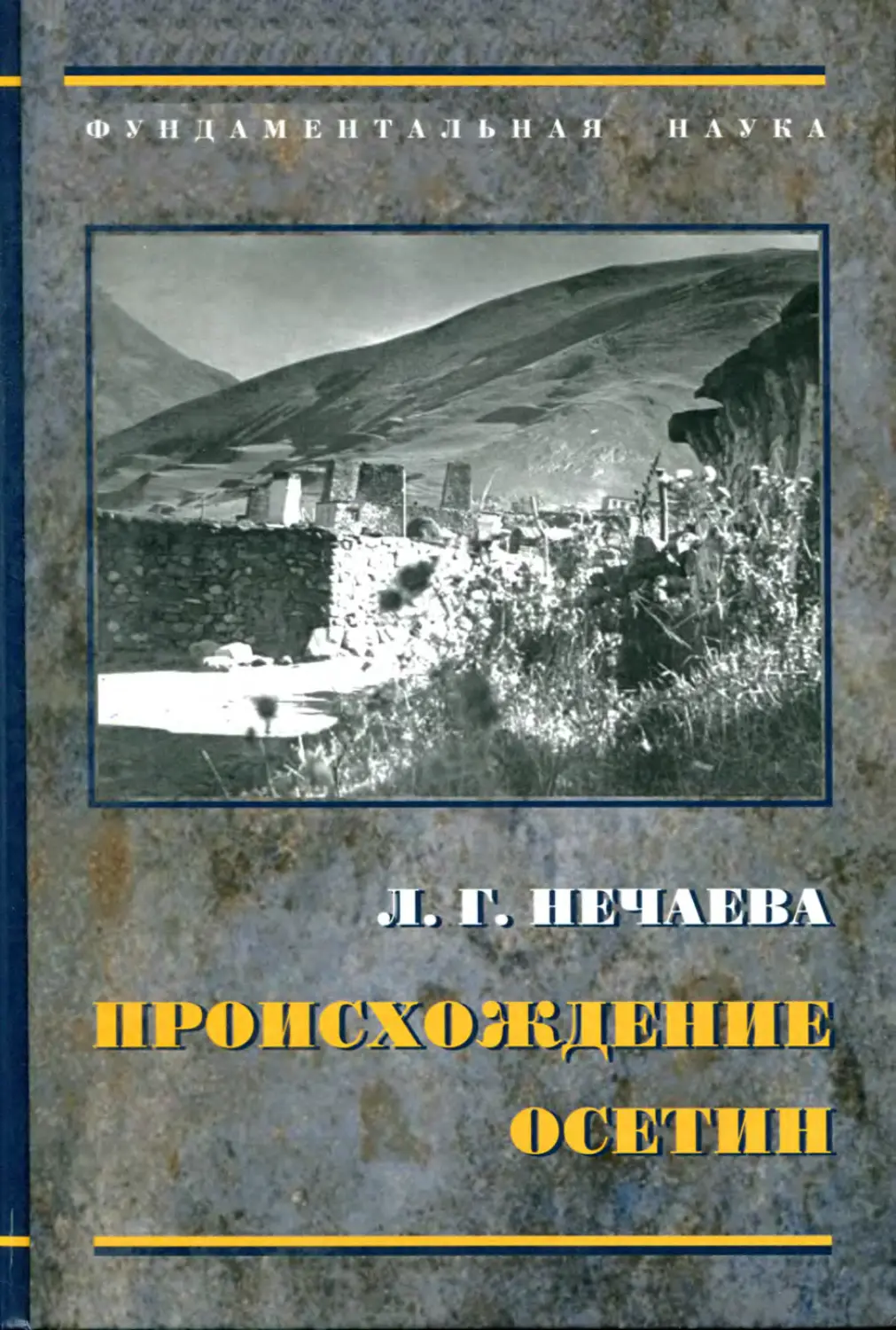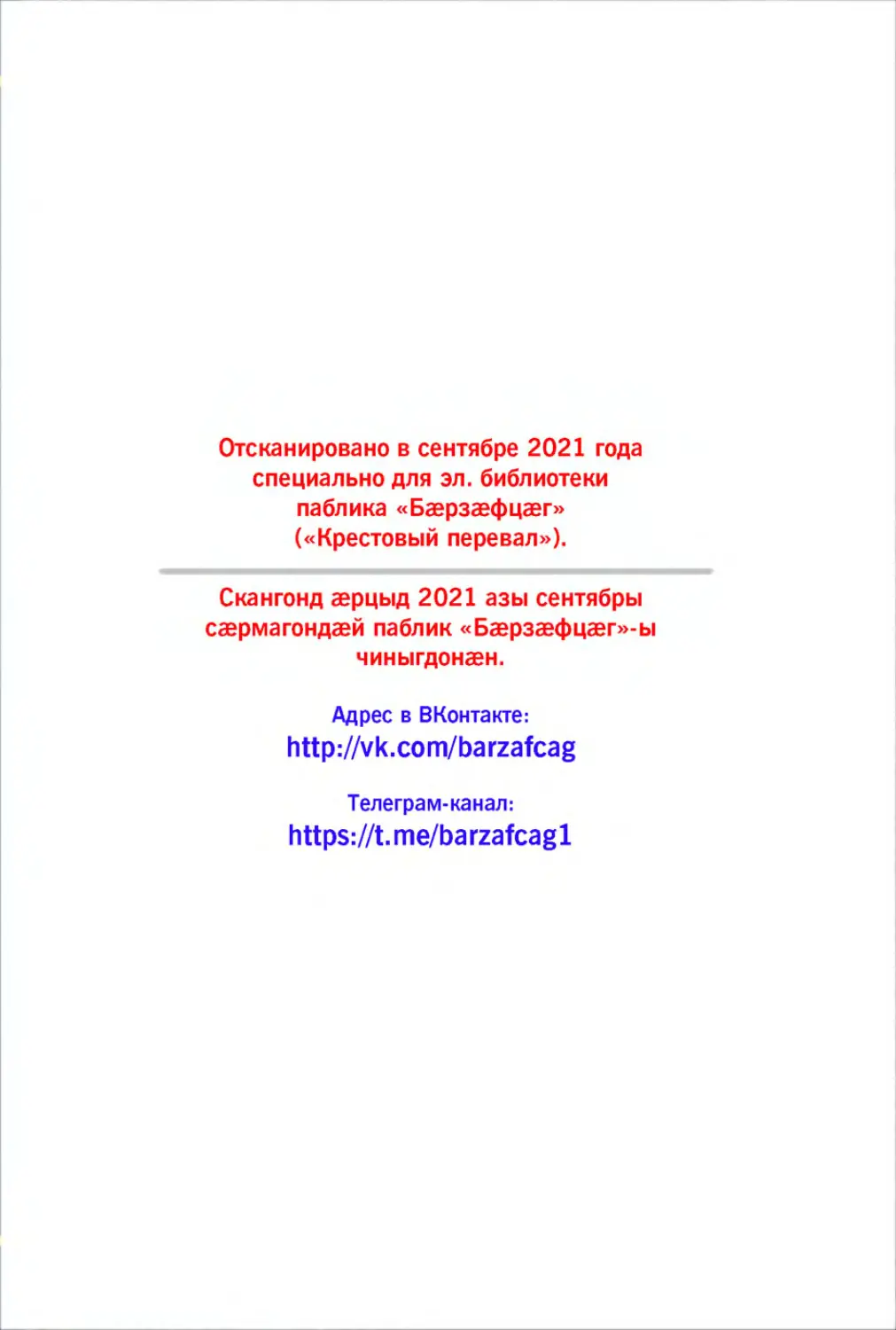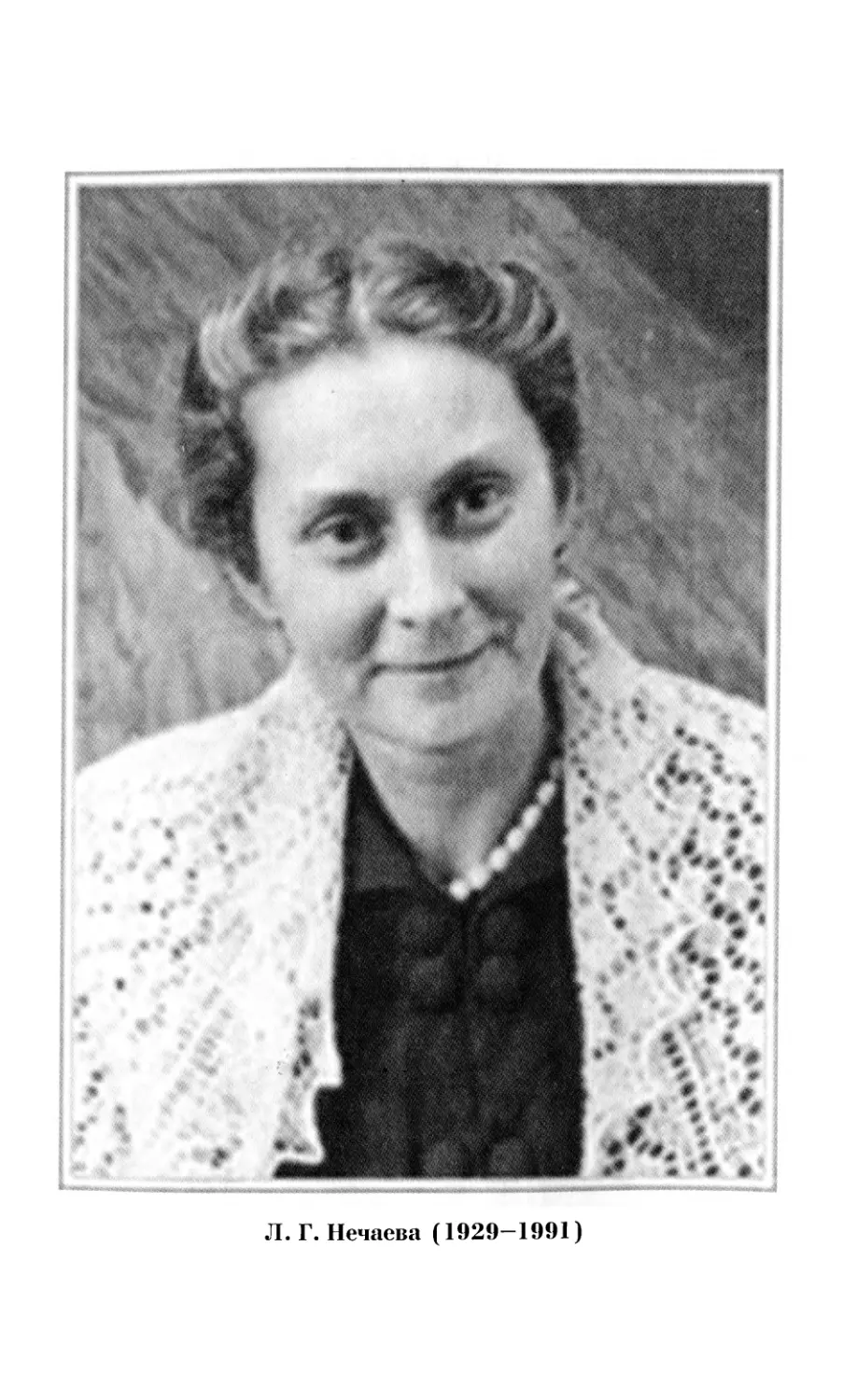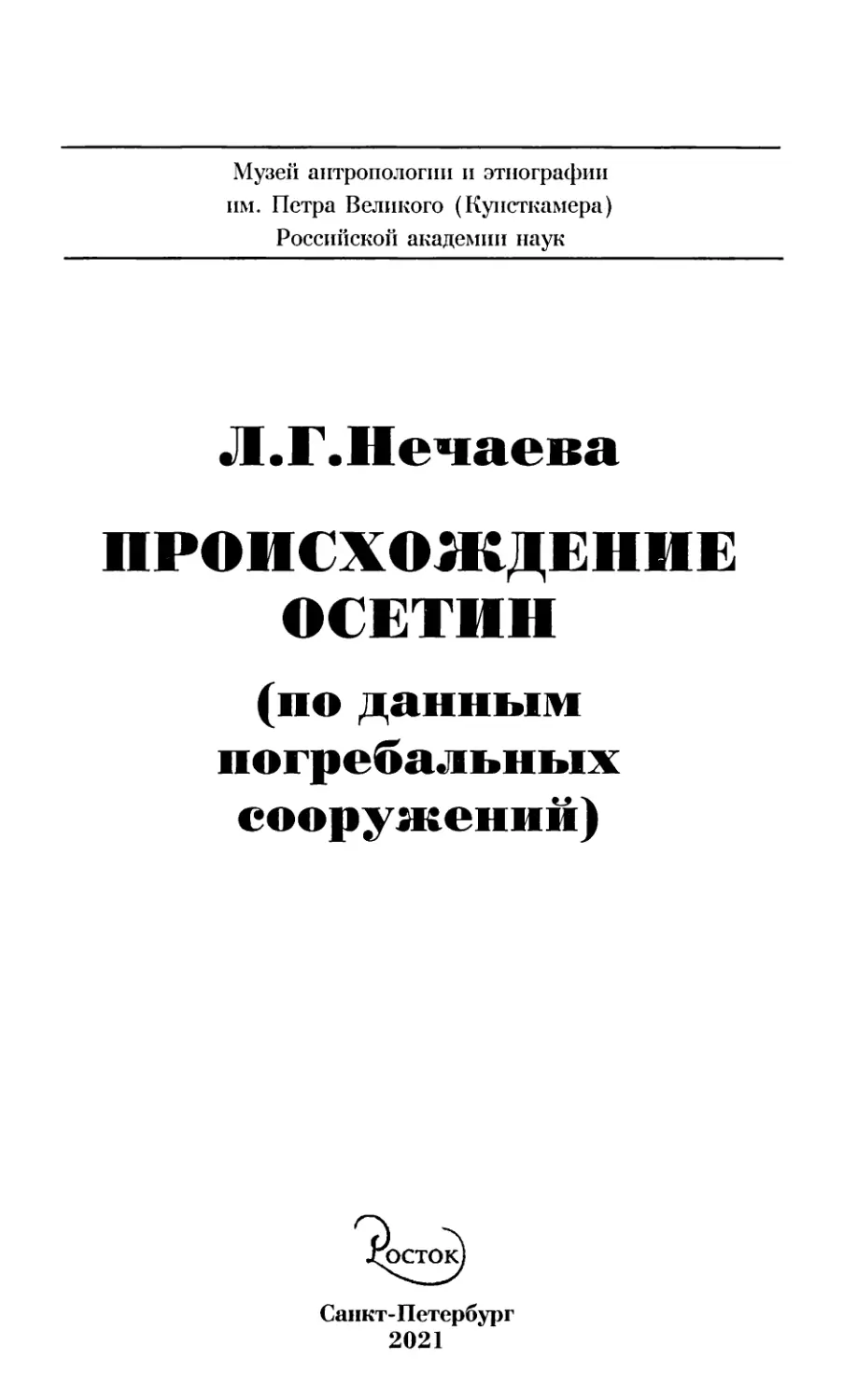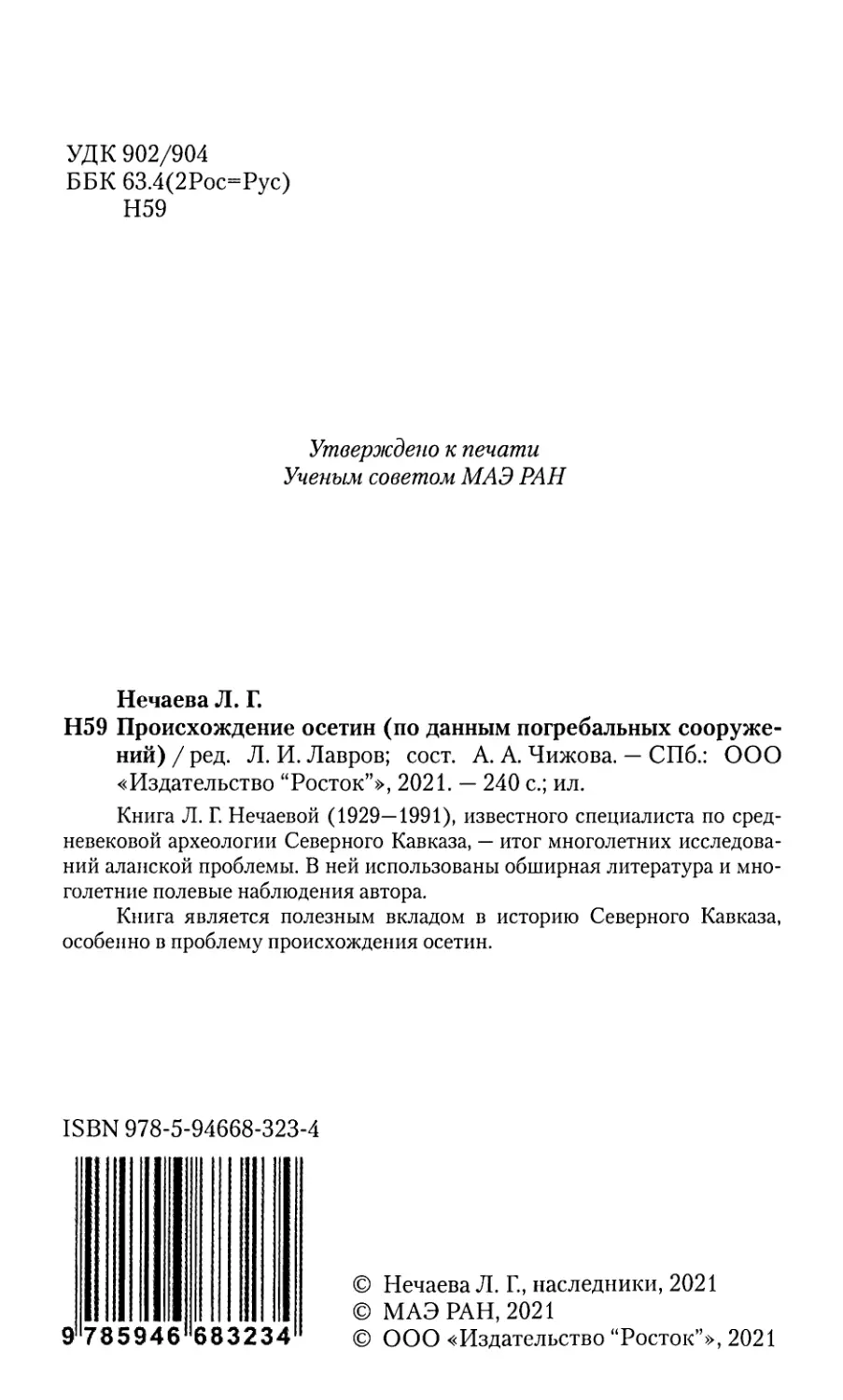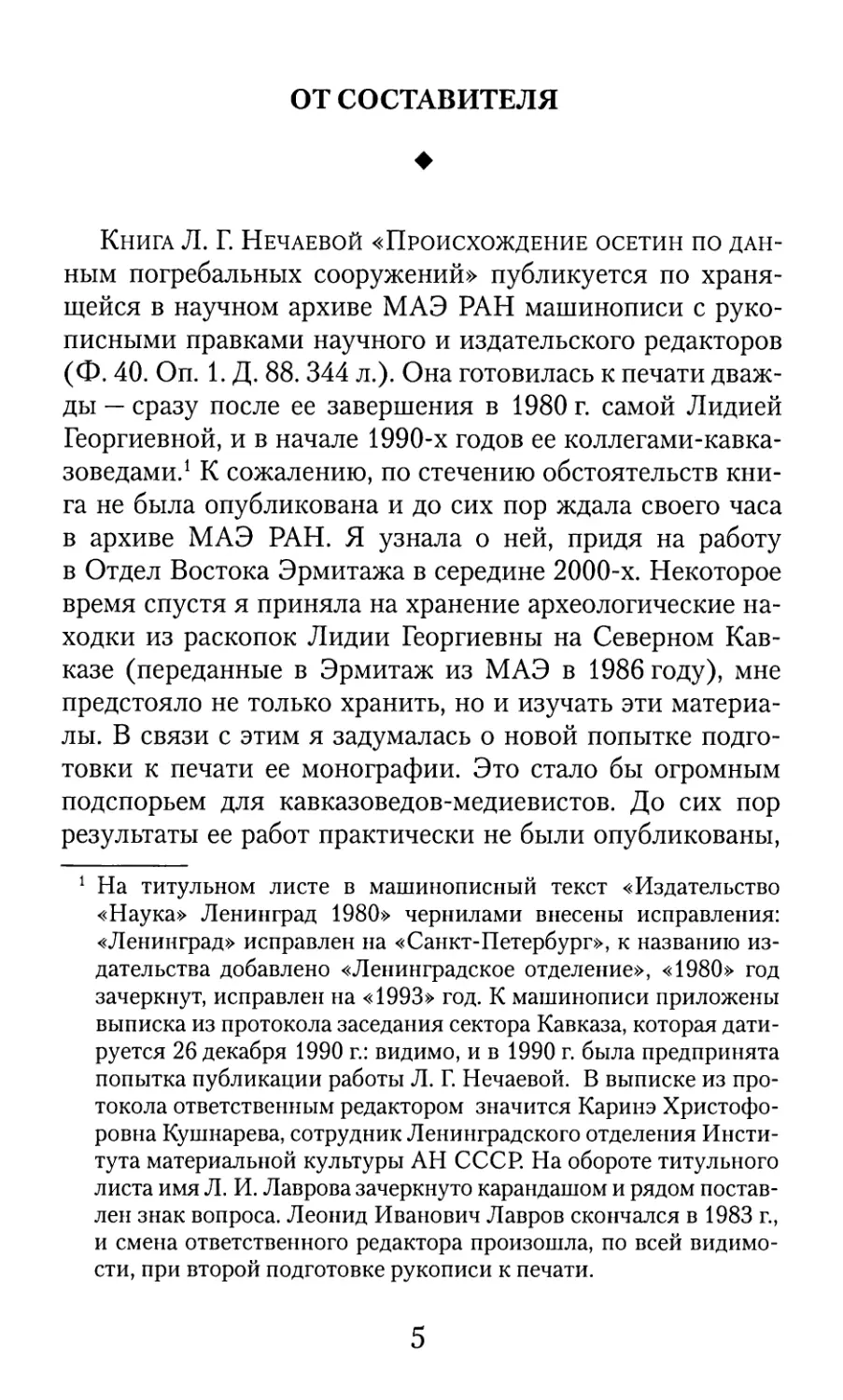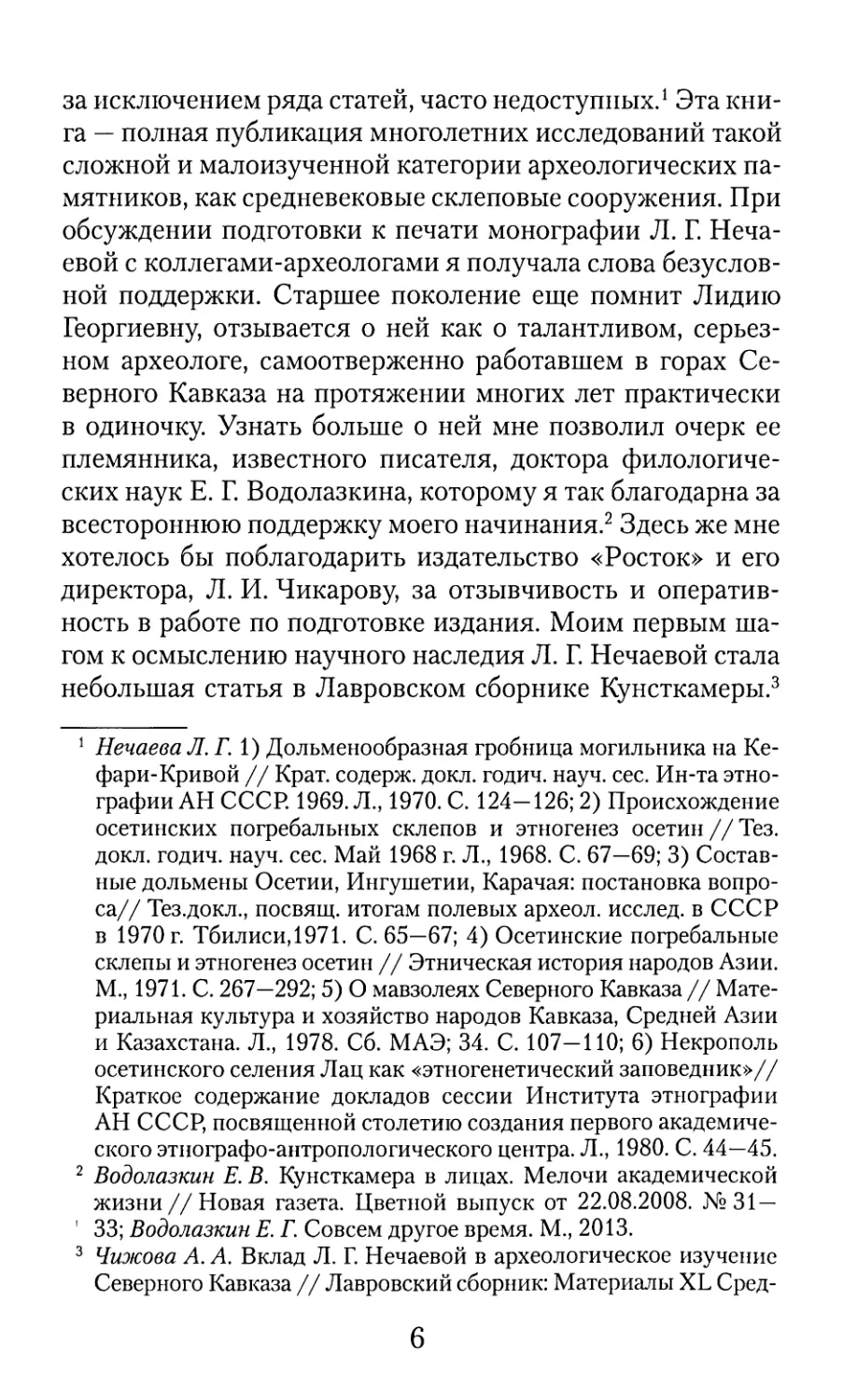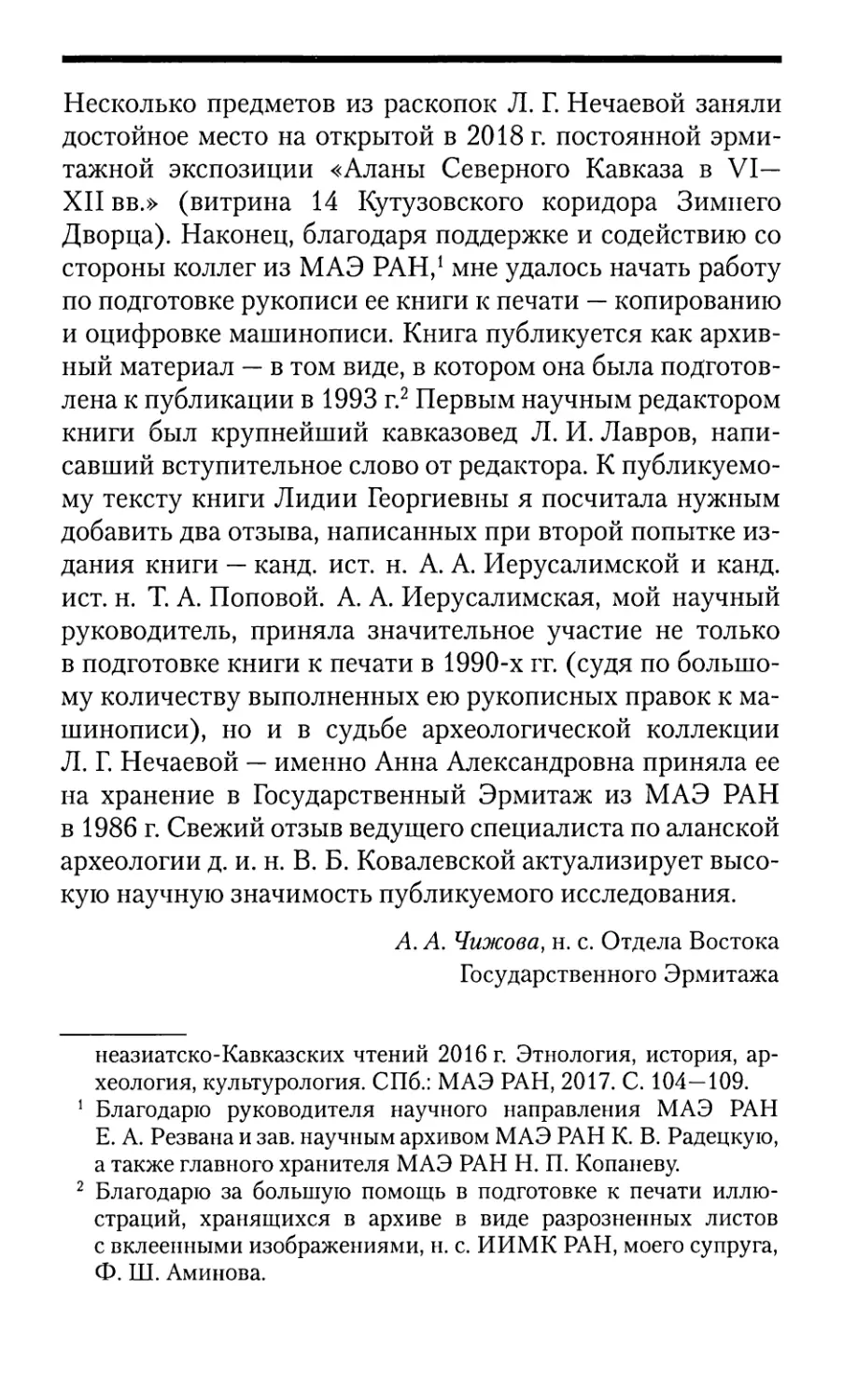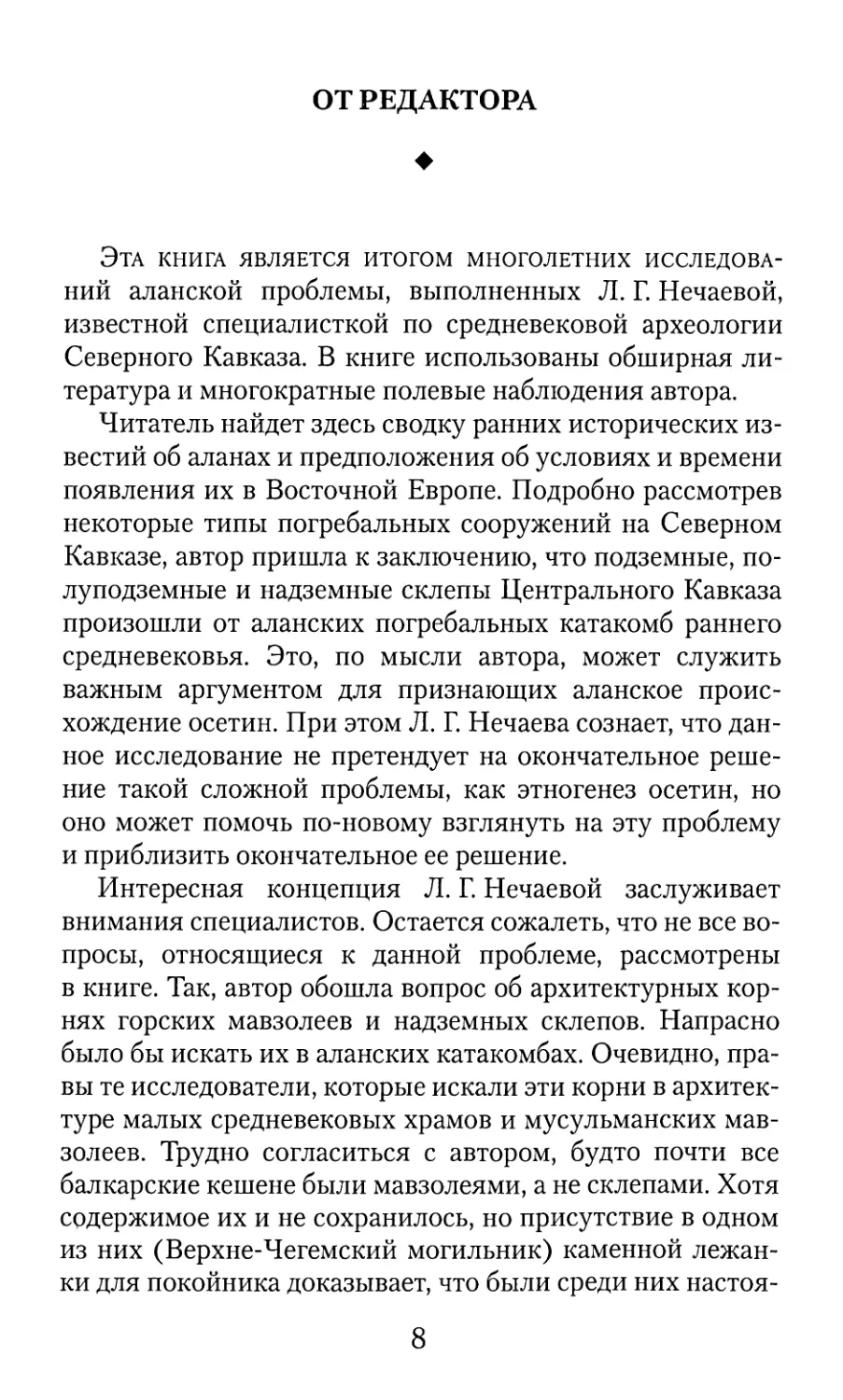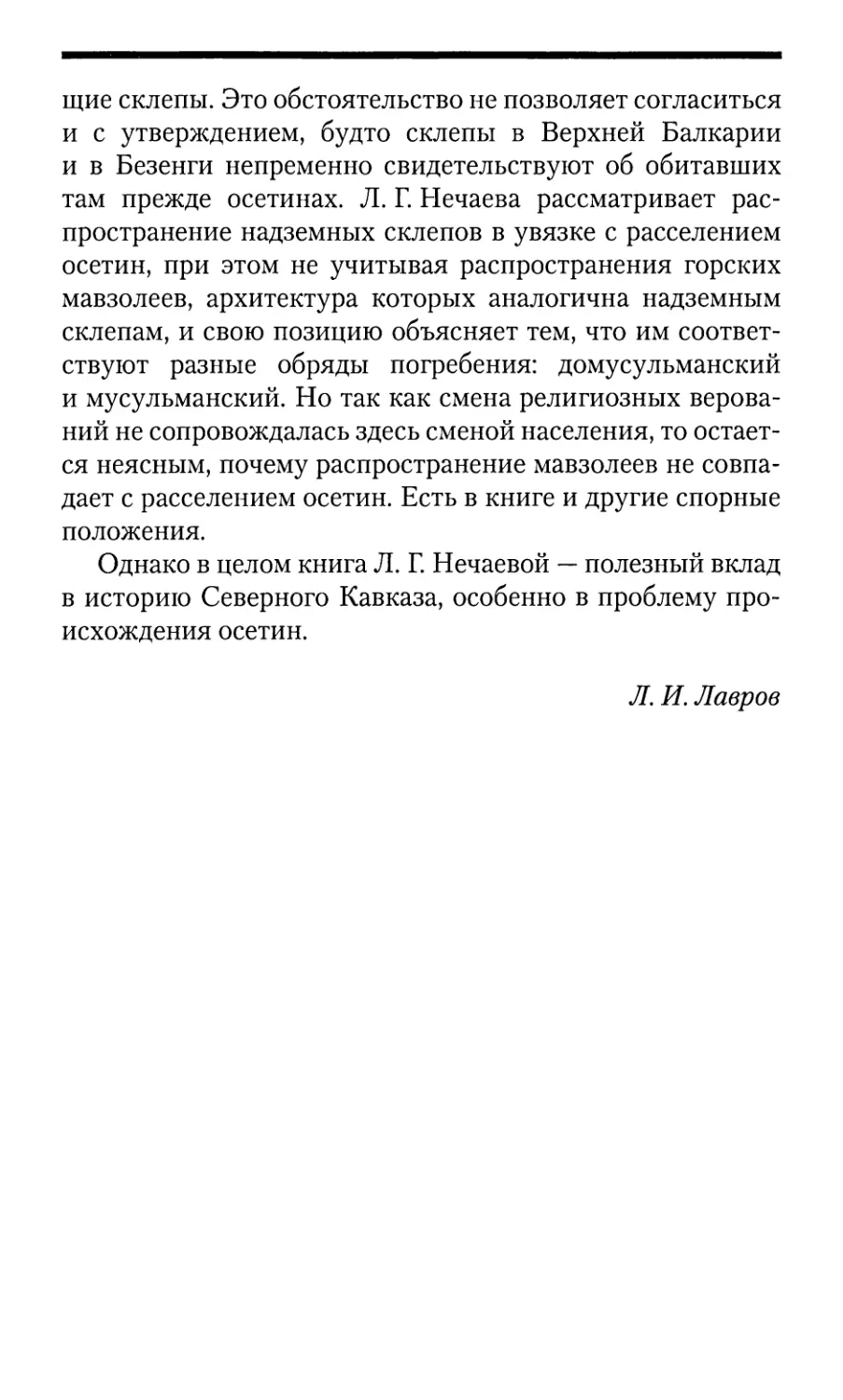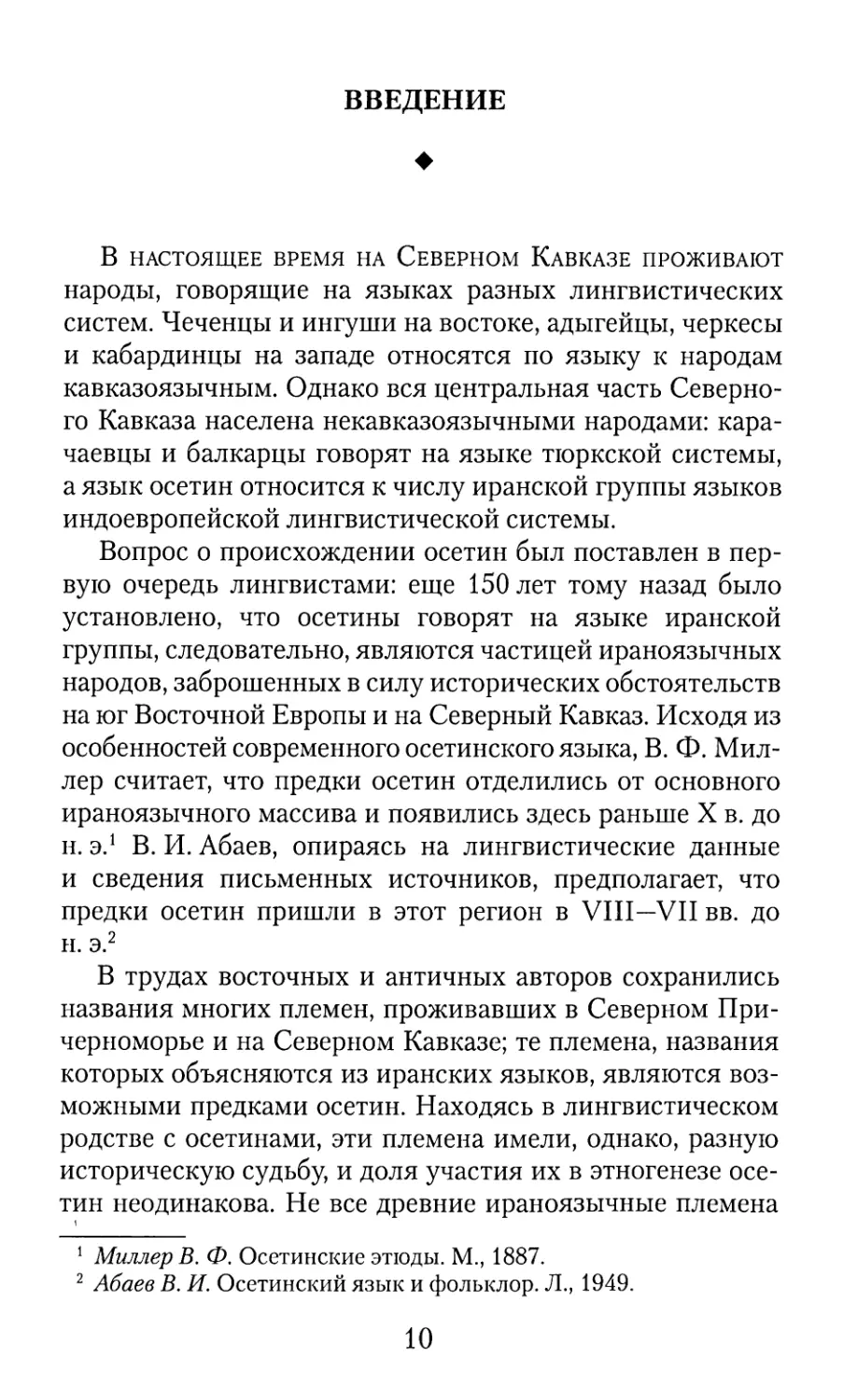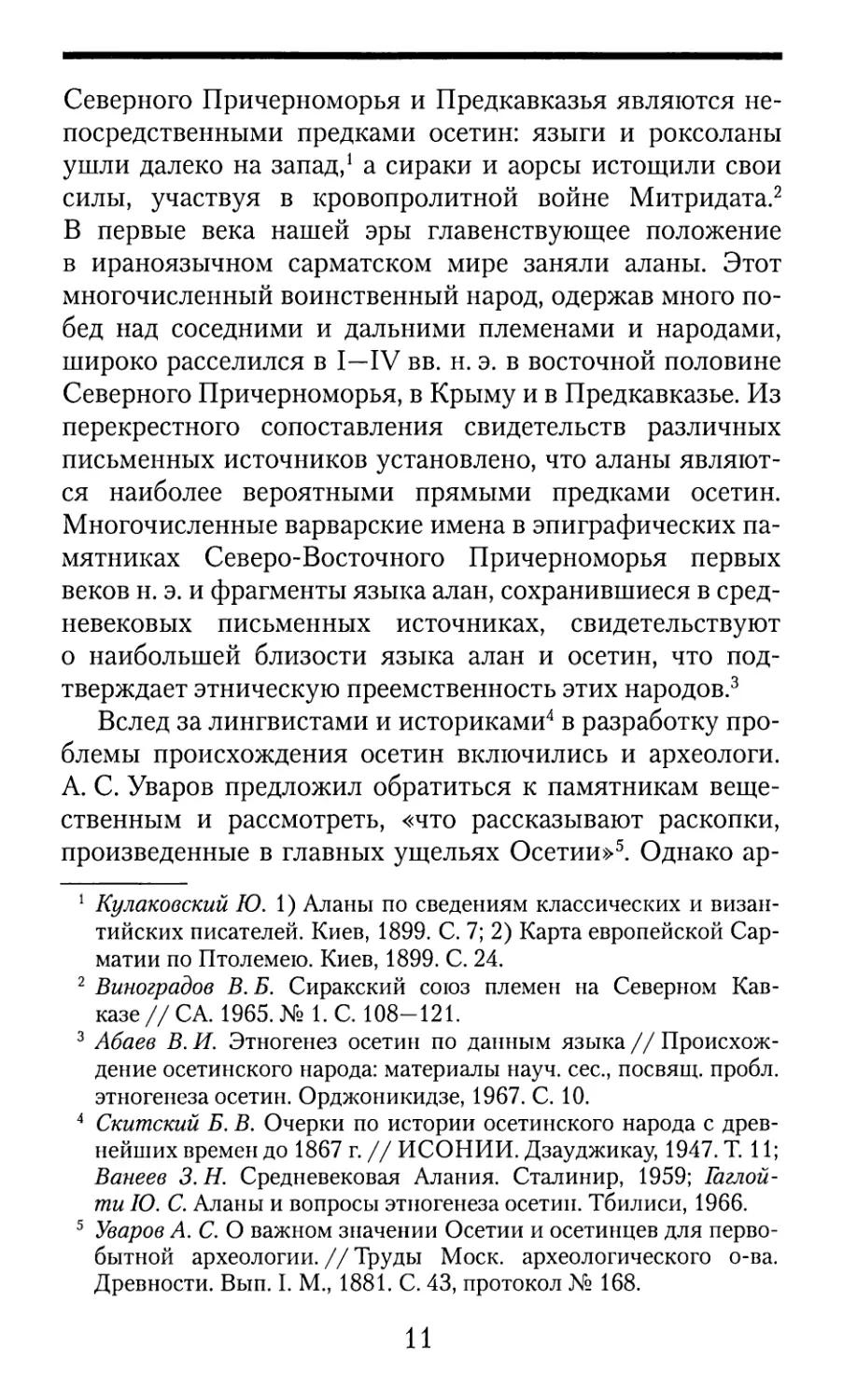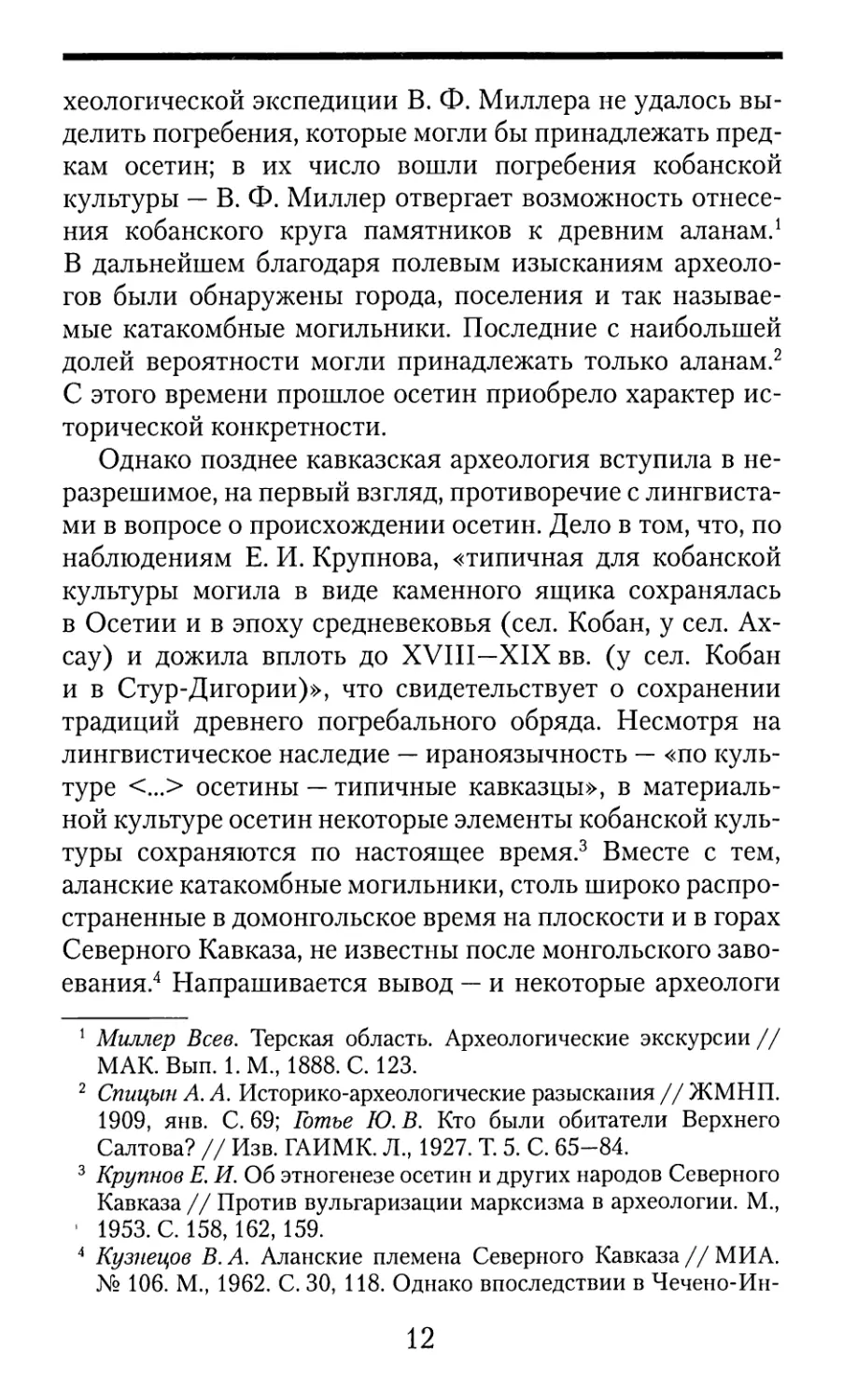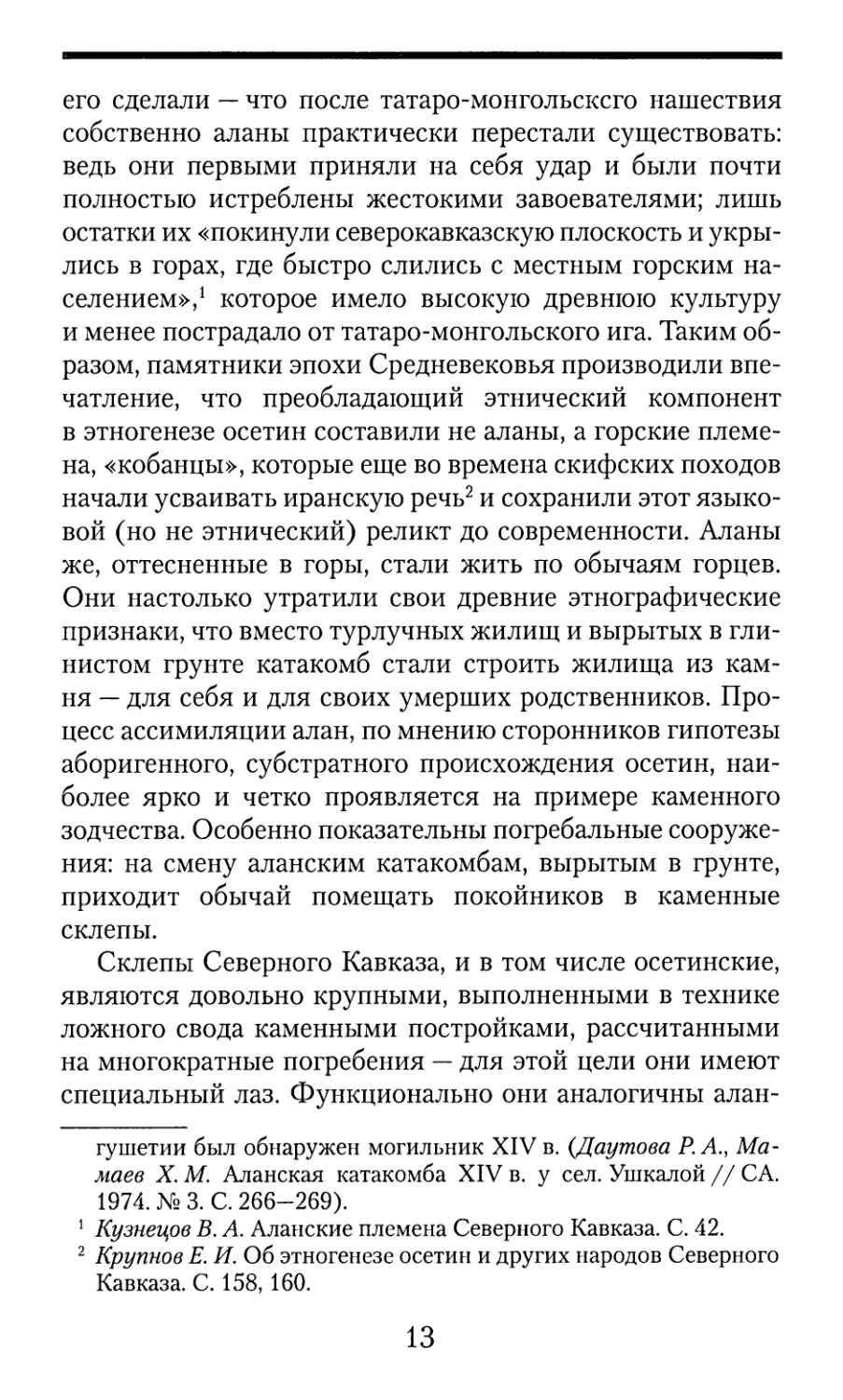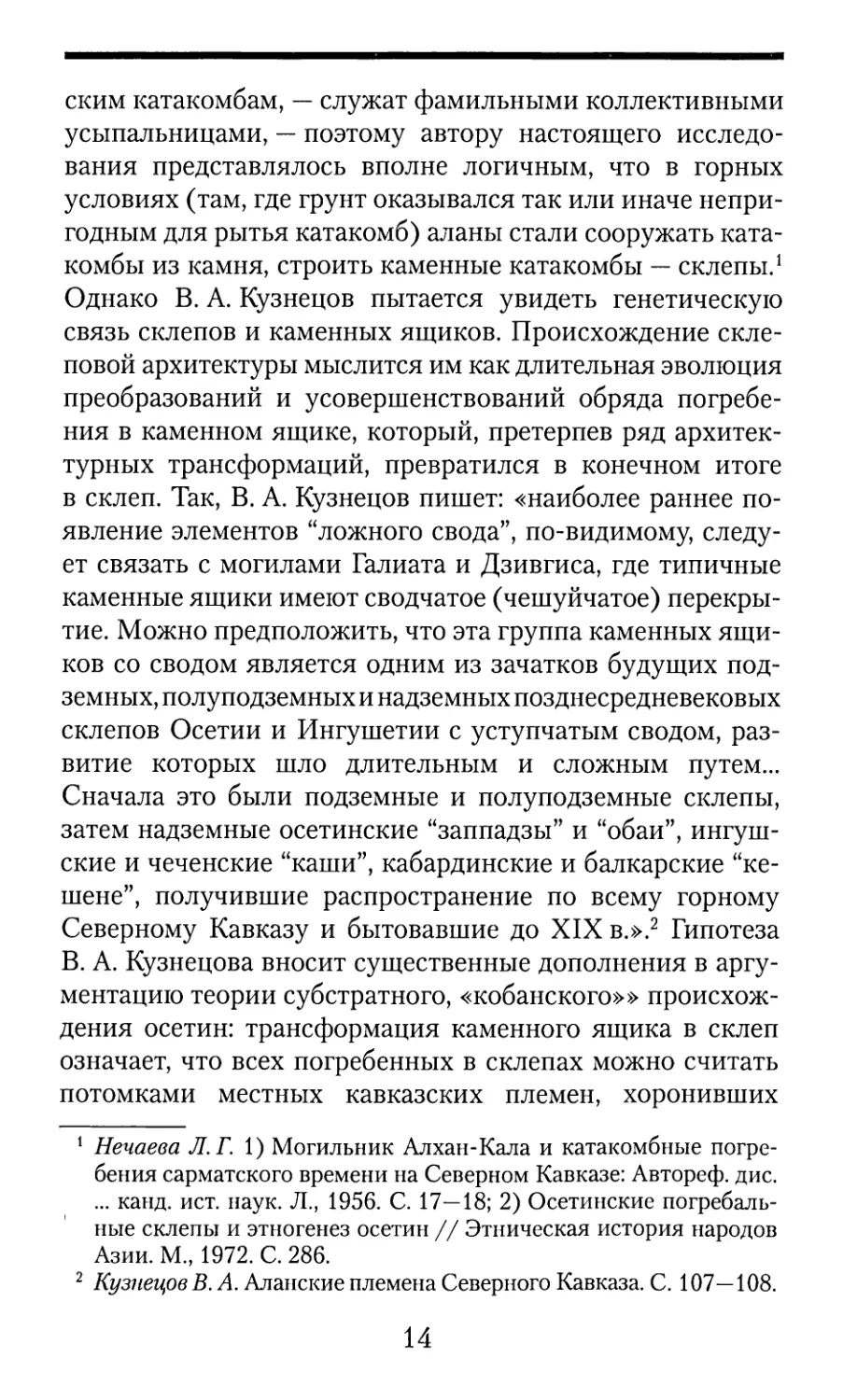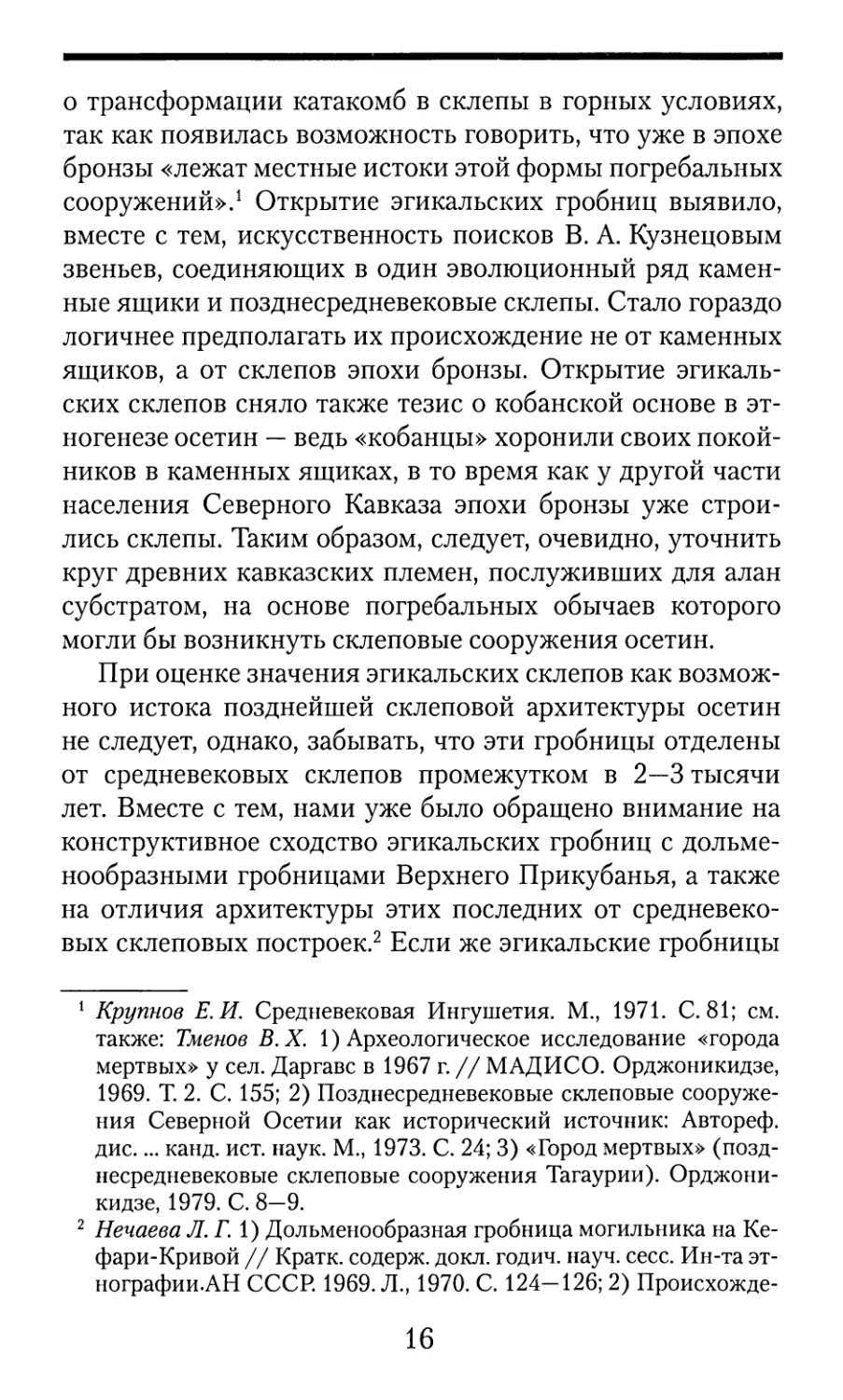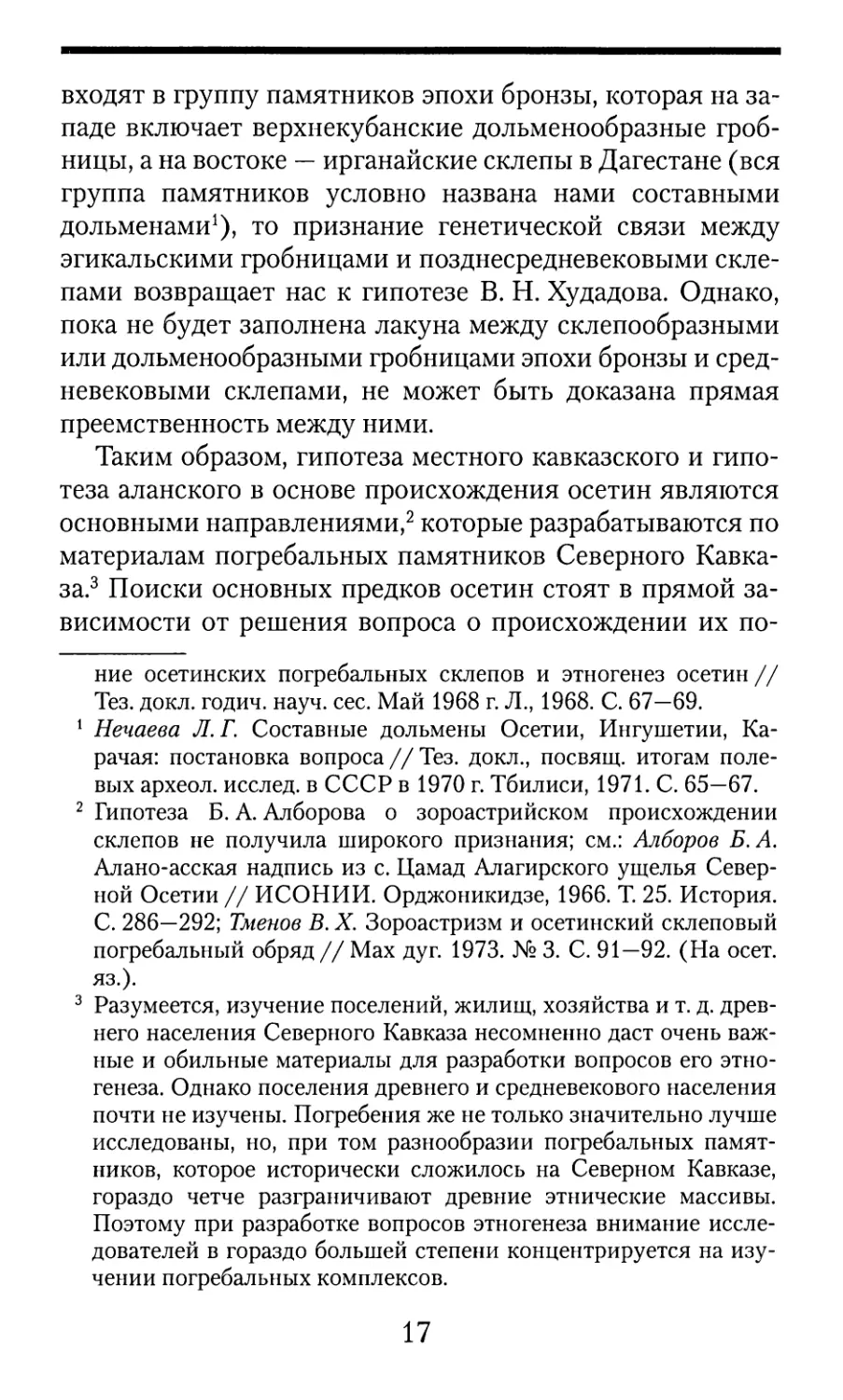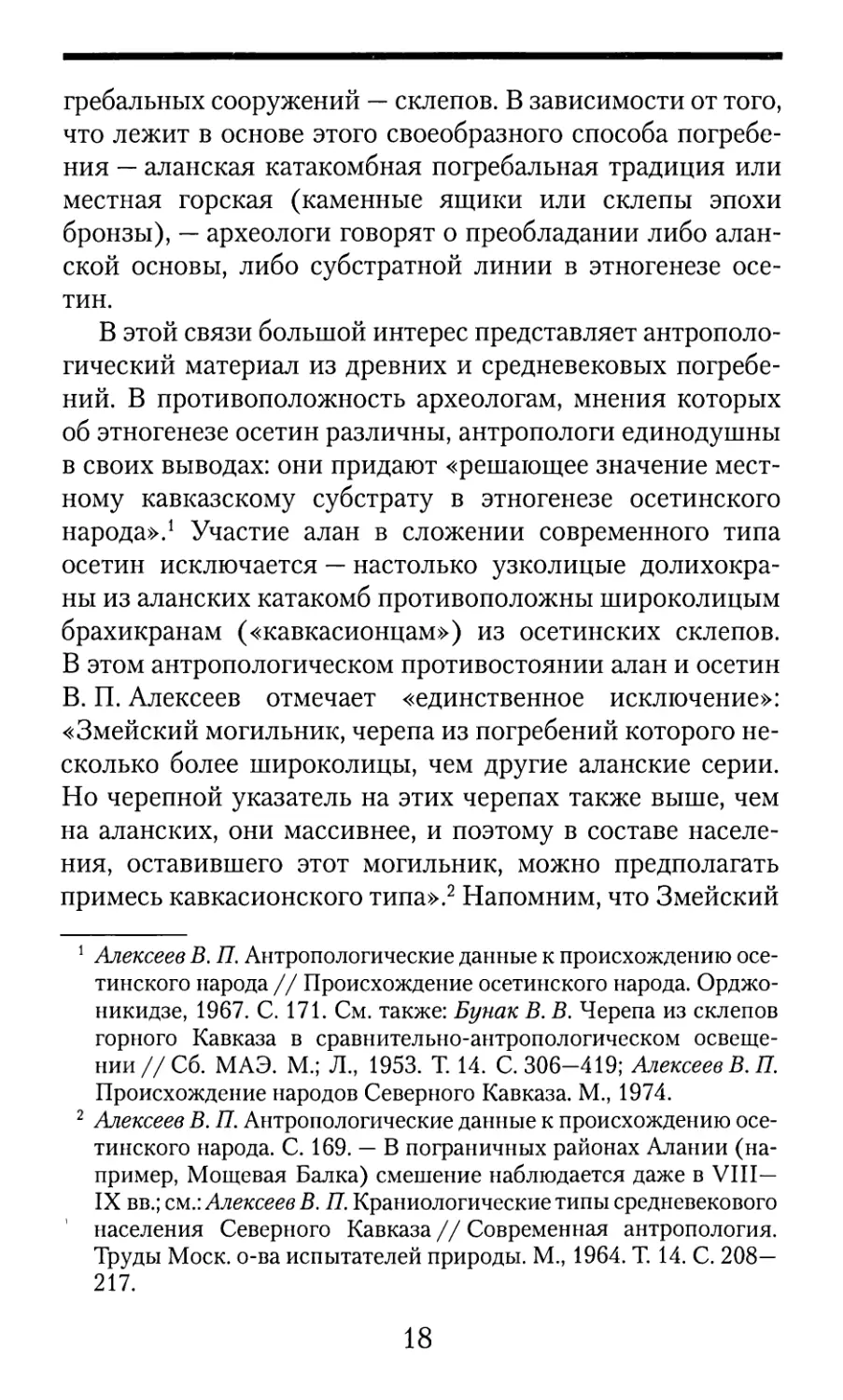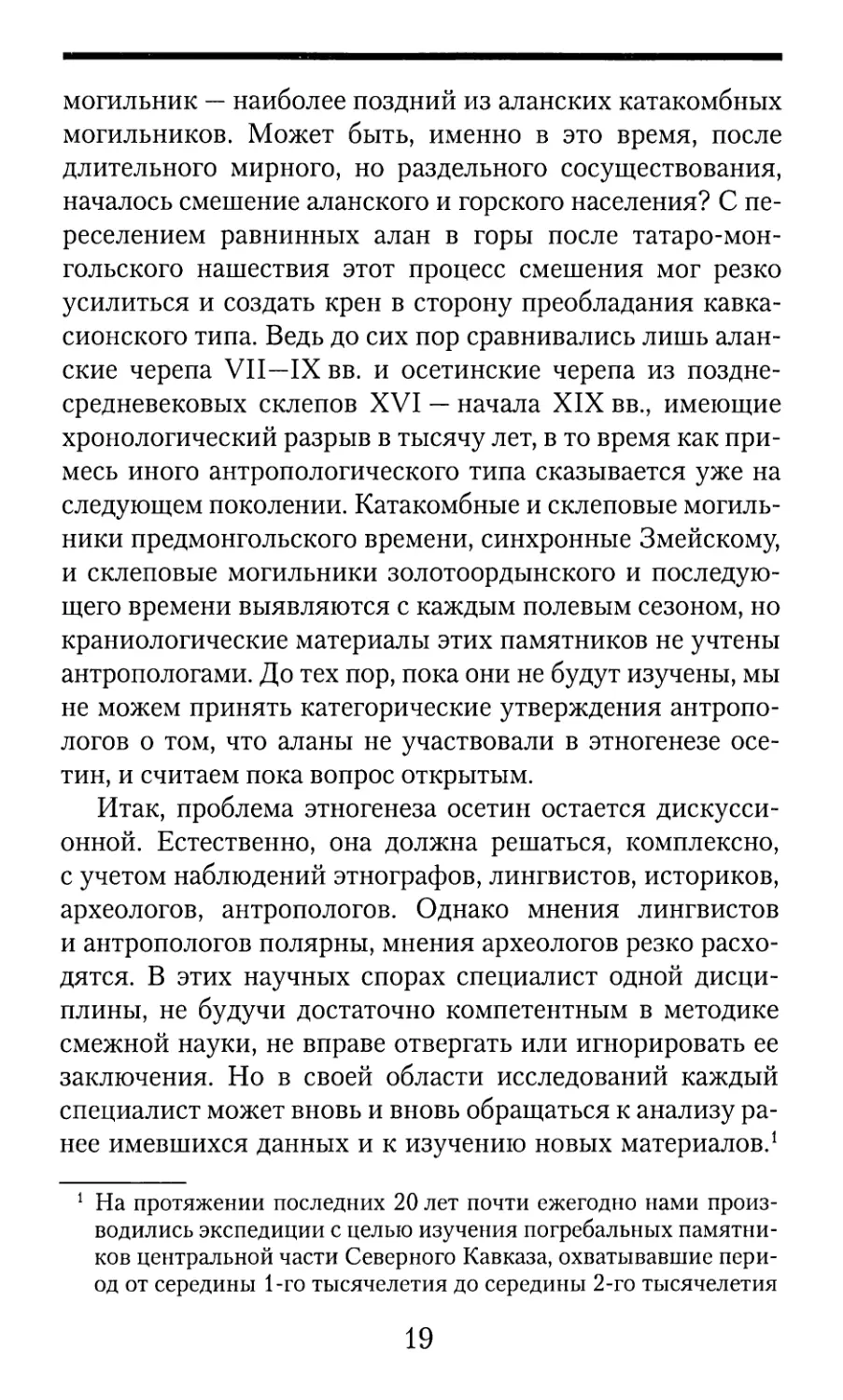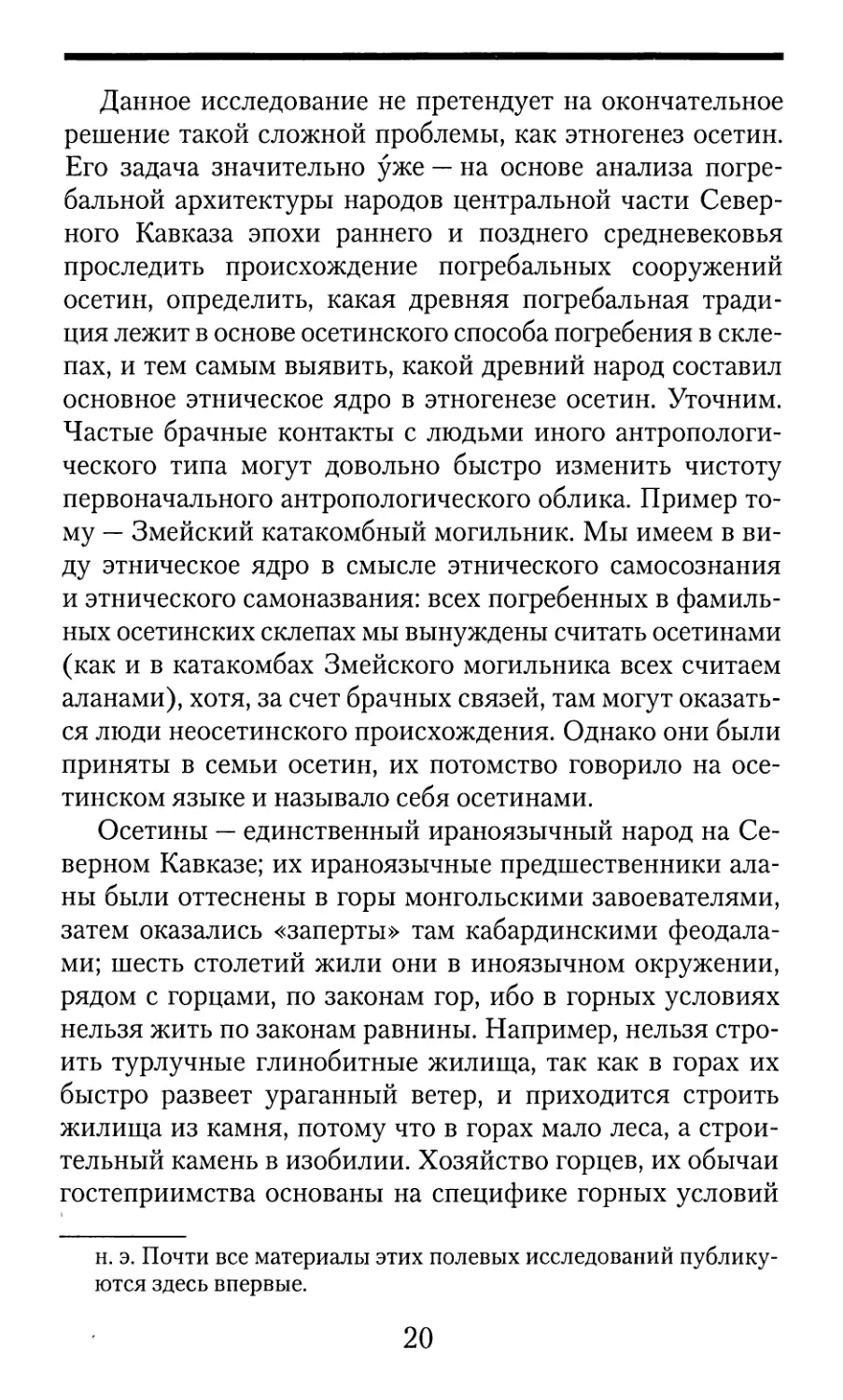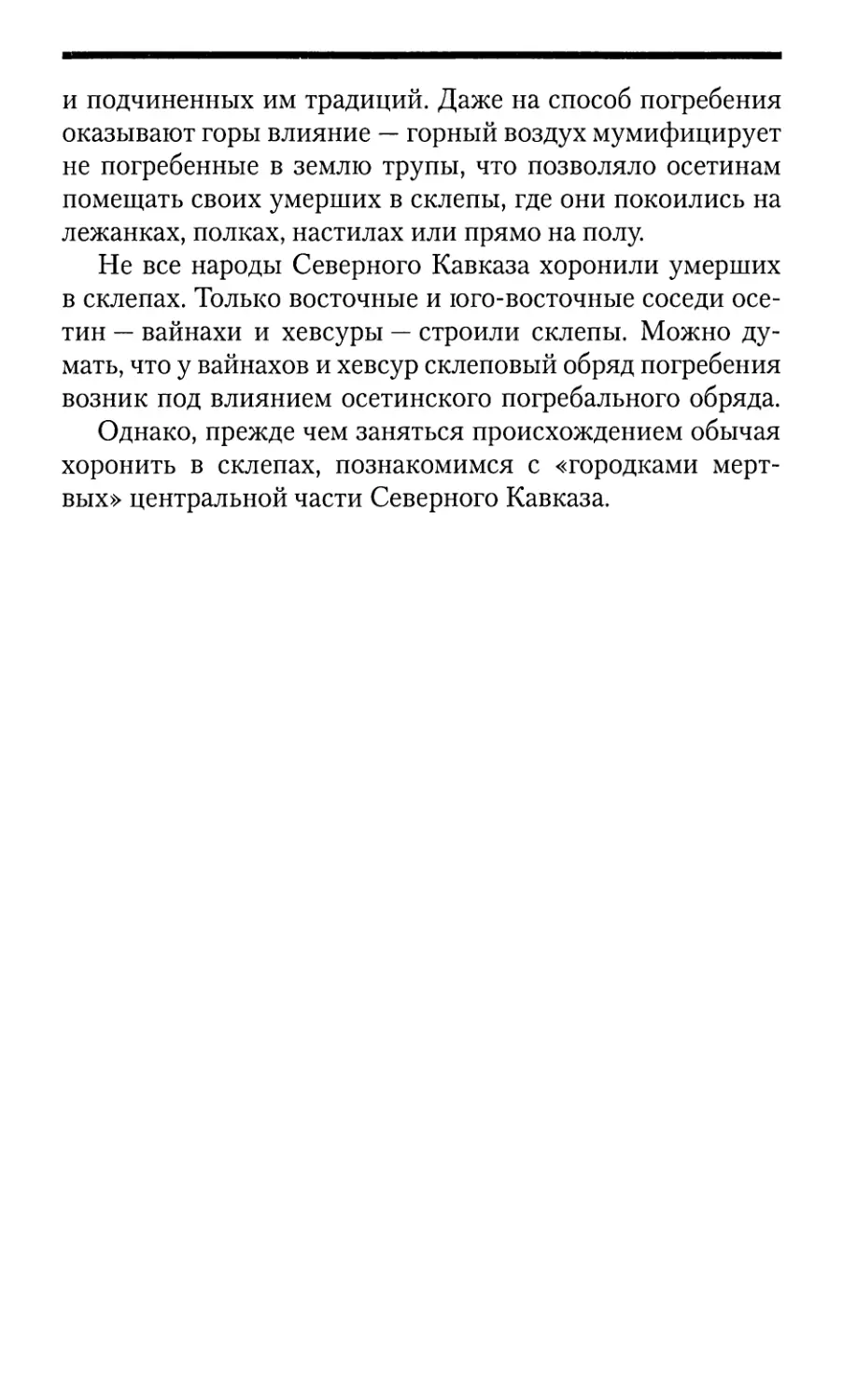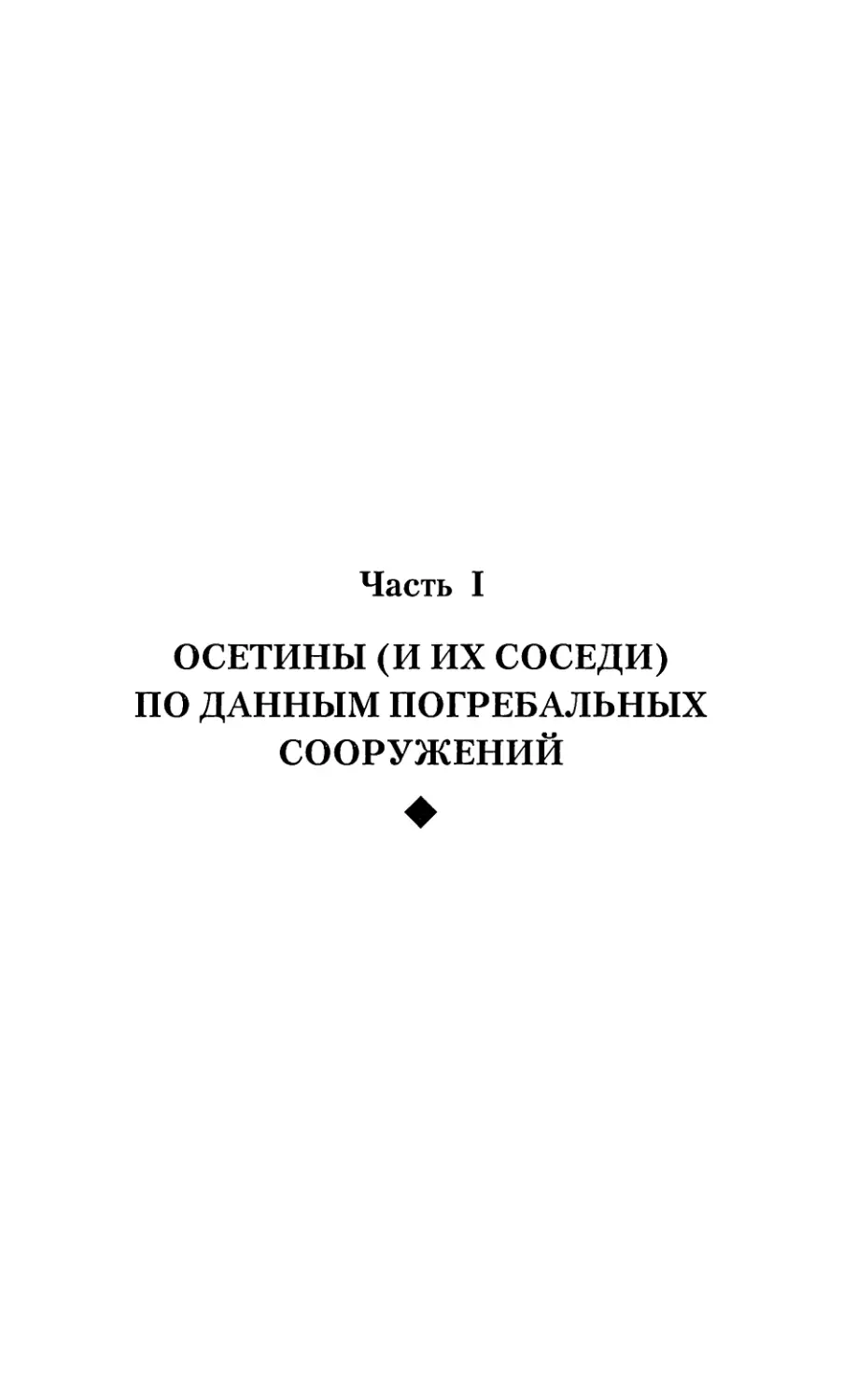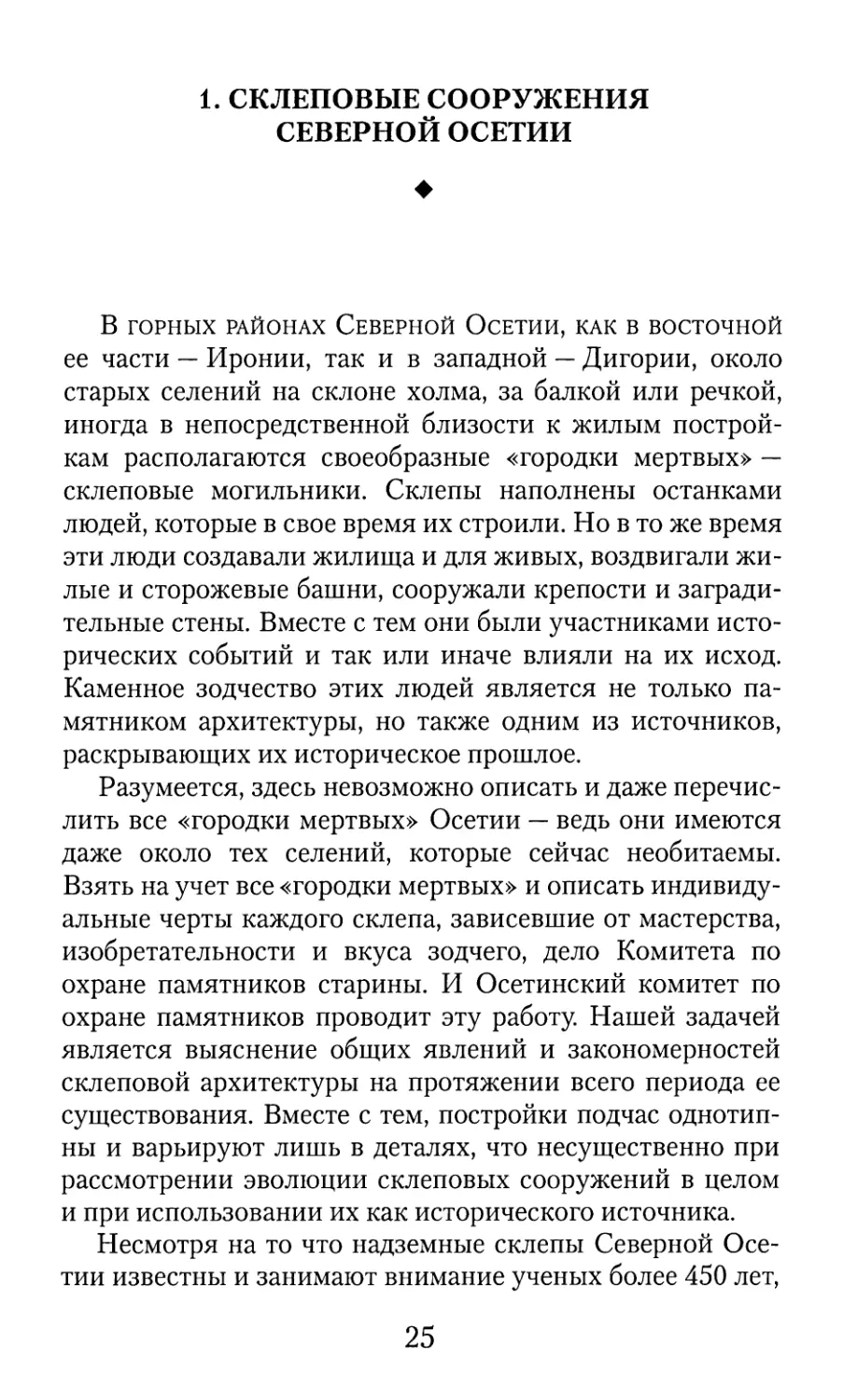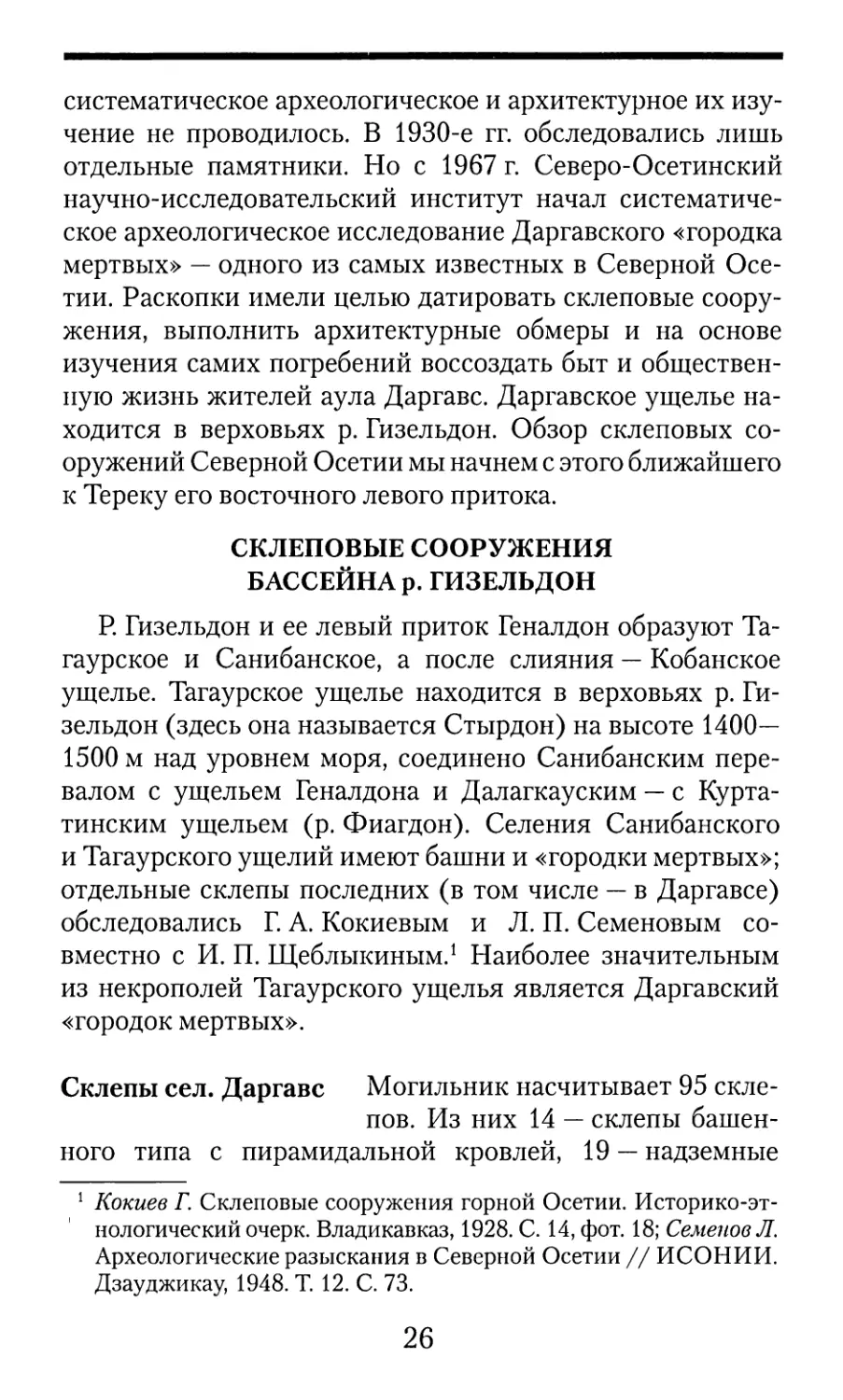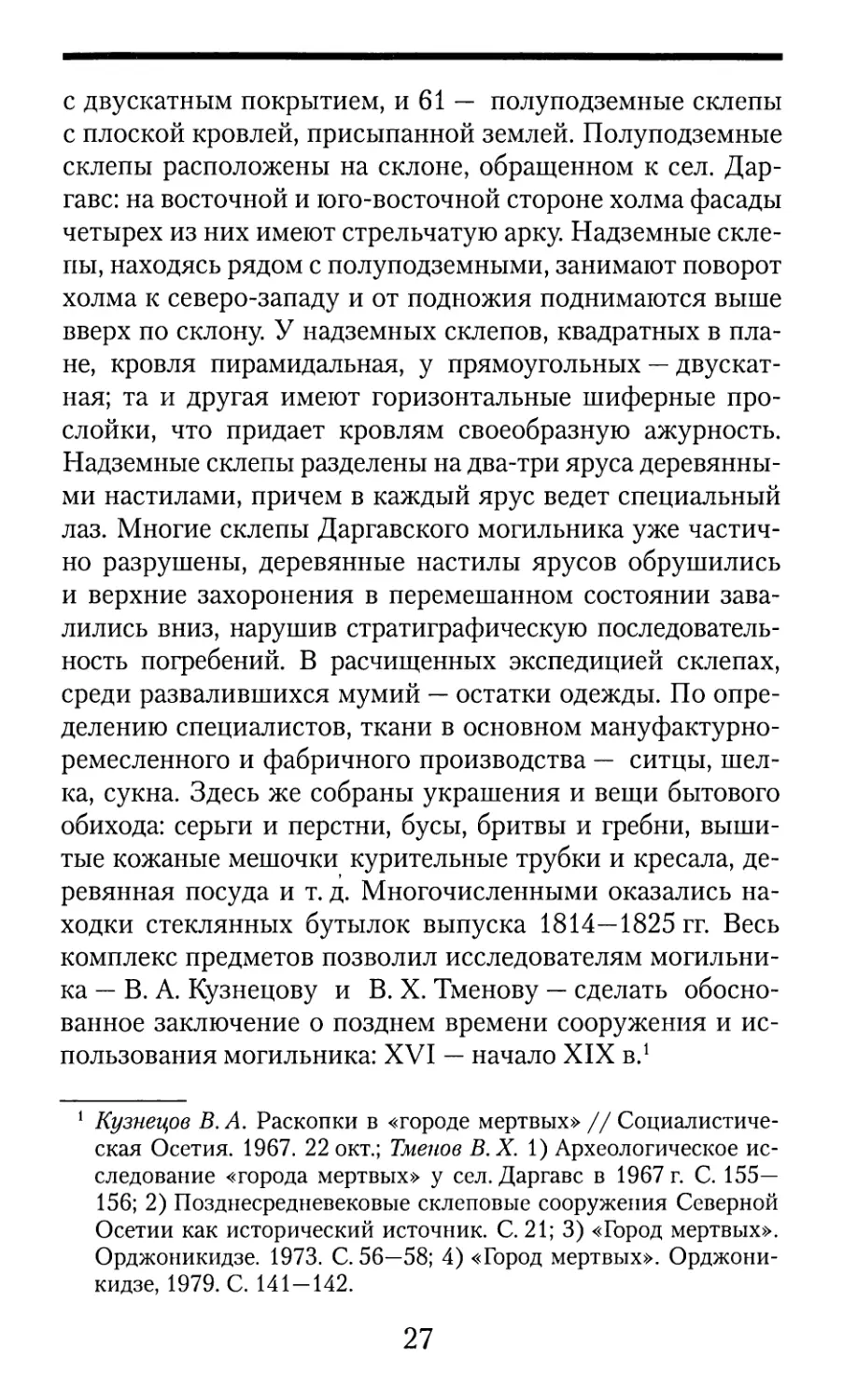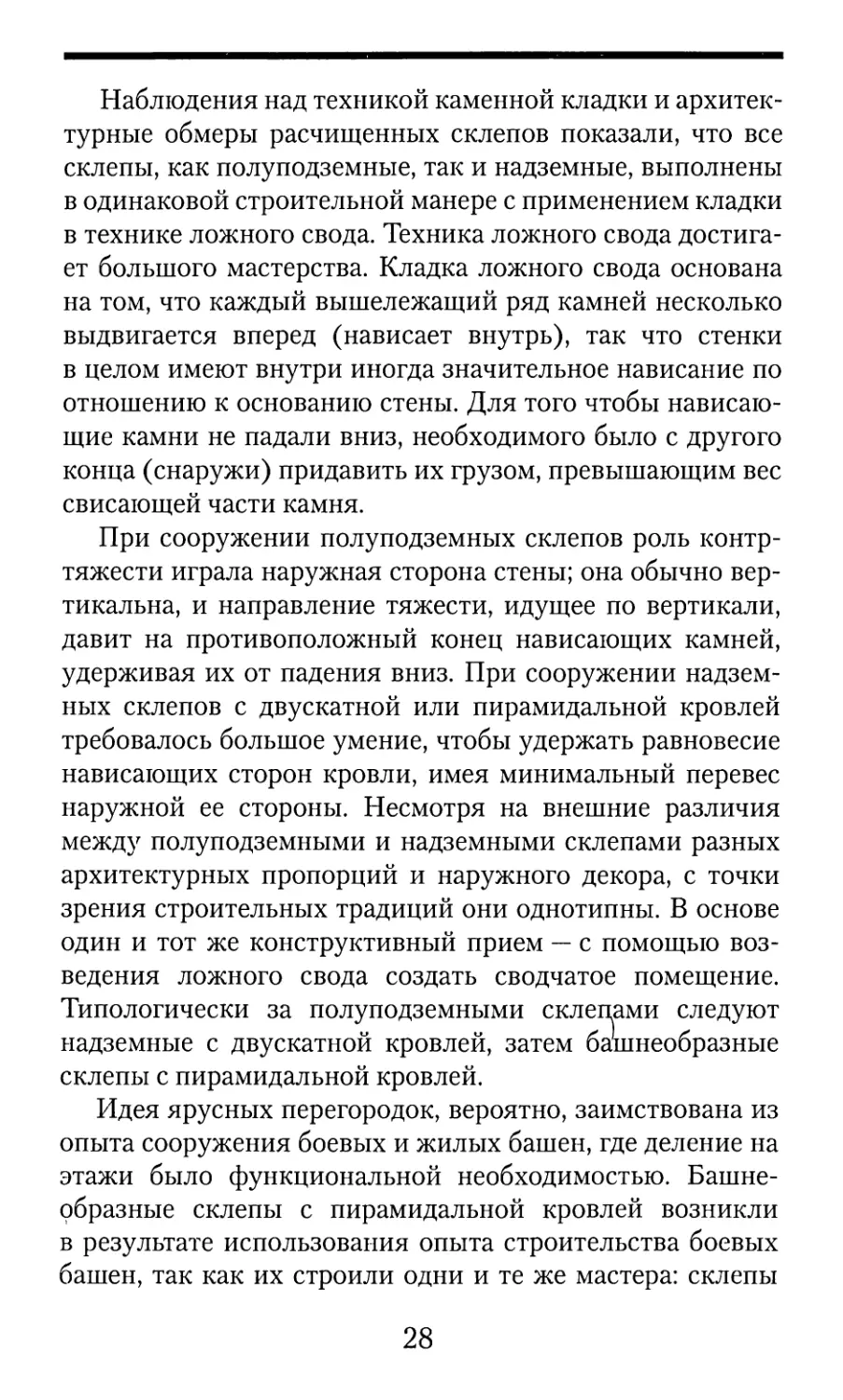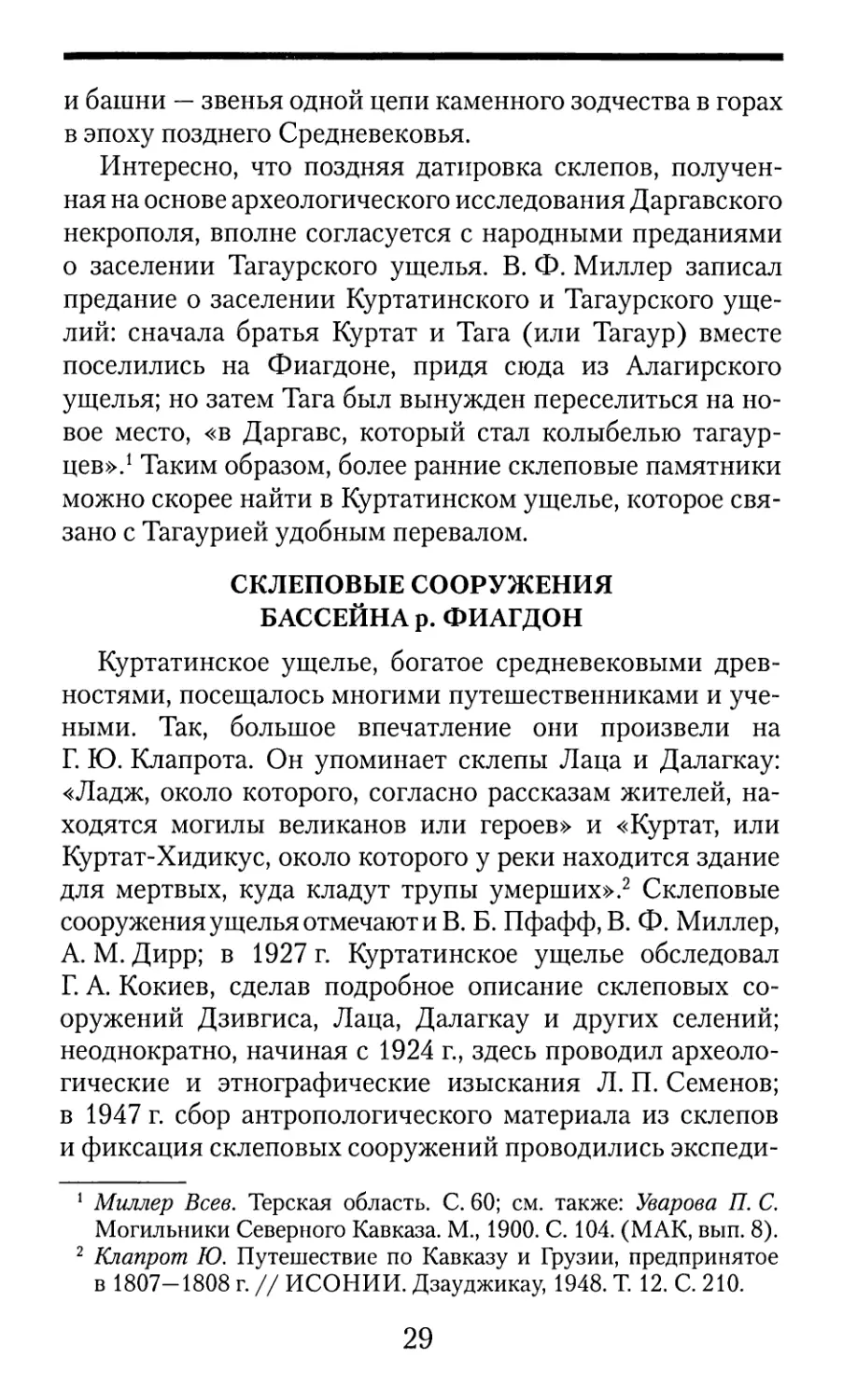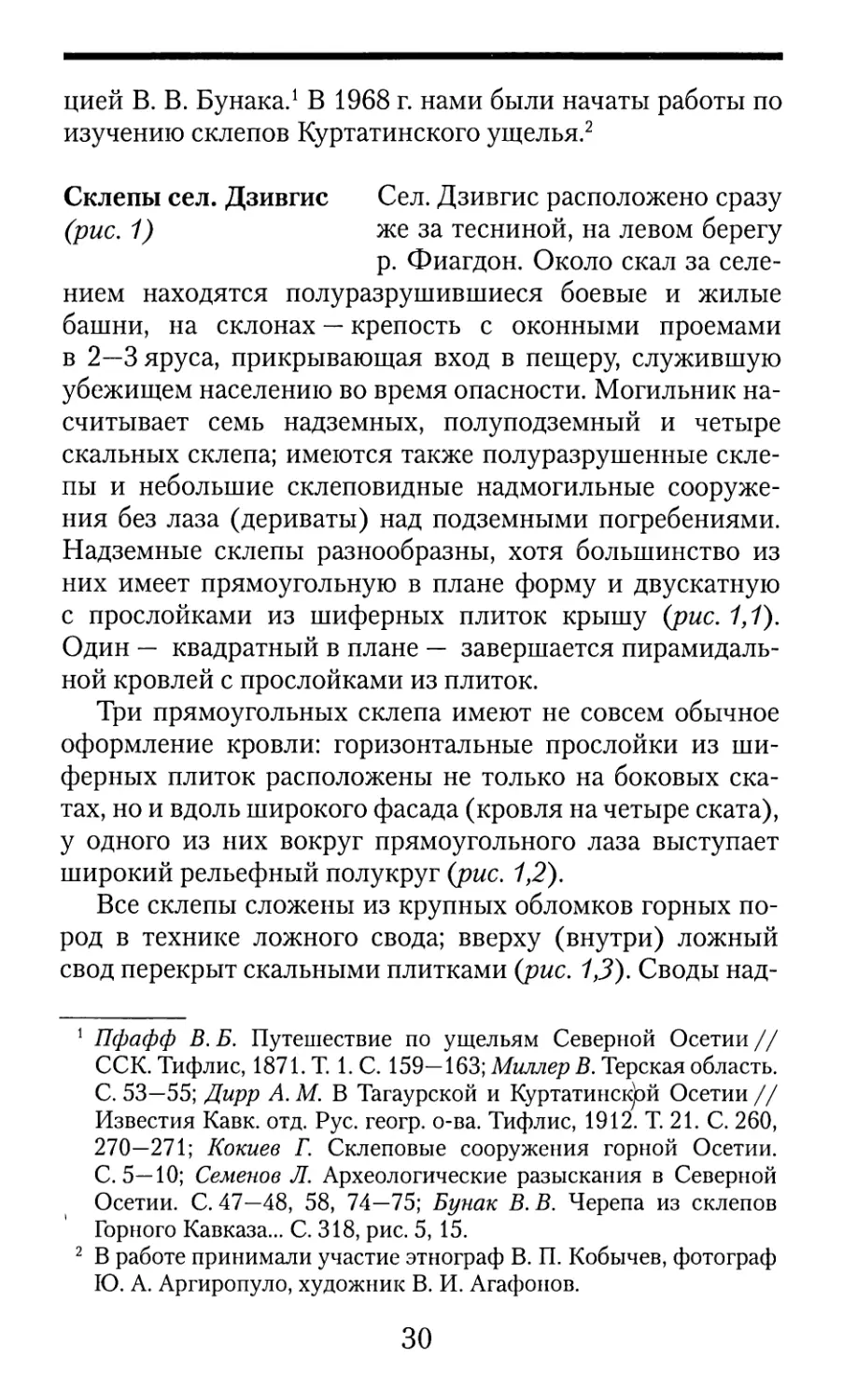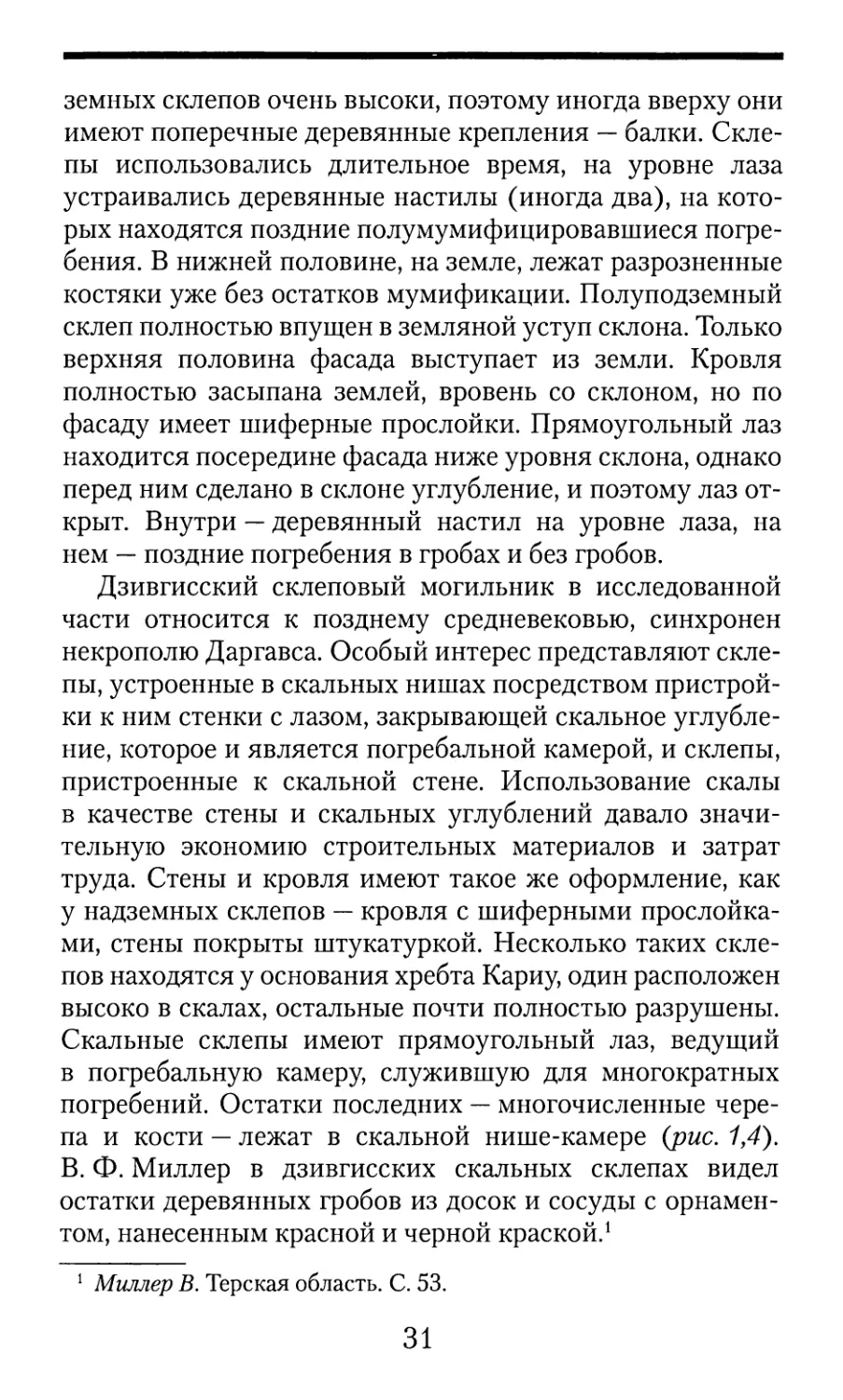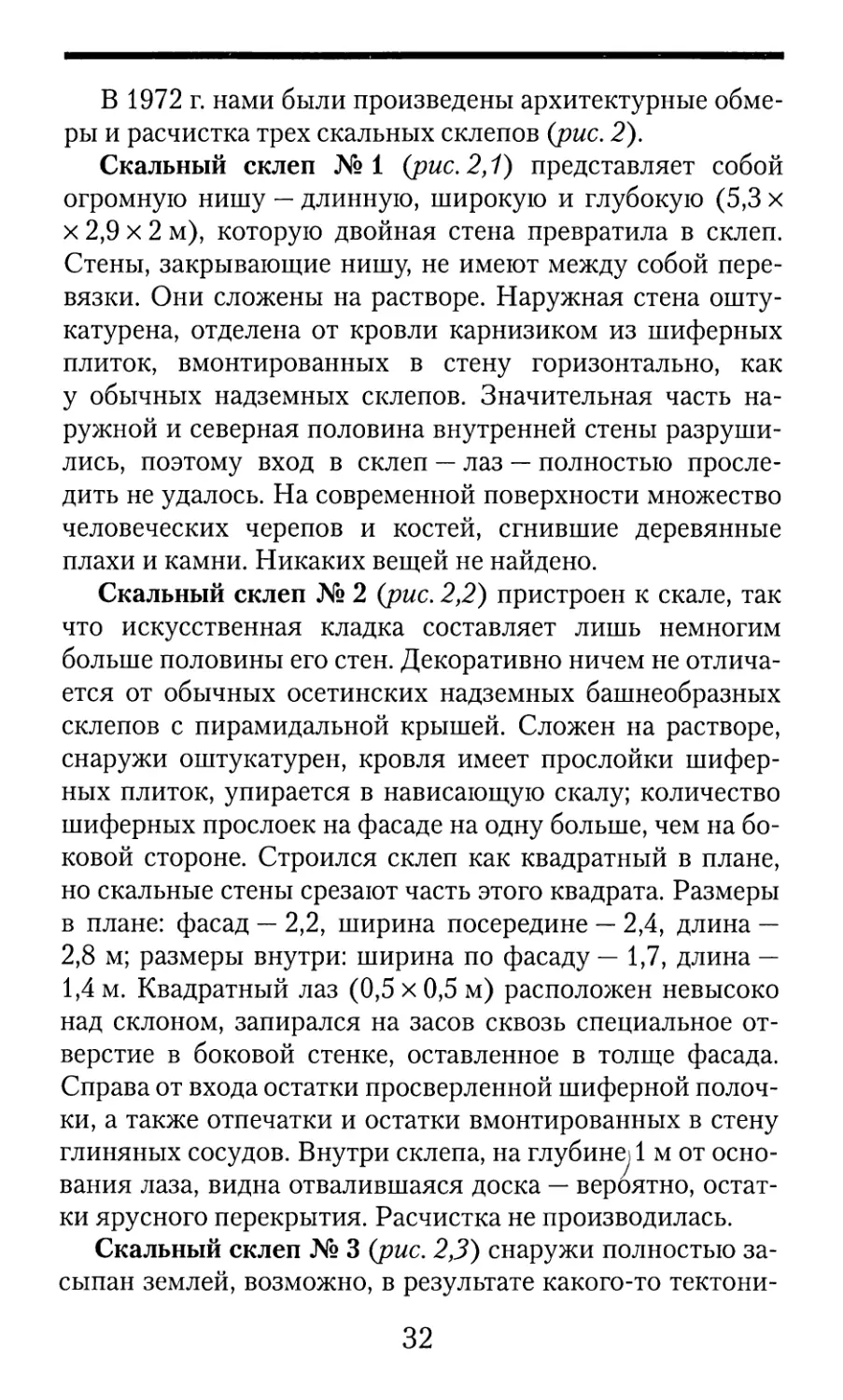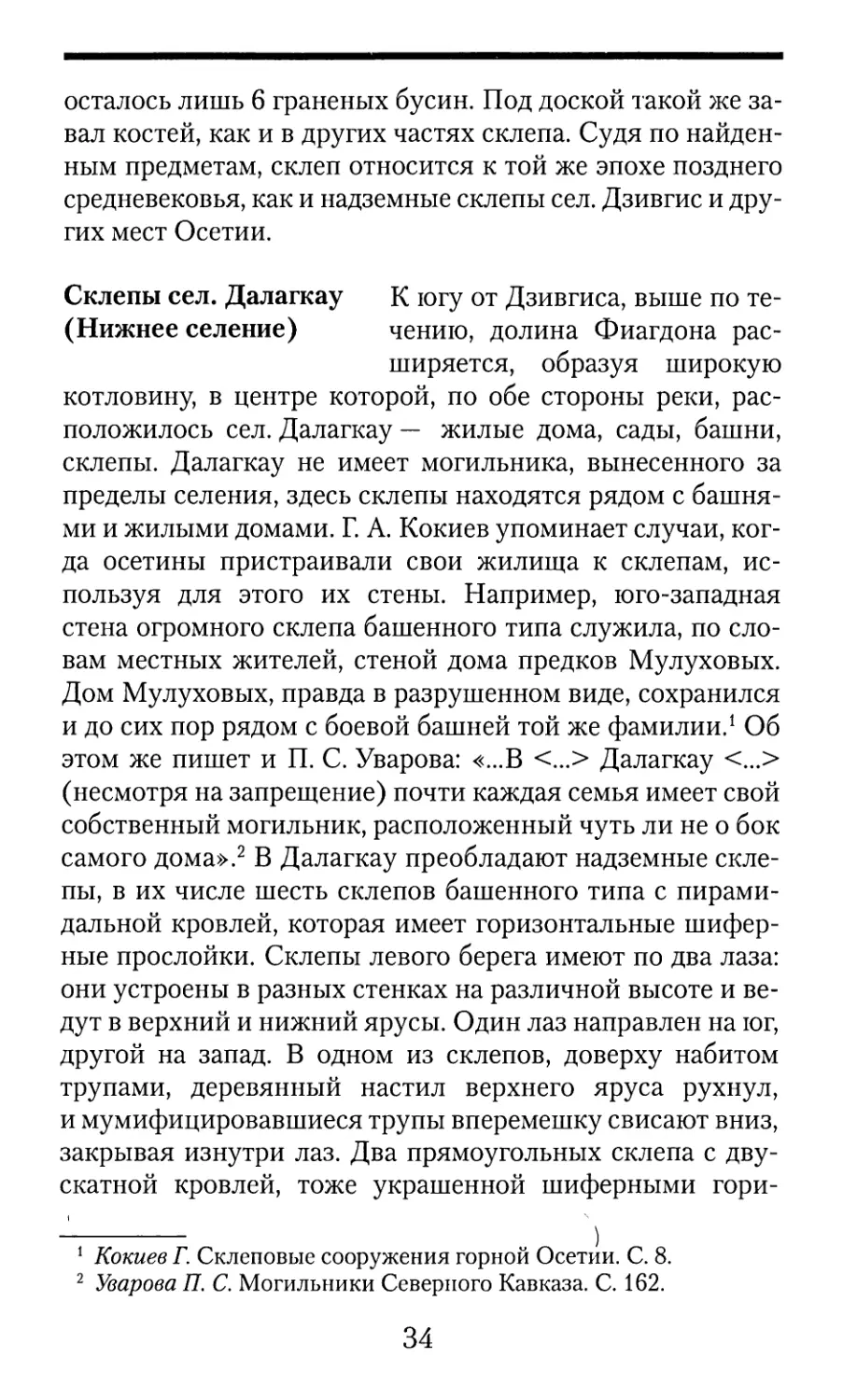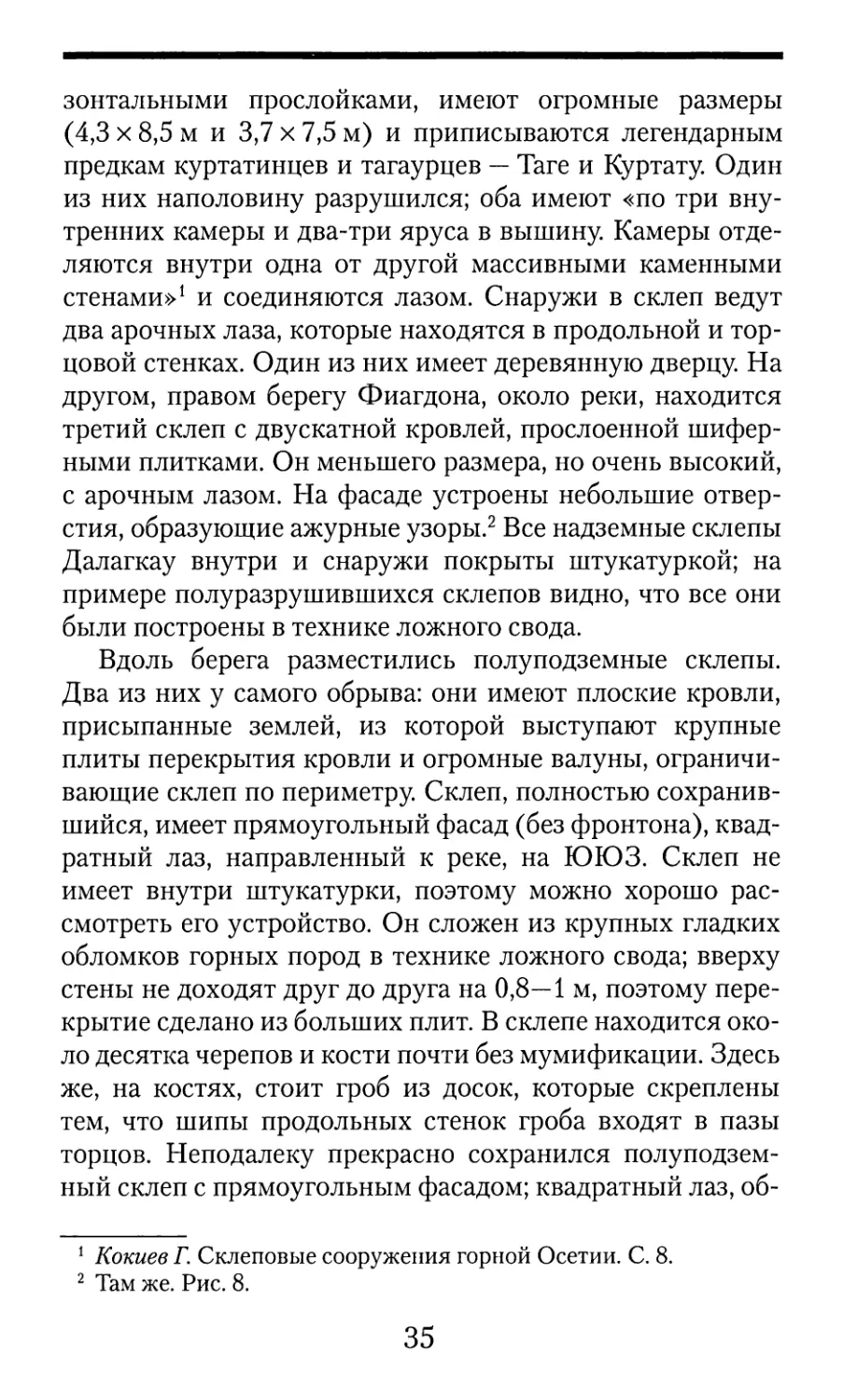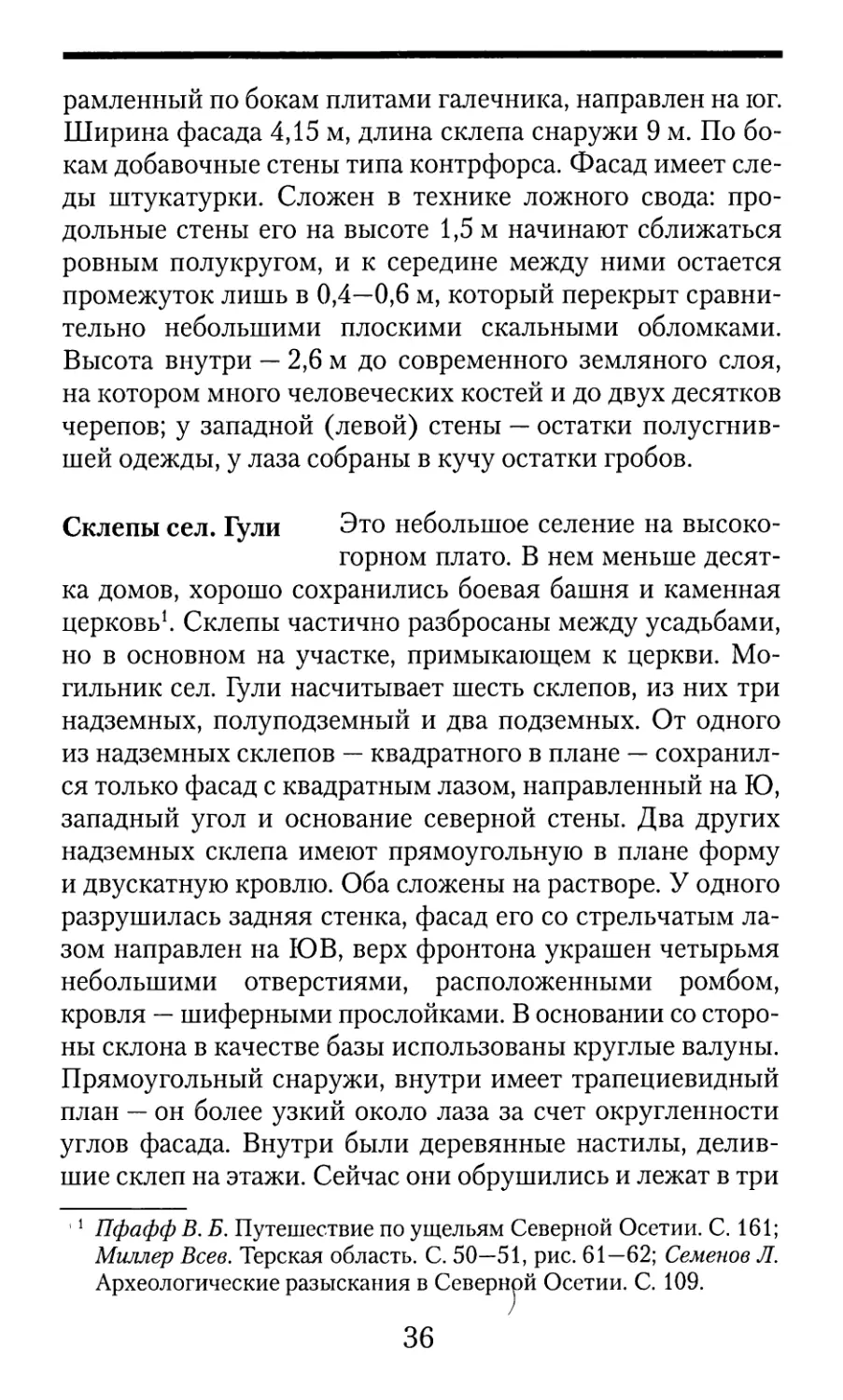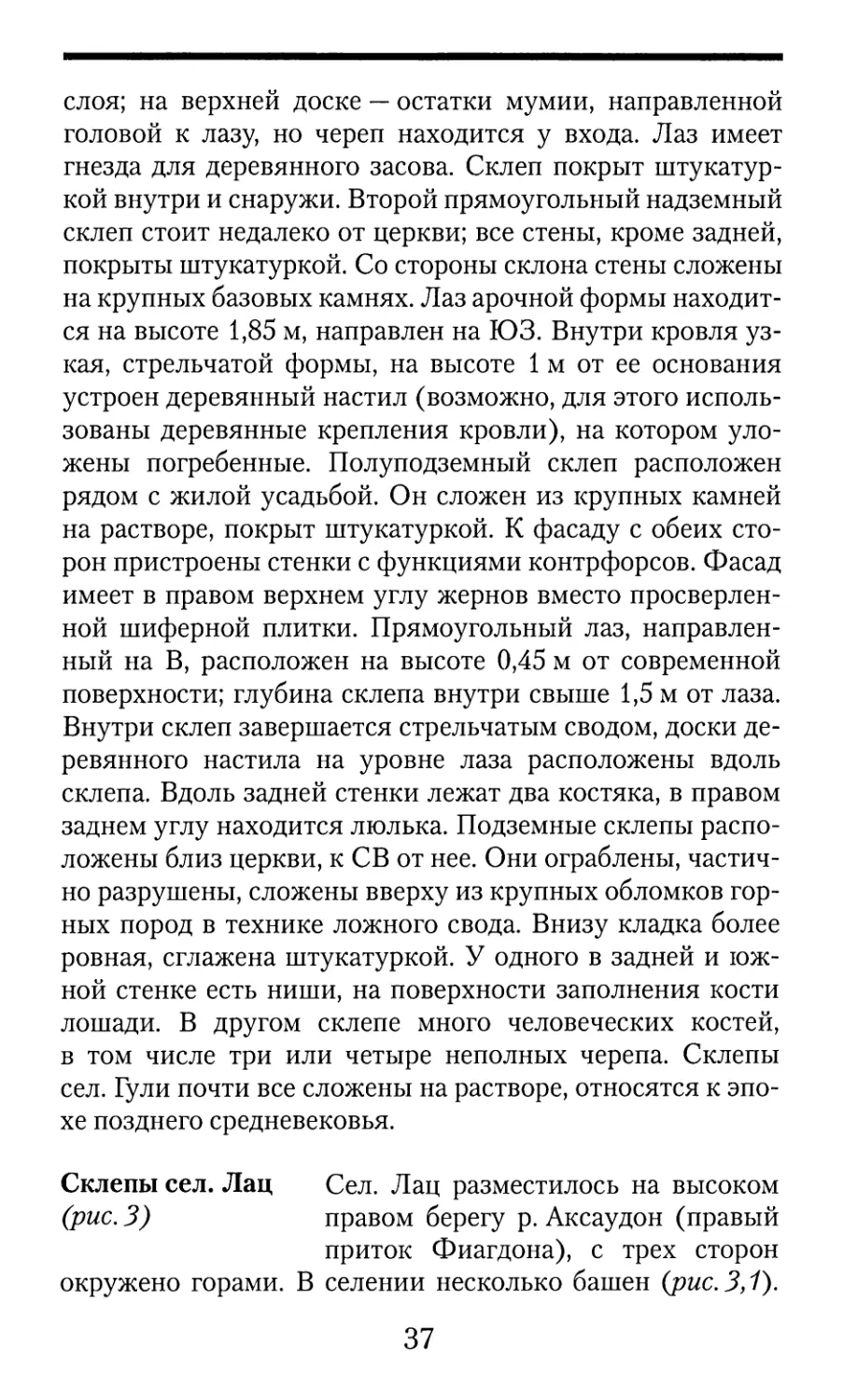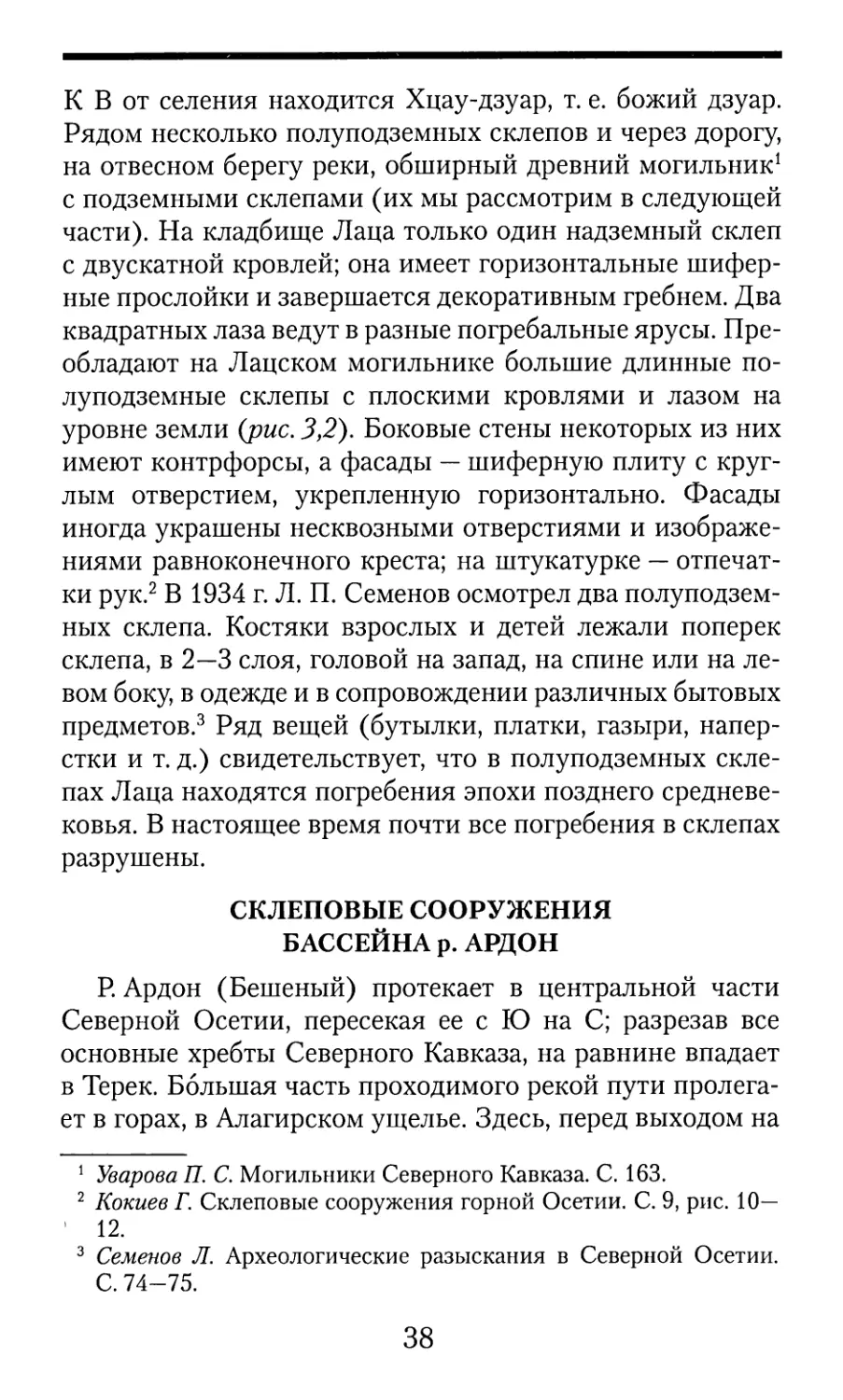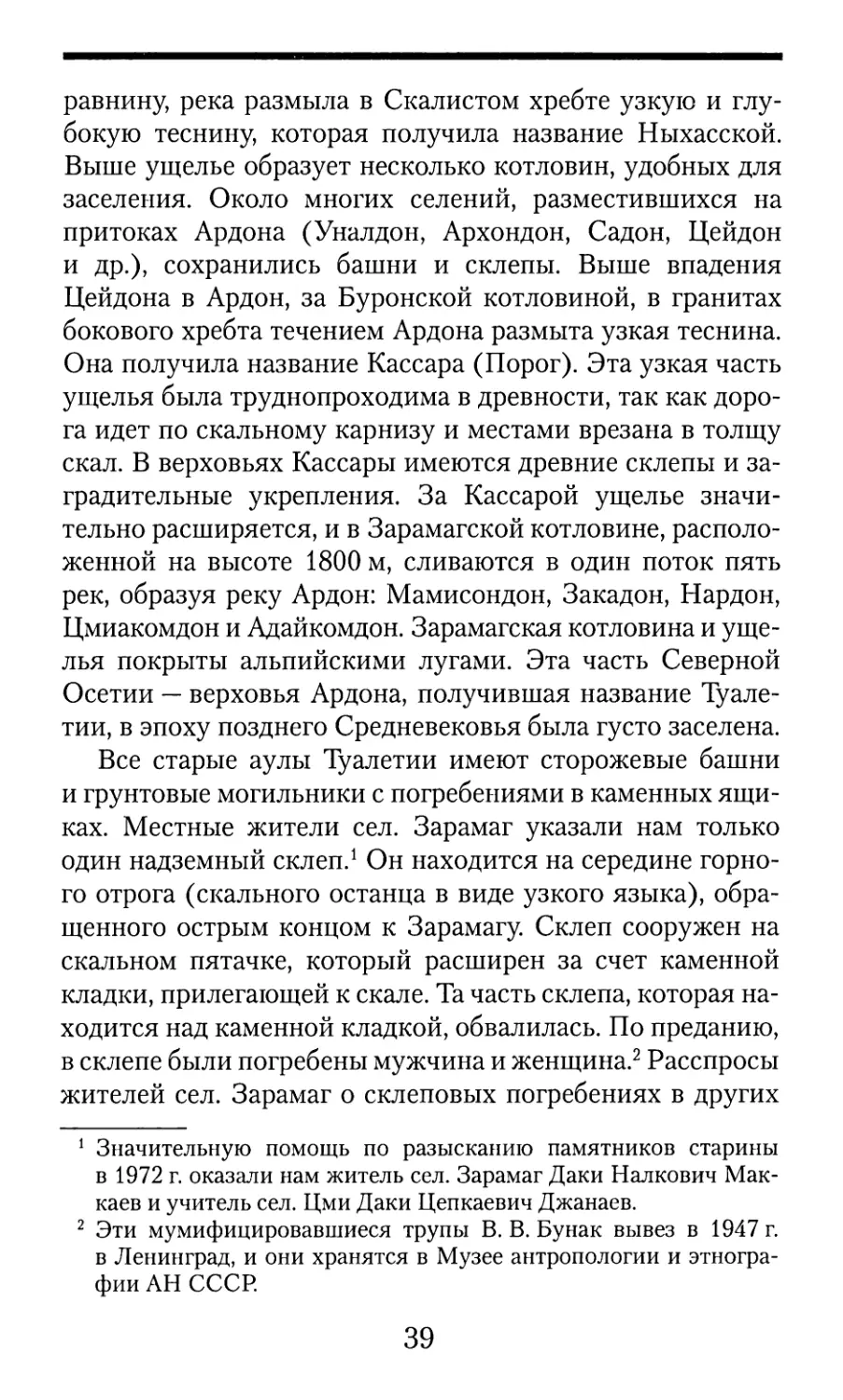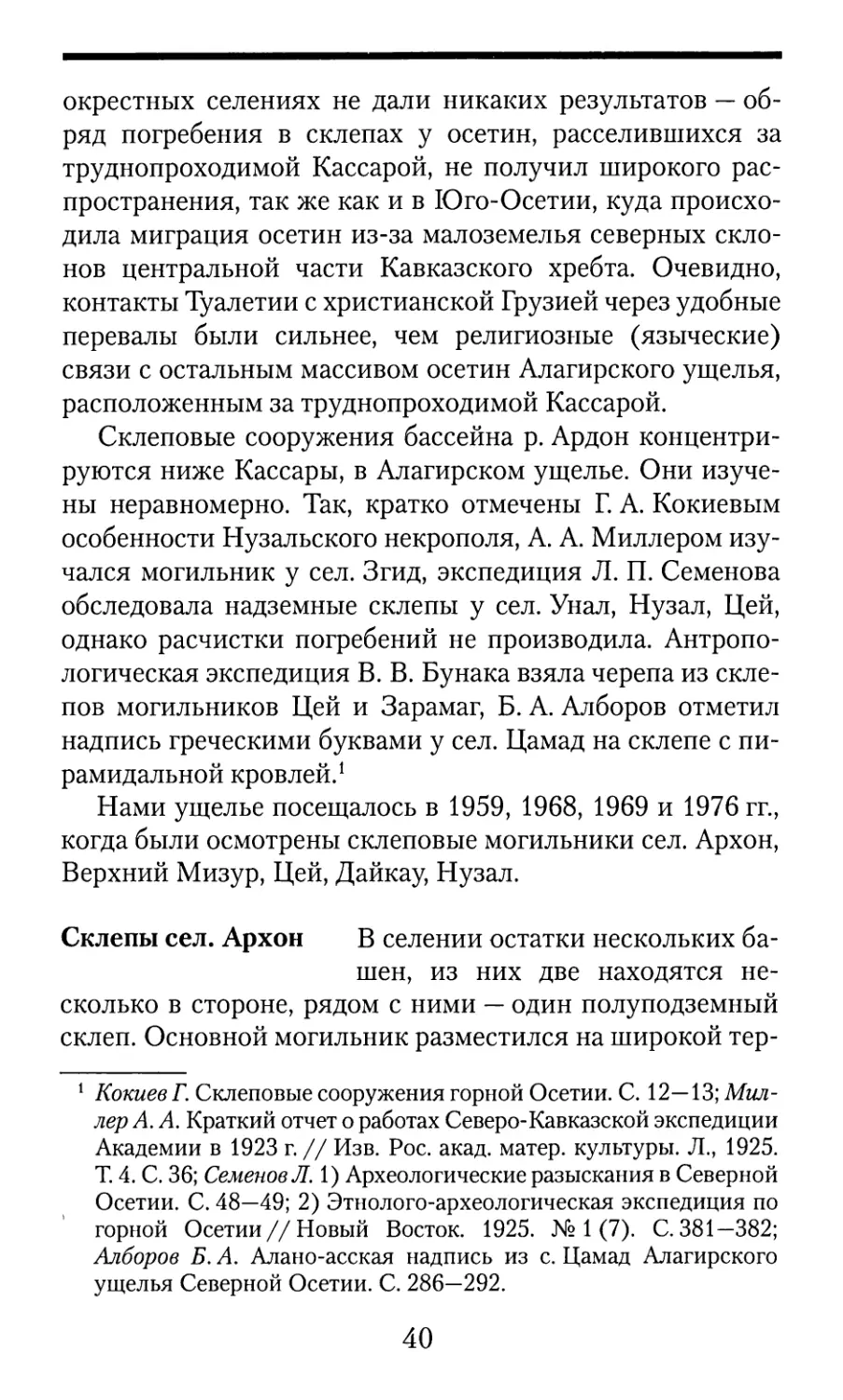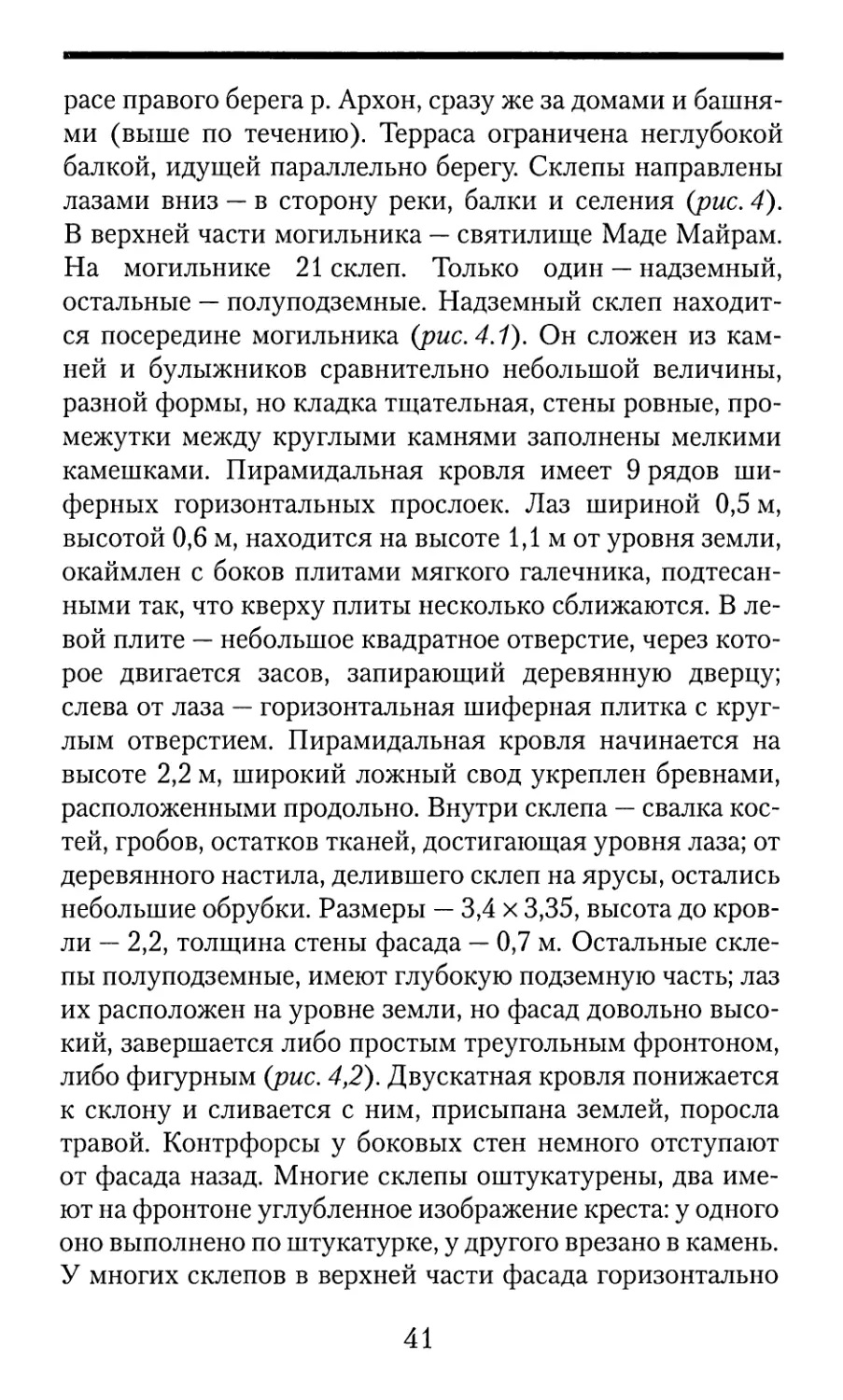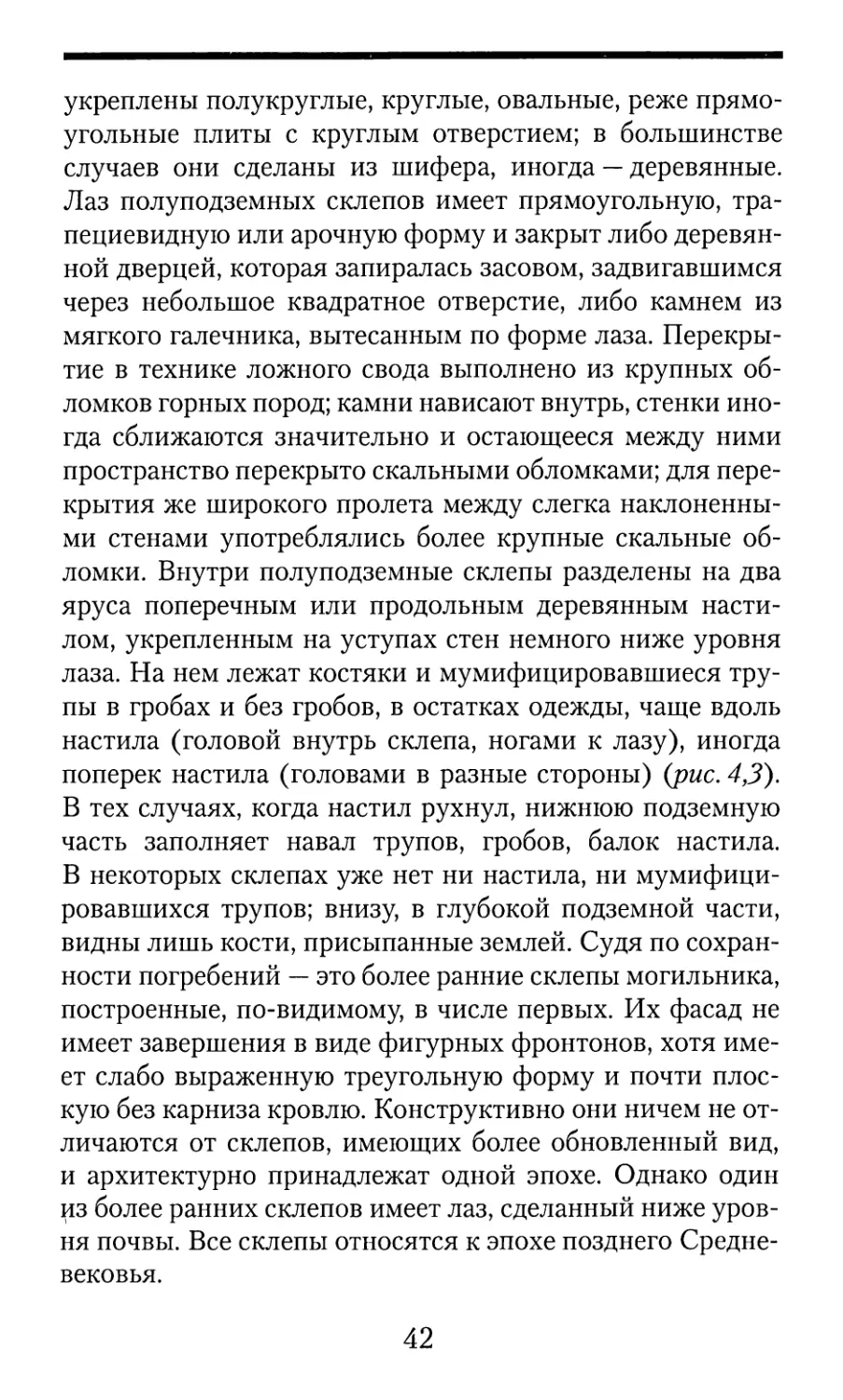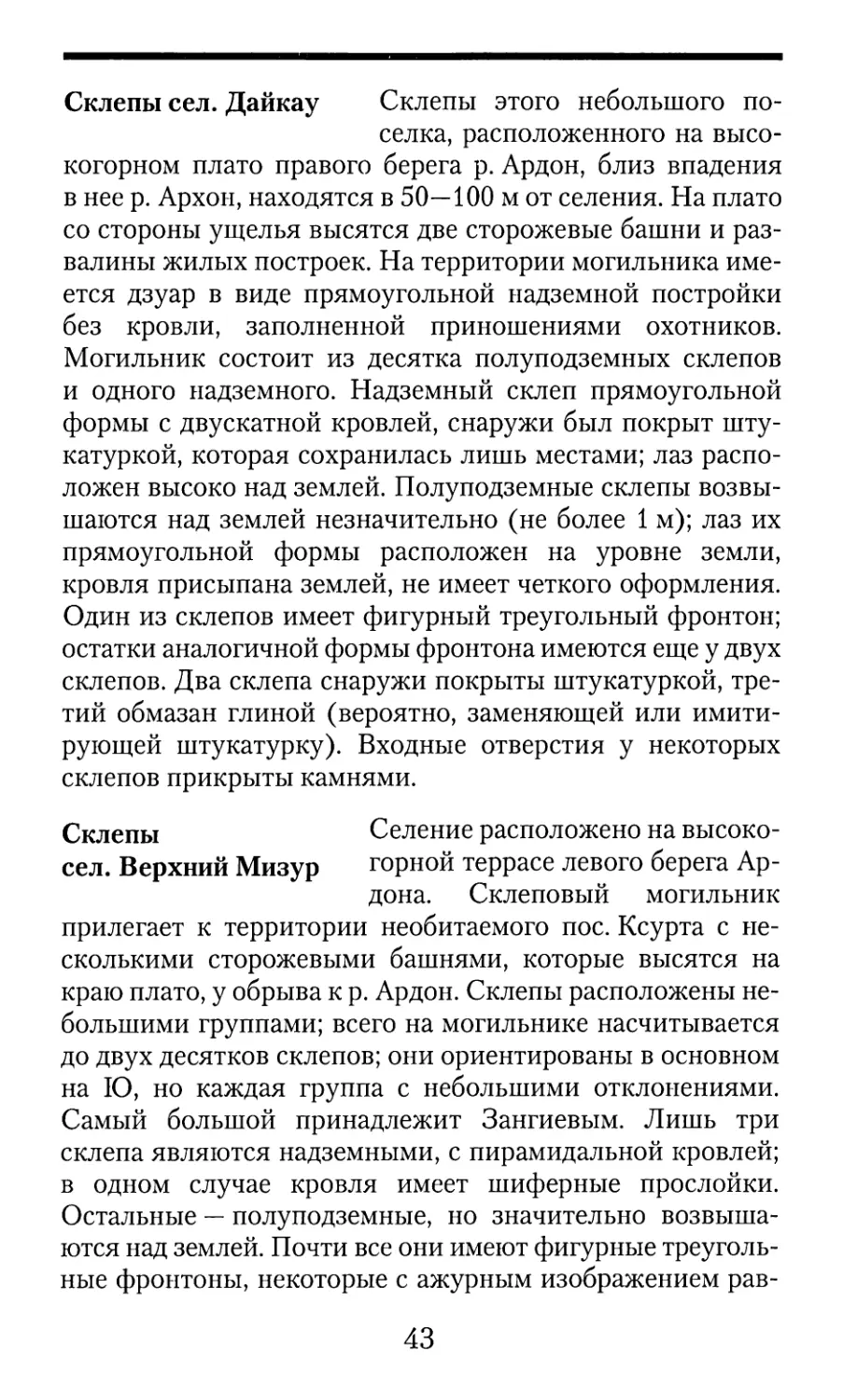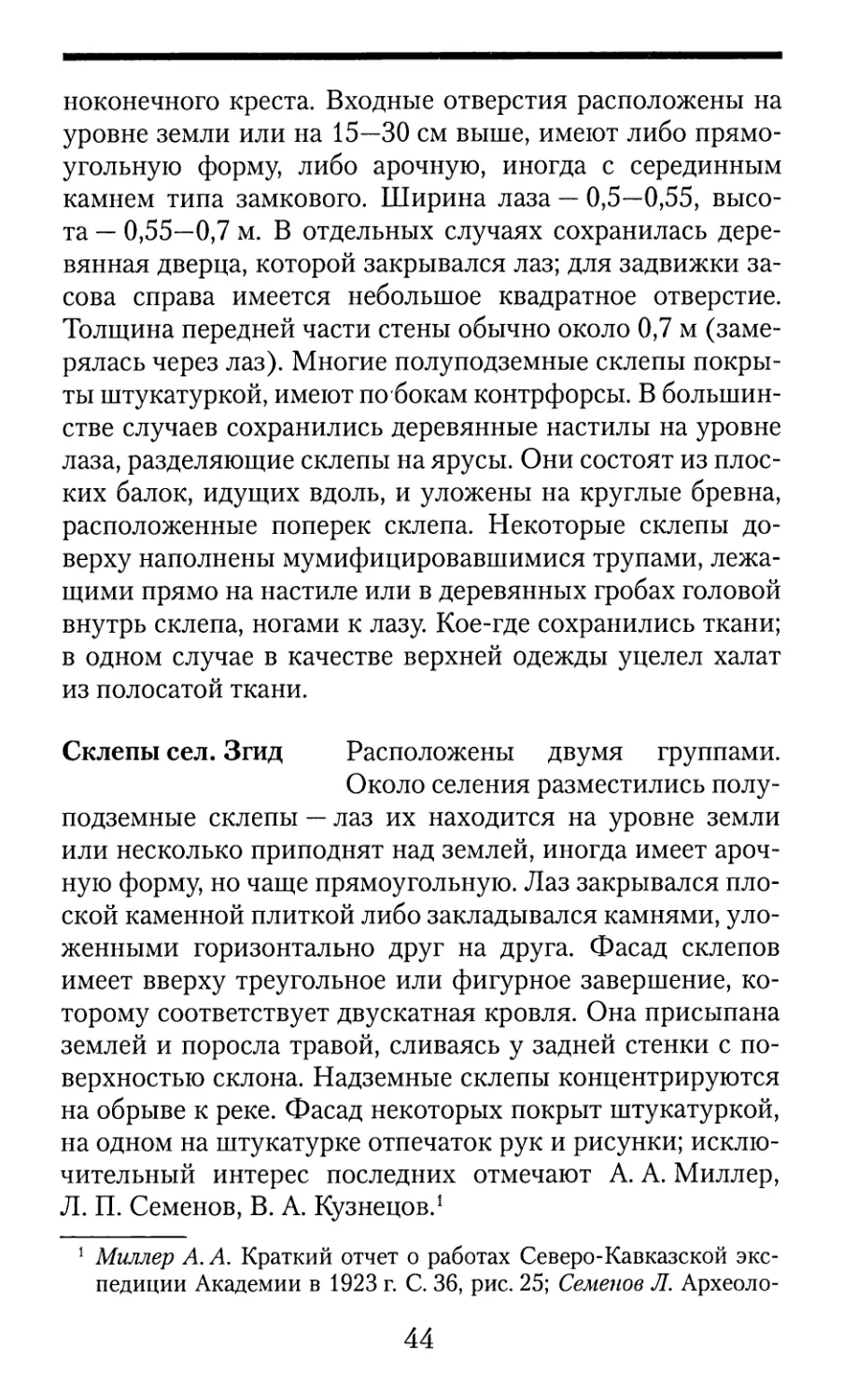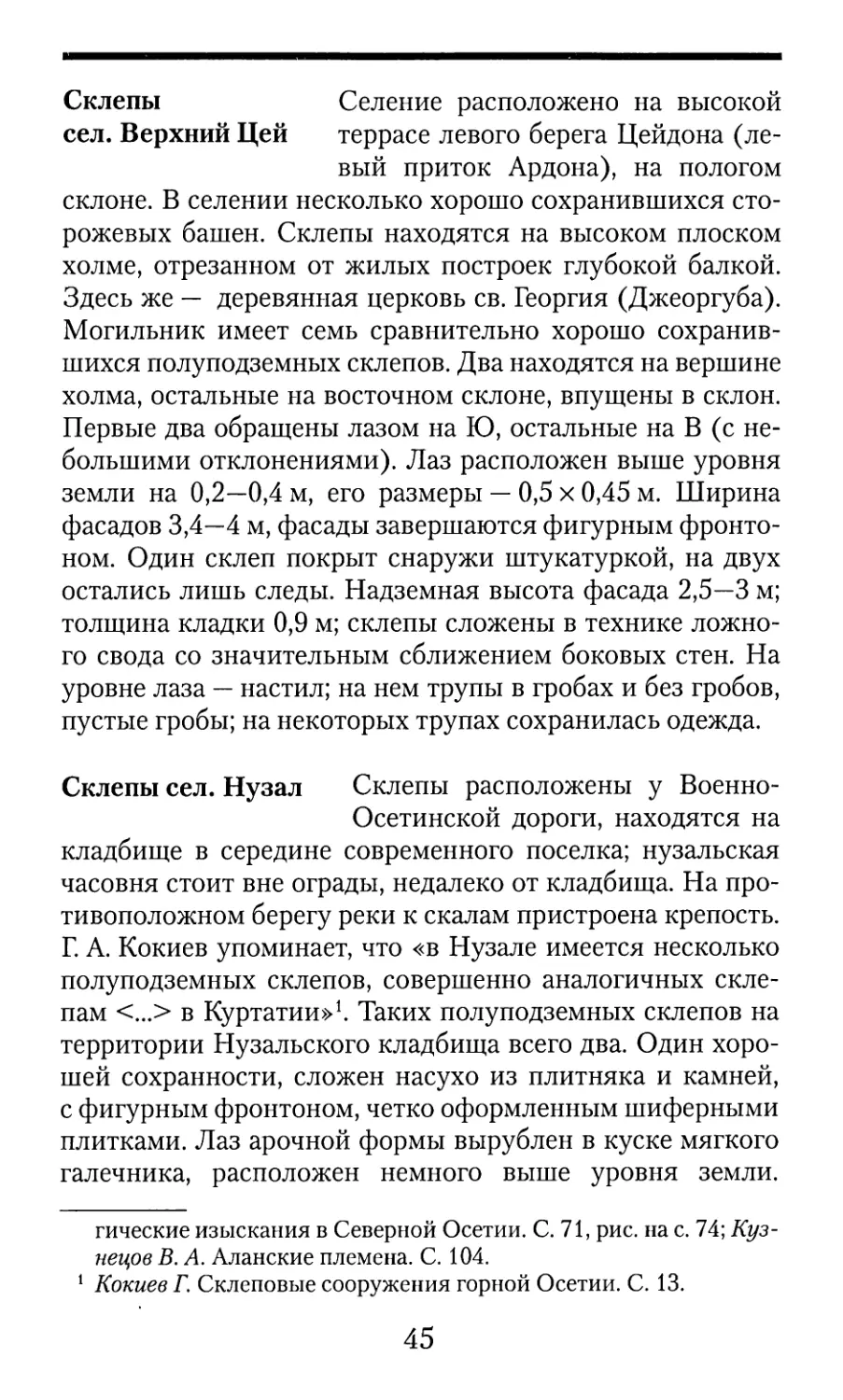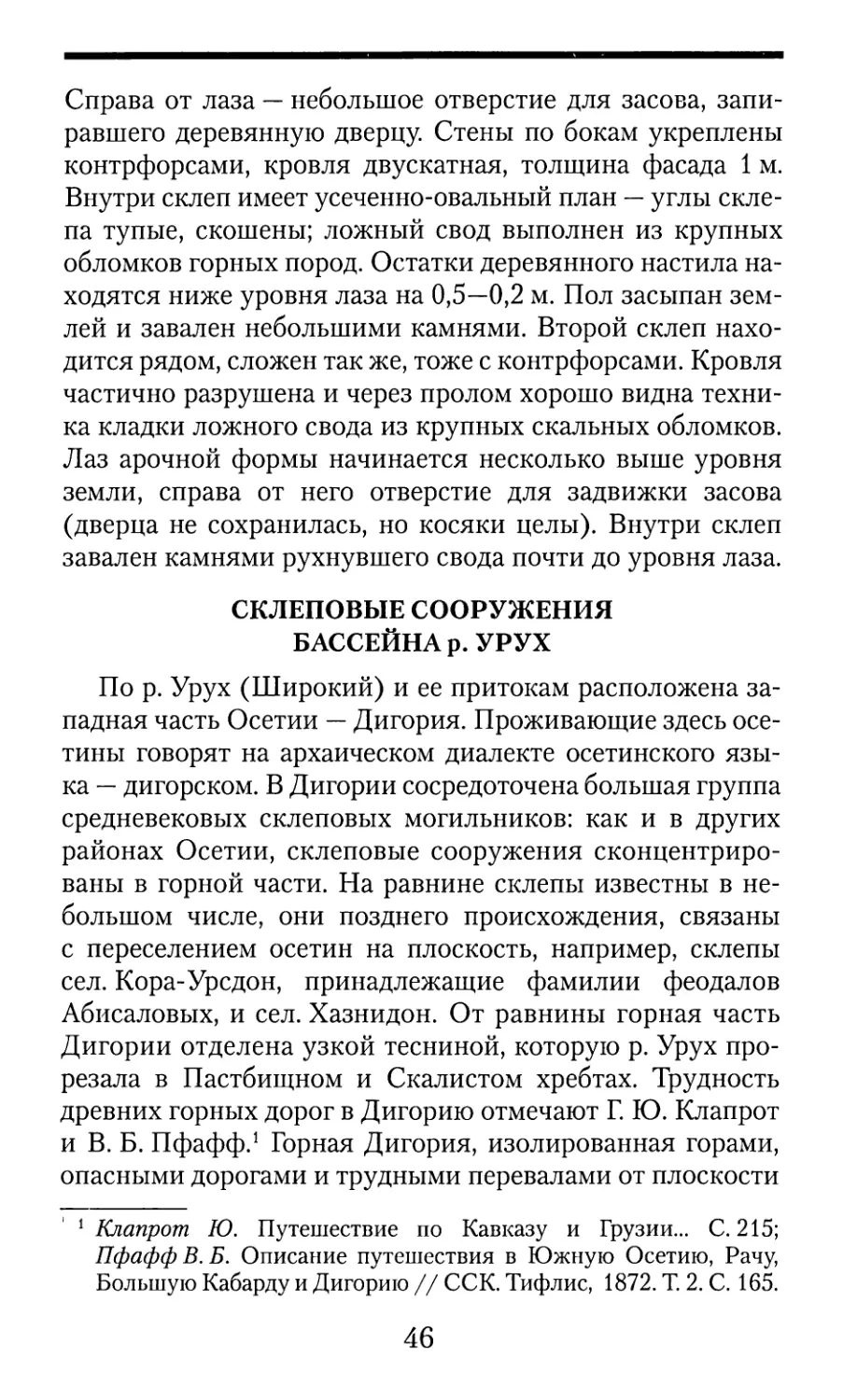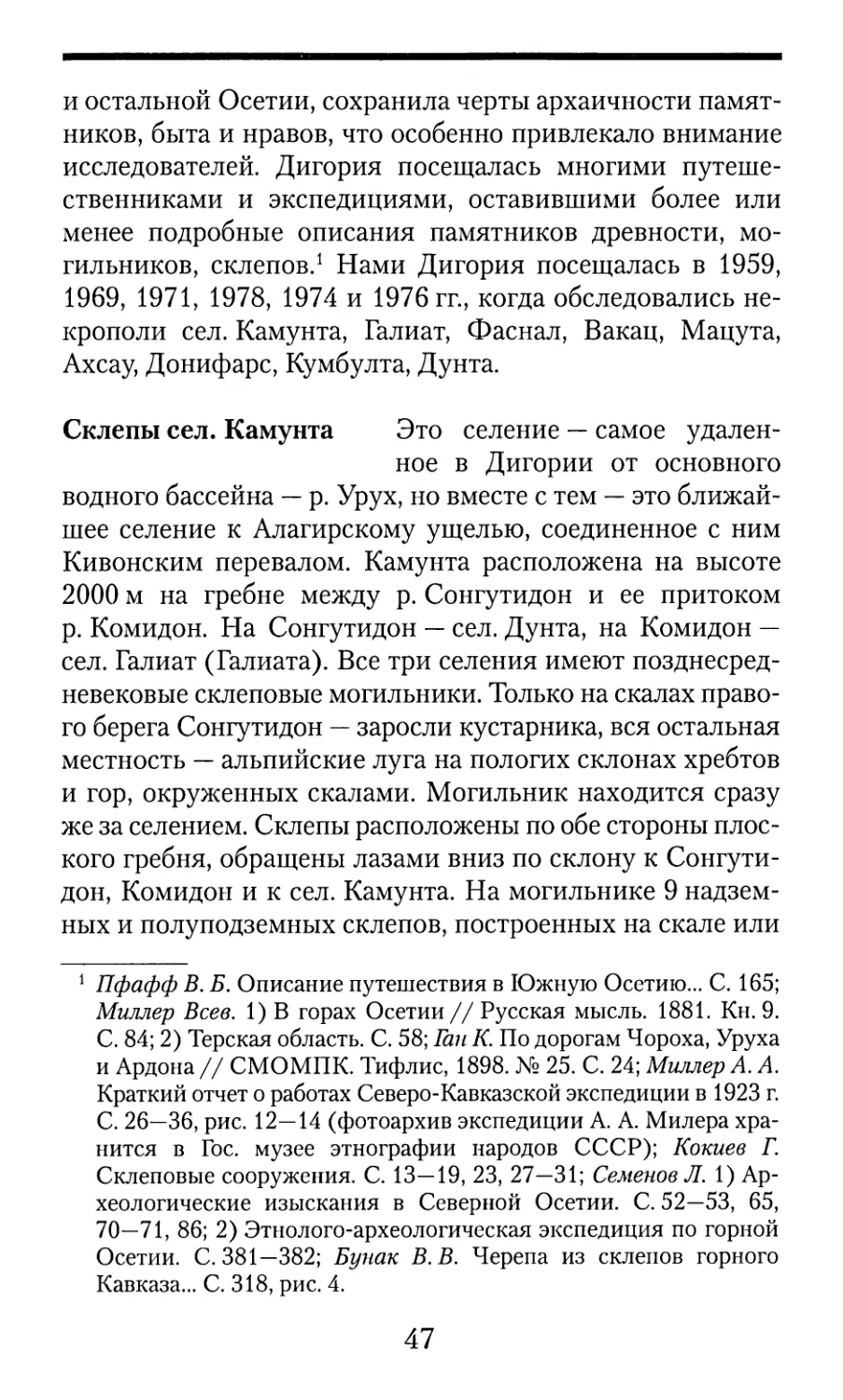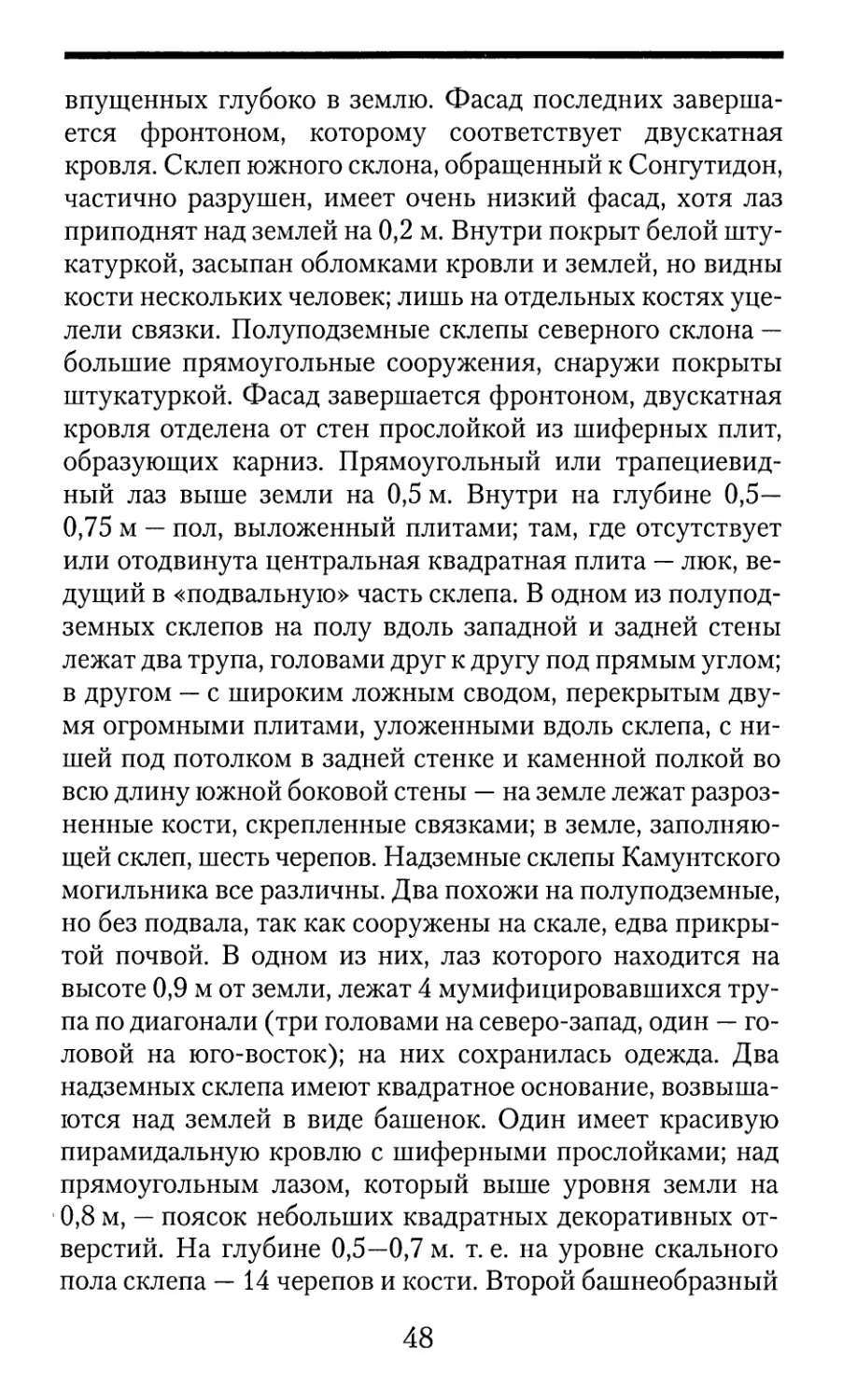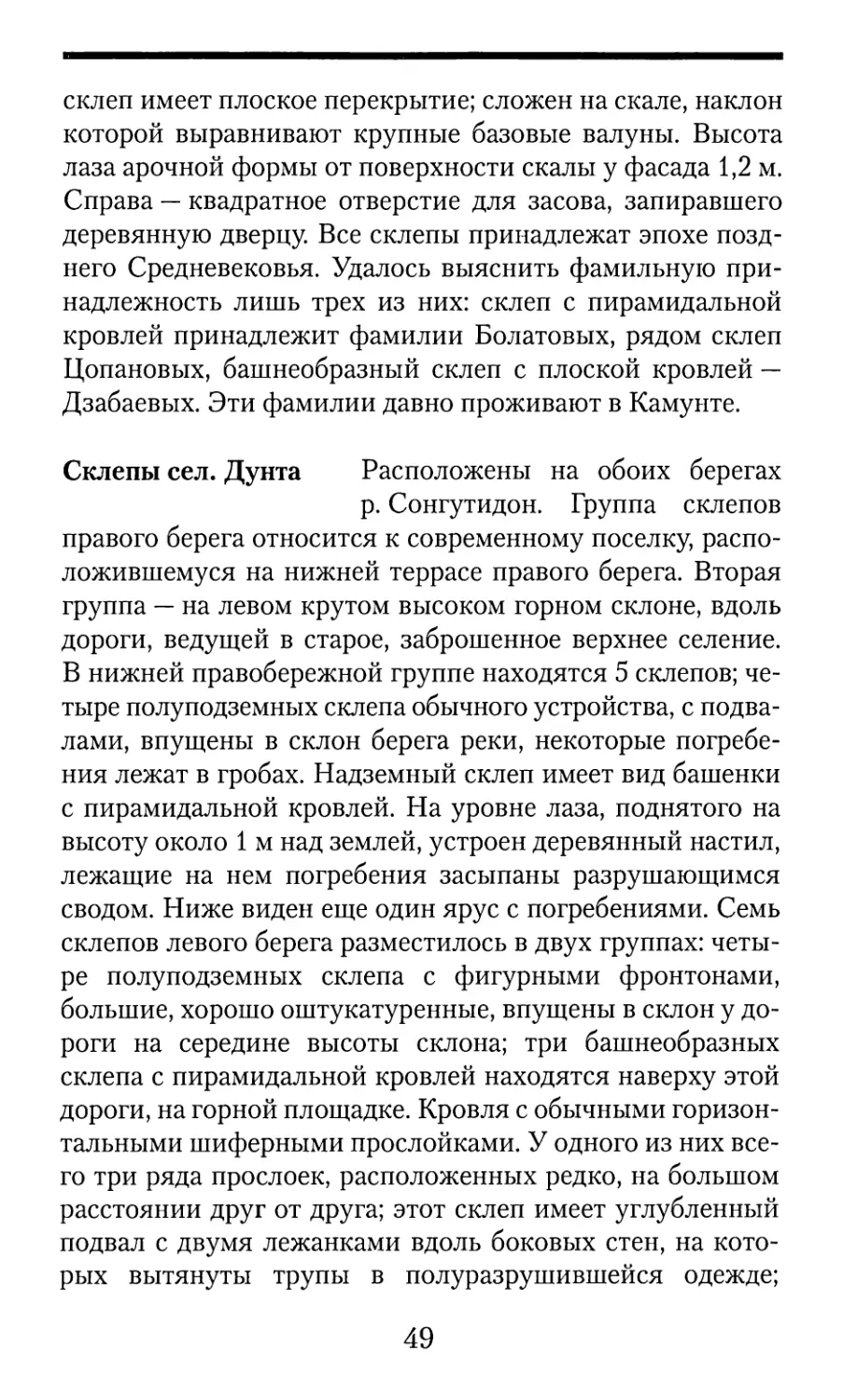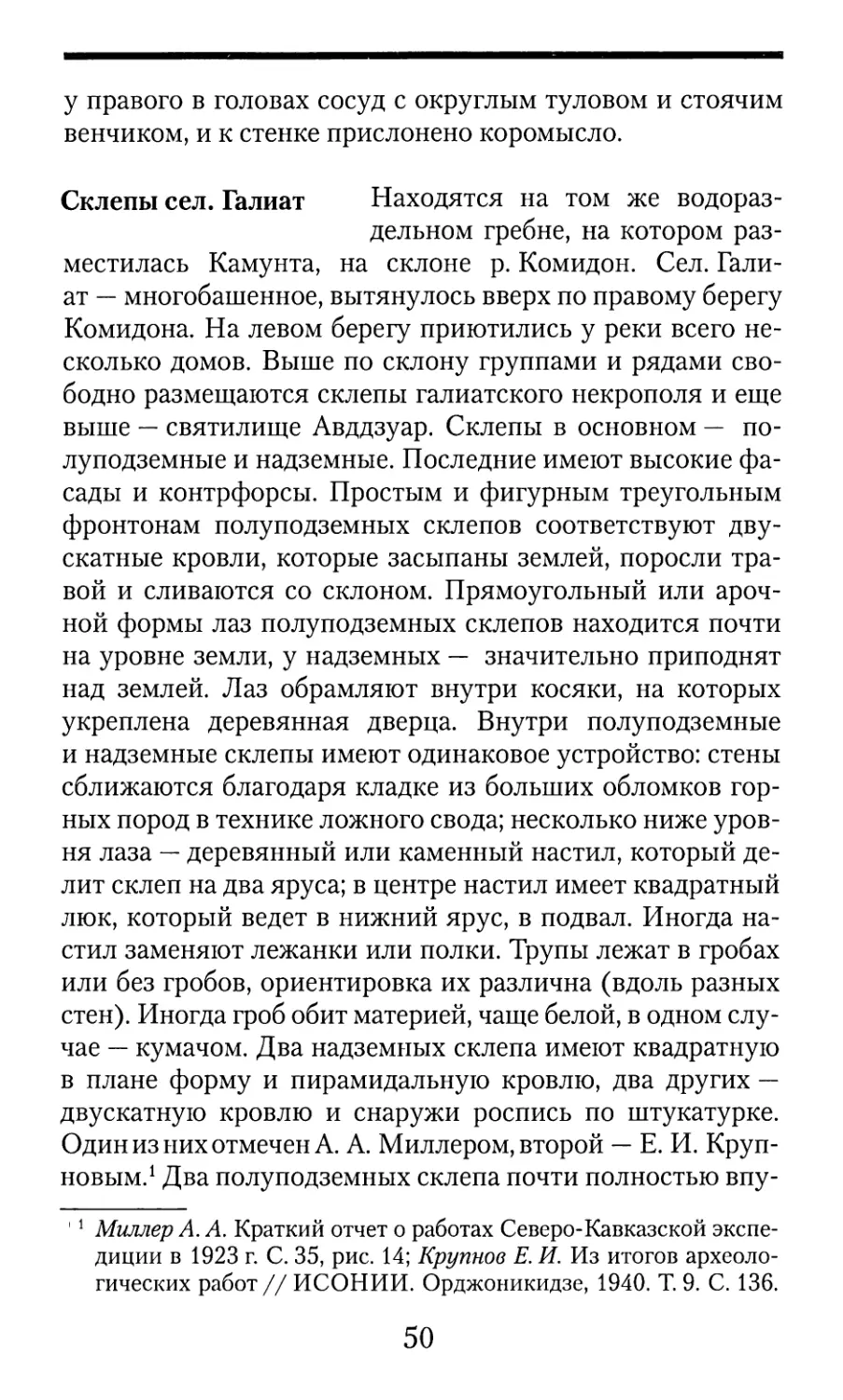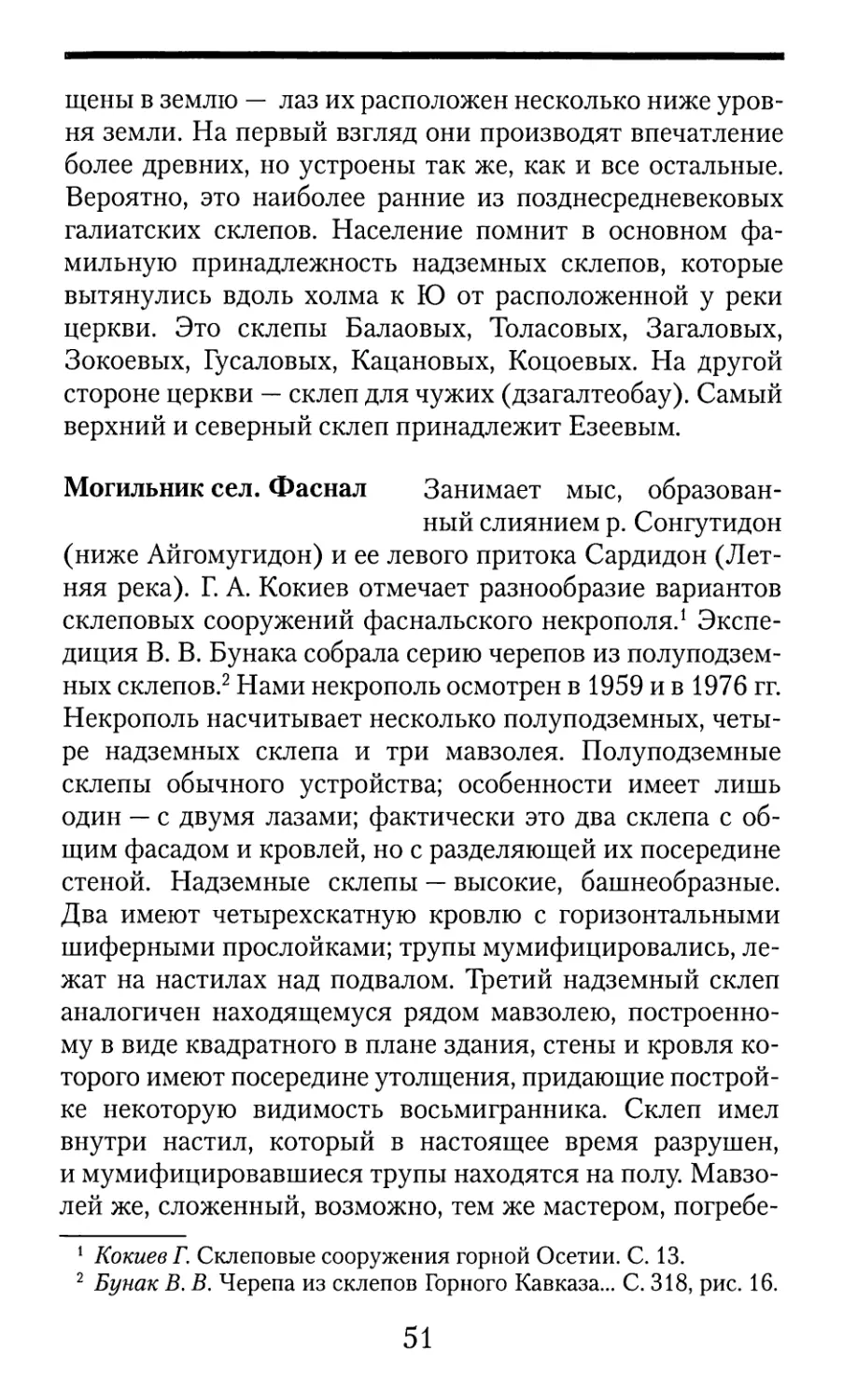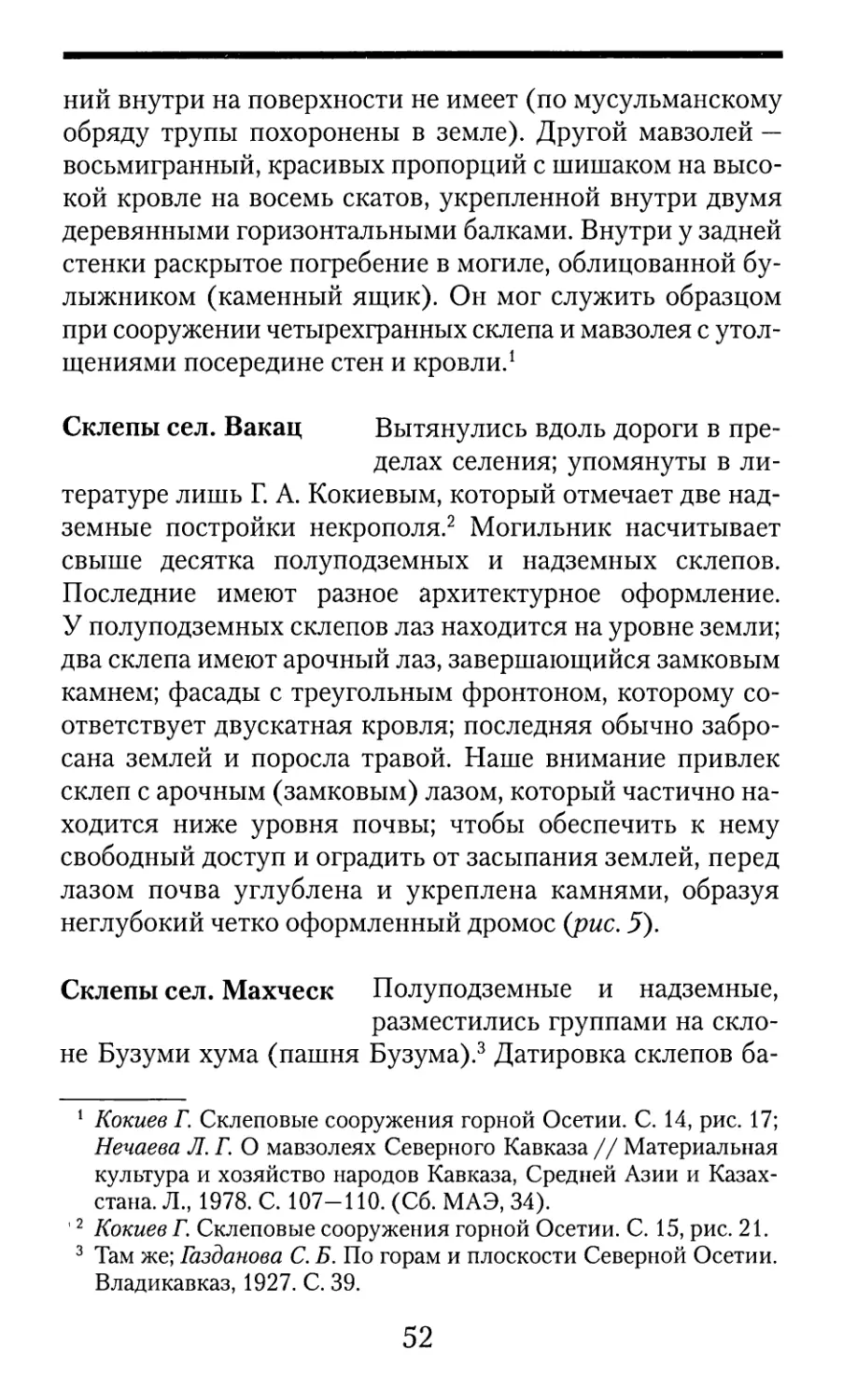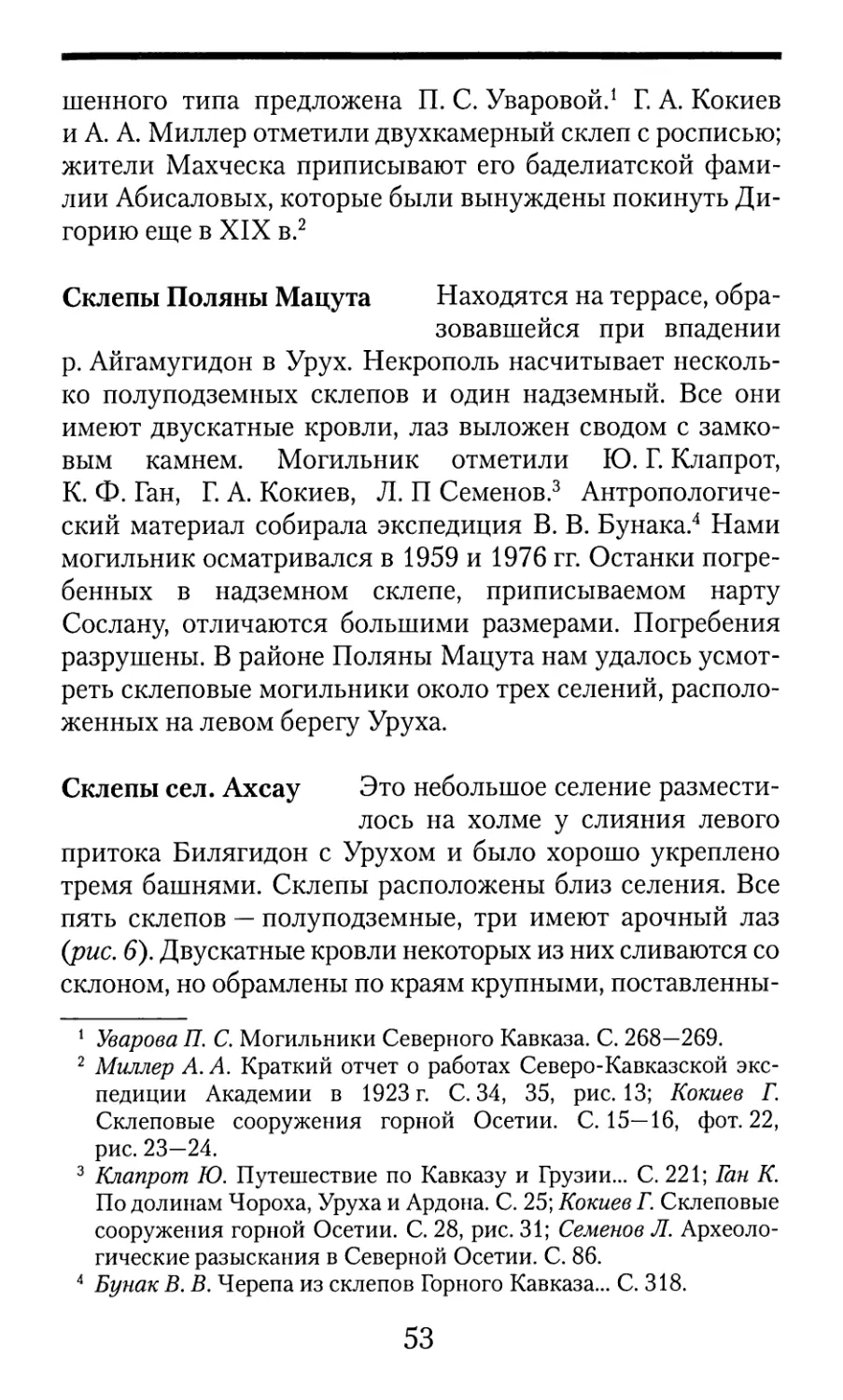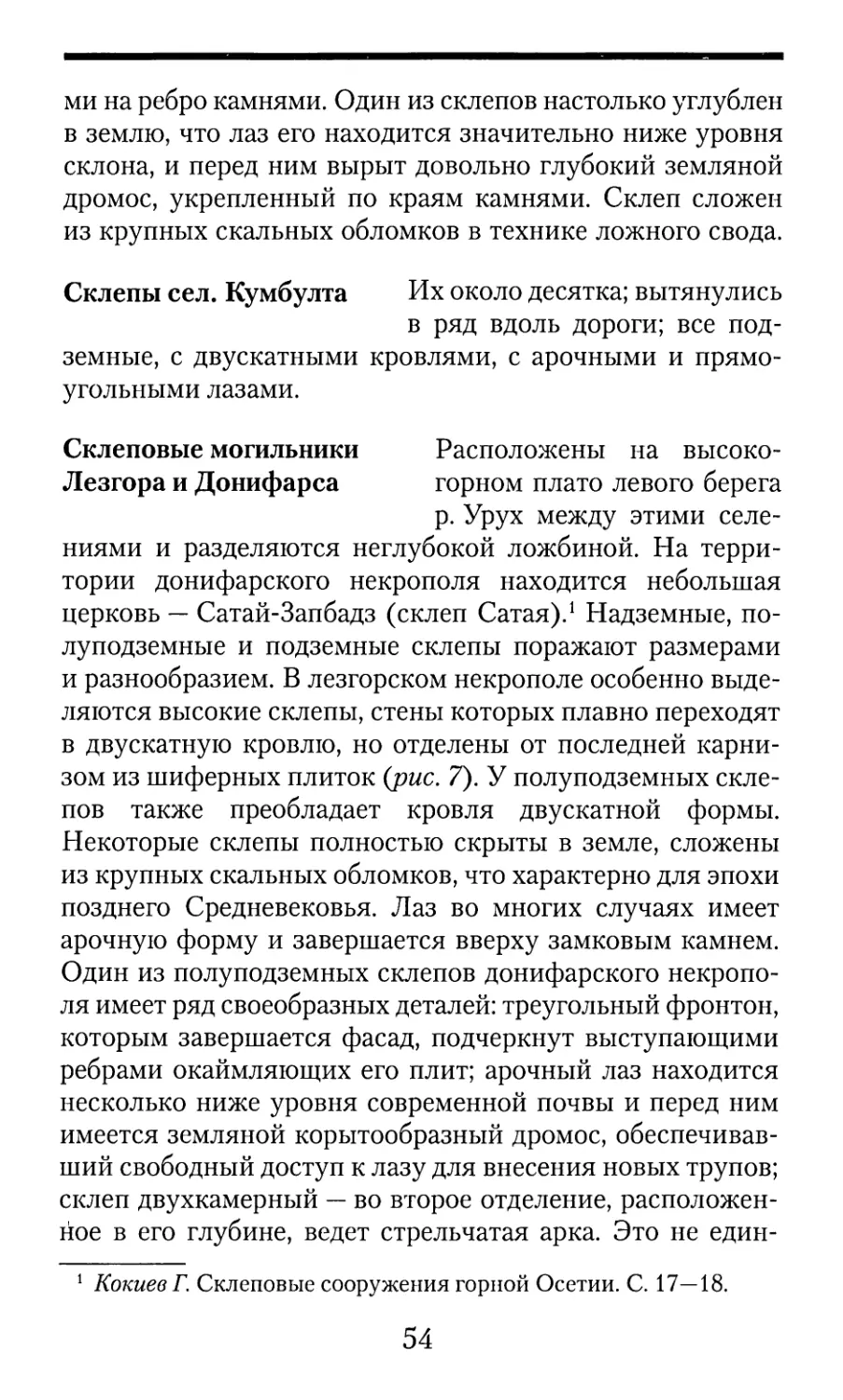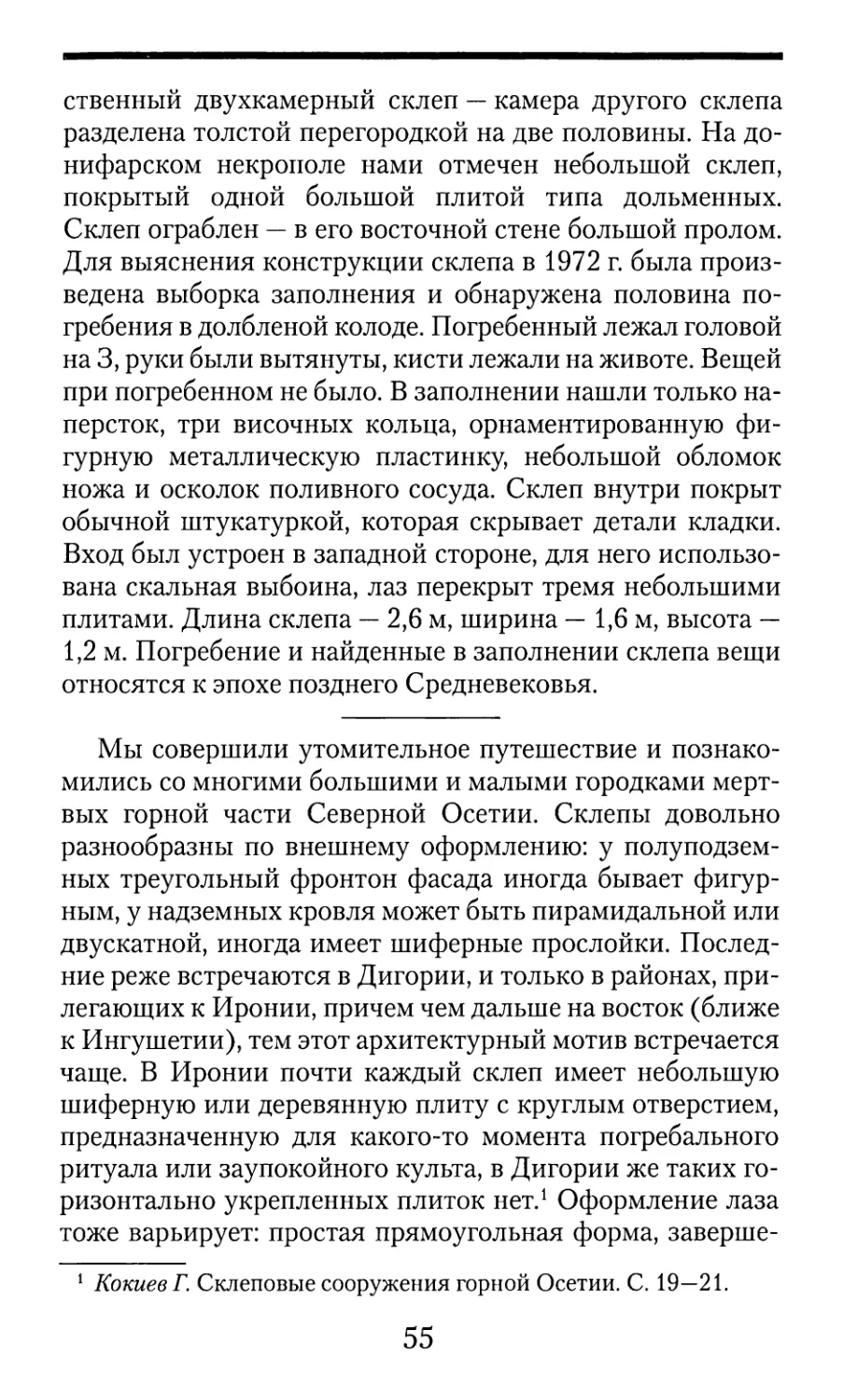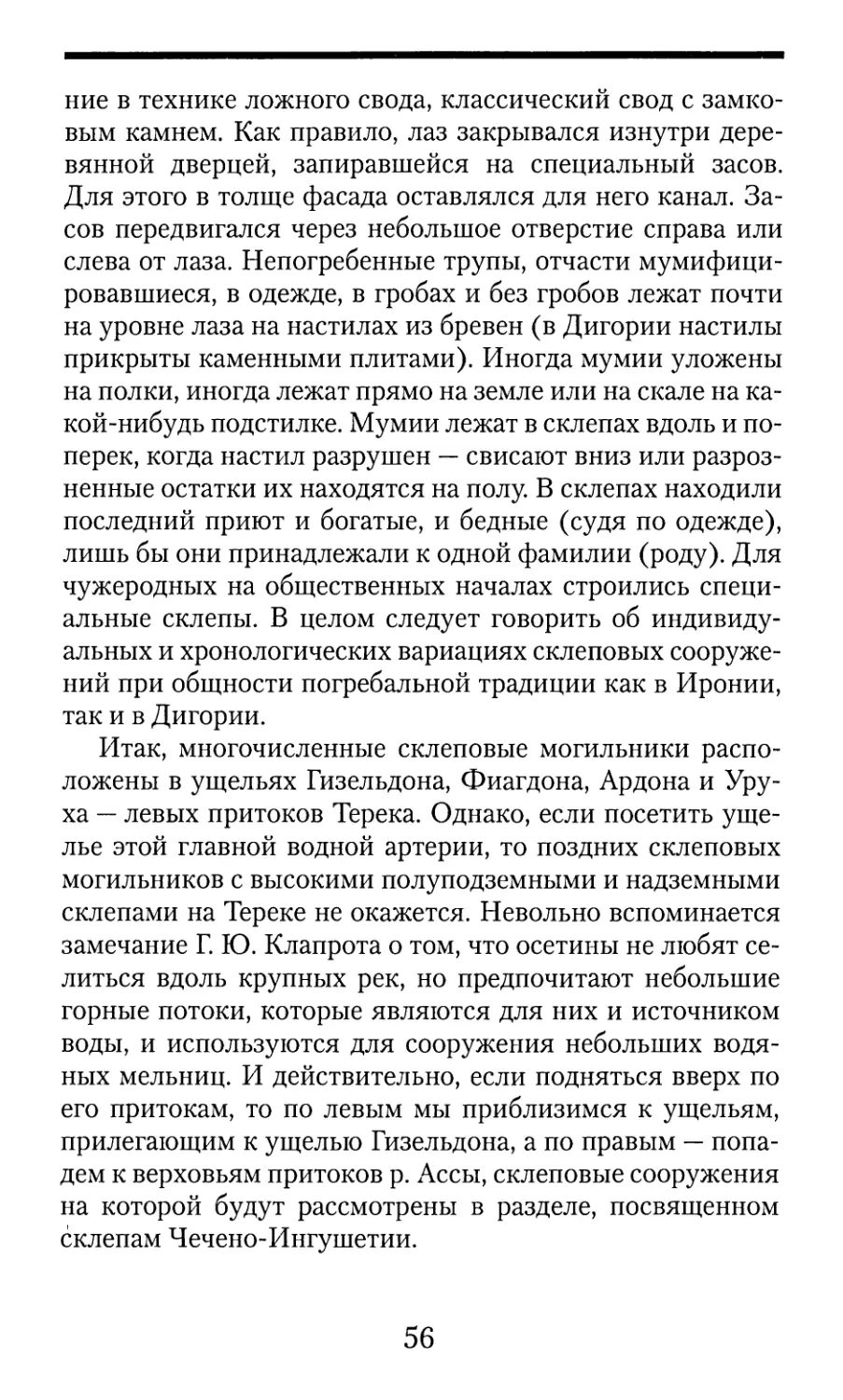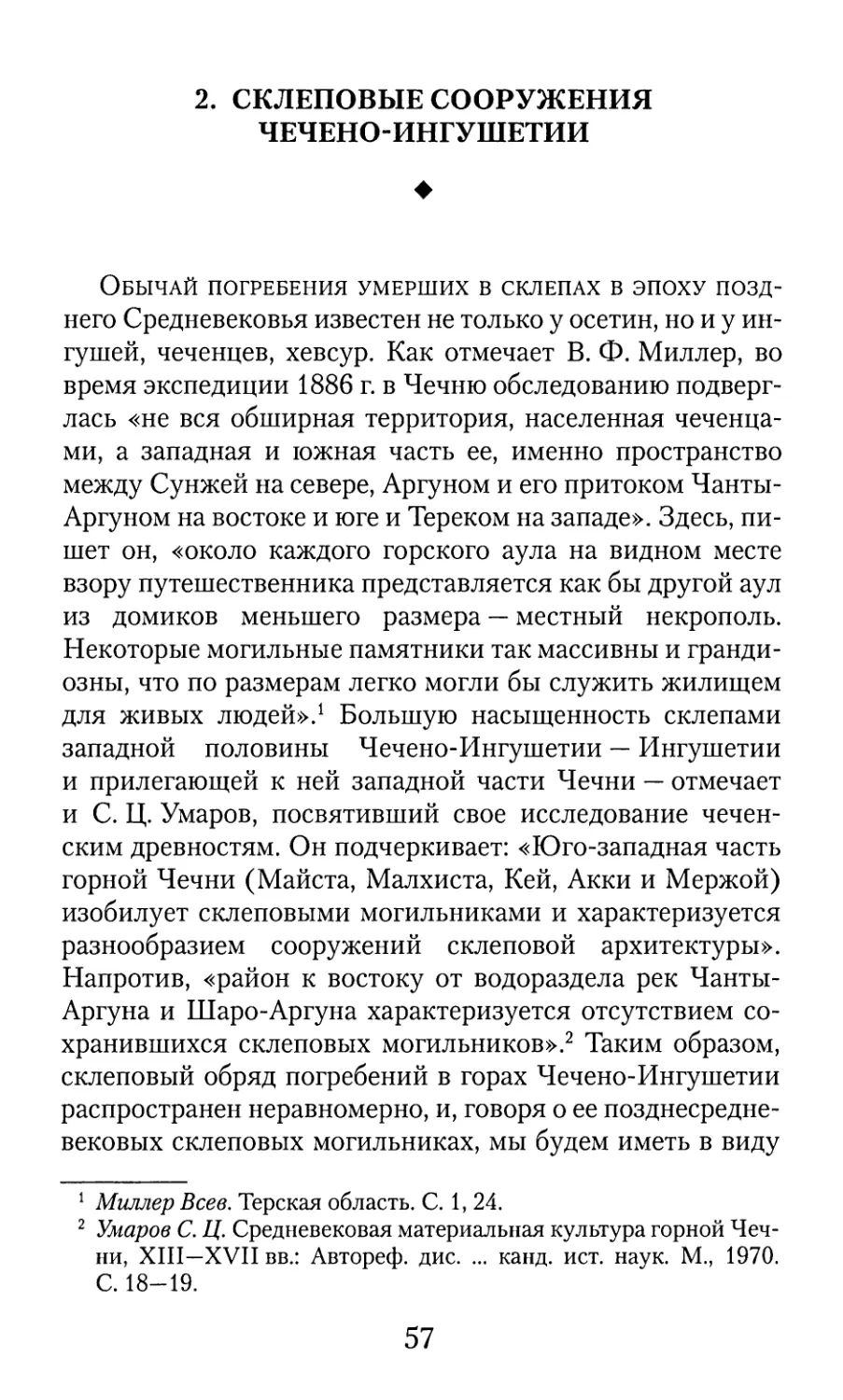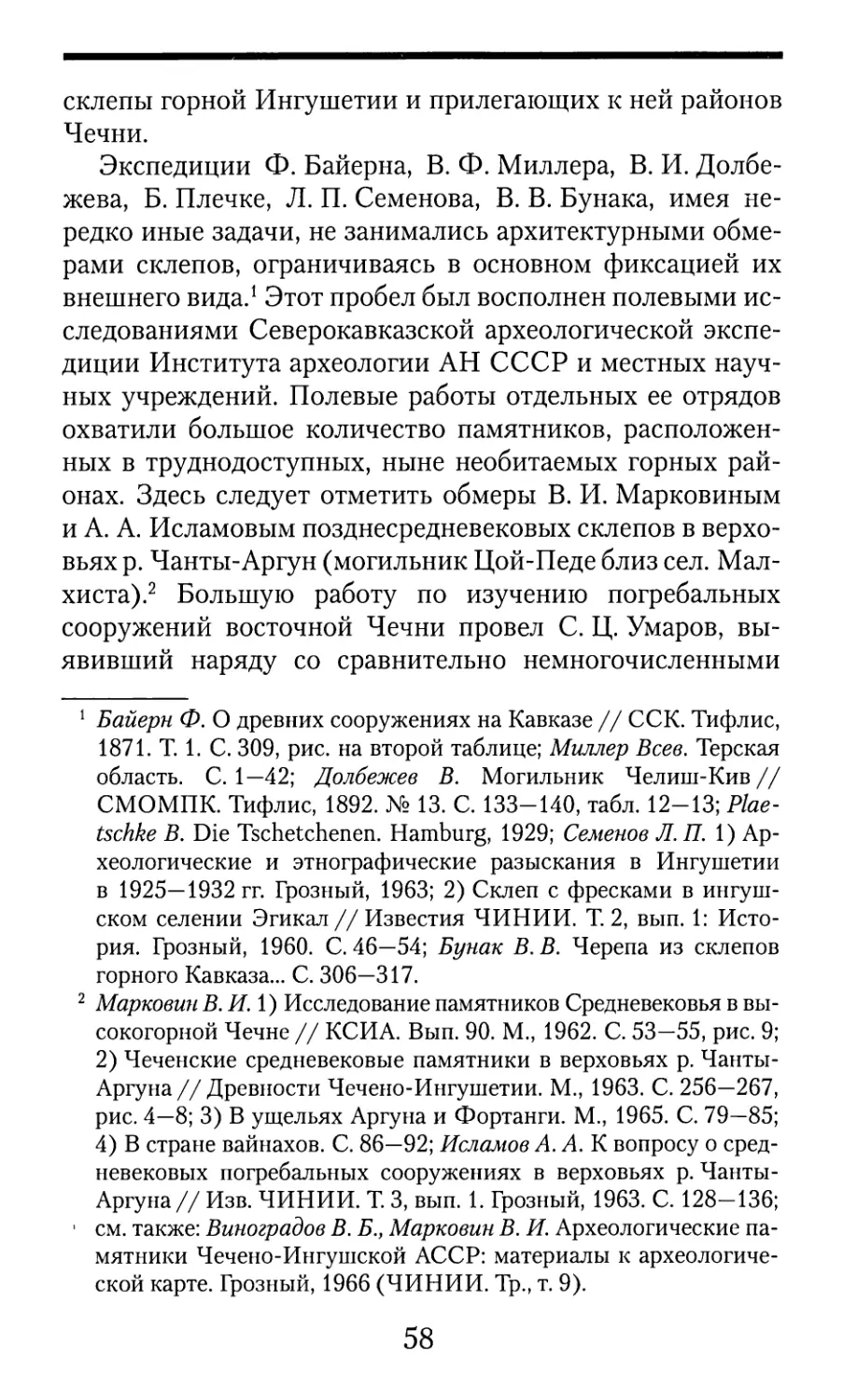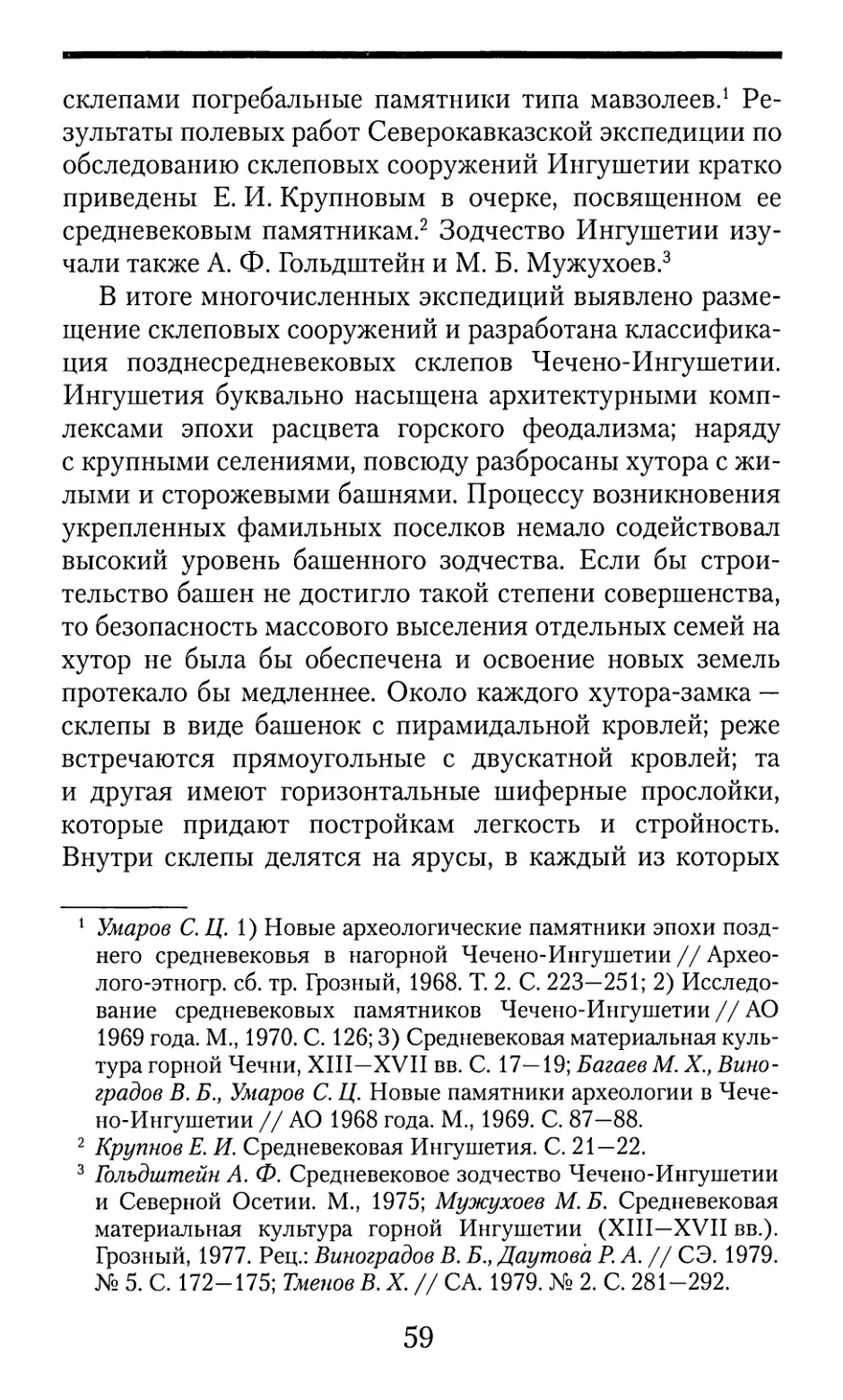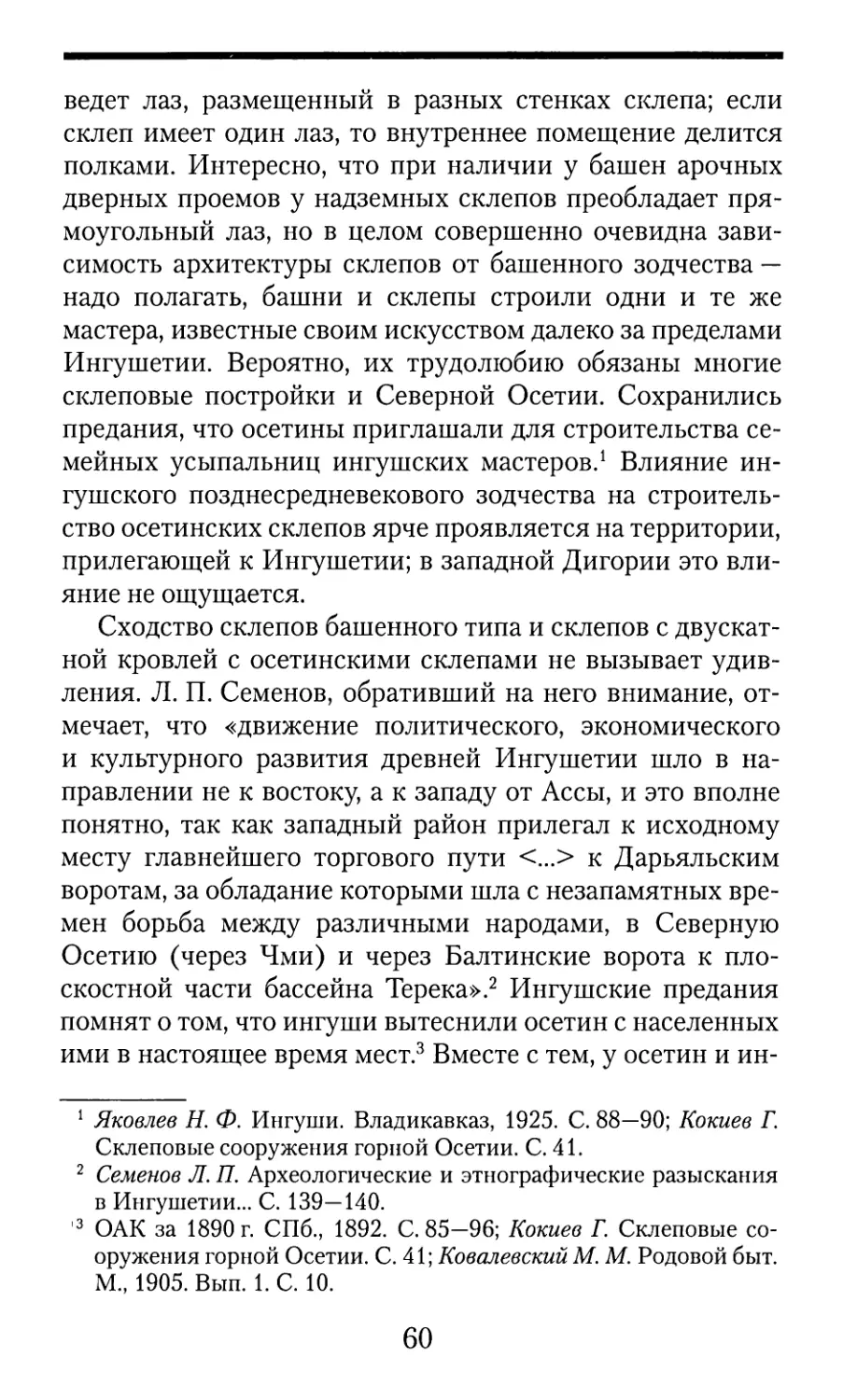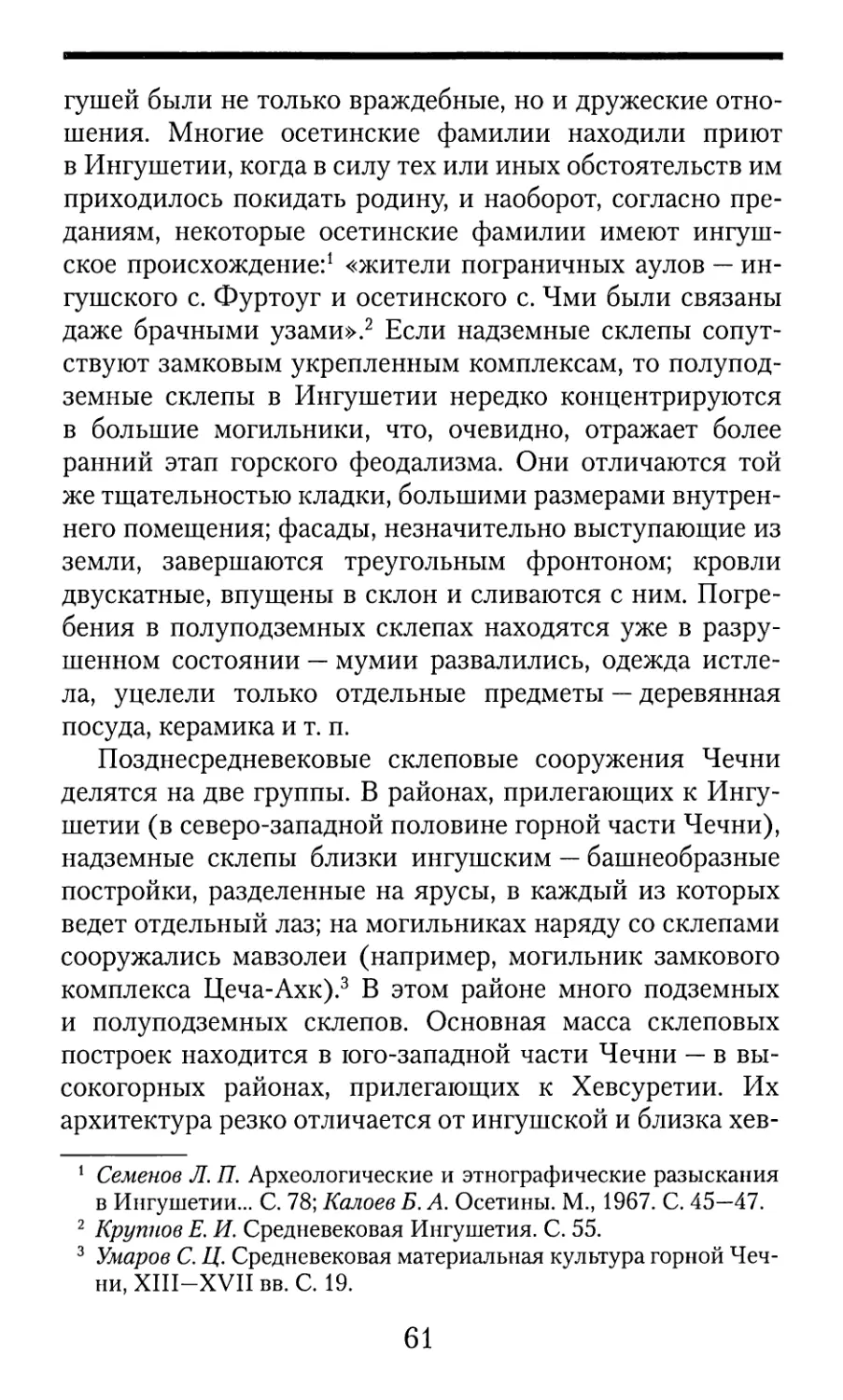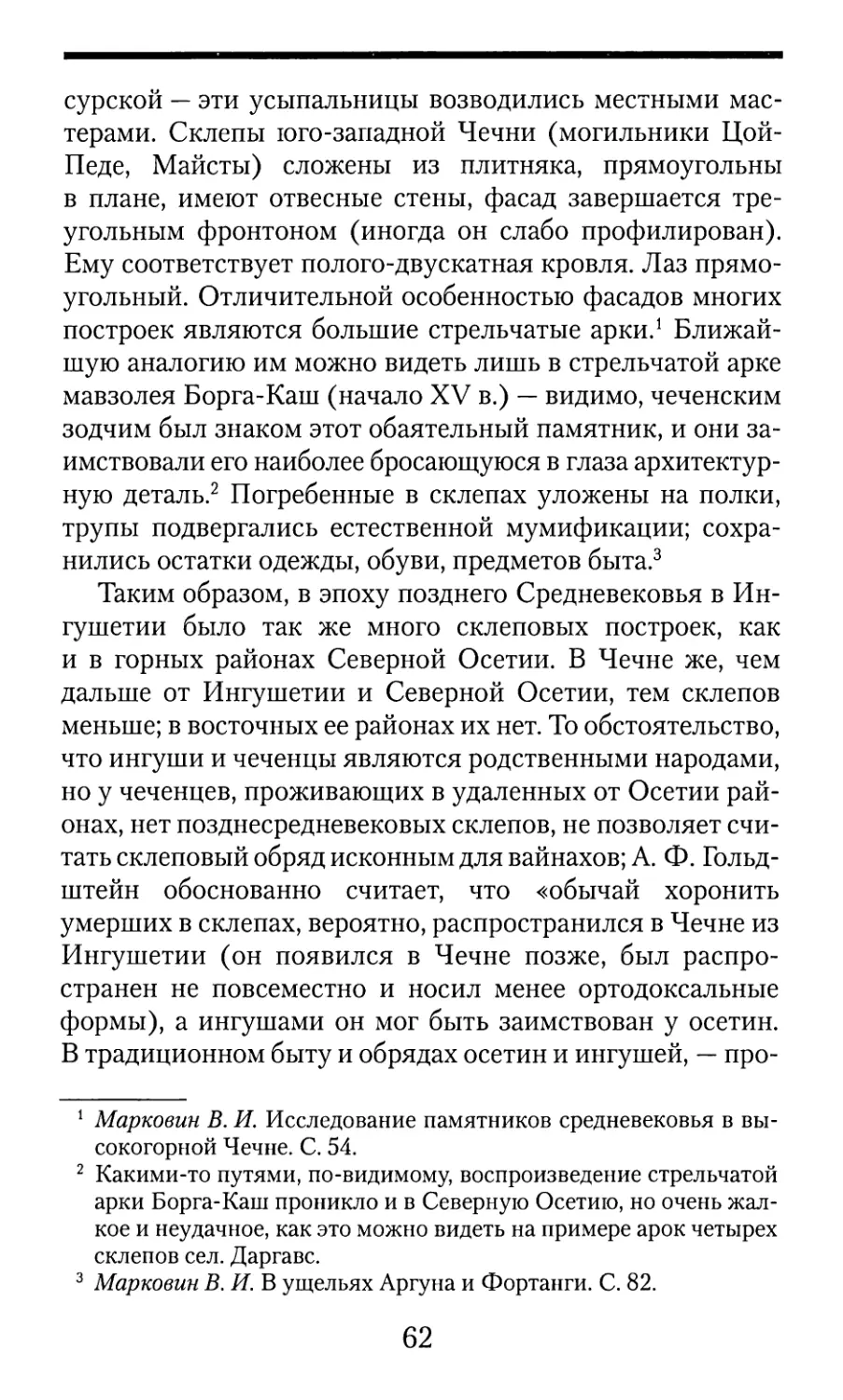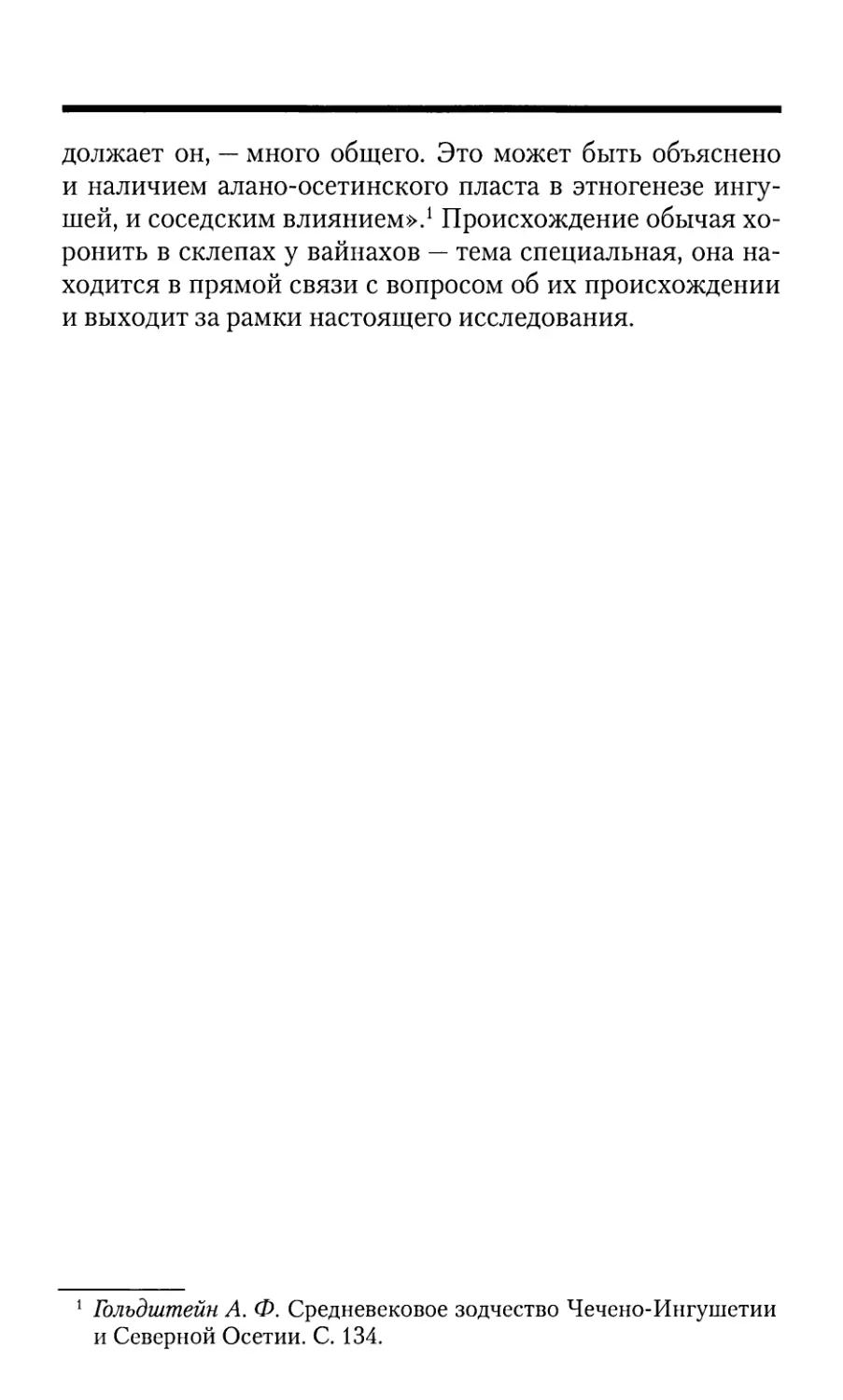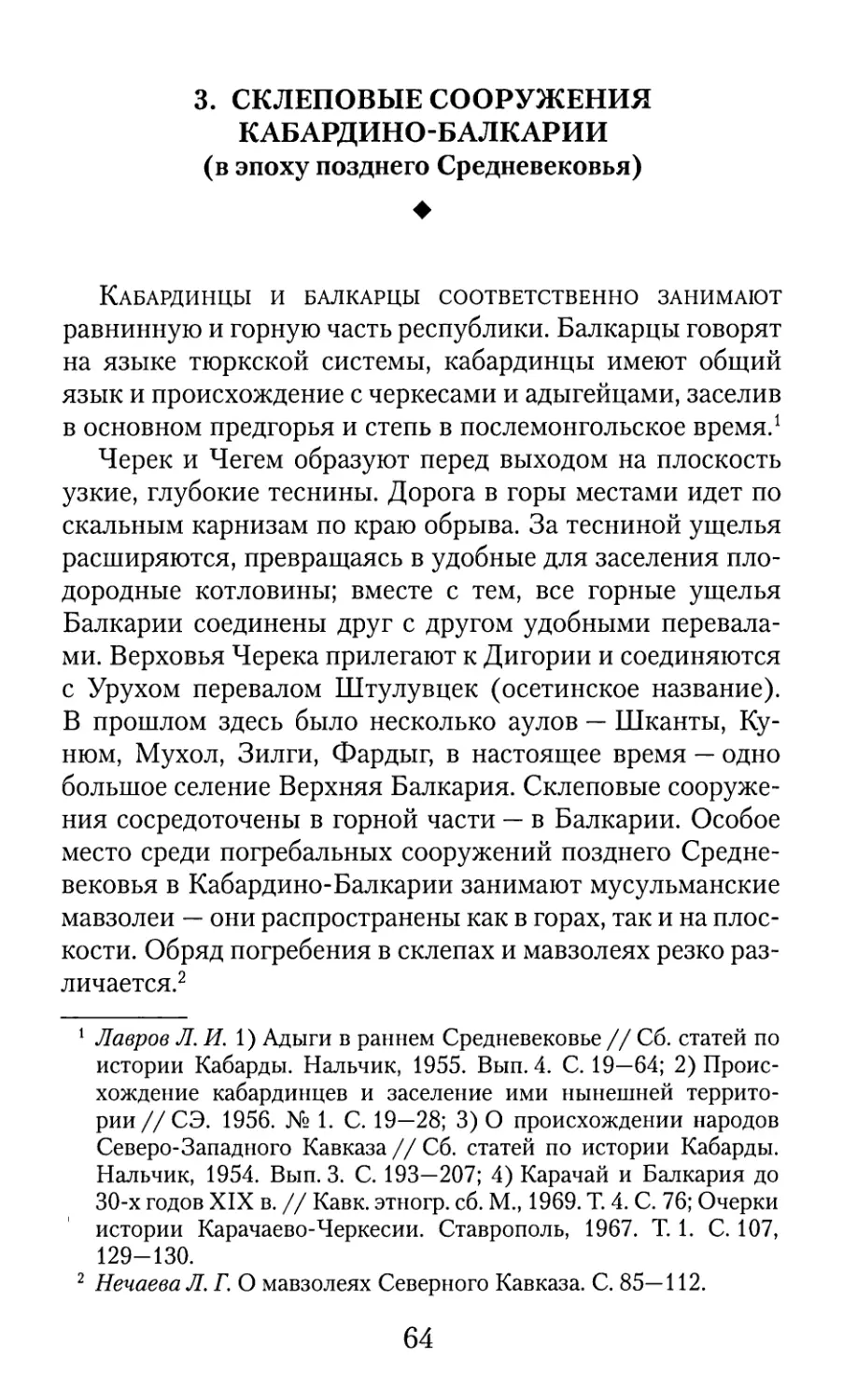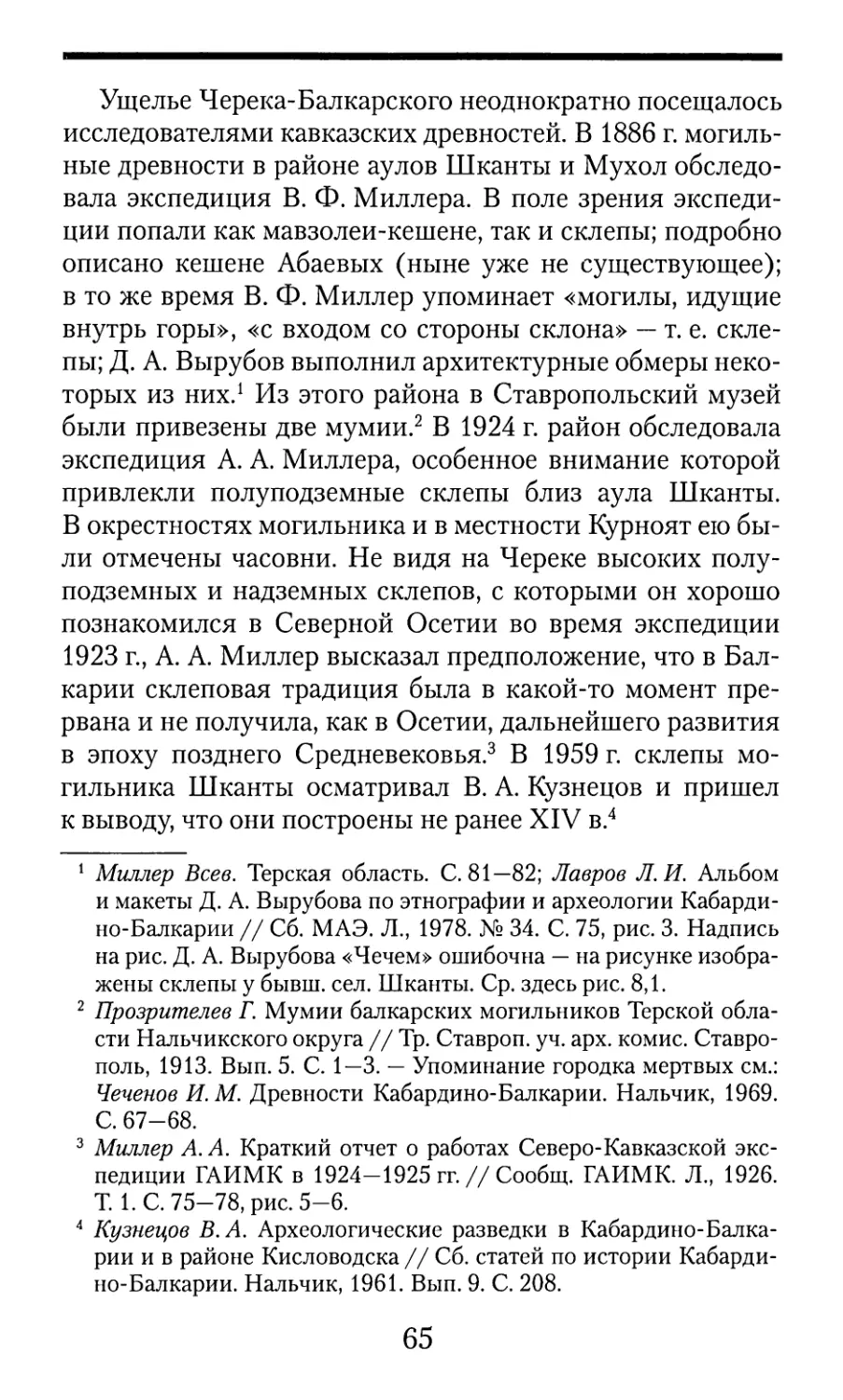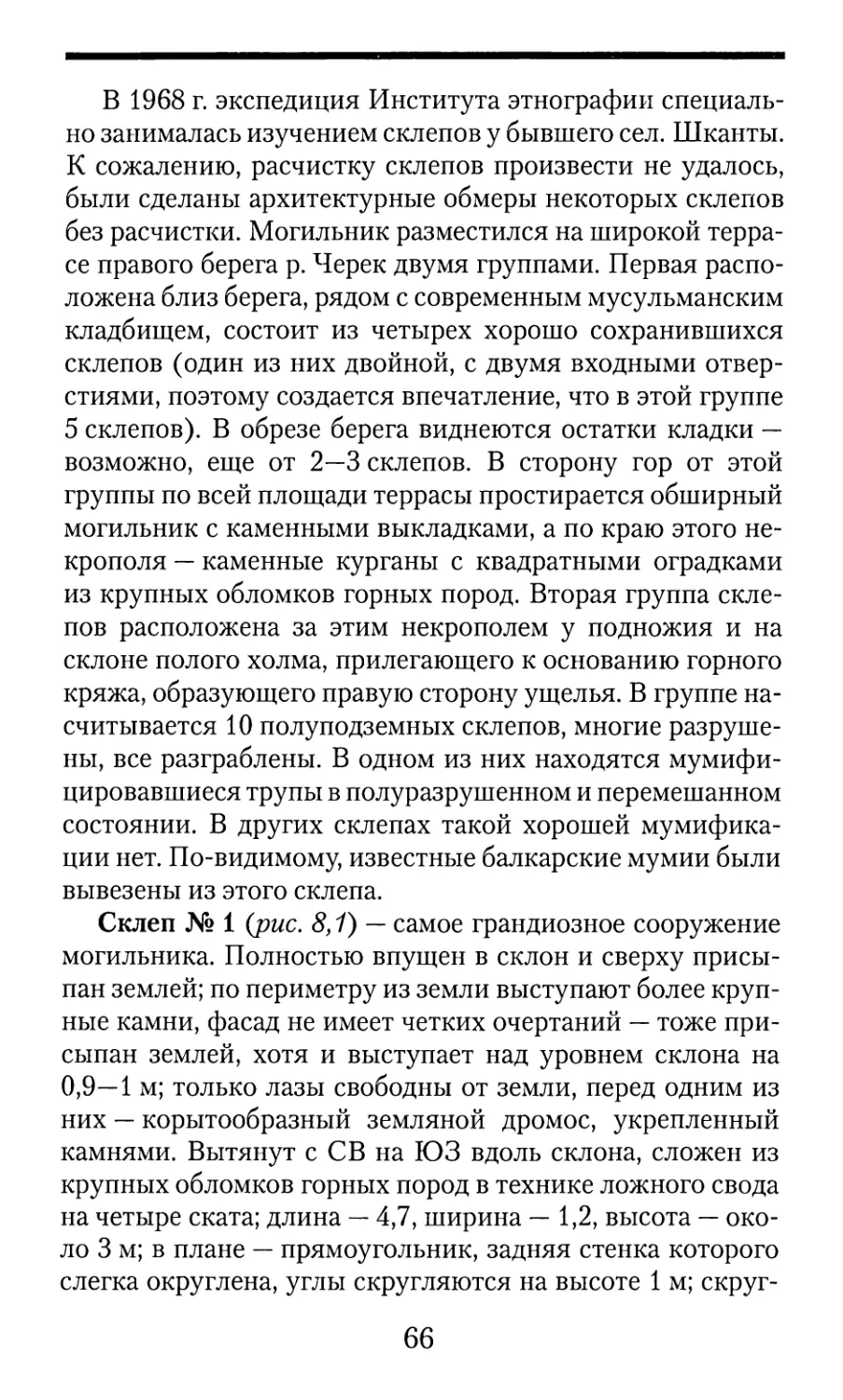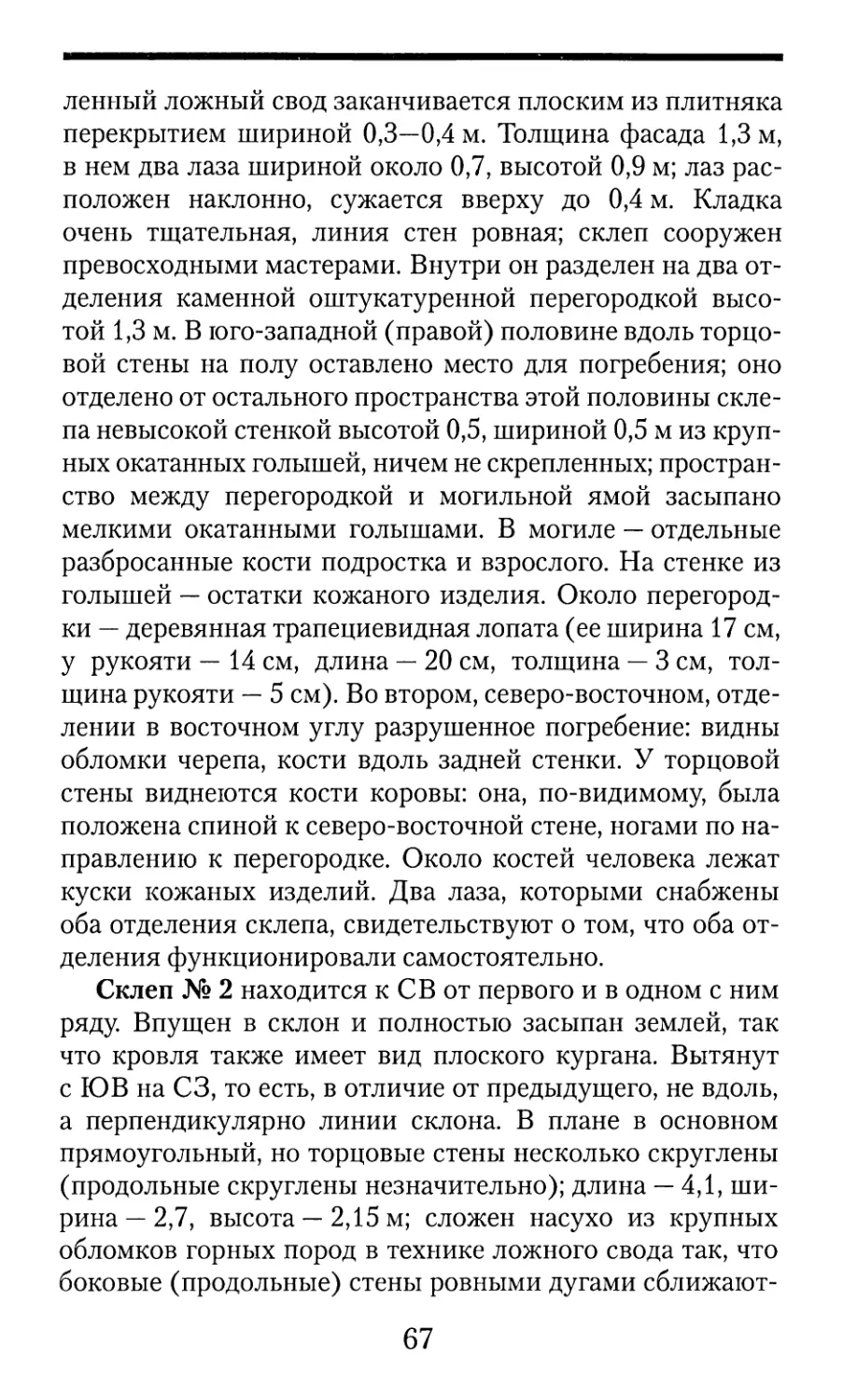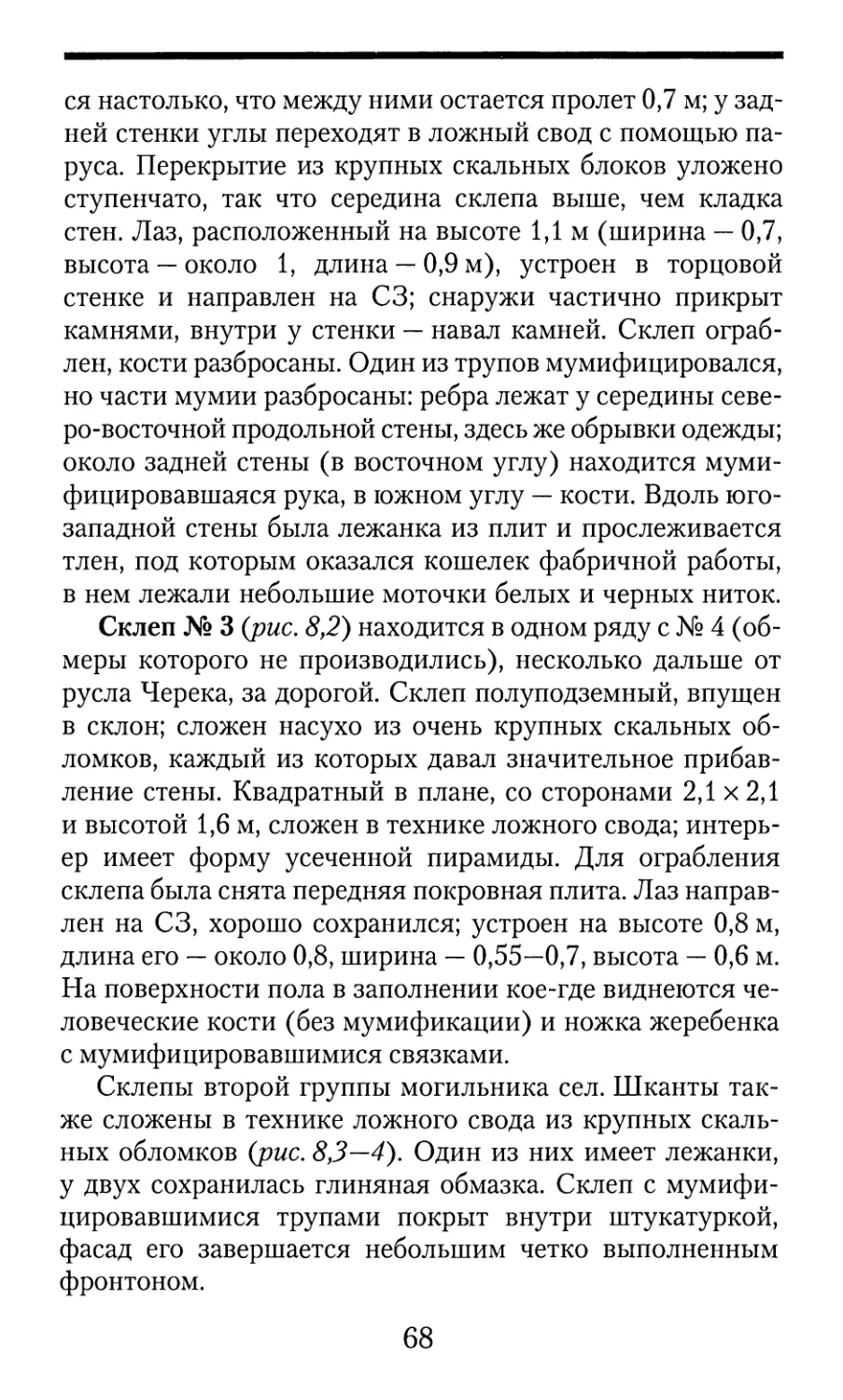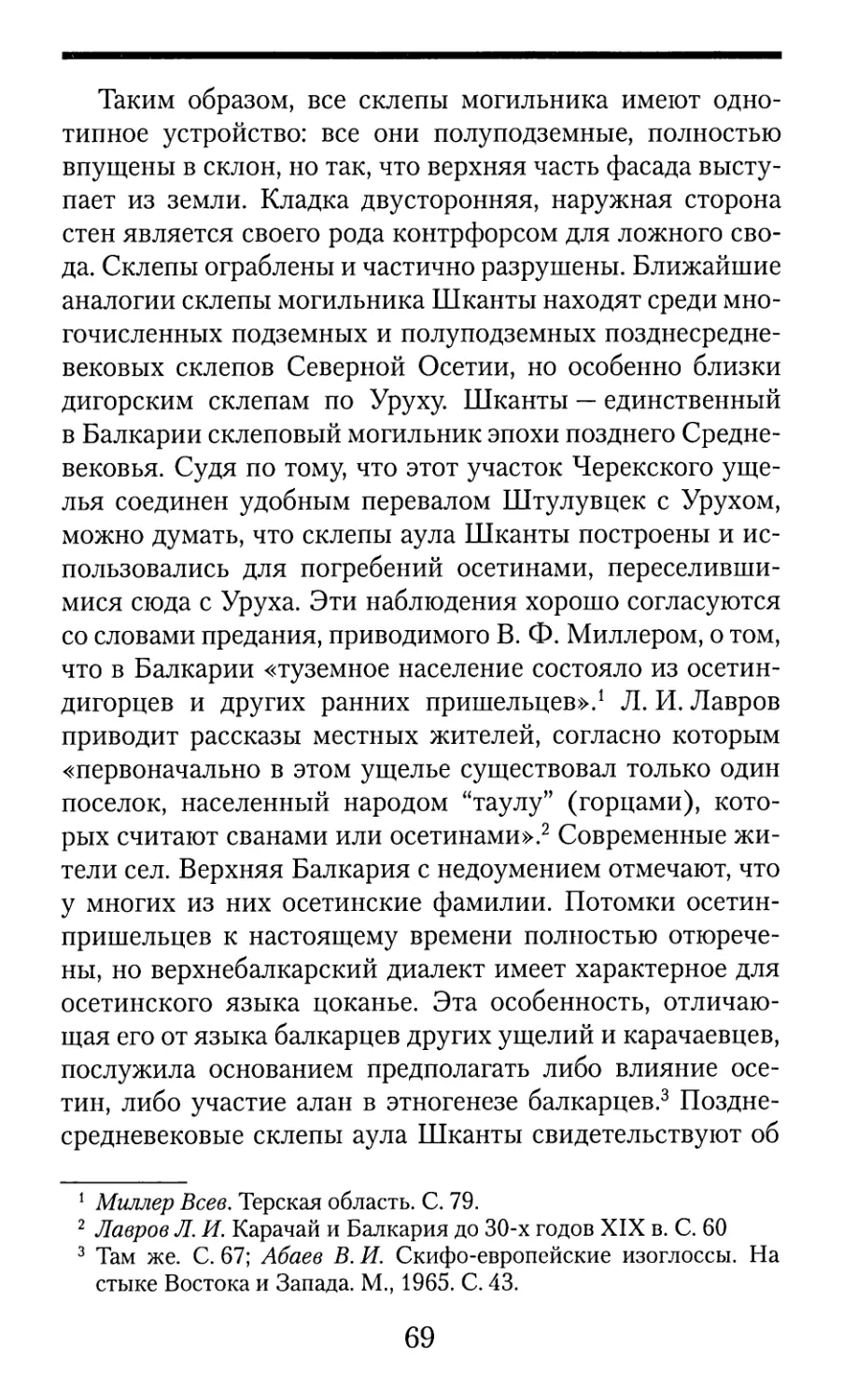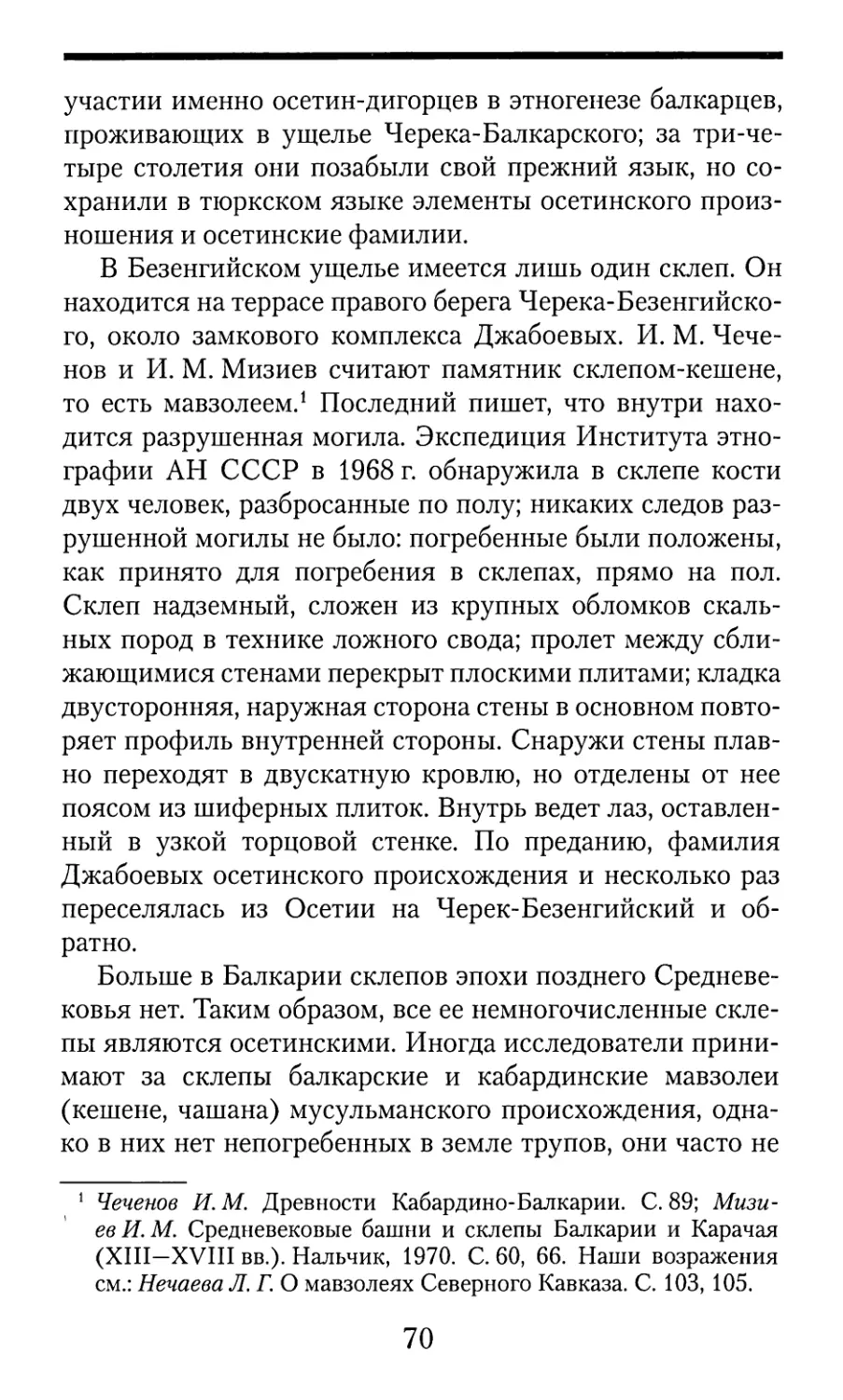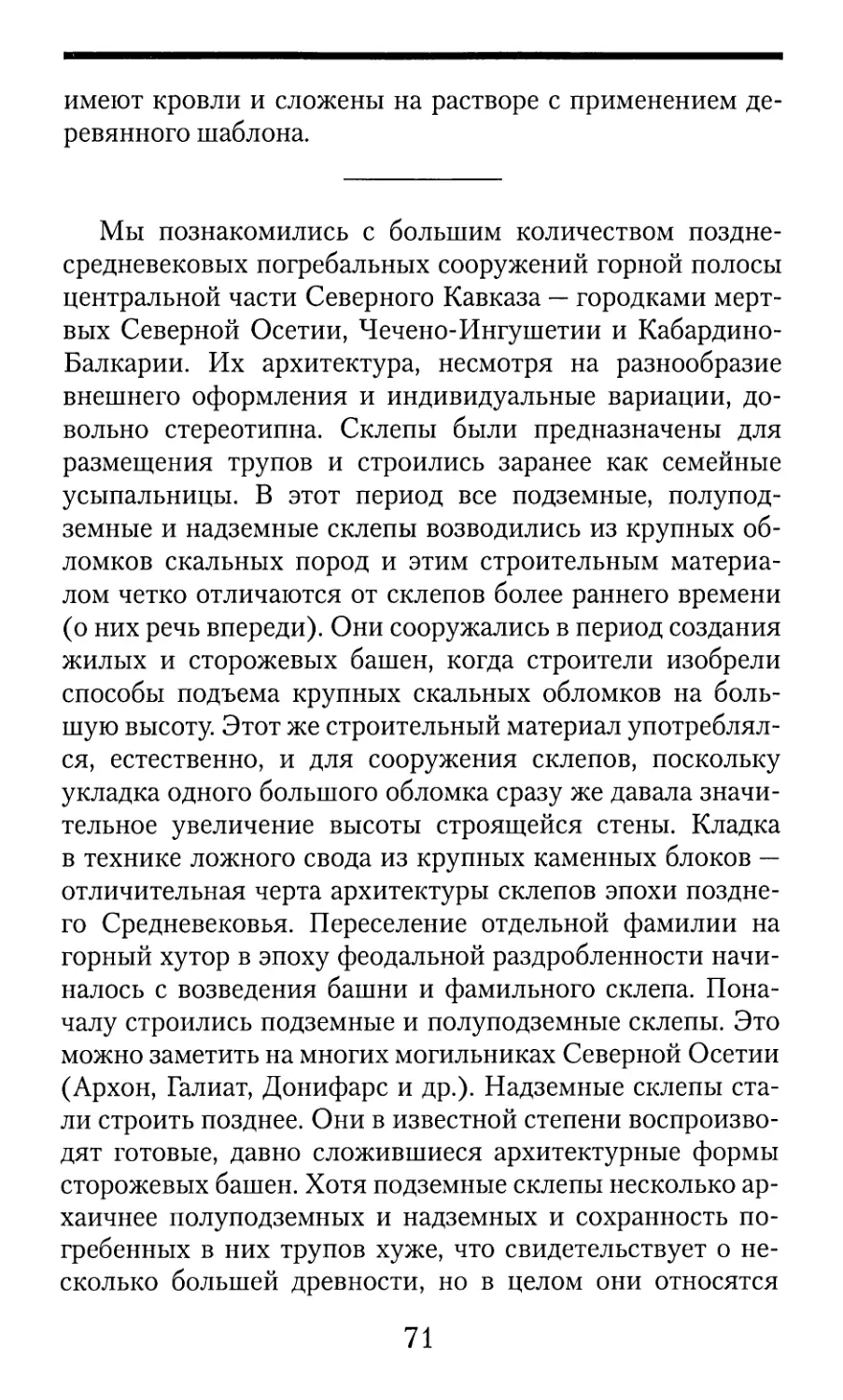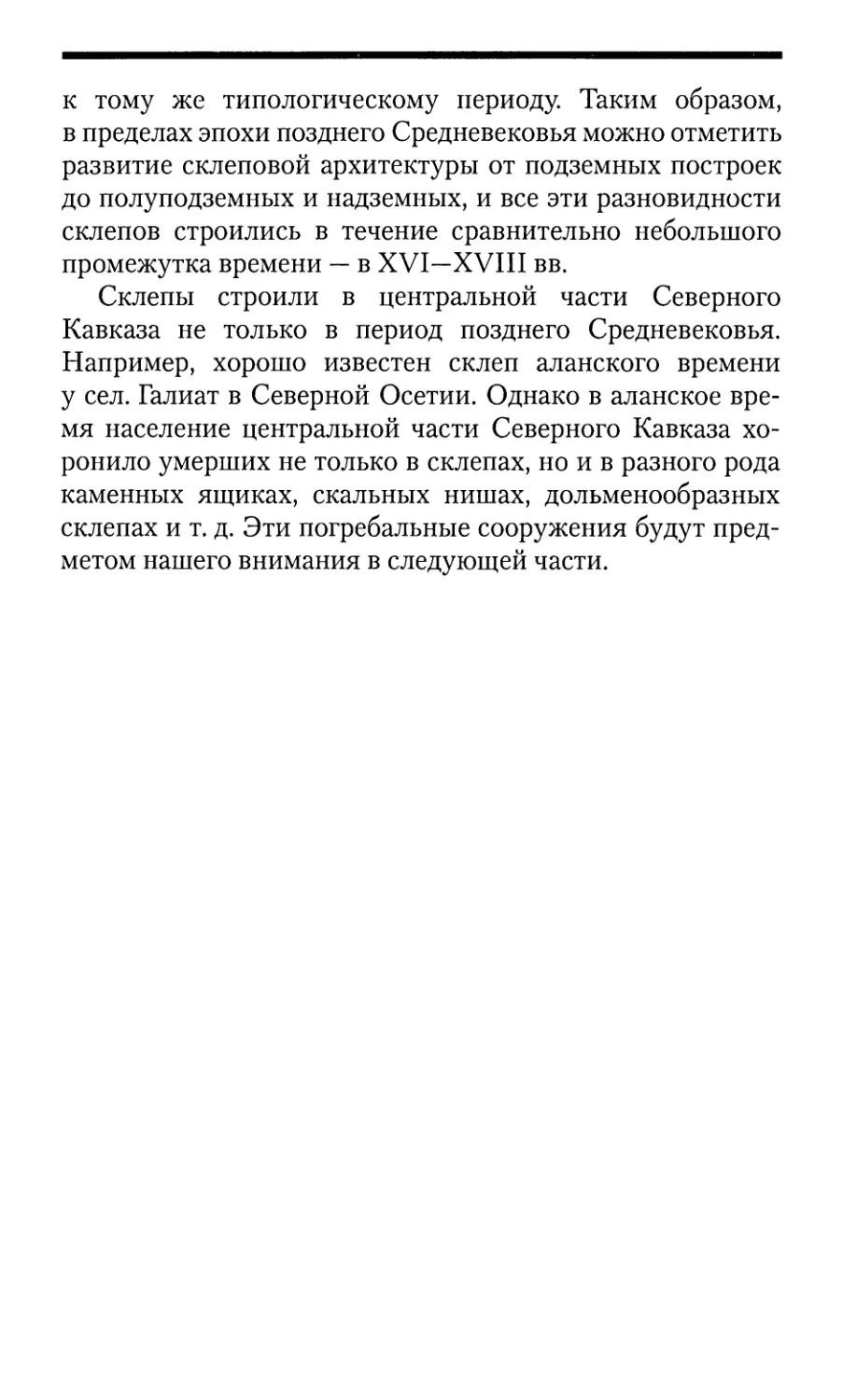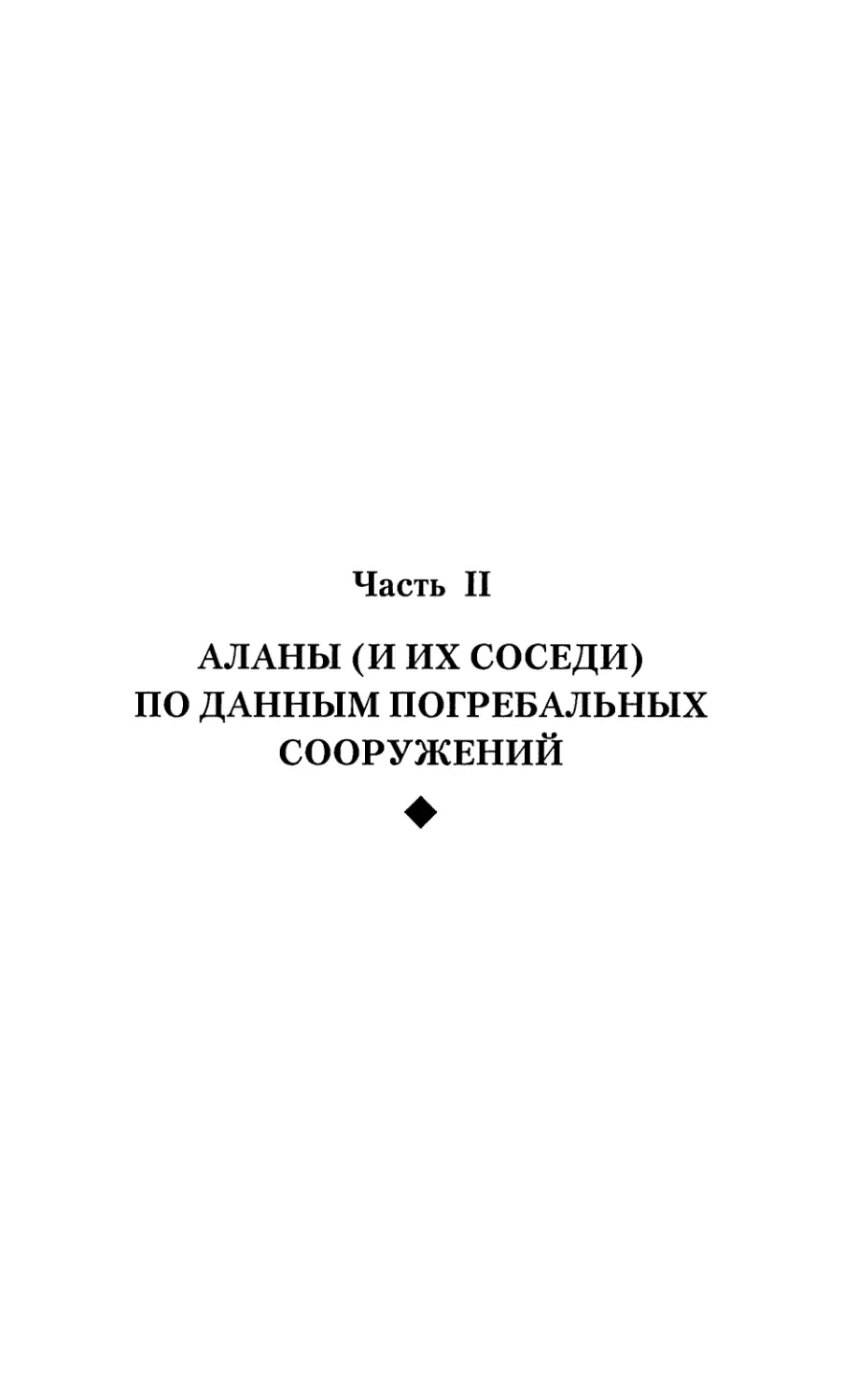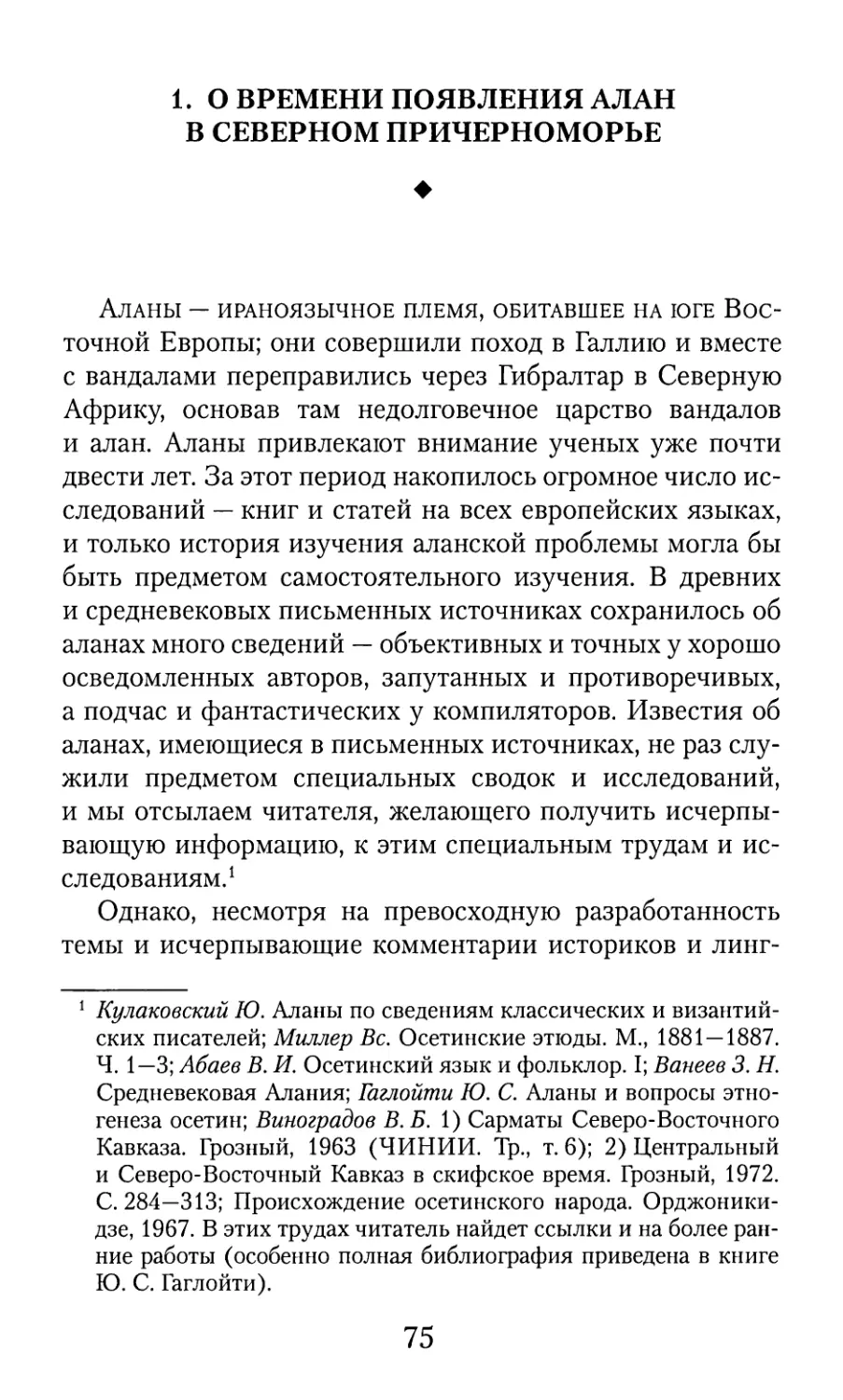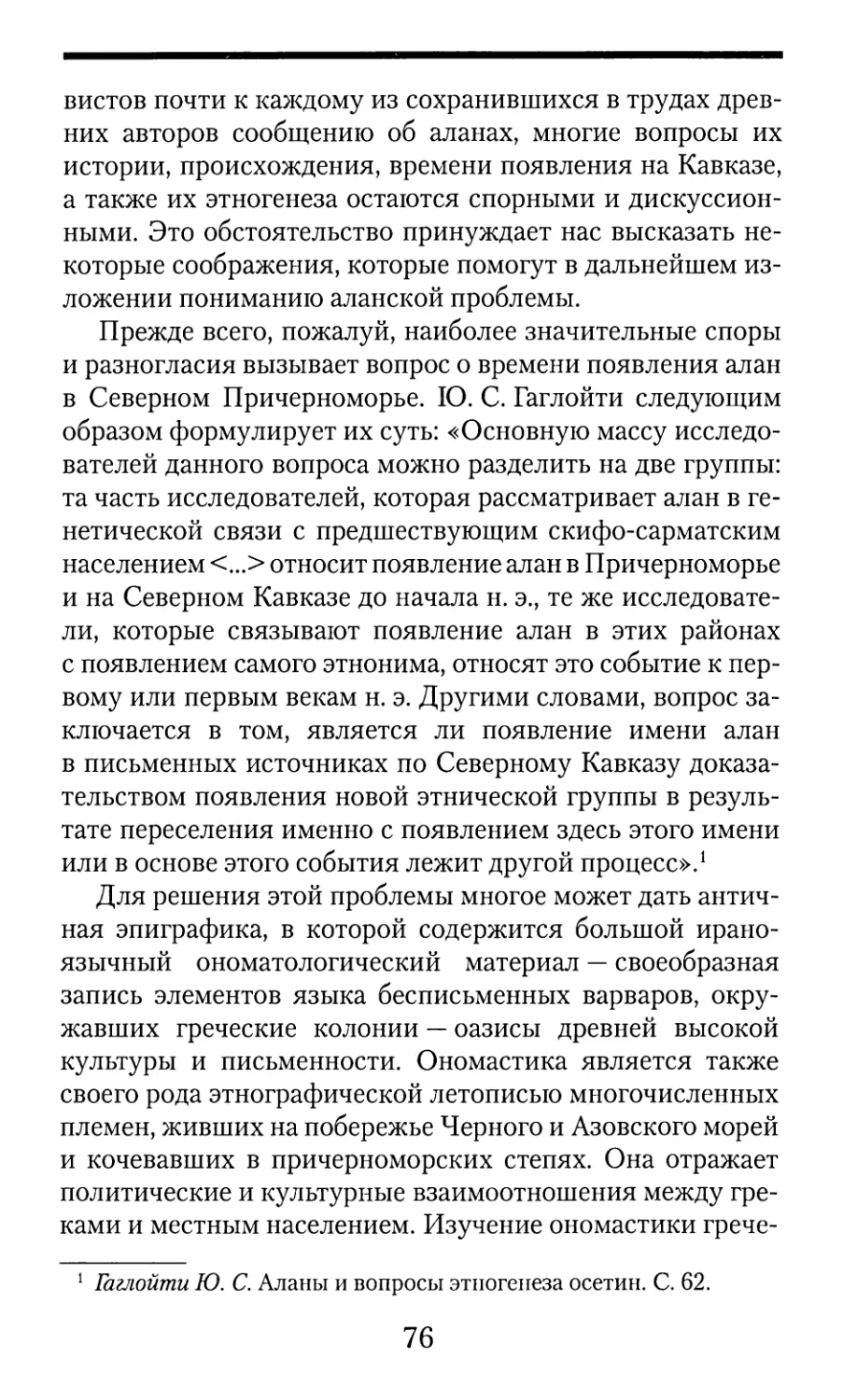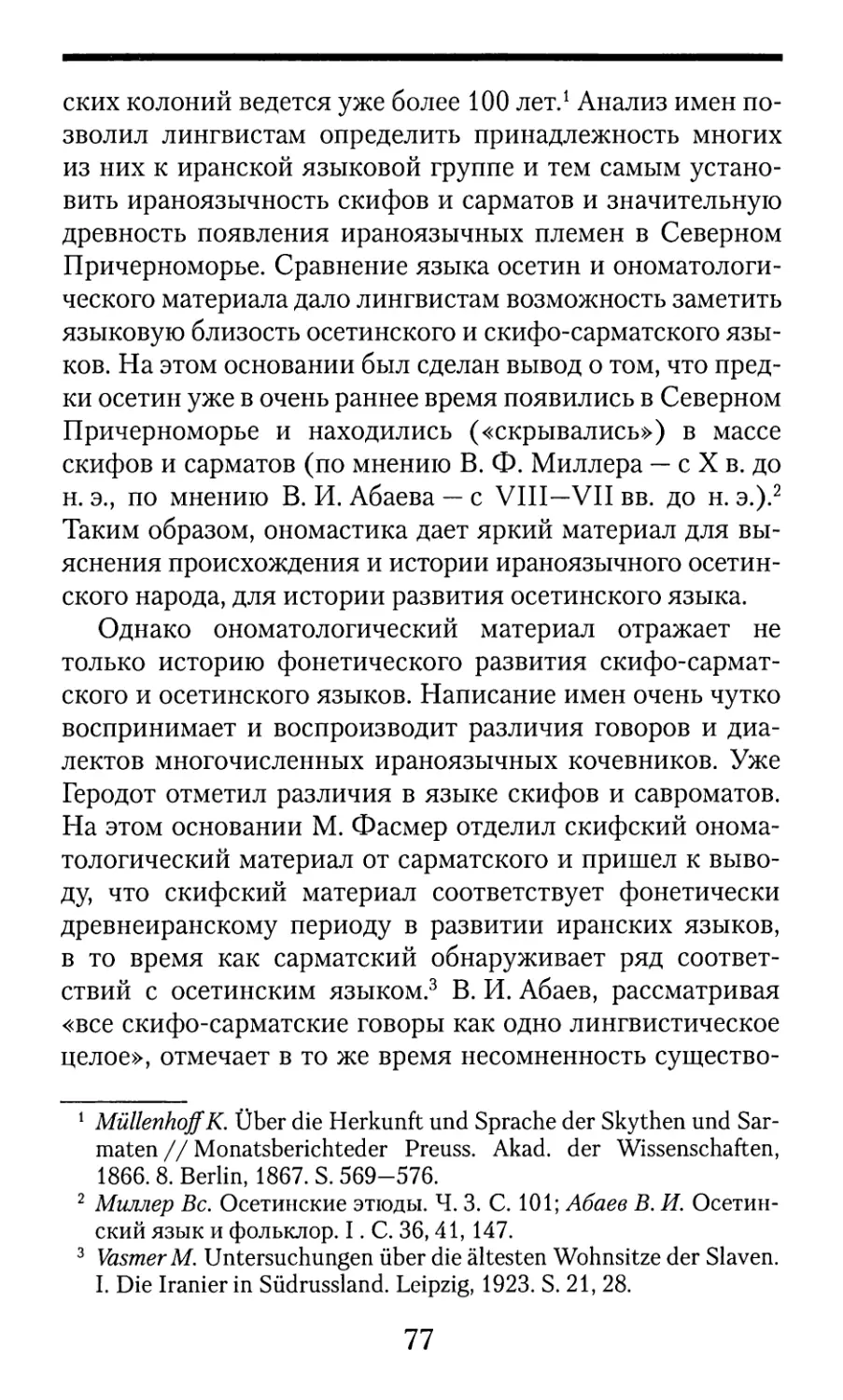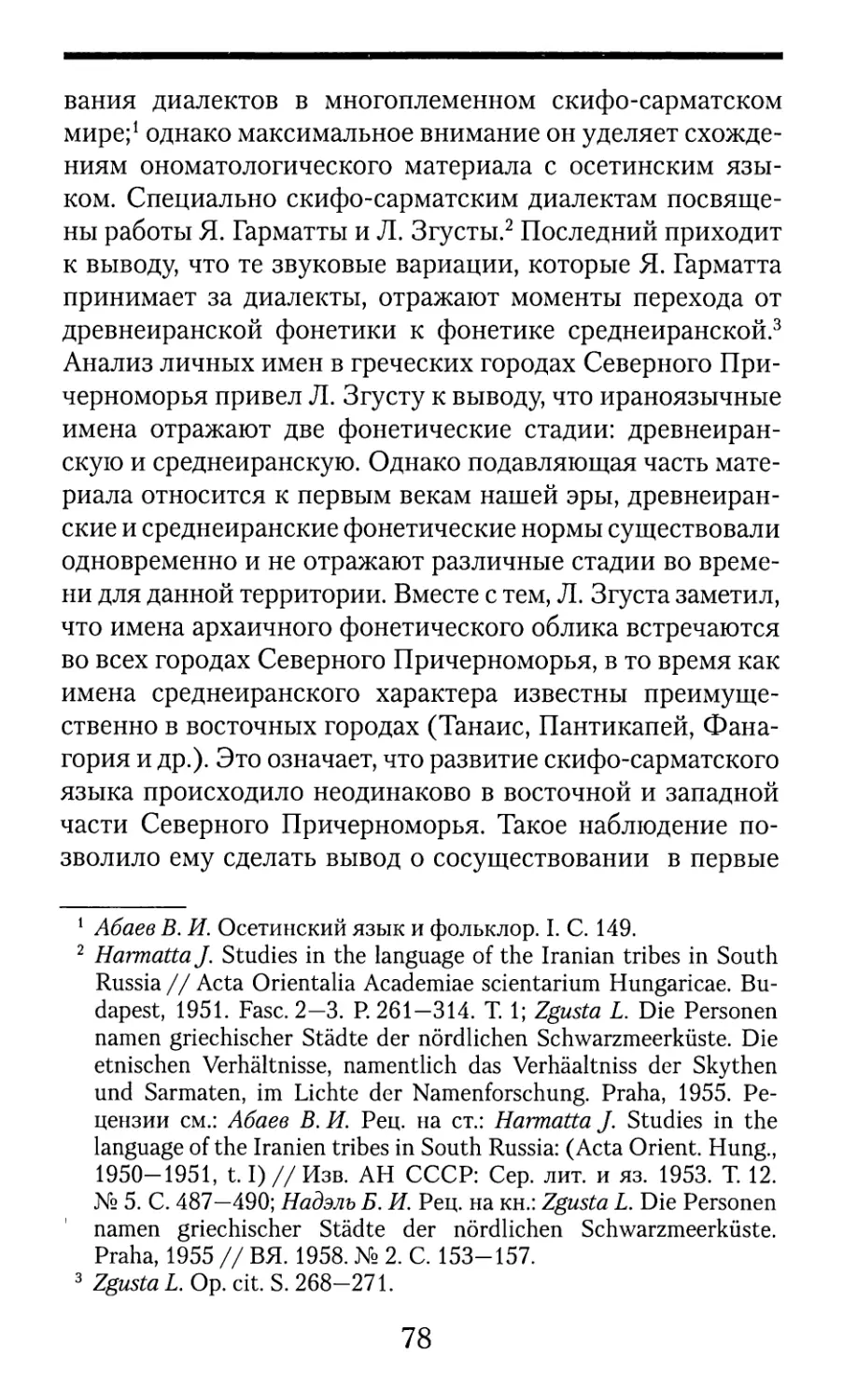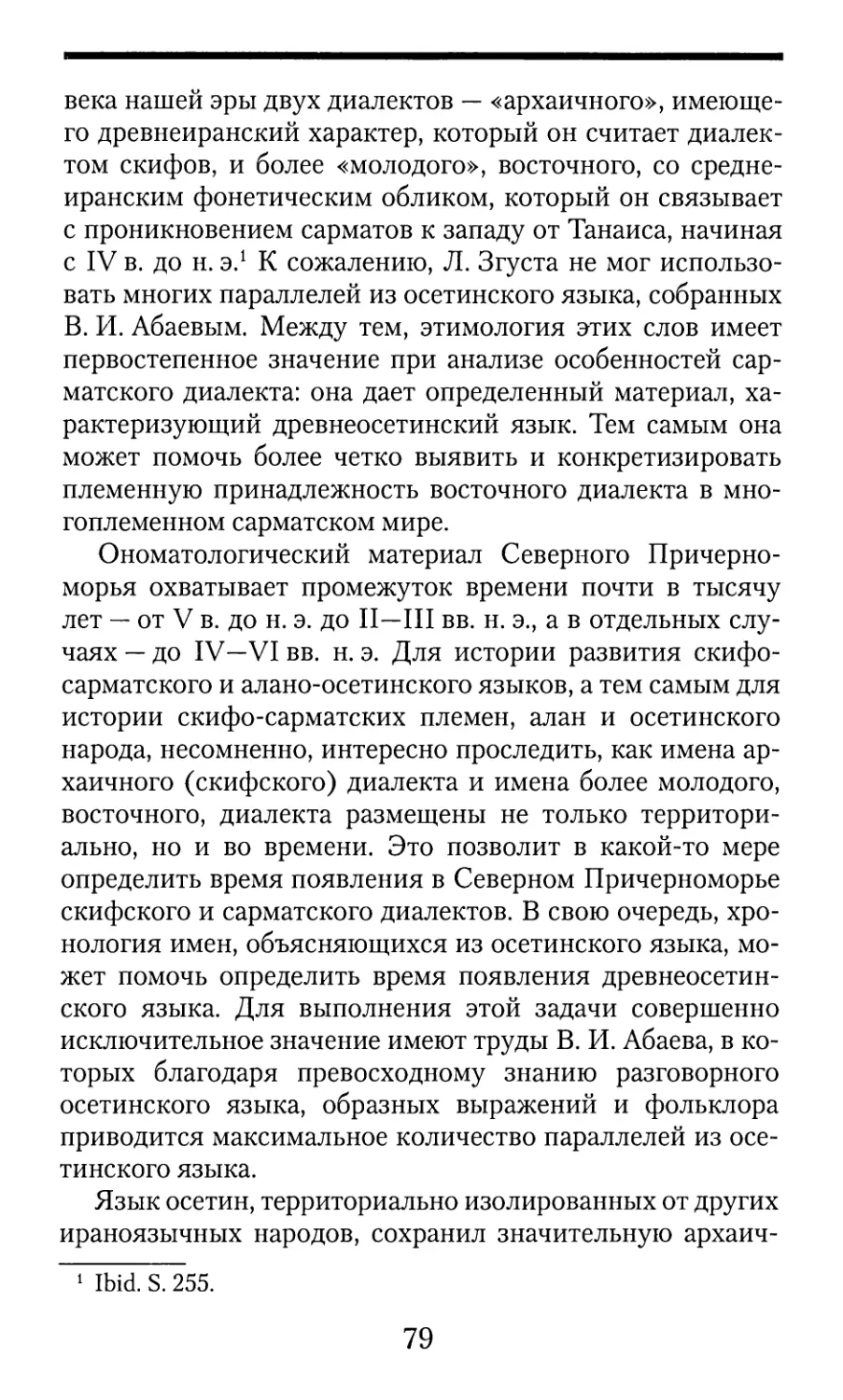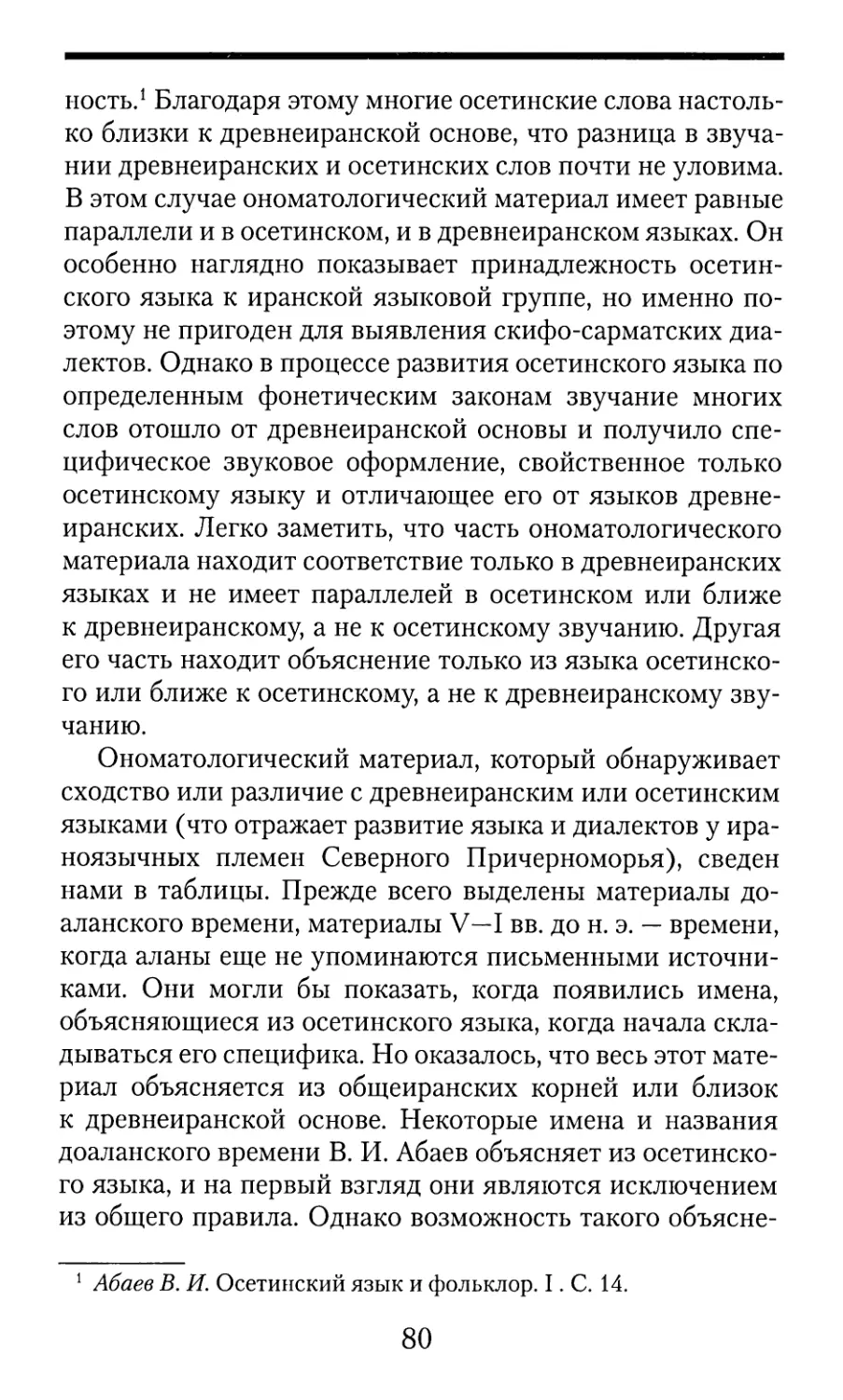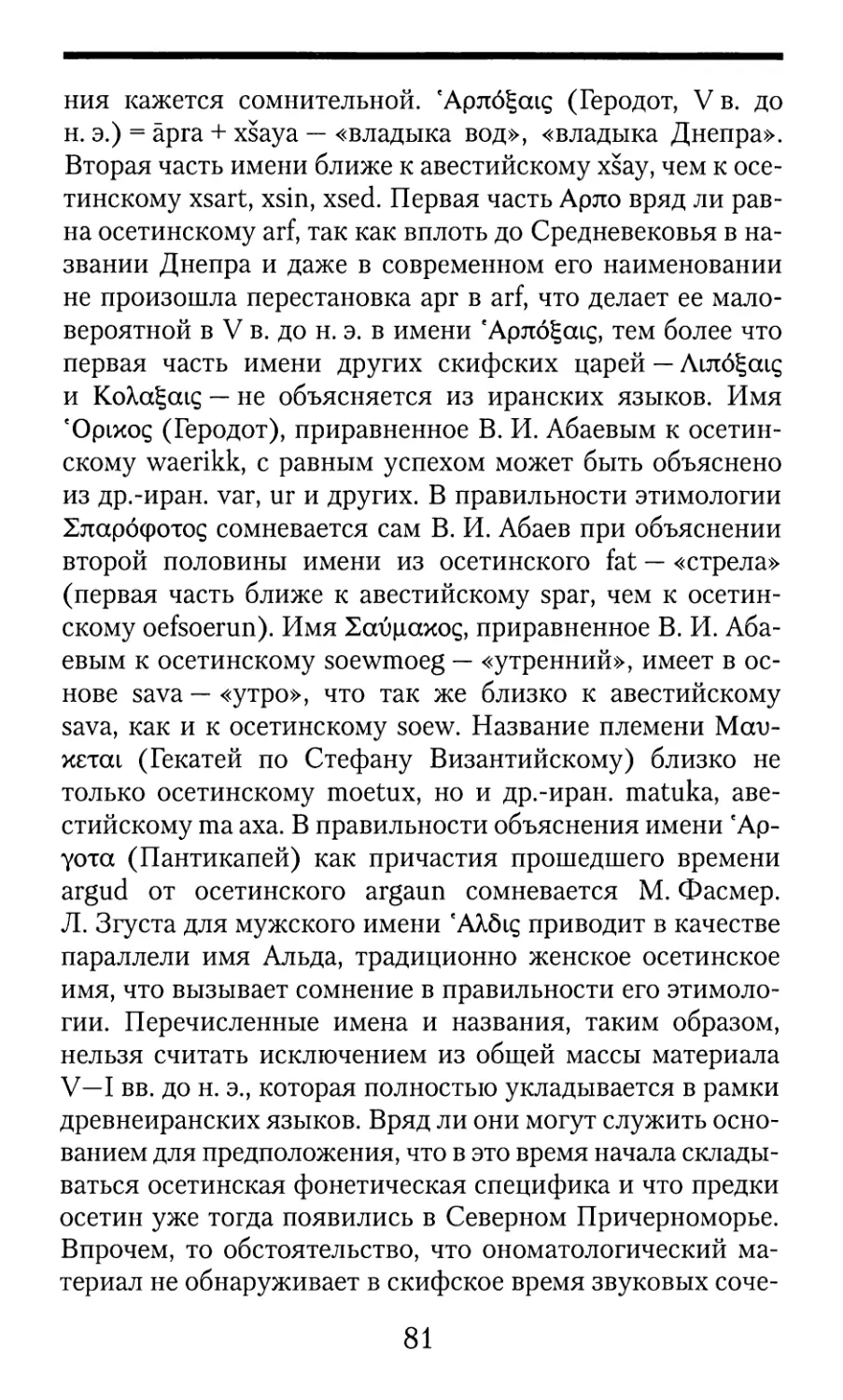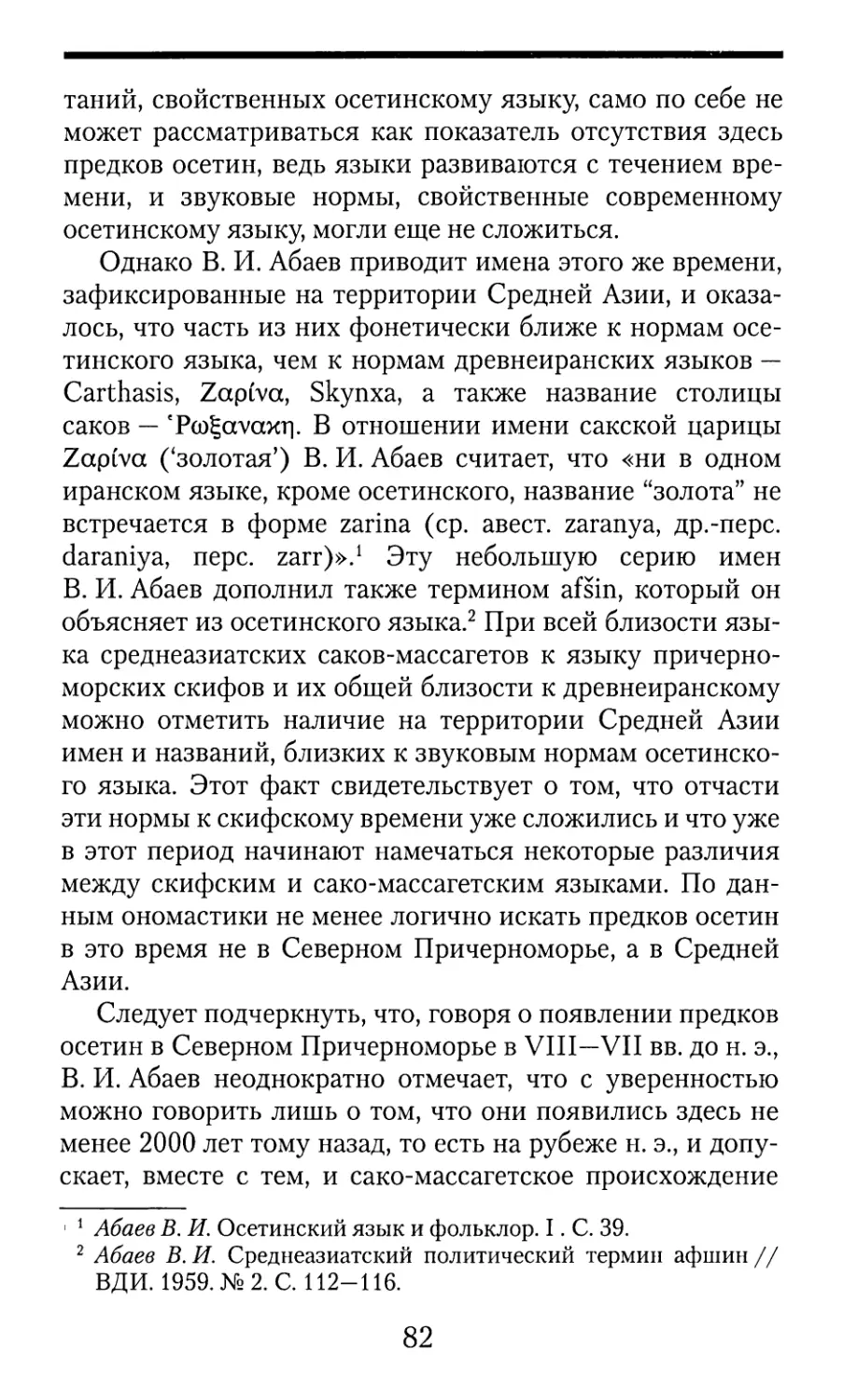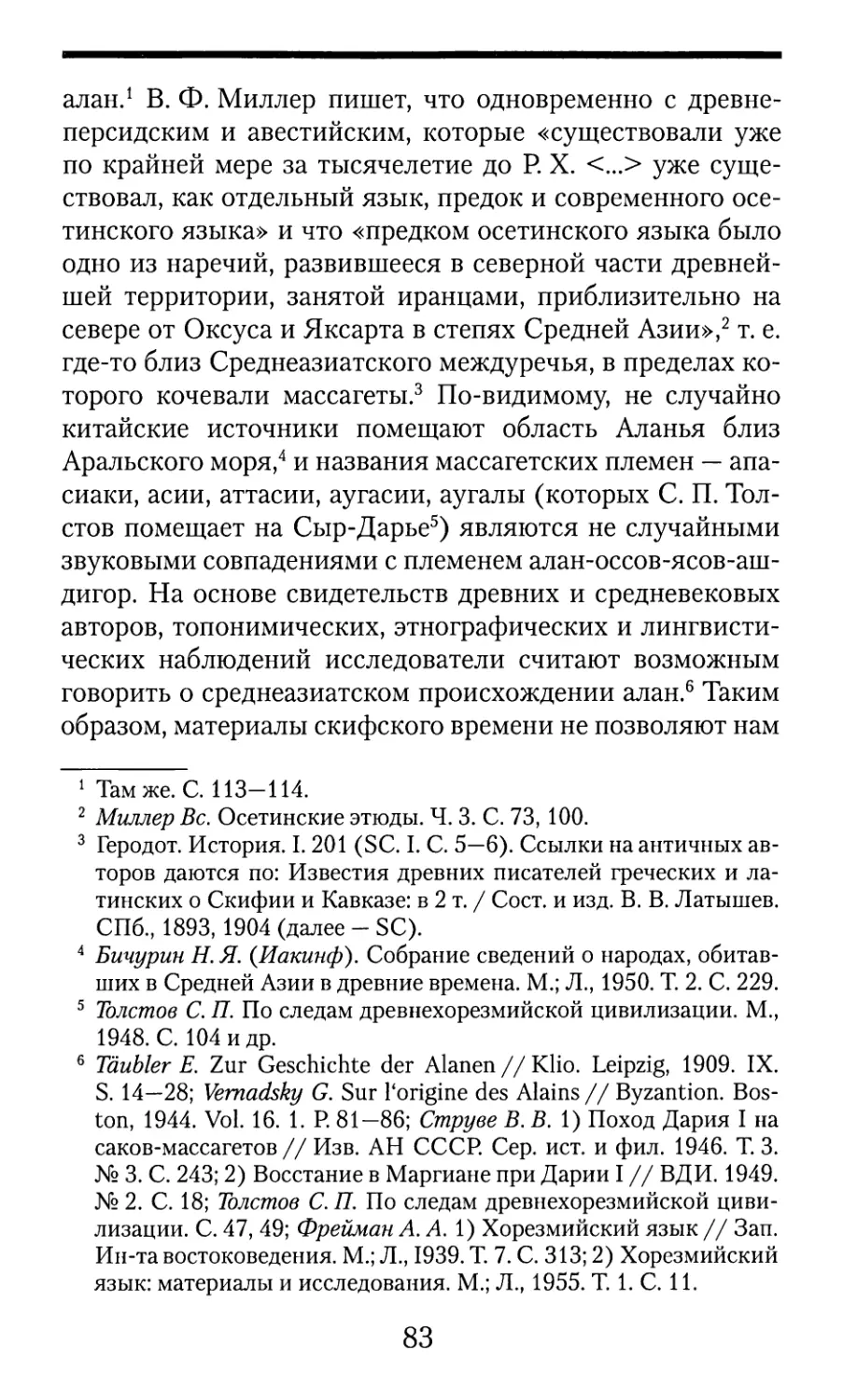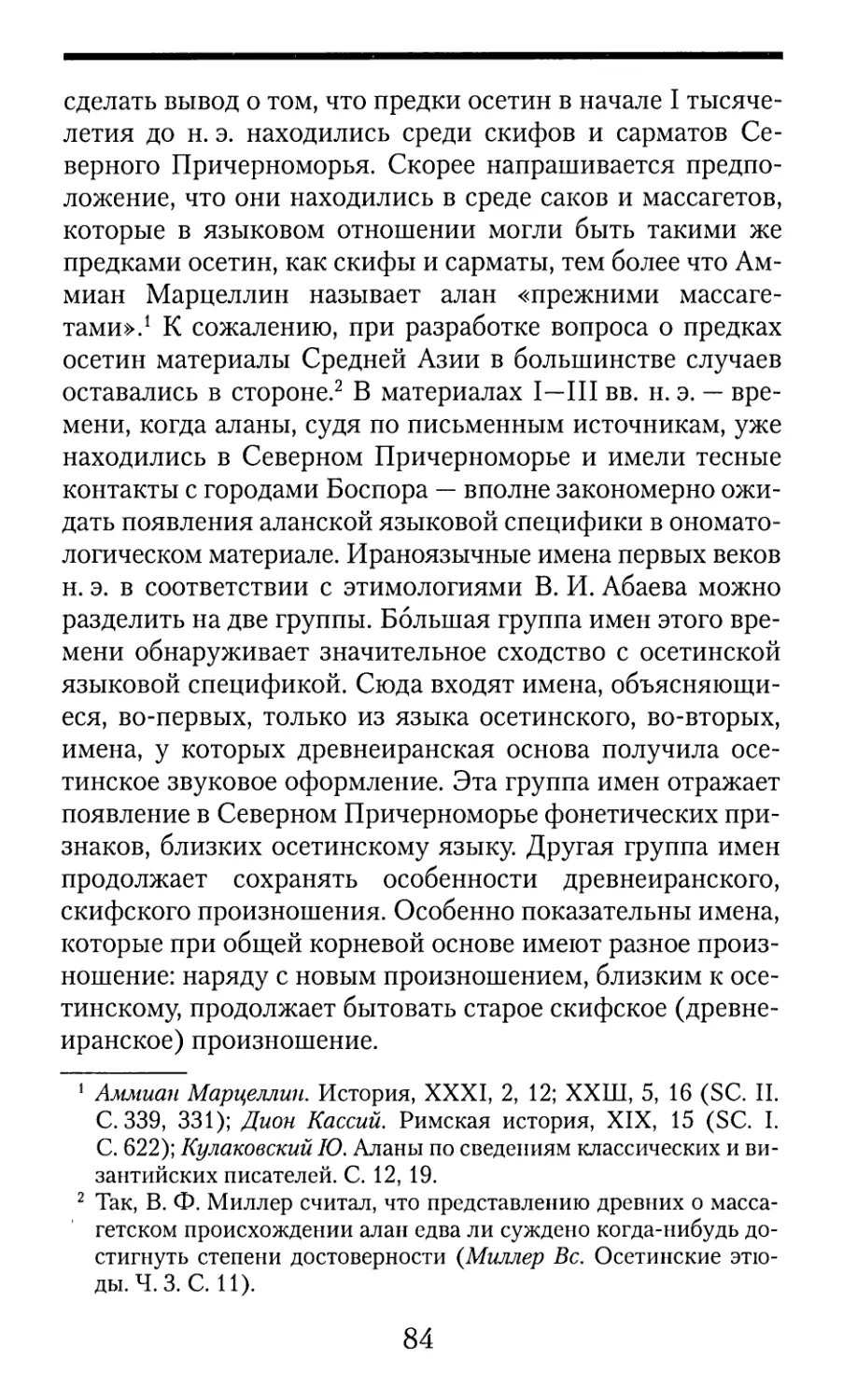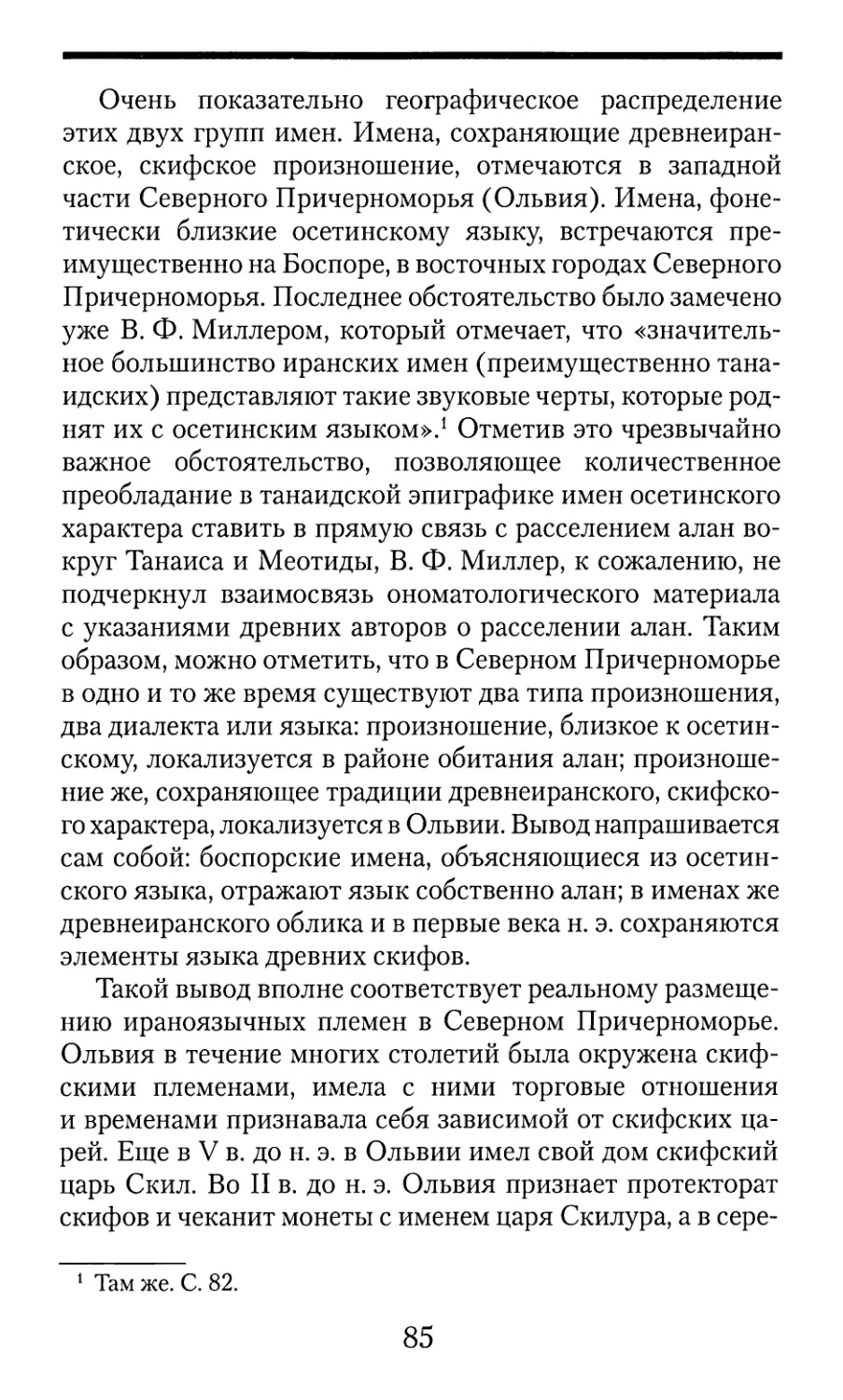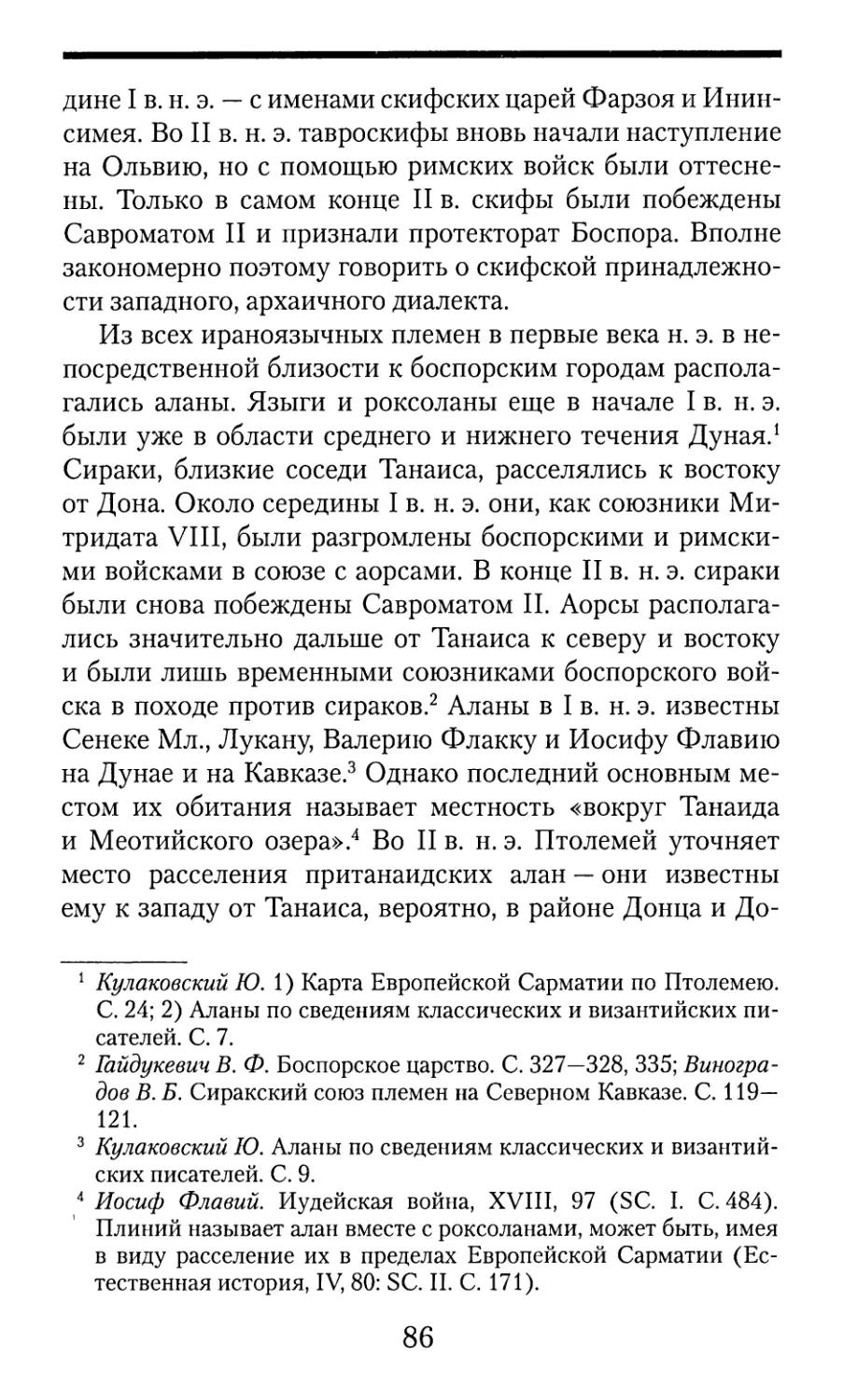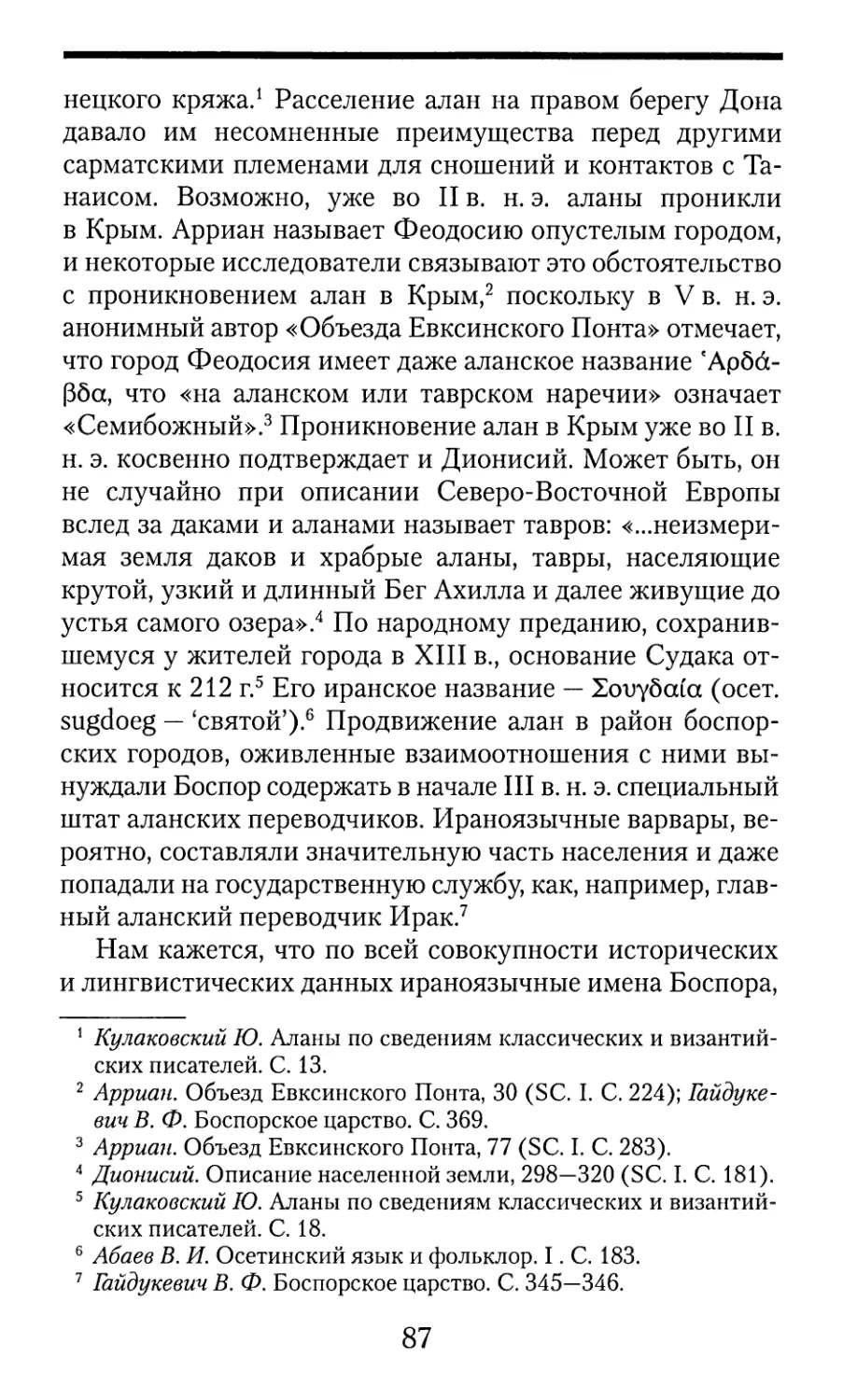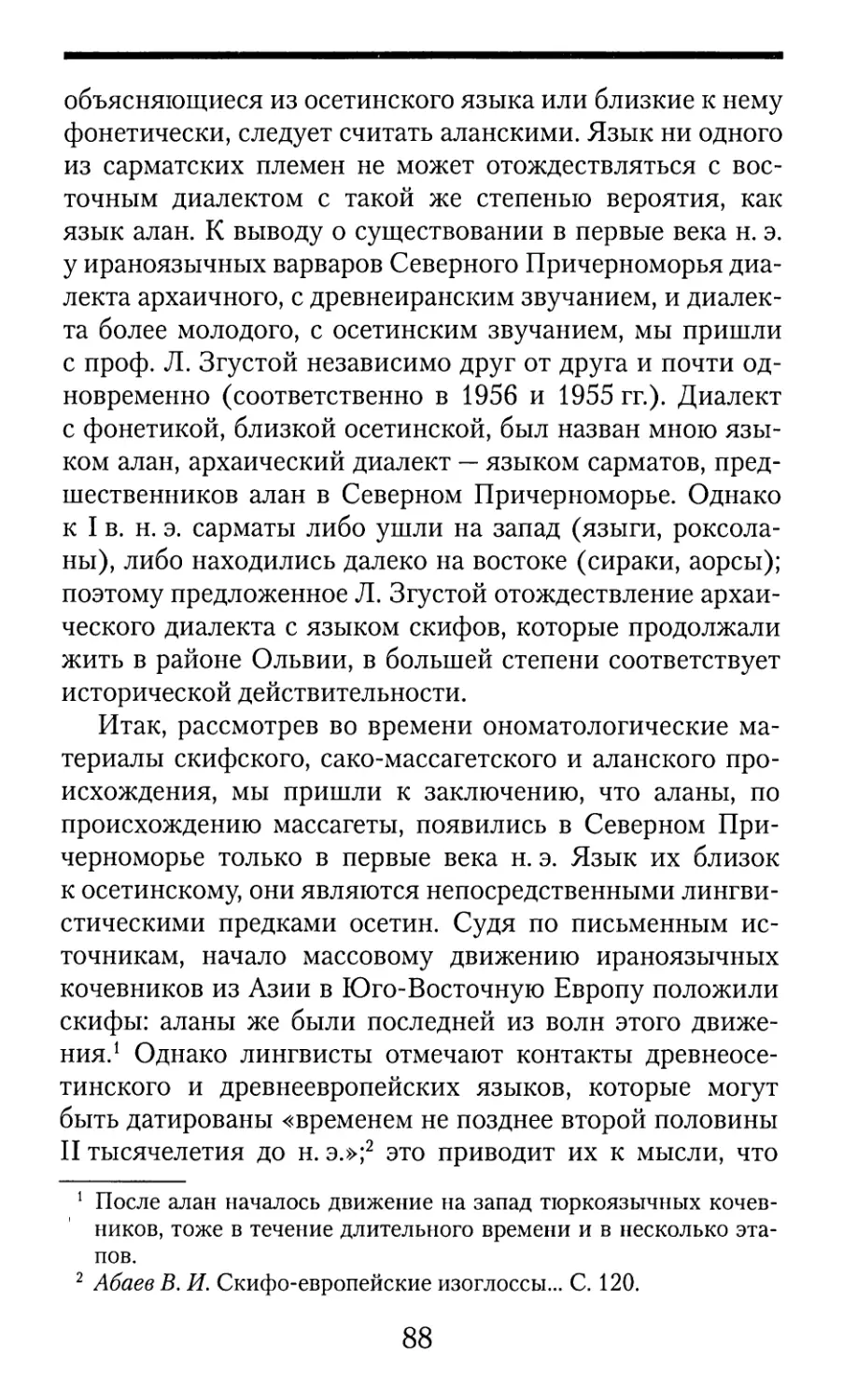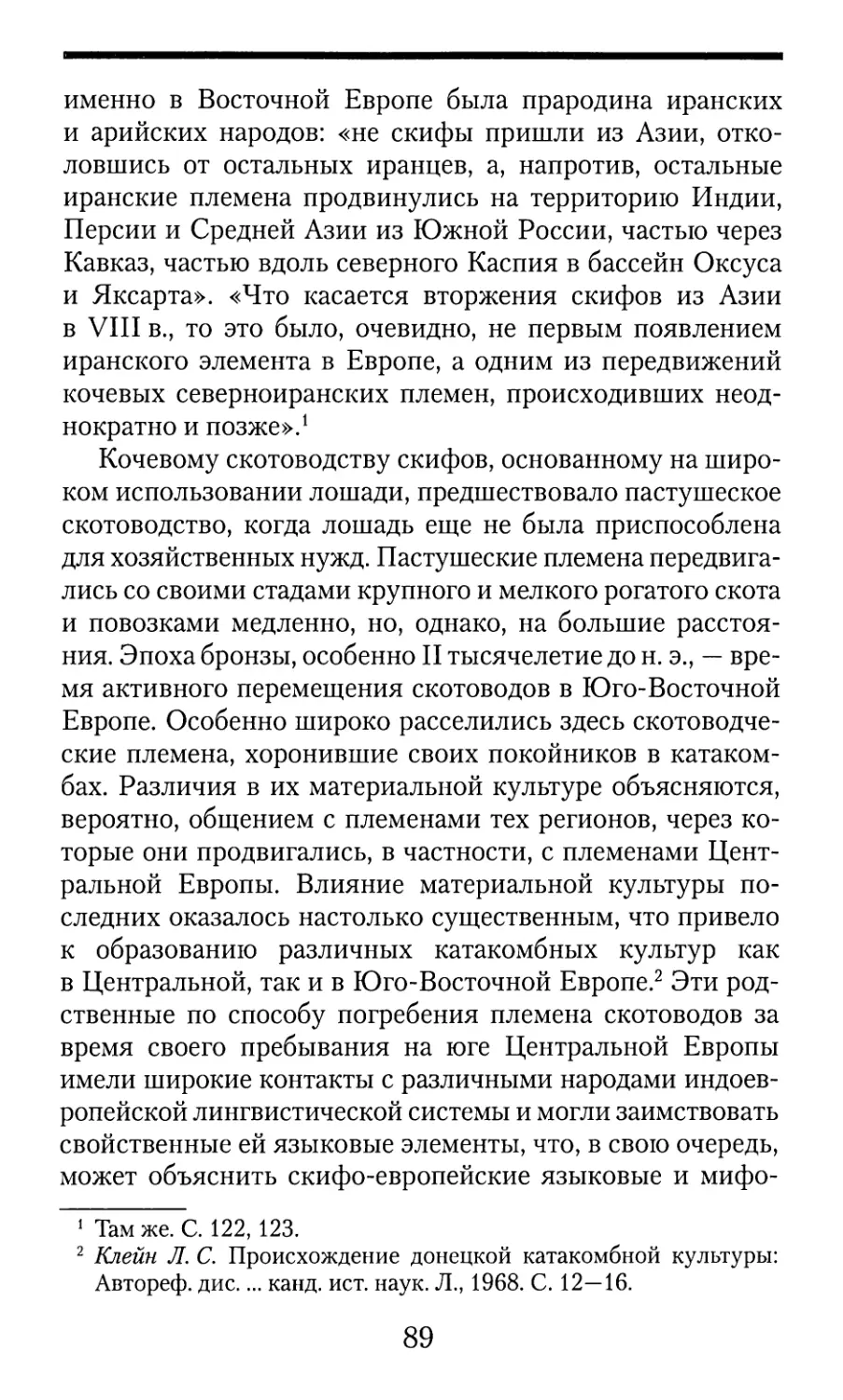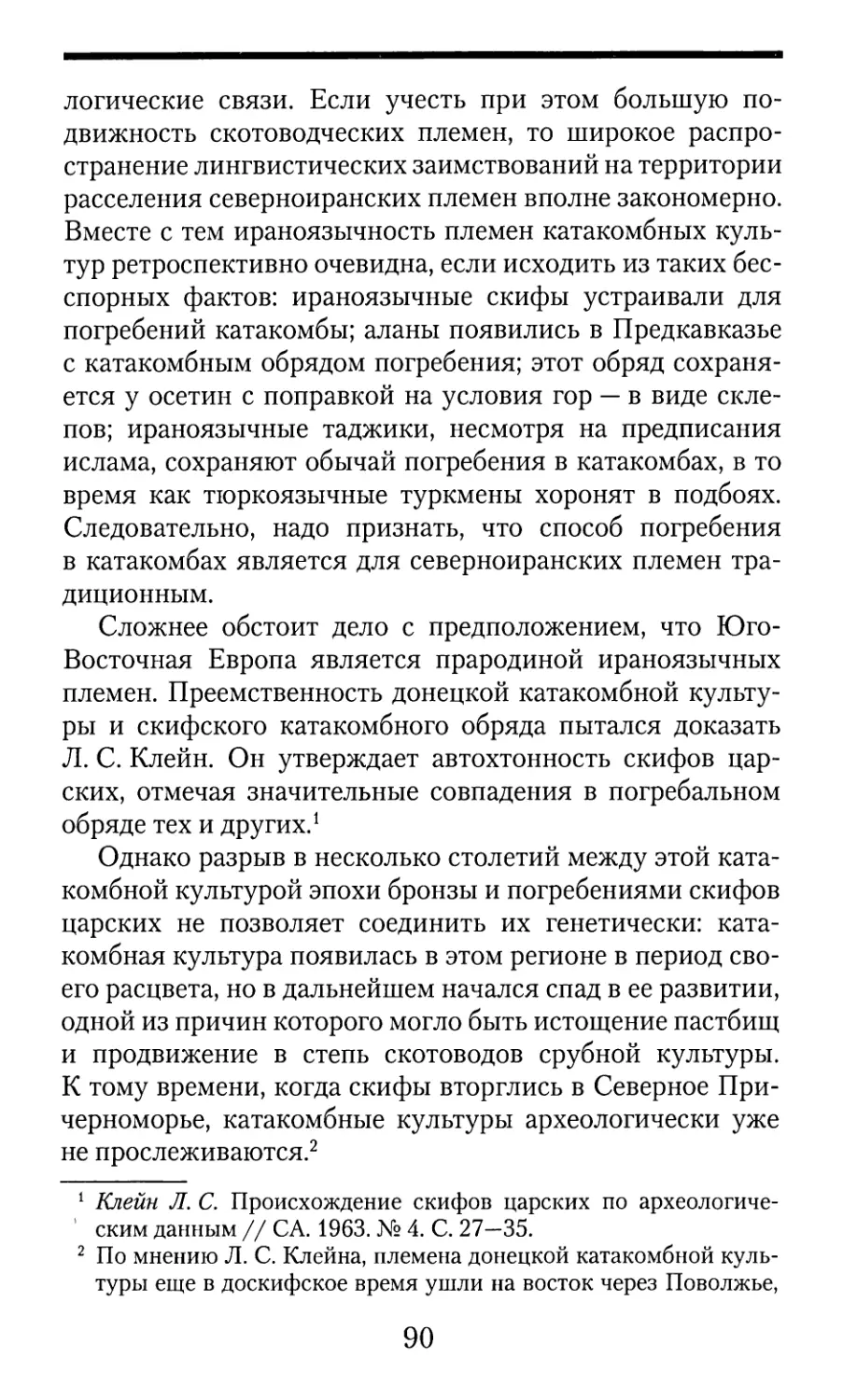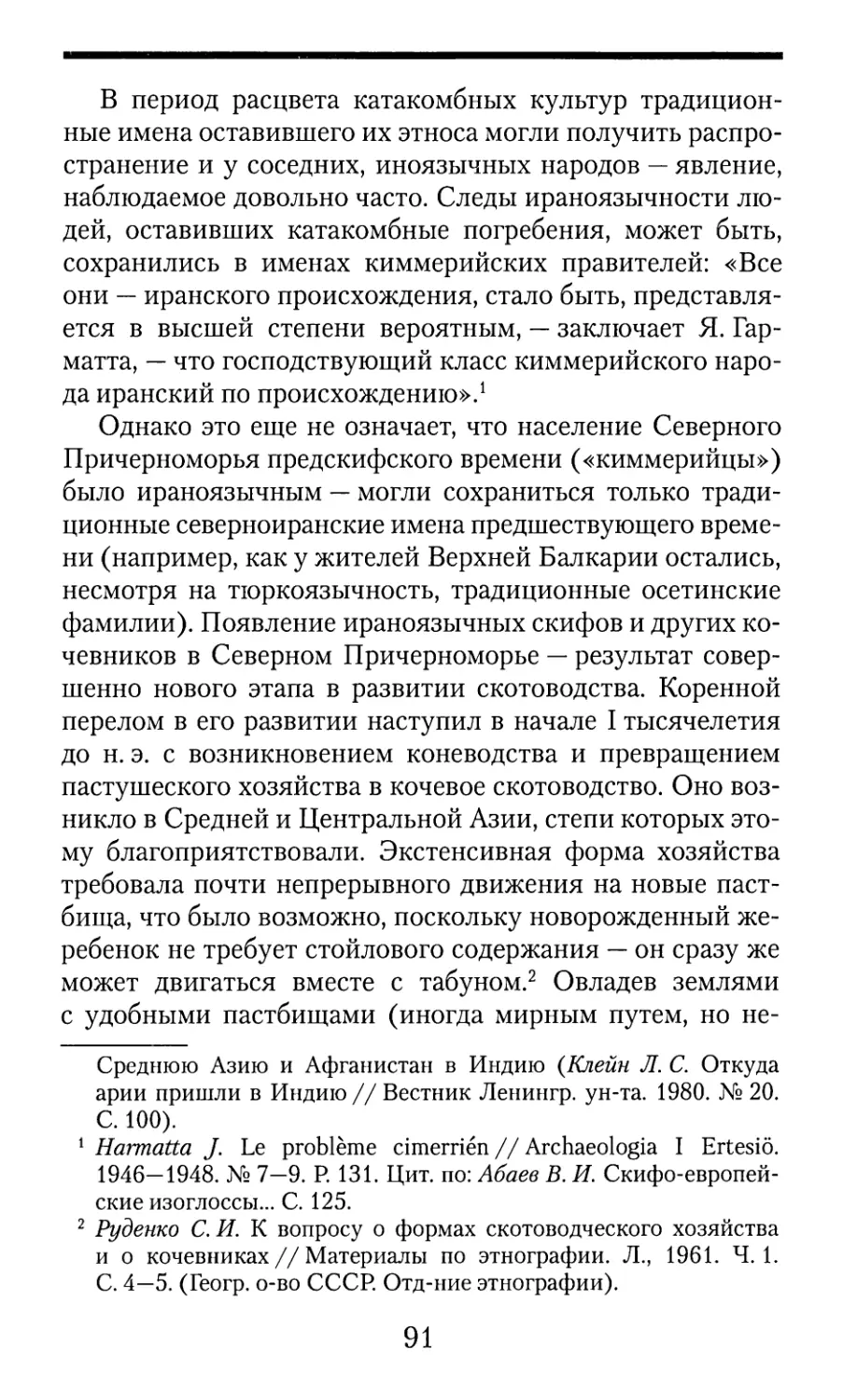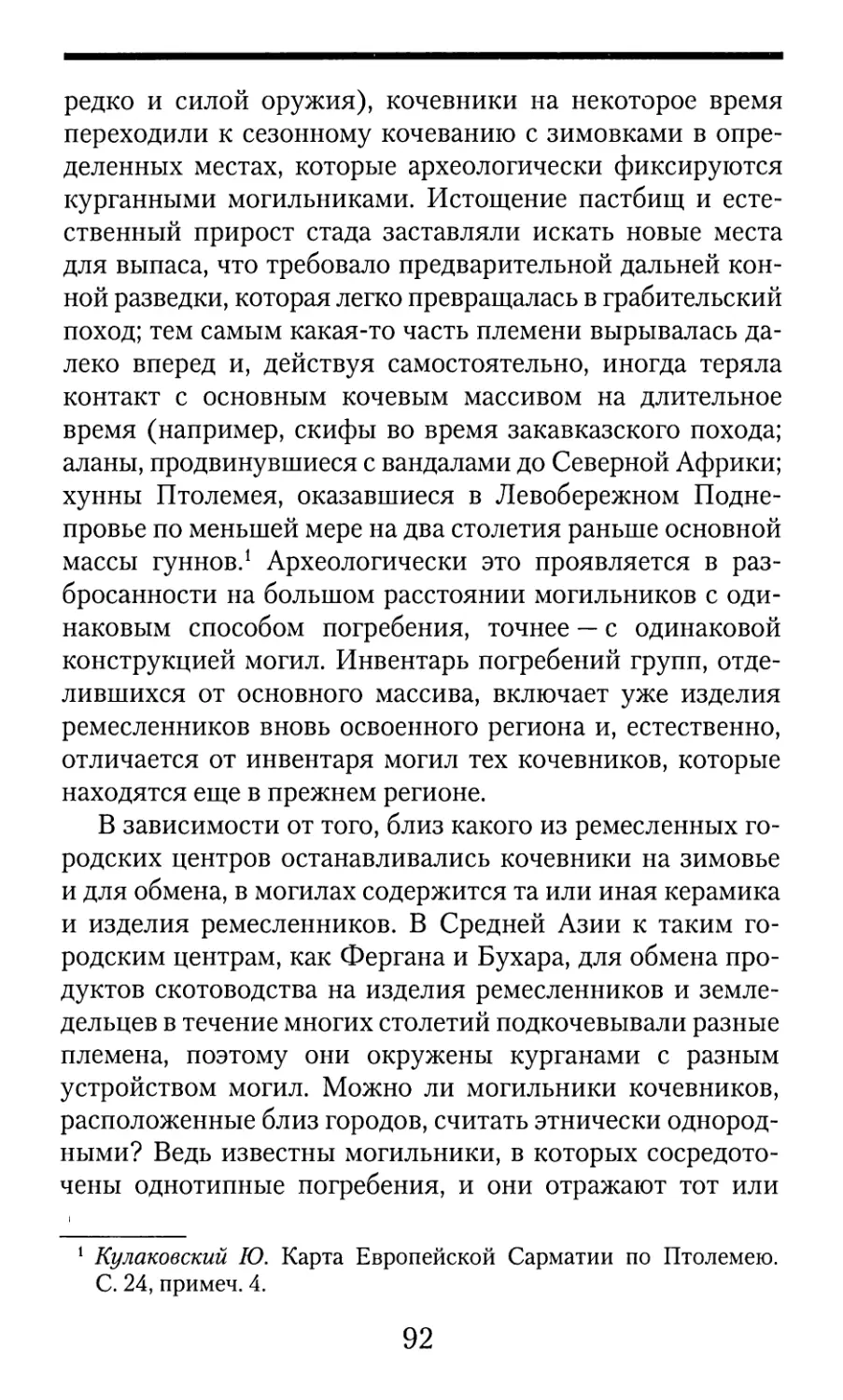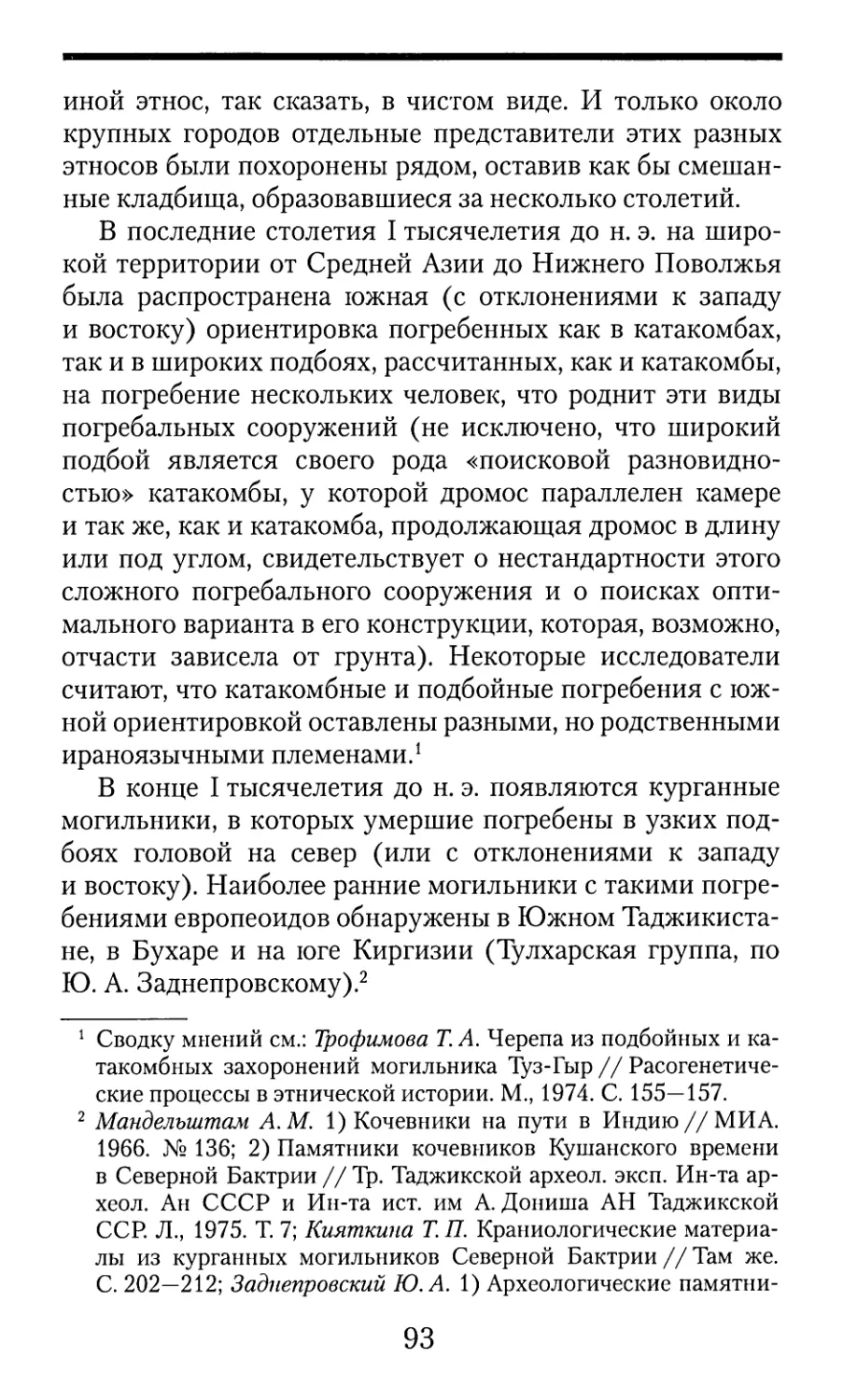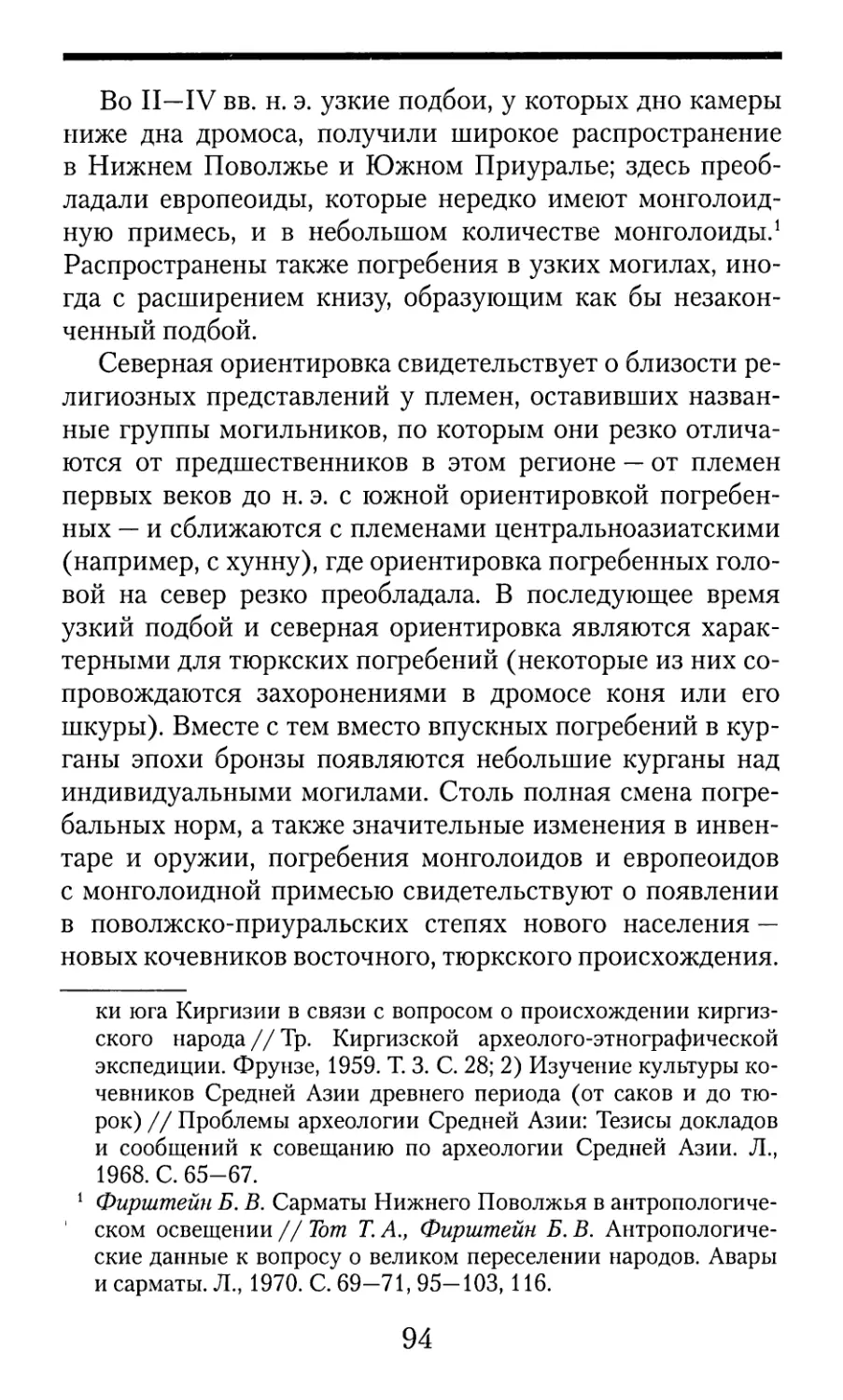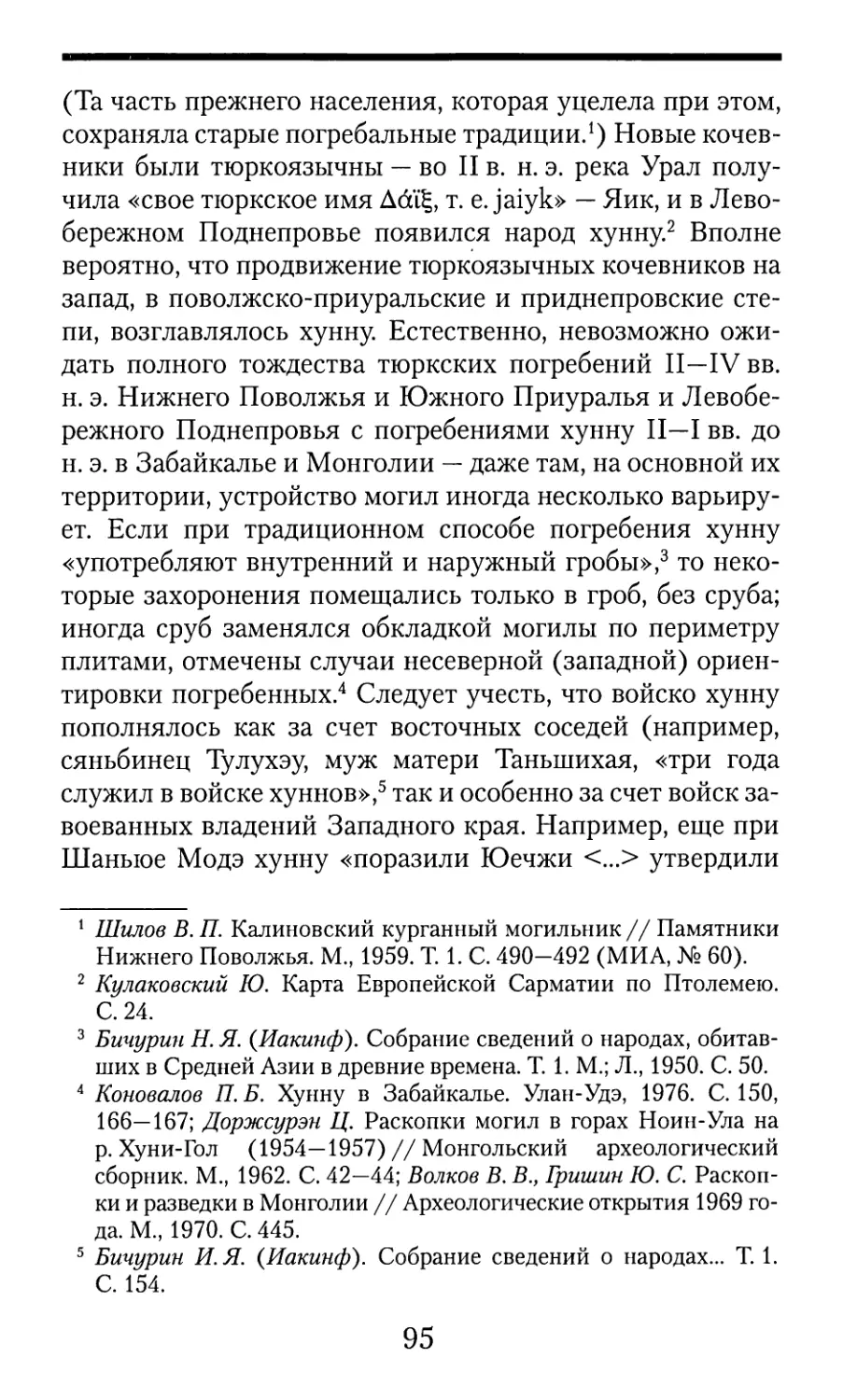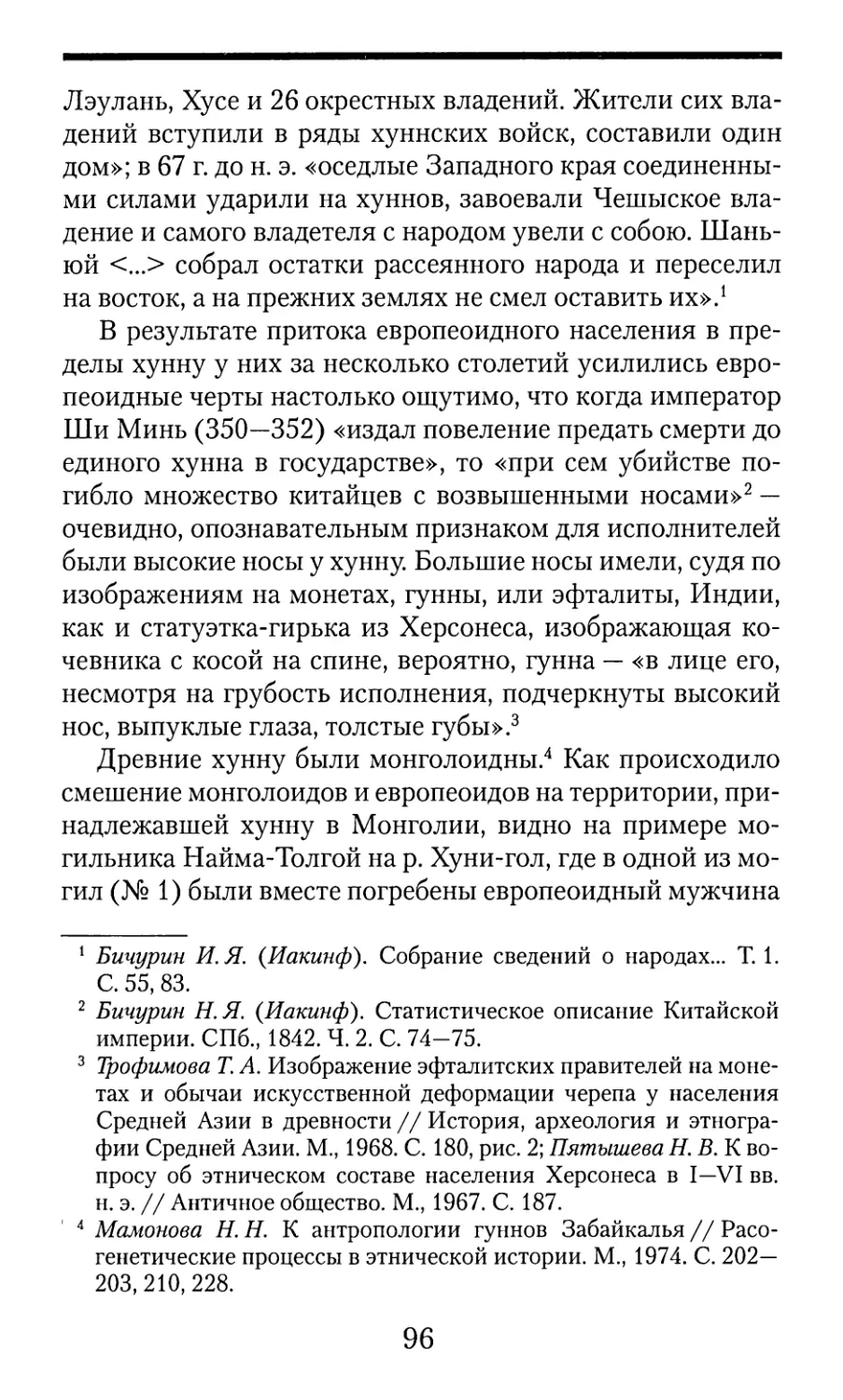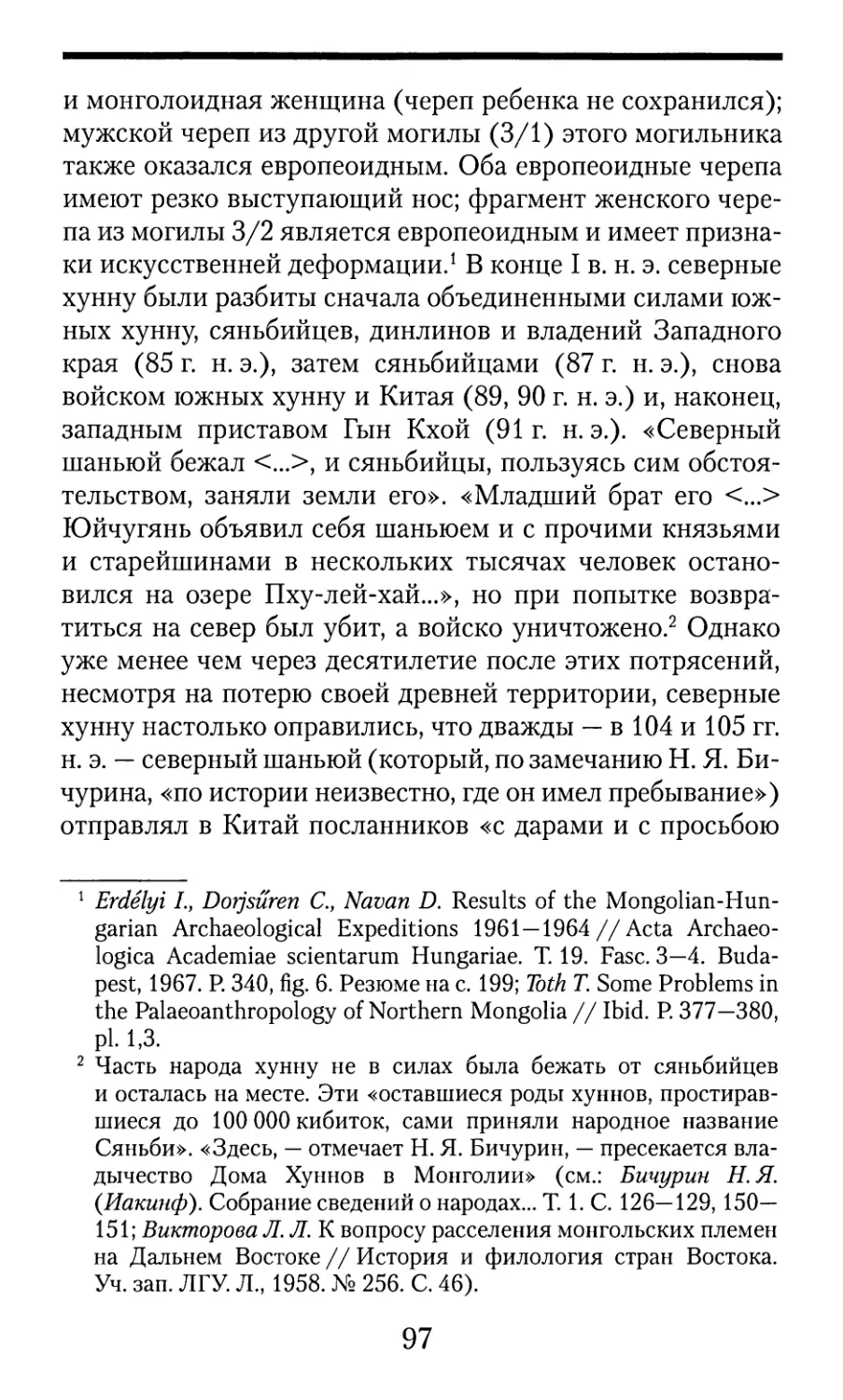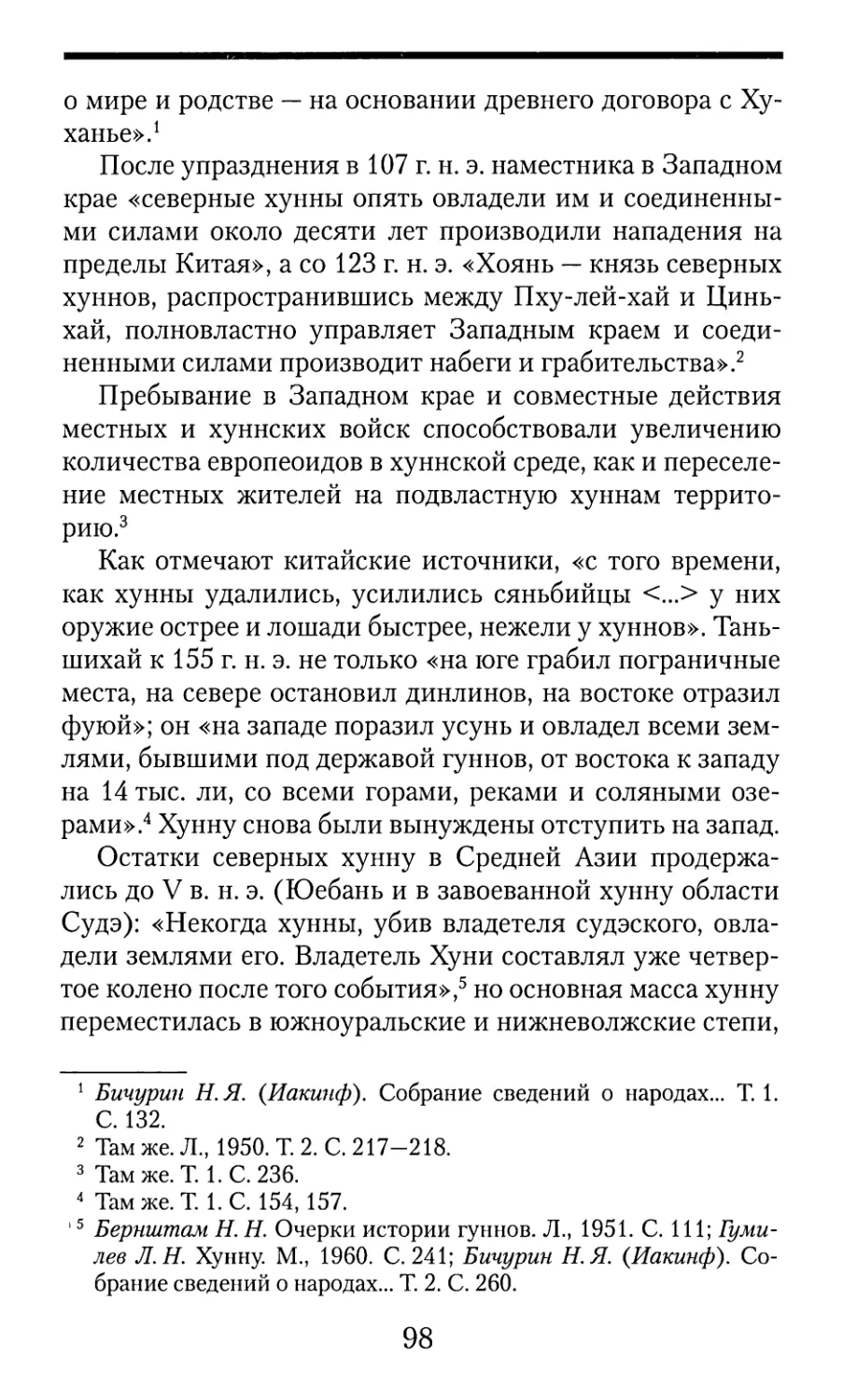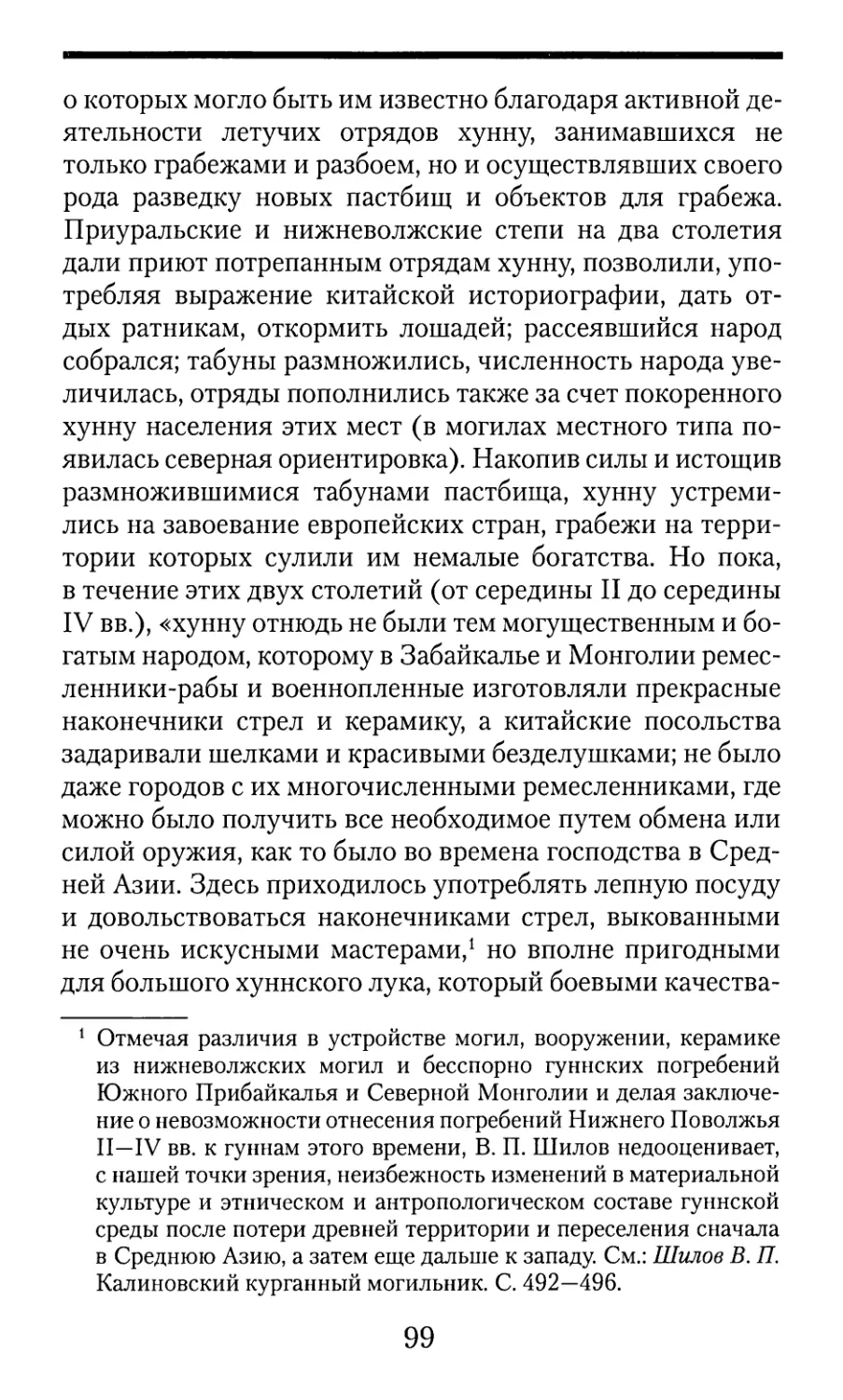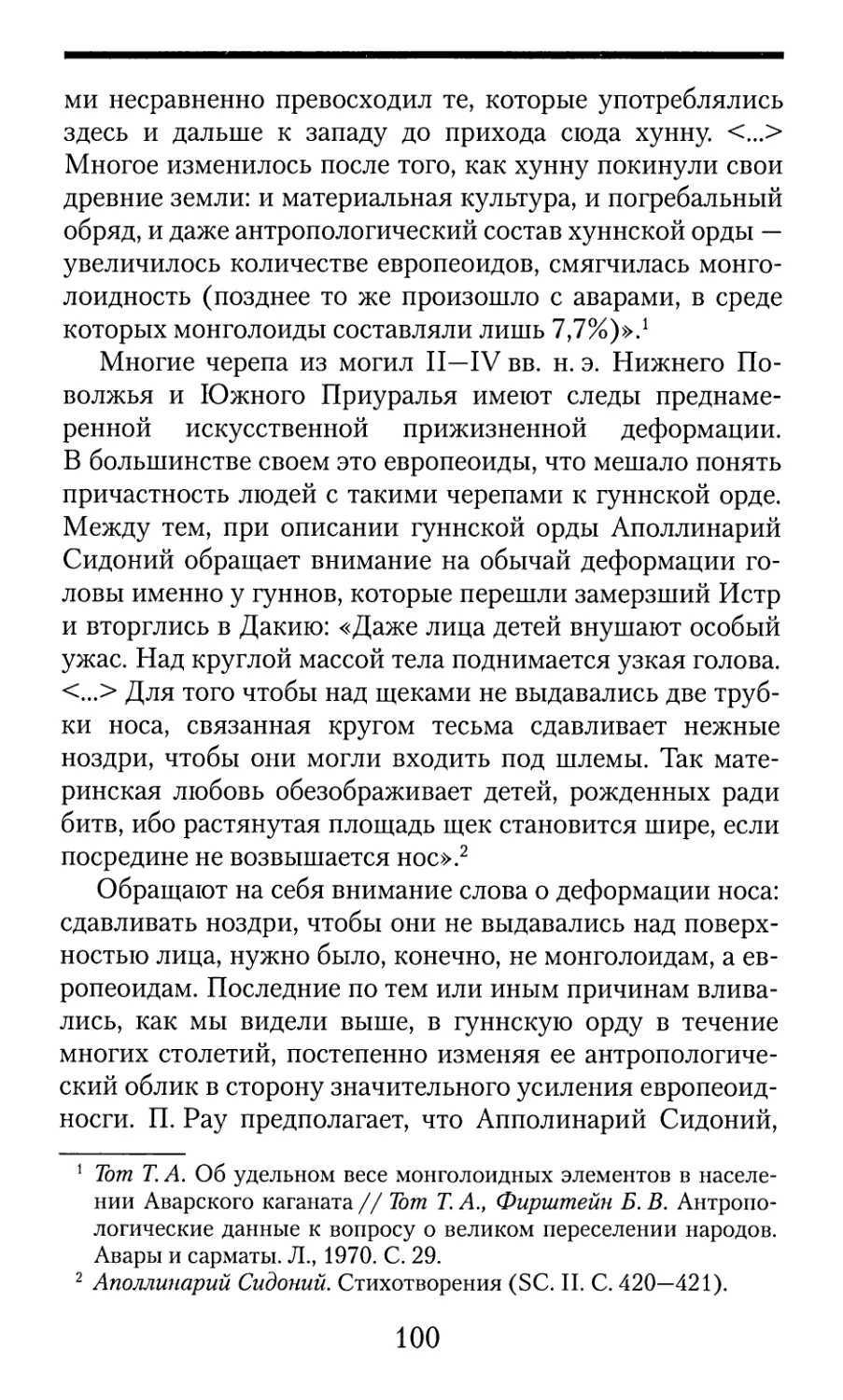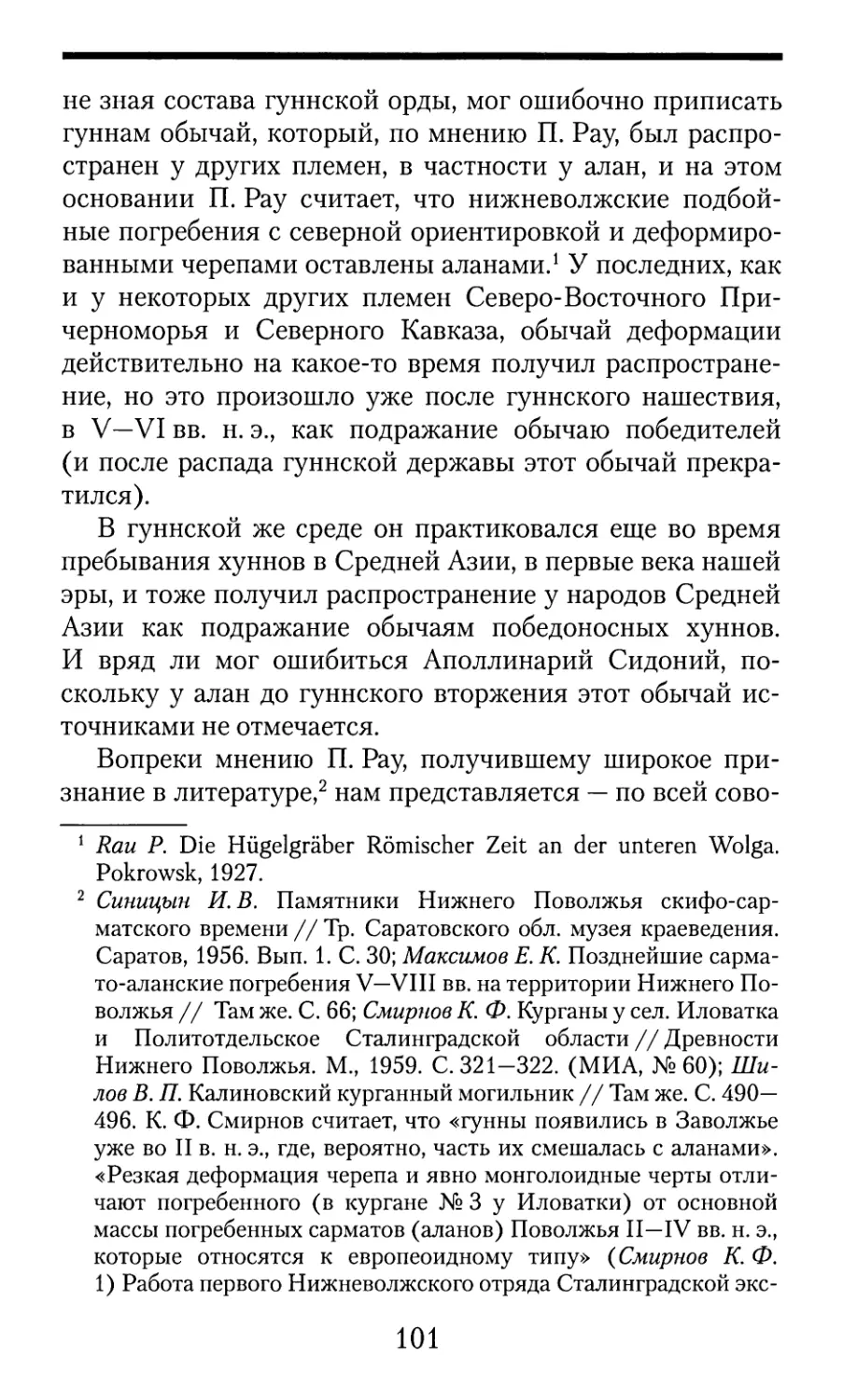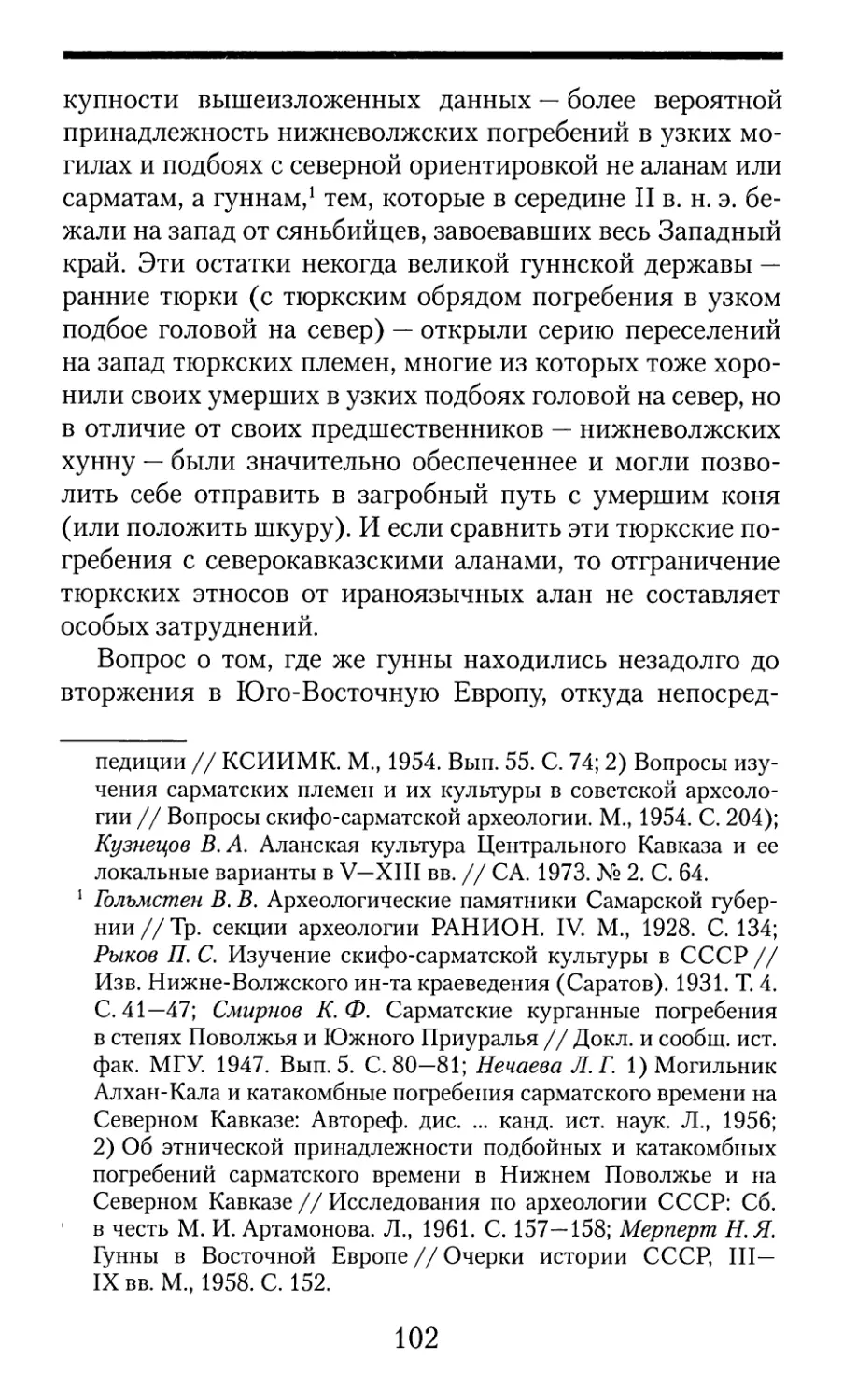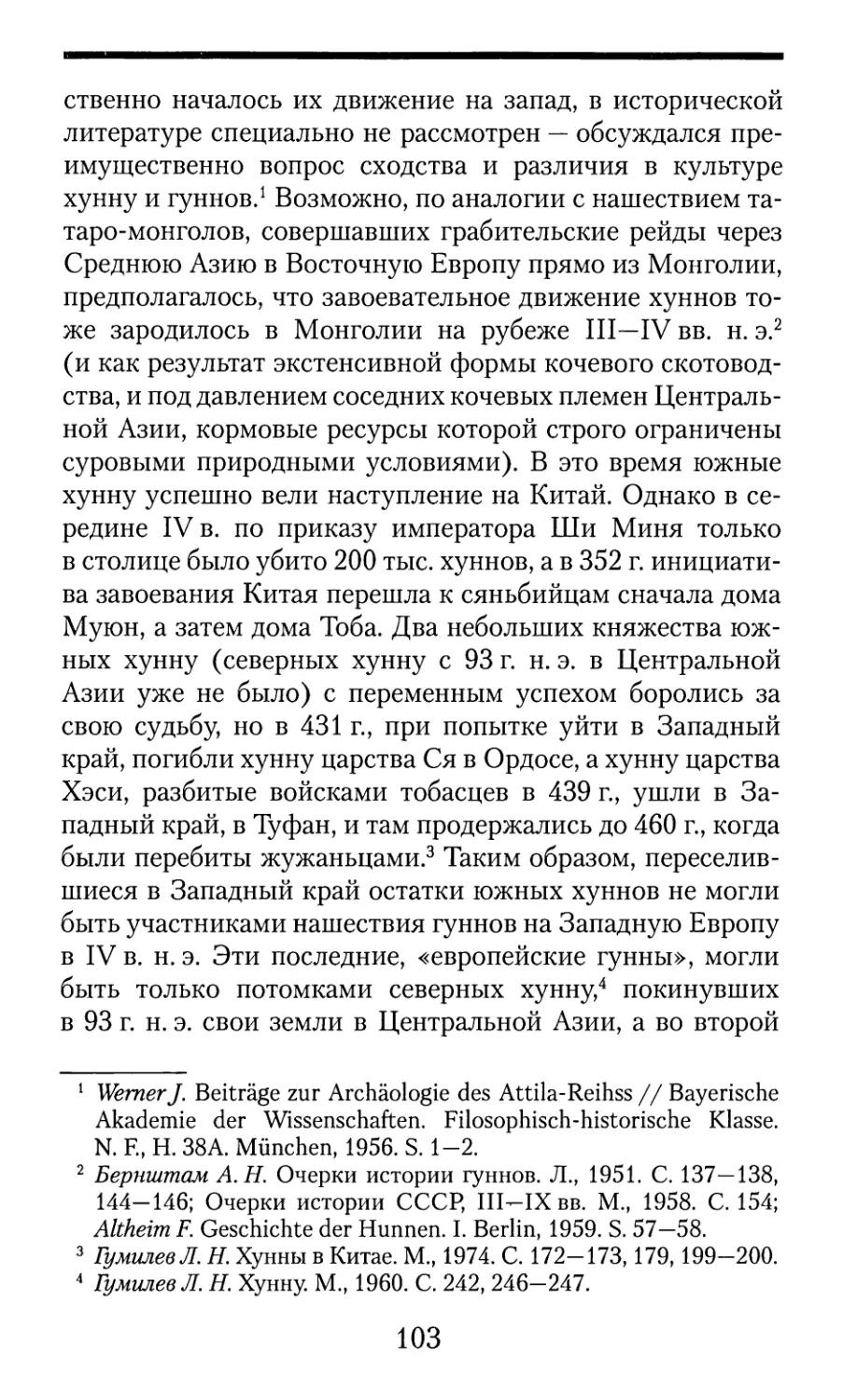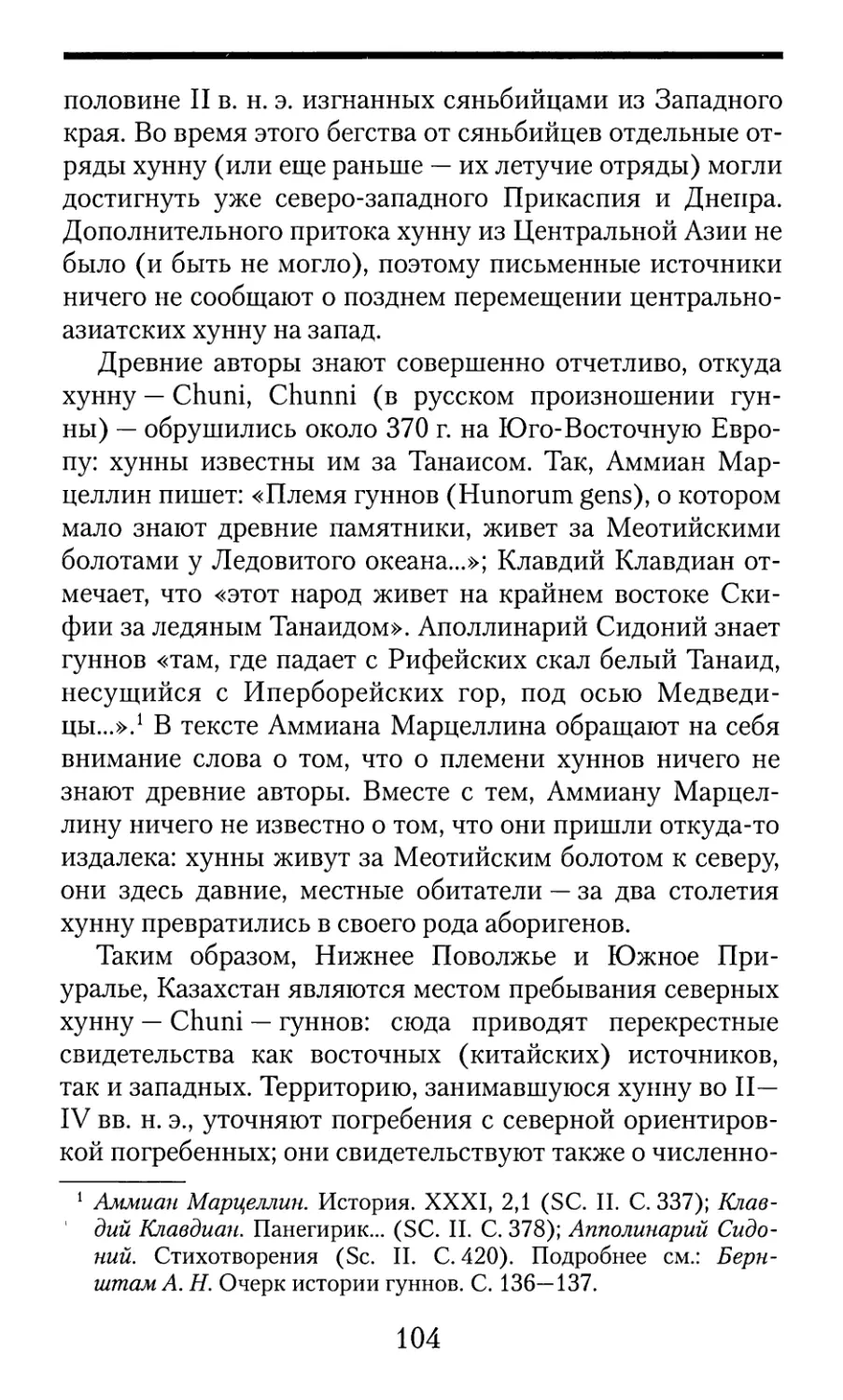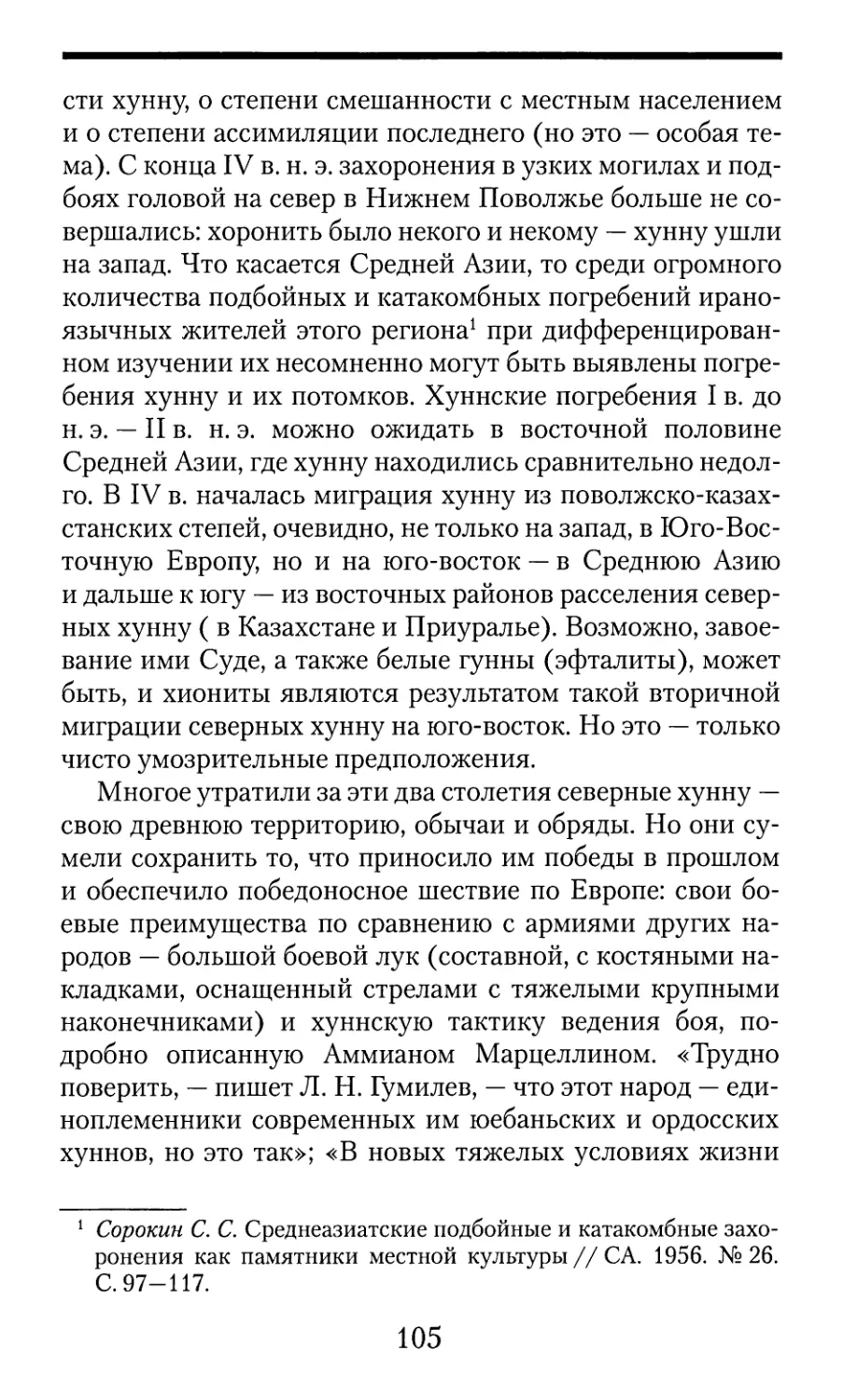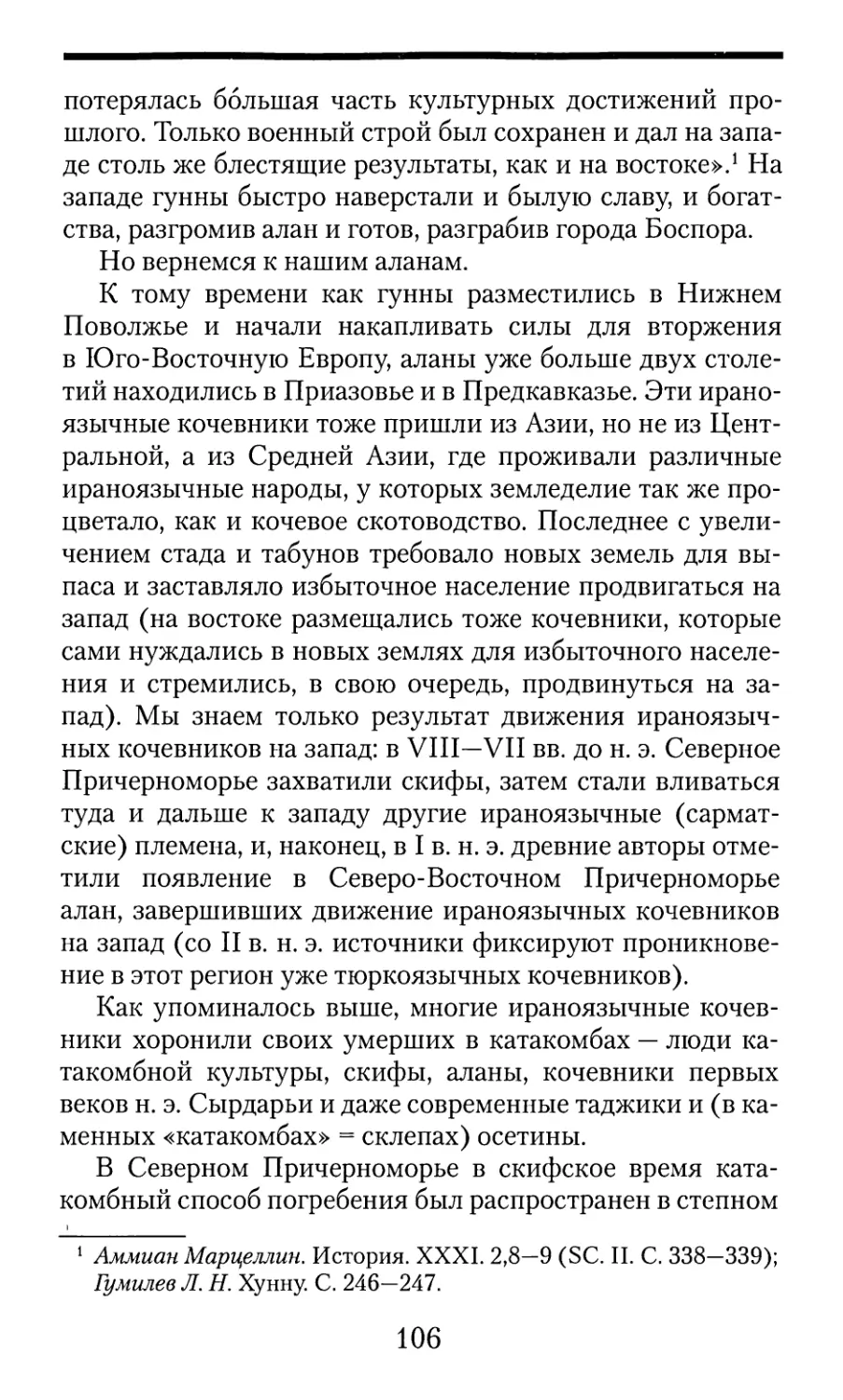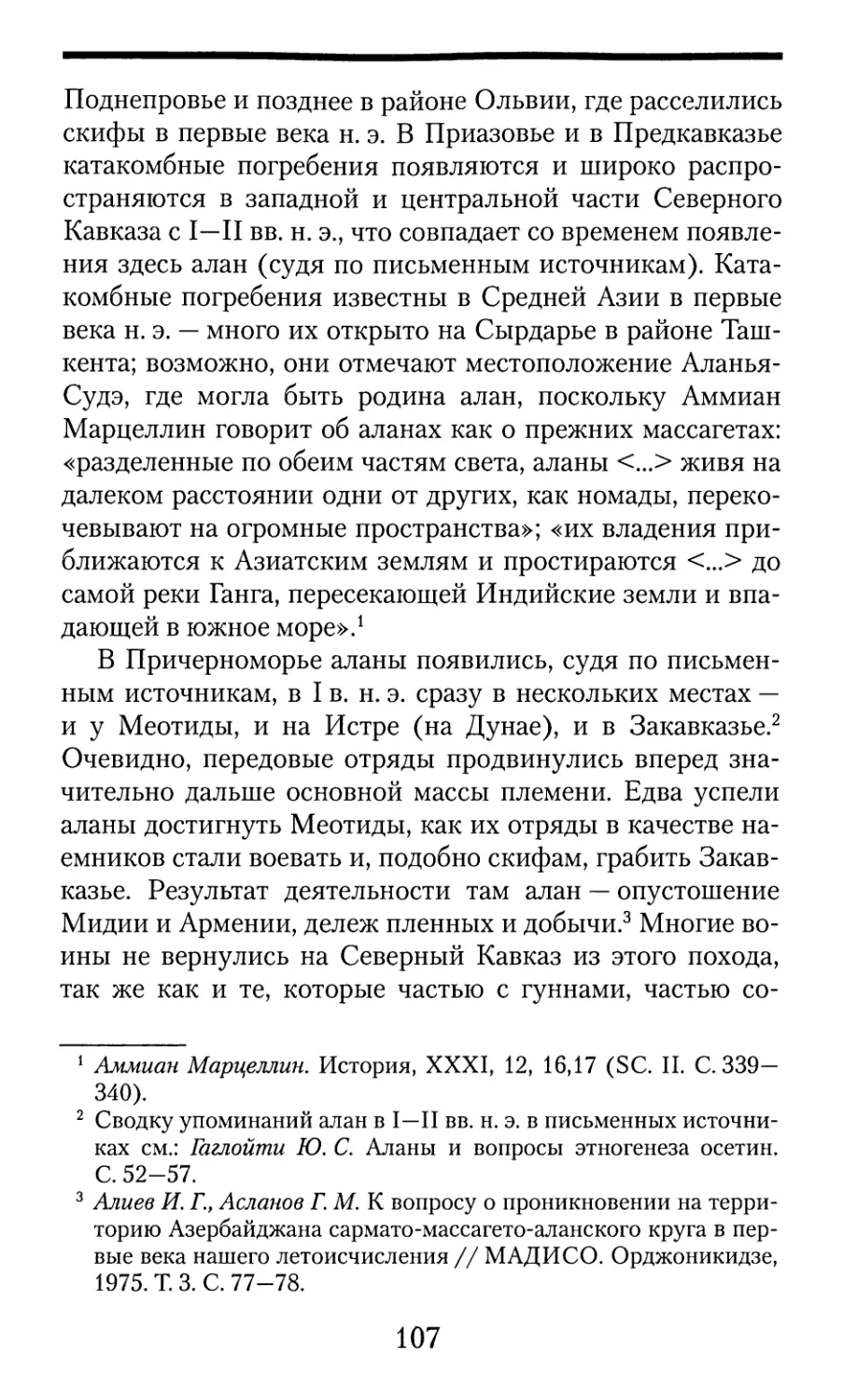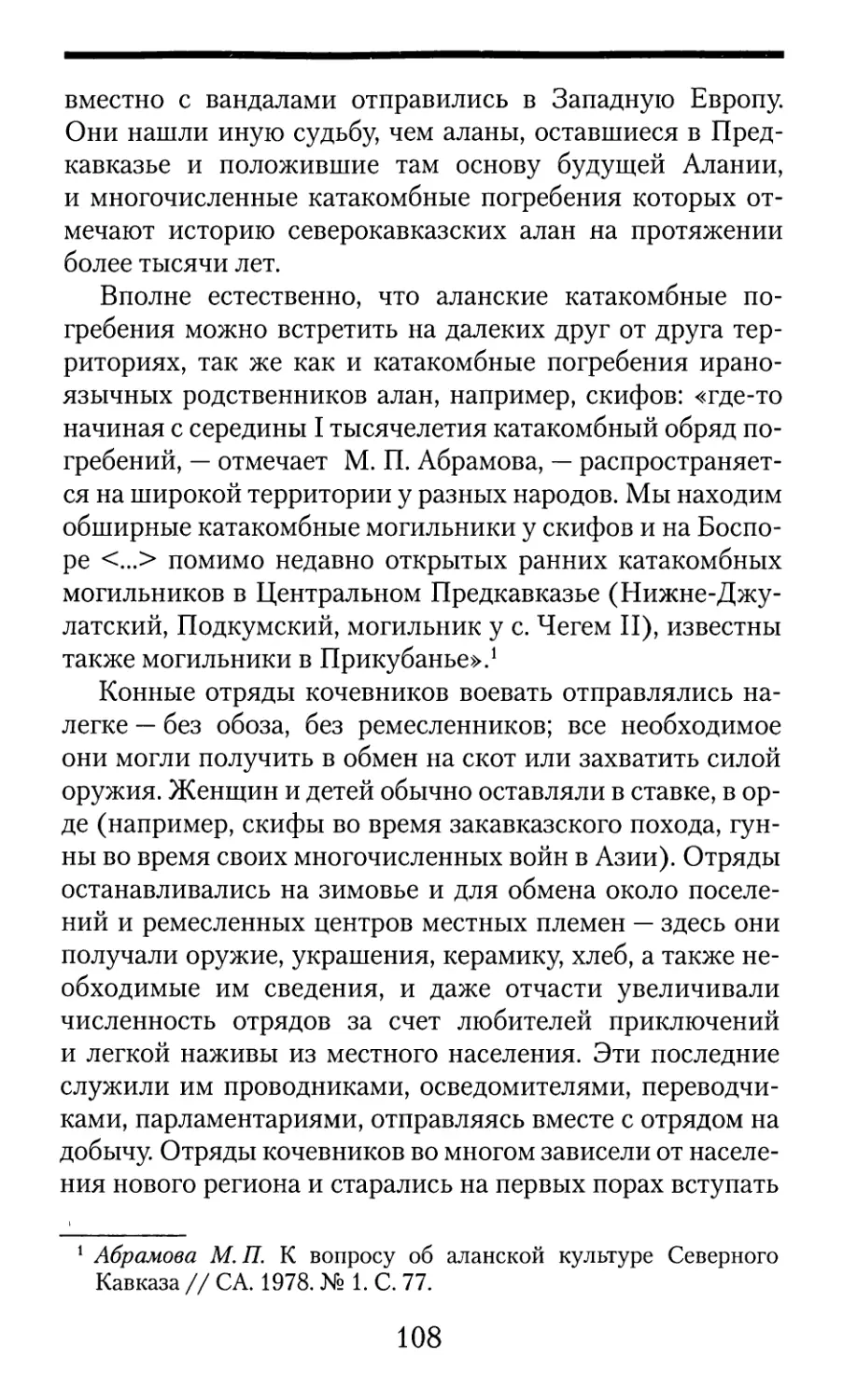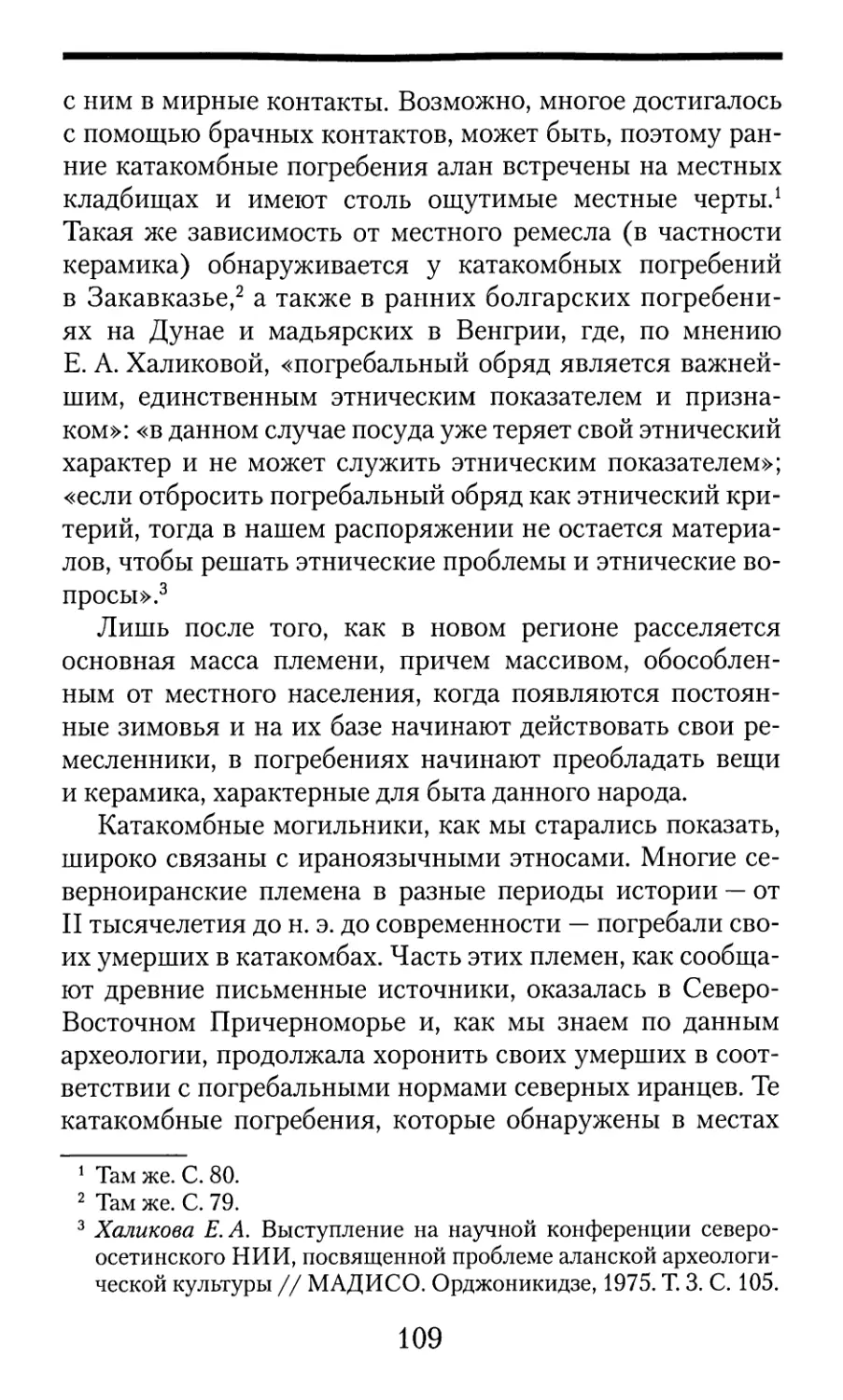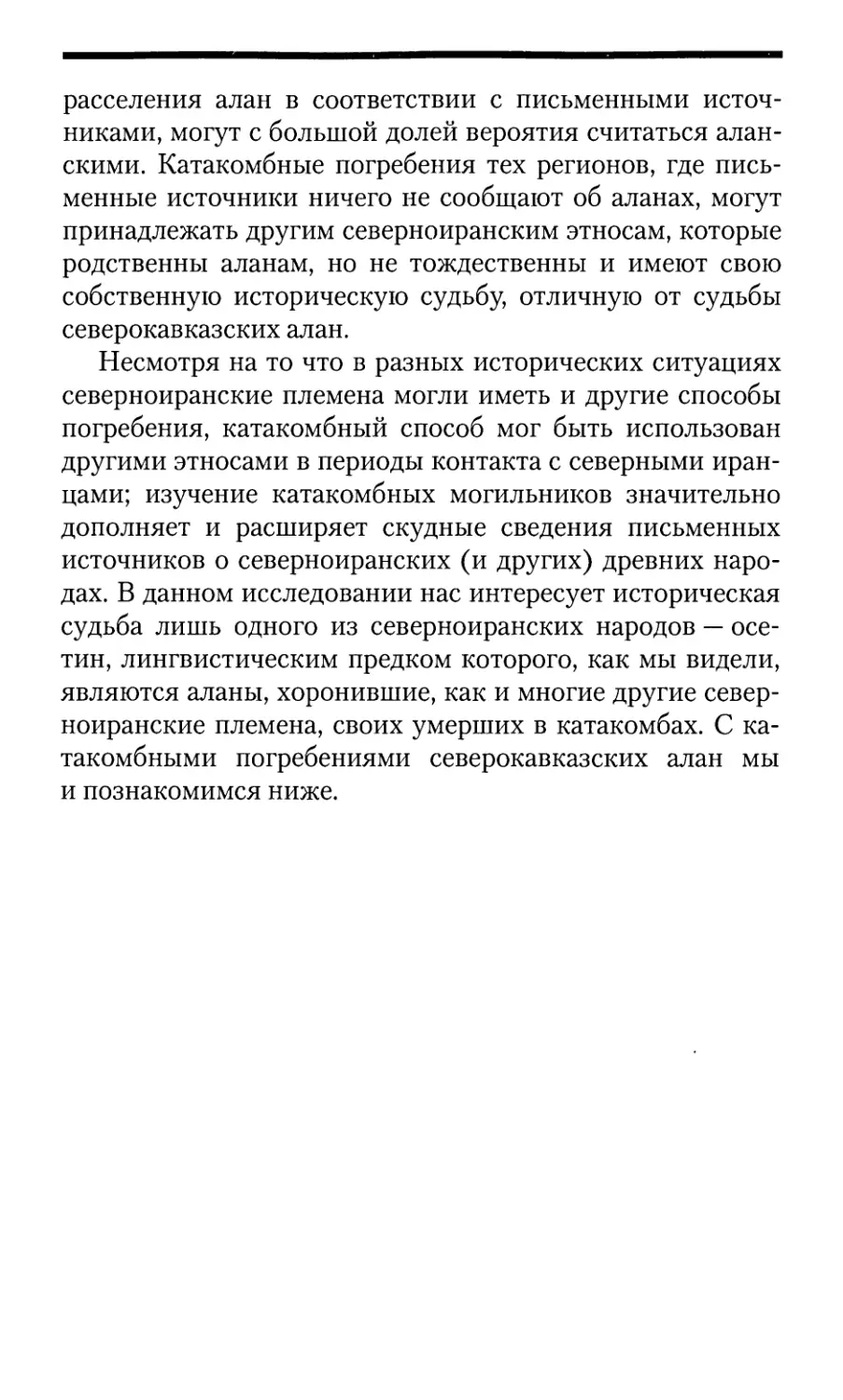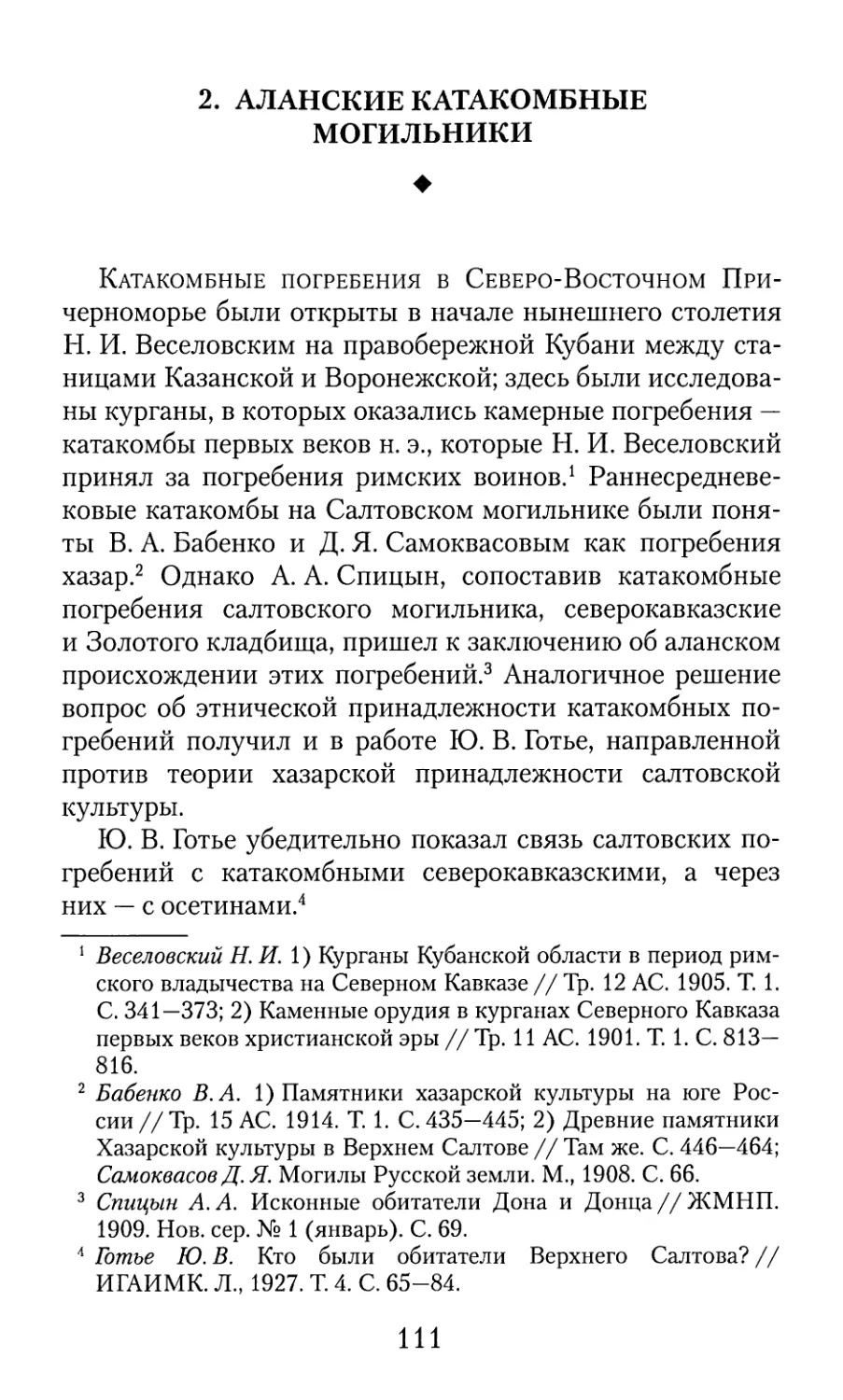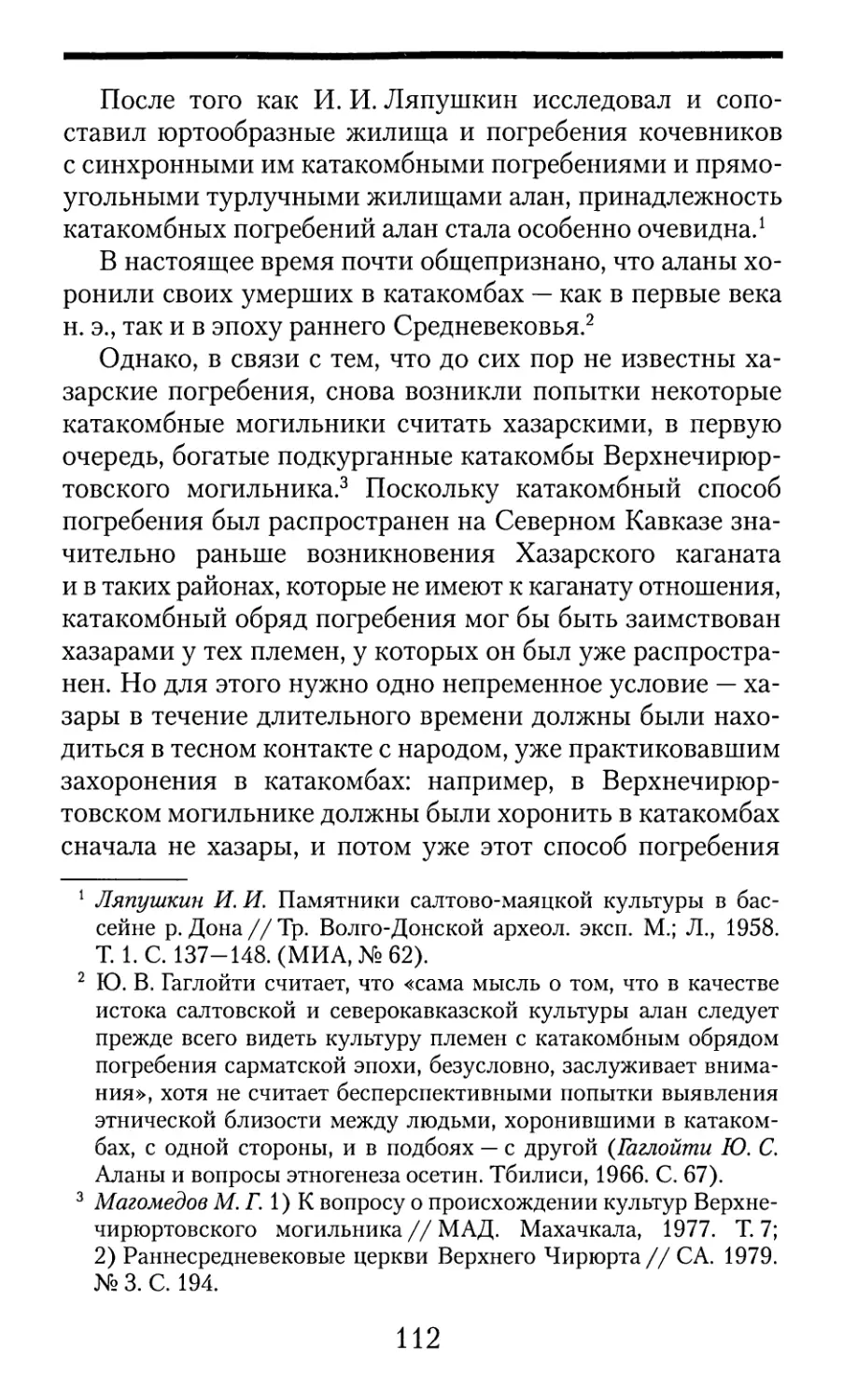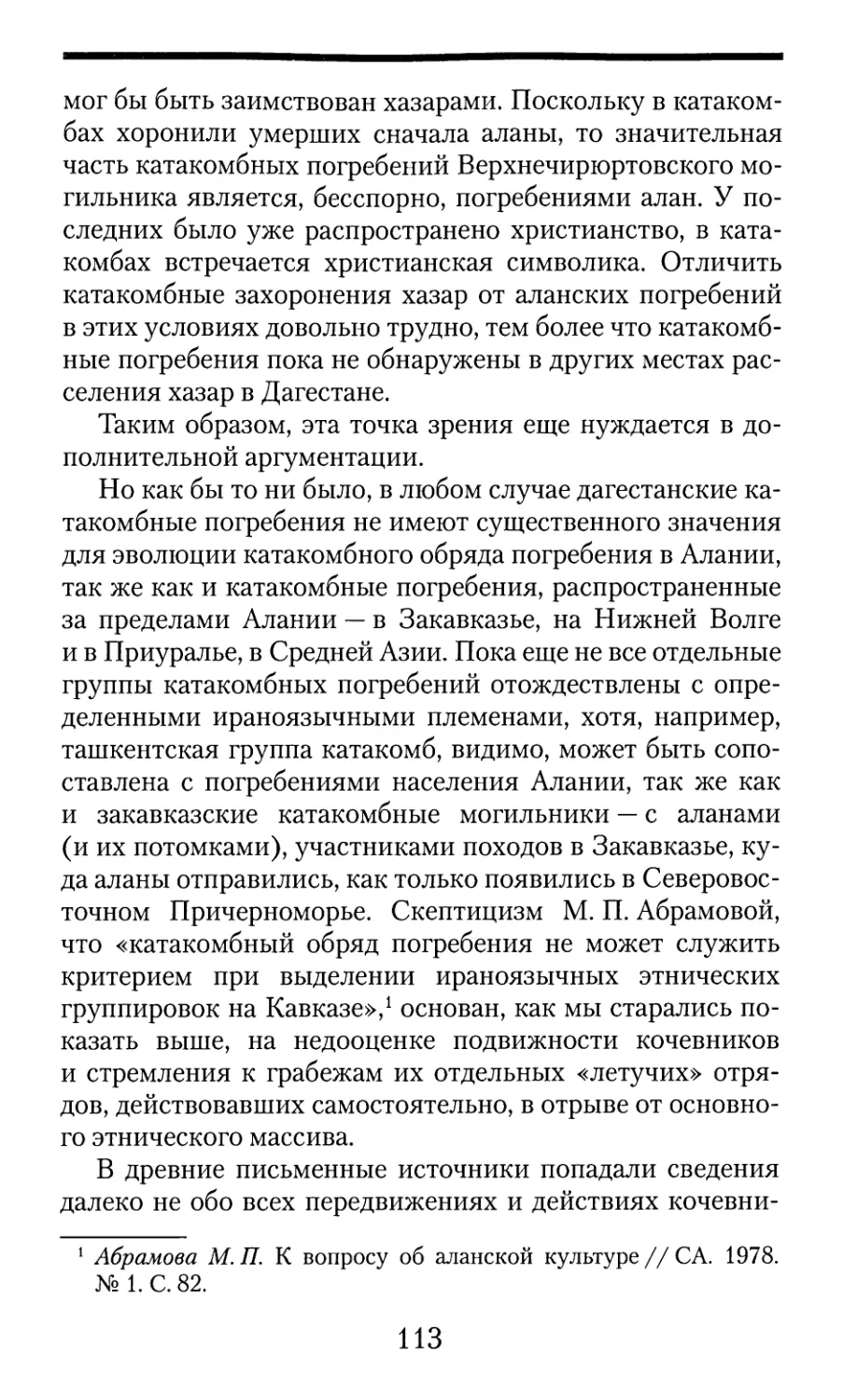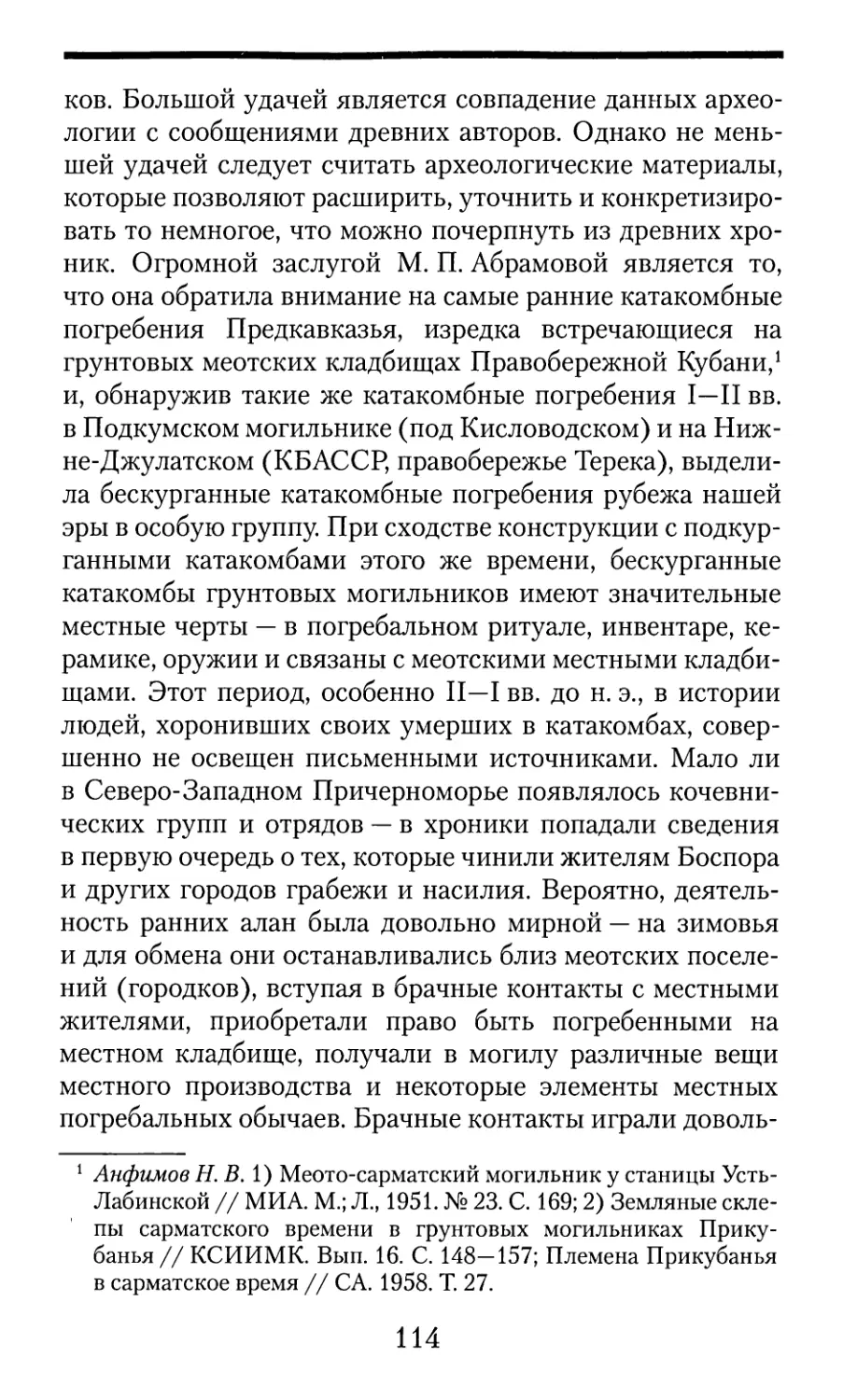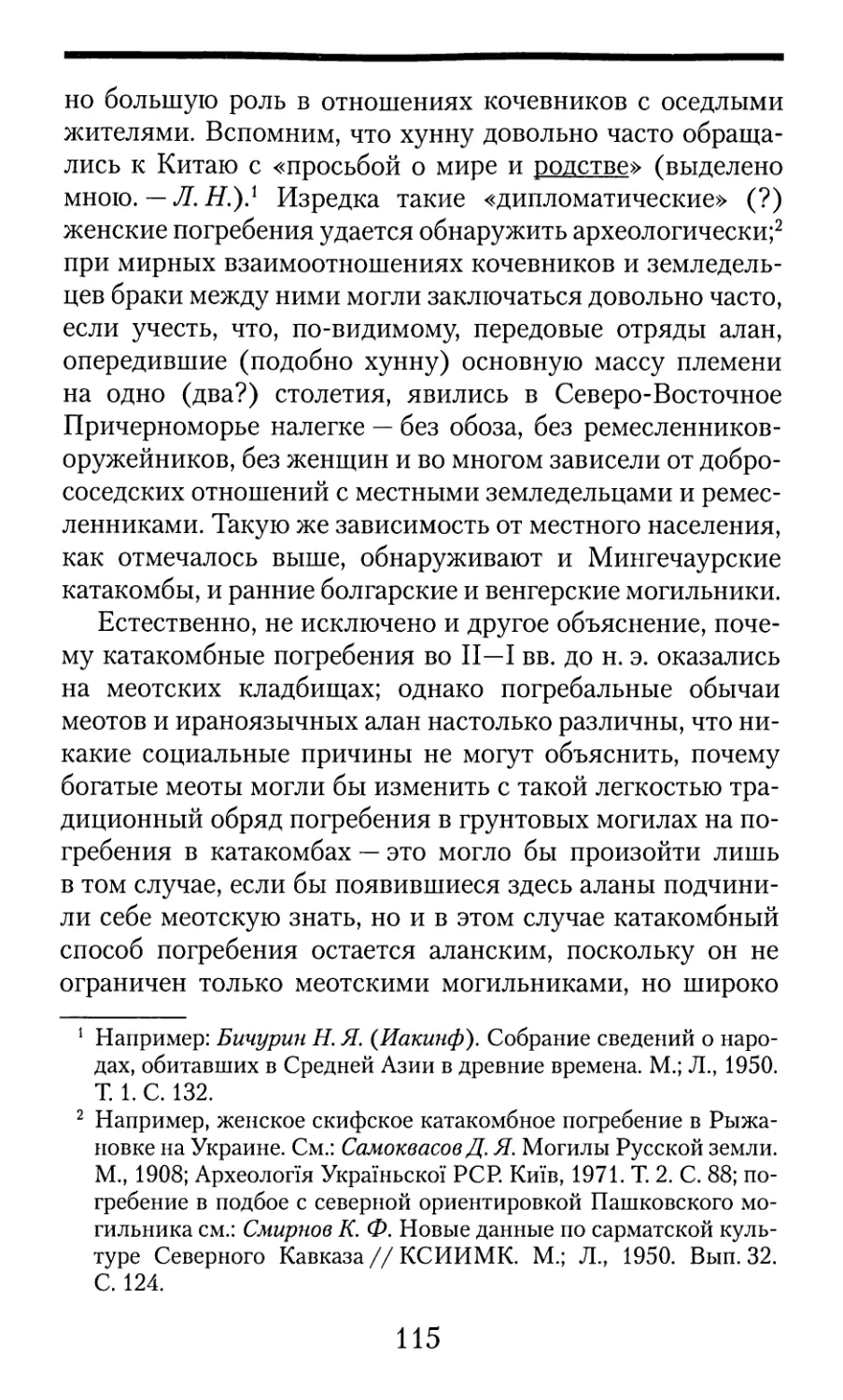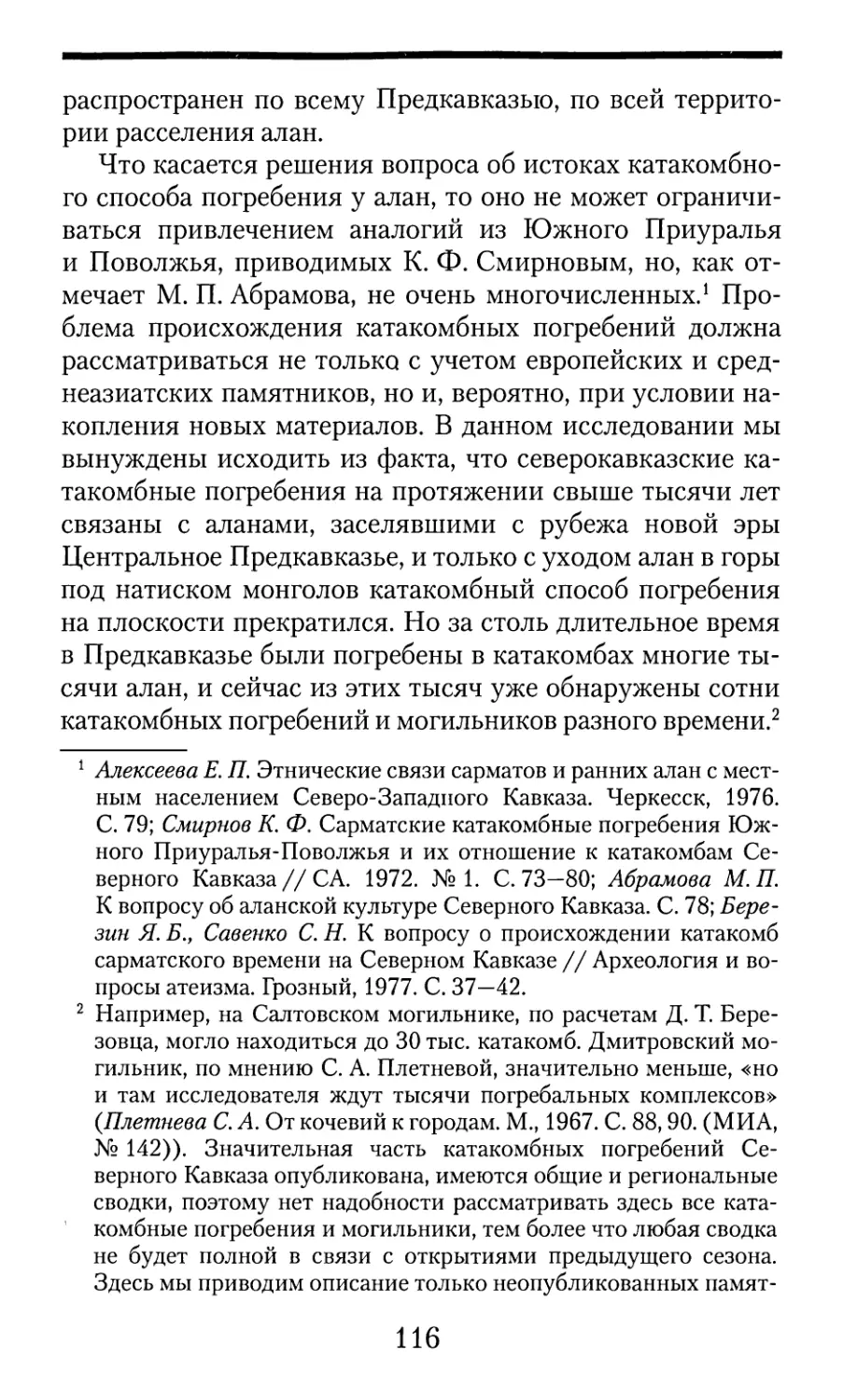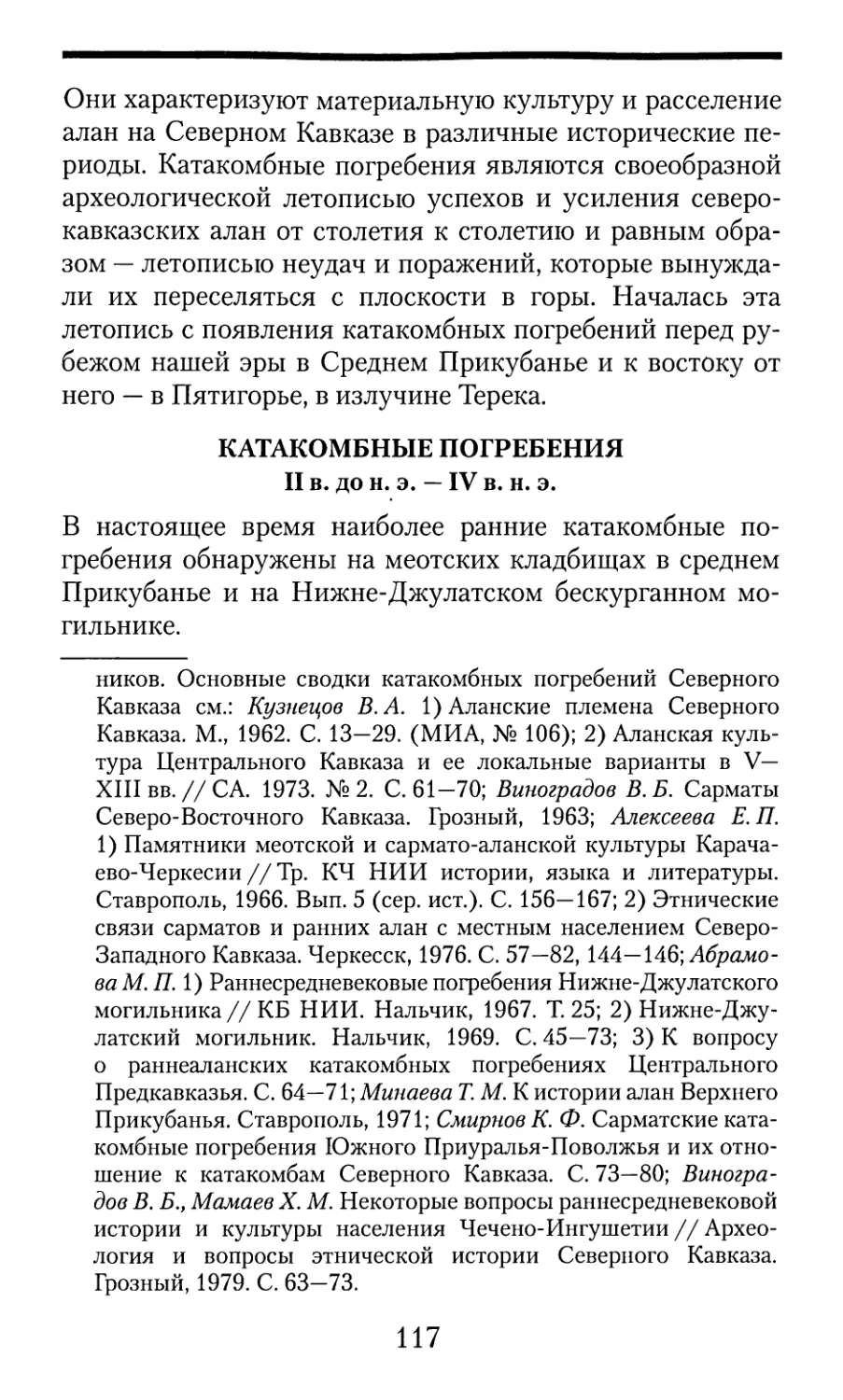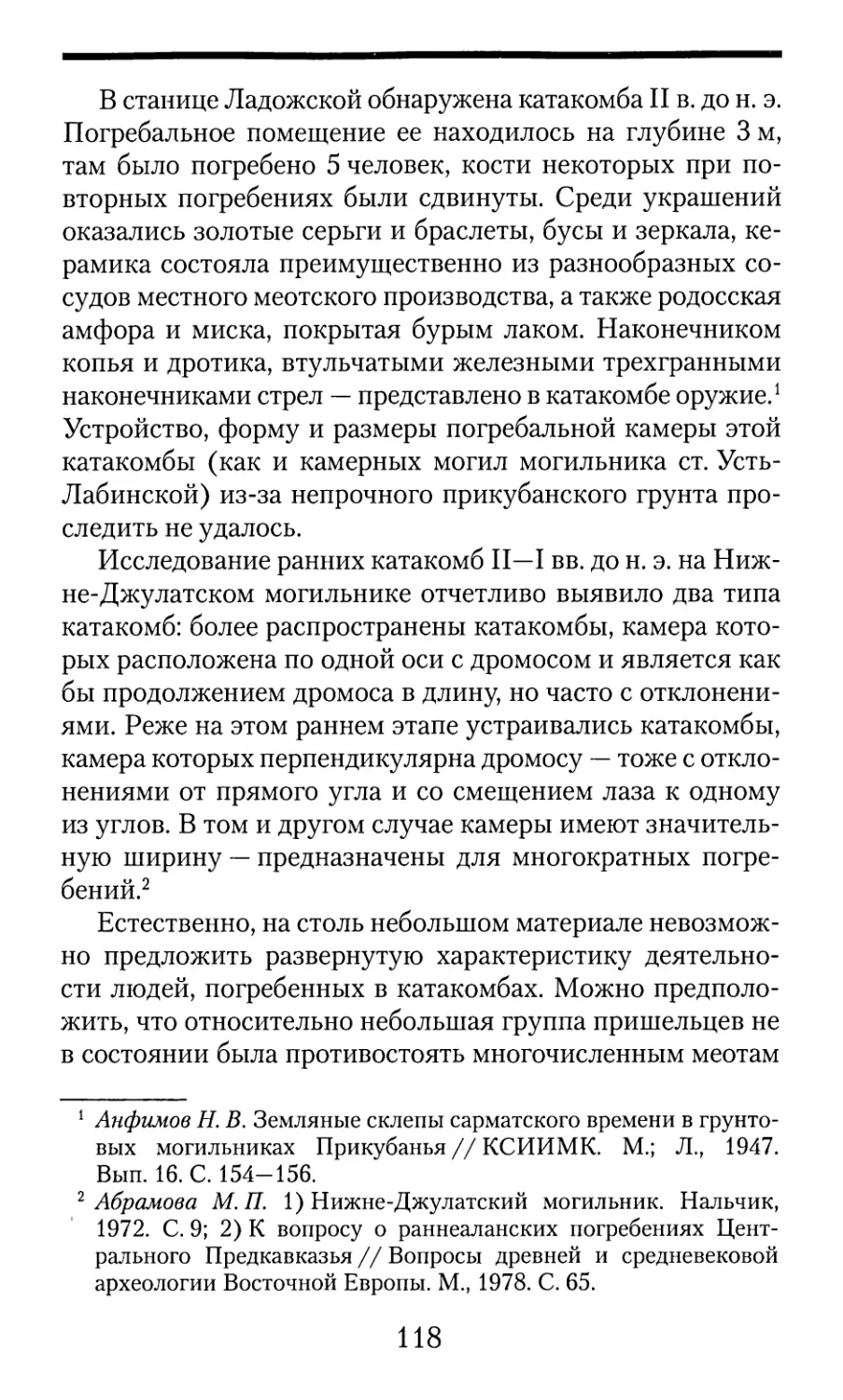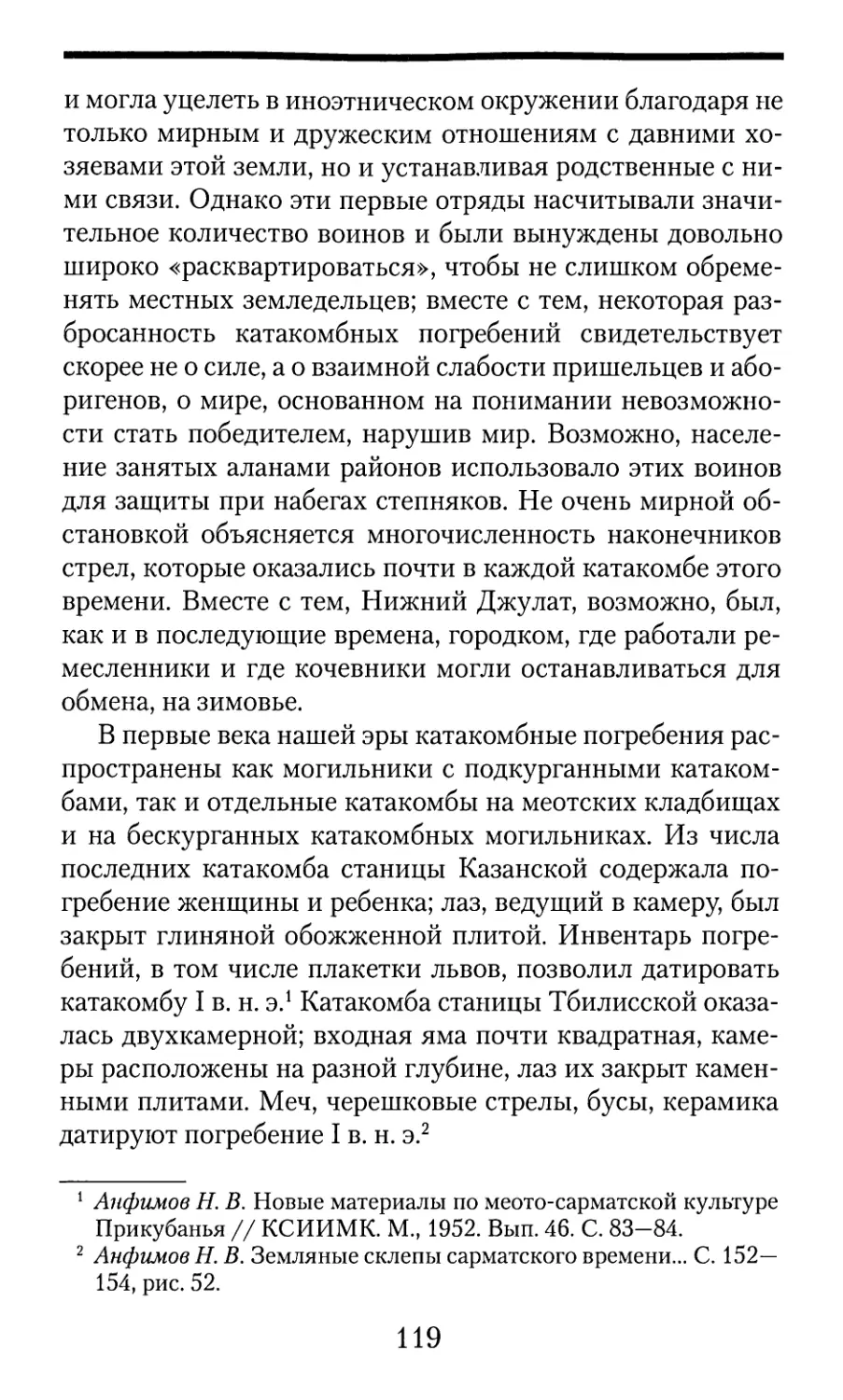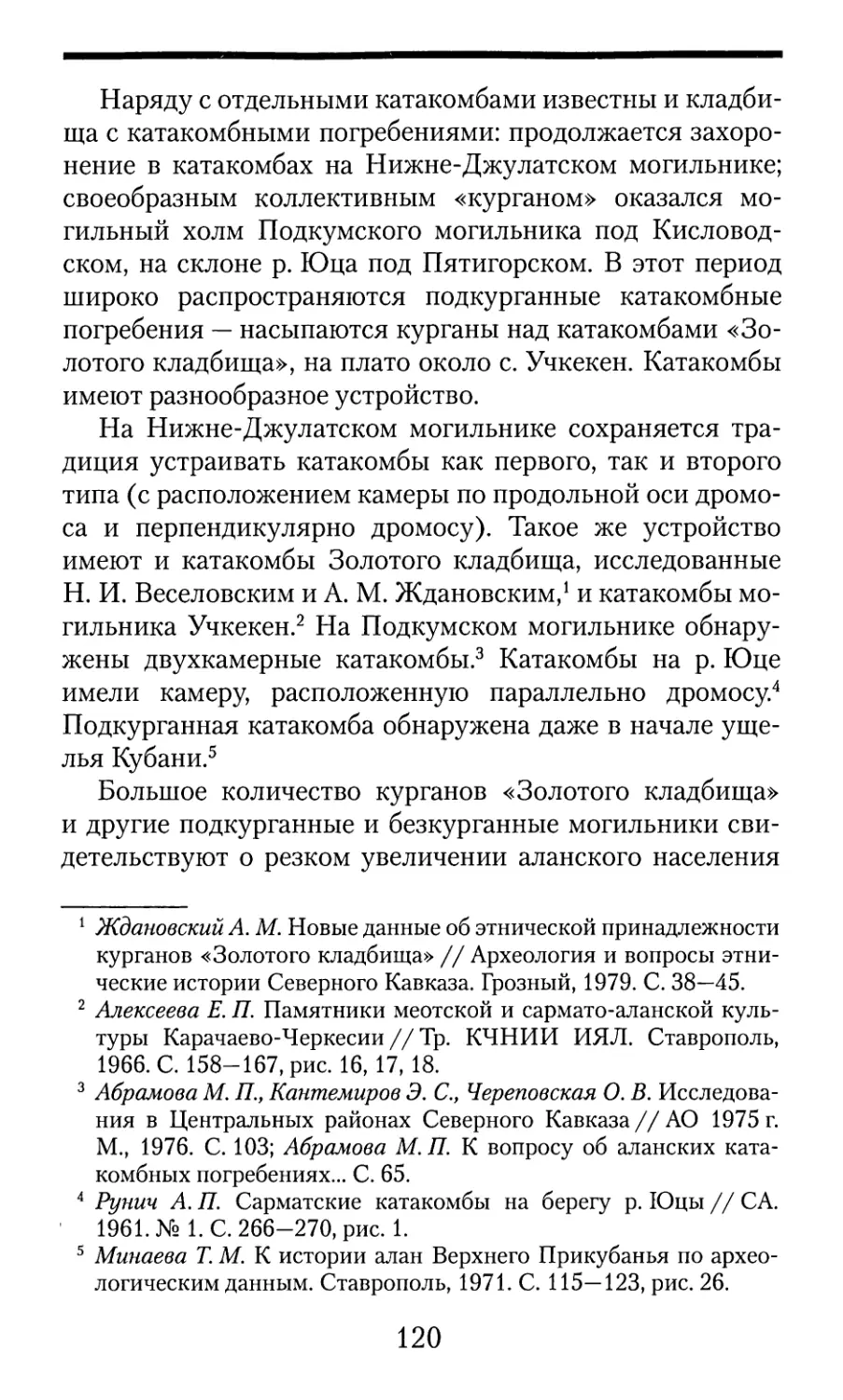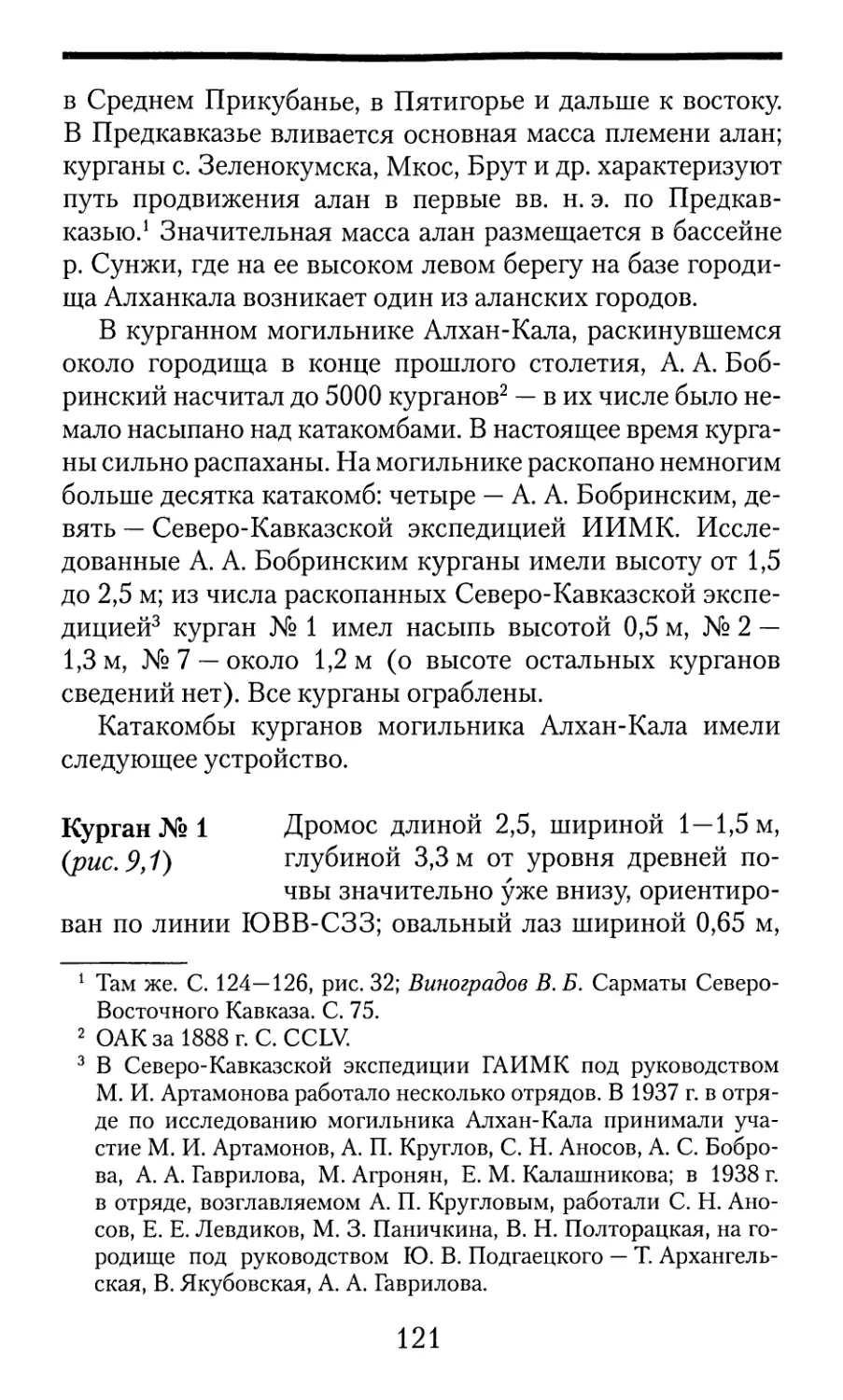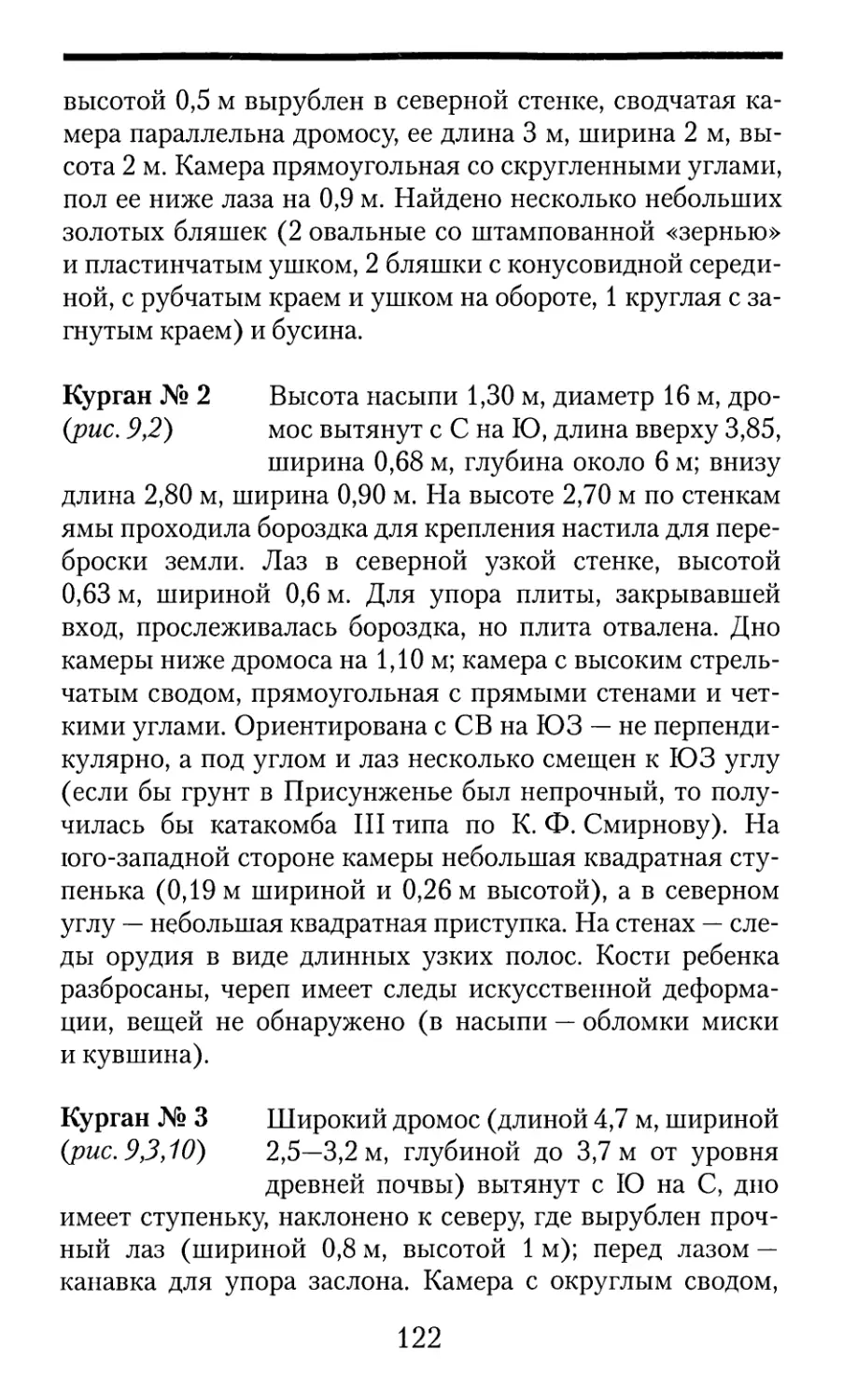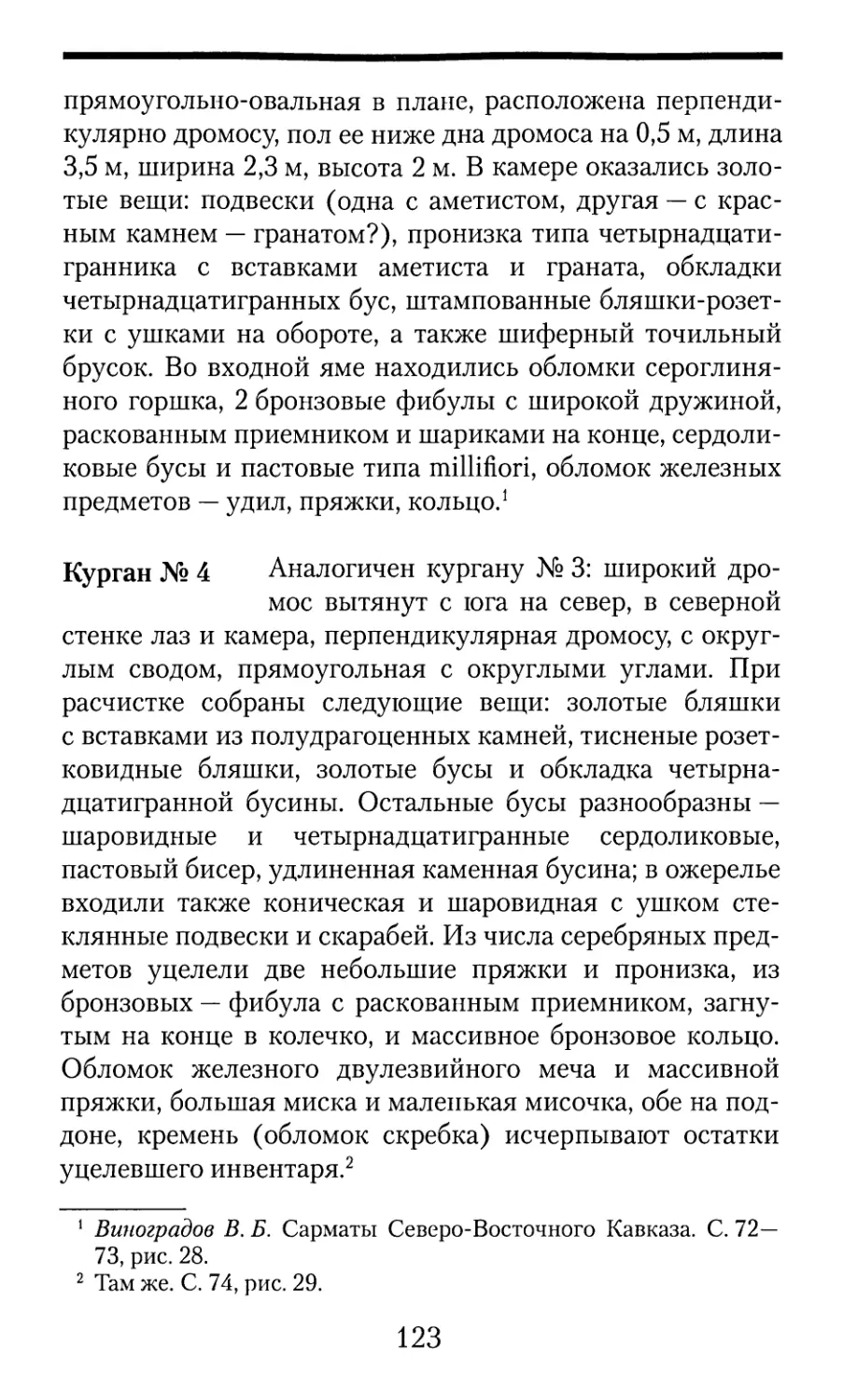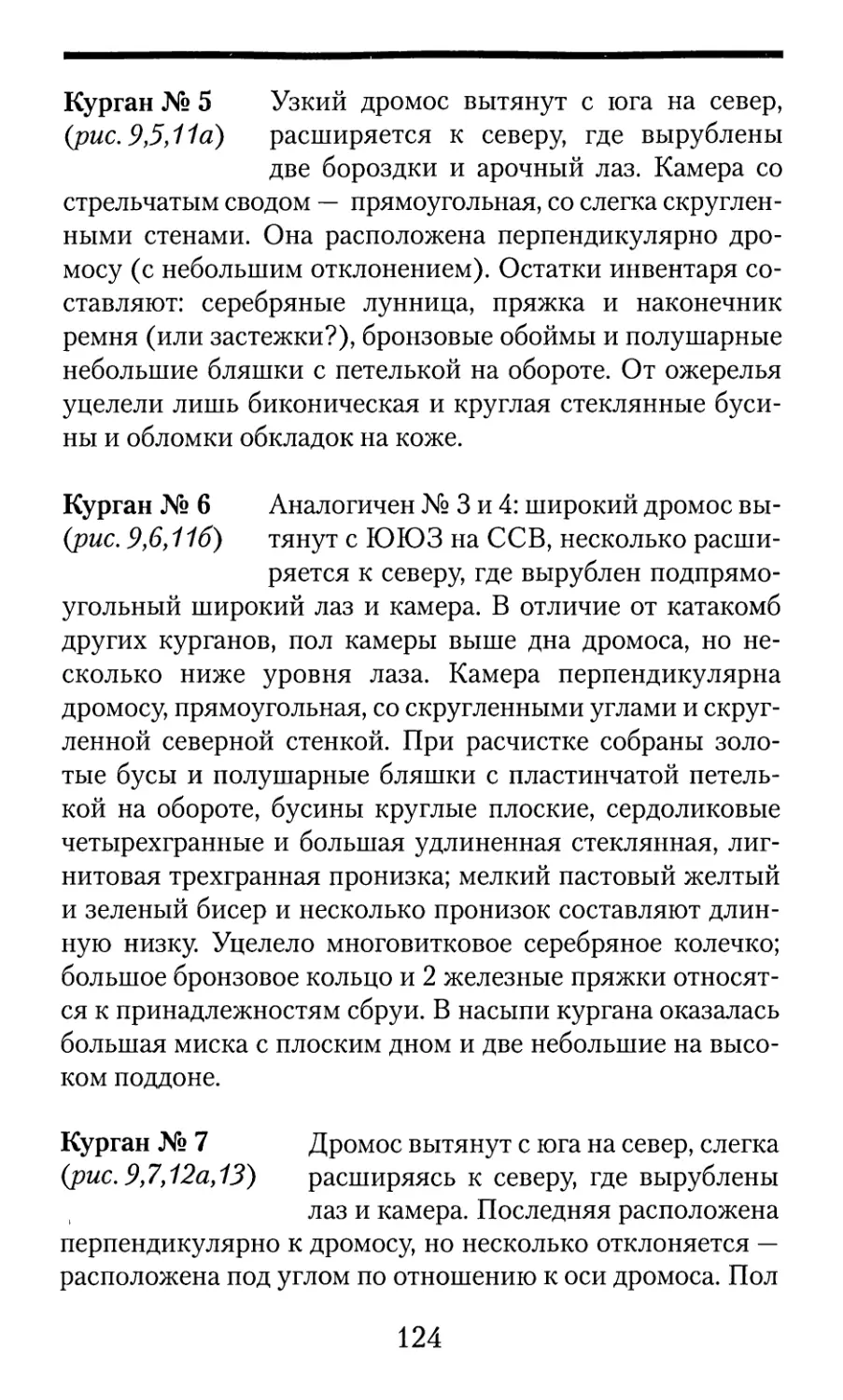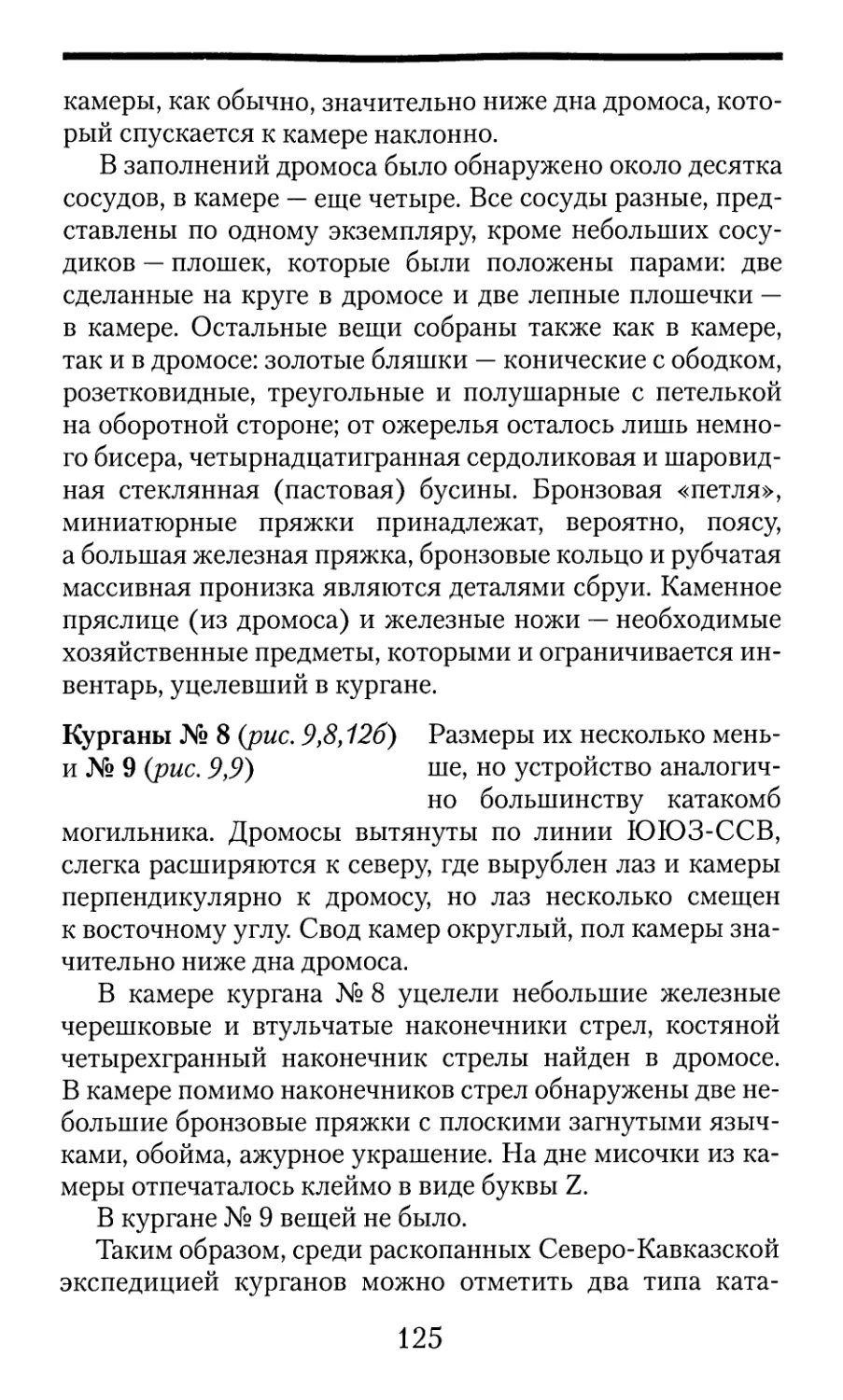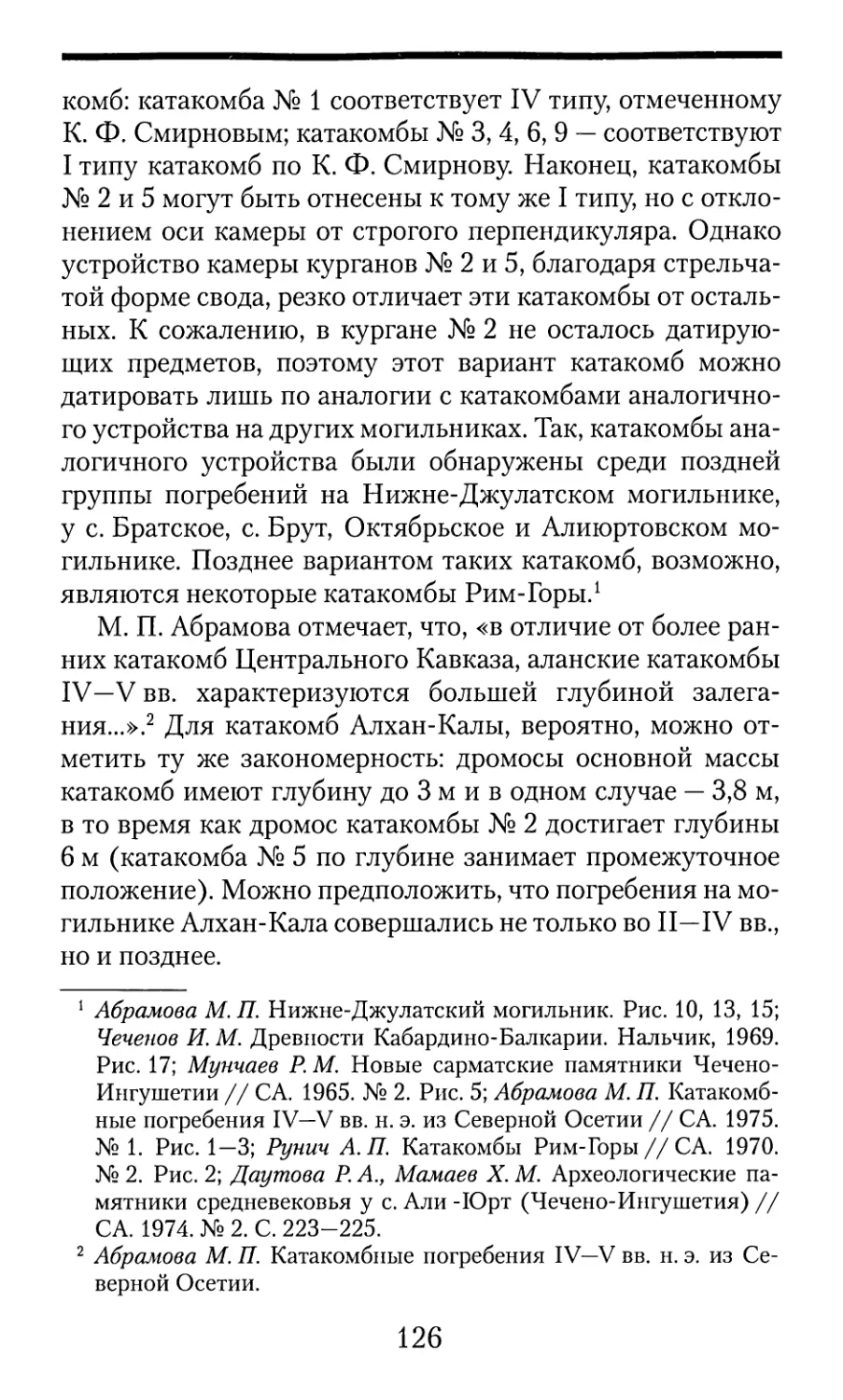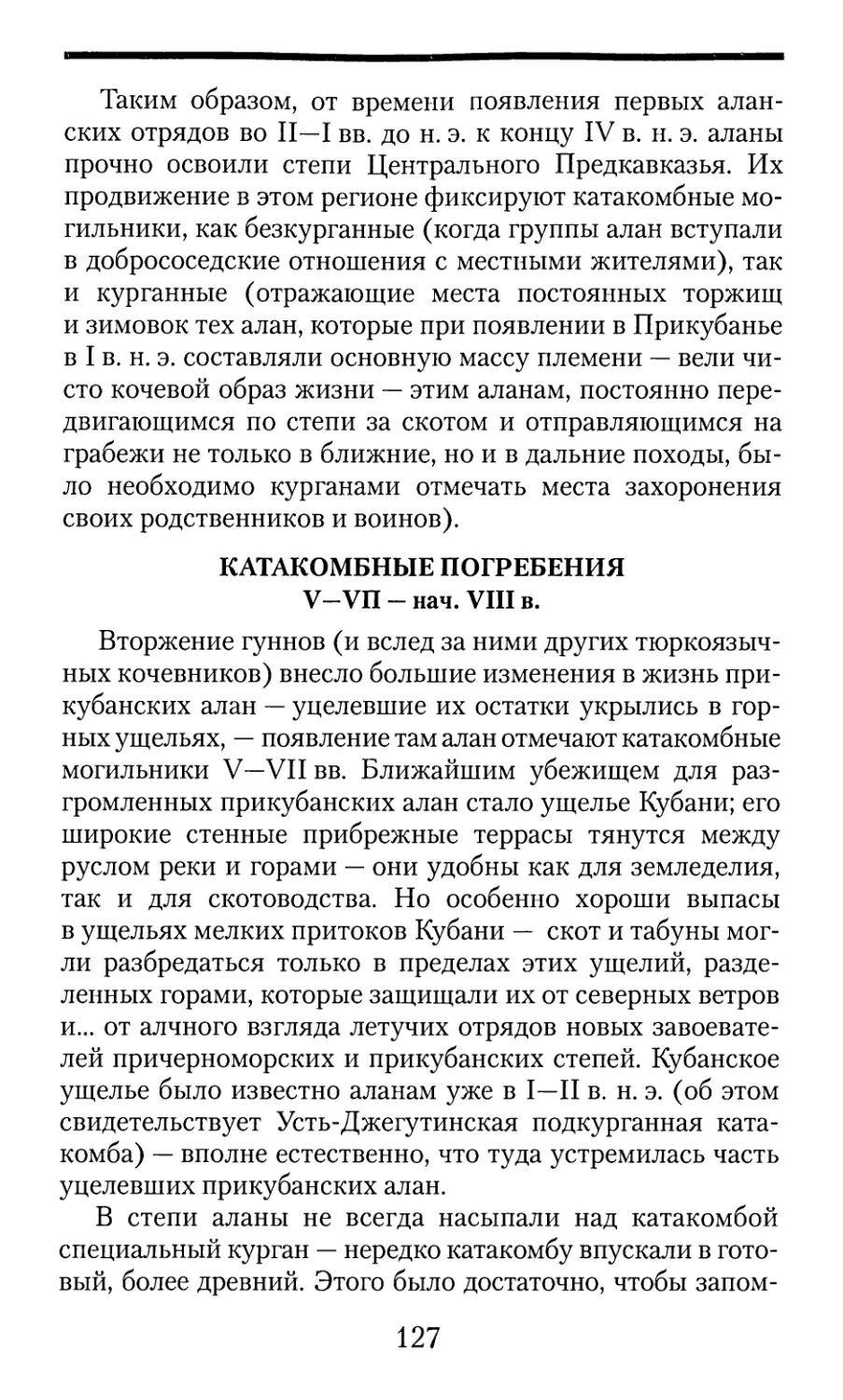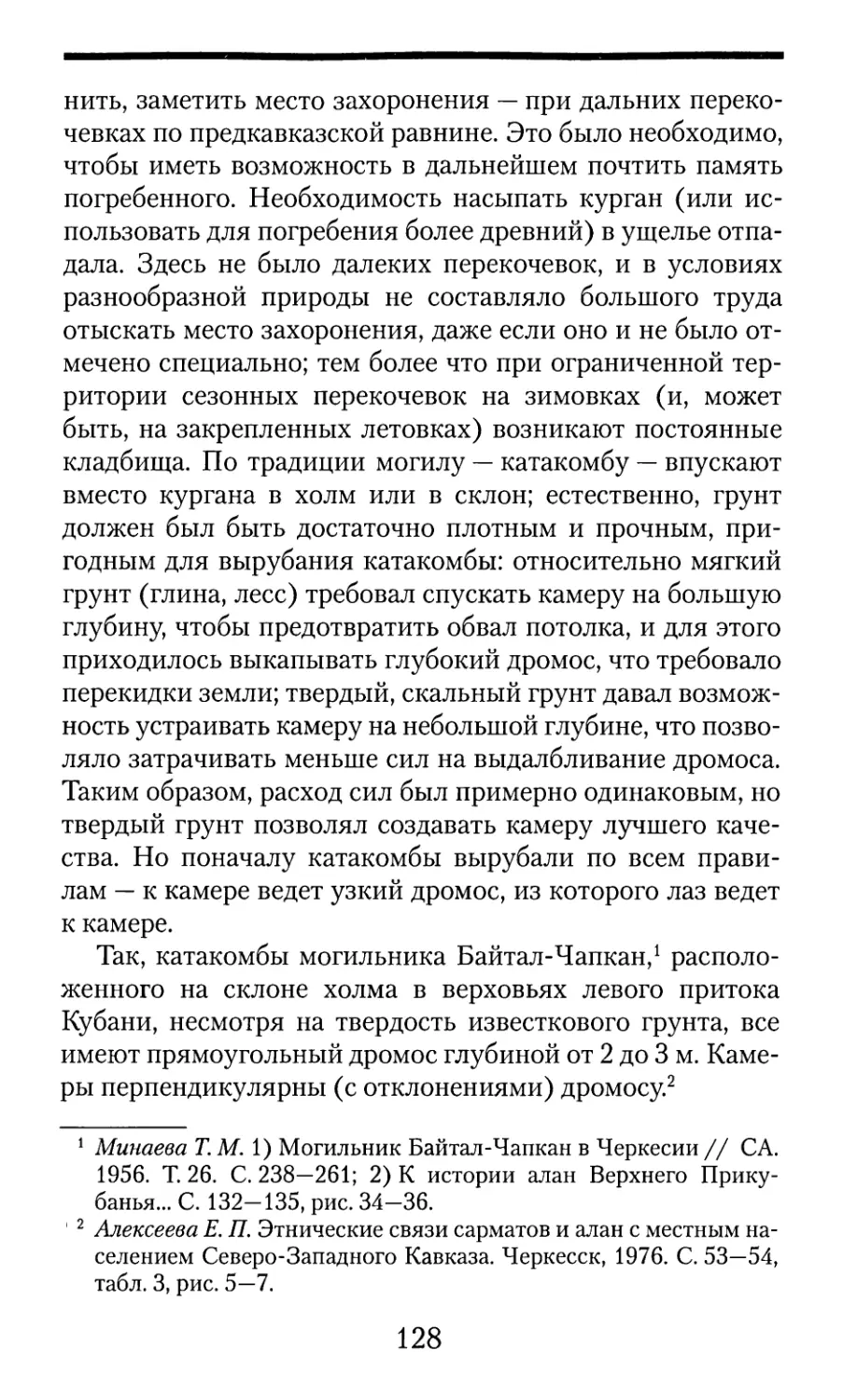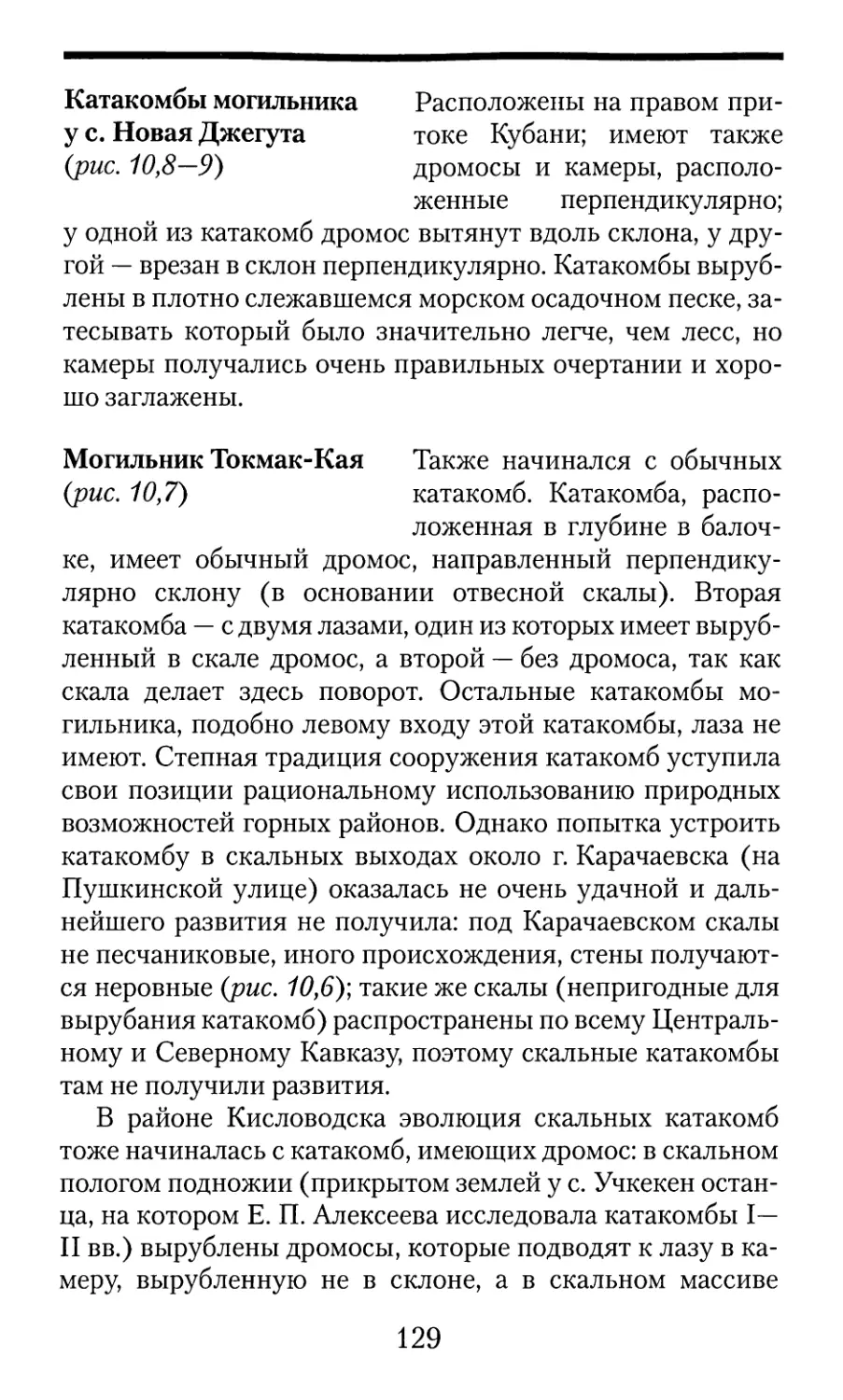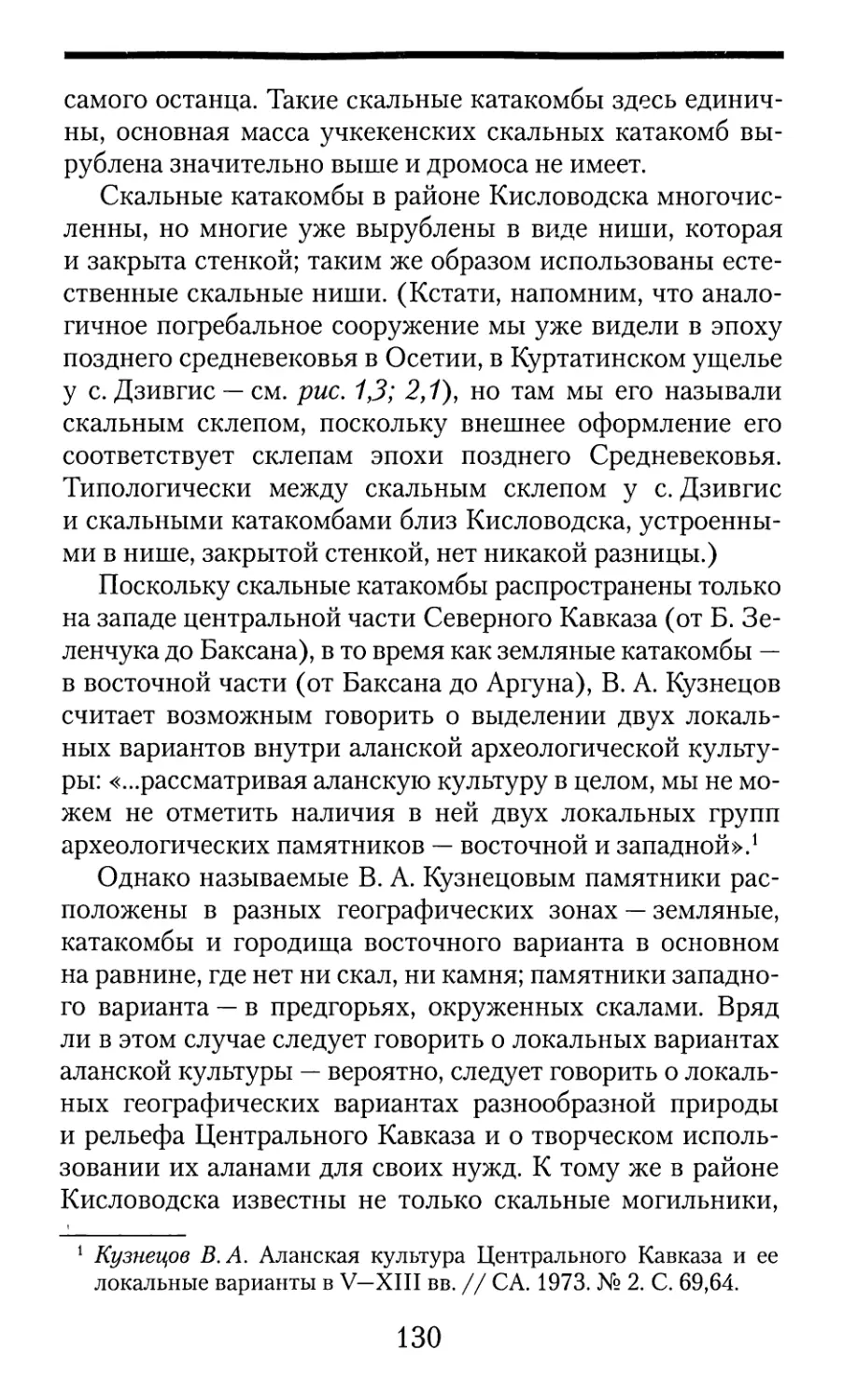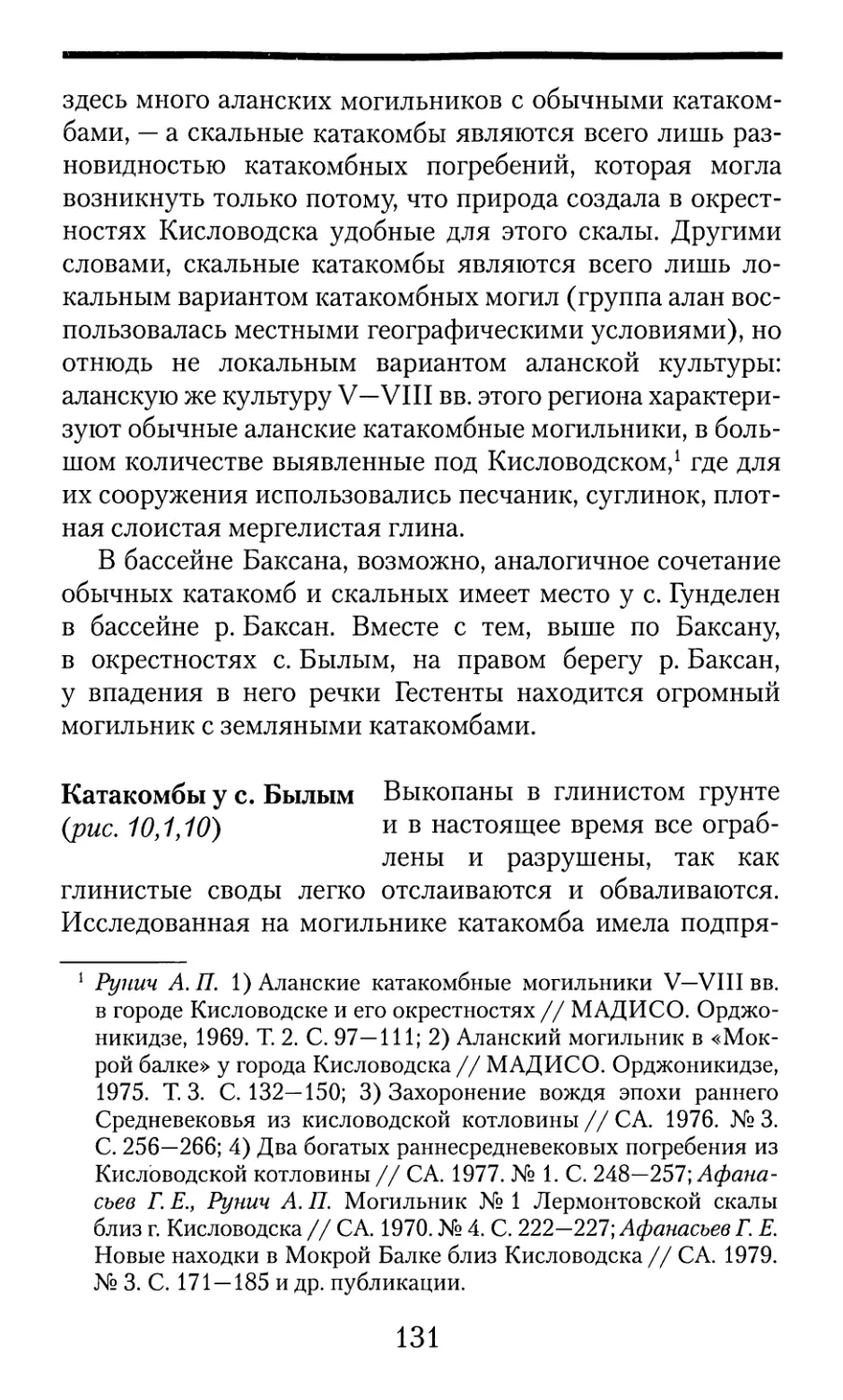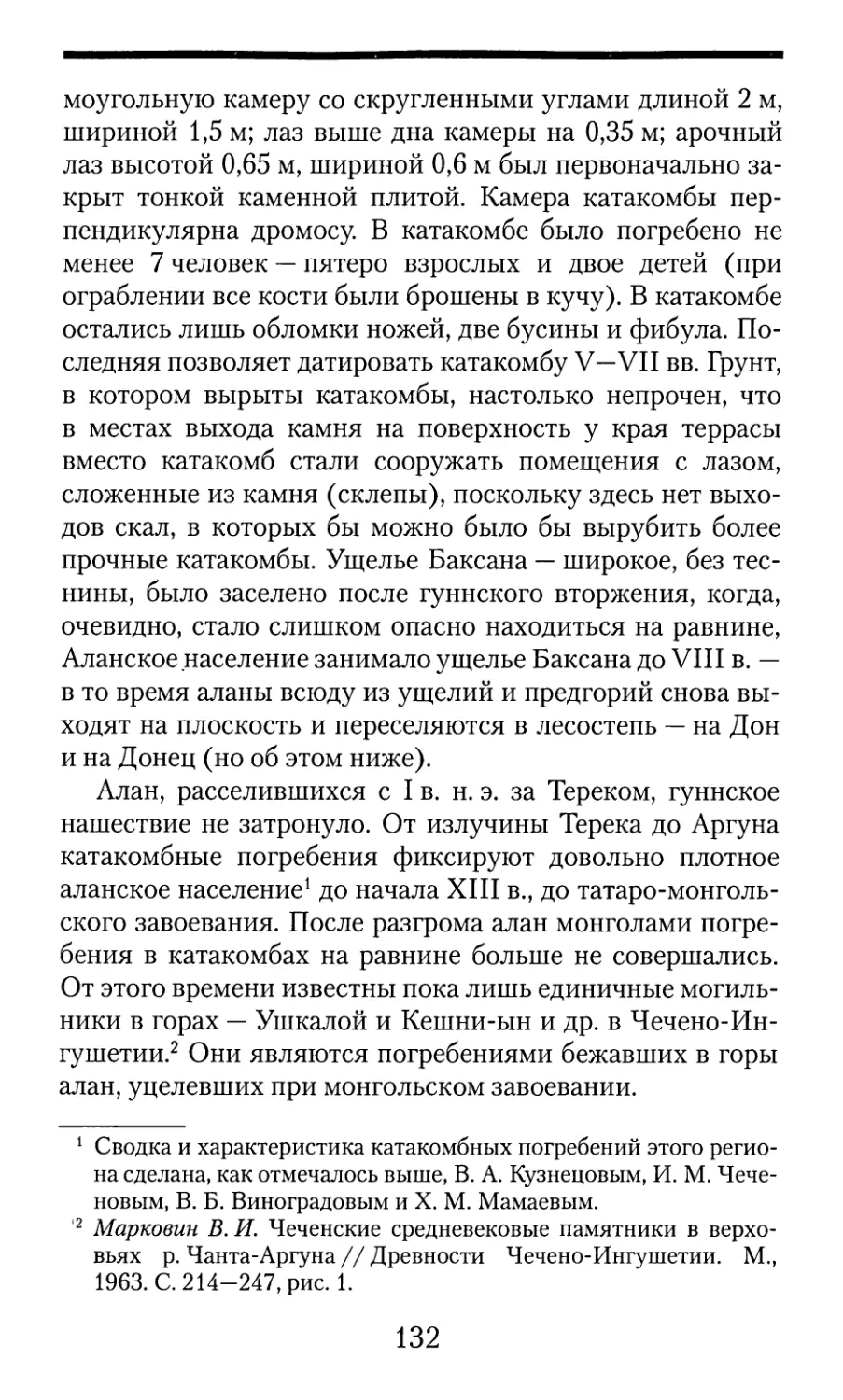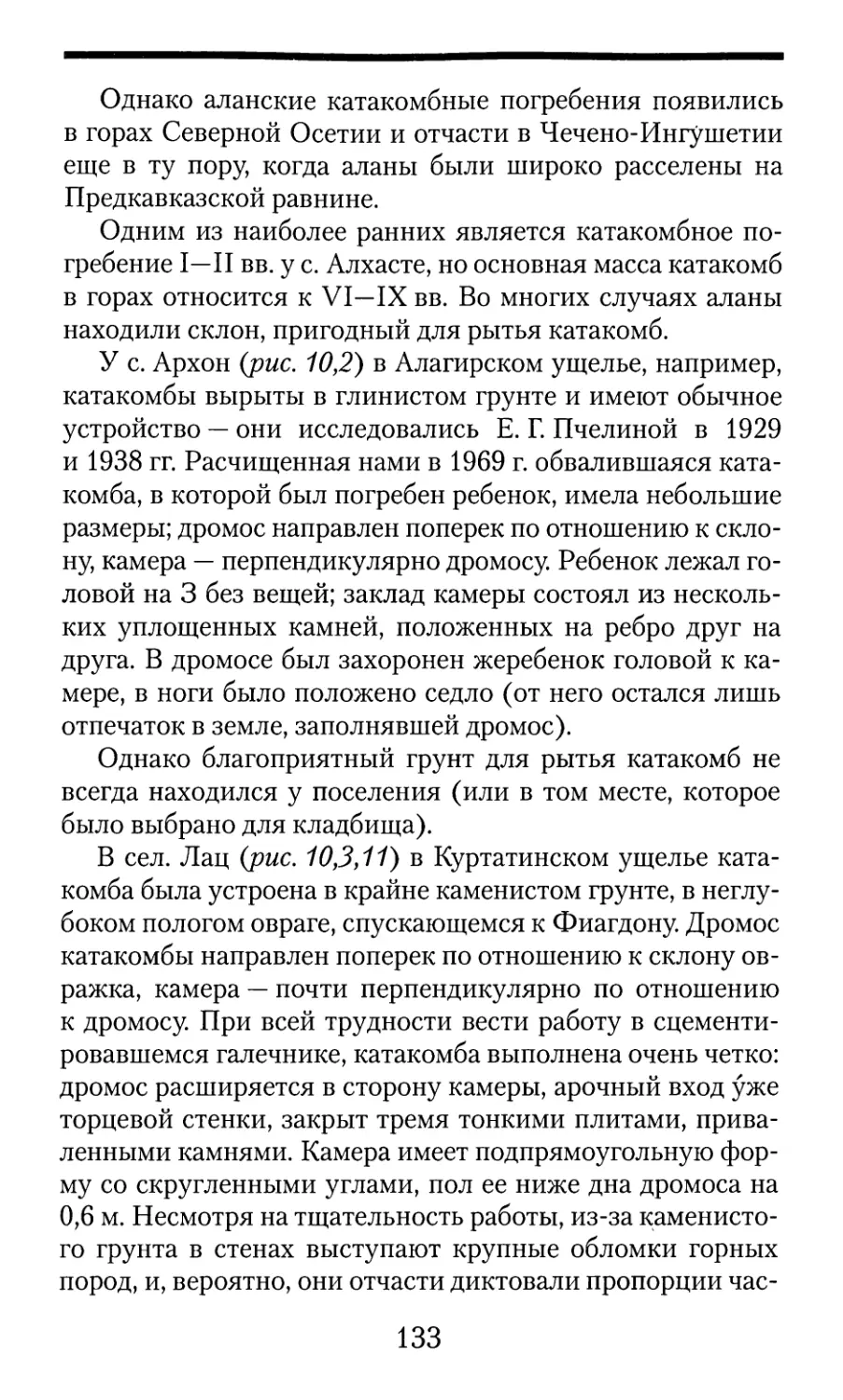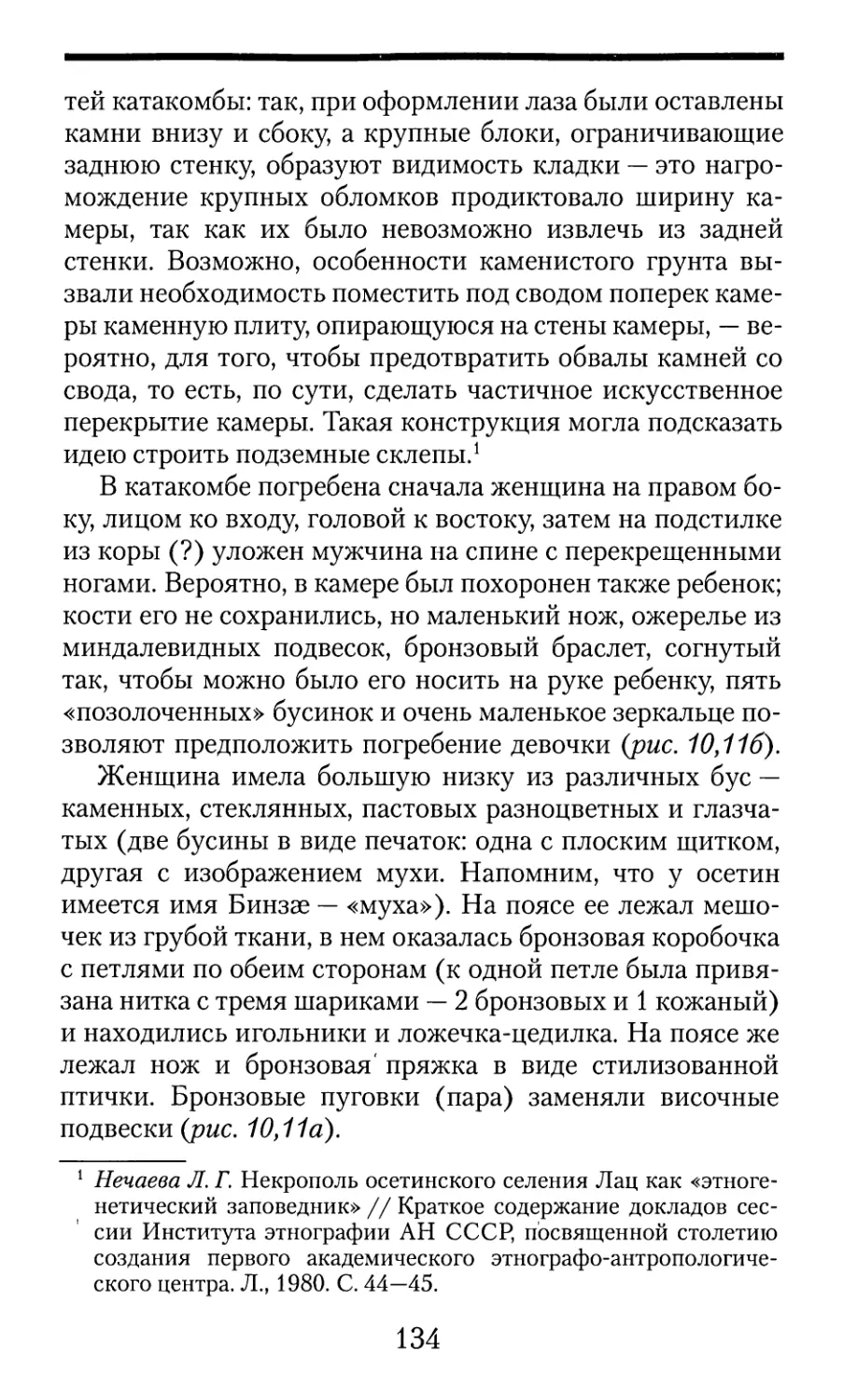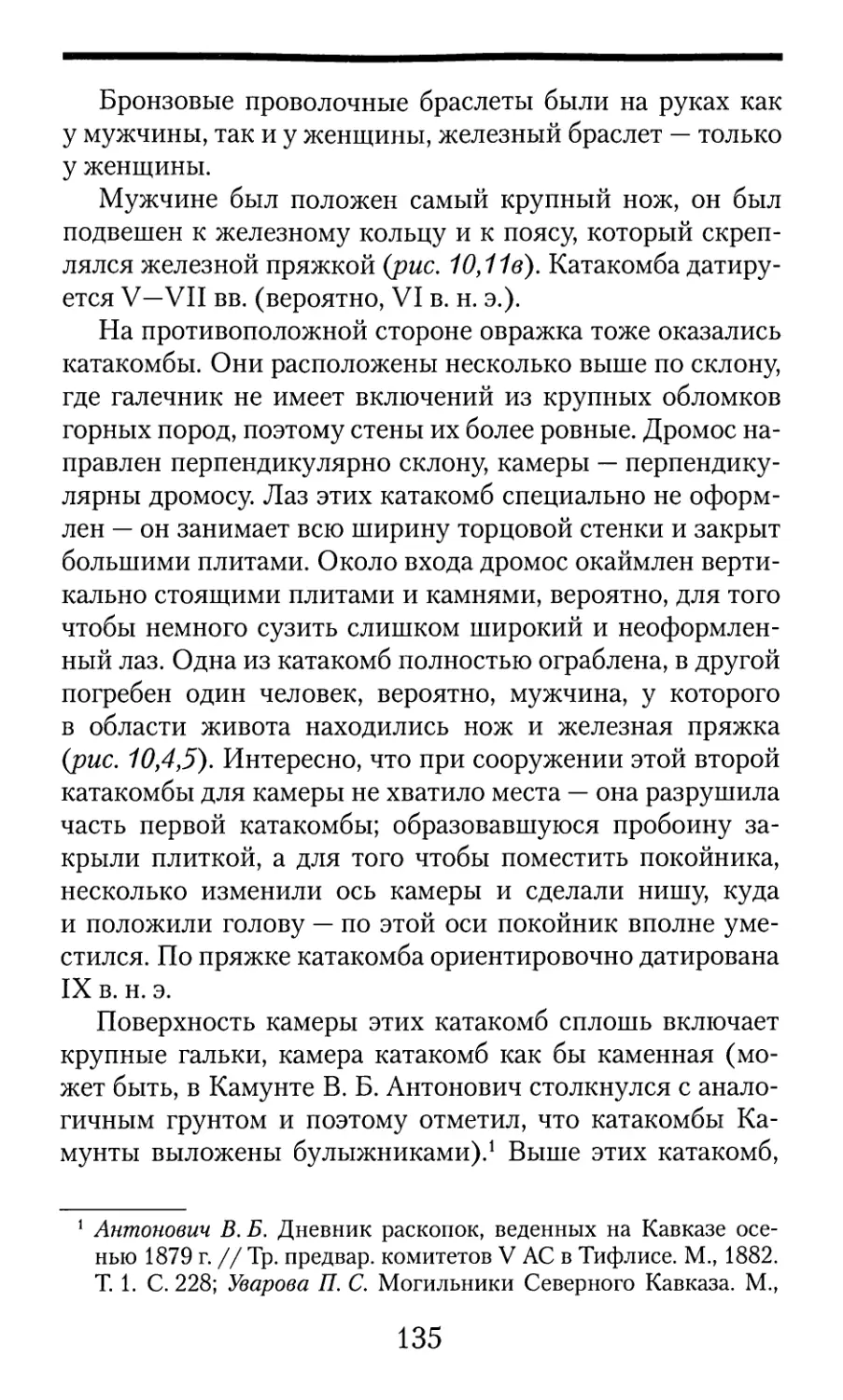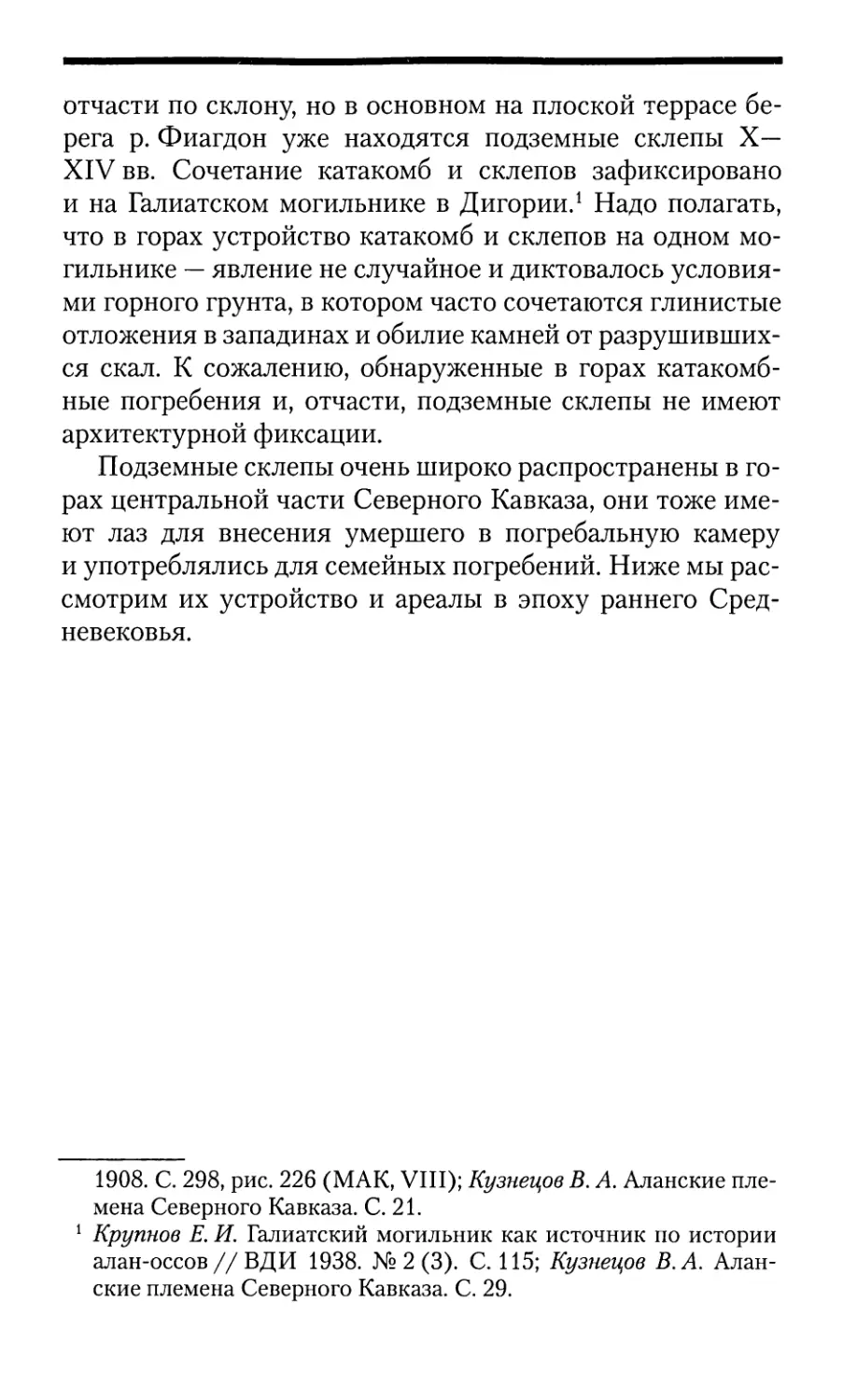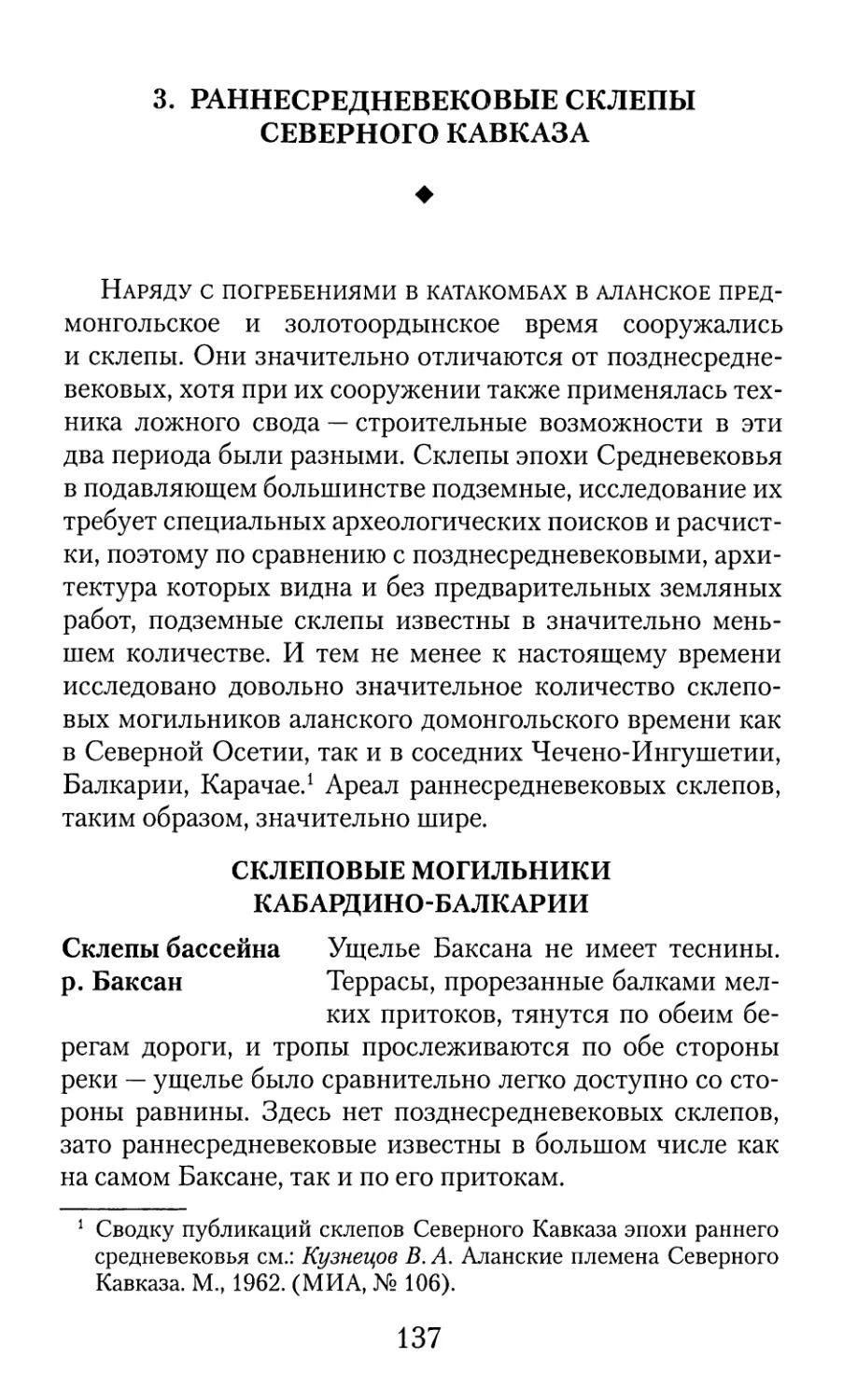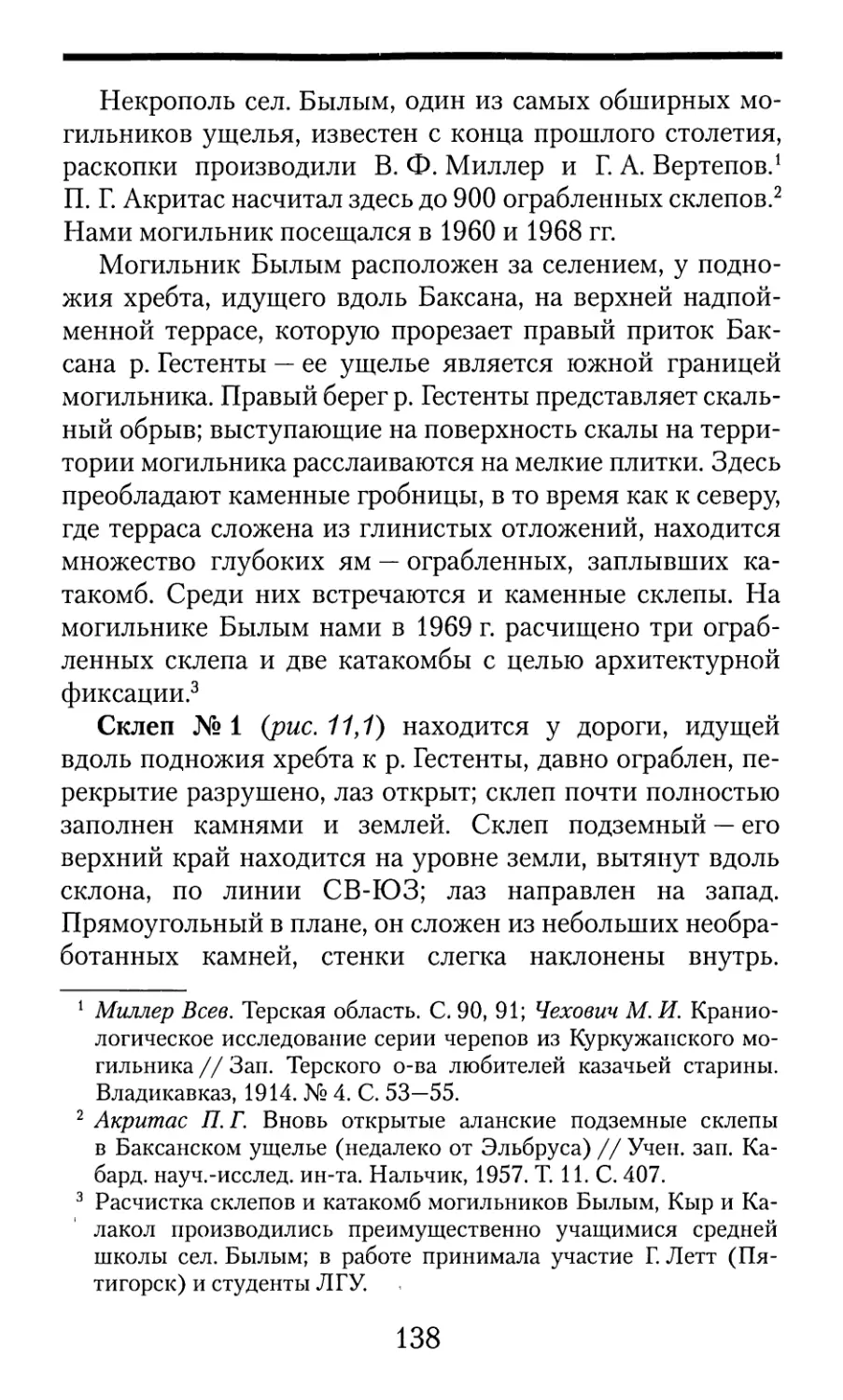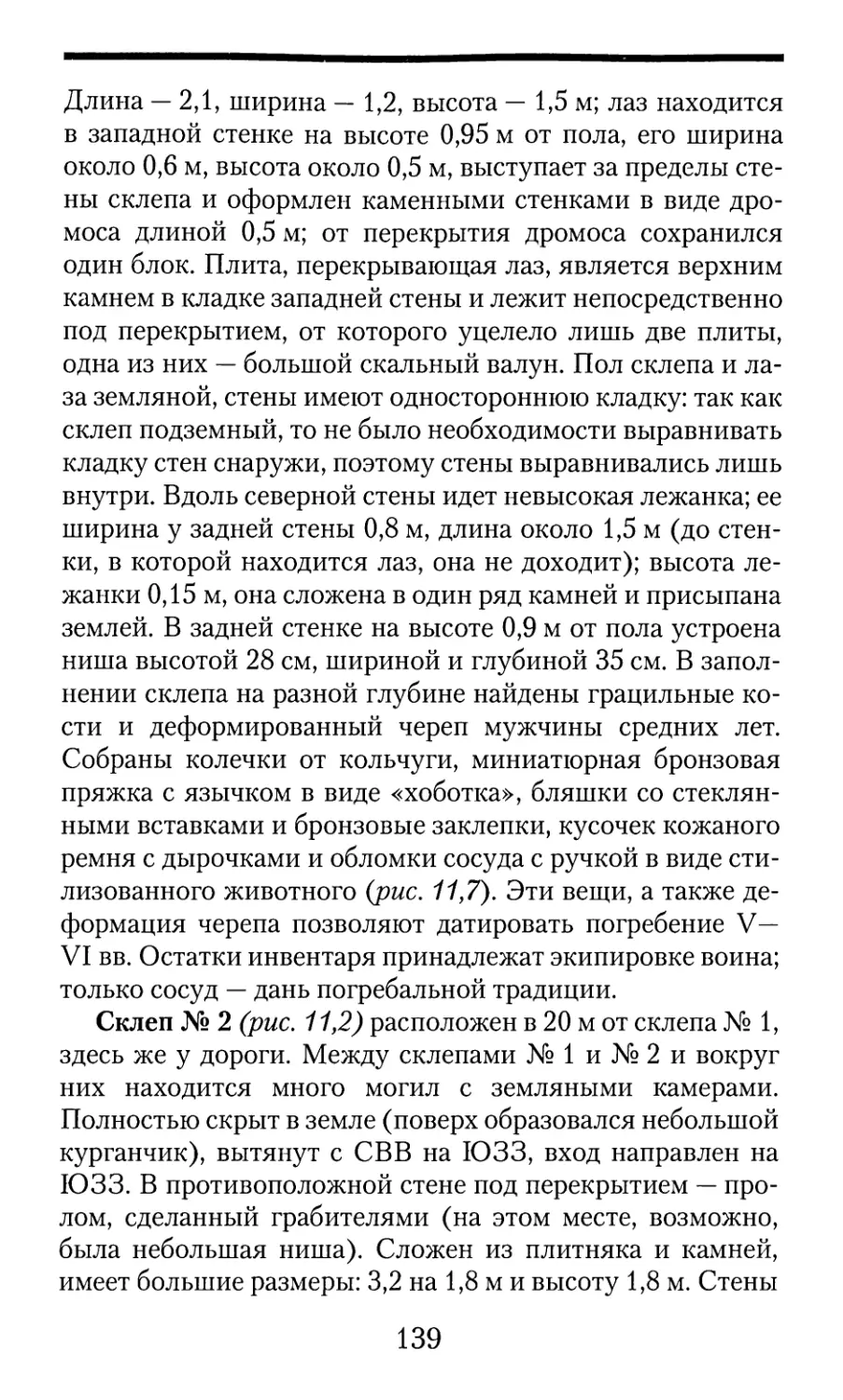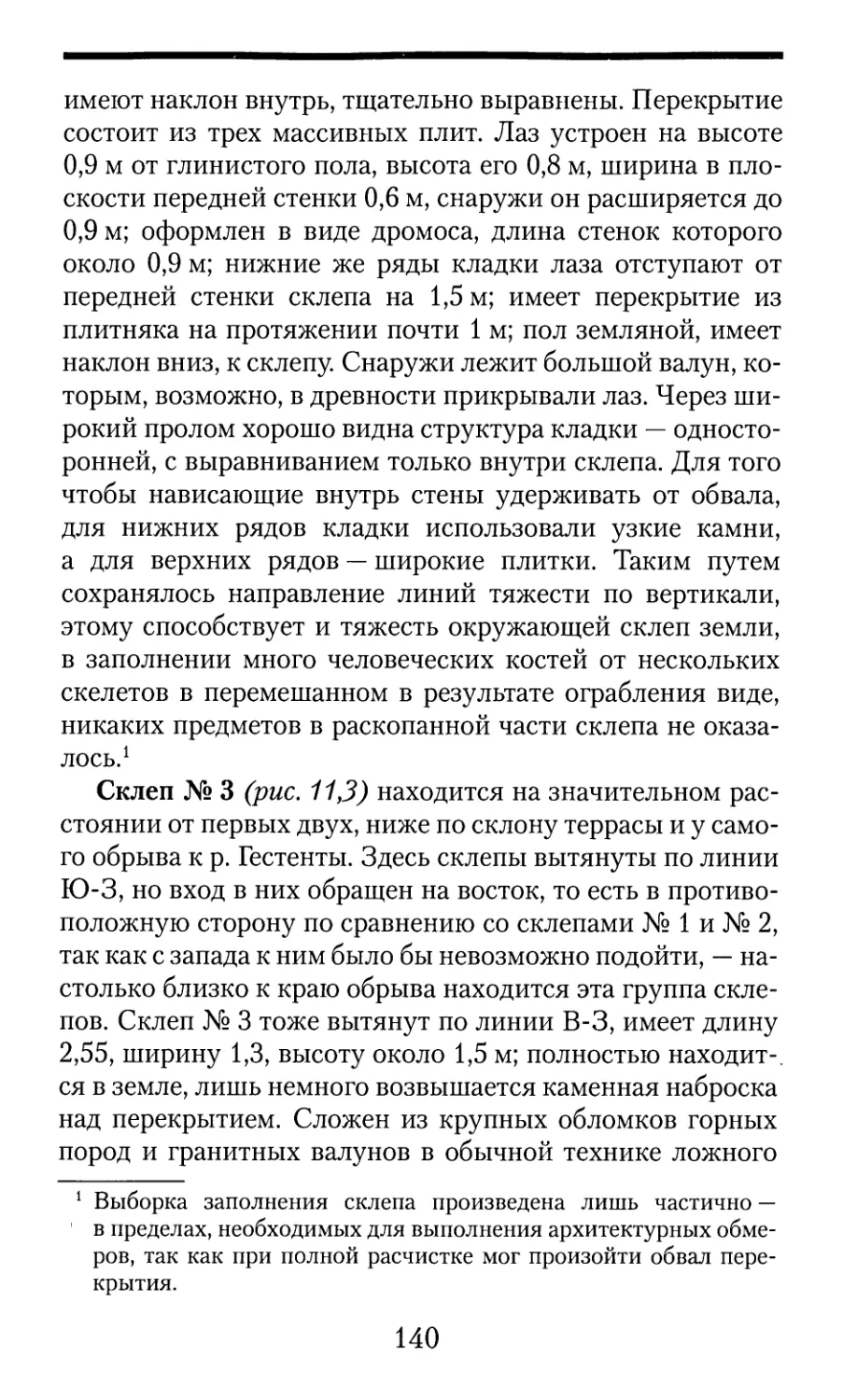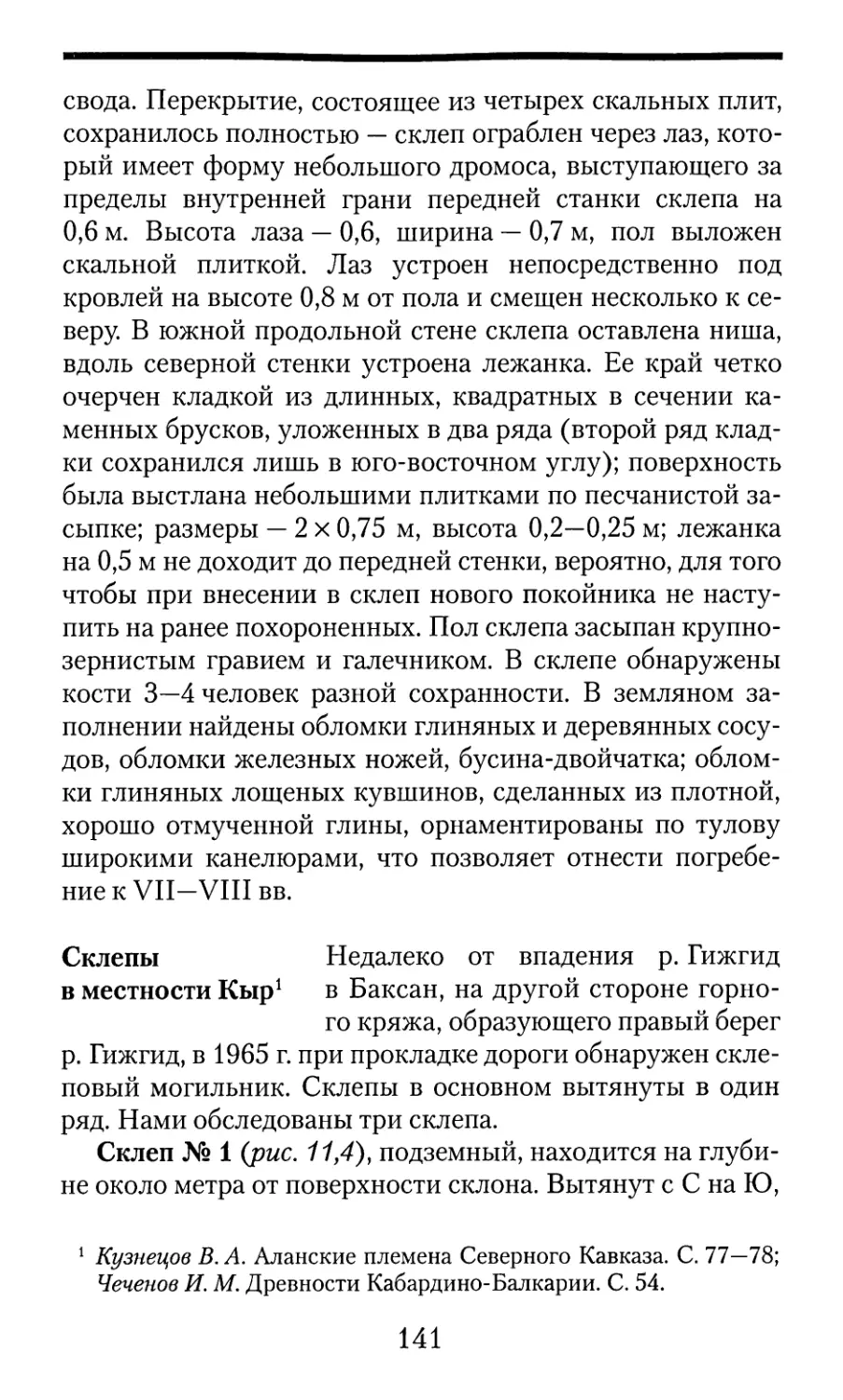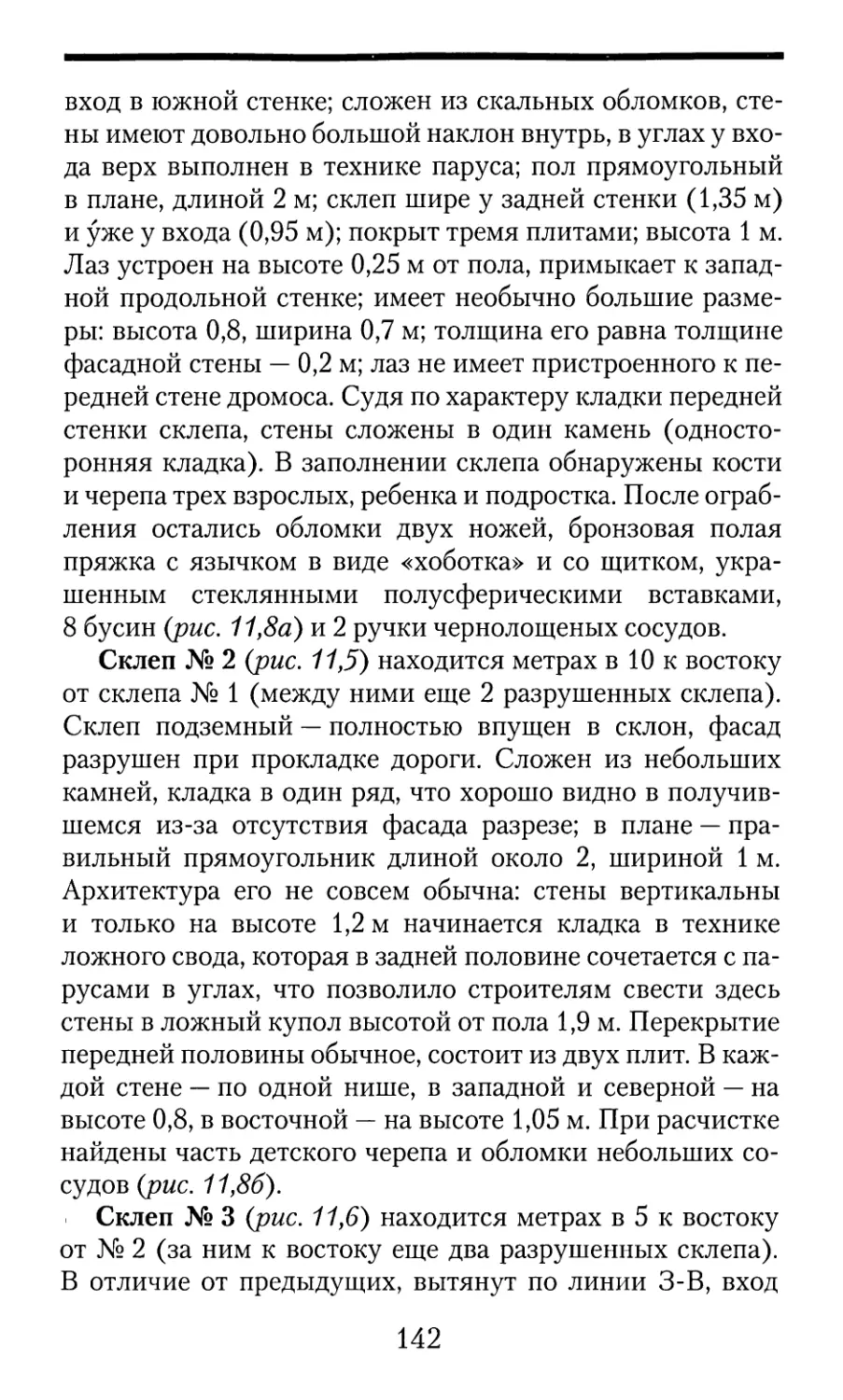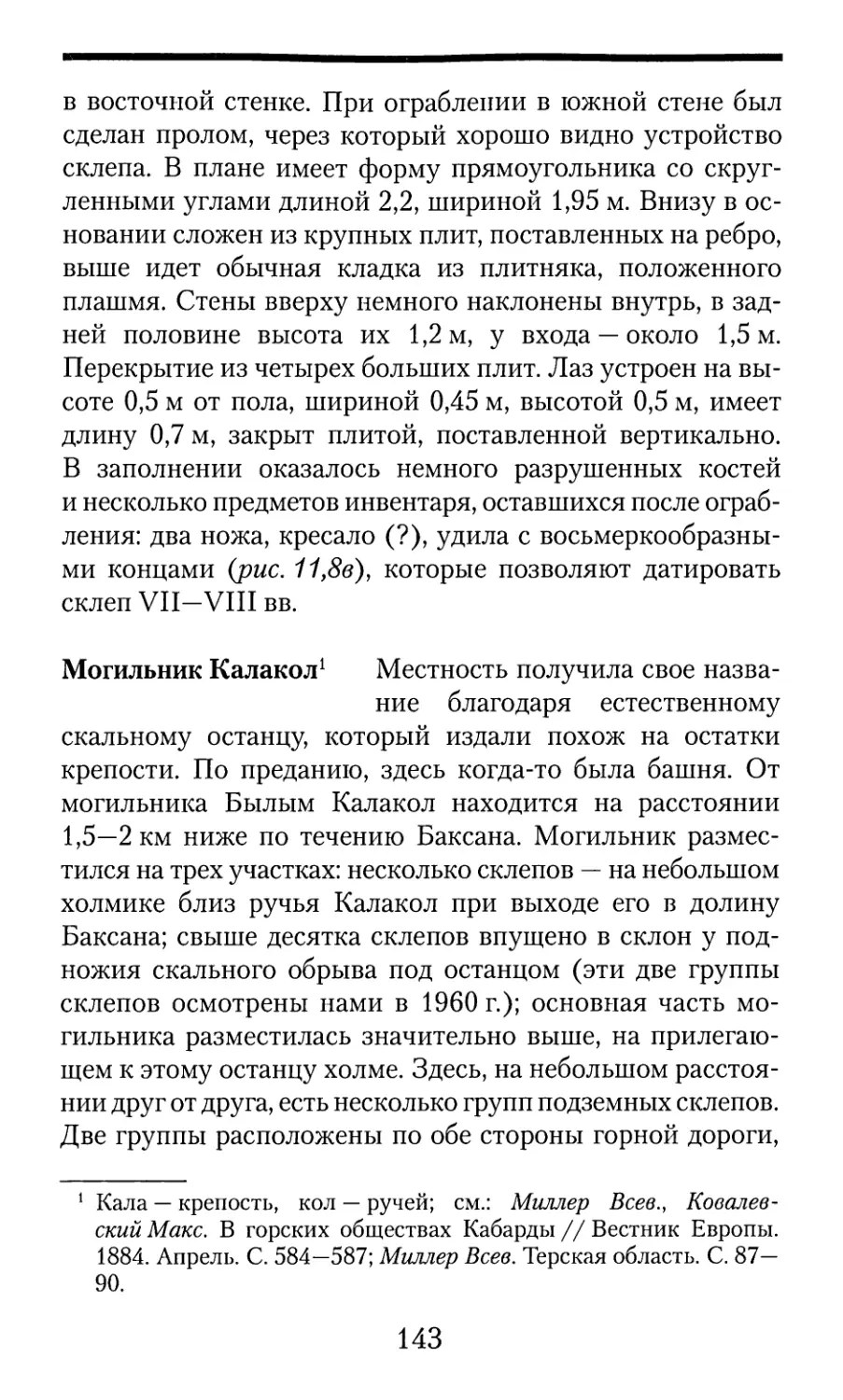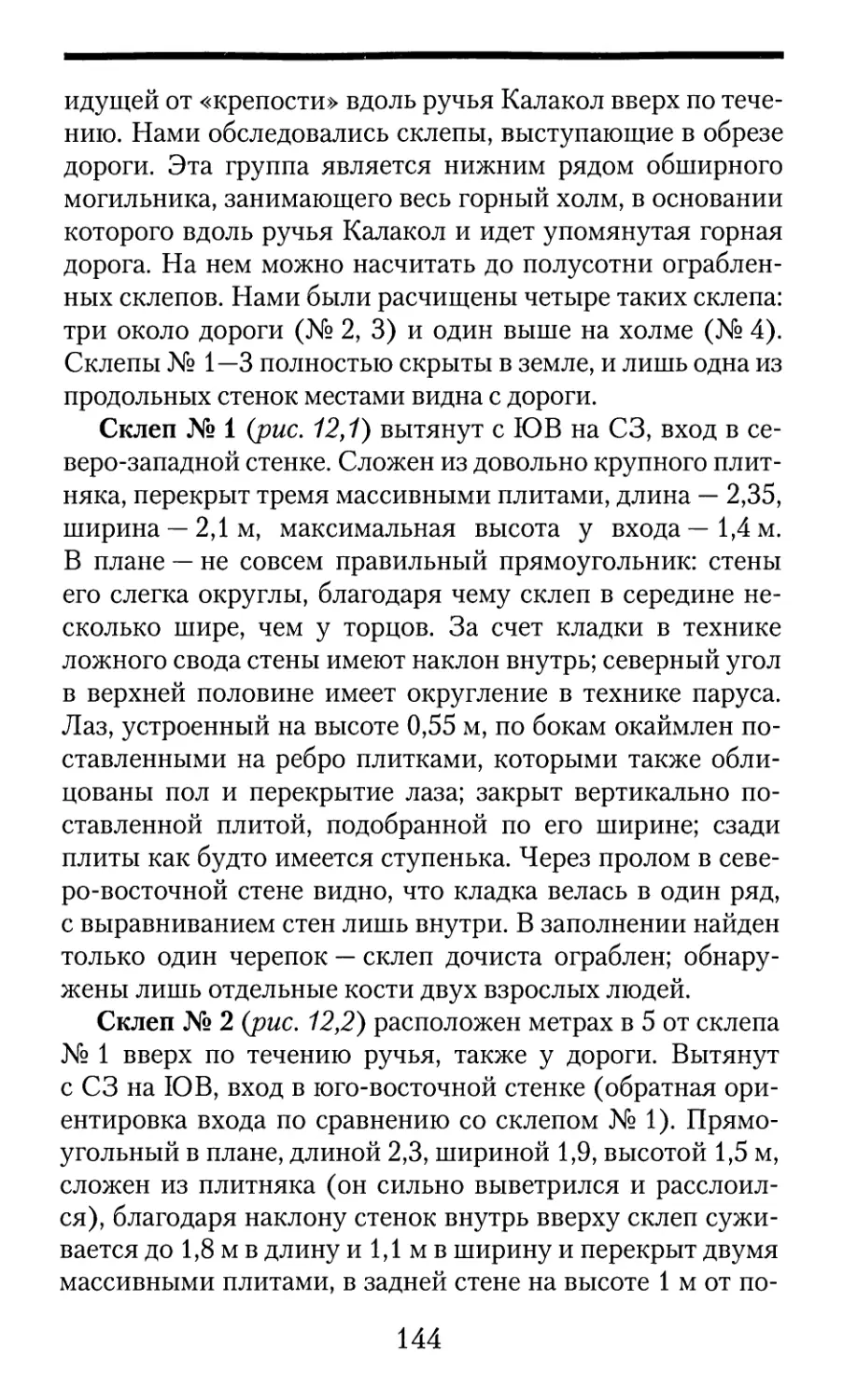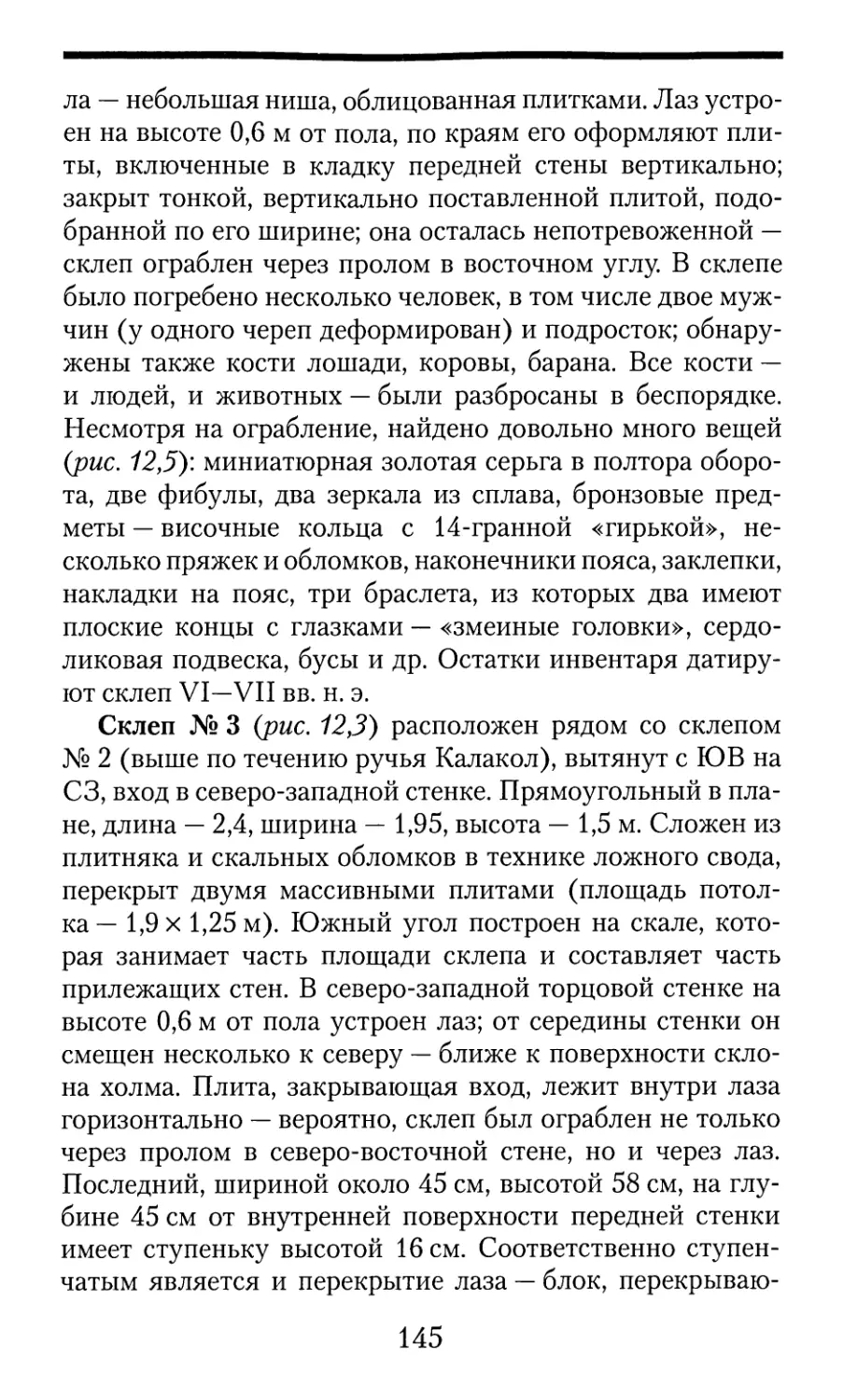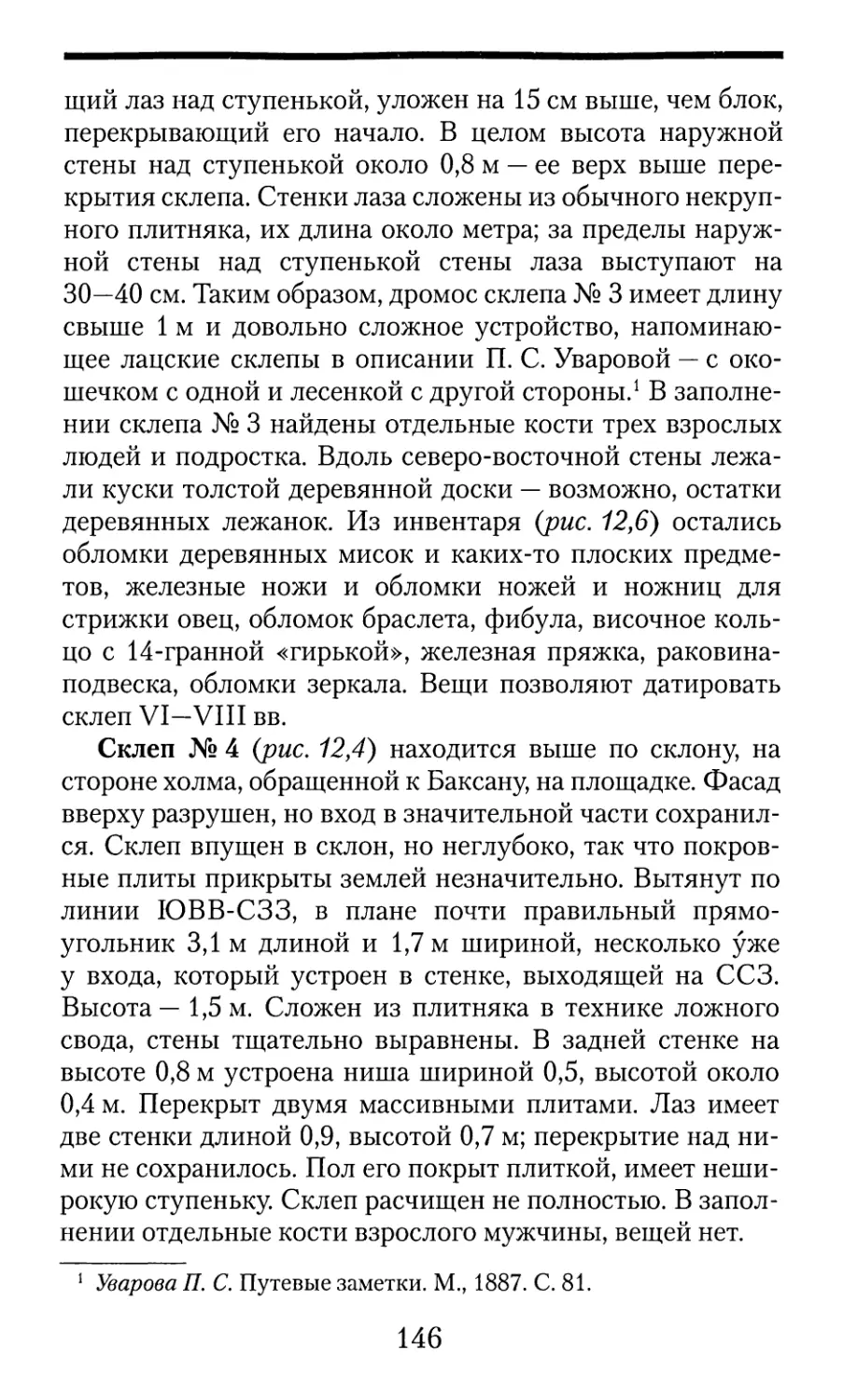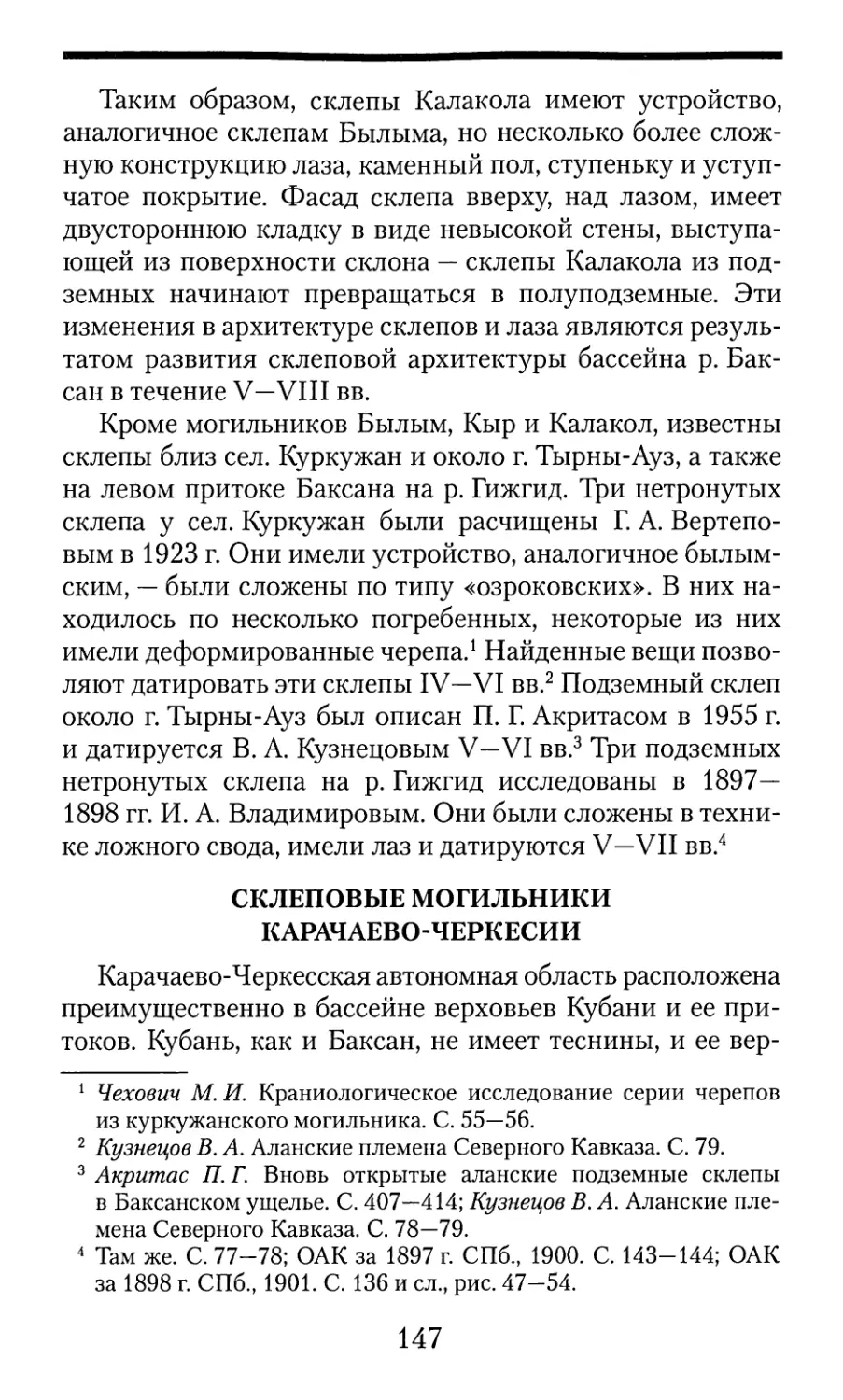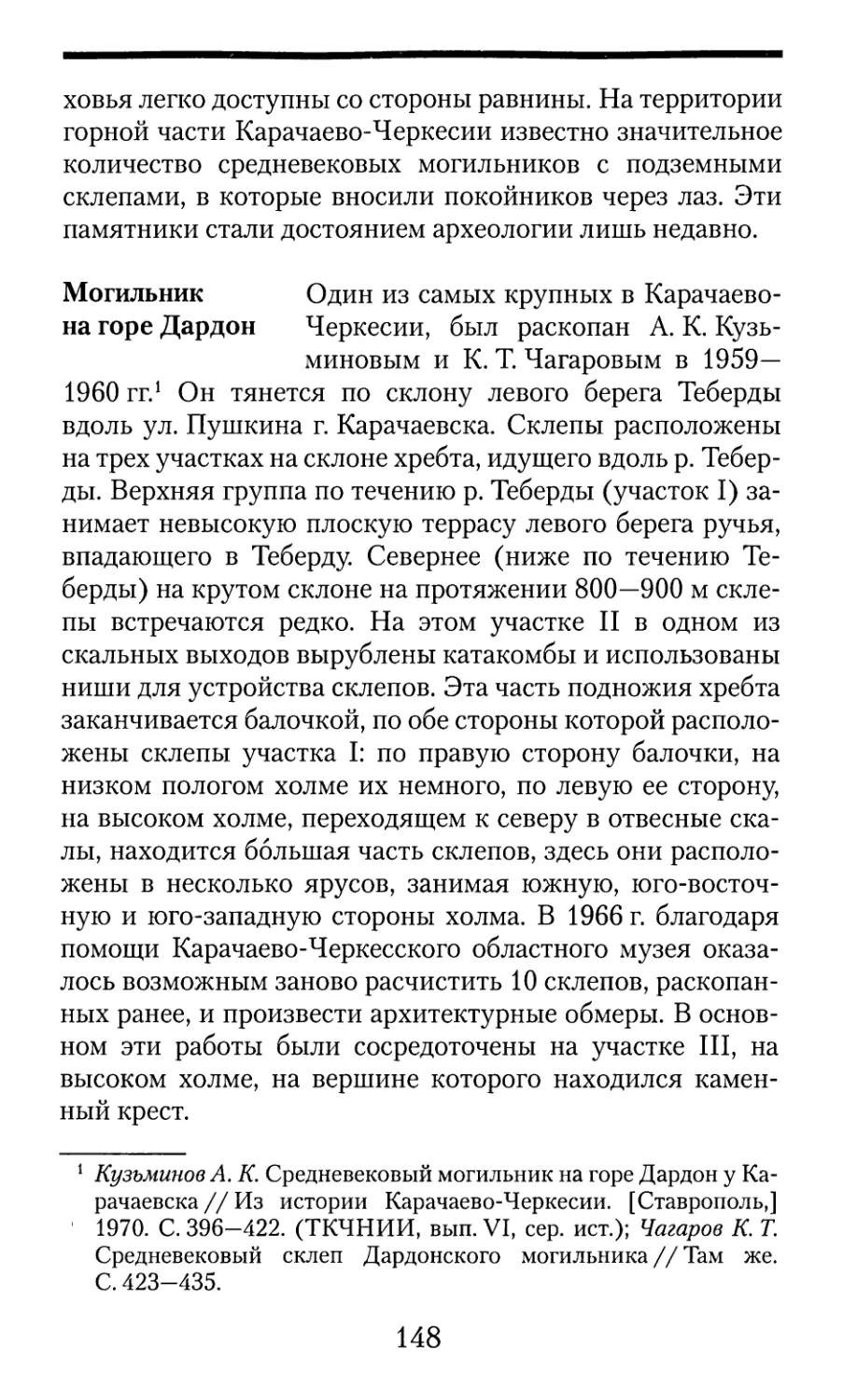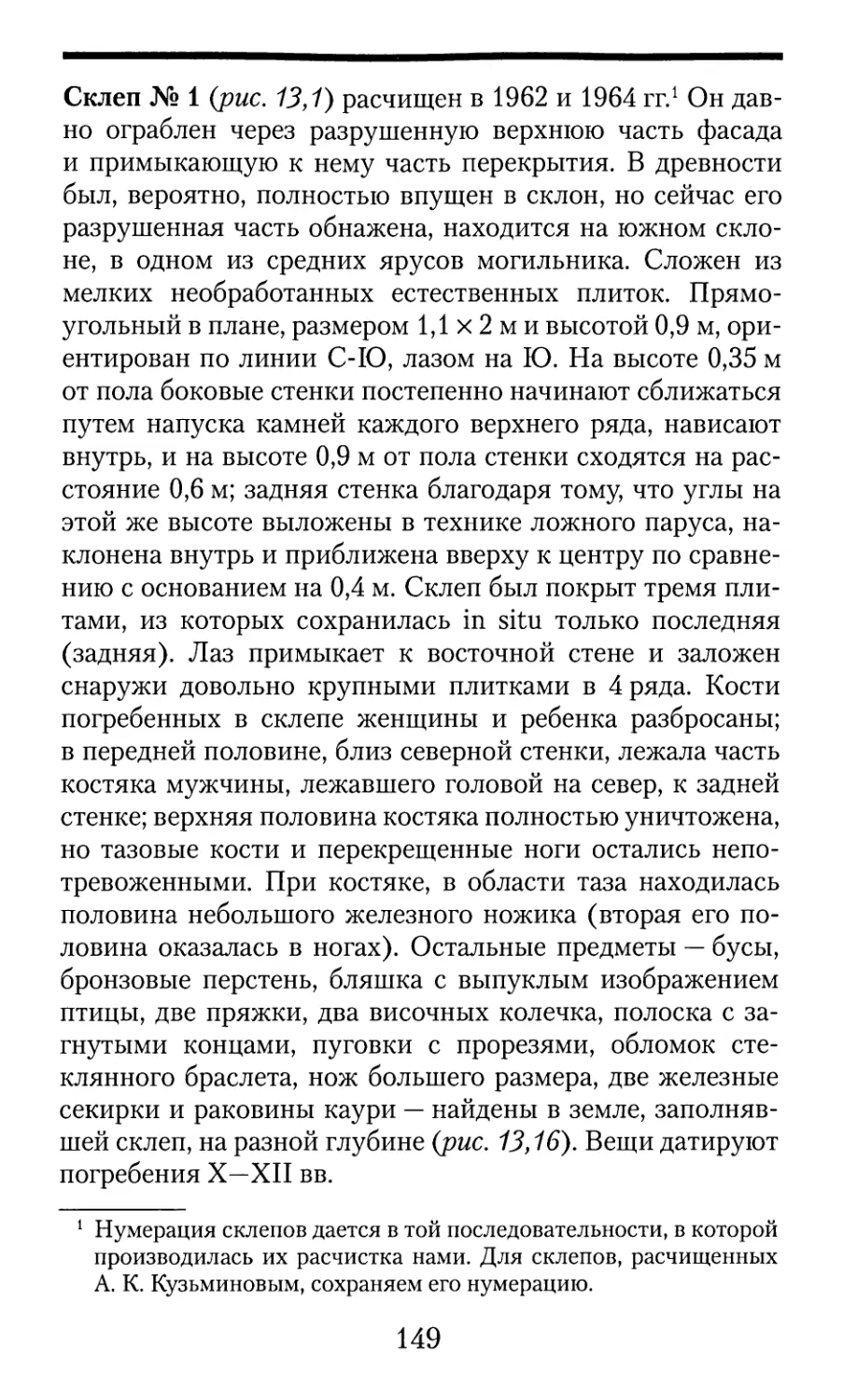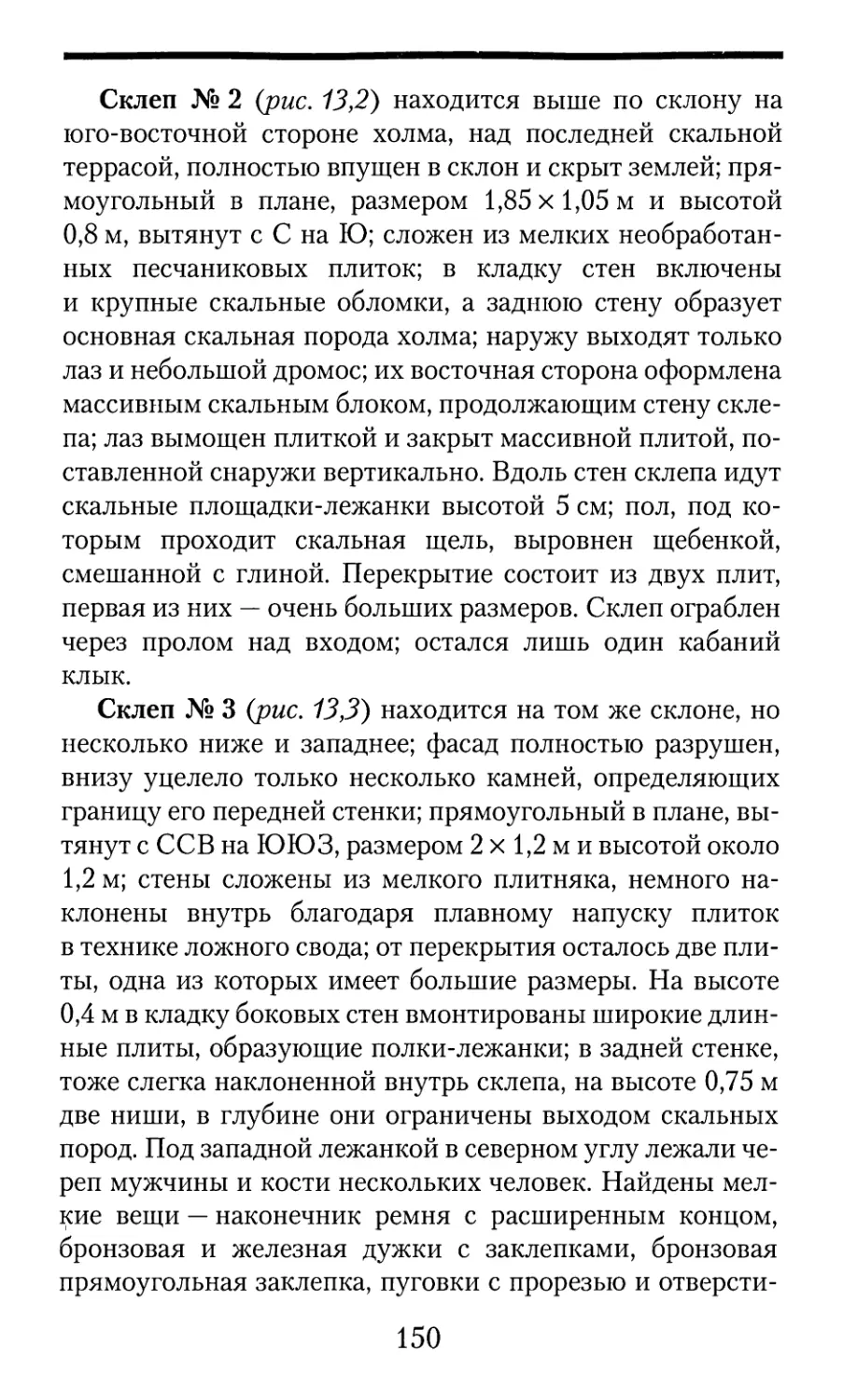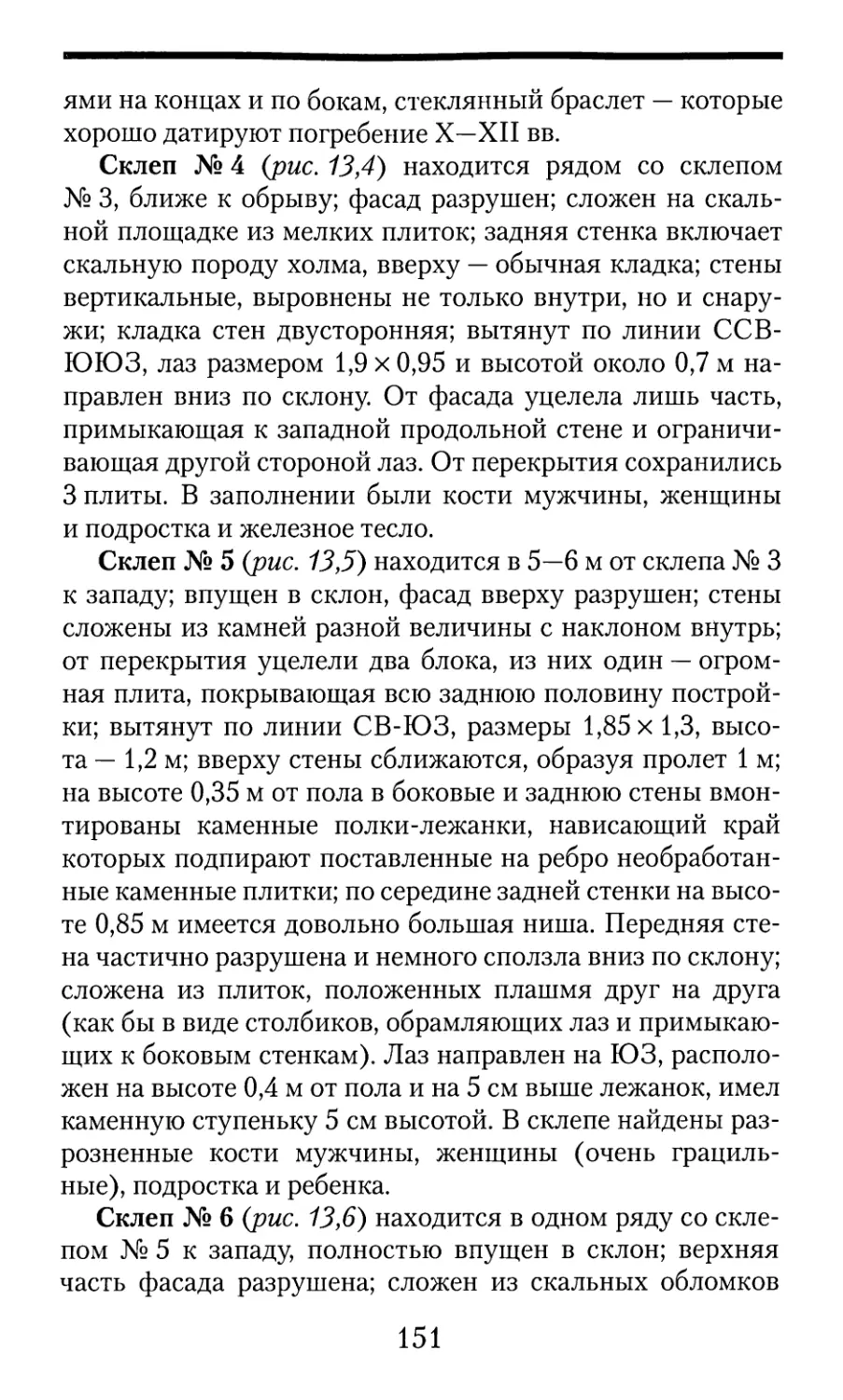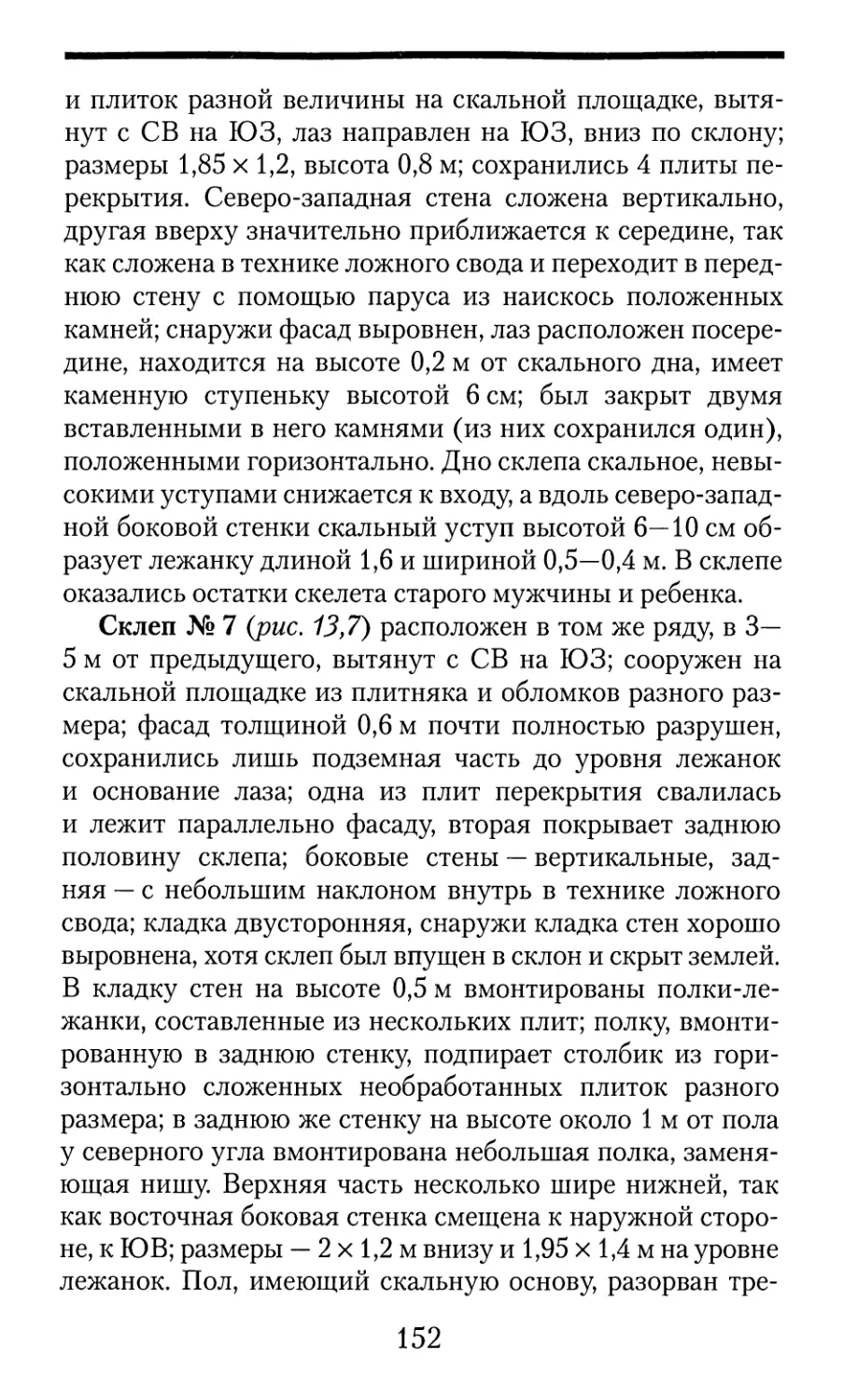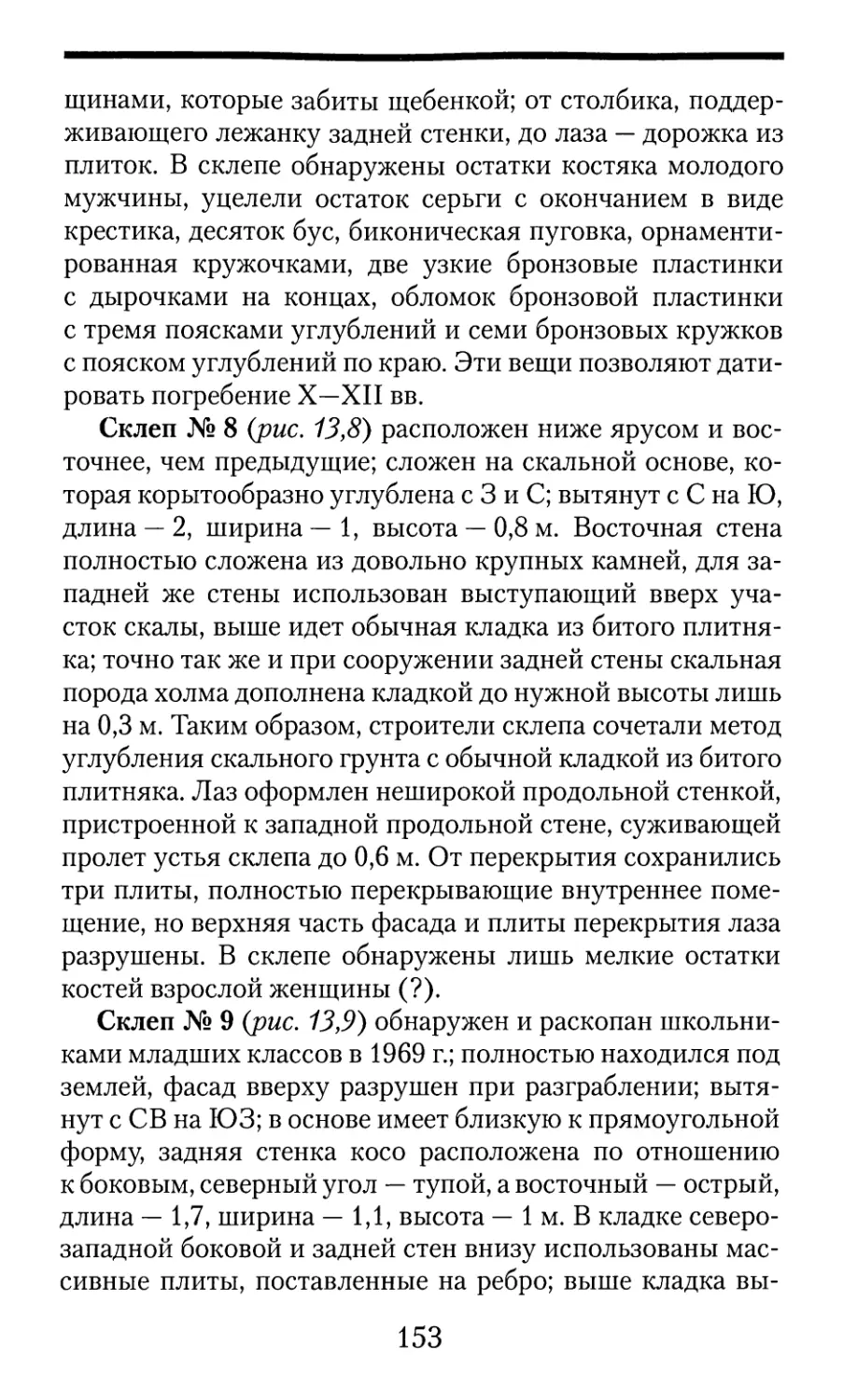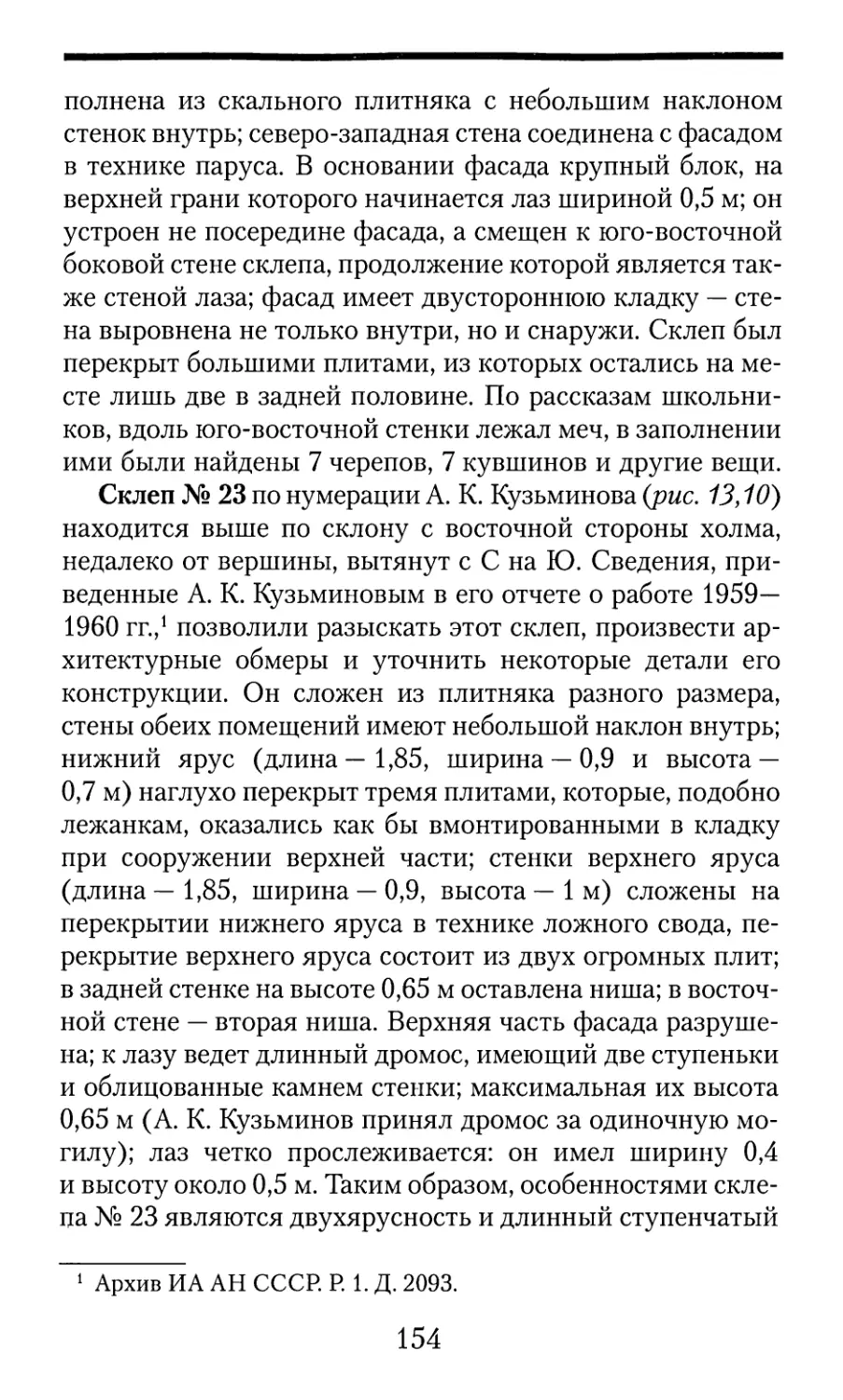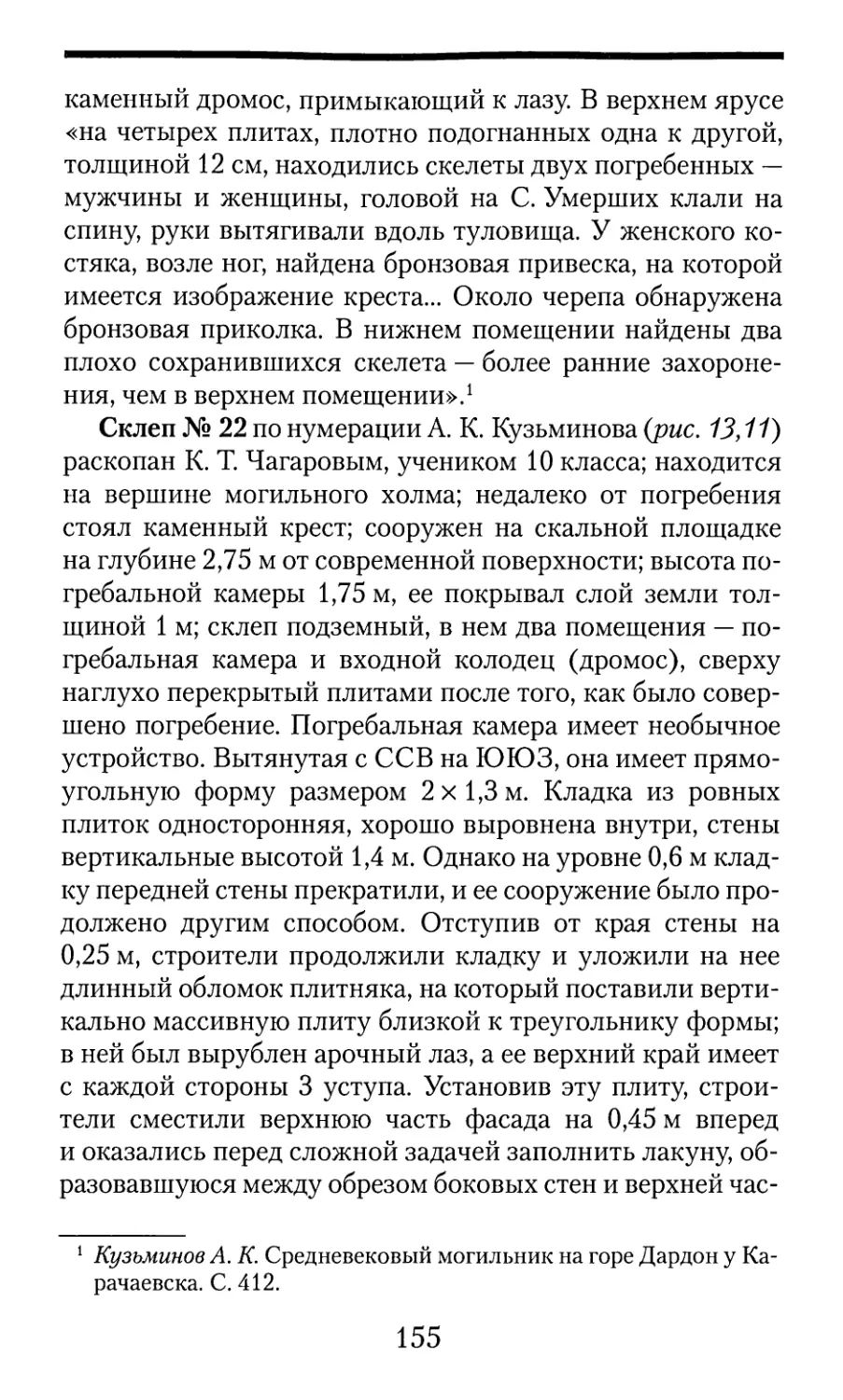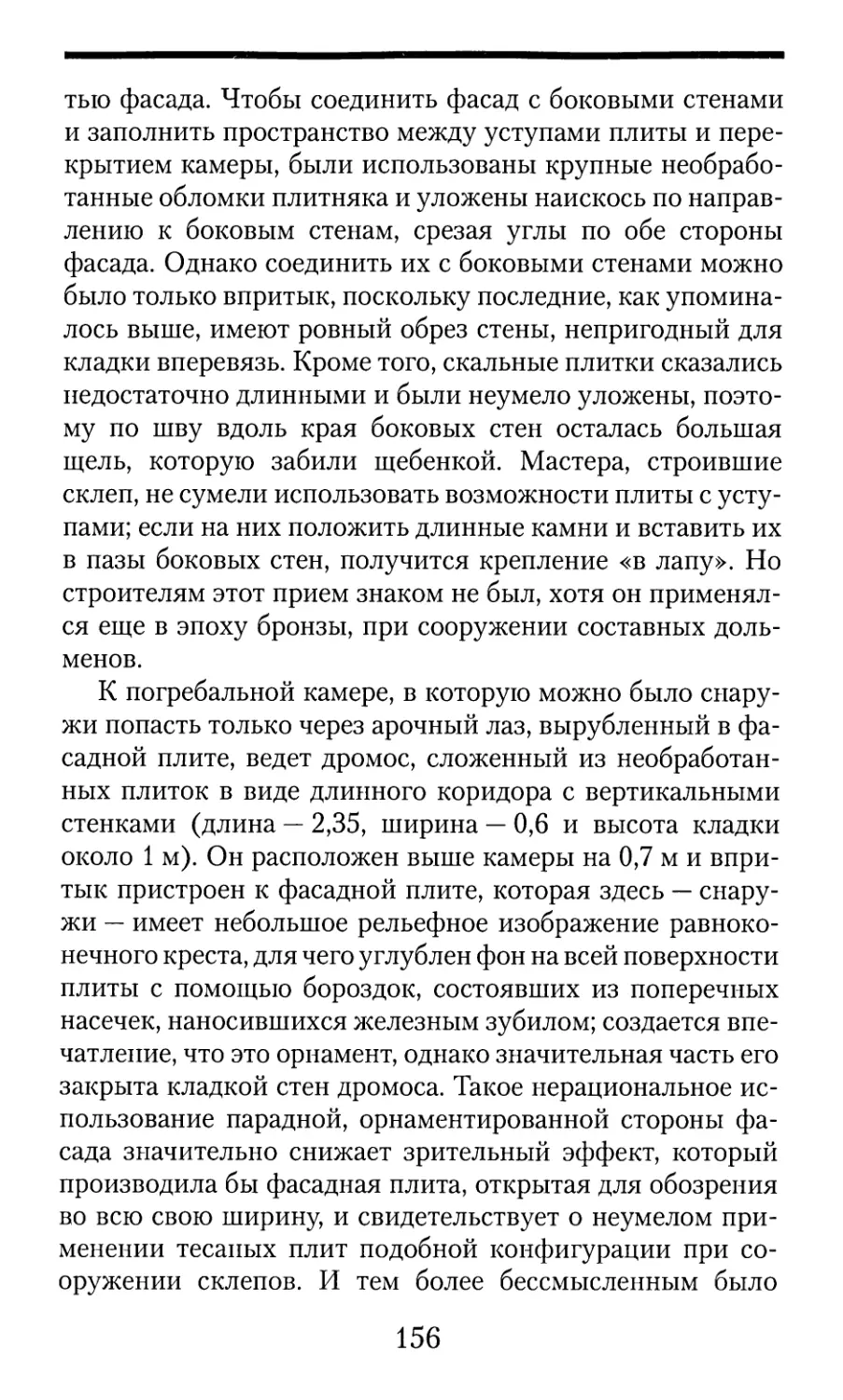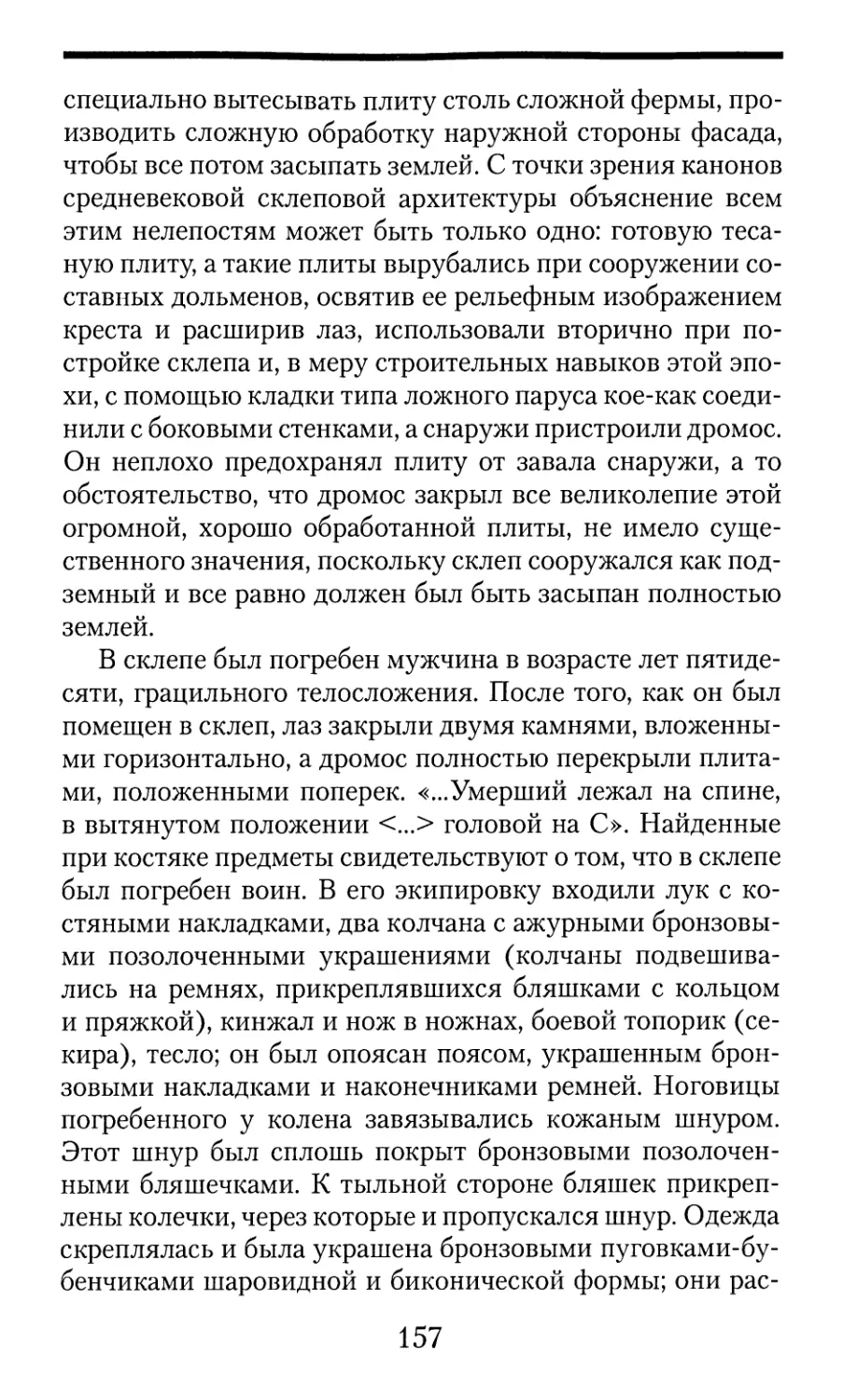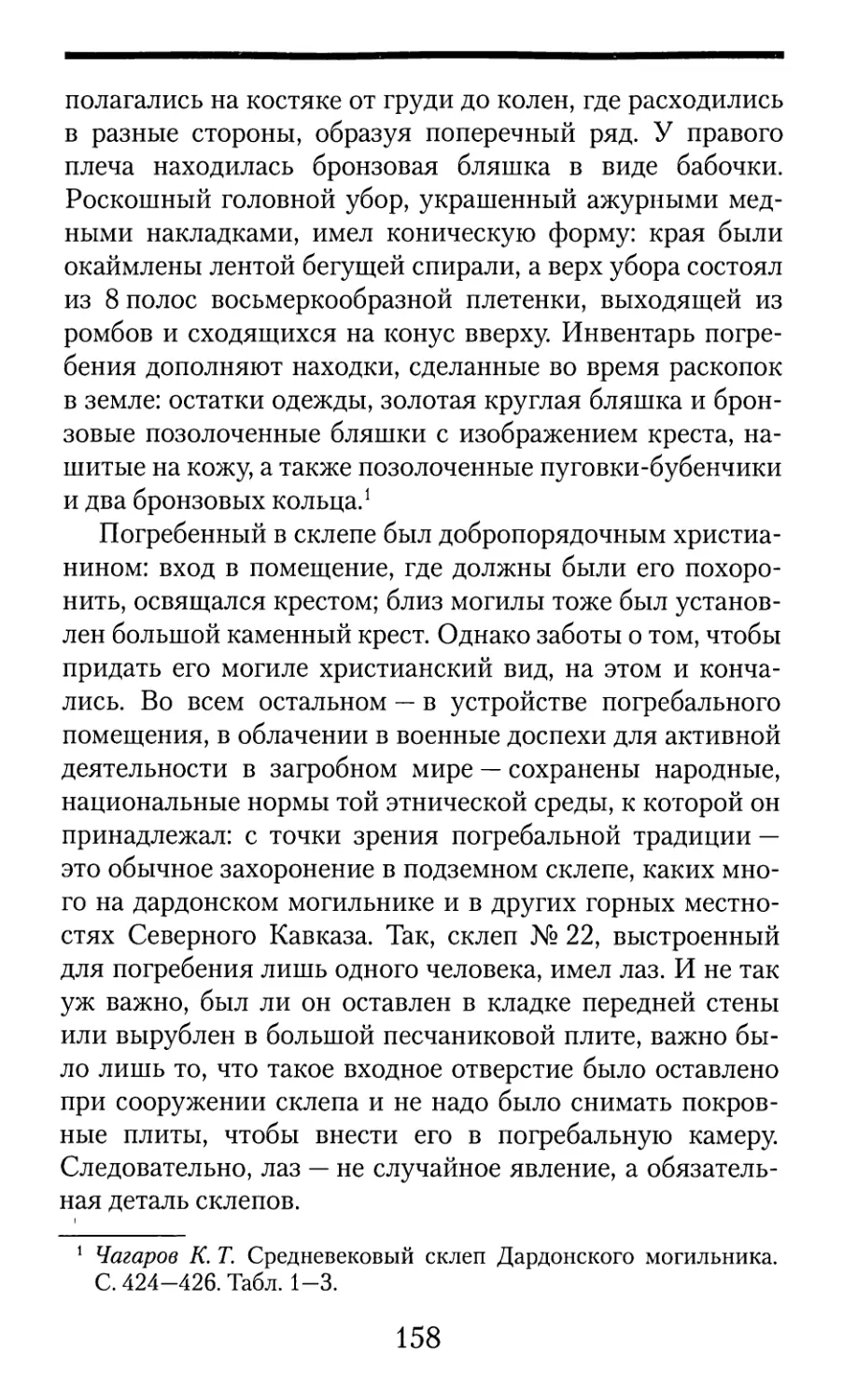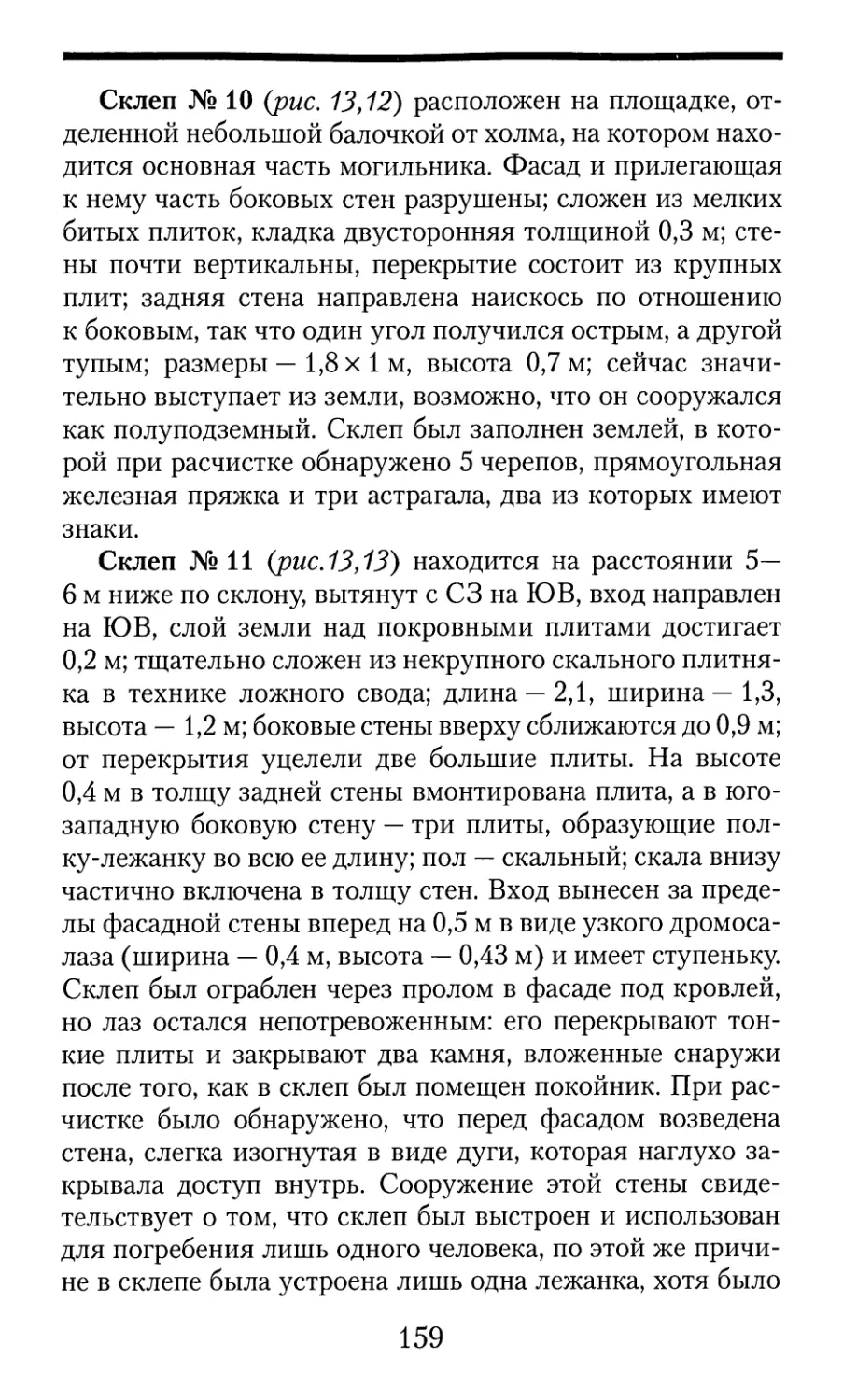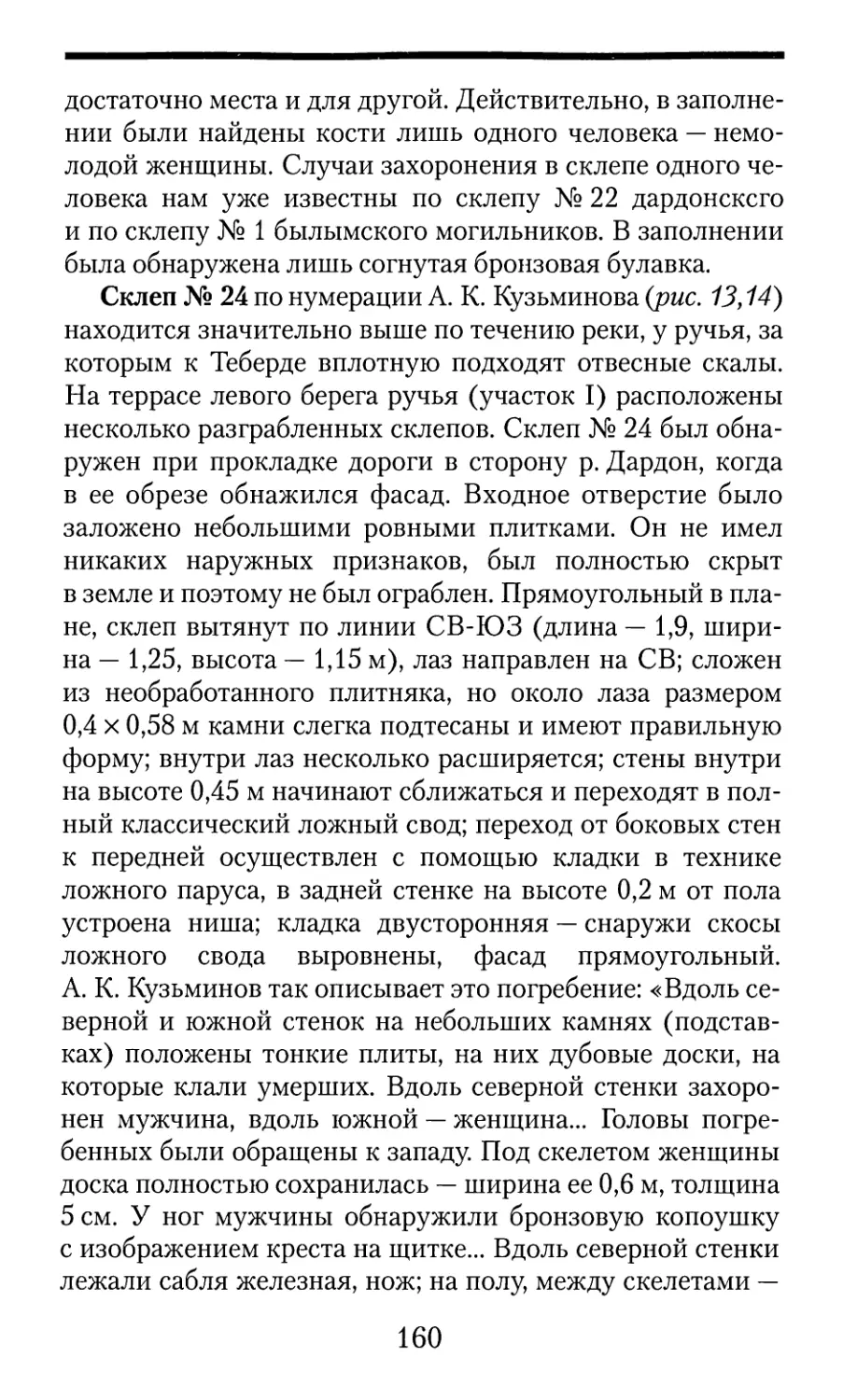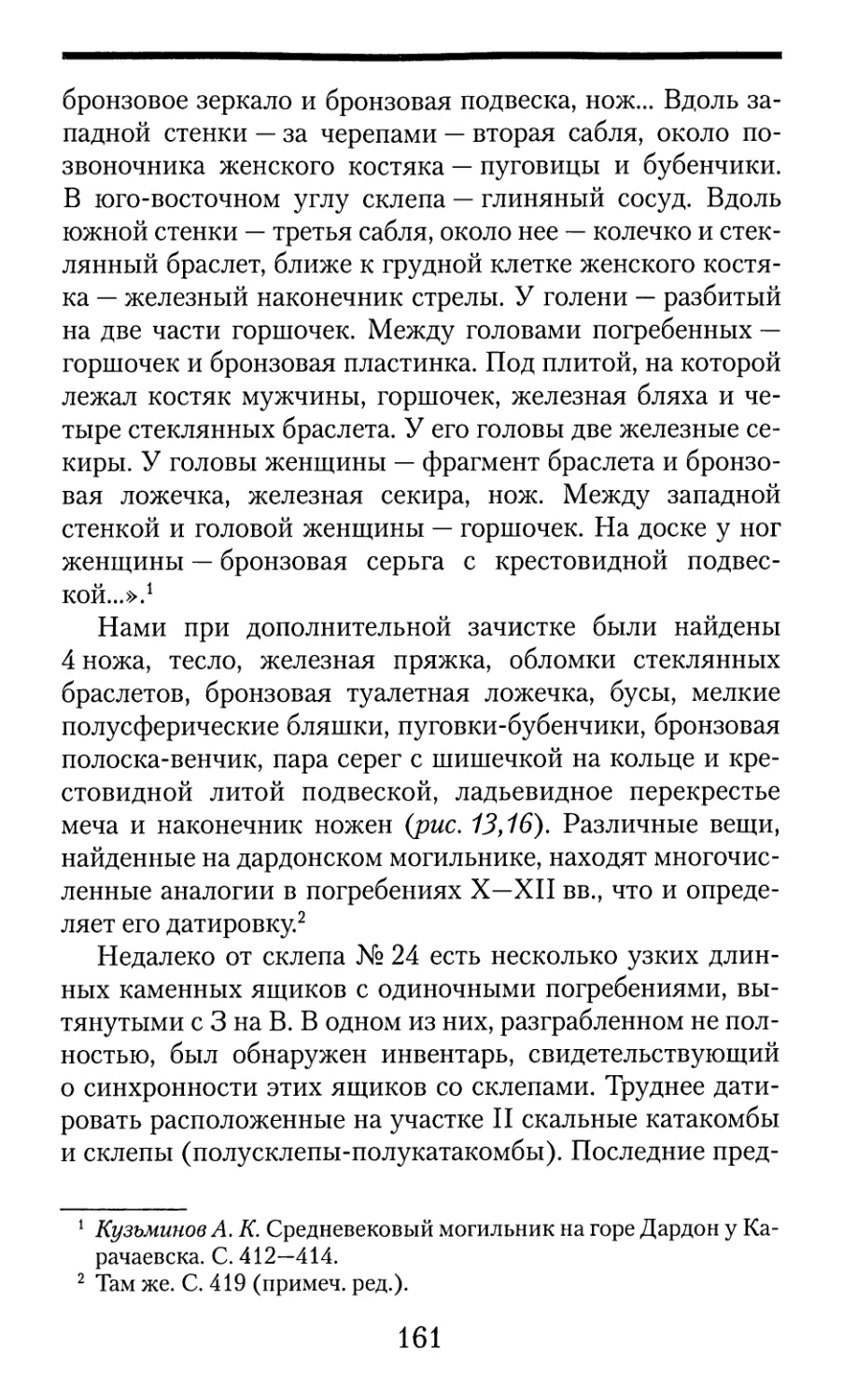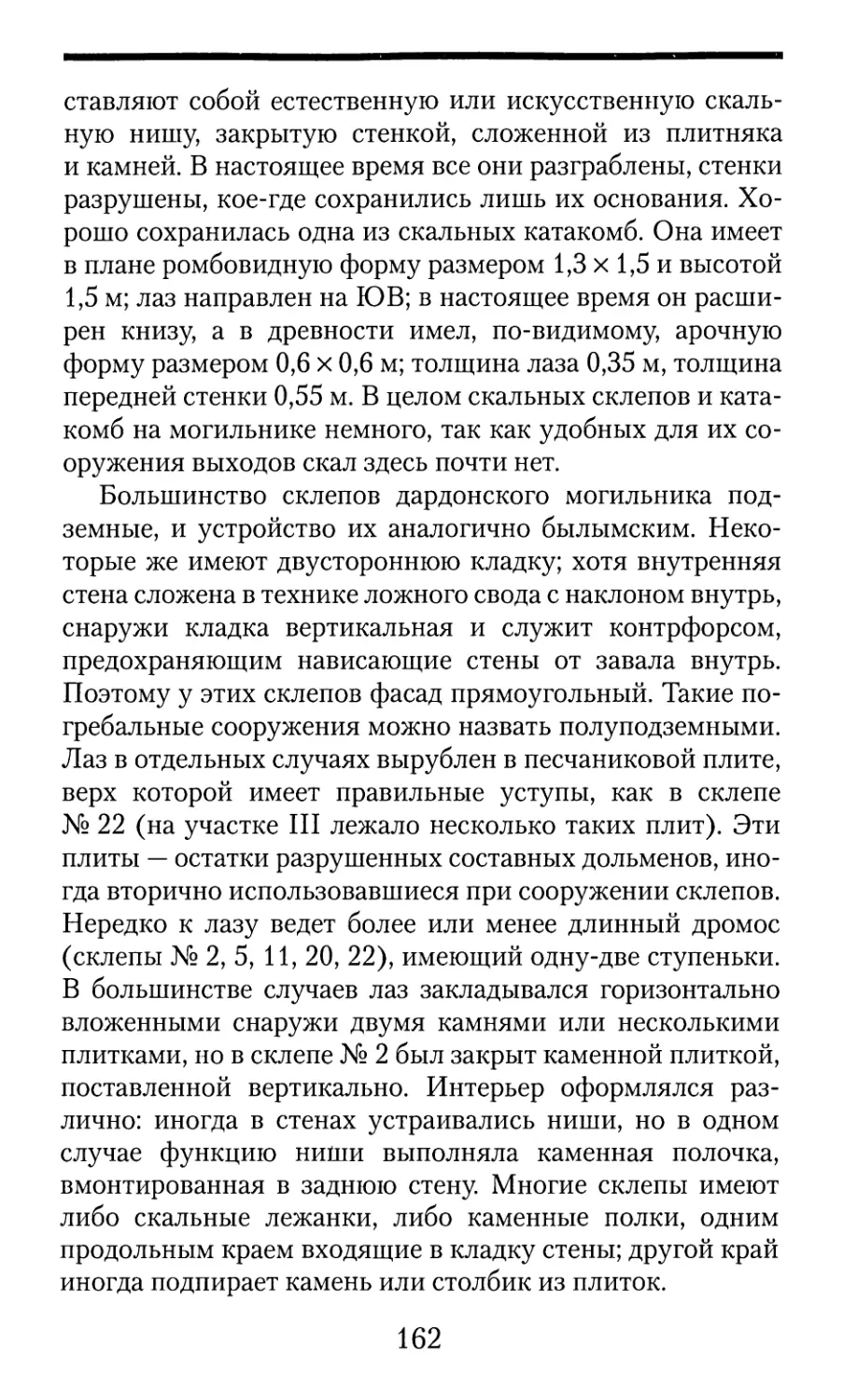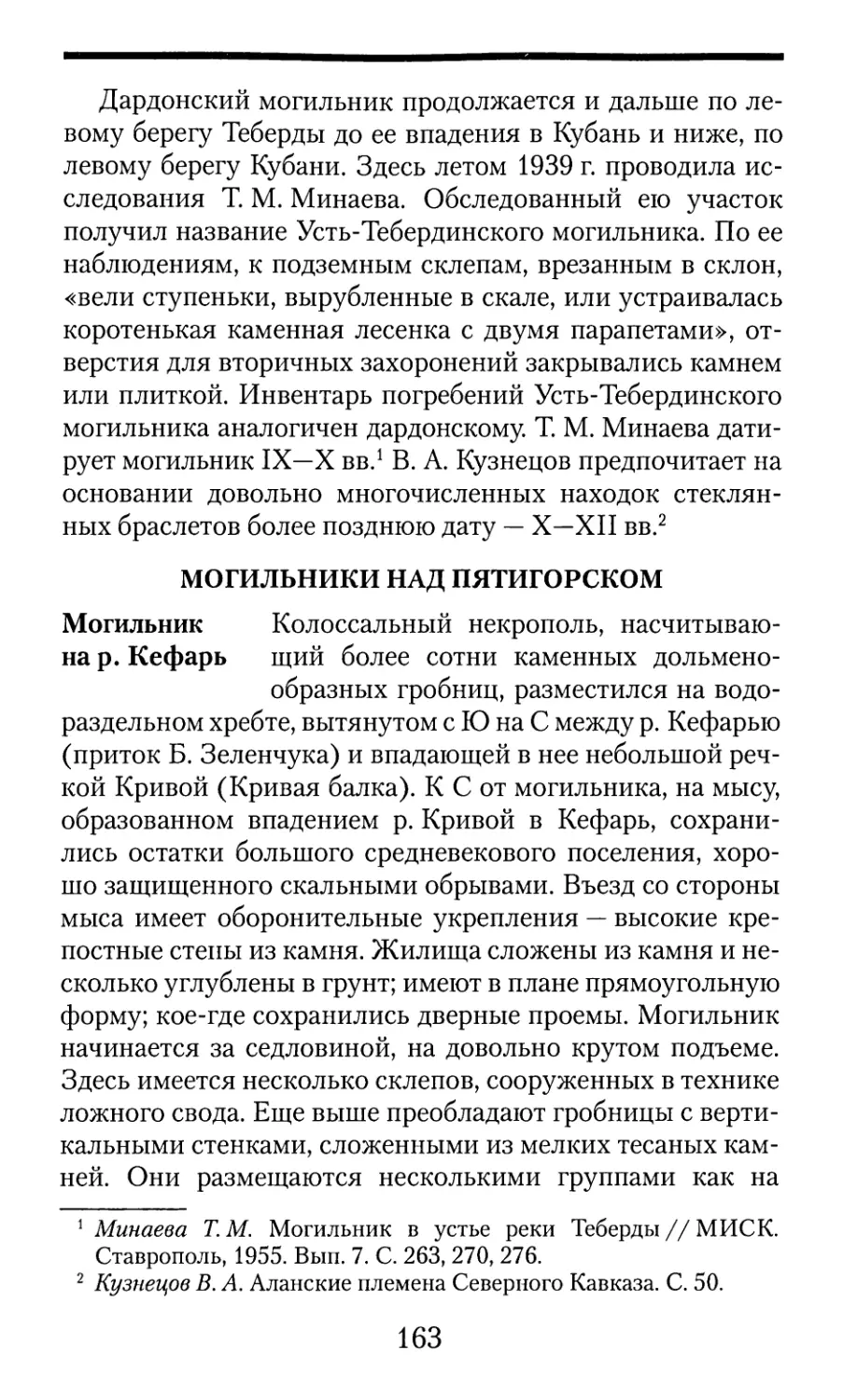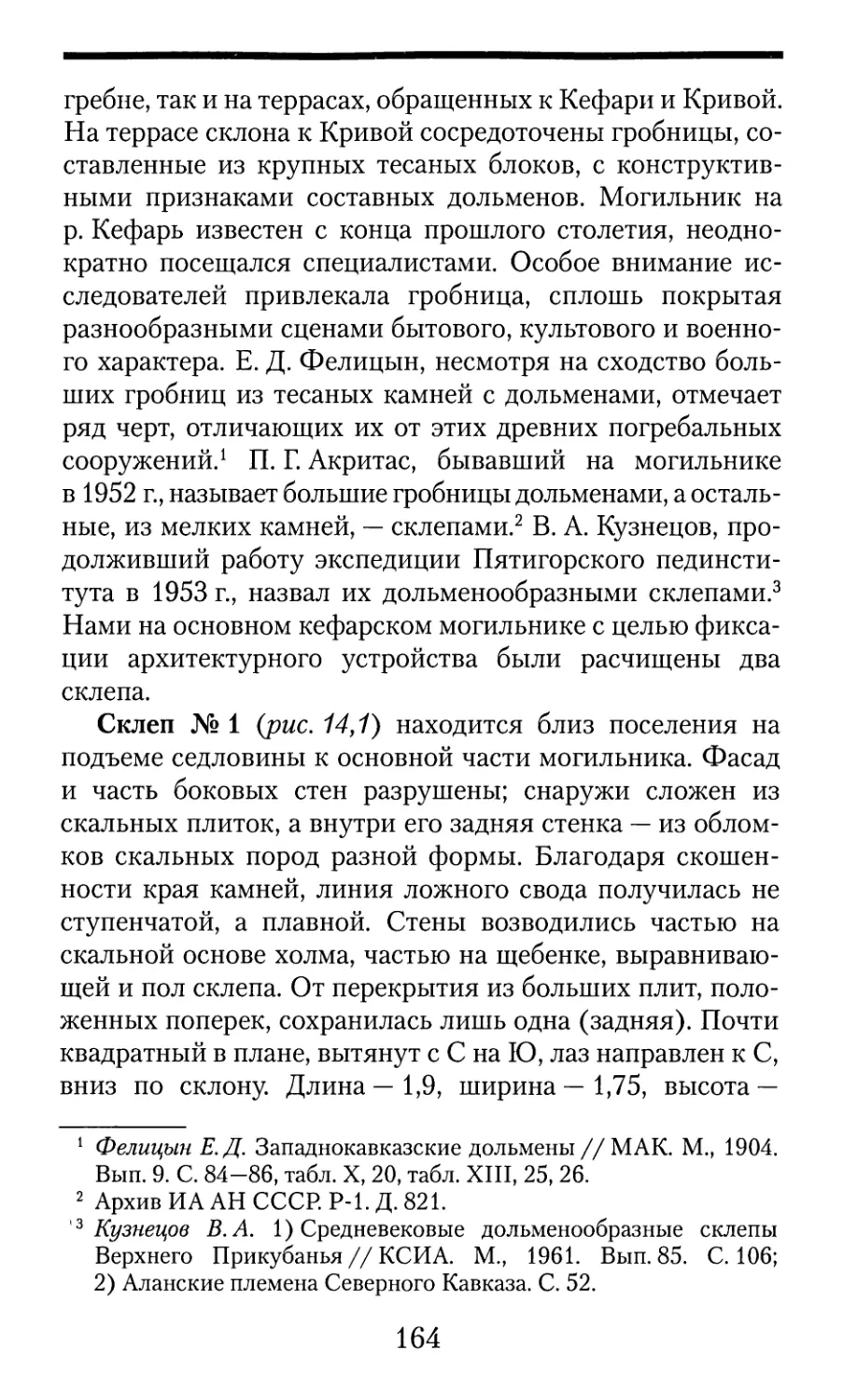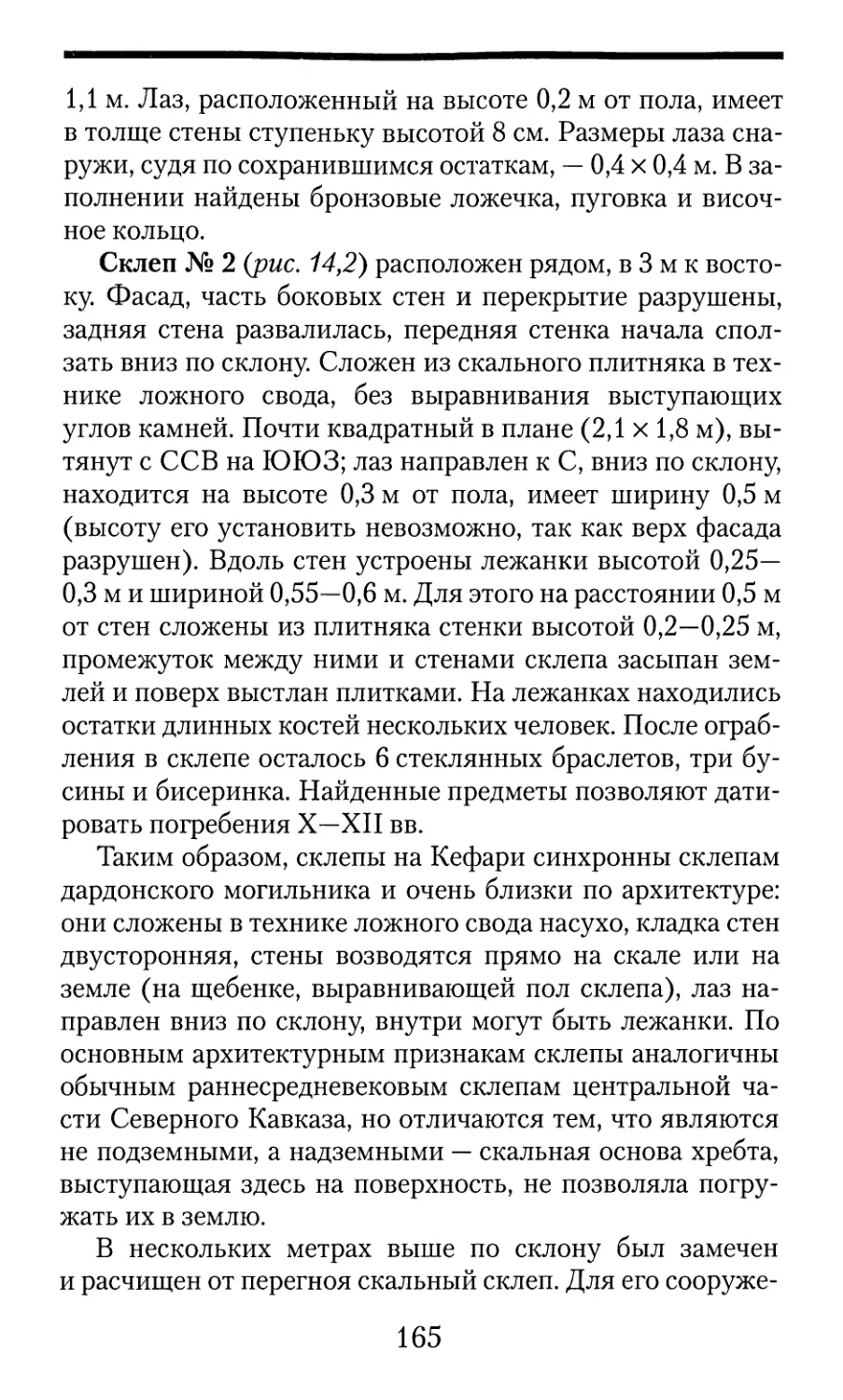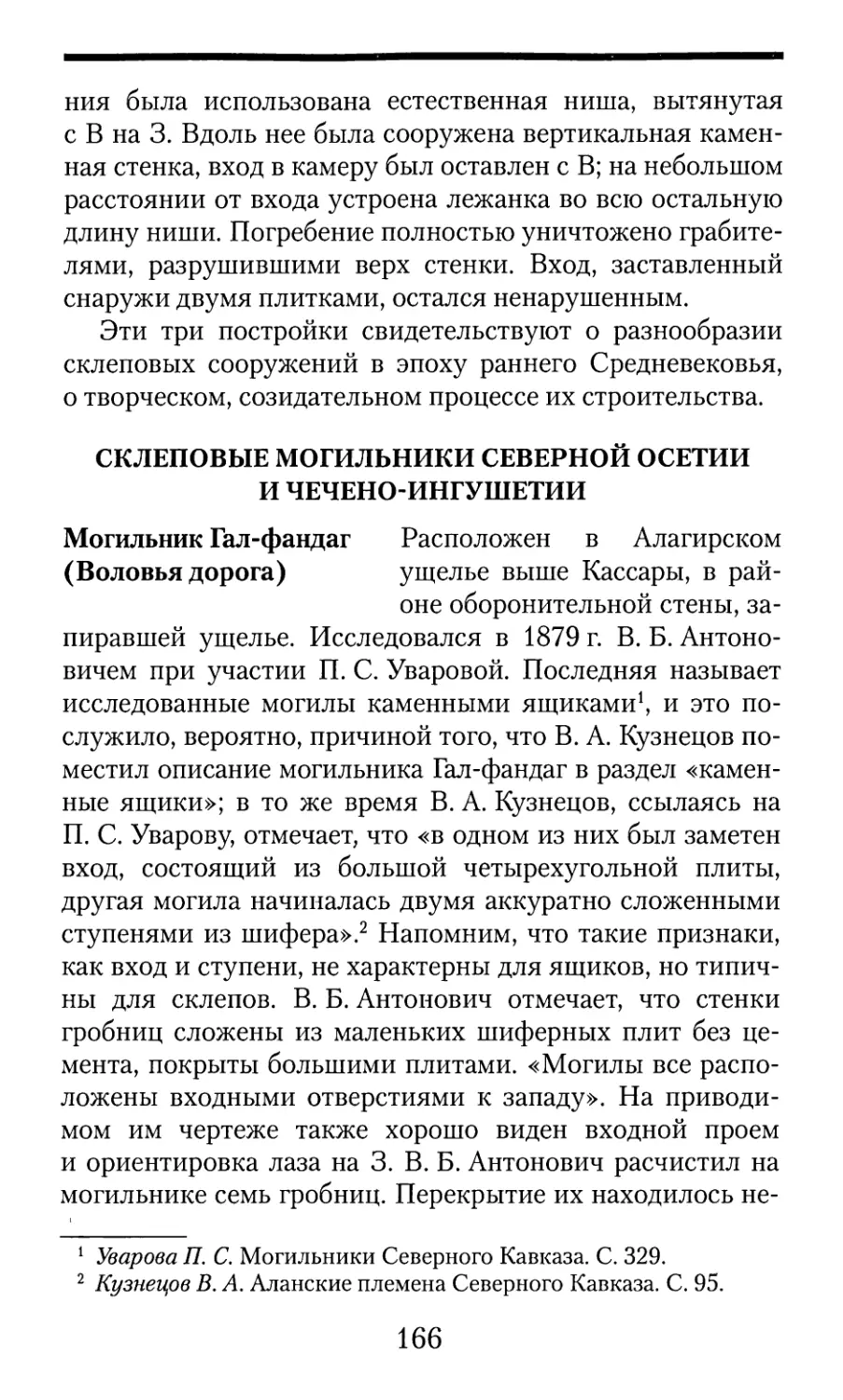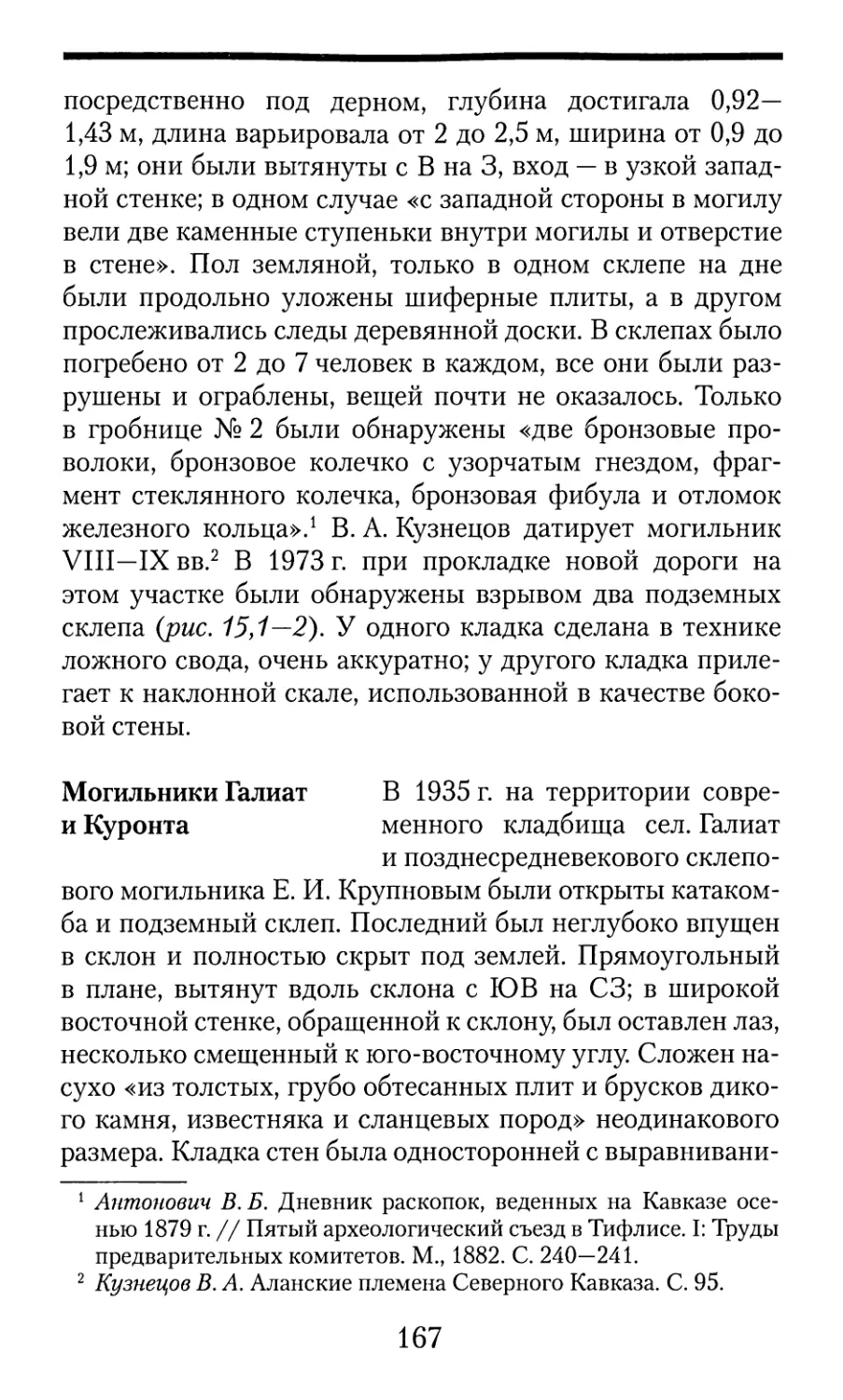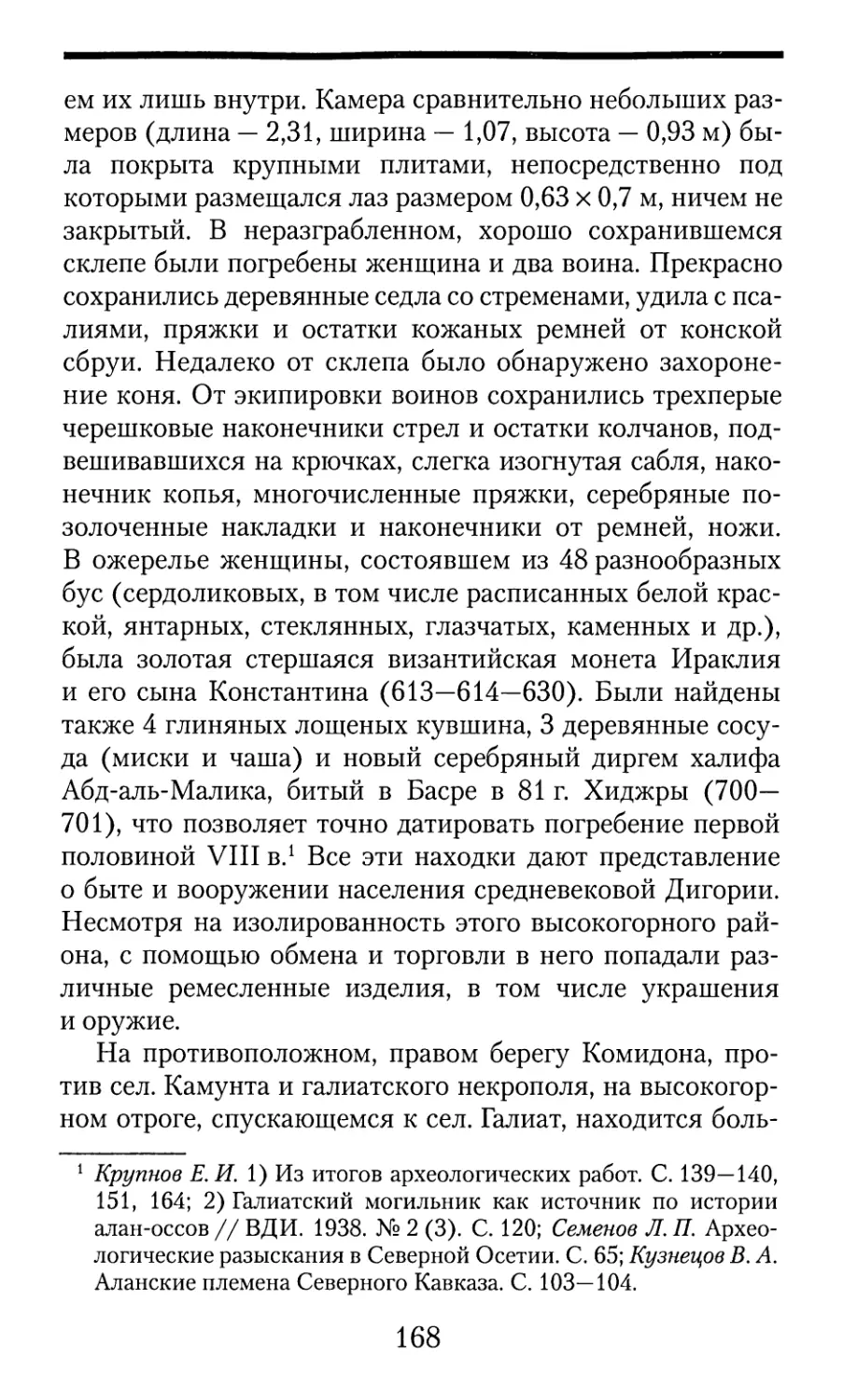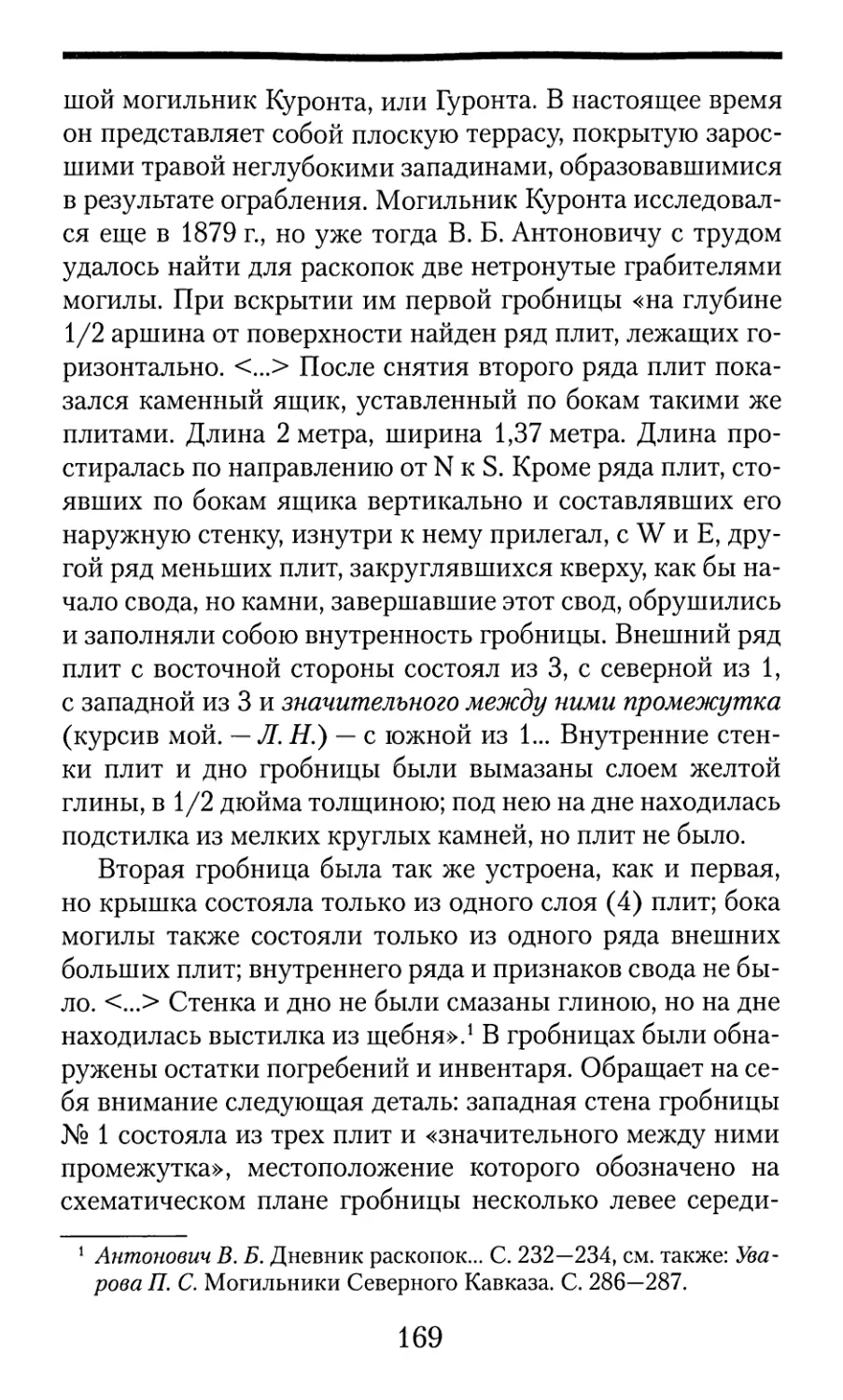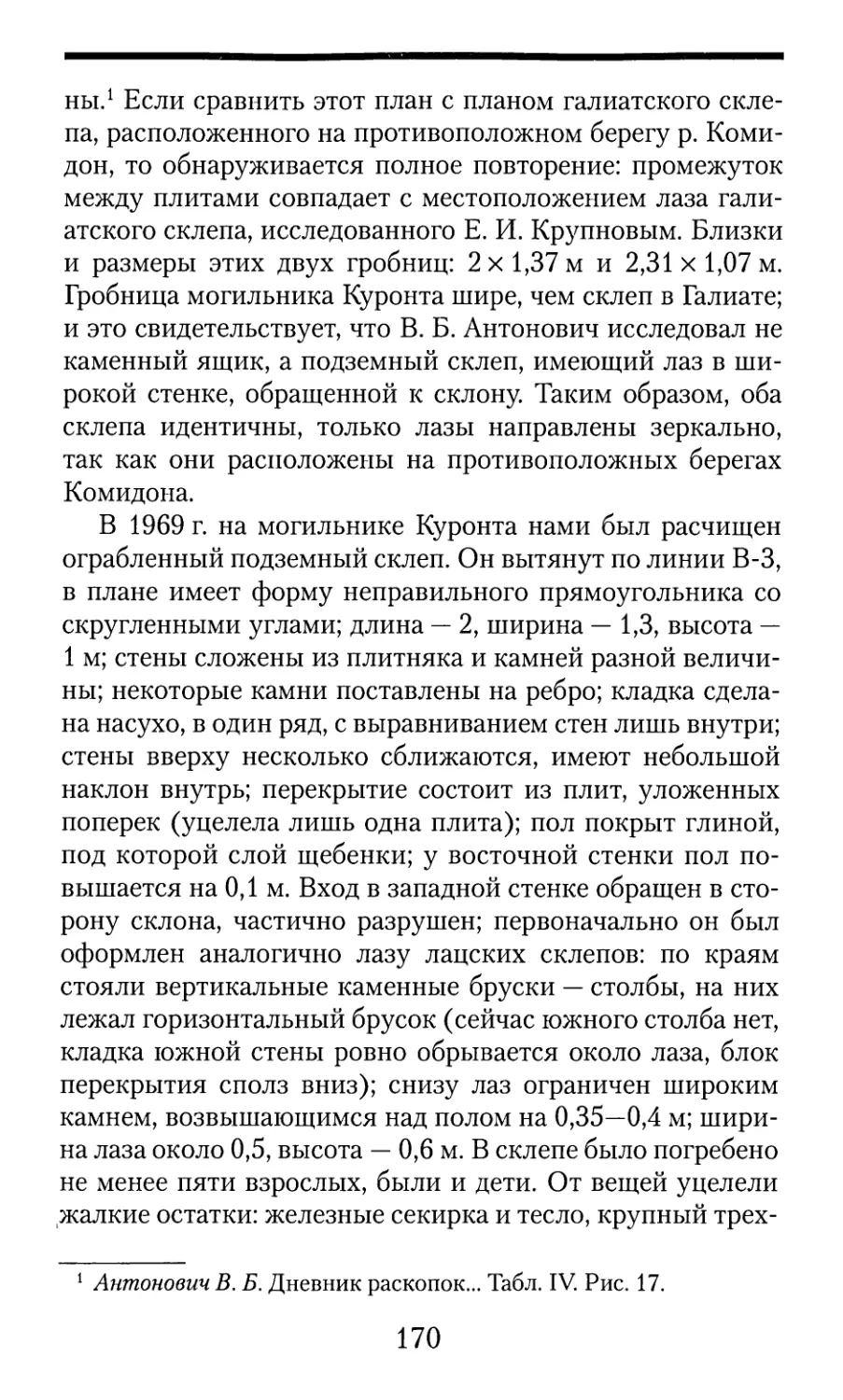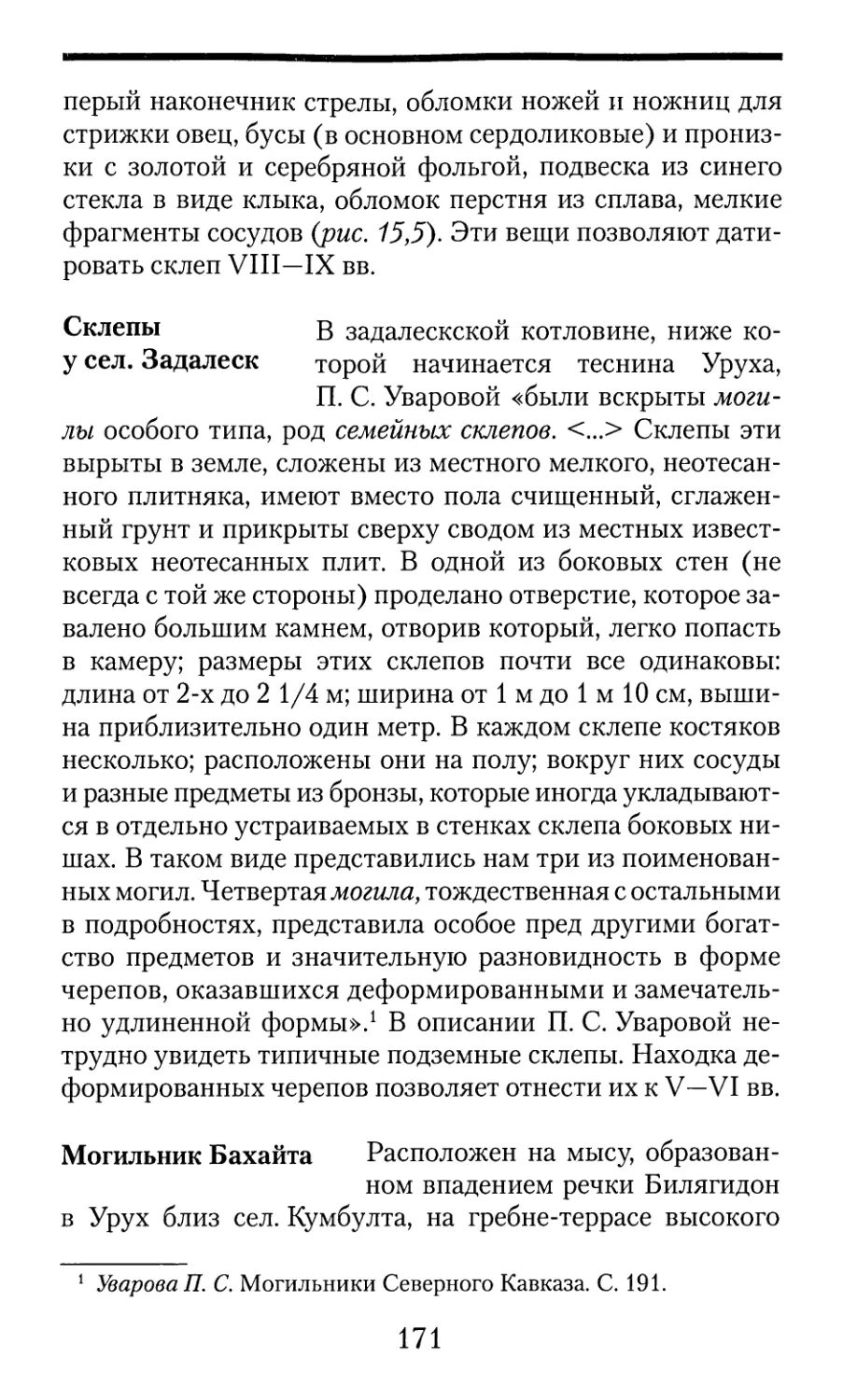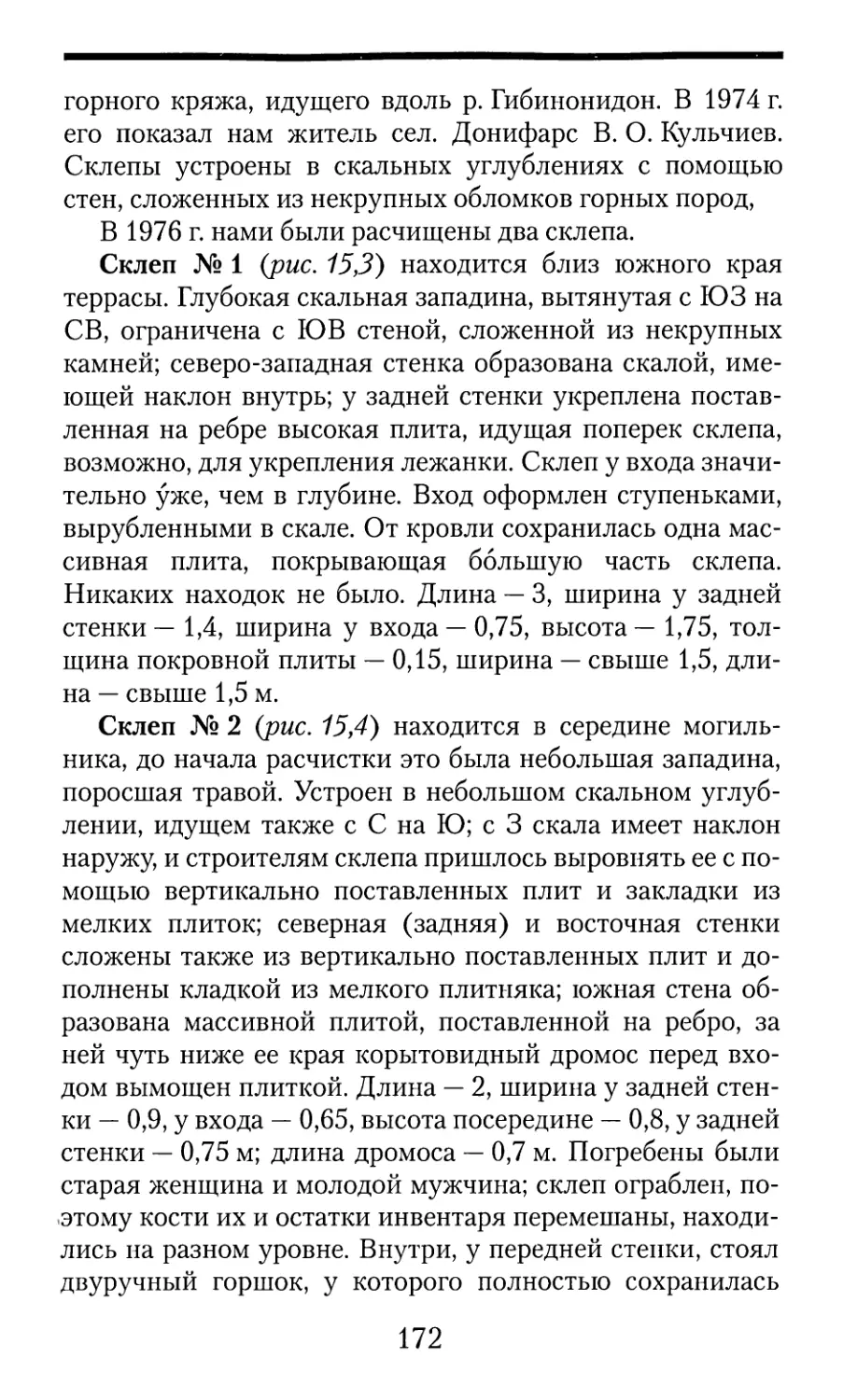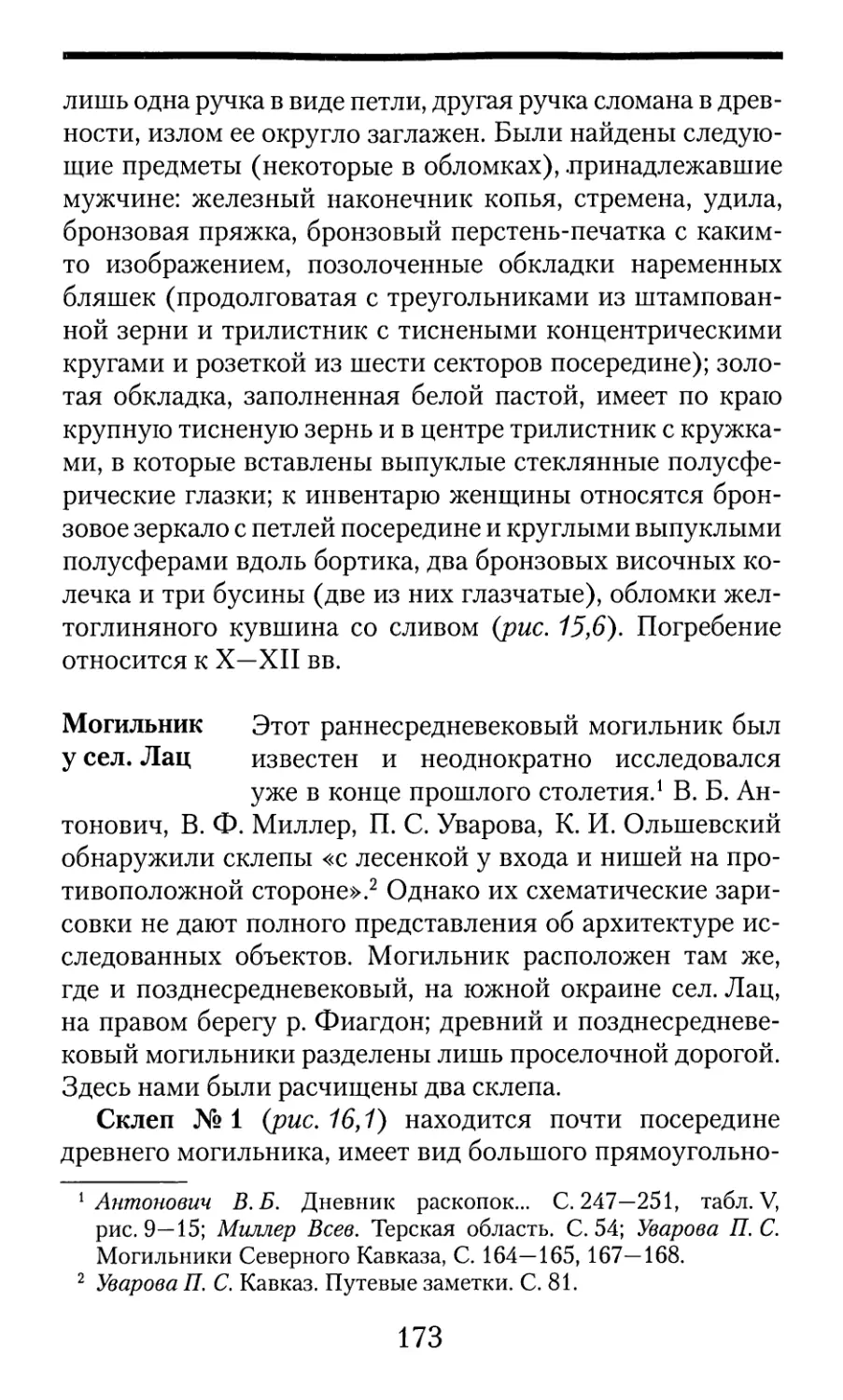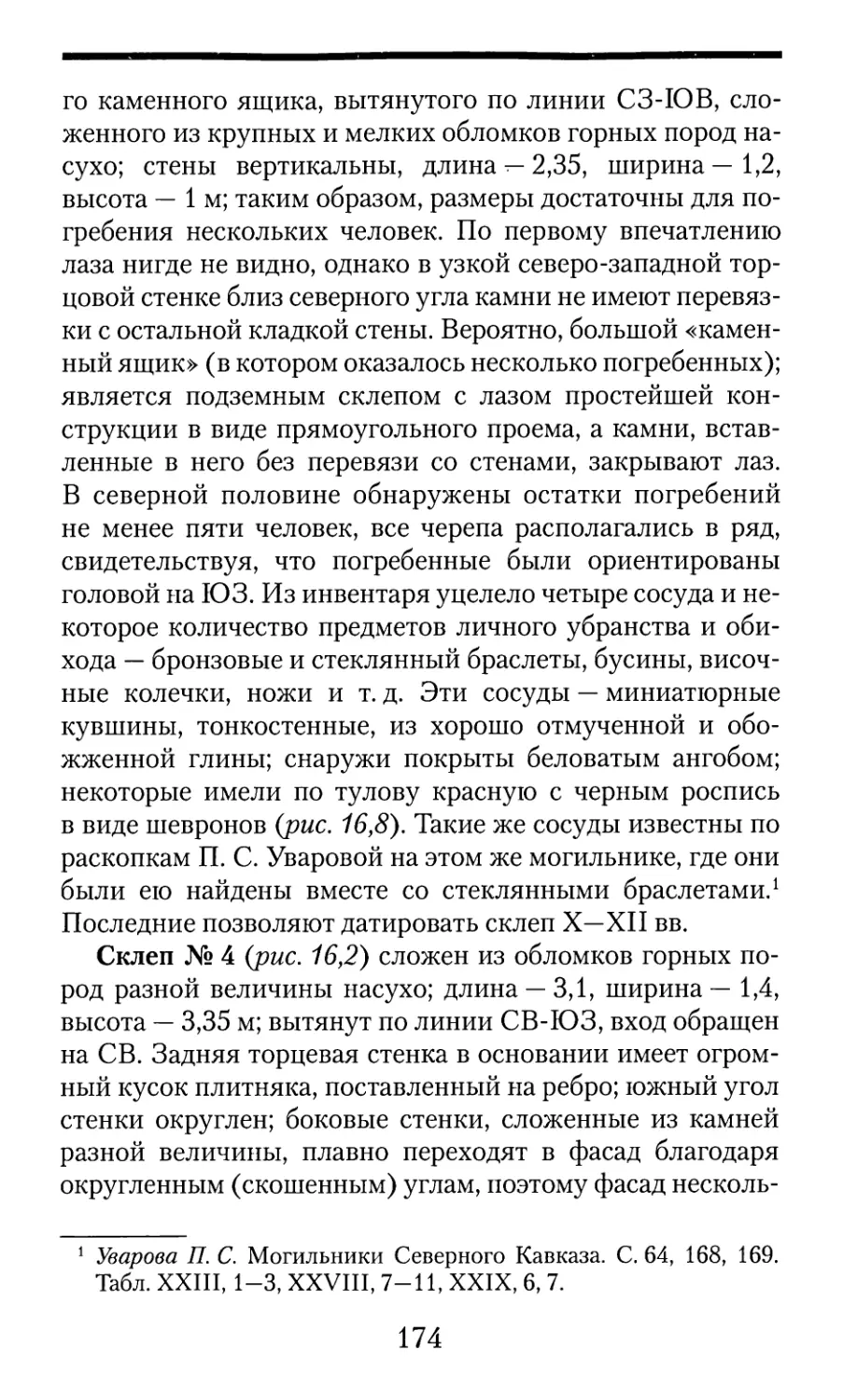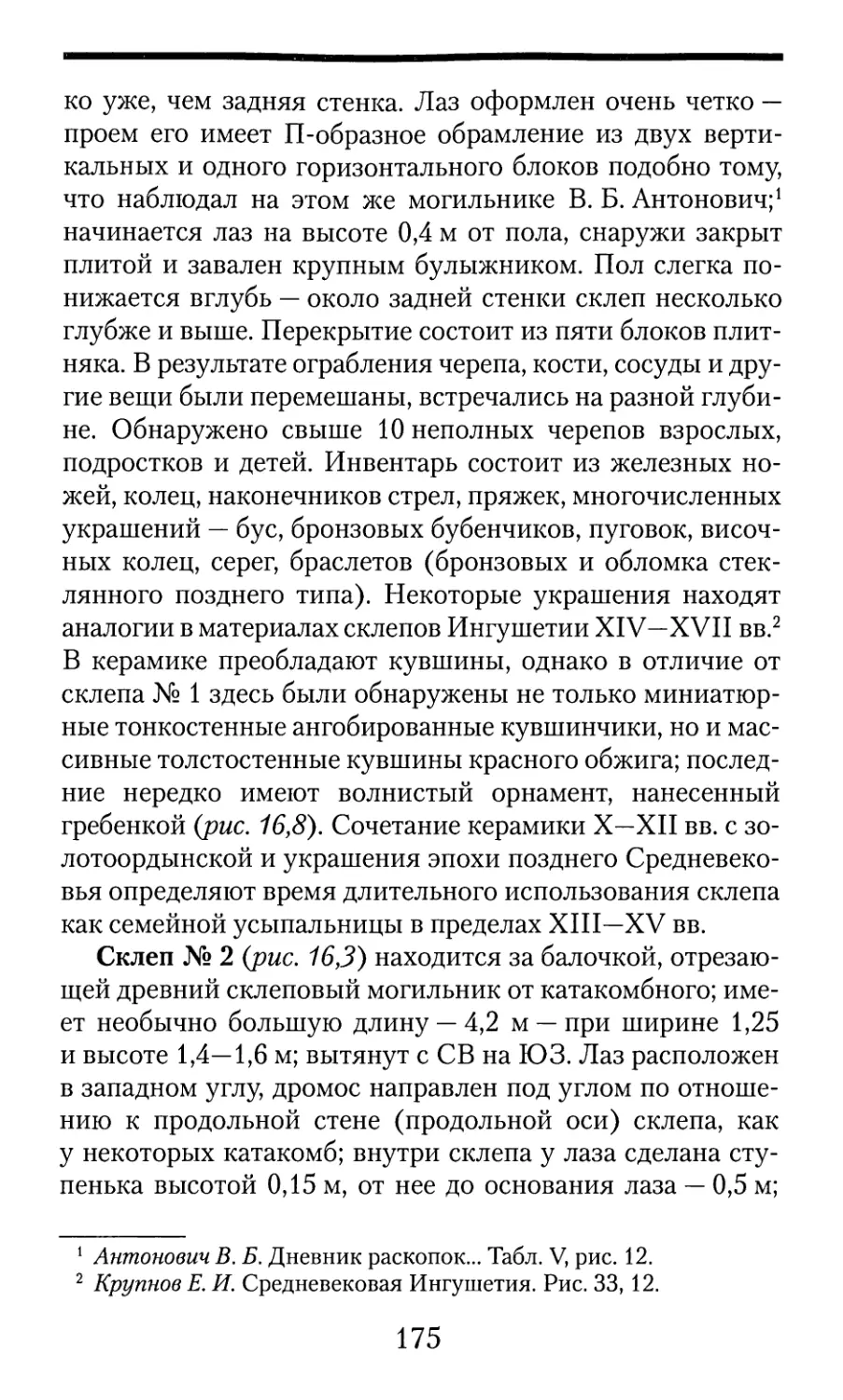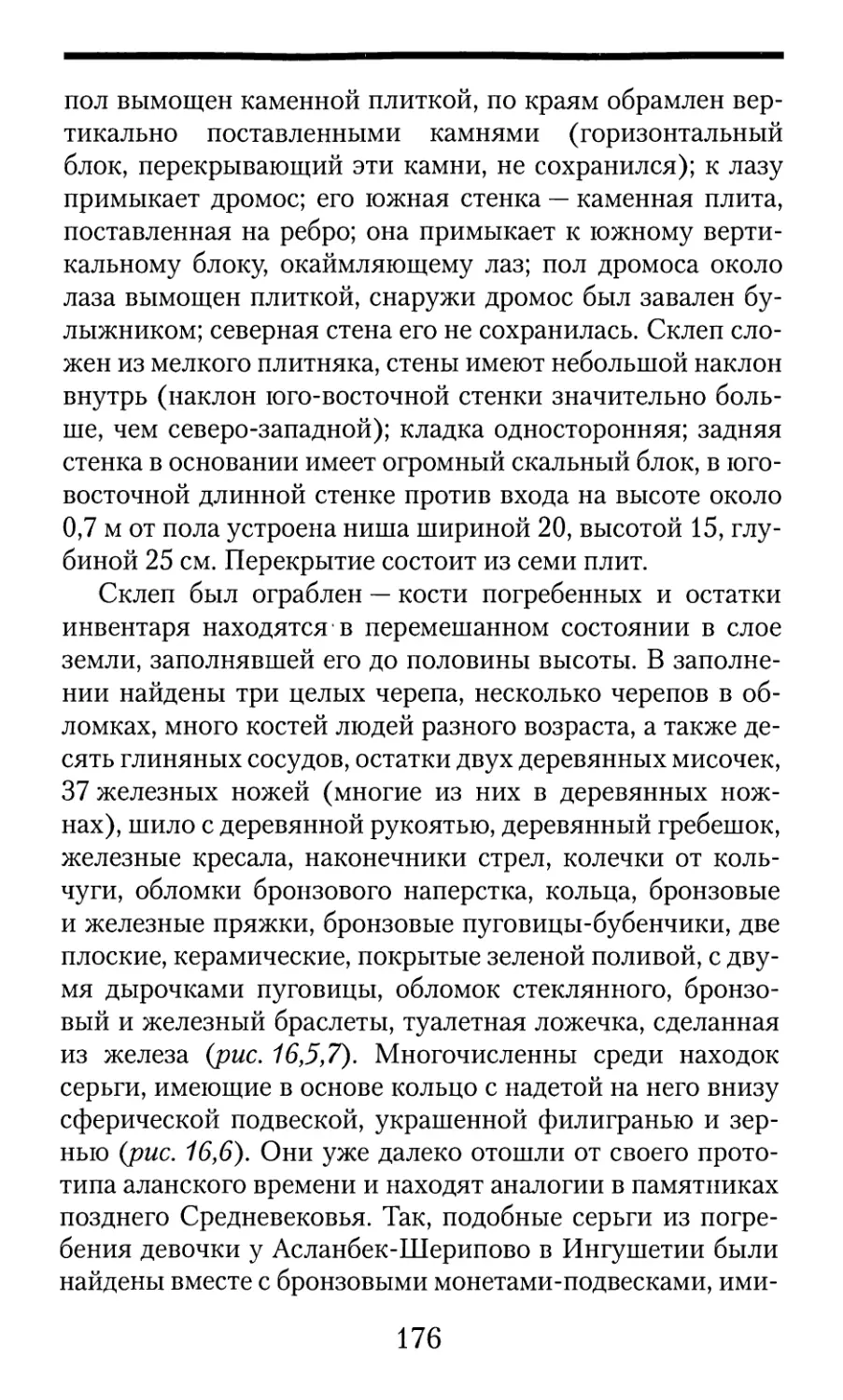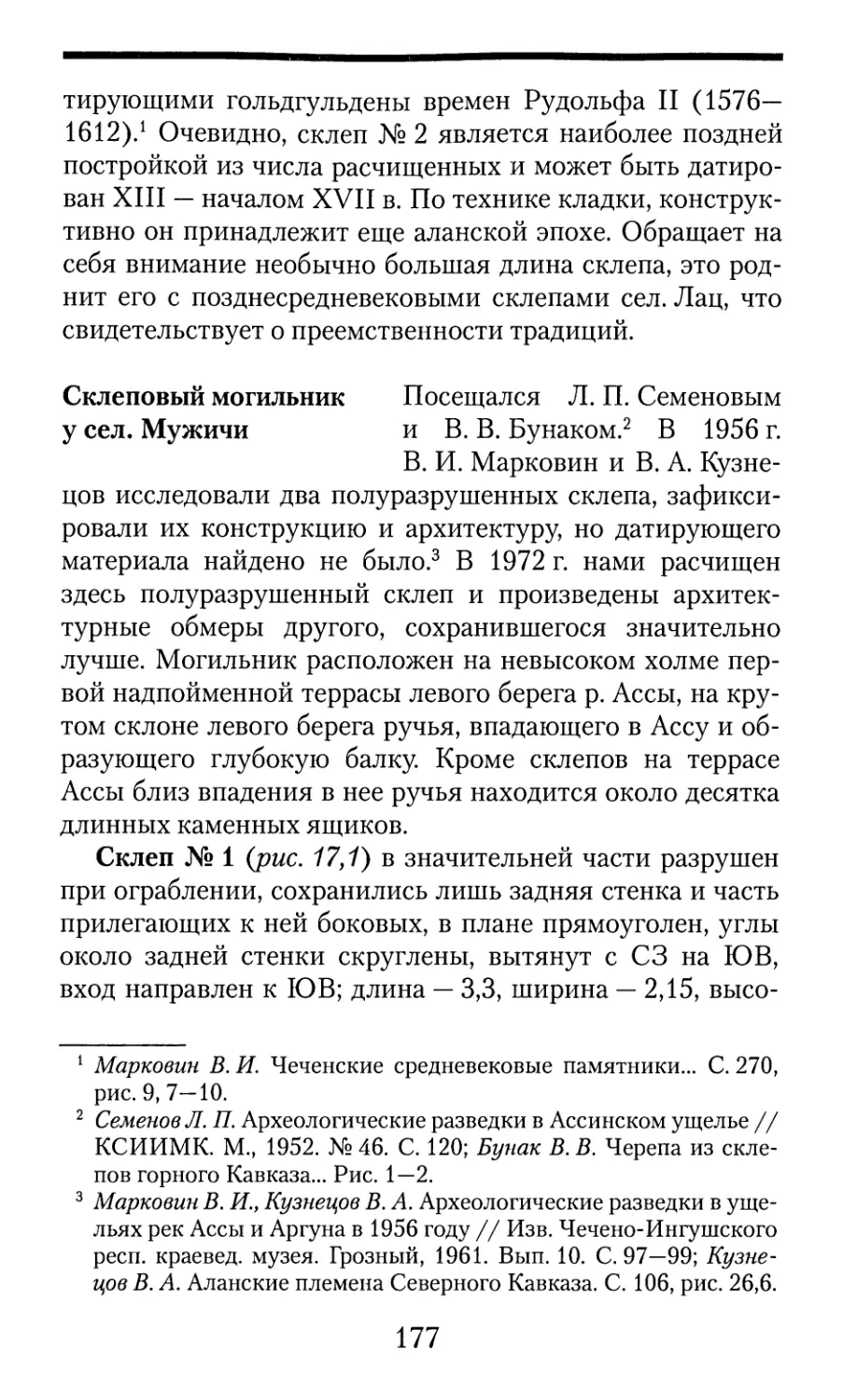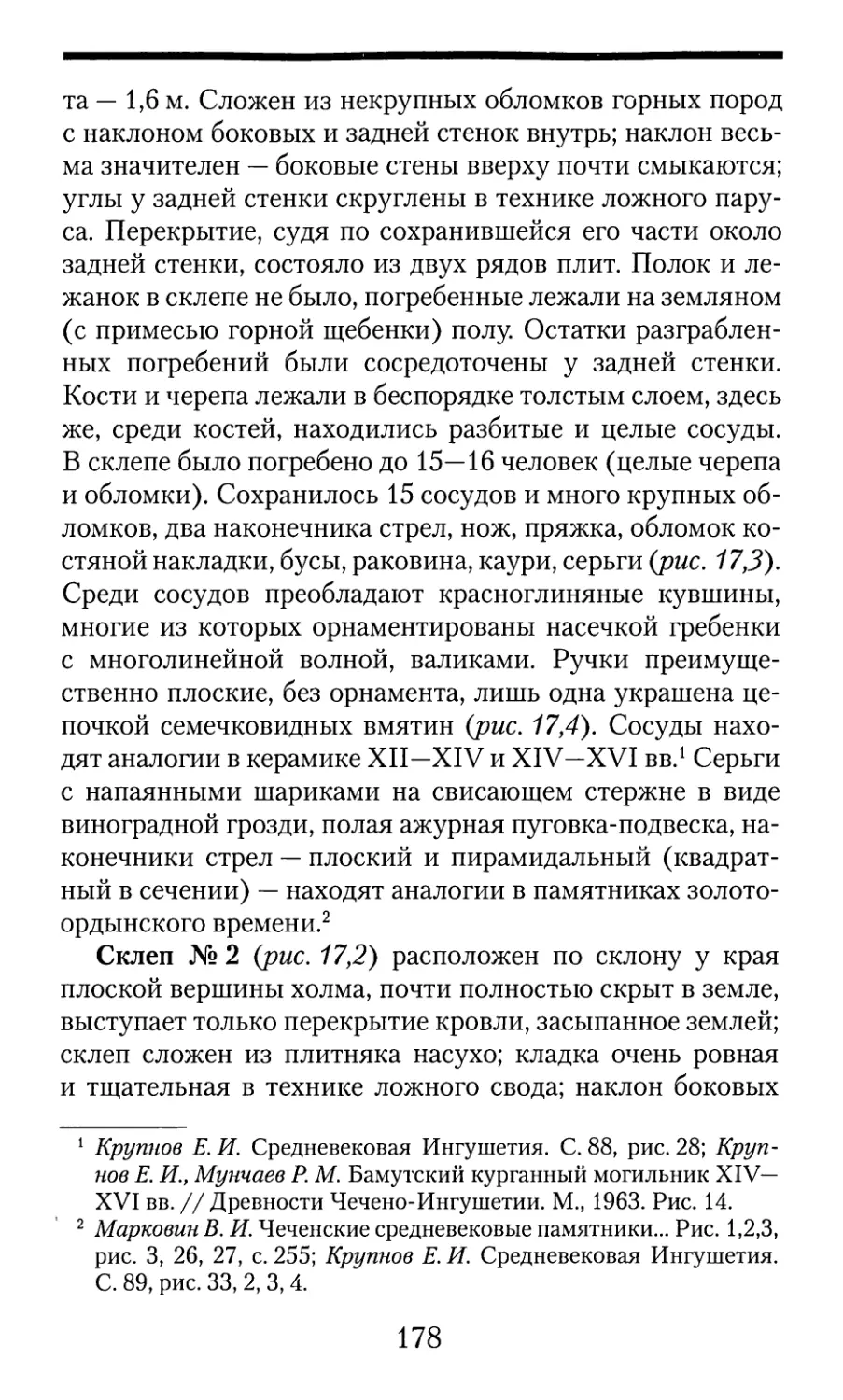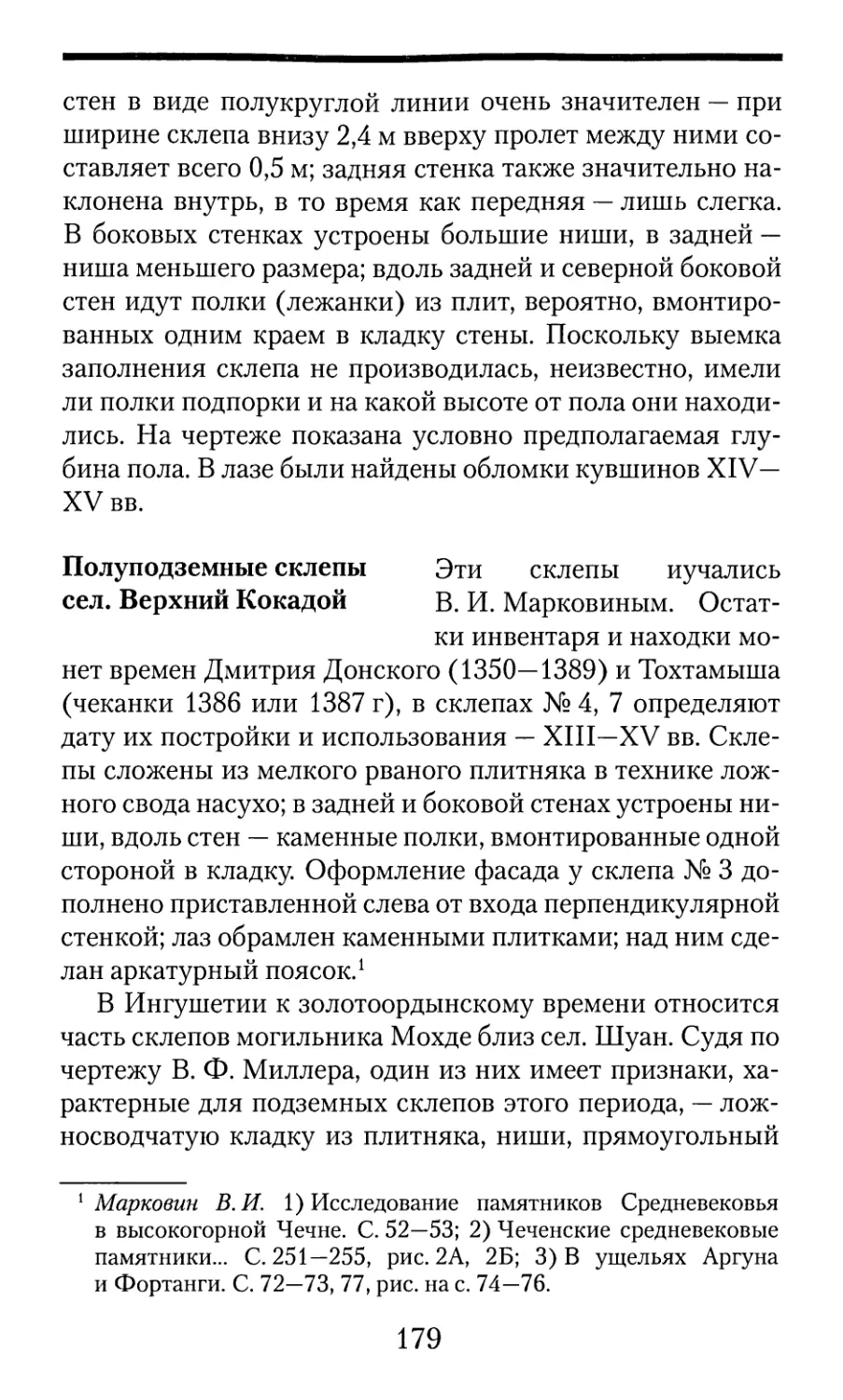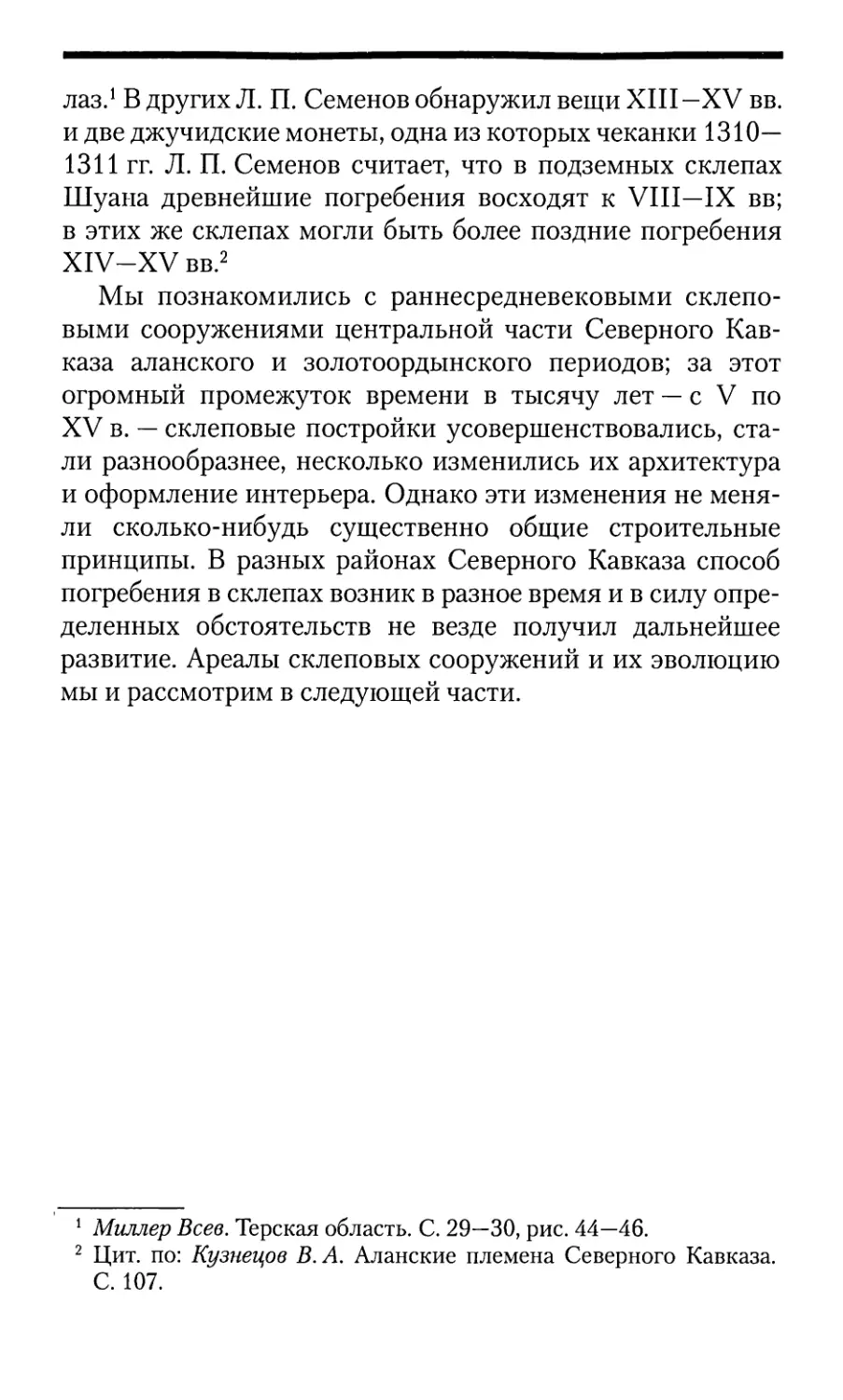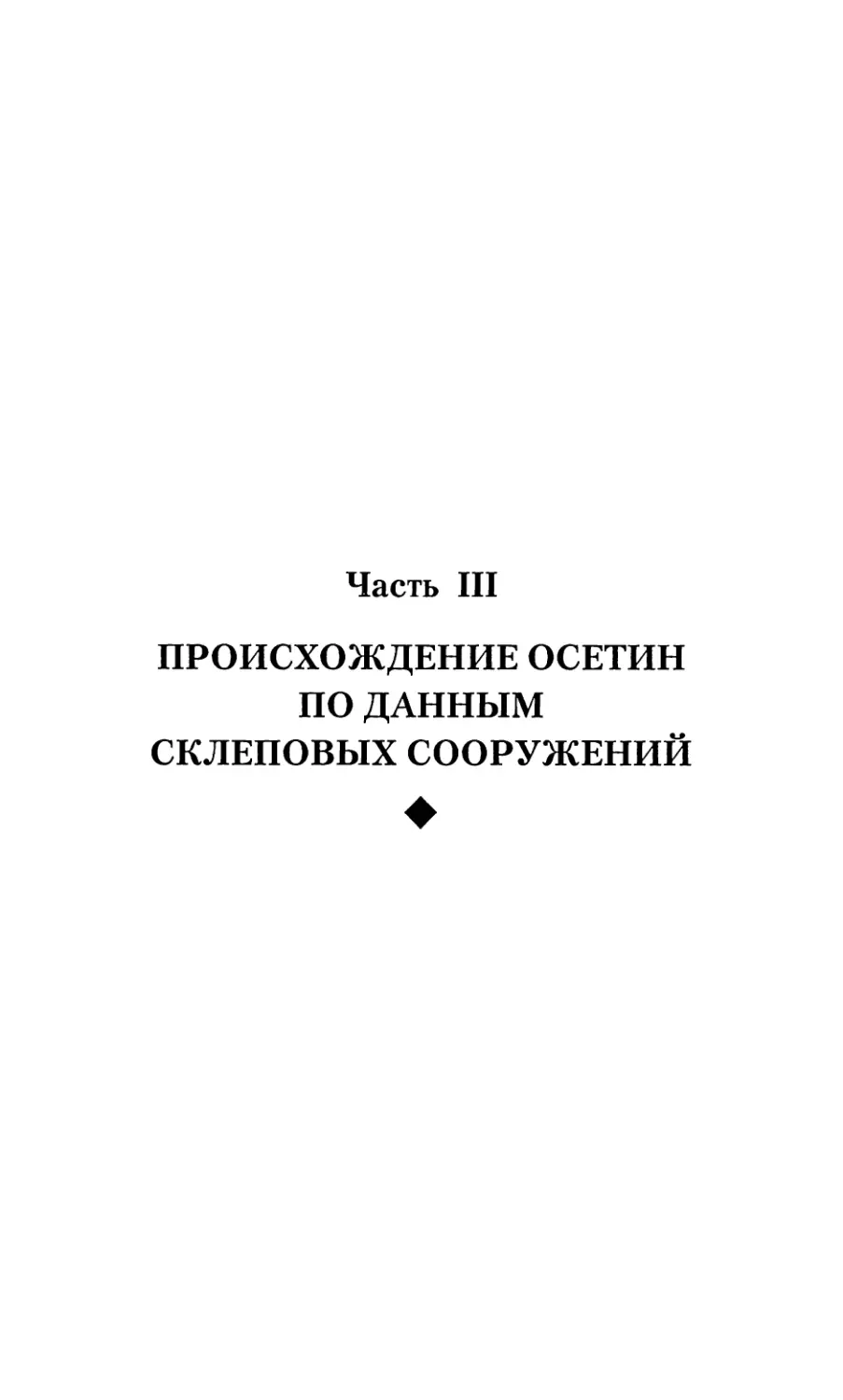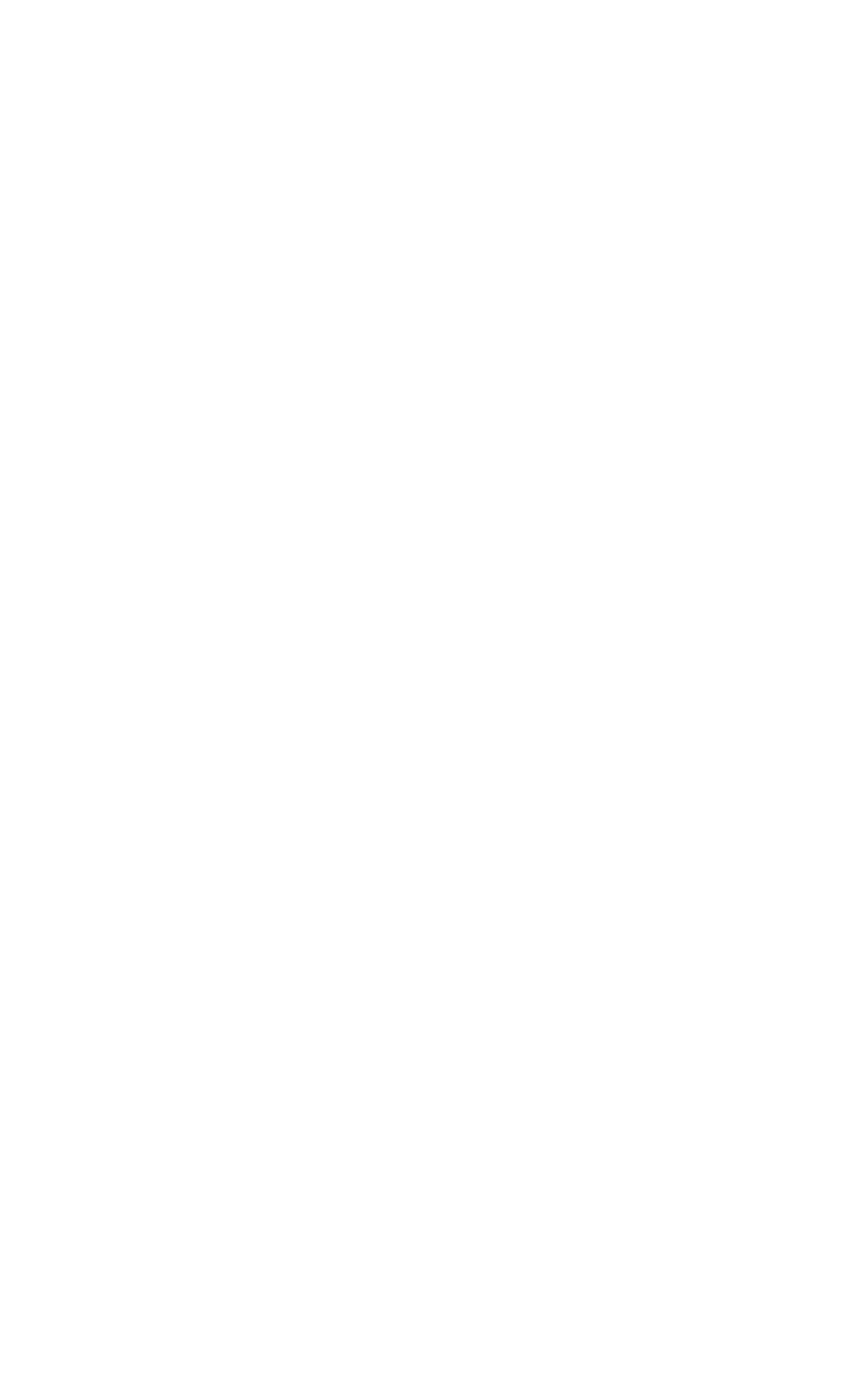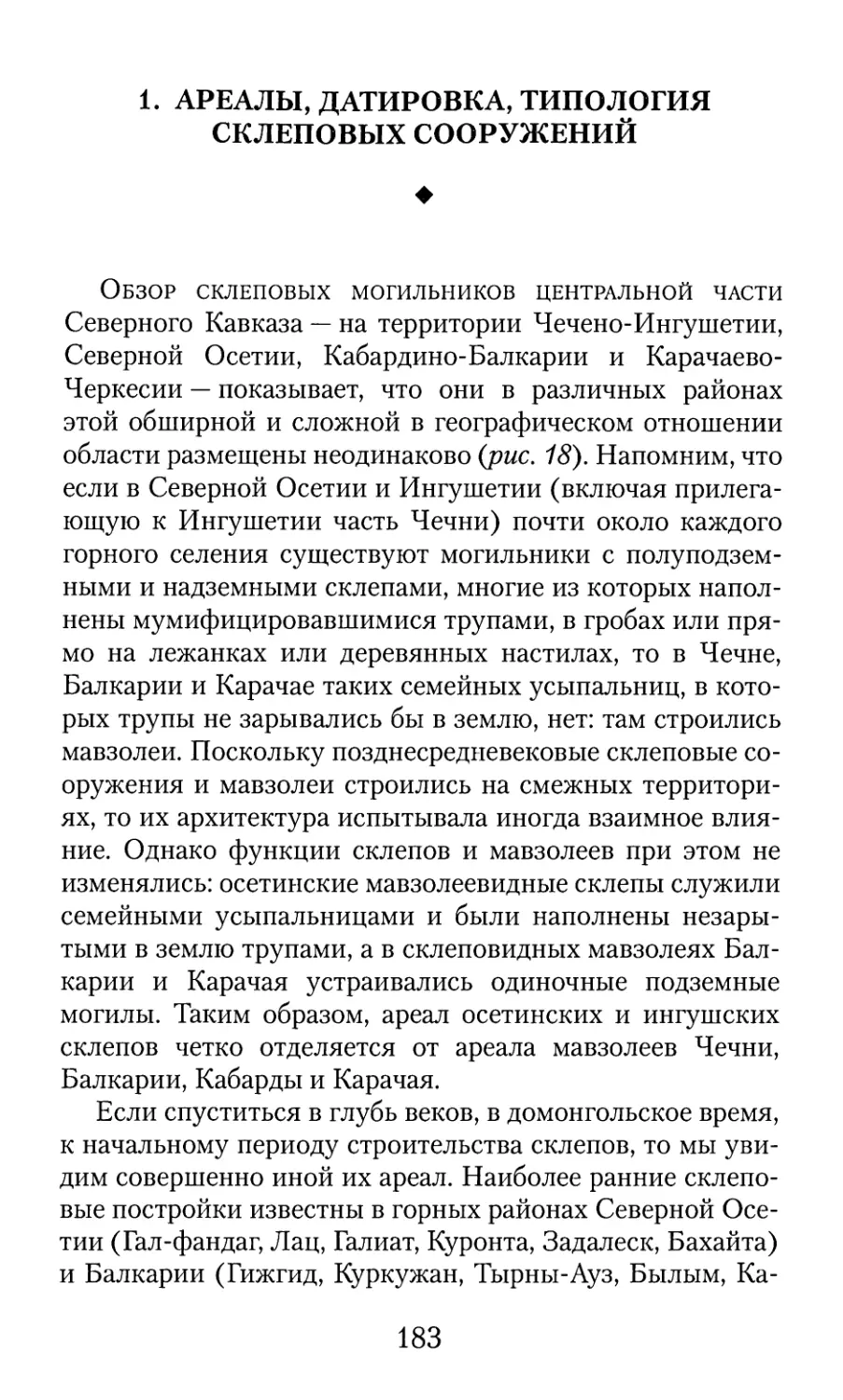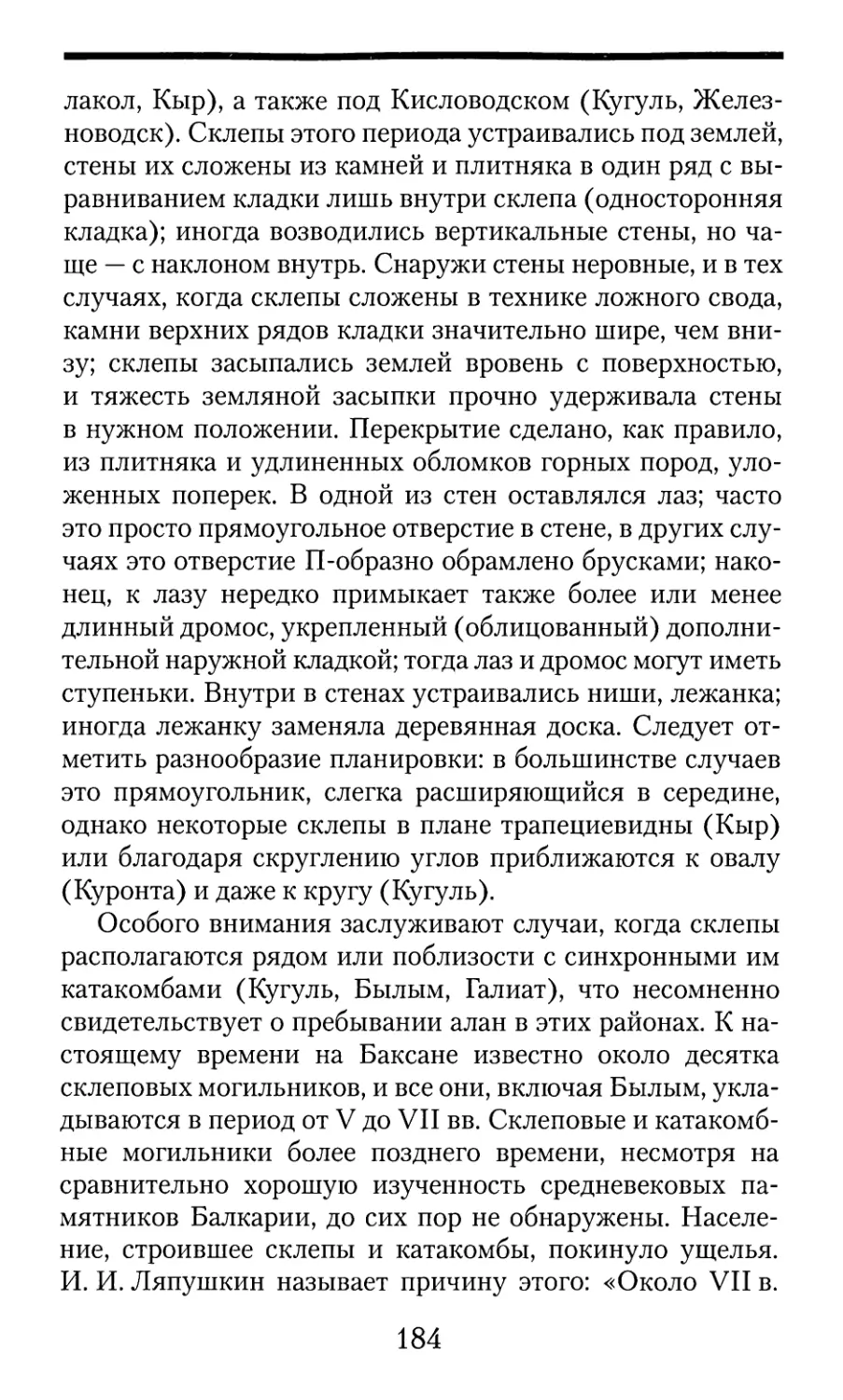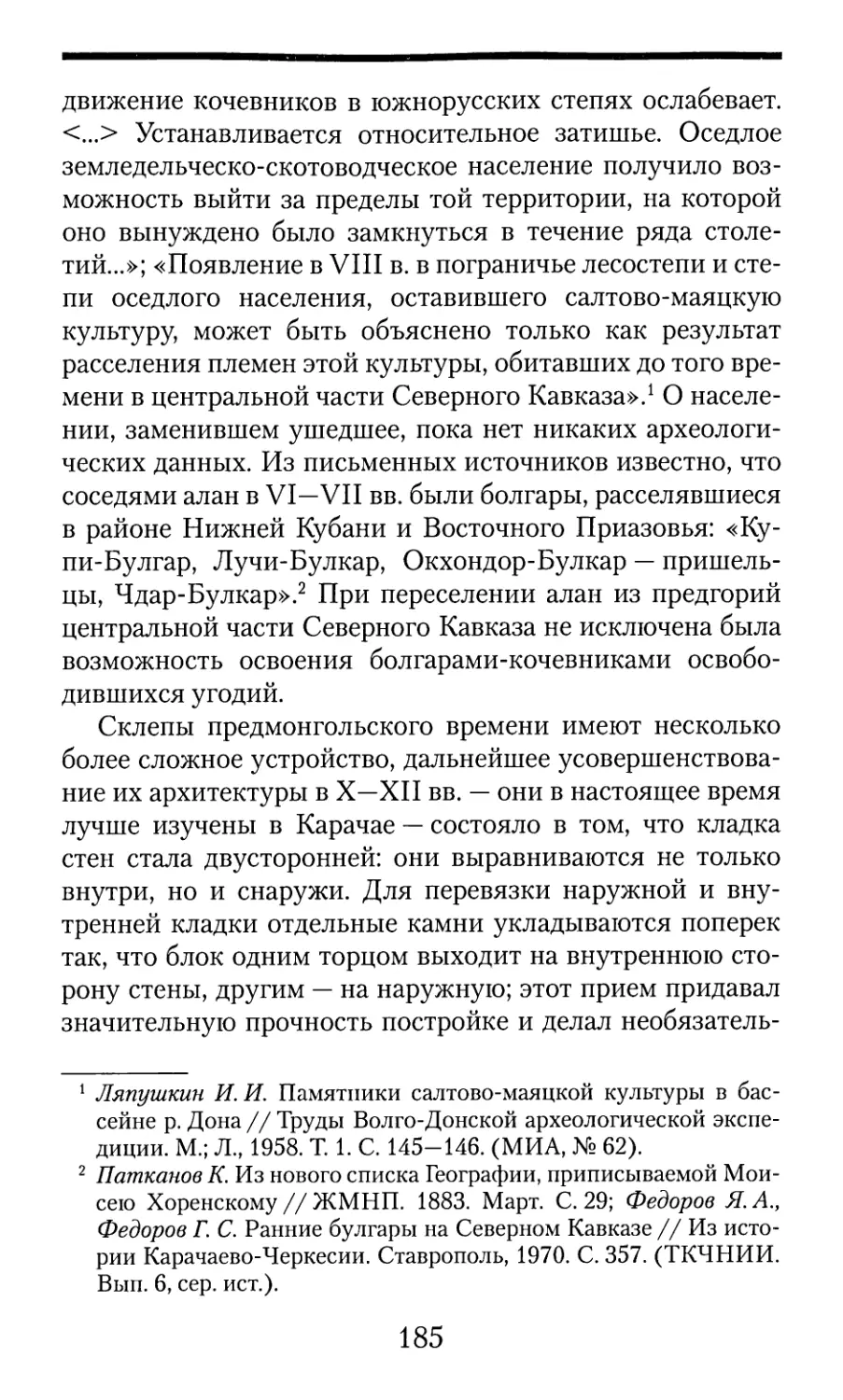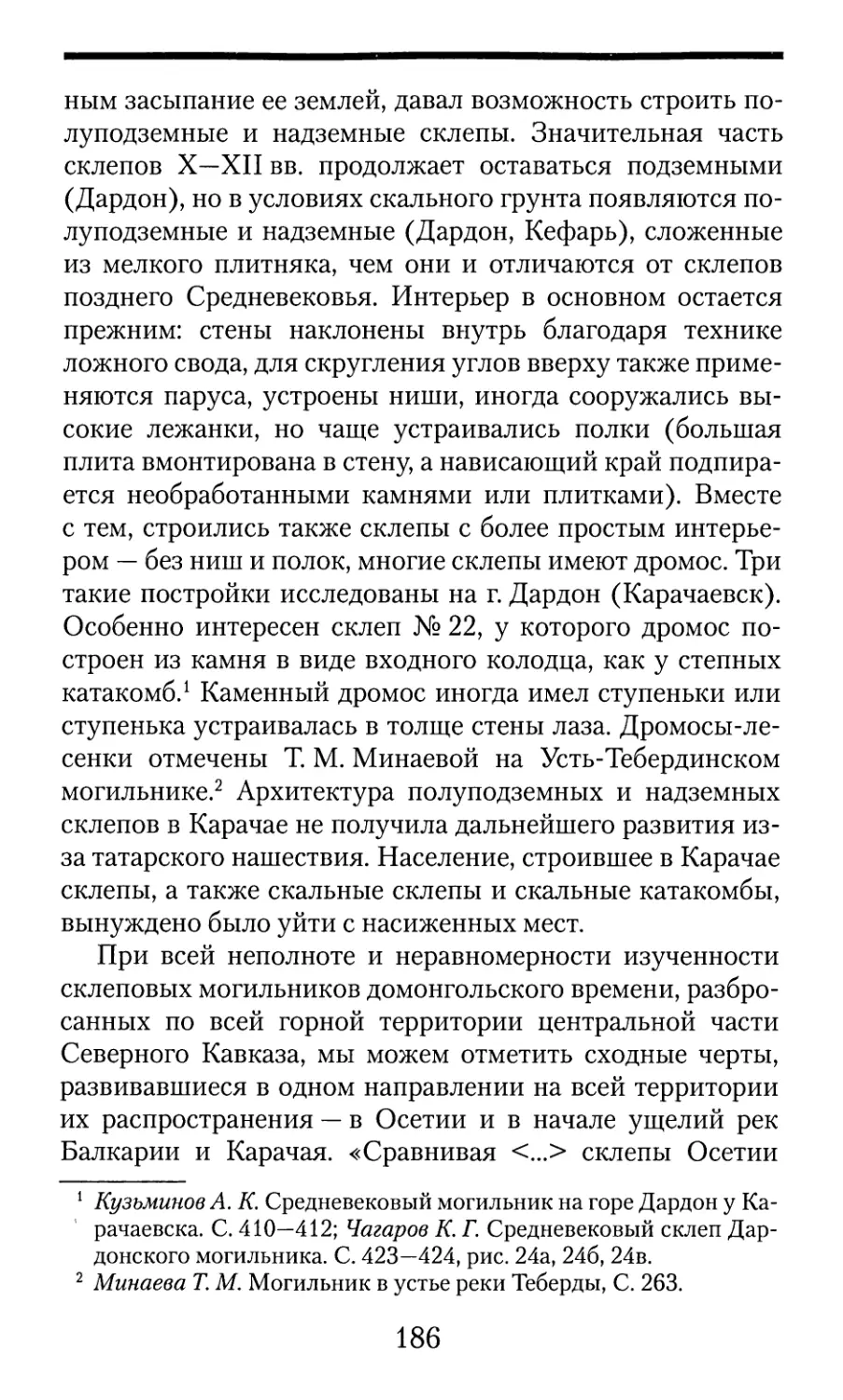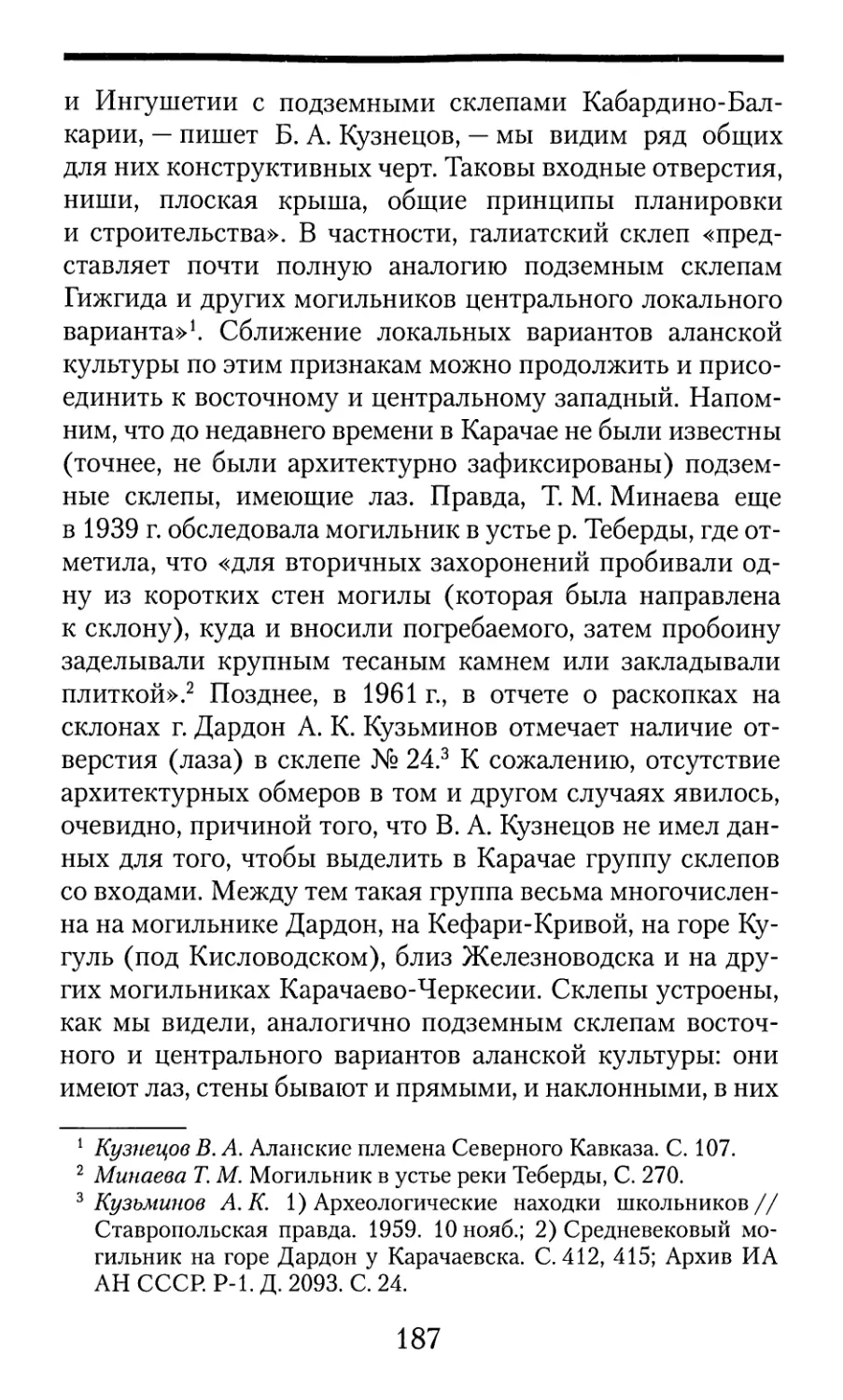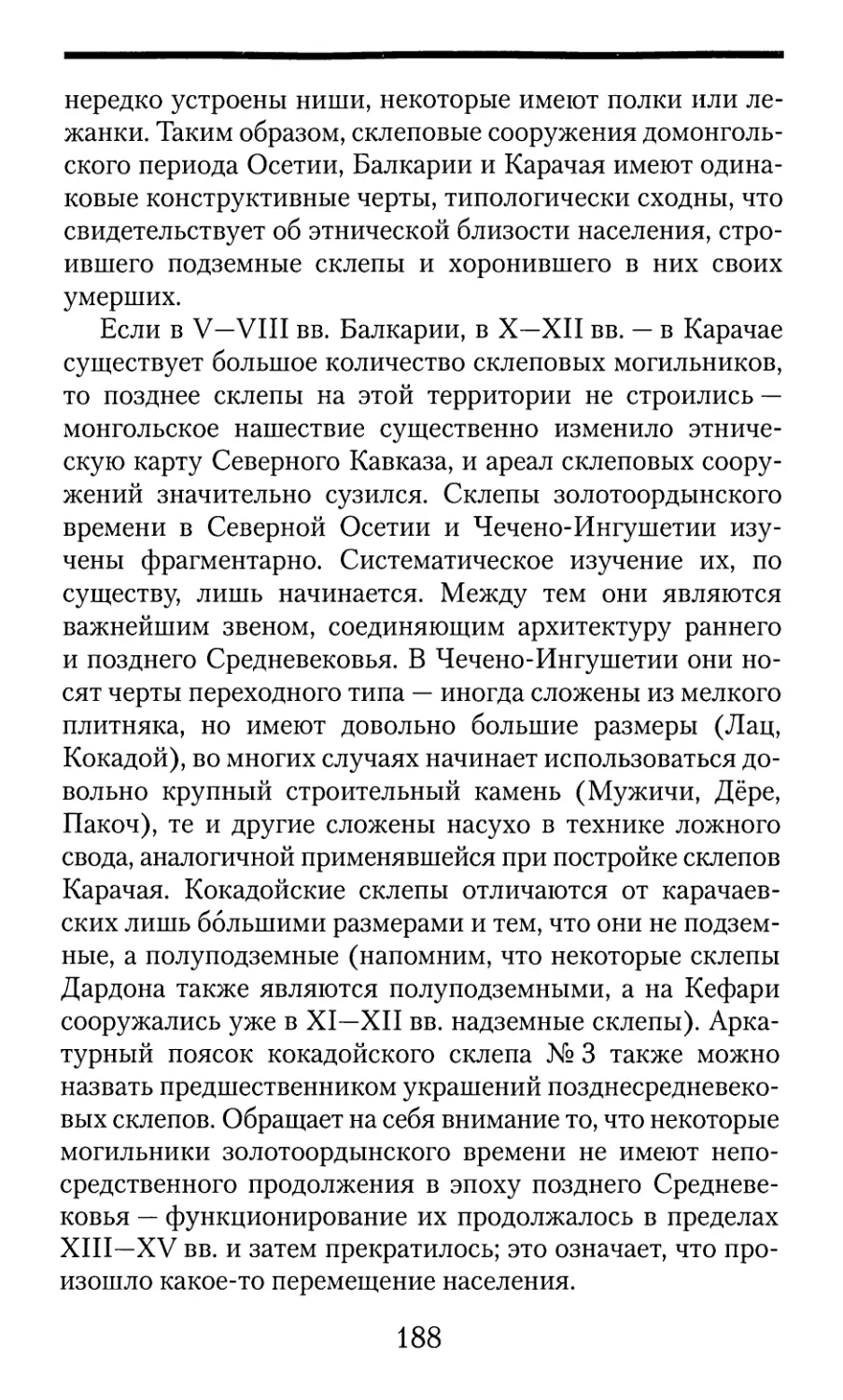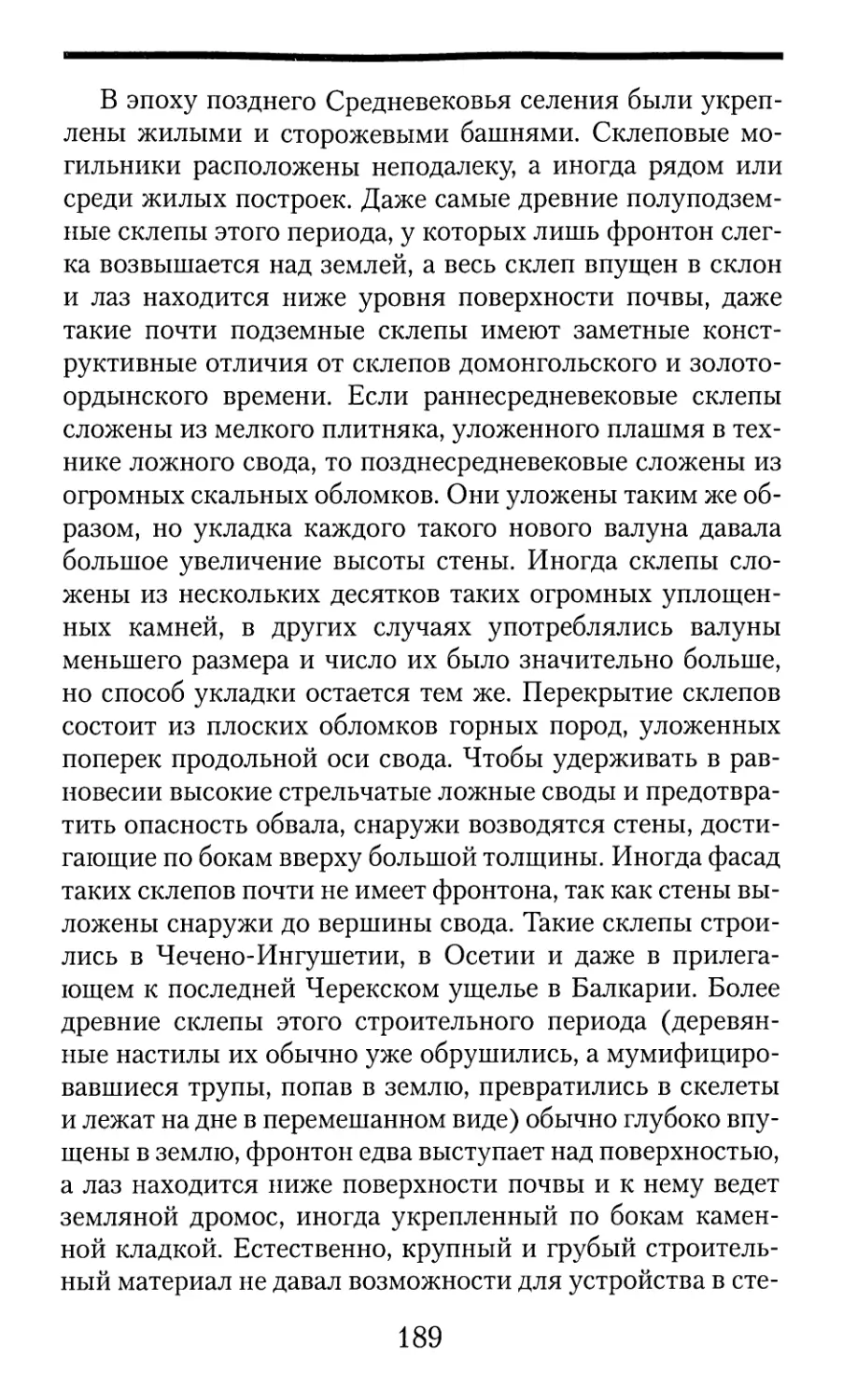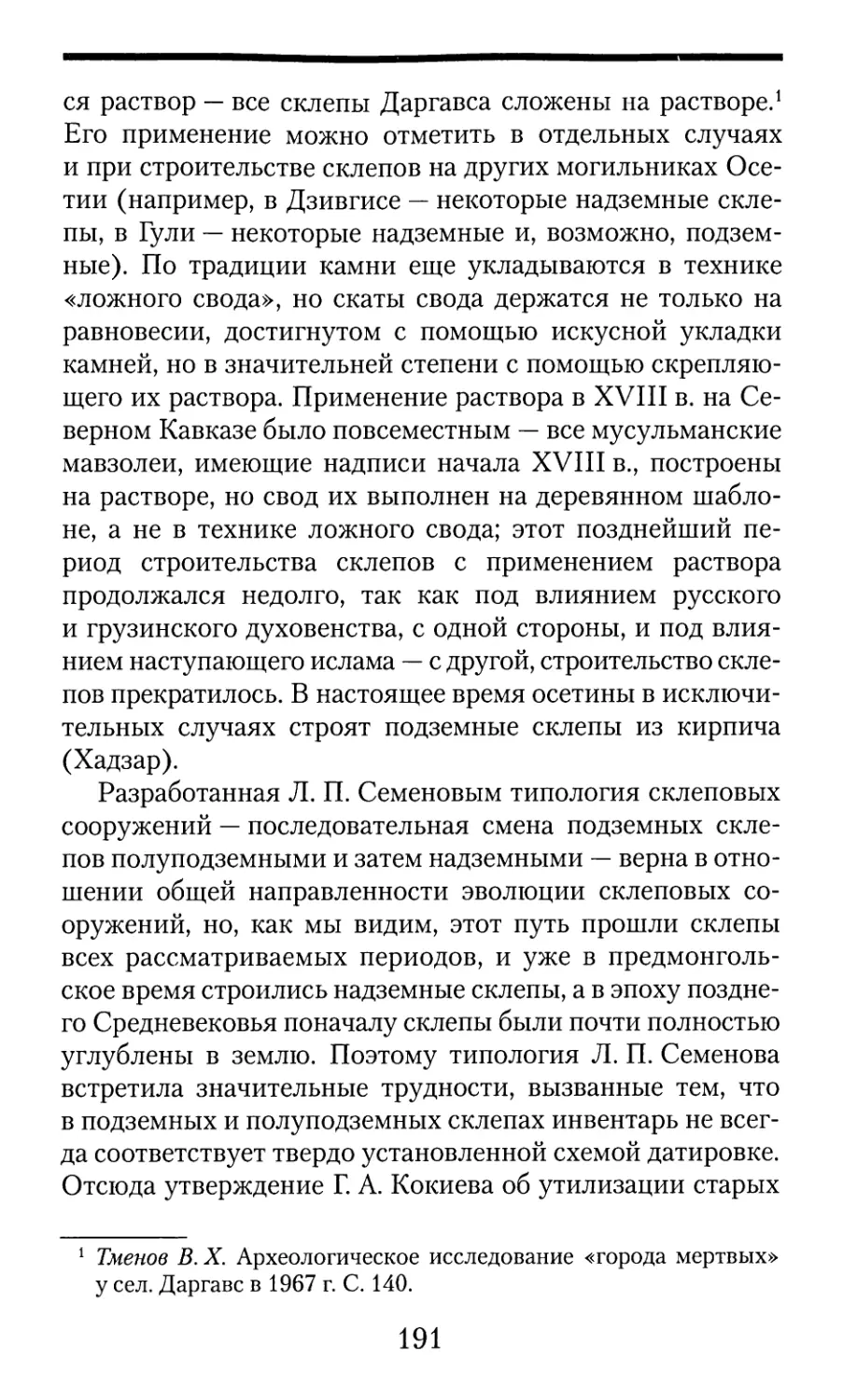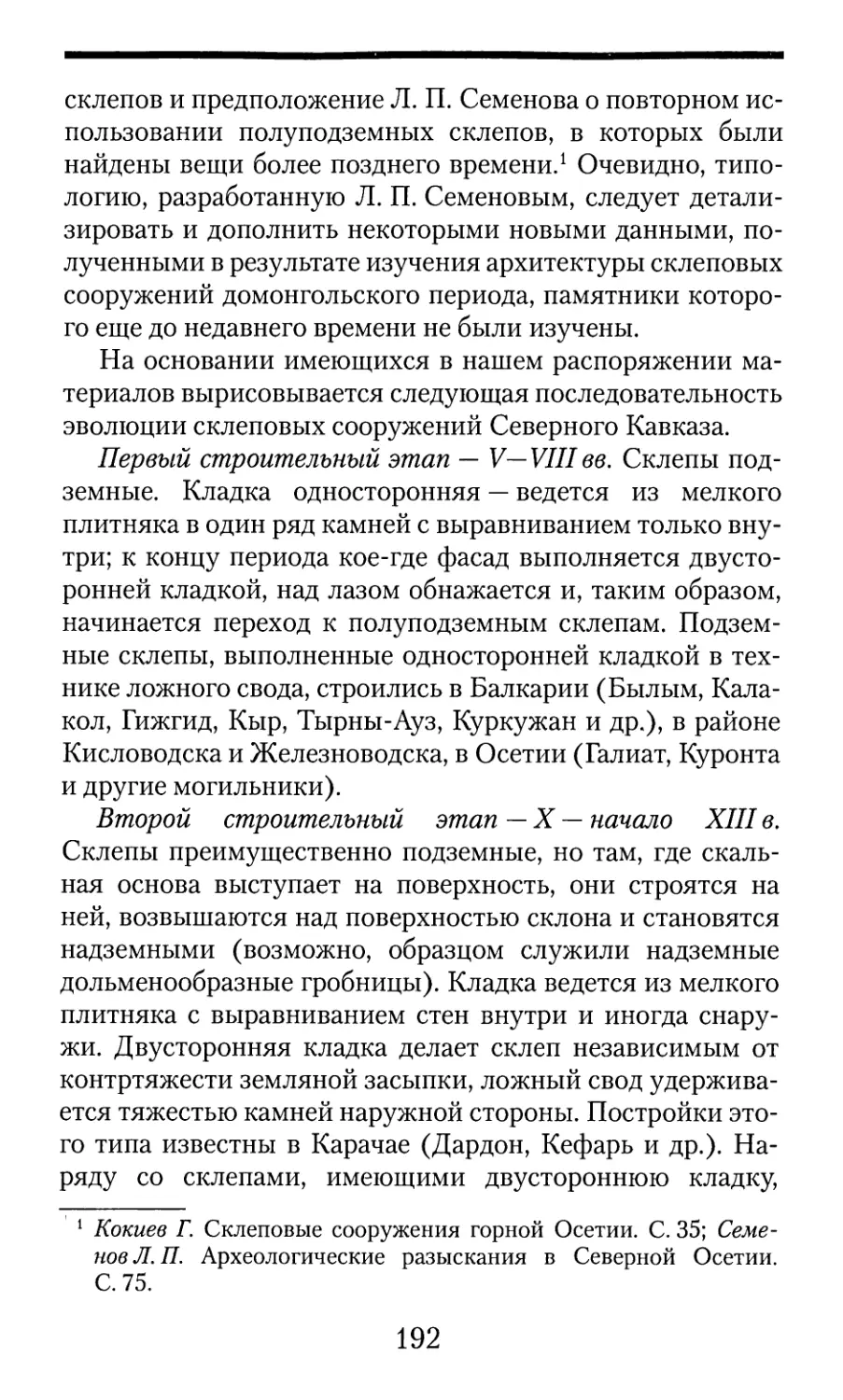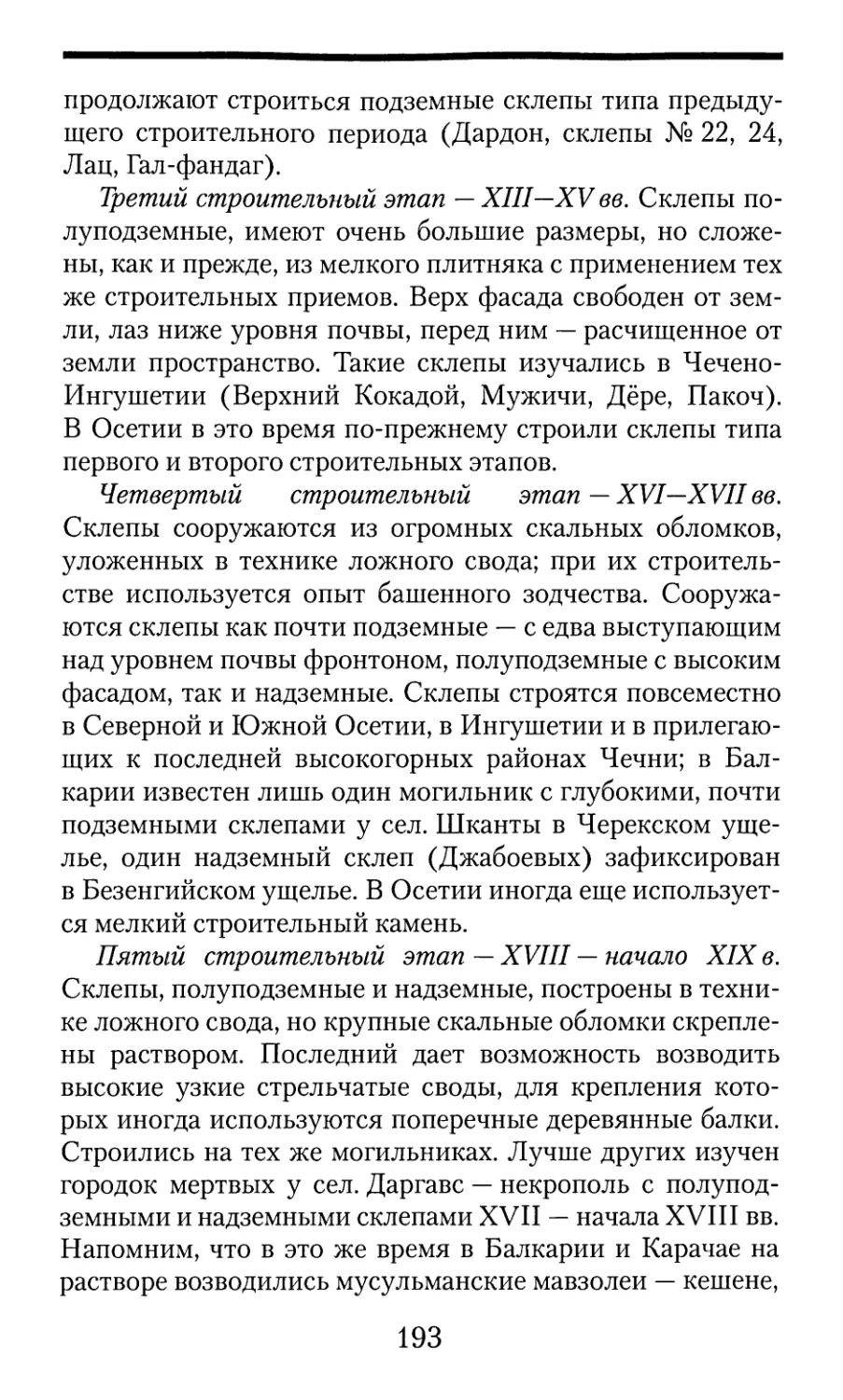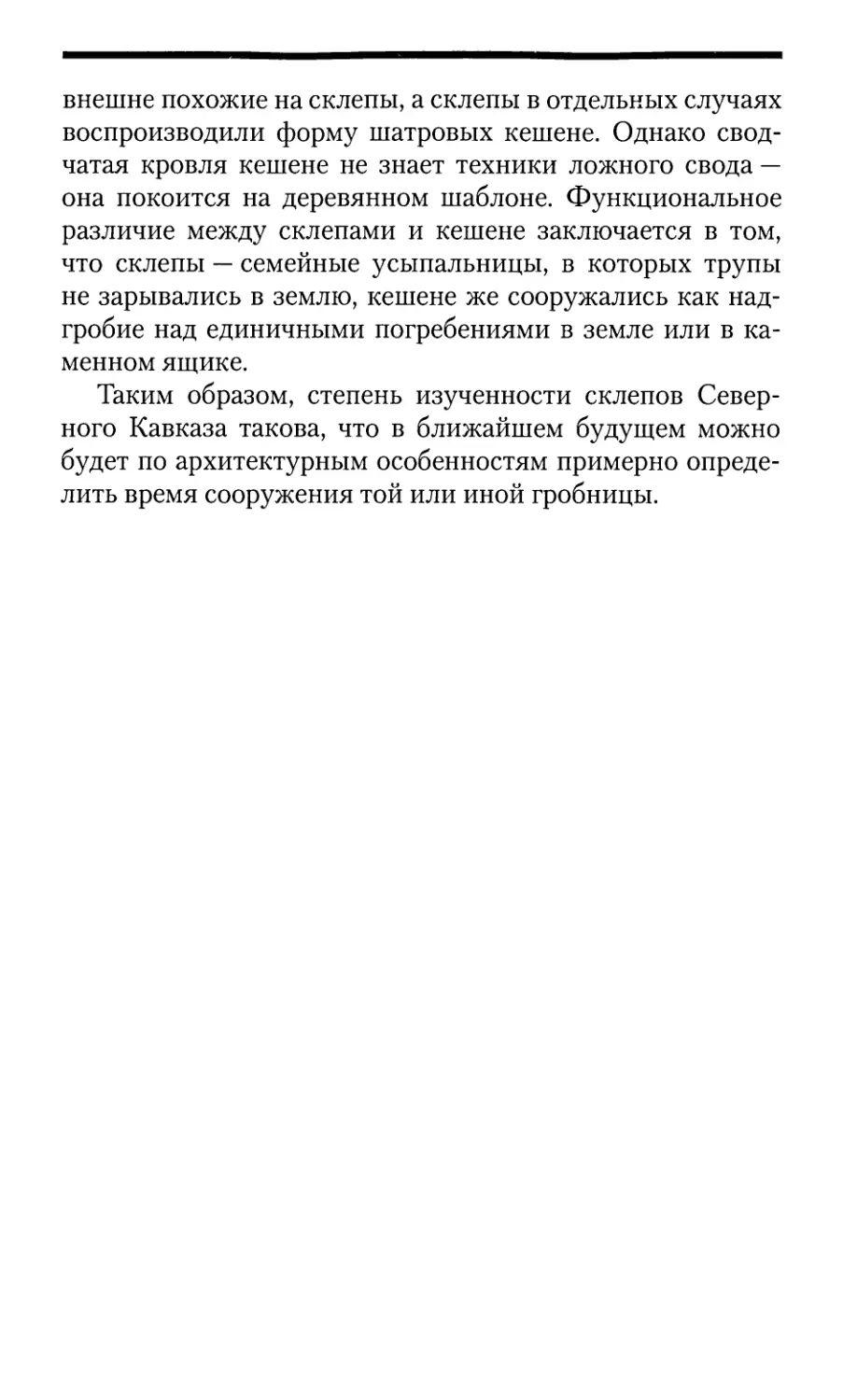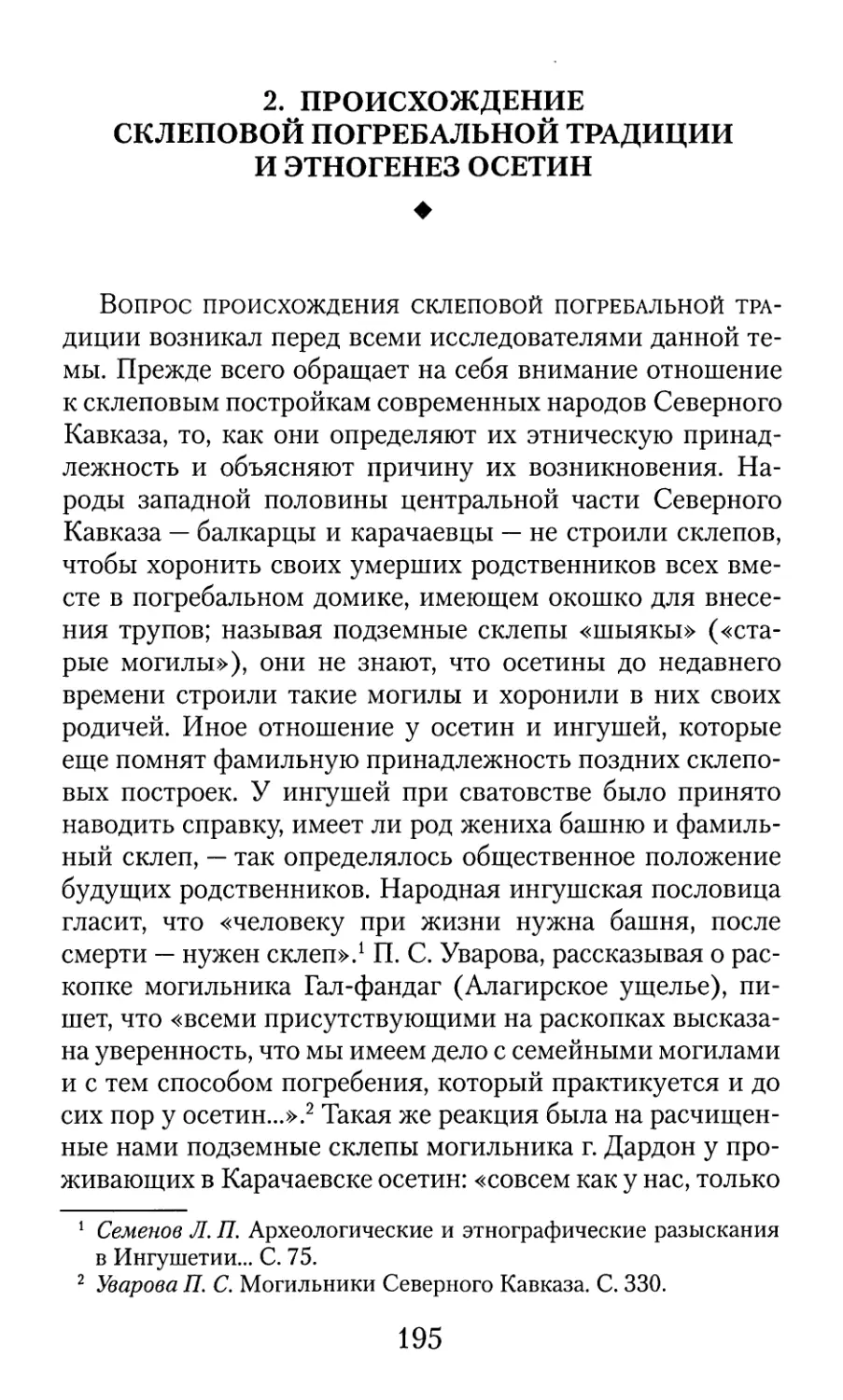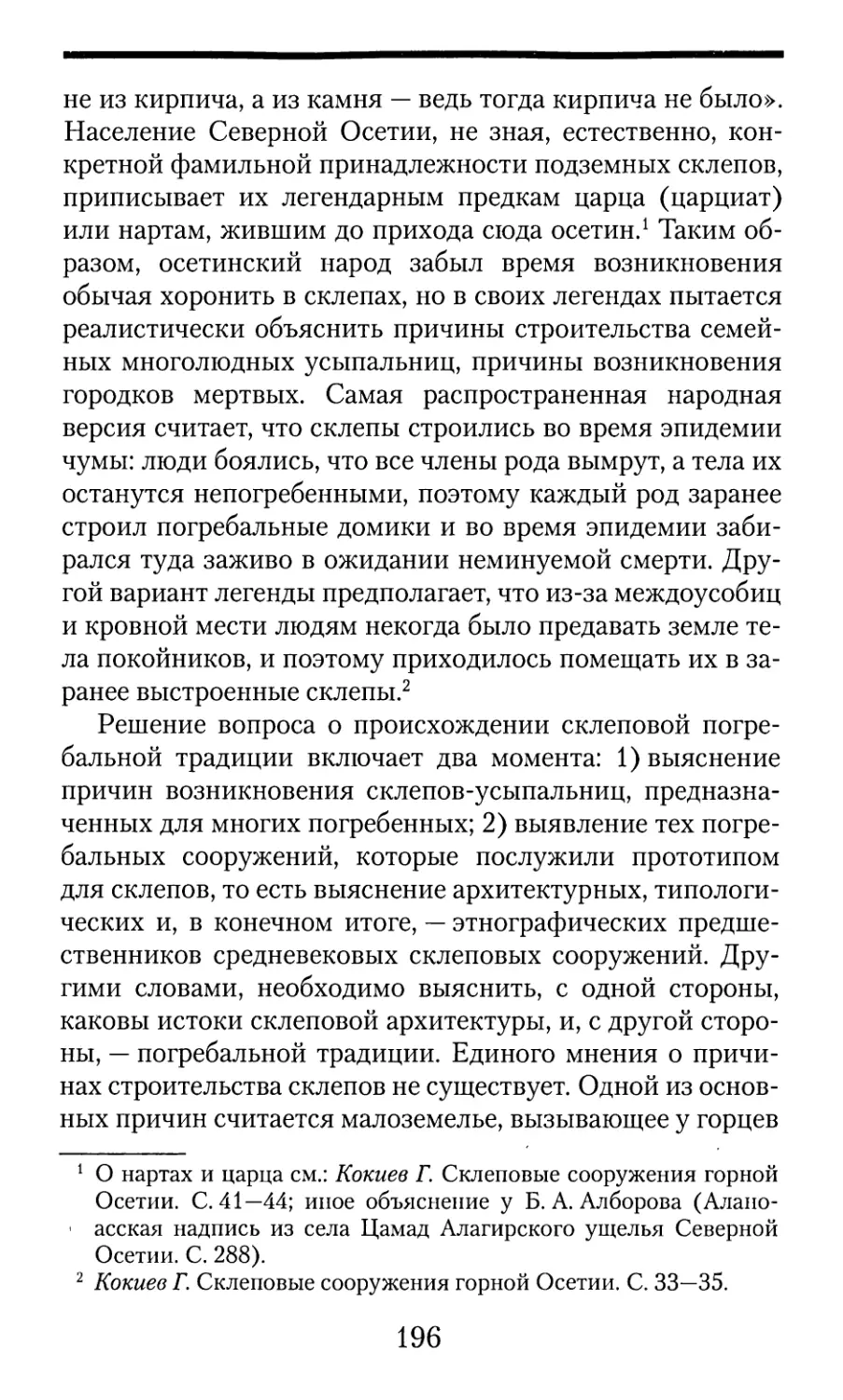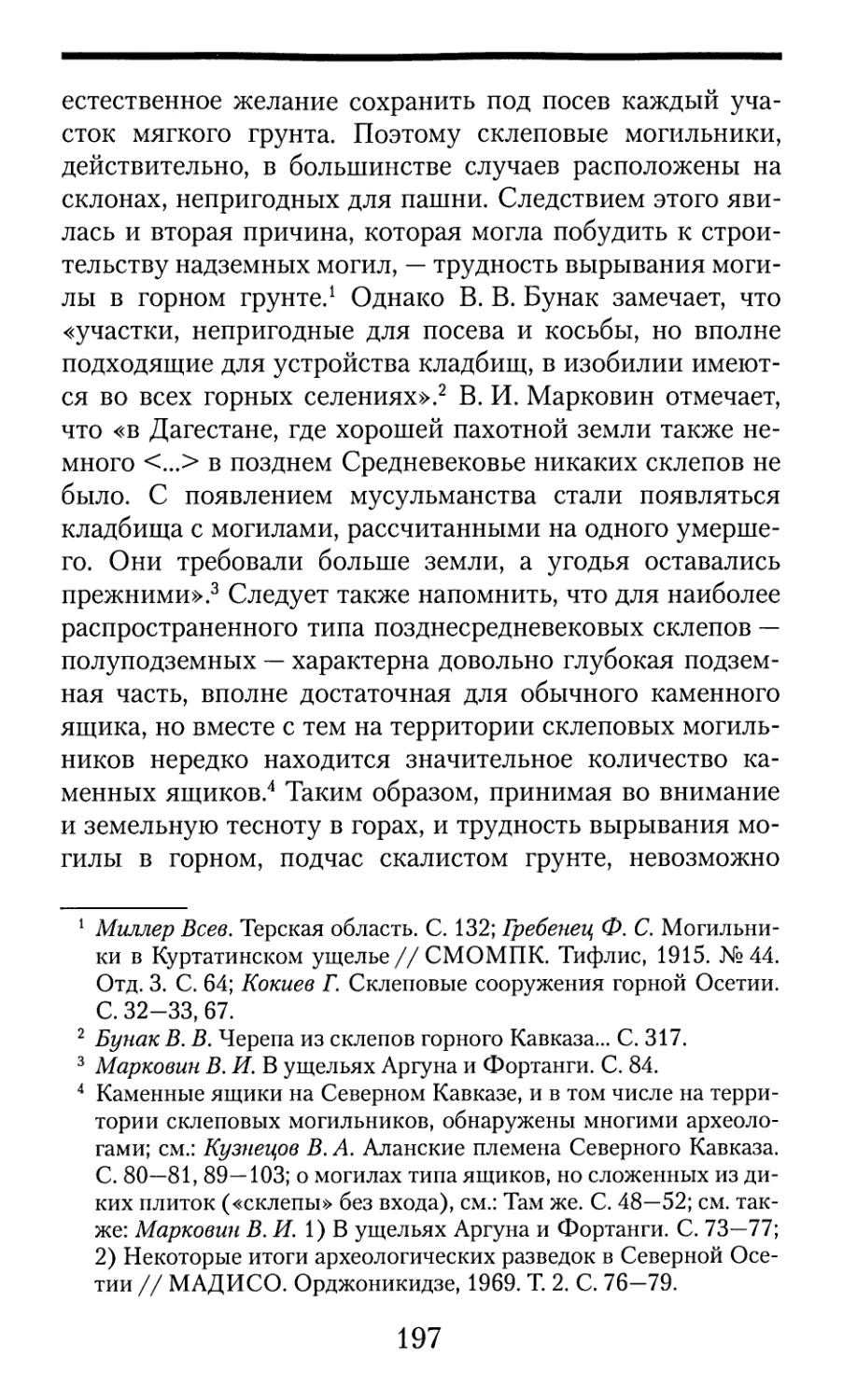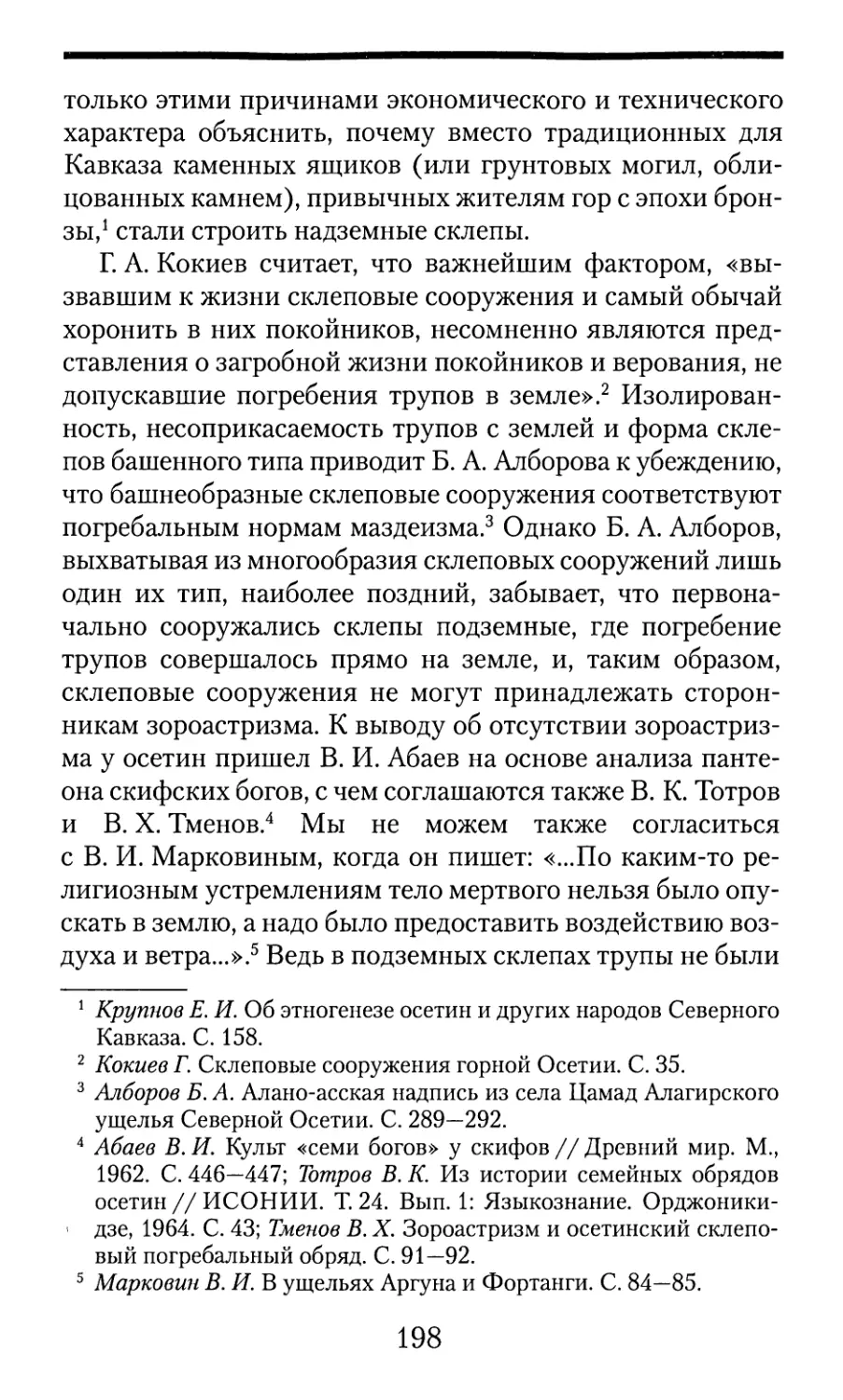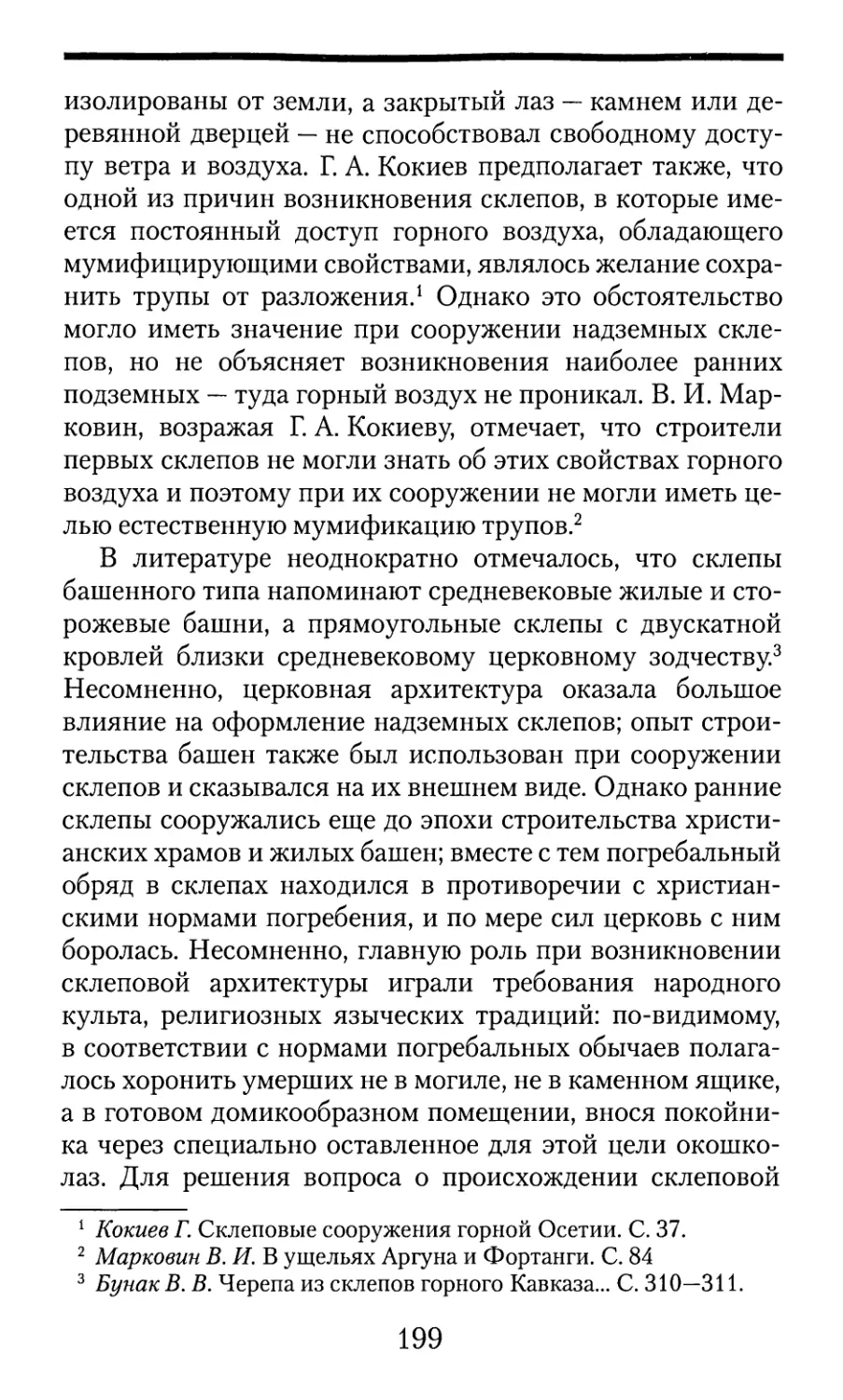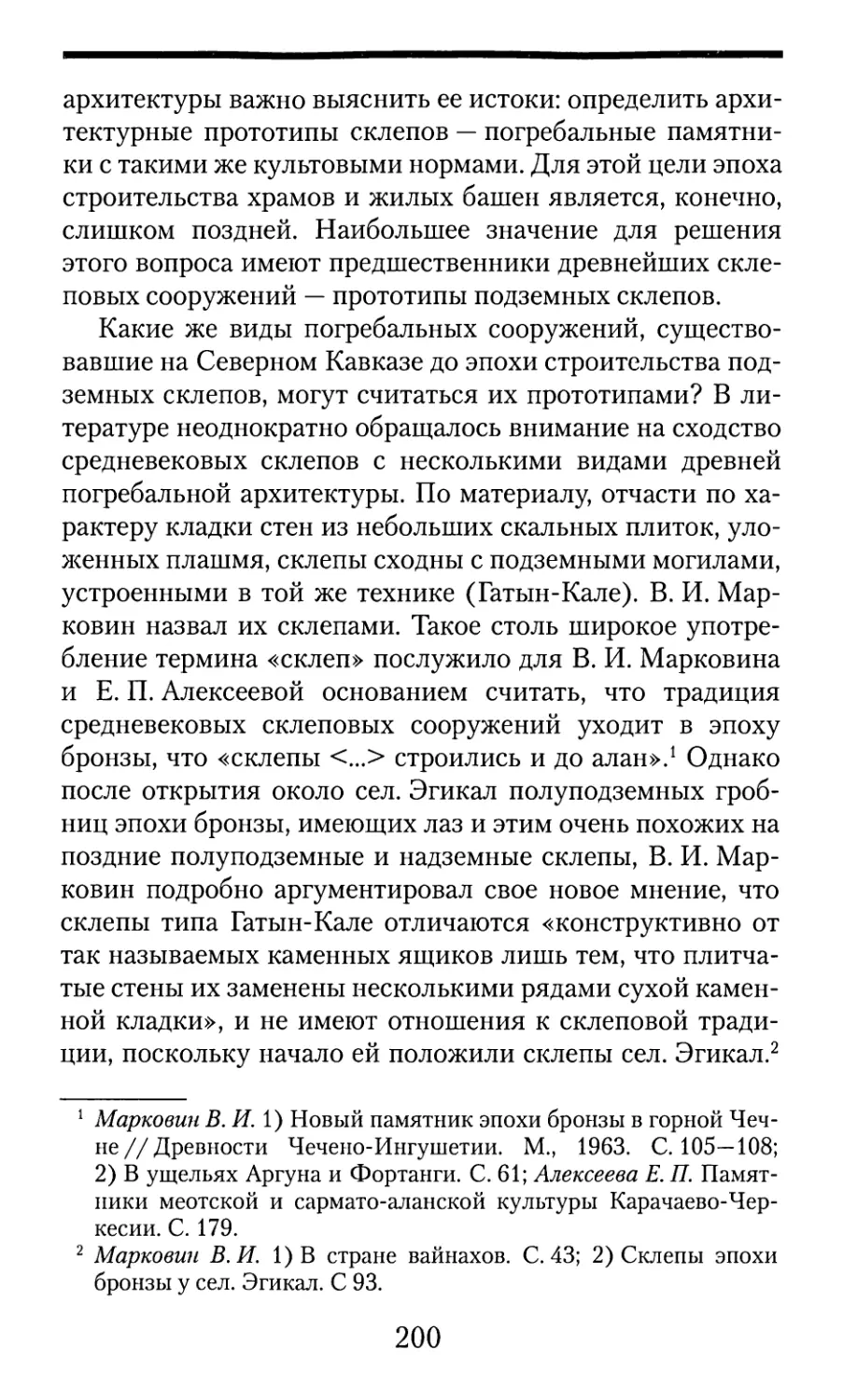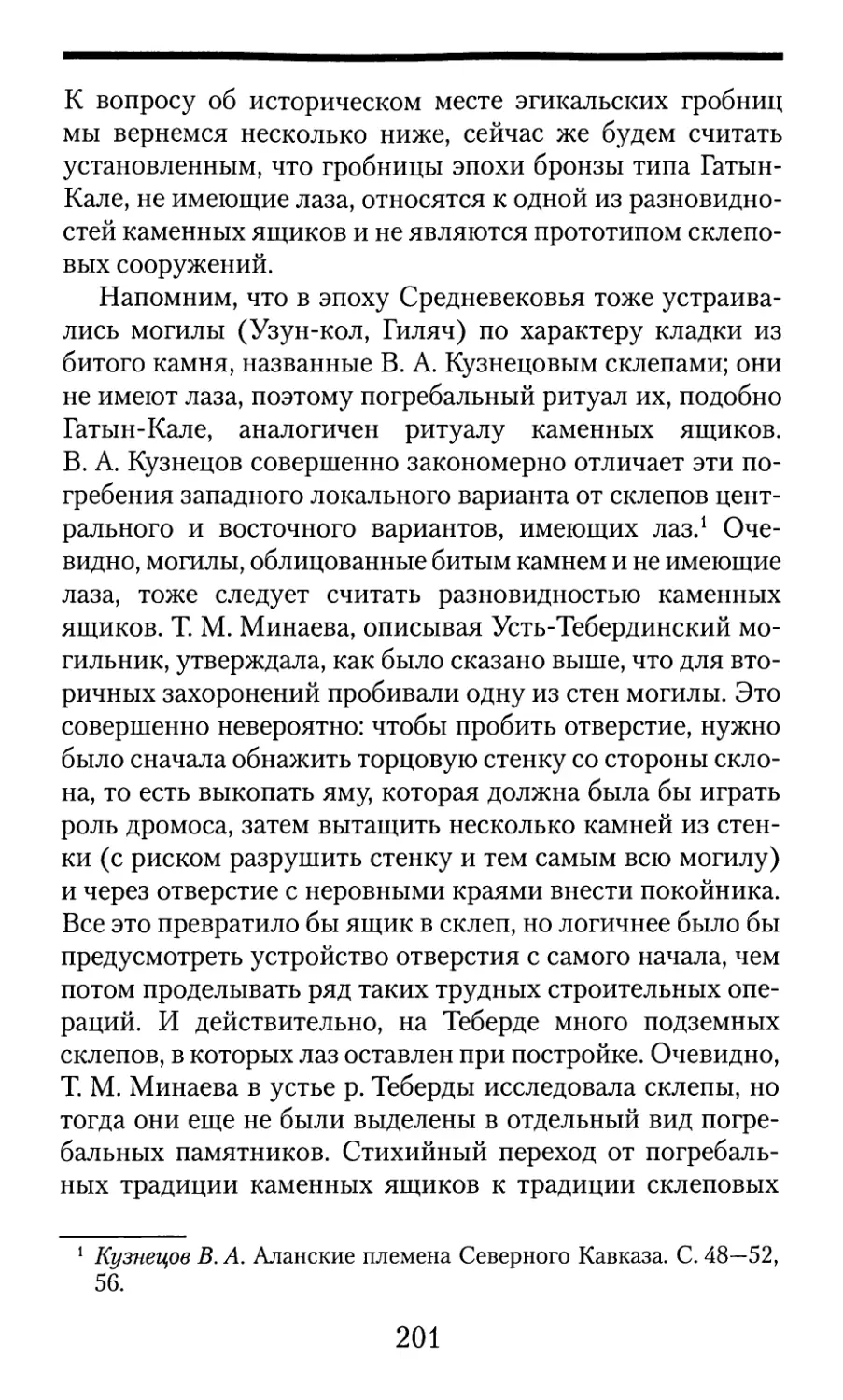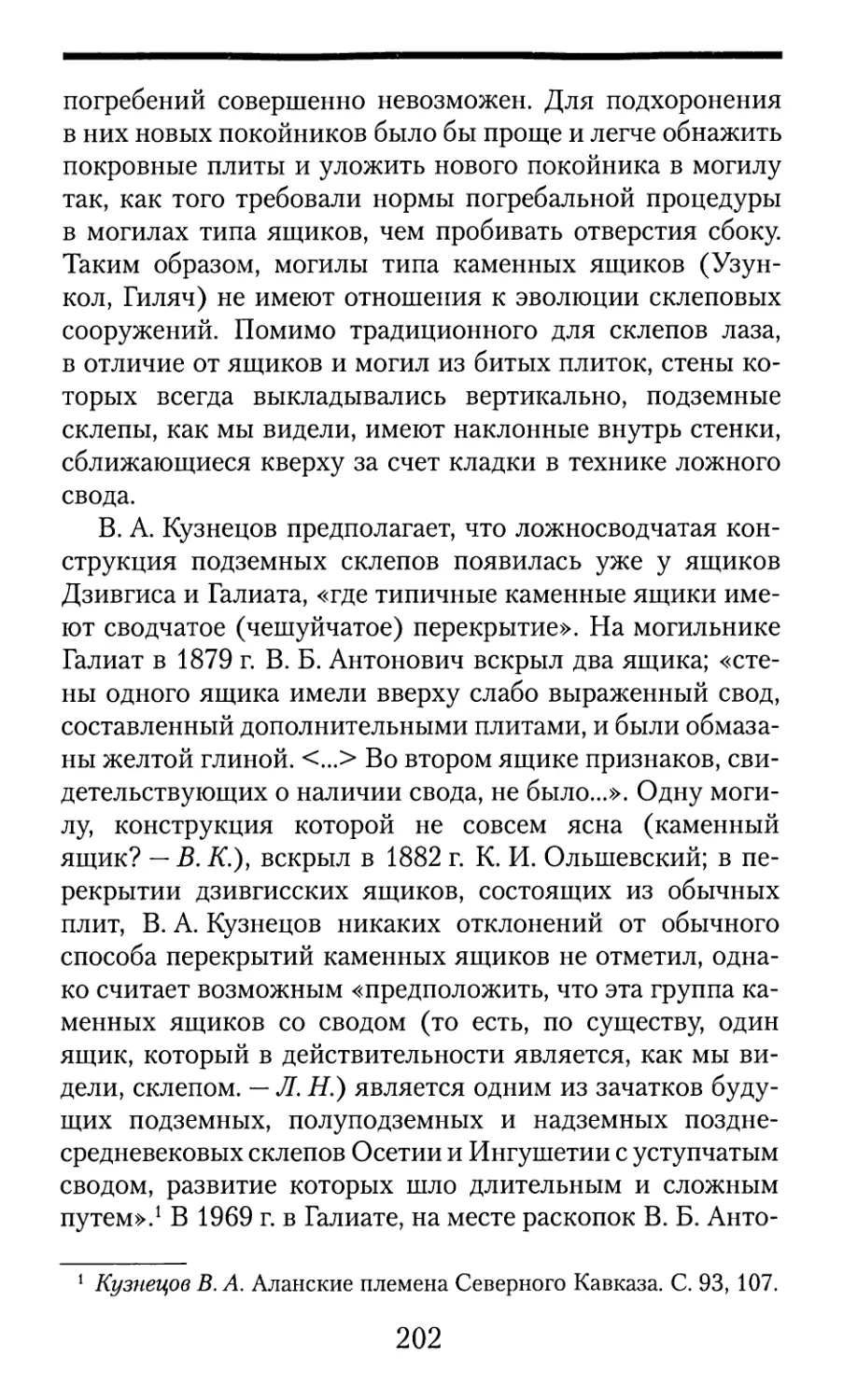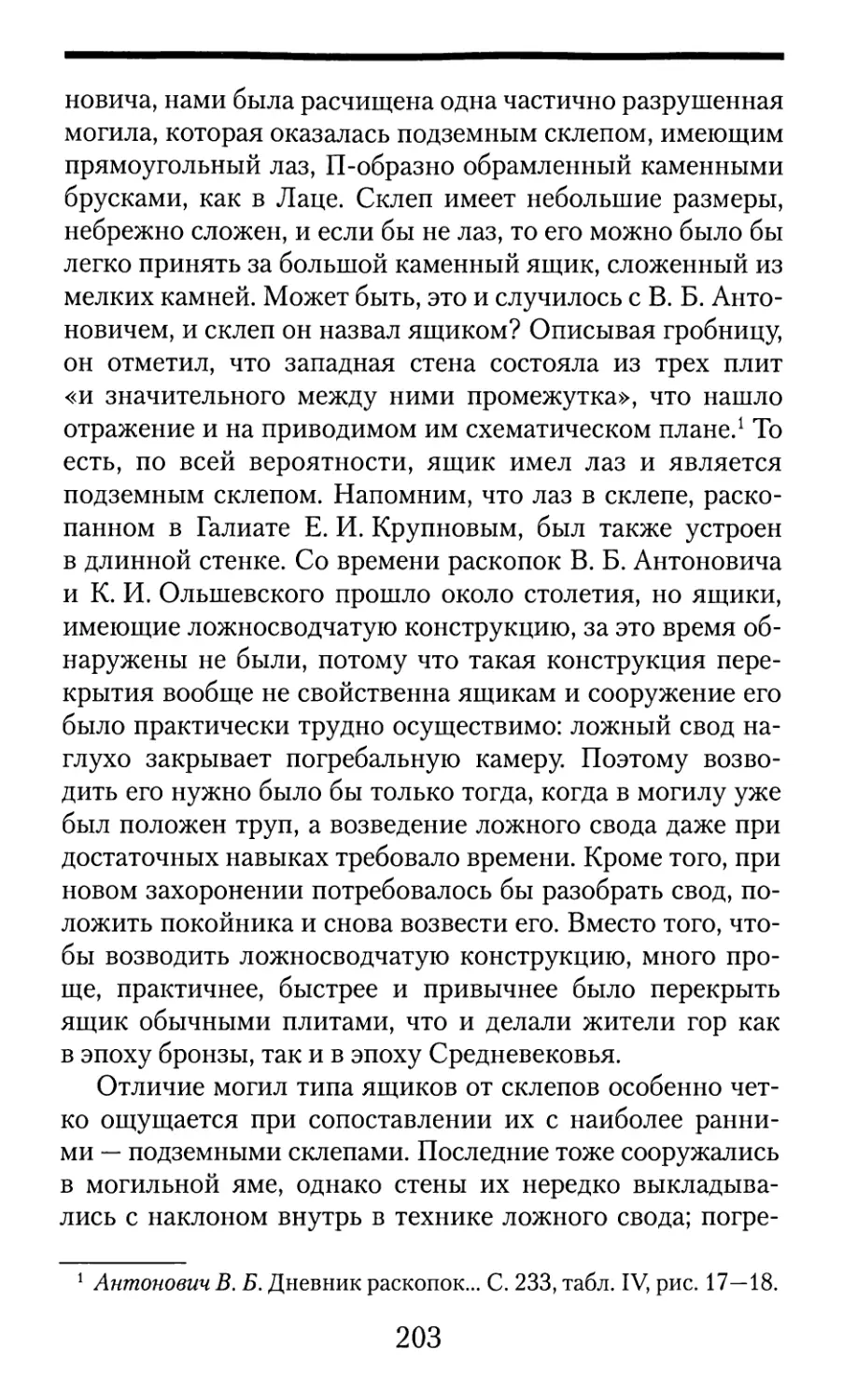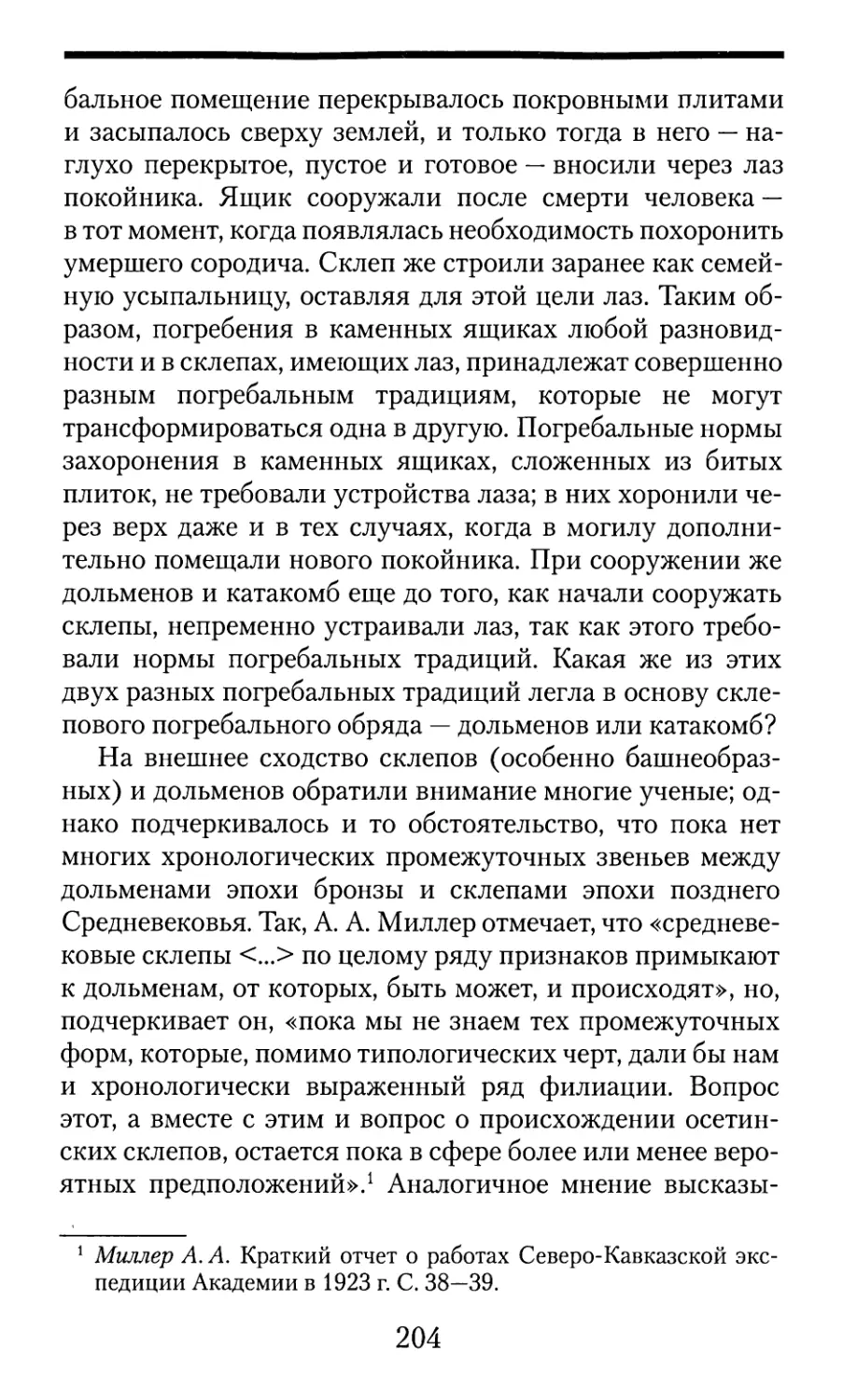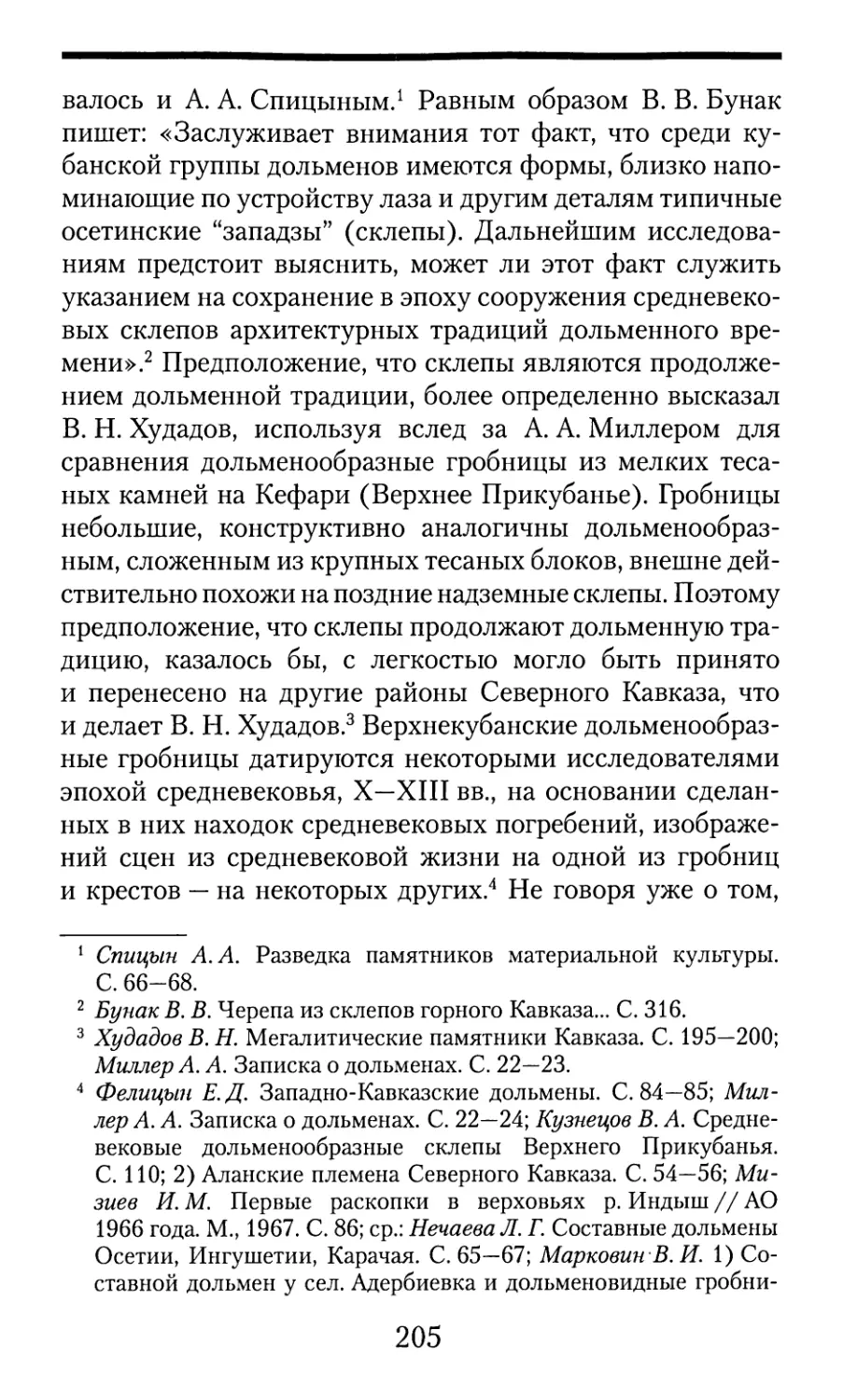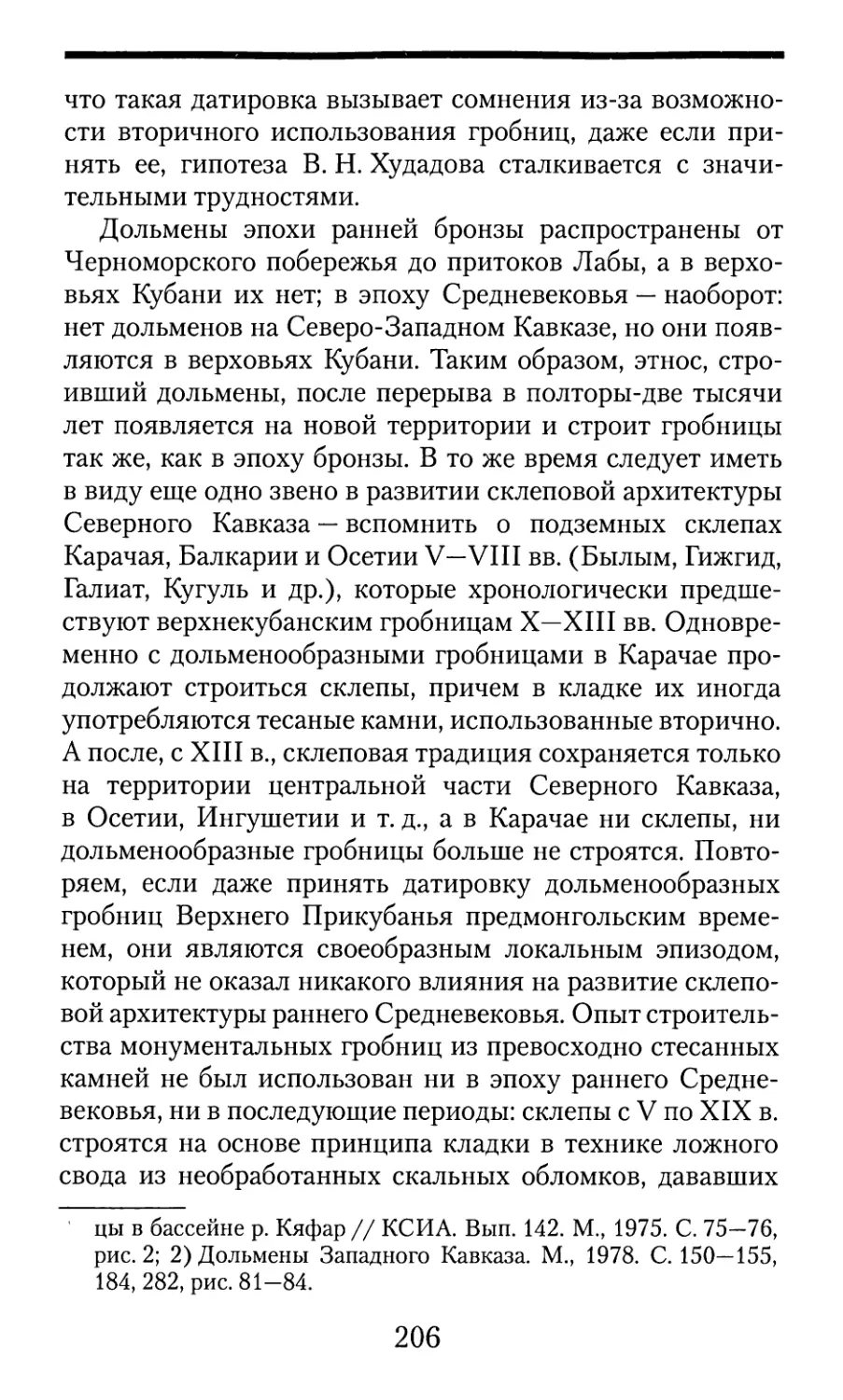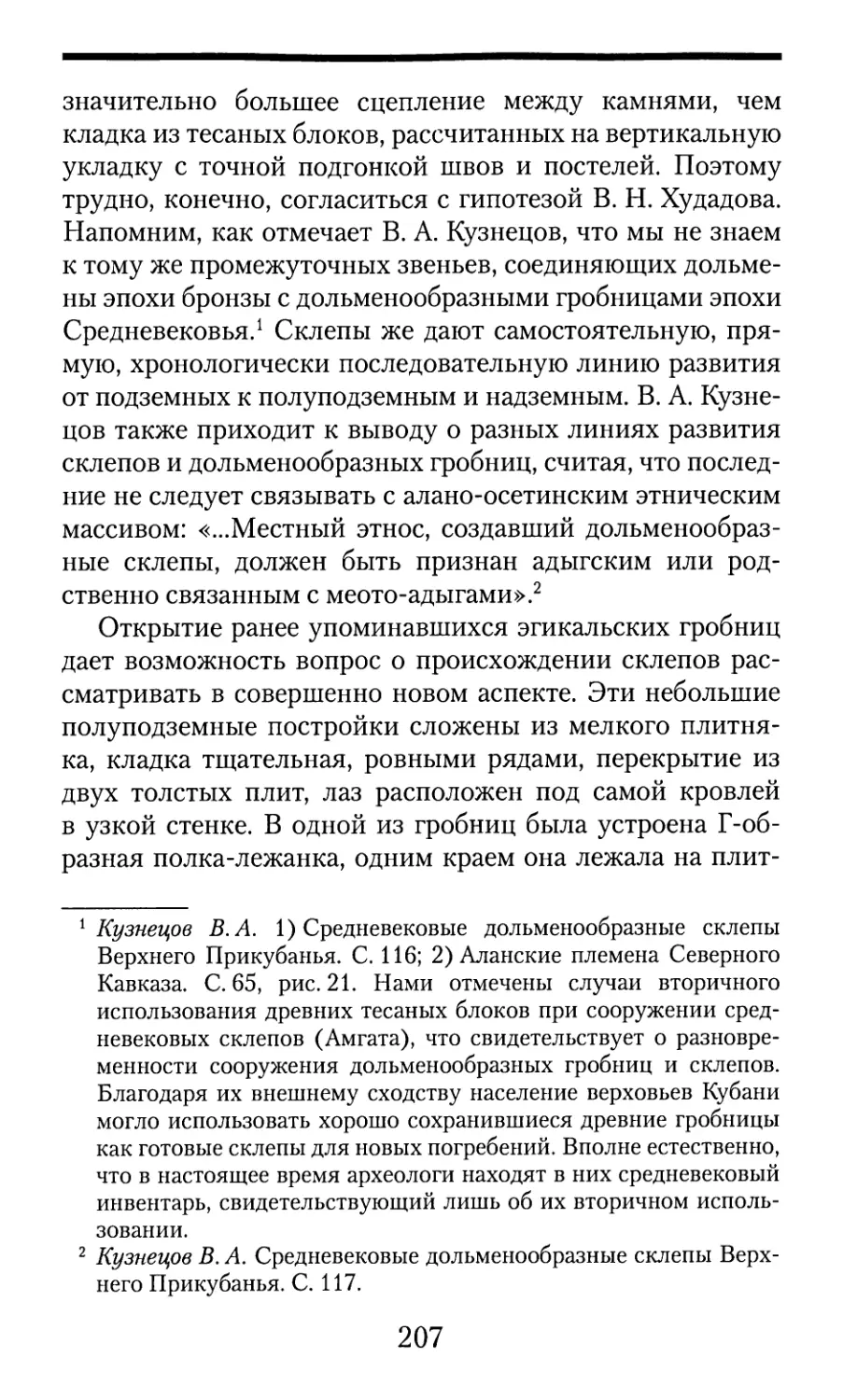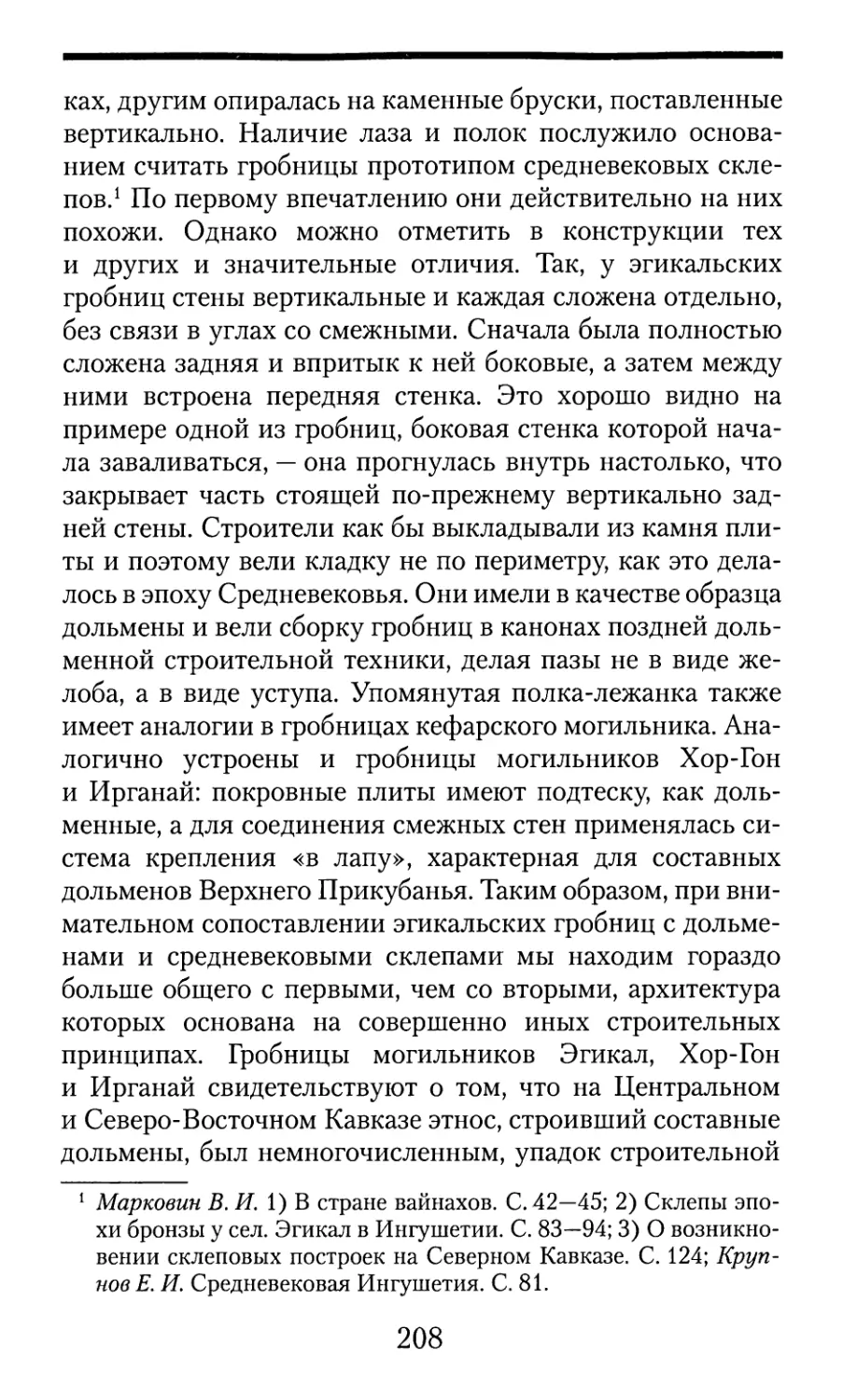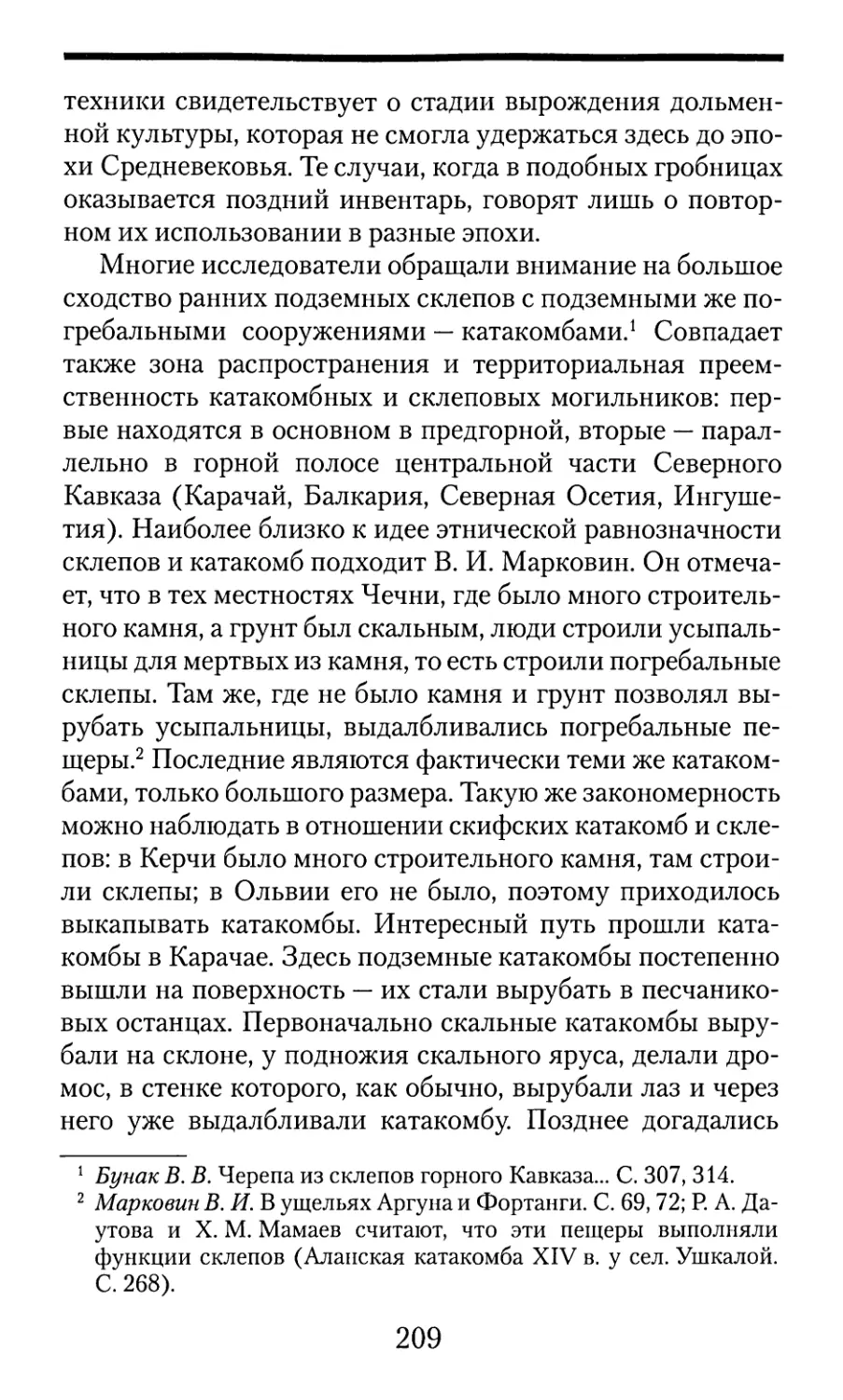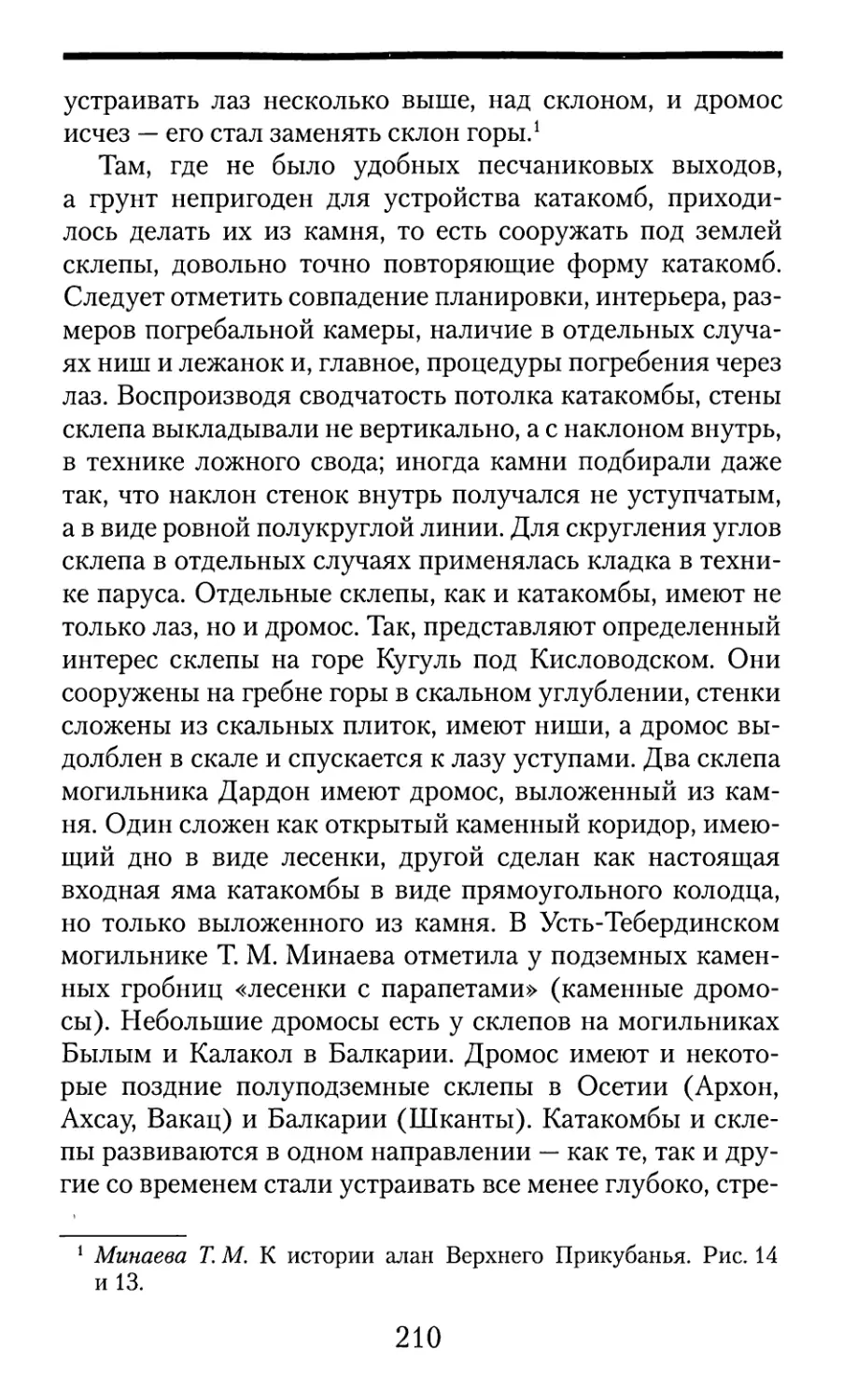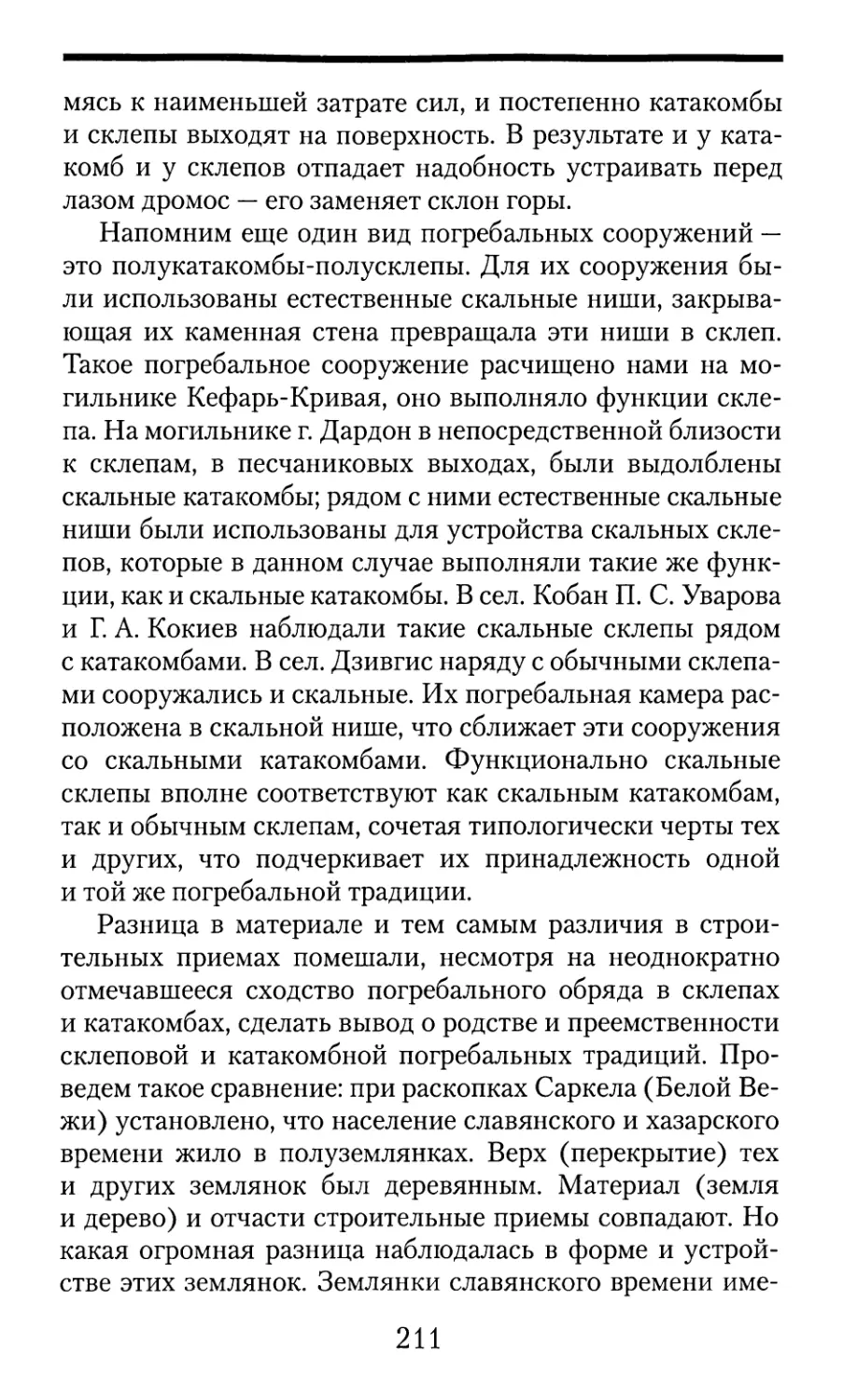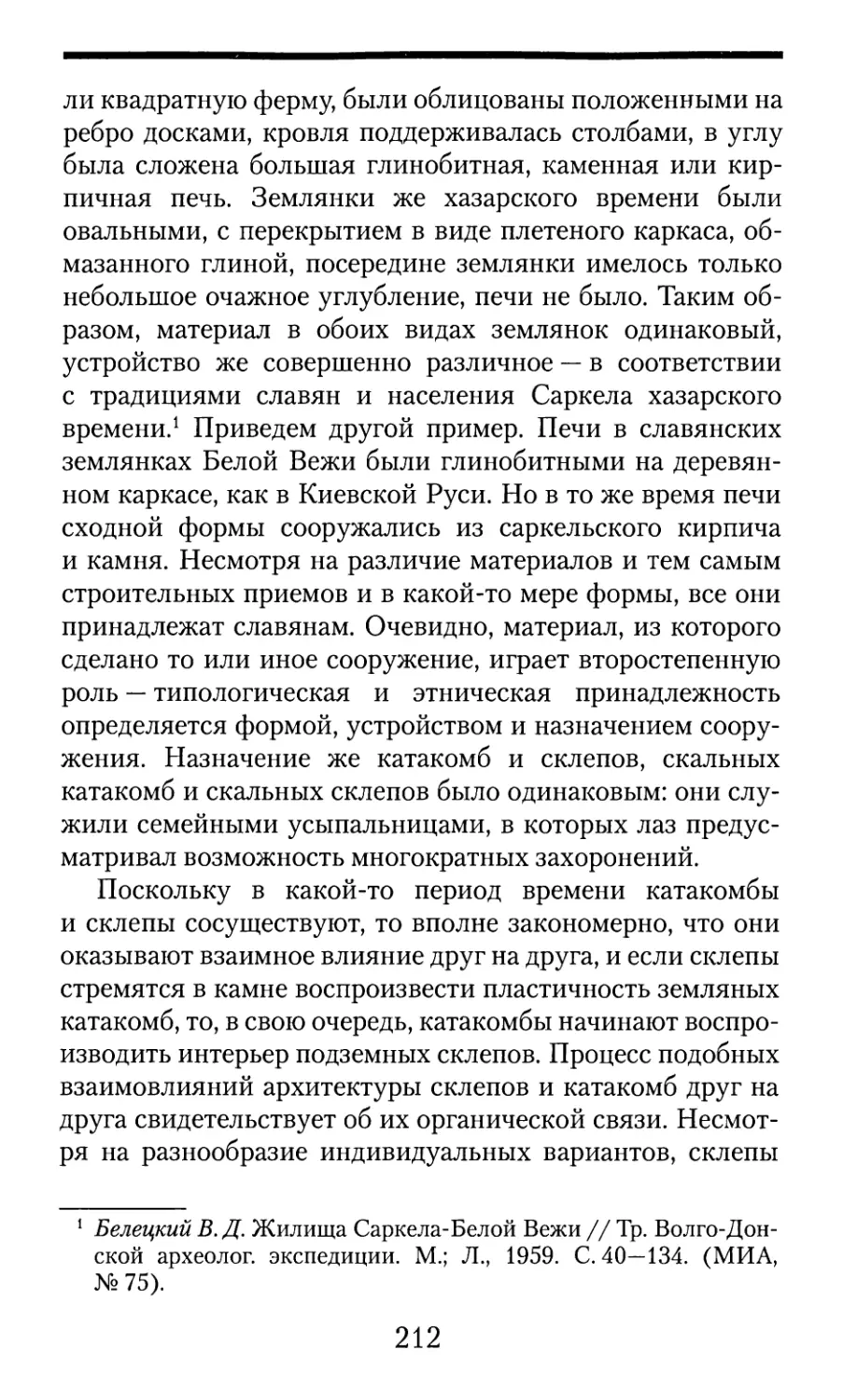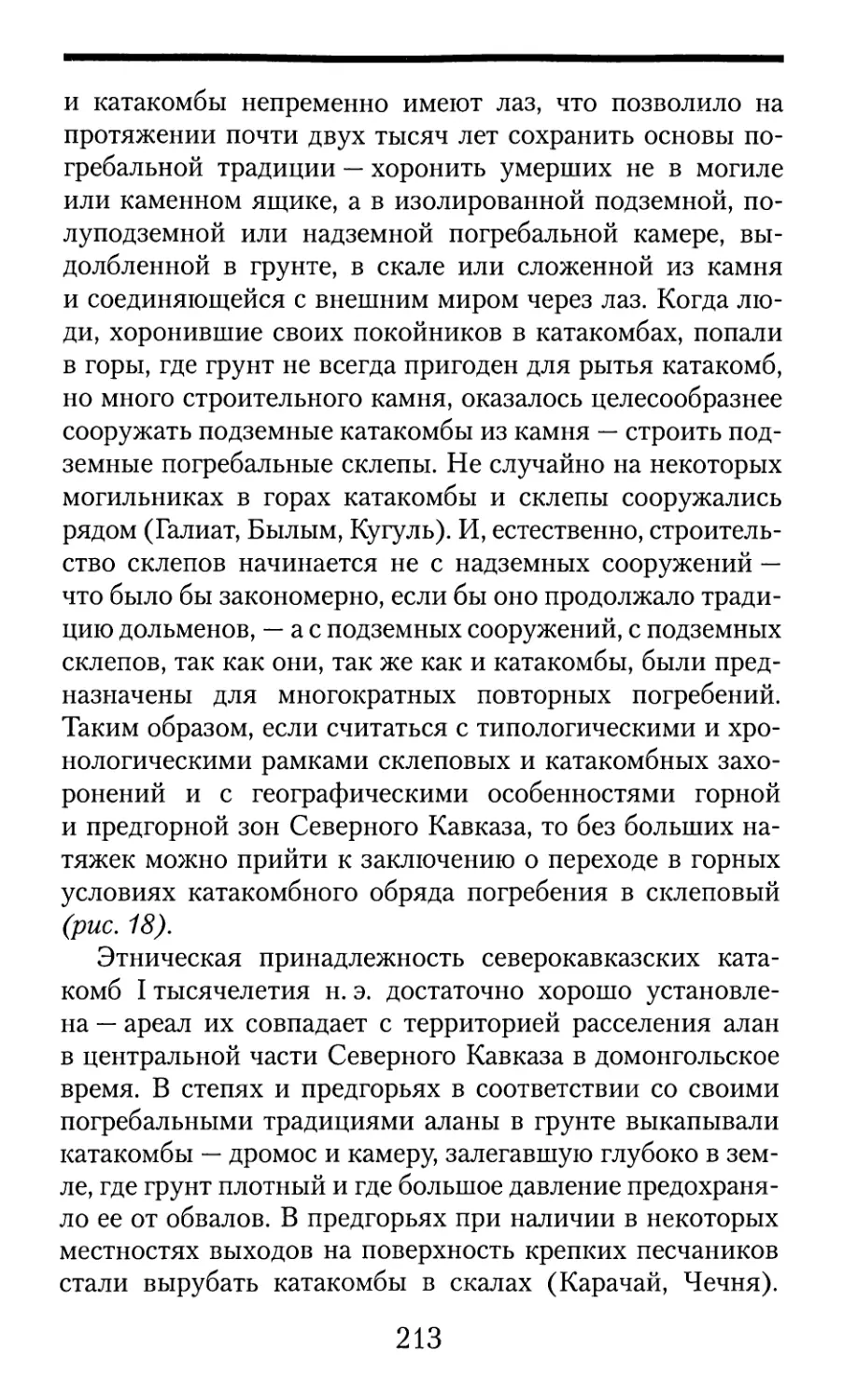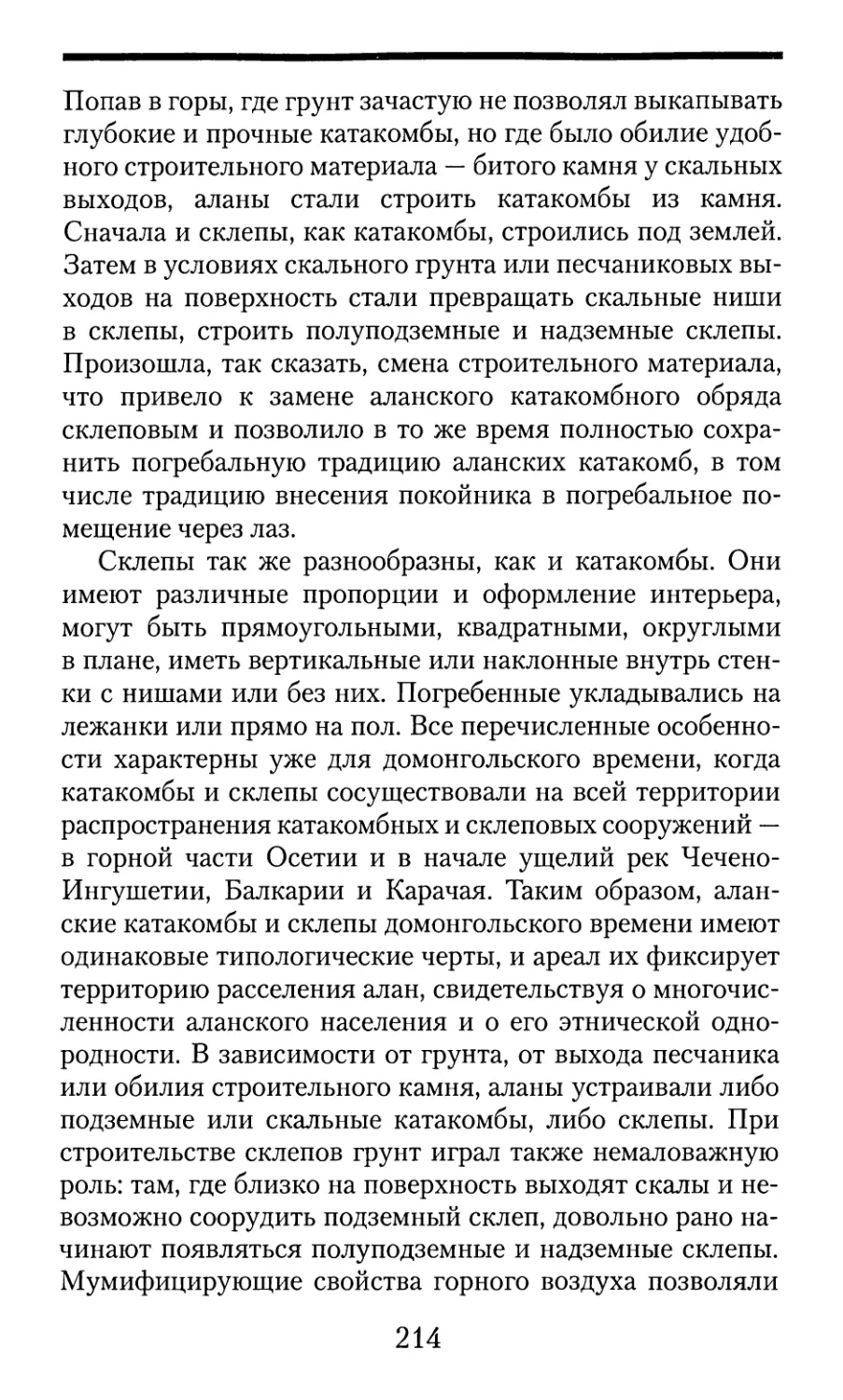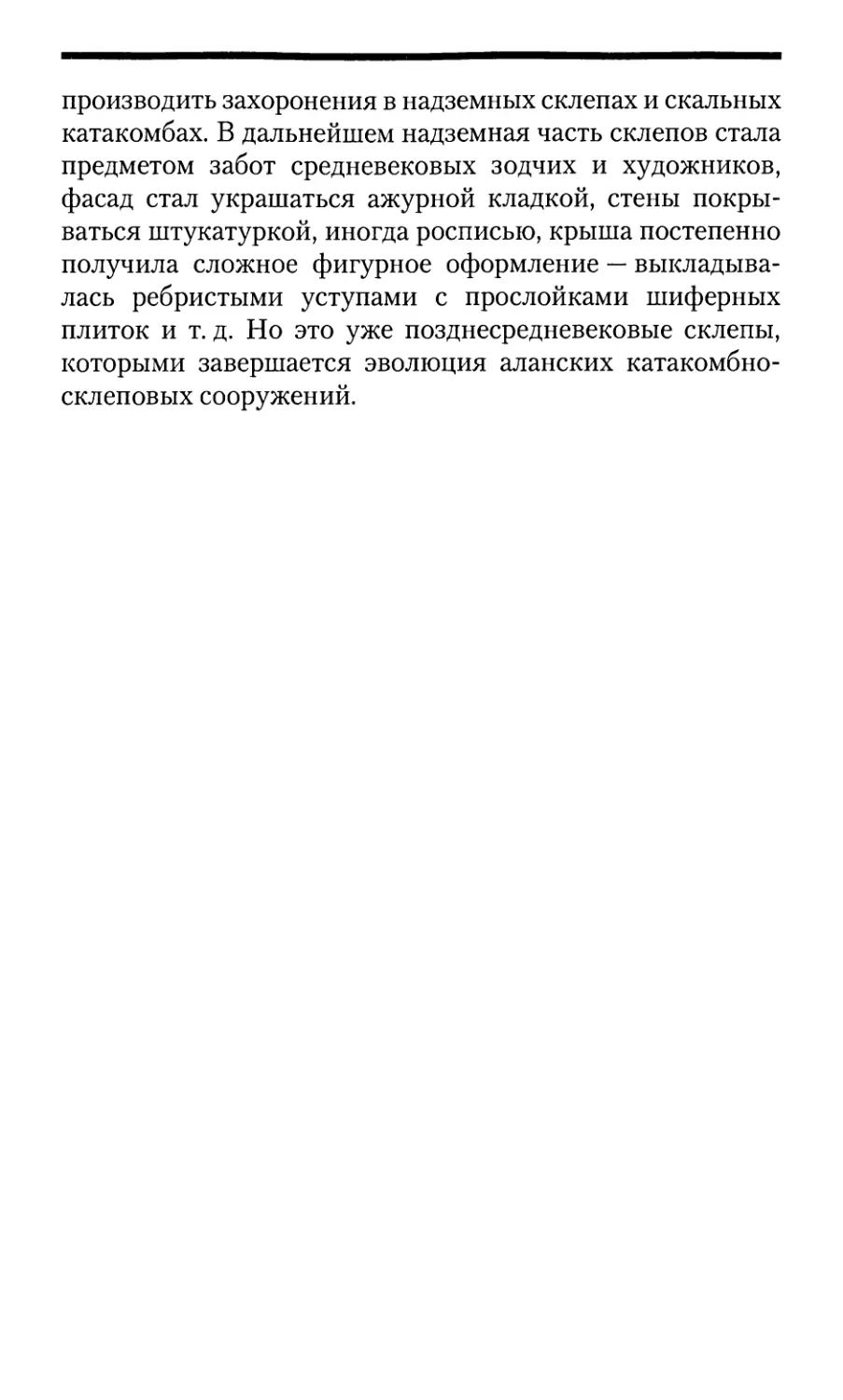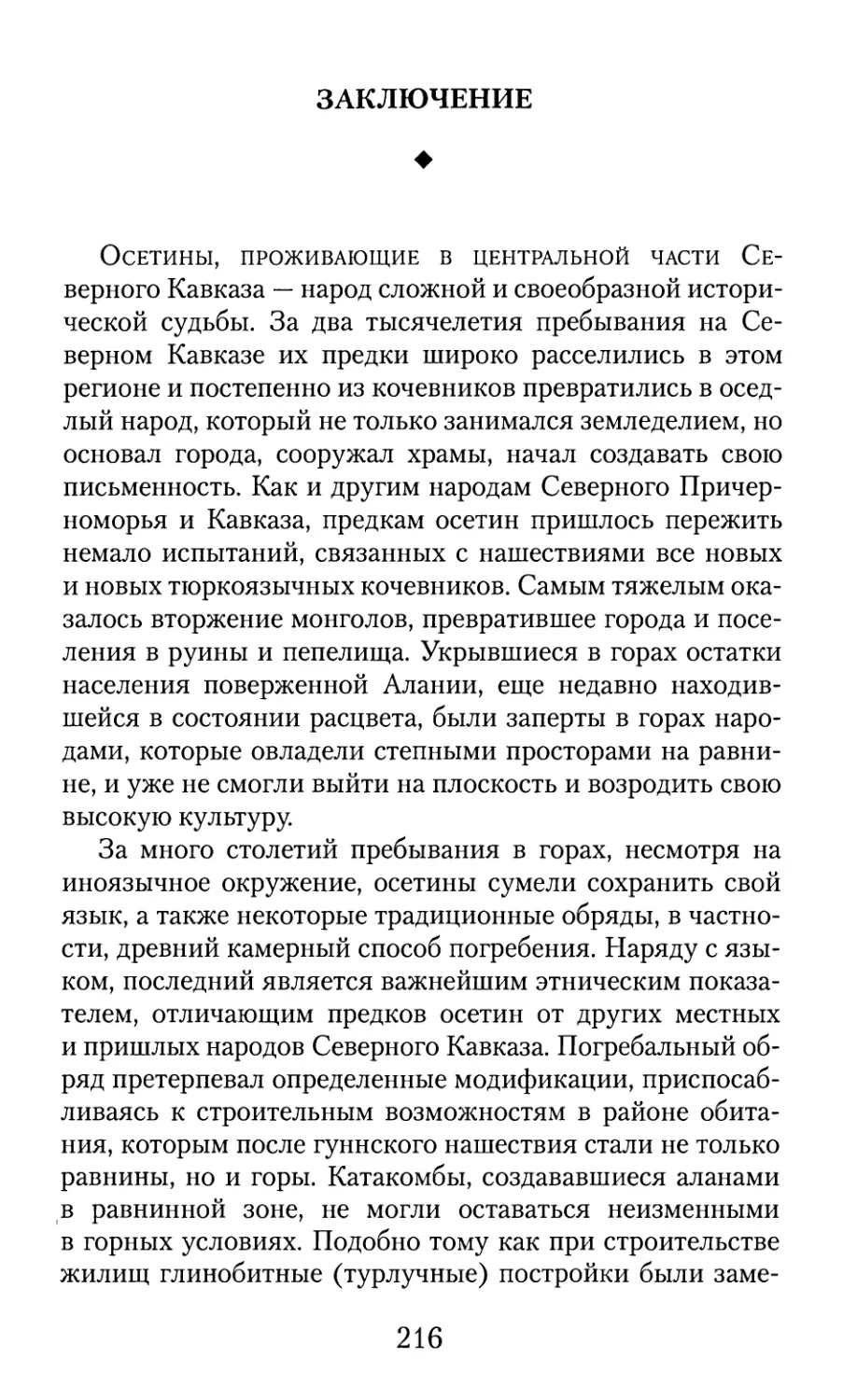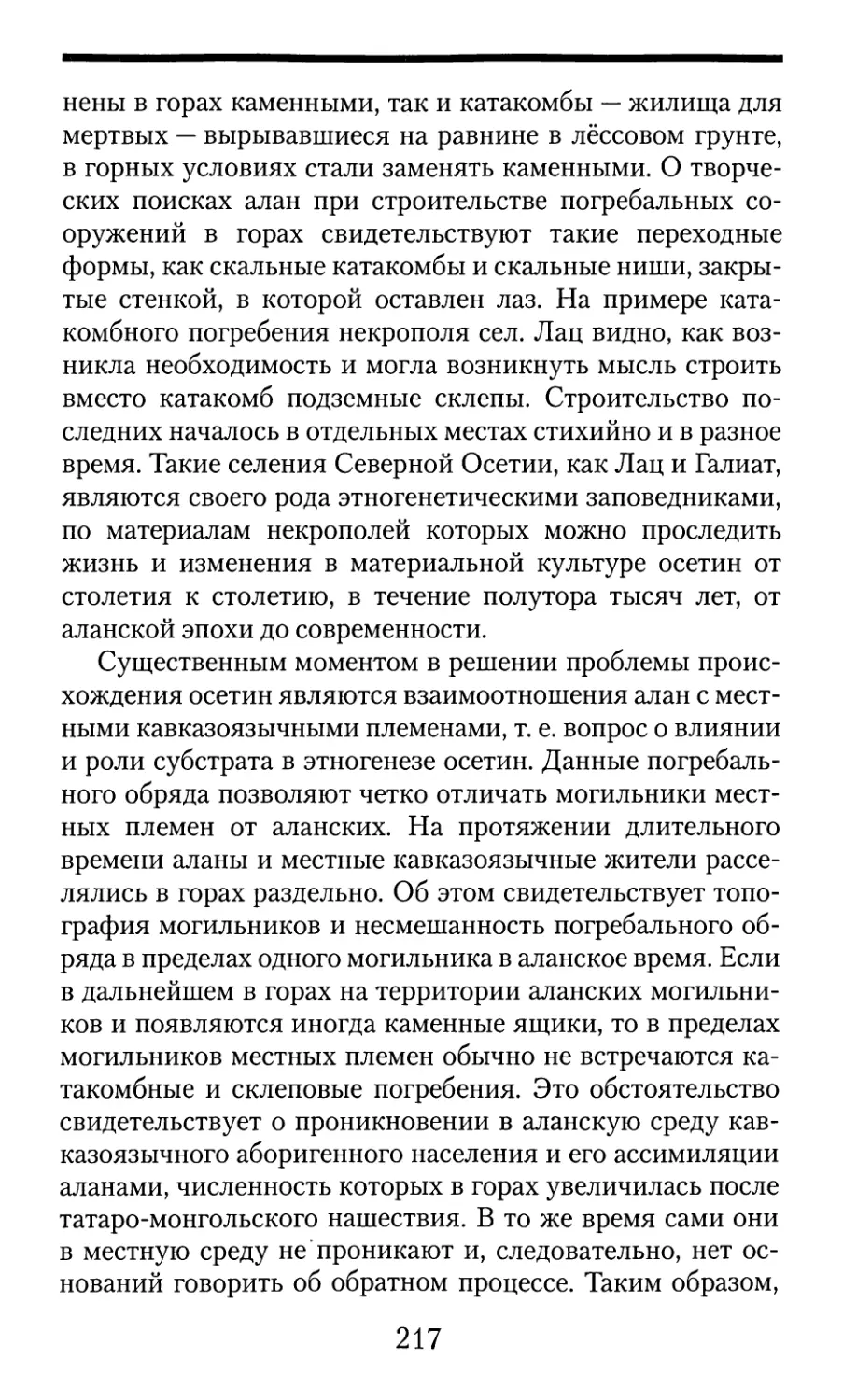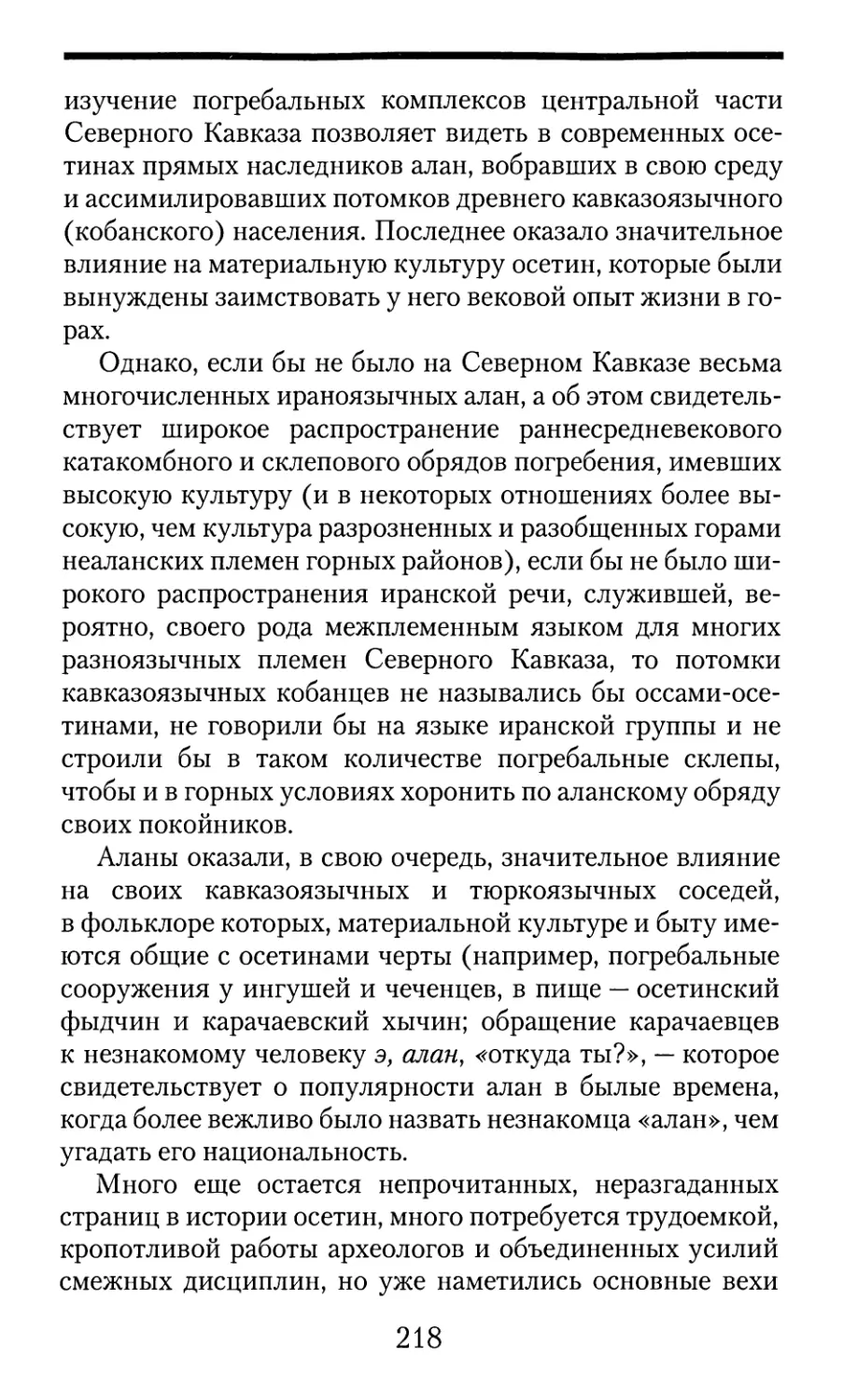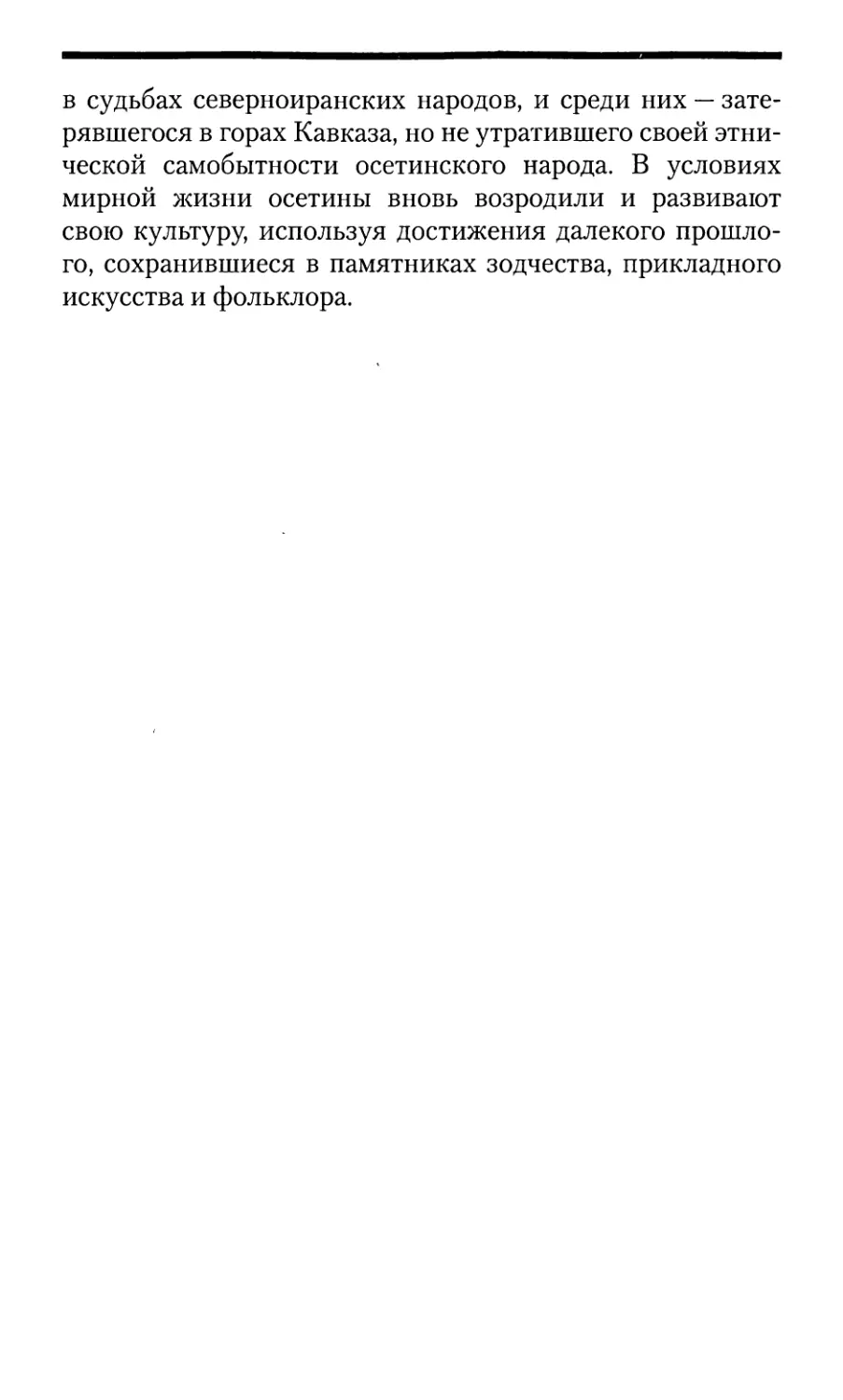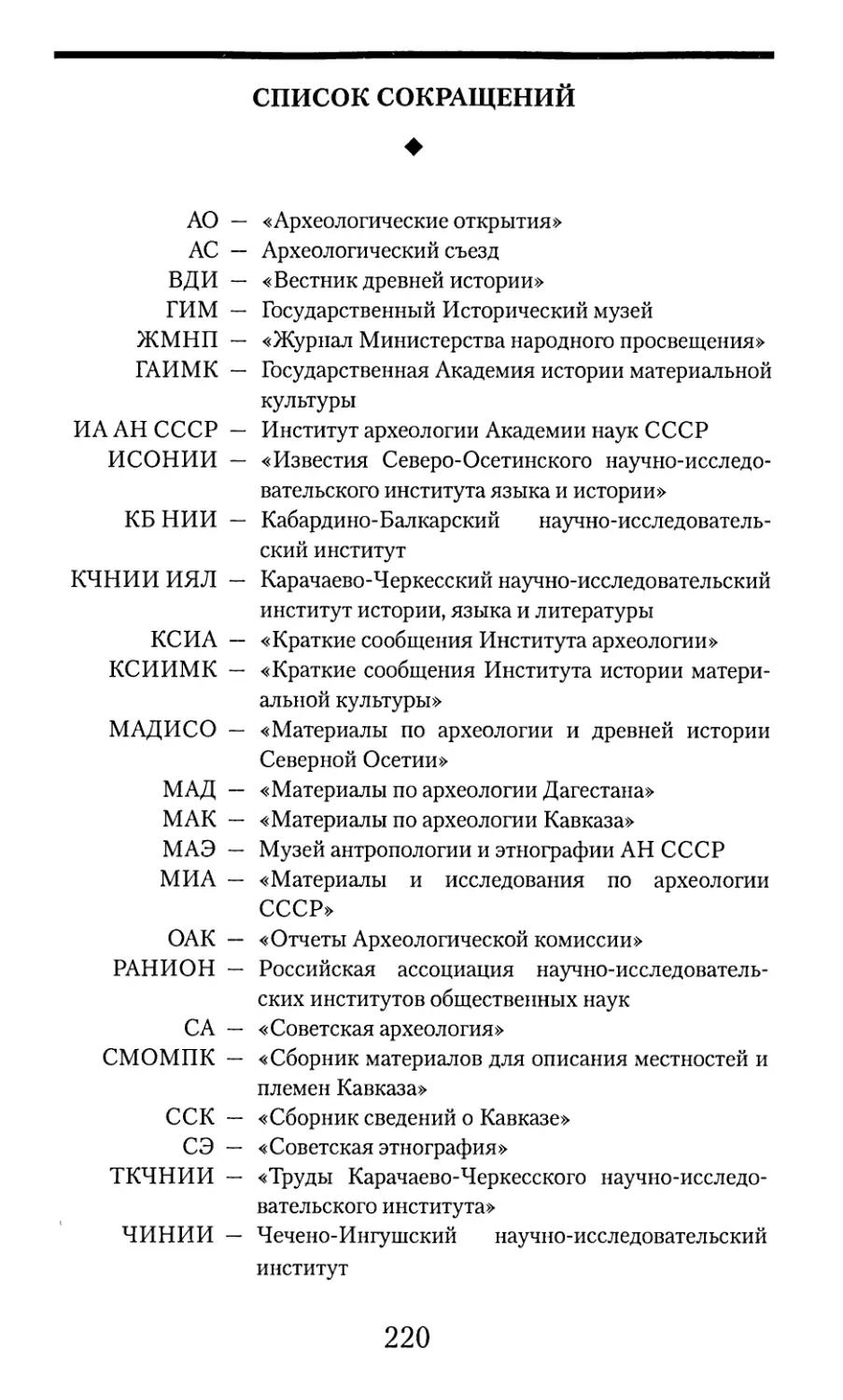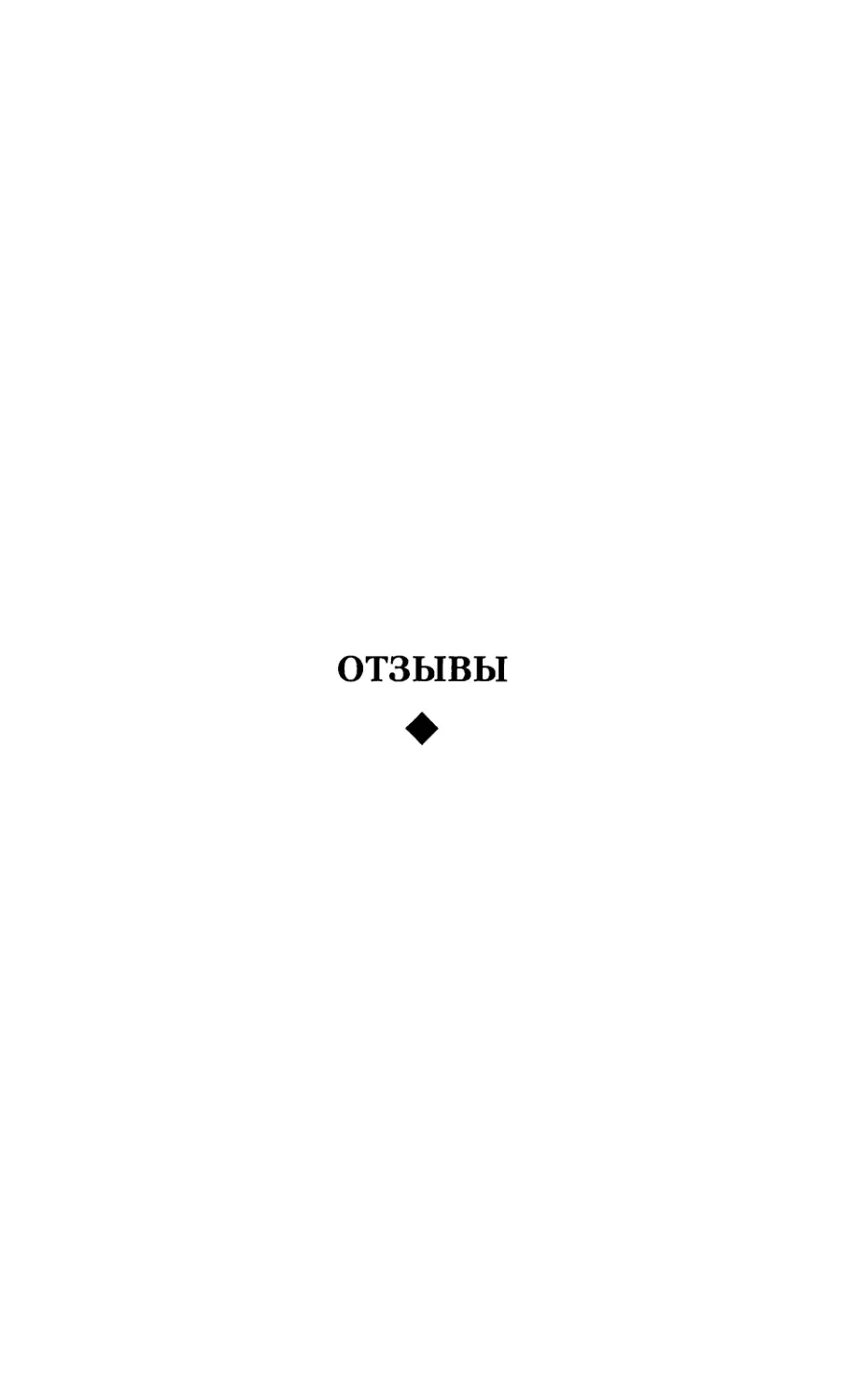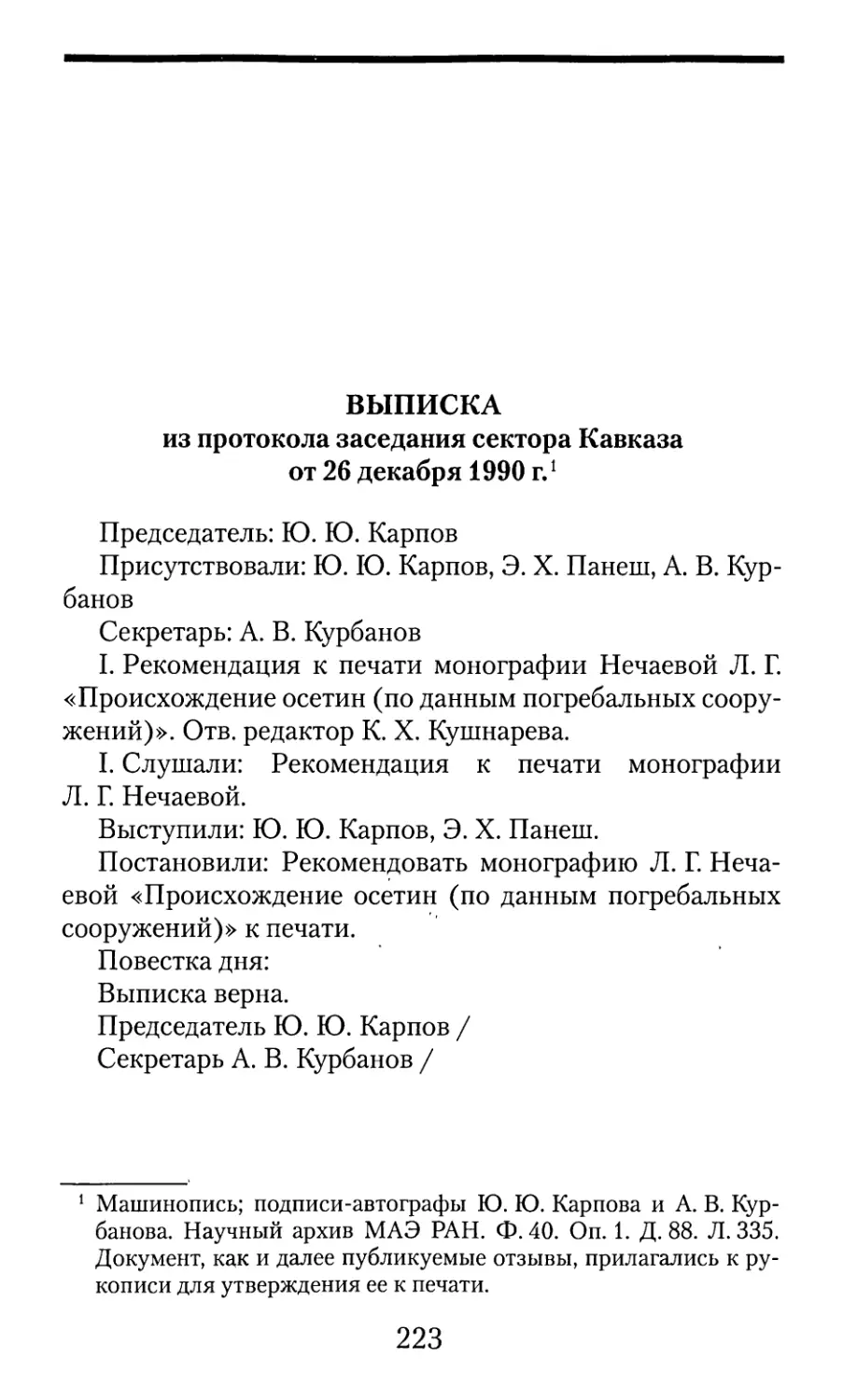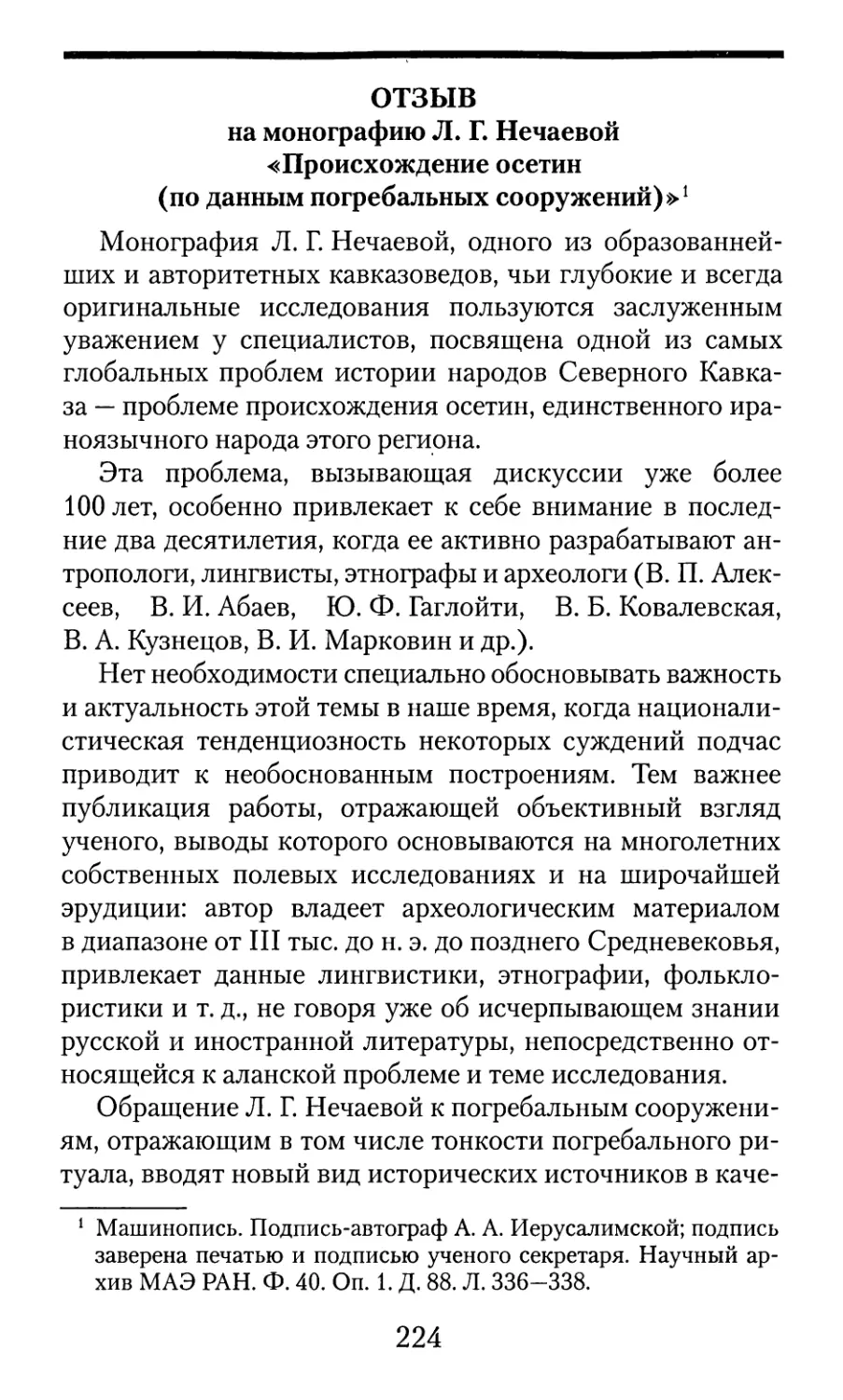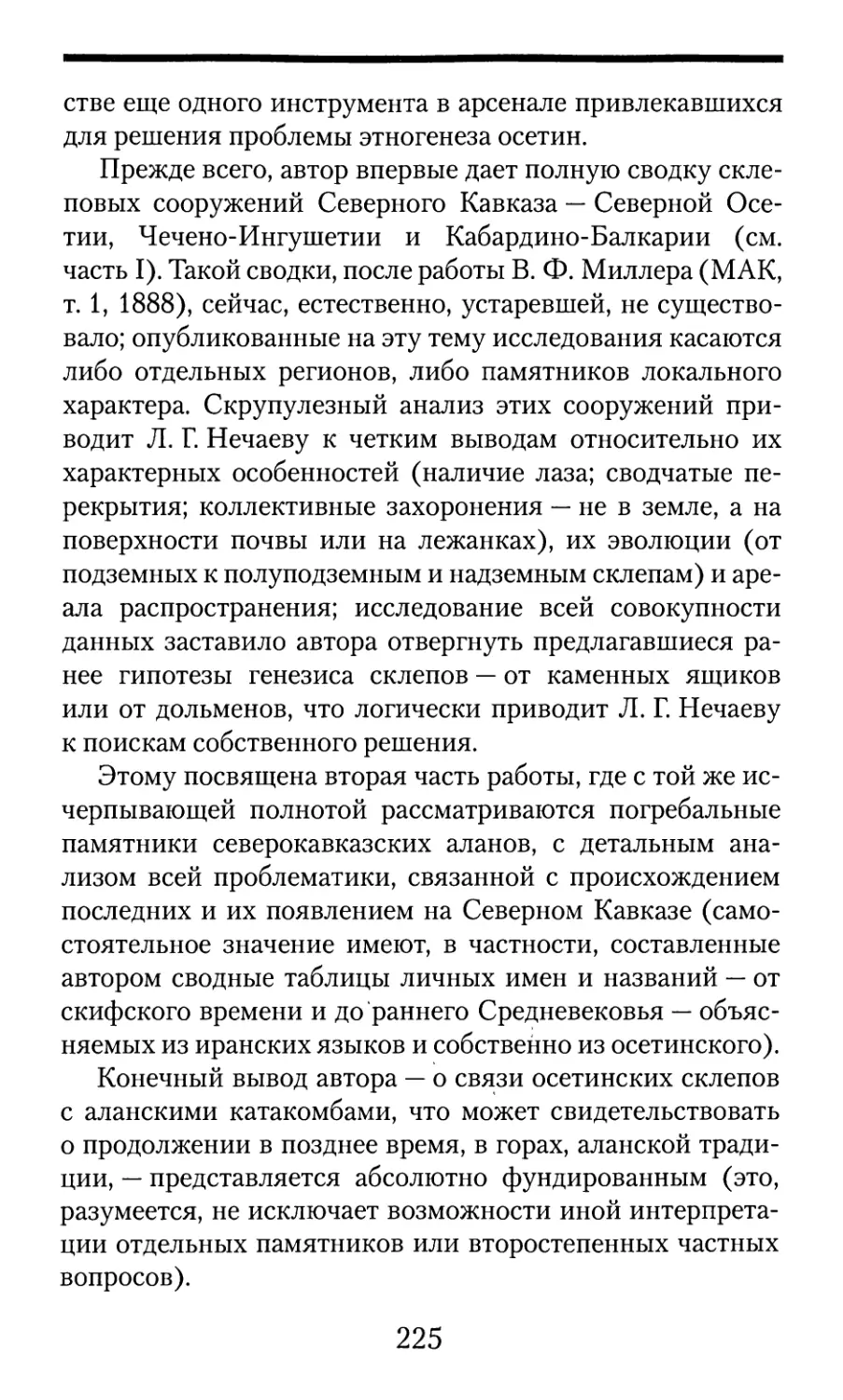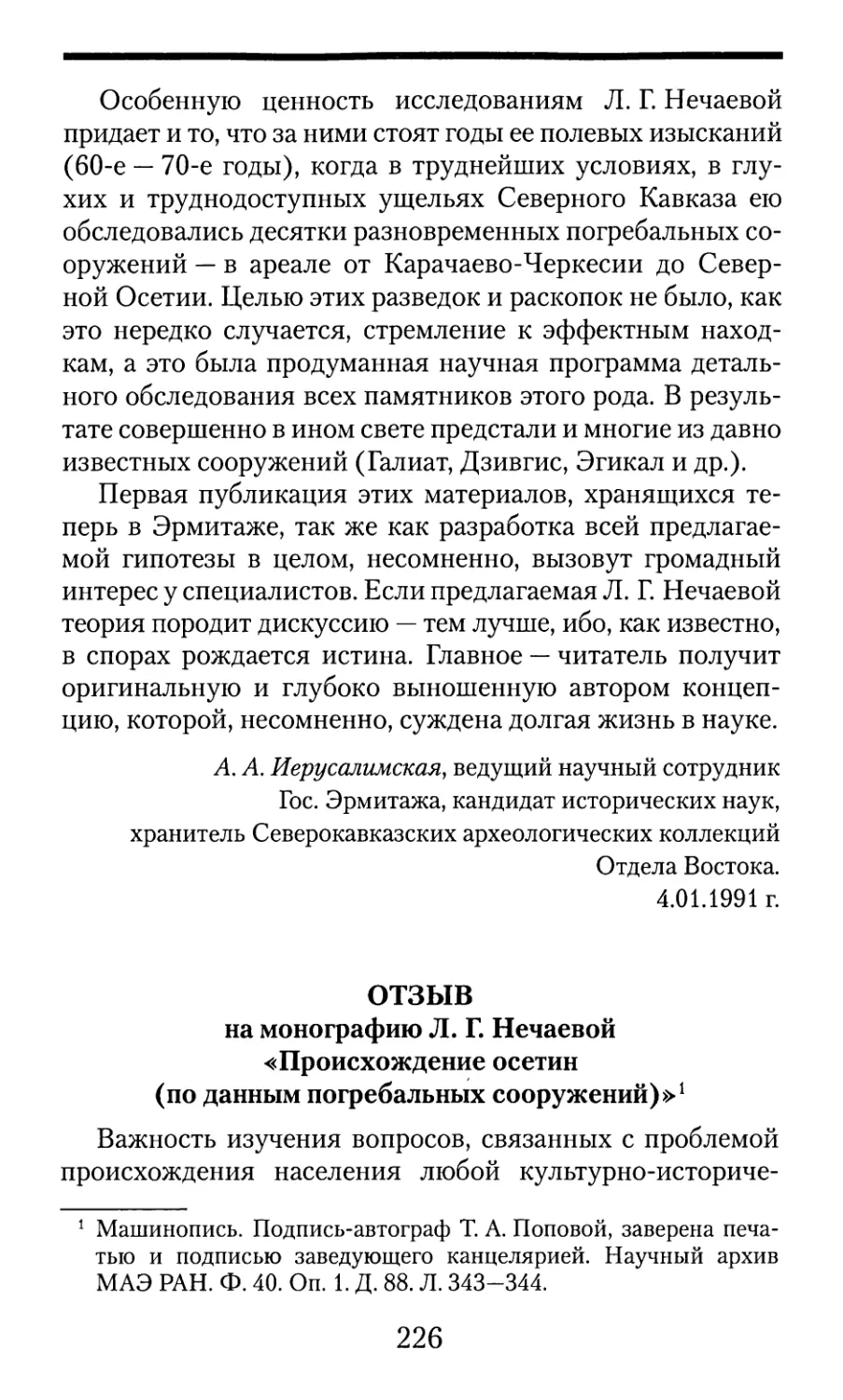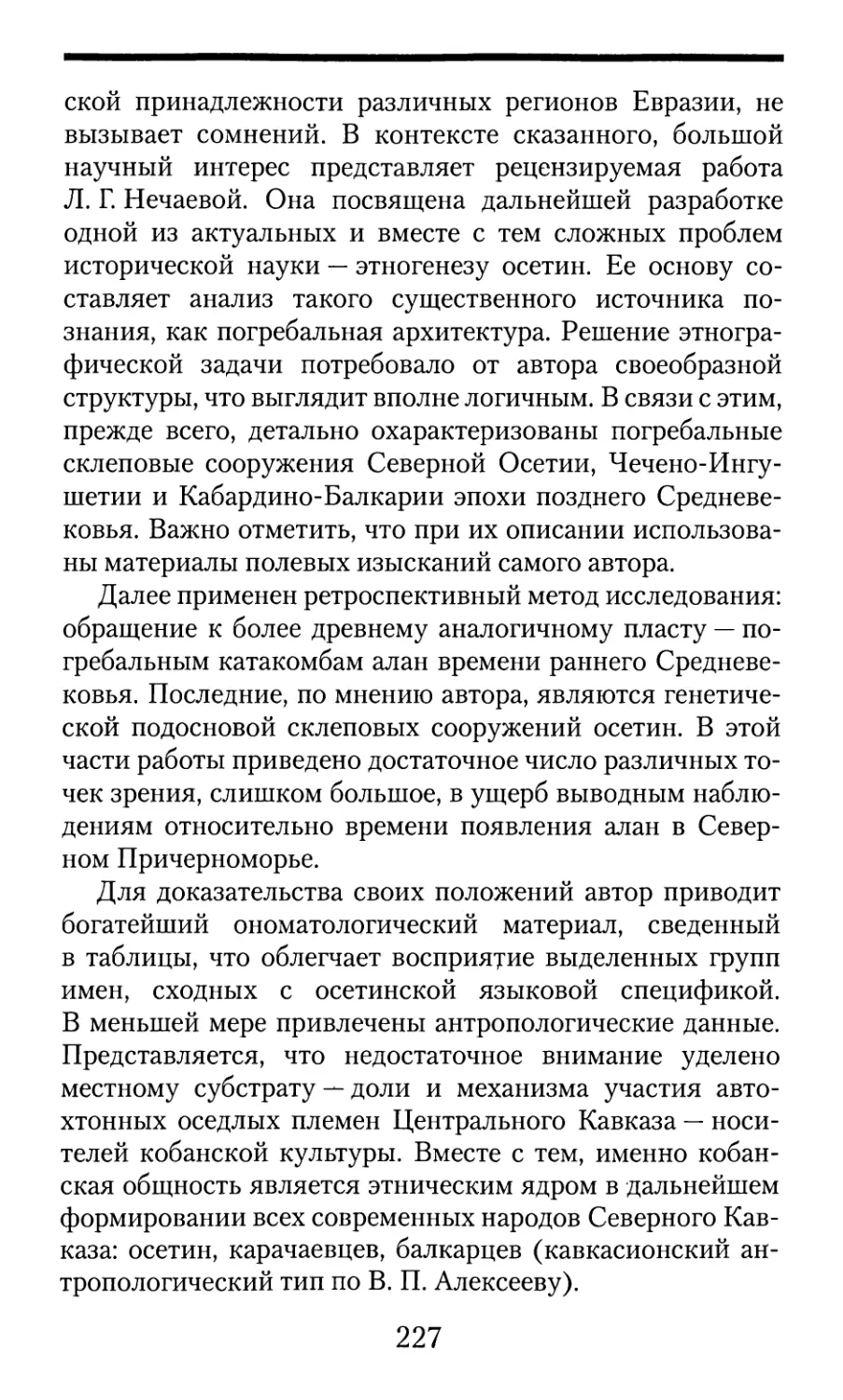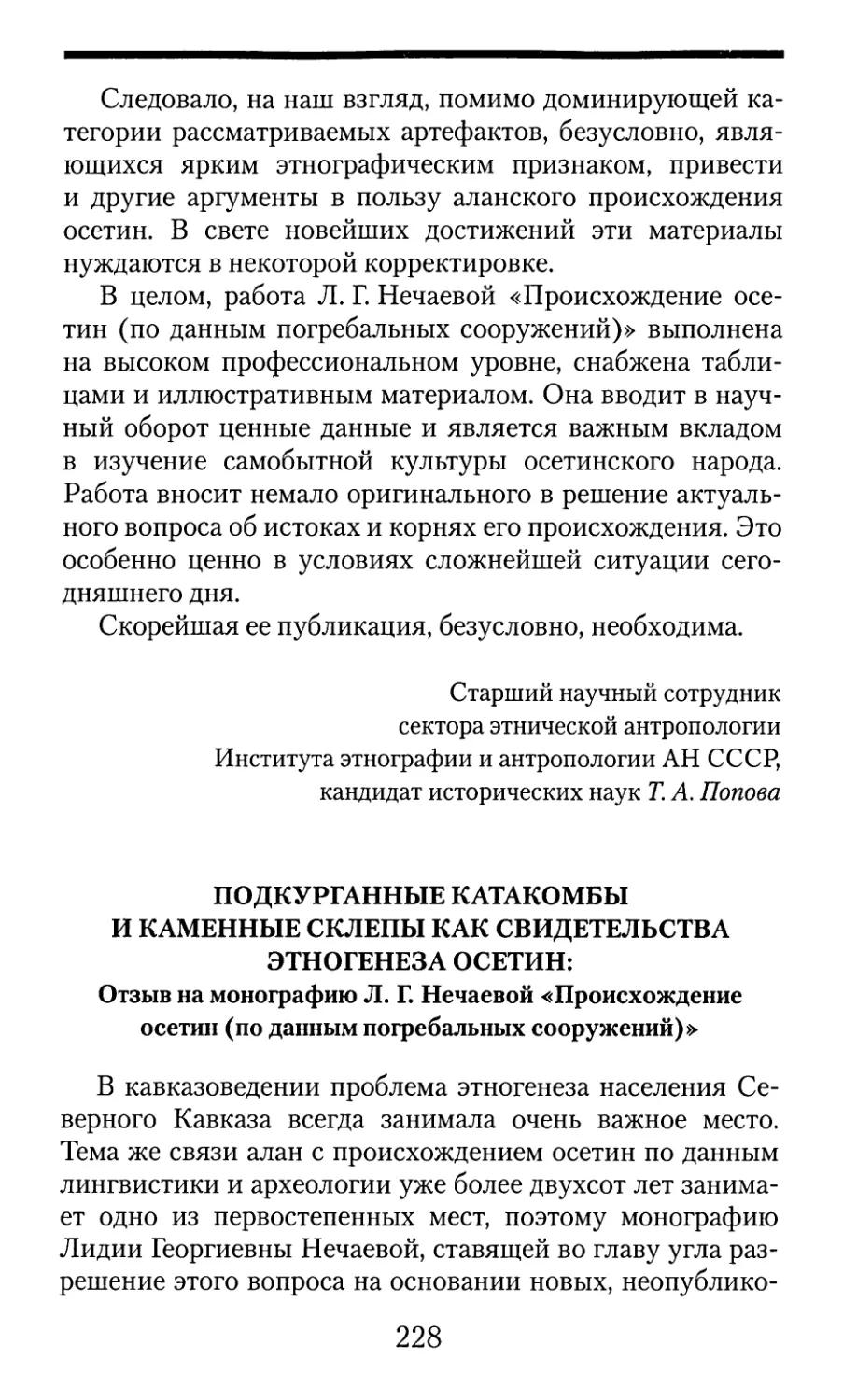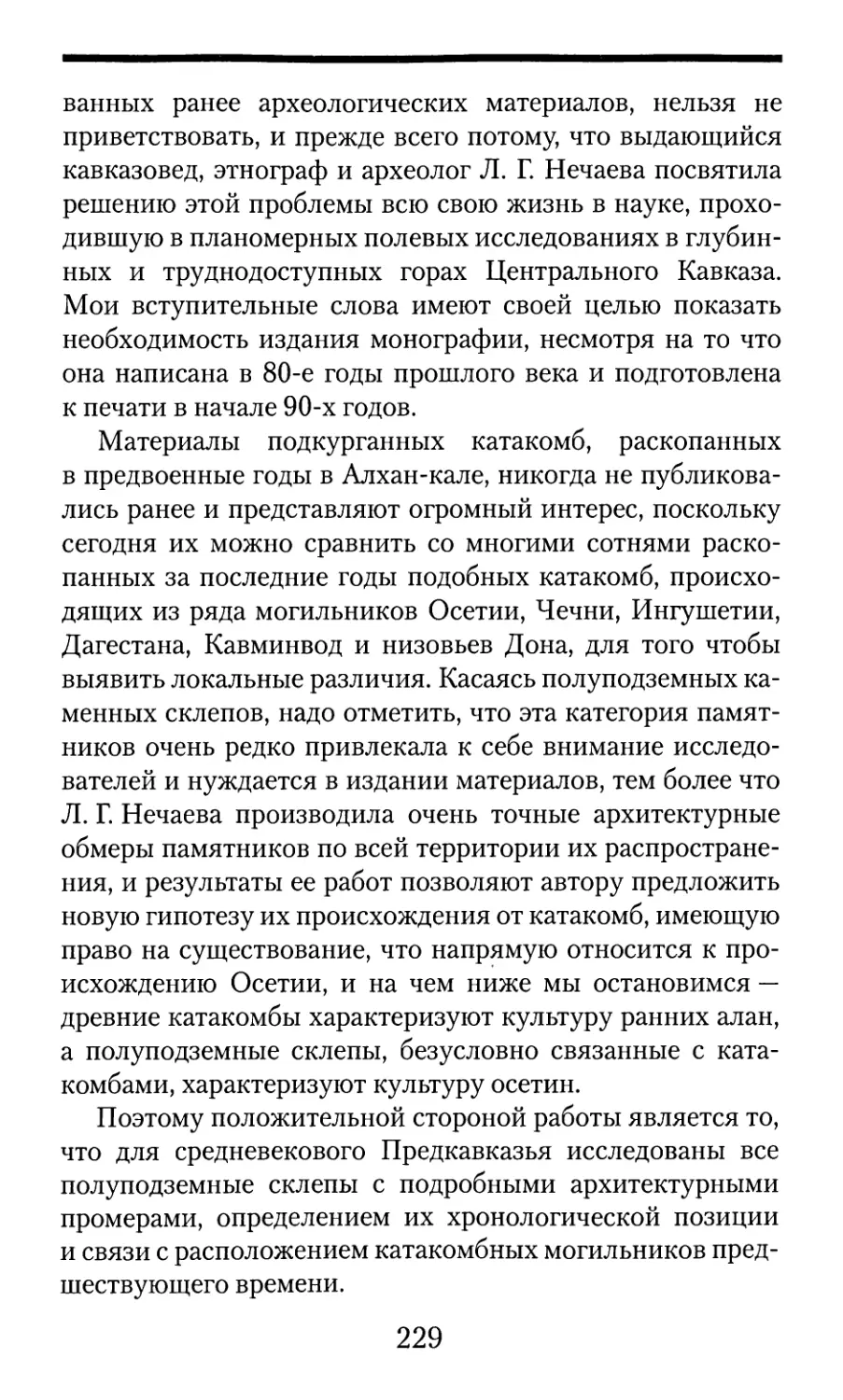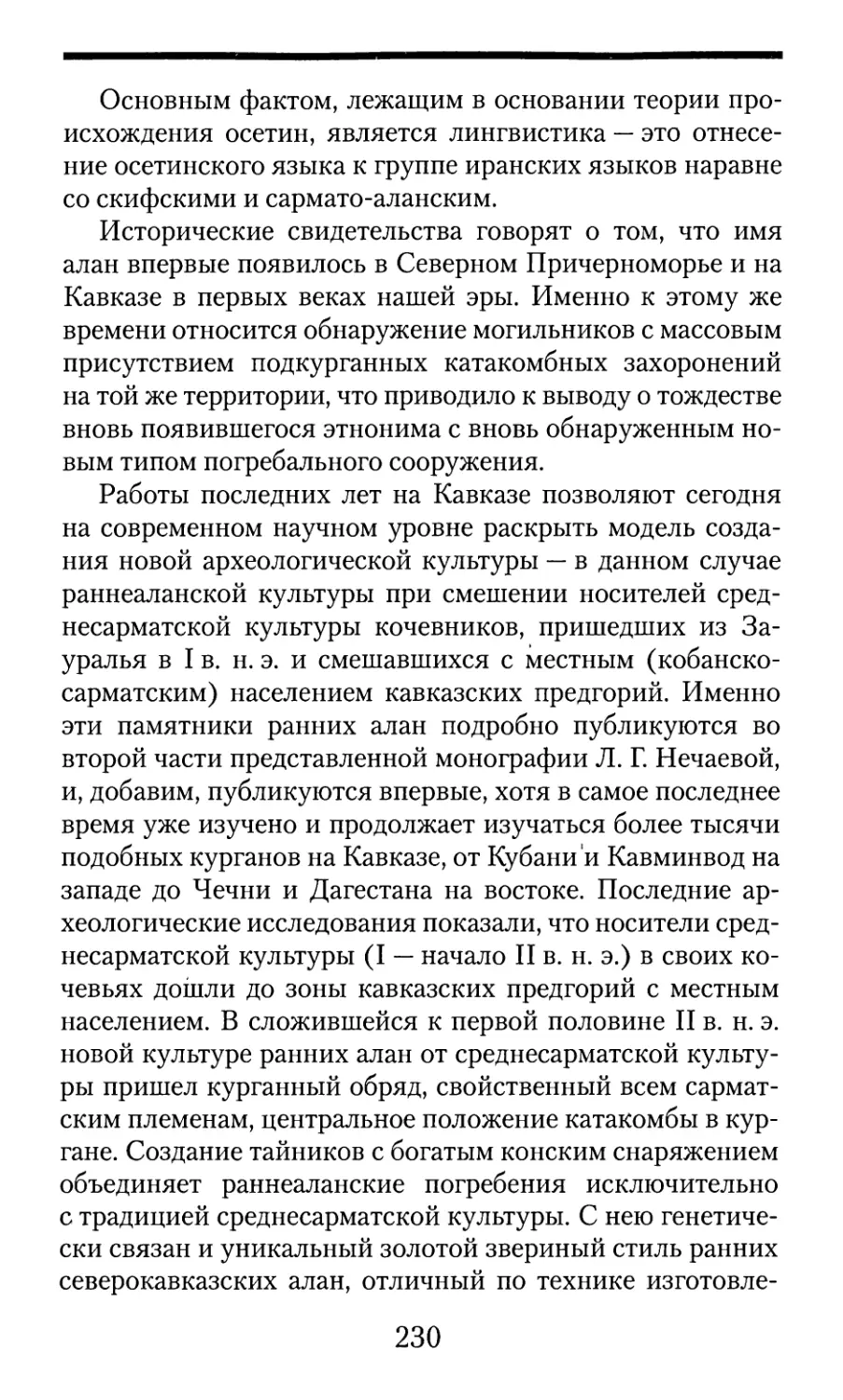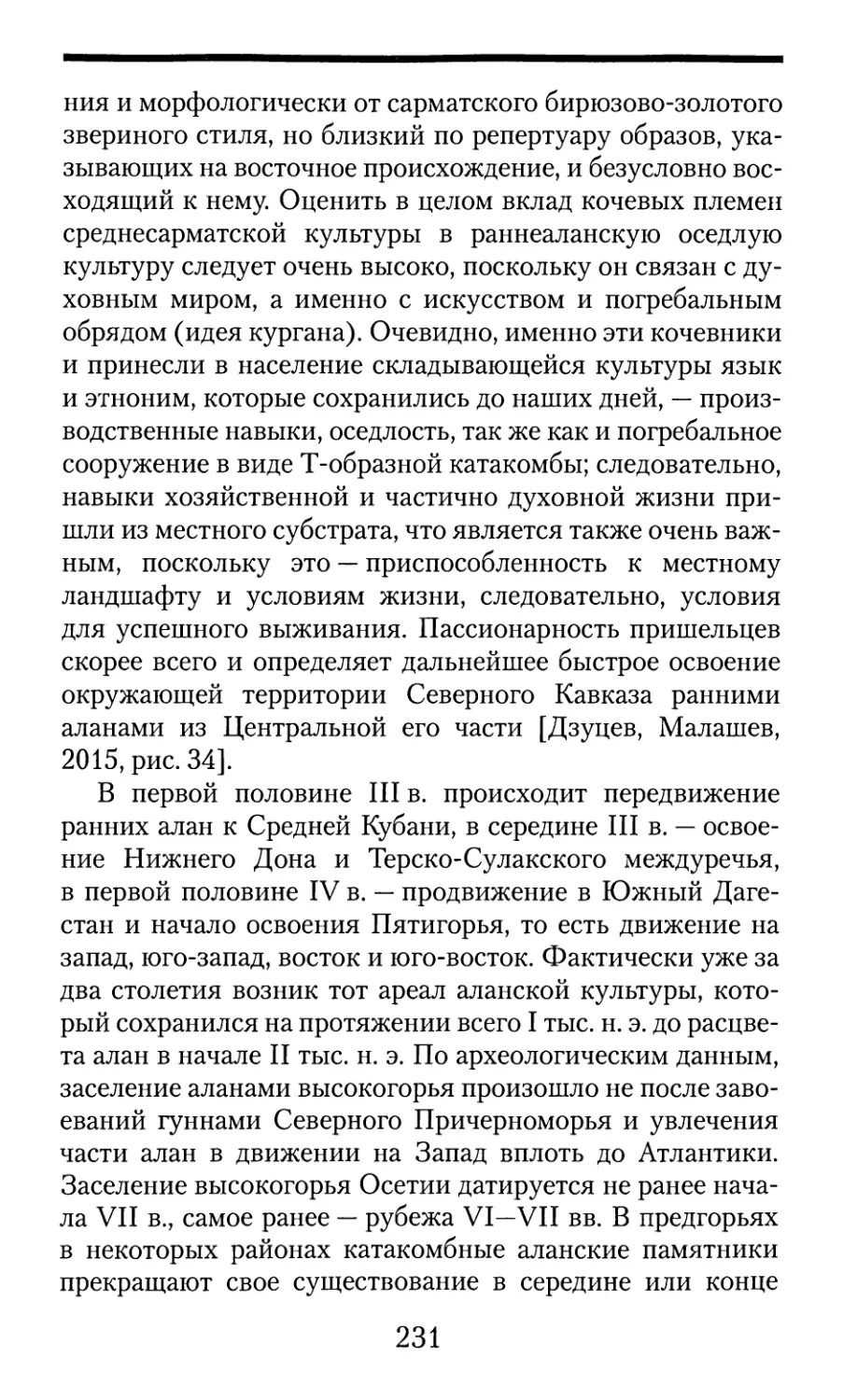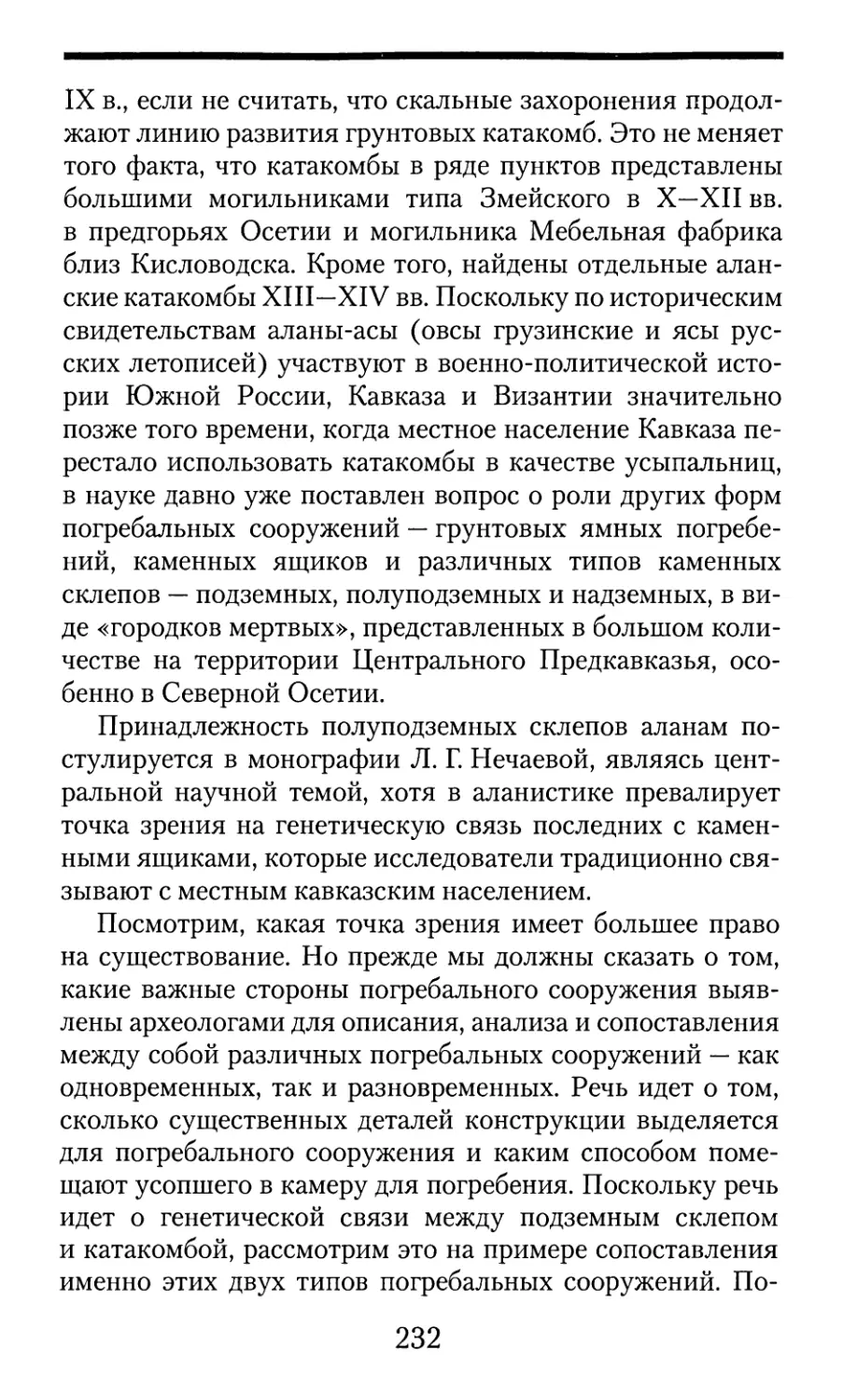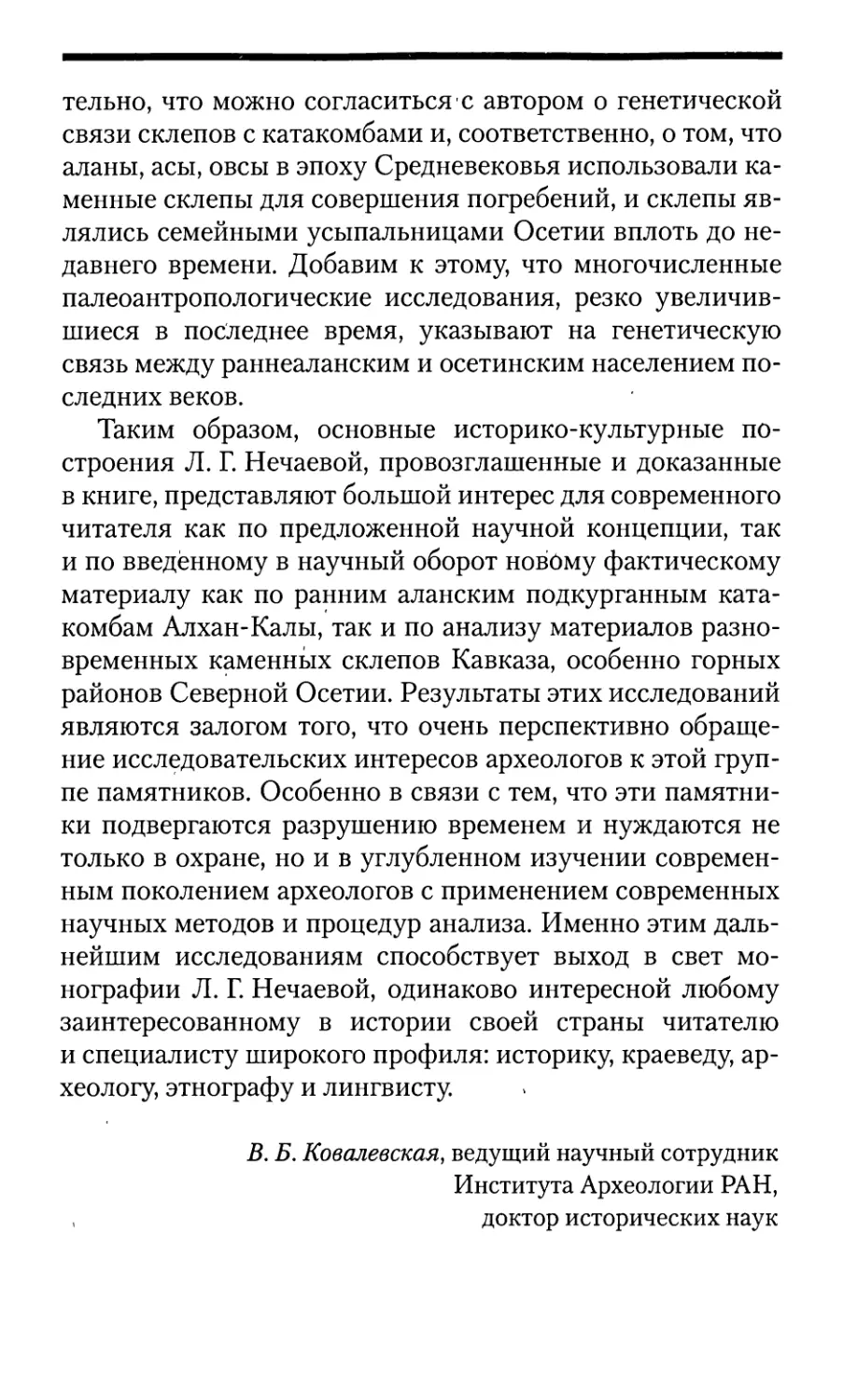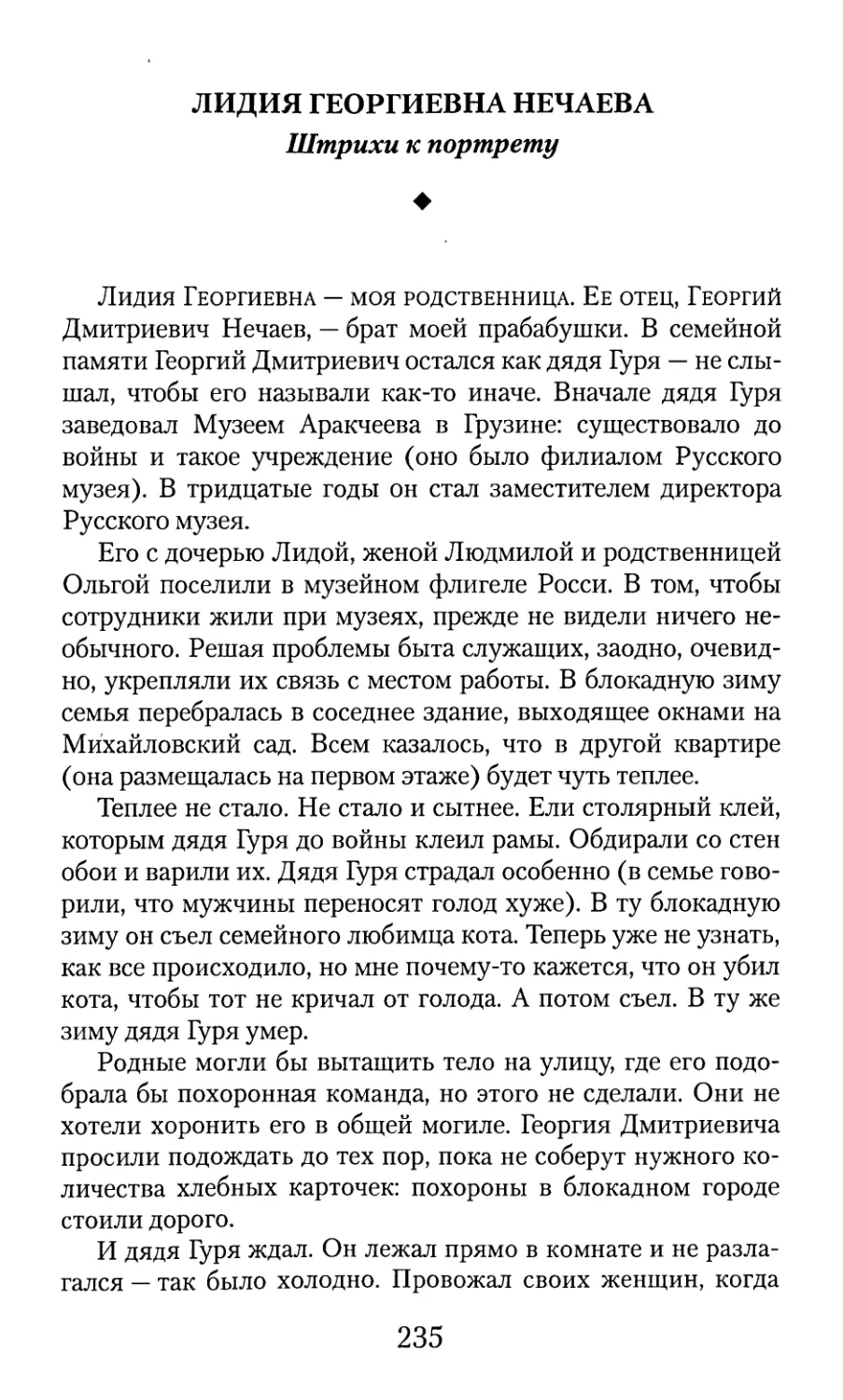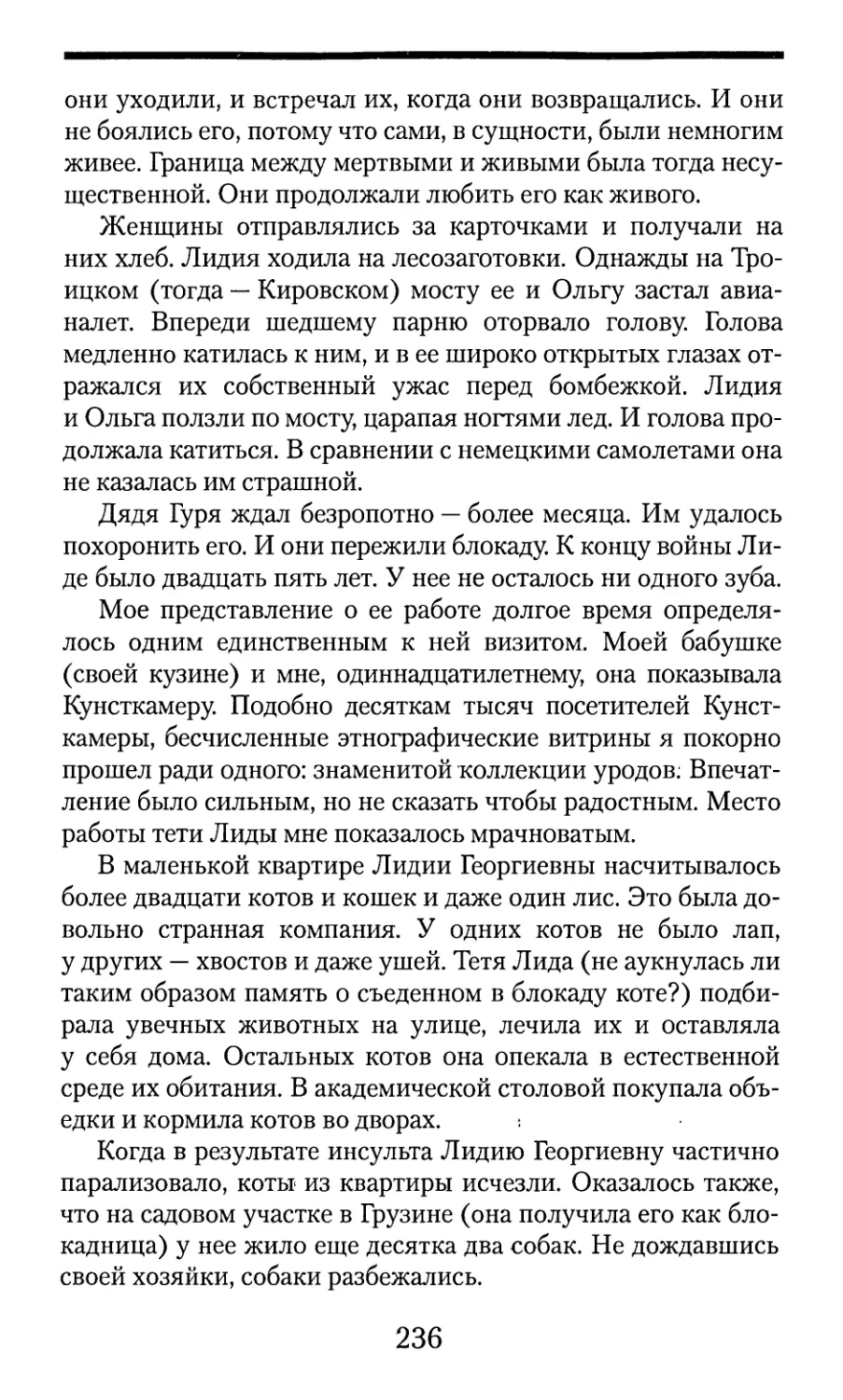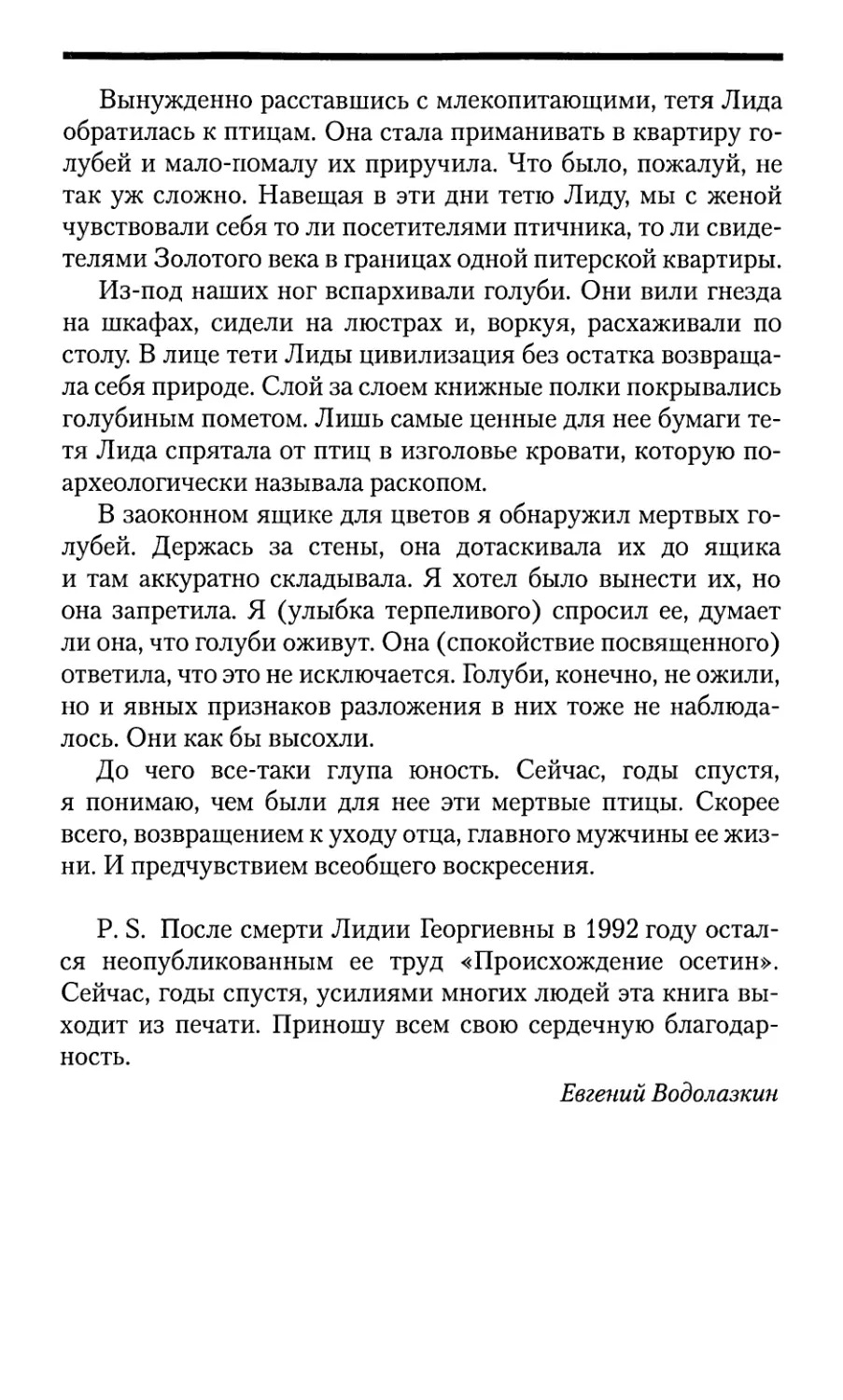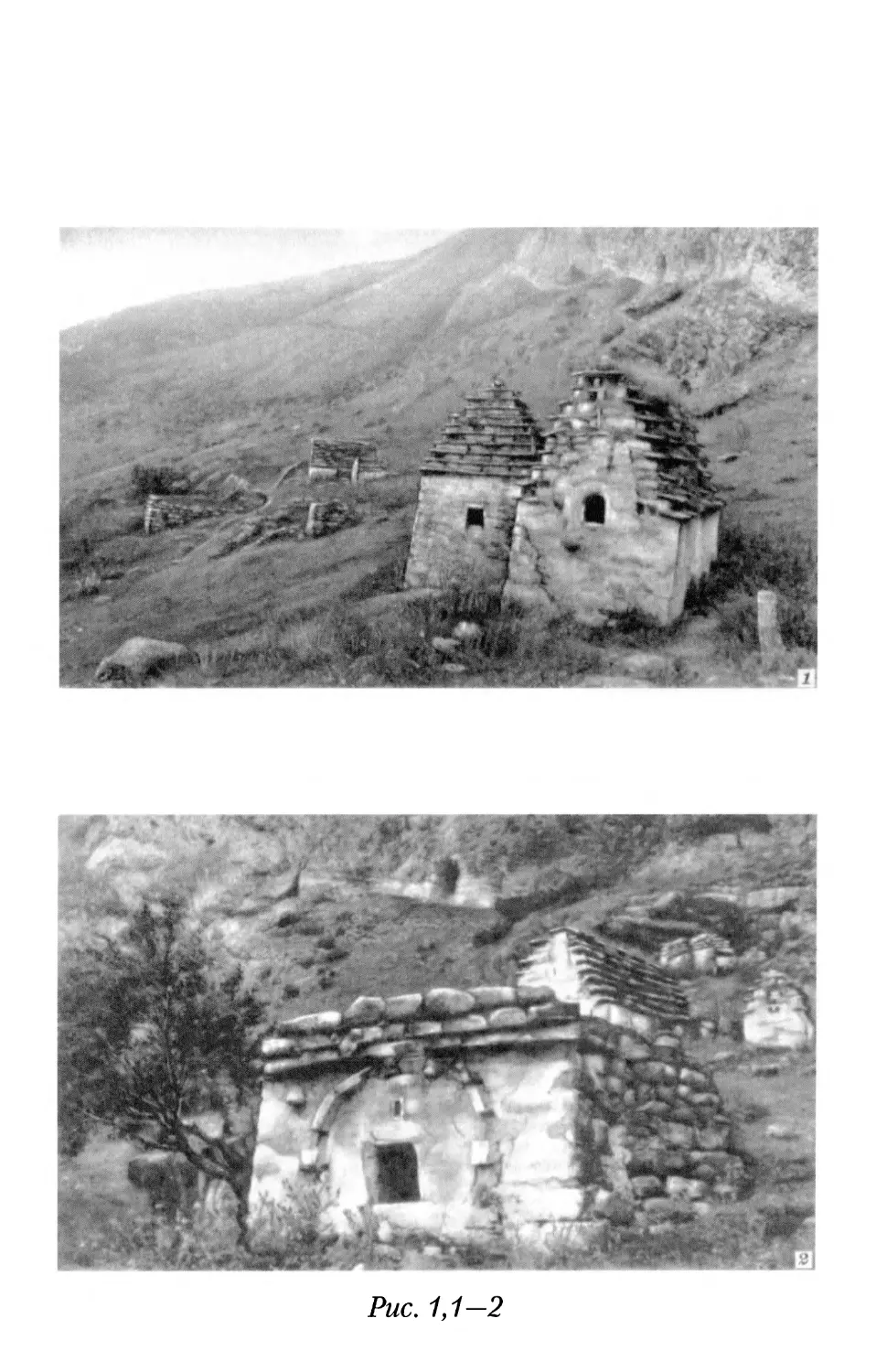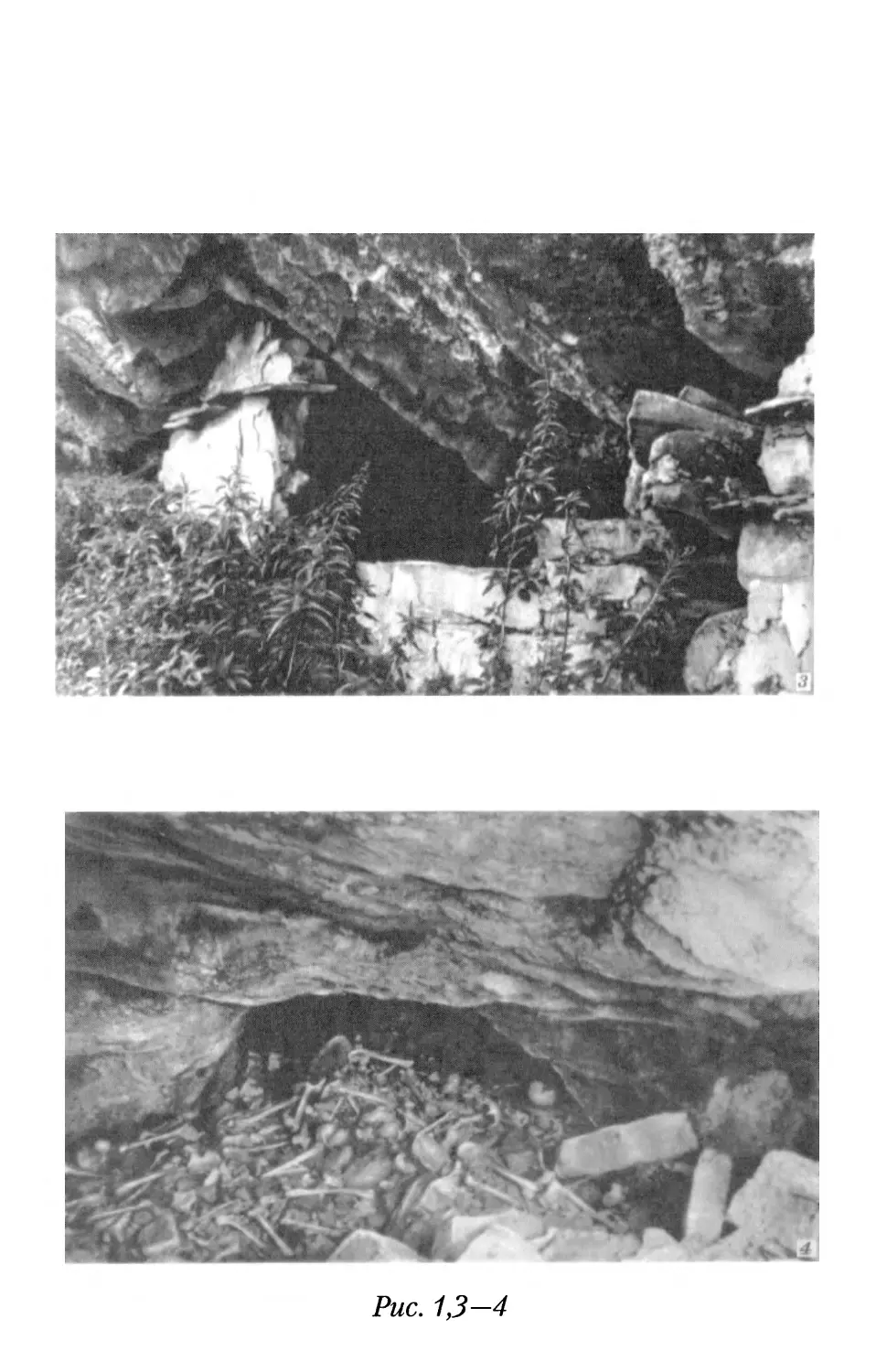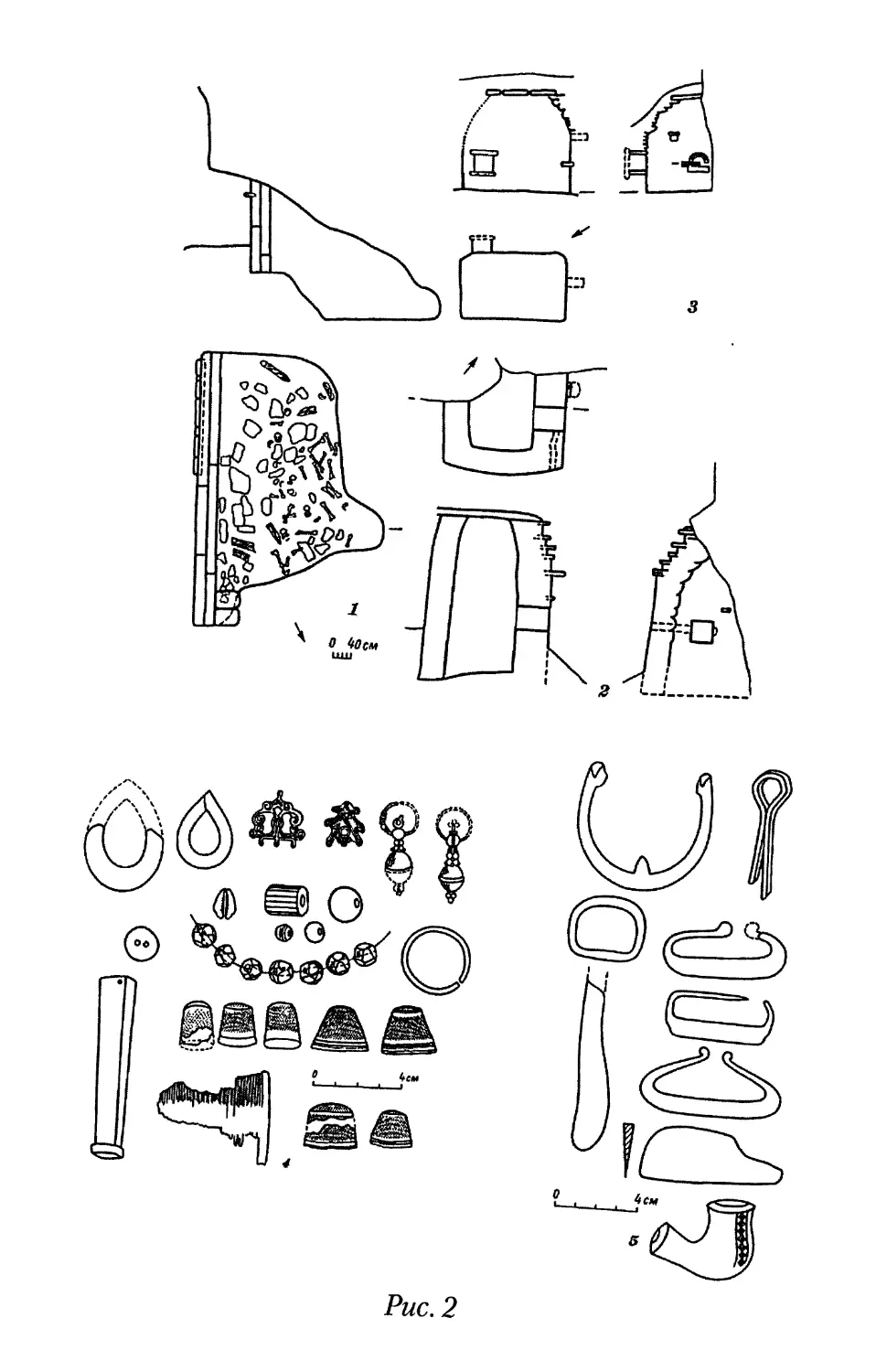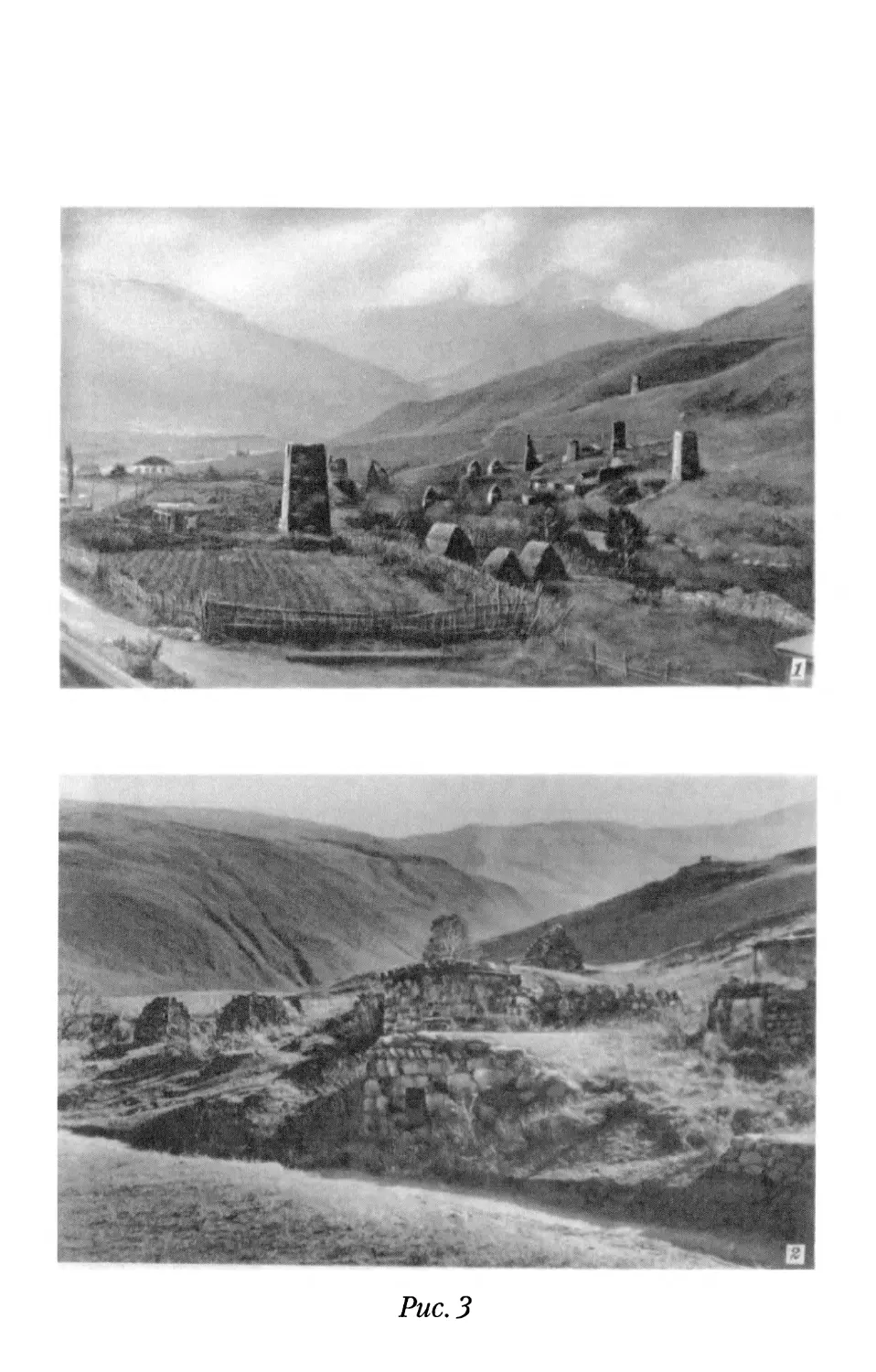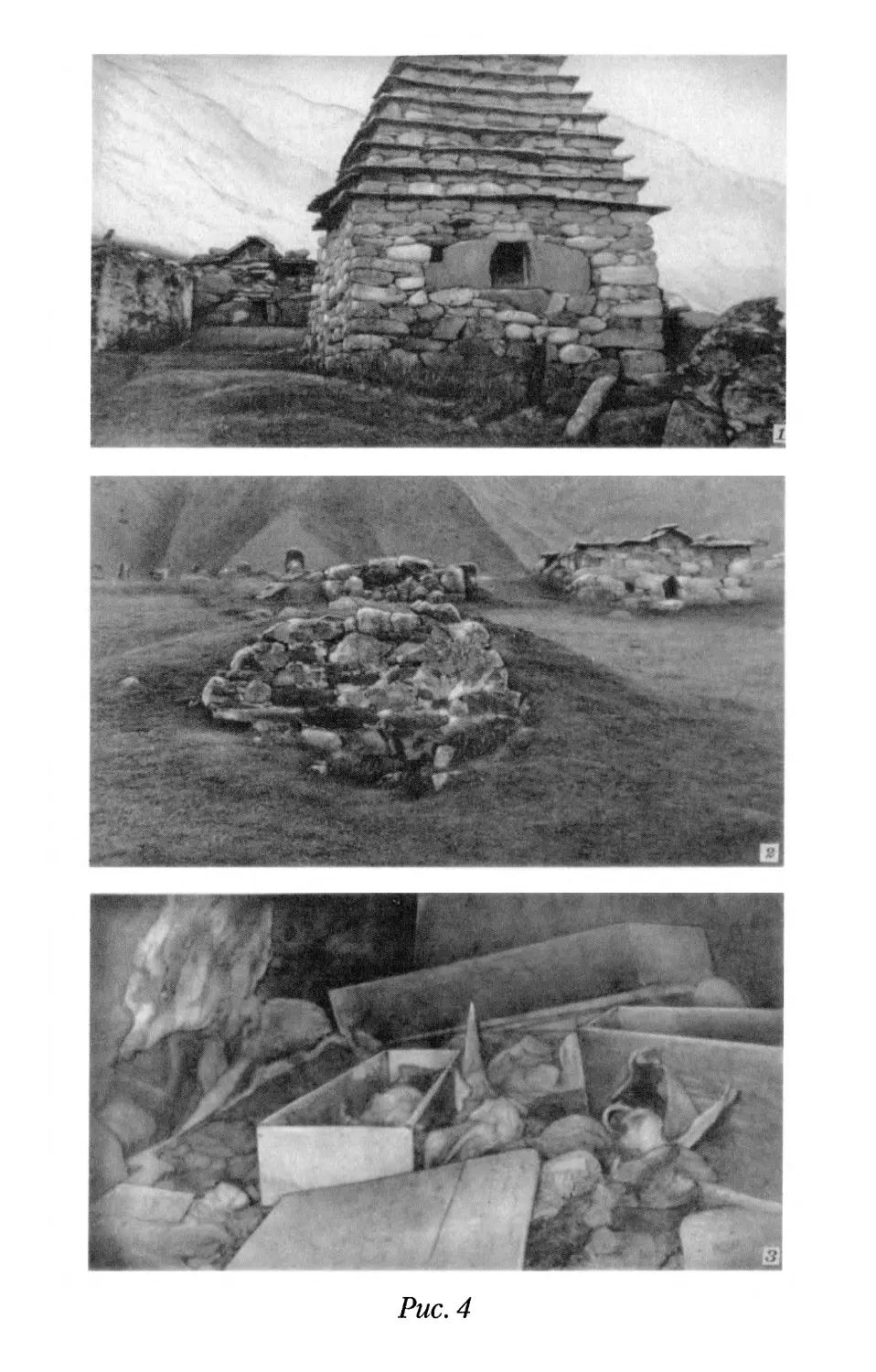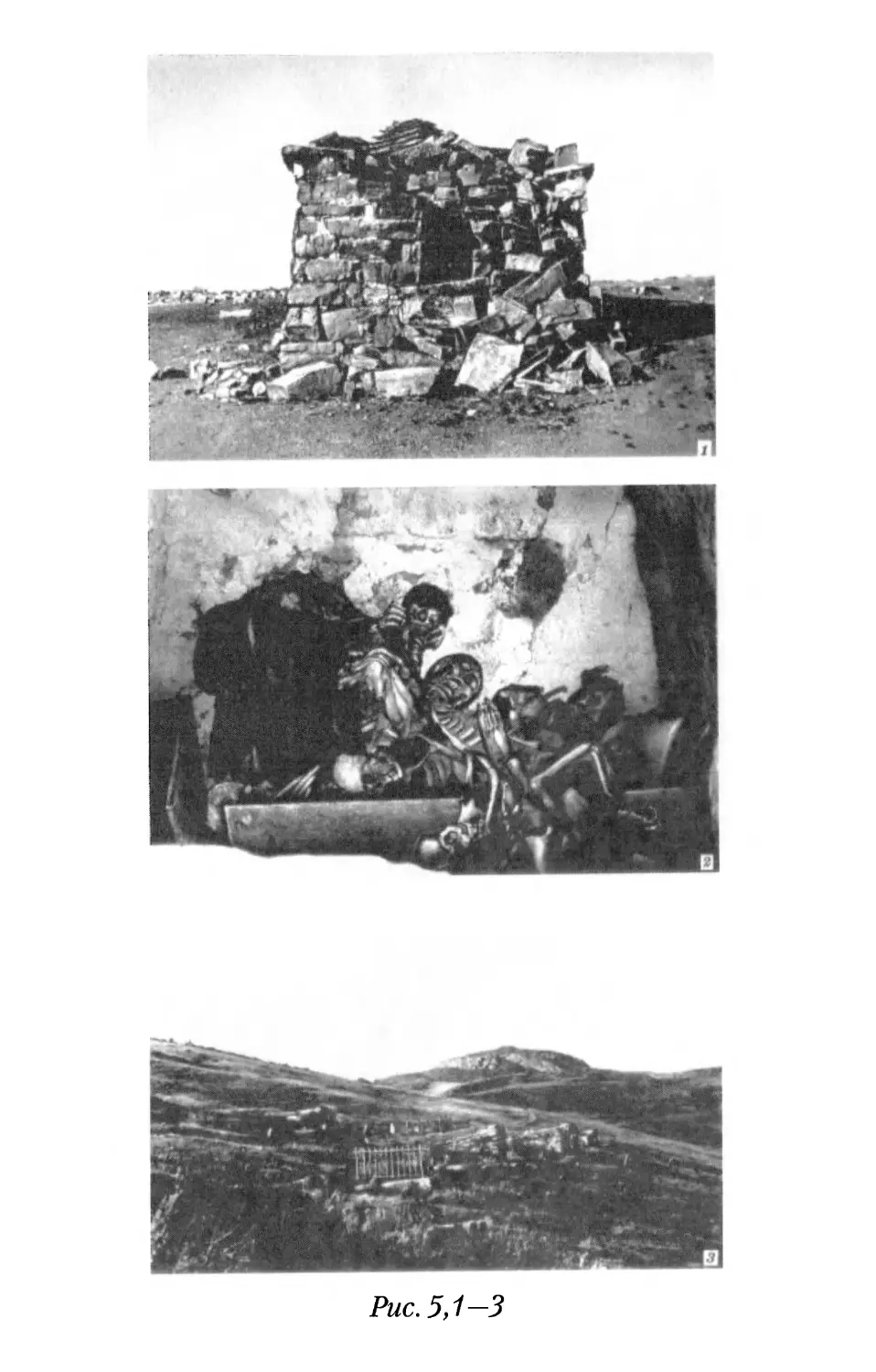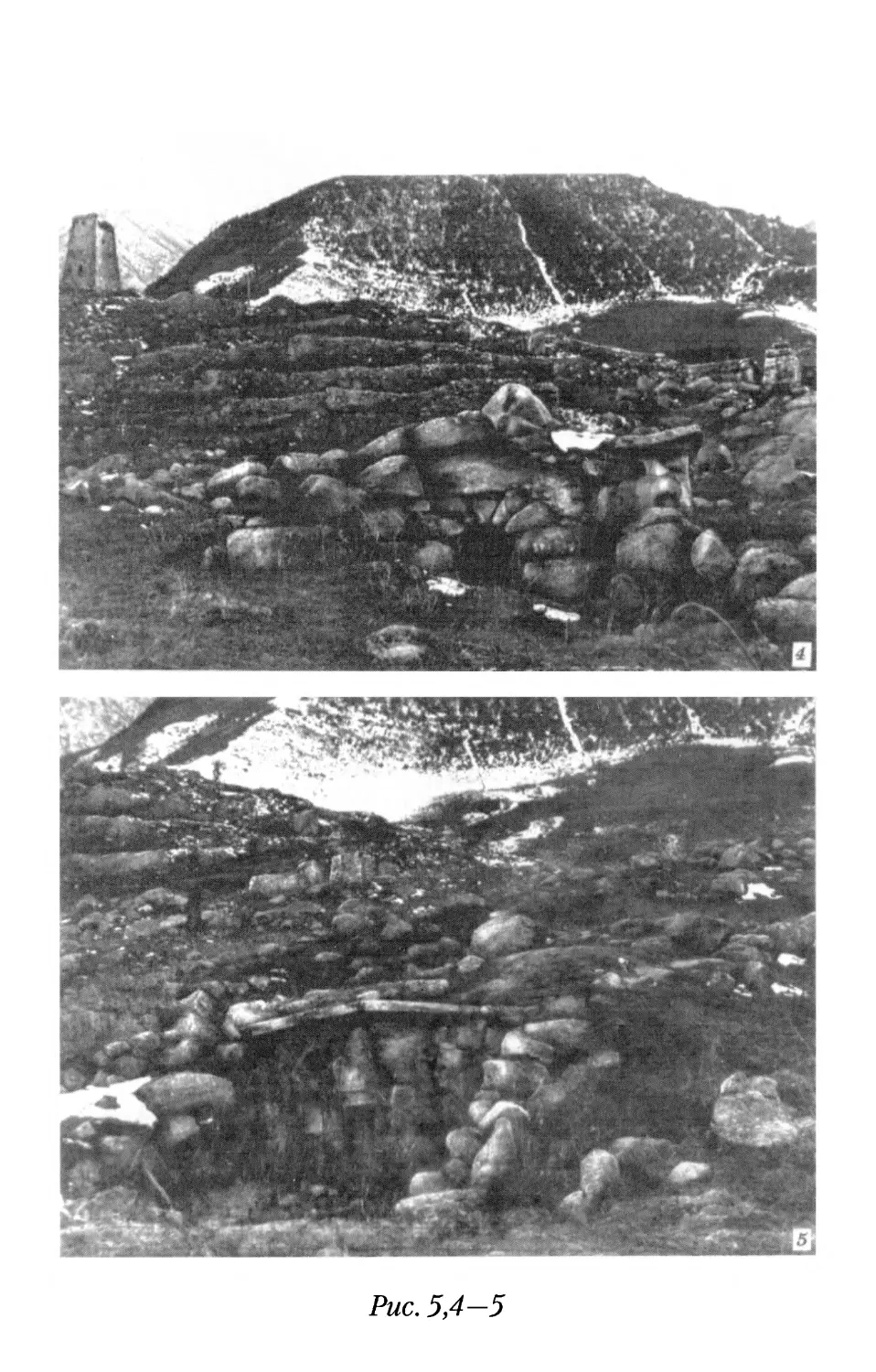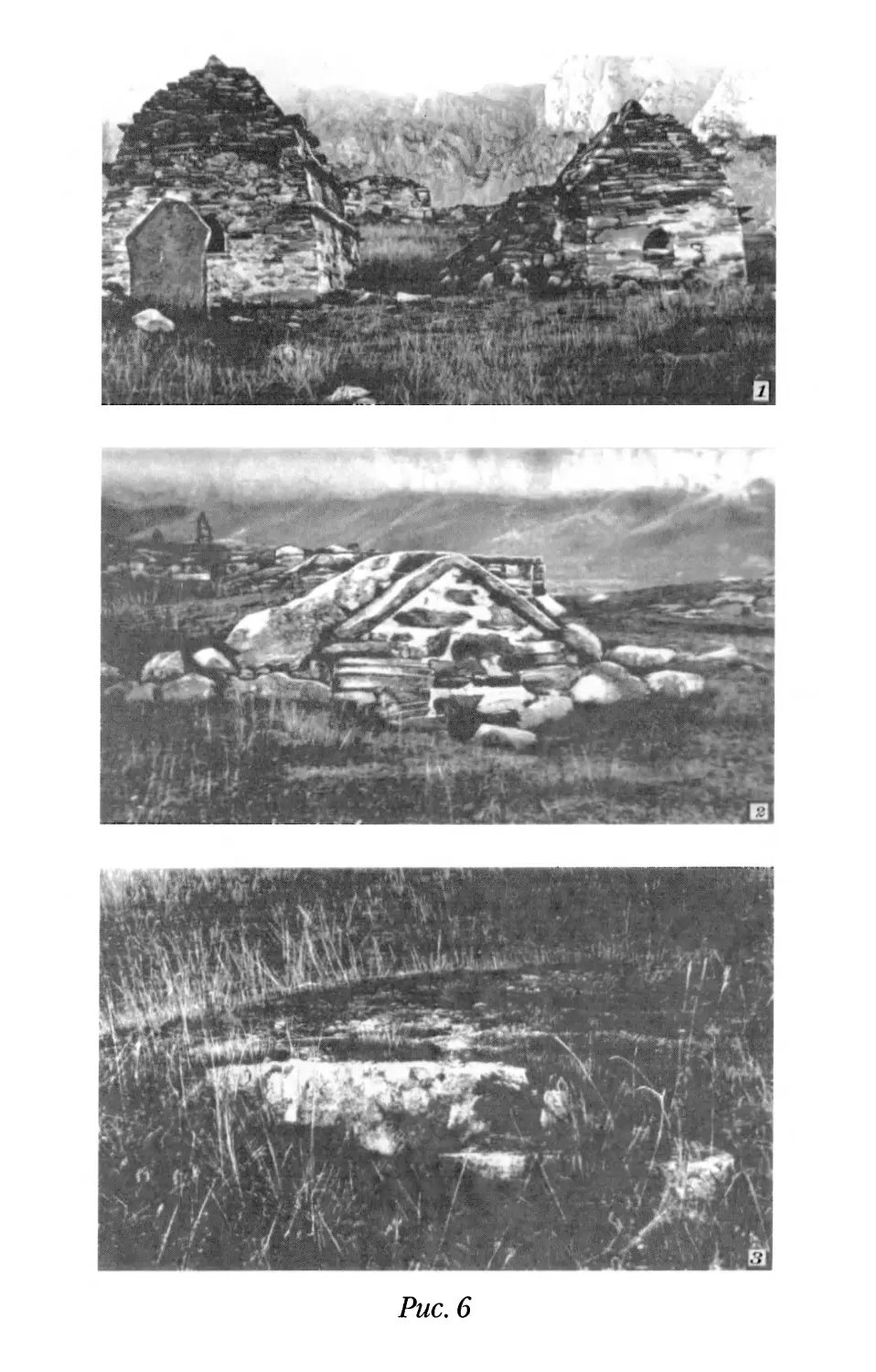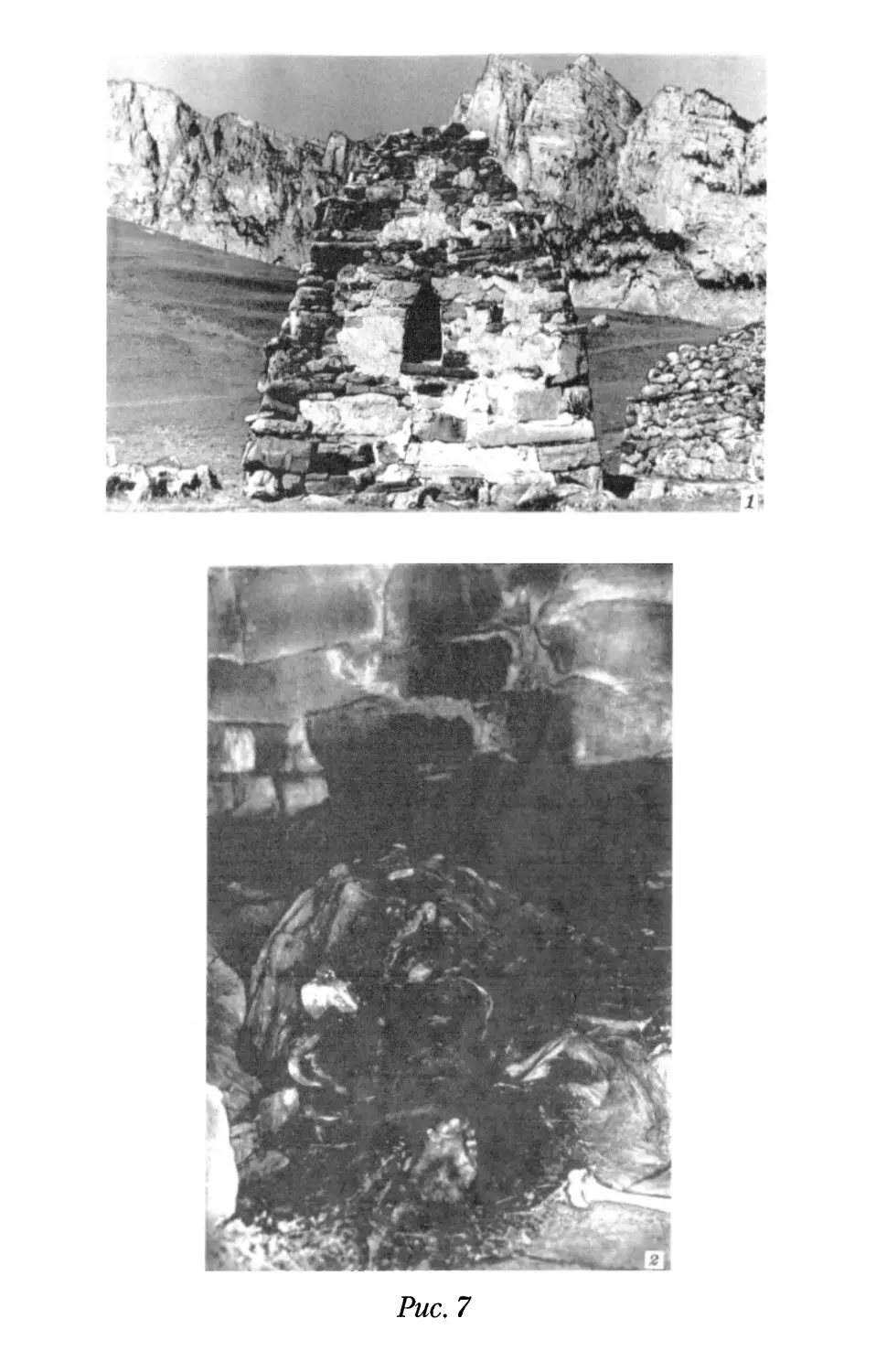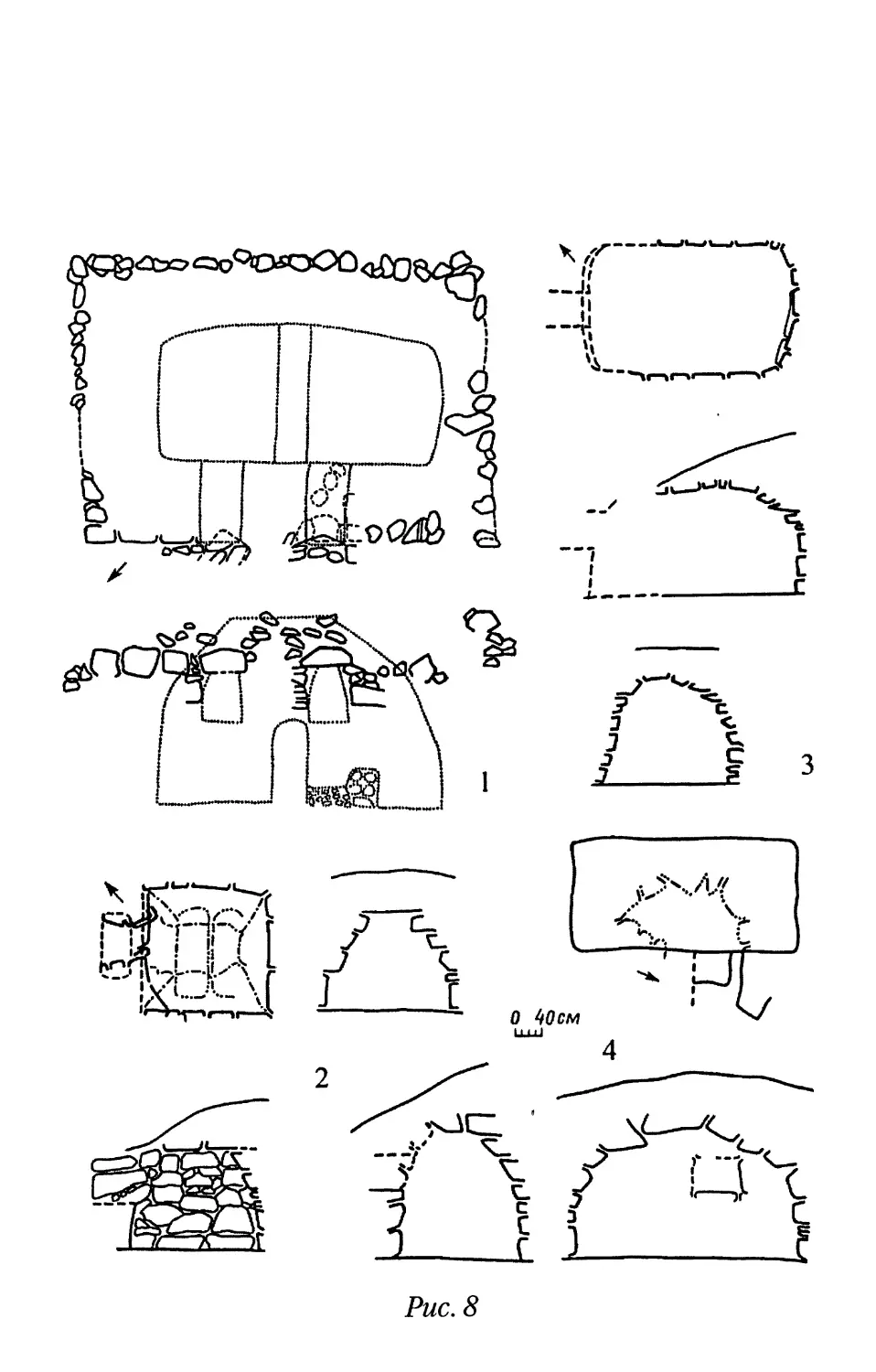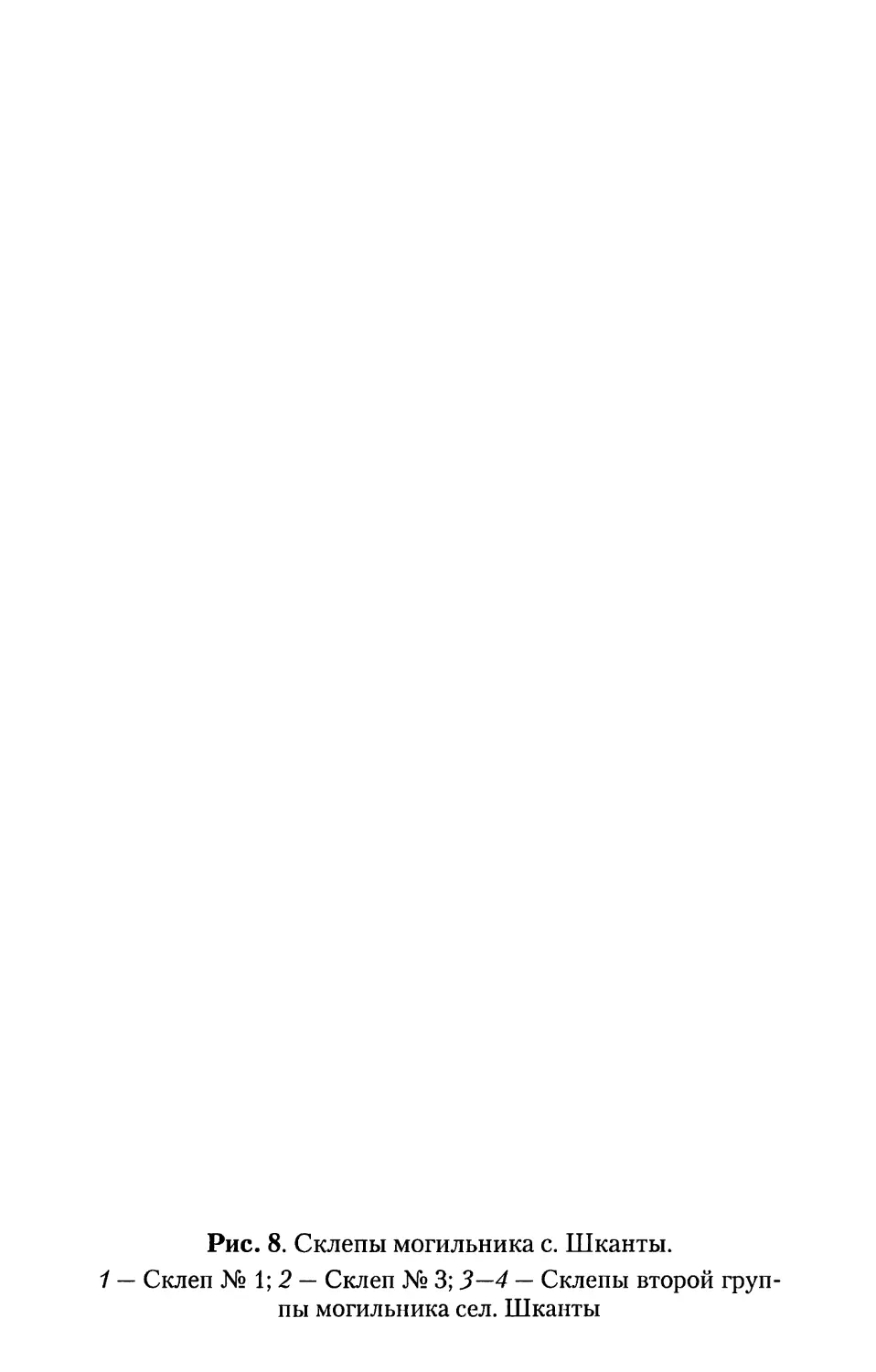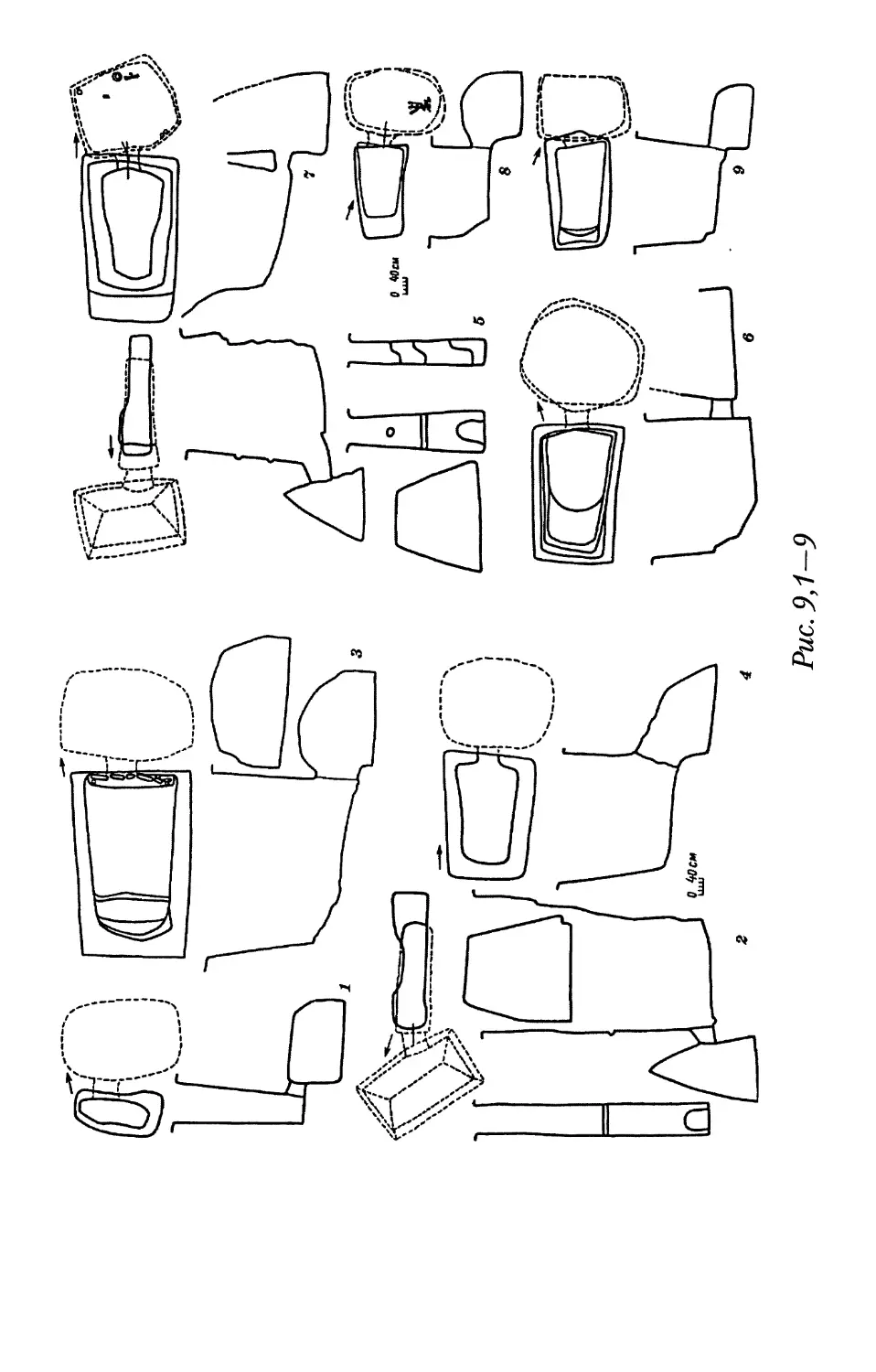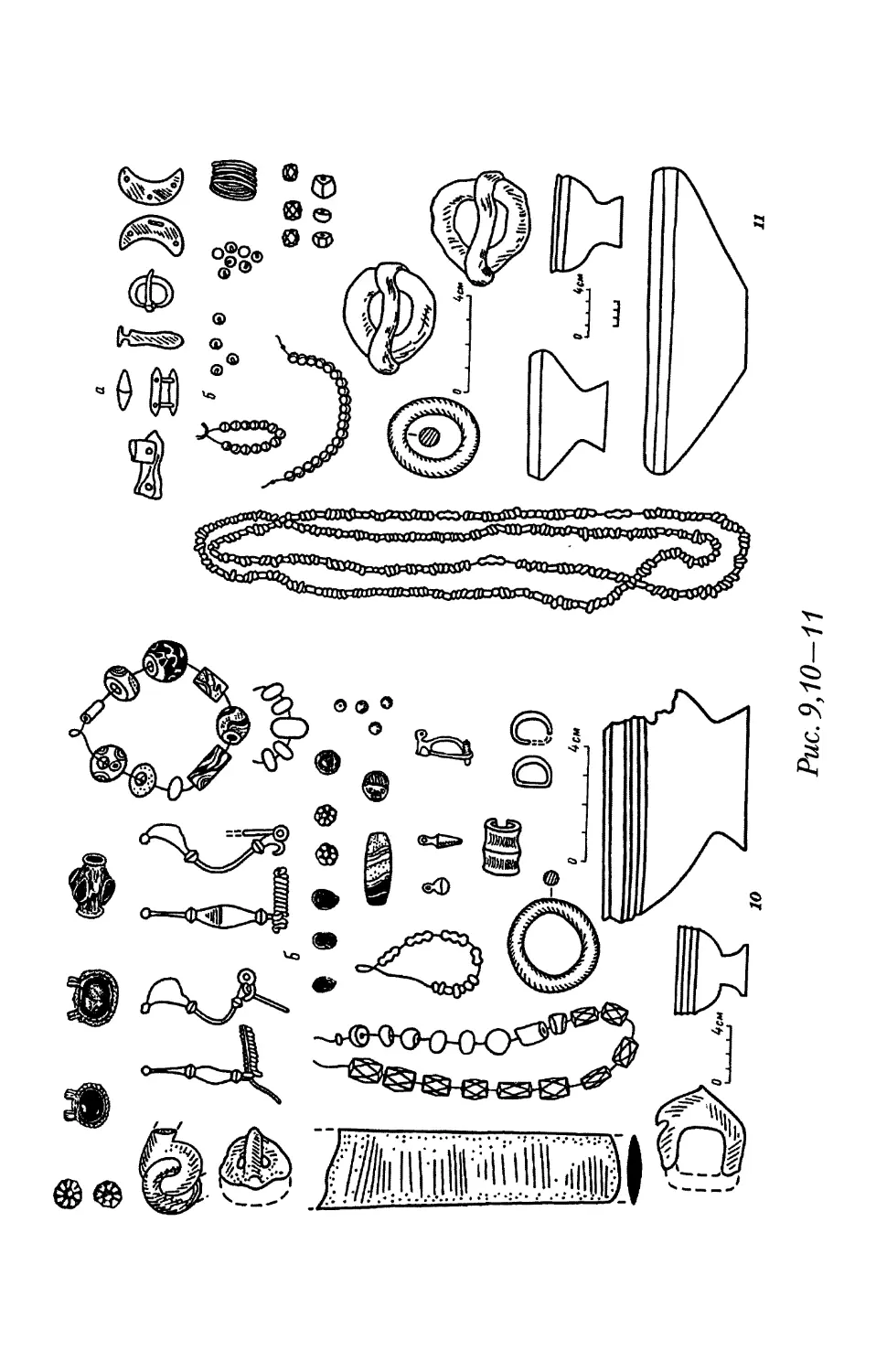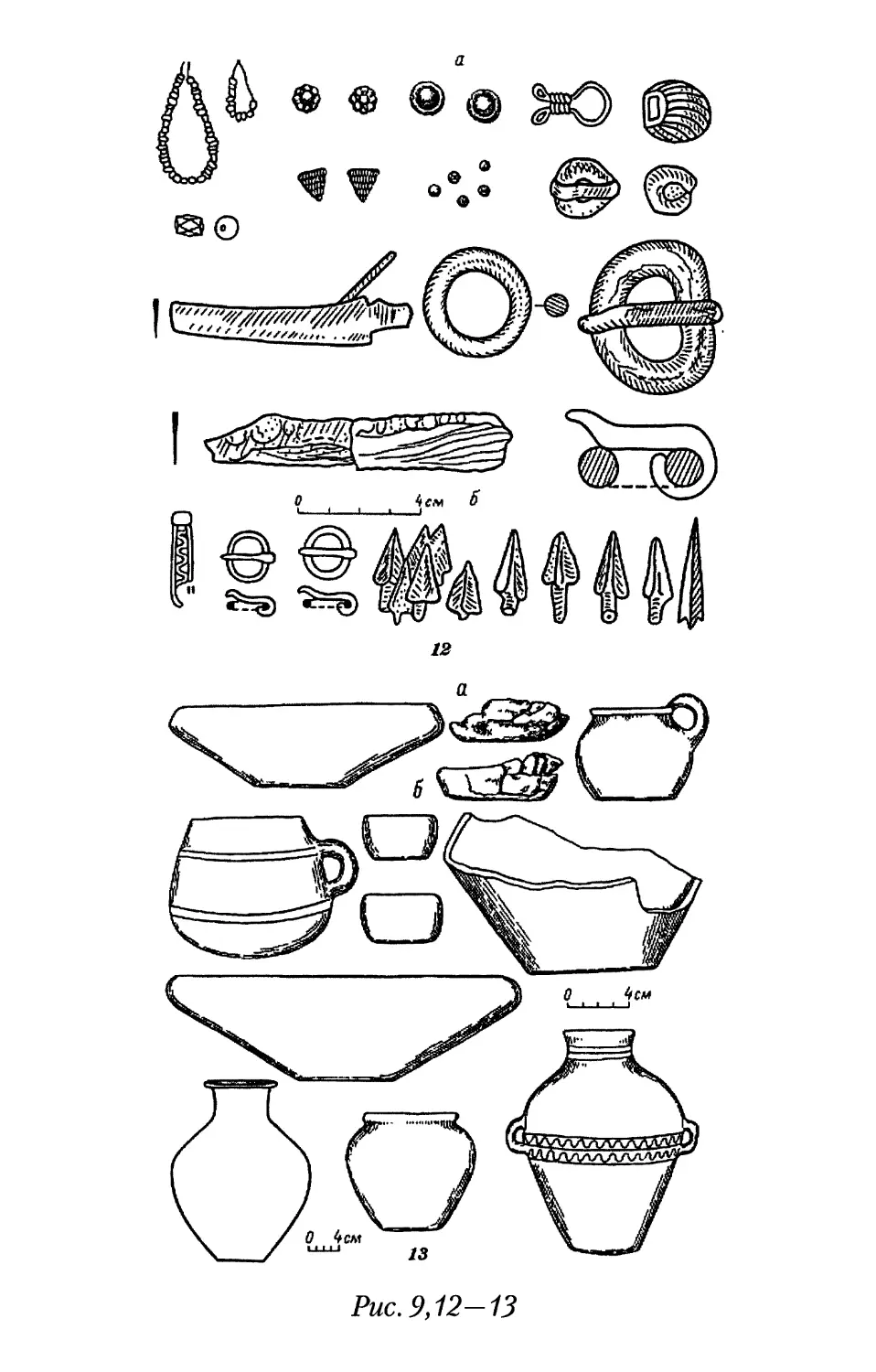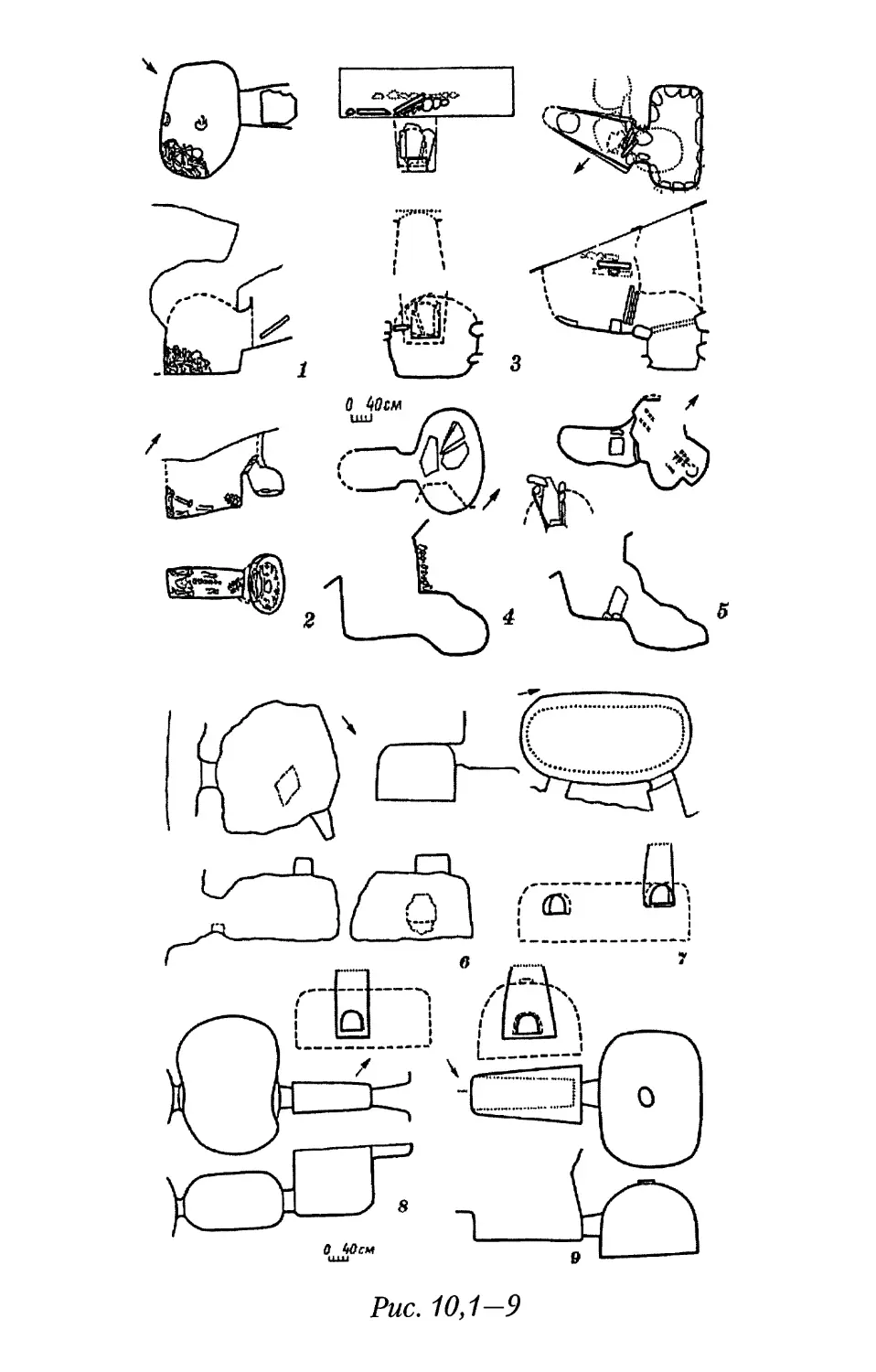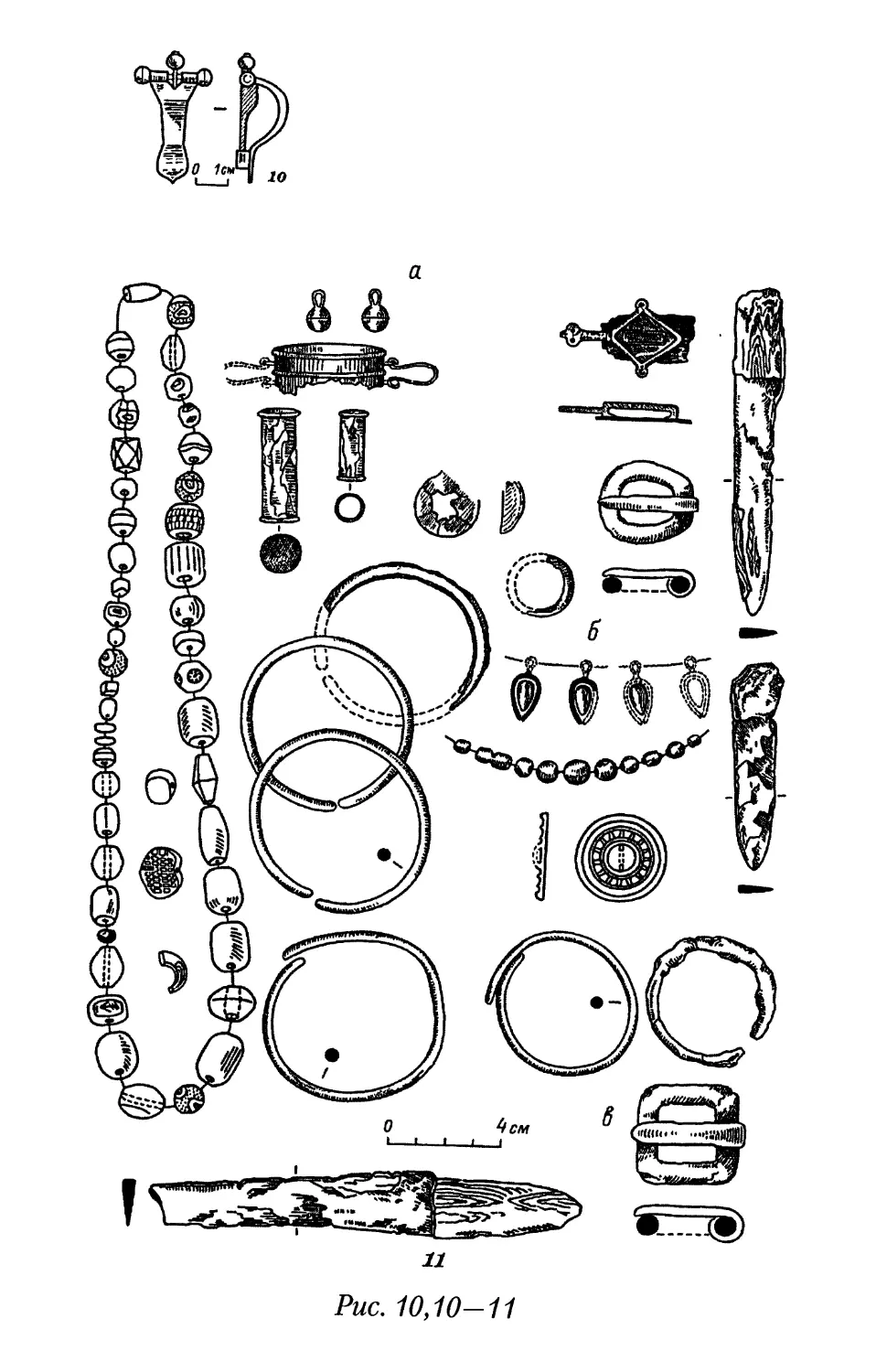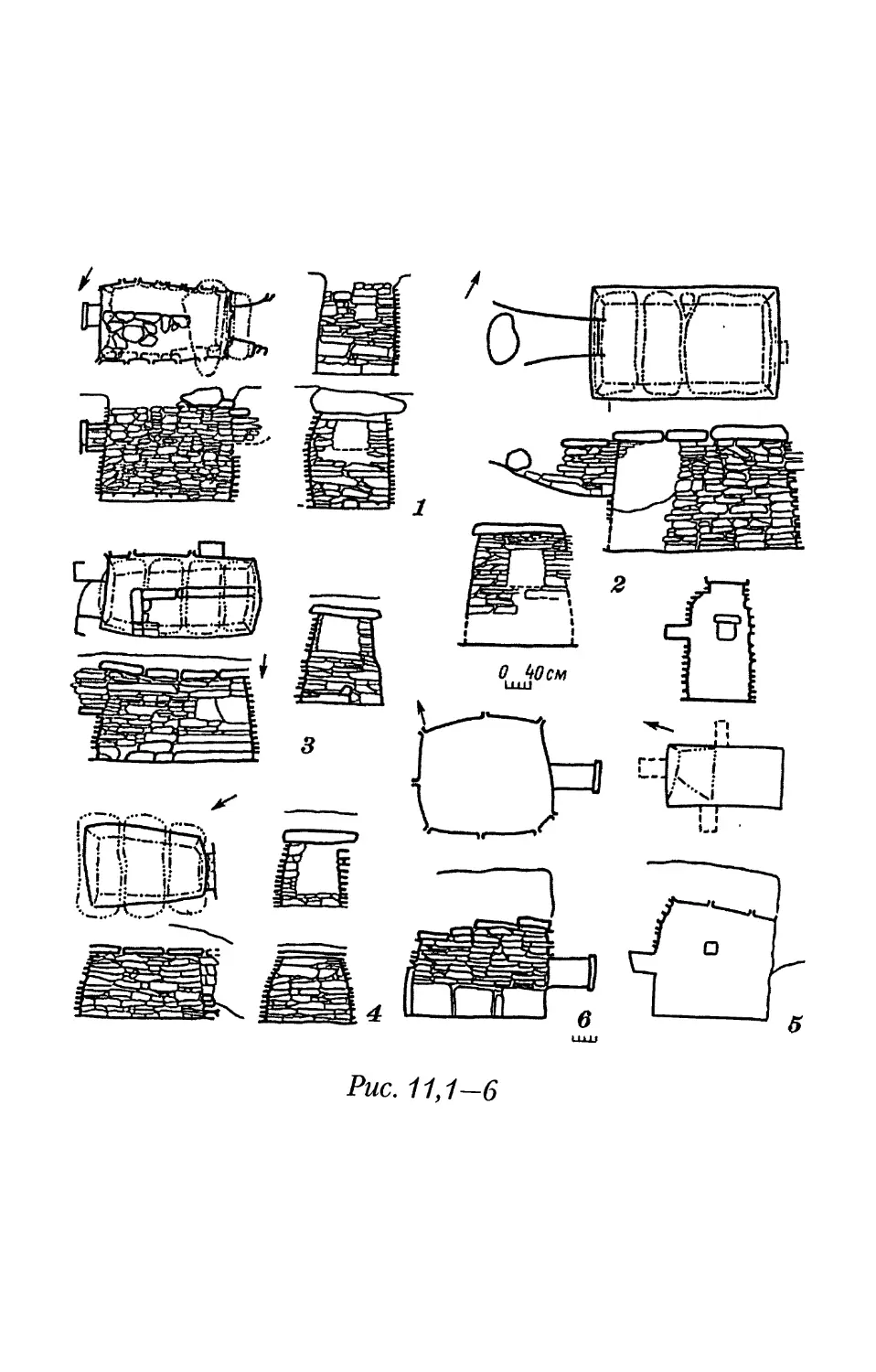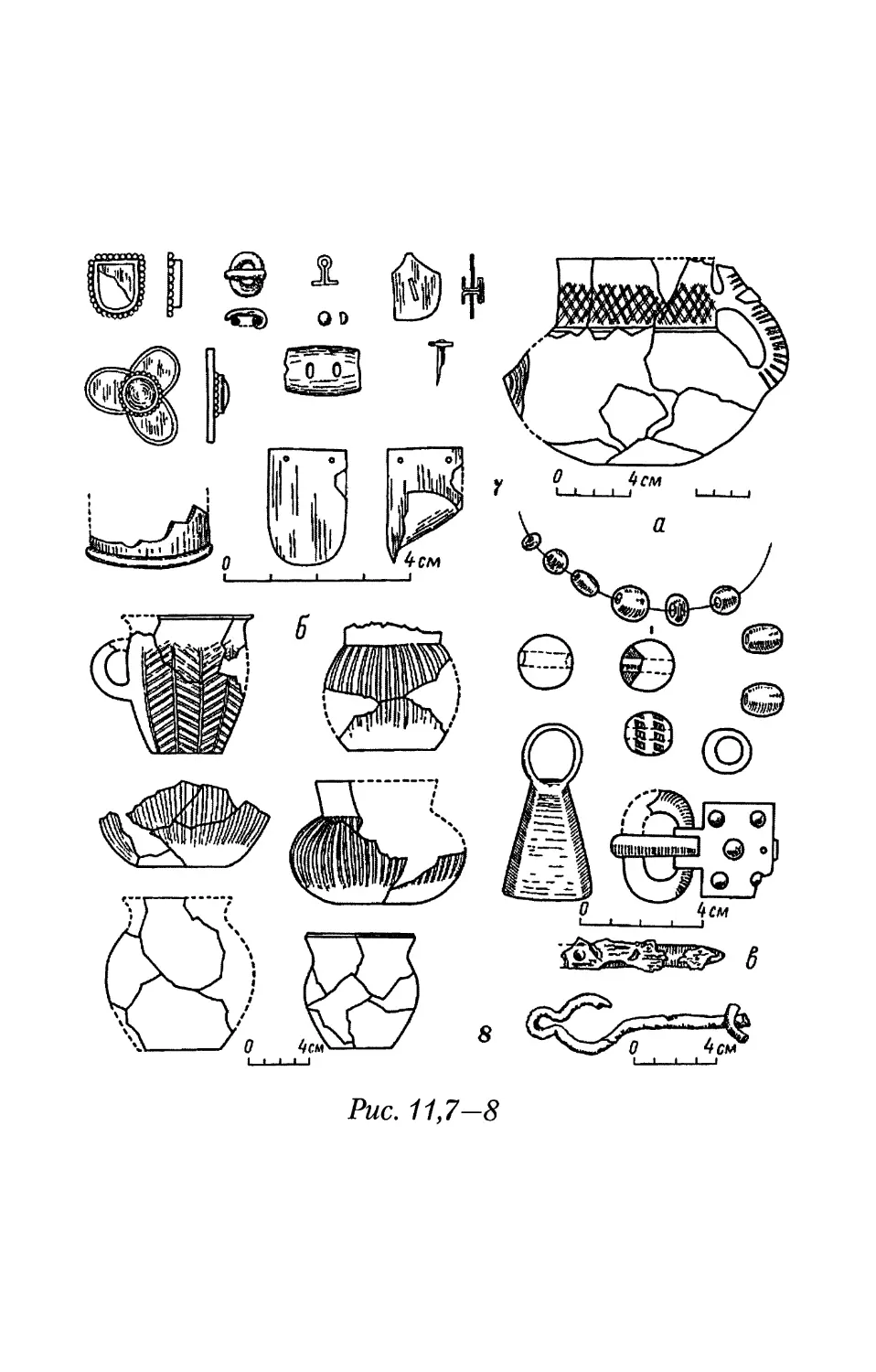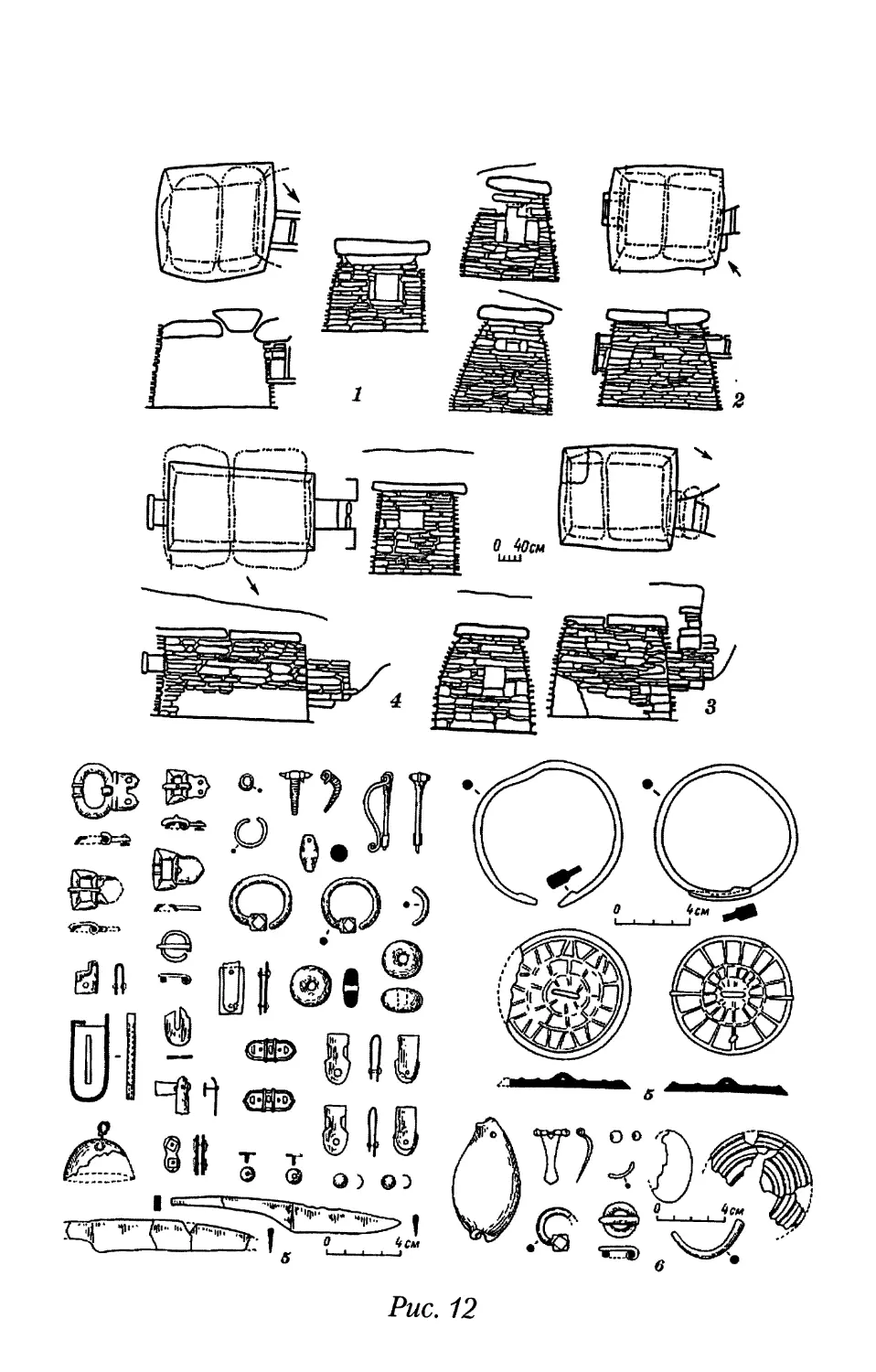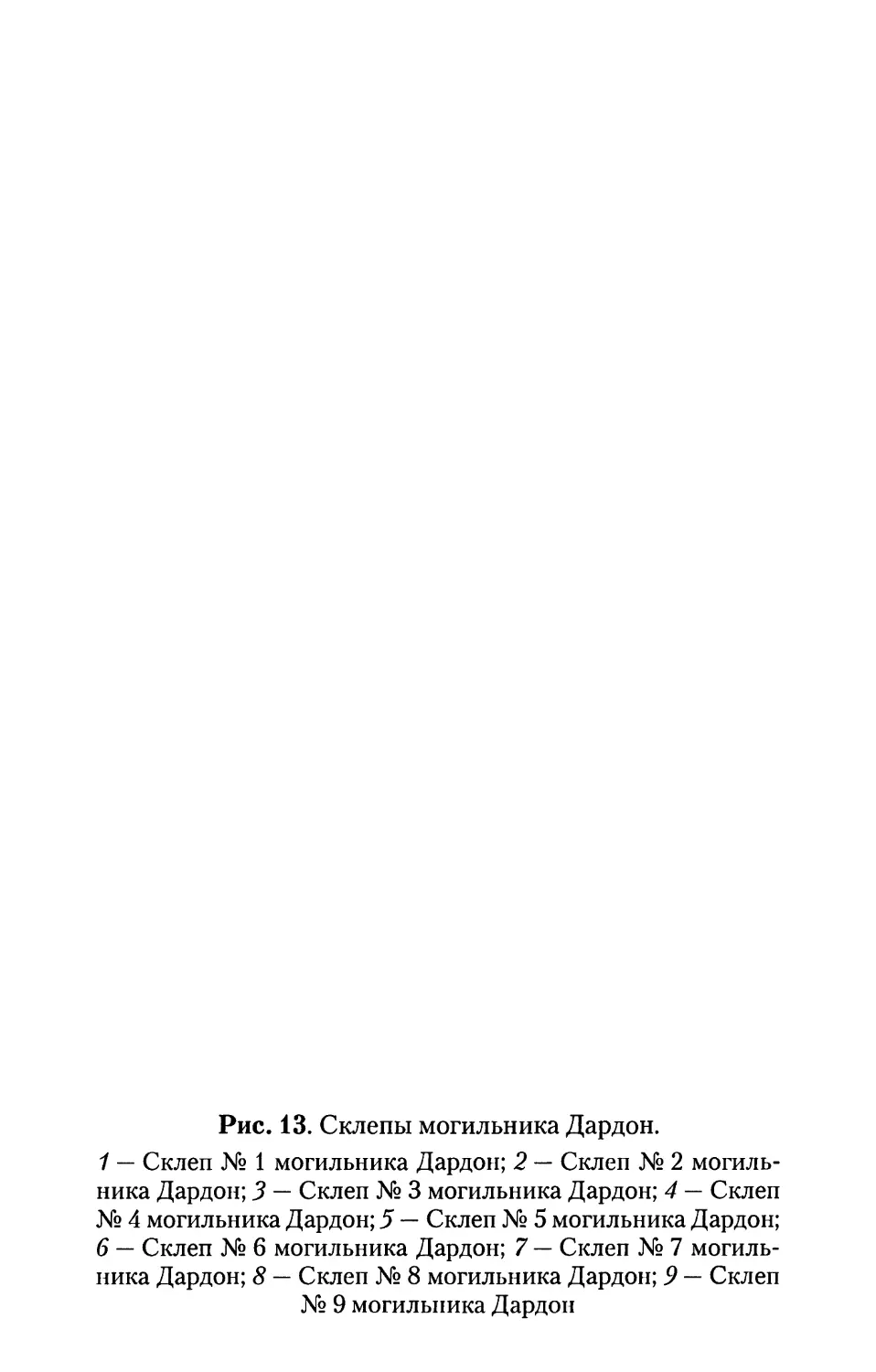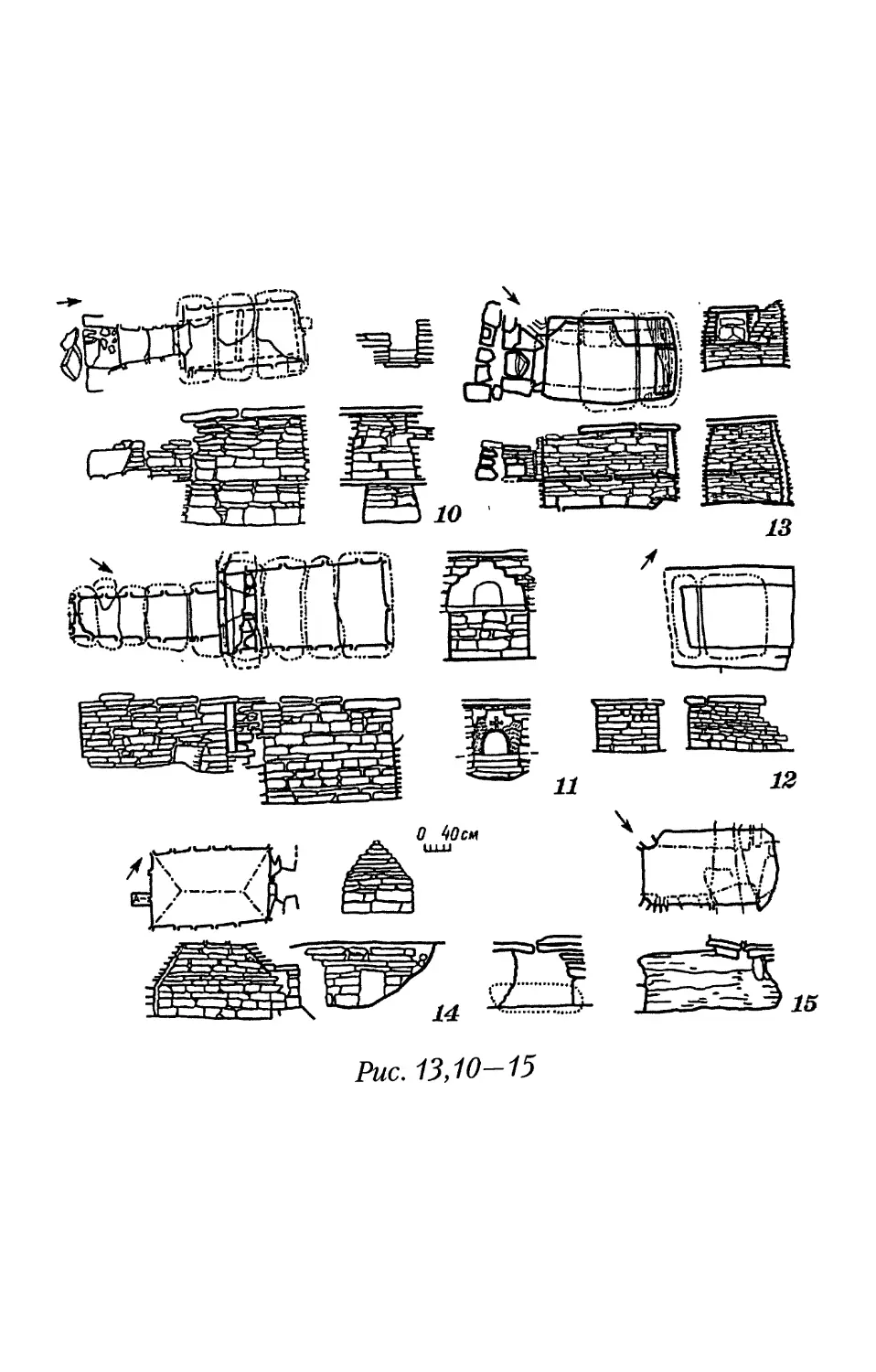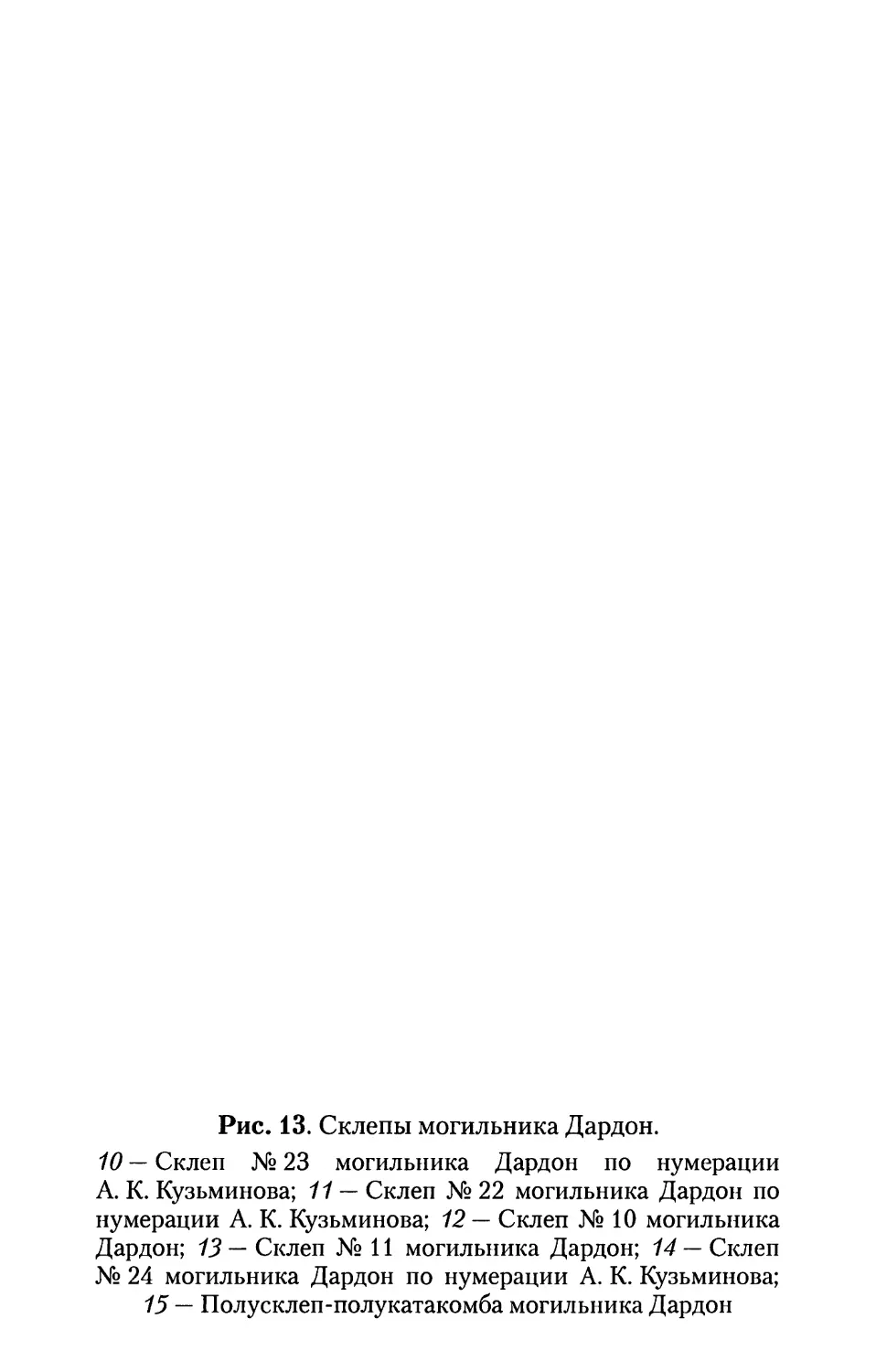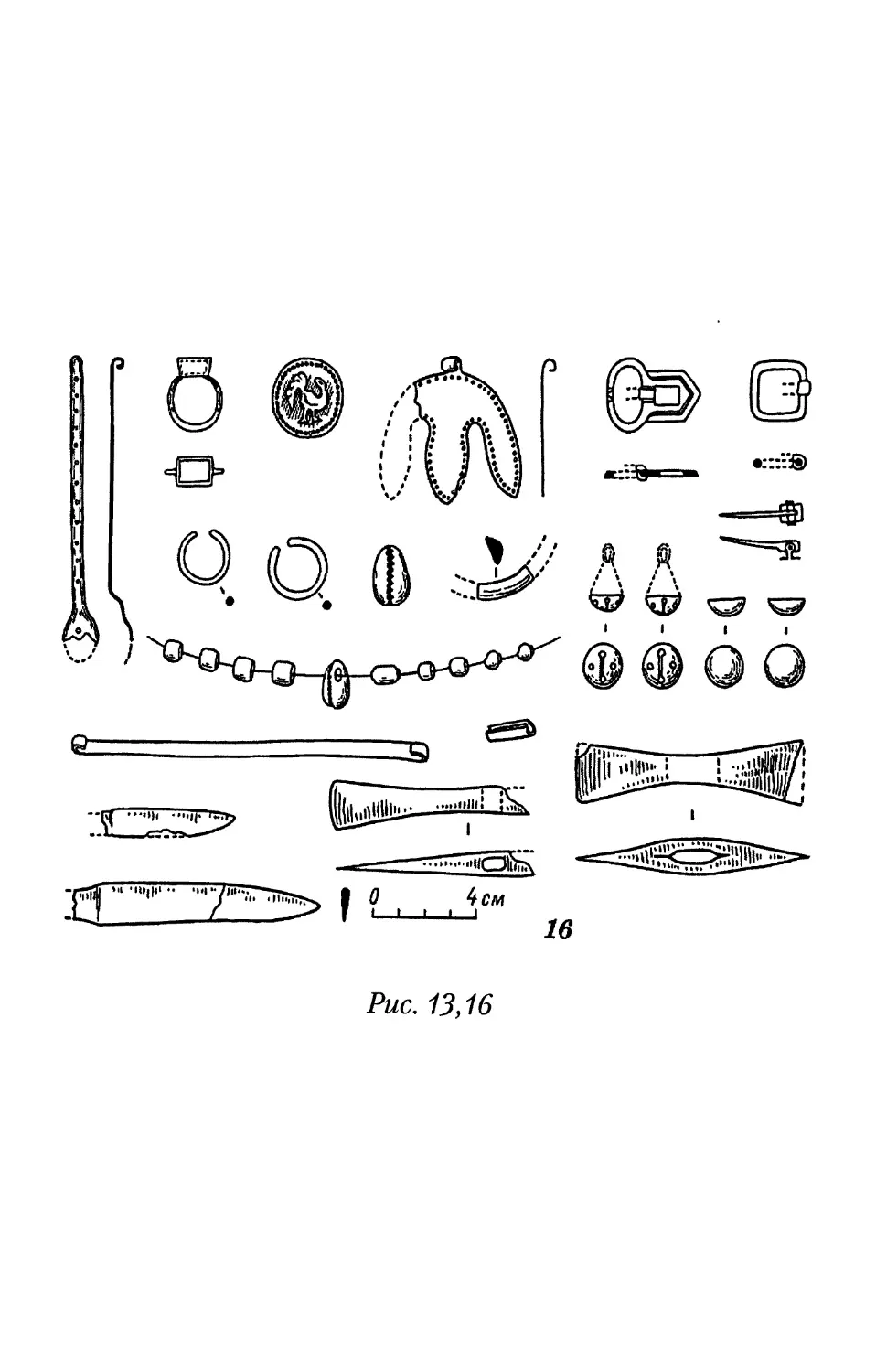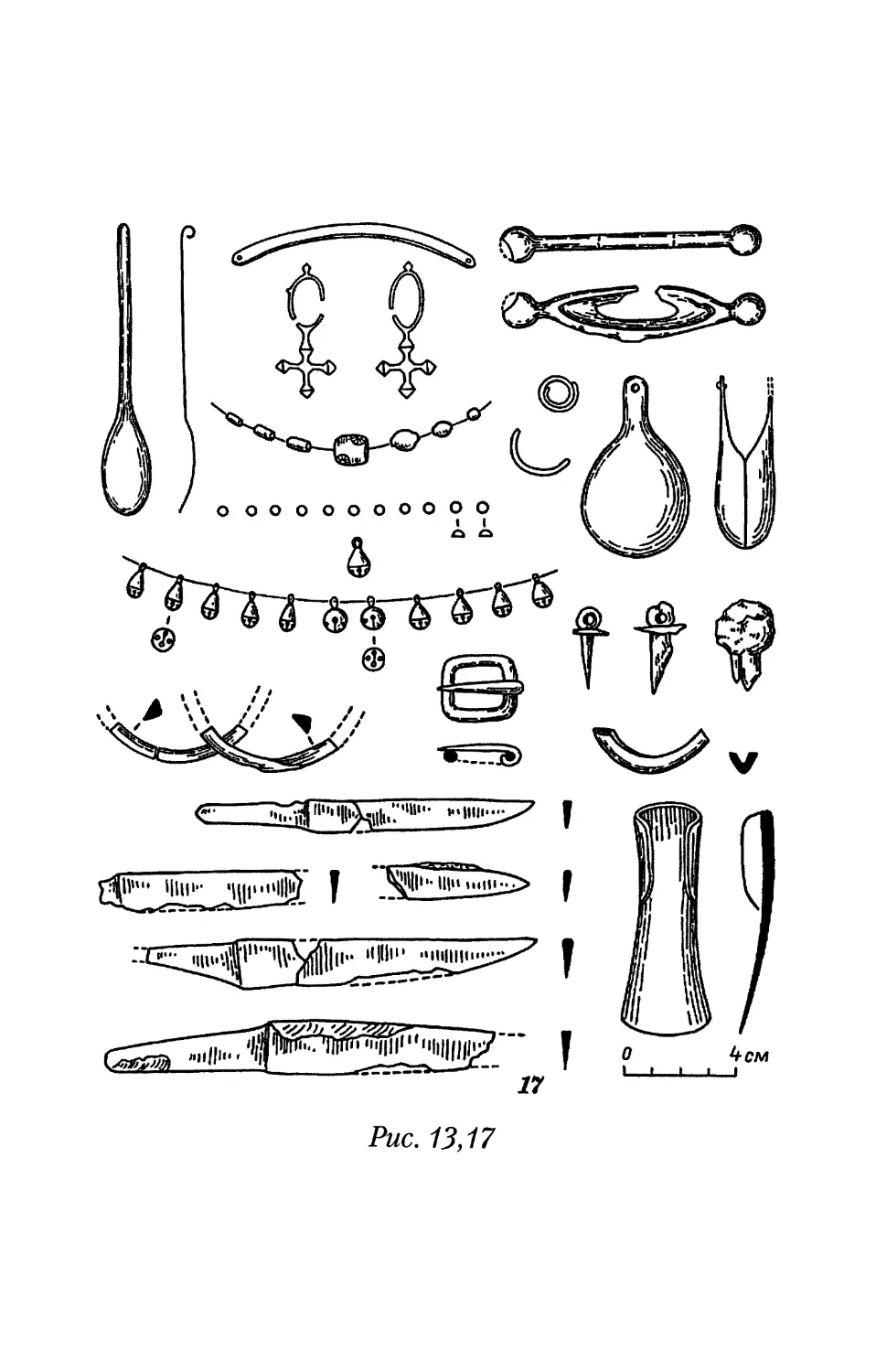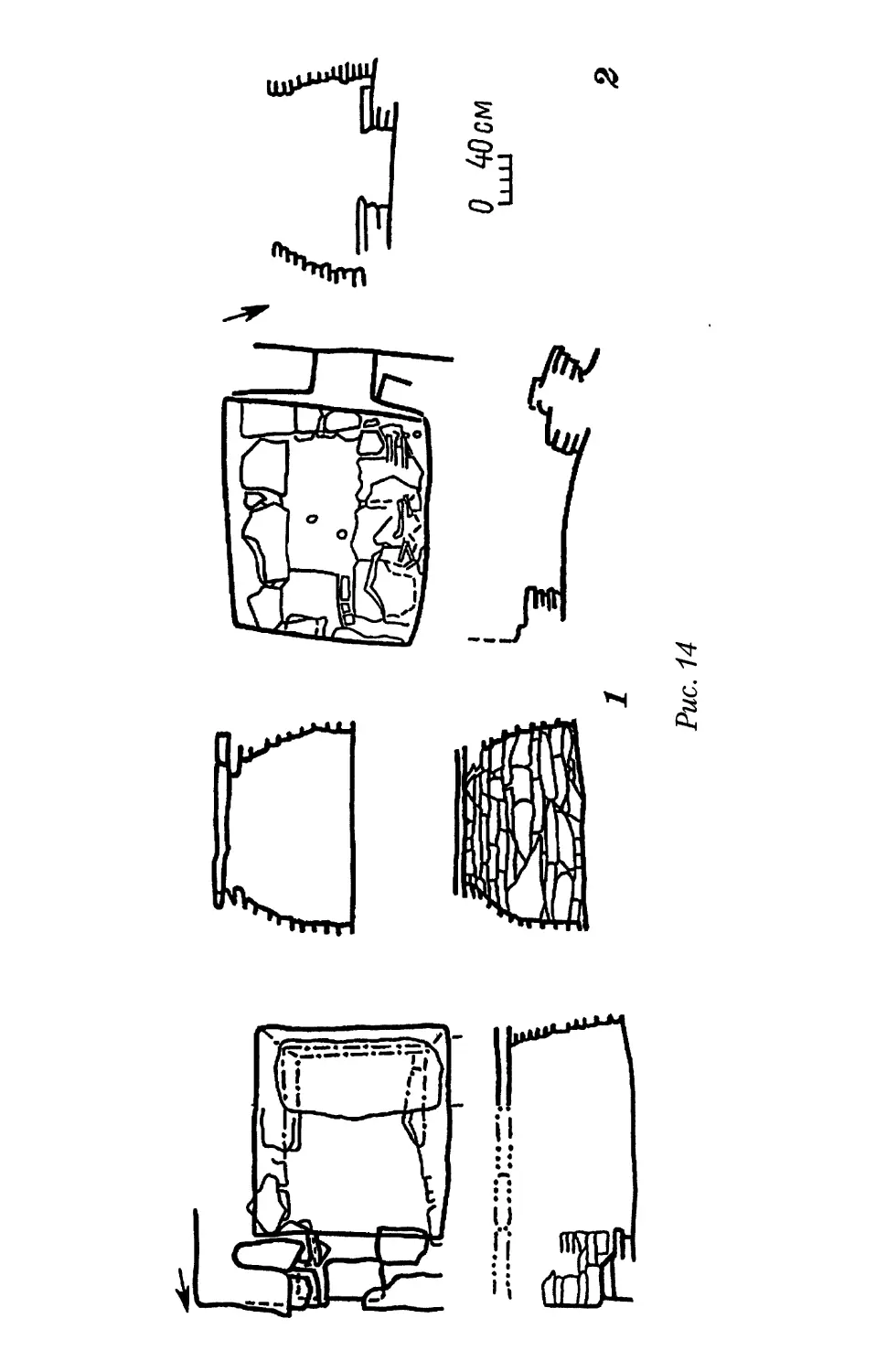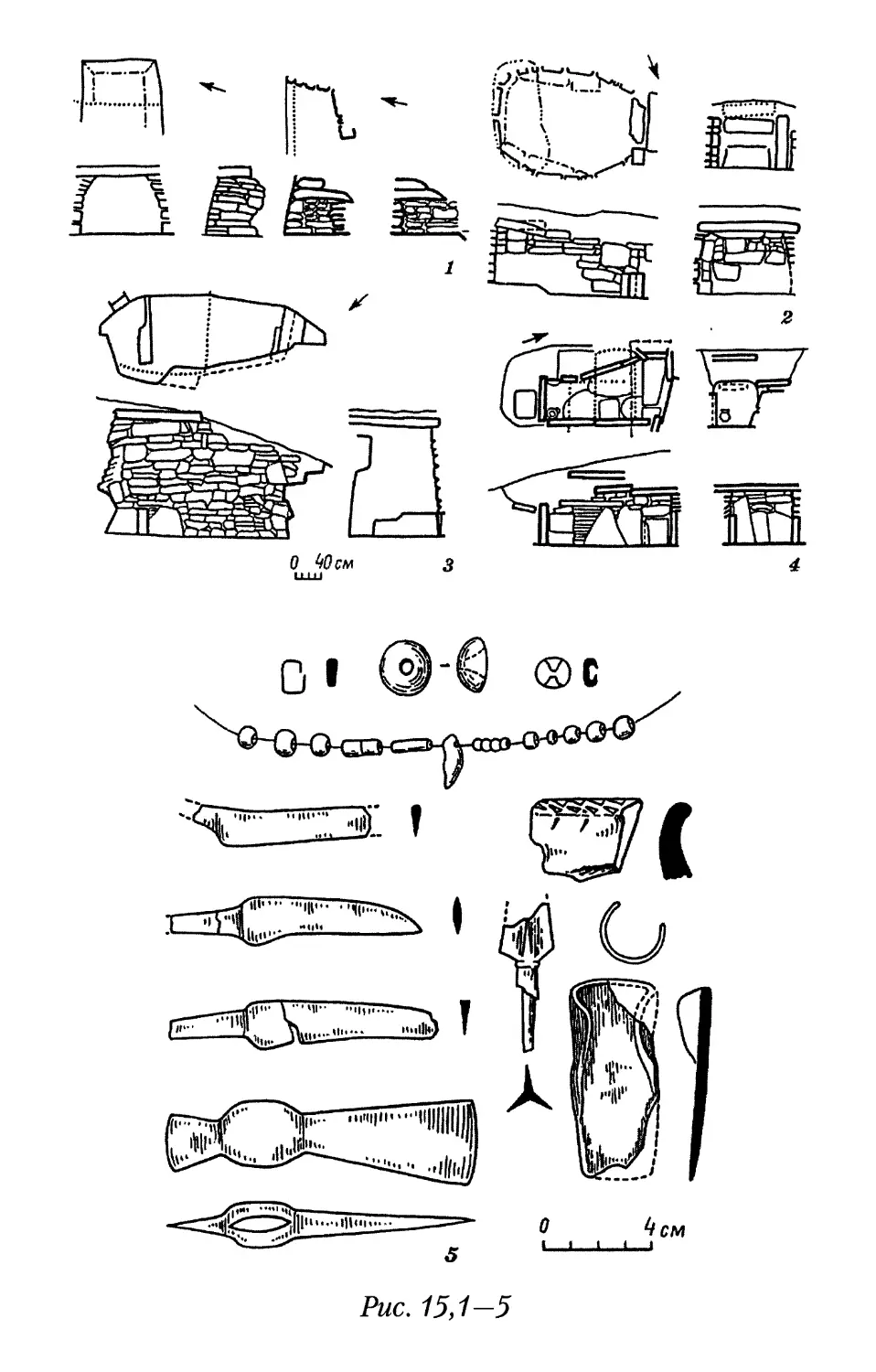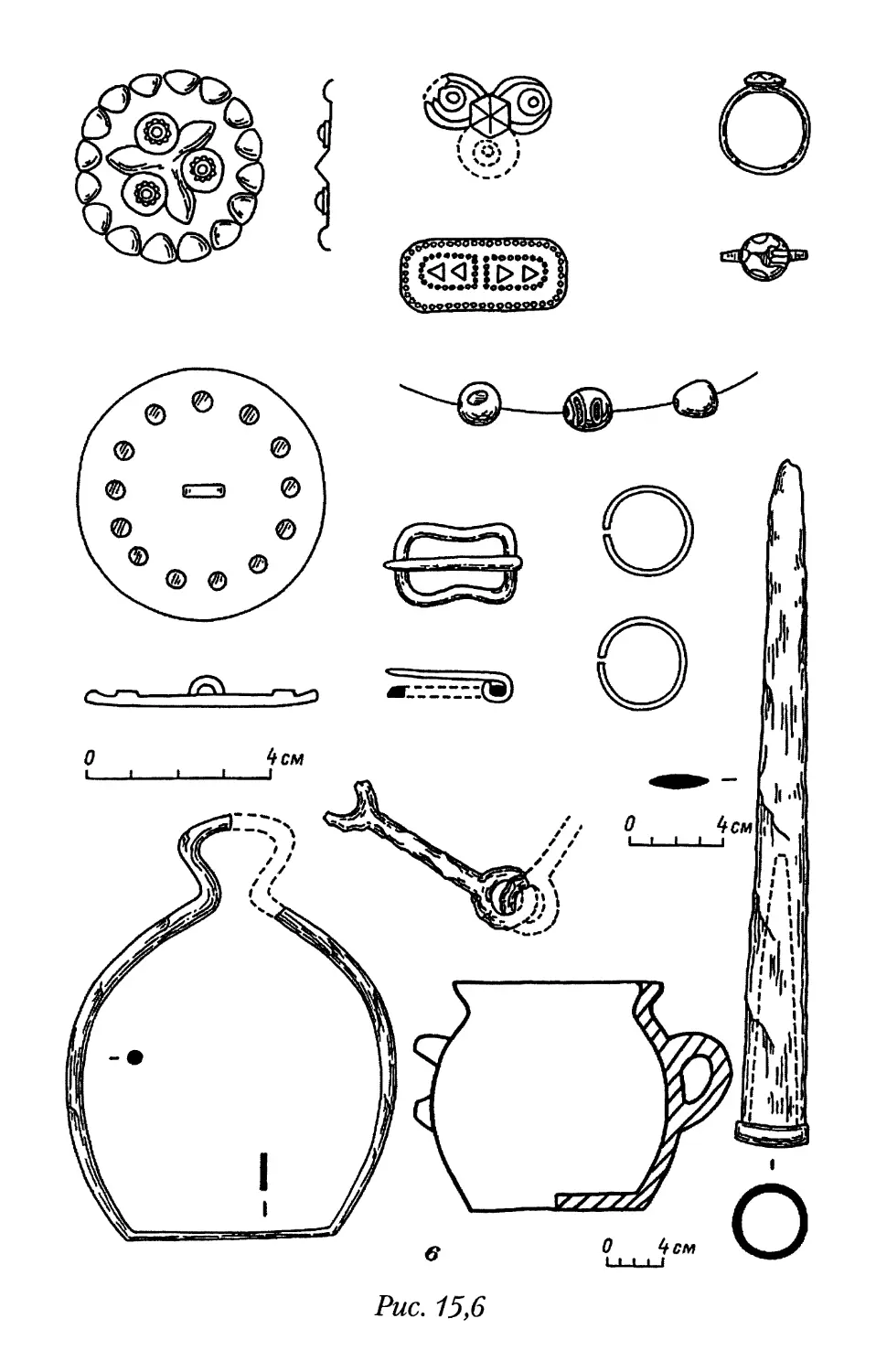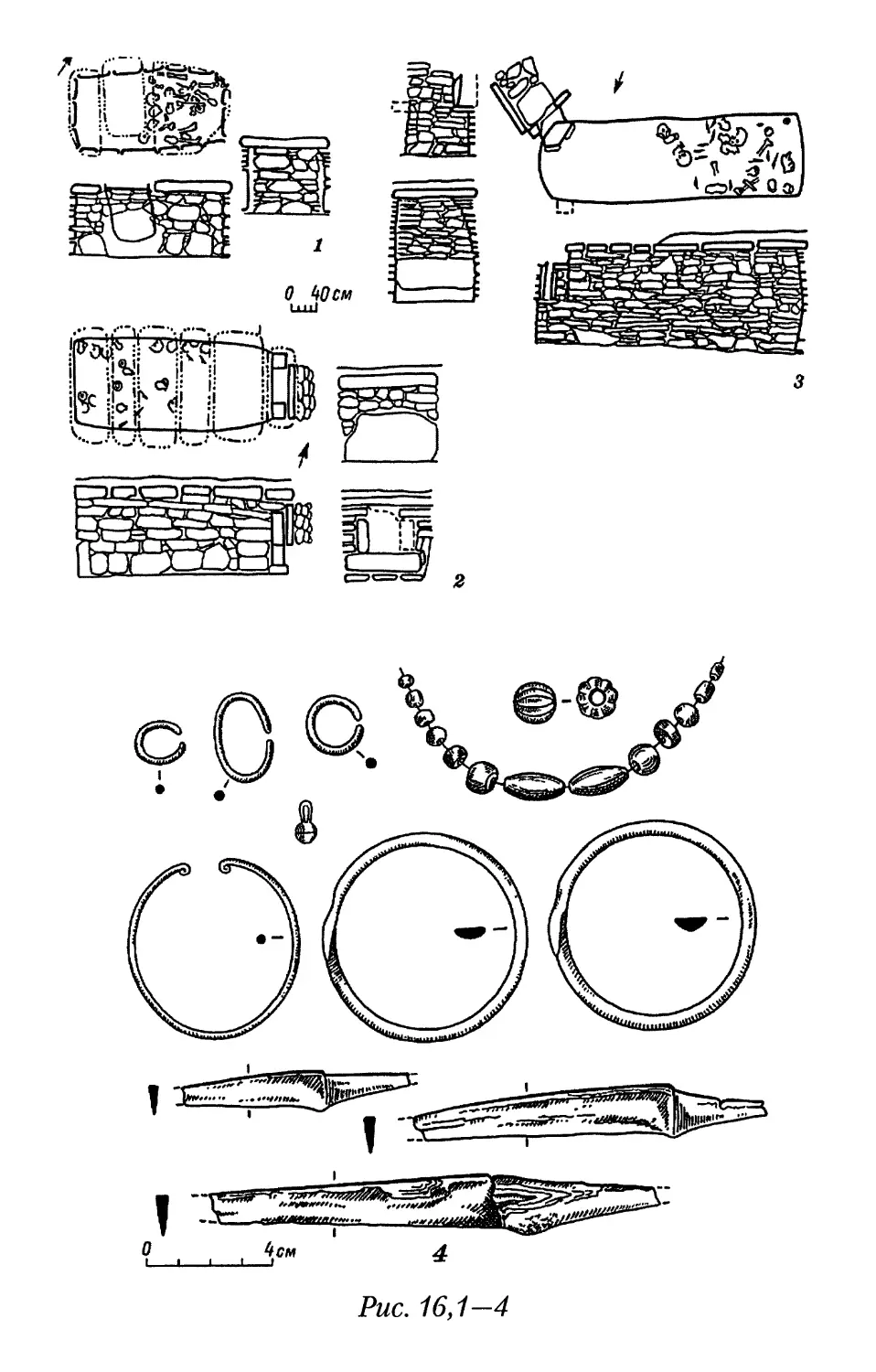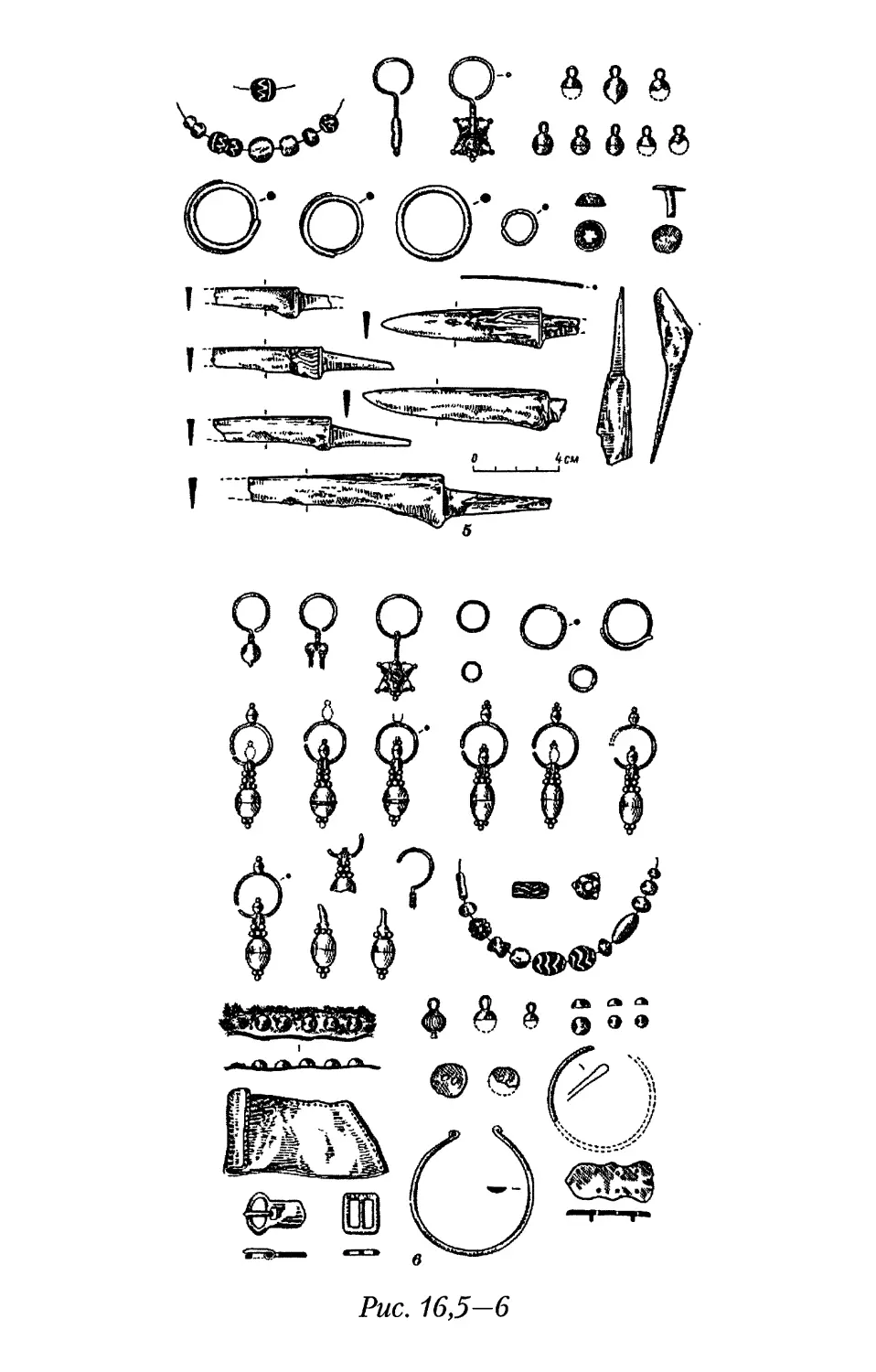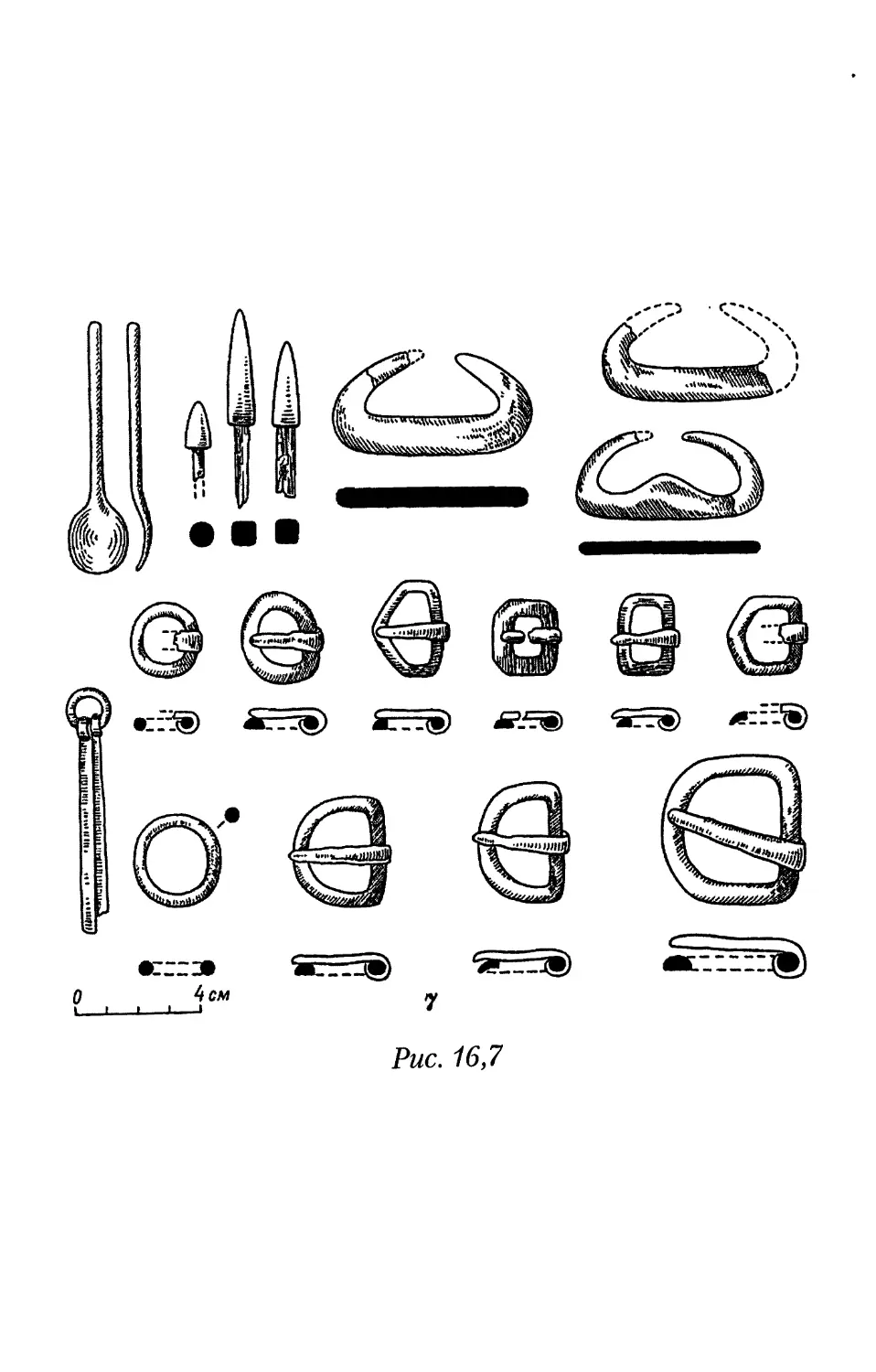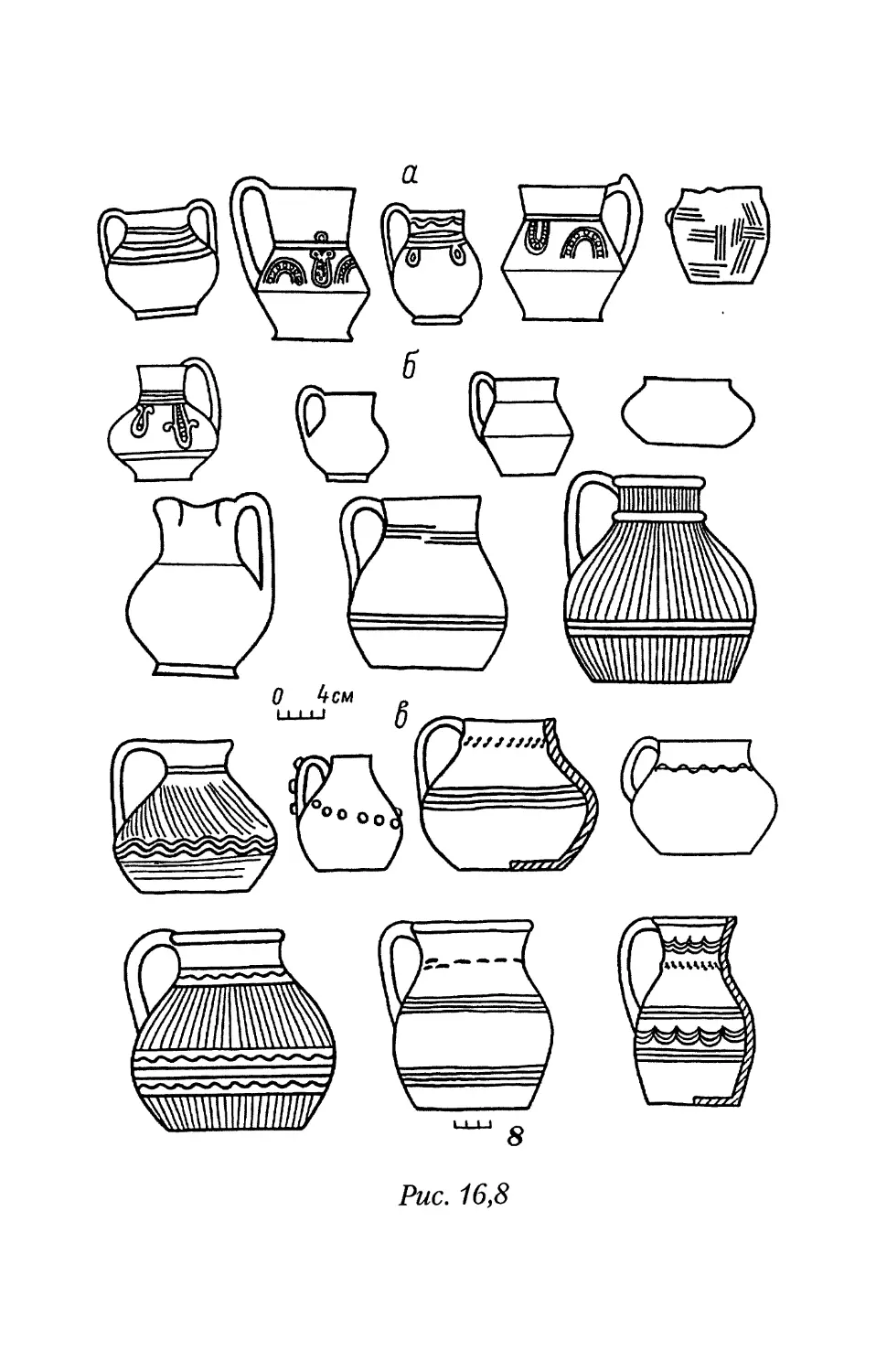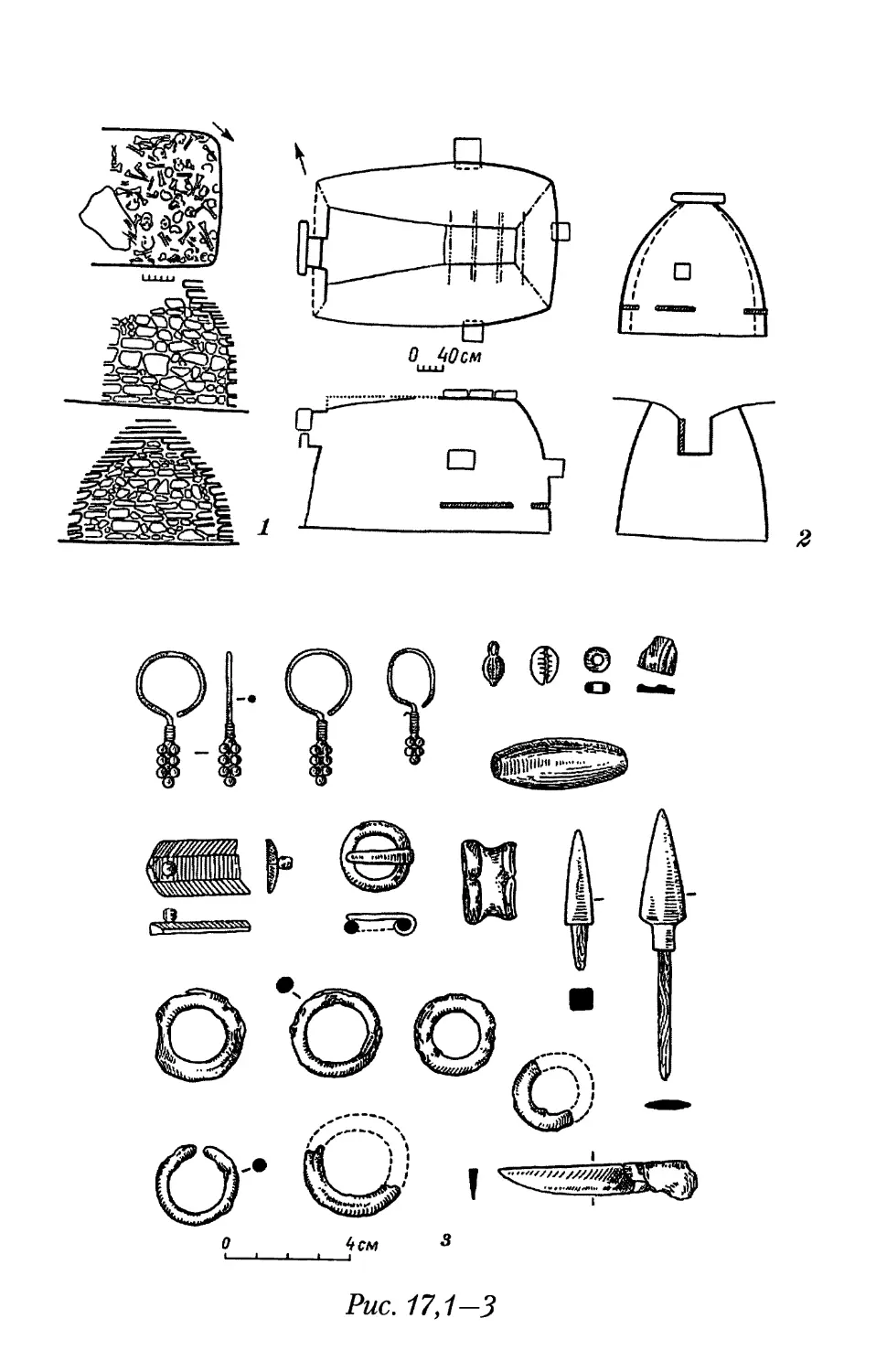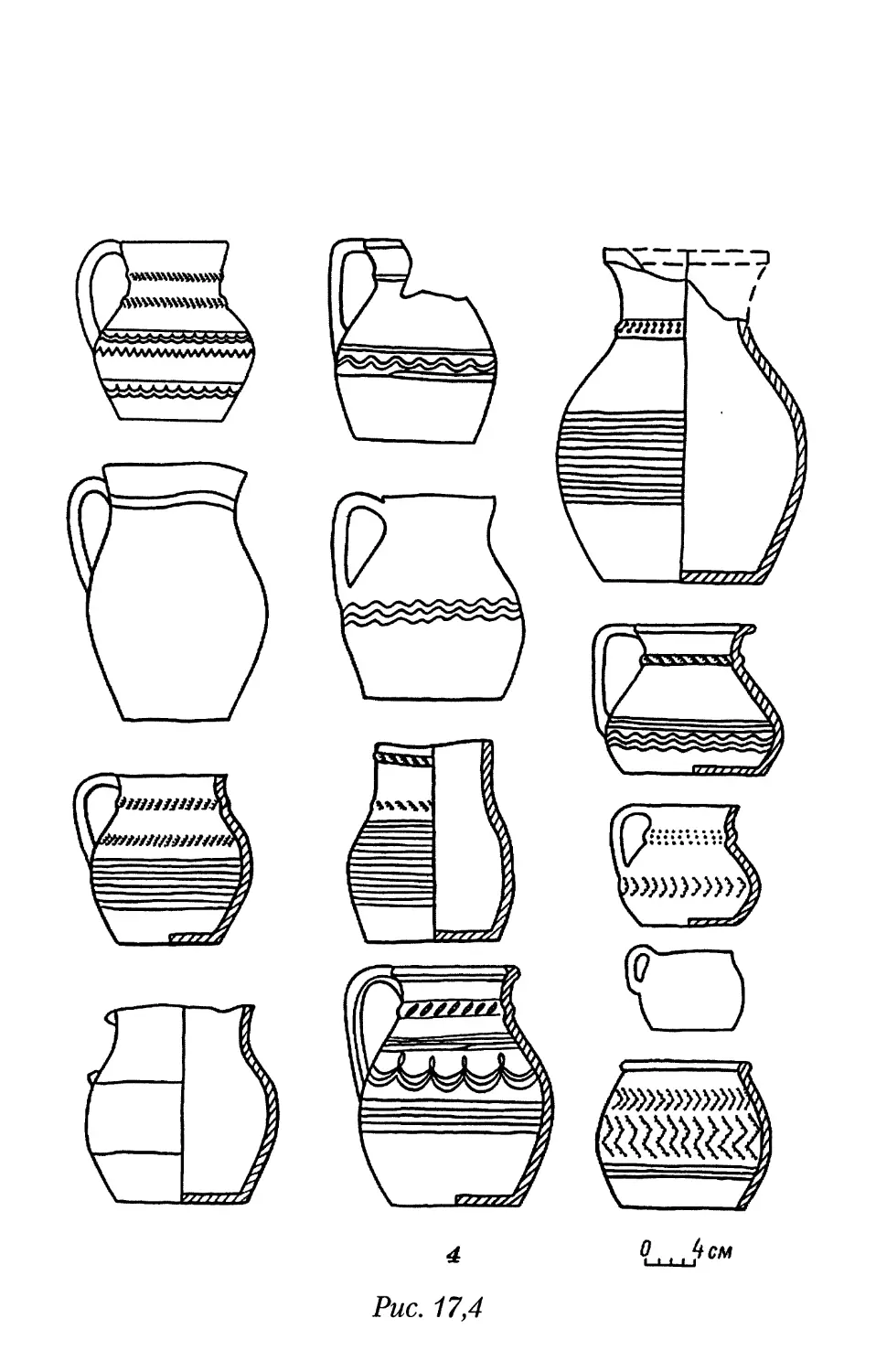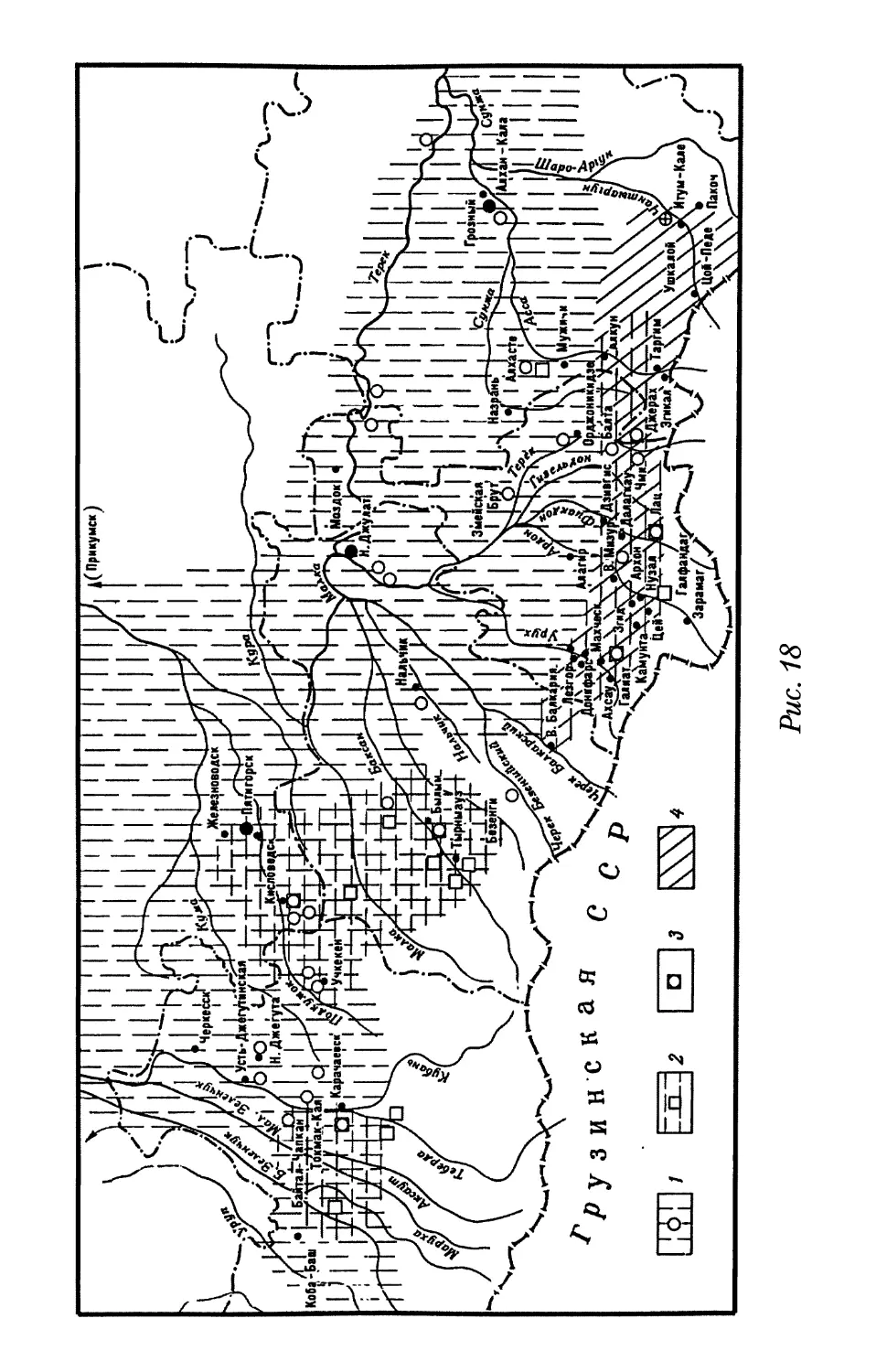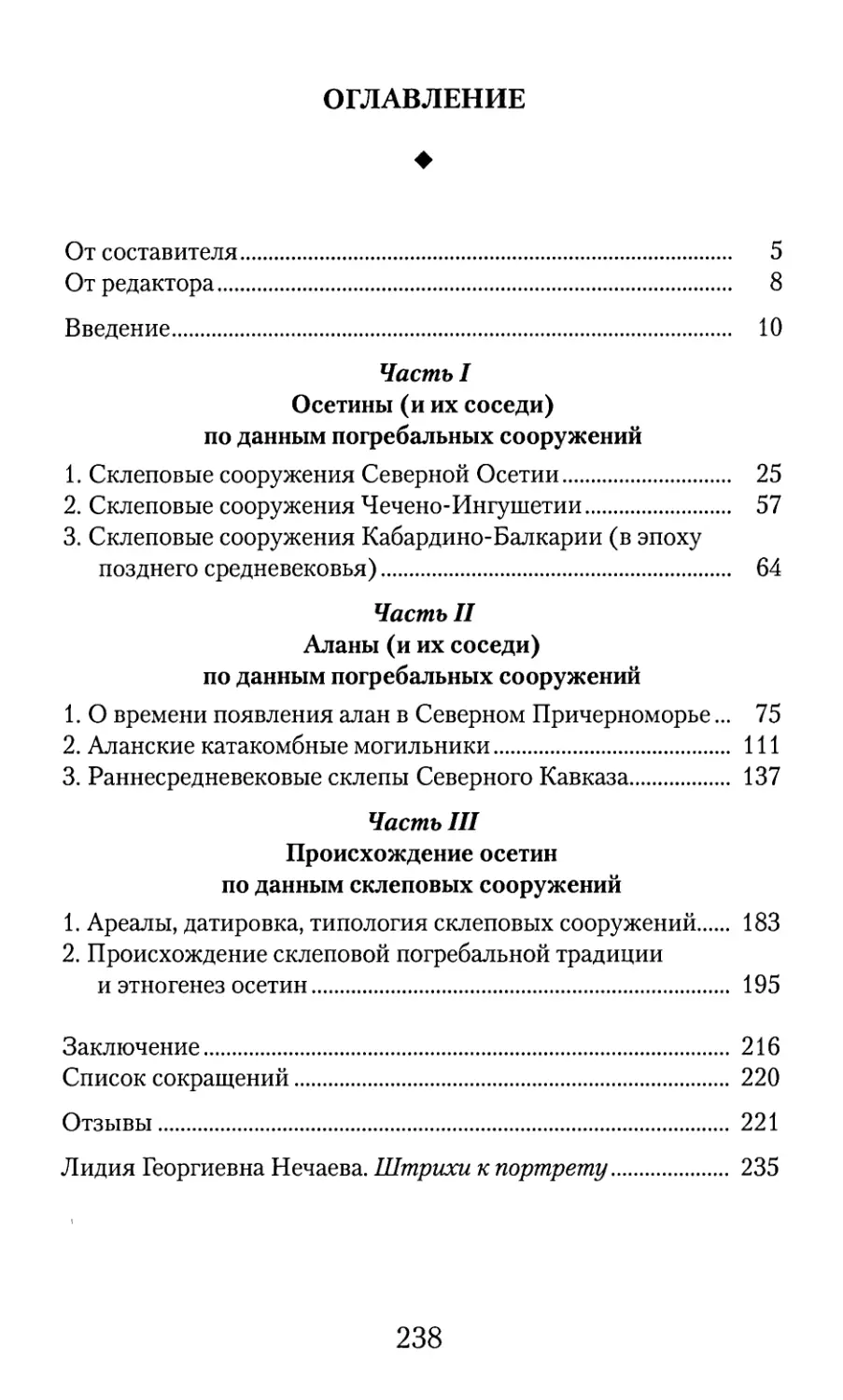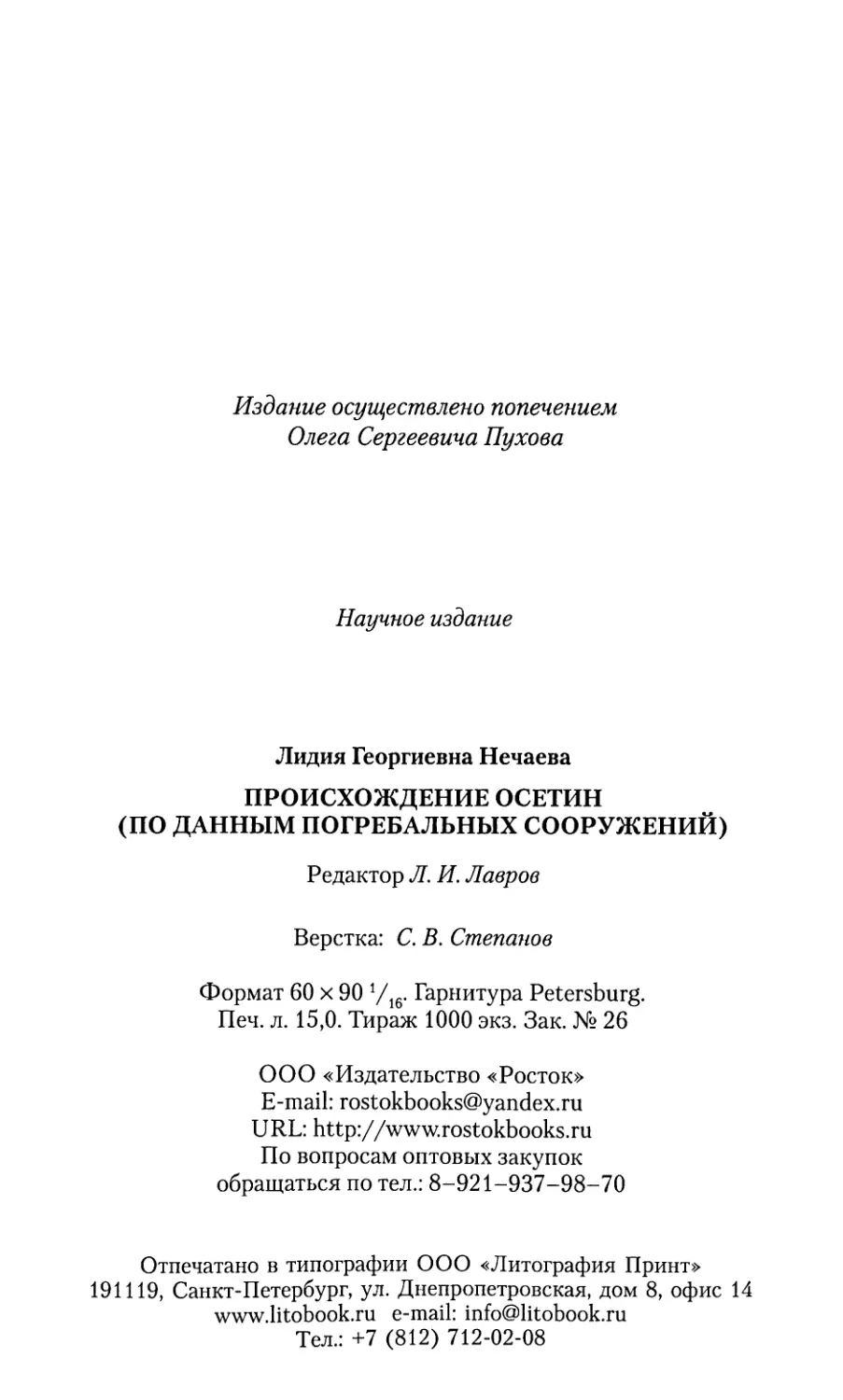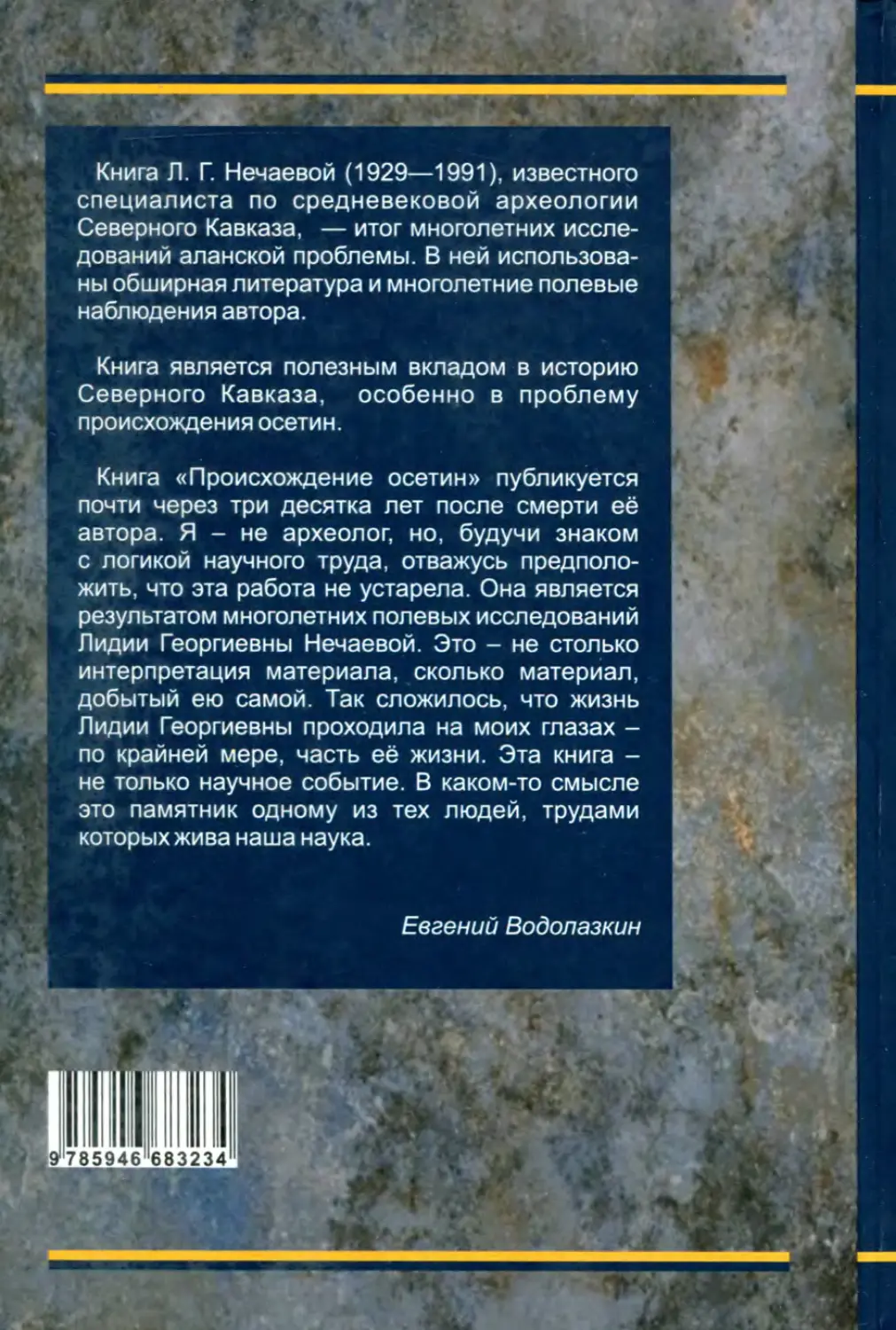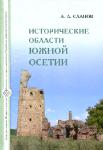Text
ФУНДАМЕНТАЛЬНАЯ
НАУКА
Санкт- Петербург
Л. Г. Нечаева (1929-1991)
Музей антропологии и этнографии
им. Петра Великого (Кунсткамера)
Российской академии наук
Л.Г.Нечаева
ПРОИСХОЖДЕНИЕ
ОСЕТИН
(по данным
погребальных
сооружений)
.!гостою
Санкт-Петербург
2021
УДК 902/904
ББК 63.4(2Рос=Рус)
Н59
Утверждено к печати
Ученым советом МЛЭ РАН
Нечаева Л. Г.
Н59 Происхождение осетин (по данным погребальных
сооружений) / ред. Л. И. Лавров; сост. А. А. Чижова. — СПб.: ООО
«Издательство "Росток"», 2021. — 240 с; ил.
Книга Л. Г. Нечаевой (1929—1991), известного специалиста по
средневековой археологии Северного Кавказа, — итог многолетних
исследований аланской проблемы. В ней использованы обширная литература и
многолетние полевые наблюдения автора.
Книга является полезным вкладом в историю Северного Кавказа,
особенно в проблему происхождения осетин.
15ВК 978-5-94668-323-4
© Нечаева Л. Г., наследники, 2021
© МАЭ РАН, 2021
©ООО «Издательство "Росток"», 2021
ОТ СОСТАВИТЕЛЯ
♦
Книга Л. Г. Нечаевой «Происхождение осетин по
данным погребальных сооружений» публикуется по
хранящейся в научном архиве МАЭ РАН машинописи с
рукописными правками научного и издательского редакторов
(Ф. 40. Оп. 1. Д. 88. 344 л.). Она готовилась к печати
дважды — сразу после ее завершения в 1980 г. самой Лидией
Георгиевной, и в начале 1990-х годов ее
коллегами-кавказоведами.1 К сожалению, по стечению обстоятельств
книга не была опубликована и до сих пор ждала своего часа
в архиве МАЭ РАН. Я узнала о ней, придя на работу
в Отдел Востока Эрмитажа в середине 2000-х. Некоторое
время спустя я приняла на хранение археологические
находки из раскопок Лидии Георгиевны на Северном
Кавказе (переданные в Эрмитаж из МАЭ в 1986 году), мне
предстояло не только хранить, но и изучать эти
материалы. В связи с этим я задумалась о новой попытке
подготовки к печати ее монографии. Это стало бы огромным
подспорьем для кавказоведов-медиевистов. До сих пор
результаты ее работ практически не были опубликованы,
1 На титульном листе в машинописный текст «Издательство
«Наука» Ленинград 1980» чернилами внесены исправления:
«Ленинград» исправлен на «Санкт-Петербург», к названию
издательства добавлено «Ленинградское отделение», «1980» год
зачеркнут, исправлен на «1993» год. К машинописи приложены
выписка из протокола заседания сектора Кавказа, которая
датируется 26 декабря 1990 г.: видимо, и в 1990 г. была предпринята
попытка публикации работы Л. Г. Нечаевой. В выписке из
протокола ответственным редактором значится Каринэ Христофо-
ровна Кушнарева, сотрудник Ленинградского отделения
Института материальной культуры АН СССР. На обороте титульного
листа имя Л. И. Лаврова зачеркнуто карандашом и рядом
поставлен знак вопроса. Леонид Иванович Лавров скончался в 1983 г.,
и смена ответственного редактора произошла, по всей
видимости, при второй подготовке рукописи к печати.
5
за исключением ряда статей, часто недоступных.1 Эта
книга — полная публикация многолетних исследований такой
сложной и малоизученной категории археологических
памятников, как средневековые склеповые сооружения. При
обсуждении подготовки к печати монографии Л. Г.
Нечаевой с коллегами-археологами я получала слова
безусловной поддержки. Старшее поколение еще помнит Лидию
Георгиевну, отзывается о ней как о талантливом,
серьезном археологе, самоотверженно работавшем в горах
Северного Кавказа на протяжении многих лет практически
в одиночку. Узнать больше о ней мне позволил очерк ее
племянника, известного писателя, доктора
филологических наук Е. Г. Водолазкина, которому я так благодарна за
всестороннюю поддержку моего начинания.2 Здесь же мне
хотелось бы поблагодарить издательство «Росток» и его
директора, Л. И. Чикарову, за отзывчивость и
оперативность в работе по подготовке издания. Моим первым
шагом к осмыслению научного наследия Л. Г. Нечаевой стала
небольшая статья в Лавровском сборнике Кунсткамеры.3
1 Нечаева Л. Г. 1) Дольменообразная гробница могильника на Ке-
фари-Кривой // Крат, содерж. докл. годич. науч. сес. Ин-та
этнографии АН СССР. 1969. Л., 1970. С. 124-126; 2) Происхождение
осетинских погребальных склепов и этногенез осетин//Тез.
докл. годич. науч. сес. Май 1968 г. Л., 1968. С 67—69; 3)
Составные дольмены Осетии, Ингушетии, Карачая: постановка
вопроса// Тез.докл., посвящ. итогам полевых археол. исслед. в СССР
в 1970 г. Тбилиси,1971. С. 65—67; 4) Осетинские погребальные
склепы и этногенез осетин // Этническая история народов Азии.
М., 1971. С. 267-292; 5) О мавзолеях Северного Кавказа//
Материальная культура и хозяйство народов Кавказа, Средней Азии
и Казахстана. Л., 1978. Сб. МАЭ; 34. С. 107-110; 6) Некрополь
осетинского селения Лац как «этногенетический заповедник»//
Краткое содержание докладов сессии Института этнографии
АН СССР, посвященной столетию создания первого
академического этнографо-антропологического центра. Л., 1980. С. 44—45.
2 Водолазкин Е. В. Кунсткамера в лицах. Мелочи академической
жизни//Новая газета. Цветной выпуск от 22.08.2008. №31 —
' 33; Водолазкин Е. Г. Совсем другое время. М., 2013.
3 Чижова А. А. Вклад Л. Г. Нечаевой в археологическое изучение
Северного Кавказа // Лавровский сборник: Материалы ХЬ Сред-
6
Несколько предметов из раскопок Л. Г. Нечаевой заняли
достойное место на открытой в 2018 г. постоянной
эрмитажной экспозиции «Аланы Северного Кавказа в VI—
XII вв.» (витрина 14 Кутузовского коридора Зимнего
Дворца). Наконец, благодаря поддержке и содействию со
стороны коллег из МАЭ РАН,1 мне удалось начать работу
по подготовке рукописи ее книги к печати — копированию
и оцифровке машинописи. Книга публикуется как
архивный материал — в том виде, в котором она была
подготовлена к публикации в 1993 г.2 Первым научным редактором
книги был крупнейший кавказовед Л. И. Лавров,
написавший вступительное слово от редактора. К
публикуемому тексту книги Лидии Георгиевны я посчитала нужным
добавить два отзыва, написанных при второй попытке
издания книги — канд. ист. н. А. А. Иерусалимской и канд.
ист. н. Т. А. Поповой. А. А. Иерусалимская, мой научный
руководитель, приняла значительное участие не только
в подготовке книги к печати в 1990-х гг. (судя по
большому количеству выполненных ею рукописных правок к
машинописи), но и в судьбе археологической коллекции
Л. Г. Нечаевой — именно Анна Александровна приняла ее
на хранение в Государственный Эрмитаж из МАЭ РАН
в 1986 г. Свежий отзыв ведущего специалиста по аланской
археологии д. и. н. В. Б. Ковалевской актуализирует
высокую научную значимость публикуемого исследования.
Л. А. Чижова, н. с. Отдела Востока
Государственного Эрмитажа
неазиатско-Кавказских чтений 2016 г. Этнология, история,
археология, культурология. СПб.: МАЭ РАН, 2017. С. 104-109.
1 Благодарю руководителя научного направления МАЭ РАН
Е. А. Резвана и зав. научным архивом МАЭ РАН К. В. Радецкую,
а также главного хранителя МАЭ РАН Н. П. Копаневу.
2 Благодарю за большую помощь в подготовке к печати
иллюстраций, хранящихся в архиве в виде разрозненных листов
с вклеенными изображениями, н. с. ИИМК РАН, моего супруга,
Ф. Ш. Аминова.
ОТРЕДАКТОРА
♦
Эта книга является итогом многолетних
исследований аланской проблемы, выполненных Л. Г. Нечаевой,
известной специалисткой по средневековой археологии
Северного Кавказа. В книге использованы обширная
литература и многократные полевые наблюдения автора.
Читатель найдет здесь сводку ранних исторических
известий об аланах и предположения об условиях и времени
появления их в Восточной Европе. Подробно рассмотрев
некоторые типы погребальных сооружений на Северном
Кавказе, автор пришла к заключению, что подземные,
полуподземные и надземные склепы Центрального Кавказа
произошли от аланских погребальных катакомб раннего
средневековья. Это, по мысли автора, может служить
важным аргументом для признающих аланское
происхождение осетин. При этом Л. Г. Нечаева сознает, что
данное исследование не претендует на окончательное
решение такой сложной проблемы, как этногенез осетин, но
оно может помочь по-новому взглянуть на эту проблему
и приблизить окончательное ее решение.
Интересная концепция Л. Г. Нечаевой заслуживает
внимания специалистов. Остается сожалеть, что не все
вопросы, относящиеся к данной проблеме, рассмотрены
в книге. Так, автор обошла вопрос об архитектурных
корнях горских мавзолеев и надземных склепов. Напрасно
было бы искать их в аланских катакомбах. Очевидно,
правы те исследователи, которые искали эти корни в
архитектуре малых средневековых храмов и мусульманских
мавзолеев. Трудно согласиться с автором, будто почти все
балкарские кешене были мавзолеями, а не склепами. Хотя
содержимое их и не сохранилось, но присутствие в одном
из них (Верхне-Чегемский могильник) каменной
лежанки для покойника доказывает, что были среди них настоя-
8
щие склепы. Это обстоятельство не позволяет согласиться
и с утверждением, будто склепы в Верхней Балкарии
и в Безенги непременно свидетельствуют об обитавших
там прежде осетинах. Л. Г. Нечаева рассматривает
распространение надземных склепов в увязке с расселением
осетин, при этом не учитывая распространения горских
мавзолеев, архитектура которых аналогична надземным
склепам, и свою позицию объясняет тем, что им
соответствуют разные обряды погребения: домусульманский
и мусульманский. Но так как смена религиозных
верований не сопровождалась здесь сменой населения, то
остается неясным, почему распространение мавзолеев не
совпадает с расселением осетин. Есть в книге и другие спорные
положения.
Однако в целом книга Л. Г. Нечаевой — полезный вклад
в историю Северного Кавказа, особенно в проблему
происхождения осетин.
Л. И. Лавров
ВВЕДЕНИЕ
♦
В НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ НА СЕВЕРНОМ КАВКАЗЕ ПРОЖИВАЮТ
народы, говорящие на языках разных лингвистических
систем. Чеченцы и ингуши на востоке, адыгейцы, черкесы
и кабардинцы на западе относятся по языку к народам
кавказоязычным. Однако вся центральная часть
Северного Кавказа населена некавказоязычными народами:
карачаевцы и балкарцы говорят на языке тюркской системы,
а язык осетин относится к числу иранской группы языков
индоевропейской лингвистической системы.
Вопрос о происхождении осетин был поставлен в
первую очередь лингвистами: еще 150 лет тому назад было
установлено, что осетины говорят на языке иранской
группы, следовательно, являются частицей ираноязычных
народов, заброшенных в силу исторических обстоятельств
на юг Восточной Европы и на Северный Кавказ. Исходя из
особенностей современного осетинского языка, В. Ф.
Миллер считает, что предки осетин отделились от основного
ираноязычного массива и появились здесь раньше X в. до
н. э.1 В. И. Абаев, опираясь на лингвистические данные
и сведения письменных источников, предполагает, что
предки осетин пришли в этот регион в VIII—VII вв. до
н. э.2
В трудах восточных и античных авторов сохранились
названия многих племен, проживавших в Северном
Причерноморье и на Северном Кавказе; те племена, названия
которых объясняются из иранских языков, являются
возможными предками осетин. Находясь в лингвистическом
родстве с осетинами, эти племена имели, однако, разную
историческую судьбу, и доля участия их в этногенезе
осетин неодинакова. Не все древние ираноязычные племена
1 Миллер В. Ф. Осетинские этюды. М., 1887.
2 Абаев В. И. Осетинский язык и фольклор. Л., 1949.
10
Северного Причерноморья и Предкавказья являются
непосредственными предками осетин: языги и роксоланы
ушли далеко на запад,1 а сираки и аорсы истощили свои
силы, участвуя в кровопролитной войне Митридата.2
В первые века нашей эры главенствующее положение
в ираноязычном сарматском мире заняли аланы. Этот
многочисленный воинственный народ, одержав много
побед над соседними и дальними племенами и народами,
широко расселился в I—IV вв. н. э. в восточной половине
Северного Причерноморья, в Крыму и в Предкавказье. Из
перекрестного сопоставления свидетельств различных
письменных источников установлено, что аланы
являются наиболее вероятными прямыми предками осетин.
Многочисленные варварские имена в эпиграфических
памятниках Северо-Восточного Причерноморья первых
веков н. э. и фрагменты языка алан, сохранившиеся в
средневековых письменных источниках, свидетельствуют
о наибольшей близости языка алан и осетин, что
подтверждает этническую преемственность этих народов.3
Вслед за лингвистами и историками4 в разработку
проблемы происхождения осетин включились и археологи.
А. С. Уваров предложил обратиться к памятникам
вещественным и рассмотреть, «что рассказывают раскопки,
произведенные в главных ущельях Осетии»5. Однако ар-
1 Кулаковский ЮЛ) Аланы по сведениям классических и
византийских писателей. Киев, 1899. С. 7; 2) Карта европейской Сар-
матии по Птолемею. Киев, 1899. С. 24.
2 Виноградов В. Б. Сиракский союз племен на Северном
Кавказе // СА 1965. № 1. С. 108-121.
3 Абаев В. И. Этногенез осетин по данным языка //
Происхождение осетинского народа: материалы науч. сес, посвящ. пробл.
этногенеза осетин. Орджоникидзе, 1967. С. 10.
4 Скитский Б. В. Очерки по истории осетинского народа с
древнейших времен до 1867 г. // ИСОНИИ. Дзауджикау, 1947. Т. 11;
Ванеев 3. Н. Средневековая Алания. Сталинир, 1959; Гаглой-
ти 10. С. Аланы и вопросы этногенеза осетин. Тбилиси, 1966.
5 Уваров А. СО важном значении Осетии и осетинцев для
первобытной археологии. // Труды Моск. археологического о-ва.
Древности. Вып. I. М., 1881. С. 43, протокол № 168.
11
хеологической экспедиции В. Ф. Миллера не удалось
выделить погребения, которые могли бы принадлежать
предкам осетин; в их число вошли погребения кобанской
культуры — В. Ф. Миллер отвергает возможность
отнесения кобанского круга памятников к древним аланам.1
В дальнейшем благодаря полевым изысканиям
археологов были обнаружены города, поселения и так
называемые катакомбные могильники. Последние с наибольшей
долей вероятности могли принадлежать только аланам.2
С этого времени прошлое осетин приобрело характер
исторической конкретности.
Однако позднее кавказская археология вступила в
неразрешимое, на первый взгляд, противоречие с
лингвистами в вопросе о происхождении осетин. Дело в том, что, по
наблюдениям Е. И. Крупнова, «типичная для кобанской
культуры могила в виде каменного ящика сохранялась
в Осетии и в эпоху средневековья (сел. Кобан, у сел. Ах-
сау) и дожила вплоть до XVIII—XIX вв. (у сел. Кобан
и в Стур-Дигории)», что свидетельствует о сохранении
традиций древнего погребального обряда. Несмотря на
лингвистическое наследие — ираноязычность — «по
культуре <...> осетины — типичные кавказцы», в
материальной культуре осетин некоторые элементы кобанской
культуры сохраняются по настоящее время.3 Вместе с тем,
аланские катакомбные могильники, столь широко
распространенные в домонгольское время на плоскости и в горах
Северного Кавказа, не известны после монгольского
завоевания.4 Напрашивается вывод — и некоторые археологи
1 Миллер Всев. Терская область. Археологические экскурсии//
МАК. Вып. 1. М., 1888. С. 123.
2 Спицып А. А. Историко-археологические разыскания // ЖМНП.
1909, янв. С. 69; Готье Ю. В. Кто были обитатели Верхнего
Салтова? // Изв. ГАИМК Л., 1927. Т. 5. С. 65-84.
3 Крупное Е. И. Об этногенезе осетин и других народов Северного
Кавказа // Против вульгаризации марксизма в археологии. М.,
• 1953. С 158,162,159.
4 Кузнецов В. А. Аланские племена Северного Кавказа// МИ А.
№ 106. М., 1962. С. 30, 118. Однако впоследствии в Чечено-Ин-
12
его сделали — что после татаро-монгольсксго нашествия
собственно аланы практически перестали существовать:
ведь они первыми приняли на себя удар и были почти
полностью истреблены жестокими завоевателями; лишь
остатки их «покинули северокавказскую плоскость и
укрылись в горах, где быстро слились с местным горским
населением»,1 которое имело высокую древнюю культуру
и менее пострадало от татаро-монгольского ига. Таким
образом, памятники эпохи Средневековья производили
впечатление, что преобладающий этнический компонент
в этногенезе осетин составили не аланы, а горские
племена, «кобанцы», которые еще во времена скифских походов
начали усваивать иранскую речь2 и сохранили этот
языковой (но не этнический) реликт до современности. Аланы
же, оттесненные в горы, стали жить по обычаям горцев.
Они настолько утратили свои древние этнографические
признаки, что вместо турлучных жилищ и вырытых в
глинистом грунте катакомб стали строить жилища из
камня — для себя и для своих умерших родственников.
Процесс ассимиляции алан, по мнению сторонников гипотезы
аборигенного, субстратного происхождения осетин,
наиболее ярко и четко проявляется на примере каменного
зодчества. Особенно показательны погребальные
сооружения: на смену аланским катакомбам, вырытым в грунте,
приходит обычай помещать покойников в каменные
склепы.
Склепы Северного Кавказа, и в том числе осетинские,
являются довольно крупными, выполненными в технике
ложного свода каменными постройками, рассчитанными
на многократные погребения — для этой цели они имеют
специальный лаз. Функционально они аналогичны алан-
гушетии был обнаружен могильник XIV в. (Даутова Р. Л.,
Мамаев X. М. Аланская катакомба XIV в. у сел. Ушкалой // СА.
1974. № 3. С. 266-269).
1 Кузнецов В. А. Аланские племена Северного Кавказа. С. 42.
2 Крупное Е. И. Об этногенезе осетин и других народов Северного
Кавказа. С. 158, 160.
13
ским катакомбам, — служат фамильными коллективными
усыпальницами, — поэтому автору настоящего
исследования представлялось вполне логичным, что в горных
условиях (там, где грунт оказывался так или иначе
непригодным для рытья катакомб) аланы стали сооружать
катакомбы из камня, строить каменные катакомбы — склепы.1
Однако В. А. Кузнецов пытается увидеть генетическую
связь склепов и каменных ящиков. Происхождение скле-
повой архитектуры мыслится им как длительная эволюция
преобразований и усовершенствований обряда
погребения в каменном ящике, который, претерпев ряд
архитектурных трансформаций, превратился в конечном итоге
в склеп. Так, В. А. Кузнецов пишет: «наиболее раннее
появление элементов "ложного свода", по-видимому,
следует связать с могилами Галиата и Дзивгиса, где типичные
каменные ящики имеют сводчатое (чешуйчатое)
перекрытие. Можно предположить, что эта группа каменных
ящиков со сводом является одним из зачатков будущих
подземных, полуподземных и надземных позднесредневековых
склепов Осетии и Ингушетии с уступчатым сводом,
развитие которых шло длительным и сложным путем...
Сначала это были подземные и полуподземные склепы,
затем надземные осетинские "заппадзы" и "обаи",
ингушские и чеченские "каши", кабардинские и балкарские "ке-
шене", получившие распространение по всему горному
Северному Кавказу и бытовавшие до XIX в.».2 Гипотеза
В. А. Кузнецова вносит существенные дополнения в
аргументацию теории субстратного, «кобанского»»
происхождения осетин: трансформация каменного ящика в склеп
означает, что всех погребенных в склепах можно считать
потомками местных кавказских племен, хоронивших
1 Нечаева Л. Г. 1) Могильник Алхан-Кала и катакомбные
погребения сарматского времени на Северном Кавказе: Автореф. дис.
... канд. ист. наук. Л., 1956. С. 17—18; 2) Осетинские
погребальные склепы и этногенез осетин // Этническая история народов
Азии. М., 1972. С. 286.
2 Кузнецов В. А. Аланские племена Северного Кавказа. С. 107—108.
14
в древности своих покойников в каменных ящиках.
Переводя это положение на язык этногенеза, получается, что
осетин по погребальному обряду следует считать
потомками не алан, хоронивших в катакомбах, а потомками
местного кавказского доаланского населения.
Исключительное значение для решения вопроса о
происхождении склеповой архитектуры, а тем самым и о
происхождении осетин, имеет открытие склепов эпохи
бронзы у сел. Эгикал в Ингушетии.1 Эгикальские гробницы
оказались своего рода пробным камнем для проверки
археологических гипотез происхождения склеповой
архитектуры осетин и других народов Северного Кавказа.
Прежде всего, по мнению В. И. Марковина, отпала
гипотеза В. Н. Худадова (а также — мимолетно высказанное
предположение А. А. Миллера и А. А. Спицына2) об
эволюционной связи позднесредневековой склеповой
архитектуры с дольменами.3 В. И. Марковин полагает, что
«пока невозможно проследить какие-либо связи между
дольменными постройками Западного Кавказа и
склепами типа Эгикала в восточной части Кавказа» и что
«истоки настоящей склеповой архитектуры (камеры с лазами
и полками) надо искать во II тысячелетии до н. э.»,
причем прототипы склепов у сел. Эгикал «возможно <...>
возникают лишь на территории северо-восточной части
Кавказа».4 Глубокая древность эгикальских склепов сделала
неправдоподобным предположение автора этой книги
1 Маркович В. И. 1) В стране вайнахов. М., 1969. С. 43, фот. на
с. 45; 2) Склепы эпохи бронзы у сел. Эгикал в Ингушетии // СА.
1970. № 4. С. 83-94.
2 Миллер В. А. Записка о дольменах // ВиПеглп с1и Мизёе с1е Сё-
ог^е. Т. П. Тифлис, 1925. С. 22—23; Спицын А. А. Разведка
памятников материальной культуры. Л., 1927. С. 66.
3 Худадов В. Н. Мегалитические памятники Кавказа // ВДИ.
1937. №1. С. 197-198.
4 Маркович В. И. Склепы эпохи бронзы у сел. Эгикал в
Ингушетии. С. 93—94; см. также: О возникновении склеповых построек
на Северном Кавказе // Вопросы древней и средневековой
археологии Восточной Европы. М.,1978. С 123-125, 129.
15
о трансформации катакомб в склепы в горных условиях,
так как появилась возможность говорить, что уже в эпохе
бронзы «лежат местные истоки этой формы погребальных
сооружений».1 Открытие эгикальских гробниц выявило,
вместе с тем, искусственность поисков В. А. Кузнецовым
звеньев, соединяющих в один эволюционный ряд
каменные ящики и позднесредневековые склепы. Стало гораздо
логичнее предполагать их происхождение не от каменных
ящиков, а от склепов эпохи бронзы. Открытие
эгикальских склепов сняло также тезис о кобанской основе в
этногенезе осетин — ведь «кобанцы» хоронили своих
покойников в каменных ящиках, в то время как у другой части
населения Северного Кавказа эпохи бронзы уже
строились склепы. Таким образом, следует, очевидно, уточнить
круг древних кавказских племен, послуживших для алан
субстратом, на основе погребальных обычаев которого
могли бы возникнуть склеповые сооружения осетин.
При оценке значения эгикальских склепов как
возможного истока позднейшей склеповой архитектуры осетин
не следует, однако, забывать, что эти гробницы отделены
от средневековых склепов промежутком в 2—3 тысячи
лет. Вместе с тем, нами уже было обращено внимание на
конструктивное сходство эгикальских гробниц с дольме-
нообразными гробницами Верхнего Прикубанья, а также
на отличия архитектуры этих последних от
средневековых склеповых построек.2 Если же эгикальские гробницы
1 Крупное Е.И. Средневековая Ингушетия. М., 1971. С. 81; см.
также: Тменов В.Х. 1) Археологическое исследование «города
мертвых» у сел. Даргавс в 1967 г. // МАДИСО. Орджоникидзе,
1969. Т. 2. С. 155; 2) Позднесредневековые склеповые
сооружения Северной Осетии как исторический источник: Автореф.
дис.... канд. ист. наук. М., 1973. С. 24; 3) «Город мертвых»
(позднесредневековые склеповые сооружения Тагаурии).
Орджоникидзе, 1979. С. 8-9.
2 Нечаева Л. Г. 1) Дольменообразная гробница могильника на Ке-
фари-Кривой // Кратк. содерж. докл. годич. науч. сесс. Ин-та эт-
нографииАН СССР. 1969. Л., 1970. С. 124-126; 2) Происхожде-
16
входят в группу памятников эпохи бронзы, которая на
западе включает верхнекубанские дольменообразные
гробницы, а на востоке — ирганайские склепы в Дагестане (вся
группа памятников условно названа нами составными
дольменами1), то признание генетической связи между
эгикальскими гробницами и позднесредневековыми
склепами возвращает нас к гипотезе В. Н. Худадова. Однако,
пока не будет заполнена лакуна между склепообразными
или дольменообразными гробницами эпохи бронзы и
средневековыми склепами, не может быть доказана прямая
преемственность между ними.
Таким образом, гипотеза местного кавказского и
гипотеза аланского в основе происхождения осетин являются
основными направлениями,2 которые разрабатываются по
материалам погребальных памятников Северного
Кавказа.3 Поиски основных предков осетин стоят в прямой
зависимости от решения вопроса о происхождении их по-
ние осетинских погребальных склепов и этногенез осетин//
Тез. докл. годич. науч. сес. Май 1968 г. Л., 1968. С. 67-69.
1 Нечаева Л. Г. Составные дольмены Осетии, Ингушетии, Ка-
рачая: постановка вопроса//Тез. докл., посвящ. итогам
полевых археол. исслед. в СССР в 1970 г. Тбилиси, 1971. С. 65—67.
2 Гипотеза Б. А. Алборова о зороастрийском происхождении
склепов не получила широкого признания; см.: Алборов Б. А.
Алано-асская надпись из с. Цамад Алагирского ущелья
Северной Осетии// ИСОНИИ. Орджоникидзе, 1966. Т. 25. История.
С. 286—292; Тменов В. X. Зороастризм и осетинский склеповый
погребальный обряд// Мах дуг. 1973. № 3. С 91—92. (На осет.
яз.).
3 Разумеется, изучение поселений, жилищ, хозяйства и т. д.
древнего населения Северного Кавказа несомненно даст очень
важные и обильные материалы для разработки вопросов его
этногенеза. Однако поселения древнего и средневекового населения
почти не изучены. Погребения же не только значительно лучше
исследованы, но, при том разнообразии погребальных
памятников, которое исторически сложилось на Северном Кавказе,
гораздо четче разграничивают древние этнические массивы.
Поэтому при разработке вопросов этногенеза внимание
исследователей в гораздо большей степени концентрируется на
изучении погребальных комплексов.
17
гребальных сооружений — склепов. В зависимости от того,
что лежит в основе этого своеобразного способа
погребения — аланская катакомбная погребальная традиция или
местная горская (каменные ящики или склепы эпохи
бронзы), — археологи говорят о преобладании либо алан-
ской основы, либо субстратной линии в этногенезе
осетин.
В этой связи большой интерес представляет
антропологический материал из древних и средневековых
погребений. В противоположность археологам, мнения которых
об этногенезе осетин различны, антропологи единодушны
в своих выводах: они придают «решающее значение
местному кавказскому субстрату в этногенезе осетинского
народа».1 Участие алан в сложении современного типа
осетин исключается — настолько узколицые долихокра-
ны из аланских катакомб противоположны широколицым
брахикранам («кавкасионцам») из осетинских склепов.
В этом антропологическом противостоянии алан и осетин
В. П. Алексеев отмечает «единственное исключение»:
«Змейский могильник, черепа из погребений которого
несколько более широколицы, чем другие аланские серии.
Но черепной указатель на этих черепах также выше, чем
на аланских, они массивнее, и поэтому в составе
населения, оставившего этот могильник, можно предполагать
примесь кавкасионского типа».2 Напомним, что Змейский
1 Алексеев В. П. Антропологические данные к происхождению
осетинского народа // Происхождение осетинского народа.
Орджоникидзе, 1967. С. 171. См. также: Бунак В. В. Черепа из склепов
горного Кавказа в сравнительно-антропологическом
освещении//Сб. МАЭ. М.; Л., 1953. Т. 14. С. 306-419; Алексеев В. П.
Происхождение народов Северного Кавказа. М., 1974.
2 Алексеев В. П. Антропологические данные к происхождению
осетинского народа. С. 169. — В пограничных районах Алании
(например, Мощевая Балка) смешение наблюдается даже в VIII—
IX вв.; см.: Алексеев В. П. Краниологические типы средневекового
населения Северного Кавказа // Современная антропология.
Труды Моск. о-ва испытателей природы. М., 1964. Т. 14. С. 208—
217.
18
могильник — наиболее поздний из аланских катакомбных
могильников. Может быть, именно в это время, после
длительного мирного, но раздельного сосуществования,
началось смешение аланского и горского населения? С
переселением равнинных алан в горы после
татаро-монгольского нашествия этот процесс смешения мог резко
усилиться и создать крен в сторону преобладания кавка-
сионского типа. Ведь до сих пор сравнивались лишь алан-
ские черепа VII—IX вв. и осетинские черепа из поздне-
средневековых склепов XVI — начала XIX вв., имеющие
хронологический разрыв в тысячу лет, в то время как
примесь иного антропологического типа сказывается уже на
следующем поколении. Катакомбные и склеповые
могильники предмонгольского времени, синхронные Змейскому,
и склеповые могильники золотоордынского и
последующего времени выявляются с каждым полевым сезоном, но
краниологические материалы этих памятников не учтены
антропологами. До тех пор, пока они не будут изучены, мы
не можем принять категорические утверждения
антропологов о том, что аланы не участвовали в этногенезе
осетин, и считаем пока вопрос открытым.
Итак, проблема этногенеза осетин остается
дискуссионной. Естественно, она должна решаться, комплексно,
с учетом наблюдений этнографов, лингвистов, историков,
археологов, антропологов. Однако мнения лингвистов
и антропологов полярны, мнения археологов резко
расходятся. В этих научных спорах специалист одной
дисциплины, не будучи достаточно компетентным в методике
смежной науки, не вправе отвергать или игнорировать ее
заключения. Но в своей области исследований каждый
специалист может вновь и вновь обращаться к анализу
ранее имевшихся данных и к изучению новых материалов.1
1 На протяжении последних 20 лет почти ежегодно нами
производились экспедиции с целью изучения погребальных
памятников центральной части Северного Кавказа, охватывавшие
период от середины 1-го тысячелетия до середины 2-го тысячелетия
19
Данное исследование не претендует на окончательное
решение такой сложной проблемы, как этногенез осетин.
Его задача значительно уже — на основе анализа
погребальной архитектуры народов центральной части
Северного Кавказа эпохи раннего и позднего средневековья
проследить происхождение погребальных сооружений
осетин, определить, какая древняя погребальная
традиция лежит в основе осетинского способа погребения в
склепах, и тем самым выявить, какой древний народ составил
основное этническое ядро в этногенезе осетин. Уточним.
Частые брачные контакты с людьми иного
антропологического типа могут довольно быстро изменить чистоту
первоначального антропологического облика. Пример
тому — Змейский катакомбный могильник. Мы имеем в
виду этническое ядро в смысле этнического самосознания
и этнического самоназвания: всех погребенных в
фамильных осетинских склепах мы вынуждены считать осетинами
(как и в катакомбах Змейского могильника всех считаем
аланами), хотя, за счет брачных связей, там могут
оказаться люди неосетинского происхождения. Однако они были
приняты в семьи осетин, их потомство говорило на
осетинском языке и называло себя осетинами.
Осетины — единственный ираноязычный народ на
Северном Кавказе; их ираноязычные предшественники
аланы были оттеснены в горы монгольскими завоевателями,
затем оказались «заперты» там кабардинскими
феодалами; шесть столетий жили они в иноязычном окружении,
рядом с горцами, по законам гор, ибо в горных условиях
нельзя жить по законам равнины. Например, нельзя
строить турлучные глинобитные жилища, так как в горах их
быстро развеет ураганный ветер, и приходится строить
жилища из камня, потому что в горах мало леса, а
строительный камень в изобилии. Хозяйство горцев, их обычаи
гостеприимства основаны на специфике горных условий
н. э. Почти все материалы этих полевых исследований
публикуются здесь впервые.
20
и подчиненных им традиций. Даже на способ погребения
оказывают горы влияние — горный воздух мумифицирует
не погребенные в землю трупы, что позволяло осетинам
помещать своих умерших в склепы, где они покоились на
лежанках, полках, настилах или прямо на полу.
Не все народы Северного Кавказа хоронили умерших
в склепах. Только восточные и юго-восточные соседи
осетин — вайнахи и хевсуры — строили склепы. Можно
думать, что у вайнахов и хевсур склеповый обряд погребения
возник под влиянием осетинского погребального обряда.
Однако, прежде чем заняться происхождением обычая
хоронить в склепах, познакомимся с «городками
мертвых» центральной части Северного Кавказа.
Часть I
осетины (и их соседи)
по данным погребальных
сооружений
1. СКЛЕПОВЫЕ СООРУЖЕНИЯ
СЕВЕРНОЙ ОСЕТИИ
♦
В горных районах Северной Осетии, как в восточной
ее части — Иронии, так и в западной — Дигории, около
старых селений на склоне холма, за балкой или речкой,
иногда в непосредственной близости к жилым
постройкам располагаются своеобразные «городки мертвых» —
склеповые могильники. Склепы наполнены останками
людей, которые в свое время их строили. Но в то же время
эти люди создавали жилища и для живых, воздвигали
жилые и сторожевые башни, сооружали крепости и
заградительные стены. Вместе с тем они были участниками
исторических событий и так или иначе влияли на их исход.
Каменное зодчество этих людей является не только
памятником архитектуры, но также одним из источников,
раскрывающих их историческое прошлое.
Разумеется, здесь невозможно описать и даже
перечислить все «городки мертвых» Осетии — ведь они имеются
даже около тех селений, которые сейчас необитаемы.
Взять на учет все «городки мертвых» и описать
индивидуальные черты каждого склепа, зависевшие от мастерства,
изобретательности и вкуса зодчего, дело Комитета по
охране памятников старины. И Осетинский комитет по
охране памятников проводит эту работу. Нашей задачей
является выяснение общих явлений и закономерностей
склеповой архитектуры на протяжении всего периода ее
существования. Вместе с тем, постройки подчас
однотипны и варьируют лишь в деталях, что несущественно при
рассмотрении эволюции склеповых сооружений в целом
и при использовании их как исторического источника.
Несмотря на то что надземные склепы Северной
Осетии известны и занимают внимание ученых более 450 лет,
25
систематическое археологическое и архитектурное их
изучение не проводилось. В 1930-е гг. обследовались лишь
отдельные памятники. Но с 1967 г. Северо-Осетинский
научно-исследовательский институт начал
систематическое археологическое исследование Даргавского «городка
мертвых» — одного из самых известных в Северной
Осетии. Раскопки имели целью датировать склеповые
сооружения, выполнить архитектурные обмеры и на основе
изучения самих погребений воссоздать быт и
общественную жизнь жителей аула Даргавс. Даргавское ущелье
находится в верховьях р. Гизельдон. Обзор склеповых
сооружений Северной Осетии мы начнем с этого ближайшего
к Тереку его восточного левого притока.
СКЛЕПОВЫЕ СООРУЖЕНИЯ
БАССЕЙНА р. ГИЗЕЛЬДОН
Р. Гизельдон и ее левый приток Геналдон образуют Та-
гаурское и Санибанское, а после слияния — Кобанское
ущелье. Тагаурское ущелье находится в верховьях р.
Гизельдон (здесь она называется Стырдон) на высоте 1400—
1500 м над уровнем моря, соединено Санибанским
перевалом с ущельем Геналдона и Далагкауским — с Курта-
тинским ущельем (р. Фиагдон). Селения Санибанского
и Тагаурского ущелий имеют башни и «городки мертвых»;
отдельные склепы последних (в том числе — в Даргавсе)
обследовались Г. А. Кокиевым и Л. П. Семеновым
совместно с И. П. Щеблыкиным.1 Наиболее значительным
из некрополей Тагаурского ущелья является Даргавский
«городок мертвых».
Склепы сел. Даргавс Могильник насчитывает 95
склепов. Из них 14 — склепы
башенного типа с пирамидальной кровлей, 19 — надземные
1 Кошев Г. Склеповые сооружения горной Осетии. Историко-эт-
нологический очерк. Владикавказ, 1928. С. 14, фот. 18; Семенов Л.
Археологические разыскания в Северной Осетии // ИСОНИИ.
Дзауджикау, 1948. Т. 12. С. 73.
26
с двускатным покрытием, и 61 — полуподземные склепы
с плоской кровлей, присыпанной землей. Полуподземные
склепы расположены на склоне, обращенном к сел. Дар-
гавс: на восточной и юго-восточной стороне холма фасады
четырех из них имеют стрельчатую арку. Надземные
склепы, находясь рядом с полуподземными, занимают поворот
холма к северо-западу и от подножия поднимаются выше
вверх по склону. У надземных склепов, квадратных в
плане, кровля пирамидальная, у прямоугольных —
двускатная; та и другая имеют горизонтальные шиферные
прослойки, что придает кровлям своеобразную ажурность.
Надземные склепы разделены на два-три яруса
деревянными настилами, причем в каждый ярус ведет специальный
лаз. Многие склепы Даргавского могильника уже
частично разрушены, деревянные настилы ярусов обрушились
и верхние захоронения в перемешанном состоянии
завалились вниз, нарушив стратиграфическую
последовательность погребений. В расчищенных экспедицией склепах,
среди развалившихся мумий — остатки одежды. По
определению специалистов, ткани в основном мануфактурно-
ремесленного и фабричного производства — ситцы,
шелка, сукна. Здесь же собраны украшения и вещи бытового
обихода: серьги и перстни, бусы, бритвы и гребни,
вышитые кожаные мешочки курительные трубки и кресала,
деревянная посуда и т. д. Многочисленными оказались
находки стеклянных бутылок выпуска 1814—1825 гг. Весь
комплекс предметов позволил исследователям
могильника — В. А. Кузнецову и В. X. Тменову — сделать
обоснованное заключение о позднем времени сооружения и
использования могильника: XVI — начало XIX в.1
1 Кузнецов В. Л. Раскопки в «городе мертвых» //
Социалистическая Осетия. 1967. 22 окт.; Тмепов В.Х. 1) Археологическое
исследование «города мертвых» у сел. Даргавс в 1967 г. С. 155—
156; 2) Позднесредневековые склеповые сооружения Северной
Осетии как исторический источник. С. 21; 3) «Город мертвых».
Орджоникидзе. 1973. С. 56—58; 4) «Город мертвых».
Орджоникидзе, 1979. С. 141-142.
27
Наблюдения над техникой каменной кладки и
архитектурные обмеры расчищенных склепов показали, что все
склепы, как полуподземные, так и надземные, выполнены
в одинаковой строительной манере с применением кладки
в технике ложного свода. Техника ложного свода
достигает большого мастерства. Кладка ложного свода основана
на том, что каждый вышележащий ряд камней несколько
выдвигается вперед (нависает внутрь), так что стенки
в целом имеют внутри иногда значительное нависание по
отношению к основанию стены. Для того чтобы
нависающие камни не падали вниз, необходимого было с другого
конца (снаружи) придавить их грузом, превышающим вес
свисающей части камня.
При сооружении полуподземных склепов роль
контртяжести играла наружная сторона стены; она обычно
вертикальна, и направление тяжести, идущее по вертикали,
давит на противоположный конец нависающих камней,
удерживая их от падения вниз. При сооружении
надземных склепов с двускатной или пирамидальной кровлей
требовалось большое умение, чтобы удержать равновесие
нависающих сторон кровли, имея минимальный перевес
наружной ее стороны. Несмотря на внешние различия
между полуподземными и надземными склепами разных
архитектурных пропорций и наружного декора, с точки
зрения строительных традиций они однотипны. В основе
один и тот же конструктивный прием — с помощью
возведения ложного свода создать сводчатое помещение.
Типологически за полуподземными склепами следуют
надземные с двускатной кровлей, затем башнеобразные
склепы с пирамидальной кровлей.
Идея ярусных перегородок, вероятно, заимствована из
опыта сооружения боевых и жилых башен, где деление на
этажи было функциональной необходимостью.
Башнеобразные склепы с пирамидальной кровлей возникли
в результате использования опыта строительства боевых
башен, так как их строили одни и те же мастера: склепы
28
и башни — звенья одной цепи каменного зодчества в горах
в эпоху позднего Средневековья.
Интересно, что поздняя датировка склепов,
полученная на основе археологического исследования Даргавского
некрополя, вполне согласуется с народными преданиями
о заселении Тагаурского ущелья. В. Ф. Миллер записал
предание о заселении Куртатинского и Тагаурского
ущелий: сначала братья Куртат и Тага (или Тагаур) вместе
поселились на Фиагдоне, придя сюда из Алагирского
ущелья; но затем Тага был вынужден переселиться на
новое место, «в Даргавс, который стал колыбелью тагаур-
цев».1 Таким образом, более ранние склеповые памятники
можно скорее найти в Куртатинском ущелье, которое
связано с Тагаурией удобным перевалом.
СКЛЕПОВЫЕ СООРУЖЕНИЯ
БАССЕЙНА р. ФИАГДОН
Куртатинское ущелье, богатое средневековыми
древностями, посещалось многими путешественниками и
учеными. Так, большое впечатление они произвели на
Г. Ю. Клапрота. Он упоминает склепы Лаца и Далагкау:
«Ладж, около которого, согласно рассказам жителей,
находятся могилы великанов или героев» и «Куртат, или
Куртат-Хидикус, около которого у реки находится здание
для мертвых, куда кладут трупы умерших».2 Склеповые
сооружения ущелья отмечают и В. Б. Пфафф, В. Ф. Миллер,
А. М. Дирр; в 1927 г. Куртатинское ущелье обследовал
Г. А. Кокиев, сделав подробное описание склеповых
сооружений Дзивгиса, Лаца, Далагкау и других селений;
неоднократно, начиная с 1924 г., здесь проводил
археологические и этнографические изыскания Л. П. Семенов;
в 1947 г. сбор антропологического материала из склепов
и фиксация склеповых сооружений проводились экспеди-
1 Миллер Всев. Терская область. С. 60; см. также: Уварова П. С.
Могильники Северного Кавказа. М., 1900. С. 104. (МАК, вып. 8).
2 Клапрот Ю. Путешествие по Кавказу и Грузии, предпринятое
в 1807-1808 г. // ИСОНИИ. Дзауджикау, 1948. Т. 12. С. 210.
29
цией В. В. Бунака.1 В 1968 г. нами были начаты работы по
изучению склепов Куртатинского ущелья.2
Склепы сел. Дзивгис Сел. Дзивгис расположено сразу
(рис. 1) же за тесниной, на левом берегу
р. Фиагдон. Около скал за
селением находятся полуразрушившиеся боевые и жилые
башни, на склонах — крепость с оконными проемами
в 2—3 яруса, прикрывающая вход в пещеру, служившую
убежищем населению во время опасности. Могильник
насчитывает семь надземных, полуподземный и четыре
скальных склепа; имеются также полуразрушенные
склепы и небольшие склеповидные надмогильные
сооружения без лаза (дериваты) над подземными погребениями.
Надземные склепы разнообразны, хотя большинство из
них имеет прямоугольную в плане форму и двускатную
с прослойками из шиферных плиток крышу (рис. 1,1).
Один — квадратный в плане — завершается
пирамидальной кровлей с прослойками из плиток.
Три прямоугольных склепа имеют не совсем обычное
оформление кровли: горизонтальные прослойки из
шиферных плиток расположены не только на боковых
скатах, но и вдоль широкого фасада (кровля на четыре ската),
у одного из них вокруг прямоугольного лаза выступает
широкий рельефный полукруг (рис. 1,2).
Все склепы сложены из крупных обломков горных
пород в технике ложного свода; вверху (внутри) ложный
свод перекрыт скальными плитками (рис. 1,3). Своды над-
1 Пфафф В. Б. Путешествие по ущельям Северной Осетии //
ССК Тифлис, 1871. Т. 1. С 159—163; Миллер В. Терская область.
С 53—55; Дирр Л. М. В Тагаурской и Куртатинск]ой Осетии //
Известия Кавк. отд. Рус. геогр. о-ва. Тифлис, 1912. Т. 21. С. 260,
270—271; Кокиев Г. Склеповые сооружения горной Осетии.
С. 5—10; Семенов Л. Археологические разыскания в Северной
Осетии. С. 47—48, 58, 74—75; Бунак В. В. Черепа из склепов
Горного Кавказа... С. 318, рис. 5, 15.
2 В работе принимали участие этнограф В. П. Кобычев, фотограф
Ю. А. Аргиропуло, художник В. И. Агафонов.
30
земных склепов очень высоки, поэтому иногда вверху они
имеют поперечные деревянные крепления — балки.
Склепы использовались длительное время, на уровне лаза
устраивались деревянные настилы (иногда два), на
которых находятся поздние полумумифицировавшиеся
погребения. В нижней половине, на земле, лежат разрозненные
костяки уже без остатков мумификации. Полуподземный
склеп полностью впущен в земляной уступ склона. Только
верхняя половина фасада выступает из земли. Кровля
полностью засыпана землей, вровень со склоном, но по
фасаду имеет шиферные прослойки. Прямоугольный лаз
находится посередине фасада ниже уровня склона, однако
перед ним сделано в склоне углубление, и поэтому лаз
открыт. Внутри — деревянный настил на уровне лаза, на
нем — поздние погребения в гробах и без гробов.
Дзивгисский склеповый могильник в исследованной
части относится к позднему средневековью, синхронен
некрополю Даргавса. Особый интерес представляют
склепы, устроенные в скальных нишах посредством
пристройки к ним стенки с лазом, закрывающей скальное
углубление, которое и является погребальной камерой, и склепы,
пристроенные к скальной стене. Использование скалы
в качестве стены и скальных углублений давало
значительную экономию строительных материалов и затрат
труда. Стены и кровля имеют такое же оформление, как
у надземных склепов — кровля с шиферными
прослойками, стены покрыты штукатуркой. Несколько таких
склепов находятся у основания хребта Кариу, один расположен
высоко в скалах, остальные почти полностью разрушены.
Скальные склепы имеют прямоугольный лаз, ведущий
в погребальную камеру, служившую для многократных
погребений. Остатки последних — многочисленные
черепа и кости — лежат в скальной нише-камере (рис. 1У4).
В. Ф. Миллер в дзивгисских скальных склепах видел
остатки деревянных гробов из досок и сосуды с
орнаментом, нанесенным красной и черной краской.1
1 Миллер В. Терская область. С. 53.
31
В 1972 г. нами были произведены архитектурные
обмеры и расчистка трех скальных склепов (рис. 2).
Скальный склеп №1 (рис. 2,1) представляет собой
огромную нишу — длинную, широкую и глубокую (5,3 х
х 2,9 х 2 м), которую двойная стена превратила в склеп.
Стены, закрывающие нишу, не имеют между собой
перевязки. Они сложены на растворе. Наружная стена
оштукатурена, отделена от кровли карнизиком из шиферных
плиток, вмонтированных в стену горизонтально, как
у обычных надземных склепов. Значительная часть
наружной и северная половина внутренней стены
разрушились, поэтому вход в склеп — лаз — полностью
проследить не удалось. На современной поверхности множество
человеческих черепов и костей, сгнившие деревянные
плахи и камни. Никаких вещей не найдено.
Скальный склеп № 2 (рис. 2,2) пристроен к скале, так
что искусственная кладка составляет лишь немногим
больше половины его стен. Декоративно ничем не
отличается от обычных осетинских надземных башнеобразных
склепов с пирамидальной крышей. Сложен на растворе,
снаружи оштукатурен, кровля имеет прослойки
шиферных плиток, упирается в нависающую скалу; количество
шиферных прослоек на фасаде на одну больше, чем на
боковой стороне. Строился склеп как квадратный в плане,
но скальные стены срезают часть этого квадрата. Размеры
в плане: фасад — 2,2, ширина посередине — 2,4, длина —
2,8 м; размеры внутри: ширина по фасаду — 1,7, длина —
1,4 м. Квадратный лаз (0,5 х 0,5 м) расположен невысоко
над склоном, запирался на засов сквозь специальное
отверстие в боковой стенке, оставленное в толще фасада.
Справа от входа остатки просверленной шиферной
полочки, а также отпечатки и остатки вмонтированных в стену
глиняных сосудов. Внутри склепа, на глубине) 1 м от
основания лаза, видна отвалившаяся доска — вероятно,
остатки ярусного перекрытия. Расчистка не производилась.
Скальный склеп № 3 (рис. 2,3) снаружи полностью
засыпан землей, возможно, в результате какого-то тектони-
32
ческого сброса. В настоящее время доступ в него открыт
через пролом в торцовой стене. Имеет три стены, одну
заменяет ровная вертикальная скала. Стены сложены из
сравнительно небольших камней на растворе, в южной
торцовой стене устроена небольшая ниша. На
поверхности (на заполняющей склеп щебенке) находились четыре
черепа и немного костей, причем на некоторых оставались
еще сухожилия. Склеп, казавшийся поначалу небольшим,
оказался довольно глубоким: длина — 2,5 м, ширина —
0,8—0,7, высота — 2,2 м. Лаз размером 0,45 х 0,45 м
расположен в продольной стене близ восточного угла на высоте
0,4 м от пола. На середине высоты скала и продольная
стена начинают сближаться (последняя — в технике ложного
свода). Перекрытие состоит из трех крупных плит. В
заполнении оказалось свыше 50 черепов взрослых людей;
встречались также детские черепа и кости. Кости всех
погребенных в склепе людей были хаотически
перемешаны, однако предметы встречались иногда группами
(рис. 2,4—5) — сразу 10 ножей в виде набора, в другом
месте — 3 наперстка, 3 кресала, затем 4 наперстка, 2
курительные керамические трубки, 2 шпоры. Уцелело
довольно много обломков деревянных предметов — гребешок,
глубокая ложка (?), лука седла (?), обломок кружка с
дырочками по периметру — возможно от поршня маслобойки,
а также обрывки кожаных предметов (форму их
установить не удалось) и обрывки ткани, украшенной плетеной
тесьмой. Набор украшений невелик — лунница, серьги,
бусы, раковина каури, височные подвески. Из
последних — две сделаны из сплава, имеют своеобразную форму
и орнамент. Любопытна керамическая пуговица,
покрытая зеленой поливой. Попало в склеп и стеклянное
прямоугольное зеркальце фабричного производства (амальгамы
на стекле уже нет). Одно из позднейших погребений было
помещено на деревянной доске (она опиралась на
каменную полочку, укрепленную в торцовой стене, и скалу)
и было прикрыто долбленой колодой; однако в период
расчистки под колодой погребения уже не было, на доске
33
осталось лишь 6 граненых бусин. Под доской такой же
завал костей, как и в других частях склепа. Судя по
найденным предметам, склеп относится к той же эпохе позднего
средневековья, как и надземные склепы сел. Дзивгис и
других мест Осетии.
Склепы сел. Далагкау К югу от Дзивгиса, выше по те-
(Нижнее селение) чению, долина Фиагдона
расширяется, образуя широкую
котловину, в центре которой, по обе стороны реки,
расположилось сел. Далагкау — жилые дома, сады, башни,
склепы. Далагкау не имеет могильника, вынесенного за
пределы селения, здесь склепы находятся рядом с
башнями и жилыми домами. Г. А. Кокиев упоминает случаи,
когда осетины пристраивали свои жилища к склепам,
используя для этого их стены. Например, юго-западная
стена огромного склепа башенного типа служила, по
словам местных жителей, стеной дома предков Мулуховых.
Дом Мулуховых, правда в разрушенном виде, сохранился
и до сих пор рядом с боевой башней той же фамилии.1 Об
этом же пишет и П. С. Уварова: «...В <...> Далагкау <...>
(несмотря на запрещение) почти каждая семья имеет свой
собственный могильник, расположенный чуть ли не о бок
самого дома».2 В Далагкау преобладают надземные
склепы, в их числе шесть склепов башенного типа с
пирамидальной кровлей, которая имеет горизонтальные
шиферные прослойки. Склепы левого берега имеют по два лаза:
они устроены в разных стенках на различной высоте и
ведут в верхний и нижний ярусы. Один лаз направлен на юг,
другой на запад. В одном из склепов, доверху набитом
трупами, деревянный настил верхнего яруса рухнул,
и мумифицировавшиеся трупы вперемешку свисают вниз,
закрывая изнутри лаз. Два прямоугольных склепа с
двускатной кровлей, тоже украшенной шиферными гори-
1 Кокиев Г. Склеповые сооружения горной Осетии. С. 8.
2 Уварова П. С. Могильники Северного Кавказа. С. 162.
34
зонтальными прослойками, имеют огромные размеры
(4,3 х 8,5 м и 3,7 х 7,5 м) и приписываются легендарным
предкам куртатинцев и тагаурцев — Таге и Куртату. Один
из них наполовину разрушился; оба имеют «по три
внутренних камеры и два-три яруса в вышину. Камеры
отделяются внутри одна от другой массивными каменными
стенами»1 и соединяются лазом. Снаружи в склеп ведут
два арочных лаза, которые находятся в продольной и
торцовой стенках. Один из них имеет деревянную дверцу. На
другом, правом берегу Фиагдона, около реки, находится
третий склеп с двускатной кровлей, прослоенной
шиферными плитками. Он меньшего размера, но очень высокий,
с арочным лазом. На фасаде устроены небольшие
отверстия, образующие ажурные узоры.2 Все надземные склепы
Далагкау внутри и снаружи покрыты штукатуркой; на
примере полуразрушившихся склепов видно, что все они
были построены в технике ложного свода.
Вдоль берега разместились полуподземные склепы.
Два из них у самого обрыва: они имеют плоские кровли,
присыпанные землей, из которой выступают крупные
плиты перекрытия кровли и огромные валуны,
ограничивающие склеп по периметру. Склеп, полностью
сохранившийся, имеет прямоугольный фасад (без фронтона),
квадратный лаз, направленный к реке, на ЮЮЗ. Склеп не
имеет внутри штукатурки, поэтому можно хорошо
рассмотреть его устройство. Он сложен из крупных гладких
обломков горных пород в технике ложного свода; вверху
стены не доходят друг до друга на 0,8—1 м, поэтому
перекрытие сделано из больших плит. В склепе находится
около десятка черепов и кости почти без мумификации. Здесь
же, на костях, стоит гроб из досок, которые скреплены
тем, что шипы продольных стенок гроба входят в пазы
торцов. Неподалеку прекрасно сохранился
полуподземный склеп с прямоугольным фасадом; квадратный лаз, об-
1 Кокиев Г. Склеповые сооружения горной Осетии. С. 8.
2 Там же. Рис. 8.
35
рамленный по бокам плитами галечника, направлен на юг.
Ширина фасада 4,15 м, длина склепа снаружи 9 м. По
бокам добавочные стены типа контрфорса. Фасад имеет
следы штукатурки. Сложен в технике ложного свода:
продольные стены его на высоте 1,5 м начинают сближаться
ровным полукругом, и к середине между ними остается
промежуток лишь в 0,4—0,6 м, который перекрыт
сравнительно небольшими плоскими скальными обломками.
Высота внутри — 2,6 м до современного земляного слоя,
на котором много человеческих костей и до двух десятков
черепов; у западной (левой) стены — остатки
полусгнившей одежды, у лаза собраны в кучу остатки гробов.
Склепы сел. Гули Это небольшое селение на
высокогорном плато. В нем меньше
десятка домов, хорошо сохранились боевая башня и каменная
церковь1. Склепы частично разбросаны между усадьбами,
но в основном на участке, примыкающем к церкви.
Могильник сел. Гули насчитывает шесть склепов, из них три
надземных, полуподземный и два подземных. От одного
из надземных склепов — квадратного в плане —
сохранился только фасад с квадратным лазом, направленный на Ю,
западный угол и основание северной стены. Два других
надземных склепа имеют прямоугольную в плане форму
и двускатную кровлю. Оба сложены на растворе. У одного
разрушилась задняя стенка, фасад его со стрельчатым
лазом направлен на ЮВ, верх фронтона украшен четырьмя
небольшими отверстиями, расположенными ромбом,
кровля — шиферными прослойками. В основании со
стороны склона в качестве базы использованы круглые валуны.
Прямоугольный снаружи, внутри имеет трапециевидный
план — он более узкий около лаза за счет округленности
углов фасада. Внутри были деревянные настилы,
делившие склеп на этажи. Сейчас они обрушились и лежат в три
1 Пфафф В. Б. Путешествие по ущельям Северной Осетии. С. 161;
Миллер Всев. Терская область. С. 50—51, рис. 61—62; Семенов Л.
Археологические разыскания в Северной Осетии. С. 109.
36
слоя; на верхней доске — остатки мумии, направленной
головой к лазу, но череп находится у входа. Лаз имеет
гнезда для деревянного засова. Склеп покрыт
штукатуркой внутри и снаружи. Второй прямоугольный надземный
склеп стоит недалеко от церкви; все стены, кроме задней,
покрыты штукатуркой. Со стороны склона стены сложены
на крупных базовых камнях. Лаз арочной формы
находится на высоте 1,85 м, направлен на ЮЗ. Внутри кровля
узкая, стрельчатой формы, на высоте 1 м от ее основания
устроен деревянный настил (возможно, для этого
использованы деревянные крепления кровли), на котором
уложены погребенные. Полуподземный склеп расположен
рядом с жилой усадьбой. Он сложен из крупных камней
на растворе, покрыт штукатуркой. К фасаду с обеих
сторон пристроены стенки с функциями контрфорсов. Фасад
имеет в правом верхнем углу жернов вместо
просверленной шиферной плитки. Прямоугольный лаз,
направленный на В, расположен на высоте 0,45 м от современной
поверхности; глубина склепа внутри свыше 1,5 м от лаза.
Внутри склеп завершается стрельчатым сводом, доски
деревянного настила на уровне лаза расположены вдоль
склепа. Вдоль задней стенки лежат два костяка, в правом
заднем углу находится люлька. Подземные склепы
расположены близ церкви, к СВ от нее. Они ограблены,
частично разрушены, сложены вверху из крупных обломков
горных пород в технике ложного свода. Внизу кладка более
ровная, сглажена штукатуркой. У одного в задней и
южной стенке есть ниши, на поверхности заполнения кости
лошади. В другом склепе много человеческих костей,
в том числе три или четыре неполных черепа. Склепы
сел. Гули почти все сложены на растворе, относятся к
эпохе позднего средневековья.
Склепы сел. Лац Сел. Лац разместилось на высоком
(рис. 3) правом берегу р. Аксаудон (правый
приток Фиагдона), с трех сторон
окружено горами. В селении несколько башен (рис. 3,1).
37
К В от селения находится Хцау-дзуар, т. е. божий дзуар.
Рядом несколько полуподземных склепов и через дорогу,
на отвесном берегу реки, обширный древний могильник1
с подземными склепами (их мы рассмотрим в следующей
части). На кладбище Лаца только один надземный склеп
с двускатной кровлей; она имеет горизонтальные
шиферные прослойки и завершается декоративным гребнем. Два
квадратных лаза ведут в разные погребальные ярусы.
Преобладают на Лацском могильнике большие длинные
полуподземные склепы с плоскими кровлями и лазом на
уровне земли (рис. 3,2). Боковые стены некоторых из них
имеют контрфорсы, а фасады — шиферную плиту с
круглым отверстием, укрепленную горизонтально. Фасады
иногда украшены несквозными отверстиями и
изображениями равноконечного креста; на штукатурке —
отпечатки рук.2 В 1934 г. Л. П. Семенов осмотрел два
полуподземных склепа. Костяки взрослых и детей лежали поперек
склепа, в 2—3 слоя, головой на запад, на спине или на
левом боку, в одежде и в сопровождении различных бытовых
предметов.3 Ряд вещей (бутылки, платки, газыри,
наперстки и т. д.) свидетельствует, что в полуподземных
склепах Лаца находятся погребения эпохи позднего
средневековья. В настоящее время почти все погребения в склепах
разрушены.
СКЛЕПОВЫЕ СООРУЖЕНИЯ
БАССЕЙНА р. АРДОН
Р. Ардон (Бешеный) протекает в центральной части
Северной Осетии, пересекая ее с Ю на С; разрезав все
основные хребты Северного Кавказа, на равнине впадает
в Терек. Большая часть проходимого рекой пути
пролегает в горах, в Алагирском ущелье. Здесь, перед выходом на
1 Уварова П. С. Могильники Северного Кавказа. С. 163.
2 Кокиев Г. Склеповые сооружения горной Осетии. С. 9, рис. 10—
' 12.
3 Семенов Л. Археологические разыскания в Северной Осетии.
С. 74-75.
38
равнину, река размыла в Скалистом хребте узкую и
глубокую теснину, которая получила название Ныхасской.
Выше ущелье образует несколько котловин, удобных для
заселения. Около многих селений, разместившихся на
притоках Ардона (Уналдон, Архондон, Садон, Цейдон
и др.), сохранились башни и склепы. Выше впадения
Цейдона в Ардон, за Буронской котловиной, в гранитах
бокового хребта течением Ардона размыта узкая теснина.
Она получила название Кассара (Порог). Эта узкая часть
ущелья была труднопроходима в древности, так как
дорога идет по скальному карнизу и местами врезана в толщу
скал. В верховьях Кассары имеются древние склепы и
заградительные укрепления. За Кассарой ущелье
значительно расширяется, и в Зарамагской котловине,
расположенной на высоте 1800 м, сливаются в один поток пять
рек, образуя реку Ардон: Мамисондон, Закадон, Нардон,
Цмиакомдон и Адайкомдон. Зарамагская котловина и
ущелья покрыты альпийскими лугами. Эта часть Северной
Осетии — верховья Ардона, получившая название Туале-
тии, в эпоху позднего Средневековья была густо заселена.
Все старые аулы Туалетии имеют сторожевые башни
и грунтовые могильники с погребениями в каменных
ящиках. Местные жители сел. Зарамаг указали нам только
один надземный склеп.1 Он находится на середине
горного отрога (скального останца в виде узкого языка),
обращенного острым концом к Зарамагу. Склеп сооружен на
скальном пятачке, который расширен за счет каменной
кладки, прилегающей к скале. Та часть склепа, которая
находится над каменной кладкой, обвалилась. По преданию,
в склепе были погребены мужчина и женщина.2 Расспросы
жителей сел. Зарамаг о склеповых погребениях в других
1 Значительную помощь по разысканию памятников старины
в 1972 г. оказали нам житель сел. Зарамаг Даки Налкович Мак-
каев и учитель сел. Цми Даки Цепкаевич Джанаев.
2 Эти мумифицировавшиеся трупы В. В. Бунак вывез в 1947 г.
в Ленинград, и они хранятся в Музее антропологии и
этнографии АН СССР.
39
окрестных селениях не дали никаких результатов —
обряд погребения в склепах у осетин, расселившихся за
труднопроходимой Кассарой, не получил широкого
распространения, так же как и в Юго-Осетии, куда
происходила миграция осетин из-за малоземелья северных
склонов центральной части Кавказского хребта. Очевидно,
контакты Туалетии с христианской Грузией через удобные
перевалы были сильнее, чем религиозные (языческие)
связи с остальным массивом осетин Алагирского ущелья,
расположенным за труднопроходимой Кассарой.
Склеповые сооружения бассейна р. Ардон
концентрируются ниже Кассары, в Алагирском ущелье. Они
изучены неравномерно. Так, кратко отмечены Г. А. Кокиевым
особенности Нузальского некрополя, А. А. Миллером
изучался могильник у сел. Згид, экспедиция Л. П. Семенова
обследовала надземные склепы у сел. Унал, Нузал, Цей,
однако расчистки погребений не производила.
Антропологическая экспедиция В. В. Бунака взяла черепа из
склепов могильников Цей и Зарамаг, Б. А. Ал боров отметил
надпись греческими буквами у сел. Цамад на склепе с
пирамидальной кровлей.1
Нами ущелье посещалось в 1959, 1968, 1969 и 1976 гг.,
когда были осмотрены склеповые могильники сел. Архон,
Верхний Мизур, Цей, Дайкау, Нузал.
Склепы сел. Архон В селении остатки нескольких
башен, из них две находятся
несколько в стороне, рядом с ними — один полуподземный
склеп. Основной могильник разместился на широкой тер-
1 КокиевГ. Склеповые сооружения горной Осетии. С. 12—13;
Миллер А. А. Краткий отчет о работах Северо-Кавказской экспедиции
Академии в 1923 г. // Изв. Рос. акад. матер, культуры. Л., 1925.
Т. 4. С. 36; Семенов Л. 1) Археологические разыскания в Северной
Осетии. С. 48—49; 2) Этнолого-археологическая экспедиция по
горной Осетии//Новый Восток. 1925. №1(7). С. 381-382;
Алборов Б. А. Алано-асская надпись из с. Цамад Алагирского
ущелья Северной Осетии. С. 286—292.
40
расе правого берега р. Архон, сразу же за домами и
башнями (выше по течению). Терраса ограничена неглубокой
балкой, идущей параллельно берегу. Склепы направлены
лазами вниз — в сторону реки, балки и селения (рис. 4).
В верхней части могильника — святилище Маде Майрам.
На могильнике 21 склеп. Только один — надземный,
остальные — полуподземные. Надземный склеп
находится посередине могильника (рис. 4.1). Он сложен из
камней и булыжников сравнительно небольшой величины,
разной формы, но кладка тщательная, стены ровные,
промежутки между круглыми камнями заполнены мелкими
камешками. Пирамидальная кровля имеет 9 рядов
шиферных горизонтальных прослоек. Лаз шириной 0,5 м,
высотой 0,6 м, находится на высоте 1,1 м от уровня земли,
окаймлен с боков плитами мягкого галечника,
подтесанными так, что кверху плиты несколько сближаются. В
левой плите — небольшое квадратное отверстие, через
которое двигается засов, запирающий деревянную дверцу;
слева от лаза — горизонтальная шиферная плитка с
круглым отверстием. Пирамидальная кровля начинается на
высоте 2,2 м, широкий ложный свод укреплен бревнами,
расположенными продольно. Внутри склепа — свалка
костей, гробов, остатков тканей, достигающая уровня лаза; от
деревянного настила, делившего склеп на ярусы, остались
небольшие обрубки. Размеры — 3,4 х 3,35, высота до
кровли — 2,2, толщина стены фасада — 0,7 м. Остальные
склепы полуподземные, имеют глубокую подземную часть; лаз
их расположен на уровне земли, но фасад довольно
высокий, завершается либо простым треугольным фронтоном,
либо фигурным (рис. 4,2). Двускатная кровля понижается
к склону и сливается с ним, присыпана землей, поросла
травой. Контрфорсы у боковых стен немного отступают
от фасада назад. Многие склепы оштукатурены, два
имеют на фронтоне углубленное изображение креста: у одного
оно выполнено по штукатурке, у другого врезано в камень.
У многих склепов в верхней части фасада горизонтально
41
укреплены полукруглые, круглые, овальные, реже
прямоугольные плиты с круглым отверстием; в большинстве
случаев они сделаны из шифера, иногда — деревянные.
Лаз полуподземных склепов имеет прямоугольную,
трапециевидную или арочную форму и закрыт либо
деревянной дверцей, которая запиралась засовом, задвигавшимся
через небольшое квадратное отверстие, либо камнем из
мягкого галечника, вытесанным по форме лаза.
Перекрытие в технике ложного свода выполнено из крупных
обломков горных пород; камни нависают внутрь, стенки
иногда сближаются значительно и остающееся между ними
пространство перекрыто скальными обломками; для
перекрытия же широкого пролета между слегка
наклоненными стенами употреблялись более крупные скальные
обломки. Внутри полуподземные склепы разделены на два
яруса поперечным или продольным деревянным
настилом, укрепленным на уступах стен немного ниже уровня
лаза. На нем лежат костяки и мумифицировавшиеся
трупы в гробах и без гробов, в остатках одежды, чаще вдоль
настила (головой внутрь склепа, ногами к лазу), иногда
поперек настила (головами в разные стороны) (рис. 4,3).
В тех случаях, когда настил рухнул, нижнюю подземную
часть заполняет навал трупов, гробов, балок настила.
В некоторых склепах уже нет ни настила, ни
мумифицировавшихся трупов; внизу, в глубокой подземной части,
видны лишь кости, присыпанные землей. Судя по
сохранности погребений — это более ранние склепы могильника,
построенные, по-видимому, в числе первых. Их фасад не
имеет завершения в виде фигурных фронтонов, хотя
имеет слабо выраженную треугольную форму и почти
плоскую без карниза кровлю. Конструктивно они ничем не
отличаются от склепов, имеющих более обновленный вид,
и архитектурно принадлежат одной эпохе. Однако один
из более ранних склепов имеет лаз, сделанный ниже
уровня почвы. Все склепы относятся к эпохе позднего
Средневековья.
42
Склепы сел. Дайкау Склепы этого небольшого
поселка, расположенного на
высокогорном плато правого берега р. Ардон, близ впадения
в нее р. Архон, находятся в 50—100 м от селения. На плато
со стороны ущелья высятся две сторожевые башни и
развалины жилых построек. На территории могильника
имеется дзуар в виде прямоугольной надземной постройки
без кровли, заполненной приношениями охотников.
Могильник состоит из десятка полуподземных склепов
и одного надземного. Надземный склеп прямоугольной
формы с двускатной кровлей, снаружи был покрыт
штукатуркой, которая сохранилась лишь местами; лаз
расположен высоко над землей. Полуподземные склепы
возвышаются над землей незначительно (не более 1 м); лаз их
прямоугольной формы расположен на уровне земли,
кровля присыпана землей, не имеет четкого оформления.
Один из склепов имеет фигурный треугольный фронтон;
остатки аналогичной формы фронтона имеются еще у двух
склепов. Два склепа снаружи покрыты штукатуркой,
третий обмазан глиной (вероятно, заменяющей или
имитирующей штукатурку). Входные отверстия у некоторых
склепов прикрыты камнями.
Склепы Селение расположено на высоко-
сел. Верхний Мизур горной террасе левого берега Ар-
дона. Склеповый могильник
прилегает к территории необитаемого пос. Ксурта с
несколькими сторожевыми башнями, которые высятся на
краю плато, у обрыва к р. Ардон. Склепы расположены
небольшими группами; всего на могильнике насчитывается
до двух десятков склепов; они ориентированы в основном
на Ю, но каждая группа с небольшими отклонениями.
Самый большой принадлежит Зангиевым. Лишь три
склепа являются надземными, с пирамидальной кровлей;
в одном случае кровля имеет шиферные прослойки.
Остальные — полуподземные, но значительно
возвышаются над землей. Почти все они имеют фигурные
треугольные фронтоны, некоторые с ажурным изображением рав-
43
ноконечного креста. Входные отверстия расположены на
уровне земли или на 15—30 см выше, имеют либо
прямоугольную форму, либо арочную, иногда с серединным
камнем типа замкового. Ширина лаза — 0,5—0,55,
высота — 0,55—0,7 м. В отдельных случаях сохранилась
деревянная дверца, которой закрывался лаз; для задвижки
засова справа имеется небольшое квадратное отверстие.
Толщина передней части стены обычно около 0,7 м
(замерялась через лаз). Многие полуподземные склепы
покрыты штукатуркой, имеют по бокам контрфорсы. В
большинстве случаев сохранились деревянные настилы на уровне
лаза, разделяющие склепы на ярусы. Они состоят из
плоских балок, идущих вдоль, и уложены на круглые бревна,
расположенные поперек склепа. Некоторые склепы
доверху наполнены мумифицировавшимися трупами,
лежащими прямо на настиле или в деревянных гробах головой
внутрь склепа, ногами к лазу. Кое-где сохранились ткани;
в одном случае в качестве верхней одежды уцелел халат
из полосатой ткани.
Склепы сел. Згид Расположены двумя группами.
Около селения разместились
полуподземные склепы — лаз их находится на уровне земли
или несколько приподнят над землей, иногда имеет
арочную форму, но чаще прямоугольную. Лаз закрывался
плоской каменной плиткой либо закладывался камнями,
уложенными горизонтально друг на друга. Фасад склепов
имеет вверху треугольное или фигурное завершение,
которому соответствует двускатная кровля. Она присыпана
землей и поросла травой, сливаясь у задней стенки с
поверхностью склона. Надземные склепы концентрируются
на обрыве к реке. Фасад некоторых покрыт штукатуркой,
на одном на штукатурке отпечаток рук и рисунки;
исключительный интерес последних отмечают А. А. Миллер,
Л. П. Семенов, В. А. Кузнецов.1
1 Миллер А. А. Краткий отчет о работах Северо-Кавказской
экспедиции Академии в 1923 г. С. 36, рис. 25; Семенов Л. Археоло-
44
Склепы Селение расположено на высокой
сел. Верхний Цей террасе левого берега Цейдона
(левый приток Ардона), на пологом
склоне. В селении несколько хорошо сохранившихся
сторожевых башен. Склепы находятся на высоком плоском
холме, отрезанном от жилых построек глубокой балкой.
Здесь же — деревянная церковь св. Георгия (Джеоргуба).
Могильник имеет семь сравнительно хорошо
сохранившихся полуподземных склепов. Два находятся на вершине
холма, остальные на восточном склоне, впущены в склон.
Первые два обращены лазом на Ю, остальные на В (с
небольшими отклонениями). Лаз расположен выше уровня
земли на 0,2—0,4 м, его размеры — 0,5 х 0,45 м. Ширина
фасадов 3,4—4 м, фасады завершаются фигурным
фронтоном. Один склеп покрыт снаружи штукатуркой, на двух
остались лишь следы. Надземная высота фасада 2,5—3 м;
толщина кладки 0,9 м; склепы сложены в технике
ложного свода со значительным сближением боковых стен. На
уровне лаза — настил; на нем трупы в гробах и без гробов,
пустые гробы; на некоторых трупах сохранилась одежда.
Склепы сел. Нузал Склепы расположены у Военно-
Осетинской дороги, находятся на
кладбище в середине современного поселка; нузальская
часовня стоит вне ограды, недалеко от кладбища. На
противоположном берегу реки к скалам пристроена крепость.
Г. А. Кокиев упоминает, что «в Нузале имеется несколько
полуподземных склепов, совершенно аналогичных
склепам <...> в Куртатии»1. Таких полуподземных склепов на
территории Нузальского кладбища всего два. Один
хорошей сохранности, сложен насухо из плитняка и камней,
с фигурным фронтоном, четко оформленным шиферными
плитками. Лаз арочной формы вырублен в куске мягкого
галечника, расположен немного выше уровня земли.
гические изыскания в Северной Осетии. С. 71, рис. на с. 74;
Кузнецов В. А. Аланские племена. С. 104.
1 Кокиев Г. Склеповые сооружения горной Осетии. С. 13.
45
Справа от лаза — небольшое отверстие для засова,
запиравшего деревянную дверцу. Стены по бокам укреплены
контрфорсами, кровля двускатная, толщина фасада 1 м.
Внутри склеп имеет усеченно-овальный план — углы
склепа тупые, скошены; ложный свод выполнен из крупных
обломков горных пород. Остатки деревянного настила
находятся ниже уровня лаза на 0,5—0,2 м. Пол засыпан
землей и завален небольшими камнями. Второй склеп
находится рядом, сложен так же, тоже с контрфорсами. Кровля
частично разрушена и через пролом хорошо видна
техника кладки ложного свода из крупных скальных обломков.
Лаз арочной формы начинается несколько выше уровня
земли, справа от него отверстие для задвижки засова
(дверца не сохранилась, но косяки целы). Внутри склеп
завален камнями рухнувшего свода почти до уровня лаза.
СКЛЕПОВЫЕ СООРУЖЕНИЯ
БАССЕЙНА р. УРУХ
По р. Урух (Широкий) и ее притокам расположена
западная часть Осетии — Дигория. Проживающие здесь
осетины говорят на архаическом диалекте осетинского
языка — дигорском. В Дигории сосредоточена большая группа
средневековых склеповых могильников: как и в других
районах Осетии, склеповые сооружения
сконцентрированы в горной части. На равнине склепы известны в
небольшом числе, они позднего происхождения, связаны
с переселением осетин на плоскость, например, склепы
сел. Кора-Урсдон, принадлежащие фамилии феодалов
Абисаловых, и сел. Хазнидон. От равнины горная часть
Дигории отделена узкой тесниной, которую р. Урух
прорезала в Пастбищном и Скалистом хребтах. Трудность
древних горных дорог в Дигорию отмечают Г. Ю. Клапрот
и В. Б. Пфафф.1 Горная Дигория, изолированная горами,
опасными дорогами и трудными перевалами от плоскости
1 Клапрот Ю. Путешествие по Кавказу и Грузии... С. 215;
Пфафф В. Б. Описание путешествия в Южную Осетию, Рачу,
Большую Кабарду и Дигорию // ССК. Тифлис, 1872. Т. 2. С. 165.
46
и остальной Осетии, сохранила черты архаичности
памятников, быта и нравов, что особенно привлекало внимание
исследователей. Дигория посещалась многими
путешественниками и экспедициями, оставившими более или
менее подробные описания памятников древности,
могильников, склепов.1 Нами Дигория посещалась в 1959,
1969, 1971, 1978, 1974 и 1976 гг., когда обследовались
некрополи сел. Камунта, Галиат, Фаснал, Вакац, Мацута,
Ахсау, Донифарс, Кумбулта, Дунта.
Склепы сел. Камунта Это селение — самое
удаленное в Дигории от основного
водного бассейна — р. Урух, но вместе с тем — это
ближайшее селение к Алагирскому ущелью, соединенное с ним
Кивонским перевалом. Камунта расположена на высоте
2000 м на гребне между р. Сонгутидон и ее притоком
р. Комидон. На Сонгутидон — сел. Дунта, на Комидон —
сел. Галиат (Галиата). Все три селения имеют позднесред-
невековые склеповые могильники. Только на скалах
правого берега Сонгутидон — заросли кустарника, вся остальная
местность — альпийские луга на пологих склонах хребтов
и гор, окруженных скалами. Могильник находится сразу
же за селением. Склепы расположены по обе стороны
плоского гребня, обращены лазами вниз по склону к
Сонгутидон, Комидон и к сел. Камунта. На могильнике 9
надземных и полуподземных склепов, построенных на скале или
1 Пфафф В. Б. Описание путешествия в Южную Осетию... С. 165;
Миллер Всев. 1) В горах Осетии// Русская мысль. 1881. Кн. 9.
С. 84; 2) Терская область. С. 58; Гаи К. По дорогам Чороха, Уруха
и Ардона // СМОМПК. Тифлис, 1898. № 25. С. 24; Миллер А. А.
Краткий отчет о работах Северо-Кавказской экспедиции в 1923 г.
С. 26—36, рис. 12—14 (фотоархив экспедиции А. А. Милера
хранится в Гос. музее этнографии народов СССР); Кокиев Г.
Склеповые сооружения. С. 13—19, 23, 27—31; Семенов Л. 1)
Археологические изыскания в Северной Осетии. С. 52—53, 65,
70—71, 86; 2) Этнолого-археологическая экспедиция по горной
Осетии. С. 381—382; Бунак В. В. Черепа из склепов горного
Кавказа... С. 318, рис. 4.
47
впущенных глубоко в землю. Фасад последних
завершается фронтоном, которому соответствует двускатная
кровля. Склеп южного склона, обращенный к Сонгутидон,
частично разрушен, имеет очень низкий фасад, хотя лаз
приподнят над землей на 0,2 м. Внутри покрыт белой
штукатуркой, засыпан обломками кровли и землей, но видны
кости нескольких человек; лишь на отдельных костях
уцелели связки. Полуподземные склепы северного склона —
большие прямоугольные сооружения, снаружи покрыты
штукатуркой. Фасад завершается фронтоном, двускатная
кровля отделена от стен прослойкой из шиферных плит,
образующих карниз. Прямоугольный или
трапециевидный лаз выше земли на 0,5 м. Внутри на глубине 0,5—
0,75 м — пол, выложенный плитами; там, где отсутствует
или отодвинута центральная квадратная плита — люк,
ведущий в «подвальную» часть склепа. В одном из
полуподземных склепов на полу вдоль западной и задней стены
лежат два трупа, головами друг к другу под прямым углом;
в другом — с широким ложным сводом, перекрытым
двумя огромными плитами, уложенными вдоль склепа, с
нишей под потолком в задней стенке и каменной полкой во
всю длину южной боковой стены — на земле лежат
разрозненные кости, скрепленные связками; в земле,
заполняющей склеп, шесть черепов. Надземные склепы Камунтского
могильника все различны. Два похожи на полуподземные,
но без подвала, так как сооружены на скале, едва
прикрытой почвой. В одном из них, лаз которого находится на
высоте 0,9 м от земли, лежат 4 мумифицировавшихся
трупа по диагонали (три головами на северо-запад, один —
головой на юго-восток); на них сохранилась одежда. Два
надземных склепа имеют квадратное основание,
возвышаются над землей в виде башенок. Один имеет красивую
пирамидальную кровлю с шиферными прослойками; над
прямоугольным лазом, который выше уровня земли на
0,8 м, — поясок небольших квадратных декоративных
отверстий. На глубине 0,5—0,7 м. т. е. на уровне скального
пола склепа — 14 черепов и кости. Второй башнеобразный
48
склеп имеет плоское перекрытие; сложен на скале, наклон
которой выравнивают крупные базовые валуны. Высота
лаза арочной формы от поверхности скалы у фасада 1,2 м.
Справа — квадратное отверстие для засова, запиравшего
деревянную дверцу. Все склепы принадлежат эпохе
позднего Средневековья. Удалось выяснить фамильную
принадлежность лишь трех из них: склеп с пирамидальной
кровлей принадлежит фамилии Болатовых, рядом склеп
Цопановых, башнеобразный склеп с плоской кровлей —
Дзабаевых. Эти фамилии давно проживают в Камунте.
Склепы сел. Дунта Расположены на обоих берегах
р. Сонгутидон. Группа склепов
правого берега относится к современному поселку,
расположившемуся на нижней террасе правого берега. Вторая
группа — на левом крутом высоком горном склоне, вдоль
дороги, ведущей в старое, заброшенное верхнее селение.
В нижней правобережной группе находятся 5 склепов;
четыре полуподземных склепа обычного устройства, с
подвалами, впущены в склон берега реки, некоторые
погребения лежат в гробах. Надземный склеп имеет вид башенки
с пирамидальной кровлей. На уровне лаза, поднятого на
высоту около 1 м над землей, устроен деревянный настил,
лежащие на нем погребения засыпаны разрушающимся
сводом. Ниже виден еще один ярус с погребениями. Семь
склепов левого берега разместилось в двух группах:
четыре полуподземных склепа с фигурными фронтонами,
большие, хорошо оштукатуренные, впущены в склон у
дороги на середине высоты склона; три башнеобразных
склепа с пирамидальной кровлей находятся наверху этой
дороги, на горной площадке. Кровля с обычными
горизонтальными шиферными прослойками. У одного из них
всего три ряда прослоек, расположенных редко, на большом
расстоянии друг от друга; этот склеп имеет углубленный
подвал с двумя лежанками вдоль боковых стен, на
которых вытянуты трупы в полуразрушившейся одежде;
49
у правого в головах сосуд с округлым туловом и стоячим
венчиком, и к стенке прислонено коромысло.
Склепы сел. Галиат Находятся на том же
водораздельном гребне, на котором
разместилась Камунта, на склоне р. Комидон. Сел.
Галиат — многобашенное, вытянулось вверх по правому берегу
Комидона. На левом берегу приютились у реки всего
несколько домов. Выше по склону группами и рядами
свободно размещаются склепы галиатского некрополя и еще
выше — святилище Авддзуар. Склепы в основном —
полуподземные и надземные. Последние имеют высокие
фасады и контрфорсы. Простым и фигурным треугольным
фронтонам полуподземных склепов соответствуют
двускатные кровли, которые засыпаны землей, поросли
травой и сливаются со склоном. Прямоугольный или
арочной формы лаз полуподземных склепов находится почти
на уровне земли, у надземных — значительно приподнят
над землей. Лаз обрамляют внутри косяки, на которых
укреплена деревянная дверца. Внутри полуподземные
и надземные склепы имеют одинаковое устройство: стены
сближаются благодаря кладке из больших обломков
горных пород в технике ложного свода; несколько ниже
уровня лаза — деревянный или каменный настил, который
делит склеп на два яруса; в центре настил имеет квадратный
люк, который ведет в нижний ярус, в подвал. Иногда
настил заменяют лежанки или полки. Трупы лежат в гробах
или без гробов, ориентировка их различна (вдоль разных
стен). Иногда гроб обит материей, чаще белой, в одном
случае — кумачом. Два надземных склепа имеют квадратную
в плане форму и пирамидальную кровлю, два других —
двускатную кровлю и снаружи роспись по штукатурке.
Один из них отмечен А. А. Миллером, второй — Е. И. Круп-
новым.1 Два полуподземных склепа почти полностью впу-
1 1 Миллер А. А. Краткий отчет о работах Северо-Кавказской
экспедиции в 1923 г. С. 35, рис. 14; Крупное Е. И. Из итогов
археологических работ// ИСОНИИ. Орджоникидзе, 1940. Т. 9. С. 136.
50
щены в землю — лаз их расположен несколько ниже
уровня земли. На первый взгляд они производят впечатление
более древних, но устроены так же, как и все остальные.
Вероятно, это наиболее ранние из позднесредневековых
галиатских склепов. Население помнит в основном
фамильную принадлежность надземных склепов, которые
вытянулись вдоль холма к Ю от расположенной у реки
церкви. Это склепы Балаовых, Толасовых, Загаловых,
Зокоевых, Гусаловых, Кацановых, Коцоевых. На другой
стороне церкви — склеп для чужих (дзагалтеобау). Самый
верхний и северный склеп принадлежит Езеевым.
Могильник сел. Фаснал Занимает мыс,
образованный слиянием р. Сонгутидон
(ниже Айгомугидон) и ее левого притока Сардидон
(Летняя река). Г. А. Кокиев отмечает разнообразие вариантов
склеповых сооружений фаснальского некрополя.1
Экспедиция В. В. Бунака собрала серию черепов из
полуподземных склепов.2 Нами некрополь осмотрен в 1959 и в 1976 гг.
Некрополь насчитывает несколько полуподземных,
четыре надземных склепа и три мавзолея. Полуподземные
склепы обычного устройства; особенности имеет лишь
один — с двумя лазами; фактически это два склепа с
общим фасадом и кровлей, но с разделяющей их посередине
стеной. Надземные склепы — высокие, башнеобразные.
Два имеют четырехскатную кровлю с горизонтальными
шиферными прослойками; трупы мумифицировались,
лежат на настилах над подвалом. Третий надземный склеп
аналогичен находящемуся рядом мавзолею,
построенному в виде квадратного в плане здания, стены и кровля
которого имеют посередине утолщения, придающие
постройке некоторую видимость восьмигранника. Склеп имел
внутри настил, который в настоящее время разрушен,
и мумифицировавшиеся трупы находятся на полу.
Мавзолей же, сложенный, возможно, тем же мастером, погребе-
1 Кокиев Г. Склеповые сооружения горной Осетии. С. 13.
2 Бунак В. В. Черепа из склепов Горного Кавказа... С. 318, рис. 16.
51
ний внутри на поверхности не имеет (по мусульманскому
обряду трупы похоронены в земле). Другой мавзолей —
восьмигранный, красивых пропорций с шишаком на
высокой кровле на восемь скатов, укрепленной внутри двумя
деревянными горизонтальными балками. Внутри у задней
стенки раскрытое погребение в могиле, облицованной
булыжником (каменный ящик). Он мог служить образцом
при сооружении четырехгранных склепа и мавзолея с
утолщениями посередине стен и кровли.1
Склепы сел. Вакац Вытянулись вдоль дороги в
пределах селения; упомянуты в
литературе лишь Г. А. Кокиевым, который отмечает две
надземные постройки некрополя.2 Могильник насчитывает
свыше десятка полуподземных и надземных склепов.
Последние имеют разное архитектурное оформление.
У полуподземных склепов лаз находится на уровне земли;
два склепа имеют арочный лаз, завершающийся замковым
камнем; фасады с треугольным фронтоном, которому
соответствует двускатная кровля; последняя обычно
забросана землей и поросла травой. Наше внимание привлек
склеп с арочным (замковым) лазом, который частично
находится ниже уровня почвы; чтобы обеспечить к нему
свободный доступ и оградить от засыпания землей, перед
лазом почва углублена и укреплена камнями, образуя
неглубокий четко оформленный дромос (рис. 5).
Склепы сел. Махческ Полуподземные и надземные,
разместились группами на
склоне Бузуми хума (пашня Бузума).3 Датировка склепов ба-
1 Кокиев Г. Склеповые сооружения горной Осетии. С. 14, рис. 17;
Нечаева Л. Г. О мавзолеях Северного Кавказа // Материальная
культура и хозяйство народов Кавказа, Средней Азии и
Казахстана. Л., 1978. С. 107-110. (Сб. МАЭ, 34).
'2 Кокиев Г. Склеповые сооружения горной Осетии. С. 15, рис. 21.
3 Там же; Газданова С. Б. По горам и плоскости Северной Осетии.
Владикавказ, 1927. С. 39.
52
шенного типа предложена П. С. Уваровой.1 Г. А. Кокиев
и А. А. Миллер отметили двухкамерный склеп с росписью;
жители Махческа приписывают его баделиатской
фамилии Абисаловых, которые были вынуждены покинуть Ди-
горию еще в XIX в.2
Склепы Поляны Мацута Находятся на террасе,
образовавшейся при впадении
р. Айгамугидон в Урух. Некрополь насчитывает
несколько полуподземных склепов и один надземный. Все они
имеют двускатные кровли, лаз выложен сводом с
замковым камнем. Могильник отметили Ю. Г. Клапрот,
К. Ф. Ган, Г. А. Кокиев, Л. П Семенов.3
Антропологический материал собирала экспедиция В. В. Бунака.4 Нами
могильник осматривался в 1959 и 1976 гг. Останки
погребенных в надземном склепе, приписываемом нарту
Сослану, отличаются большими размерами. Погребения
разрушены. В районе Поляны Мацута нам удалось
усмотреть склеповые могильники около трех селений,
расположенных на левом берегу Уруха.
Склепы сел. Ахсау Это небольшое селение
разместилось на холме у слияния левого
притока Билягидон с Урухом и было хорошо укреплено
тремя башнями. Склепы расположены близ селения. Все
пять склепов — полуподземные, три имеют арочный лаз
(рис. 6). Двускатные кровли некоторых из них сливаются со
склоном, но обрамлены по краям крупными, поставленны-
1 Уварова П. С. Могильники Северного Кавказа. С. 268—269.
2 Миллер А. А. Краткий отчет о работах Северо-Кавказской
экспедиции Академии в 1923 г. С. 34, 35, рис. 13; Кокиев Г.
Склеповые сооружения горной Осетии. С. 15—16, фот. 22,
рис. 23-24.
3 Клапрот Ю. Путешествие по Кавказу и Грузии... С. 221; Ган К
По долинам Чороха, Уруха и Ардона. С. 25; Кокиев Г. Склеповые
сооружения горной Осетии. С. 28, рис. 31; Семенов Л.
Археологические разыскания в Северной Осетии. С. 86.
4 Бунак В. В. Черепа из склепов Горного Кавказа... С. 318.
53
ми на ребро камнями. Один из склепов настолько углублен
в землю, что лаз его находится значительно ниже уровня
склона, и перед ним вырыт довольно глубокий земляной
дромос, укрепленный по краям камнями. Склеп сложен
из крупных скальных обломков в технике ложного свода.
Склепы сел. Кумбулта Их около десятка; вытянулись
в ряд вдоль дороги; все
подземные, с двускатными кровлями, с арочными и
прямоугольными лазами.
Склеповые могильники Расположены на высоко-
Лезгора и Донифарса горном плато левого берега
р. Урух между этими
селениями и разделяются неглубокой ложбиной. На
территории донифарского некрополя находится небольшая
церковь — Сатай-Запбадз (склеп Сатая).1 Надземные,
полуподземные и подземные склепы поражают размерами
и разнообразием. В лезгорском некрополе особенно
выделяются высокие склепы, стены которых плавно переходят
в двускатную кровлю, но отделены от последней
карнизом из шиферных плиток (рис. 7). У полуподземных
склепов также преобладает кровля двускатной формы.
Некоторые склепы полностью скрыты в земле, сложены
из крупных скальных обломков, что характерно для эпохи
позднего Средневековья. Лаз во многих случаях имеет
арочную форму и завершается вверху замковым камнем.
Один из полуподземных склепов донифарского
некрополя имеет ряд своеобразных деталей: треугольный фронтон,
которым завершается фасад, подчеркнут выступающими
ребрами окаймляющих его плит; арочный лаз находится
несколько ниже уровня современной почвы и перед ним
имеется земляной корытообразный дромос,
обеспечивавший свободный доступ к лазу для внесения новых трупов;
склеп двухкамерный — во второе отделение,
расположенное в его глубине, ведет стрельчатая арка. Это не един-
1 КокиевГ. Склеповые сооружения горной Осетии. С. 17—18.
54
ственный двухкамерный склеп — камера другого склепа
разделена толстой перегородкой на две половины. На до-
нифарском некрополе нами отмечен небольшой склеп,
покрытый одной большой плитой типа дольменных.
Склеп ограблен — в его восточной стене большой пролом.
Для выяснения конструкции склепа в 1972 г. была
произведена выборка заполнения и обнаружена половина
погребения в долбленой колоде. Погребенный лежал головой
на 3, руки были вытянуты, кисти лежали на животе. Вещей
при погребенном не было. В заполнении нашли только
наперсток, три височных кольца, орнаментированную
фигурную металлическую пластинку, небольшой обломок
ножа и осколок поливного сосуда. Склеп внутри покрыт
обычной штукатуркой, которая скрывает детали кладки.
Вход был устроен в западной стороне, для него
использована скальная выбоина, лаз перекрыт тремя небольшими
плитами. Длина склепа — 2,6 м, ширина — 1,6 м, высота —
1,2 м. Погребение и найденные в заполнении склепа вещи
относятся к эпохе позднего Средневековья.
Мы совершили утомительное путешествие и
познакомились со многими большими и малыми городками
мертвых горной части Северной Осетии. Склепы довольно
разнообразны по внешнему оформлению: у
полуподземных треугольный фронтон фасада иногда бывает
фигурным, у надземных кровля может быть пирамидальной или
двускатной, иногда имеет шиферные прослойки.
Последние реже встречаются в Дигории, и только в районах,
прилегающих к Иронии, причем чем дальше на восток (ближе
к Ингушетии), тем этот архитектурный мотив встречается
чаще. В Иронии почти каждый склеп имеет небольшую
шиферную или деревянную плиту с круглым отверстием,
предназначенную для какого-то момента погребального
ритуала или заупокойного культа, в Дигории же таких
горизонтально укрепленных плиток нет.1 Оформление лаза
тоже варьирует: простая прямоугольная форма, заверше-
1 Кокиев Г. Склеповые сооружения горной Осетии. С. 19—21.
55
ние в технике ложного свода, классический свод с
замковым камнем. Как правило, лаз закрывался изнутри
деревянной дверцей, запиравшейся на специальный засов.
Для этого в толще фасада оставлялся для него канал.
Засов передвигался через небольшое отверстие справа или
слева от лаза. Непогребенные трупы, отчасти
мумифицировавшиеся, в одежде, в гробах и без гробов лежат почти
на уровне лаза на настилах из бревен (в Дигории настилы
прикрыты каменными плитами). Иногда мумии уложены
на полки, иногда лежат прямо на земле или на скале на
какой-нибудь подстилке. Мумии лежат в склепах вдоль и
поперек, когда настил разрушен — свисают вниз или
разрозненные остатки их находятся на полу. В склепах находили
последний приют и богатые, и бедные (судя по одежде),
лишь бы они принадлежали к одной фамилии (роду). Для
чужеродных на общественных началах строились
специальные склепы. В целом следует говорить об
индивидуальных и хронологических вариациях склеповых
сооружений при общности погребальной традиции как в Иронии,
так и в Дигории.
Итак, многочисленные склеповые могильники
расположены в ущельях Гизельдона, Фиагдона, Ардона и Уру-
ха — левых притоков Терека. Однако, если посетить
ущелье этой главной водной артерии, то поздних склеповых
могильников с высокими полуподземными и надземными
склепами на Тереке не окажется. Невольно вспоминается
замечание Г. Ю. Клапрота о том, что осетины не любят
селиться вдоль крупных рек, но предпочитают небольшие
горные потоки, которые являются для них и источником
воды, и используются для сооружения небольших
водяных мельниц. И действительно, если подняться вверх по
его притокам, то по левым мы приблизимся к ущельям,
прилегающим к ущелью Гизельдона, а по правым —
попадем к верховьям притоков р. Ассы, склеповые сооружения
на которой будут рассмотрены в разделе, посвященном
склепам Чечено-Ингушетии.
56
2. СКЛЕПОВЫЕ СООРУЖЕНИЯ
ЧЕЧЕНО-ИНГУШЕТИИ
♦
Обычай погребения умерших в склепах в эпоху
позднего Средневековья известен не только у осетин, но и у
ингушей, чеченцев, хевсур. Как отмечает В. Ф. Миллер, во
время экспедиции 1886 г. в Чечню обследованию
подверглась «не вся обширная территория, населенная
чеченцами, а западная и южная часть ее, именно пространство
между Сунжей на севере, Аргуном и его притоком Чанты-
Аргуном на востоке и юге и Тереком на западе». Здесь,
пишет он, «около каждого горского аула на видном месте
взору путешественника представляется как бы другой аул
из домиков меньшего размера — местный некрополь.
Некоторые могильные памятники так массивны и
грандиозны, что по размерам легко могли бы служить жилищем
для живых людей».1 Большую насыщенность склепами
западной половины Чечено-Ингушетии — Ингушетии
и прилегающей к ней западной части Чечни — отмечает
и С. Ц. Умаров, посвятивший свое исследование
чеченским древностям. Он подчеркивает: «Юго-западная часть
горной Чечни (Майста, Малхиста, Кей, Акки и Мержой)
изобилует склеповыми могильниками и характеризуется
разнообразием сооружений склеповой архитектуры».
Напротив, «район к востоку от водораздела рек Чанты-
Аргуна и Шаро-Аргуна характеризуется отсутствием
сохранившихся склеповых могильников».2 Таким образом,
склеповый обряд погребений в горах Чечено-Ингушетии
распространен неравномерно, и, говоря о ее позднесредне-
вековых склеповых могильниках, мы будем иметь в виду
1 Миллер Всев. Терская область. С. 1, 24.
2 Умаров С. Ц. Средневековая материальная культура горной
Чечни, XIII—XVII вв.: Автореф. дис. ... канд. ист. наук. М., 1970.
С. 18-19.
57
склепы горной Ингушетии и прилегающих к ней районов
Чечни.
Экспедиции Ф. Байерна, В. Ф. Миллера, В. И. Долбе-
жева, Б. Плечке, Л. П. Семенова, В. В. Бунака, имея
нередко иные задачи, не занимались архитектурными
обмерами склепов, ограничиваясь в основном фиксацией их
внешнего вида.1 Этот пробел был восполнен полевыми
исследованиями Северокавказской археологической
экспедиции Института археологии АН СССР и местных
научных учреждений. Полевые работы отдельных ее отрядов
охватили большое количество памятников,
расположенных в труднодоступных, ныне необитаемых горных
районах. Здесь следует отметить обмеры В. И. Марковиным
и А. А. Исламовым позднесредневековых склепов в
верховьях р. Чанты-Аргун (могильник Цой-Педе близ сел. Мал-
хиста).2 Большую работу по изучению погребальных
сооружений восточной Чечни провел С. Ц. Умаров,
выявивший наряду со сравнительно немногочисленными
1 Байерн Ф. О древних сооружениях на Кавказе // ССК. Тифлис,
1871. Т. 1. С. 309, рис. на второй таблице; Миллер Всев. Терская
область. С. 1—42; Долбежев Б. Могильник Челиш-Кив//
СМОМПК. Тифлис, 1892. № 13. С. 133-140, табл. 12-13; Р1ае-
15сНке В. Т>'\е ТзсЬе1;сЬепеп. НатЬиг§, 1929; Семенов Л. П. 1)
Археологические и этнографические разыскания в Ингушетии
в 1925—1932 гг. Грозный, 1963; 2) Склеп с фресками в
ингушском селении Эгикал//Известия ЧИНИИ. Т. 2, вып. 1:
История. Грозный, 1960. С. 46—54; Бунак В. В. Черепа из склепов
горного Кавказа... С. 306—317.
2 Маркович В. ИЛ) Исследование памятников Средневековья в
высокогорной Чечне // КСИА. Вып. 90. М., 1962. С. 53-55, рис. 9;
2) Чеченские средневековые памятники в верховьях р. Чанты-
Аргуна//Древности Чечено-Ингушетии. М., 1963. С. 256—267,
рис. 4—8; 3) В ущельях Аргуна и Фортанги. М., 1965. С. 79—85;
4) В стране вайнахов. С. 86—92; Исламов А. А. К вопросу о
средневековых погребальных сооружениях в верховьях р. Чанты-
Аргуна// Изв. ЧИНИИ. Т. 3, вып. 1. Грозный, 1963. С. 128-136;
1 см. также: Виноградов В. Б., Маркович В. И. Археологические
памятники Чечено-Ингушской АССР: материалы к
археологической карте. Грозный, 1966 (ЧИНИИ. Тр., т. 9).
58
склепами погребальные памятники типа мавзолеев.1
Результаты полевых работ Северокавказской экспедиции по
обследованию склеповых сооружений Ингушетии кратко
приведены Е. И. Крупновым в очерке, посвященном ее
средневековым памятникам.2 Зодчество Ингушетии
изучали также А. Ф. Гольд штейн и М. Б. Мужухоев.3
В итоге многочисленных экспедиций выявлено
размещение склеповых сооружений и разработана
классификация позднесредневековых склепов Чечено-Ингушетии.
Ингушетия буквально насыщена архитектурными
комплексами эпохи расцвета горского феодализма; наряду
с крупными селениями, повсюду разбросаны хутора с
жилыми и сторожевыми башнями. Процессу возникновения
укрепленных фамильных поселков немало содействовал
высокий уровень башенного зодчества. Если бы
строительство башен не достигло такой степени совершенства,
то безопасность массового выселения отдельных семей на
хутор не была бы обеспечена и освоение новых земель
протекало бы медленнее. Около каждого хутора-замка —
склепы в виде башенок с пирамидальной кровлей; реже
встречаются прямоугольные с двускатной кровлей; та
и другая имеют горизонтальные шиферные прослойки,
которые придают постройкам легкость и стройность.
Внутри склепы делятся на ярусы, в каждый из которых
1 Умаров С.Ц. 1) Новые археологические памятники эпохи
позднего средневековья в нагорной Чечено-Ингушетии//Архео-
лого-этногр. сб. тр. Грозный, 1968. Т. 2. С. 223—251; 2)
Исследование средневековых памятников Чечено-Ингушетии//АО
1969 года. М., 1970. С. 126; 3) Средневековая материальная
культура горной Чечни, XIII—XVII вв. С. 17—19; Багаев М. X.,
Виноградов В. Б., Умаров С. Ц. Новые памятники археологии в
Чечено-Ингушетии // АО 1968 года. М., 1969. С. 87-88.
2 Крупное Е. И. Средневековая Ингушетия. С. 21—22.
3 Гольдштейн А. Ф. Средневековое зодчество Чечено-Ингушетии
и Северной Осетии. М., 1975; Мужухоев М. Б. Средневековая
материальная культура горной Ингушетии (XIII—XVII вв.).
Грозный, 1977. Рец.: Виноградов В. Б., Даутова Р. А. // СЭ. 1979.
№ 5. С. 172-175; Тменов В. X. // СА 1979. № 2. С. 281-292.
59
ведет лаз, размещенный в разных стенках склепа; если
склеп имеет один лаз, то внутреннее помещение делится
полками. Интересно, что при наличии у башен арочных
дверных проемов у надземных склепов преобладает
прямоугольный лаз, но в целом совершенно очевидна
зависимость архитектуры склепов от башенного зодчества —
надо полагать, башни и склепы строили одни и те же
мастера, известные своим искусством далеко за пределами
Ингушетии. Вероятно, их трудолюбию обязаны многие
склеповые постройки и Северной Осетии. Сохранились
предания, что осетины приглашали для строительства
семейных усыпальниц ингушских мастеров.1 Влияние
ингушского позднесредневекового зодчества на
строительство осетинских склепов ярче проявляется на территории,
прилегающей к Ингушетии; в западной Дигории это
влияние не ощущается.
Сходство склепов башенного типа и склепов с
двускатной кровлей с осетинскими склепами не вызывает
удивления. Л. П. Семенов, обративший на него внимание,
отмечает, что «движение политического, экономического
и культурного развития древней Ингушетии шло в
направлении не к востоку, а к западу от Ассы, и это вполне
понятно, так как западный район прилегал к исходному
месту главнейшего торгового пути <...> к Дарьяльским
воротам, за обладание которыми шла с незапамятных
времен борьба между различными народами, в Северную
Осетию (через Чми) и через Балтийские ворота к
плоскостной части бассейна Терека».2 Ингушские предания
помнят о том, что ингуши вытеснили осетин с населенных
ими в настоящее время мест.3 Вместе с тем, у осетин и ин-
1 Яковлев Н. Ф. Ингуши. Владикавказ, 1925. С. 88—90; Кокиев Г.
Склеповые сооружения горной Осетии. С. 41.
2 Семенов Л. П. Археологические и этнографические разыскания
в Ингушетии... С. 139—140.
3 ОАК за 1890 г. СПб., 1892. С. 85-96; Кокиев Г. Склеповые
сооружения горной Осетии. С. 41; Ковалевский М. М. Родовой быт.
М., 1905. Вып. 1. С. 10.
60
гушей были не только враждебные, но и дружеские
отношения. Многие осетинские фамилии находили приют
в Ингушетии, когда в силу тех или иных обстоятельств им
приходилось покидать родину, и наоборот, согласно
преданиям, некоторые осетинские фамилии имеют
ингушское происхождение:1 «жители пограничных аулов —
ингушского с. Фуртоуг и осетинского с. Чми были связаны
даже брачными узами».2 Если надземные склепы
сопутствуют замковым укрепленным комплексам, то
полуподземные склепы в Ингушетии нередко концентрируются
в большие могильники, что, очевидно, отражает более
ранний этап горского феодализма. Они отличаются той
же тщательностью кладки, большими размерами
внутреннего помещения; фасады, незначительно выступающие из
земли, завершаются треугольным фронтоном; кровли
двускатные, впущены в склон и сливаются с ним.
Погребения в полуподземных склепах находятся уже в
разрушенном состоянии — мумии развалились, одежда
истлела, уцелели только отдельные предметы — деревянная
посуда, керамика и т. п.
Позднесредневековые склеповые сооружения Чечни
делятся на две группы. В районах, прилегающих к
Ингушетии (в северо-западной половине горной части Чечни),
надземные склепы близки ингушским — башнеобразные
постройки, разделенные на ярусы, в каждый из которых
ведет отдельный лаз; на могильниках наряду со склепами
сооружались мавзолеи (например, могильник замкового
комплекса Цеча-Ахк).3 В этом районе много подземных
и полуподземных склепов. Основная масса склеповых
построек находится в юго-западной части Чечни — в
высокогорных районах, прилегающих к Хевсуретии. Их
архитектура резко отличается от ингушской и близка хев-
1 Семенов Л. П. Археологические и этнографические разыскания
в Ингушетии... С. 78; Калоев Б. А. Осетины. М., 1967. С. 45—47.
2 Крупное Е. И. Средневековая Ингушетия. С. 55.
3 Умаров С. Ц. Средневековая материальная культура горной
Чечни, ХШ-ХУП вв. С. 19.
61
сурской — эти усыпальницы возводились местными
мастерами. Склепы юго-западной Чечни (могильники Цой-
Педе, Майсты) сложены из плитняка, прямоугольны
в плане, имеют отвесные стены, фасад завершается
треугольным фронтоном (иногда он слабо профилирован).
Ему соответствует полого-двускатная кровля. Лаз
прямоугольный. Отличительной особенностью фасадов многих
построек являются большие стрельчатые арки.1
Ближайшую аналогию им можно видеть лишь в стрельчатой арке
мавзолея Борга-Каш (начало XV в.) — видимо, чеченским
зодчим был знаком этот обаятельный памятник, и они
заимствовали его наиболее бросающуюся в глаза
архитектурную деталь.2 Погребенные в склепах уложены на полки,
трупы подвергались естественной мумификации;
сохранились остатки одежды, обуви, предметов быта.3
Таким образом, в эпоху позднего Средневековья в
Ингушетии было так же много склеповых построек, как
и в горных районах Северной Осетии. В Чечне же, чем
дальше от Ингушетии и Северной Осетии, тем склепов
меньше; в восточных ее районах их нет. То обстоятельство,
что ингуши и чеченцы являются родственными народами,
но у чеченцев, проживающих в удаленных от Осетии
районах, нет позднесредневековых склепов, не позволяет
считать склеповый обряд исконным для вайнахов; А. Ф. Гольд-
штейн обоснованно считает, что «обычай хоронить
умерших в склепах, вероятно, распространился в Чечне из
Ингушетии (он появился в Чечне позже, был
распространен не повсеместно и носил менее ортодоксальные
формы), а ингушами он мог быть заимствован у осетин.
В традиционном быту и обрядах осетин и ингушей, — про-
1 Маркович В. И. Исследование памятников средневековья в
высокогорной Чечне. С. 54.
2 Какими-то путями, по-видимому, воспроизведение стрельчатой
арки Борга-Каш проникло и в Северную Осетию, но очень
жалкое и неудачное, как это можно видеть на примере арок четырех
склепов сел. Даргавс.
3 Маркович В. И. В ущельях Аргуна и Фортанги. С. 82.
62
должает он, — много общего. Это может быть объяснено
и наличием алано-осетинского пласта в этногенезе
ингушей, и соседским влиянием».1 Происхождение обычая
хоронить в склепах у вайнахов — тема специальная, она
находится в прямой связи с вопросом об их происхождении
и выходит за рамки настоящего исследования.
1 Голъдштейн А. Ф. Средневековое зодчество Чечено-Ингушетии
и Северной Осетии. С. 134.
3. СКЛЕПОВЫЕ СООРУЖЕНИЯ
КАБАРДИНО-БАЛКАРИИ
(в эпоху позднего Средневековья)
♦
Кабардинцы и балкарцы соответственно занимают
равнинную и горную часть республики. Балкарцы говорят
на языке тюркской системы, кабардинцы имеют общий
язык и происхождение с черкесами и адыгейцами, заселив
в основном предгорья и степь в послемонгольское время.1
Черек и Чегем образуют перед выходом на плоскость
узкие, глубокие теснины. Дорога в горы местами идет по
скальным карнизам по краю обрыва. За тесниной ущелья
расширяются, превращаясь в удобные для заселения
плодородные котловины; вместе с тем, все горные ущелья
Балкарии соединены друг с другом удобными
перевалами. Верховья Черека прилегают к Дигории и соединяются
с Урухом перевалом Штулувцек (осетинское название).
В прошлом здесь было несколько аулов — Шканты, Ку-
нюм, Мухол, Зилги, Фардыг, в настоящее время — одно
большое селение Верхняя Балкария. Склеповые
сооружения сосредоточены в горной части — в Балкарии. Особое
место среди погребальных сооружений позднего
Средневековья в Кабардино-Балкарии занимают мусульманские
мавзолеи — они распространены как в горах, так и на
плоскости. Обряд погребения в склепах и мавзолеях резко
различается.2
1 Лавров Л. И. 1) Адыги в раннем Средневековье // Сб. статей по
истории Кабарды. Нальчик, 1955. Вып. 4. С. 19—64; 2)
Происхождение кабардинцев и заселение ими нынешней
территории//СЭ. 1956. № 1. С. 19—28; 3) О происхождении народов
Северо-Западного Кавказа // Сб. статей по истории Кабарды.
Нальчик, 1954. Вып. 3. С. 193—207; 4) Карачай и Балкария до
30-х годов XIX в. // Кавк. этногр. сб. М„ 1969. Т. 4. С. 76; Очерки
истории Карачаево-Черкесии. Ставрополь, 1967. Т. 1. С 107,
129-130.
2 Нечаева Л. Г. О мавзолеях Северного Кавказа. С. 85—112.
64
Ущелье Черека- Балкарского неоднократно посещалось
исследователями кавказских древностей. В 1886 г.
могильные древности в районе аулов Шканты и Мухол
обследовала экспедиция В. Ф. Миллера. В поле зрения
экспедиции попали как мавзолеи-кешене, так и склепы; подробно
описано кешене Абаевых (ныне уже не существующее);
в то же время В. Ф. Миллер упоминает «могилы, идущие
внутрь горы», «с входом со стороны склона» — т. е.
склепы; Д. А. Вырубов выполнил архитектурные обмеры
некоторых из них.1 Из этого района в Ставропольский музей
были привезены две мумии.2 В 1924 г. район обследовала
экспедиция А. А. Миллера, особенное внимание которой
привлекли полуподземные склепы близ аула Шканты.
В окрестностях могильника и в местности Курноят ею
были отмечены часовни. Не видя на Череке высоких
полуподземных и надземных склепов, с которыми он хорошо
познакомился в Северной Осетии во время экспедиции
1923 г., А. А. Миллер высказал предположение, что в Бал-
карий склеповая традиция была в какой-то момент
прервана и не получила, как в Осетии, дальнейшего развития
в эпоху позднего Средневековья.3 В 1959 г. склепы
могильника Шканты осматривал В. А. Кузнецов и пришел
к выводу, что они построены не ранее XIV в.4
1 Миллер Всев. Терская область. С. 81—82; Лавров Л. И. Альбом
и макеты Д. А. Вырубова по этнографии и археологии
Кабардино-Балкарии // Сб. МАЭ. Л., 1978. № 34. С. 75, рис. 3. Надпись
на рис. Д. А. Вырубова «Нечем» ошибочна — на рисунке
изображены склепы у бывш. сел. Шканты. Ср. здесь рис. 8,1.
2 Прозрителев Г. Мумии балкарских могильников Терской
области Нальчикского округа // Тр. Ставроп. уч. арх. комис.
Ставрополь, 1913. Вып. 5. С. 1—3. — Упоминание городка мертвых см.:
Чеченов И. М. Древности Кабардино-Балкарии. Нальчик, 1969.
С. 67-68.
3 Миллер А. А. Краткий отчет о работах Северо-Кавказской
экспедиции ГАИМК в 1924-1925 гг. //Сообщ. ГАИМК Л., 1926.
Т. 1. С. 75-78, рис. 5-6.
4 Кузнецов В. А. Археологические разведки в
Кабардино-Балкарии и в районе Кисловодска // Сб. статей по истории
Кабардино-Балкарии. Нальчик, 1961. Вып. 9. С. 208.
65
В 1968 г. экспедиция Института этнографии
специально занималась изучением склепов у бывшего сел. Шканты.
К сожалению, расчистку склепов произвести не удалось,
были сделаны архитектурные обмеры некоторых склепов
без расчистки. Могильник разместился на широкой
террасе правого берега р. Черек двумя группами. Первая
расположена близ берега, рядом с современным мусульманским
кладбищем, состоит из четырех хорошо сохранившихся
склепов (один из них двойной, с двумя входными
отверстиями, поэтому создается впечатление, что в этой группе
5 склепов). В обрезе берега виднеются остатки кладки —
возможно, еще от 2—3 склепов. В сторону гор от этой
группы по всей площади террасы простирается обширный
могильник с каменными выкладками, а по краю этого
некрополя — каменные курганы с квадратными оградками
из крупных обломков горных пород. Вторая группа
склепов расположена за этим некрополем у подножия и на
склоне полого холма, прилегающего к основанию горного
кряжа, образующего правую сторону ущелья. В группе
насчитывается 10 полуподземных склепов, многие
разрушены, все разграблены. В одном из них находятся
мумифицировавшиеся трупы в полуразрушенном и перемешанном
состоянии. В других склепах такой хорошей
мумификации нет. По-видимому, известные балкарские мумии были
вывезены из этого склепа.
Склеп № 1 (рис. 8,1) — самое грандиозное сооружение
могильника. Полностью впущен в склон и сверху
присыпан землей; по периметру из земли выступают более
крупные камни, фасад не имеет четких очертаний — тоже
присыпан землей, хотя и выступает над уровнем склона на
0,9—1 м; только лазы свободны от земли, перед одним из
них — корытообразный земляной дромос, укрепленный
камнями. Вытянут с СВ на ЮЗ вдоль склона, сложен из
крупных обломков горных пород в технике ложного свода
на четыре ската; длина — 4,7, ширина — 1,2, высота —
около 3 м; в плане — прямоугольник, задняя стенка которого
слегка округлена, углы скругляются на высоте 1 м; скруг-
66
ленный ложный свод заканчивается плоским из плитняка
перекрытием шириной 0,3—0,4 м. Толщина фасада 1,3 м,
в нем два лаза шириной около 0,7, высотой 0,9 м; лаз
расположен наклонно, сужается вверху до 0,4 м. Кладка
очень тщательная, линия стен ровная; склеп сооружен
превосходными мастерами. Внутри он разделен на два
отделения каменной оштукатуренной перегородкой
высотой 1,3 м. В юго-западной (правой) половине вдоль
торцовой стены на полу оставлено место для погребения; оно
отделено от остального пространства этой половины
склепа невысокой стенкой высотой 0,5, шириной 0,5 м из
крупных окатанных голышей, ничем не скрепленных;
пространство между перегородкой и могильной ямой засыпано
мелкими окатанными голышами. В могиле — отдельные
разбросанные кости подростка и взрослого. На стенке из
голышей — остатки кожаного изделия. Около
перегородки — деревянная трапециевидная лопата (ее ширина 17 см,
у рукояти — 14 см, длина — 20 см, толщина — 3 см,
толщина рукояти — 5 см). Во втором, северо-восточном,
отделении в восточном углу разрушенное погребение: видны
обломки черепа, кости вдоль задней стенки. У торцовой
стены виднеются кости коровы: она, по-видимому, была
положена спиной к северо-восточной стене, ногами по
направлению к перегородке. Около костей человека лежат
куски кожаных изделий. Два лаза, которыми снабжены
оба отделения склепа, свидетельствуют о том, что оба
отделения функционировали самостоятельно.
Склеп № 2 находится к СВ от первого и в одном с ним
ряду. Впущен в склон и полностью засыпан землей, так
что кровля также имеет вид плоского кургана. Вытянут
с ЮВ на СЗ, то есть, в отличие от предыдущего, не вдоль,
а перпендикулярно линии склона. В плане в основном
прямоугольный, но торцовые стены несколько скруглены
(продольные скруглены незначительно); длина — 4,1,
ширина—2,7, высота —2,15 м; сложен насухо из крупных
обломков горных пород в технике ложного свода так, что
боковые (продольные) стены ровными дугами сближают-
67
ся настолько, что между ними остается пролет 0,7 м; у
задней стенки углы переходят в ложный свод с помощью
паруса. Перекрытие из крупных скальных блоков уложено
ступенчато, так что середина склепа выше, чем кладка
стен. Лаз, расположенный на высоте 1,1м (ширина — 0,7,
высота —около 1, длина —0,9 м), устроен в торцовой
стенке и направлен на СЗ; снаружи частично прикрыт
камнями, внутри у стенки — навал камней. Склеп
ограблен, кости разбросаны. Один из трупов мумифицировался,
но части мумии разбросаны: ребра лежат у середины
северо-восточной продольной стены, здесь же обрывки одежды;
около задней стены (в восточном углу) находится
мумифицировавшаяся рука, в южном углу — кости. Вдоль юго-
западной стены была лежанка из плит и прослеживается
тлен, под которым оказался кошелек фабричной работы,
в нем лежали небольшие моточки белых и черных ниток.
Склеп № 3 (рис. 8,2) находится в одном ряду с № 4
(обмеры которого не производились), несколько дальше от
русла Черека, за дорогой. Склеп полуподземный, впущен
в склон; сложен насухо из очень крупных скальных
обломков, каждый из которых давал значительное
прибавление стены. Квадратный в плане, со сторонами 2,1 х2,1
и высотой 1,6 м, сложен в технике ложного свода;
интерьер имеет форму усеченной пирамиды. Для ограбления
склепа была снята передняя покровная плита. Лаз
направлен на СЗ, хорошо сохранился; устроен на высоте 0,8 м,
длина его — около 0,8, ширина — 0,55—0,7, высота — 0,6 м.
На поверхности пола в заполнении кое-где виднеются
человеческие кости (без мумификации) и ножка жеребенка
с мумифицировавшимися связками.
Склепы второй группы могильника сел. Шканты
также сложены в технике ложного свода из крупных
скальных обломков (рис. 8,3—4). Один из них имеет лежанки,
у двух сохранилась глиняная обмазка. Склеп с
мумифицировавшимися трупами покрыт внутри штукатуркой,
фасад его завершается небольшим четко выполненным
фронтоном.
68
Таким образом, все склепы могильника имеют
однотипное устройство: все они полуподземные, полностью
впущены в склон, но так, что верхняя часть фасада
выступает из земли. Кладка двусторонняя, наружная сторона
стен является своего рода контрфорсом для ложного
свода. Склепы ограблены и частично разрушены. Ближайшие
аналогии склепы могильника Шканты находят среди
многочисленных подземных и полуподземных позднесредне-
вековых склепов Северной Осетии, но особенно близки
дигорским склепам по Уруху. Шканты — единственный
в Балкарии склеповый могильник эпохи позднего
Средневековья. Судя по тому, что этот участок Черекского
ущелья соединен удобным перевалом Штулувцек с Урухом,
можно думать, что склепы аула Шканты построены и
использовались для погребений осетинами,
переселившимися сюда с Уруха. Эти наблюдения хорошо согласуются
со словами предания, приводимого В. Ф. Миллером, о том,
что в Балкарии «туземное население состояло из осетин-
дигорцев и других ранних пришельцев».1 Л. И. Лавров
приводит рассказы местных жителей, согласно которым
«первоначально в этом ущелье существовал только один
поселок, населенный народом "таулу" (горцами),
которых считают сванами или осетинами».2 Современные
жители сел. Верхняя Балкария с недоумением отмечают, что
у многих из них осетинские фамилии. Потомки осетин-
пришельцев к настоящему времени полностью отюрече-
ны, но верхнебалкарский диалект имеет характерное для
осетинского языка цоканье. Эта особенность,
отличающая его от языка балкарцев других ущелий и карачаевцев,
послужила основанием предполагать либо влияние
осетин, либо участие алан в этногенезе балкарцев.3 Поздне-
средневековые склепы аула Шканты свидетельствуют об
1 Миллер Всев. Терская область. С. 79.
2 Лавров Л. И. Карачай и Балкария до 30-х годов XIX в. С. 60
3 Там же. С. 67; Абаев В. И. Скифо-европейские изоглоссы. На
стыке Востока и Запада. М., 1965. С. 43.
69
участии именно осетин-дигорцев в этногенезе балкарцев,
проживающих в ущелье Черека-Балкарского; за
три-четыре столетия они позабыли свой прежний язык, но
сохранили в тюркском языке элементы осетинского
произношения и осетинские фамилии.
В Безенгийском ущелье имеется лишь один склеп. Он
находится на террасе правого берега Черека-Безенгийско-
го, около замкового комплекса Джабоевых. И. М.
Чеченов и И. М. Мизиев считают памятник склепом-кешене,
то есть мавзолеем.1 Последний пишет, что внутри
находится разрушенная могила. Экспедиция Института
этнографии АН СССР в 1968 г. обнаружила в склепе кости
двух человек, разбросанные по полу; никаких следов
разрушенной могилы не было: погребенные были положены,
как принято для погребения в склепах, прямо на пол.
Склеп надземный, сложен из крупных обломков
скальных пород в технике ложного свода; пролет между
сближающимися стенами перекрыт плоскими плитами; кладка
двусторонняя, наружная сторона стены в основном
повторяет профиль внутренней стороны. Снаружи стены
плавно переходят в двускатную кровлю, но отделены от нее
поясом из шиферных плиток. Внутрь ведет лаз,
оставленный в узкой торцовой стенке. По преданию, фамилия
Джабоевых осетинского происхождения и несколько раз
переселялась из Осетии на Черек-Безенгийский и
обратно.
Больше в Балкарии склепов эпохи позднего
Средневековья нет. Таким образом, все ее немногочисленные
склепы являются осетинскими. Иногда исследователи
принимают за склепы балкарские и кабардинские мавзолеи
(кешене, чашана) мусульманского происхождения,
однако в них нет непогребенных в земле трупов, они часто не
1 Чеченов И. М. Древности Кабардино-Балкарии. С. 89;
Мизиев И. М. Средневековые башни и склепы Балкарии и Карачая
(XIII—XVIII вв.). Нальчик, 1970. С. 60, 66. Наши возражения
см.: Нечаева Л. Г. О мавзолеях Северного Кавказа. С. 103, 105.
70
имеют кровли и сложены на растворе с применением
деревянного шаблона.
Мы познакомились с большим количеством поздне-
средневековых погребальных сооружений горной полосы
центральной части Северного Кавказа — городками
мертвых Северной Осетии, Чечено-Ингушетии и Кабардино-
Балкарии. Их архитектура, несмотря на разнообразие
внешнего оформления и индивидуальные вариации,
довольно стереотипна. Склепы были предназначены для
размещения трупов и строились заранее как семейные
усыпальницы. В этот период все подземные,
полуподземные и надземные склепы возводились из крупных
обломков скальных пород и этим строительным
материалом четко отличаются от склепов более раннего времени
(о них речь впереди). Они сооружались в период создания
жилых и сторожевых башен, когда строители изобрели
способы подъема крупных скальных обломков на
большую высоту. Этот же строительный материал
употреблялся, естественно, и для сооружения склепов, поскольку
укладка одного большого обломка сразу же давала
значительное увеличение высоты строящейся стены. Кладка
в технике ложного свода из крупных каменных блоков —
отличительная черта архитектуры склепов эпохи
позднего Средневековья. Переселение отдельной фамилии на
горный хутор в эпоху феодальной раздробленности
начиналось с возведения башни и фамильного склепа.
Поначалу строились подземные и полуподземные склепы. Это
можно заметить на многих могильниках Северной Осетии
(Архон, Галиат, Донифарс и др.). Надземные склепы
стали строить позднее. Они в известной степени
воспроизводят готовые, давно сложившиеся архитектурные формы
сторожевых башен. Хотя подземные склепы несколько
архаичнее полуподземных и надземных и сохранность
погребенных в них трупов хуже, что свидетельствует о
несколько большей древности, но в целом они относятся
71
к тому же типологическому периоду. Таким образом,
в пределах эпохи позднего Средневековья можно отметить
развитие склеповой архитектуры от подземных построек
до полуподземных и надземных, и все эти разновидности
склепов строились в течение сравнительно небольшого
промежутка времени — в XVI—XVIII вв.
Склепы строили в центральной части Северного
Кавказа не только в период позднего Средневековья.
Например, хорошо известен склеп аланского времени
у сел. Галиат в Северной Осетии. Однако в аланское
время население центральной части Северного Кавказа
хоронило умерших не только в склепах, но и в разного рода
каменных ящиках, скальных нишах, дольменообразных
склепах и т. д. Эти погребальные сооружения будут
предметом нашего внимания в следующей части.
Часть II
АЛАНЫ (И ИХ СОСЕДИ)
ПО ДАННЫМ ПОГРЕБАЛЬНЫХ
СООРУЖЕНИЙ
1. О ВРЕМЕНИ ПОЯВЛЕНИЯ АЛАН
В СЕВЕРНОМ ПРИЧЕРНОМОРЬЕ
♦
Аланы — ираноязычное племя, обитавшее на юге
Восточной Европы; они совершили поход в Галлию и вместе
с вандалами переправились через Гибралтар в Северную
Африку, основав там недолговечное царство вандалов
и алан. Аланы привлекают внимание ученых уже почти
двести лет. За этот период накопилось огромное число
исследований — книг и статей на всех европейских языках,
и только история изучения аланской проблемы могла бы
быть предметом самостоятельного изучения. В древних
и средневековых письменных источниках сохранилось об
аланах много сведений — объективных и точных у хорошо
осведомленных авторов, запутанных и противоречивых,
а подчас и фантастических у компиляторов. Известия об
аланах, имеющиеся в письменных источниках, не раз
служили предметом специальных сводок и исследований,
и мы отсылаем читателя, желающего получить
исчерпывающую информацию, к этим специальным трудам и
исследованиям.1
Однако, несмотря на превосходную разработанность
темы и исчерпывающие комментарии историков и линг-
Кулаковский Ю. Аланы по сведениям классических и
византийских писателей; Миллер Вс. Осетинские этюды. М., 1881—1887.
Ч. 1—3; Абаев В. И. Осетинский язык и фольклор. I; Ванеев 3. Н.
Средневековая Алания; Гаглойти Ю. С. Аланы и вопросы
этногенеза осетин; Виноградов В. Б. 1) Сарматы Северо-Восточного
Кавказа. Грозный, 1963 (ЧИНИИ. Тр., т. 6); 2) Центральный
и Северо-Восточный Кавказ в скифское время. Грозный, 1972.
С. 284—313; Происхождение осетинского народа.
Орджоникидзе, 1967. В этих трудах читатель найдет ссылки и на более
ранние работы (особенно полная библиография приведена в книге
Ю. С. Гаглойти).
75
вистов почти к каждому из сохранившихся в трудах
древних авторов сообщению об аланах, многие вопросы их
истории, происхождения, времени появления на Кавказе,
а также их этногенеза остаются спорными и
дискуссионными. Это обстоятельство принуждает нас высказать
некоторые соображения, которые помогут в дальнейшем
изложении пониманию аланской проблемы.
Прежде всего, пожалуй, наиболее значительные споры
и разногласия вызывает вопрос о времени появления алан
в Северном Причерноморье. 10. С. Гаглойти следующим
образом формулирует их суть: «Основную массу
исследователей данного вопроса можно разделить на две группы:
та часть исследователей, которая рассматривает алан в
генетической связи с предшествующим скифо-сарматским
населением <...> относит появление алан в Причерноморье
и на Северном Кавказе до начала н. э., те же
исследователи, которые связывают появление алан в этих районах
с появлением самого этнонима, относят это событие к
первому или первым векам н. э. Другими словами, вопрос
заключается в том, является ли появление имени алан
в письменных источниках по Северному Кавказу
доказательством появления новой этнической группы в
результате переселения именно с появлением здесь этого имени
или в основе этого события лежит другой процесс».1
Для решения этой проблемы многое может дать
античная эпиграфика, в которой содержится большой
ираноязычный ономатологический материал — своеобразная
запись элементов языка бесписьменных варваров,
окружавших греческие колонии — оазисы древней высокой
культуры и письменности. Ономастика является также
своего рода этнографической летописью многочисленных
племен, живших на побережье Черного и Азовского морей
и кочевавших в причерноморских степях. Она отражает
политические и культурные взаимоотношения между
греками и местным населением. Изучение ономастики грече-
1 Гаглойти Ю. С. Аланы и вопросы этногенеза осетин. С. 62.
76
ских колоний ведется уже более 100 лет.1 Анализ имен
позволил лингвистам определить принадлежность многих
из них к иранской языковой группе и тем самым
установить ираноязычность скифов и сарматов и значительную
древность появления ираноязычных племен в Северном
Причерноморье. Сравнение языка осетин и ономатологи-
ческого материала дало лингвистам возможность заметить
языковую близость осетинского и скифо-сарматского
языков. На этом основании был сделан вывод о том, что
предки осетин уже в очень раннее время появились в Северном
Причерноморье и находились («скрывались») в массе
скифов и сарматов (по мнению В. Ф. Миллера — с X в. до
н. э., по мнению В. И. Абаева — с VIII—VII вв. до н. э.).2
Таким образом, ономастика дает яркий материал для
выяснения происхождения и истории ираноязычного
осетинского народа, для истории развития осетинского языка.
Однако ономатологический материал отражает не
только историю фонетического развития
скифо-сарматского и осетинского языков. Написание имен очень чутко
воспринимает и воспроизводит различия говоров и
диалектов многочисленных ираноязычных кочевников. Уже
Геродот отметил различия в языке скифов и савроматов.
На этом основании М. Фасмер отделил скифский
ономатологический материал от сарматского и пришел к
выводу, что скифский материал соответствует фонетически
древнеиранскому периоду в развитии иранских языков,
в то время как сарматский обнаруживает ряд
соответствий с осетинским языком.3 В. И. Абаев, рассматривая
«все скифо-сарматские говоры как одно лингвистическое
целое», отмечает в то же время несомненность существо-
1 Мй11епко#К. ОЬег (Не НегкипЛ ипс! ЗргасЬе с1ег ЗкуЛеп ипс! 5аг-
та!:еп // МопаЫэепсЫ;ес[ег Ргеизз. Акас1. с1ег ^ззепзсЬаЙеп,
1866. 8. ВегНп, 1867. 5. 569-576.
2 Миллер Вс. Осетинские этюды. Ч. 3. С. 101; Абаев В. И.
Осетинский язык и фольклор. I. С. 36, 41, 147.
3 УазтегМ. Ип1егзисЬип§еп йЬег сНе акезЪеп ДУоЬпзкге с1ег 51ауеп.
I. В[е Тгашег т 5йс1ги551апс1. Ье\рт.щ} 1923. 3. 21, 28.
77
вания диалектов в многоплеменном скифо-сарматском
мире;1 однако максимальное внимание он уделяет
схождениям ономатологического материала с осетинским
языком. Специально скифо-сарматским диалектам
посвящены работы Я. Гарматты и Л. Згусты.2 Последний приходит
к выводу, что те звуковые вариации, которые Я. Гарматта
принимает за диалекты, отражают моменты перехода от
древнеиранской фонетики к фонетике среднеиранской.3
Анализ личных имен в греческих городах Северного
Причерноморья привел Л. Згусту к выводу, что ираноязычные
имена отражают две фонетические стадии: древнеиран-
скую и среднеиранскую. Однако подавляющая часть
материала относится к первым векам нашей эры, древнеиран-
ские и среднеиранские фонетические нормы существовали
одновременно и не отражают различные стадии во
времени для данной территории. Вместе с тем, Л. Згуста заметил,
что имена архаичного фонетического облика встречаются
во всех городах Северного Причерноморья, в то время как
имена среднеиранского характера известны
преимущественно в восточных городах (Танаис, Пантикапей, Фана-
гория и др.). Это означает, что развитие скифо-сарматского
языка происходило неодинаково в восточной и западной
части Северного Причерноморья. Такое наблюдение
позволило ему сделать вывод о сосуществовании в первые
1 Лбаев В. И. Осетинский язык и фольклор. I. С. 149.
2 Нагтайа]. Зиккез т Ше 1ап§иа§е о{ Ле 1гашап ЪпЬез т 5о1п:п
Киз51а // Ас1;а ОпепЪаИа Асайеппае зс1еп1;апит Нип§апсае. Ви-
с1арез1;, 1951. Разе. 2-3. Р. 261-314. Т. 1; 2§шйа I. Б1е Регзопеп
патеп §песЫзсЬег 81:аске с1ег пбгсШсЬеп ЗсЬдуаггтеегкйзЪе. 01е
ейнзсЬеп УегЬактззе, патепЙ1сЬ с!аз УегЬаактзз <1ег 5ку1пеп
ипс[ Загта1:еп, 1т 1лсЫ;е с!ег ЫатепЬгзсЬип^. РгаЬа, 1955.
Рецензии см.: Лбаев В. И. Рец. на ст.: Нагтайа ]. ЗйкНез т Ше
1ап§иа§е о{ЧЬе 1гатеп ЫЪез т Зои^Ь Киз51а: (Ас1а Опеп1. Нип§.,
1950-1951, 1.1)//Изв. АН СССР: Сер. лит. и яз. 1953. Т. 12.
№ 5. С. 487—490; Надэль Б. И. Рец. на кн.: 2&и$1а Ь. Т>'\е Регзопеп
патеп ^песЫзсЬег З^аске (1ег пбгсШсЬеп ЗсЬ\уаг2теегкйз1:е.
РгаЬа, 1955 // ВЯ. 1958. № 2. С. 153-157.
3 2§и5*а I. Ор. ск. 5. 268-271.
78
века нашей эры двух диалектов — «архаичного»,
имеющего древнеиранский характер, который он считает
диалектом скифов, и более «молодого», восточного, со средне-
иранским фонетическим обликом, который он связывает
с проникновением сарматов к западу от Танаиса, начиная
с IV в. до н. э.1 К сожалению, Л. Згу ста не мог
использовать многих параллелей из осетинского языка, собранных
В. И. Абаевым. Между тем, этимология этих слов имеет
первостепенное значение при анализе особенностей
сарматского диалекта: она дает определенный материал,
характеризующий древнеосетинский язык. Тем самым она
может помочь более четко выявить и конкретизировать
племенную принадлежность восточного диалекта в
многоплеменном сарматском мире.
Ономатологический материал Северного
Причерноморья охватывает промежуток времени почти в тысячу
лет — от V в. до н. э. до И—III вв. н. э., а в отдельных
случаях — до IV—VI вв. н. э. Для истории развития скифо-
сарматского и алано-осетинского языков, а тем самым для
истории скифо-сарматских племен, алан и осетинского
народа, несомненно, интересно проследить, как имена
архаичного (скифского) диалекта и имена более молодого,
восточного, диалекта размещены не только
территориально, но и во времени. Это позволит в какой-то мере
определить время появления в Северном Причерноморье
скифского и сарматского диалектов. В свою очередь,
хронология имен, объясняющихся из осетинского языка,
может помочь определить время появления древнеосетин-
ского языка. Для выполнения этой задачи совершенно
исключительное значение имеют труды В. И. Абаева, в
которых благодаря превосходному знанию разговорного
осетинского языка, образных выражений и фольклора
приводится максимальное количество параллелей из
осетинского языка.
Язык осетин, территориально изолированных от других
ираноязычных народов, сохранил значительную архаич-
1 1Ыа. 5. 255.
79
ность.1 Благодаря этому многие осетинские слова
настолько близки к древнеиранской основе, что разница в
звучании древнеиранских и осетинских слов почти не уловима.
В этом случае ономатологический материал имеет равные
параллели и в осетинском, и в древнеиранском языках. Он
особенно наглядно показывает принадлежность
осетинского языка к иранской языковой группе, но именно
поэтому не пригоден для выявления скифо-сарматских
диалектов. Однако в процессе развития осетинского языка по
определенным фонетическим законам звучание многих
слов отошло от древнеиранской основы и получило
специфическое звуковое оформление, свойственное только
осетинскому языку и отличающее его от языков древне-
иранских. Легко заметить, что часть ономатологического
материала находит соответствие только в древнеиранских
языках и не имеет параллелей в осетинском или ближе
к древнеиранскому, а не к осетинскому звучанию. Другая
его часть находит объяснение только из языка
осетинского или ближе к осетинскому, а не к древнеиранскому
звучанию.
Ономатологический материал, который обнаруживает
сходство или различие с древнеиранским или осетинским
языками (что отражает развитие языка и диалектов у
ираноязычных племен Северного Причерноморья), сведен
нами в таблицы. Прежде всего выделены материалы до-
аланского времени, материалы V—I вв. до н. э. — времени,
когда аланы еще не упоминаются письменными
источниками. Они могли бы показать, когда появились имена,
объясняющиеся из осетинского языка, когда начала
складываться его специфика. Но оказалось, что весь этот
материал объясняется из общеиранских корней или близок
к древнеиранской основе. Некоторые имена и названия
доаланского времени В. И. Абаев объясняет из
осетинского языка, и на первый взгляд они являются исключением
из общего правила. Однако возможность такого объясне-
1 Абаев В. И. Осетинский язык и фольклор. I. С. 14.
80
ния кажется сомнительной. 'Арлб^сск; (Геродот, Ув. до
н. э.) = арга + хзауа — «владыка вод», «владыка Днепра».
Вторая часть имени ближе к авестийскому хзау, чем к
осетинскому хзаг!;, хзт, хзе<1. Первая часть Арло вряд ли
равна осетинскому аг^, так как вплоть до Средневековья в
названии Днепра и даже в современном его наименовании
не произошла перестановка арг в агГ, что делает ее
маловероятной в V в. до н. э. в имени 'Арлб^ссц;, тем более что
первая часть имени других скифских царей — Атб^ак;
и КоАс^ац; — не объясняется из иранских языков. Имя
'Оршх; (Геродот), приравненное В. И. Абаевым к
осетинскому \уаепкк, с равным успехом может быть объяснено
из др.-иран. уаг, иг и других. В правильности этимологии
Еларбсротос; сомневается сам В. И. Абаев при объяснении
второй половины имени из осетинского Ы; — «стрела»
(первая часть ближе к авестийскому зраг, чем к
осетинскому ое&оегип). Имя Еащажх;, приравненное В. И.
Абаевым к осетинскому зое^тое§ — «утренний», имеет в
основе зауа — «утро», что так же близко к авестийскому
зауа, как и к осетинскому зое\у. Название племени Магь
хетш (Гекатей по Стефану Византийскому) близко не
только осетинскому тое!;их, но и др.-иран. тазика,
авестийскому та аха. В правильности объяснения имени еАр-
уотсс (Пантикапей) как причастия прошедшего времени
аг§ис1 от осетинского аг§аип сомневается М. Фасмер.
Л. Згуста для мужского имени 'ААбц; приводит в качестве
параллели имя Альда, традиционно женское осетинское
имя, что вызывает сомнение в правильности его
этимологии. Перечисленные имена и названия, таким образом,
нельзя считать исключением из общей массы материала
V—I вв. до н. э., которая полностью укладывается в рамки
древнеиранских языков. Вряд ли они могут служить
основанием для предположения, что в это время начала
складываться осетинская фонетическая специфика и что предки
осетин уже тогда появились в Северном Причерноморье.
Впрочем, то обстоятельство, что ономатологический
материал не обнаруживает в скифское время звуковых соче-
81
таний, свойственных осетинскому языку, само по себе не
может рассматриваться как показатель отсутствия здесь
предков осетин, ведь языки развиваются с течением
времени, и звуковые нормы, свойственные современному
осетинскому языку, могли еще не сложиться.
Однако В. И. Абаев приводит имена этого же времени,
зафиксированные на территории Средней Азии, и
оказалось, что часть из них фонетически ближе к нормам
осетинского языка, чем к нормам древнеиранских языков —
Саг1:Ьа515, 2армх, Зкупха, а также название столицы
саков — Тш^оуаит!. В отношении имени сакской царицы
2ар[уа ('золотая') В. И. Абаев считает, что «ни в одном
иранском языке, кроме осетинского, название "золота" не
встречается в форме хаппа (ср. авест. гагапуа, др.-перс.
с!агатуа, перс, хагг)».1 Эту небольшую серию имен
В. И. Абаев дополнил также термином аШп, который он
объясняет из осетинского языка.2 При всей близости
языка среднеазиатских саков-массагетов к языку
причерноморских скифов и их общей близости к древнеиранскому
можно отметить наличие на территории Средней Азии
имен и названий, близких к звуковым нормам
осетинского языка. Этот факт свидетельствует о том, что отчасти
эти нормы к скифскому времени уже сложились и что уже
в этот период начинают намечаться некоторые различия
между скифским и сако-массагетским языками. По
данным ономастики не менее логично искать предков осетин
в это время не в Северном Причерноморье, а в Средней
Азии.
Следует подчеркнуть, что, говоря о появлении предков
осетин в Северном Причерноморье в VIII—VII вв. до н. э.,
В. И. Абаев неоднократно отмечает, что с уверенностью
можно говорить лишь о том, что они появились здесь не
менее 2000 лет тому назад, то есть на рубеже н. э., и
допускает, вместе с тем, и сако-массагетское происхождение
1 1 Абаев В. И. Осетинский язык и фольклор. I. С. 39.
2 Абаев В. И. Среднеазиатский политический термин афшин //
ВДИ. 1959. №2. С. 112-116.
82
алан.1 В. Ф. Миллер пишет, что одновременно с древне-
персидским и авестийским, которые «существовали уже
по крайней мере за тысячелетие до Р. X. <...> уже
существовал, как отдельный язык, предок и современного
осетинского языка» и что «предком осетинского языка было
одно из наречий, развившееся в северной части
древнейшей территории, занятой иранцами, приблизительно на
севере от Оксуса и Яксарта в степях Средней Азии»,2 т. е.
где-то близ Среднеазиатского междуречья, в пределах
которого кочевали массагеты.3 По-видимому, не случайно
китайские источники помещают область Аланья близ
Аральского моря,4 и названия массагетских племен — апа-
сиаки, асии, аттасии, аугасии, аугалы (которых С. П. Тол-
стов помещает на Сыр-Дарье5) являются не случайными
звуковыми совпадениями с племенем алан-оссов-ясов-аш-
дигор. На основе свидетельств древних и средневековых
авторов, топонимических, этнографических и
лингвистических наблюдений исследователи считают возможным
говорить о среднеазиатском происхождении алан.6 Таким
образом, материалы скифского времени не позволяют нам
1 Там же. С. 113-114.
2 Миллер Вс. Осетинские этюды. Ч. 3. С. 73, 100.
3 Геродот. История. I. 201 (5С. I. С. 5—6). Ссылки на античных
авторов даются по: Известия древних писателей греческих и
латинских о Скифии и Кавказе: в 2 т. / Сост. и изд. В. В. Латышев.
СПб., 1893,1904 (далее - 5С).
4 Бичурин Н. Я. (Иакинф). Собрание сведений о народах,
обитавших в Средней Азии в древние времена. М.; Л., 1950. Т. 2. С. 229.
5 Толстое С. П. По следам древнехорезмийской цивилизации. М.,
1948. С. 104 и др.
6 ТаиЫег Е. 2иг СезсЫспСе <1ег А1апеп//К1ю. \^е\щщ, 1909. IX.
5. 14—28; УегпасЬку С 5иг Ропоте (1ез А1атз // Вугап1;юп. Воз-
Юп, 1944. Уо1.16. 1. Р. 81-86; Струве В. В. 1) Поход Дария I на
саков-массагетов// Изв. АН СССР. Сер. ист. и фил. 1946. Т. 3.
№ 3. С. 243; 2) Восстание в Маргиане при Дарий I // ВДИ. 1949.
№ 2. С. 18; Толстое С. П. По следам древнехорезмийской
цивилизации. С. 47, 49; Фрейман А. А. 1) Хорезмийский язык // Зап.
Ин-та востоковедения. М.; Л., 1939. Т. 7. С. 313; 2) Хорезмийский
язык: материалы и исследования. М.; Л., 1955. Т. 1. С. 11.
83
сделать вывод о том, что предки осетин в начале I
тысячелетия до н. э. находились среди скифов и сарматов
Северного Причерноморья. Скорее напрашивается
предположение, что они находились в среде саков и массагетов,
которые в языковом отношении могли быть такими же
предками осетин, как скифы и сарматы, тем более что Ам-
миан Марцеллин называет алан «прежними массаге-
тами».1 К сожалению, при разработке вопроса о предках
осетин материалы Средней Азии в большинстве случаев
оставались в стороне.2 В материалах I—III вв. н. э. —
времени, когда аланы, судя по письменным источникам, уже
находились в Северном Причерноморье и имели тесные
контакты с городами Боспора — вполне закономерно
ожидать появления аланской языковой специфики в ономато-
логическом материале. Ираноязычные имена первых веков
н. э. в соответствии с этимологиями В. И. Абаева можно
разделить на две группы. Большая группа имен этого
времени обнаруживает значительное сходство с осетинской
языковой спецификой. Сюда входят имена,
объясняющиеся, во-первых, только из языка осетинского, во-вторых,
имена, у которых древнеиранская основа получила
осетинское звуковое оформление. Эта группа имен отражает
появление в Северном Причерноморье фонетических
признаков, близких осетинскому языку. Другая группа имен
продолжает сохранять особенности древнеиранского,
скифского произношения. Особенно показательны имена,
которые при общей корневой основе имеют разное
произношение: наряду с новым произношением, близким к
осетинскому, продолжает бытовать старое скифское (древне-
иранское) произношение.
1 Аммиап Марцеллин. История, XXXI, 2, 12; ХХШ, 5, 16 (5С. П.
С. 339, 331); Дион Кассий. Римская история, XIX, 15 (5С. I.
С. 622); Кулаковский Ю. Аланы по сведениям классических и
византийских писателей. С. 12, 19.
2 Так, В. Ф. Миллер считал, что представлению древних о масса-
гетском происхождении алан едва ли суждено когда-нибудь
достигнуть степени достоверности {Миллер Вс. Осетинские
этюды. Ч. 3. С. 11).
84
Очень показательно географическое распределение
этих двух групп имен. Имена, сохраняющие древнеиран-
ское, скифское произношение, отмечаются в западной
части Северного Причерноморья (Ольвия). Имена,
фонетически близкие осетинскому языку, встречаются
преимущественно на Боспоре, в восточных городах Северного
Причерноморья. Последнее обстоятельство было замечено
уже В. Ф. Миллером, который отмечает, что
«значительное большинство иранских имен (преимущественно тана-
идских) представляют такие звуковые черты, которые
роднят их с осетинским языком».1 Отметив это чрезвычайно
важное обстоятельство, позволяющее количественное
преобладание в танаидской эпиграфике имен осетинского
характера ставить в прямую связь с расселением алан
вокруг Танаиса и Меотиды, В. Ф. Миллер, к сожалению, не
подчеркнул взаимосвязь ономатологического материала
с указаниями древних авторов о расселении алан. Таким
образом, можно отметить, что в Северном Причерноморье
в одно и то же время существуют два типа произношения,
два диалекта или языка: произношение, близкое к
осетинскому, локализуется в районе обитания алан;
произношение же, сохраняющее традиции древнеиранского,
скифского характера, локализуется в Ольвии. Вывод напрашивается
сам собой: боспорские имена, объясняющиеся из
осетинского языка, отражают язык собственно алан; в именах же
древнеиранского облика и в первые века н. э. сохраняются
элементы языка древних скифов.
Такой вывод вполне соответствует реальному
размещению ираноязычных племен в Северном Причерноморье.
Ольвия в течение многих столетий была окружена
скифскими племенами, имела с ними торговые отношения
и временами признавала себя зависимой от скифских
царей. Еще в V в. до н. э. в Ольвии имел свой дом скифский
царь Скил. Во II в. до н. э. Ольвия признает протекторат
скифов и чеканит монеты с именем царя Скилура, а в сере-
1 Там же. С. 82.
85
дине I в. н. э. — с именами скифских царей Фарзоя и Инин-
симея. Во II в. н. э. тавроскифы вновь начали наступление
на Ольвию, но с помощью римских войск были
оттеснены. Только в самом конце II в. скифы были побеждены
Савроматом II и признали протекторат Боспора. Вполне
закономерно поэтому говорить о скифской
принадлежности западного, архаичного диалекта.
Из всех ираноязычных племен в первые века н. э. в
непосредственной близости к боспорским городам
располагались аланы. Языги и роксоланы еще в начале I в. н. э.
были уже в области среднего и нижнего течения Дуная.1
Сираки, близкие соседи Танаиса, расселялись к востоку
от Дона. Около середины I в. н. э. они, как союзники Ми-
тридата VIII, были разгромлены боспорскими и
римскими войсками в союзе с аорсами. В конце II в. н. э. сираки
были снова побеждены Савроматом П. Аорсы
располагались значительно дальше от Танаиса к северу и востоку
и были лишь временными союзниками боспорского
войска в походе против сираков.2 Аланы в I в. н. э. известны
Сенеке Мл., Лукану, Валерию Флакку и Иосифу Флавию
на Дунае и на Кавказе.3 Однако последний основным
местом их обитания называет местность «вокруг Танаида
и Меотийского озера».4 Во II в. н. э. Птолемей уточняет
место расселения пританаидских алан — они известны
ему к западу от Танаиса, вероятно, в районе Донца и До-
1 Кулаковский ЮЛ) Карта Европейской Сарматии по Птолемею.
С. 24; 2) Аланы по сведениям классических и византийских
писателей. С. 7.
2 Гайдукевич В. Ф. Боспорское царство. С. 327—328, 335;
Виноградов В. Б. Сиракский союз племен на Северном Кавказе. С. 119—
121.
3 Кулаковский 10. Аланы по сведениям классических и
византийских писателей. С. 9.
4 Иосиф Флавий. Иудейская война, XVIII, 97 (5С. I. С. 484).
Плиний называет алан вместе с роксоланами, может быть, имея
в виду расселение их в пределах Европейской Сарматии
(Естественная история, IV, 80: 5С. II. С. 171).
86
нецкого кряжа.1 Расселение алан на правом берегу Дона
давало им несомненные преимущества перед другими
сарматскими племенами для сношений и контактов с Та-
наисом. Возможно, уже во II в. н. э. аланы проникли
в Крым. Арриан называет Феодосию опустелым городом,
и некоторые исследователи связывают это обстоятельство
с проникновением алан в Крым,2 поскольку в V в. н. э.
анонимный автор «Объезда Евксинского Понта» отмечает,
что город Феодосия имеет даже аланское название еАрбйс-
(Зба, что «на аланском или таврском наречии» означает
«Семибожный».3 Проникновение алан в Крым уже во II в.
н. э. косвенно подтверждает и Дионисий. Может быть, он
не случайно при описании Северо-Восточной Европы
вслед за даками и аланами называет тавров:
«...неизмеримая земля даков и храбрые аланы, тавры, населяющие
крутой, узкий и длинный Бег Ахилла и далее живущие до
устья самого озера».4 По народному преданию,
сохранившемуся у жителей города в XIII в., основание Судака
относится к 212 г.5 Его иранское название — XоVу6а^а (осет.
8и§с1ое§ — 'святой').6 Продвижение алан в район боспор-
ских городов, оживленные взаимоотношения с ними
вынуждали Боспор содержать в начале III в. н. э. специальный
штат аланских переводчиков. Ираноязычные варвары,
вероятно, составляли значительную часть населения и даже
попадали на государственную службу, как, например,
главный аланский переводчик Ирак.7
Нам кажется, что по всей совокупности исторических
и лингвистических данных ираноязычные имена Боспора,
1 Кулаковский Ю. Аланы по сведениям классических и
византийских писателей. С. 13.
2 Арриан. Объезд Евксинского Понта, 30 (ЗС. I. С. 224); Гайдуке-
вич В. Ф. Боспорское царство. С. 369.
3 Арриан. Объезд Евксинского Понта, 77 (5С. I. С. 283).
4 Дионисий. Описание населенной земли, 298—320 (5С. I. С. 181).
5 Кулаковский Ю. Аланы по сведениям классических и
византийских писателей. С. 18.
6 Абаев В. И. Осетинский язык и фольклор. I. С. 183.
7 Гайдукевич В. Ф. Боспорское царство. С. 345—346.
87
объясняющиеся из осетинского языка или близкие к нему
фонетически, следует считать аланскими. Язык ни одного
из сарматских племен не может отождествляться с
восточным диалектом с такой же степенью вероятия, как
язык алан. К выводу о существовании в первые века н. э.
у ираноязычных варваров Северного Причерноморья
диалекта архаичного, с древнеиранским звучанием, и
диалекта более молодого, с осетинским звучанием, мы пришли
с проф. Л. Згустой независимо друг от друга и почти
одновременно (соответственно в 1956 и 1955 гг.). Диалект
с фонетикой, близкой осетинской, был назван мною
языком алан, архаический диалект — языком сарматов,
предшественников алан в Северном Причерноморье. Однако
к I в. н. э. сарматы либо ушли на запад (языги,
роксоланы), либо находились далеко на востоке (сираки, аорсы);
поэтому предложенное Л. Згустой отождествление
архаического диалекта с языком скифов, которые продолжали
жить в районе Ольвии, в большей степени соответствует
исторической действительности.
Итак, рассмотрев во времени ономатологические
материалы скифского, сако-массагетского и аланского
происхождения, мы пришли к заключению, что аланы, по
происхождению массагеты, появились в Северном
Причерноморье только в первые века н. э. Язык их близок
к осетинскому, они являются непосредственными
лингвистическими предками осетин. Судя по письменным
источникам, начало массовому движению ираноязычных
кочевников из Азии в Юго-Восточную Европу положили
скифы: аланы же были последней из волн этого
движения.1 Однако лингвисты отмечают контакты древнеосе-
тинского и древнеевропейских языков, которые могут
быть датированы «временем не позднее второй половины
II тысячелетия до н. э.»;2 это приводит их к мысли, что
1 После алан началось движение на запад тюркоязычных
кочевников, тоже в течение длительного времени и в несколько
этапов.
2 АбаевВ. И. Скифо-европейские изоглоссы... С. 120.
88
именно в Восточной Европе была прародина иранских
и арийских народов: «не скифы пришли из Азии,
отколовшись от остальных иранцев, а, напротив, остальные
иранские племена продвинулись на территорию Индии,
Персии и Средней Азии из Южной России, частью через
Кавказ, частью вдоль северного Каспия в бассейн Оксуса
и Яксарта». «Что касается вторжения скифов из Азии
в VIII в., то это было, очевидно, не первым появлением
иранского элемента в Европе, а одним из передвижений
кочевых северноиранских племен, происходивших
неоднократно и позже».1
Кочевому скотоводству скифов, основанному на
широком использовании лошади, предшествовало пастушеское
скотоводство, когда лошадь еще не была приспособлена
для хозяйственных нужд. Пастушеские племена
передвигались со своими стадами крупного и мелкого рогатого скота
и повозками медленно, но, однако, на большие
расстояния. Эпоха бронзы, особенно II тысячелетие до н. э., —
время активного перемещения скотоводов в Юго-Восточной
Европе. Особенно широко расселились здесь
скотоводческие племена, хоронившие своих покойников в
катакомбах. Различия в их материальной культуре объясняются,
вероятно, общением с племенами тех регионов, через
которые они продвигались, в частности, с племенами
Центральной Европы. Влияние материальной культуры
последних оказалось настолько существенным, что привело
к образованию различных катакомбных культур как
в Центральной, так и в Юго-Восточной Европе.2 Эти
родственные по способу погребения племена скотоводов за
время своего пребывания на юге Центральной Европы
имели широкие контакты с различными народами
индоевропейской лингвистической системы и могли заимствовать
свойственные ей языковые элементы, что, в свою очередь,
может объяснить скифо-европейские языковые и мифо-
1 Там же. С. 122, 123.
2 Клейн Л. С. Происхождение донецкой катакомбной культуры:
Автореф. дис.... канд. ист. наук. Л., 1968. С. 12—16.
89
логические связи. Если учесть при этом большую
подвижность скотоводческих племен, то широкое
распространение лингвистических заимствований на территории
расселения северноиранских племен вполне закономерно.
Вместе с тем ираноязычность племен катакомбных
культур ретроспективно очевидна, если исходить из таких
бесспорных фактов: ираноязычные скифы устраивали для
погребений катакомбы; аланы появились в Предкавказье
с катакомбным обрядом погребения; этот обряд
сохраняется у осетин с поправкой на условия гор — в виде
склепов; ираноязычные таджики, несмотря на предписания
ислама, сохраняют обычай погребения в катакомбах, в то
время как тюркоязычные туркмены хоронят в подбоях.
Следовательно, надо признать, что способ погребения
в катакомбах является для северноиранских племен
традиционным.
Сложнее обстоит дело с предположением, что Юго-
Восточная Европа является прародиной ираноязычных
племен. Преемственность донецкой катакомбной
культуры и скифского катакомбного обряда пытался доказать
Л. С. Клейн. Он утверждает автохтонность скифов
царских, отмечая значительные совпадения в погребальном
обряде тех и других.1
Однако разрыв в несколько столетий между этой
катакомбной культурой эпохи бронзы и погребениями скифов
царских не позволяет соединить их генетически: ката-
комбная культура появилась в этом регионе в период
своего расцвета, но в дальнейшем начался спад в ее развитии,
одной из причин которого могло быть истощение пастбищ
и продвижение в степь скотоводов срубной культуры.
К тому времени, когда скифы вторглись в Северное
Причерноморье, катакомбные культуры археологически уже
не прослеживаются.2
1 Клейн Л. С. Происхождение скифов царских по
археологическим данным // СА. 1963. № 4. С. 27-35.
2 По мнению Л. С. Клейна, племена донецкой катакомбной
культуры еще в доскифское время ушли на восток через Поволжье,
90
В период расцвета катакомбных культур
традиционные имена оставившего их этноса могли получить
распространение и у соседних, иноязычных народов — явление,
наблюдаемое довольно часто. Следы ираноязычности
людей, оставивших катакомбные погребения, может быть,
сохранились в именах киммерийских правителей: «Все
они — иранского происхождения, стало быть,
представляется в высшей степени вероятным, — заключает Я. Гар-
матта, — что господствующий класс киммерийского
народа иранский по происхождению».1
Однако это еще не означает, что население Северного
Причерноморья предскифского времени («киммерийцы»)
было ираноязычным — могли сохраниться только
традиционные северноиранские имена предшествующего
времени (например, как у жителей Верхней Балкарии остались,
несмотря на тюркоязычность, традиционные осетинские
фамилии). Появление ираноязычных скифов и других
кочевников в Северном Причерноморье — результат
совершенно нового этапа в развитии скотоводства. Коренной
перелом в его развитии наступил в начале I тысячелетия
до н. э. с возникновением коневодства и превращением
пастушеского хозяйства в кочевое скотоводство. Оно
возникло в Средней и Центральной Азии, степи которых
этому благоприятствовали. Экстенсивная форма хозяйства
требовала почти непрерывного движения на новые
пастбища, что было возможно, поскольку новорожденный
жеребенок не требует стойлового содержания — он сразу же
может двигаться вместе с табуном.2 Овладев землями
с удобными пастбищами (иногда мирным путем, но не-
Среднюю Азию и Афганистан в Индию {Клейн Л. С. Откуда
арии пришли в Индию// Вестник Ленингр. ун-та. 1980. № 20.
С. 100).
1 НагтаШ ]. Ье ргоЫёте атегпёп // АгсЬаео1о§1а I Ег{;е51б.
1946-1948. № 7-9. Р. 131. Цит. по: Абаев В. И. Скифо-европей-
ские изоглоссы... С. 125.
2 Руденко СИ. К вопросу о формах скотоводческого хозяйства
и о кочевниках//Материалы по этнографии. Л., 1961. 4.1.
С. 4—5. (Геогр. о-во СССР. Отд-ние этнографии).
91
редко и силой оружия), кочевники на некоторое время
переходили к сезонному кочеванию с зимовками в
определенных местах, которые археологически фиксируются
курганными могильниками. Истощение пастбищ и
естественный прирост стада заставляли искать новые места
для выпаса, что требовало предварительной дальней
конной разведки, которая легко превращалась в грабительский
поход; тем самым какая-то часть племени вырывалась
далеко вперед и, действуя самостоятельно, иногда теряла
контакт с основным кочевым массивом на длительное
время (например, скифы во время закавказского похода;
аланы, продвинувшиеся с вандалами до Северной Африки;
хунны Птолемея, оказавшиеся в Левобережном Подне-
провье по меньшей мере на два столетия раньше основной
массы гуннов.1 Археологически это проявляется в
разбросанности на большом расстоянии могильников с
одинаковым способом погребения, точнее — с одинаковой
конструкцией могил. Инвентарь погребений групп,
отделившихся от основного массива, включает уже изделия
ремесленников вновь освоенного региона и, естественно,
отличается от инвентаря могил тех кочевников, которые
находятся еще в прежнем регионе.
В зависимости от того, близ какого из ремесленных
городских центров останавливались кочевники на зимовье
и для обмена, в могилах содержится та или иная керамика
и изделия ремесленников. В Средней Азии к таким
городским центрам, как Фергана и Бухара, для обмена
продуктов скотоводства на изделия ремесленников и
земледельцев в течение многих столетий подкочевывали разные
племена, поэтому они окружены курганами с разным
устройством могил. Можно ли могильники кочевников,
расположенные близ городов, считать этнически
однородными? Ведь известны могильники, в которых
сосредоточены однотипные погребения, и они отражают тот или
1 Кулаковский Ю. Карта Европейской Сарматии по Птолемею.
С. 24, примеч. 4.
92
иной этнос, так сказать, в чистом виде. И только около
крупных городов отдельные представители этих разных
этносов были похоронены рядом, оставив как бы
смешанные кладбища, образовавшиеся за несколько столетий.
В последние столетия I тысячелетия до н. э. на
широкой территории от Средней Азии до Нижнего Поволжья
была распространена южная (с отклонениями к западу
и востоку) ориентировка погребенных как в катакомбах,
так и в широких подбоях, рассчитанных, как и катакомбы,
на погребение нескольких человек, что роднит эти виды
погребальных сооружений (не исключено, что широкий
подбой является своего рода «поисковой
разновидностью» катакомбы, у которой дромос параллелен камере
и так же, как и катакомба, продолжающая дромос в длину
или под углом, свидетельствует о нестандартности этого
сложного погребального сооружения и о поисках
оптимального варианта в его конструкции, которая, возможно,
отчасти зависела от грунта). Некоторые исследователи
считают, что катакомбные и подбойные погребения с
южной ориентировкой оставлены разными, но родственными
ираноязычными племенами.1
В конце I тысячелетия до н. э. появляются курганные
могильники, в которых умершие погребены в узких
подбоях головой на север (или с отклонениями к западу
и востоку). Наиболее ранние могильники с такими
погребениями европеоидов обнаружены в Южном
Таджикистане, в Бухаре и на юге Киргизии (Тулхарская группа, по
Ю. А. Заднепровскому).2
1 Сводку мнений см.: Трофимова Т. Л. Черепа из подбойных и ка-
такомбных захоронений могильника Туз-Гыр // Расогенетиче-
ские процессы в этнической истории. М., 1974. С 155—157.
2 Мандельштам Л.М. 1) Кочевники на пути в Индию // МИ А.
1966. № 136; 2) Памятники кочевников Кушанского времени
в Северной Бактрии // Тр. Таджикской археол. эксп. Ин-та ар-
хеол. Ан СССР и Ин-та ист. им А. Дониша АН Таджикской
ССР. Л., 1975. Т. 7; Кияткииа Т. П. Краниологические
материалы из курганных могильников Северной Бактрии // Там же.
С 202—212; Задиепровский Ю.Л. 1) Археологические памятни-
93
Во II—IV вв. н. э. узкие подбои, у которых дно камеры
ниже дна дромоса, получили широкое распространение
в Нижнем Поволжье и Южном Приуралье; здесь
преобладали европеоиды, которые нередко имеют
монголоидную примесь, и в небольшом количестве монголоиды.1
Распространены также погребения в узких могилах,
иногда с расширением книзу, образующим как бы
незаконченный подбой.
Северная ориентировка свидетельствует о близости
религиозных представлений у племен, оставивших
названные группы могильников, по которым они резко
отличаются от предшественников в этом регионе — от племен
первых веков до н. э. с южной ориентировкой
погребенных — и сближаются с племенами центральноазиатскими
(например, с хунну), где ориентировка погребенных
головой на север резко преобладала. В последующее время
узкий подбой и северная ориентировка являются
характерными для тюркских погребений (некоторые из них
сопровождаются захоронениями в дромосе коня или его
шкуры). Вместе с тем вместо впускных погребений в
курганы эпохи бронзы появляются небольшие курганы над
индивидуальными могилами. Столь полная смена
погребальных норм, а также значительные изменения в
инвентаре и оружии, погребения монголоидов и европеоидов
с монголоидной примесью свидетельствуют о появлении
в поволжско-приуральских степях нового населения —
новых кочевников восточного, тюркского происхождения.
ки юга Киргизии в связи с вопросом о происхождении
киргизского народа // Тр. Киргизской археолого-этнографической
экспедиции. Фрунзе, 1959. Т. 3. С. 28; 2) Изучение культуры
кочевников Средней Азии древнего периода (от саков и до
тюрок) // Проблемы археологии Средней Азии: Тезисы докладов
и сообщений к совещанию по археологии Средней Азии. Л.,
1968. С. 65-67.
1 Фирштейи Б. В. Сарматы Нижнего Поволжья в антропологиче-
' ском освещении // Тот Т. Л., Фирштейи Б. В.
Антропологические данные к вопросу о великом переселении народов. Авары
и сарматы. Л., 1970. С. 69-71, 95-103, 116.
94
(Та часть прежнего населения, которая уцелела при этом,
сохраняла старые погребальные традиции.1) Новые
кочевники были тюркоязычны — во II в. н. э. река Урал
получила «свое тюркское имя ДсШ;, т. е. ]а1ук» — Яик, и в
Левобережном Поднепровье появился народ хунну.2 Вполне
вероятно, что продвижение тюркоязычных кочевников на
запад, в поволжско-приуральские и приднепровские
степи, возглавлялось хунну. Естественно, невозможно
ожидать полного тождества тюркских погребений II—IV вв.
н. э. Нижнего Поволжья и Южного Приуралья и
Левобережного Поднепровья с погребениями хунну II—I вв. до
н. э. в Забайкалье и Монголии — даже там, на основной их
территории, устройство могил иногда несколько
варьирует. Если при традиционном способе погребения хунну
«употребляют внутренний и наружный гробы»,3 то
некоторые захоронения помещались только в гроб, без сруба;
иногда сруб заменялся обкладкой могилы по периметру
плитами, отмечены случаи несеверной (западной)
ориентировки погребенных.4 Следует учесть, что войско хунну
пополнялось как за счет восточных соседей (например,
сяньбинец Тулухэу, муж матери Таныпихая, «три года
служил в войске хуннов»,5 так и особенно за счет войск
завоеванных владений Западного края. Например, еще при
Шаныое Модэ хунну «поразили Юечжи <...> утвердили
1 Шилов В. П. Калиновский курганный могильник // Памятники
Нижнего Поволжья. М., 1959. Т. 1. С. 490-492 (МИА, № 60).
2 Кулаковский Ю. Карта Европейской Сарматии по Птолемею.
С. 24.
3 Бичурин Н. Я. (Иакигкр). Собрание сведений о народах,
обитавших в Средней Азии в древние времена. Т. 1. М.; Л., 1950. С. 50.
4 Коновалов П. Б. Хунну в Забайкалье. Улан-Удэ, 1976. С. 150,
166—167; Доржсурэн Ц, Раскопки могил в горах Ноин-Ула на
р. Хуни-Гол (1954—1957)//Монгольский археологический
сборник. М., 1962. С. 42—44; Волков В, В., Гришин Ю. С.
Раскопки и разведки в Монголии // Археологические открытия 1969
года. М, 1970. С. 445.
5 Бичурин И. Я. (Иакинф). Собрание сведений о народах... Т. 1.
С. 154.
95
Лэулань, Хусе и 26 окрестных владений. Жители сих
владений вступили в ряды хуннских войск, составили один
дом»; в 67 г. до н. э. «оседлые Западного края
соединенными силами ударили на хуннов, завоевали Чешыское
владение и самого владетеля с народом увели с собою. Шань-
юй <...> собрал остатки рассеянного народа и переселил
на восток, а на прежних землях не смел оставить их».1
В результате притока европеоидного населения в
пределы хунну у них за несколько столетий усилились
европеоидные черты настолько ощутимо, что когда император
Ши Минь (350—352) «издал повеление предать смерти до
единого хунна в государстве», то «при сем убийстве
погибло множество китайцев с возвышенными носами»2 —
очевидно, опознавательным признаком для исполнителей
были высокие носы у хунну. Большие носы имели, судя по
изображениям на монетах, гунны, или эфталиты, Индии,
как и статуэтка-гирька из Херсонеса, изображающая
кочевника с косой на спине, вероятно, гунна — «в лице его,
несмотря на грубость исполнения, подчеркнуты высокий
нос, выпуклые глаза, толстые губы».3
Древние хунну были монголоидны.4 Как происходило
смешение монголоидов и европеоидов на территории,
принадлежавшей хунну в Монголии, видно на примере
могильника Найма-Толгой на р. Хуни-гол, где в одной из
могил (№ 1) были вместе погребены европеоидный мужчина
1 Бичурин И. Я. (Иакинф). Собрание сведений о народах... Т. 1.
С. 55, 83.
2 Бичурин Н.Я. (Иакинф). Статистическое описание Китайской
империи. СПб., 1842. Ч. 2. С. 74-75.
3 Трофимова Т. Л. Изображение эфталитских правителей на
монетах и обычаи искусственной деформации черепа у населения
Средней Азии в древности // История, археология и
этнографии Средней Азии. М., 1968. С. 180, рис. 2; Пятышева Н. В. К
вопросу об этническом составе населения Херсонеса в I—VI вв.
н. э. // Античное общество. М., 1967. С. 187.
4 Мамонова Н. Н. К антропологии гуннов Забайкалья // Расо-
генетические процессы в этнической истории. М., 1974. С. 202—
203,210,228.
96
и монголоидная женщина (череп ребенка не сохранился);
мужской череп из другой могилы (3/1) этого могильника
также оказался европеоидным. Оба европеоидные черепа
имеют резко выступающий нос; фрагмент женского
черепа из могилы 3/2 является европеоидным и имеет
признаки искусственней деформации.1 В конце I в. н. э. северные
хунну были разбиты сначала объединенными силами
южных хунну, сяньбийцев, динлинов и владений Западного
края (85 г. н. э.), затем сяньбийцами (87 г. н. э.), снова
войском южных хунну и Китая (89, 90 г. н. э.) и, наконец,
западным приставом Гын Кхой (91г. н.э.). «Северный
шаньюй бежал <...>, и сяньбийцы, пользуясь сим
обстоятельством, заняли земли его». «Младший брат его <...>
Юйчугянь объявил себя шаньюем и с прочими князьями
и старейшинами в нескольких тысячах человек
остановился на озере Пху-лей-хай...», но при попытке
возвратиться на север был убит, а войско уничтожено.2 Однако
уже менее чем через десятилетие после этих потрясений,
несмотря на потерю своей древней территории, северные
хунну настолько оправились, что дважды — в 104 и 105 гг.
н. э. — северный шаньюй (который, по замечанию Н. Я. Би-
чурина, «по истории неизвестно, где он имел пребывание»)
отправлял в Китай посланников «с дарами и с просьбою
1 ЕЫё1уг I., Бофйгеп С, Мжап Б. Кезикз о^ 1:Ье Моп§оНап-Нип-
§апап АгсЬаео1о§1са1 ЕхресНиопз 1961—1964//Ас1а АгсЬаео-
1о§1са Асаскпнае зс1еп1;агит Нип§апае. Т. 19. Разе. 3—4. Вис1а-
рез!;, 1967. Р. 340, й§. 6. Резюме на с. 199; Шк Т. 5оте РгоЫетз т
Й1е Ра1аеоап1;Ьгоро1о§у оГ >к>г1;Ьегп Моп^оНа // 1Ыс1. Р. 377—380,
Р1.1,3.
2 Часть народа хунну не в силах была бежать от сяньбийцев
и осталась на месте. Эти «оставшиеся роды хуннов,
простиравшиеся до 100 000 кибиток, сами приняли народное название
Сяньби». «Здесь, — отмечает Н. Я. Бичурин, — пресекается
владычество Дома Хуннов в Монголии» (см.: Бичурин Н.Я.
(Иакииф). Собрание сведений о народах... Т. 1. С. 126—129,150—
151; Викторова Л. Л. К вопросу расселения монгольских племен
на Дальнем Востоке // История и филология стран Востока.
Уч. зап. ЛГУ. Л., 1958. № 256. С. 46).
97
о мире и родстве — на основании древнего договора с Ху-
ханье».1
После упразднения в 107 г. н. э. наместника в Западном
крае «северные хунны опять овладели им и
соединенными силами около десяти лет производили нападения на
пределы Китая», а со 123 г. н. э. «Хоянь — князь северных
хуннов, распространившись между Пху-лей-хай и Цинь-
хай, полновластно управляет Западным краем и
соединенными силами производит набеги и грабительства».2
Пребывание в Западном крае и совместные действия
местных и хуннских войск способствовали увеличению
количества европеоидов в хуннской среде, как и
переселение местных жителей на подвластную хуннам
территорию.3
Как отмечают китайские источники, «с того времени,
как хунны удалились, усилились сяньбийцы <...> у них
оружие острее и лошади быстрее, нежели у хуннов». Тань-
шихай к 155 г. н. э. не только «на юге грабил пограничные
места, на севере остановил динлинов, на востоке отразил
фуюй»; он «на западе поразил у сунь и овладел всеми
землями, бывшими под державой гуннов, от востока к западу
на 14 тыс. ли, со всеми горами, реками и соляными
озерами».4 Хунну снова были вынуждены отступить на запад.
Остатки северных хунну в Средней Азии
продержались до V в. н. э. (Юебань и в завоеванной хунну области
Судэ): «Некогда хунны, убив владетеля судэского,
овладели землями его. Владетель Хуни составлял уже
четвертое колено после того события»,5 но основная масса хунну
переместилась в южноуральские и нижневолжские степи,
1 Бичурии Н.Я. (Иакииф). Собрание сведений о народах... Т. 1.
С. 132.
2 Там же. Л., 1950. Т. 2. С 217-218.
3 Там же. Т. 1. С. 236.
4 Там же. Т. 1. С. 154,157.
15 Бернштам Н. Н. Очерки истории гуннов. Л., 1951. С. 111;
Гумилев Л.Н. Хунну. М., 1960. С 241; Бичурин Н.Я. (Иакинф).
Собрание сведений о народах... Т. 2. С. 260.
98
о которых могло быть им известно благодаря активной
деятельности летучих отрядов хунну, занимавшихся не
только грабежами и разбоем, но и осуществлявших своего
рода разведку новых пастбищ и объектов для грабежа.
Приуральские и нижневолжские степи на два столетия
дали приют потрепанным отрядам хунну, позволили,
употребляя выражение китайской историографии, дать
отдых ратникам, откормить лошадей; рассеявшийся народ
собрался; табуны размножились, численность народа
увеличилась, отряды пополнились также за счет покоренного
хунну населения этих мест (в могилах местного типа
появилась северная ориентировка). Накопив силы и истощив
размножившимися табунами пастбища, хунну
устремились на завоевание европейских стран, грабежи на
территории которых сулили им немалые богатства. Но пока,
в течение этих двух столетий (от середины II до середины
IV вв.), «хунну отнюдь не были тем могущественным и
богатым народом, которому в Забайкалье и Монголии
ремесленники-рабы и военнопленные изготовляли прекрасные
наконечники стрел и керамику, а китайские посольства
задаривали шелками и красивыми безделушками; не было
даже городов с их многочисленными ремесленниками, где
можно было получить все необходимое путем обмена или
силой оружия, как то было во времена господства в
Средней Азии. Здесь приходилось употреблять лепную посуду
и довольствоваться наконечниками стрел, выкованными
не очень искусными мастерами,1 но вполне пригодными
для большого хуннского лука, который боевыми качества-
1 Отмечая различия в устройстве могил, вооружении, керамике
из нижневолжских могил и бесспорно гуннских погребений
Южного Прибайкалья и Северной Монголии и делая
заключение о невозможности отнесения погребений Нижнего Поволжья
II—IV вв. к гуннам этого времени, В. П. Шилов недооценивает,
с нашей точки зрения, неизбежность изменений в материальной
культуре и этническом и антропологическом составе гуннской
среды после потери древней территории и переселения сначала
в Среднюю Азию, а затем еще дальше к западу. См.: Шилов В. П.
Калиновский курганный могильник. С. 492—496.
99
ми несравненно превосходил те, которые употреблялись
здесь и дальше к западу до прихода сюда хунну. <...>
Многое изменилось после того, как хунну покинули свои
древние земли: и материальная культура, и погребальный
обряд, и даже антропологический состав хуннской орды —
увеличилось количестве европеоидов, смягчилась монго-
лоидность (позднее то же произошло с аварами, в среде
которых монголоиды составляли лишь 7,7%)».1
Многие черепа из могил II—IV вв. н. э. Нижнего
Поволжья и Южного Приуралья имеют следы
преднамеренной искусственной прижизненной деформации.
В большинстве своем это европеоиды, что мешало понять
причастность людей с такими черепами к гуннской орде.
Между тем, при описании гуннской орды Аполлинарий
Сидоний обращает внимание на обычай деформации
головы именно у гуннов, которые перешли замерзший Истр
и вторглись в Дакию: «Даже лица детей внушают особый
ужас. Над круглой массой тела поднимается узкая голова.
<...> Для того чтобы над щеками не выдавались две
трубки носа, связанная кругом тесьма сдавливает нежные
ноздри, чтобы они могли входить под шлемы. Так
материнская любовь обезображивает детей, рожденных ради
битв, ибо растянутая площадь щек становится шире, если
посредине не возвышается нос».2
Обращают на себя внимание слова о деформации носа:
сдавливать ноздри, чтобы они не выдавались над
поверхностью лица, нужно было, конечно, не монголоидам, а
европеоидам. Последние по тем или иным причинам
вливались, как мы видели выше, в гуннскую орду в течение
многих столетий, постепенно изменяя ее
антропологический облик в сторону значительного усиления европеоид -
носги. П. Рау предполагает, что Апполинарий Сидоний,
1 Тот ТА. Об удельном весе монголоидных элементов в
населении Аварского каганата // Тот Т. А., Фирштейн Б. В.
Антропологические данные к вопросу о великом переселении народов.
Авары и сарматы. Л., 1970. С. 29.
2 Аполлинарий Сидоний. Стихотворения (5С. П. С. 420—421).
100
не зная состава гуннской орды, мог ошибочно приписать
гуннам обычай, который, по мнению П. Рау, был
распространен у других племен, в частности у алан, и на этом
основании П. Рау считает, что нижневолжские
подбойные погребения с северной ориентировкой и
деформированными черепами оставлены аланами.1 У последних, как
и у некоторых других племен Северо-Восточного
Причерноморья и Северного Кавказа, обычай деформации
действительно на какое-то время получил
распространение, но это произошло уже после гуннского нашествия,
в V—VI вв. н. э., как подражание обычаю победителей
(и после распада гуннской державы этот обычай
прекратился).
В гуннской же среде он практиковался еще во время
пребывания хуннов в Средней Азии, в первые века нашей
эры, и тоже получил распространение у народов Средней
Азии как подражание обычаям победоносных хуннов.
И вряд ли мог ошибиться Аполлинарий Сидоний,
поскольку у алан до гуннского вторжения этот обычай
источниками не отмечается.
Вопреки мнению П. Рау, получившему широкое
признание в литературе,2 нам представляется — по всей сово-
1 Каи Р. В1е Нй§е1§гаЬег КбпнзсЬег 2еИ ап Аег ип1;егеп \\Ы§а.
Рокго^зк, 1927.
2 Синицып И. В. Памятники Нижнего Поволжья скифо-сар-
матского времени // Тр. Саратовского обл. музея краеведения.
Саратов, 1956. Вып. 1. С. 30; Максимов Е. К. Позднейшие сарма-
то-аланские погребения V—VIII вв. на территории Нижнего
Поволжья // Там же. С. 66; Смирнов К. Ф. Курганы у сел. Иловатка
и Политотдельское Сталинградской области//Древности
Нижнего Поволжья. М., 1959. С. 321-322. (МИА, № 60);
Шилов В. П. Калиновский курганный могильник // Там же. С. 490—
496. К. Ф. Смирнов считает, что «гунны появились в Заволжье
уже во II в. н. э., где, вероятно, часть их смешалась с аланами».
«Резкая деформация черепа и явно монголоидные черты
отличают погребенного (в кургане № 3 у Иловатки) от основной
массы погребенных сарматов (аланов) Поволжья И—IV вв. н. э.,
которые относятся к европеоидному типу» (Смирнов К. Ф.
1) Работа первого Нижневолжского отряда Сталинградской экс-
101
купности вышеизложенных данных — более вероятной
принадлежность нижневолжских погребений в узких
могилах и подбоях с северной ориентировкой не аланам или
сарматам, а гуннам,1 тем, которые в середине II в. н. э.
бежали на запад от сяньбийцев, завоевавших весь Западный
край. Эти остатки некогда великой гуннской державы —
ранние тюрки (с тюркским обрядом погребения в узком
подбое головой на север) — открыли серию переселений
на запад тюркских племен, многие из которых тоже
хоронили своих умерших в узких подбоях головой на север, но
в отличие от своих предшественников — нижневолжских
хунну — были значительно обеспеченнее и могли
позволить себе отправить в загробный путь с умершим коня
(или положить шкуру). И если сравнить эти тюркские
погребения с северокавказскими аланами, то отграничение
тюркских этносов от ираноязычных алан не составляет
особых затруднений.
Вопрос о том, где же гунны находились незадолго до
вторжения в Юго-Восточную Европу, откуда непосред-
педиции // КСИИМК. М., 1954. Вып. 55. С. 74; 2) Вопросы
изучения сарматских племен и их культуры в советской
археологии // Вопросы скифо-сарматской археологии. М., 1954. С. 204);
Кузнецов В. А. Аланская культура Центрального Кавказа и ее
локальные варианты в V—XIII вв. // СА. 1973. № 2. С. 64.
1 Гольмстен В. В. Археологические памятники Самарской
губернии//Тр. секции археологии РАНИОН. IV. М., 1928. С. 134;
Рыков П. С. Изучение скифо-сарматской культуры в СССР //
Изв. Нижне-Волжского ин-та краеведения (Саратов). 1931. Т. 4.
С. 41—47; Смирнов К.Ф. Сарматские курганные погребения
в степях Поволжья и Южного Приуралья // Докл. и сообщ. ист.
фак. МГУ. 1947. Вып. 5. С. 80-81; Нечаева Л. Г. 1) Могильник
Алхан-Кала и катакомбные погребения сарматского времени на
Северном Кавказе: Автореф. дис. ... канд. ист. наук. Л., 1956;
2) Об этнической принадлежности подбойных и катакомбных
погребений сарматского времени в Нижнем Поволжье и на
Северном Кавказе // Исследования по археологии СССР: Сб.
в честь М. И. Артамонова. Л., 1961. С. 157—158; Мерперт Н.Я.
Гунны в Восточной Европе // Очерки истории СССР, III—
IX вв. М., 1958. С. 152.
102
ственно началось их движение на запад, в исторической
литературе специально не рассмотрен — обсуждался
преимущественно вопрос сходства и различия в культуре
хунну и гуннов.1 Возможно, по аналогии с нашествием
татаро-монголов, совершавших грабительские рейды через
Среднюю Азию в Восточную Европу прямо из Монголии,
предполагалось, что завоевательное движение хуннов
тоже зародилось в Монголии на рубеже III—IV вв. н. э.2
(и как результат экстенсивной формы кочевого
скотоводства, и под давлением соседних кочевых племен
Центральной Азии, кормовые ресурсы которой строго ограничены
суровыми природными условиями). В это время южные
хунну успешно вели наступление на Китай. Однако в
середине IV в. по приказу императора Ши Миня только
в столице было убито 200 тыс. хуннов, а в 352 г.
инициатива завоевания Китая перешла к сяньбийцам сначала дома
Муюн, а затем дома Тоба. Два небольших княжества
южных хунну (северных хунну с 93 г. н. э. в Центральной
Азии уже не было) с переменным успехом боролись за
свою судьбу, но в 431 г., при попытке уйти в Западный
край, погибли хунну царства Ся в Ордосе, а хунну царства
Хэси, разбитые войсками тобасцев в 439 г., ушли в
Западный край, в Туфан, и там продержались до 460 г., когда
были перебиты жужаньцами.3 Таким образом,
переселившиеся в Западный край остатки южных хуннов не могли
быть участниками нашествия гуннов на Западную Европу
в IV в. н. э. Эти последние, «европейские гунны», могли
быть только потомками северных хунну,4 покинувших
в 93 г. н. э. свои земли в Центральной Азии, а во второй
1 №тег]. Вейга§е гиг АгсЬао1о§1е с1ез АШ1а-Ке1П55 // ВауепзсЬе
Ака^еппе с1ег \\%5епзспап:еп. РИозорЫзсЬ-Ыз^опзсЬе Юаззе.
N. К, Н. 38А. МйпсЬеп, 1956. 5.1-2.
2 Бернштам Л.Н. Очерки истории гуннов. Л., 1951. С. 137—138,
144-146; Очерки истории СССР, ШЧХвв. М., 1958. С. 154;
Лккегт Р. СезсЫсЫ;е с1ег Ниппеп. I. ВегНп, 1959. 5. 57—58.
3 ГумилевЛ. Я. Хунны в Китае. М., 1974. С. 172-173,179,199-200.
4 Гумилев Л. Н. Хунну. М., 1960. С. 242, 246-247.
103
половине II в. н. э. изгнанных сяньбийцами из Западного
края. Во время этого бегства от сяньбийцев отдельные
отряды хунну (или еще раньше — их летучие отряды) могли
достигнуть уже северо-западного Прикаспия и Днепра.
Дополнительного притока хунну из Центральной Азии не
было (и быть не могло), поэтому письменные источники
ничего не сообщают о позднем перемещении центрально-
азиатских хунну на запад.
Древние авторы знают совершенно отчетливо, откуда
хунну — СЬит, СЬипт (в русском произношении
гунны) — обрушились около 370 г. на Юго-Восточную
Европу: хунны известны им за Танаисом. Так, Аммиан Мар-
целлин пишет: «Племя гуннов (Нипогит §епз), о котором
мало знают древние памятники, живет за Меотийскими
болотами у Ледовитого океана...»; Клавдий Клавдиан
отмечает, что «этот народ живет на крайнем востоке
Скифии за ледяным Танаидом». Аполлинарий Сидоний знает
гуннов «там, где падает с Рифейских скал белый Танаид,
несущийся с Иперборейских гор, под осью
Медведицы...».1 В тексте Аммиана Марцеллина обращают на себя
внимание слова о том, что о племени хуннов ничего не
знают древние авторы. Вместе с тем, Аммиану Марцел-
лину ничего не известно о том, что они пришли откуда-то
издалека: хунны живут за Меотийским болотом к северу,
они здесь давние, местные обитатели — за два столетия
хунну превратились в своего рода аборигенов.
Таким образом, Нижнее Поволжье и Южное При-
уралье, Казахстан являются местом пребывания северных
хунну — СЬиш — гуннов: сюда приводят перекрестные
свидетельства как восточных (китайских) источников,
так и западных. Территорию, занимавшуюся хунну во II—
IV вв. н. э., уточняют погребения с северной
ориентировкой погребенных; они свидетельствуют также о численно-
1 Аммиан Марцеллин. История. XXXI, 2,1 (5С. И. С. 337);
Клавдий Клавдиан. Панегирик... (5С. П. С. 378); Апполинарий
Сидоний. Стихотворения (5с. II. С. 420). Подробнее см.: Берн-
штам А. Н. Очерк истории гуннов. С. 136—137.
104
сти хунну, о степени смешанности с местным населением
и о степени ассимиляции последнего (но это — особая
тема). С конца IV в. н. э. захоронения в узких могилах и
подбоях головой на север в Нижнем Поволжье больше не
совершались: хоронить было некого и некому — хунну ушли
на запад. Что касается Средней Азии, то среди огромного
количества подбойных и катакомбных погребений
ираноязычных жителей этого региона1 при
дифференцированном изучении их несомненно могут быть выявлены
погребения хунну и их потомков. Хуннские погребения I в. до
н. э. — II в. н. э. можно ожидать в восточной половине
Средней Азии, где хунну находились сравнительно
недолго. В IV в. началась миграция хунну из поволжско-казах-
станских степей, очевидно, не только на запад, в
Юго-Восточную Европу, но и на юго-восток — в Среднюю Азию
и дальше к югу — из восточных районов расселения
северных хунну ( в Казахстане и Приуралье). Возможно,
завоевание ими Суде, а также белые гунны (эфталиты), может
быть, и хиониты являются результатом такой вторичной
миграции северных хунну на юго-восток. Но это — только
чисто умозрительные предположения.
Многое утратили за эти два столетия северные хунну —
свою древнюю территорию, обычаи и обряды. Но они
сумели сохранить то, что приносило им победы в прошлом
и обеспечило победоносное шествие по Европе: свои
боевые преимущества по сравнению с армиями других
народов — большой боевой лук (составной, с костяными
накладками, оснащенный стрелами с тяжелыми крупными
наконечниками) и хуннскую тактику ведения боя,
подробно описанную Аммианом Марцеллином. «Трудно
поверить, — пишет Л. Н. Гумилев, — что этот народ —
единоплеменники современных им юебаньских и ордосских
хуннов, но это так»; «В новых тяжелых условиях жизни
Сорокин С. С. Среднеазиатские подбойные и катакомбные
захоронения как памятники местной культуры // СА. 1956. №26.
С. 97-117.
105
потерялась большая часть культурных достижений
прошлого. Только военный строй был сохранен и дал на
западе столь же блестящие результаты, как и на востоке».1 На
западе гунны быстро наверстали и былую славу, и
богатства, разгромив алан и готов, разграбив города Боспора.
Но вернемся к нашим аланам.
К тому времени как гунны разместились в Нижнем
Поволжье и начали накапливать силы для вторжения
в Юго-Восточную Европу, аланы уже больше двух
столетий находились в Приазовье и в Предкавказье. Эти
ираноязычные кочевники тоже пришли из Азии, но не из
Центральной, а из Средней Азии, где проживали различные
ираноязычные народы, у которых земледелие так же
процветало, как и кочевое скотоводство. Последнее с
увеличением стада и табунов требовало новых земель для
выпаса и заставляло избыточное население продвигаться на
запад (на востоке размещались тоже кочевники, которые
сами нуждались в новых землях для избыточного
населения и стремились, в свою очередь, продвинуться на
запад). Мы знаем только результат движения
ираноязычных кочевников на запад: в VIII—VII вв. до н. э. Северное
Причерноморье захватили скифы, затем стали вливаться
туда и дальше к западу другие ираноязычные
(сарматские) племена, и, наконец, в I в. н. э. древние авторы
отметили появление в Северо-Восточном Причерноморье
алан, завершивших движение ираноязычных кочевников
на запад (со II в. н. э. источники фиксируют
проникновение в этот регион уже тюркоязычных кочевников).
Как упоминалось выше, многие ираноязычные
кочевники хоронили своих умерших в катакомбах — люди ка-
такомбной культуры, скифы, аланы, кочевники первых
веков н. э. Сырдарьи и даже современные таджики и (в
каменных «катакомбах» = склепах) осетины.
В Северном Причерноморье в скифское время ката-
комбный способ погребения был распространен в степном
1 Аммиан Марцеллин. История. XXXI. 2,8—9 (5С. П. С. 338—339);
Гумилев Л. Н. Хунну. С. 246-247.
106
Поднепровье и позднее в районе Ольвии, где расселились
скифы в первые века н. э. В Приазовье и в Предкавказье
катакомбные погребения появляются и широко
распространяются в западной и центральной части Северного
Кавказа с I—II вв. н. э., что совпадает со временем
появления здесь алан (судя по письменным источникам).
Катакомбные погребения известны в Средней Азии в первые
века н. э. — много их открыто на Сырдарье в районе
Ташкента; возможно, они отмечают местоположение Аланья-
Судэ, где могла быть родина алан, поскольку Аммиан
Марцеллин говорит об аланах как о прежних массагетах:
«разделенные по обеим частям света, аланы <...> живя на
далеком расстоянии одни от других, как номады,
перекочевывают на огромные пространства»; «их владения
приближаются к Азиатским землям и простираются <...> до
самой реки Ганга, пересекающей Индийские земли и
впадающей в южное море».1
В Причерноморье аланы появились, судя по
письменным источникам, в I в. н. э. сразу в нескольких местах —
и у Меотиды, и на Истре (на Дунае), и в Закавказье.2
Очевидно, передовые отряды продвинулись вперед
значительно дальше основной массы племени. Едва успели
аланы достигнуть Меотиды, как их отряды в качестве
наемников стали воевать и, подобно скифам, грабить
Закавказье. Результат деятельности там алан — опустошение
Мидии и Армении, дележ пленных и добычи.3 Многие
воины не вернулись на Северный Кавказ из этого похода,
так же как и те, которые частью с гуннами, частью со-
1 Аммиан Марцеллин. История, XXXI, 12, 16,17 (5С. П. С. 339—
340).
2 Сводку упоминаний алан в I—II вв. н. э. в письменных
источниках см.: Гаглойти Ю. С. Аланы и вопросы этногенеза осетин.
С. 52-57.
3 Алиев И. Г., Асланов Г. М. К вопросу о проникновении на
территорию Азербайджана сармато-массагето-аланского круга в
первые века нашего летоисчисления // МАДИСО. Орджоникидзе,
1975. Т. 3. С. 77-78.
107
вместно с вандалами отправились в Западную Европу.
Они нашли иную судьбу, чем аланы, оставшиеся в
Предкавказье и положившие там основу будущей Алании,
и многочисленные катакомбные погребения которых
отмечают историю северокавказских алан на протяжении
более тысячи лет.
Вполне естественно, что аланские катакомбные
погребения можно встретить на далеких друг от друга
территориях, так же как и катакомбные погребения
ираноязычных родственников алан, например, скифов: «где-то
начиная с середины I тысячелетия катакомбный обряд
погребений, — отмечает М. П. Абрамова, —
распространяется на широкой территории у разных народов. Мы находим
обширные катакомбные могильники у скифов и на Боспо-
ре <...> помимо недавно открытых ранних катакомбных
могильников в Центральном Предкавказье (Нижне-Джу-
латский, Подкумский, могильник у с. Чегем II), известны
также могильники в Прикубанье».1
Конные отряды кочевников воевать отправлялись
налегке — без обоза, без ремесленников; все необходимое
они могли получить в обмен на скот или захватить силой
оружия. Женщин и детей обычно оставляли в ставке, в
орде (например, скифы во время закавказского похода,
гунны во время своих многочисленных войн в Азии). Отряды
останавливались на зимовье и для обмена около
поселений и ремесленных центров местных племен — здесь они
получали оружие, украшения, керамику, хлеб, а также
необходимые им сведения, и даже отчасти увеличивали
численность отрядов за счет любителей приключений
и легкой наживы из местного населения. Эти последние
служили им проводниками, осведомителями,
переводчиками, парламентариями, отправляясь вместе с отрядом на
добычу. Отряды кочевников во многом зависели от
населения нового региона и старались на первых порах вступать
1 Абрамова М.П. К вопросу об аланской культуре Северного
Кавказа // СА. 1978. № 1. с. 77.
108
с ним в мирные контакты. Возможно, многое достигалось
с помощью брачных контактов, может быть, поэтому
ранние катакомбные погребения алан встречены на местных
кладбищах и имеют столь ощутимые местные черты.1
Такая лее зависимость от местного ремесла (в частности
керамика) обнаруживается у катакомбных погребений
в Закавказье,2 а также в ранних болгарских
погребениях на Дунае и мадьярских в Венгрии, где, по мнению
Е. А. Халиковой, «погребальный обряд является
важнейшим, единственным этническим показателем и
признаком»: «в данном случае посуда уже теряет свой этнический
характер и не может служить этническим показателем»;
«если отбросить погребальный обряд как этнический
критерий, тогда в нашем распоряжении не остается
материалов, чтобы решать этнические проблемы и этнические
вопросы».3
Лишь после того, как в новом регионе расселяется
основная масса племени, причем массивом,
обособленным от местного населения, когда появляются
постоянные зимовья и на их базе начинают действовать свои
ремесленники, в погребениях начинают преобладать вещи
и керамика, характерные для быта данного народа.
Катакомбные могильники, как мы старались показать,
широко связаны с ираноязычными этносами. Многие се-
верноиранские племена в разные периоды истории — от
II тысячелетия до н. э. до современности — погребали
своих умерших в катакомбах. Часть этих племен, как
сообщают древние письменные источники, оказалась в Северо-
Восточном Причерноморье и, как мы знаем по данным
археологии, продолжала хоронить своих умерших в
соответствии с погребальными нормами северных иранцев. Те
катакомбные погребения, которые обнаружены в местах
1 Там же. С. 80.
2 Там же. С. 79.
3 Халикова Е.А. Выступление на научной конференции
североосетинского НИИ, посвященной проблеме аланской
археологической культуры // МАДИСО. Орджоникидзе, 1975. Т. 3. С. 105.
109
расселения алан в соответствии с письменными
источниками, могут с большой долей вероятия считаться алан-
скими. Катакомбные погребения тех регионов, где
письменные источники ничего не сообщают об аланах, могут
принадлежать другим северноиранским этносам, которые
родственны аланам, но не тождественны и имеют свою
собственную историческую судьбу, отличную от судьбы
северокавказских алан.
Несмотря на то что в разных исторических ситуациях
северноиранские племена могли иметь и другие способы
погребения, катакомбный способ мог быть использован
другими этносами в периоды контакта с северными
иранцами; изучение катакомбных могильников значительно
дополняет и расширяет скудные сведения письменных
источников о северноиранских (и других) древних
народах. В данном исследовании нас интересует историческая
судьба лишь одного из северноиранских народов —
осетин, лингвистическим предком которого, как мы видели,
являются аланы, хоронившие, как и многие другие
северноиранские племена, своих умерших в катакомбах. С ка-
такомбными погребениями северокавказских алан мы
и познакомимся ниже.
2. АЛАНСКИЕ КАТАКОМБНЫЕ
МОГИЛЬНИКИ
♦
Катакомбные погребения в Северо-Восточном
Причерноморье были открыты в начале нынешнего столетия
Н. И. Веселовским на правобережной Кубани между
станицами Казанской и Воронежской; здесь были
исследованы курганы, в которых оказались камерные погребения —
катакомбы первых веков н. э., которые Н. И. Веселовский
принял за погребения римских воинов.1 Раннесредневе-
ковые катакомбы на Салтовском могильнике были
поняты В. А. Бабенко и Д. Я. Самоквасовым как погребения
хазар.2 Однако А. А. Спицын, сопоставив катакомбные
погребения салтовского могильника, северокавказские
и Золотого кладбища, пришел к заключению об аланском
происхождении этих погребений.3 Аналогичное решение
вопрос об этнической принадлежности катакомбных
погребений получил и в работе Ю. В. Готье, направленной
против теории хазарской принадлежности салтовской
культуры.
Ю. В. Готье убедительно показал связь салтовских
погребений с катакомбными северокавказскими, а через
них — с осетинами.4
1 Веселовский Н.И. 1) Курганы Кубанской области в период
римского владычества на Северном Кавказе // Тр. 12 АС. 1905. Т. 1.
С. 341—373; 2) Каменные орудия в курганах Северного Кавказа
первых веков христианской эры // Тр. 11 АС. 1901. Т. 1. С. 813—
816.
2 Бабенко В. Л. 1) Памятники хазарской культуры на юге
России//Тр. 15 АС. 1914. Т. 1. С. 435-445; 2) Древние памятники
Хазарской культуры в Верхнем Салтове // Там же. С. 446—464;
Самоквасов Д. Я. Могилы Русской земли. М., 1908. С. 66.
3 Спицын Л. Л. Исконные обитатели Дона и Донца//ЖМНП.
1909. Нов. сер. № 1 (январь). С. 69.
4 Готье Ю. В. Кто были обитатели Верхнего Салтова? //
ИГАИМК. Л., 1927. Т. 4. С 65-84.
111
После того как И. И. Ляпушкин исследовал и
сопоставил юртообразные жилища и погребения кочевников
с синхронными им катакомбными погребениями и
прямоугольными турлучными жилищами алан, принадлежность
катакомбных погребений алан стала особенно очевидна.1
В настоящее время почти общепризнано, что аланы
хоронили своих умерших в катакомбах — как в первые века
н. э., так и в эпоху раннего Средневековья.2
Однако, в связи с тем, что до сих пор не известны
хазарские погребения, снова возникли попытки некоторые
катакомбные могильники считать хазарскими, в первую
очередь, богатые подкурганные катакомбы Верхнечирюр-
товского могильника.3 Поскольку катакомбный способ
погребения был распространен на Северном Кавказе
значительно раньше возникновения Хазарского каганата
и в таких районах, которые не имеют к каганату отношения,
катакомбный обряд погребения мог бы быть заимствован
хазарами у тех племен, у которых он был уже
распространен. Но для этого нужно одно непременное условие —
хазары в течение длительного времени должны были
находиться в тесном контакте с народом, уже практиковавшим
захоронения в катакомбах: например, в Верхнечирюр-
товском могильнике должны были хоронить в катакомбах
сначала не хазары, и потом уже этот способ погребения
1 Ляпушкин И. И. Памятники салтово-маяцкой культуры в
бассейне р. Дона//Тр. Волго-Донской археол. эксп. М.; Л., 1958.
Т. 1. С. 137-148. (МИА, № 62).
2 Ю. В. Гаглойти считает, что «сама мысль о том, что в качестве
истока салтовской и северокавказской культуры алан следует
прежде всего видеть культуру племен с катакомбным обрядом
погребения сарматской эпохи, безусловно, заслуживает
внимания», хотя не считает бесперспективными попытки выявления
этнической близости между людьми, хоронившими в
катакомбах, с одной стороны, и в подбоях — с другой {Гаглойти Ю. С.
Аланы и вопросы этногенеза осетин. Тбилиси, 1966. С. 67).
3 Магомедов М.ГА)К вопросу о происхождении культур Верхне-
чирюртовского могильника//МАД. Махачкала, 1977. Т. 7;
2) Раннесредневековые церкви Верхнего Чирюрта//СА. 1979.
№ 3. С. 194.
112
мог бы быть заимствован хазарами. Поскольку в
катакомбах хоронили умерших сначала аланы, то значительная
часть катакомбных погребений Верхнечирюртовского
могильника является, бесспорно, погребениями алан. У
последних было уже распространено христианство, в
катакомбах встречается христианская символика. Отличить
катакомбные захоронения хазар от аланских погребений
в этих условиях довольно трудно, тем более что
катакомбные погребения пока не обнаружены в других местах
расселения хазар в Дагестане.
Таким образом, эта точка зрения еще нуждается в
дополнительной аргументации.
Но как бы то ни было, в любом случае дагестанские
катакомбные погребения не имеют существенного значения
для эволюции катакомбного обряда погребения в Алании,
так же как и катакомбные погребения, распространенные
за пределами Алании — в Закавказье, на Нижней Волге
и в Приуралье, в Средней Азии. Пока еще не все отдельные
группы катакомбных погребений отождествлены с
определенными ираноязычными племенами, хотя, например,
ташкентская группа катакомб, видимо, может быть
сопоставлена с погребениями населения Алании, так же как
и закавказские катакомбные могильники — с аланами
(и их потомками), участниками походов в Закавказье,
куда аланы отправились, как только появились в
Северовосточном Причерноморье. Скептицизм М. П. Абрамовой,
что «катакомбный обряд погребения не может служить
критерием при выделении ираноязычных этнических
группировок на Кавказе»,1 основан, как мы старались
показать выше, на недооценке подвижности кочевников
и стремления к грабежам их отдельных «летучих»
отрядов, действовавших самостоятельно, в отрыве от
основного этнического массива.
В древние письменные источники попадали сведения
далеко не обо всех передвижениях и действиях кочевни-
1 Абрамова М.П. К вопросу об аланской культуре//СА. 1978.
№ 1. С. 82.
ИЗ
ков. Большой удачей является совпадение данных
археологии с сообщениями древних авторов. Однако не
меньшей удачей следует считать археологические материалы,
которые позволяют расширить, уточнить и
конкретизировать то немногое, что можно почерпнуть из древних
хроник. Огромной заслугой М. П. Абрамовой является то,
что она обратила внимание на самые ранние катакомбные
погребения Предкавказья, изредка встречающиеся на
грунтовых меотских кладбищах Правобережной Кубани,1
и, обнаружив такие же катакомбные погребения I—II вв.
в Подкумском могильнике (под Кисловодском) и на Ниж-
не-Джулатском (КБАССР, правобережье Терека),
выделила бескурганные катакомбные погребения рубежа нашей
эры в особую группу. При сходстве конструкции с подкур-
ганными катакомбами этого же времени, бескурганные
катакомбы грунтовых могильников имеют значительные
местные черты — в погребальном ритуале, инвентаре,
керамике, оружии и связаны с меотскими местными
кладбищами. Этот период, особенно И—I вв. до н. э., в истории
людей, хоронивших своих умерших в катакомбах,
совершенно не освещен письменными источниками. Мало ли
в Северо-Западном Причерноморье появлялось
кочевнических групп и отрядов — в хроники попадали сведения
в первую очередь о тех, которые чинили жителям Боспора
и других городов грабежи и насилия. Вероятно,
деятельность ранних алан была довольно мирной — на зимовья
и для обмена они останавливались близ меотских
поселений (городков), вступая в брачные контакты с местными
жителями, приобретали право быть погребенными на
местном кладбище, получали в могилу различные вещи
местного производства и некоторые элементы местных
погребальных обычаев. Брачные контакты играли доволь-
1 Анфимов Н.В. 1) Меото-сарматский могильник у станицы Усть-
Лабинской // МИА. М.; Л., 1951. № 23. С. 169; 2) Земляные
склепы сарматского времени в грунтовых могильниках Прику-
банья// КСИИМК. Вып. 16. С. 148-157; Племена Прикубанья
в сарматское время // СА. 1958. Т. 27.
114
но большую роль в отношениях кочевников с оседлыми
жителями. Вспомним, что хунну довольно часто
обращались к Китаю с «просьбой о мире и родстве» (выделено
мною. — Л. Н.)} Изредка такие «дипломатические» (?)
женские погребения удается обнаружить археологически;2
при мирных взаимоотношениях кочевников и
земледельцев браки между ними могли заключаться довольно часто,
если учесть, что, по-видимому, передовые отряды алан,
опередившие (подобно хунну) основную массу племени
на одно (два?) столетия, явились в Северо-Восточное
Причерноморье налегке — без обоза, без ремесленников-
оружейников, без женщин и во многом зависели от
добрососедских отношений с местными земледельцами и
ремесленниками. Такую же зависимость от местного населения,
как отмечалось выше, обнаруживают и Мингечаурские
катакомбы, и ранние болгарские и венгерские могильники.
Естественно, не исключено и другое объяснение,
почему катакомбные погребения во II—I вв. до н. э. оказались
на меотских кладбищах; однако погребальные обычаи
меотов и ираноязычных алан настолько различны, что
никакие социальные причины не могут объяснить, почему
богатые меоты могли бы изменить с такой легкостью
традиционный обряд погребения в грунтовых могилах на
погребения в катакомбах — это могло бы произойти лишь
в том случае, если бы появившиеся здесь аланы
подчинили себе меотскую знать, но и в этом случае катакомбный
способ погребения остается аланским, поскольку он не
ограничен только меотскими могильниками, но широко
1 Например: Бичурин Н. Я. (Иакинф). Собрание сведений о
народах, обитавших в Средней Азии в древние времена. М.; Л., 1950.
Т. 1. С. 132.
2 Например, женское скифское катакомбное погребение в Рыжа-
новке на Украине. См.: Самоквасов Д. Я. Могилы Русской земли.
М., 1908; Археолопя Украшьско1 РСР. Кшв, 1971. Т. 2. С 88;
погребение в подбое с северной ориентировкой Пашковского
могильника см.: Смирнов К. Ф. Новые данные по сарматской
культуре Северного Кавказа//КСИИМК. М.; Л., 1950. Вып. 32.
С. 124.
115
распространен по всему Предкавказью, по всей
территории расселения алан.
Что касается решения вопроса об истоках катакомбно-
го способа погребения у алан, то оно не может
ограничиваться привлечением аналогий из Южного Приуралья
и Поволжья, приводимых К. Ф. Смирновым, но, как
отмечает М. П. Абрамова, не очень многочисленных.1
Проблема происхождения катакомбных погребений должна
рассматриваться не только с учетом европейских и
среднеазиатских памятников, но и, вероятно, при условии
накопления новых материалов. В данном исследовании мы
вынуждены исходить из факта, что северокавказские ка-
такомбные погребения на протяжении свыше тысячи лет
связаны с аланами, заселявшими с рубежа новой эры
Центральное Предкавказье, и только с уходом алан в горы
под натиском монголов катакомбный способ погребения
на плоскости прекратился. Но за столь длительное время
в Предкавказье были погребены в катакомбах многие
тысячи алан, и сейчас из этих тысяч уже обнаружены сотни
катакомбных погребений и могильников разного времени.2
1 Алексеева Е. П. Этнические связи сарматов и ранних алан с
местным населением Северо-Западного Кавказа. Черкесск, 1976.
С. 79; Смирнов К. Ф. Сарматские катакомбные погребения
Южного Приуралья-Поволжья и их отношение к катакомбам
Северного Кавказа //СА. 1972. № 1. С 73-80; Абрамова М.П.
К вопросу об аланской культуре Северного Кавказа. С. 78; Вере-
зин Я. Б., Савенко С. Н. К вопросу о происхождении катакомб
сарматского времени на Северном Кавказе // Археология и
вопросы атеизма. Грозный, 1977. С. 37—42.
2 Например, на Салтовском могильнике, по расчетам Д. Т. Бере-
зовца, могло находиться до 30 тыс. катакомб. Дмитровский
могильник, по мнению С А. Плетневой, значительно меньше, «но
и там исследователя ждут тысячи погребальных комплексов»
{Плетнева С. А. От кочевий к городам. М., 1967. С. 88,90. (МИА,
№ 142)). Значительная часть катакомбных погребений
Северного Кавказа опубликована, имеются общие и региональные
сводки, поэтому нет надобности рассматривать здесь все
катакомбные погребения и могильники, тем более что любая сводка
не будет полной в связи с открытиями предыдущего сезона.
Здесь мы приводим описание только неопубликованных памят-
116
Они характеризуют материальную культуру и расселение
алан на Северном Кавказе в различные исторические
периоды. Катакомбные погребения являются своеобразной
археологической летописью успехов и усиления
северокавказских алан от столетия к столетию и равным
образом — летописью неудач и поражений, которые
вынуждали их переселяться с плоскости в горы. Началась эта
летопись с появления катакомбных погребений перед
рубежом нашей эры в Среднем Прикубанье и к востоку от
него — в Пятигорье, в излучине Терека.
КАТАКОМБНЫЕ ПОГРЕБЕНИЯ
II в. до н. э. — IV в. н. э.
В настоящее время наиболее ранние катакомбные
погребения обнаружены на меотских кладбищах в среднем
Прикубанье и на Нижне-Джулатском бескурганном
могильнике.
ников. Основные сводки катакомбных погребений Северного
Кавказа см.: Кузнецов В. А. 1)Аланские племена Северного
Кавказа. М, 1962. С. 13-29. (МИА, № 106); 2) Аланская
культура Центрального Кавказа и ее локальные варианты в V—
XIII вв.//СА 1973. №2. С. 61-70; Виноградов В. Б. Сарматы
Северо-Восточного Кавказа. Грозный, 1963; Алексеева Е.П.
1) Памятники меотской и сармато-аланской культуры
Карачаево-Черкесии//Тр. КЧ НИИ истории, языка и литературы.
Ставрополь, 1966. Вып. 5 (сер. ист.). С. 156—167; 2) Этнические
связи сарматов и ранних алан с местным населением Северо-
Западного Кавказа. Черкесск, 1976. С. 57—82,144—146;
Абрамова М. ПЛ) Раннесредневековые погребения Нижне-Джулатского
могильника//КБ НИИ. Нальчик, 1967. Т. 25; 2) Нижне-Джу-
латский могильник. Нальчик, 1969. С. 45—73; 3) К вопросу
о раннеаланских катакомбных погребениях Центрального
Предкавказья. С. 64—7'1; Минаева Т. М. К истории алан Верхнего
Прикубанья. Ставрополь, 1971; Смирнов К. Ф. Сарматские
катакомбные погребения Южного Приуралья-Поволжья и их
отношение к катакомбам Северного Кавказа. С 73—80;
Виноградов В. Б., Мамаев X. М. Некоторые вопросы раннесредневековой
истории и культуры населения
Чечено-Ингушетии//Археология и вопросы этнической истории Северного Кавказа.
Грозный, 1979. С 63-73.
117
В станице Ладожской обнаружена катакомба II в. до н. э.
Погребальное помещение ее находилось на глубине 3 м,
там было погребено 5 человек, кости некоторых при
повторных погребениях были сдвинуты. Среди украшений
оказались золотые серьги и браслеты, бусы и зеркала,
керамика состояла преимущественно из разнообразных
сосудов местного меотского производства, а также родосская
амфора и миска, покрытая бурым лаком. Наконечником
копья и дротика, втульчатыми железными трехгранными
наконечниками стрел — представлено в катакомбе оружие.1
Устройство, форму и размеры погребальной камеры этой
катакомбы (как и камерных могил могильника ст. Усть-
Лабинской) из-за непрочного прикубанского грунта
проследить не удалось.
Исследование ранних катакомб II—I вв. до н. э. на Ниж-
не-Джулатском могильнике отчетливо выявило два типа
катакомб: более распространены катакомбы, камера
которых расположена по одной оси с дромосом и является как
бы продолжением дромоса в длину, но часто с
отклонениями. Реже на этом раннем этапе устраивались катакомбы,
камера которых перпендикулярна дромосу — тоже с
отклонениями от прямого угла и со смещением лаза к одному
из углов. В том и другом случае камеры имеют
значительную ширину — предназначены для многократных
погребений.2
Естественно, на столь небольшом материале
невозможно предложить развернутую характеристику
деятельности людей, погребенных в катакомбах. Можно
предположить, что относительно небольшая группа пришельцев не
в состоянии была противостоять многочисленным меотам
1 Анфимов Н. В. Земляные склепы сарматского времени в
грунтовых могильниках Прикубанья//КСИИМК. М.; Л., 1947.
Вып. 16. С. 154-156.
2 Абрамова М.П. 1) Нижне-Джулатский могильник. Нальчик,
1972. С. 9; 2) К вопросу о раннеаланских погребениях
Центрального Предкавказья // Вопросы древней и средневековой
археологии Восточной Европы. М., 1978. С. 65.
118
и могла уцелеть в иноэтническом окружении благодаря не
только мирным и дружеским отношениям с давними
хозяевами этой земли, но и устанавливая родственные с
ними связи. Однако эти первые отряды насчитывали
значительное количество воинов и были вынуждены довольно
широко «расквартироваться», чтобы не слишком
обременять местных земледельцев; вместе с тем, некоторая
разбросанность катакомбных погребений свидетельствует
скорее не о силе, а о взаимной слабости пришельцев и
аборигенов, о мире, основанном на понимании
невозможности стать победителем, нарушив мир. Возможно,
население занятых аланами районов использовало этих воинов
для защиты при набегах степняков. Не очень мирной
обстановкой объясняется многочисленность наконечников
стрел, которые оказались почти в каждой катакомбе этого
времени. Вместе с тем, Нижний Джулат, возможно, был,
как и в последующие времена, городком, где работали
ремесленники и где кочевники могли останавливаться для
обмена, на зимовье.
В первые века нашей эры катакомбные погребения
распространены как могильники с подкурганными
катакомбами, так и отдельные катакомбы на меотских кладбищах
и на бескурганных катакомбных могильниках. Из числа
последних катакомба станицы Казанской содержала
погребение женщины и ребенка; лаз, ведущий в камеру, был
закрыт глиняной обожженной плитой. Инвентарь
погребений, в том числе плакетки львов, позволил датировать
катакомбу I в. н. э.1 Катакомба станицы Тбилисской
оказалась двухкамерной; входная яма почти квадратная,
камеры расположены на разной глубине, лаз их закрыт
каменными плитами. Меч, черешковые стрелы, бусы, керамика
датируют погребение I в. н. э.2
1 Апфимов Н. В. Новые материалы по меото-сарматской культуре
Прикубанья // КСИИМК. М., 1952. Вып. 46. С. 83-84.
2 Апфимов Н. В. Земляные склепы сарматского времени... С. 152—
154, рис. 52.
119
Наряду с отдельными катакомбами известны и
кладбища с катакомбными погребениями: продолжается
захоронение в катакомбах на Нижне-Джулатском могильнике;
своеобразным коллективным «курганом» оказался
могильный холм Подкумского могильника под
Кисловодском, на склоне р. Юца под Пятигорском. В этот период
широко распространяются подкурганные катакомбные
погребения — насыпаются курганы над катакомбами
«Золотого кладбища», на плато около с. Учкекен. Катакомбы
имеют разнообразное устройство.
На Нижне-Джулатском могильнике сохраняется
традиция устраивать катакомбы как первого, так и второго
типа (с расположением камеры по продольной оси дромо-
са и перпендикулярно дромосу). Такое же устройство
имеют и катакомбы Золотого кладбища, исследованные
Н. И. Веселовским и А. М. Ждановским,1 и катакомбы
могильника Учкекен.2 На Подкумском могильнике
обнаружены двухкамерные катакомбы.3 Катакомбы на р. Юце
имели камеру, расположенную параллельно дромосу.4
Подкурганная катакомба обнаружена даже в начале
ущелья Кубани.5
Большое количество курганов «Золотого кладбища»
и другие подкурганные и безкурганные могильники
свидетельствуют о резком увеличении аланского населения
1 Ждановский А. М. Новые данные об этнической принадлежности
курганов «Золотого кладбища» // Археология и вопросы
этнические истории Северного Кавказа. Грозный, 1979. С. 38—45.
2 Алексеева Е. П. Памятники меотской и сармато-аланской
культуры Карачаево-Черкесии//Тр. КЧНИИ ИЯЛ. Ставрополь,
1966.С. 158-167, рис. 16, 17,18.
3 Абрамова М. П., Кантемиров Э. С, Череповская О. В.
Исследования в Центральных районах Северного Кавказа//АО 1975 г.
М., 1976. С. 103; Абрамова М. П. К вопросу об аланских ката-
комбных погребениях... С. 65.
4 Рунич А. П. Сарматские катакомбы на берегу р. Юцы // С А.
1961. №1. С. 266-270, рис. 1.
5 Минаева Г. М. К истории алан Верхнего Прикубанья по
археологическим данным. Ставрополь, 1971. С. 115—123, рис. 26.
120
в Среднем Прикубанье, в Пятигорье и дальше к востоку.
В Предкавказье вливается основная масса племени алан;
курганы с. Зеленокумска, Мкос, Брут и др. характеризуют
путь продвижения алан в первые вв. н. э. по
Предкавказью.1 Значительная масса алан размещается в бассейне
р. Сунжи, где на ее высоком левом берегу на базе
городища Алханкала возникает один из аланских городов.
В курганном могильнике Ал хан-Кала, раскинувшемся
около городища в конце прошлого столетия, А. А. Боб-
ринский насчитал до 5000 курганов2 — в их числе было
немало насыпано над катакомбами. В настоящее время
курганы сильно распаханы. На могильнике раскопано немногим
больше десятка катакомб: четыре — А. А. Бобринским,
девять — Северо-Кавказской экспедицией ИИМК.
Исследованные А. А. Бобринским курганы имели высоту от 1,5
до 2,5 м; из числа раскопанных Северо-Кавказской
экспедицией3 курган № 1 имел насыпь высотой 0,5 м, № 2 —
1,3 м, № 7 — около 1,2 м (о высоте остальных курганов
сведений нет). Все курганы ограблены.
Катакомбы курганов могильника Алхан-Кала имели
следующее устройство.
Курган №1 Дромос длиной 2,5, шириной 1—1,5 м,
(рис. 9,1) глубиной 3,3 м от уровня древней
почвы значительно уже внизу,
ориентирован по линии ЮВВ-СЗЗ; овальный лаз шириной 0,65 м,
1 Там же. С. 124—126, рис. 32; Виноградов В. Б. Сарматы Северо-
Восточного Кавказа. С. 75.
2 ОАКза1888г.С.ССЬУ.
3 В Северо-Кавказской экспедиции ГАИМК под руководством
М. И. Артамонова работало несколько отрядов. В 1937 г. в
отряде по исследованию могильника Алхан-Кала принимали
участие М. И. Артамонов, А. П. Круглов, С. Н. Аносов, А. С.
Боброва, А. А. Гаврилова, М. Агронян, Е. М. Калашникова; в 1938 г.
в отряде, возглавляемом А. П. Кругловым, работали С. Н.
Аносов, Е. Е. Левдиков, М. 3. Паничкина, В. Н. Полторацкая, на
городище под руководством Ю. В. Подгаецкого — Т.
Архангельская, В. Якубовская, А. А. Гаврилова.
121
высотой 0,5 м вырублен в северной стенке, сводчатая
камера параллельна дромосу, ее длина 3 м, ширина 2 м,
высота 2 м. Камера прямоугольная со скругленными углами,
пол ее ниже лаза на 0,9 м. Найдено несколько небольших
золотых бляшек (2 овальные со штампованной «зернью»
и пластинчатым ушком, 2 бляшки с конусовидной
серединой, с рубчатым краем и ушком на обороте, 1 круглая с
загнутым краем) и бусина.
Курган № 2 Высота насыпи 1,30 м, диаметр 16 м, дро-
(рис. 9,2) мое вытянут с С на Ю, длина вверху 3,85,
ширина 0,68 м, глубина около 6 м; внизу
длина 2,80 м, ширина 0,90 м. На высоте 2,70 м по стенкам
ямы проходила бороздка для крепления настила для
переброски земли. Лаз в северной узкой стенке, высотой
0,63 м, шириной 0,6 м. Для упора плиты, закрывавшей
вход, прослеживалась бороздка, но плита отвалена. Дно
камеры ниже дромоса на 1,10 м; камера с высоким
стрельчатым сводом, прямоугольная с прямыми стенами и
четкими углами. Ориентирована с СВ на ЮЗ — не
перпендикулярно, а под углом и лаз несколько смещен к ЮЗ углу
(если бы грунт в Присунженье был непрочный, то
получилась бы катакомба III типа по К. Ф. Смирнову). На
юго-западной стороне камеры небольшая квадратная
ступенька (0,19 м шириной и 0,26 м высотой), а в северном
углу — небольшая квадратная приступка. На стенах —
следы орудия в виде длинных узких полос. Кости ребенка
разбросаны, череп имеет следы искусственной
деформации, вещей не обнаружено (в насыпи — обломки миски
и кувшина).
Курган № 3 Широкий дромос (длиной 4,7 м, шириной
(рис. 9,3,10) 2,5—3,2 м, глубиной до 3,7 м от уровня
древней почвы) вытянут с Ю на С, дно
имеет ступеньку, наклонено к северу, где вырублен
прочный лаз (шириной 0,8 м, высотой 1 м); перед лазом —
канавка для упора заслона. Камера с округлым сводом,
122
прямоугольно-овальная в плане, расположена
перпендикулярно дромосу, пол ее ниже дна дромоса на 0,5 м, длина
3,5 м, ширина 2,3 м, высота 2 м. В камере оказались
золотые вещи: подвески (одна с аметистом, другая — с
красным камнем — гранатом?), пронизка типа четырнадцати-
гранника с вставками аметиста и граната, обкладки
четырнадцатигранных бус, штампованные
бляшки-розетки с ушками на обороте, а также шиферный точильный
брусок. Во входной яме находились обломки сероглиня-
ного горшка, 2 бронзовые фибулы с широкой дружиной,
раскованным приемником и шариками на конце,
сердоликовые бусы и пастовые типа тШШоп, обломок железных
предметов — удил, пряжки, кольцо.1
Курган № 4 Аналогичен кургану № 3: широкий дро-
мос вытянут с юга на север, в северной
стенке лаз и камера, перпендикулярная дромосу, с
округлым сводом, прямоугольная с округлыми углами. При
расчистке собраны следующие вещи: золотые бляшки
с вставками из полудрагоценных камней, тисненые розет-
ковидные бляшки, золотые бусы и обкладка
четырнадцатигранной бусины. Остальные бусы разнообразны —
шаровидные и четырнадцатигранные сердоликовые,
пастовый бисер, удлиненная каменная бусина; в ожерелье
входили также коническая и шаровидная с ушком
стеклянные подвески и скарабей. Из числа серебряных
предметов уцелели две небольшие пряжки и пронизка, из
бронзовых — фибула с раскованным приемником,
загнутым на конце в колечко, и массивное бронзовое кольцо.
Обломок железного двулезвийного меча и массивной
пряжки, большая миска и маленькая мисочка, обе на
поддоне, кремень (обломок скребка) исчерпывают остатки
уцелевшего инвентаря.2
1 Виноградов В. Б. Сарматы Северо-Восточного Кавказа. С. 72—
73, рис. 28.
2 Там же. С. 74, рис. 29.
123
Курган № 5 Узкий дромос вытянут с юга на север,
(рис. 9,5,11а) расширяется к северу, где вырублены
две бороздки и арочный лаз. Камера со
стрельчатым сводом — прямоугольная, со слегка
скругленными стенами. Она расположена перпендикулярно дро-
мосу (с небольшим отклонением). Остатки инвентаря
составляют: серебряные лунница, пряжка и наконечник
ремня (или застежки?), бронзовые обоймы и полушарные
небольшие бляшки с петелькой на обороте. От ожерелья
уцелели лишь биконическая и круглая стеклянные
бусины и обломки обкладок на коже.
Курган № 6 Аналогичен № 3 и 4: широкий дромос вы-
(рис. 9,6,116) тянут с ЮЮЗ на ССВ, несколько
расширяется к северу, где вырублен подпрямо-
угольный широкий лаз и камера. В отличие от катакомб
других курганов, пол камеры выше дна дромоса, но
несколько ниже уровня лаза. Камера перпендикулярна
дромосу, прямоугольная, со скругленными углами и
скругленной северной стенкой. При расчистке собраны
золотые бусы и полушарные бляшки с пластинчатой
петелькой на обороте, бусины круглые плоские, сердоликовые
четырехгранные и большая удлиненная стеклянная, лиг-
нитовая трехгранная пронизка; мелкий пастовый желтый
и зеленый бисер и несколько пронизок составляют
длинную низку. Уцелело многовитковое серебряное колечко;
большое бронзовое кольцо и 2 железные пряжки
относятся к принадлежностям сбруи. В насыпи кургана оказалась
большая миска с плоским дном и две небольшие на
высоком поддоне.
Курган № 7 Дромос вытянут с юга на север, слегка
(рис.9,7,12а,13) расширяясь к северу, где вырублены
лаз и камера. Последняя расположена
перпендикулярно к дромосу, но несколько отклоняется —
расположена под углом по отношению к оси дромоса. Пол
124
камеры, как обычно, значительно ниже дна дромоса,
который спускается к камере наклонно.
В заполнений дромоса было обнаружено около десятка
сосудов, в камере — еще четыре. Все сосуды разные,
представлены по одному экземпляру, кроме небольших
сосудиков — плошек, которые были положены парами: две
сделанные на круге в дромосе и две лепные плошечки —
в камере. Остальные вещи собраны также как в камере,
так и в дромосе: золотые бляшки — конические с ободком,
розетковидные, треугольные и полушарные с петелькой
на оборотной стороне; от ожерелья осталось лишь
немного бисера, четырнадцатигранная сердоликовая и
шаровидная стеклянная (пастовая) бусины. Бронзовая «петля»,
миниатюрные пряжки принадлежат, вероятно, поясу,
а большая железная пряжка, бронзовые кольцо и рубчатая
массивная пронизка являются деталями сбруи. Каменное
пряслице (из дромоса) и железные ножи — необходимые
хозяйственные предметы, которыми и ограничивается
инвентарь, уцелевший в кургане.
Курганы № 8 (рис. 9,8,126) Размеры их несколько мень-
и № 9 (рис. 9,9) ше, но устройство
аналогично большинству катакомб
могильника. Дромосы вытянуты по линии ЮЮЗ-ССВ,
слегка расширяются к северу, где вырублен лаз и камеры
перпендикулярно к дромосу, но лаз несколько смещен
к восточному углу Свод камер округлый, пол камеры
значительно ниже дна дромоса.
В камере кургана № 8 уцелели небольшие железные
черешковые и втульчатые наконечники стрел, костяной
четырехгранный наконечник стрелы найден в дромосе.
В камере помимо наконечников стрел обнаружены две
небольшие бронзовые пряжки с плоскими загнутыми
язычками, обойма, ажурное украшение. На дне мисочки из
камеры отпечаталось клеймо в виде буквы 2.
В кургане № 9 вещей не было.
Таким образом, среди раскопанных Северо-Кавказской
экспедицией курганов можно отметить два типа ката-
125
комб: катакомба № 1 соответствует IV типу, отмеченному
К. Ф. Смирновым; катакомбы № 3, 4, 6, 9 — соответствуют
I типу катакомб по К. Ф. Смирнову. Наконец, катакомбы
№ 2 и 5 могут быть отнесены к тому же I типу, но с
отклонением оси камеры от строгого перпендикуляра. Однако
устройство камеры курганов № 2 и 5, благодаря
стрельчатой форме свода, резко отличает эти катакомбы от
остальных. К сожалению, в кургане № 2 не осталось
датирующих предметов, поэтому этот вариант катакомб можно
датировать лишь по аналогии с катакомбами
аналогичного устройства на других могильниках. Так, катакомбы
аналогичного устройства были обнаружены среди поздней
группы погребений на Нижне-Джулатском могильнике,
у с. Братское, с. Брут, Октябрьское и Алиюртовском
могильнике. Позднее вариантом таких катакомб, возможно,
являются некоторые катакомбы Рим-Горы.1
М. П. Абрамова отмечает, что, «в отличие от более
ранних катакомб Центрального Кавказа, аланские катакомбы
IV—V вв. характеризуются большей глубиной
залегания...».2 Для катакомб Алхан-Калы, вероятно, можно
отметить ту же закономерность: дромосы основной массы
катакомб имеют глубину до 3 м и в одном случае — 3,8 м,
в то время как дромос катакомбы № 2 достигает глубины
6 м (катакомба № 5 по глубине занимает промежуточное
положение). Можно предположить, что погребения на
могильнике Алхан-Кала совершались не только во II—IV вв.,
но и позднее.
1 Абрамова М. Я. Нижне-Джулатский могильник. Рис. 10, 13, 15;
Чеченов И. М. Древности Кабардино-Балкарии. Нальчик, 1969.
Рис. 17; Мунчаев Р. М. Новые сарматские памятники Чечено-
Ингушетии // СА. 1965. № 2. Рис. 5; Абрамова М. П. Катакомб-
ные погребения IV—V вв. н. э. из Северной Осетии // СА. 1975.
№ 1. Рис. 1-3; Рунич А. П. Катакомбы Рим-Горы//С А. 1970.
№ 2. Рис. 2; Даутова Р. А., Мамаев X. М. Археологические
памятники средневековья у с. Али -Юрт (Чечено-Ингушетия) //
СА. 1974. № 2. С. 223-225.
2 Абрамова М. П. Катакомбные погребения IV—V вв. н. э. из
Северной Осетии.
126
Таким образом, от времени появления первых алан-
ских отрядов во II—I вв. до н. э. к концу IV в. н. э. аланы
прочно освоили степи Центрального Предкавказья. Их
продвижение в этом регионе фиксируют катакомбные
могильники, как безкурганные (когда группы алан вступали
в добрососедские отношения с местными жителями), так
и курганные (отражающие места постоянных торжищ
и зимовок тех алан, которые при появлении в Прикубанье
в I в. н. э. составляли основную массу племени — вели
чисто кочевой образ жизни — этим аланам, постоянно
передвигающимся по степи за скотом и отправляющимся на
грабежи не только в ближние, но и в дальние походы,
было необходимо курганами отмечать места захоронения
своих родственников и воинов).
КАТАКОМБНЫЕ ПОГРЕБЕНИЯ
У-УП-нач.УШв.
Вторжение гуннов (и вслед за ними других тюркоязыч-
ных кочевников) внесло большие изменения в жизнь при-
кубанских алан — уцелевшие их остатки укрылись в
горных ущельях, — появление там алан отмечают катакомбные
могильники V—VII вв. Ближайшим убежищем для
разгромленных прикубанских алан стало ущелье Кубани; его
широкие стенные прибрежные террасы тянутся между
руслом реки и горами — они удобны как для земледелия,
так и для скотоводства. Но особенно хороши выпасы
в ущельях мелких притоков Кубани — скот и табуны
могли разбредаться только в пределах этих ущелий,
разделенных горами, которые защищали их от северных ветров
и... от алчного взгляда летучих отрядов новых
завоевателей причерноморских и прикубанских степей. Кубанское
ущелье было известно аланам уже в I—II в. н. э. (об этом
свидетельствует Усть-Джегутинская подкурганная
катакомба) — вполне естественно, что туда устремилась часть
уцелевших прикубанских алан.
В степи аланы не всегда насыпали над катакомбой
специальный курган — нередко катакомбу впускали в
готовый, более древний. Этого было достаточно, чтобы запом-
127
нить, заметить место захоронения — при дальних
перекочевках по предкавказской равнине. Это было необходимо,
чтобы иметь возможность в дальнейшем почтить память
погребенного. Необходимость насыпать курган (или
использовать для погребения более древний) в ущелье
отпадала. Здесь не было далеких перекочевок, и в условиях
разнообразной природы не составляло большого труда
отыскать место захоронения, даже если оно и не было
отмечено специально; тем более что при ограниченной
территории сезонных перекочевок на зимовках (и, может
быть, на закрепленных летовках) возникают постоянные
кладбища. По традиции могилу — катакомбу — впускают
вместо кургана в холм или в склон; естественно, грунт
должен был быть достаточно плотным и прочным,
пригодным для вырубания катакомбы: относительно мягкий
грунт (глина, лесс) требовал спускать камеру на большую
глубину, чтобы предотвратить обвал потолка, и для этого
приходилось выкапывать глубокий дромос, что требовало
перекидки земли; твердый, скальный грунт давал
возможность устраивать камеру на небольшой глубине, что
позволяло затрачивать меньше сил на выдалбливание дромоса.
Таким образом, расход сил был примерно одинаковым, но
твердый грунт позволял создавать камеру лучшего
качества. Но поначалу катакомбы вырубали по всем
правилам — к камере ведет узкий дромос, из которого лаз ведет
к камере.
Так, катакомбы могильника Байтал-Чапкан,1
расположенного на склоне холма в верховьях левого притока
Кубани, несмотря на твердость известкового грунта, все
имеют прямоугольный дромос глубиной от 2 до 3 м.
Камеры перпендикулярны (с отклонениями) дромосу.2
1 Минаева Т. МЛ) Могильник Байтал-Чапкан в Черкесии // СА.
1956. Т. 26. С. 238-261; 2) К истории алан Верхнего Прику-
банья... С. 132-135, рис. 34-36.
2 Алексеева Е. П. Этнические связи сарматов и алан с местным
населением Северо-Западного Кавказа. Черкесск, 1976. С. 53—54,
табл. 3, рис. 5—7.
128
Катакомбы могильника Расположены на правом при-
у с. Новая Джегута токе Кубани; имеют также
(рис. 10,8—9) дромосы и камеры,
расположенные перпендикулярно;
у одной из катакомб дромос вытянут вдоль склона, у
другой — врезан в склон перпендикулярно. Катакомбы
вырублены в плотно слежавшемся морском осадочном песке,
затесывать который было значительно легче, чем лесс, но
камеры получались очень правильных очертании и
хорошо заглажены.
Могильник Токмак-Кая Также начинался с обычных
(рис. 10,7) катакомб. Катакомба,
расположенная в глубине в балоч-
ке, имеет обычный дромос, направленный
перпендикулярно склону (в основании отвесной скалы). Вторая
катакомба — с двумя лазами, один из которых имеет
вырубленный в скале дромос, а второй — без дромоса, так как
скала делает здесь поворот. Остальные катакомбы
могильника, подобно левому входу этой катакомбы, лаза не
имеют. Степная традиция сооружения катакомб уступила
свои позиции рациональному использованию природных
возможностей горных районов. Однако попытка устроить
катакомбу в скальных выходах около г. Карачаевска (на
Пушкинской улице) оказалась не очень удачной и
дальнейшего развития не получила: под Карачаевском скалы
не песчаниковые, иного происхождения, стены
получаются неровные (рис. 10,6); такие же скалы (непригодные для
вырубания катакомб) распространены по всему
Центральному и Северному Кавказу, поэтому скальные катакомбы
там не получили развития.
В районе Кисловодска эволюция скальных катакомб
тоже начиналась с катакомб, имеющих дромос: в скальном
пологом подножии (прикрытом землей у с. Учкекен
останца, на котором Е. П. Алексеева исследовала катакомбы I—
II вв.) вырублены дромосы, которые подводят к лазу в
камеру, вырубленную не в склоне, а в скальном массиве
129
самого останца. Такие скальные катакомбы здесь
единичны, основная масса учкекенских скальных катакомб
вырублена значительно выше и дромоса не имеет.
Скальные катакомбы в районе Кисловодска
многочисленны, но многие уже вырублены в виде ниши, которая
и закрыта стенкой; таким же образом использованы
естественные скальные ниши. (Кстати, напомним, что
аналогичное погребальное сооружение мы уже видели в эпоху
позднего средневековья в Осетии, в Куртатинском ущелье
у с. Дзивгис — см. рис. 1,3; 2,1), но там мы его называли
скальным склепом, поскольку внешнее оформление его
соответствует склепам эпохи позднего Средневековья.
Типологически между скальным склепом у с. Дзивгис
и скальными катакомбами близ Кисловодска,
устроенными в нише, закрытой стенкой, нет никакой разницы.)
Поскольку скальные катакомбы распространены только
на западе центральной части Северного Кавказа (от Б.
Зеленчука до Баксана), в то время как земляные катакомбы —
в восточной части (от Баксана до Аргуна), В. А. Кузнецов
считает возможным говорить о выделении двух
локальных вариантов внутри аланской археологической
культуры: «...рассматривая аланскую культуру в целом, мы не
можем не отметить наличия в ней двух локальных групп
археологических памятников — восточной и западной».1
Однако называемые В. А. Кузнецовым памятники
расположены в разных географических зонах — земляные,
катакомбы и городища восточного варианта в основном
на равнине, где нет ни скал, ни камня; памятники
западного варианта — в предгорьях, окруженных скалами. Вряд
ли в этом случае следует говорить о локальных вариантах
аланской культуры — вероятно, следует говорить о
локальных географических вариантах разнообразной природы
и рельефа Центрального Кавказа и о творческом
использовании их аланами для своих нужд. К тому же в районе
Кисловодска известны не только скальные могильники,
1 Кузнецов В. Л. Аланская культура Центрального Кавказа и ее
локальные варианты в V—XIII вв. // СА. 1973. № 2. С. 69,64.
130
здесь много аланских могильников с обычными
катакомбами, — а скальные катакомбы являются всего лишь
разновидностью катакомбных погребений, которая могла
возникнуть только потому, что природа создала в
окрестностях Кисловодска удобные для этого скалы. Другими
словами, скальные катакомбы являются всего лишь
локальным вариантом катакомбных могил (группа алан
воспользовалась местными географическими условиями), но
отнюдь не локальным вариантом аланской культуры:
аланскую же культуру V—VIII вв. этого региона
характеризуют обычные аланские катакомбные могильники, в
большом количестве выявленные под Кисловодском,1 где для
их сооружения использовались песчаник, суглинок,
плотная слоистая мергелистая глина.
В бассейне Баксана, возможно, аналогичное сочетание
обычных катакомб и скальных имеет место у с. Гунделен
в бассейне р. Баксан. Вместе с тем, выше по Баксану,
в окрестностях с. Былым, на правом берегу р. Баксан,
у впадения в него речки Гестенты находится огромный
могильник с земляными катакомбами.
Катакомбы у с. Былым Выкопаны в глинистом грунте
(рис. 10,1,10) и в настоящее время все
ограблены и разрушены, так как
глинистые своды легко отслаиваются и обваливаются.
Исследованная на могильнике катакомба имела подпря-
1 Руиич А. П. 1) Аланские катакомбные могильники V—VIII вв.
в городе Кисловодске и его окрестностях // МАДИСО.
Орджоникидзе, 1969. Т. 2. С. 97—111; 2) Аланский могильник в
«Мокрой балке» у города Кисловодска // МАДИСО. Орджоникидзе,
1975. Т. 3. С. 132—150; 3) Захоронение вождя эпохи раннего
Средневековья из кисловодской котловины // СА. 1976. № 3.
С. 256—266; 4) Два богатых раннесредневековых погребения из
Кисловодской котловины // СА. 1977. № 1. С. 248—257;
Афанасьев Г. Е., Руиич А. П. Могильник № 1 Лермонтовской скалы
близ г. Кисловодска// СА. 1970. № 4. С. 222-227г; Афанасьев Г. Е.
Новые находки в Мокрой Балке близ Кисловодска// СА. 1979.
№ 3. С. 171 —185 и др. публикации.
131
моугольную камеру со скругленными углами длиной 2 м,
шириной 1,5 м; лаз выше дна камеры на 0,35 м; арочный
лаз высотой 0,65 м, шириной 0,6 м был первоначально
закрыт тонкой каменной плитой. Камера катакомбы
перпендикулярна дромосу. В катакомбе было погребено не
менее 7 человек — пятеро взрослых и двое детей (при
ограблении все кости были брошены в кучу). В катакомбе
остались лишь обломки ножей, две бусины и фибула.
Последняя позволяет датировать катакомбу V—VII вв. Грунт,
в котором вырыты катакомбы, настолько непрочен, что
в местах выхода камня на поверхность у края террасы
вместо катакомб стали сооружать помещения с лазом,
сложенные из камня (склепы), поскольку здесь нет
выходов скал, в которых бы можно было бы вырубить более
прочные катакомбы. Ущелье Баксана — широкое, без
теснины, было заселено после гуннского вторжения, когда,
очевидно, стало слишком опасно находиться на равнине,
Аланское население занимало ущелье Баксана до VIII в. —
в то время аланы всюду из ущелий и предгорий снова
выходят на плоскость и переселяются в лесостепь — на Дон
и на Донец (но об этом ниже).
Алан, расселившихся с I в. н. э. за Тереком, гуннское
нашествие не затронуло. От излучины Терека до Аргуна
катакомбные погребения фиксируют довольно плотное
аланское население1 до начала XIII в., до
татаро-монгольского завоевания. После разгрома алан монголами
погребения в катакомбах на равнине больше не совершались.
От этого времени известны пока лишь единичные
могильники в горах — Ушкалой и Кешни-ын и др. в
Чечено-Ингушетии.2 Они являются погребениями бежавших в горы
алан, уцелевших при монгольском завоевании.
1 Сводка и характеристика катакомбных погребений этого
региона сделана, как отмечалось выше, В. А. Кузнецовым, И. М. Чече-
новым, В. Б. Виноградовым и X. М. Мамаевым.
2 Маркович В. И. Чеченские средневековые памятники в
верховьях р. Чанта-Аргуна // Древности Чечено-Ингушетии. М.,
1963. С. 214-247, рис. 1.
132
Однако аланские катакомбные погребения появились
в горах Северной Осетии и отчасти в Чечено-Ингушетии
еще в ту пору, когда аланы были широко расселены на
Предкавказской равнине.
Одним из наиболее ранних является катакомбное
погребение I—II вв. у с. Алхасте, но основная масса катакомб
в горах относится к VI—IX вв. Во многих случаях аланы
находили склон, пригодный для рытья катакомб.
У с. Архон (рис. 10,2) в Алагирском ущелье, например,
катакомбы вырыты в глинистом грунте и имеют обычное
устройство — они исследовались Е. Г. Пчелиной в 1929
и 1938 гг. Расчищенная нами в 1969 г. обвалившаяся
катакомба, в которой был погребен ребенок, имела небольшие
размеры; дромос направлен поперек по отношению к
склону, камера — перпендикулярно дромосу. Ребенок лежал
головой на 3 без вещей; заклад камеры состоял из
нескольких уплощенных камней, положенных на ребро друг на
друга. В дромосе был захоронен жеребенок головой к
камере, в ноги было положено седло (от него остался лишь
отпечаток в земле, заполнявшей дромос).
Однако благоприятный грунт для рытья катакомб не
всегда находился у поселения (или в том месте, которое
было выбрано для кладбища).
В сел. Лац (рис. 10,3,11) в Куртатинском ущелье
катакомба была устроена в крайне каменистом грунте, в
неглубоком пологом овраге, спускающемся к Фиагдону. Дромос
катакомбы направлен поперек по отношению к склону
овражка, камера — почти перпендикулярно по отношению
к дромосу. При всей трудности вести работу в сцементи-
ровавшемся галечнике, катакомба выполнена очень четко:
дромос расширяется в сторону камеры, арочный вход уже
торцевой стенки, закрыт тремя тонкими плитами,
приваленными камнями. Камера имеет подпрямоугольную
форму со скругленными углами, пол ее ниже дна дромоса на
0,6 м. Несмотря на тщательность работы, из-за
каменистого грунта в стенах выступают крупные обломки горных
пород, и, вероятно, они отчасти диктовали пропорции час-
133
тей катакомбы: так, при оформлении лаза были оставлены
камни внизу и сбоку, а крупные блоки, ограничивающие
заднюю стенку, образуют видимость кладки — это
нагромождение крупных обломков продиктовало ширину
камеры, так как их было невозможно извлечь из задней
стенки. Возможно, особенности каменистого грунта
вызвали необходимость поместить под сводом поперек
камеры каменную плиту, опирающуюся на стены камеры, —
вероятно, для того, чтобы предотвратить обвалы камней со
свода, то есть, по сути, сделать частичное искусственное
перекрытие камеры. Такая конструкция могла подсказать
идею строить подземные склепы.1
В катакомбе погребена сначала женщина на правом
боку, лицом ко входу, головой к востоку, затем на подстилке
из коры (?) уложен мужчина на спине с перекрещенными
ногами. Вероятно, в камере был похоронен также ребенок;
кости его не сохранились, но маленький нож, ожерелье из
миндалевидных подвесок, бронзовый браслет, согнутый
так, чтобы можно было его носить на руке ребенку, пять
«позолоченных» бусинок и очень маленькое зеркальце
позволяют предположить погребение девочки (рис. 10,116).
Женщина имела большую низку из различных бус —
каменных, стеклянных, пастовых разноцветных и
глазчатых (две бусины в виде печаток: одна с плоским щитком,
другая с изображением мухи. Напомним, что у осетин
имеется имя Бинзае — «муха»). На поясе ее лежал
мешочек из грубой ткани, в нем оказалась бронзовая коробочка
с петлями по обеим сторонам (к одной петле была
привязана нитка с тремя шариками — 2 бронзовых и 1 кожаный)
и находились игольники и ложечка-цедилка. На поясе же
лежал нож и бронзовая' пряжка в виде стилизованной
птички. Бронзовые пуговки (пара) заменяли височные
подвески (рис. 10,11а).
1 Нечаева Л. Г. Некрополь осетинского селения Лац как «этноге-
нетический заповедник» // Краткое содержание докладов
сессии Института этнографии АН СССР, посвященной столетию
создания первого академического этнографо-антропологиче-
ского центра. Л., 1980. С. 44—45.
134
Бронзовые проволочные браслеты были на руках как
у мужчины, так и у женщины, железный браслет — только
у женщины.
Мужчине был положен самый крупный нож, он был
подвешен к железному кольцу и к поясу, который
скреплялся железной пряжкой (рис. 10,11 в). Катакомба
датируется V—VII вв. (вероятно, VI в. н. э.).
На противоположной стороне овражка тоже оказались
катакомбы. Они расположены несколько выше по склону,
где галечник не имеет включений из крупных обломков
горных пород, поэтому стены их более ровные. Дромос
направлен перпендикулярно склону, камеры —
перпендикулярны дромосу. Лаз этих катакомб специально не
оформлен — он занимает всю ширину торцовой стенки и закрыт
большими плитами. Около входа дромос окаймлен
вертикально стоящими плитами и камнями, вероятно, для того
чтобы немного сузить слишком широкий и
неоформленный лаз. Одна из катакомб полностью ограблена, в другой
погребен один человек, вероятно, мужчина, у которого
в области живота находились нож и железная пряжка
(рис. 10,4,5). Интересно, что при сооружении этой второй
катакомбы для камеры не хватило места — она разрушила
часть первой катакомбы; образовавшуюся пробоину
закрыли плиткой, а для того чтобы поместить покойника,
несколько изменили ось камеры и сделали нишу, куда
и положили голову — по этой оси покойник вполне
уместился. По пряжке катакомба ориентировочно датирована
IX в. н. э.
Поверхность камеры этих катакомб сплошь включает
крупные гальки, камера катакомб как бы каменная
(может быть, в Камунте В. Б. Антонович столкнулся с
аналогичным грунтом и поэтому отметил, что катакомбы Ка-
мунты выложены булыжниками).1 Выше этих катакомб,
1 Антонович В. Б. Дневник раскопок, веденных на Кавказе
осенью 1879 г. // Тр. предвар. комитетов V АС в Тифлисе. М., 1882.
Т. 1. С. 228; Уварова П. С. Могильники Северного Кавказа. М.,
135
отчасти по склону, но в основном на плоской террасе
берега р. Фиагдон уже находятся подземные склепы X—
XIV вв. Сочетание катакомб и склепов зафиксировано
и на Галиатском могильнике в Дигории.1 Надо полагать,
что в горах устройство катакомб и склепов на одном
могильнике — явление не случайное и диктовалось
условиями горного грунта, в котором часто сочетаются глинистые
отложения в западинах и обилие камней от
разрушившихся скал. К сожалению, обнаруженные в горах катакомб-
ные погребения и, отчасти, подземные склепы не имеют
архитектурной фиксации.
Подземные склепы очень широко распространены в
горах центральной части Северного Кавказа, они тоже
имеют лаз для внесения умершего в погребальную камеру
и употреблялись для семейных погребений. Ниже мы
рассмотрим их устройство и ареалы в эпоху раннего
Средневековья.
1908. С. 298, рис. 226 (МАК, VIII); Кузнецов В. А Аланские
племена Северного Кавказа. С. 21.
Крупное Е. И. Галиатский могильник как источник по истории
алан-оссов//ВДИ 1938. №2(3). С. 115; Кузнецов В. А.
Аланские племена Северного Кавказа. С. 29.
3. РАННЕСРЕДНЕВЕКОВЫЕ СКЛЕПЫ
СЕВЕРНОГО КАВКАЗА
♦
Наряду с погребениями в катакомбах в аланское пред-
монгольское и золотоордынское время сооружались
и склепы. Они значительно отличаются от позднесредне-
вековых, хотя при их сооружении также применялась
техника ложного свода — строительные возможности в эти
два периода были разными. Склепы эпохи Средневековья
в подавляющем большинстве подземные, исследование их
требует специальных археологических поисков и
расчистки, поэтому по сравнению с позднесредневековыми,
архитектура которых видна и без предварительных земляных
работ, подземные склепы известны в значительно
меньшем количестве. И тем не менее к настоящему времени
исследовано довольно значительное количество склепо-
вых могильников аланского домонгольского времени как
в Северной Осетии, так и в соседних Чечено-Ингушетии,
Балкарии, Карачае.1 Ареал раннесредневековых склепов,
таким образом, значительно шире.
СКЛЕПОВЫЕ МОГИЛЬНИКИ
КАБАРДИНО-БАЛКАРИИ
Склепы бассейна Ущелье Баксана не имеет теснины.
р. Баксан Террасы, прорезанные балками
мелких притоков, тянутся по обеим
берегам дороги, и тропы прослеживаются по обе стороны
реки — ущелье было сравнительно легко доступно со
стороны равнины. Здесь нет позднесредневековых склепов,
зато раннесредневековые известны в большом числе как
на самом Баксане, так и по его притокам.
1 Сводку публикаций склепов Северного Кавказа эпохи раннего
средневековья см.: Кузнецов В. А Аланские племена Северного
Кавказа. М, 1962. (МИА, № 106).
137
Некрополь сел. Былым, один из самых обширных
могильников ущелья, известен с конца прошлого столетия,
раскопки производили В. Ф. Миллер и Г. А. Вертепов.1
П. Г. Акритас насчитал здесь до 900 ограбленных склепов.2
Нами могильник посещался в 1960 и 1968 гг.
Могильник Былым расположен за селением, у
подножия хребта, идущего вдоль Баксана, на верхней
надпойменной террасе, которую прорезает правый приток Бак-
сана р. Гестенты — ее ущелье является южной границей
могильника. Правый берег р. Гестенты представляет
скальный обрыв; выступающие на поверхность скалы на
территории могильника расслаиваются на мелкие плитки. Здесь
преобладают каменные гробницы, в то время как к северу,
где терраса сложена из глинистых отложений, находится
множество глубоких ям — ограбленных, заплывших
катакомб. Среди них встречаются и каменные склепы. На
могильнике Былым нами в 1969 г. расчищено три
ограбленных склепа и две катакомбы с целью архитектурной
фиксации.3
Склеп №1 (рис. 11,1) находится у дороги, идущей
вдоль подножия хребта к р. Гестенты, давно ограблен,
перекрытие разрушено, лаз открыт; склеп почти полностью
заполнен камнями и землей. Склеп подземный — его
верхний край находится на уровне земли, вытянут вдоль
склона, по линии СВ-ЮЗ; лаз направлен на запад.
Прямоугольный в плане, он сложен из небольших
необработанных камней, стенки слегка наклонены внутрь.
1 Миллер Всев. Терская область. С. 90, 91; Чехович М. И.
Краниологическое исследование серии черепов из Куркужаиского
могильника // Зап. Терского о-ва любителей казачьей старины.
Владикавказ, 1914. № 4. С. 53-55.
2 Акритас П. Г. Вновь открытые аланские подземные склепы
в Баксанском ущелье (недалеко от Эльбруса) // Учен. зап. Ка-
бард. науч.-исслед. ин-та. Нальчик, 1957. Т. И. С. 407.
3 Расчистка склепов и катакомб могильников Былым, Кыр и Ка-
лакол производились преимущественно учащимися средней
школы сел. Былым; в работе принимала участие Г. Летт
(Пятигорск) и студенты ЛГУ.
138
Длина — 2,1, ширина — 1,2, высота — 1,5 м; лаз находится
в западной стенке на высоте 0,95 м от пола, его ширина
около 0,6 м, высота около 0,5 м, выступает за пределы
стены склепа и оформлен каменными стенками в виде дро-
моса длиной 0,5 м; от перекрытия дромоса сохранился
один блок. Плита, перекрывающая лаз, является верхним
камнем в кладке западней стены и лежит непосредственно
под перекрытием, от которого уцелело лишь две плиты,
одна из них — большой скальный валун. Пол склепа и
лаза земляной, стены имеют одностороннюю кладку: так как
склеп подземный, то не было необходимости выравнивать
кладку стен снаружи, поэтому стены выравнивались лишь
внутри. Вдоль северной стены идет невысокая лежанка; ее
ширина у задней стены 0,8 м, длина около 1,5 м (до
стенки, в которой находится лаз, она не доходит); высота
лежанки 0,15 м, она сложена в один ряд камней и присыпана
землей. В задней стенке на высоте 0,9 м от пола устроена
ниша высотой 28 см, шириной и глубиной 35 см. В
заполнении склепа на разной глубине найдены грацильные
кости и деформированный череп мужчины средних лет.
Собраны колечки от кольчуги, миниатюрная бронзовая
пряжка с язычком в виде «хоботка», бляшки со
стеклянными вставками и бронзовые заклепки, кусочек кожаного
ремня с дырочками и обломки сосуда с ручкой в виде
стилизованного животного (рис. 11,7). Эти вещи, а также
деформация черепа позволяют датировать погребение V—
VI вв. Остатки инвентаря принадлежат экипировке воина;
только сосуд — дань погребальной традиции.
Склеп № 2 (рис. 11,2) расположен в 20 м от склепа № 1,
здесь же у дороги. Между склепами № 1 и № 2 и вокруг
них находится много могил с земляными камерами.
Полностью скрыт в земле (поверх образовался небольшой
курганчик), вытянут с СВВ на ЮЗЗ, вход направлен на
ЮЗЗ. В противоположной стене под перекрытием —
пролом, сделанный грабителями (на этом месте, возможно,
была небольшая ниша). Сложен из плитняка и камней,
имеет большие размеры: 3,2 на 1,8 м и высоту 1,8 м. Стены
139
имеют наклон внутрь, тщательно выравнены. Перекрытие
состоит из трех массивных плит. Лаз устроен на высоте
0,9 м от глинистого пола, высота его 0,8 м, ширина в
плоскости передней стенки 0,6 м, снаружи он расширяется до
0,9 м; оформлен в виде дромоса, длина стенок которого
около 0,9 м; нижние же ряды кладки лаза отступают от
передней стенки склепа на 1,5 м; имеет перекрытие из
плитняка на протяжении почти 1 м; пол земляной, имеет
наклон вниз, к склепу. Снаружи лежит большой валун,
которым, возможно, в древности прикрывали лаз. Через
широкий пролом хорошо видна структура кладки —
односторонней, с выравниванием только внутри склепа. Для того
чтобы нависающие внутрь стены удерживать от обвала,
для нижних рядов кладки использовали узкие камни,
а для верхних рядов — широкие плитки. Таким путем
сохранялось направление линий тяжести по вертикали,
этому способствует и тяжесть окружающей склеп земли,
в заполнении много человеческих костей от нескольких
скелетов в перемешанном в результате ограбления виде,
никаких предметов в раскопанной части склепа не
оказалось.1
Склеп № 3 (рис. 11,3) находится на значительном
расстоянии от первых двух, ниже по склону террасы и у
самого обрыва к р. Гестенты. Здесь склепы вытянуты по линии
Ю-3, но вход в них обращен на восток, то есть в
противоположную сторону по сравнению со склепами № 1 и № 2,
так как с запада к ним было бы невозможно подойти, —
настолько близко к краю обрыва находится эта группа
склепов. Склеп № 3 тоже вытянут по линии В-3, имеет длину
2,55, ширину 1,3, высоту около 1,5 м; полностью находит-,
ся в земле, лишь немного возвышается каменная наброска
над перекрытием. Сложен из крупных обломков горных
пород и гранитных валунов в обычной технике ложного
1 Выборка заполнения склепа произведена лишь частично —
в пределах, необходимых для выполнения архитектурных
обмеров, так как при полной расчистке мог произойти обвал
перекрытия.
140
свода. Перекрытие, состоящее из четырех скальных плит,
сохранилось полностью — склеп ограблен через лаз,
который имеет форму небольшого дромоса, выступающего за
пределы внутренней грани передней станки склепа на
0,6 м. Высота лаза — 0,6, ширина — 0,7 м, пол выложен
скальной плиткой. Лаз устроен непосредственно под
кровлей на высоте 0,8 м от пола и смещен несколько к
северу. В южной продольной стене склепа оставлена ниша,
вдоль северной стенки устроена лежанка. Ее край четко
очерчен кладкой из длинных, квадратных в сечении
каменных брусков, уложенных в два ряда (второй ряд
кладки сохранился лишь в юго-восточном углу); поверхность
была выстлана небольшими плитками по песчанистой
засыпке; размеры — 2 х 0,75 м, высота 0,2—0,25 м; лежанка
на 0,5 м не доходит до передней стенки, вероятно, для того
чтобы при внесении в склеп нового покойника не
наступить на ранее похороненных. Пол склепа засыпан
крупнозернистым гравием и галечником. В склепе обнаружены
кости 3—4 человек разной сохранности. В земляном
заполнении найдены обломки глиняных и деревянных
сосудов, обломки железных ножей, бусина-двойчатка;
обломки глиняных лощеных кувшинов, сделанных из плотной,
хорошо отмученной глины, орнаментированы по тулову
широкими канелюрами, что позволяет отнести
погребение к УП-УШ вв.
Склепы Недалеко от впадения р. Гижгид
в местности Кыр1 в Баксан, на другой стороне
горного кряжа, образующего правый берег
р. Гижгид, в 1965 г. при прокладке дороги обнаружен скле-
повый могильник. Склепы в основном вытянуты в один
ряд. Нами обследованы три склепа.
Склеп № 1 (рис. 11 А)у подземный, находится на
глубине около метра от поверхности склона. Вытянут с С на Ю,
1 Кузнецов В. Л. Аланские племена Северного Кавказа. С. 77—78;
Чеченов И. М. Древности Кабардино-Балкарии. С. 54.
141
вход в южной стенке; сложен из скальных обломков,
стены имеют довольно большой наклон внутрь, в углах у
входа верх выполнен в технике паруса; пол прямоугольный
в плане, длиной 2 м; склеп шире у задней стенки (1,35 м)
и уже у входа (0,95 м); покрыт тремя плитами; высота 1 м.
Лаз устроен на высоте 0,25 м от пола, примыкает к
западной продольной стенке; имеет необычно большие
размеры: высота 0,8, ширина 0,7 м; толщина его равна толщине
фасадной стены — 0,2 м; лаз не имеет пристроенного к
передней стене дромоса. Судя по характеру кладки передней
стенки склепа, стены сложены в один камень
(односторонняя кладка). В заполнении склепа обнаружены кости
и черепа трех взрослых, ребенка и подростка. После
ограбления остались обломки двух ножей, бронзовая полая
пряжка с язычком в виде «хоботка» и со щитком,
украшенным стеклянными полусферическими вставками,
8 бусин (рис. 11,8а) и 2 ручки чернолощеных сосудов.
Склеп № 2 (рис. 11,5) находится метрах в 10 к востоку
от склепа № 1 (между ними еще 2 разрушенных склепа).
Склеп подземный — полностью впущен в склон, фасад
разрушен при прокладке дороги. Сложен из небольших
камней, кладка в один ряд, что хорошо видно в
получившемся из-за отсутствия фасада разрезе; в плане —
правильный прямоугольник длиной около 2, шириной 1 м.
Архитектура его не совсем обычна: стены вертикальны
и только на высоте 1,2 м начинается кладка в технике
ложного свода, которая в задней половине сочетается с
парусами в углах, что позволило строителям свести здесь
стены в ложный купол высотой от пола 1,9 м. Перекрытие
передней половины обычное, состоит из двух плит. В
каждой стене — по одной нише, в западной и северной — на
высоте 0,8, в восточной — на высоте 1,05 м. При расчистке
найдены часть детского черепа и обломки небольших
сосудов (рис. 11,86).
Склеп № 3 (рис. 11,6) находится метрах в 5 к востоку
от № 2 (за ним к востоку еще два разрушенных склепа).
В отличие от предыдущих, вытянут по линии 3-В, вход
142
в восточной стенке. При ограблении в южной стене был
сделан пролом, через который хорошо видно устройство
склепа. В плане имеет форму прямоугольника со
скругленными углами длиной 2,2, шириной 1,95 м. Внизу в
основании сложен из крупных плит, поставленных на ребро,
выше идет обычная кладка из плитняка, положенного
плашмя. Стены вверху немного наклонены внутрь, в
задней половине высота их 1,2 м, у входа —около 1,5 м.
Перекрытие из четырех больших плит. Лаз устроен на
высоте 0,5 м от пола, шириной 0,45 м, высотой 0,5 м, имеет
длину 0,7 м, закрыт плитой, поставленной вертикально.
В заполнении оказалось немного разрушенных костей
и несколько предметов инвентаря, оставшихся после
ограбления: два ножа, кресало (?), удила с восьмеркообразны-
ми концами (рис. 11,8в), которые позволяют датировать
склеп VII—VIII вв.
Могильник Калакол1 Местность получила свое
название благодаря естественному
скальному останцу, который издали похож на остатки
крепости. По преданию, здесь когда-то была башня. От
могильника Былым Калакол находится на расстоянии
1,5—2 км ниже по течению Баксана. Могильник
разместился на трех участках: несколько склепов — на небольшом
холмике близ ручья Калакол при выходе его в долину
Баксана; свыше десятка склепов впущено в склон у
подножия скального обрыва под останцом (эти две группы
склепов осмотрены нами в 1960 г.); основная часть
могильника разместилась значительно выше, на
прилегающем к этому останцу холме. Здесь, на небольшом
расстоянии друг от друга, есть несколько групп подземных склепов.
Две группы расположены по обе стороны горной дороги,
1 Кала — крепость, кол — ручей; см.: Миллер Всев.,
Ковалевский Макс. В горских обществах Кабарды // Вестник Европы.
1884. Апрель. С. 584—587; Миллер Всев. Терская область. С. 87—
90.
143
идущей от «крепости» вдоль ручья Калакол вверх по
течению. Нами обследовались склепы, выступающие в обрезе
дороги. Эта группа является нижним рядом обширного
могильника, занимающего весь горный холм, в основании
которого вдоль ручья Калакол и идет упомянутая горная
дорога. На нем можно насчитать до полусотни
ограбленных склепов. Нами были расчищены четыре таких склепа:
три около дороги (№ 2, 3) и один выше на холме (№ 4).
Склепы № 1—3 полностью скрыты в земле, и лишь одна из
продольных стенок местами видна с дороги.
Склеп № 1 (рис. 12,1) вытянут с ЮВ на СЗ, вход в
северо-западной стенке. Сложен из довольно крупного
плитняка, перекрыт тремя массивными плитами, длина — 2,35,
ширина —2,1м, максимальная высота у входа—1,4м.
В плане — не совсем правильный прямоугольник: стены
его слегка округлы, благодаря чему склеп в середине
несколько шире, чем у торцов. За счет кладки в технике
ложного свода стены имеют наклон внутрь; северный угол
в верхней половине имеет округление в технике паруса.
Лаз, устроенный на высоте 0,55 м, по бокам окаймлен
поставленными на ребро плитками, которыми также
облицованы пол и перекрытие лаза; закрыт вертикально
поставленной плитой, подобранной по его ширине; сзади
плиты как будто имеется ступенька. Через пролом в
северо-восточной стене видно, что кладка велась в один ряд,
с выравниванием стен лишь внутри. В заполнении найден
только один черепок — склеп дочиста ограблен;
обнаружены лишь отдельные кости двух взрослых людей.
Склеп № 2 (рис. 12,2) расположен метрах в 5 от склепа
№ 1 вверх по течению ручья, также у дороги. Вытянут
с СЗ на ЮВ, вход в юго-восточной стенке (обратная
ориентировка входа по сравнению со склепом № 1).
Прямоугольный в плане, длиной 2,3, шириной 1,9, высотой 1,5 м,
сложен из плитняка (он сильно выветрился и
расслоился), благодаря наклону стенок внутрь вверху склеп
суживается до 1,8 м в длину и 1,1 м в ширину и перекрыт двумя
массивными плитами, в задней стене на высоте 1 м от по-
144
ла — небольшая ниша, облицованная плитками. Лаз
устроен на высоте 0,6 м от пола, по краям его оформляют
плиты, включенные в кладку передней стены вертикально;
закрыт тонкой, вертикально поставленной плитой,
подобранной по его ширине; она осталась непотревоженной —
склеп ограблен через пролом в восточном углу. В склепе
было погребено несколько человек, в том числе двое
мужчин (у одного череп деформирован) и подросток;
обнаружены также кости лошади, коровы, барана. Все кости —
и людей, и животных — были разбросаны в беспорядке.
Несмотря на ограбление, найдено довольно много вещей
(рис. 12,5): миниатюрная золотая серьга в полтора
оборота, две фибулы, два зеркала из сплава, бронзовые
предметы — височные кольца с 14-гранной «гирькой»,
несколько пряжек и обломков, наконечники пояса, заклепки,
накладки на пояс, три браслета, из которых два имеют
плоские концы с глазками — «змеиные головки»,
сердоликовая подвеска, бусы и др. Остатки инвентаря
датируют склеп VI—VII вв. н. э.
Склеп № 3 (рис. 12,3) расположен рядом со склепом
№ 2 (выше по течению ручья Калакол), вытянут с ЮВ на
СЗ, вход в северо-западной стенке. Прямоугольный в
плане, длина — 2,4, ширина — 1,95, высота — 1,5 м. Сложен из
плитняка и скальных обломков в технике ложного свода,
перекрыт двумя массивными плитами (площадь
потолка — 1,9 х 1,25 м). Южный угол построен на скале,
которая занимает часть площади склепа и составляет часть
прилежащих стен. В северо-западной торцовой стенке на
высоте 0,6 м от пола устроен лаз; от середины стенки он
смещен несколько к северу — ближе к поверхности
склона холма. Плита, закрывающая вход, лежит внутри лаза
горизонтально — вероятно, склеп был ограблен не только
через пролом в северо-восточной стене, но и через лаз.
Последний, шириной около 45 см, высотой 58 см, на
глубине 45 см от внутренней поверхности передней стенки
имеет ступеньку высотой 16 см. Соответственно
ступенчатым является и перекрытие лаза — блок, перекрываю-
145
щий лаз над ступенькой, уложен на 15 см выше, чем блок,
перекрывающий его начало. В целом высота наружной
стены над ступенькой около 0,8 м — ее верх выше
перекрытия склепа. Стенки лаза сложены из обычного
некрупного плитняка, их длина около метра; за пределы
наружной стены над ступенькой стены лаза выступают на
30—40 см. Таким образом, дромос склепа № 3 имеет длину
свыше 1 м и довольно сложное устройство,
напоминающее лацские склепы в описании П. С. Уваровой — с
окошечком с одной и лесенкой с другой стороны.1 В
заполнении склепа № 3 найдены отдельные кости трех взрослых
людей и подростка. Вдоль северо-восточной стены
лежали куски толстой деревянной доски — возможно, остатки
деревянных лежанок. Из инвентаря (рис. 12,6) остались
обломки деревянных мисок и каких-то плоских
предметов, железные ножи и обломки ножей и ножниц для
стрижки овец, обломок браслета, фибула, височное
кольцо с 14-гранной «гирькой», железная пряжка, раковина-
подвеска, обломки зеркала. Вещи позволяют датировать
склеп VI—VIII вв.
Склеп № 4 (рис. 12,4) находится выше по склону, на
стороне холма, обращенной к Баксану, на площадке. Фасад
вверху разрушен, но вход в значительной части
сохранился. Склеп впущен в склон, но неглубоко, так что
покровные плиты прикрыты землей незначительно. Вытянут по
линии ЮВВ-СЗЗ, в плане почти правильный
прямоугольник 3,1 м длиной и 1,7 м шириной, несколько уже
у входа, который устроен в стенке, выходящей на ССЗ.
Высота— 1,5м. Сложен из плитняка в технике ложного
свода, стены тщательно выравнены. В задней стенке на
высоте 0,8 м устроена ниша шириной 0,5, высотой около
0,4 м. Перекрыт двумя массивными плитами. Лаз имеет
две стенки длиной 0,9, высотой 0,7 м; перекрытие над
ними не сохранилось. Пол его покрыт плиткой, имеет
неширокую ступеньку. Склеп расчищен не полностью. В
заполнении отдельные кости взрослого мужчины, вещей нет.
1 Уварова П. С. Путевые заметки. М., 1887. С. 81.
146
Таким образом, склепы Калакола имеют устройство,
аналогичное склепам Былыма, но несколько более
сложную конструкцию лаза, каменный пол, ступеньку и
уступчатое покрытие. Фасад склепа вверху, над лазом, имеет
двустороннюю кладку в виде невысокой стены,
выступающей из поверхности склона — склепы Калакола из
подземных начинают превращаться в полуподземные. Эти
изменения в архитектуре склепов и лаза являются
результатом развития склеповой архитектуры бассейна р. Бак-
сан в течение V—VIII вв.
Кроме могильников Былым, Кыр и Калакол, известны
склепы близ сел. Куркужан и около г. Тырны-Ауз, а также
на левом притоке Баксана на р. Гижгид. Три нетронутых
склепа у сел. Куркужан были расчищены Г. А. Вертепо-
вым в 1923 г. Они имели устройство, аналогичное былым-
ским, — были сложены по типу «озроковских». В них
находилось по несколько погребенных, некоторые из них
имели деформированные черепа.1 Найденные вещи
позволяют датировать эти склепы IV—VI вв.2 Подземный склеп
около г. Тырны-Ауз был описан П. Г. Акритасом в 1955 г.
и датируется В. А. Кузнецовым V—VI вв.3 Три подземных
нетронутых склепа на р. Гижгид исследованы в 1897—
1898 гг. И. А. Владимировым. Они были сложены в
технике ложного свода, имели лаз и датируются V—VII вв.4
СКЛЕПОВЫЕ МОГИЛЬНИКИ
КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕСИИ
Карачаево-Черкесская автономная область расположена
преимущественно в бассейне верховьев Кубани и ее
притоков. Кубань, как и Баксан, не имеет теснины, и ее вер-
1 Чехович М. И. Краниологическое исследование серии черепов
из куркужанского могильника. С. 55—56.
2 Кузнецов В. А. Аланские племена Северного Кавказа. С. 79.
3 Лкритас П. Г. Вновь открытые аланские подземные склепы
в Баксанском ущелье. С. 407—414; Кузнецов В. Л. Аланские
племена Северного Кавказа. С. 78—79.
4 Там же. С. 77-78; ОАК за 1897 г. СПб., 1900. С. 143-144; ОАК
за 1898 г. СПб., 1901. С. 136 и ел., рис. 47-54.
147
ховья легко доступны со стороны равнины. На территории
горной части Карачаево-Черкесии известно значительное
количество средневековых могильников с подземными
склепами, в которые вносили покойников через лаз. Эти
памятники стали достоянием археологии лишь недавно.
Могильник Один из самых крупных в Карачаево-
на горе Дардон Черкесии, был раскопан А. К. Кузь-
миновым и К. Т. Чагаровым в 1959—
1960 гг.1 Он тянется по склону левого берега Теберды
вдоль ул. Пушкина г. Карачаевска. Склепы расположены
на трех участках на склоне хребта, идущего вдоль р.
Теберды. Верхняя группа по течению р. Теберды (участок I)
занимает невысокую плоскую террасу левого берега ручья,
впадающего в Теберду. Севернее (ниже по течению
Теберды) на крутом склоне на протяжении 800—900 м
склепы встречаются редко. На этом участке II в одном из
скальных выходов вырублены катакомбы и использованы
ниши для устройства склепов. Эта часть подножия хребта
заканчивается балочкой, по обе стороны которой
расположены склепы участка I: по правую сторону балочки, на
низком пологом холме их немного, по левую ее сторону,
на высоком холме, переходящем к северу в отвесные
скалы, находится большая часть склепов, здесь они
расположены в несколько ярусов, занимая южную,
юго-восточную и юго-западную стороны холма. В 1966 г. благодаря
помощи Карачаево-Черкесского областного музея
оказалось возможным заново расчистить 10 склепов,
раскопанных ранее, и произвести архитектурные обмеры. В
основном эти работы были сосредоточены на участке III, на
высоком холме, на вершине которого находился
каменный крест.
1 Кузьминов А. К. Средневековый могильник на горе Дардон у
Карачаевска//Из истории Карачаево-Черкесии. [Ставрополь,]
1970. С. 396-422. (ТКЧНИИ, вып. VI, сер. ист); Чагаров К Т.
Средневековый склеп Дардонского могильника//Там же.
С. 423-435.
148
Склеп № 1 (рис. 13,1) расчищен в 1962 и 1964 гг.1 Он
давно ограблен через разрушенную верхнюю часть фасада
и примыкающую к нему часть перекрытия. В древности
был, вероятно, полностью впущен в склон, но сейчас его
разрушенная часть обнажена, находится на южном
склоне, в одном из средних ярусов могильника. Сложен из
мелких необработанных естественных плиток.
Прямоугольный в плане, размером 1,1 х 2 м и высотой 0,9 м,
ориентирован по линии С-Ю, лазом на Ю. На высоте 0,35 м
от пола боковые стенки постепенно начинают сближаться
путем напуска камней каждого верхнего ряда, нависают
внутрь, и на высоте 0,9 м от пола стенки сходятся на
расстояние 0,6 м; задняя стенка благодаря тому, что углы на
этой же высоте выложены в технике ложного паруса,
наклонена внутрь и приближена вверху к центру по
сравнению с основанием на 0,4 м. Склеп был покрыт тремя
плитами, из которых сохранилась т зки только последняя
(задняя). Лаз примыкает к восточной стене и заложен
снаружи довольно крупными плитками в 4 ряда. Кости
погребенных в склепе женщины и ребенка разбросаны;
в передней половине, близ северной стенки, лежала часть
костяка мужчины, лежавшего головой на север, к задней
стенке; верхняя половина костяка полностью уничтожена,
но тазовые кости и перекрещенные ноги остались
непотревоженными. При костяке, в области таза находилась
половина небольшого железного ножика (вторая его
половина оказалась в ногах). Остальные предметы — бусы,
бронзовые перстень, бляшка с выпуклым изображением
птицы, две пряжки, два височных колечка, полоска с
загнутыми концами, пуговки с прорезями, обломок
стеклянного браслета, нож большего размера, две железные
секирки и раковины каури — найдены в земле,
заполнявшей склеп, на разной глубине (рис. 13,16). Вещи датируют
погребения X—XII вв.
1 Нумерация склепов дается в той последовательности, в которой
производилась их расчистка нами. Для склепов, расчищенных
А. К. Кузьминовым, сохраняем его нумерацию.
149
Склеп № 2 (рис. 13,2) находится выше по склону на
юго-восточной стороне холма, над последней скальной
террасой, полностью впущен в склон и скрыт землей;
прямоугольный в плане, размером 1,85 х 1,05 м и высотой
0,8 м, вытянут с С на Ю; сложен из мелких
необработанных песчаниковых плиток; в кладку стен включены
и крупные скальные обломки, а заднюю стену образует
основная скальная порода холма; наружу выходят только
лаз и небольшой дромос; их восточная сторона оформлена
массивным скальным блоком, продолжающим стену
склепа; лаз вымощен плиткой и закрыт массивной плитой,
поставленной снаружи вертикально. Вдоль стен склепа идут
скальные площадки-лежанки высотой 5 см; пол, под
которым проходит скальная щель, выровнен щебенкой,
смешанной с глиной. Перекрытие состоит из двух плит,
первая из них — очень больших размеров. Склеп ограблен
через пролом над входом; остался лишь один кабаний
клык.
Склеп № 3 (рис. 13,3) находится на том же склоне, но
несколько ниже и западнее; фасад полностью разрушен,
внизу уцелело только несколько камней, определяющих
границу его передней стенки; прямоугольный в плане,
вытянут с ССВ на ЮЮЗ, размером 2 х 1,2 м и высотой около
1,2 м; стены сложены из мелкого плитняка, немного
наклонены внутрь благодаря плавному напуску плиток
в технике ложного свода; от перекрытия осталось две
плиты, одна из которых имеет большие размеры. На высоте
0,4 м в кладку боковых стен вмонтированы широкие
длинные плиты, образующие полки-лежанки; в задней стенке,
тоже слегка наклоненной внутрь склепа, на высоте 0,75 м
две ниши, в глубине они ограничены выходом скальных
пород. Под западной лежанкой в северном углу лежали
череп мужчины и кости нескольких человек. Найдены
мелкие вещи — наконечник ремня с расширенным концом,
бронзовая и железная дужки с заклепками, бронзовая
прямоугольная заклепка, пуговки с прорезью и отверсти-
150
ями на концах и по бокам, стеклянный браслет — которые
хорошо датируют погребение X—XII вв.
Склеп № 4 (рис. 13 А) находится рядом со склепом
№ 3, ближе к обрыву; фасад разрушен; сложен на
скальной площадке из мелких плиток; задняя стенка включает
скальную породу холма, вверху — обычная кладка; стены
вертикальные, выровнены не только внутри, но и
снаружи; кладка стен двусторонняя; вытянут по линии ССВ-
ЮЮЗ, лаз размером 1,9 х 0,95 и высотой около 0,7 м
направлен вниз по склону. От фасада уцелела лишь часть,
примыкающая к западной продольной стене и
ограничивающая другой стороной лаз. От перекрытия сохранились
3 плиты. В заполнении были кости мужчины, женщины
и подростка и железное тесло.
Склеп № 5 (рис. 13,5) находится в 5—6 м от склепа № 3
к западу; впущен в склон, фасад вверху разрушен; стены
сложены из камней разной величины с наклоном внутрь;
от перекрытия уцелели два блока, из них один —
огромная плита, покрывающая всю заднюю половину
постройки; вытянут по линии СВ-ЮЗ, размеры 1,85 х 1,3,
высота — 1,2 м; вверху стены сближаются, образуя пролет 1 м;
на высоте 0,35 м от пола в боковые и заднюю стены
вмонтированы каменные полки-лежанки, нависающий край
которых подпирают поставленные на ребро
необработанные каменные плитки; по середине задней стенки на
высоте 0,85 м имеется довольно большая ниша. Передняя
стена частично разрушена и немного сползла вниз по склону;
сложена из плиток, положенных плашмя друг на друга
(как бы в виде столбиков, обрамляющих лаз и
примыкающих к боковым стенкам). Лаз направлен на ЮЗ,
расположен на высоте 0,4 м от пола и на 5 см выше лежанок, имел
каменную ступеньку 5 см высотой. В склепе найдены
разрозненные кости мужчины, женщины (очень грациль-
ные), подростка и ребенка.
Склеп № 6 (рис. 13,6) находится в одном ряду со
склепом № 5 к западу, полностью впущен в склон; верхняя
часть фасада разрушена; сложен из скальных обломков
151
и плиток разной величины на скальной площадке,
вытянут с СВ на ЮЗ, лаз направлен на ЮЗ, вниз по склону;
размеры 1,85 х 1,2, высота 0,8 м; сохранились 4 плиты
перекрытия. Северо-западная стена сложена вертикально,
другая вверху значительно приближается к середине, так
как сложена в технике ложного свода и переходит в
переднюю стену с помощью паруса из наискось положенных
камней; снаружи фасад выровнен, лаз расположен
посередине, находится на высоте 0,2 м от скального дна, имеет
каменную ступеньку высотой 6 см; был закрыт двумя
вставленными в него камнями (из них сохранился один),
положенными горизонтально. Дно склепа скальное,
невысокими уступами снижается к входу, а вдоль
северо-западной боковой стенки скальный уступ высотой 6—10 см
образует лежанку длиной 1,6 и шириной 0,5—0,4 м. В склепе
оказались остатки скелета старого мужчины и ребенка.
Склеп № 7 (рис. 13,7) расположен в том же ряду, в 3—
5 м от предыдущего, вытянут с СВ на ЮЗ; сооружен на
скальной площадке из плитняка и обломков разного
размера; фасад толщиной 0,6 м почти полностью разрушен,
сохранились лишь подземная часть до уровня лежанок
и основание лаза; одна из плит перекрытия свалилась
и лежит параллельно фасаду, вторая покрывает заднюю
половину склепа; боковые стены — вертикальные,
задняя — с небольшим наклоном внутрь в технике ложного
свода; кладка двусторонняя, снаружи кладка стен хорошо
выровнена, хотя склеп был впущен в склон и скрыт землей.
В кладку стен на высоте 0,5 м вмонтированы
полки-лежанки, составленные из нескольких плит; полку,
вмонтированную в заднюю стенку, подпирает столбик из
горизонтально сложенных необработанных плиток разного
размера; в заднюю же стенку на высоте около 1 м от пола
у северного угла вмонтирована небольшая полка,
заменяющая нишу. Верхняя часть несколько шире нижней, так
как восточная боковая стенка смещена к наружной
стороне, к ЮВ; размеры — 2 х 1,2 м внизу и 1,95 х 1,4 м на уровне
лежанок. Пол, имеющий скальную основу, разорван тре-
152
щинами, которые забиты щебенкой; от столбика,
поддерживающего лежанку задней стенки, до лаза — дорожка из
плиток. В склепе обнаружены остатки костяка молодого
мужчины, уцелели остаток серьги с окончанием в виде
крестика, десяток бус, биконическая пуговка,
орнаментированная кружочками, две узкие бронзовые пластинки
с дырочками на концах, обломок бронзовой пластинки
с тремя поясками углублений и семи бронзовых кружков
с пояском углублений по краю. Эти вещи позволяют
датировать погребение X—XII вв.
Склеп № 8 (рис. 13,8) расположен ниже ярусом и
восточнее, чем предыдущие; сложен на скальной основе,
которая корытообразно углублена с 3 и С; вытянут с С на Ю,
длина —2, ширина—1, высота —0,8м. Восточная стена
полностью сложена из довольно крупных камней, для
западней же стены использован выступающий вверх
участок скалы, выше идет обычная кладка из битого
плитняка; точно так же и при сооружении задней стены скальная
порода холма дополнена кладкой до нужной высоты лишь
на 0,3 м. Таким образом, строители склепа сочетали метод
углубления скального грунта с обычной кладкой из битого
плитняка. Лаз оформлен неширокой продольной стенкой,
пристроенной к западной продольной стене, суживающей
пролет устья склепа до 0,6 м. От перекрытия сохранились
три плиты, полностью перекрывающие внутреннее
помещение, но верхняя часть фасада и плиты перекрытия лаза
разрушены. В склепе обнаружены лишь мелкие остатки
костей взрослой женщины (?).
Склеп № 9 (рис. 13,9) обнаружен и раскопан
школьниками младших классов в 1969 г.; полностью находился под
землей, фасад вверху разрушен при разграблении;
вытянут с СВ на ЮЗ; в основе имеет близкую к прямоугольной
форму, задняя стенка косо расположена по отношению
к боковым, северный угол — тупой, а восточный — острый,
длина — 1,7, ширина —1,1, высота — 1 м. В кладке
северозападной боковой и задней стен внизу использованы
массивные плиты, поставленные на ребро; выше кладка вы-
153
полнена из скального плитняка с небольшим наклоном
стенок внутрь; северо-западная стена соединена с фасадом
в технике паруса. В основании фасада крупный блок, на
верхней грани которого начинается лаз шириной 0,5 м; он
устроен не посередине фасада, а смещен к юго-восточной
боковой стене склепа, продолжение которой является
также стеной лаза; фасад имеет двустороннюю кладку —
стена выровнена не только внутри, но и снаружи. Склеп был
перекрыт большими плитами, из которых остались на
месте лишь две в задней половине. По рассказам
школьников, вдоль юго-восточной стенки лежал меч, в заполнении
ими были найдены 7 черепов, 7 кувшинов и другие вещи.
Склеп № 23 по нумерации А. К. Кузьминова (рис. 13,10)
находится выше по склону с восточной стороны холма,
недалеко от вершины, вытянут с С на Ю. Сведения,
приведенные А. К. Кузьминовым в его отчете о работе 1959—
1960 гг.,1 позволили разыскать этот склеп, произвести
архитектурные обмеры и уточнить некоторые детали его
конструкции. Он сложен из плитняка разного размера,
стены обеих помещений имеют небольшой наклон внутрь;
нижний ярус (длина—1,85, ширина —0,9 и высота —
0,7 м) наглухо перекрыт тремя плитами, которые, подобно
лежанкам, оказались как бы вмонтированными в кладку
при сооружении верхней части; стенки верхнего яруса
(длина — 1,85, ширина — 0,9, высота —1м) сложены на
перекрытии нижнего яруса в технике ложного свода,
перекрытие верхнего яруса состоит из двух огромных плит;
в задней стенке на высоте 0,65 м оставлена ниша; в
восточной стене — вторая ниша. Верхняя часть фасада
разрушена; к лазу ведет длинный дромос, имеющий две ступеньки
и облицованные камнем стенки; максимальная их высота
0,65 м (А. К. Кузьминов принял дромос за одиночную
могилу); лаз четко прослеживается: он имел ширину 0,4
и высоту около 0,5 м. Таким образом, особенностями скле-
ца № 23 являются двухярусность и длинный ступенчатый
1 Архив И А АН СССР. Р. 1. Д. 2093.
154
каменный дромос, примыкающий к лазу. В верхнем ярусе
«на четырех плитах, плотно подогнанных одна к другой,
толщиной 12 см, находились скелеты двух погребенных —
мужчины и женщины, головой на С. Умерших клали на
спину, руки вытягивали вдоль туловища. У женского
костяка, возле ног, найдена бронзовая привеска, на которой
имеется изображение креста... Около черепа обнаружена
бронзовая приколка. В нижнем помещении найдены два
плохо сохранившихся скелета — более ранние
захоронения, чем в верхнем помещении».1
Склеп № 22 по нумерации А. К. Кузьминова (рис. 13,11)
раскопан К. Т. Чагаровым, учеником 10 класса; находится
на вершине могильного холма; недалеко от погребения
стоял каменный крест; сооружен на скальной площадке
на глубине 2,75 м от современной поверхности; высота
погребальной камеры 1,75 м, ее покрывал слой земли
толщиной 1 м; склеп подземный, в нем два помещения —
погребальная камера и входной колодец (дромос), сверху
наглухо перекрытый плитами после того, как было
совершено погребение. Погребальная камера имеет необычное
устройство. Вытянутая с ССВ на ЮЮЗ, она имеет
прямоугольную форму размером 2 х 1,3 м. Кладка из ровных
плиток односторонняя, хорошо выровнена внутри, стены
вертикальные высотой 1,4 м. Однако на уровне 0,6 м
кладку передней стены прекратили, и ее сооружение было
продолжено другим способом. Отступив от края стены на
0,25 м, строители продолжили кладку и уложили на нее
длинный обломок плитняка, на который поставили
вертикально массивную плиту близкой к треугольнику формы;
в ней был вырублен арочный лаз, а ее верхний край имеет
с каждой стороны 3 уступа. Установив эту плиту,
строители сместили верхнюю часть фасада на 0,45 м вперед
и оказались перед сложной задачей заполнить лакуну,
образовавшуюся между обрезом боковых стен и верхней час-
1 Кузьминов А. К. Средневековый могильник на горе Дардон у Ка-
рачаевска. С. 412.
155
тыо фасада. Чтобы соединить фасад с боковыми стенами
и заполнить пространство между уступами плиты и
перекрытием камеры, были использованы крупные
необработанные обломки плитняка и уложены наискось по
направлению к боковым стенам, срезая углы по обе стороны
фасада. Однако соединить их с боковыми стенами можно
было только впритык, поскольку последние, как
упоминалось выше, имеют ровный обрез стены, непригодный для
кладки вперевязь. Кроме того, скальные плитки сказались
недостаточно длинными и были неумело уложены,
поэтому по шву вдоль края боковых стен осталась большая
щель, которую забили щебенкой. Мастера, строившие
склеп, не сумели использовать возможности плиты с
уступами; если на них положить длинные камни и вставить их
в пазы боковых стен, получится крепление «в лапу». Но
строителям этот прием знаком не был, хотя он
применялся еще в эпоху бронзы, при сооружении составных
дольменов.
К погребальной камере, в которую можно было
снаружи попасть только через арочный лаз, вырубленный в
фасадной плите, ведет дромос, сложенный из
необработанных плиток в виде длинного коридора с вертикальными
стенками (длина — 2,35, ширина — 0,6 и высота кладки
около 1 м). Он расположен выше камеры на 0,7 м и
впритык пристроен к фасадной плите, которая здесь —
снаружи — имеет небольшое рельефное изображение
равноконечного креста, для чего углублен фон на всей поверхности
плиты с помощью бороздок, состоявших из поперечных
насечек, наносившихся железным зубилом; создается
впечатление, что это орнамент, однако значительная часть его
закрыта кладкой стен дромоса. Такое нерациональное
использование парадной, орнаментированной стороны
фасада значительно снижает зрительный эффект, который
производила бы фасадная плита, открытая для обозрения
во всю свою ширину, и свидетельствует о неумелом
применении тесаных плит подобной конфигурации при
сооружении склепов. И тем более бессмысленным было
156
специально вытесывать плиту столь сложной фермы,
производить сложную обработку наружной стороны фасада,
чтобы все потом засыпать землей. С точки зрения канонов
средневековой склеповой архитектуры объяснение всем
этим нелепостям может быть только одно: готовую
тесаную плиту, а такие плиты вырубались при сооружении
составных дольменов, освятив ее рельефным изображением
креста и расширив лаз, использовали вторично при
постройке склепа и, в меру строительных навыков этой
эпохи, с помощью кладки типа ложного паруса кое-как
соединили с боковыми стенками, а снаружи пристроили дромос.
Он неплохо предохранял плиту от завала снаружи, а то
обстоятельство, что дромос закрыл все великолепие этой
огромной, хорошо обработанной плиты, не имело
существенного значения, поскольку склеп сооружался как
подземный и все равно должен был быть засыпан полностью
землей.
В склепе был погребен мужчина в возрасте лет
пятидесяти, грацильного телосложения. После того, как он был
помещен в склеп, лаз закрыли двумя камнями,
вложенными горизонтально, а дромос полностью перекрыли
плитами, положенными поперек. «...Умерший лежал на спине,
в вытянутом положении <...> головой на С». Найденные
при костяке предметы свидетельствуют о том, что в склепе
был погребен воин. В его экипировку входили лук с
костяными накладками, два колчана с ажурными
бронзовыми позолоченными украшениями (колчаны
подвешивались на ремнях, прикреплявшихся бляшками с кольцом
и пряжкой), кинжал и нож в ножнах, боевой топорик
(секира), тесло; он был опоясан поясом, украшенным
бронзовыми накладками и наконечниками ремней. Ноговицы
погребенного у колена завязывались кожаным шнуром.
Этот шнур был сплошь покрыт бронзовыми
позолоченными бляшечками. К тыльной стороне бляшек
прикреплены колечки, через которые и пропускался шнур. Одежда
скреплялась и была украшена бронзовыми
пуговками-бубенчиками шаровидной и биконической формы; они рас-
157
полагались на костяке от груди до колен, где расходились
в разные стороны, образуя поперечный ряд. У правого
плеча находилась бронзовая бляшка в виде бабочки.
Роскошный головной убор, украшенный ажурными
медными накладками, имел коническую форму: края были
окаймлены лентой бегущей спирали, а верх убора состоял
из 8 полос восьмеркообразной плетенки, выходящей из
ромбов и сходящихся на конус вверху. Инвентарь
погребения дополняют находки, сделанные во время раскопок
в земле: остатки одежды, золотая круглая бляшка и
бронзовые позолоченные бляшки с изображением креста,
нашитые на кожу, а также позолоченные пуговки-бубенчики
и два бронзовых кольца.1
Погребенный в склепе был добропорядочным
христианином: вход в помещение, где должны были его
похоронить, освящался крестом; близ могилы тоже был
установлен большой каменный крест. Однако заботы о том, чтобы
придать его могиле христианский вид, на этом и
кончались. Во всем остальном — в устройстве погребального
помещения, в облачении в военные доспехи для активной
деятельности в загробном мире — сохранены народные,
национальные нормы той этнической среды, к которой он
принадлежал: с точки зрения погребальной традиции —
это обычное захоронение в подземном склепе, каких
много на дардонском могильнике и в других горных
местностях Северного Кавказа. Так, склеп № 22, выстроенный
для погребения лишь одного человека, имел лаз. И не так
уж важно, был ли он оставлен в кладке передней стены
или вырублен в большой песчаниковой плите, важно
было лишь то, что такое входное отверстие было оставлено
при сооружении склепа и не надо было снимать
покровные плиты, чтобы внести его в погребальную камеру.
Следовательно, лаз — не случайное явление, а
обязательная деталь склепов.
1 Чагаров К. Т. Средневековый склеп Дардонского могильника.
С. 424-426. Табл. 1-3.
158
Склеп № 10 (рис. 13,12) расположен на площадке,
отделенной небольшой балочкой от холма, на котором
находится основная часть могильника. Фасад и прилегающая
к нему часть боковых стен разрушены; сложен из мелких
битых плиток, кладка двусторонняя толщиной 0,3 м;
стены почти вертикальны, перекрытие состоит из крупных
плит; задняя стена направлена наискось по отношению
к боковым, так что один угол получился острым, а другой
тупым; размеры — 1,8 х 1 м, высота 0,7 м; сейчас
значительно выступает из земли, возможно, что он сооружался
как полуподземный. Склеп был заполнен землей, в
которой при расчистке обнаружено 5 черепов, прямоугольная
железная пряжка и три астрагала, два из которых имеют
знаки.
Склеп № 11 (рис.13,13) находится на расстоянии 5—
6 м ниже по склону, вытянут с СЗ на ЮВ, вход направлен
на ЮВ, слой земли над покровными плитами достигает
0,2 м; тщательно сложен из некрупного скального
плитняка в технике ложного свода; длина —2,1, ширина— 1,3,
высота — 1,2 м; боковые стены вверху сближаются до 0,9 м;
от перекрытия уцелели две большие плиты. На высоте
0,4 м в толщу задней стены вмонтирована плита, а в юго-
западную боковую стену — три плиты, образующие
полку-лежанку во всю ее длину; пол — скальный; скала внизу
частично включена в толщу стен. Вход вынесен за
пределы фасадной стены вперед на 0,5 м в виде узкого дромоса-
лаза (ширина — 0,4 м, высота — 0,43 м) и имеет ступеньку
Склеп был ограблен через пролом в фасаде под кровлей,
но лаз остался непотревоженным: его перекрывают
тонкие плиты и закрывают два камня, вложенные снаружи
после того, как в склеп был помещен покойник. При
расчистке было обнаружено, что перед фасадом возведена
стена, слегка изогнутая в виде дуги, которая наглухо
закрывала доступ внутрь. Сооружение этой стены
свидетельствует о том, что склеп был выстроен и использован
для погребения лишь одного человека, по этой же
причине в склепе была устроена лишь одна лежанка, хотя было
159
достаточно места и для другой. Действительно, в
заполнении были найдены кости лишь одного человека —
немолодой женщины. Случаи захоронения в склепе одного
человека нам уже известны по склепу № 22 дардонсксго
и по склепу № 1 былымского могильников. В заполнении
была обнаружена лишь согнутая бронзовая булавка.
Склеп № 24 по нумерации А. К. Кузьминова (рис. 13,14)
находится значительно выше по течению реки, у ручья, за
которым к Теберде вплотную подходят отвесные скалы.
На террасе левого берега ручья (участок I) расположены
несколько разграбленных склепов. Склеп № 24 был
обнаружен при прокладке дороги в сторону р. Дардон, когда
в ее обрезе обнажился фасад. Входное отверстие было
заложено небольшими ровными плитками. Он не имел
никаких наружных признаков, был полностью скрыт
в земле и поэтому не был ограблен. Прямоугольный в
плане, склеп вытянут по линии СВ-ЮЗ (длина — 1,9,
ширина — 1,25, высота —1,15 м), лаз направлен на СВ; сложен
из необработанного плитняка, но около лаза размером
0,4 х 0,58 м камни слегка подтесаны и имеют правильную
форму; внутри лаз несколько расширяется; стены внутри
на высоте 0,45 м начинают сближаться и переходят в
полный классический ложный свод; переход от боковых стен
к передней осуществлен с помощью кладки в технике
ложного паруса, в задней стенке на высоте 0,2 м от пола
устроена ниша; кладка двусторонняя — снаружи скосы
ложного свода выровнены, фасад прямоугольный.
А. К. Кузьминов так описывает это погребение: «Вдоль
северной и южной стенок на небольших камнях
(подставках) положены тонкие плиты, на них дубовые доски, на
которые клали умерших. Вдоль северной стенки
захоронен мужчина, вдоль южной — женщина... Головы
погребенных были обращены к западу. Под скелетом женщины
доска полностью сохранилась — ширина ее 0,6 м, толщина
5 см. У ног мужчины обнаружили бронзовую копоушку
с изображением креста на щитке... Вдоль северной стенки
лежали сабля железная, нож; на полу, между скелетами —
160
бронзовое зеркало и бронзовая подвеска, нож... Вдоль
западной стенки — за черепами — вторая сабля, около
позвоночника женского костяка — пуговицы и бубенчики.
В юго-восточном углу склепа — глиняный сосуд. Вдоль
южной стенки — третья сабля, около нее — колечко и
стеклянный браслет, ближе к грудной клетке женского
костяка — железный наконечник стрелы. У голени — разбитый
на две части горшочек. Между головами погребенных —
горшочек и бронзовая пластинка. Под плитой, на которой
лежал костяк мужчины, горшочек, железная бляха и
четыре стеклянных браслета. У его головы две железные
секиры. У головы женщины — фрагмент браслета и
бронзовая ложечка, железная секира, нож. Между западной
стенкой и головой женщины — горшочек. На доске у ног
женщины — бронзовая серьга с крестовидной
подвеской...».1
Нами при дополнительной зачистке были найдены
4 ножа, тесло, железная пряжка, обломки стеклянных
браслетов, бронзовая туалетная ложечка, бусы, мелкие
полусферические бляшки, пуговки-бубенчики, бронзовая
полоска-венчик, пара серег с шишечкой на кольце и
крестовидной литой подвеской, ладьевидное перекрестье
меча и наконечник ножен (рис. 13,16). Различные вещи,
найденные на дардонском могильнике, находят
многочисленные аналогии в погребениях X—XII вв., что и
определяет его датировку.2
Недалеко от склепа № 24 есть несколько узких
длинных каменных ящиков с одиночными погребениями,
вытянутыми с 3 на В. В одном из них, разграбленном не
полностью, был обнаружен инвентарь, свидетельствующий
о синхронности этих ящиков со склепами. Труднее
датировать расположенные на участке II скальные катакомбы
и склепы (полусклепы-полукатакомбы). Последние пред-
1 Кузьминов А. К. Средневековый могильник на горе Дардон у Ка-
рачаевска. С. 412—414.
2 Там же. С. 419 (примеч. ред.).
161
ставляют собой естественную или искусственную
скальную нишу, закрытую стенкой, сложенной из плитняка
и камней. В настоящее время все они разграблены, стенки
разрушены, кое-где сохранились лишь их основания.
Хорошо сохранилась одна из скальных катакомб. Она имеет
в плане ромбовидную форму размером 1,3 х 1,5 и высотой
1,5 м; лаз направлен на ЮВ; в настоящее время он
расширен книзу, а в древности имел, по-видимому, арочную
форму размером 0,6 х 0,6 м; толщина лаза 0,35 м, толщина
передней стенки 0,55 м. В целом скальных склепов и
катакомб на могильнике немного, так как удобных для их
сооружения выходов скал здесь почти нет.
Большинство склепов дардонского могильника
подземные, и устройство их аналогично былымским.
Некоторые же имеют двустороннюю кладку; хотя внутренняя
стена сложена в технике ложного свода с наклоном внутрь,
снаружи кладка вертикальная и служит контрфорсом,
предохраняющим нависающие стены от завала внутрь.
Поэтому у этих склепов фасад прямоугольный. Такие
погребальные сооружения можно назвать полуподземными.
Лаз в отдельных случаях вырублен в песчаниковой плите,
верх которой имеет правильные уступы, как в склепе
№ 22 (на участке III лежало несколько таких плит). Эти
плиты — остатки разрушенных составных дольменов,
иногда вторично использовавшиеся при сооружении склепов.
Нередко к лазу ведет более или менее длинный дромос
(склепы № 2, 5, 11, 20, 22), имеющий одну-две ступеньки.
В большинстве случаев лаз закладывался горизонтально
вложенными снаружи двумя камнями или несколькими
плитками, но в склепе № 2 был закрыт каменной плиткой,
поставленной вертикально. Интерьер оформлялся
различно: иногда в стенах устраивались ниши, но в одном
случае функцию нищи выполняла каменная полочка,
вмонтированная в заднюю стену. Многие склепы имеют
либо скальные лежанки, либо каменные полки, одним
продольным краем входящие в кладку стены; другой край
иногда подпирает камень или столбик из плиток.
162
Дардонский могильник продолжается и дальше по
левому берегу Теберды до ее впадения в Кубань и ниже, по
левому берегу Кубани. Здесь летом 1939 г. проводила
исследования Т. М. Минаева. Обследованный ею участок
получил название Усть-Тебердинского могильника. По ее
наблюдениям, к подземным склепам, врезанным в склон,
«вели ступеньки, вырубленные в скале, или устраивалась
коротенькая каменная лесенка с двумя парапетами»,
отверстия для вторичных захоронений закрывались камнем
или плиткой. Инвентарь погребений Усть-Тебердинского
могильника аналогичен дардонскому. Т. М. Минаева
датирует могильник IX—X вв.1 В. А. Кузнецов предпочитает на
основании довольно многочисленных находок
стеклянных браслетов более позднюю дату — X—XII вв.2
МОГИЛЬНИКИ НАД ПЯТИГОРСКОМ
Могильник Колоссальный некрополь, насчитываю-
на р. Кефарь щий более сотни каменных дольмено-
образных гробниц, разместился на
водораздельном хребте, вытянутом с Ю на С между р. Кефарыо
(приток Б. Зеленчука) и впадающей в нее небольшой
речкой Кривой (Кривая балка). К С от могильника, на мысу,
образованном впадением р. Кривой в Кефарь,
сохранились остатки большого средневекового поселения,
хорошо защищенного скальными обрывами. Въезд со стороны
мыса имеет оборонительные укрепления — высокие
крепостные стены из камня. Жилища сложены из камня и
несколько углублены в грунт; имеют в плане прямоугольную
форму; кое-где сохранились дверные проемы. Могильник
начинается за седловиной, на довольно крутом подъеме.
Здесь имеется несколько склепов, сооруженных в технике
ложного свода. Еще выше преобладают гробницы с
вертикальными стенками, сложенными из мелких тесаных
камней. Они размещаются несколькими группами как на
1 Минаева Т. М. Могильник в устье реки Теберды // МИ С К.
Ставрополь, 1955. Вып. 7. С. 263, 270, 276.
2 Кузнецов В. А Аланские племена Северного Кавказа. С. 50.
163
гребне, так и на террасах, обращенных к Кефари и Кривой.
На террасе склона к Кривой сосредоточены гробницы,
составленные из крупных тесаных блоков, с
конструктивными признаками составных дольменов. Могильник на
р. Кефарь известен с конца прошлого столетия,
неоднократно посещался специалистами. Особое внимание
исследователей привлекала гробница, сплошь покрытая
разнообразными сценами бытового, культового и
военного характера. Е. Д. Фелицын, несмотря на сходство
больших гробниц из тесаных камней с дольменами, отмечает
ряд черт, отличающих их от этих древних погребальных
сооружений.1 П. Г. Акритас, бывавший на могильнике
в 1952 г., называет большие гробницы дольменами, а
остальные, из мелких камней, — склепами.2 В. А. Кузнецов,
продолживший работу экспедиции Пятигорского
пединститута в 1953 г., назвал их дольменообразными склепами.3
Нами на основном кефарском могильнике с целью
фиксации архитектурного устройства были расчищены два
склепа.
Склеп №1 (рис. 14,1) находится близ поселения на
подъеме седловины к основной части могильника. Фасад
и часть боковых стен разрушены; снаружи сложен из
скальных плиток, а внутри его задняя стенка — из
обломков скальных пород разной формы. Благодаря
скошенности края камней, линия ложного свода получилась не
ступенчатой, а плавной. Стены возводились частью на
скальной основе холма, частью на щебенке,
выравнивающей и пол склепа. От перекрытия из больших плит,
положенных поперек, сохранилась лишь одна (задняя). Почти
квадратный в плане, вытянут с С на Ю, лаз направлен к С,
вниз по склону. Длина—1,9, ширина—1,75, высота —
1 Фелицын Е.Д. Западнокавказские дольмены//МАК. М., 1904.
Вып. 9. С. 84-86, табл. X, 20, табл. XIII, 25, 26.
2 Архив ИА АН СССР. Р-1. Д. 821.
3 Кузнецов В. А. 1) Средневековые дольменообразные склепы
Верхнего Прикубанья//КСИА М, 1961. Вып. 85. С. 106;
2) Аланские племена Северного Кавказа. С. 52.
164
1,1м. Лаз, расположенный на высоте 0,2 м от пола, имеет
в толще стены ступеньку высотой 8 см. Размеры лаза
снаружи, судя по сохранившимся остаткам, — 0,4 х 0,4 м. В
заполнении найдены бронзовые ложечка, пуговка и
височное кольцо.
Склеп № 2 (рис. 14,2) расположен рядом, в 3 м к
востоку. Фасад, часть боковых стен и перекрытие разрушены,
задняя стена развалилась, передняя стенка начала
сползать вниз по склону. Сложен из скального плитняка в
технике ложного свода, без выравнивания выступающих
углов камней. Почти квадратный в плане (2,1 х 1,8 м),
вытянут с ССВ на ЮЮЗ; лаз направлен к С, вниз по склону,
находится на высоте 0,3 м от пола, имеет ширину 0,5 м
(высоту его установить невозможно, так как верх фасада
разрушен). Вдоль стен устроены лежанки высотой 0,25—
0,3 м и шириной 0,55—0,6 м. Для этого на расстоянии 0,5 м
от стен сложены из плитняка стенки высотой 0,2—0,25 м,
промежуток между ними и стенами склепа засыпан
землей и поверх выстлан плитками. На лежанках находились
остатки длинных костей нескольких человек. После
ограбления в склепе осталось 6 стеклянных браслетов, три
бусины и бисеринка. Найденные предметы позволяют
датировать погребения X—XII вв.
Таким образом, склепы на Кефари синхронны склепам
дардонского могильника и очень близки по архитектуре:
они сложены в технике ложного свода насухо, кладка стен
двусторонняя, стены возводятся прямо на скале или на
земле (на щебенке, выравнивающей пол склепа), лаз
направлен вниз по склону, внутри могут быть лежанки. По
основным архитектурным признакам склепы аналогичны
обычным раннесредневековым склепам центральной
части Северного Кавказа, но отличаются тем, что являются
не подземными, а надземными — скальная основа хребта,
выступающая здесь на поверхность, не позволяла
погружать их в землю.
В нескольких метрах выше по склону был замечен
и расчищен от перегноя скальный склеп. Для его сооруже-
165
ния была использована естественная ниша, вытянутая
с В на 3. Вдоль нее была сооружена вертикальная
каменная стенка, вход в камеру был оставлен с В; на небольшом
расстоянии от входа устроена лежанка во всю остальную
длину ниши. Погребение полностью уничтожено
грабителями, разрушившими верх стенки. Вход, заставленный
снаружи двумя плитками, остался ненарушенным.
Эти три постройки свидетельствуют о разнообразии
склеповых сооружений в эпоху раннего Средневековья,
о творческом, созидательном процессе их строительства.
СКЛЕПОВЫЕ МОГИЛЬНИКИ СЕВЕРНОЙ ОСЕТИИ
И ЧЕЧЕНО-ИНГУШЕТИИ
Могильник Гал-фандаг Расположен в Алагирском
(Воловья дорога) ущелье выше Кассары, в
районе оборонительной стены,
запиравшей ущелье. Исследовался в 1879 г. В. Б.
Антоновичем при участии П. С. Уваровой. Последняя называет
исследованные могилы каменными ящиками1, и это
послужило, вероятно, причиной того, что В. А. Кузнецов
поместил описание могильника Гал-фандаг в раздел
«каменные ящики»; в то же время В. А. Кузнецов, ссылаясь на
П. С. Уварову, отмечает, что «в одном из них был заметен
вход, состоящий из большой четырехугольной плиты,
другая могила начиналась двумя аккуратно сложенными
ступенями из шифера».2 Напомним, что такие признаки,
как вход и ступени, не характерны для ящиков, но
типичны для склепов. В. Б. Антонович отмечает, что стенки
гробниц сложены из маленьких шиферных плит без
цемента, покрыты большими плитами. «Могилы все
расположены входными отверстиями к западу». На
приводимом им чертеже также хорошо виден входной проем
и ориентировка лаза на 3. В. Б. Антонович расчистил на
могильнике семь гробниц. Перекрытие их находилось не-
1 Уварова П. С. Могильники Северного Кавказа. С. 329.
2 Кузнецов В. Л. Аланские племена Северного Кавказа. С. 95.
166
посредственно под дерном, глубина достигала 0,92—
1,43 м, длина варьировала от 2 до 2,5 м, ширина от 0,9 до
1,9 м; они были вытянуты с В на 3, вход — в узкой
западной стенке; в одном случае «с западной стороны в могилу
вели две каменные ступеньки внутри могилы и отверстие
в стене». Пол земляной, только в одном склепе на дне
были продольно уложены шиферные плиты, а в другом
прослеживались следы деревянной доски. В склепах было
погребено от 2 до 7 человек в каждом, все они были
разрушены и ограблены, вещей почти не оказалось. Только
в гробнице № 2 были обнаружены «две бронзовые
проволоки, бронзовое колечко с узорчатым гнездом,
фрагмент стеклянного колечка, бронзовая фибула и отломок
железного кольца».1 В. А. Кузнецов датирует могильник
VIII—IX вв.2 В 1973 г. при прокладке новой дороги на
этом участке были обнаружены взрывом два подземных
склепа (рис. 15,1—2). У одного кладка сделана в технике
ложного свода, очень аккуратно; у другого кладка
прилегает к наклонной скале, использованной в качестве
боковой стены.
Могильники Галиат В 1935 г. на территории совре-
и Куронта менного кладбища сел. Галиат
и позднесредневекового склепо-
вого могильника Е. И. Крупновым были открыты
катакомба и подземный склеп. Последний был неглубоко впущен
в склон и полностью скрыт под землей. Прямоугольный
в плане, вытянут вдоль склона с ЮВ на СЗ; в широкой
восточной стенке, обращенной к склону, был оставлен лаз,
несколько смещенный к юго-восточному углу. Сложен
насухо «из толстых, грубо обтесанных плит и брусков
дикого камня, известняка и сланцевых пород» неодинакового
размера. Кладка стен была односторонней с выравнивани-
1 Антонович В. Б. Дневник раскопок, веденных на Кавказе
осенью 1879 г. // Пятый археологический съезд в Тифлисе. I: Труды
предварительных комитетов. М., 1882. С. 240—241.
2 Кузнецов В. Л. Аланские племена Северного Кавказа. С. 95.
167
ем их лишь внутри. Камера сравнительно небольших
размеров (длина — 2,31, ширина — 1,07, высота — 0,93 м)
была покрыта крупными плитами, непосредственно под
которыми размещался лаз размером 0,63 х 0,7 м, ничем не
закрытый. В неразграбленном, хорошо сохранившемся
склепе были погребены женщина и два воина. Прекрасно
сохранились деревянные седла со стременами, удила с пса-
лиями, пряжки и остатки кожаных ремней от конской
сбруи. Недалеко от склепа было обнаружено
захоронение коня. От экипировки воинов сохранились трехперые
черешковые наконечники стрел и остатки колчанов,
подвешивавшихся на крючках, слегка изогнутая сабля,
наконечник копья, многочисленные пряжки, серебряные
позолоченные накладки и наконечники от ремней, ножи.
В ожерелье женщины, состоявшем из 48 разнообразных
бус (сердоликовых, в том числе расписанных белой
краской, янтарных, стеклянных, глазчатых, каменных и др.),
была золотая стершаяся византийская монета Ираклия
и его сына Константина (613—614—630). Были найдены
также 4 глиняных лощеных кувшина, 3 деревянные
сосуда (миски и чаша) и новый серебряный диргем халифа
Абд-аль-Малика, битый в Басре в 81 г. Хиджры (700—
701), что позволяет точно датировать погребение первой
половиной VIII в.1 Все эти находки дают представление
о быте и вооружении населения средневековой Дигории.
Несмотря на изолированность этого высокогорного
района, с помощью обмена и торговли в него попадали
различные ремесленные изделия, в том числе украшения
и оружие.
На противоположном, правом берегу Комидона,
против сел. Камунта и галиатского некрополя, на
высокогорном отроге, спускающемся к сел. Галиат, находится боль-
1 Крупное Е.И. 1) Из итогов археологических работ. С. 139—140,
151, 164; 2) Галиатский могильник как источник по истории
алан-оссов // ВДИ. 1938. № 2 (3). С. 120; Семенов Л. П.
Археологические разыскания в Северной Осетии. С. 65; Кузнецов В. А.
Аланские племена Северного Кавказа. С. 103—104.
168
шой могильник Куронта, или Гуронта. В настоящее время
он представляет собой плоскую террасу, покрытую
заросшими травой неглубокими западинами, образовавшимися
в результате ограбления. Могильник Куронта
исследовался еще в 1879 г., но уже тогда В. Б. Антоновичу с трудом
удалось найти для раскопок две нетронутые грабителями
могилы. При вскрытии им первой гробницы «на глубине
1/2 аршина от поверхности найден ряд плит, лежащих
горизонтально. <...> После снятия второго ряда плит
показался каменный ящик, уставленный по бокам такими же
плитами. Длина 2 метра, ширина 1,37 метра. Длина
простиралась по направлению от N к 3. Кроме ряда плит,
стоявших по бокам ящика вертикально и составлявших его
наружную стенку, изнутри к нему прилегал, с XV и Е,
другой ряд меньших плит, закруглявшихся кверху, как бы
начало свода, но камни, завершавшие этот свод, обрушились
и заполняли собою внутренность гробницы. Внешний ряд
плит с восточной стороны состоял из 3, с северной из 1,
с западной из 3 и значительного между ними промежутка
(курсив мой. — Л. Н.) — с южной из 1... Внутренние
стенки плит и дно гробницы были вымазаны слоем желтой
глины, в 1/2 дюйма толщиною; под нею на дне находилась
подстилка из мелких круглых камней, но плит не было.
Вторая гробница была так же устроена, как и первая,
но крышка состояла только из одного слоя (4) плит; бока
могилы также состояли только из одного ряда внешних
больших плит; внутреннего ряда и признаков свода не
было. <...> Стенка и дно не были смазаны глиною, но на дне
находилась выстилка из щебня».1 В гробницах были
обнаружены остатки погребений и инвентаря. Обращает на
себя внимание следующая деталь: западная стена гробницы
№ 1 состояла из трех плит и «значительного между ними
промежутка», местоположение которого обозначено на
схематическом плане гробницы несколько левее середи-
1 Антонович В. Б. Дневник раскопок... С. 232—234, см. также:
Уварова П. С. Могильники Северного Кавказа. С. 286—287.
169
ны.1 Если сравнить этот план с планом галиатского
склепа, расположенного на противоположном берегу р. Коми-
дон, то обнаруживается полное повторение: промежуток
между плитами совпадает с местоположением лаза
галиатского склепа, исследованного Е. И. Крупновым. Близки
и размеры этих двух гробниц: 2 х 1,37 м и 2,31 х 1,07 м.
Гробница могильника Куронта шире, чем склеп в Галиате;
и это свидетельствует, что В. Б. Антонович исследовал не
каменный ящик, а подземный склеп, имеющий лаз в
широкой стенке, обращенной к склону. Таким образом, оба
склепа идентичны, только лазы направлены зеркально,
так как они расположены на противоположных берегах
Комидона.
В 1969 г. на могильнике Куронта нами был расчищен
ограбленный подземный склеп. Он вытянут по линии В-3,
в плане имеет форму неправильного прямоугольника со
скругленными углами; длина — 2, ширина — 1,3, высота —
1 м; стены сложены из плитняка и камней разной
величины; некоторые камни поставлены на ребро; кладка
сделана насухо, в один ряд, с выравниванием стен лишь внутри;
стены вверху несколько сближаются, имеют небольшой
наклон внутрь; перекрытие состоит из плит, уложенных
поперек (уцелела лишь одна плита); пол покрыт глиной,
под которой слой щебенки; у восточной стенки пол
повышается на 0,1 м. Вход в западной стенке обращен в
сторону склона, частично разрушен; первоначально он был
оформлен аналогично лазу лацских склепов: по краям
стояли вертикальные каменные бруски — столбы, на них
лежал горизонтальный брусок (сейчас южного столба нет,
кладка южной стены ровно обрывается около лаза, блок
перекрытия сполз вниз); снизу лаз ограничен широким
камнем, возвышающимся над полом на 0,35—0,4 м;
ширина лаза около 0,5, высота — 0,6 м. В склепе было погребено
не менее пяти взрослых, были и дети. От вещей уцелели
жалкие остатки: железные секирка и тесло, крупный трех-
1 Антонович В. Б. Дневник раскопок... Табл. IV. Рис. 17.
170
перый наконечник стрелы, обломки ножей и ножниц для
стрижки овец, бусы (в основном сердоликовые) и прониз-
ки с золотой и серебряной фольгой, подвеска из синего
стекла в виде клыка, обломок перстня из сплава, мелкие
фрагменты сосудов (рис. 15,5). Эти вещи позволяют
датировать склеп VIII—IX вв.
Склепы В задалескской котловине, ниже ко-
у сел. Задалеск торой начинается теснина Уруха,
П. С. Уваровой «были вскрыты
могилы особого типа, род семейных склепов. <...> Склепы эти
вырыты в земле, сложены из местного мелкого,
неотесанного плитняка, имеют вместо пола счищенный,
сглаженный грунт и прикрыты сверху сводом из местных
известковых неотесанных плит. В одной из боковых стен (не
всегда с той же стороны) проделано отверстие, которое
завалено большим камнем, отворив который, легко попасть
в камеру; размеры этих склепов почти все одинаковы:
длина от 2-х до 2 1/4 м; ширина от 1 м до 1 м 10 см,
вышина приблизительно один метр. В каждом склепе костяков
несколько; расположены они на полу; вокруг них сосуды
и разные предметы из бронзы, которые иногда
укладываются в отдельно устраиваемых в стенках склепа боковых
нишах. В таком виде представились нам три из
поименованных могил. Четвертая могила, тождественная с остальными
в подробностях, представила особое пред другими
богатство предметов и значительную разновидность в форме
черепов, оказавшихся деформированными и
замечательно удлиненной формы».1 В описании П. С. Уваровой
нетрудно увидеть типичные подземные склепы. Находка
деформированных черепов позволяет отнести их к V—VI вв.
Могильник Бахайта Расположен на мысу,
образованном впадением речки Билягидон
в Урух близ сел. Кумбулта, на гребне-террасе высокого
1 Уварова П. С. Могильники Северного Кавказа. С. 191.
171
горного кряжа, идущего вдоль р. Гибинонидон. В 1974 г.
его показал нам житель сел. Донифарс В. О. Кульчиев.
Склепы устроены в скальных углублениях с помощью
стен, сложенных из некрупных обломков горных пород,
В 1976 г. нами были расчищены два склепа.
Склеп № 1 (рис. 15,3) находится близ южного края
террасы. Глубокая скальная западина, вытянутая с ЮЗ на
СВ, ограничена с ЮВ стеной, сложенной из некрупных
камней; северо-западная стенка образована скалой,
имеющей наклон внутрь; у задней стенки укреплена
поставленная на ребре высокая плита, идущая поперек склепа,
возможно, для укрепления лежанки. Склеп у входа
значительно уже, чем в глубине. Вход оформлен ступеньками,
вырубленными в скале. От кровли сохранилась одна
массивная плита, покрывающая большую часть склепа.
Никаких находок не было. Длина — 3, ширина у задней
стенки — 1,4, ширина у входа — 0,75, высота — 1,75,
толщина покровной плиты — 0,15, ширина — свыше 1,5,
длина — свыше 1,5 м.
Склеп № 2 (рис. 15,4) находится в середине
могильника, до начала расчистки это была небольшая западина,
поросшая травой. Устроен в небольшом скальном
углублении, идущем также с С на Ю; с 3 скала имеет наклон
наружу, и строителям склепа пришлось выровнять ее с
помощью вертикально поставленных плит и закладки из
мелких плиток; северная (задняя) и восточная стенки
сложены также из вертикально поставленных плит и
дополнены кладкой из мелкого плитняка; южная стена
образована массивной плитой, поставленной на ребро, за
ней чуть ниже ее края корытовидный дромос перед
входом вымощен плиткой. Длина — 2, ширина у задней
стенки — 0,9, у входа — 0,65, высота посередине — 0,8, у задней
стенки — 0,75 м; длина дромоса — 0,7 м. Погребены были
старая женщина и молодой мужчина; склеп ограблен,
поэтому кости их и остатки инвентаря перемешаны,
находились на разном уровне. Внутри, у передней стенки, стоял
двуручный горшок, у которого полностью сохранилась
172
лишь одна ручка в виде петли, другая ручка сломана в
древности, излом ее округло заглажен. Были найдены
следующие предметы (некоторые в обломках), .принадлежавшие
мужчине: железный наконечник копья, стремена, удила,
бронзовая пряжка, бронзовый перстень-печатка с каким-
то изображением, позолоченные обкладки наременных
бляшек (продолговатая с треугольниками из
штампованной зерни и трилистник с тиснеными концентрическими
кругами и розеткой из шести секторов посередине);
золотая обкладка, заполненная белой пастой, имеет по краю
крупную тисненую зернь и в центре трилистник с
кружками, в которые вставлены выпуклые стеклянные
полусферические глазки; к инвентарю женщины относятся
бронзовое зеркало с петлей посередине и круглыми выпуклыми
полусферами вдоль бортика, два бронзовых височных
колечка и три бусины (две из них глазчатые), обломки жел-
тоглиняного кувшина со сливом (рис. 15,6). Погребение
относится к X—XII вв.
Могильник Этот раннесредневековый могильник был
у сел. Лац известен и неоднократно исследовался
уже в конце прошлого столетия.1 В. Б.
Антонович, В. Ф. Миллер, П. С. Уварова, К. И. Ольшевский
обнаружили склепы «с лесенкой у входа и нишей на
противоположной стороне».2 Однако их схематические
зарисовки не дают полного представления об архитектуре
исследованных объектов. Могильник расположен там же,
где и позднесредневековый, на южной окраине сел. Лац,
на правом берегу р. Фиагдон; древний и
позднесредневековый могильники разделены лишь проселочной дорогой.
Здесь нами были расчищены два склепа.
Склеп №1 (рис. 16,1) находится почти посередине
древнего могильника, имеет вид большого прямоугольно-
1 Антонович В. Б. Дневник раскопок... С. 247—251, табл. V,
рис. 9—15; Миллер Всев. Терская область. С. 54; Уварова П. С.
Могильники Северного Кавказа, С. 164—165, 167—168.
2 Уварова П. С. Кавказ. Путевые заметки. С. 81.
173
го каменного ящика, вытянутого по линии СЗ-ЮВ,
сложенного из крупных и мелких обломков горных пород
насухо; стены вертикальны, длина — 2,35, ширина—1,2,
высота —1м; таким образом, размеры достаточны для
погребения нескольких человек. По первому впечатлению
лаза нигде не видно, однако в узкой северо-западной
торцовой стенке близ северного угла камни не имеют
перевязки с остальной кладкой стены. Вероятно, большой
«каменный ящик» (в котором оказалось несколько погребенных);
является подземным склепом с лазом простейшей
конструкции в виде прямоугольного проема, а камни,
вставленные в него без перевязи со стенами, закрывают лаз.
В северной половине обнаружены остатки погребений
не менее пяти человек, все черепа располагались в ряд,
свидетельствуя, что погребенные были ориентированы
головой на ЮЗ. Из инвентаря уцелело четыре сосуда и
некоторое количество предметов личного убранства и
обихода — бронзовые и стеклянный браслеты, бусины,
височные колечки, ножи и т. д. Эти сосуды — миниатюрные
кувшины, тонкостенные, из хорошо отмученной и
обожженной глины; снаружи покрыты беловатым ангобом;
некоторые имели по тулову красную с черным роспись
в виде шевронов (рис. 16,8). Такие же сосуды известны по
раскопкам П. С. Уваровой на этом же могильнике, где они
были ею найдены вместе со стеклянными браслетами.1
Последние позволяют датировать склеп X—XII вв.
Склеп № 4 (рис. 16,2) сложен из обломков горных
пород разной величины насухо; длина — 3,1, ширина — 1,4,
высота — 3,35 м; вытянут по линии СВ-ЮЗ, вход обращен
на СВ. Задняя торцевая стенка в основании имеет
огромный кусок плитняка, поставленный на ребро; южный угол
стенки округлен; боковые стенки, сложенные из камней
разной величины, плавно переходят в фасад благодаря
округленным (скошенным) углам, поэтому фасад несколь-
1 Уварова П. С. Могильники Северного Кавказа. С. 64, 168, 169.
Табл. XXIII, 1-3, XXVIII, 7-11, XXIX, 6, 7.
174
ко уже, чем задняя стенка. Лаз оформлен очень четко —
проем его имеет П-образное обрамление из двух
вертикальных и одного горизонтального блоков подобно тому,
что наблюдал на этом лее могильнике В. Б. Антонович;1
начинается лаз на высоте 0,4 м от пола, снаружи закрыт
плитой и завален крупным булыжником. Пол слегка
понижается вглубь — около задней стенки склеп несколько
глубже и выше. Перекрытие состоит из пяти блоков
плитняка. В результате ограбления черепа, кости, сосуды и
другие вещи были перемешаны, встречались на разной
глубине. Обнаружено свыше 10 неполных черепов взрослых,
подростков и детей. Инвентарь состоит из железных
ножей, колец, наконечников стрел, пряжек, многочисленных
украшений — бус, бронзовых бубенчиков, пуговок,
височных колец, серег, браслетов (бронзовых и обломка
стеклянного позднего типа). Некоторые украшения находят
аналогии в материалах склепов Ингушетии XIV—XVII вв.2
В керамике преобладают кувшины, однако в отличие от
склепа № 1 здесь были обнаружены не только
миниатюрные тонкостенные ангобированные кувшинчики, но и
массивные толстостенные кувшины красного обжига;
последние нередко имеют волнистый орнамент, нанесенный
гребенкой (рис. 16,8). Сочетание керамики X—XII вв. с зо-
лотоордынской и украшения эпохи позднего
Средневековья определяют время длительного использования склепа
как семейной усыпальницы в пределах XIII—XV вв.
Склеп № 2 (рис. 16,3) находится за балочкой,
отрезающей древний склеповый могильник от катакомбного;
имеет необычно большую длину — 4,2 м — при ширине 1,25
и высоте 1,4—1,6 м; вытянут с СВ на ЮЗ. Лаз расположен
в западном углу, дромос направлен под углом по
отношению к продольной стене (продольной оси) склепа, как
у некоторых катакомб; внутри склепа у лаза сделана
ступенька высотой 0,15 м, от нее до основания лаза — 0,5 м;
1 Антонович В. Б. Дневник раскопок... Табл. V, рис. 12.
2 Крупное Е. И. Средневековая Ингушетия. Рис. 33, 12.
175
пол вымощен каменной плиткой, по краям обрамлен
вертикально поставленными камнями (горизонтальный
блок, перекрывающий эти камни, не сохранился); к лазу
примыкает дромос; его южная стенка — каменная плита,
поставленная на ребро; она примыкает к южному
вертикальному блоку, окаймляющему лаз; пол дромоса около
лаза вымощен плиткой, снаружи дромос был завален
булыжником; северная стена его не сохранилась. Склеп
сложен из мелкого плитняка, стены имеют небольшой наклон
внутрь (наклон юго-восточной стенки значительно
больше, чем северо-западной); кладка односторонняя; задняя
стенка в основании имеет огромный скальный блок, в юго-
восточной длинной стенке против входа на высоте около
0,7 м от пола устроена ниша шириной 20, высотой 15,
глубиной 25 см. Перекрытие состоит из семи плит.
Склеп был ограблен — кости погребенных и остатки
инвентаря находятся в перемешанном состоянии в слое
земли, заполнявшей его до половины высоты. В
заполнении найдены три целых черепа, несколько черепов в
обломках, много костей людей разного возраста, а также
десять глиняных сосудов, остатки двух деревянных мисочек,
37 железных ножей (многие из них в деревянных
ножнах), шило с деревянной рукоятью, деревянный гребешок,
железные кресала, наконечники стрел, колечки от
кольчуги, обломки бронзового наперстка, кольца, бронзовые
и железные пряжки, бронзовые пуговицы-бубенчики, две
плоские, керамические, покрытые зеленой поливой, с
двумя дырочками пуговицы, обломок стеклянного,
бронзовый и железный браслеты, туалетная ложечка, сделанная
из железа {рис. 16,5,7). Многочисленны среди находок
серьги, имеющие в основе кольцо с надетой на него внизу
сферической подвеской, украшенной филигранью и
зернью (рис. 16}6). Они уже далеко отошли от своего
прототипа аланского времени и находят аналогии в памятниках
позднего Средневековья. Так, подобные серьги из
погребения девочки у Асланбек-Шерипово в Ингушетии были
найдены вместе с бронзовыми монетами-подвесками, ими-
176
тирующими гольдгульдены времен Рудольфа II (1576—
1612).1 Очевидно, склеп № 2 является наиболее поздней
постройкой из числа расчищенных и может быть
датирован XIII — началом XVII в. По технике кладки,
конструктивно он принадлежит еще аланской эпохе. Обращает на
себя внимание необычно большая длина склепа, это
роднит его с позднесредневековыми склепами сел. Лац, что
свидетельствует о преемственности традиций.
Склеповый могильник Посещался Л. П. Семеновым
у сел. Мужичи и В. В. Бунаком.2 В 1956 г.
В. И. Марковин и В. А.
Кузнецов исследовали два полуразрушенных склепа,
зафиксировали их конструкцию и архитектуру, но датирующего
материала найдено не было.3 В 1972 г. нами расчищен
здесь полуразрушенный склеп и произведены
архитектурные обмеры другого, сохранившегося значительно
лучше. Могильник расположен на невысоком холме
первой надпойменной террасы левого берега р. Ассы, на
крутом склоне левого берега ручья, впадающего в Ассу и
образующего глубокую балку. Кроме склепов на террасе
Ассы близ впадения в нее ручья находится около десятка
длинных каменных ящиков.
Склеп № 1 (рис, 17,1) в значительней части разрушен
при ограблении, сохранились лишь задняя стенка и часть
прилегающих к ней боковых, в плане прямоуголен, углы
около задней стенки скруглены, вытянут с СЗ на ЮВ,
вход направлен к ЮВ; длина — 3,3, ширина — 2,15, высо-
1 Марковин В. И. Чеченские средневековые памятники... С. 270,
рис. 9, 7-10.
2 Семенов Л. П. Археологические разведки в Ассинском ущелье //
КСИИМК. М., 1952. №46. С. 120; Бунак В. В. Черепа из
склепов горного Кавказа... Рис. 1—2.
3 Марковин В. И., Кузнецов В. А. Археологические разведки в
ущельях рек Ассы и Аргуна в 1956 году // Изв. Чечено-Ингушского
респ. краевед, музея. Грозный, 1961. Вып. 10. С. 97—99;
Кузнецов В. А Аланские племена Северного Кавказа. С. 106, рис. 26,6.
177
та — 1,6 м. Сложен из некрупных обломков горных пород
с наклоном боковых и задней стенок внутрь; наклон
весьма значителен — боковые стены вверху почти смыкаются;
углы у задней стенки скруглены в технике ложного
паруса. Перекрытие, судя по сохранившейся его части около
задней стенки, состояло из двух рядов плит. Полок и
лежанок в склепе не было, погребенные лежали на земляном
(с примесью горной щебенки) полу. Остатки
разграбленных погребений были сосредоточены у задней стенки.
Кости и черепа лежали в беспорядке толстым слоем, здесь
же, среди костей, находились разбитые и целые сосуды.
В склепе было погребено до 15—16 человек (целые черепа
и обломки). Сохранилось 15 сосудов и много крупных
обломков, два наконечника стрел, нож, пряжка, обломок
костяной накладки, бусы, раковина, каури, серьги (рис. 17,3).
Среди сосудов преобладают красноглиняные кувшины,
многие из которых орнаментированы насечкой гребенки
с многолинейной волной, валиками. Ручки
преимущественно плоские, без орнамента, лишь одна украшена
цепочкой семечковидных вмятин (рис. 17,4). Сосуды
находят аналогии в керамике XII—XIV и XIV—XVI вв.1 Серьги
с напаянными шариками на свисающем стержне в виде
виноградной грозди, полая ажурная пуговка-подвеска,
наконечники стрел — плоский и пирамидальный
(квадратный в сечении) — находят аналогии в памятниках золото-
ордынского времени.2
Склеп № 2 (рис. 17,2) расположен по склону у края
плоской вершины холма, почти полностью скрыт в земле,
выступает только перекрытие кровли, засыпанное землей;
склеп сложен из плитняка насухо; кладка очень ровная
и тщательная в технике ложного свода; наклон боковых
1 Крупное Е. И. Средневековая Ингушетия. С. 88, рис. 28; Круп-
нов Е. И.} Мунчаев Р. М. Бамутский курганный могильник XIV—
XVI вв. //Древности Чечено-Ингушетии. М., 1963. Рис. 14.
2 Марковин В. И. Чеченские средневековые памятники... Рис. 1,2,3,
рис. 3, 26, 27, с. 255; Крупное Е. И. Средневековая Ингушетия.
С. 89, рис. 33, 2, 3, 4.
178
стен в виде полукруглой линии очень значителен — при
ширине склепа внизу 2,4 м вверху пролет между ними
составляет всего 0,5 м; задняя стенка также значительно
наклонена внутрь, в то время как передняя — лишь слегка.
В боковых стенках устроены большие ниши, в задней —
ниша меньшего размера; вдоль задней и северной боковой
стен идут полки (лежанки) из плит, вероятно,
вмонтированных одним краем в кладку стены. Поскольку выемка
заполнения склепа не производилась, неизвестно, имели
ли полки подпорки и на какой высоте от пола они
находились. На чертеже показана условно предполагаемая
глубина пола. В лазе были найдены обломки кувшинов XIV—
XV вв.
Полуподземные склепы Эти склепы иучались
сел. Верхний Кокадой В. И. Марковиным.
Остатки инвентаря и находки
монет времен Дмитрия Донского (1350—1389) и Тохтамыша
(чеканки 1386 или 1387 г), в склепах № 4, 7 определяют
дату их постройки и использования — XIII—XV вв.
Склепы сложены из мелкого рваного плитняка в технике
ложного свода насухо; в задней и боковой стенах устроены
ниши, вдоль стен — каменные полки, вмонтированные одной
стороной в кладку. Оформление фасада у склепа № 3
дополнено приставленной слева от входа перпендикулярной
стенкой; лаз обрамлен каменными плитками; над ним
сделан аркатурный поясок.1
В Ингушетии к золотоордынскому времени относится
часть склепов могильника Мохде близ сел. Шуан. Судя по
чертежу В. Ф. Миллера, один из них имеет признаки,
характерные для подземных склепов этого периода, — лож-
носводчатую кладку из плитняка, ниши, прямоугольный
Маркович В. И. 1) Исследование памятников Средневековья
в высокогорной Чечне. С. 52—53; 2) Чеченские средневековые
памятники... С. 251—255, рис. 2А, 2Б; 3) В ущельях Аргуна
и Фортанги. С. 72—73, 77, рис. на с. 74—76.
179
лаз.1 В других Л. П. Семенов обнаружил вещи XIII—XV вв.
и две джучидские монеты, одна из которых чеканки 1310—
1311 гг. Л. П. Семенов считает, что в подземных склепах
Шуана древнейшие погребения восходят к VIII—IX вв;
в этих же склепах могли быть более поздние погребения
XIV-XVвв.2
Мы познакомились с раннесредневековыми склепо-
выми сооружениями центральной части Северного
Кавказа аланского и золотоордынского периодов; за этот
огромный промежуток времени в тысячу лет — с V по
XV в. — склеповые постройки усовершенствовались,
стали разнообразнее, несколько изменились их архитектура
и оформление интерьера. Однако эти изменения не
меняли сколько-нибудь существенно общие строительные
принципы. В разных районах Северного Кавказа способ
погребения в склепах возник в разное время и в силу
определенных обстоятельств не везде получил дальнейшее
развитие. Ареалы склеповых сооружений и их эволюцию
мы и рассмотрим в следующей части.
1 Миллер Всев. Терская область. С. 29—30, рис. 44—46.
2 Цит. по: Кузнецов В. Л. Аланские племена Северного Кавказа.
С. 107.
Часть III
ПРОИСХОЖДЕНИЕ ОСЕТИН
ПО ДАННЫМ
СКЛЕПОВЫХ СООРУЖЕНИЙ
1. АРЕАЛЫ, ДАТИРОВКА, ТИПОЛОГИЯ
СКЛЕПОВЫХ СООРУЖЕНИЙ
♦
Обзор склеповых могильников центральной части
Северного Кавказа — на территории Чечено-Ингушетии,
Северной Осетии, Кабардино-Балкарии и Карачаево-
Черкесии — показывает, что они в различных районах
этой обширной и сложной в географическом отношении
области размещены неодинаково (рис. 18). Напомним, что
если в Северной Осетии и Ингушетии (включая
прилегающую к Ингушетии часть Чечни) почти около каждого
горного селения существуют могильники с
полуподземными и надземными склепами, многие из которых
наполнены мумифицировавшимися трупами, в гробах или
прямо на лежанках или деревянных настилах, то в Чечне,
Балкарии и Карачае таких семейных усыпальниц, в
которых трупы не зарывались бы в землю, нет: там строились
мавзолеи. Поскольку позднесредневековые склеповые
сооружения и мавзолеи строились на смежных
территориях, то их архитектура испытывала иногда взаимное
влияние. Однако функции склепов и мавзолеев при этом не
изменялись: осетинские мавзолеевидные склепы служили
семейными усыпальницами и были наполнены незары-
тыми в землю трупами, а в склеповидных мавзолеях
Балкарии и Карачая устраивались одиночные подземные
могилы. Таким образом, ареал осетинских и ингушских
склепов четко отделяется от ареала мавзолеев Чечни,
Балкарии, Кабарды и Карачая.
Если спуститься в глубь веков, в домонгольское время,
к начальному периоду строительства склепов, то мы
увидим совершенно иной их ареал. Наиболее ранние
склеповые постройки известны в горных районах Северной
Осетии (Гал-фандаг, Лац, Галиат, Куронта, Задалеск, Бахайта)
и Балкарии (Гижгид, Куркужан, Тырны-Ауз, Былым, Ка-
183
лакол, Кыр), а также под Кисловодском (Кугуль, Желез-
новодск). Склепы этого периода устраивались под землей,
стены их сложены из камней и плитняка в один ряд с
выравниванием кладки лишь внутри склепа (односторонняя
кладка); иногда возводились вертикальные стены, но
чаще—с наклоном внутрь. Снаружи стены неровные, и в тех
случаях, когда склепы сложены в технике ложного свода,
камни верхних рядов кладки значительно шире, чем
внизу; склепы засыпались землей вровень с поверхностью,
и тяжесть земляной засыпки прочно удерживала стены
в нужном положении. Перекрытие сделано, как правило,
из плитняка и удлиненных обломков горных пород,
уложенных поперек. В одной из стен оставлялся лаз; часто
это просто прямоугольное отверстие в стене, в других
случаях это отверстие П-образно обрамлено брусками;
наконец, к лазу нередко примыкает также более или менее
длинный дромос, укрепленный (облицованный)
дополнительной наружной кладкой; тогда лаз и дромос могут иметь
ступеньки. Внутри в стенах устраивались ниши, лежанка;
иногда лежанку заменяла деревянная доска. Следует
отметить разнообразие планировки: в большинстве случаев
это прямоугольник, слегка расширяющийся в середине,
однако некоторые склепы в плане трапециевидны (Кыр)
или благодаря скруглению углов приближаются к овалу
(Куронта) и даже к кругу (Кугуль).
Особого внимания заслуживают случаи, когда склепы
располагаются рядом или поблизости с синхронными им
катакомбами (Кугуль, Былым, Галиат), что несомненно
свидетельствует о пребывании алан в этих районах. К
настоящему времени на Баксане известно около десятка
склеповых могильников, и все они, включая Былым,
укладываются в период от V до VII вв. Склеповые и катакомб-
ные могильники более позднего времени, несмотря на
сравнительно хорошую изученность средневековых
памятников Балкарии, до сих пор не обнаружены.
Население, строившее склепы и катакомбы, покинуло ущелья.
И. И. Ляпушкин называет причину этого: «Около VII в.
184
движение кочевников в южнорусских степях ослабевает.
<...> Устанавливается относительное затишье. Оседлое
земледельческо-скотоводческое население получило
возможность выйти за пределы той территории, на которой
оно вынуждено было замкнуться в течение ряда
столетий...»; «Появление в VIII в. в пограничье лесостепи и
степи оседлого населения, оставившего салтово-маяцкую
культуру, может быть объяснено только как результат
расселения племен этой культуры, обитавших до того
времени в центральной части Северного Кавказа».1 О
населении, заменившем ушедшее, пока нет никаких
археологических данных. Из письменных источников известно, что
соседями алан в VI—VII вв. были болгары, расселявшиеся
в районе Нижней Кубани и Восточного Приазовья: «Ку-
пи-Булгар, Лучи-Булкар, Окхондор-Булкар —
пришельцы, Чдар-Булкар».2 При переселении алан из предгорий
центральной части Северного Кавказа не исключена была
возможность освоения болгарами-кочевниками
освободившихся угодий.
Склепы предмонгольского времени имеют несколько
более сложное устройство, дальнейшее
усовершенствование их архитектуры в X—XII вв. — они в настоящее время
лучше изучены в Карачае — состояло в том, что кладка
стен стала двусторонней: они выравниваются не только
внутри, но и снаружи. Для перевязки наружной и
внутренней кладки отдельные камни укладываются поперек
так, что блок одним торцом выходит на внутреннюю
сторону стены, другим — на наружную; этот прием придавал
значительную прочность постройке и делал необязатель-
1 Ляпушкин И. И. Памятники салтово-маяцкой культуры в
бассейне р. Дона // Труды Волго-Донской археологической
экспедиции. М.; Л., 1958. Т. 1. С. 145-146. (МИА, № 62).
2 Патканов К. Из нового списка Географии, приписываемой
Моисею Хоренскому//ЖМНП. 1883. Март. С. 29; Федоров Я. А.,
Федоров Г. С. Ранние булгары на Северном Кавказе // Из
истории Карачаево-Черкесии. Ставрополь, 1970. С. 357. (ТКЧНИИ.
Вып. 6, сер. ист.).
185
ным засыпание ее землей, давал возможность строить
полуподземные и надземные склепы. Значительная часть
склепов X—XII вв. продолжает оставаться подземными
(Дардон), но в условиях скального грунта появляются
полуподземные и надземные (Дардон, Кефарь), сложенные
из мелкого плитняка, чем они и отличаются от склепов
позднего Средневековья. Интерьер в основном остается
прежним: стены наклонены внутрь благодаря технике
ложного свода, для скругления углов вверху также
применяются паруса, устроены ниши, иногда сооружались
высокие лежанки, но чаще устраивались полки (большая
плита вмонтирована в стену, а нависающий край
подпирается необработанными камнями или плитками). Вместе
с тем, строились также склепы с более простым
интерьером — без ниш и полок, многие склепы имеют дромос. Три
такие постройки исследованы на г. Дардон (Карачаевск).
Особенно интересен склеп № 22, у которого дромос
построен из камня в виде входного колодца, как у степных
катакомб.1 Каменный дромос иногда имел ступеньки или
ступенька устраивалась в толще стены лаза. Дромосы-ле-
сенки отмечены Т. М. Минаевой на Усть-Тебердинском
могильнике.2 Архитектура полуподземных и надземных
склепов в Карачае не получила дальнейшего развития из-
за татарского нашествия. Население, строившее в Карачае
склепы, а также скальные склепы и скальные катакомбы,
вынуждено было уйти с насиженных мест.
При всей неполноте и неравномерности изученности
склеповых могильников домонгольского времени,
разбросанных по всей горной территории центральной части
Северного Кавказа, мы можем отметить сходные черты,
развивавшиеся в одном направлении на всей территории
их распространения — в Осетии и в начале ущелий рек
Балкарии и Карачая. «Сравнивая <...> склепы Осетии
1 Кузьминов А. К. Средневековый могильник на горе Дардон у Ка-
рачаевска. С. 410—412; Чагаров К. Г. Средневековый склеп Дар-
донского могильника. С. 423—424, рис. 24а, 24б, 24в.
2 Минаева Т. М. Могильник в устье реки Теберды, С. 263.
186
и Ингушетии с подземными склепами
Кабардино-Балкарии, — пишет Б. А. Кузнецов, — мы видим ряд общих
для них конструктивных черт. Таковы входные отверстия,
ниши, плоская крыша, общие принципы планировки
и строительства». В частности, галиатский склеп
«представляет почти полную аналогию подземным склепам
Гижгида и других могильников центрального локального
варианта»1. Сближение локальных вариантов аланской
культуры по этим признакам можно продолжить и
присоединить к восточному и центральному западный.
Напомним, что до недавнего времени в Карачае не были известны
(точнее, не были архитектурно зафиксированы)
подземные склепы, имеющие лаз. Правда, Т. М. Минаева еще
в 1939 г. обследовала могильник в устье р. Теберды, где
отметила, что «для вторичных захоронений пробивали
одну из коротких стен могилы (которая была направлена
к склону), куда и вносили погребаемого, затем пробоину
заделывали крупным тесаным камнем или закладывали
плиткой».2 Позднее, в 1961 г., в отчете о раскопках на
склонах г. Дардон А. К. Кузьминов отмечает наличие
отверстия (лаза) в склепе № 24.3 К сожалению, отсутствие
архитектурных обмеров в том и другом случаях явилось,
очевидно, причиной того, что В. А. Кузнецов не имел
данных для того, чтобы выделить в Карачае группу склепов
со входами. Между тем такая группа весьма
многочисленна на могильнике Дардон, на Кефари-Кривой, на горе Ку-
гуль (под Кисловодском), близ Железноводска и на
других могильниках Карачаево-Черкесии. Склепы устроены,
как мы видели, аналогично подземным склепам
восточного и центрального вариантов аланской культуры: они
имеют лаз, стены бывают и прямыми, и наклонными, в них
1 Кузнецов В. Л. Аланские племена Северного Кавказа. С. 107.
2 Минаева Т. М. Могильник в устье реки Теберды, С. 270.
3 Кузьминов Л.К. 1) Археологические находки школьников//
Ставропольская правда. 1959. 10 нояб.; 2) Средневековый
могильник на горе Дардон у Карачаевска. С 412, 415; Архив И А
АН СССР. Р-1. Д. 2093. С. 24.
187
нередко устроены ниши, некоторые имеют полки или
лежанки. Таким образом, склеповые сооружения
домонгольского периода Осетии, Балкарии и Карачая имеют
одинаковые конструктивные черты, типологически сходны, что
свидетельствует об этнической близости населения,
строившего подземные склепы и хоронившего в них своих
умерших.
Если в V—VIII вв. Балкарии, в X—XII вв. — в Карачае
существует большое количество склеповых могильников,
то позднее склепы на этой территории не строились —
монгольское нашествие существенно изменило
этническую карту Северного Кавказа, и ареал склеповых
сооружений значительно сузился. Склепы золотоордынского
времени в Северной Осетии и Чечено-Ингушетии
изучены фрагментарно. Систематическое изучение их, по
существу, лишь начинается. Между тем они являются
важнейшим звеном, соединяющим архитектуру раннего
и позднего Средневековья. В Чечено-Ингушетии они
носят черты переходного типа — иногда сложены из мелкого
плитняка, но имеют довольно большие размеры (Лац,
Кокадой), во многих случаях начинает использоваться
довольно крупный строительный камень (Мужичи, Дёре,
Пакоч), те и другие сложены насухо в технике ложного
свода, аналогичной применявшейся при постройке склепов
Карачая. Кокадойские склепы отличаются от
карачаевских лишь большими размерами и тем, что они не
подземные, а полуподземные (напомним, что некоторые склепы
Дардона также являются полуподземными, а на Кефари
сооружались уже в XI—XII вв. надземные склепы). Арка-
турный поясок кокадойского склепа № 3 также можно
назвать предшественником украшений позднесредневеко-
вых склепов. Обращает на себя внимание то, что некоторые
могильники золотоордынского времени не имеют
непосредственного продолжения в эпоху позднего
Средневековья — функционирование их продолжалось в пределах
XIII—XV вв. и затем прекратилось; это означает, что
произошло какое-то перемещение населения.
188
В эпоху позднего Средневековья селения были
укреплены жилыми и сторожевыми башнями. Склеповые
могильники расположены неподалеку, а иногда рядом или
среди жилых построек. Даже самые древние
полуподземные склепы этого периода, у которых лишь фронтон
слегка возвышается над землей, а весь склеп впущен в склон
и лаз находится ниже уровня поверхности почвы, даже
такие почти подземные склепы имеют заметные
конструктивные отличия от склепов домонгольского и золото-
ордынского времени. Если раннесредневековые склепы
сложены из мелкого плитняка, уложенного плашмя в
технике ложного свода, то позднесредневековые сложены из
огромных скальных обломков. Они уложены таким же
образом, но укладка каждого такого нового валуна давала
большое увеличение высоты стены. Иногда склепы
сложены из нескольких десятков таких огромных
уплощенных камней, в других случаях употреблялись валуны
меньшего размера и число их было значительно больше,
но способ укладки остается тем же. Перекрытие склепов
состоит из плоских обломков горных пород, уложенных
поперек продольной оси свода. Чтобы удерживать в
равновесии высокие стрельчатые ложные своды и
предотвратить опасность обвала, снаружи возводятся стены,
достигающие по бокам вверху большой толщины. Иногда фасад
таких склепов почти не имеет фронтона, так как стены
выложены снаружи до вершины свода. Такие склепы
строились в Чечено-Ингушетии, в Осетии и даже в
прилегающем к последней Черекском ущелье в Балкарии. Более
древние склепы этого строительного периода
(деревянные настилы их обычно уже обрушились, а
мумифицировавшиеся трупы, попав в землю, превратились в скелеты
и лежат на дне в перемешанном виде) обычно глубоко
впущены в землю, фронтон едва выступает над поверхностью,
а лаз находится ниже поверхности почвы и к нему ведет
земляной дромос, иногда укрепленный по бокам
каменной кладкой. Естественно, крупный и грубый
строительный материал не давал возможности для устройства в сте-
189
нах ниш; как правило, интерьер этих склепов значительно
лаконичнее, чем более ранних. Не практикуется и
устройство каменных полок, вмонтированных в кладку стены:
используя опыт создания межэтажных деревянных
перекрытий в башнях, полки заменяют сплошным
деревянным настилом (в Дигории он покрыт каменными
плитами), который делит склеп на два или больше ярусов.
Датировка начала строительства склепов из крупных
скальных обломков затруднена тем, что уже в
полуподземных склепах встречаются вещи довольно позднего
происхождения, погребения в гробах и т. д. Глубокие
полуподземные склепы позднесредневековой конструкции
нередко находятся рядом с разрушившейся средневековой
башней, и фамильную принадлежность их население уже
не помнит. Сооружение их сопутствует строительству
башен в Чечено-Ингушетии и Осетии. Очевидно, в процессе
развития архитектуры жилых и сторожевых башен
выработались строительные приемы, позволявшие перемещать
и поднимать камни большого размера. Эти технические
достижения были использованы и при сооружении
склепов. Эволюция их обнаруживает ту же закономерность,
которая наблюдалась в отношении склепов
домонгольского и золотоордынского времени: они развиваются от
склепов, глубоко впущенных в землю, с едва выступающим
фронтоном фасада и лазом, расположенным ниже уровня
почвы, к склепам полуподземным с высоко выступающим
фасадом и лазом над уровнем почвы; завершается этот
процесс сооружением надземных склепов. Типологически
и хронологически склепы из крупных скальных обломков
размещаются между большими полуподземными
склепами золотоордынского времени (XIII—XV вв.) и
полуподземными и надземными склепами XVIII в., сложенными
на растворе.
. Склепы всех предыдущих периодов сооружались
насухо, без применения раствора. Только в XVIII в., судя по
раскопкам Даргавского городка мертвых, стал применять-
190
ся раствор — все склепы Даргавса сложены на растворе.1
Его применение можно отметить в отдельных случаях
и при строительстве склепов на других могильниках
Осетии (например, в Дзивгисе — некоторые надземные
склепы, в Гули — некоторые надземные и, возможно,
подземные). По традиции камни еще укладываются в технике
«ложного свода», но скаты свода держатся не только на
равновесии, достигнутом с помощью искусной укладки
камней, но в значительней степени с помощью
скрепляющего их раствора. Применение раствора в XVIII в. на
Северном Кавказе было повсеместным — все мусульманские
мавзолеи, имеющие надписи начала XVIII в., построены
на растворе, но свод их выполнен на деревянном
шаблоне, а не в технике ложного свода; этот позднейший
период строительства склепов с применением раствора
продолжался недолго, так как под влиянием русского
и грузинского духовенства, с одной стороны, и под
влиянием наступающего ислама — с другой, строительство
склепов прекратилось. В настоящее время осетины в
исключительных случаях строят подземные склепы из кирпича
(Хадзар).
Разработанная Л. П. Семеновым типология склеповых
сооружений — последовательная смена подземных
склепов полуподземными и затем надземными — верна в
отношении общей направленности эволюции склеповых
сооружений, но, как мы видим, этот путь прошли склепы
всех рассматриваемых периодов, и уже в предмонголь-
ское время строились надземные склепы, а в эпоху
позднего Средневековья поначалу склепы были почти полностью
углублены в землю. Поэтому типология Л. П. Семенова
встретила значительные трудности, вызванные тем, что
в подземных и полуподземных склепах инвентарь не
всегда соответствует твердо установленной схемой датировке.
Отсюда утверждение Г. А. Кокиева об утилизации старых
1 Тменов В. X. Археологическое исследование «города мертвых»
у сел. Даргавс в 1967 г. С. 140.
191
склепов и предположение Л. П. Семенова о повторном
использовании полуподземных склепов, в которых были
найдены вещи более позднего времени.1 Очевидно,
типологию, разработанную Л. П. Семеновым, следует
детализировать и дополнить некоторыми новыми данными,
полученными в результате изучения архитектуры склеповых
сооружений домонгольского периода, памятники
которого еще до недавнего времени не были изучены.
На основании имеющихся в нашем распоряжении
материалов вырисовывается следующая последовательность
эволюции склеповых сооружений Северного Кавказа.
Первый строительный этап — V—VIII вв. Склепы
подземные. Кладка односторонняя — ведется из мелкого
плитняка в один ряд камней с выравниванием только
внутри; к концу периода кое-где фасад выполняется
двусторонней кладкой, над лазом обнажается и, таким образом,
начинается переход к полуподземным склепам.
Подземные склепы, выполненные односторонней кладкой в
технике ложного свода, строились в Балкарии (Былым, Кала-
кол, Гижгид, Кыр, Тырны-Ауз, Куркужан и др.), в районе
Кисловодска и Железноводска, в Осетии (Галиат, Куронта
и другие могильники).
Второй строительный этап — X — начало XIII в.
Склепы преимущественно подземные, но там, где
скальная основа выступает на поверхность, они строятся на
ней, возвышаются над поверхностью склона и становятся
надземными (возможно, образцом служили надземные
дольменообразные гробницы). Кладка ведется из мелкого
плитняка с выравниванием стен внутри и иногда
снаружи. Двусторонняя кладка делает склеп независимым от
контртяжести земляной засыпки, ложный свод
удерживается тяжестью камней наружной стороны. Постройки
этого типа известны в Карачае (Дардон, Кефарь и др.).
Наряду со склепами, имеющими двустороннюю кладку,
1 Кокиев Г. Склеповые сооружения горной Осетии. С. 35;
Семенов Л. П. Археологические разыскания в Северной Осетии.
С. 75.
192
продолжают строиться подземные склепы типа
предыдущего строительного периода (Дардон, склепы № 22, 24,
Лац, Гал-фандаг).
Третий строительный этап — XIII—XVвв. Склепы
полуподземные, имеют очень большие размеры, но
сложены, как и прежде, из мелкого плитняка с применением тех
же строительных приемов. Верх фасада свободен от
земли, лаз ниже уровня почвы, перед ним — расчищенное от
земли пространство. Такие склепы изучались в Чечено-
Ингушетии (Верхний Кокадой, Мужичи, Дёре, Пакоч).
В Осетии в это время по-прежнему строили склепы типа
первого и второго строительных этапов.
Четвертый строительный этап — XVI—XVII вв.
Склепы сооружаются из огромных скальных обломков,
уложенных в технике ложного свода; при их
строительстве используется опыт башенного зодчества.
Сооружаются склепы как почти подземные — с едва выступающим
над уровнем почвы фронтоном, полуподземные с высоким
фасадом, так и надземные. Склепы строятся повсеместно
в Северной и Южной Осетии, в Ингушетии и в
прилегающих к последней высокогорных районах Чечни; в Бал-
карий известен лишь один могильник с глубокими, почти
подземными склепами у сел. Шканты в Черекском
ущелье, один надземный склеп (Джабоевых) зафиксирован
в Безенгийском ущелье. В Осетии иногда еще
используется мелкий строительный камень.
Пятый строительный этап — XVIII — начало XIX в.
Склепы, полуподземные и надземные, построены в
технике ложного свода, но крупные скальные обломки
скреплены раствором. Последний дает возможность возводить
высокие узкие стрельчатые своды, для крепления
которых иногда используются поперечные деревянные балки.
Строились на тех же могильниках. Лучше других изучен
городок мертвых у сел. Даргавс — некрополь с
полуподземными и надземными склепами XVII — начала XVIII вв.
Напомним, что в это же время в Балкарии и Карачае на
растворе возводились мусульманские мавзолеи — кешене,
193
внешне похожие на склепы, а склепы в отдельных случаях
воспроизводили форму шатровых кешене. Однако
сводчатая кровля кешене не знает техники ложного свода —
она покоится на деревянном шаблоне. Функциональное
различие между склепами и кешене заключается в том,
что склепы — семейные усыпальницы, в которых трупы
не зарывались в землю, кешене же сооружались как
надгробие над единичными погребениями в земле или в
каменном ящике.
Таким образом, степень изученности склепов
Северного Кавказа такова, что в ближайшем будущем можно
будет по архитектурным особенностям примерно
определить время сооружения той или иной гробницы.
2. ПРОИСХОЖДЕНИЕ
СКЛЕПОВОЙ ПОГРЕБАЛЬНОЙ ТРАДИЦИИ
И ЭТНОГЕНЕЗ ОСЕТИН
♦
Вопрос происхождения склеповой погребальной
традиции возникал перед всеми исследователями данной
темы. Прежде всего обращает на себя внимание отношение
к склеповым постройкам современных народов Северного
Кавказа, то, как они определяют их этническую
принадлежность и объясняют причину их возникновения.
Народы западной половины центральной части Северного
Кавказа — балкарцы и карачаевцы — не строили склепов,
чтобы хоронить своих умерших родственников всех
вместе в погребальном домике, имеющем окошко для
внесения трупов; называя подземные склепы «шыякы»
(«старые могилы»), они не знают, что осетины до недавнего
времени строили такие могилы и хоронили в них своих
родичей. Иное отношение у осетин и ингушей, которые
еще помнят фамильную принадлежность поздних склепо-
вых построек. У ингушей при сватовстве было принято
наводить справку, имеет ли род жениха башню и
фамильный склеп, — так определялось общественное положение
будущих родственников. Народная ингушская пословица
гласит, что «человеку при жизни нужна башня, после
смерти — нужен склеп».1 П. С. Уварова, рассказывая о
раскопке могильника Гал-фандаг (Алагирское ущелье),
пишет, что «всеми присутствующими на раскопках
высказана уверенность, что мы имеем дело с семейными могилами
и с тем способом погребения, который практикуется и до
сих пор у осетин...».2 Такая же реакция была на
расчищенные нами подземные склепы могильника г. Дардон у
проживающих в Карачаевске осетин: «совсем как у нас, только
1 Семенов Л. П. Археологические и этнографические разыскания
в Ингушетии... С. 75.
2 Уварова П. С. Могильники Северного Кавказа. С. 330.
195
не из кирпича, а из камня — ведь тогда кирпича не было».
Население Северной Осетии, не зная, естественно,
конкретной фамильной принадлежности подземных склепов,
приписывает их легендарным предкам царца (царциат)
или нартам, жившим до прихода сюда осетин.1 Таким
образом, осетинский народ забыл время возникновения
обычая хоронить в склепах, но в своих легендах пытается
реалистически объяснить причины строительства
семейных многолюдных усыпальниц, причины возникновения
городков мертвых. Самая распространенная народная
версия считает, что склепы строились во время эпидемии
чумы: люди боялись, что все члены рода вымрут, а тела их
останутся непогребенными, поэтому каждый род заранее
строил погребальные домики и во время эпидемии
забирался туда заживо в ожидании неминуемой смерти.
Другой вариант легенды предполагает, что из-за междоусобиц
и кровной мести людям некогда было предавать земле
тела покойников, и поэтому приходилось помещать их в
заранее выстроенные склепы.2
Решение вопроса о происхождении склеповой
погребальной традиции включает два момента: 1) выяснение
причин возникновения склепов-усыпальниц,
предназначенных для многих погребенных; 2) выявление тех
погребальных сооружений, которые послужили прототипом
для склепов, то есть выяснение архитектурных,
типологических и, в конечном итоге, — этнографических
предшественников средневековых склеповых сооружений.
Другими словами, необходимо выяснить, с одной стороны,
каковы истоки склеповой архитектуры, и, с другой
стороны, — погребальной традиции. Единого мнения о
причинах строительства склепов не существует. Одной из
основных причин считается малоземелье, вызывающее у горцев
1 О нартах и царца см.: Кокиев Г. Склеповые сооружения горной
Осетии. С. 41—44; иное объяснение у Б. А. Алборова (Алано-
1 асская надпись из села Цамад Алагирского ущелья Северной
Осетии. С. 288).
2 Кокиев Г. Склеповые сооружения горной Осетии. С. 33—35.
196
естественное желание сохранить под посев каждый
участок мягкого грунта. Поэтому склеповые могильники,
действительно, в большинстве случаев расположены на
склонах, непригодных для пашни. Следствием этого
явилась и вторая причина, которая могла побудить к
строительству надземных могил, — трудность вырывания
могилы в горном грунте.1 Однако В. В. Бунак замечает, что
«участки, непригодные для посева и косьбы, но вполне
подходящие для устройства кладбищ, в изобилии
имеются во всех горных селениях».2 В. И. Марковин отмечает,
что «в Дагестане, где хорошей пахотной земли также
немного <...> в позднем Средневековье никаких склепов не
было. С появлением мусульманства стали появляться
кладбища с могилами, рассчитанными на одного
умершего. Они требовали больше земли, а угодья оставались
прежними».3 Следует также напомнить, что для наиболее
распространенного типа позднесредневековых склепов —
полуподземных — характерна довольно глубокая
подземная часть, вполне достаточная для обычного каменного
ящика, но вместе с тем на территории склеповых
могильников нередко находится значительное количество
каменных ящиков.4 Таким образом, принимая во внимание
и земельную тесноту в горах, и трудность вырывания
могилы в горном, подчас скалистом грунте, невозможно
1 Миллер Всев. Терская область. С. 132; Гребенец Ф. С.
Могильники в Куртатинском ущелье//СМОМПК. Тифлис, 1915. № 44.
Отд. 3. С. 64; Кокиев Г. Склеповые сооружения горной Осетии.
С. 32-33, 67.
2 Бунак В. В. Черепа из склепов горного Кавказа... С. 317.
3 Марковин В. И. В ущельях Аргуна и Фортанги. С. 84.
4 Каменные ящики на Северном Кавказе, и в том числе на
территории склеповых могильников, обнаружены многими
археологами; см.: Кузнецов В. Л. Аланские племена Северного Кавказа.
С. 80—81, 89—103; о могилах типа ящиков, но сложенных из
диких плиток («склепы» без входа), см.: Там же. С. 48—52; см.
также: Марковин В. И. 1) В ущельях Аргуна и Фортанги. С. 73—77;
2) Некоторые итоги археологических разведок в Северной
Осетии // МАДИСО. Орджоникидзе, 1969. Т. 2. С. 76-79.
197
только этими причинами экономического и технического
характера объяснить, почему вместо традиционных для
Кавказа каменных ящиков (или грунтовых могил,
облицованных камнем), привычных жителям гор с эпохи
бронзы,1 стали строить надземные склепы.
Г. А. Кокиев считает, что важнейшим фактором,
«вызвавшим к жизни склеповые сооружения и самый обычай
хоронить в них покойников, несомненно являются
представления о загробной жизни покойников и верования, не
допускавшие погребения трупов в земле».2
Изолированность, несоприкасаемость трупов с землей и форма
склепов башенного типа приводит Б. А. Алборова к убеждению,
что башнеобразные склеповые сооружения соответствуют
погребальным нормам маздеизма.3 Однако Б. А. Алборов,
выхватывая из многообразия склеповых сооружений лишь
один их тип, наиболее поздний, забывает, что
первоначально сооружались склепы подземные, где погребение
трупов совершалось прямо на земле, и, таким образом,
склеповые сооружения не могут принадлежать
сторонникам зороастризма. К выводу об отсутствии
зороастризма у осетин пришел В. И. Абаев на основе анализа
пантеона скифских богов, с чем соглашаются также В. К. Тотров
и В. X. Тменов.4 Мы не можем также согласиться
с В. И. Марковиным, когда он пишет: «...По каким-то
религиозным устремлениям тело мертвого нельзя было
опускать в землю, а надо было предоставить воздействию
воздуха и ветра...».5 Ведь в подземных склепах трупы не были
1 Крупное Е. И. Об этногенезе осетин и других народов Северного
Кавказа. С. 158.
2 Кокиев Г. Склеповые сооружения горной Осетии. С. 35.
3 Алборов Б. А. Алано-асская надпись из села Цамад Алагирского
ущелья Северной Осетии. С. 289—292.
4 Абаев В. И. Культ «семи богов» у скифов // Древний мир. М.,
1962. С. 446—447; Тотров В. К Из истории семейных обрядов
осетин // ИСОНИИ. Т. 24. Вып. 1: Языкознание.
Орджоникидзе, 1964. С. 43; Тменов В. X. Зороастризм и осетинский склепо-
вый погребальный обряд. С. 91—92.
5 Марковин В. И. В ущельях Аргуна и Фортанги. С. 84—85.
198
изолированы от земли, а закрытый лаз — камнем или
деревянной дверцей — не способствовал свободному
доступу ветра и воздуха. Г. А. Кокиев предполагает также, что
одной из причин возникновения склепов, в которые
имеется постоянный доступ горного воздуха, обладающего
мумифицирующими свойствами, являлось желание
сохранить трупы от разложения.1 Однако это обстоятельство
могло иметь значение при сооружении надземных
склепов, но не объясняет возникновения наиболее ранних
подземных — туда горный воздух не проникал. В. И. Мар-
ковин, возражая Г. А. Кокиеву, отмечает, что строители
первых склепов не могли знать об этих свойствах горного
воздуха и поэтому при их сооружении не могли иметь
целью естественную мумификацию трупов.2
В литературе неоднократно отмечалось, что склепы
башенного типа напоминают средневековые жилые и
сторожевые башни, а прямоугольные склепы с двускатной
кровлей близки средневековому церковному зодчеству3
Несомненно, церковная архитектура оказала большое
влияние на оформление надземных склепов; опыт
строительства башен также был использован при сооружении
склепов и сказывался на их внешнем виде. Однако ранние
склепы сооружались еще до эпохи строительства
христианских храмов и жилых башен; вместе с тем погребальный
обряд в склепах находился в противоречии с
христианскими нормами погребения, и по мере сил церковь с ним
боролась. Несомненно, главную роль при возникновении
склеповой архитектуры играли требования народного
культа, религиозных языческих традиций: по-видимому,
в соответствии с нормами погребальных обычаев
полагалось хоронить умерших не в могиле, не в каменном ящике,
а в готовом домикообразном помещении, внося
покойника через специально оставленное для этой цели окошко-
лаз. Для решения вопроса о происхождении склеповой
1 Кокиев Г. Склеповые сооружения горной Осетии. С. 37.
2 Маркович В. И. В ущельях Аргуна и Фортанги. С. 84
3 Бунак В. В. Черепа из склепов горного Кавказа... С. 310—311.
199
архитектуры важно выяснить ее истоки: определить
архитектурные прототипы склепов — погребальные
памятники с такими же культовыми нормами. Для этой цели эпоха
строительства храмов и жилых башен является, конечно,
слишком поздней. Наибольшее значение для решения
этого вопроса имеют предшественники древнейших скле-
повых сооружений — прототипы подземных склепов.
Какие же виды погребальных сооружений,
существовавшие на Северном Кавказе до эпохи строительства
подземных склепов, могут считаться их прототипами? В
литературе неоднократно обращалось внимание на сходство
средневековых склепов с несколькими видами древней
погребальной архитектуры. По материалу, отчасти по
характеру кладки стен из небольших скальных плиток,
уложенных плашмя, склепы сходны с подземными могилами,
устроенными в той же технике (Гатын-Кале). В. И. Мар-
ковин назвал их склепами. Такое столь широкое
употребление термина «склеп» послужило для В. И. Марковина
и Е. П. Алексеевой основанием считать, что традиция
средневековых склеповых сооружений уходит в эпоху
бронзы, что «склепы <...> строились и до алан».1 Однако
после открытия около сел. Эгикал полуподземных
гробниц эпохи бронзы, имеющих лаз и этим очень похожих на
поздние полуподземные и надземные склепы, В. И. Мар-
ковин подробно аргументировал свое новое мнение, что
склепы типа Гатын-Кале отличаются «конструктивно от
так называемых каменных ящиков лишь тем, что
плитчатые стены их заменены несколькими рядами сухой
каменной кладки», и не имеют отношения к склеповой
традиции, поскольку начало ей положили склепы сел. Эгикал.2
1 Маркович В. И. 1) Новый памятник эпохи бронзы в горной
Чечне//Древности Чечено-Ингушетии. М., 1963. С. 105—108;
2) В ущельях Аргуна и Фортанги. С. 61; Алексеева Е. П.
Памятники меотской и сармато-аланской культуры
Карачаево-Черкесии. С. 179.
2 Маркович В. И. 1) В стране вайнахов. С. 43; 2) Склепы эпохи
бронзы у сел. Эгикал. С 93.
200
К вопросу об историческом месте эгикальских гробниц
мы вернемся несколько ниже, сейчас же будем считать
установленным, что гробницы эпохи бронзы типа Гатын-
Кале, не имеющие лаза, относятся к одной из
разновидностей каменных ящиков и не являются прототипом склепо-
вых сооружений.
Напомним, что в эпоху Средневековья тоже
устраивались могилы (Узун-кол, Гиляч) по характеру кладки из
битого камня, названные В. А. Кузнецовым склепами; они
не имеют лаза, поэтому погребальный ритуал их, подобно
Гатын-Кале, аналогичен ритуалу каменных ящиков.
В. А. Кузнецов совершенно закономерно отличает эти
погребения западного локального варианта от склепов
центрального и восточного вариантов, имеющих лаз.1
Очевидно, могилы, облицованные битым камнем и не имеющие
лаза, тоже следует считать разновидностью каменных
ящиков. Т. М. Минаева, описывая Усть-Тебердинский
могильник, утверждала, как было сказано выше, что для
вторичных захоронений пробивали одну из стен могилы. Это
совершенно невероятно: чтобы пробить отверстие, нужно
было сначала обнажить торцовую стенку со стороны
склона, то есть выкопать яму, которая должна была бы играть
роль дромоса, затем вытащить несколько камней из
стенки (с риском разрушить стенку и тем самым всю могилу)
и через отверстие с неровными краями внести покойника.
Все это превратило бы ящик в склеп, но логичнее было бы
предусмотреть устройство отверстия с самого начала, чем
потом проделывать ряд таких трудных строительных
операций. И действительно, на Теберде много подземных
склепов, в которых лаз оставлен при постройке. Очевидно,
Т. М. Минаева в устье р. Теберды исследовала склепы, но
тогда они еще не были выделены в отдельный вид
погребальных памятников. Стихийный переход от
погребальных традиции каменных ящиков к традиции склеповых
1 Кузнецов В. А. Аланские племена Северного Кавказа. С. 48—52,
56.
201
погребений совершенно невозможен. Для подхоронения
в них новых покойников было бы проще и легче обнажить
покровные плиты и уложить нового покойника в могилу
так, как того требовали нормы погребальной процедуры
в могилах типа ящиков, чем пробивать отверстия сбоку.
Таким образом, могилы типа каменных ящиков (Узун-
кол, Гиляч) не имеют отношения к эволюции склеповых
сооружений. Помимо традиционного для склепов лаза,
в отличие от ящиков и могил из битых плиток, стены
которых всегда выкладывались вертикально, подземные
склепы, как мы видели, имеют наклонные внутрь стенки,
сближающиеся кверху за счет кладки в технике ложного
свода.
В. А. Кузнецов предполагает, что ложносводчатая
конструкция подземных склепов появилась уже у ящиков
Дзивгиса и Галиата, «где типичные каменные ящики
имеют сводчатое (чешуйчатое) перекрытие». На могильнике
Галиат в 1879 г. В. Б. Антонович вскрыл два ящика;
«стены одного ящика имели вверху слабо выраженный свод,
составленный дополнительными плитами, и были
обмазаны желтой глиной. <...> Во втором ящике признаков,
свидетельствующих о наличии свода, не было...». Одну
могилу, конструкция которой не совсем ясна (каменный
ящик? — В. К.), вскрыл в 1882 г. К. И. Ольшевский; в
перекрытии дзивгисских ящиков, состоящих из обычных
плит, В. А. Кузнецов никаких отклонений от обычного
способа перекрытий каменных ящиков не отметил,
однако считает возможным «предположить, что эта группа
каменных ящиков со сводом (то есть, по существу, один
ящик, который в действительности является, как мы
видели, склепом. —Л.Н.) является одним из зачатков
будущих подземных, полуподземных и надземных поздне-
средневековых склепов Осетии и Ингушетии с уступчатым
сводом, развитие которых шло длительным и сложным
путем».1 В 1969 г. в Галиате, на месте раскопок В. Б. Анто-
1 Кузнецов В. А. Аланские племена Северного Кавказа. С. 93, 107.
202
новича, нами была расчищена одна частично разрушенная
могила, которая оказалась подземным склепом, имеющим
прямоугольный лаз, П-образно обрамленный каменными
брусками, как в Лаце. Склеп имеет небольшие размеры,
небрежно сложен, и если бы не лаз, то его можно было бы
легко принять за большой каменный ящик, сложенный из
мелких камней. Может быть, это и случилось с В. Б.
Антоновичем, и склеп он назвал ящиком? Описывая гробницу,
он отметил, что западная стена состояла из трех плит
«и значительного между ними промежутка», что нашло
отражение и на приводимом им схематическом плане.1 То
есть, по всей вероятности, ящик имел лаз и является
подземным склепом. Напомним, что лаз в склепе,
раскопанном в Галиате Е. И. Крупновым, был также устроен
в длинной стенке. Со времени раскопок В. Б. Антоновича
и К. И. Ольшевского прошло около столетия, но ящики,
имеющие ложносводчатую конструкцию, за это время
обнаружены не были, потому что такая конструкция
перекрытия вообще не свойственна ящикам и сооружение его
было практически трудно осуществимо: ложный свод
наглухо закрывает погребальную камеру. Поэтому
возводить его нужно было бы только тогда, когда в могилу уже
был положен труп, а возведение ложного свода даже при
достаточных навыках требовало времени. Кроме того, при
новом захоронении потребовалось бы разобрать свод,
положить покойника и снова возвести его. Вместо того,
чтобы возводить ложносводчатую конструкцию, много
проще, практичнее, быстрее и привычнее было перекрыть
ящик обычными плитами, что и делали жители гор как
в эпоху бронзы, так и в эпоху Средневековья.
Отличие могил типа ящиков от склепов особенно
четко ощущается при сопоставлении их с наиболее
ранними — подземными склепами. Последние тоже сооружались
в могильной яме, однако стены их нередко
выкладывались с наклоном внутрь в технике ложного свода; погре-
1 Антонович В. Б. Дневник раскопок... С. 233, табл. IV, рис. 17—18.
203
бальное помещение перекрывалось покровными плитами
и засыпалось сверху землей, и только тогда в него —
наглухо перекрытое, пустое и готовое — вносили через лаз
покойника. Ящик сооружали после смерти человека —
в тот момент, когда появлялась необходимость похоронить
умершего сородича. Склеп же строили заранее как
семейную усыпальницу, оставляя для этой цели лаз. Таким
образом, погребения в каменных ящиках любой
разновидности и в склепах, имеющих лаз, принадлежат совершенно
разным погребальным традициям, которые не могут
трансформироваться одна в другую. Погребальные нормы
захоронения в каменных ящиках, сложенных из битых
плиток, не требовали устройства лаза; в них хоронили
через верх даже и в тех случаях, когда в могилу
дополнительно помещали нового покойника. При сооружении же
дольменов и катакомб еще до того, как начали сооружать
склепы, непременно устраивали лаз, так как этого
требовали нормы погребальных традиций. Какая же из этих
двух разных погребальных традиций легла в основу скле-
пового погребального обряда — дольменов или катакомб?
На внешнее сходство склепов (особенно
башнеобразных) и дольменов обратили внимание многие ученые;
однако подчеркивалось и то обстоятельство, что пока нет
многих хронологических промежуточных звеньев между
дольменами эпохи бронзы и склепами эпохи позднего
Средневековья. Так, А. А. Миллер отмечает, что
«средневековые склепы <...> по целому ряду признаков примыкают
к дольменам, от которых, быть может, и происходят», но,
подчеркивает он, «пока мы не знаем тех промежуточных
форм, которые, помимо типологических черт, дали бы нам
и хронологически выраженный ряд филиации. Вопрос
этот, а вместе с этим и вопрос о происхождении
осетинских склепов, остается пока в сфере более или менее
вероятных предположений».1 Аналогичное мнение высказы-
1 Миллер А. А. Краткий отчет о работах Северо-Кавказской
экспедиции Академии в 1923 г. С. 38—39.
204
валось и А. А. Спицыным.1 Равным образом В. В. Бунак
пишет: «Заслуживает внимания тот факт, что среди
кубанской группы дольменов имеются формы, близко
напоминающие по устройству лаза и другим деталям типичные
осетинские "западзы" (склепы). Дальнейшим
исследованиям предстоит выяснить, может ли этот факт служить
указанием на сохранение в эпоху сооружения
средневековых склепов архитектурных традиций дольменного
времени».2 Предположение, что склепы являются
продолжением дольменной традиции, более определенно высказал
В. Н. Худадов, используя вслед за А. А. Миллером для
сравнения дольменообразные гробницы из мелких
тесаных камней на Кефари (Верхнее Прикубанье). Гробницы
небольшие, конструктивно аналогичны дольменообраз-
ным, сложенным из крупных тесаных блоков, внешне
действительно похожи на поздние надземные склепы. Поэтому
предположение, что склепы продолжают дольменную
традицию, казалось бы, с легкостью могло быть принято
и перенесено на другие районы Северного Кавказа, что
и делает В. Н. Худадов.3 Верхнекубанские
дольменообразные гробницы датируются некоторыми исследователями
эпохой средневековья, X—XIII вв., на основании
сделанных в них находок средневековых погребений,
изображений сцен из средневековой жизни на одной из гробниц
и крестов — на некоторых других.4 Не говоря уже о том,
1 Спицын А. А. Разведка памятников материальной культуры.
С. 66-68.
2 Бунак В. В. Черепа из склепов горного Кавказа... С. 316.
3 Худадов В. Н. Мегалитические памятники Кавказа. С. 195—200;
Миллер А. А. Записка о дольменах. С. 22—23.
4 Фелицыи Е.Д. Западно-Кавказские дольмены. С. 84—85;
Миллер А. А. Записка о дольменах. С. 22—24; Кузнецов В. А.
Средневековые дольменообразные склепы Верхнего Прикубанья.
С. ПО; 2) Аланские племена Северного Кавказа. С. 54—56; Ми-
зиев И. М. Первые раскопки в верховьях р. Индыш // АО
1966 года. М., 1967. С. 86; ср.: Нечаева Л. Г. Составные дольмены
Осетии, Ингушетии, Карачая. С. 65—67; Марковин В.И. 1)
Составной дольмен у сел. Адербиевка и дольменовидные гробни-
205
что такая датировка вызывает сомнения из-за
возможности вторичного использования гробниц, даже если
принять ее, гипотеза В. Н. Худадова сталкивается с
значительными трудностями.
Дольмены эпохи ранней бронзы распространены от
Черноморского побережья до притоков Лабы, а в
верховьях Кубани их нет; в эпоху Средневековья — наоборот:
нет дольменов на Северо-Западном Кавказе, но они
появляются в верховьях Кубани. Таким образом, этнос,
строивший дольмены, после перерыва в полторы-две тысячи
лет появляется на новой территории и строит гробницы
так же, как в эпоху бронзы. В то же время следует иметь
в виду еще одно звено в развитии склеповой архитектуры
Северного Кавказа — вспомнить о подземных склепах
Карачая, Балкарии и Осетии V—VIII вв. (Былым, Гижгид,
Галиат, Кугуль и др.), которые хронологически
предшествуют верхнекубанским гробницам X—XIII вв.
Одновременно с дольменообразными гробницами в Карачае
продолжают строиться склепы, причем в кладке их иногда
употребляются тесаные камни, использованные вторично.
А после, с XIII в., склеповая традиция сохраняется только
на территории центральной части Северного Кавказа,
в Осетии, Ингушетии и т. д., а в Карачае ни склепы, ни
дольменообразные гробницы больше не строятся.
Повторяем, если даже принять датировку дольменообразных
гробниц Верхнего Прикубанья предмонгольским
временем, они являются своеобразным локальным эпизодом,
который не оказал никакого влияния на развитие
склеповой архитектуры раннего Средневековья. Опыт
строительства монументальных гробниц из превосходно стесанных
камней не был использован ни в эпоху раннего
Средневековья, ни в последующие периоды: склепы с V по XIX в.
строятся на основе принципа кладки в технике ложного
свода из необработанных скальных обломков, дававших
цы в бассейне р. Кяфар // КСИА. Вып. 142. М., 1975. С. 75-76,
рис.2; 2) Дольмены Западного Кавказа. М., 1978. С. 150—155,
184, 282, рис. 81-84.
206
значительно большее сцепление между камнями, чем
кладка из тесаных блоков, рассчитанных на вертикальную
укладку с точной подгонкой швов и постелей. Поэтому
трудно, конечно, согласиться с гипотезой В. Н. Худадова.
Напомним, как отмечает В. А. Кузнецов, что мы не знаем
к тому же промежуточных звеньев, соединяющих
дольмены эпохи бронзы с дольменообразными гробницами эпохи
Средневековья.1 Склепы же дают самостоятельную,
прямую, хронологически последовательную линию развития
от подземных к полуподземным и надземным. В. А.
Кузнецов также приходит к выводу о разных линиях развития
склепов и дольменообразных гробниц, считая, что
последние не следует связывать с алано-осетинским этническим
массивом: «...Местный этнос, создавший дольменообраз-
ные склепы, должен быть признан адыгским или
родственно связанным с меото-адыгами».2
Открытие ранее упоминавшихся эгикальских гробниц
дает возможность вопрос о происхождении склепов
рассматривать в совершенно новом аспекте. Эти небольшие
полуподземные постройки сложены из мелкого
плитняка, кладка тщательная, ровными рядами, перекрытие из
двух толстых плит, лаз расположен под самой кровлей
в узкой стенке. В одной из гробниц была устроена Г-об-
разная полка-лежанка, одним краем она лежала на плит-
1 Кузнецов В. А. 1) Средневековые дольменообразные склепы
Верхнего Прикубанья. С. 116; 2) Аланские племена Северного
Кавказа. С. 65, рис.21. Нами отмечены случаи вторичного
использования древних тесаных блоков при сооружении
средневековых склепов (Амгата), что свидетельствует о
разновременности сооружения дольменообразных гробниц и склепов.
Благодаря их внешнему сходству население верховьев Кубани
могло использовать хорошо сохранившиеся древние гробницы
как готовые склепы для новых погребений. Вполне естественно,
что в настоящее время археологи находят в них средневековый
инвентарь, свидетельствующий лишь об их вторичном
использовании.
2 Кузнецов В. А Средневековые дольменообразные склепы
Верхнего Прикубанья. С. 117.
207
ках, другим опиралась на каменные бруски, поставленные
вертикально. Наличие лаза и полок послужило
основанием считать гробницы прототипом средневековых
склепов.1 По первому впечатлению они действительно на них
похожи. Однако можно отметить в конструкции тех
и других и значительные отличия. Так, у эгикальских
гробниц стены вертикальные и каждая сложена отдельно,
без связи в углах со смежными. Сначала была полностью
сложена задняя и впритык к ней боковые, а затем между
ними встроена передняя стенка. Это хорошо видно на
примере одной из гробниц, боковая стенка которой
начала заваливаться, — она прогнулась внутрь настолько, что
закрывает часть стоящей по-прежнему вертикально
задней стены. Строители как бы выкладывали из камня
плиты и поэтому вели кладку не по периметру, как это
делалось в эпоху Средневековья. Они имели в качестве образца
дольмены и вели сборку гробниц в канонах поздней доль-
менной строительной техники, делая пазы не в виде
желоба, а в виде уступа. Упомянутая полка-лежанка также
имеет аналогии в гробницах кефарского могильника.
Аналогично устроены и гробницы могильников Хор-Гон
и Ирганай: покровные плиты имеют подтеску, как доль-
менные, а для соединения смежных стен применялась
система крепления «в лапу», характерная для составных
дольменов Верхнего Прикубанья. Таким образом, при
внимательном сопоставлении эгикальских гробниц с
дольменами и средневековыми склепами мы находим гораздо
больше общего с первыми, чем со вторыми, архитектура
которых основана на совершенно иных строительных
принципах. Гробницы могильников Эгикал, Хор-Гон
и Ирганай свидетельствуют о том, что на Центральном
и Северо-Восточном Кавказе этнос, строивший составные
дольмены, был немногочисленным, упадок строительной
1 Маркович В. И. 1) В стране вайнахов. С. 42—45; 2) Склепы
эпохи бронзы у сел. Эгикал в Ингушетии. С. 83—94; 3) О
возникновении склеповых построек на Северном Кавказе. С. 124; Круп-
нов Е. И. Средневековая Ингушетия. С. 81.
208
техники свидетельствует о стадии вырождения дольмен-
ной культуры, которая не смогла удержаться здесь до
эпохи Средневековья. Те случаи, когда в подобных гробницах
оказывается поздний инвентарь, говорят лишь о
повторном их использовании в разные эпохи.
Многие исследователи обращали внимание на большое
сходство ранних подземных склепов с подземными же
погребальными сооружениями — катакомбами.1 Совпадает
также зона распространения и территориальная
преемственность катакомбных и склеповых могильников:
первые находятся в основном в предгорной, вторые —
параллельно в горной полосе центральной части Северного
Кавказа (Карачай, Балкария, Северная Осетия,
Ингушетия). Наиболее близко к идее этнической равнозначности
склепов и катакомб подходит В. И. Марковин. Он
отмечает, что в тех местностях Чечни, где было много
строительного камня, а грунт был скальным, люди строили
усыпальницы для мертвых из камня, то есть строили погребальные
склепы. Там же, где не было камня и грунт позволял
вырубать усыпальницы, выдалбливались погребальные
пещеры.2 Последние являются фактически теми же
катакомбами, только большого размера. Такую же закономерность
можно наблюдать в отношении скифских катакомб и
склепов: в Керчи было много строительного камня, там
строили склепы; в Ольвии его не было, поэтому приходилось
выкапывать катакомбы. Интересный путь прошли
катакомбы в Карачае. Здесь подземные катакомбы постепенно
вышли на поверхность — их стали вырубать в
песчаниковых останцах. Первоначально скальные катакомбы
вырубали на склоне, у подножия скального яруса, делали дро-
мос, в стенке которого, как обычно, вырубали лаз и через
него уже выдалбливали катакомбу. Позднее догадались
1 БунакВ. В. Черепа из склепов горного Кавказа... С. 307, 314.
2 Марковин В. И. В ущельях Аргуна и Фортанги. С. 69,72; Р. А. Да-
утова и X. М. Мамаев считают, что эти пещеры выполняли
функции склепов (Аланская катакомба XIV в. у сел. Ушкалой.
С. 268).
209
устраивать лаз несколько выше, над склоном, и дромос
исчез — его стал заменять склон горы.1
Там, где не было удобных песчаниковых выходов,
а грунт непригоден для устройства катакомб,
приходилось делать их из камня, то есть сооружать под землей
склепы, довольно точно повторяющие форму катакомб.
Следует отметить совпадение планировки, интерьера,
размеров погребальной камеры, наличие в отдельных
случаях ниш и лежанок и, главное, процедуры погребения через
лаз. Воспроизводя сводчатость потолка катакомбы, стены
склепа выкладывали не вертикально, а с наклоном внутрь,
в технике ложного свода; иногда камни подбирали даже
так, что наклон стенок внутрь получался не уступчатым,
а в виде ровной полукруглой линии. Для скругления углов
склепа в отдельных случаях применялась кладка в
технике паруса. Отдельные склепы, как и катакомбы, имеют не
только лаз, но и дромос. Так, представляют определенный
интерес склепы на горе Кугуль под Кисловодском. Они
сооружены на гребне горы в скальном углублении, стенки
сложены из скальных плиток, имеют ниши, а дромос
выдолблен в скале и спускается к лазу уступами. Два склепа
могильника Дардон имеют дромос, выложенный из
камня. Один сложен как открытый каменный коридор,
имеющий дно в виде лесенки, другой сделан как настоящая
входная яма катакомбы в виде прямоугольного колодца,
но только выложенного из камня. В Усть-Тебердинском
могильнике Т. М. Минаева отметила у подземных
каменных гробниц «лесенки с парапетами» (каменные дромо-
сы). Небольшие дромосы есть у склепов на могильниках
Былым и Калакол в Балкарии. Дромос имеют и
некоторые поздние полуподземные склепы в Осетии (Архон,
Ахсау, Вакац) и Балкарии (Шканты). Катакомбы и
склепы развиваются в одном направлении — как те, так и
другие со временем стали устраивать все менее глубоко, стре-
1 Минаева Т. М. К истории алан Верхнего Прикубанья. Рис. 14
и 13.
210
мясь к наименьшей затрате сил, и постепенно катакомбы
и склепы выходят на поверхность. В результате и у
катакомб и у склепов отпадает надобность устраивать перед
лазом дромос — его заменяет склон горы.
Напомним еще один вид погребальных сооружений —
это полукатакомбы-полусклепы. Для их сооружения
были использованы естественные скальные ниши,
закрывающая их каменная стена превращала эти ниши в склеп.
Такое погребальное сооружение расчищено нами на
могильнике Кефарь-Кривая, оно выполняло функции
склепа. На могильнике г. Дардон в непосредственной близости
к склепам, в песчаниковых выходах, были выдолблены
скальные катакомбы; рядом с ними естественные скальные
ниши были использованы для устройства скальных
склепов, которые в данном случае выполняли такие же
функции, как и скальные катакомбы. В сел. Кобан П. С. Уварова
и Г. А. Кокиев наблюдали такие скальные склепы рядом
с катакомбами. В сел. Дзивгис наряду с обычными
склепами сооружались и скальные. Их погребальная камера
расположена в скальной нише, что сближает эти сооружения
со скальными катакомбами. Функционально скальные
склепы вполне соответствуют как скальным катакомбам,
так и обычным склепам, сочетая типологически черты тех
и других, что подчеркивает их принадлежность одной
и той же погребальной традиции.
Разница в материале и тем самым различия в
строительных приемах помешали, несмотря на неоднократно
отмечавшееся сходство погребального обряда в склепах
и катакомбах, сделать вывод о родстве и преемственности
склеповой и катакомбной погребальных традиций.
Проведем такое сравнение: при раскопках Саркела (Белой
Вежи) установлено, что население славянского и хазарского
времени жило в полуземлянках. Верх (перекрытие) тех
и других землянок был деревянным. Материал (земля
и дерево) и отчасти строительные приемы совпадают. Но
какая огромная разница наблюдалась в форме и
устройстве этих землянок. Землянки славянского времени име-
211
ли квадратную ферму, были облицованы положенными на
ребро досками, кровля поддерживалась столбами, в углу
была сложена большая глинобитная, каменная или
кирпичная печь. Землянки же хазарского времени были
овальными, с перекрытием в виде плетеного каркаса,
обмазанного глиной, посередине землянки имелось только
небольшое очажное углубление, печи не было. Таким
образом, материал в обоих видах землянок одинаковый,
устройство же совершенно различное — в соответствии
с традициями славян и населения Саркела хазарского
времени.1 Приведем другой пример. Печи в славянских
землянках Белой Вежи были глинобитными на
деревянном каркасе, как в Киевской Руси. Но в то же время печи
сходной формы сооружались из саркельского кирпича
и камня. Несмотря на различие материалов и тем самым
строительных приемов и в какой-то мере формы, все они
принадлежат славянам. Очевидно, материал, из которого
сделано то или иное сооружение, играет второстепенную
роль — типологическая и этническая принадлежность
определяется формой, устройством и назначением
сооружения. Назначение же катакомб и склепов, скальных
катакомб и скальных склепов было одинаковым: они
служили семейными усыпальницами, в которых лаз
предусматривал возможность многократных захоронений.
Поскольку в какой-то период времени катакомбы
и склепы сосуществуют, то вполне закономерно, что они
оказывают взаимное влияние друг на друга, и если склепы
стремятся в камне воспроизвести пластичность земляных
катакомб, то, в свою очередь, катакомбы начинают
воспроизводить интерьер подземных склепов. Процесс подобных
взаимовлияний архитектуры склепов и катакомб друг на
друга свидетельствует об их органической связи.
Несмотря на разнообразие индивидуальных вариантов, склепы
1 Белецкий В. Д. Жилища Саркела-Белой Вежи // Тр.
Волго-Донской археолог, экспедиции. М.; Л., 1959. С. 40—134. (МИА,
№ 75).
212
и катакомбы непременно имеют лаз, что позволило на
протяжении почти двух тысяч лет сохранить основы
погребальной традиции — хоронить умерших не в могиле
или каменном ящике, а в изолированной подземной,
полуподземной или надземной погребальной камере,
выдолбленной в грунте, в скале или сложенной из камня
и соединяющейся с внешним миром через лаз. Когда
люди, хоронившие своих покойников в катакомбах, попали
в горы, где грунт не всегда пригоден для рытья катакомб,
но много строительного камня, оказалось целесообразнее
сооружать подземные катакомбы из камня — строить
подземные погребальные склепы. Не случайно на некоторых
могильниках в горах катакомбы и склепы сооружались
рядом (Галиат, Былым, Кугуль). И, естественно,
строительство склепов начинается не с надземных сооружений —
что было бы закономерно, если бы оно продолжало
традицию дольменов, — а с подземных сооружений, с подземных
склепов, так как они, так же как и катакомбы, были
предназначены для многократных повторных погребений.
Таким образом, если считаться с типологическими и
хронологическими рамками склеповых и катакомбных
захоронений и с географическими особенностями горной
и предгорной зон Северного Кавказа, то без больших
натяжек можно прийти к заключению о переходе в горных
условиях катакомбного обряда погребения в склеповый
(рис. 18).
Этническая принадлежность северокавказских
катакомб I тысячелетия н. э. достаточно хорошо
установлена — ареал их совпадает с территорией расселения алан
в центральной части Северного Кавказа в домонгольское
время. В степях и предгорьях в соответствии со своими
погребальными традициями аланы в грунте выкапывали
катакомбы — дромос и камеру, залегавшую глубоко в
земле, где грунт плотный и где большое давление
предохраняло ее от обвалов. В предгорьях при наличии в некоторых
местностях выходов на поверхность крепких песчаников
стали вырубать катакомбы в скалах (Карачай, Чечня).
213
Попав в горы, где грунт зачастую не позволял выкапывать
глубокие и прочные катакомбы, но где было обилие
удобного строительного материала — битого камня у скальных
выходов, аланы стали строить катакомбы из камня.
Сначала и склепы, как катакомбы, строились под землей.
Затем в условиях скального грунта или песчаниковых
выходов на поверхность стали превращать скальные ниши
в склепы, строить полуподземные и надземные склепы.
Произошла, так сказать, смена строительного материала,
что привело к замене аланского катакомбного обряда
склеповым и позволило в то же время полностью
сохранить погребальную традицию аланских катакомб, в том
числе традицию внесения покойника в погребальное
помещение через лаз.
Склепы так же разнообразны, как и катакомбы. Они
имеют различные пропорции и оформление интерьера,
могут быть прямоугольными, квадратными, округлыми
в плане, иметь вертикальные или наклонные внутрь
стенки с нишами или без них. Погребенные укладывались на
лежанки или прямо на пол. Все перечисленные
особенности характерны уже для домонгольского времени, когда
катакомбы и склепы сосуществовали на всей территории
распространения катакомбных и склеповых сооружений —
в горной части Осетии и в начале ущелий рек Чечено-
Ингушетии, Балкарии и Карачая. Таким образом, алан-
ские катакомбы и склепы домонгольского времени имеют
одинаковые типологические черты, и ареал их фиксирует
территорию расселения алан, свидетельствуя о
многочисленности аланского населения и о его этнической
однородности. В зависимости от грунта, от выхода песчаника
или обилия строительного камня, аланы устраивали либо
подземные или скальные катакомбы, либо склепы. При
строительстве склепов грунт играл также немаловажную
роль: там, где близко на поверхность выходят скалы и
невозможно соорудить подземный склеп, довольно рано
начинают появляться полуподземные и надземные склепы.
Мумифицирующие свойства горного воздуха позволяли
214
производить захоронения в надземных склепах и скальных
катакомбах. В дальнейшем надземная часть склепов стала
предметом забот средневековых зодчих и художников,
фасад стал украшаться ажурной кладкой, стены
покрываться штукатуркой, иногда росписью, крыша постепенно
получила сложное фигурное оформление —
выкладывалась ребристыми уступами с прослойками шиферных
плиток и т. д. Но это уже позднесредневековые склепы,
которыми завершается эволюция аланских катакомбно-
склеповых сооружений.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
♦
Осетины, проживающие в центральной части Се-
верного Кавказа — народ сложной и своеобразной
исторической судьбы. За два тысячелетия пребывания на
Северном Кавказе их предки широко расселились в этом
регионе и постепенно из кочевников превратились в
оседлый народ, который не только занимался земледелием, но
основал города, сооружал храмы, начал создавать свою
письменность. Как и другим народам Северного
Причерноморья и Кавказа, предкам осетин пришлось пережить
немало испытаний, связанных с нашествиями все новых
и новых тюркоязычных кочевников. Самым тяжелым
оказалось вторжение монголов, превратившее города и
поселения в руины и пепелища. Укрывшиеся в горах остатки
населения поверженной Алании, еще недавно
находившейся в состоянии расцвета, были заперты в горах
народами, которые овладели степными просторами на
равнине, и уже не смогли выйти на плоскость и возродить свою
высокую культуру.
За много столетий пребывания в горах, несмотря на
иноязычное окружение, осетины сумели сохранить свой
язык, а также некоторые традиционные обряды, в
частности, древний камерный способ погребения. Наряду с
языком, последний является важнейшим этническим
показателем, отличающим предков осетин от других местных
и пришлых народов Северного Кавказа. Погребальный
обряд претерпевал определенные модификации,
приспосабливаясь к строительным возможностям в районе
обитания, которым после гуннского нашествия стали не только
равнины, но и горы. Катакомбы, создававшиеся аланами
в равнинной зоне, не могли оставаться неизменными
в горных условиях. Подобно тому как при строительстве
жилищ глинобитные (турлучные) постройки были заме-
216
нены в горах каменными, так и катакомбы — жилища для
мертвых — вырывавшиеся на равнине в лёссовом грунте,
в горных условиях стали заменять каменными. О
творческих поисках алан при строительстве погребальных
сооружений в горах свидетельствуют такие переходные
формы, как скальные катакомбы и скальные ниши,
закрытые стенкой, в которой оставлен лаз. На примере ката-
комбного погребения некрополя сел. Лац видно, как
возникла необходимость и могла возникнуть мысль строить
вместо катакомб подземные склепы. Строительство
последних началось в отдельных местах стихийно и в разное
время. Такие селения Северной Осетии, как Лац и Галиат,
являются своего рода этногенетическими заповедниками,
по материалам некрополей которых можно проследить
жизнь и изменения в материальной культуре осетин от
столетия к столетию, в течение полутора тысяч лет, от
аланской эпохи до современности.
Существенным моментом в решении проблемы
происхождения осетин являются взаимоотношения алан с
местными кавказоязычными племенами, т. е. вопрос о влиянии
и роли субстрата в этногенезе осетин. Данные
погребального обряда позволяют четко отличать могильники
местных племен от аланских. На протяжении длительного
времени аланы и местные кавказоязычные жители
расселялись в горах раздельно. Об этом свидетельствует
топография могильников и несмешанность погребального
обряда в пределах одного могильника в аланское время. Если
в дальнейшем в горах на территории аланских
могильников и появляются иногда каменные ящики, то в пределах
могильников местных племен обычно не встречаются ка-
такомбные и склеповые погребения. Это обстоятельство
свидетельствует о проникновении в аланскую среду кав-
казоязычного аборигенного населения и его ассимиляции
аланами, численность которых в горах увеличилась после
татаро-монгольского нашествия. В то же время сами они
в местную среду не проникают и, следовательно, нет
оснований говорить об обратном процессе. Таким образом,
217
изучение погребальных комплексов центральной части
Северного Кавказа позволяет видеть в современных
осетинах прямых наследников алан, вобравших в свою среду
и ассимилировавших потомков древнего кавказоязычного
(кобанского) населения. Последнее оказало значительное
влияние на материальную культуру осетин, которые были
вынуждены заимствовать у него вековой опыт жизни в
горах.
Однако, если бы не было на Северном Кавказе весьма
многочисленных ираноязычных алан, а об этом
свидетельствует широкое распространение раннесредневекового
катакомбного и склепового обрядов погребения, имевших
высокую культуру (и в некоторых отношениях более
высокую, чем культура разрозненных и разобщенных горами
неаланских племен горных районов), если бы не было
широкого распространения иранской речи, служившей,
вероятно, своего рода межплеменным языком для многих
разноязычных племен Северного Кавказа, то потомки
кавказоязычных кобанцев не назывались бы оссами-осе-
тинами, не говорили бы на языке иранской группы и не
строили бы в таком количестве погребальные склепы,
чтобы и в горных условиях хоронить по аланскому обряду
своих покойников.
Аланы оказали, в свою очередь, значительное влияние
на своих кавказоязычных и тюркоязычных соседей,
в фольклоре которых, материальной культуре и быту
имеются общие с осетинами черты (например, погребальные
сооружения у ингушей и чеченцев, в пище — осетинский
фыдчин и карачаевский хычин; обращение карачаевцев
к незнакомому человеку э, алан, «откуда ты?», — которое
свидетельствует о популярности алан в былые времена,
когда более вежливо было назвать незнакомца «алан», чем
угадать его национальность.
Много еще остается непрочитанных, неразгаданных
страниц в истории осетин, много потребуется трудоемкой,
кропотливой работы археологов и объединенных усилий
смежных дисциплин, но уже наметились основные вехи
218
в судьбах северноиранских народов, и среди них —
затерявшегося в горах Кавказа, но не утратившего своей
этнической самобытности осетинского народа. В условиях
мирной жизни осетины вновь возродили и развивают
свою культуру, используя достижения далекого
прошлого, сохранившиеся в памятниках зодчества, прикладного
искусства и фольклора.
СПИСОК СОКРАЩЕНИИ
♦
АО — «Археологические открытия»
АС — Археологический съезд
ВДИ — «Вестник древней истории»
ГИМ — Государственный Исторический музей
ЖМНП — «Журнал Министерства народного просвещения»
ГАИМК — Государственная Академия истории материальной
культуры
И А АН СССР — Институт археологии Академии наук СССР
ИСОНИИ — «Известия Северо-Осетинского
научно-исследовательского института языка и истории»
КБ НИИ — Кабардино-Балкарский
научно-исследовательский институт
КЧНИИ ИЯЛ — Карачаево-Черкесский научно-исследовательский
институт истории, языка и литературы
КС И А — «Краткие сообщения Института археологии»
КСИИМК — «Краткие сообщения Института истории
материальной культуры»
МАДИСО — «Материалы по археологии и древней истории
Северной Осетии»
МАД — «Материалы по археологии Дагестана»
МАК — «Материалы по археологии Кавказа»
МАЭ — Музей антропологии и этнографии АН СССР
МИ А — «Материалы и исследования по археологии
СССР»
ОАК — «Отчеты Археологической комиссии»
РАНИОН — Российская ассоциация
научно-исследовательских институтов общественных наук
СА — «Советская археология»
СМОМПК — «Сборник материалов для описания местностей и
племен Кавказа»
ССК — «Сборник сведений о Кавказе»
СЭ — «Советская этнография»
ТКЧНИИ — «Труды Карачаево-Черкесского
научно-исследовательского института»
ЧИНИИ — Чечено-Ингушский научно-исследовательский
институт
220
отзывы
ВЫПИСКА
из протокола заседания сектора Кавказа
от 26 декабря 1990 г.1
Председатель: Ю. Ю. Карпов
Присутствовали: Ю. Ю. Карпов, Э. X. Панеш, А. В. Кур-
банов
Секретарь: А. В. Курбанов
I. Рекомендация к печати монографии Нечаевой Л. Г.
«Происхождение осетин (по данным погребальных
сооружений)». Отв. редактор К. X. Кушнарева.
I. Слушали: Рекомендация к печати монографии
Л. Г. Нечаевой.
Выступили: Ю. Ю. Карпов, Э. X. Панеш.
Постановили: Рекомендовать монографию Л. Г.
Нечаевой «Происхождение осетин (по данным погребальных
сооружений)» к печати.
Повестка дня:
Выписка верна.
Председатель Ю. Ю. Карпов /
Секретарь А. В. Курбанов /
Машинопись; подписи-автографы Ю. Ю. Карпова и А. В. Кур-
банова. Научный архив МАЭ РАН. Ф. 40. Оп. 1. Д. 88. Л. 335.
Документ, как и далее публикуемые отзывы, прилагались к
рукописи для утверждения ее к печати.
223
отзыв
на монографию Л. Г. Нечаевой
«Происхождение осетин
(по данным погребальных сооружений)»1
Монография Л. Г. Нечаевой, одного из
образованнейших и авторитетных кавказоведов, чьи глубокие и всегда
оригинальные исследования пользуются заслуженным
уважением у специалистов, посвящена одной из самых
глобальных проблем истории народов Северного
Кавказа — проблеме происхождения осетин, единственного
ираноязычного народа этого региона.
Эта проблема, вызывающая дискуссии уже более
100 лет, особенно привлекает к себе внимание в
последние два десятилетия, когда ее активно разрабатывают
антропологи, лингвисты, этнографы и археологи (В. П.
Алексеев, В. И. Абаев, Ю. Ф. Гаглойти, В. Б. Ковалевская,
В. А. Кузнецов, В. И. Марковин и др.).
Нет необходимости специально обосновывать важность
и актуальность этой темы в наше время, когда
националистическая тенденциозность некоторых суждений подчас
приводит к необоснованным построениям. Тем важнее
публикация работы, отражающей объективный взгляд
ученого, выводы которого основываются на многолетних
собственных полевых исследованиях и на широчайшей
эрудиции: автор владеет археологическим материалом
в диапазоне от III тыс. до н. э. до позднего Средневековья,
привлекает данные лингвистики, этнографии,
фольклористики и т. д., не говоря уже об исчерпывающем знании
русской и иностранной литературы, непосредственно
относящейся к аланской проблеме и теме исследования.
Обращение Л. Г. Нечаевой к погребальным
сооружениям, отражающим в том числе тонкости погребального
ритуала, вводят новый вид исторических источников в каче-
1 Машинопись. Подпись-автограф А. А. Иерусалимской; подпись
заверена печатью и подписью ученого секретаря. Научный
архив МАЭ РАН. Ф. 40. Оп. 1. Д. 88. Л. 336-338.
224
стве еще одного инструмента в арсенале привлекавшихся
для решения проблемы этногенеза осетин.
Прежде всего, автор впервые дает полную сводку скле-
повых сооружений Северного Кавказа — Северной
Осетии, Чечено-Ингушетии и Кабардино-Балкарии (см.
часть I). Такой сводки, после работы В. Ф. Миллера (МАК,
т. 1, 1888), сейчас, естественно, устаревшей, не
существовало; опубликованные на эту тему исследования касаются
либо отдельных регионов, либо памятников локального
характера. Скрупулезный анализ этих сооружений
приводит Л. Г. Нечаеву к четким выводам относительно их
характерных особенностей (наличие лаза; сводчатые
перекрытия; коллективные захоронения — не в земле, а на
поверхности почвы или на лежанках), их эволюции (от
подземных к полуподземным и надземным склепам) и
ареала распространения; исследование всей совокупности
данных заставило автора отвергнуть предлагавшиеся
ранее гипотезы генезиса склепов — от каменных ящиков
или от дольменов, что логически приводит Л. Г. Нечаеву
к поискам собственного решения.
Этому посвящена вторая часть работы, где с той же
исчерпывающей полнотой рассматриваются погребальные
памятники северокавказских аланов, с детальным
анализом всей проблематики, связанной с происхождением
последних и их появлением на Северном Кавказе
(самостоятельное значение имеют, в частности, составленные
автором сводные таблицы личных имен и названий — от
скифского времени и до раннего Средневековья —
объясняемых из иранских языков и собственно из осетинского).
Конечный вывод автора — о связи осетинских склепов
с аланскими катакомбами, что может свидетельствовать
о продолжении в позднее время, в горах, аланской
традиции, — представляется абсолютно фундированным (это,
разумеется, не исключает возможности иной
интерпретации отдельных памятников или второстепенных частных
вопросов).
225
Особенную ценность исследованиям Л. Г. Нечаевой
придает и то, что за ними стоят годы ее полевых изысканий
(60-е — 70-е годы), когда в труднейших условиях, в
глухих и труднодоступных ущельях Северного Кавказа ею
обследовались десятки разновременных погребальных
сооружений — в ареале от Карачаево-Черкесии до
Северной Осетии. Целью этих разведок и раскопок не было, как
это нередко случается, стремление к эффектным
находкам, а это была продуманная научная программа
детального обследования всех памятников этого рода. В
результате совершенно в ином свете предстали и многие из давно
известных сооружений (Галиат, Дзивгис, Эгикал и др.).
Первая публикация этих материалов, хранящихся
теперь в Эрмитаже, так же как разработка всей
предлагаемой гипотезы в целом, несомненно, вызовут громадный
интересу специалистов. Если предлагаемая Л. Г. Нечаевой
теория породит дискуссию — тем лучше, ибо, как известно,
в спорах рождается истина. Главное — читатель получит
оригинальную и глубоко выношенную автором
концепцию, которой, несомненно, суждена долгая жизнь в науке.
А. А. Иерусалимская, ведущий научный сотрудник
Гос. Эрмитажа, кандидат исторических наук,
хранитель Северокавказских археологических коллекций
Отдела Востока.
4.01.1991г.
ОТЗЫВ
на монографию Л. Г. Нечаевой
«Происхождение осетин
(по данным погребальных сооружений)»1
Важность изучения вопросов, связанных с проблемой
происхождения населения любой культурно-историче-
1 Машинопись. Подпись-автограф Т. А. Поповой, заверена
печатью и подписью заведующего канцелярией. Научный архив
МАЭ РАН. Ф. 40. Оп. 1. Д. 88. Л. 343-344.
226
ской принадлежности различных регионов Евразии, не
вызывает сомнений. В контексте сказанного, большой
научный интерес представляет рецензируемая работа
Л. Г. Нечаевой. Она посвящена дальнейшей разработке
одной из актуальных и вместе с тем сложных проблем
исторической науки — этногенезу осетин. Ее основу
составляет анализ такого существенного источника
познания, как погребальная архитектура. Решение
этнографической задачи потребовало от автора своеобразной
структуры, что выглядит вполне логичным. В связи с этим,
прежде всего, детально охарактеризованы погребальные
склеповые сооружения Северной Осетии,
Чечено-Ингушетии и Кабардино-Балкарии эпохи позднего
Средневековья. Важно отметить, что при их описании
использованы материалы полевых изысканий самого автора.
Далее применен ретроспективный метод исследования:
обращение к более древнему аналогичному пласту —
погребальным катакомбам алан времени раннего
Средневековья. Последние, по мнению автора, являются
генетической подосновой склеповых сооружений осетин. В этой
части работы приведено достаточное число различных
точек зрения, слишком большое, в ущерб выводным
наблюдениям относительно времени появления алан в
Северном Причерноморье.
Для доказательства своих положений автор приводит
богатейший ономатологический материал, сведенный
в таблицы, что облегчает восприятие выделенных групп
имен, сходных с осетинской языковой спецификой.
В меньшей мере привлечены антропологические данные.
Представляется, что недостаточное внимание уделено
местному субстрату — доли и механизма участия
автохтонных оседлых племен Центрального Кавказа —
носителей кобанской культуры. Вместе с тем, именно кобан-
ская общность является этническим ядром в дальнейшем
формировании всех современных народов Северного
Кавказа: осетин, карачаевцев, балкарцев (кавкасионский
антропологический тип по В. П. Алексееву).
227
Следовало, на наш взгляд, помимо доминирующей
категории рассматриваемых артефактов, безусловно,
являющихся ярким этнографическим признаком, привести
и другие аргументы в пользу аланского происхождения
осетин. В свете новейших достижений эти материалы
нуждаются в некоторой корректировке.
В целом, работа Л. Г. Нечаевой «Происхождение
осетин (по данным погребальных сооружений)» выполнена
на высоком профессиональном уровне, снабжена
таблицами и иллюстративным материалом. Она вводит в
научный оборот ценные данные и является важным вкладом
в изучение самобытной культуры осетинского народа.
Работа вносит немало оригинального в решение
актуального вопроса об истоках и корнях его происхождения. Это
особенно ценно в условиях сложнейшей ситуации
сегодняшнего дня.
Скорейшая ее публикация, безусловно, необходима.
Старший научный сотрудник
сектора этнической антропологии
Института этнографии и антропологии АН СССР,
кандидат исторических наук Т. А. Попова
ПОДКУРГАННЫЕ КАТАКОМБЫ
И КАМЕННЫЕ СКЛЕПЫ КАК СВИДЕТЕЛЬСТВА
ЭТНОГЕНЕЗА ОСЕТИН:
Отзыв на монографию Л. Г. Нечаевой «Происхождение
осетин (по данным погребальных сооружений)»
В кавказоведении проблема этногенеза населения
Северного Кавказа всегда занимала очень важное место.
Тема же связи алан с происхождением осетин по данным
лингвистики и археологии уже более двухсот лет
занимает одно из первостепенных мест, поэтому монографию
Лидии Георгиевны Нечаевой, ставящей во главу угла
разрешение этого вопроса на основании новых, неопублико-
228
ванных ранее археологических материалов, нельзя не
приветствовать, и прежде всего потому, что выдающийся
кавказовед, этнограф и археолог Л. Г. Нечаева посвятила
решению этой проблемы всю свою жизнь в науке,
проходившую в планомерных полевых исследованиях в
глубинных и труднодоступных горах Центрального Кавказа.
Мои вступительные слова имеют своей целью показать
необходимость издания монографии, несмотря на то что
она написана в 80-е годы прошлого века и подготовлена
к печати в начале 90-х годов.
Материалы подкурганных катакомб, раскопанных
в предвоенные годы в Алхан-кале, никогда не
публиковались ранее и представляют огромный интерес, поскольку
сегодня их можно сравнить со многими сотнями
раскопанных за последние годы подобных катакомб,
происходящих из ряда могильников Осетии, Чечни, Ингушетии,
Дагестана, Кавминвод и низовьев Дона, для того чтобы
выявить локальные различия. Касаясь полуподземных
каменных склепов, надо отметить, что эта категория
памятников очень редко привлекала к себе внимание
исследователей и нуждается в издании материалов, тем более что
Л. Г. Нечаева производила очень точные архитектурные
обмеры памятников по всей территории их
распространения, и результаты ее работ позволяют автору предложить
новую гипотезу их происхождения от катакомб, имеющую
право на существование, что напрямую относится к
происхождению Осетии, и на чем ниже мы остановимся —
древние катакомбы характеризуют культуру ранних алан,
а полуподземные склепы, безусловно связанные с
катакомбами, характеризуют культуру осетин.
Поэтому положительной стороной работы является то,
что для средневекового Предкавказья исследованы все
полуподземные склепы с подробными архитектурными
промерами, определением их хронологической позиции
и связи с расположением катакомбных могильников
предшествующего времени.
229
Основным фактом, лежащим в основании теории
происхождения осетин, является лингвистика — это
отнесение осетинского языка к группе иранских языков наравне
со скифскими и сармато-аланским.
Исторические свидетельства говорят о том, что имя
алан впервые появилось в Северном Причерноморье и на
Кавказе в первых веках нашей эры. Именно к этому же
времени относится обнаружение могильников с массовым
присутствием подкурганных катакомбных захоронений
на той же территории, что приводило к выводу о тождестве
вновь появившегося этнонима с вновь обнаруженным
новым типом погребального сооружения.
Работы последних лет на Кавказе позволяют сегодня
на современном научном уровне раскрыть модель
создания новой археологической культуры — в данном случае
раннеаланской культуры при смешении носителей сред-
несарматской культуры кочевников, пришедших из
Зауралья в I в. н. э. и смешавшихся с местным (кобанско-
сарматским) населением кавказских предгорий. Именно
эти памятники ранних алан подробно публикуются во
второй части представленной монографии Л. Г. Нечаевой,
и, добавим, публикуются впервые, хотя в самое последнее
время уже изучено и продолжает изучаться более тысячи
подобных курганов на Кавказе, от Кубани и Кавминвод на
западе до Чечни и Дагестана на востоке. Последние
археологические исследования показали, что носители сред-
несарматской культуры (I — начало II в. н. э.) в своих
кочевьях дошли до зоны кавказских предгорий с местным
населением. В сложившейся к первой половине II в. н. э.
новой культуре ранних алан от среднесарматской
культуры пришел курганный обряд, свойственный всем
сарматским племенам, центральное положение катакомбы в
кургане. Создание тайников с богатым конским снаряжением
объединяет раннеаланские погребения исключительно
с традицией среднесарматской культуры. С нею
генетически связан и уникальный золотой звериный стиль ранних
северокавказских алан, отличный по технике изготовле-
230
ния и морфологически от сарматского бирюзово-золотого
звериного стиля, но близкий по репертуару образов,
указывающих на восточное происхождение, и безусловно
восходящий к нему. Оценить в целом вклад кочевых племен
среднесарматской культуры в раннеаланскую оседлую
культуру следует очень высоко, поскольку он связан с
духовным миром, а именно с искусством и погребальным
обрядом (идея кургана). Очевидно, именно эти кочевники
и принесли в население складывающейся культуры язык
и этноним, которые сохранились до наших дней, —
производственные навыки, оседлость, так же как и погребальное
сооружение в виде Т-образной катакомбы; следовательно,
навыки хозяйственной и частично духовной жизни
пришли из местного субстрата, что является также очень
важным, поскольку это — приспособленность к местному
ландшафту и условиям жизни, следовательно, условия
для успешного выживания. Пассионарность пришельцев
скорее всего и определяет дальнейшее быстрое освоение
окружающей территории Северного Кавказа ранними
аланами из Центральной его части [Дзуцев, Малашев,
2015, рис. 34].
В первой половине III в. происходит передвижение
ранних алан к Средней Кубани, в середине III в. —
освоение Нижнего Дона и Терско-Сулакского междуречья,
в первой половине IV в. — продвижение в Южный
Дагестан и начало освоения Пятигорья, то есть движение на
запад, юго-запад, восток и юго-восток. Фактически уже за
два столетия возник тот ареал аланской культуры,
который сохранился на протяжении всего I тыс. н. э. до
расцвета алан в начале II тыс. н. э. По археологическим данным,
заселение аланами высокогорья произошло не после
завоеваний гуннами Северного Причерноморья и увлечения
части алан в движении на Запад вплоть до Атлантики.
Заселение высокогорья Осетии датируется не ранее
начала VII в., самое ранее — рубежа VI—VII вв. В предгорьях
в некоторых районах катакомбные аланские памятники
прекращают свое существование в середине или конце
231
IX в., если не считать, что скальные захоронения
продолжают линию развития грунтовых катакомб. Это не меняет
того факта, что катакомбы в ряде пунктов представлены
большими могильниками типа Змейского в X—XII вв.
в предгорьях Осетии и могильника Мебельная фабрика
близ Кисловодска. Кроме того, найдены отдельные алан-
ские катакомбы XIII—XIV вв. Поскольку по историческим
свидетельствам аланы-асы (овсы грузинские и ясы
русских летописей) участвуют в военно-политической
истории Южной России, Кавказа и Византии значительно
позже того времени, когда местное население Кавказа
перестало использовать катакомбы в качестве усыпальниц,
в науке давно уже поставлен вопрос о роли других форм
погребальных сооружений — грунтовых ямных
погребений, каменных ящиков и различных типов каменных
склепов — подземных, полуподземных и надземных, в
виде «городков мертвых», представленных в большом
количестве на территории Центрального Предкавказья,
особенно в Северной Осетии.
Принадлежность полуподземных склепов аланам
постулируется в монографии Л. Г. Нечаевой, являясь
центральной научной темой, хотя в аланистике превалирует
точка зрения на генетическую связь последних с
каменными ящиками, которые исследователи традиционно
связывают с местным кавказским населением.
Посмотрим, какая точка зрения имеет большее право
на существование. Но прежде мы должны сказать о том,
какие важные стороны погребального сооружения
выявлены археологами для описания, анализа и сопоставления
между собой различных погребальных сооружений — как
одновременных, так и разновременных. Речь идет о том,
сколько существенных деталей конструкции выделяется
для погребального сооружения и каким способом
помещают усопшего в камеру для погребения. Поскольку речь
идет о генетической связи между подземным склепом
и катакомбой, рассмотрим это на примере сопоставления
именно этих двух типов погребальных сооружений. По-
232
следние относятся к трехкомпонентным конструкциям,
тогда как грунтовое захоронение и каменный ящик,
безусловно, являются однокомпонентными, что означает, что
в могилы разных типов покойного разным образом вносят
или опускают его прямо в могильную яму (или в
каменный ящик), сначала опускали, а затем продвигали в
могильную камеру (катакомбы и склепы). Это разный путь
ухода в «дом мертвых», он по-разному осуществляется,
с одной стороны, в грунтовых ямах и каменных ящиках,
а с другой стороны — в катакомбах, подбоях, в скальных
захоронениях и склепах, отличая использование одноком-
понентных и многокомпонентных сооружений. Как пишет
Л. Г. Нечаева, «поиски основных предков осетин стоят
в прямой зависимости от решения вопроса о
происхождении их погребальных сооружений-склепов» (с. 13), и на
протяжении своей работы она рассматривает подробно,
скрупулезно и убедительно именно вопрос о сходстве
катакомб с каменными склепами, показывая, что в обоих
случаях погребальные сооружения обладают тремя
частями: дромосом, представленным каменным коридором или
глубокой прямоугольной входной ямой со ступеньками,
«лазом», тоже отделенным камнем со всех сторон в случае
со склепом, и «входным отверстием» в земле в катакомбе,
ведущим из входной ямы в камеру.
Многочисленность полевых сезонов Л. Г. Нечаевой
с проведением подробных внутренних архитектурных
обмеров склепов, что до работ Л. Г. Нечаевой не
производилось, показало, что внутреннее пространство склепов
напоминает своды катакомб, повторяющие интерьер
кибиток со свето-дымовым отверстием — жилища
кочевника, что и в катакомбах и в каменных склепах внутреннее
помещение было имитацией жилищ с каменными
лежанками, нишами в стенах и входным отверстием. Катакомбы
и склепы сближает тот факт, что часто трехчастность
погребального помещения заменялась двухчастностью, когда
оставались только входная камера и лаз («входное
отверстие»). Это подробное сопоставление настолько доказа-
233
тельно, что можно согласиться с автором о генетической
связи склепов с катакомбами и, соответственно, о том, что
аланы, асы, овсы в эпоху Средневековья использовали
каменные склепы для совершения погребений, и склепы
являлись семейными усыпальницами Осетии вплоть до
недавнего времени. Добавим к этому, что многочисленные
палеоантропологические исследования, резко
увеличившиеся в последнее время, указывают на генетическую
связь между раннеаланским и осетинским населением
последних веков.
Таким образом, основные историко-культурные
построения Л. Г. Нечаевой, провозглашенные и доказанные
в книге, представляют большой интерес для современного
читателя как по предложенной научной концепции, так
и по введённому в научный оборот новбму фактическому
материалу как по ранним аланским подкурганным
катакомбам Алхан-Калы, так и по анализу материалов
разновременных каменных склепов Кавказа, особенно горных
районов Северной Осетии. Результаты этих исследований
являются залогом того, что очень перспективно
обращение исследовательских интересов археологов к этой
группе памятников. Особенно в связи с тем, что эти
памятники подвергаются разрушению временем и нуждаются не
только в охране, но и в углубленном изучении
современным поколением археологов с применением современных
научных методов и процедур анализа. Именно этим
дальнейшим исследованиям способствует выход в свет
монографии Л. Г. Нечаевой, одинаково интересной любому
заинтересованному в истории своей страны читателю
и специалисту широкого профиля: историку, краеведу,
археологу, этнографу и лингвисту.
В. Б. Ковалевская, ведущий научный сотрудник
Института Археологии РАН,
доктор исторических наук
ЛИДИЯ ГЕОРГИЕВНА НЕЧАЕВА
Штрихи к портрету
♦
Лидия Георгиевна — моя родственница. Ее отец, Георгий
Дмитриевич Нечаев, — брат моей прабабушки. В семейной
памяти Георгий Дмитриевич остался как дядя Гуря — не
слышал, чтобы его называли как-то иначе. Вначале дядя Гуря
заведовал Музеем Аракчеева в Грузине: существовало до
войны и такое учреждение (оно было филиалом Русского
музея). В тридцатые годы он стал заместителем директора
Русского музея.
Его с дочерью Лидой, женой Людмилой и родственницей
Ольгой поселили в музейном флигеле Росси. В том, чтобы
сотрудники жили при музеях, прежде не видели ничего
необычного. Решая проблемы быта служащих, заодно,
очевидно, укрепляли их связь с местом работы. В блокадную зиму
семья перебралась в соседнее здание, выходящее окнами на
Михайловский сад. Всем казалось, что в другой квартире
(она размещалась на первом этаже) будет чуть теплее.
Теплее не стало. Не стало и сытнее. Ели столярный клей,
которым дядя Гуря до войны клеил рамы. Обдирали со стен
обои и варили их. Дядя Гуря страдал особенно (в семье
говорили, что мужчины переносят голод хуже). В ту блокадную
зиму он съел семейного любимца кота. Теперь уже не узнать,
как все происходило, но мне почему-то кажется, что он убил
кота, чтобы тот не кричал от голода. А потом съел. В ту же
зиму дядя Гуря умер.
Родные могли бы вытащить тело на улицу, где его
подобрала бы похоронная команда, но этого не сделали. Они не
хотели хоронить его в общей могиле. Георгия Дмитриевича
просили подождать до тех пор, пока не соберут нужного
количества хлебных карточек: похороны в блокадном городе
стоили дорого.
И дядя Гуря ждал. Он лежал прямо в комнате и не
разлагался — так было холодно. Провожал своих женщин, когда
235
они уходили, и встречал их, когда они возвращались. И они
не боялись его, потому что сами, в сущности, были немногим
живее. Граница между мертвыми и живыми была тогда
несущественной. Они продолжали любить его как живого.
Женщины отправлялись за карточками и получали на
них хлеб. Лидия ходила на лесозаготовки. Однажды на
Троицком (тогда — Кировском) мосту ее и Ольгу застал
авианалет. Впереди шедшему парню оторвало голову. Голова
медленно катилась к ним, и в ее широко открытых глазах
отражался их собственный ужас перед бомбежкой. Лидия
и Ольга ползли по мосту, царапая ногтями лед. И голова
продолжала катиться. В сравнении с немецкими самолетами она
не казалась им страшной.
Дядя Гуря ждал безропотно — более месяца. Им удалось
похоронить его. И они пережили блокаду. К концу войны
Лиде было двадцать пять лет. У нее не осталось ни одного зуба.
Мое представление о ее работе долгое время
определялось одним единственным к ней визитом. Моей бабушке
(своей кузине) и мне, одиннадцатилетнему, она показывала
Кунсткамеру. Подобно десяткам тысяч посетителей
Кунсткамеры, бесчисленные этнографические витрины я покорно
прошел ради одного: знаменитой коллекции уродов:
Впечатление было сильным, но не сказать чтобы радостным. Место
работы тети Лиды мне показалось мрачноватым.
В маленькой квартире Лидии Георгиевны насчитывалось
более двадцати котов и кошек и даже один лис. Это была
довольно странная компания. У одних котов не было лап,
у других — хвостов и даже ушей. Тетя Лида (не аукнулась ли
таким образом память о съеденном в блокаду коте?)
подбирала увечных животных на улице, лечила их и оставляла
у себя дома. Остальных котов она опекала в естественной
среде их обитания. В академической столовой покупала
объедки и кормила котов во дворах. ;
Когда в результате инсульта Лидию Георгиевну частично
парализовало, коты из квартиры исчезли. Оказалось также,
что на садовом участке в Грузине (она получила его как
блокадница) у нее жило еще десятка два собак. Не дождавшись
своей хозяйки, собаки разбежались.
236
Вынужденно расставшись с млекопитающими, тетя Лида
обратилась к птицам. Она стала приманивать в квартиру
голубей и мало-помалу их приручила. Что было, пожалуй, не
так уж сложно. Навещая в эти дни тетю Лиду, мы с женой
чувствовали себя то ли посетителями птичника, то ли
свидетелями Золотого века в границах одной питерской квартиры.
Из-под наших ног вспархивали голуби. Они вили гнезда
на шкафах, сидели на люстрах и, воркуя, расхаживали по
столу. В лице тети Лиды цивилизация без остатка
возвращала себя природе. Слой за слоем книжные полки покрывались
голубиным пометом. Лишь самые ценные для нее бумаги
тетя Лида спрятала от птиц в изголовье кровати, которую по-
археологически называла раскопом.
В заоконном ящике для цветов я обнаружил мертвых
голубей. Держась за стены, она дотаскивала их до ящика
и там аккуратно складывала. Я хотел было вынести их, но
она запретила. Я (улыбка терпеливого) спросил ее, думает
ли она, что голуби оживут. Она (спокойствие посвященного)
ответила, что это не исключается. Голуби, конечно, не ожили,
но и явных признаков разложения в них тоже не
наблюдалось. Они как бы высохли.
До чего все-таки глупа юность. Сейчас, годы спустя,
я понимаю, чем были для нее эти мертвые птицы. Скорее
всего, возвращением к уходу отца, главного мужчины ее
жизни. И предчувствием всеобщего воскресения.
Р. 5. После смерти Лидии Георгиевны в 1992 году
остался неопубликованным ее труд «Происхождение осетин».
Сейчас, годы спустя, усилиями многих людей эта книга
выходит из печати. Приношу всем свою сердечную
благодарность.
Евгений Водолазкин
ОГЛАВЛЕНИЕ
♦
От составителя 5
От редактора 8
Введение 10
Часть I
Осетины (и их соседи)
по данным погребальных сооружений
1. Склеповые сооружения Северной Осетии 25
2. Склеповые сооружения Чечено-Ингушетии 57
3. Склеповые сооружения Кабардино-Балкарии (в эпоху
позднего средневековья) 64
Часть II
Аланы (и их соседи)
по данным погребальных сооружений
1. О времени появления алан в Северном Причерноморье... 75
2. Аланские катакомбные могильники 111
3. Раннесредневековые склепы Северного Кавказа 137
Часть III
Происхождение осетин
по данным склеповых сооружений
1. Ареалы, датировка, типология склеповых сооружений 183
2. Происхождение склеповой погребальной традиции
и этногенез осетин 195
Заключение 216
Список сокращений 220
Отзывы 221
Лидия Георгиевна Нечаева. Штрихи к портрету 235
238
Издание осуществлено попечением
Олега Сергеевича Пухова
Научное издание
Лидия Георгиевна Нечаева
ПРОИСХОЖДЕНИЕ ОСЕТИН
(ПО ДАННЫМ ПОГРЕБАЛЬНЫХ СООРУЖЕНИЙ)
Редактор Л. И. Лавров
Верстка: С. В. Степанов
Формат 60 х 90 У16. Гарнитура Ре1егзЬиг§.
Печ. л. 15,0. Тираж 1000 экз. Зак. № 26
ООО «Издательство «Росток»
Е-таП: гоз1;окЪоок5@уапс1ех.ги
11К.Ь: Ь^р://^\у\у.го51окЬоок5.ш
По вопросам оптовых закупок
обращаться по тел.: 8-921-937-98-70
Отпечатано в типографии ООО «Литография Принт»
191119, Санкт-Петербург, ул. Днепропетровская, дом 8, офис 14
лу\у\у.1п:оЪоок.ги е-таИ: тгоШИоЪоок.ш
Тел.: +7 (812) 712-02-08
Согласно Федеральному закону от 29.12.2010 №436-Ф3
«О защите детей от информации,
причиняющей вред их здоровью и развитию»,
книга предназначена для детей старше 16лет