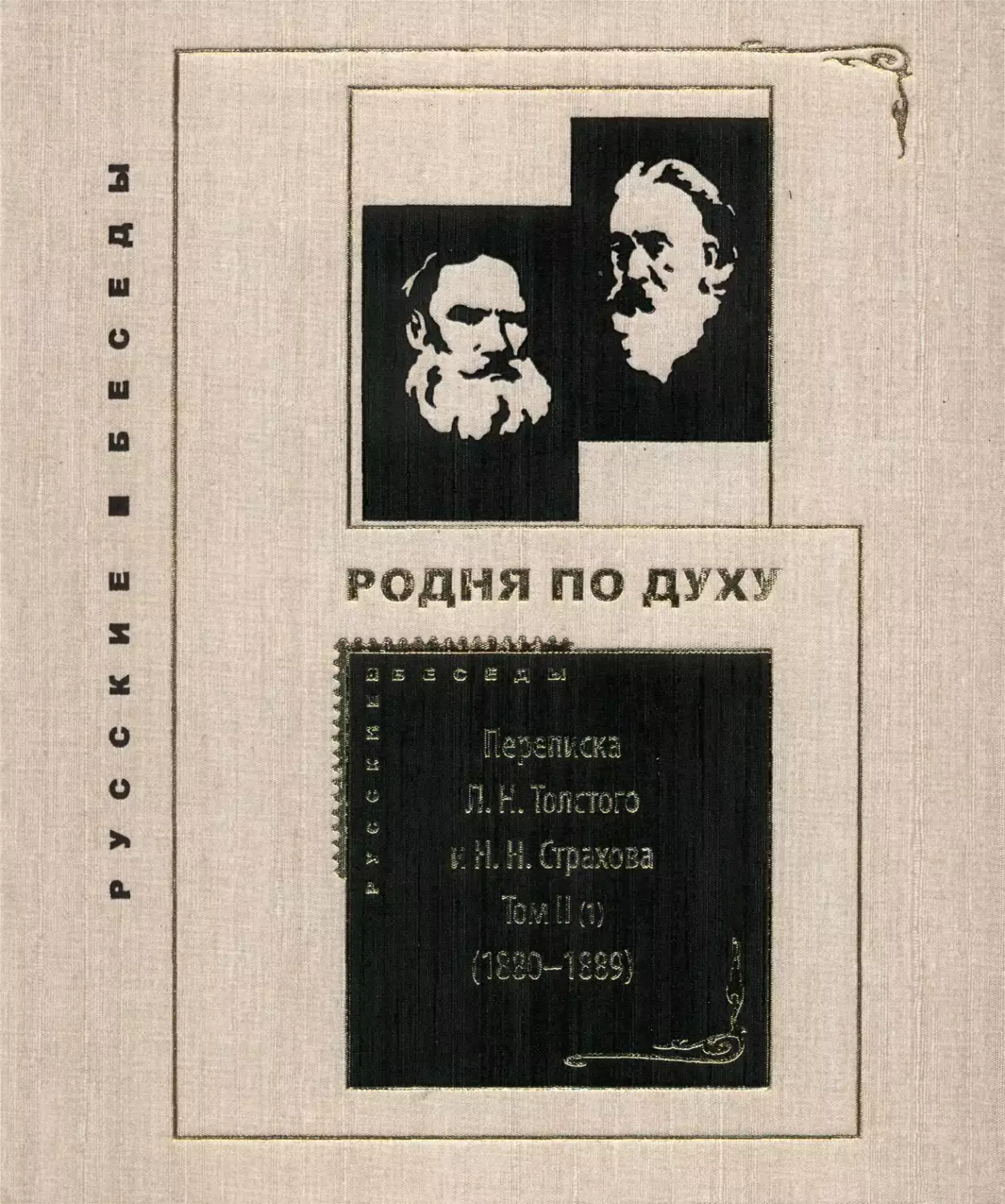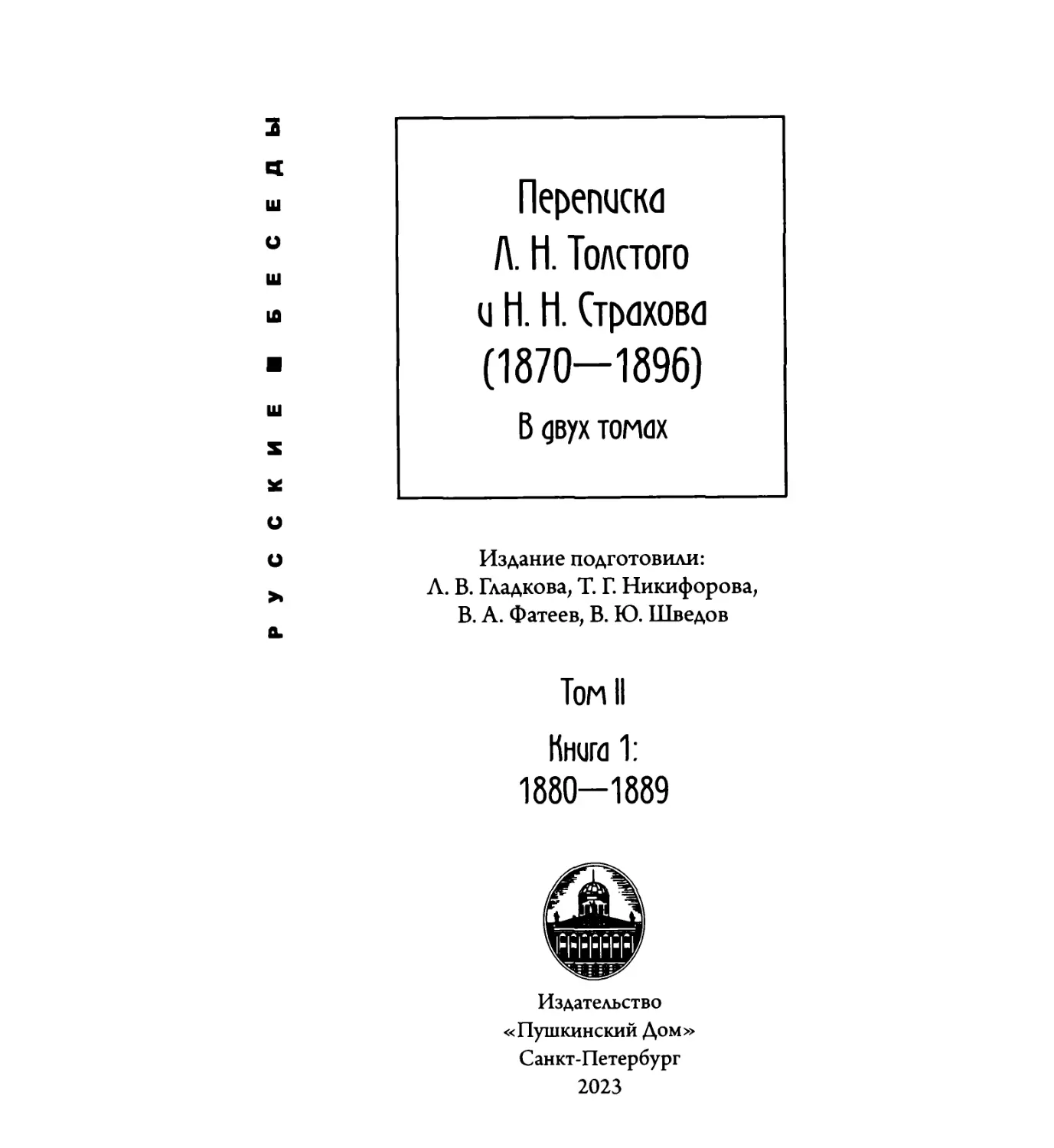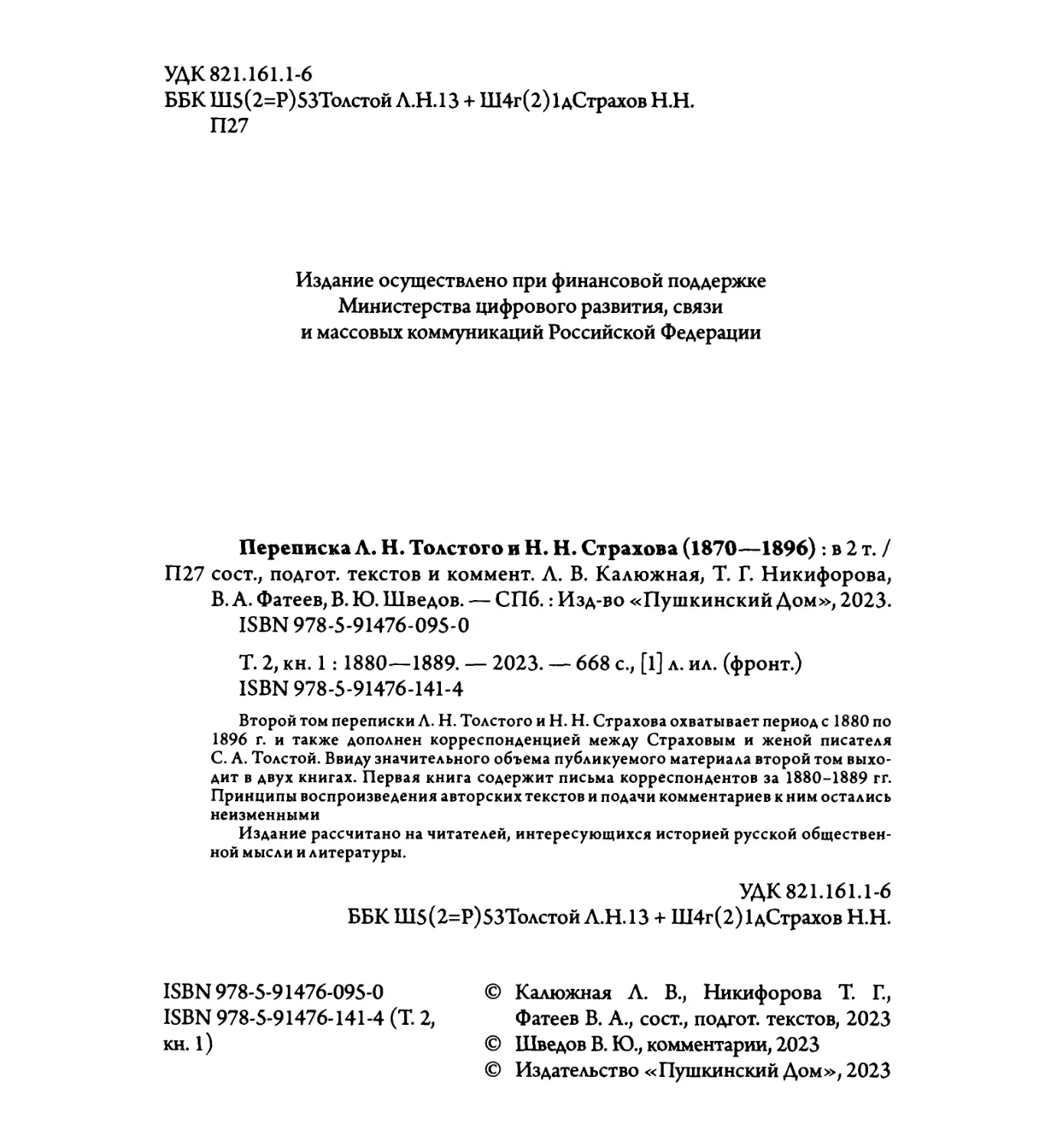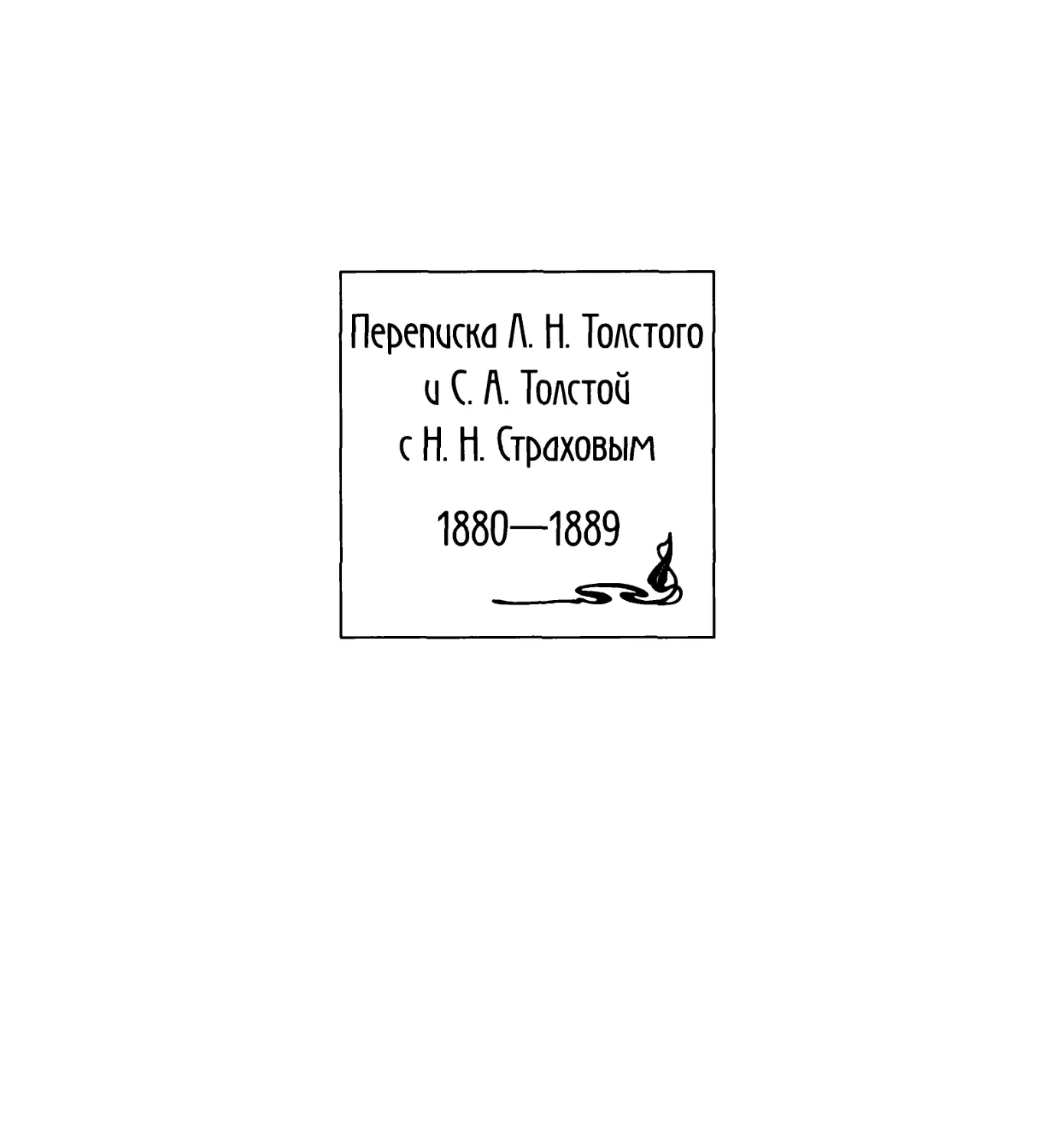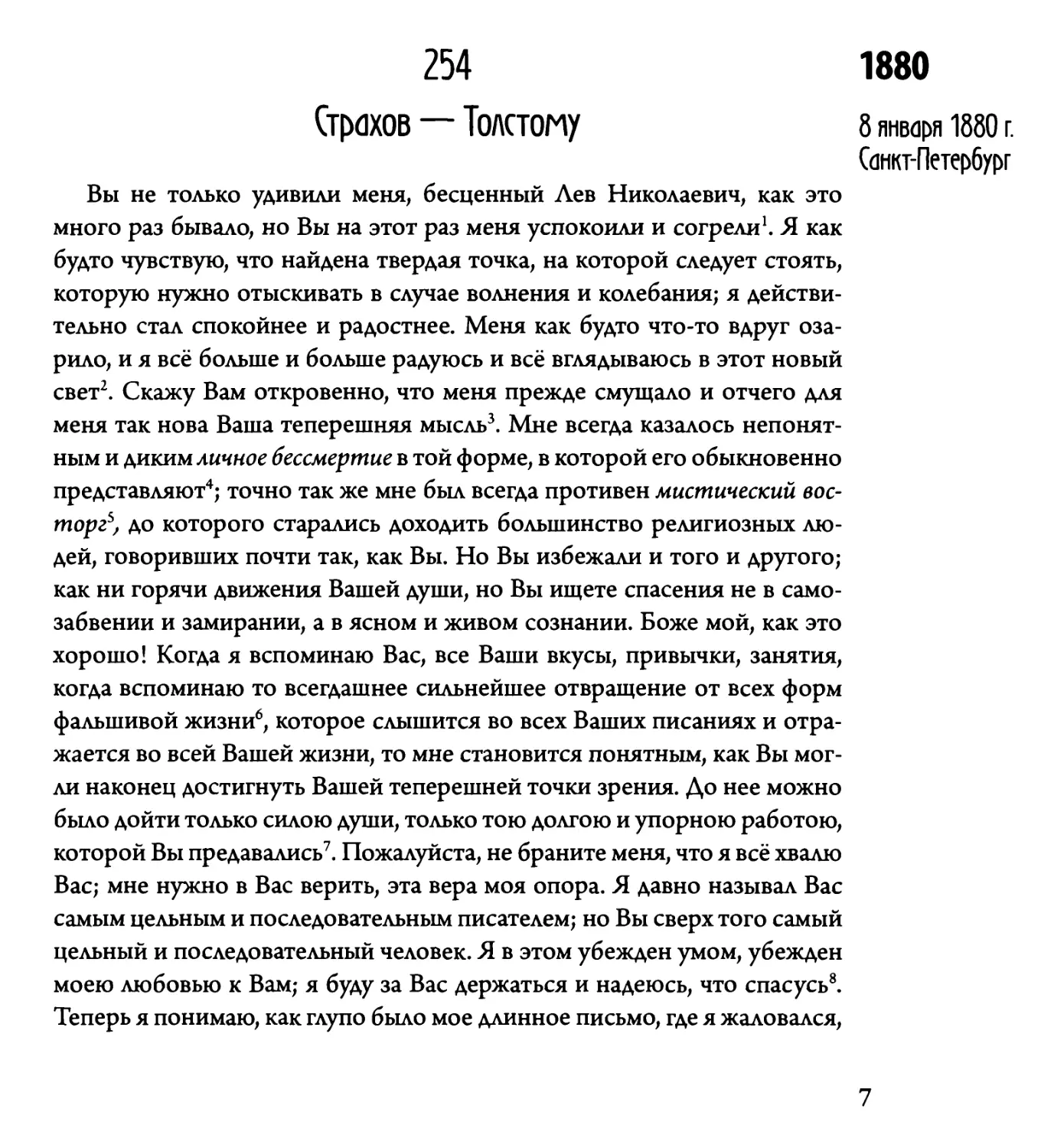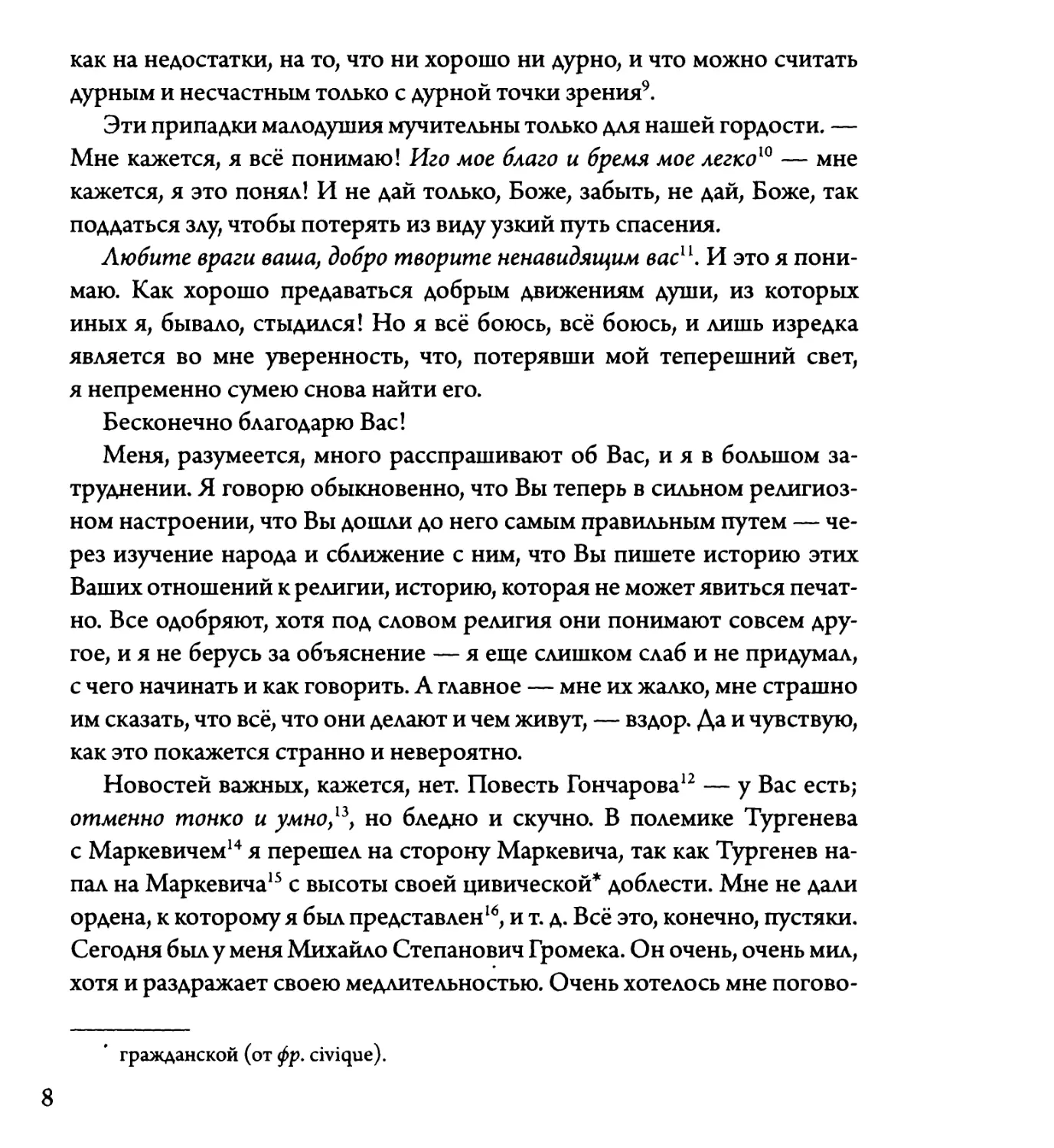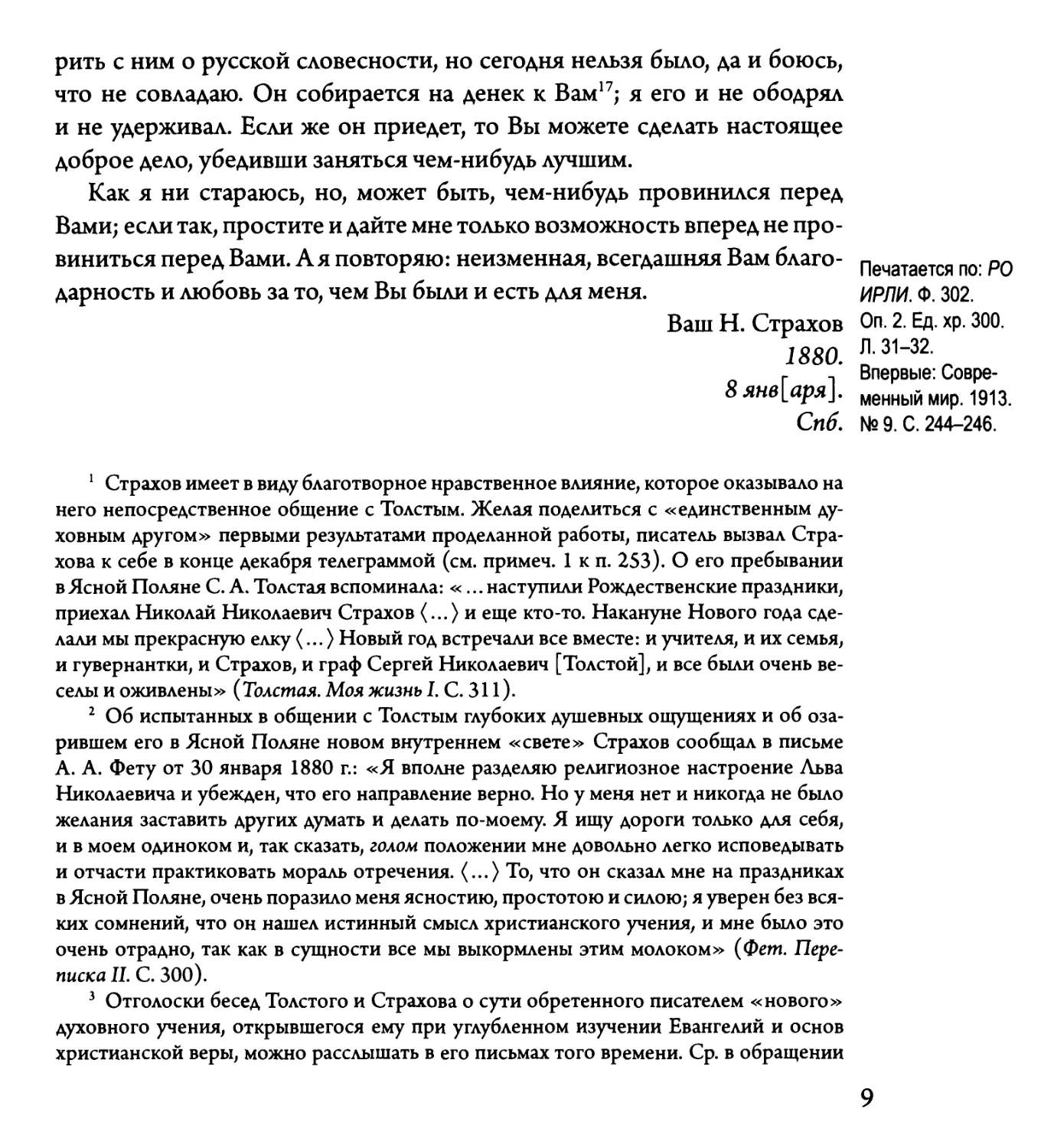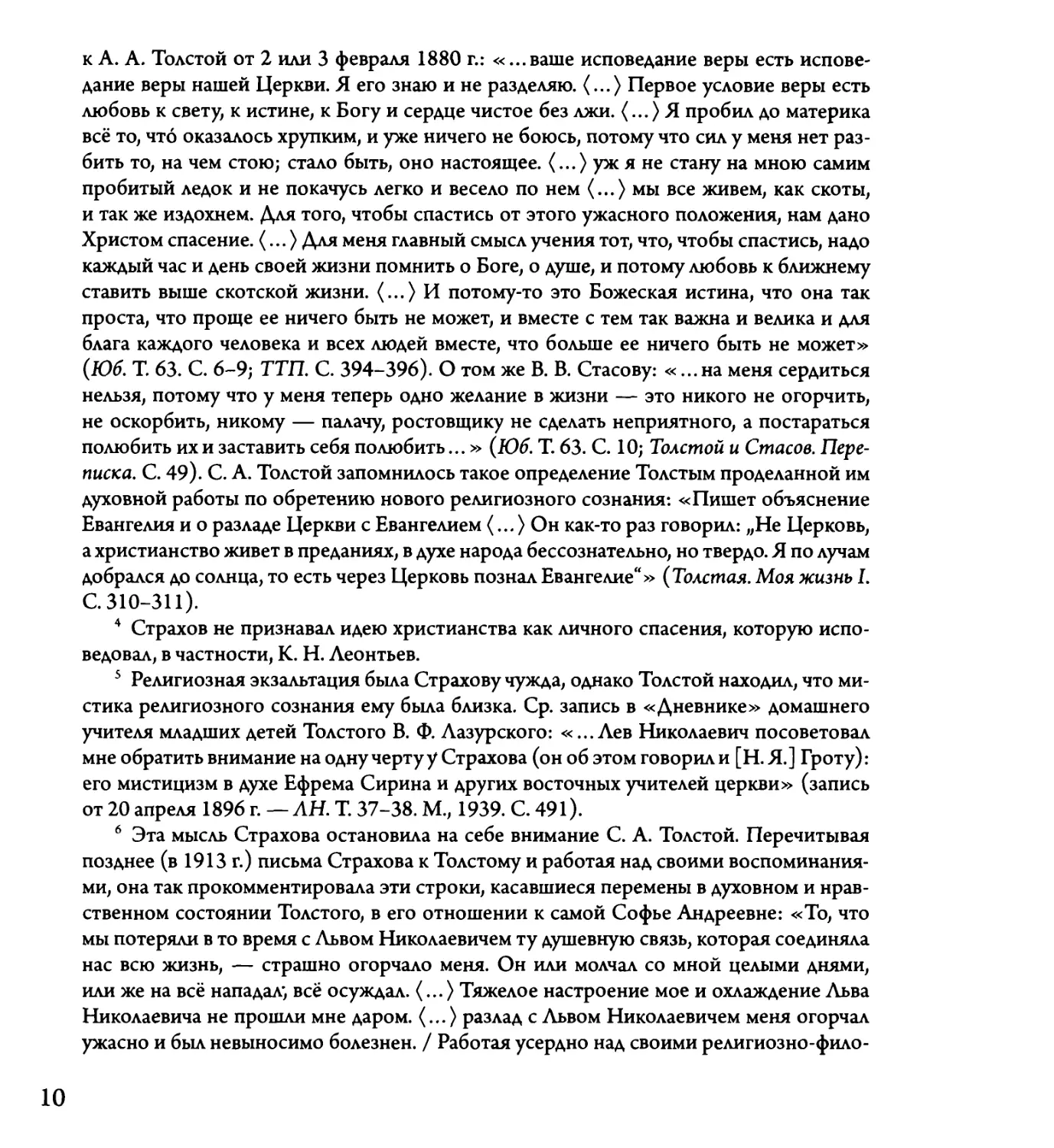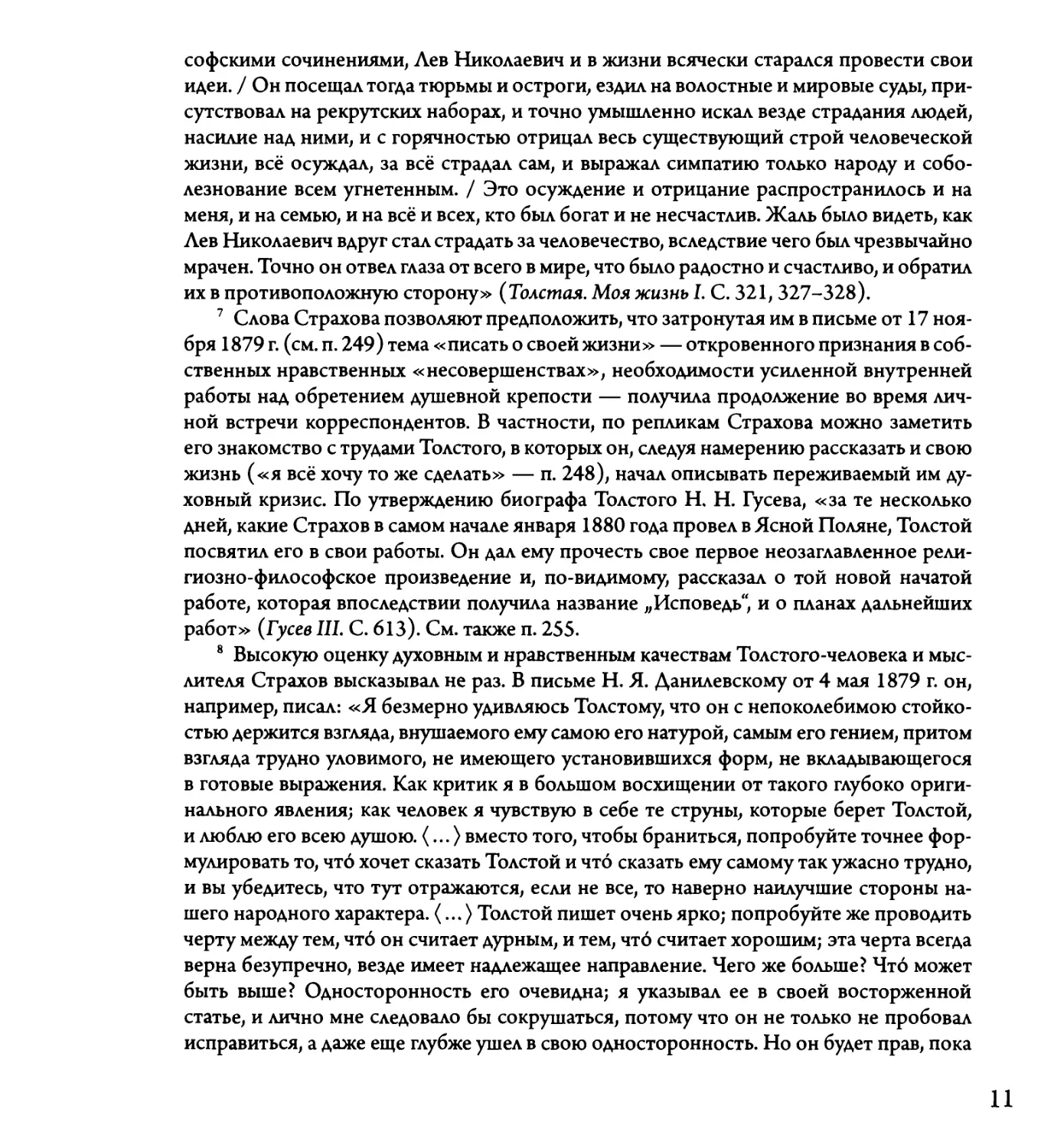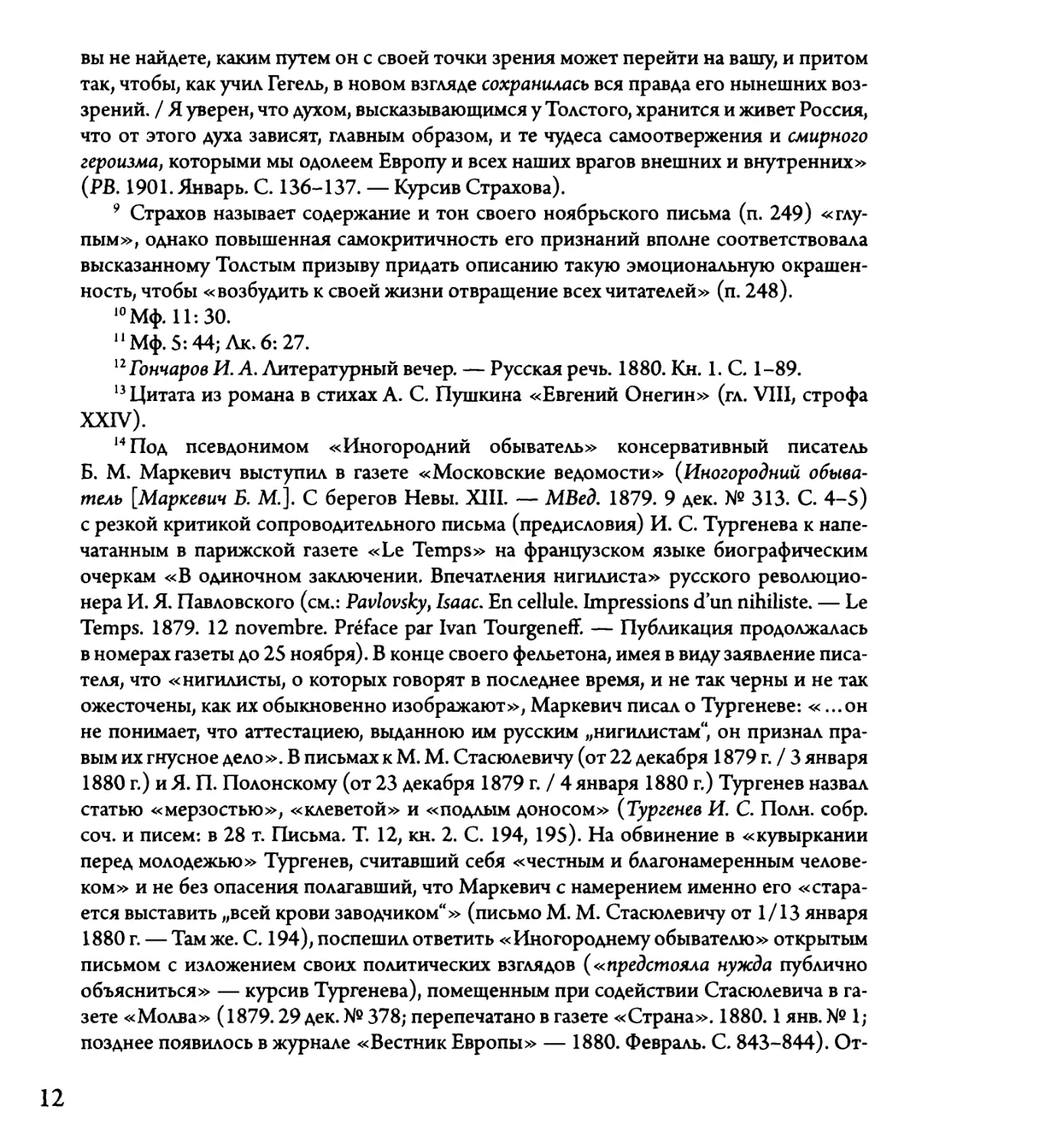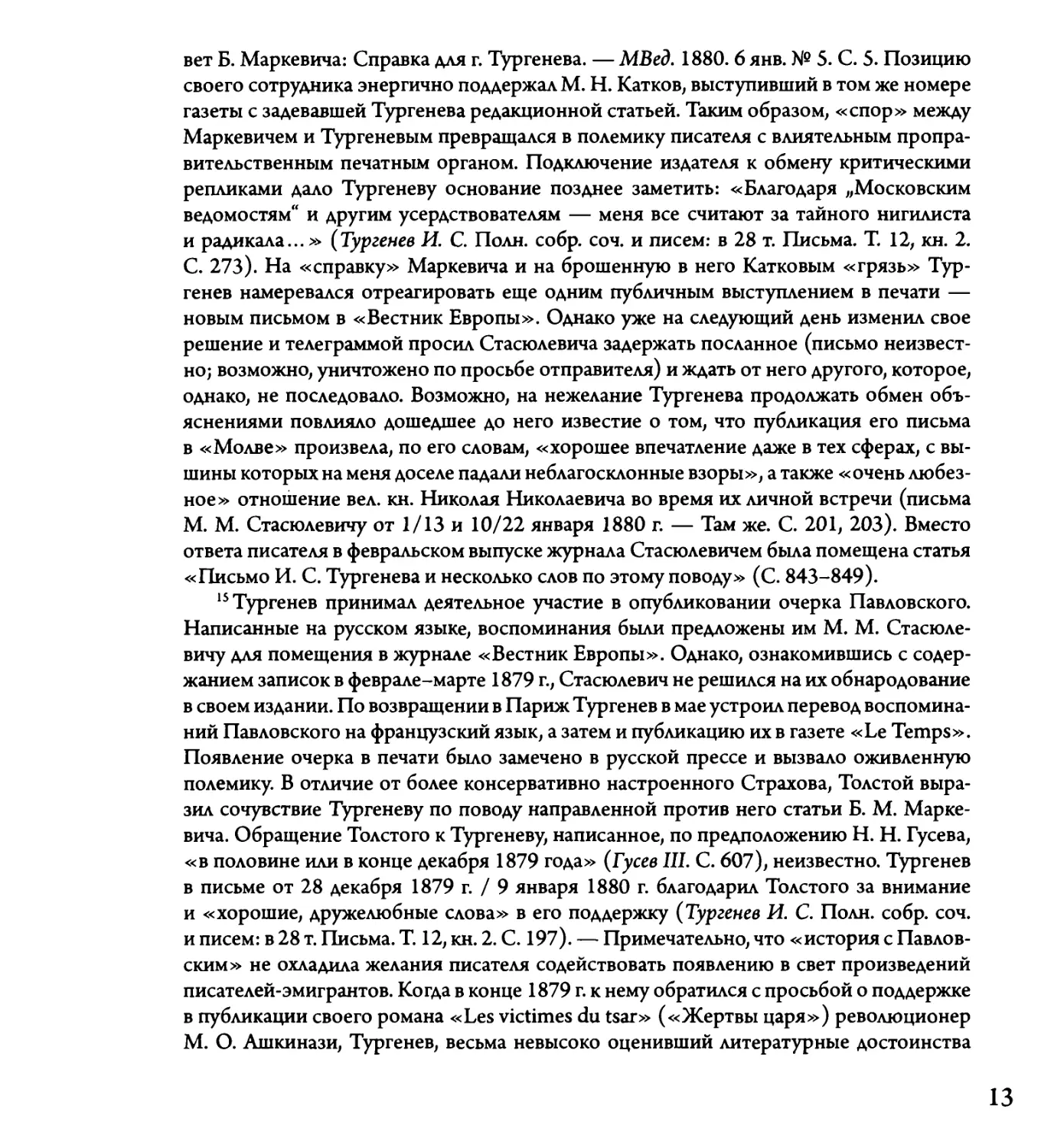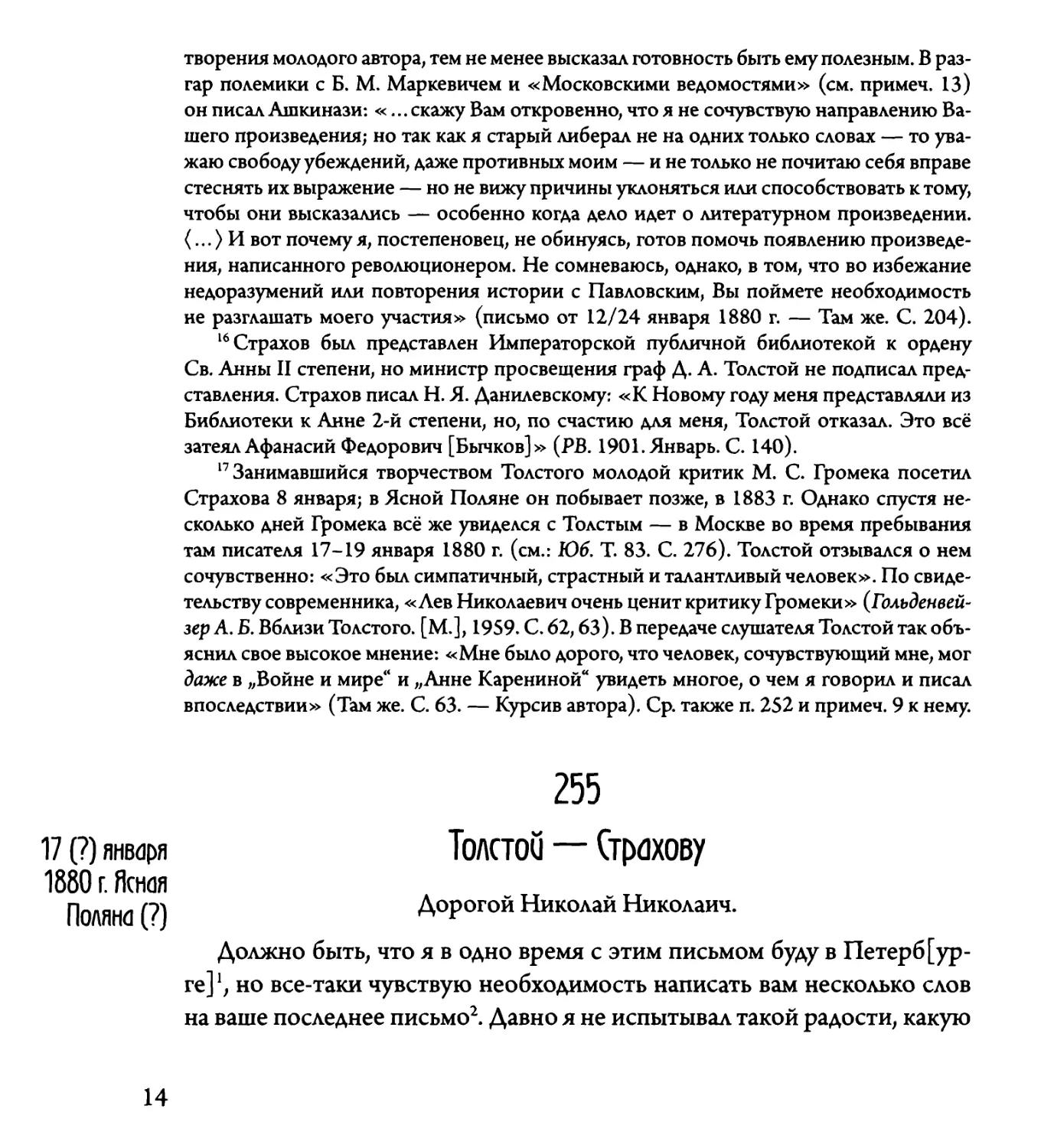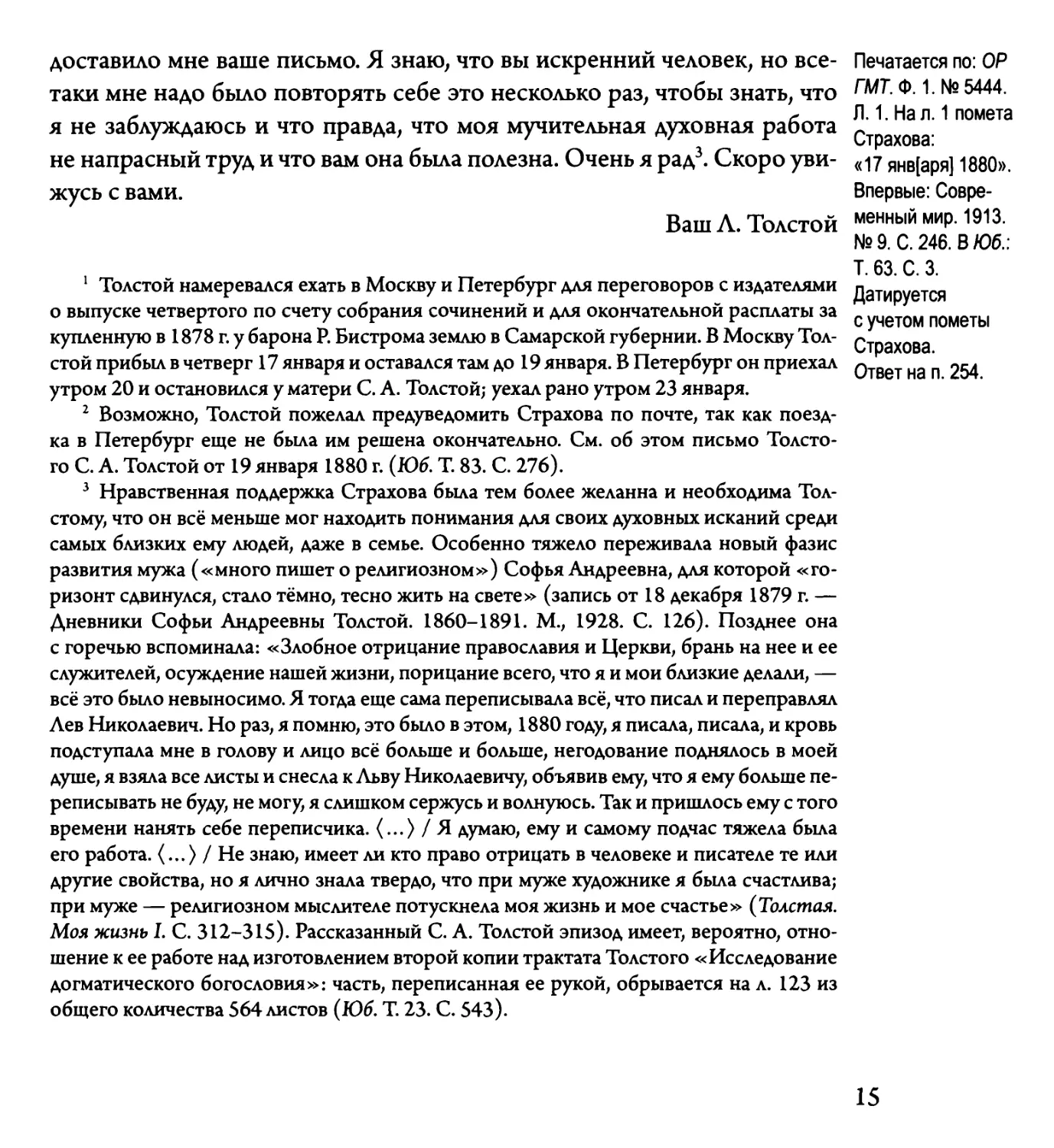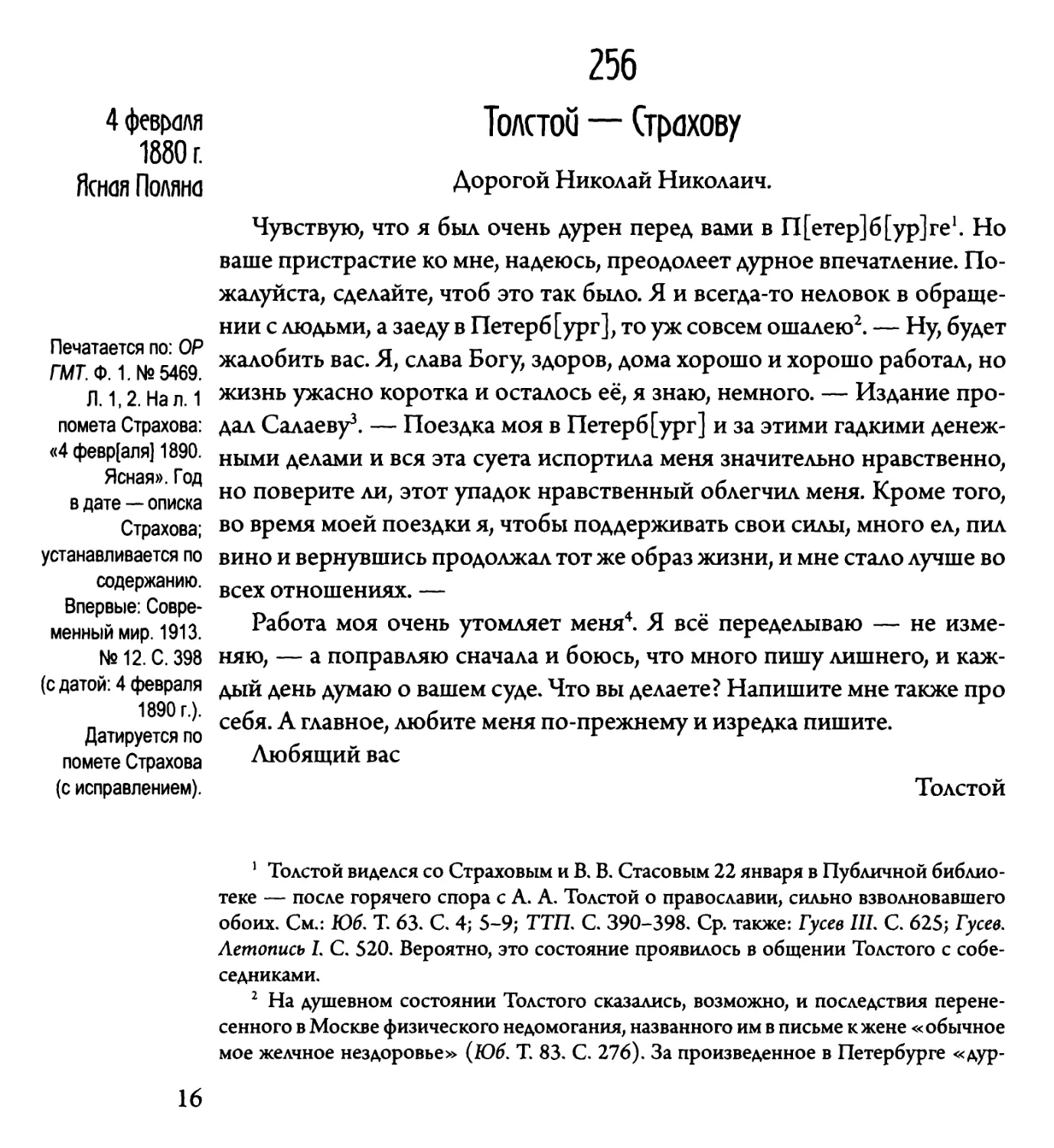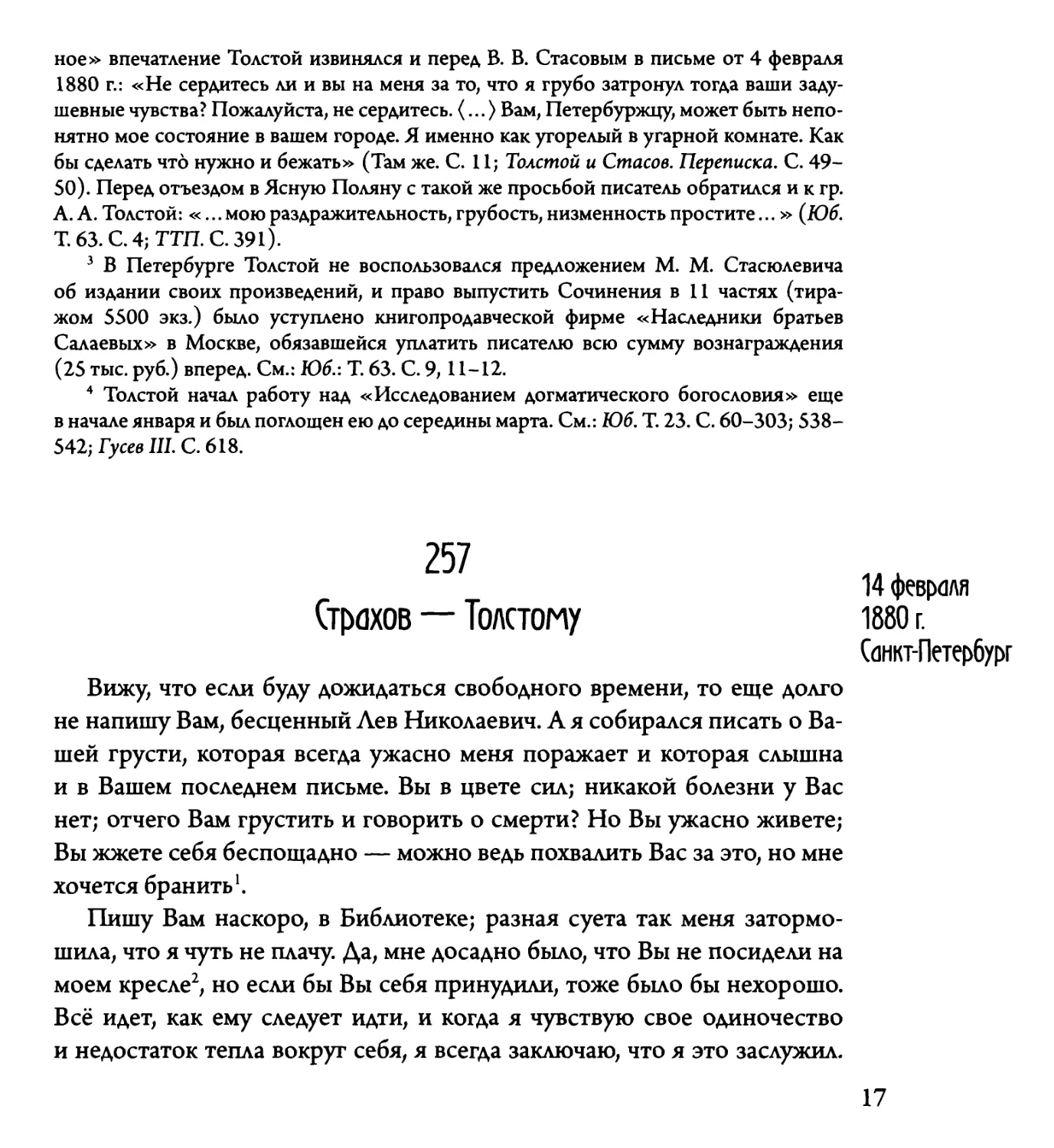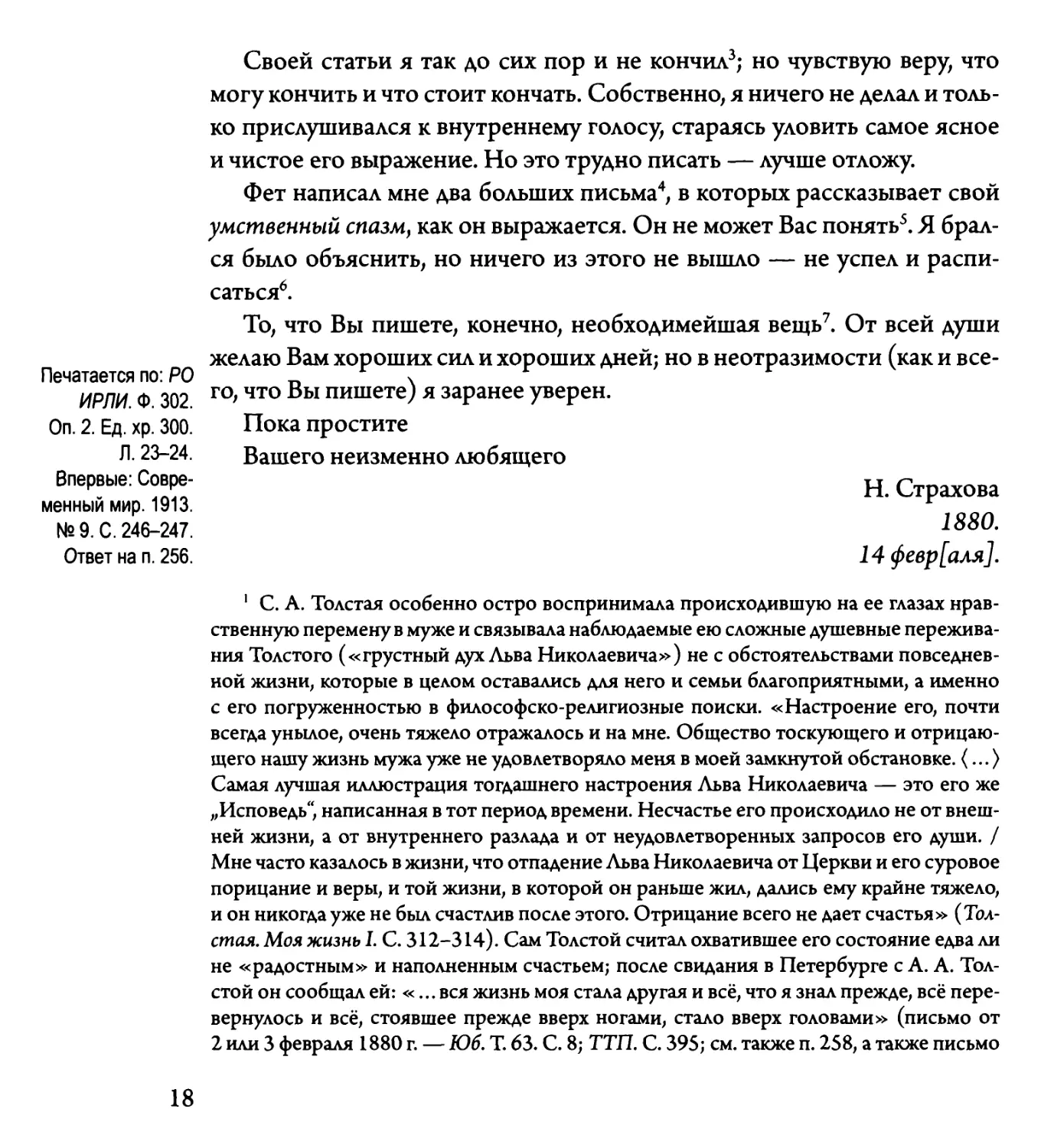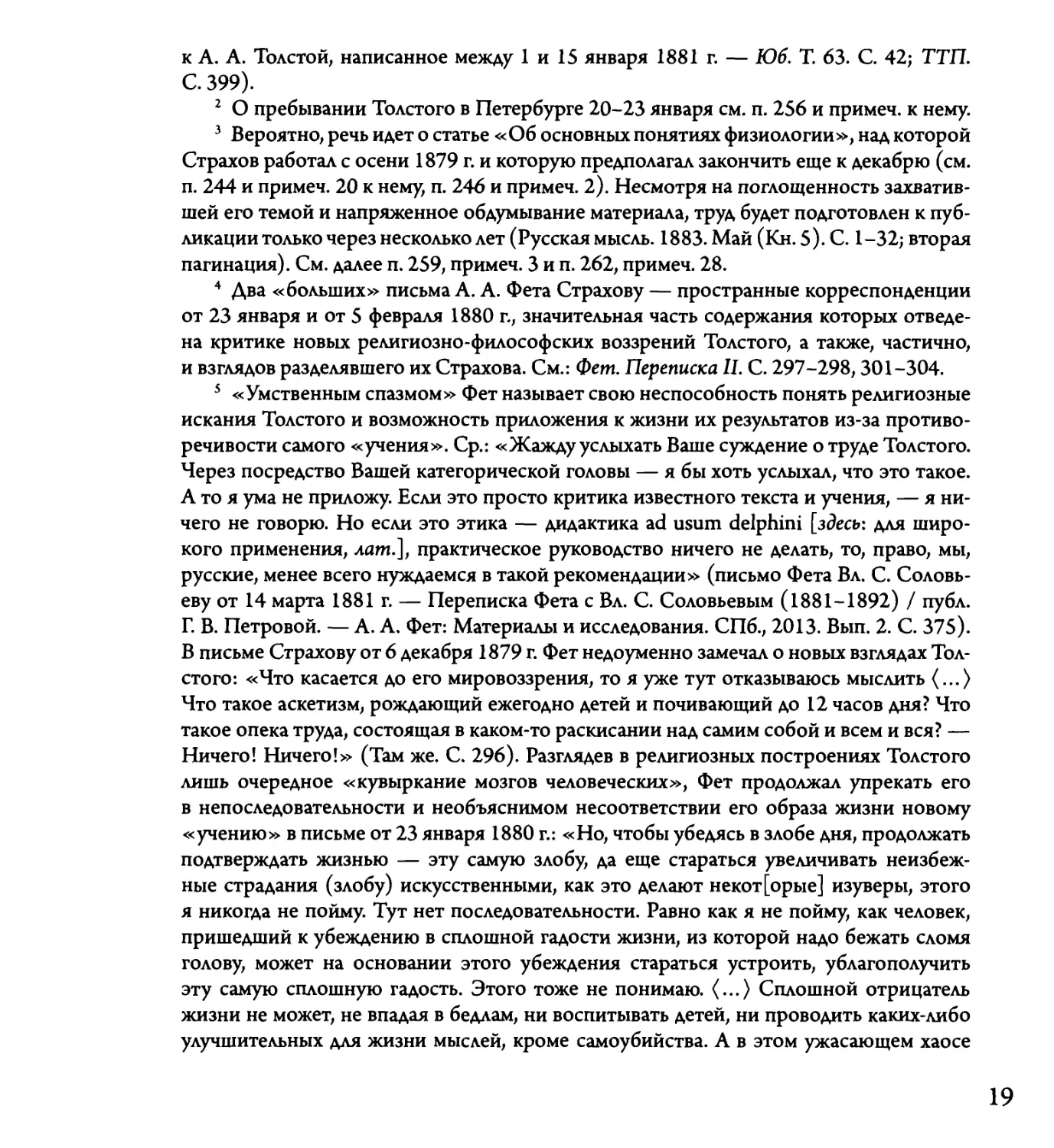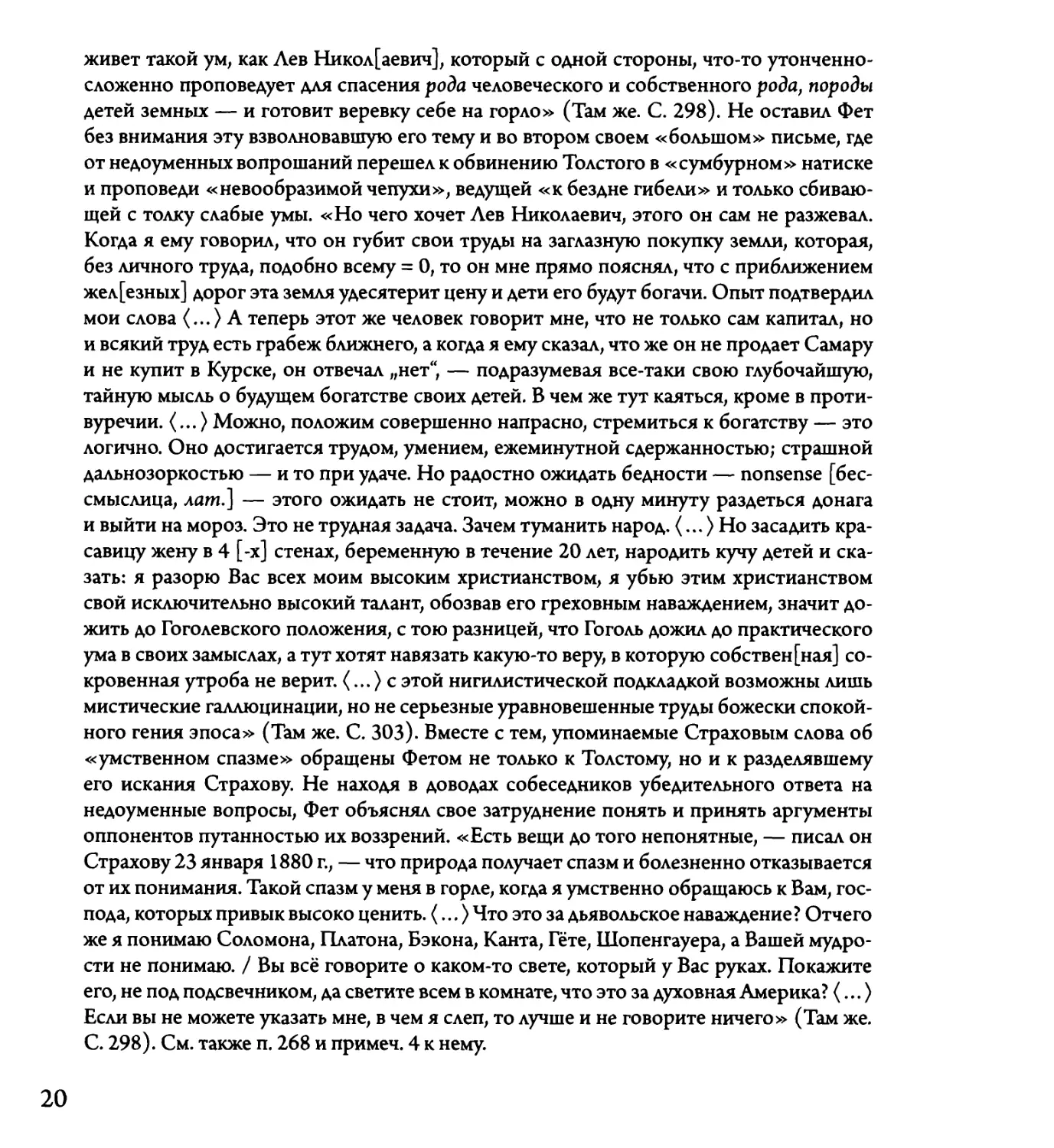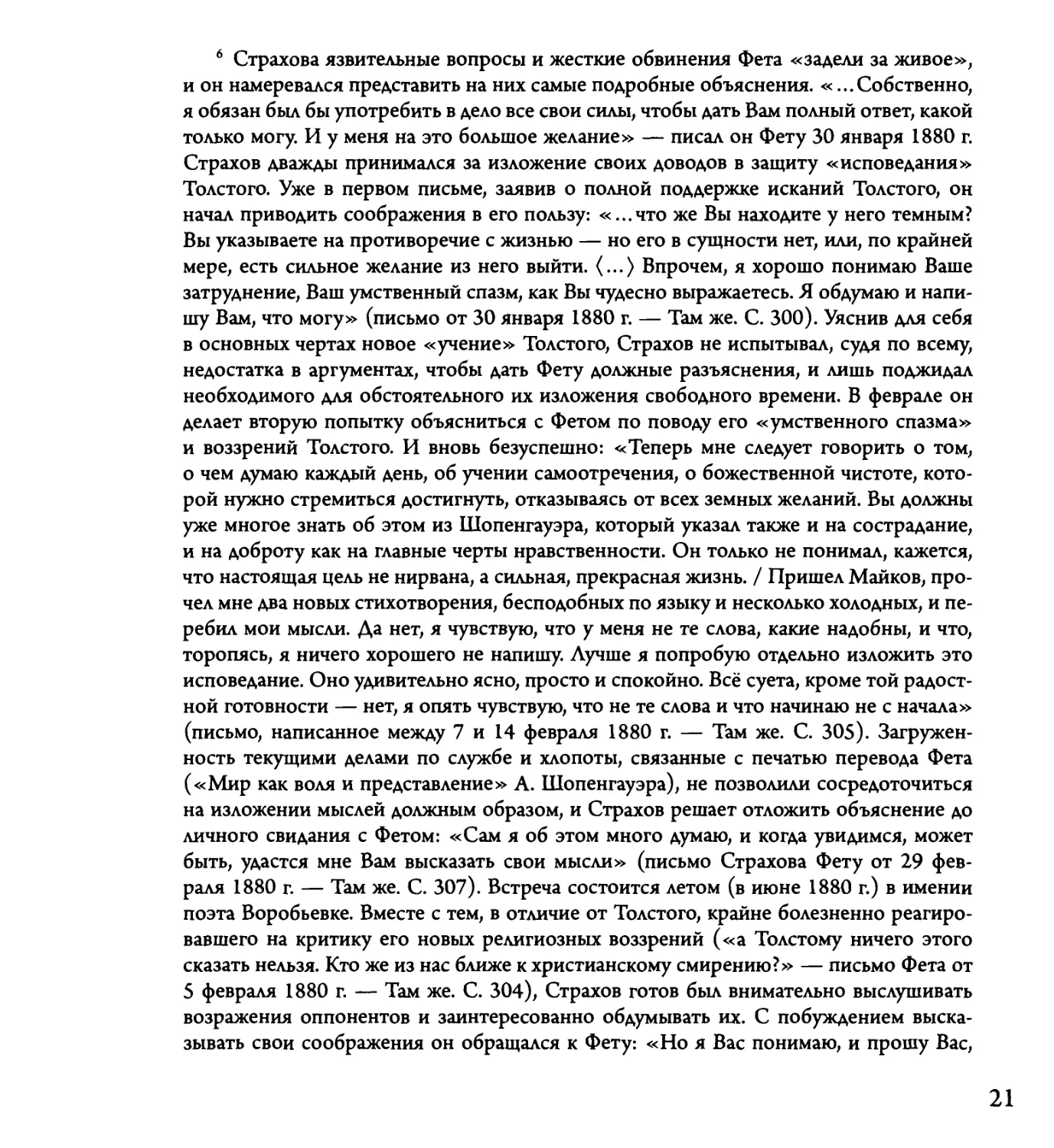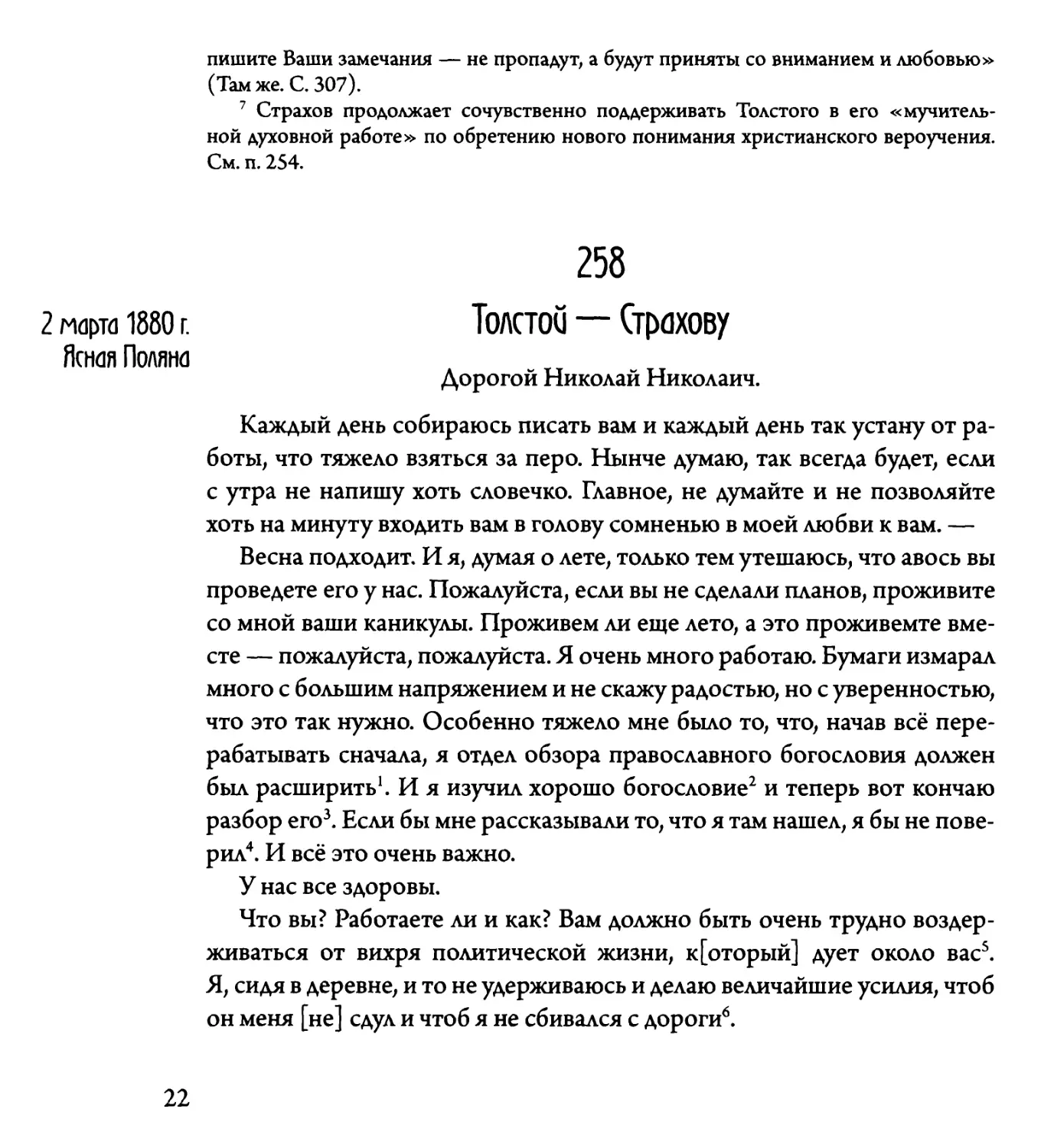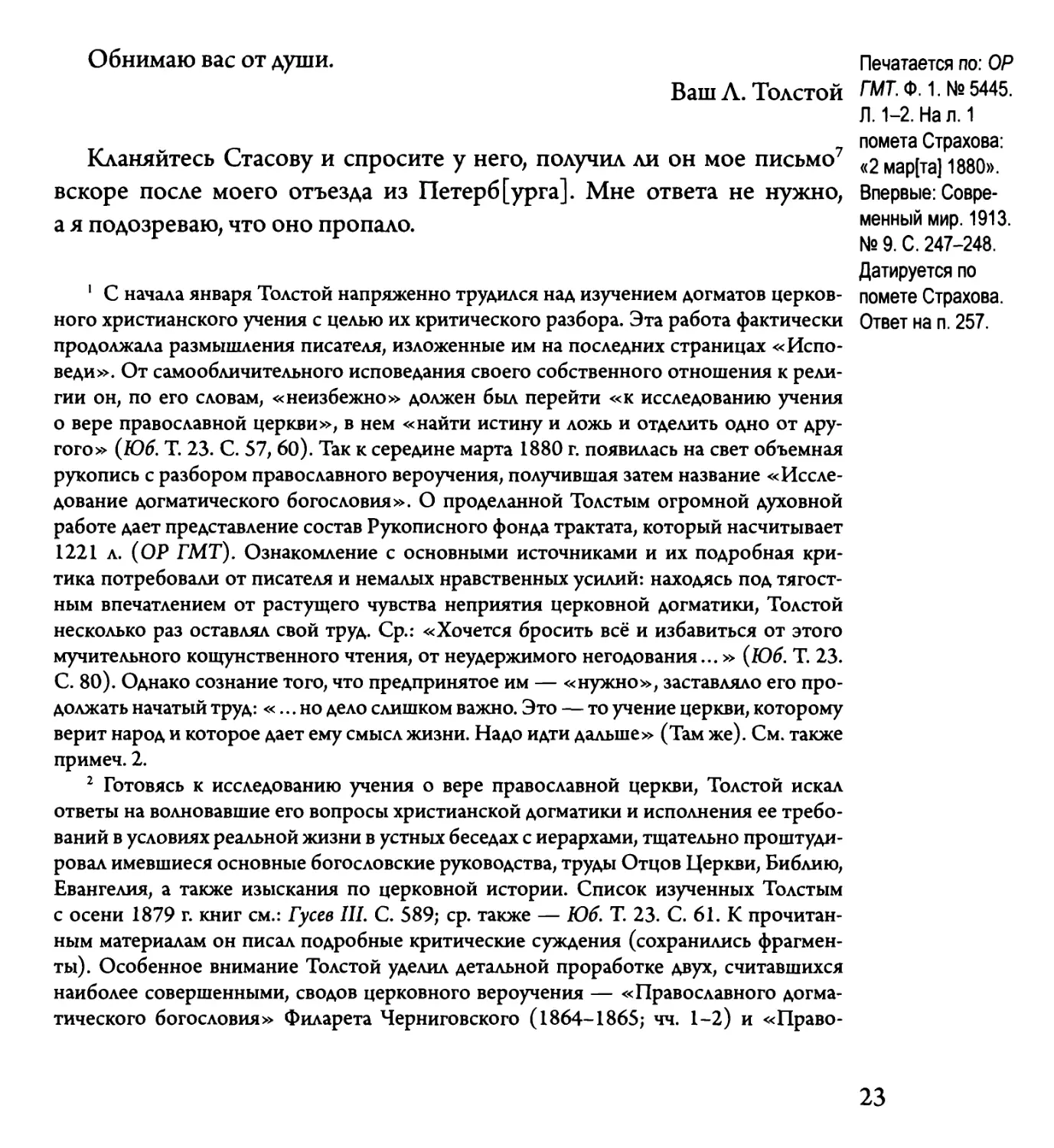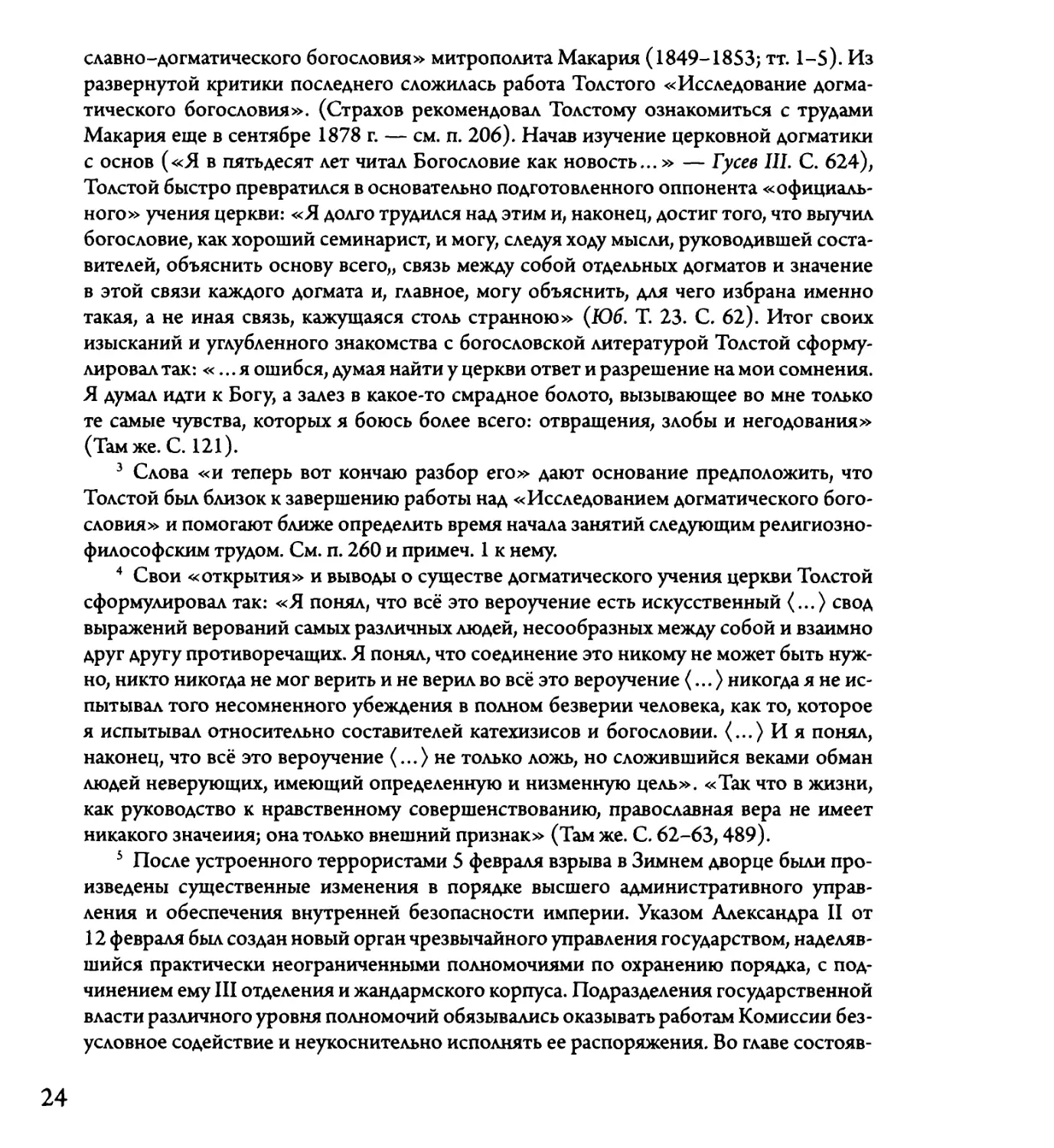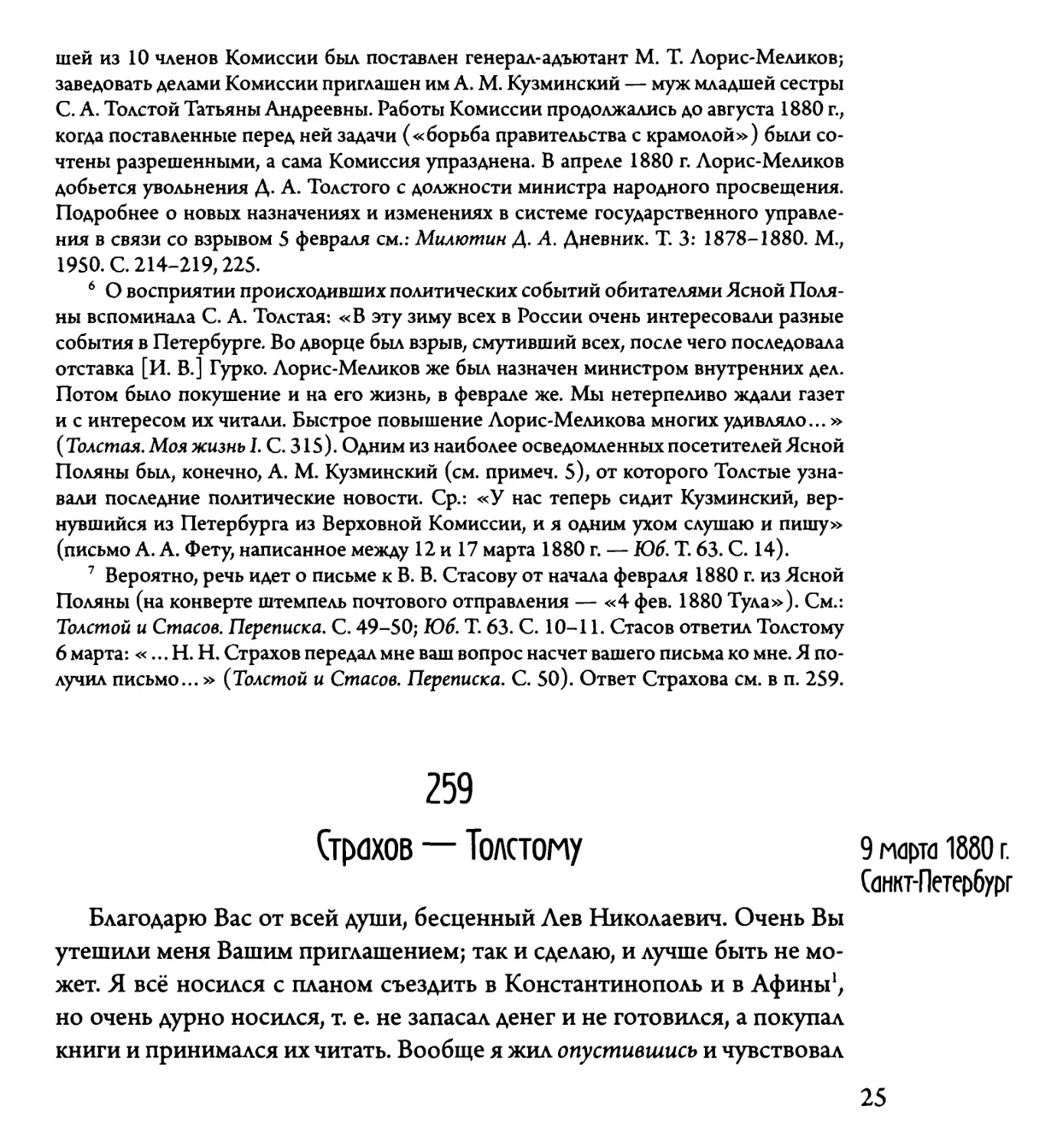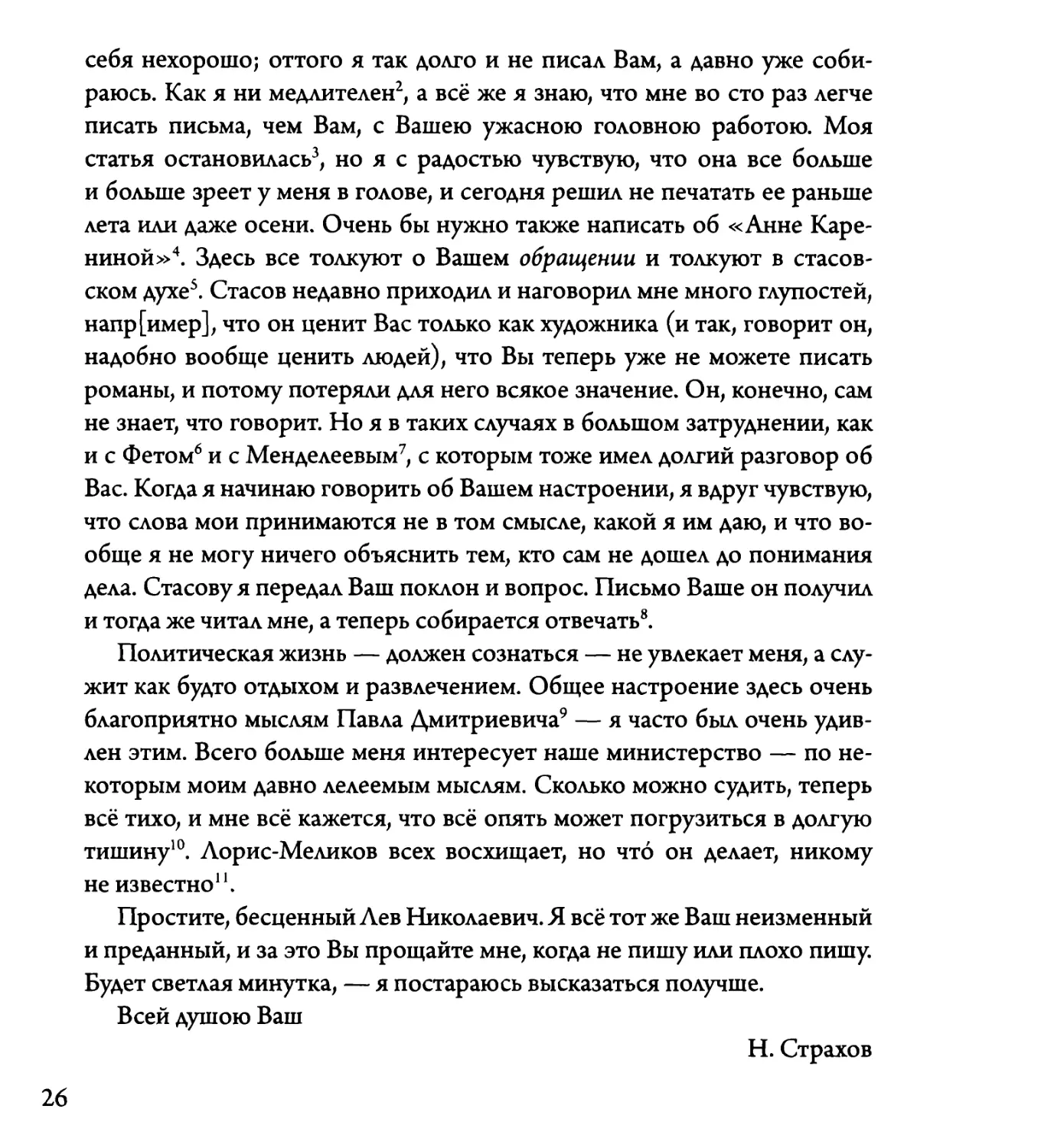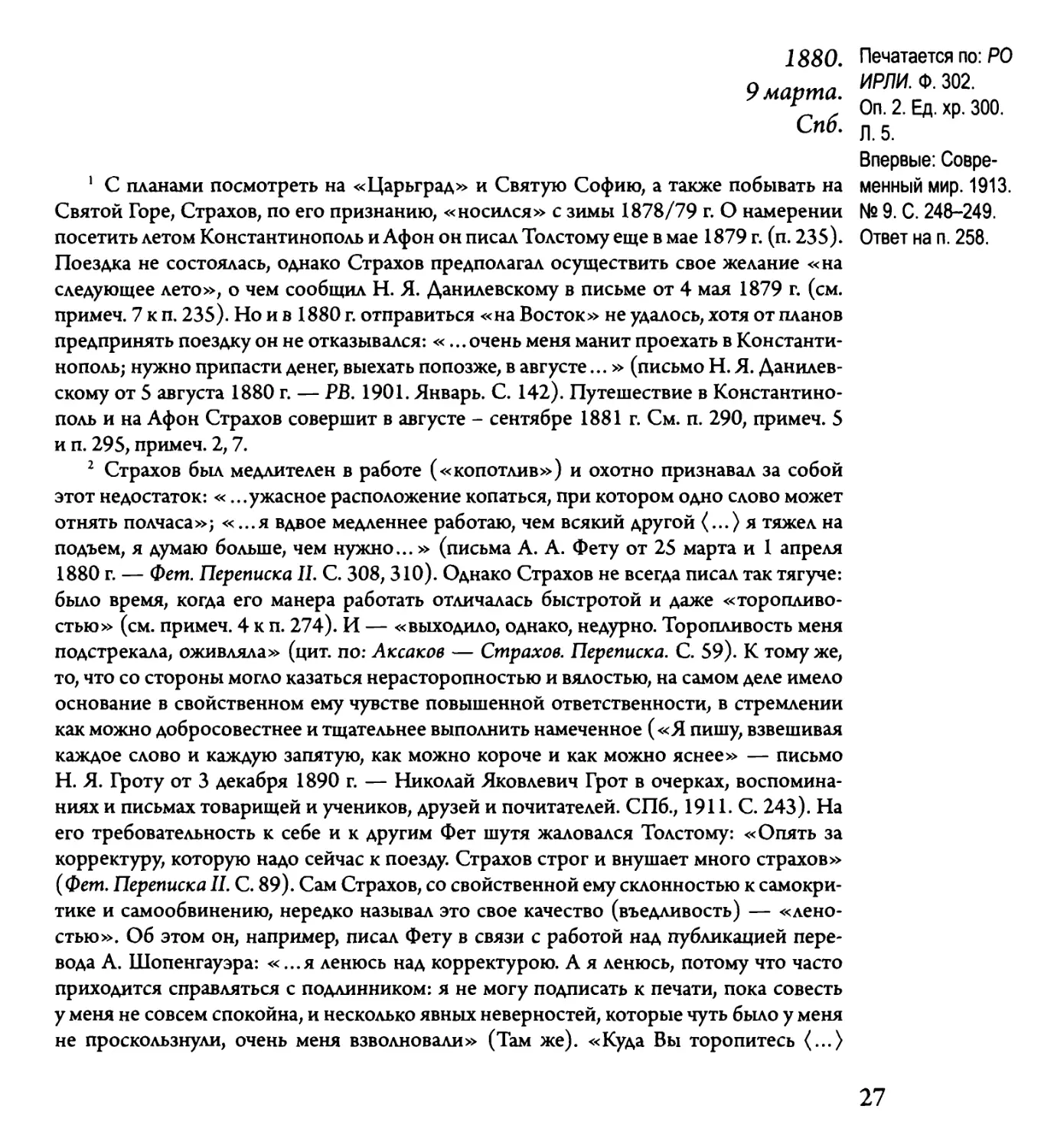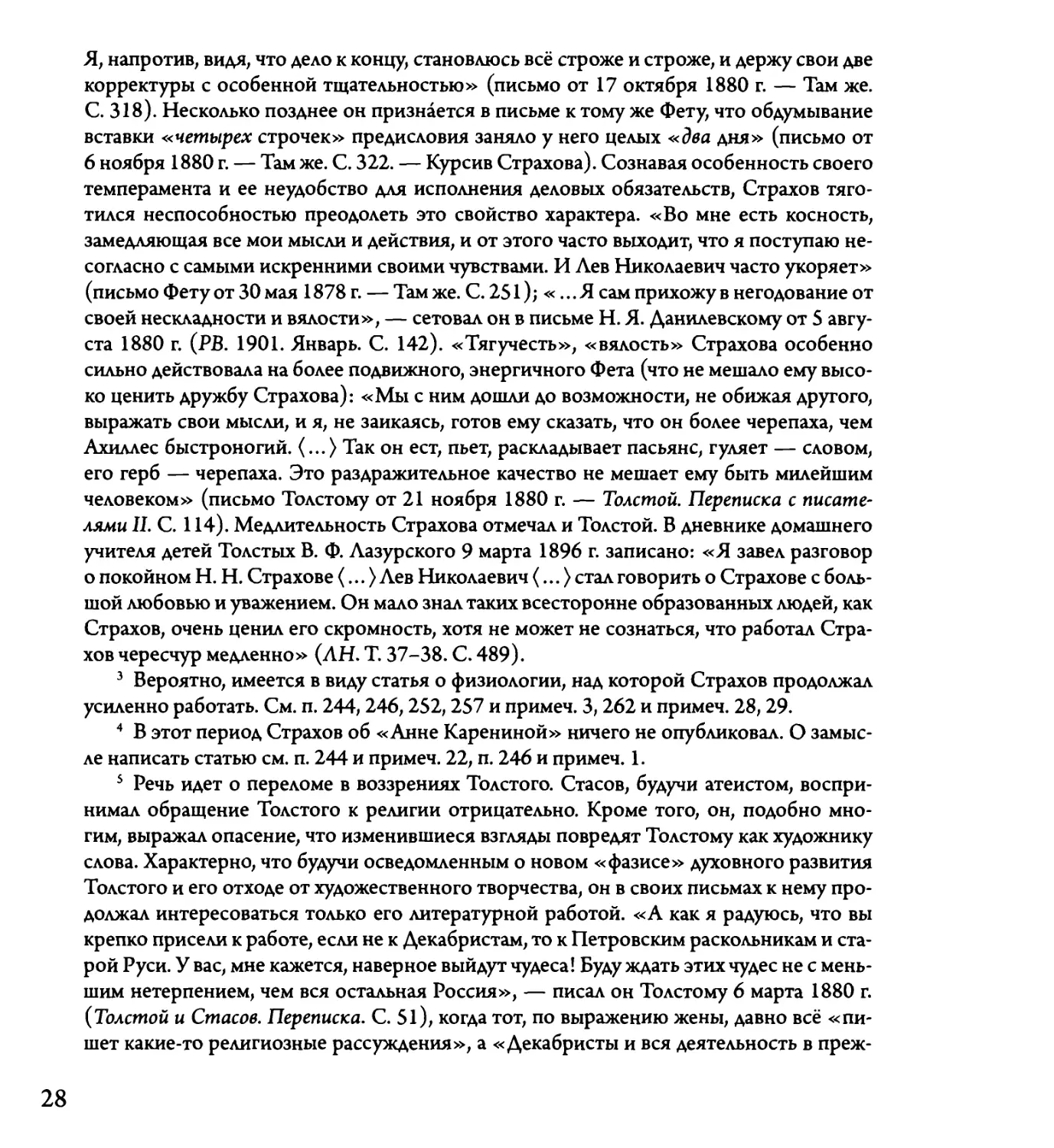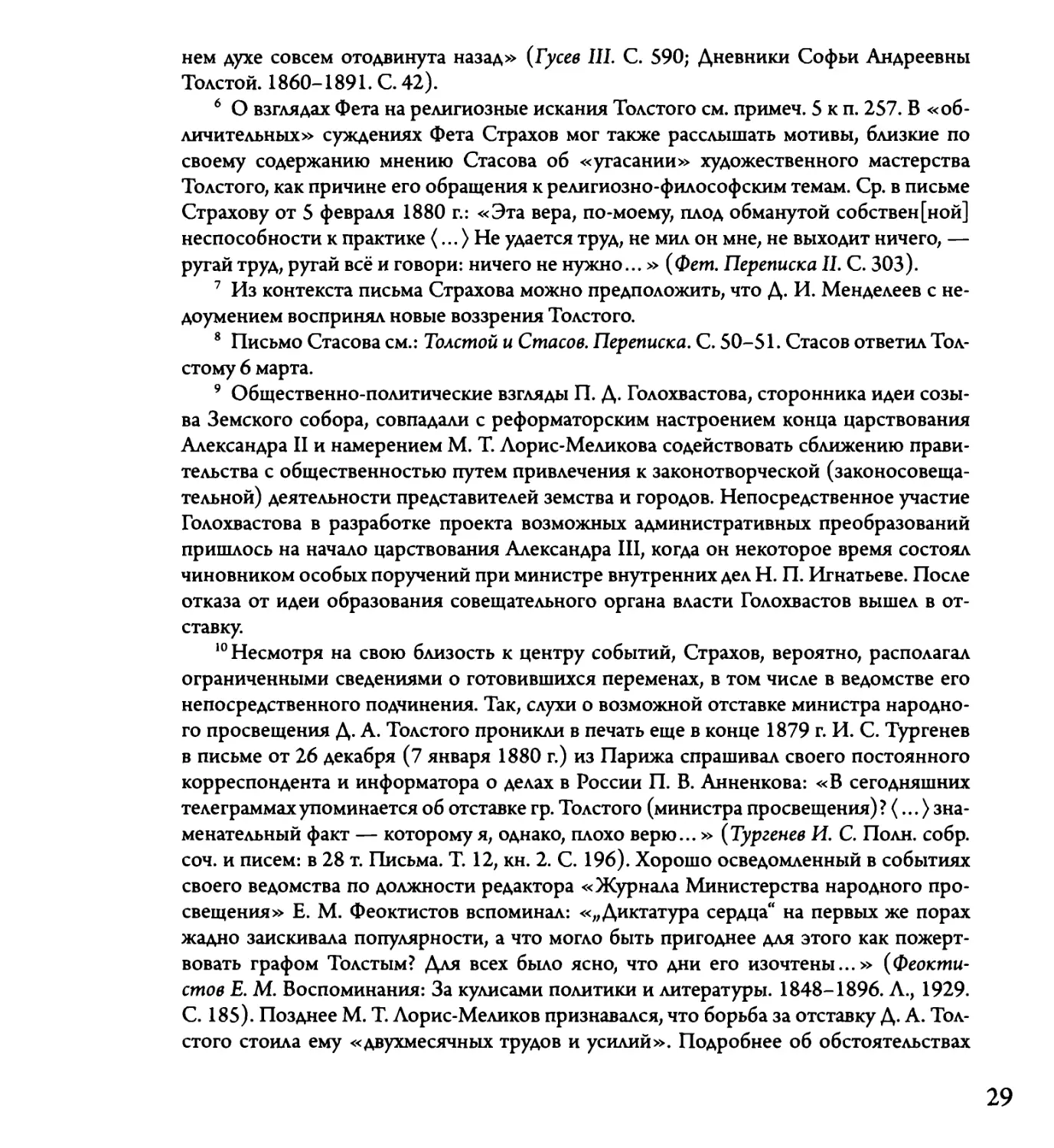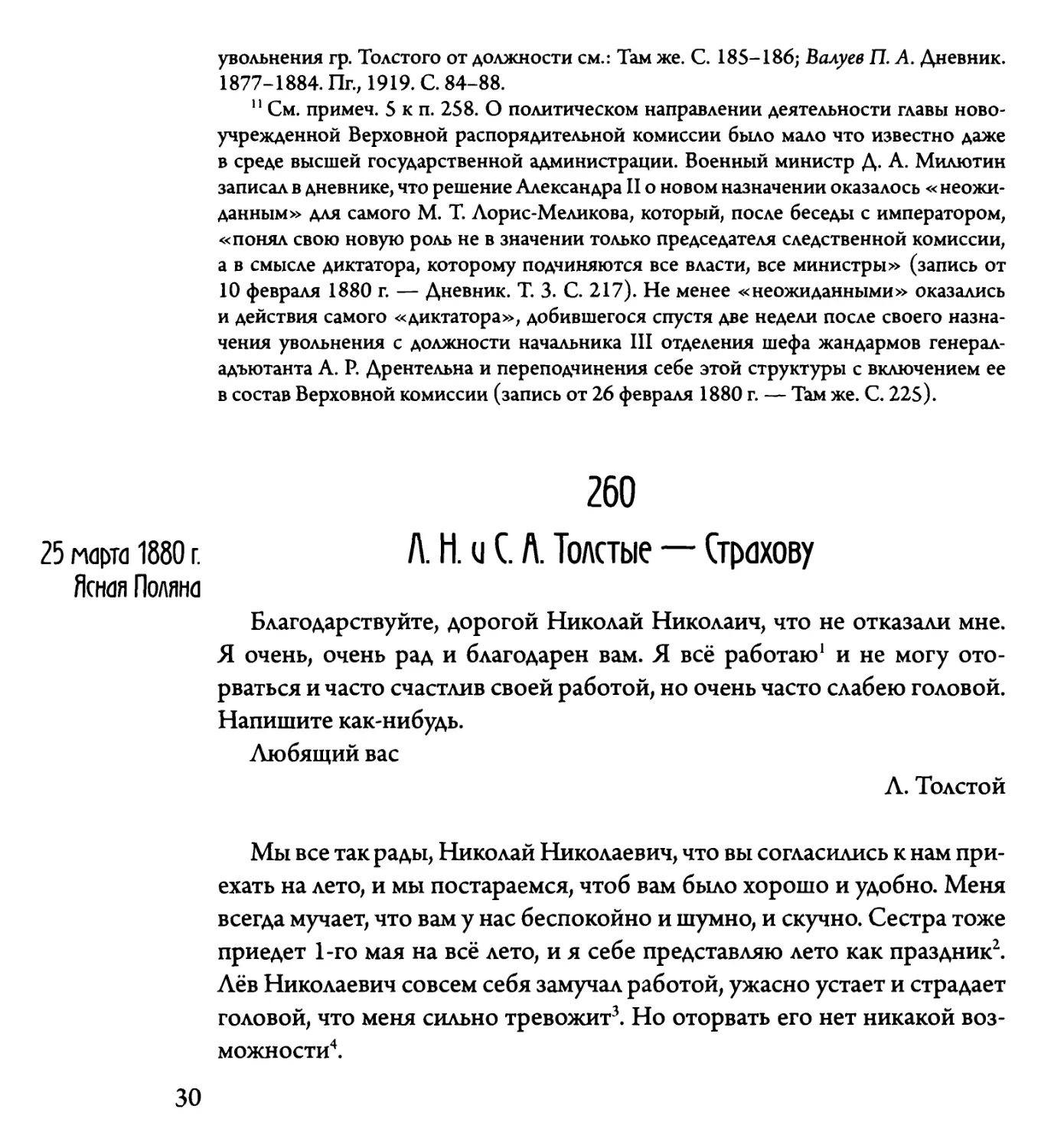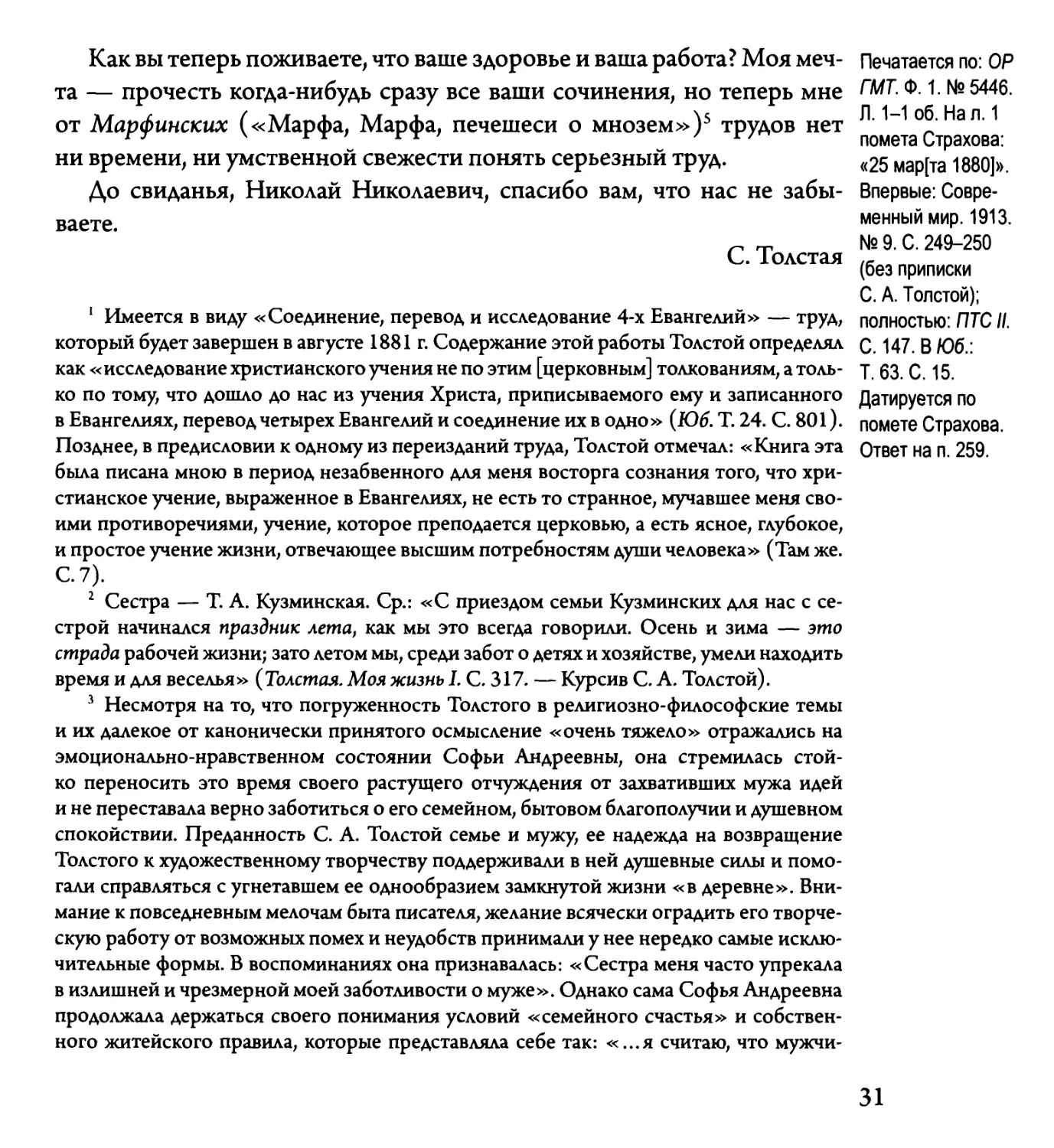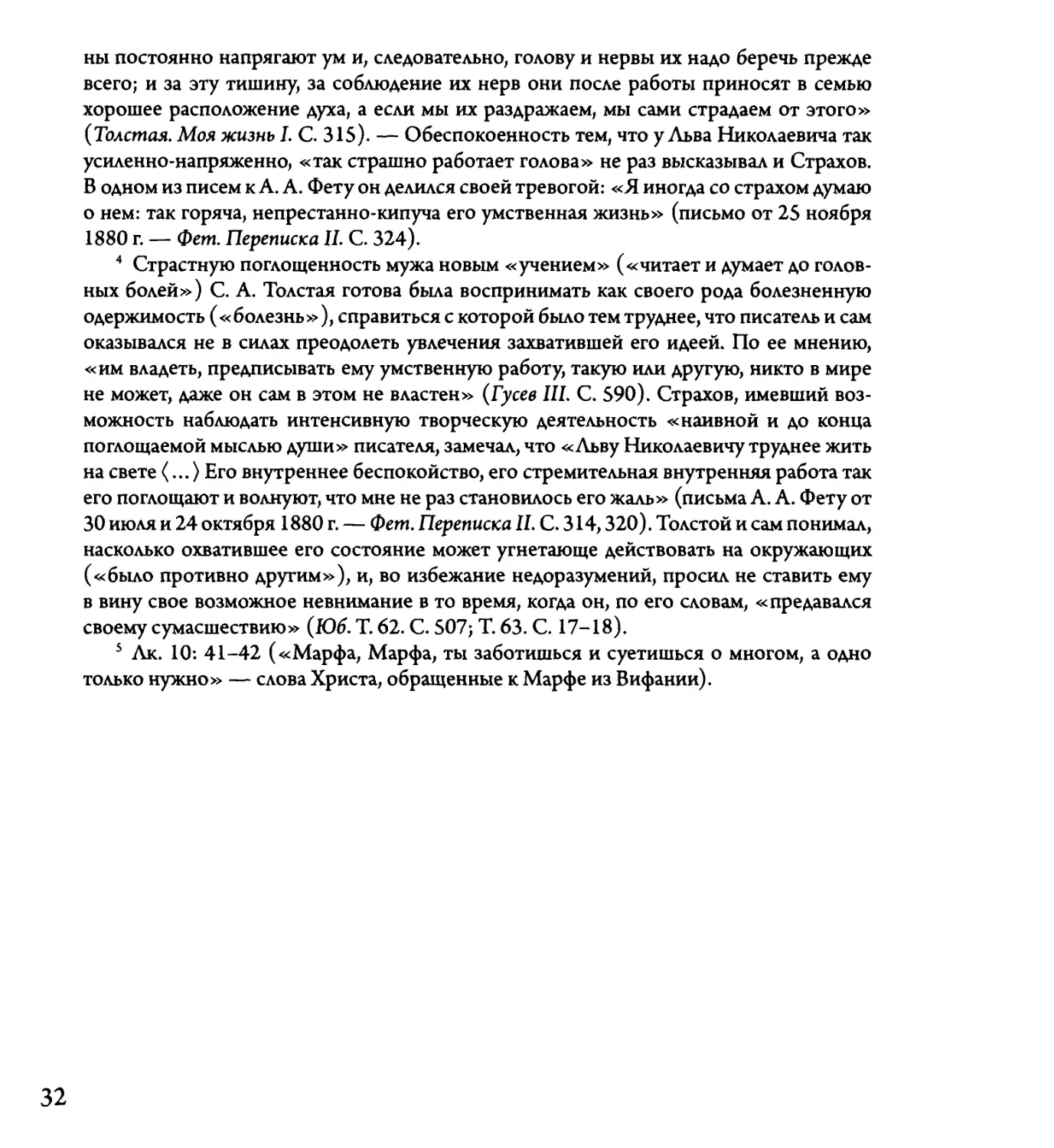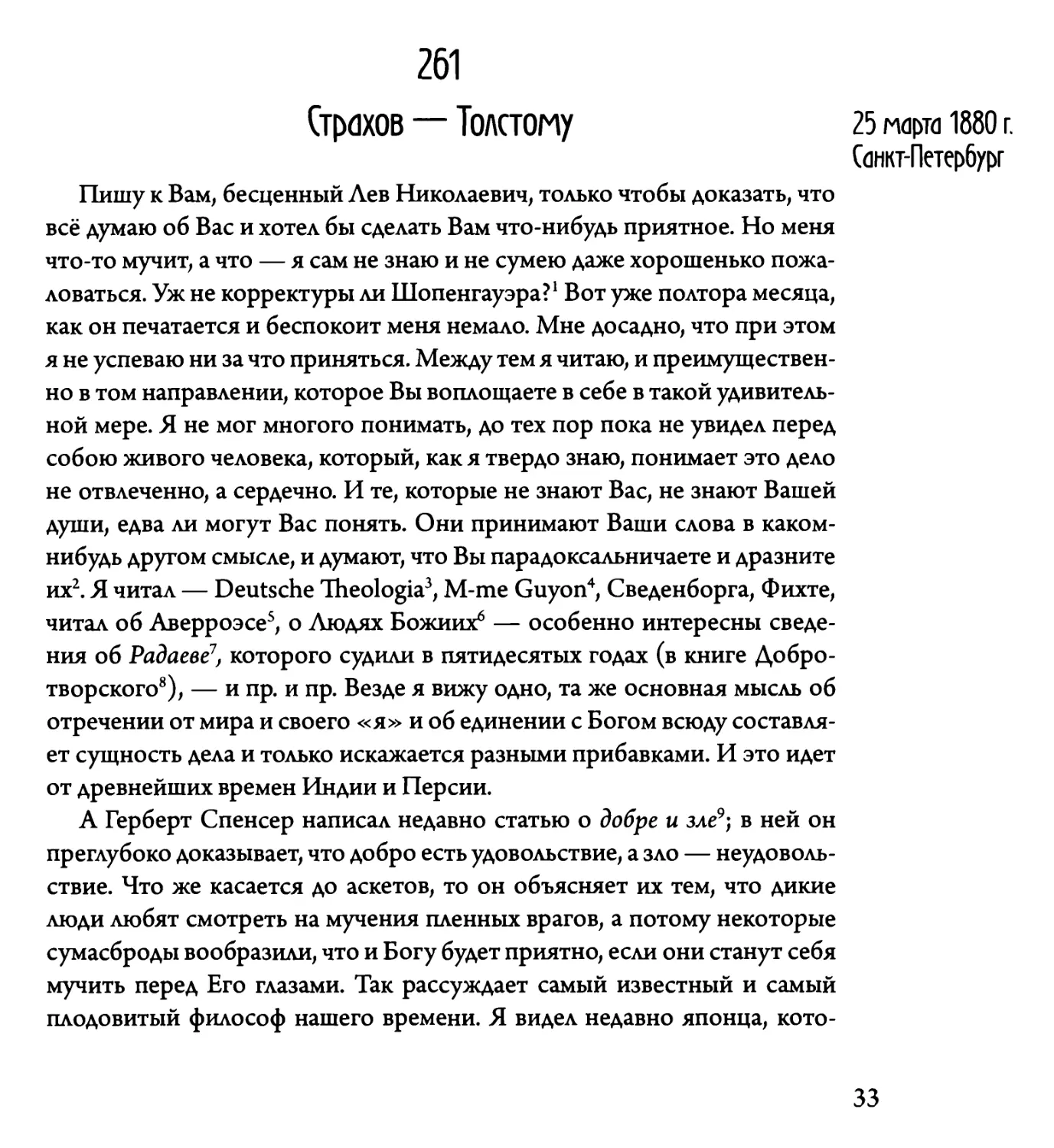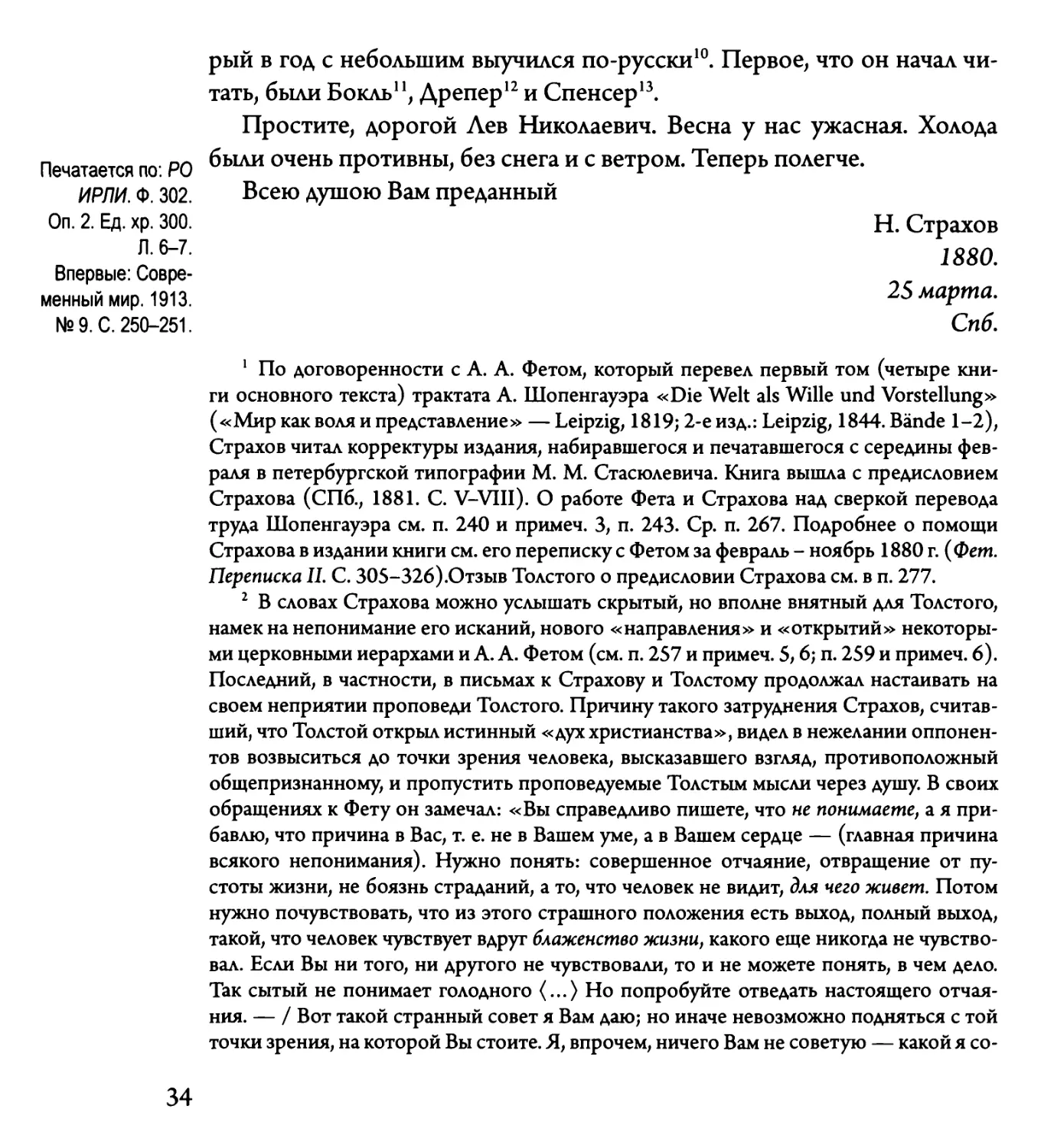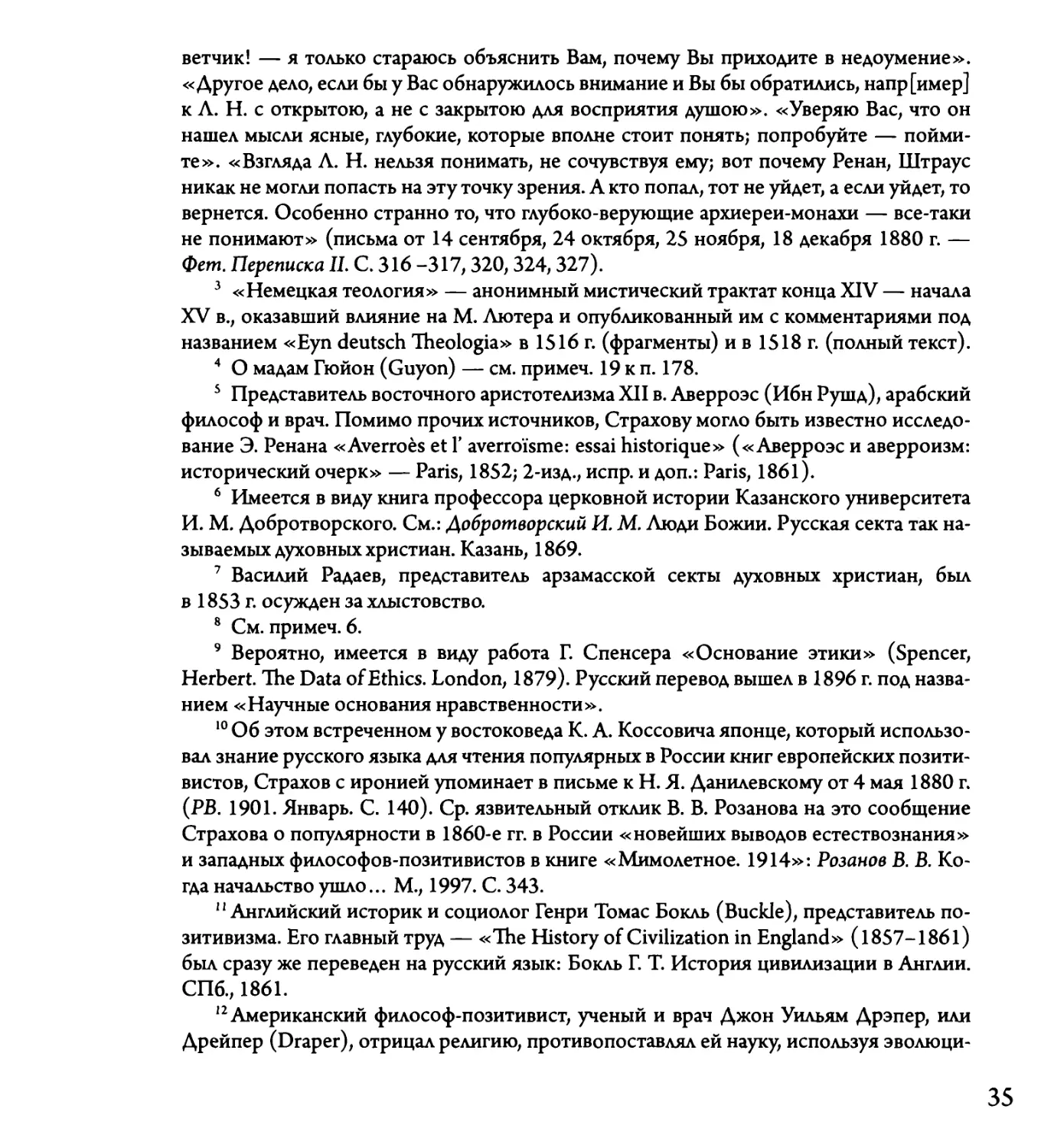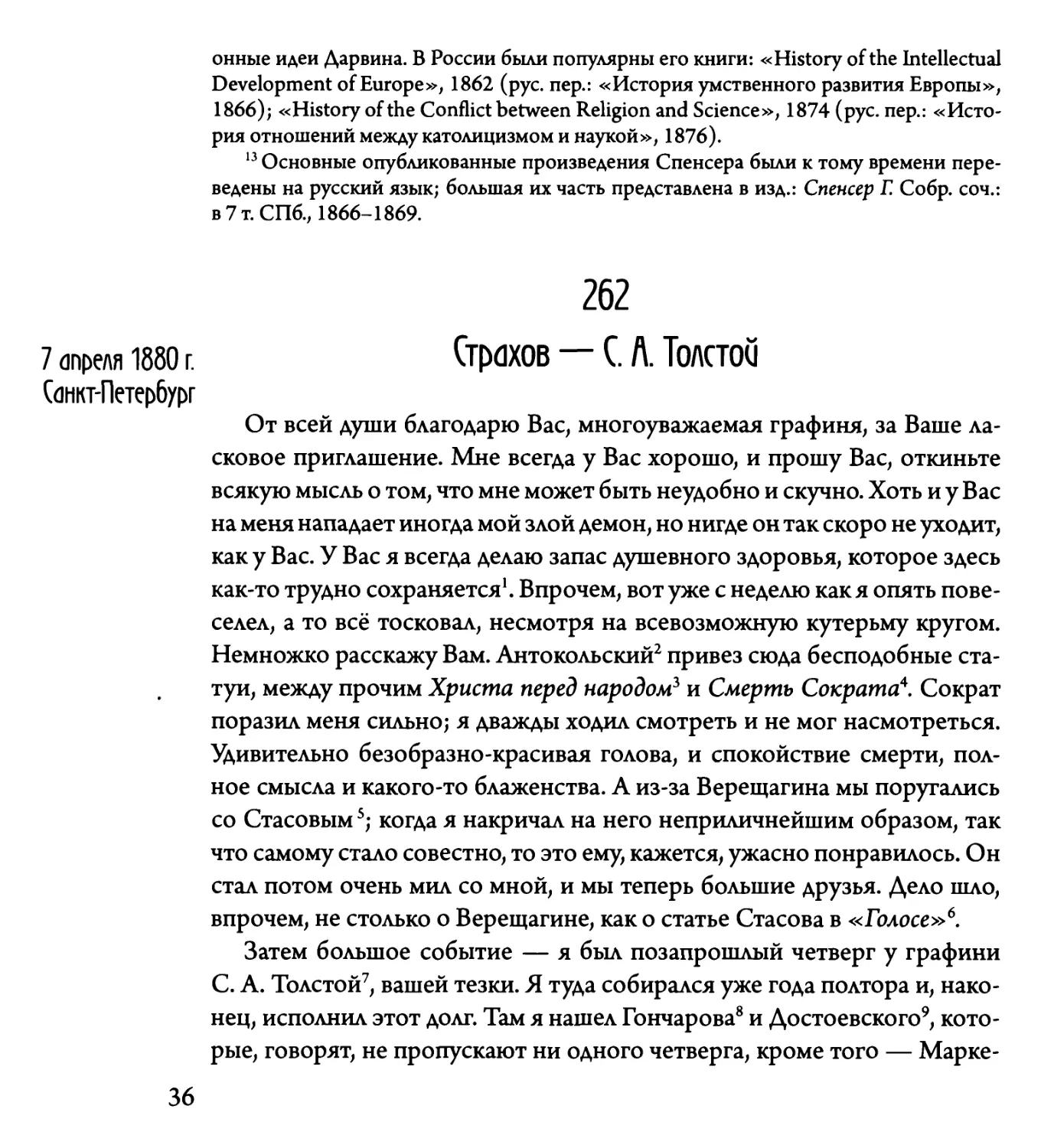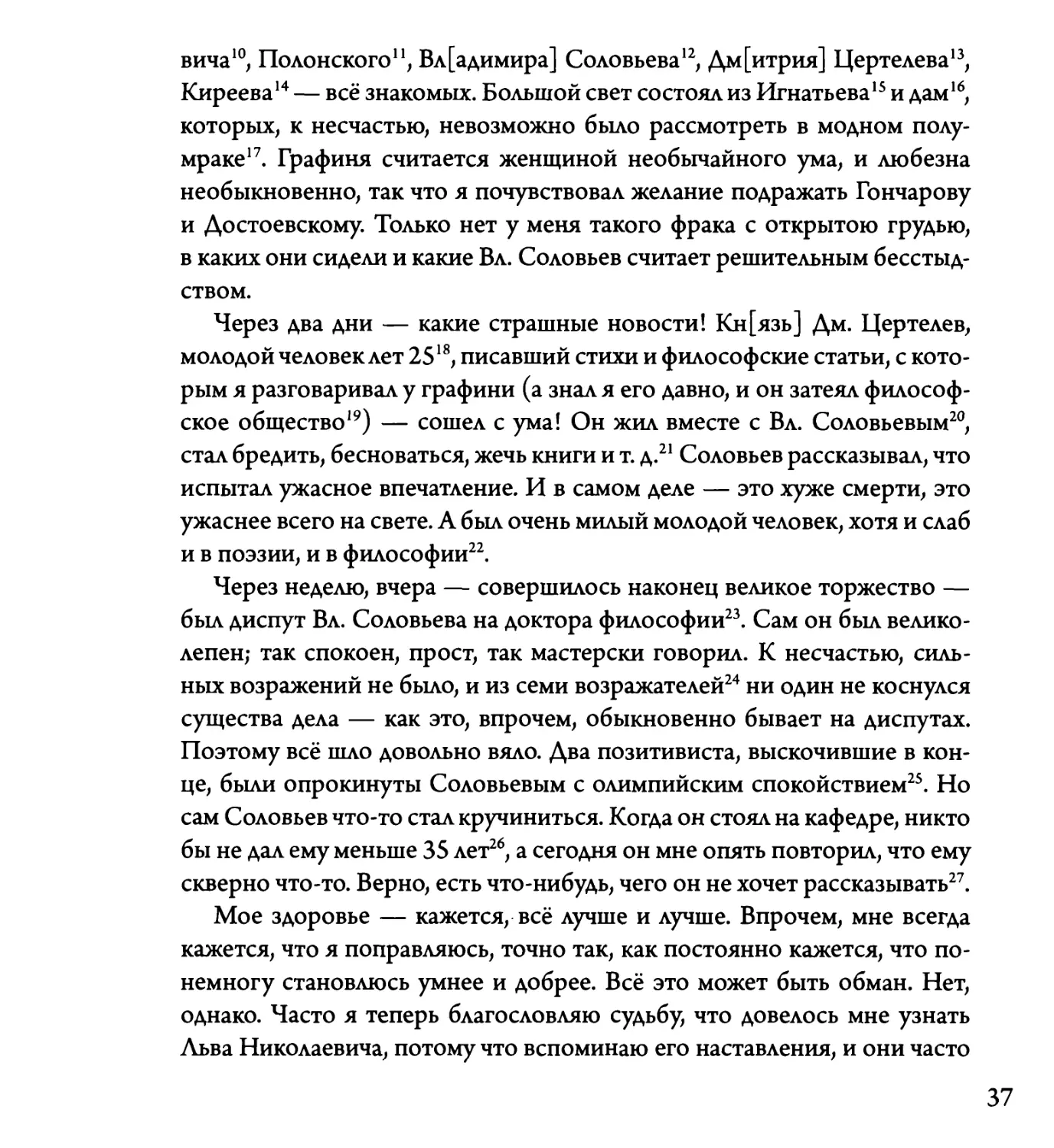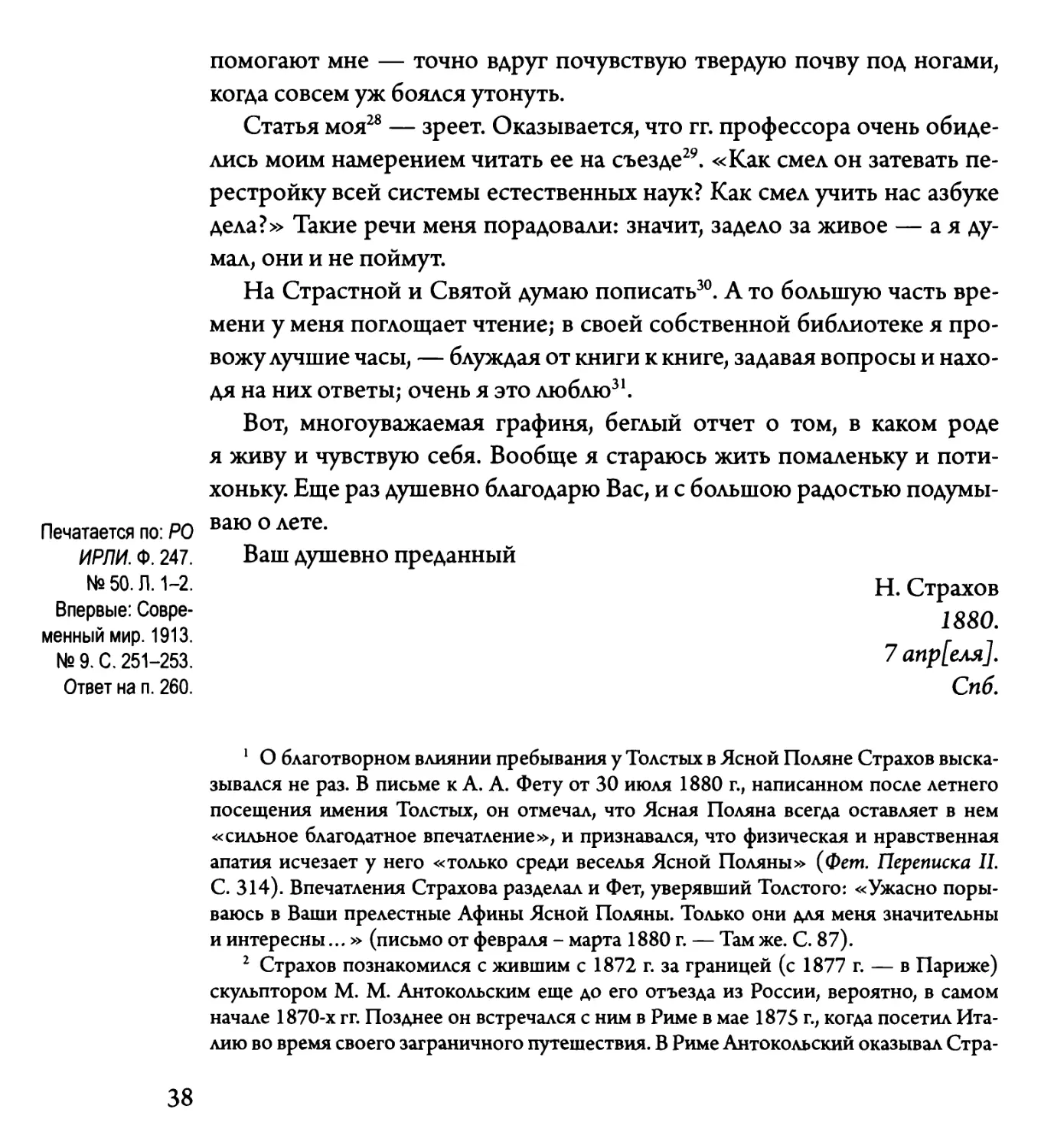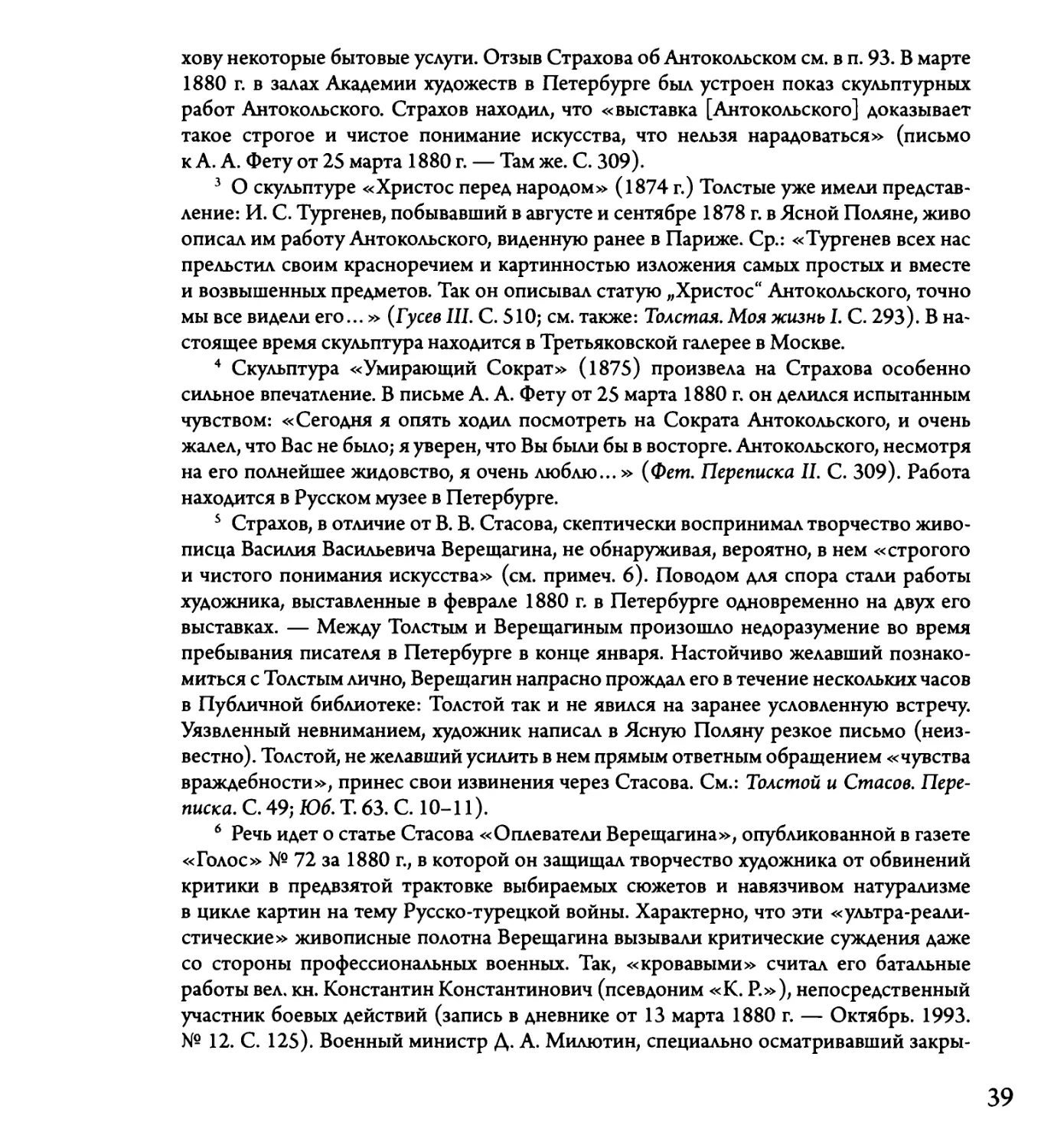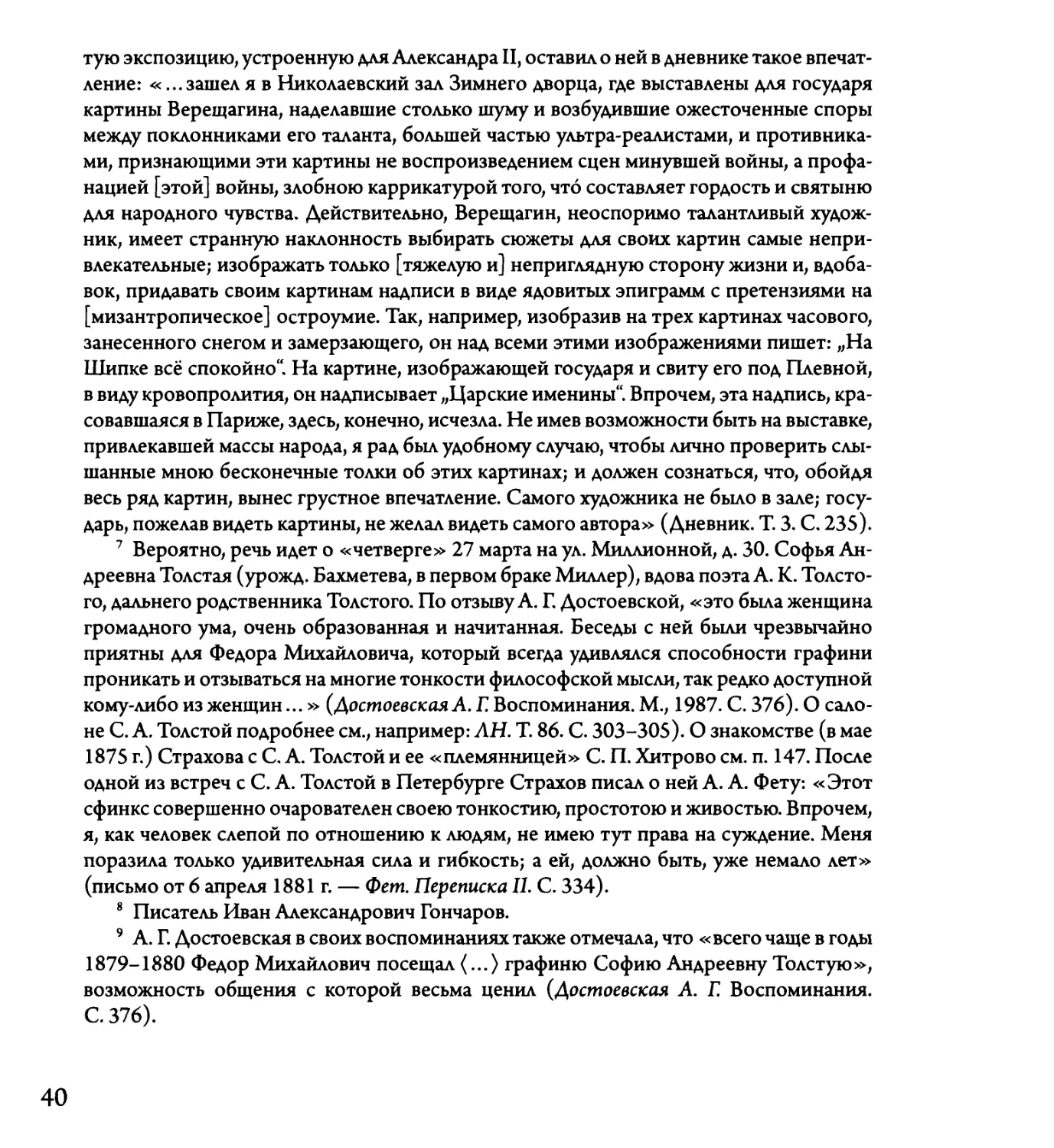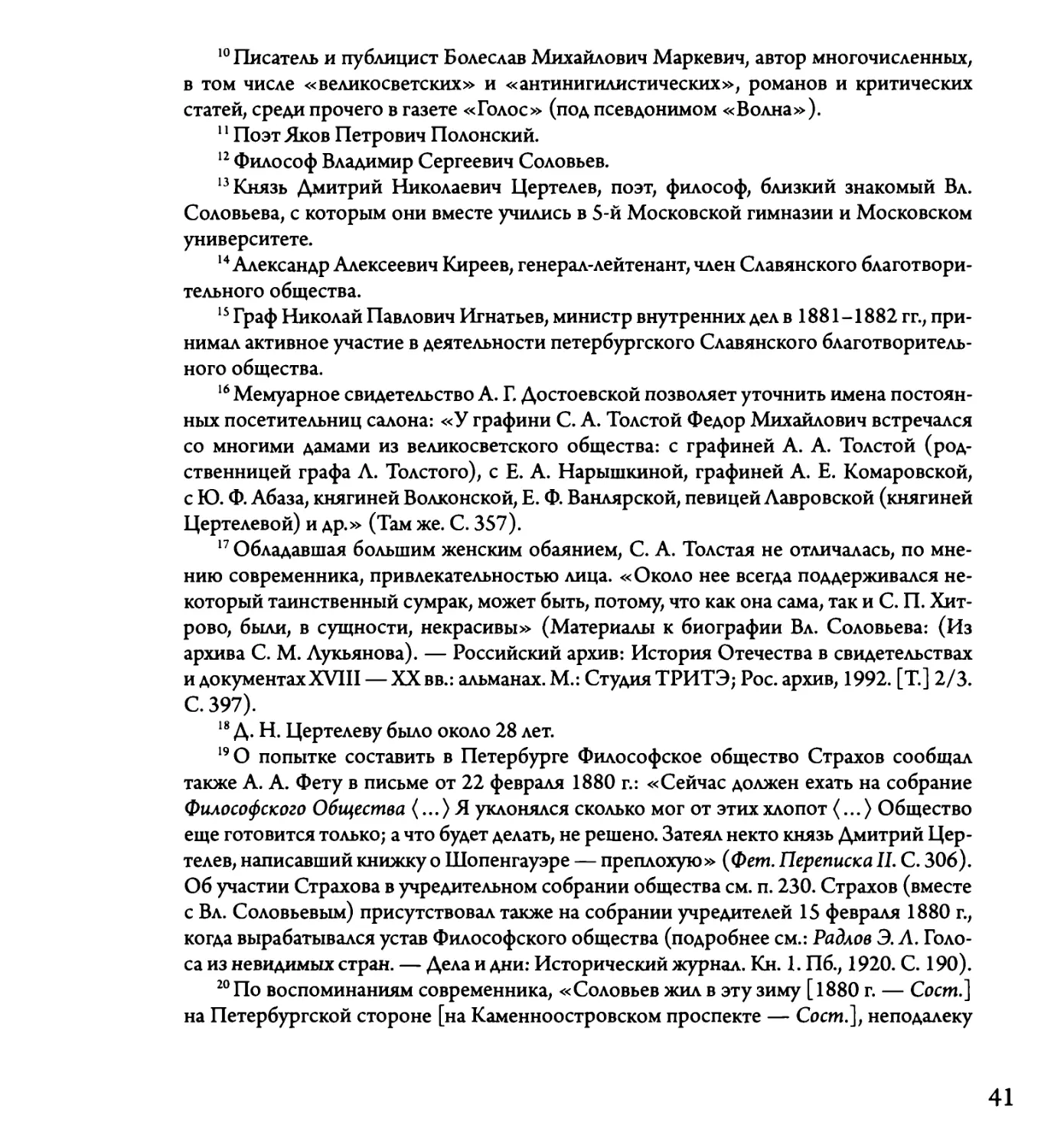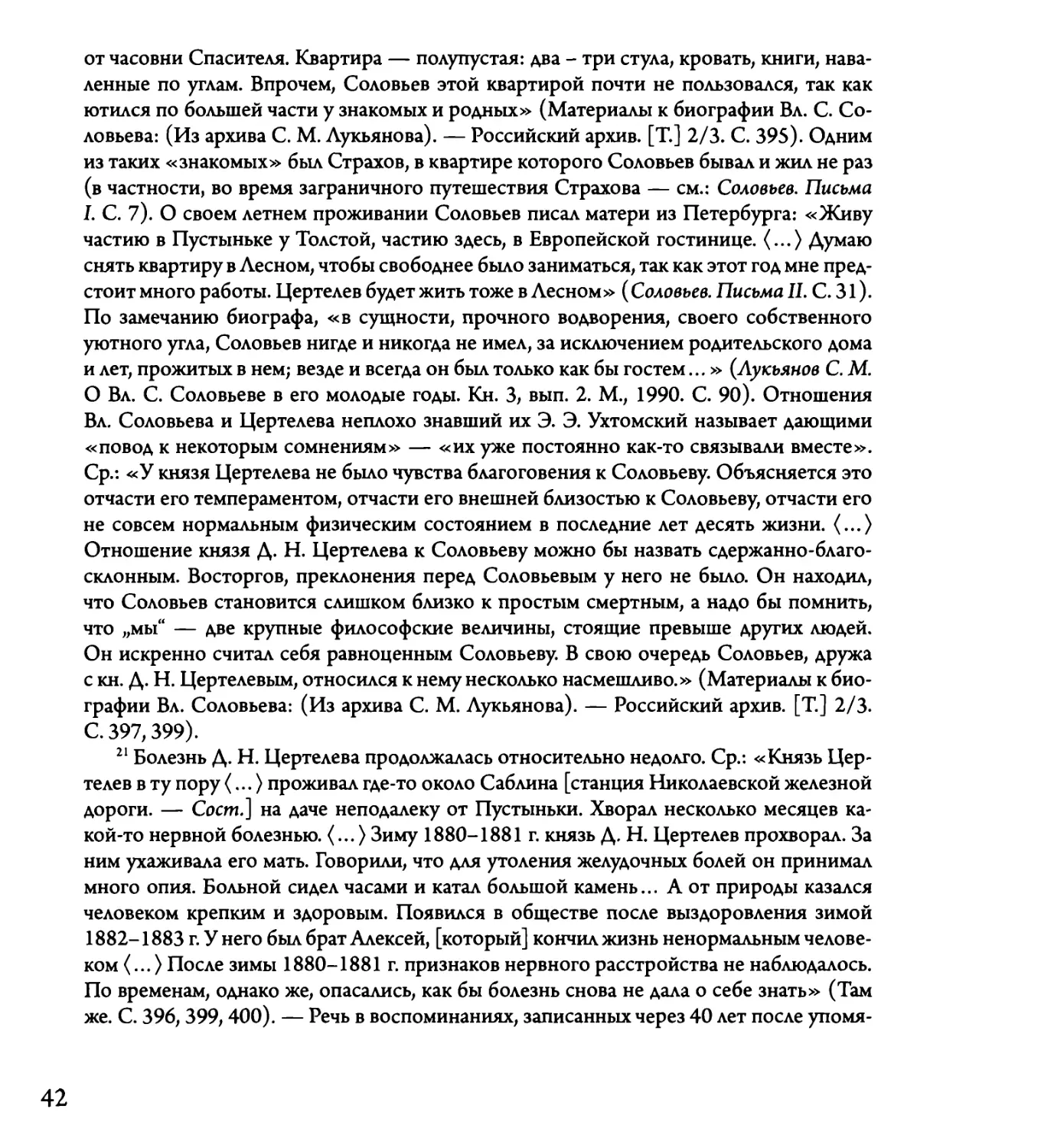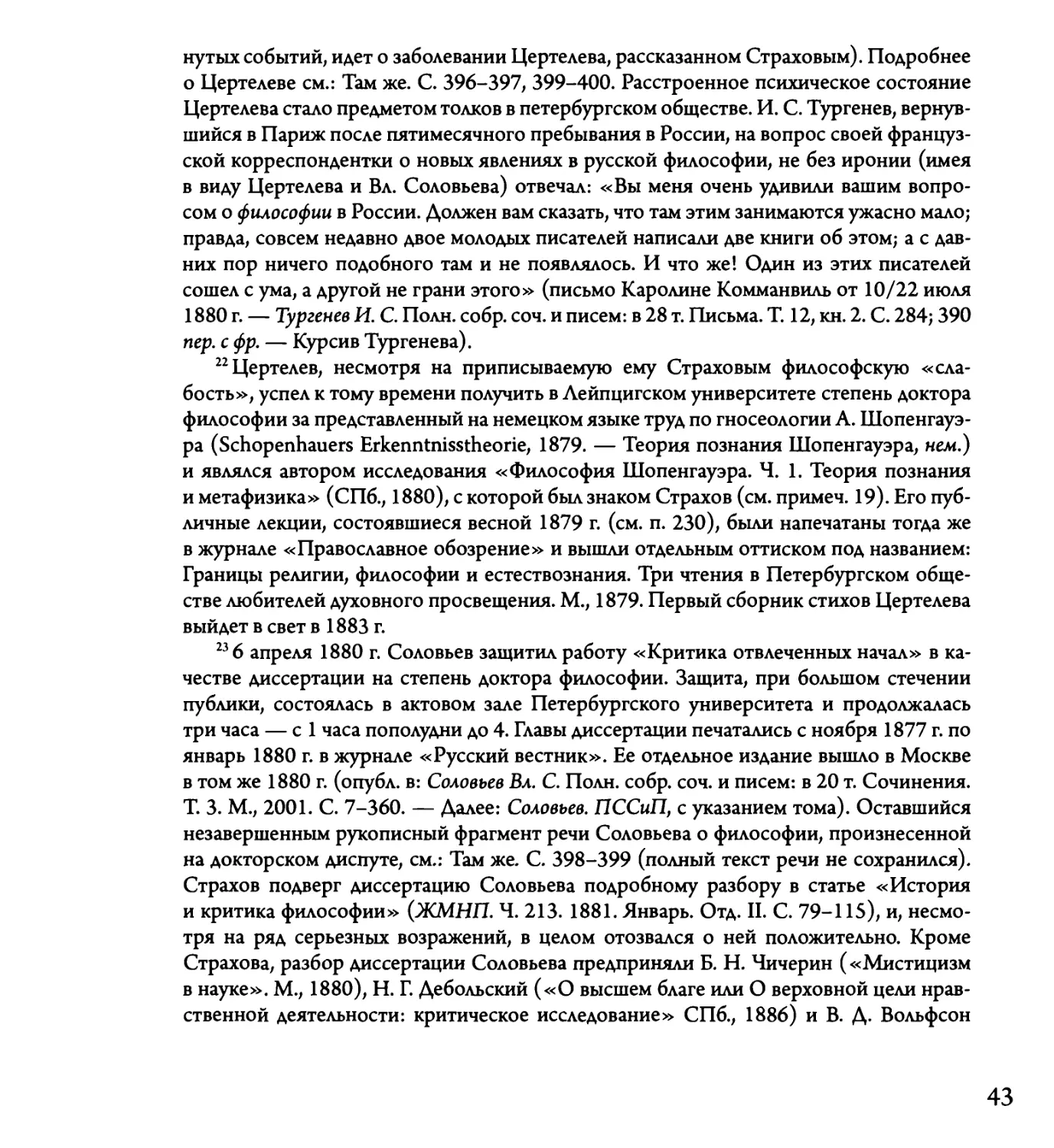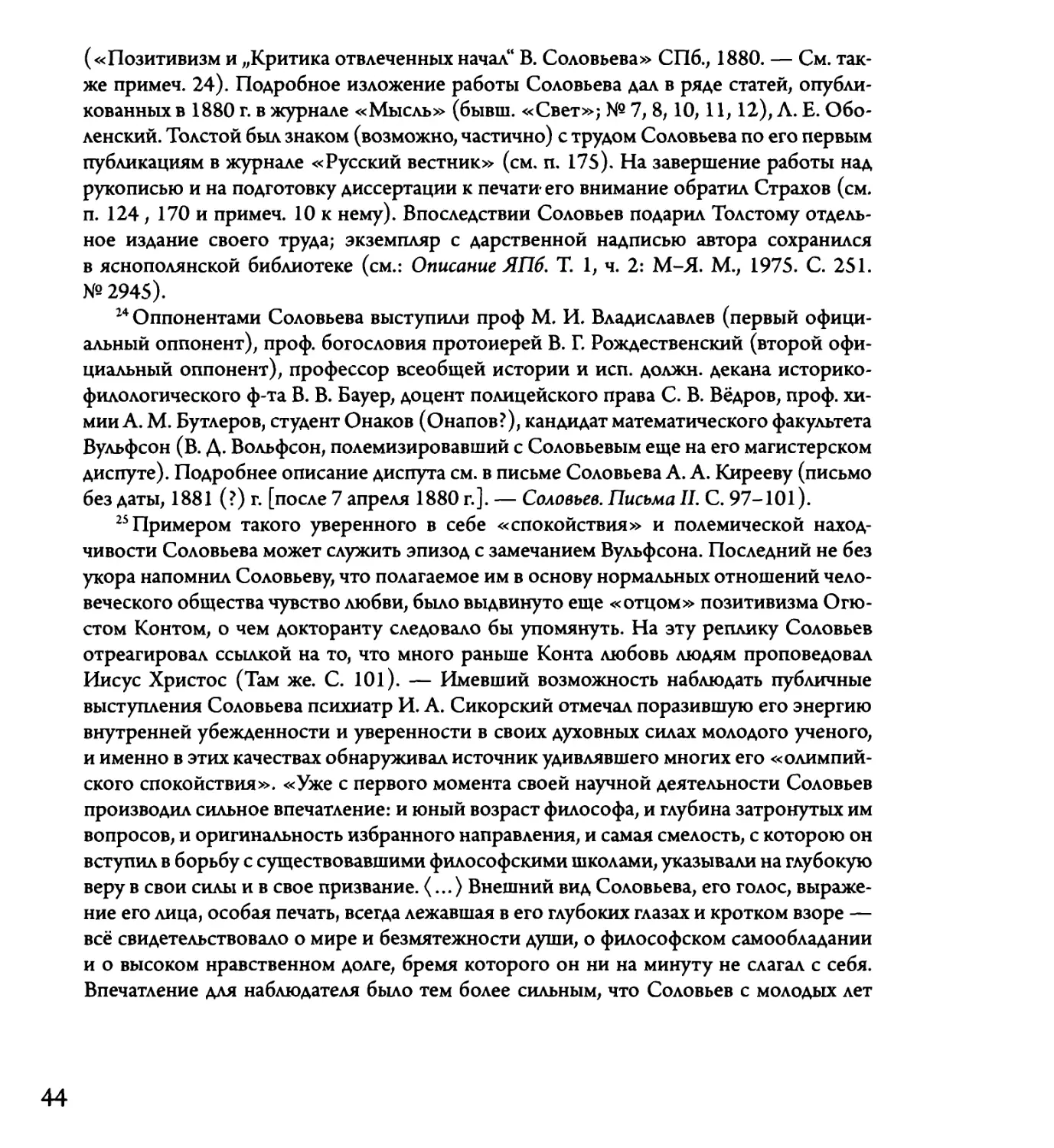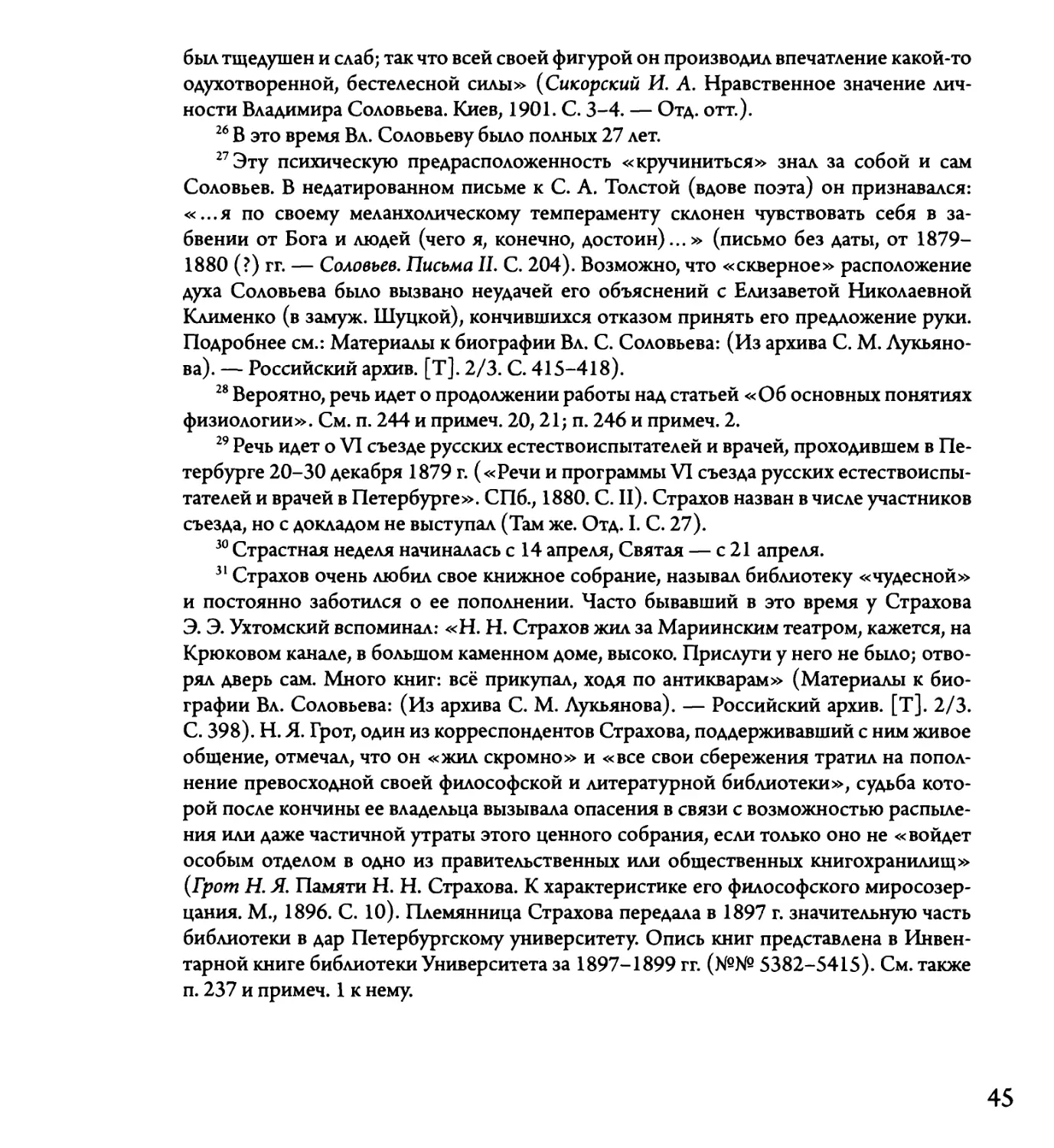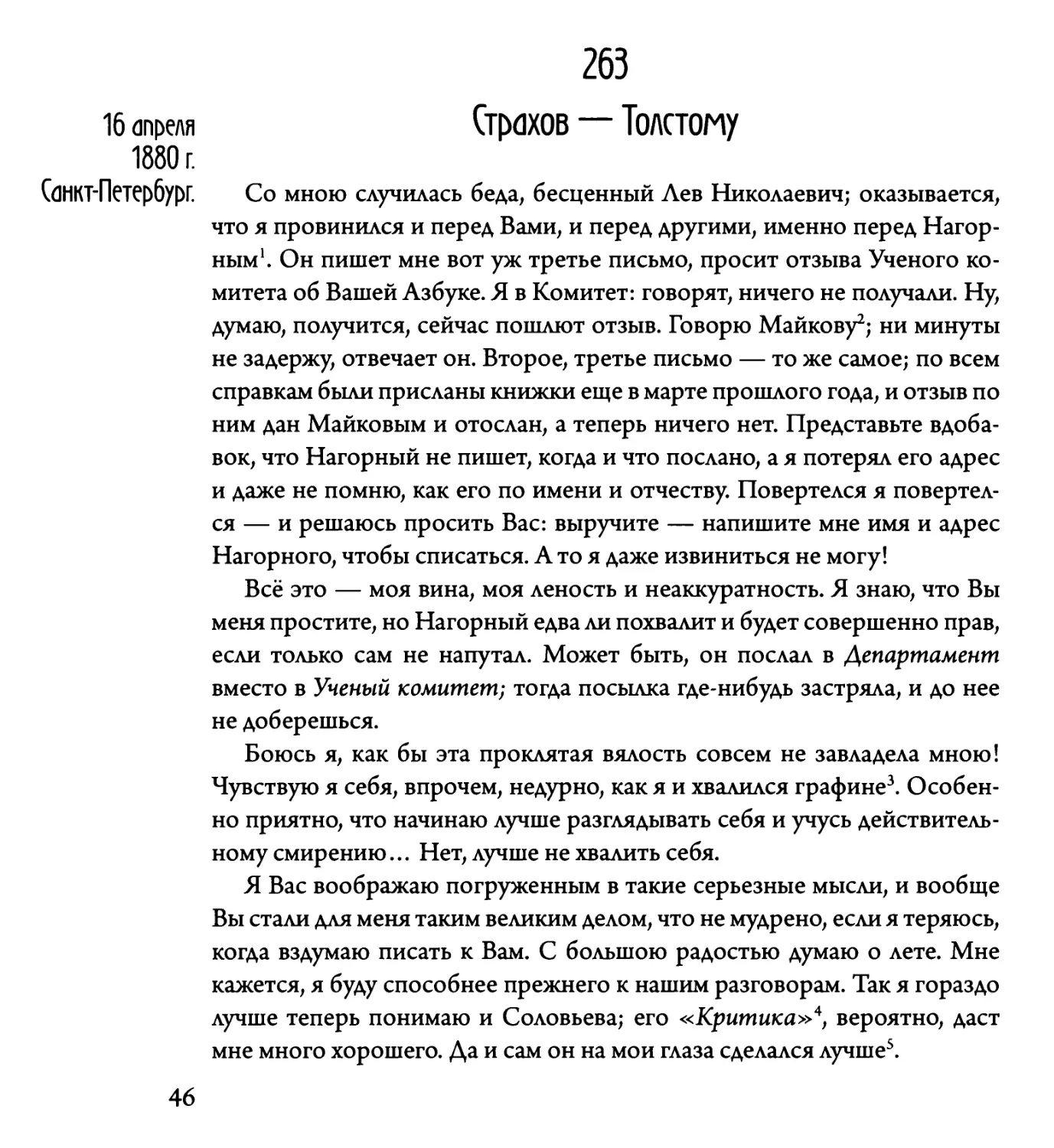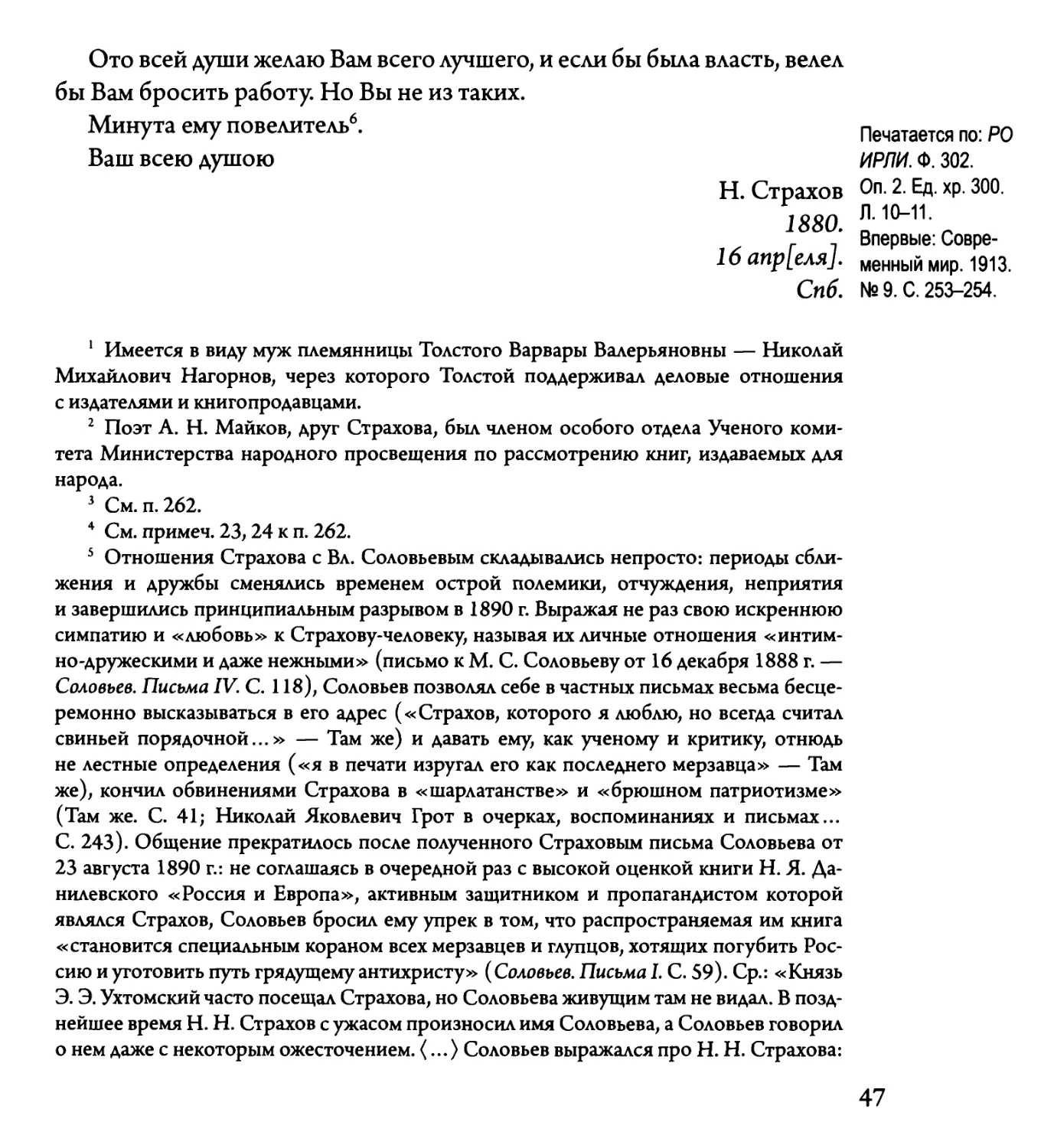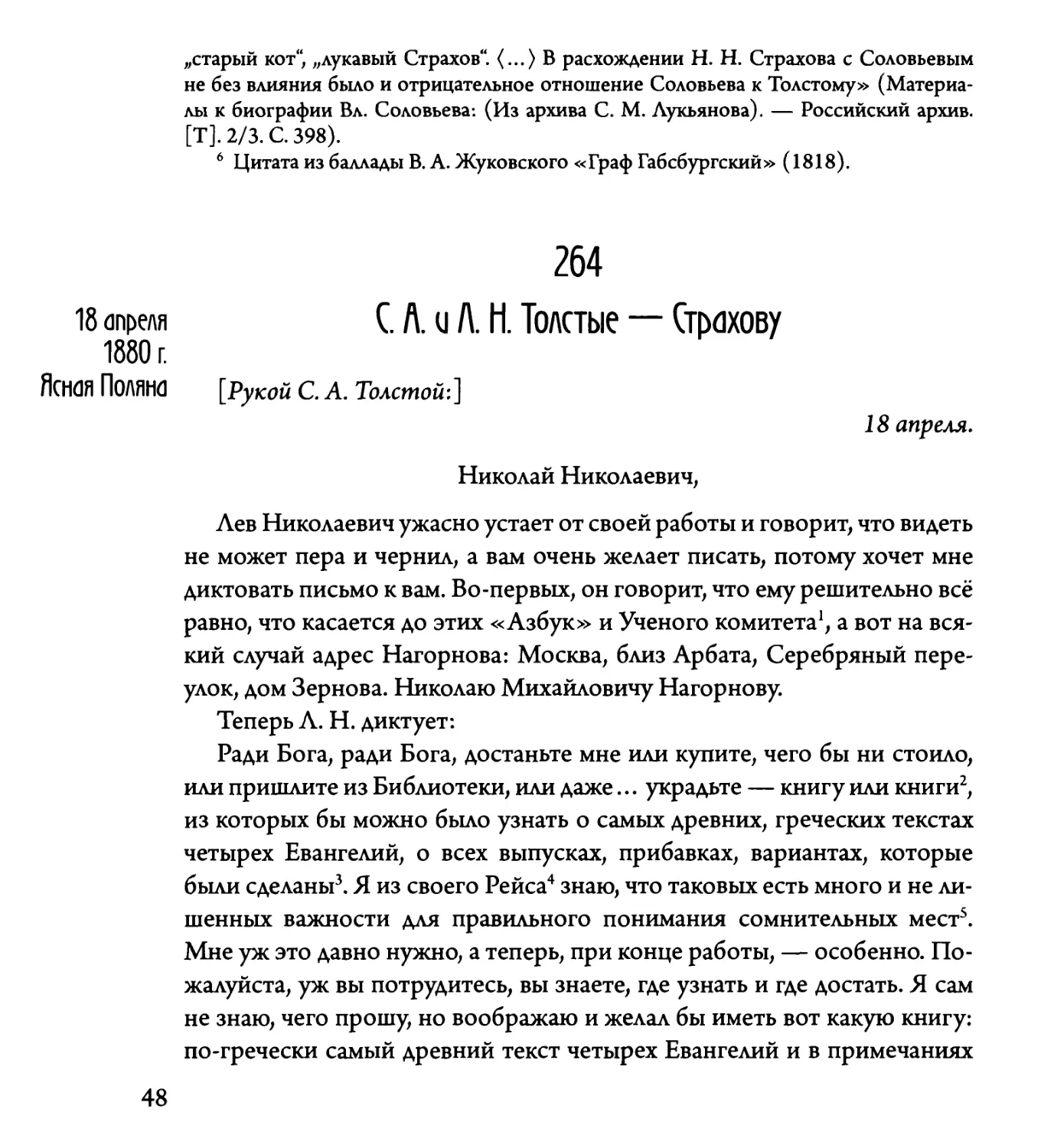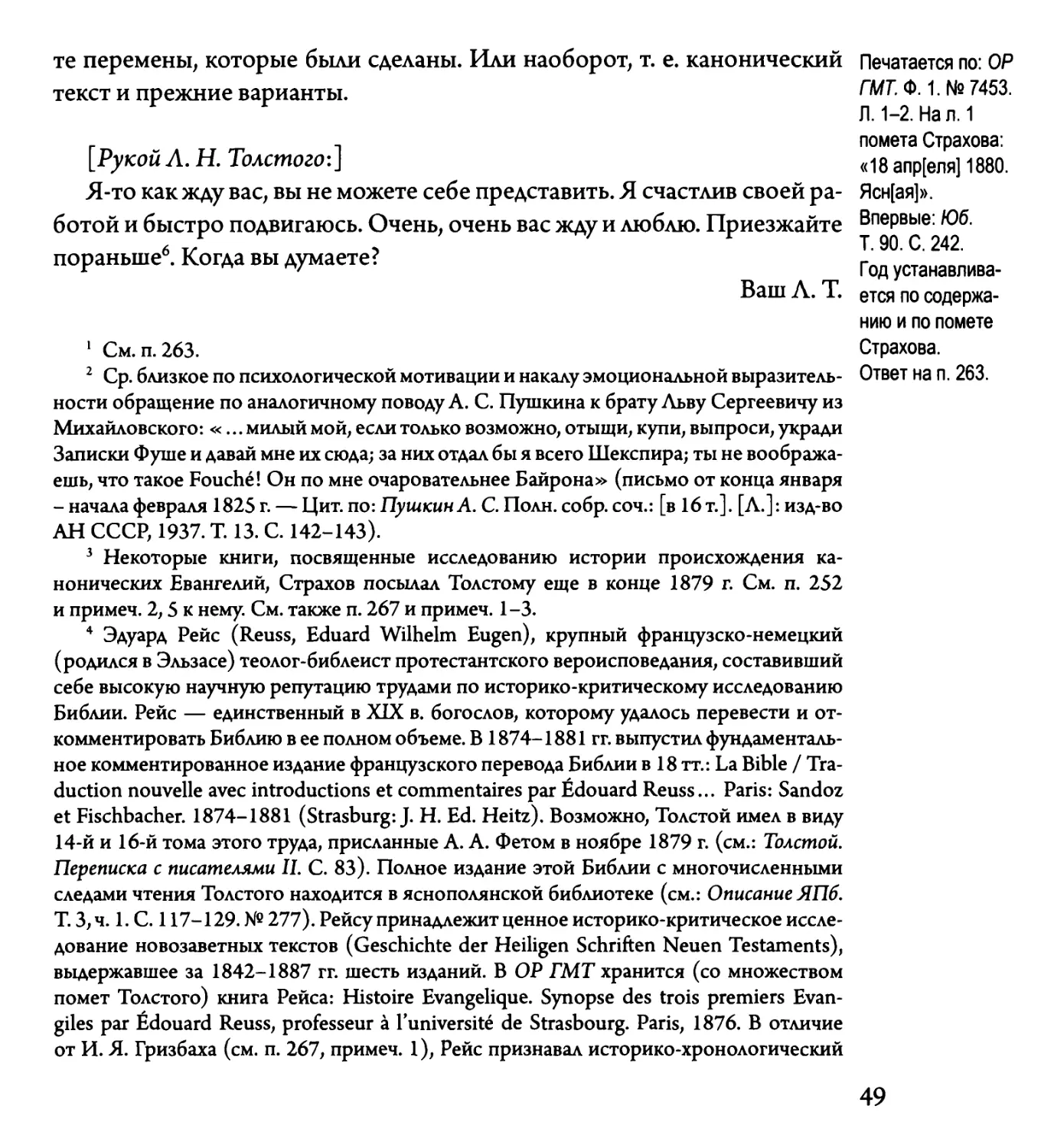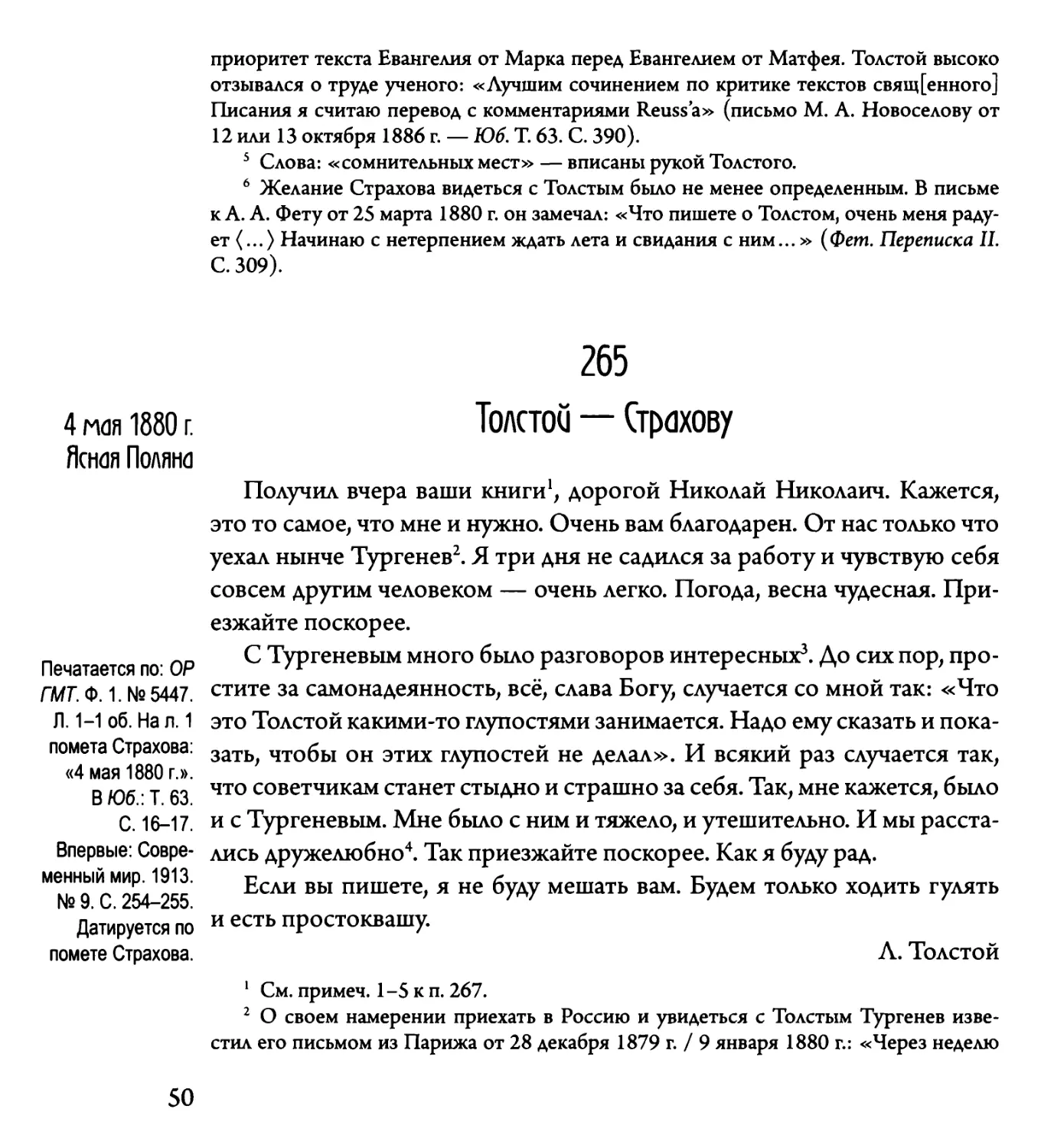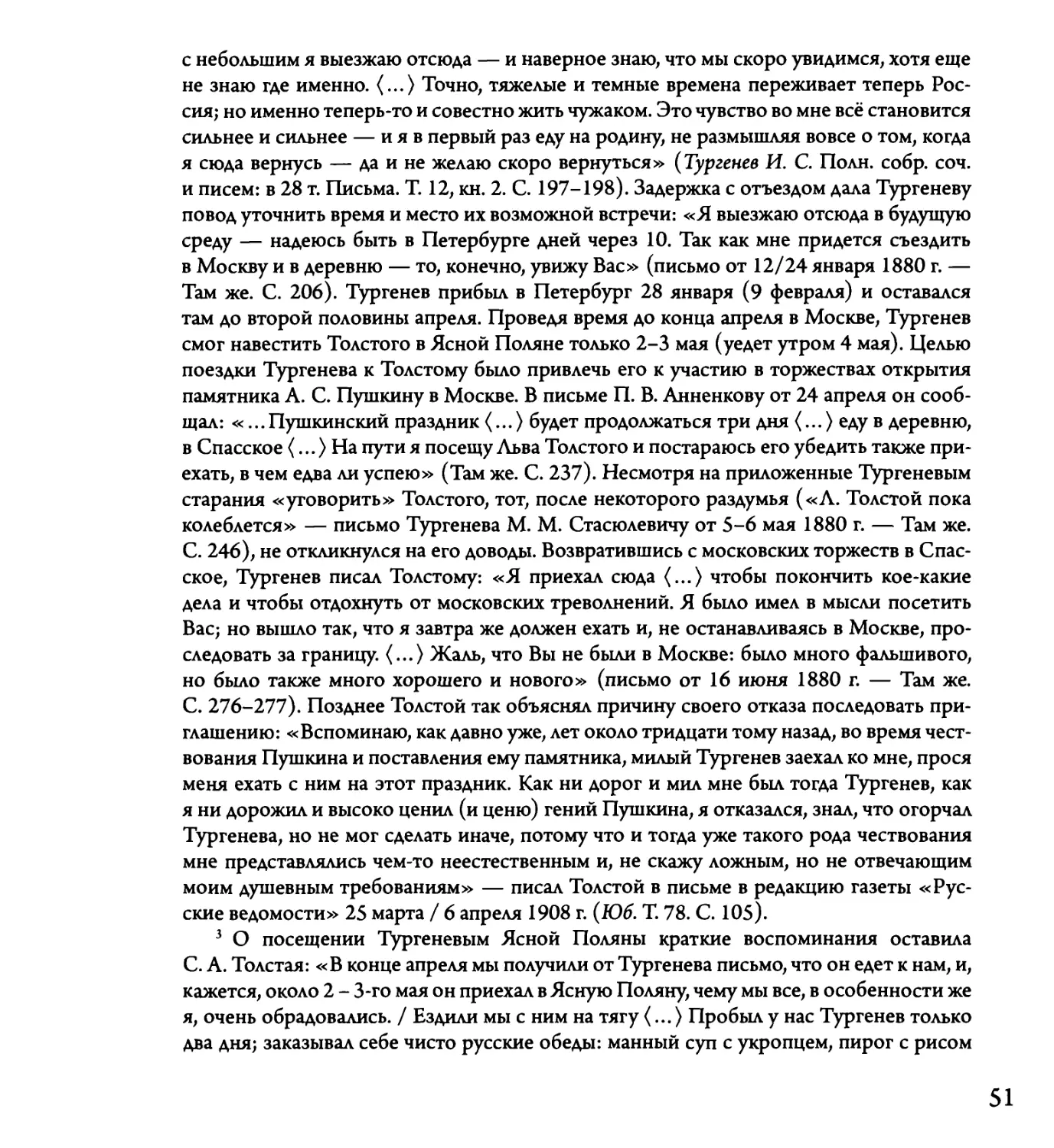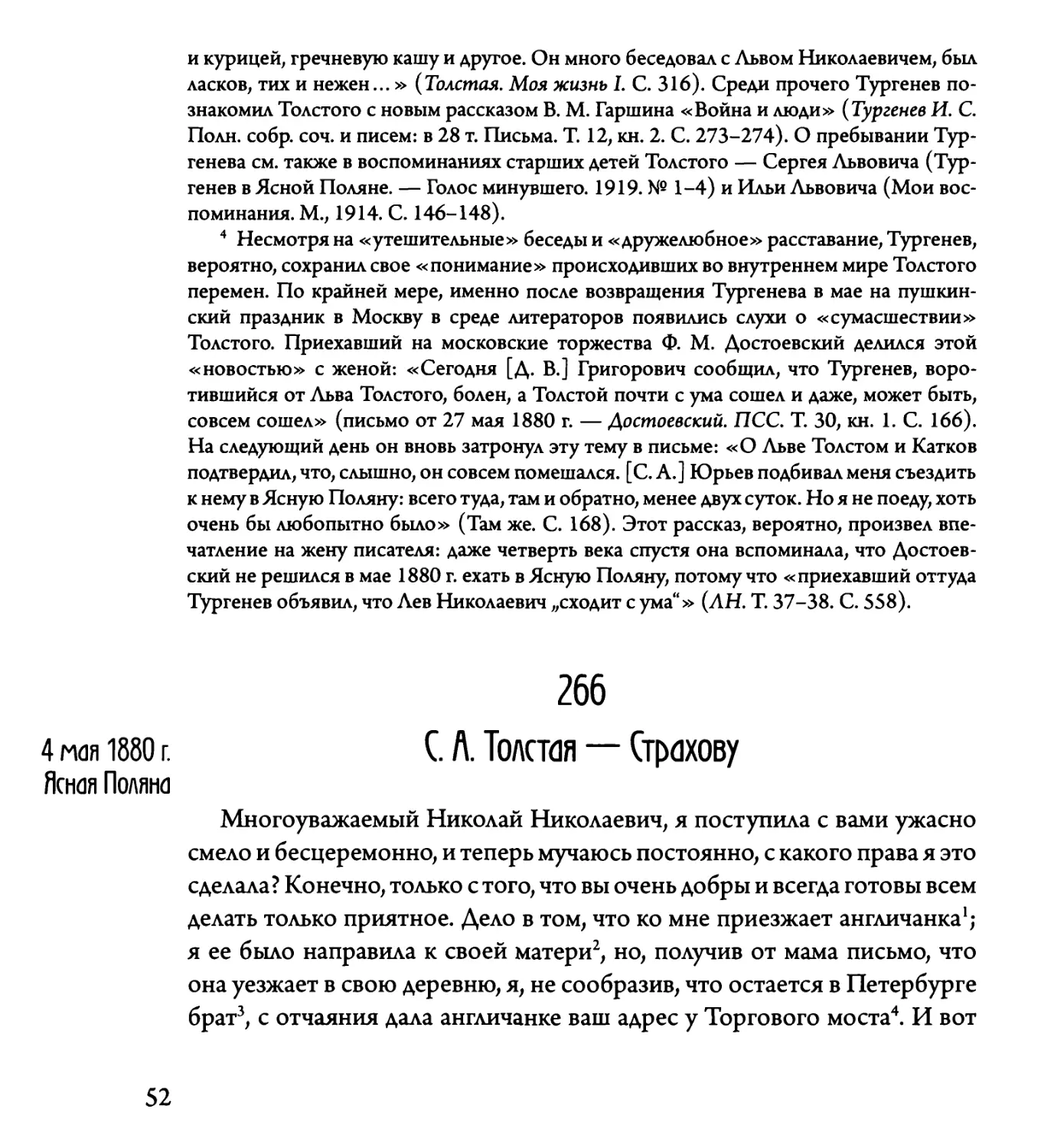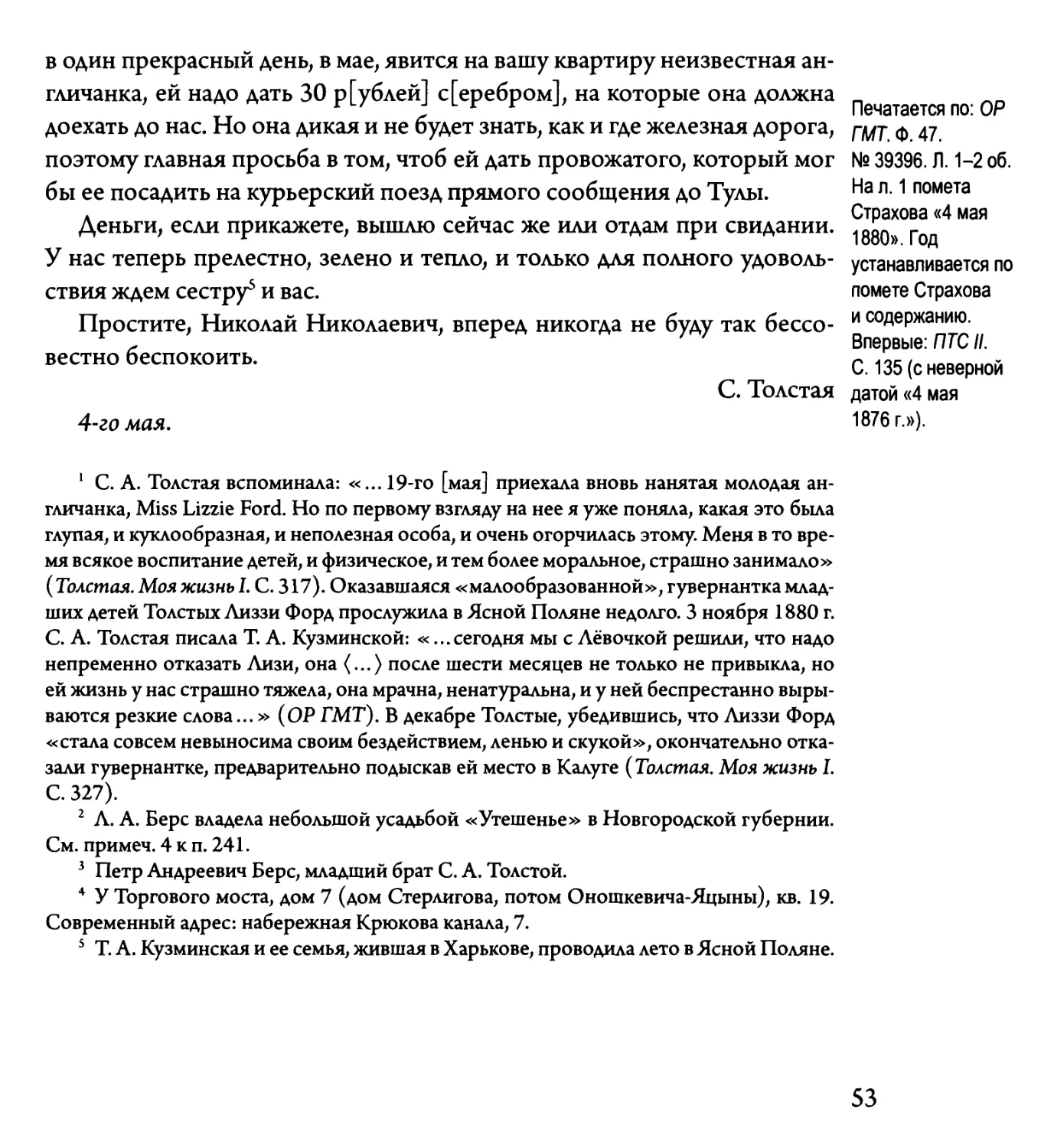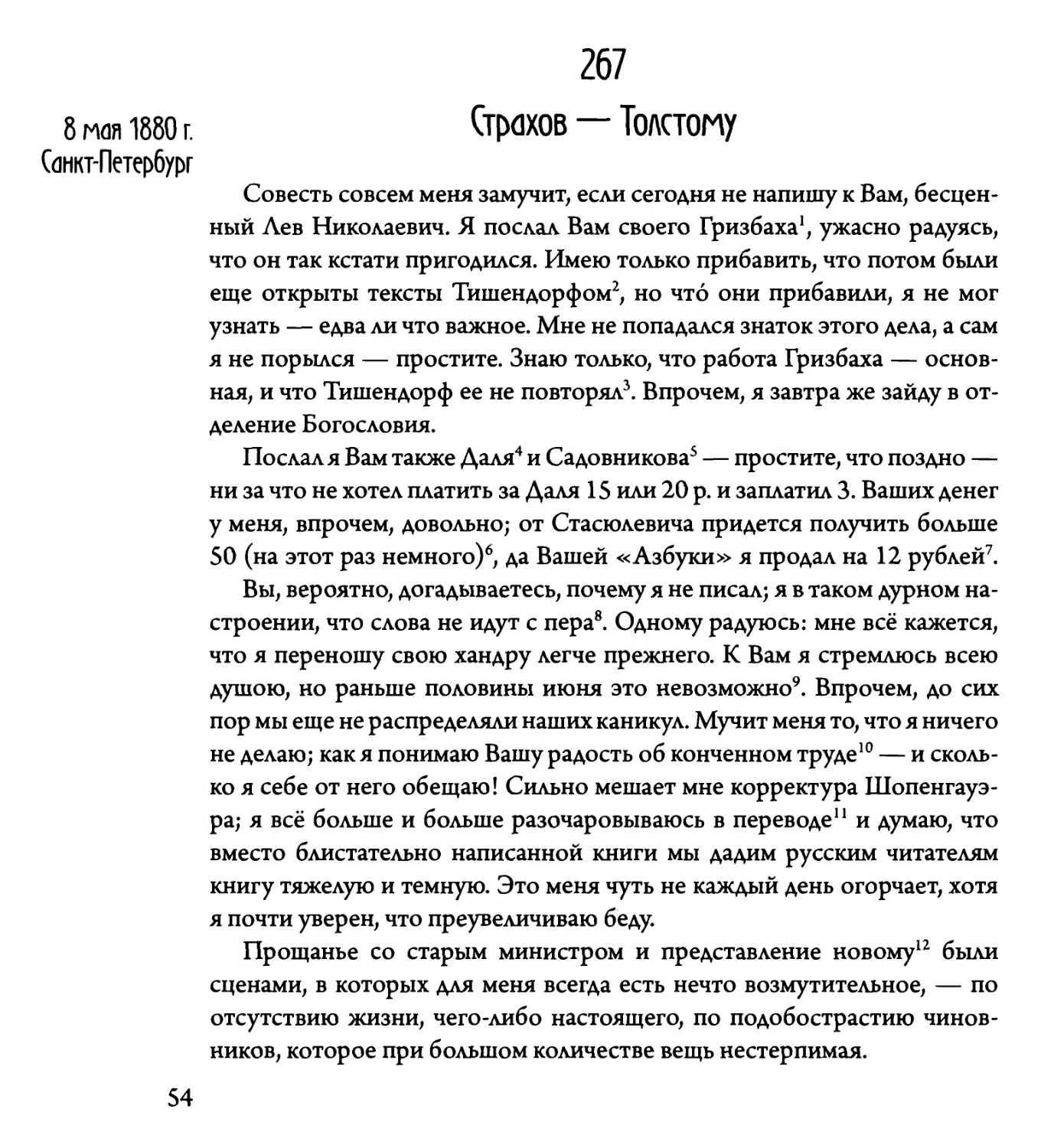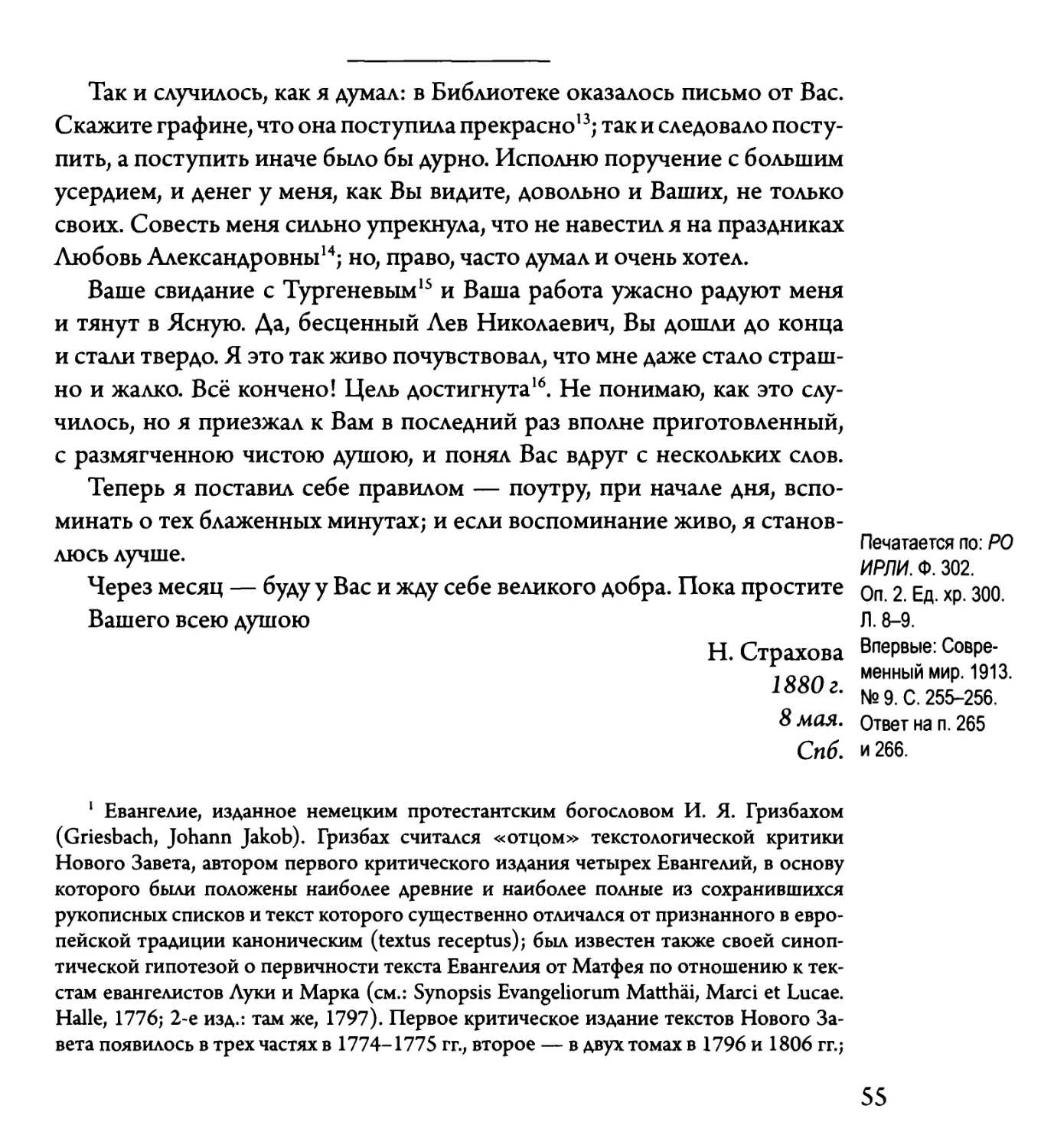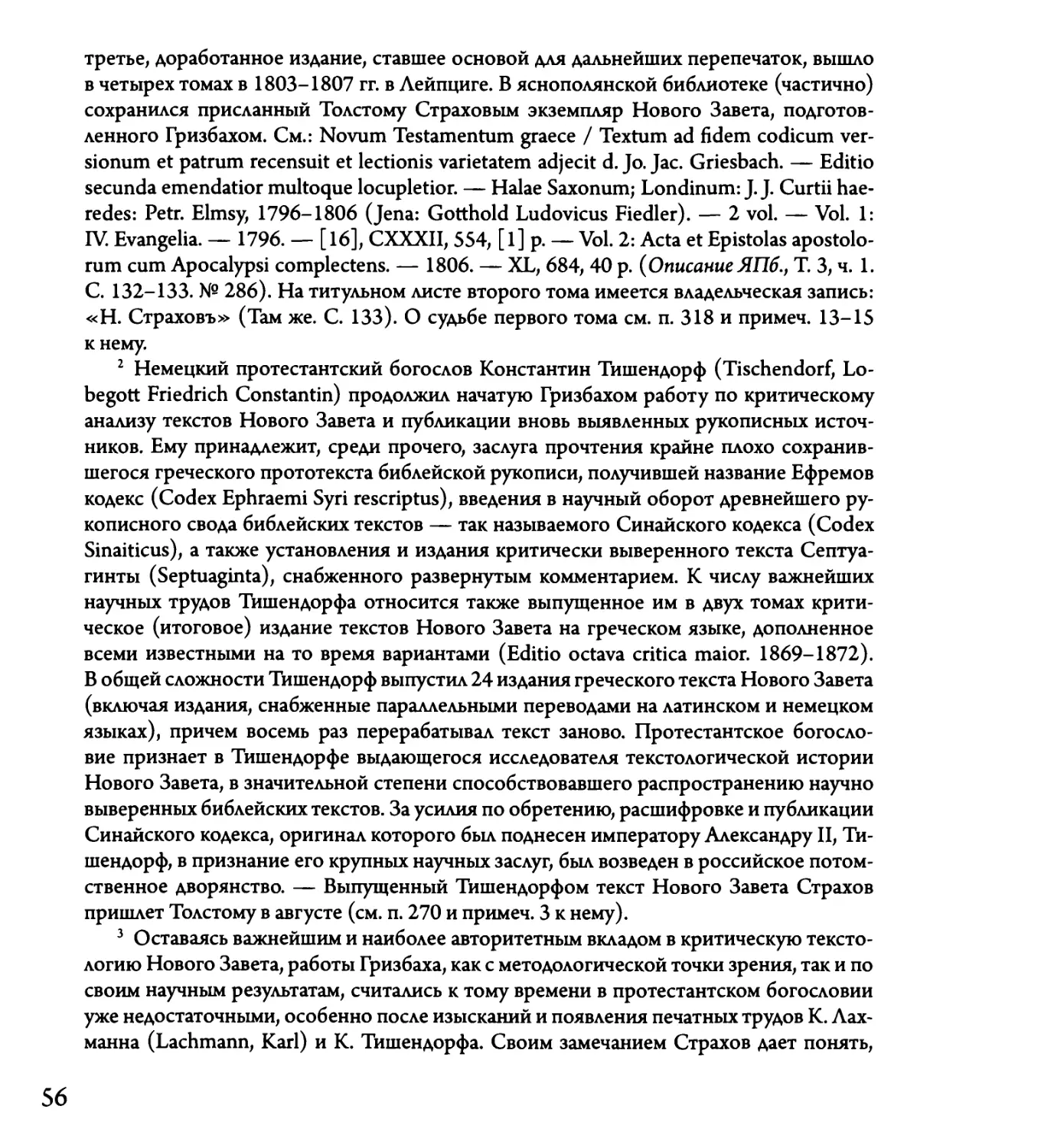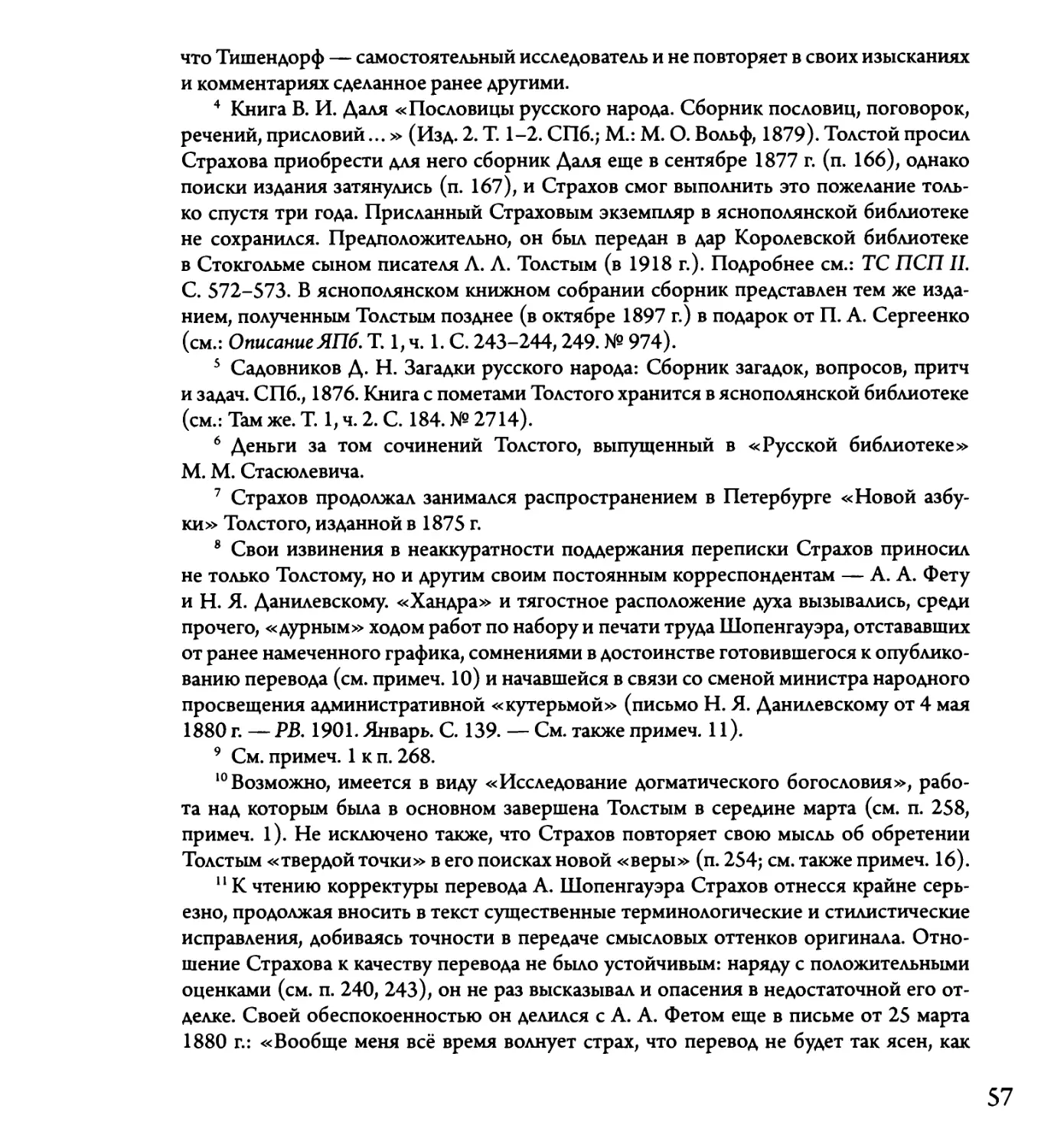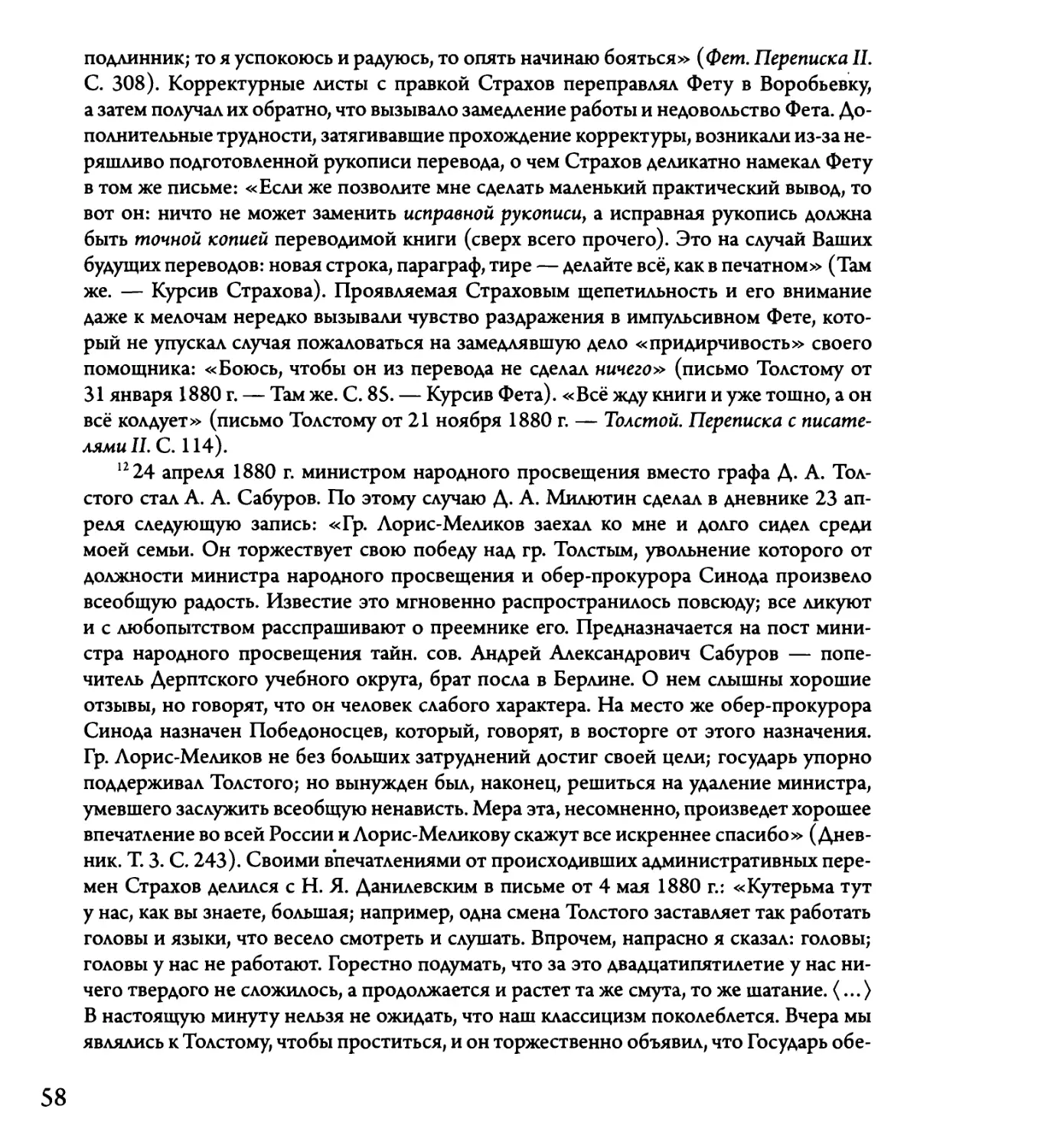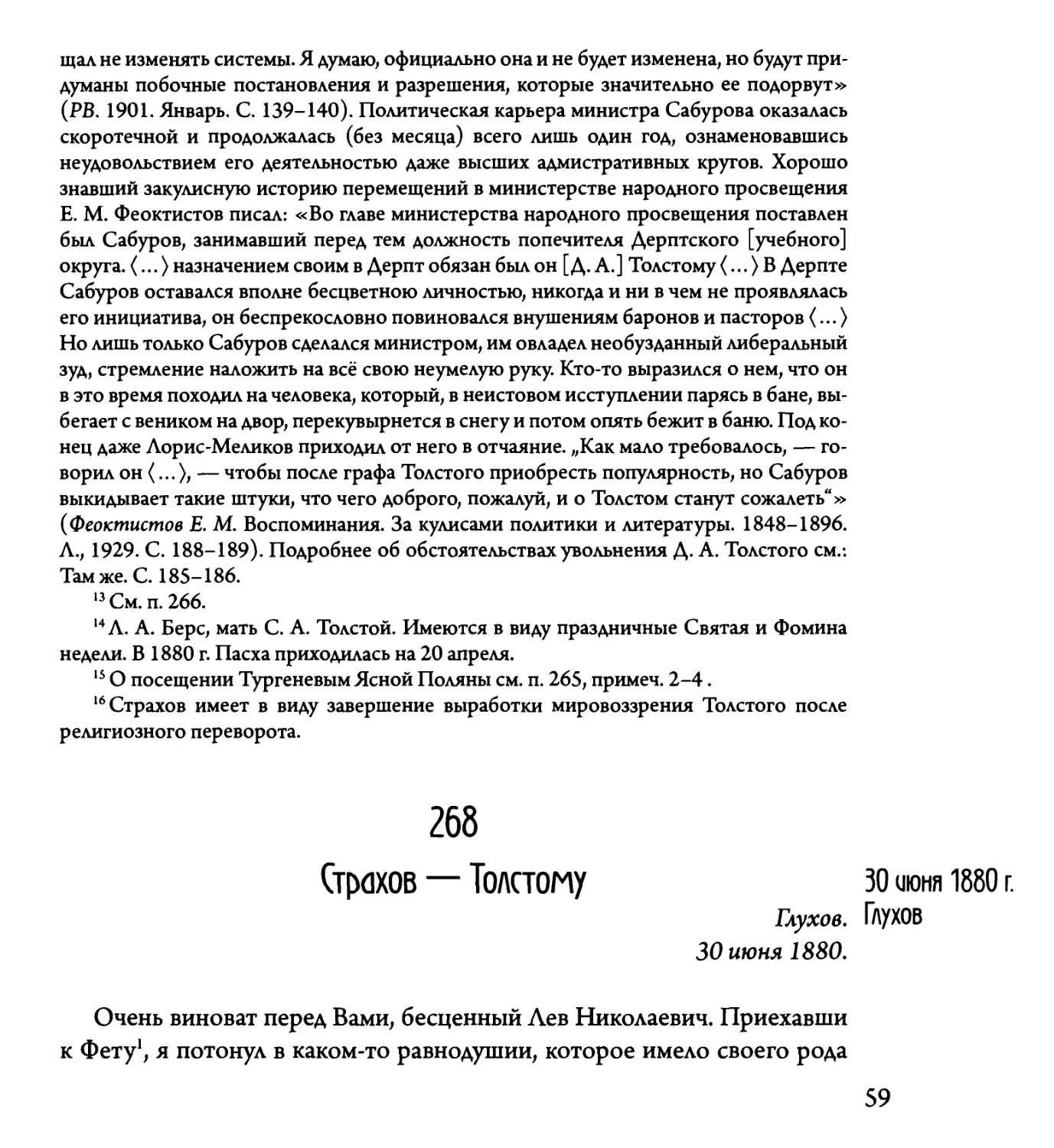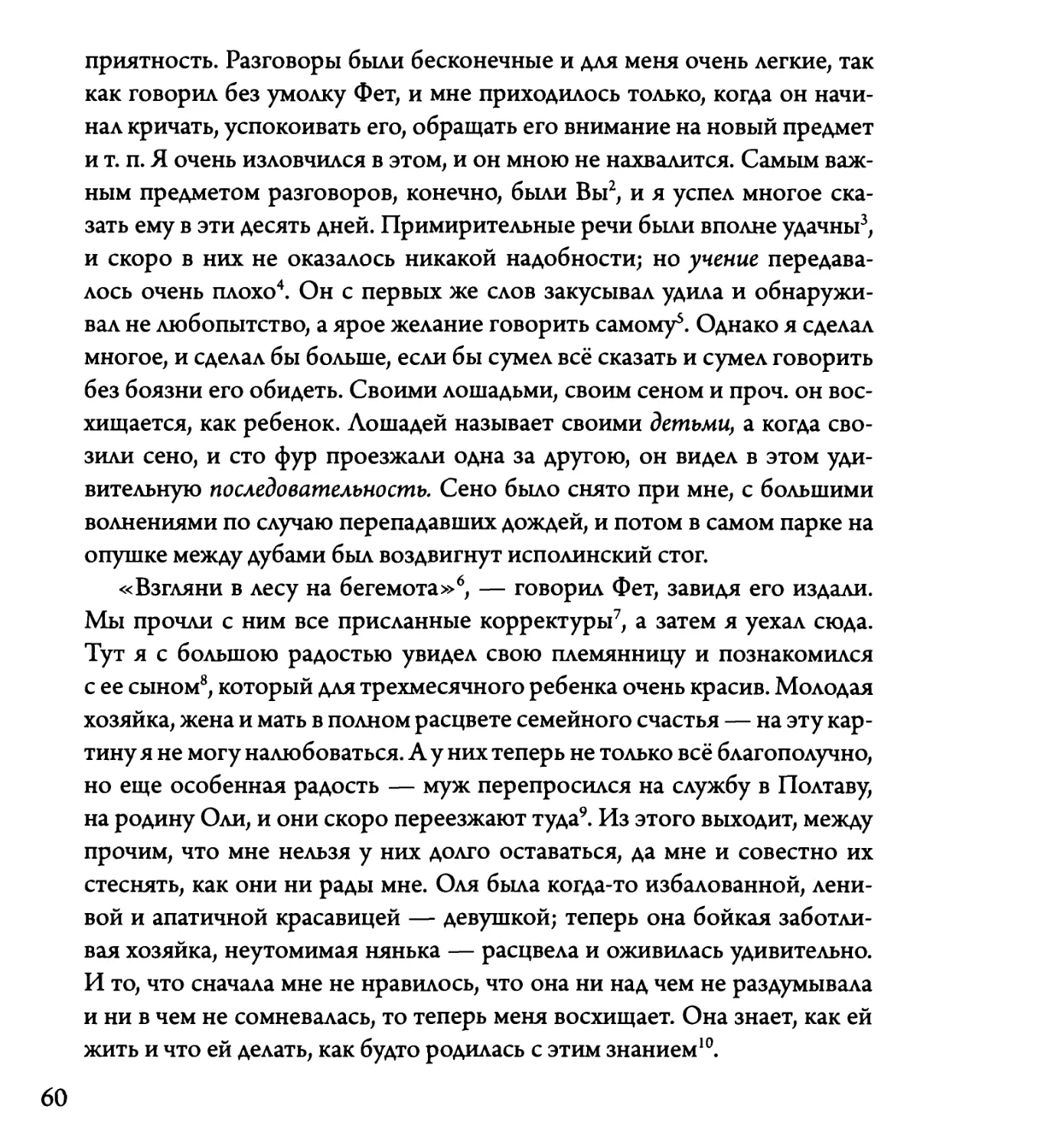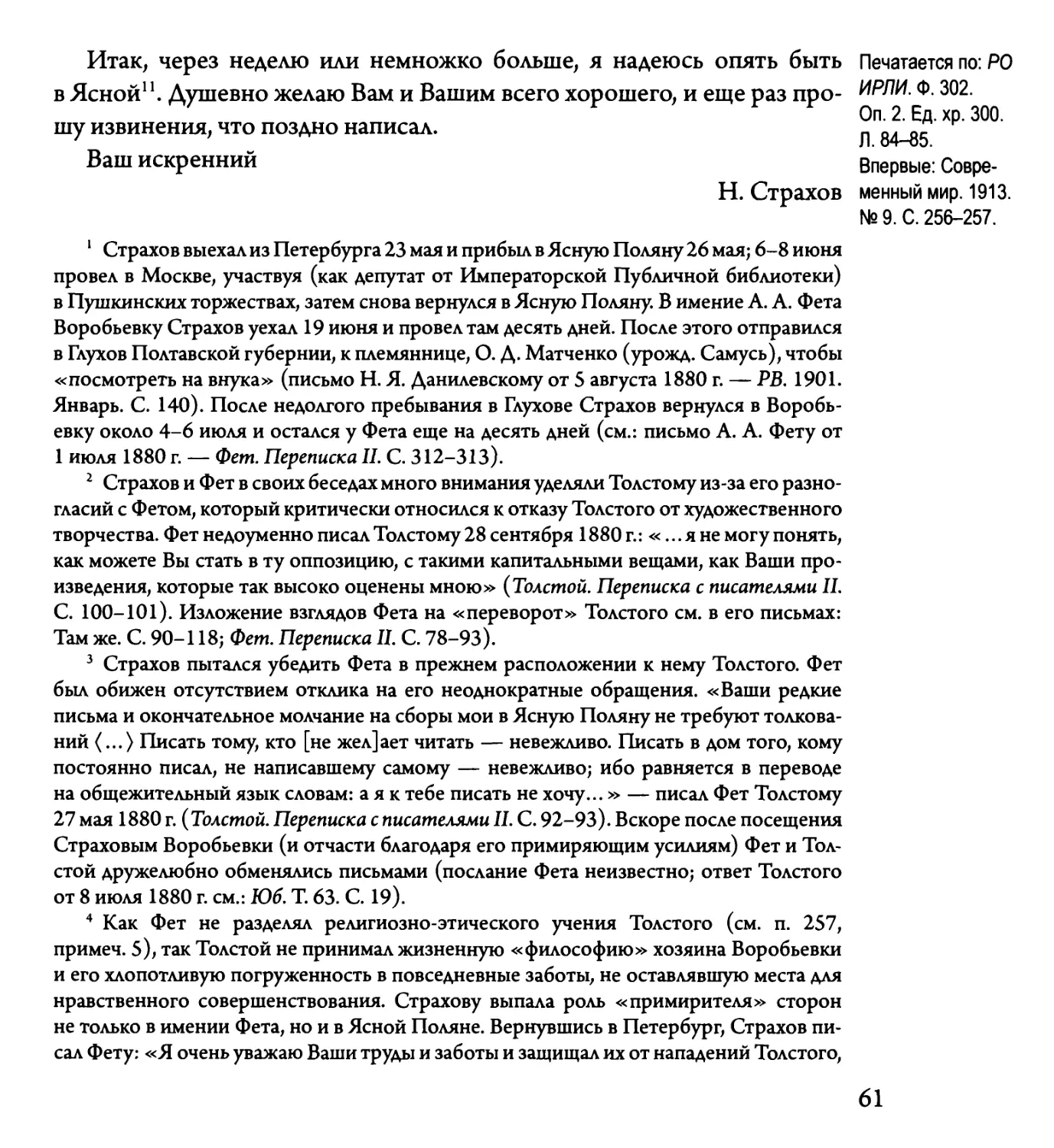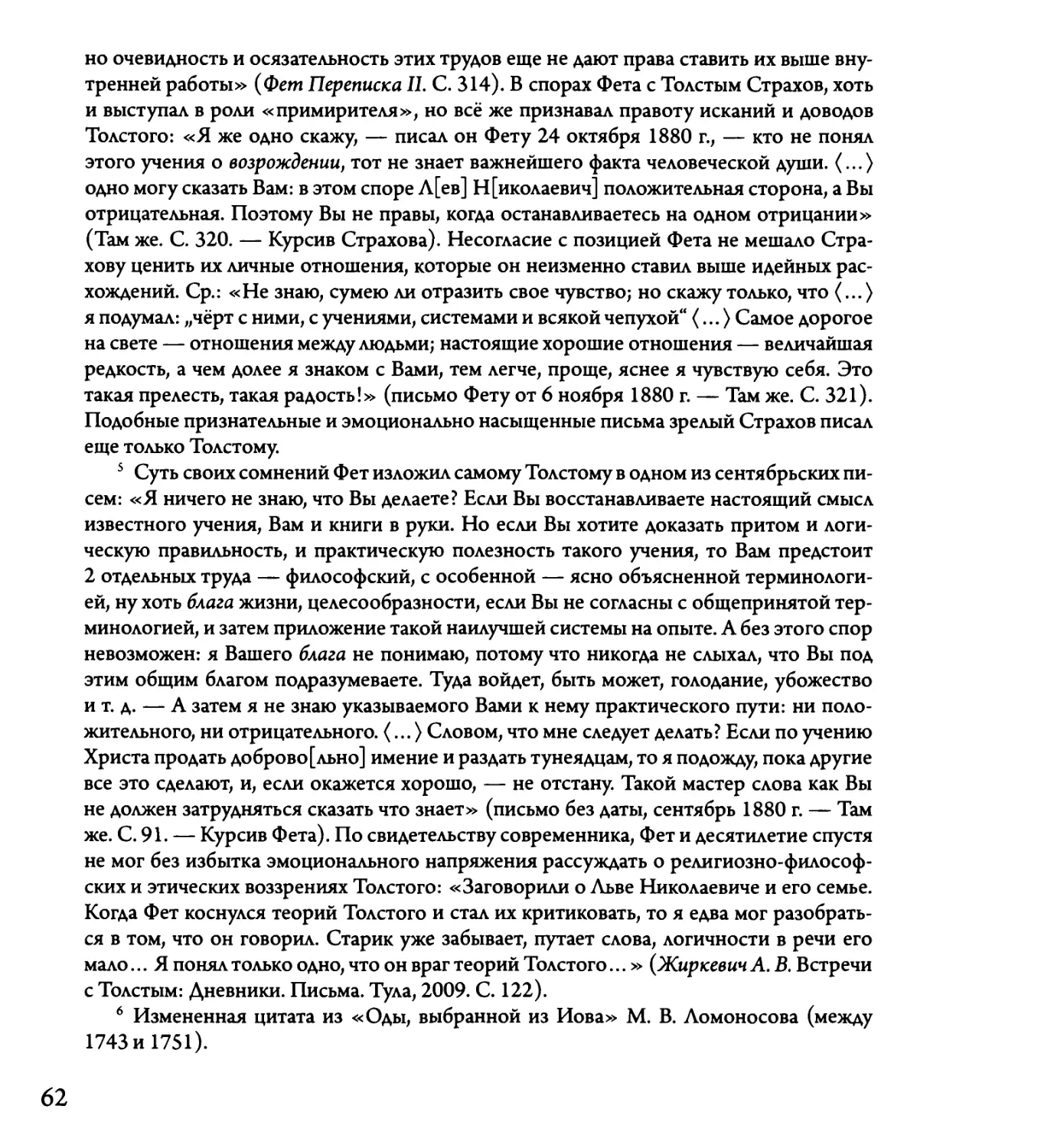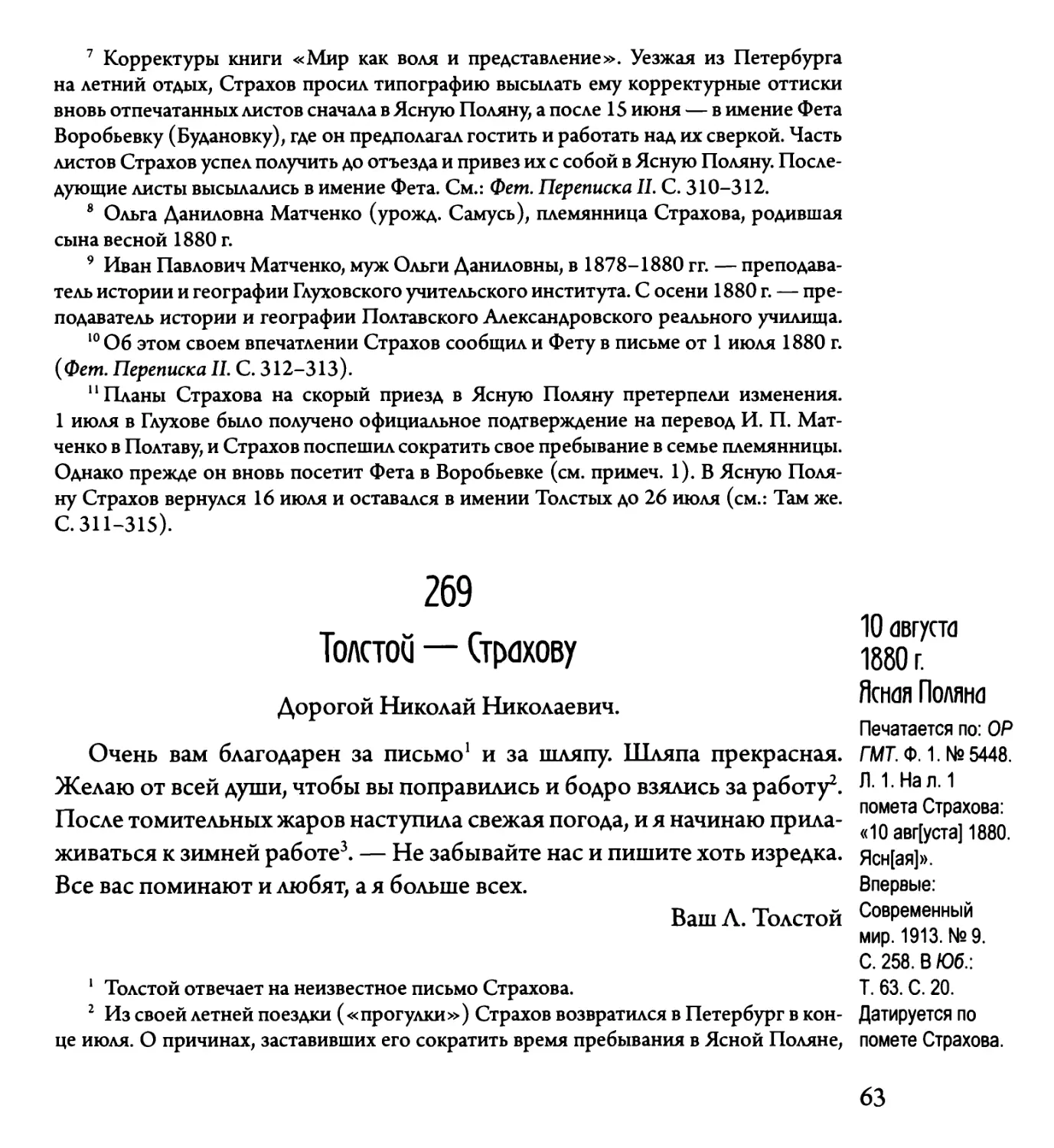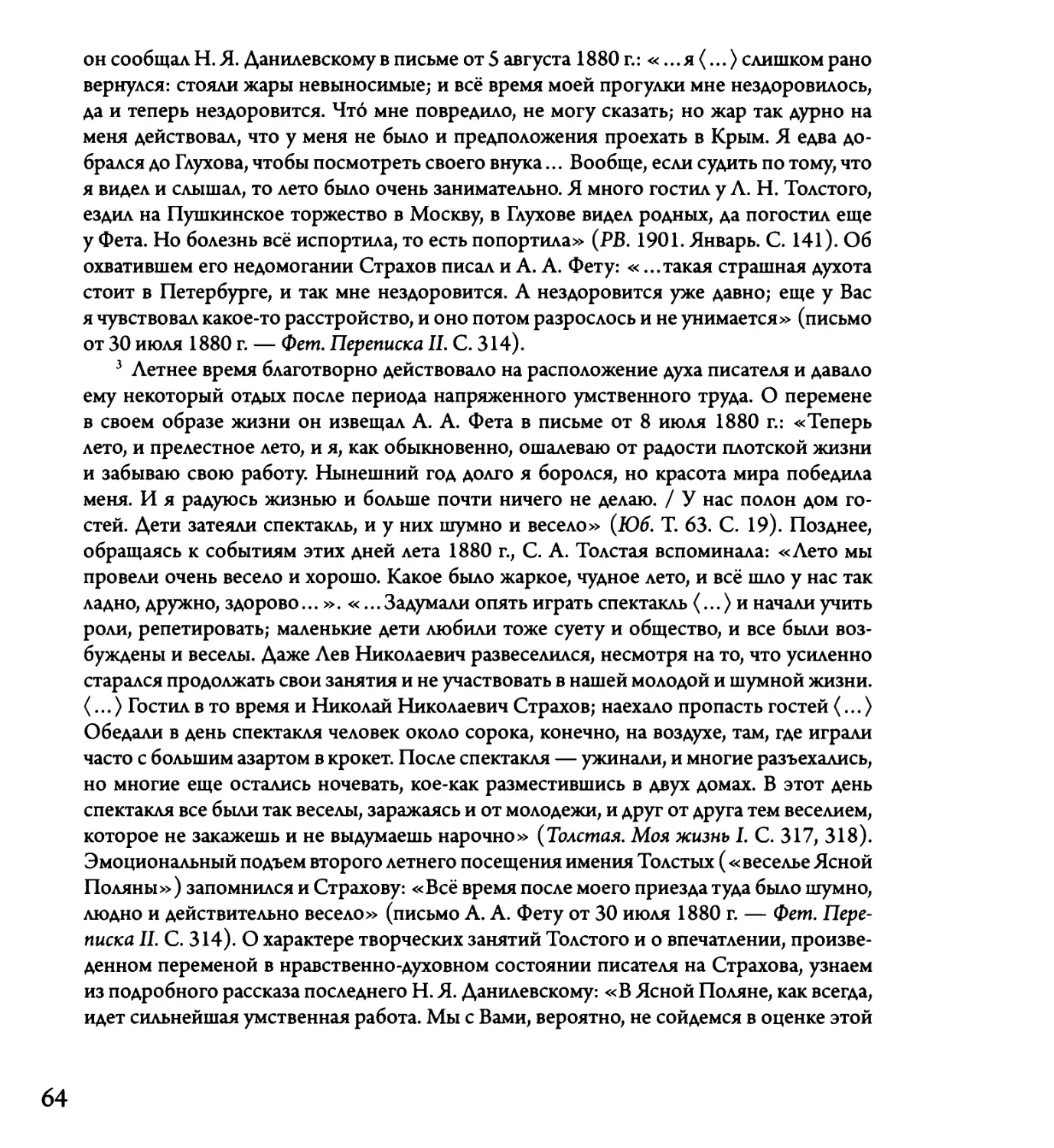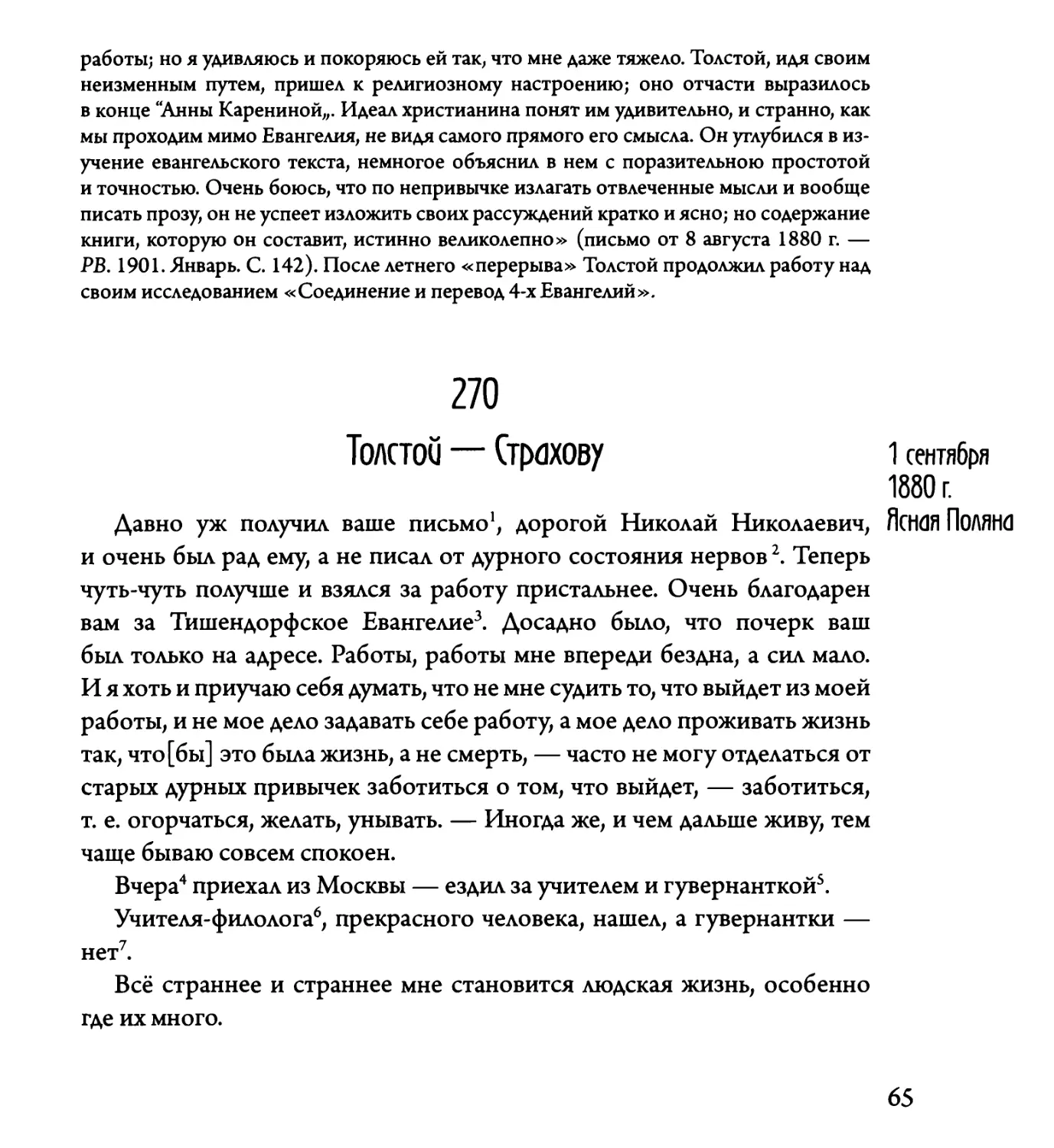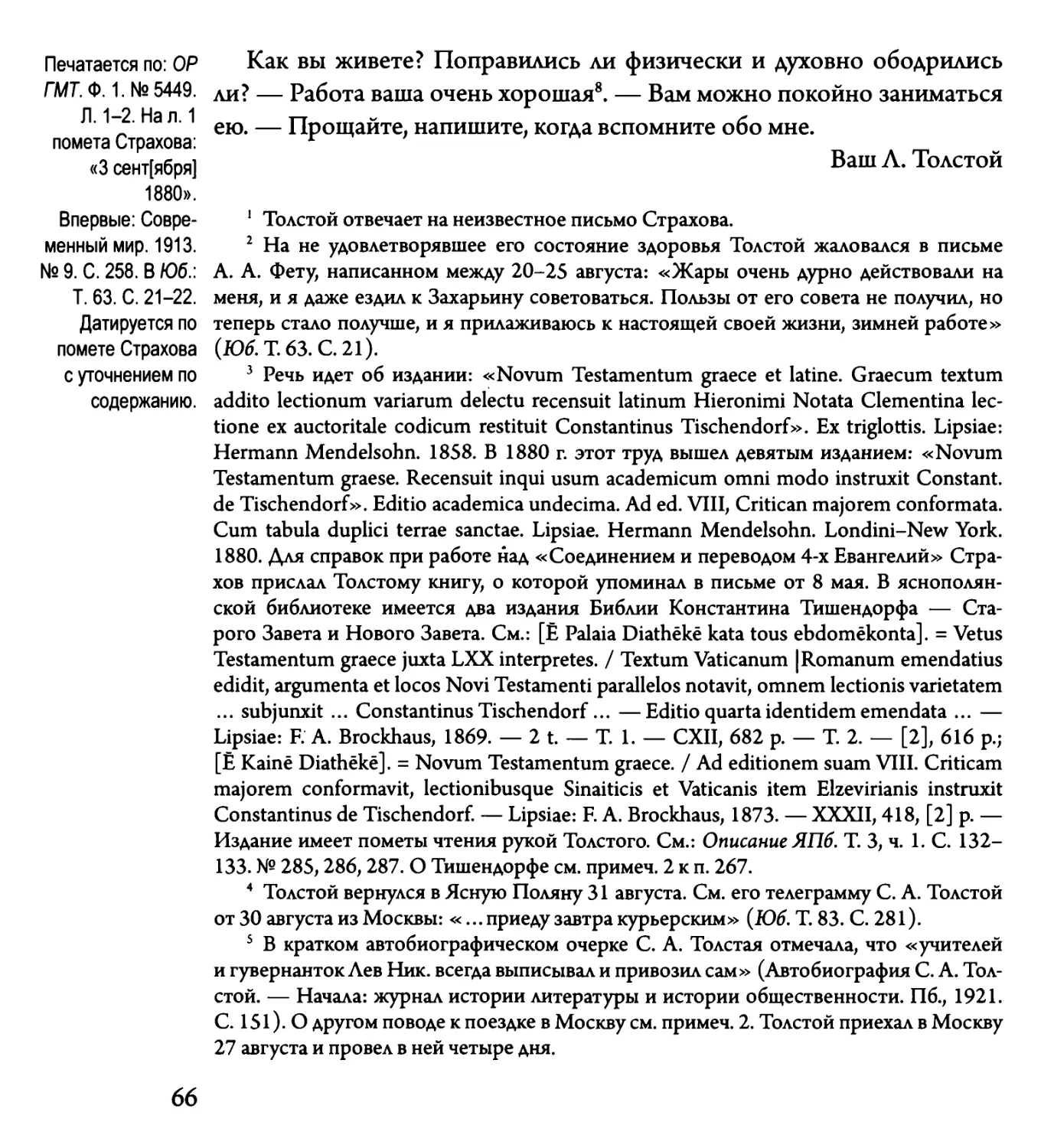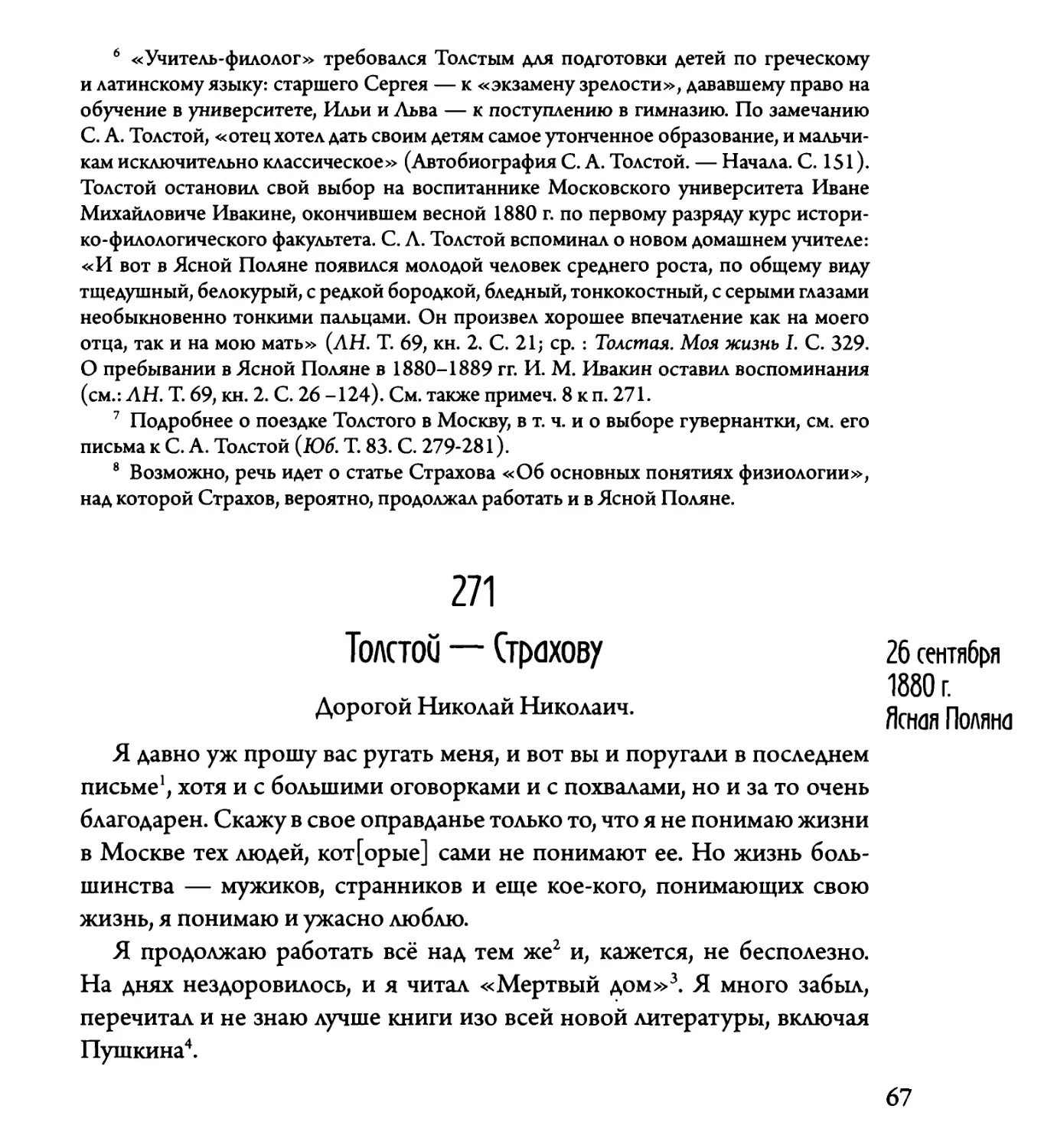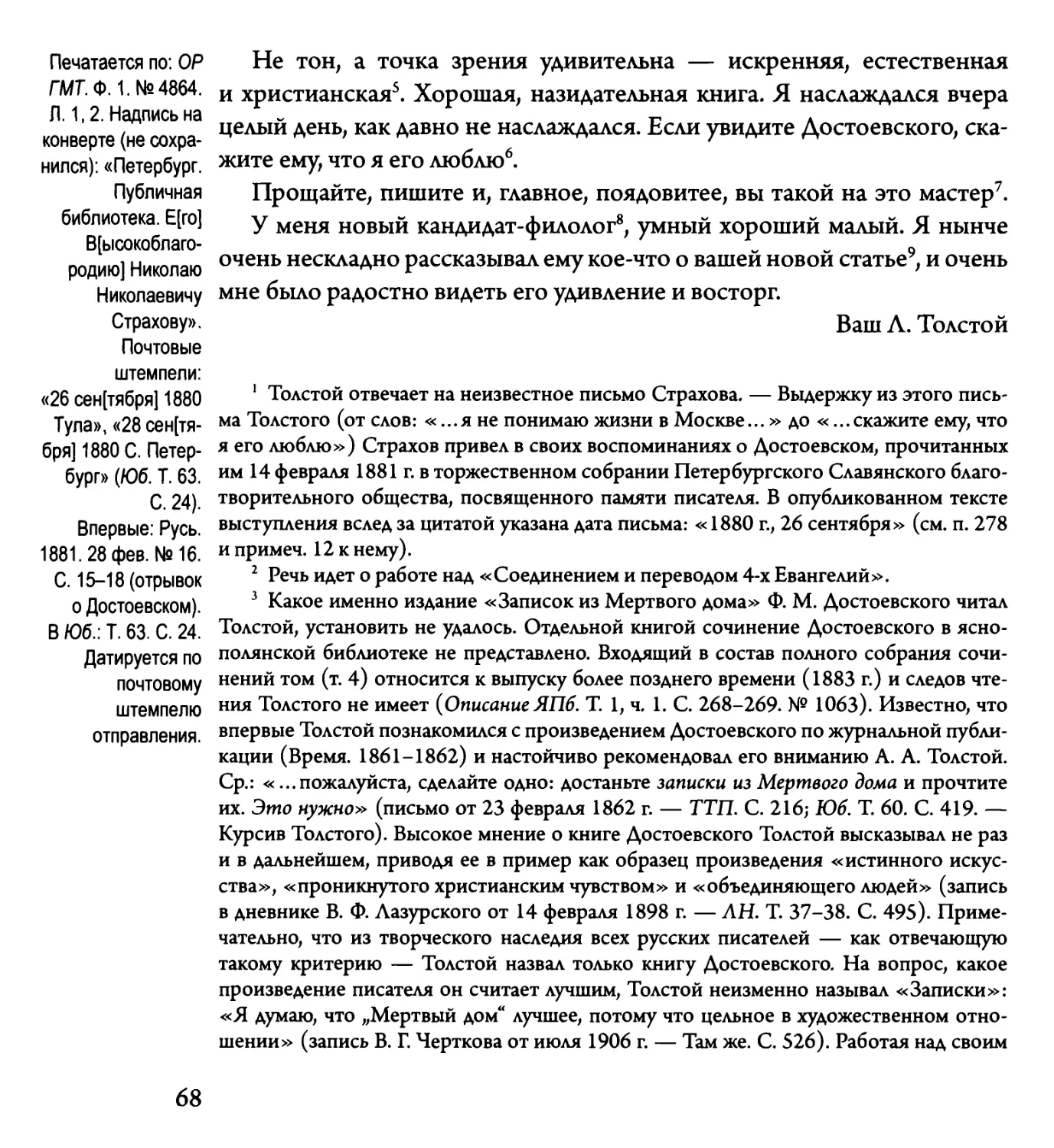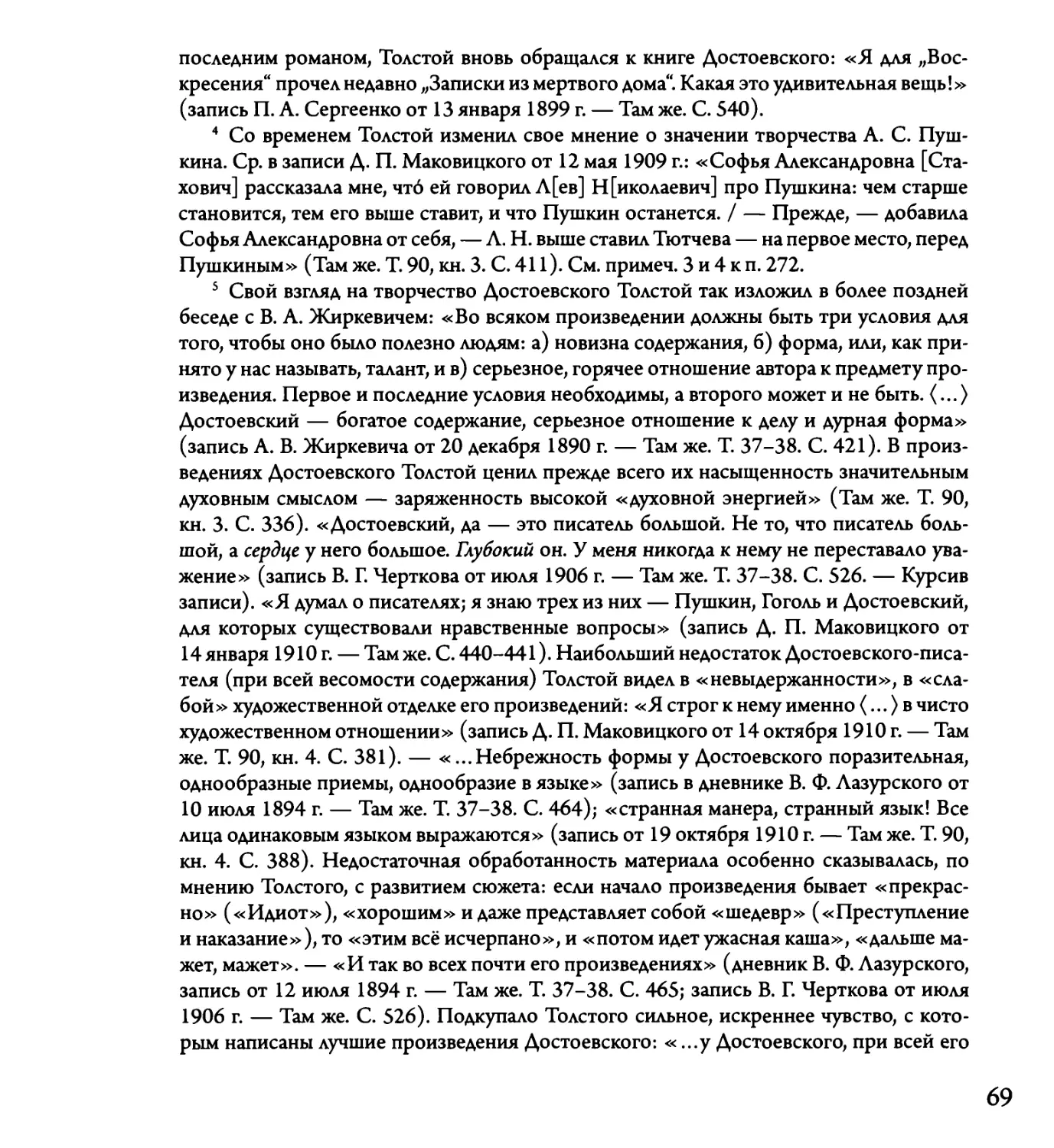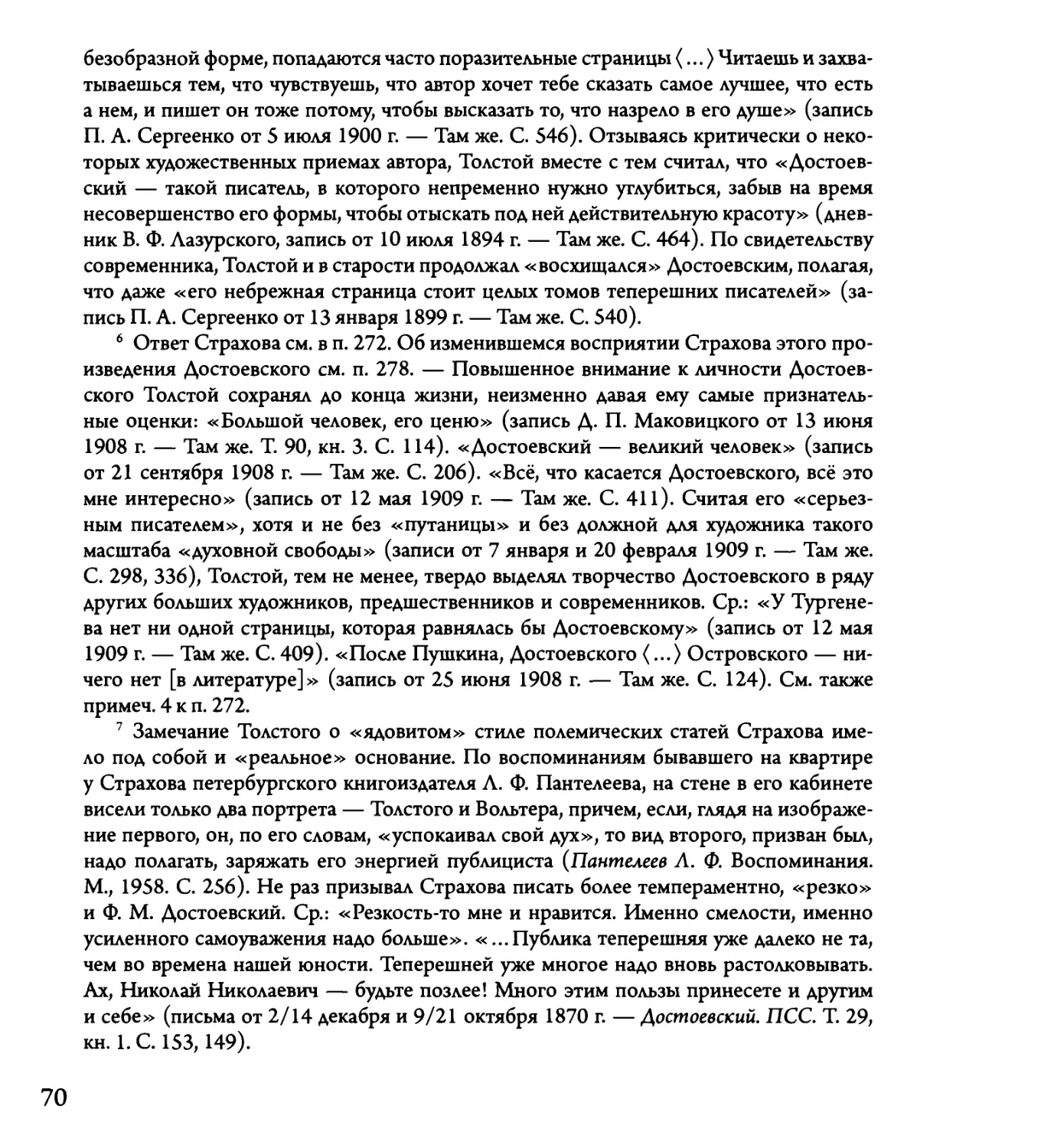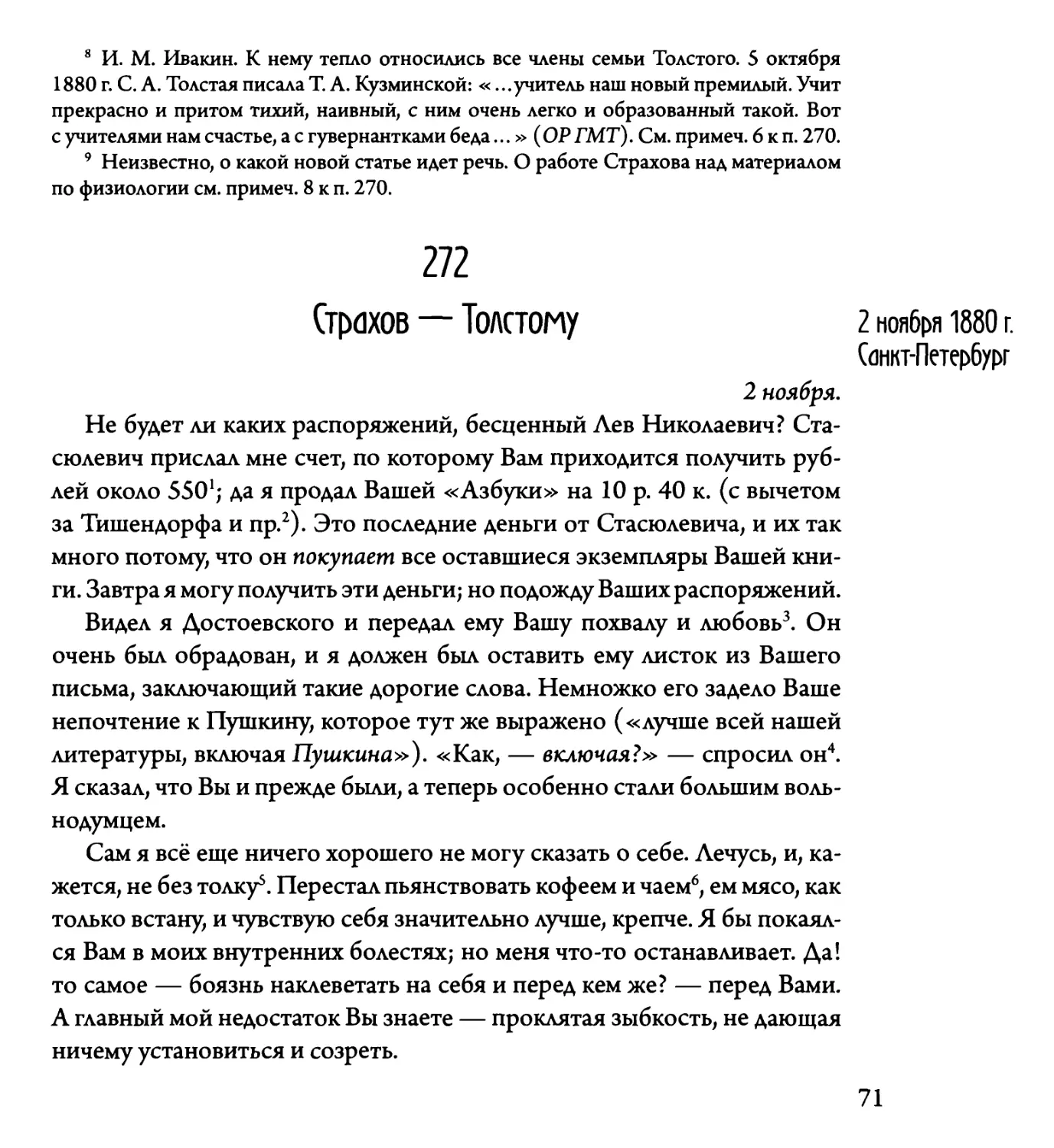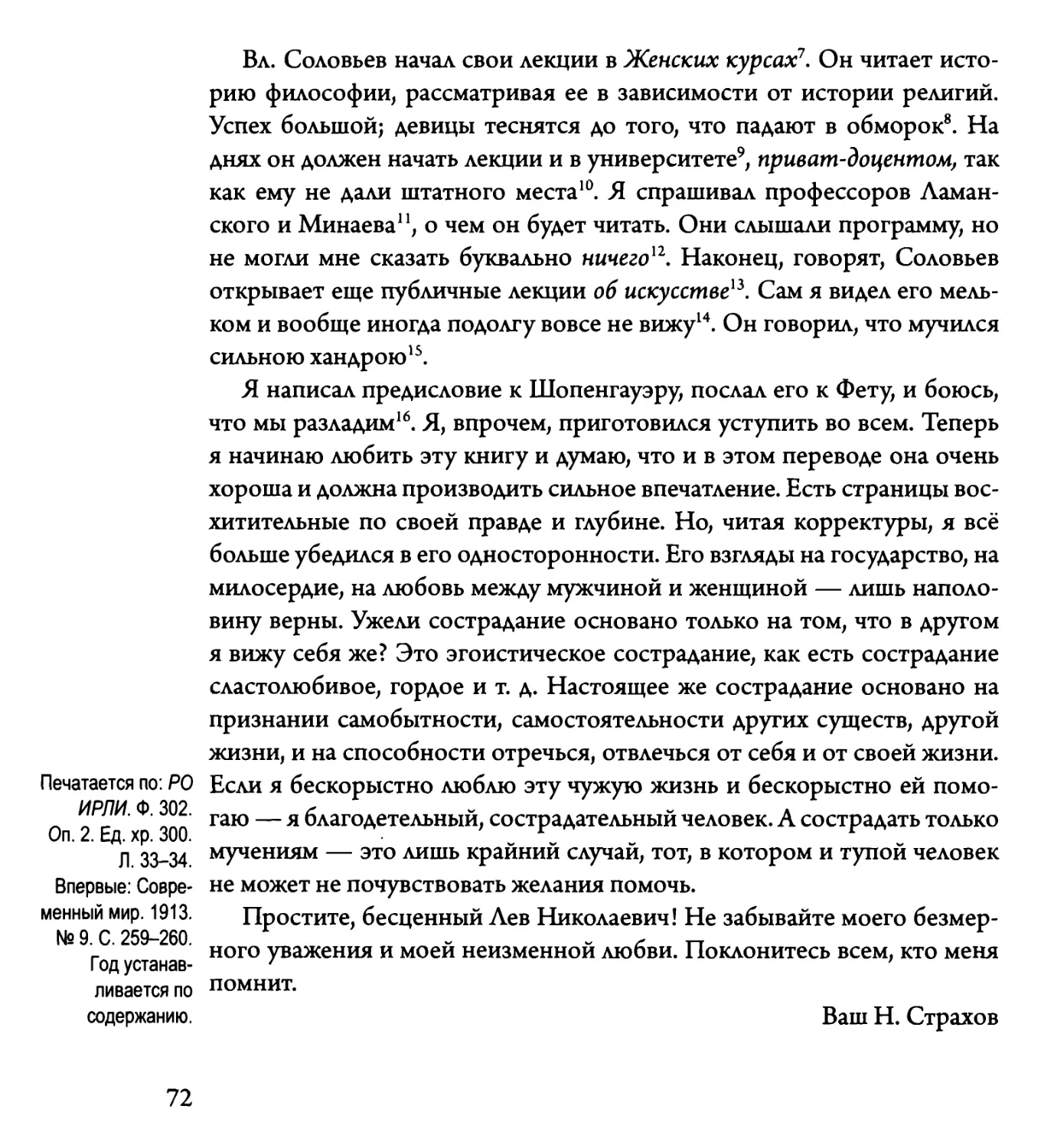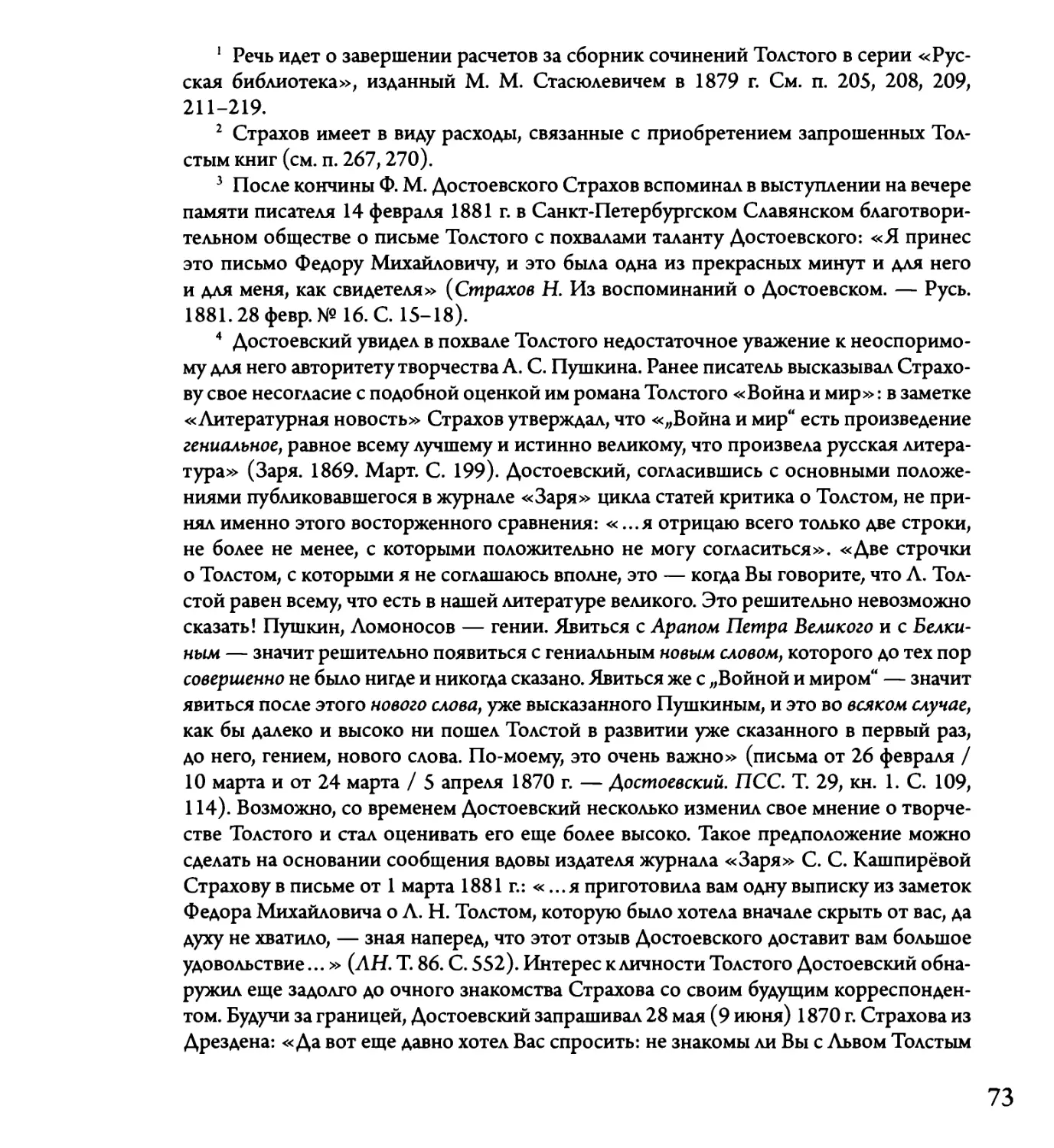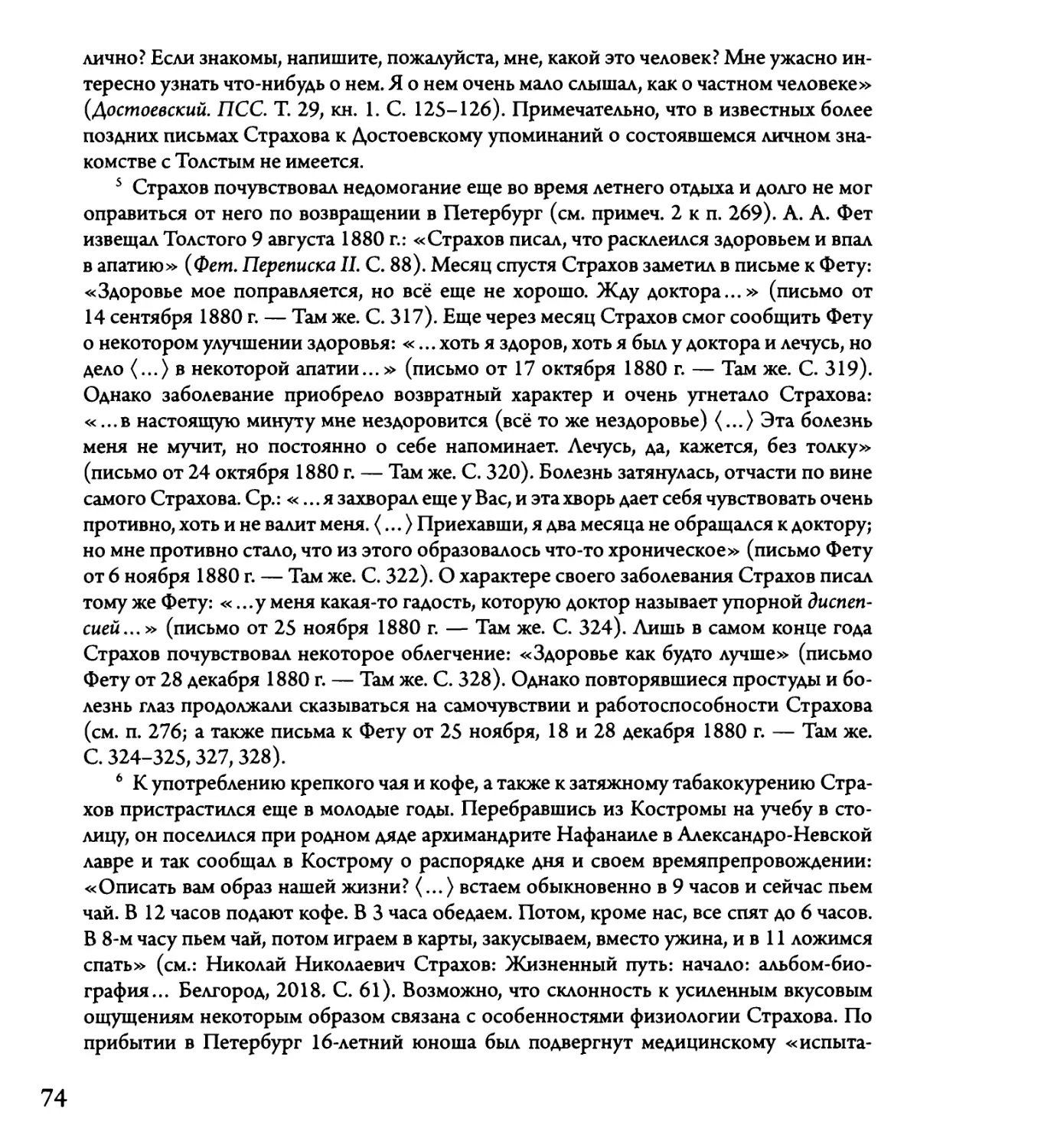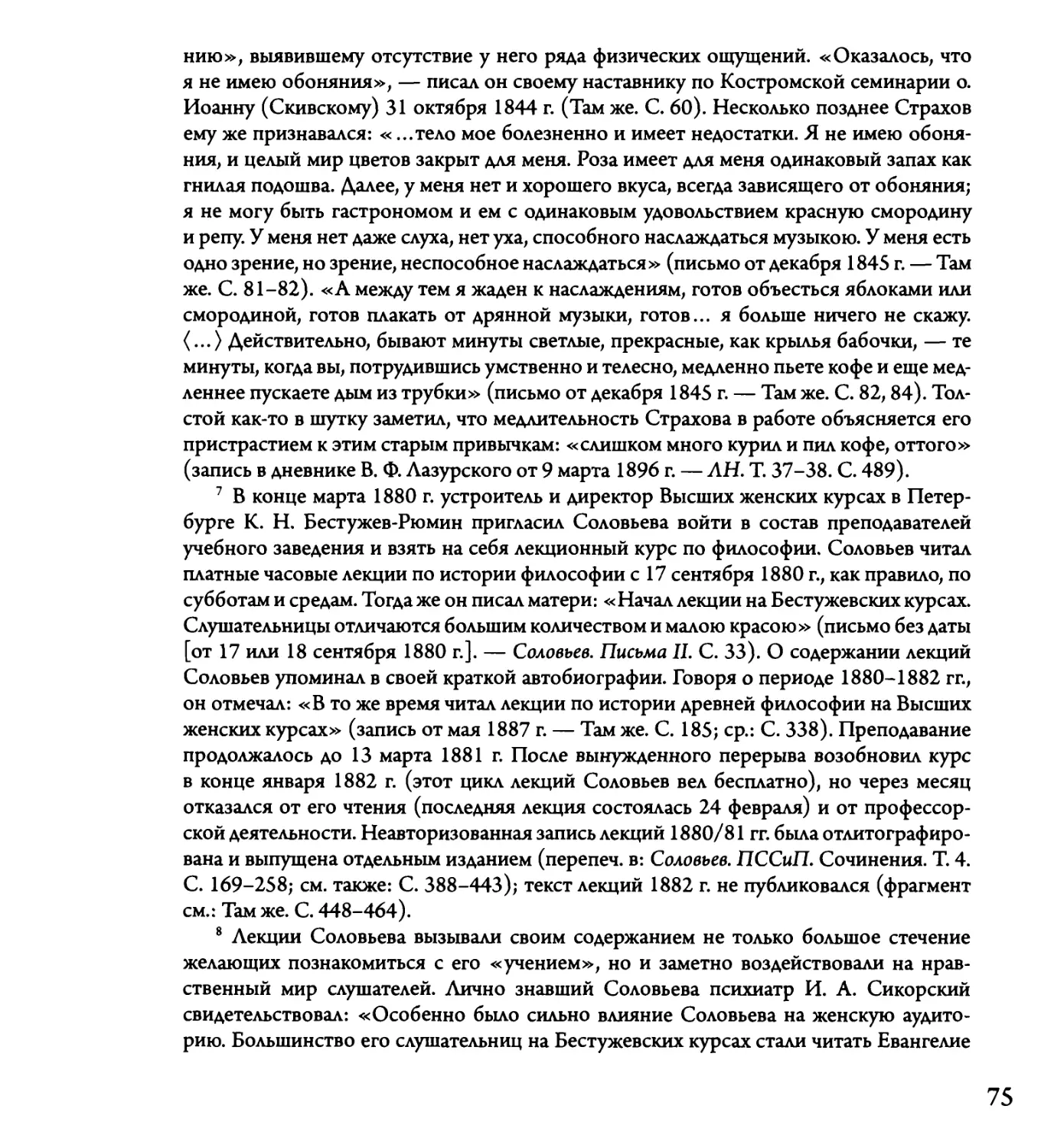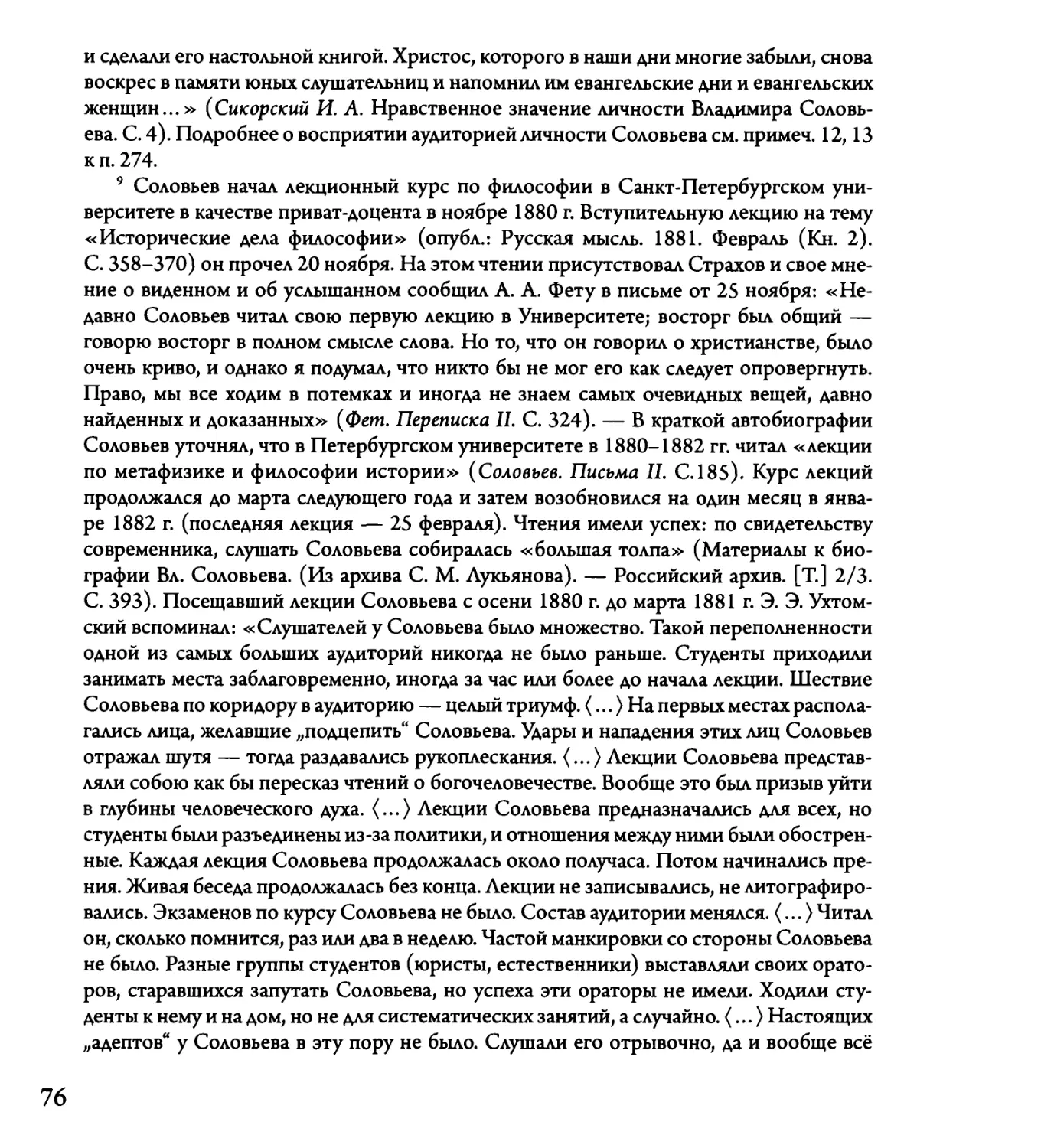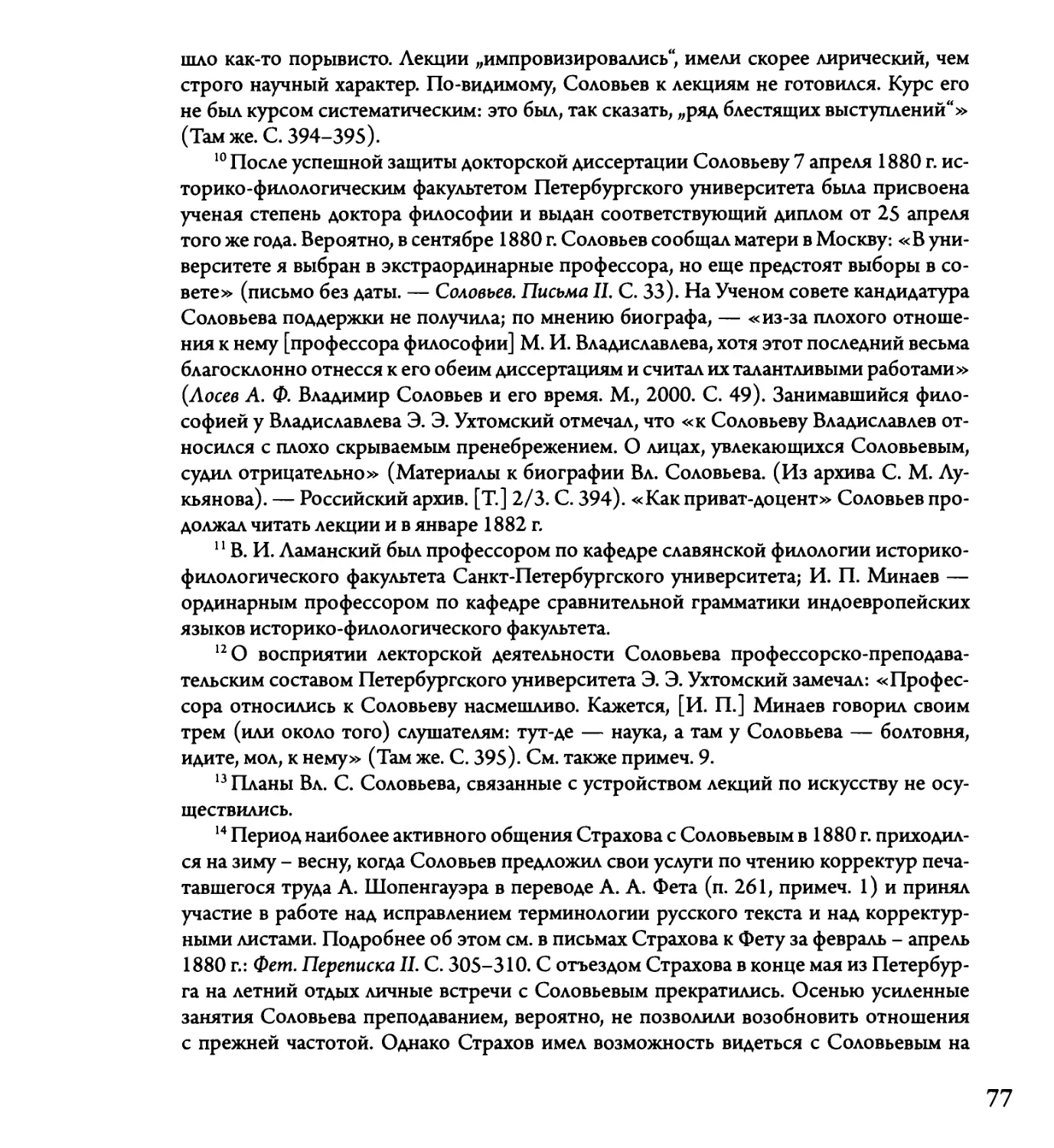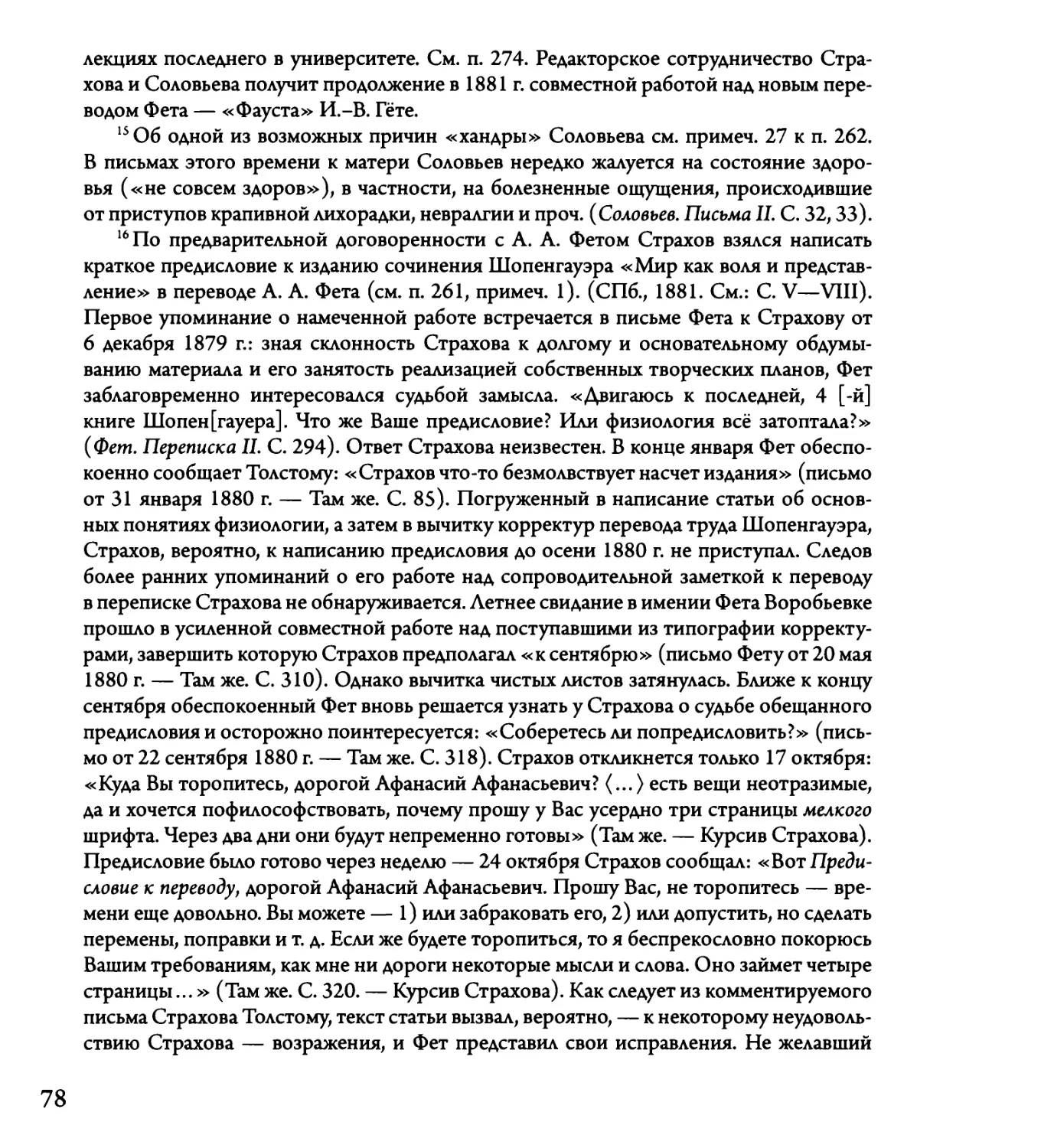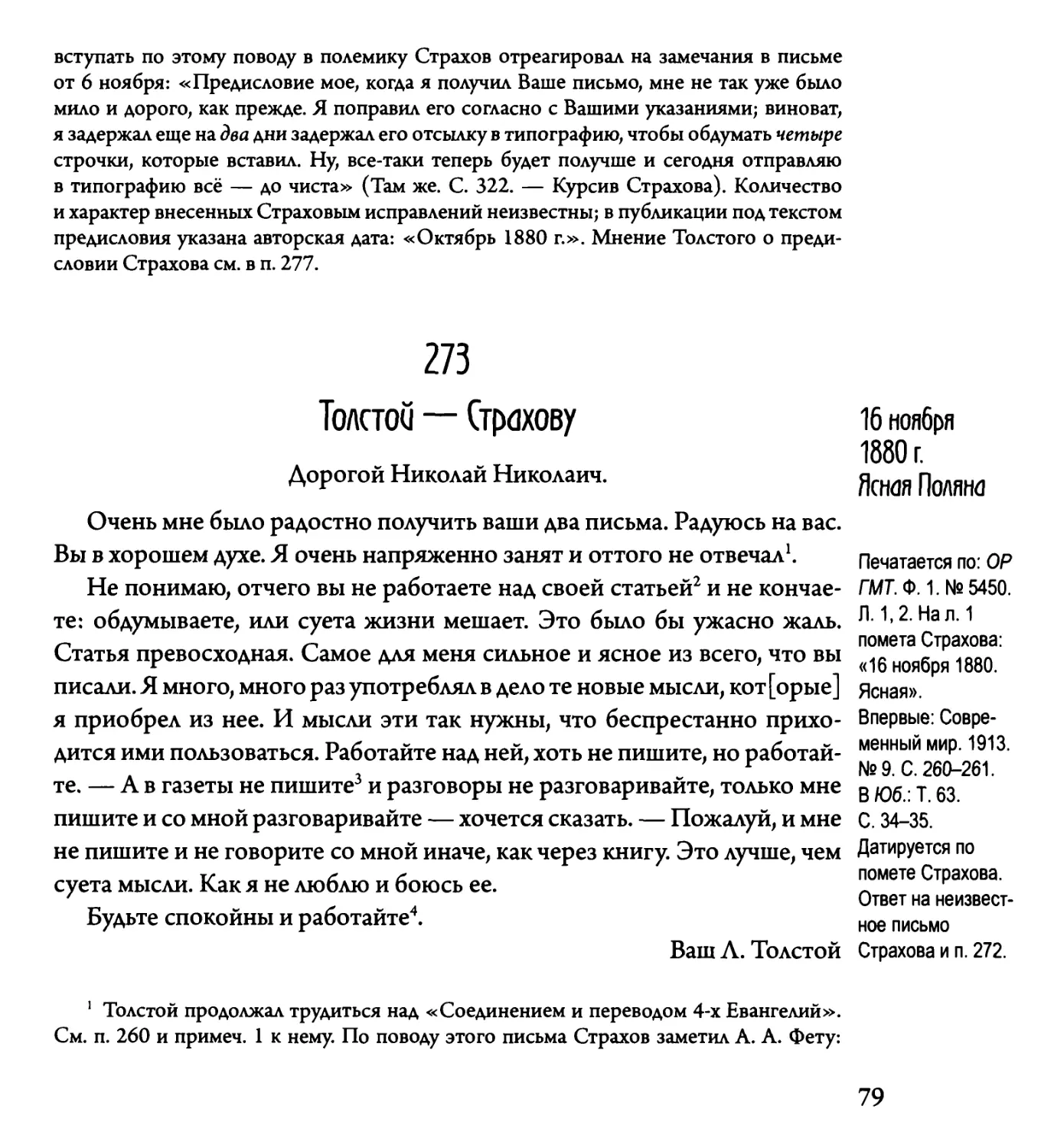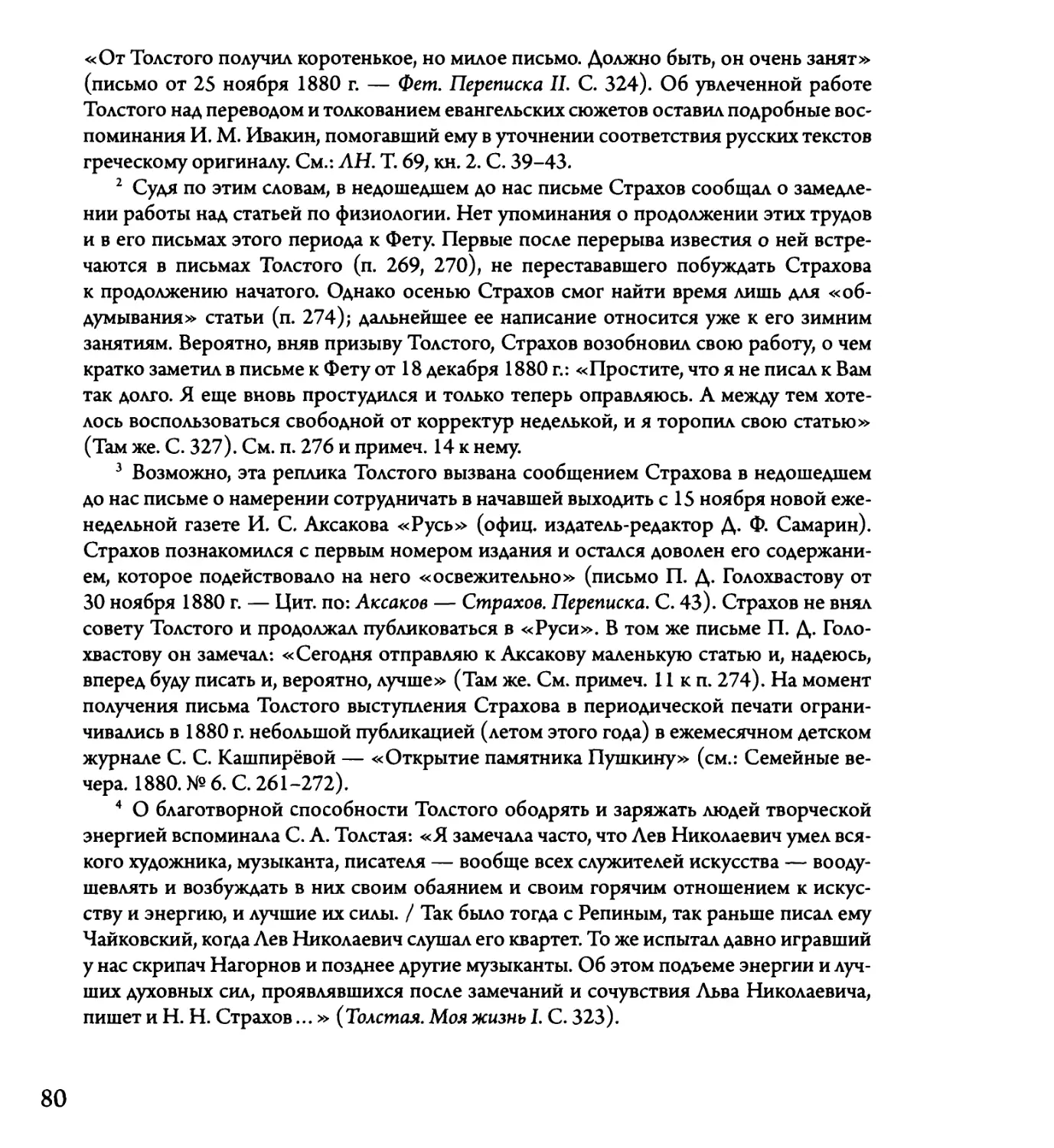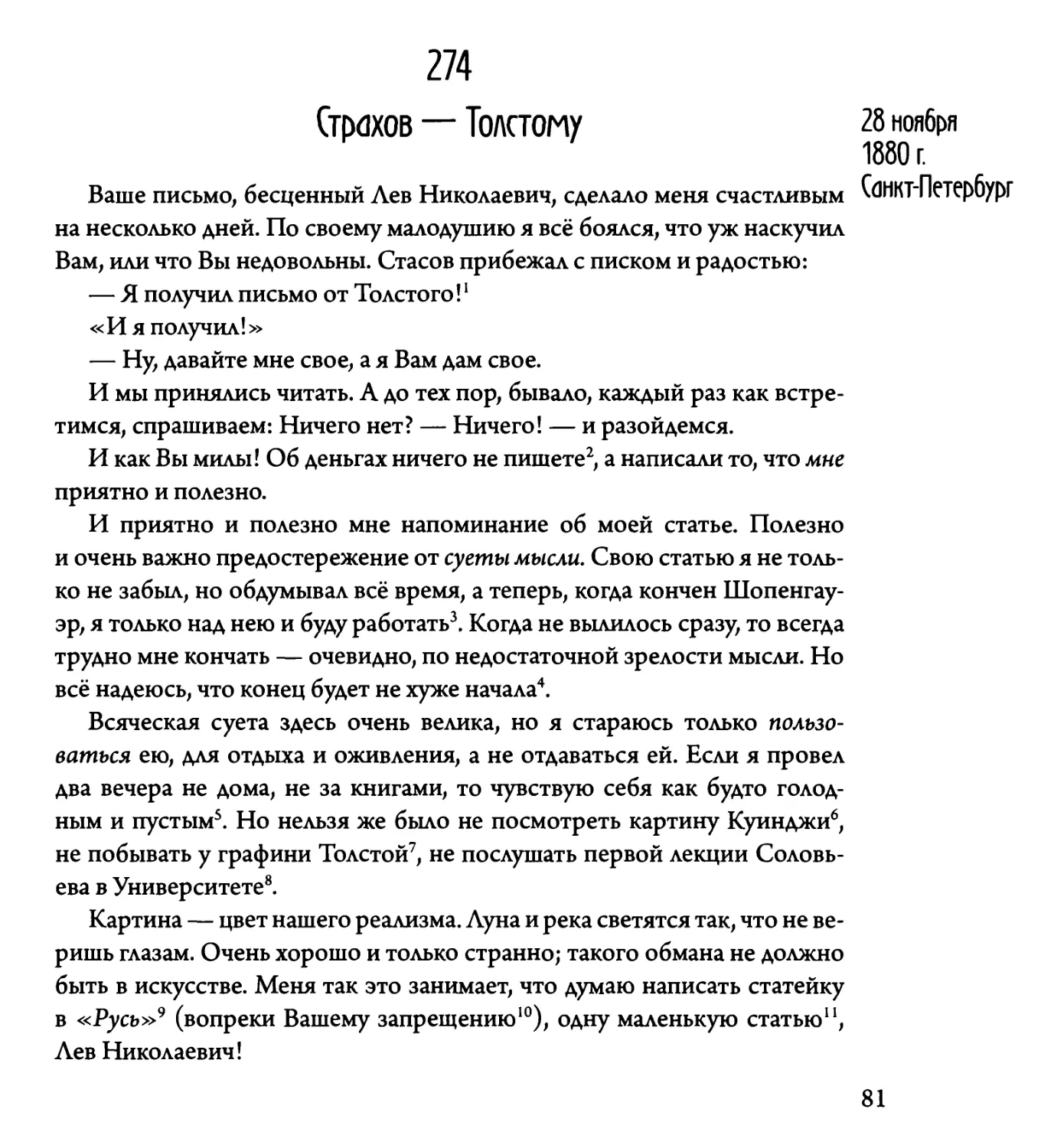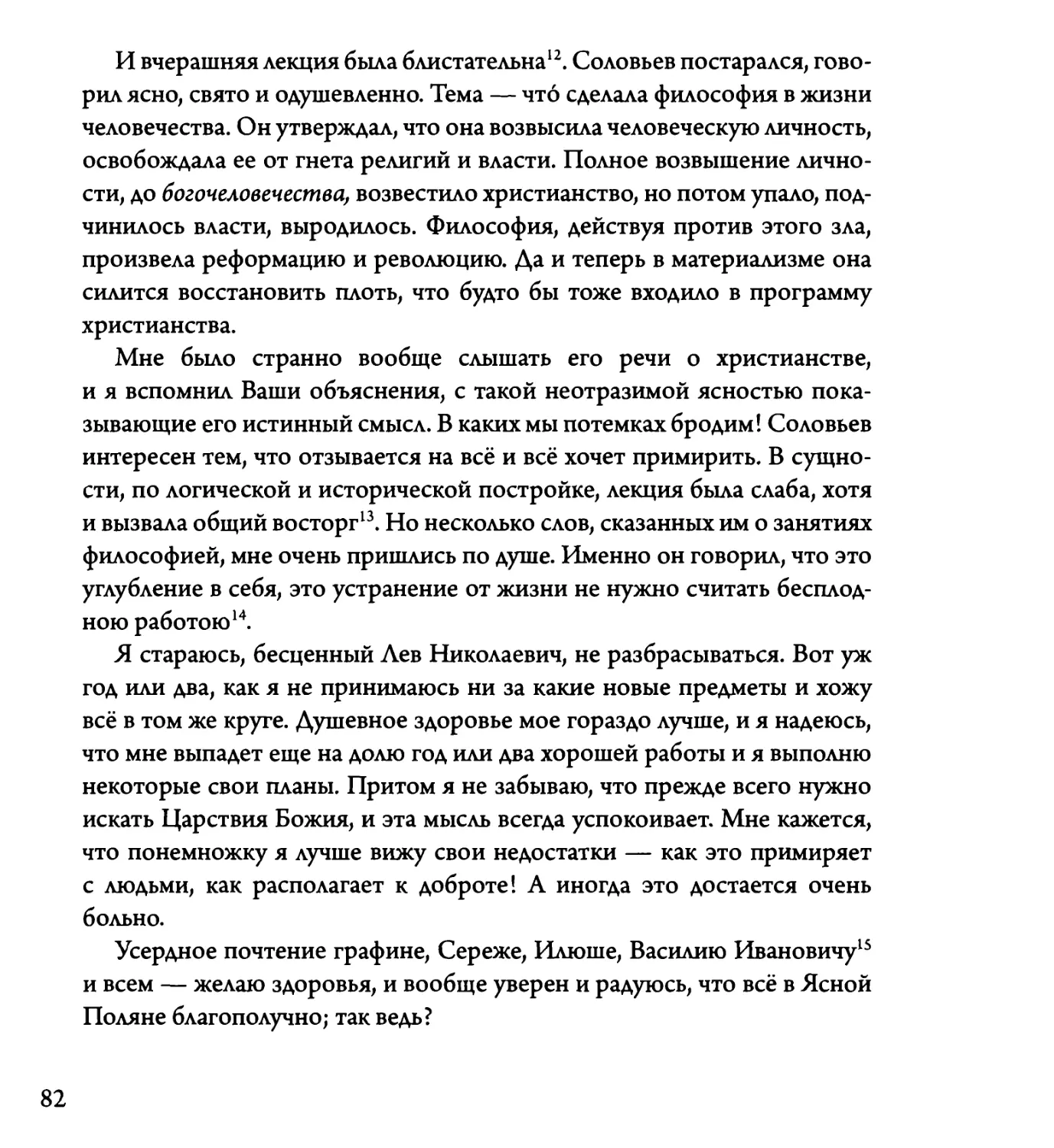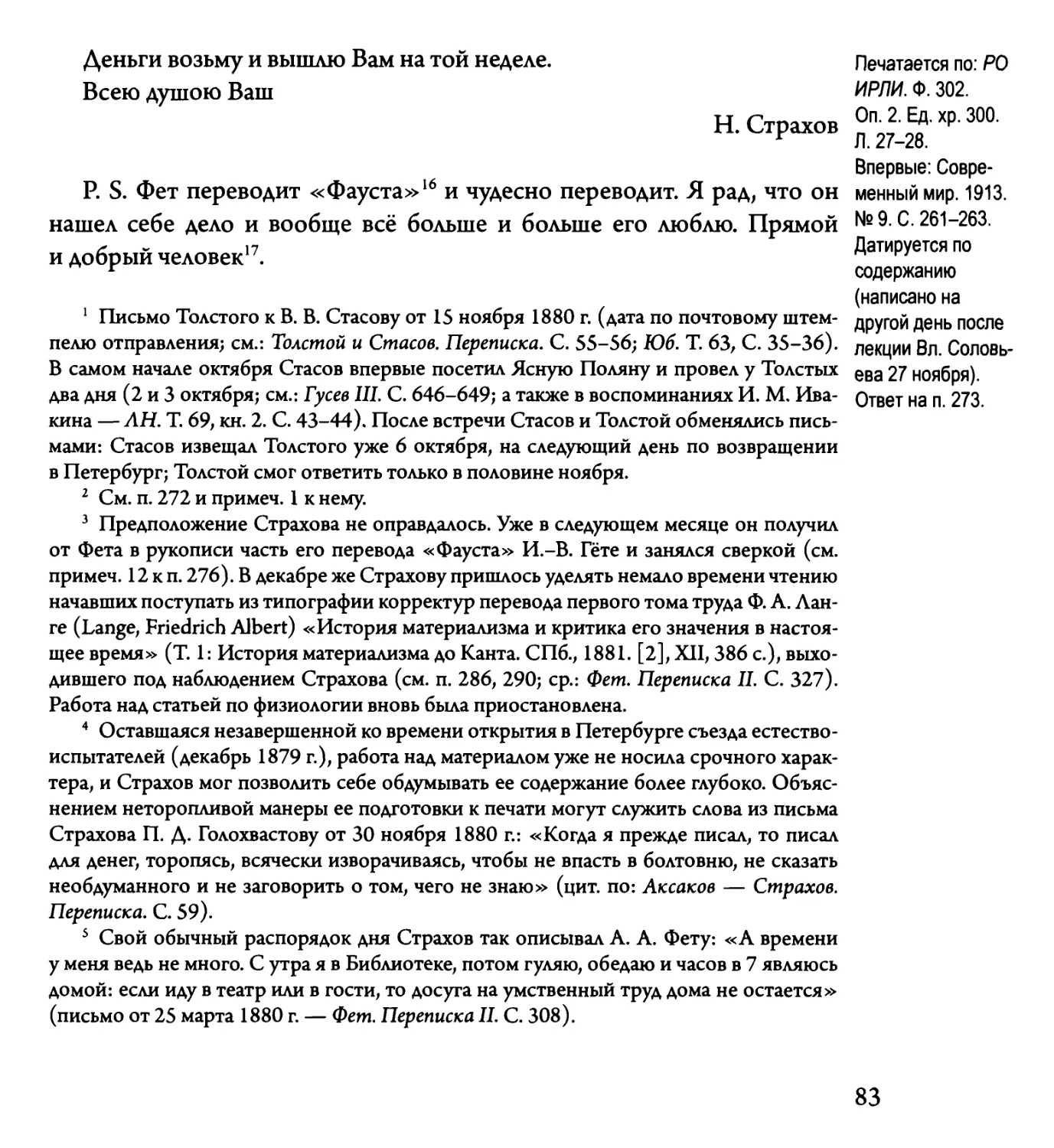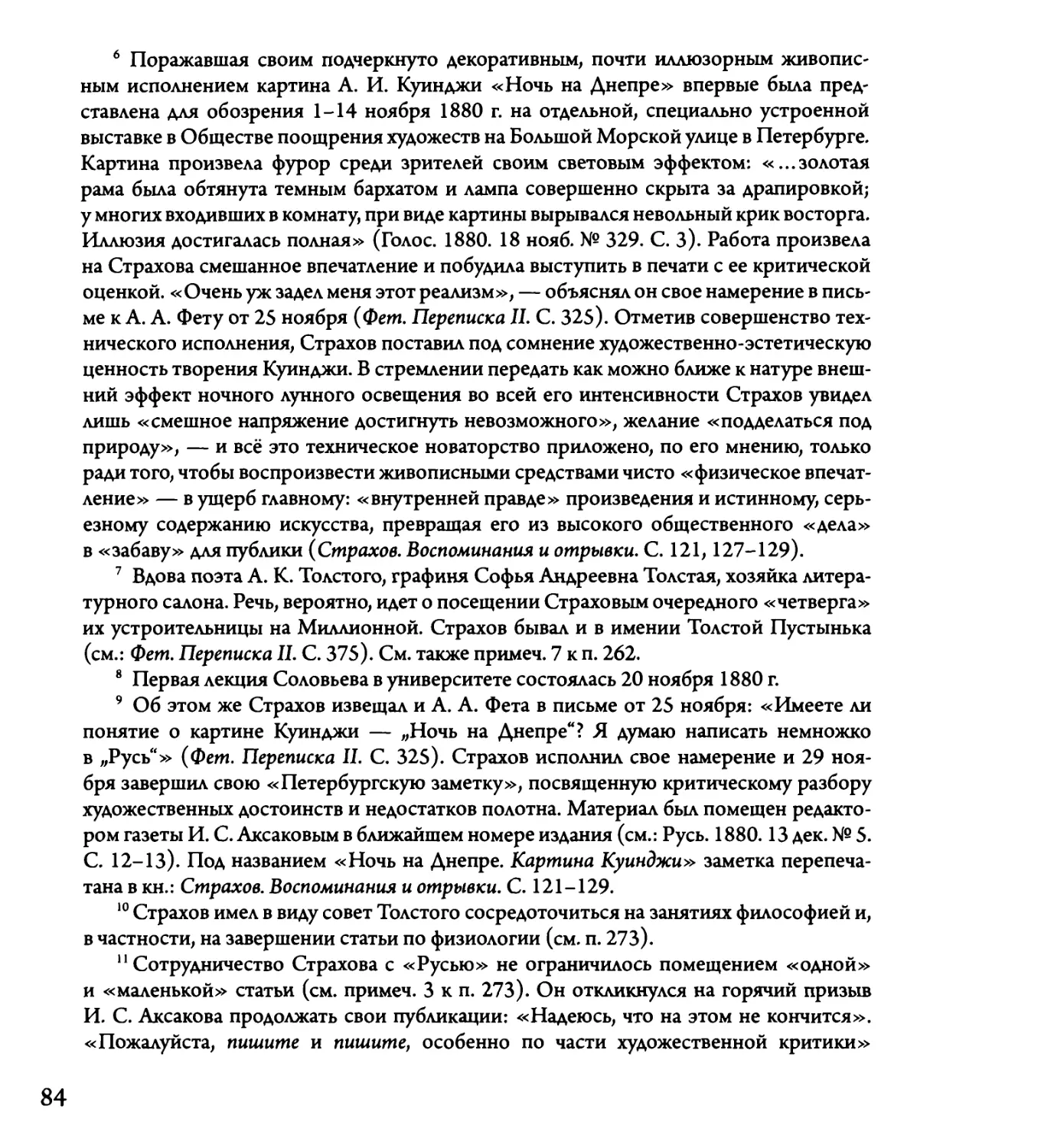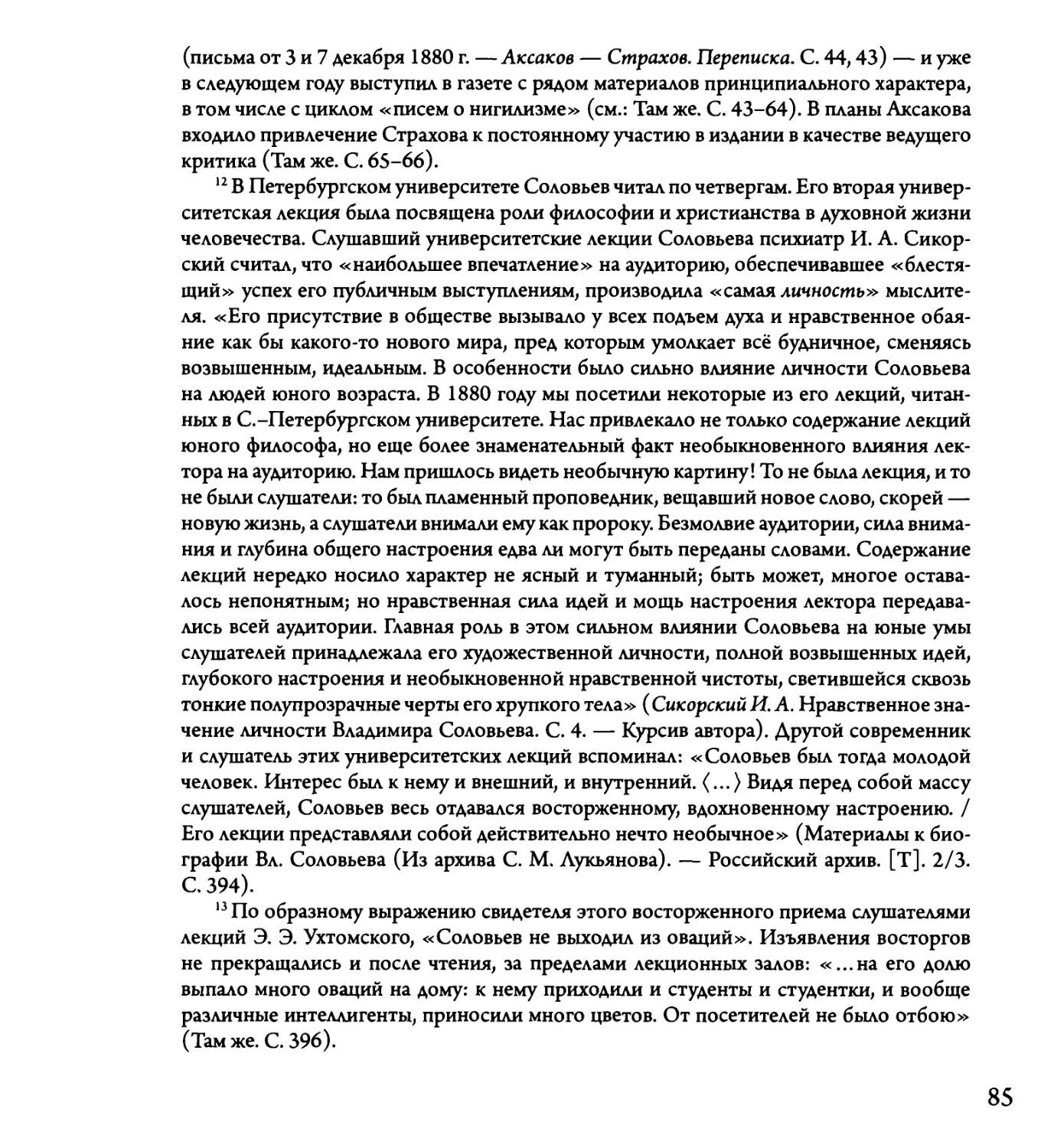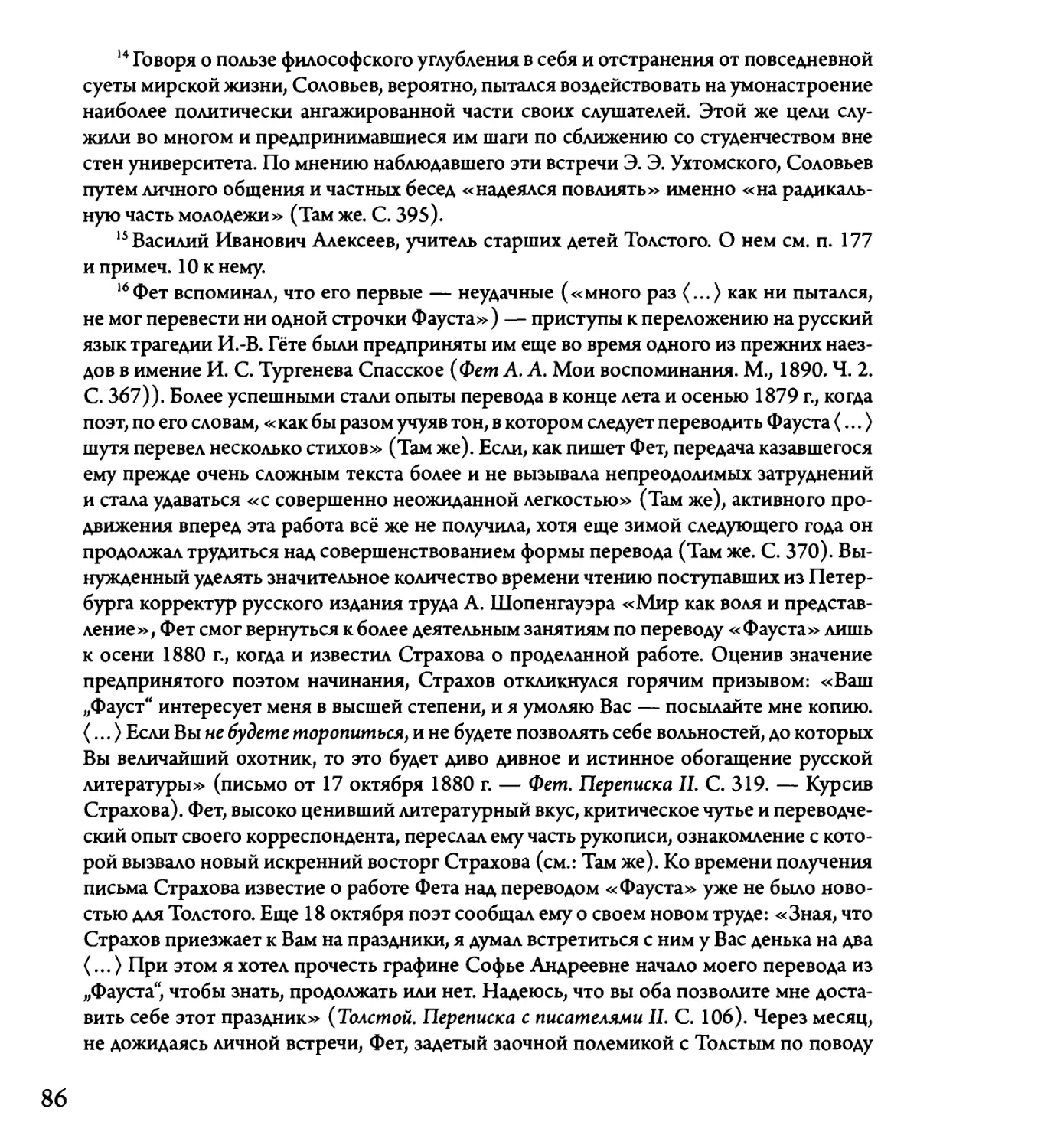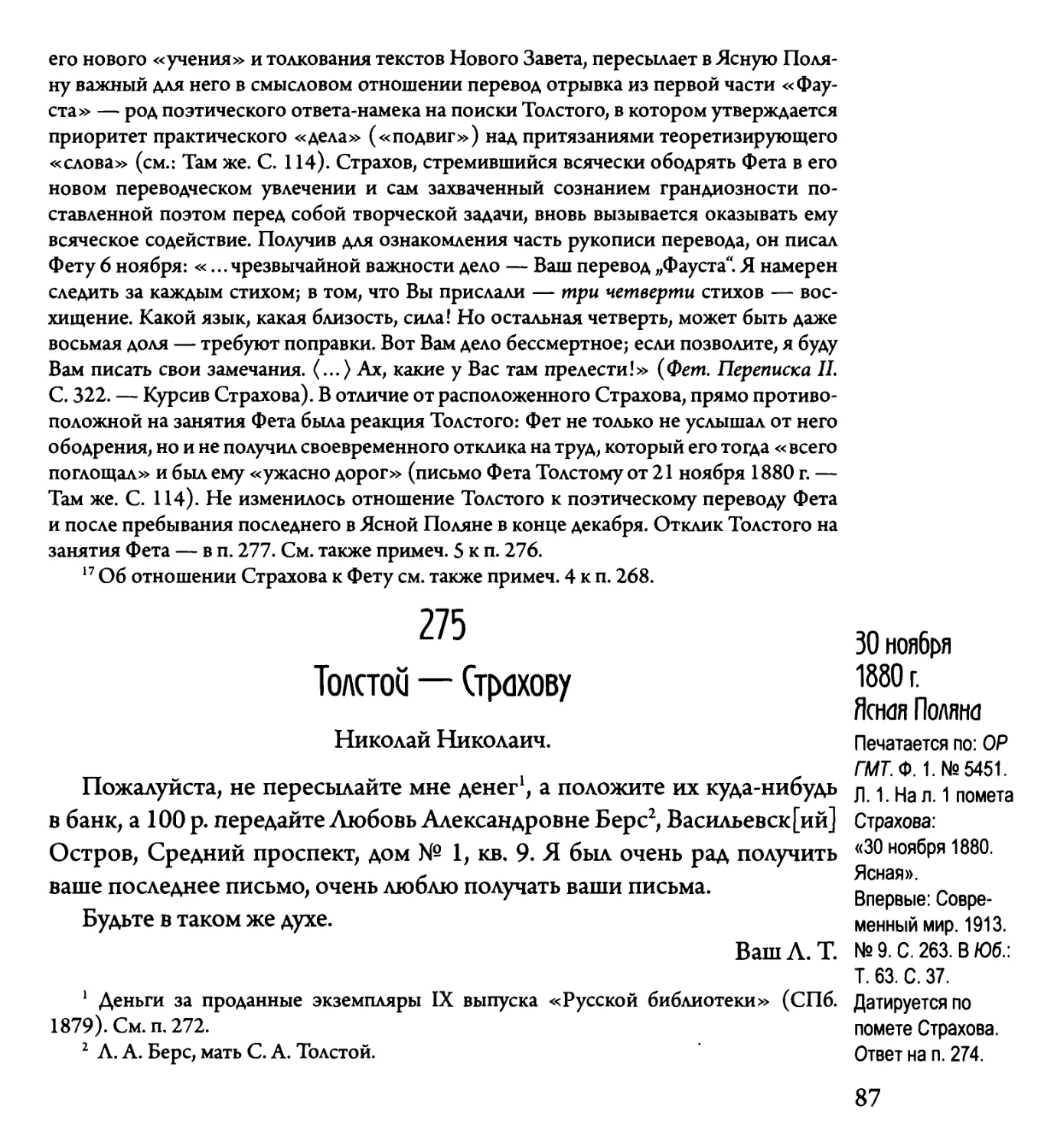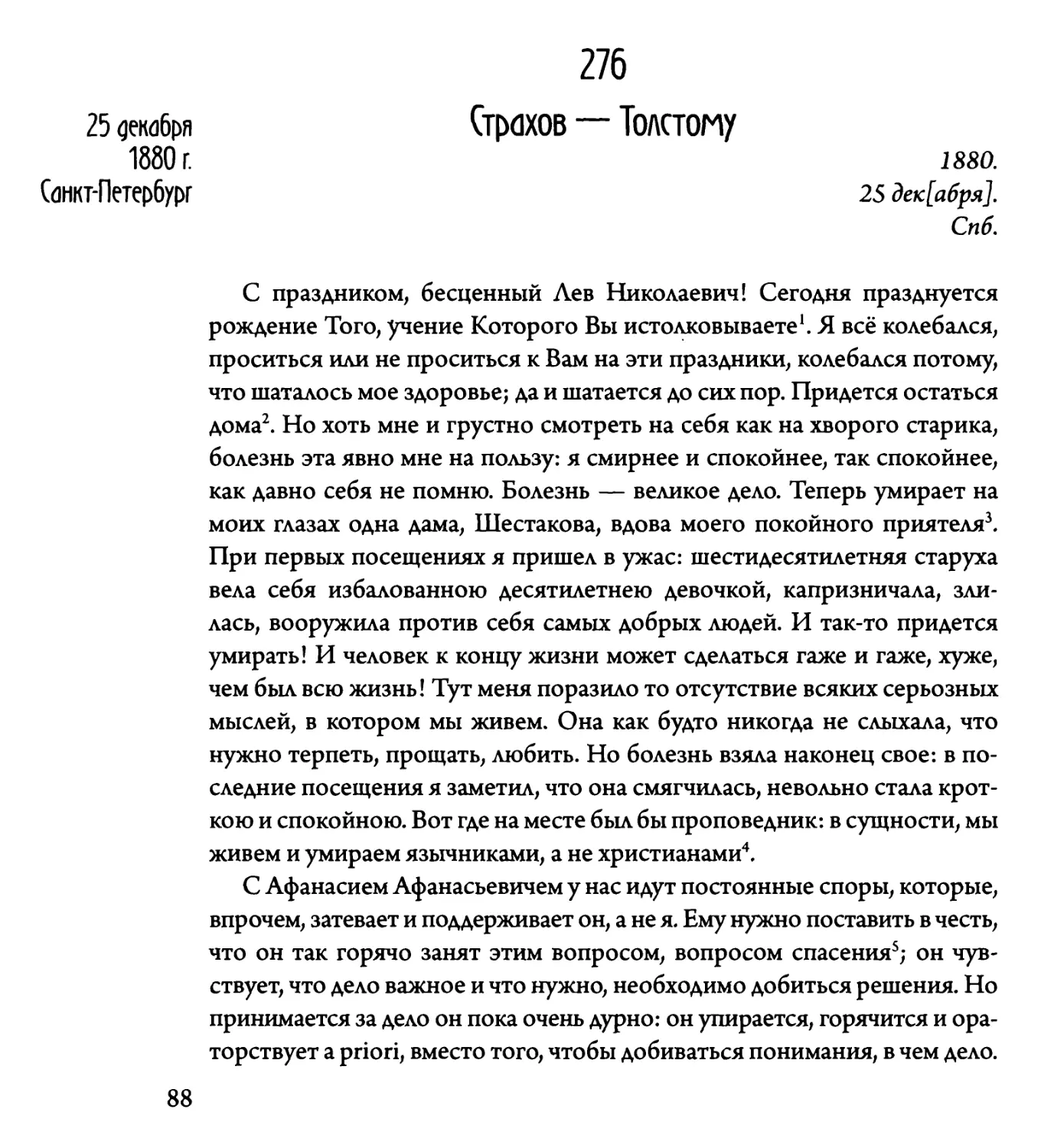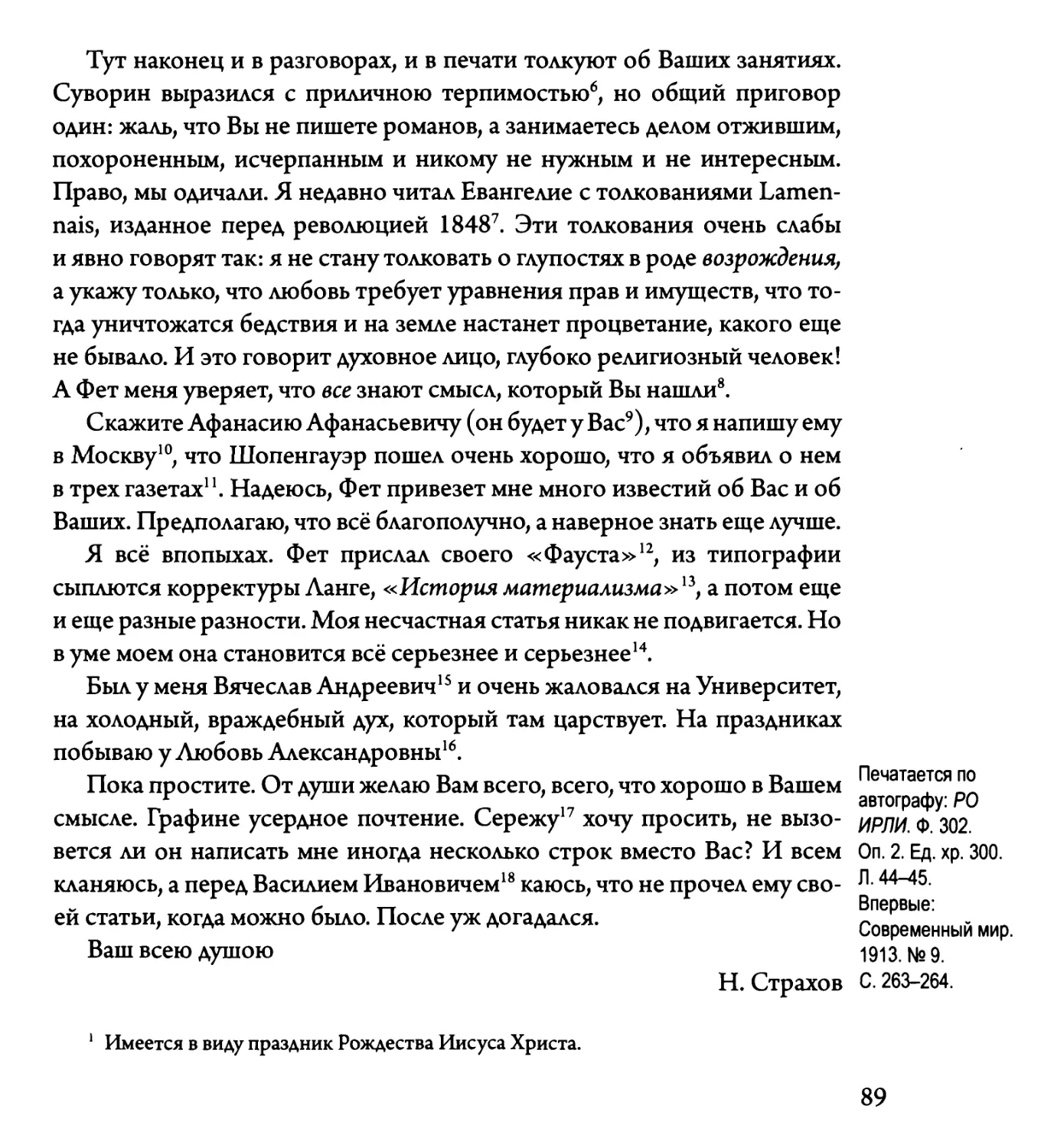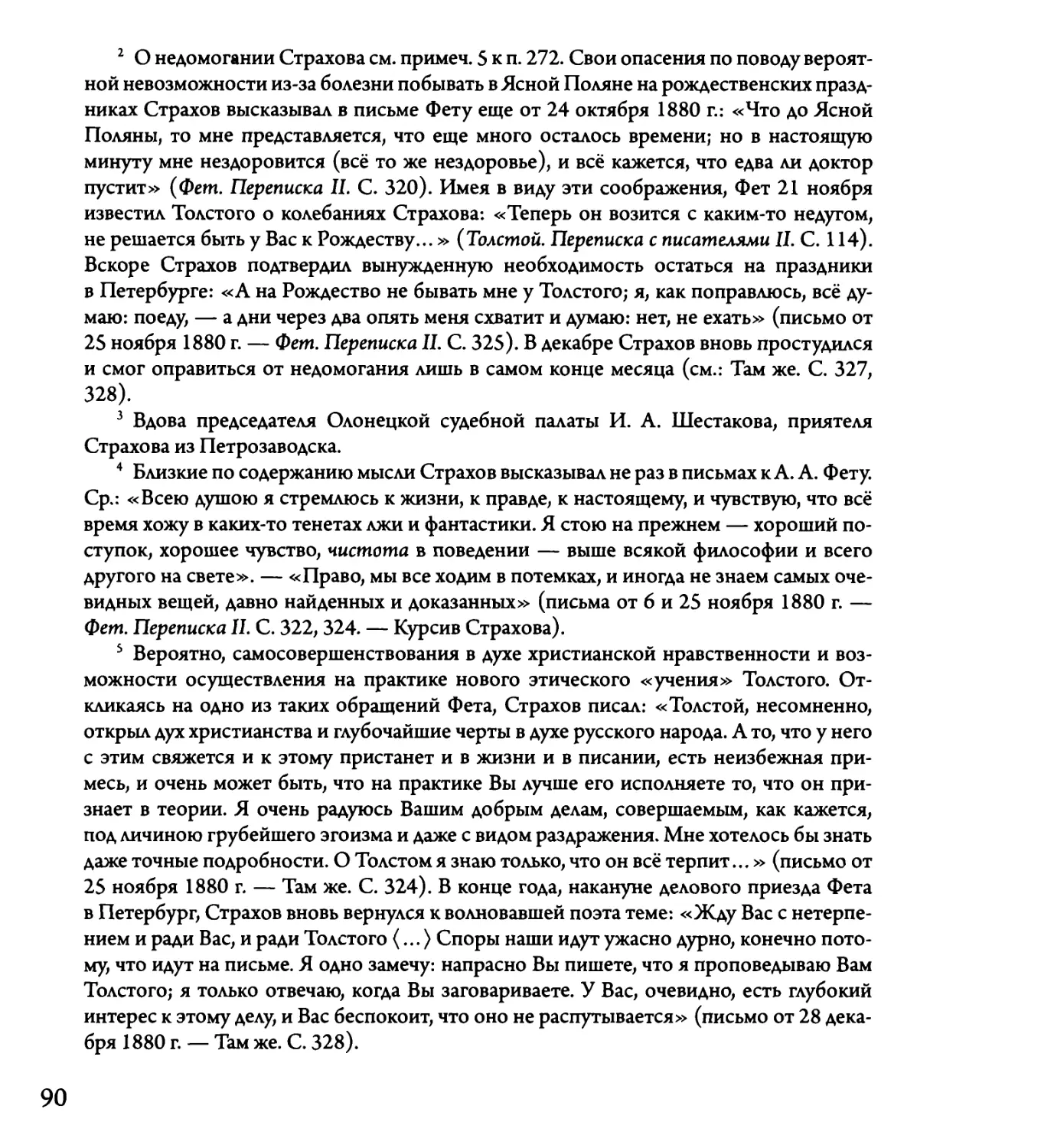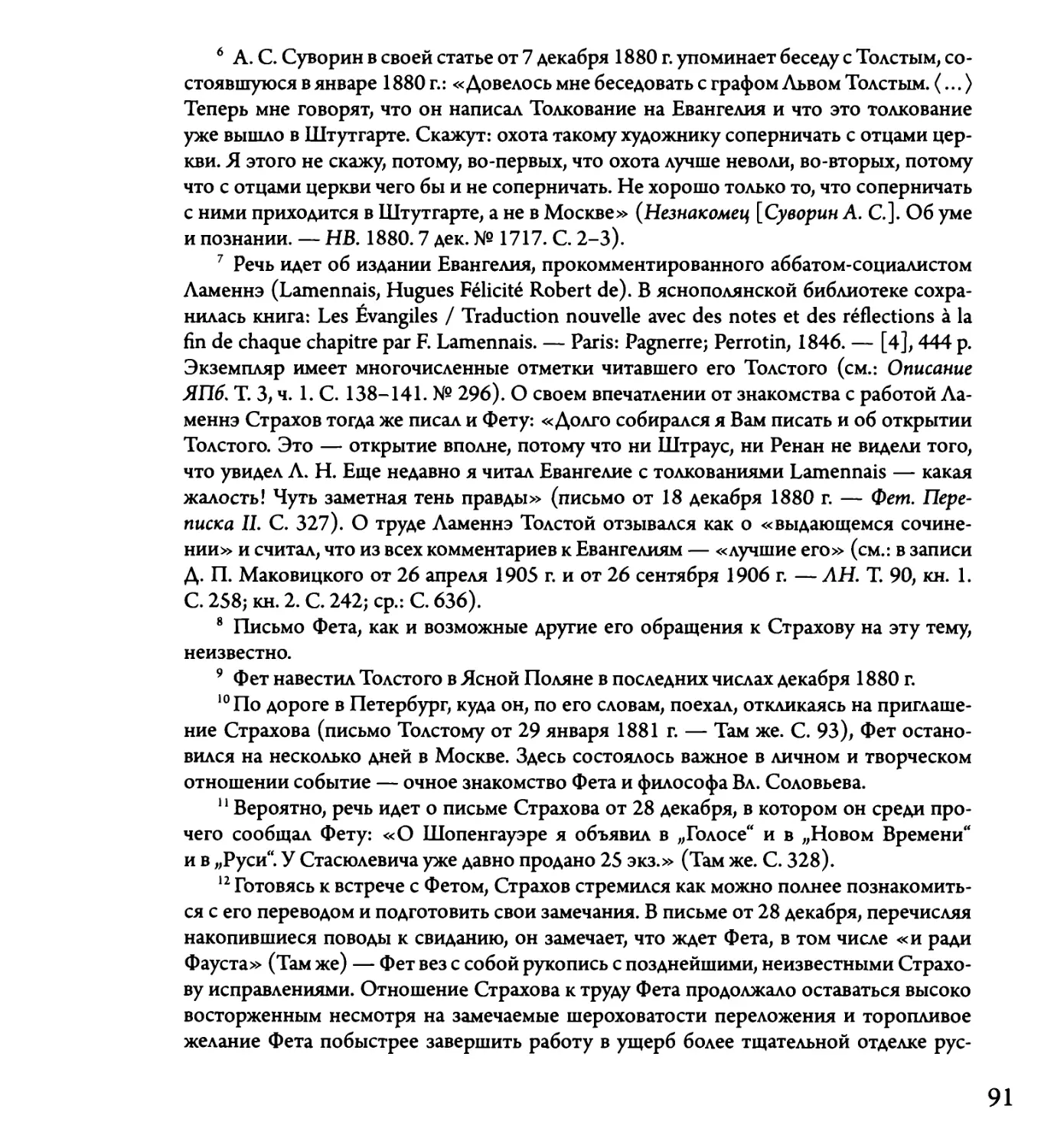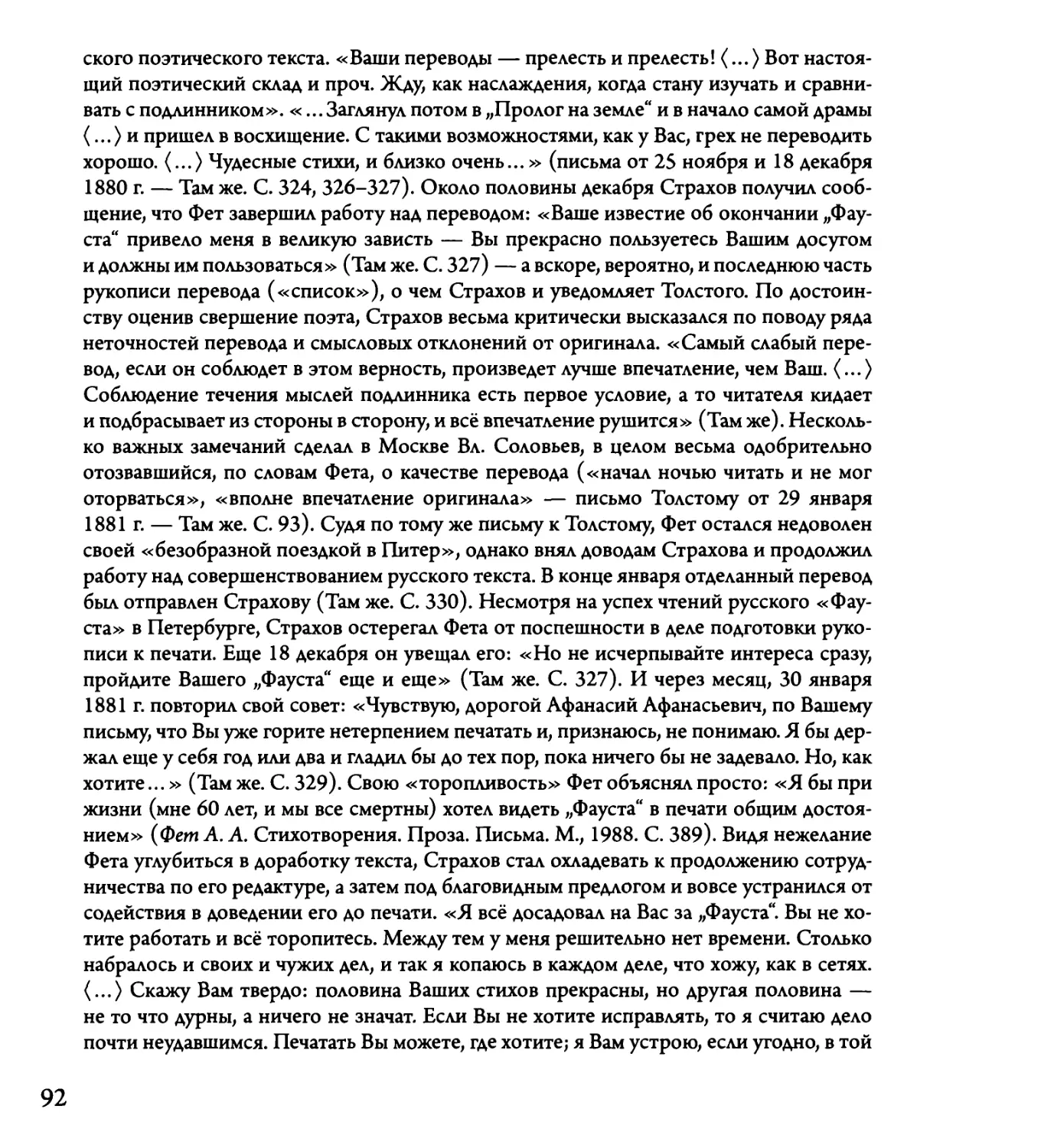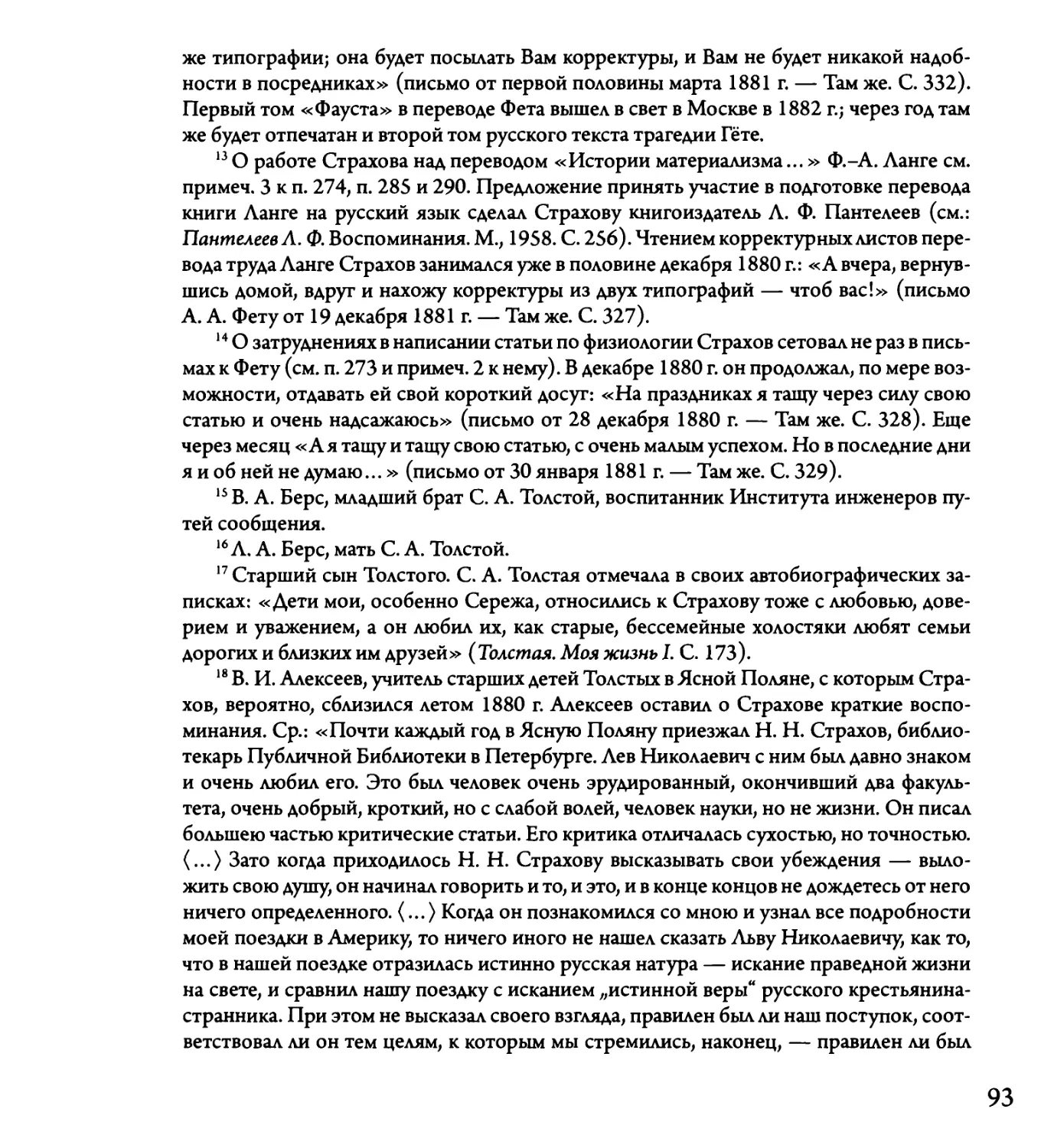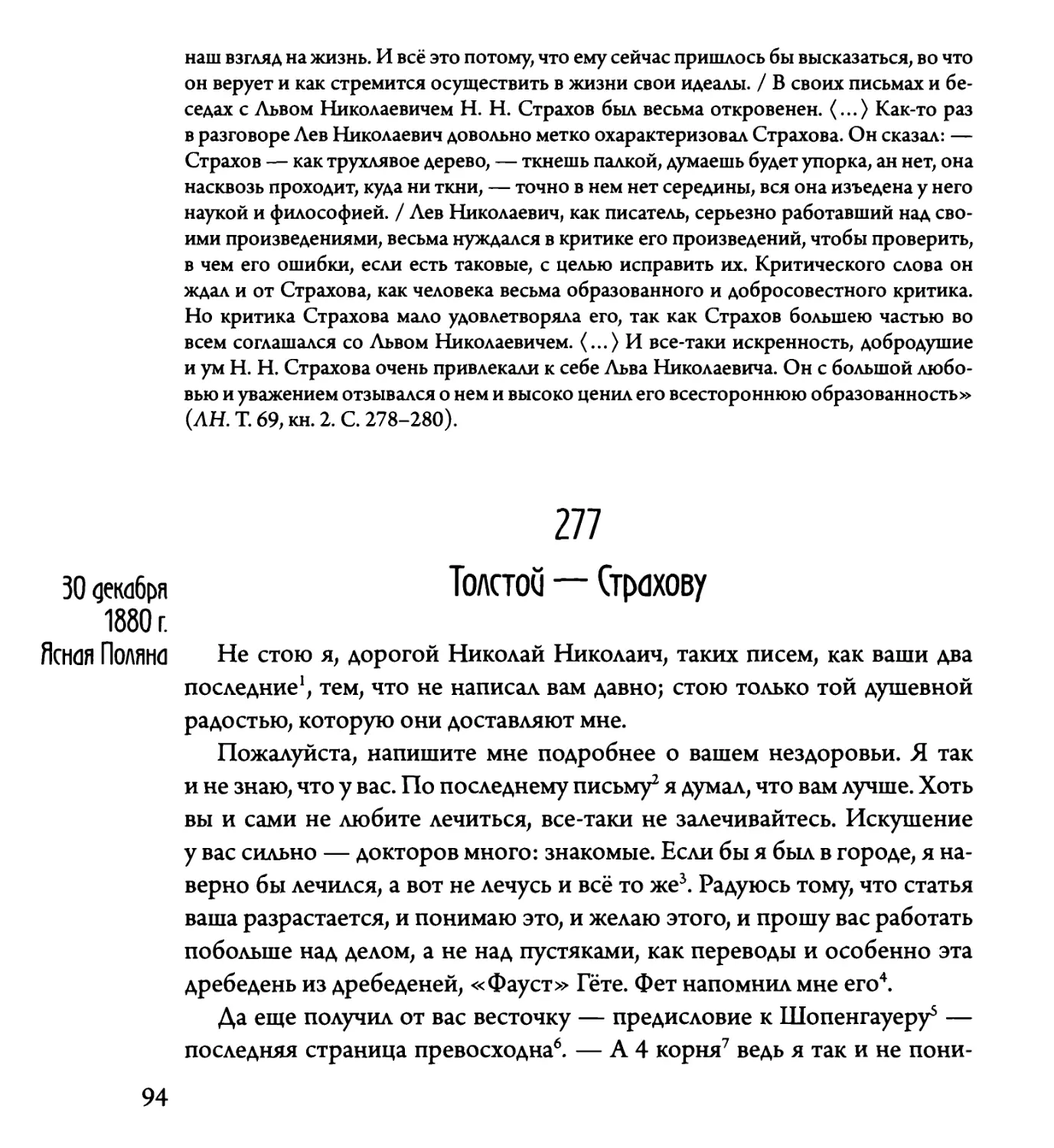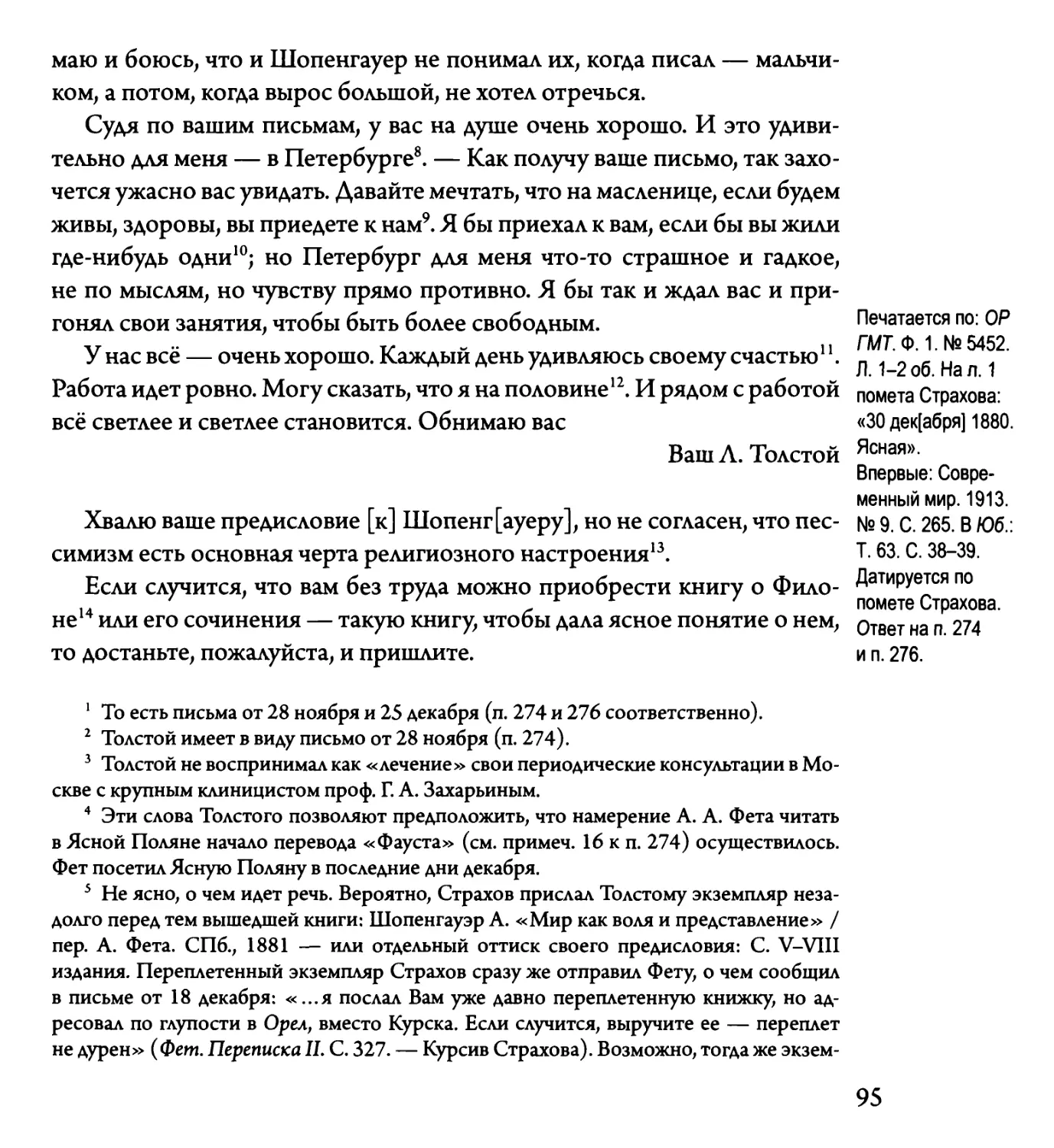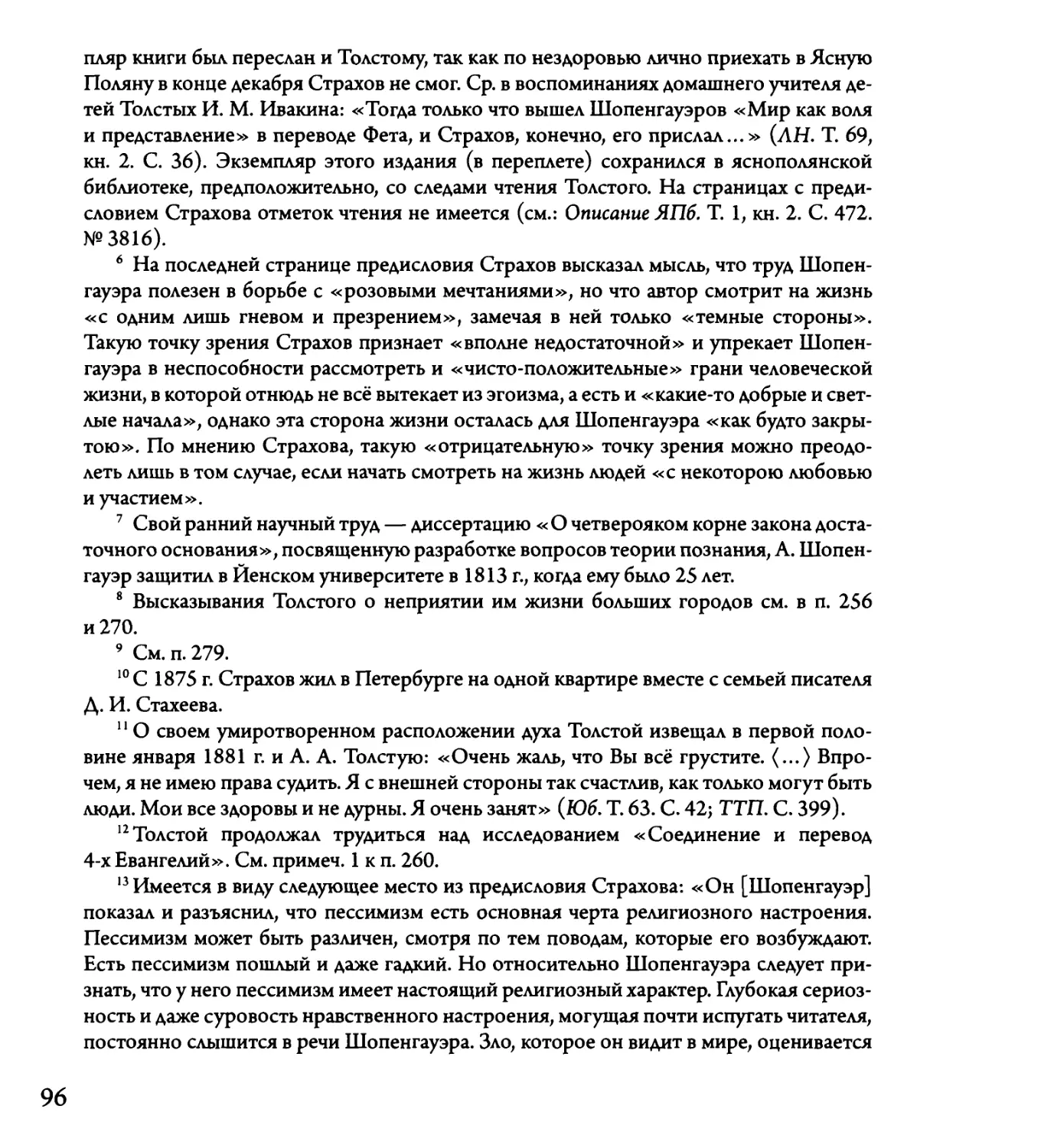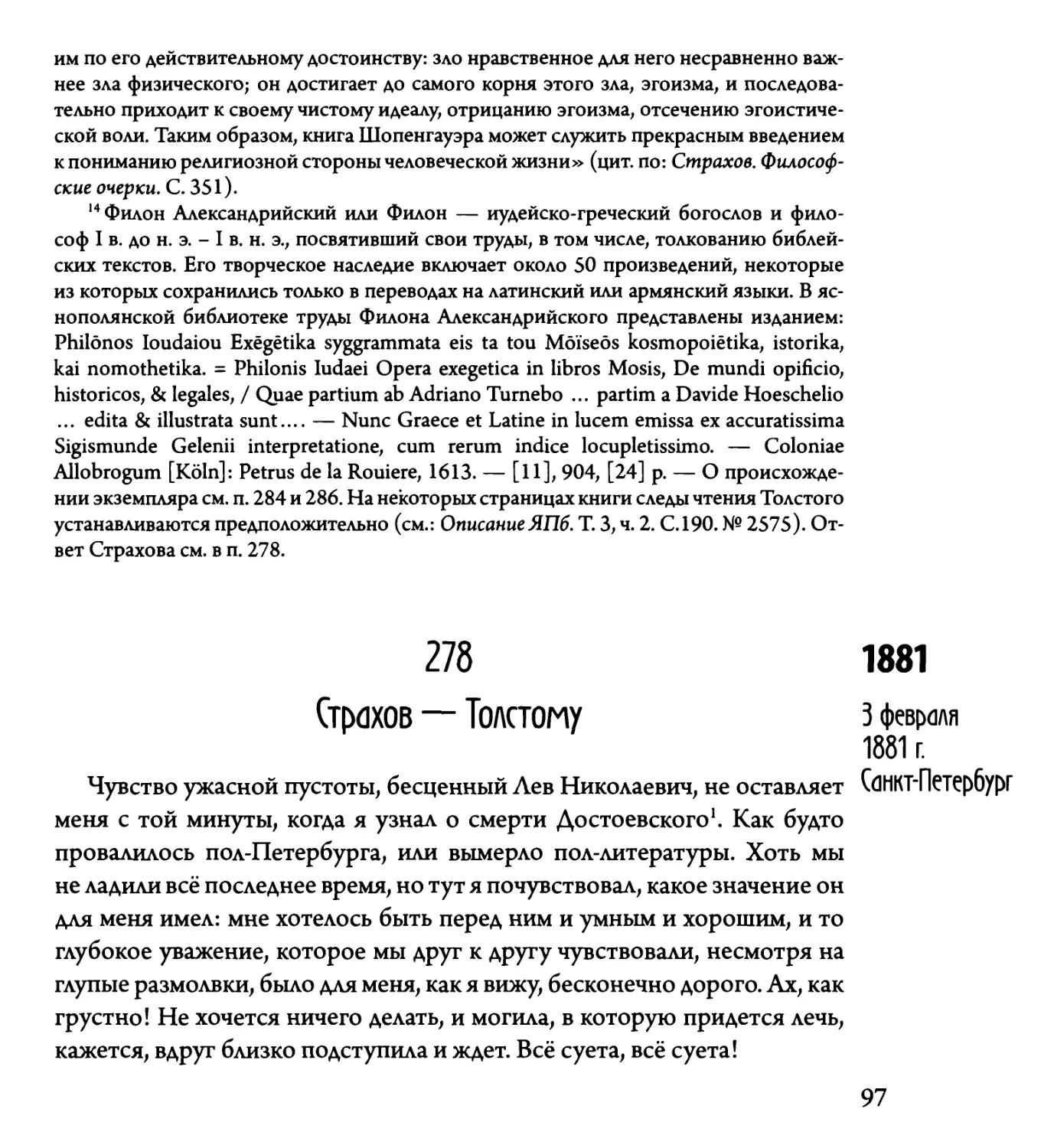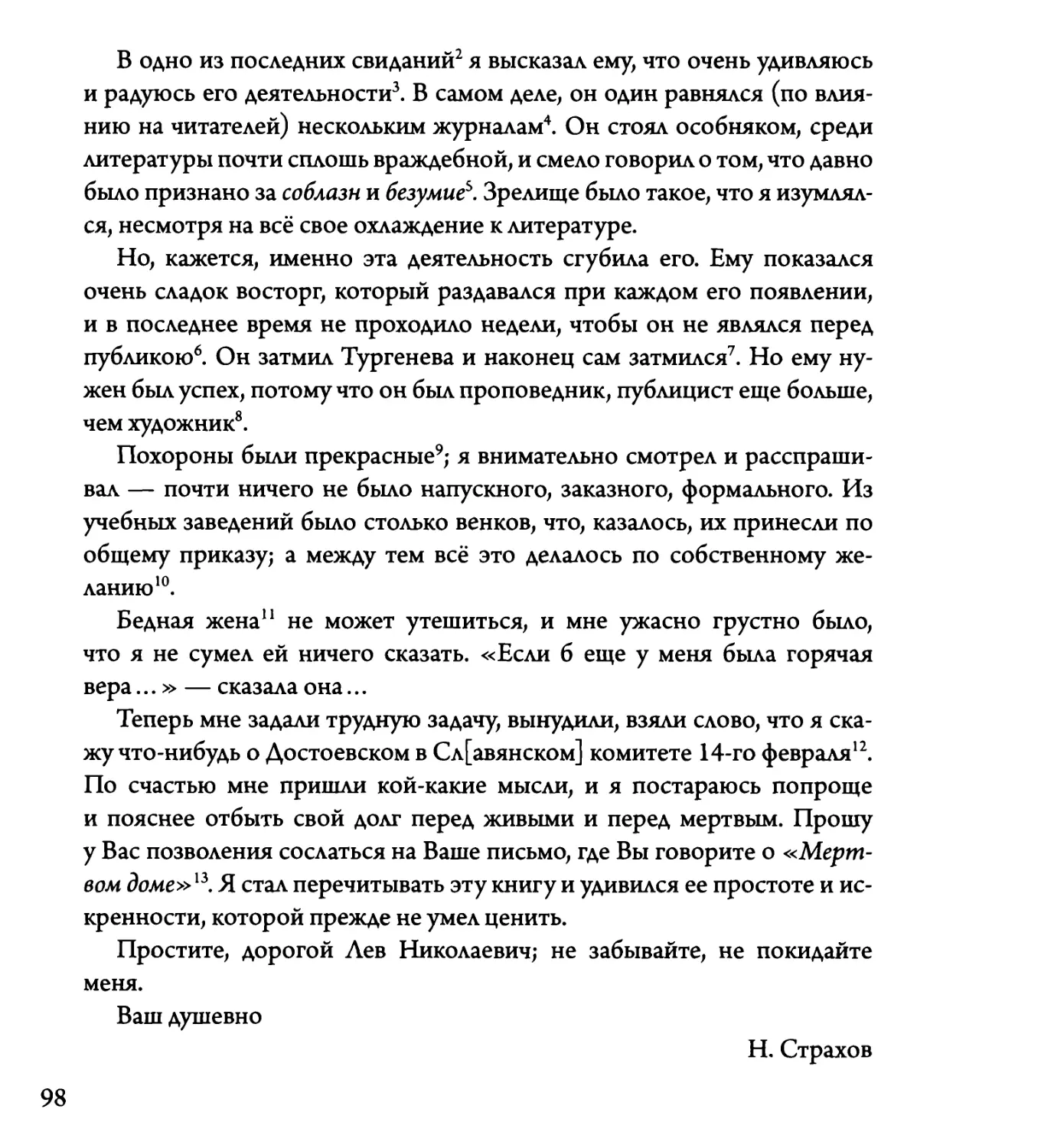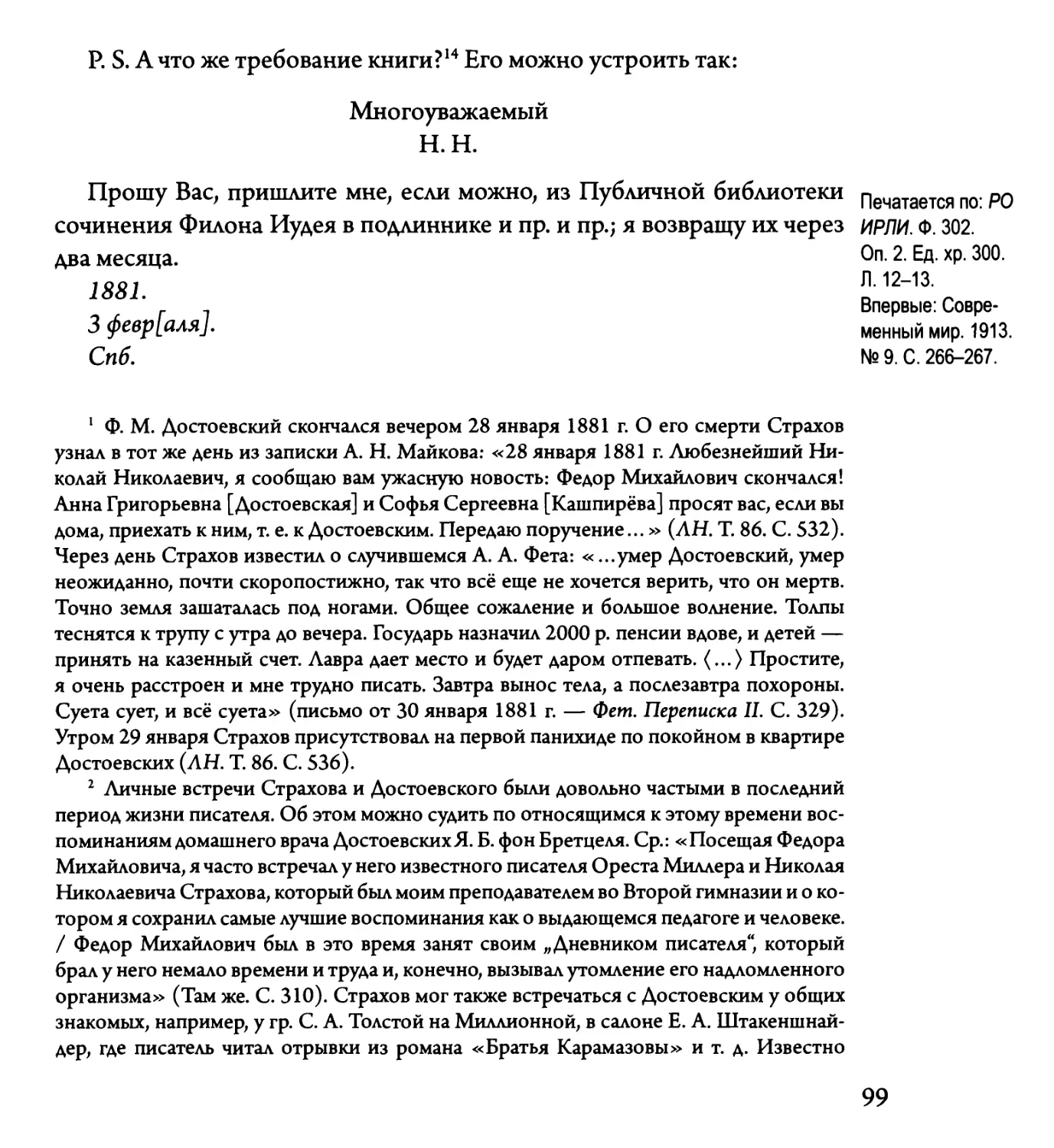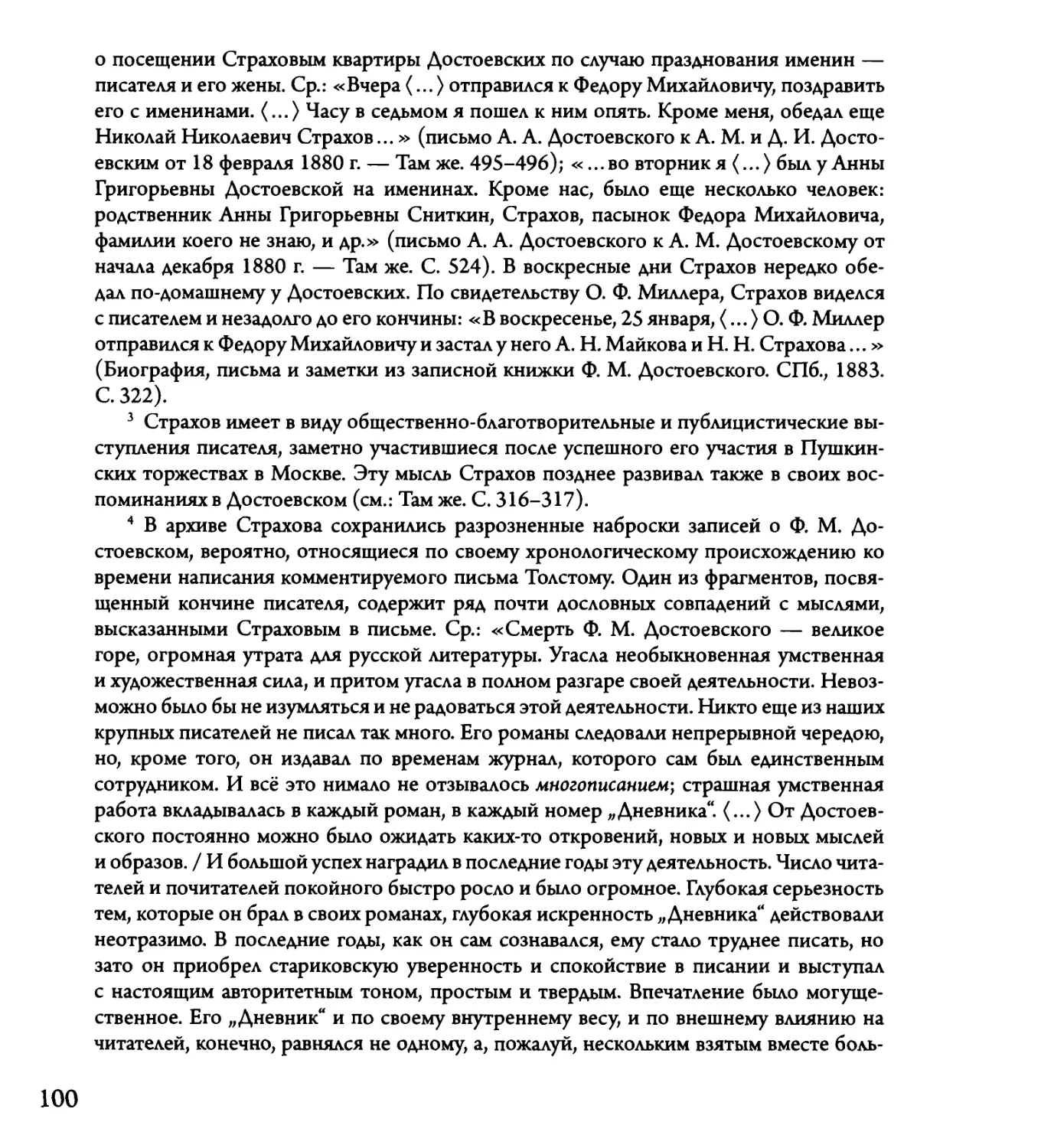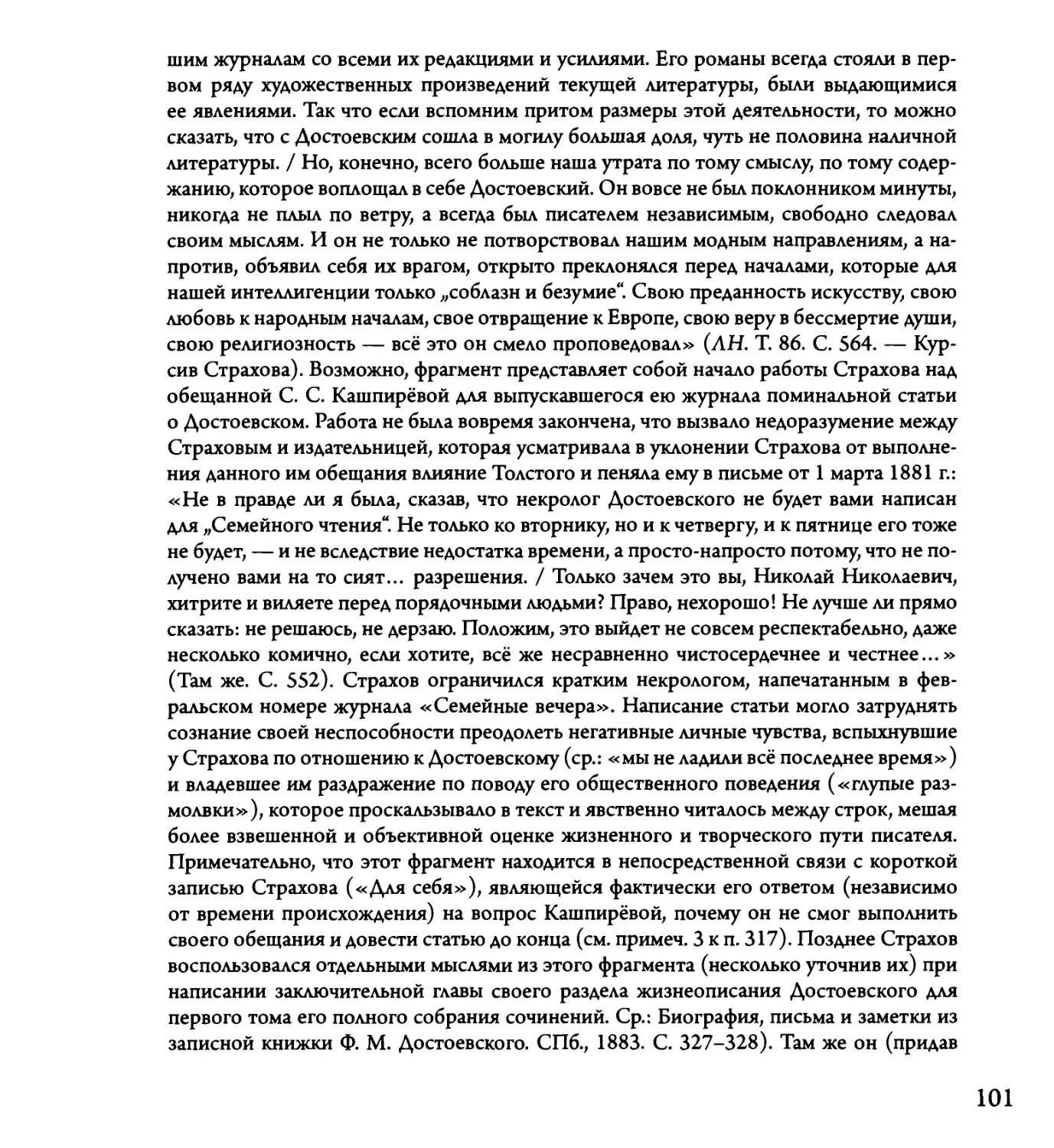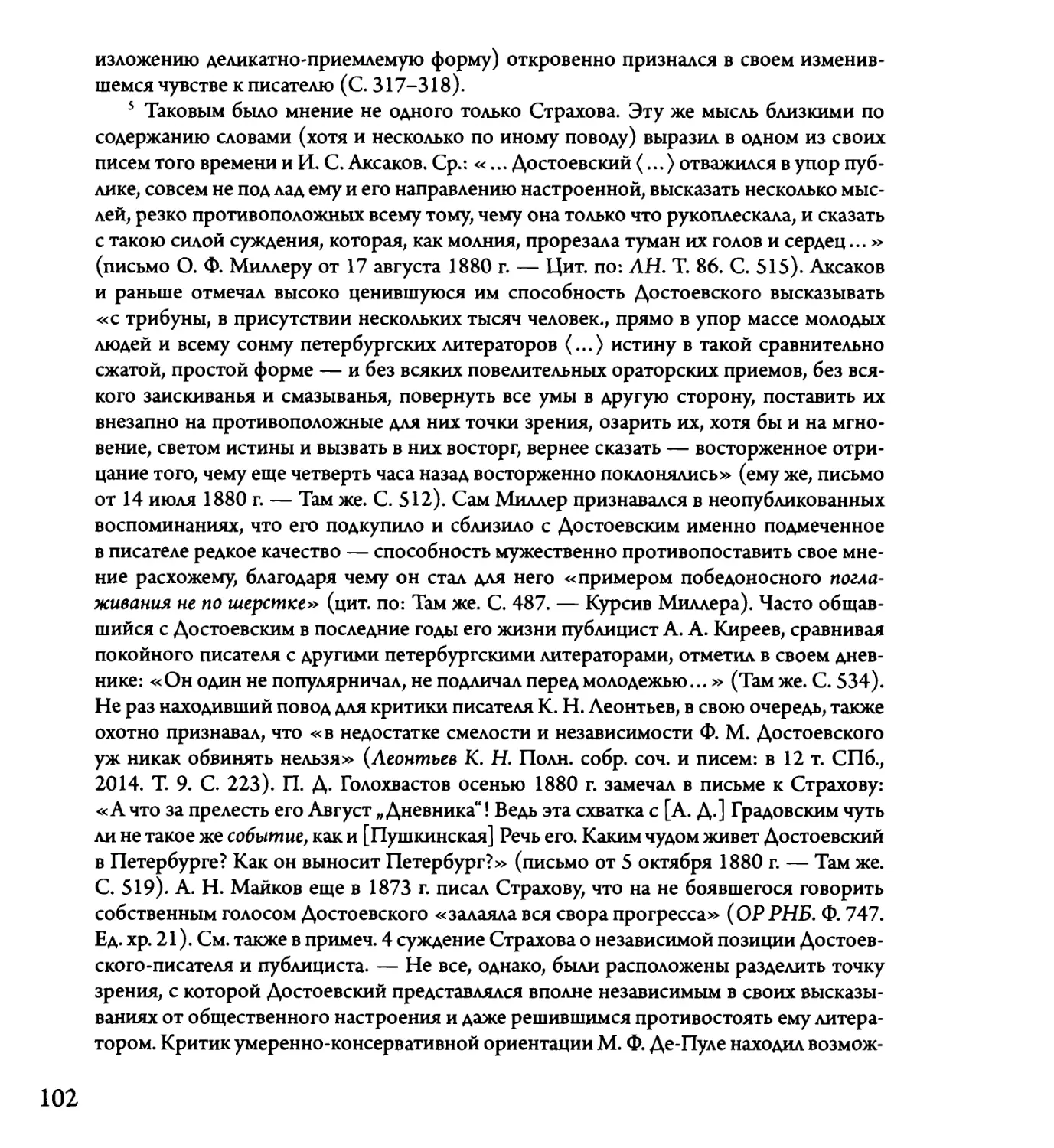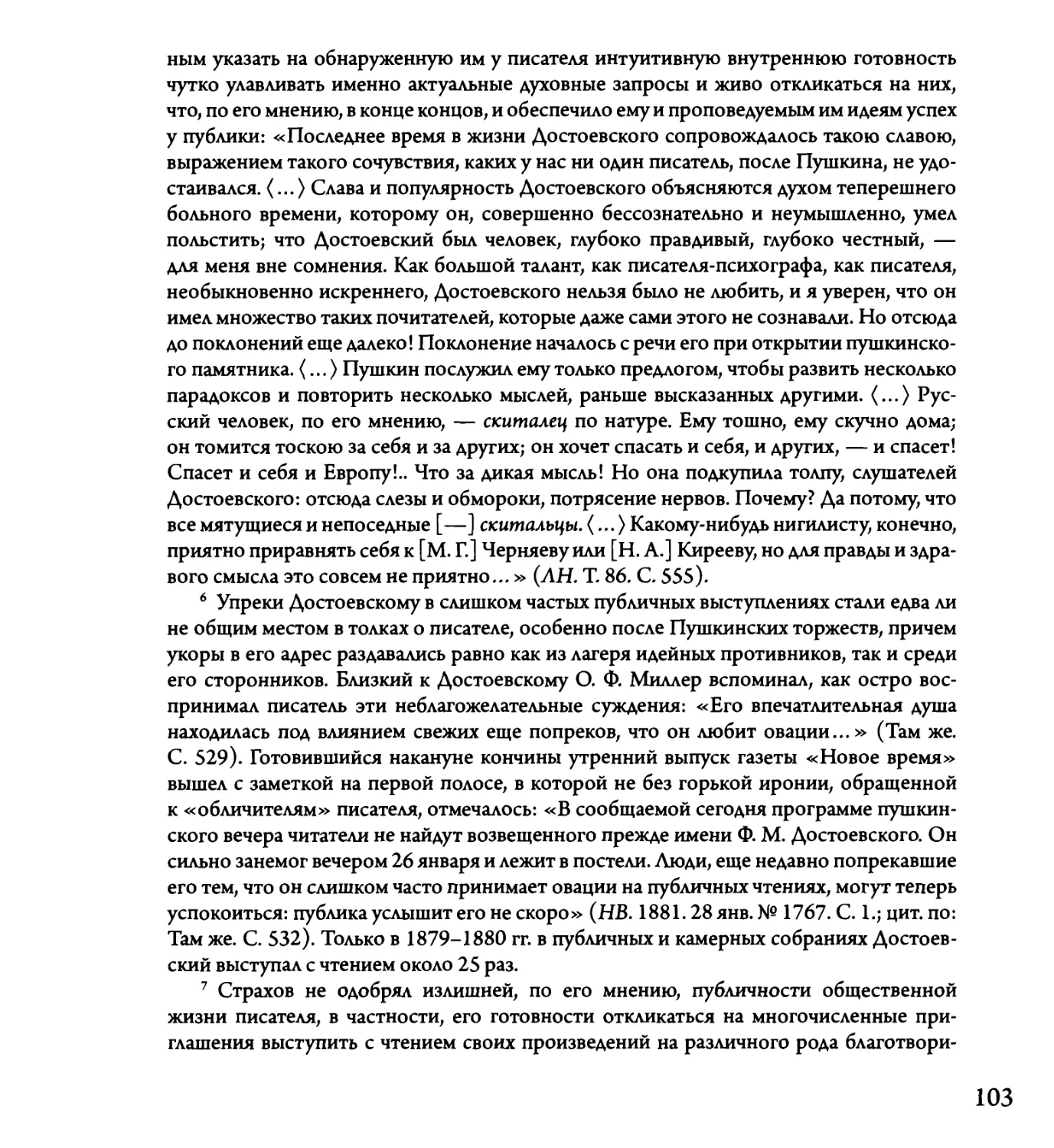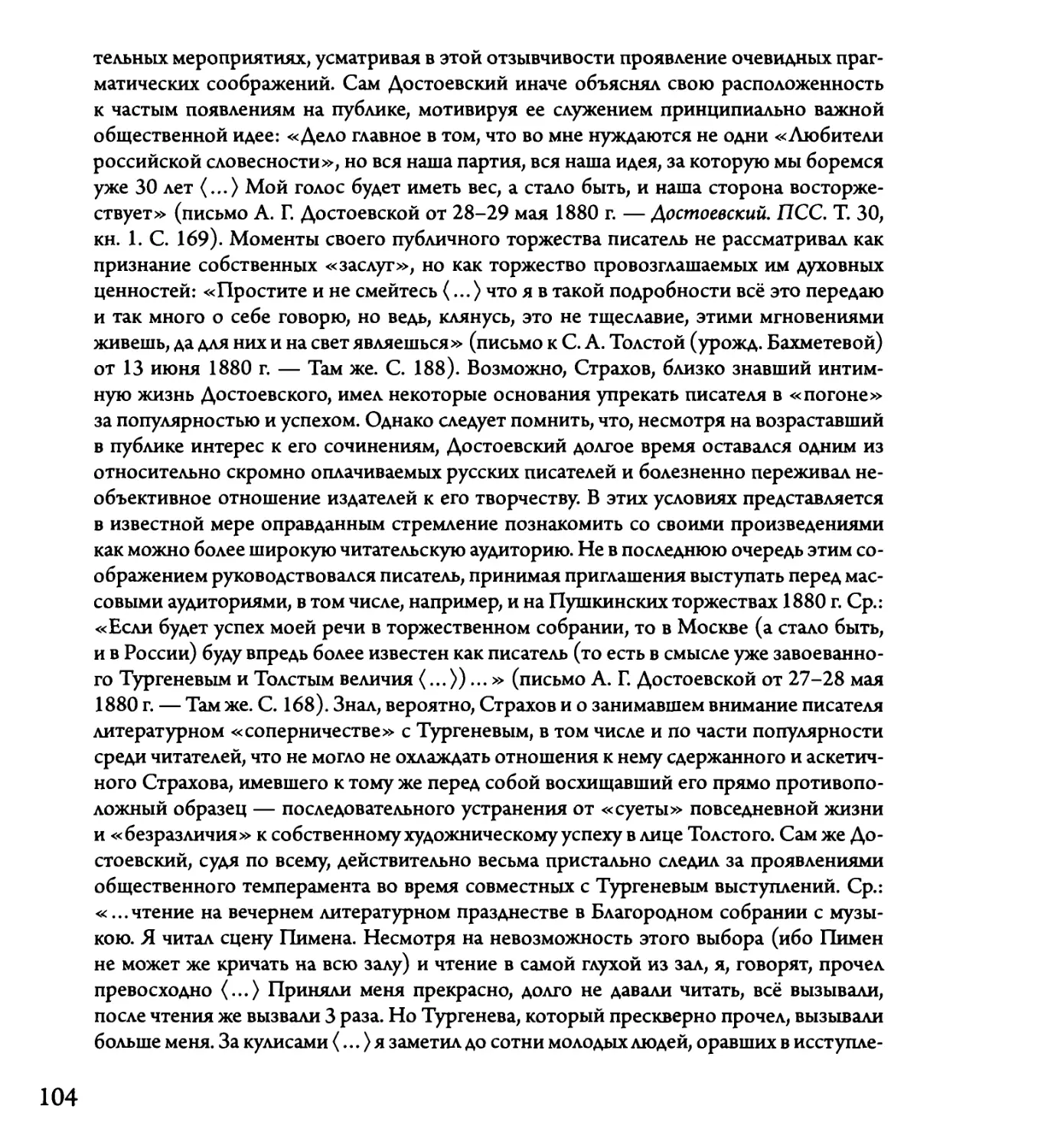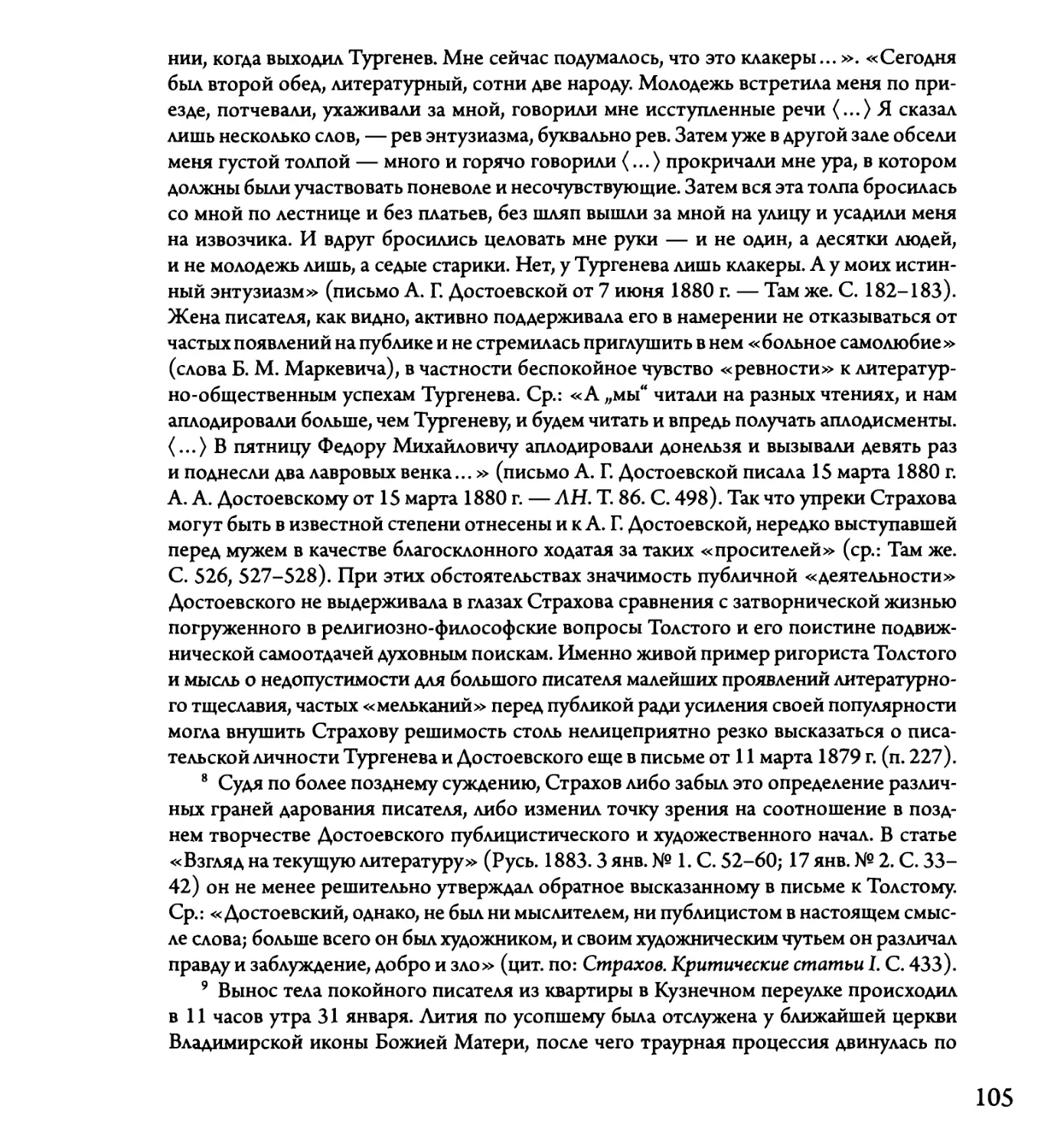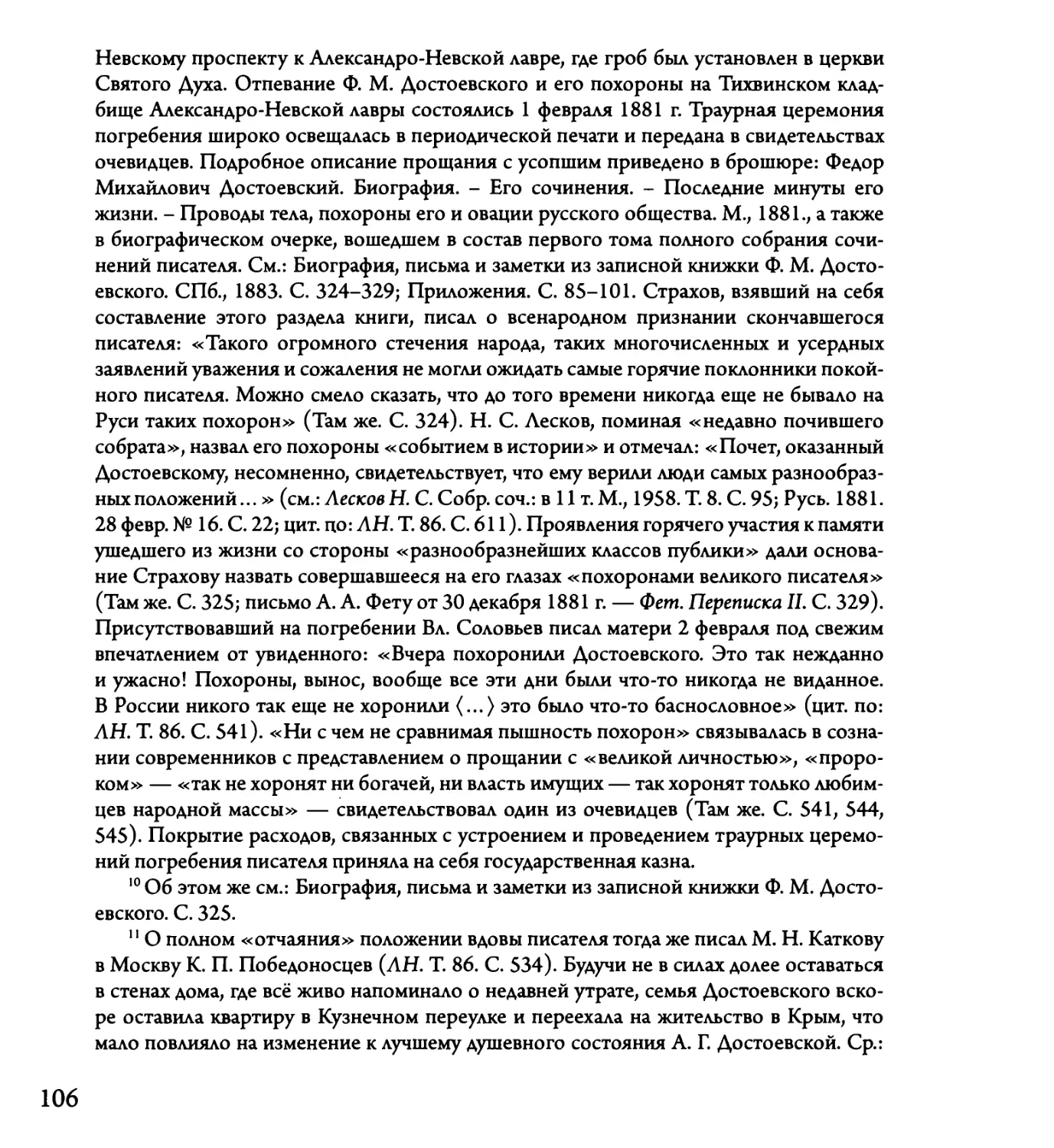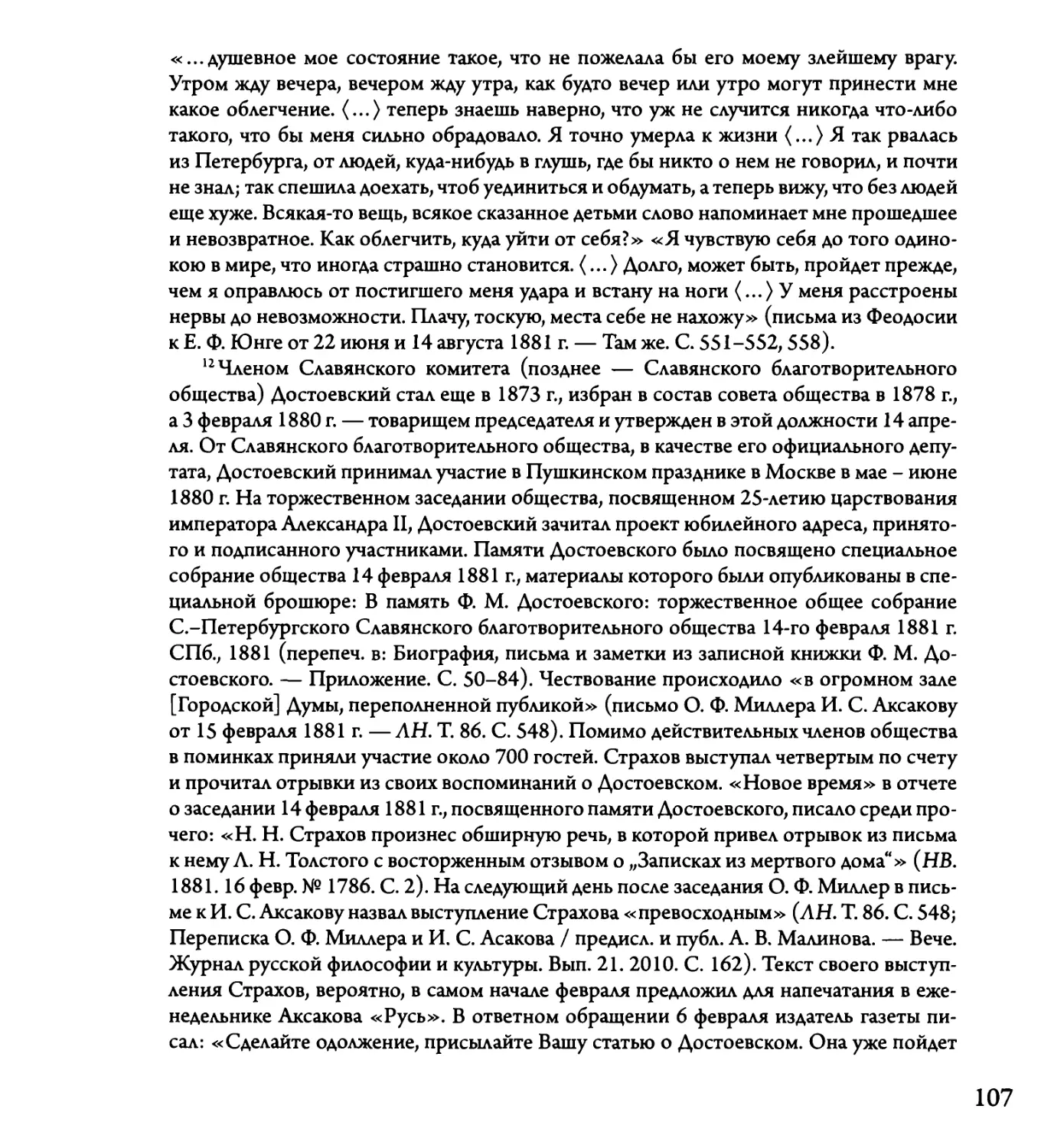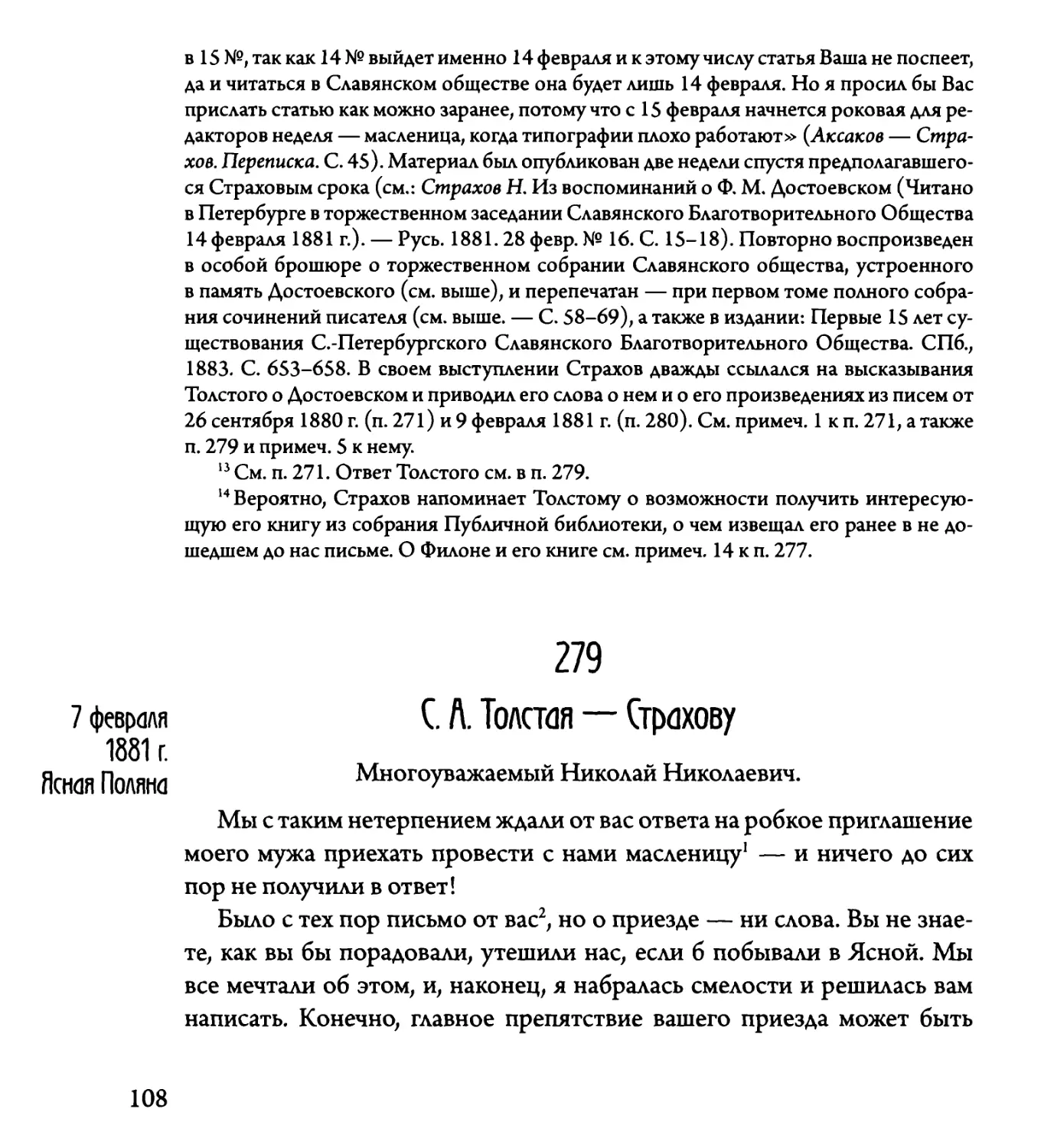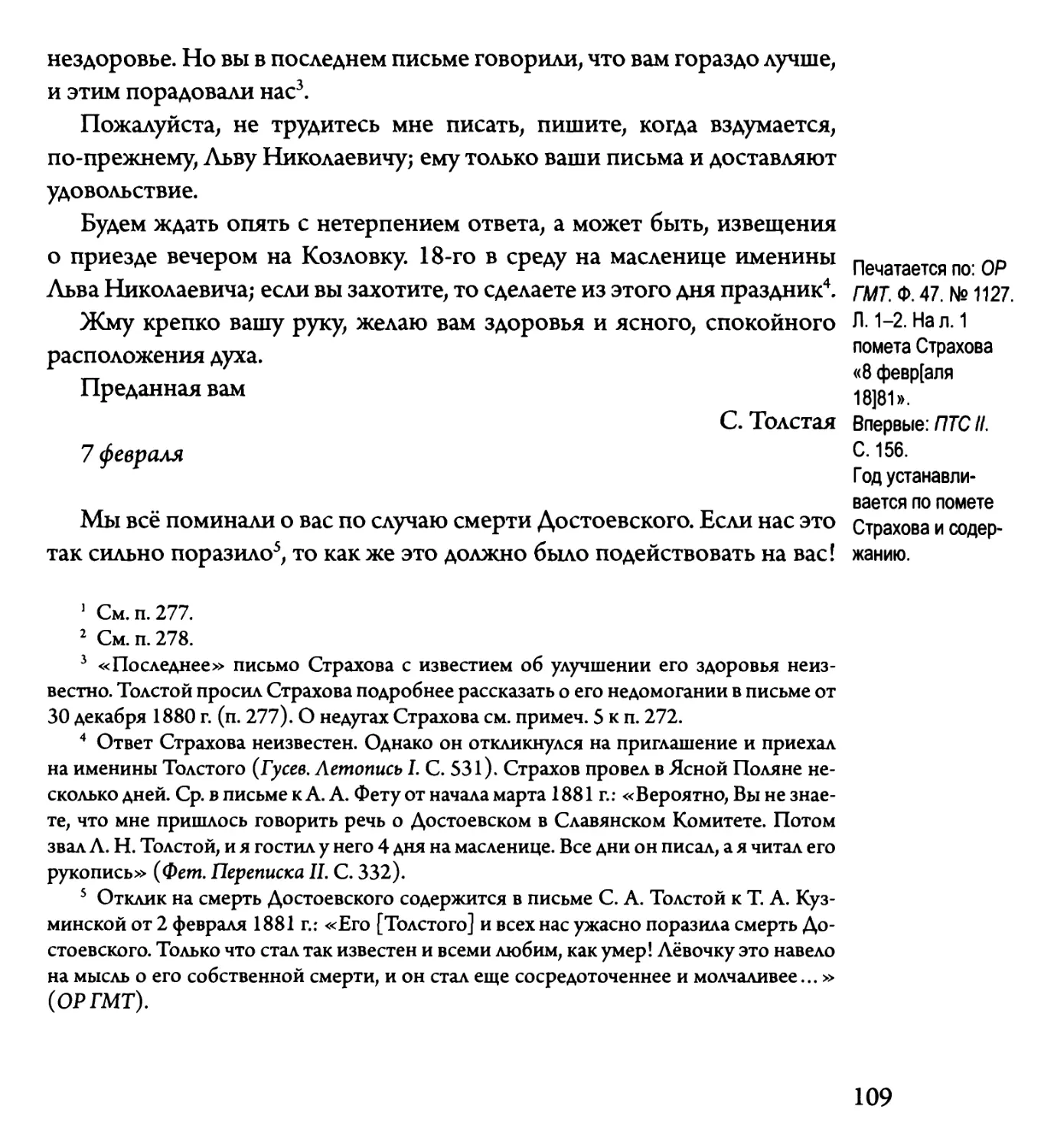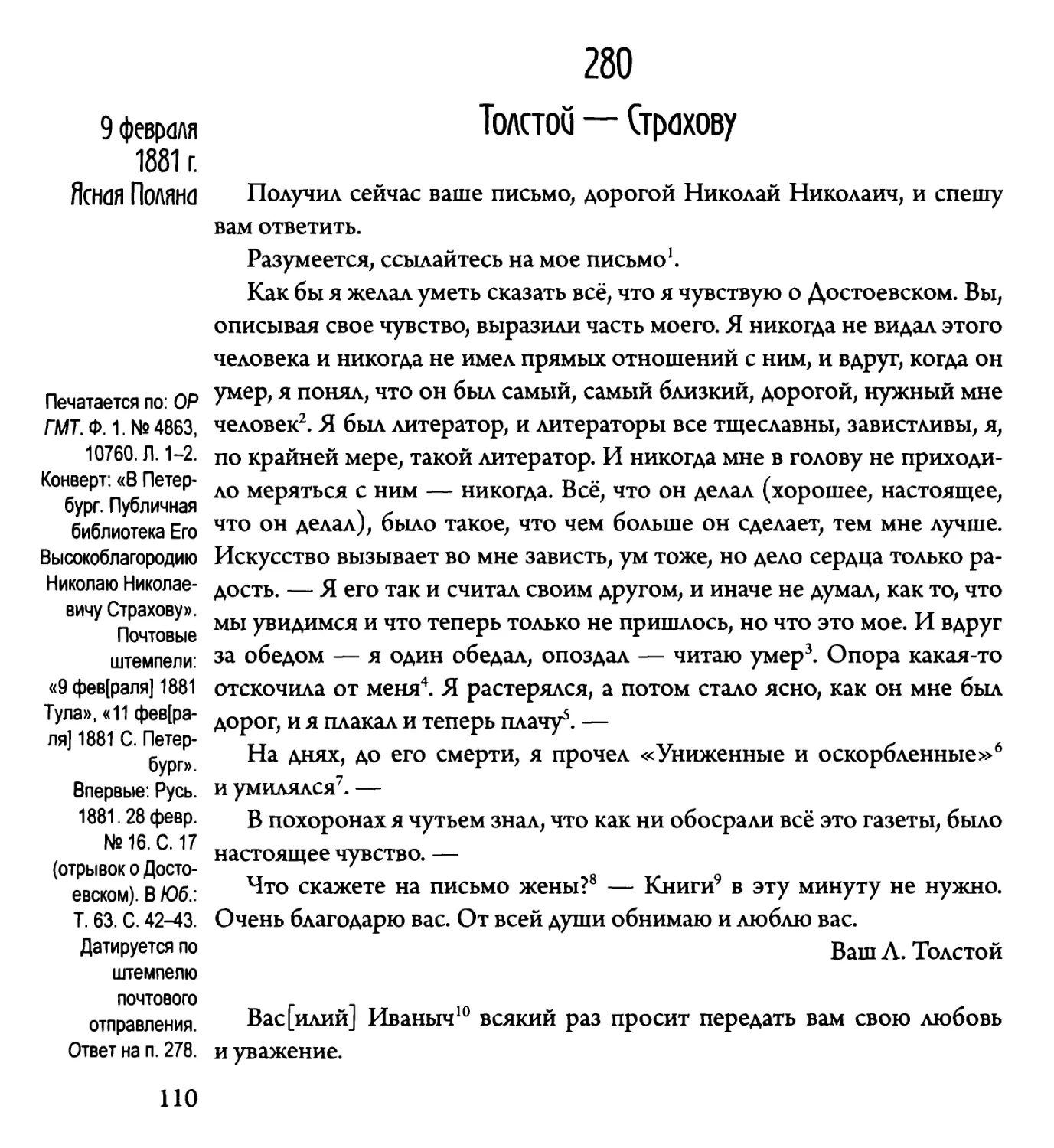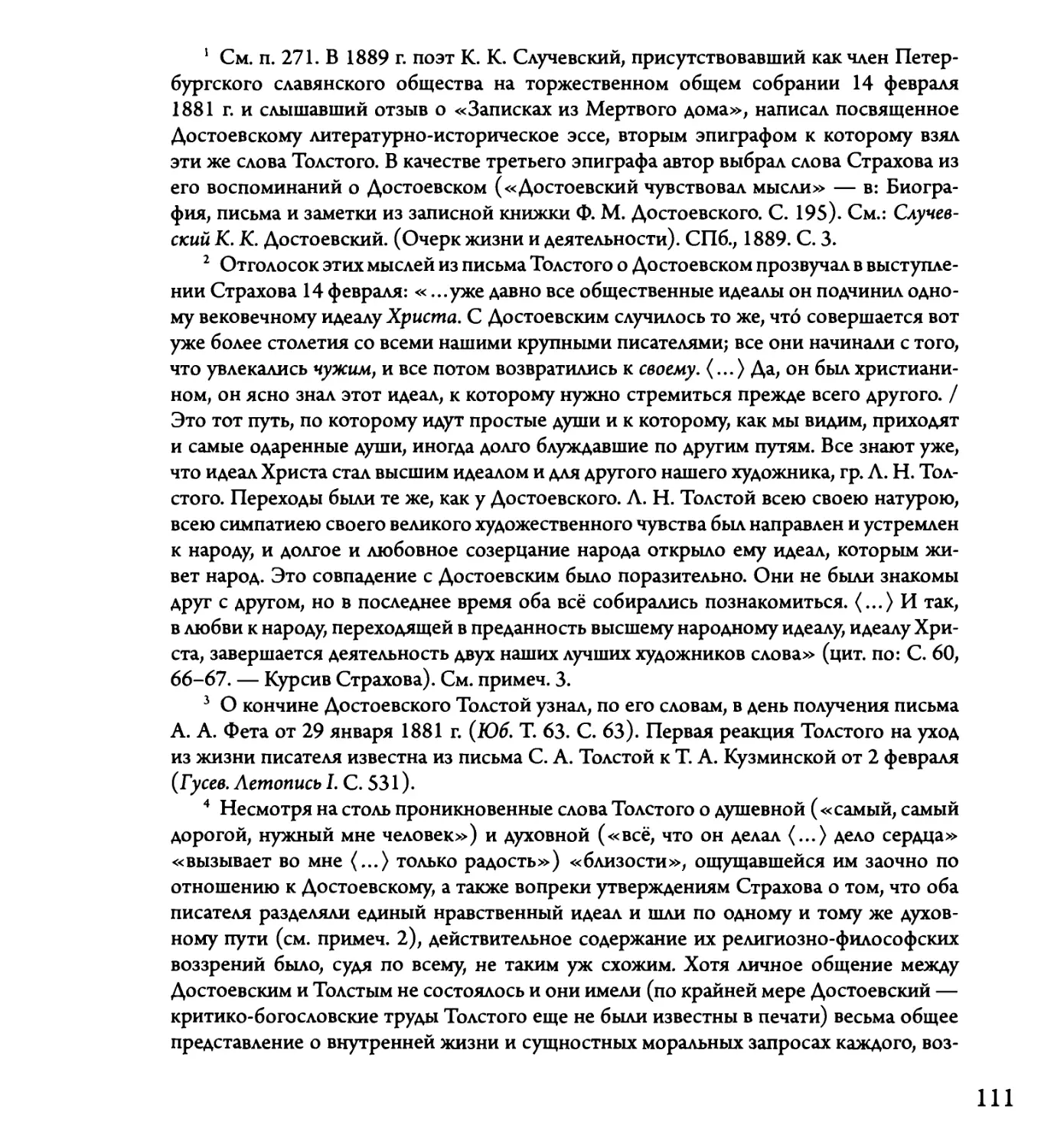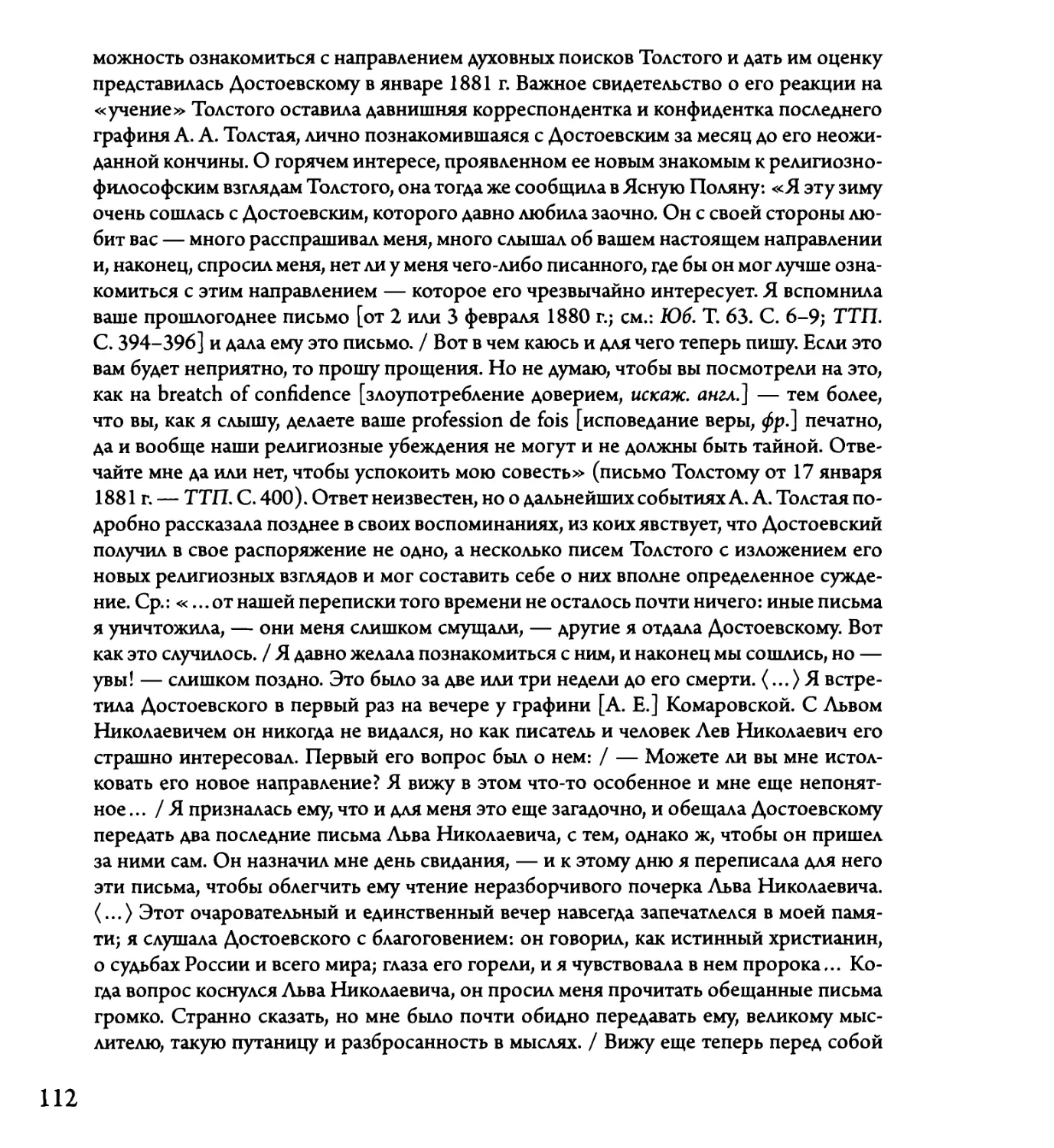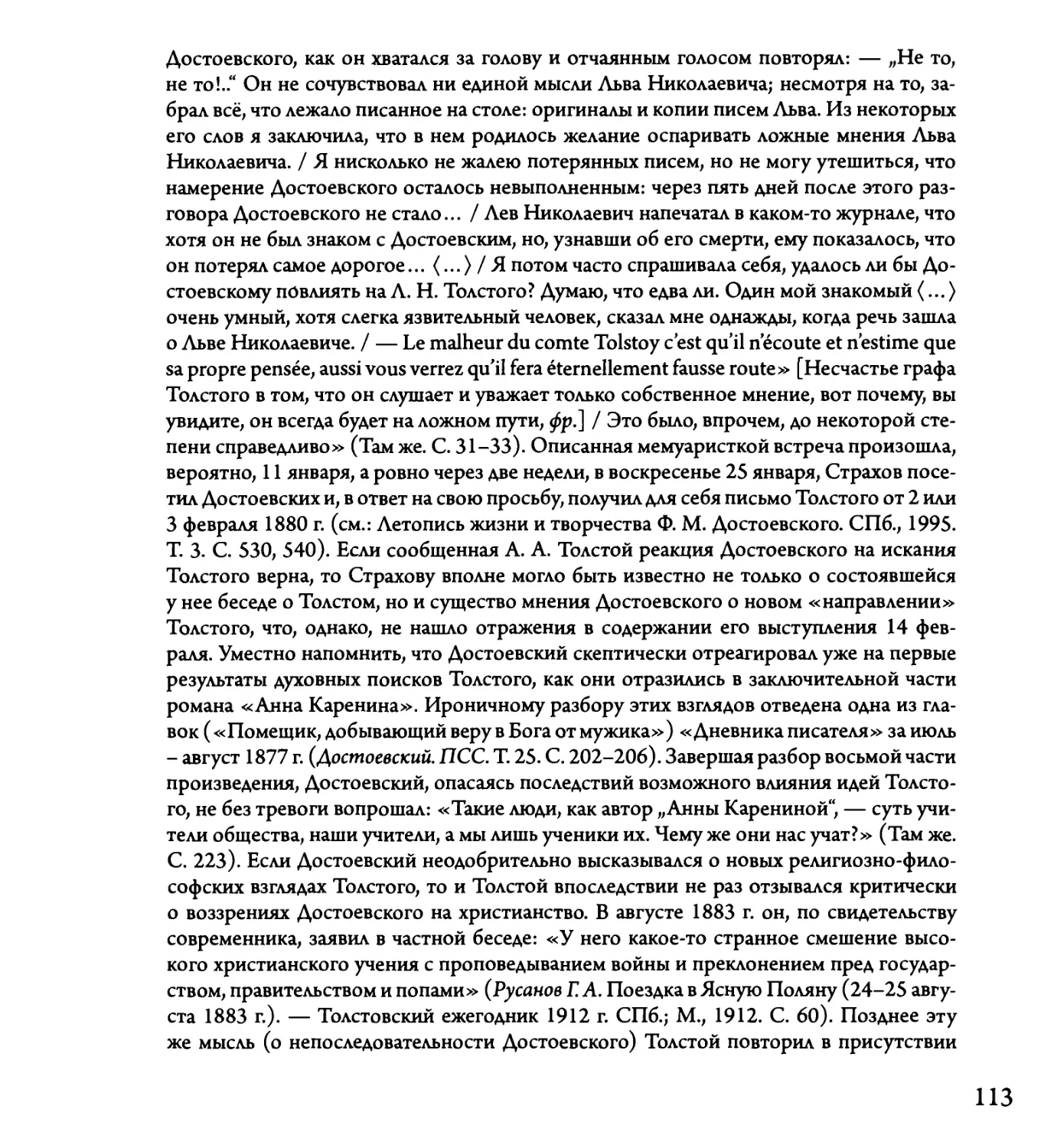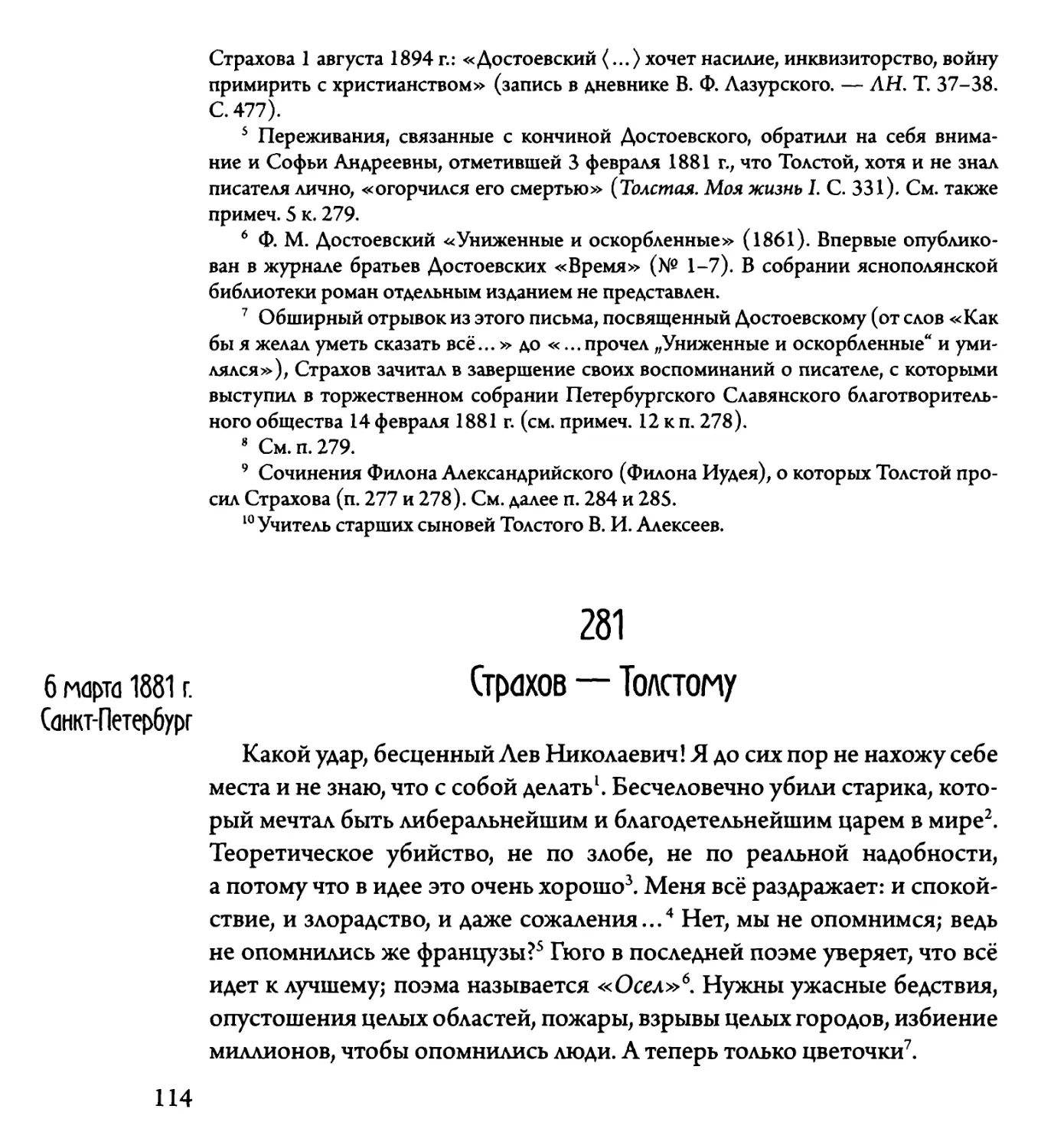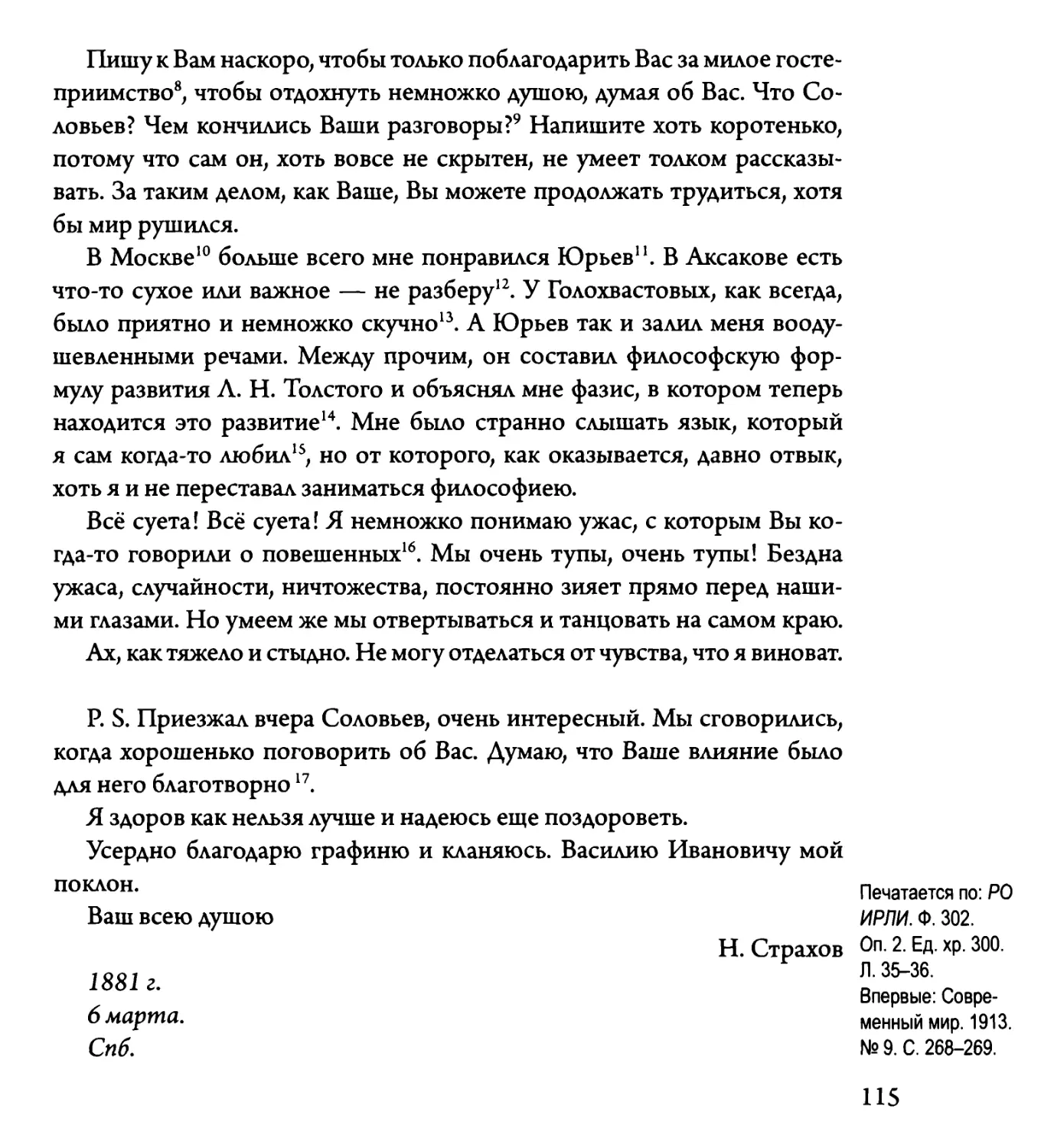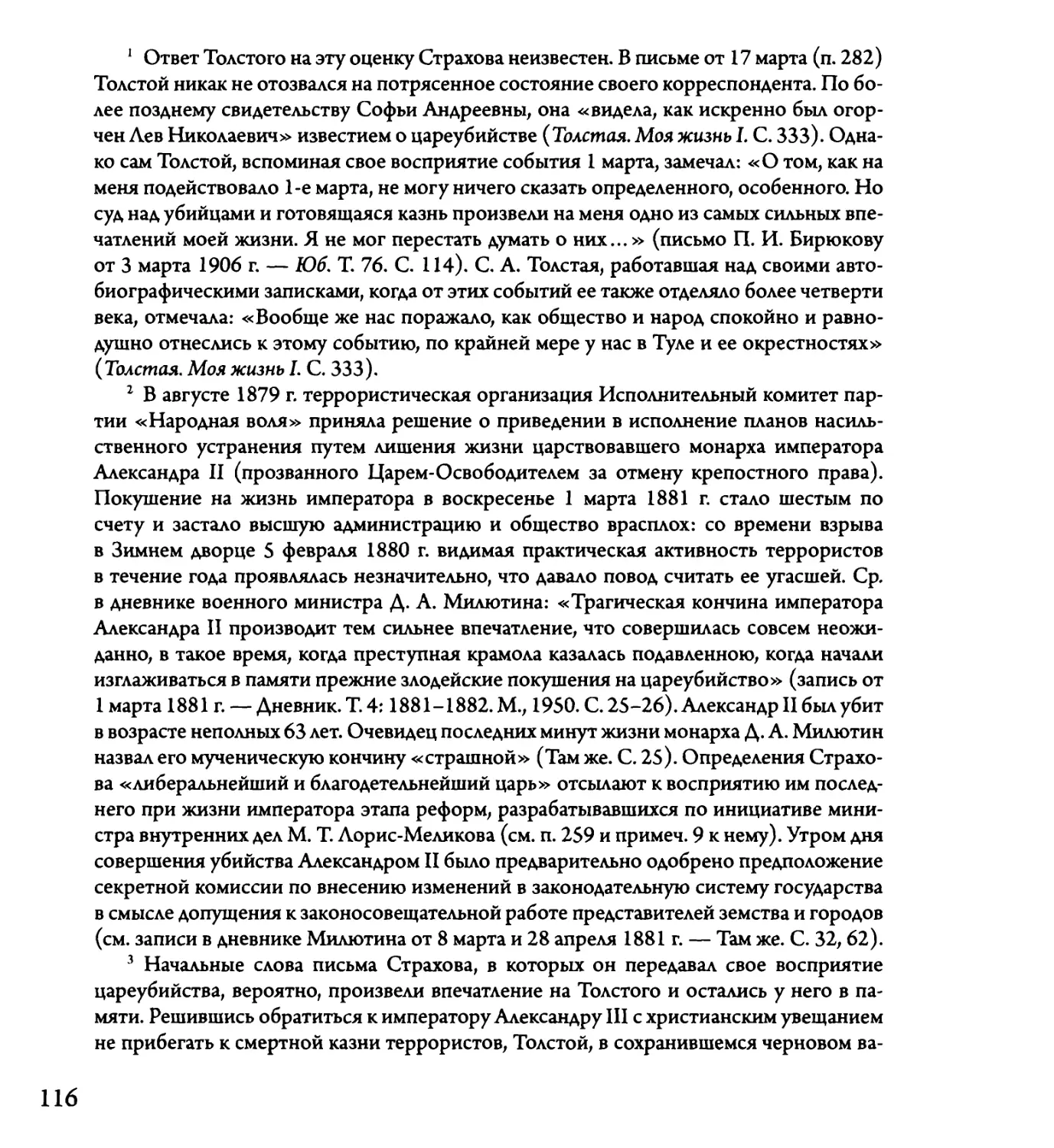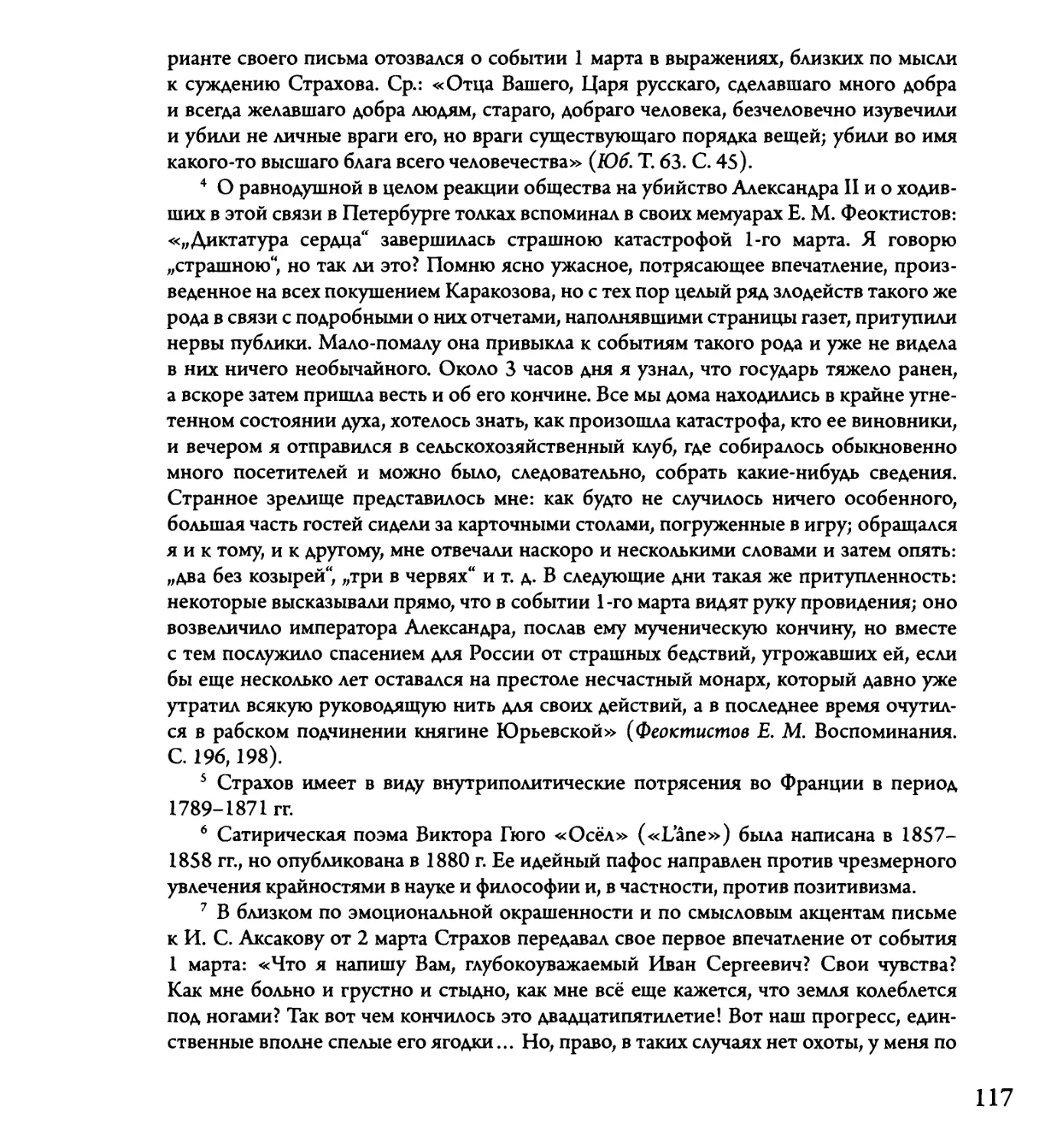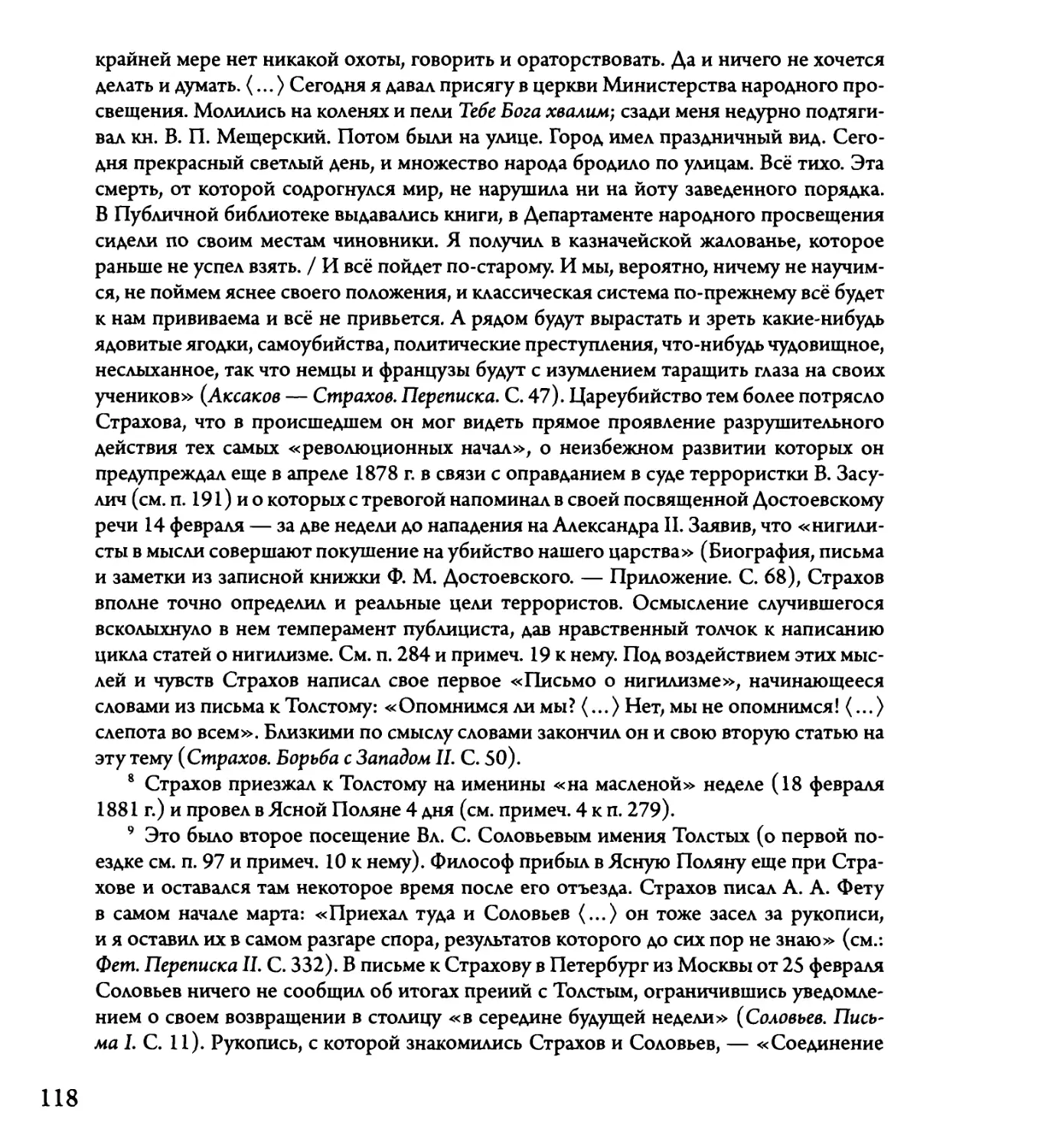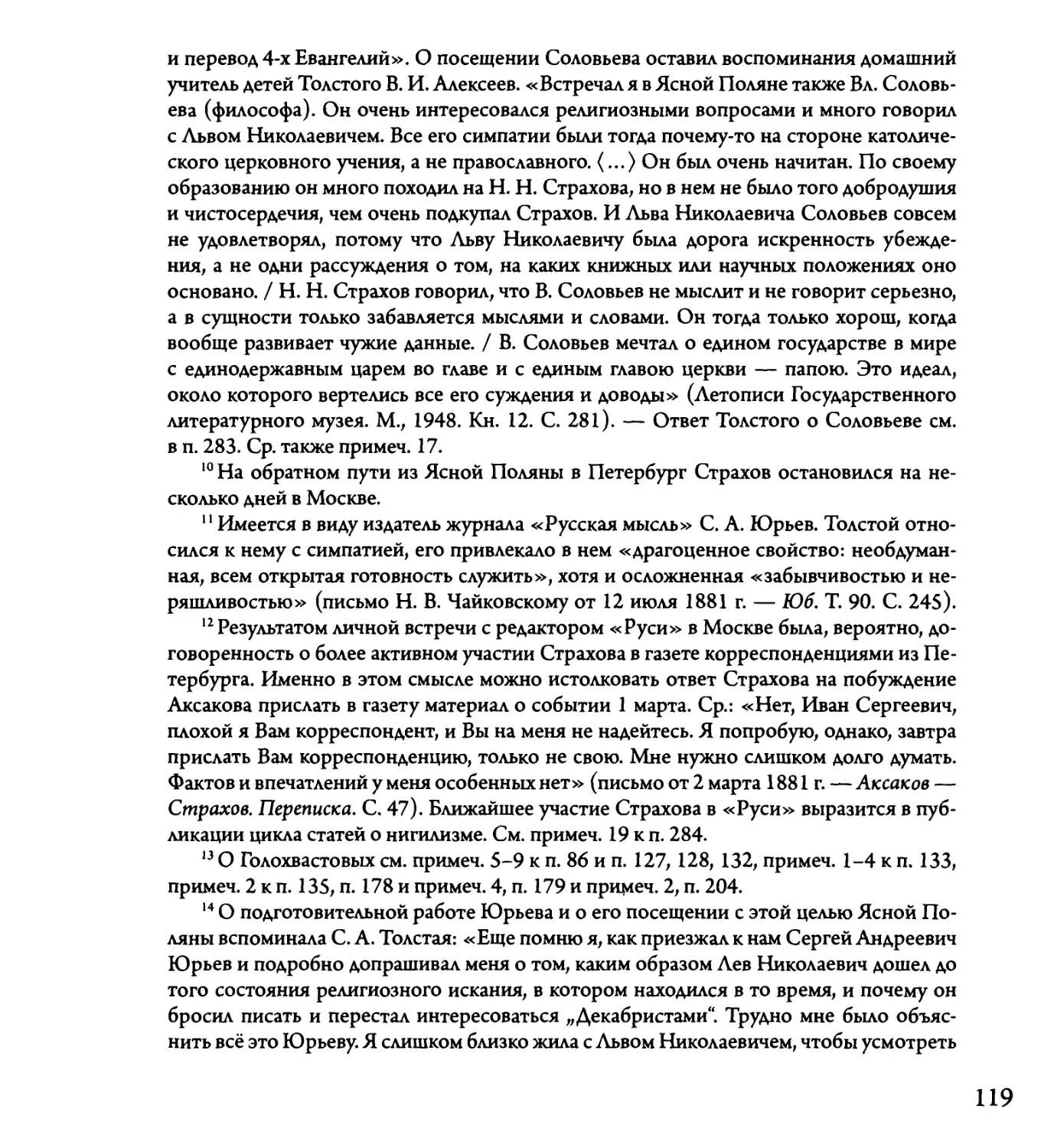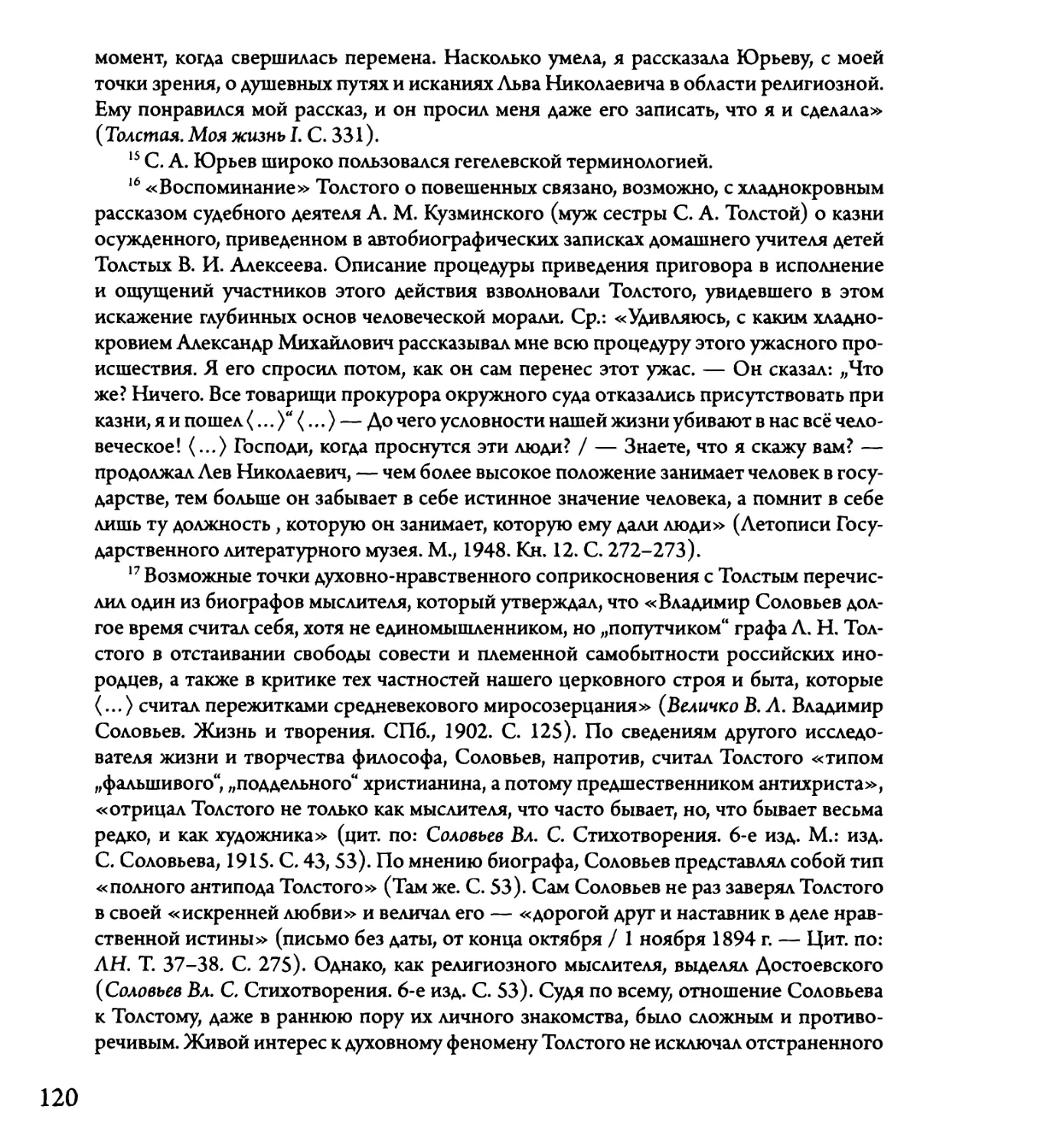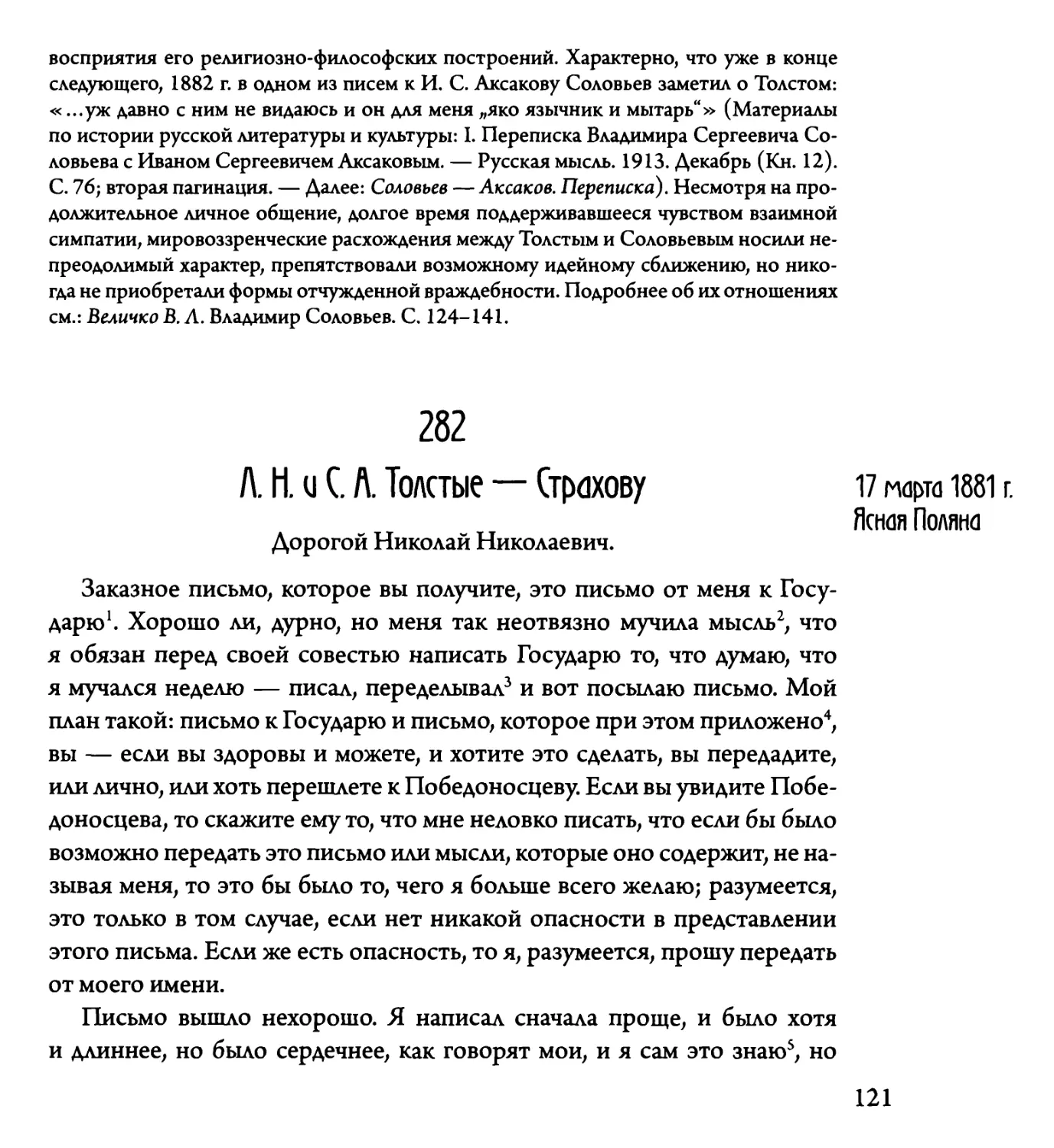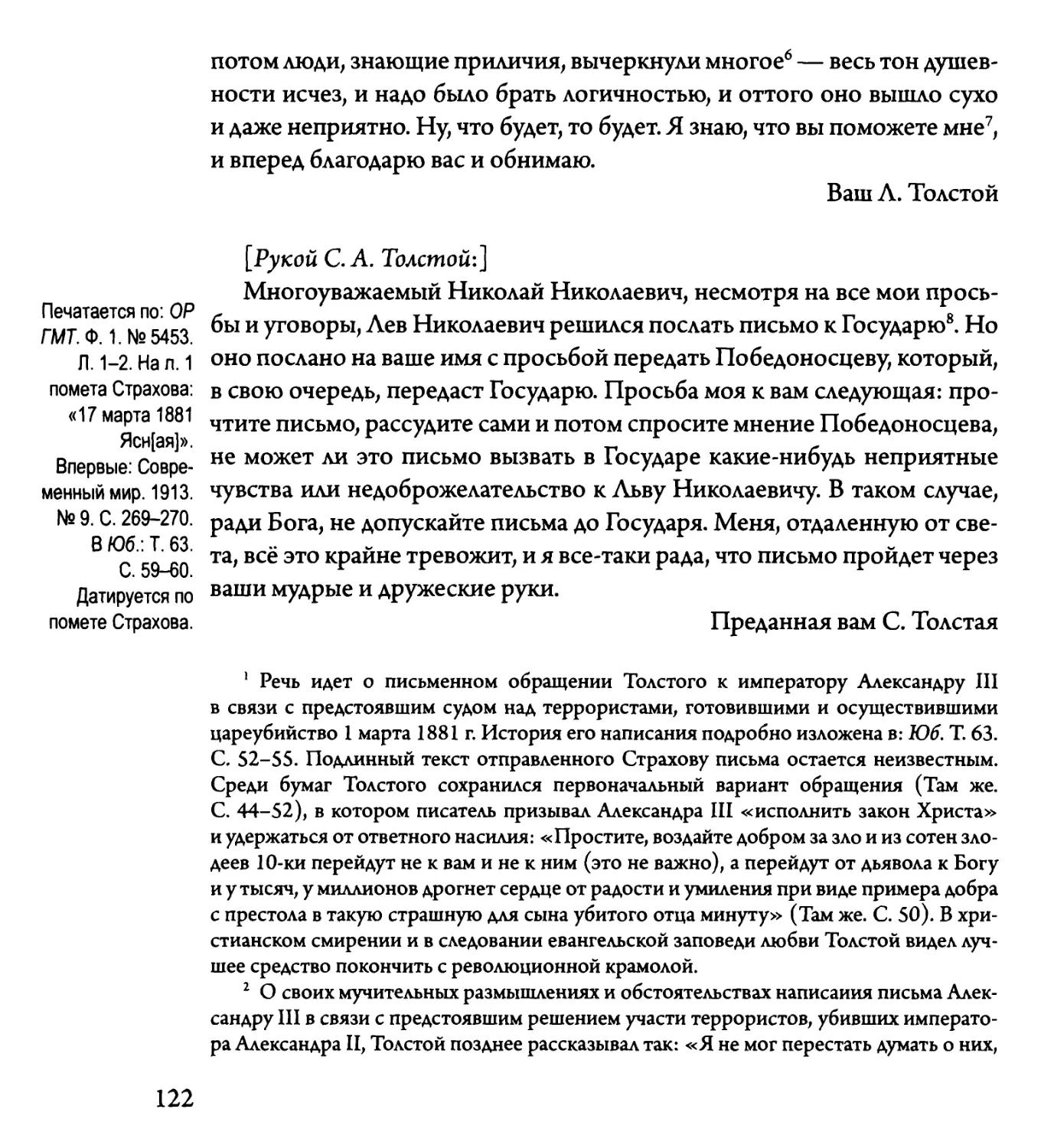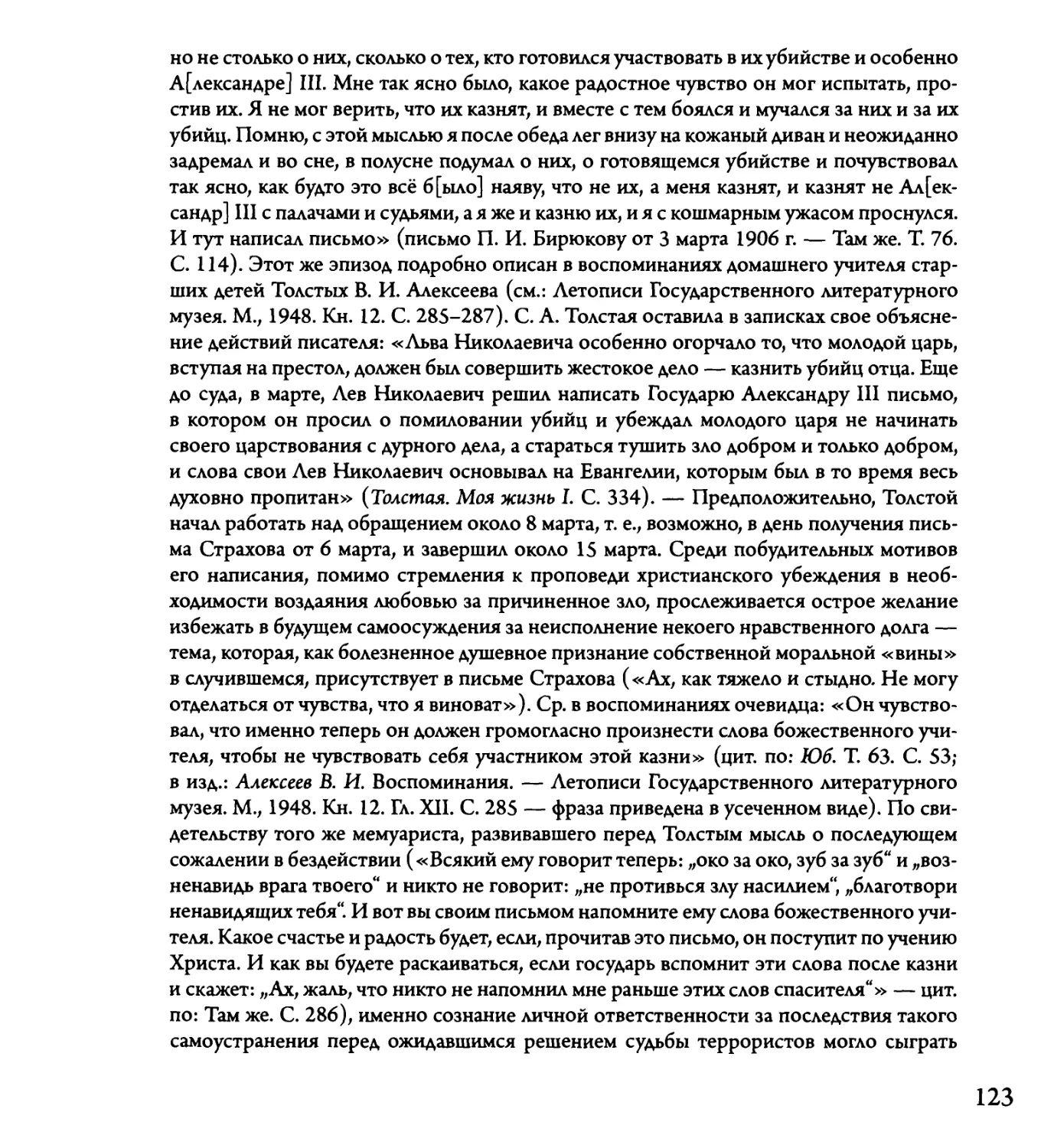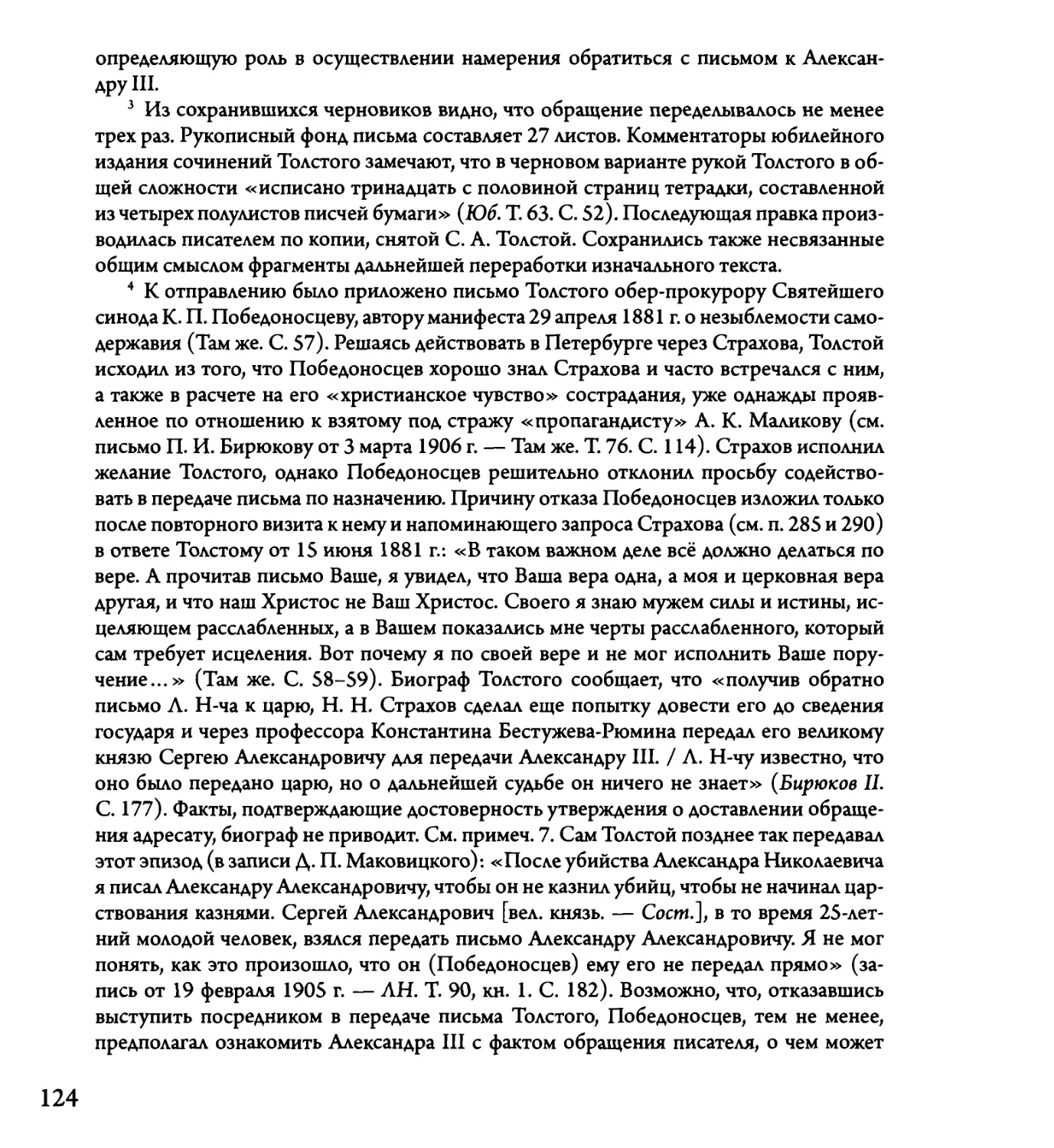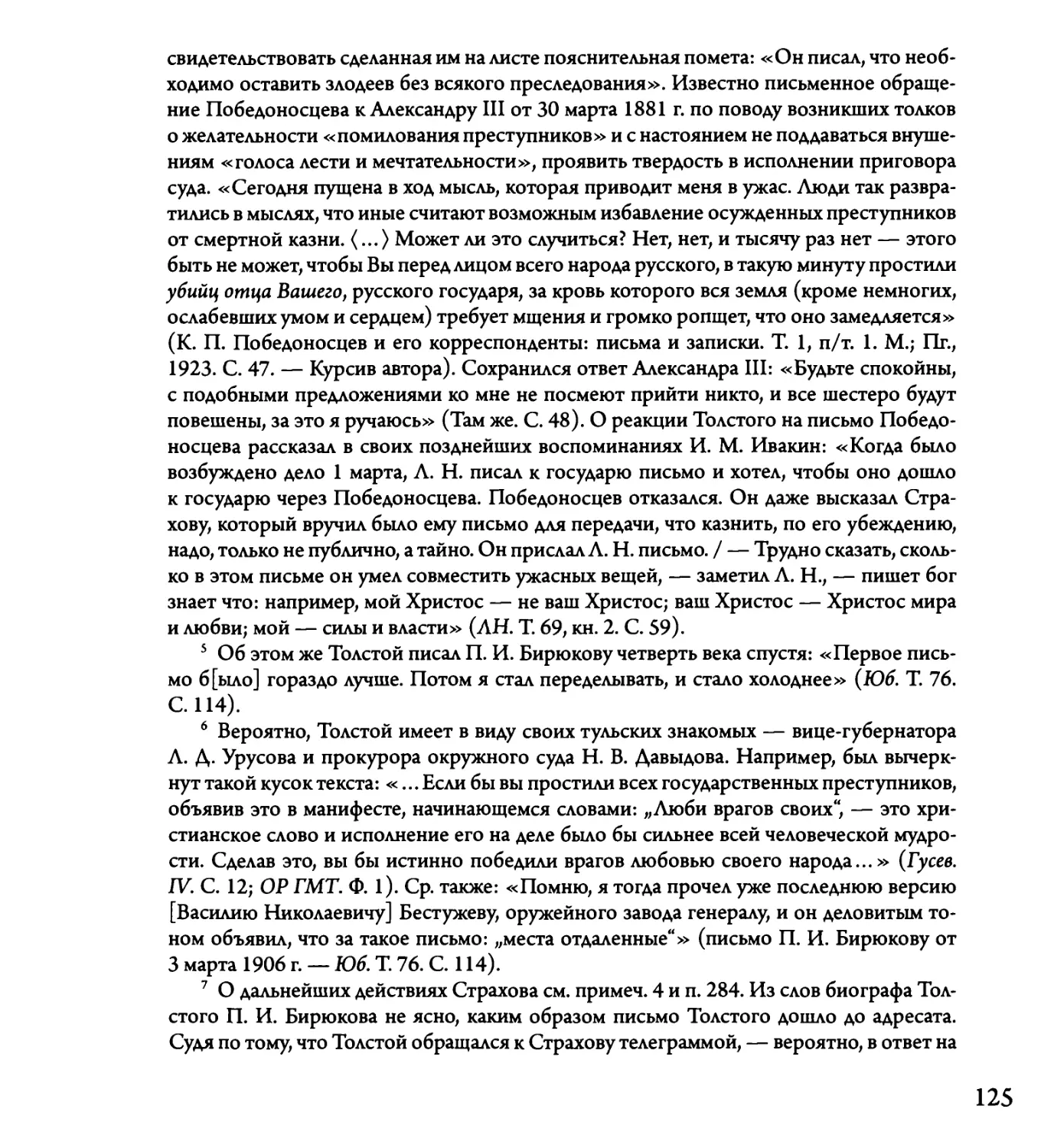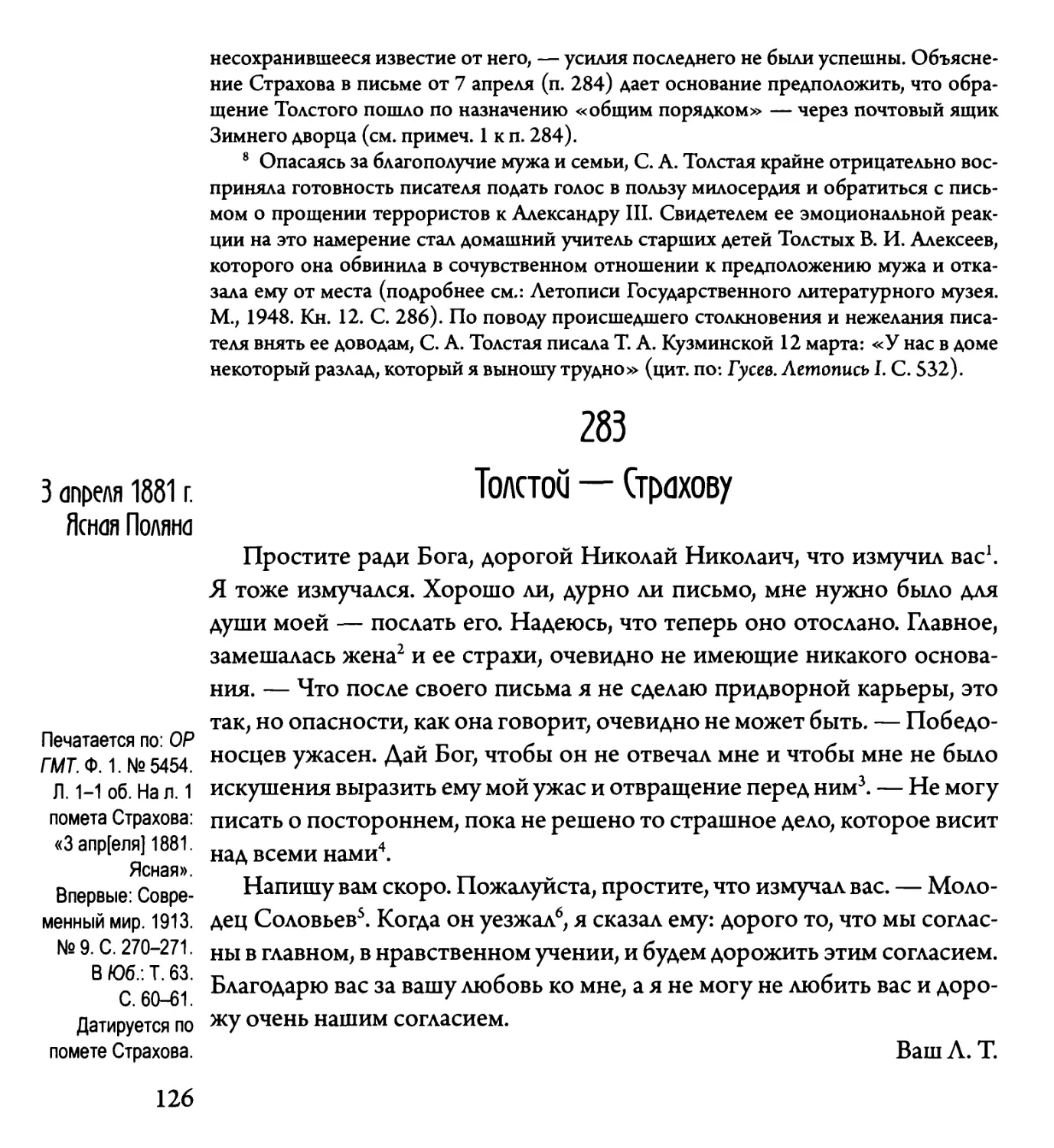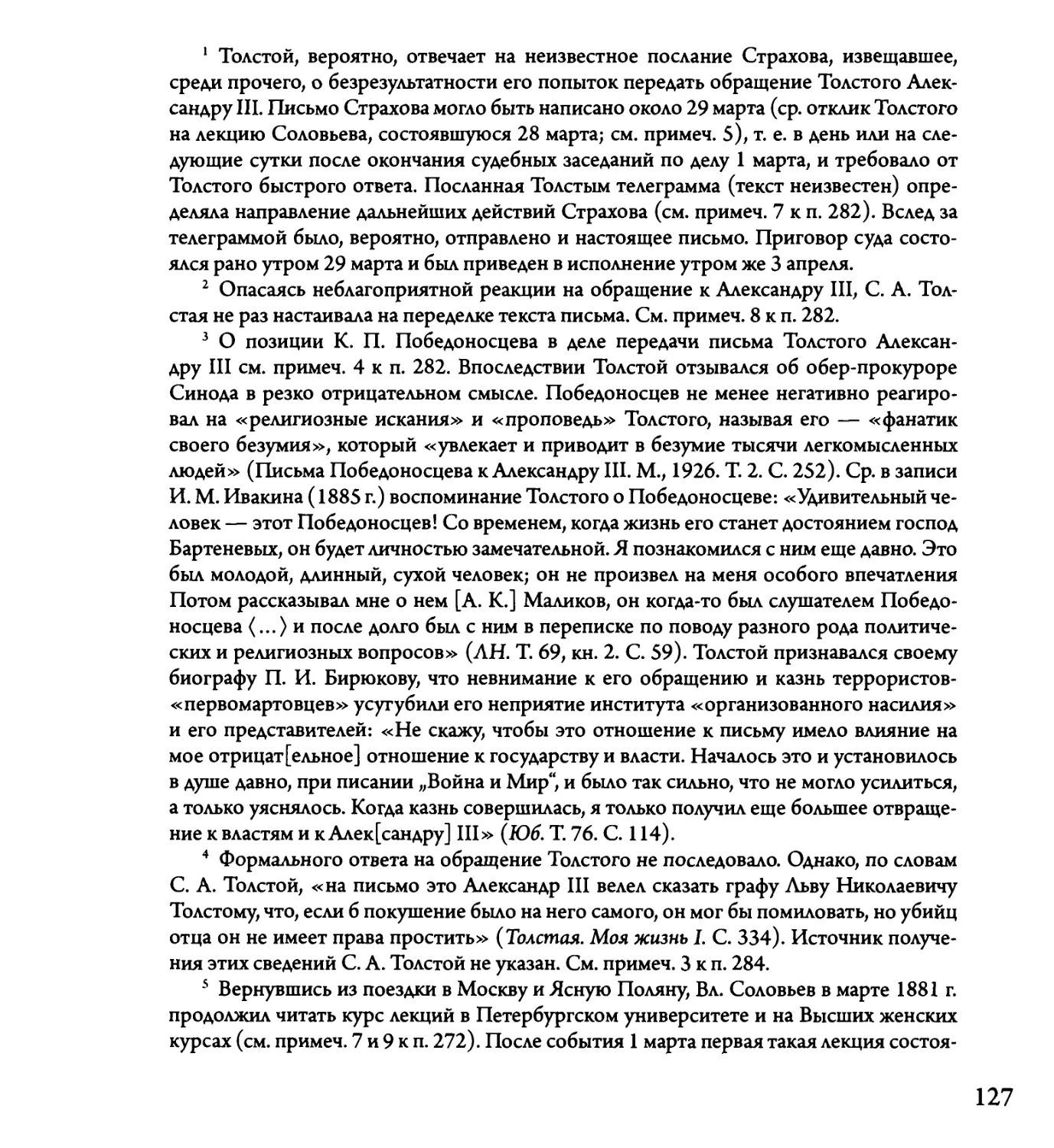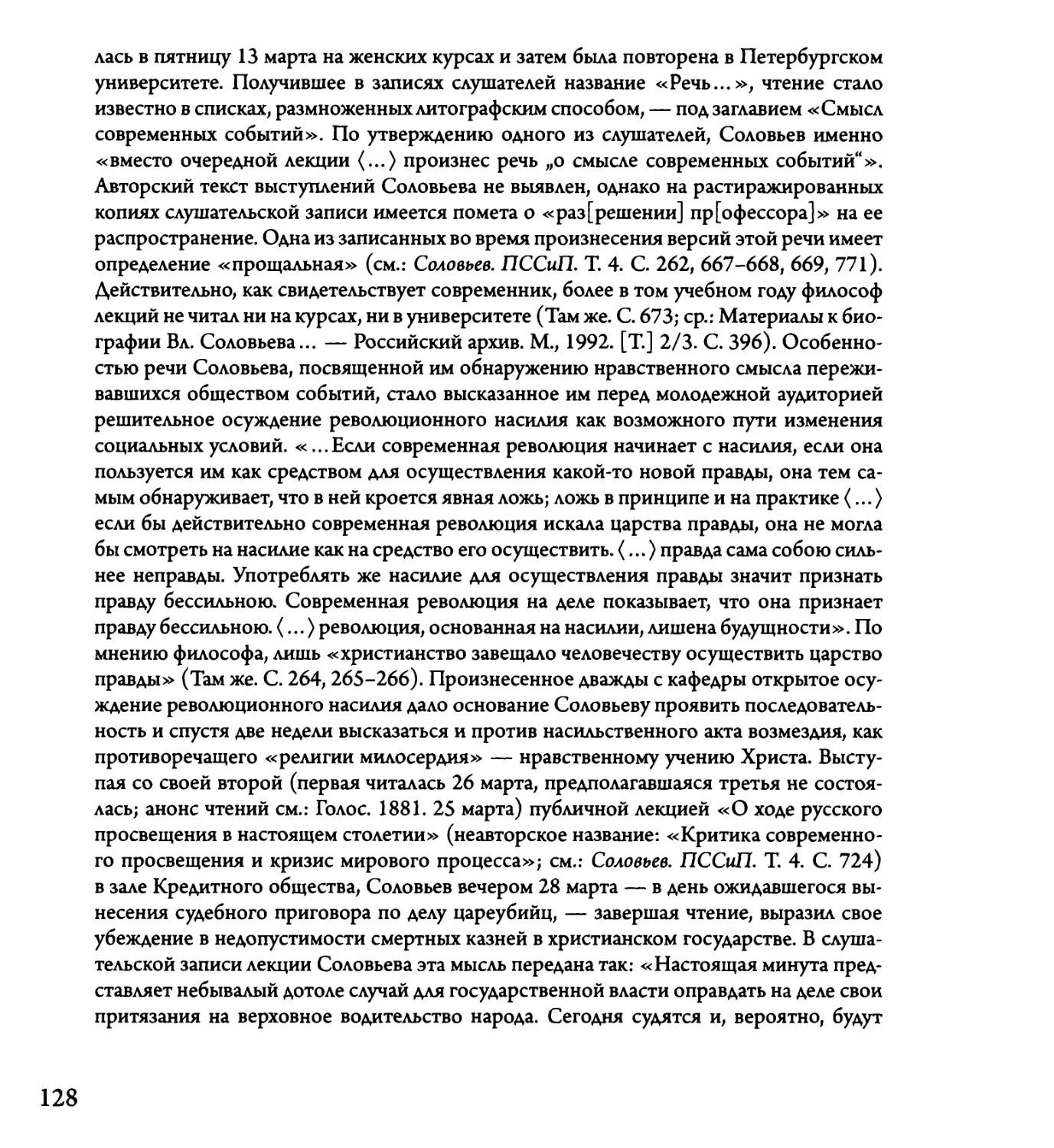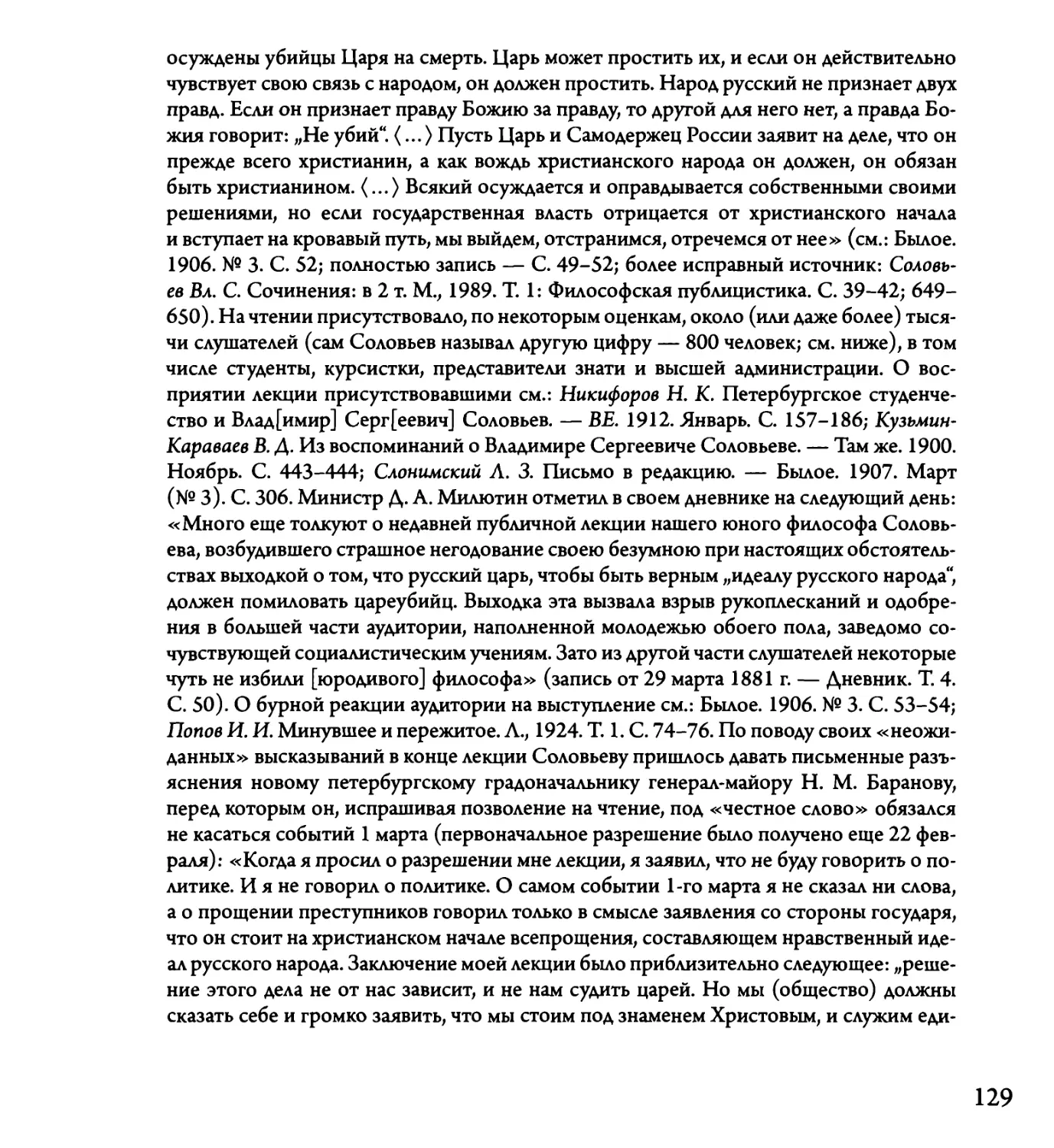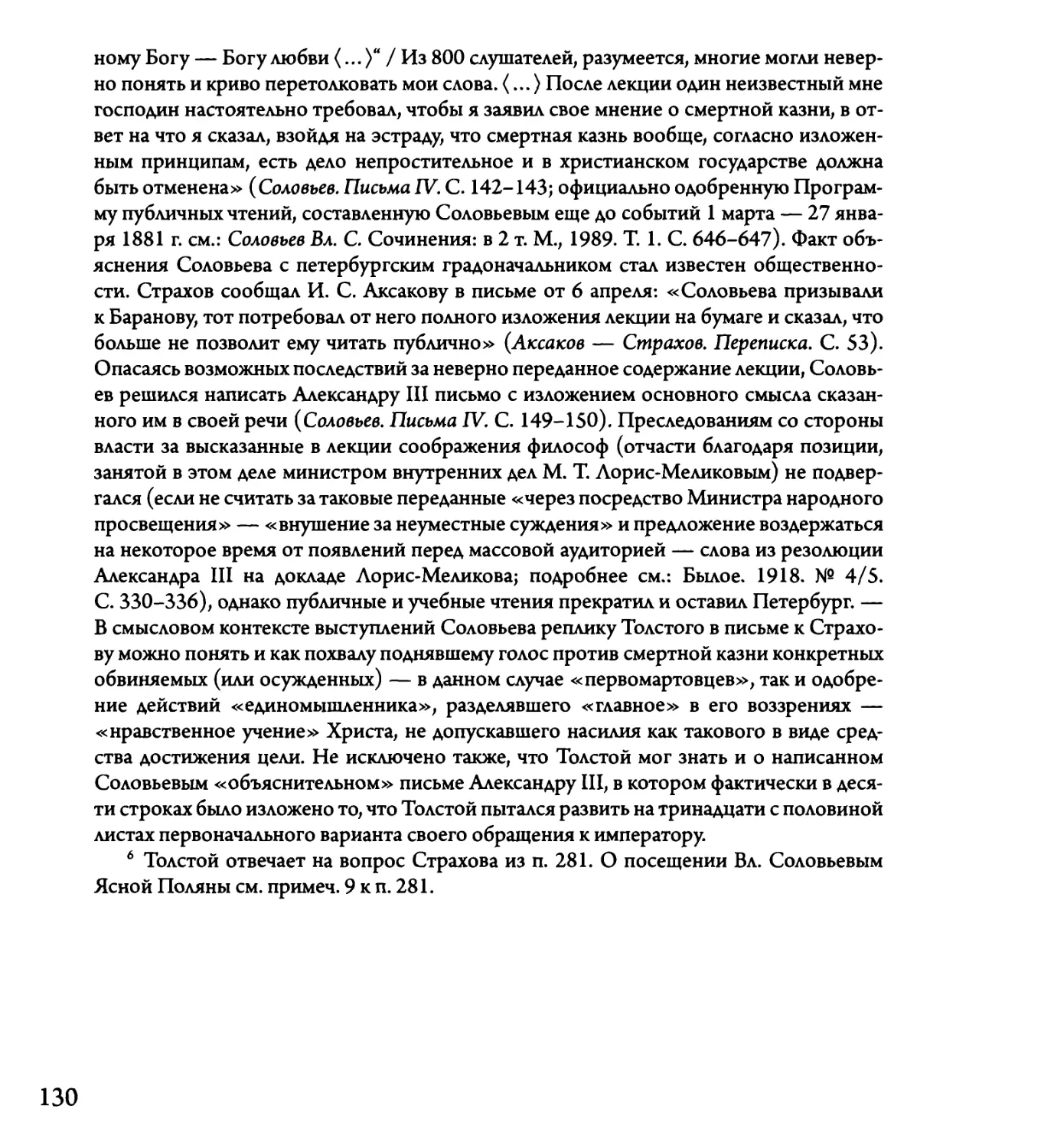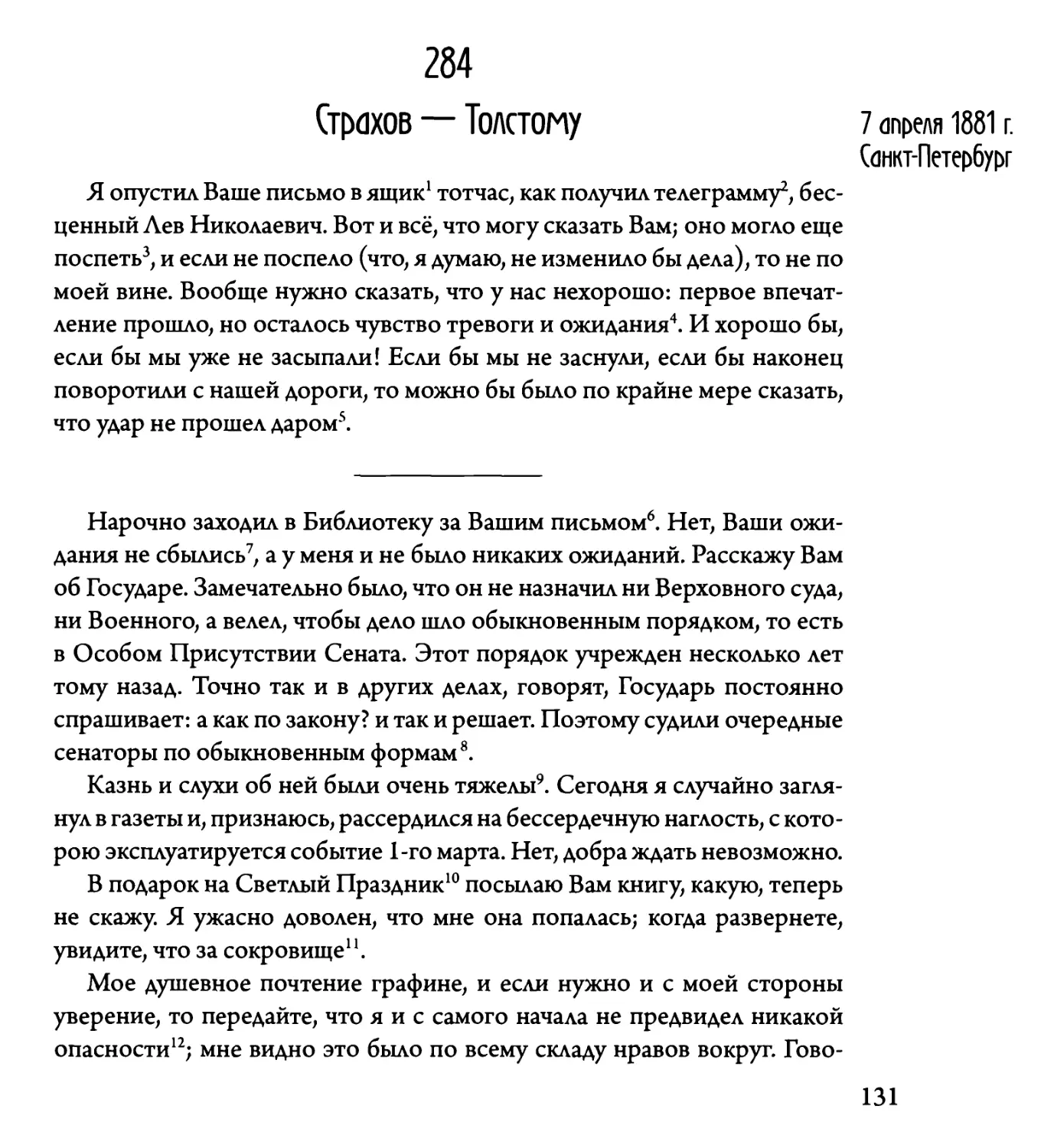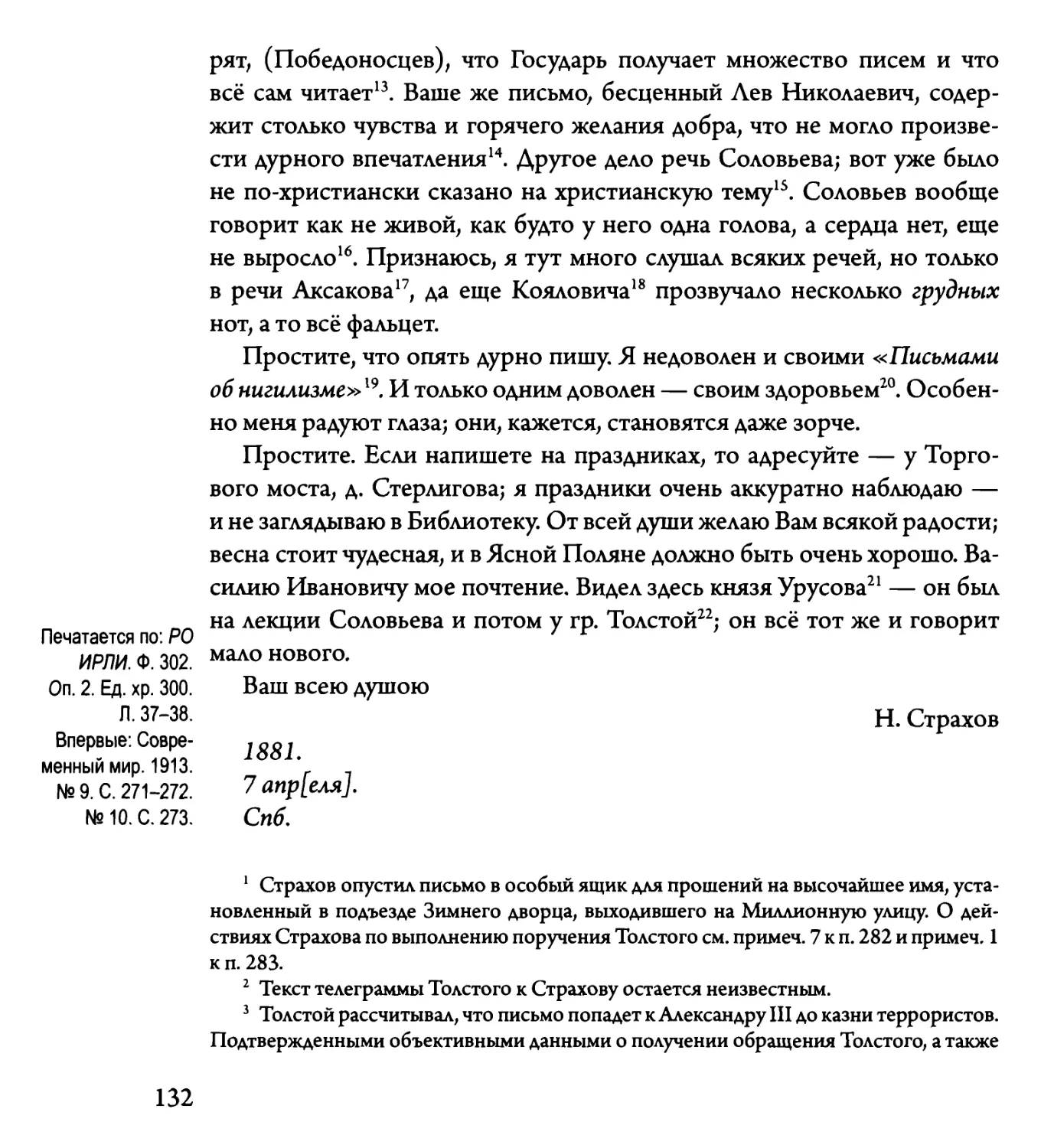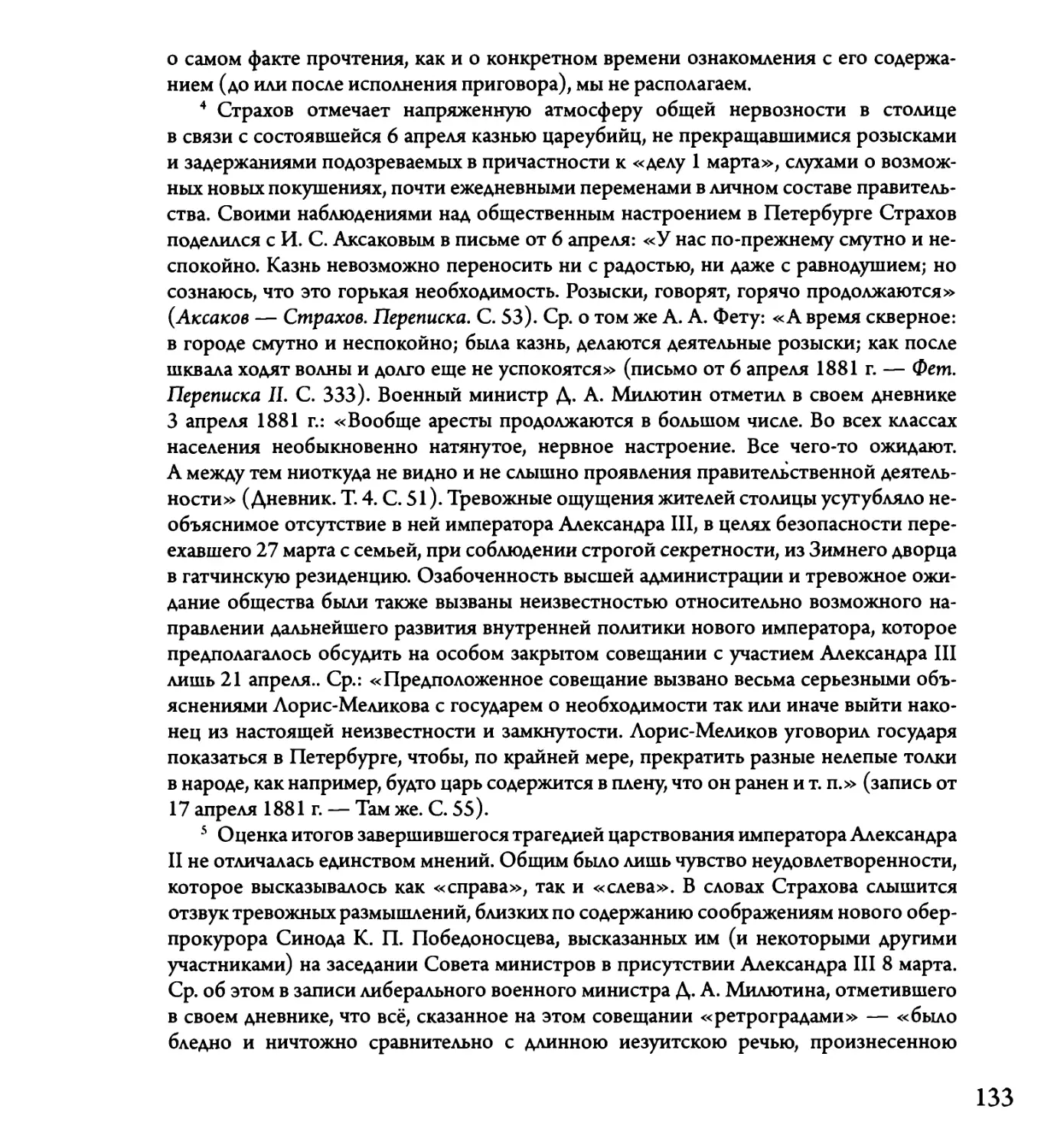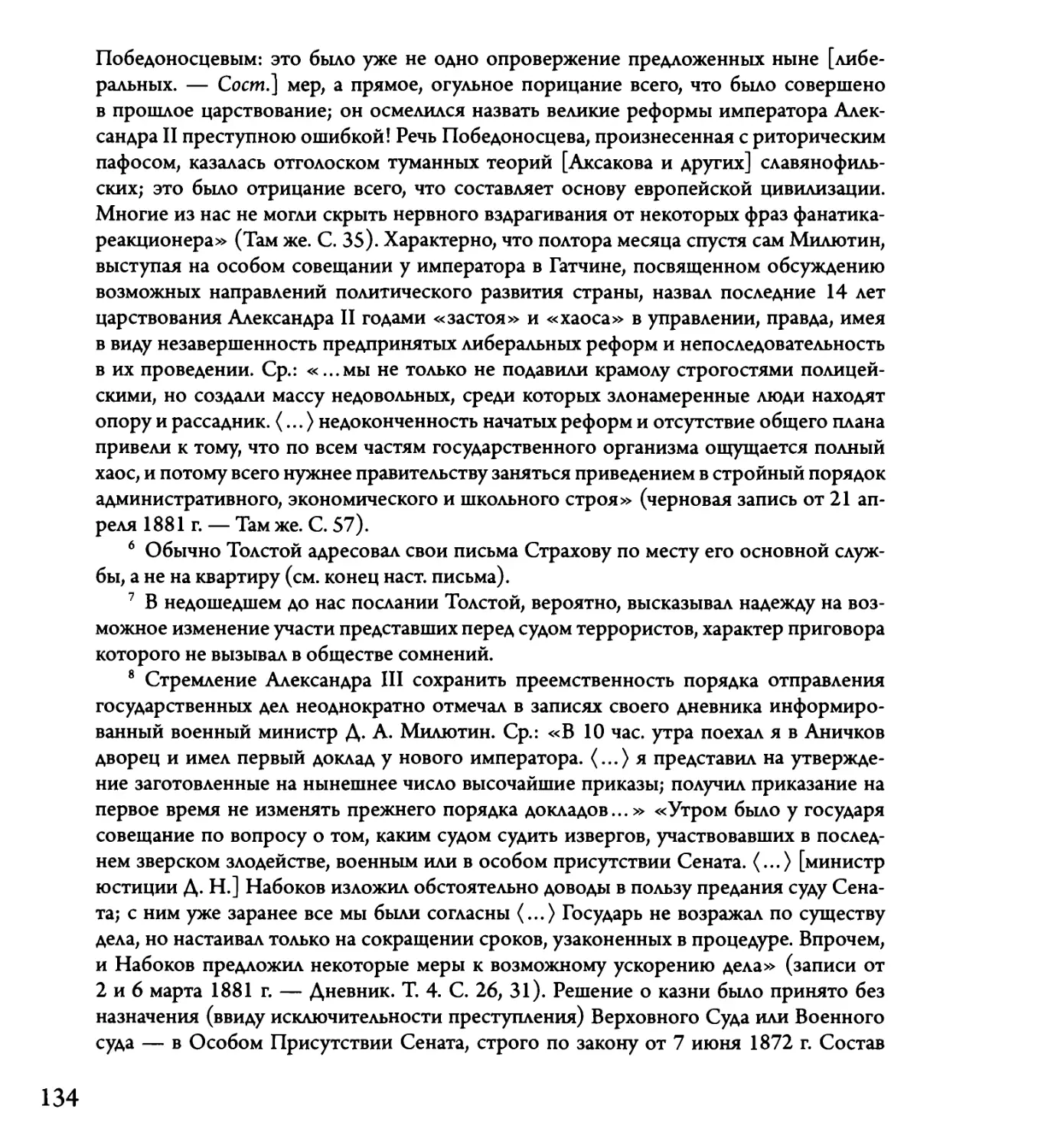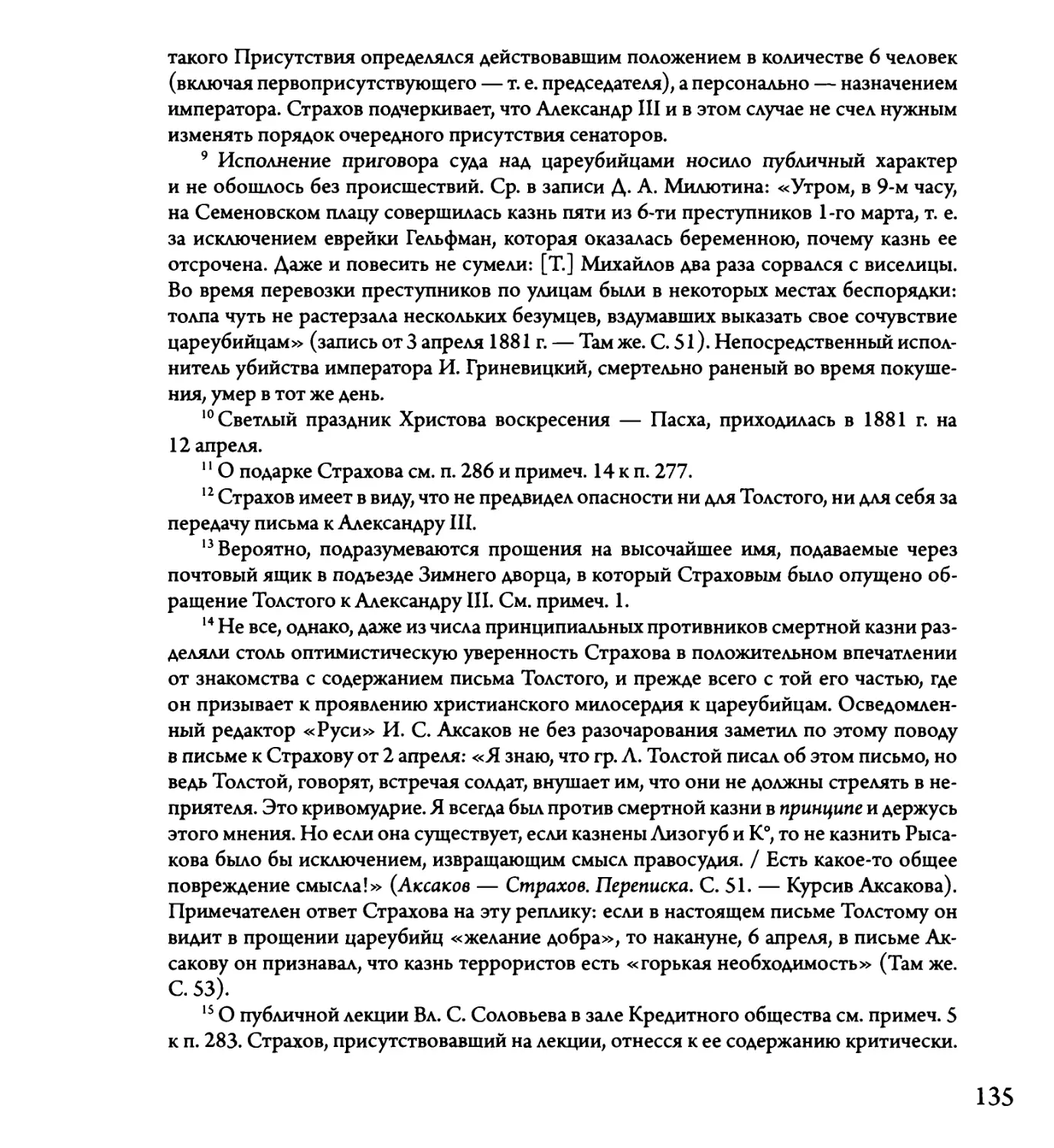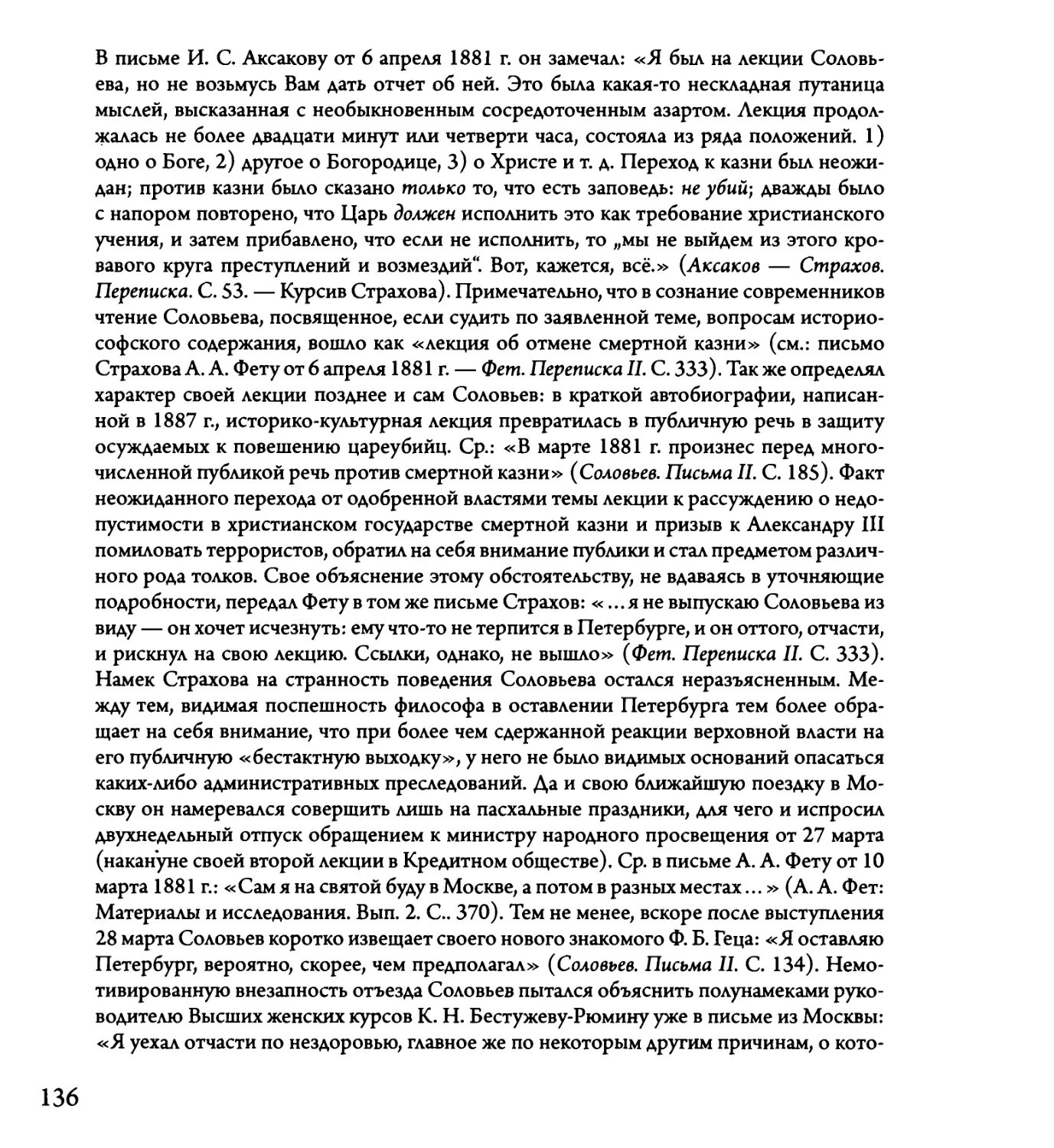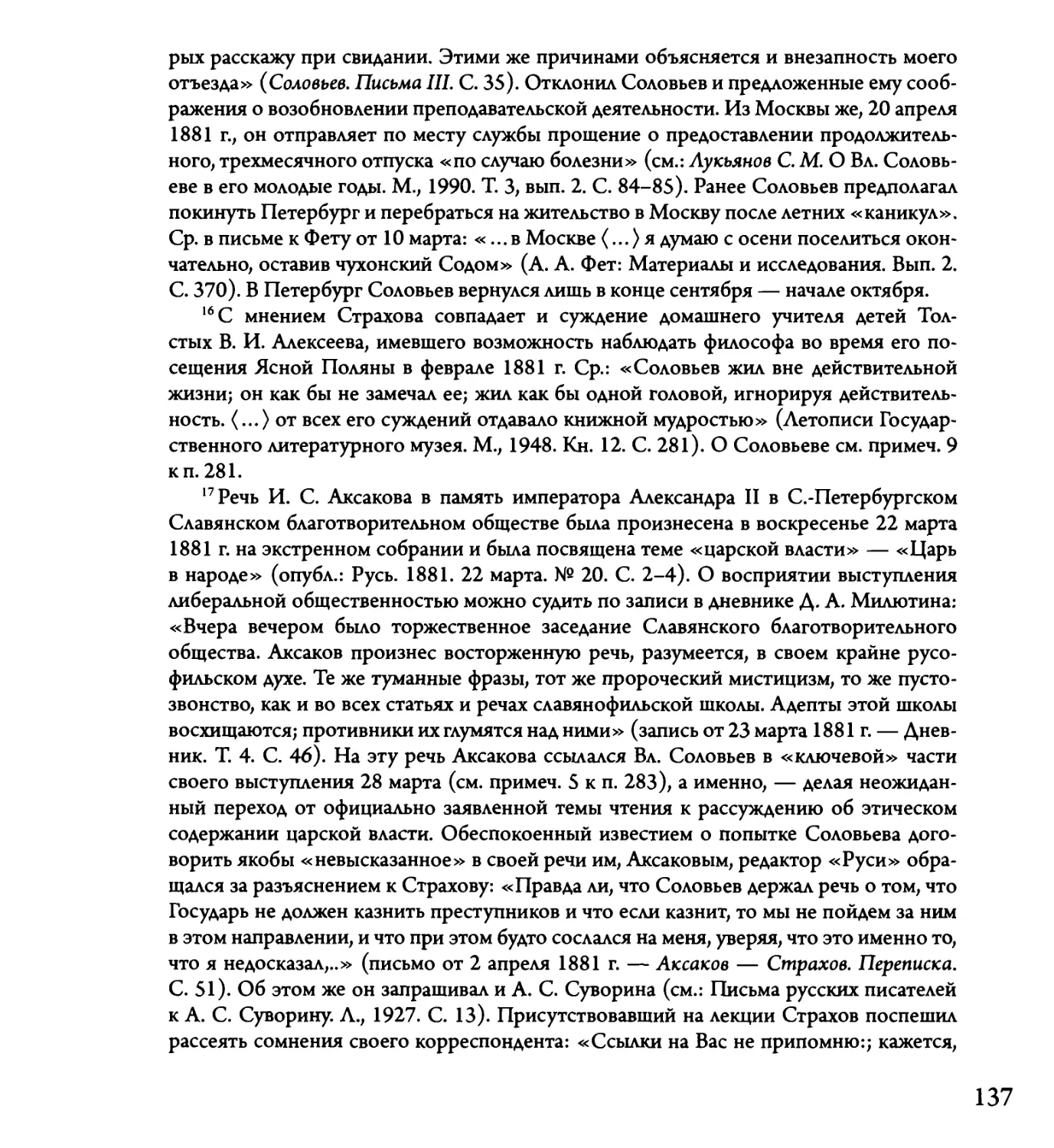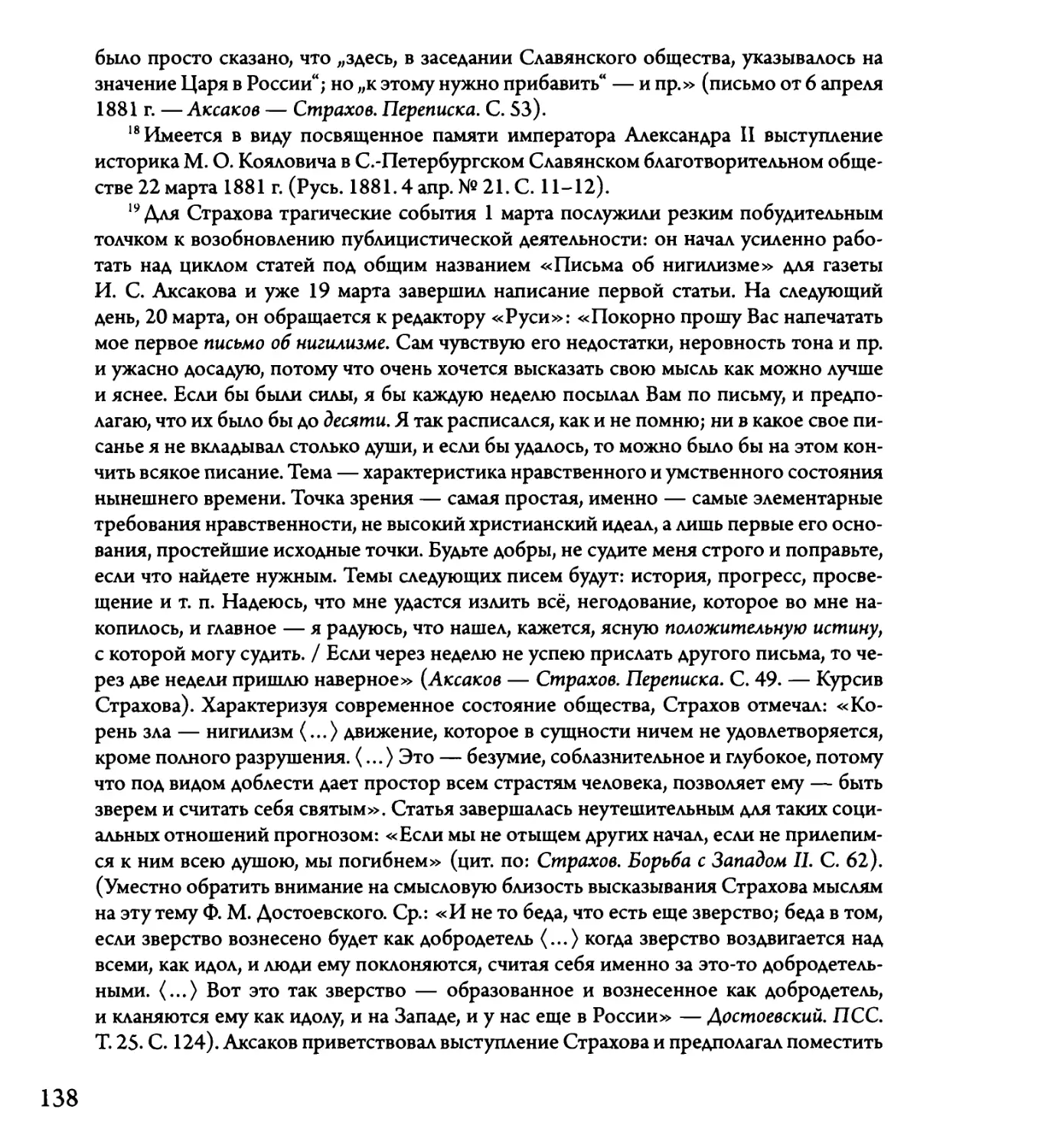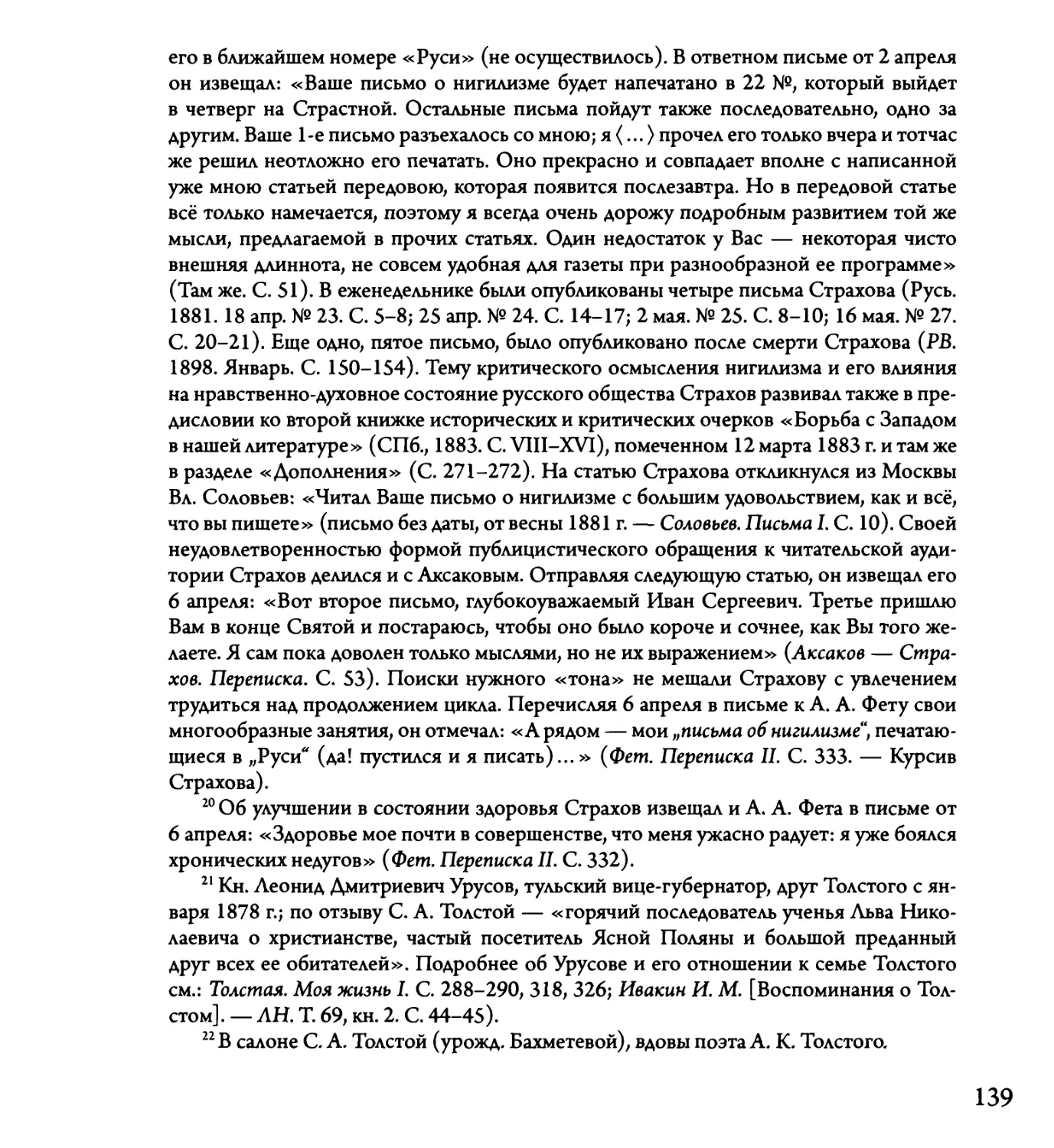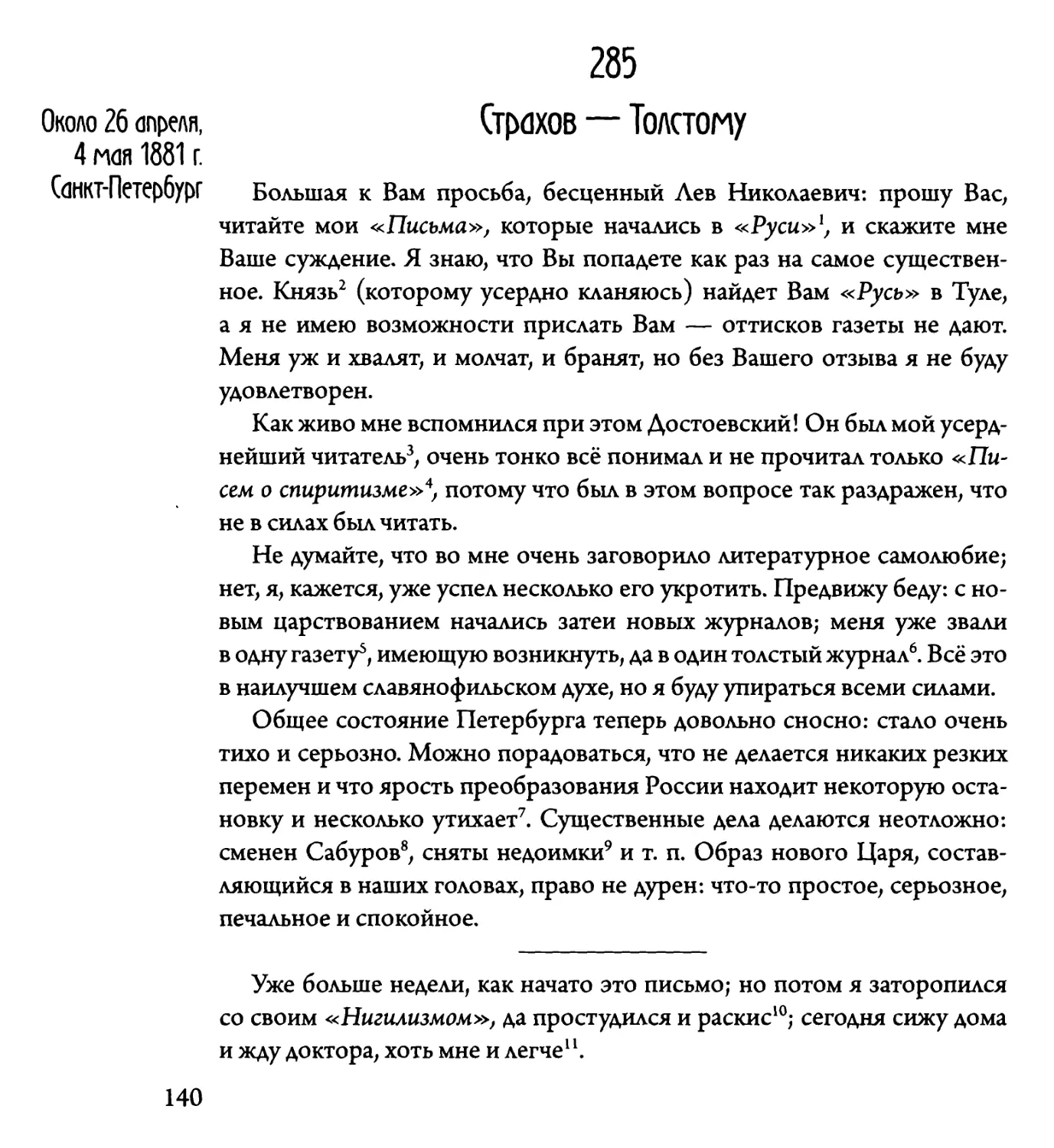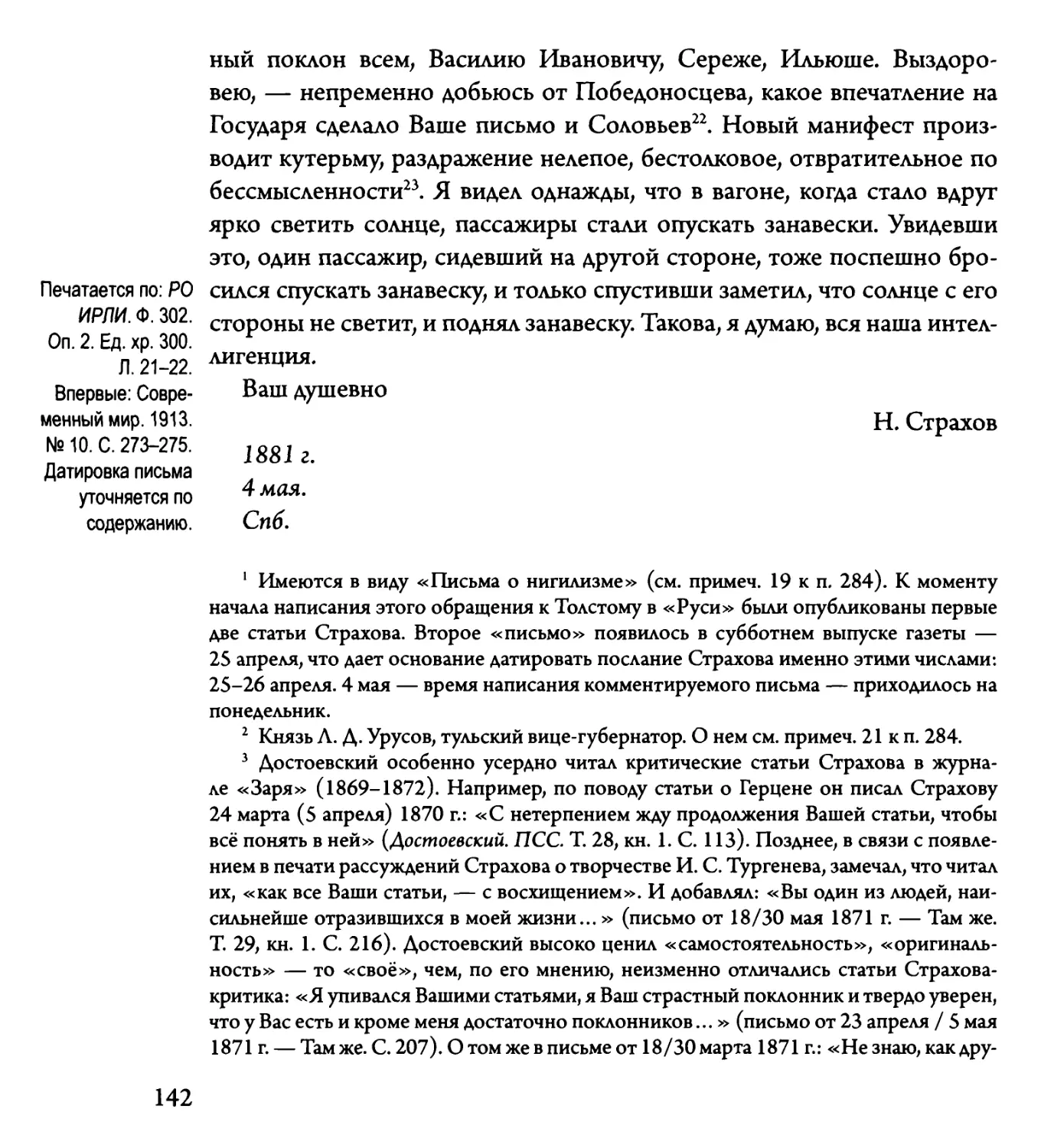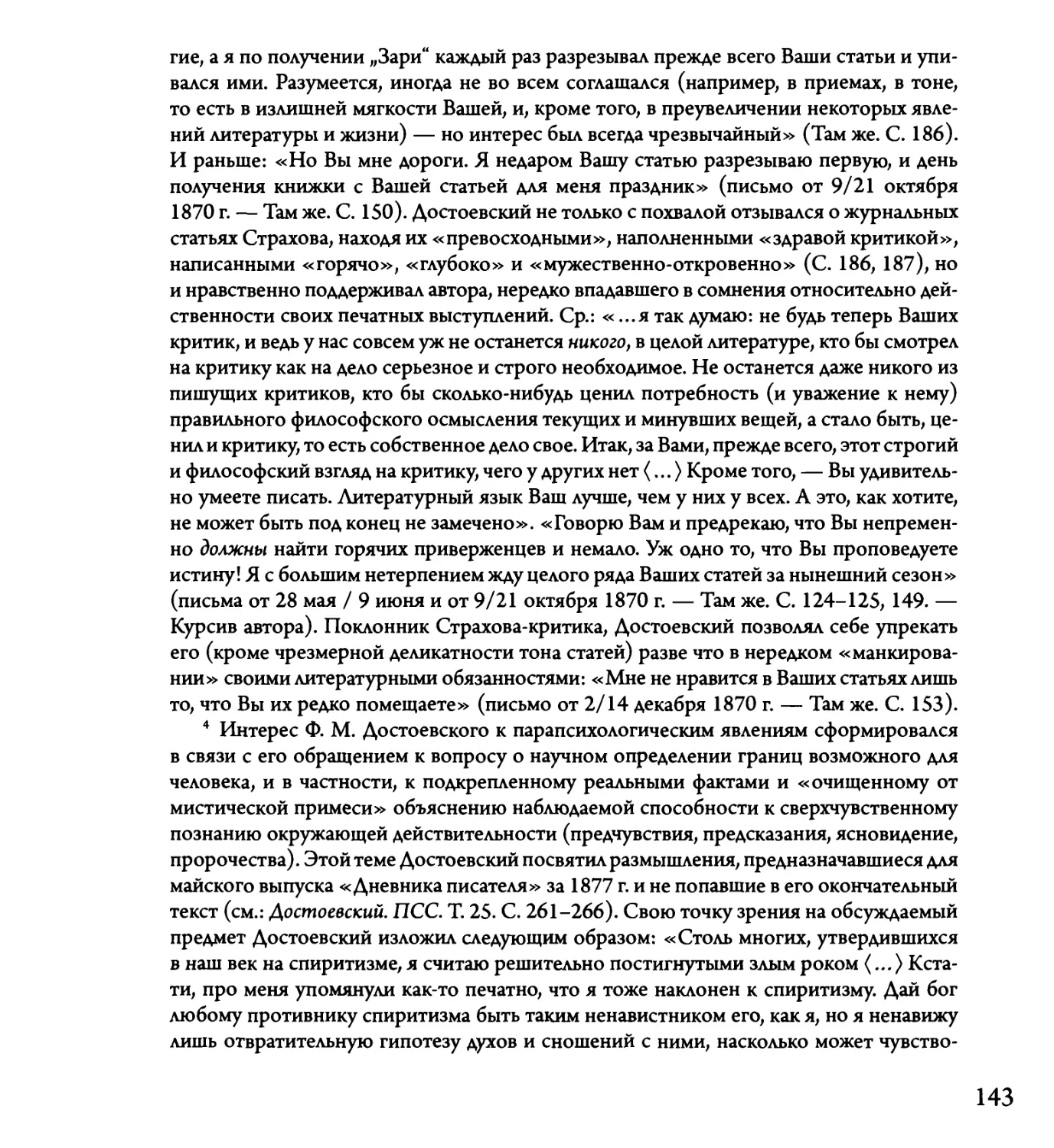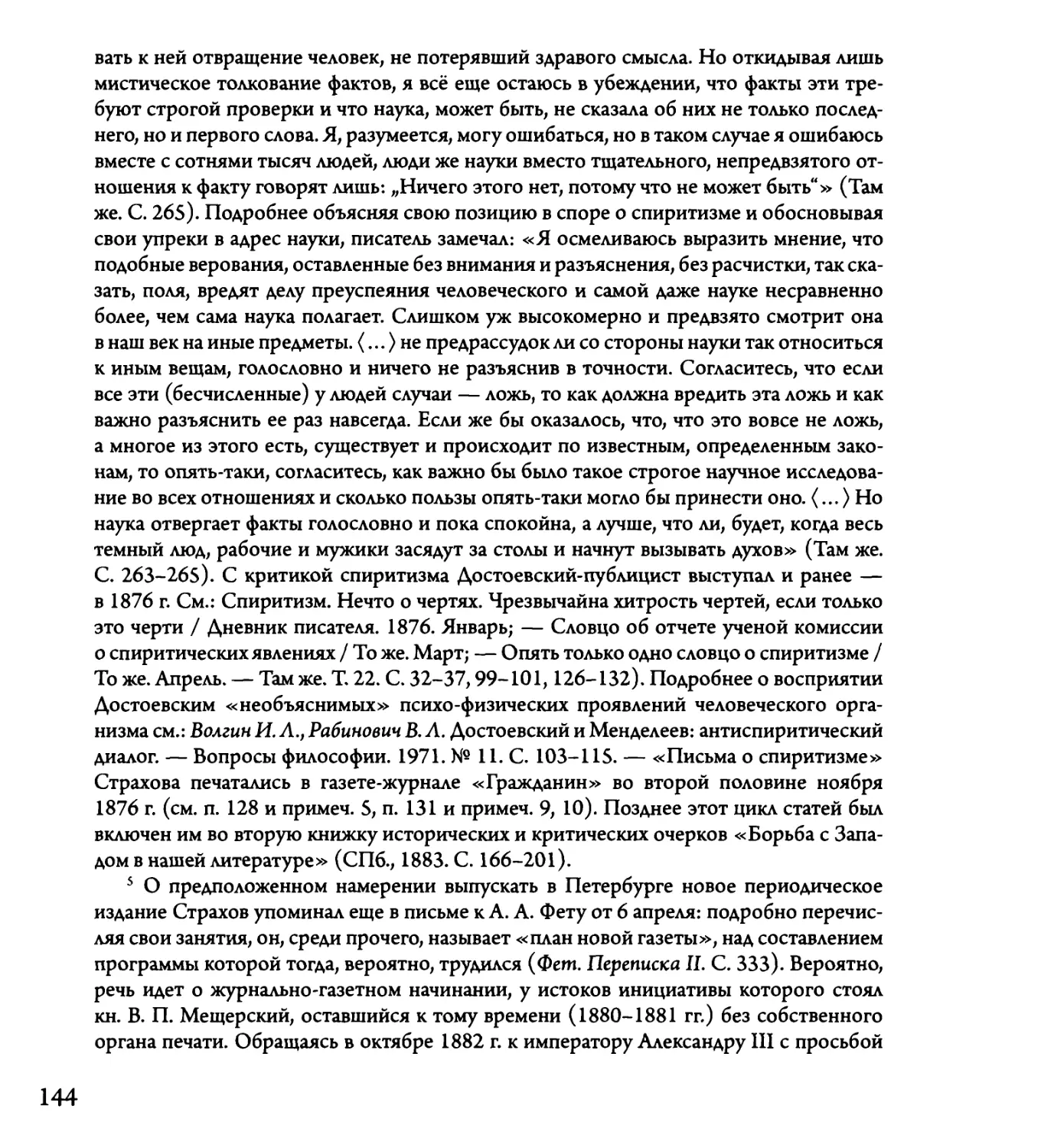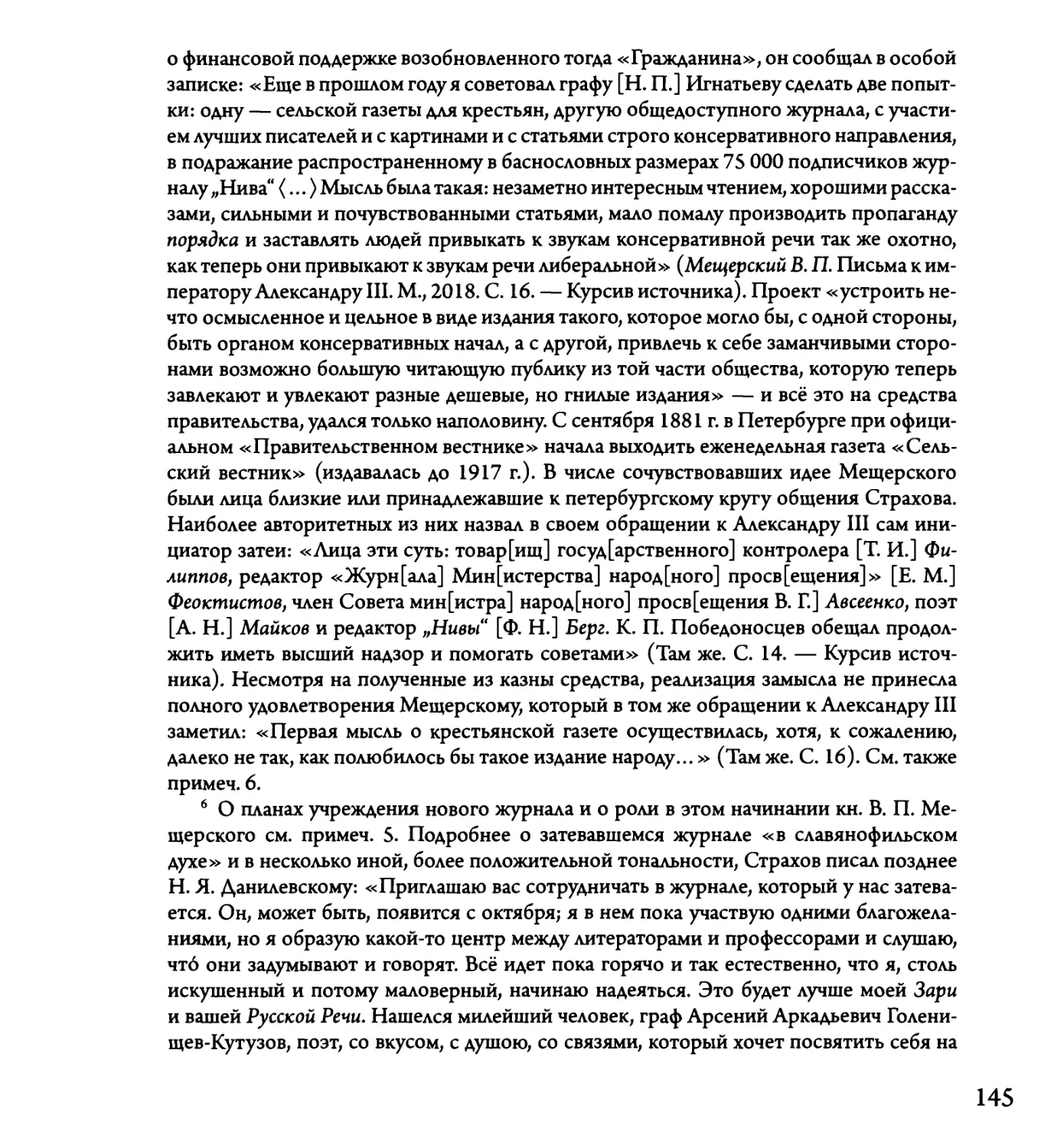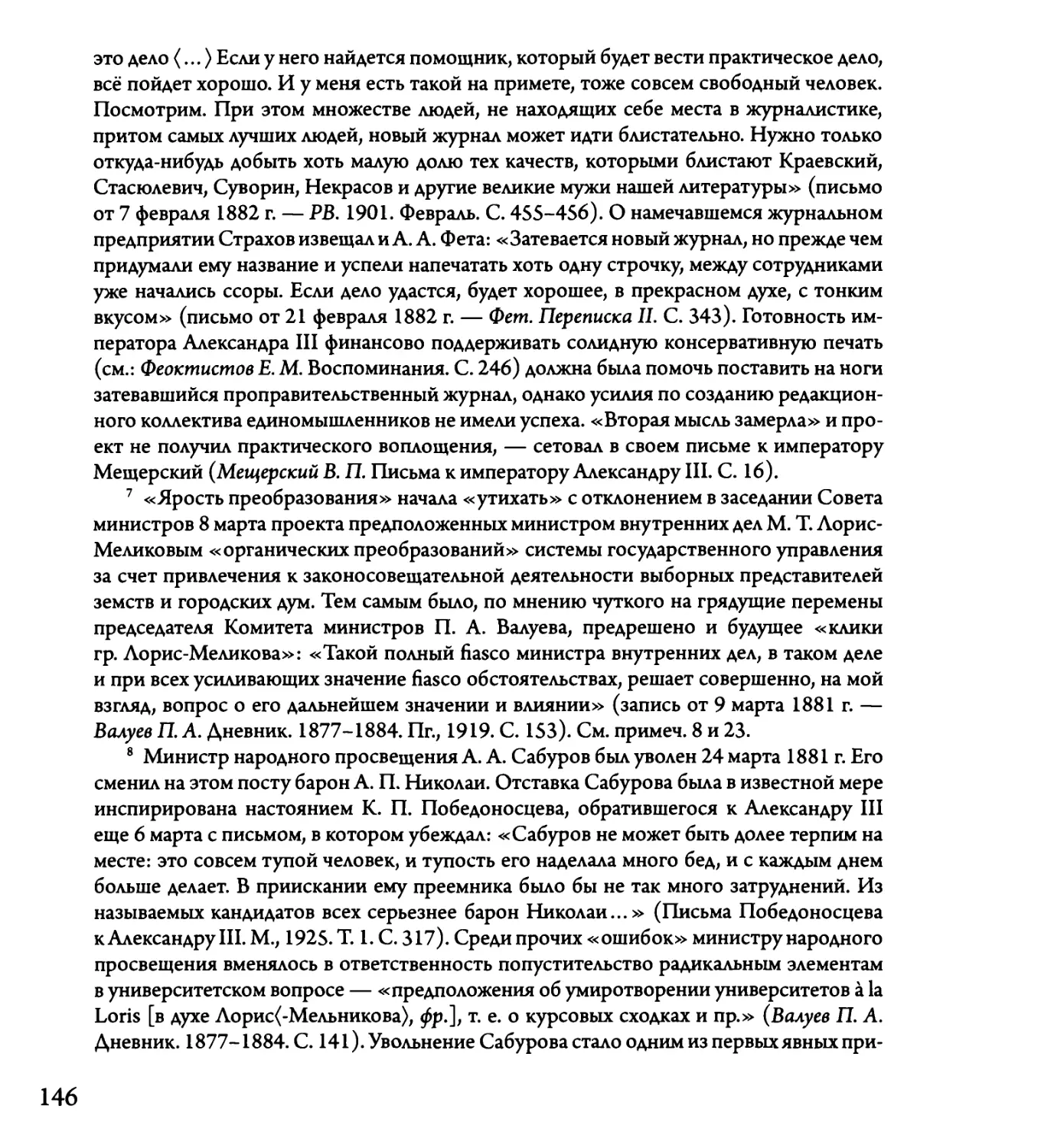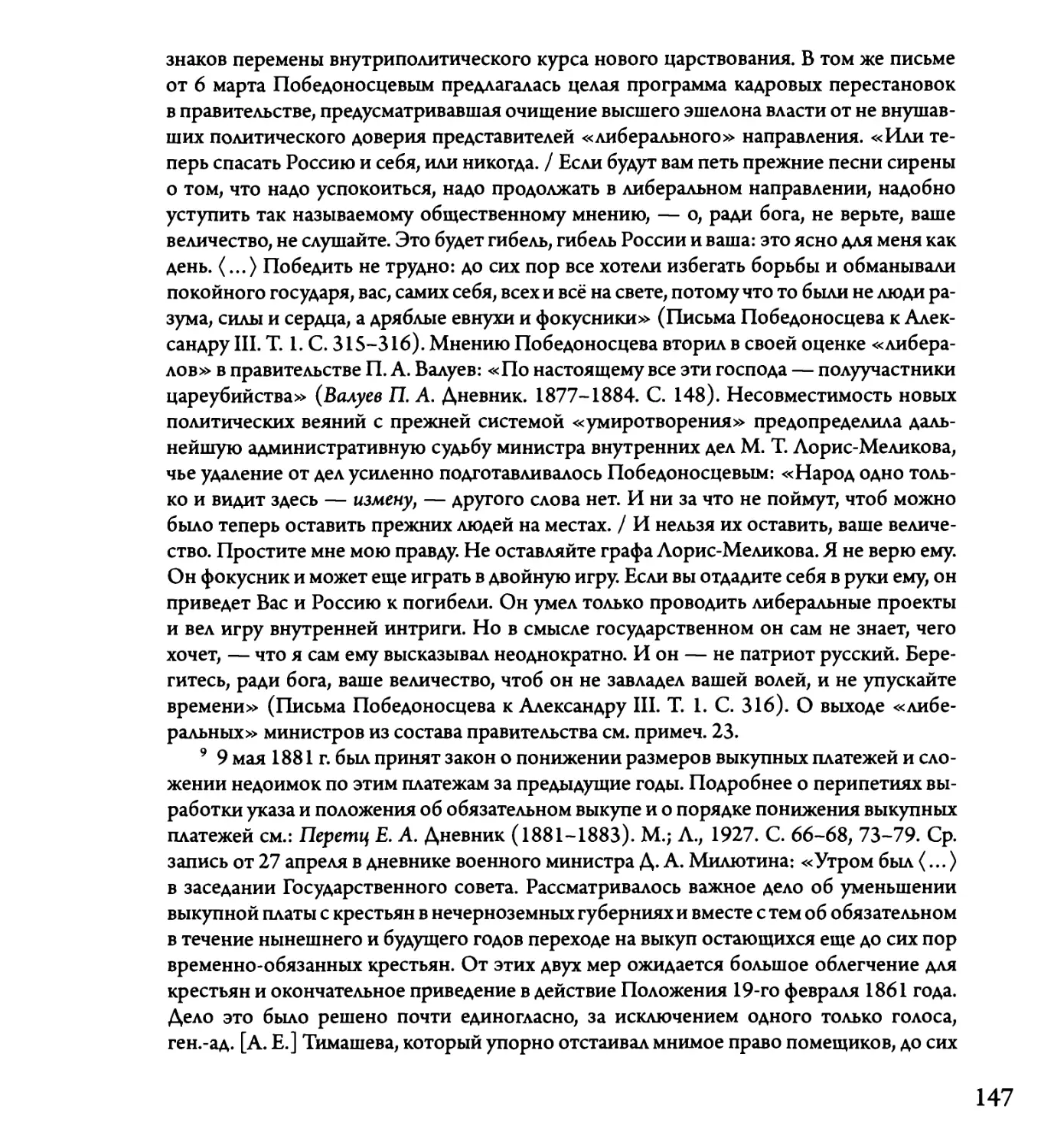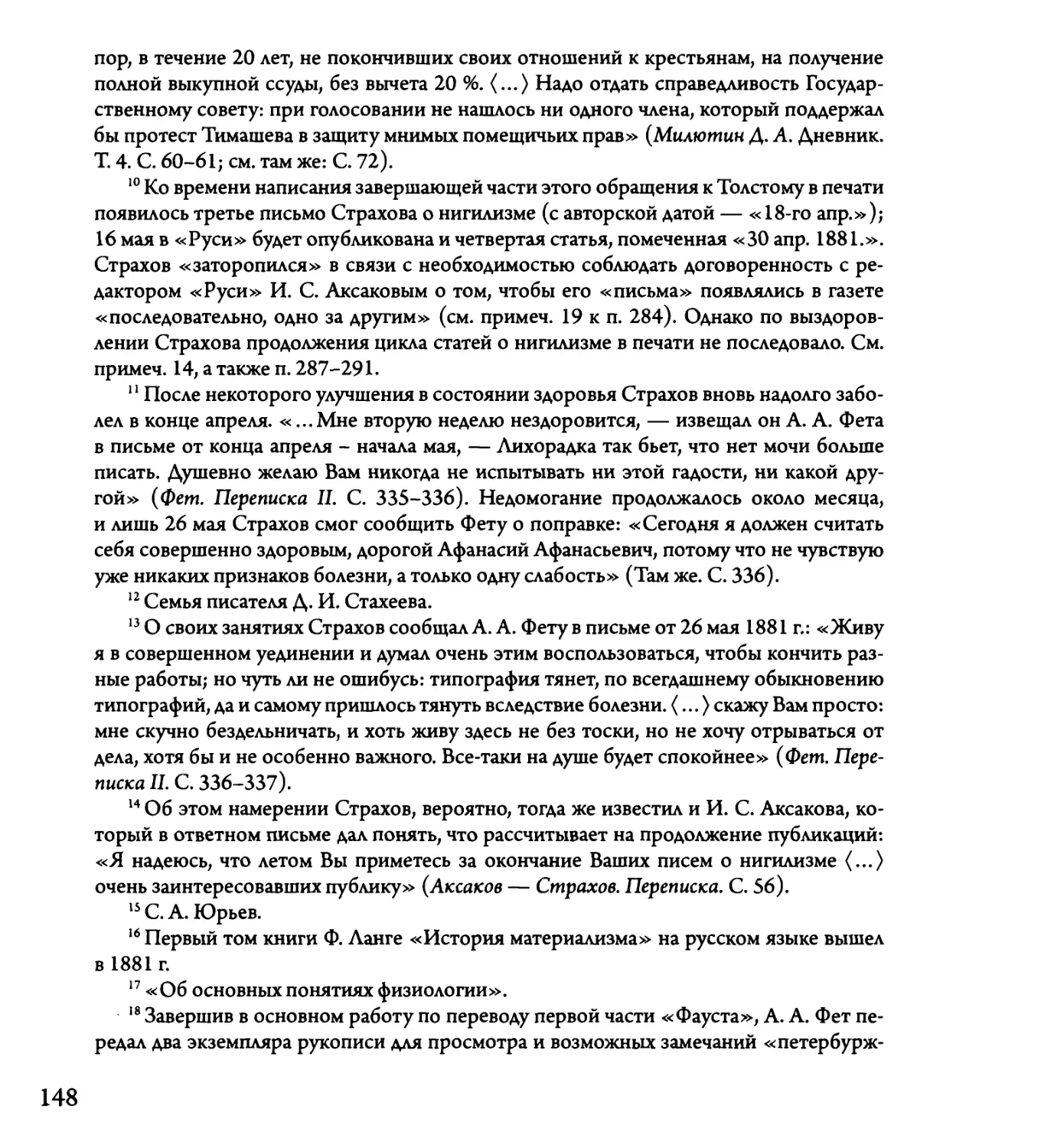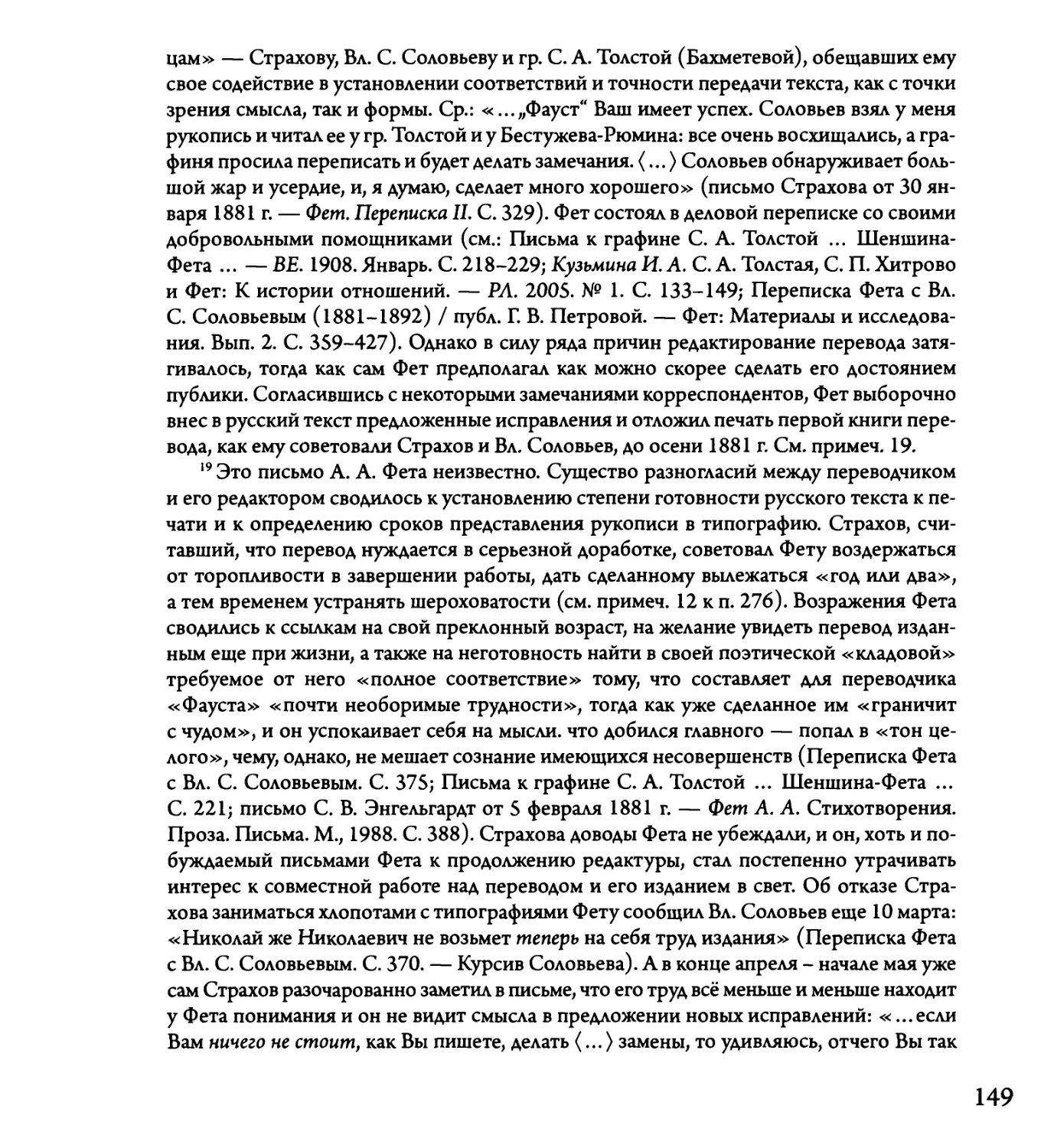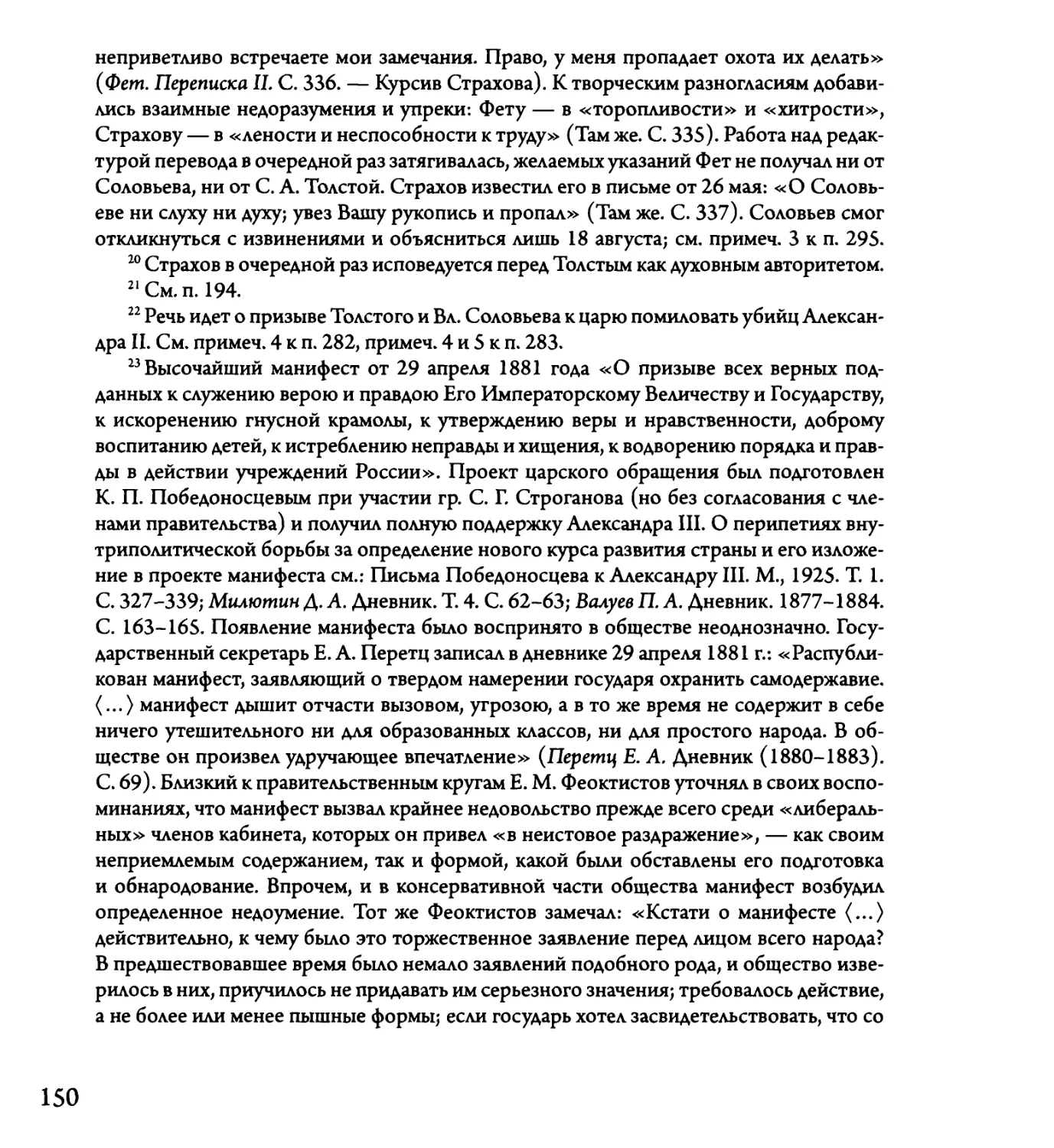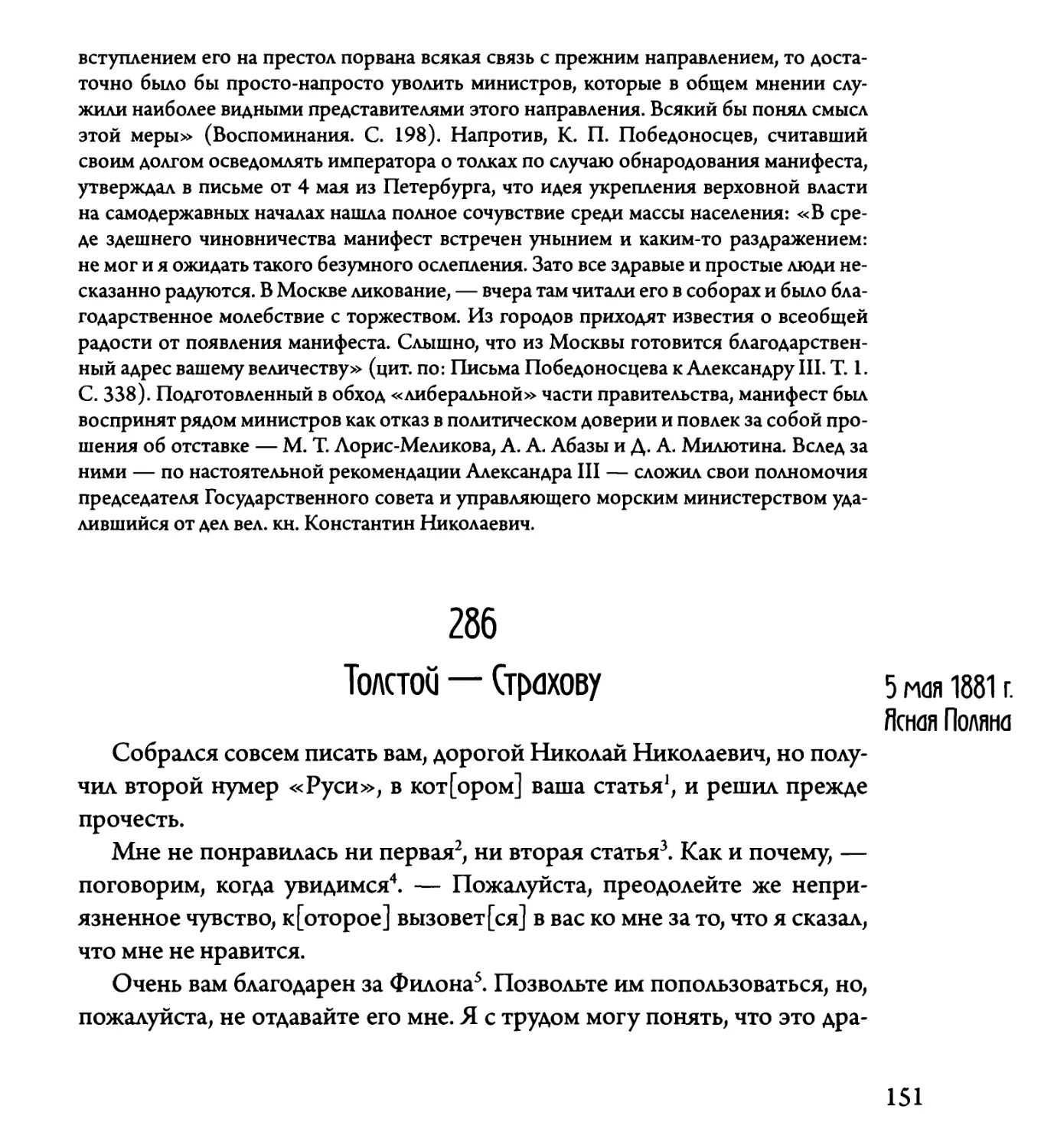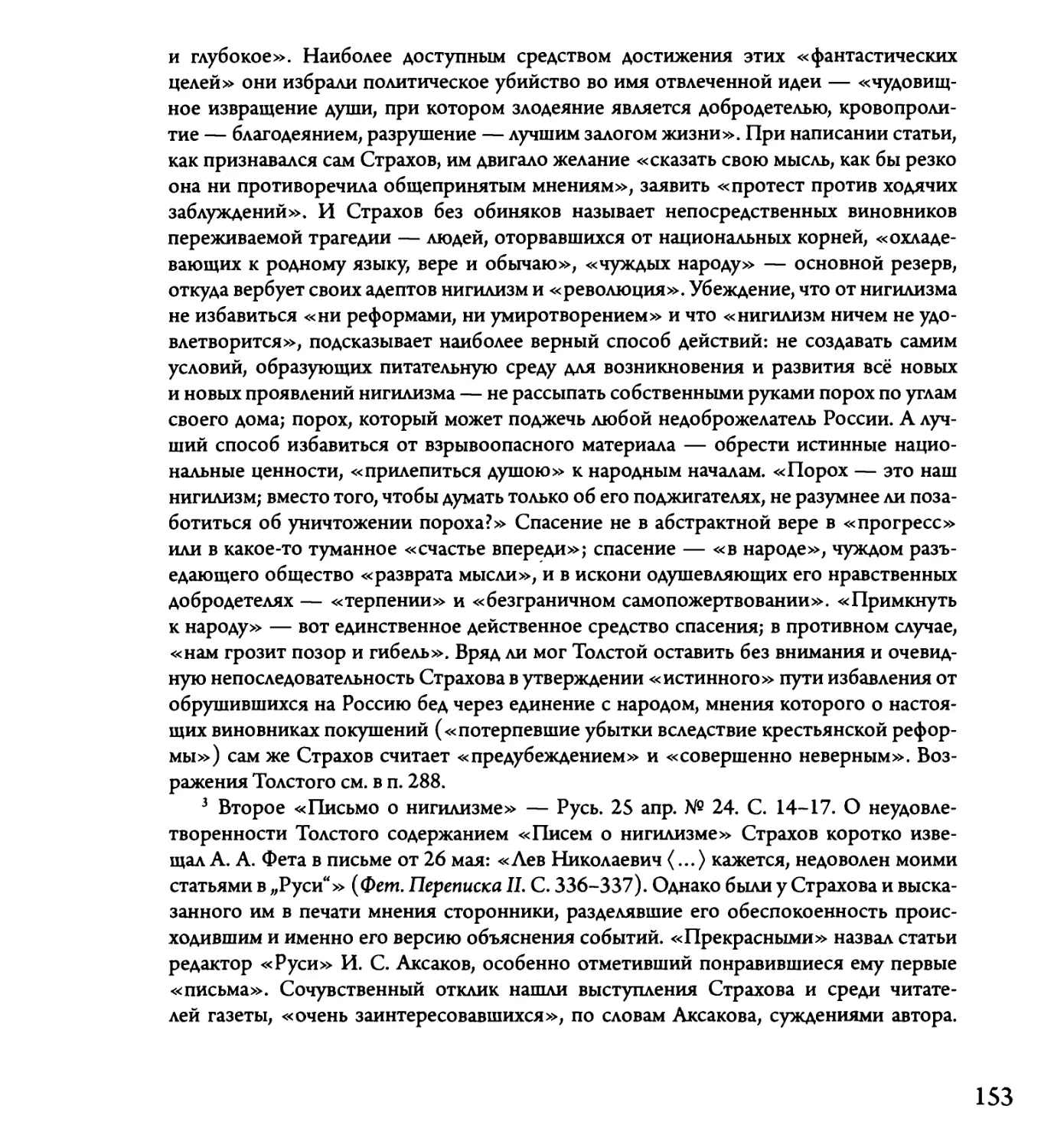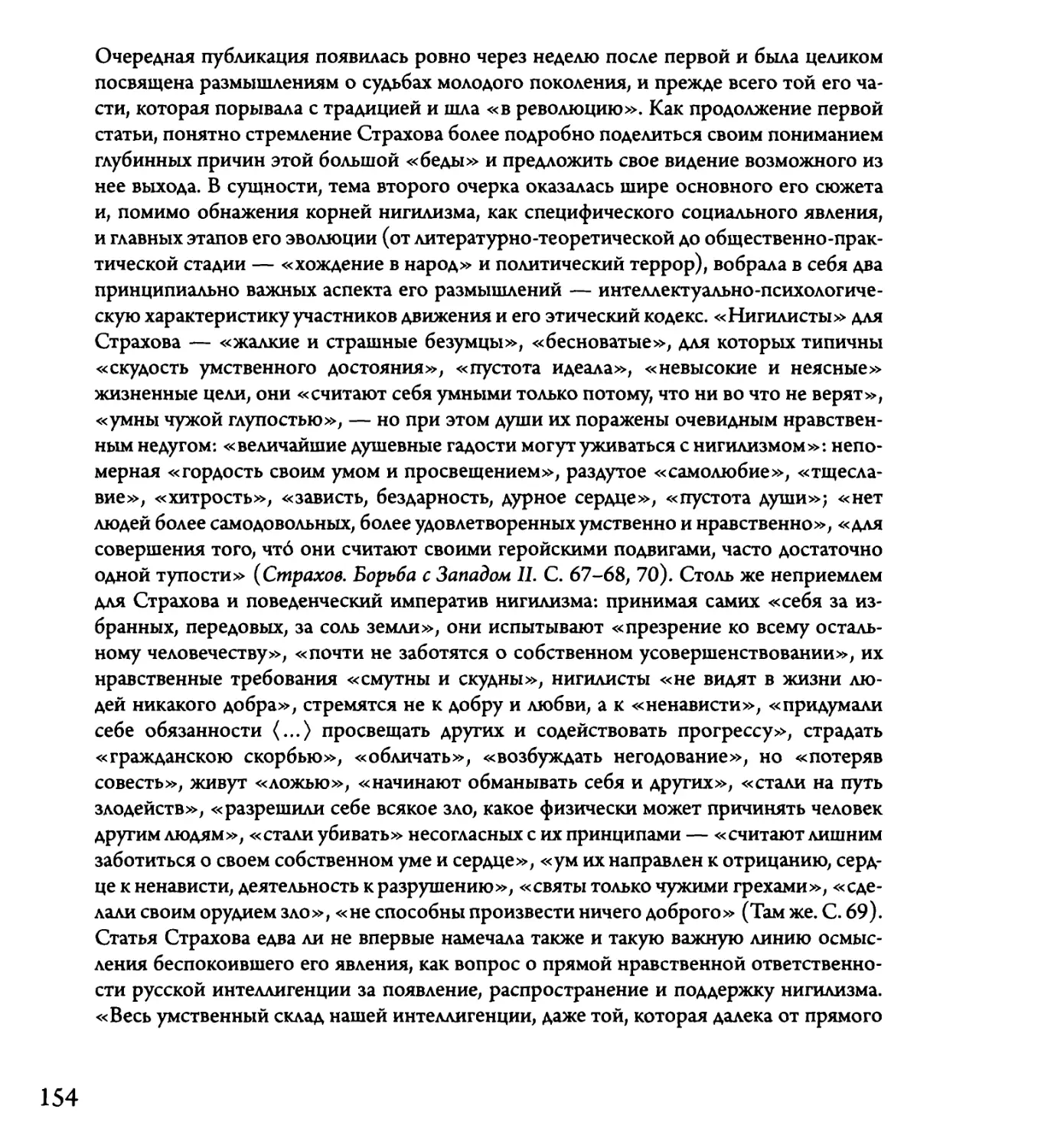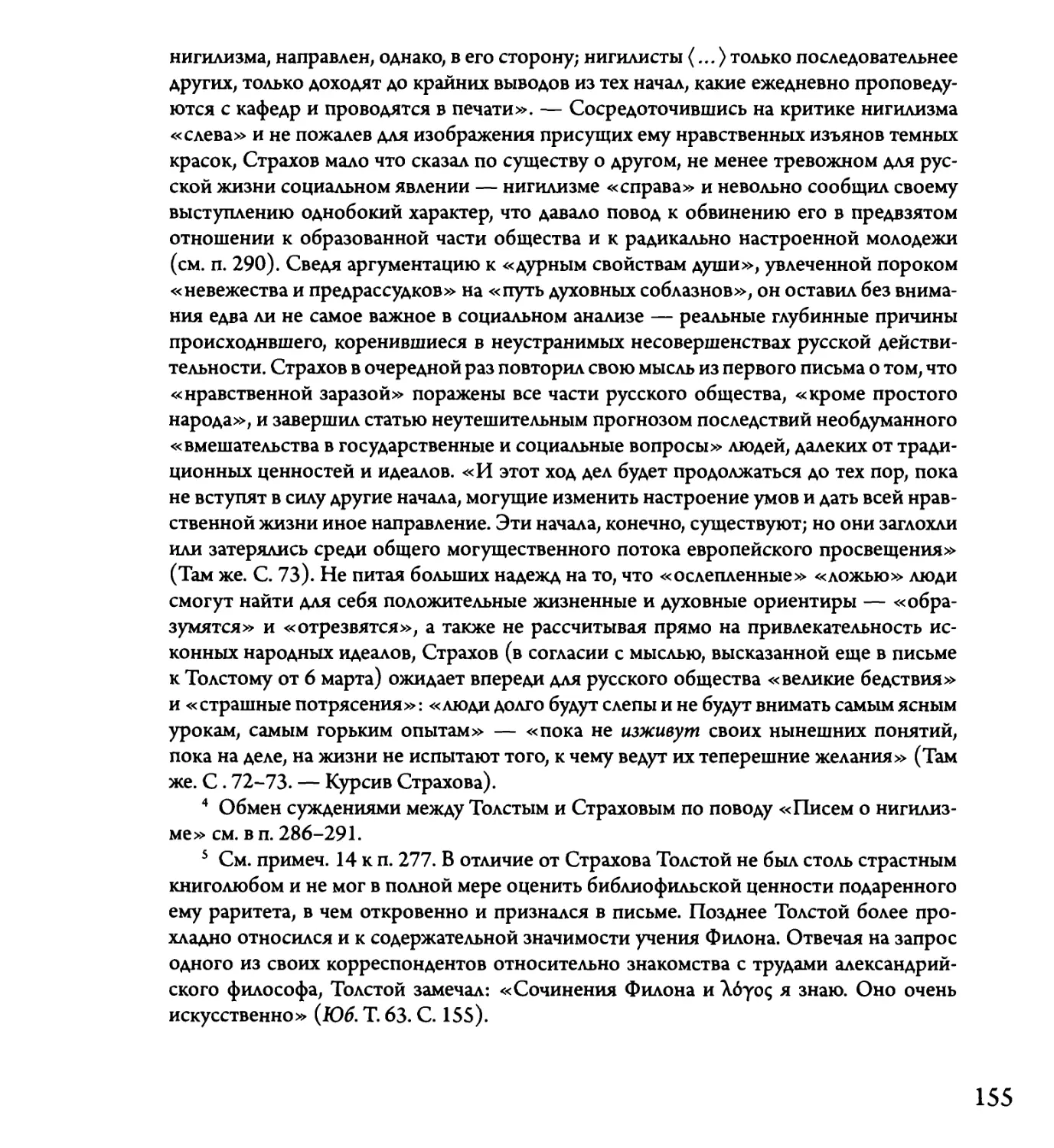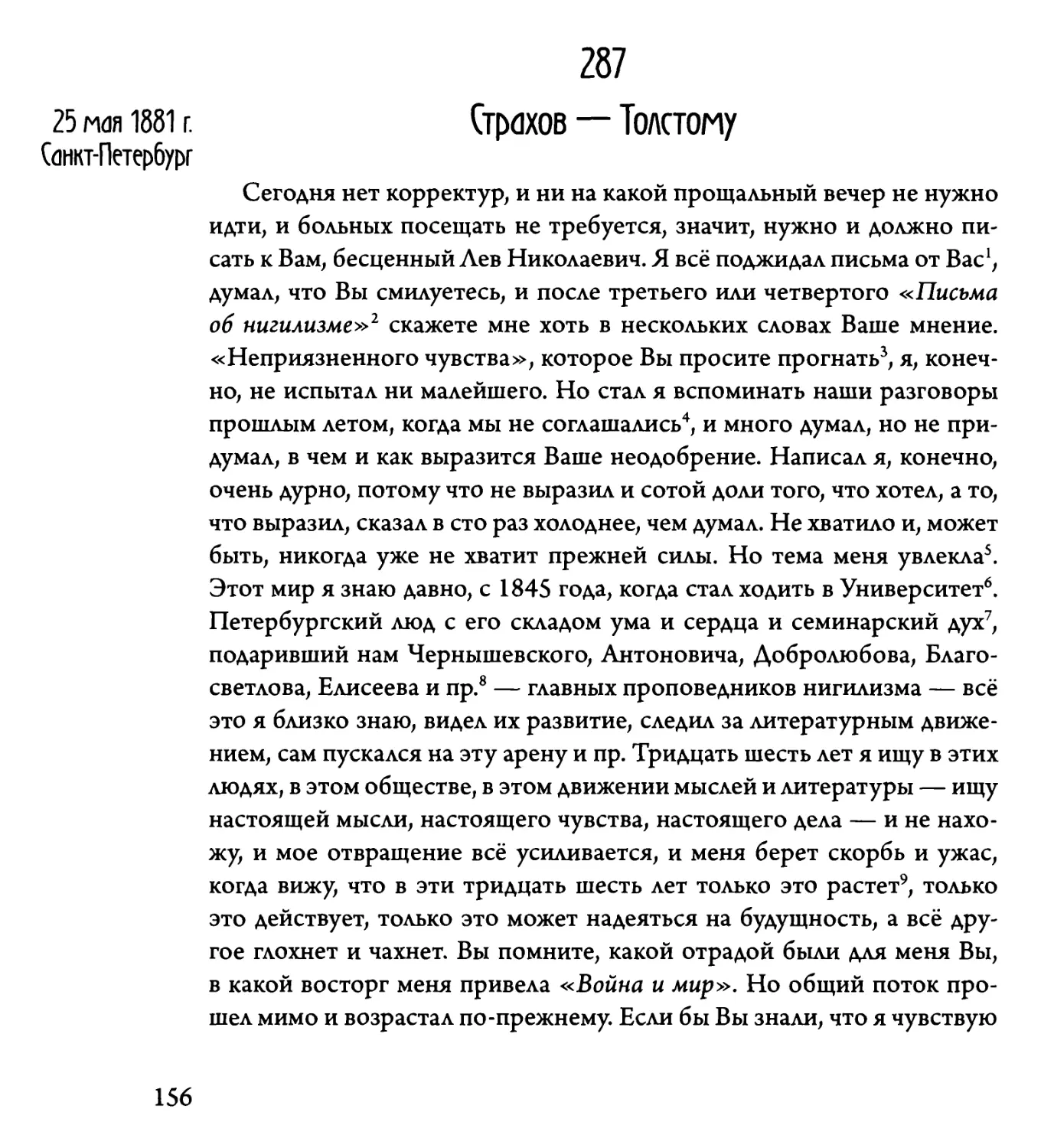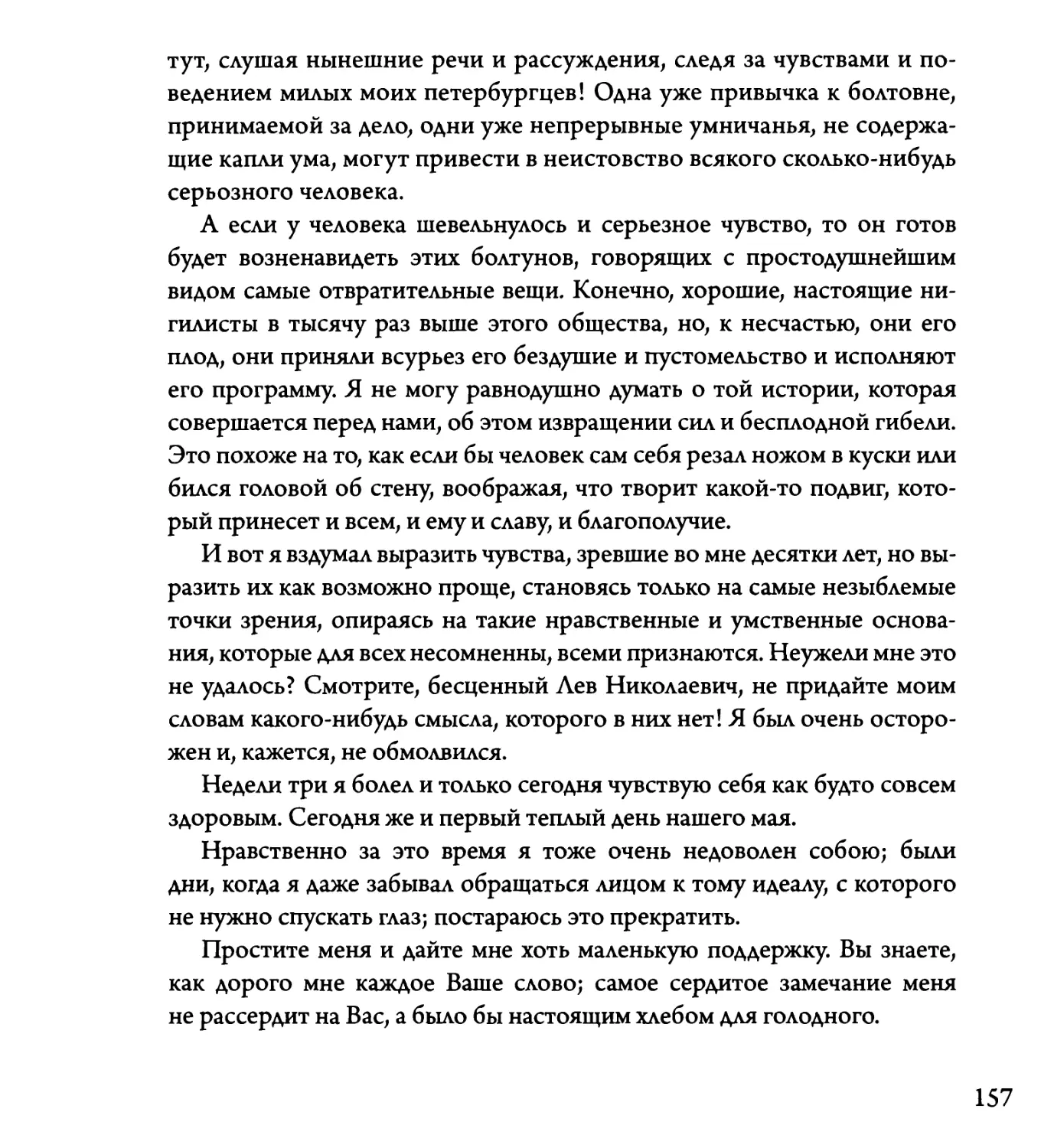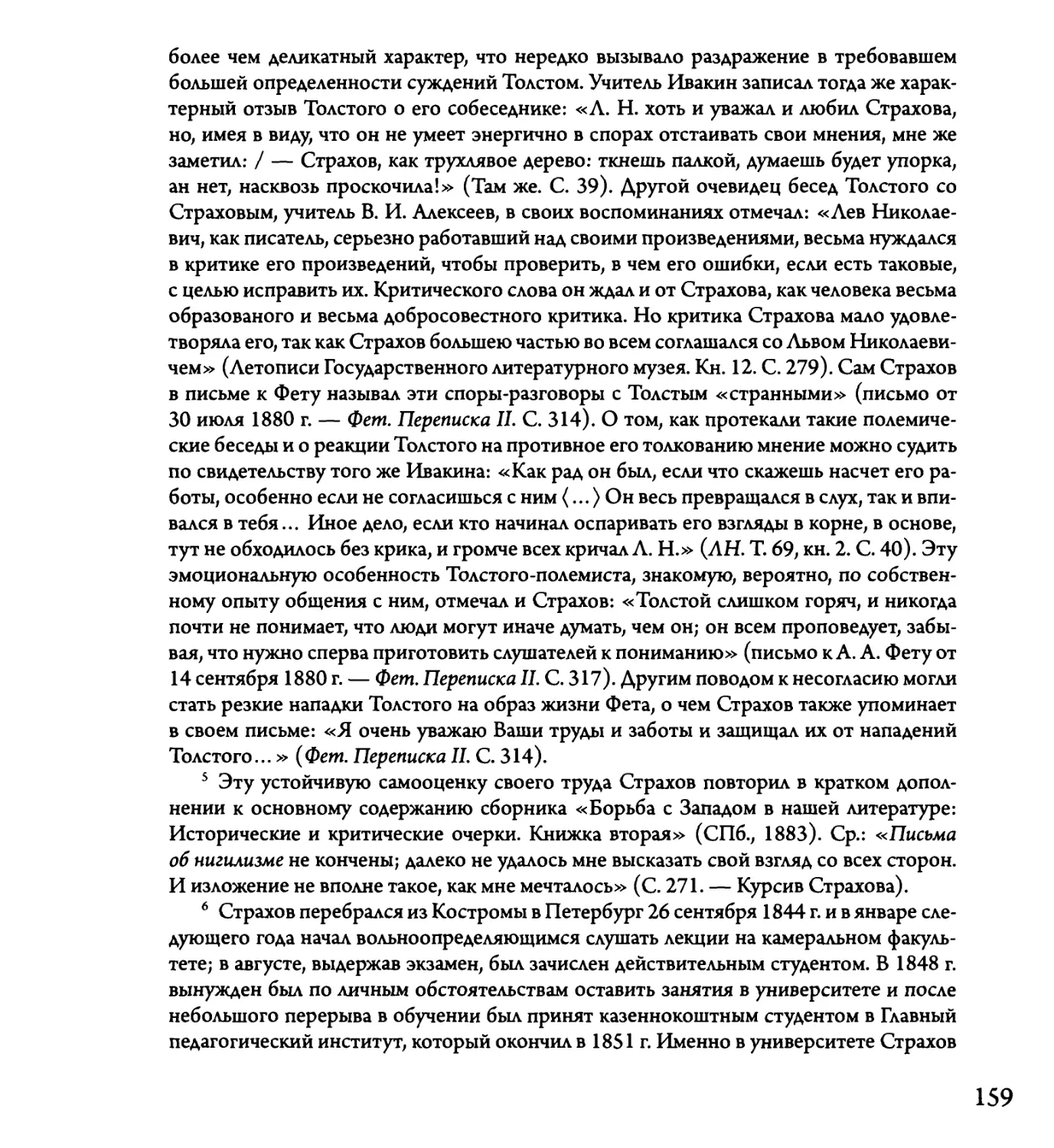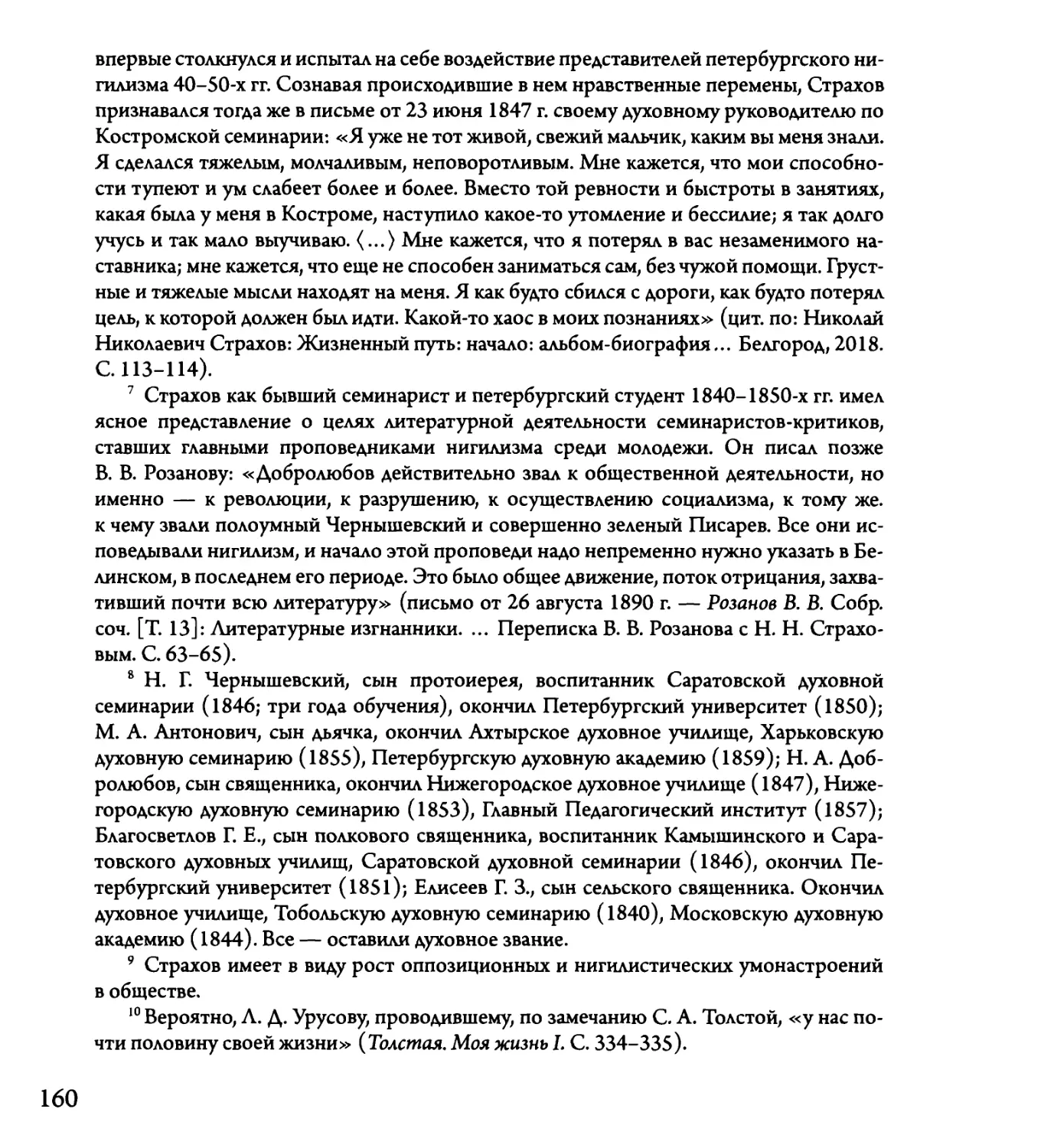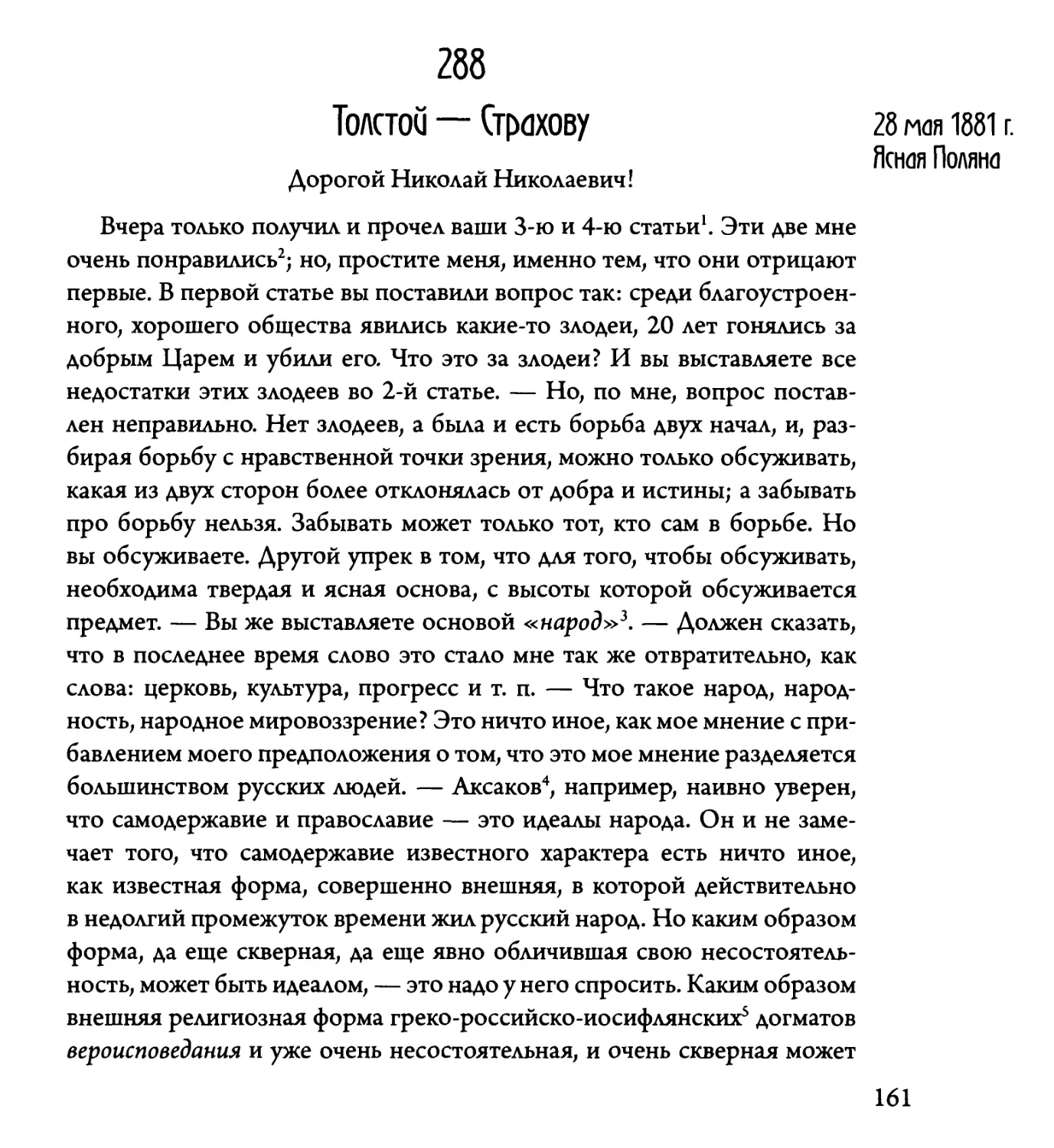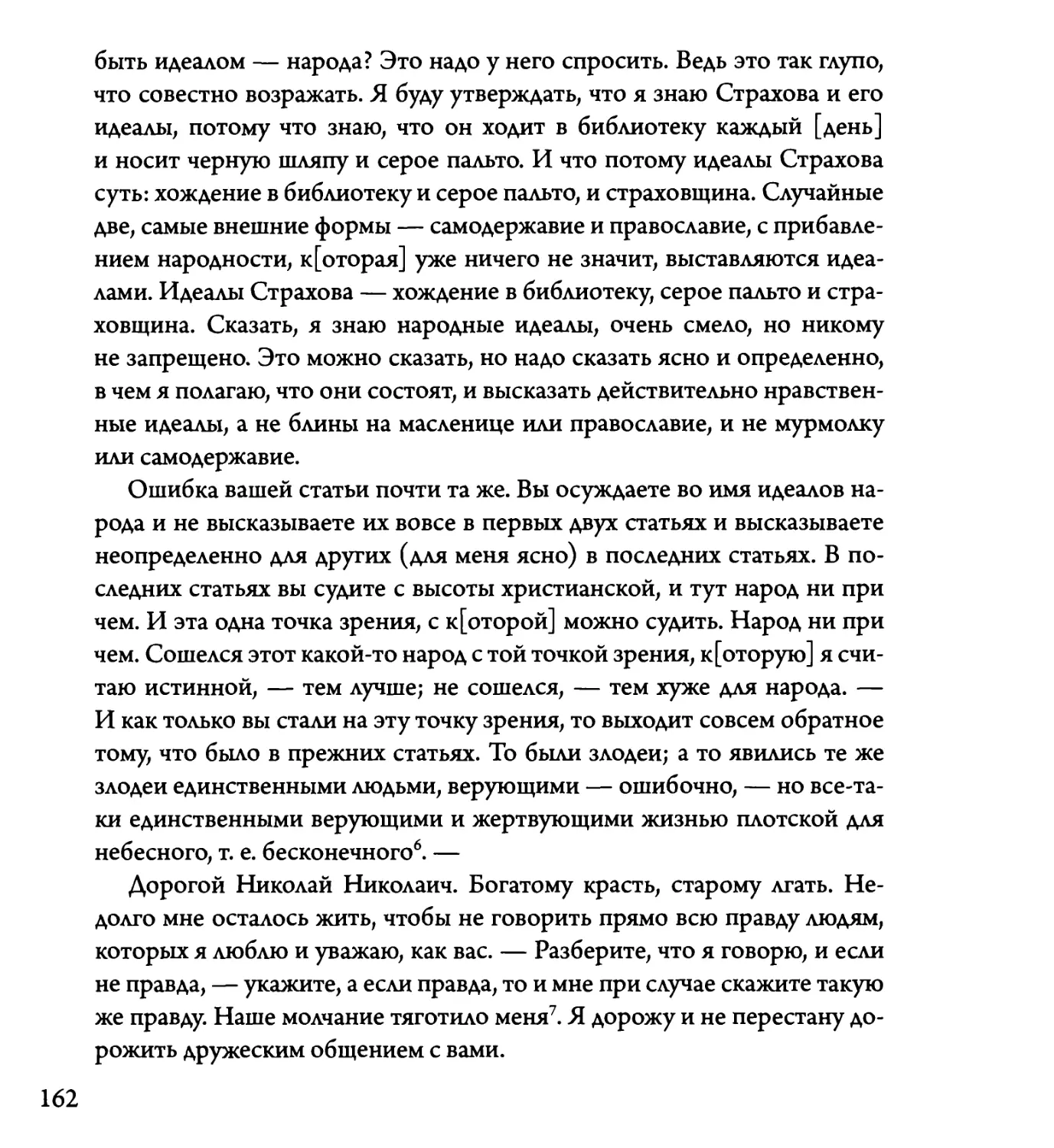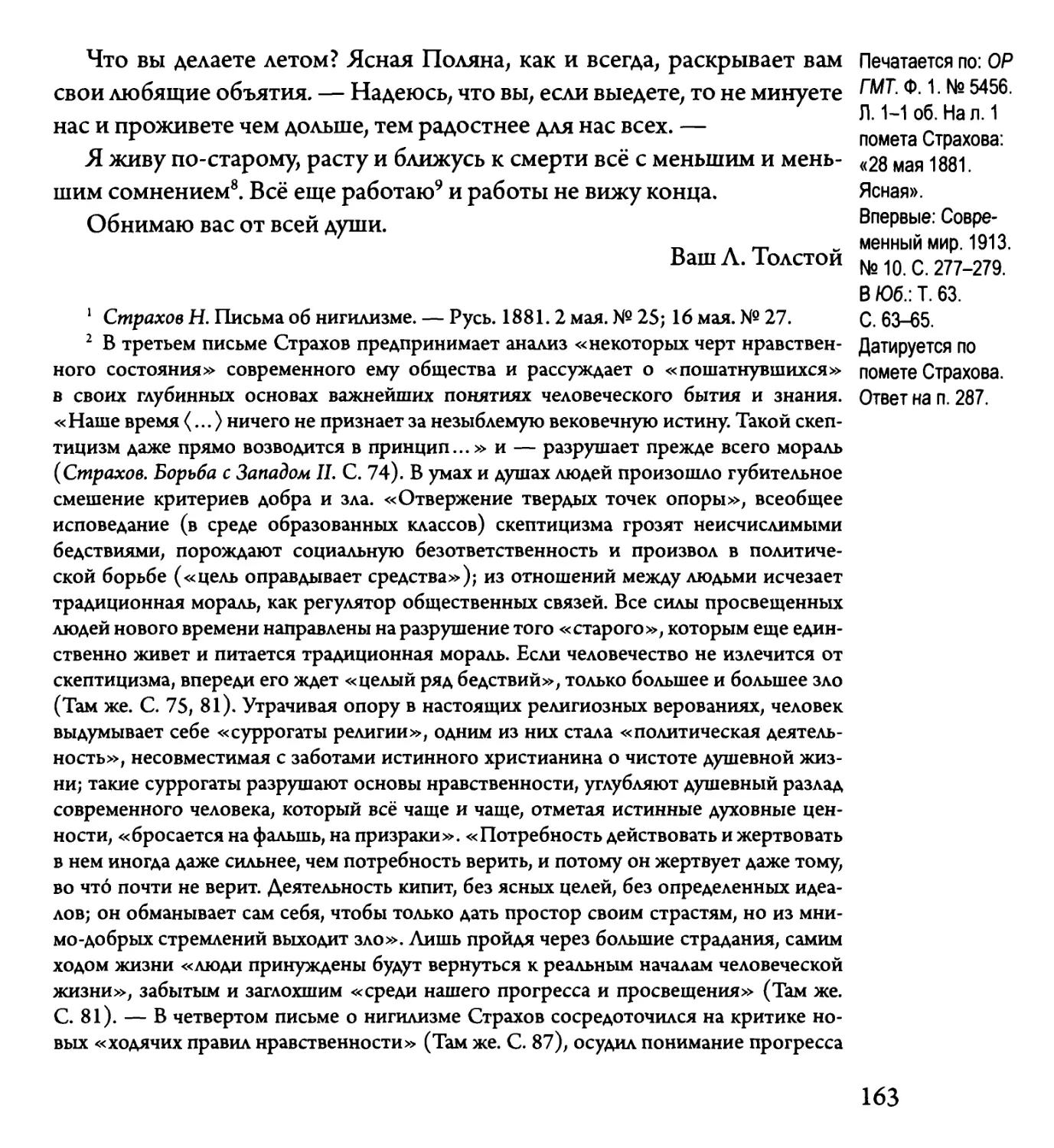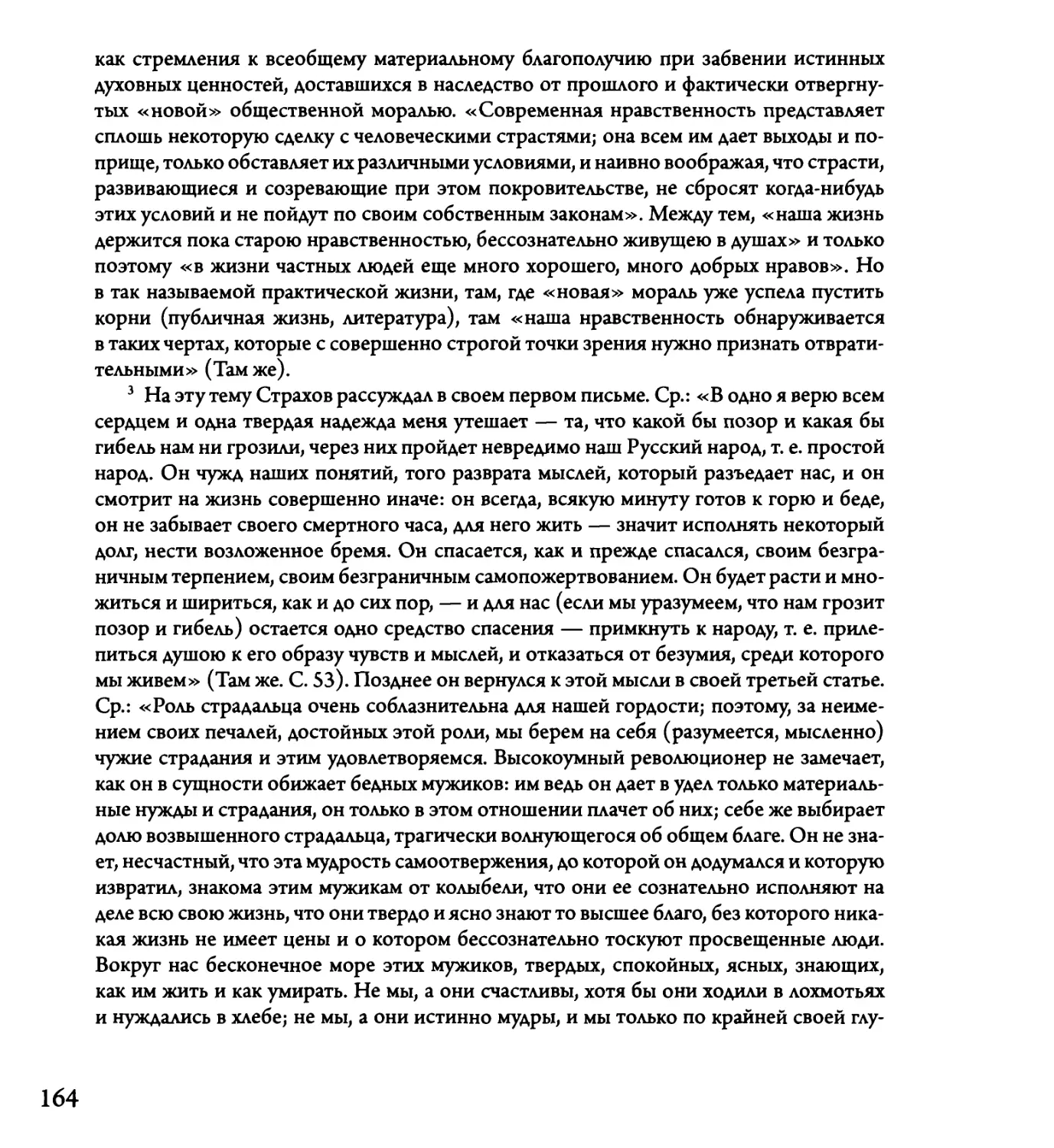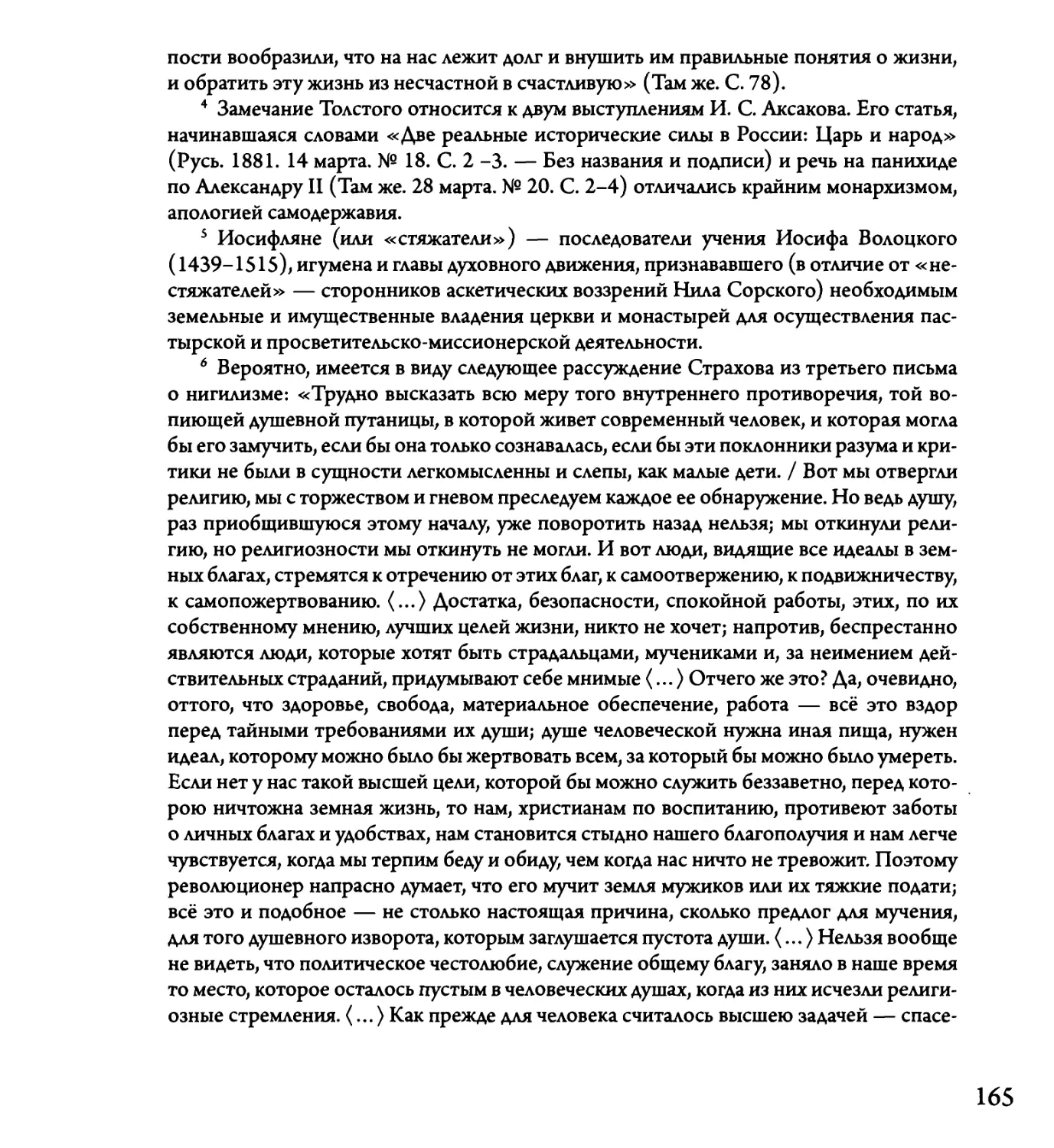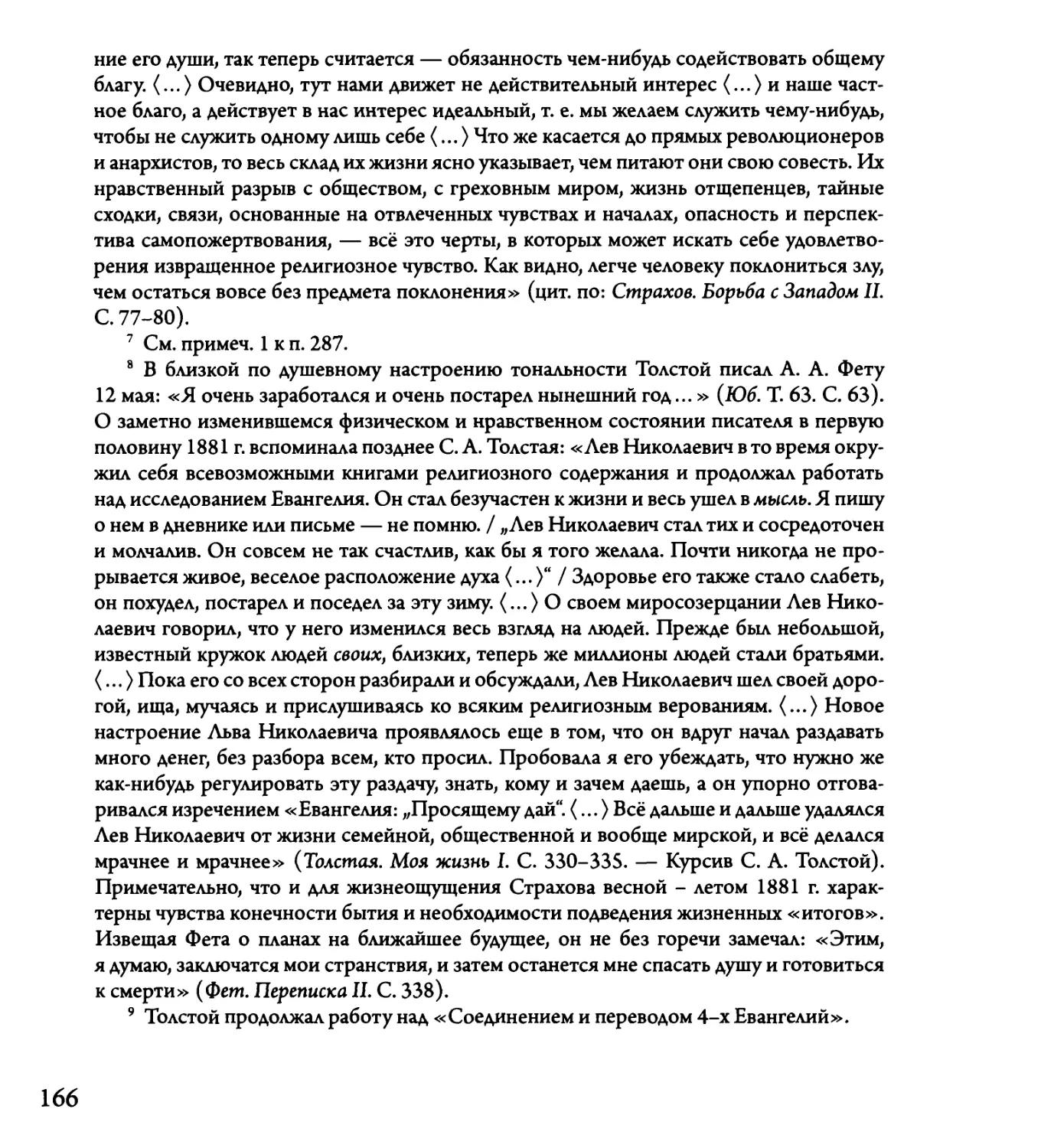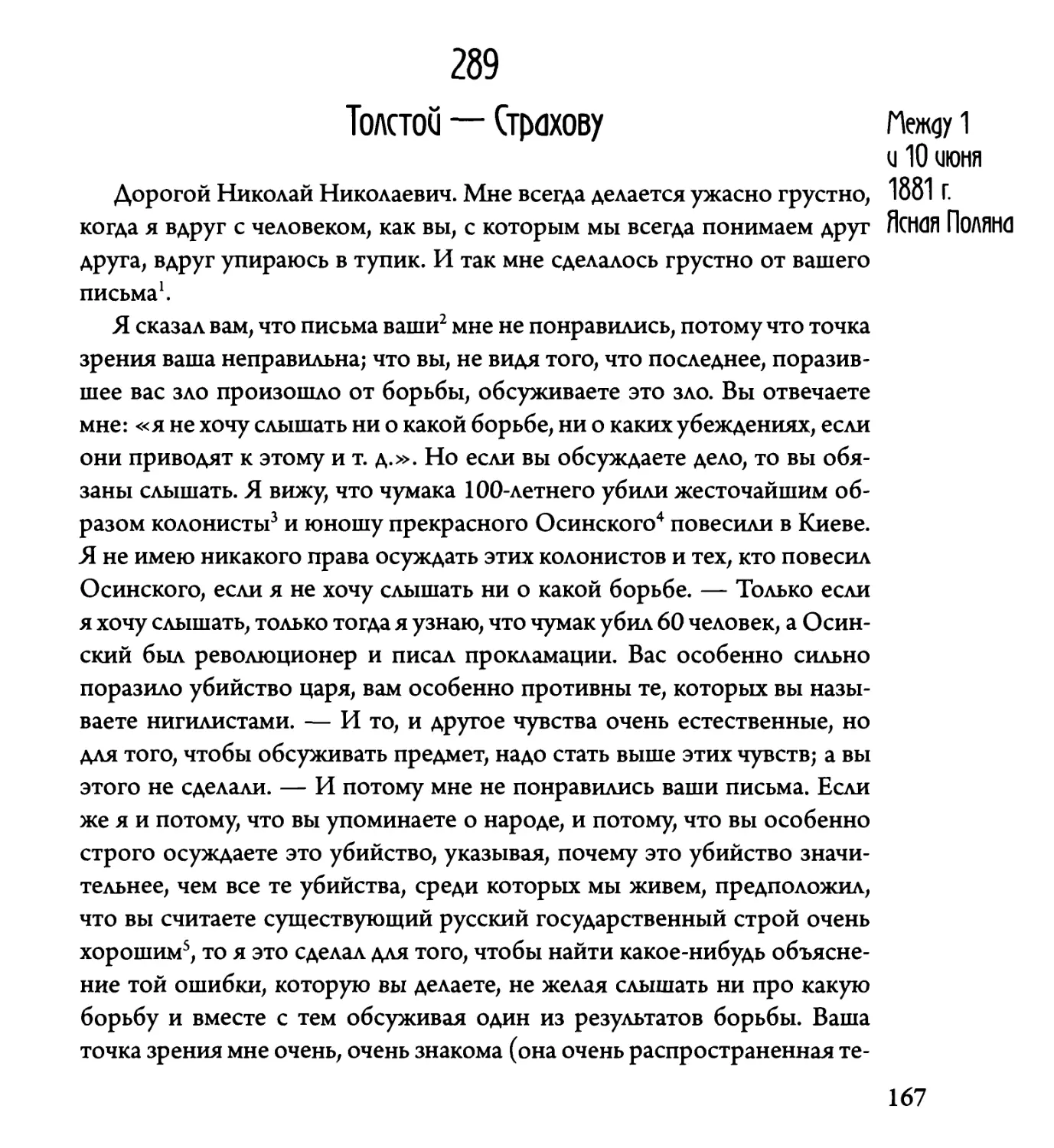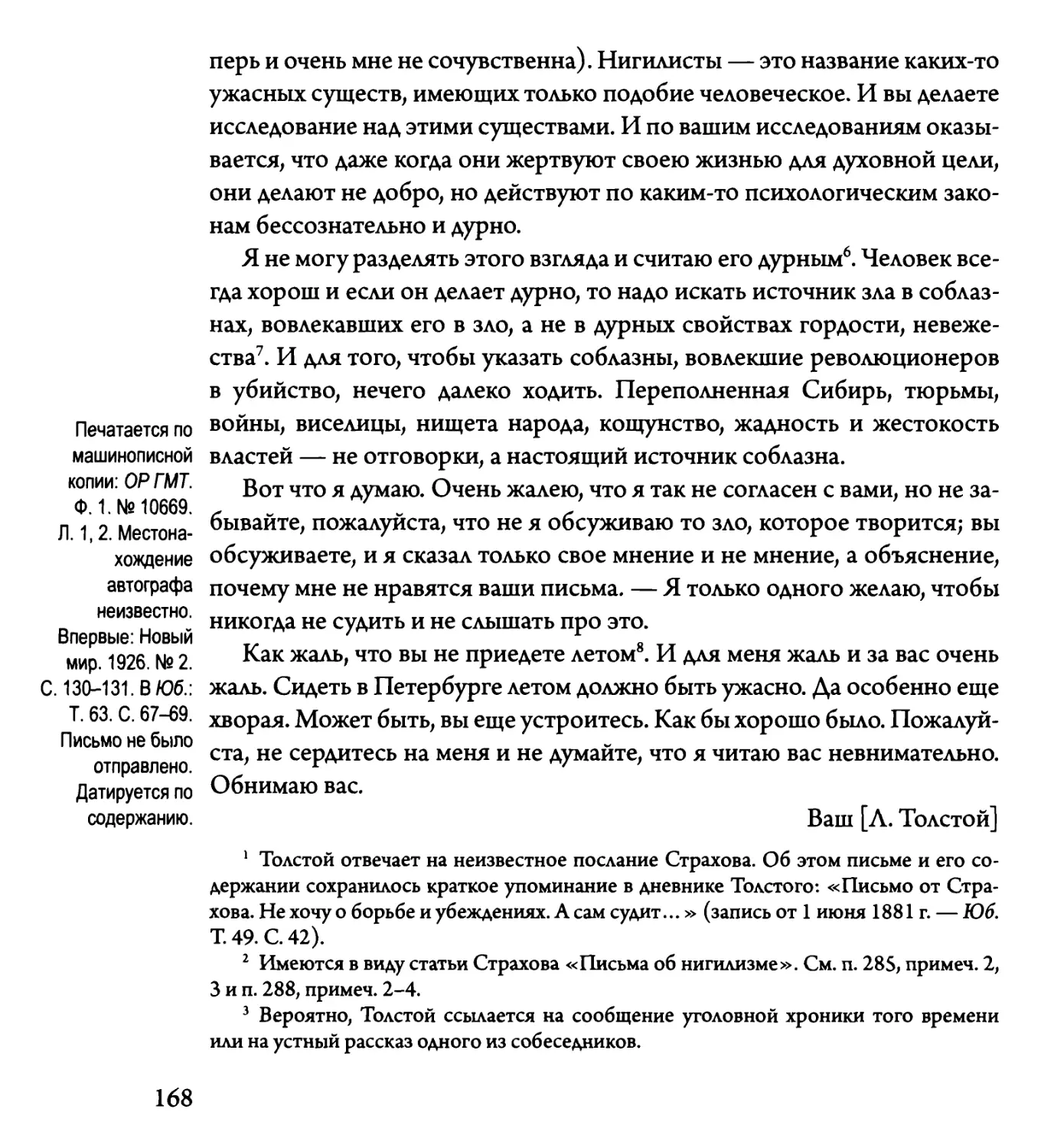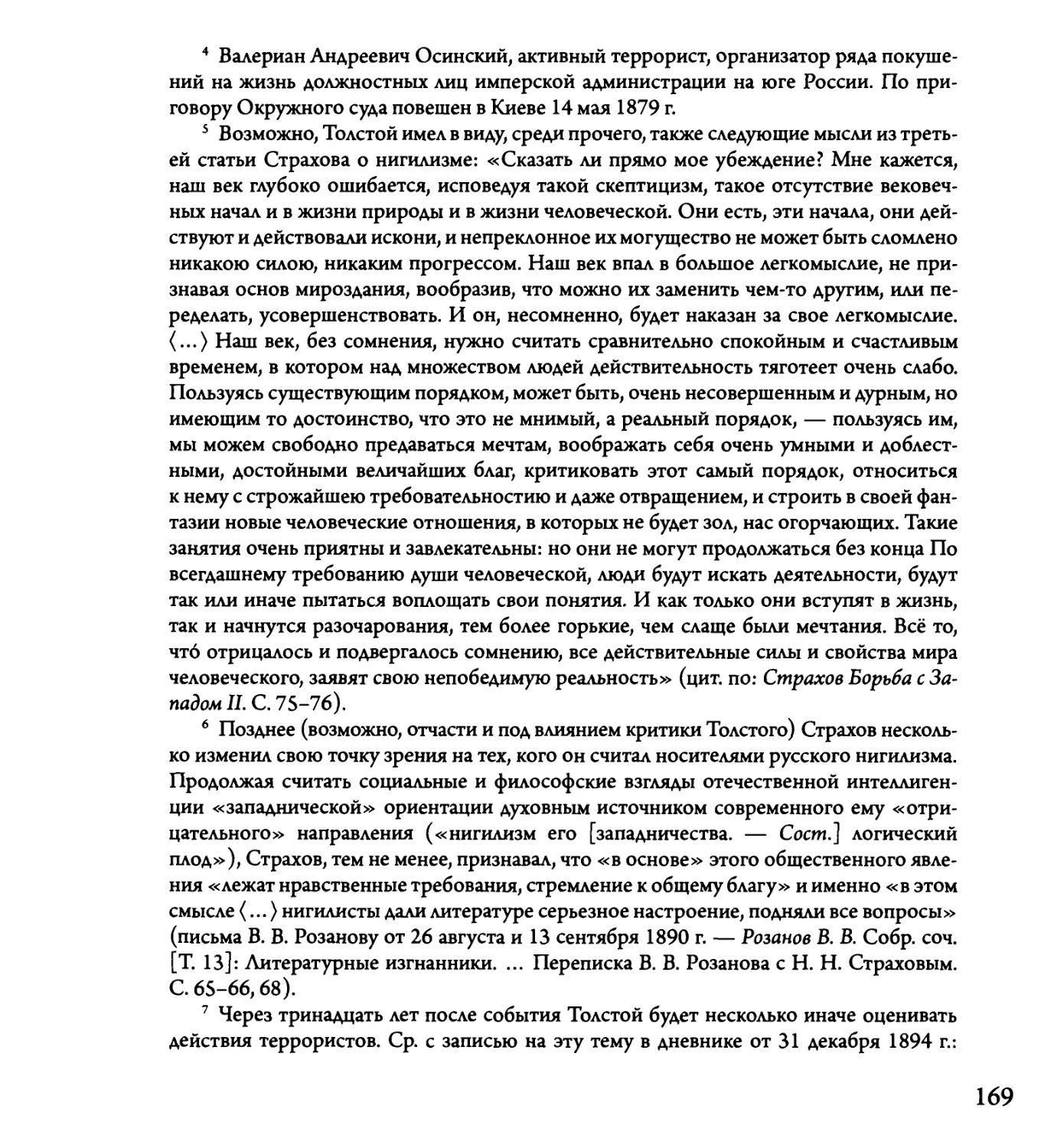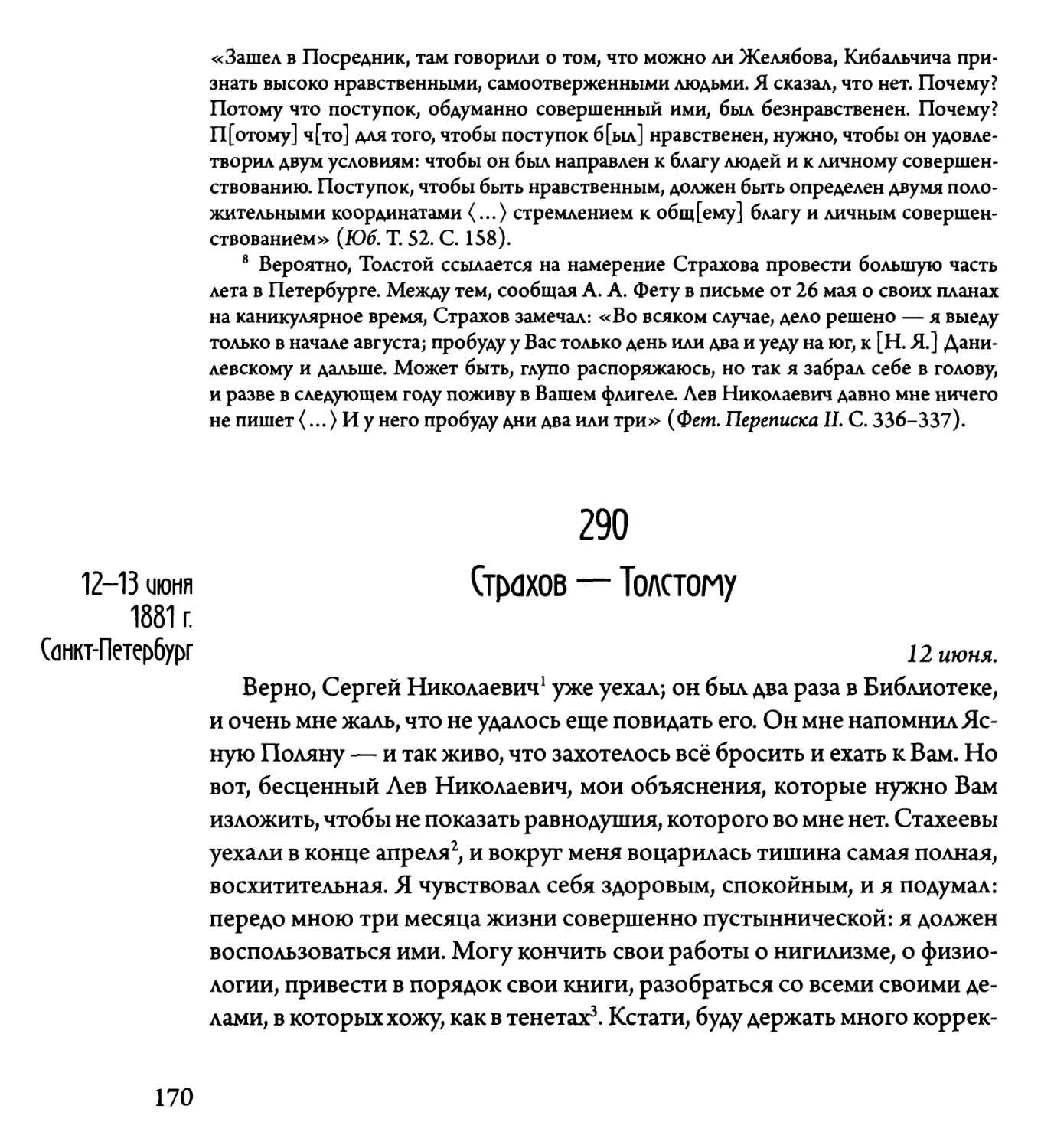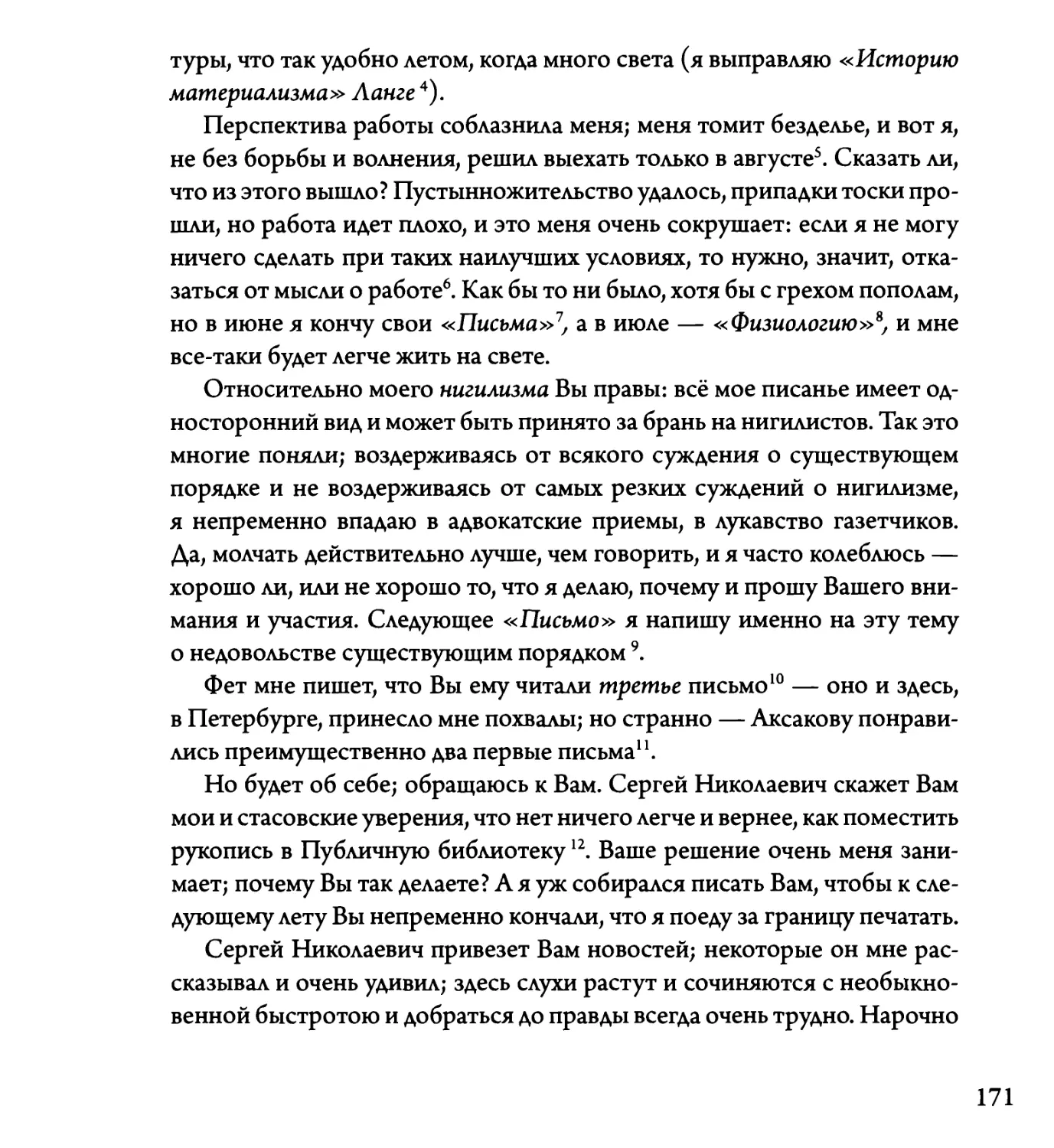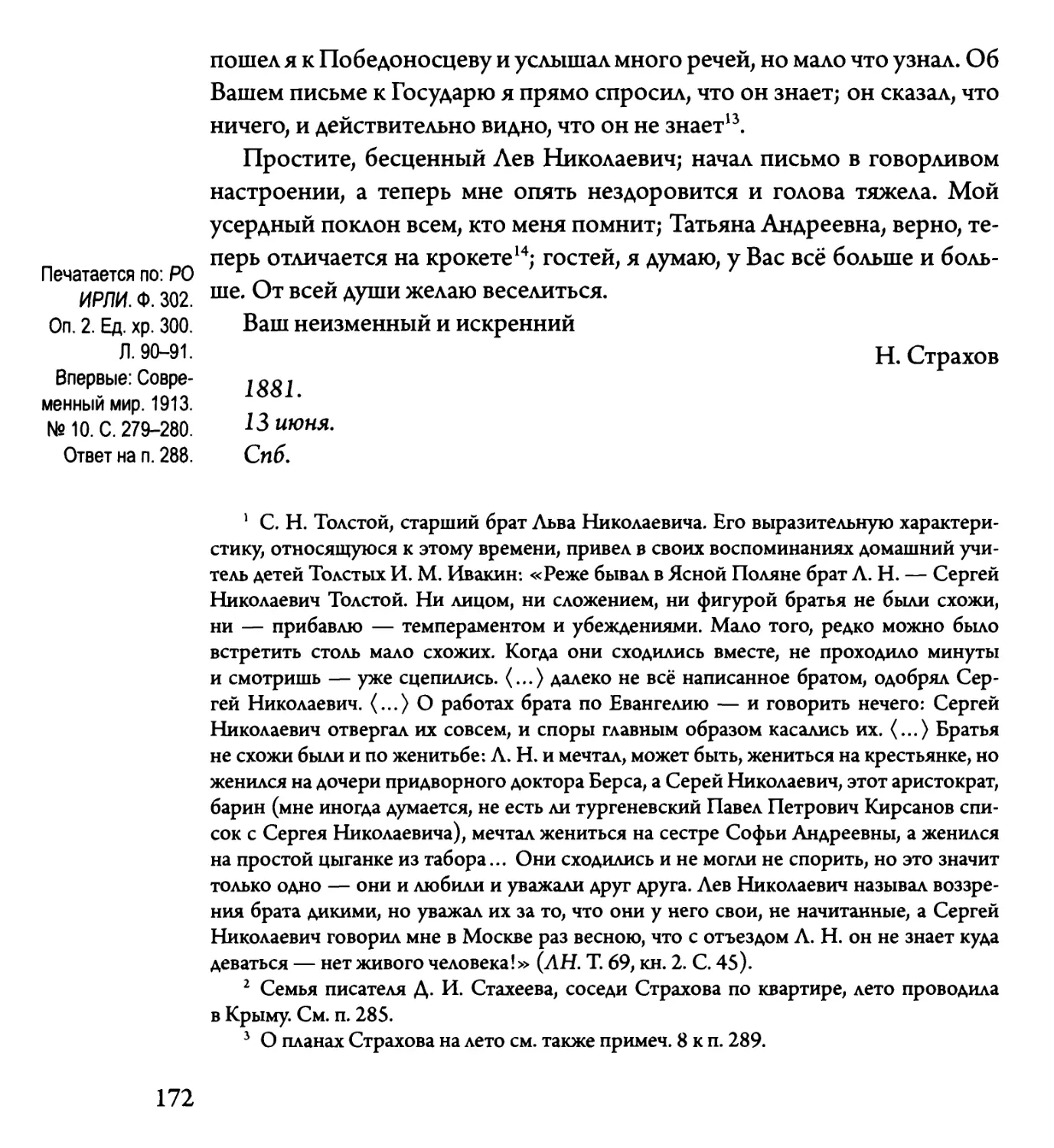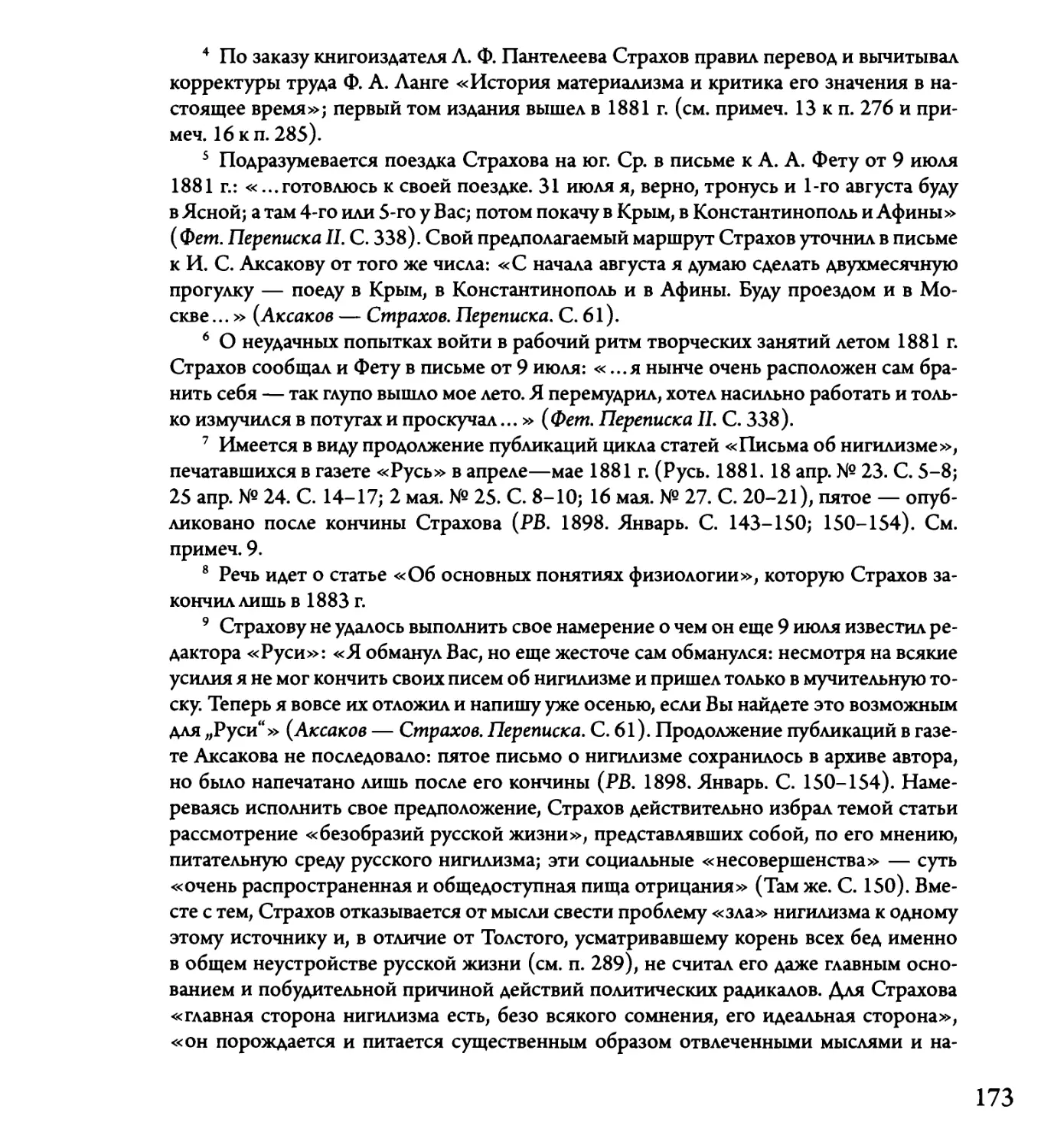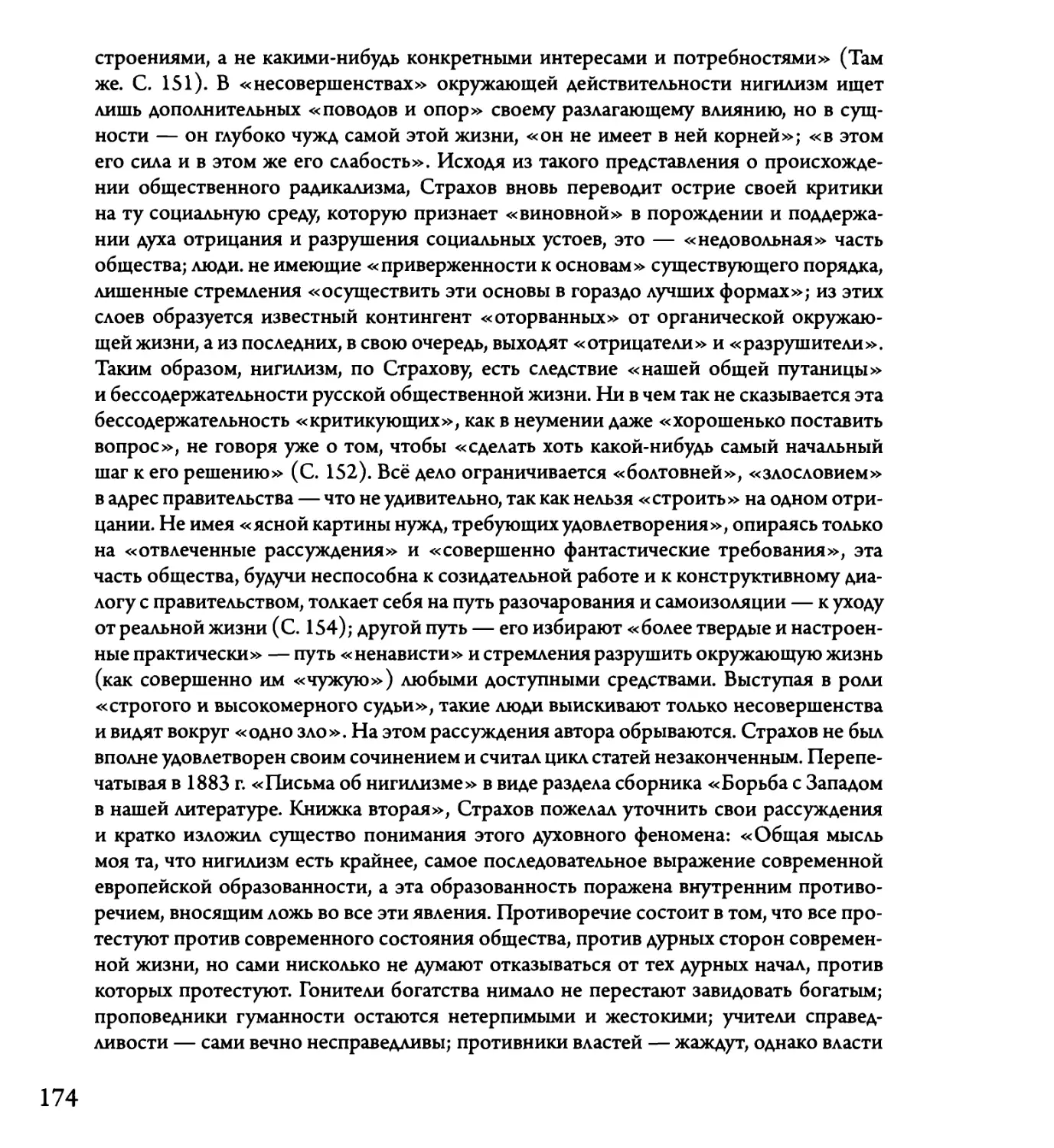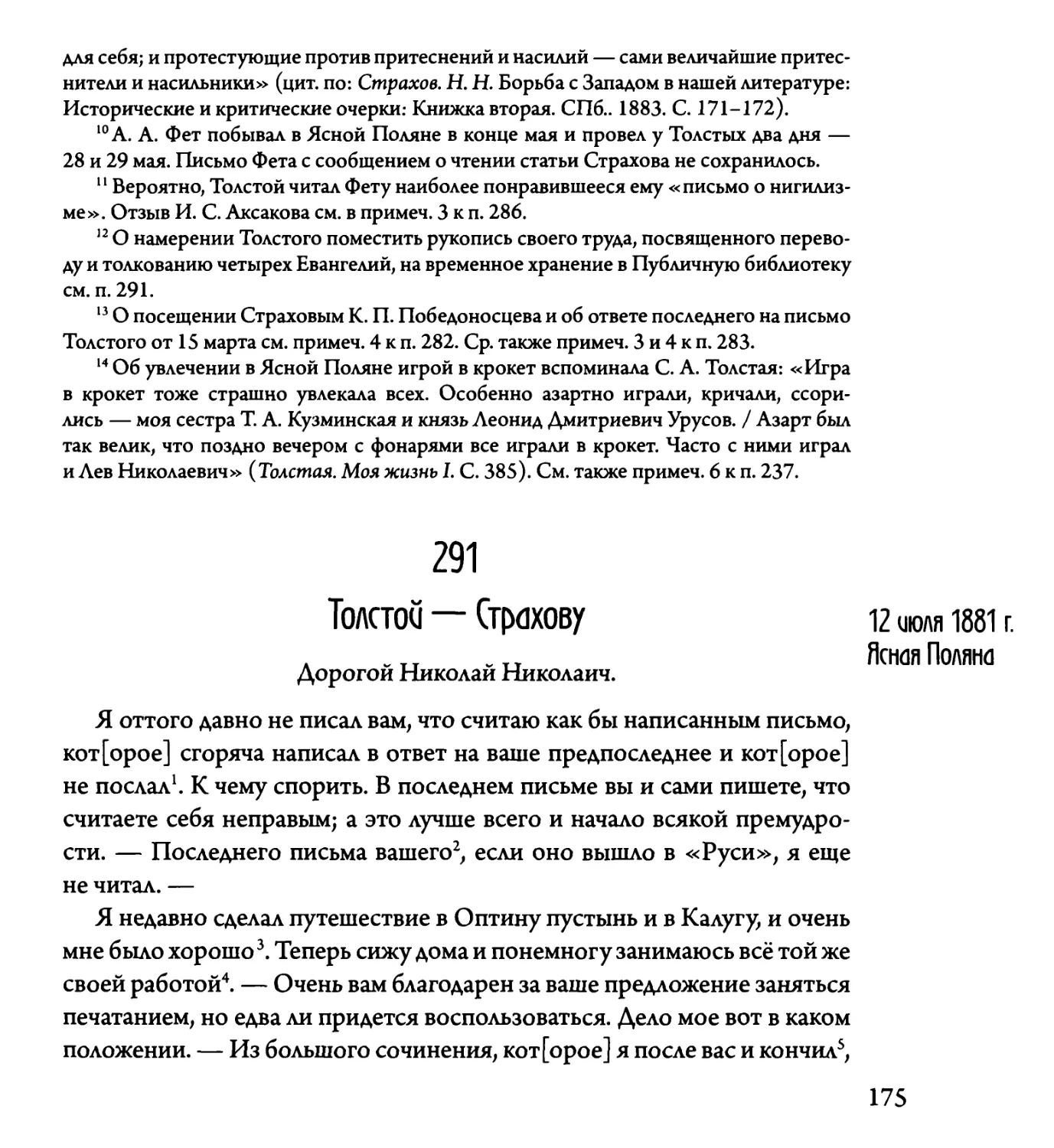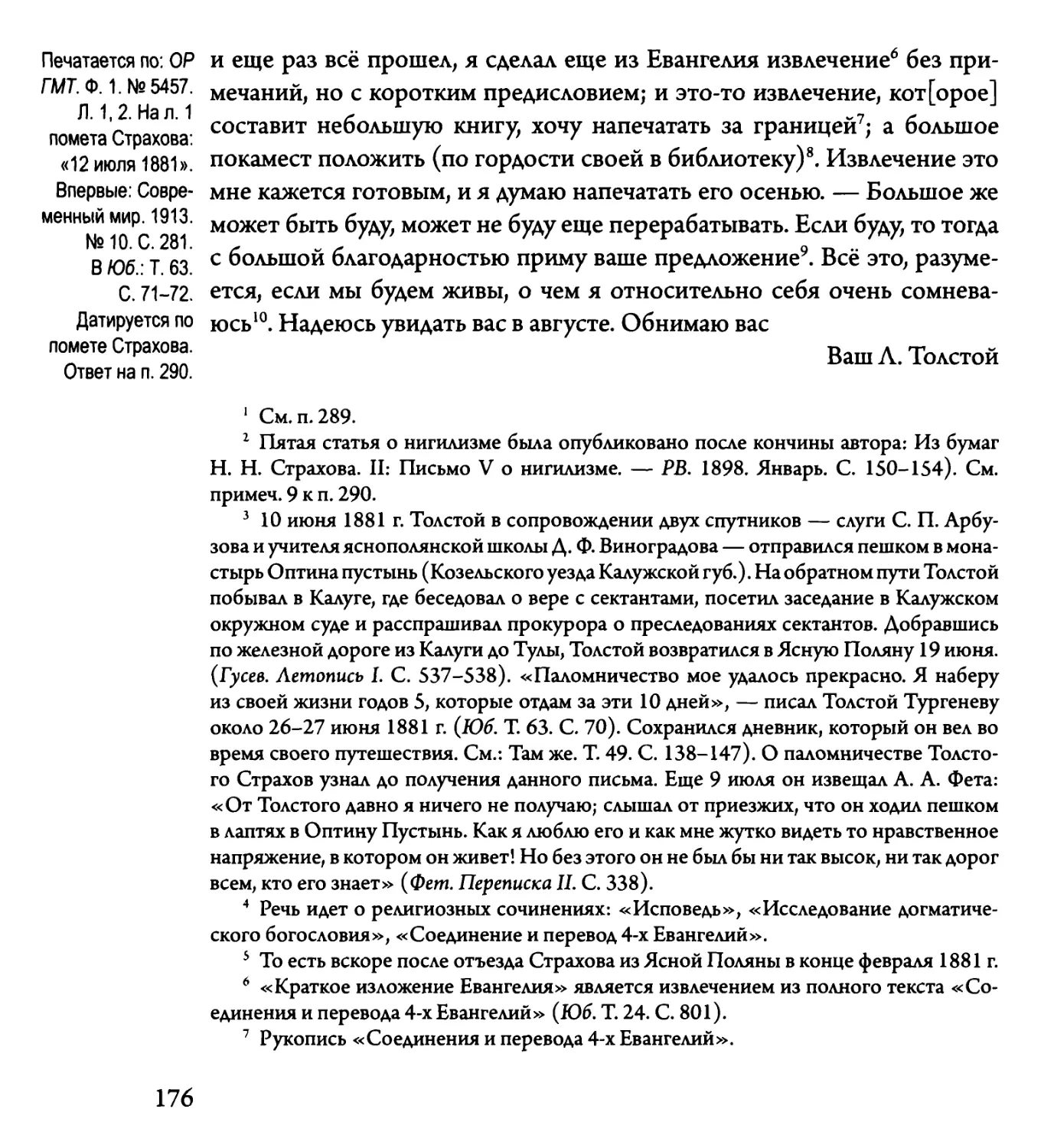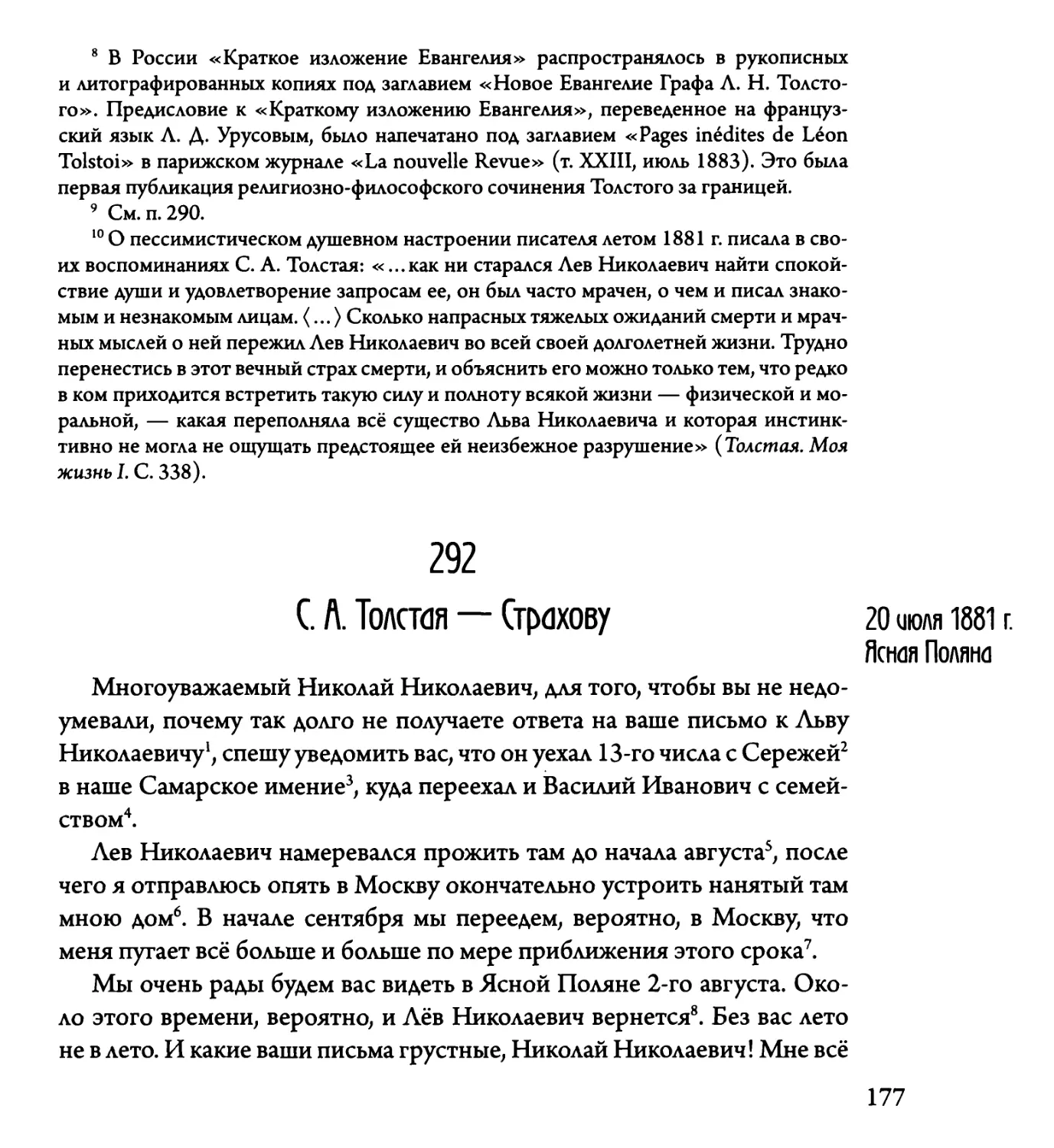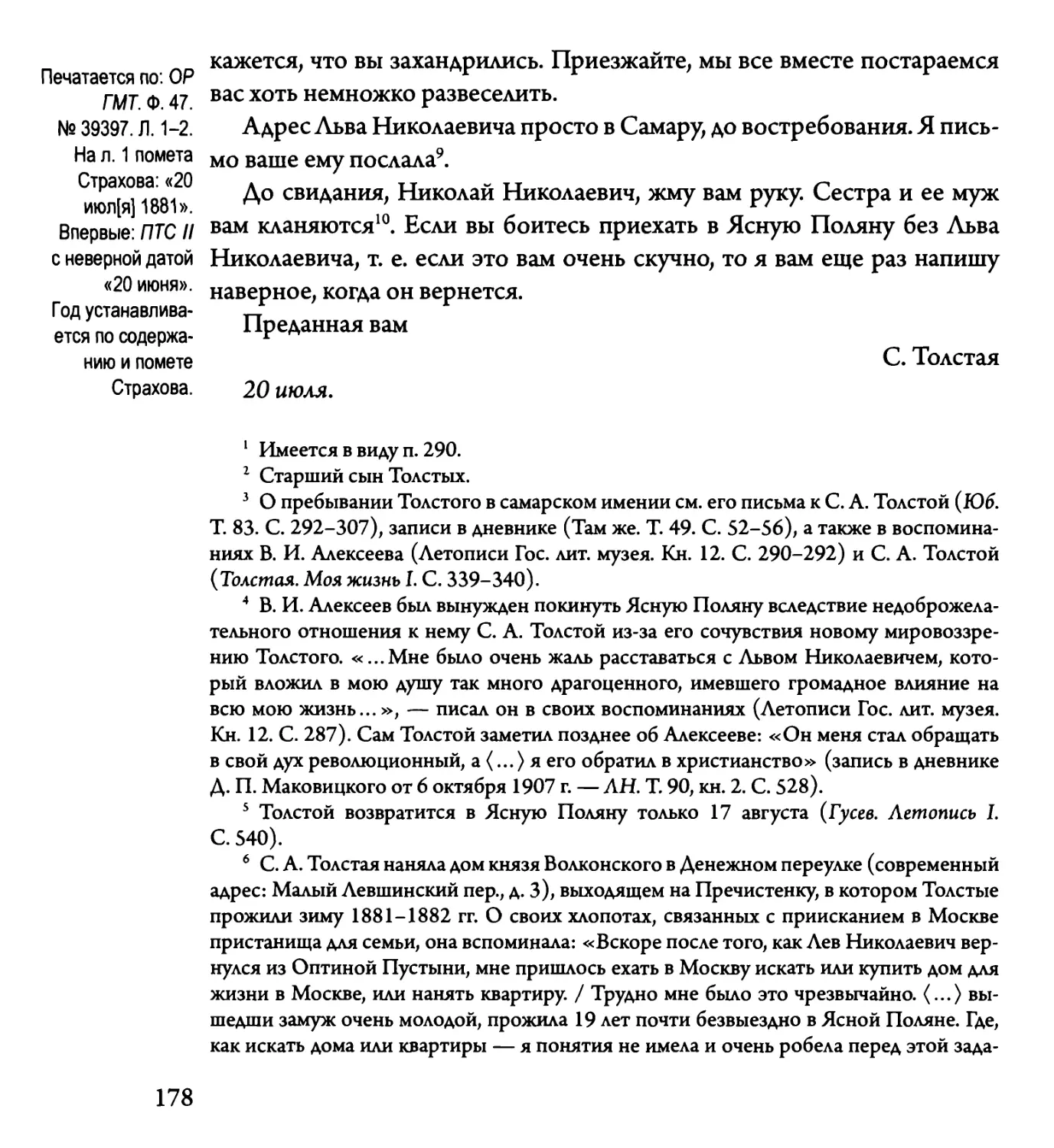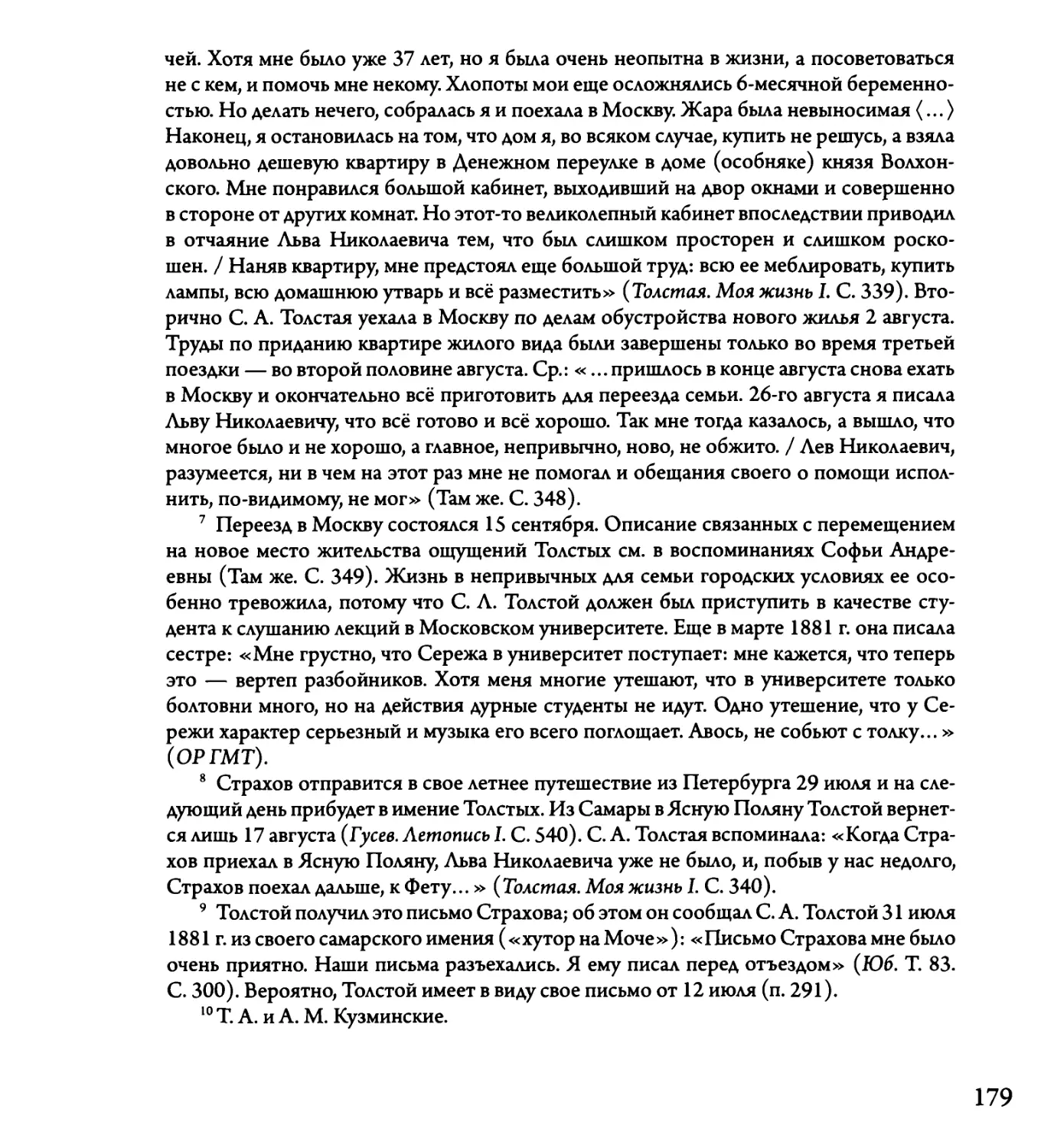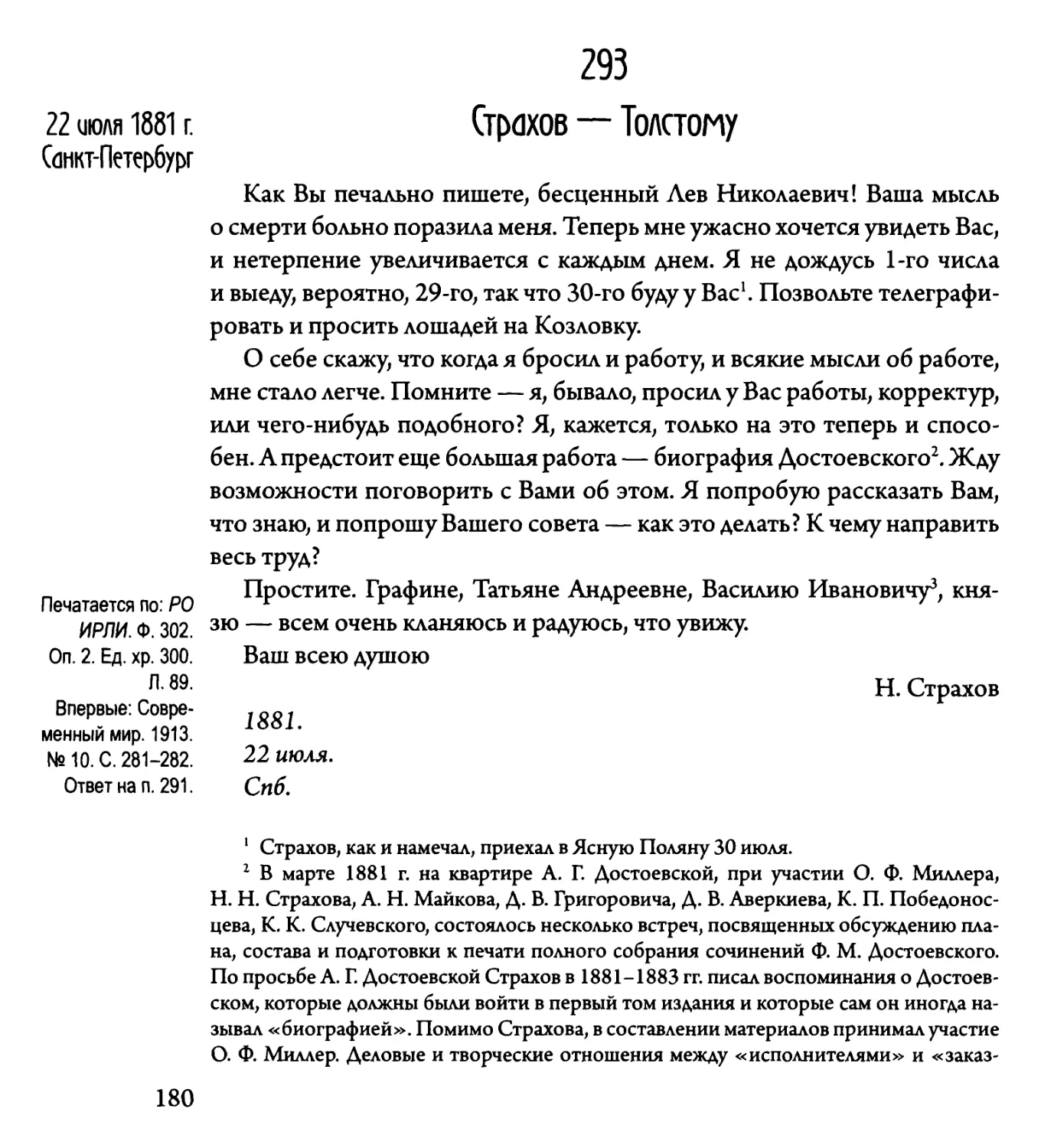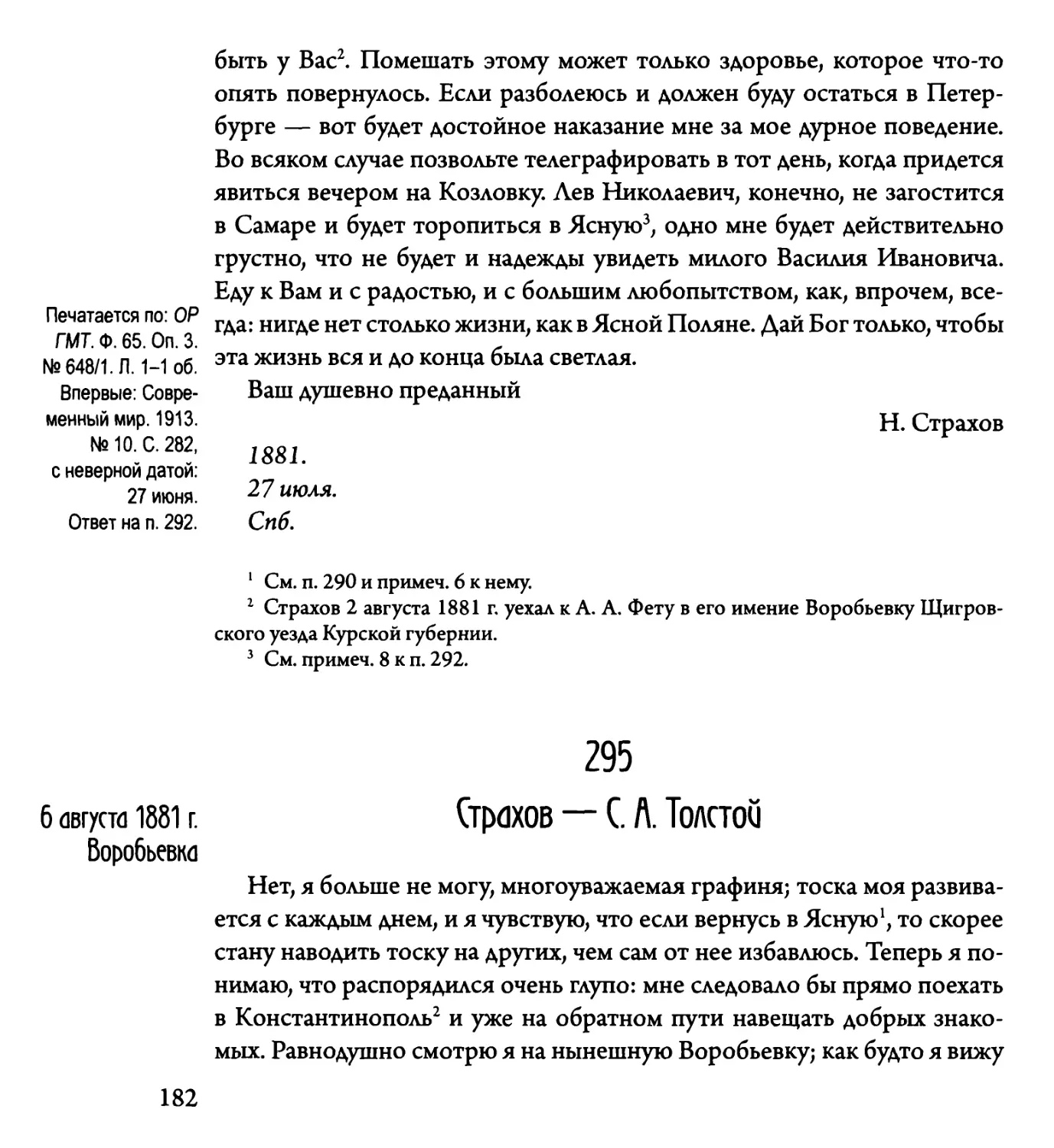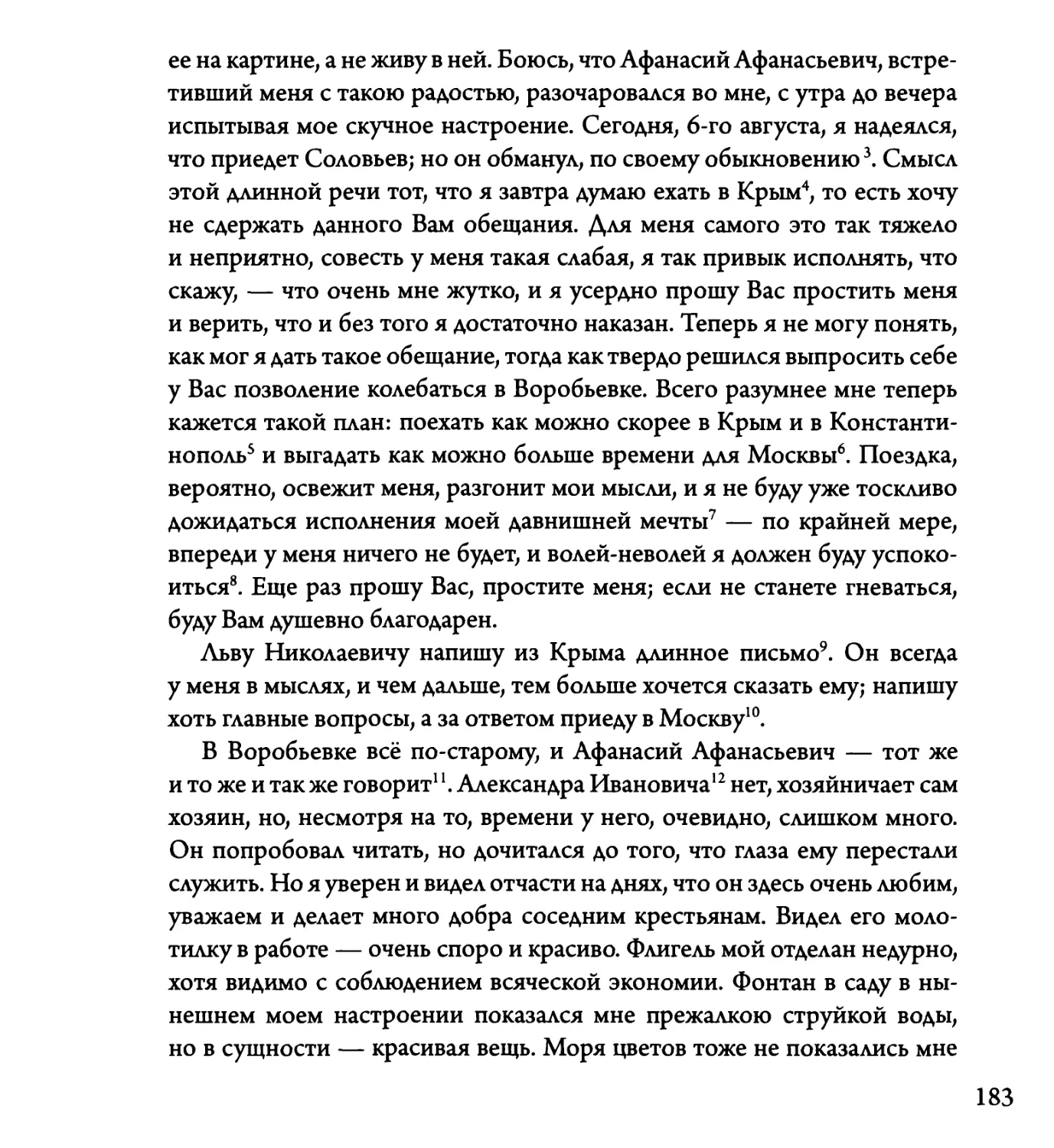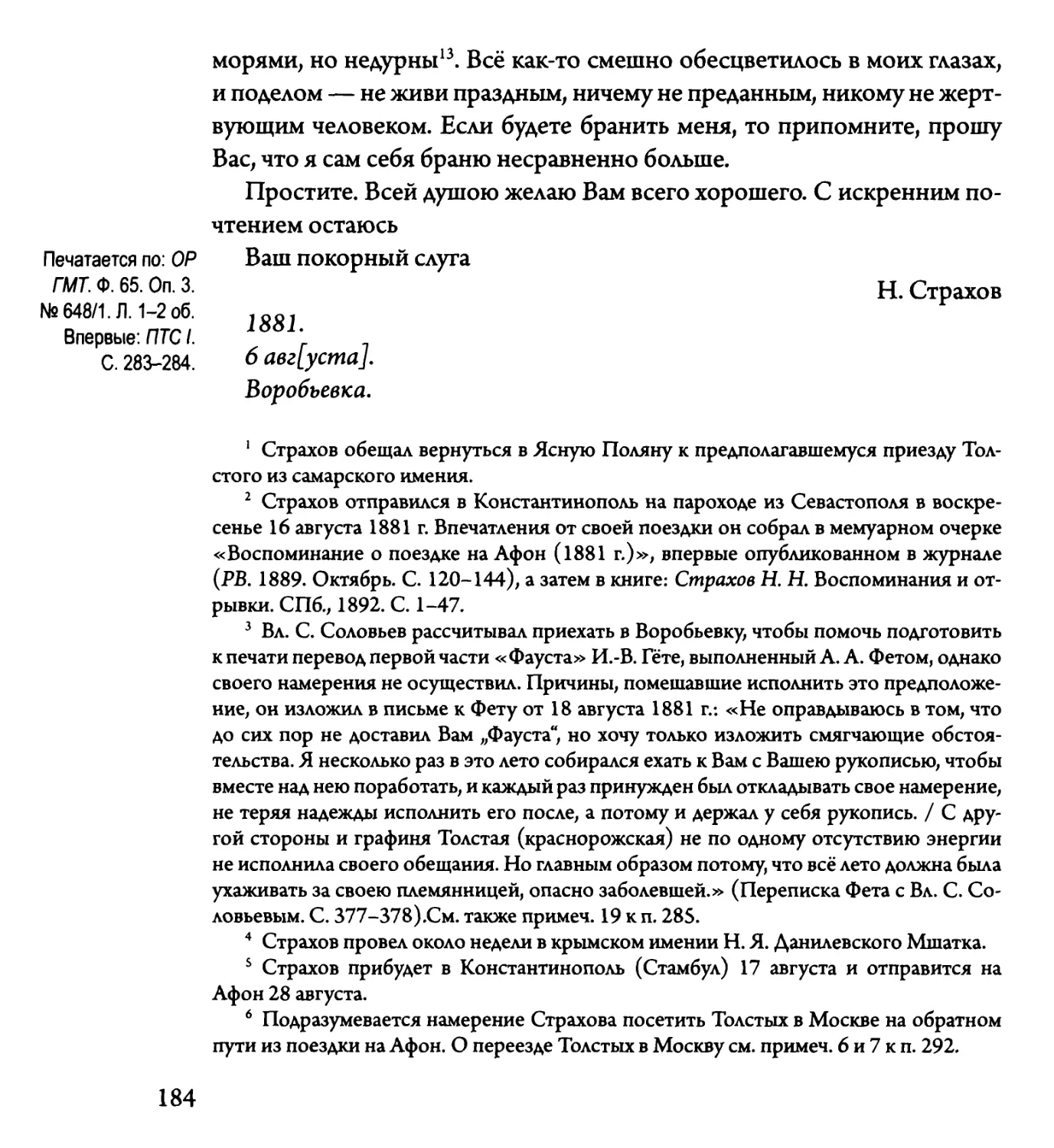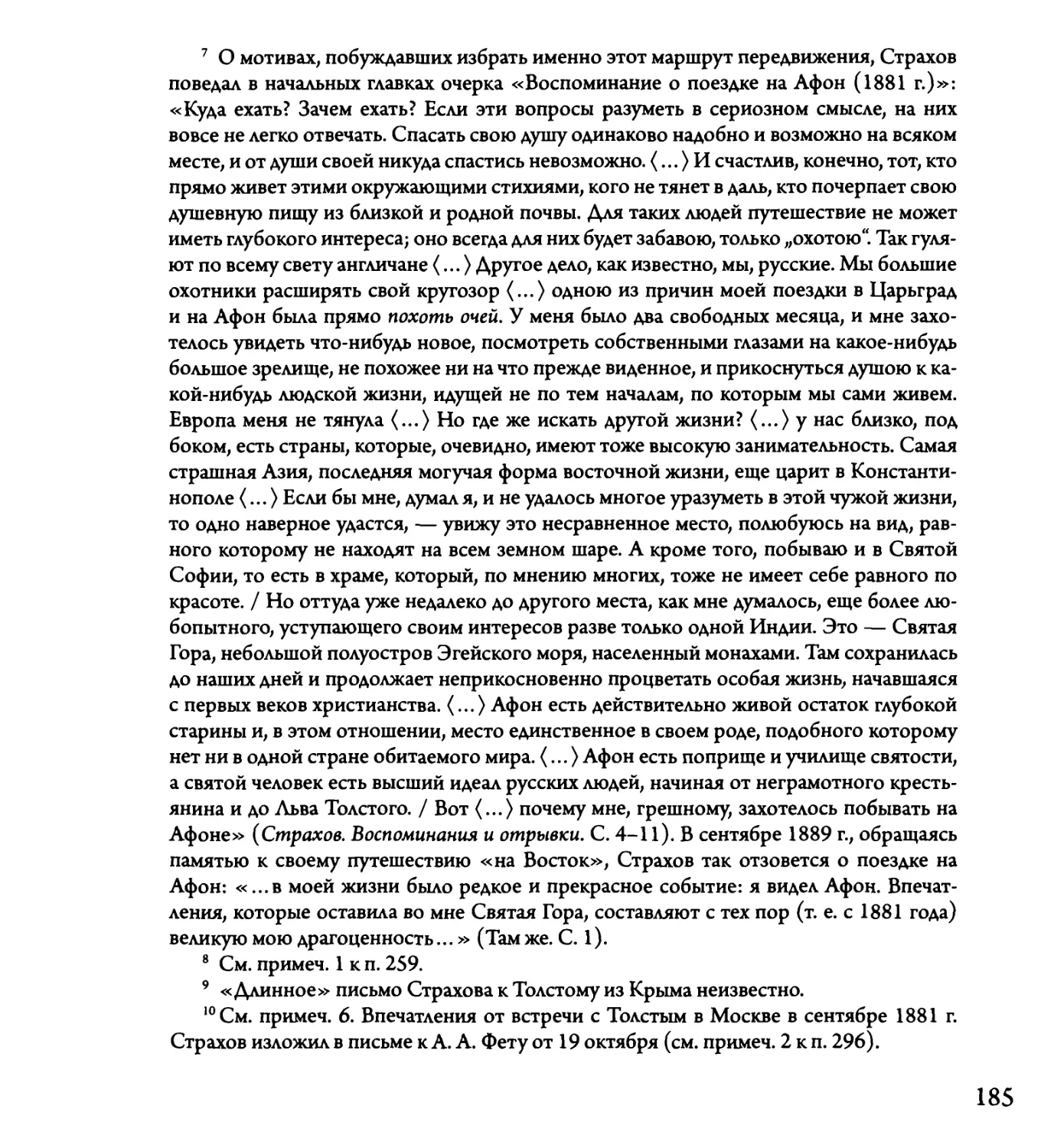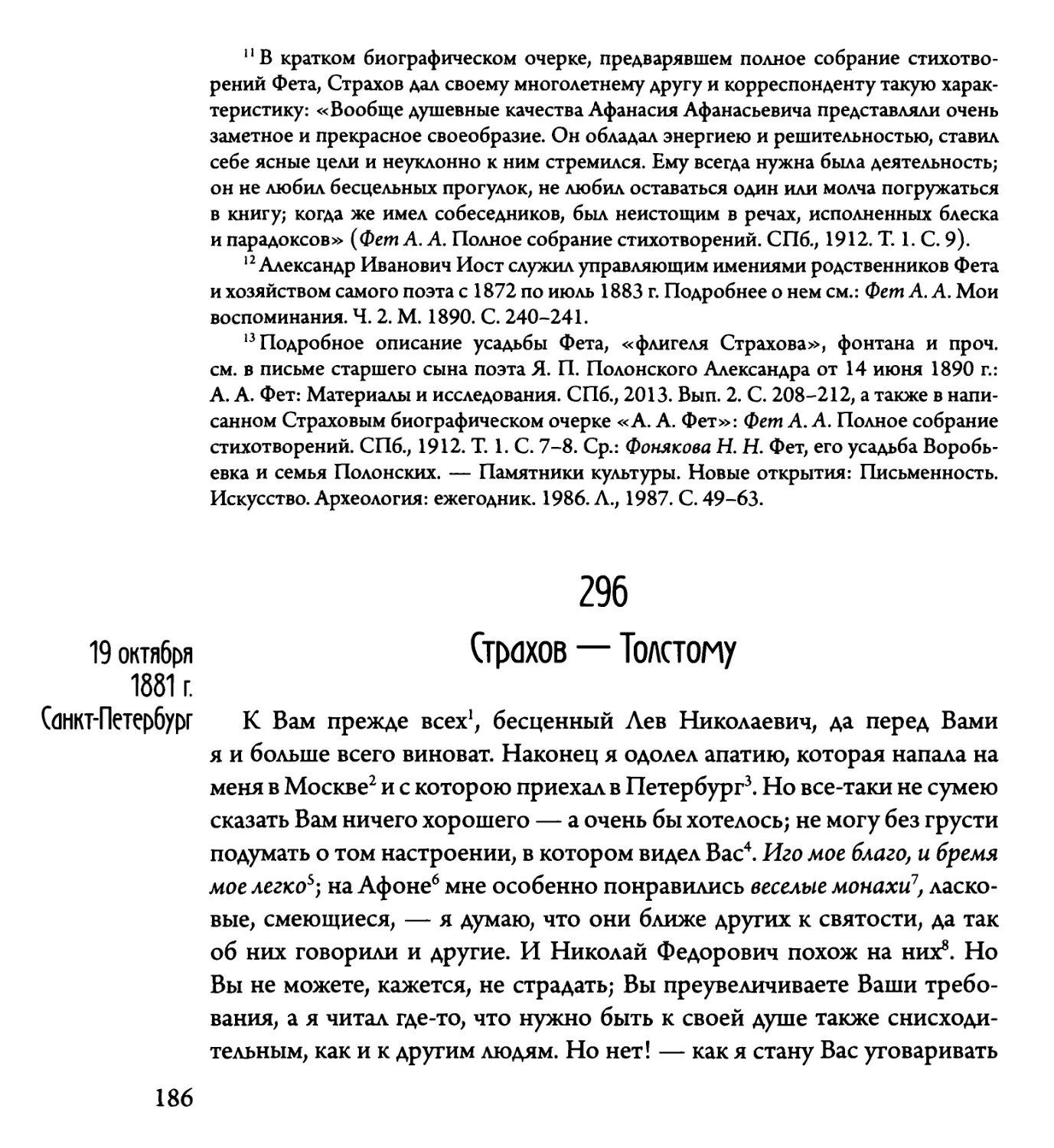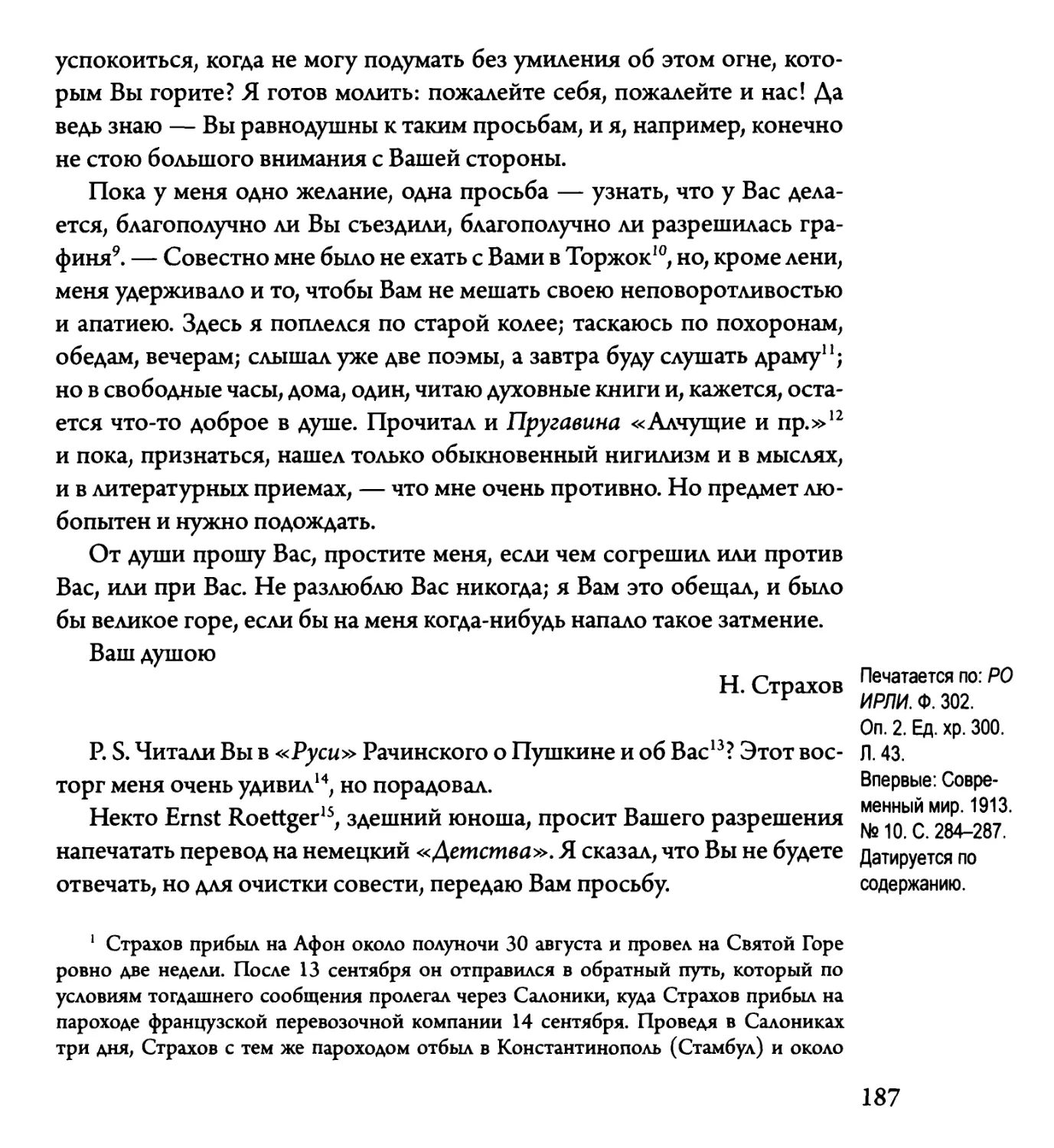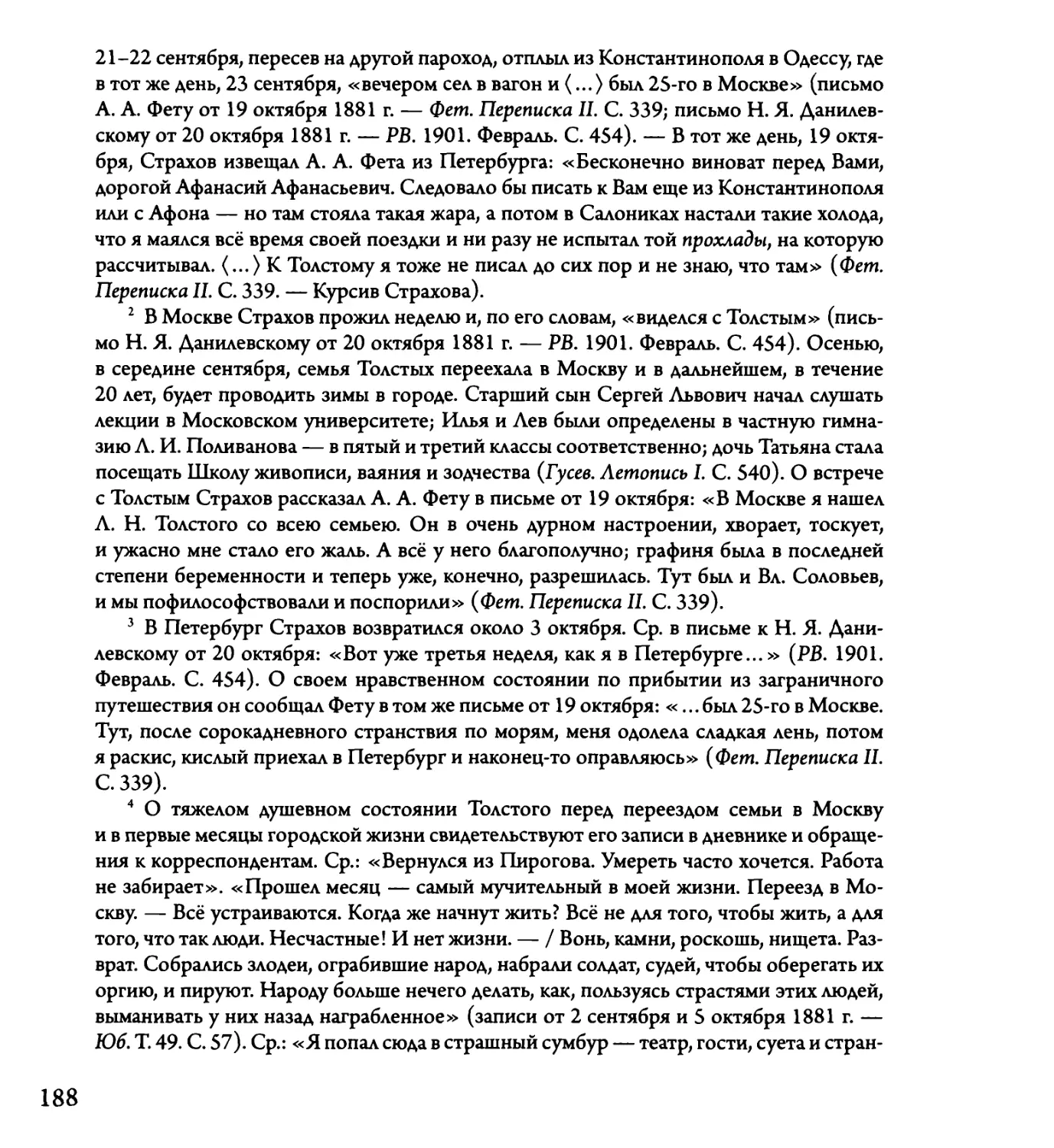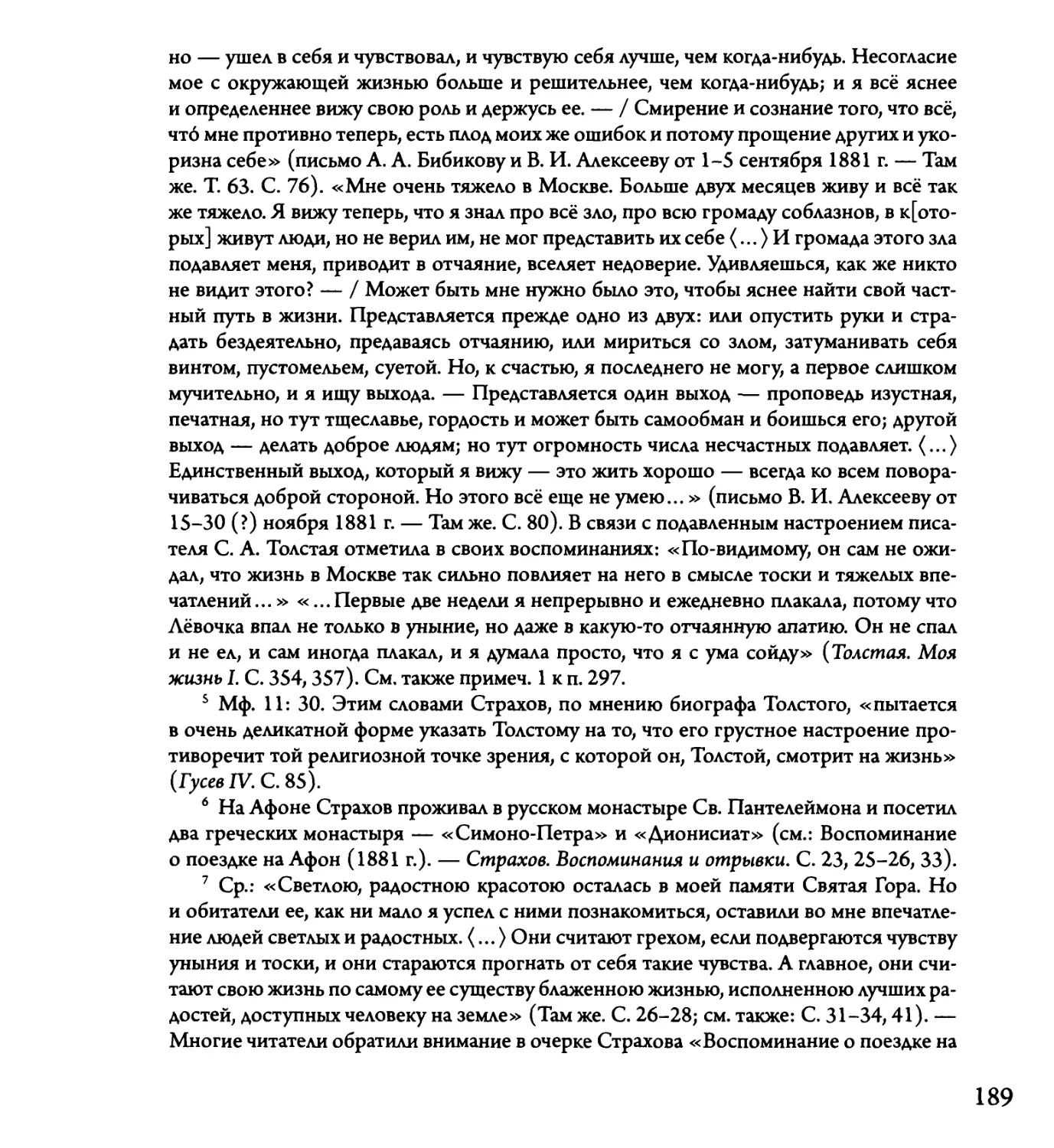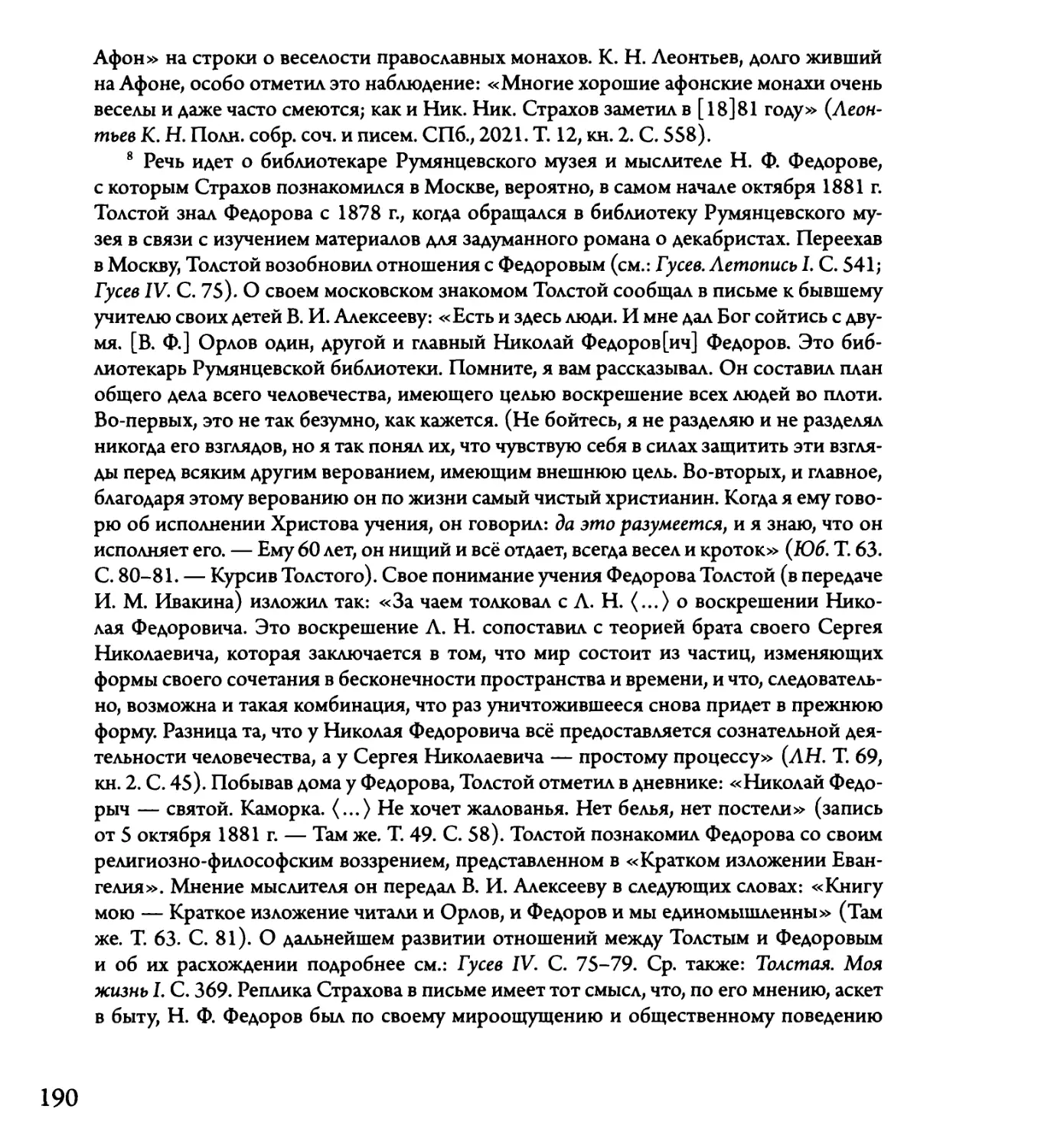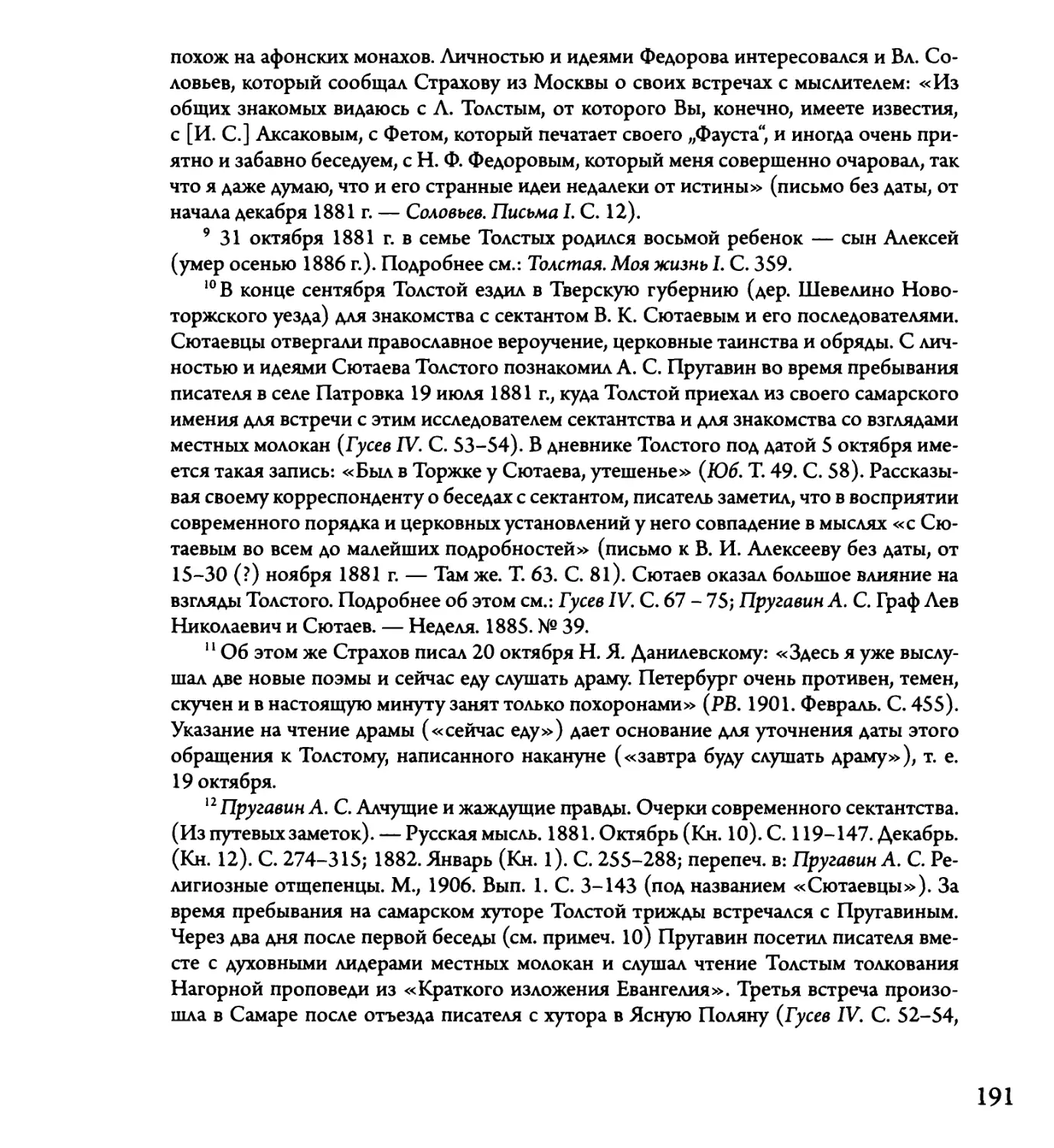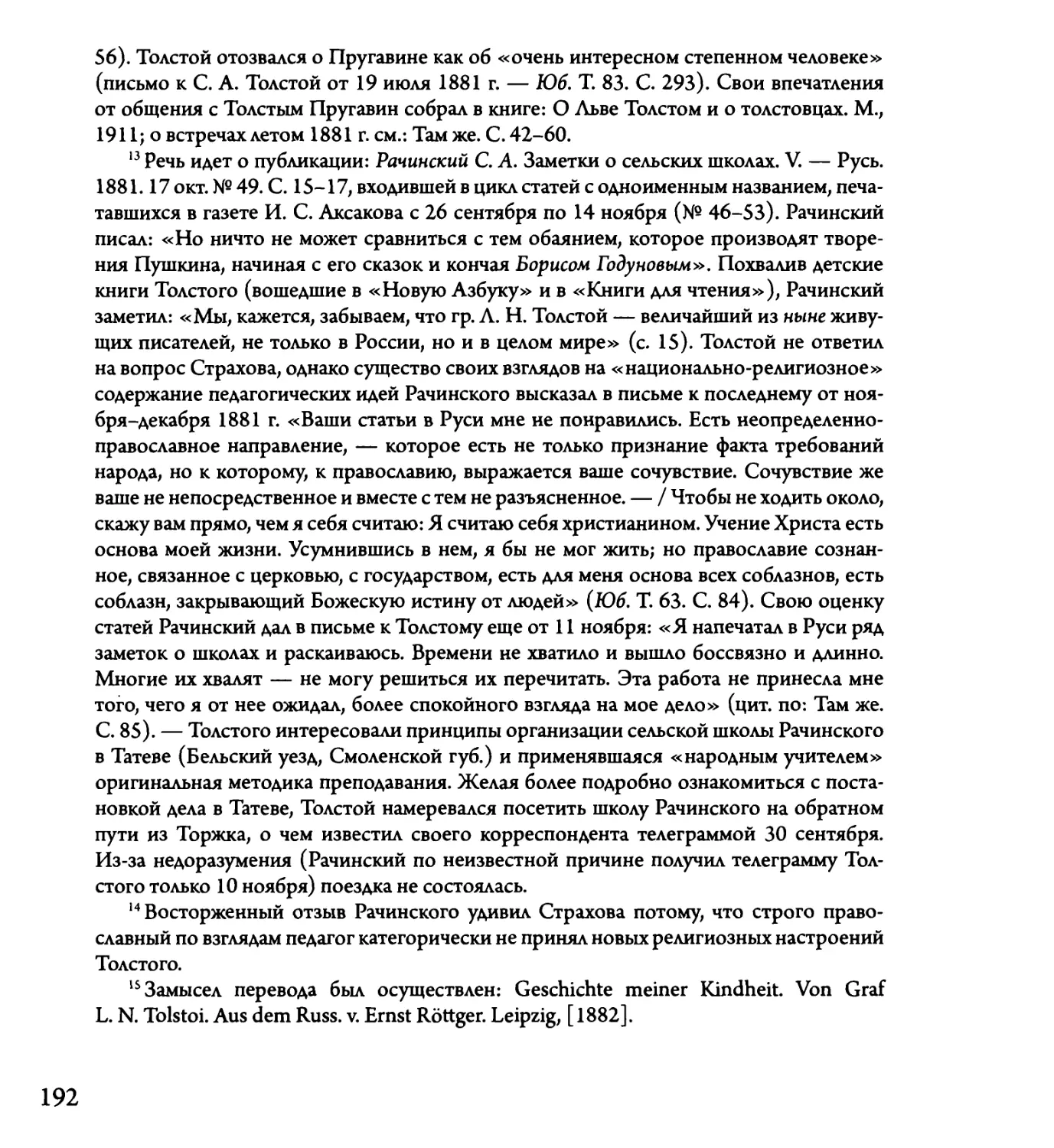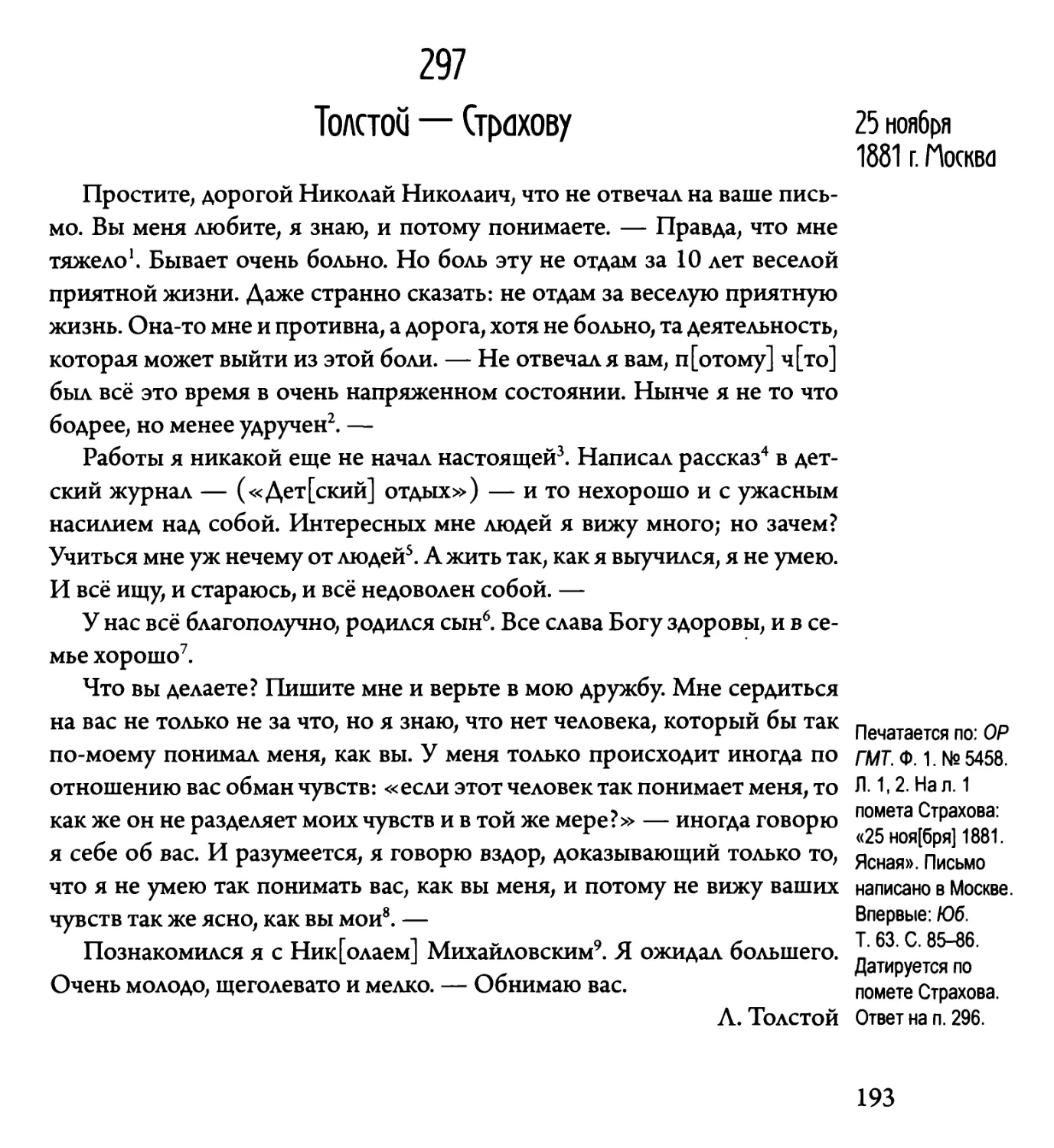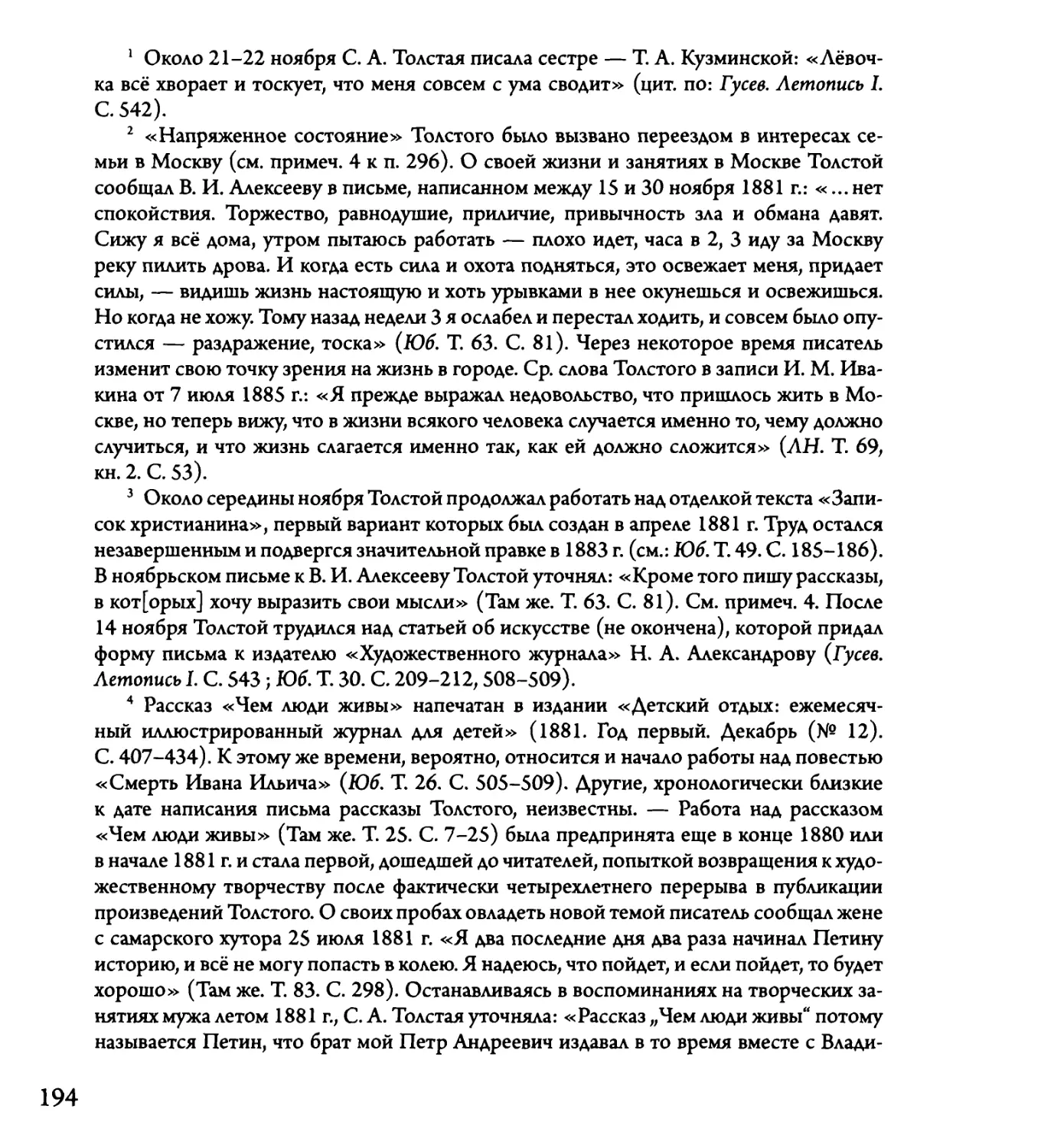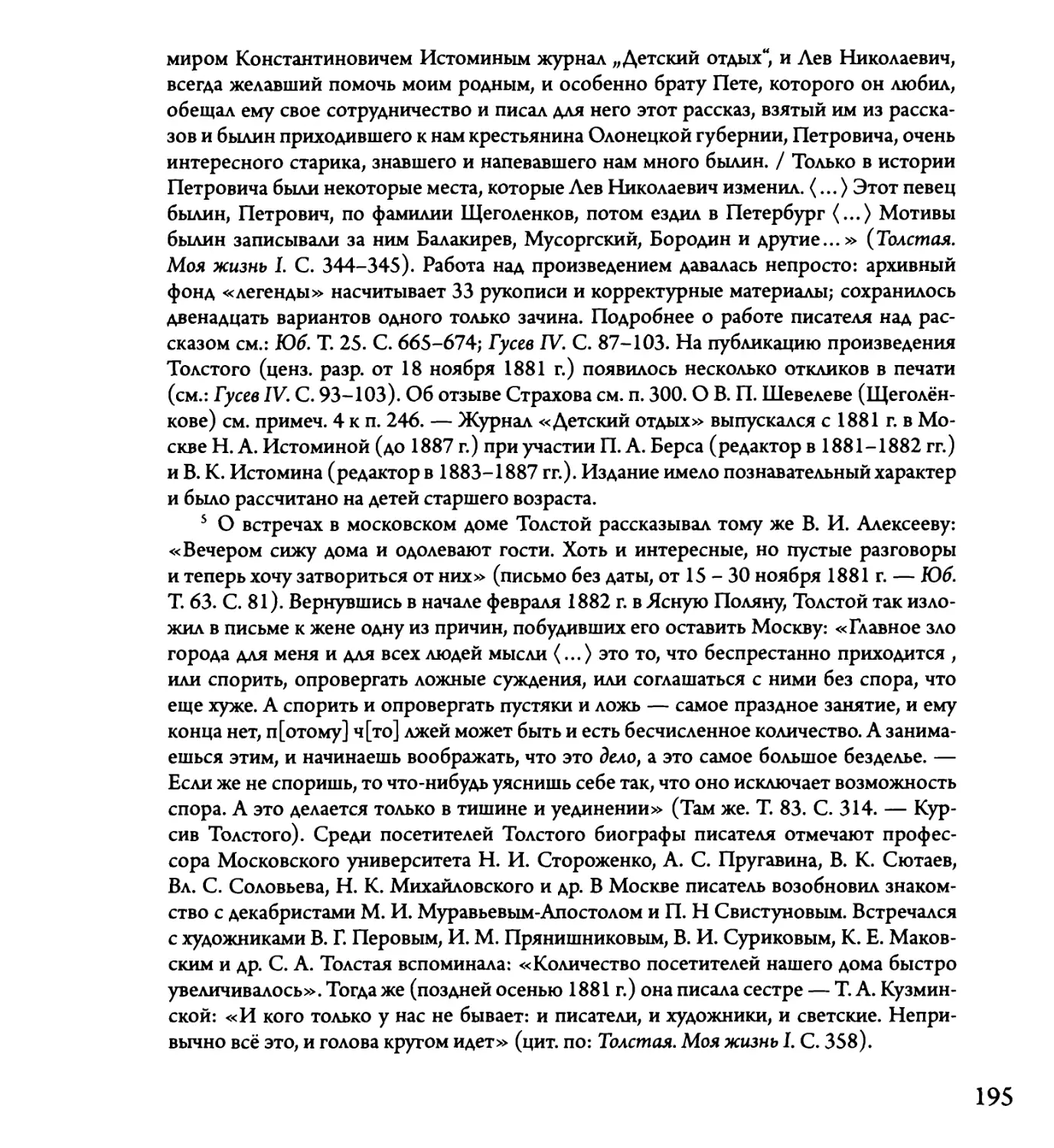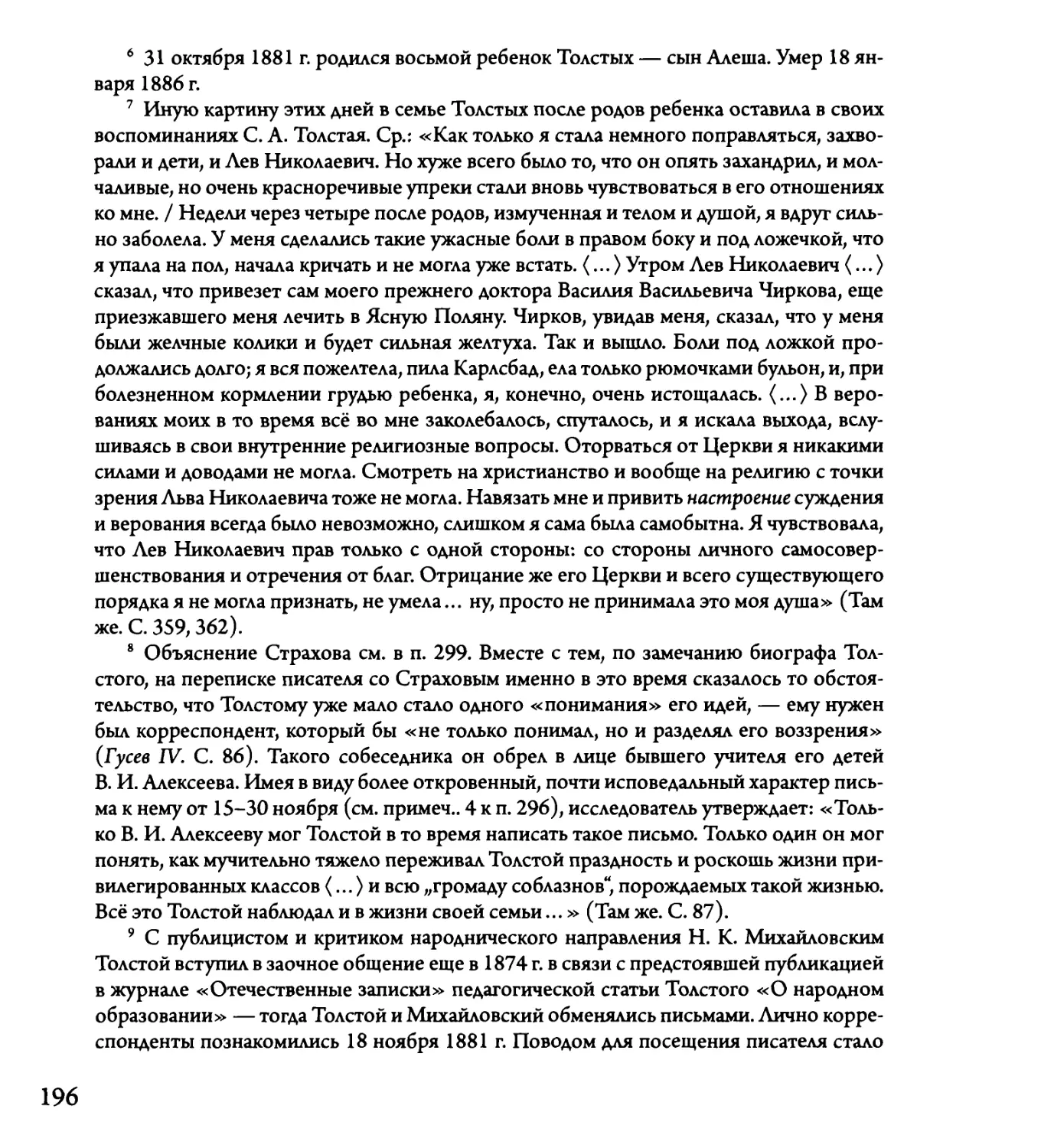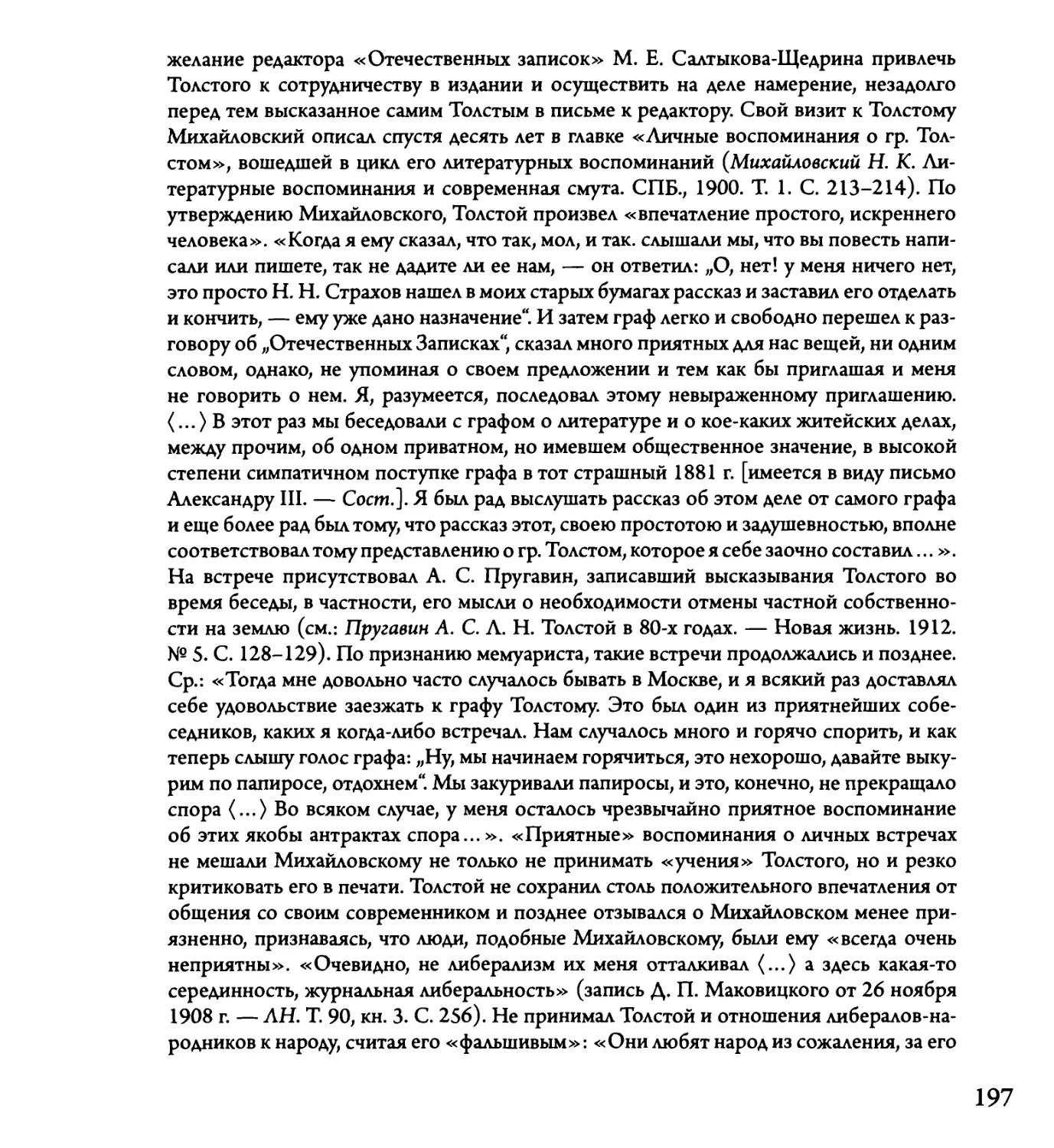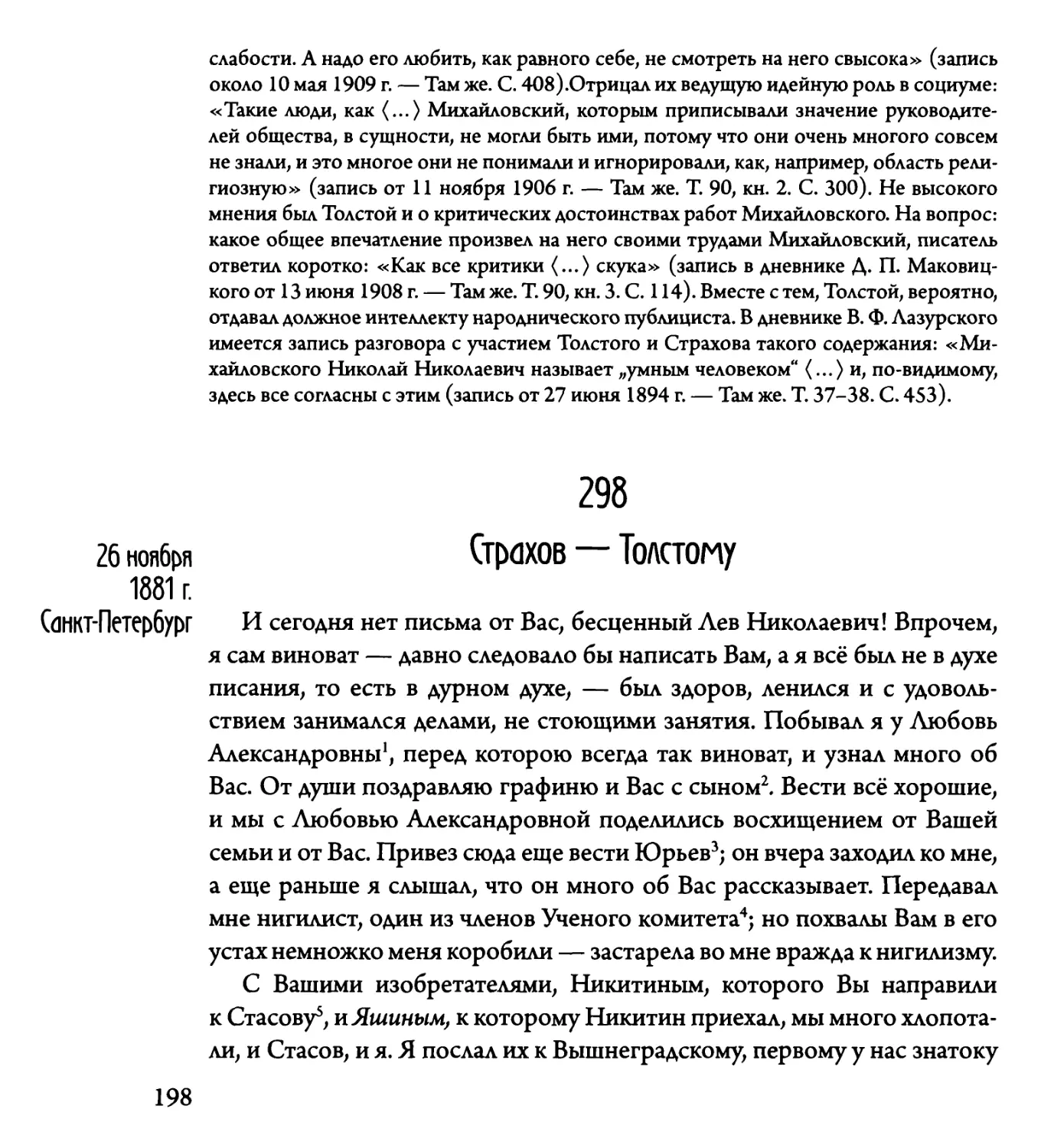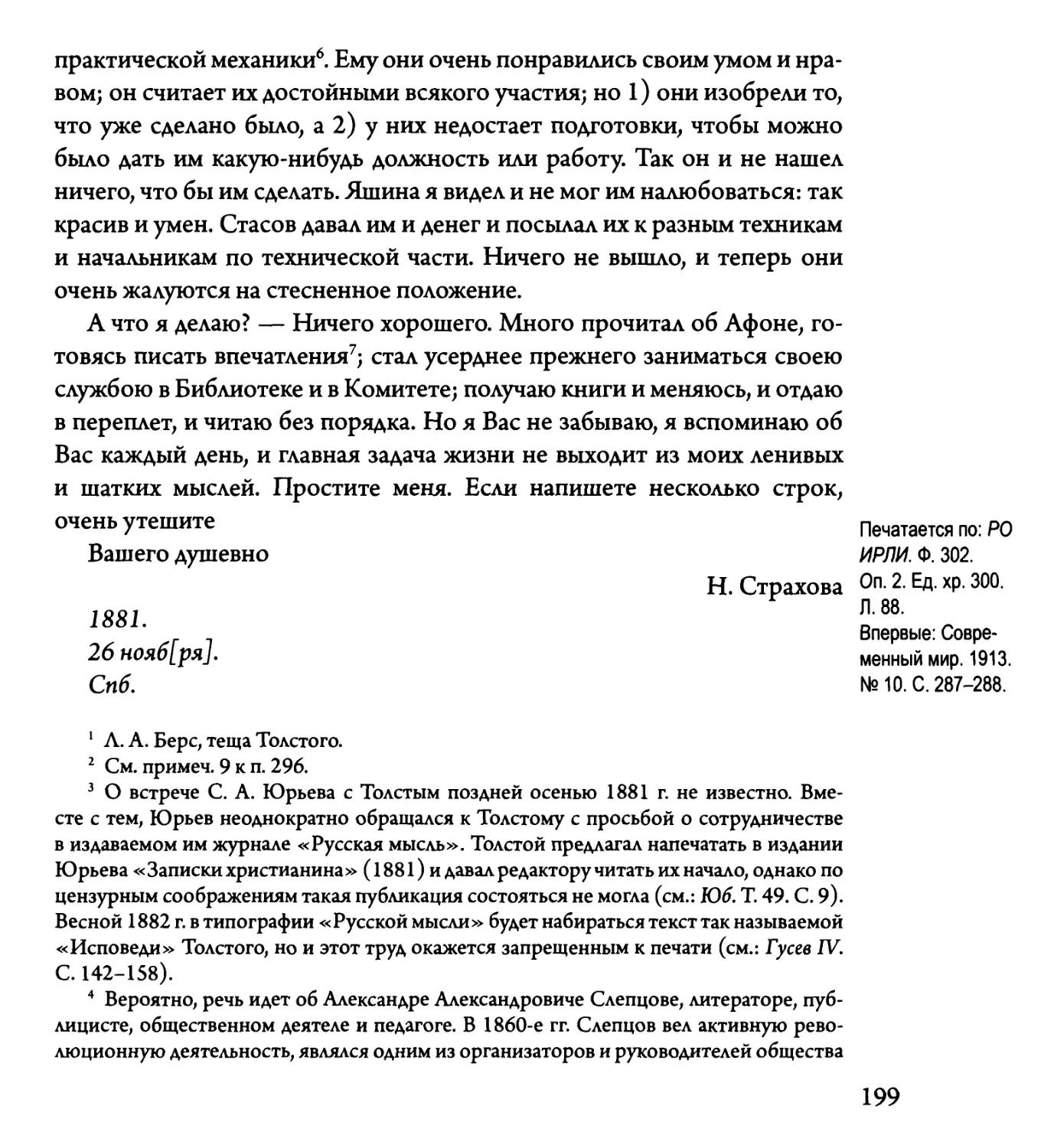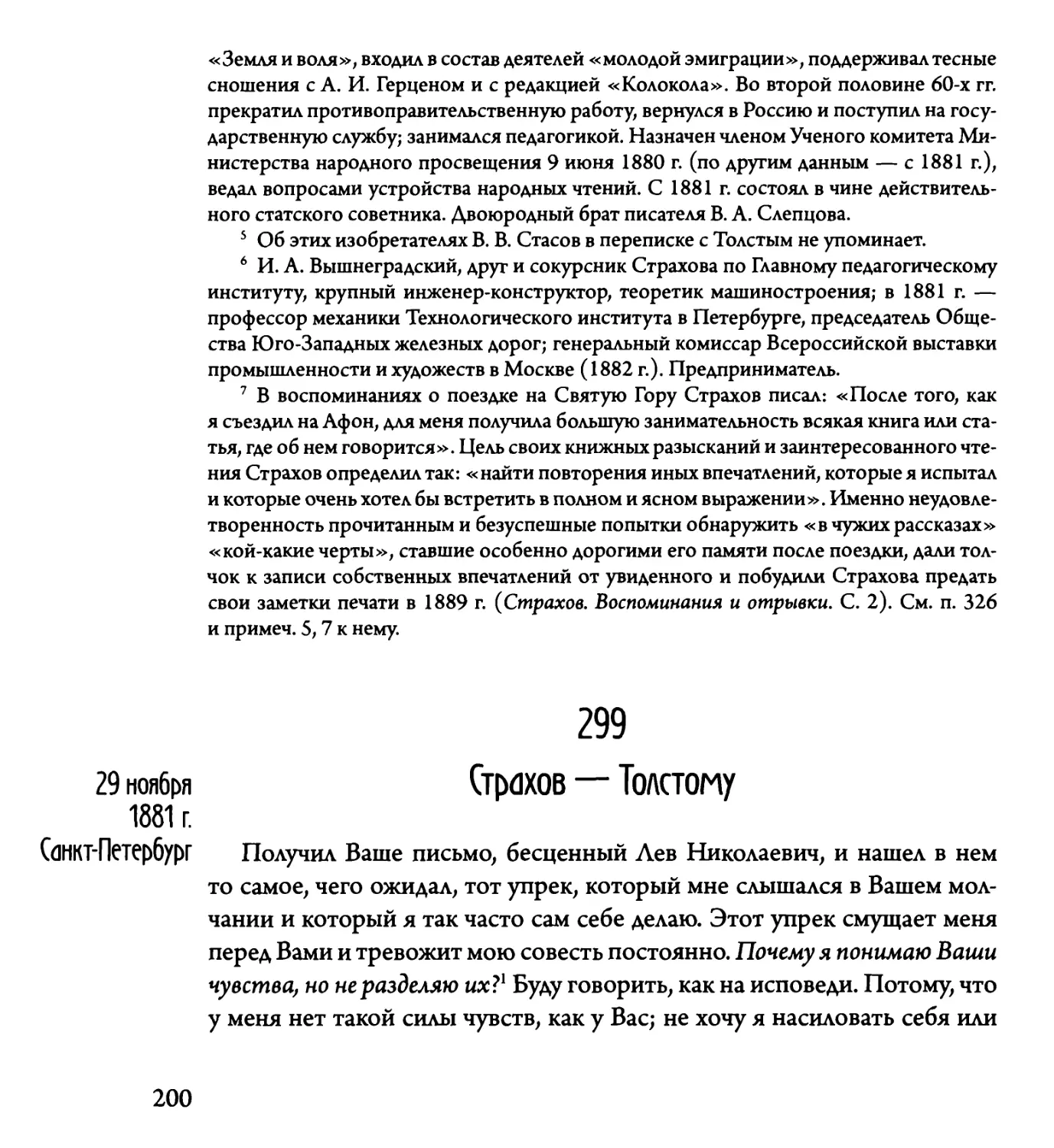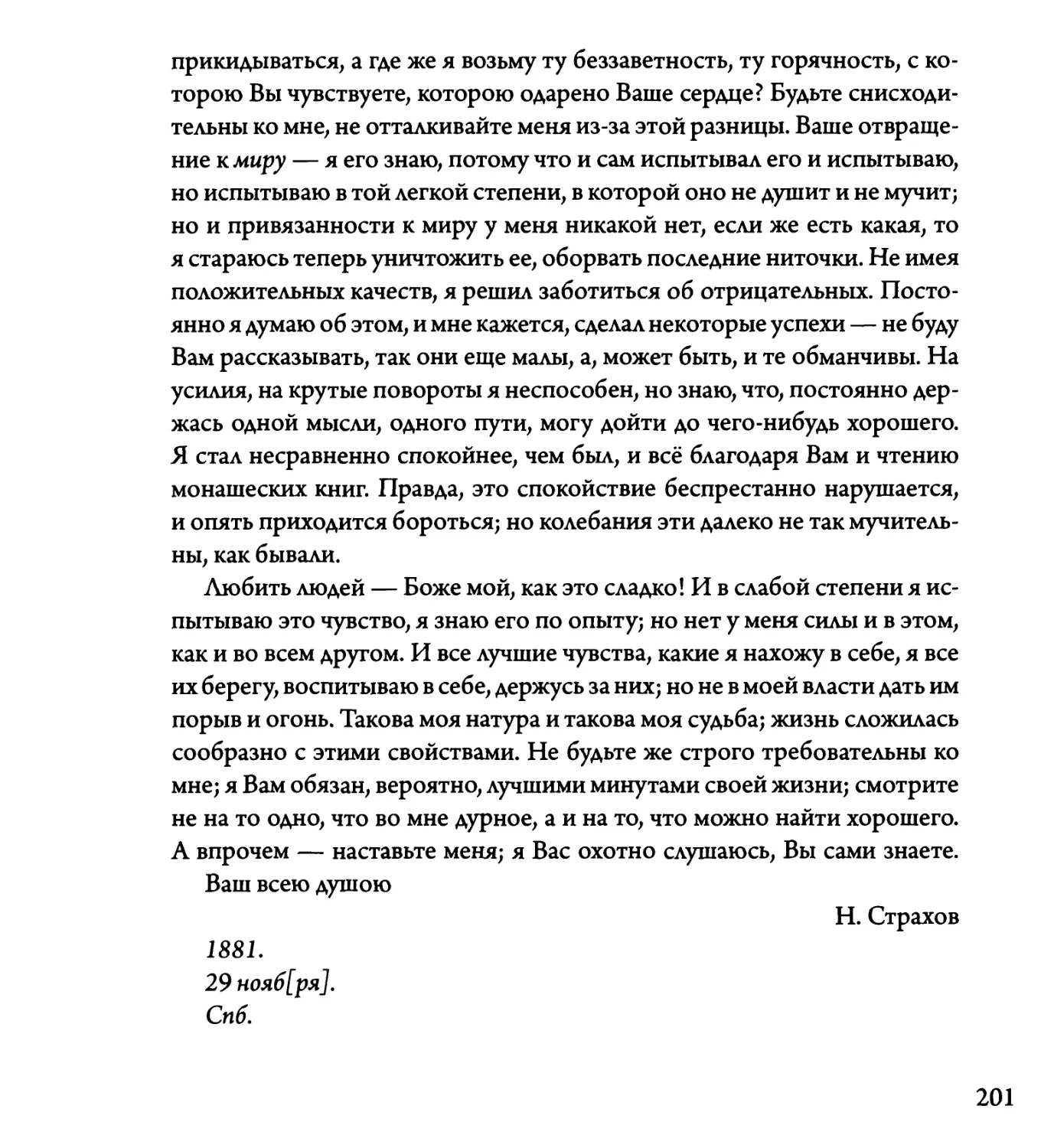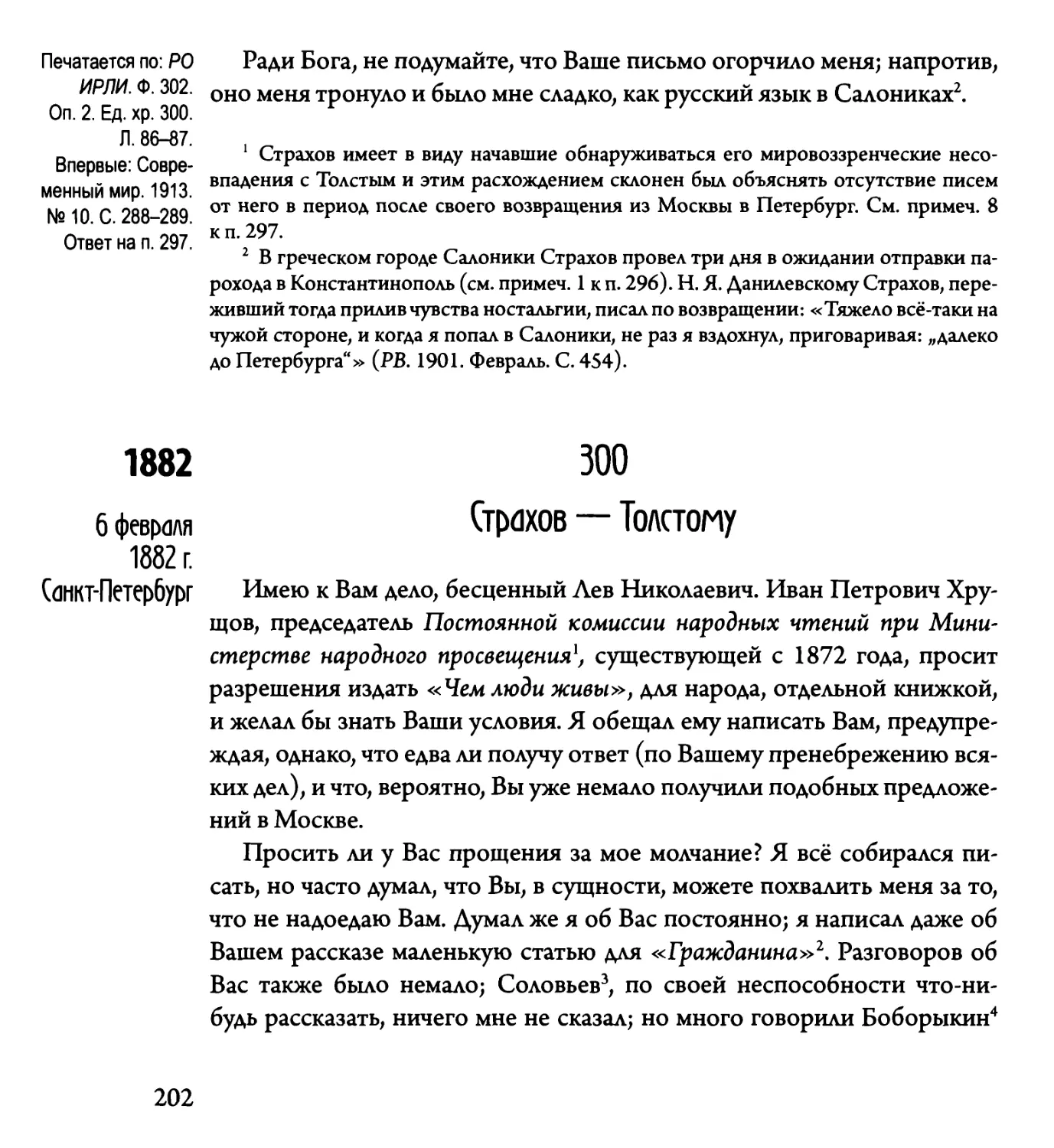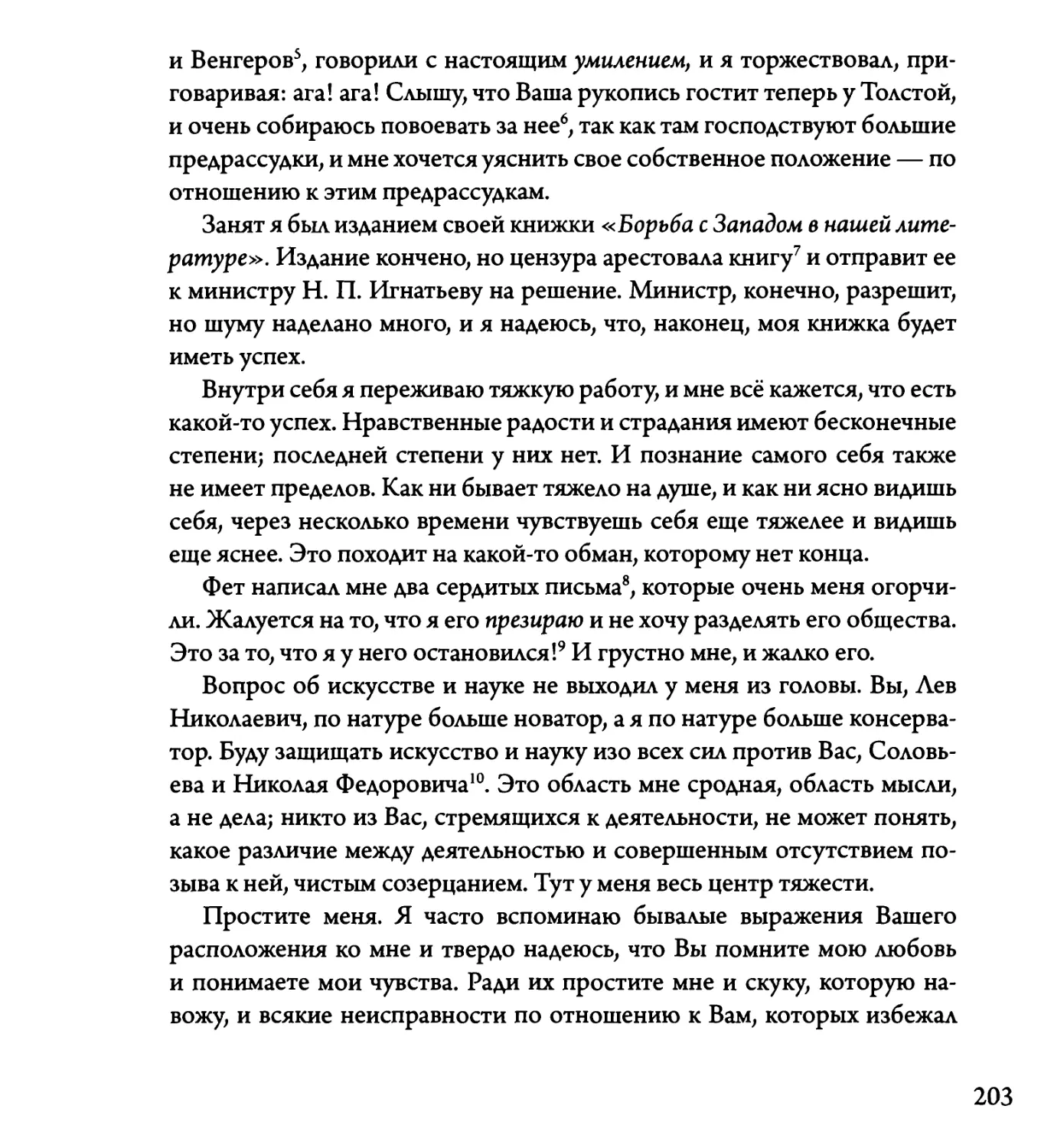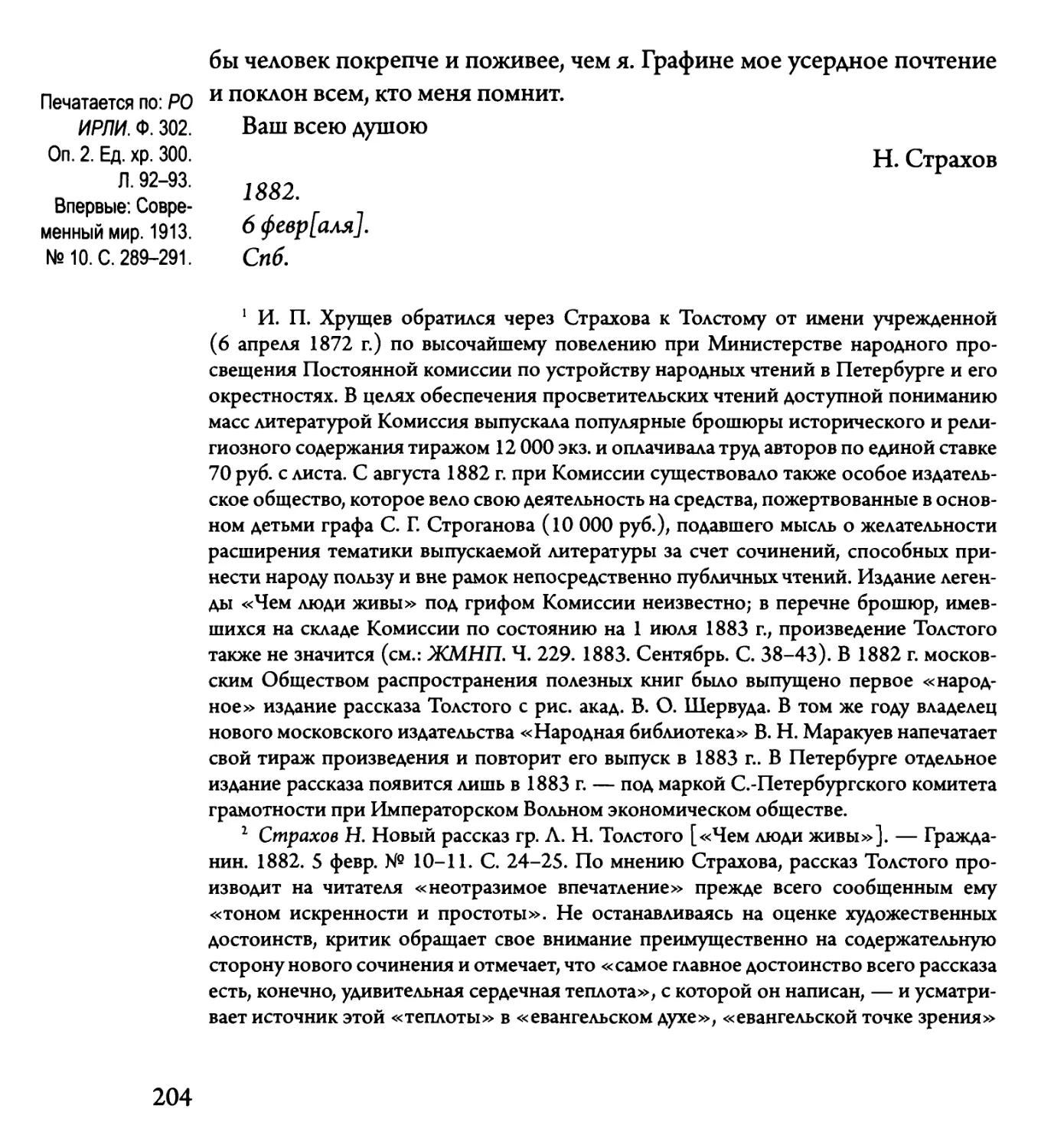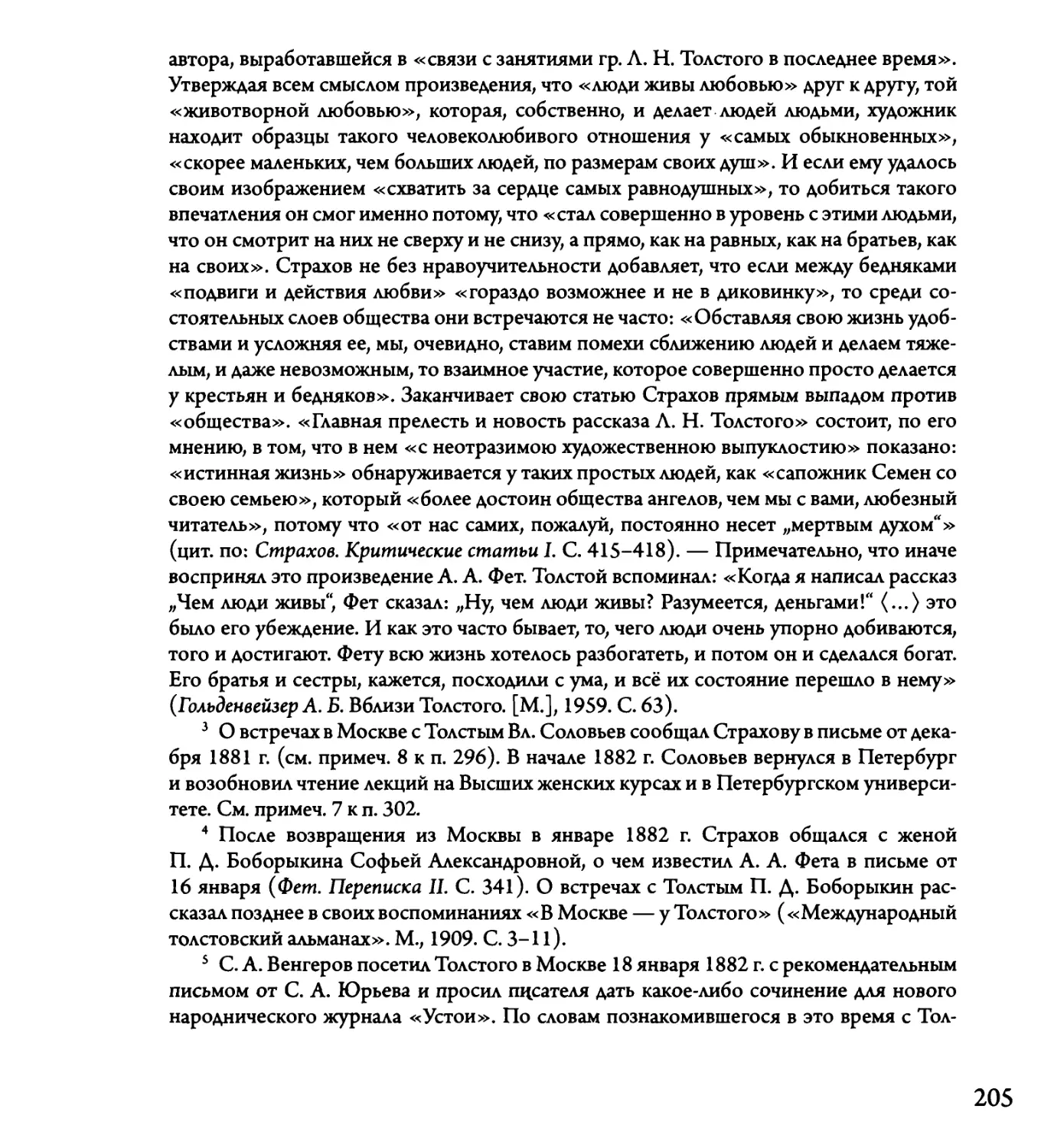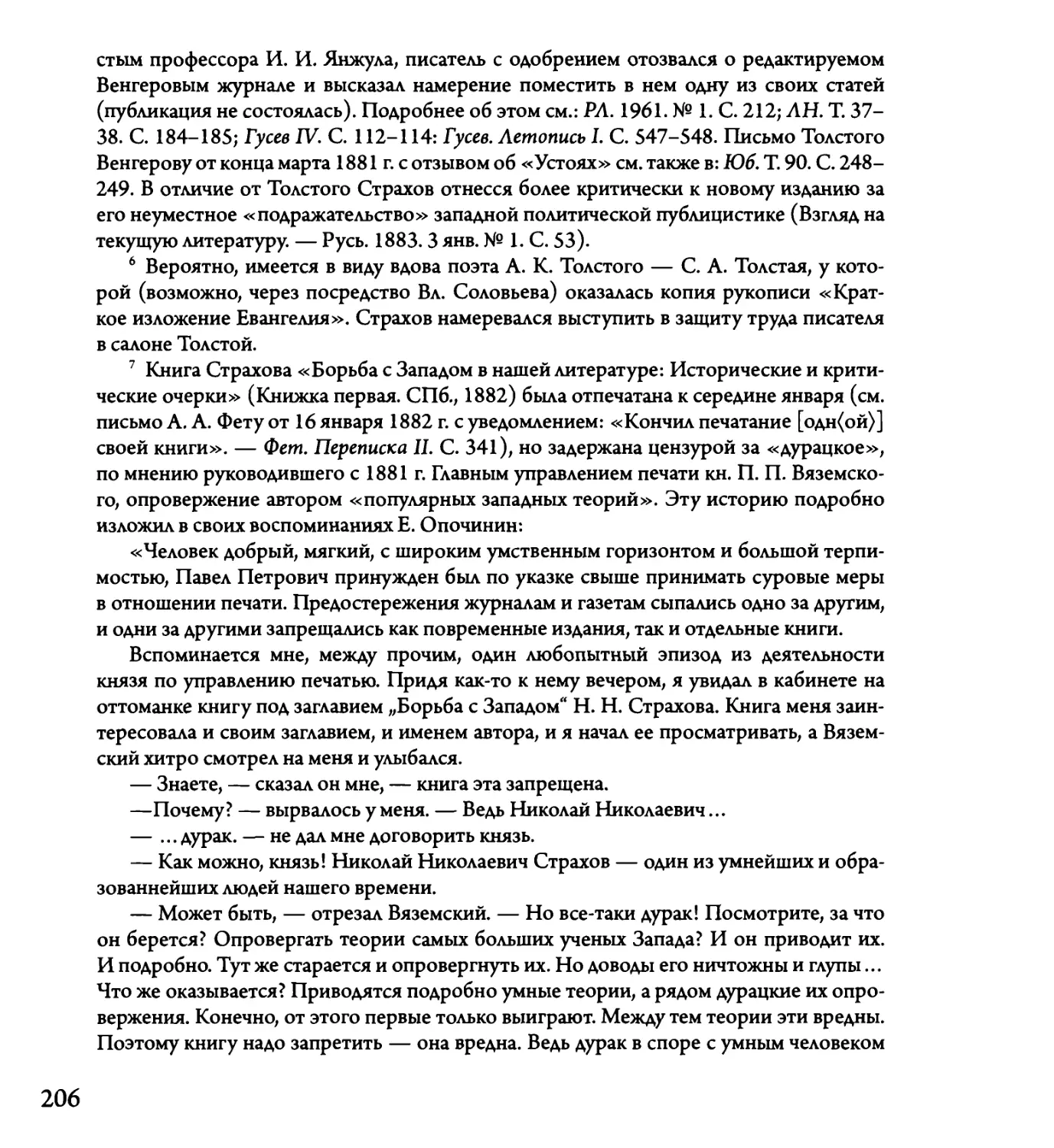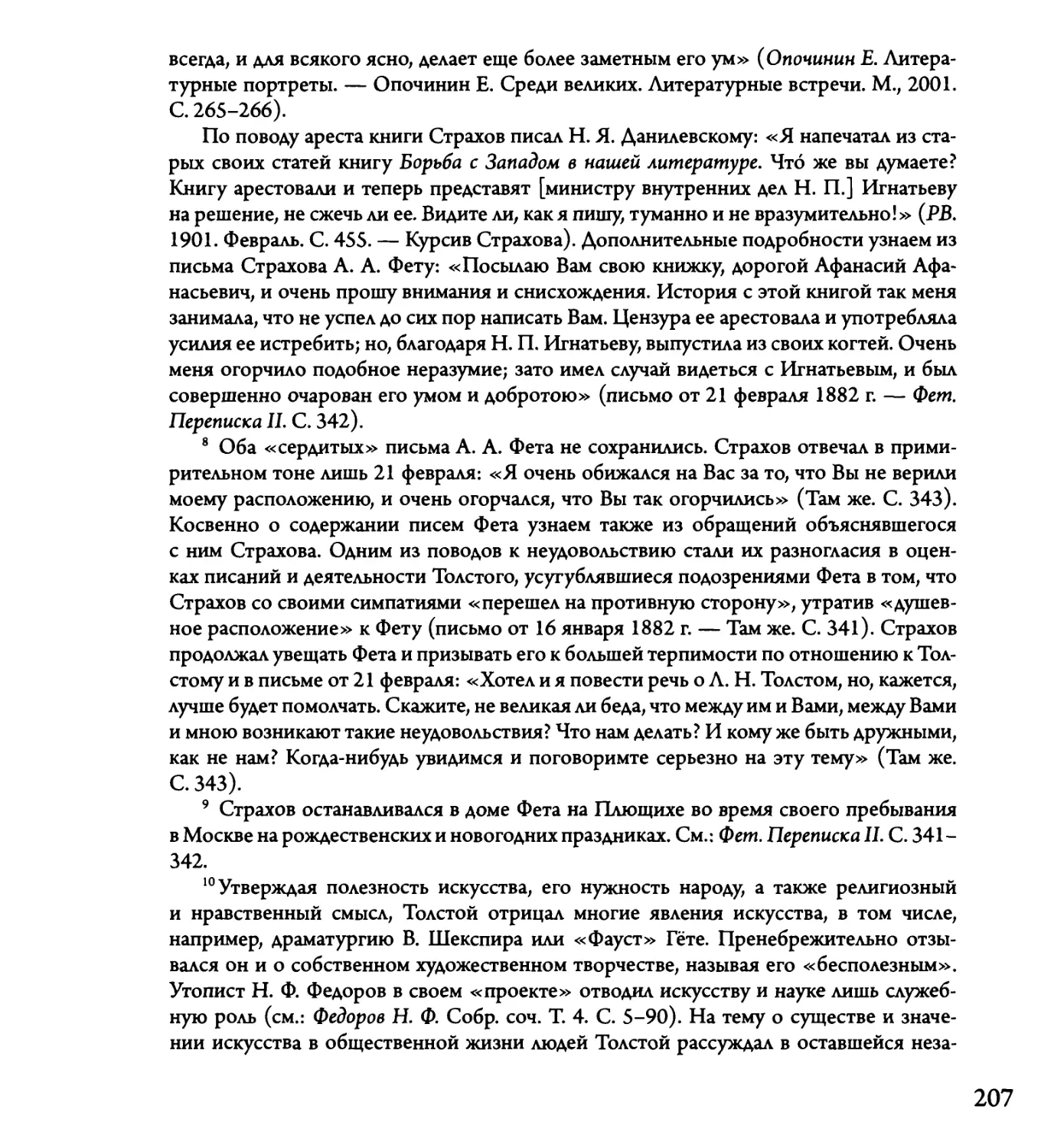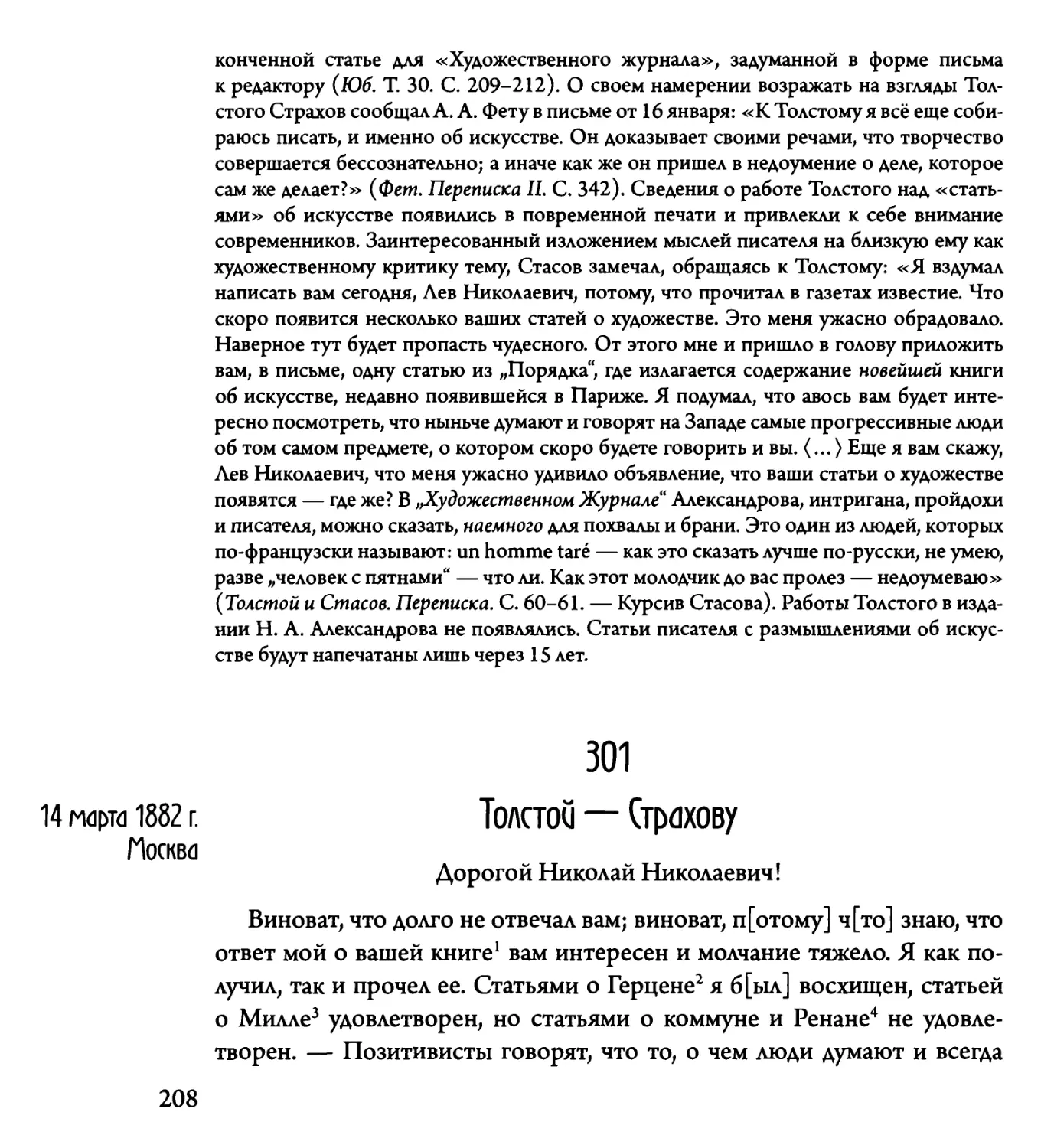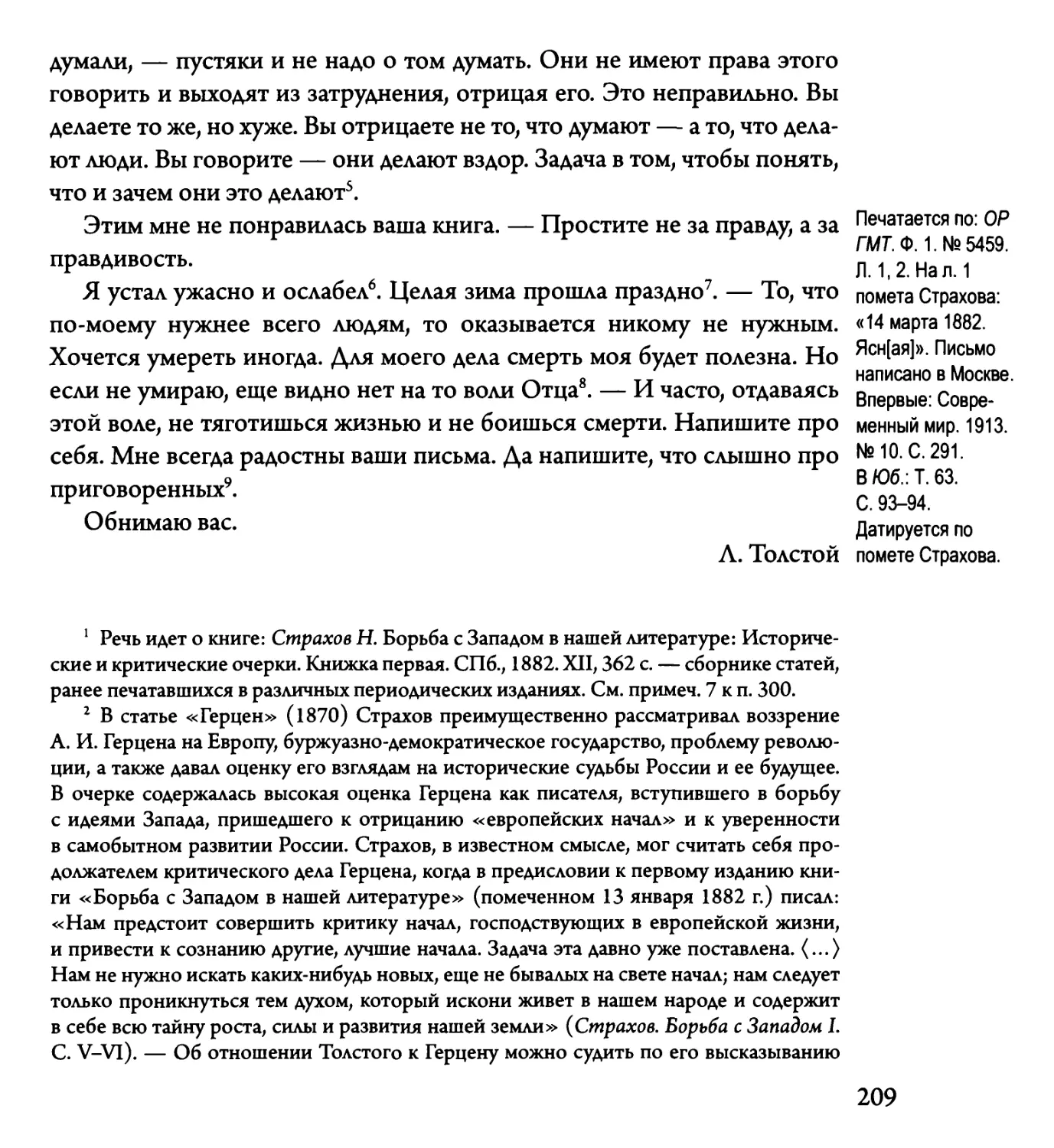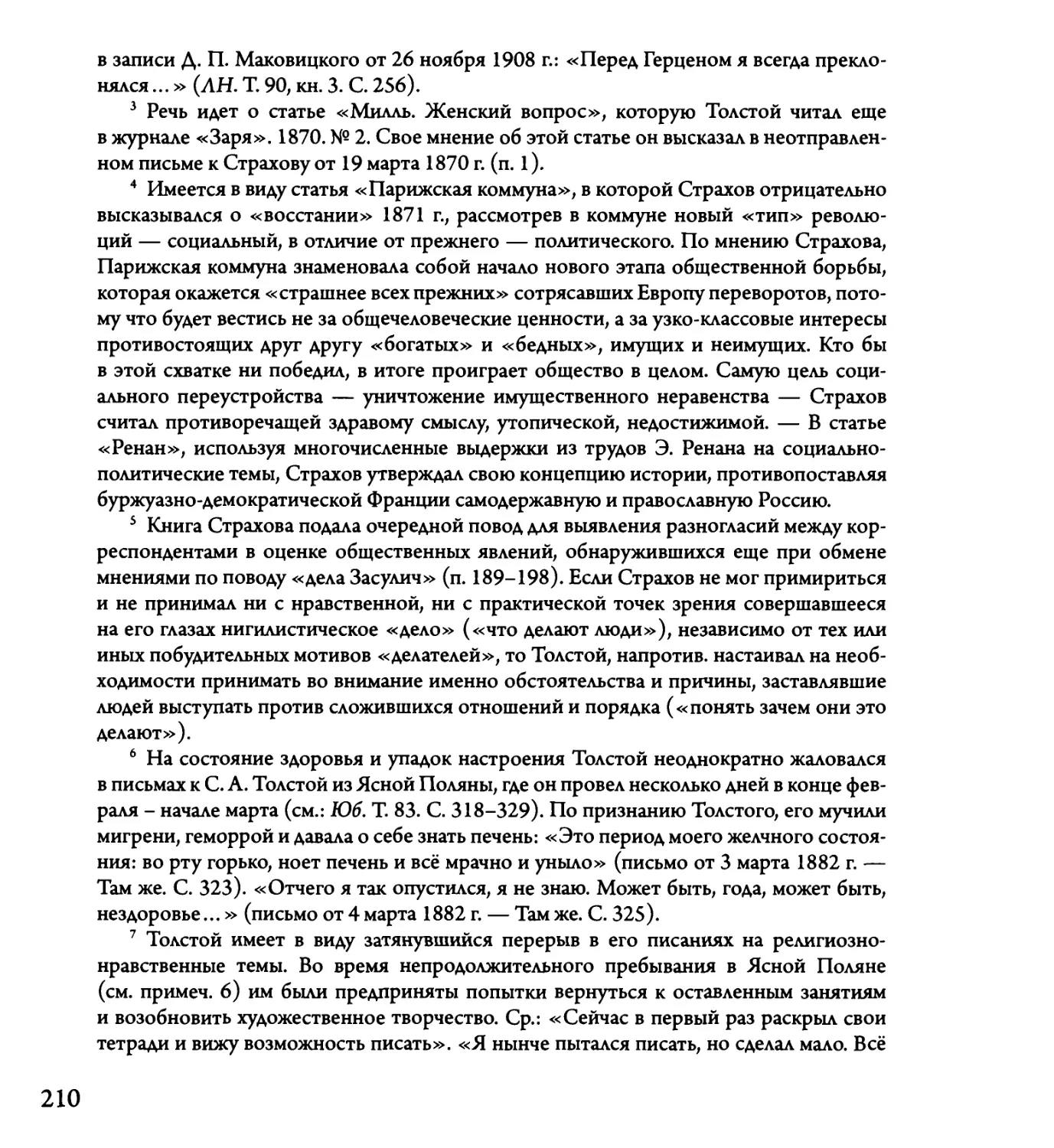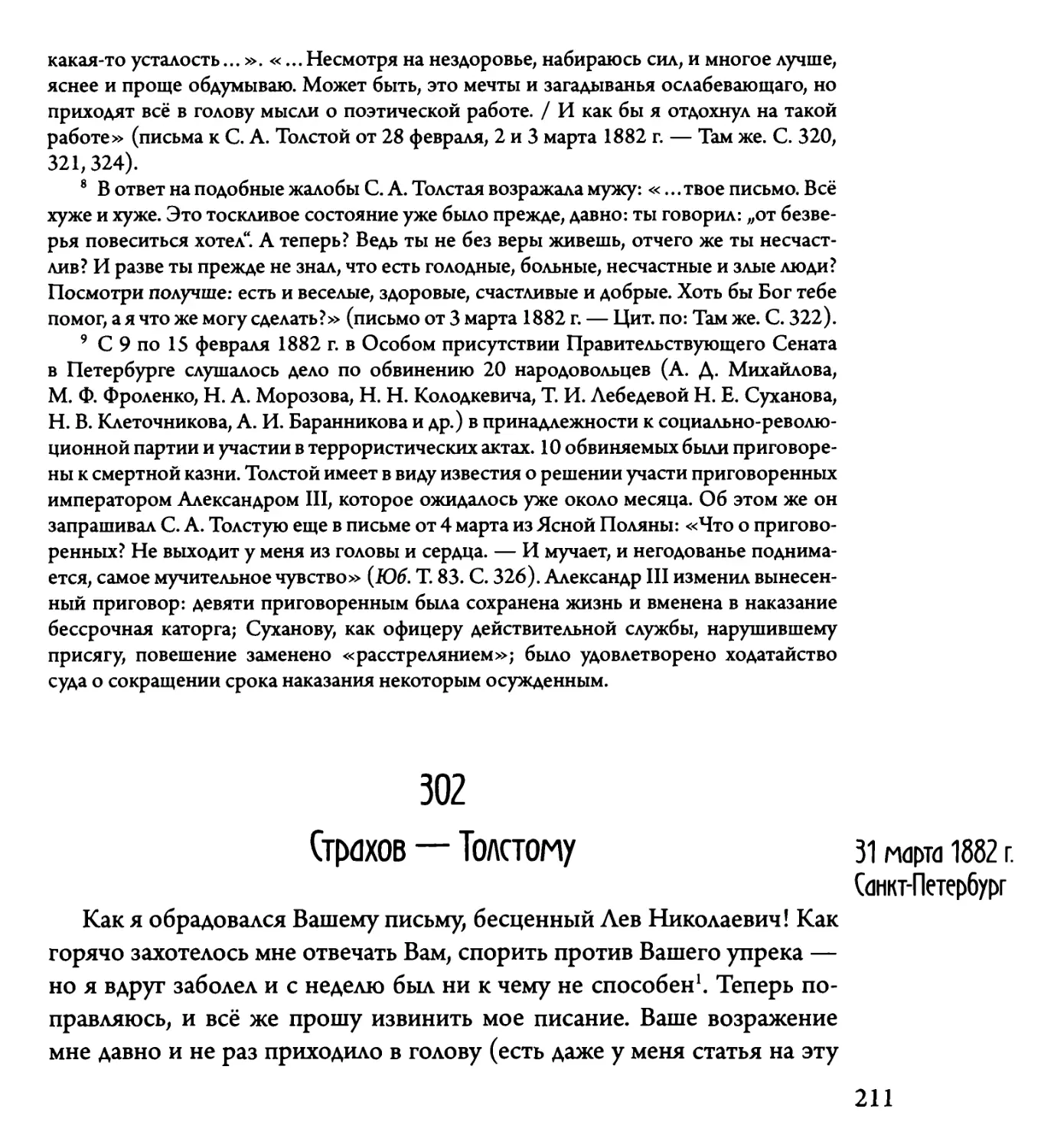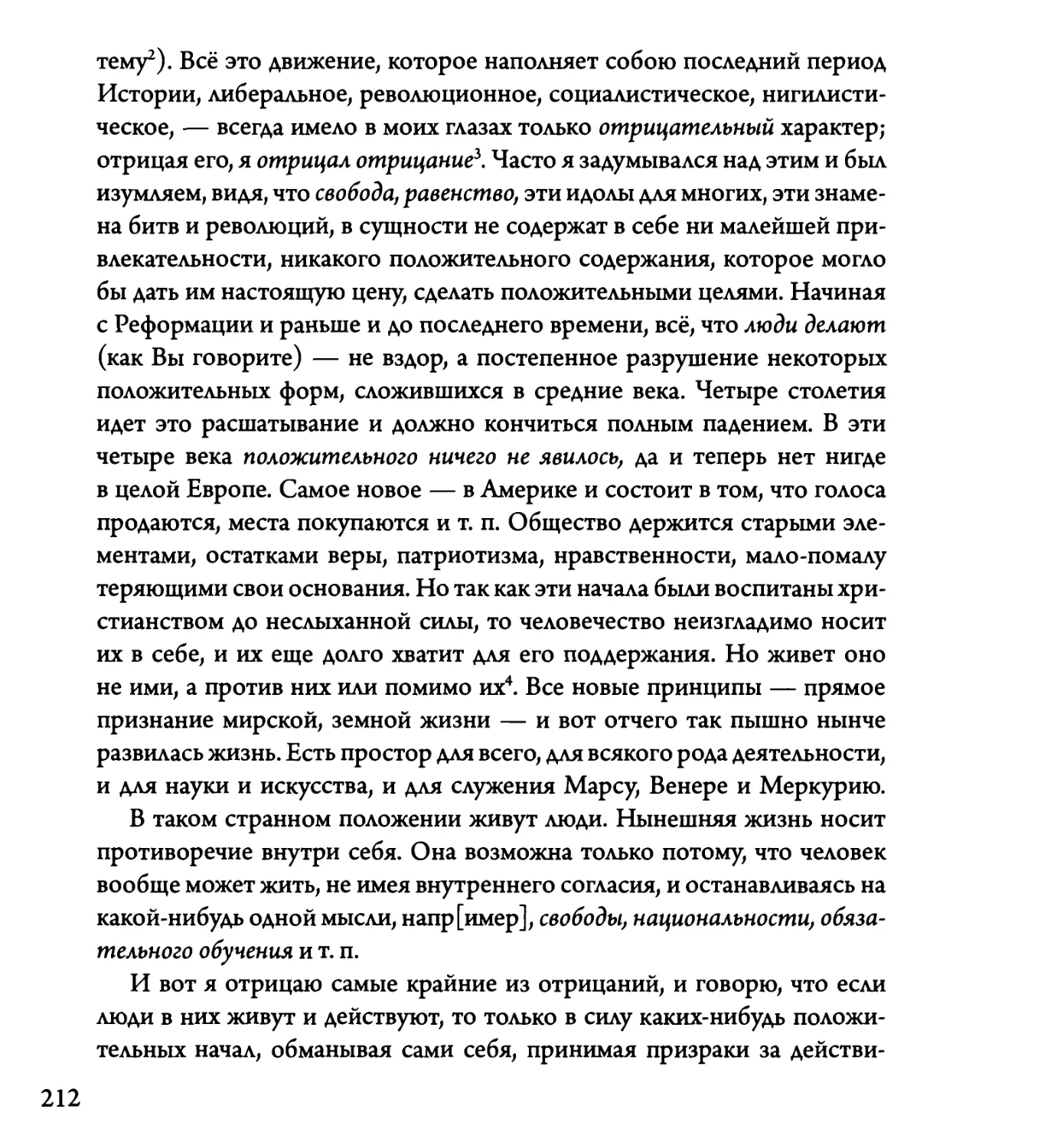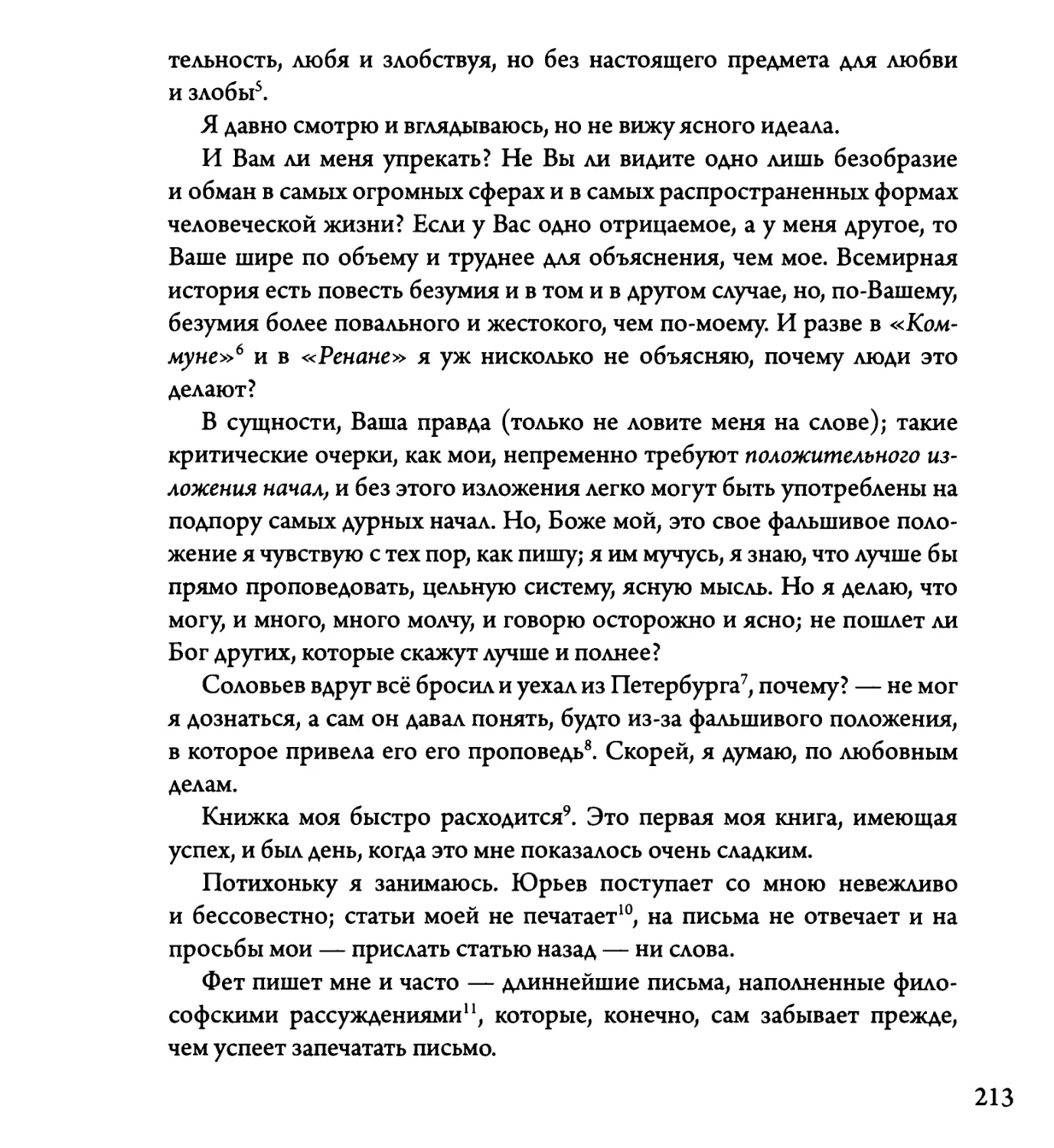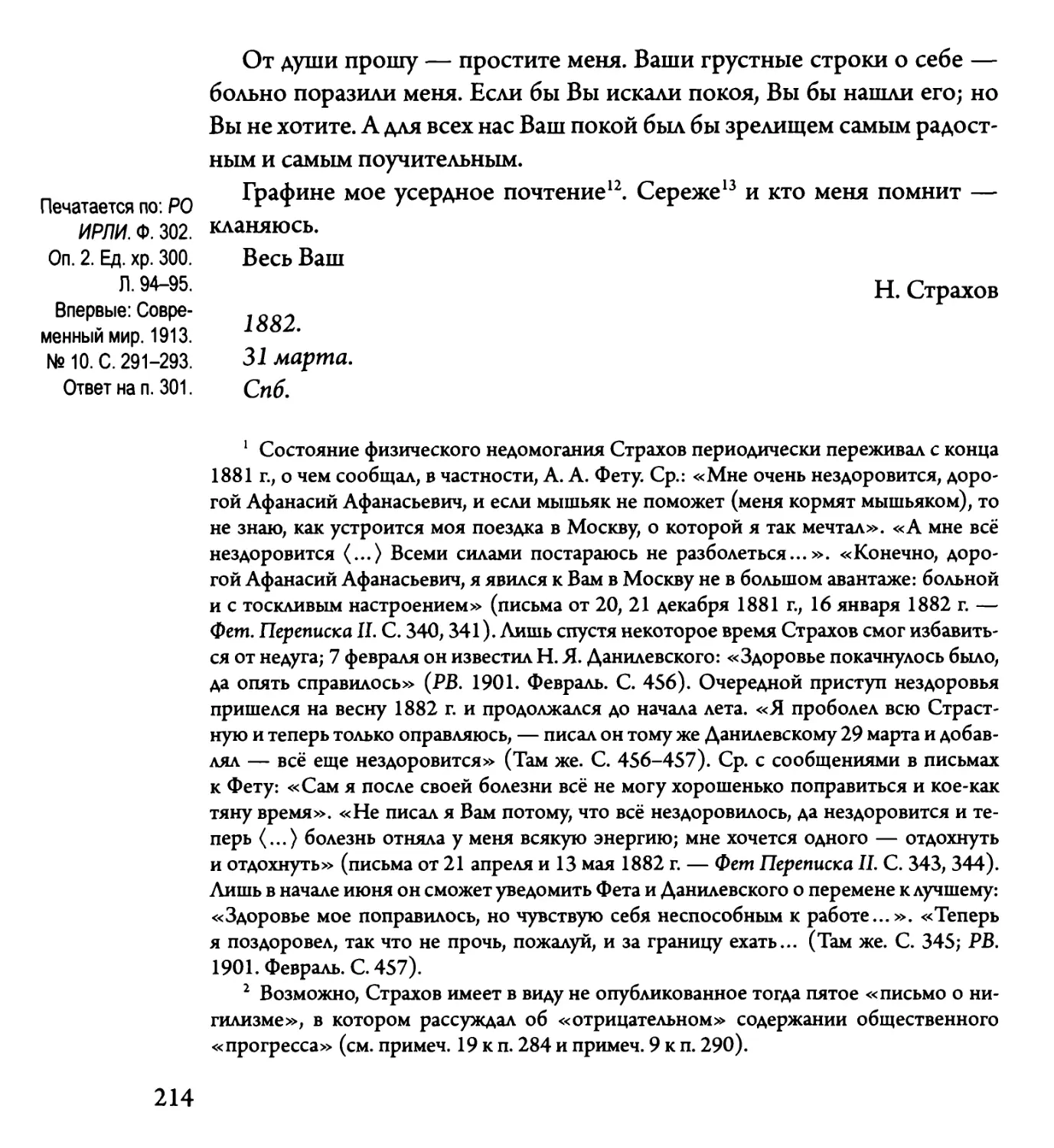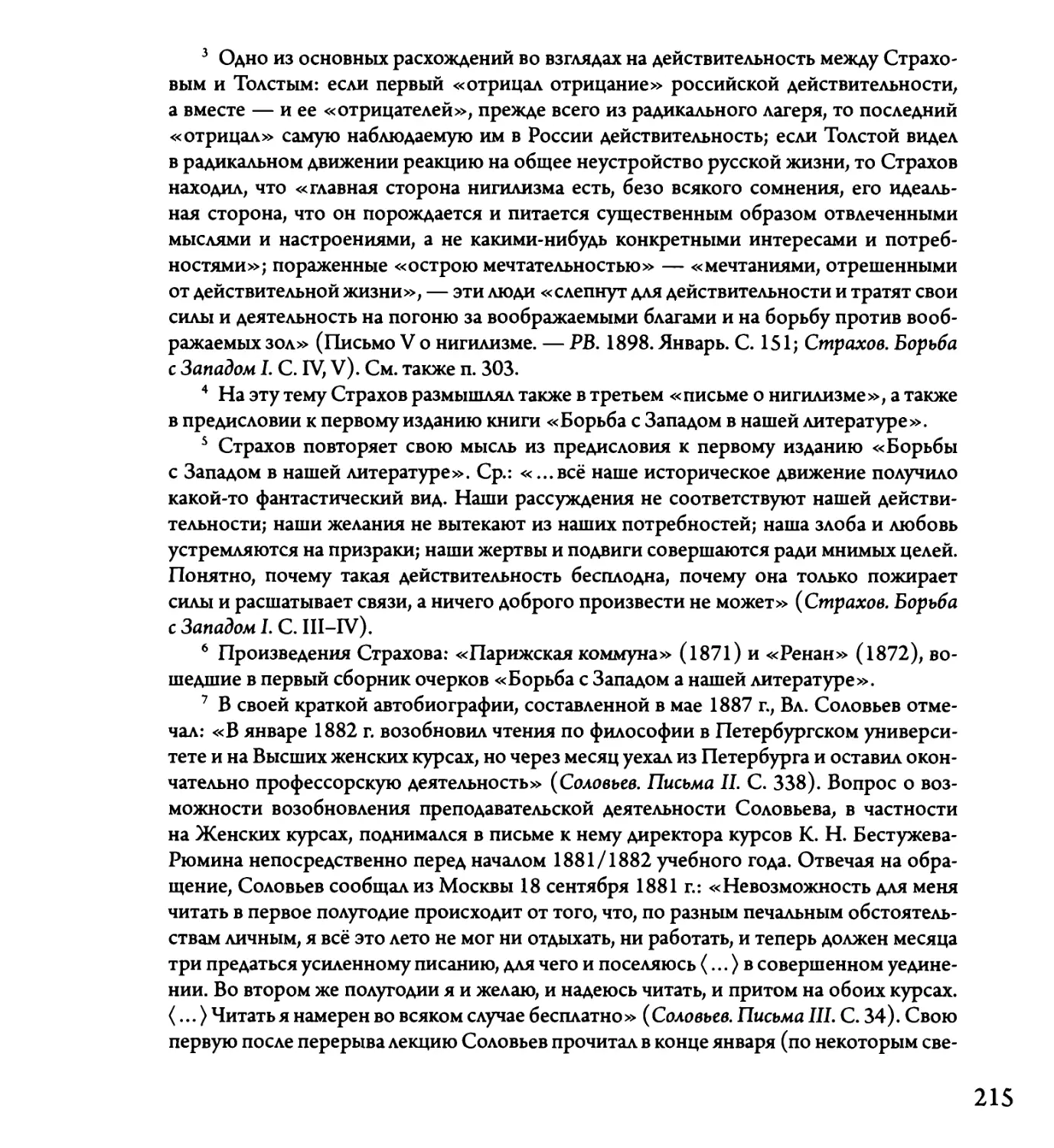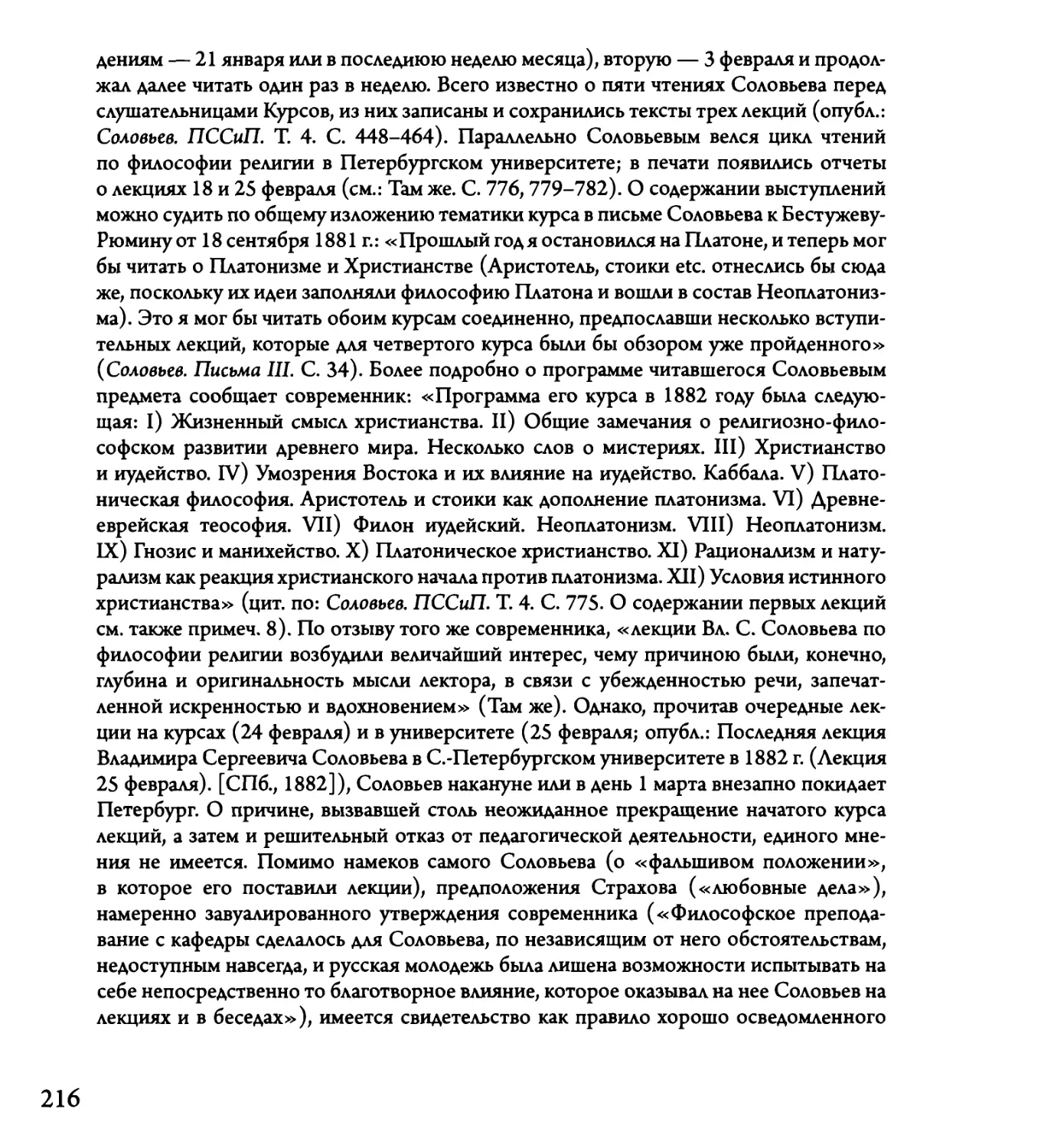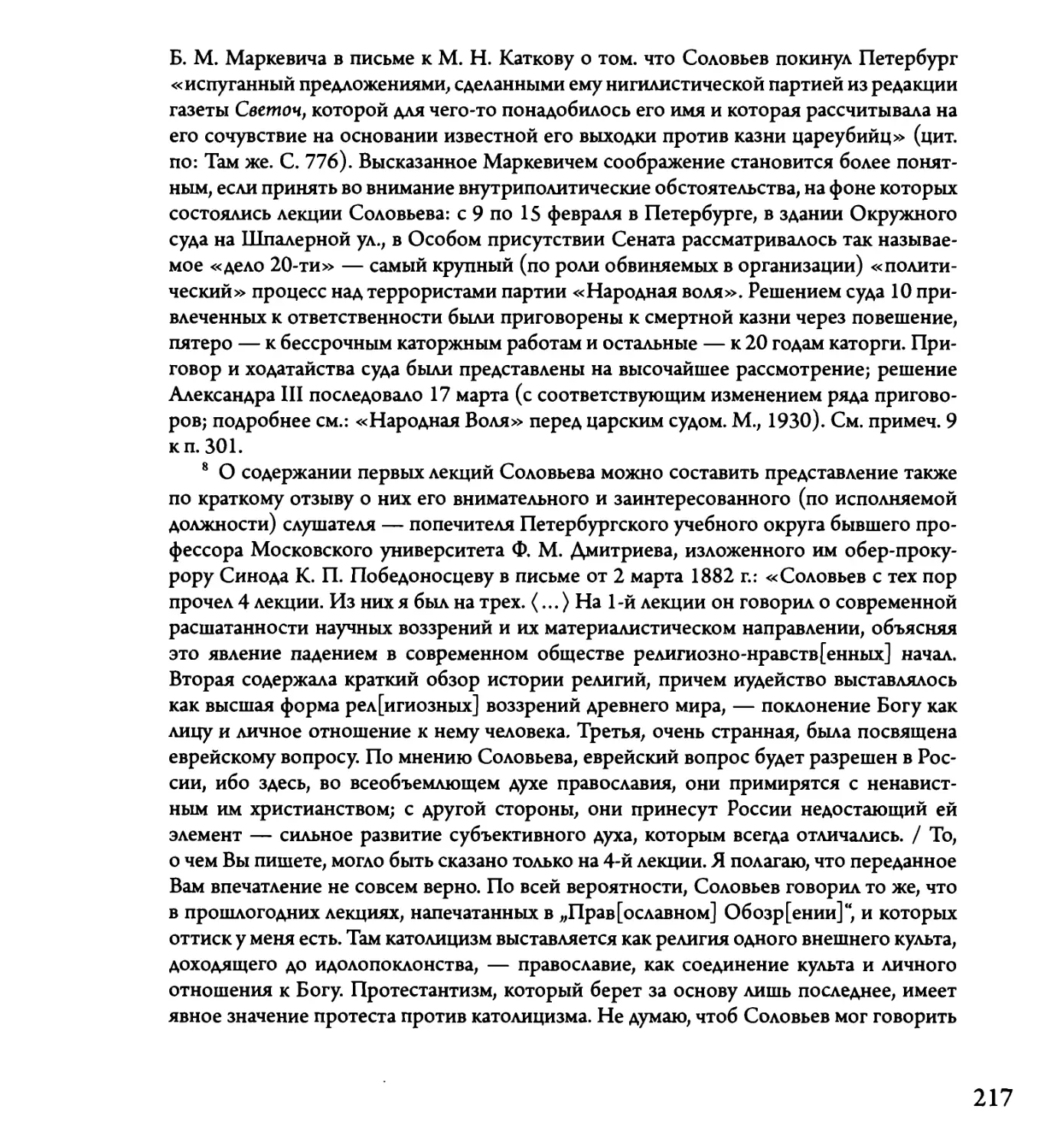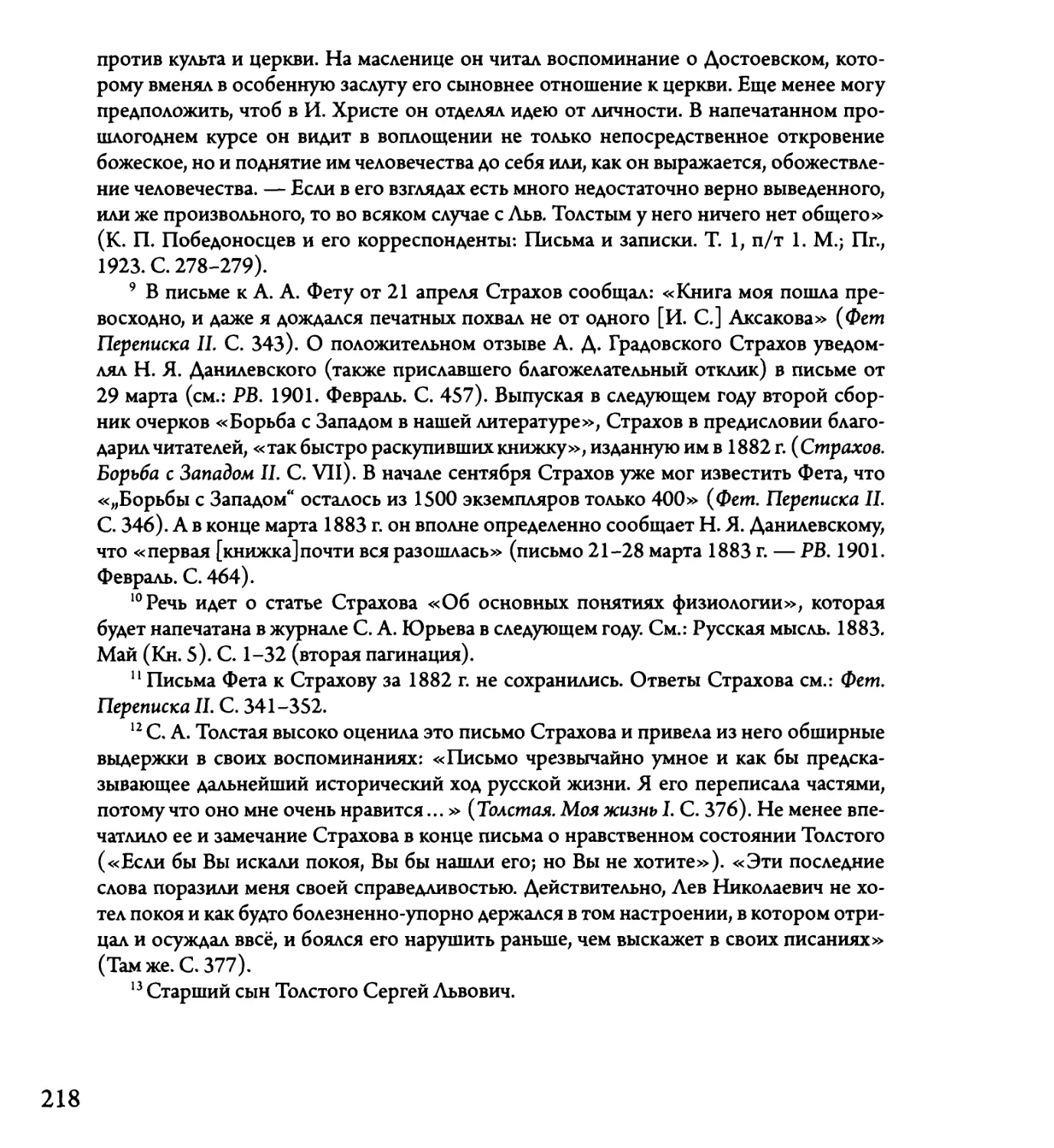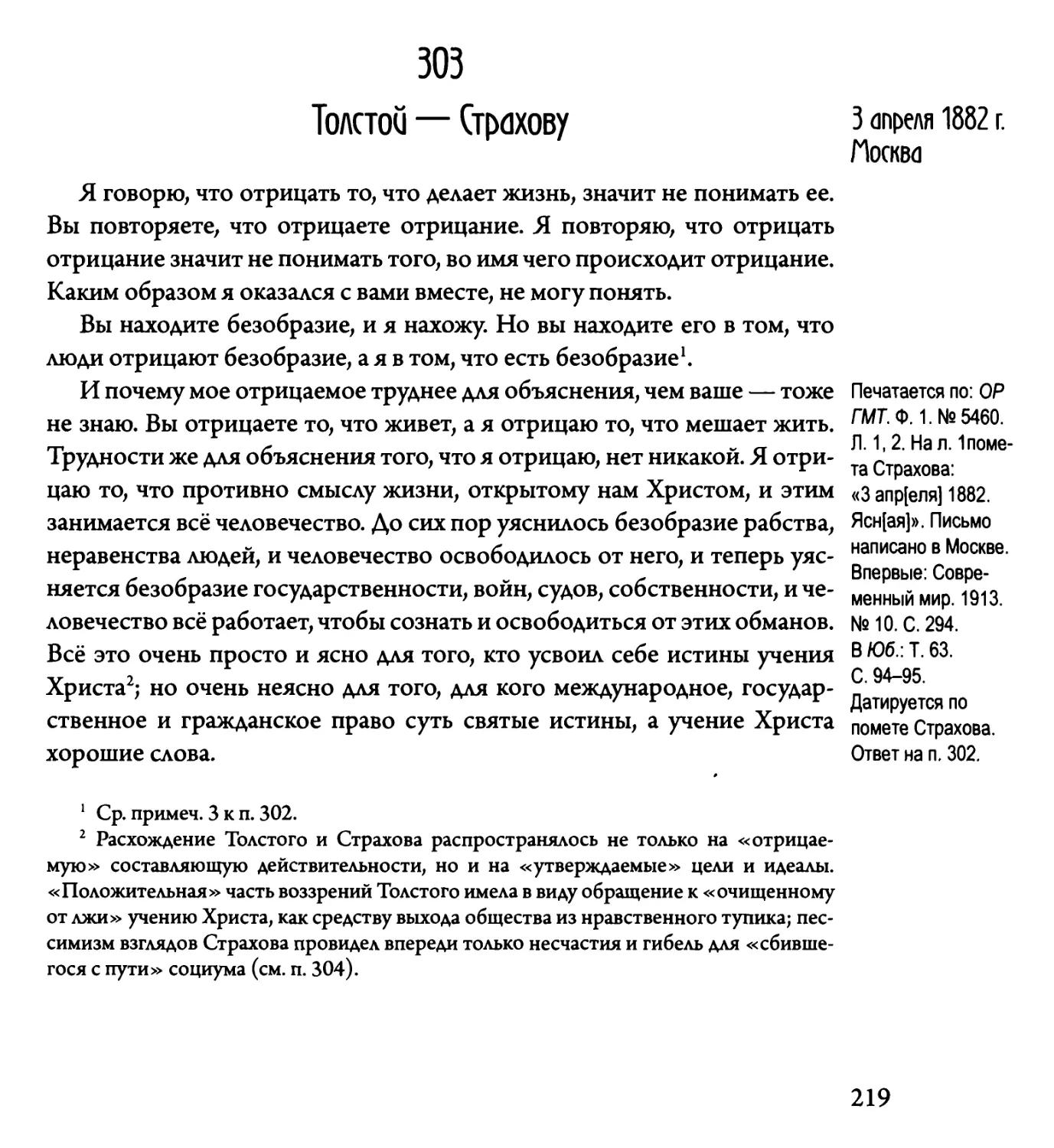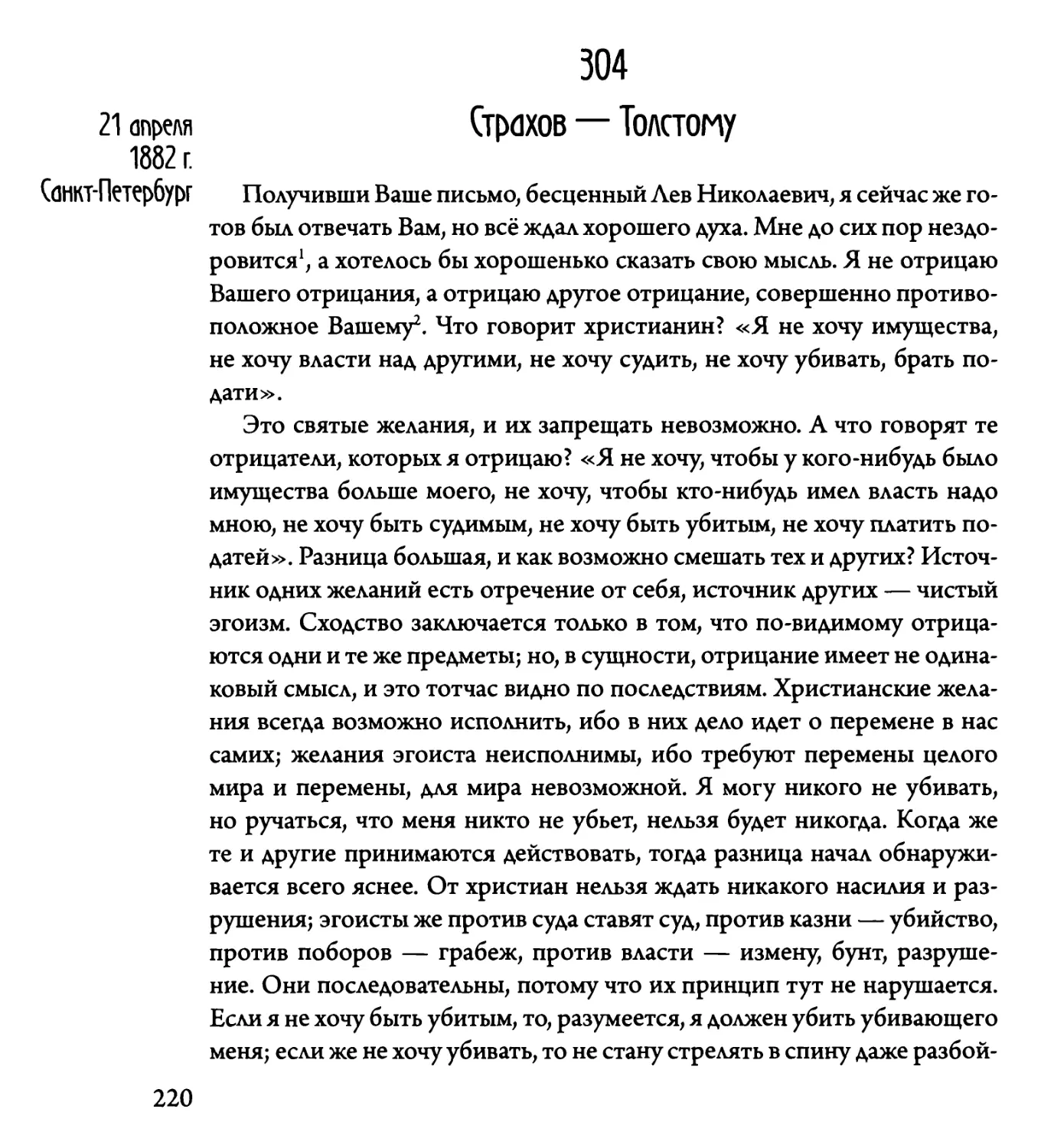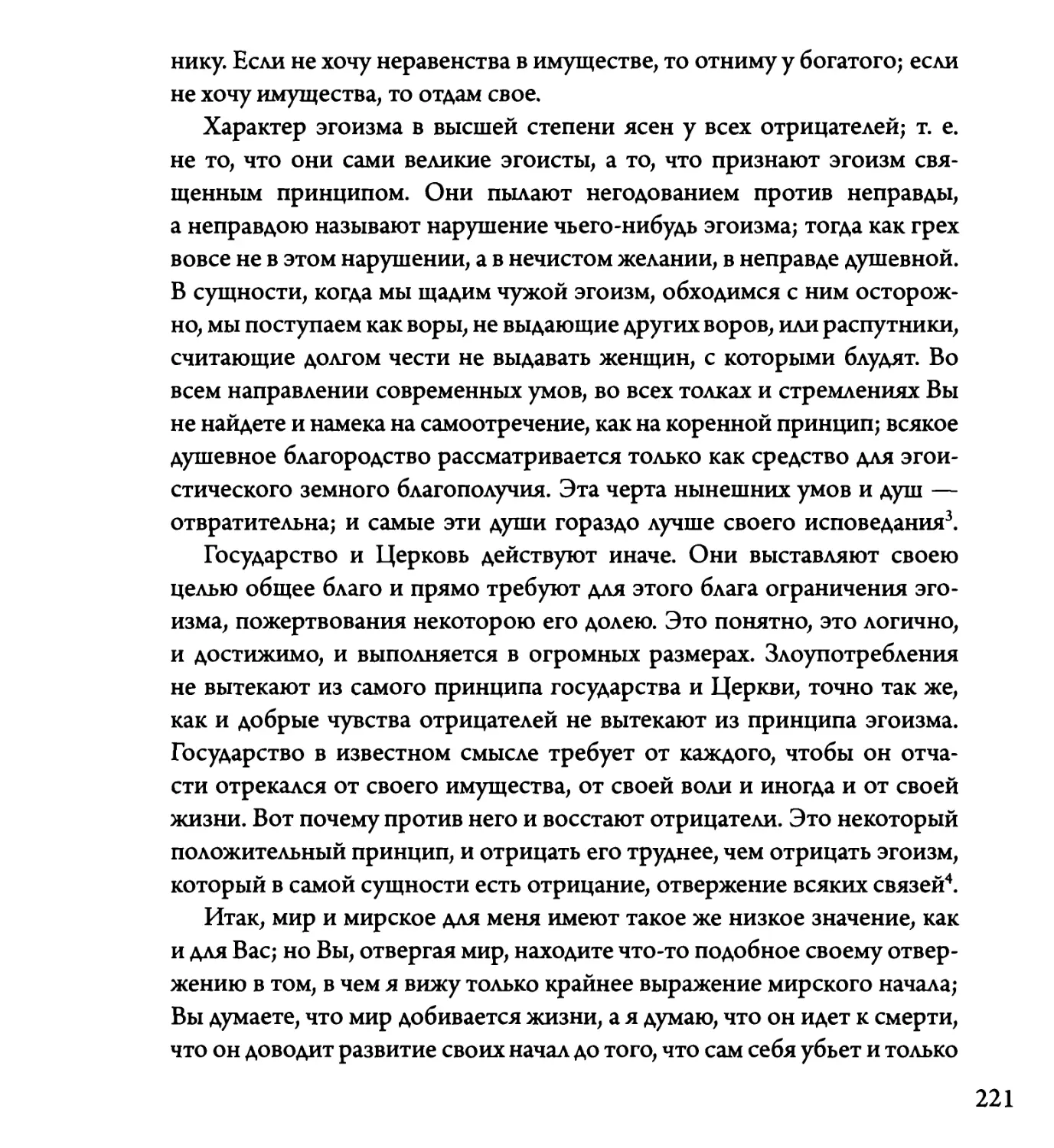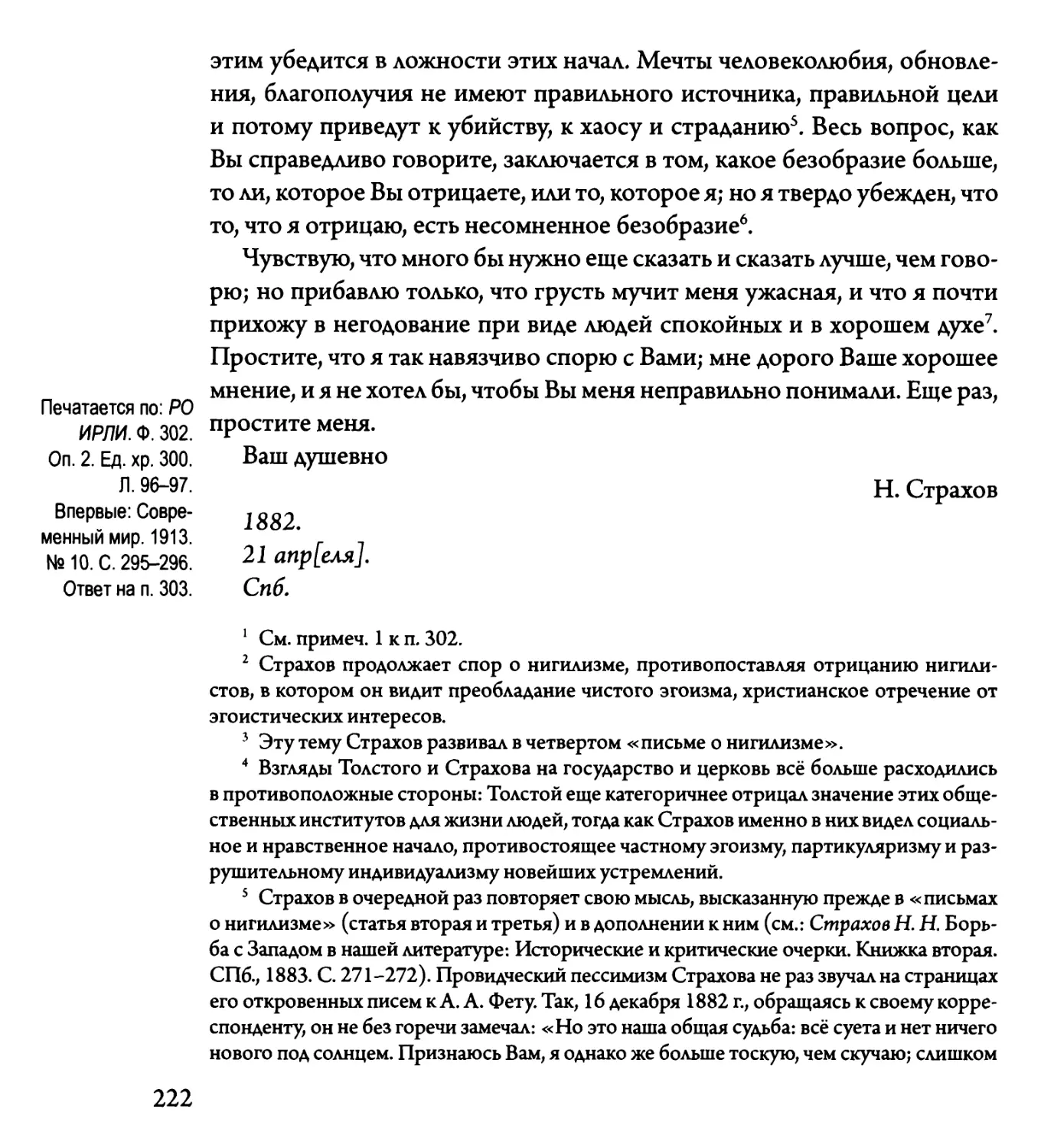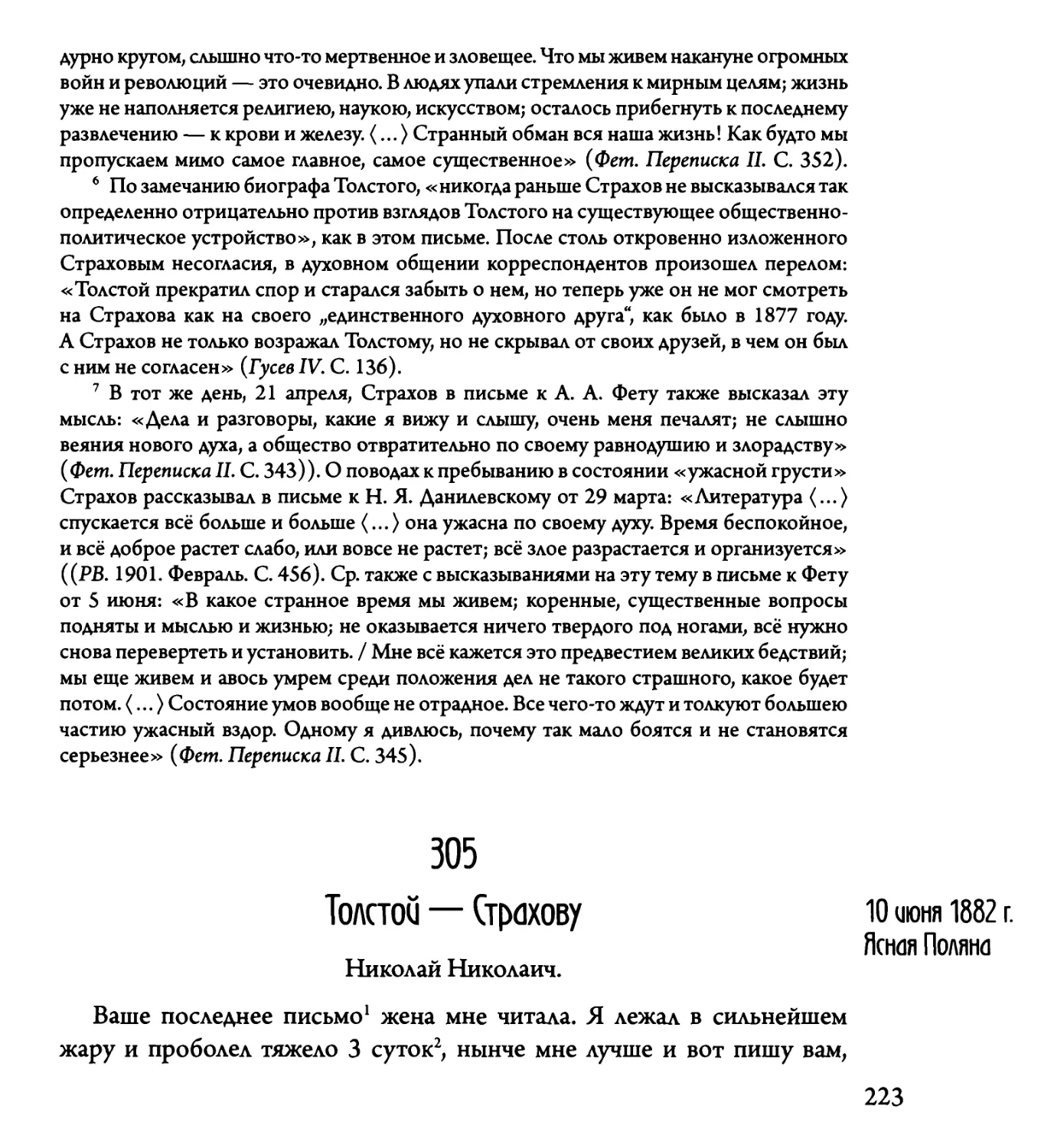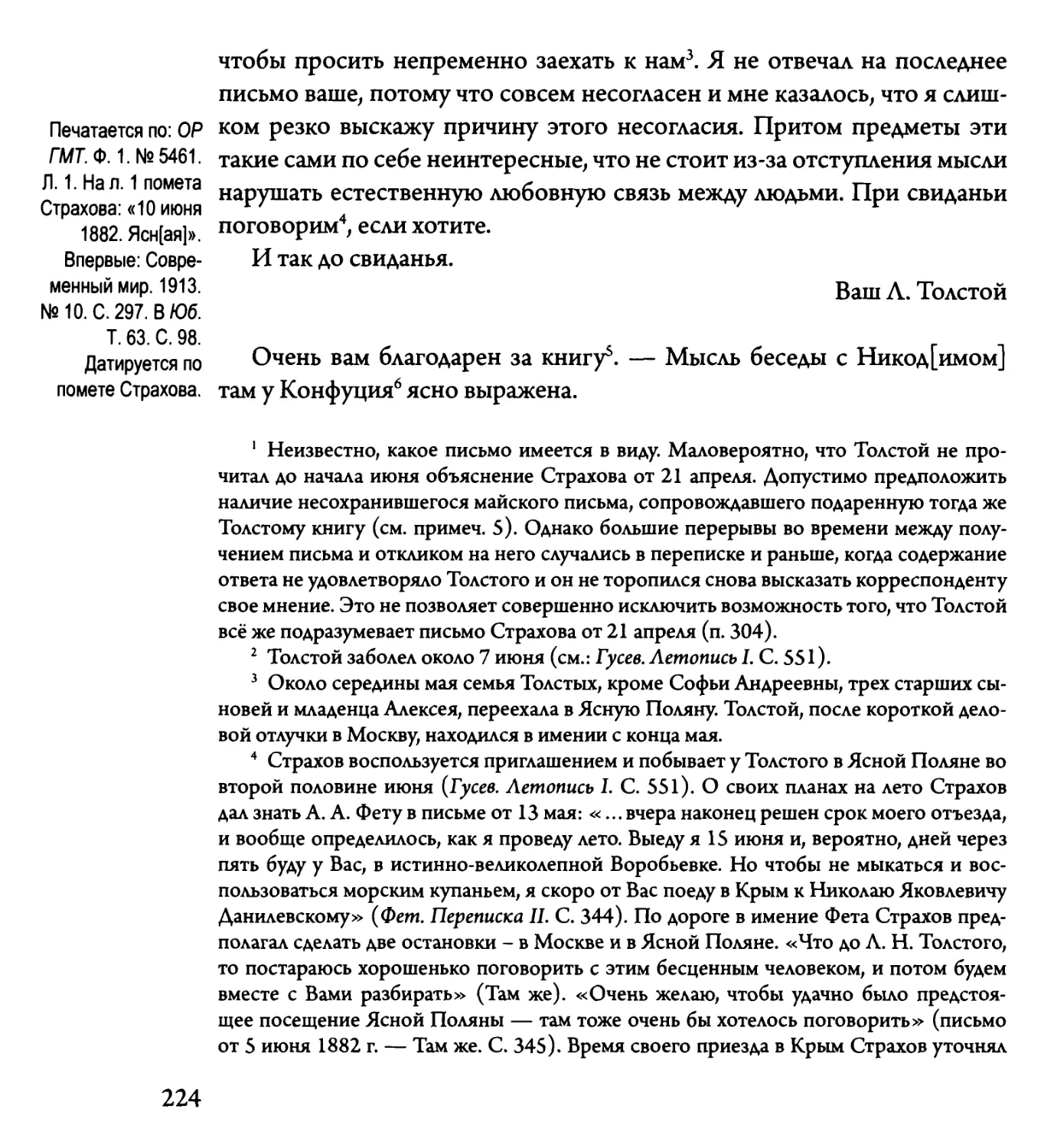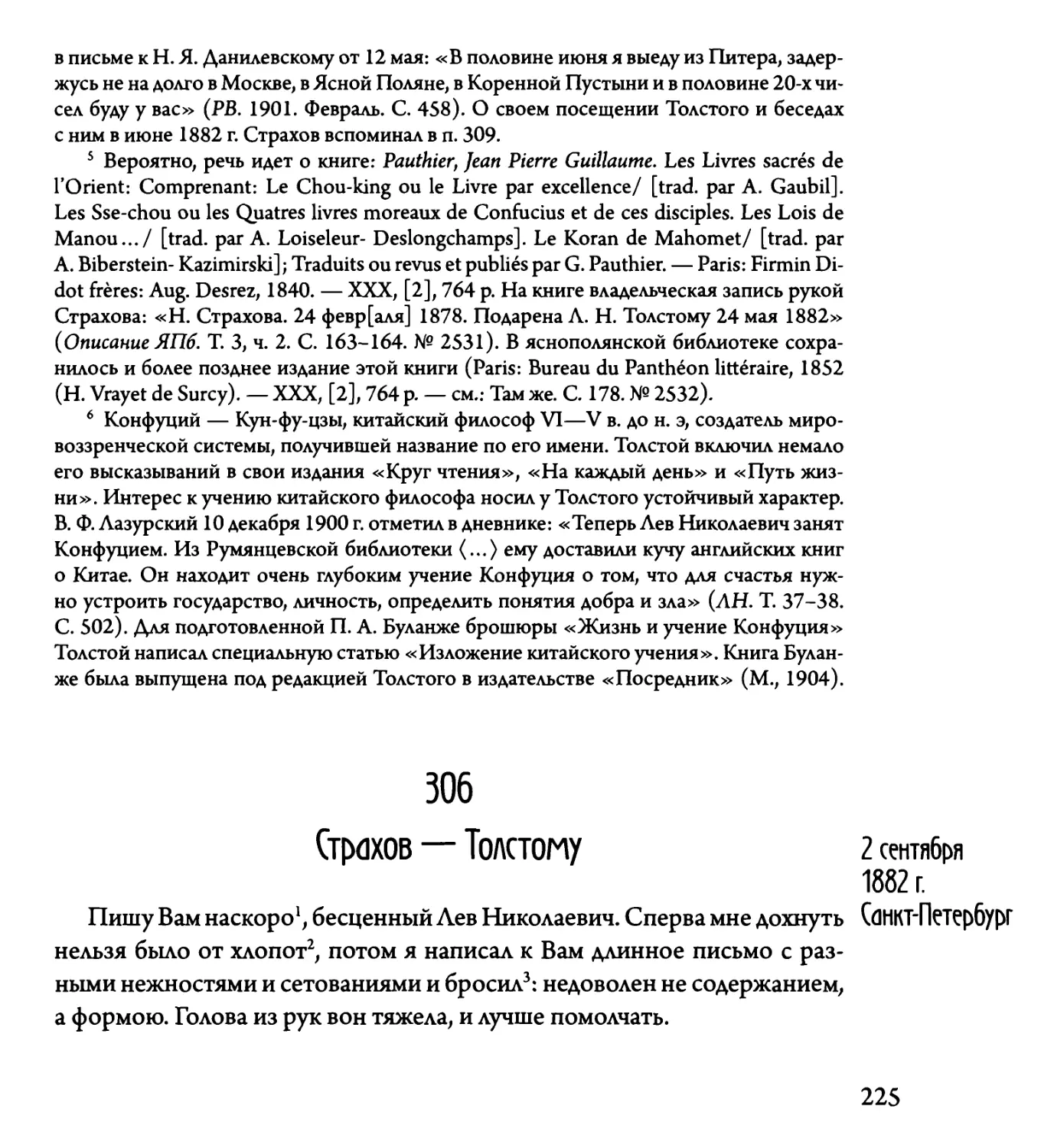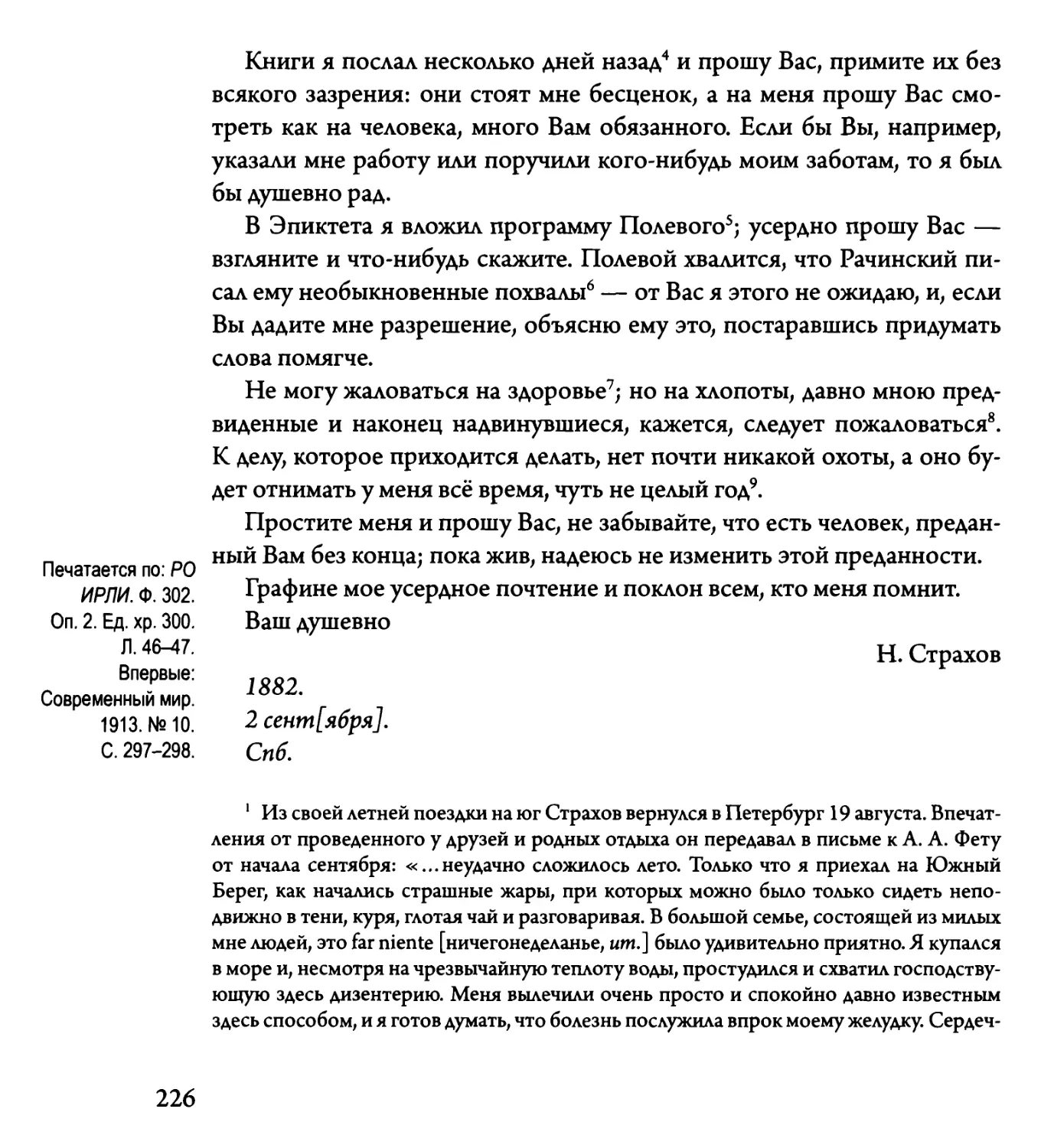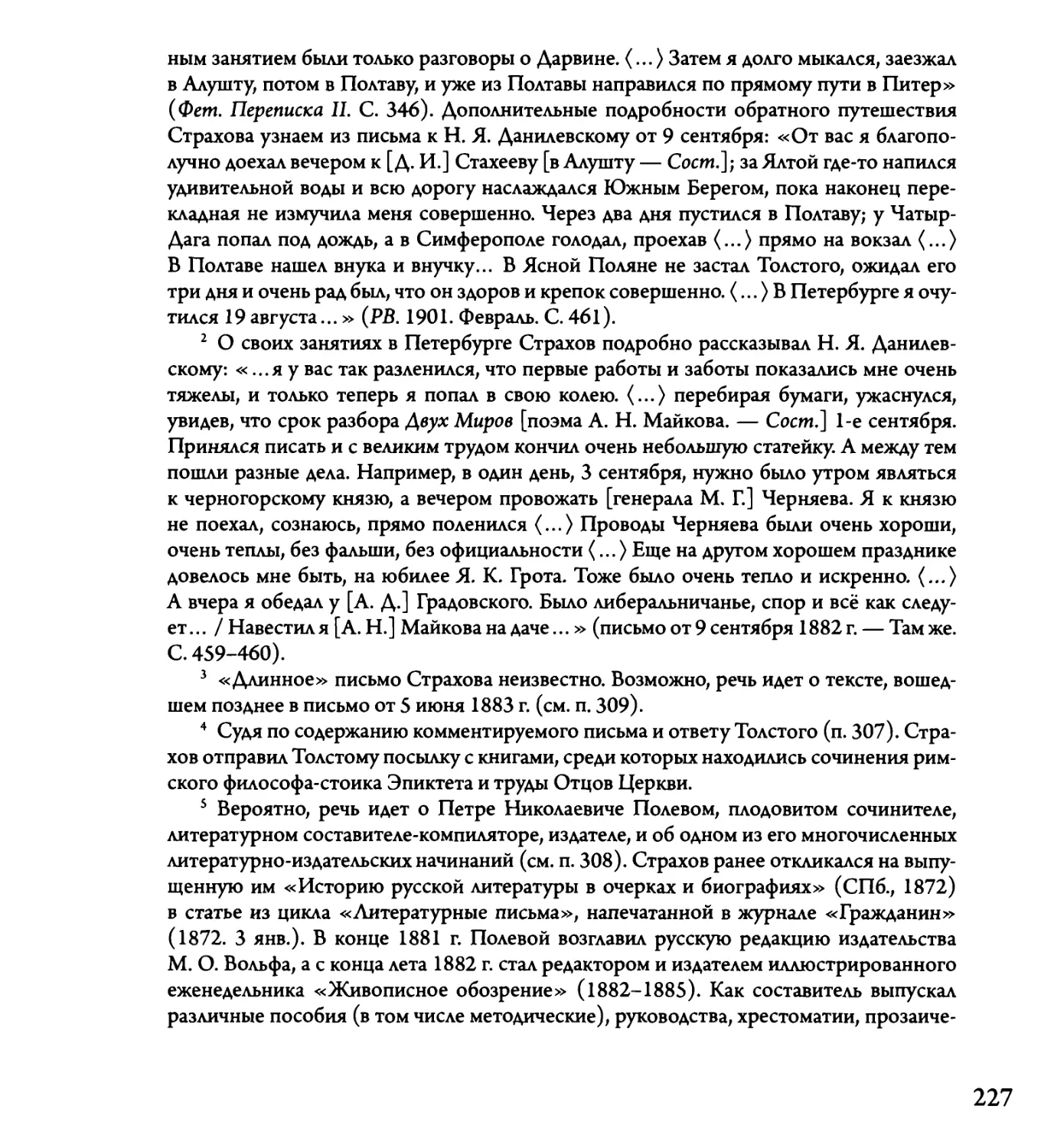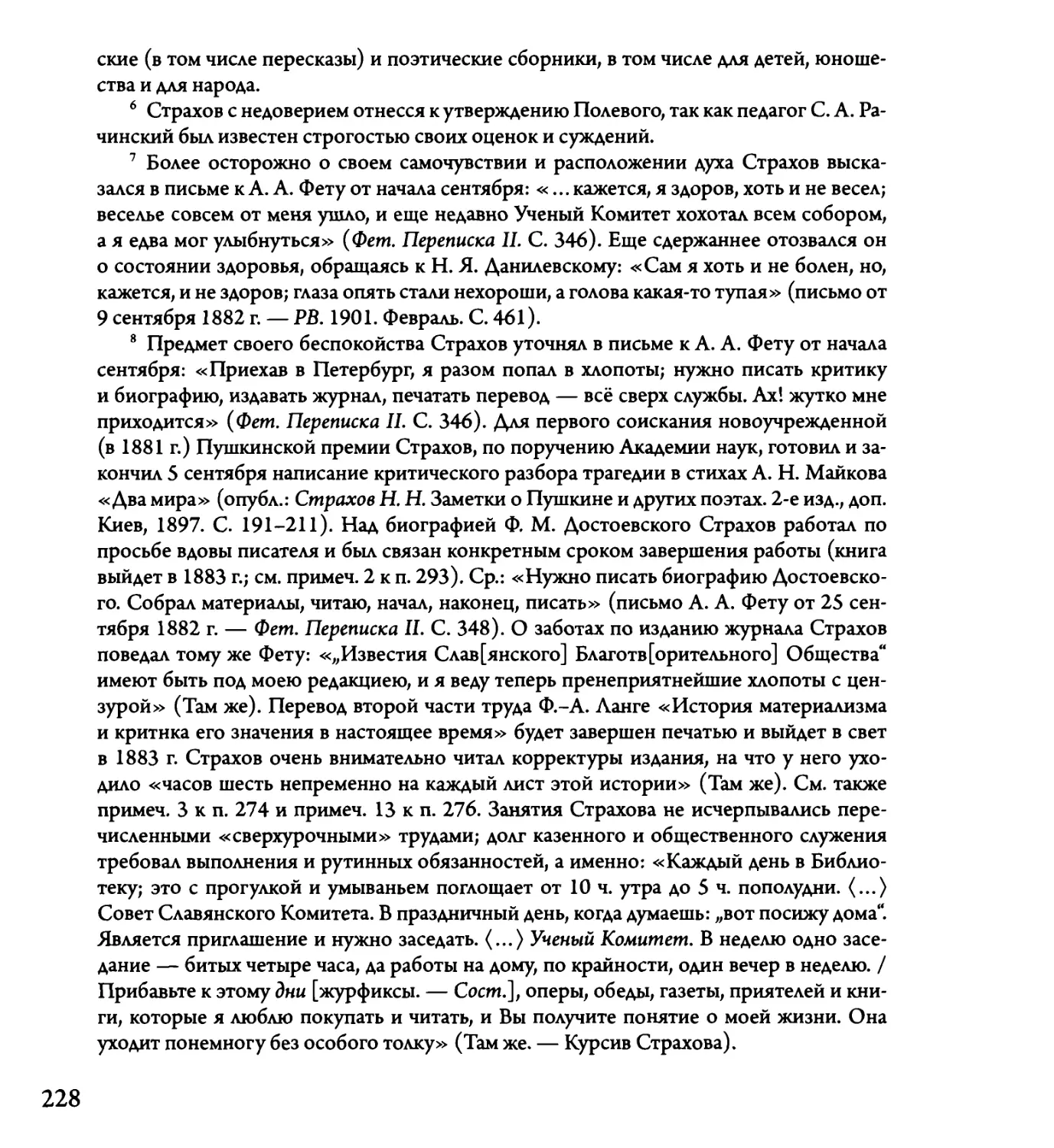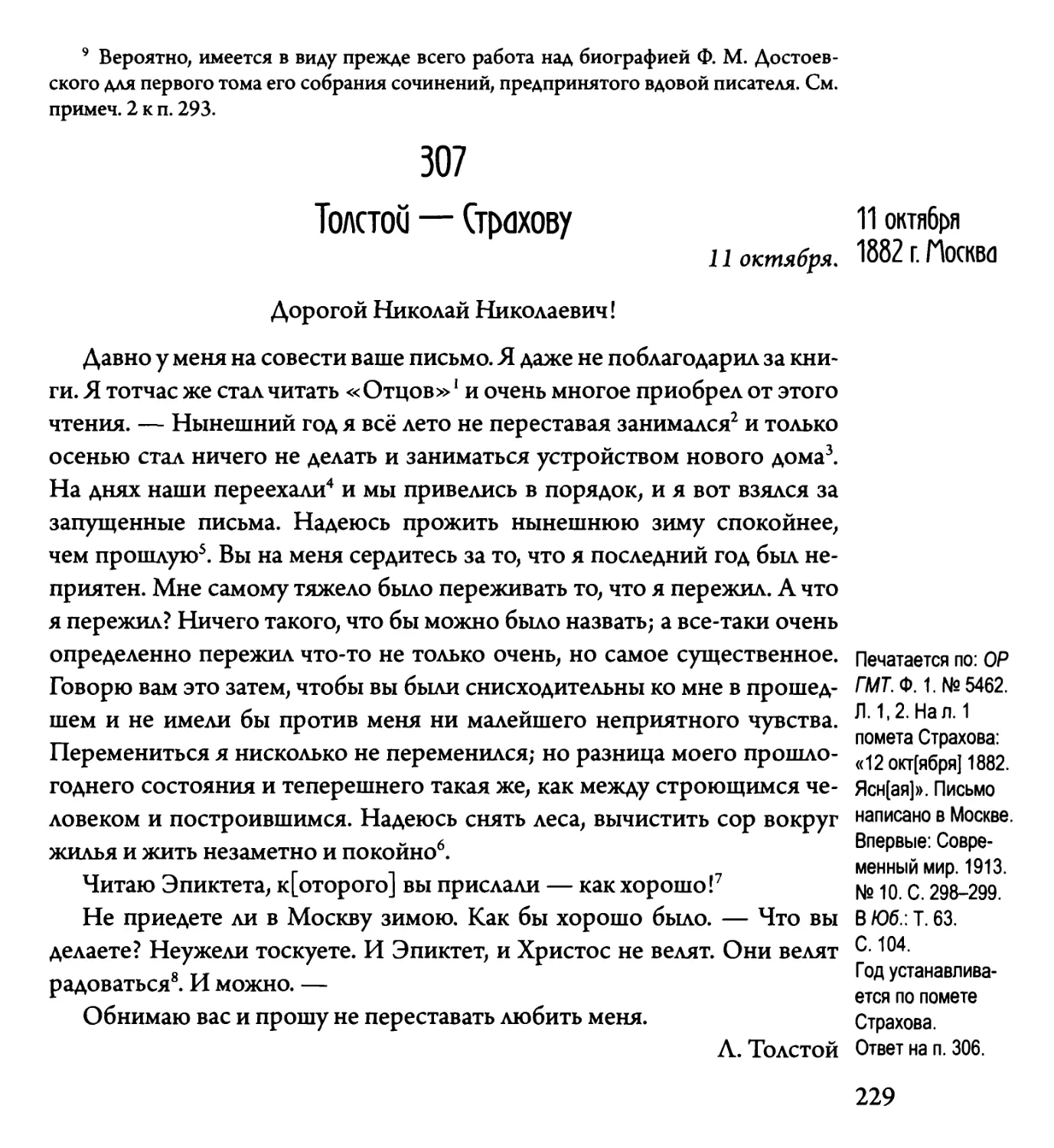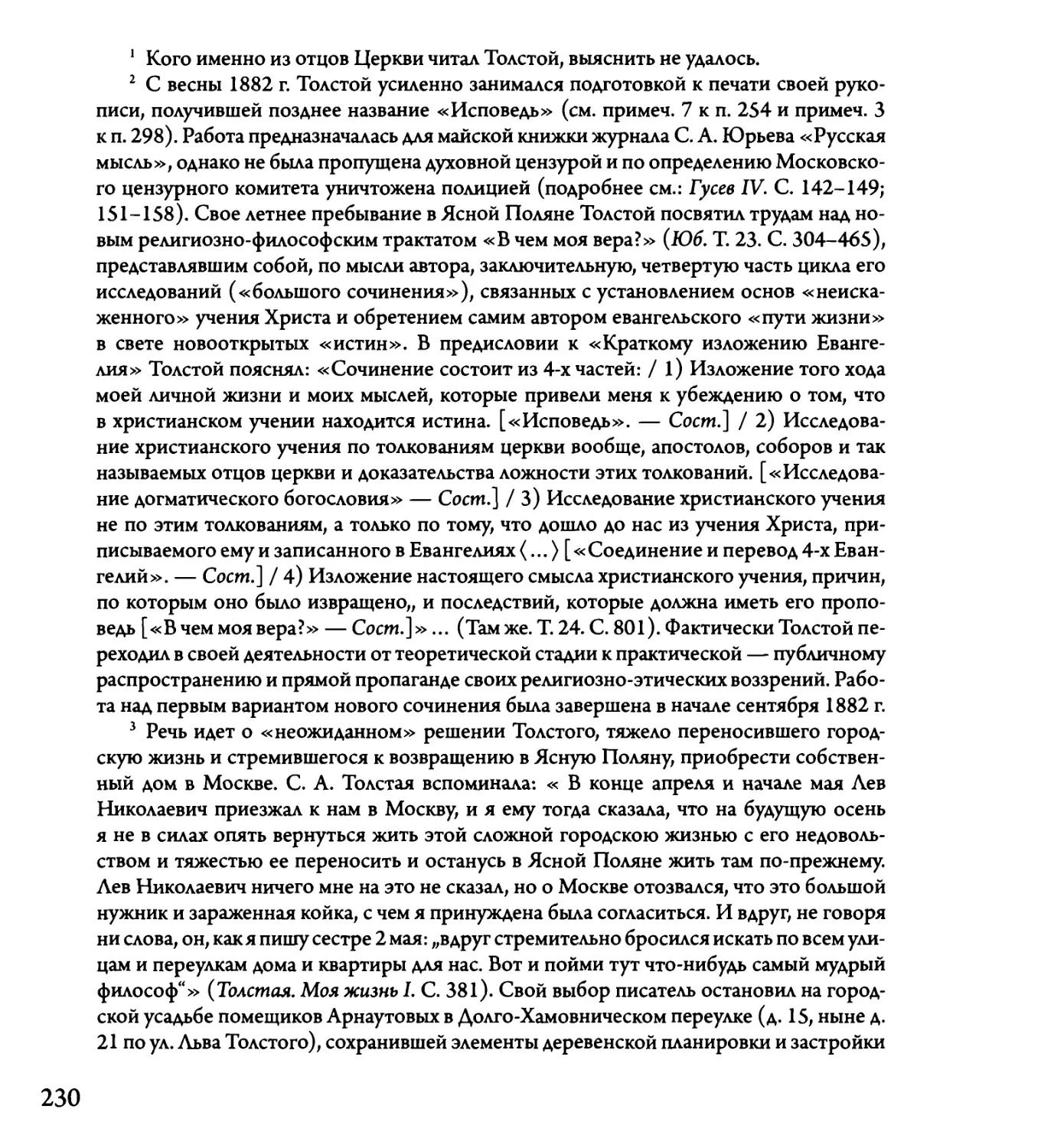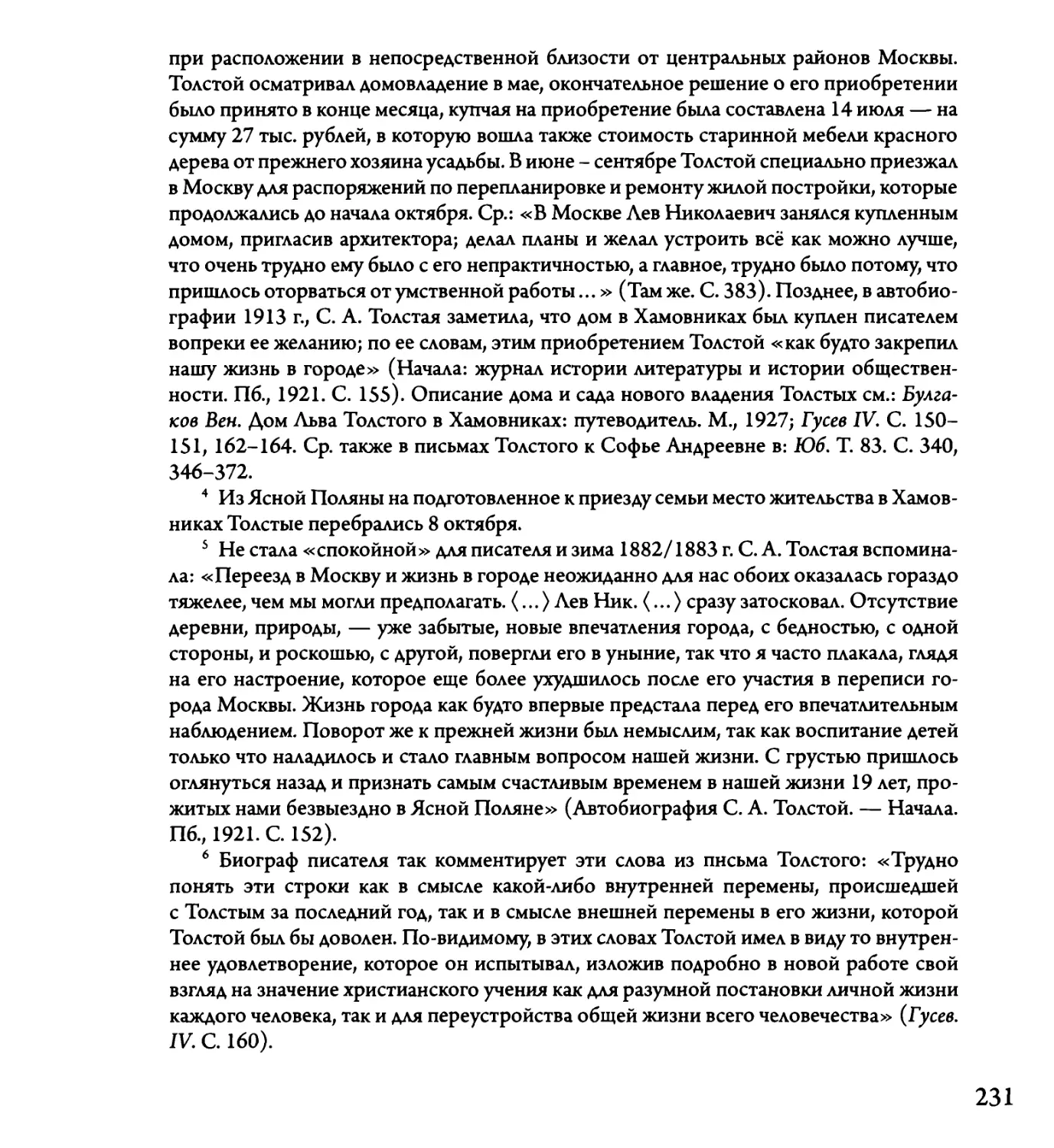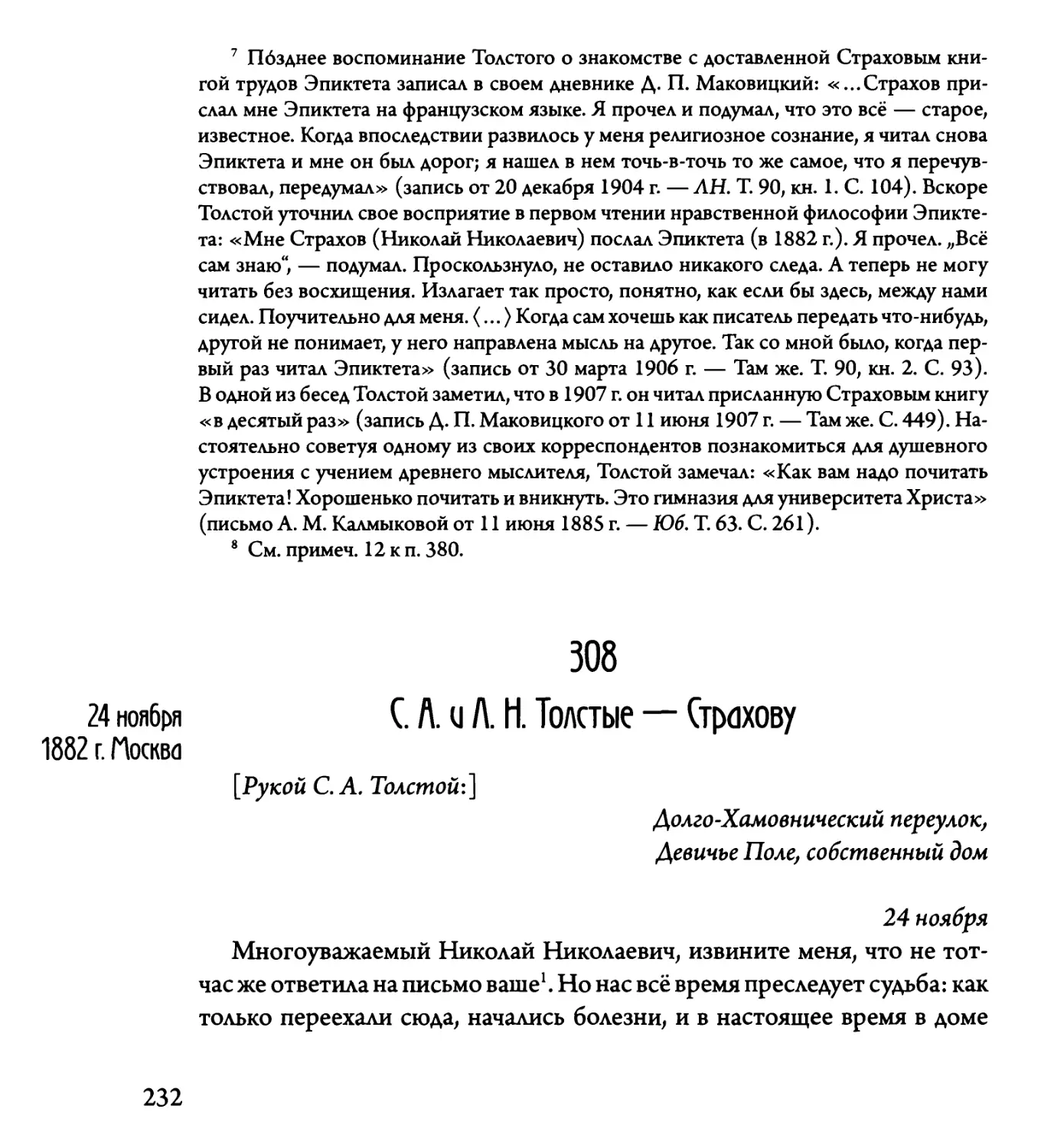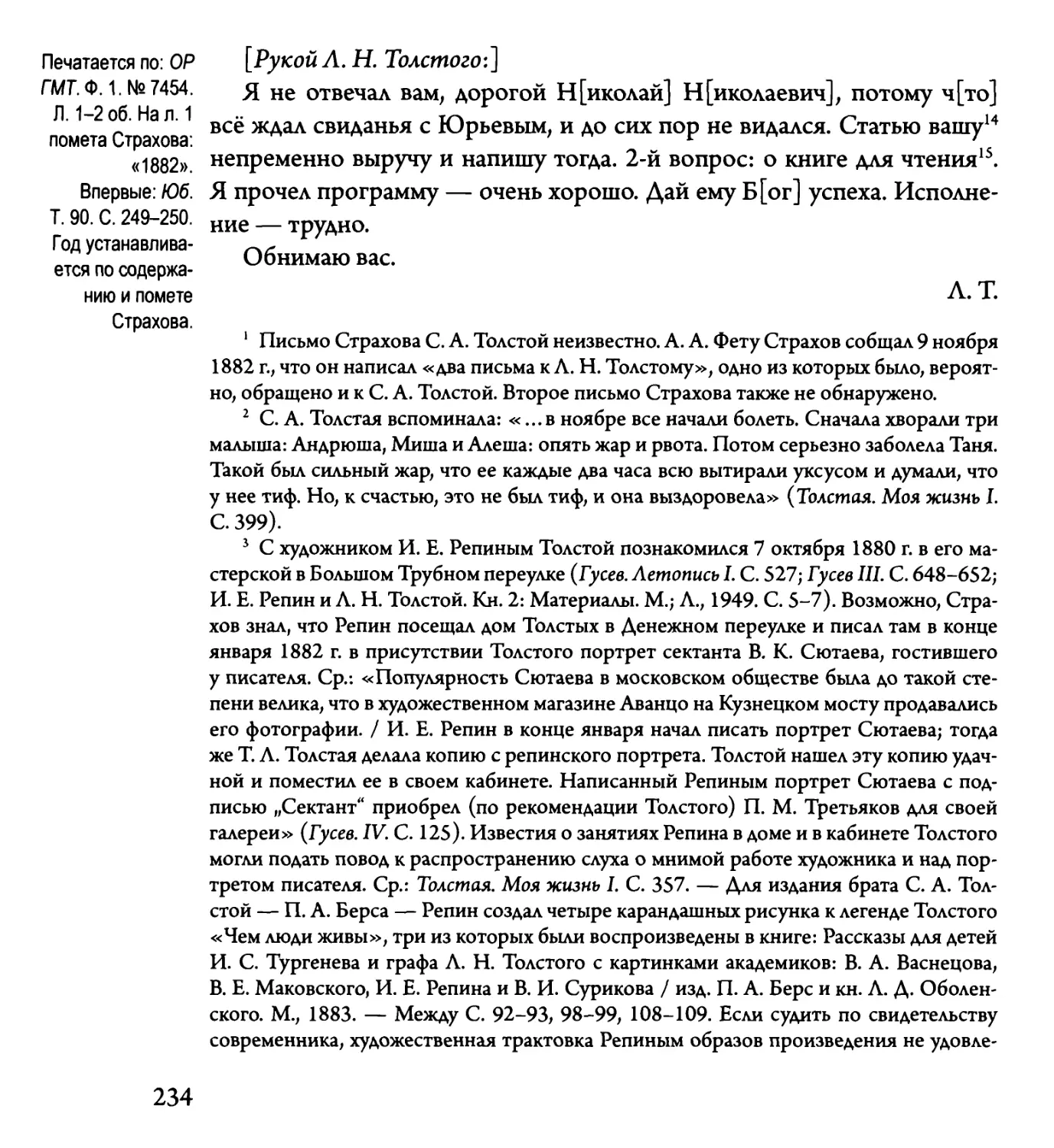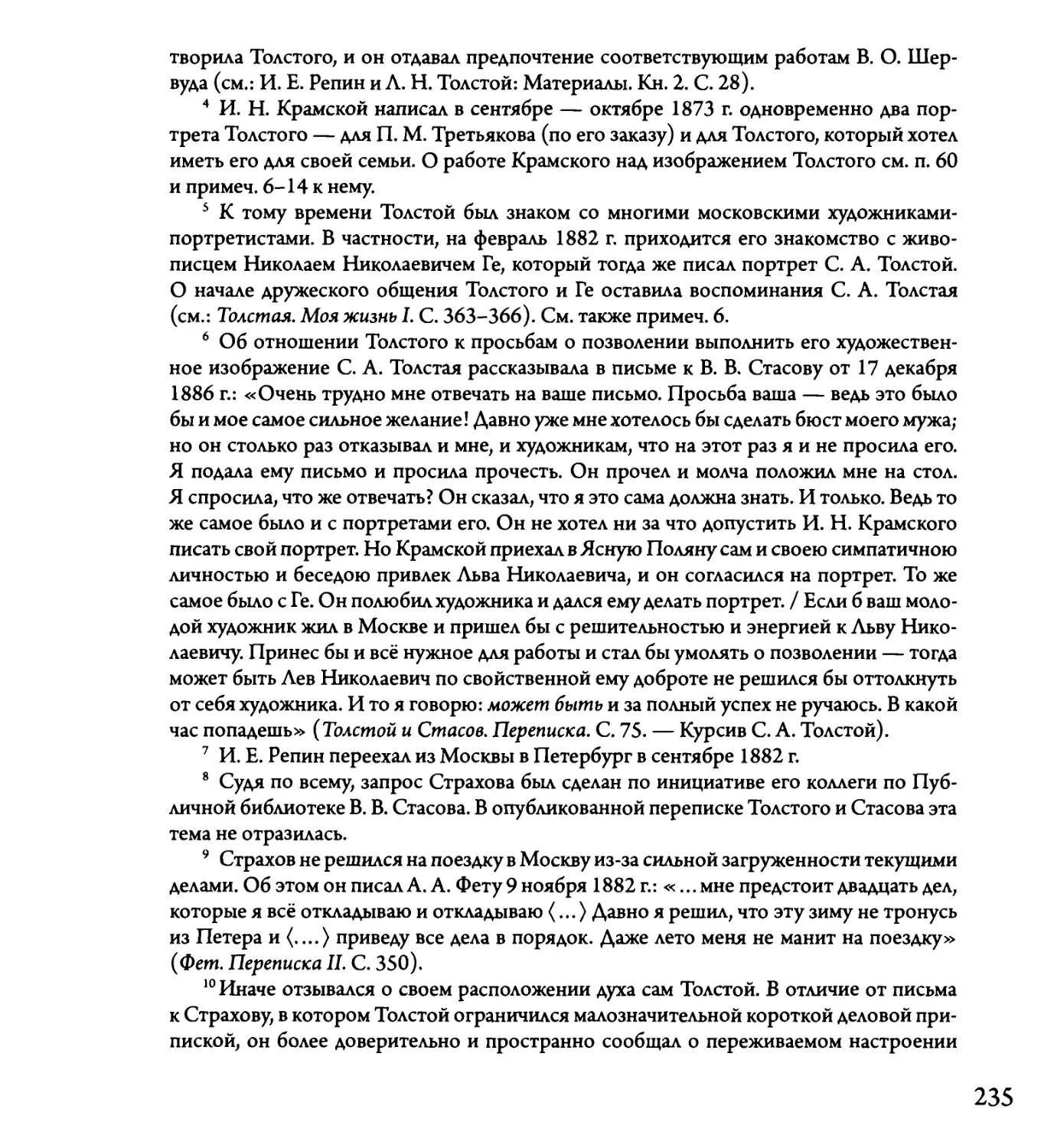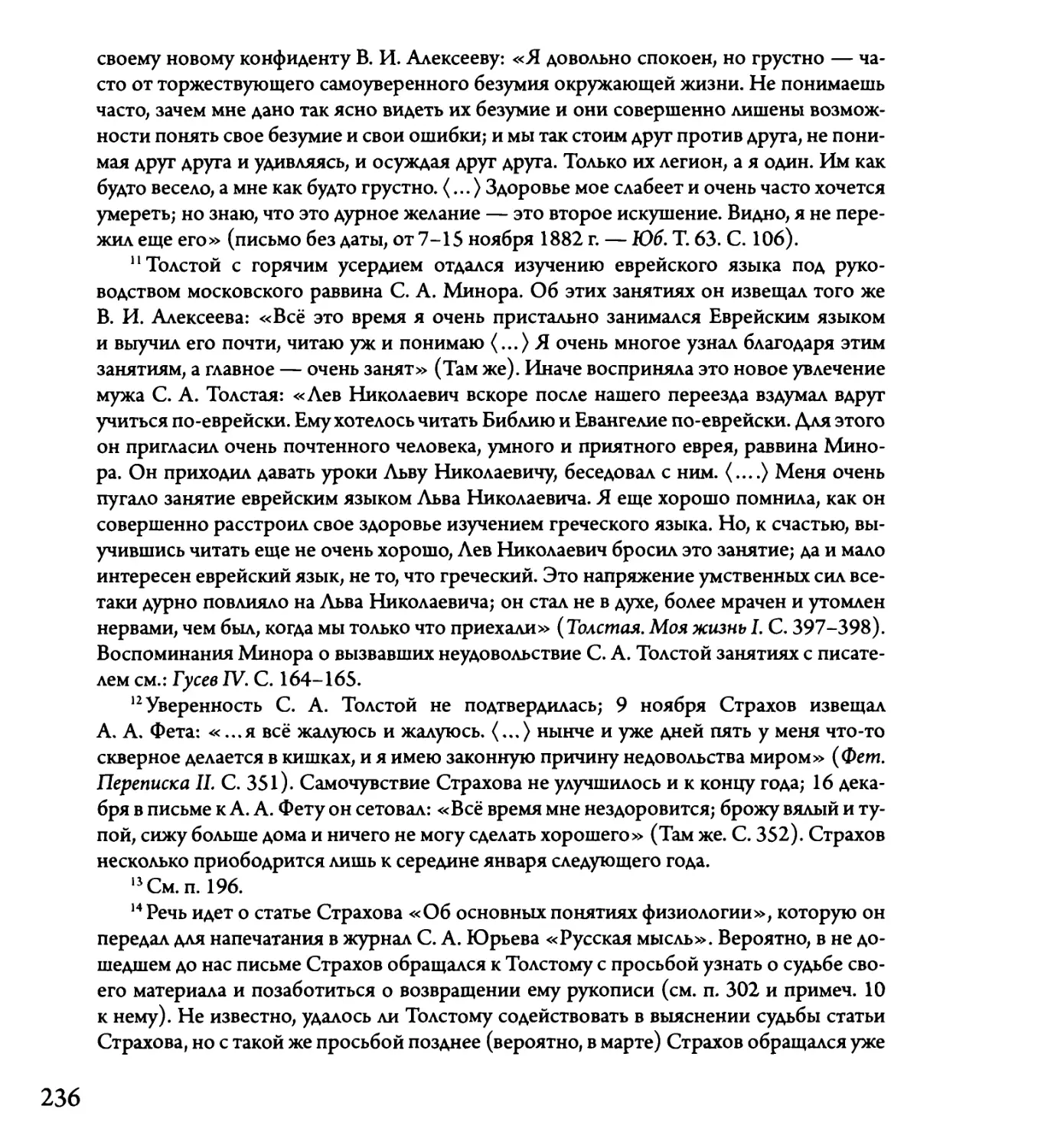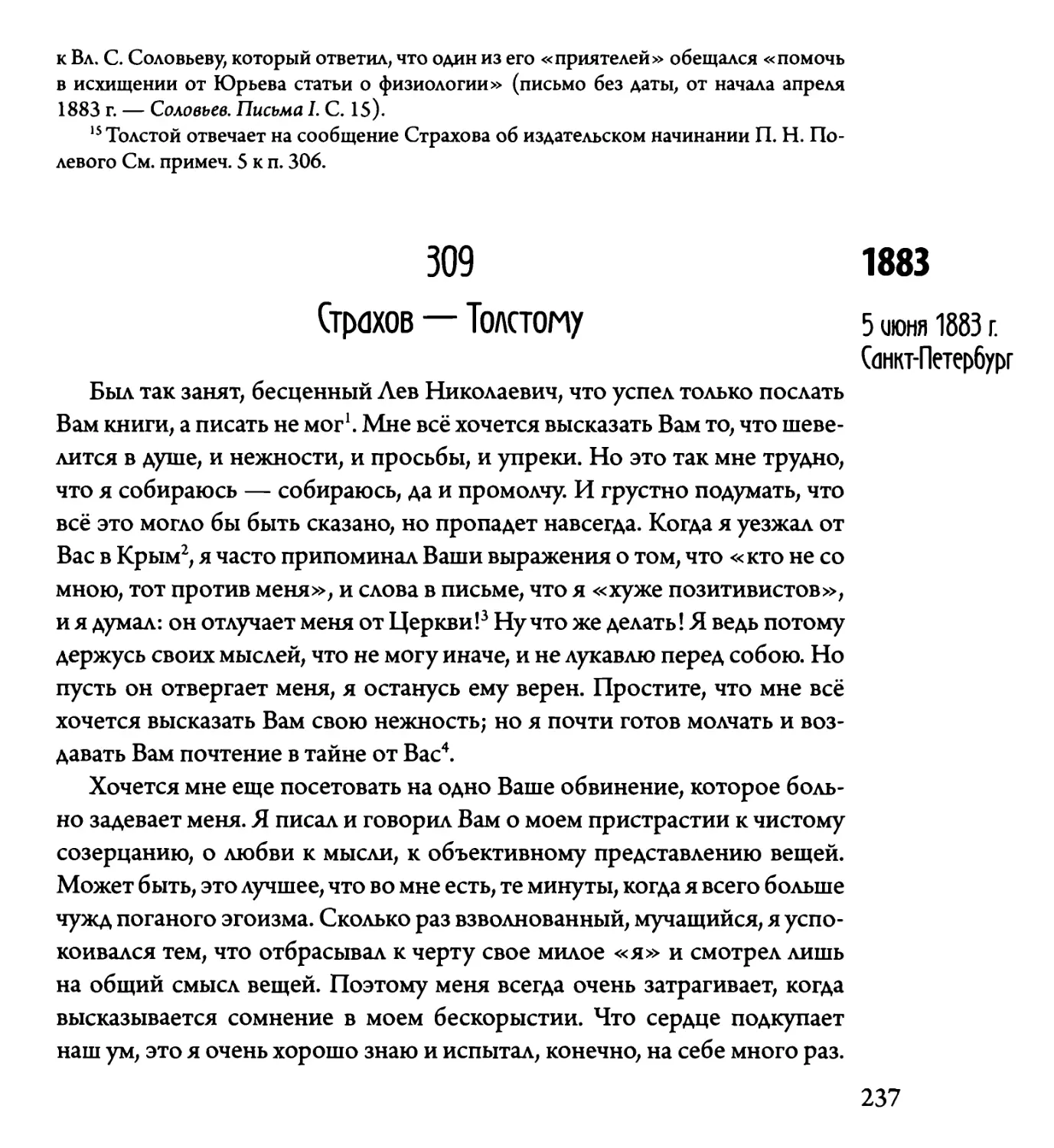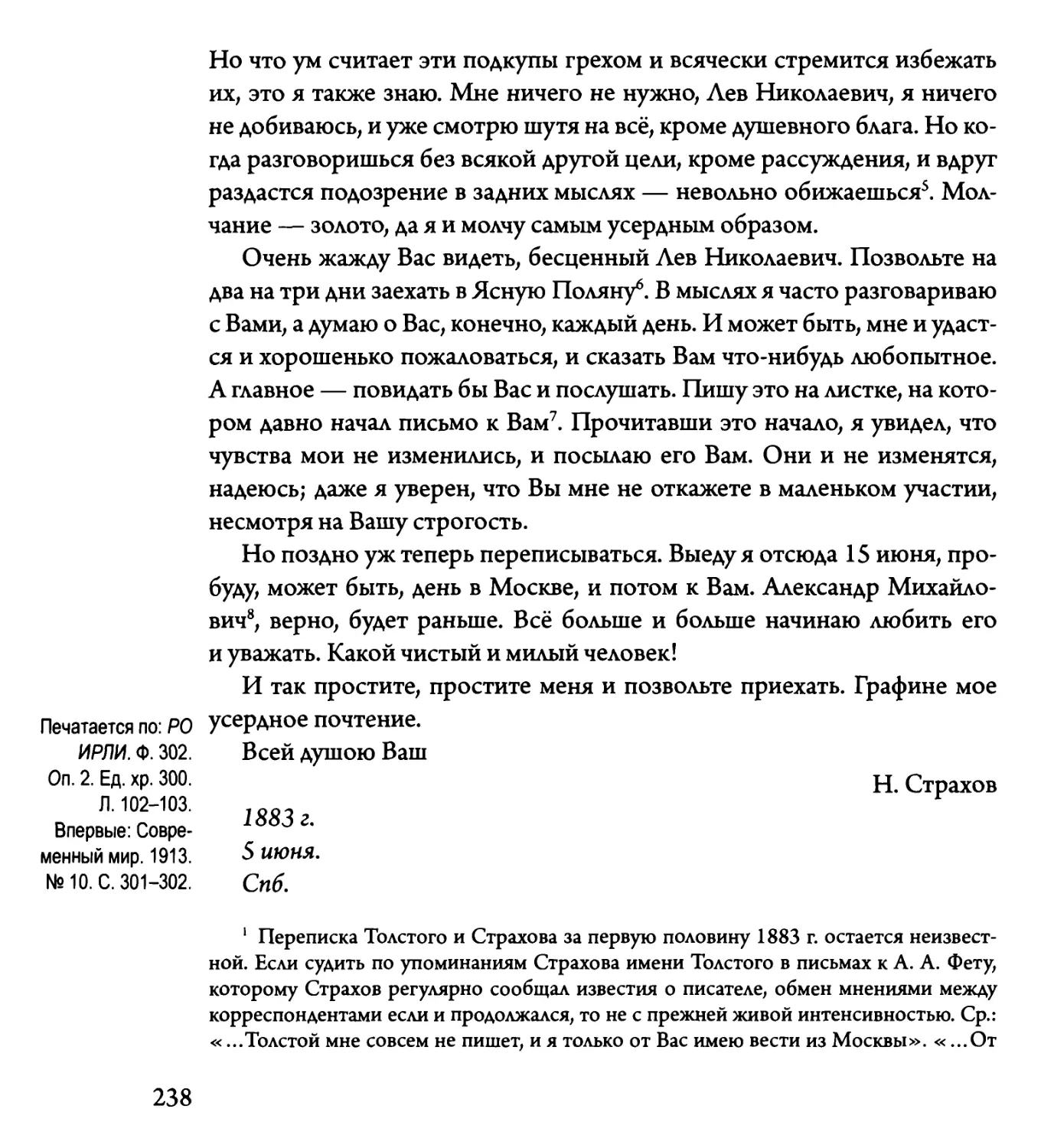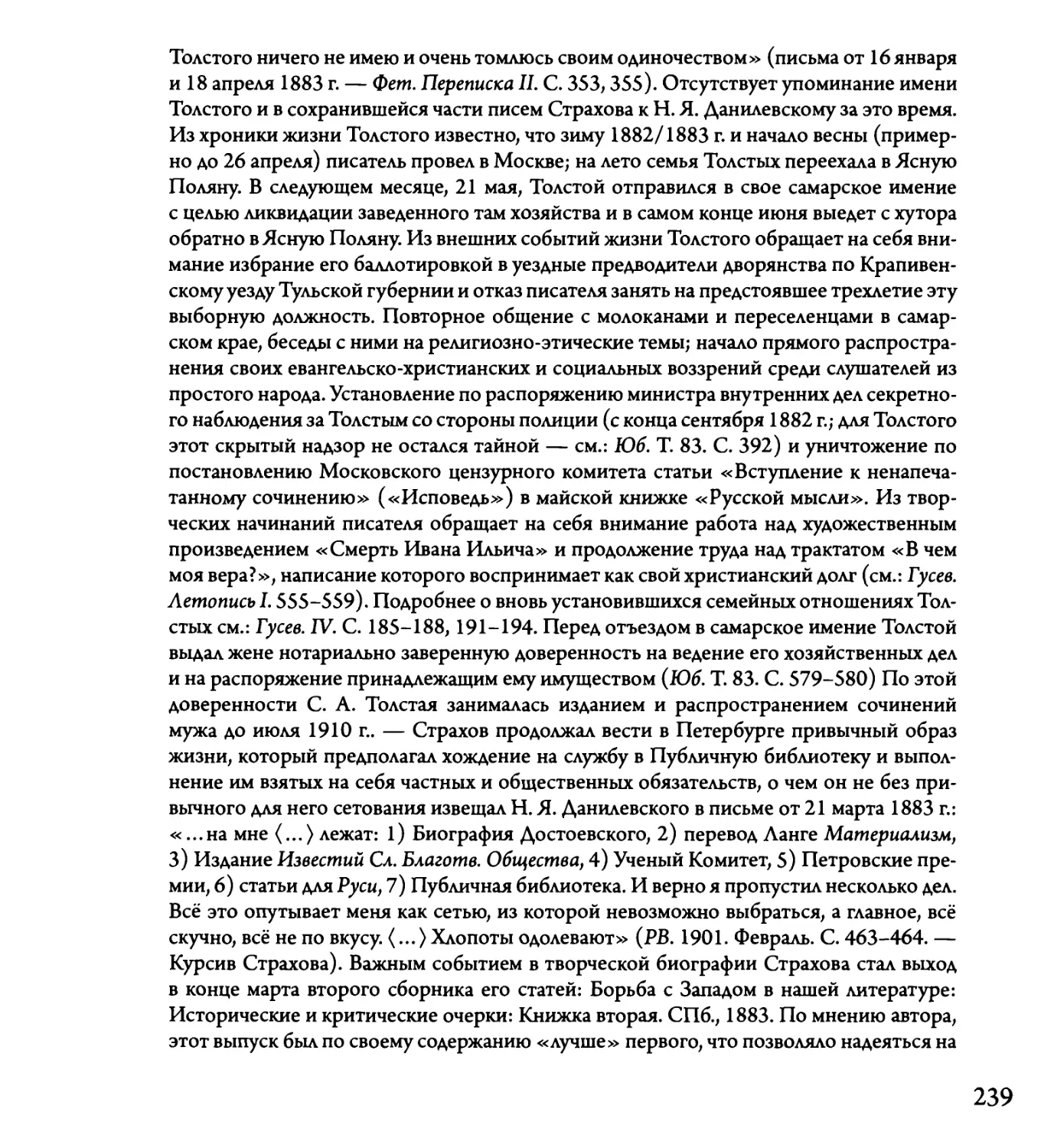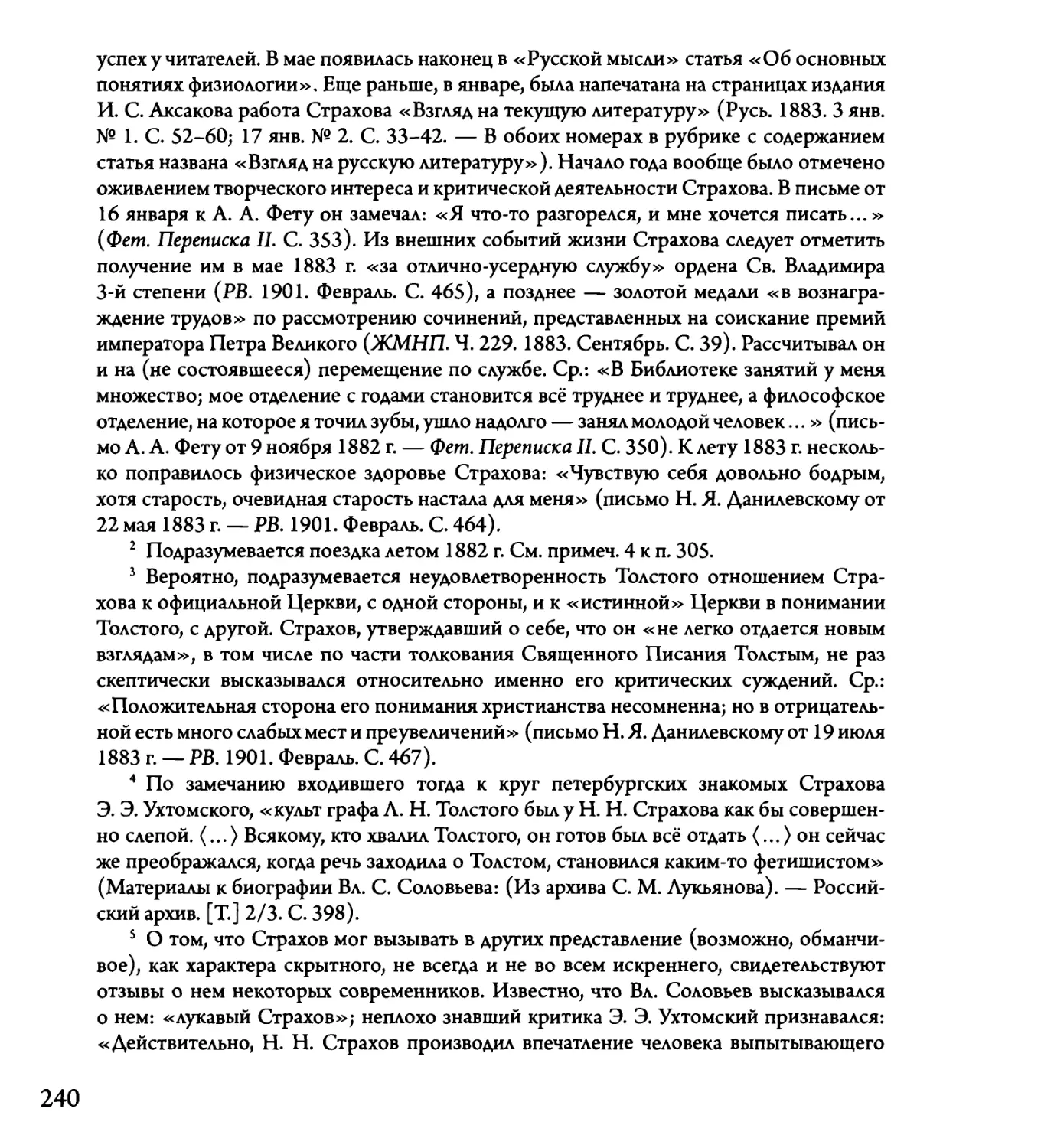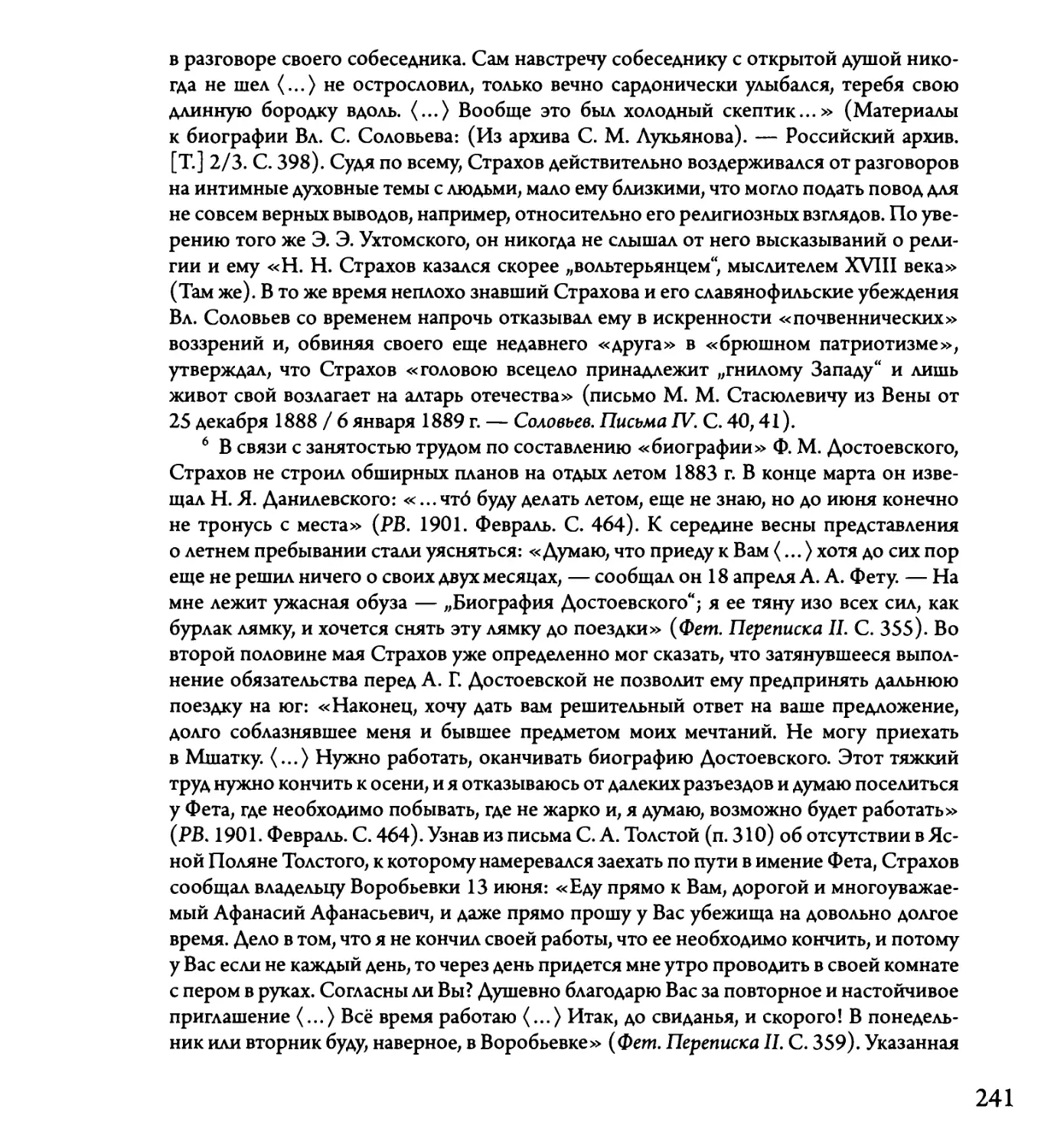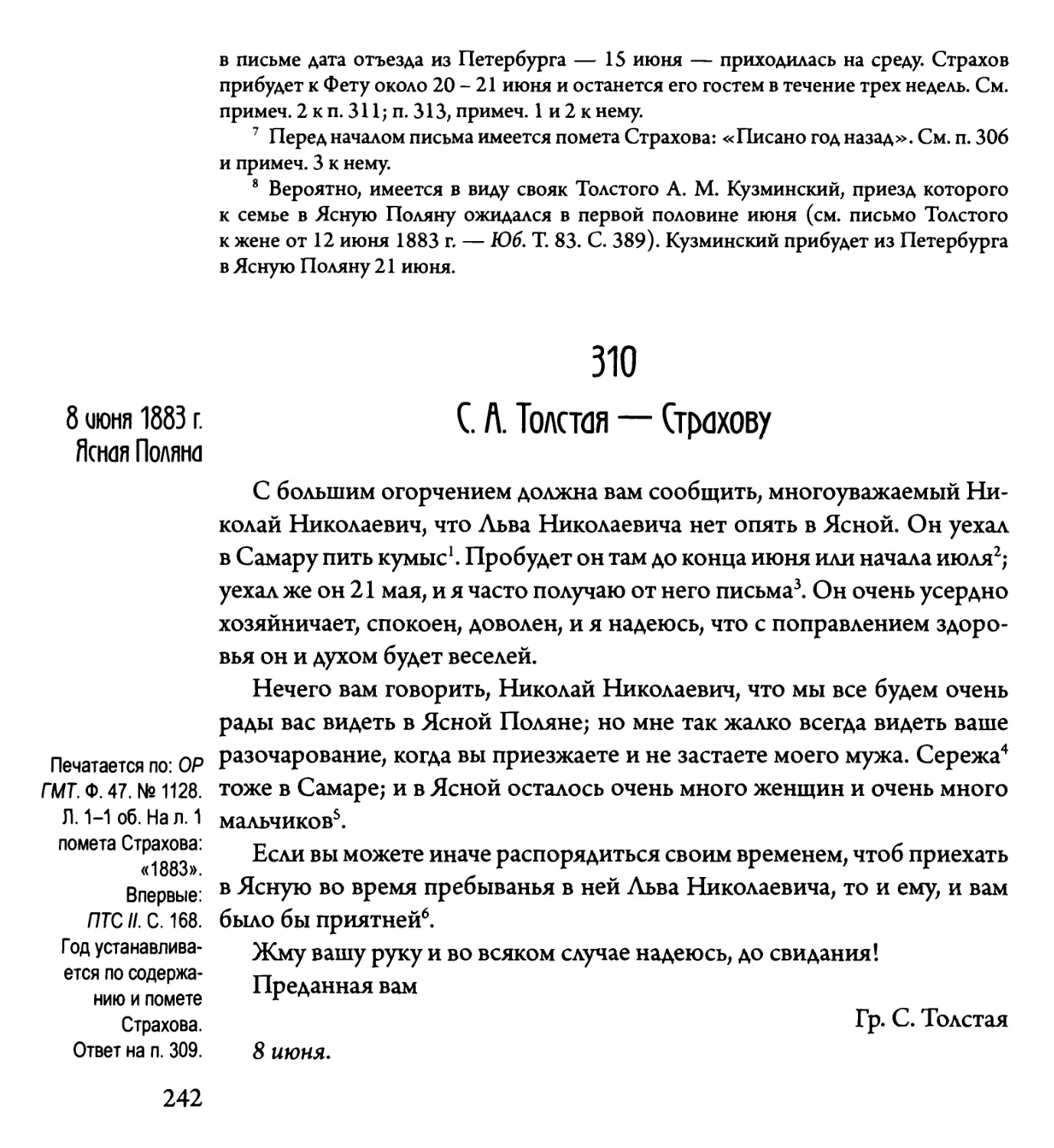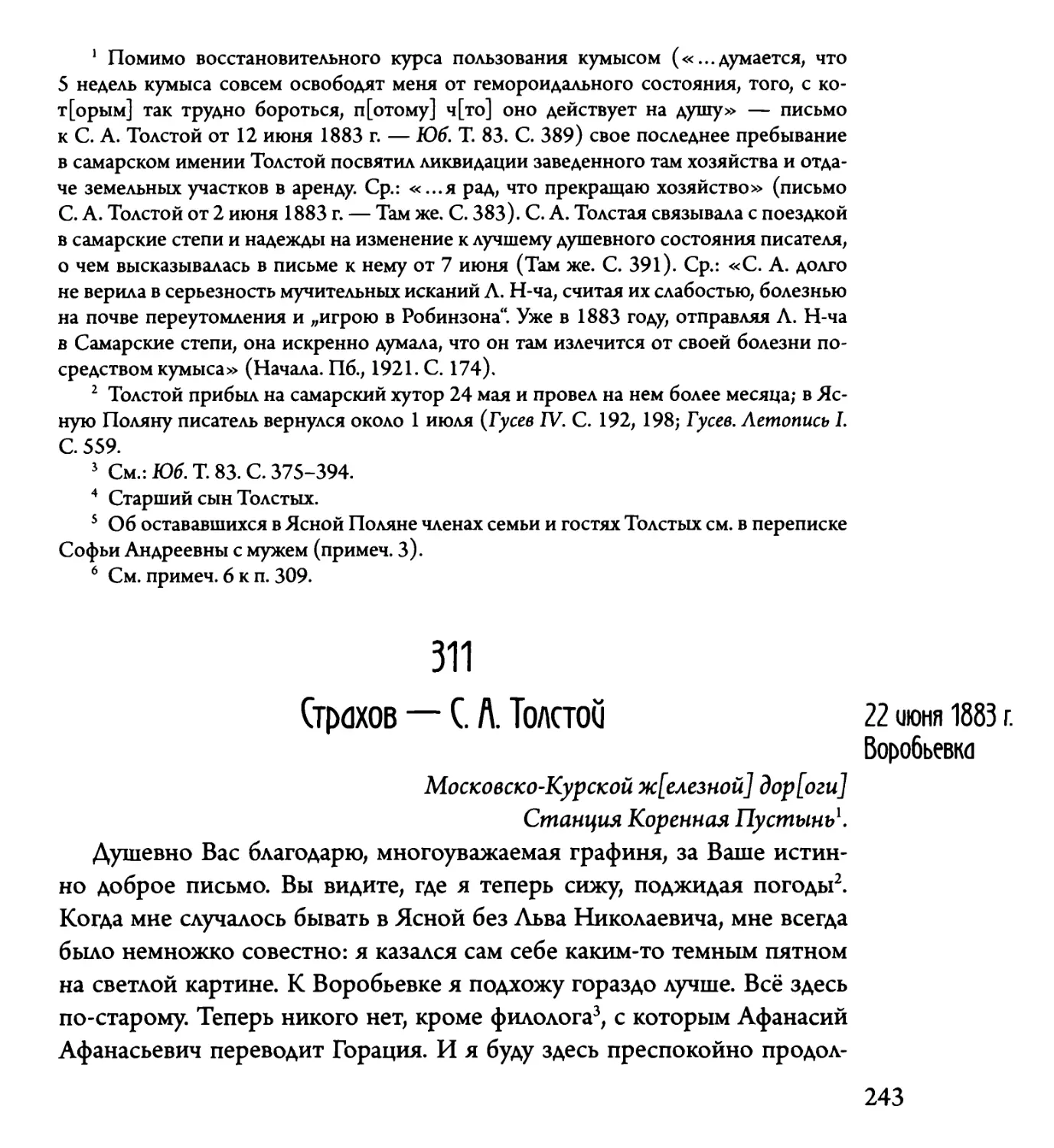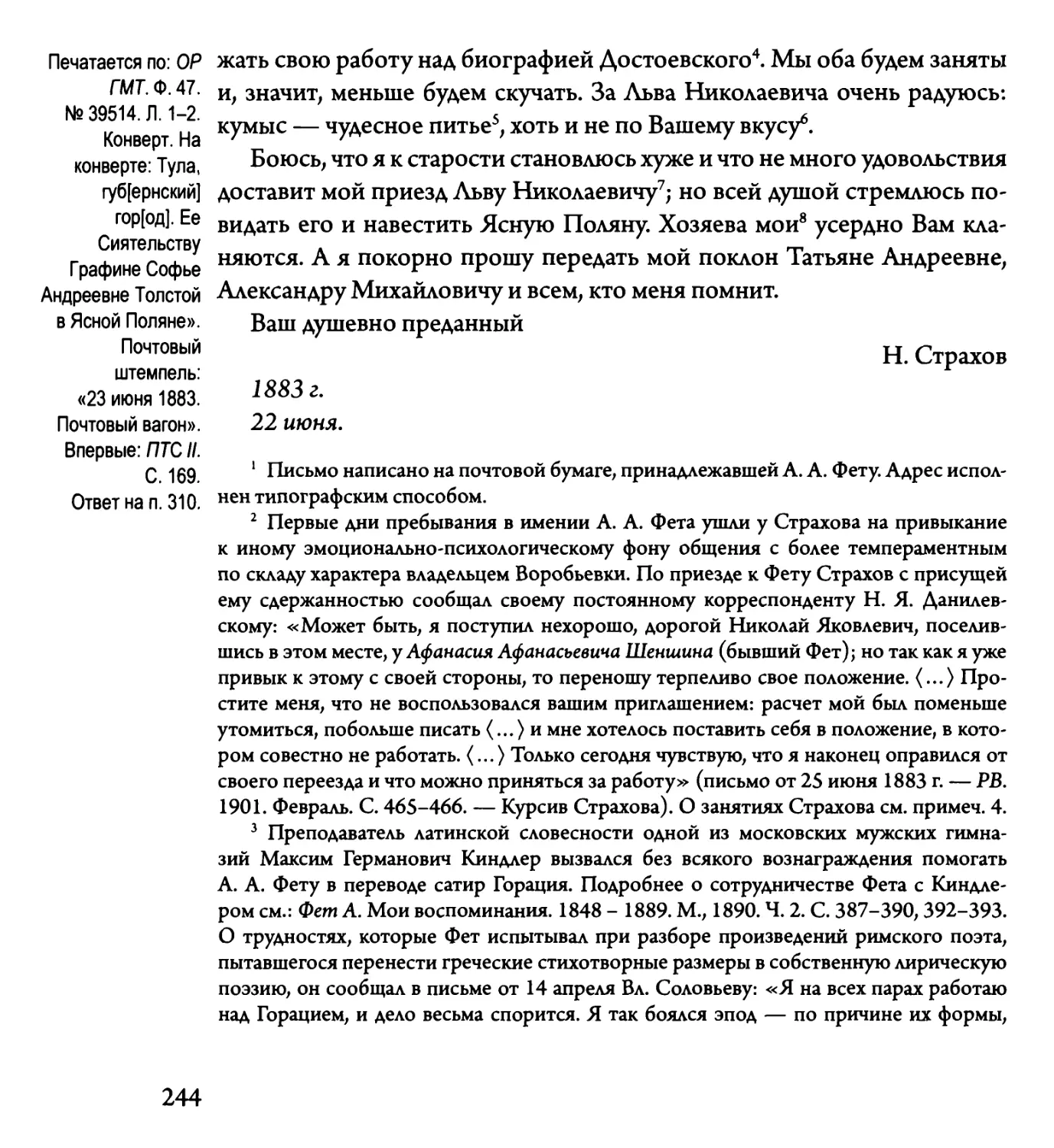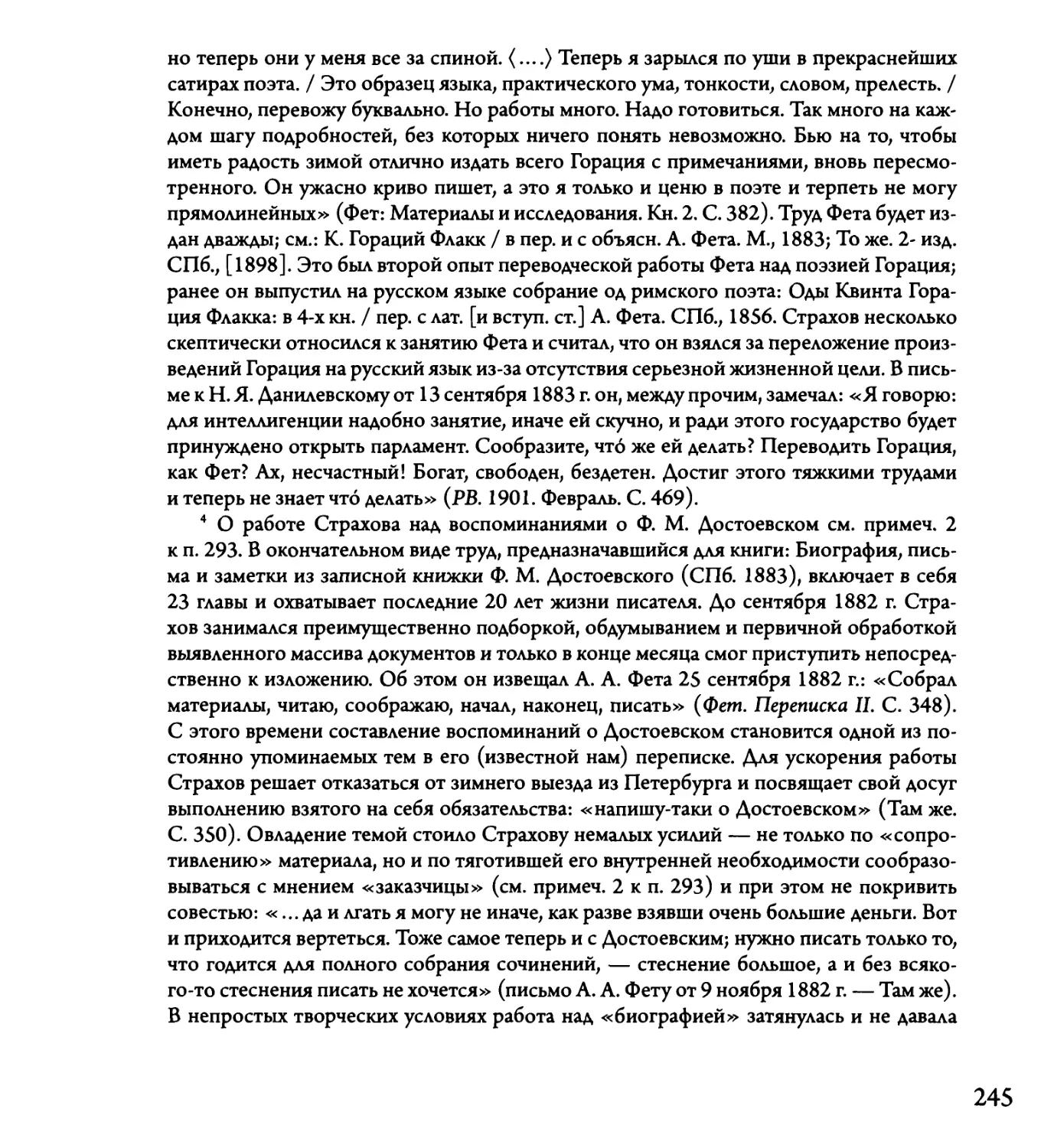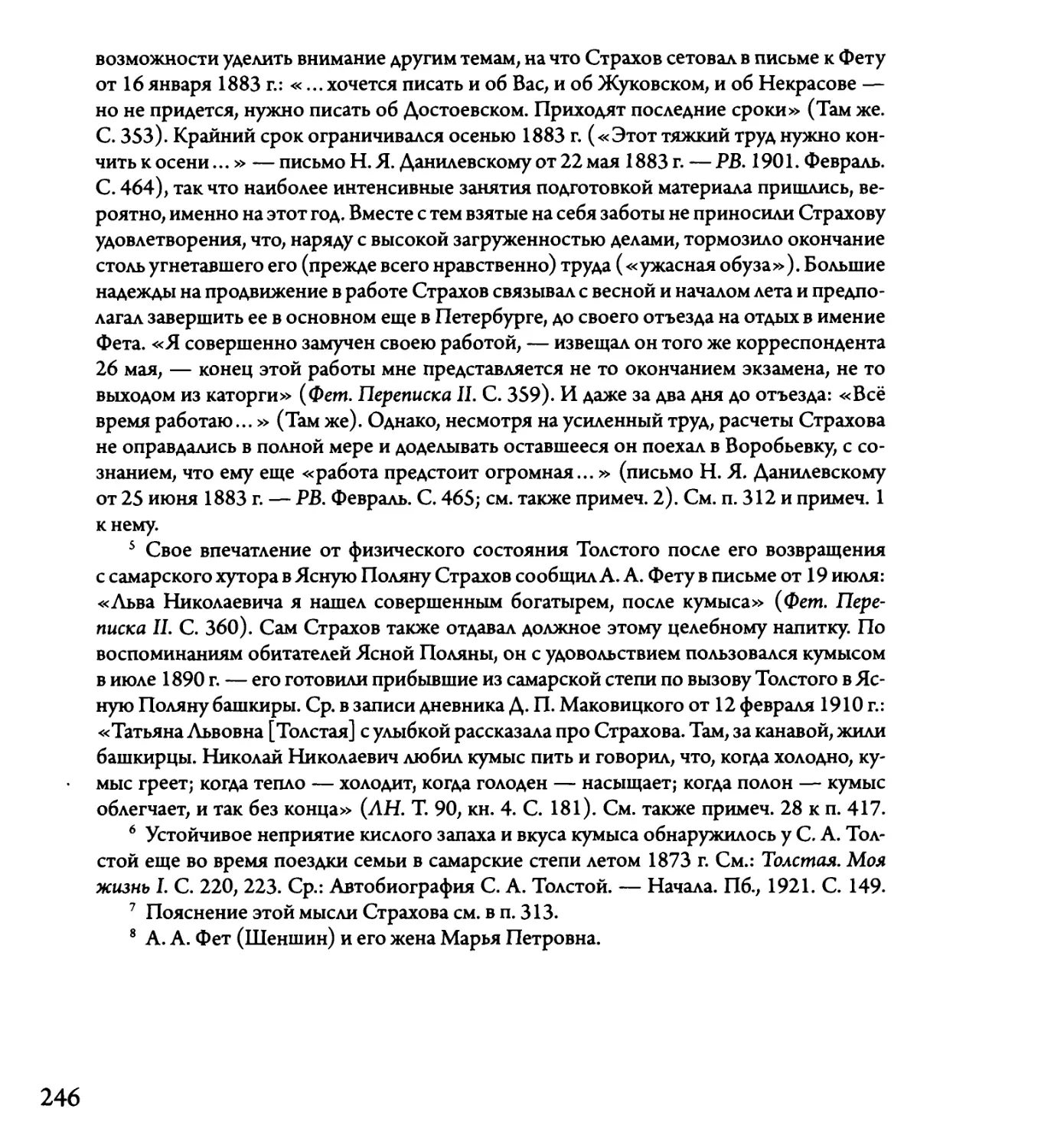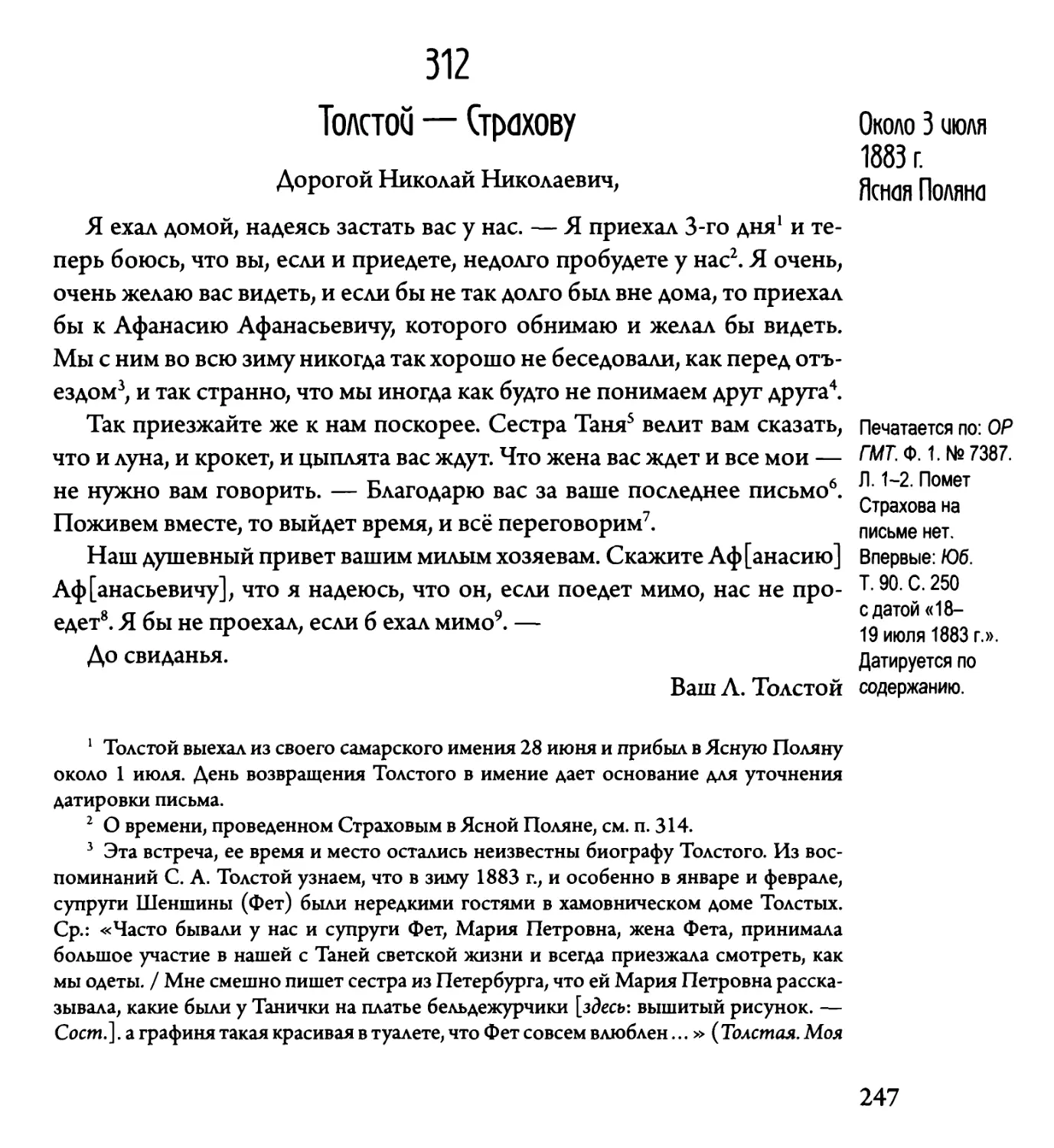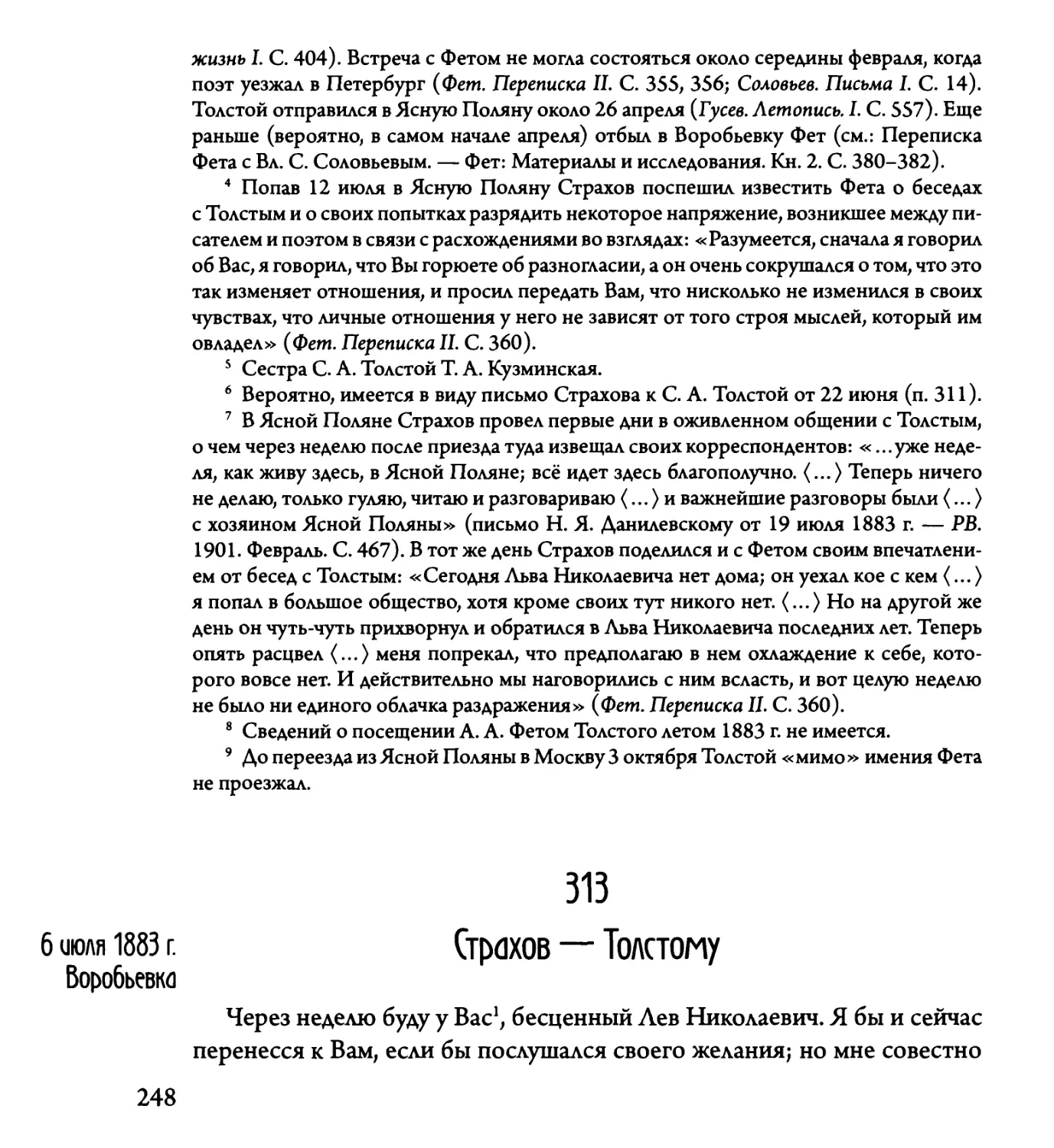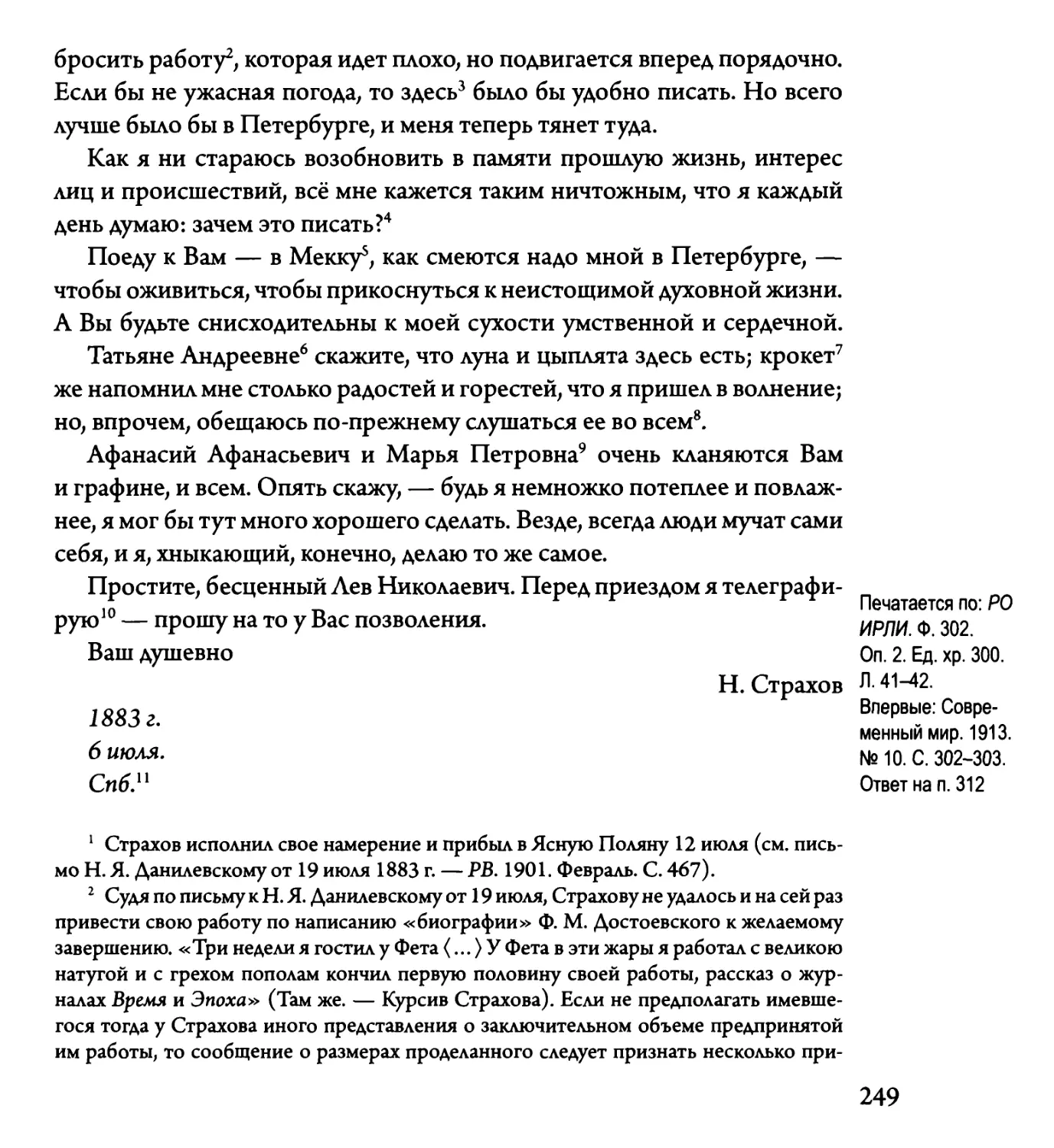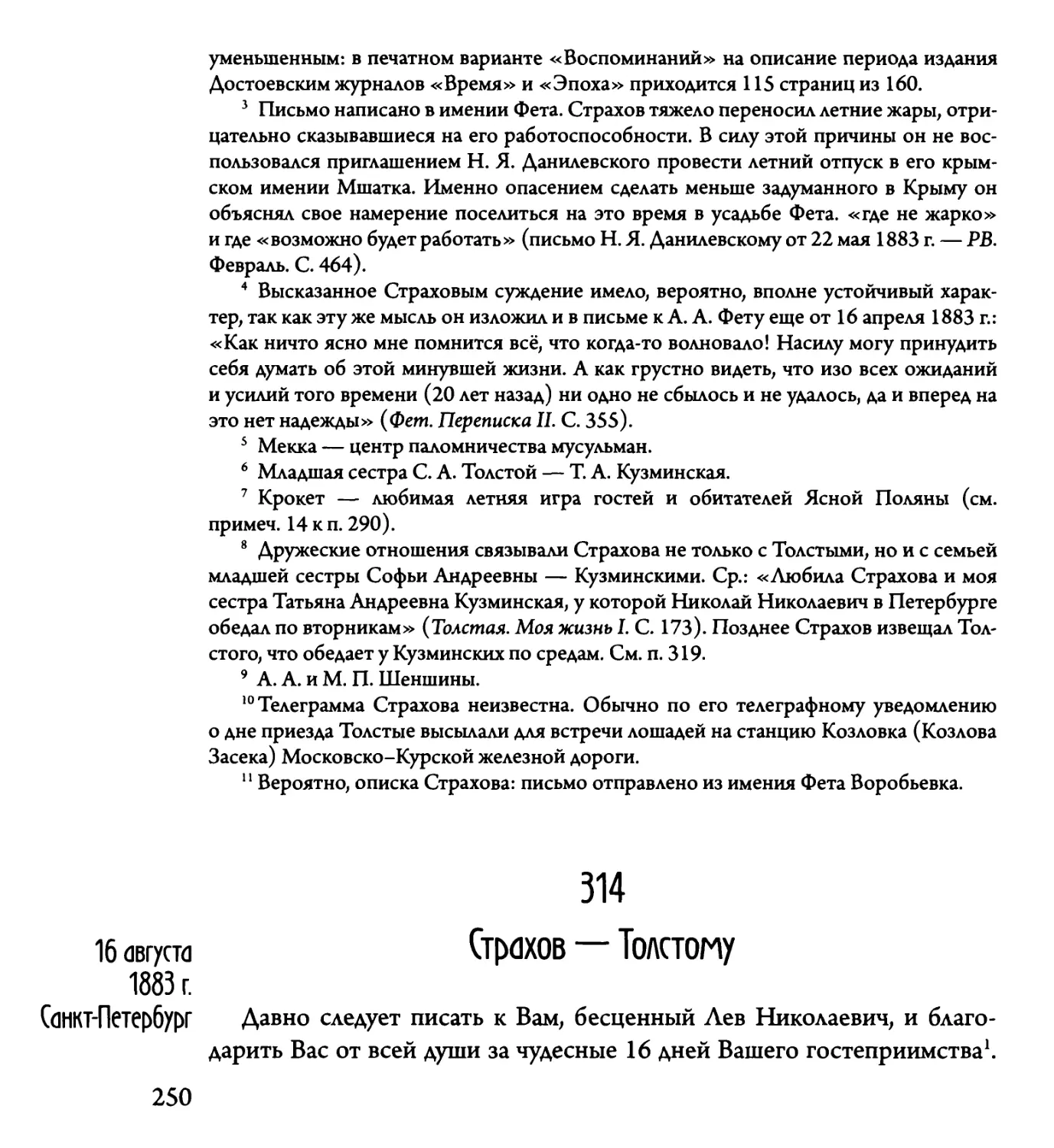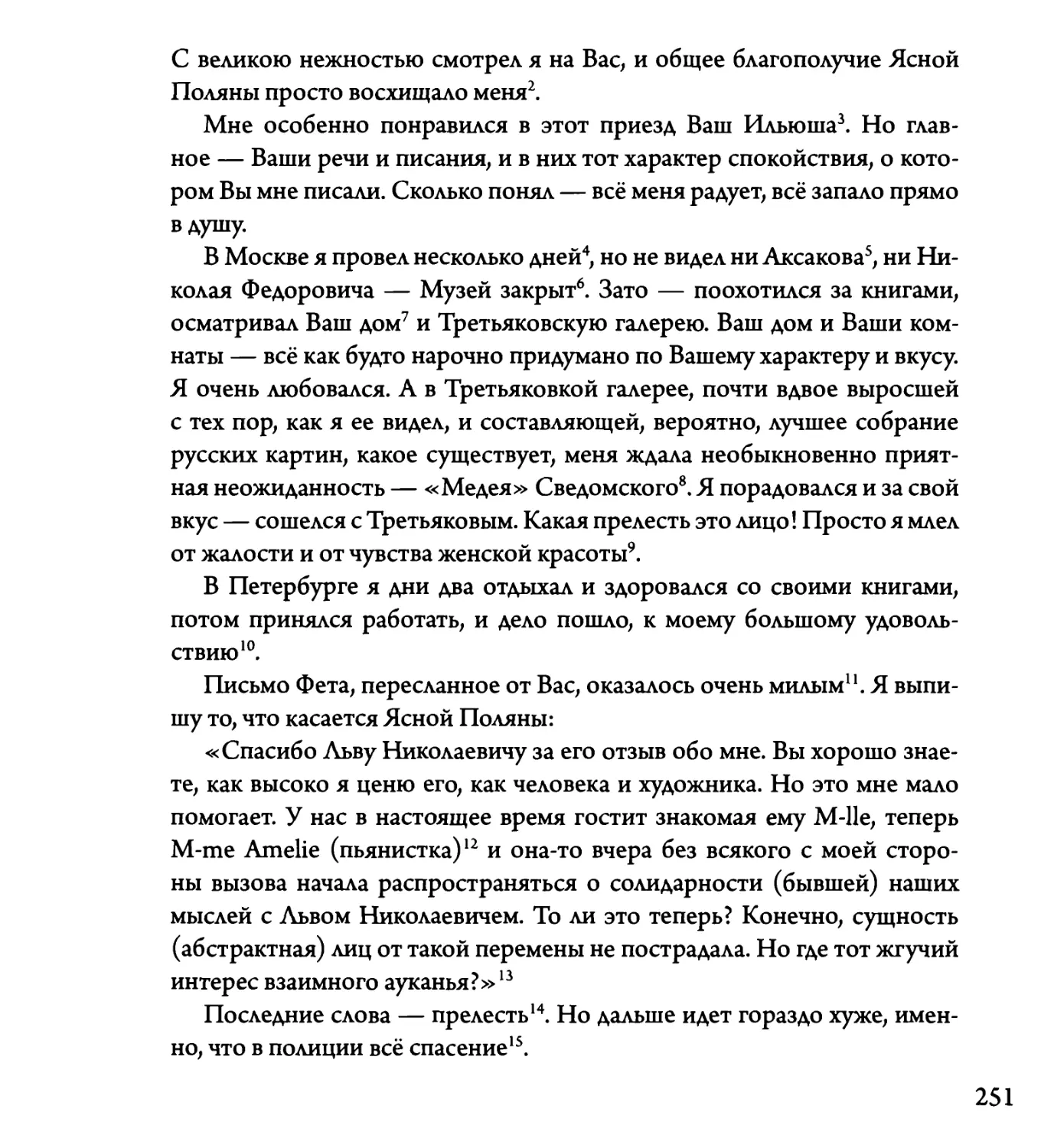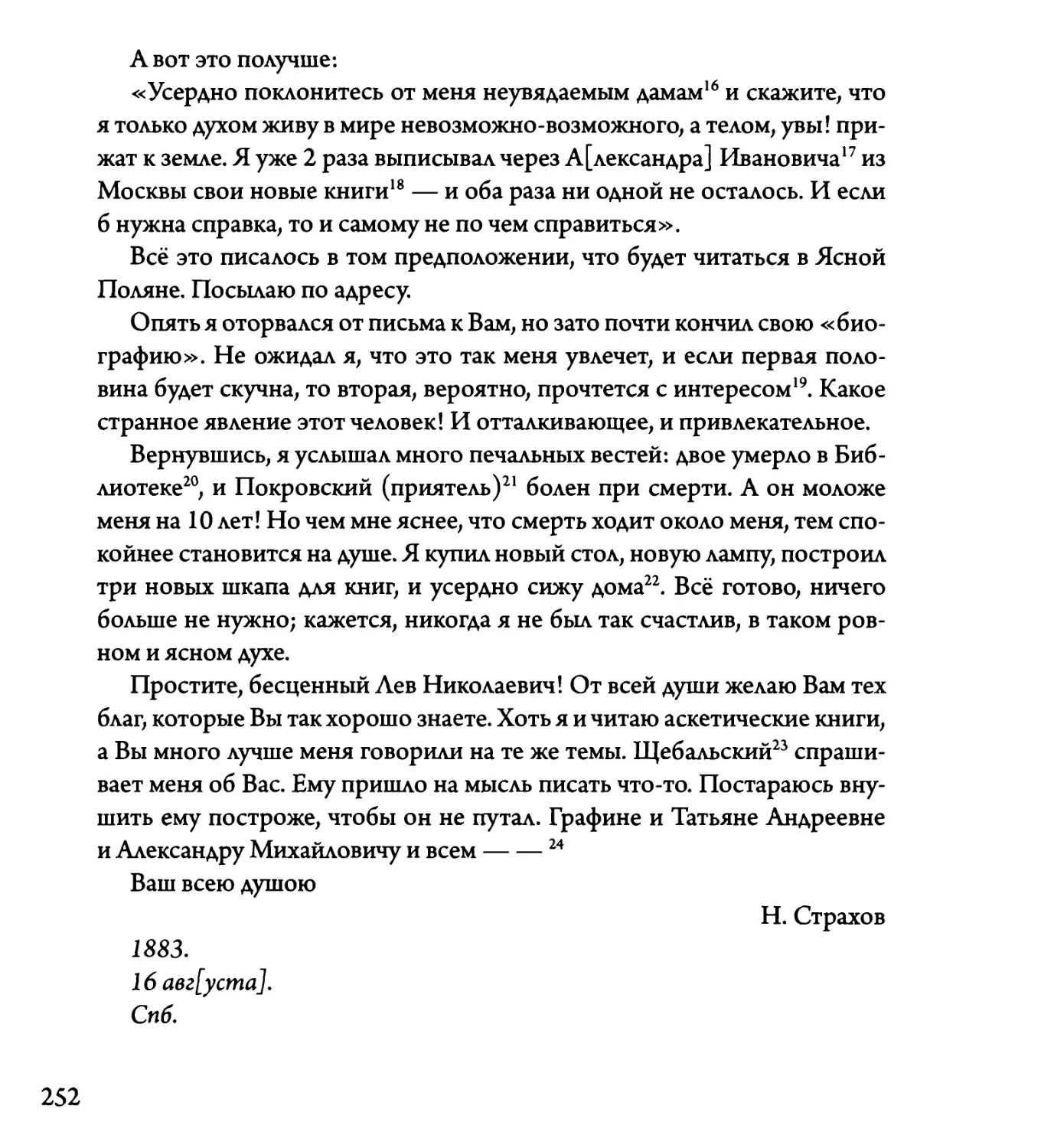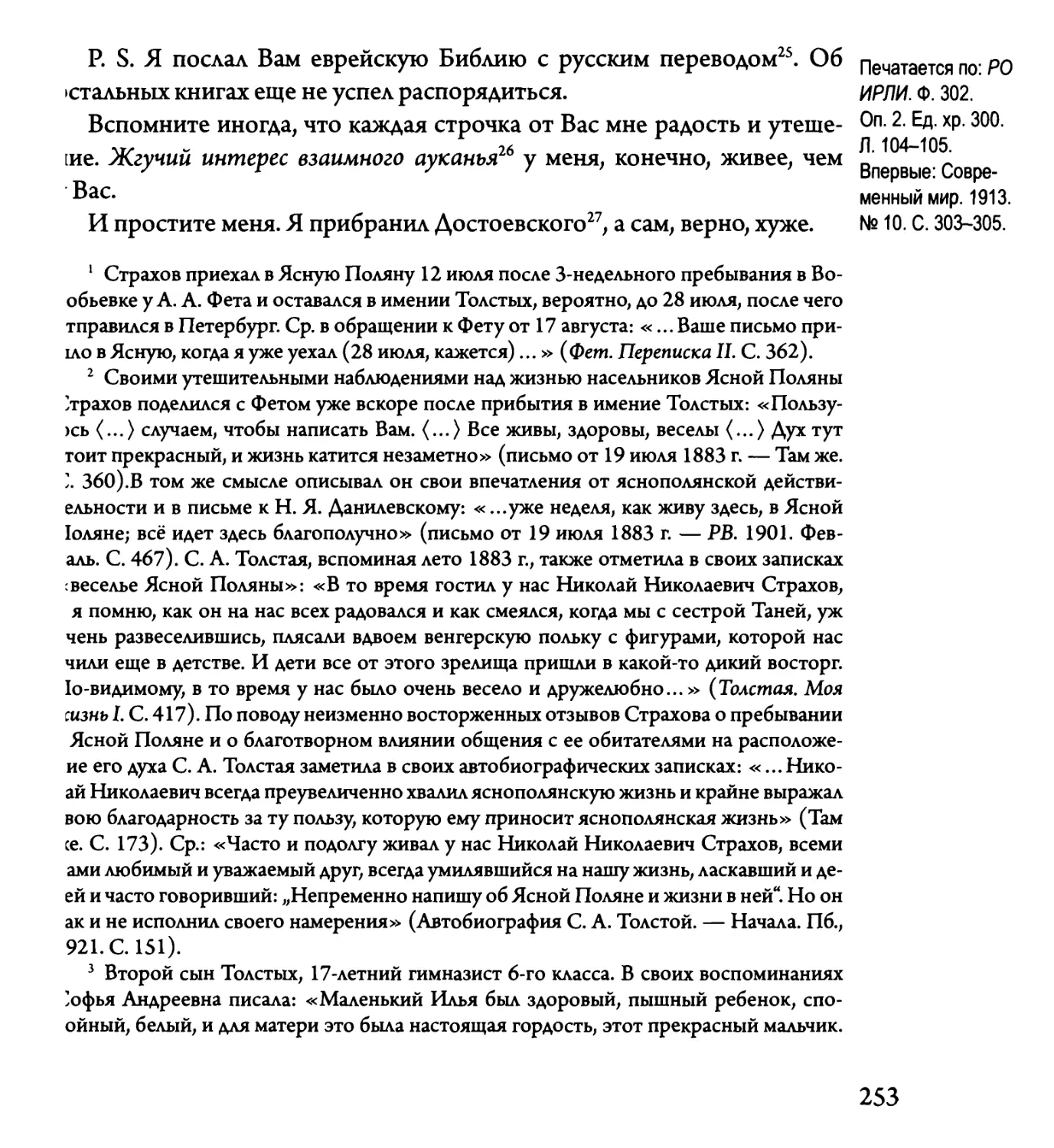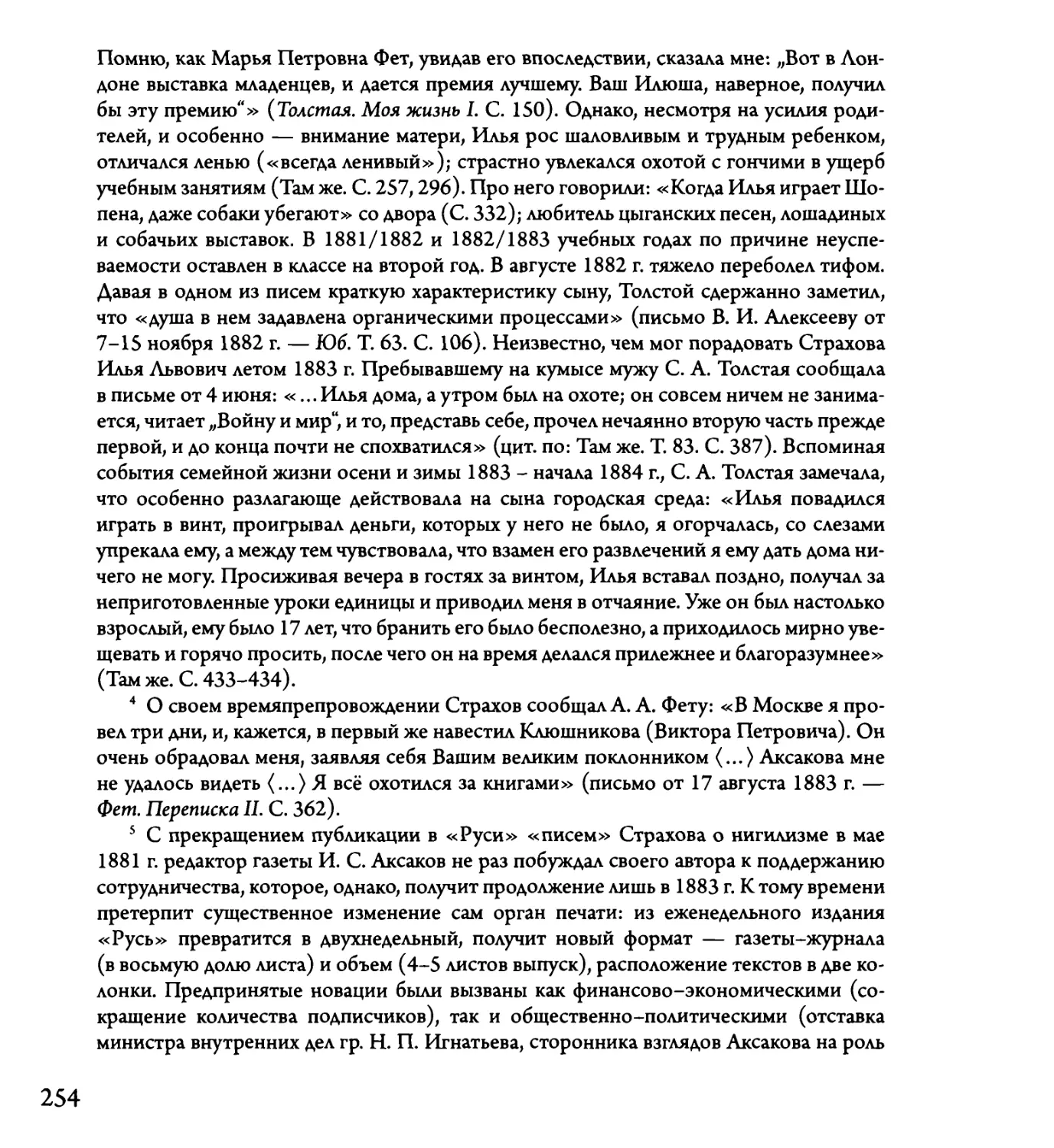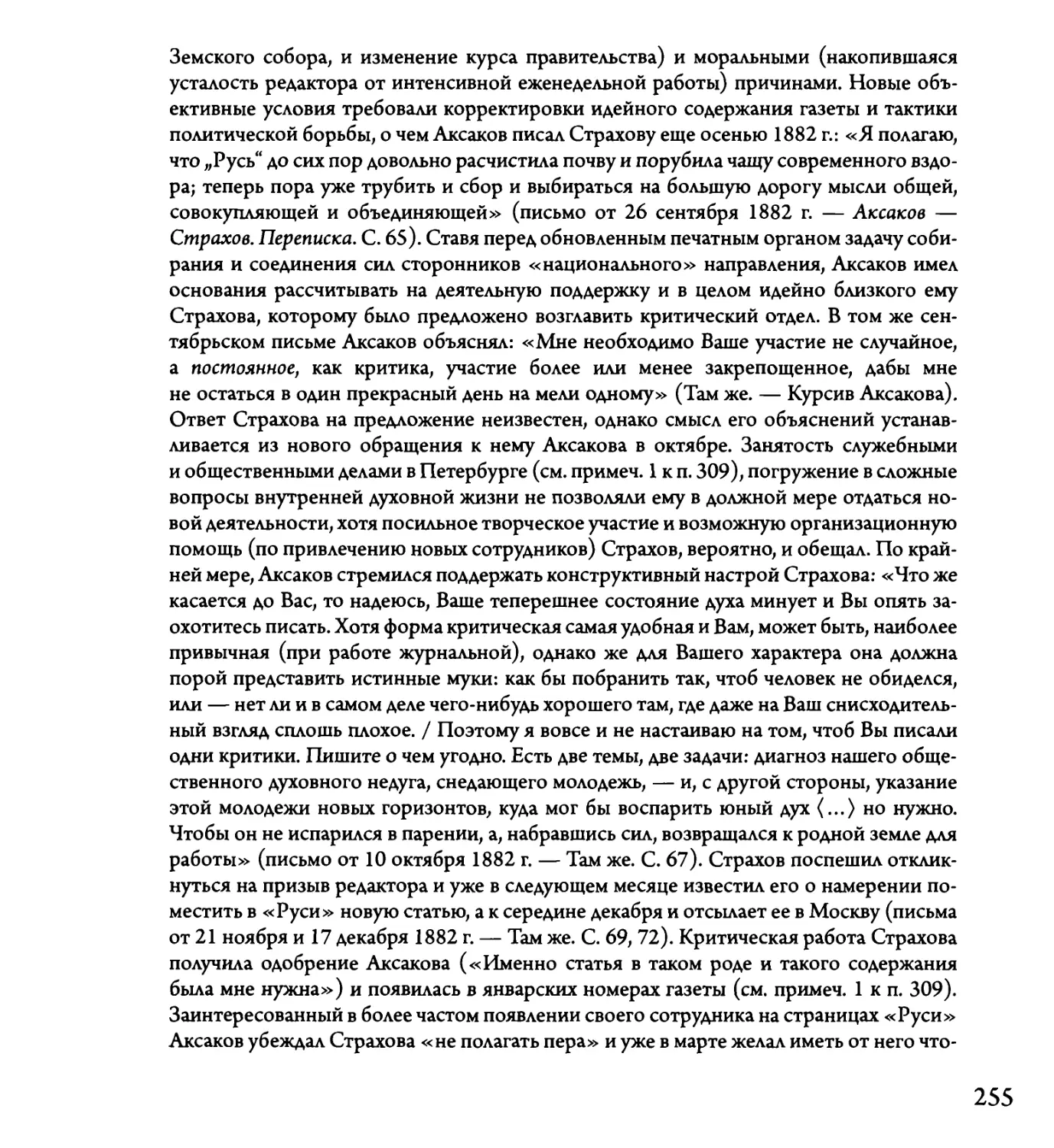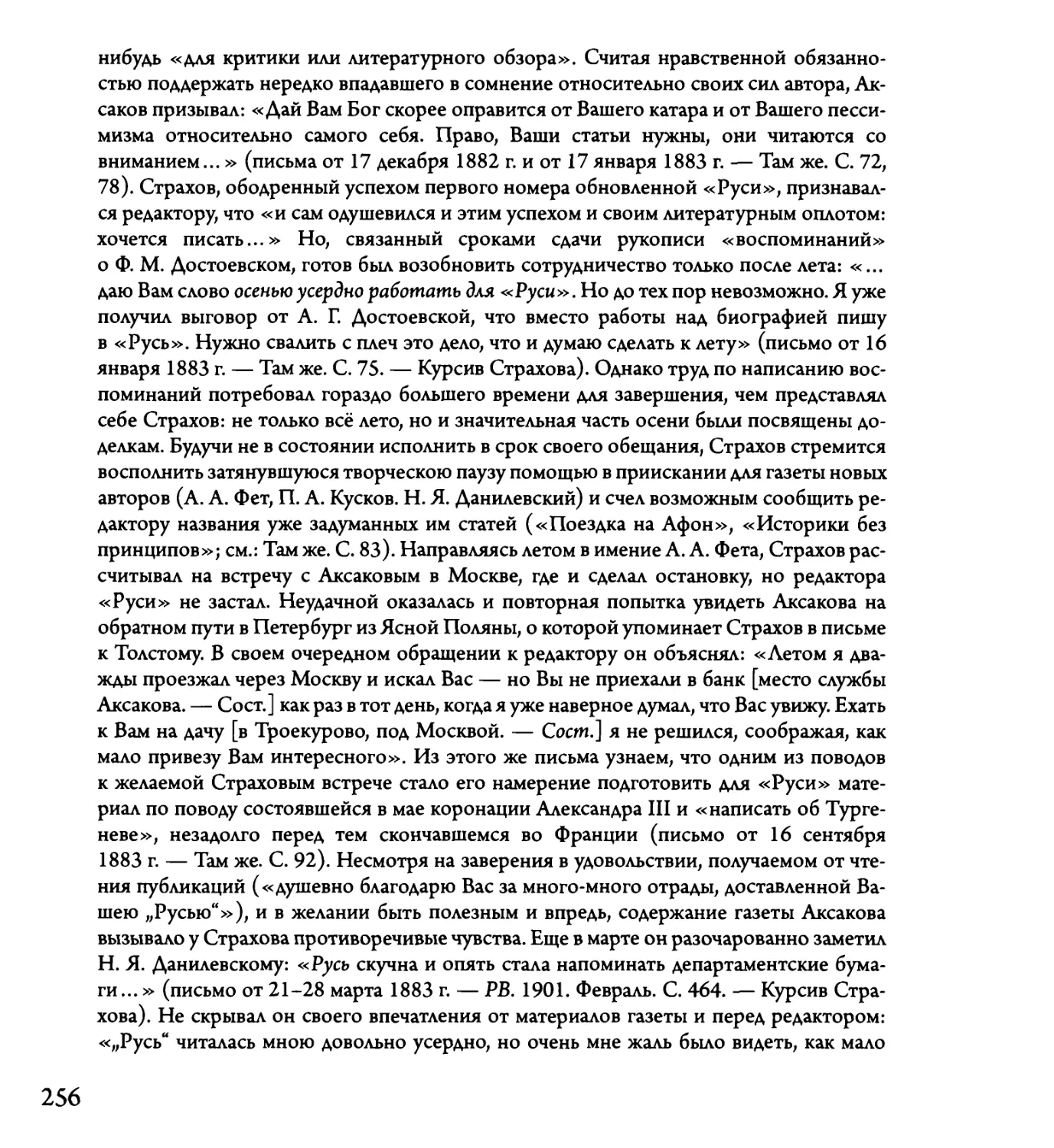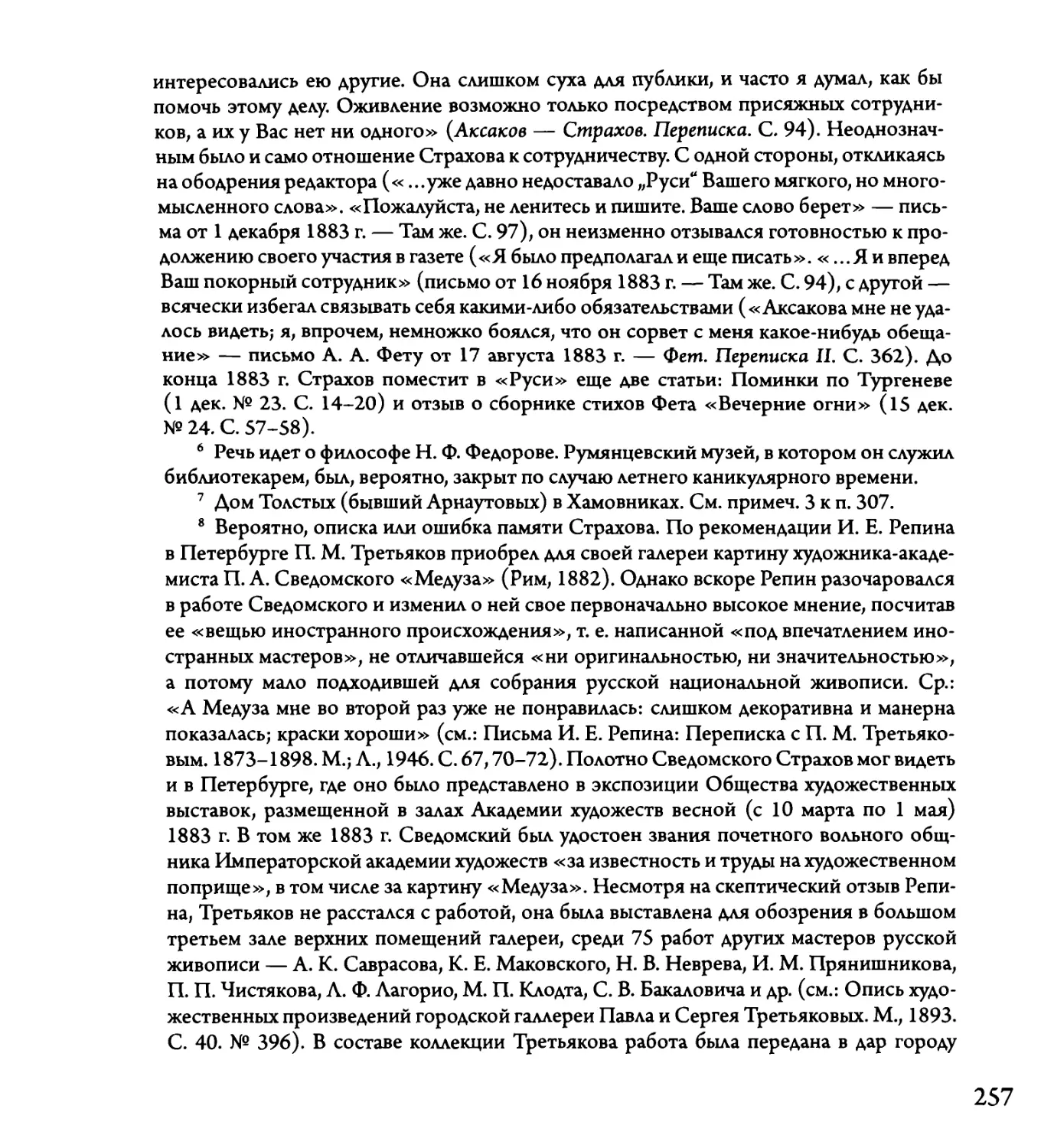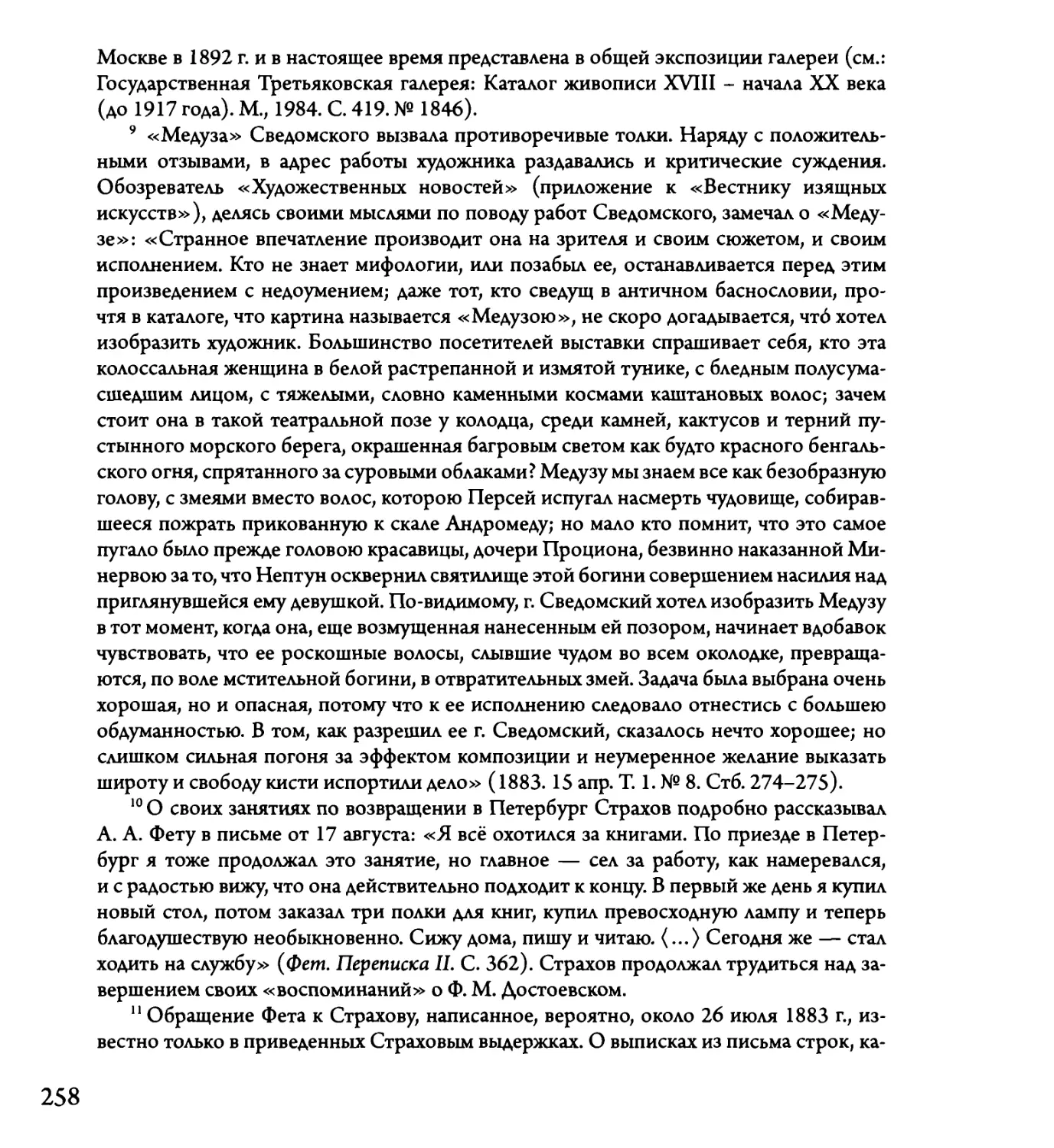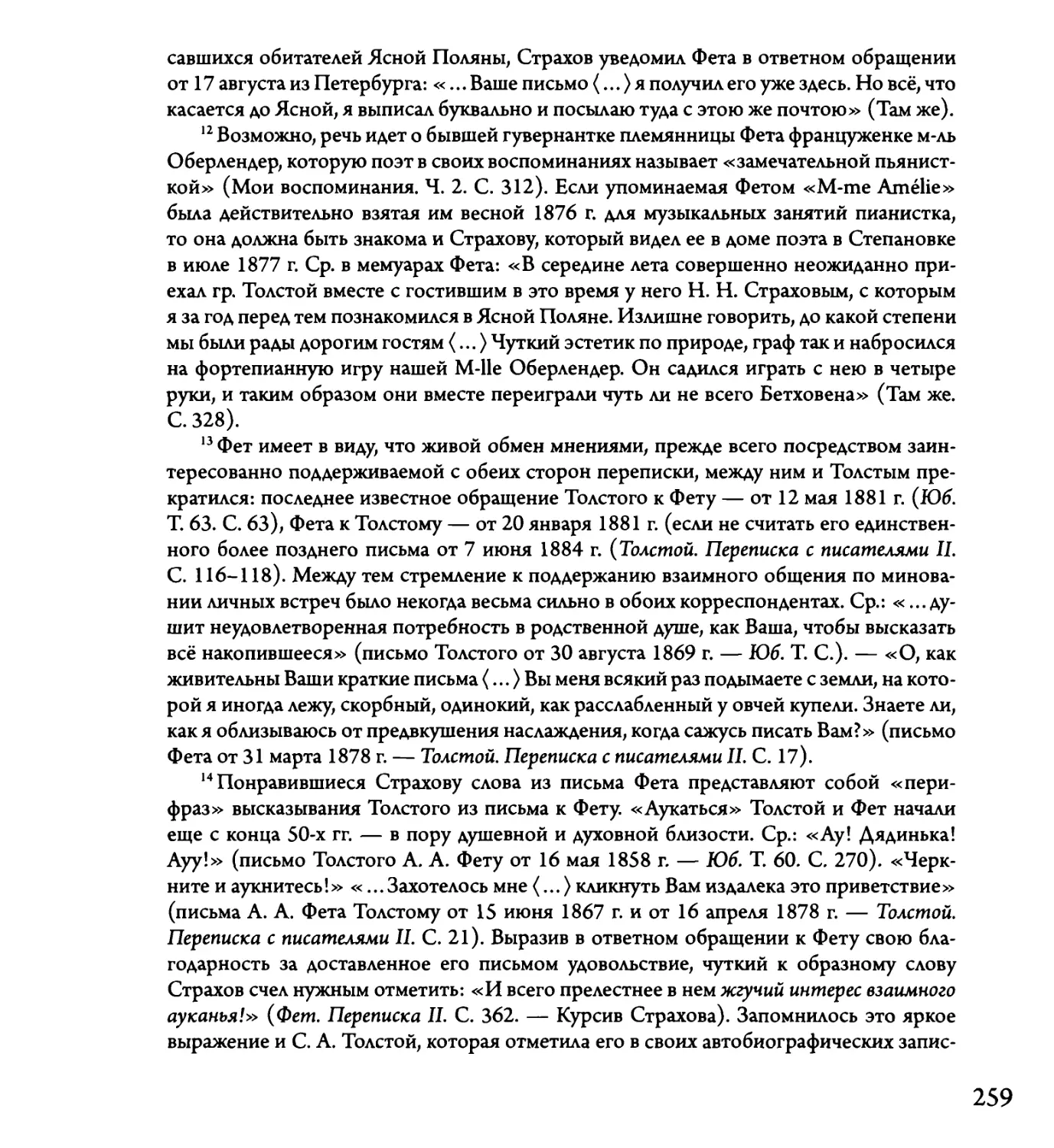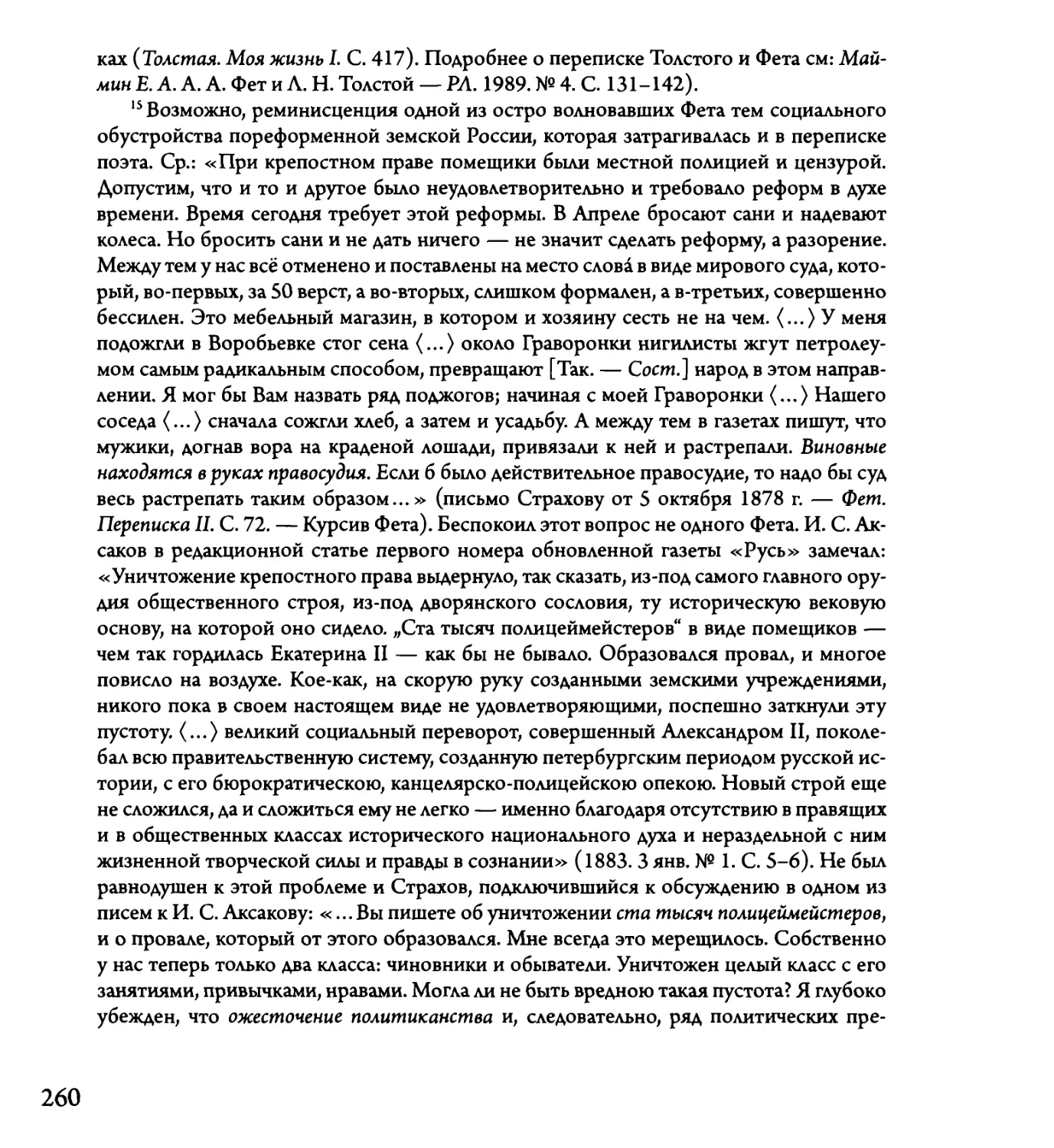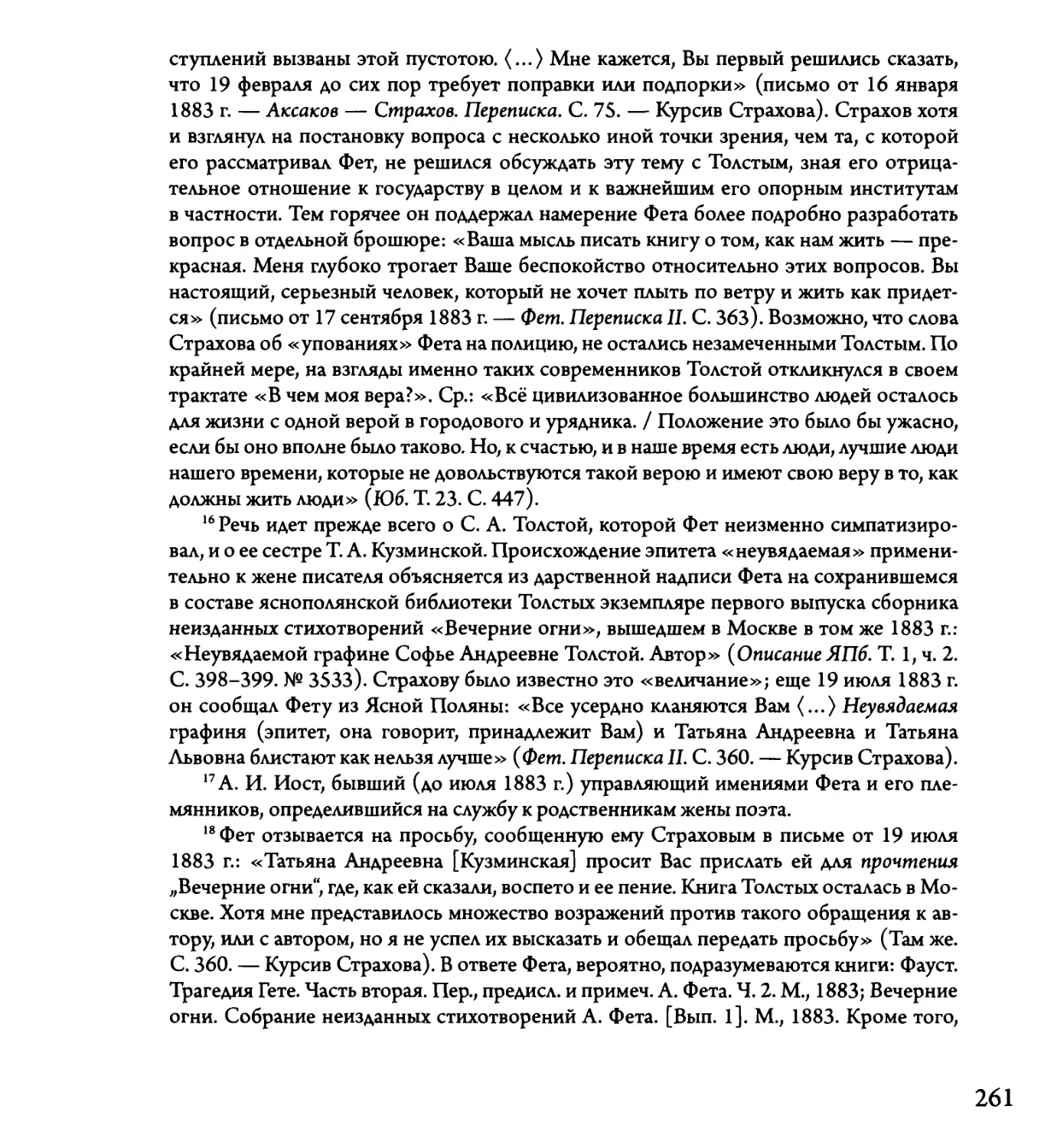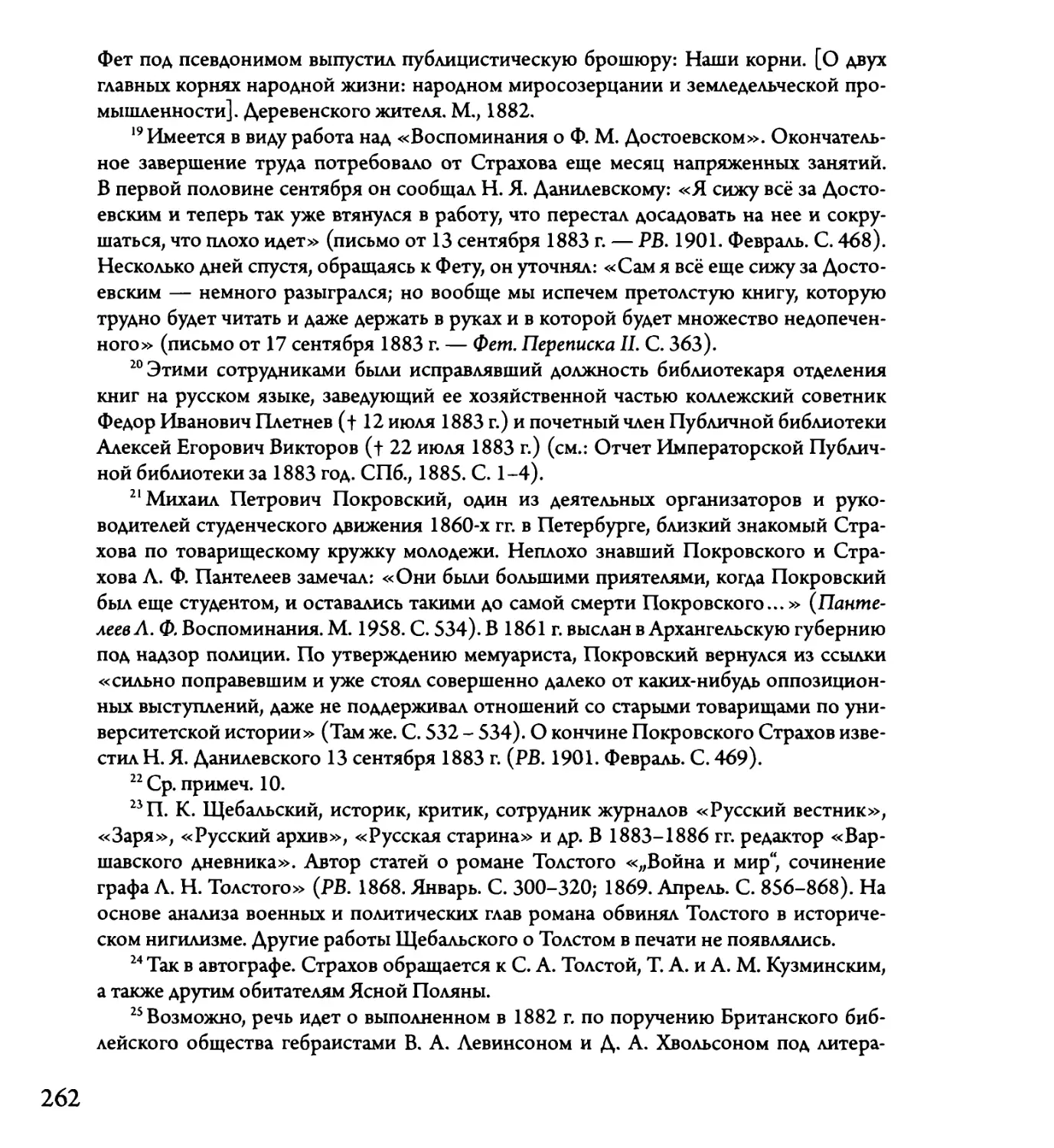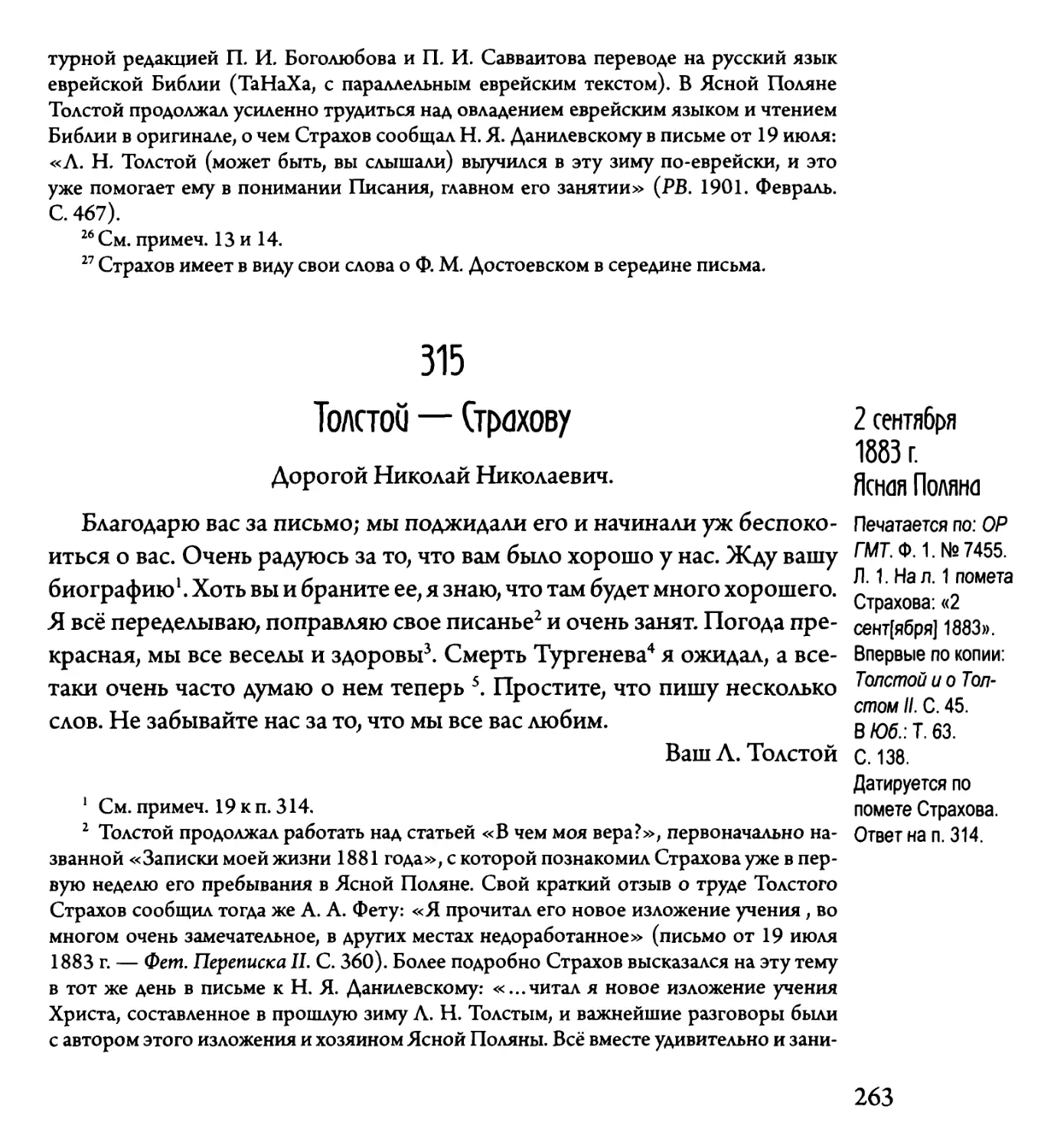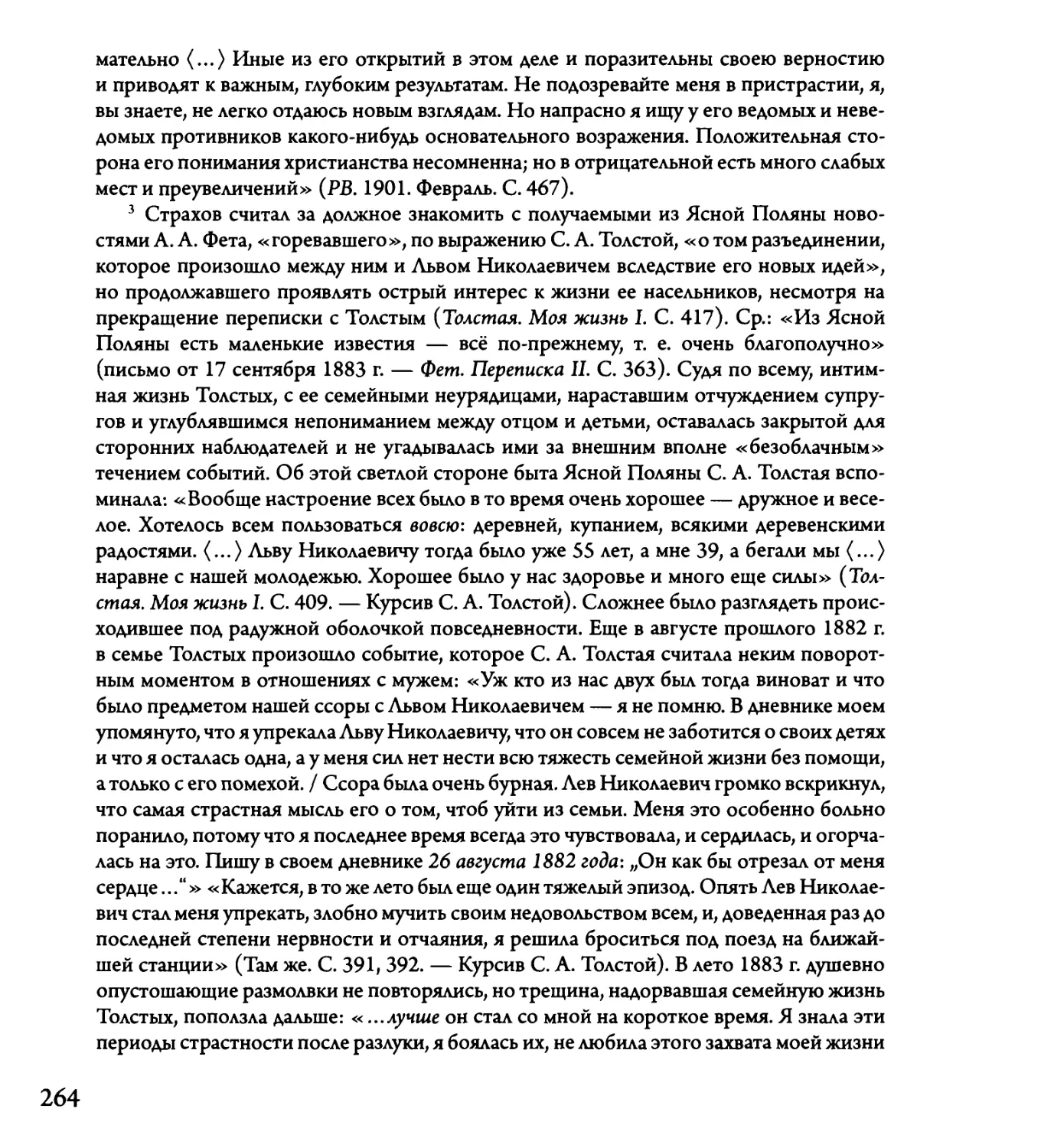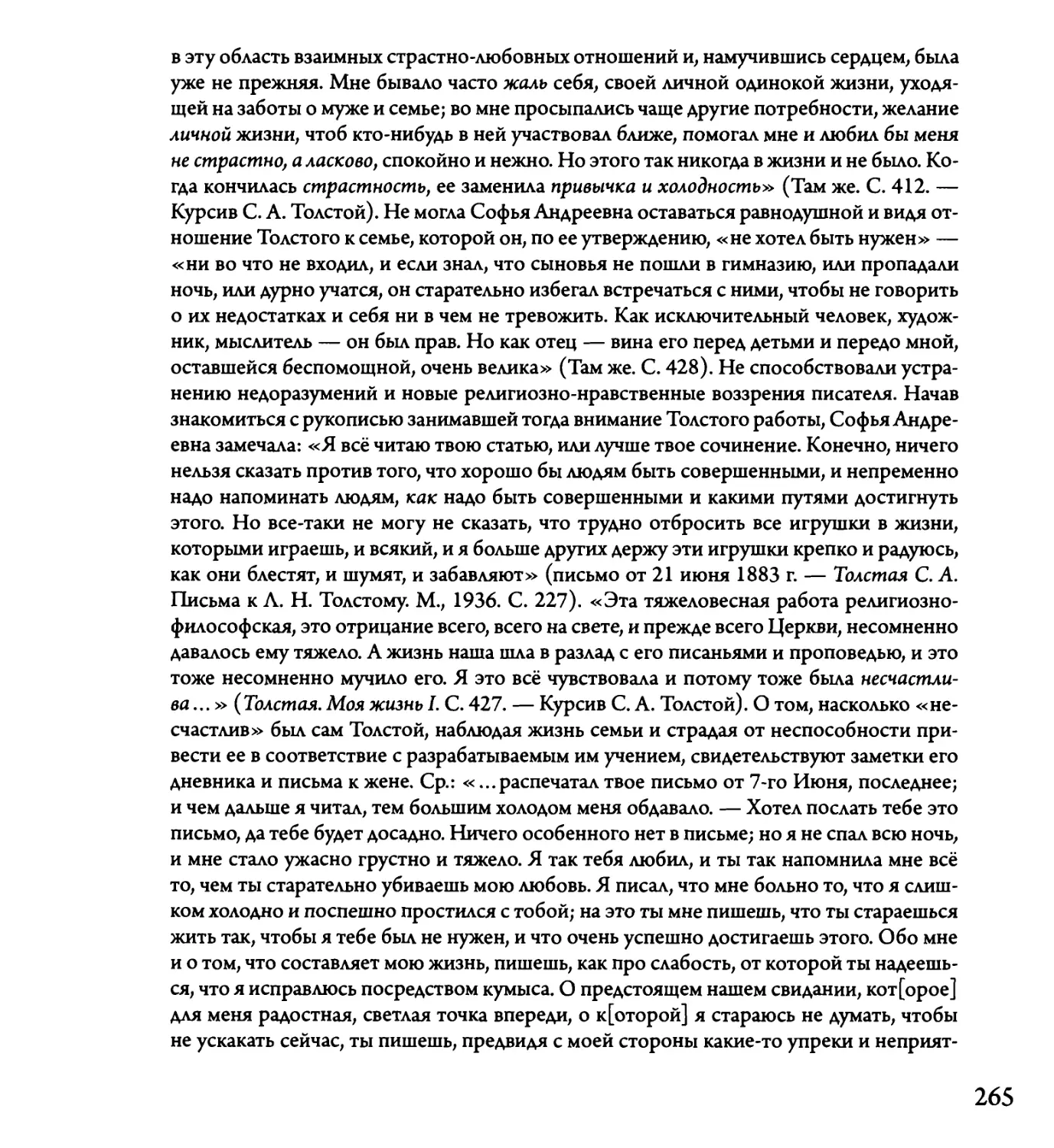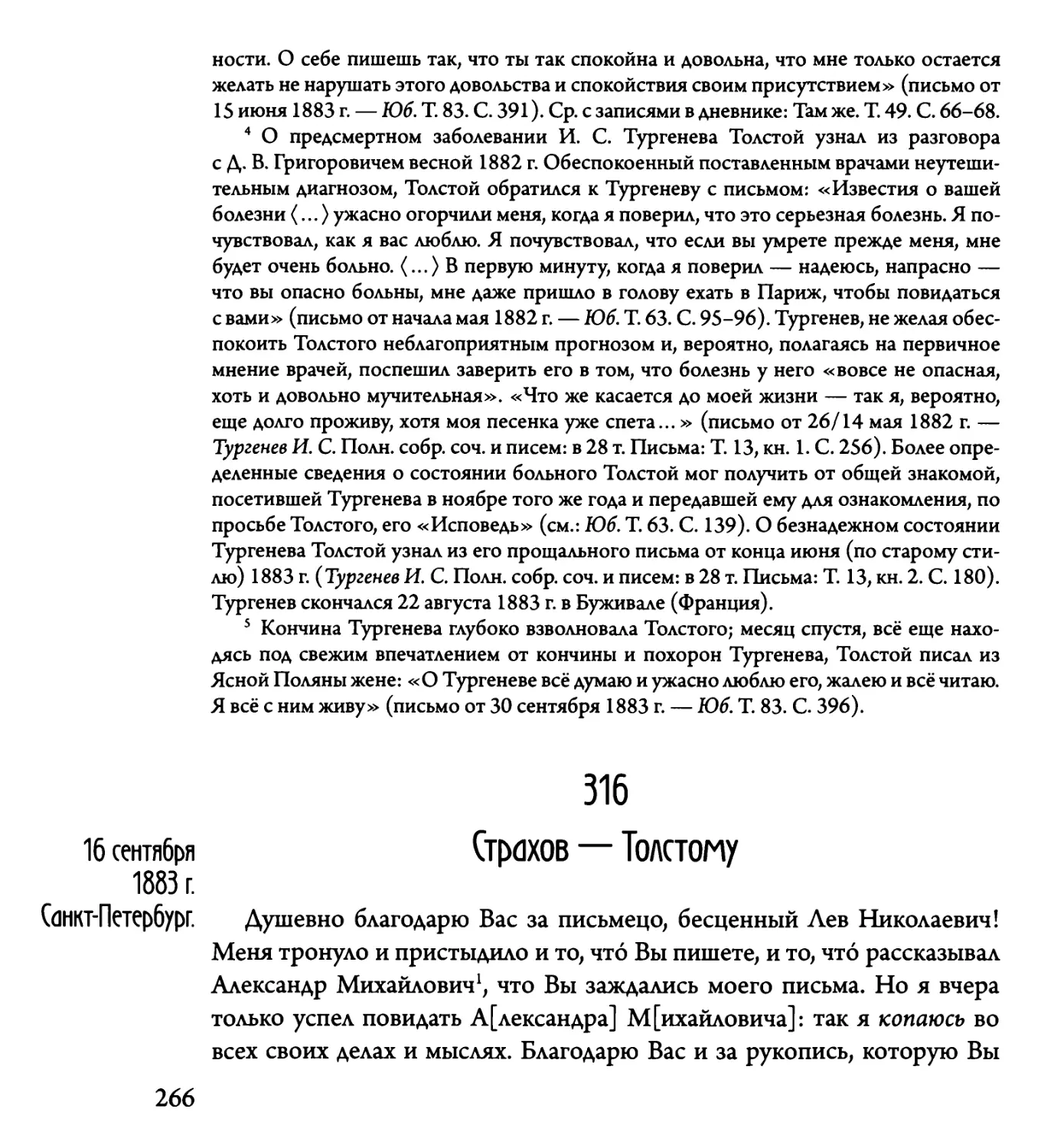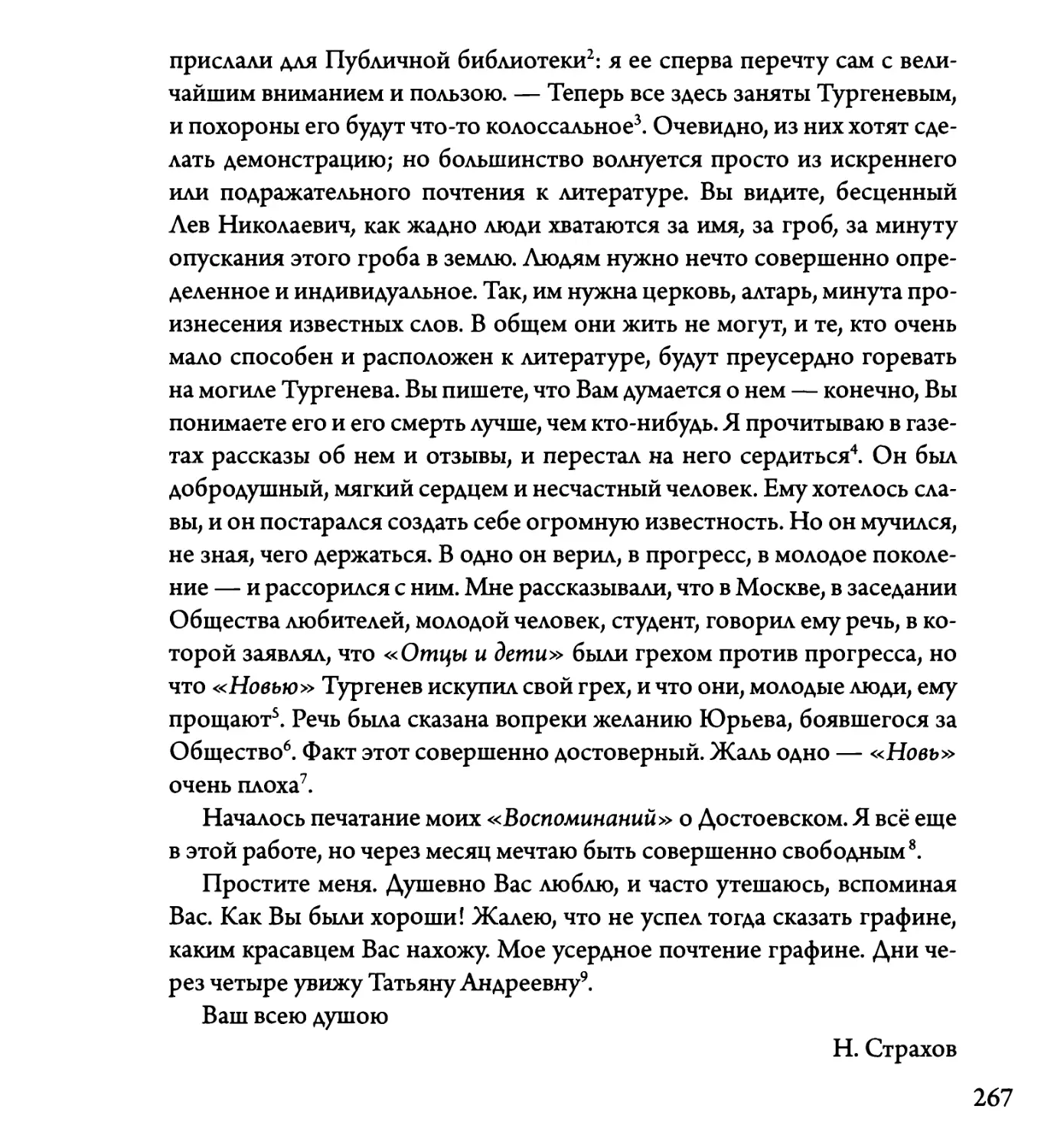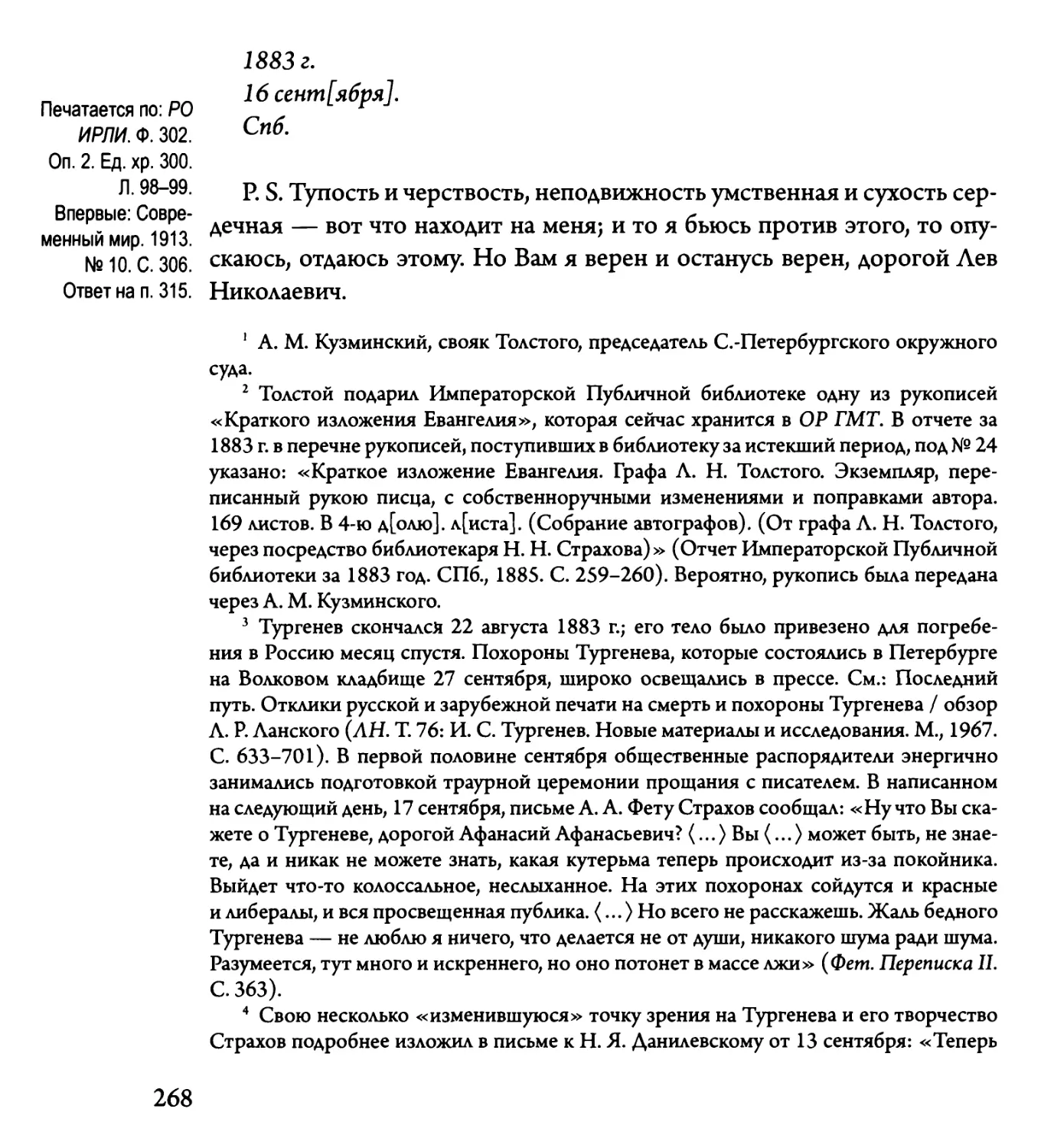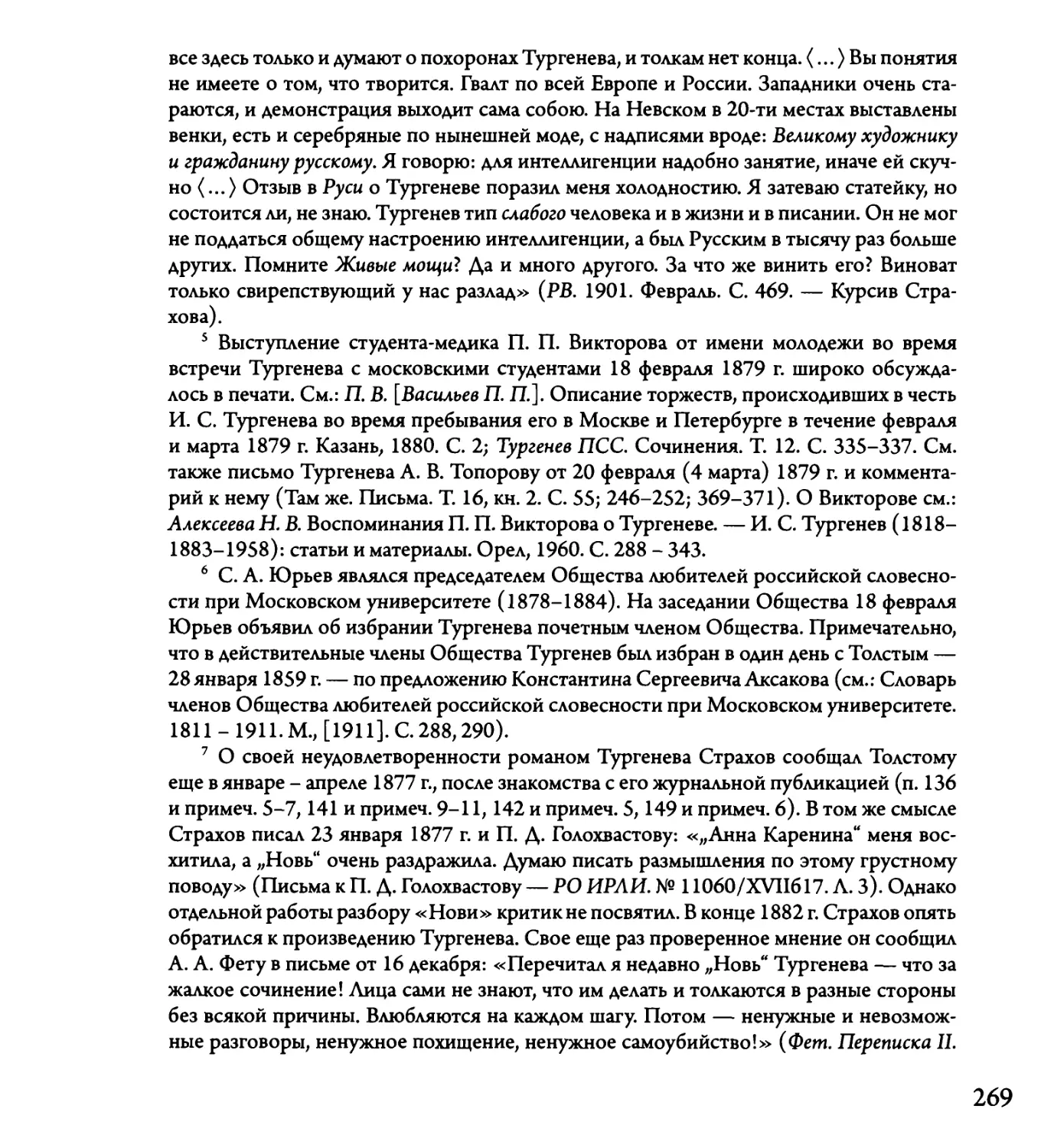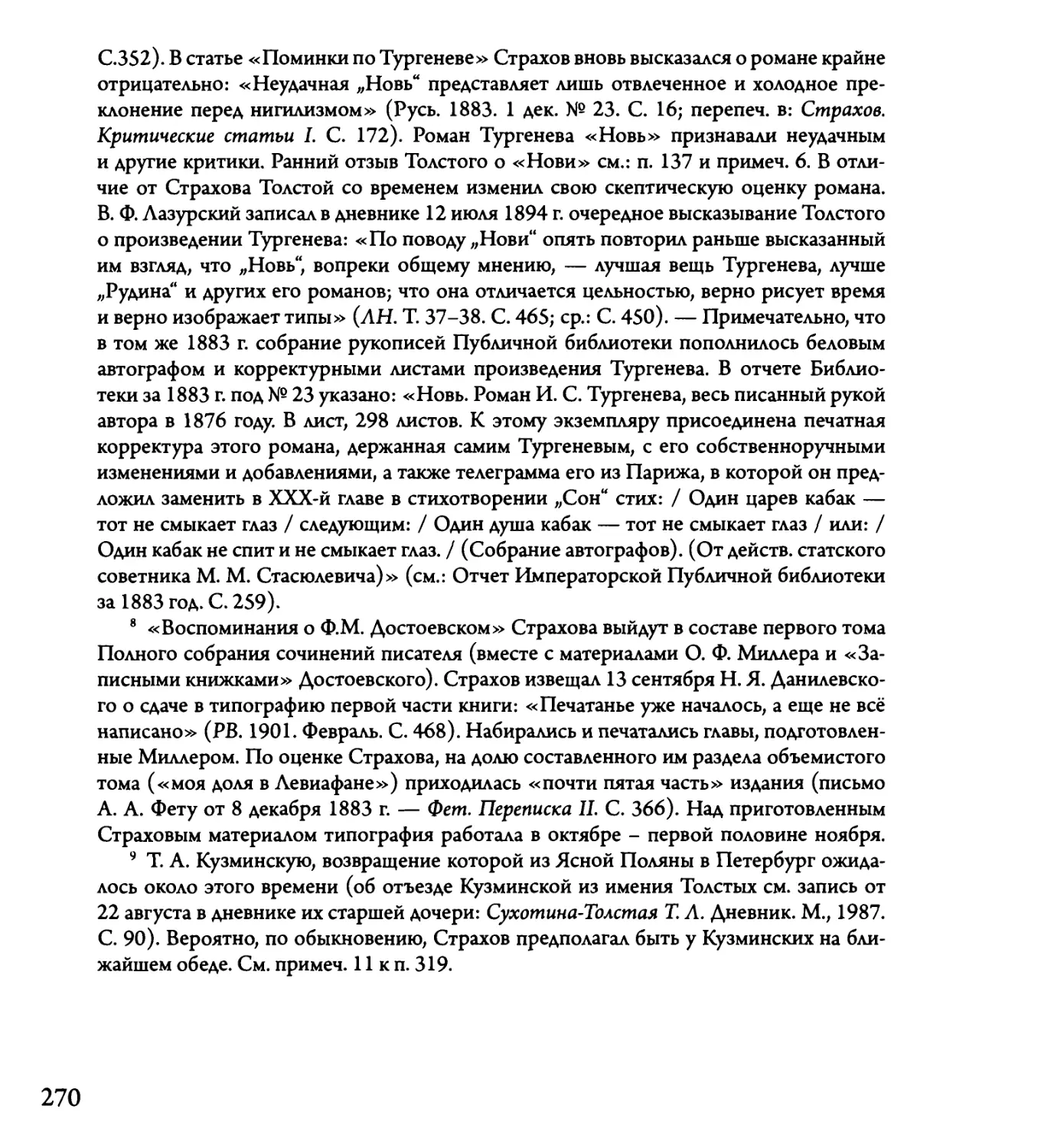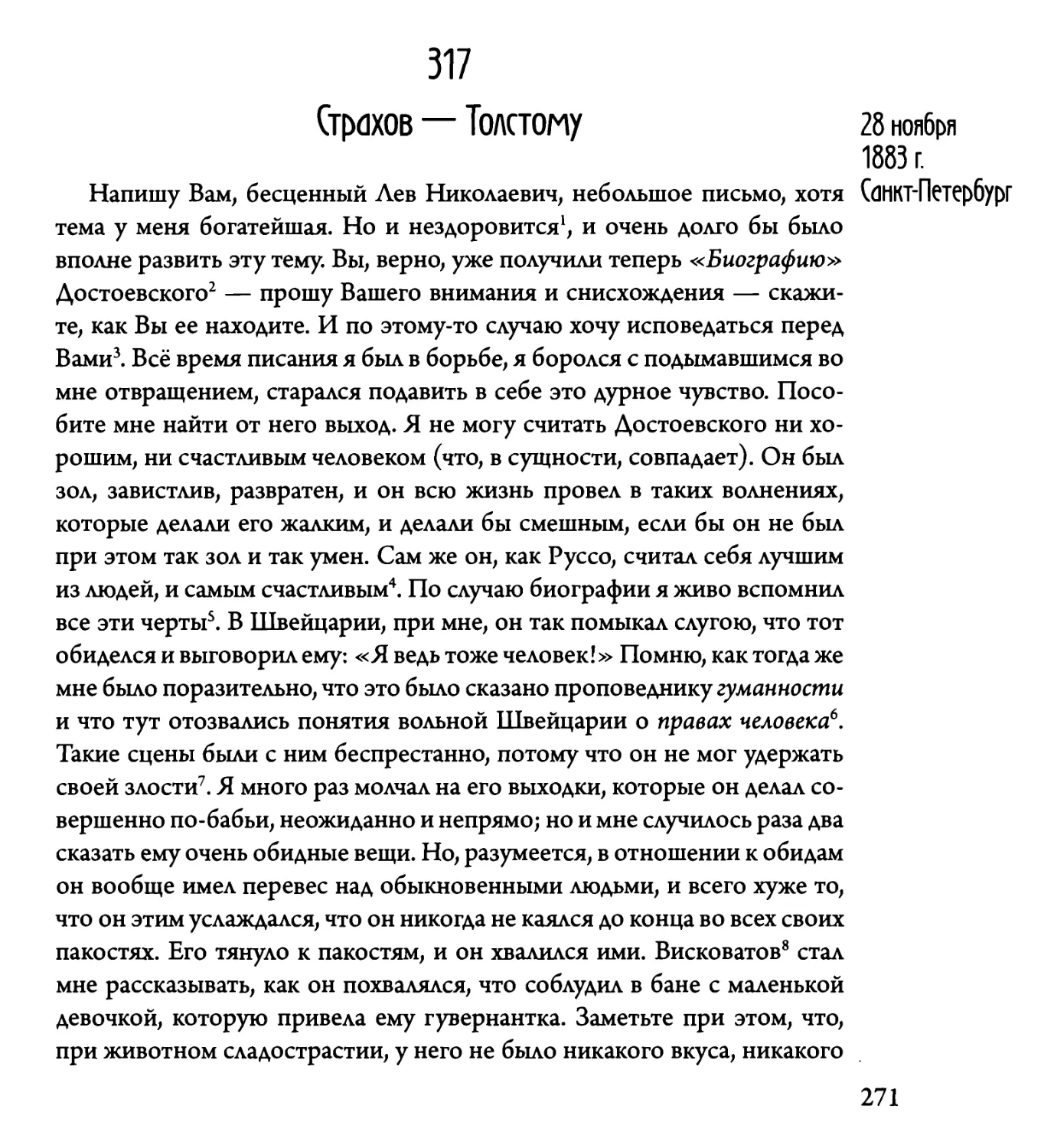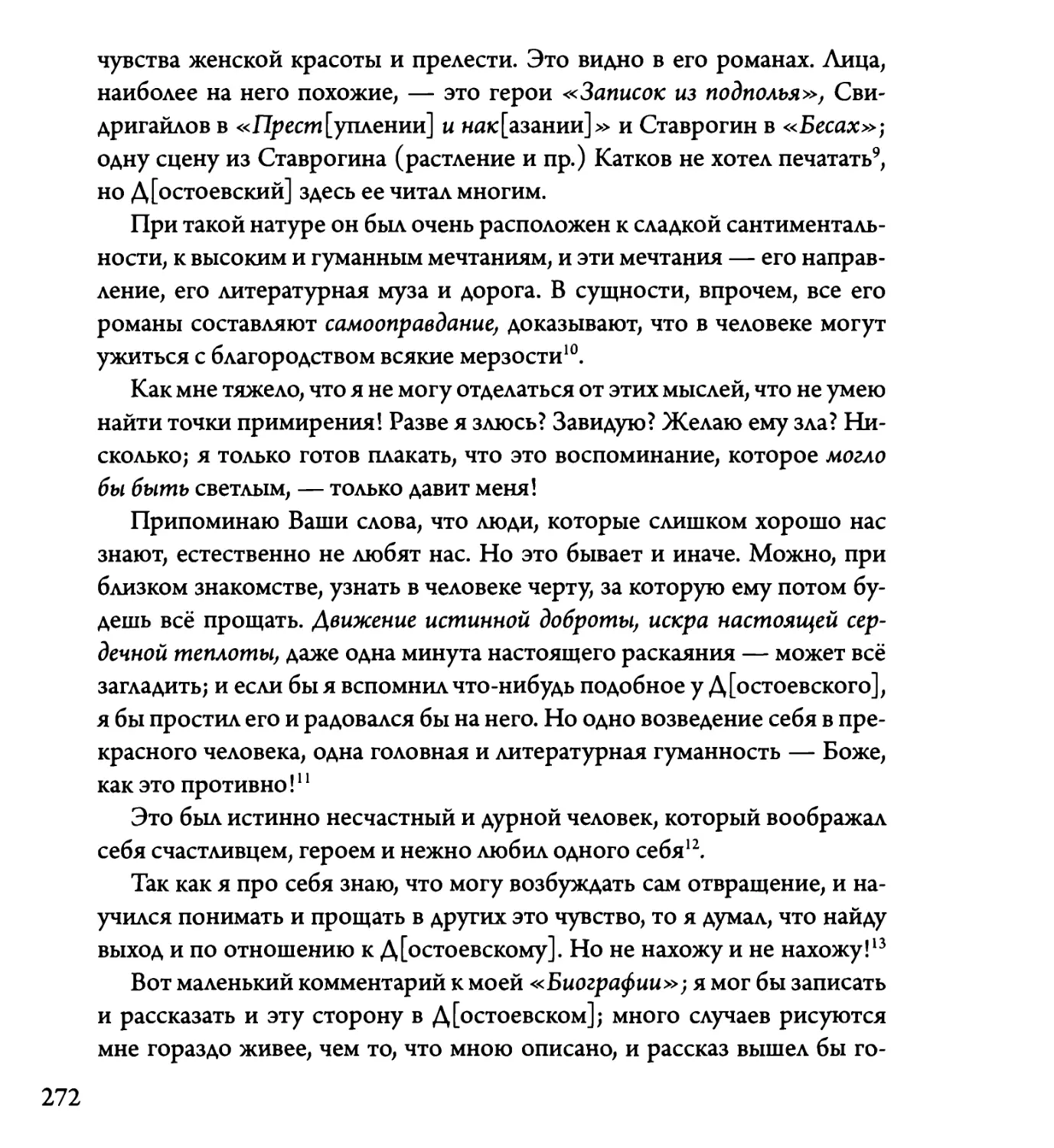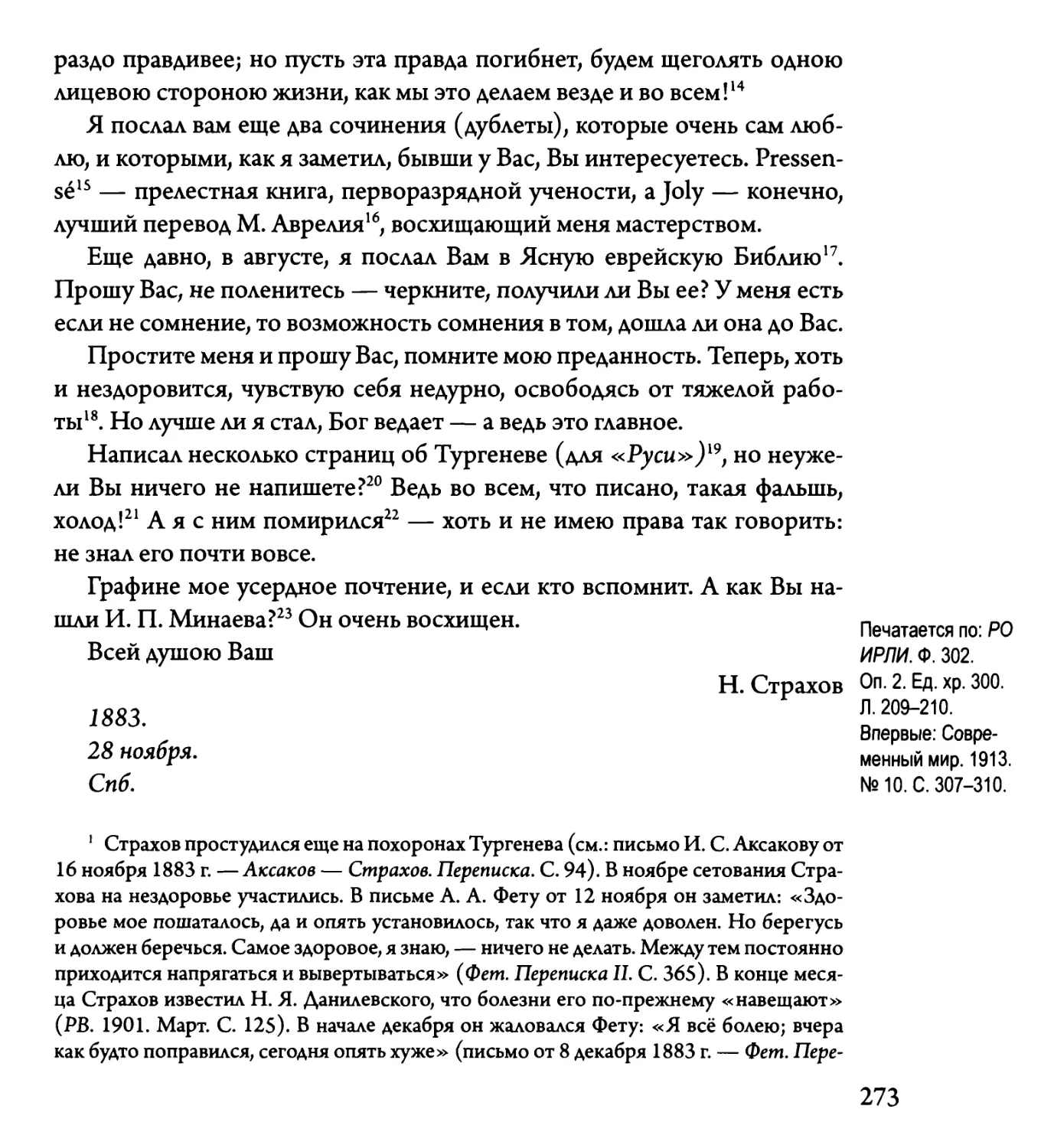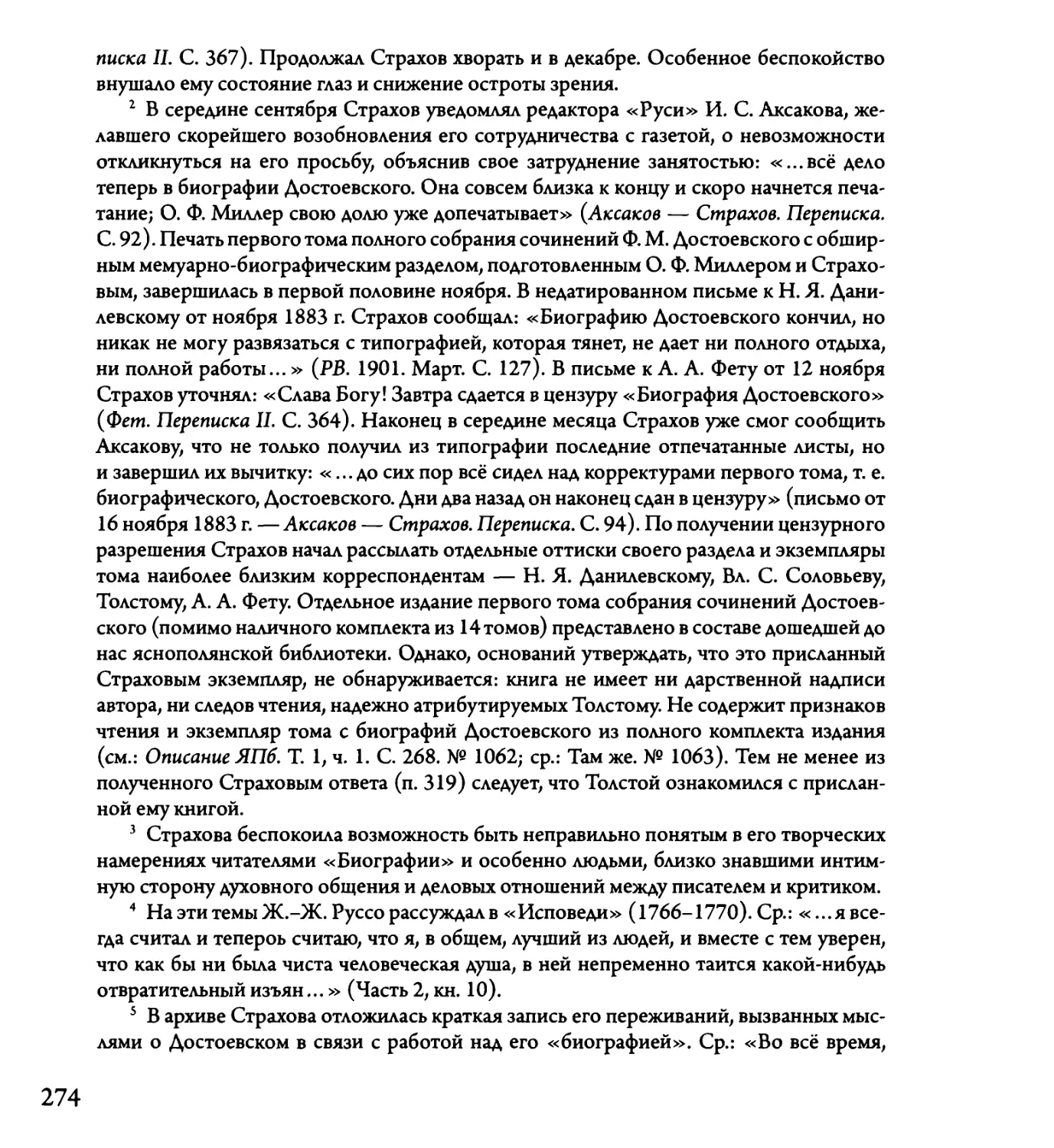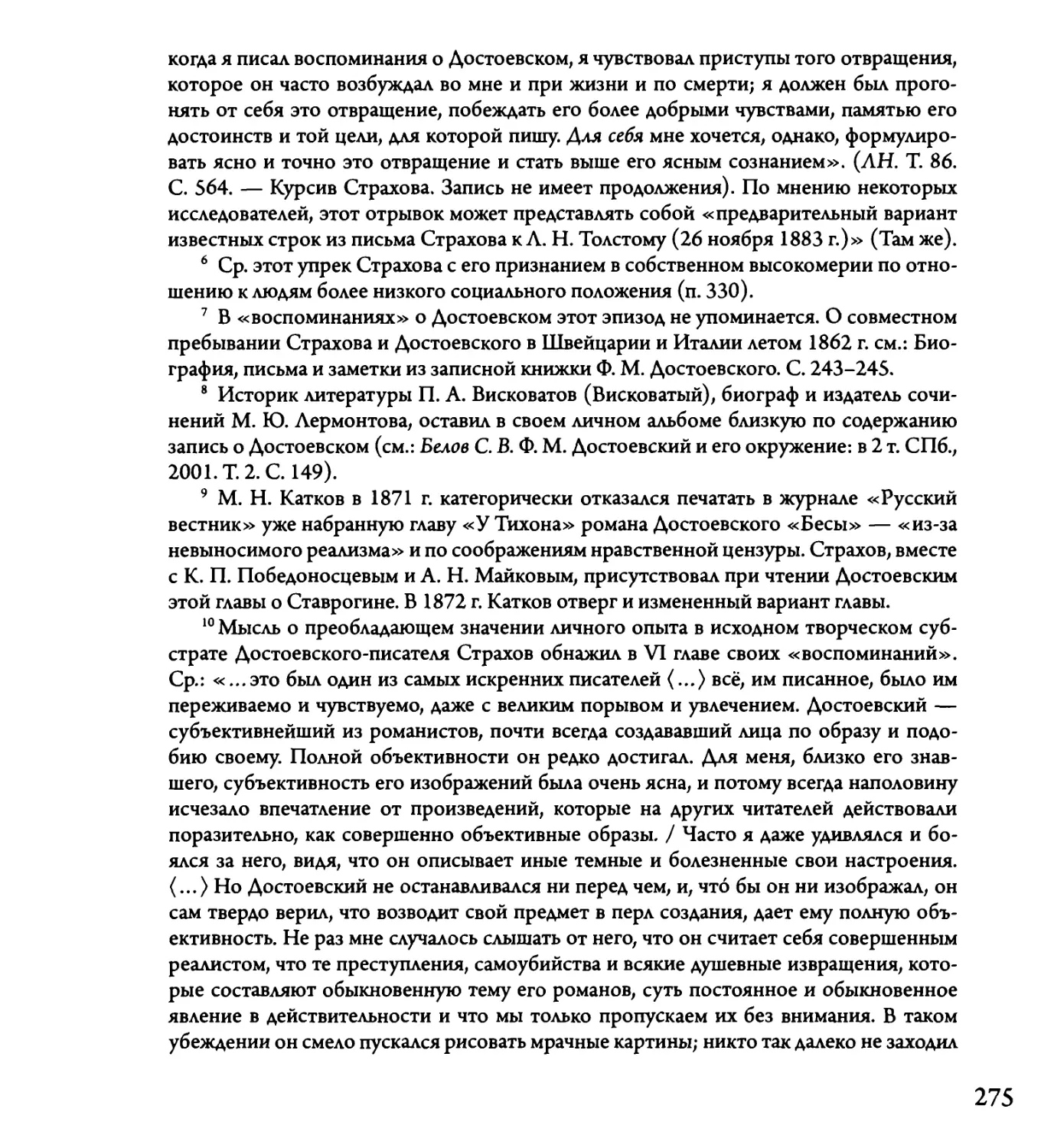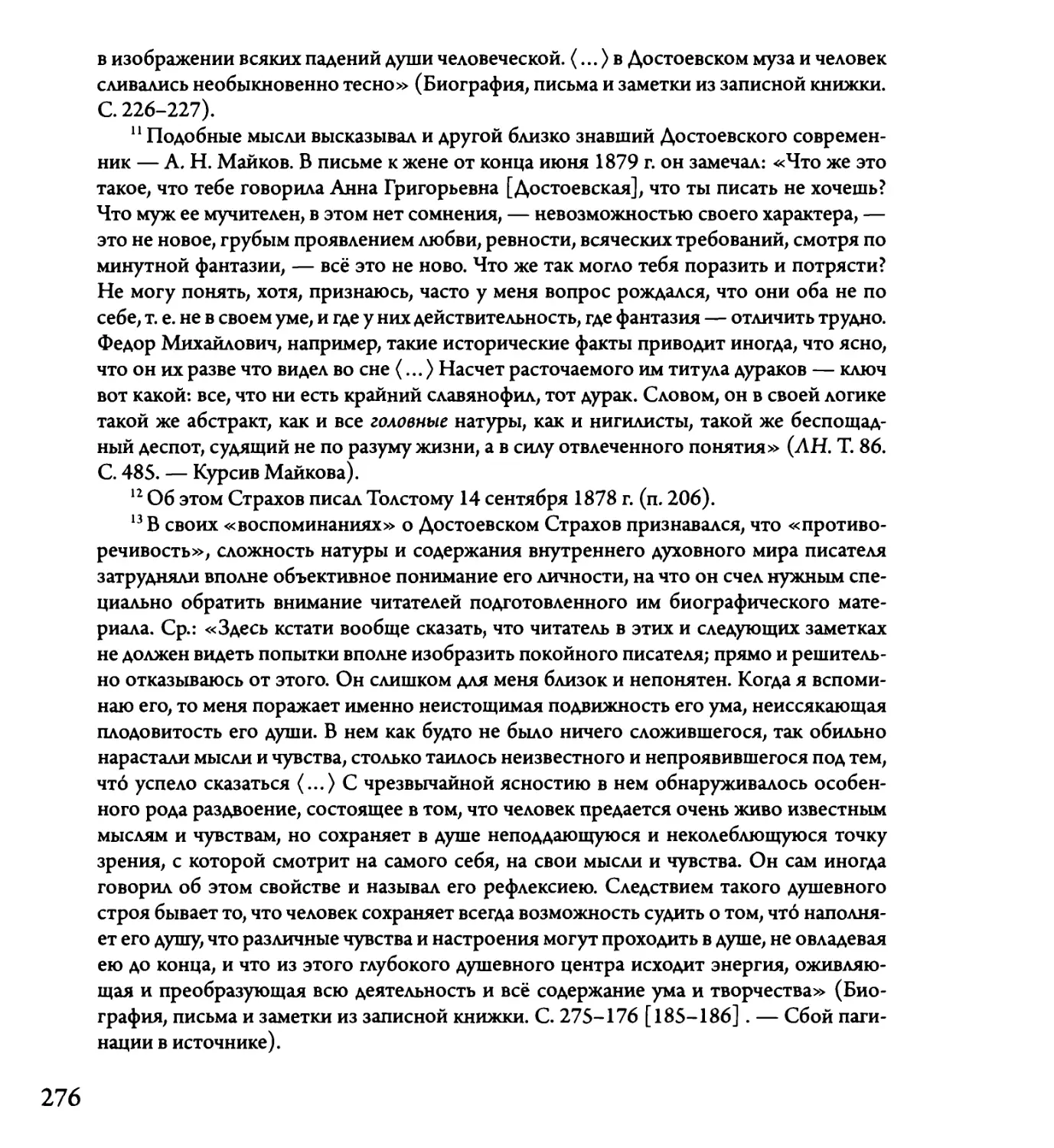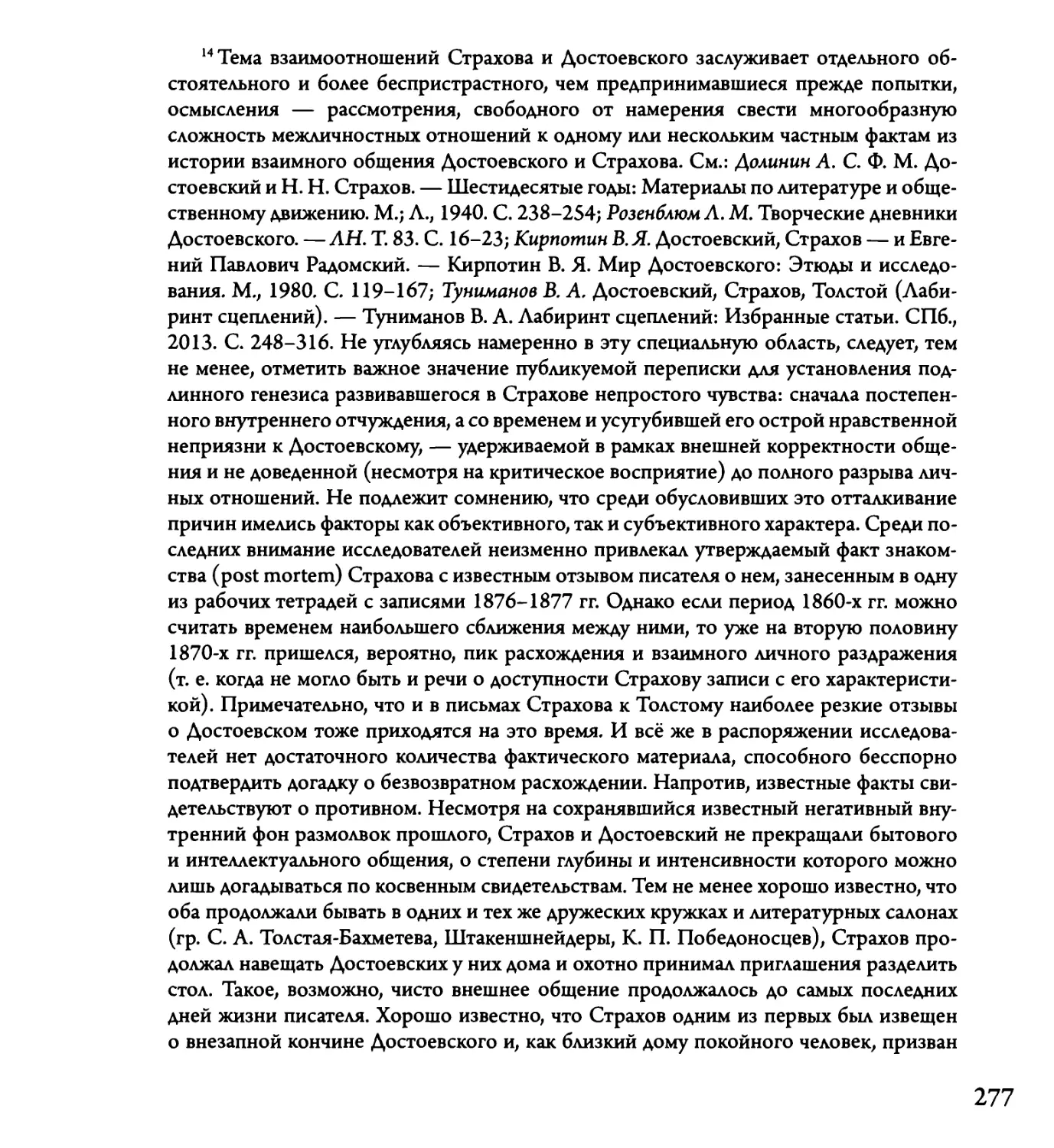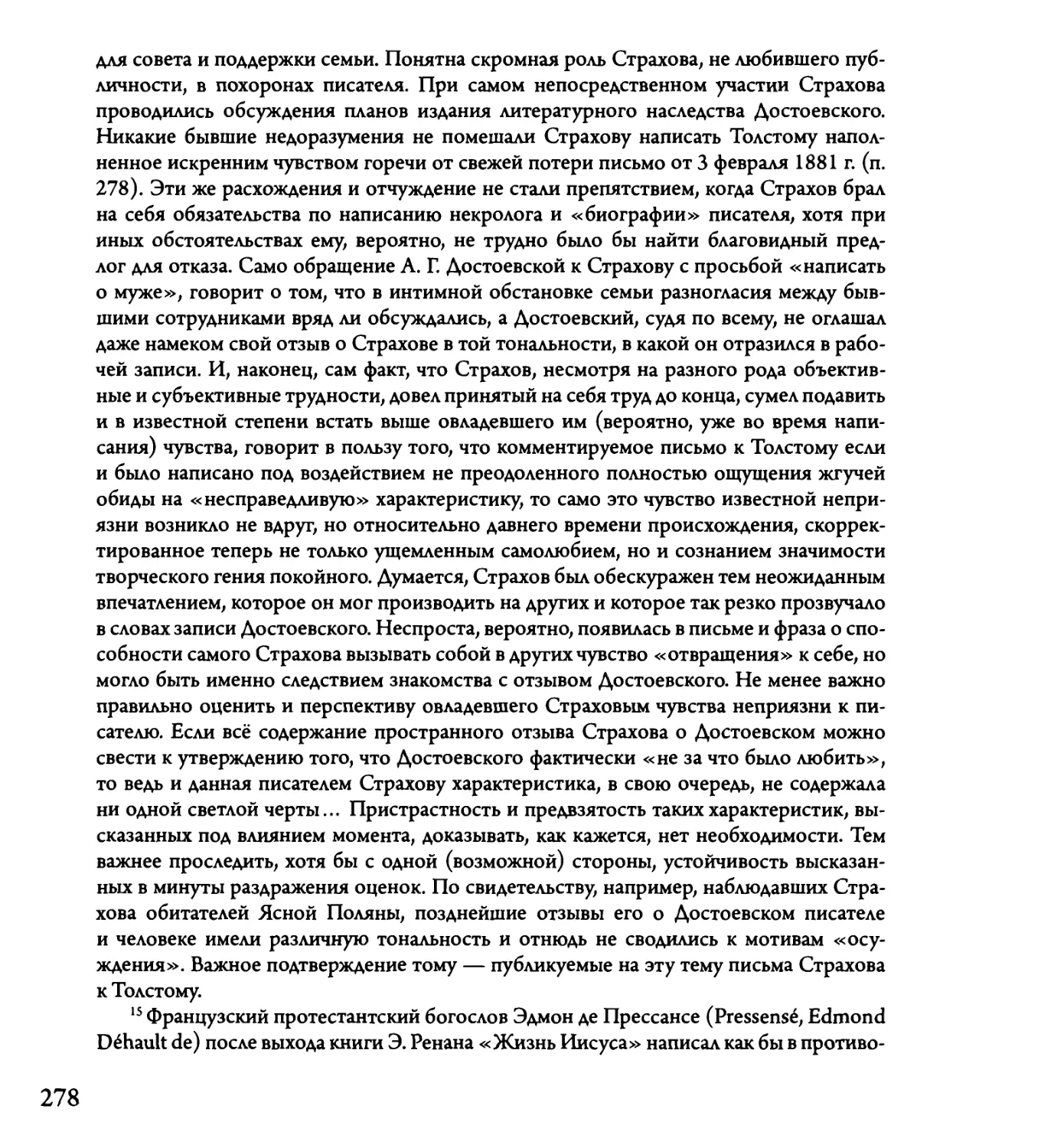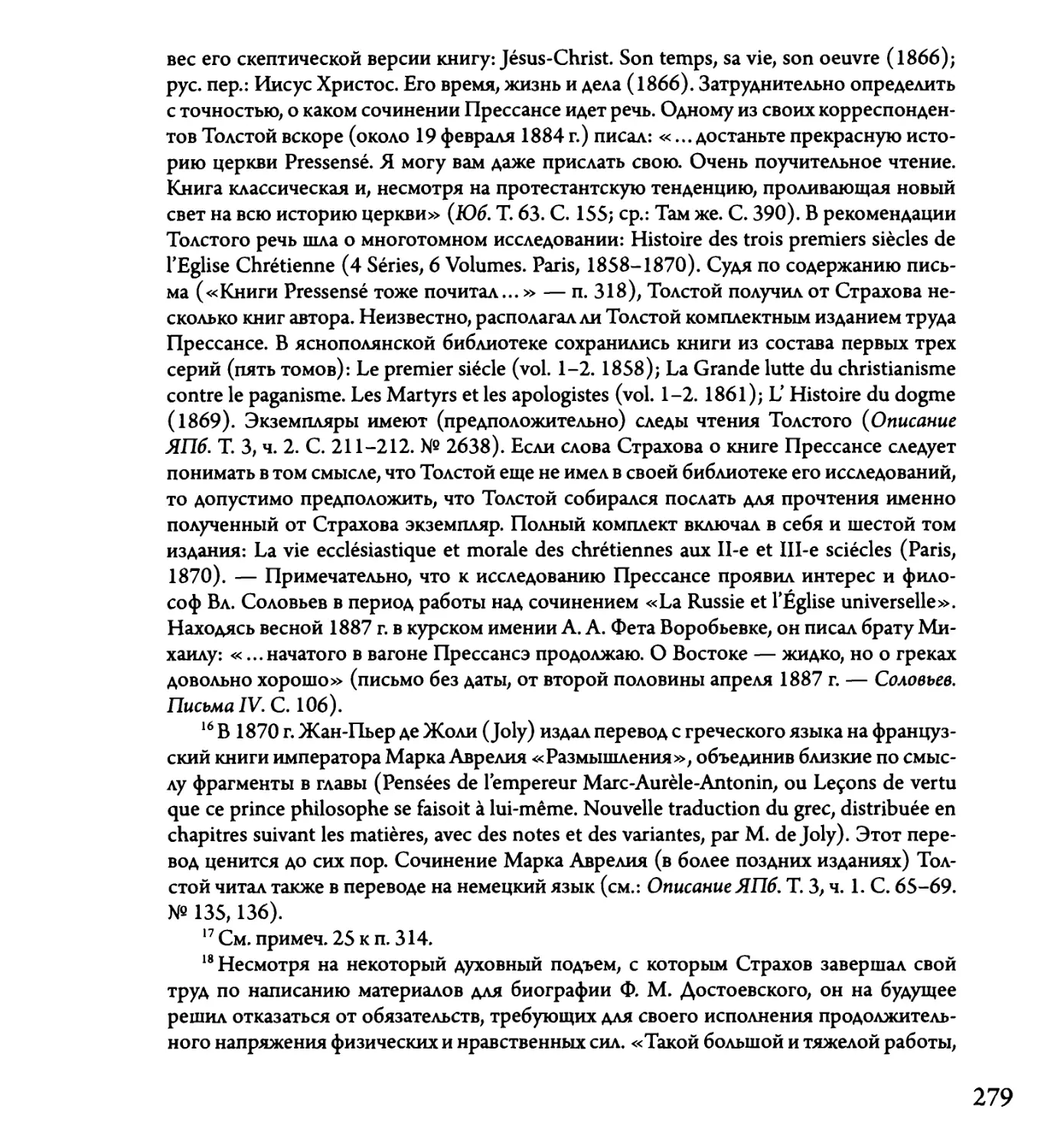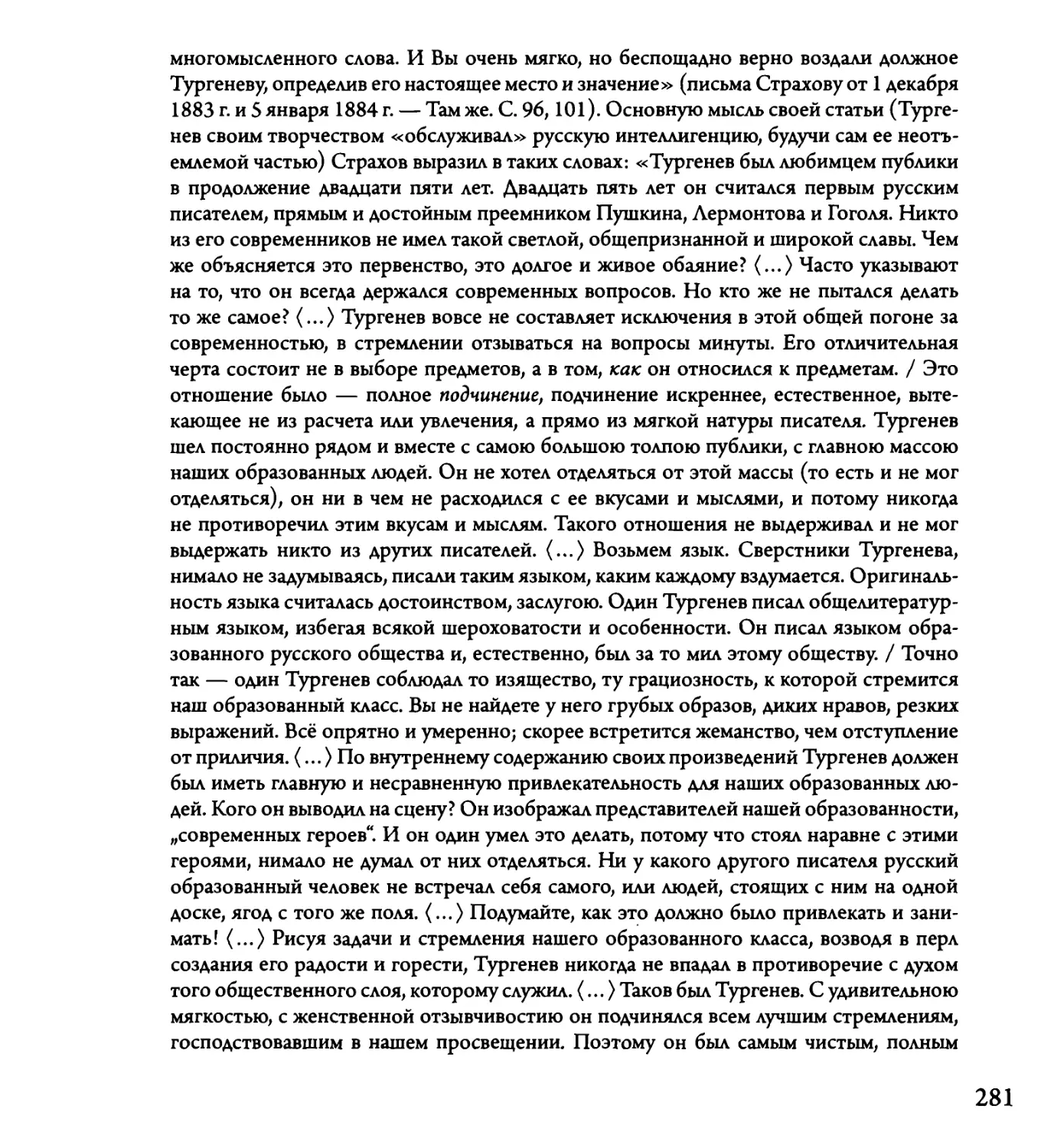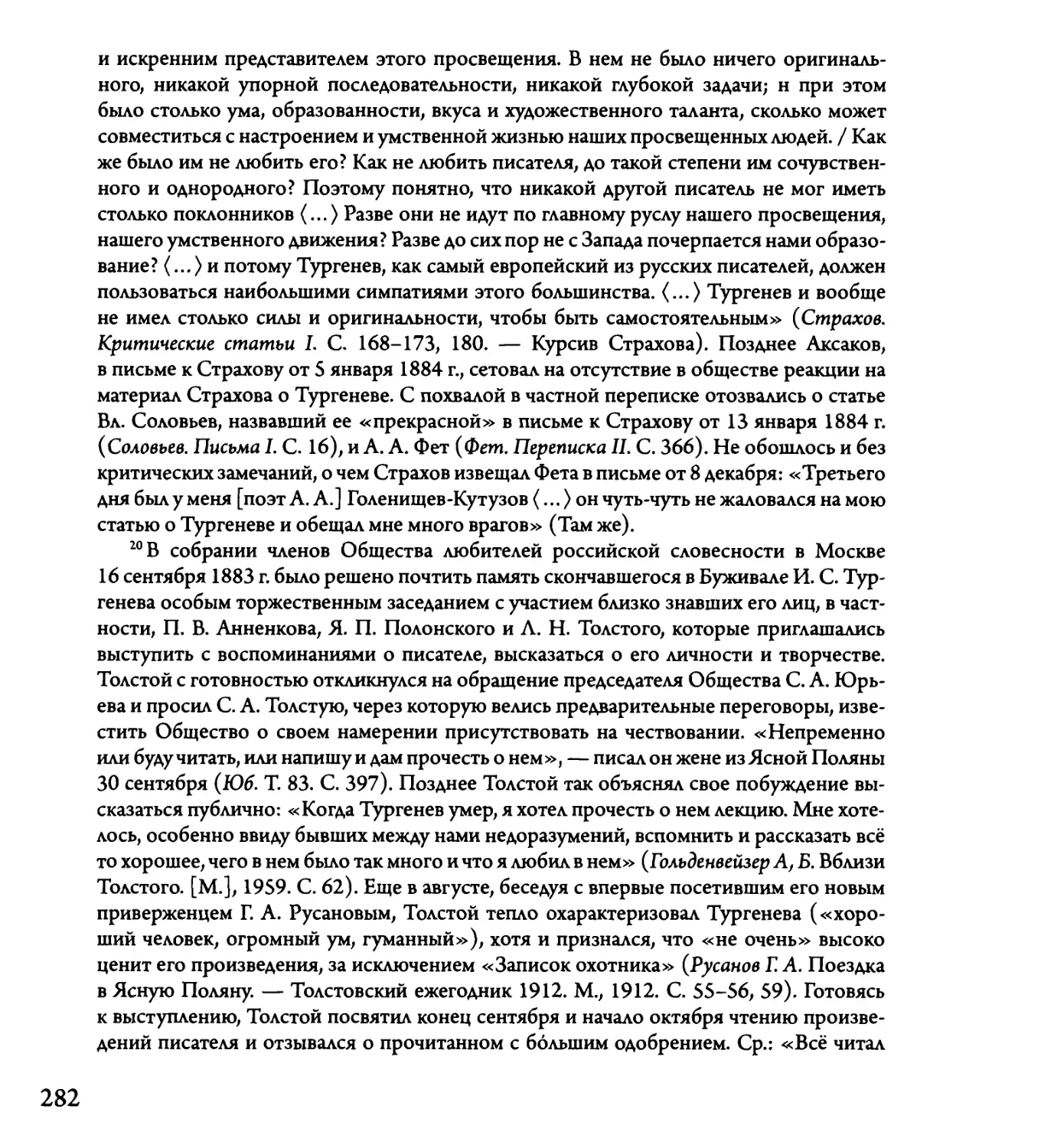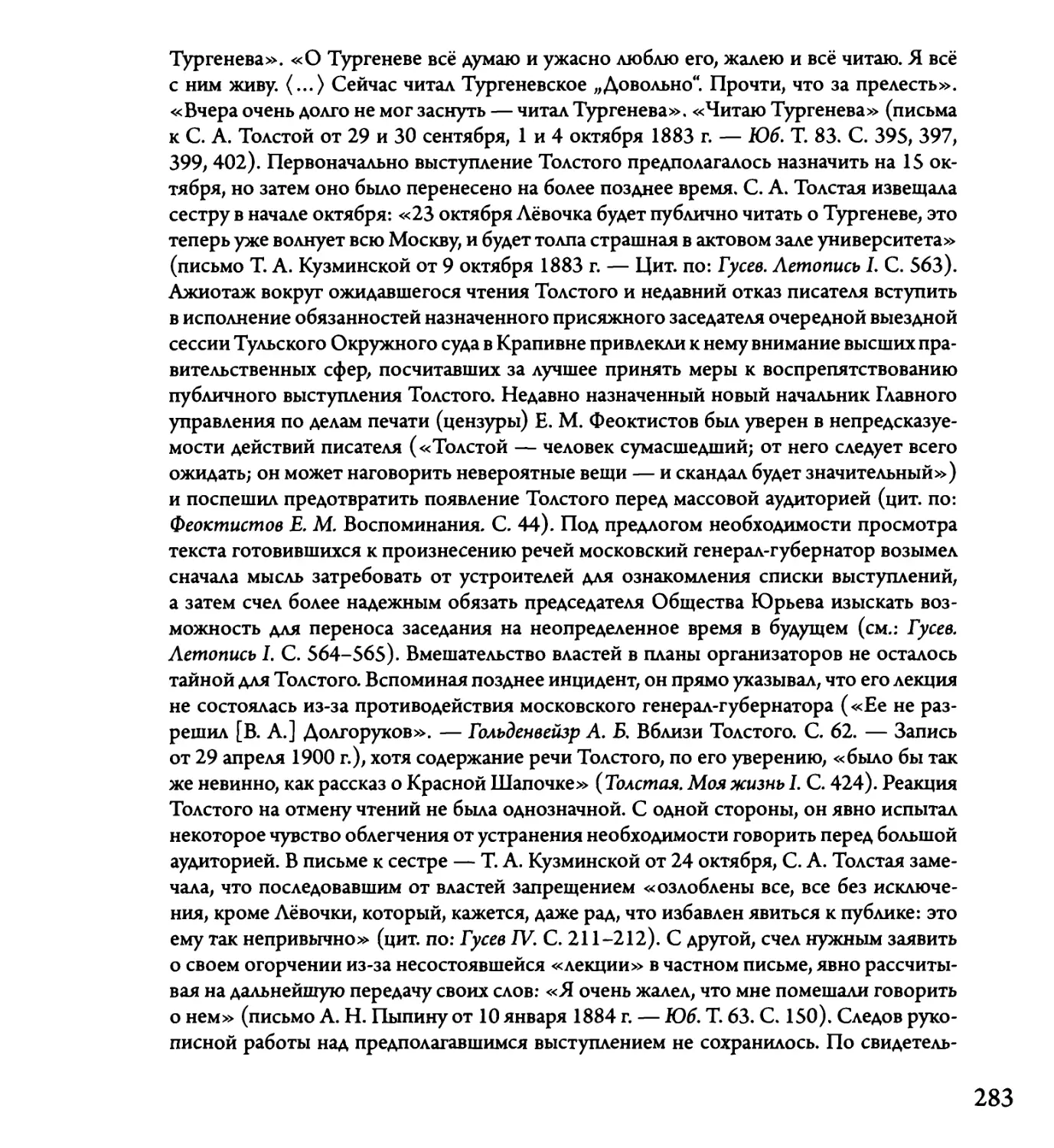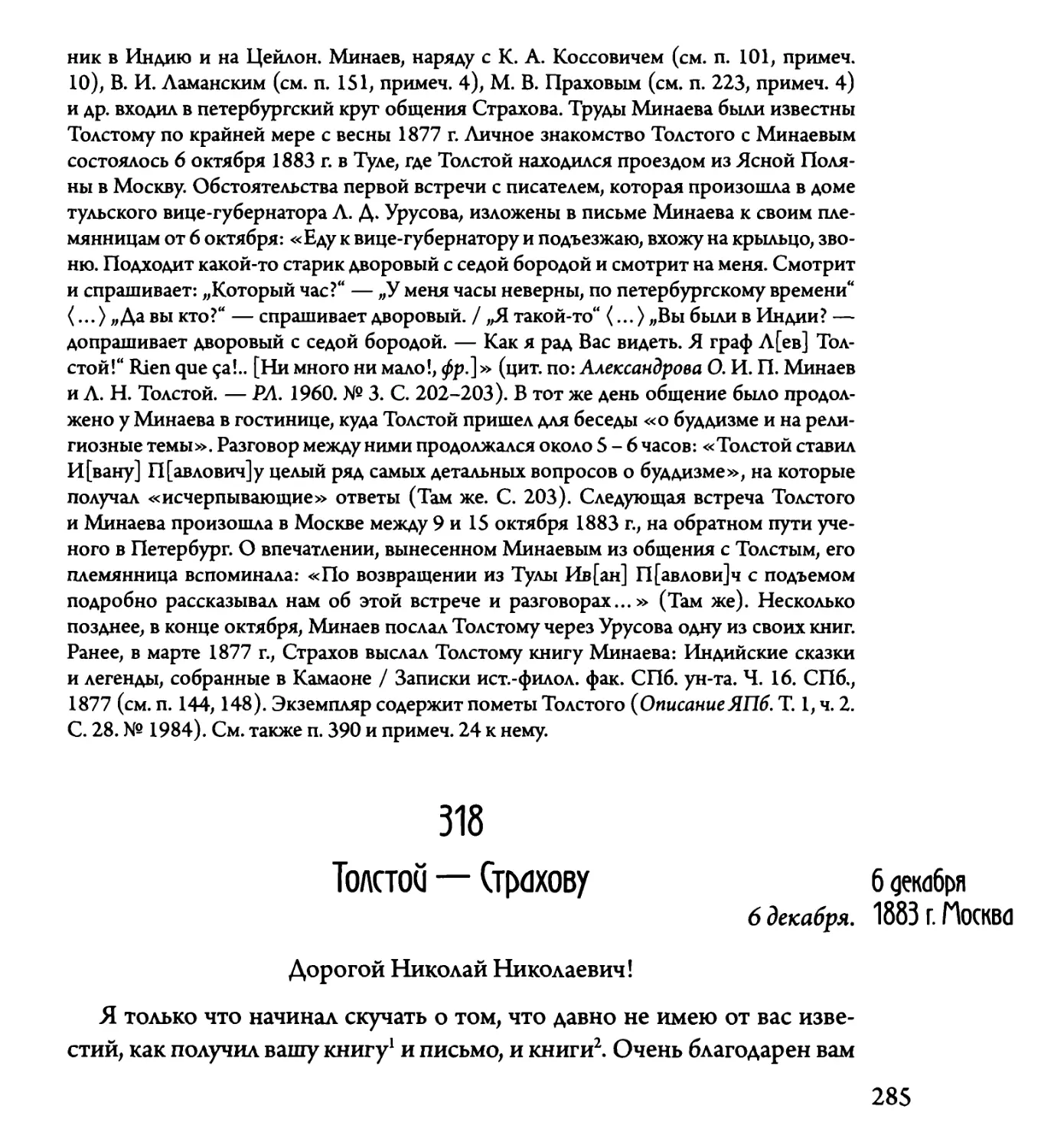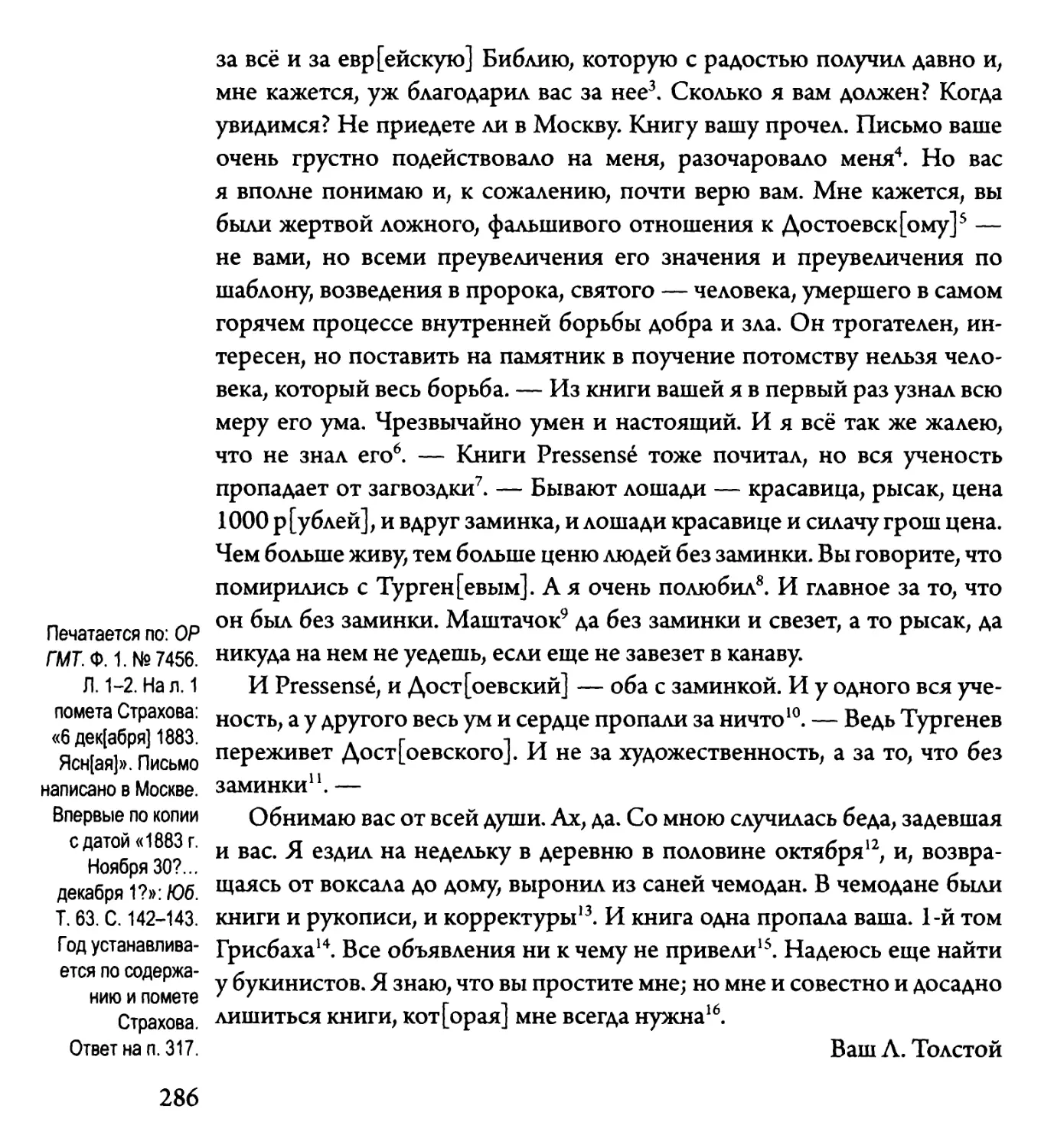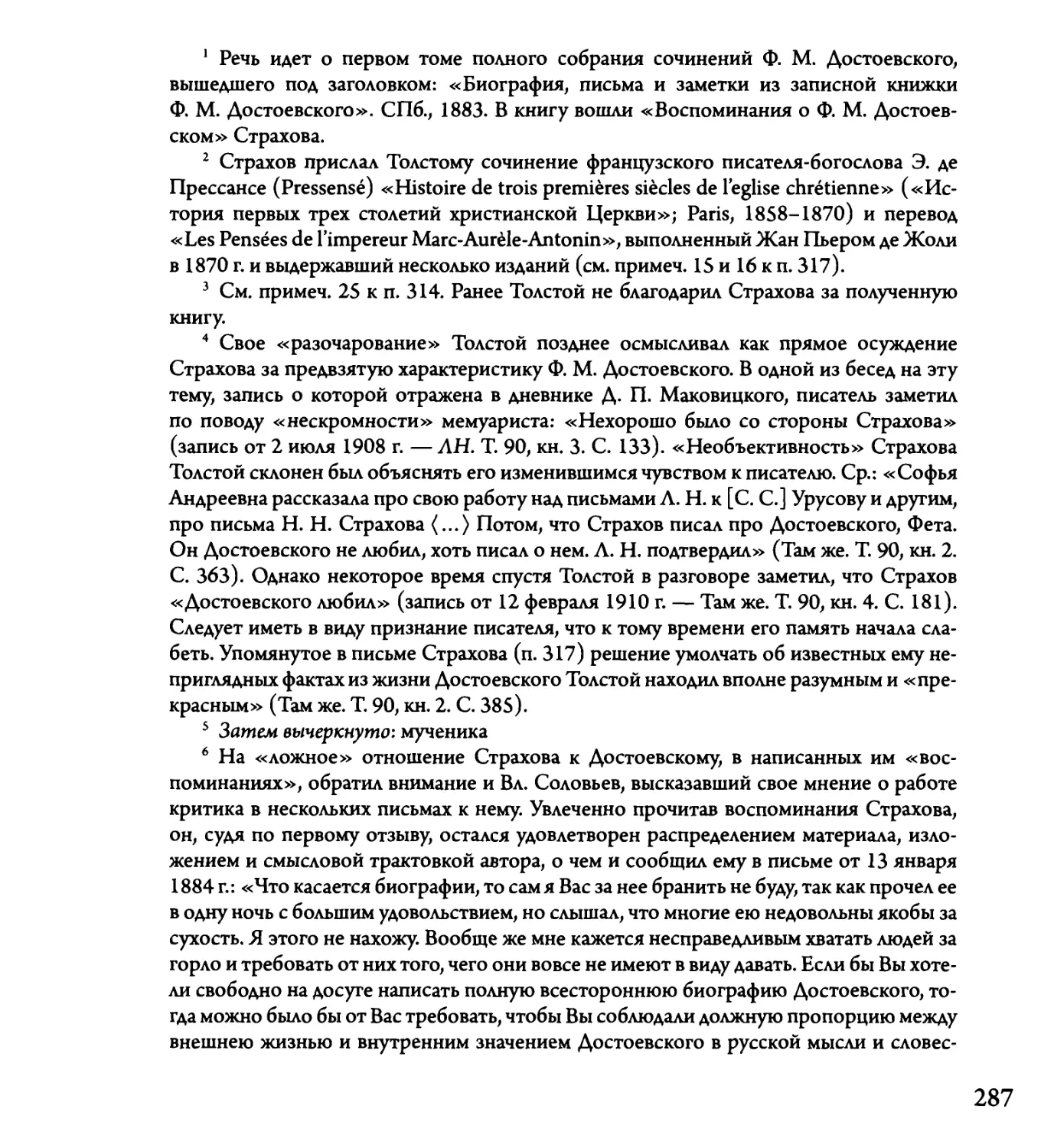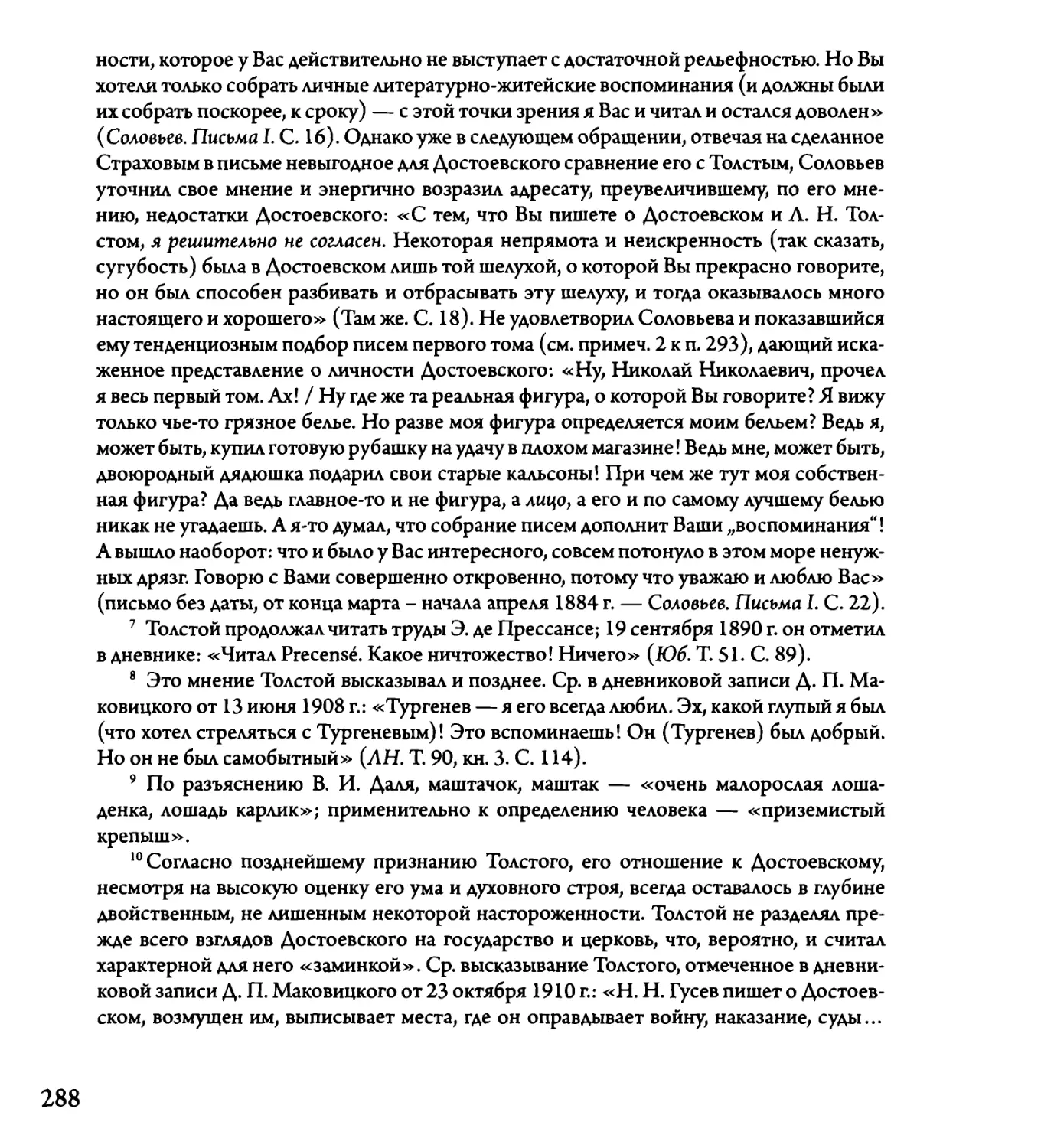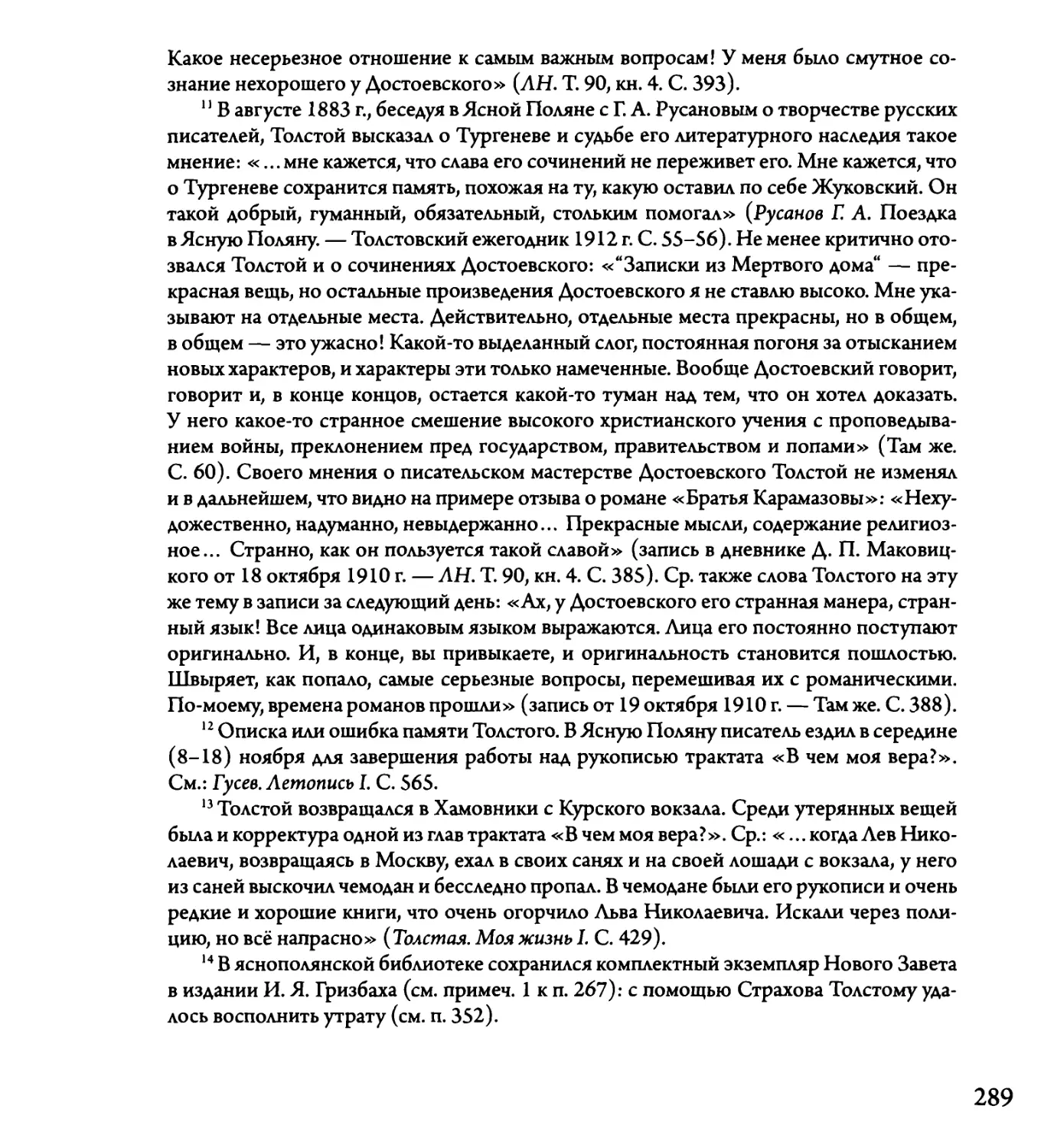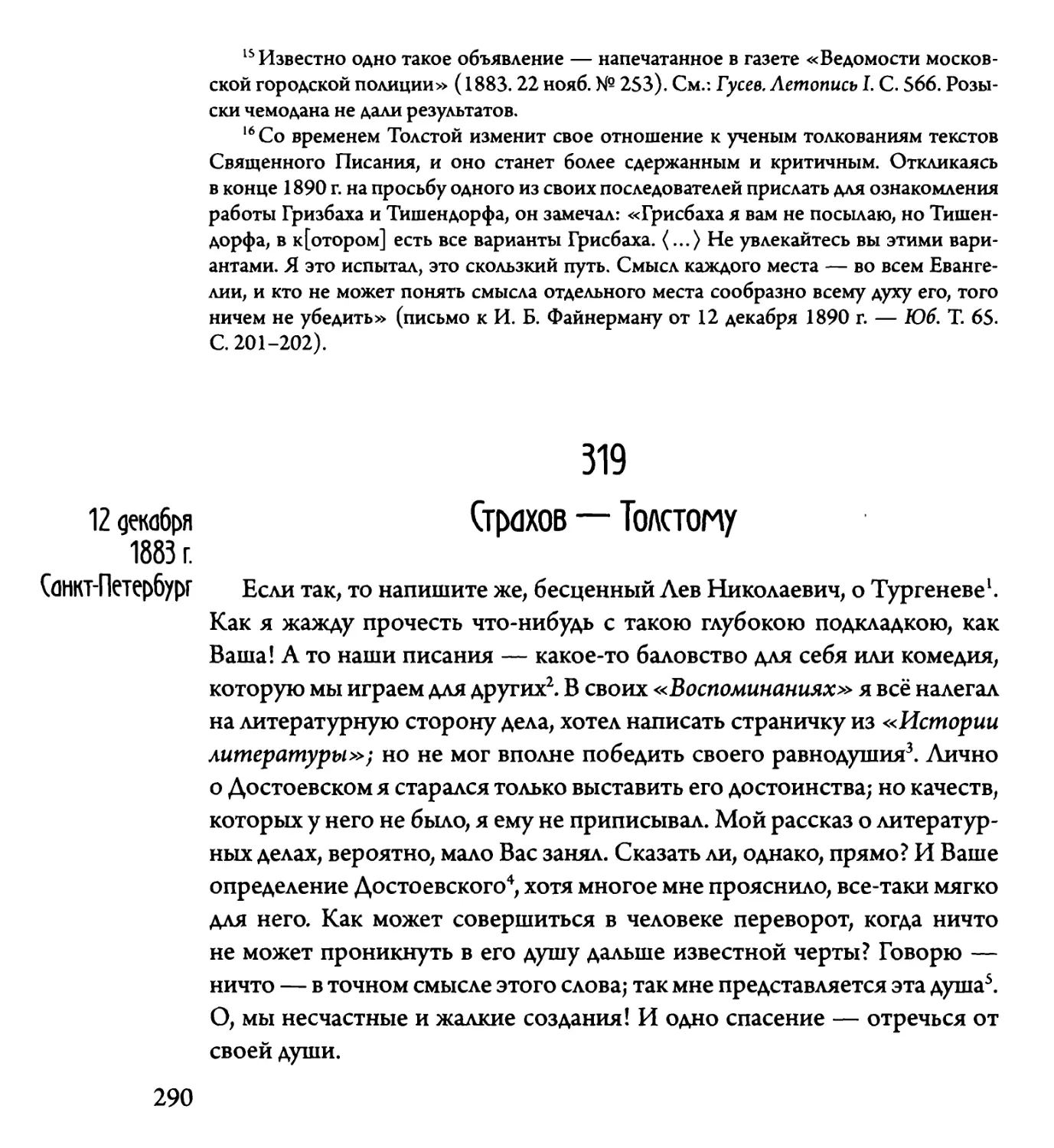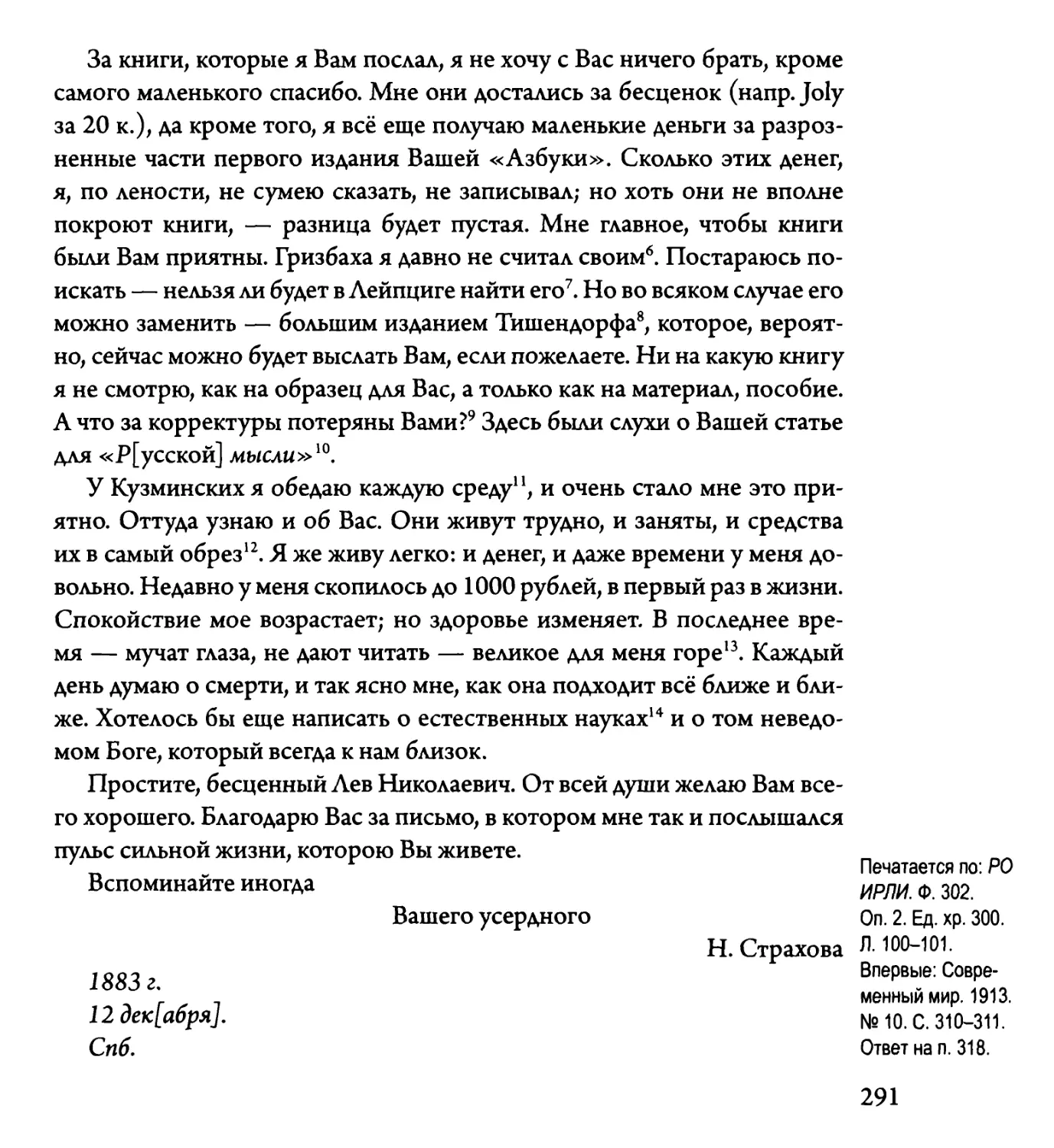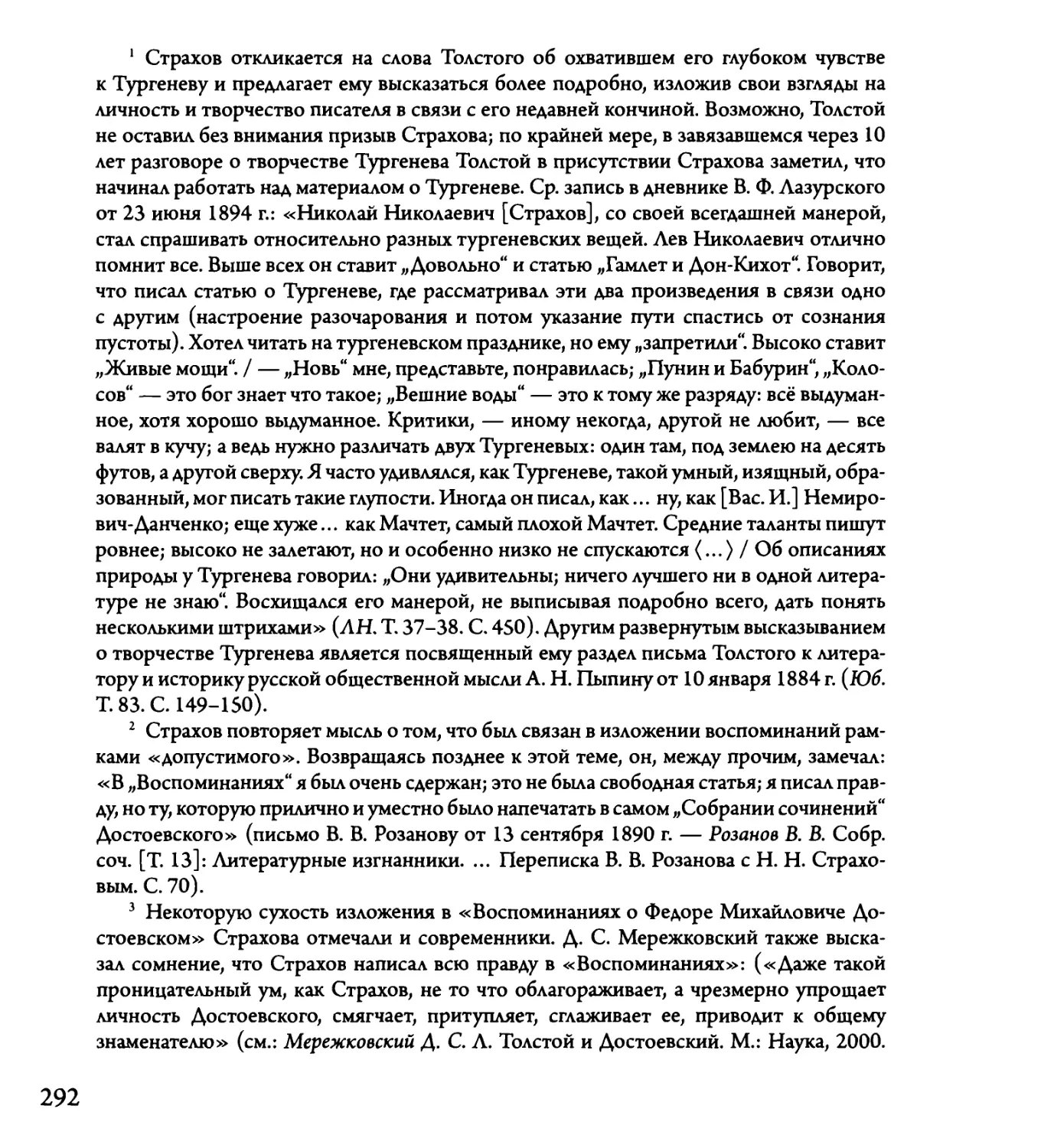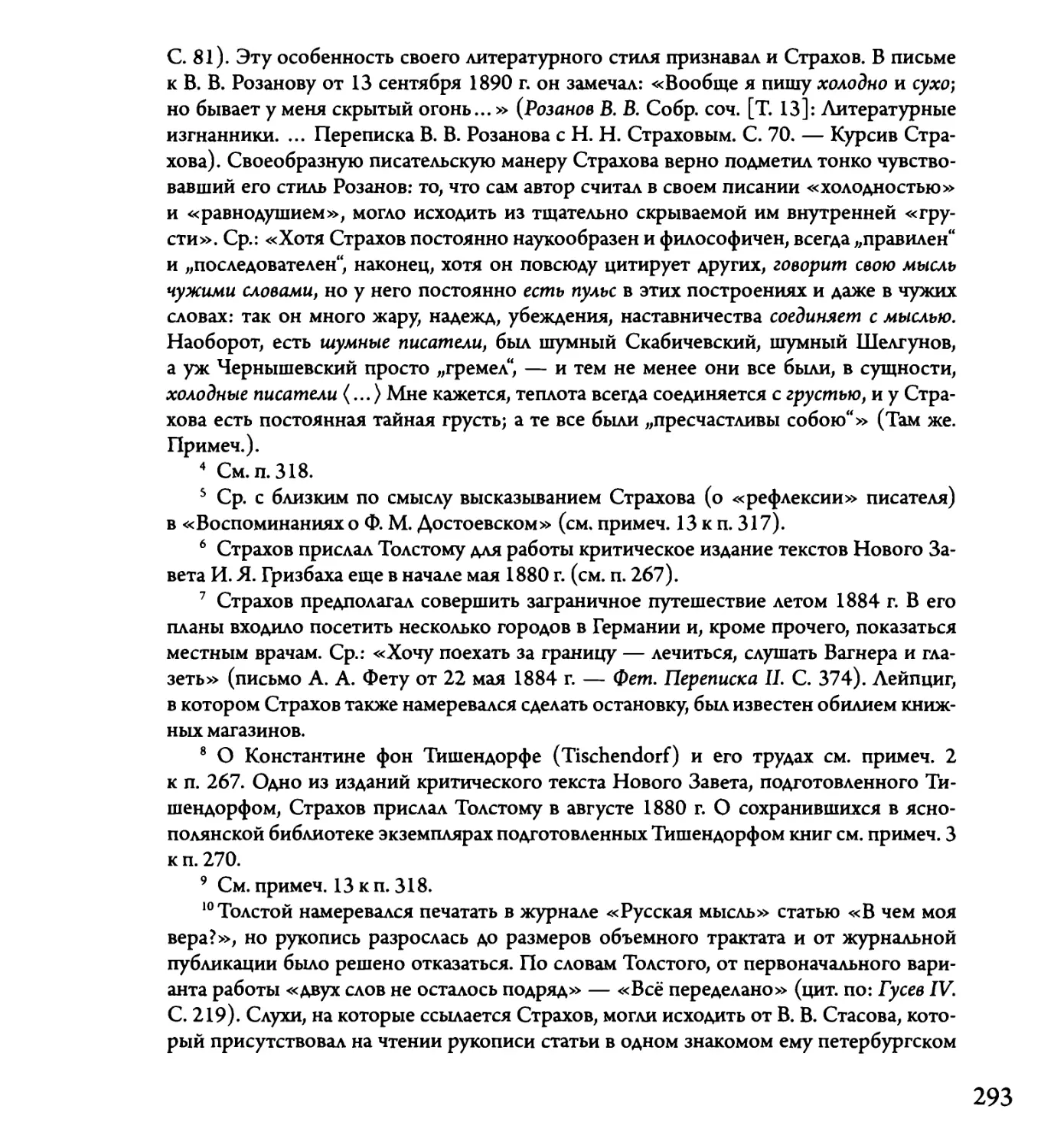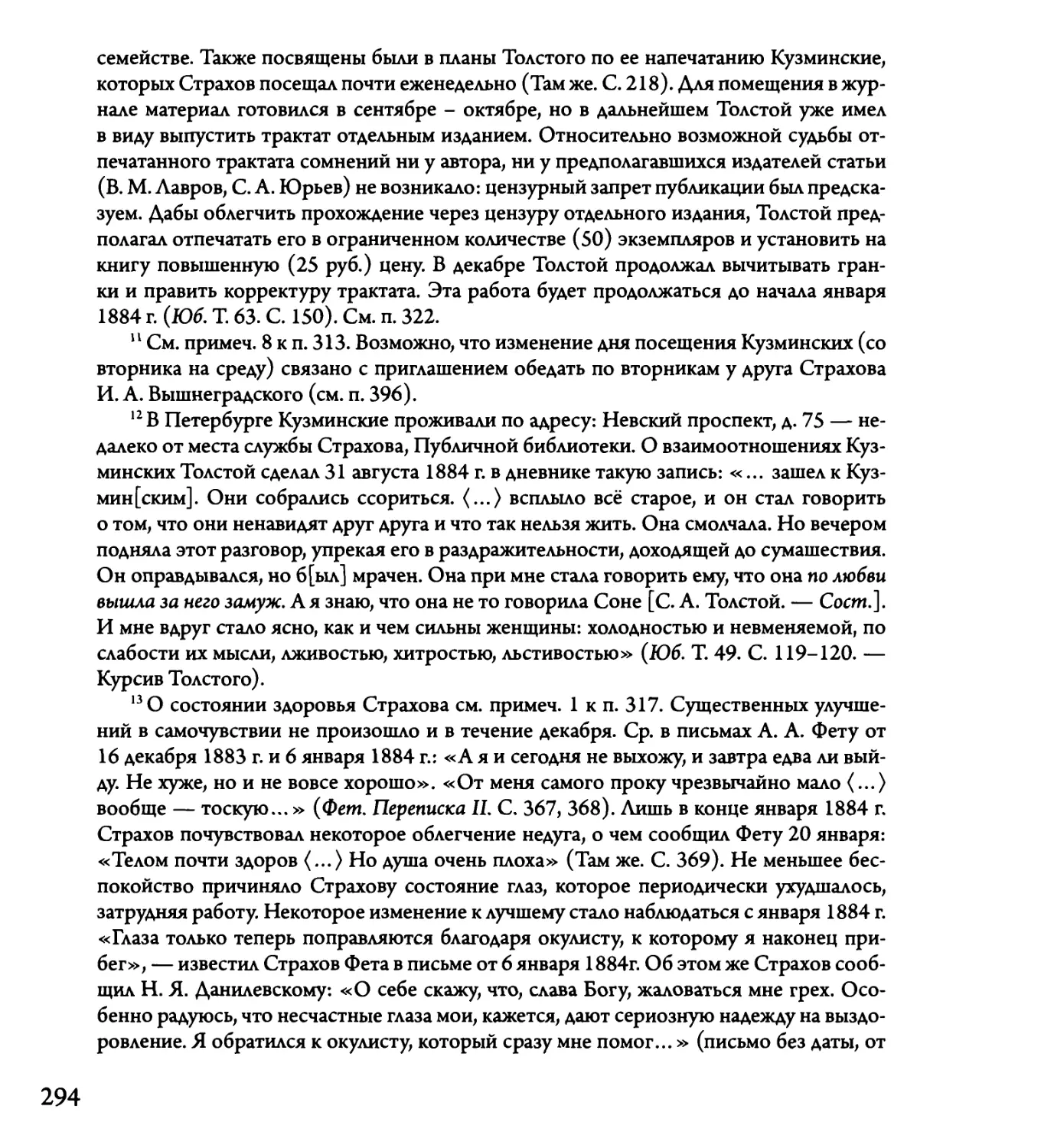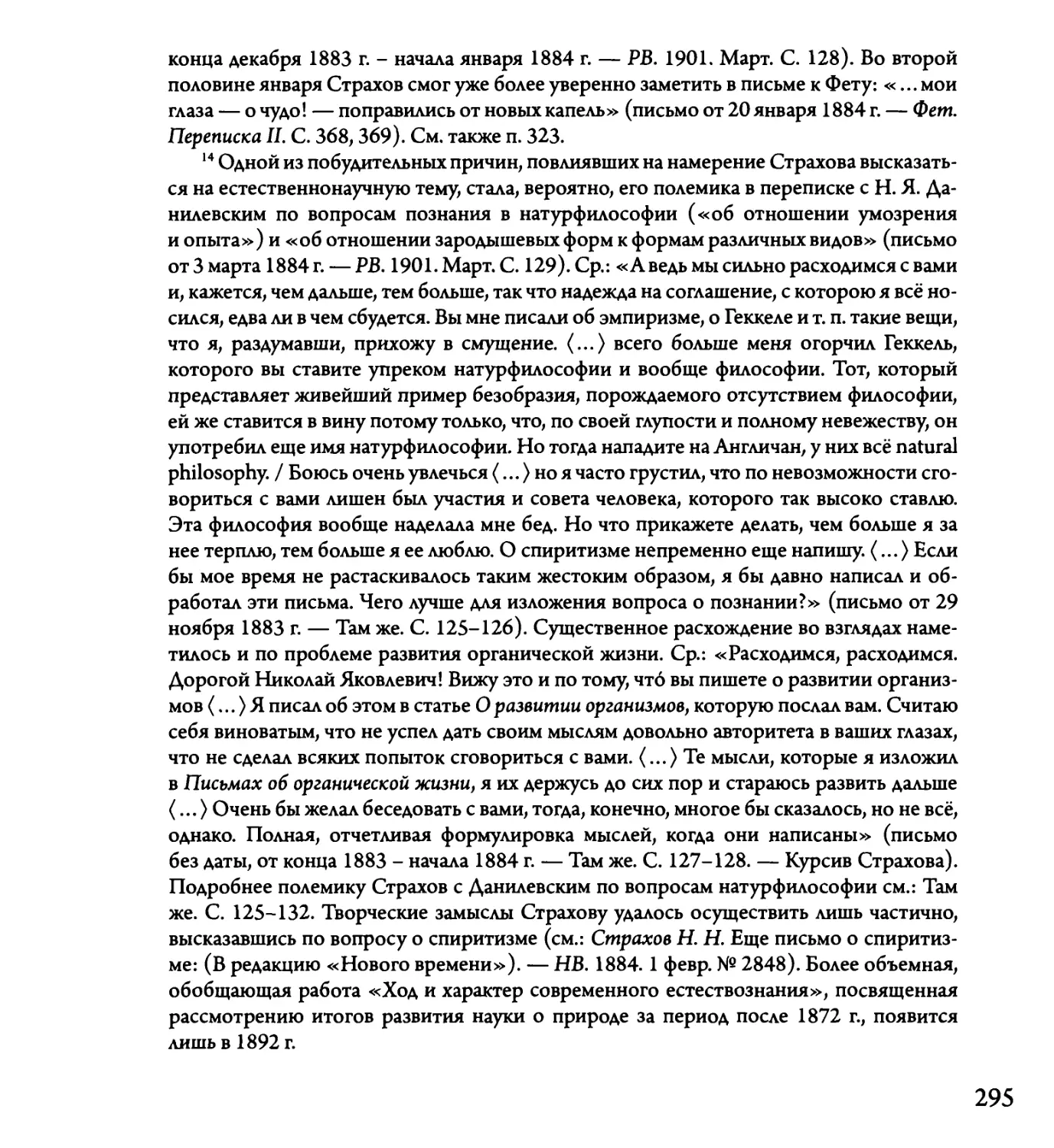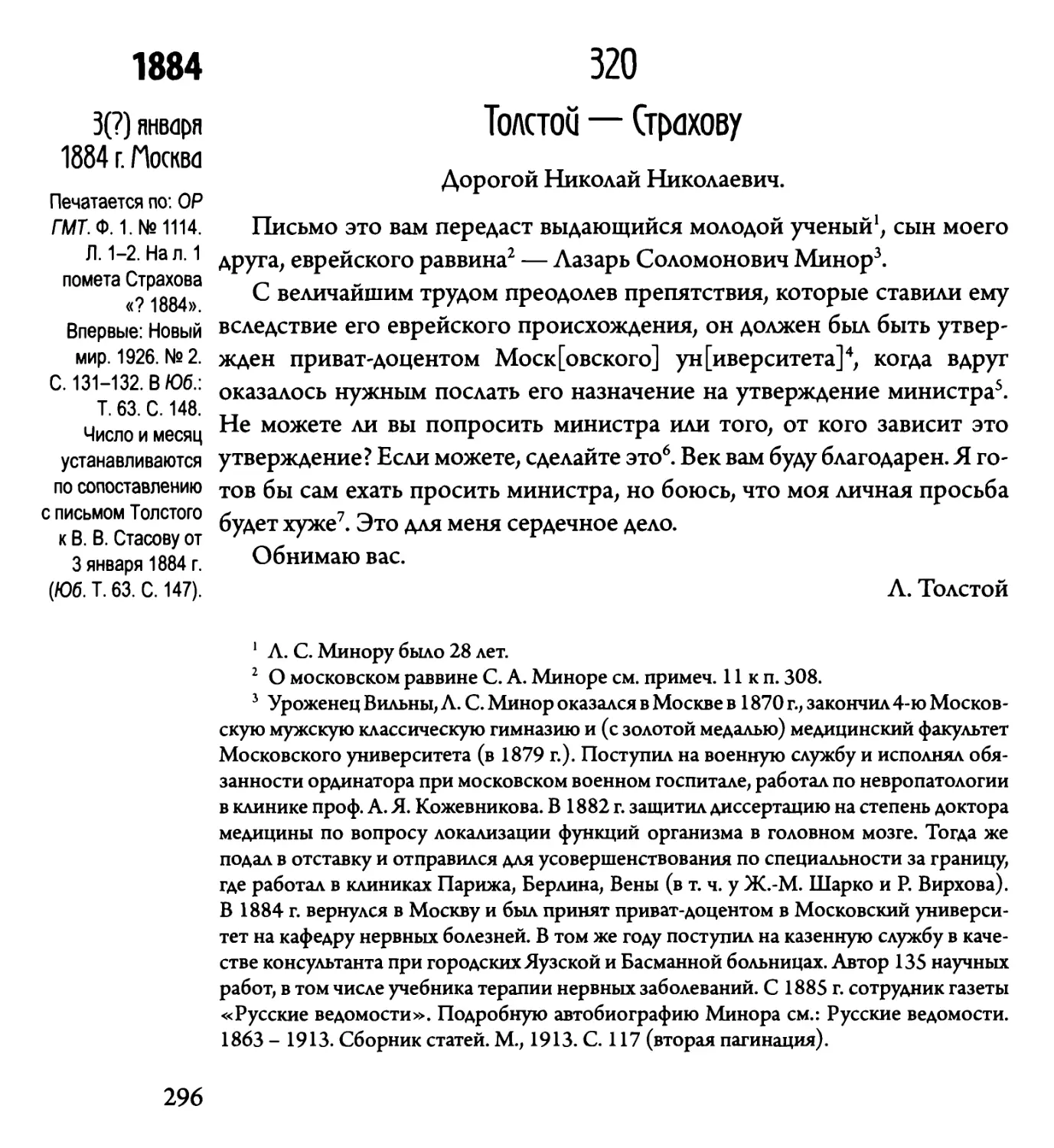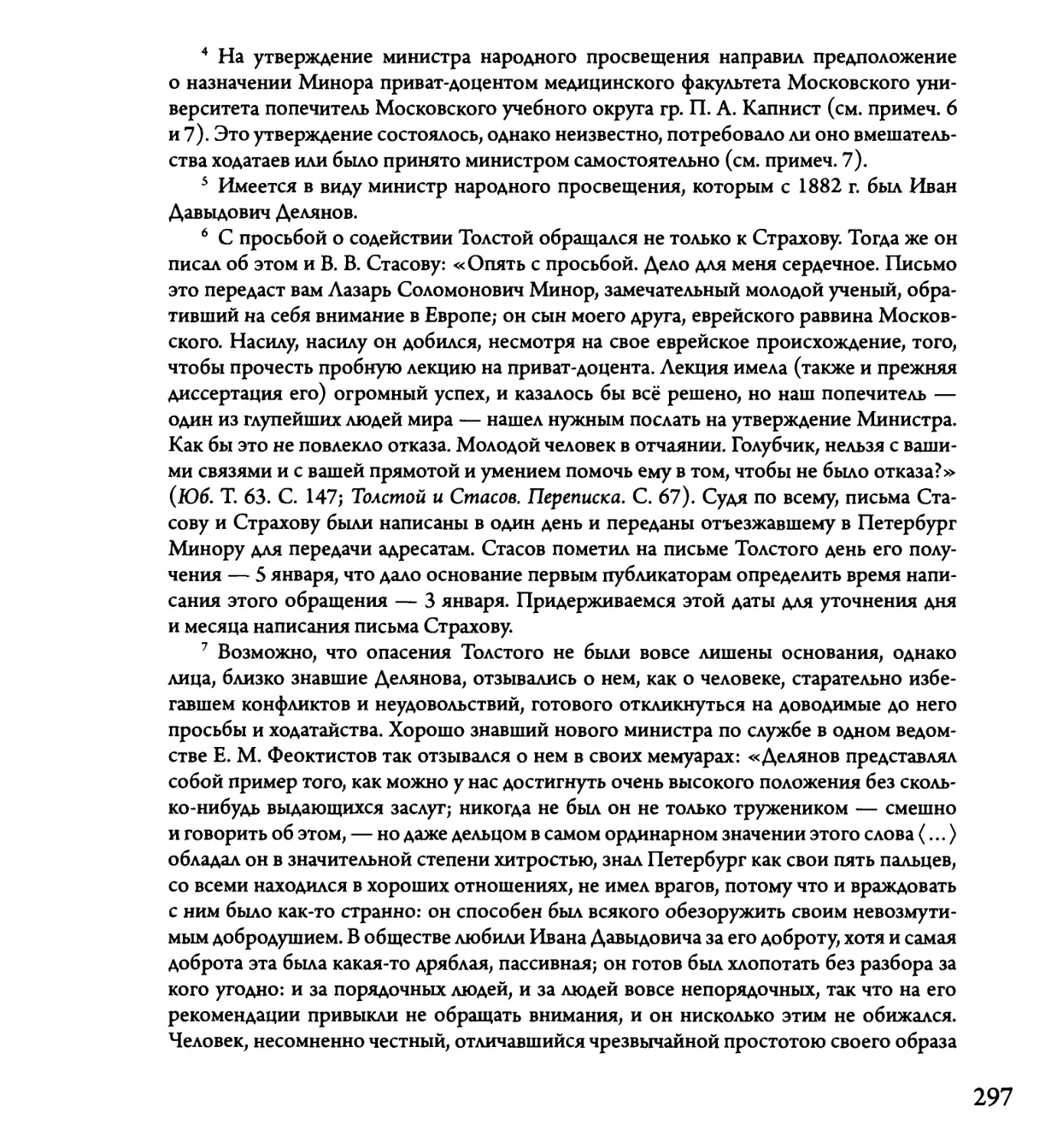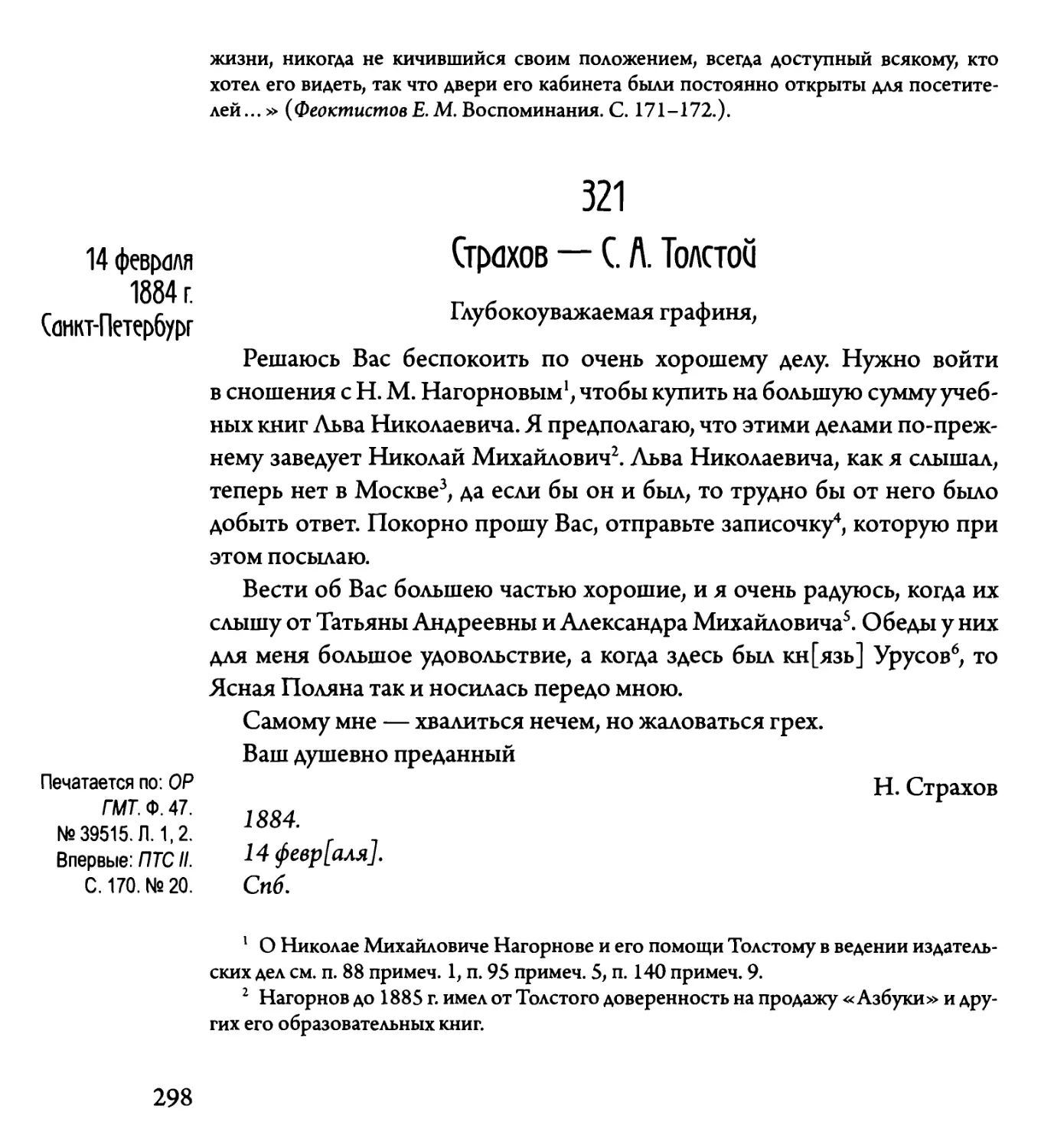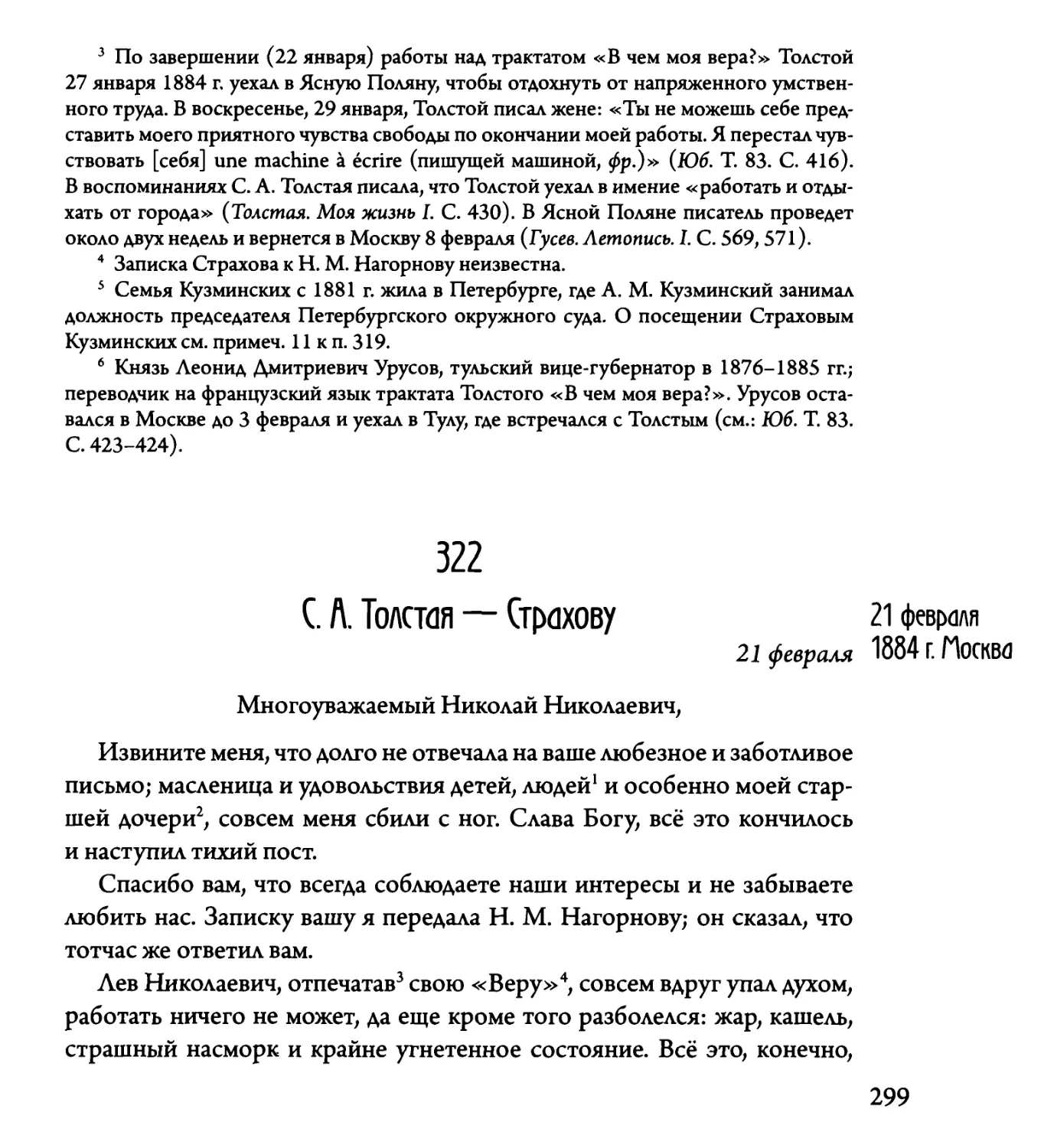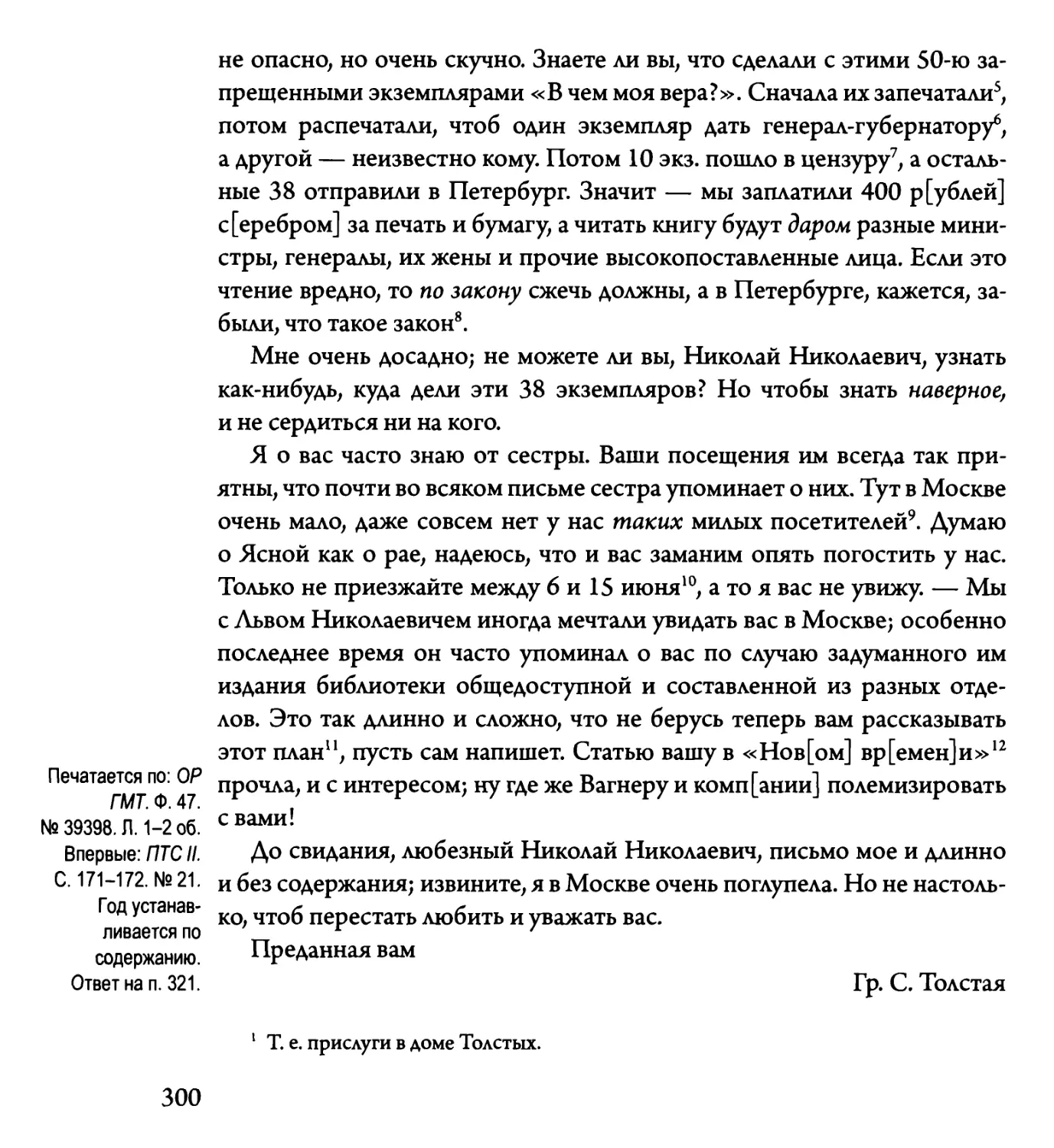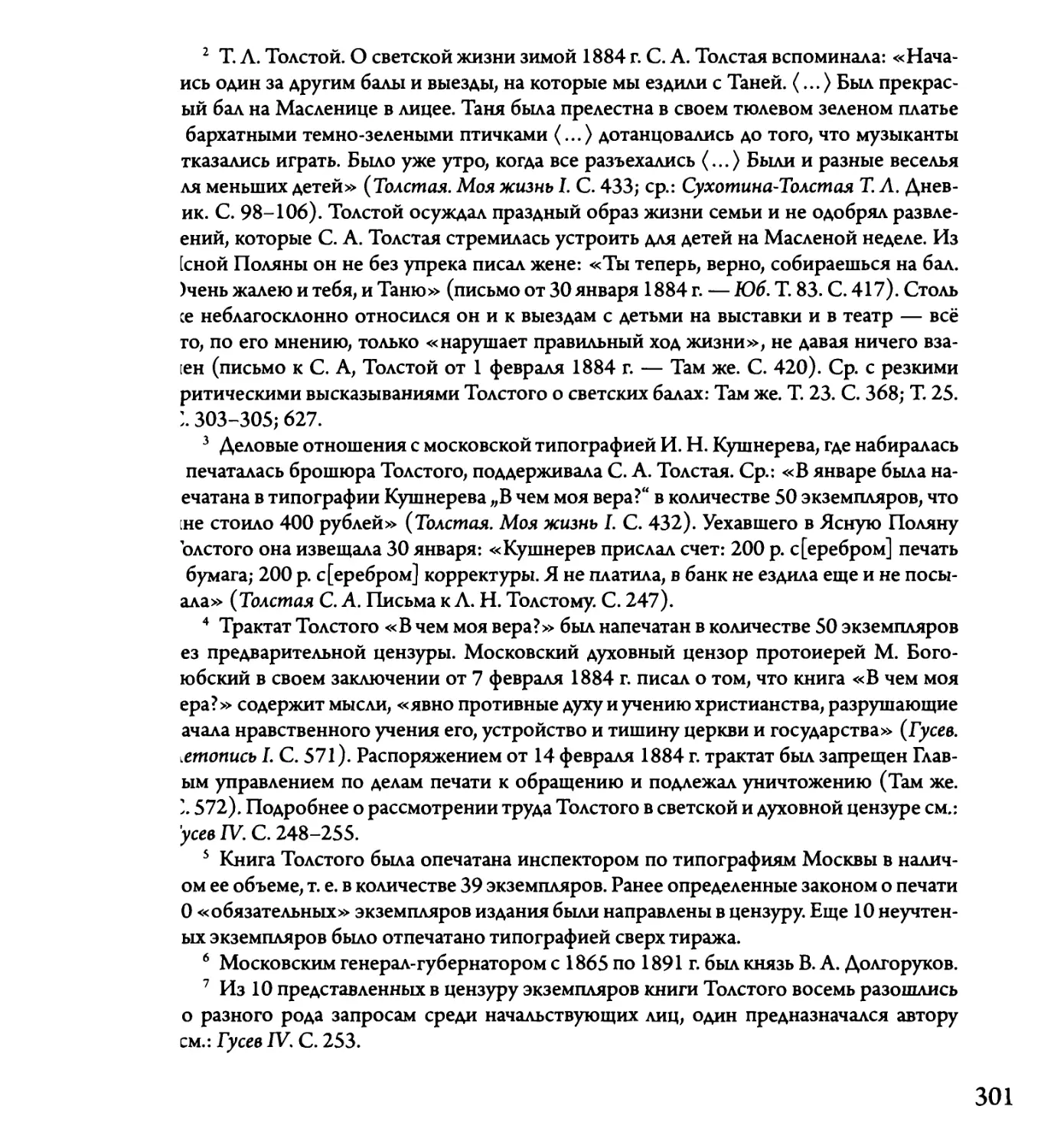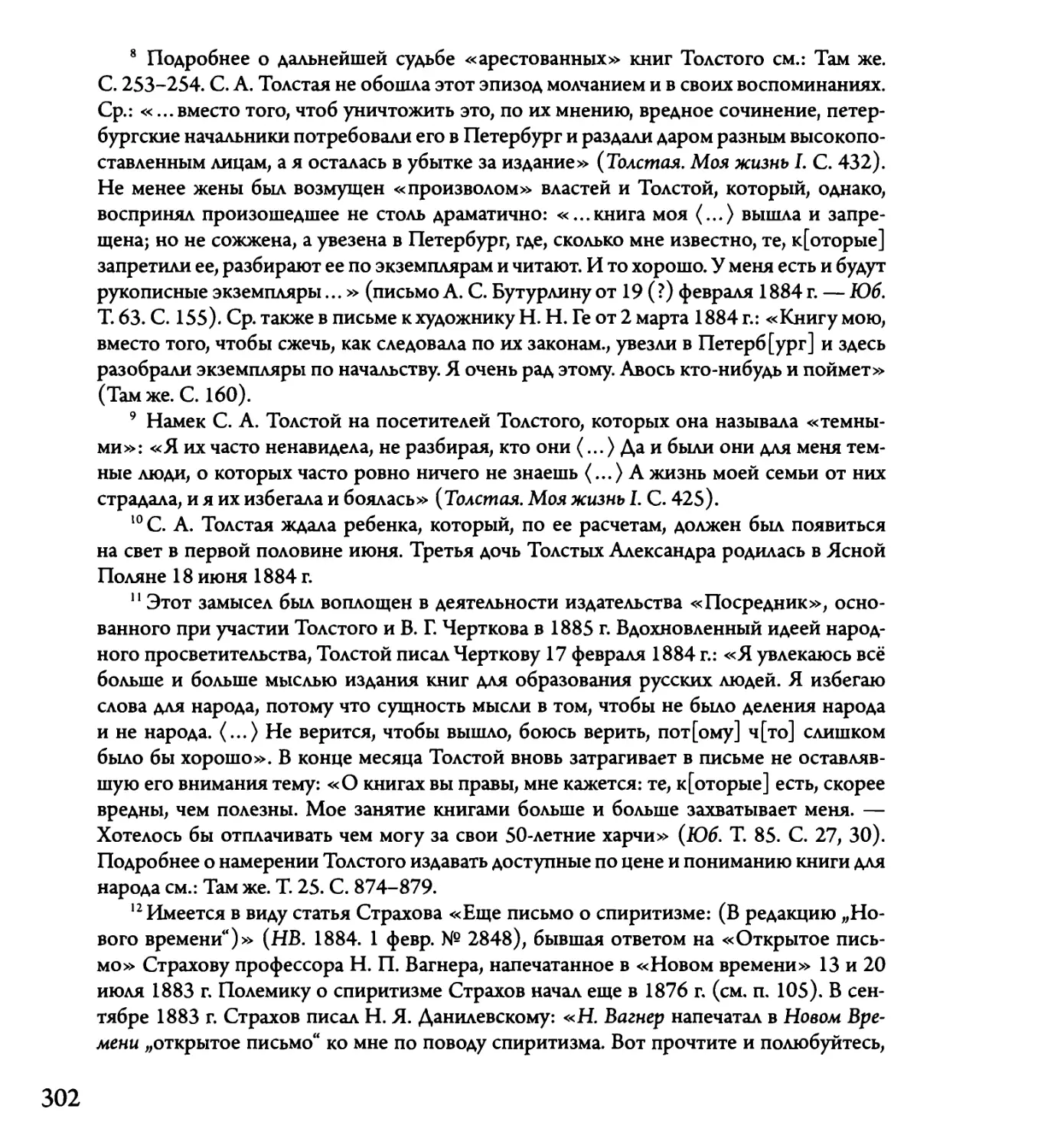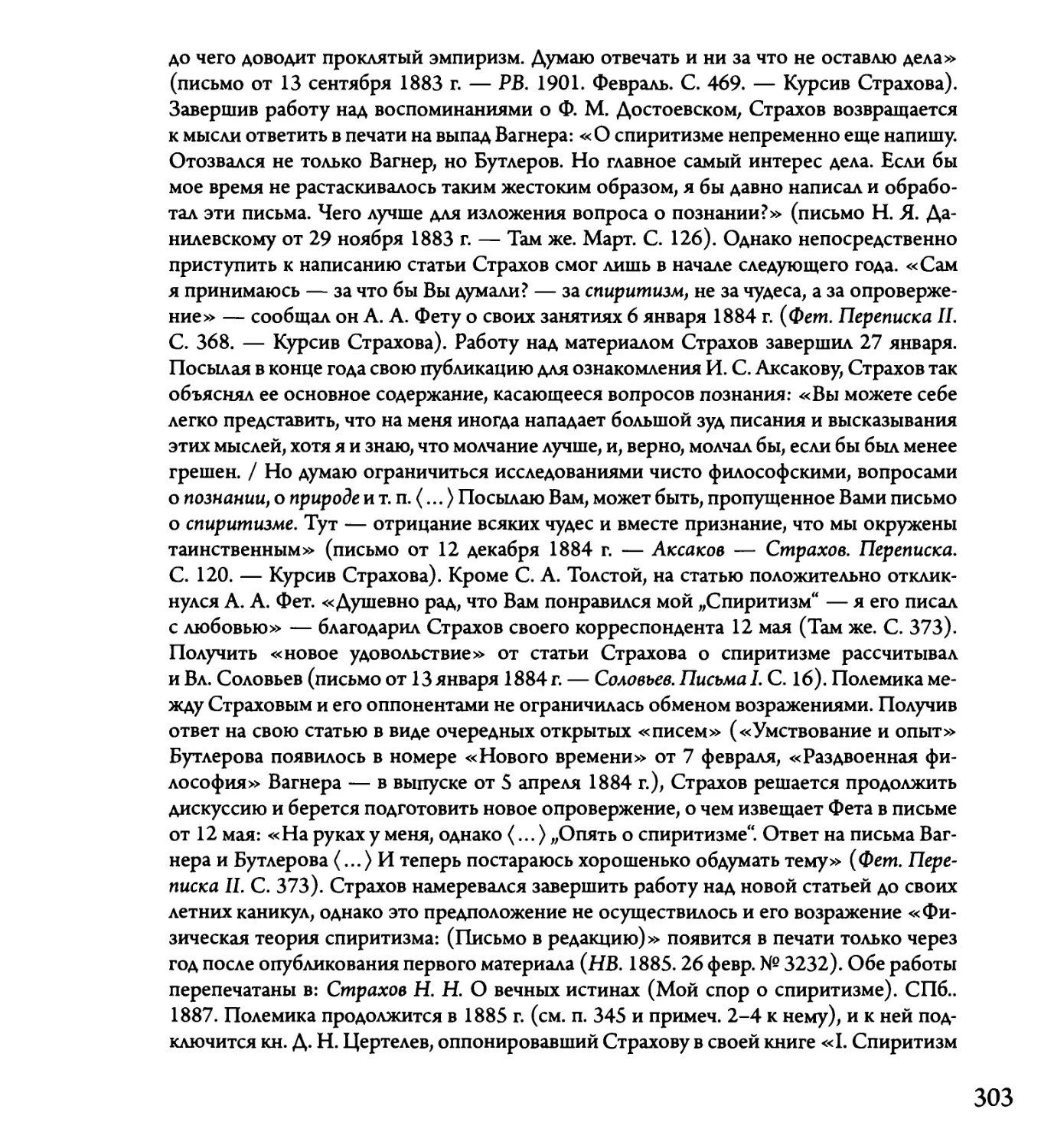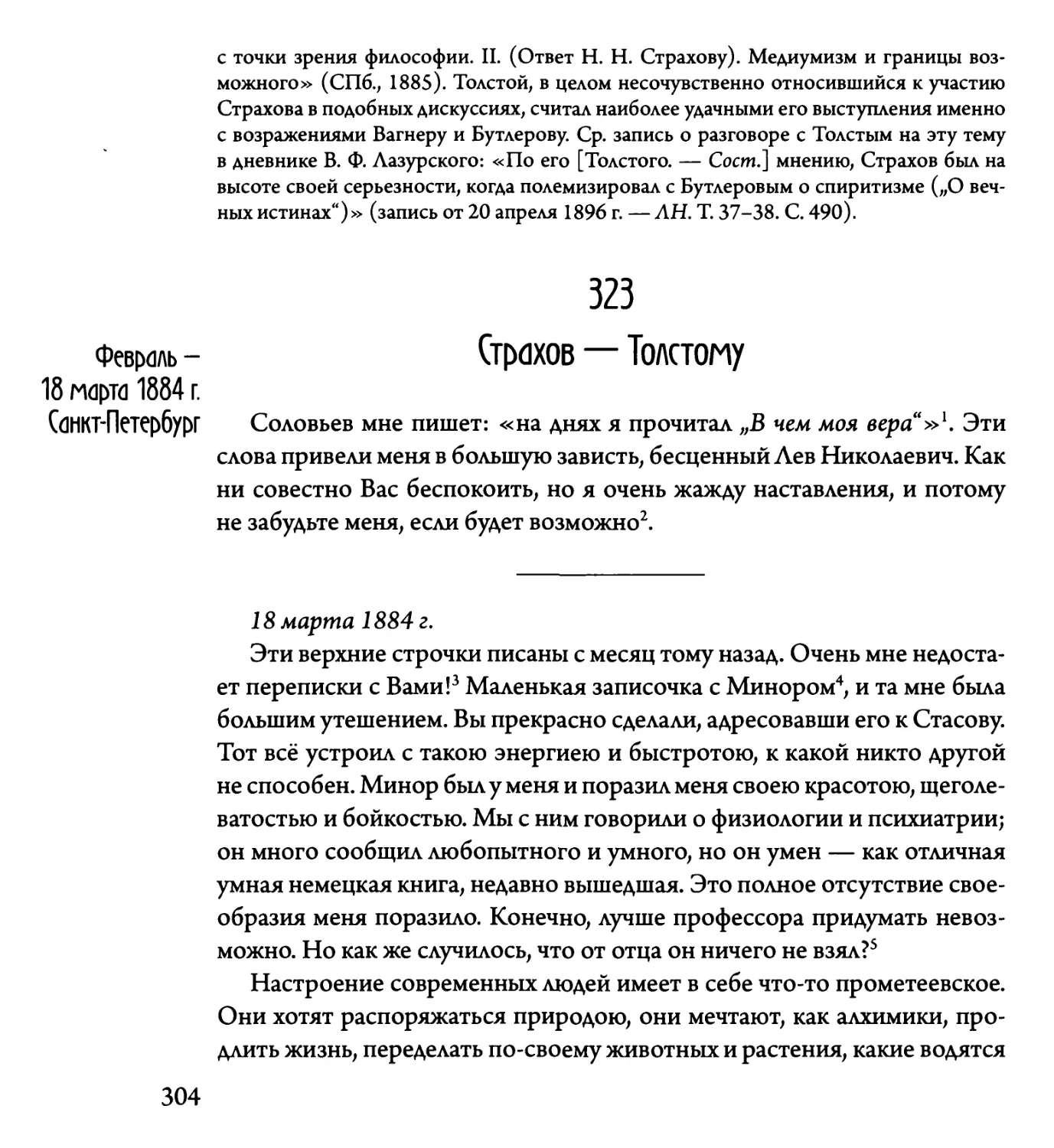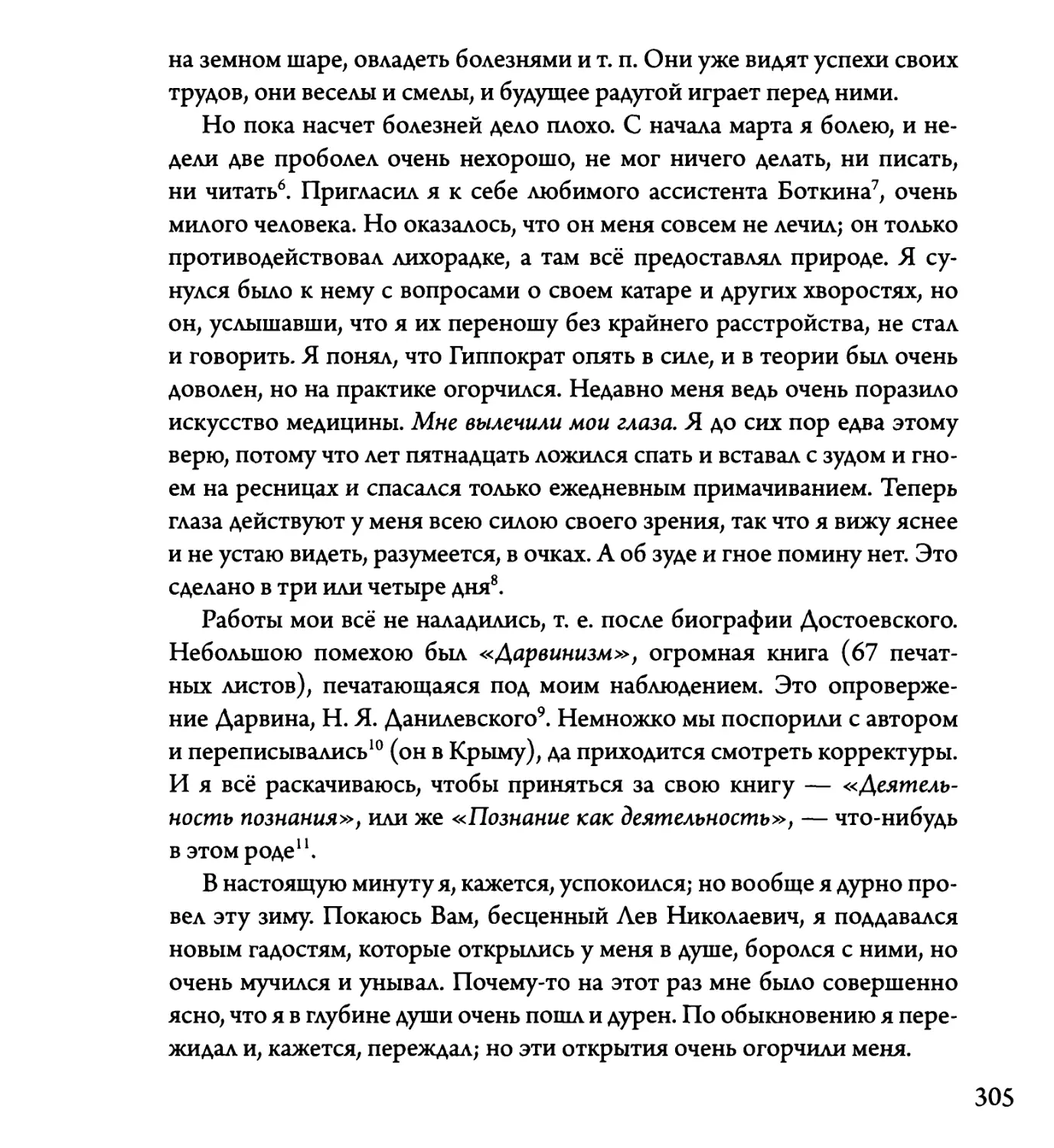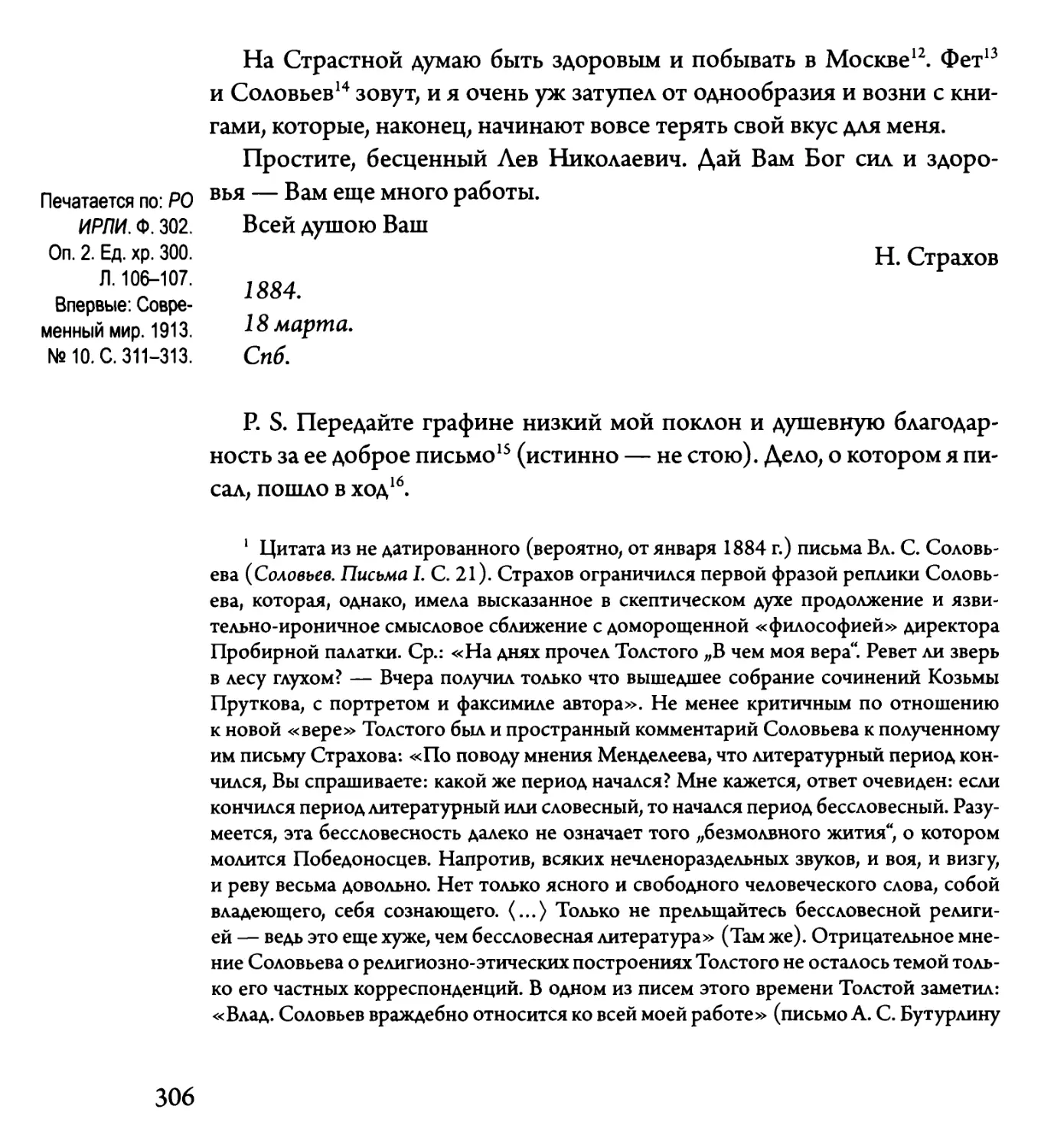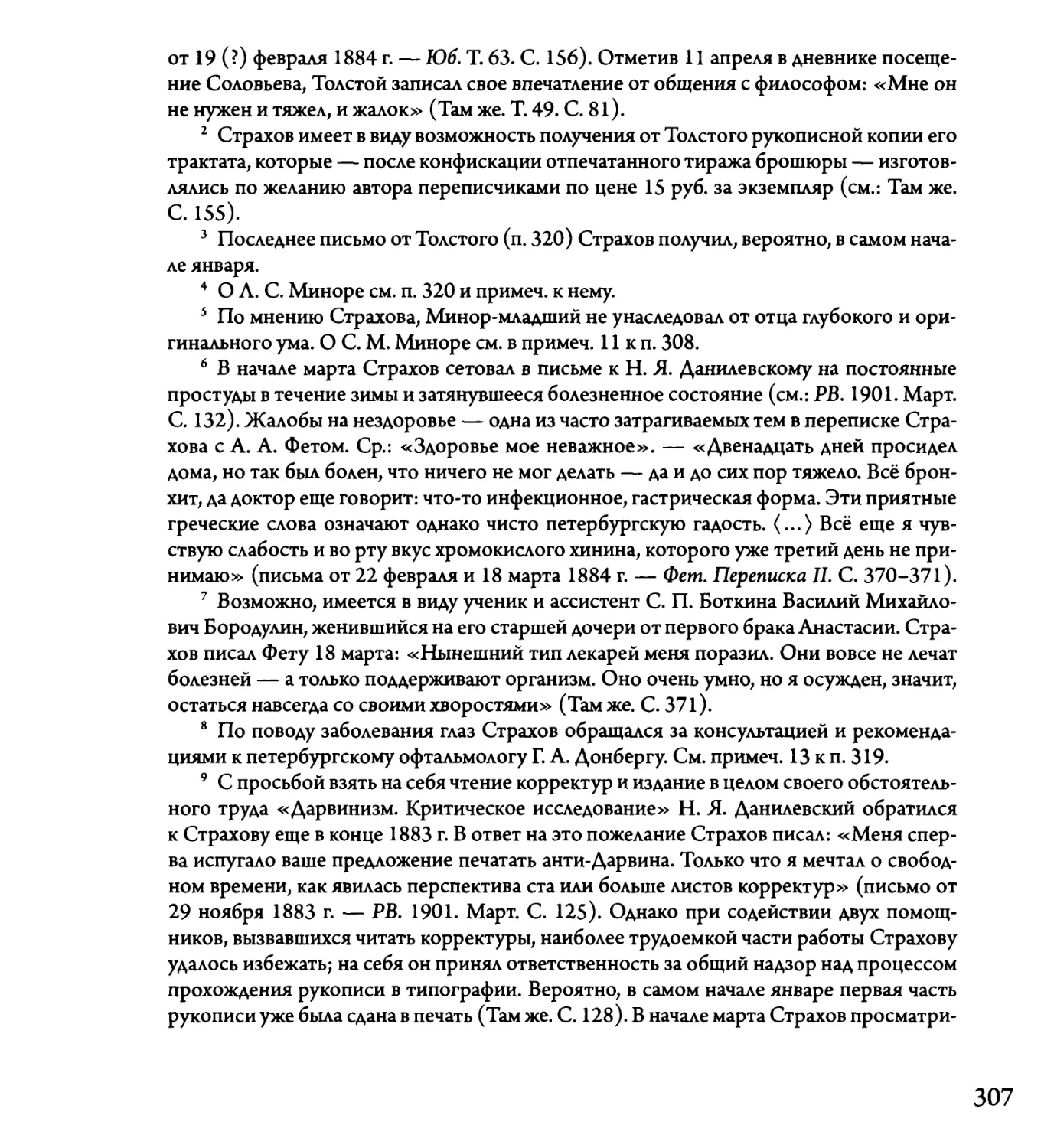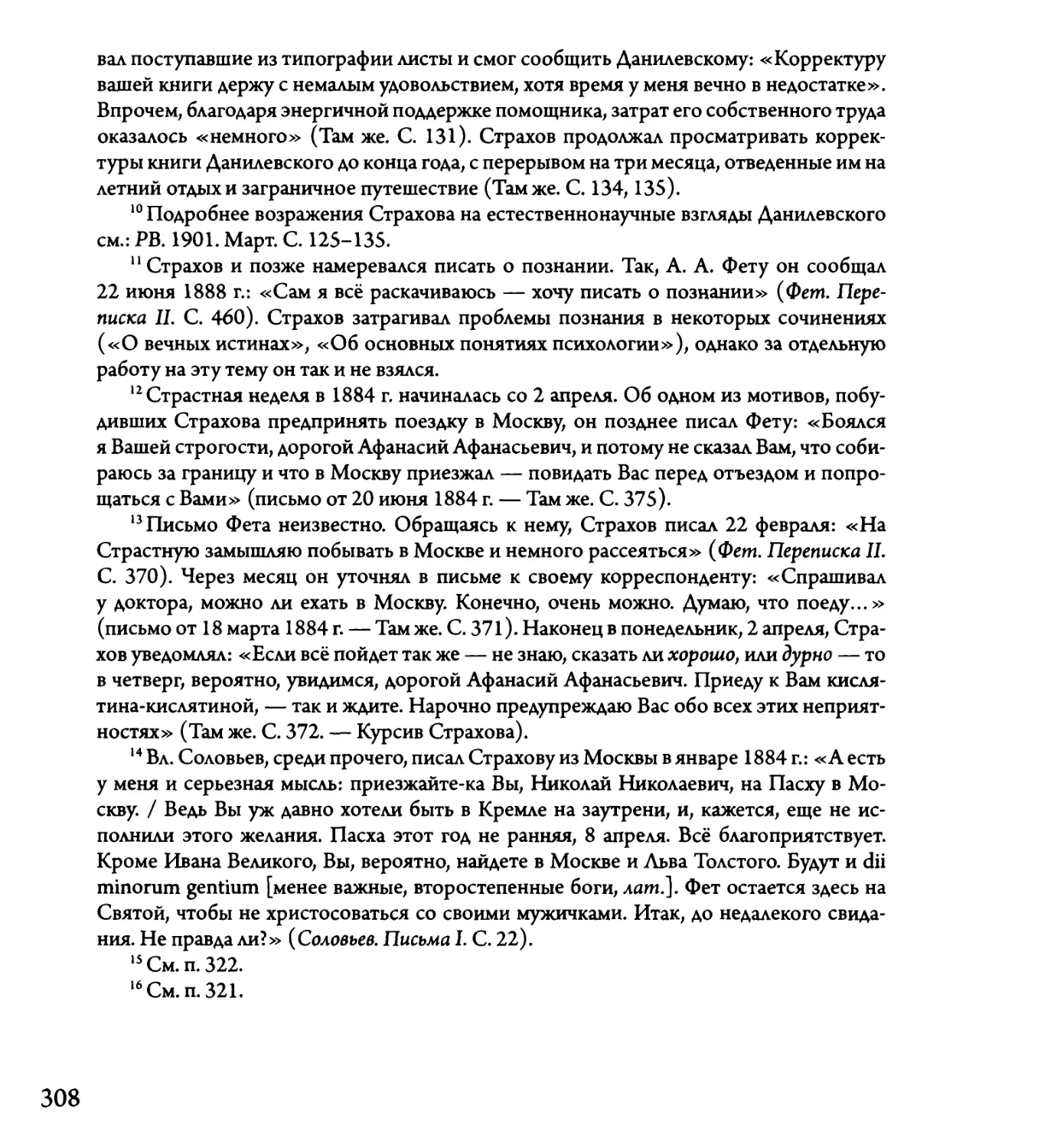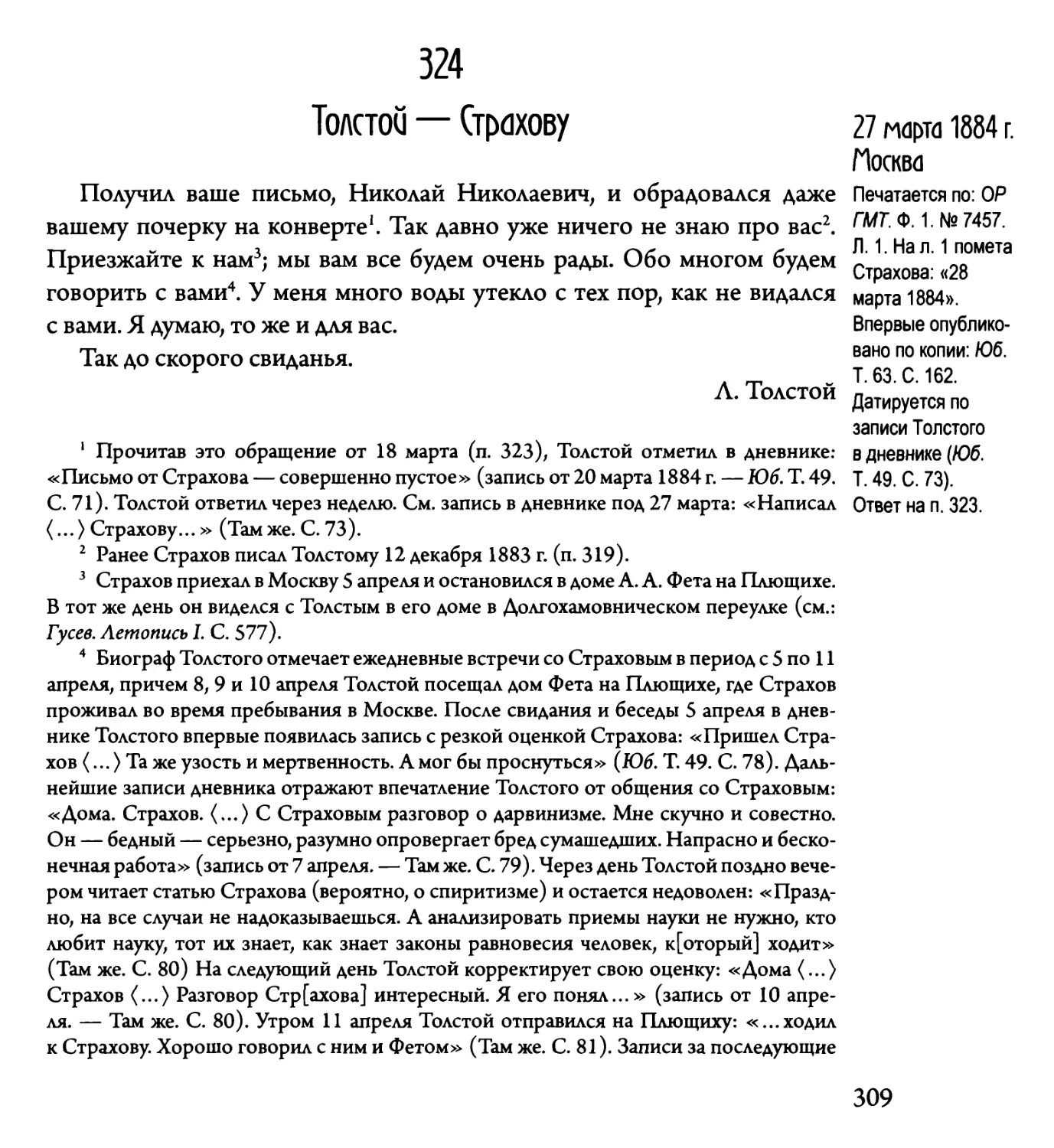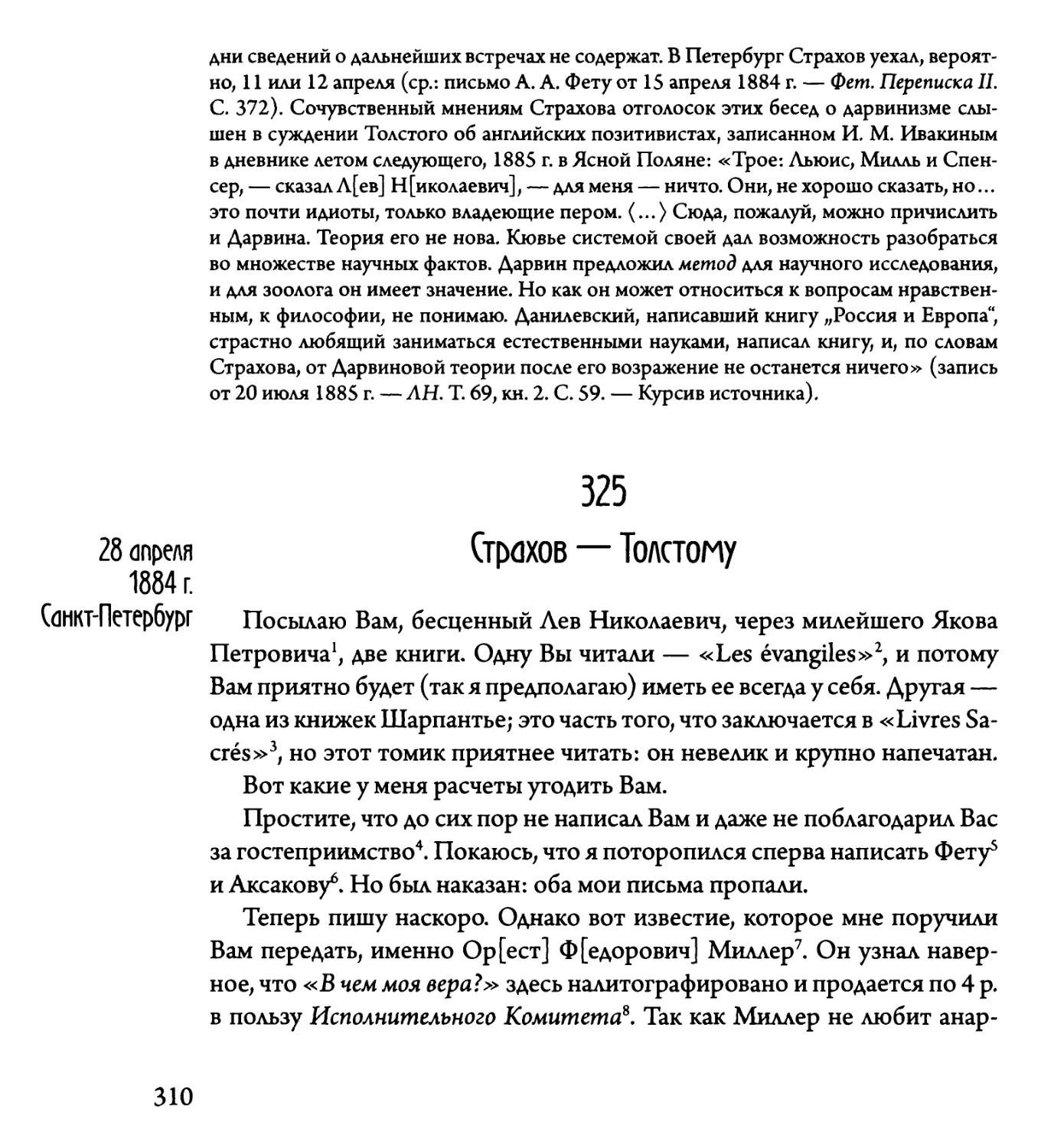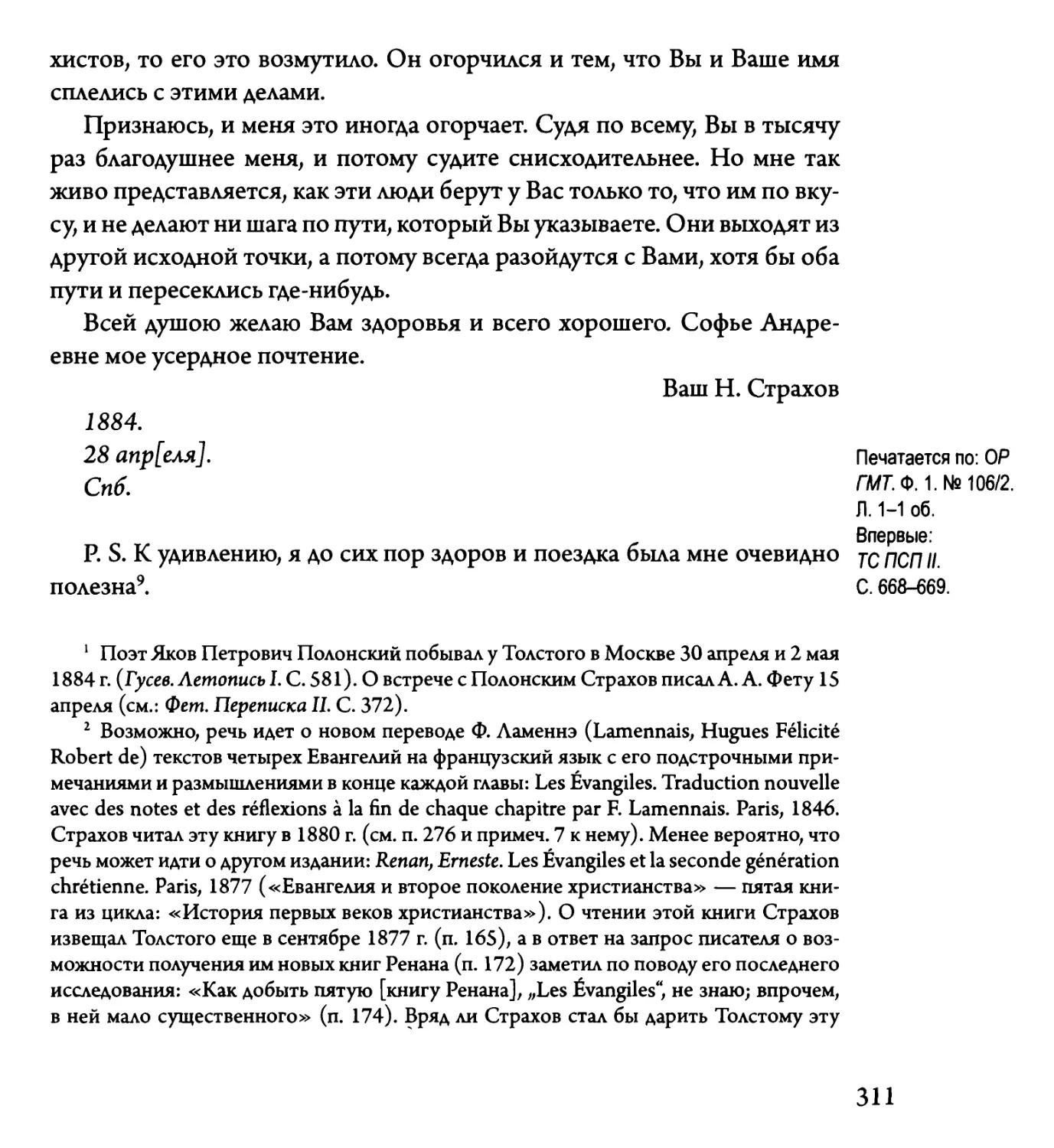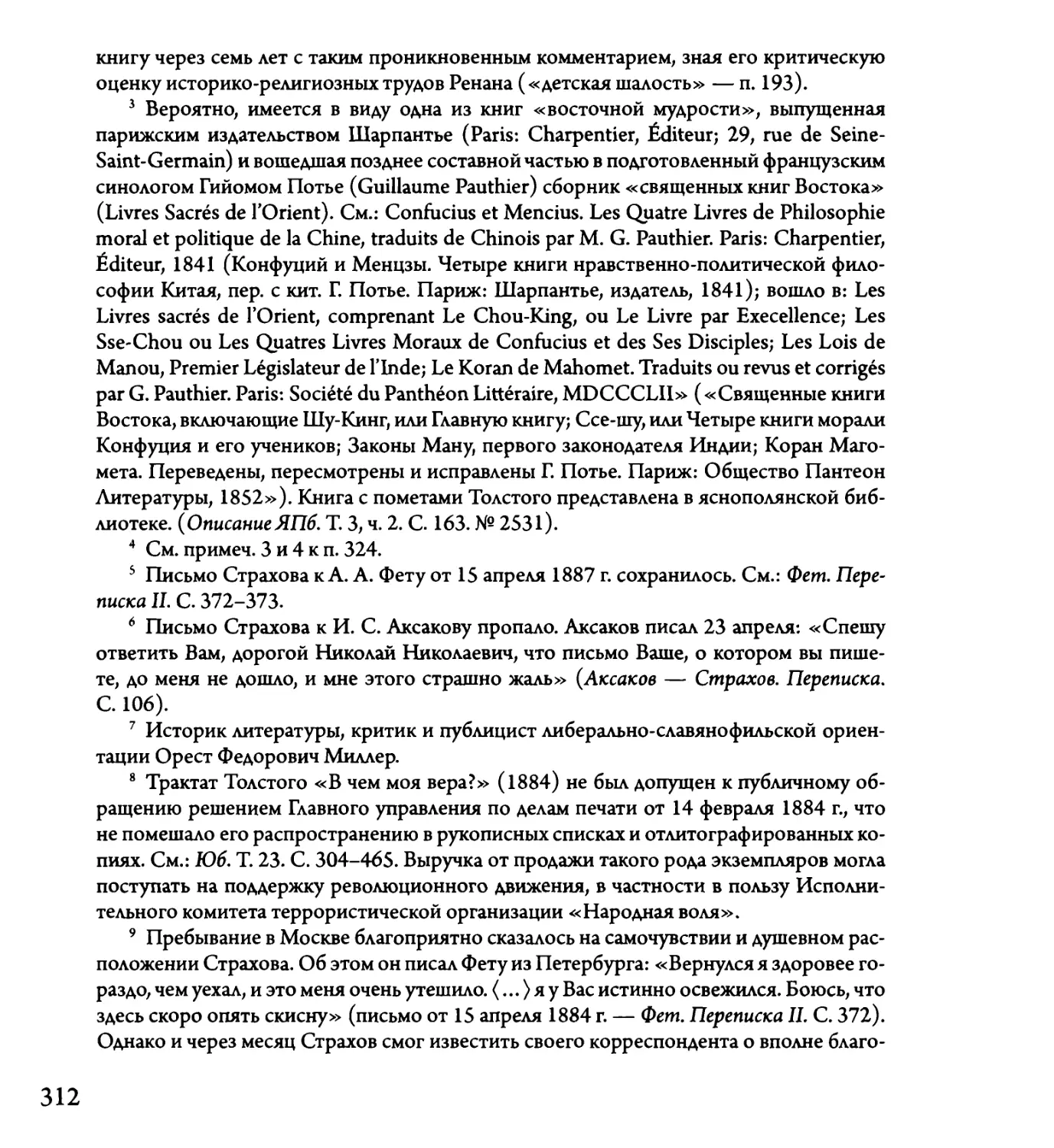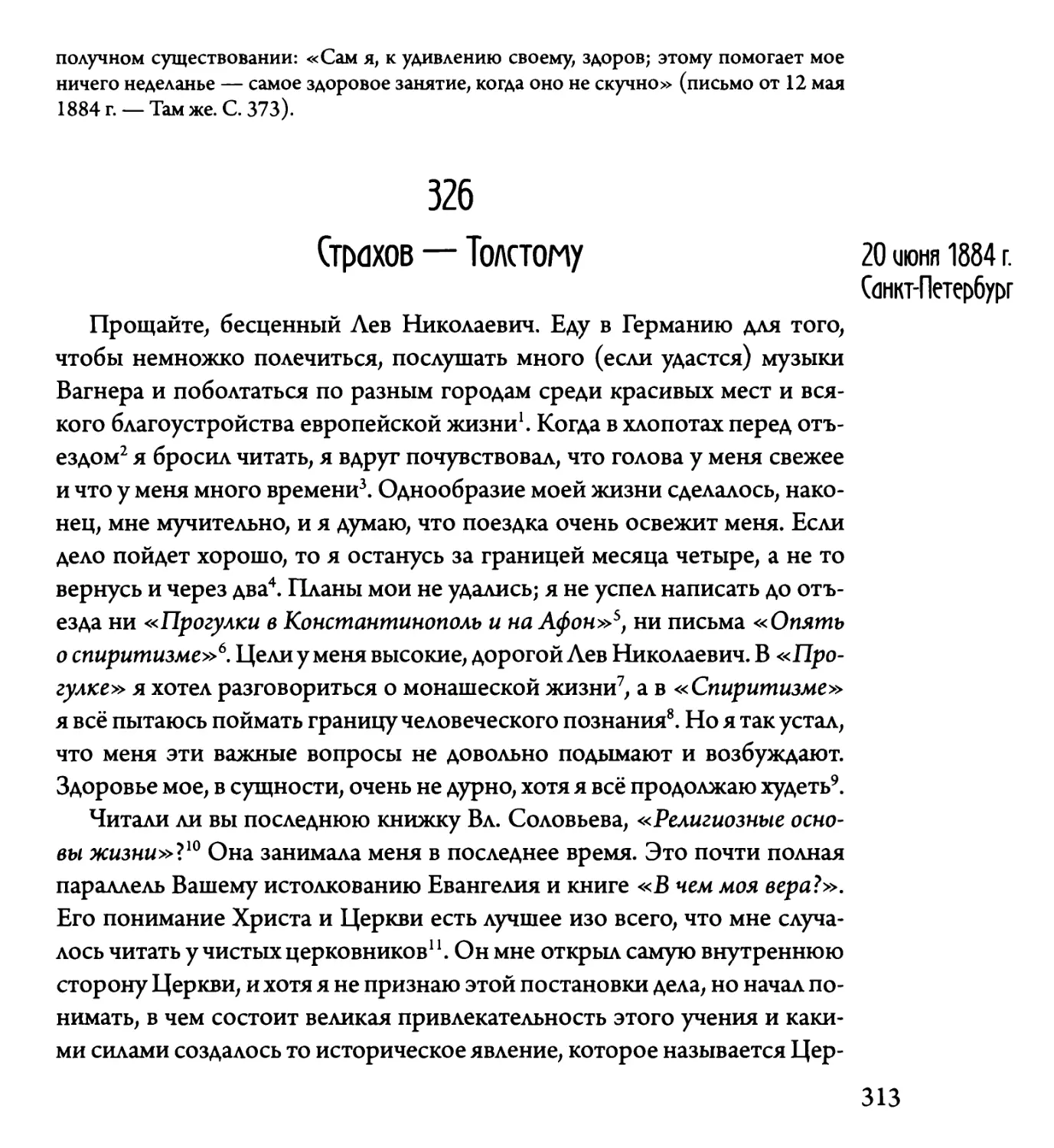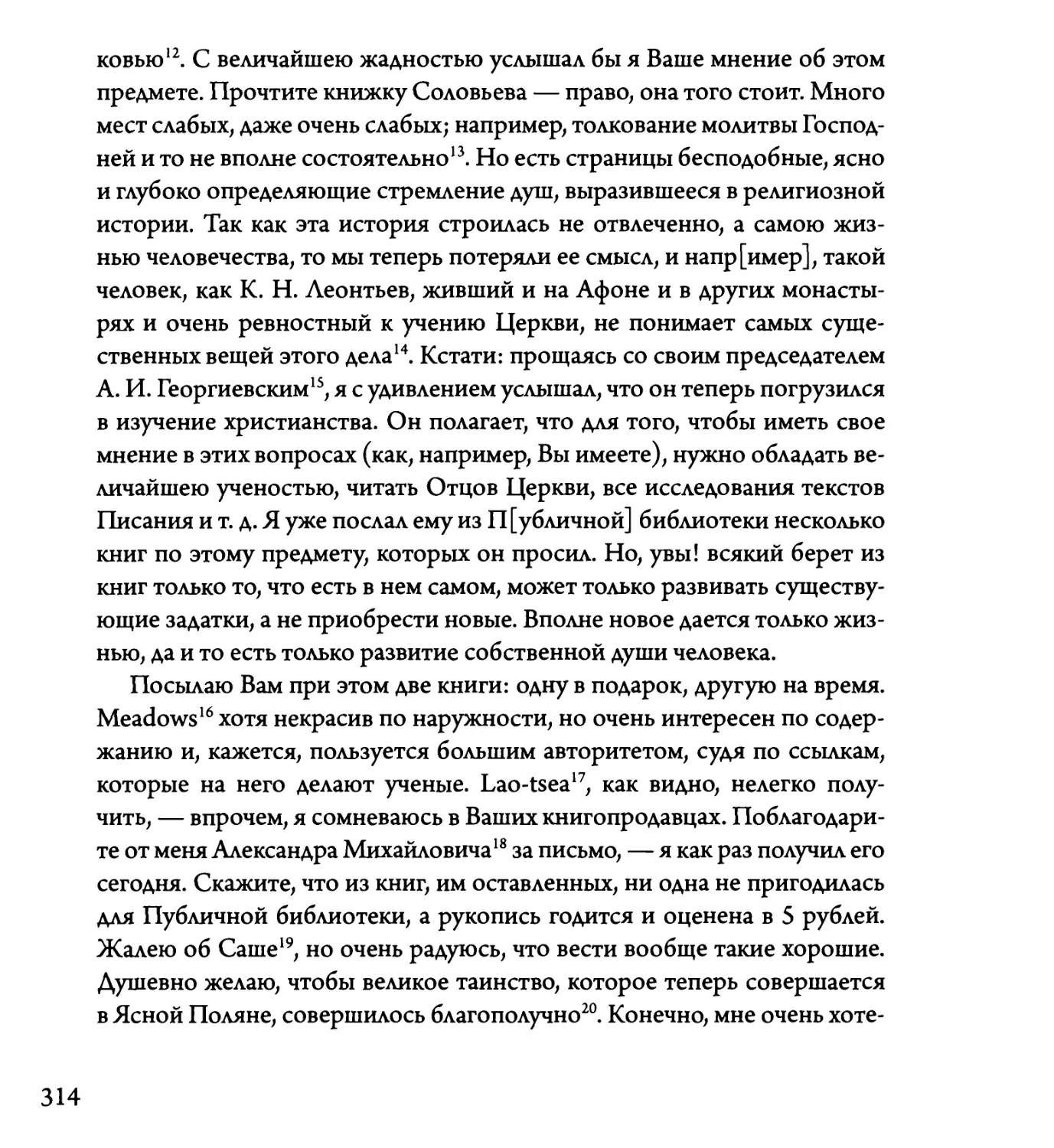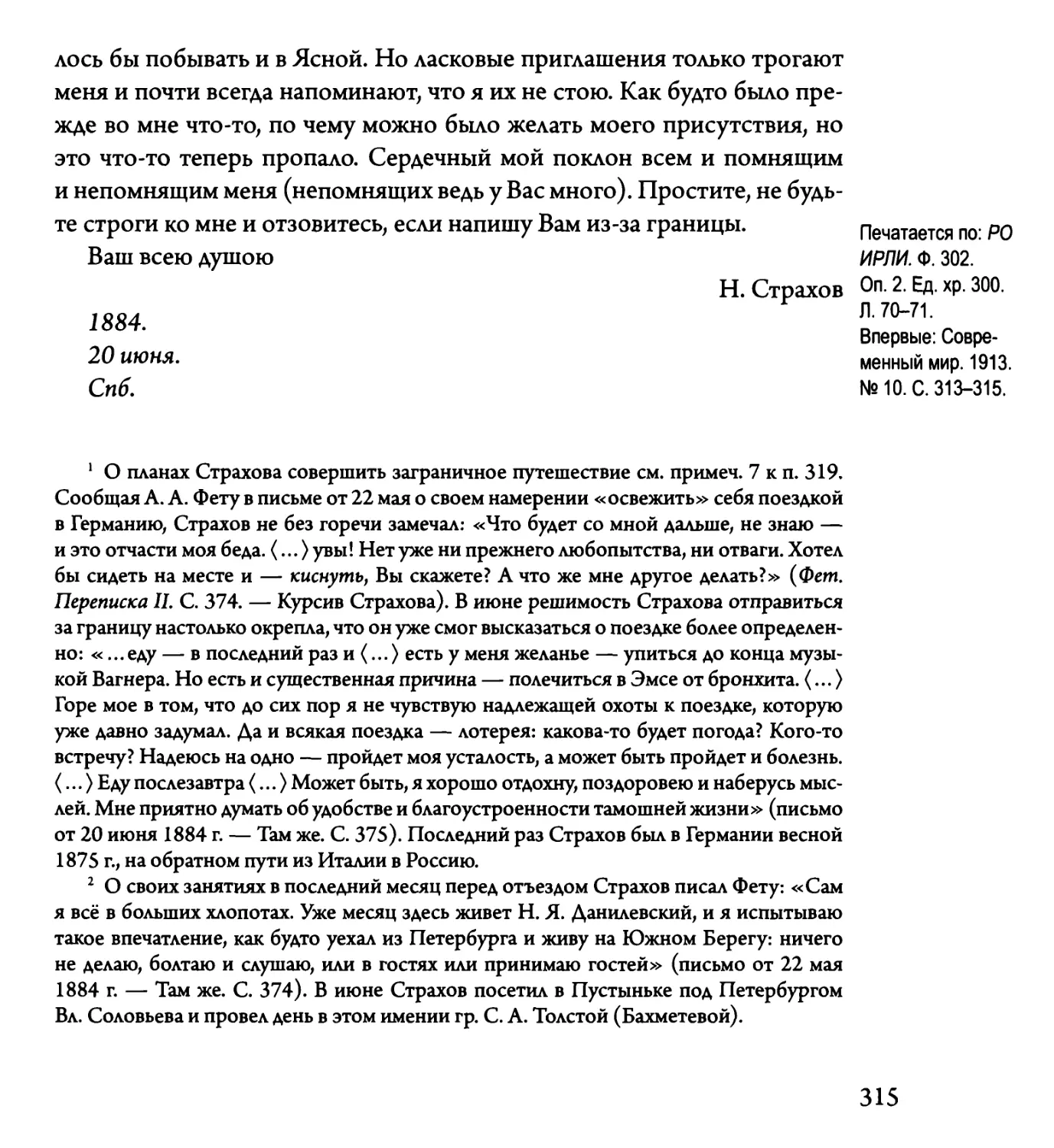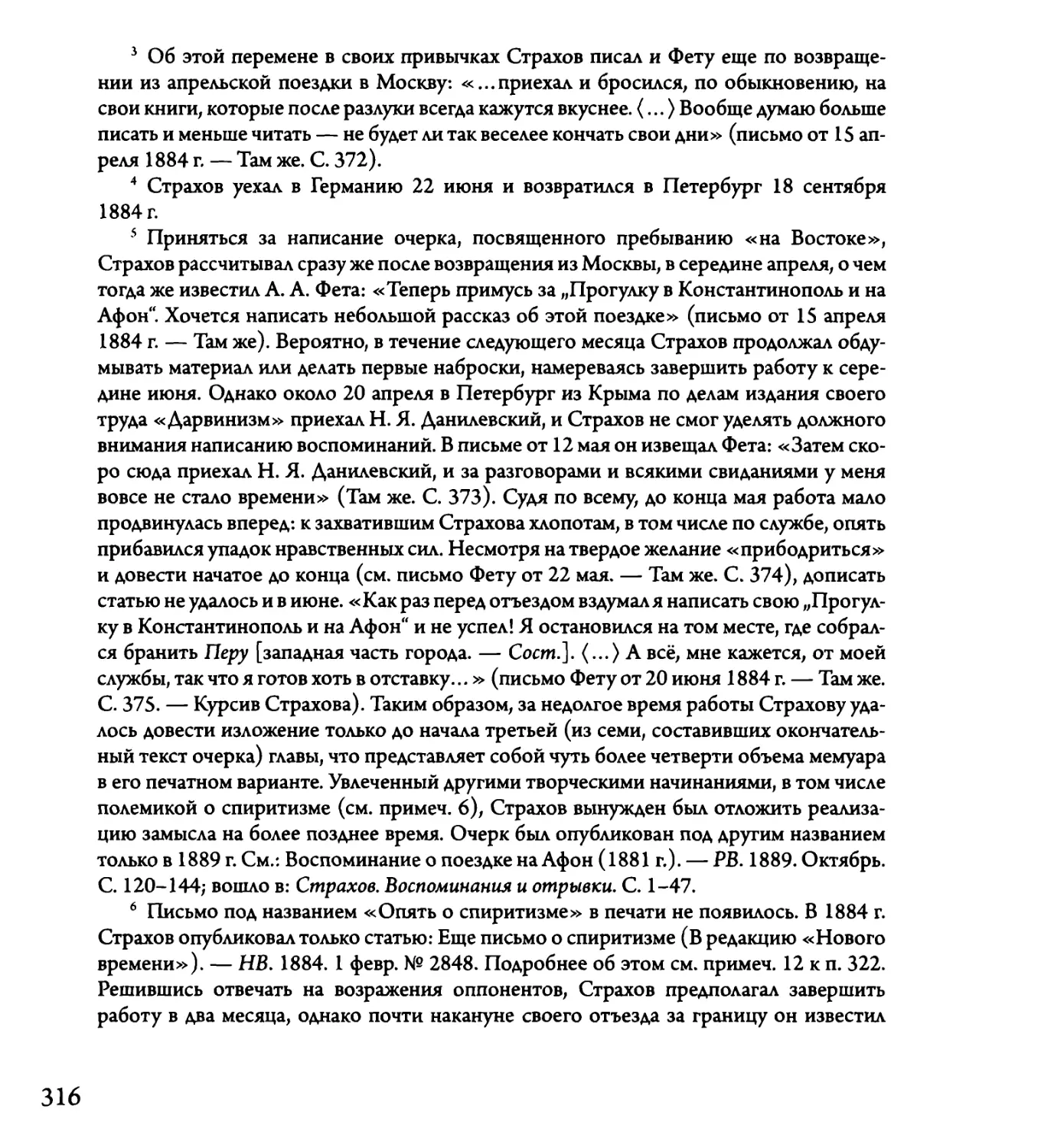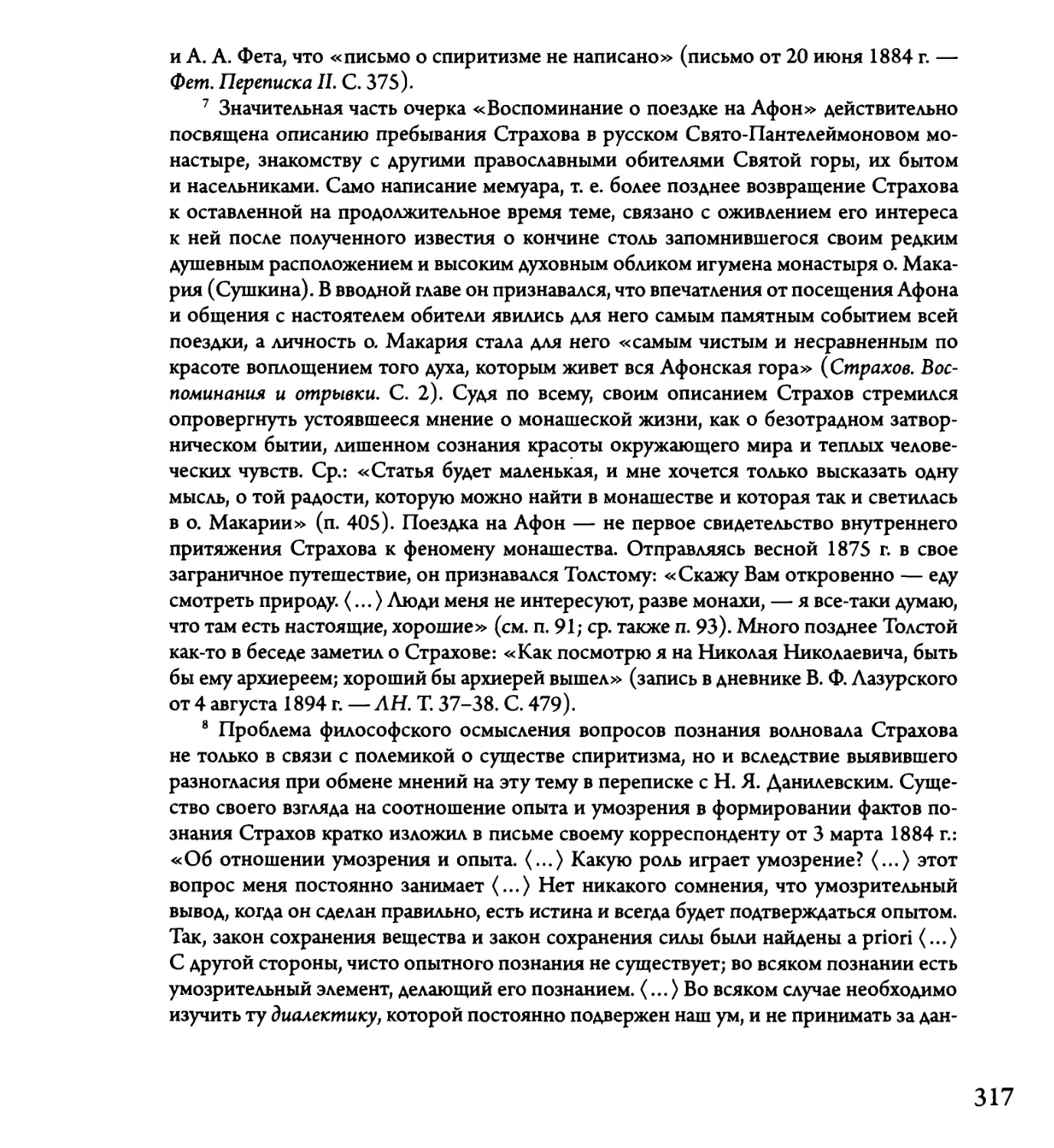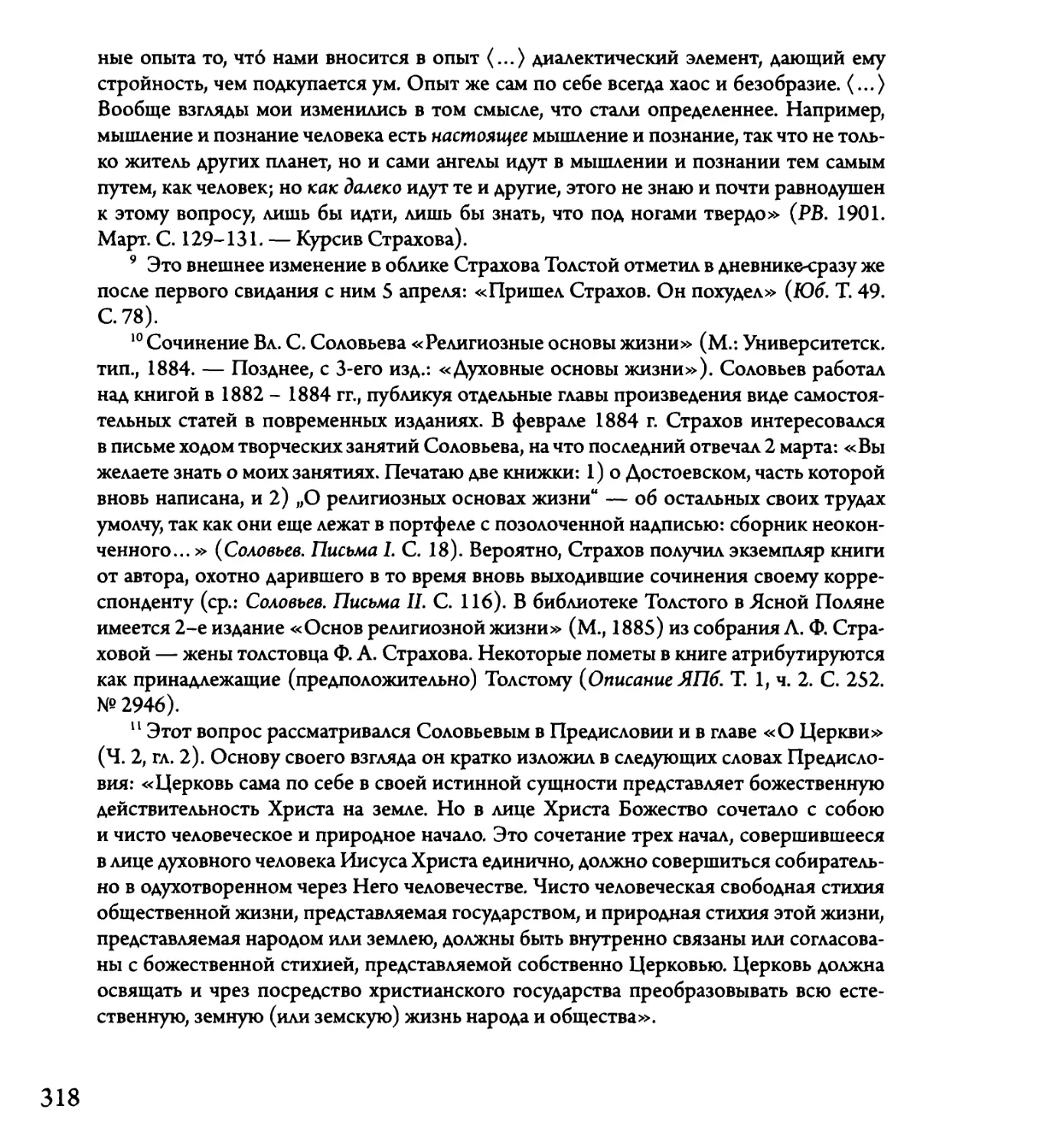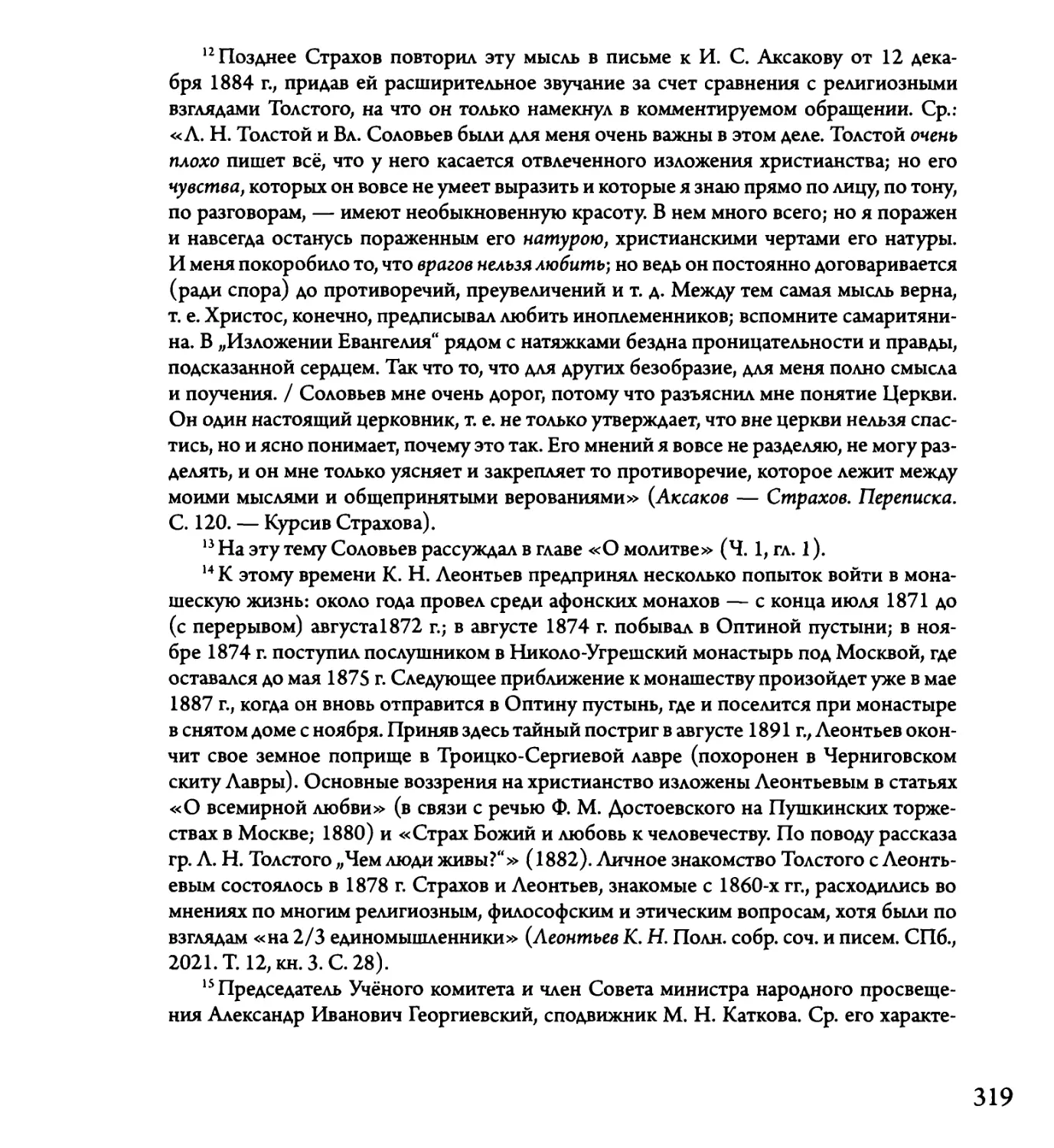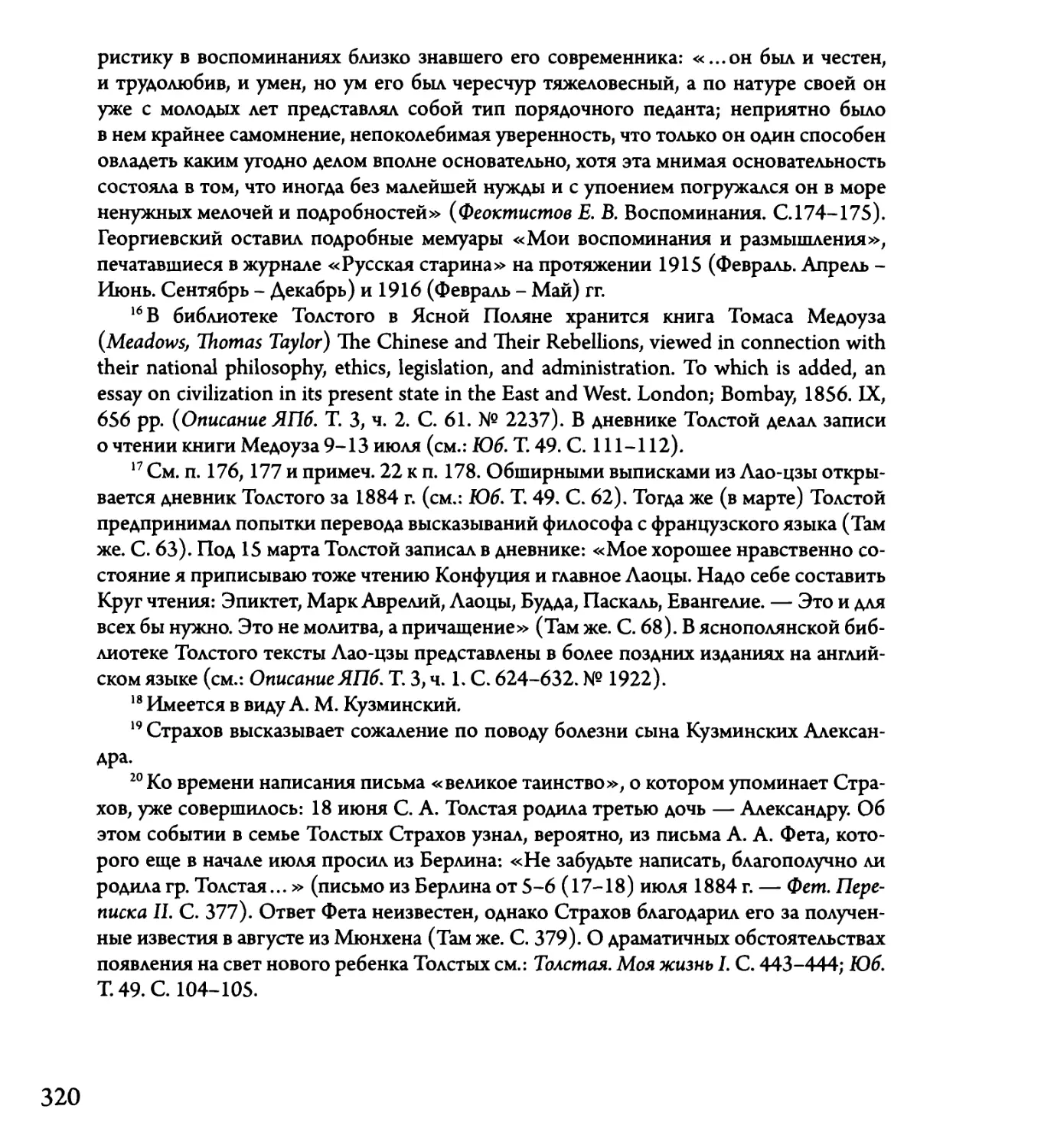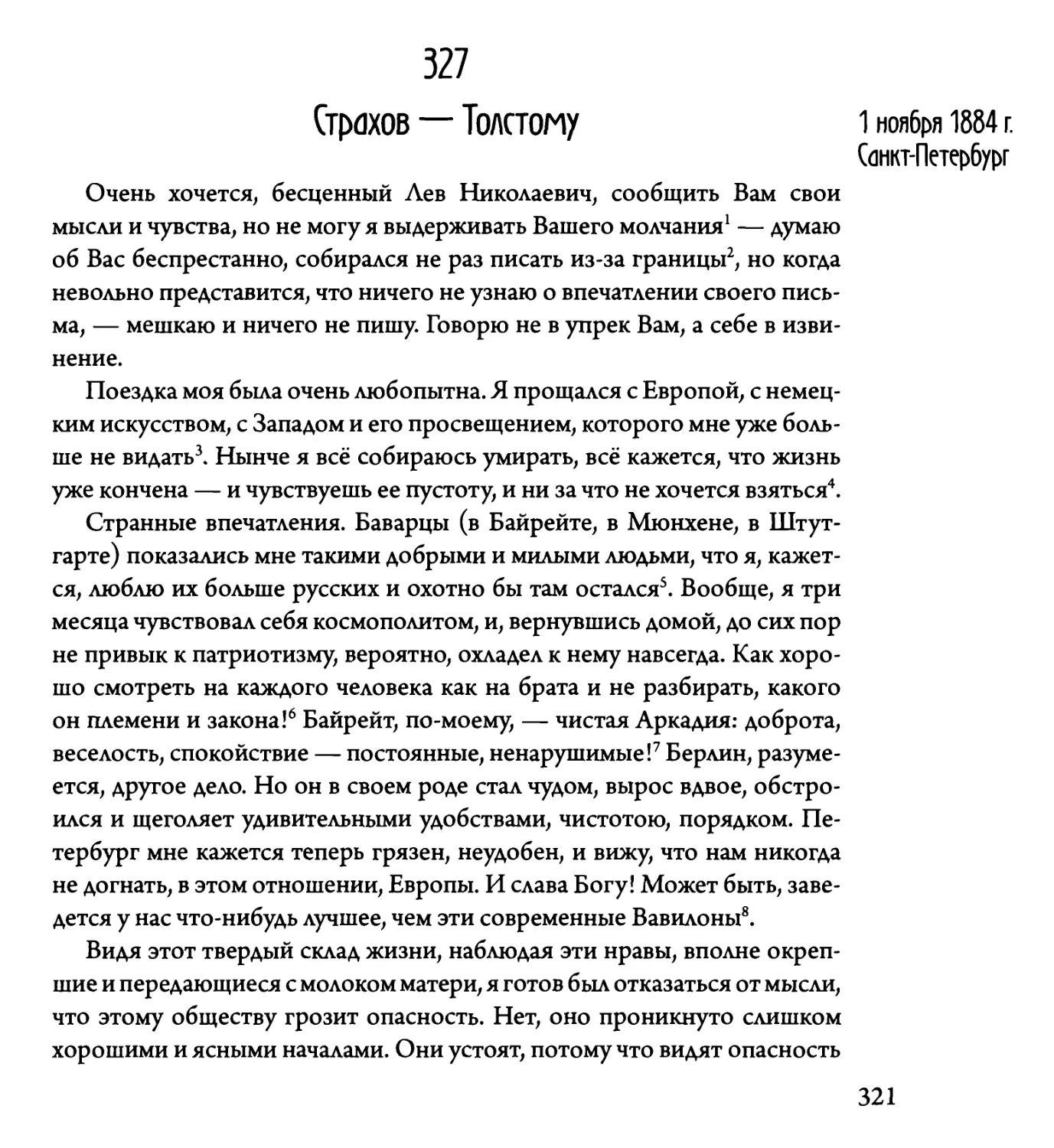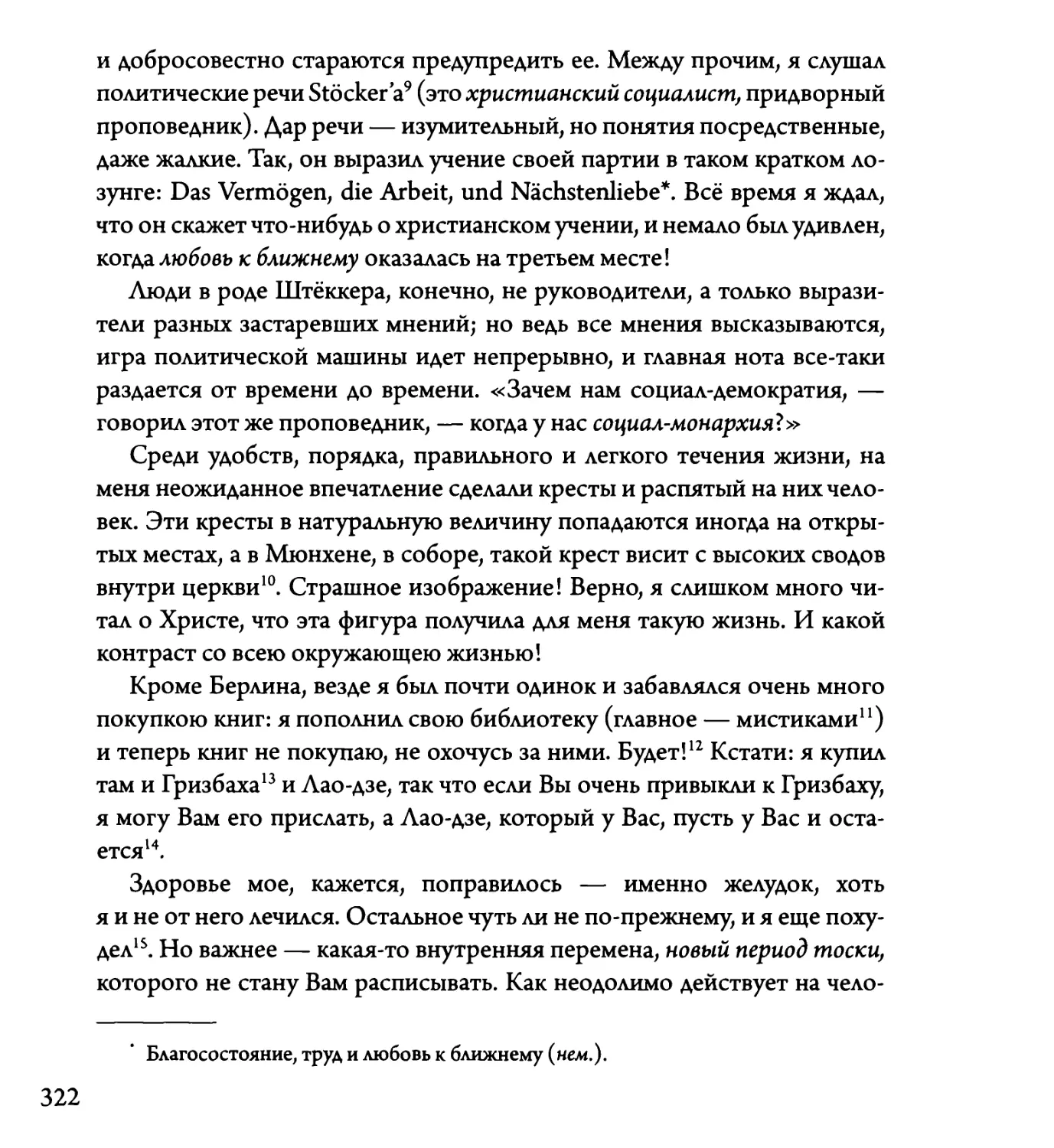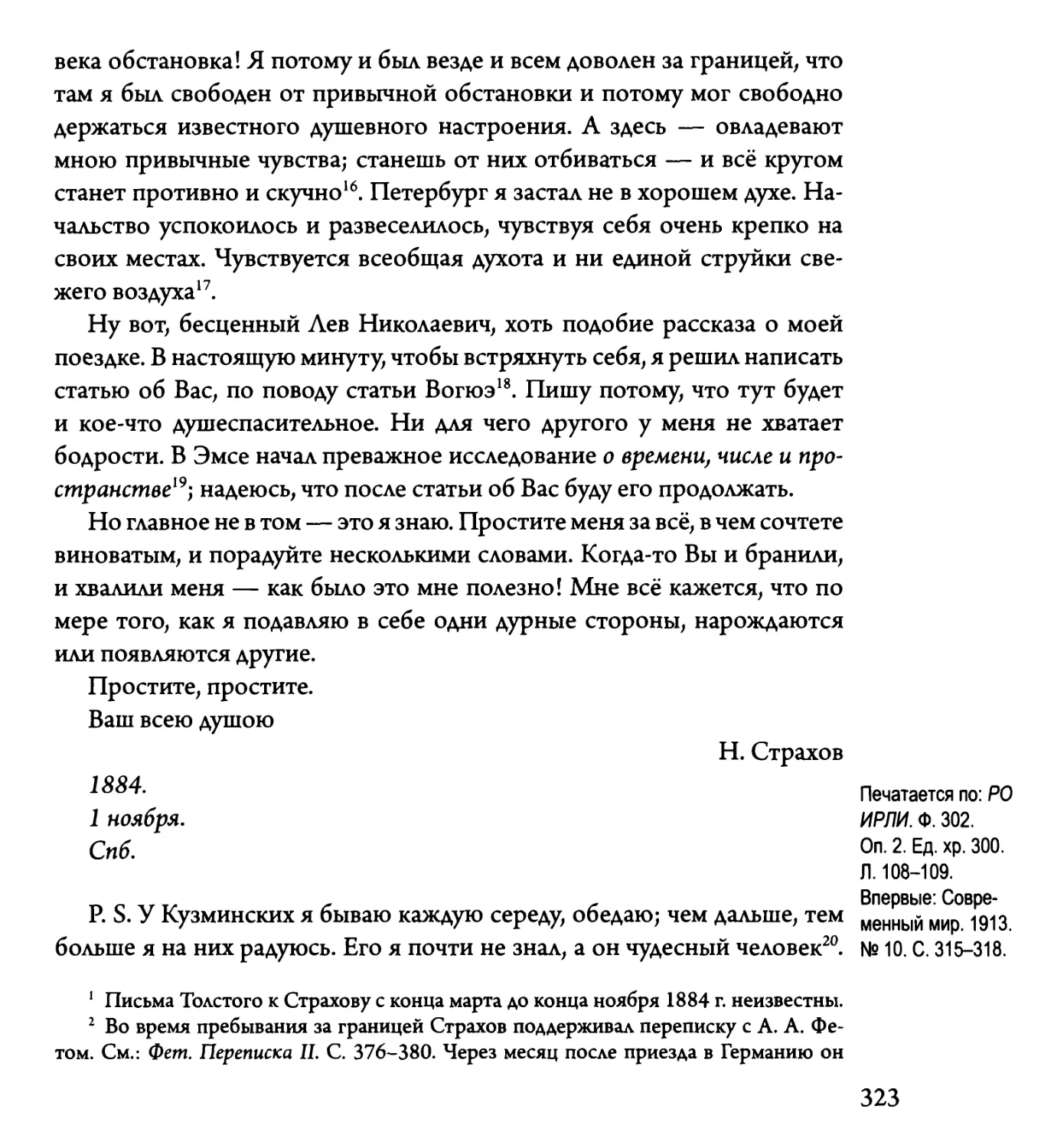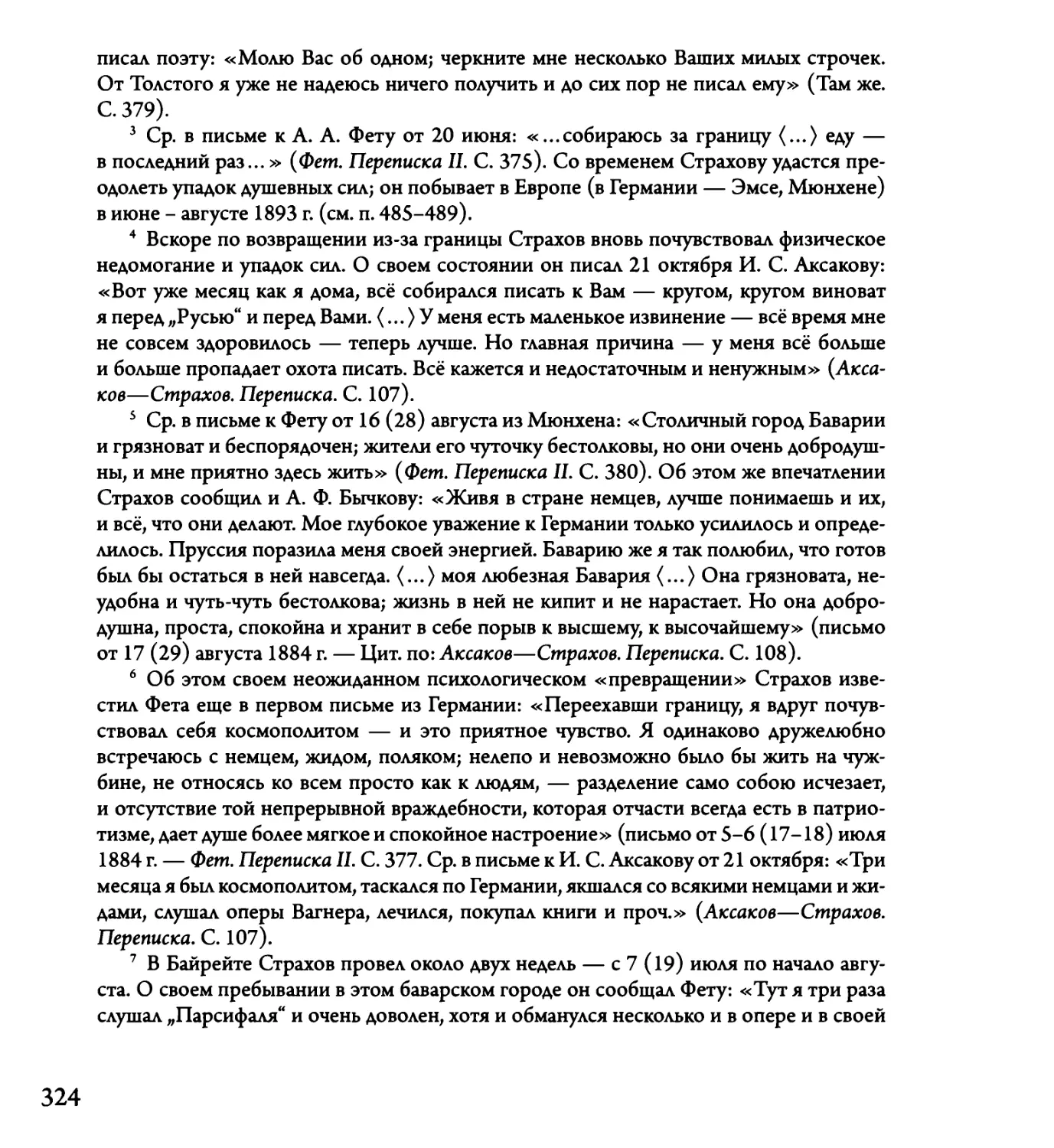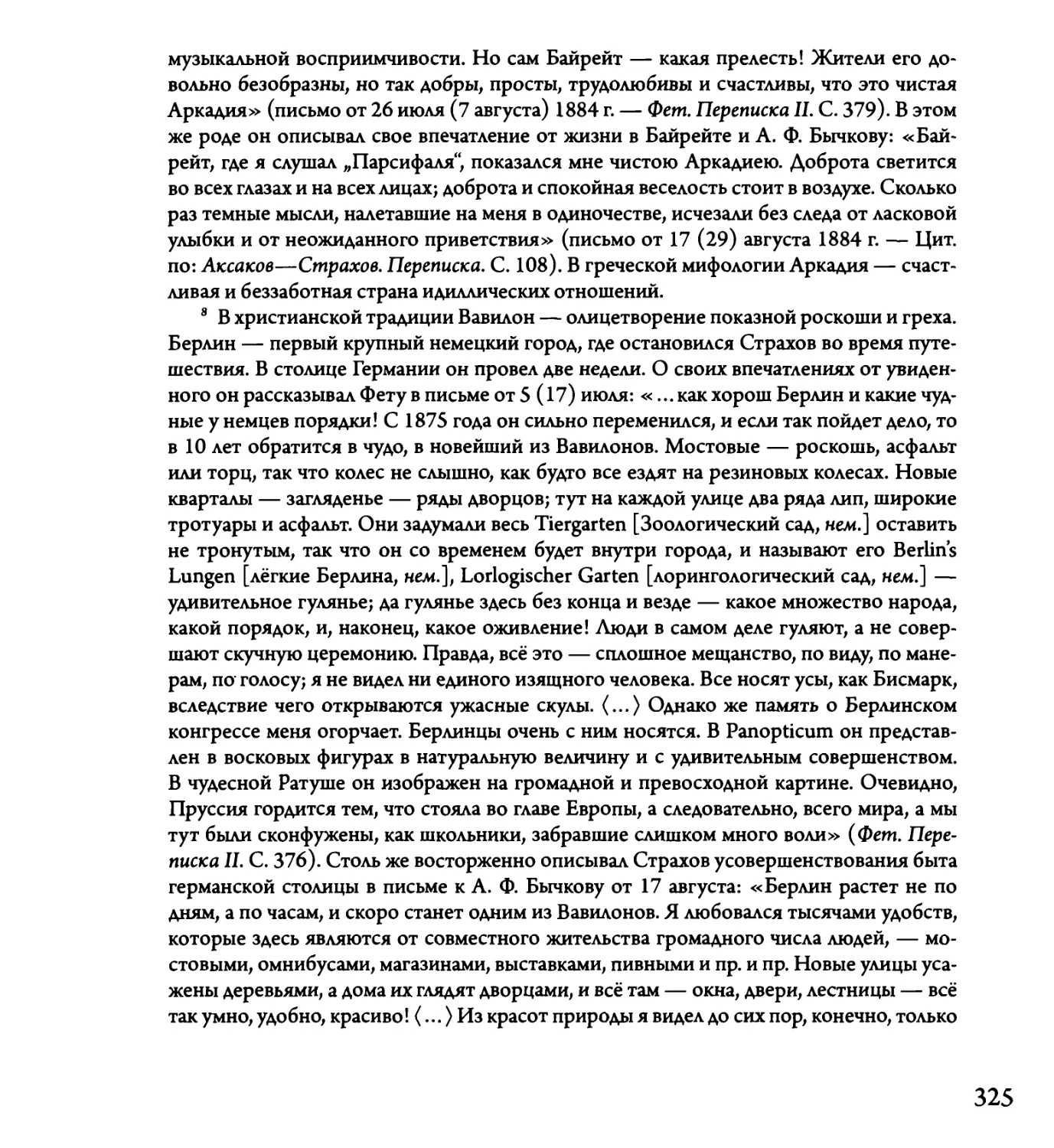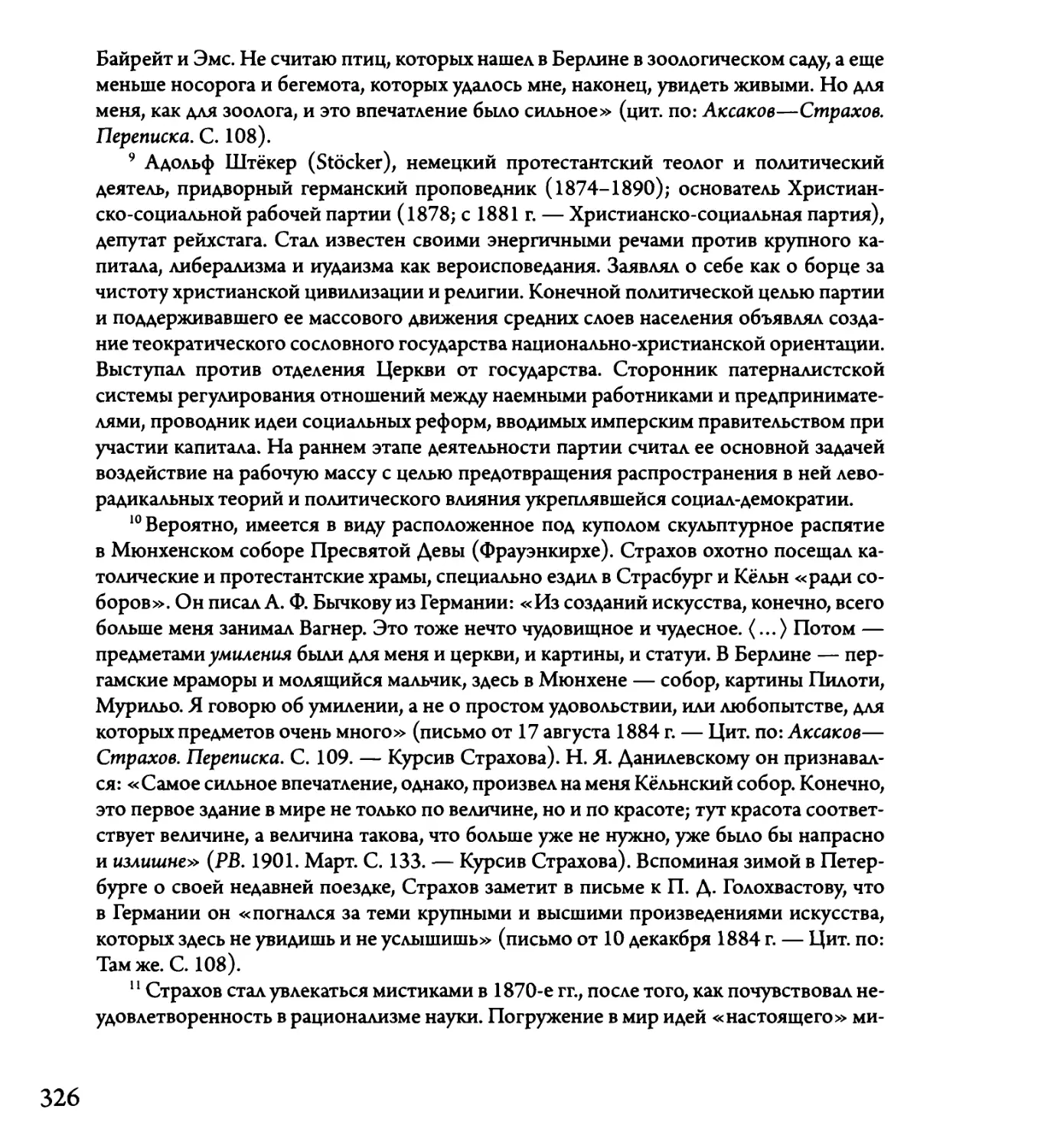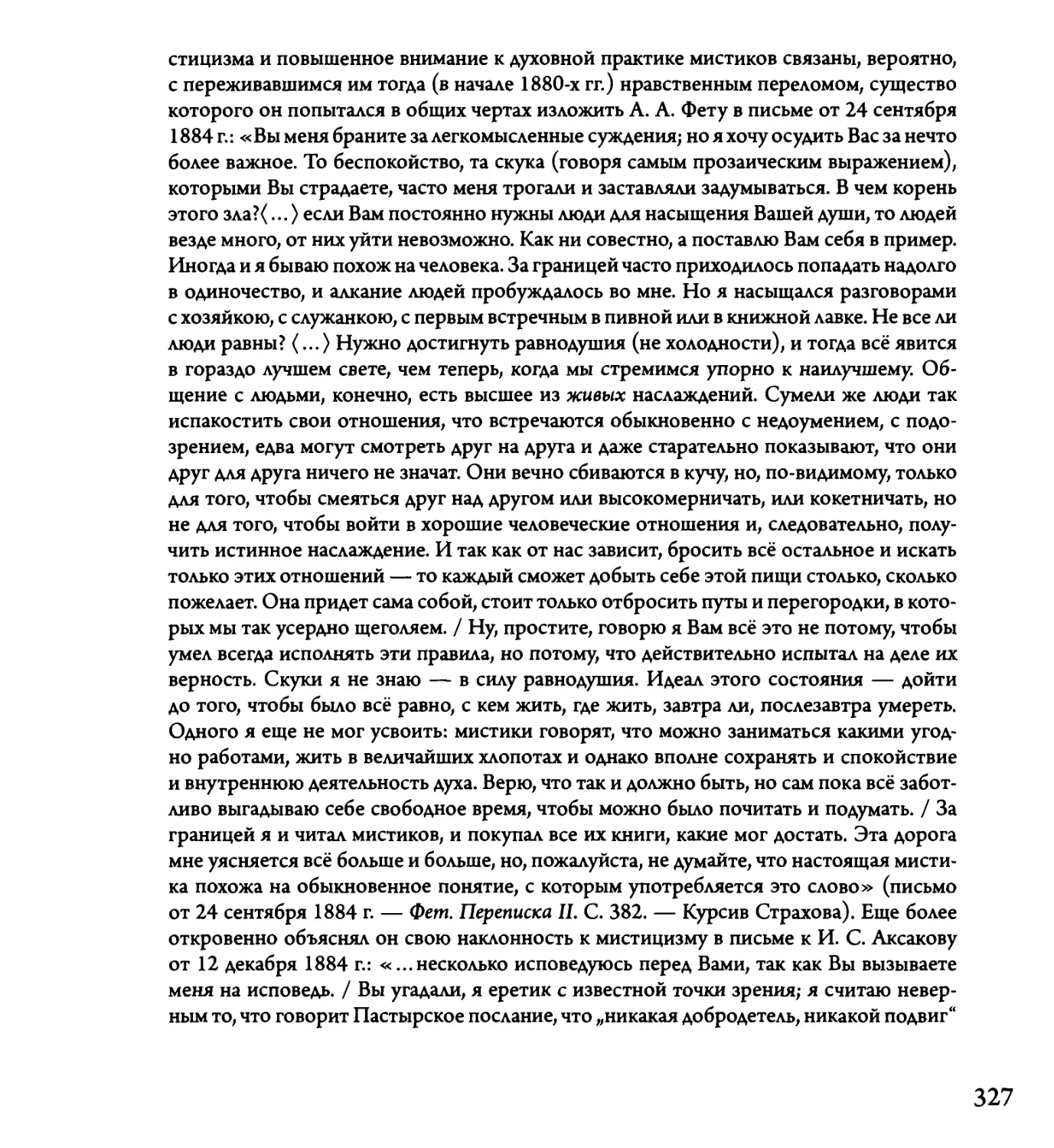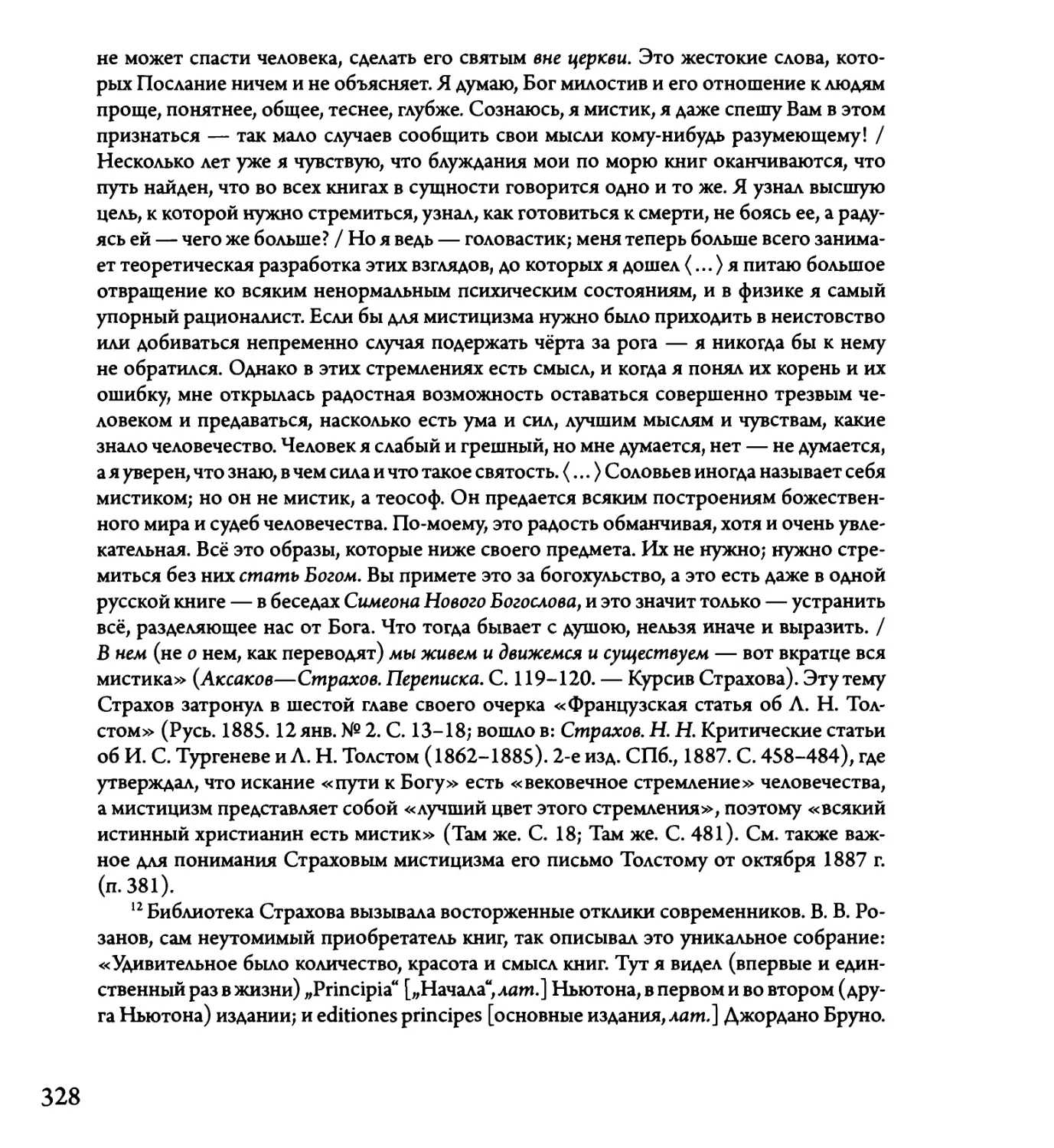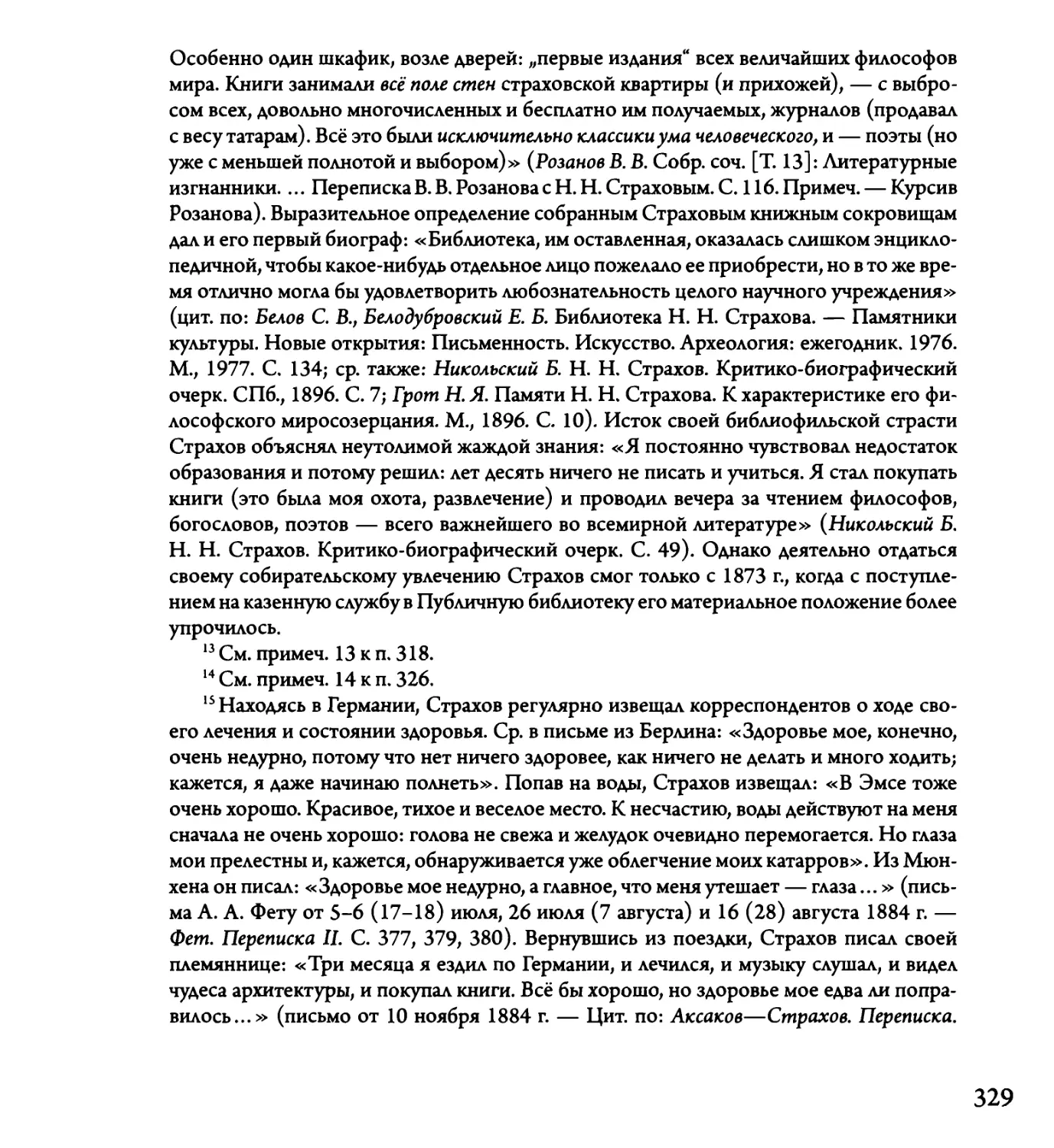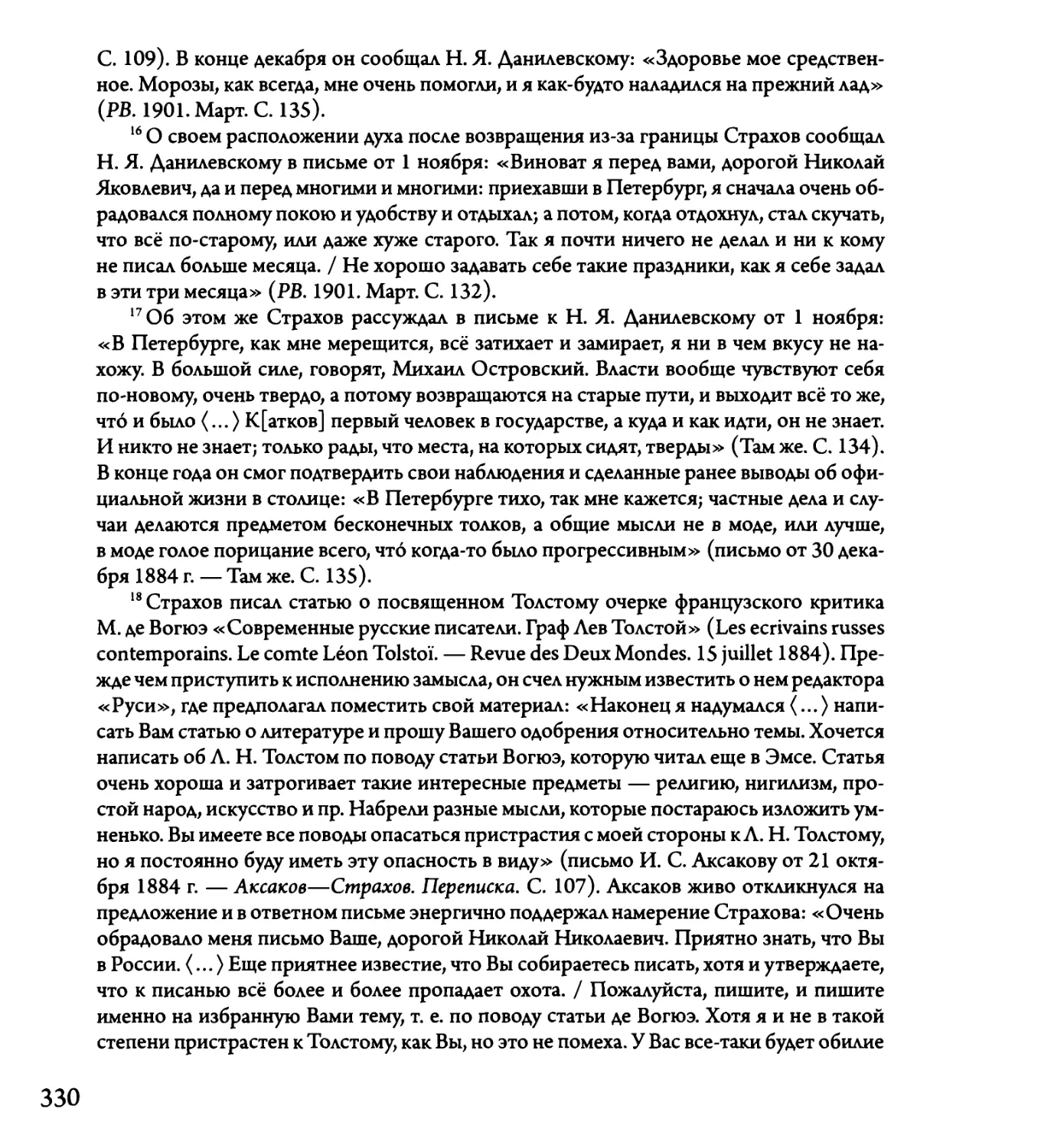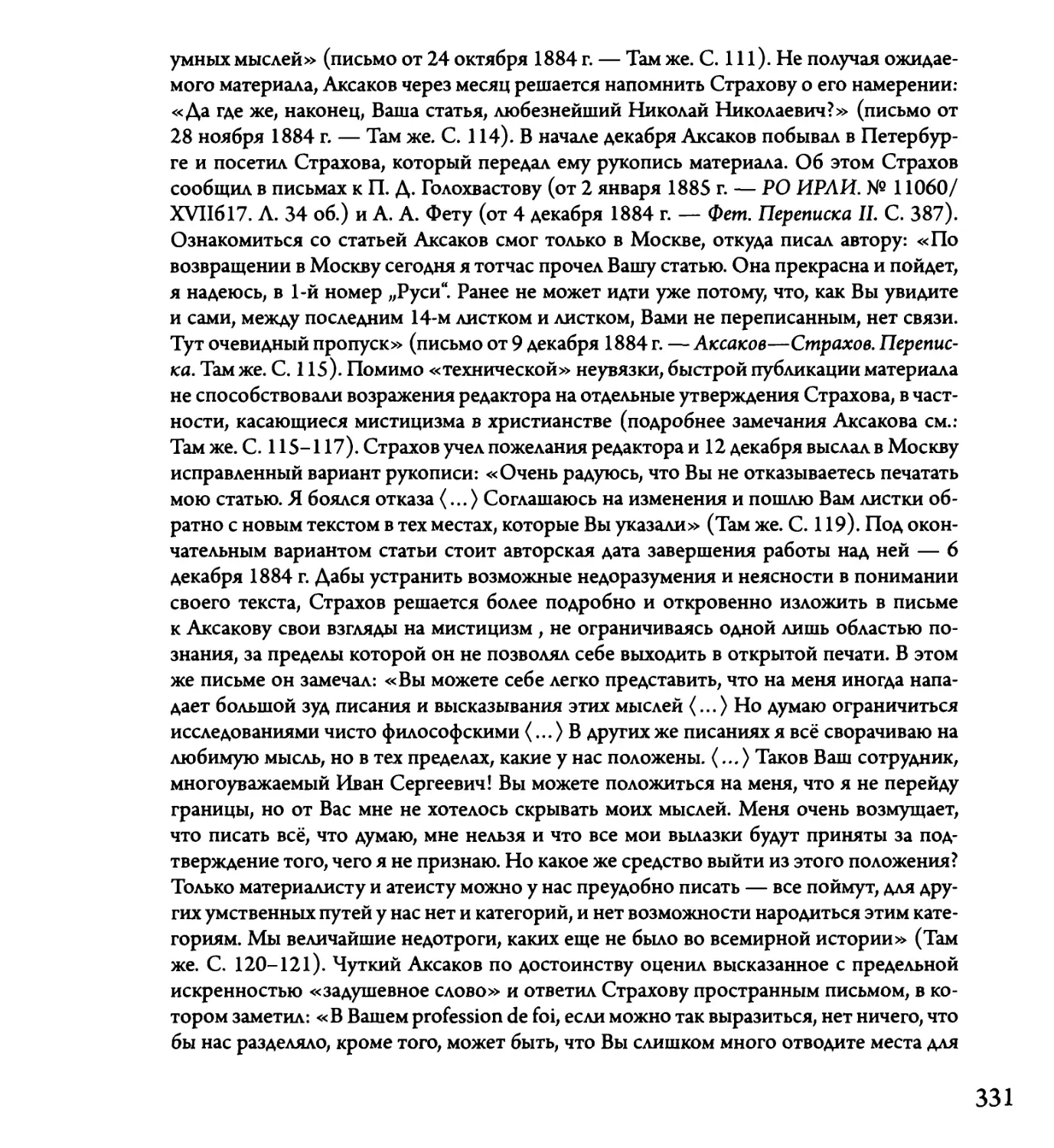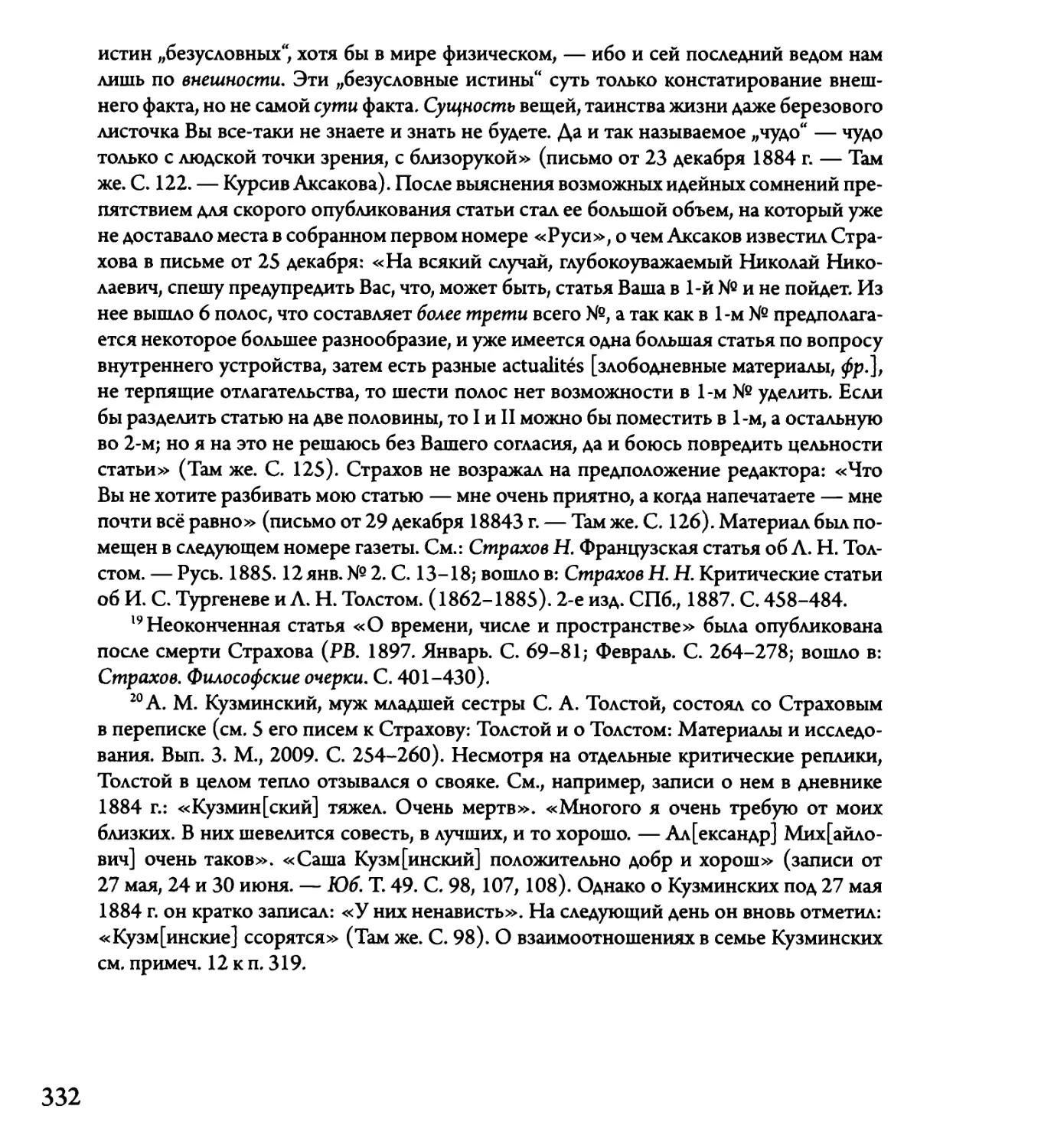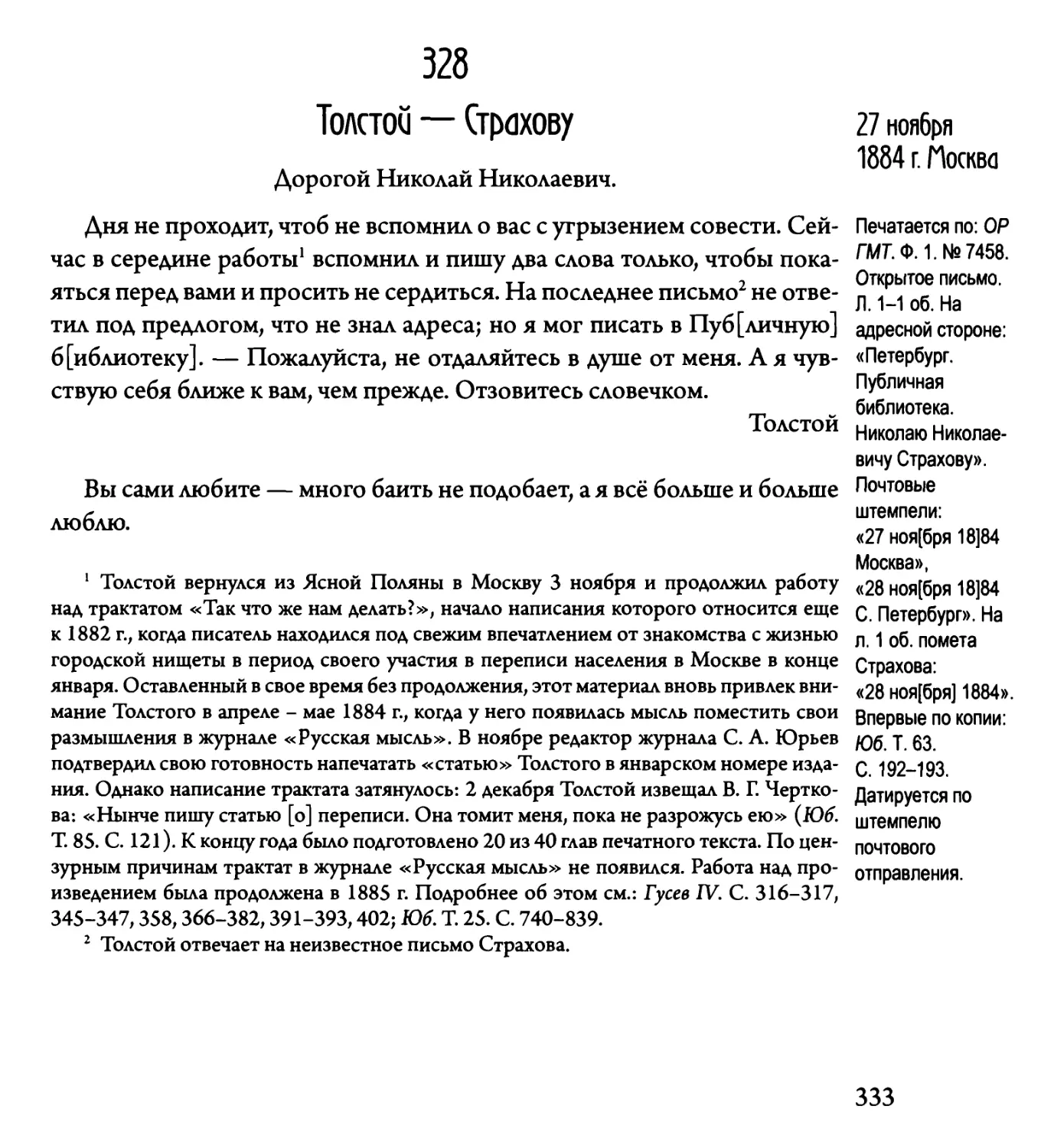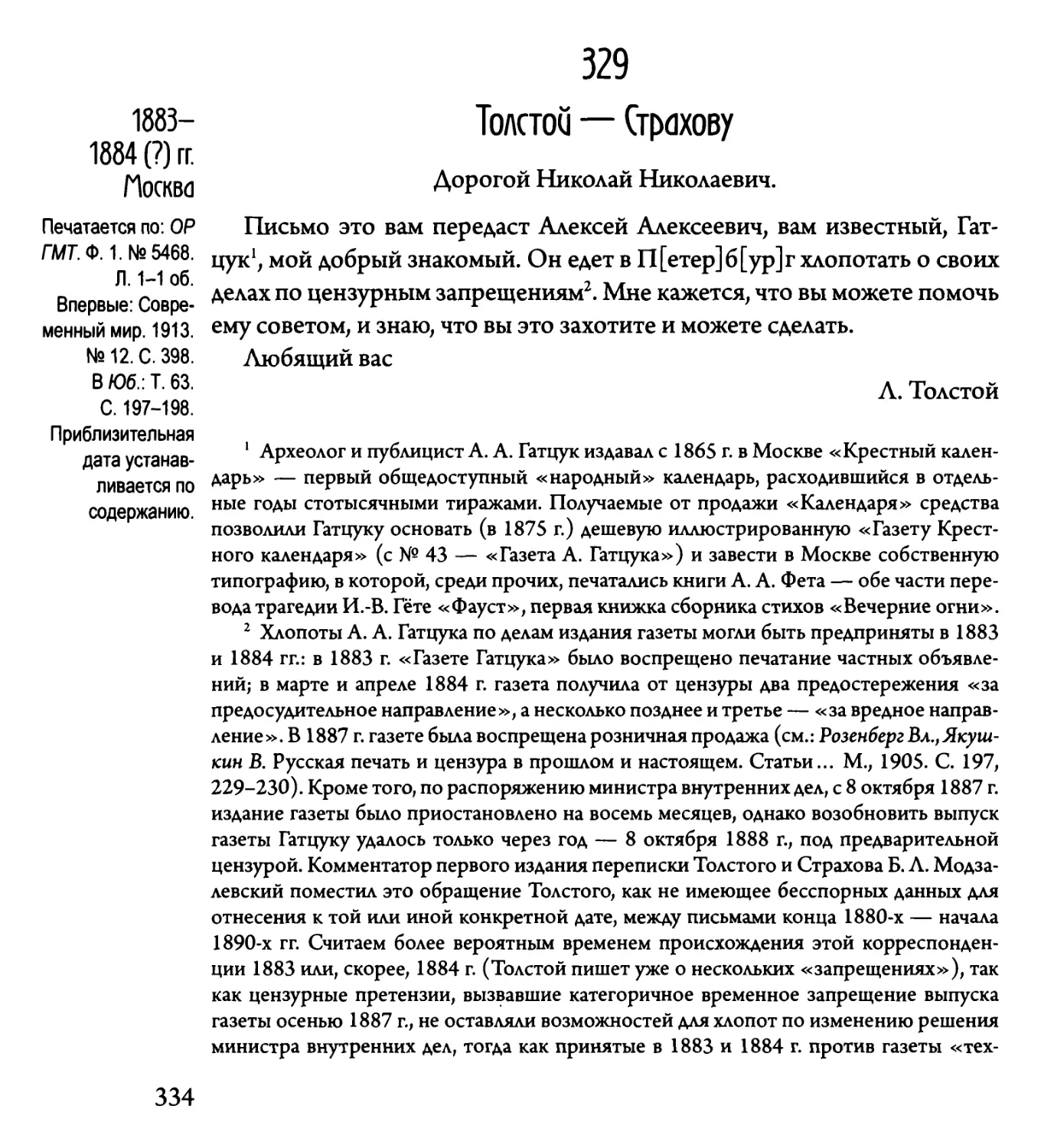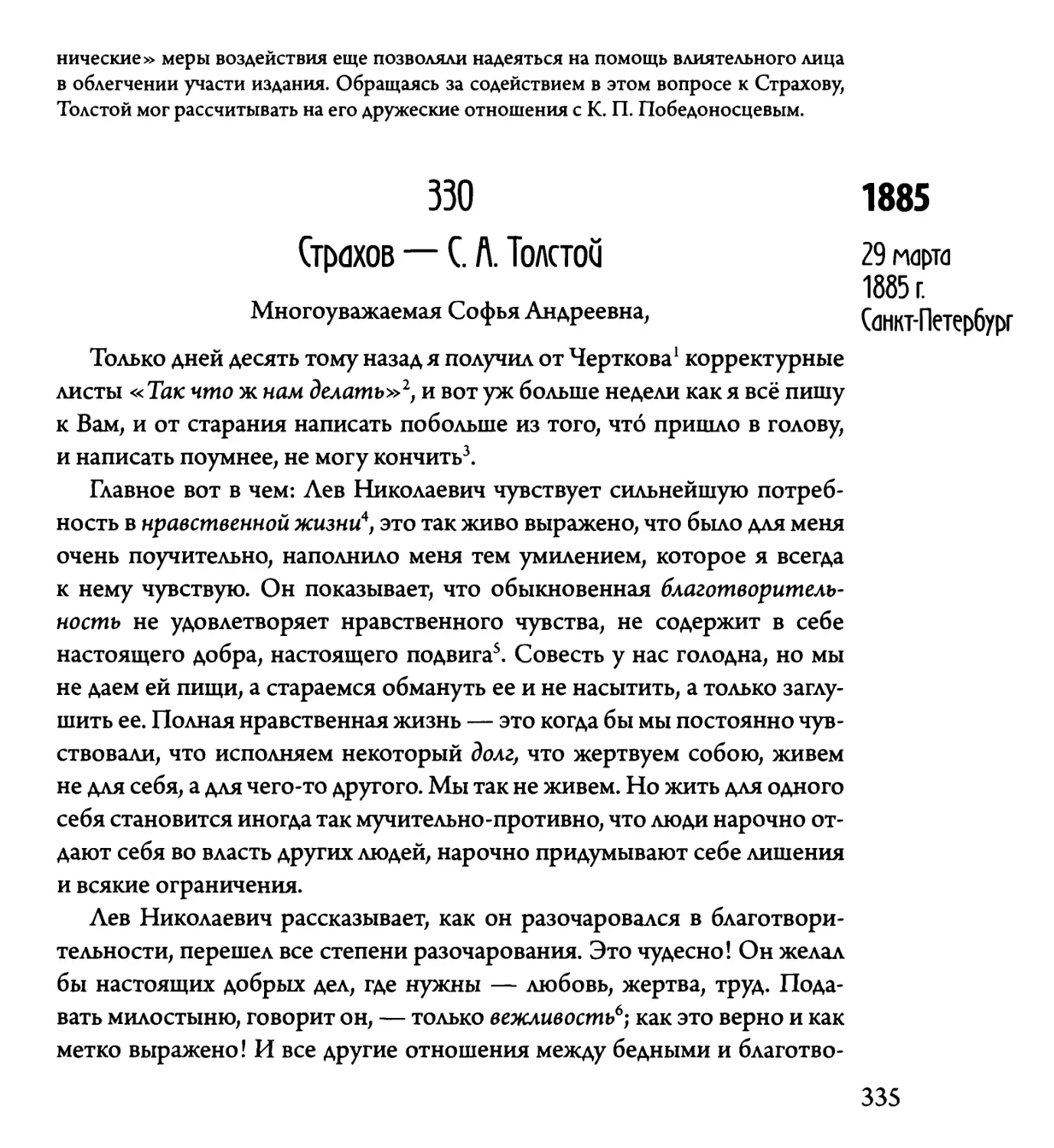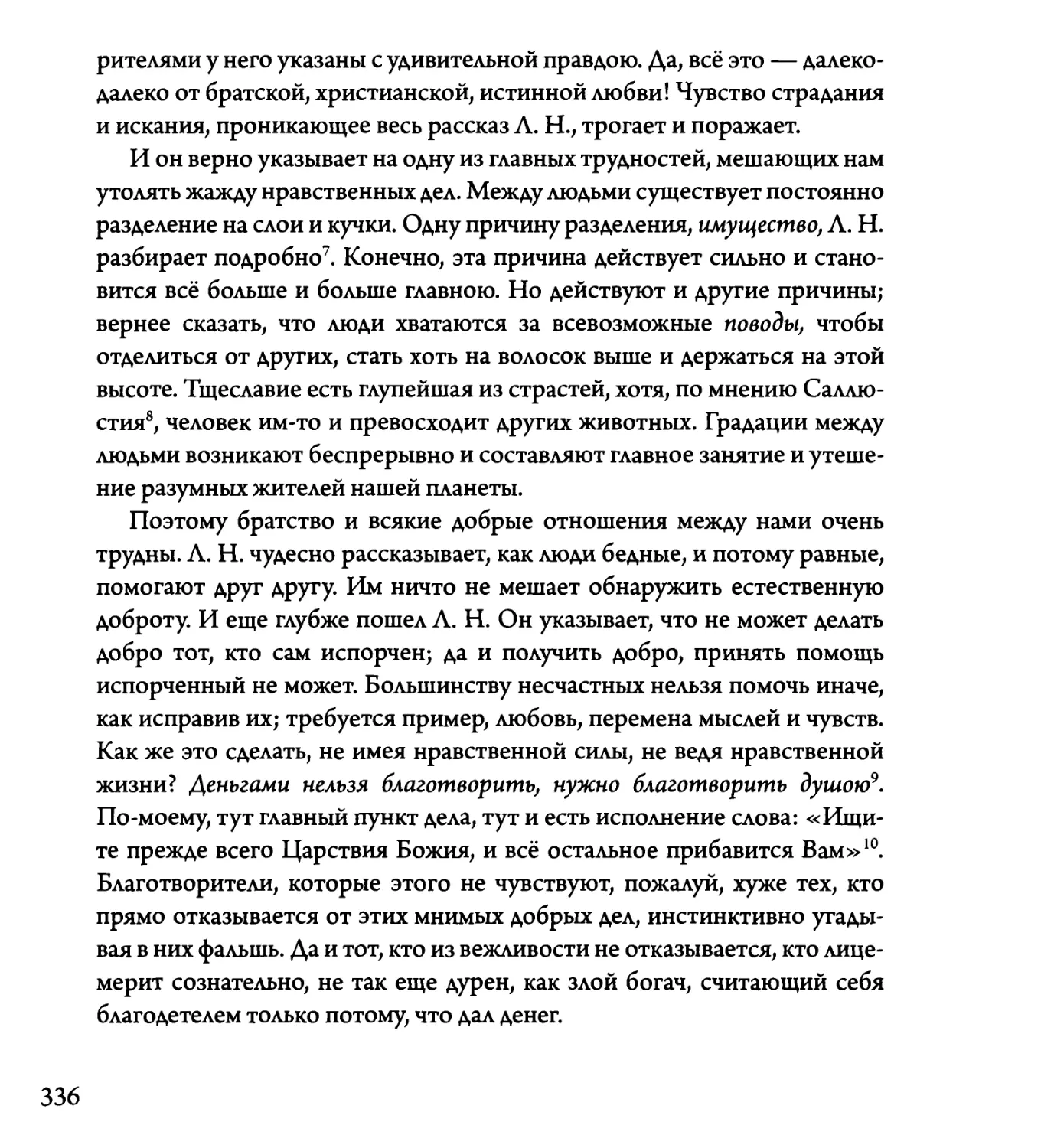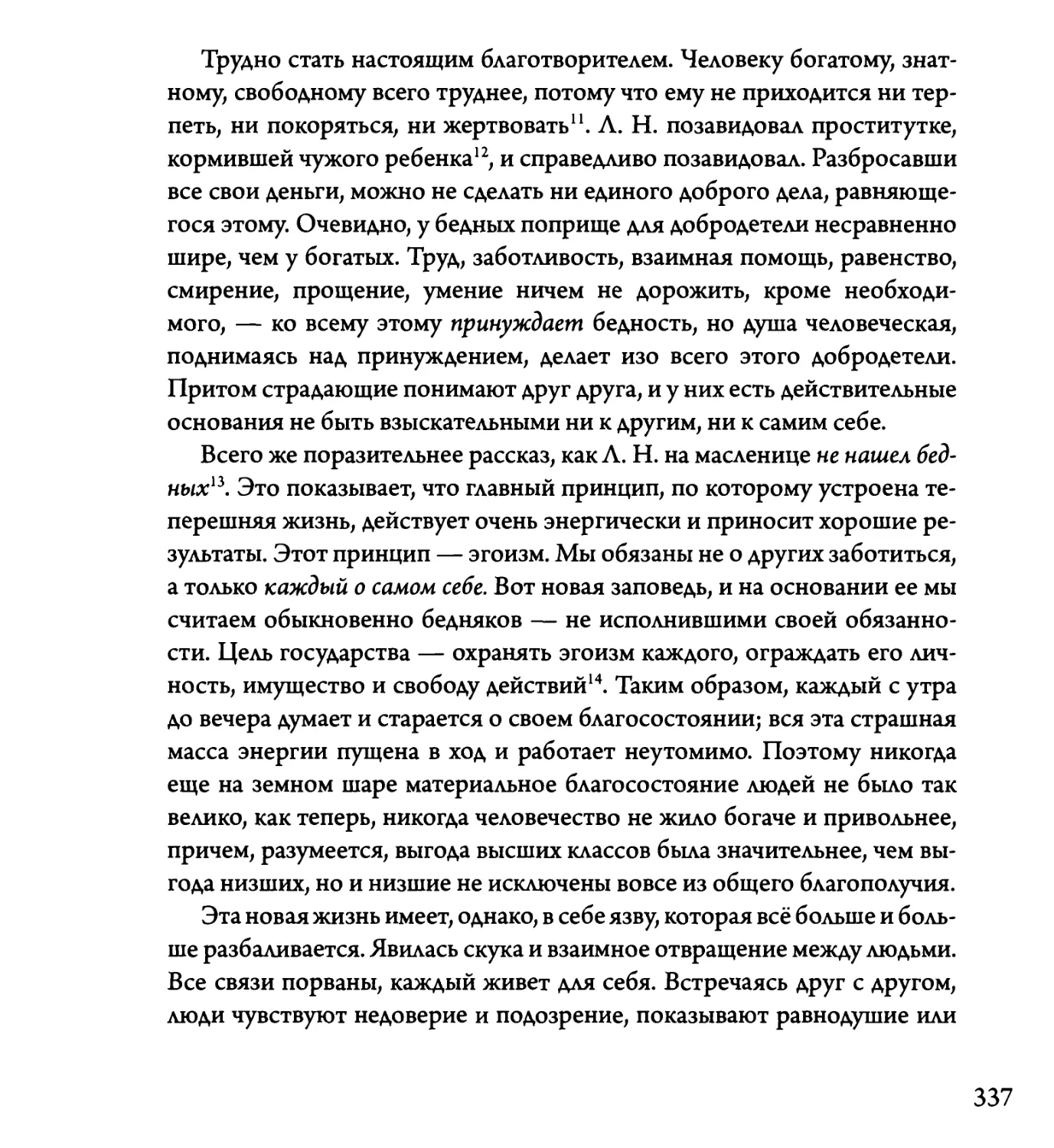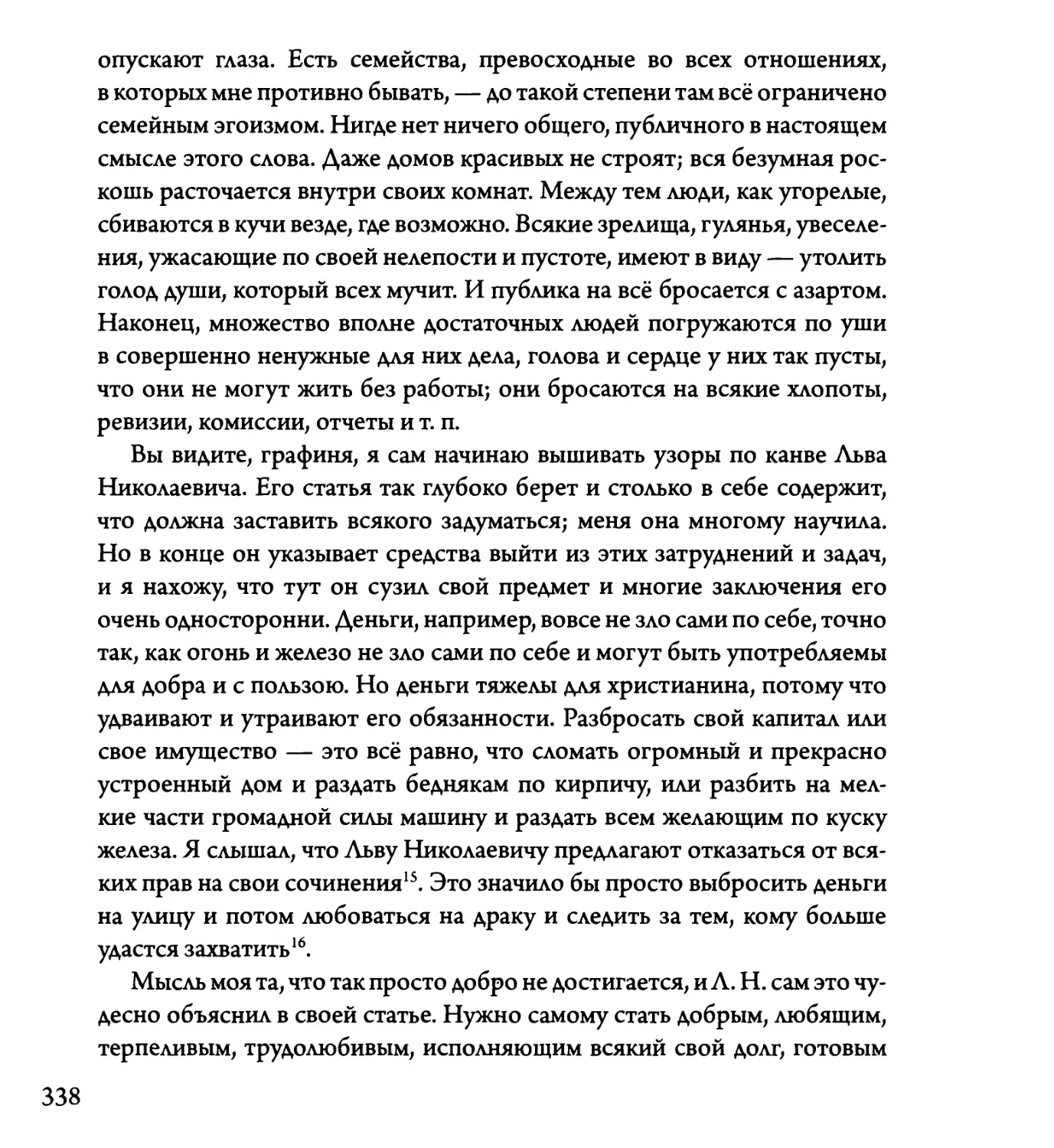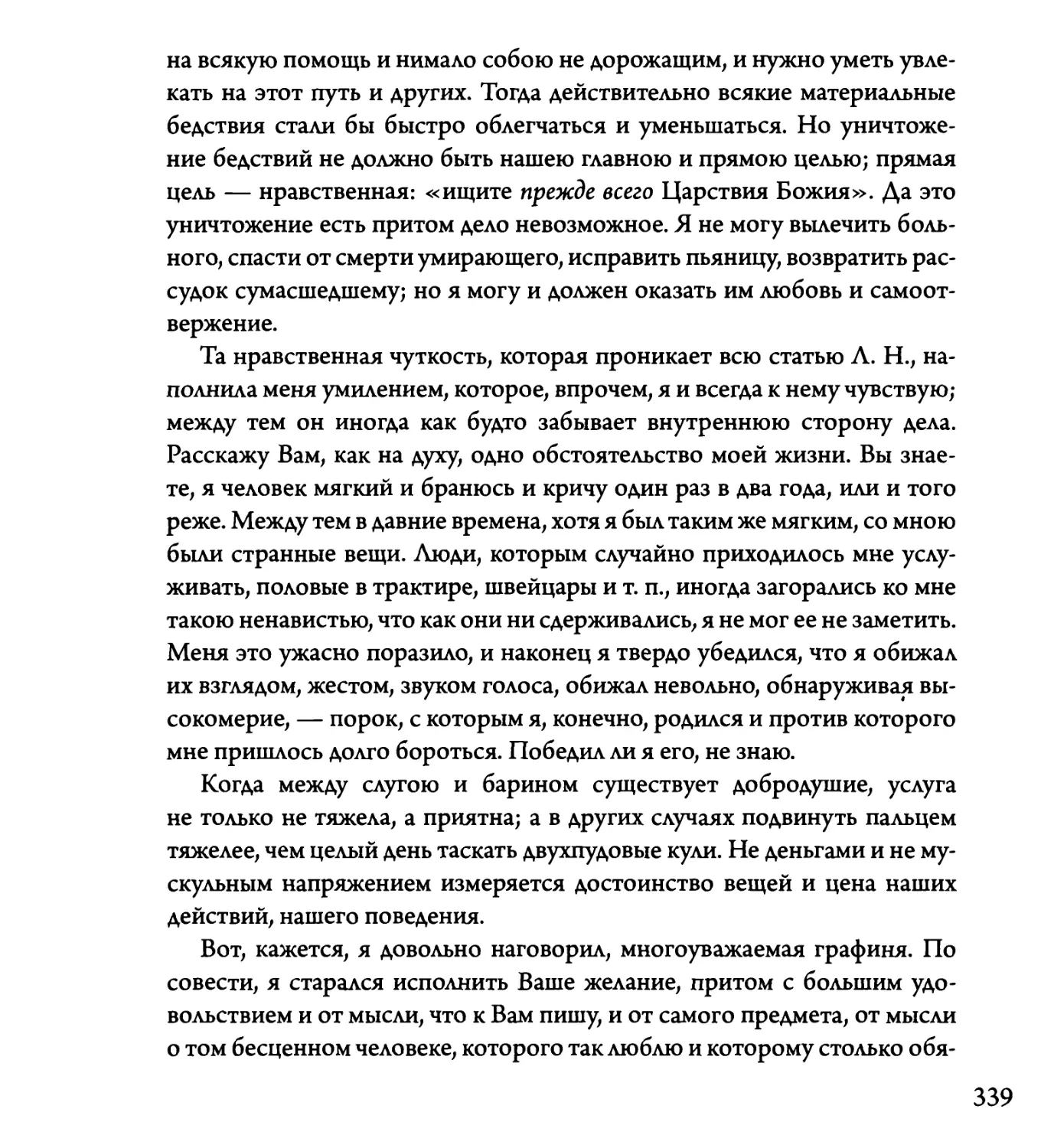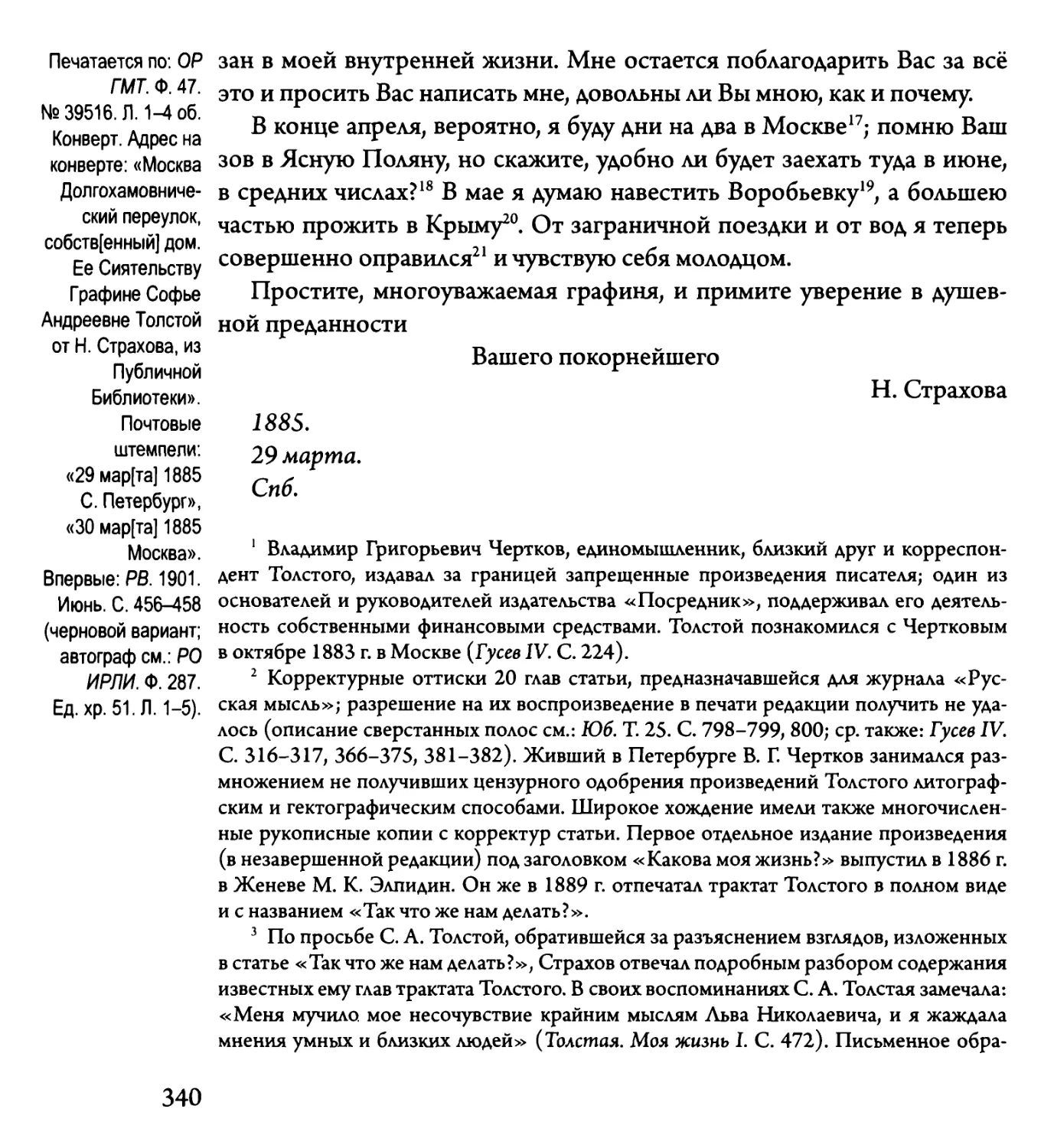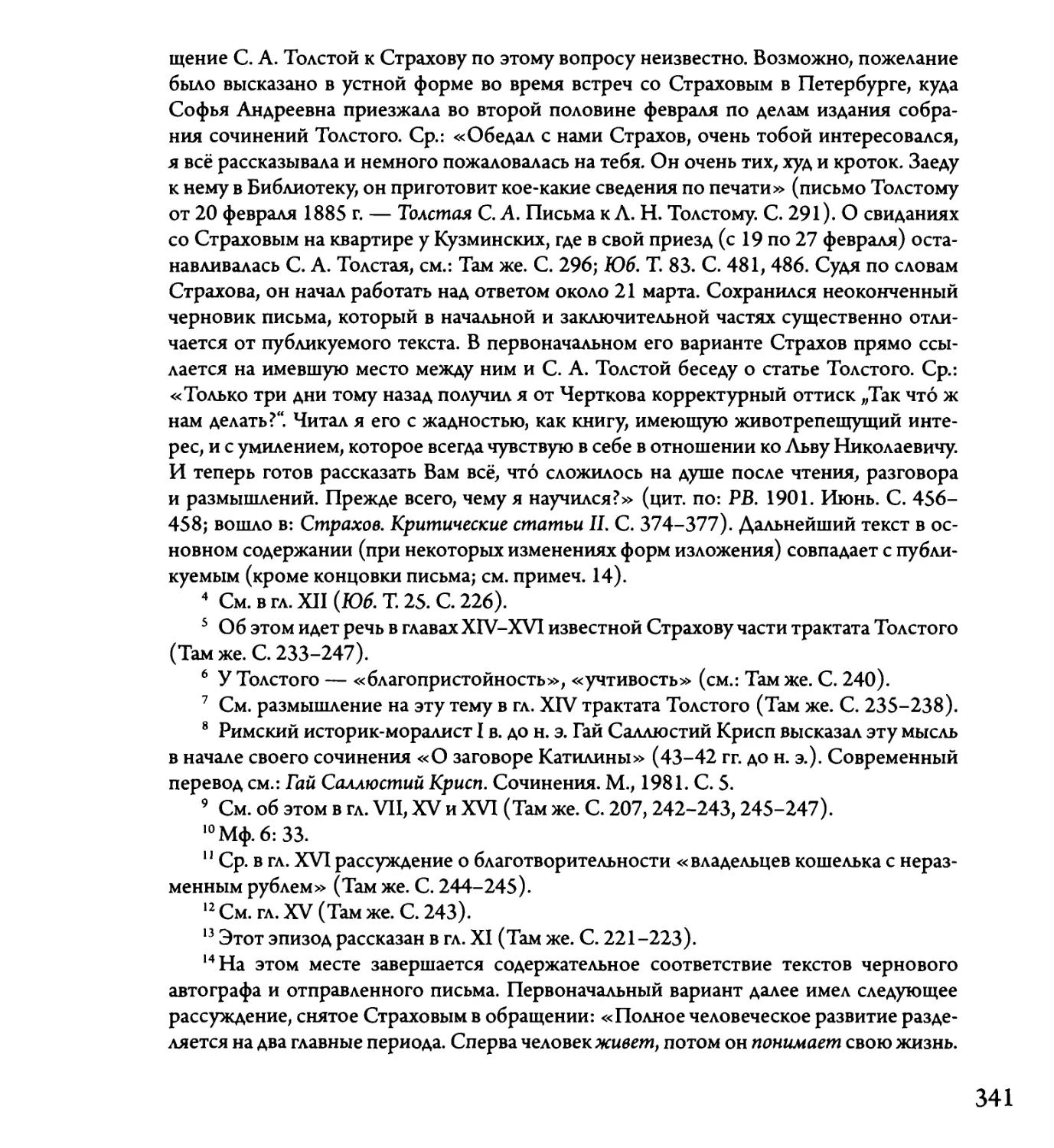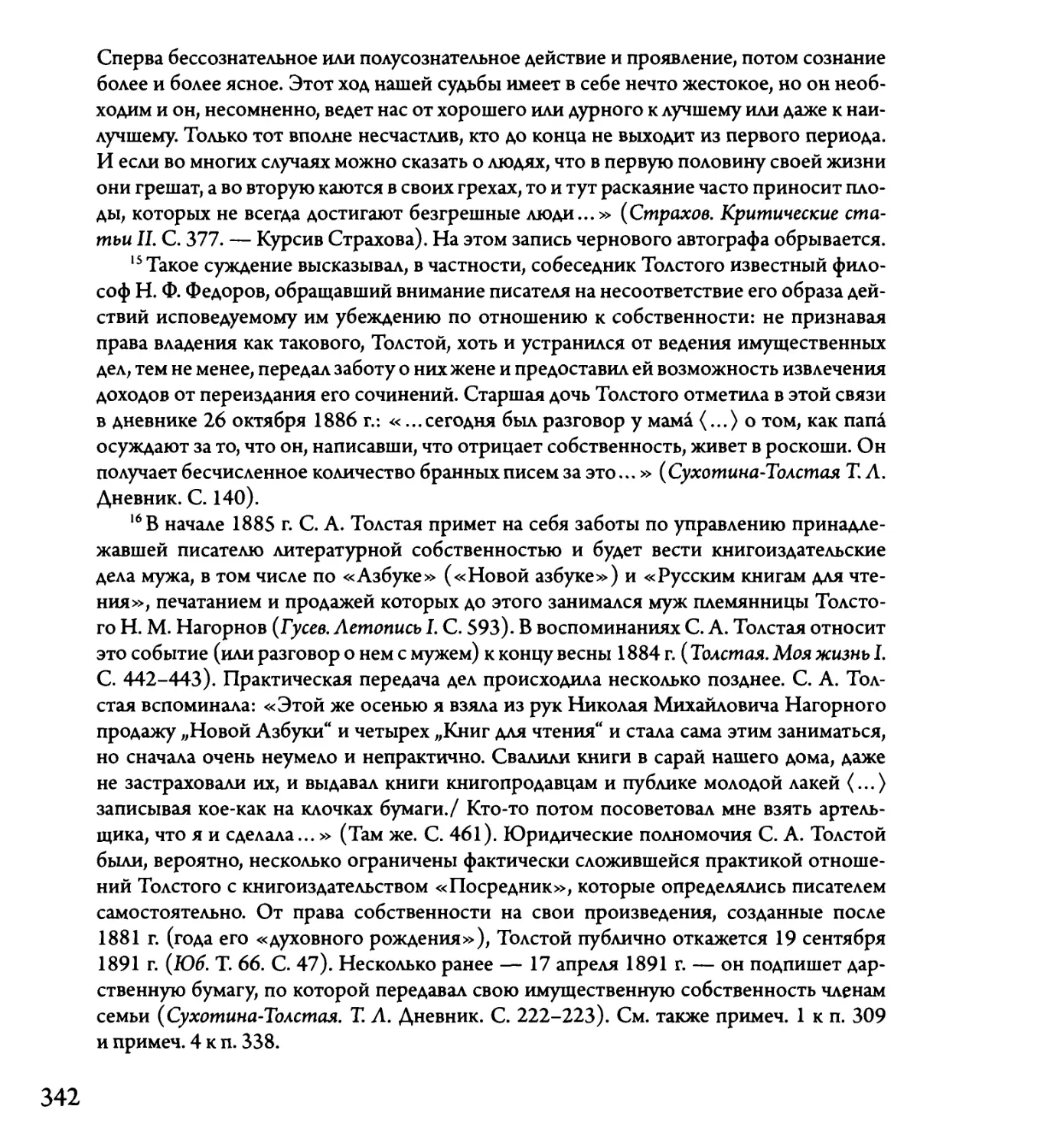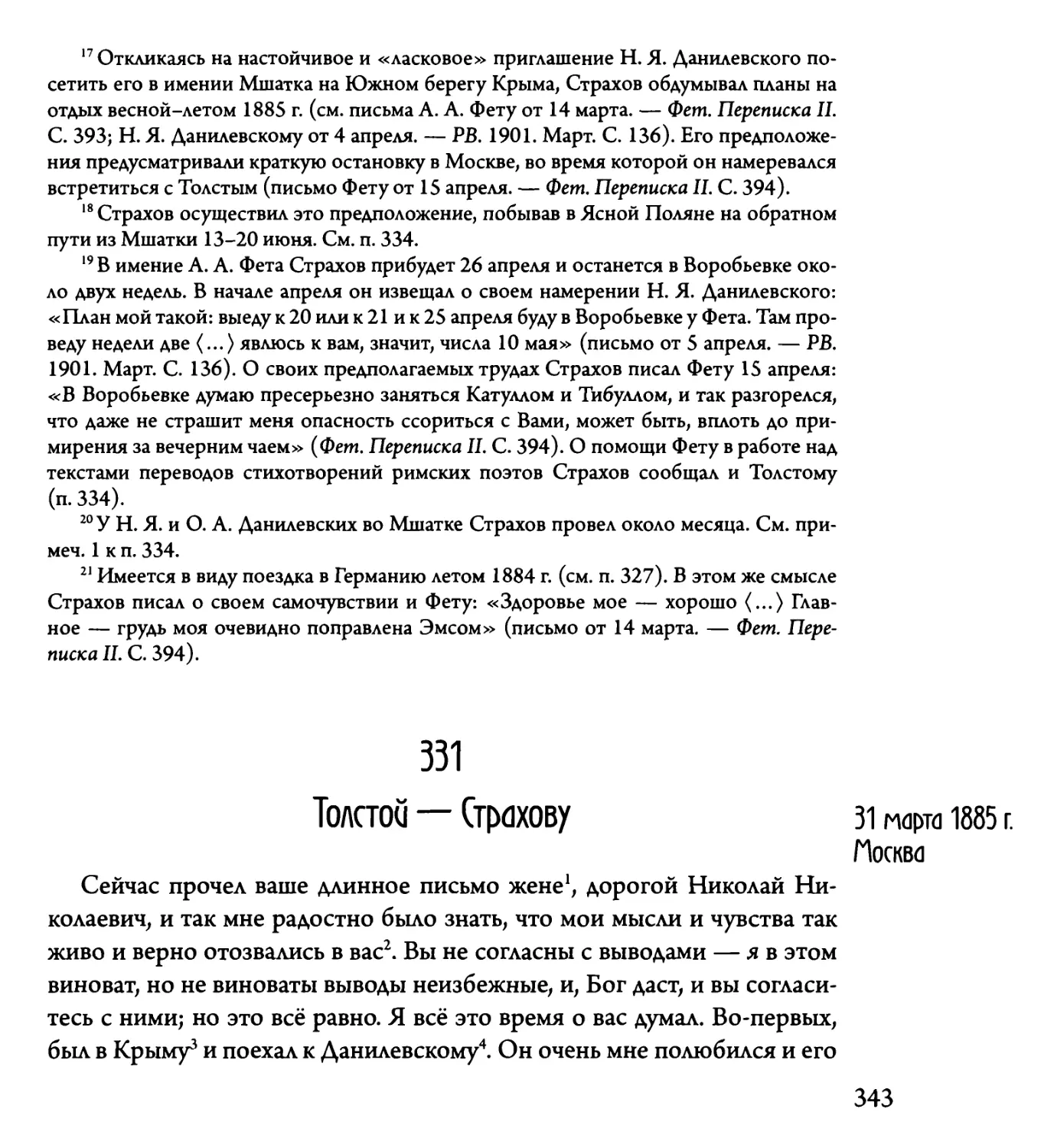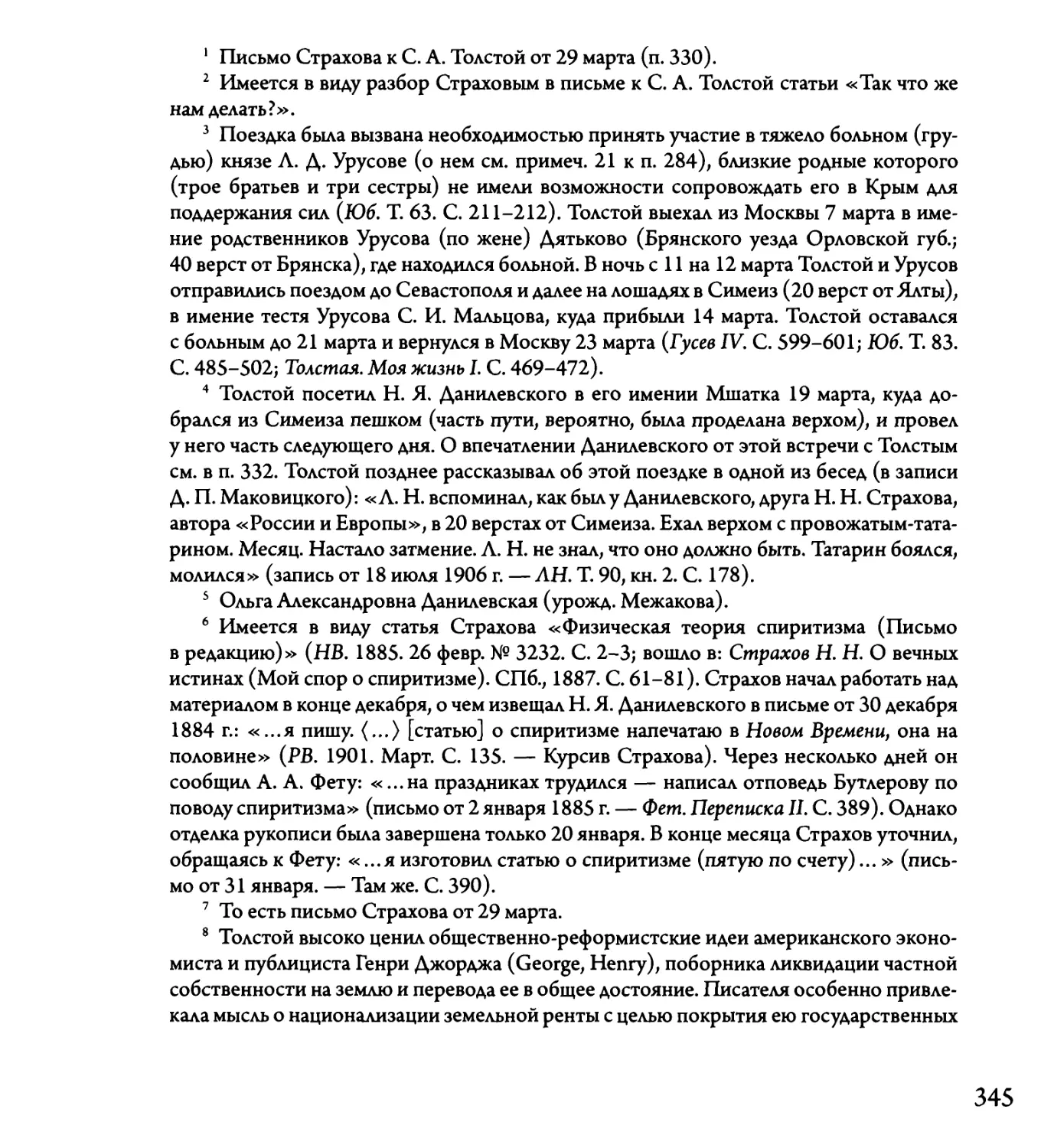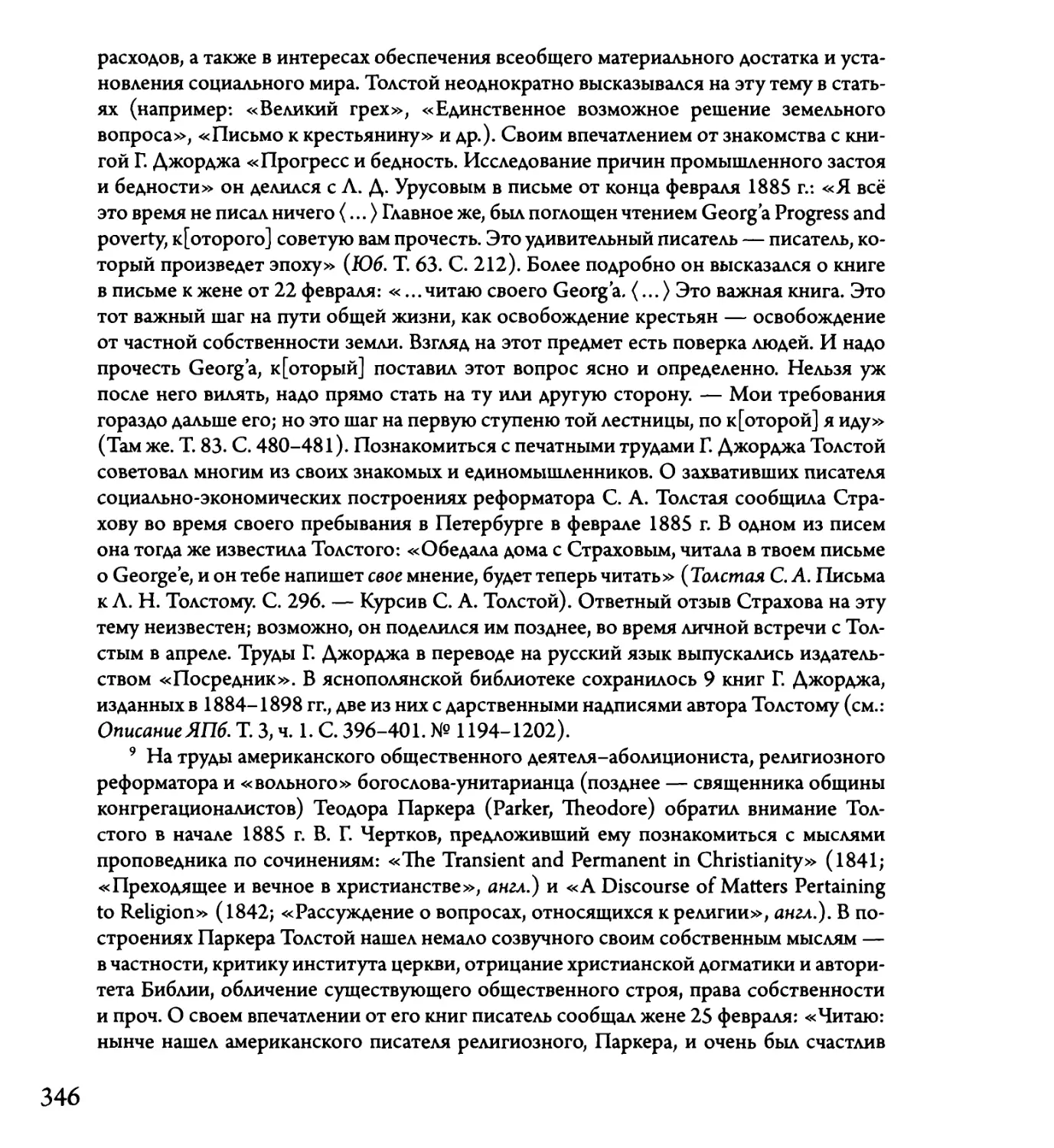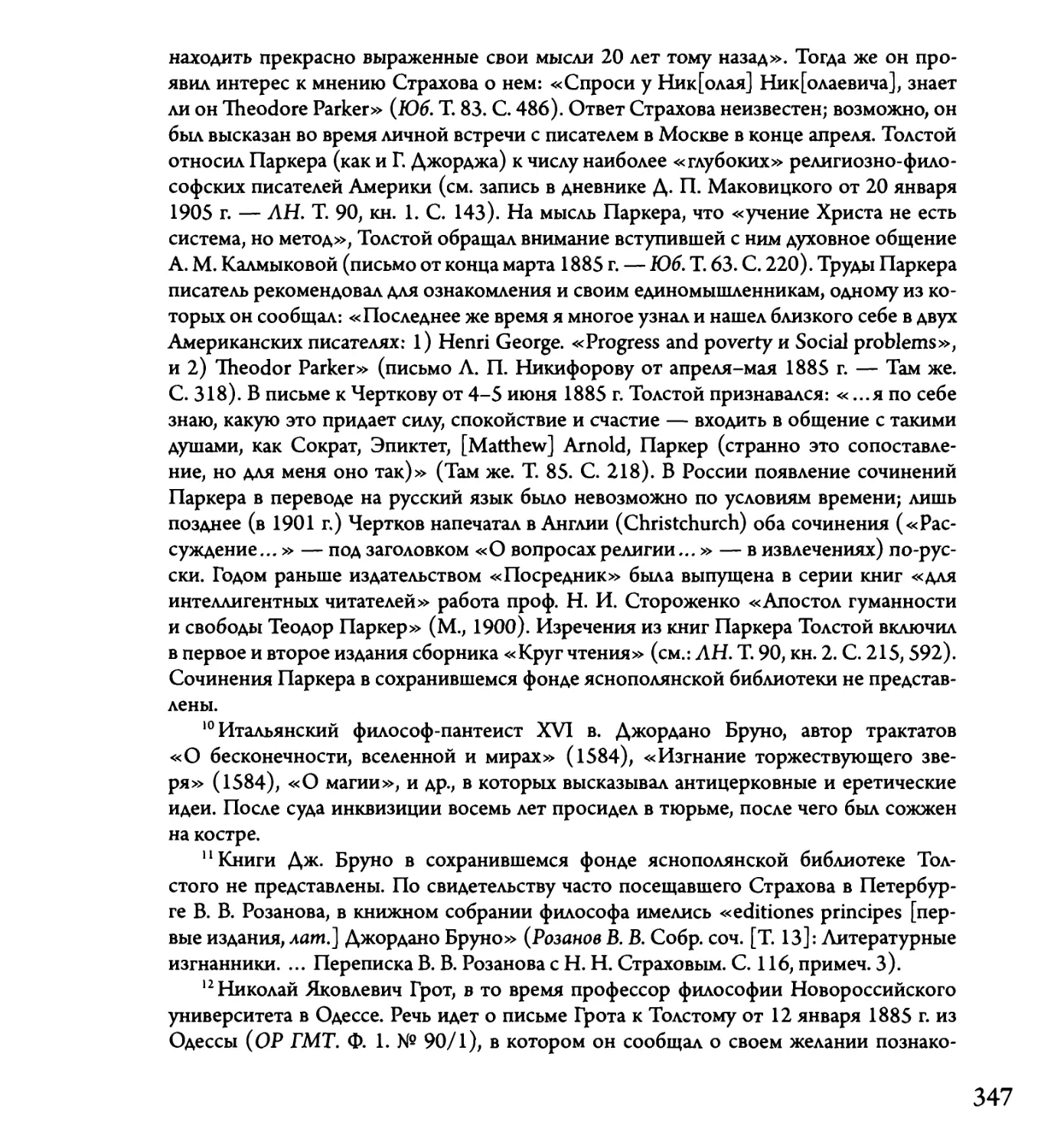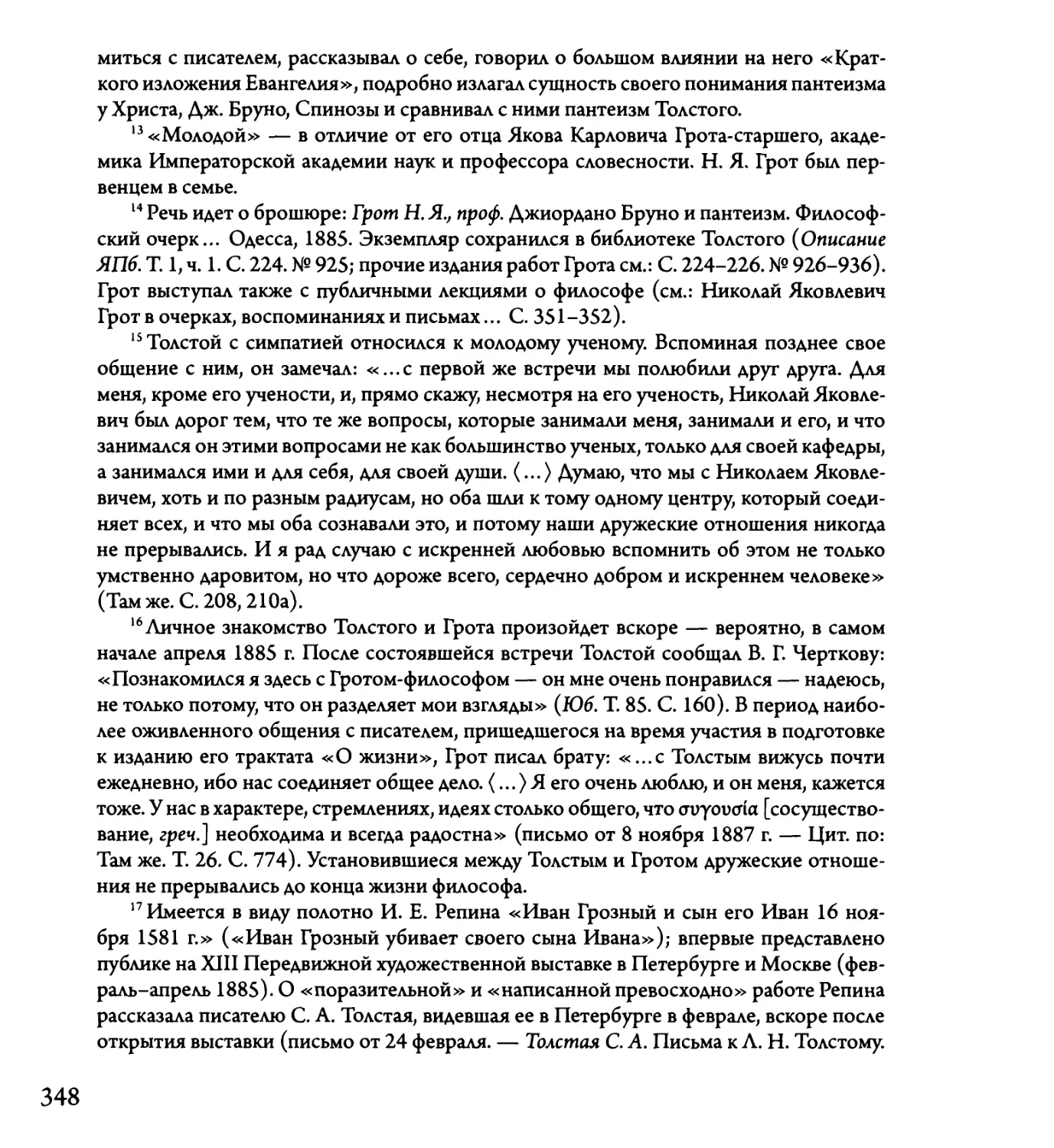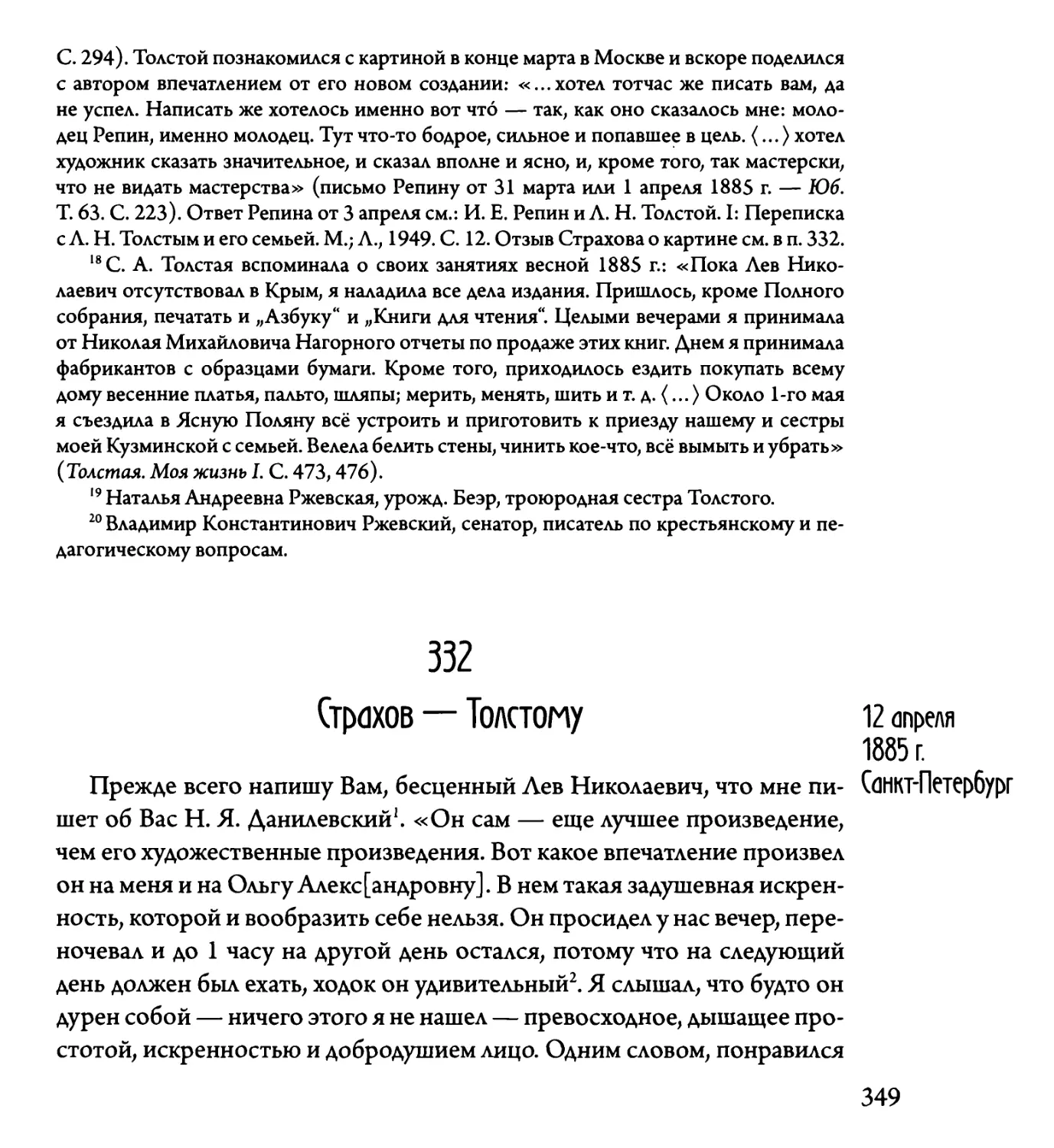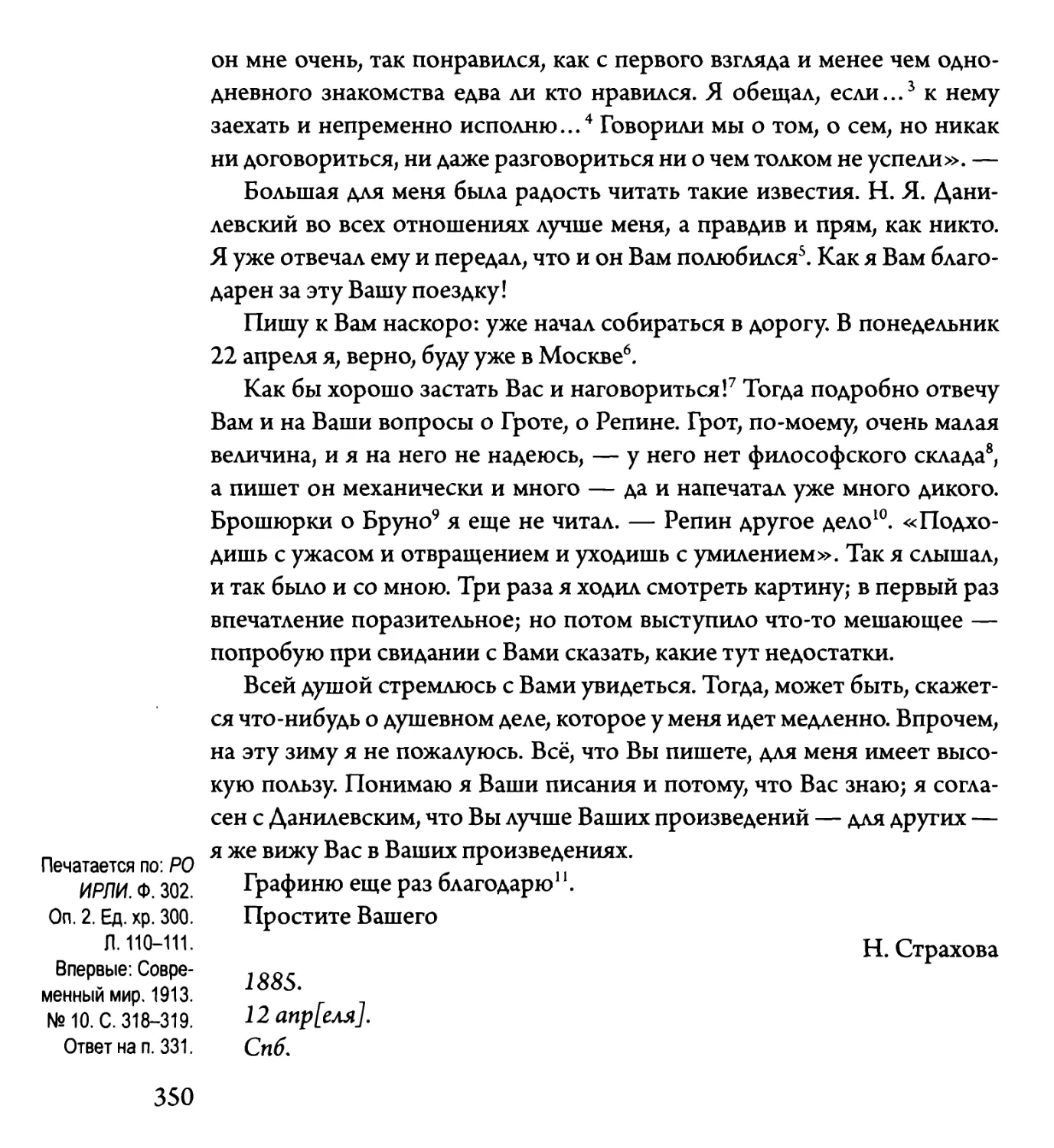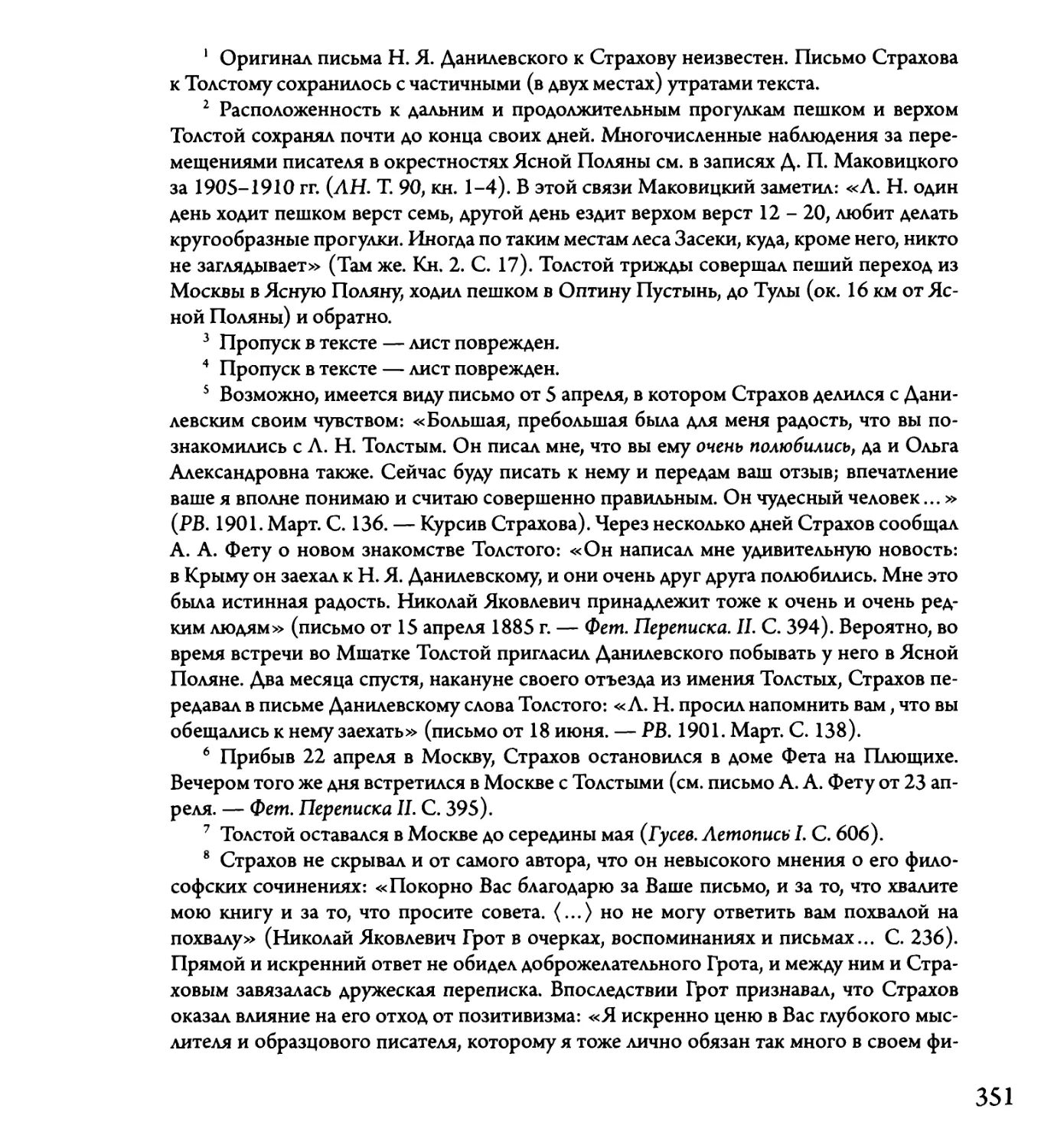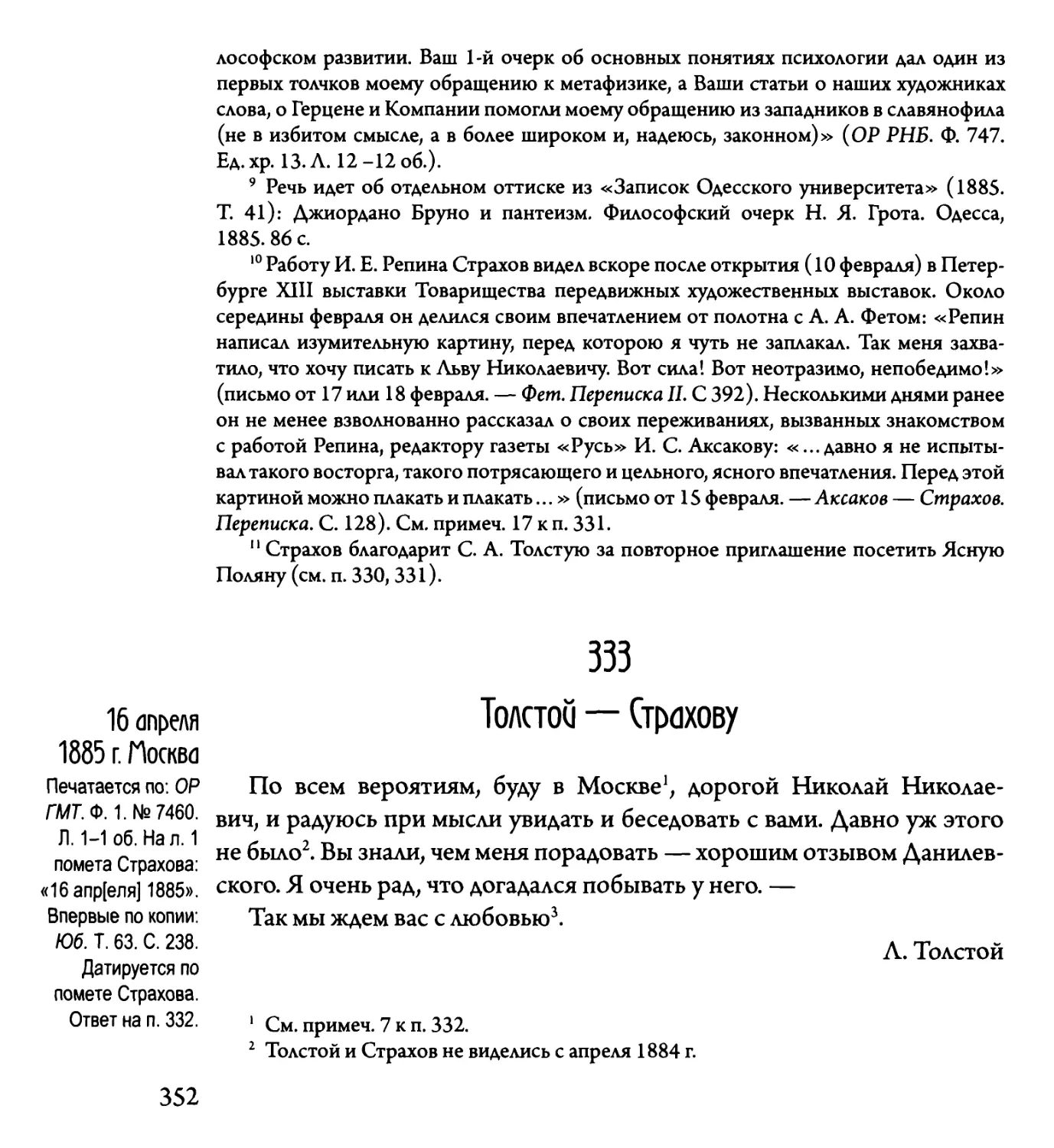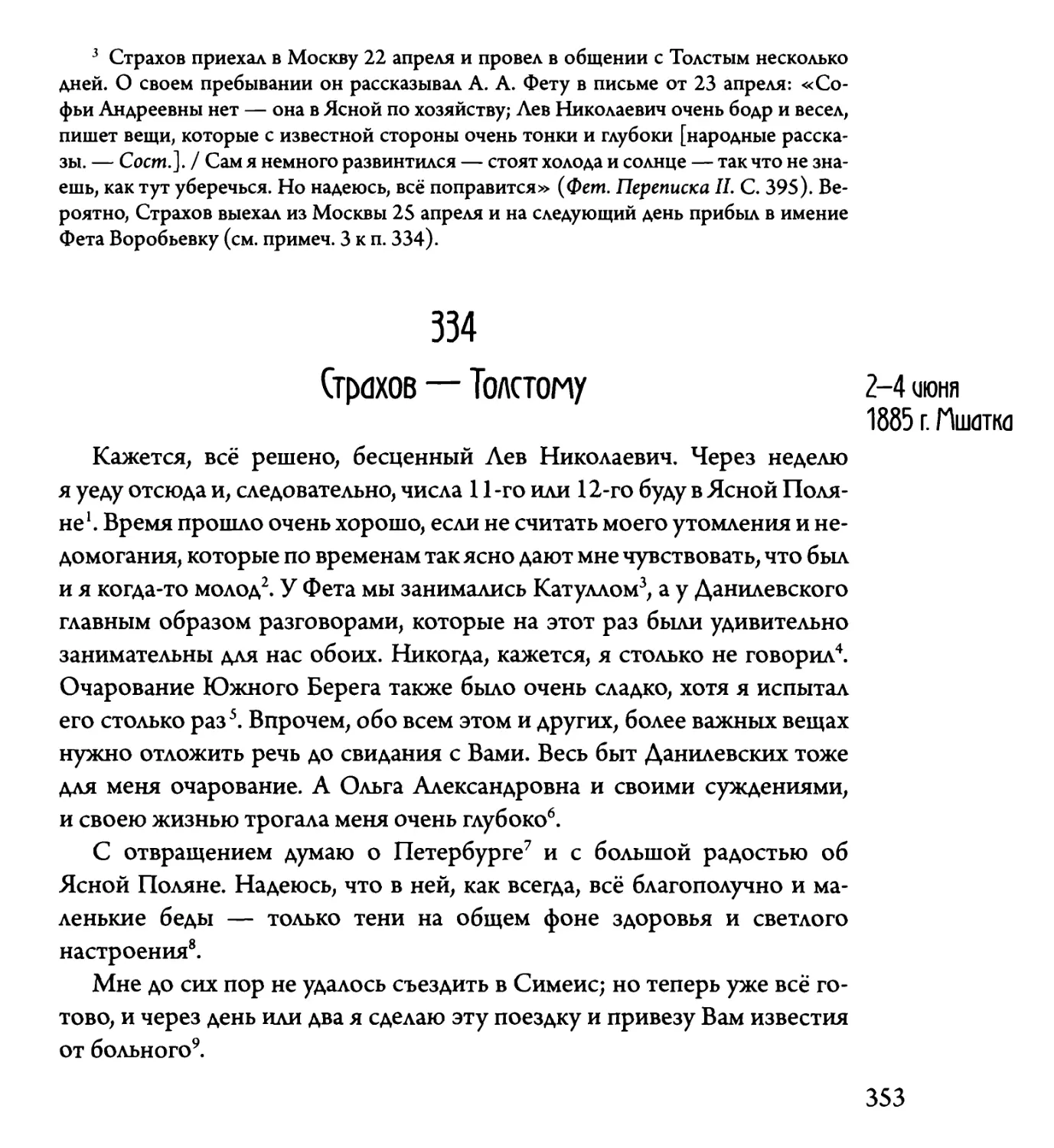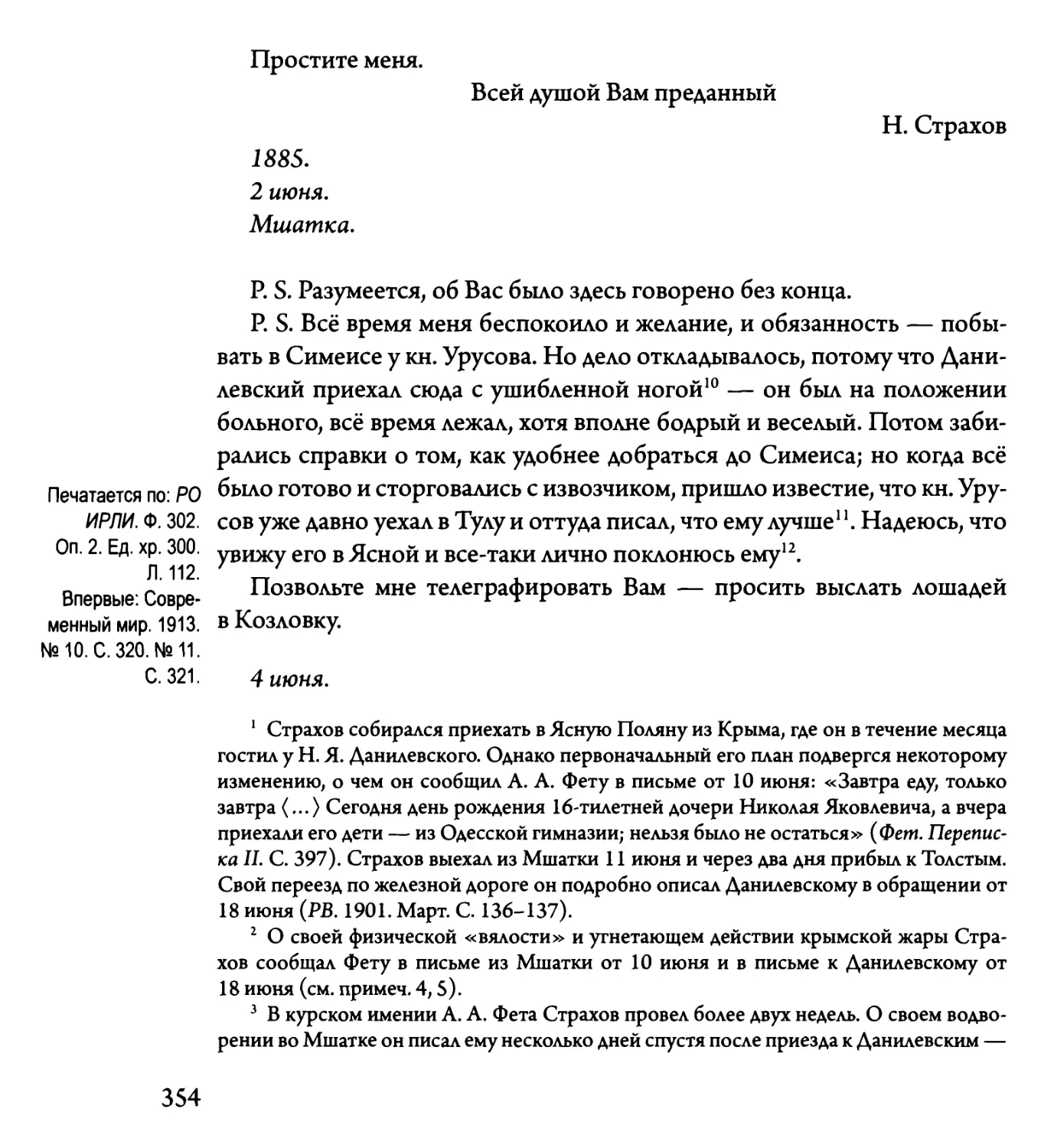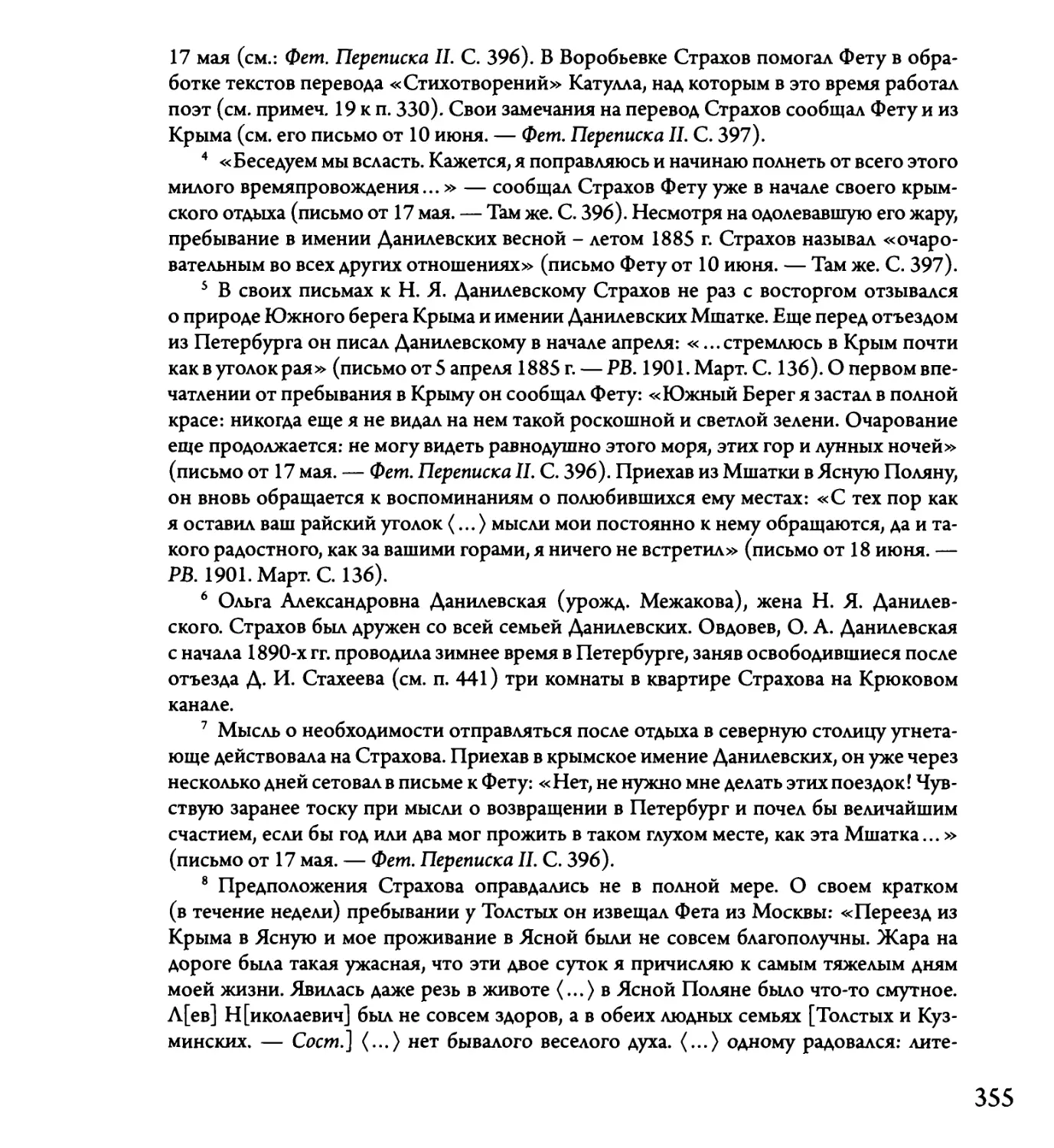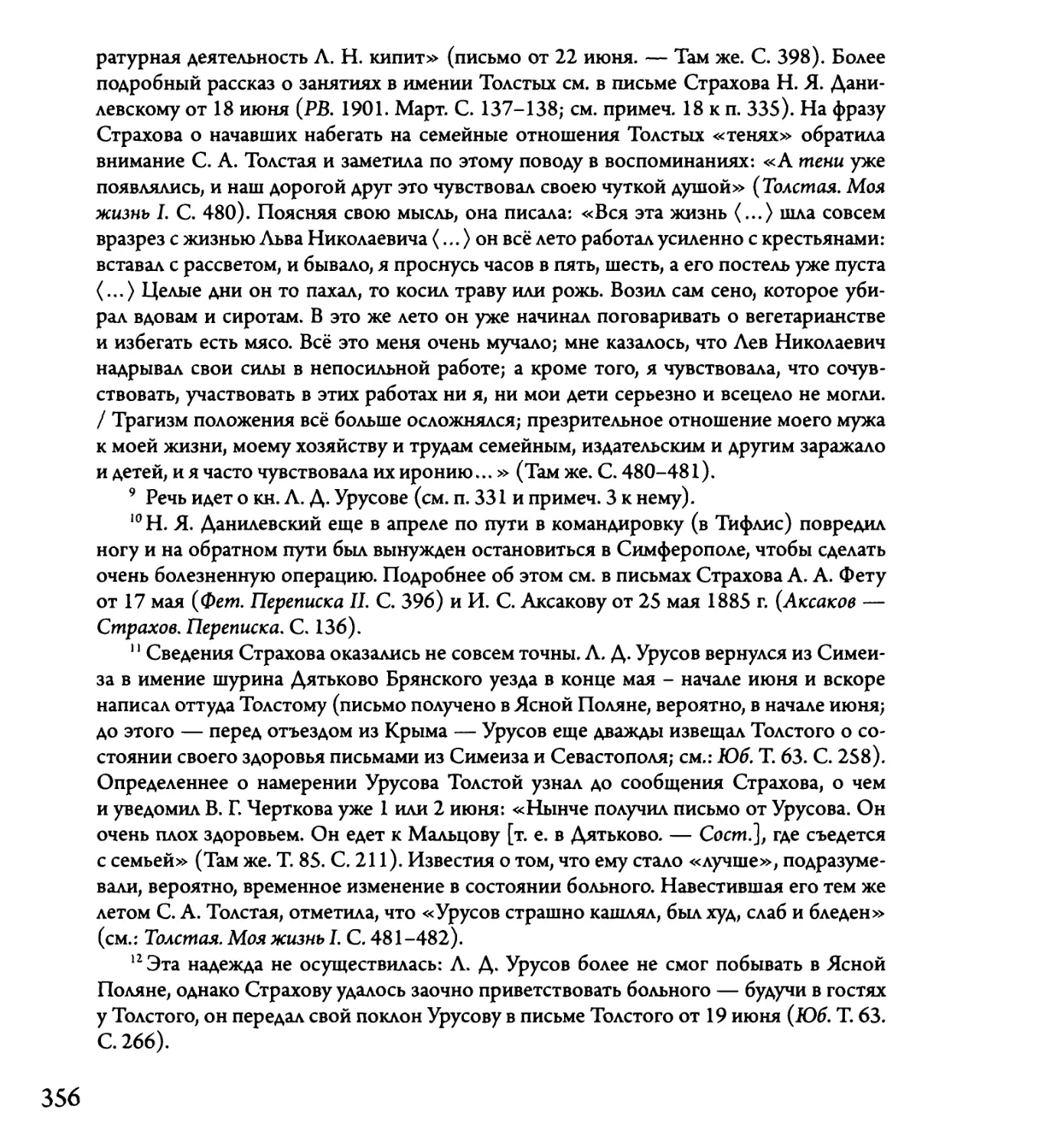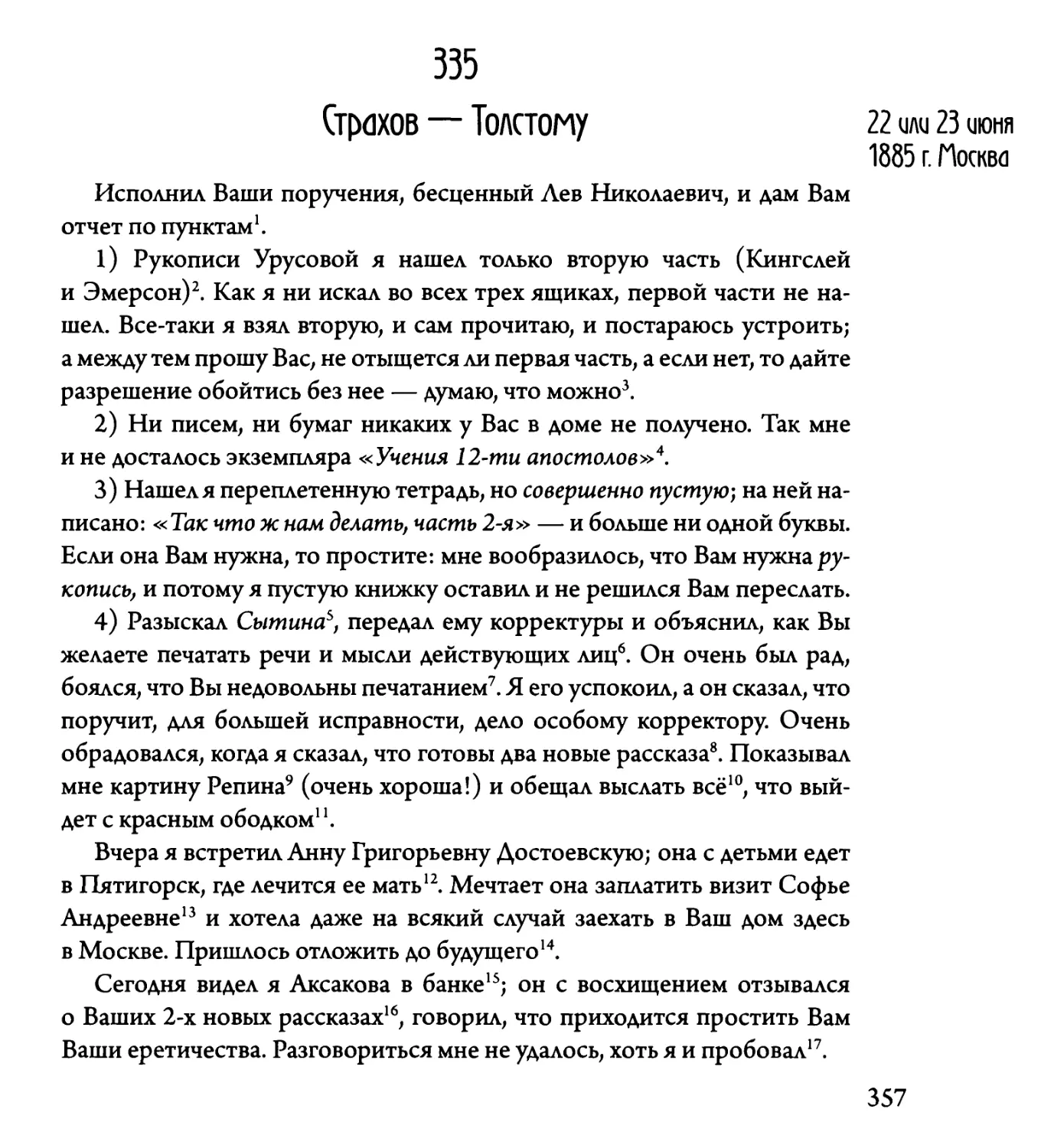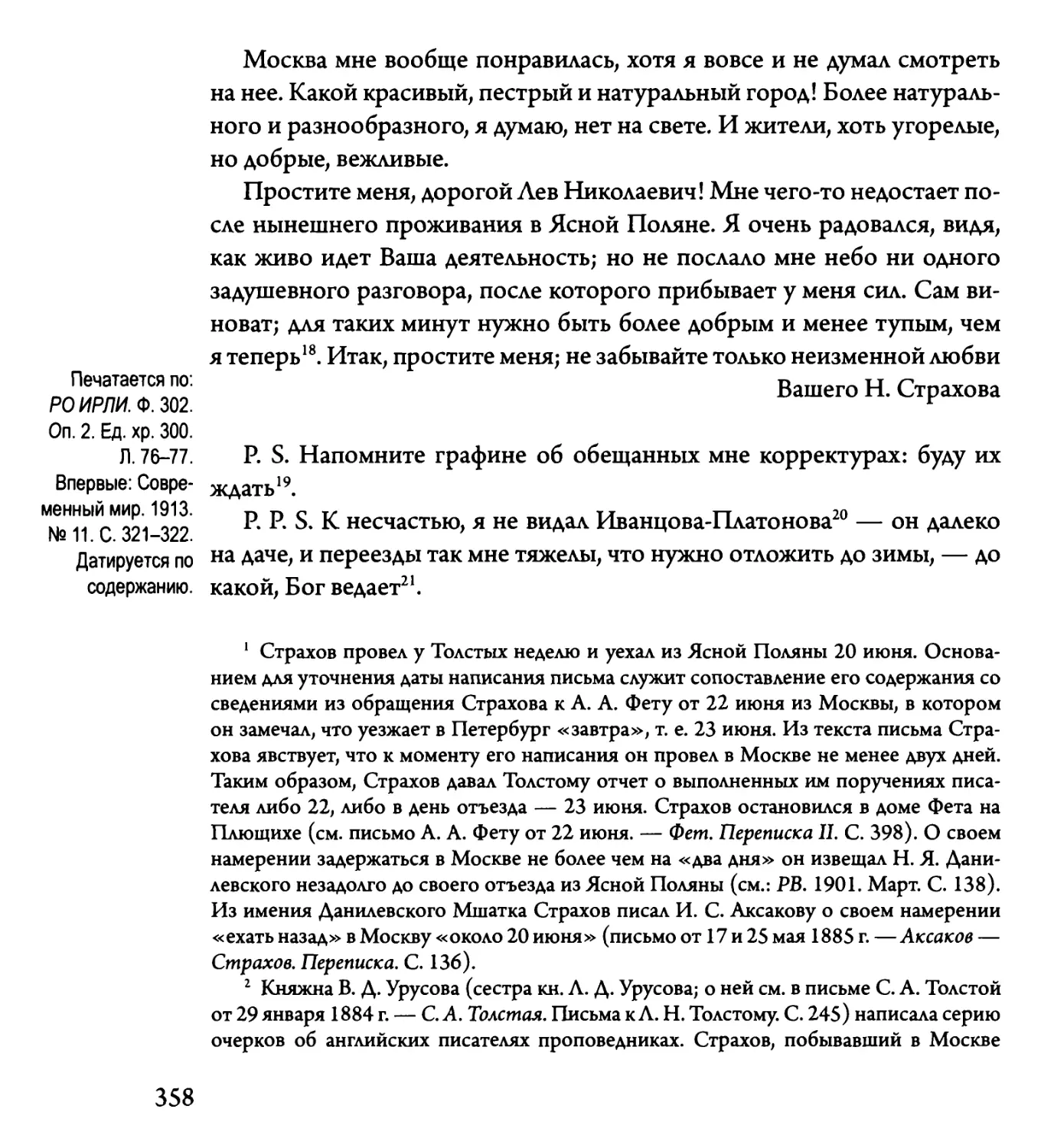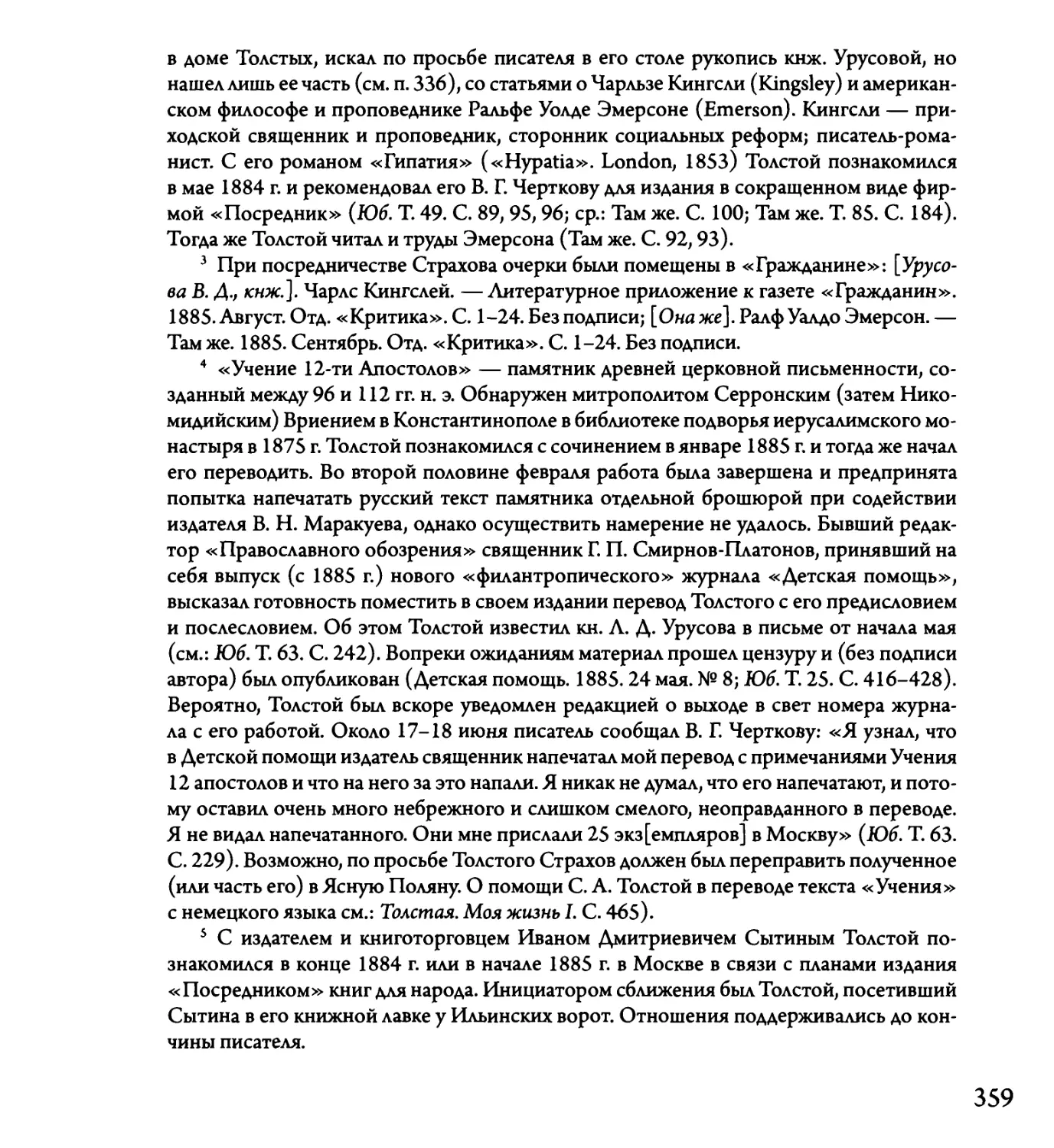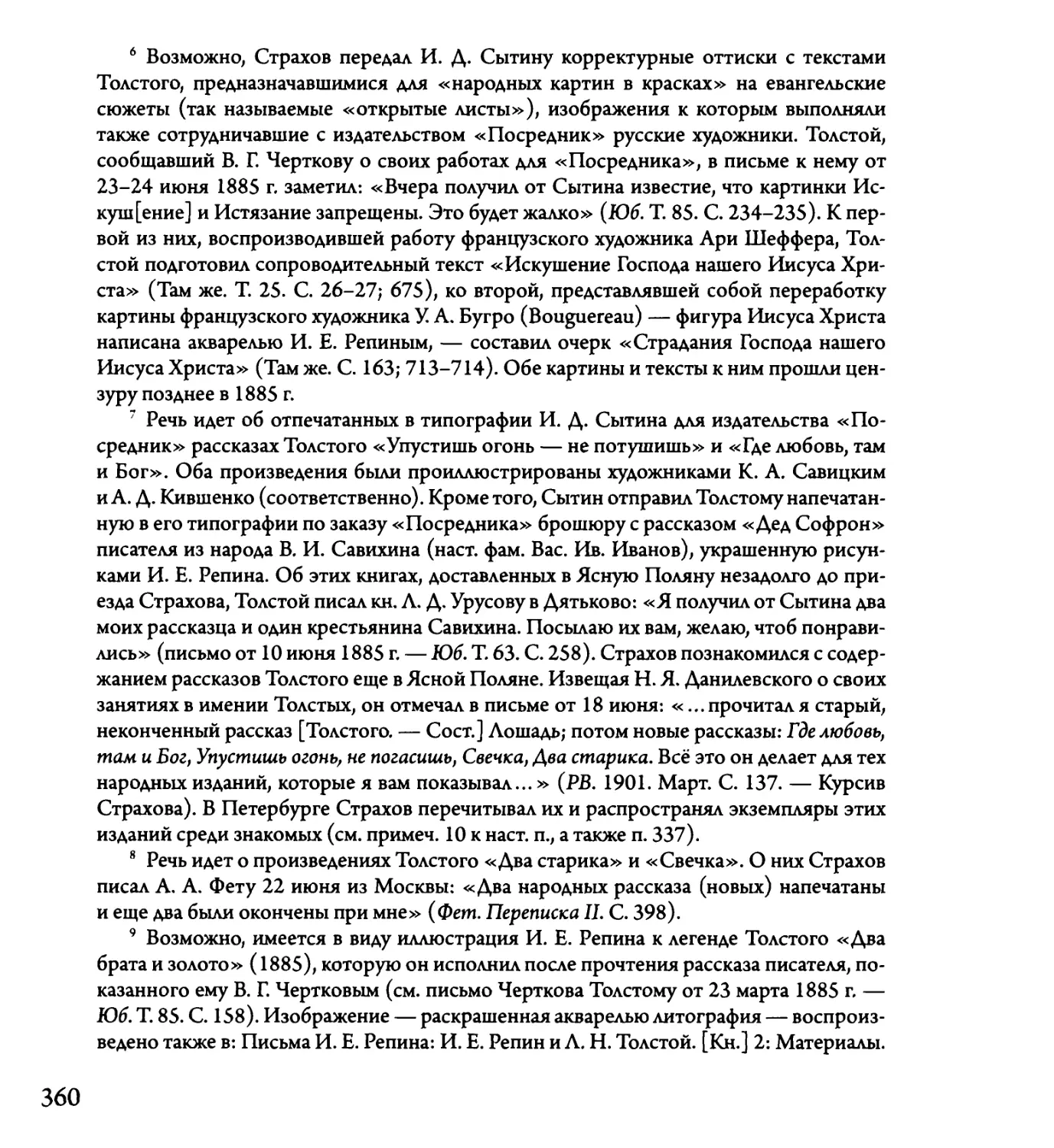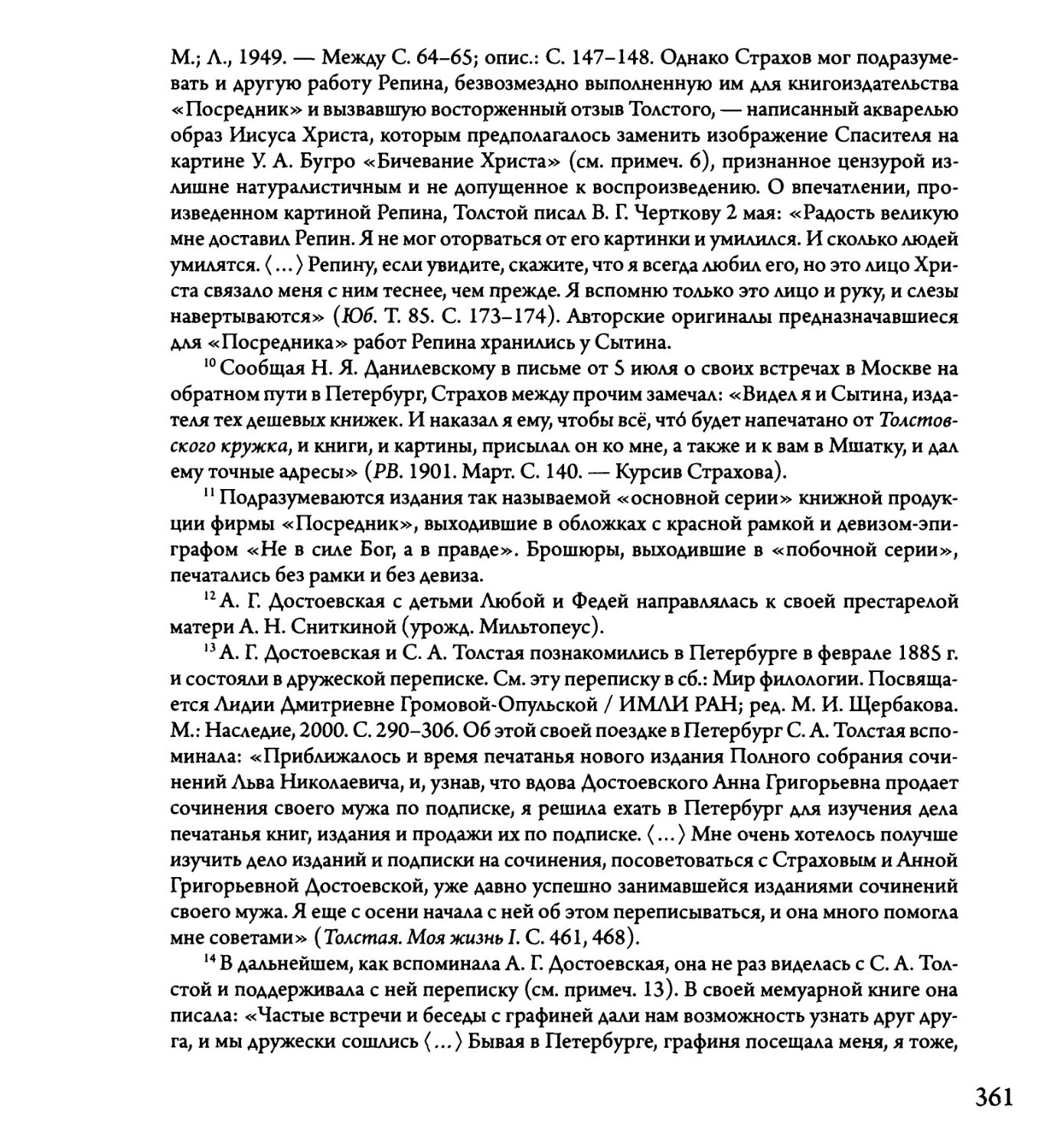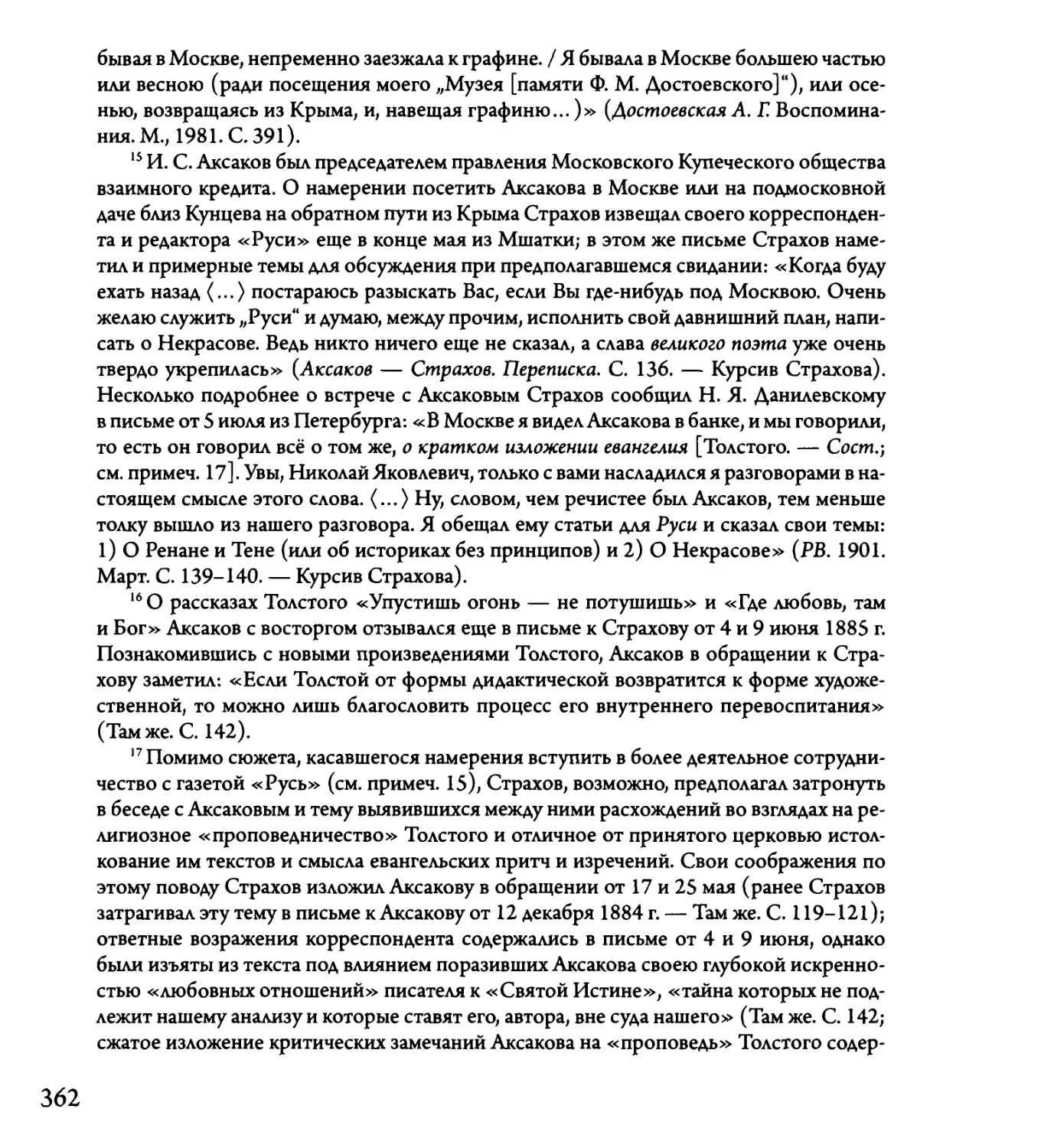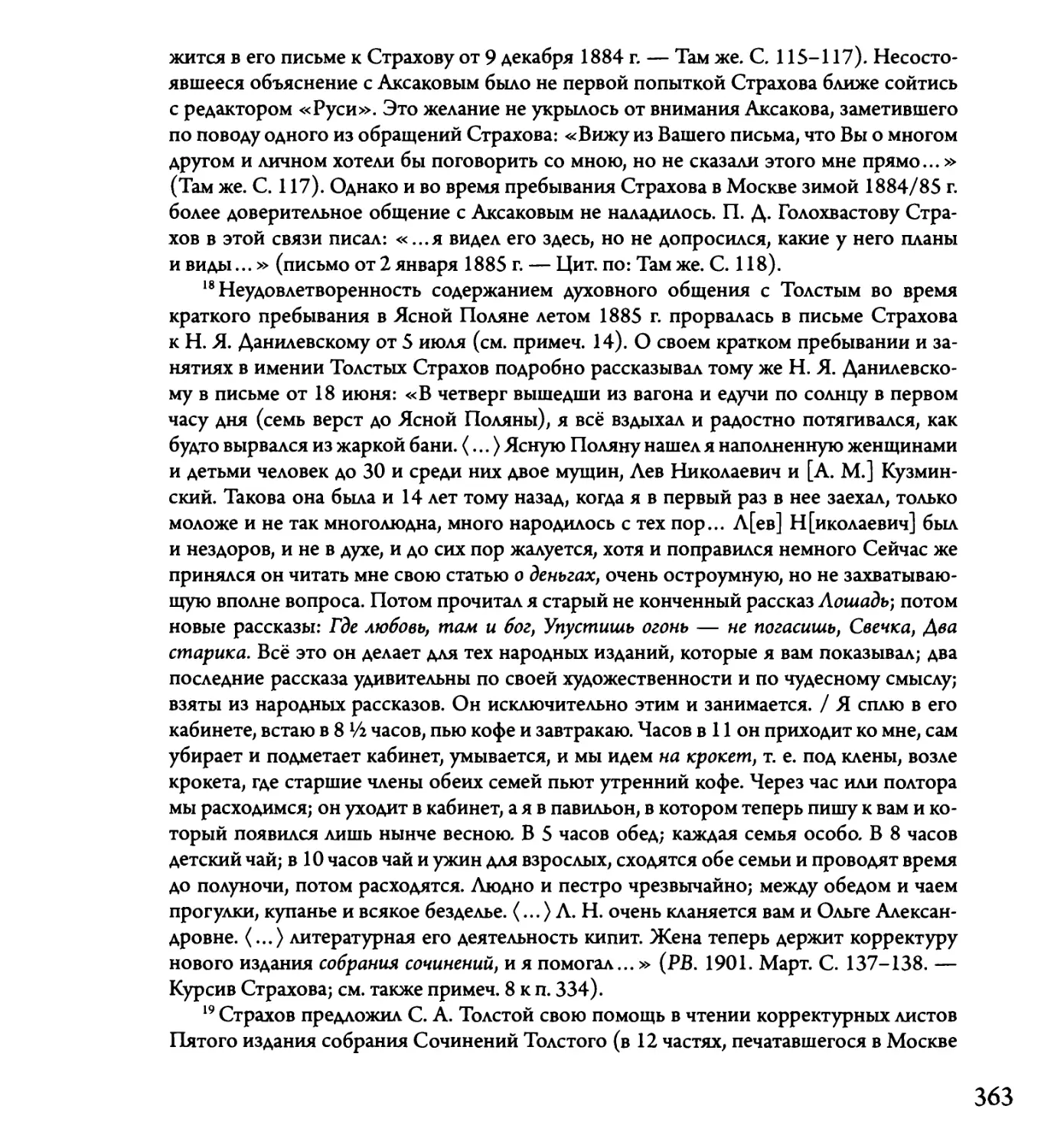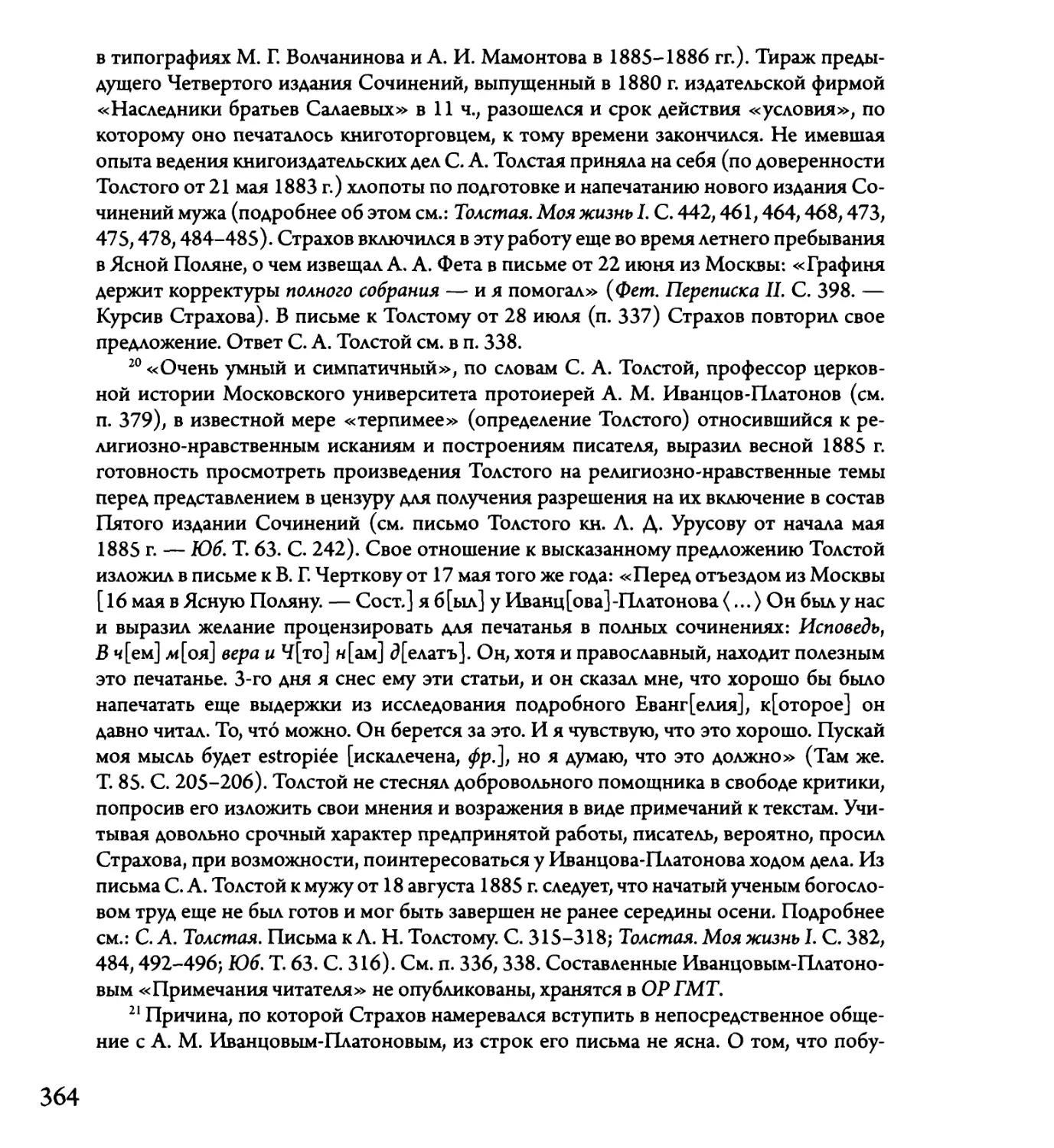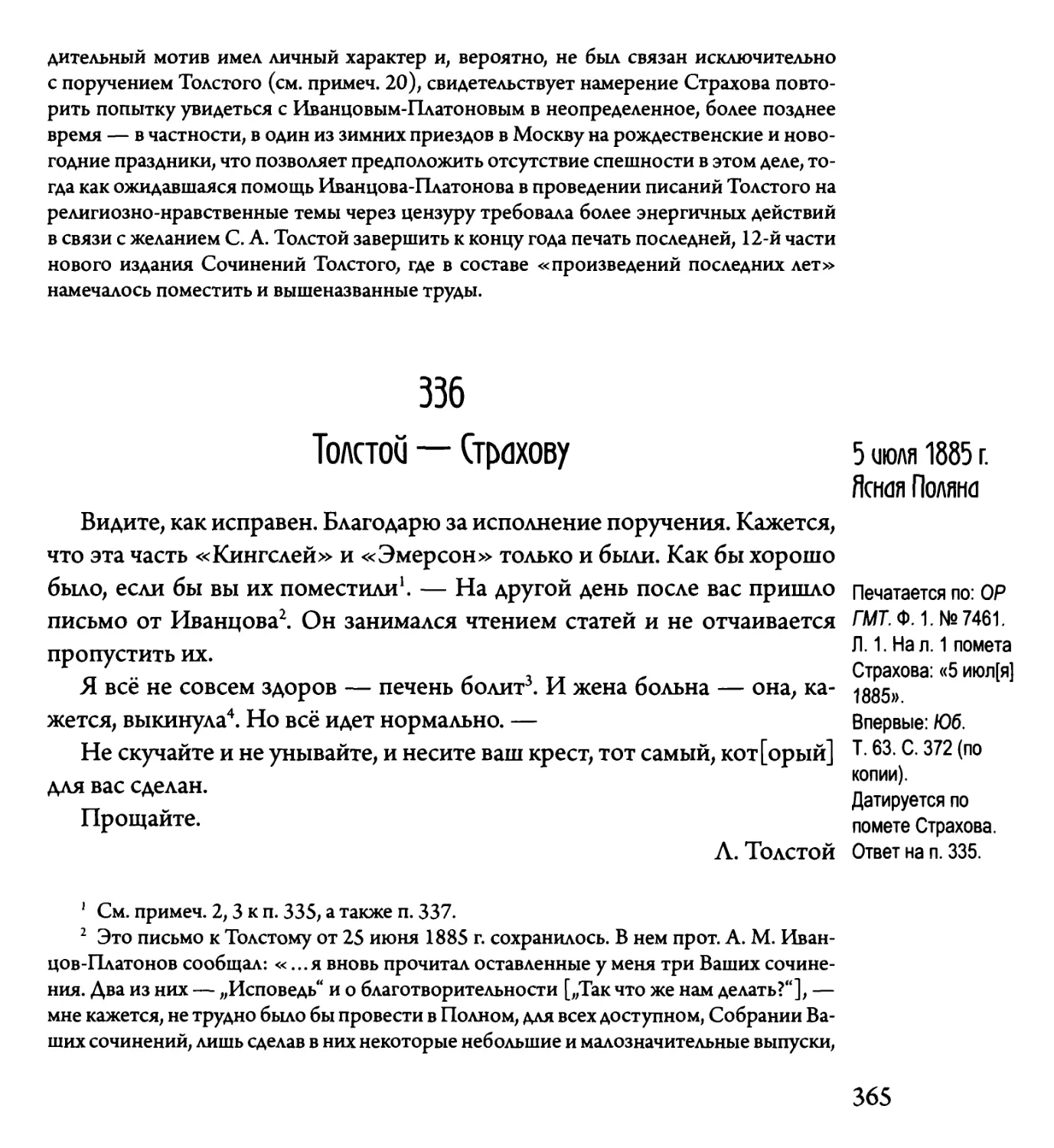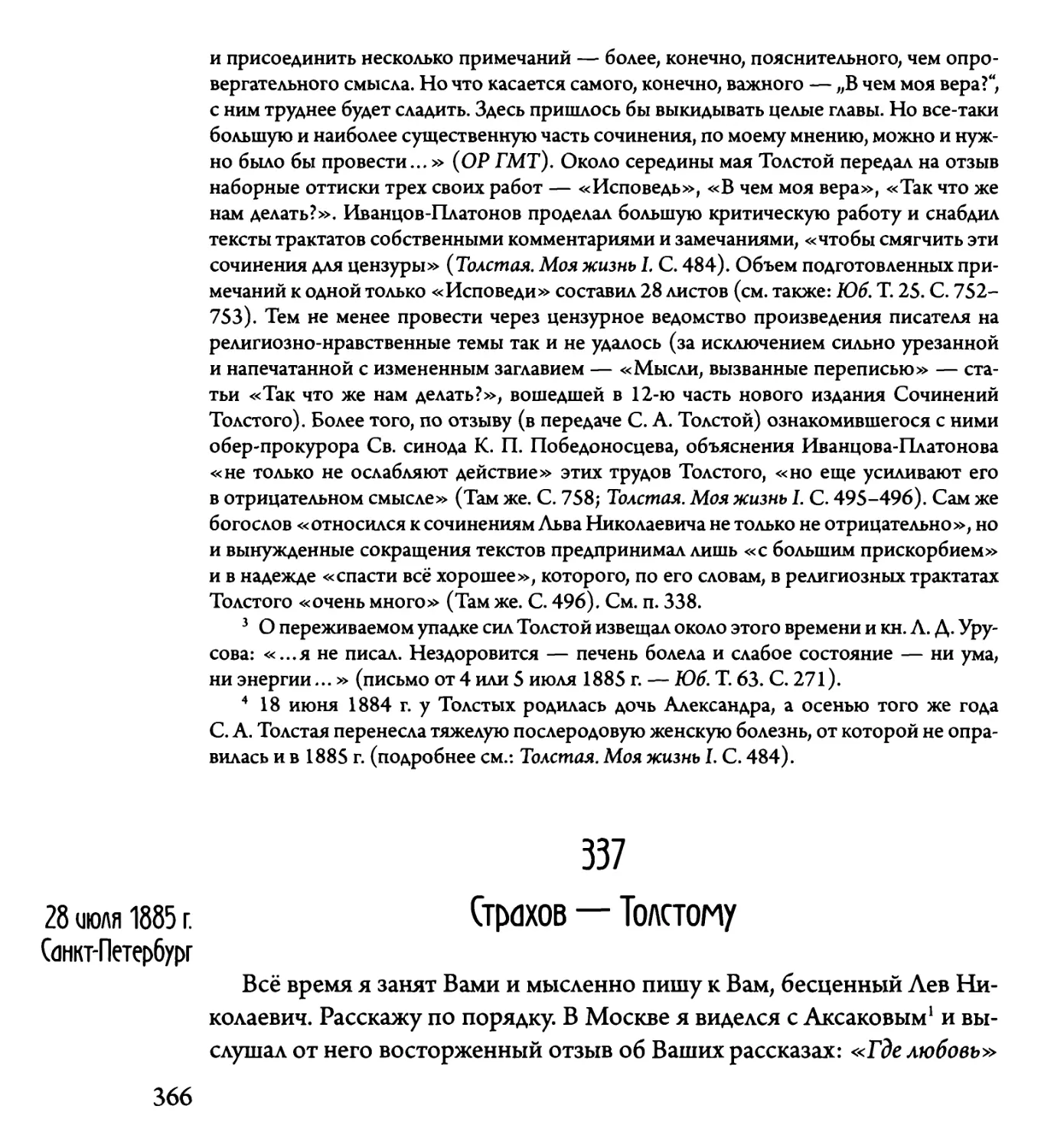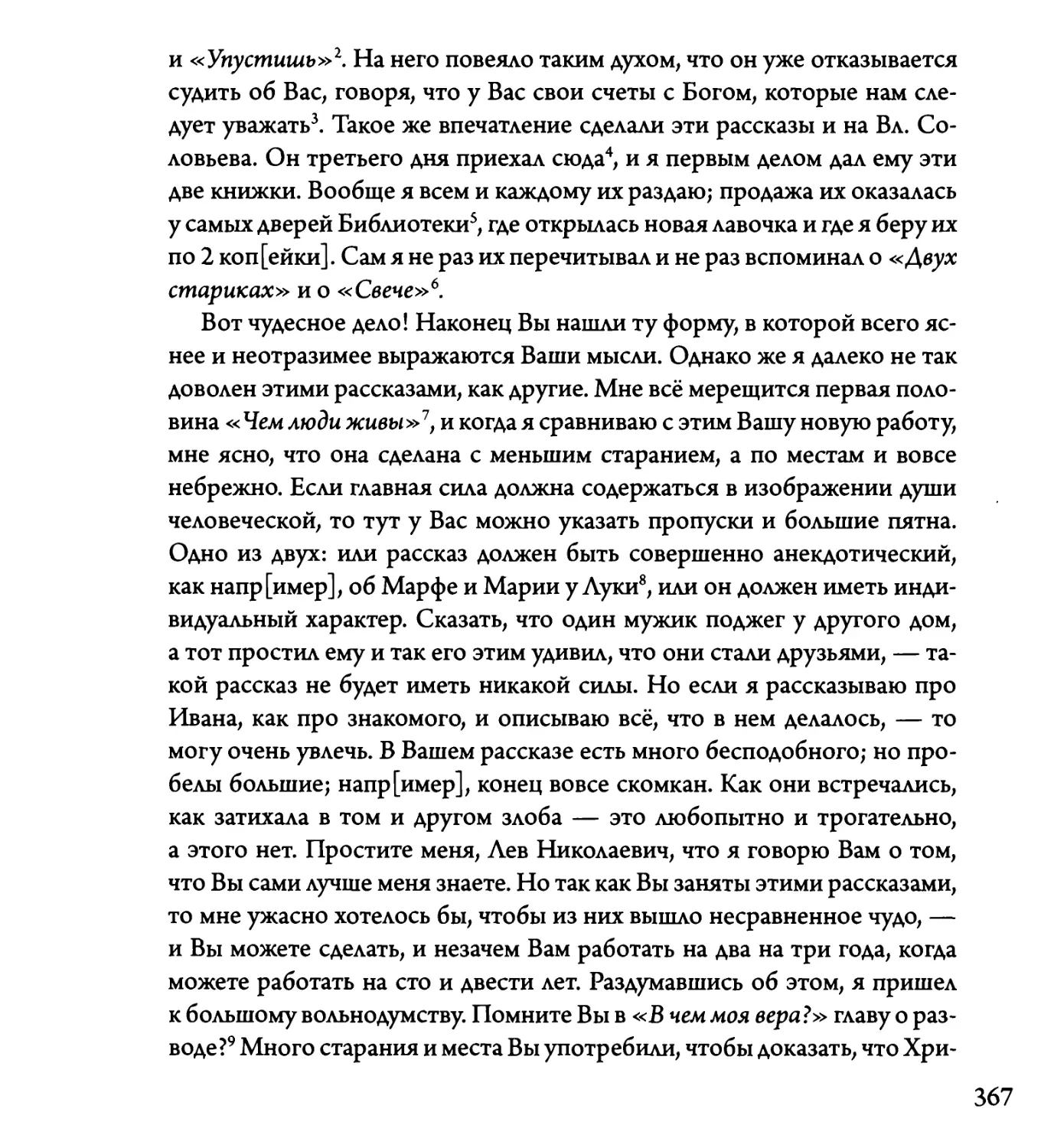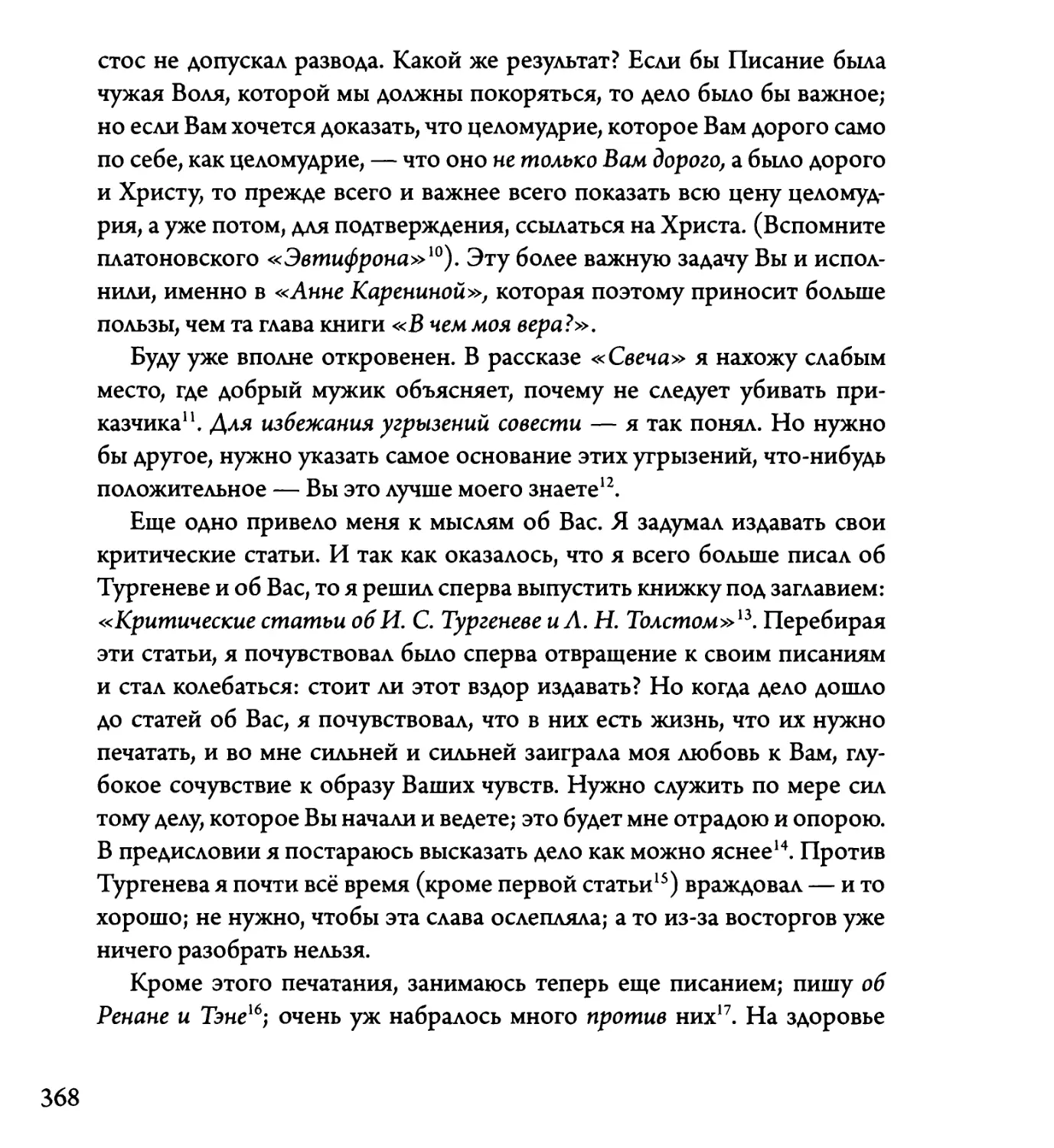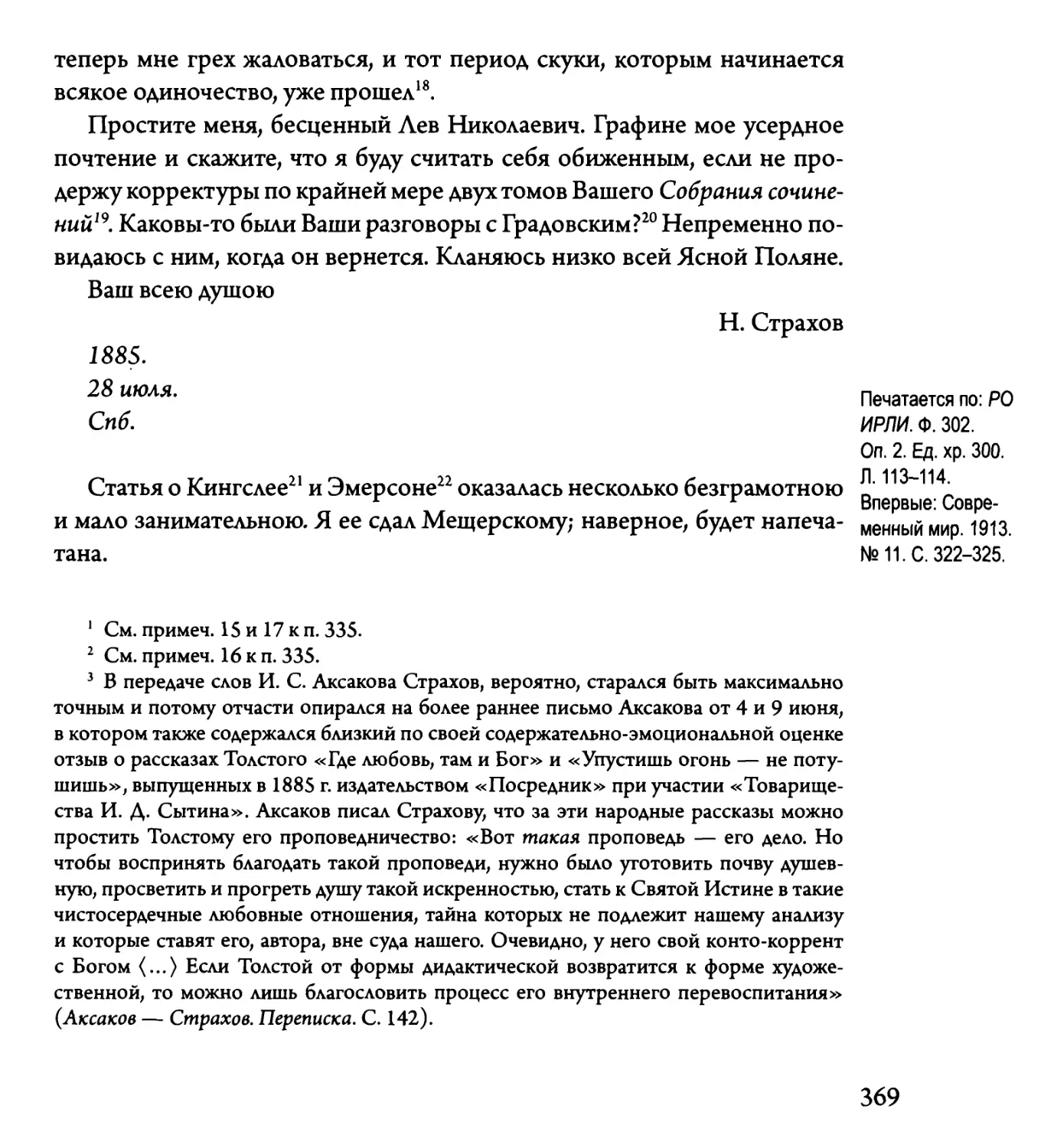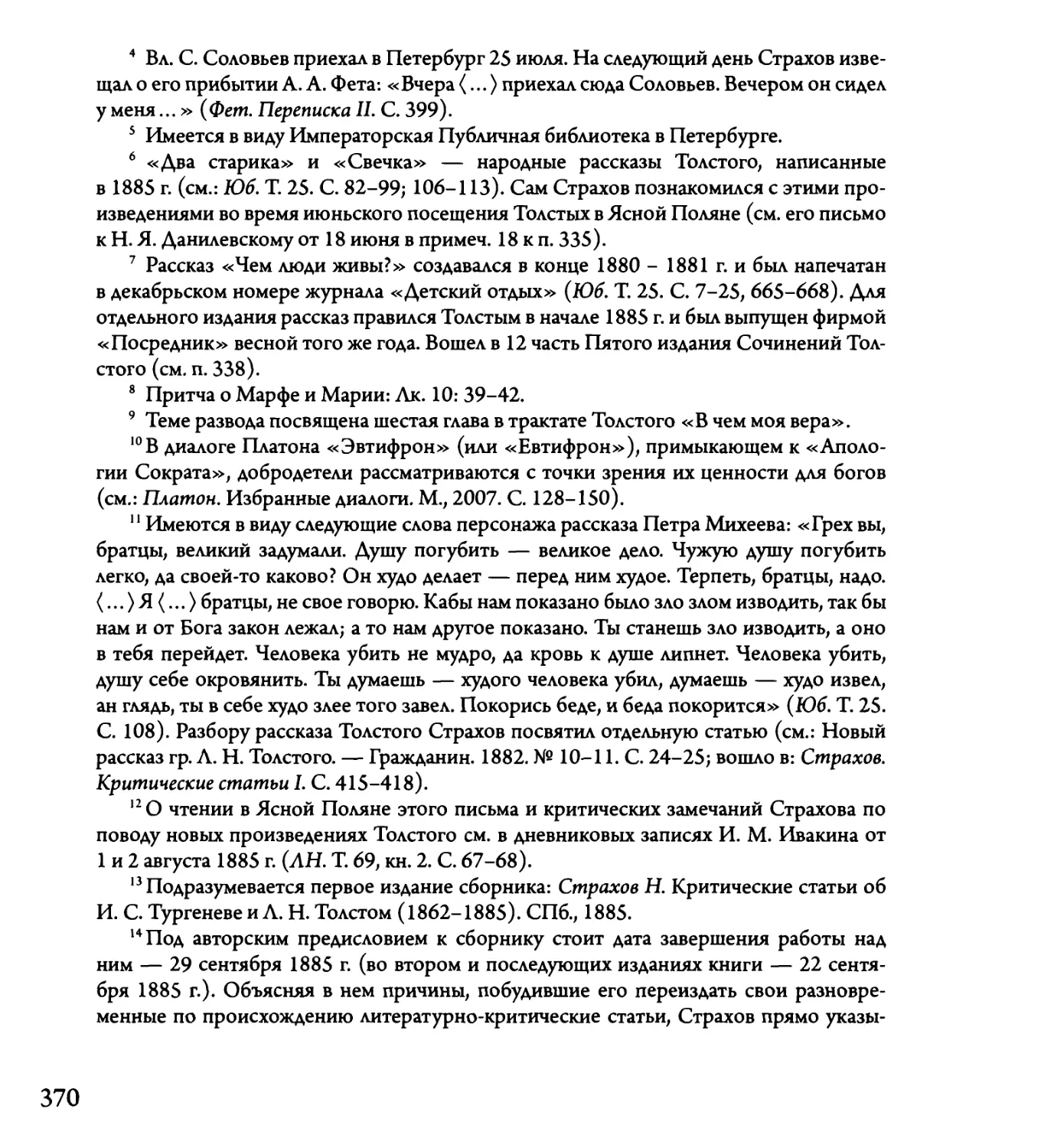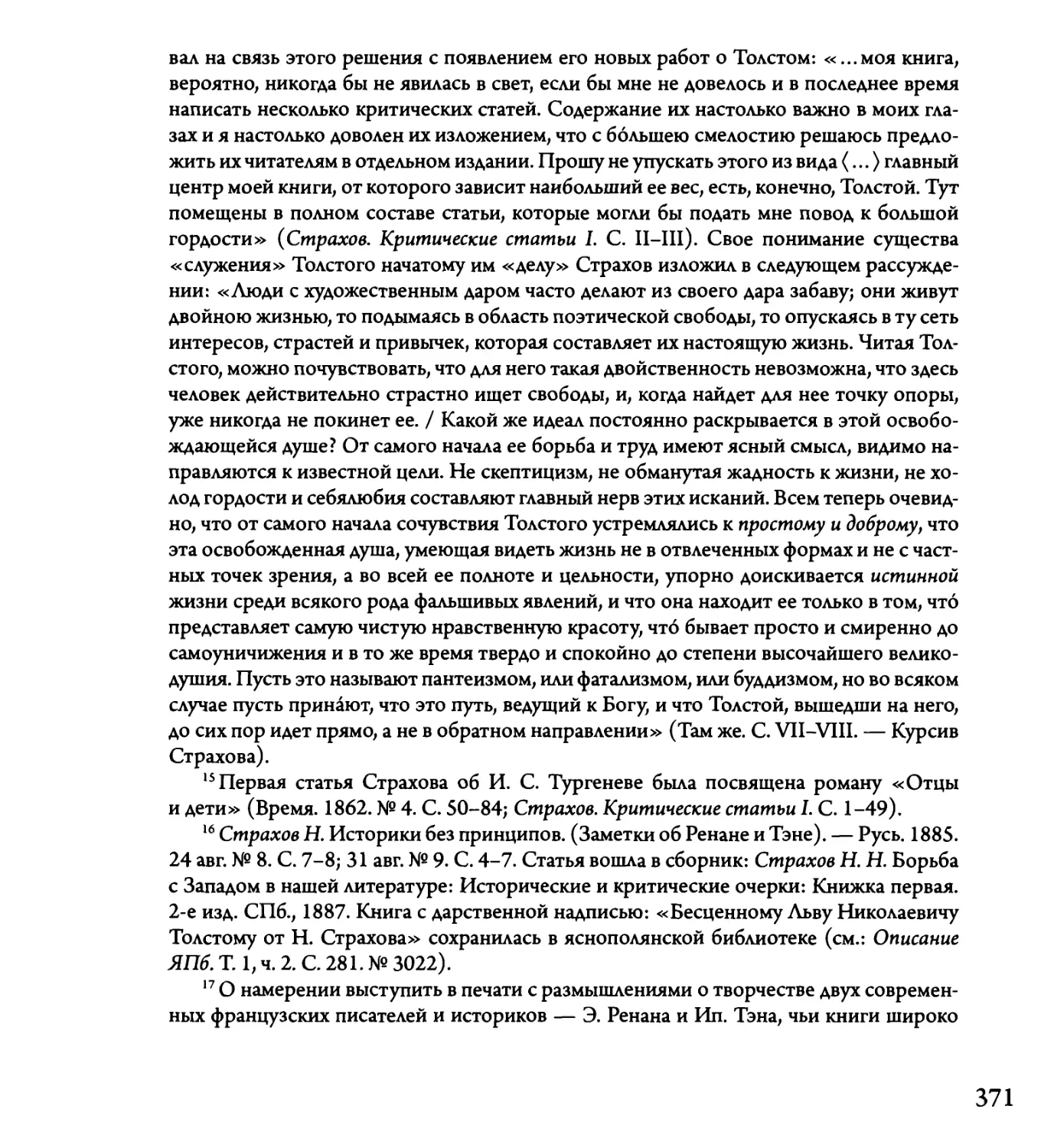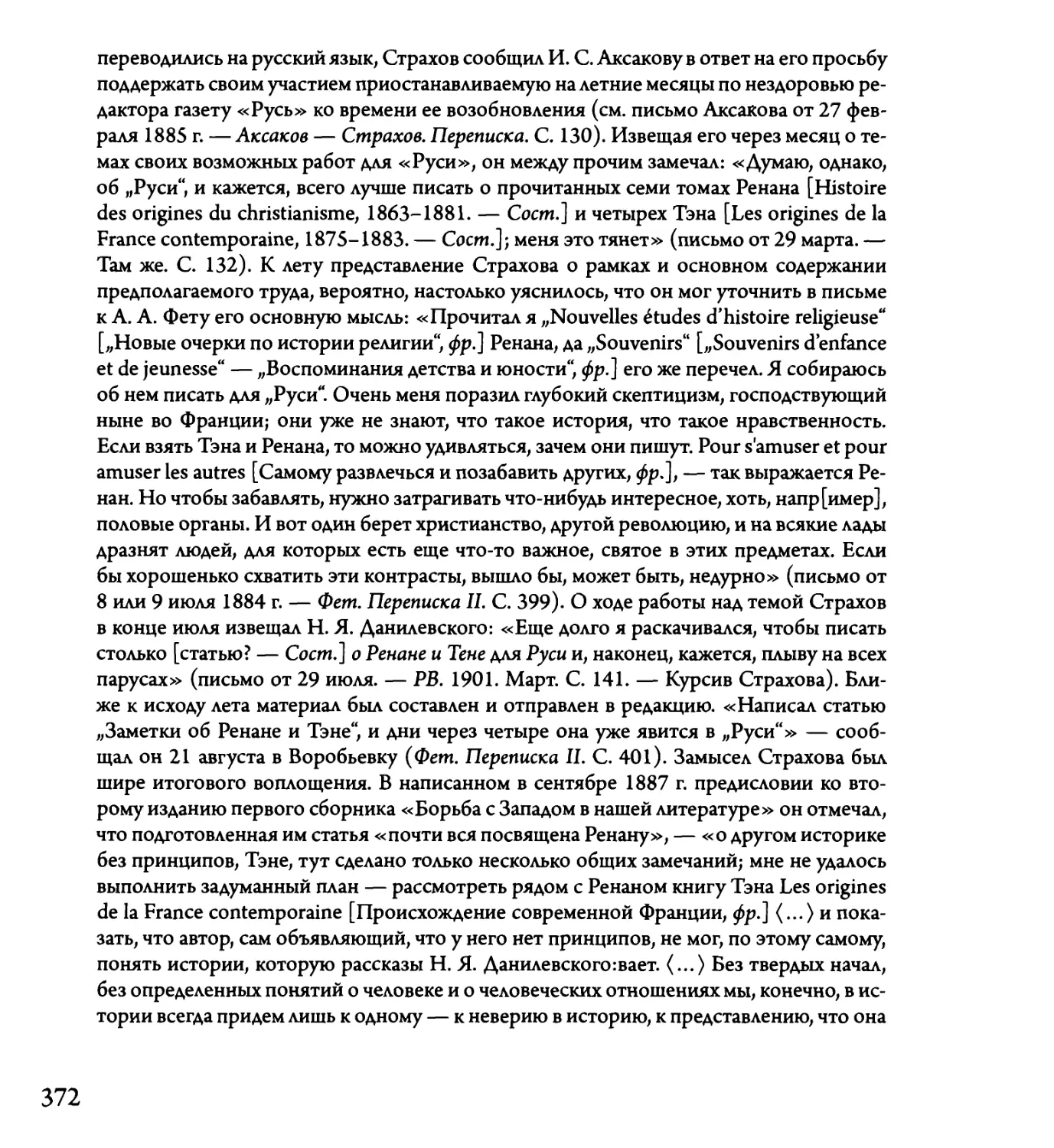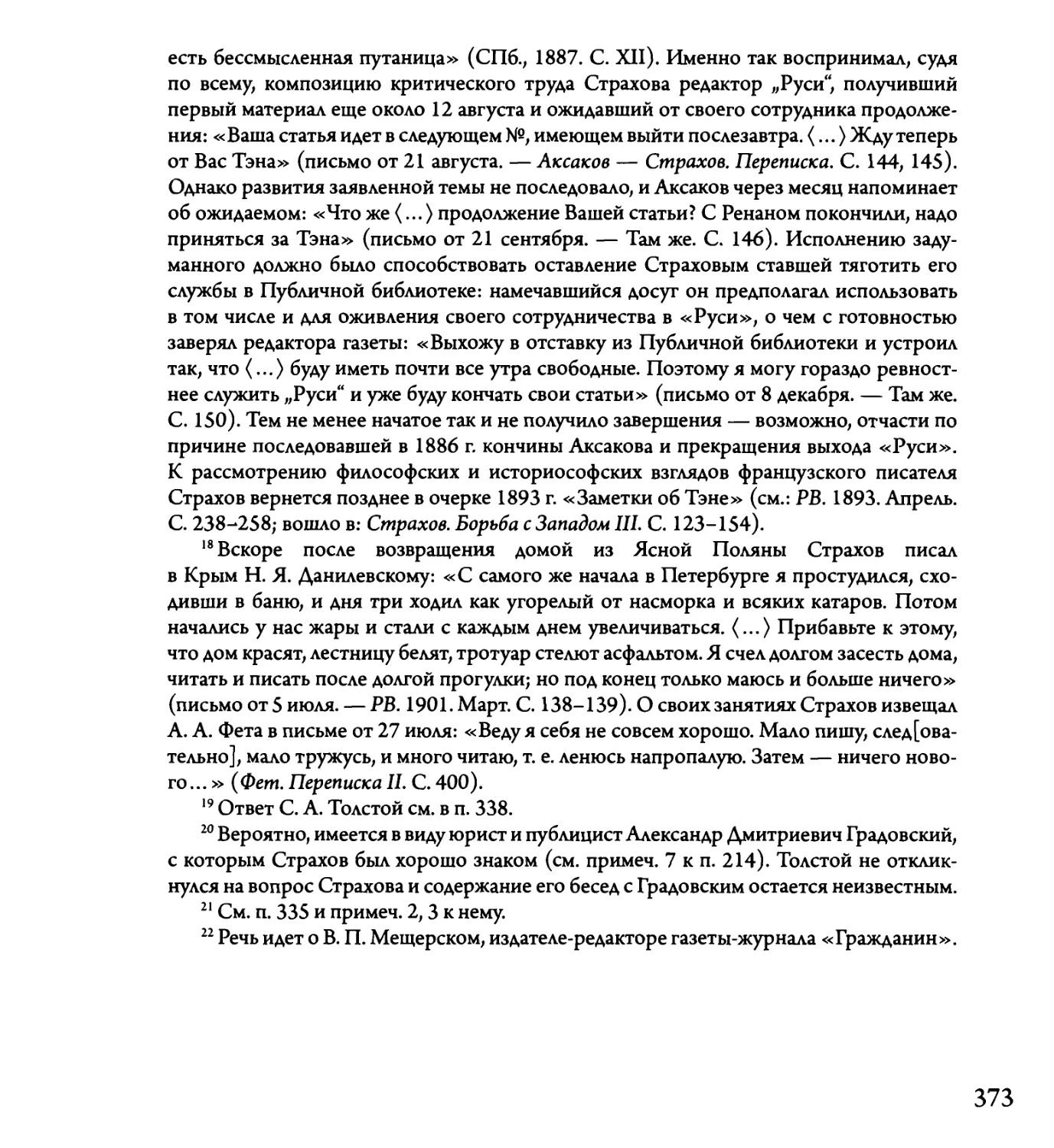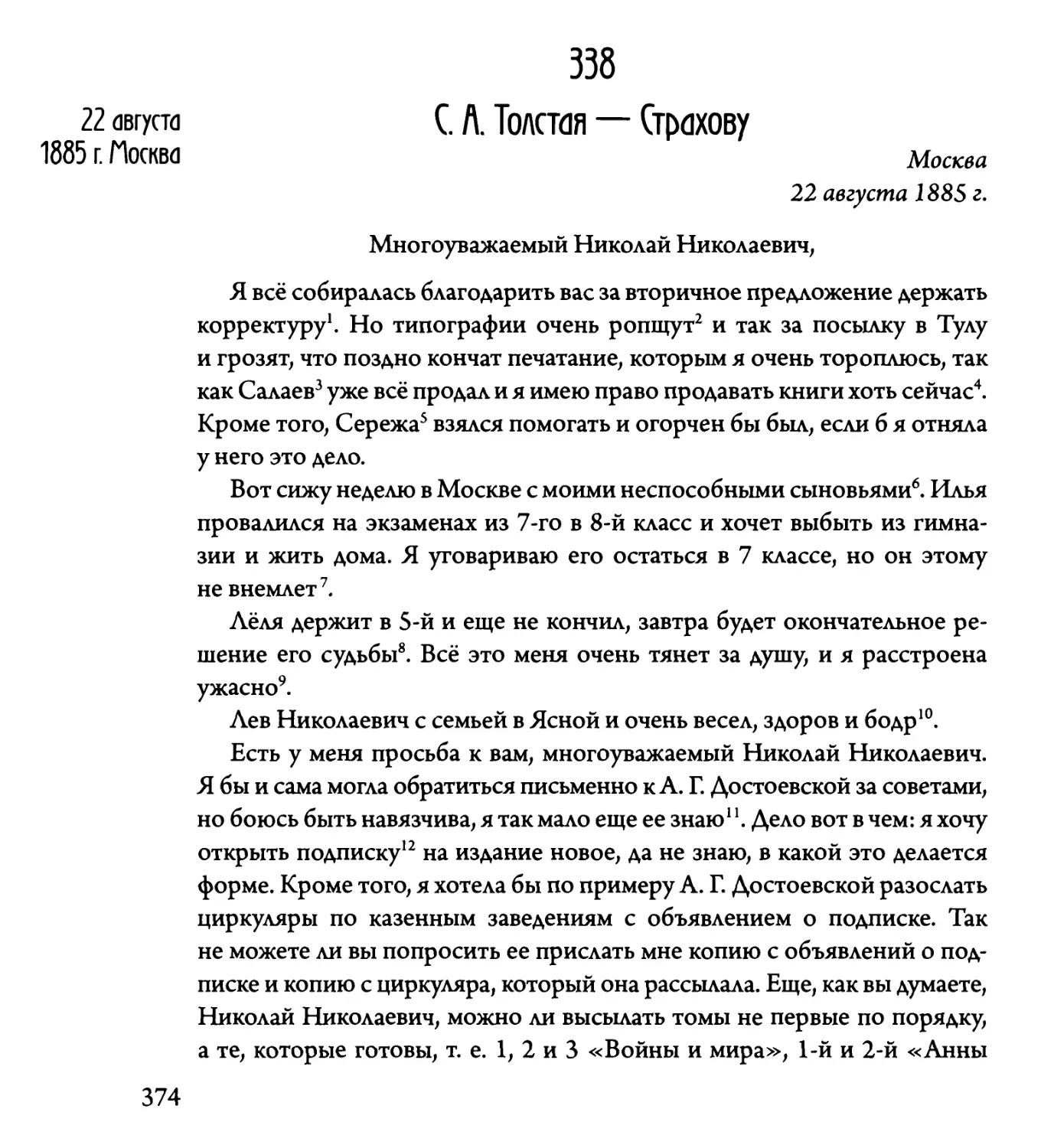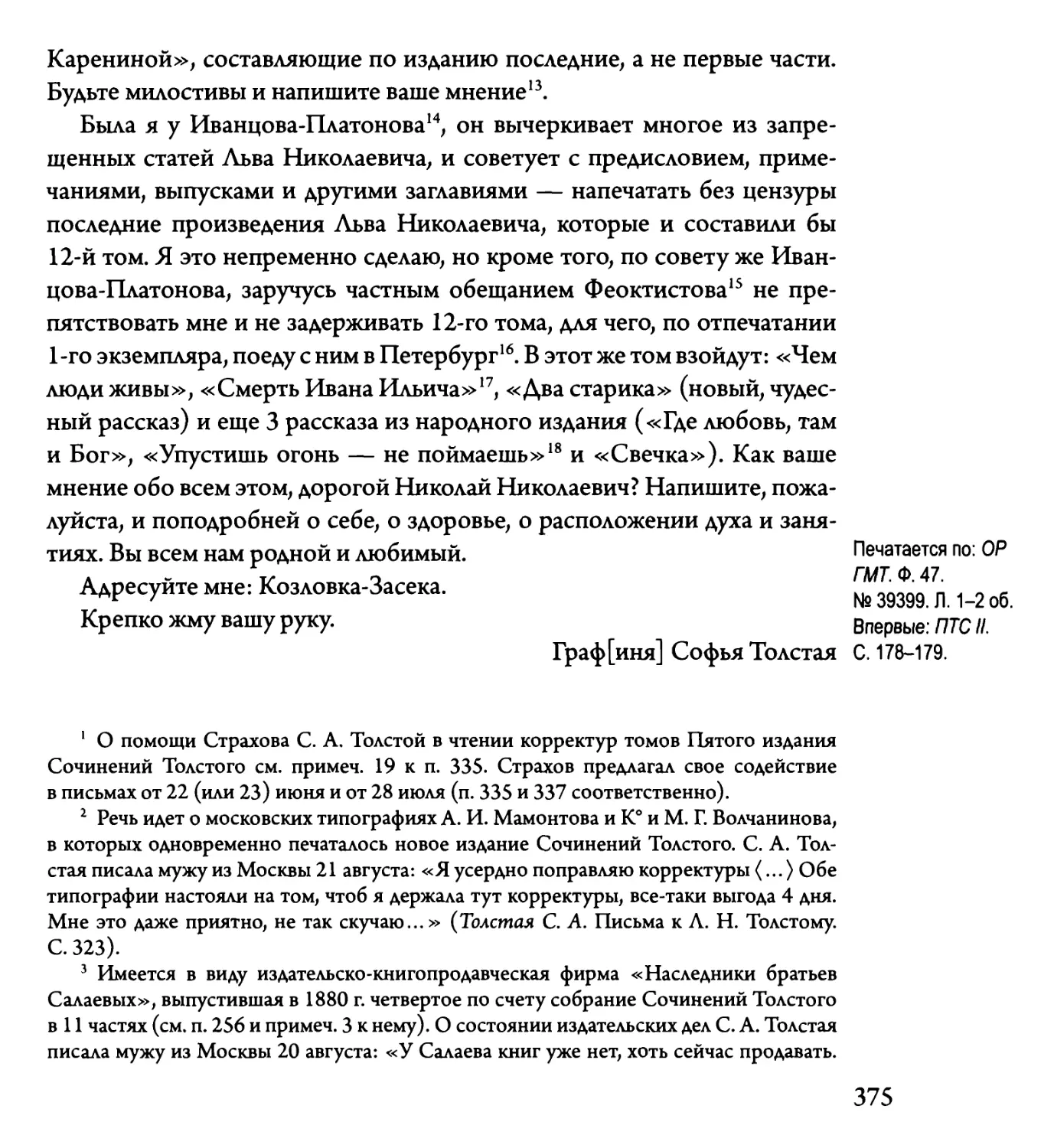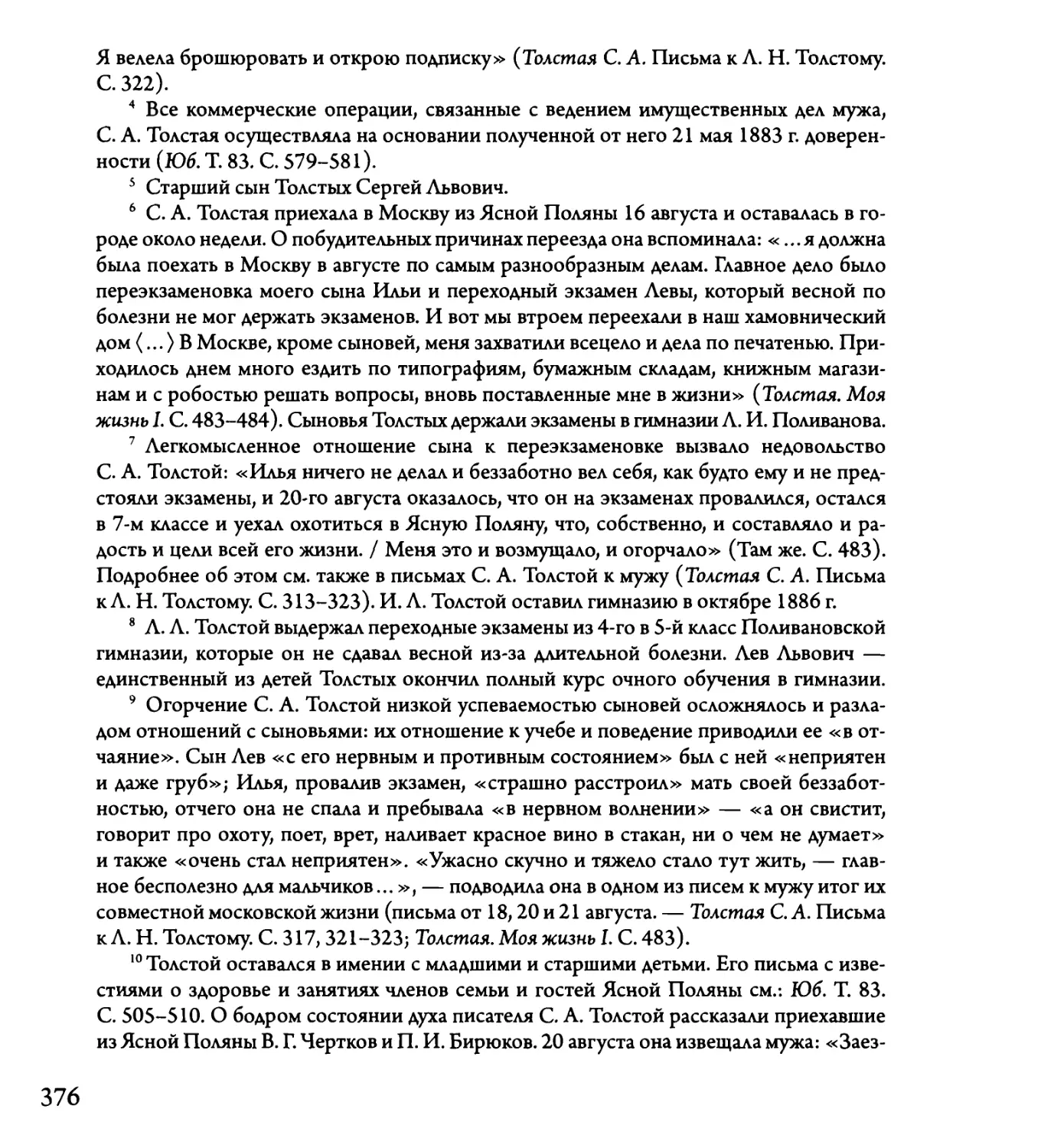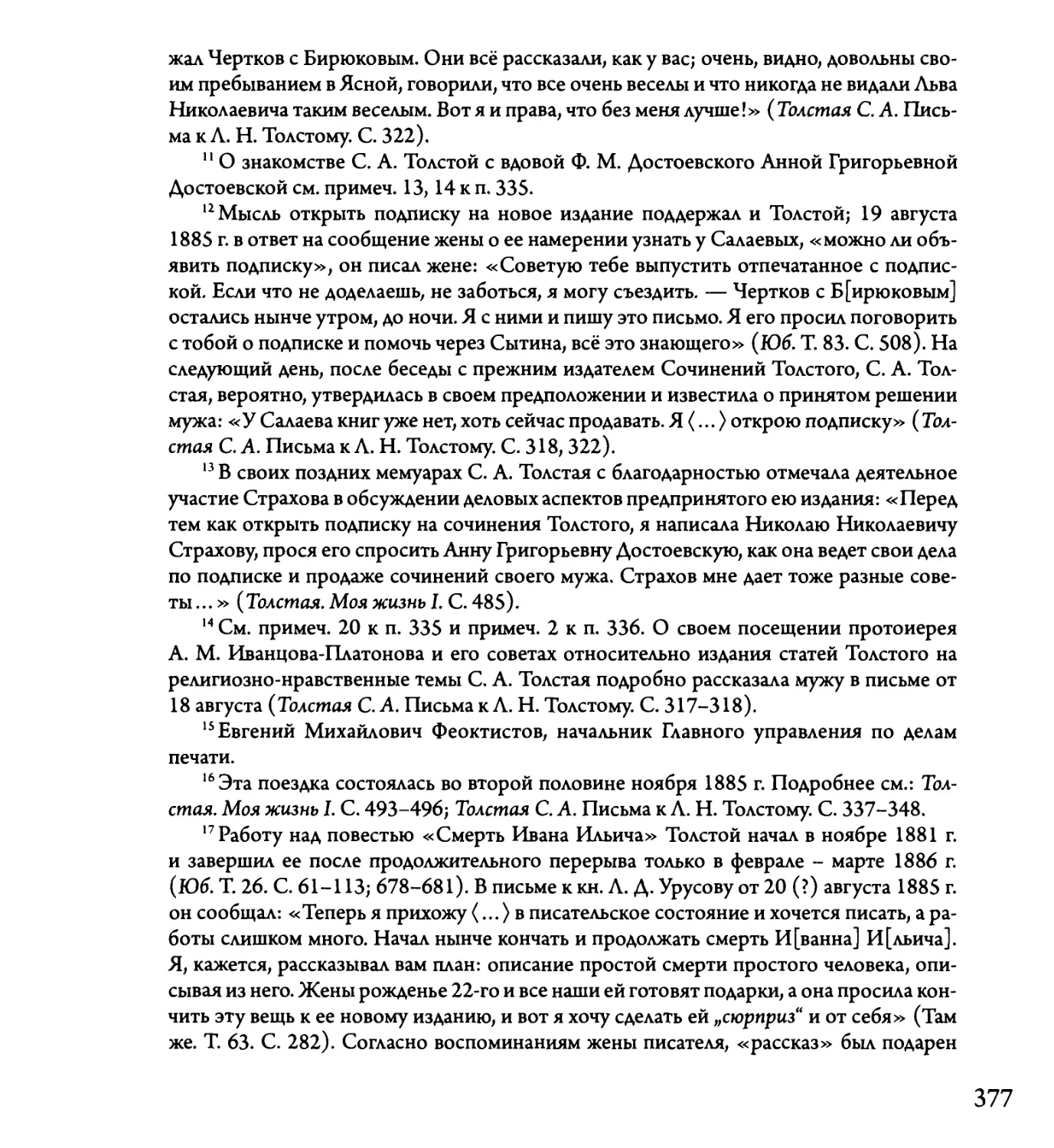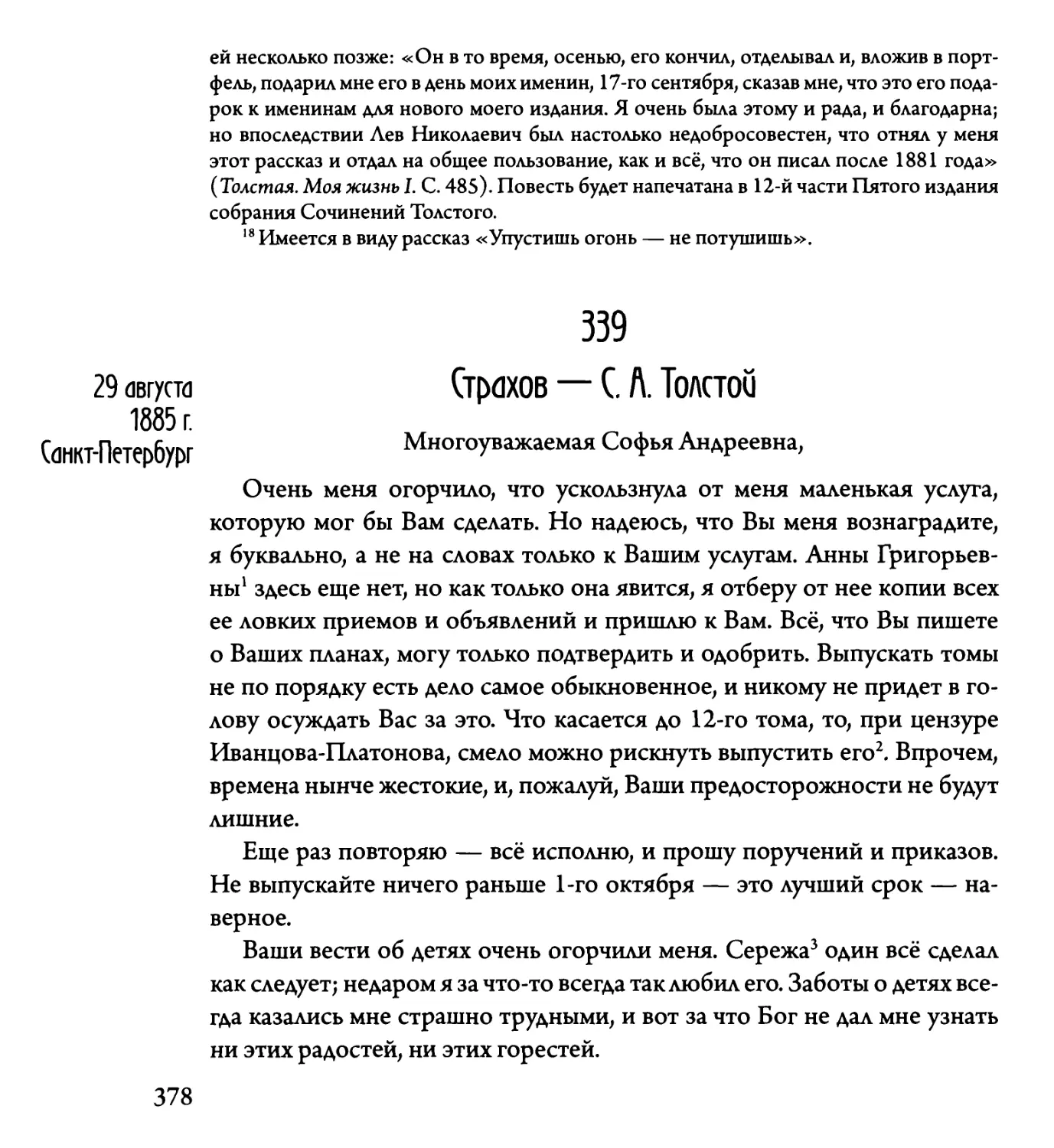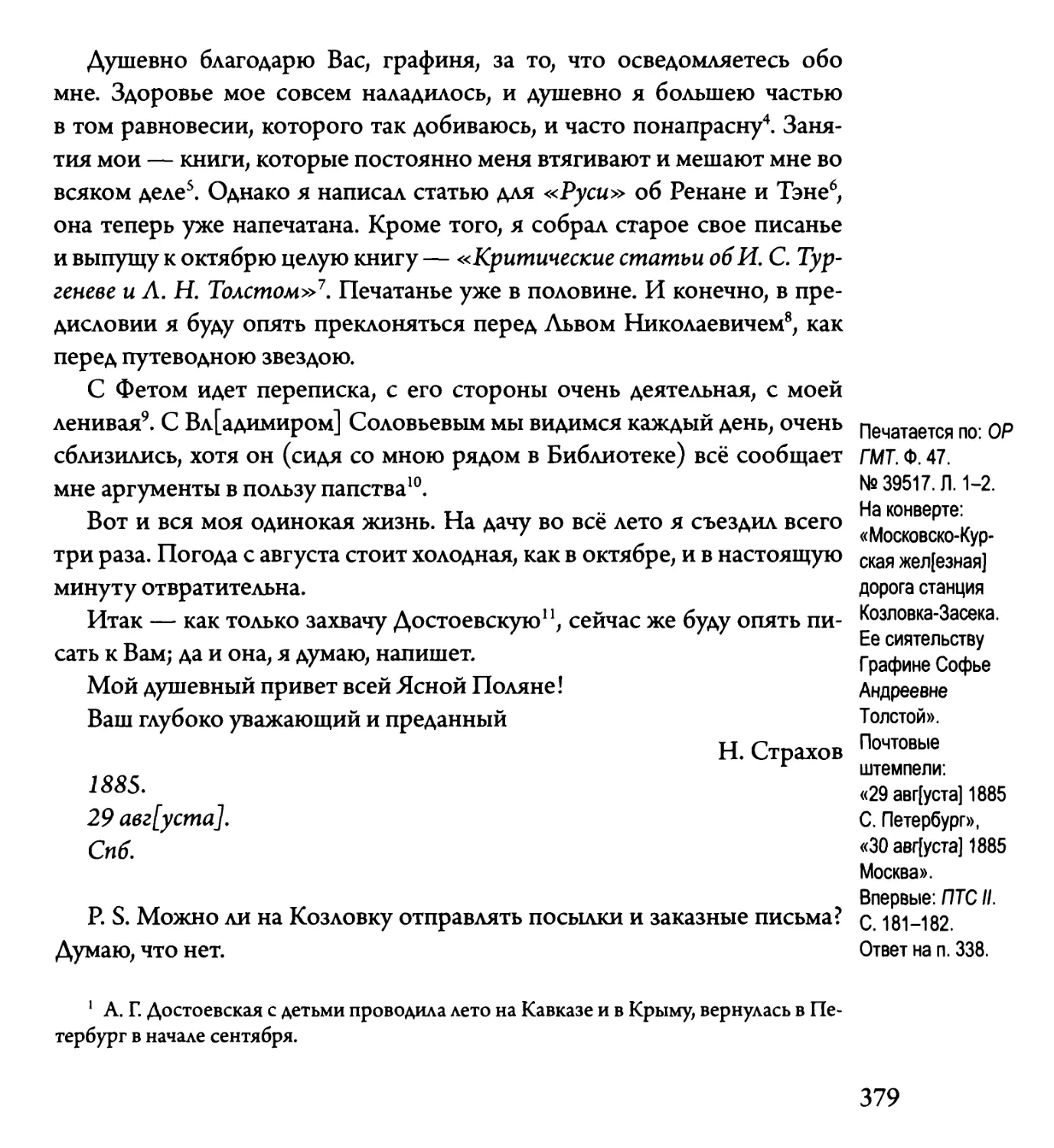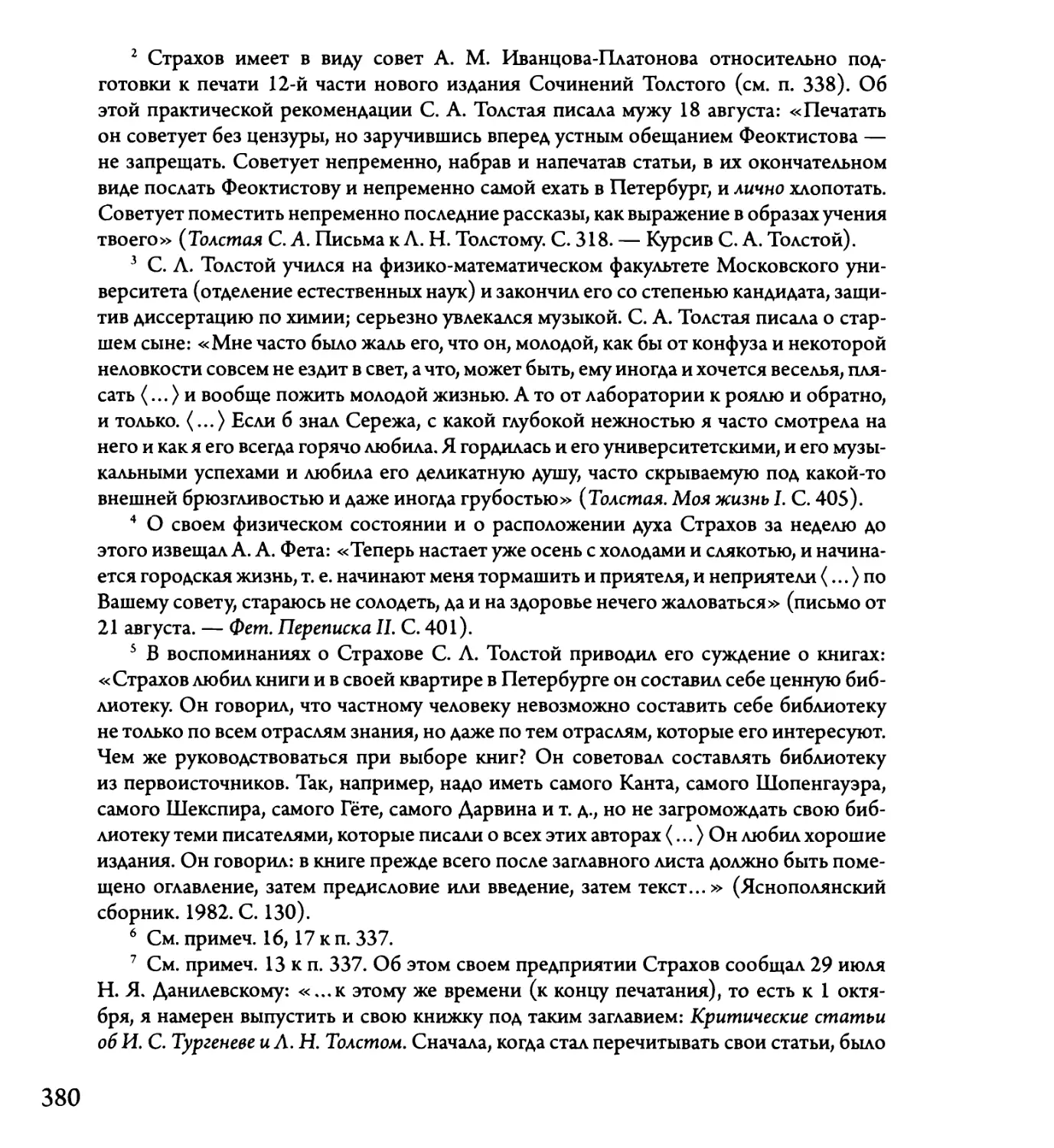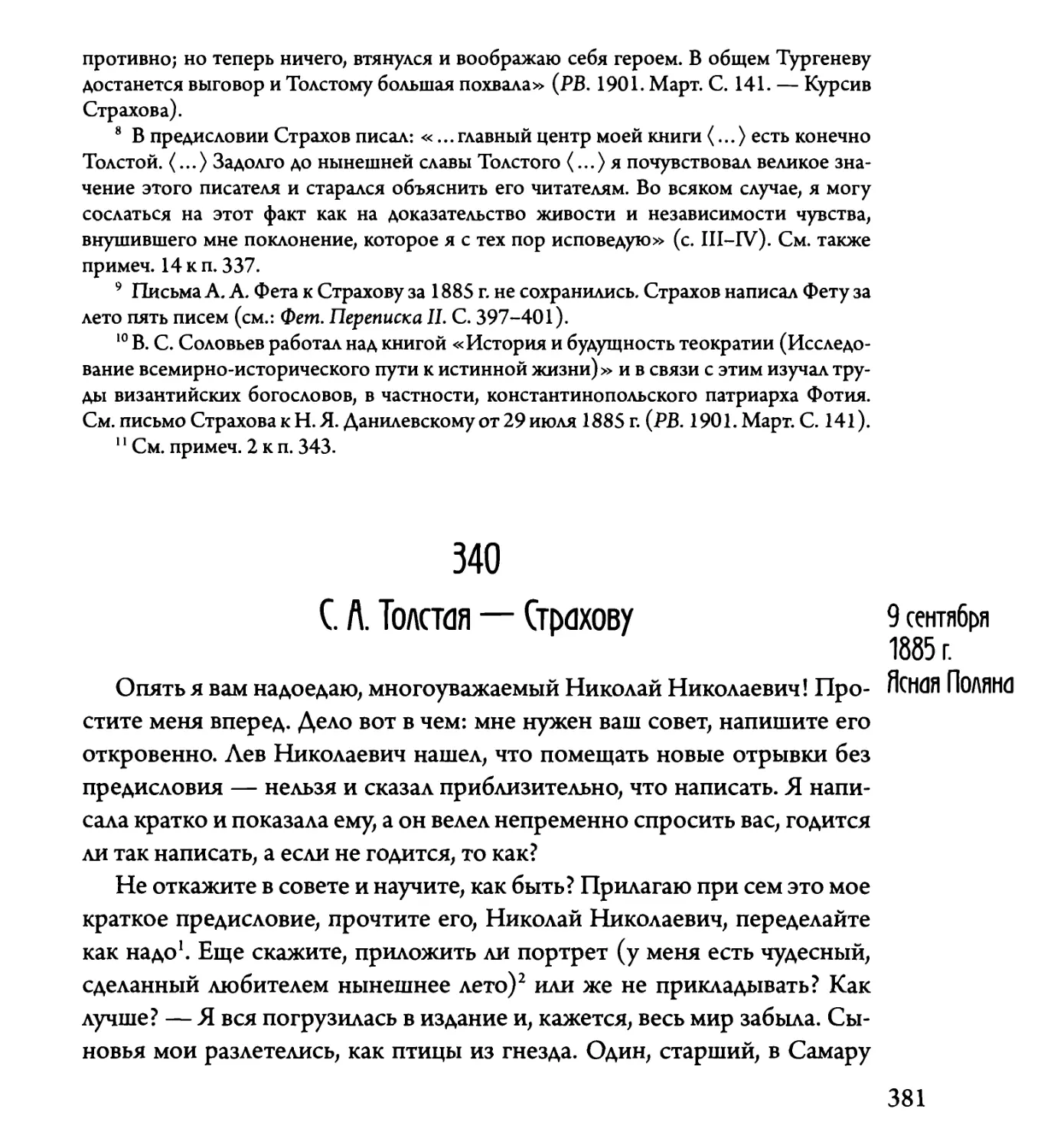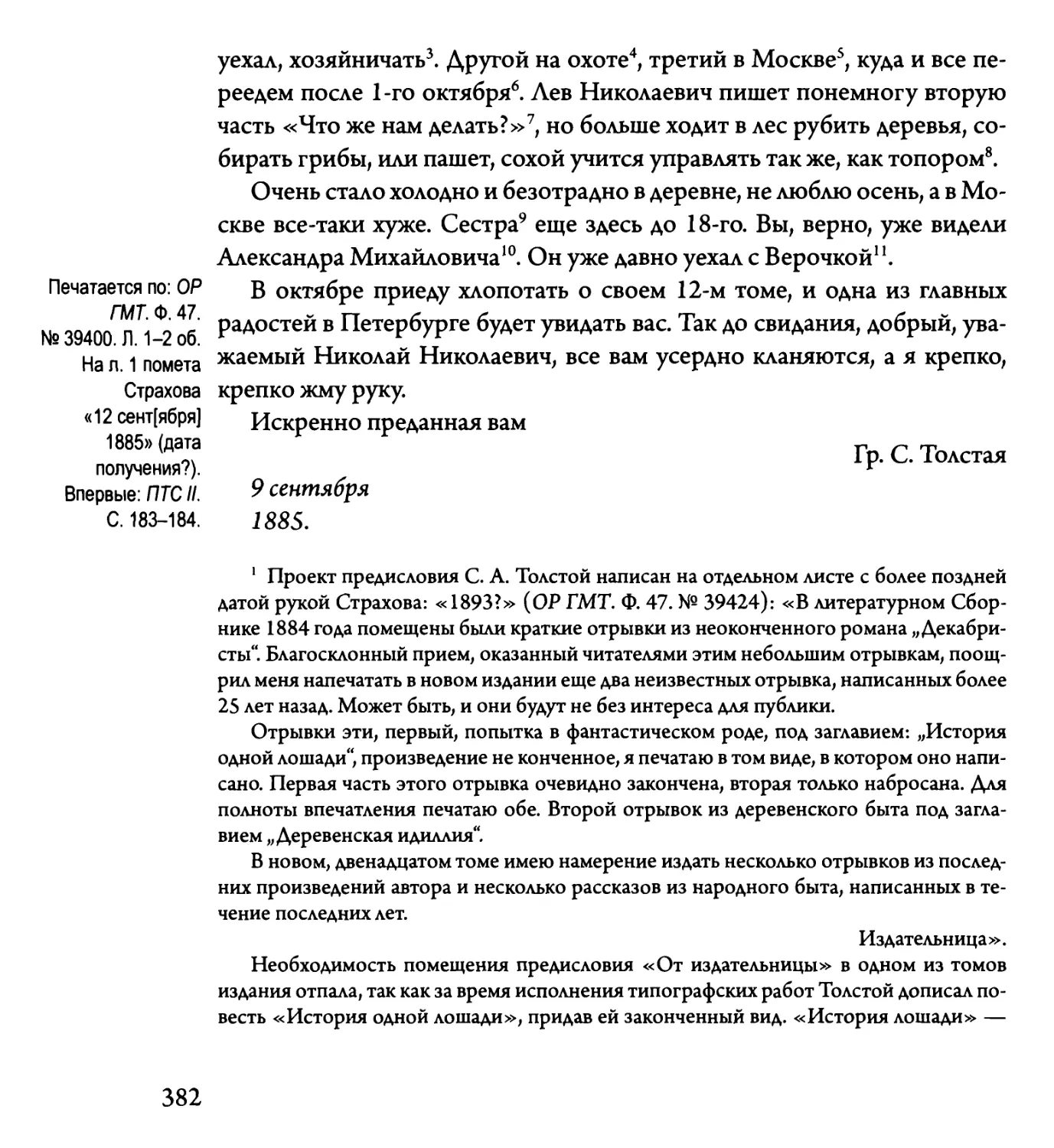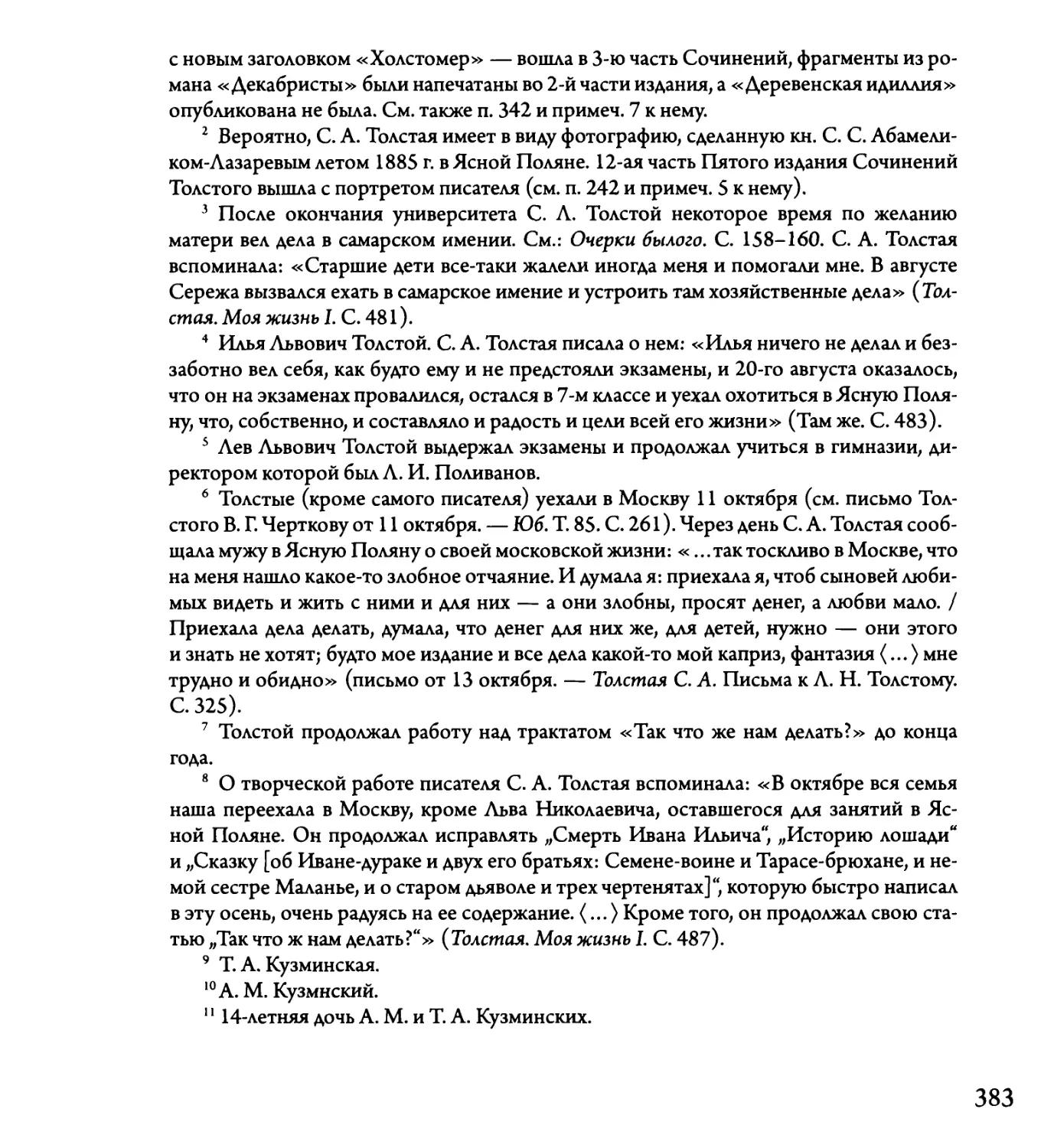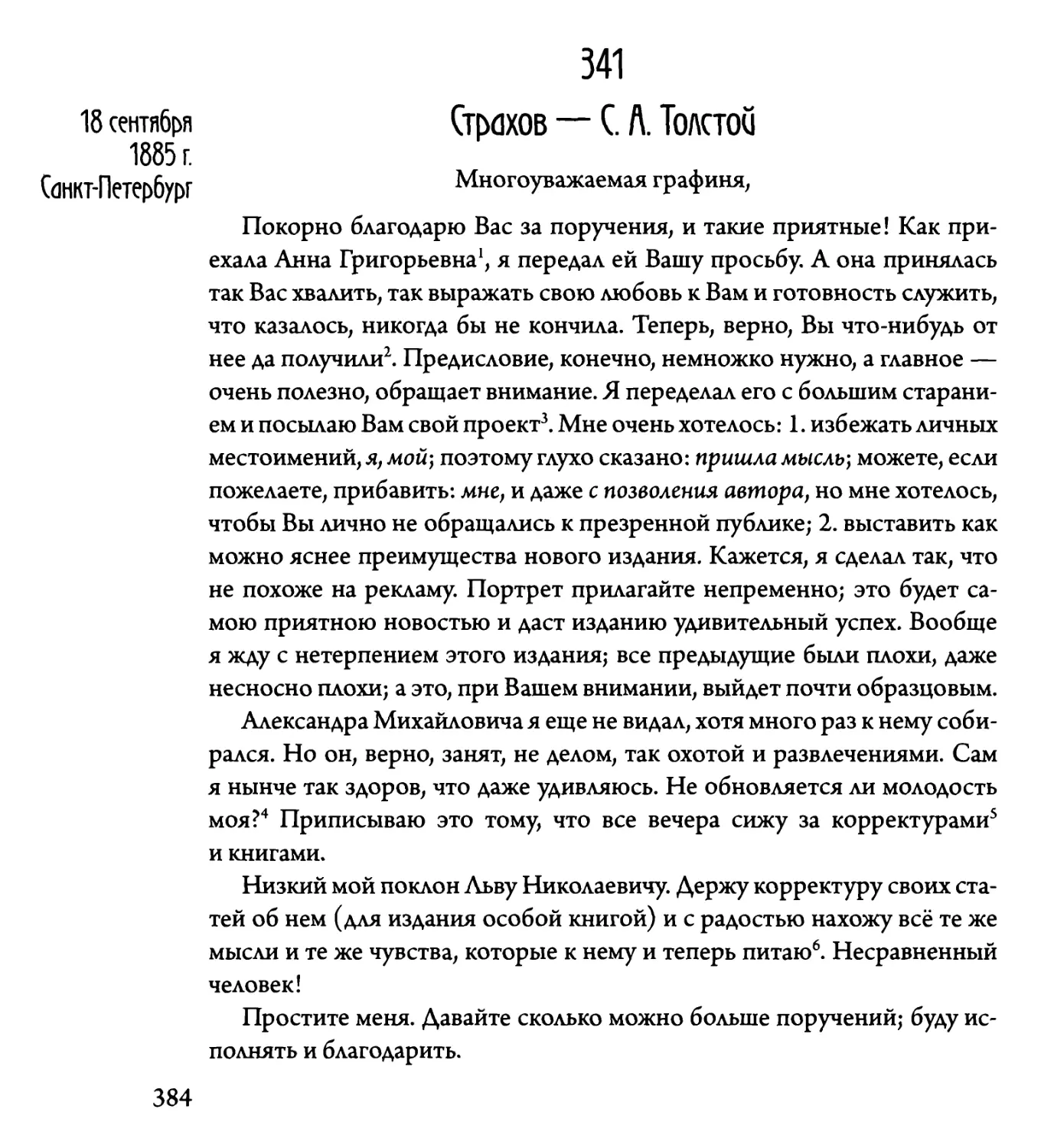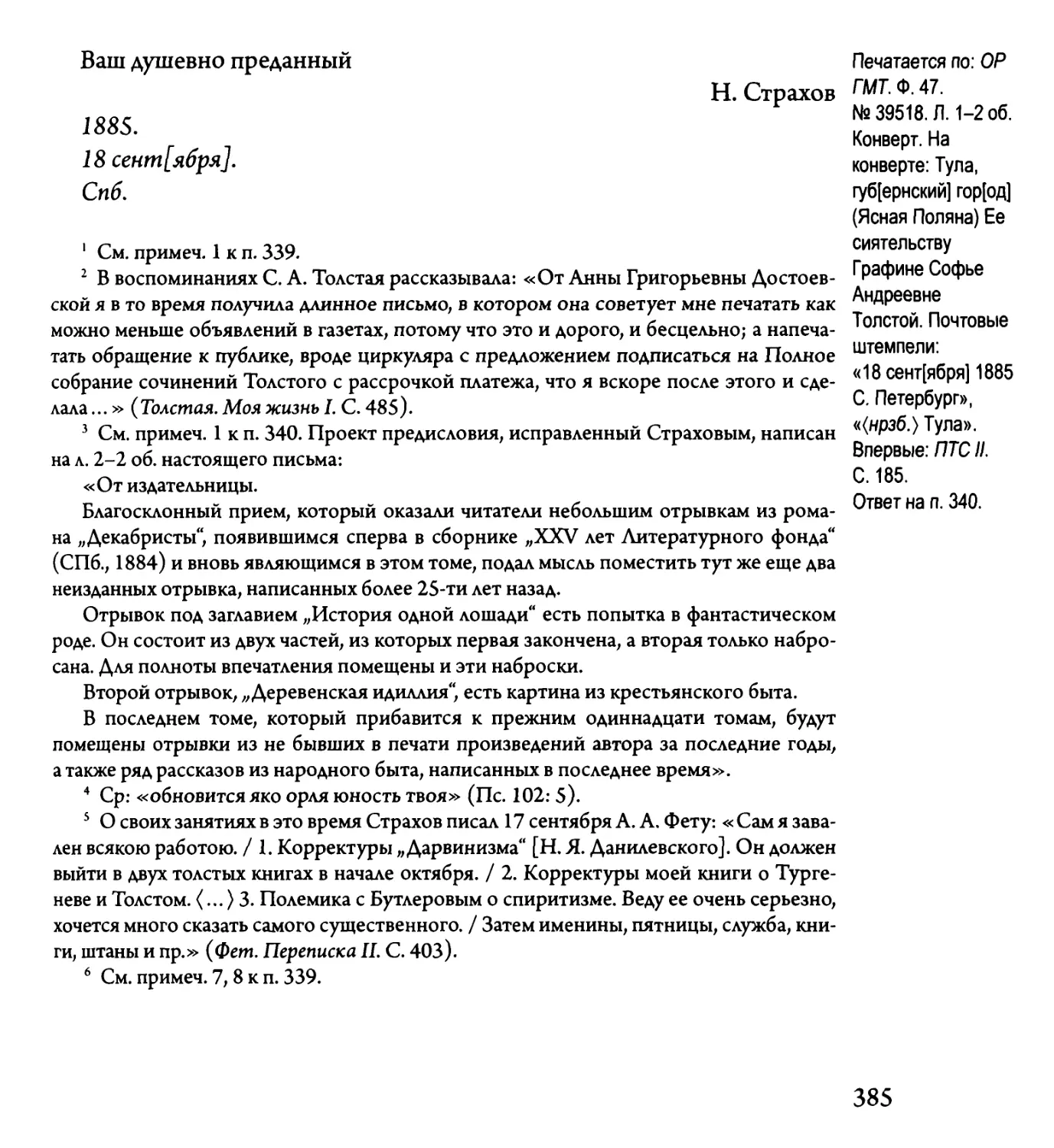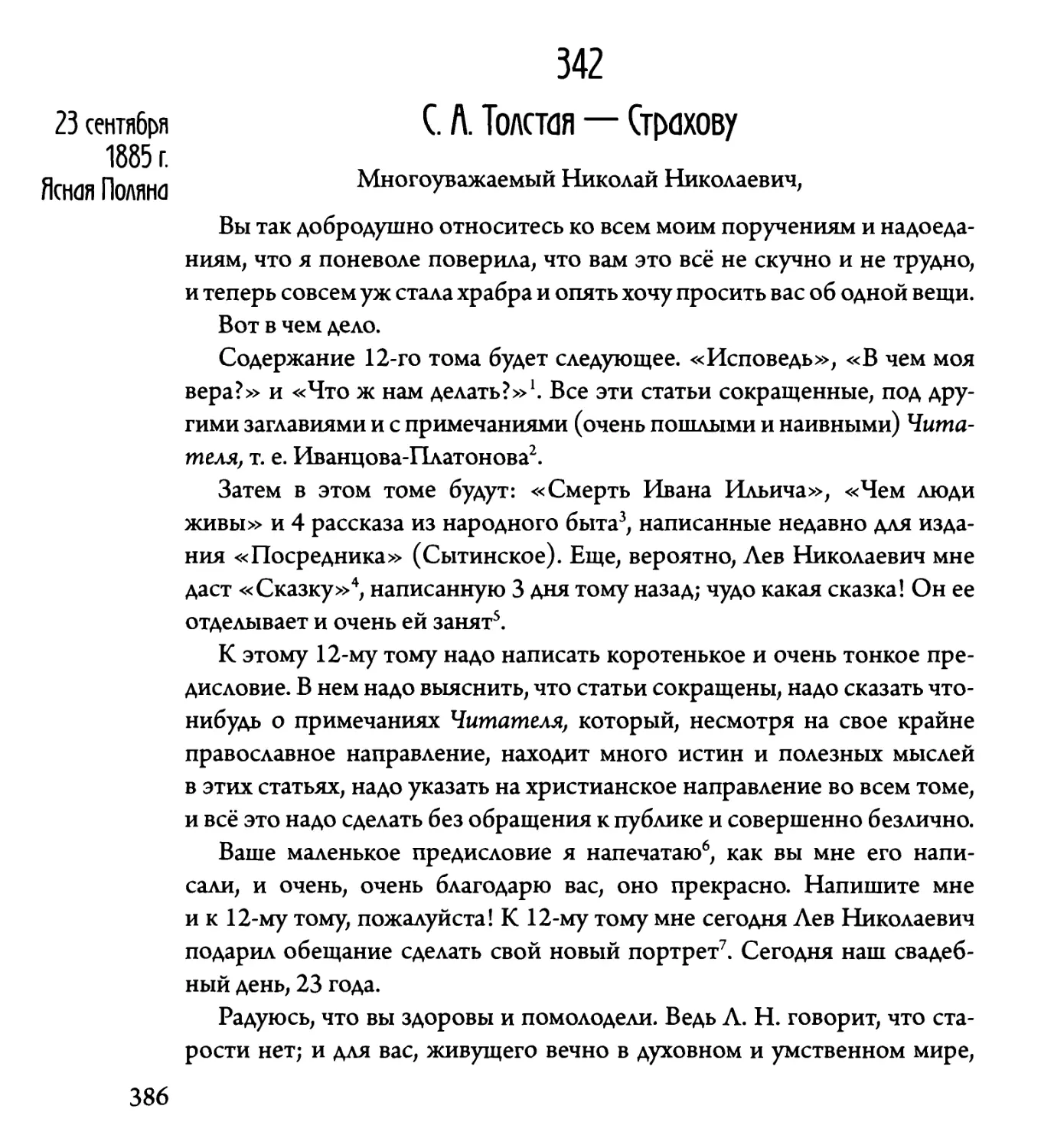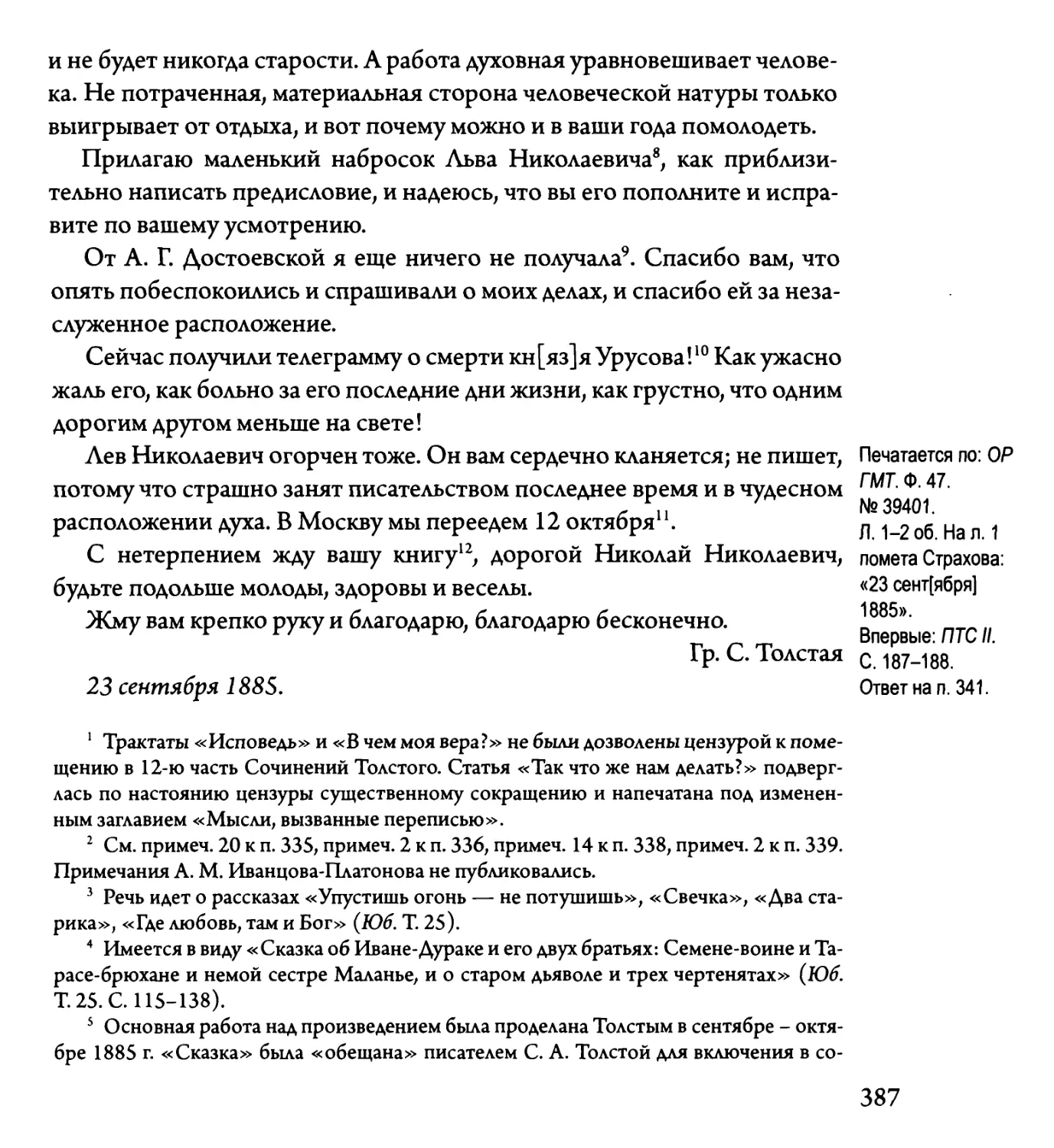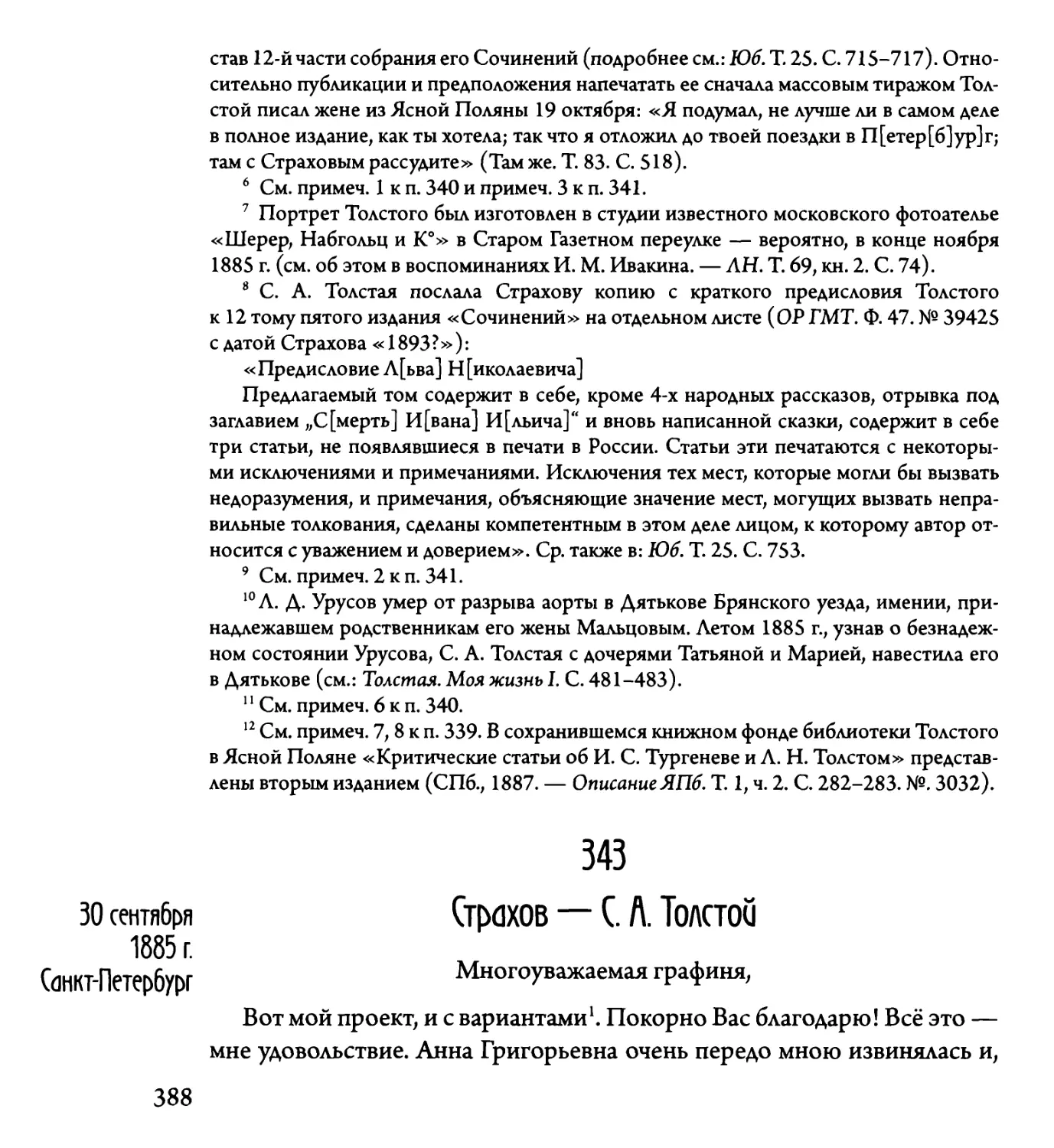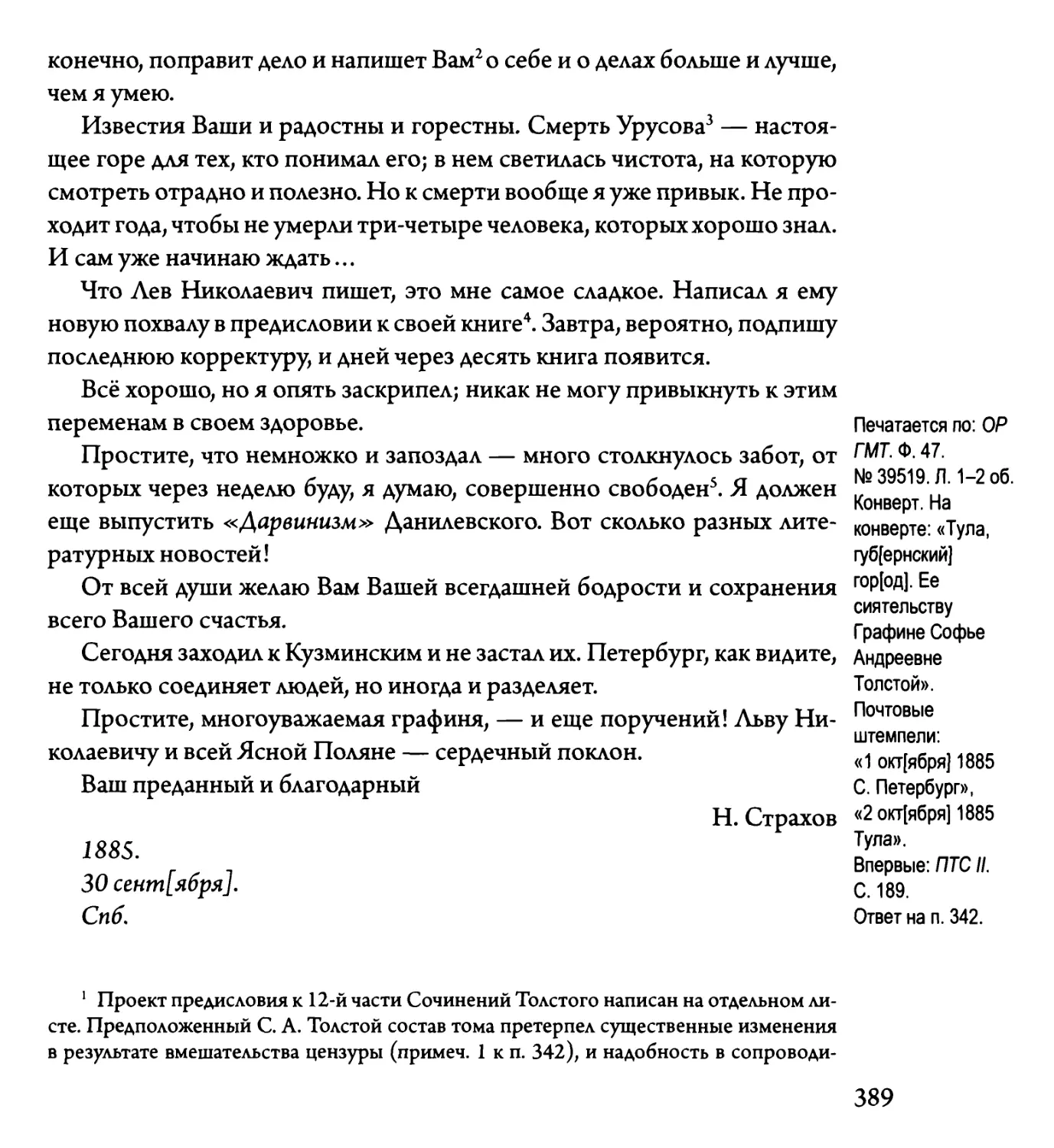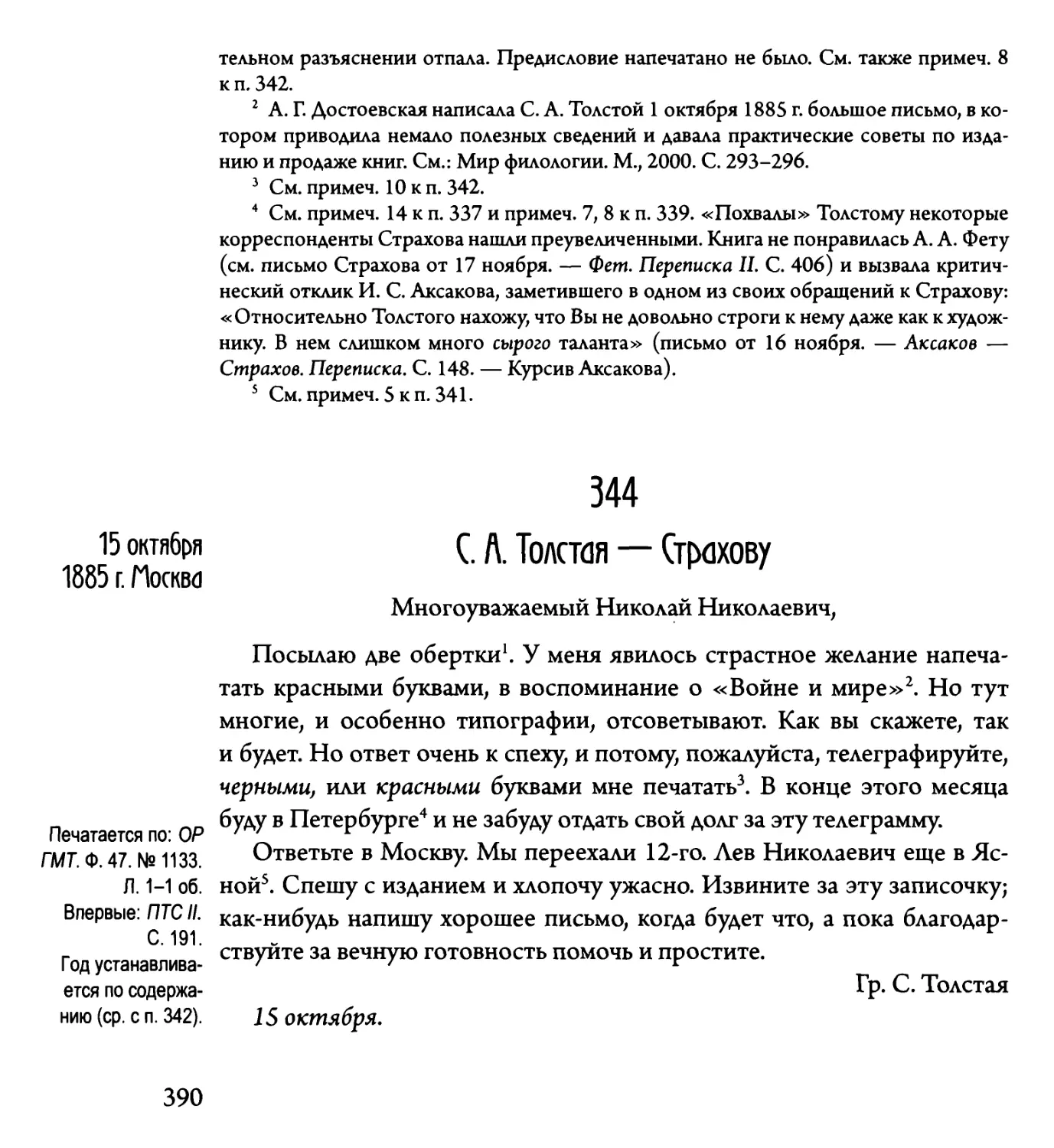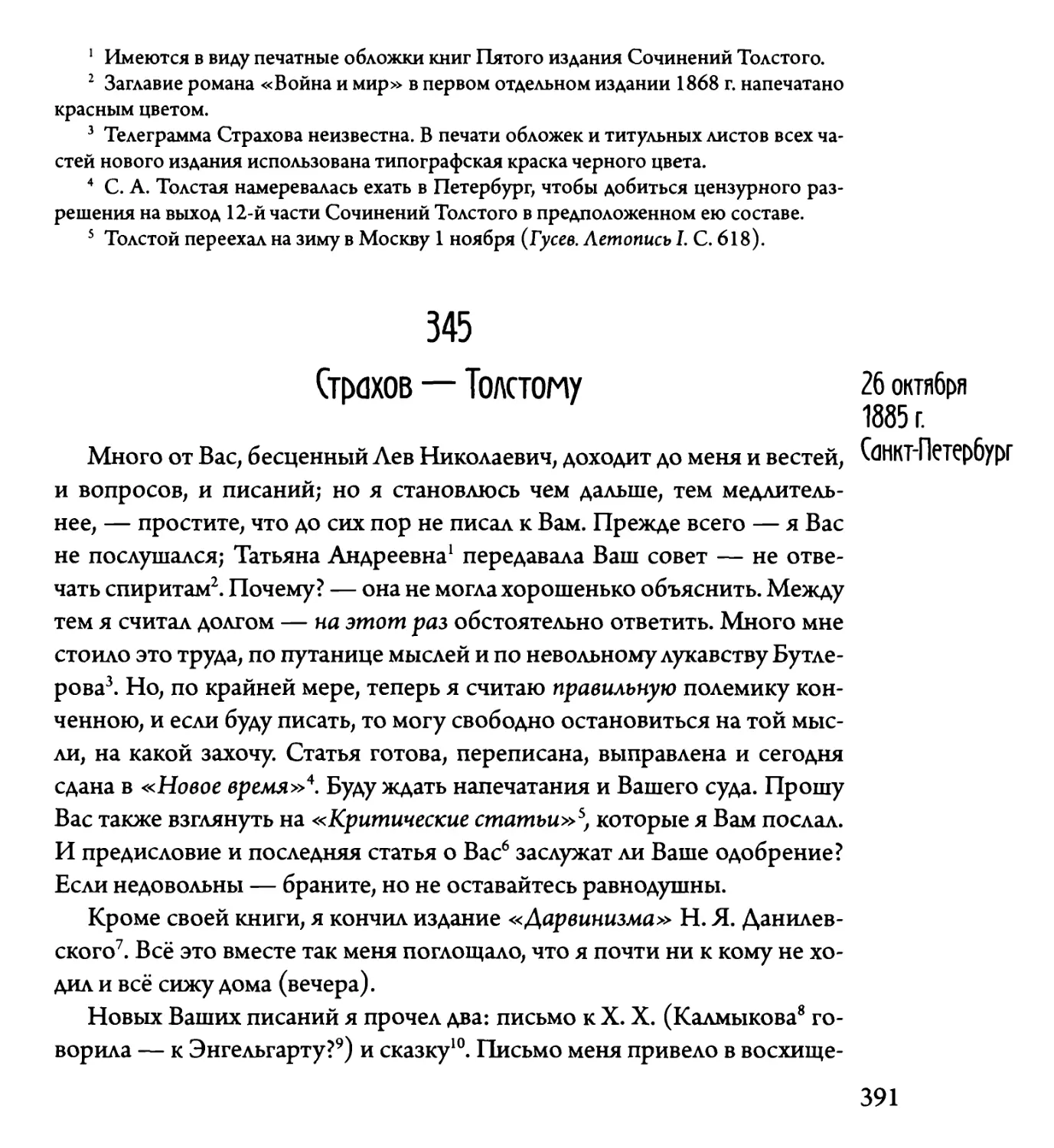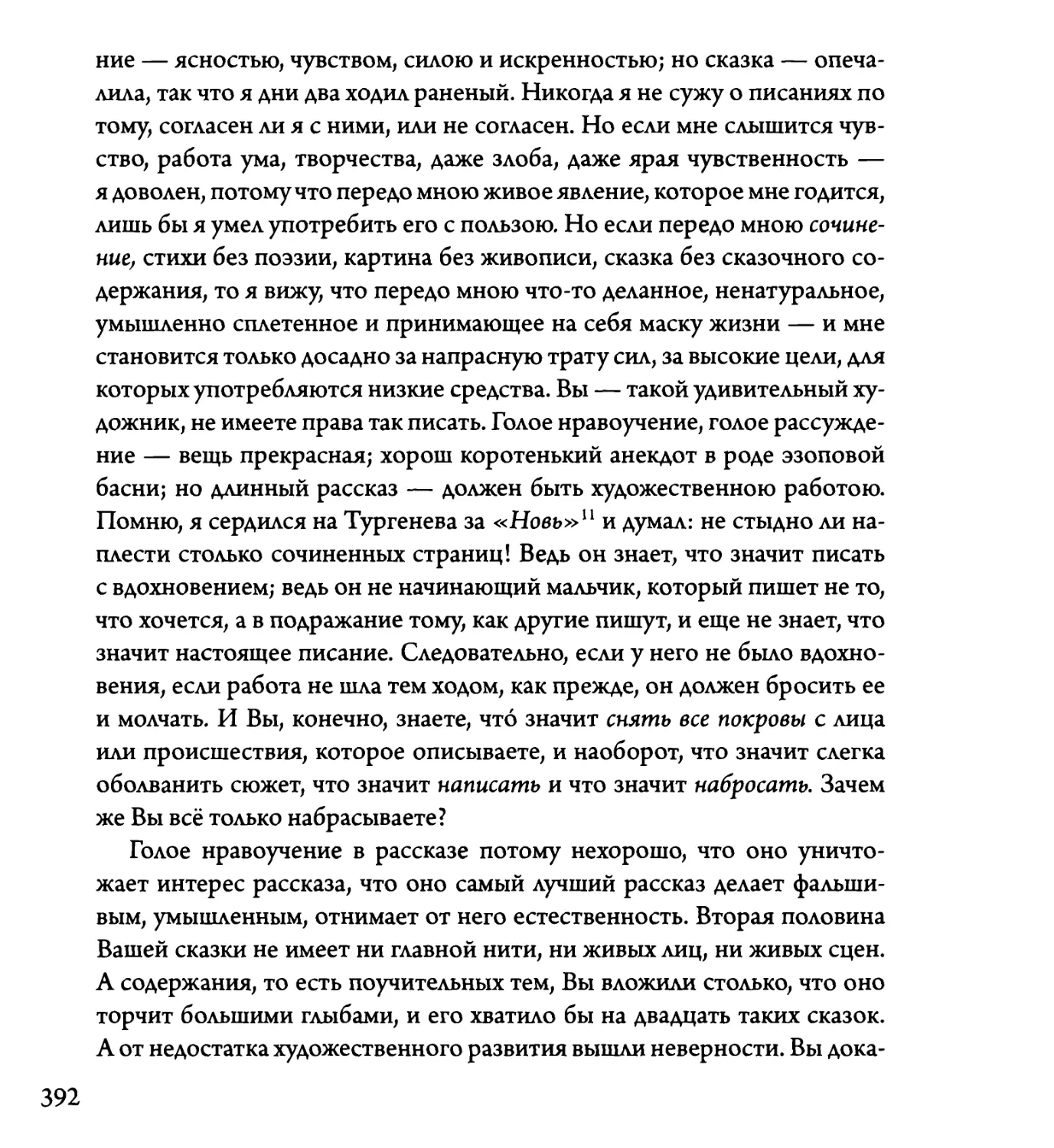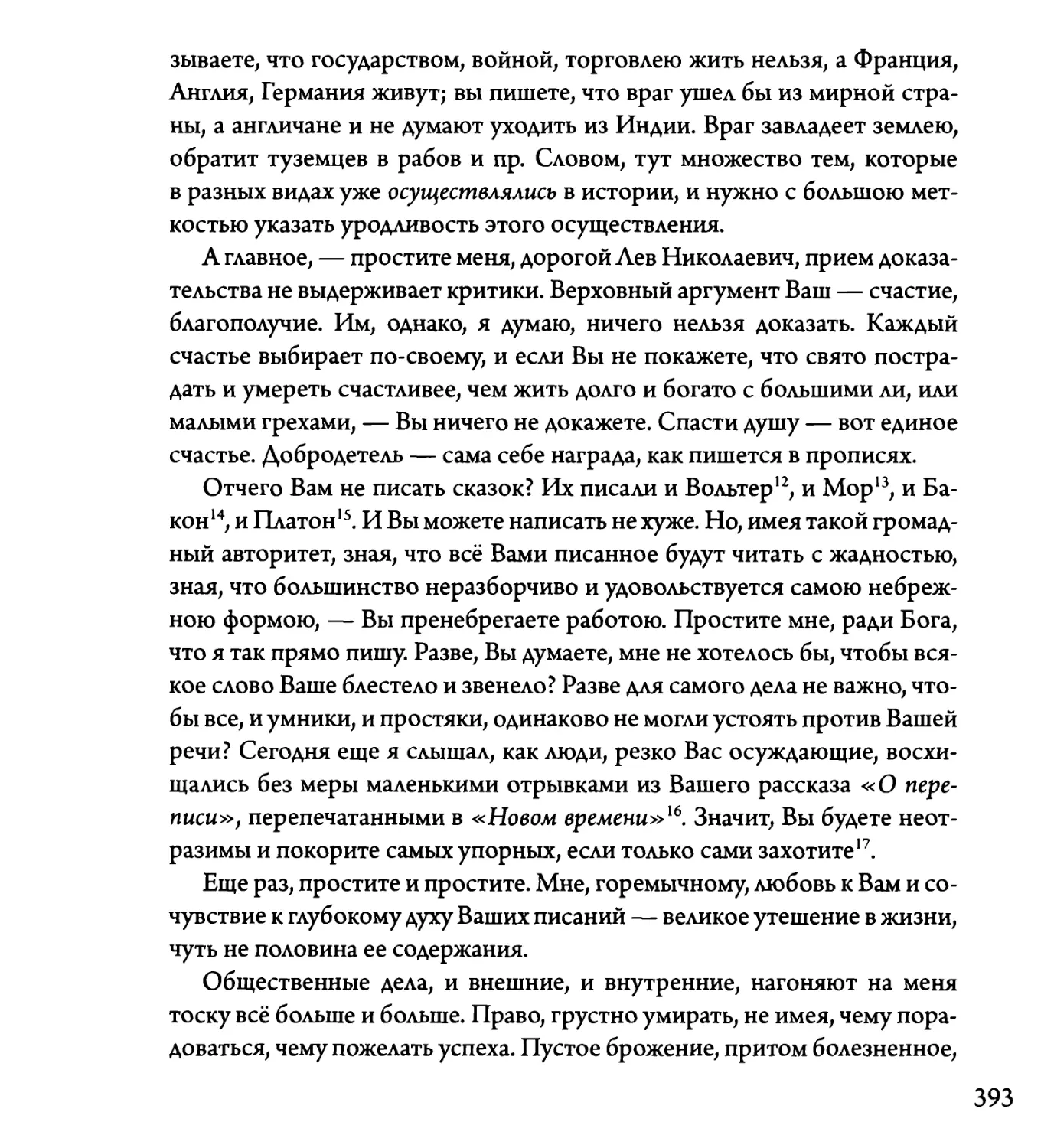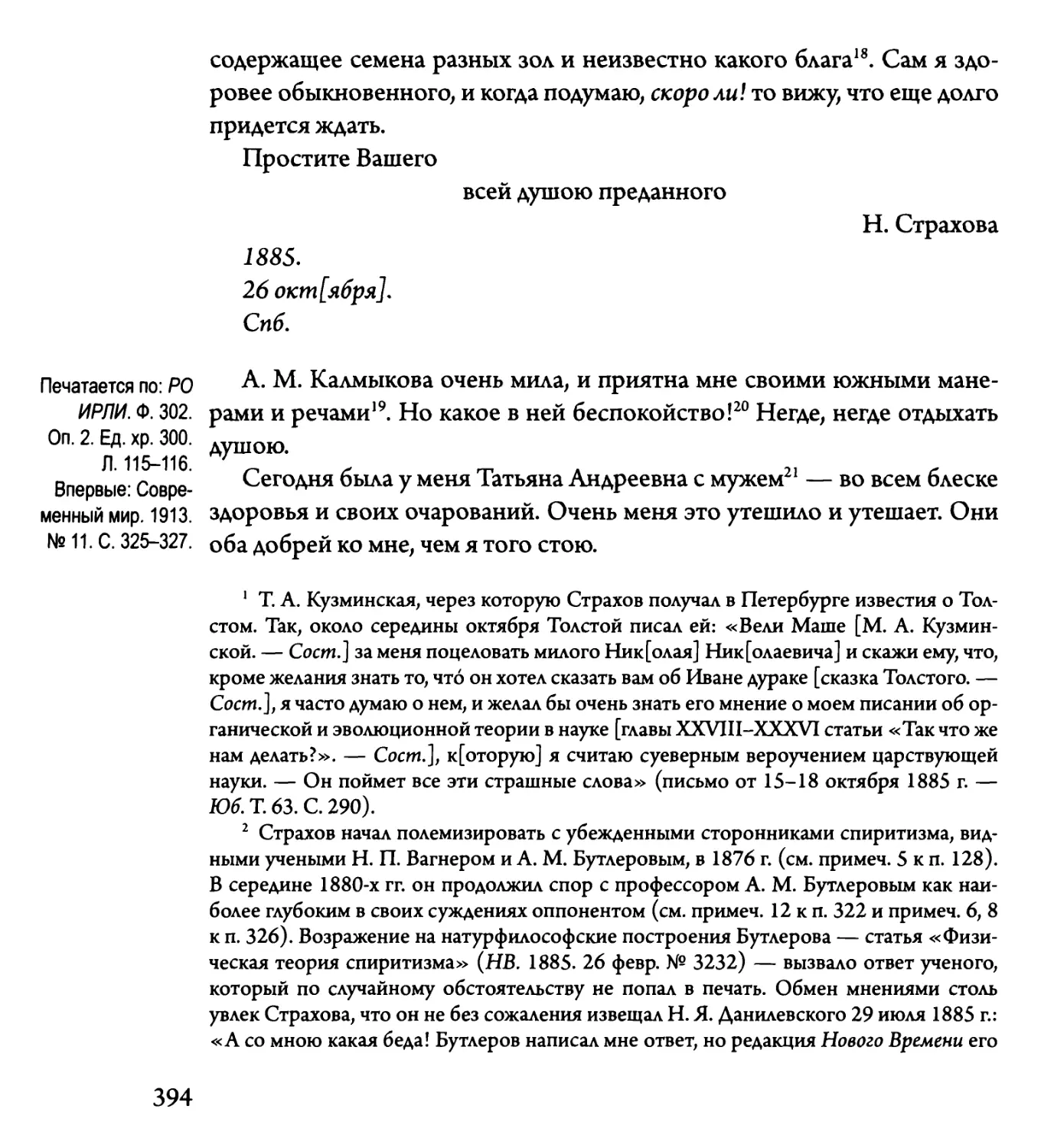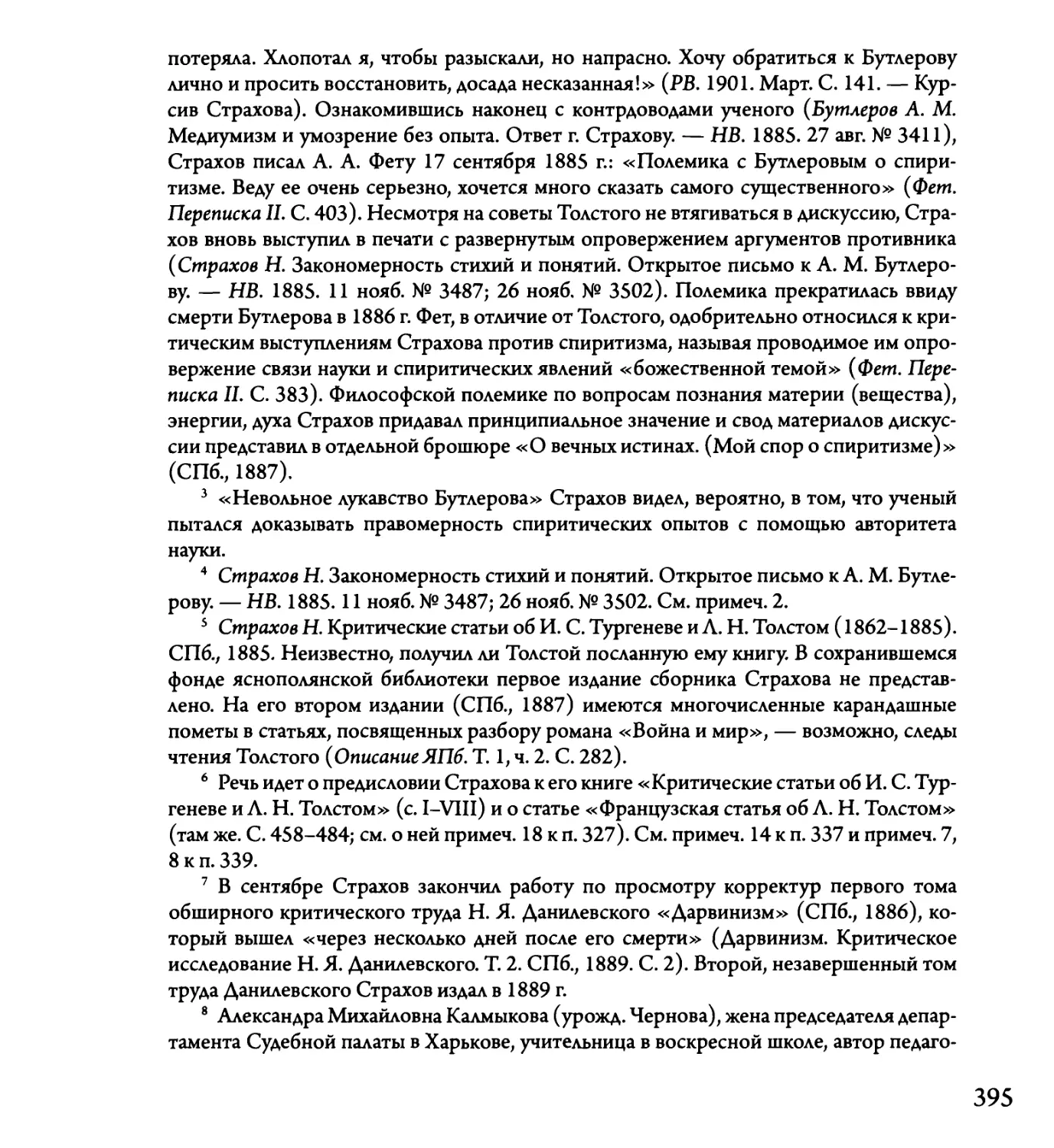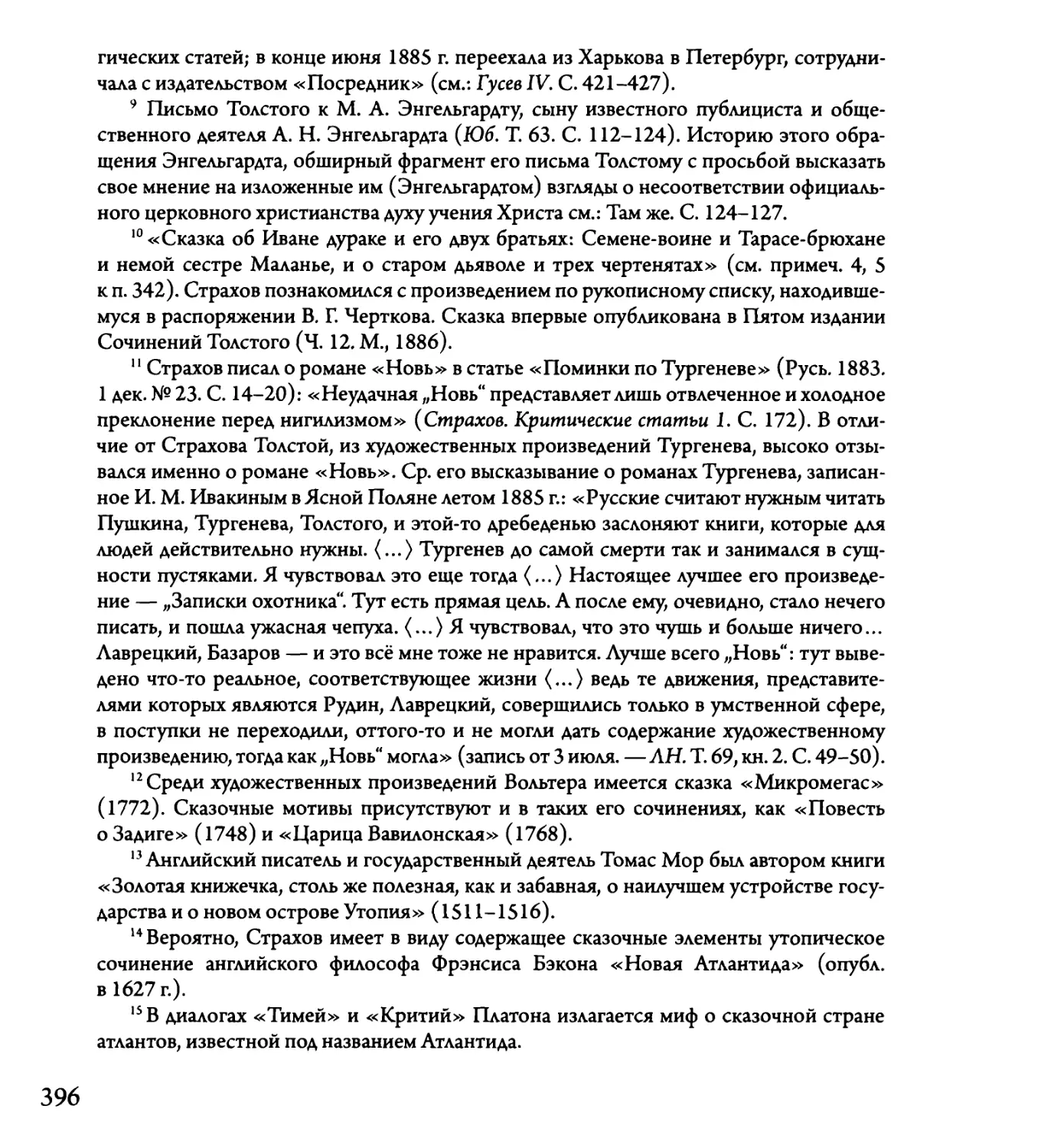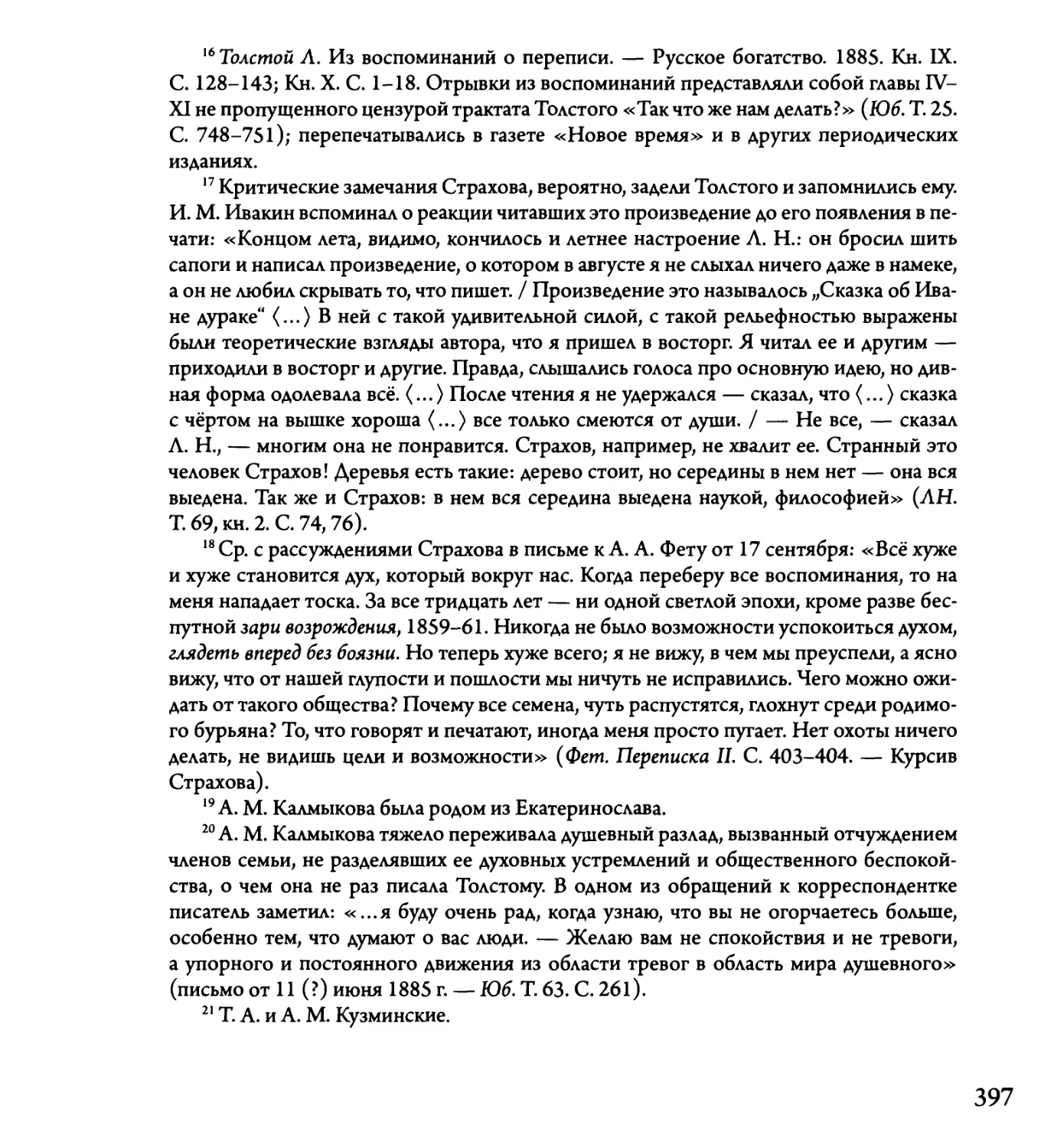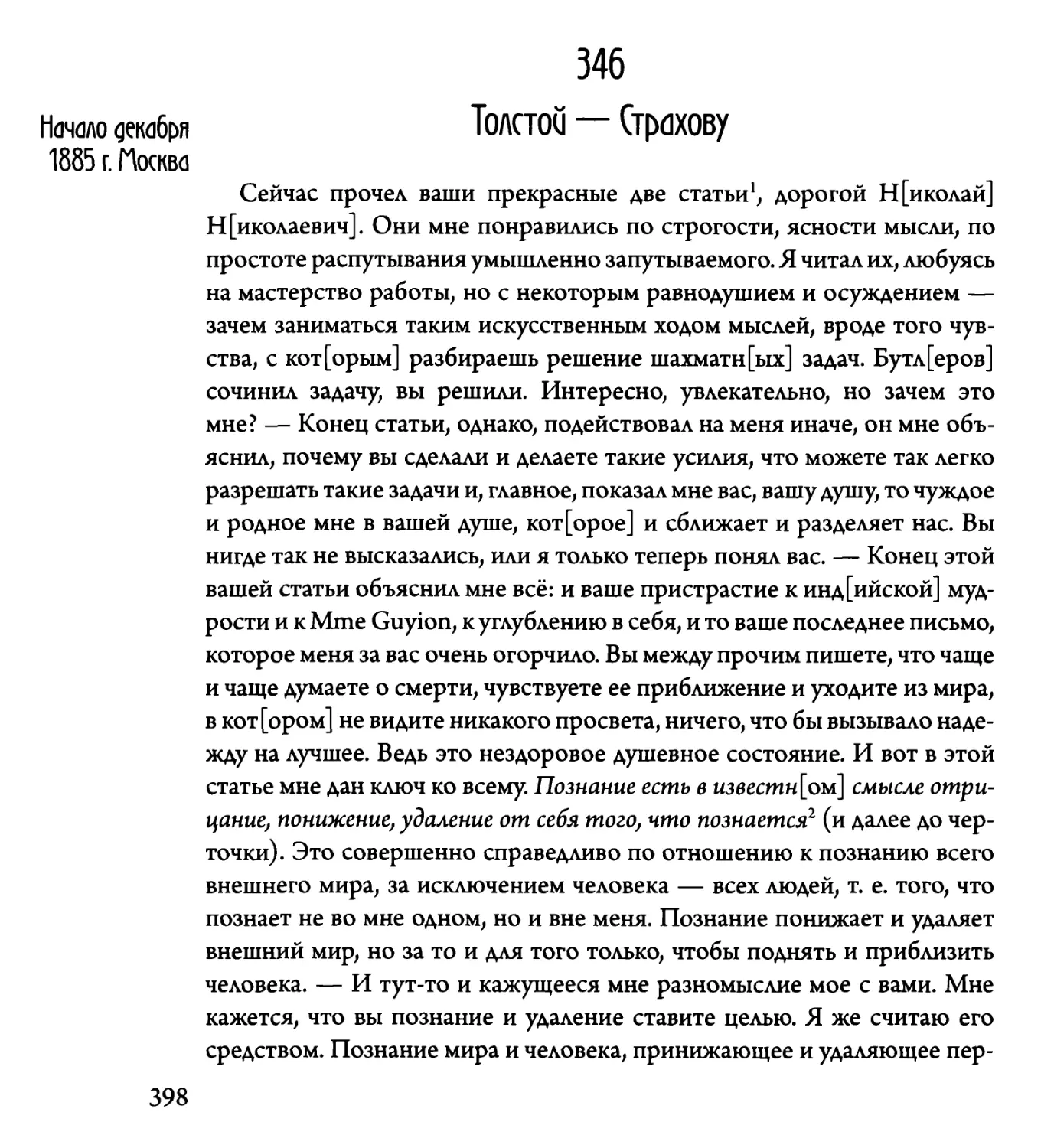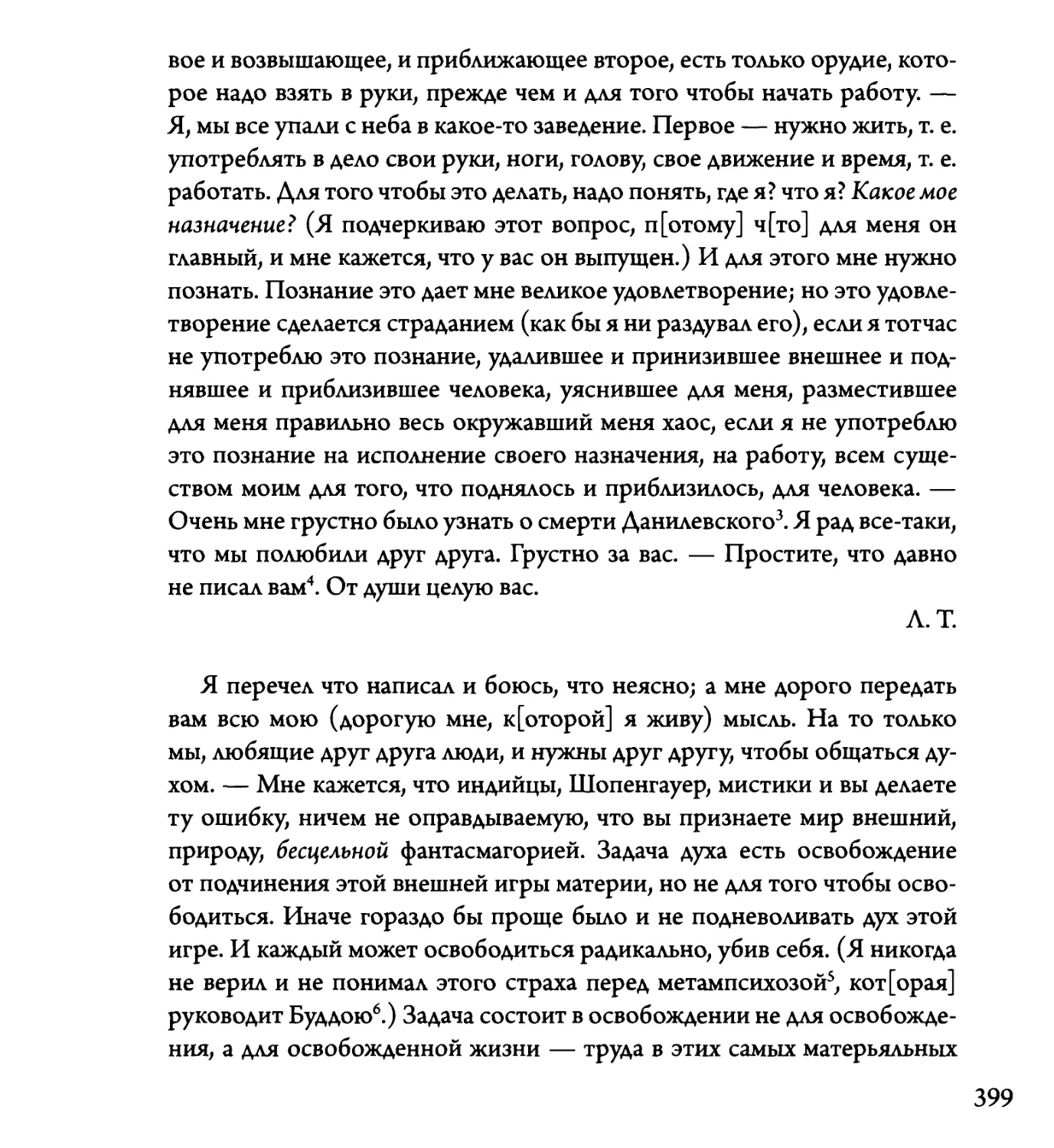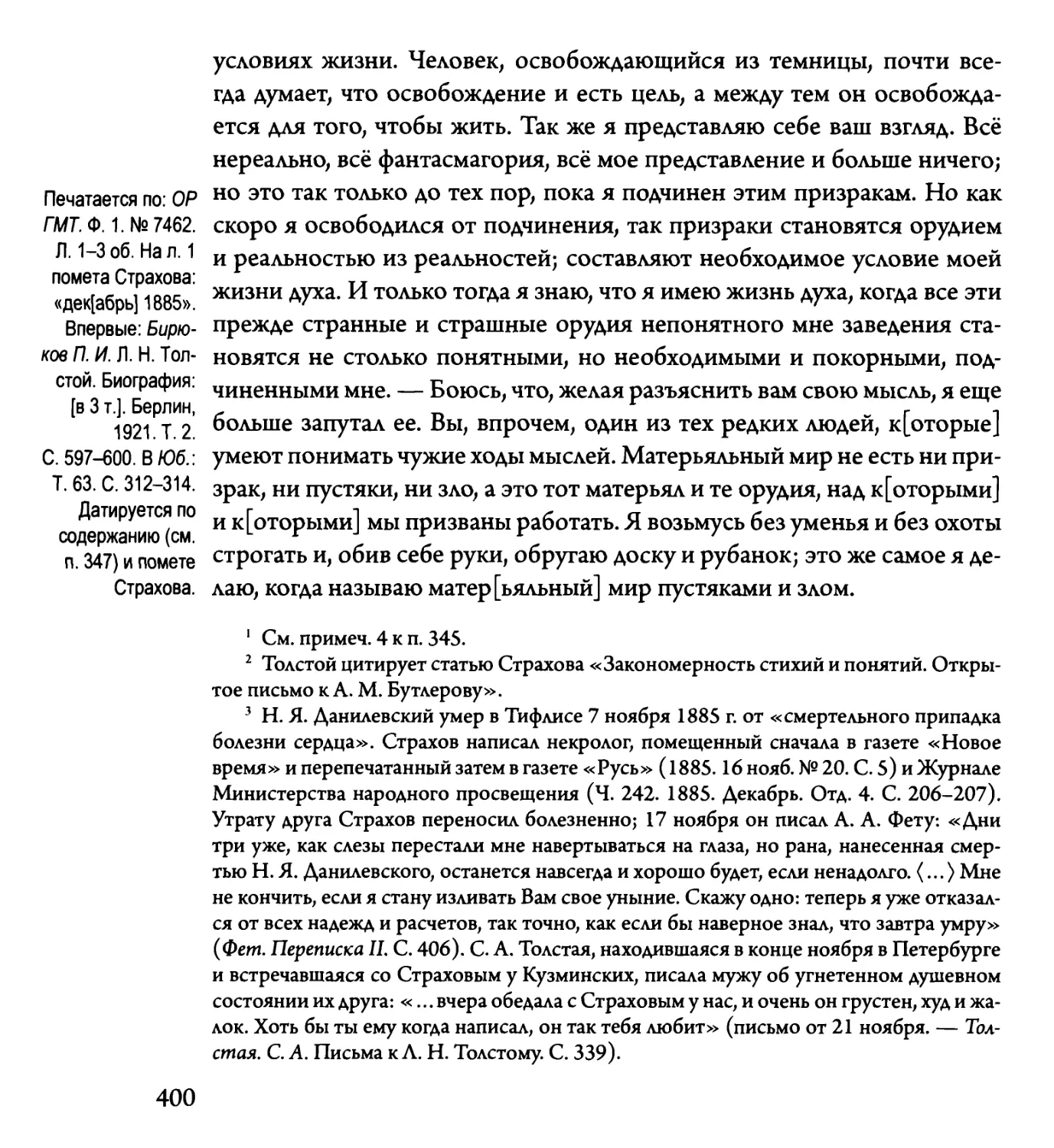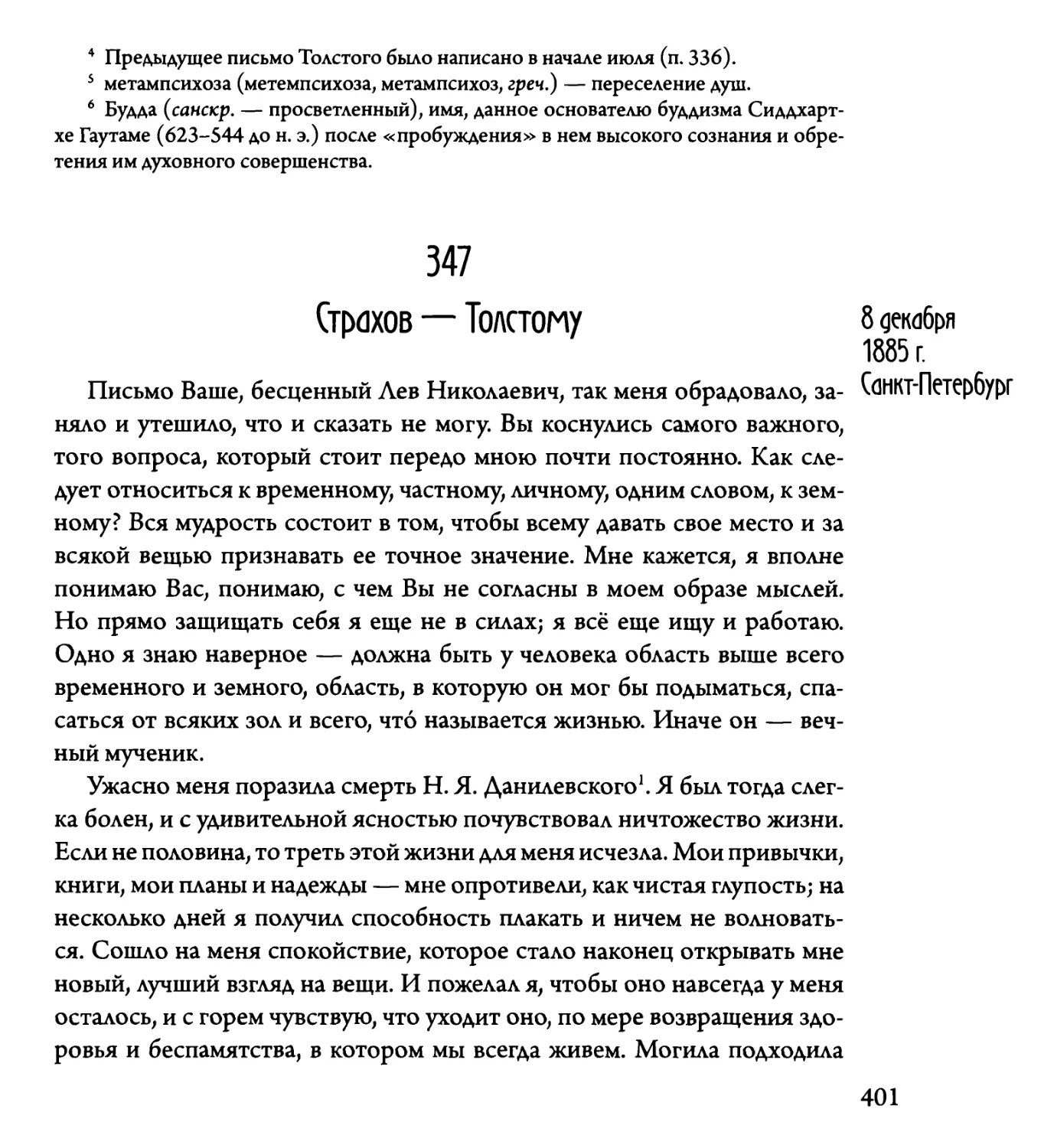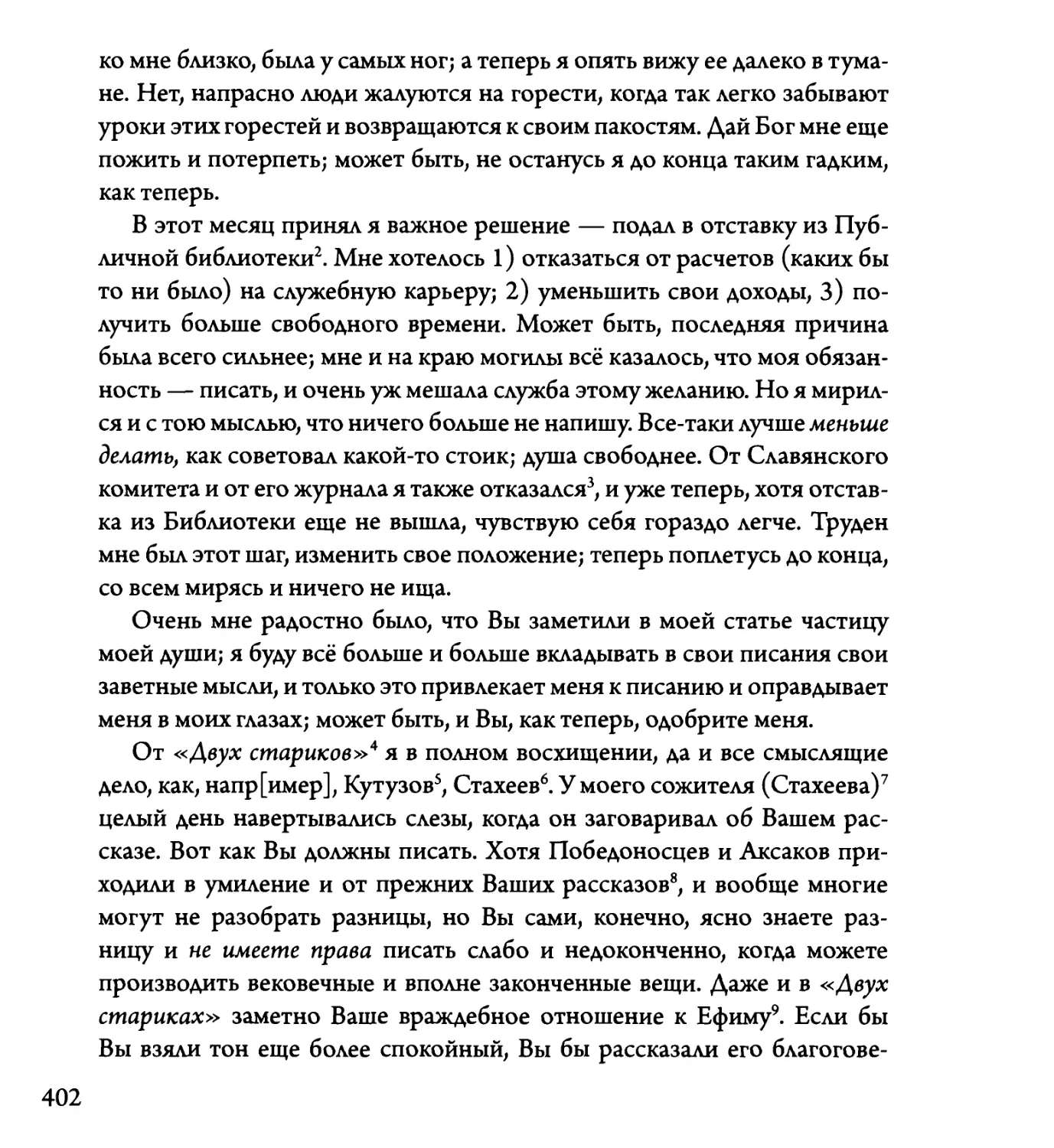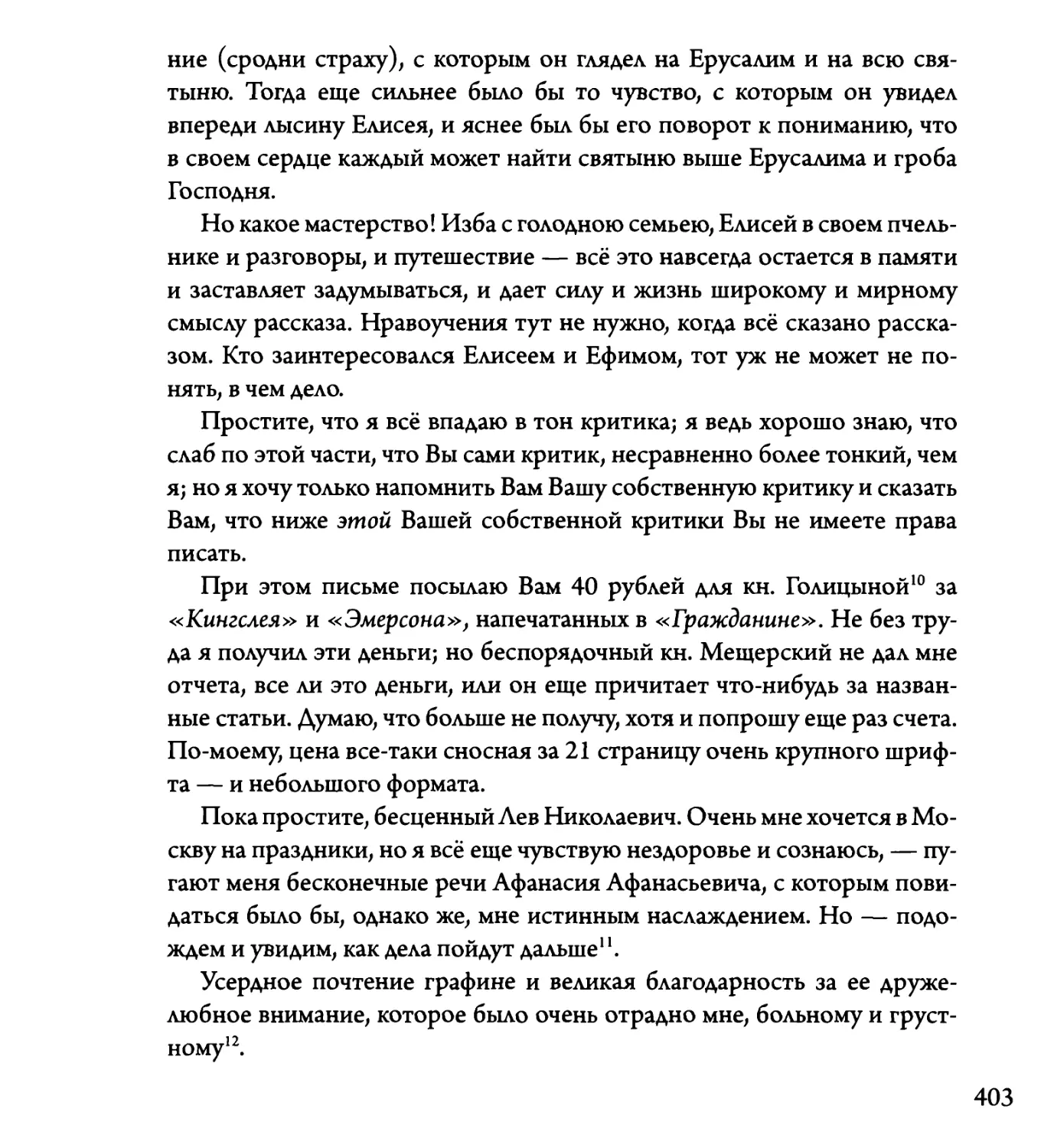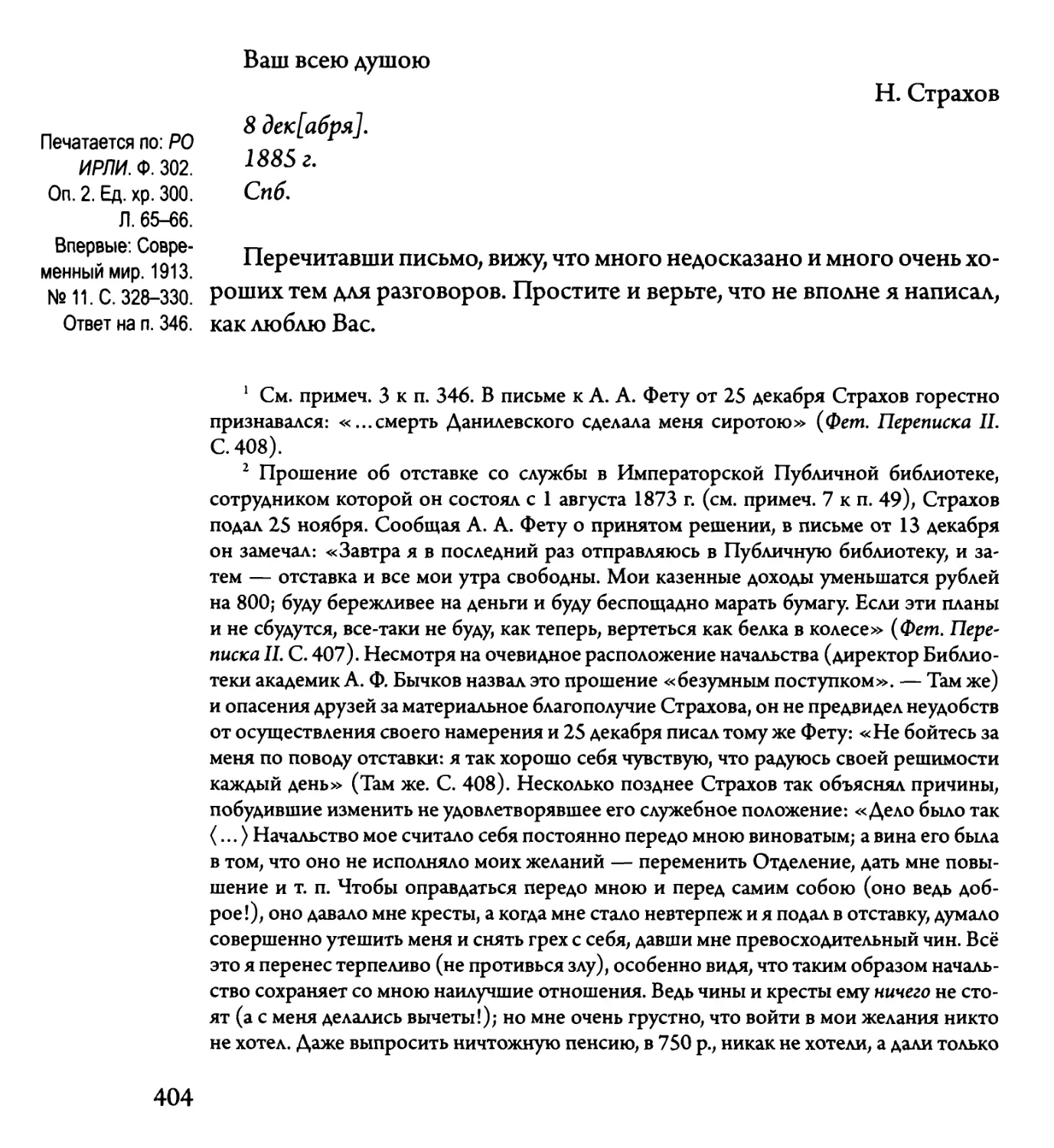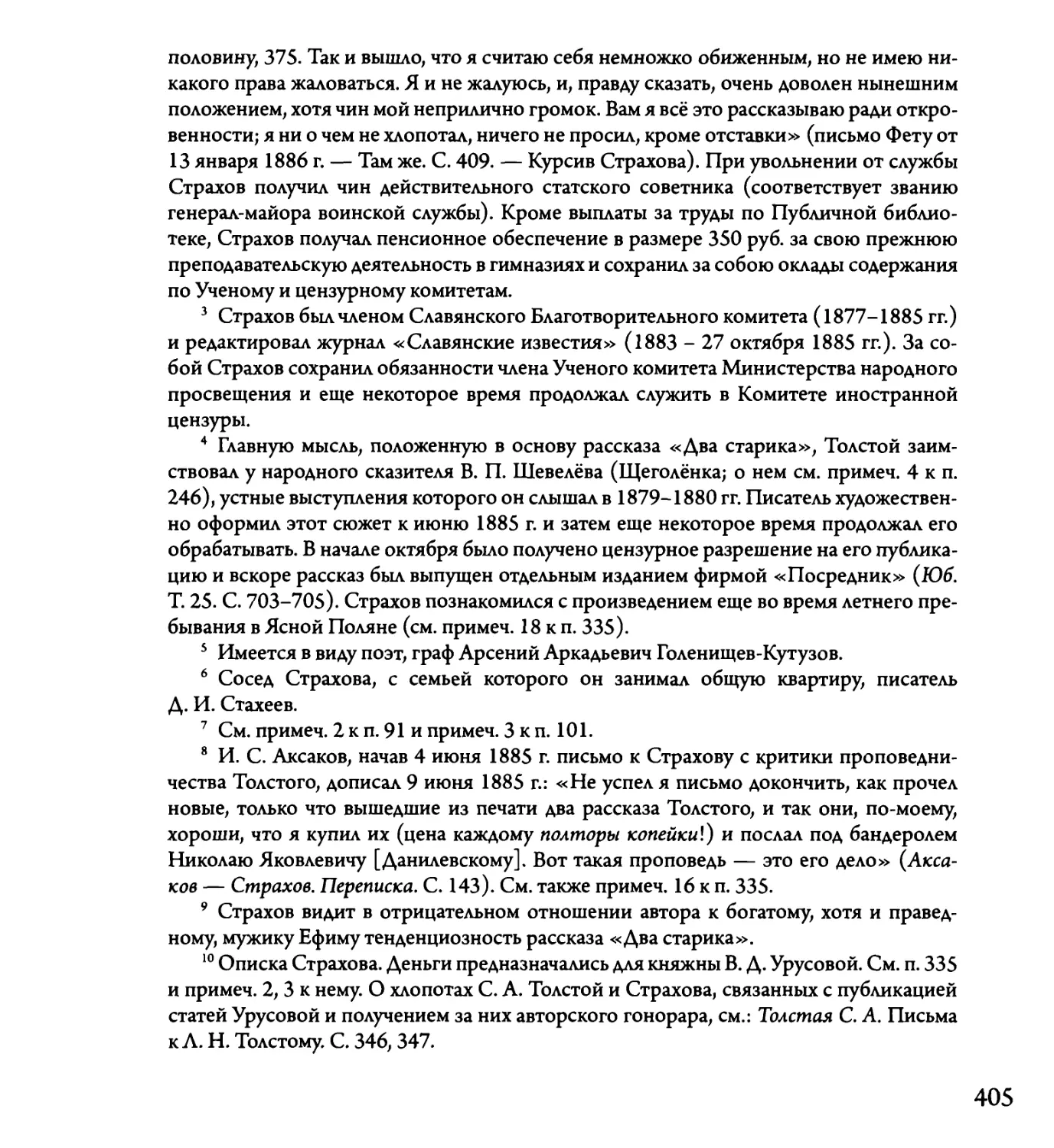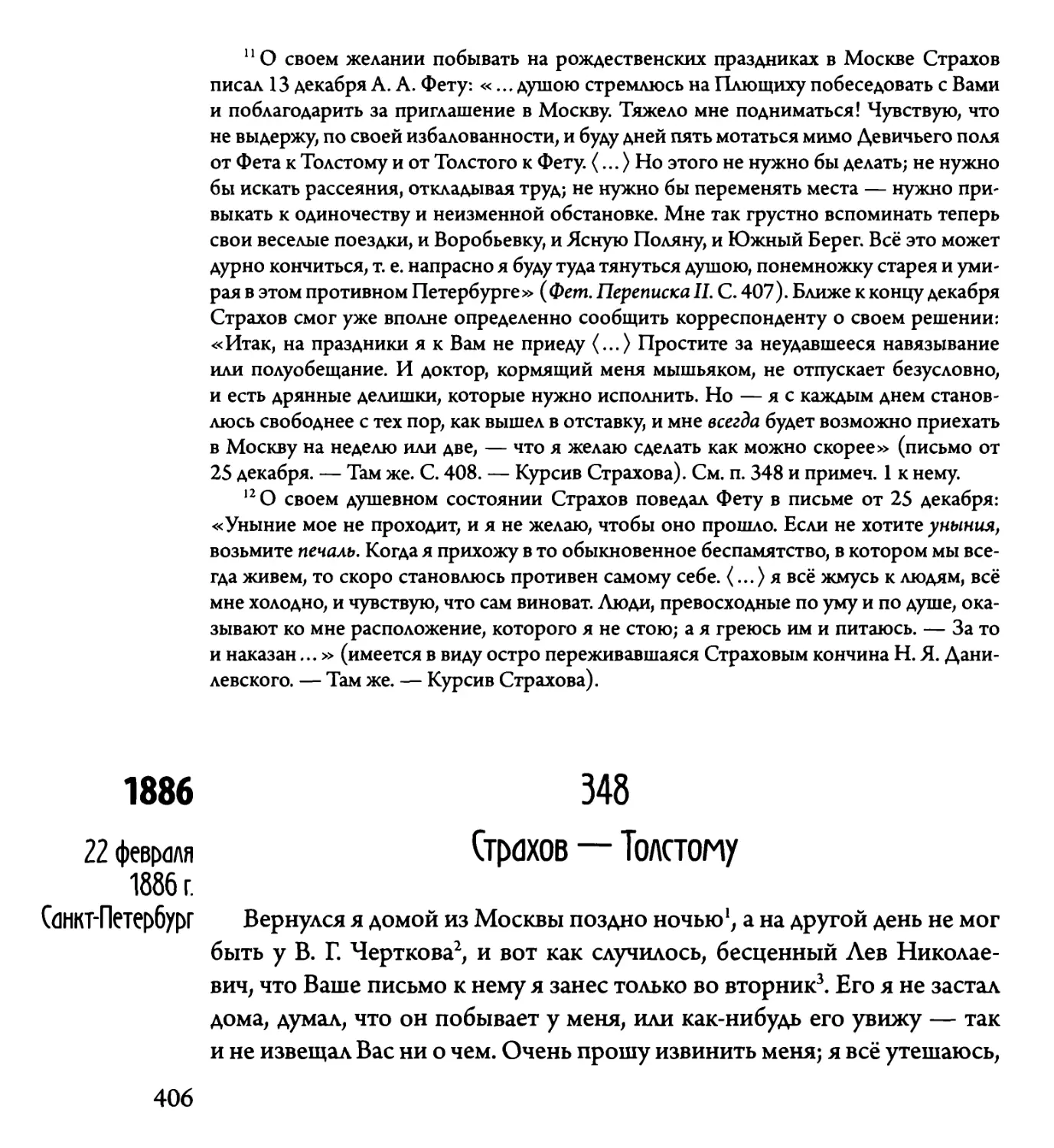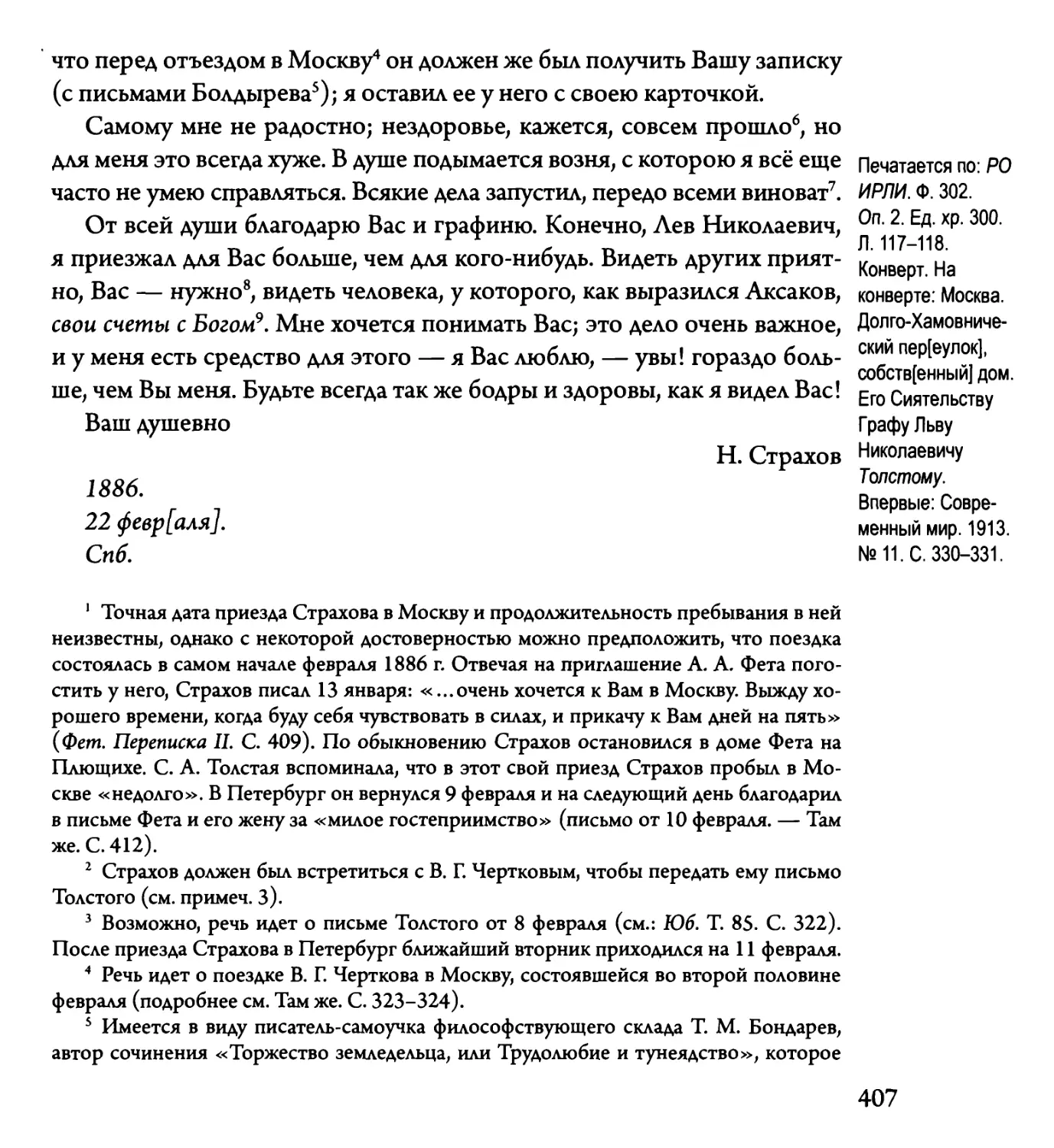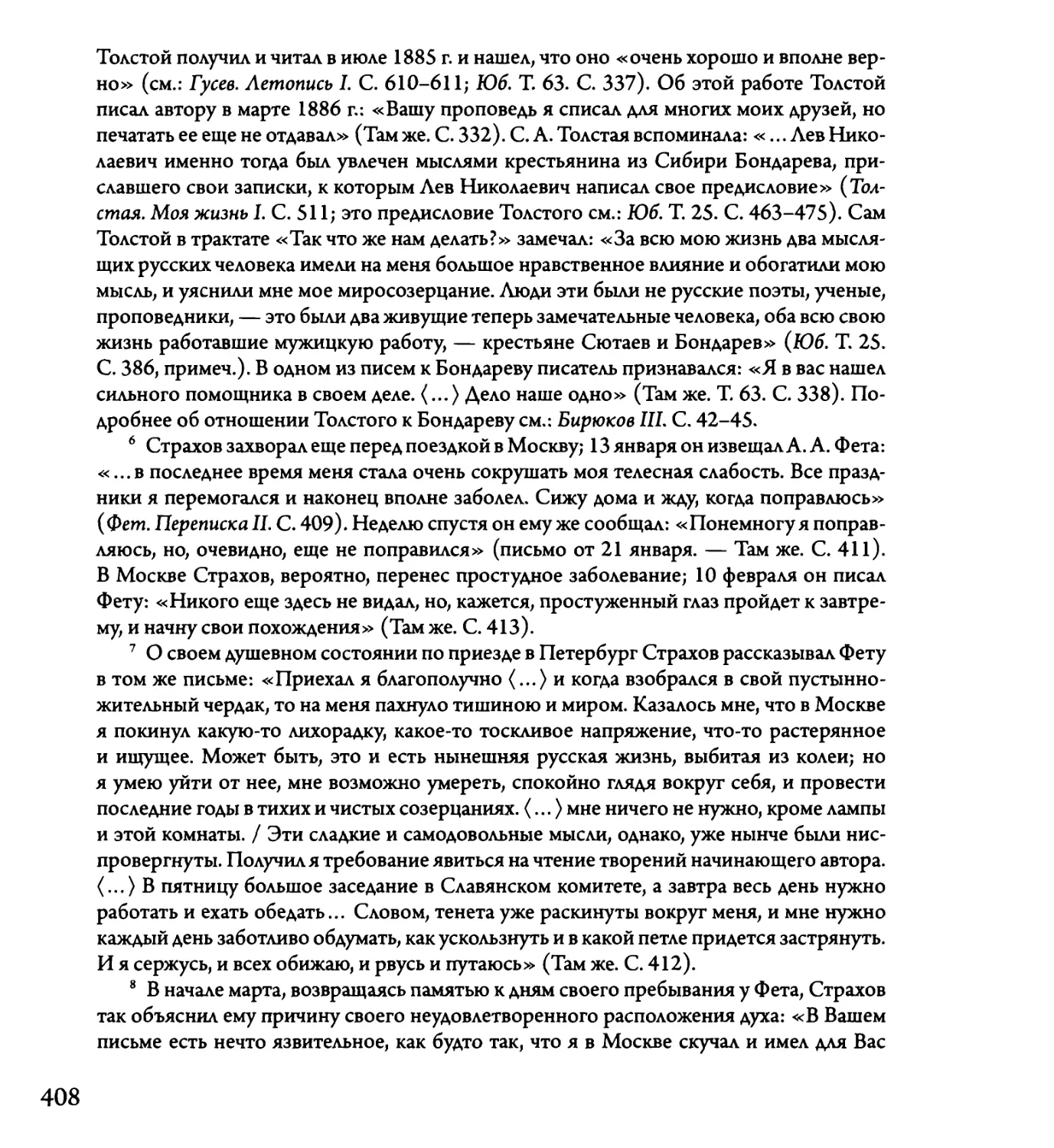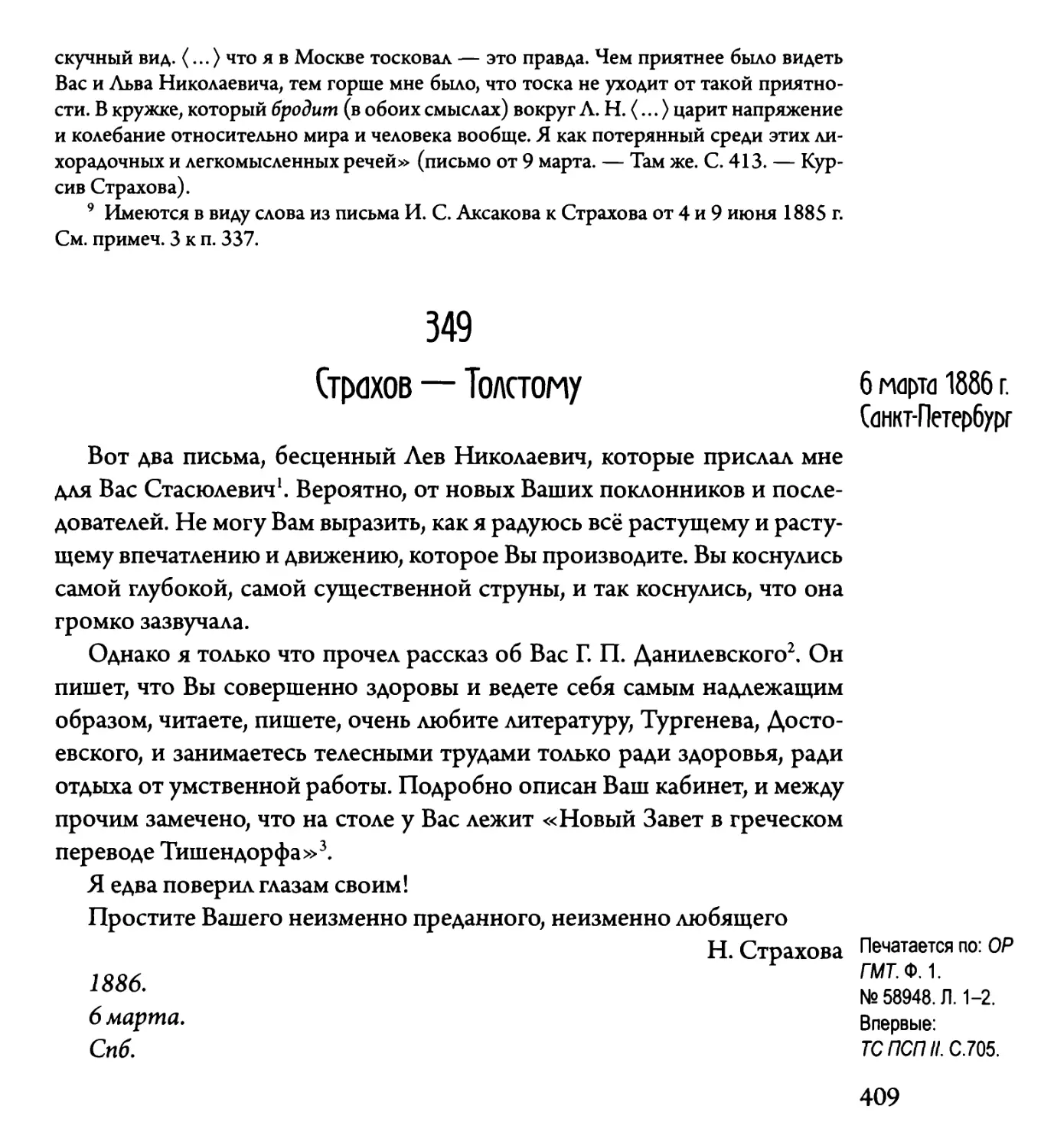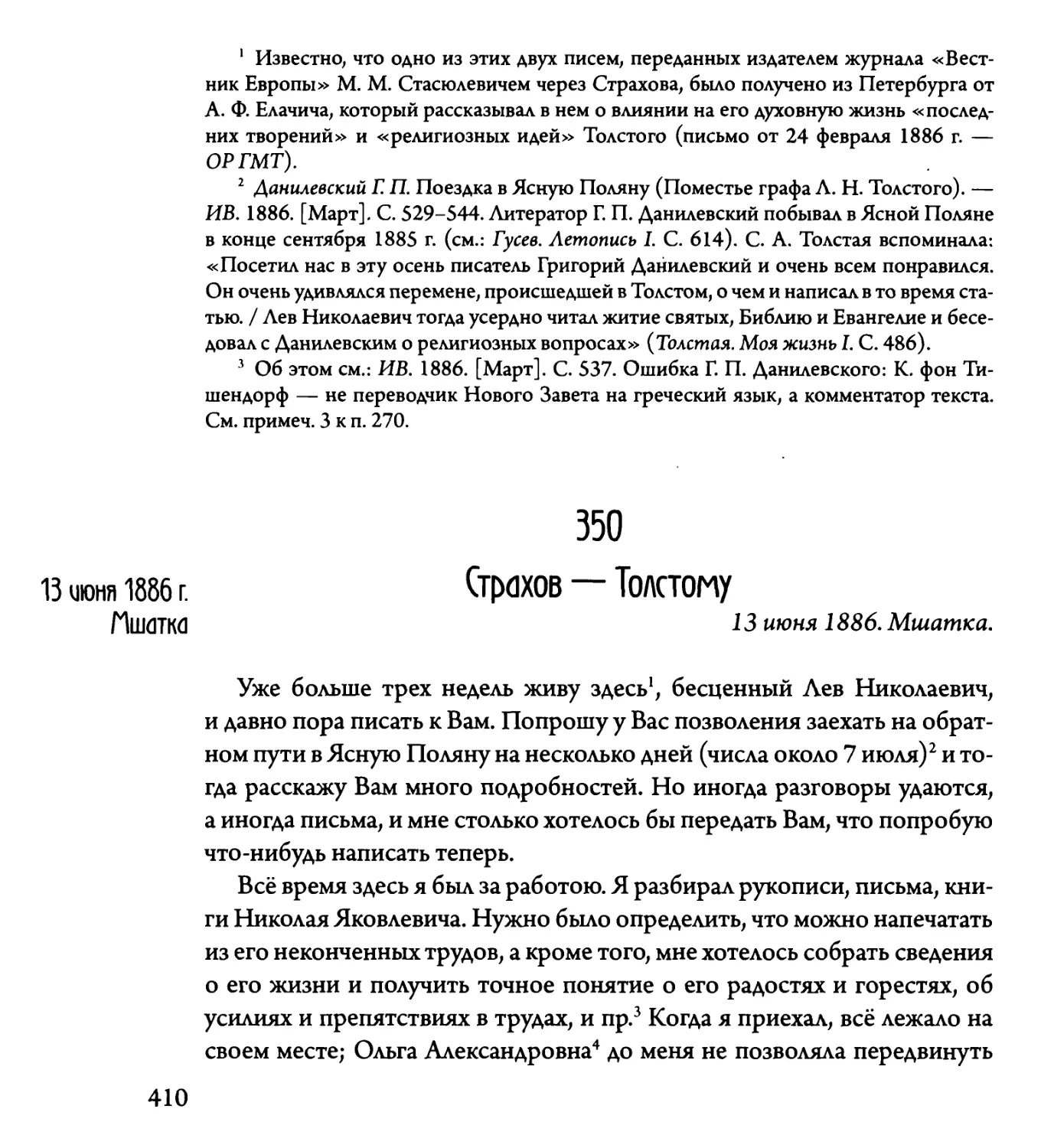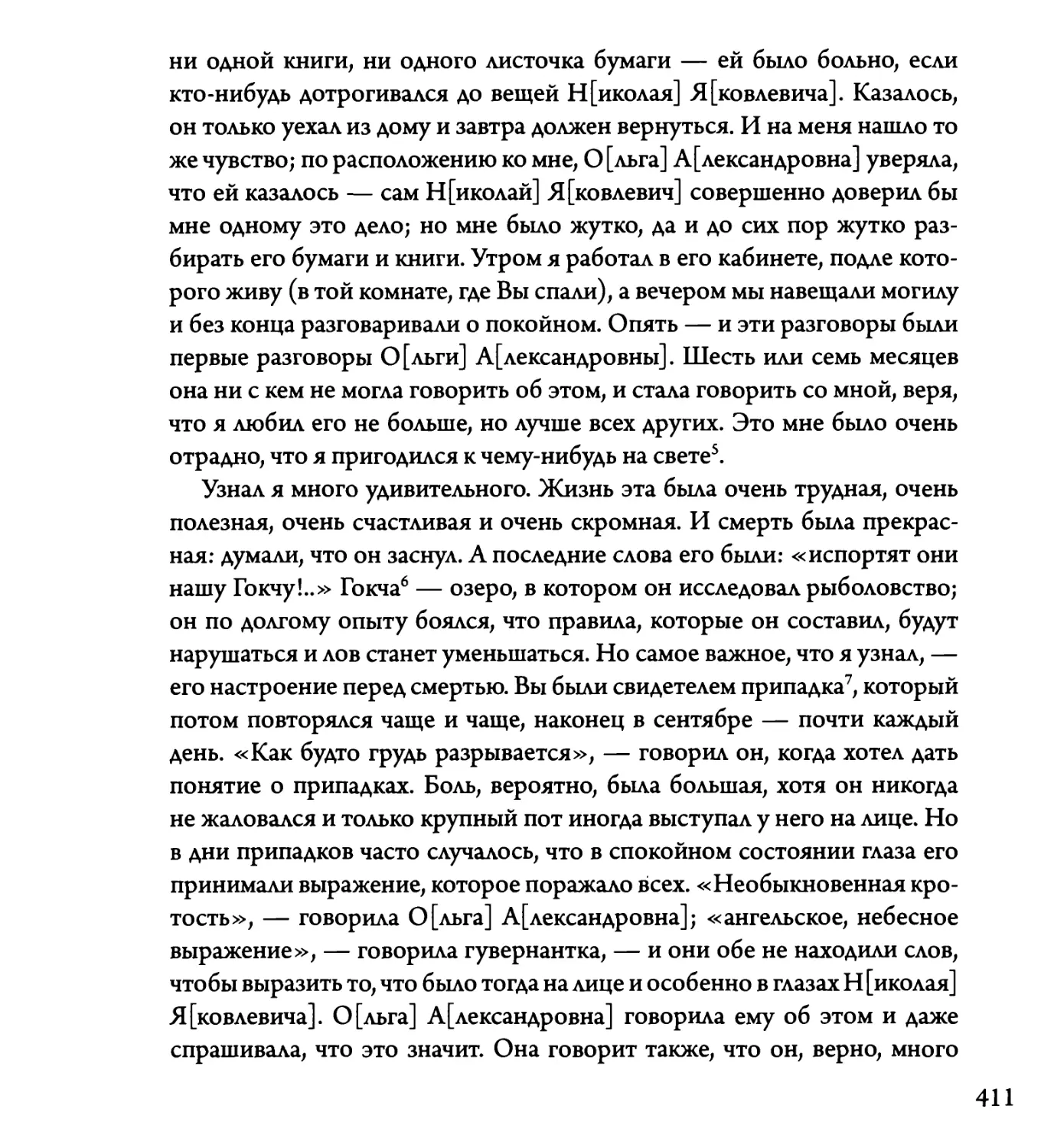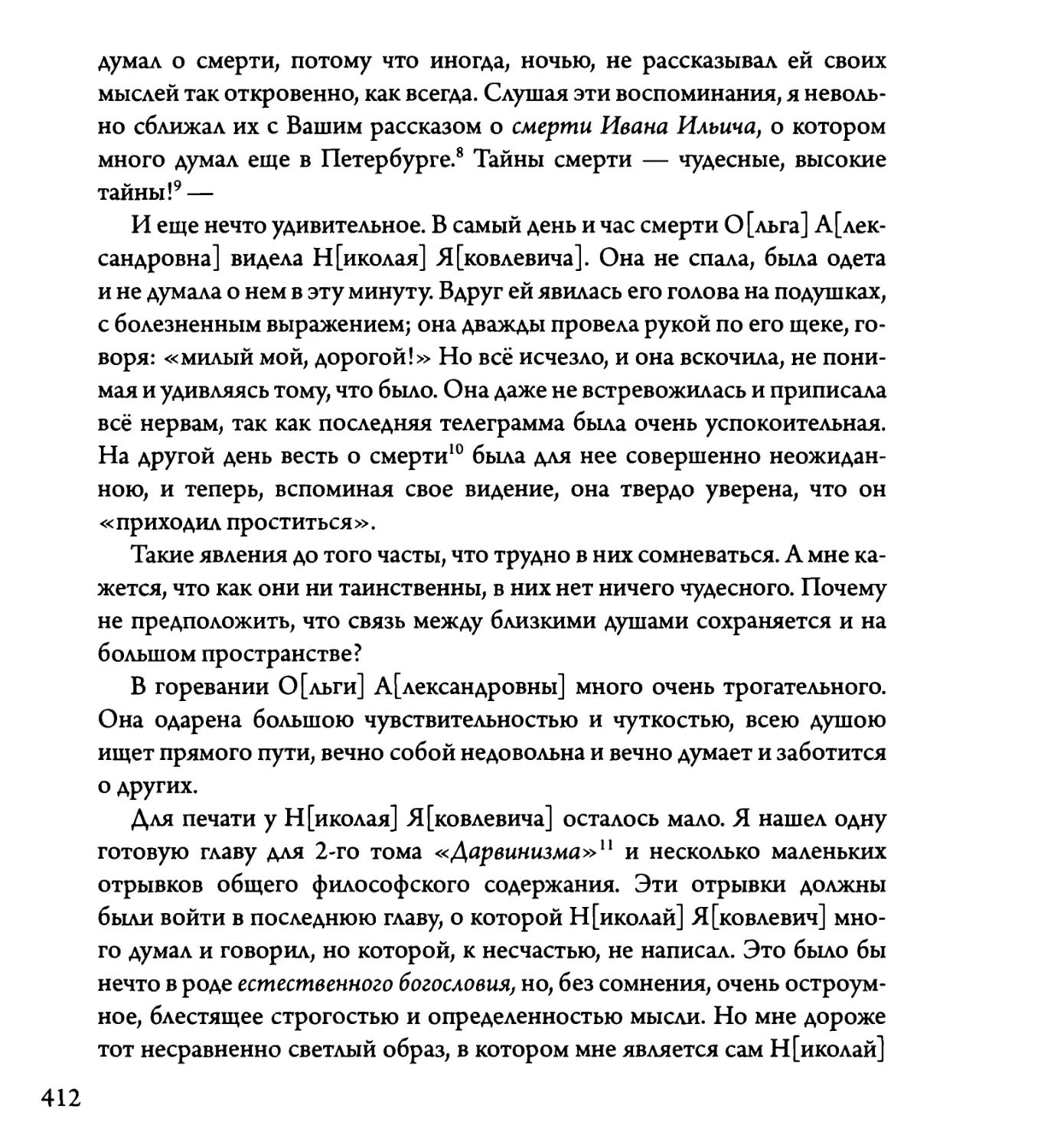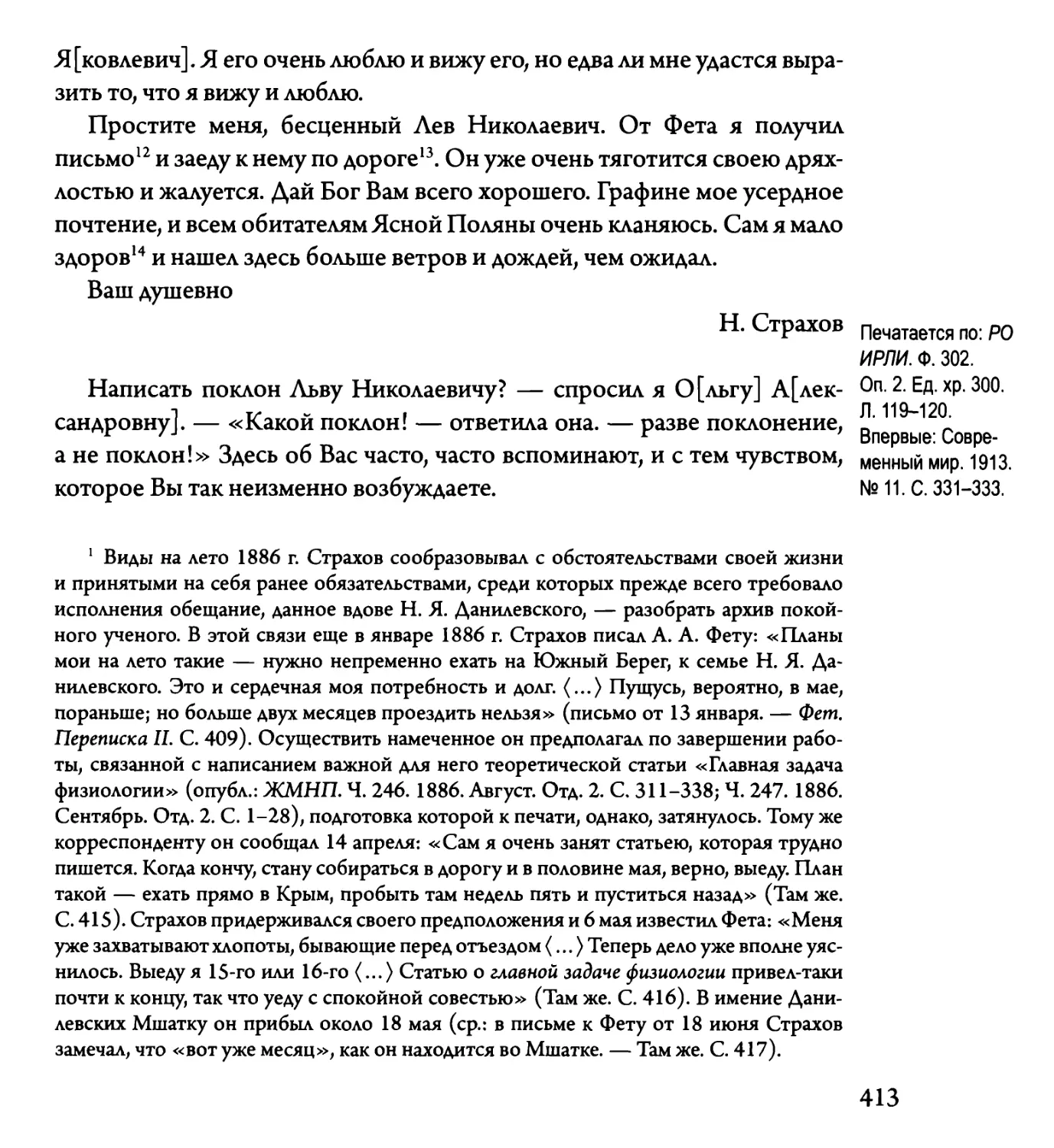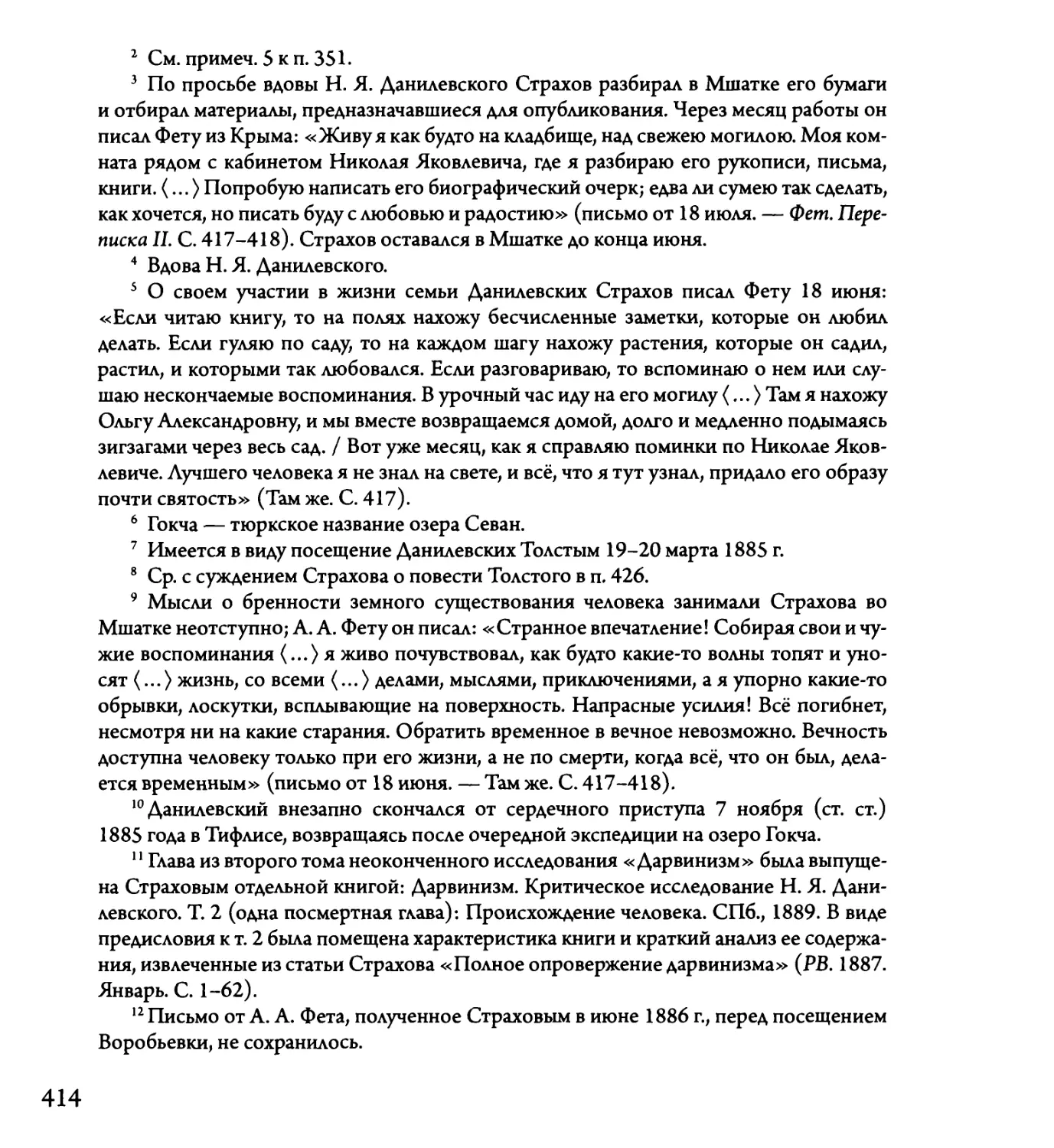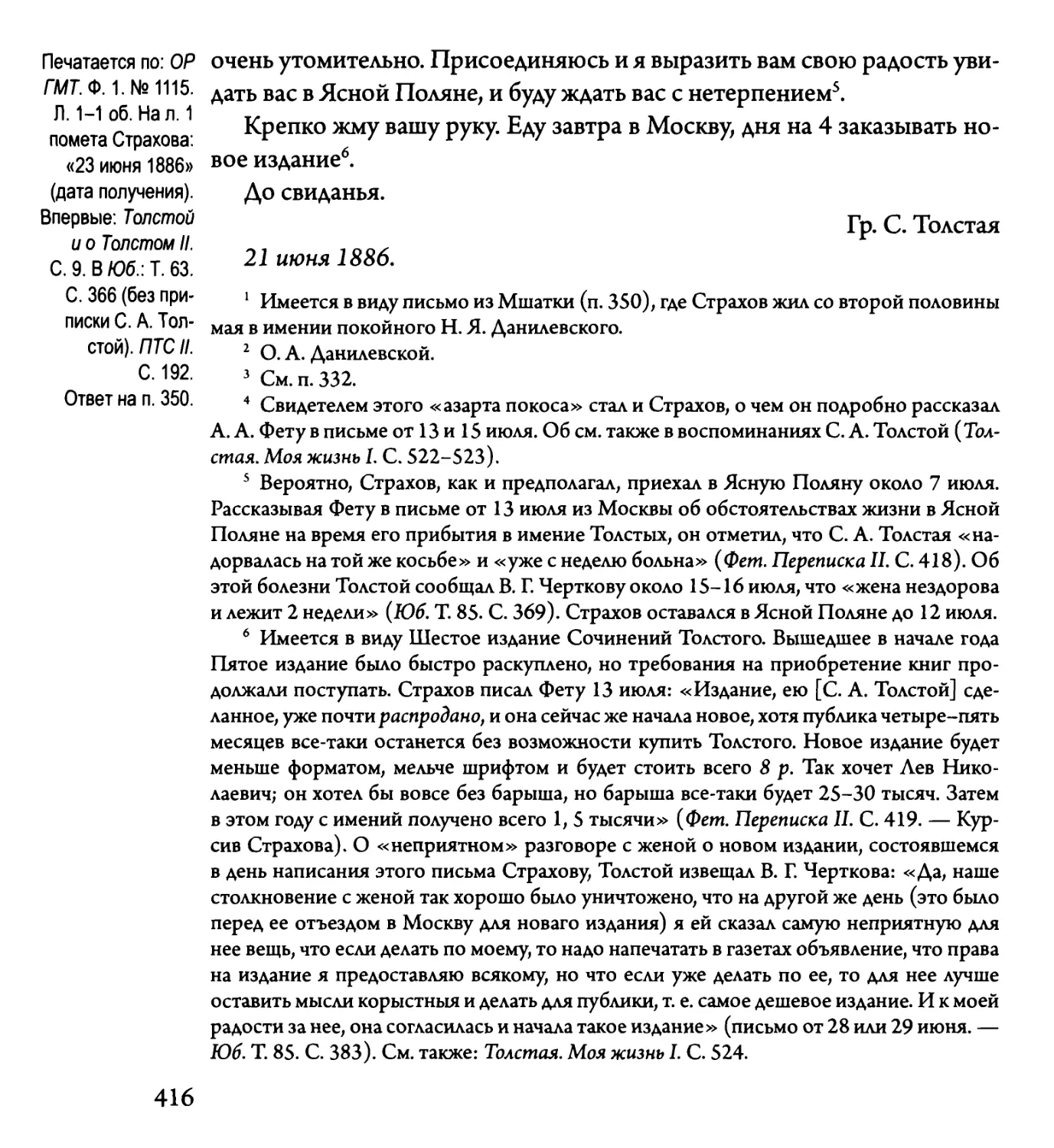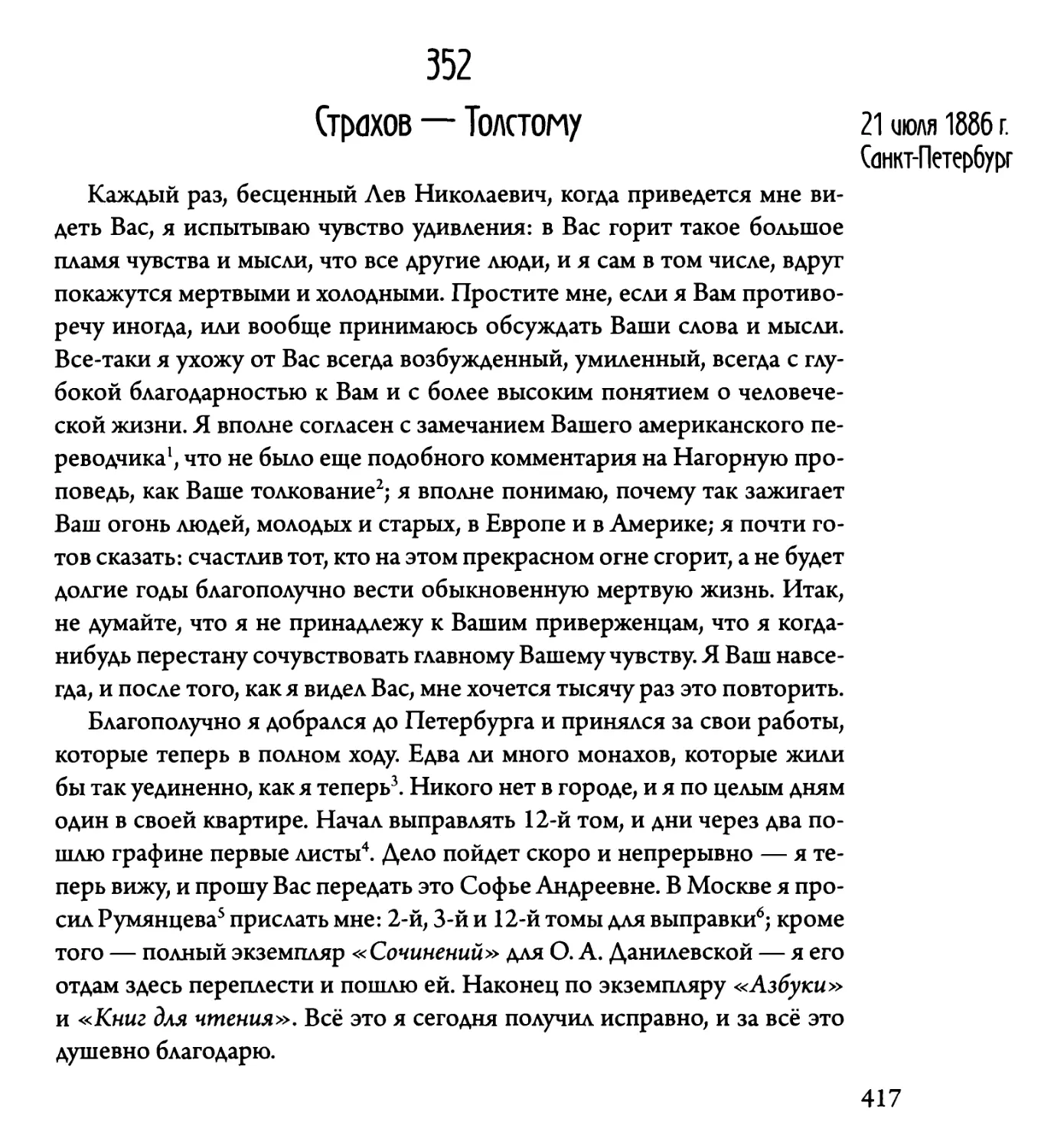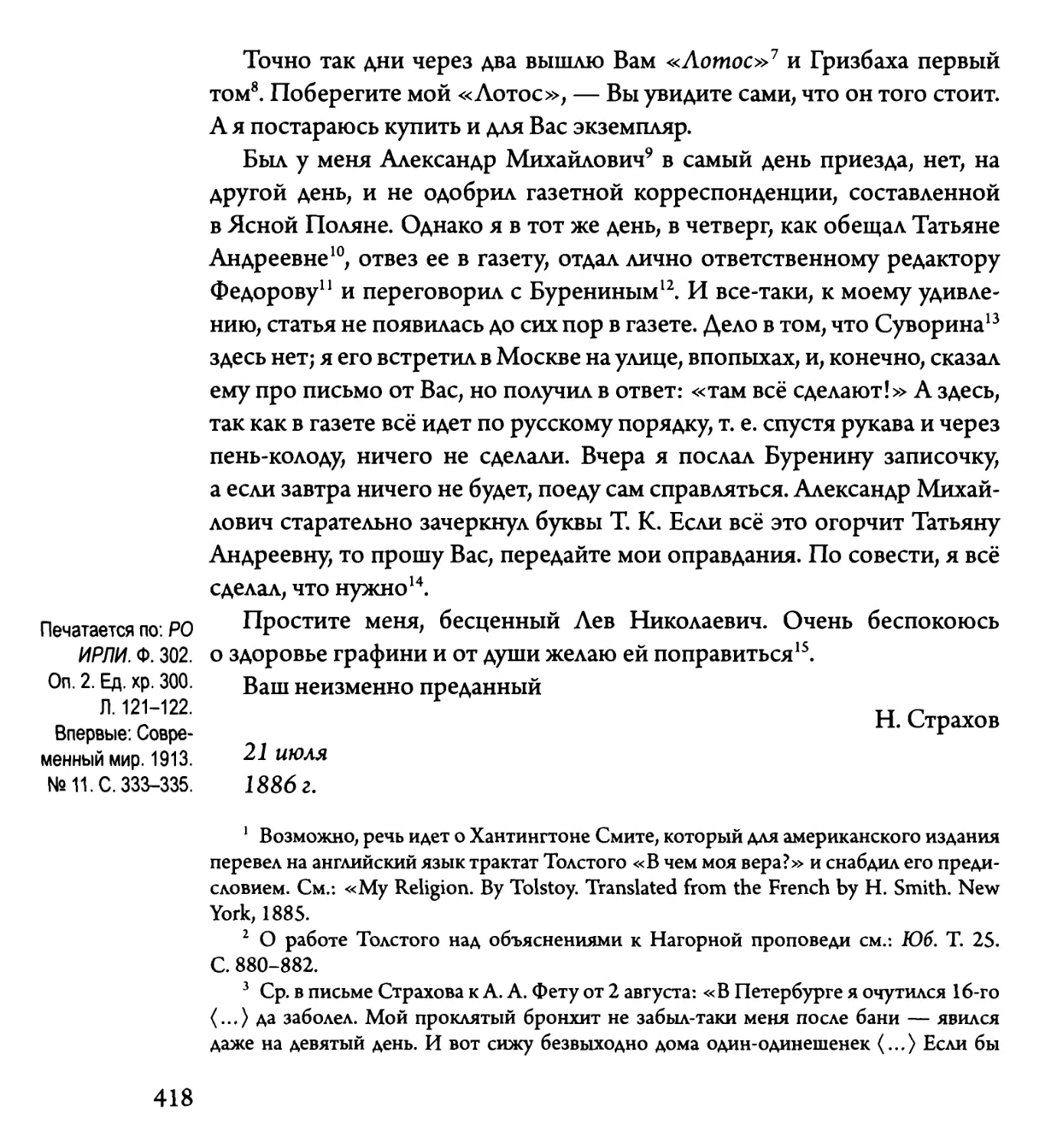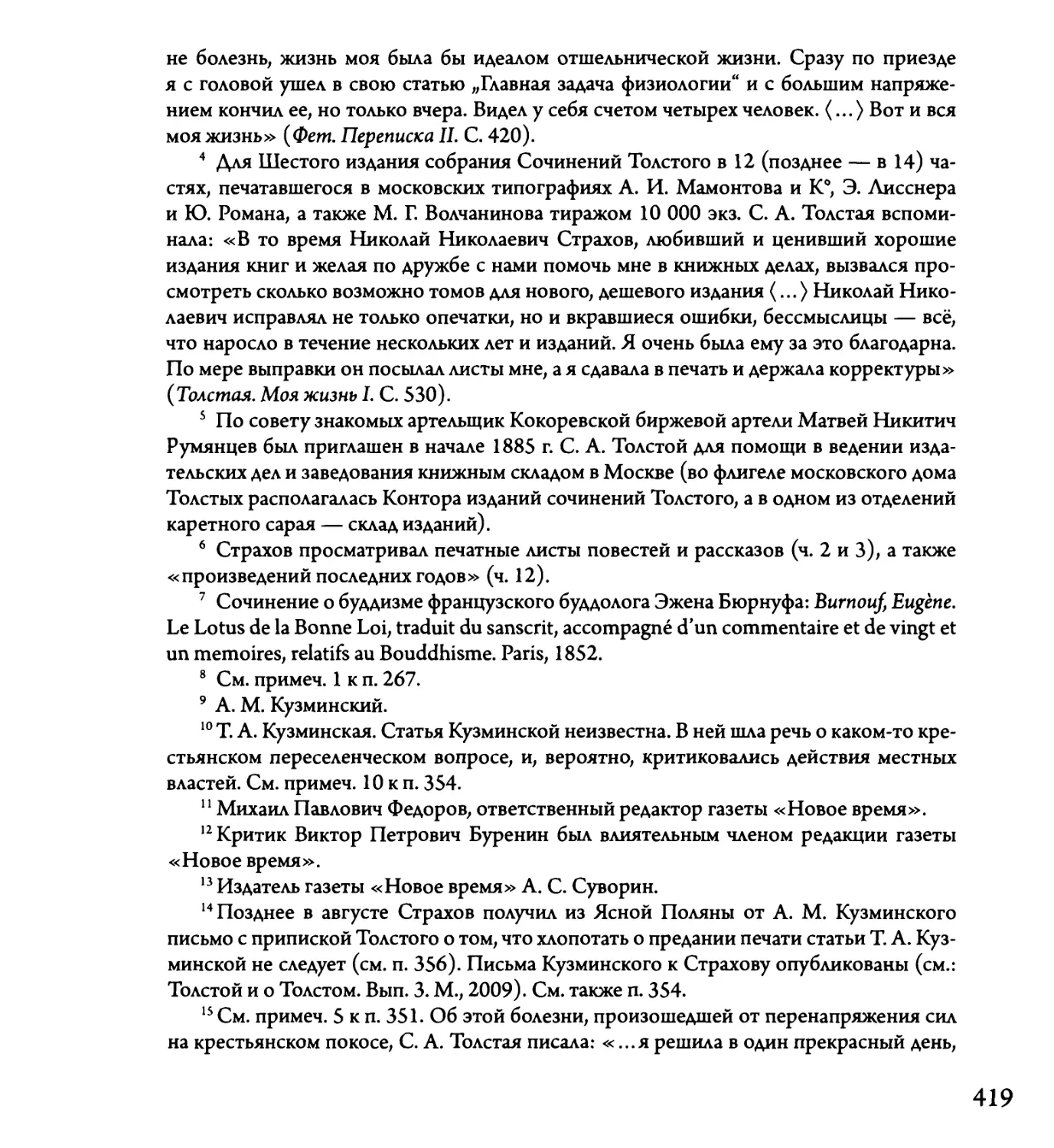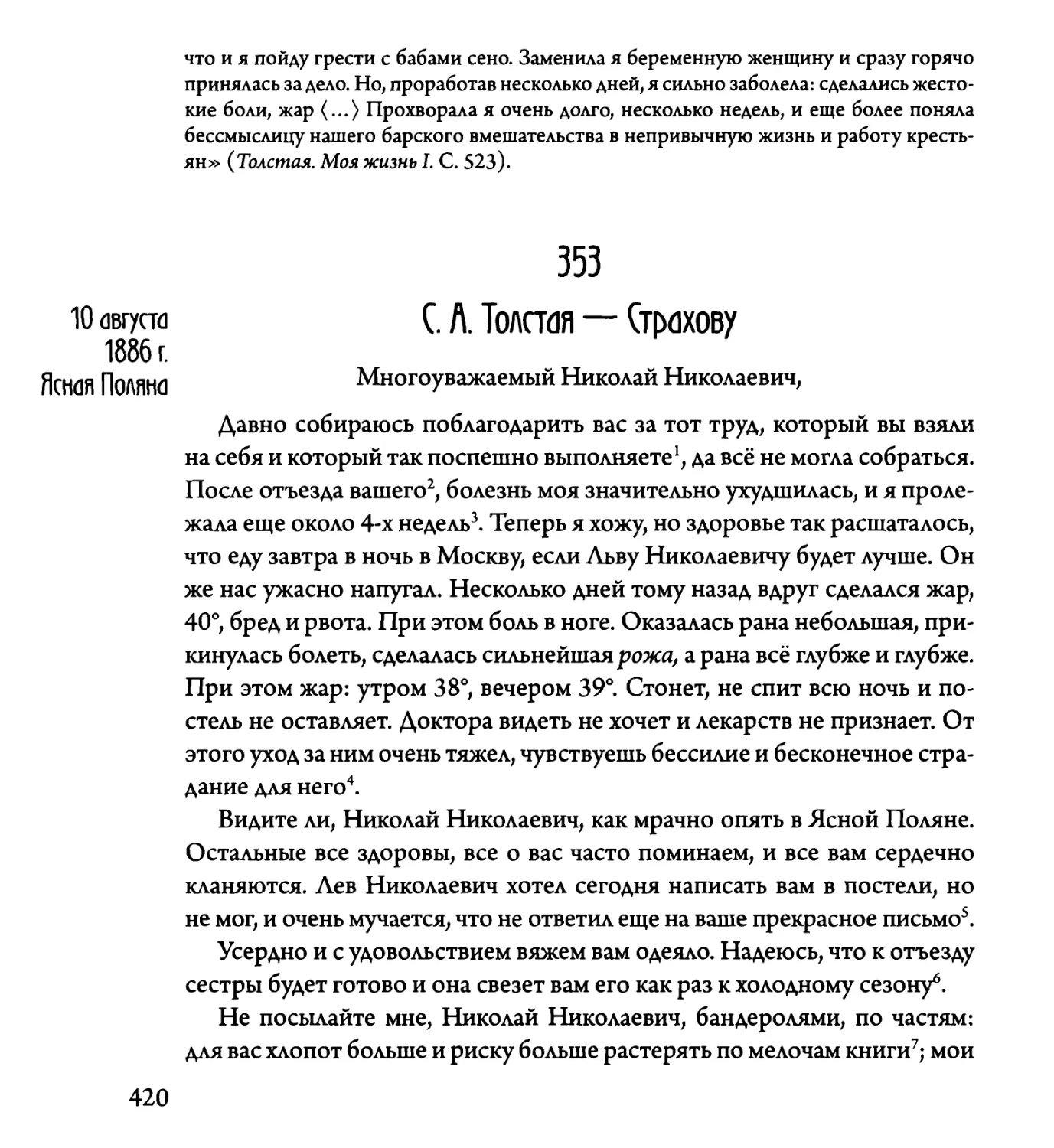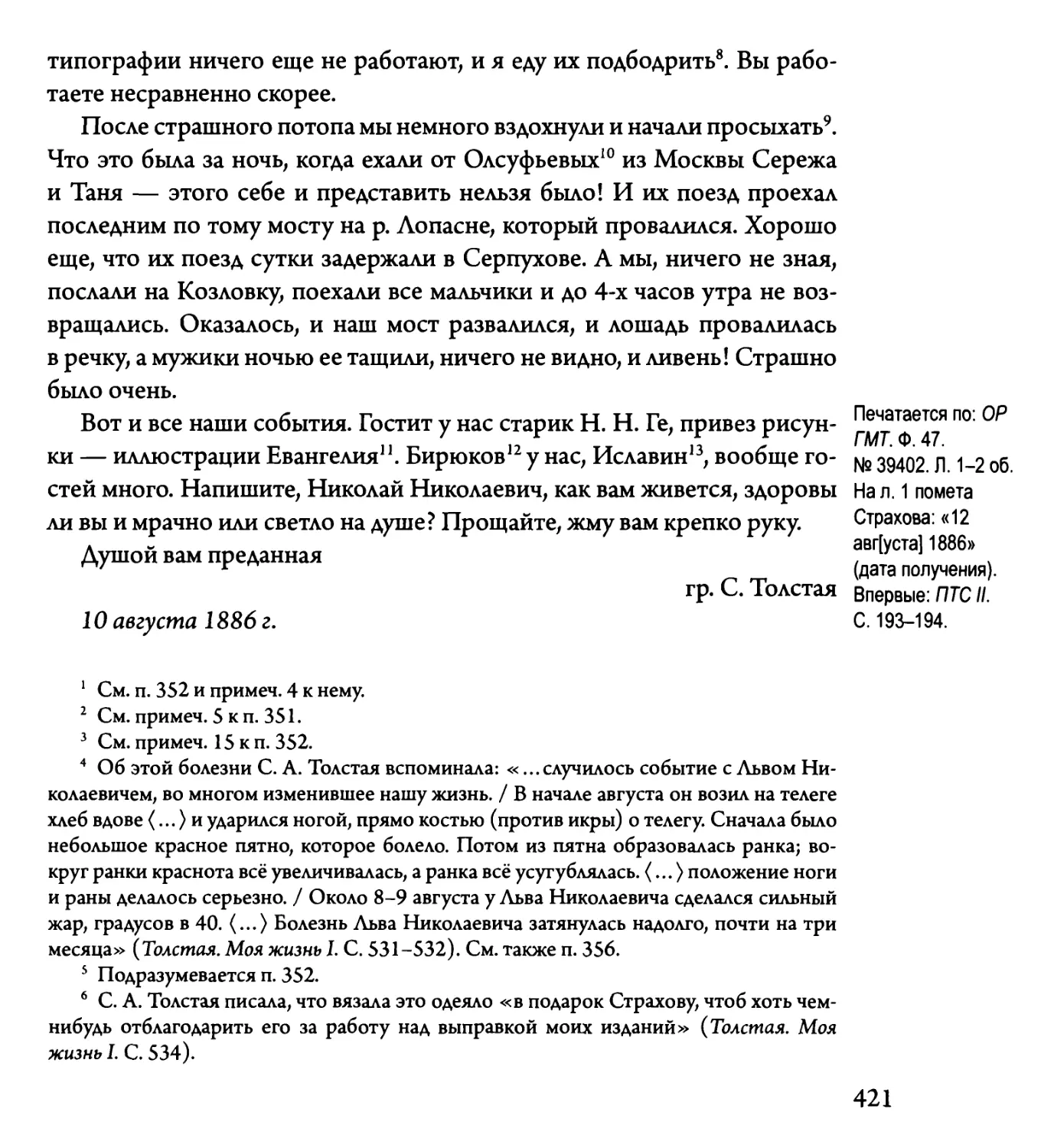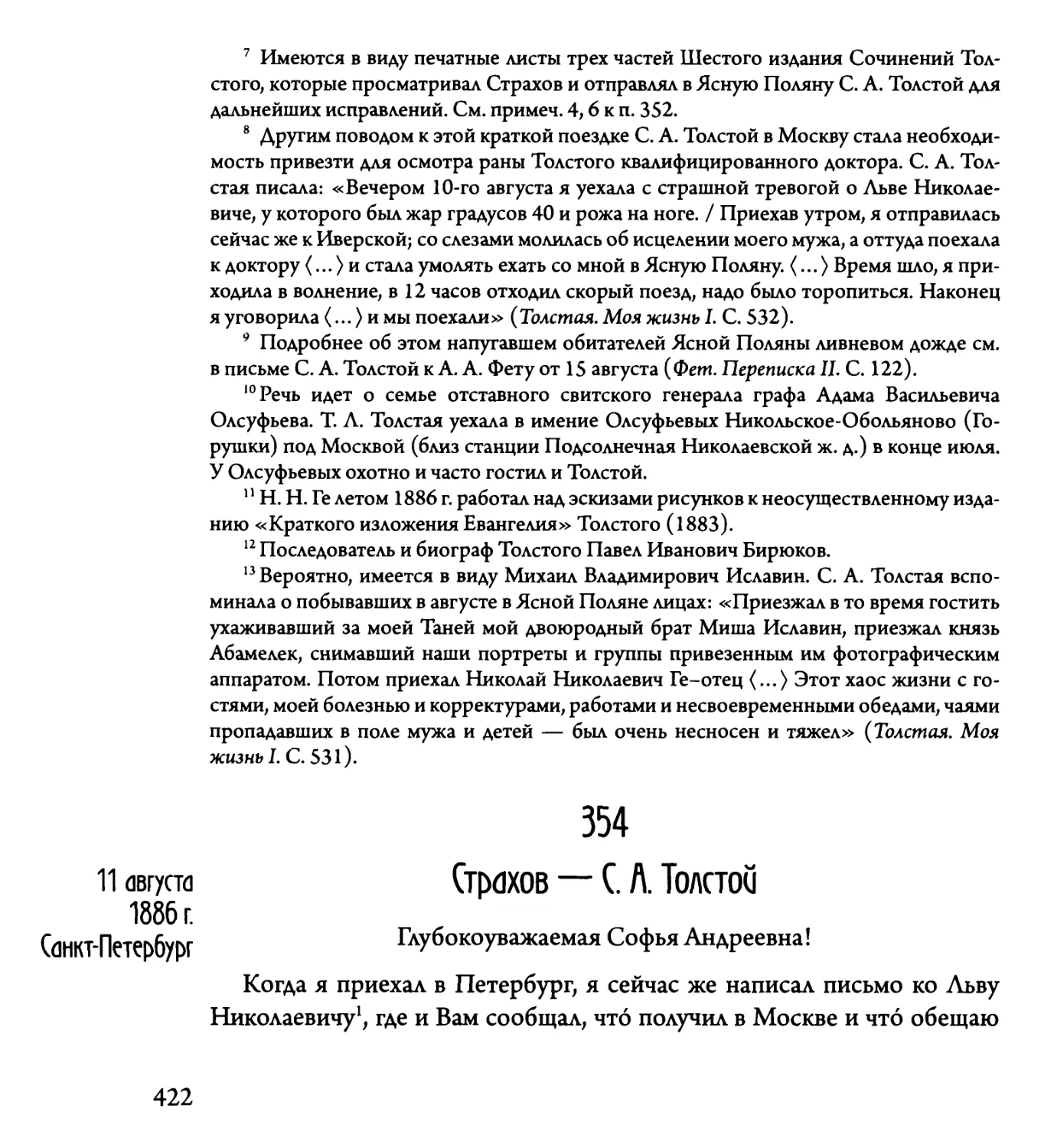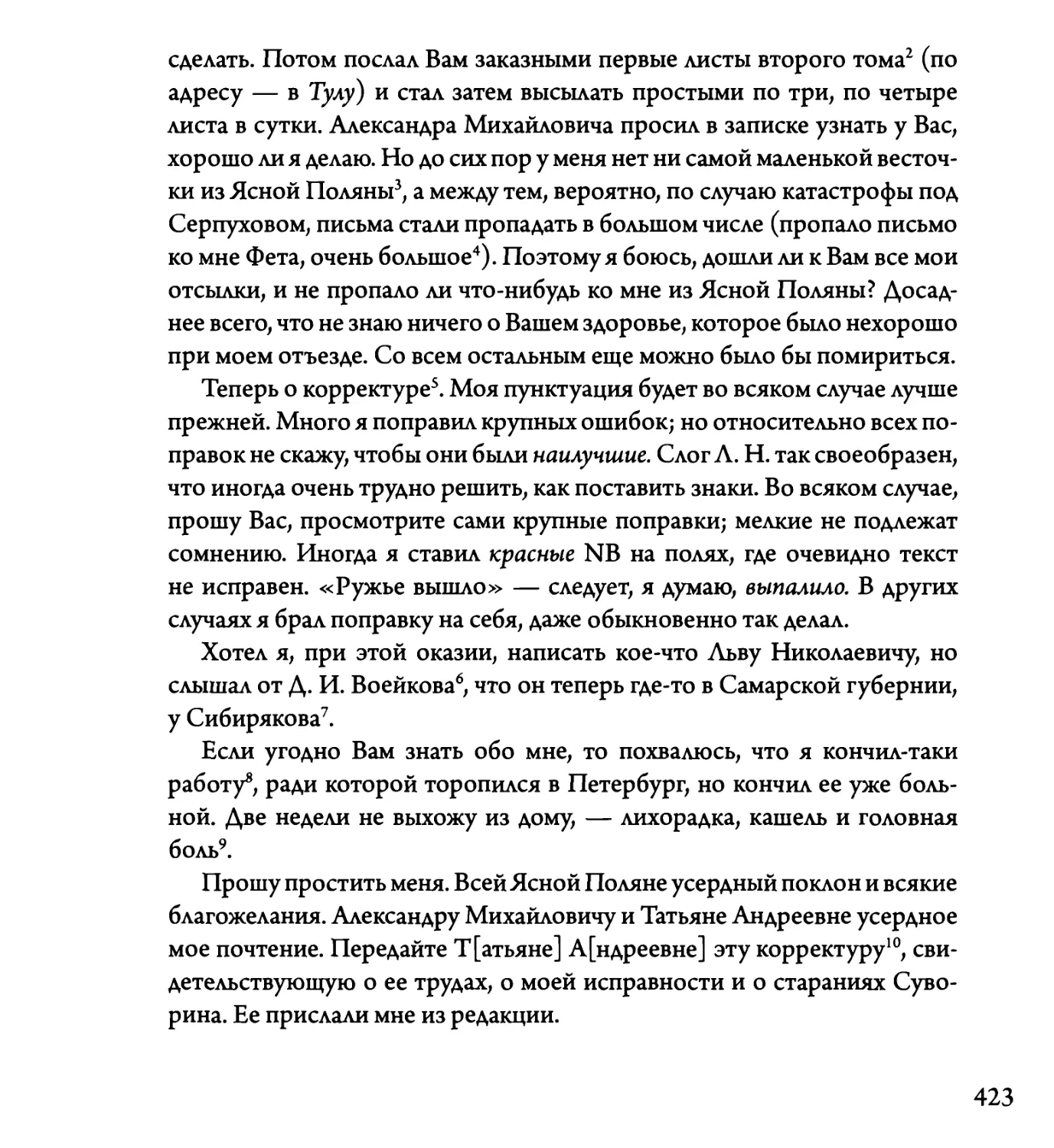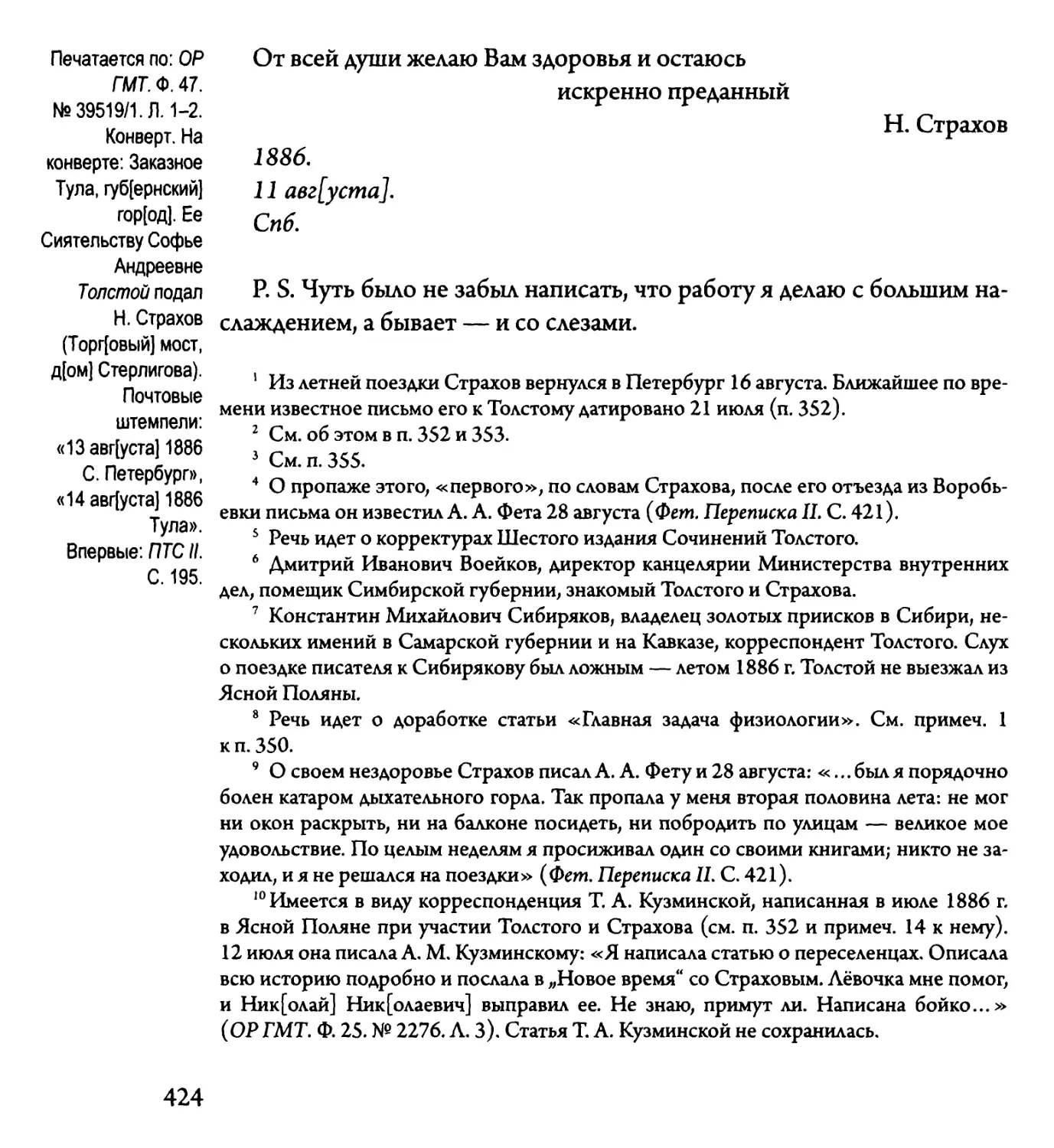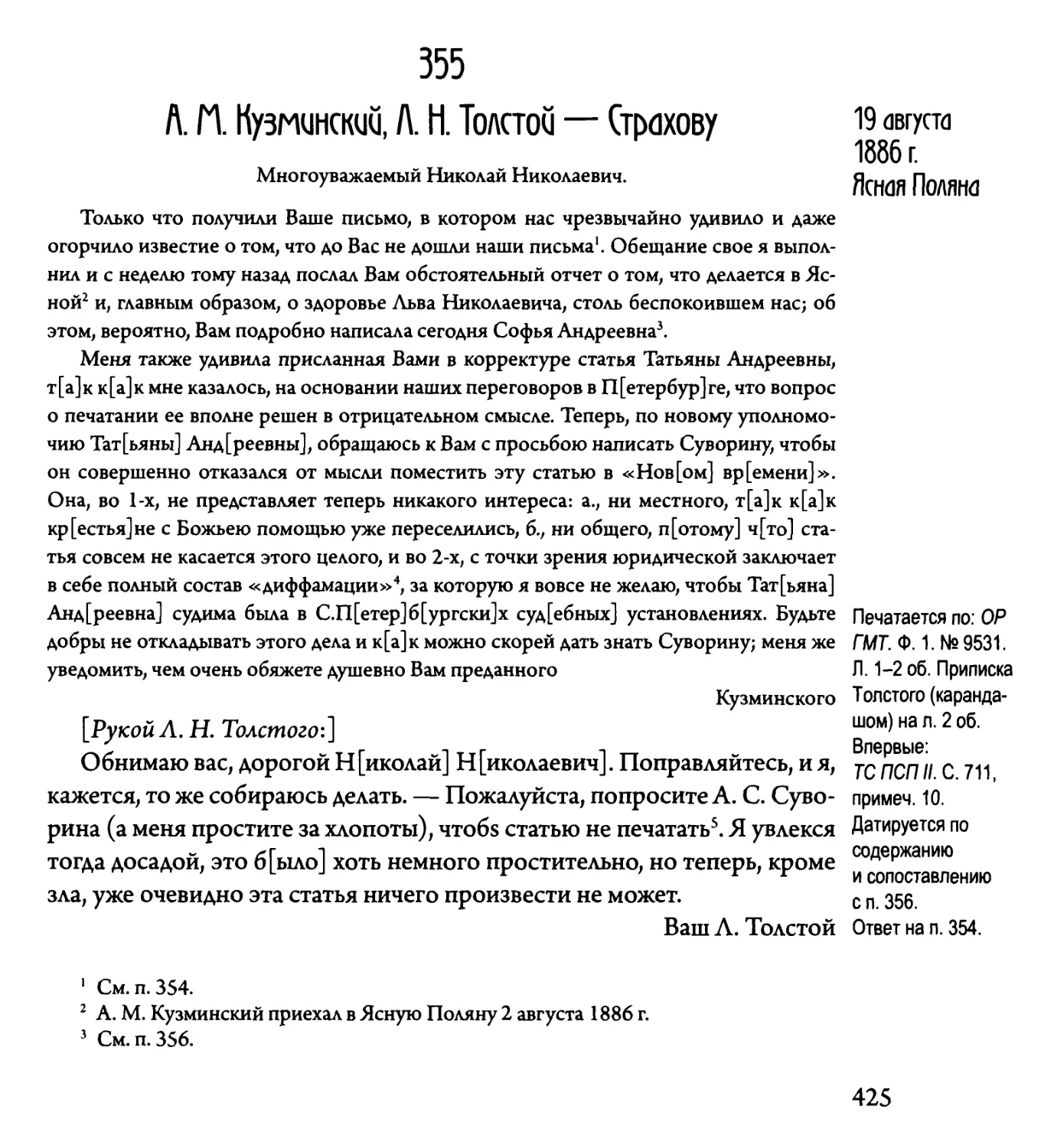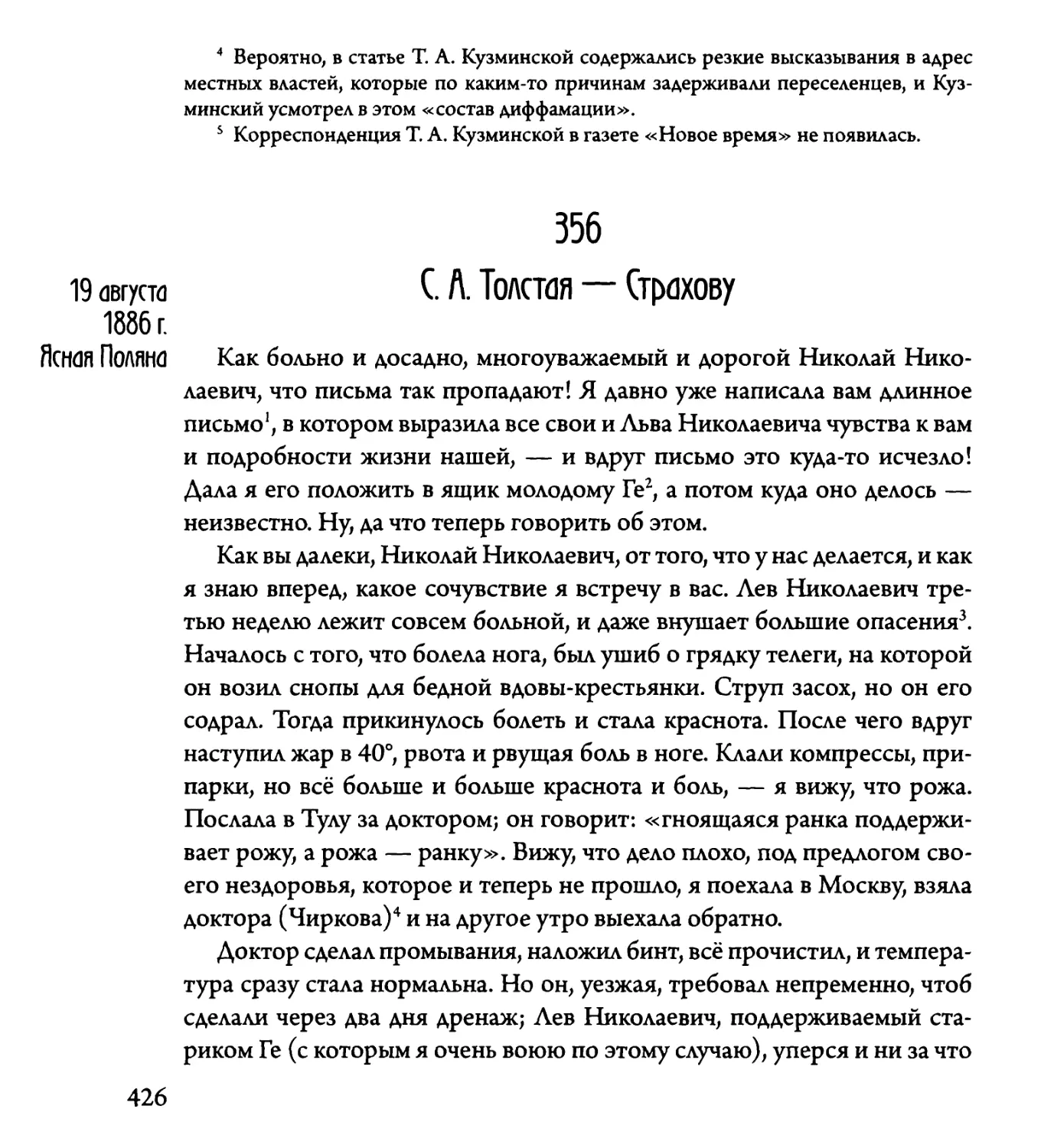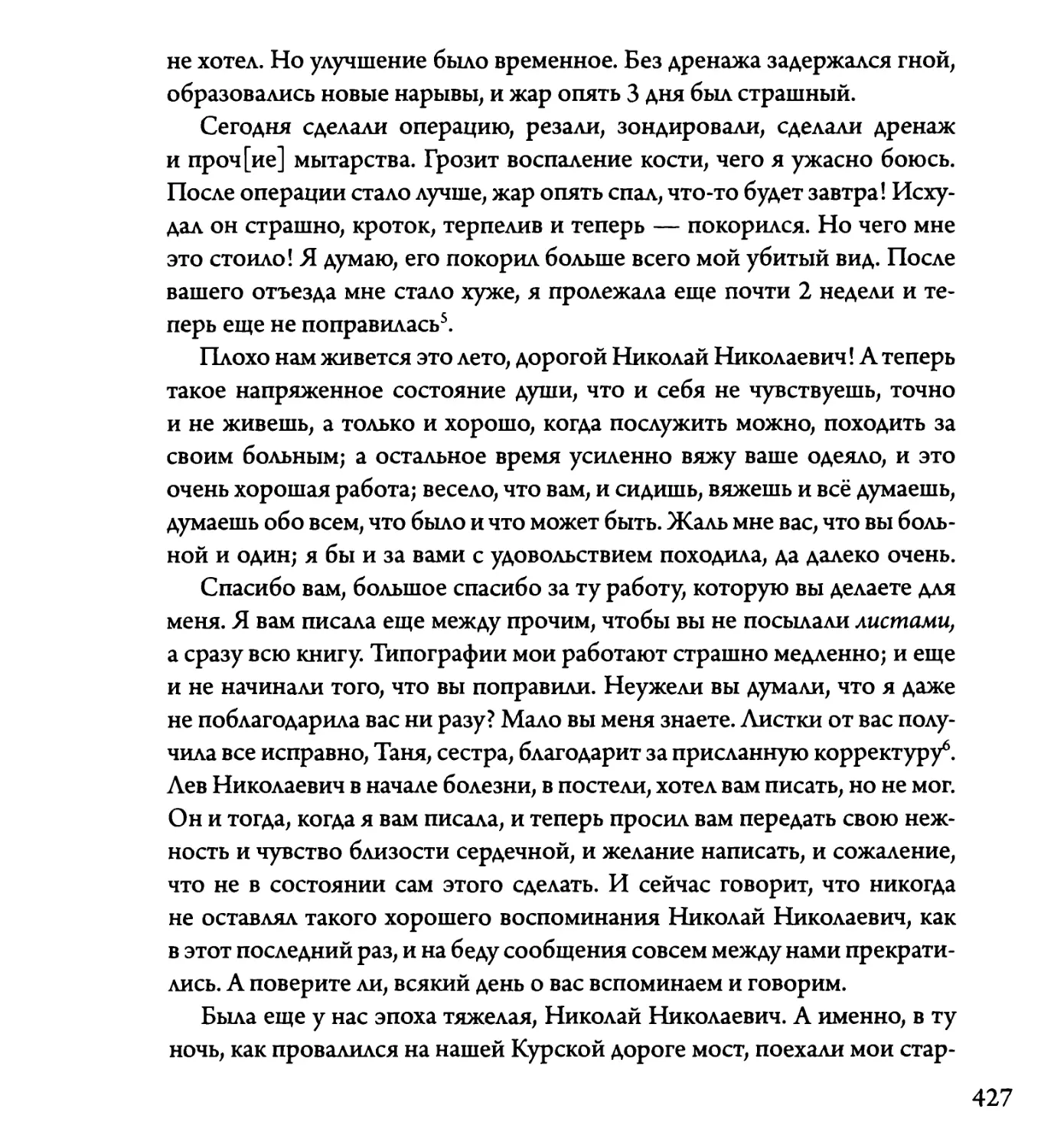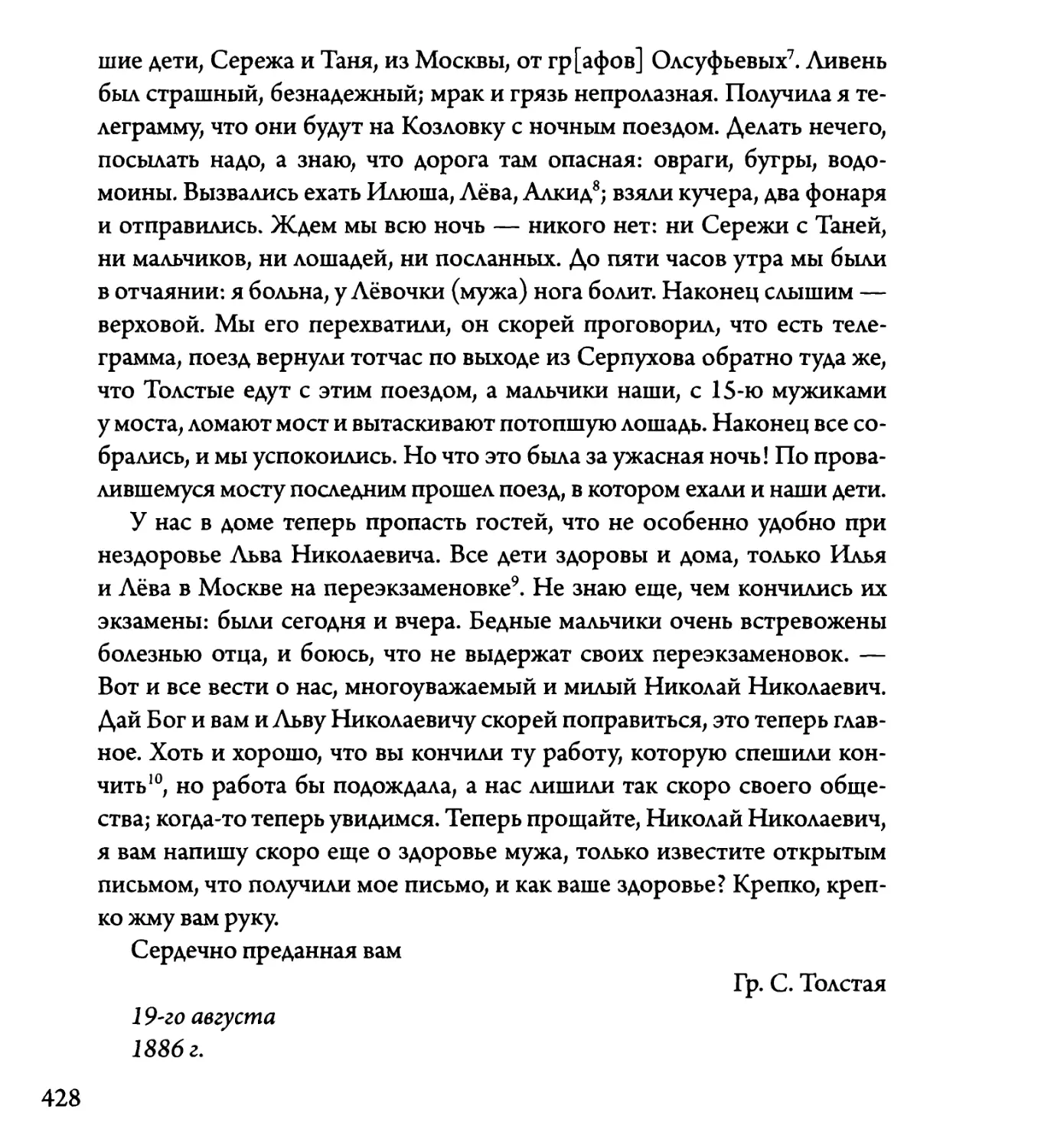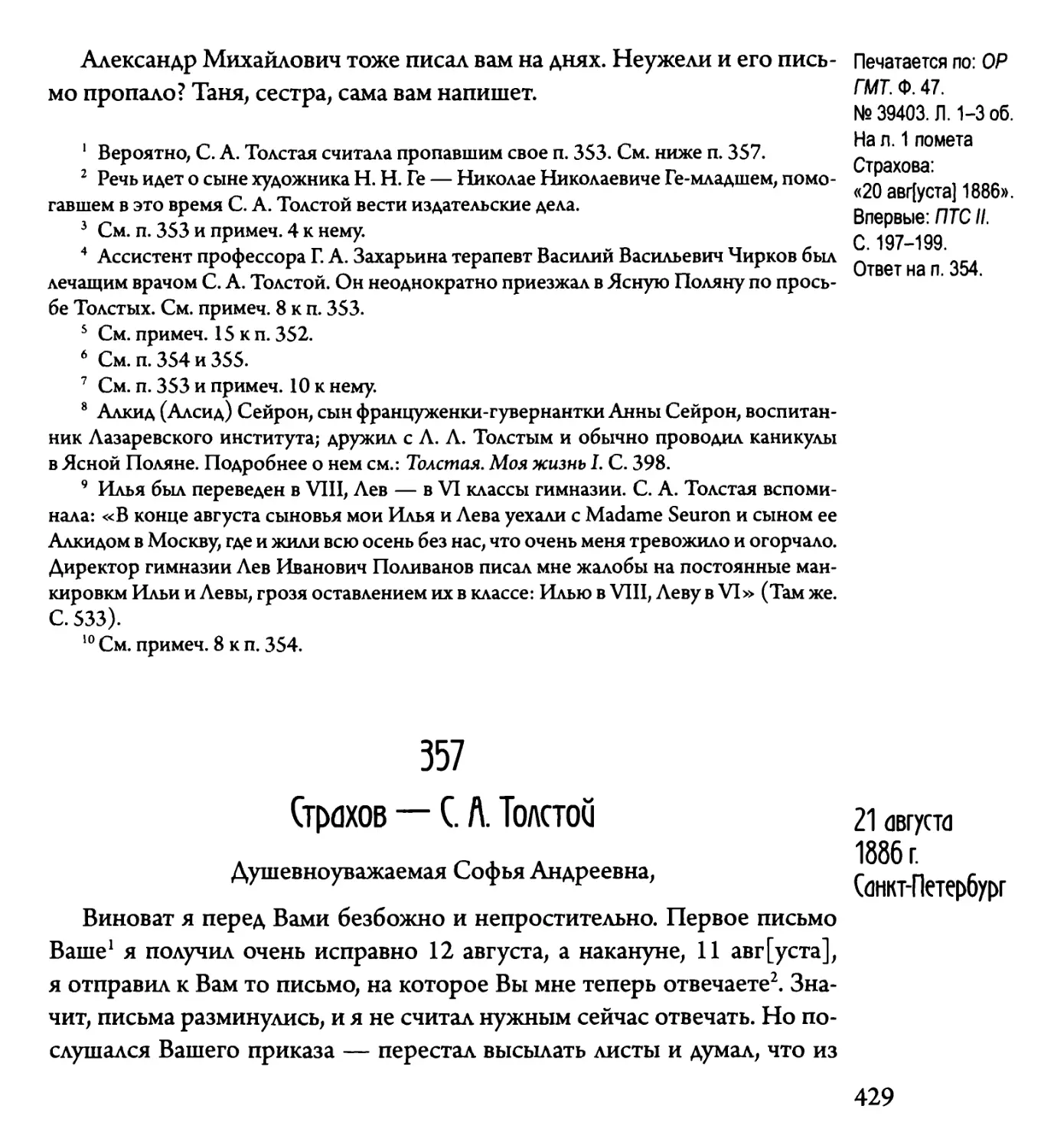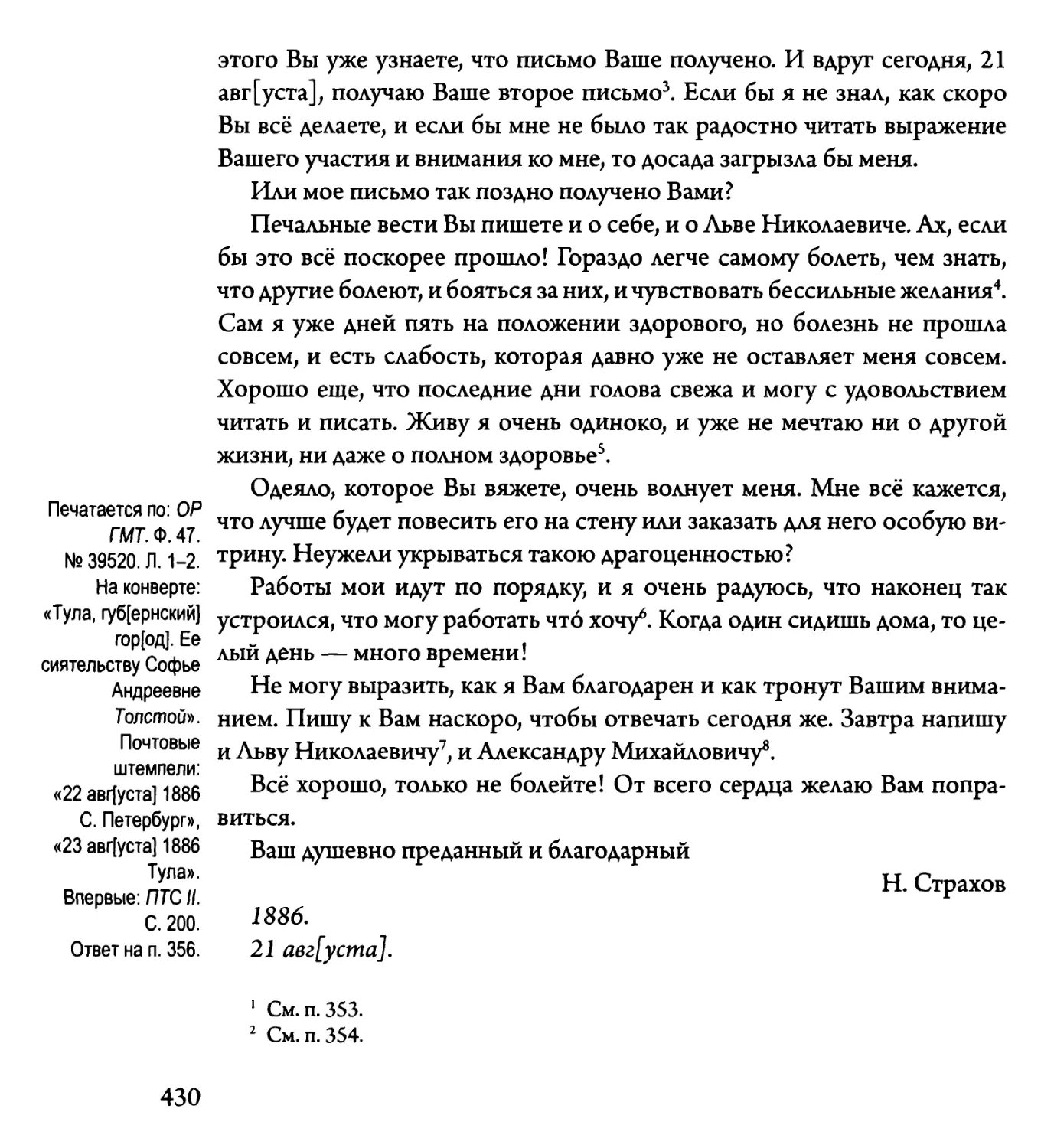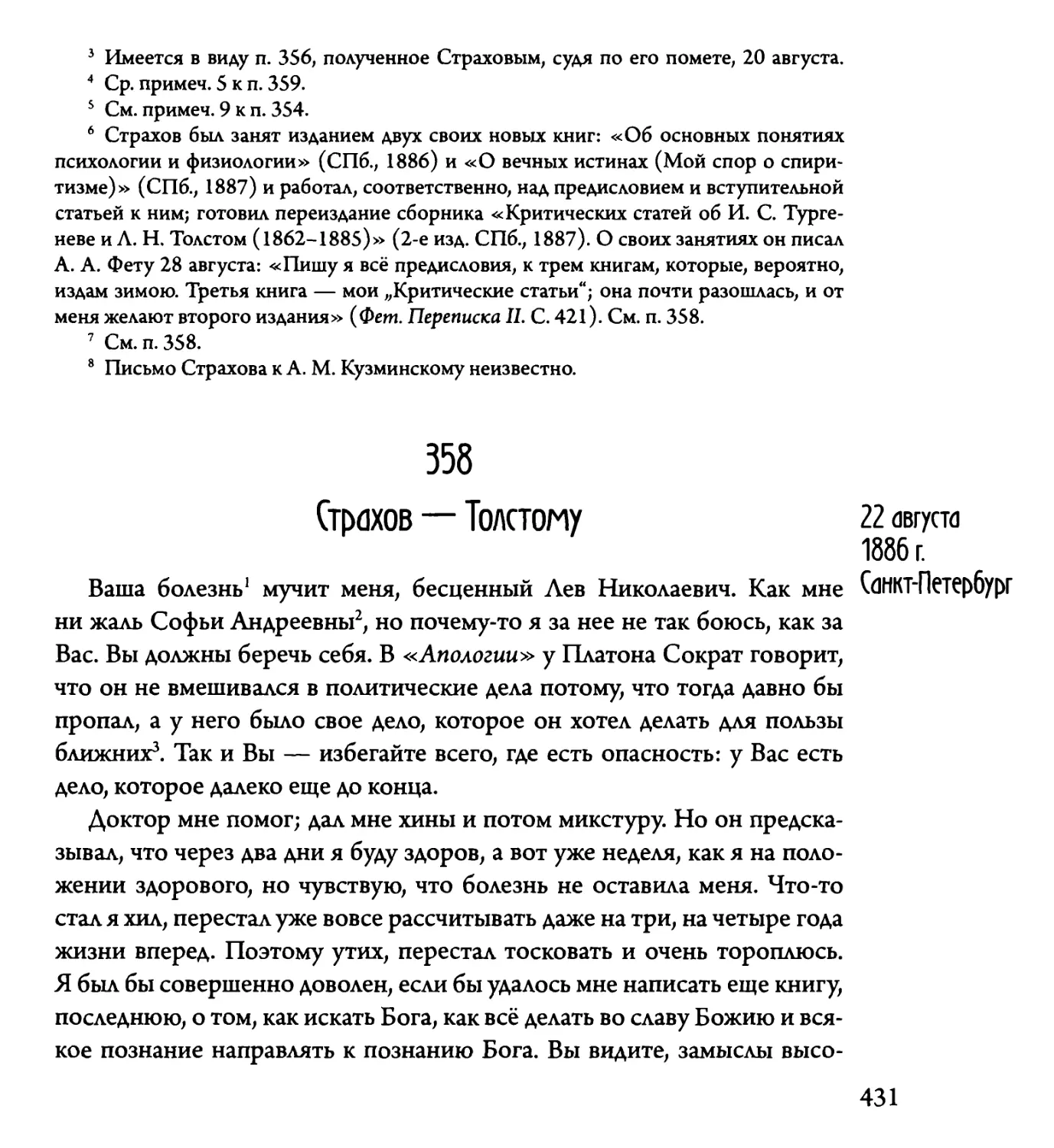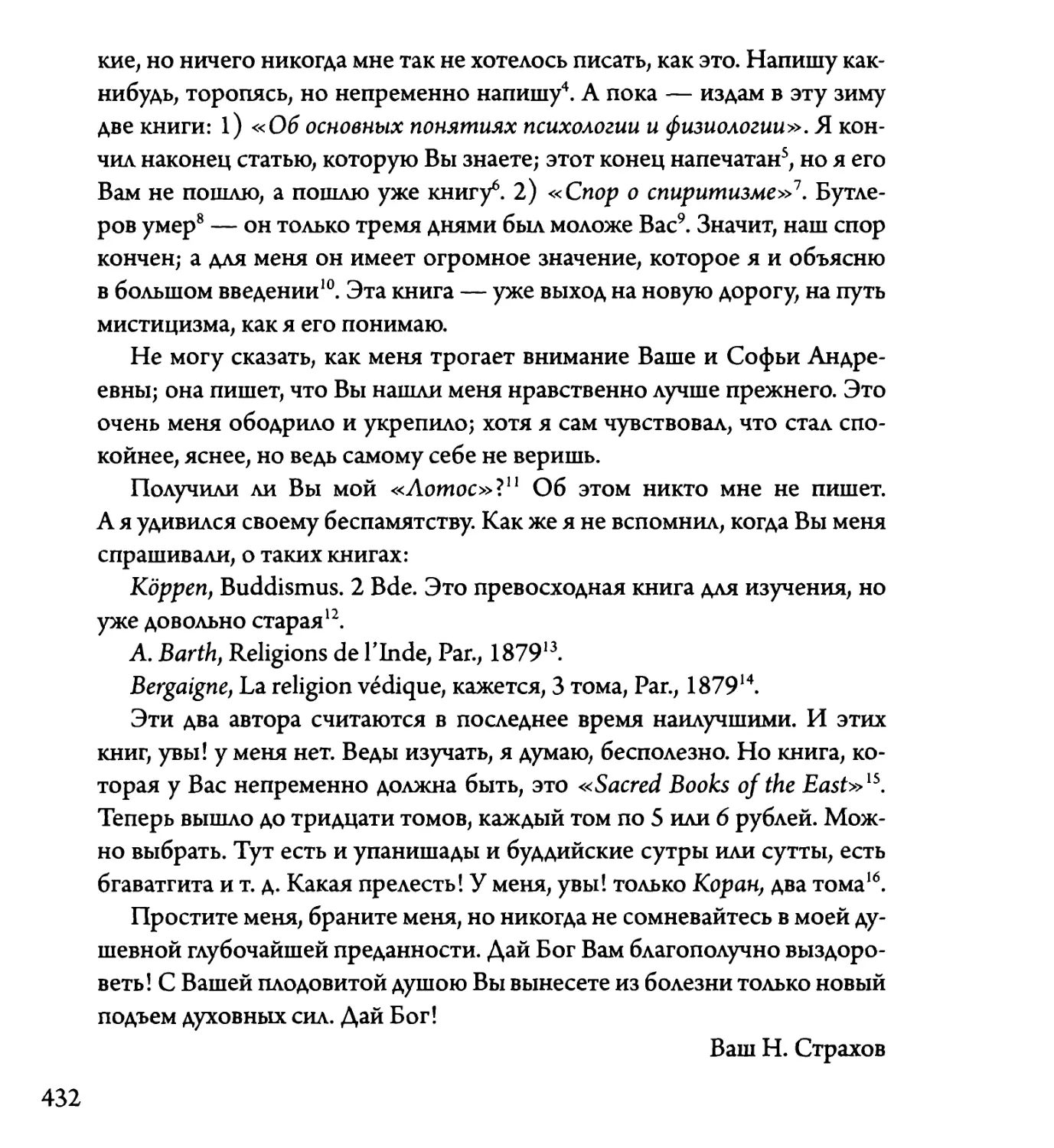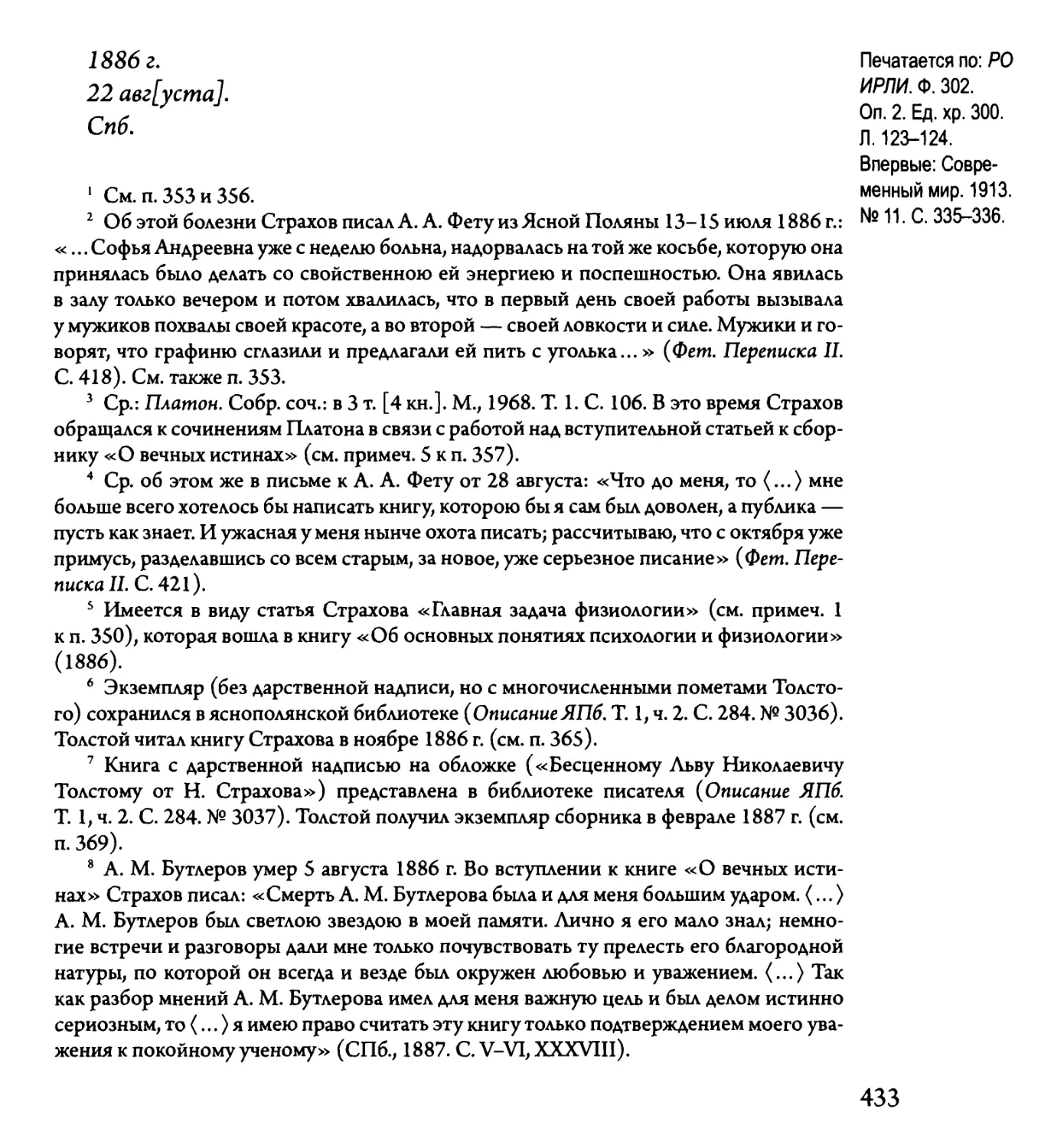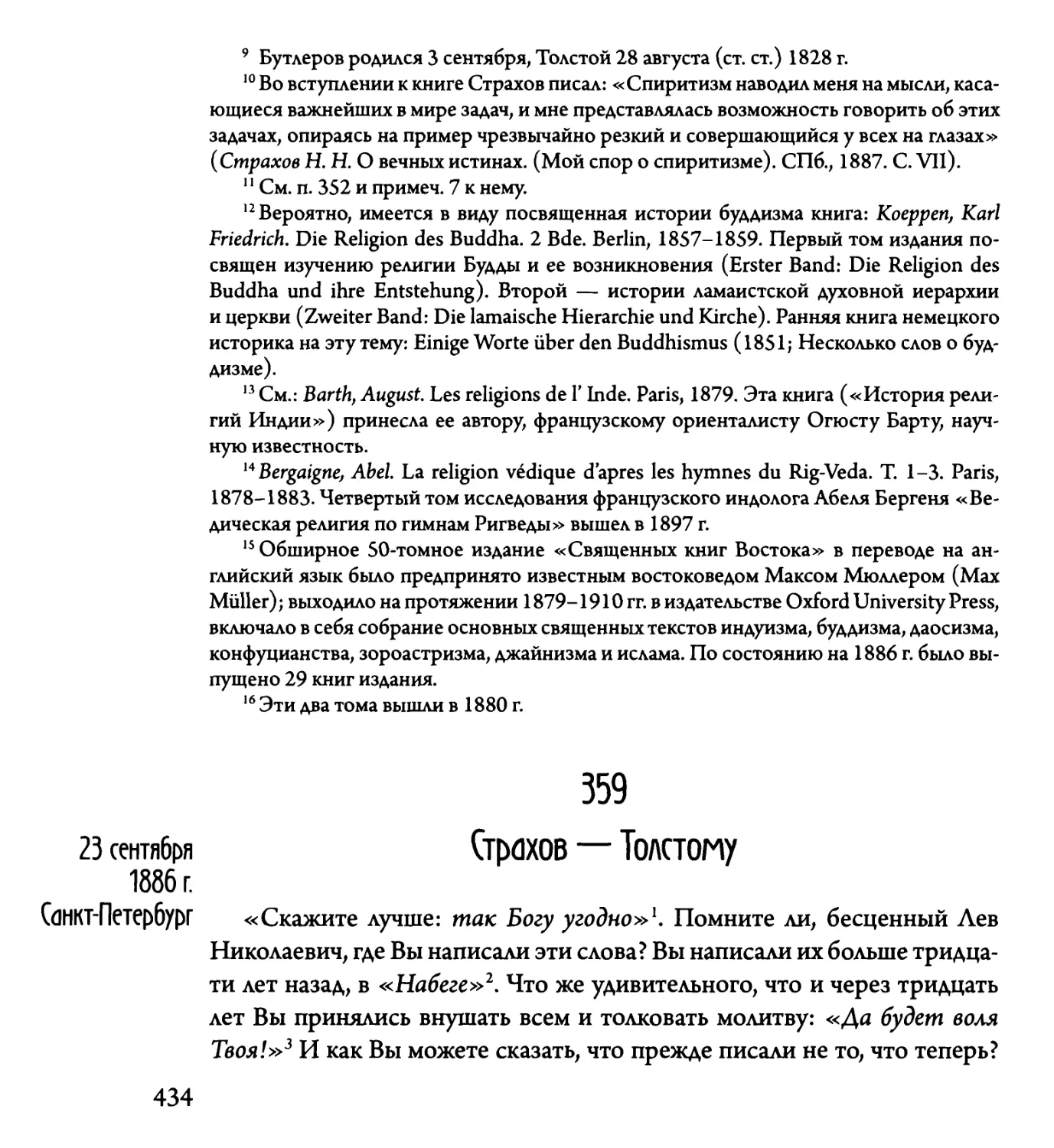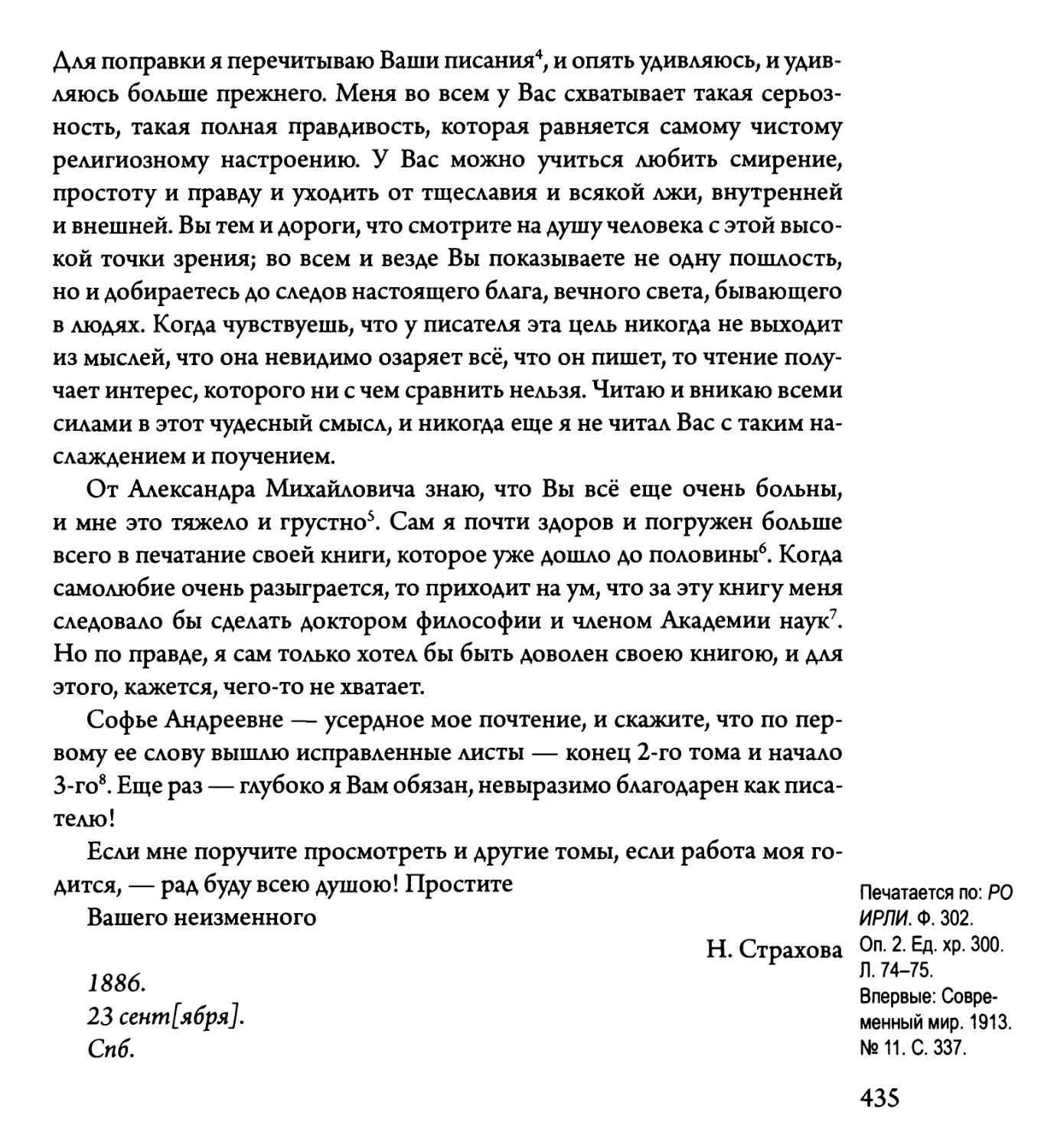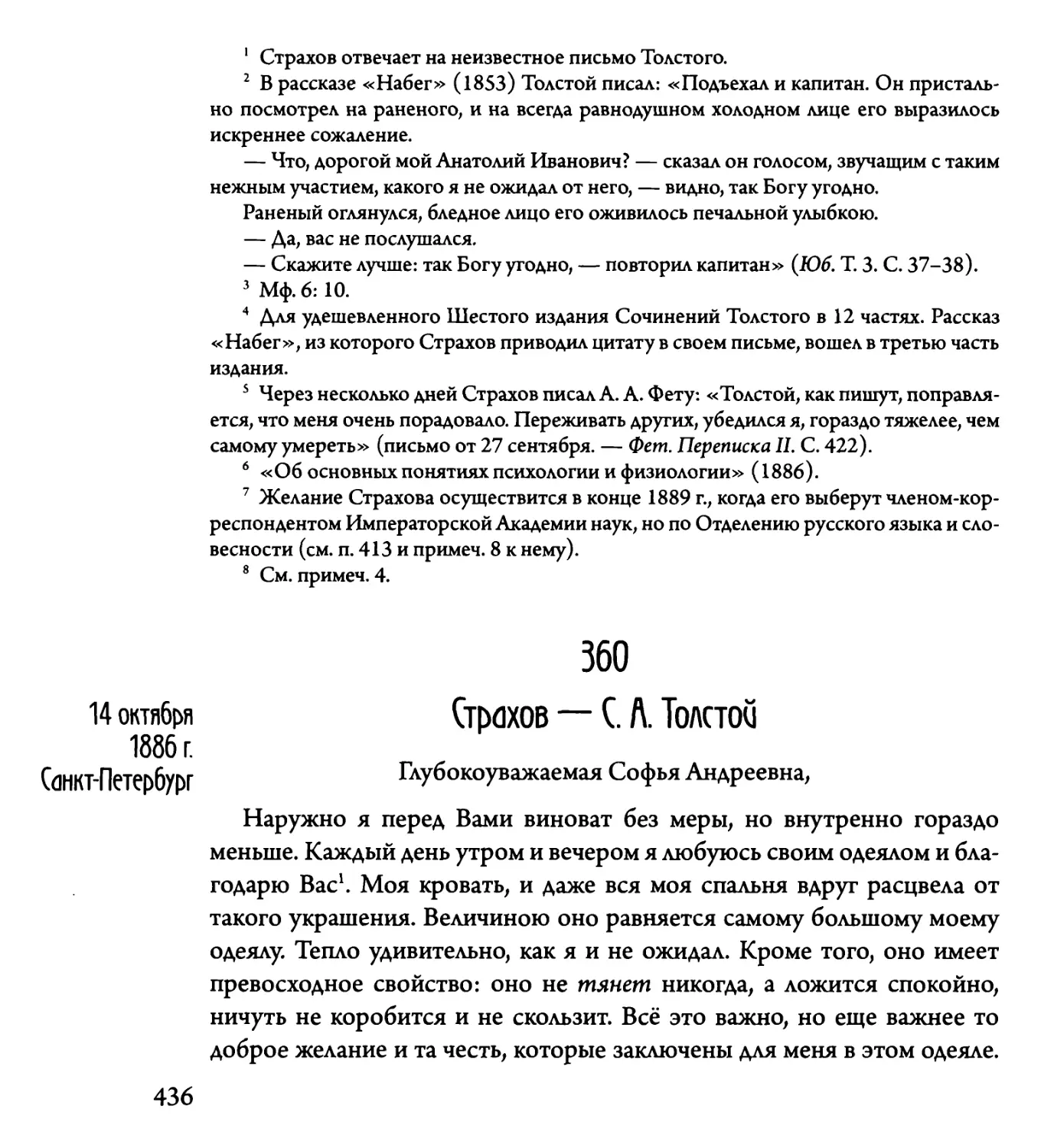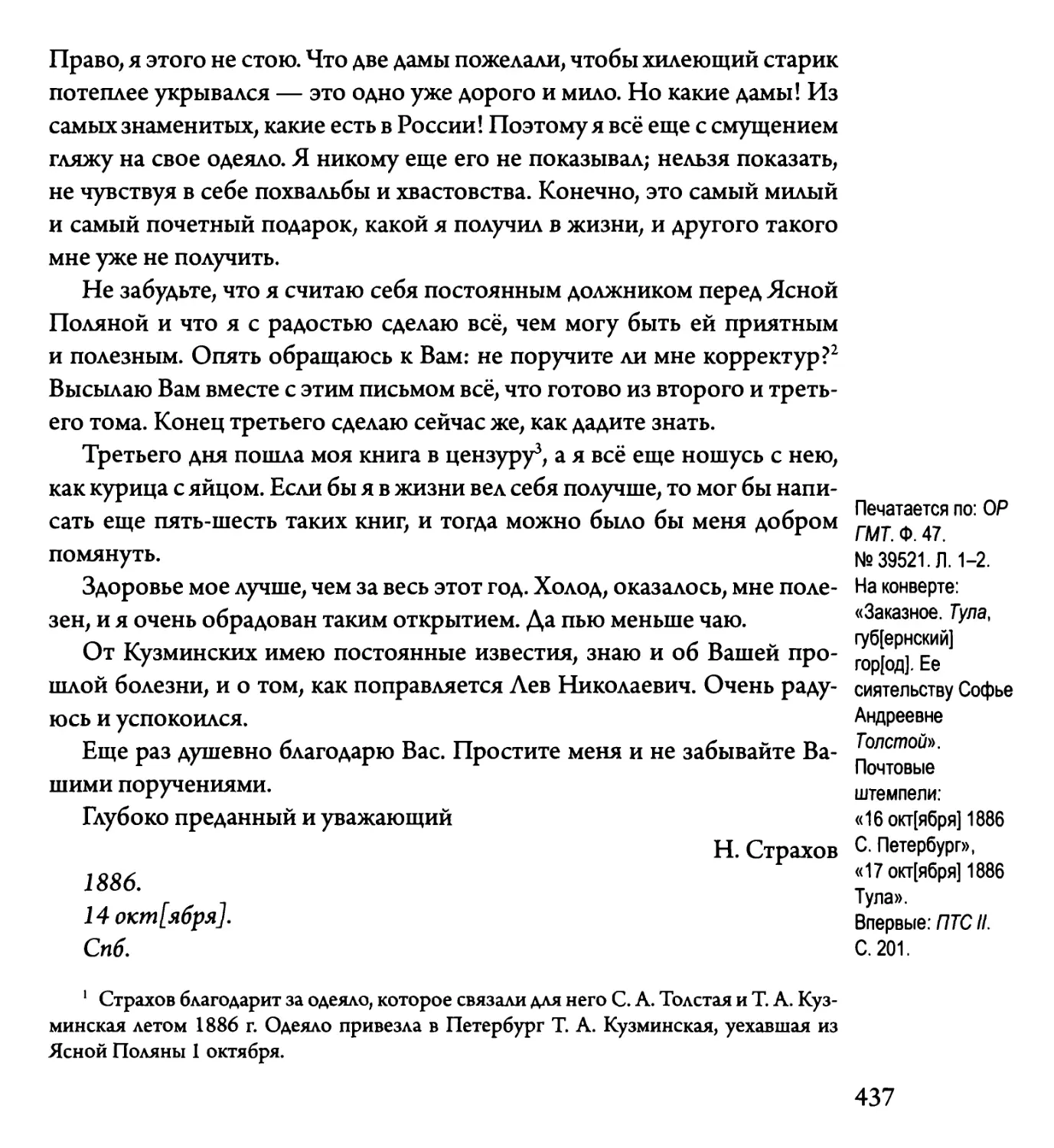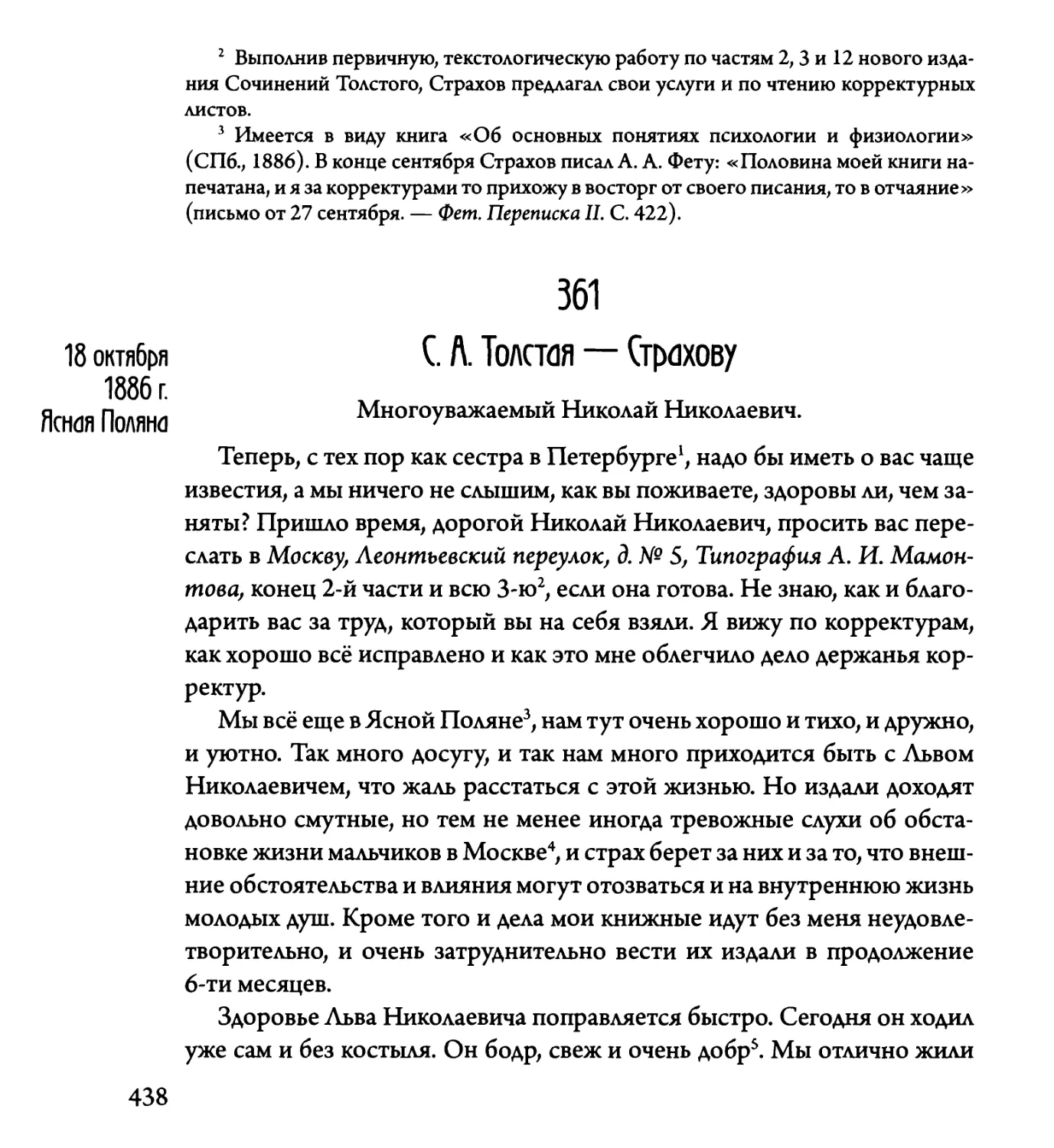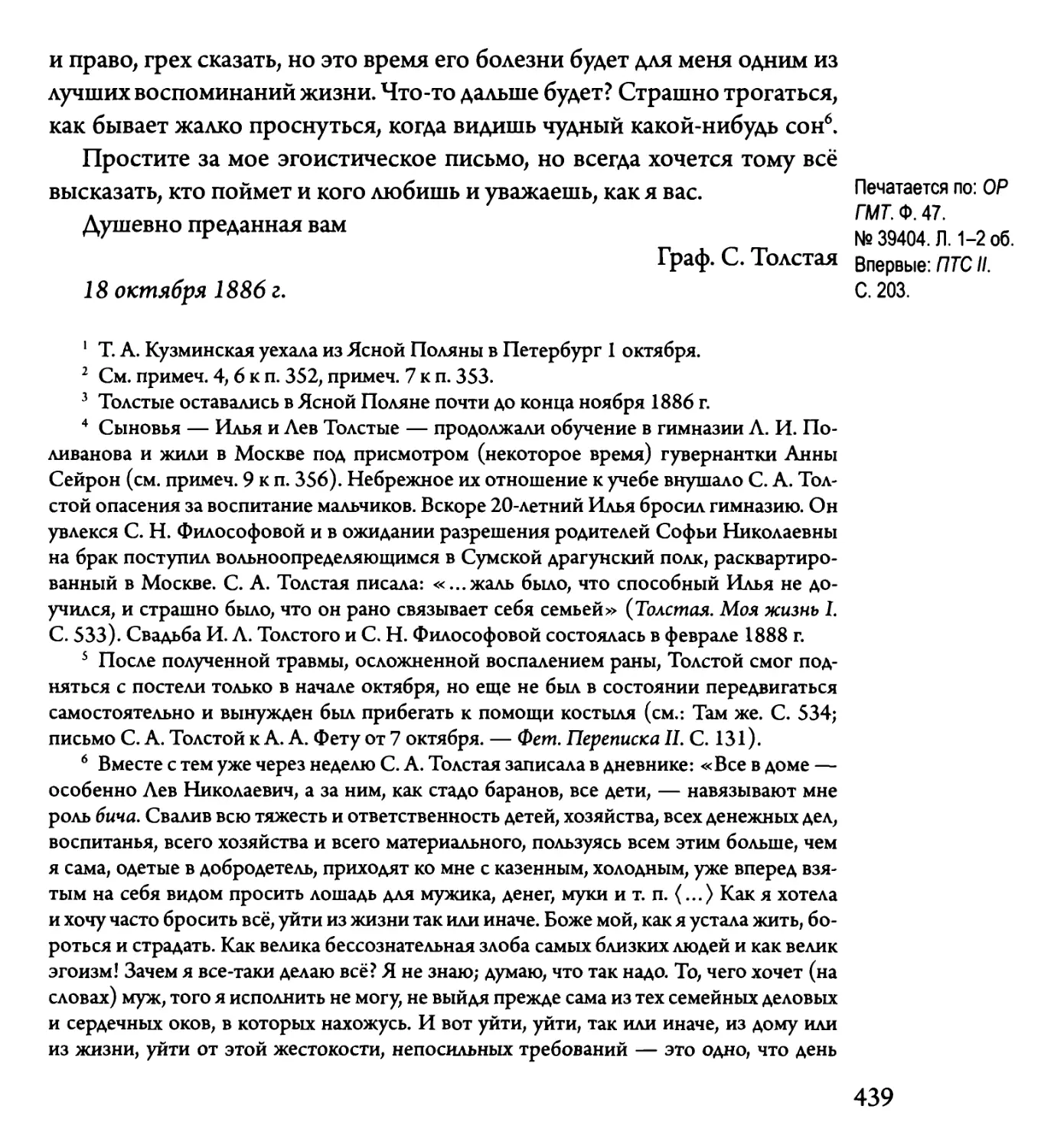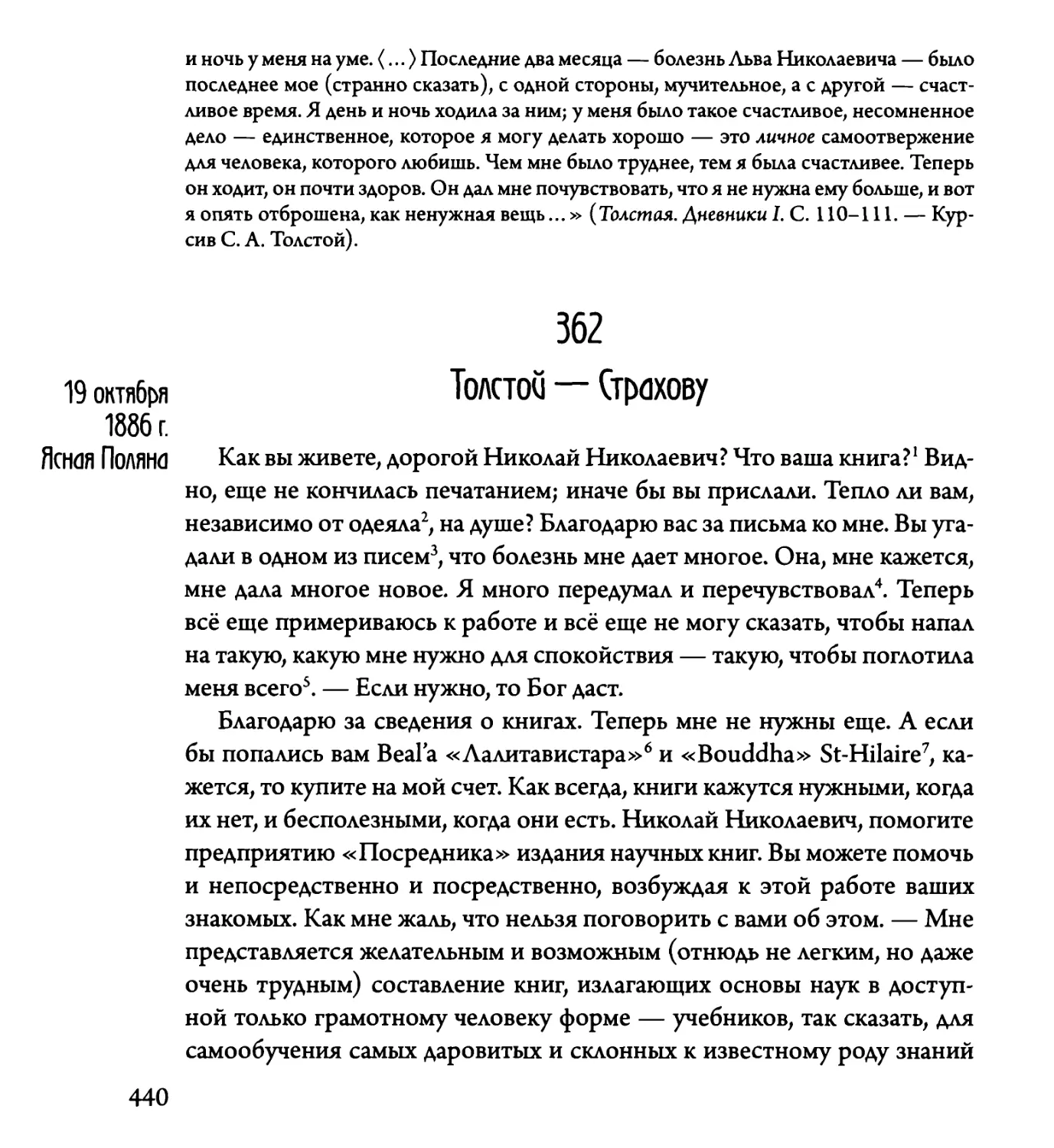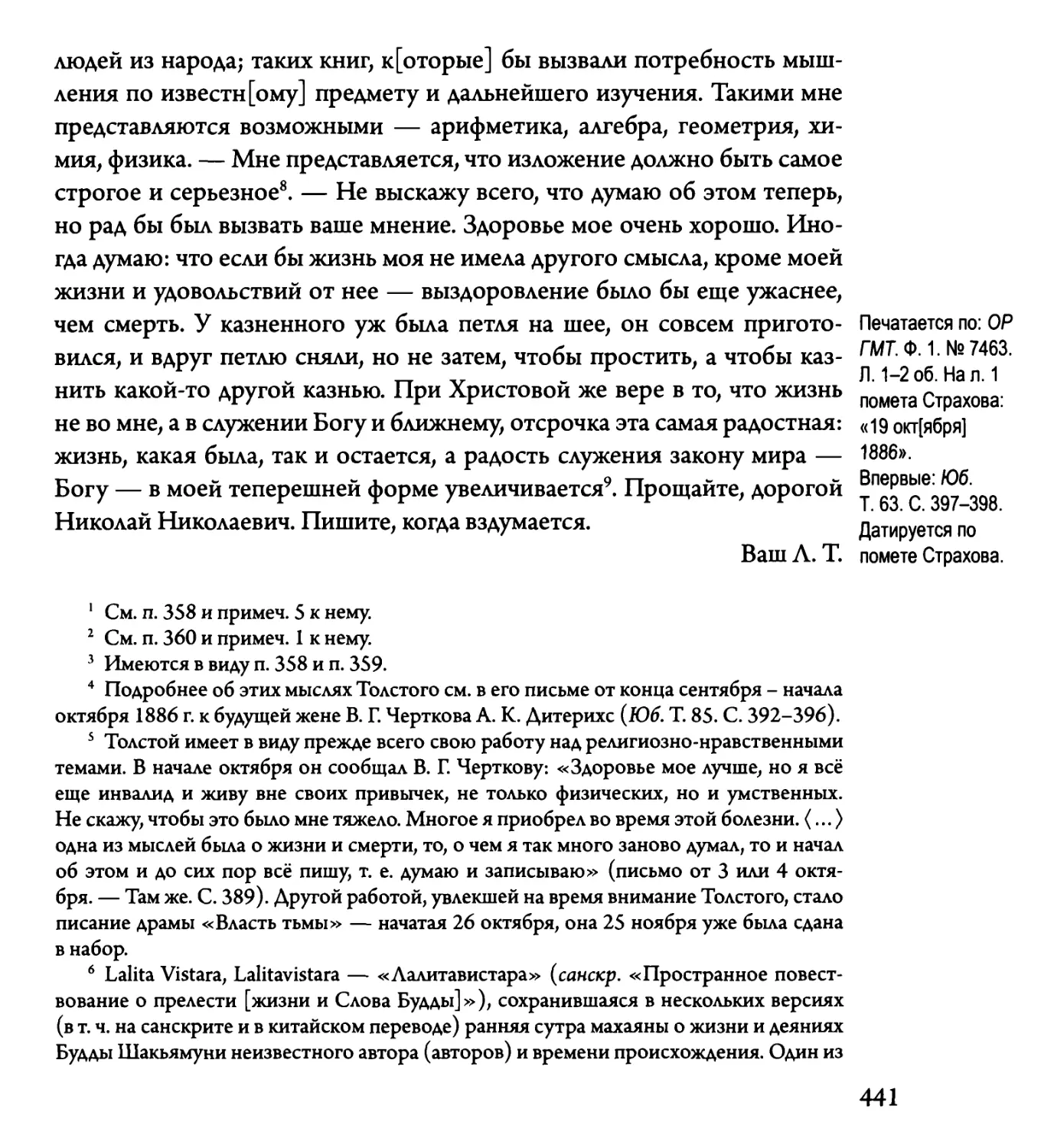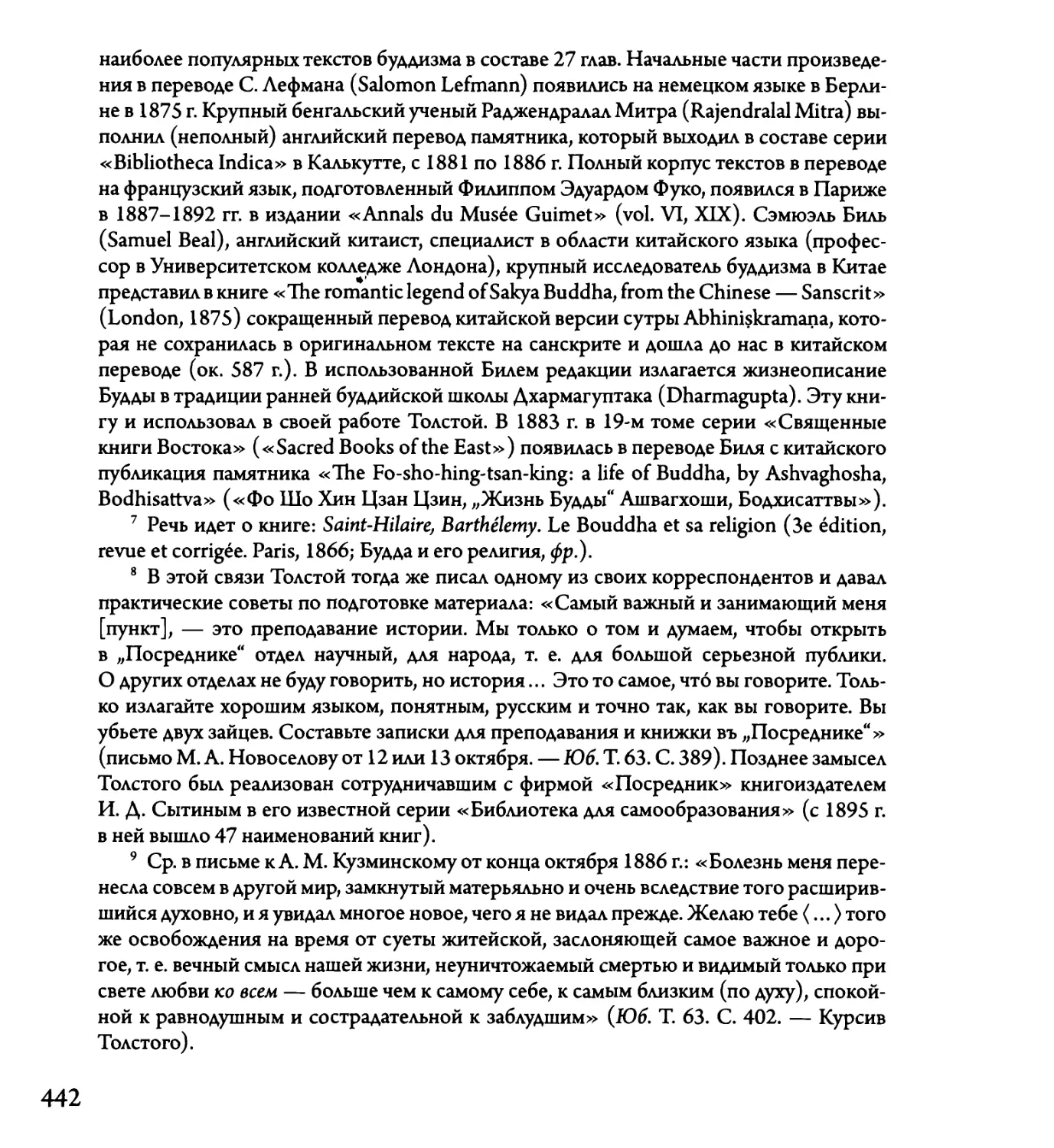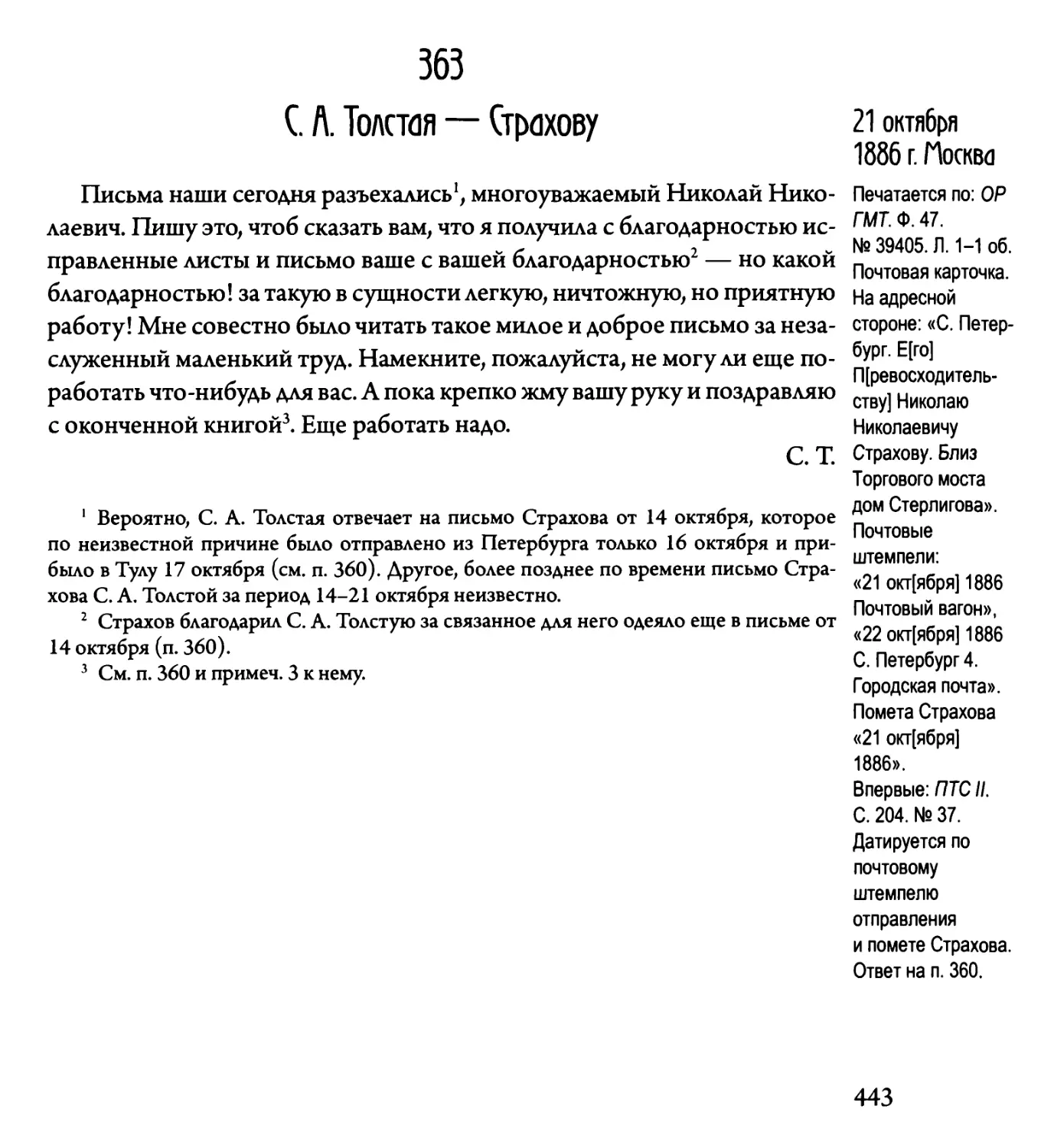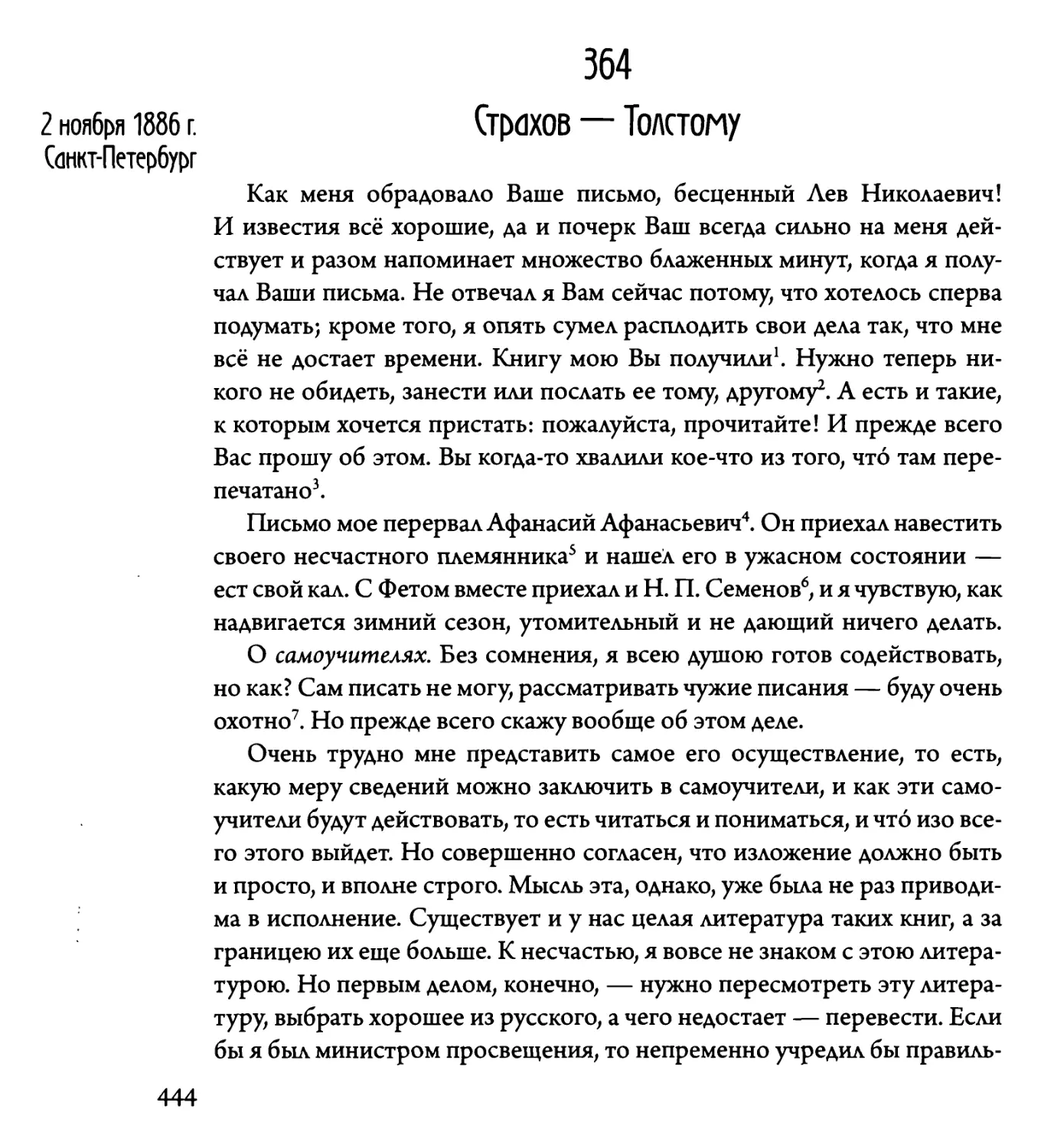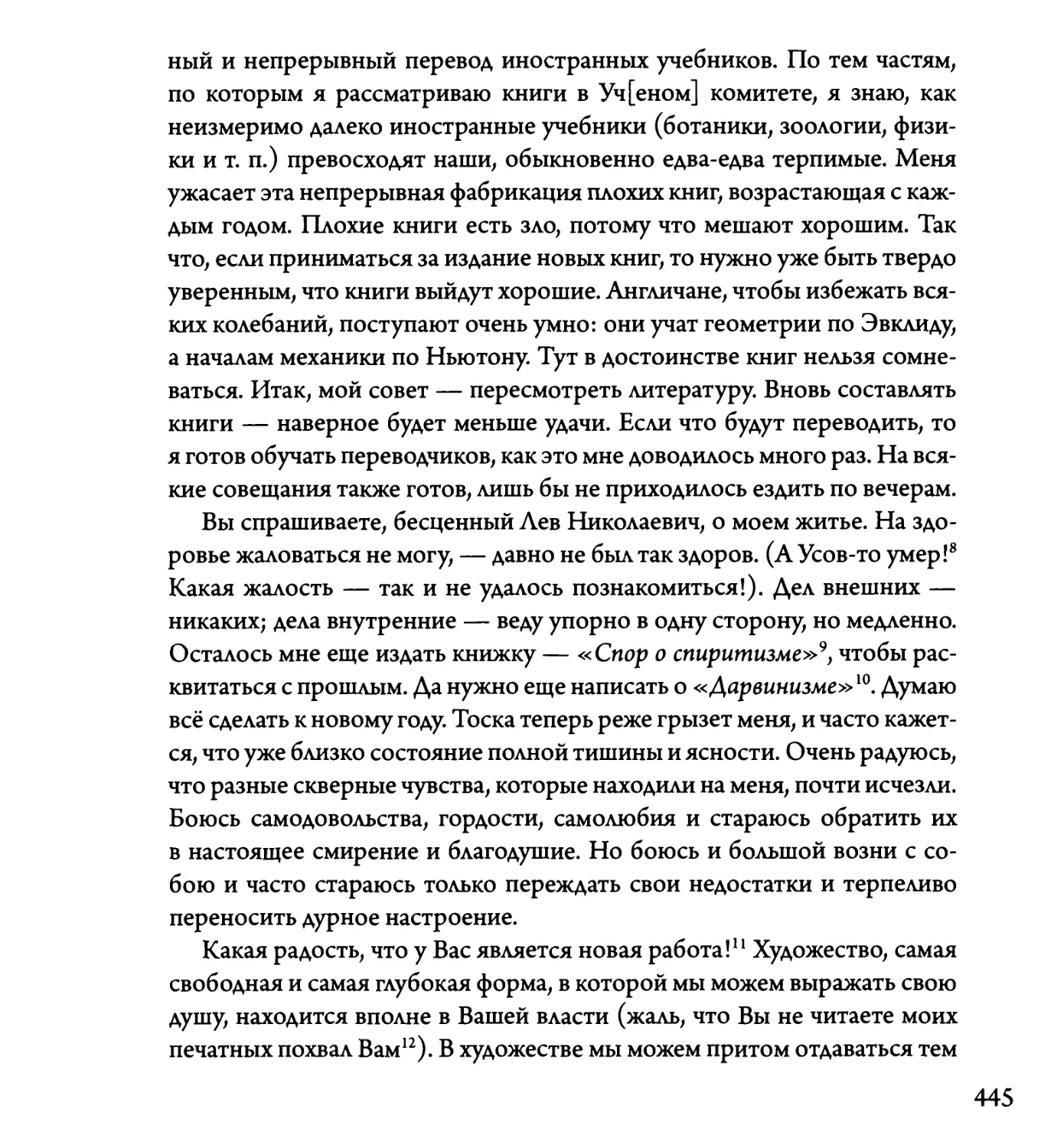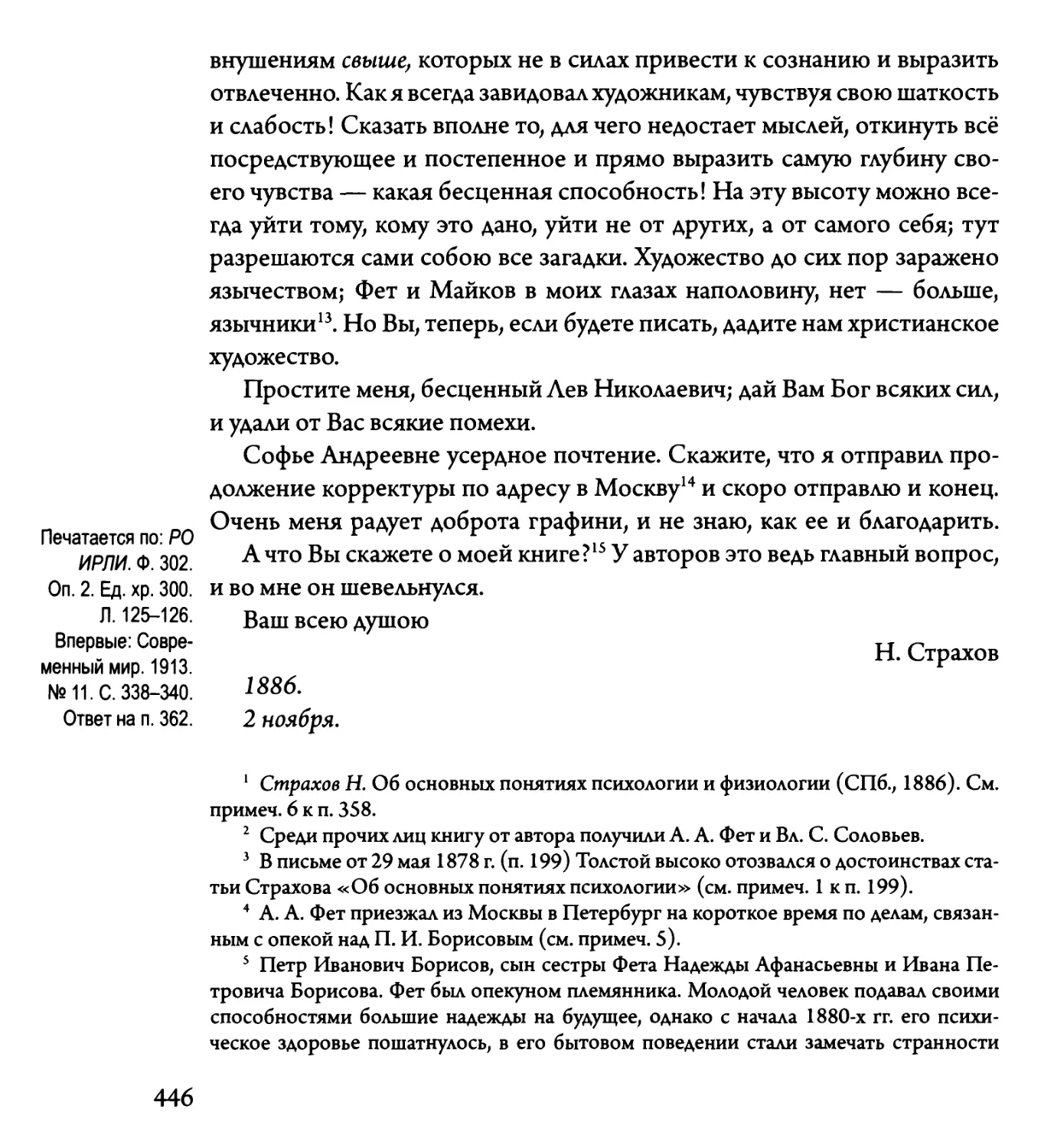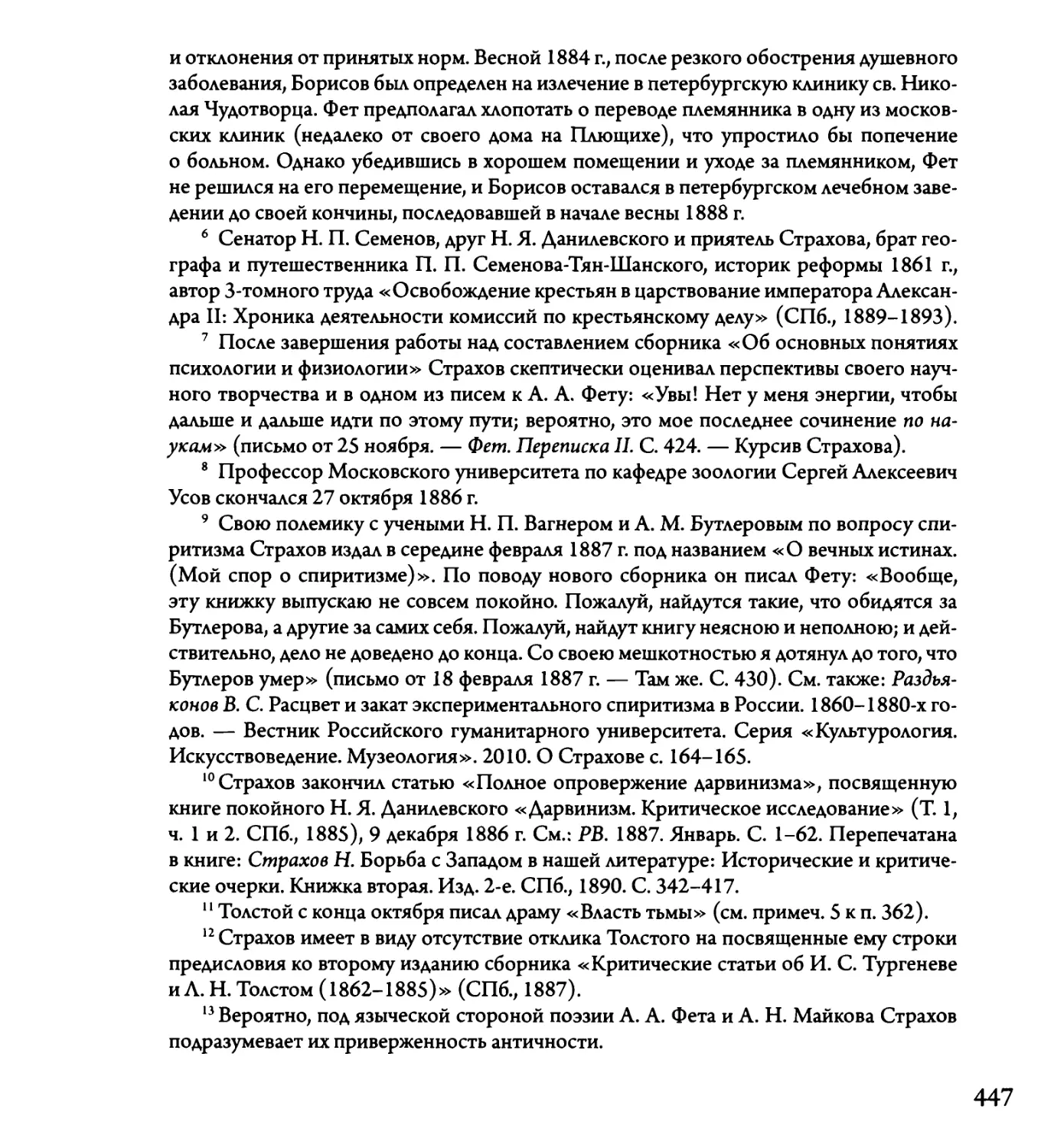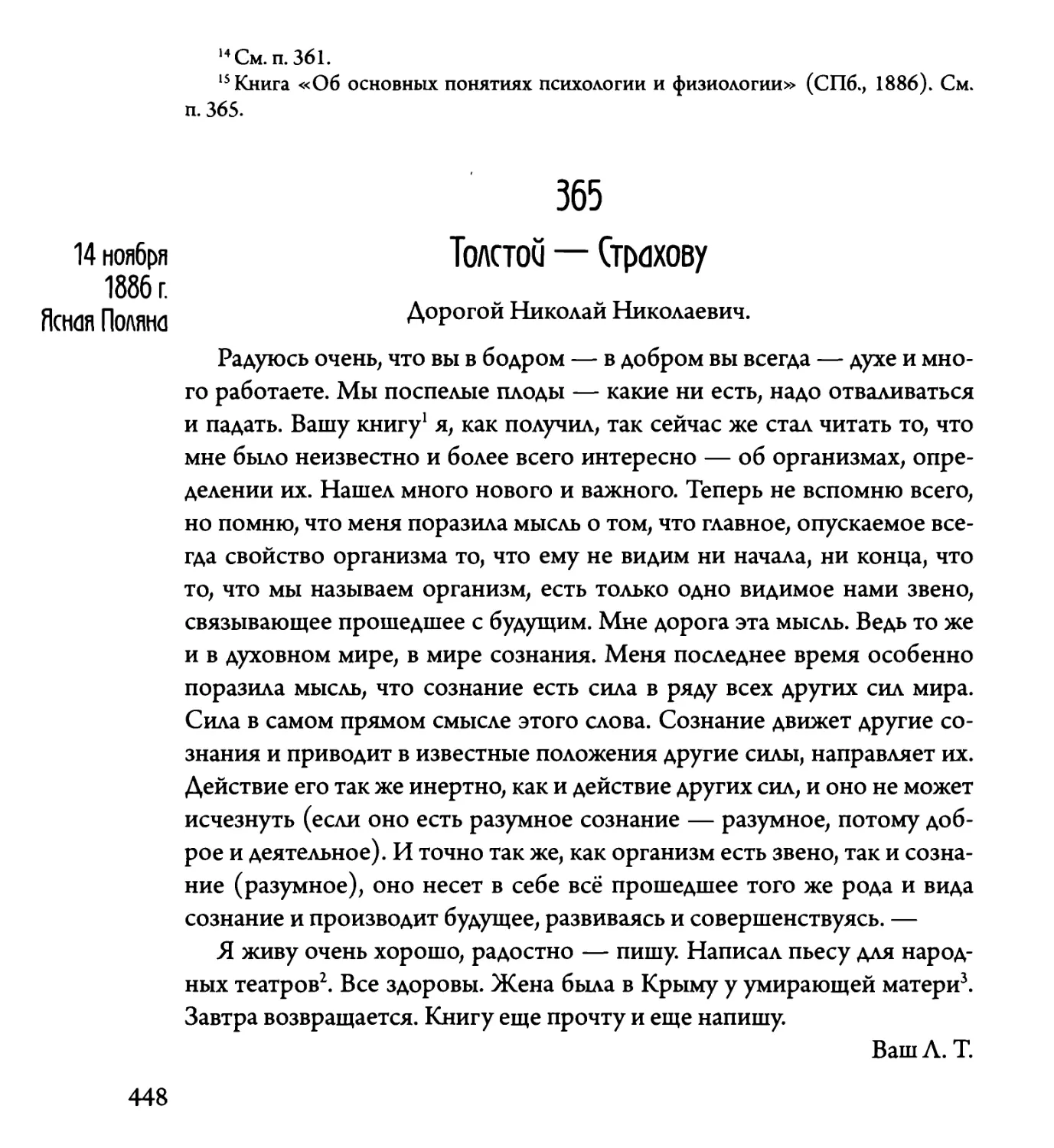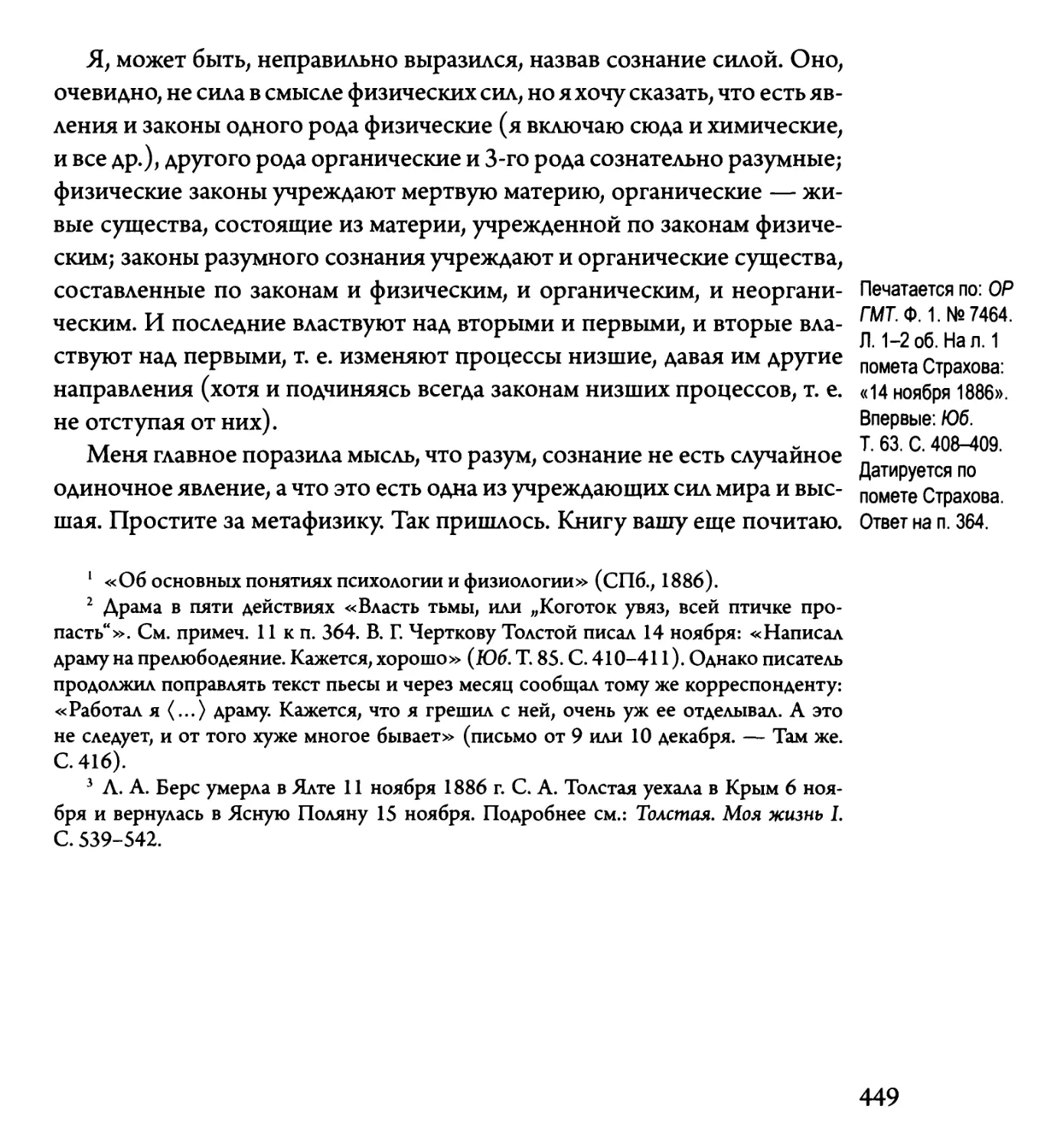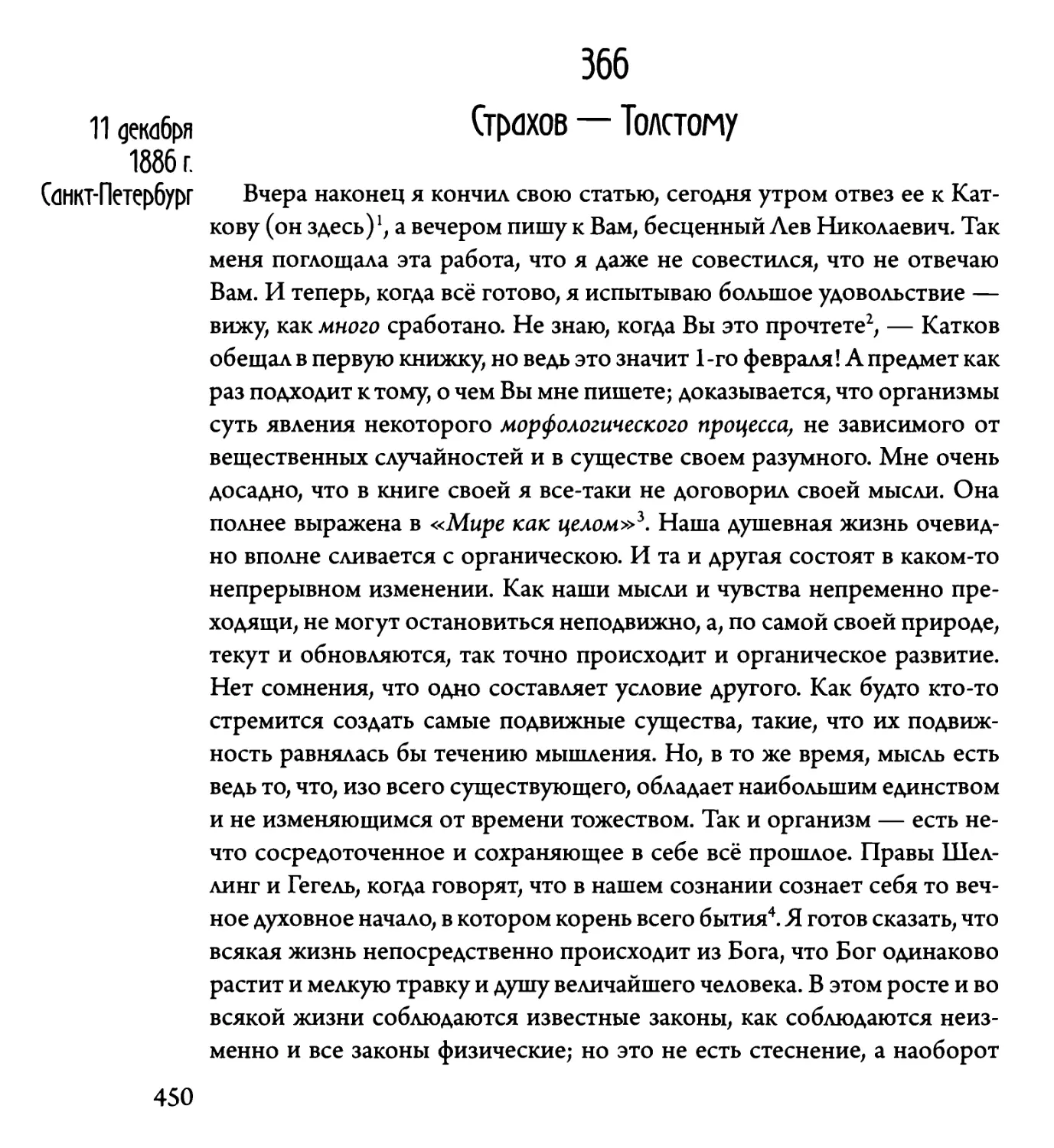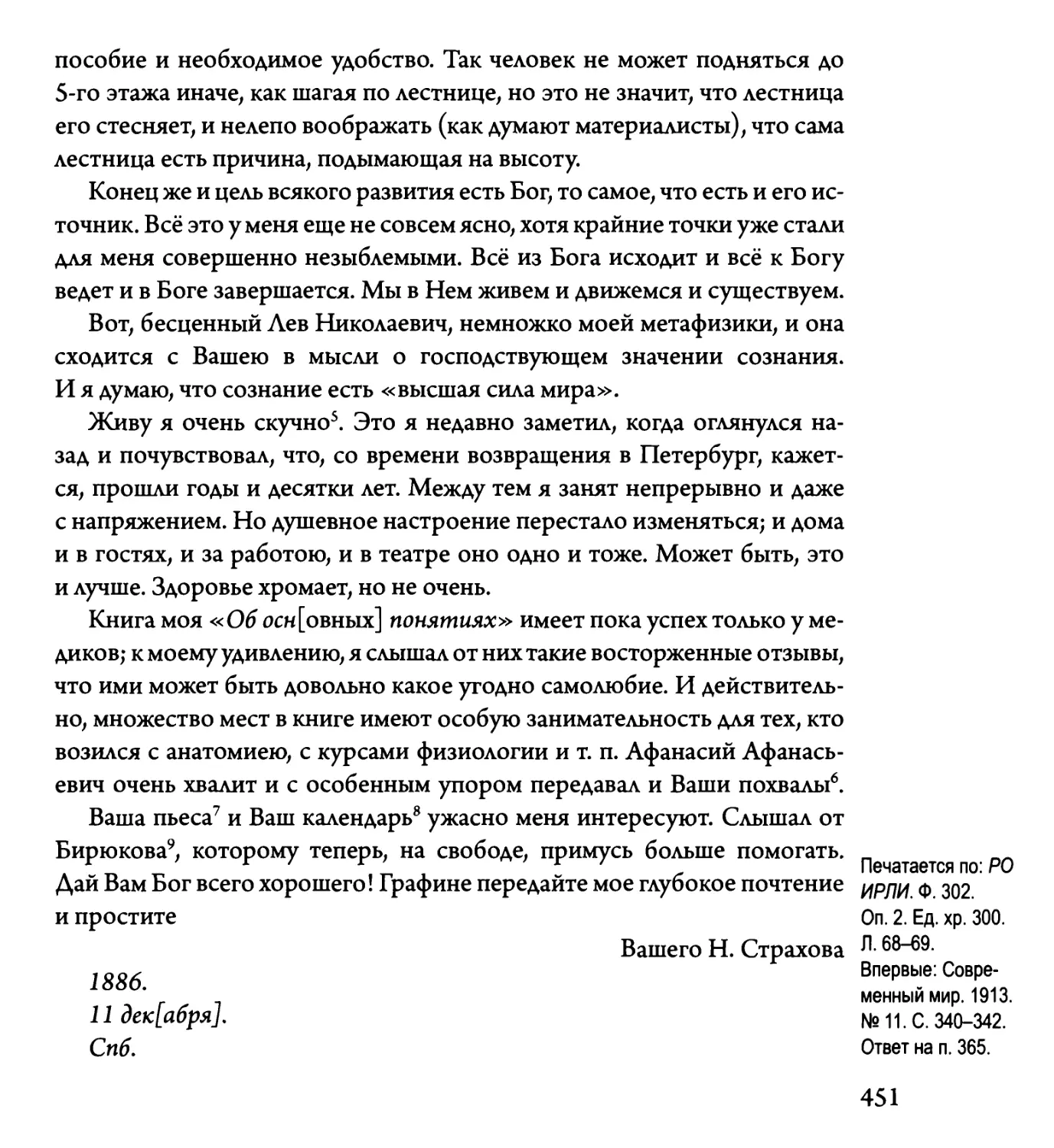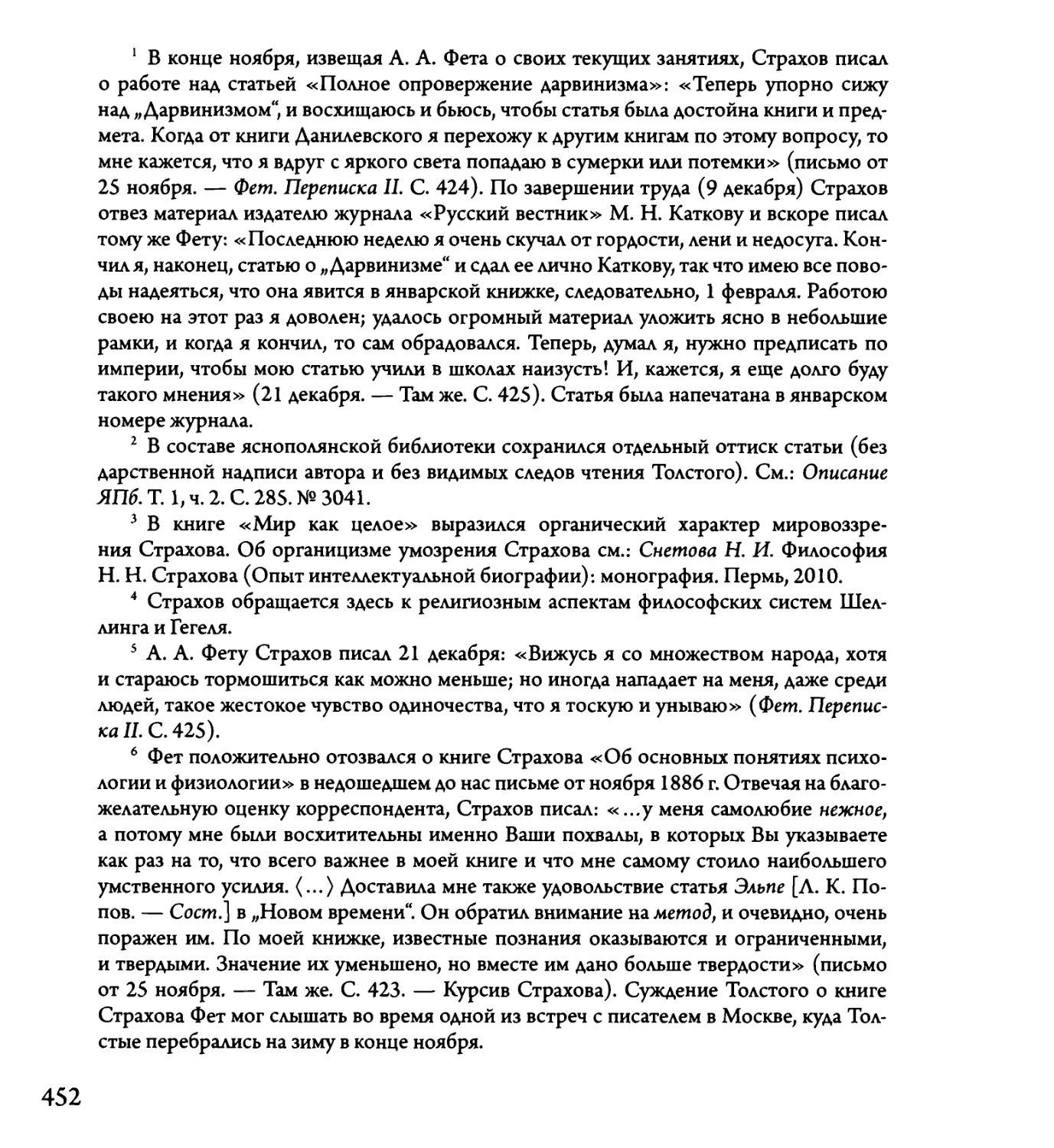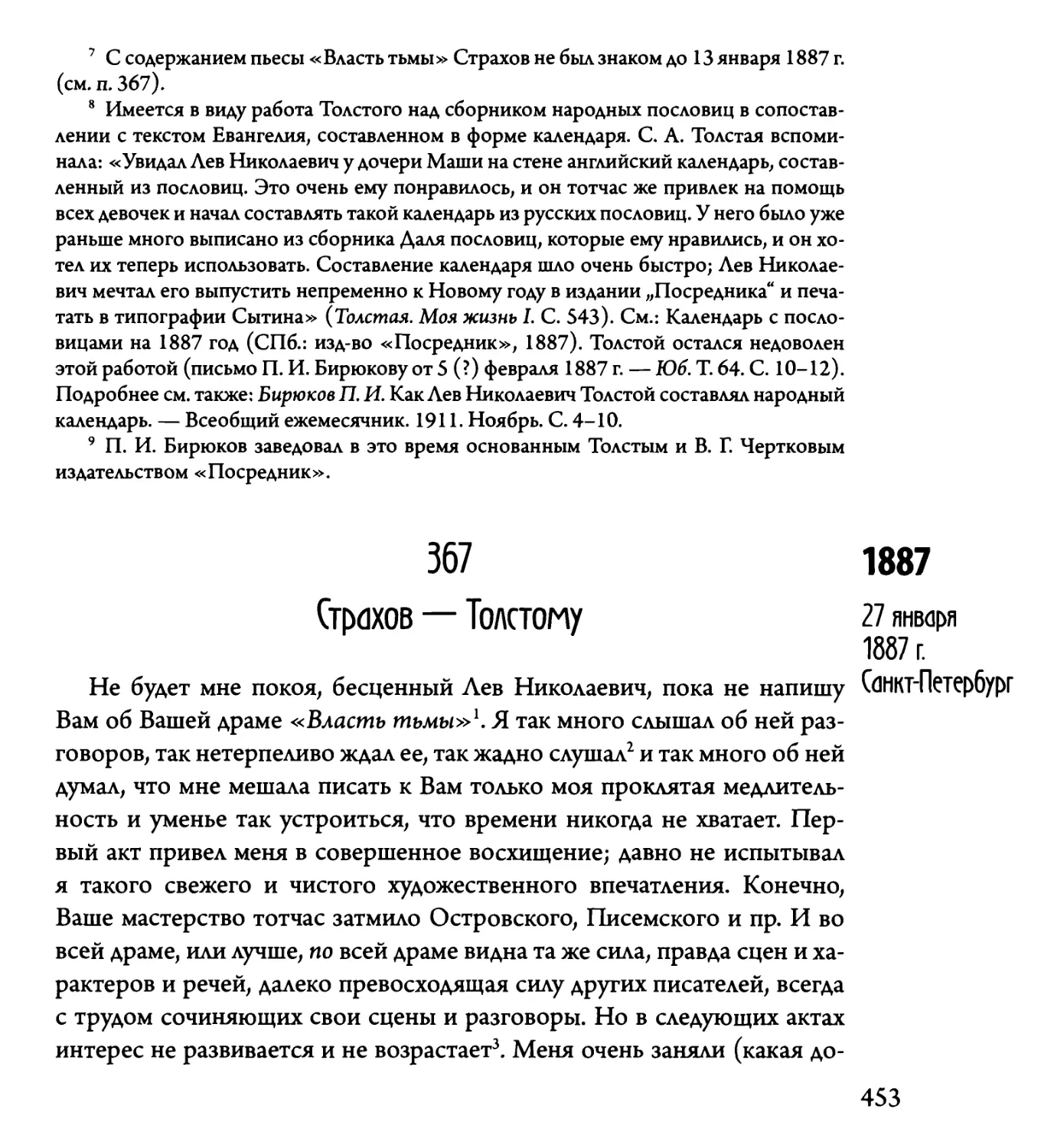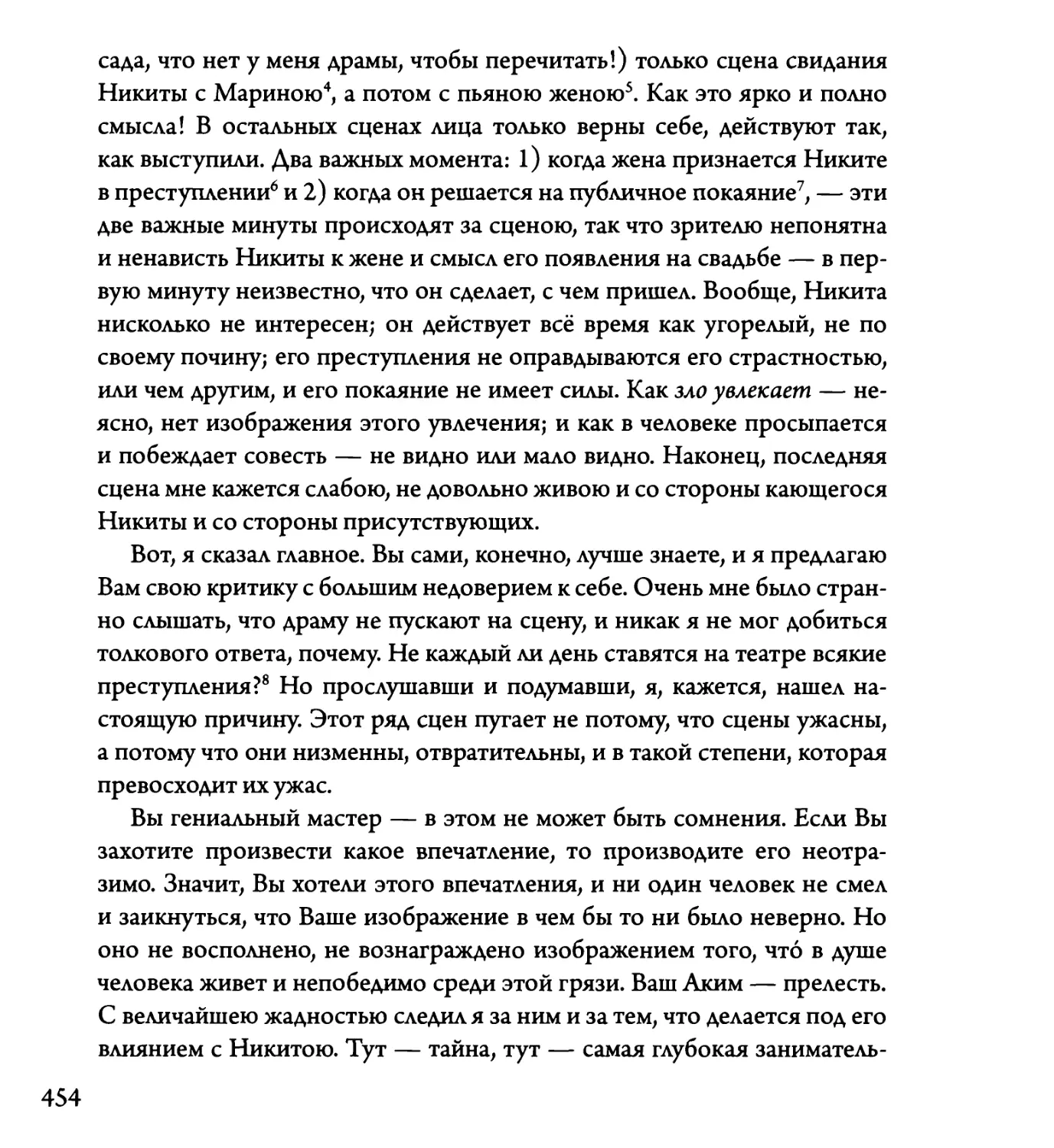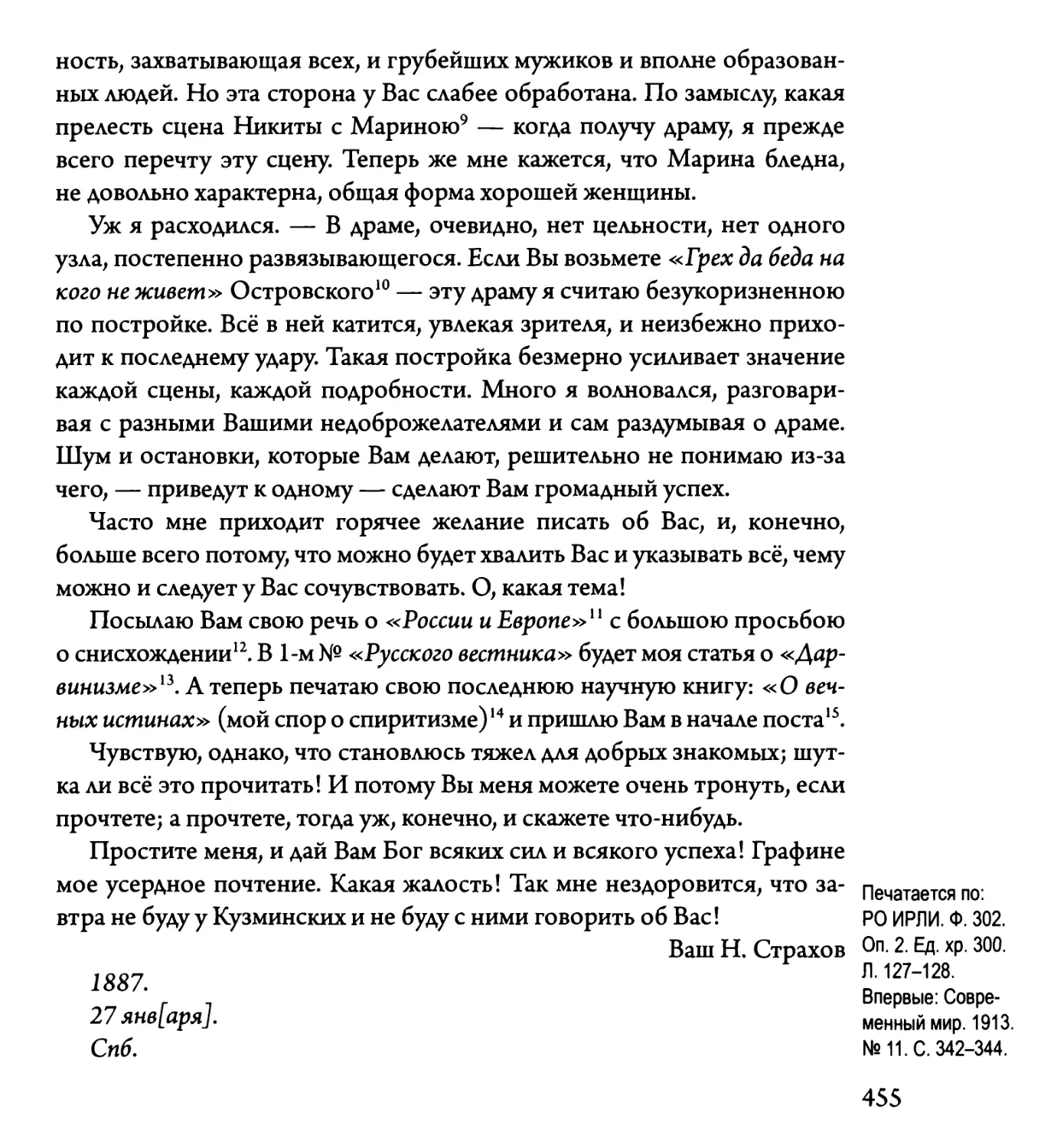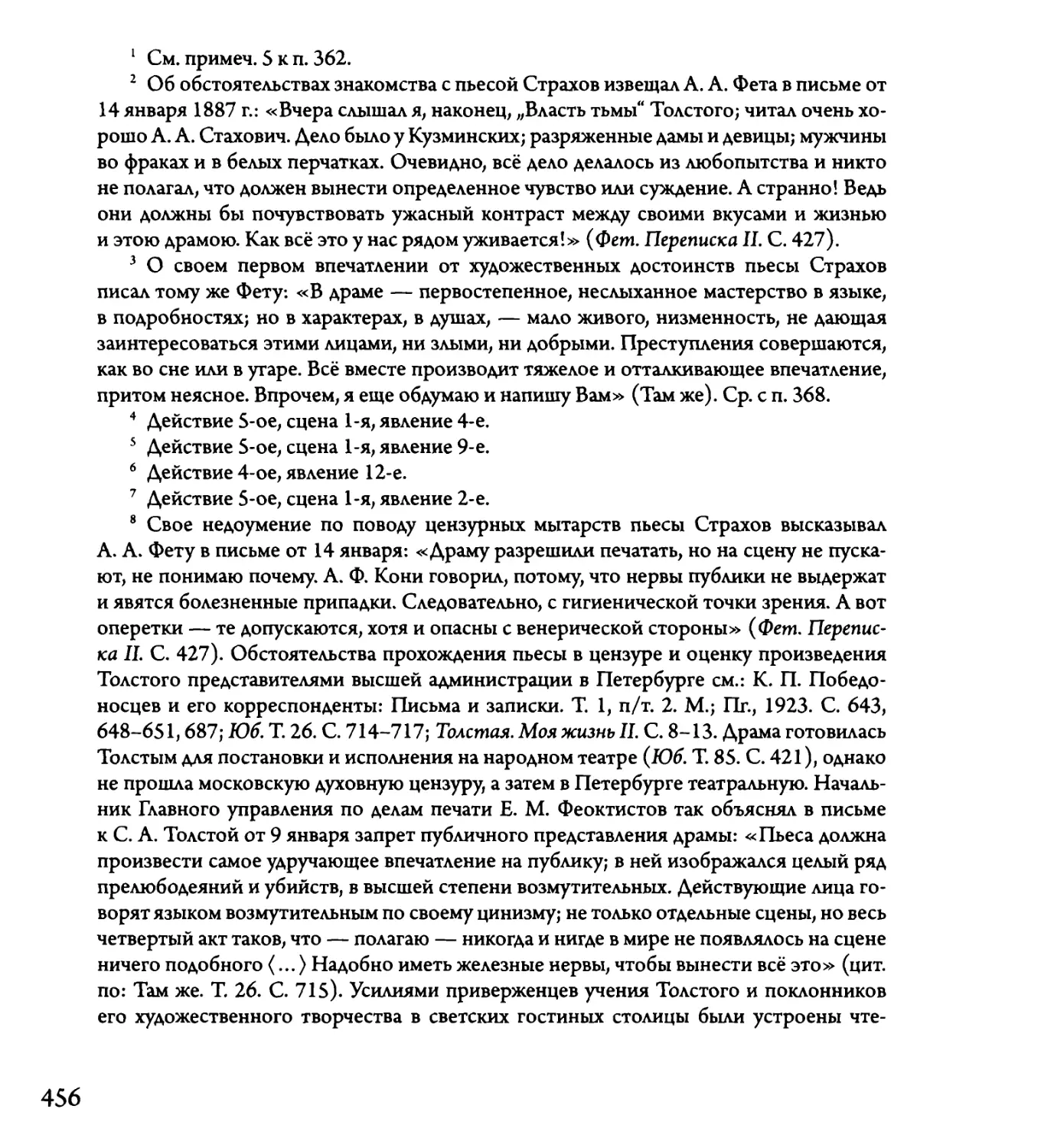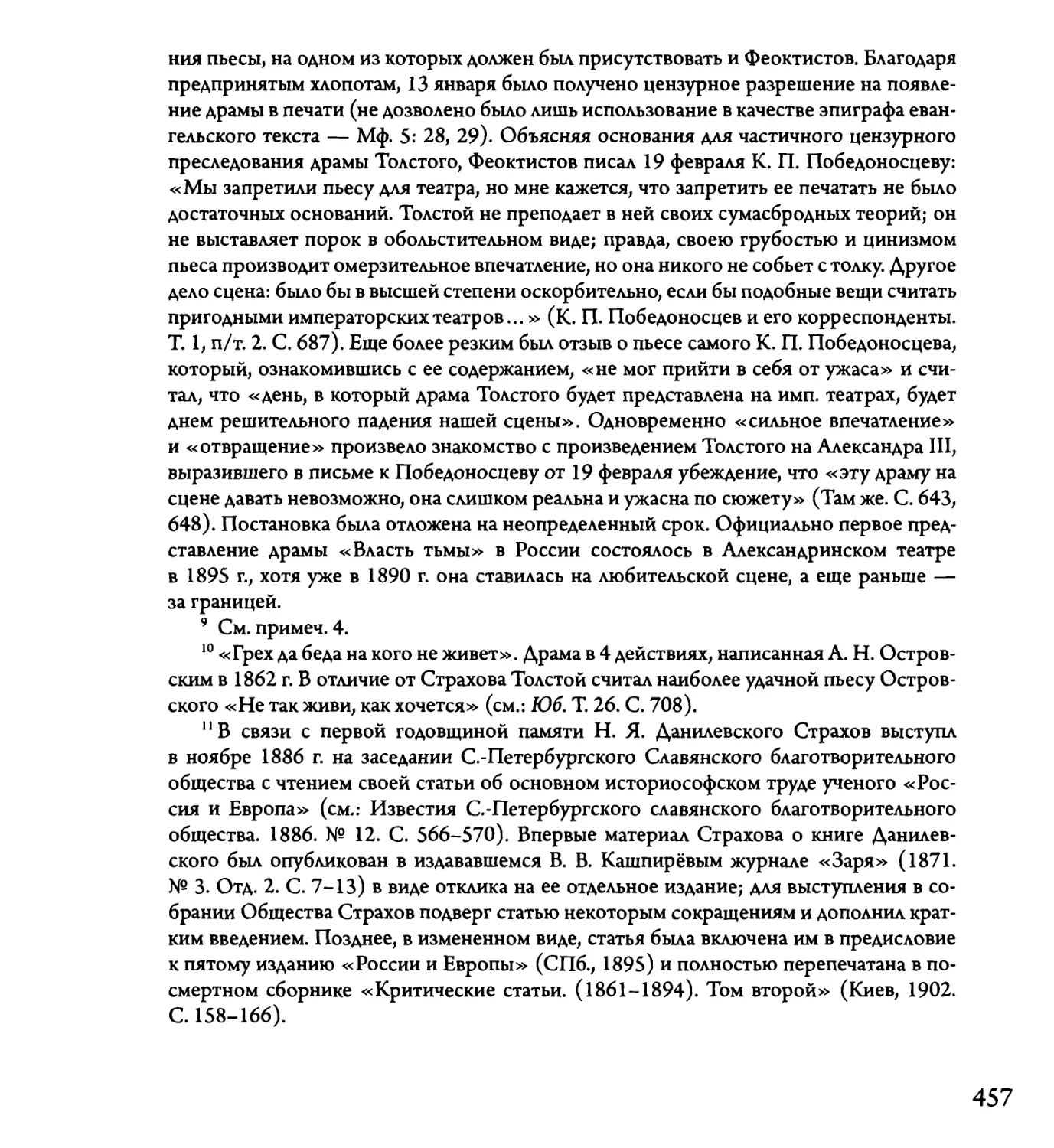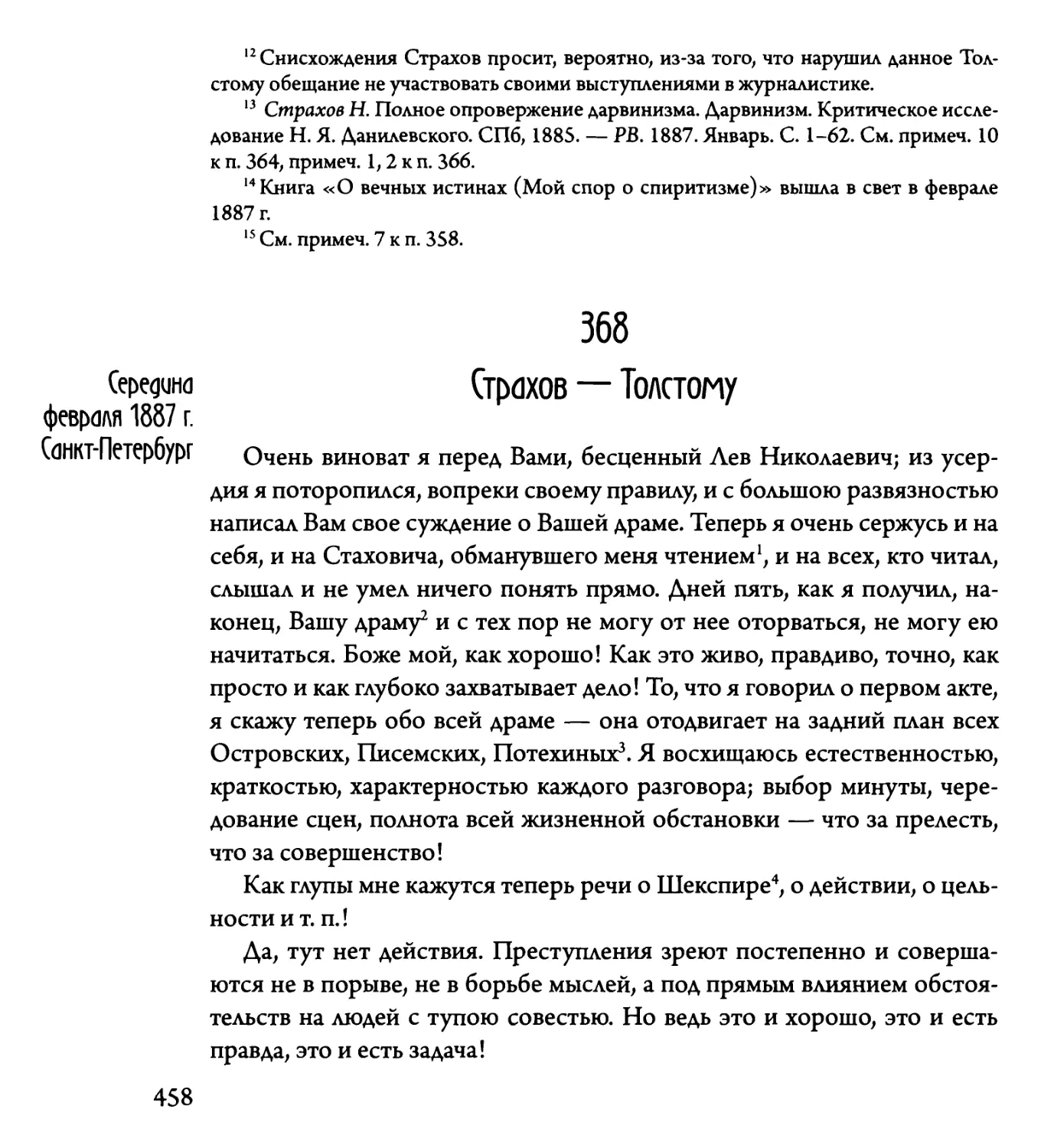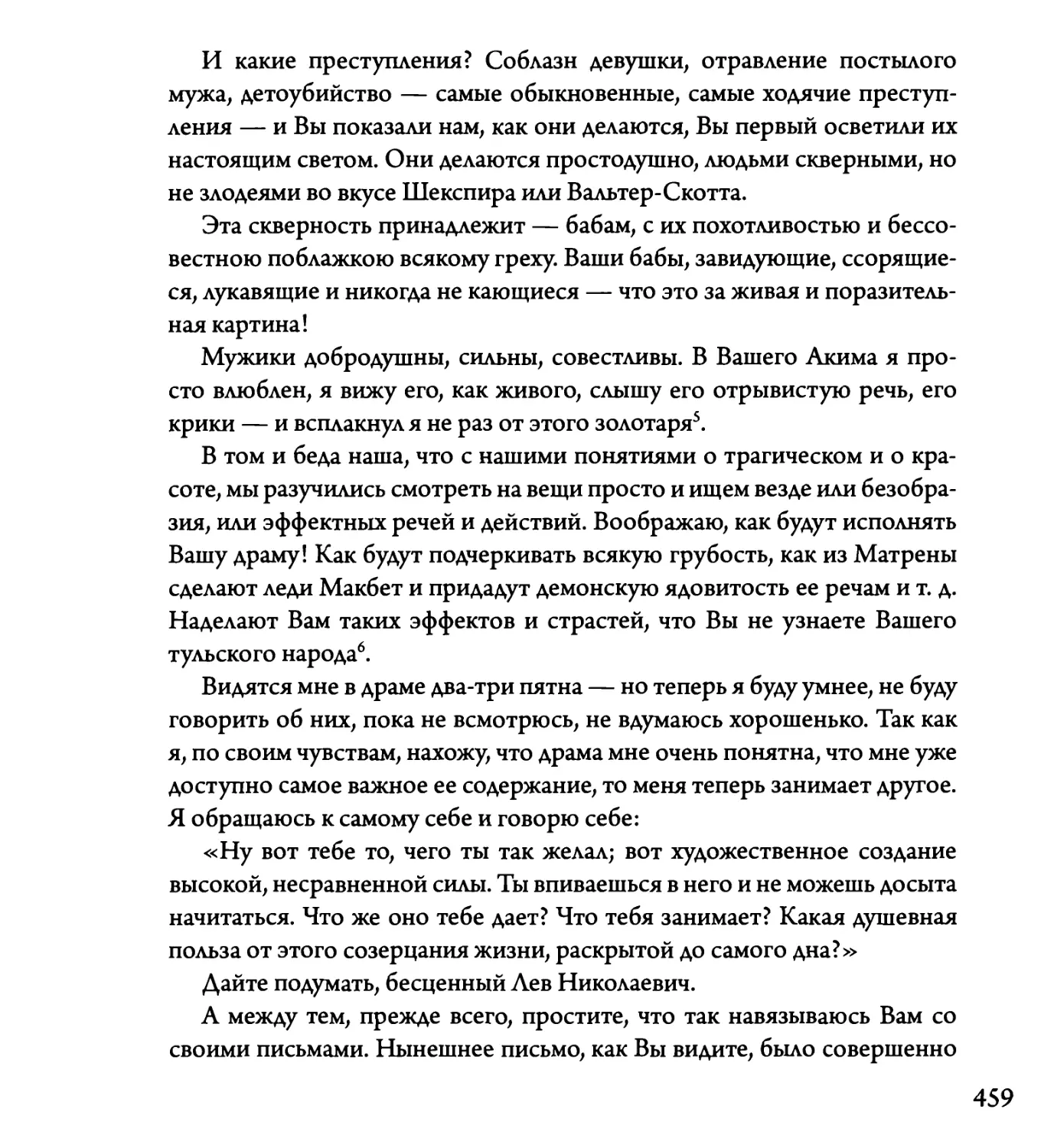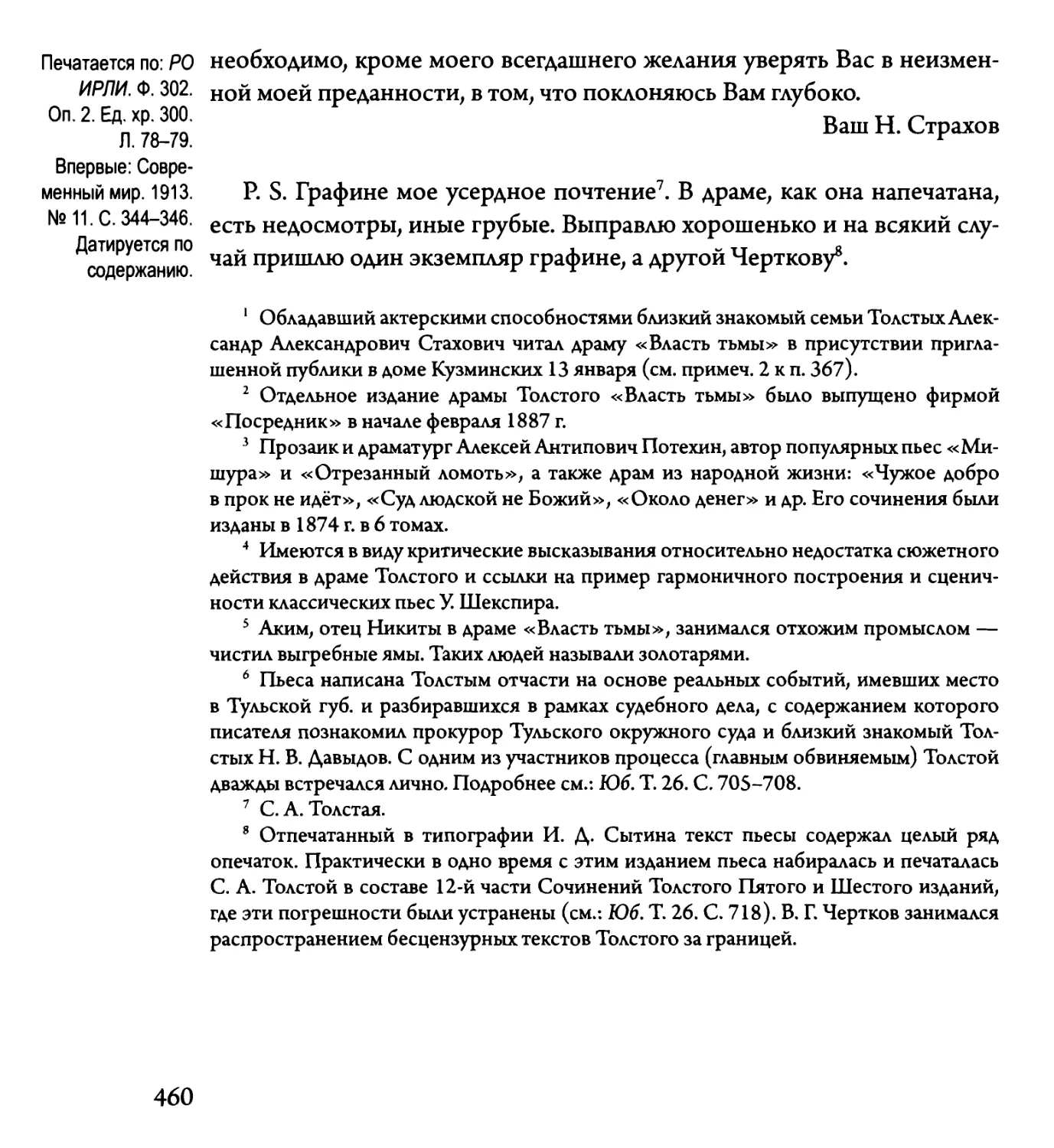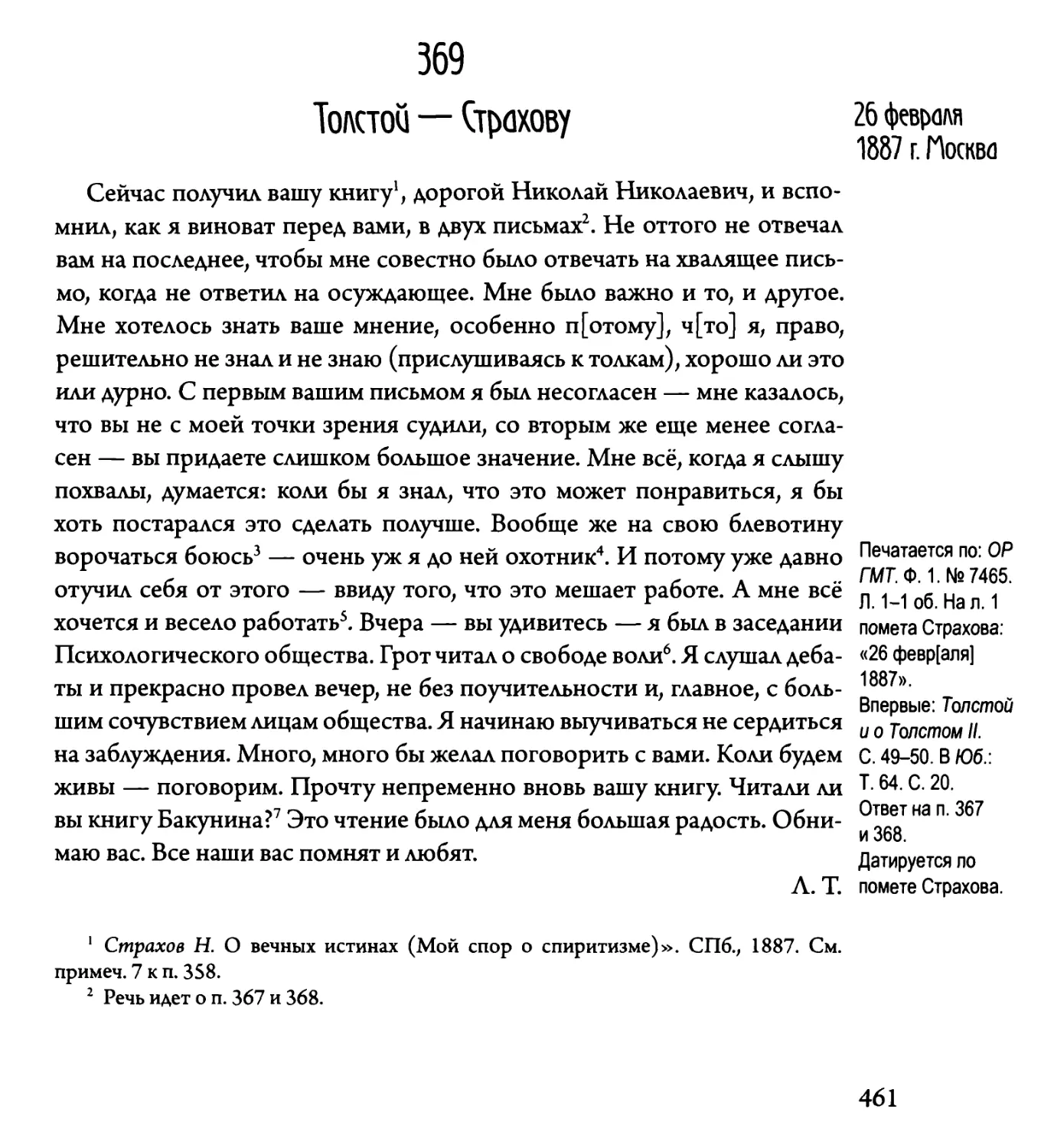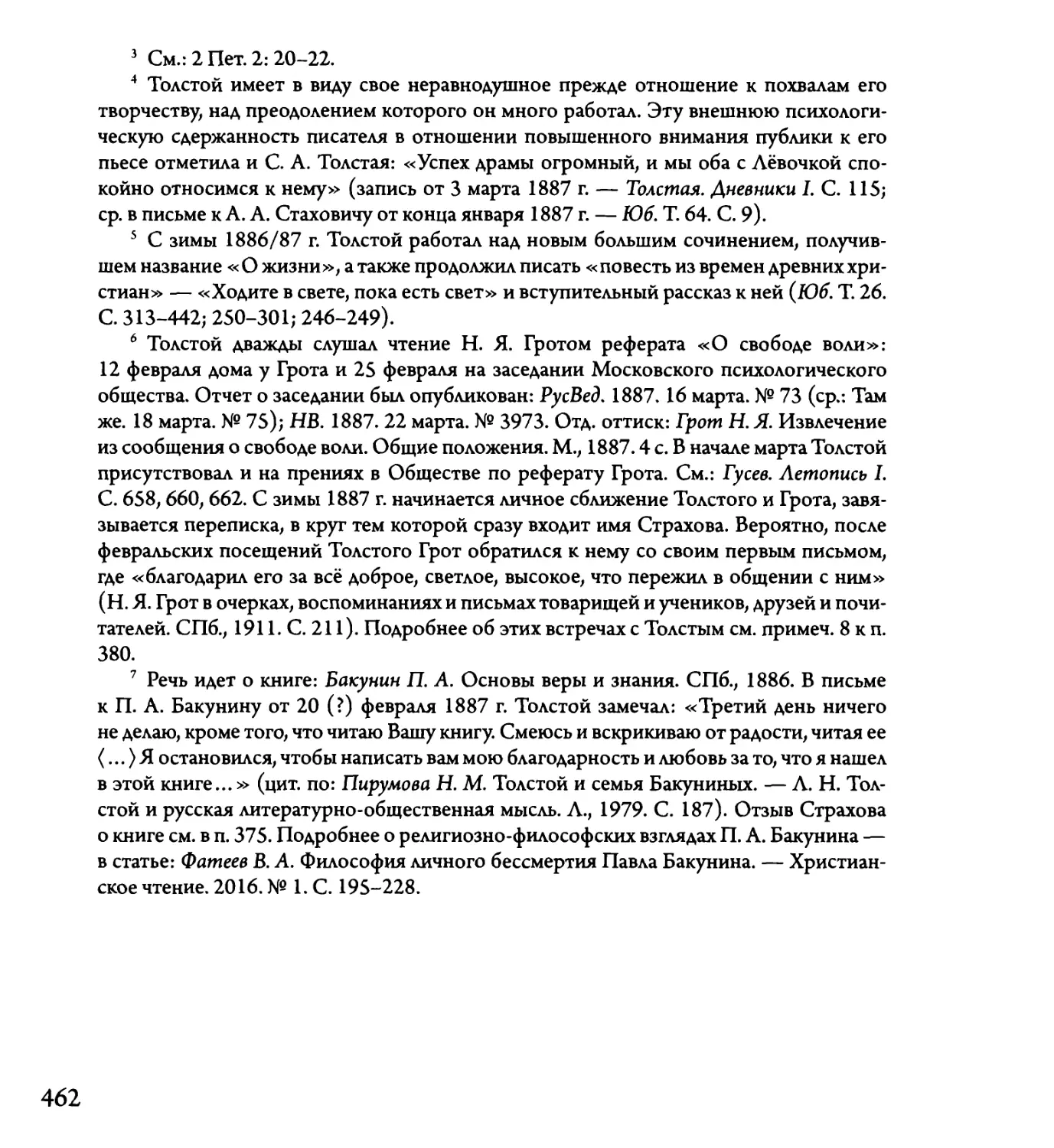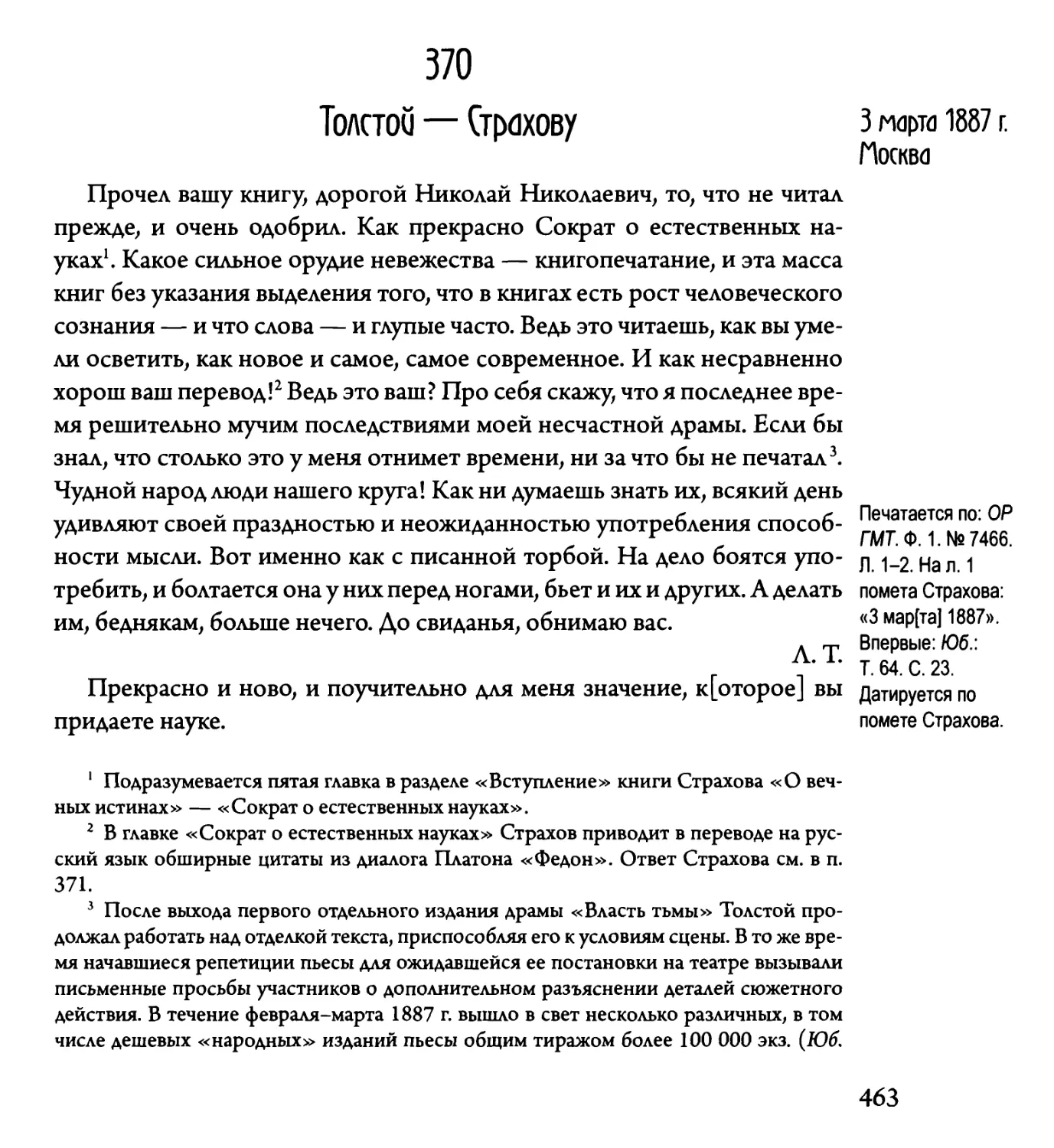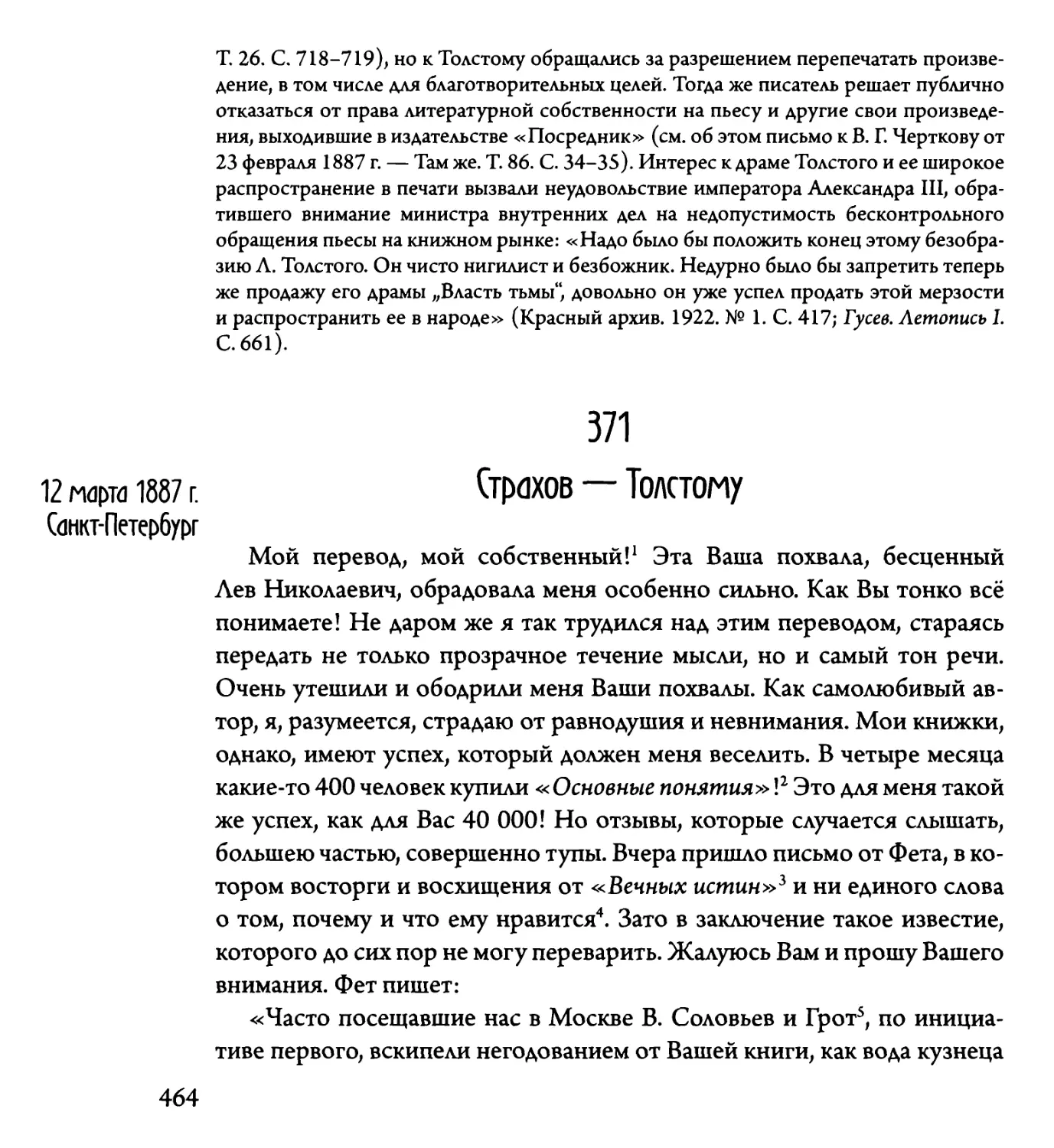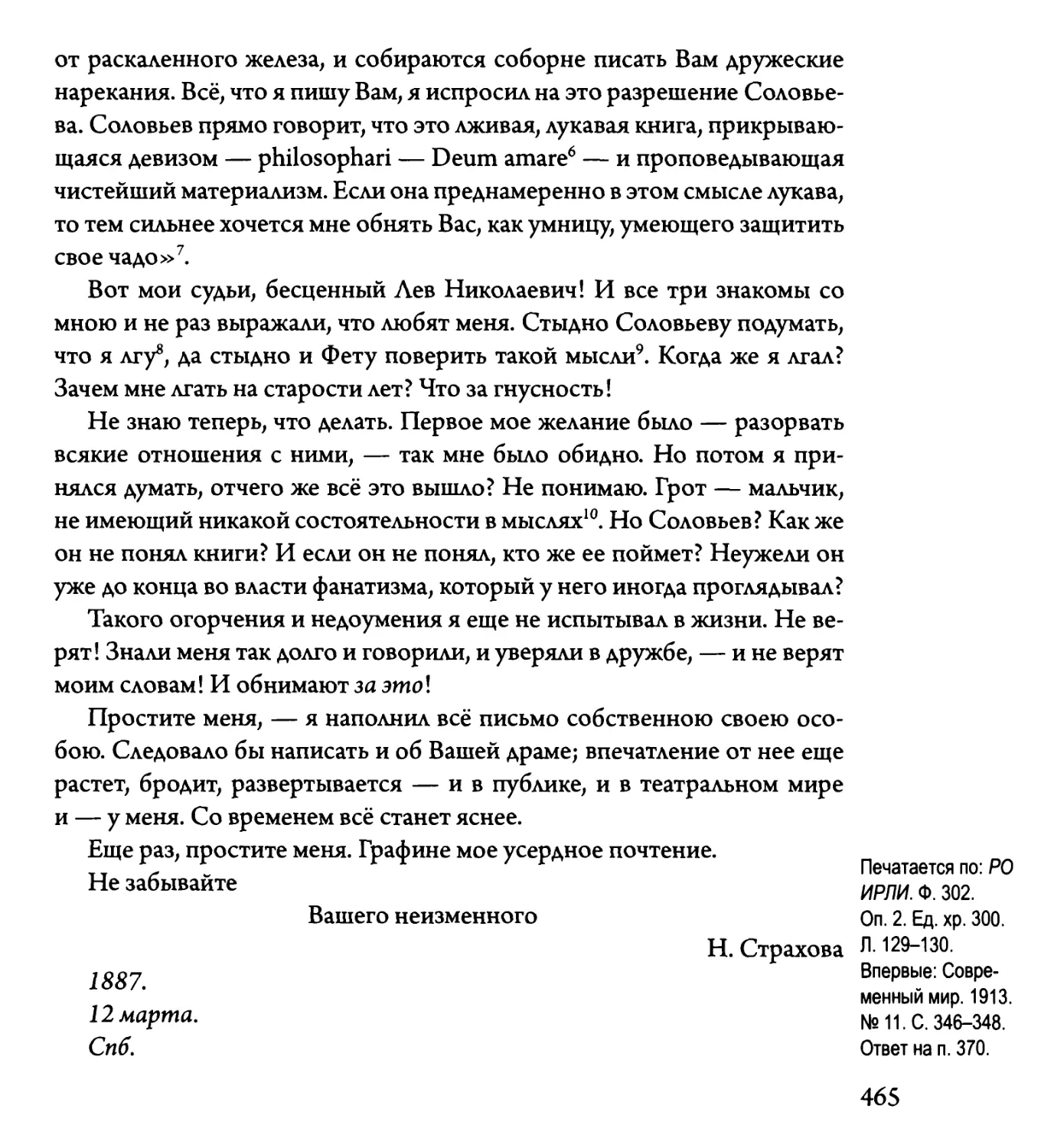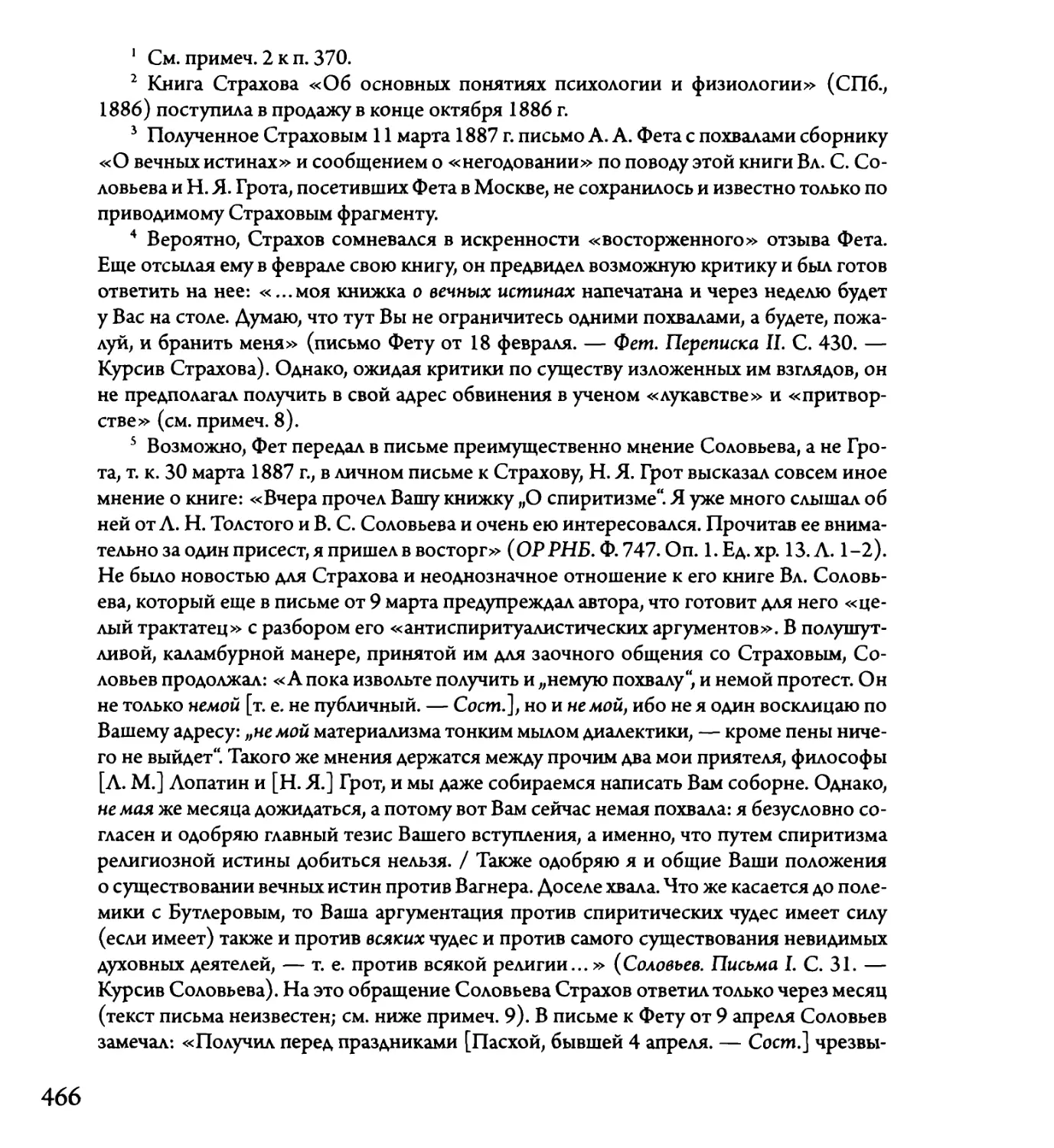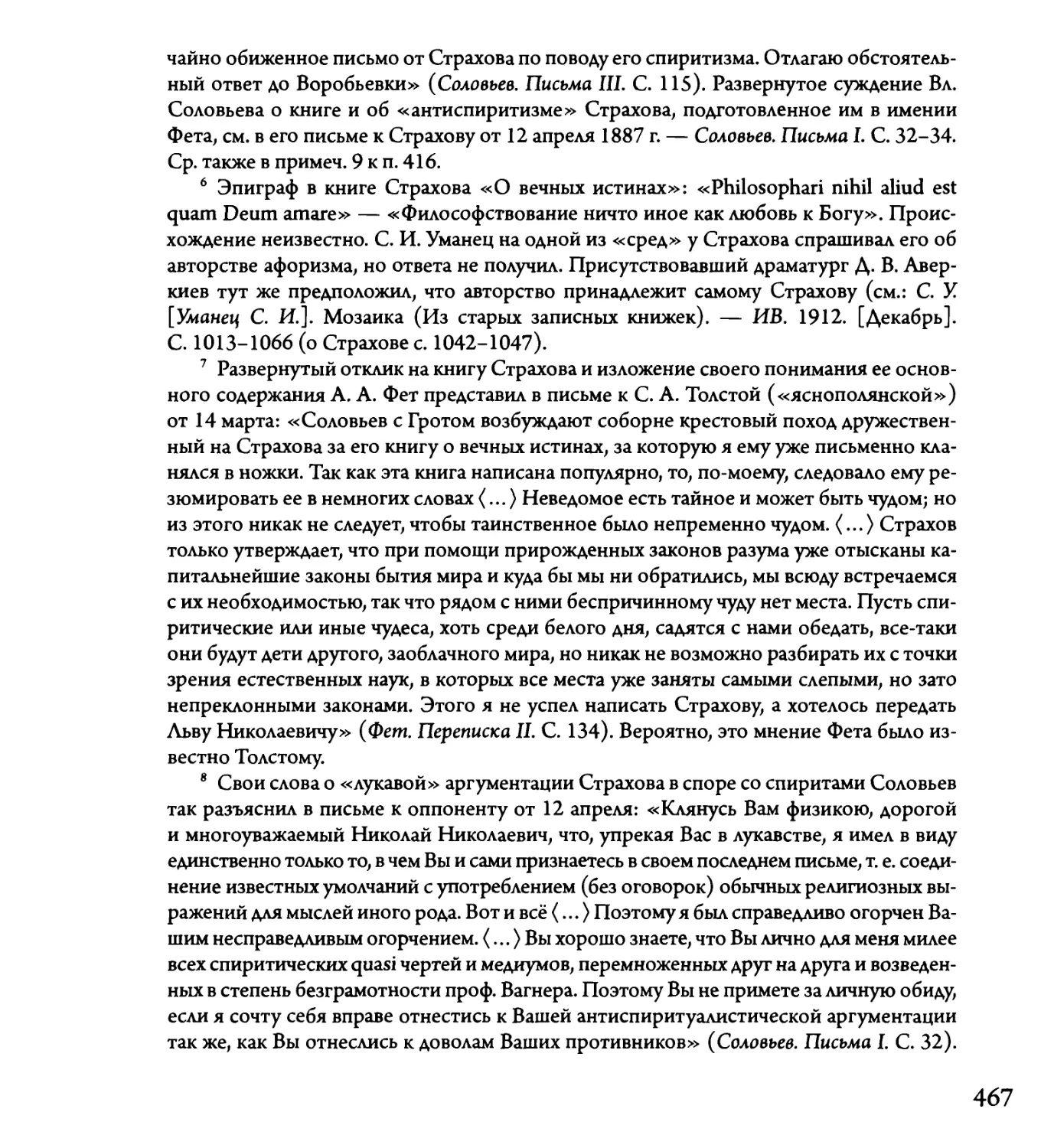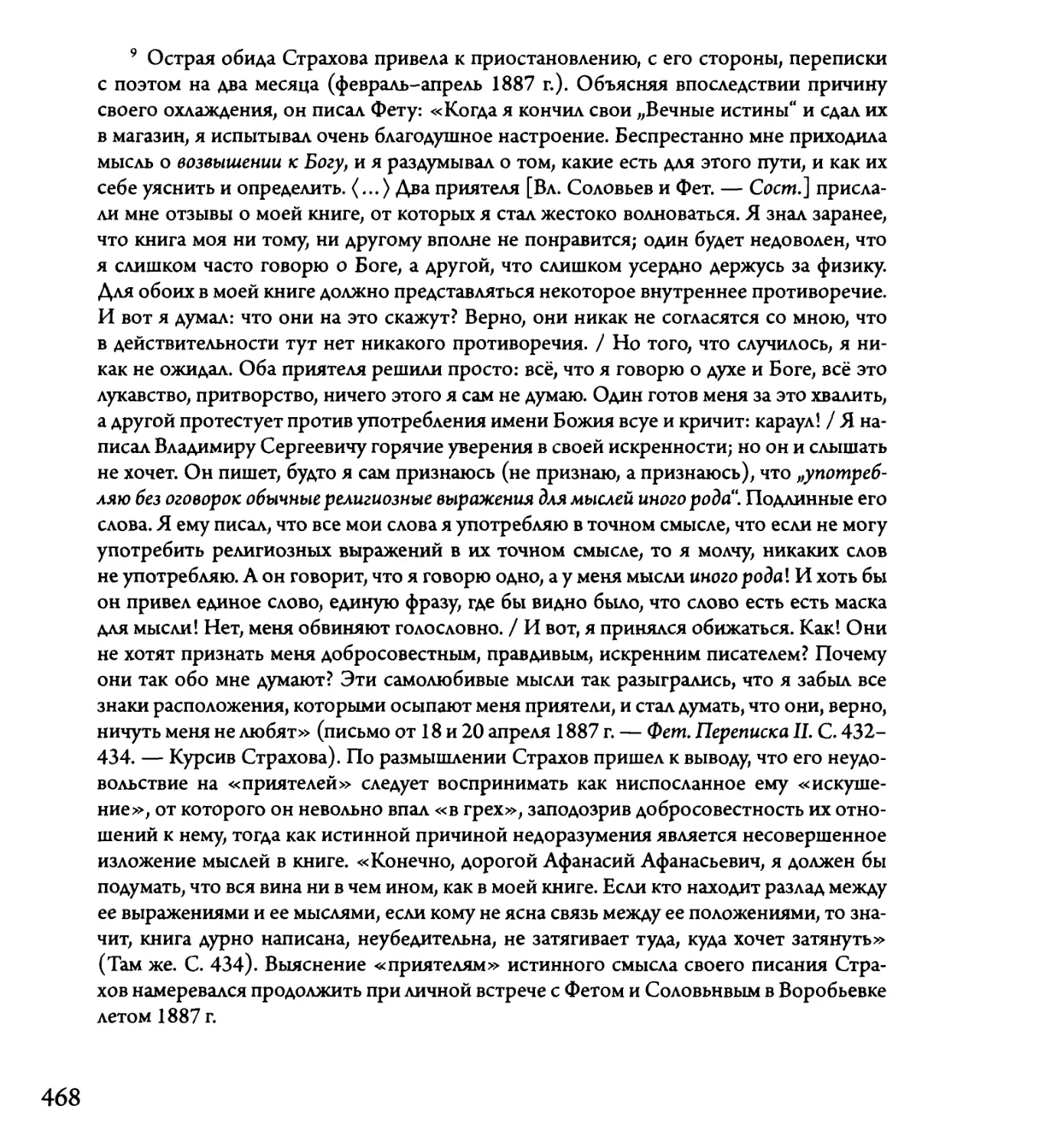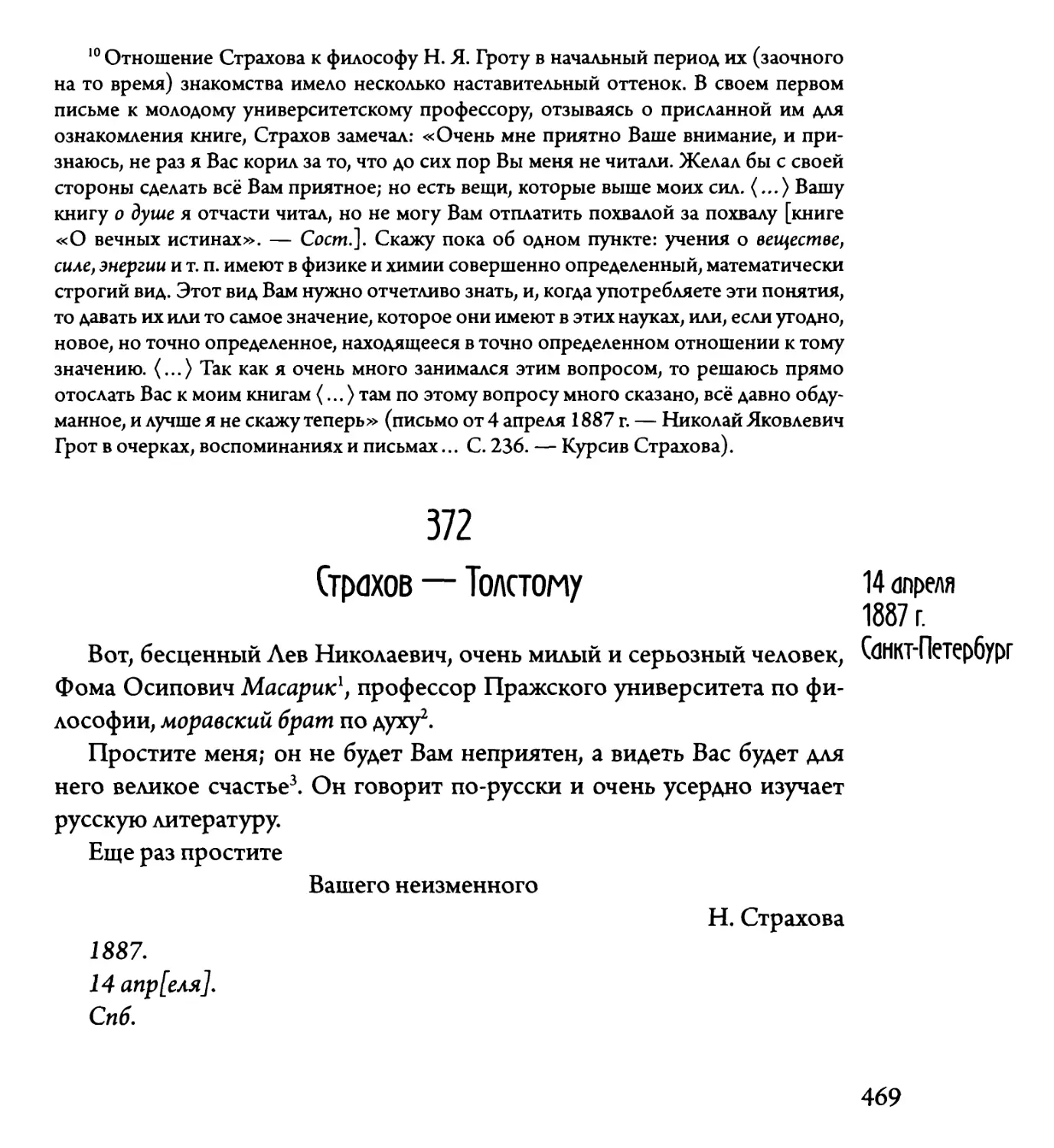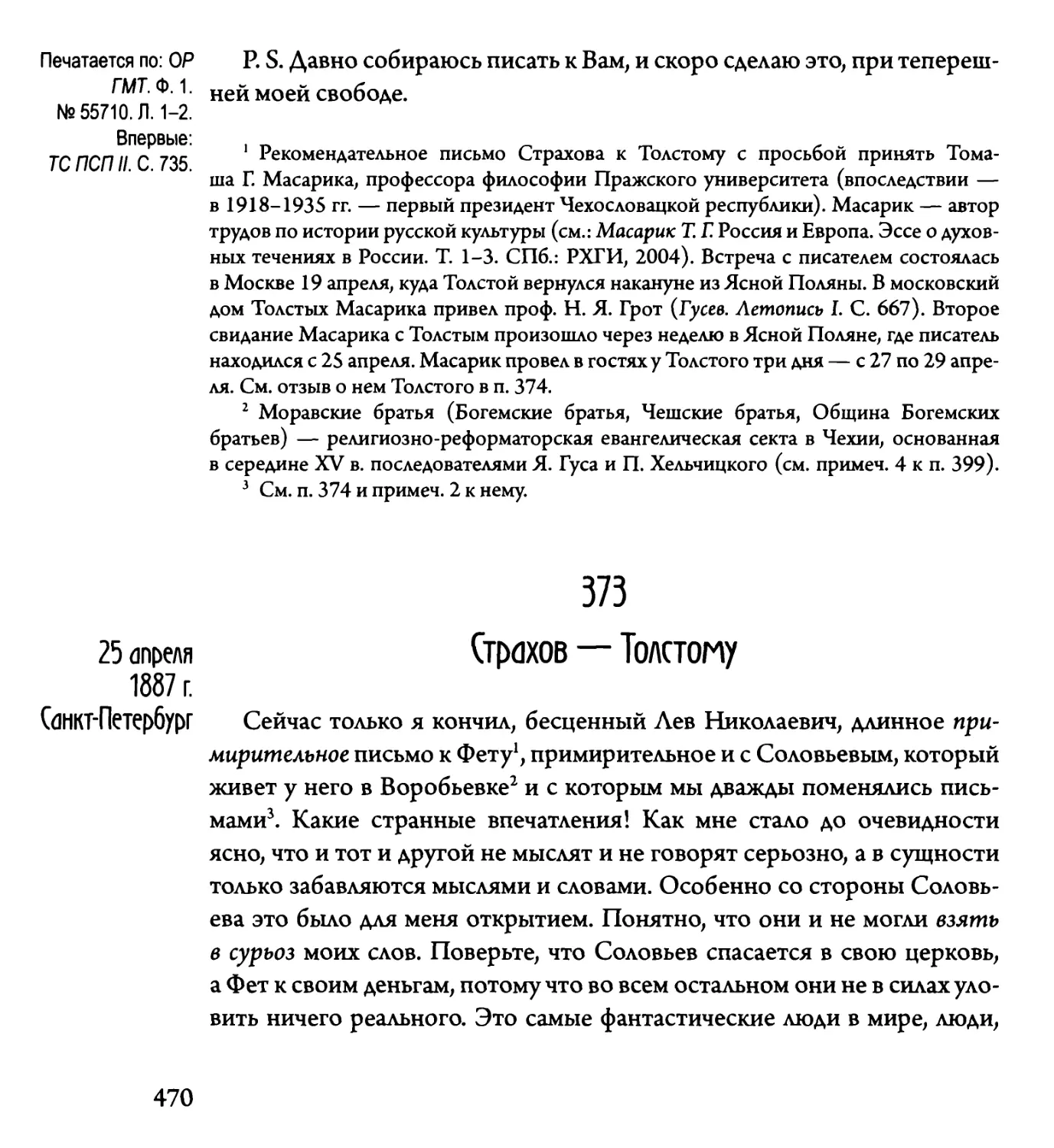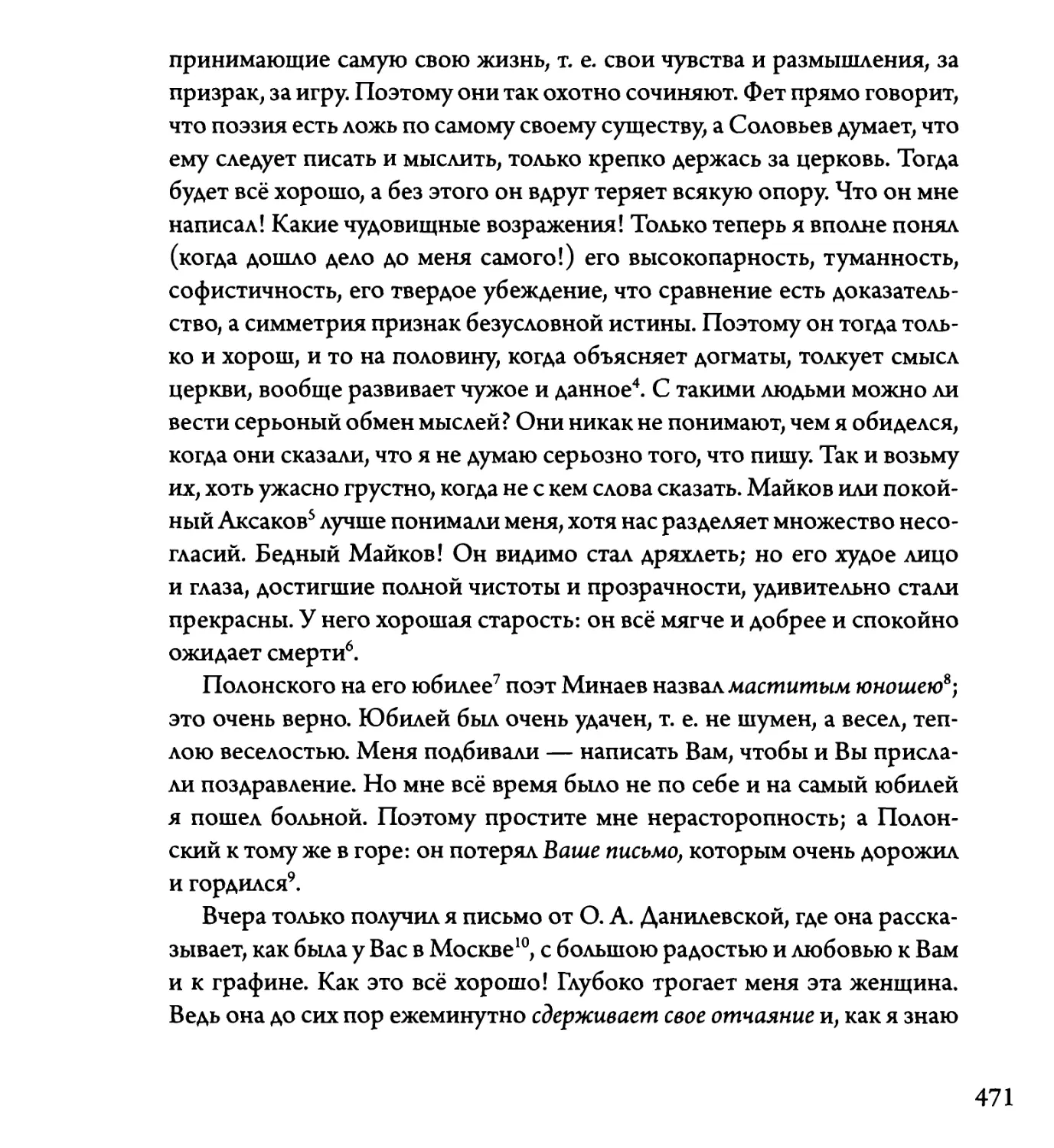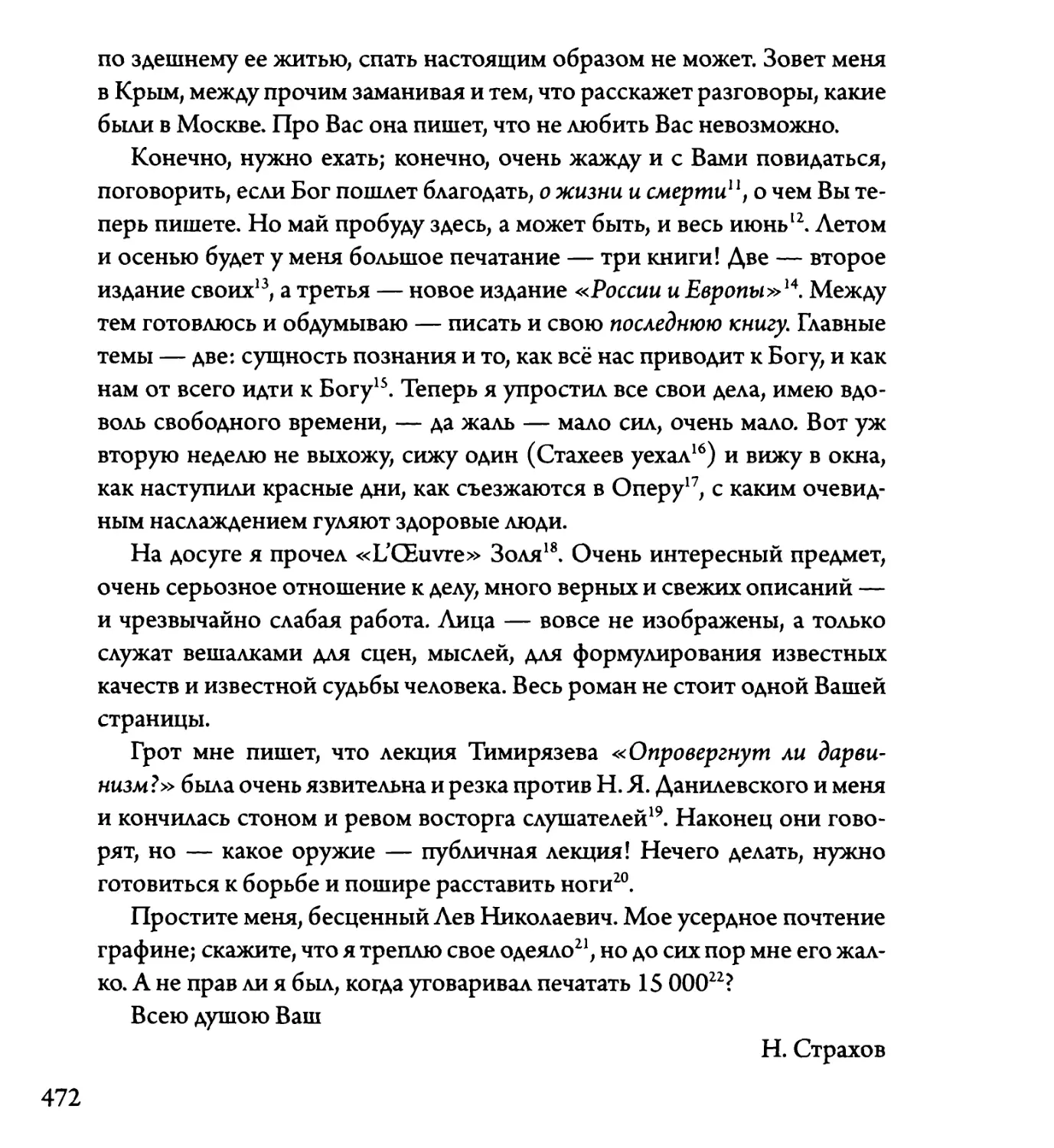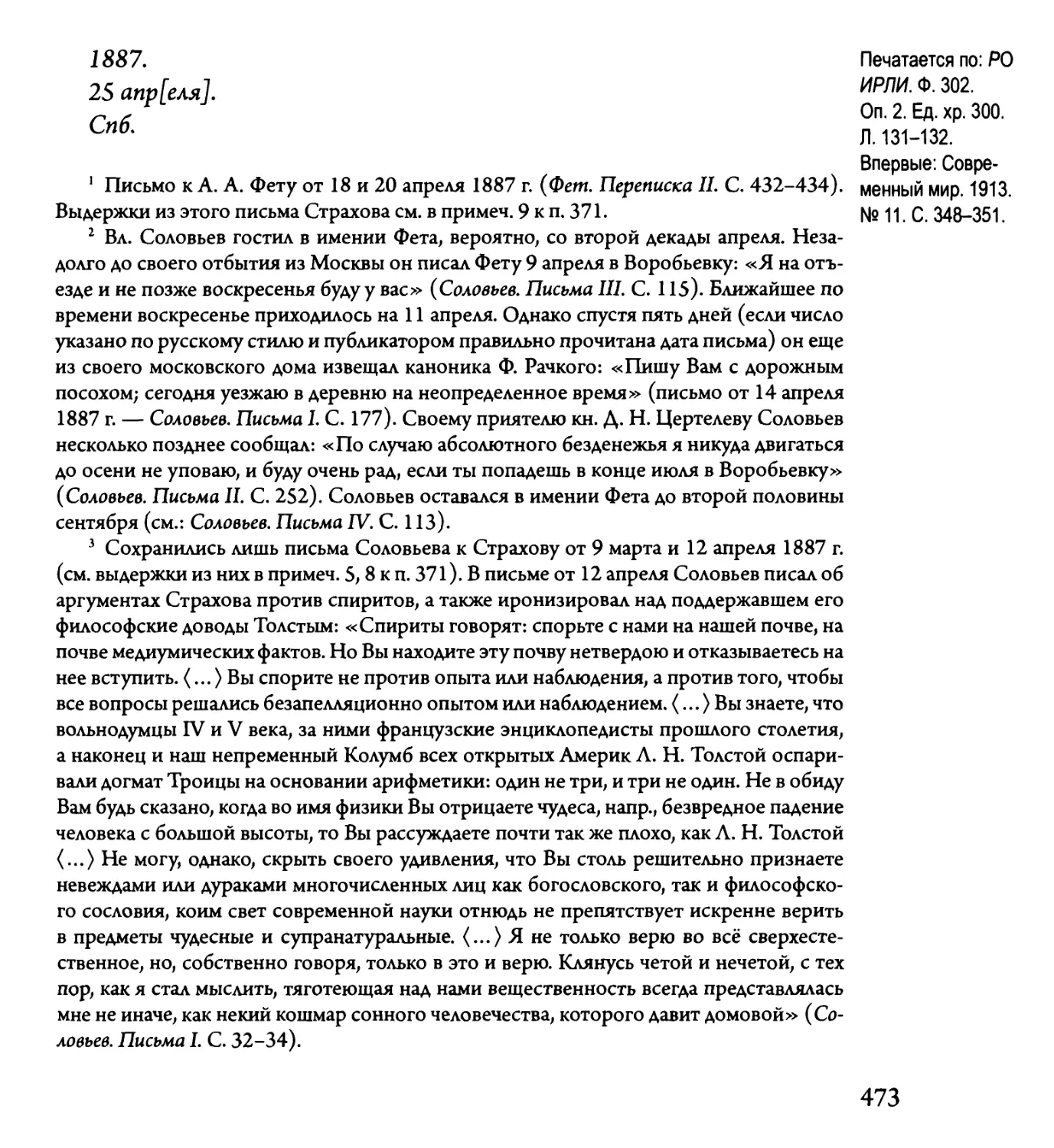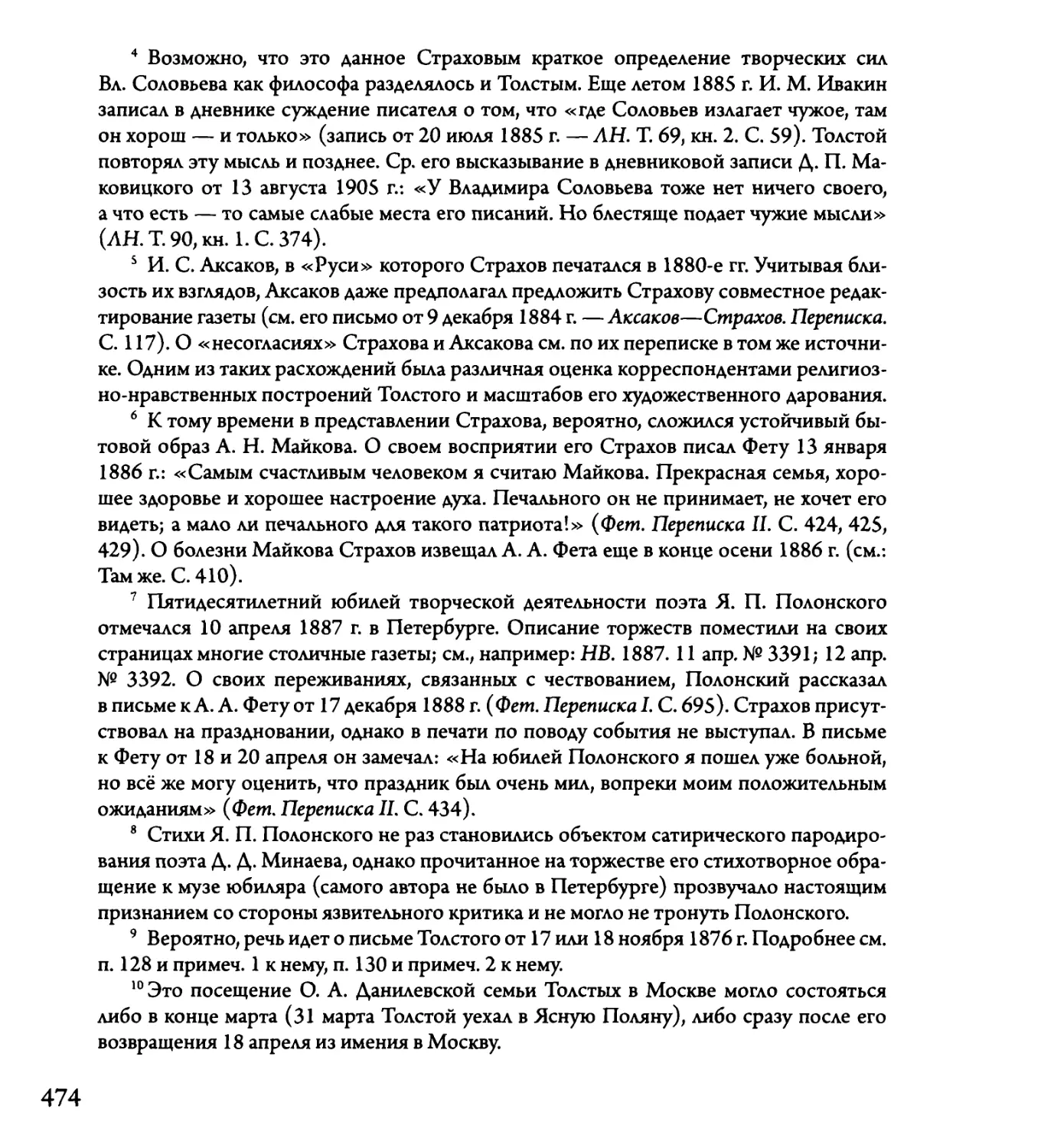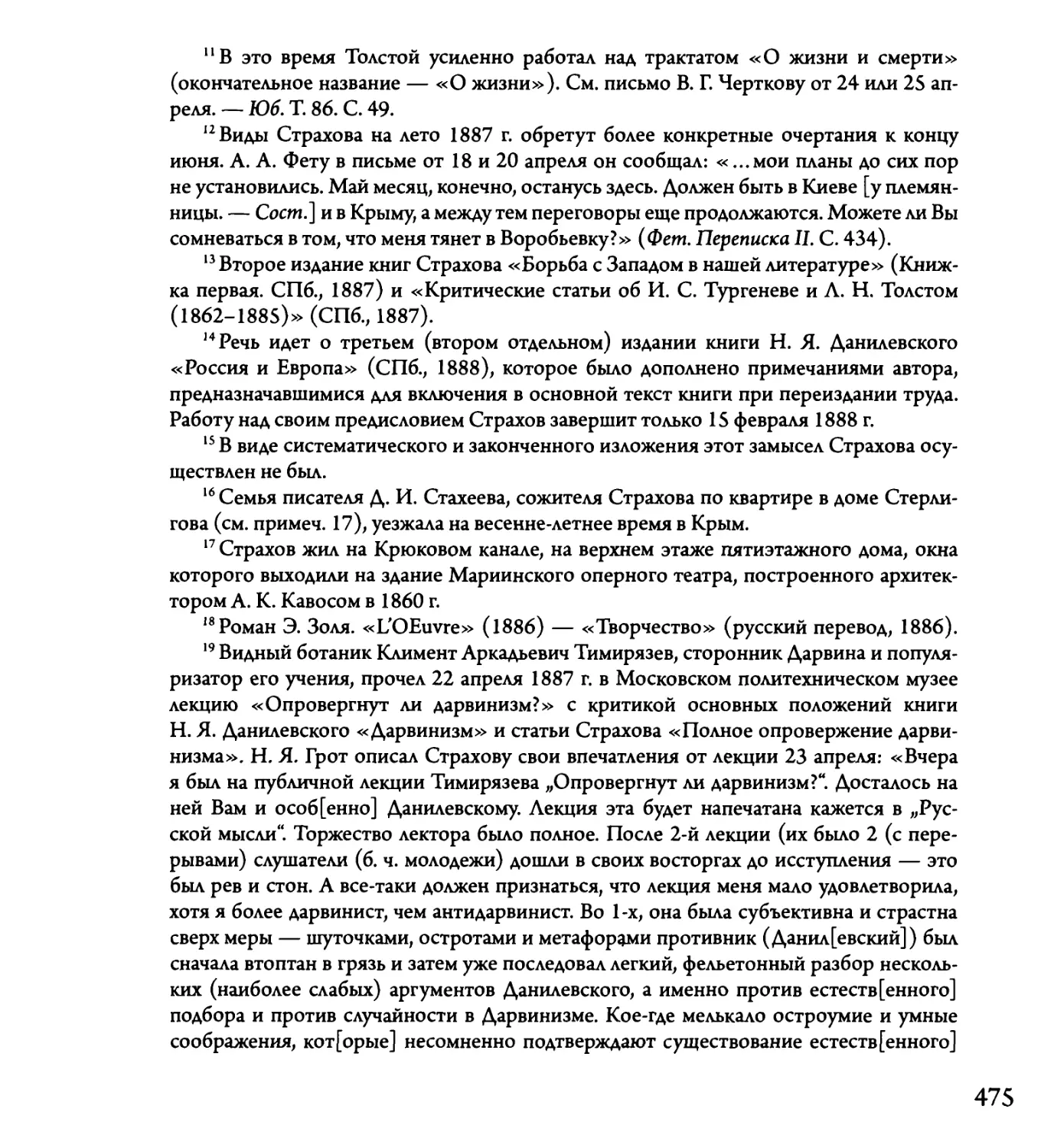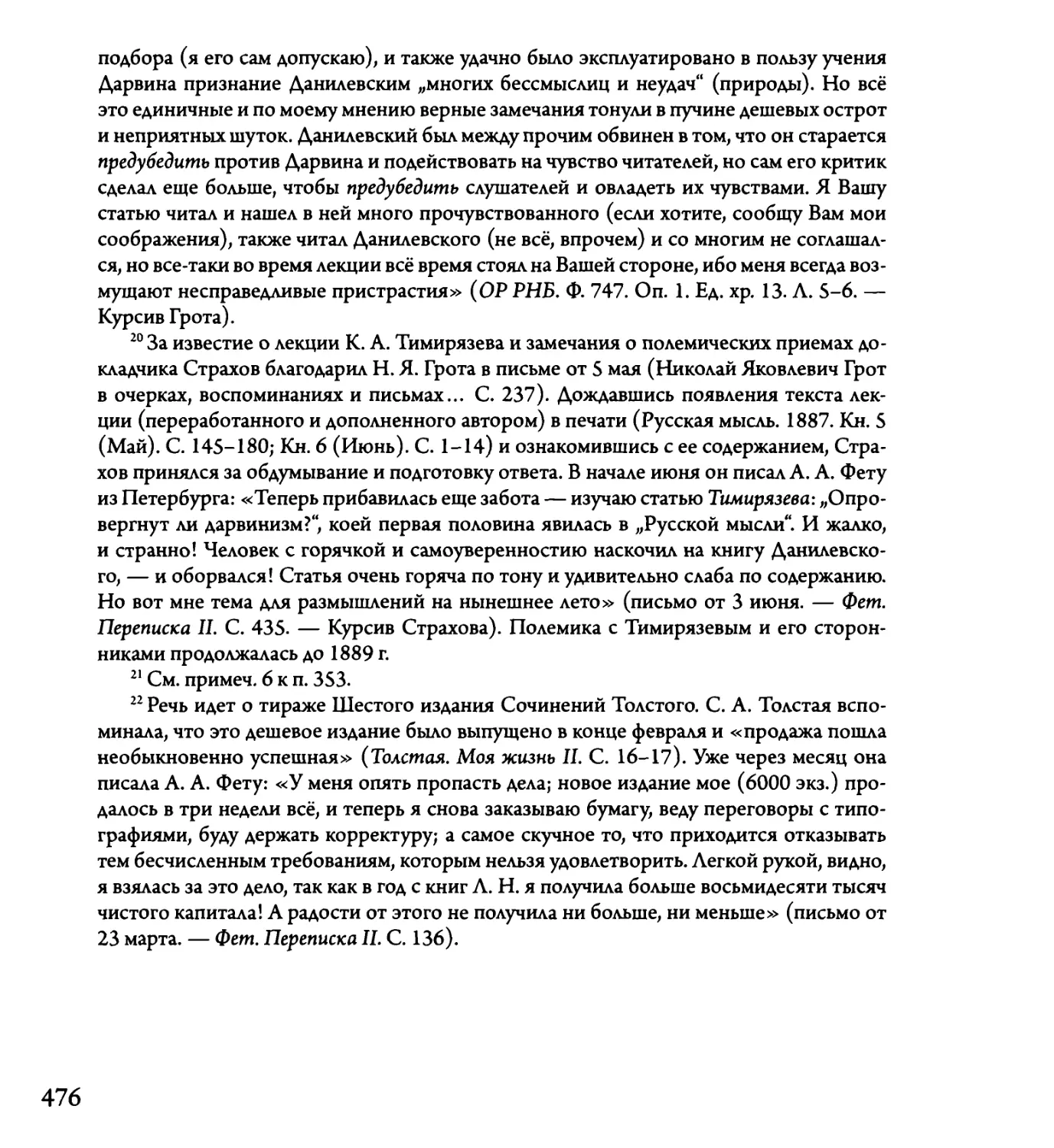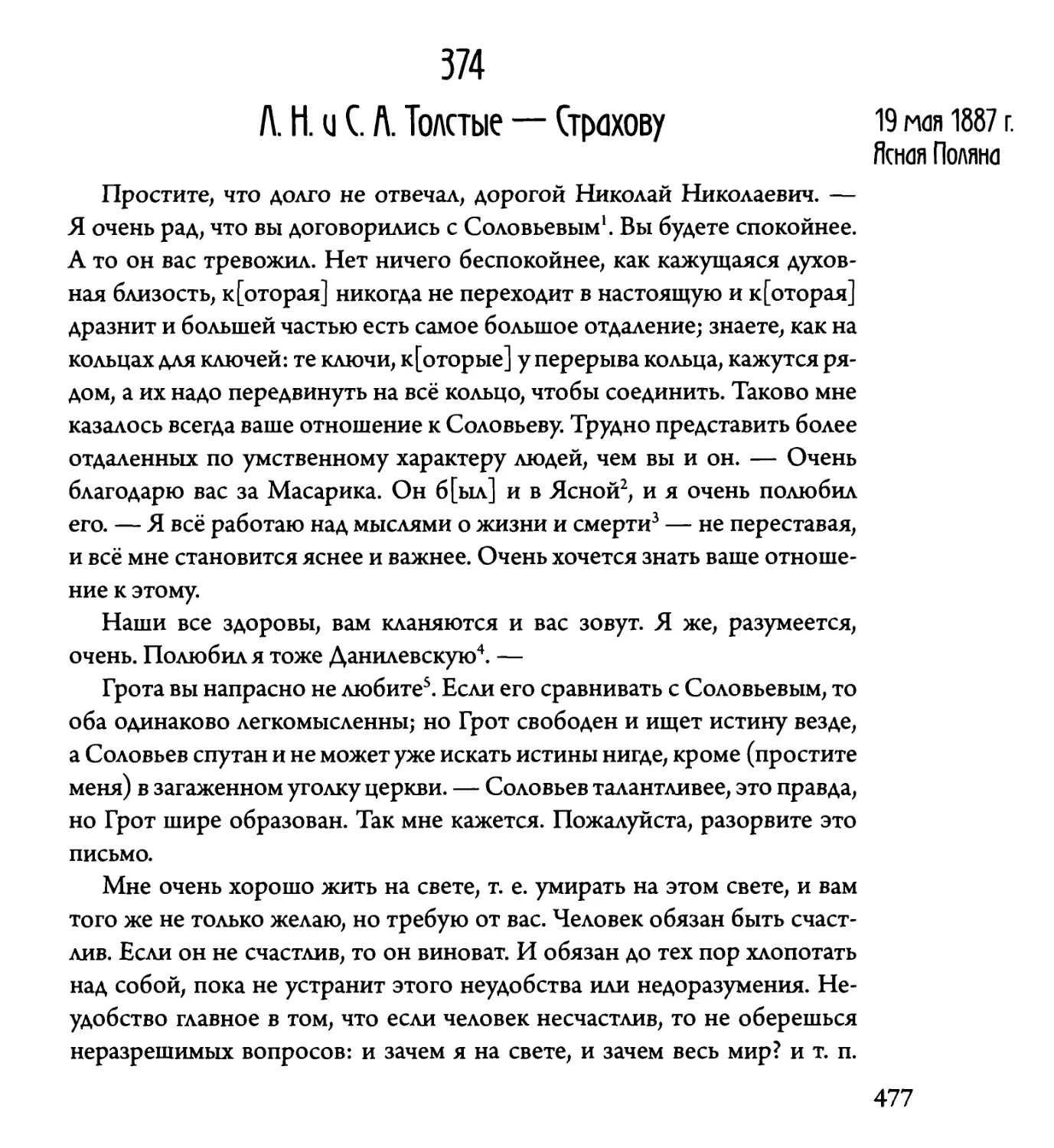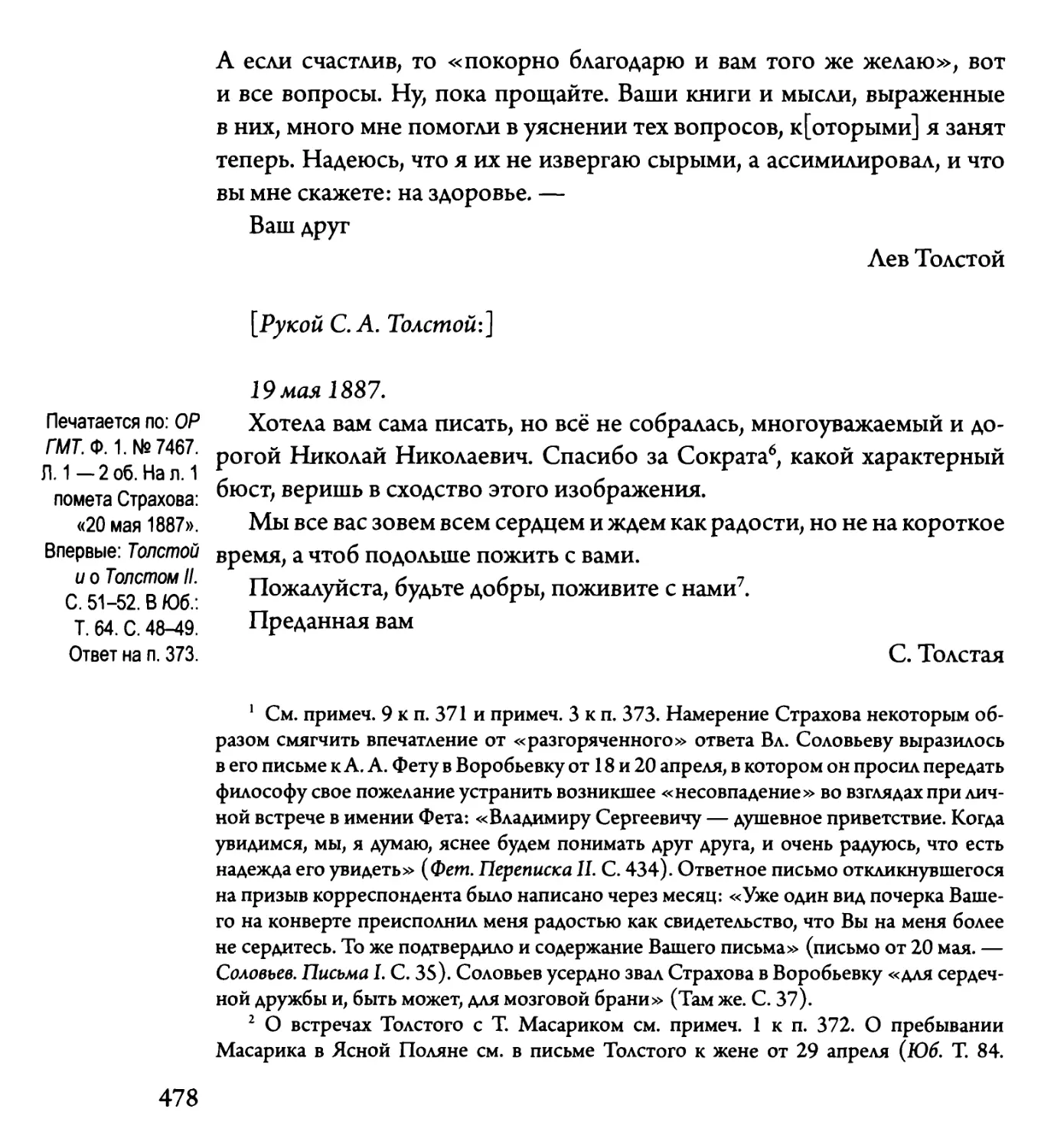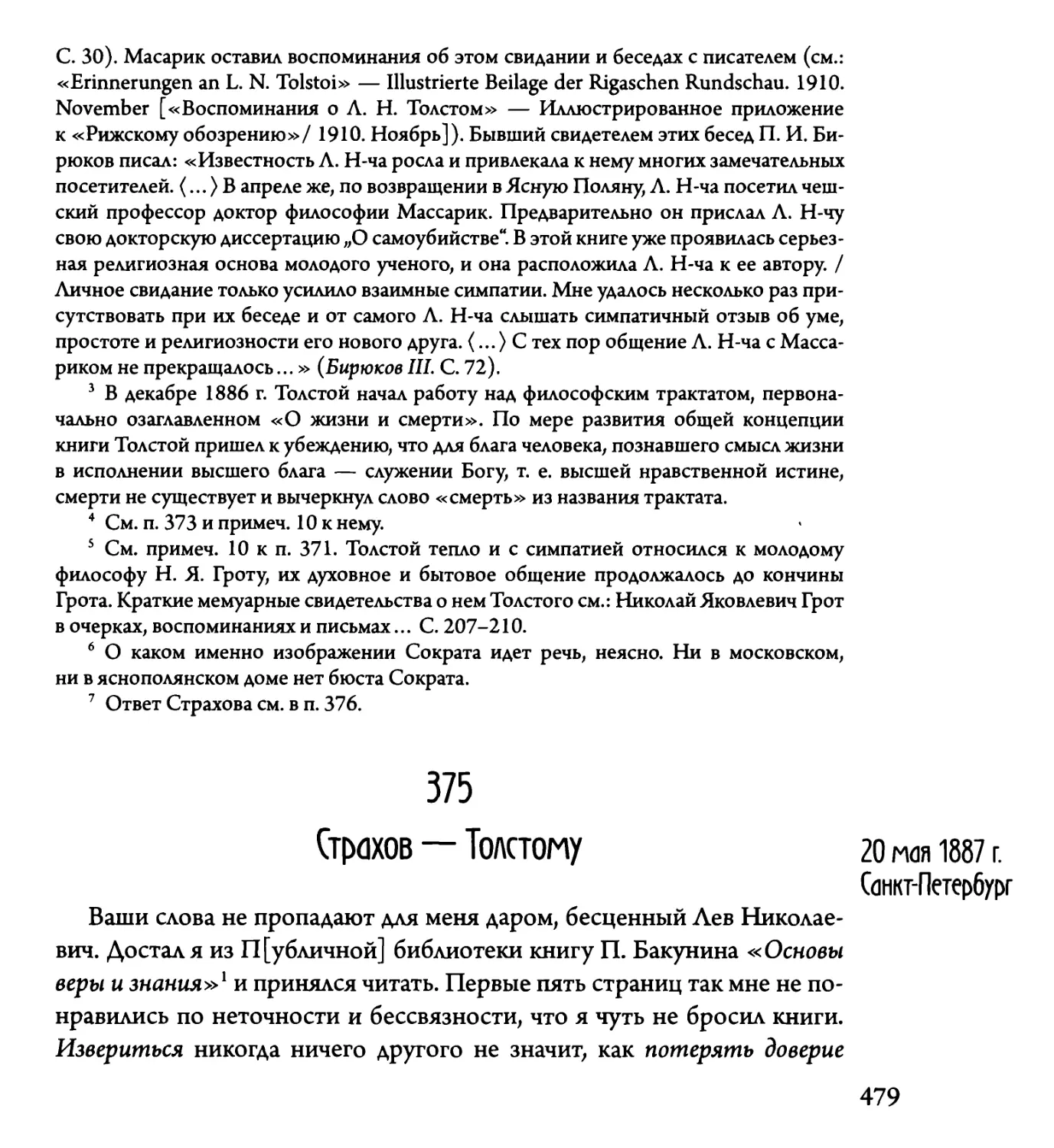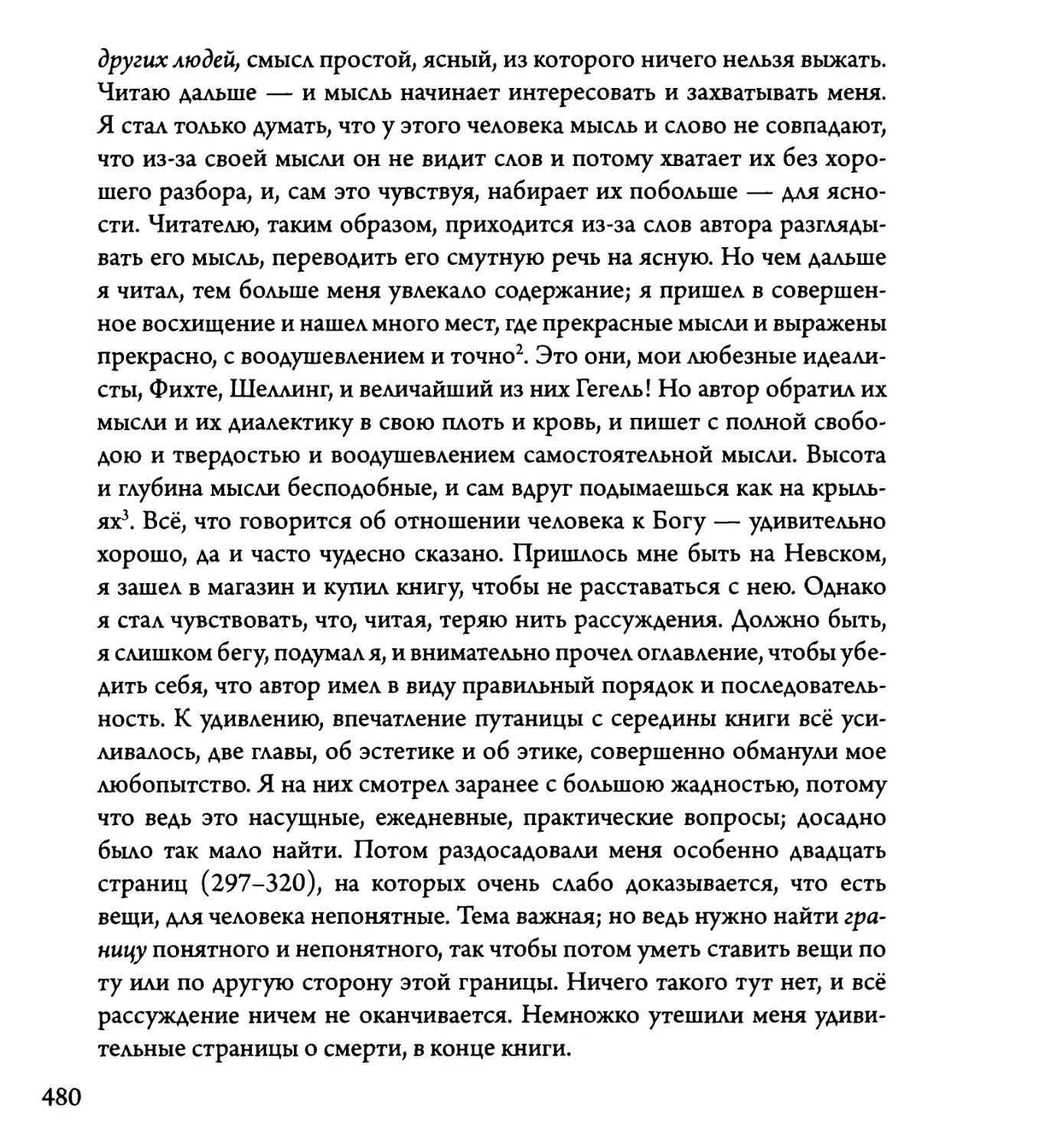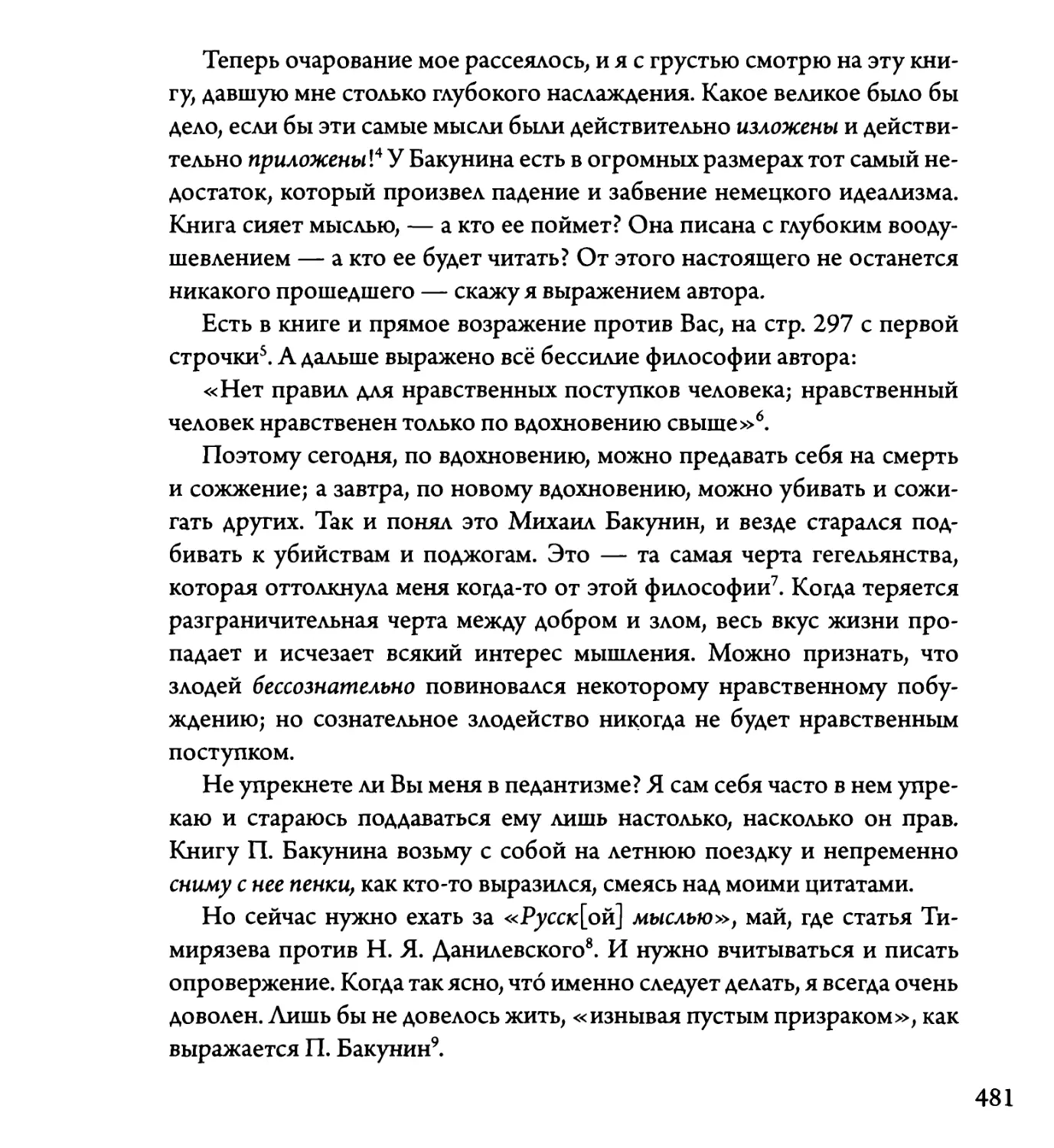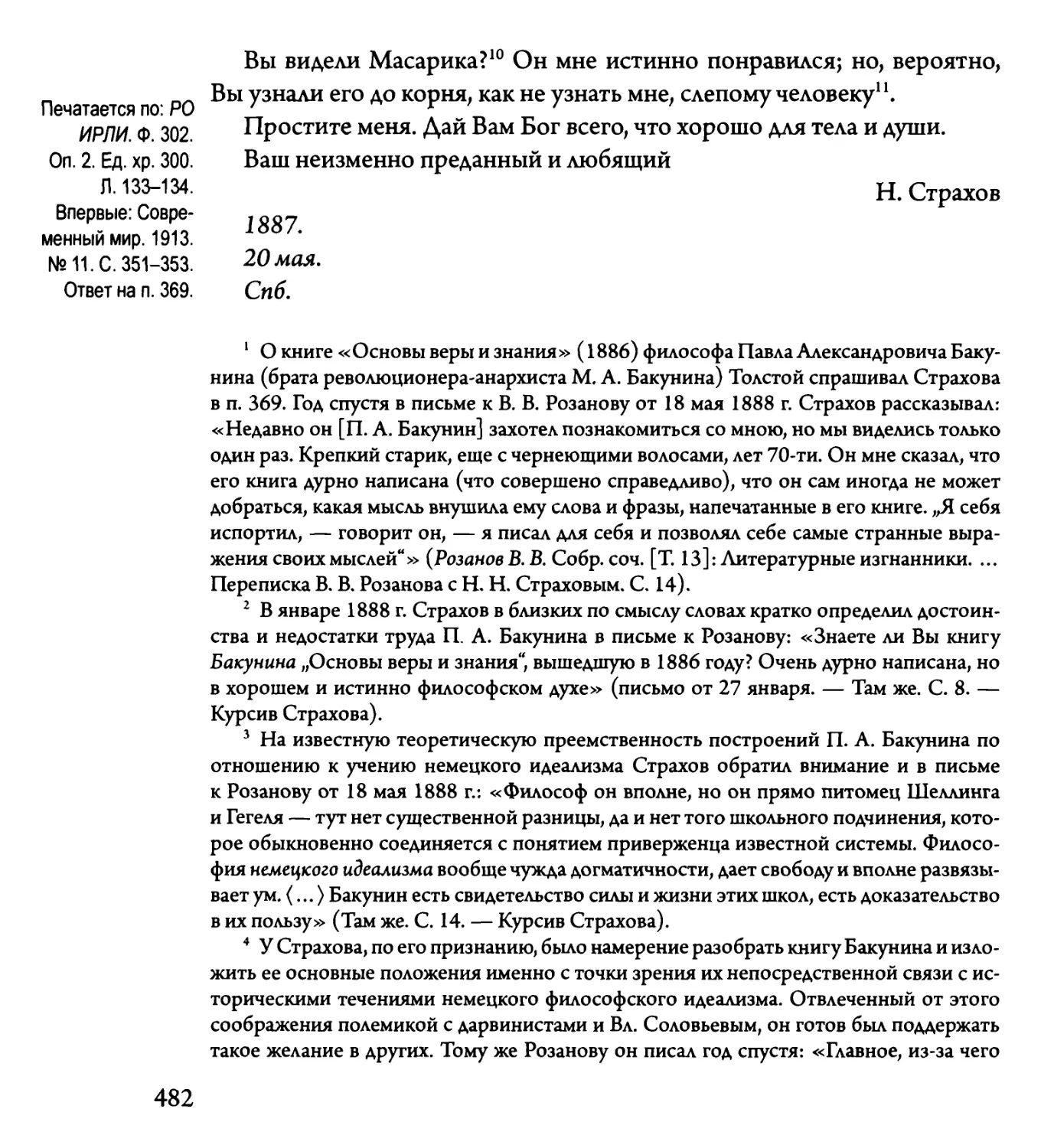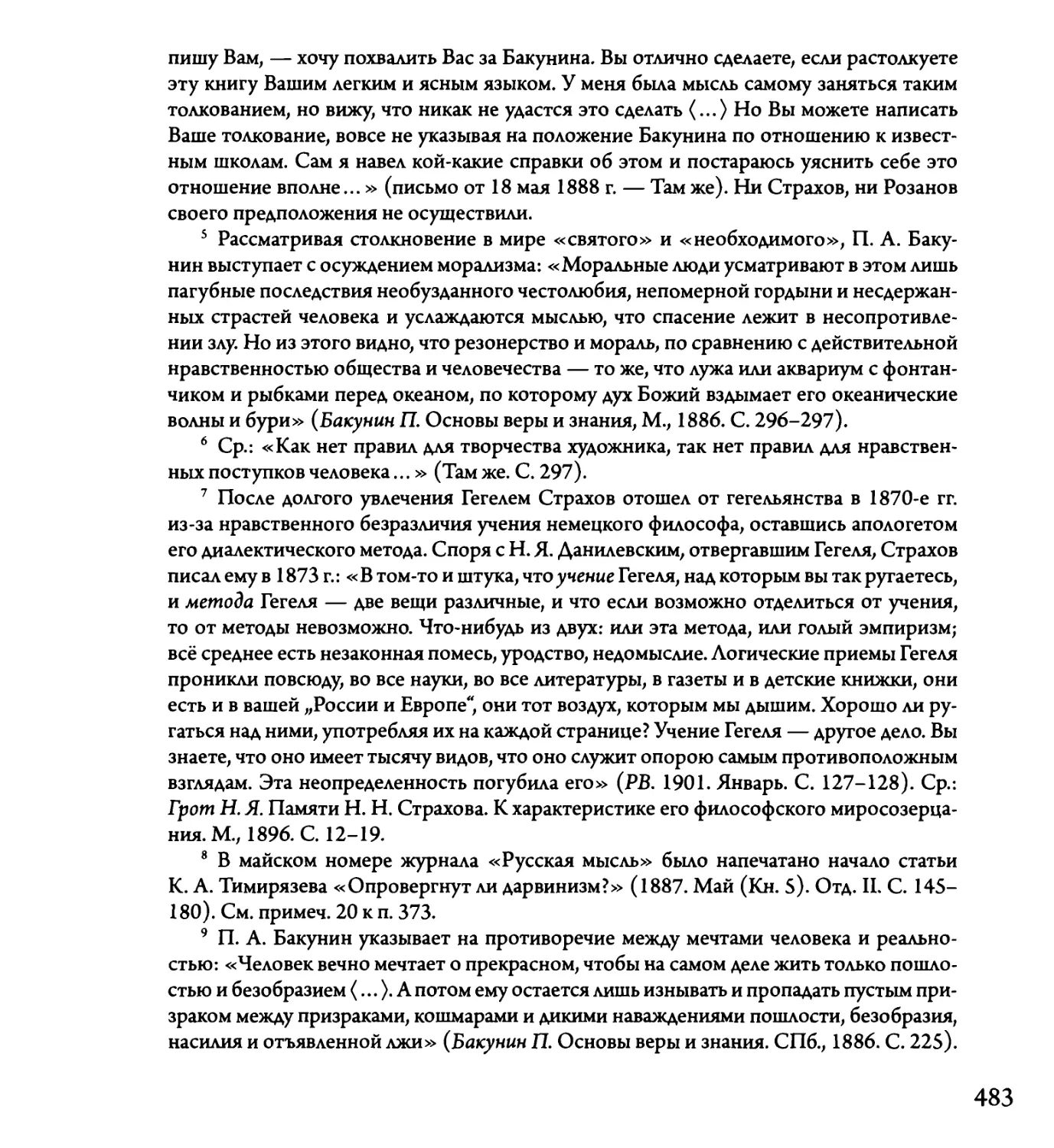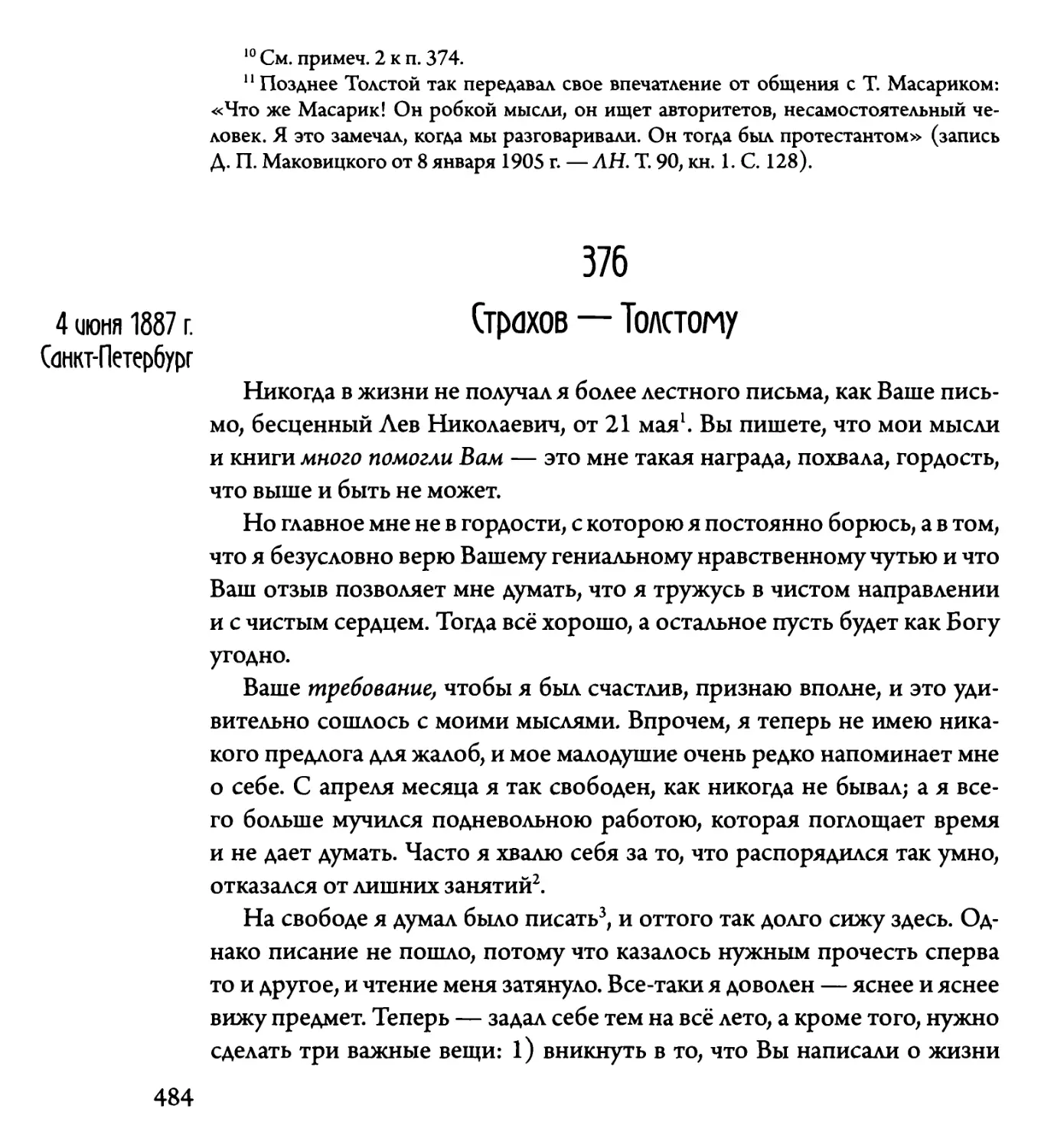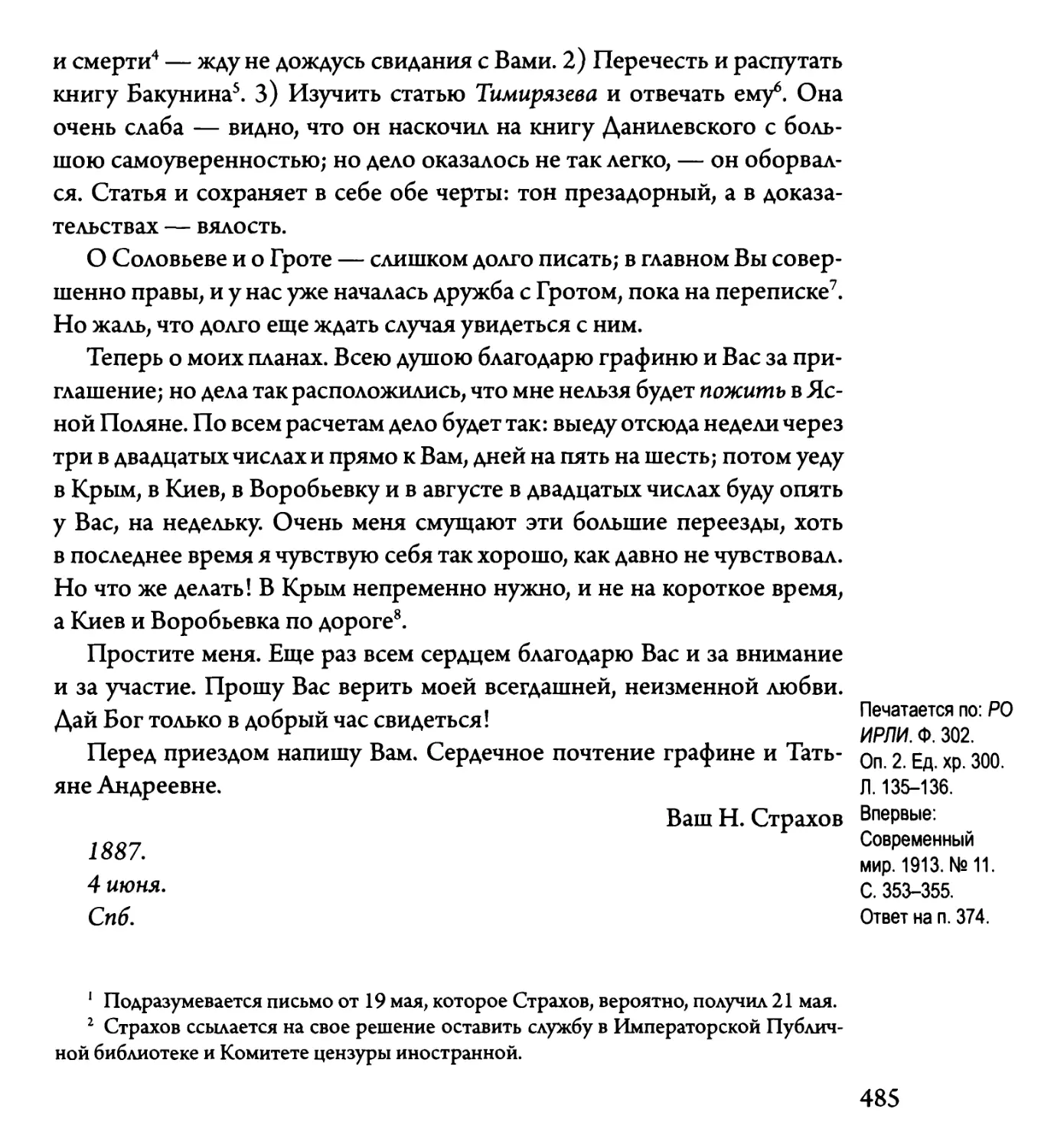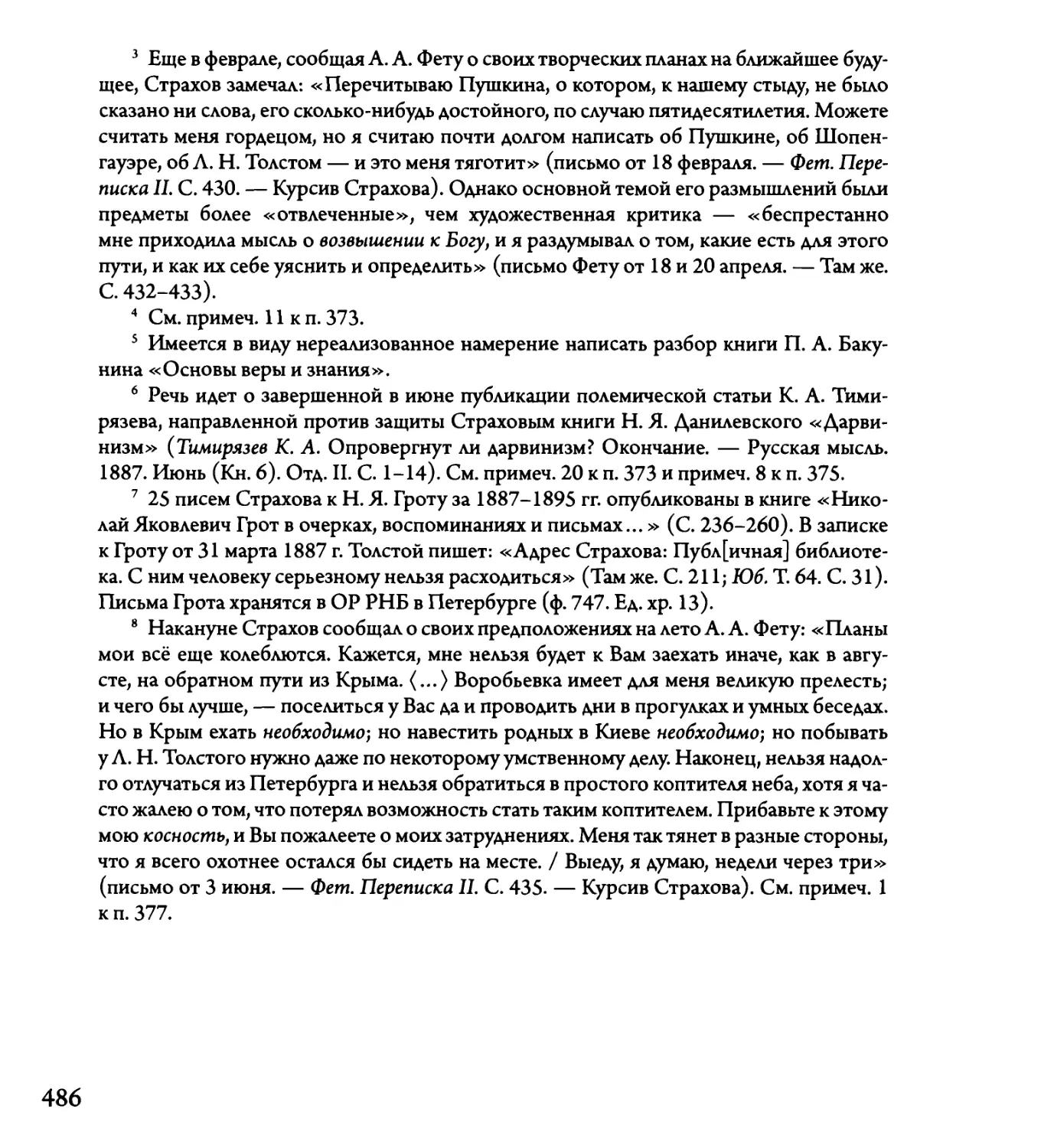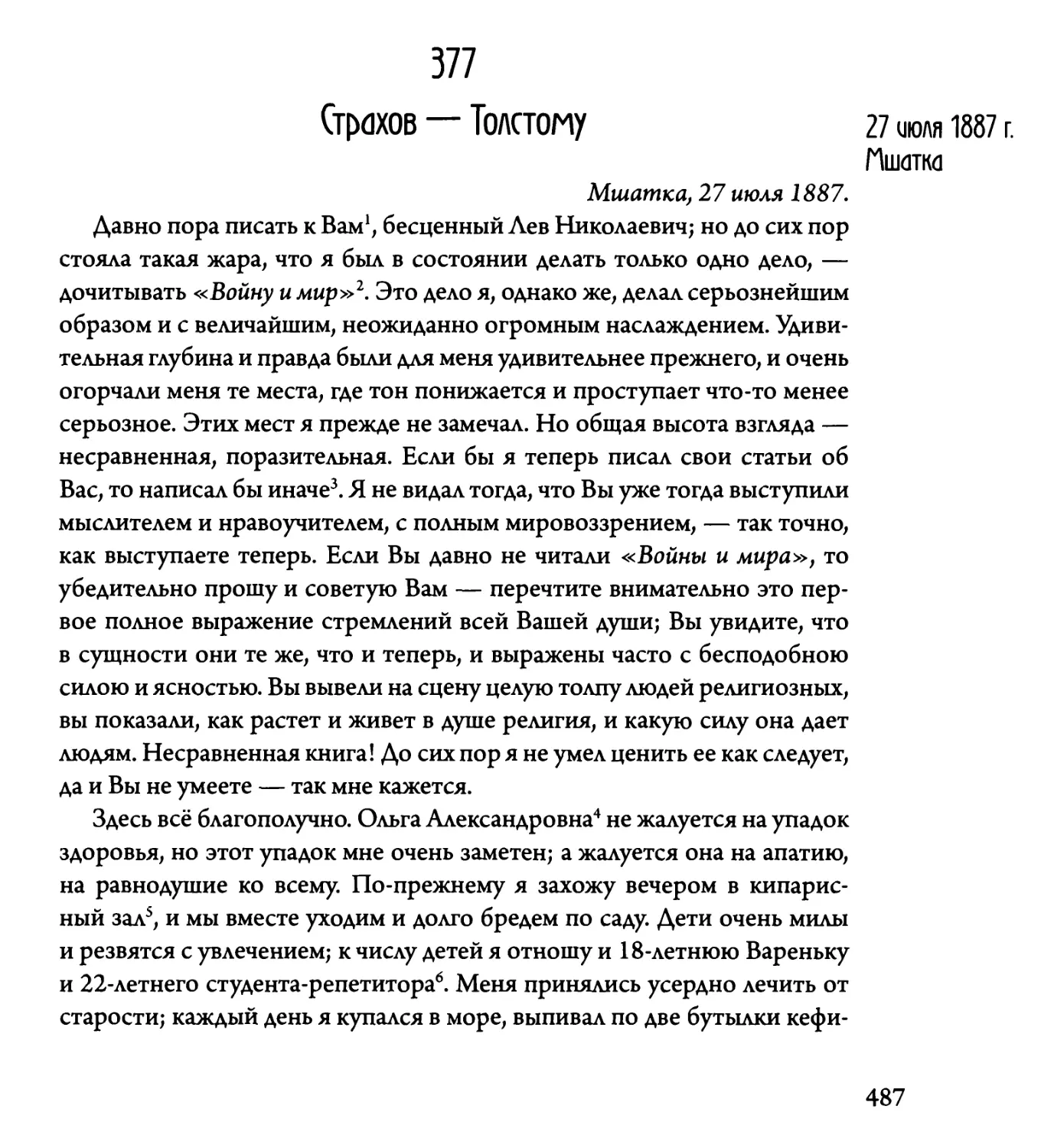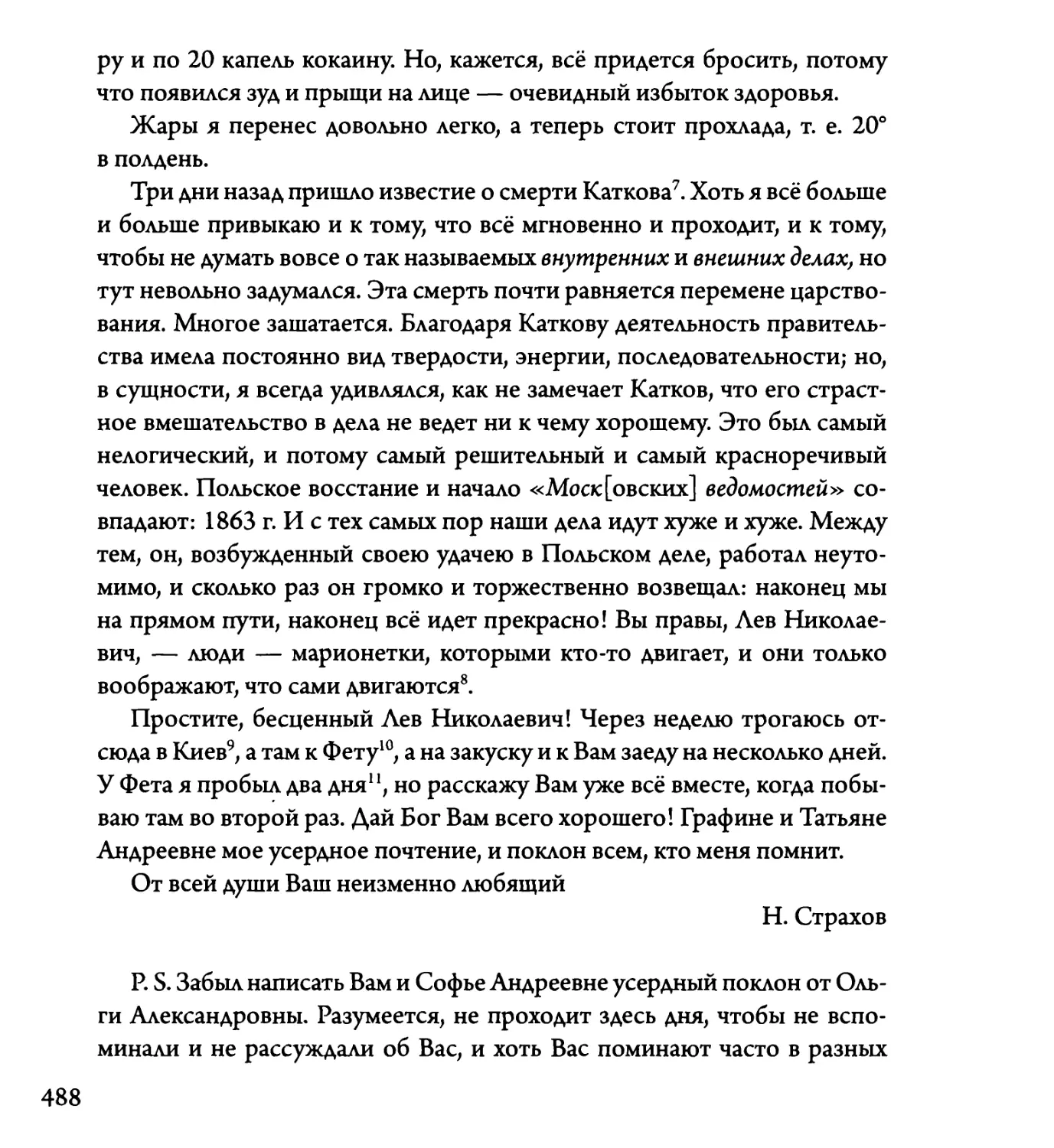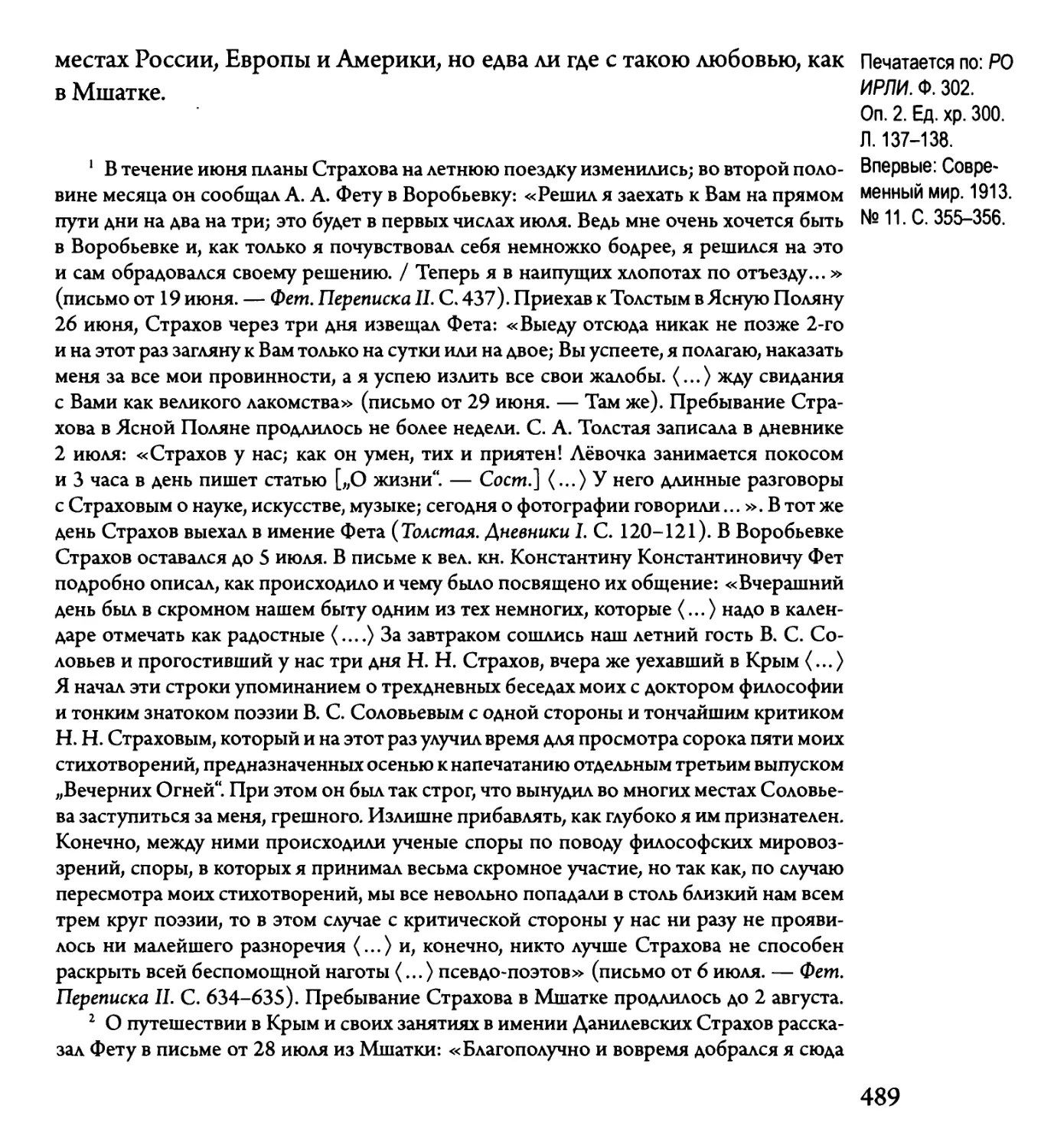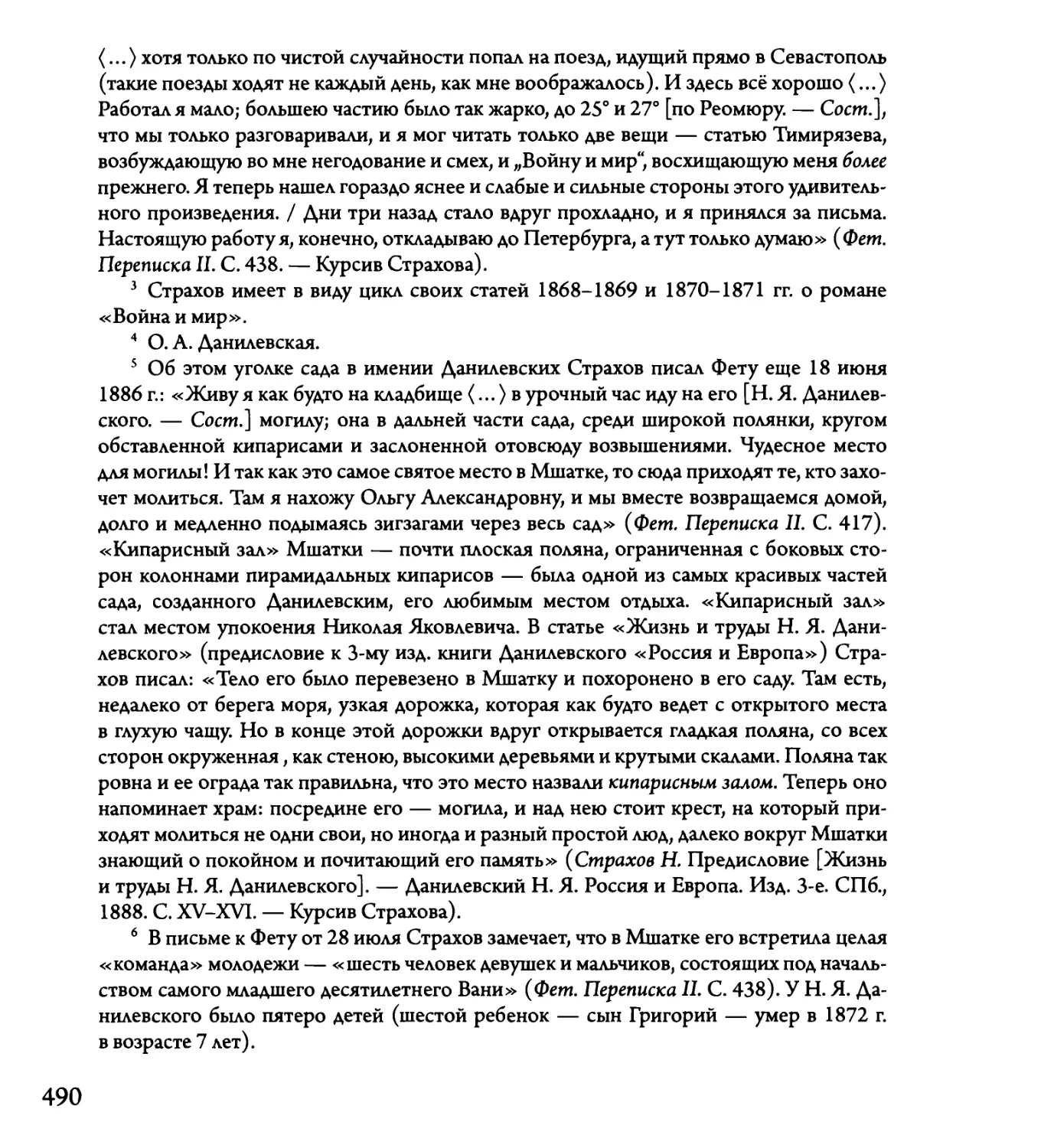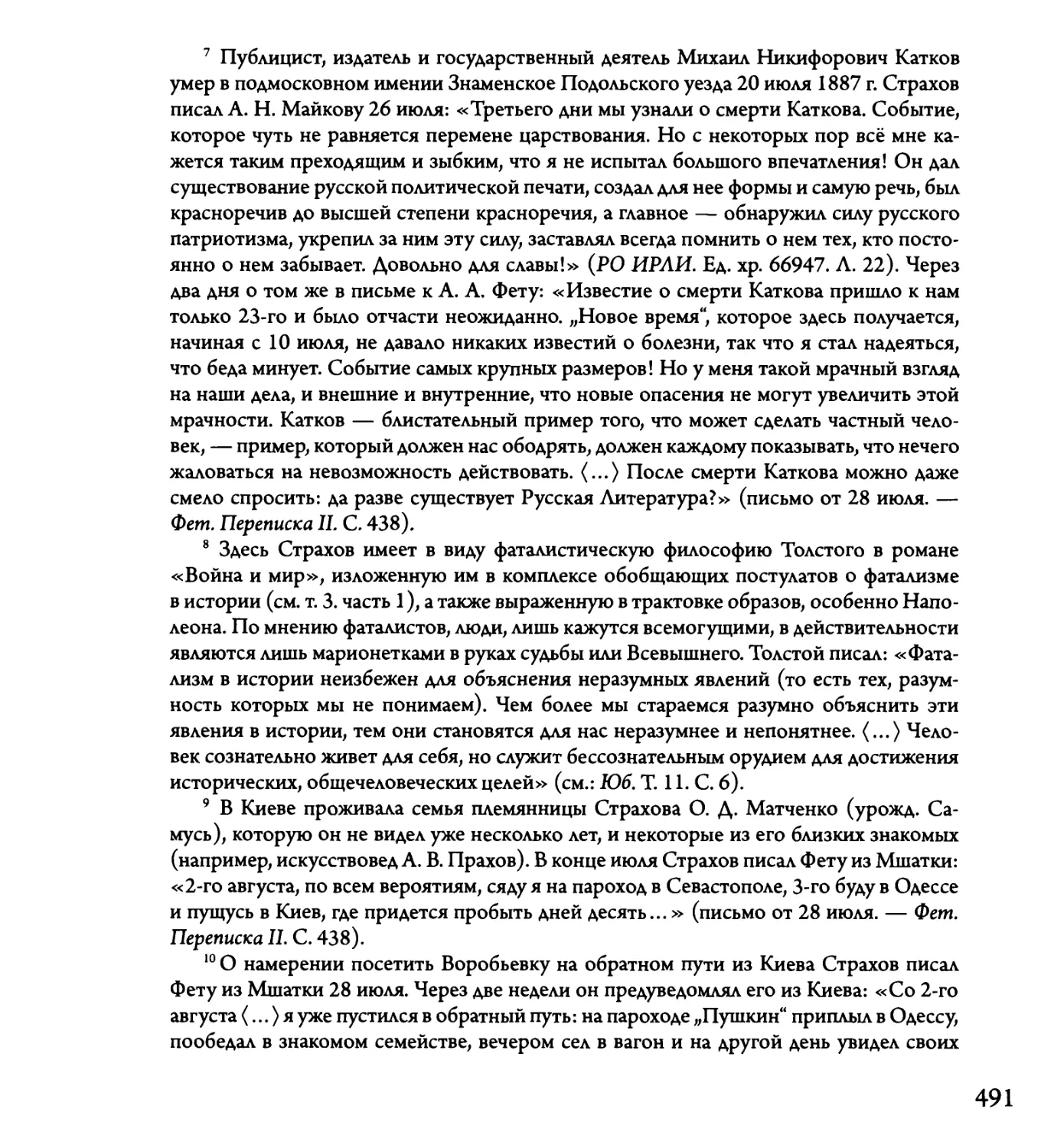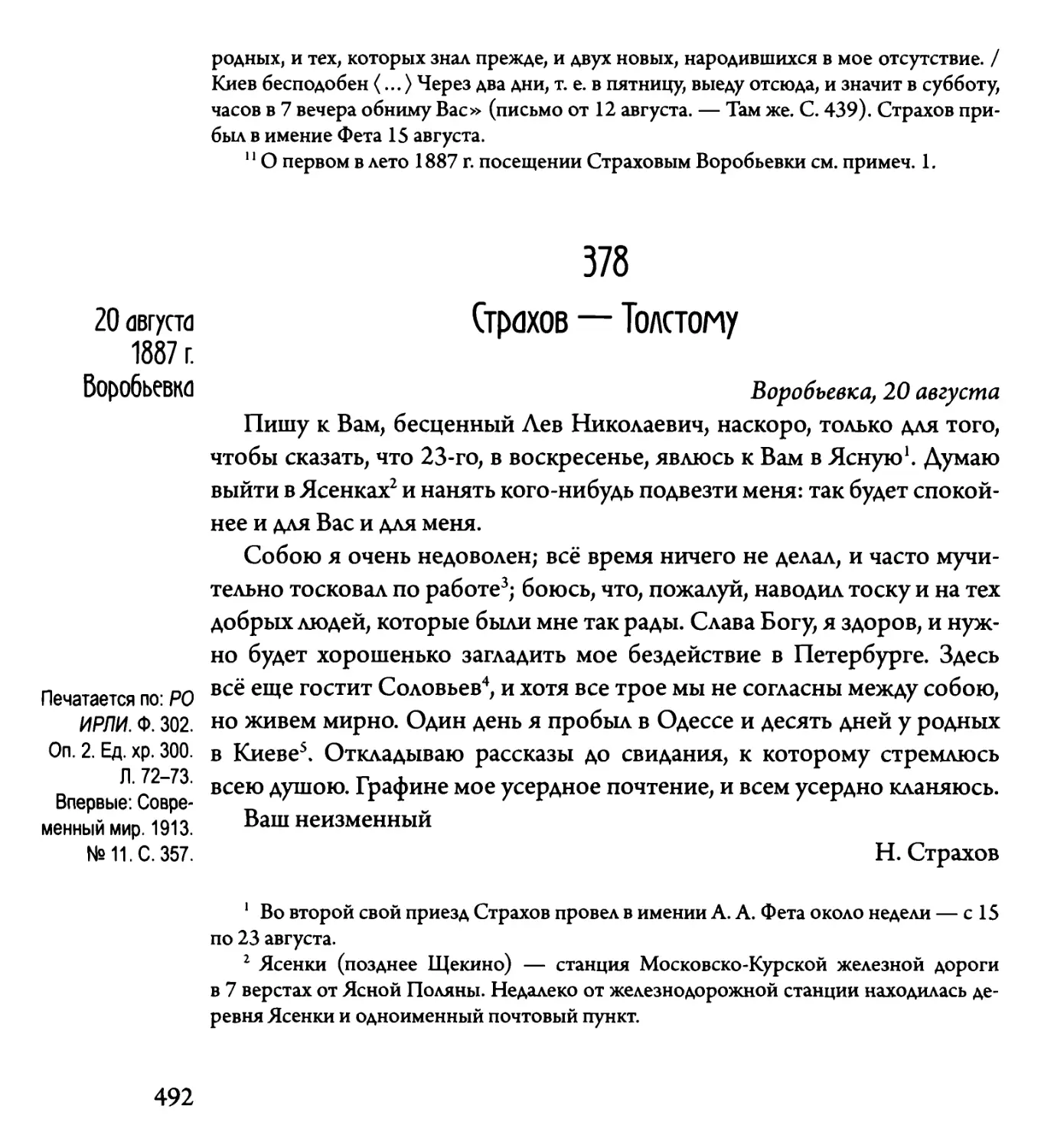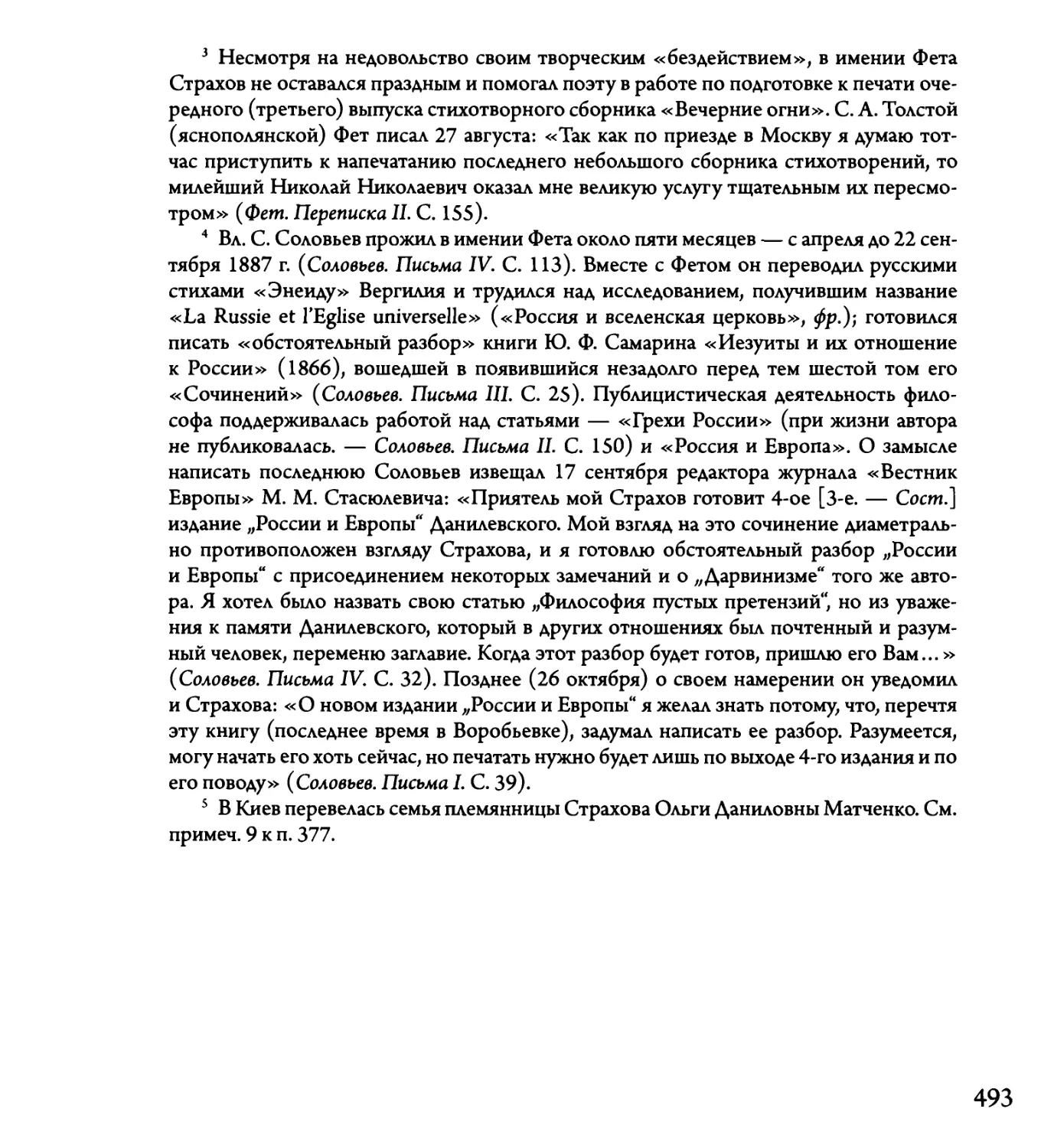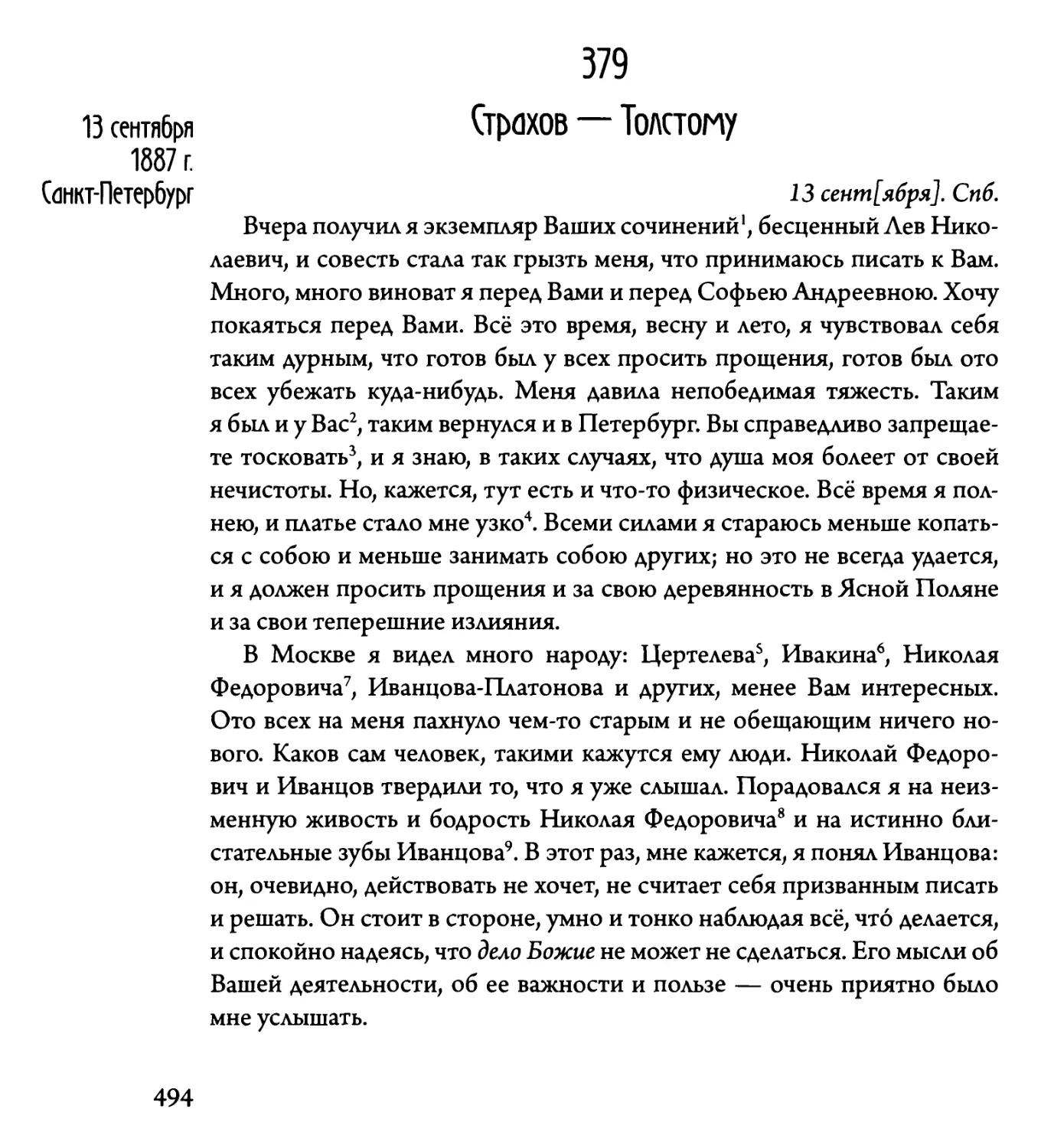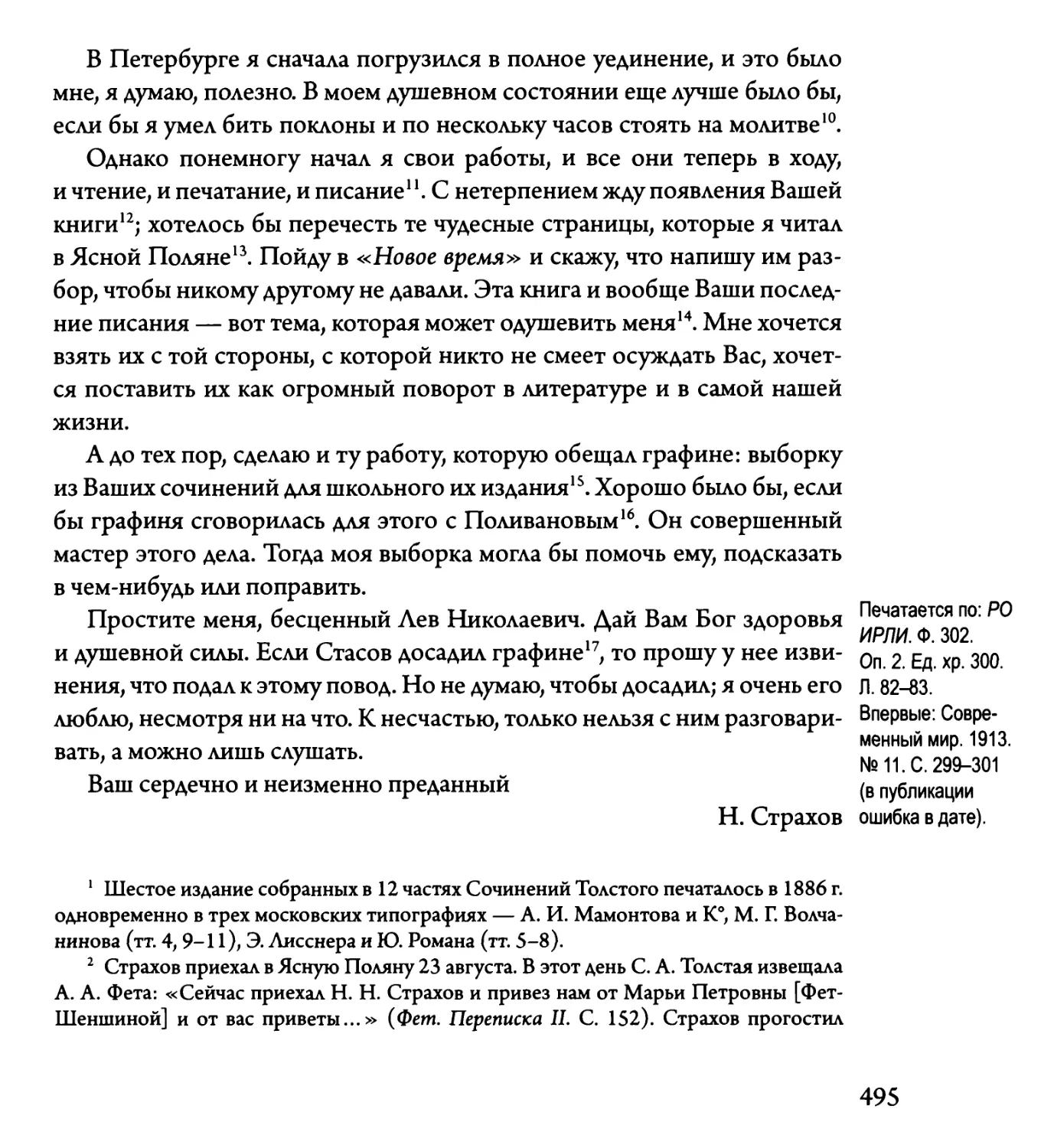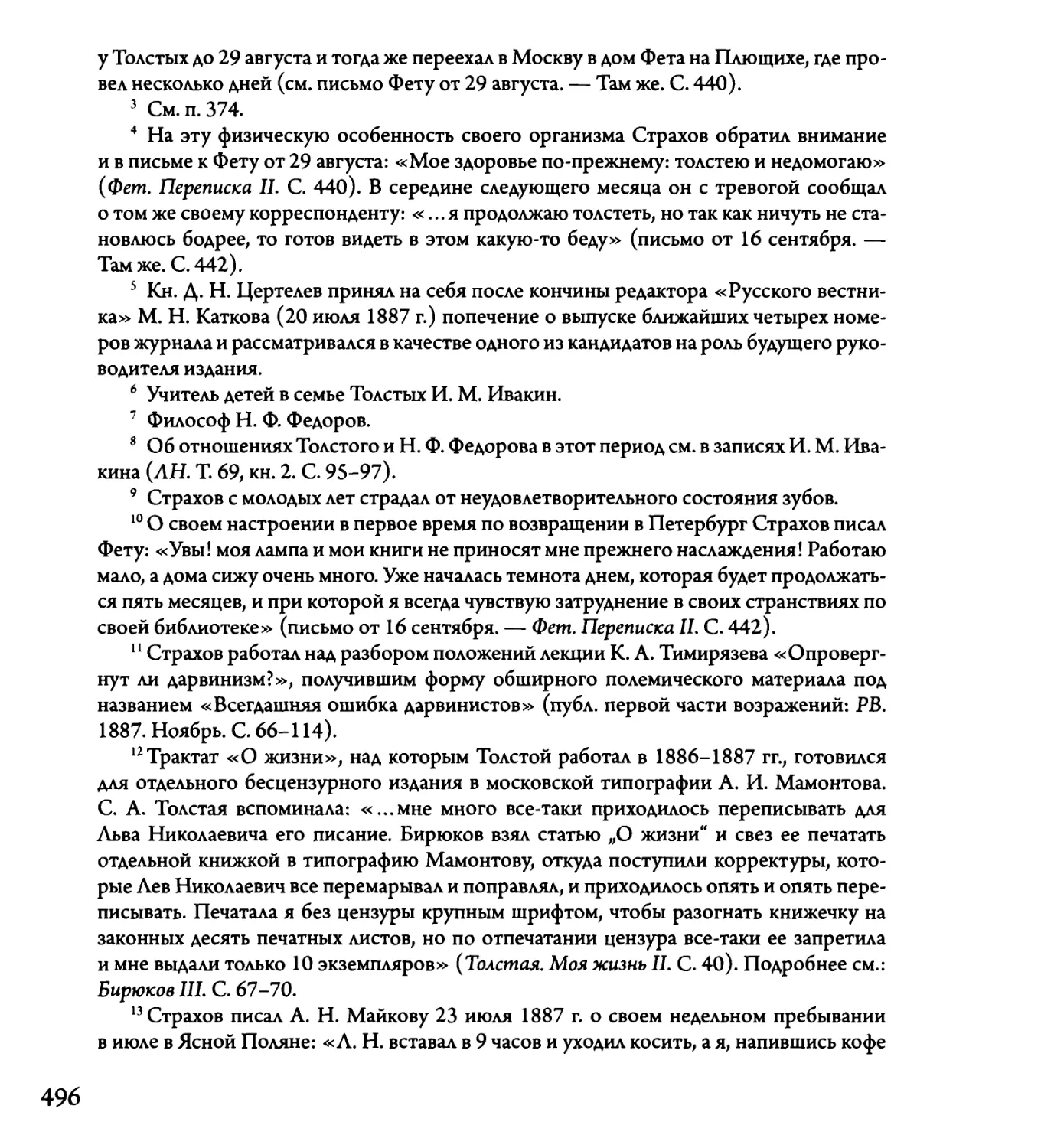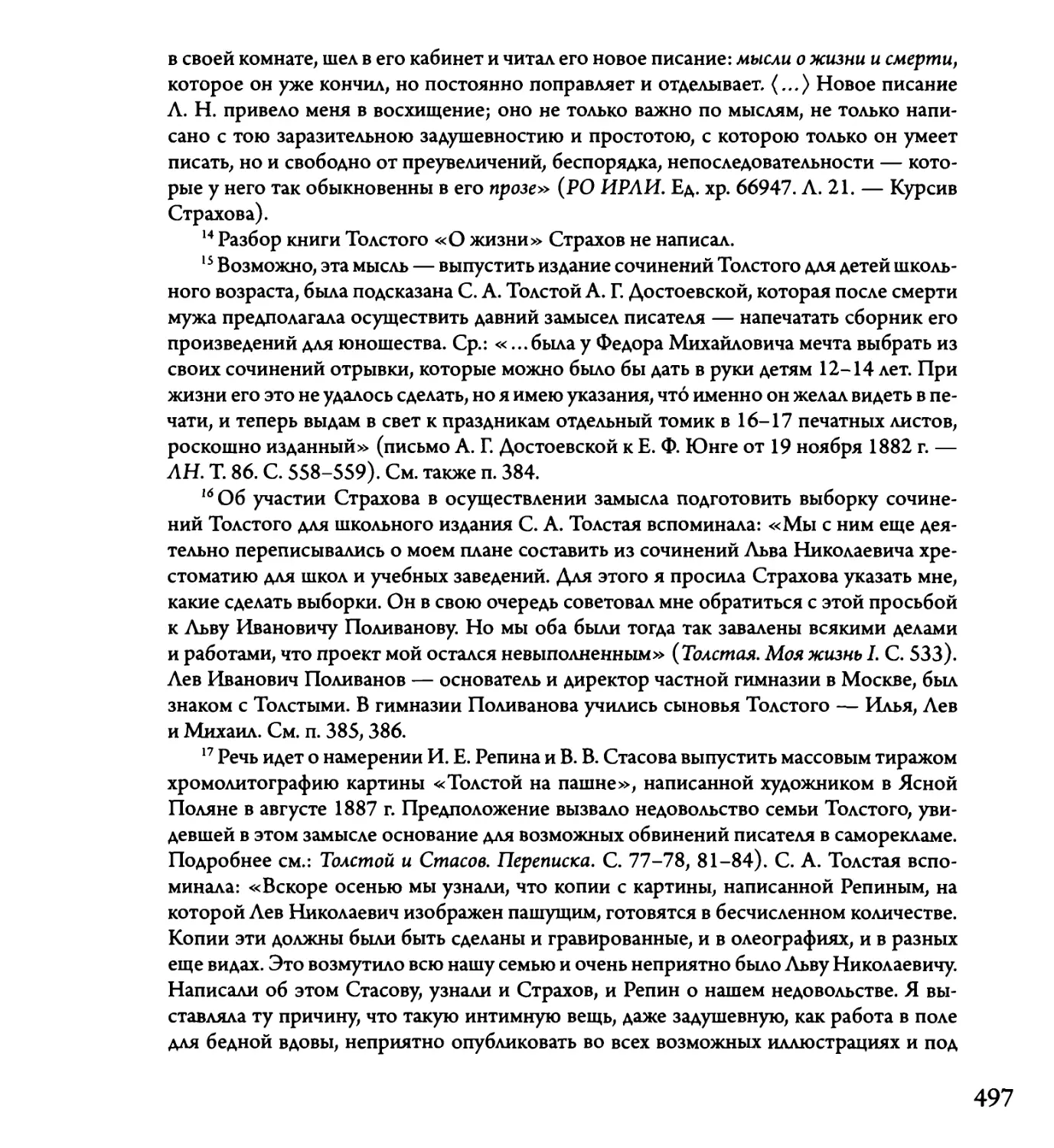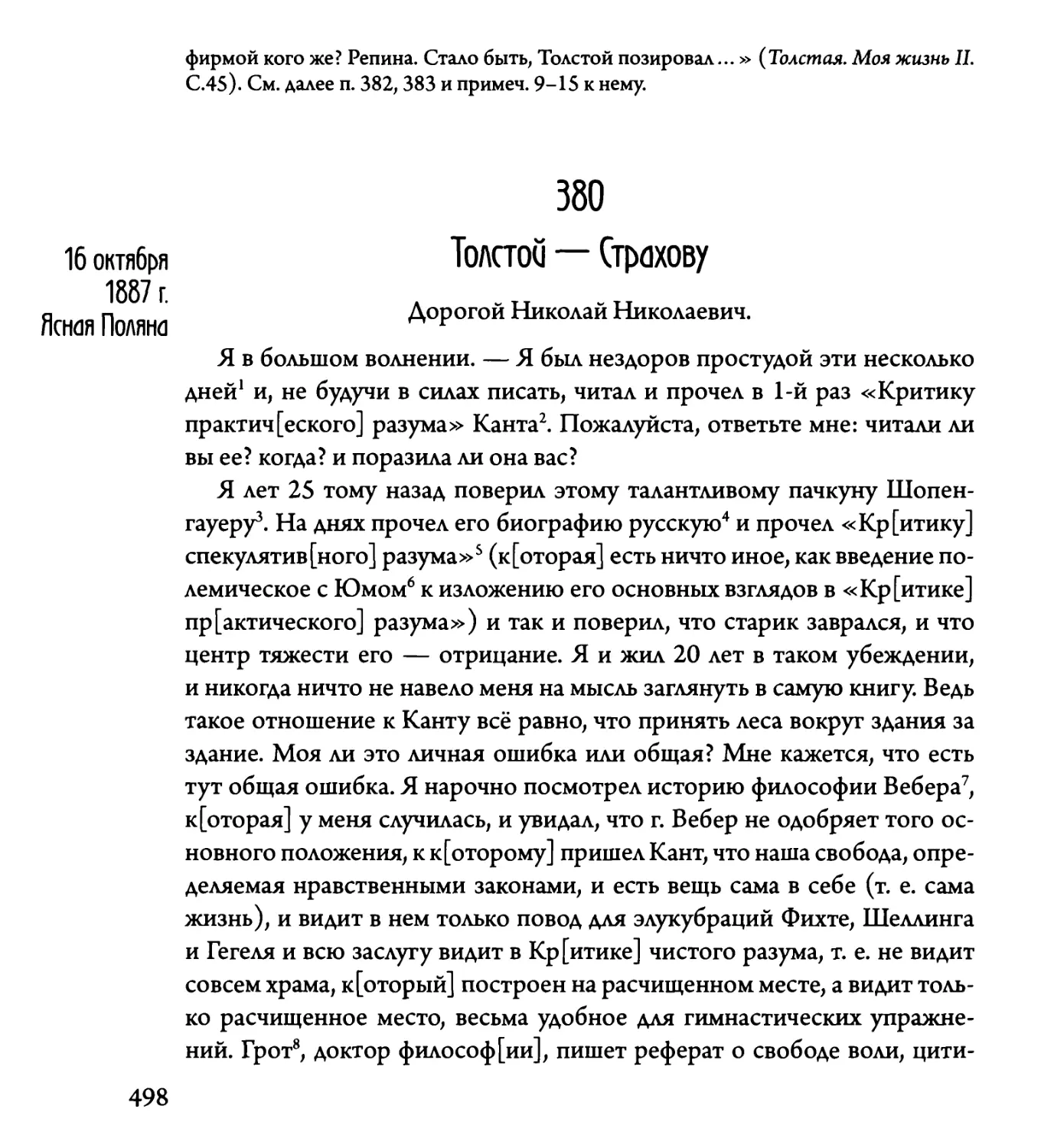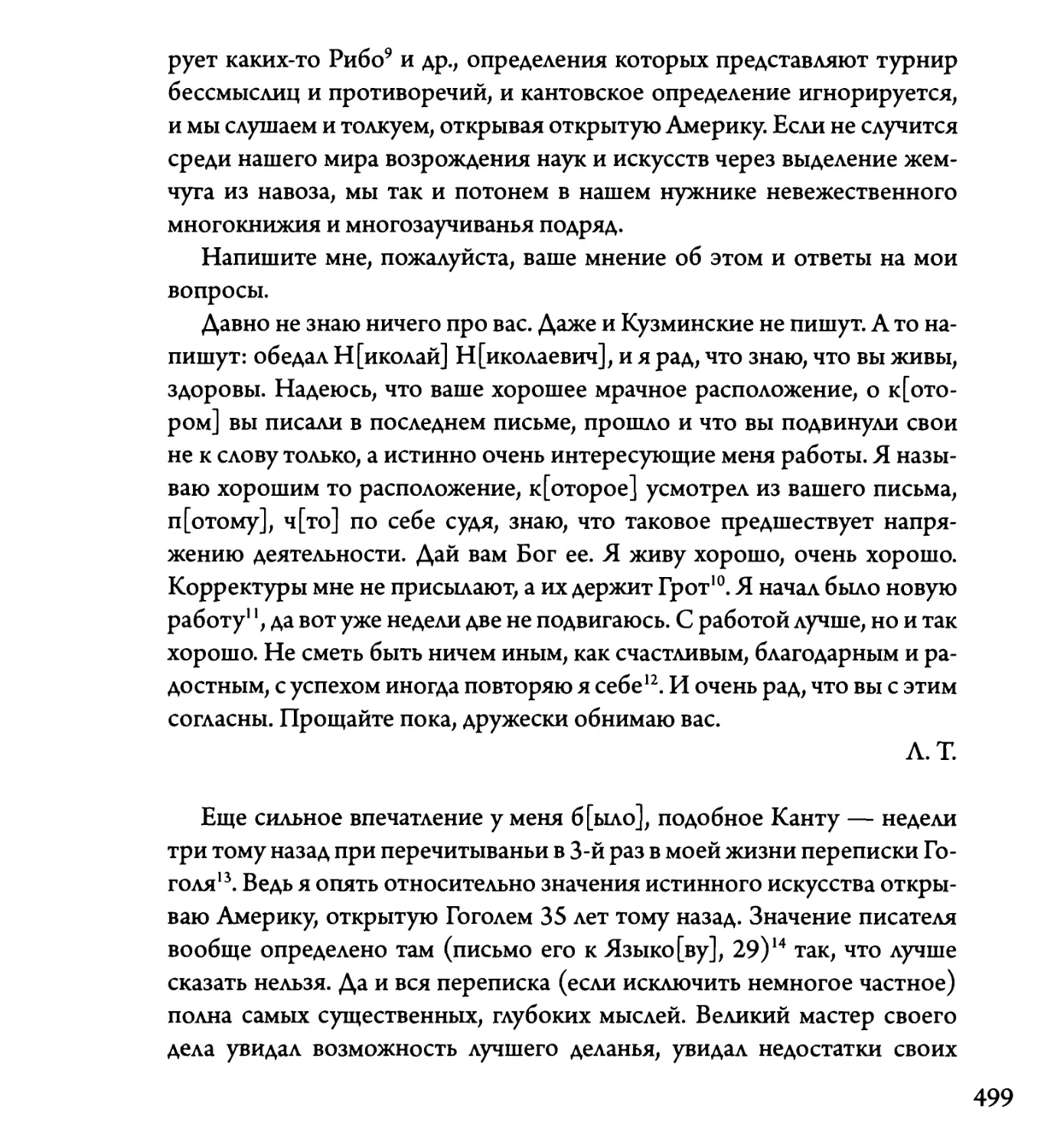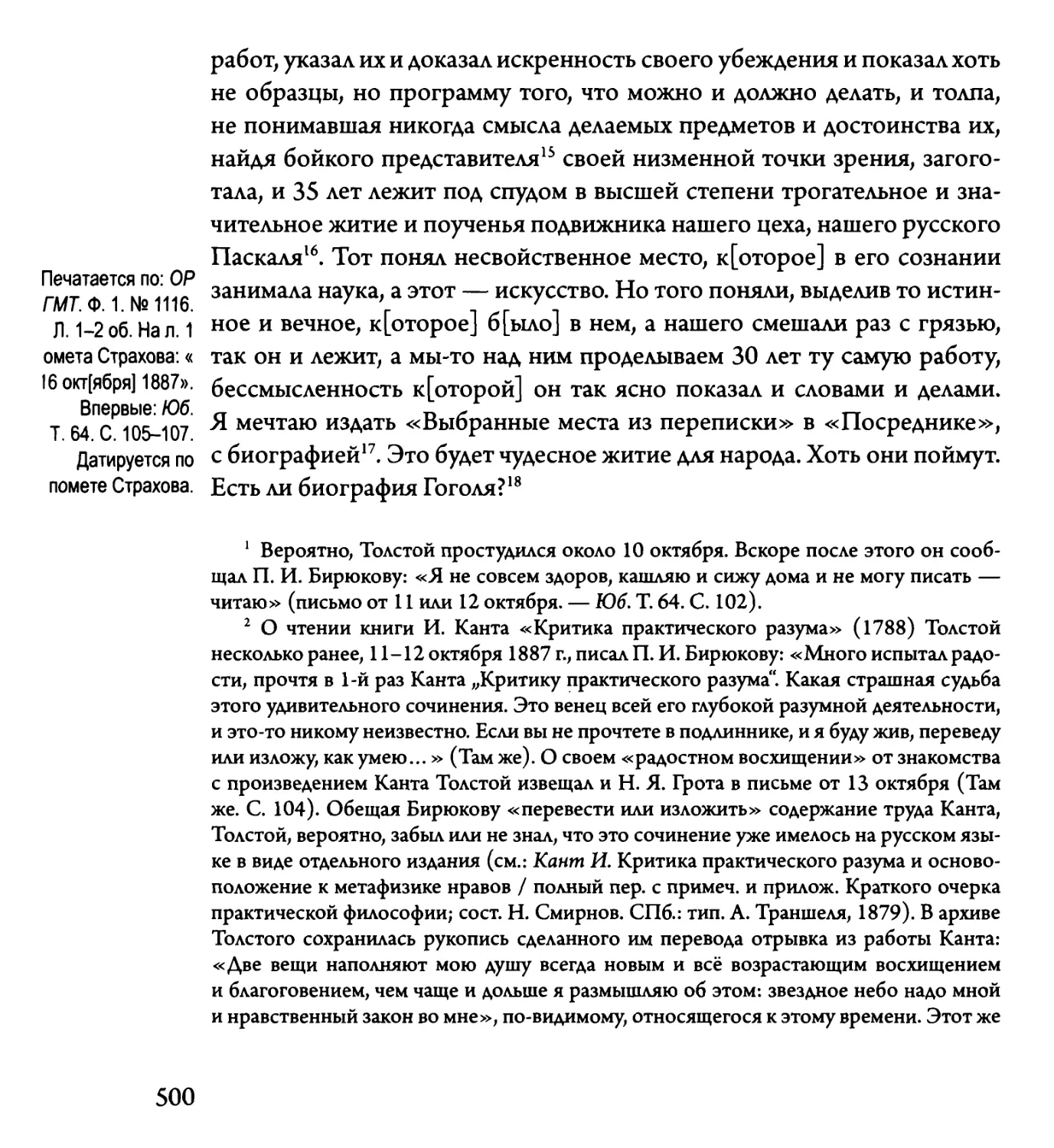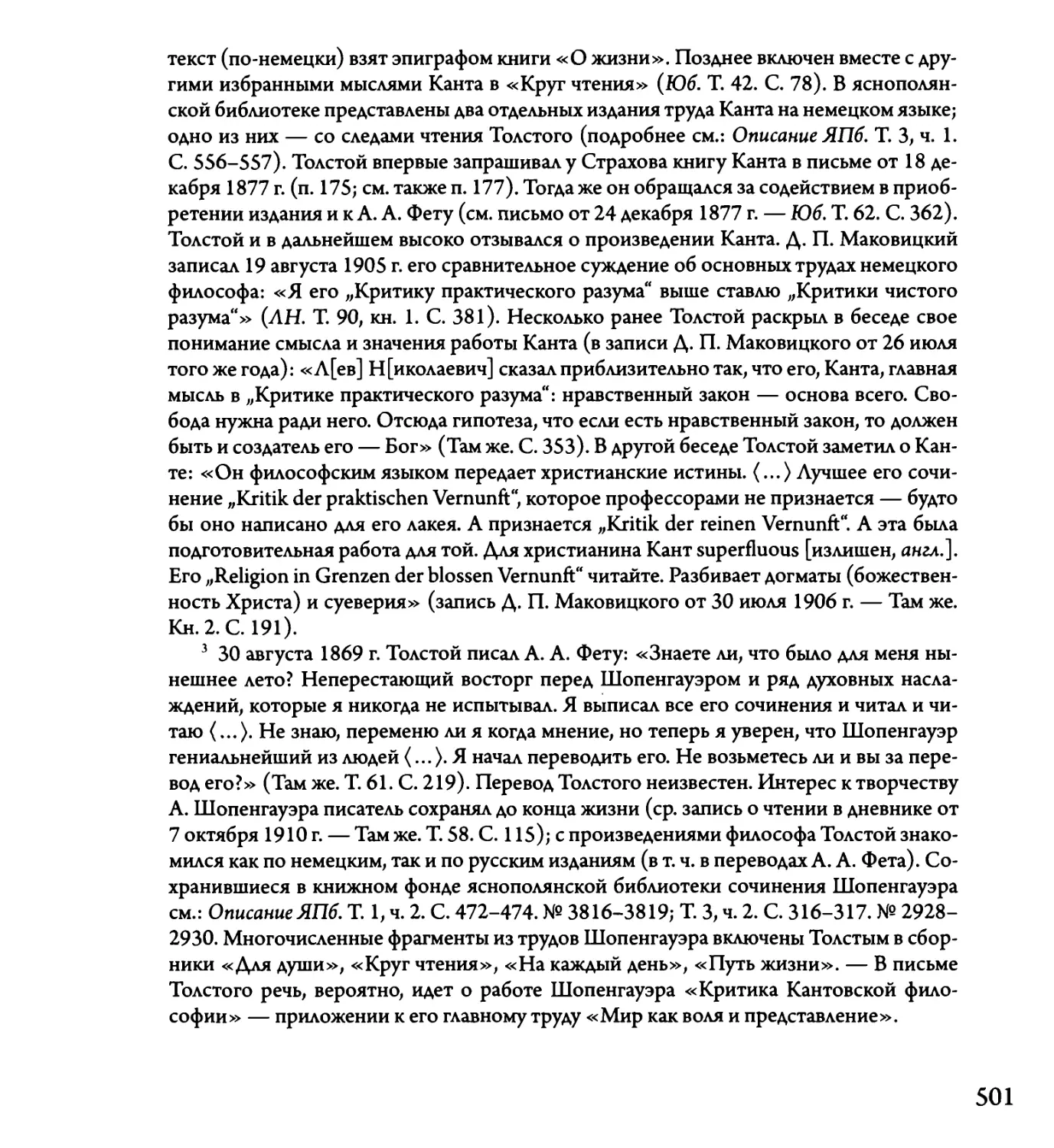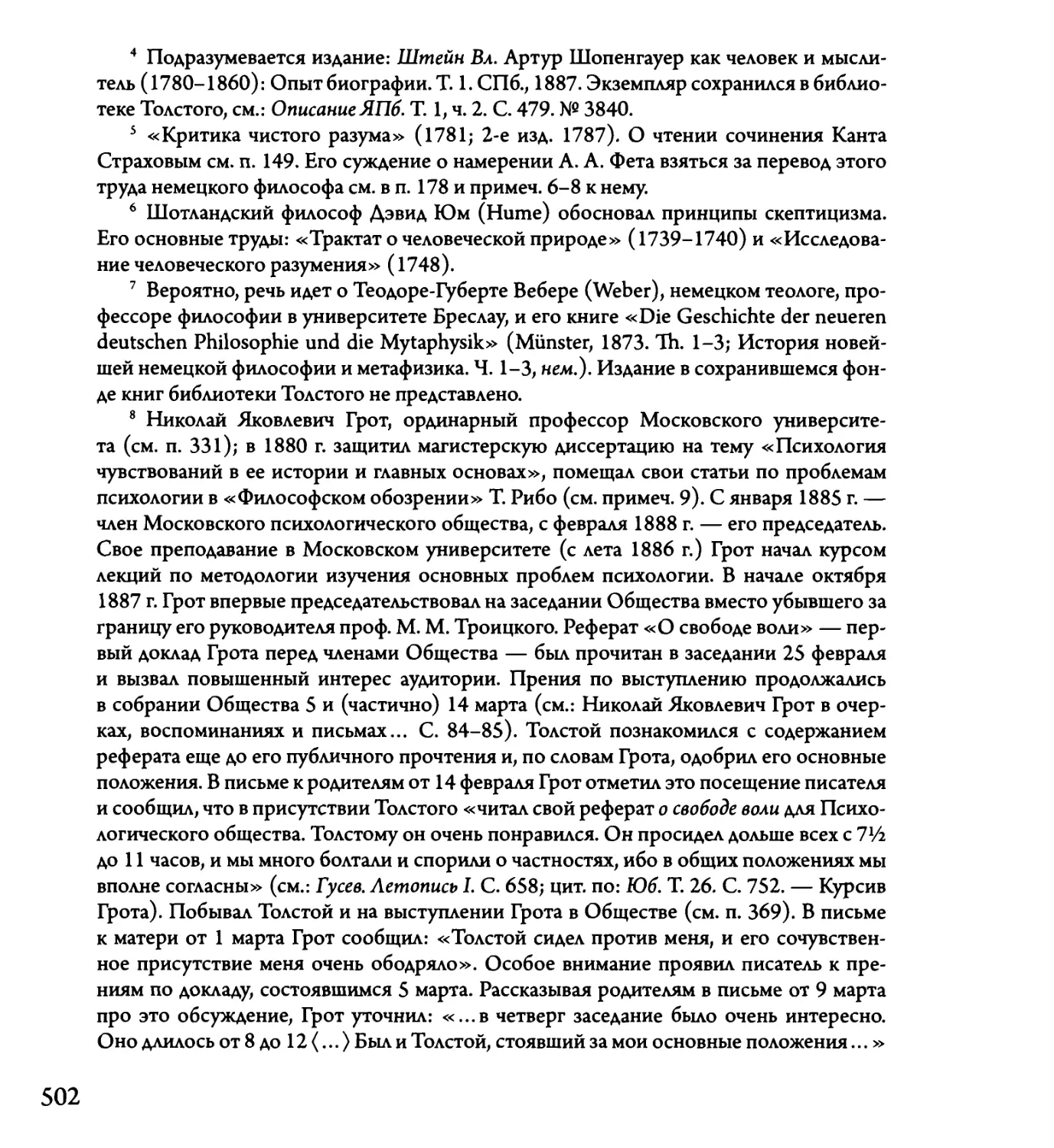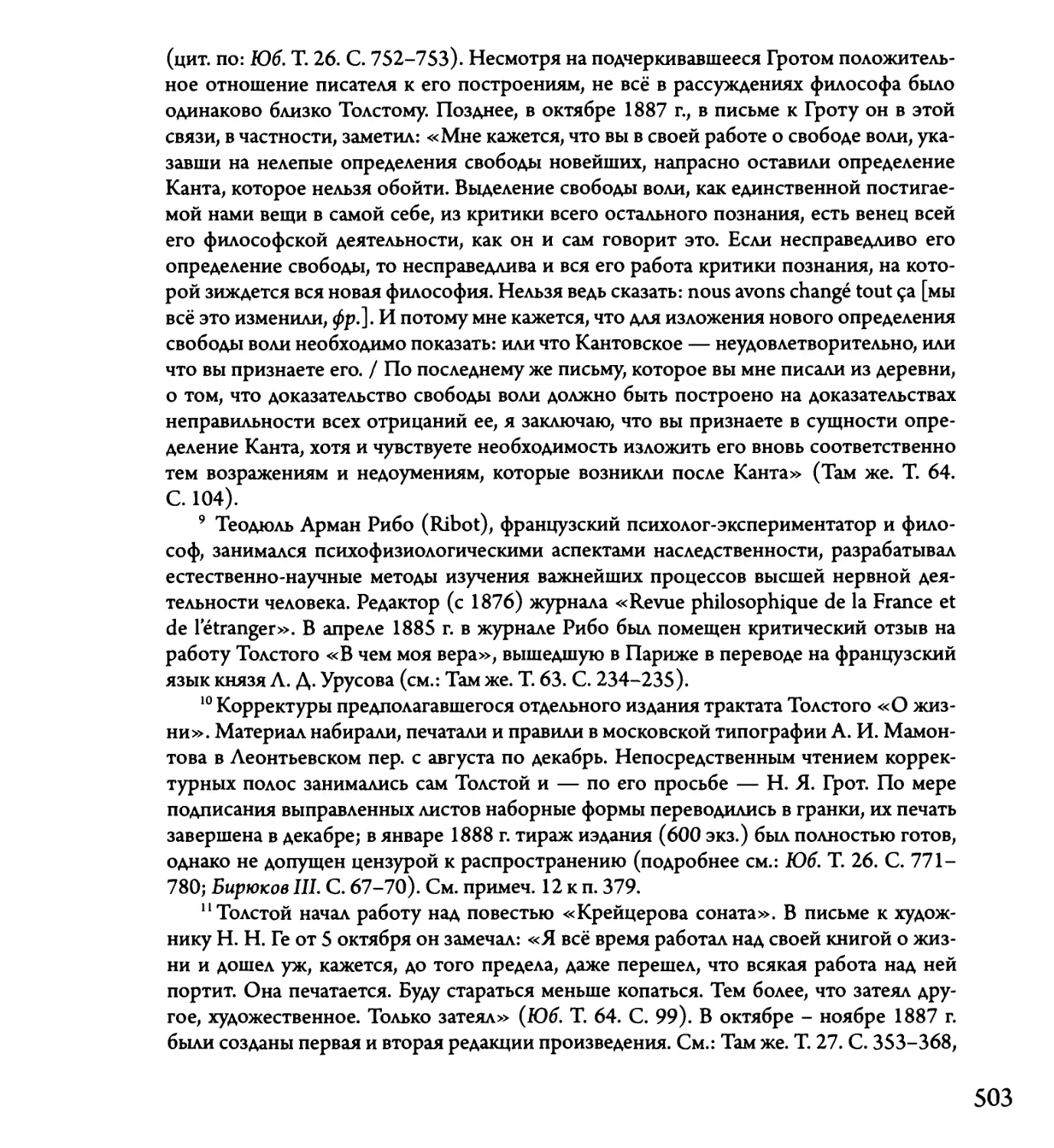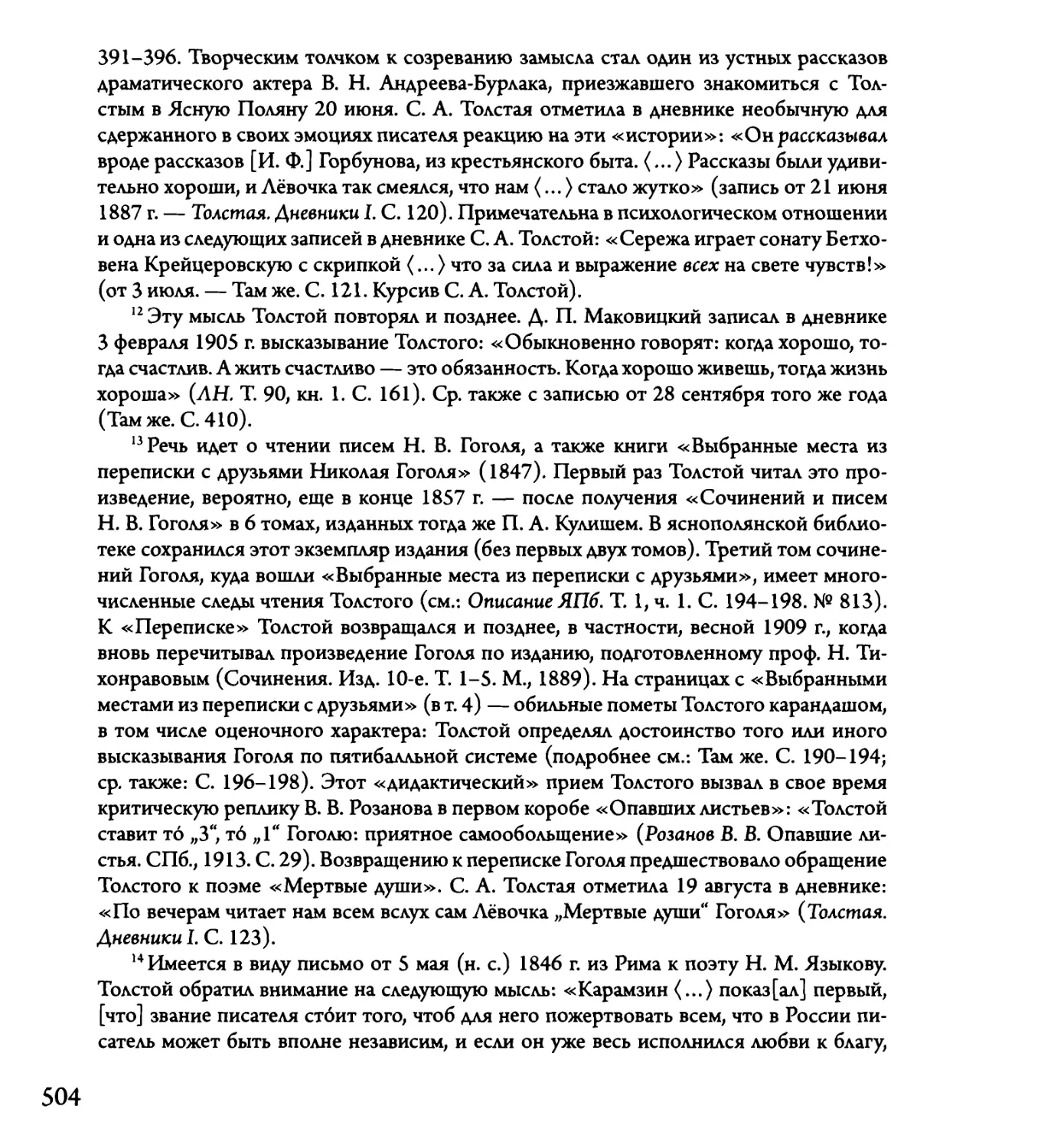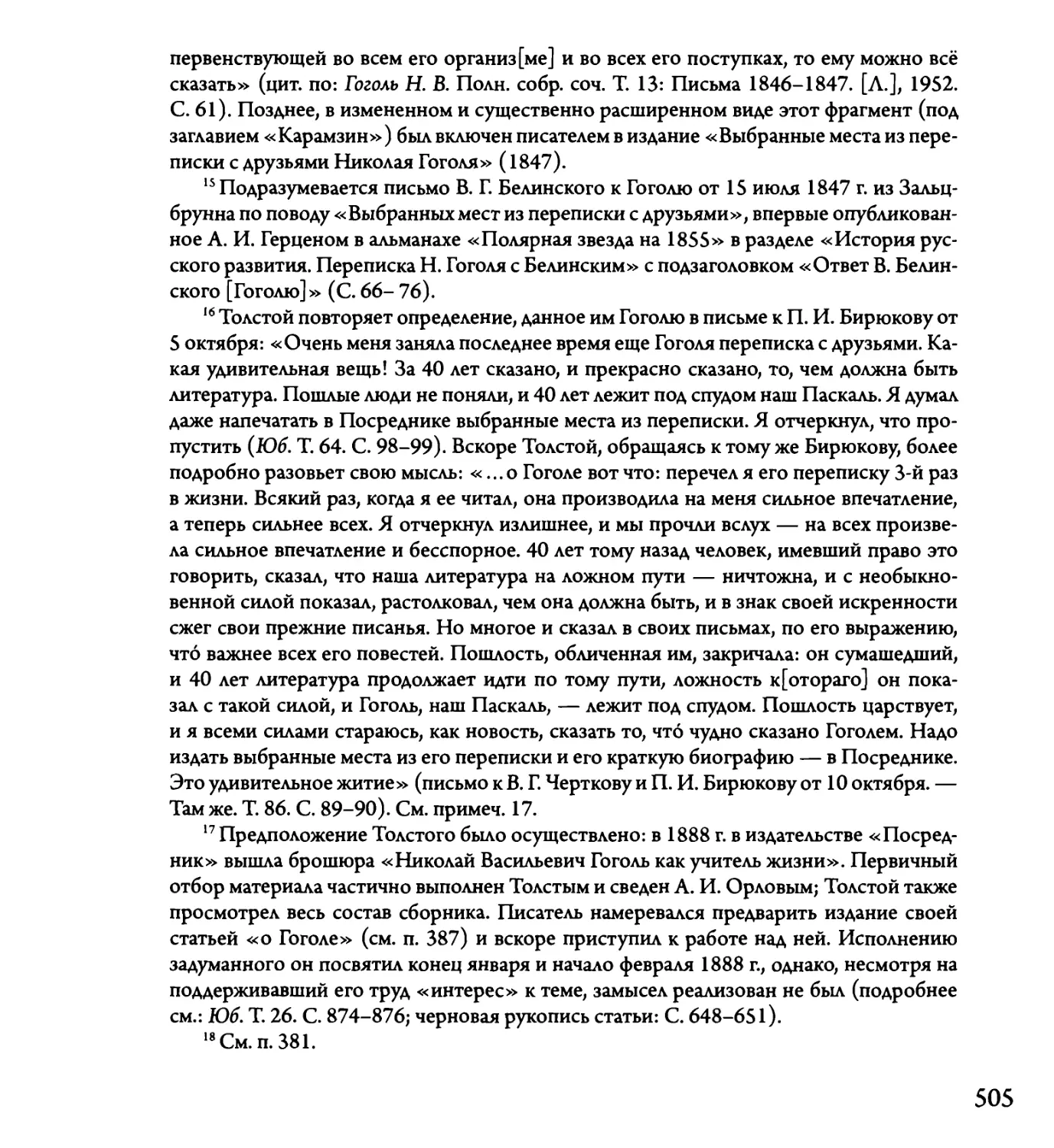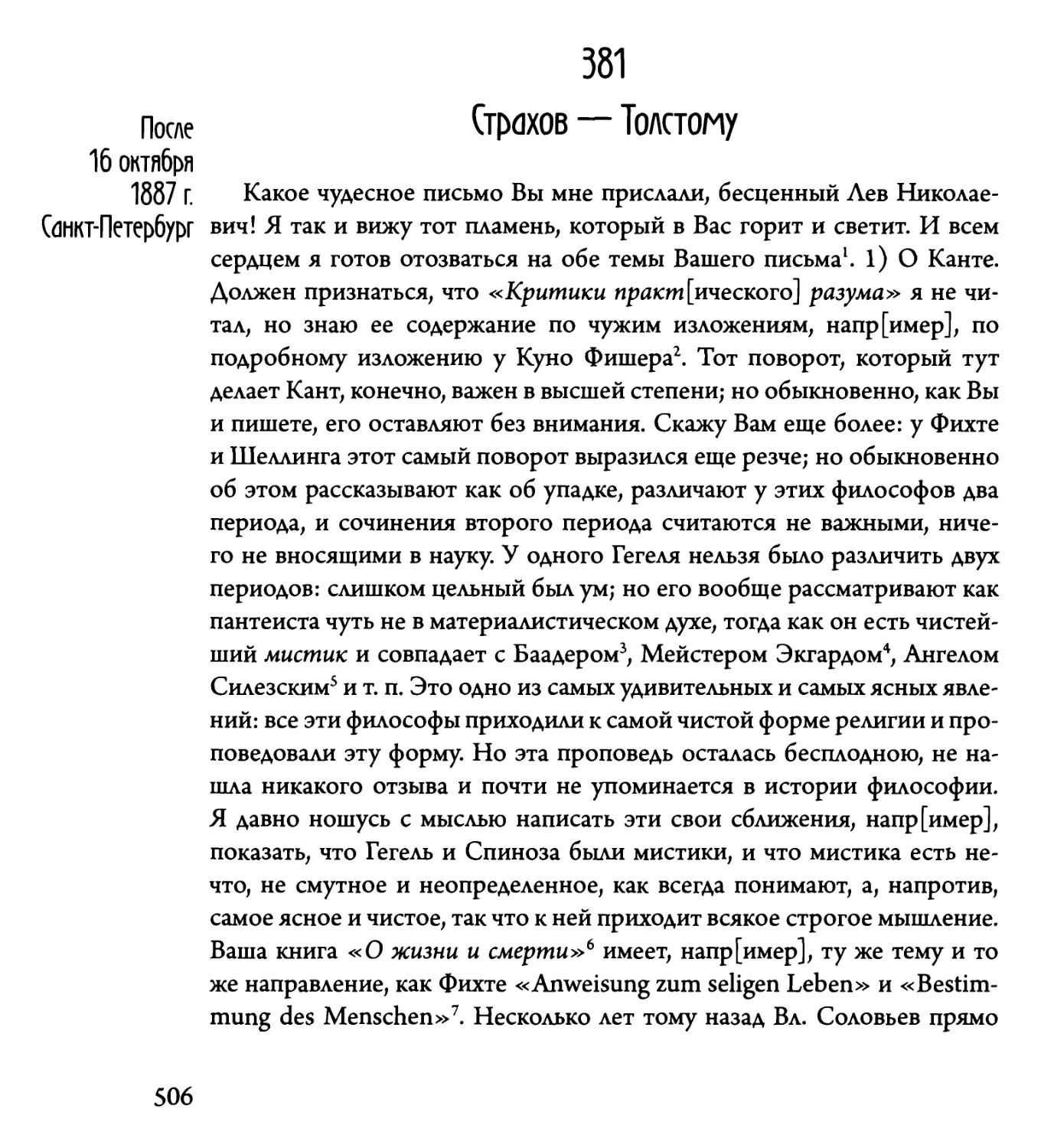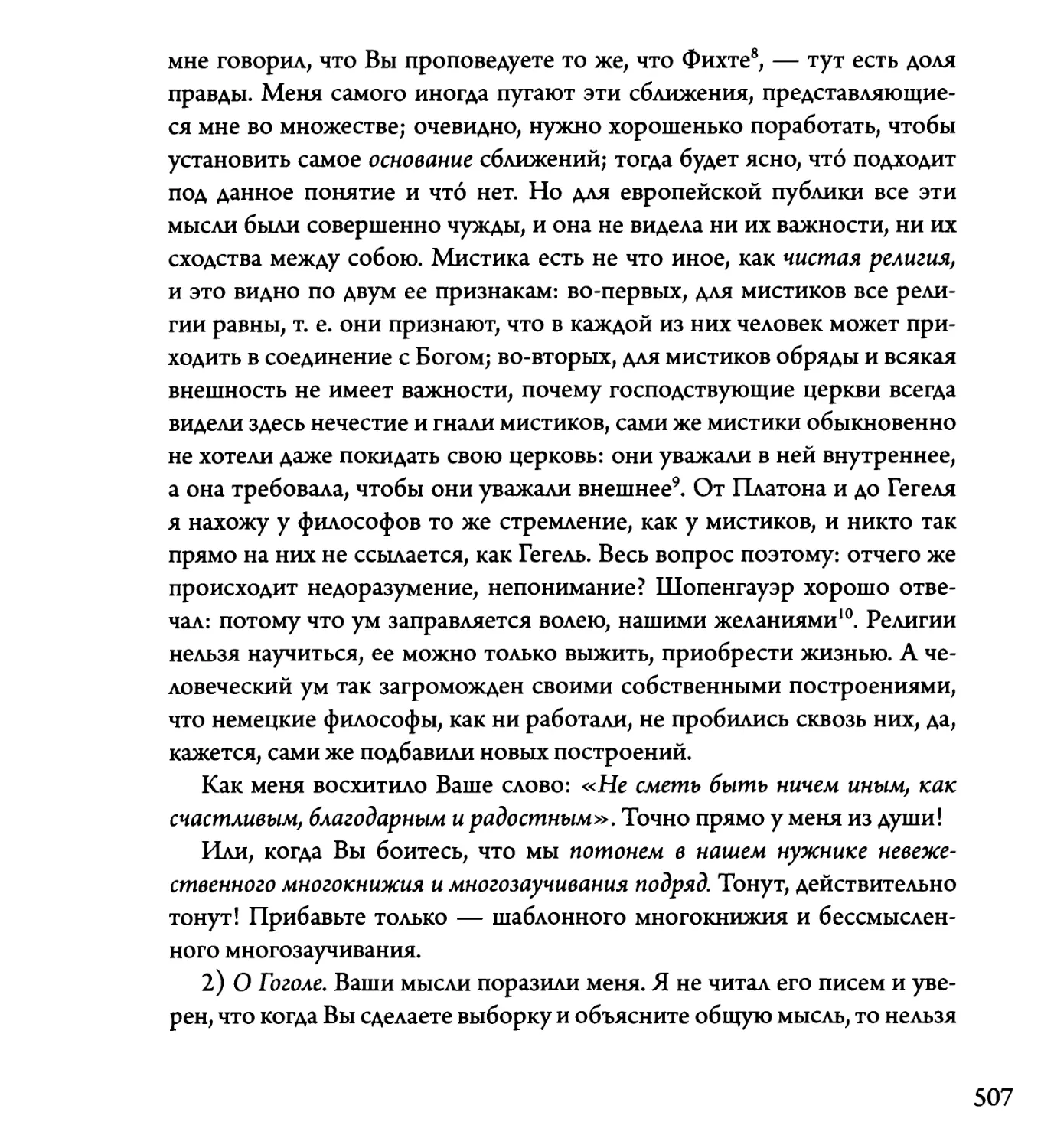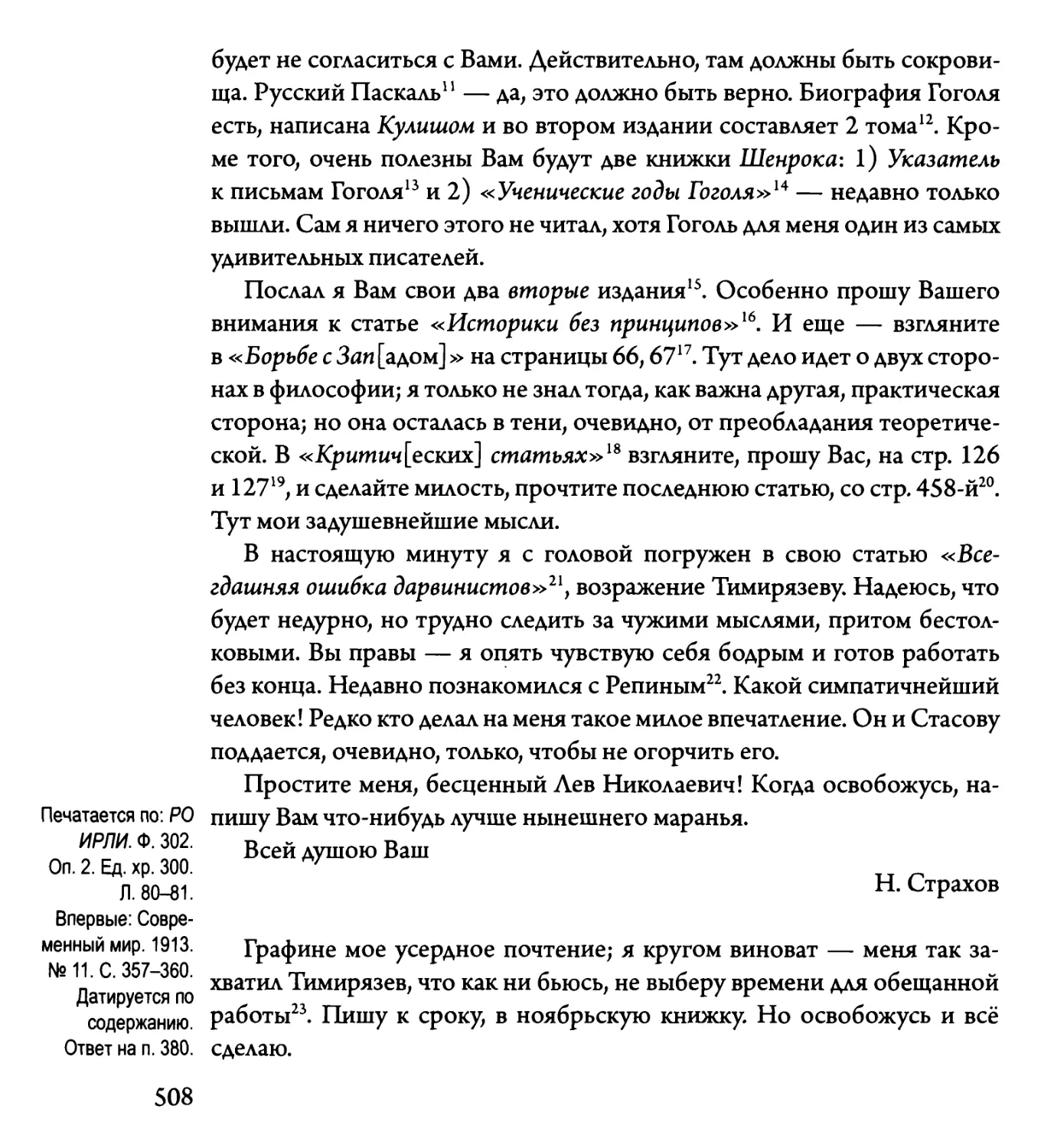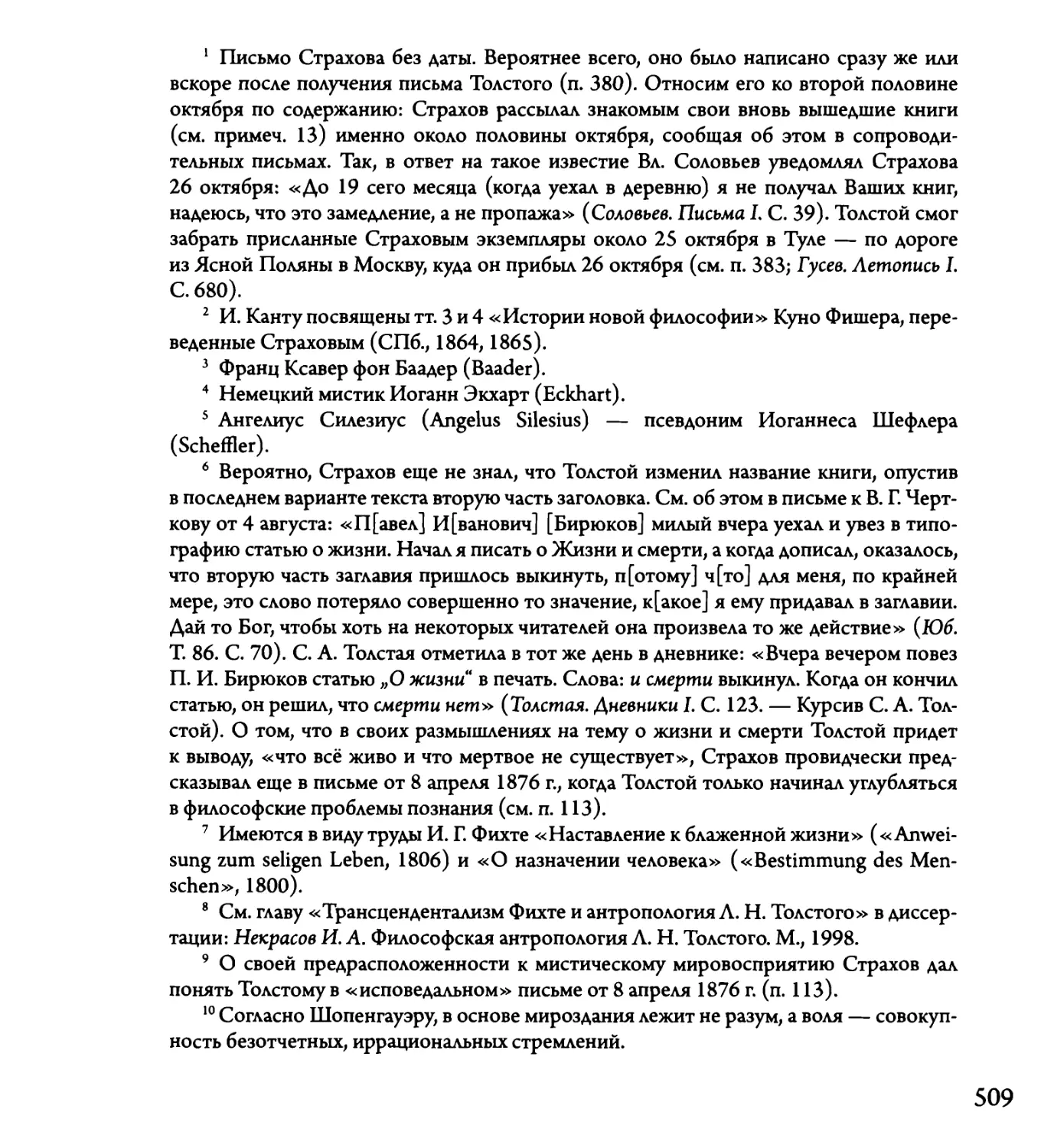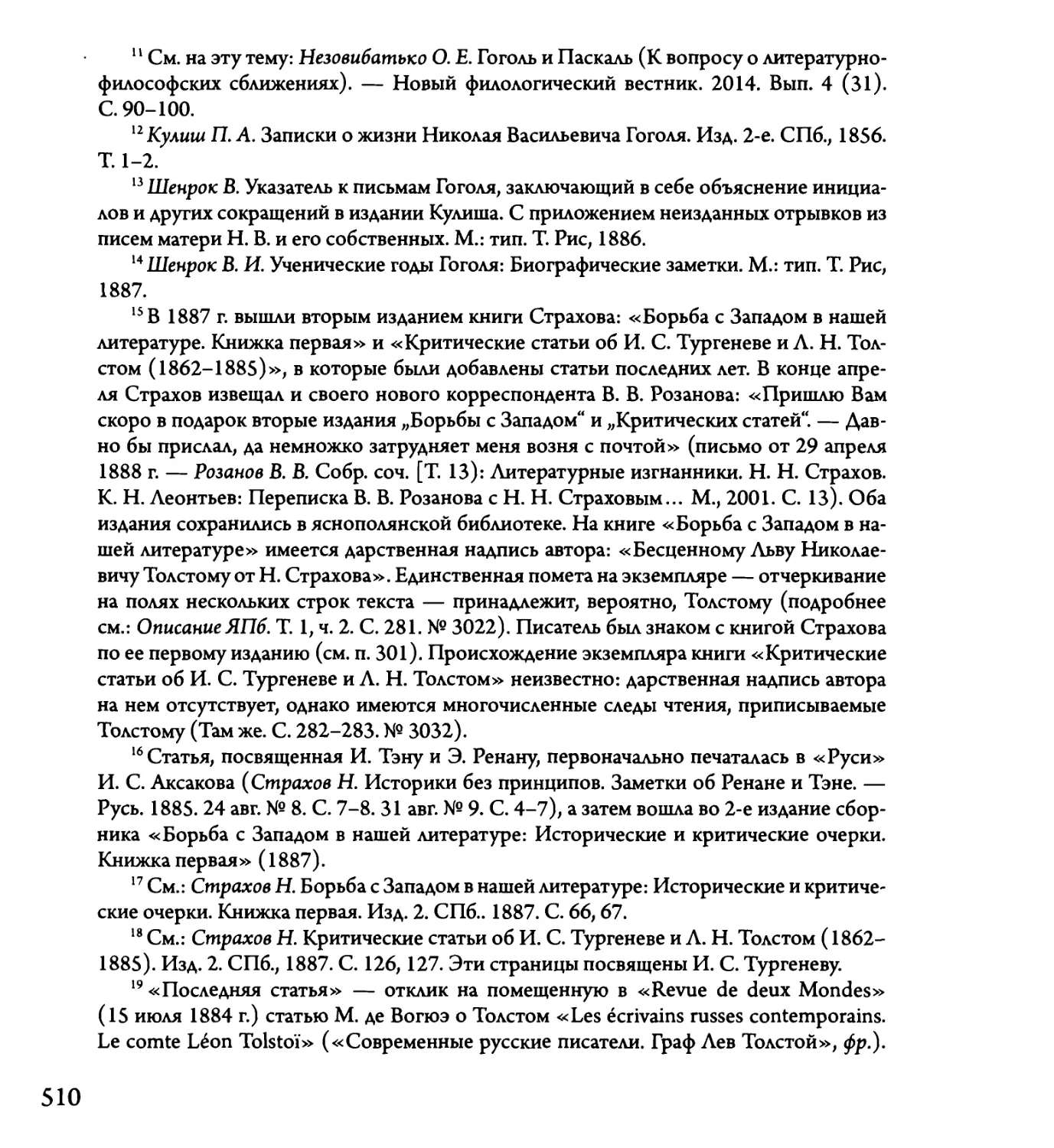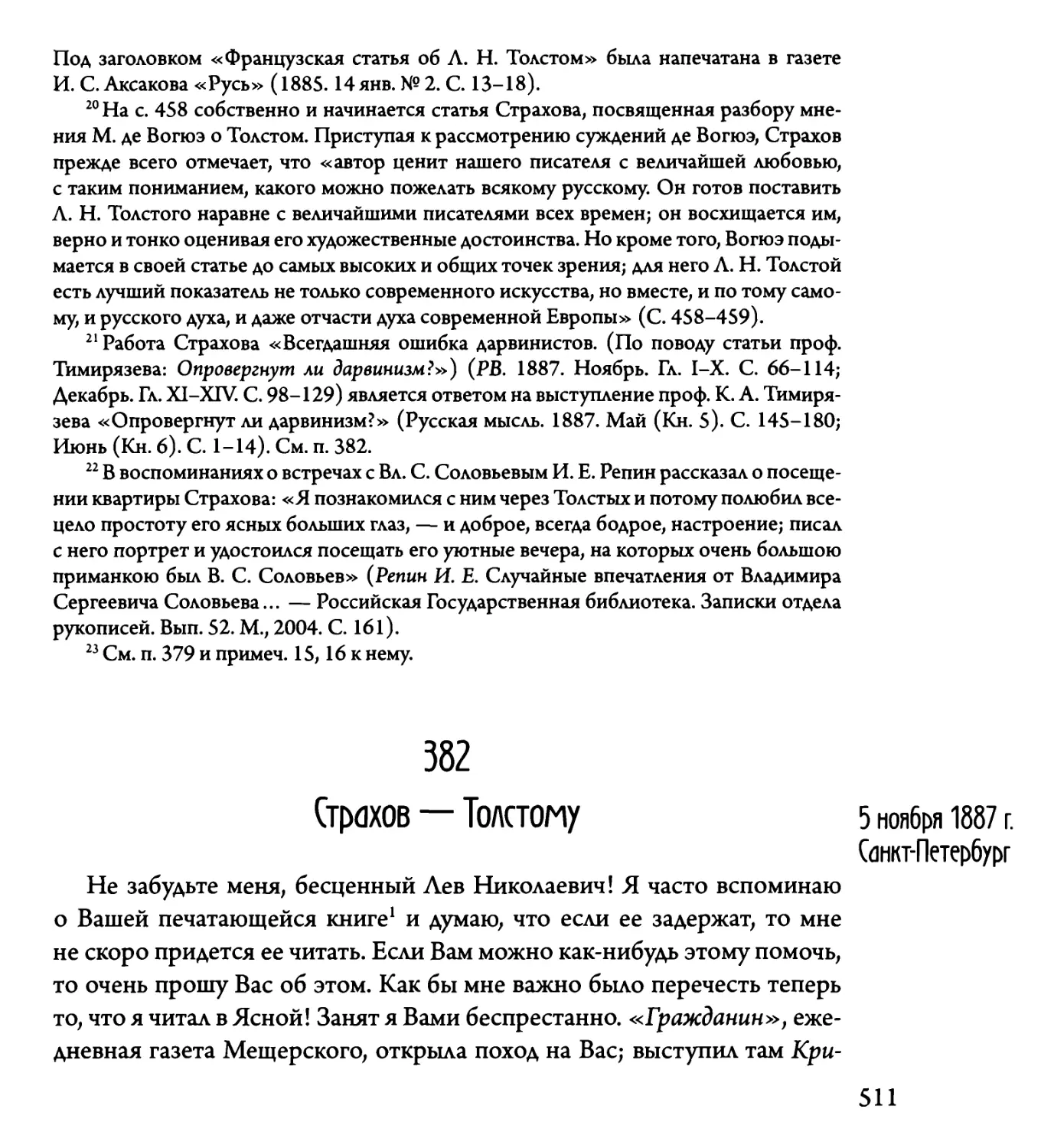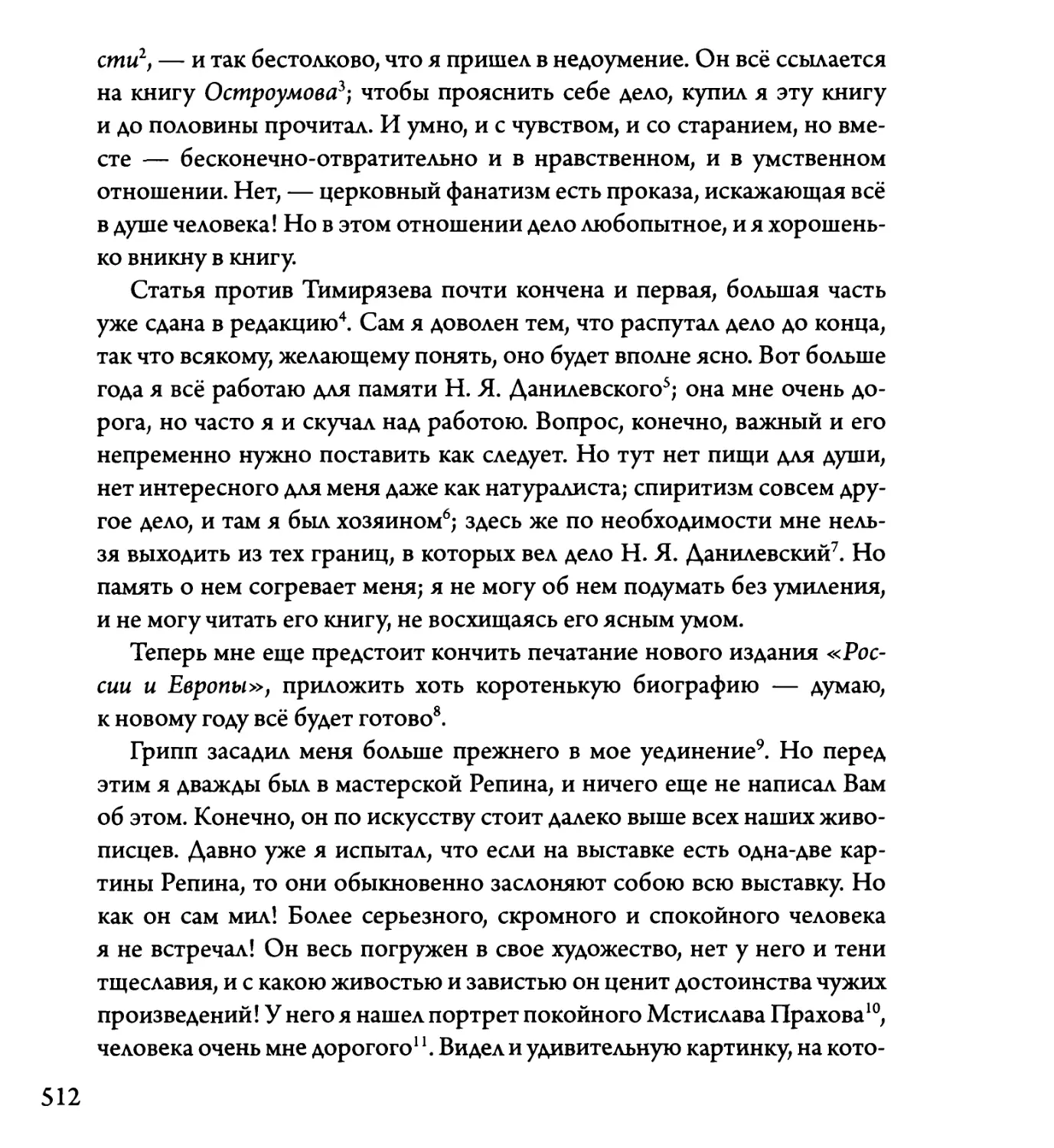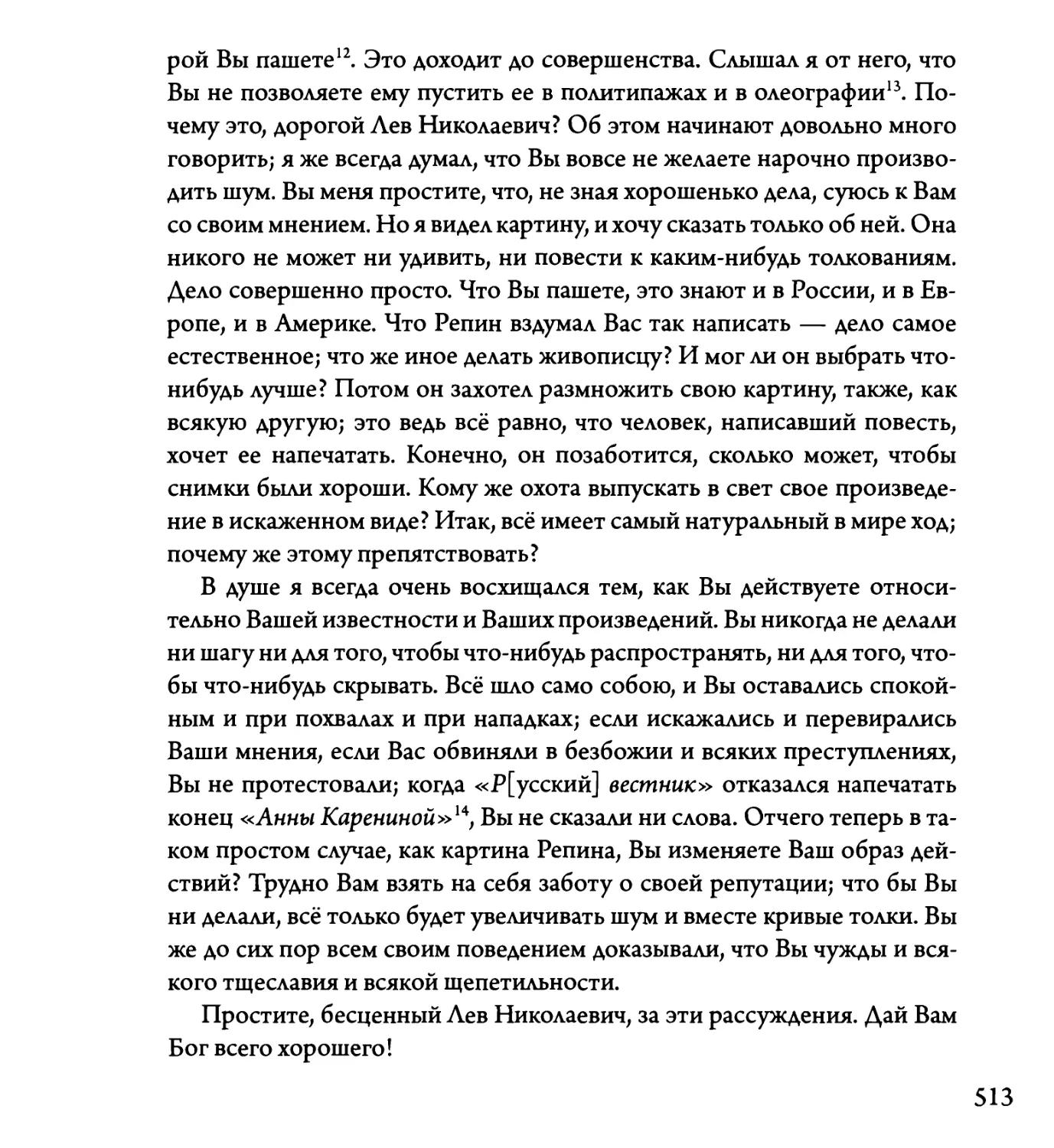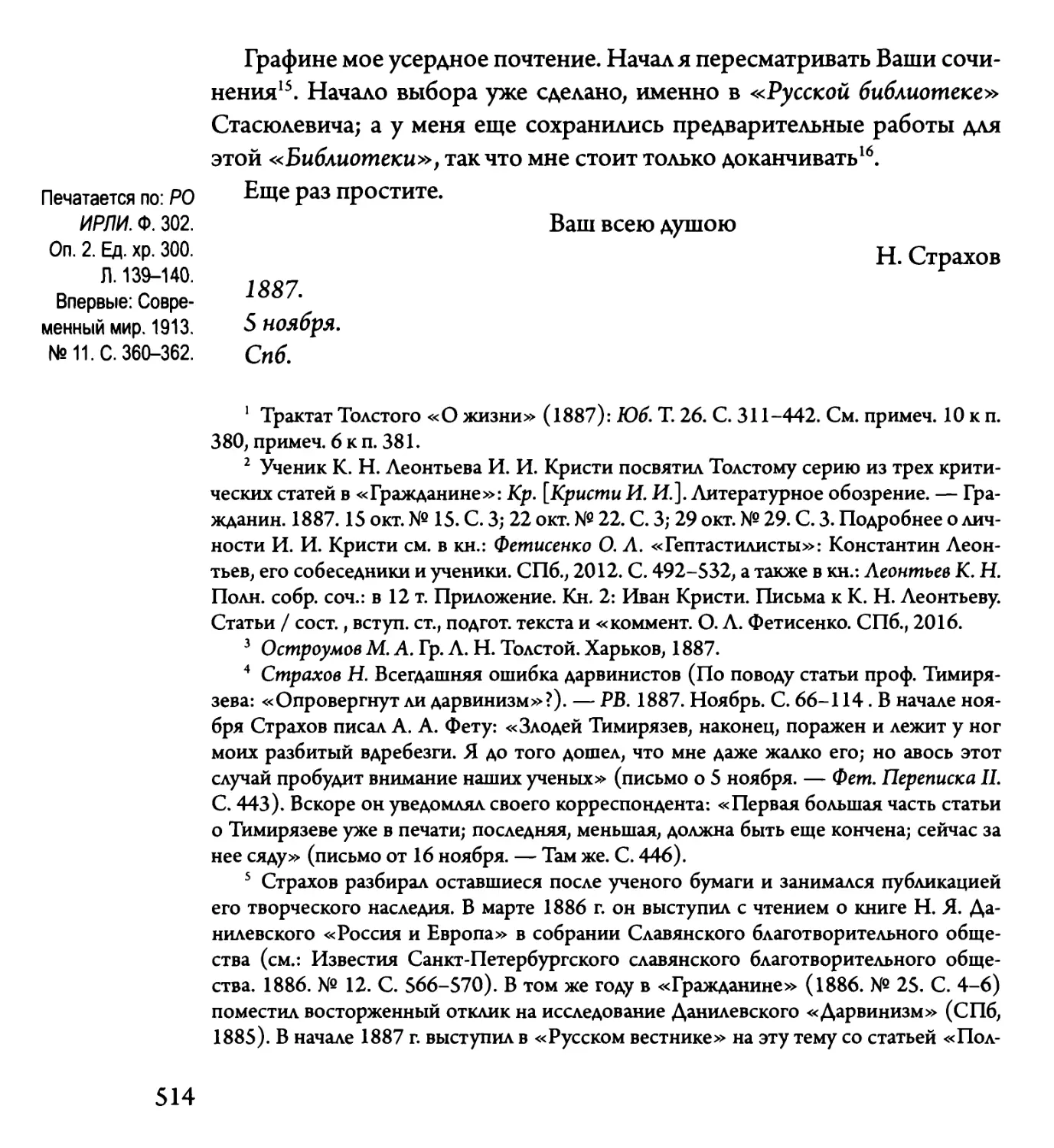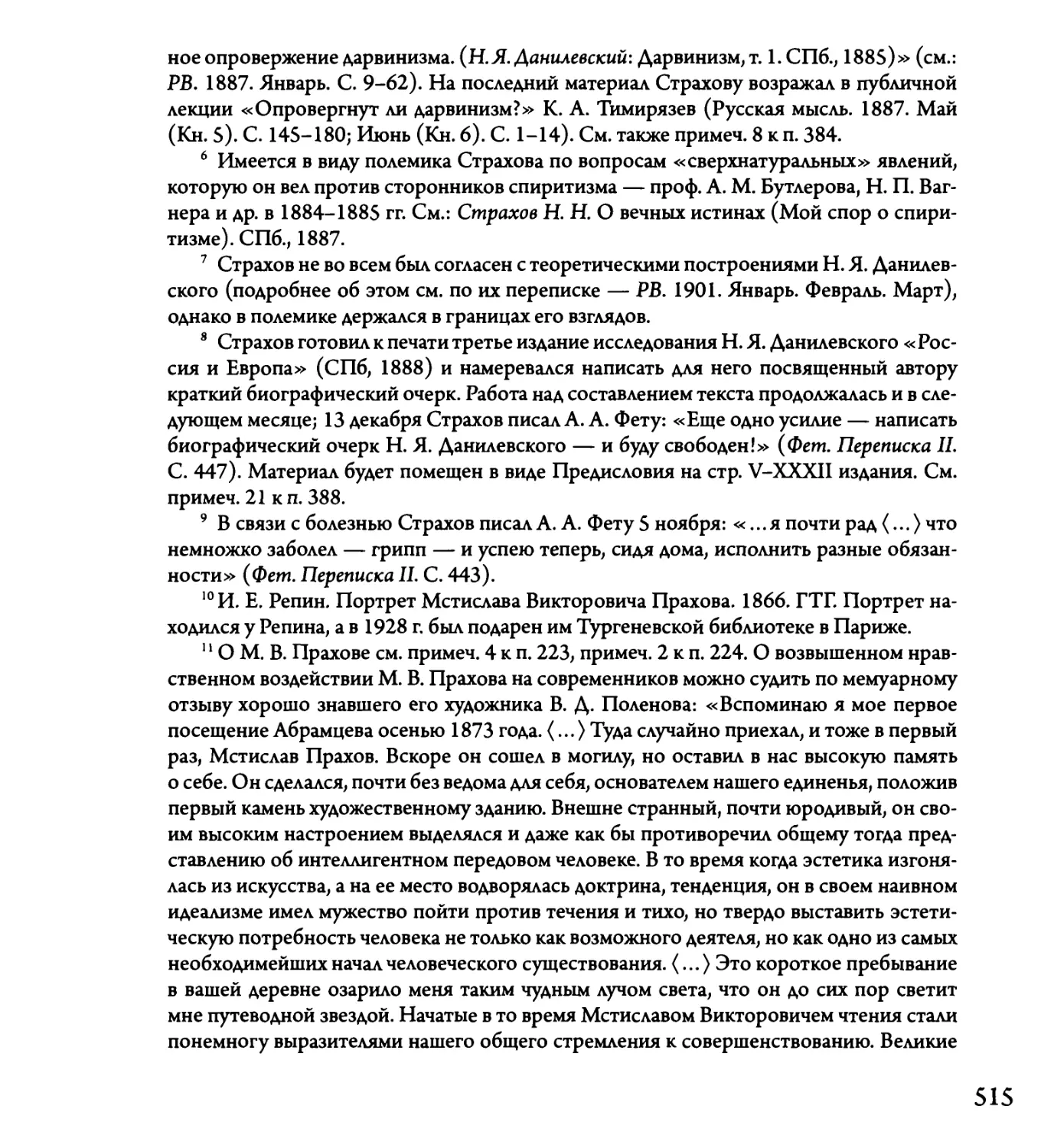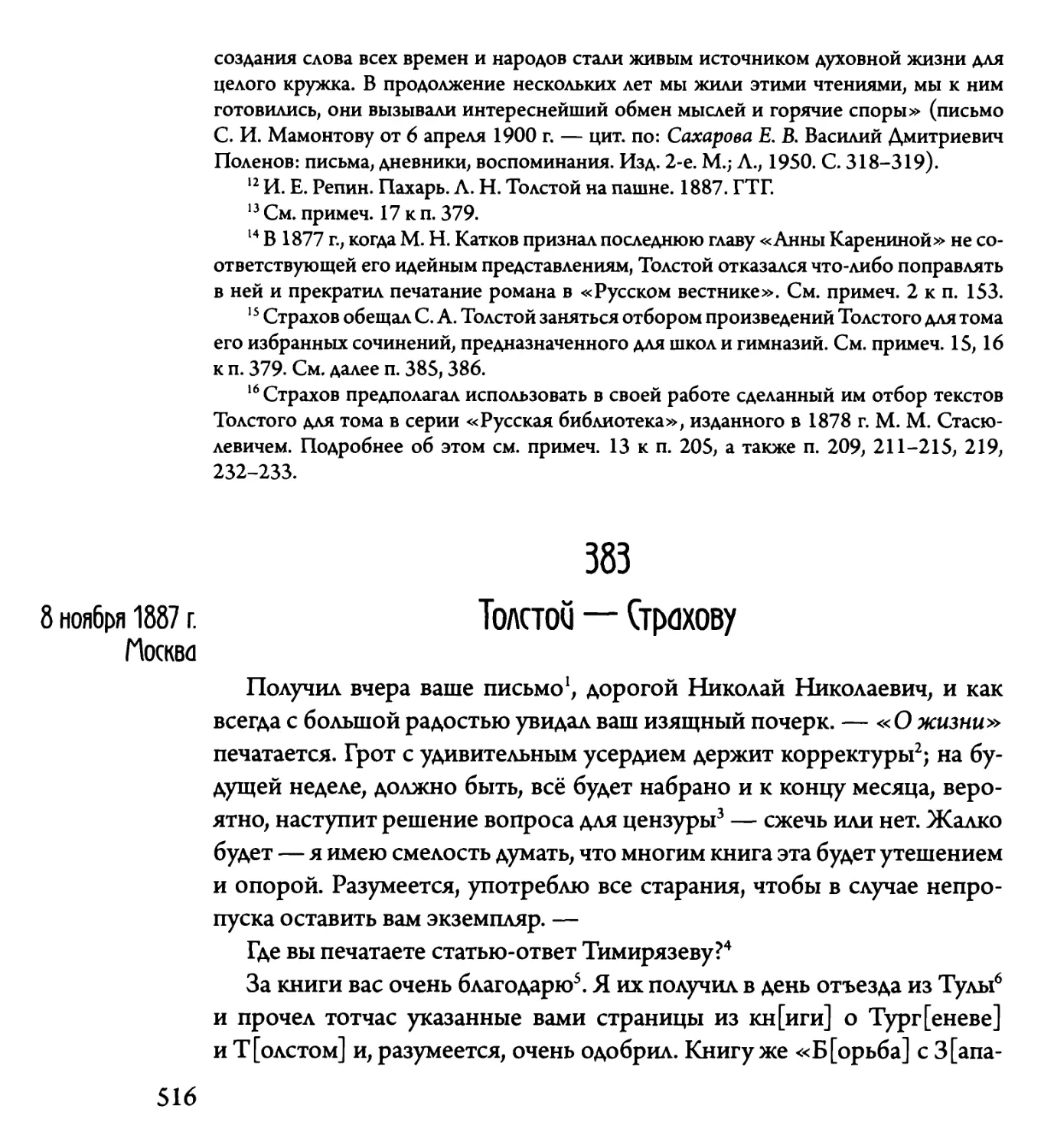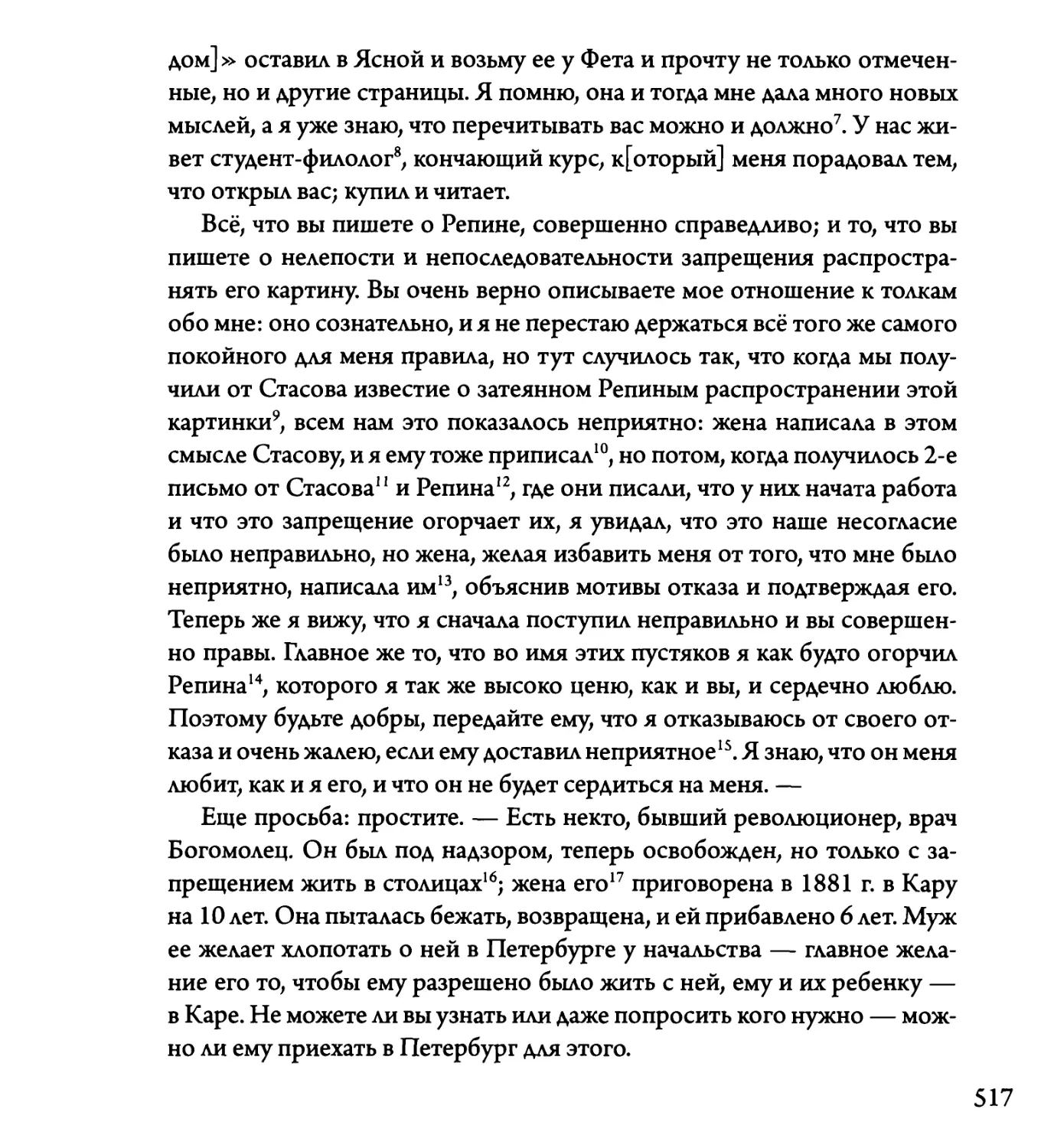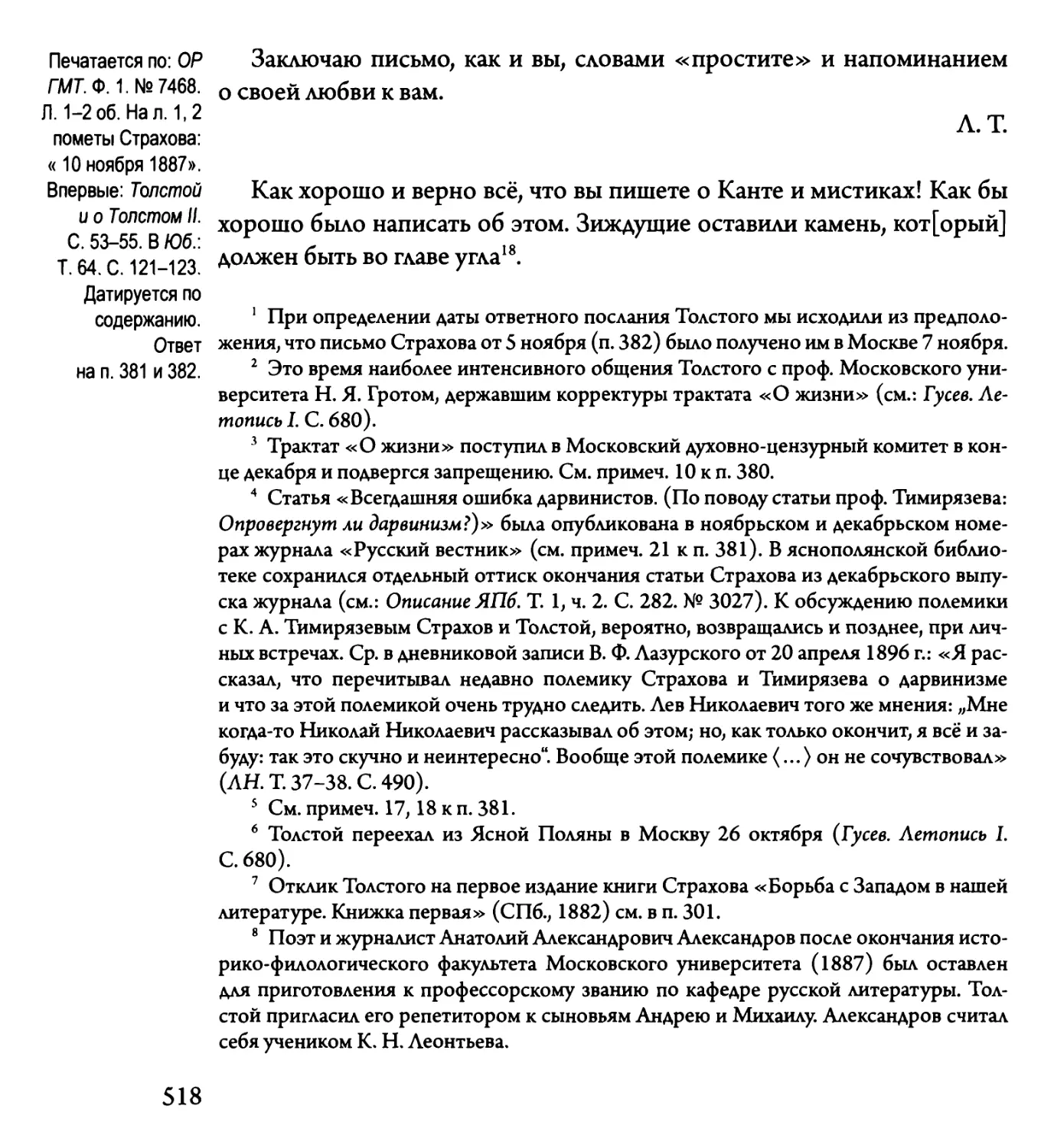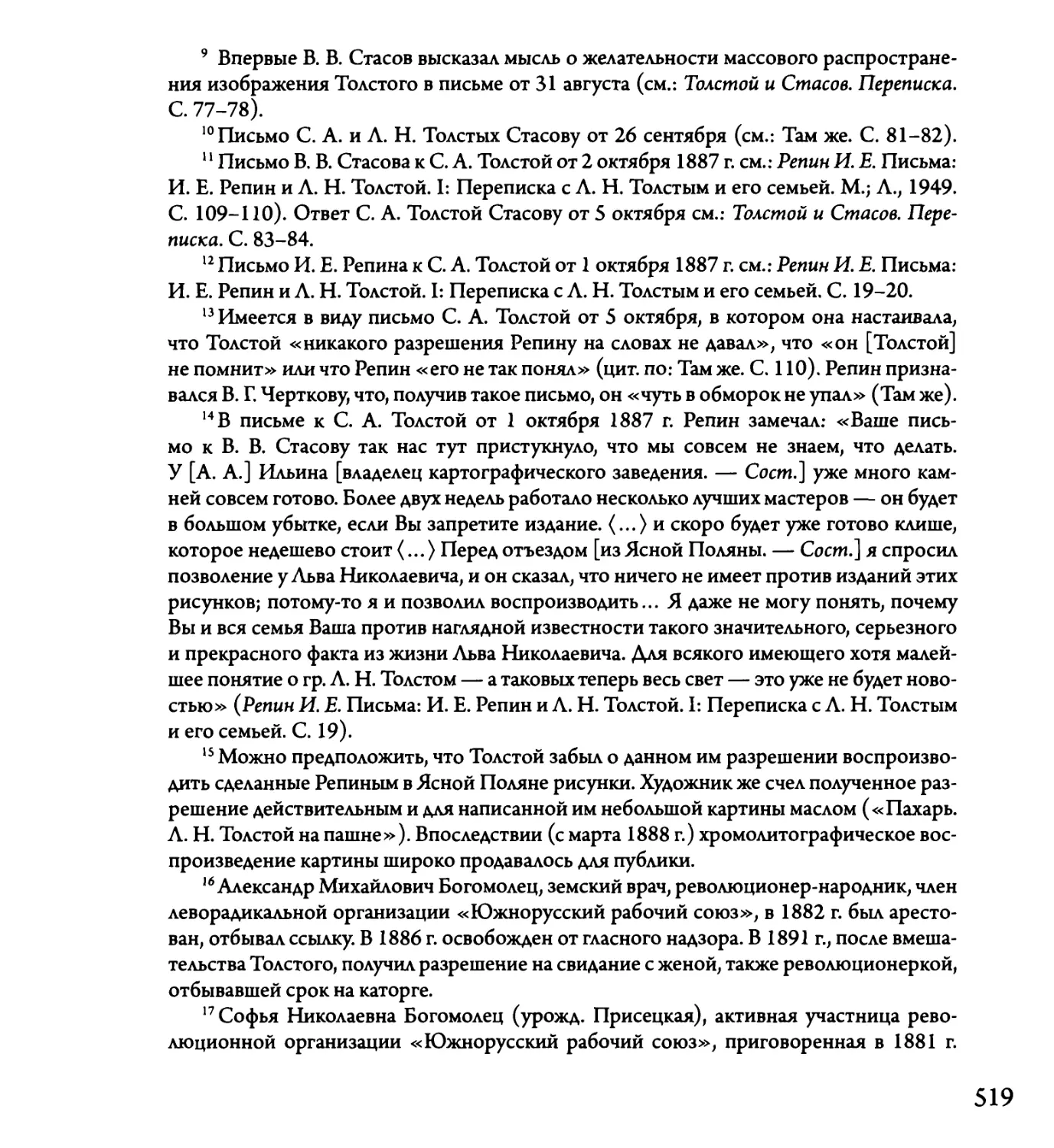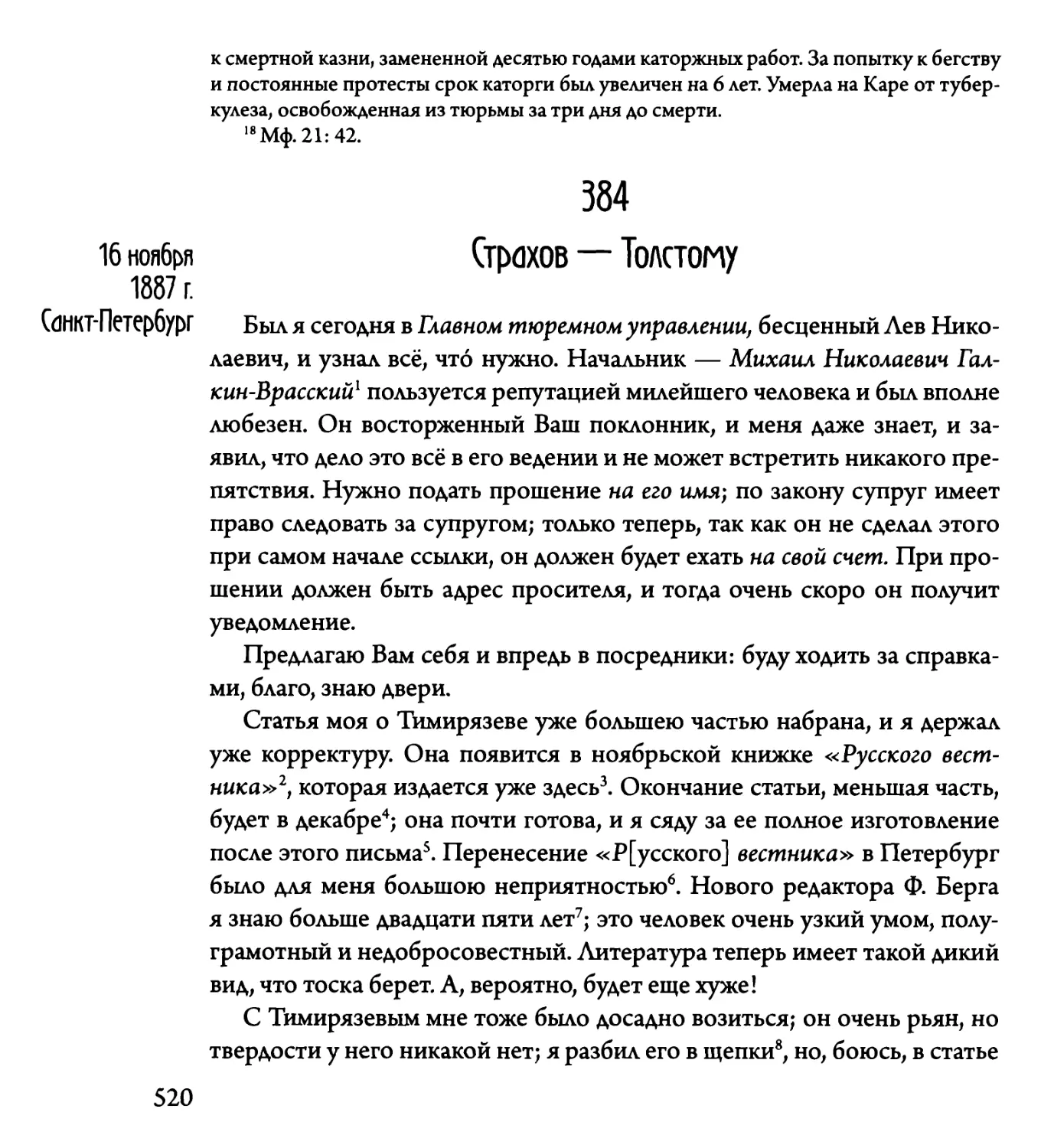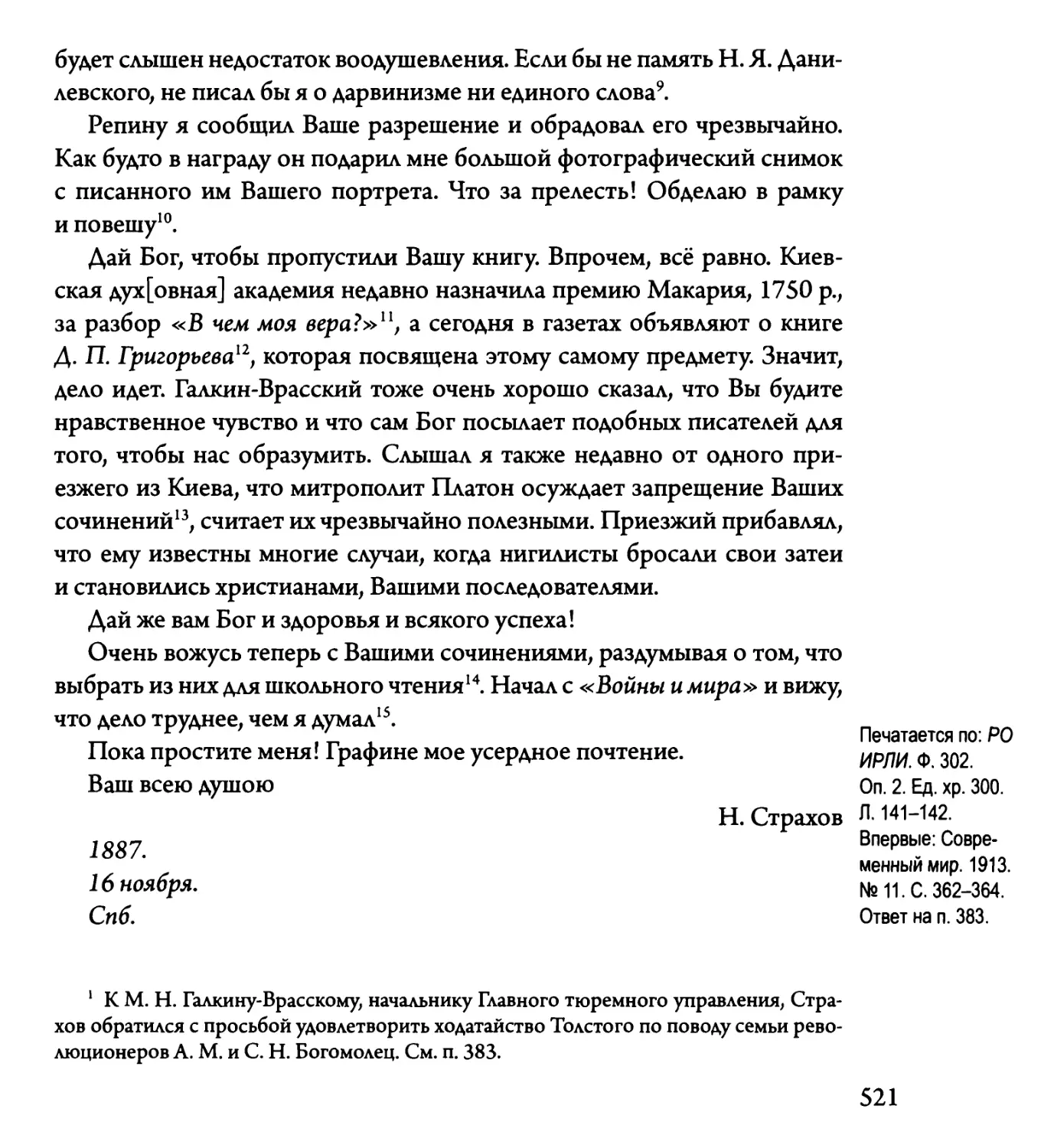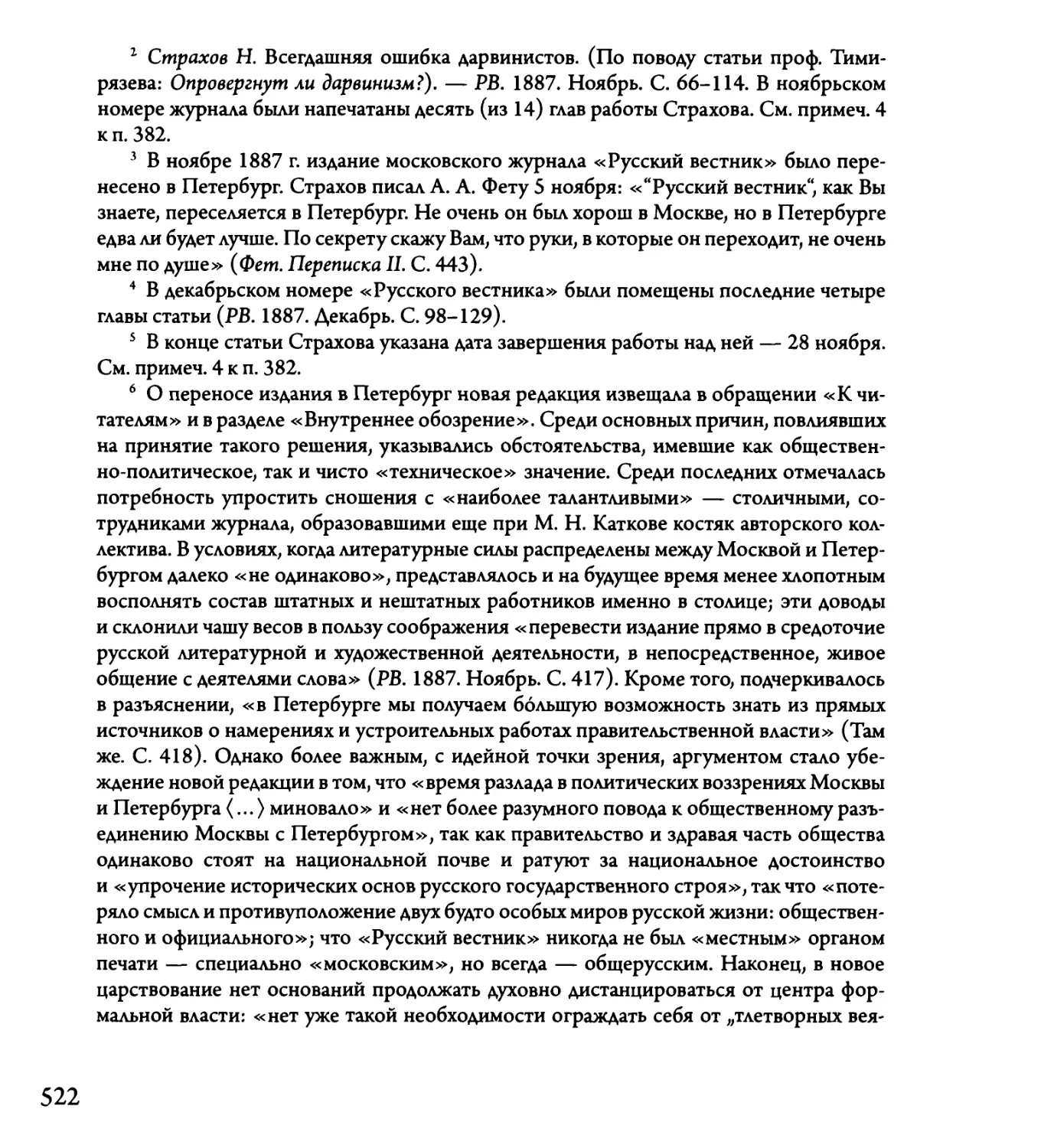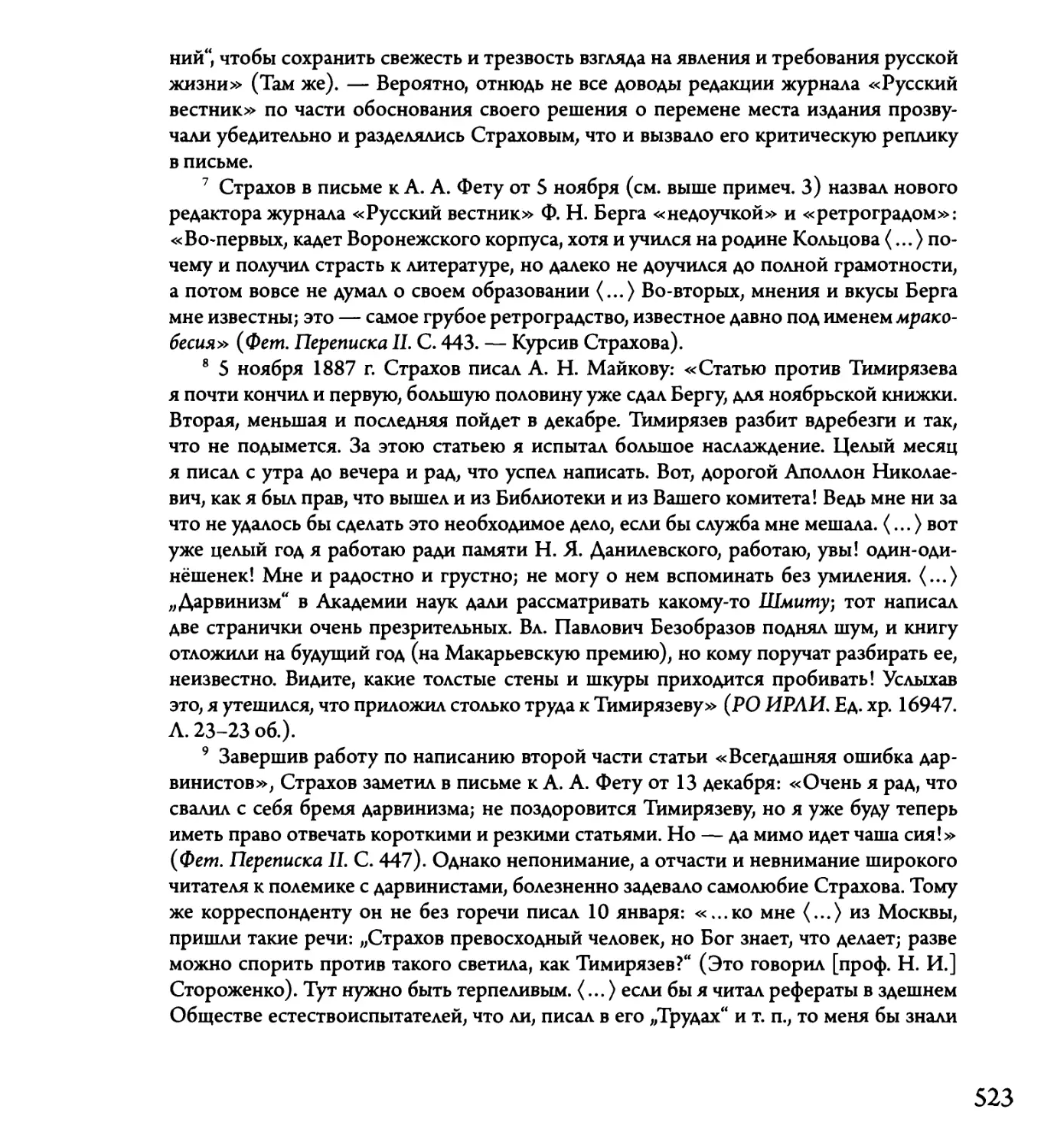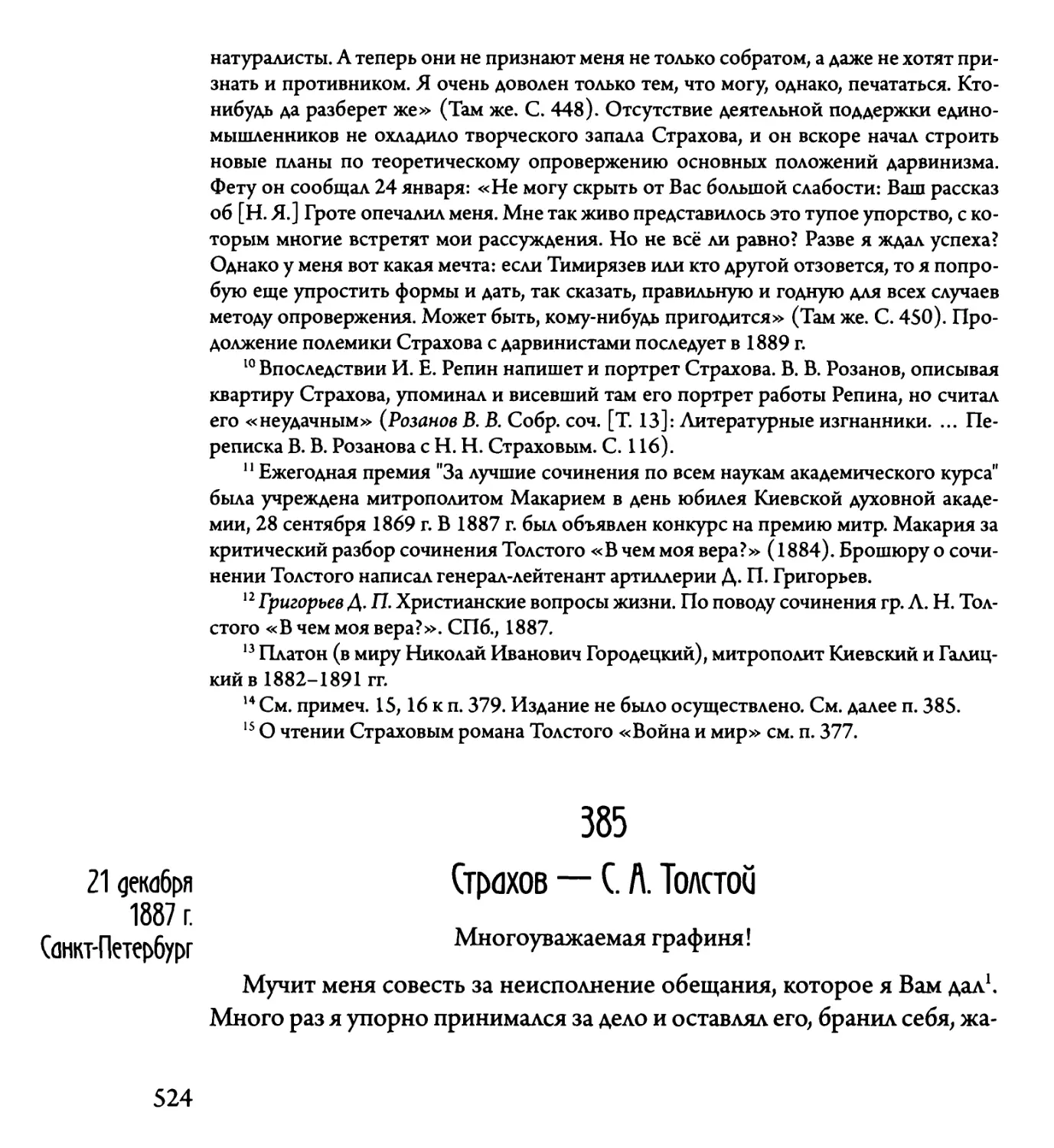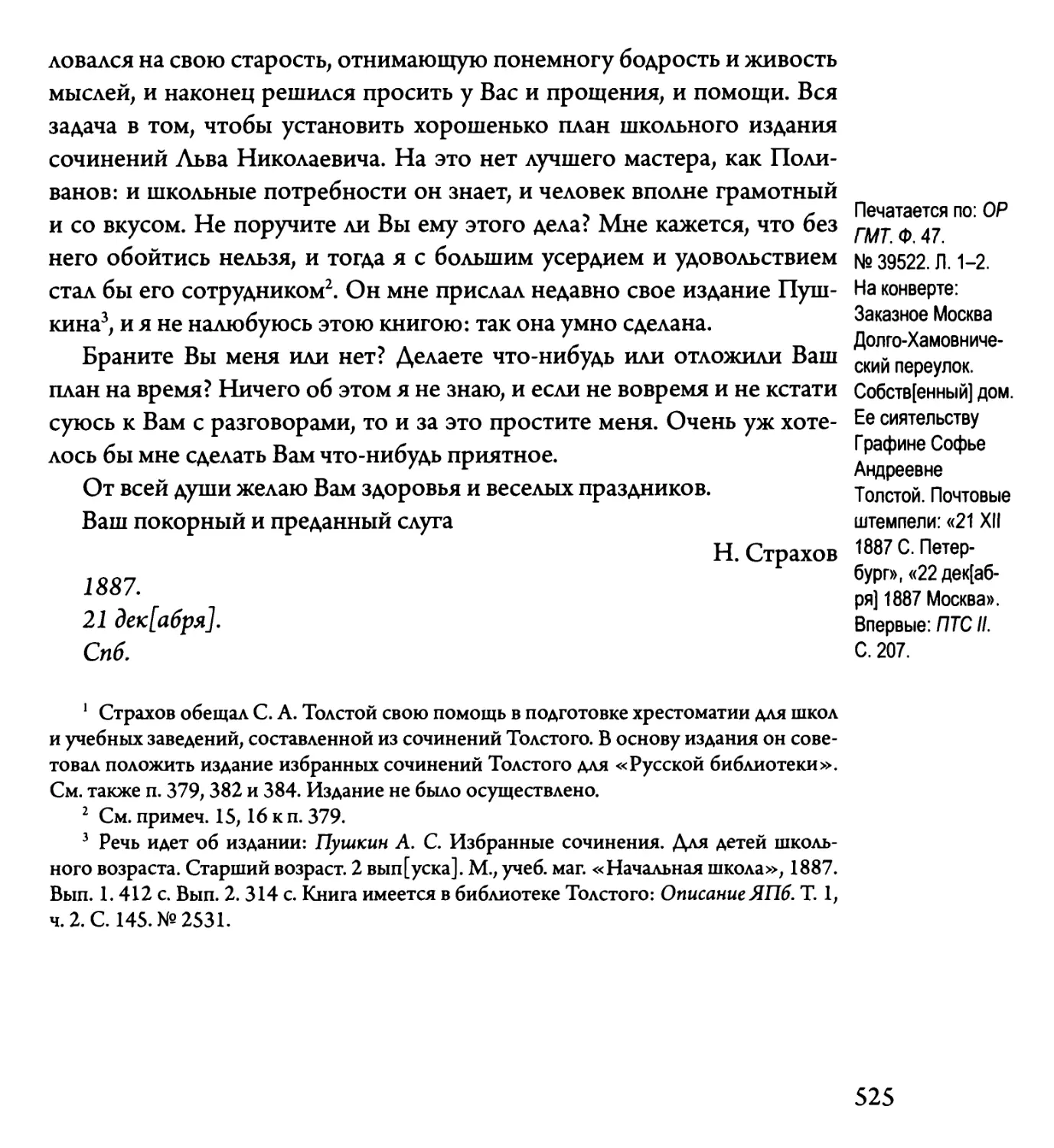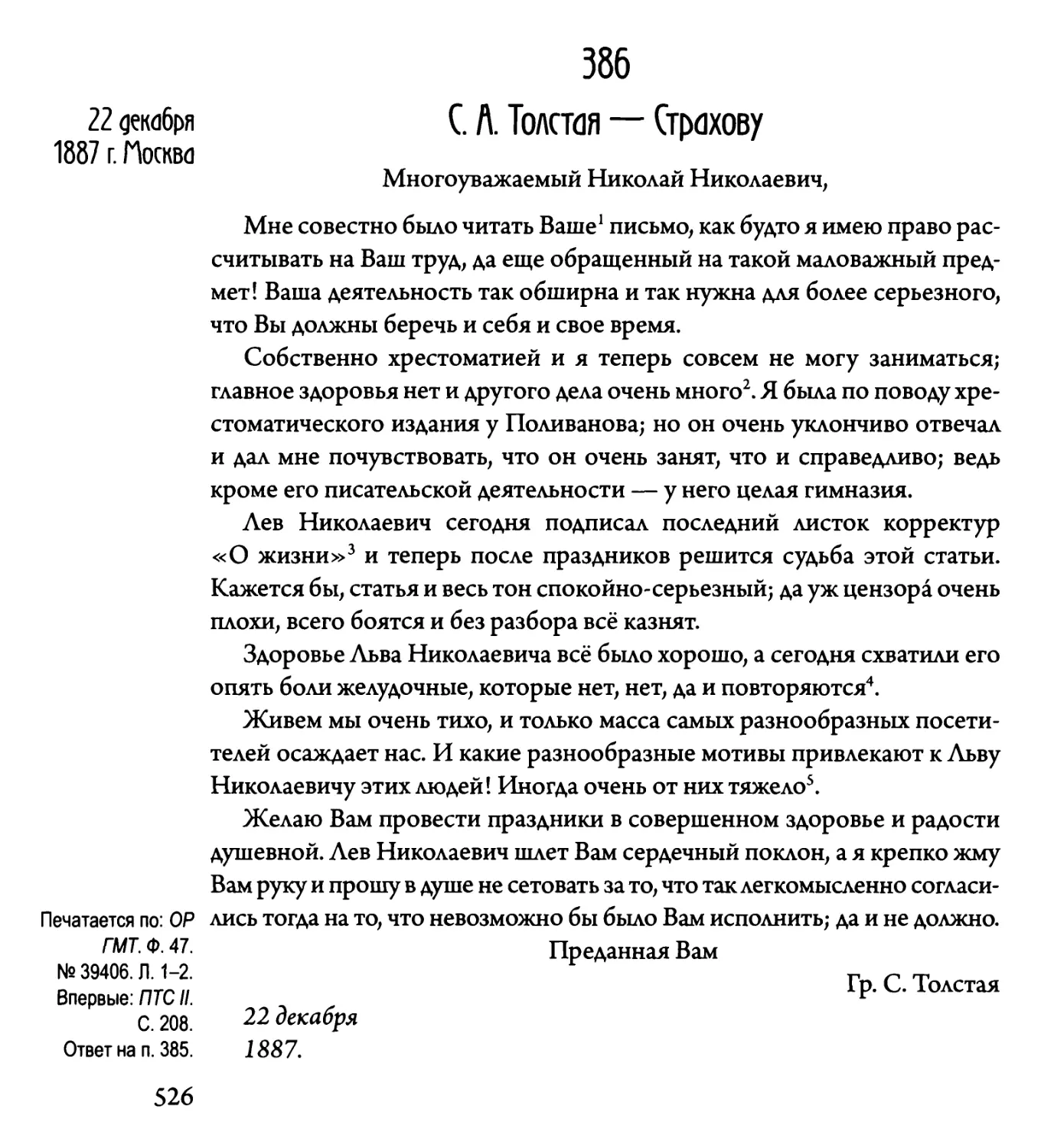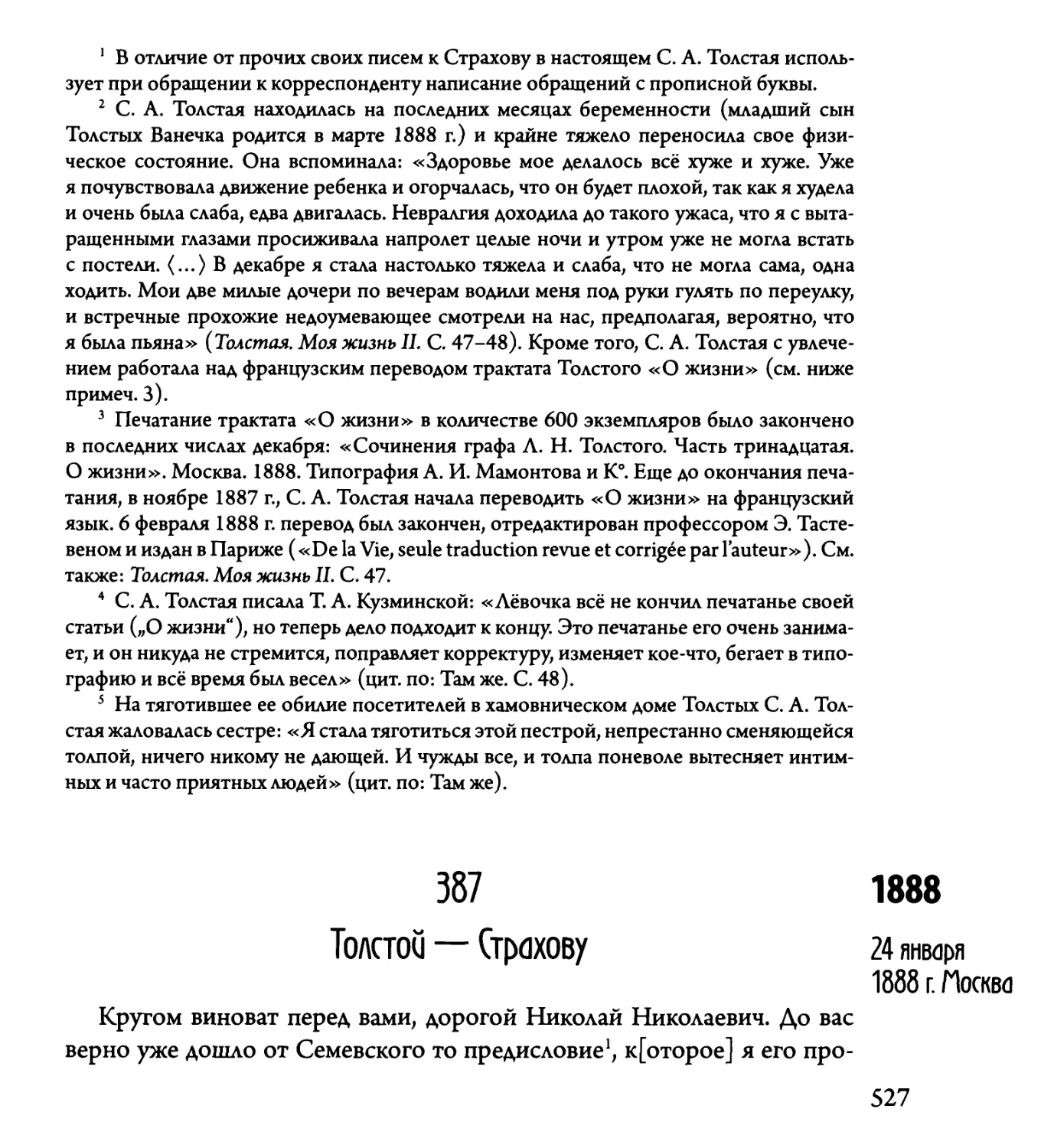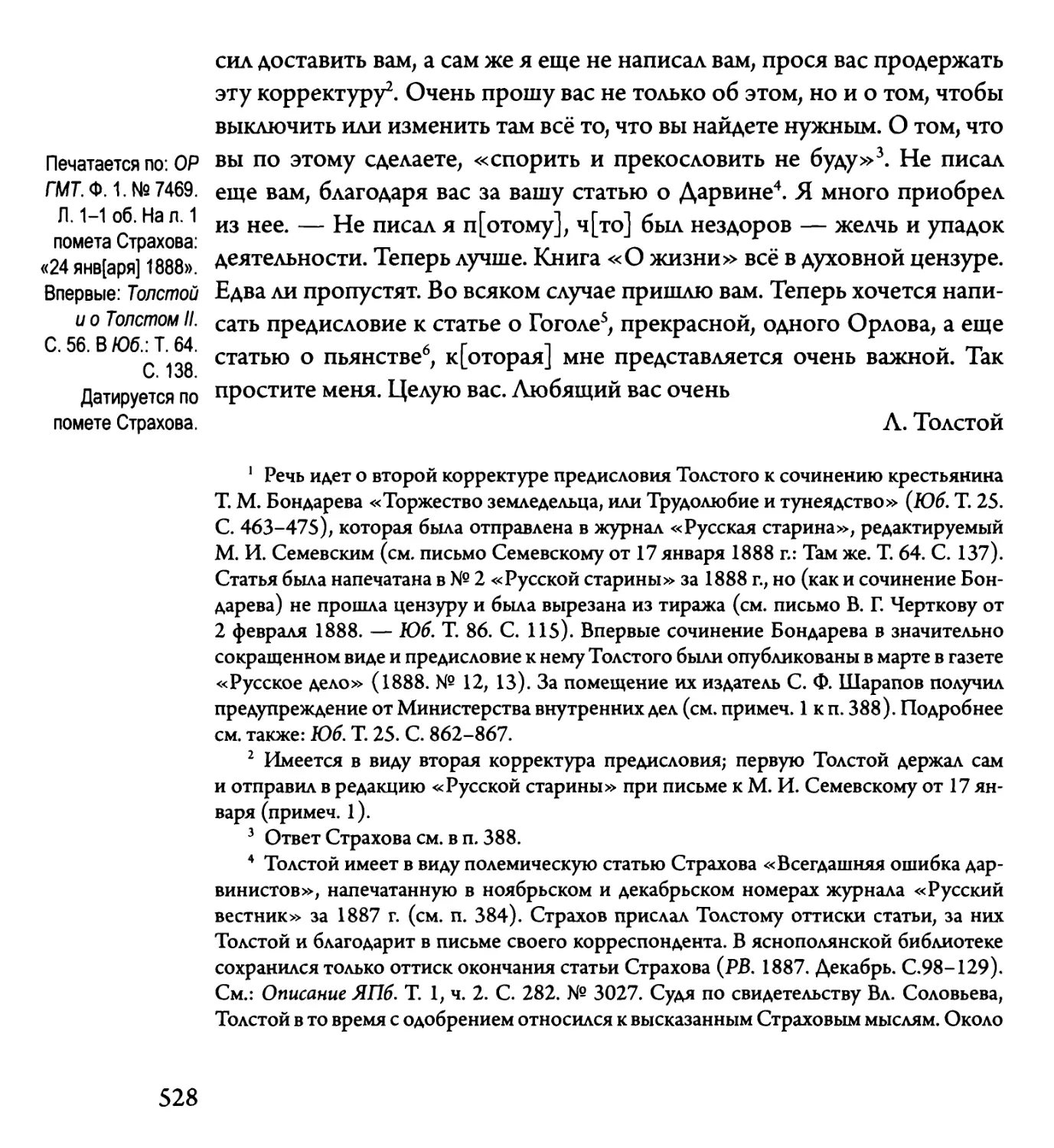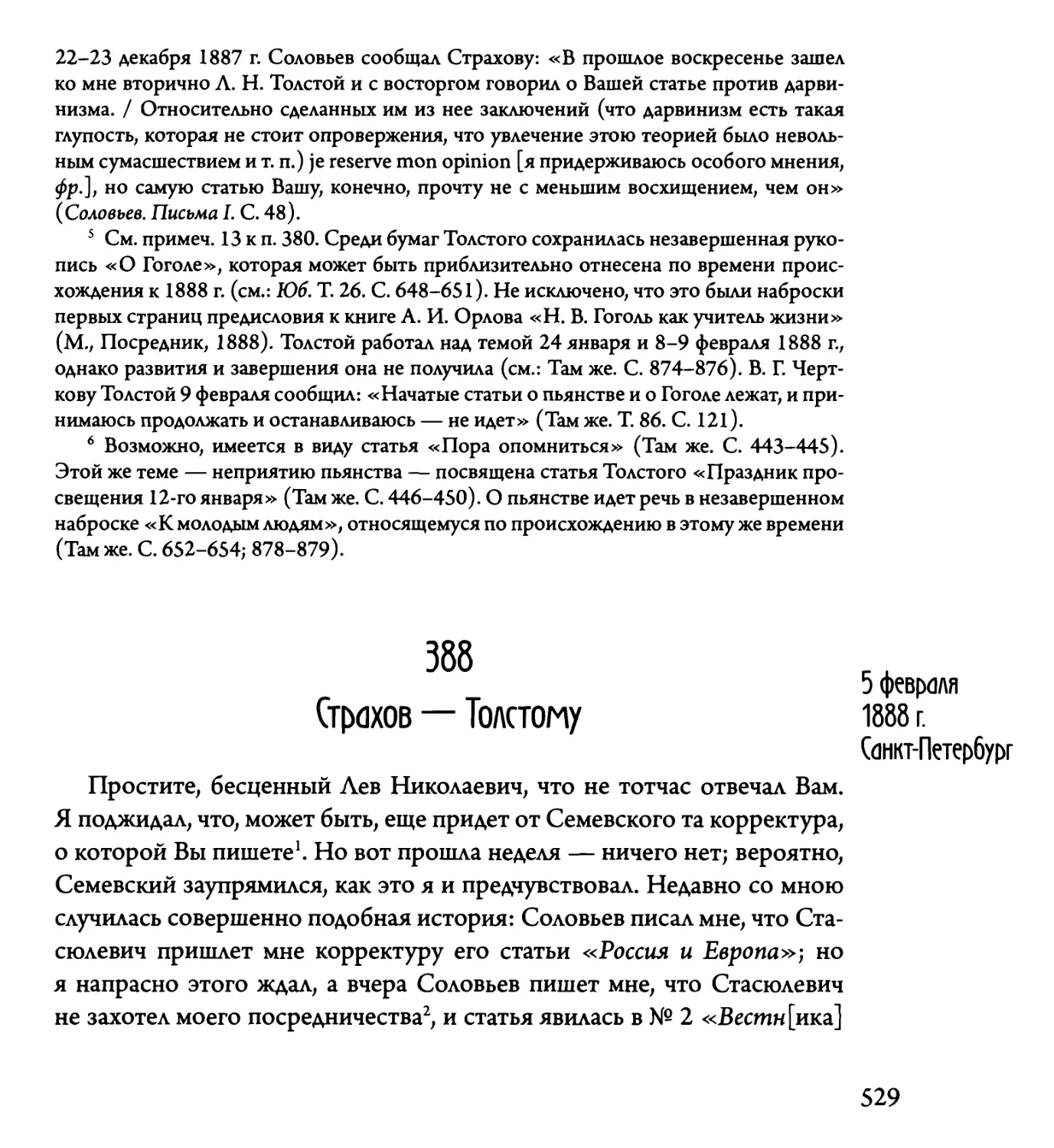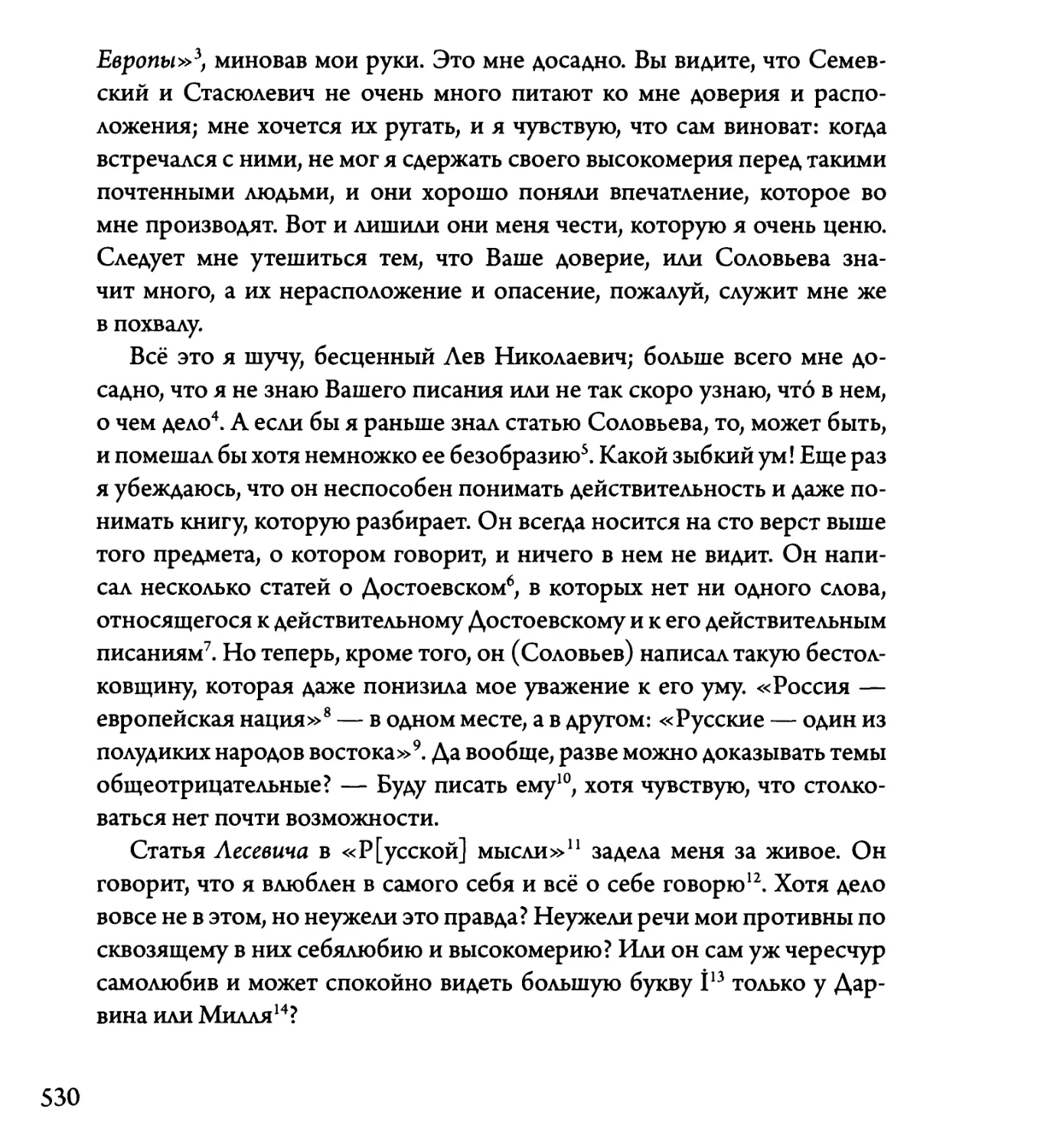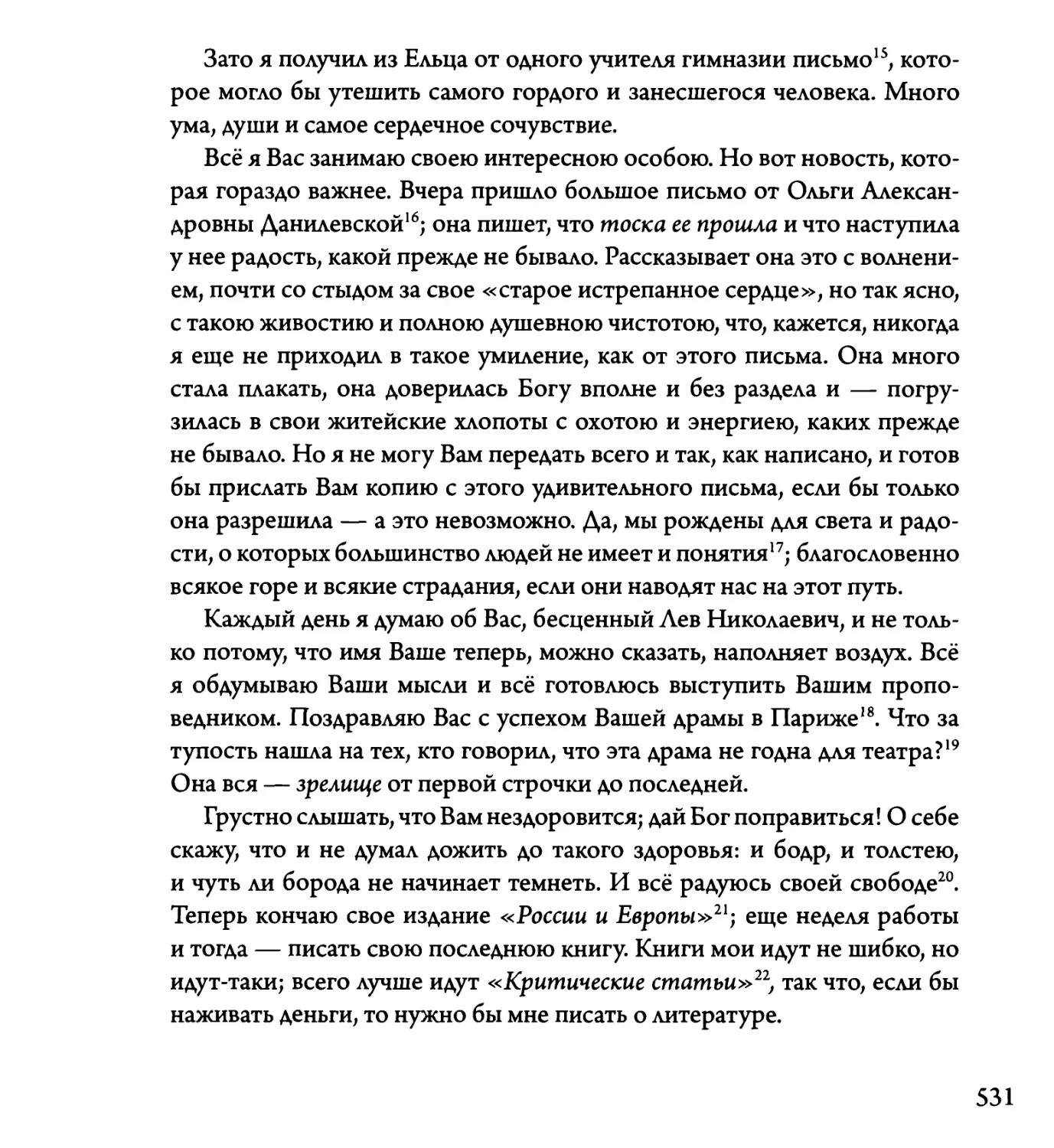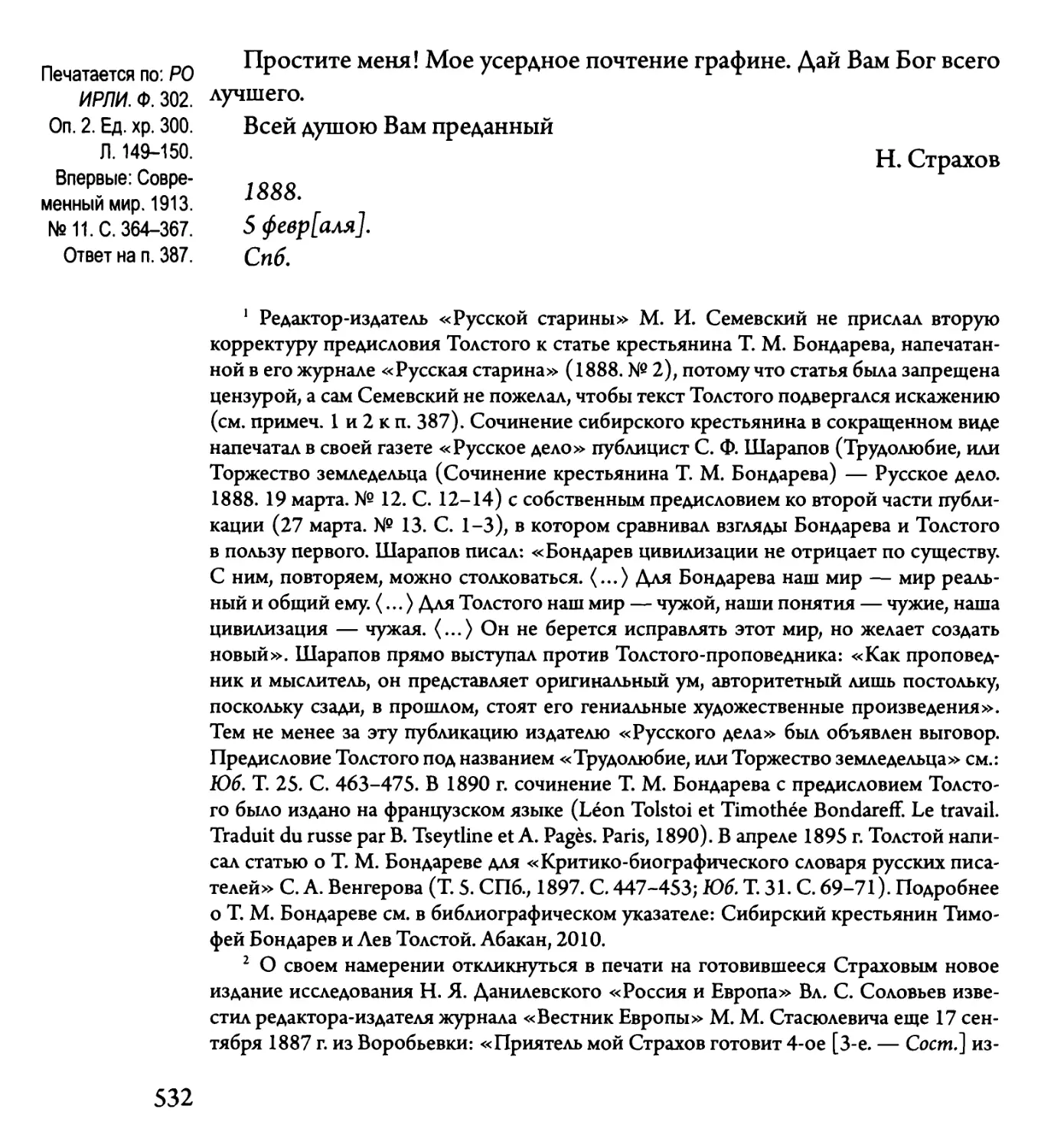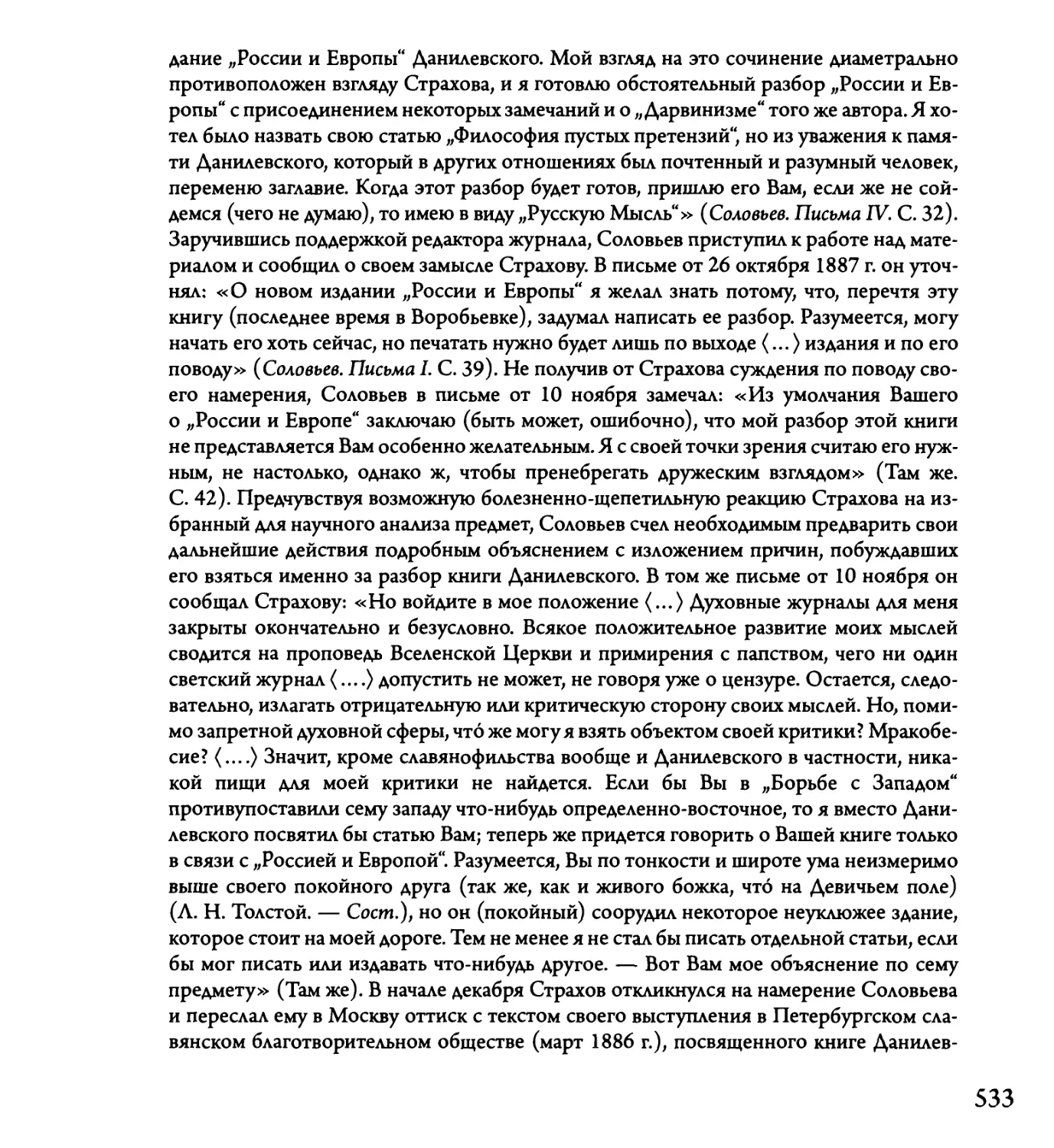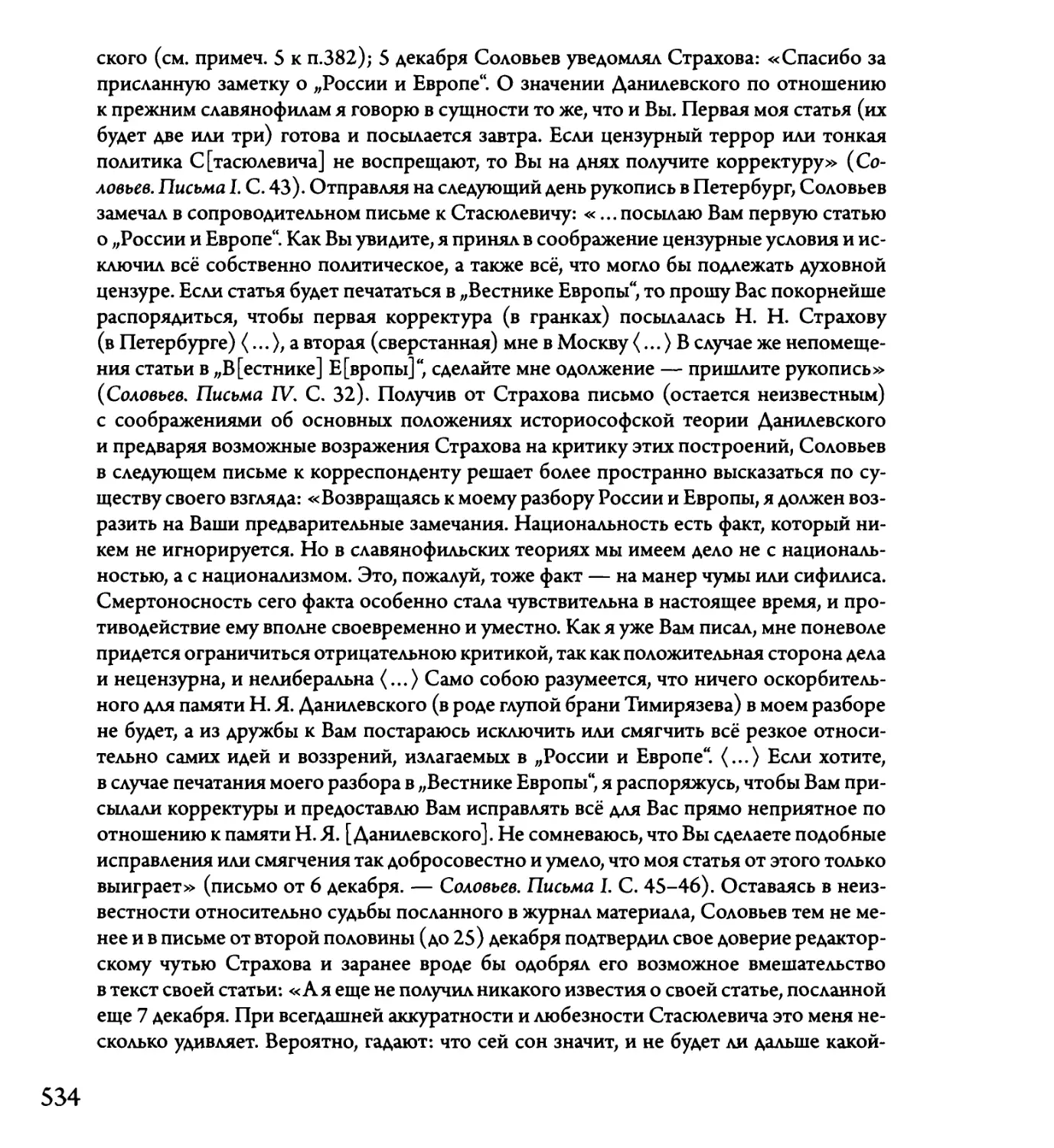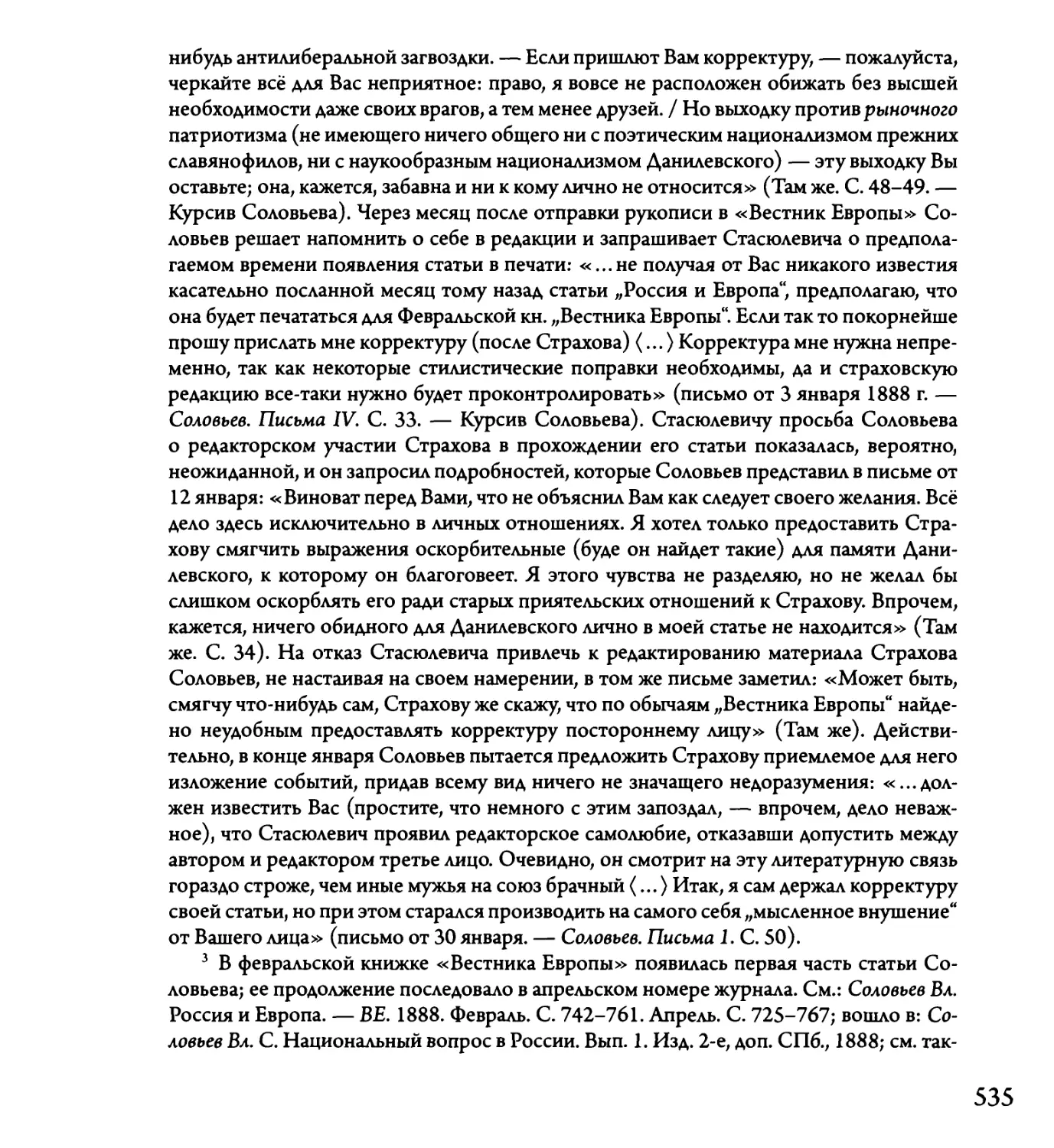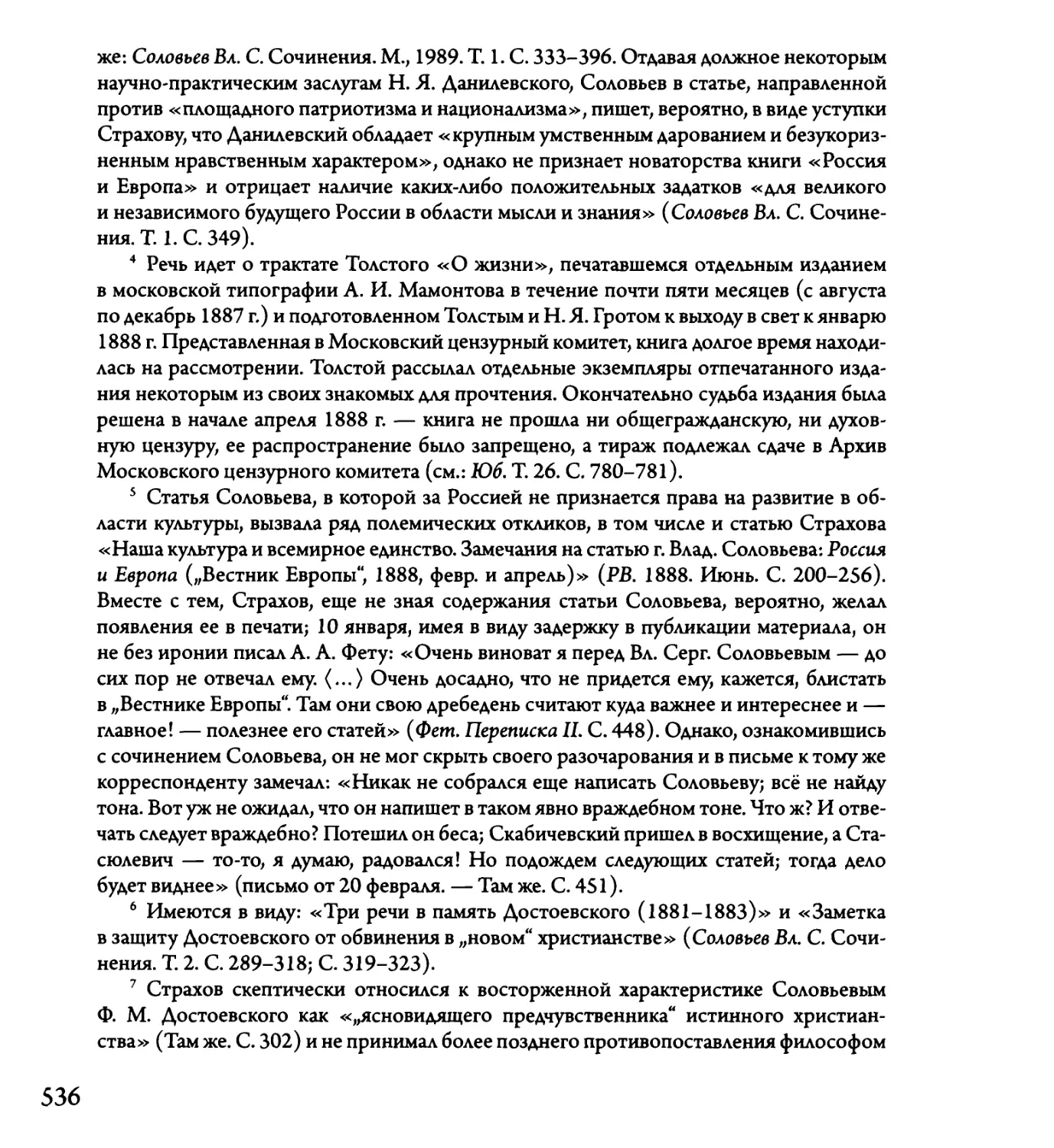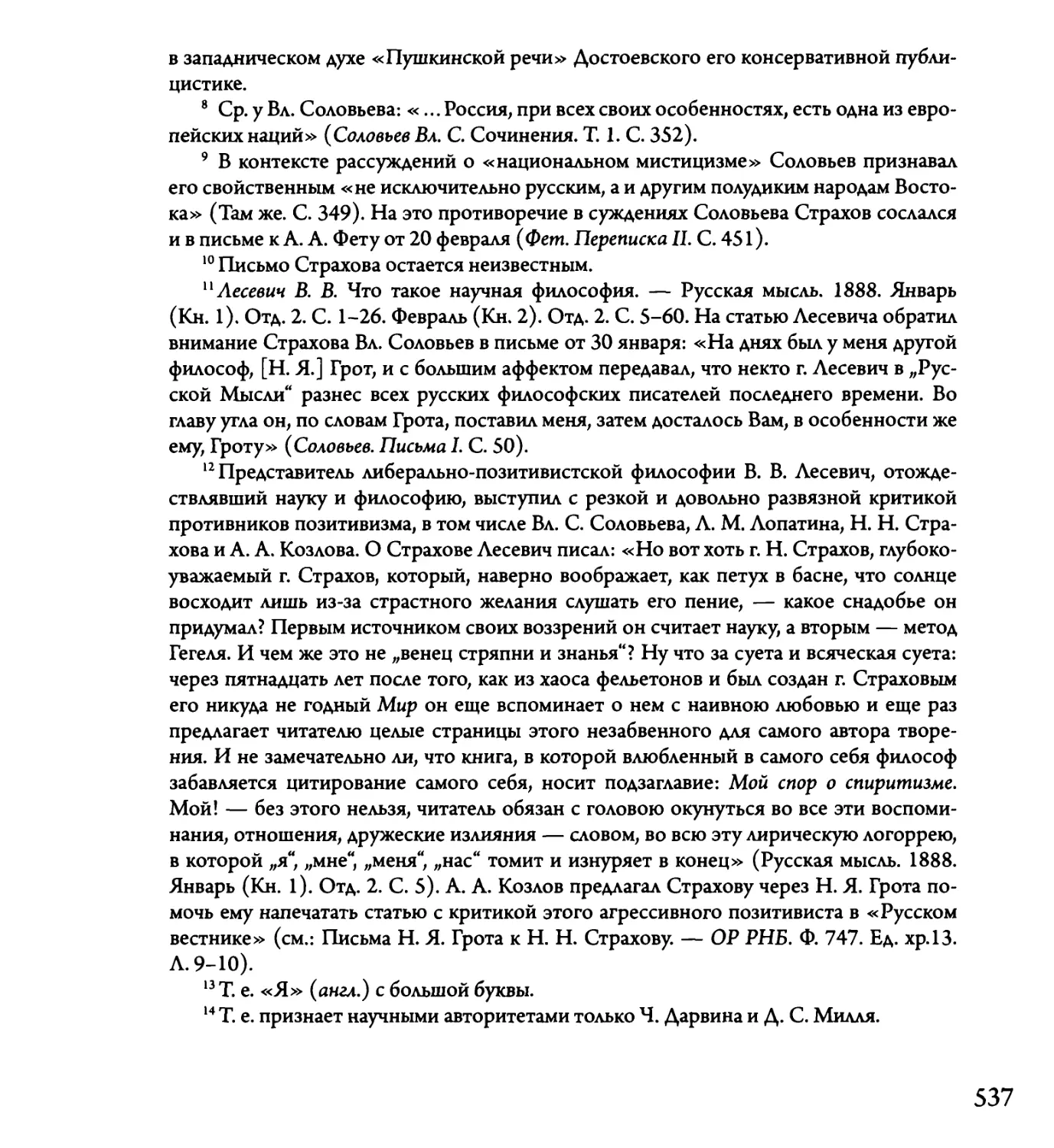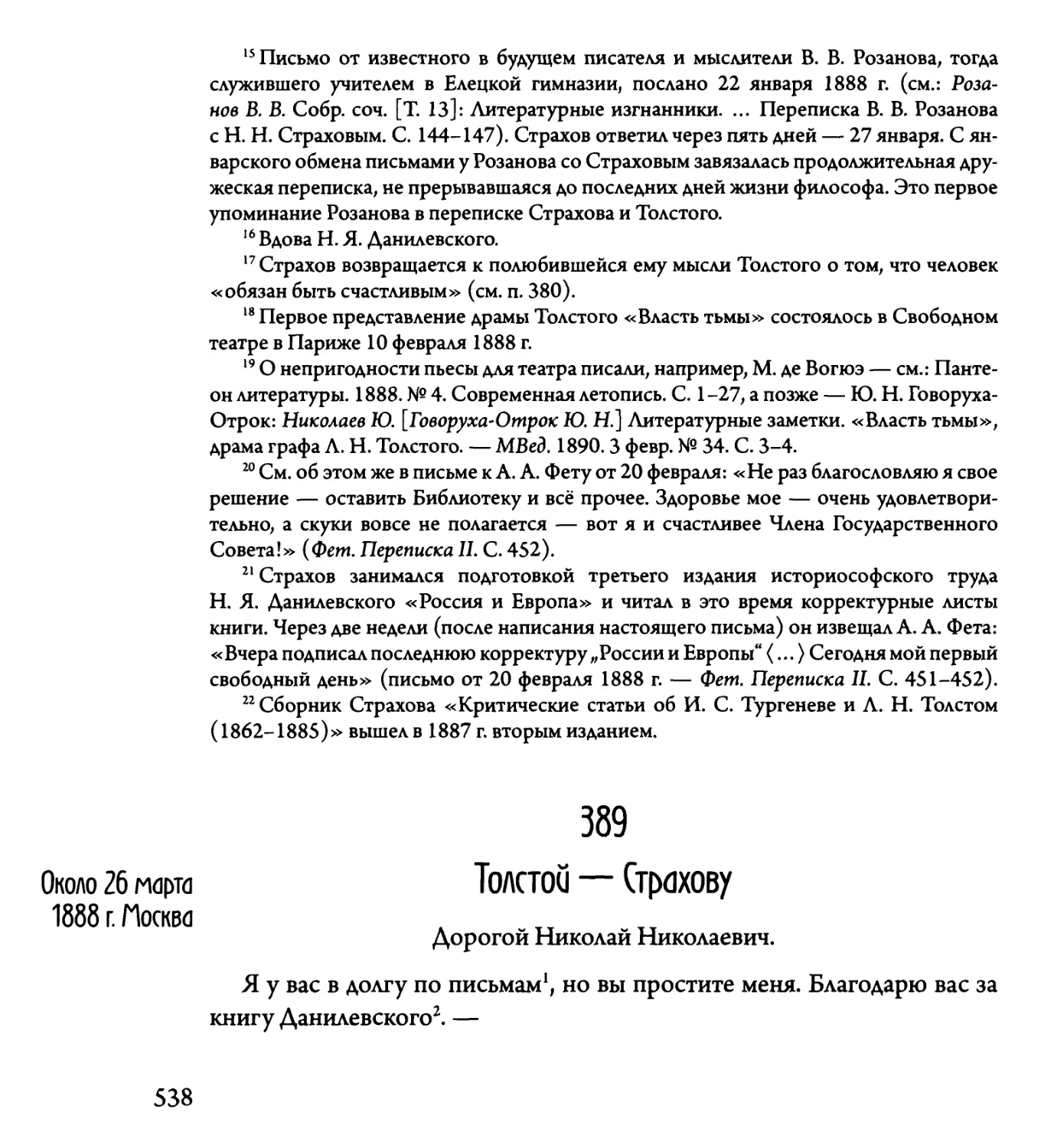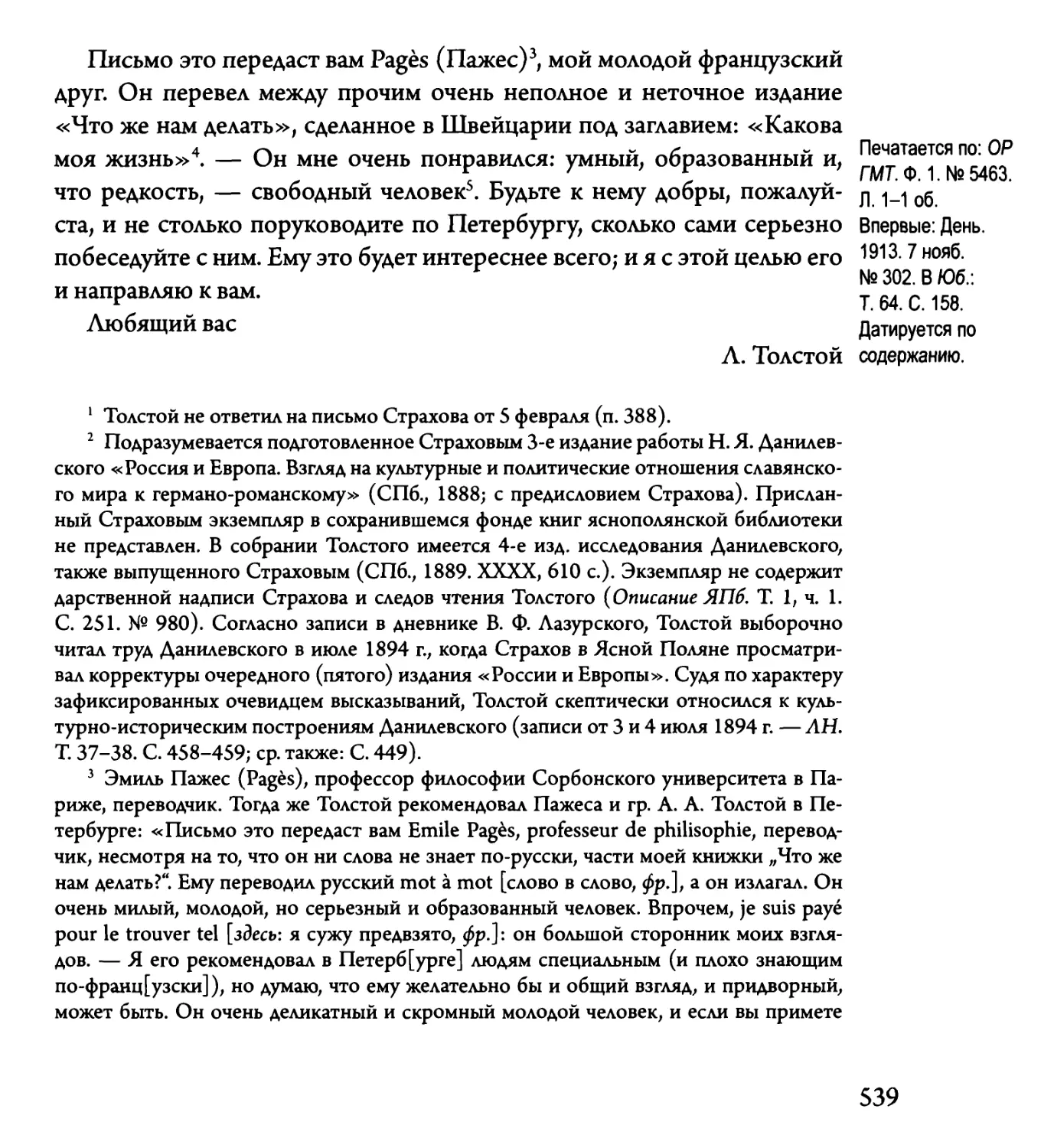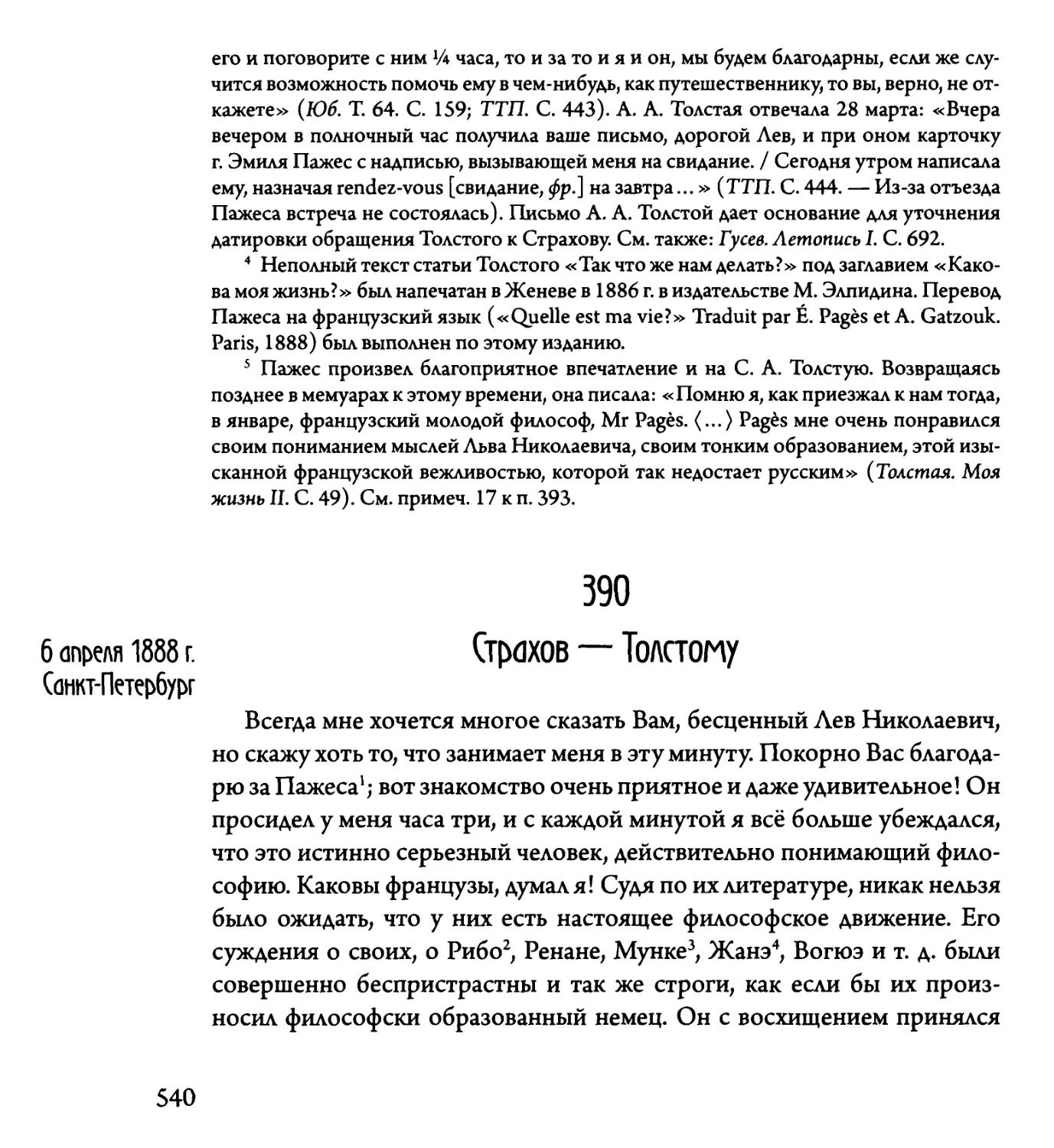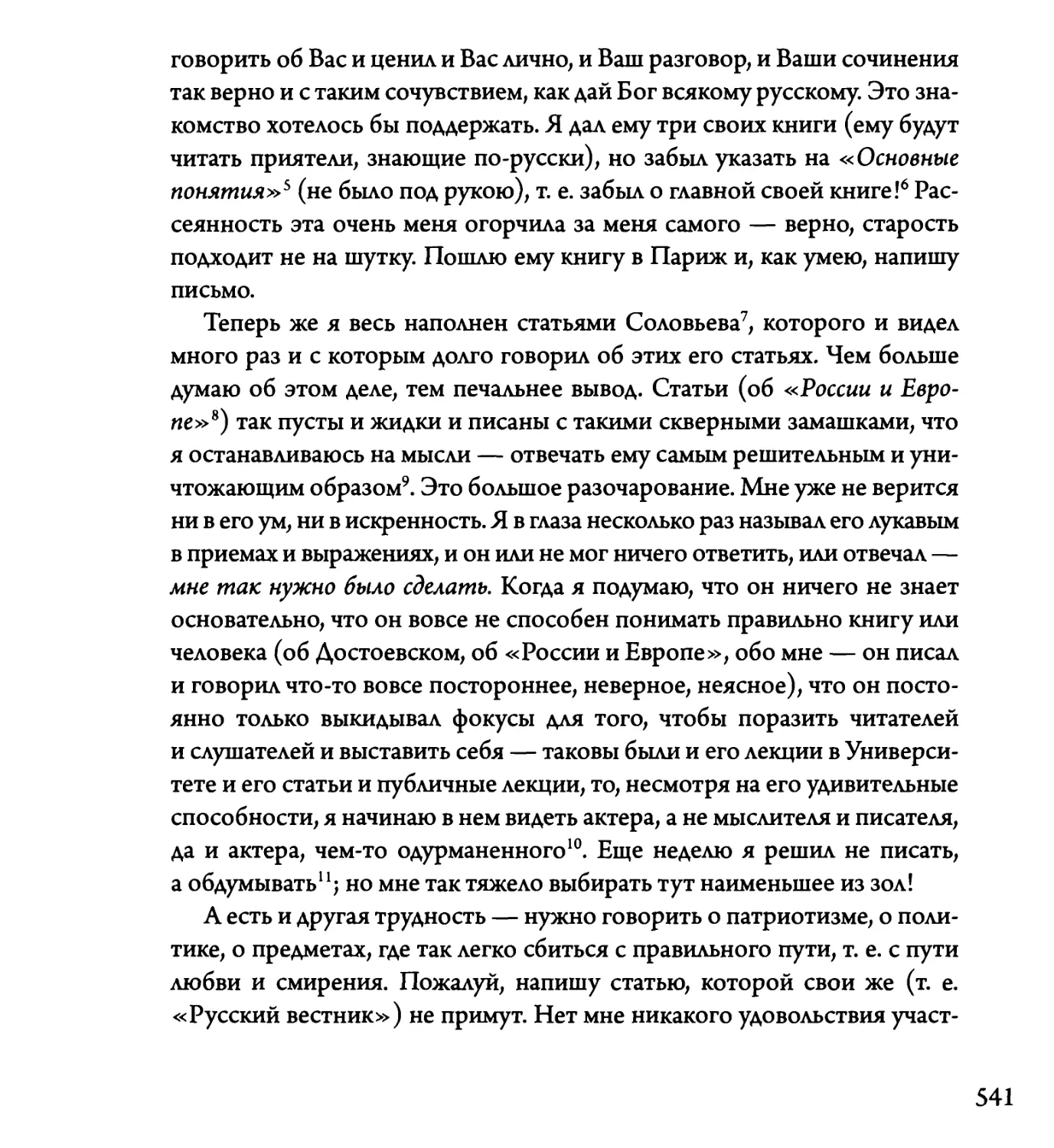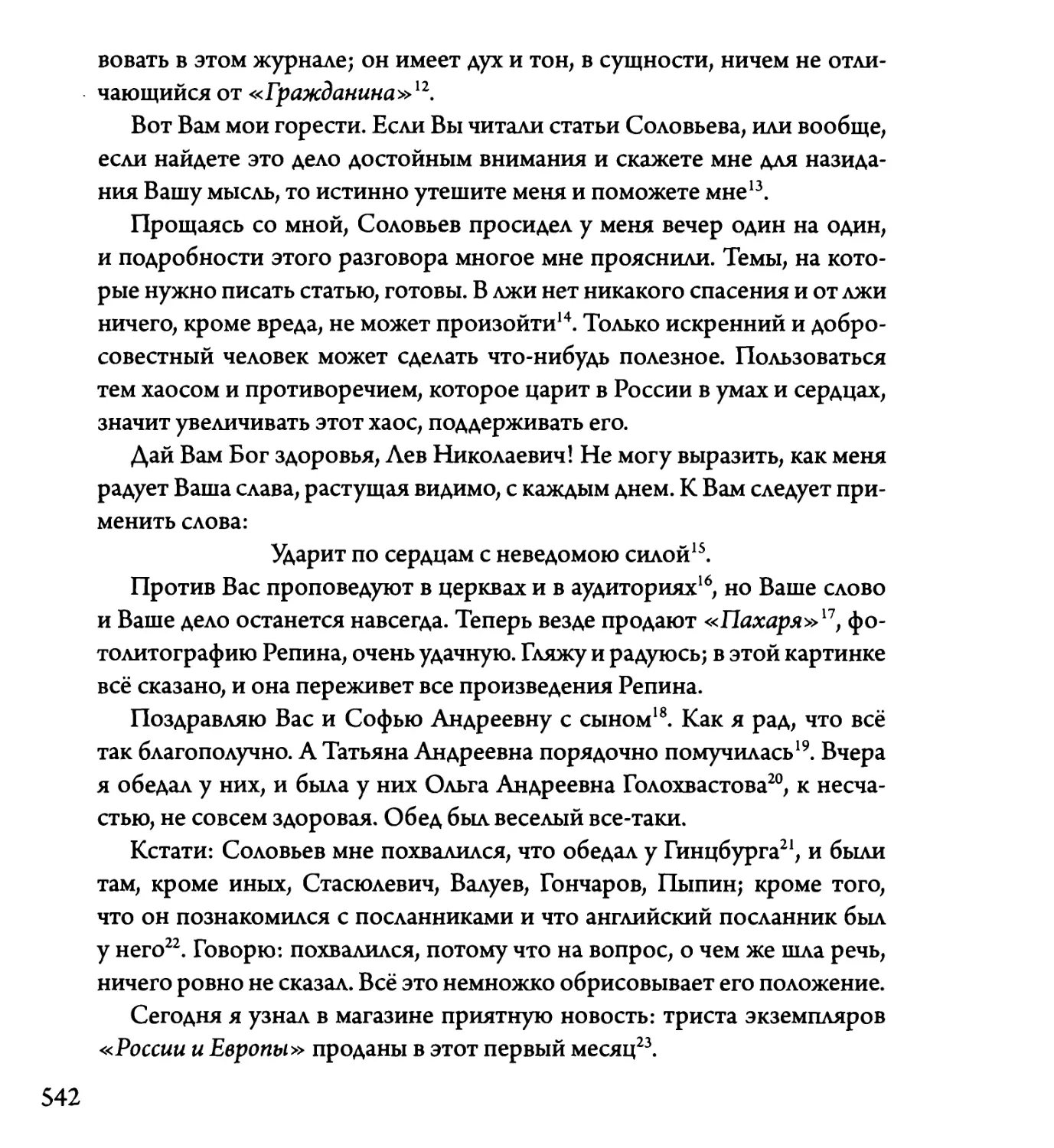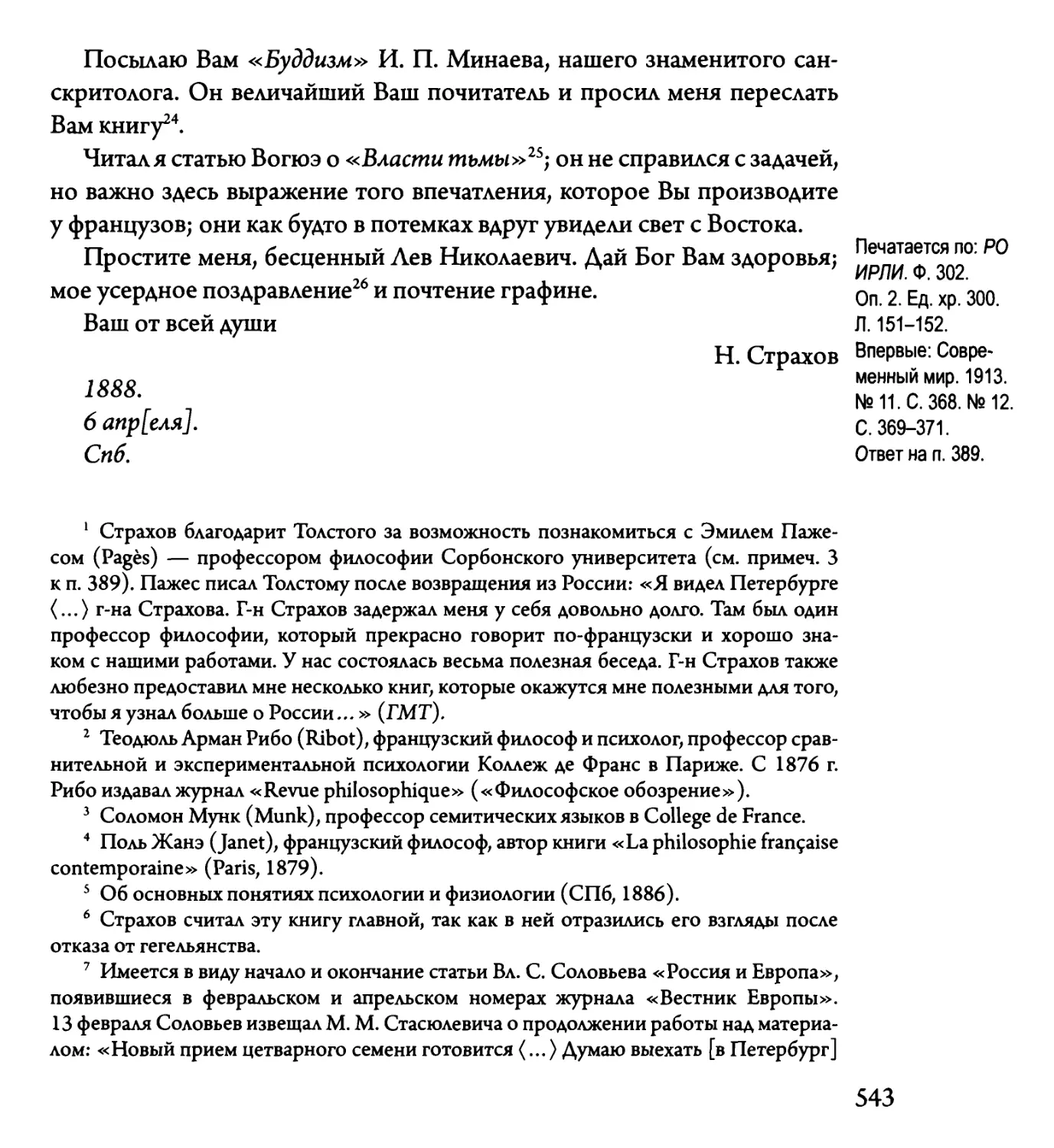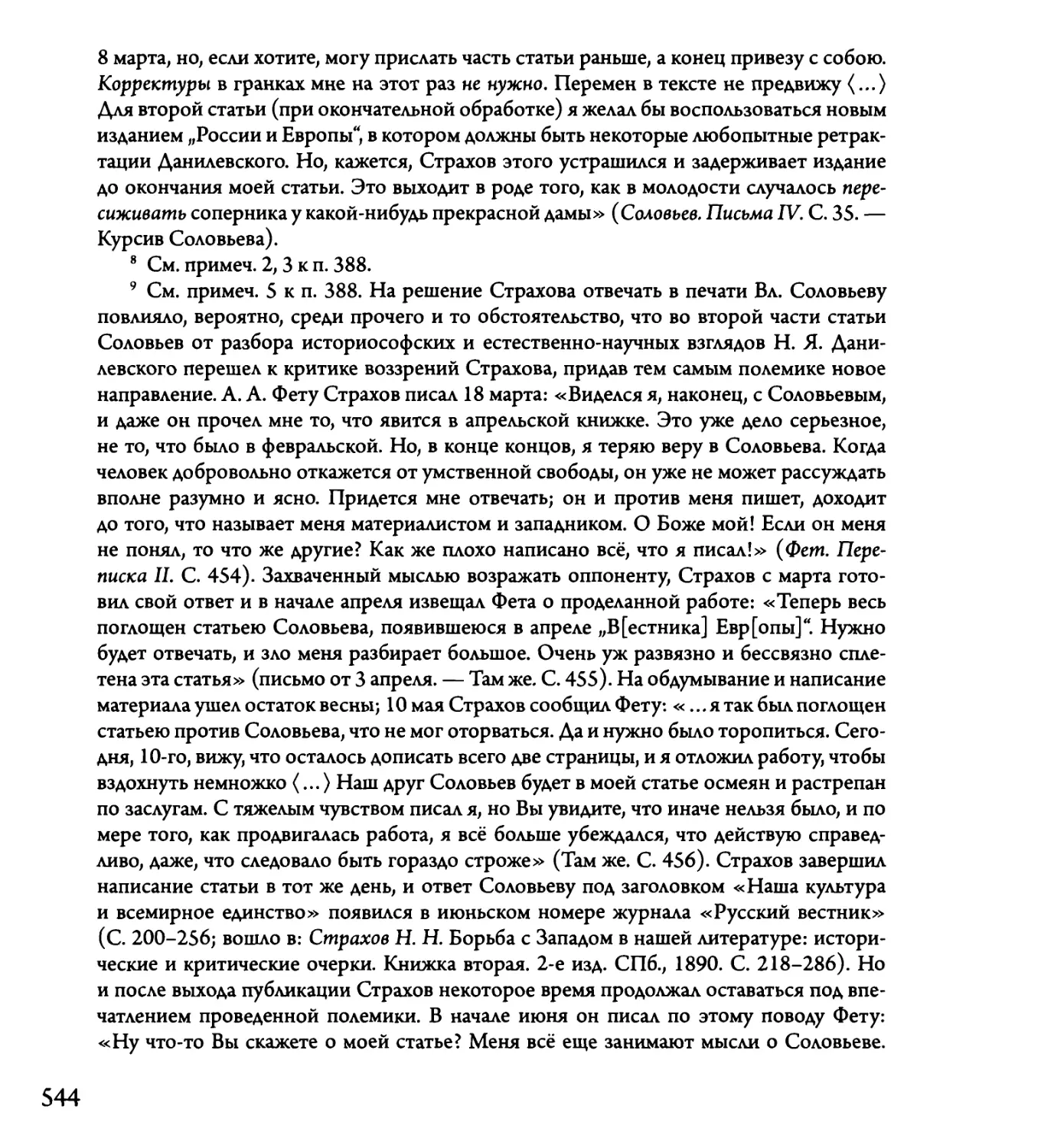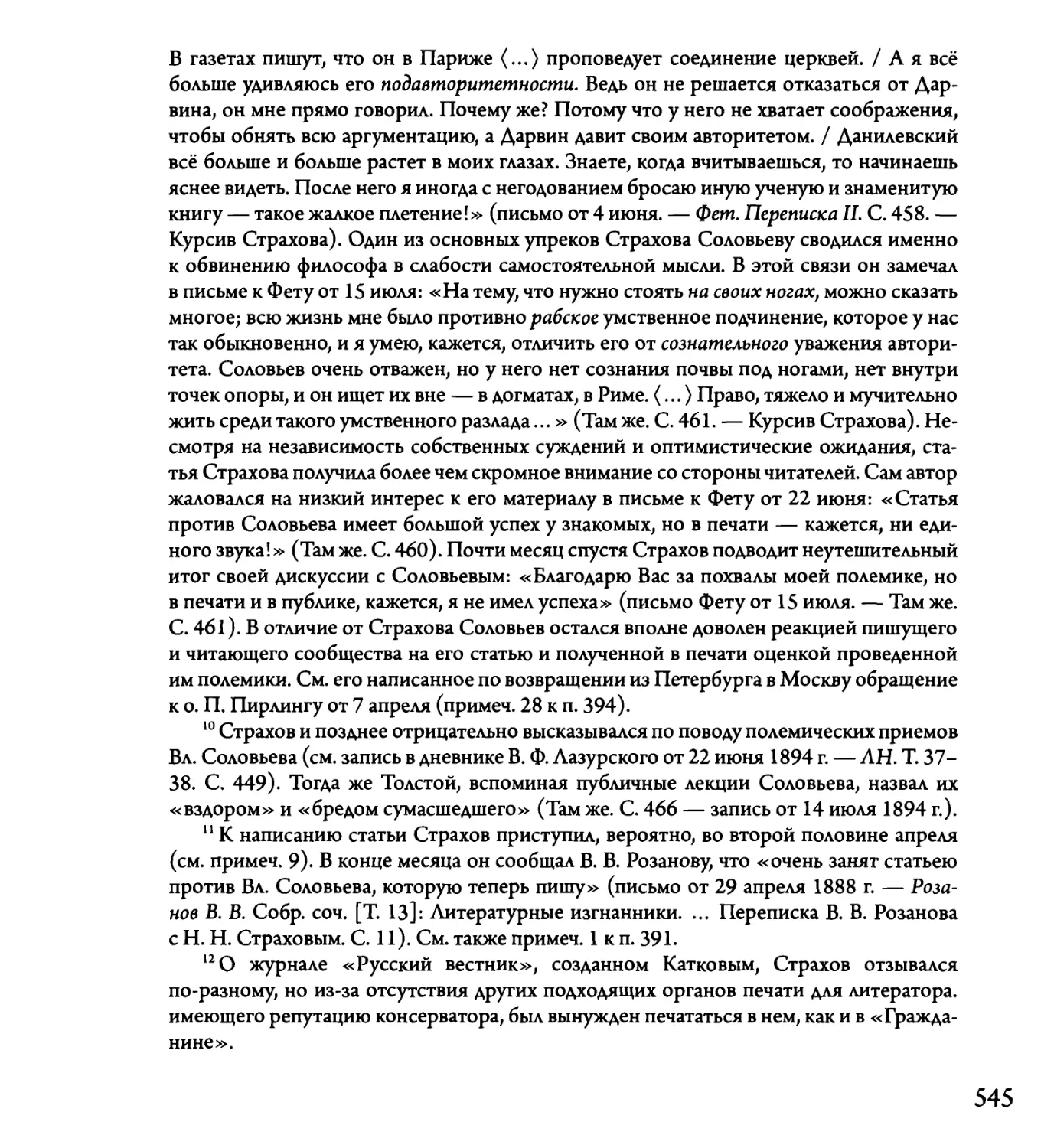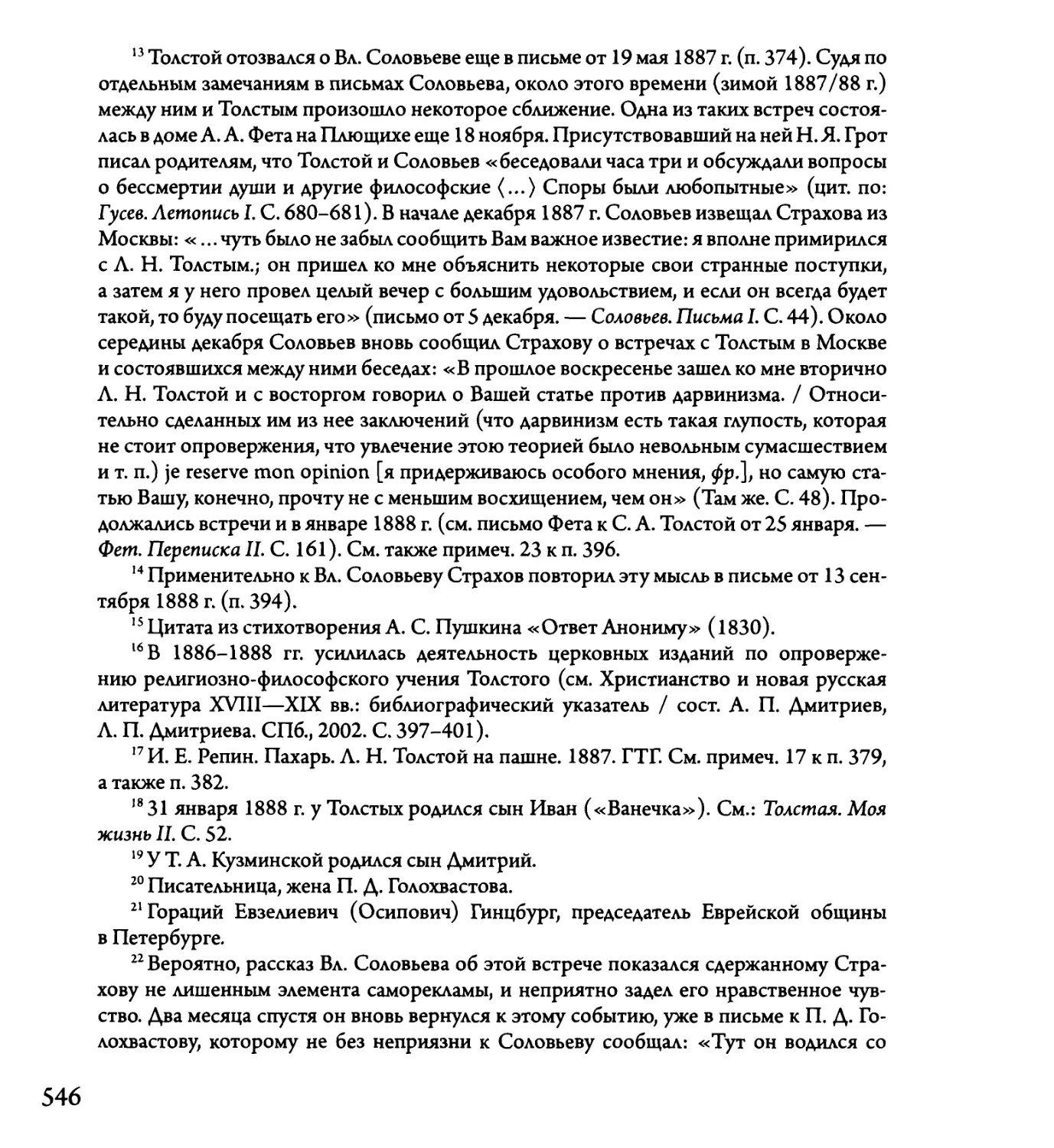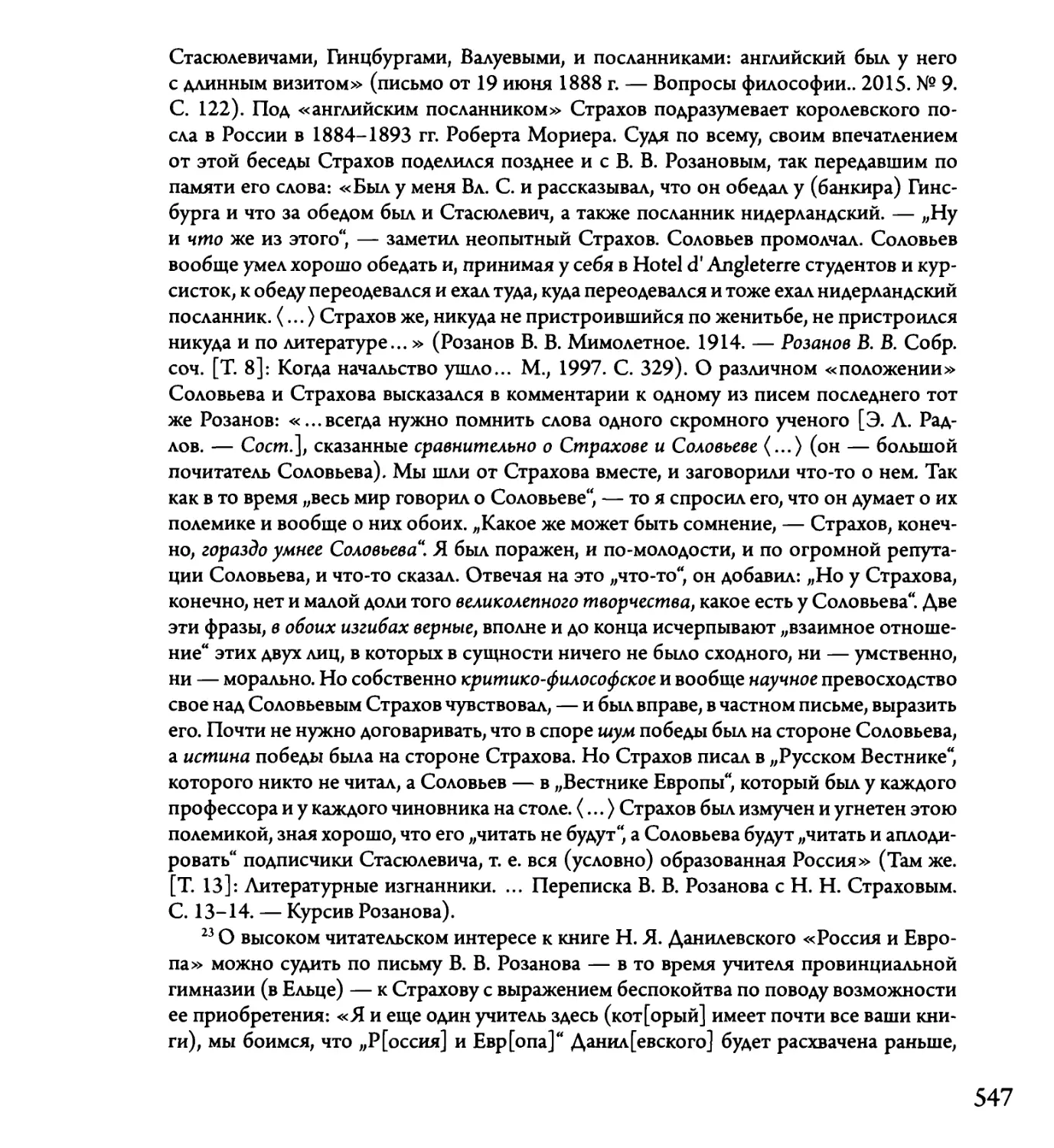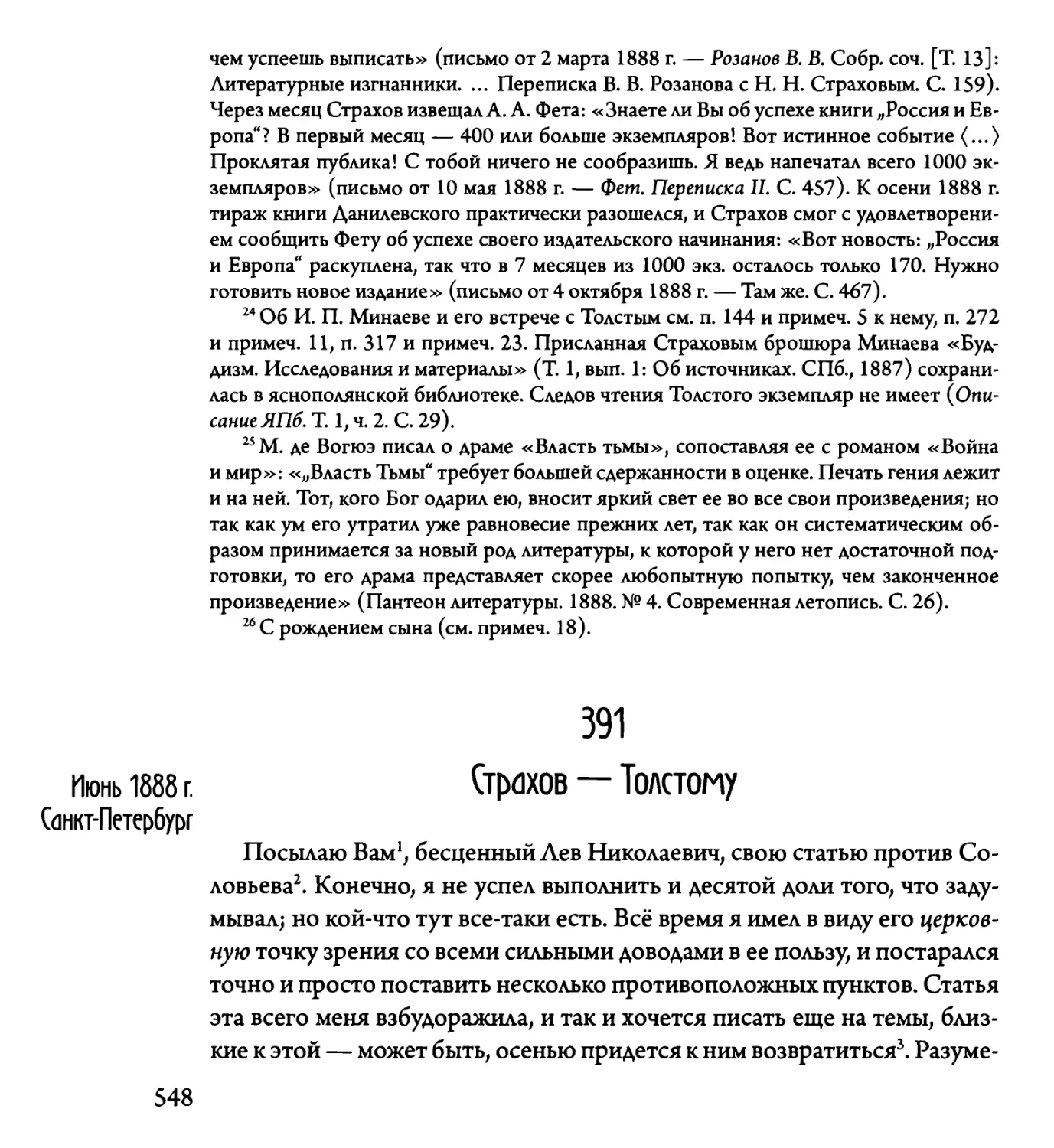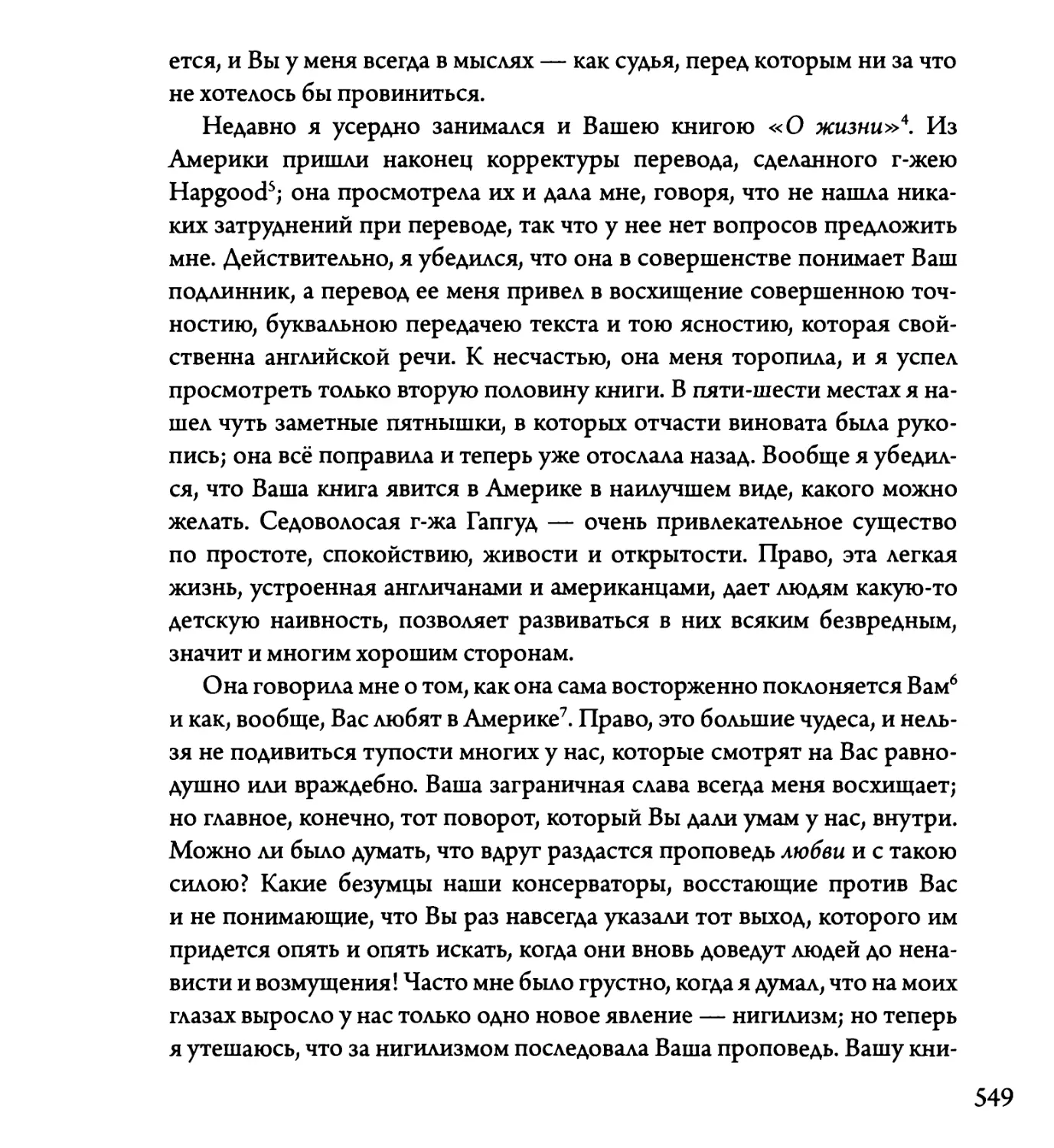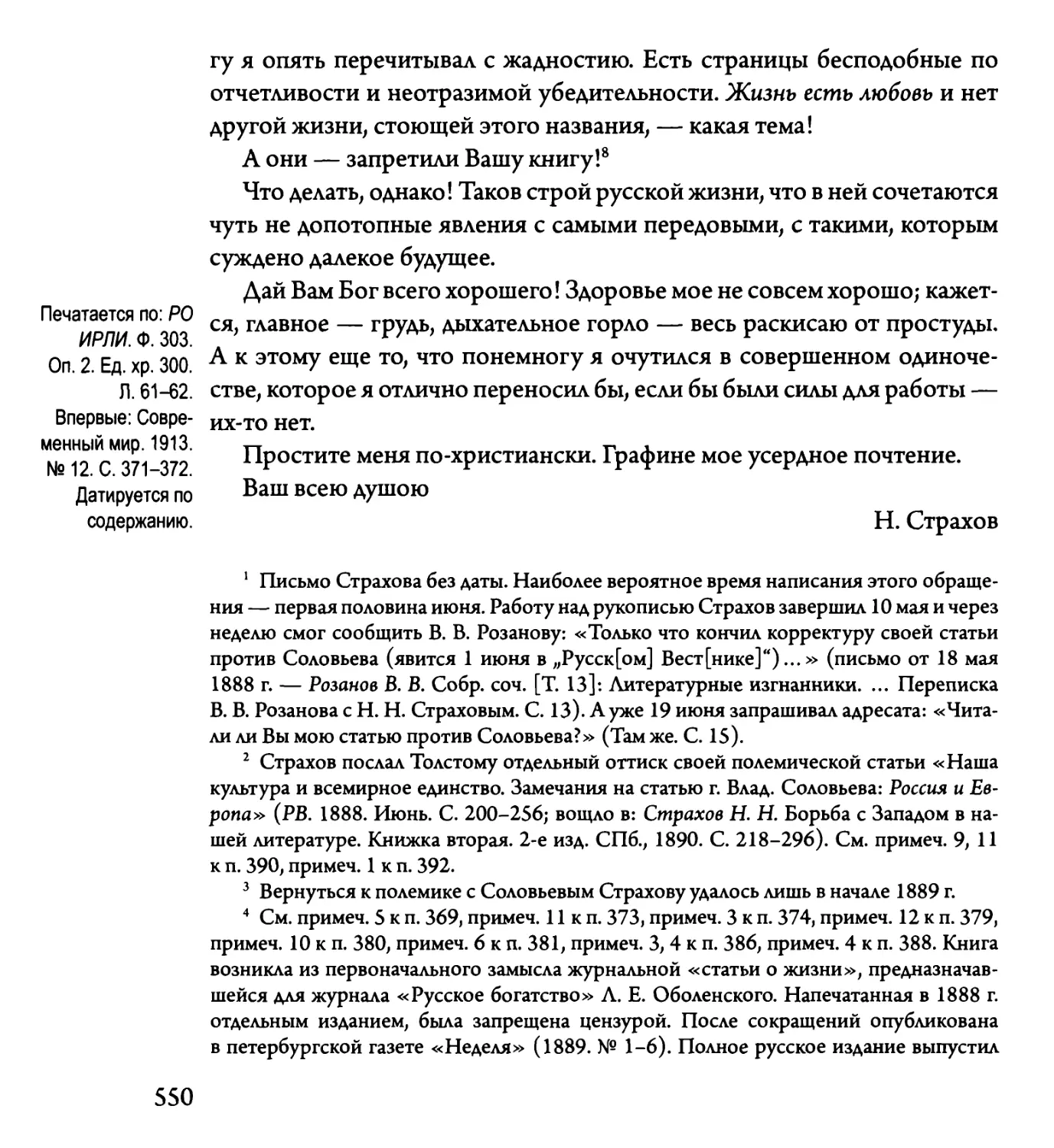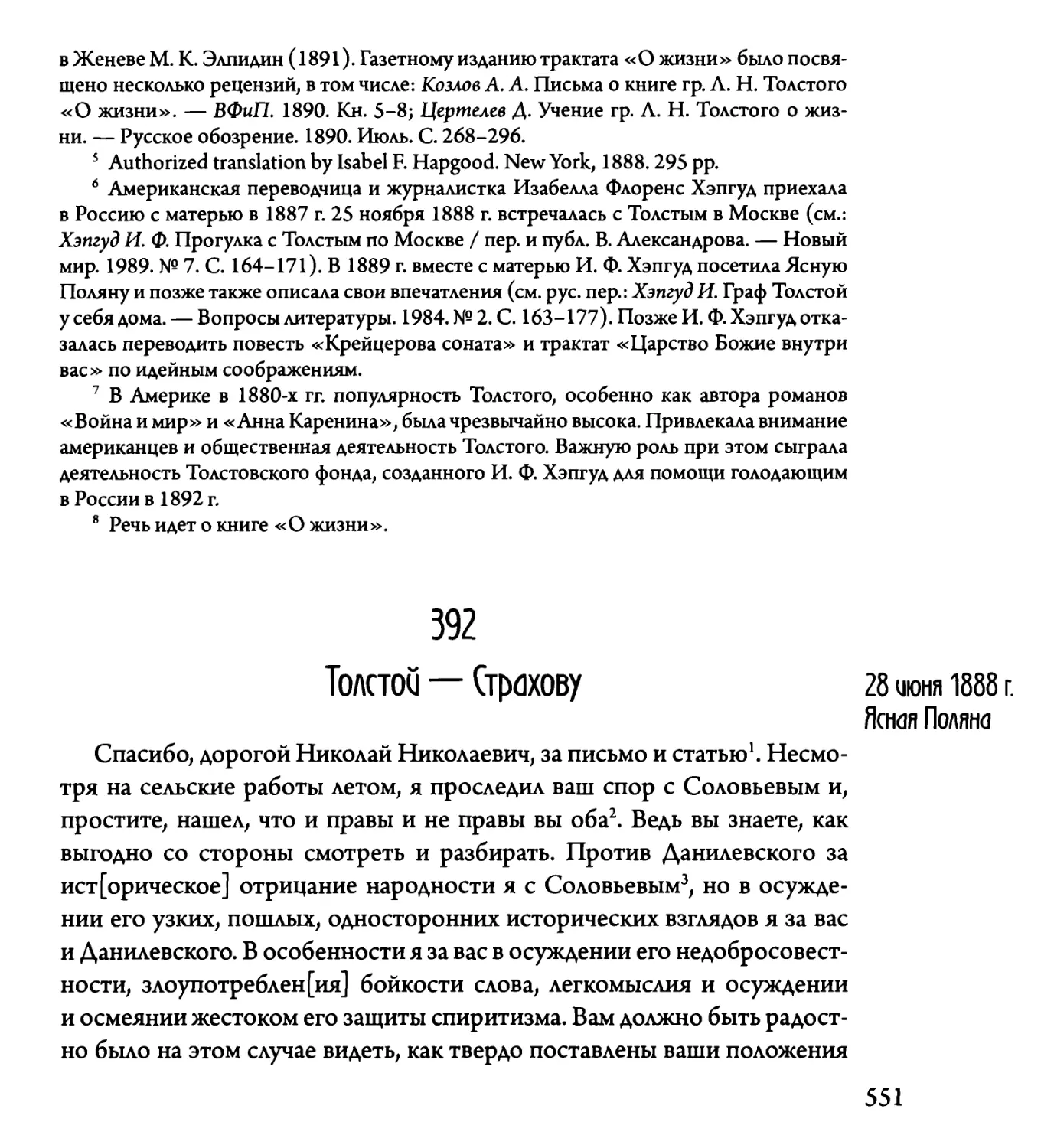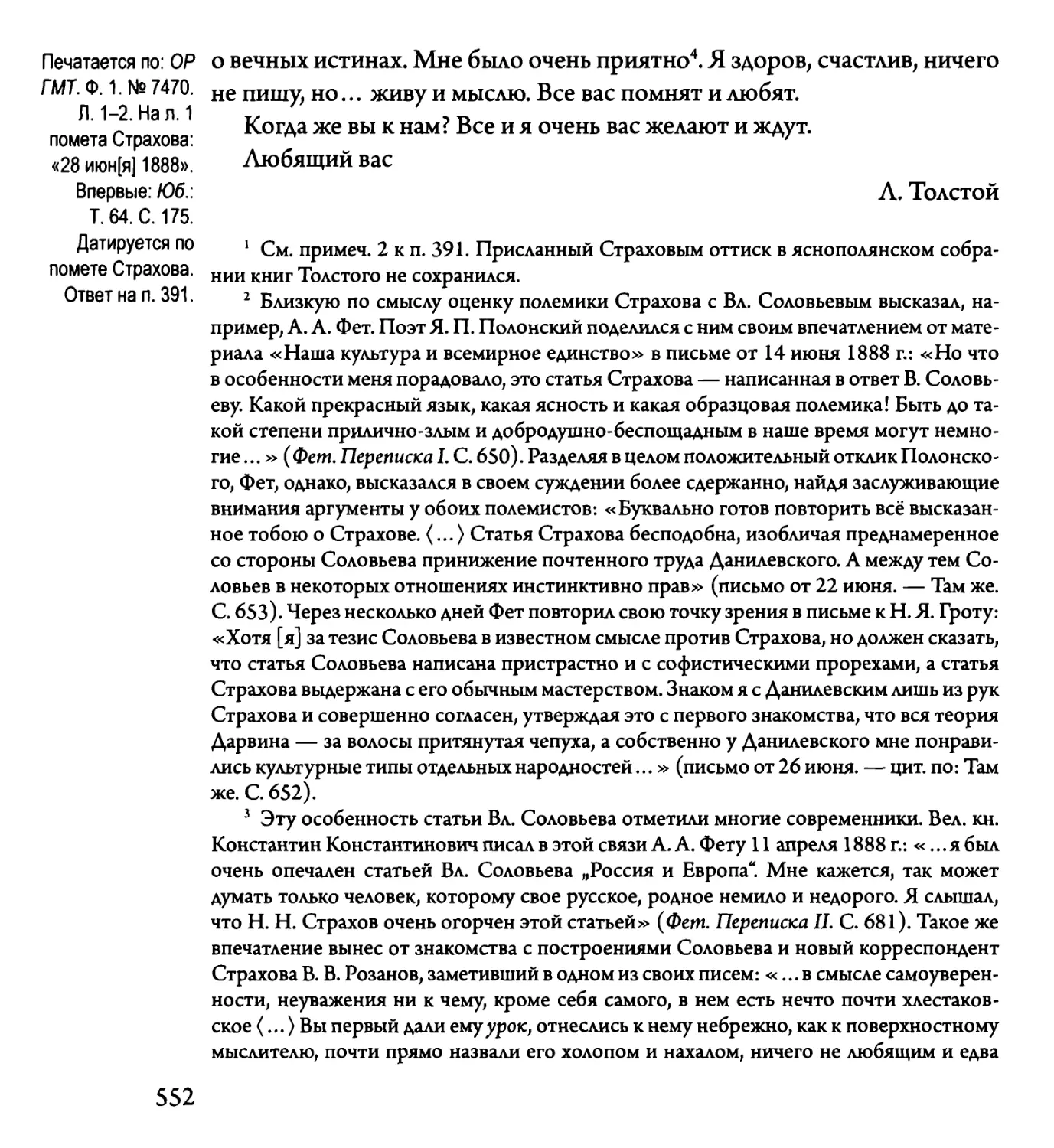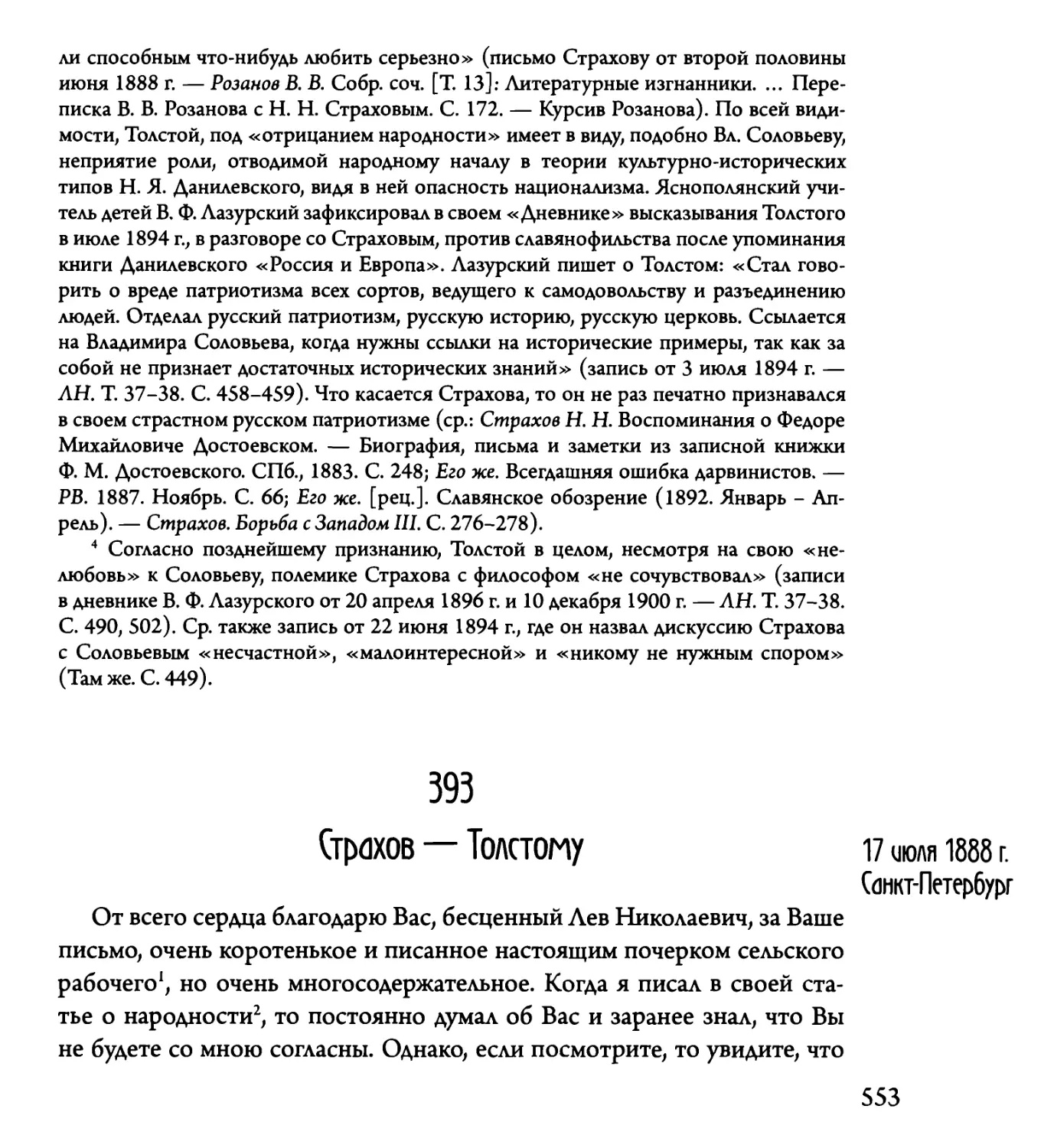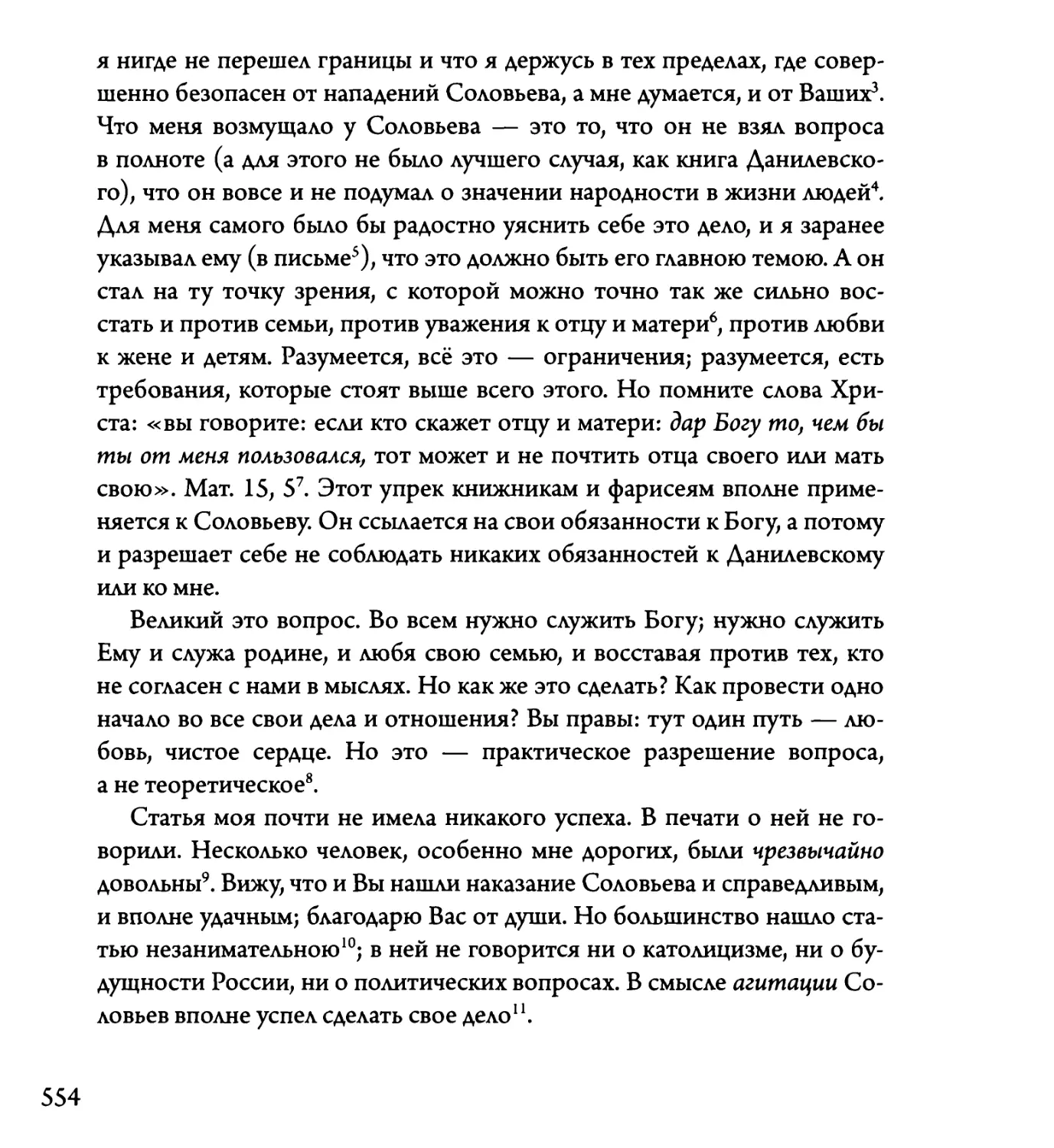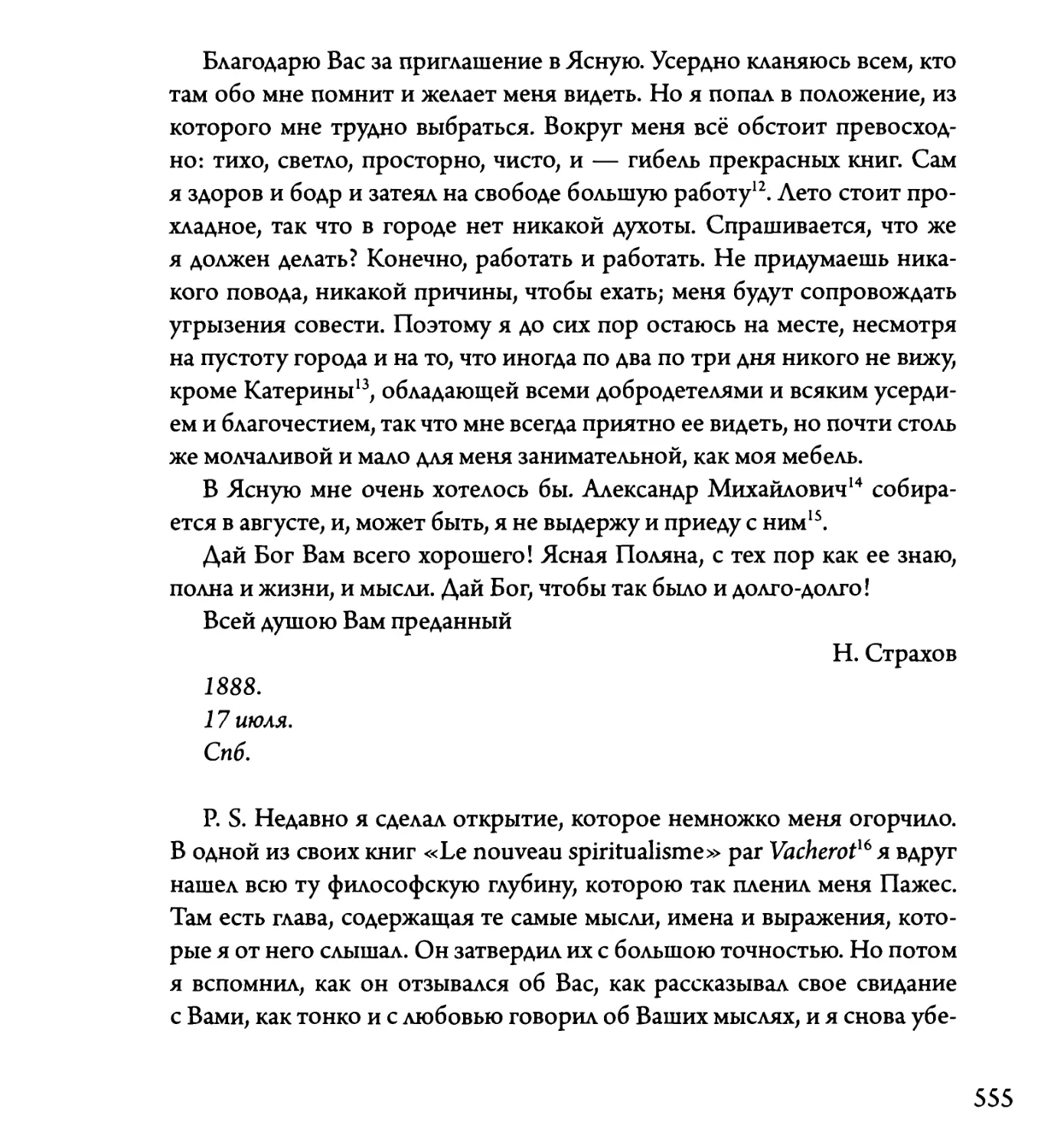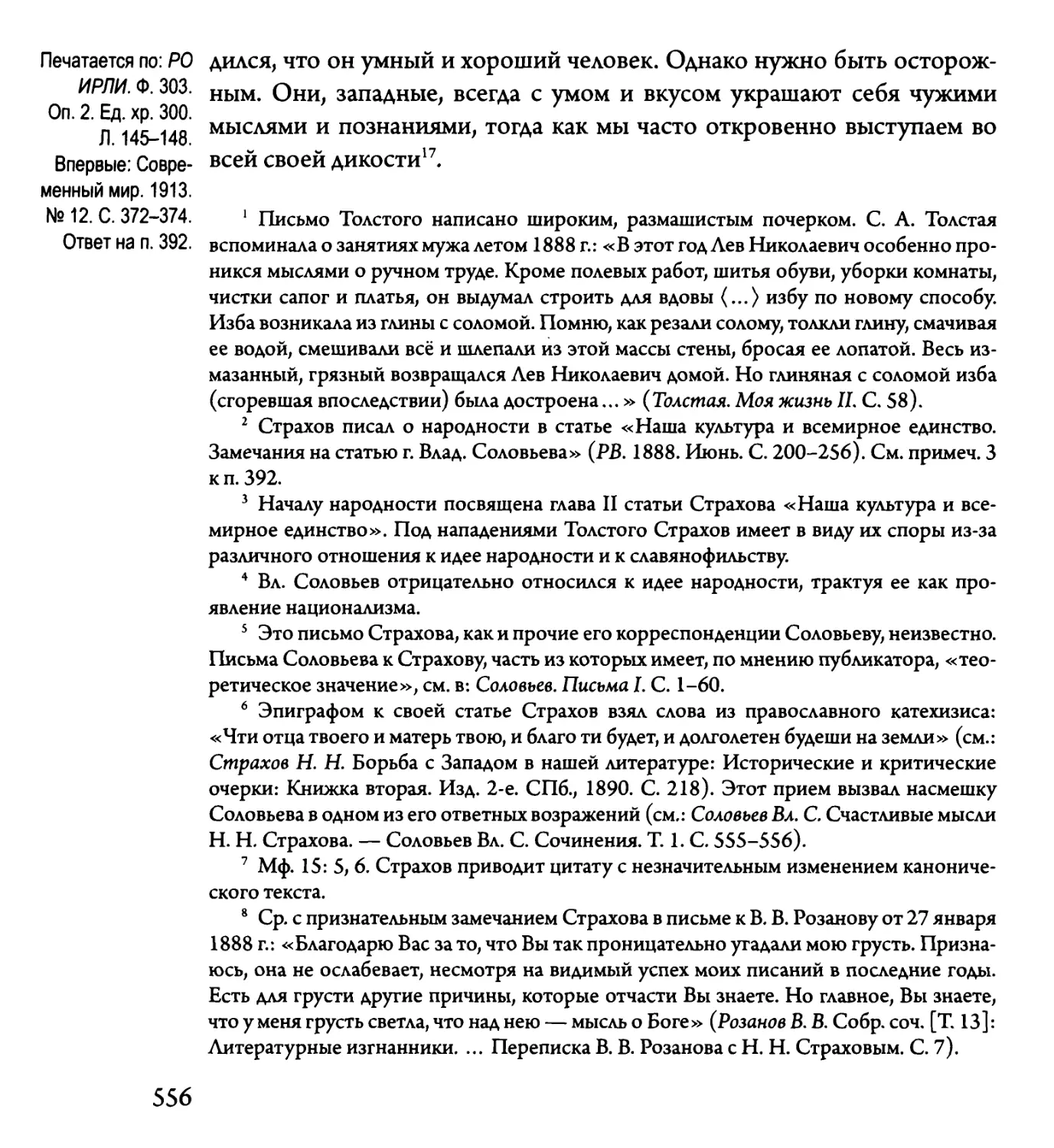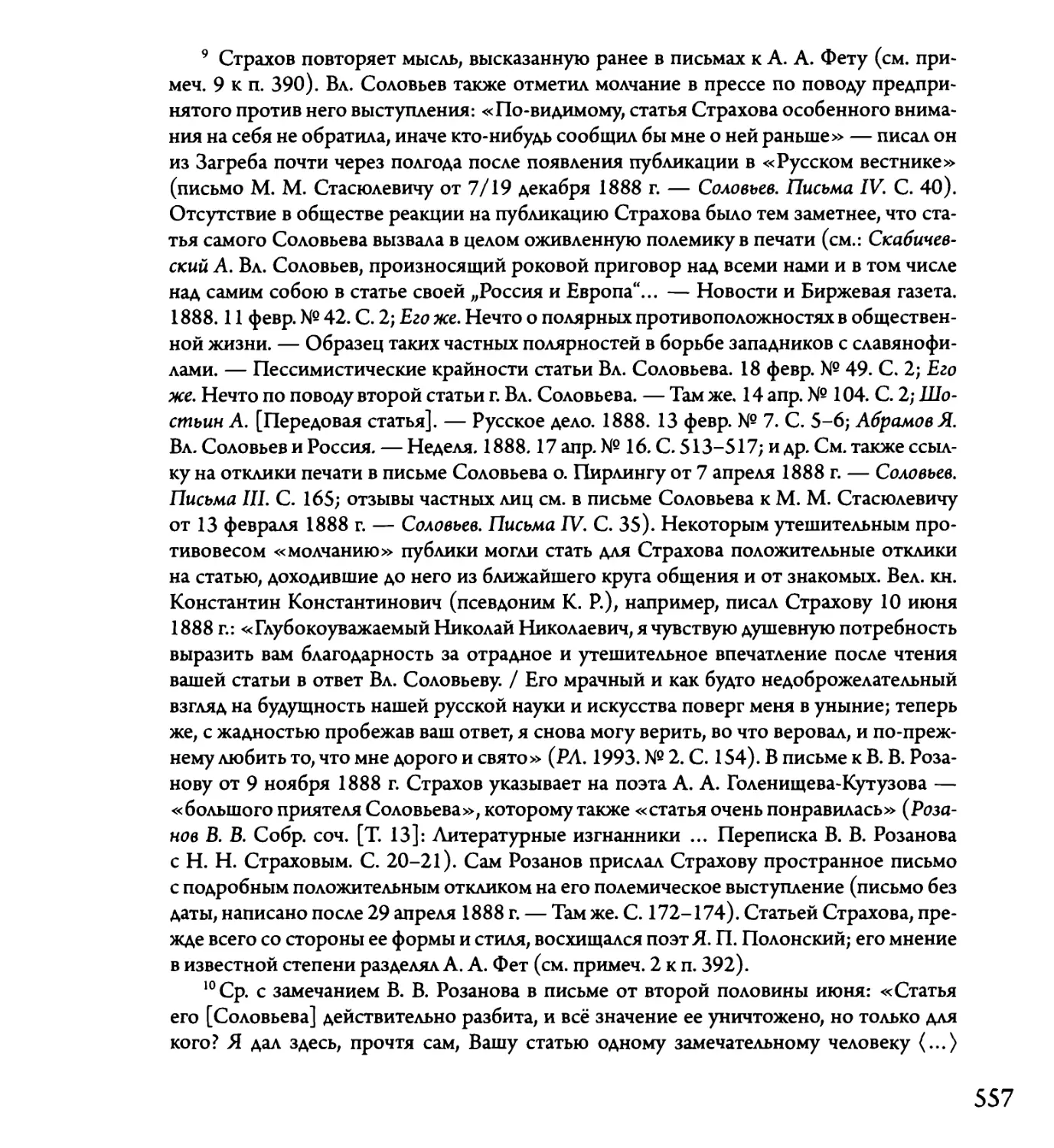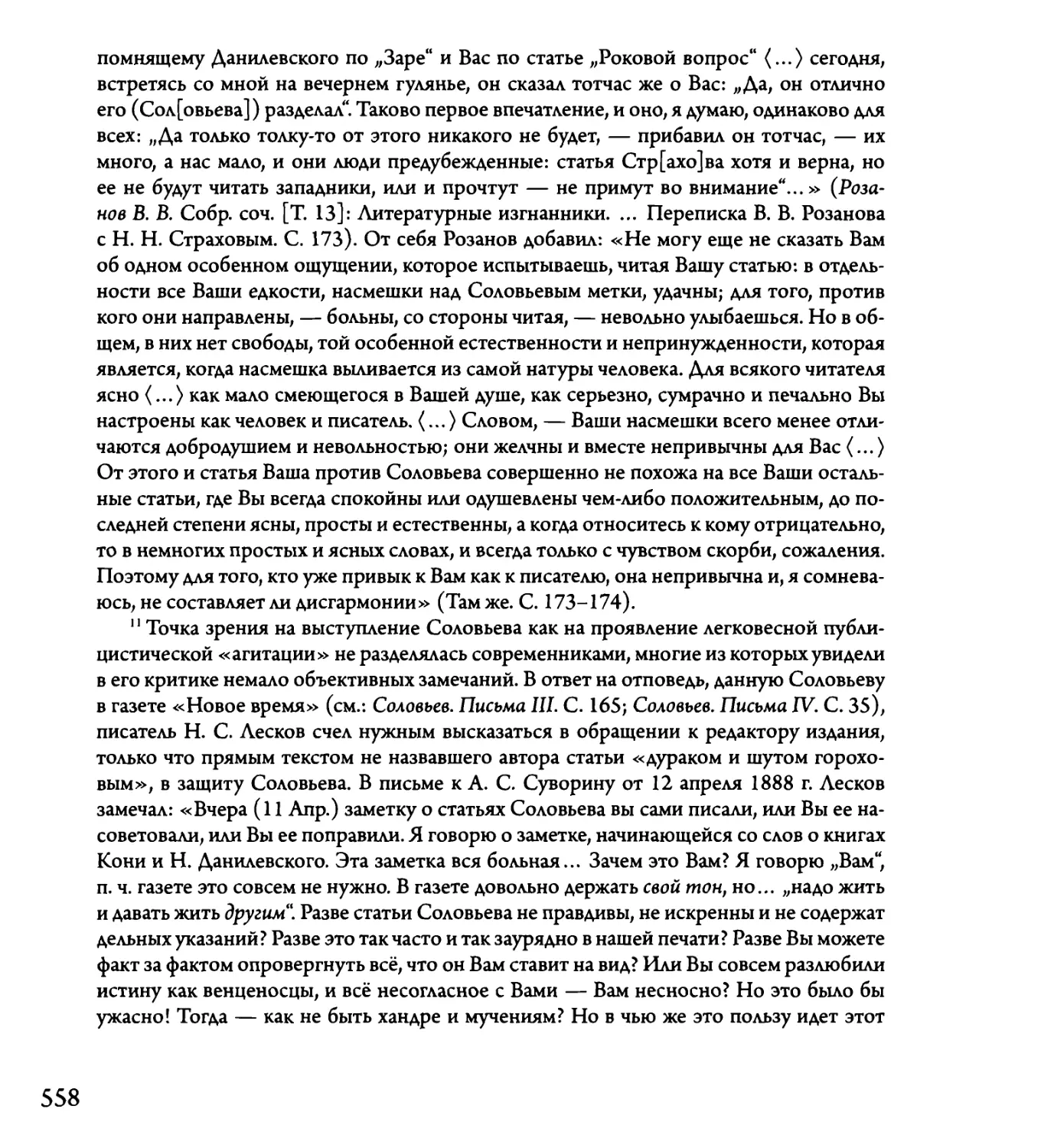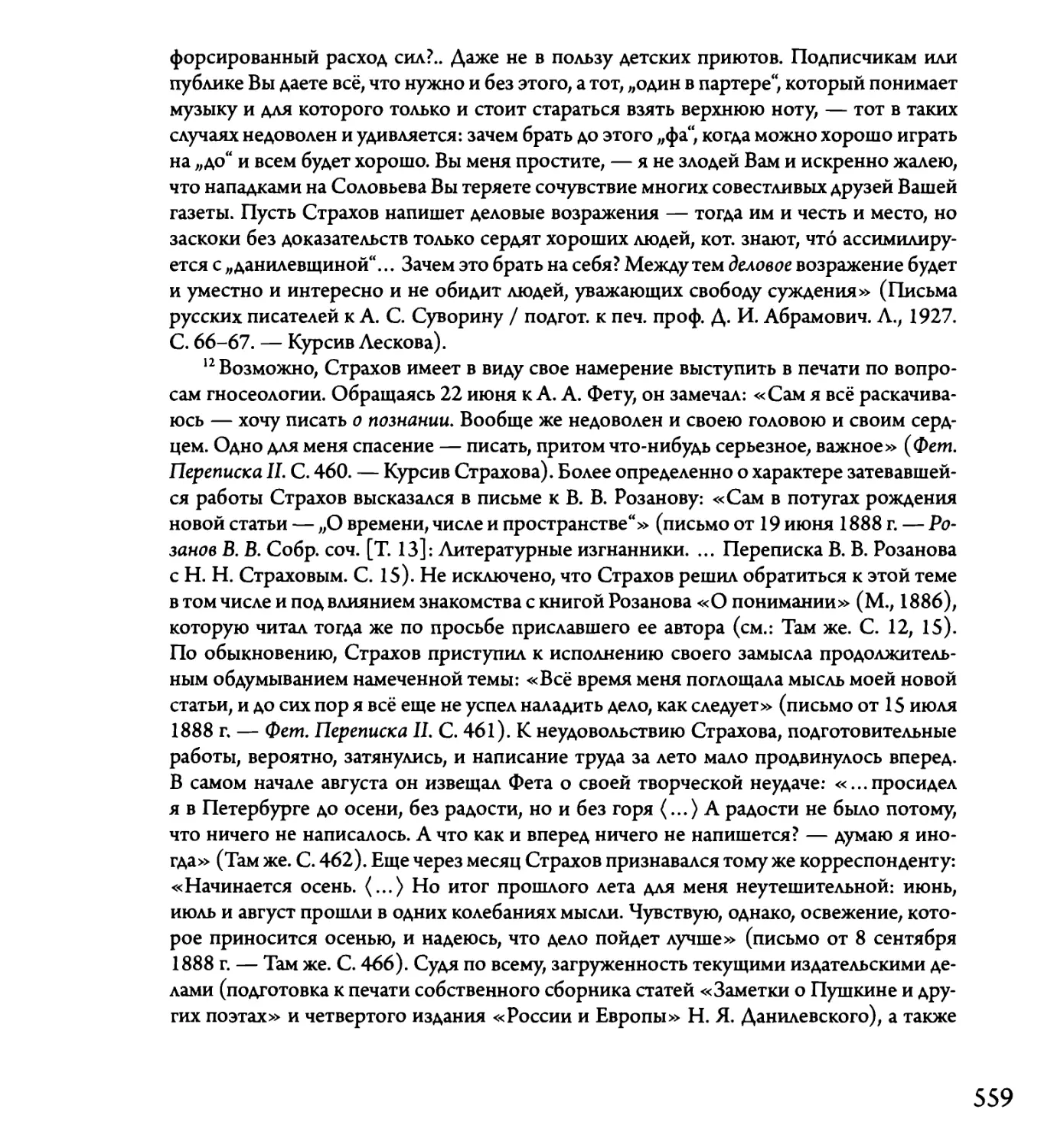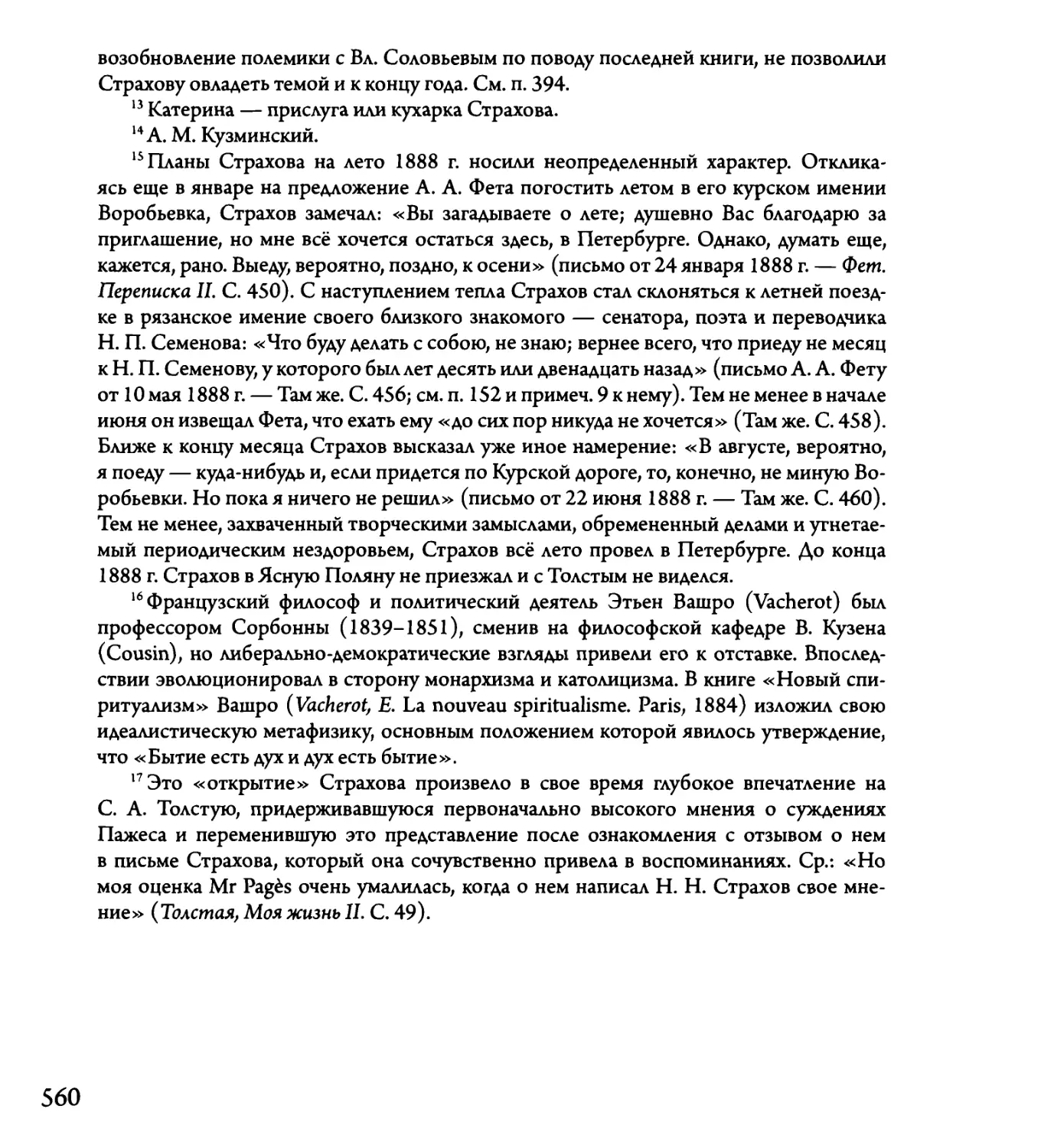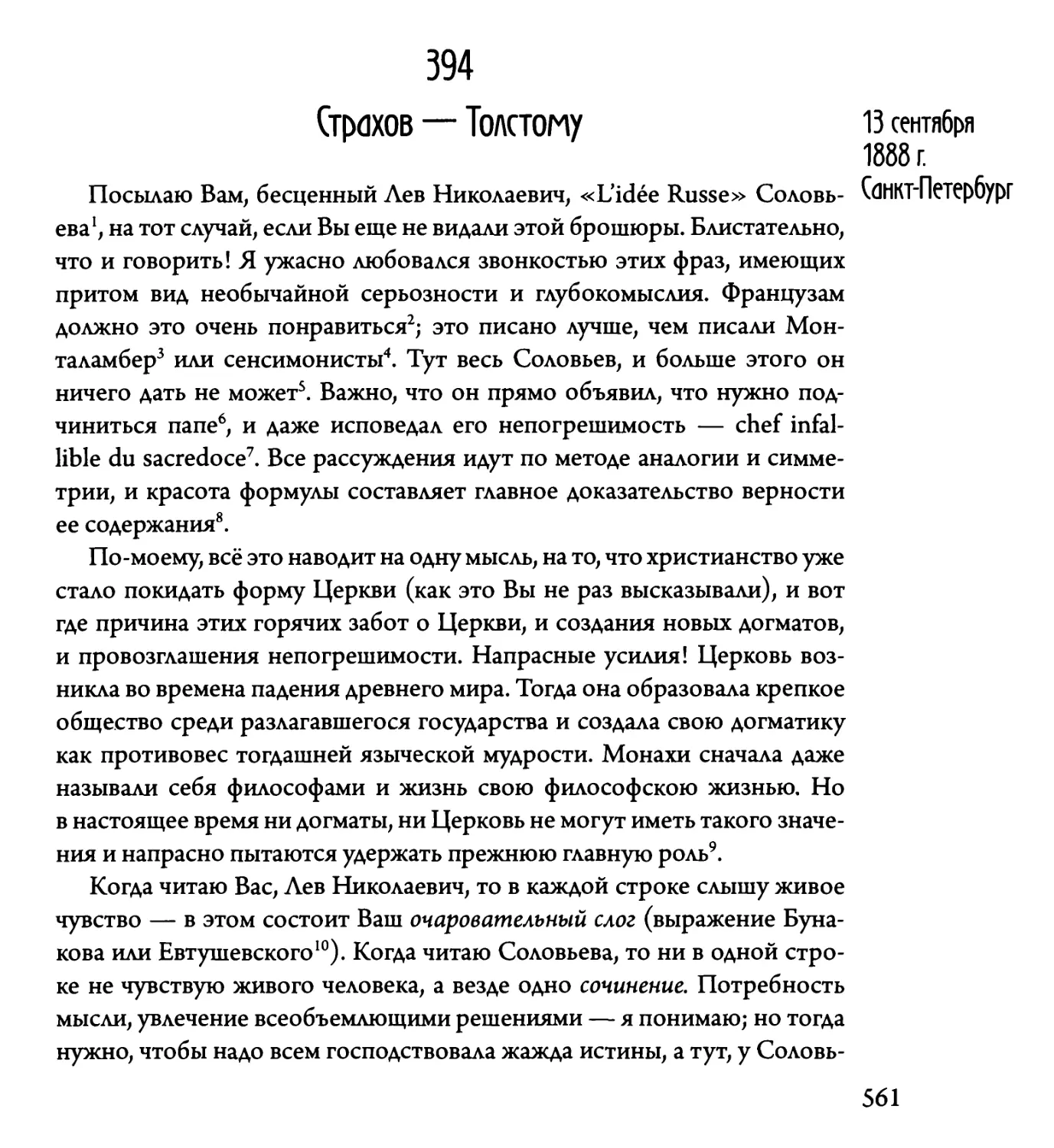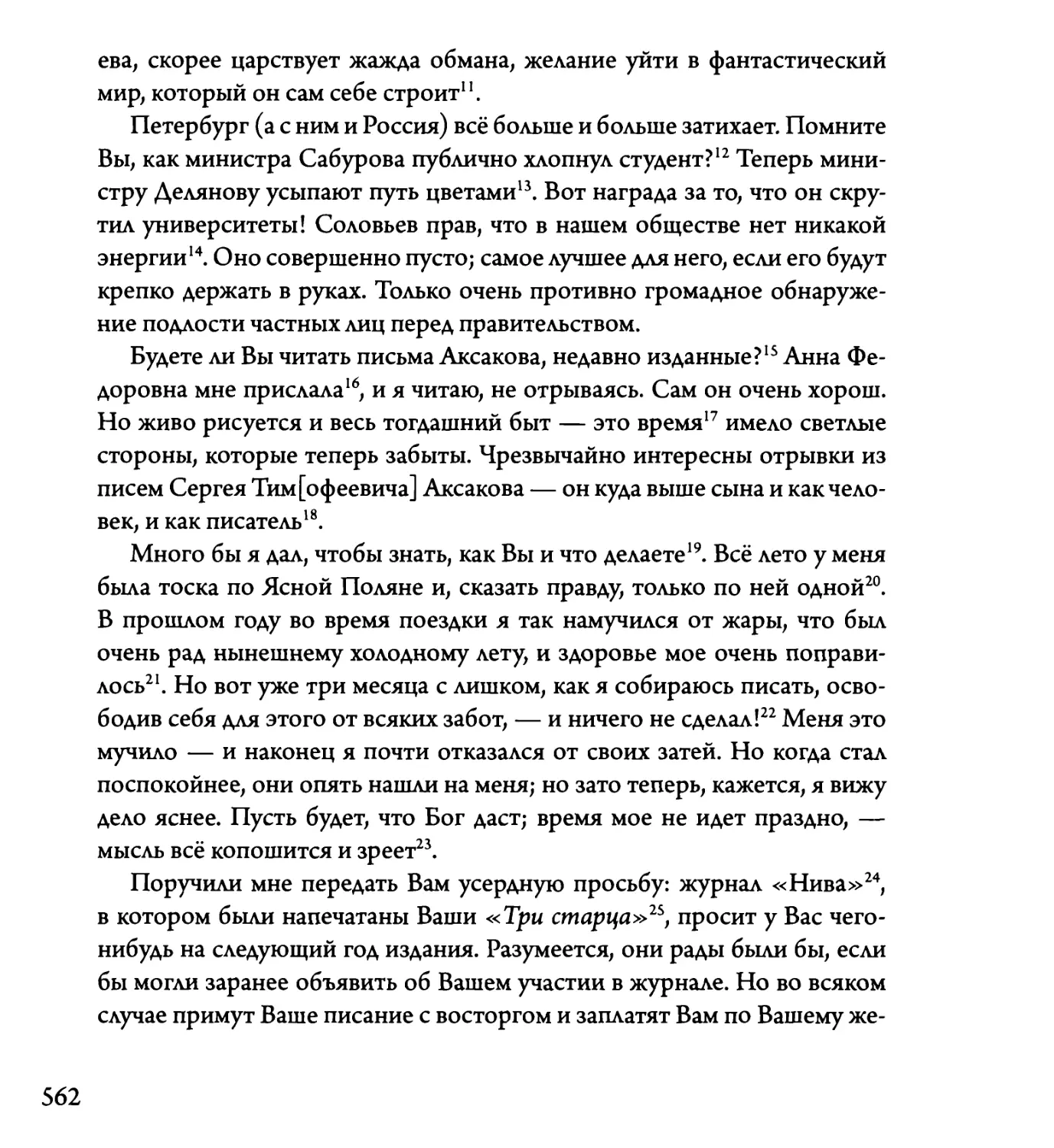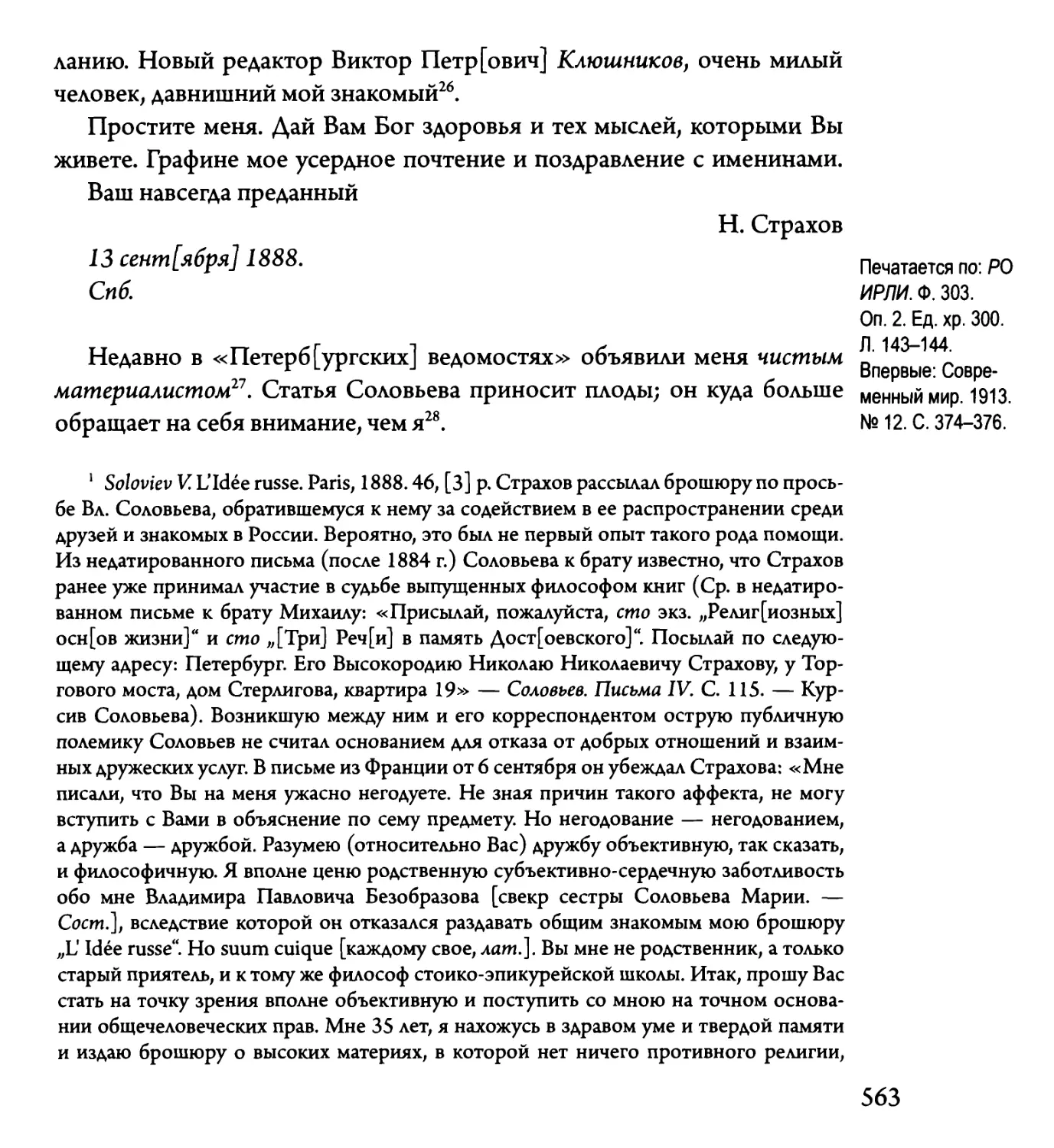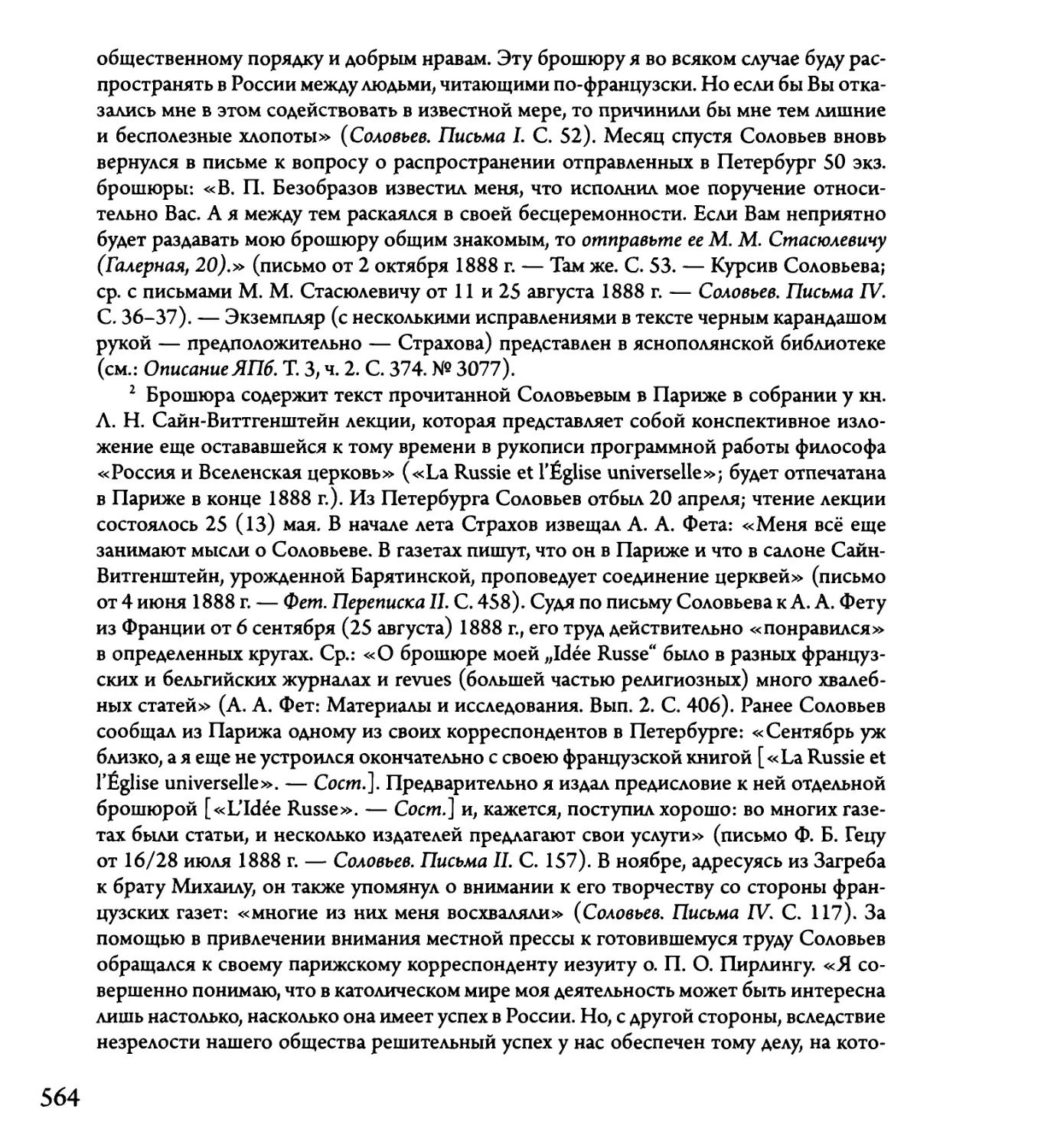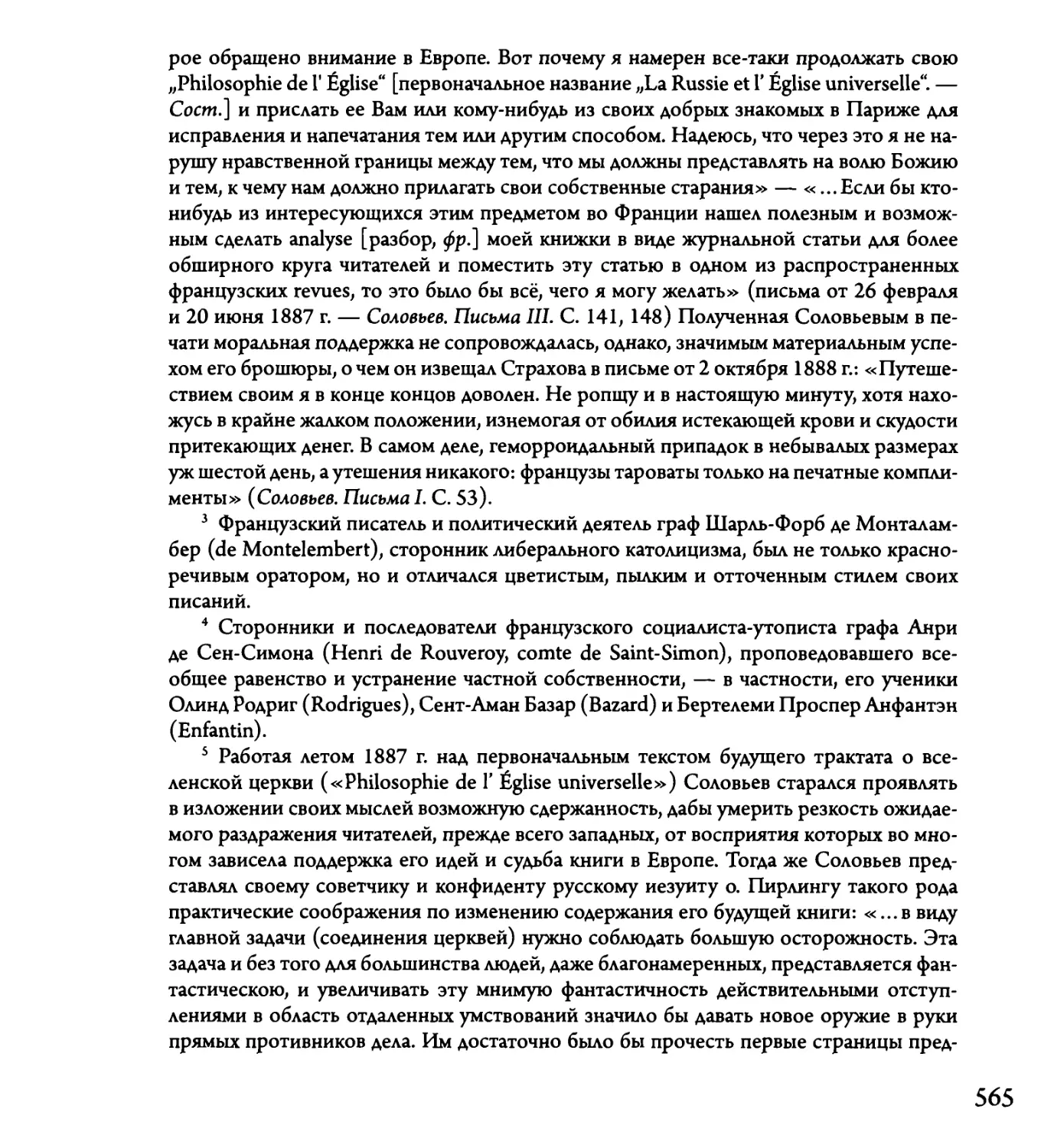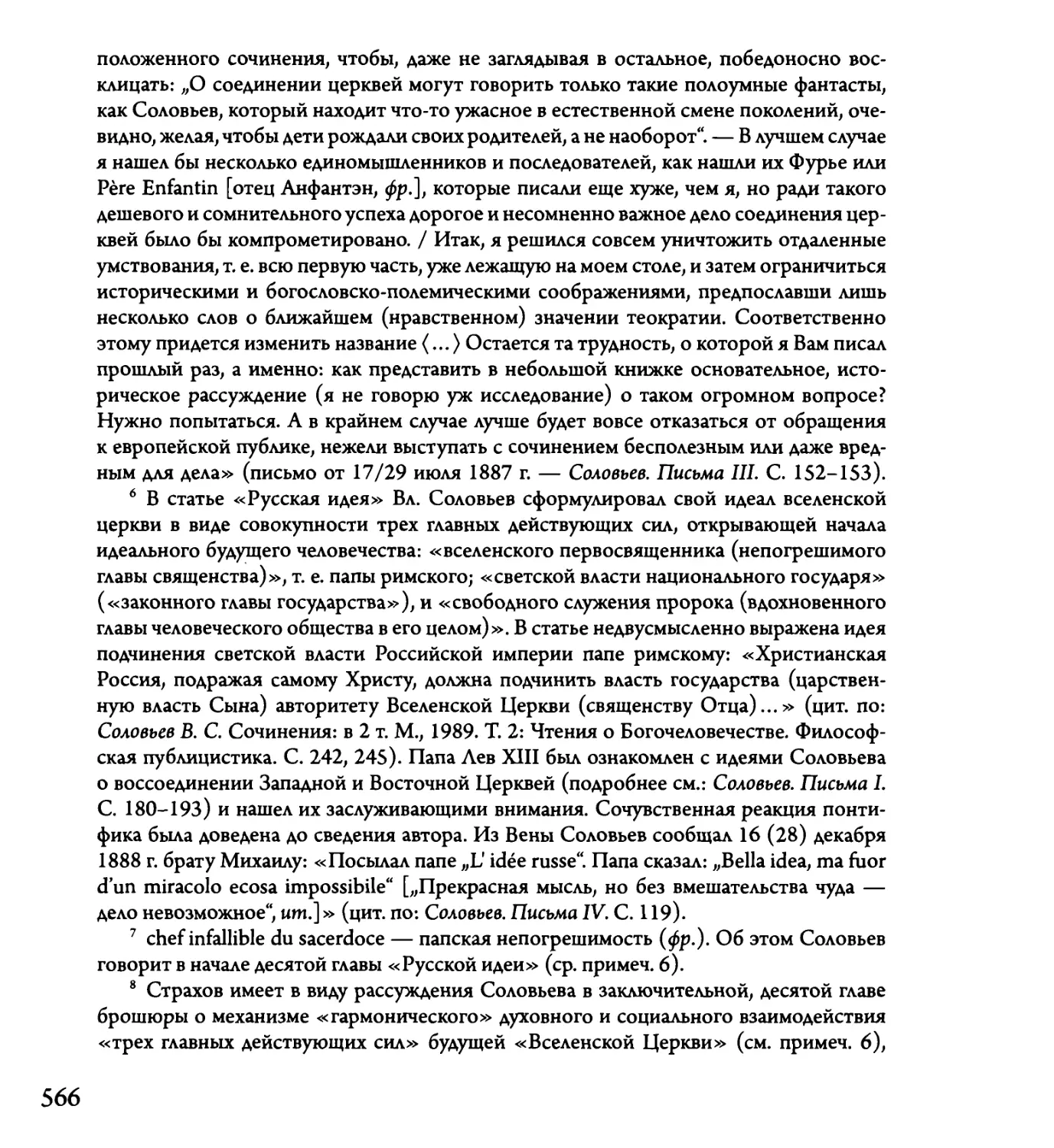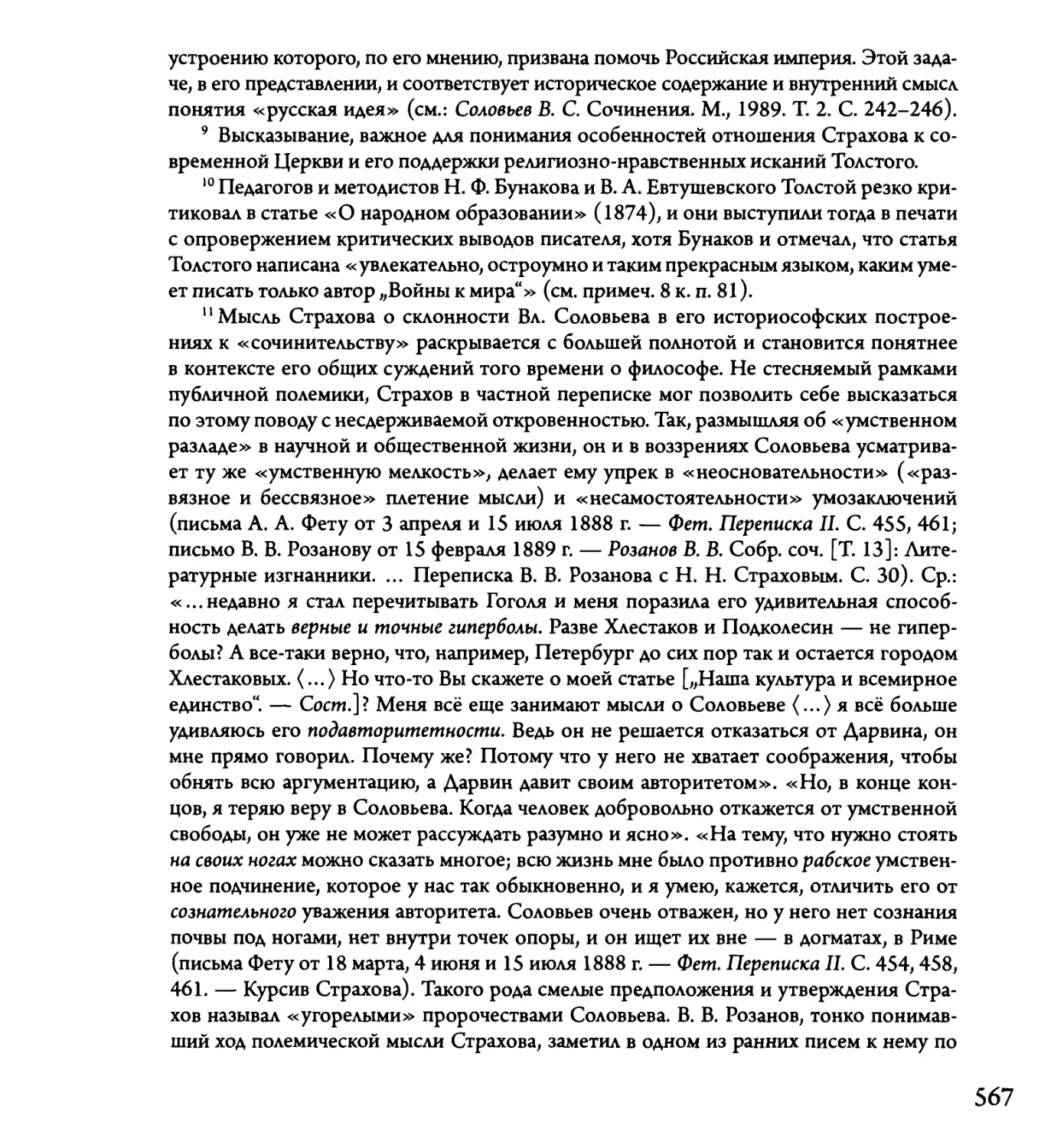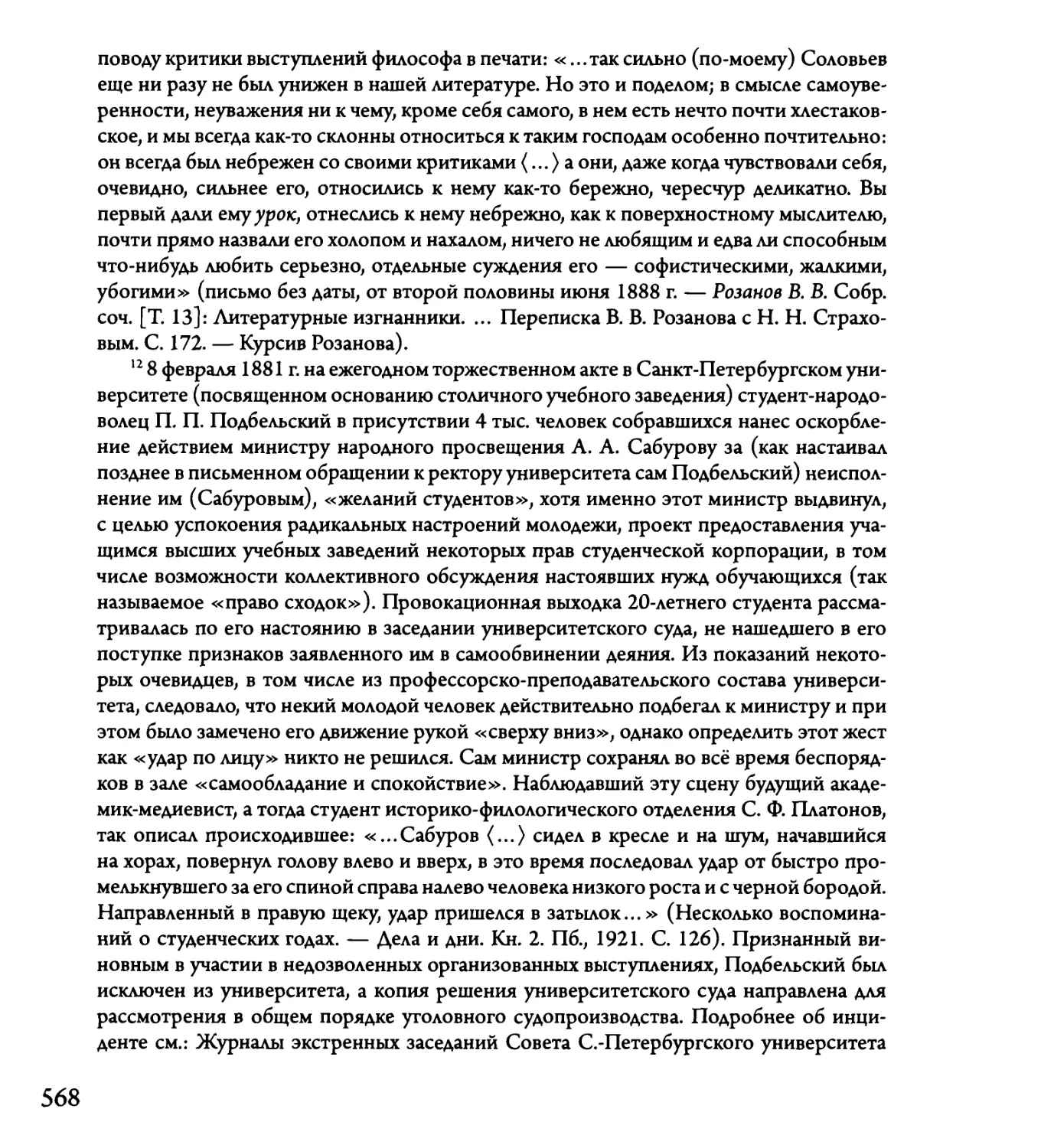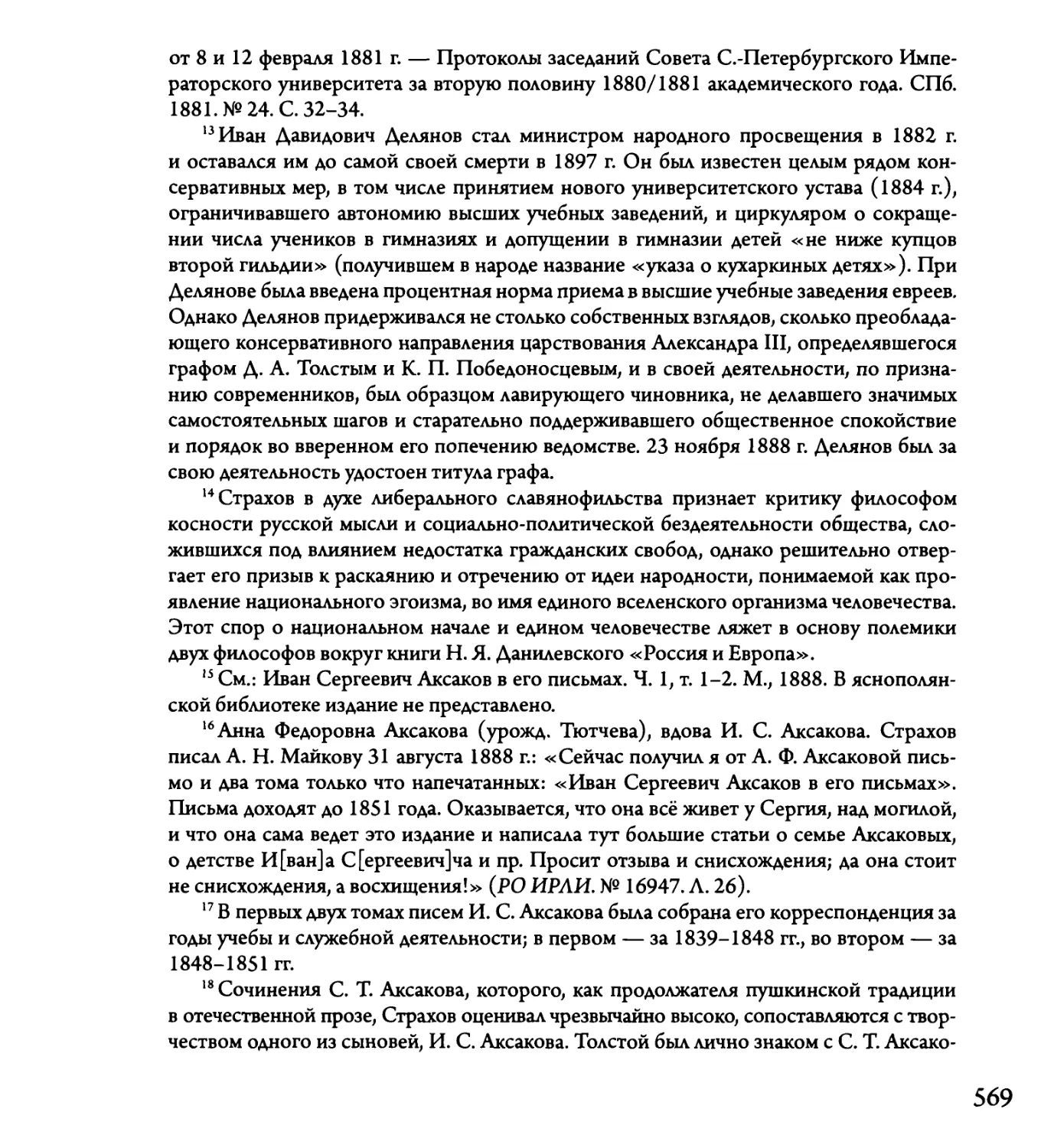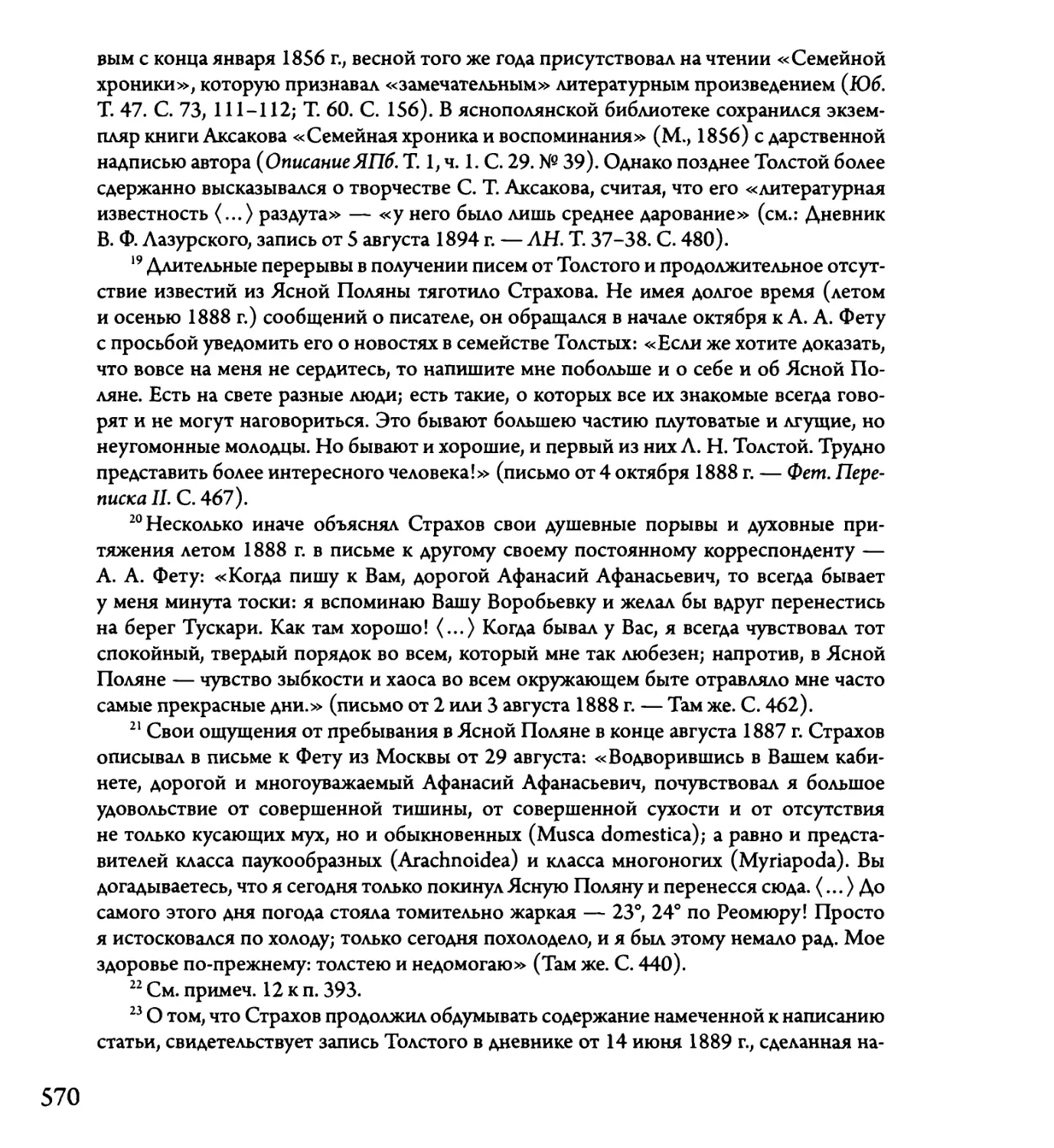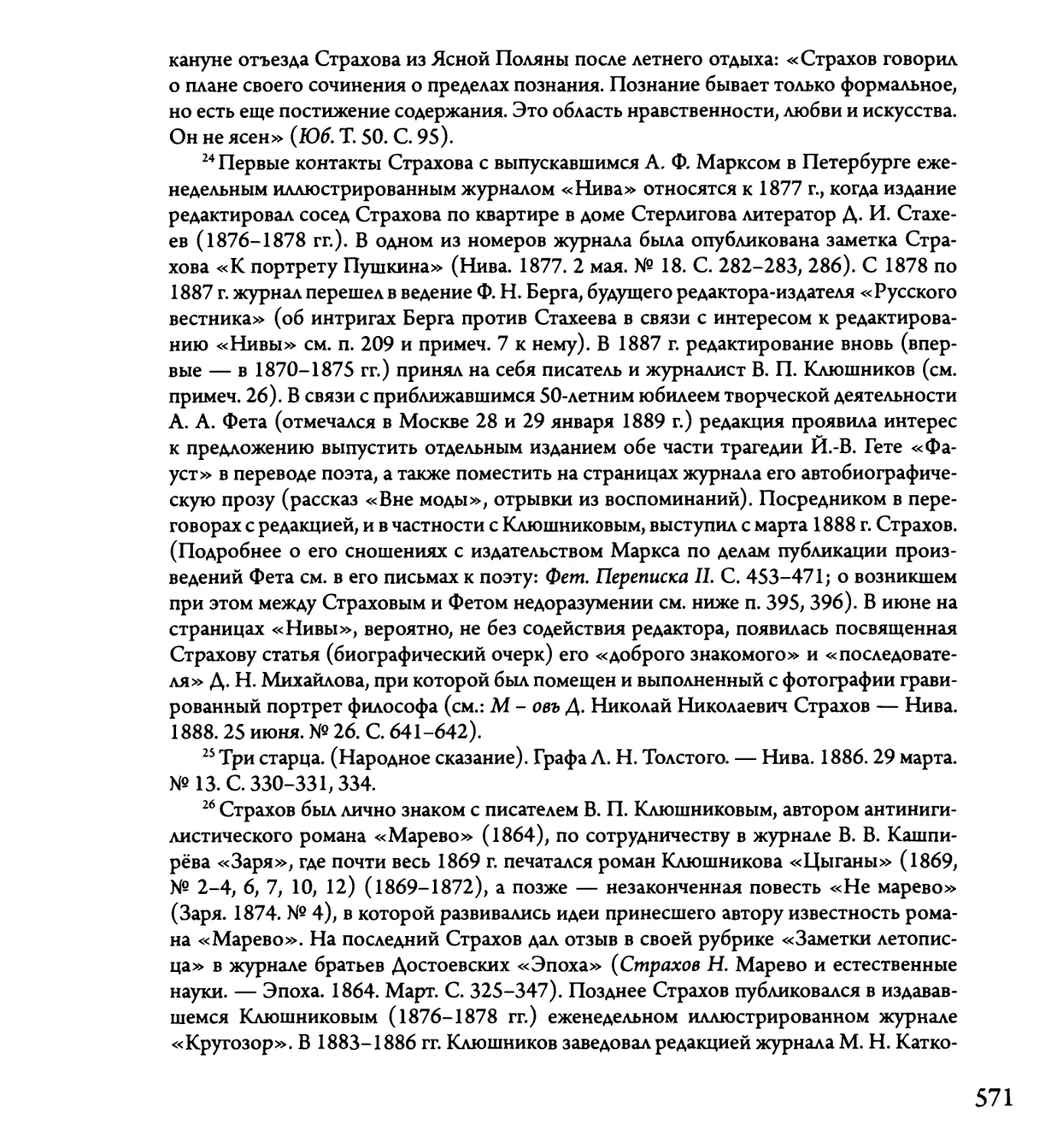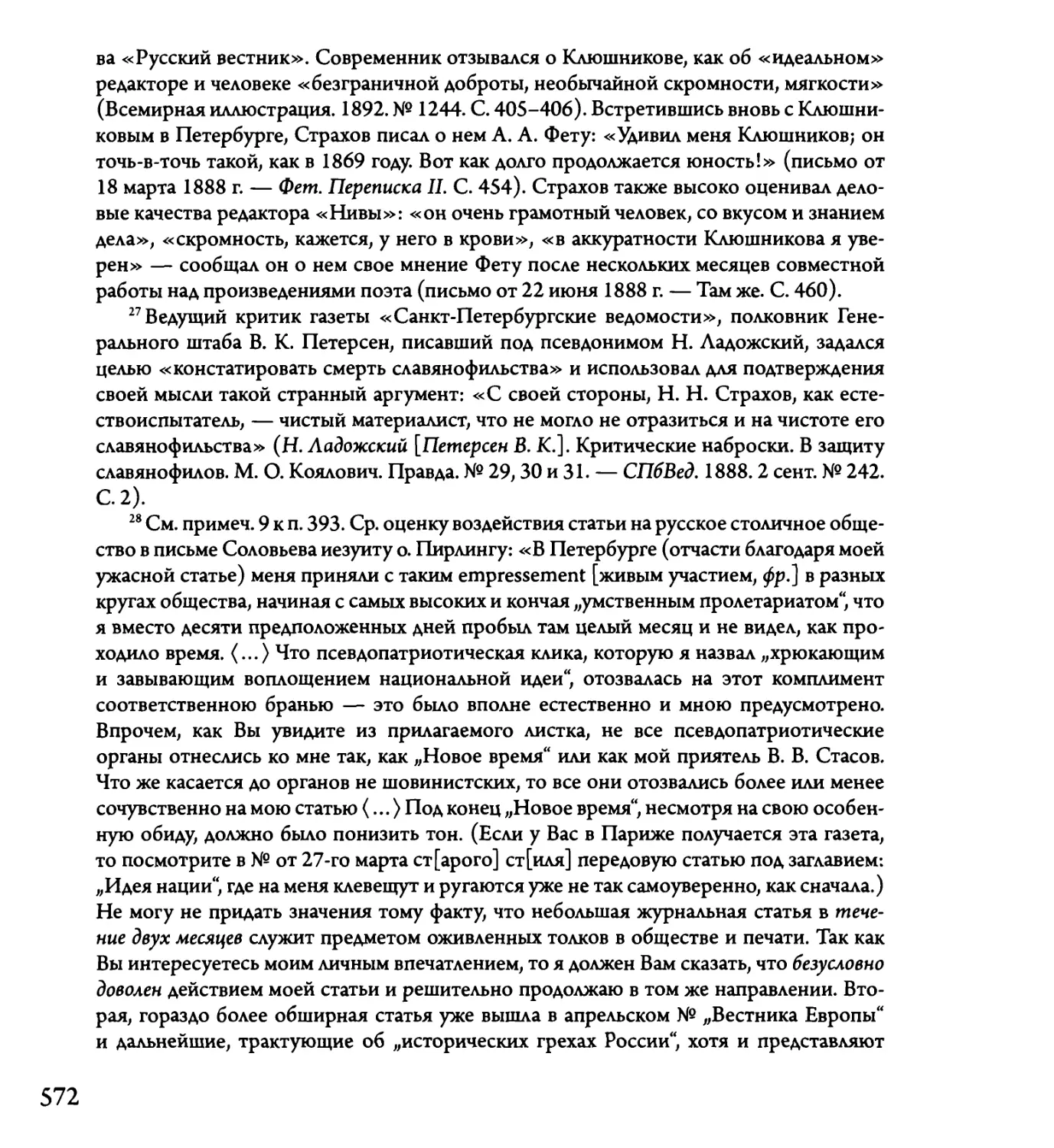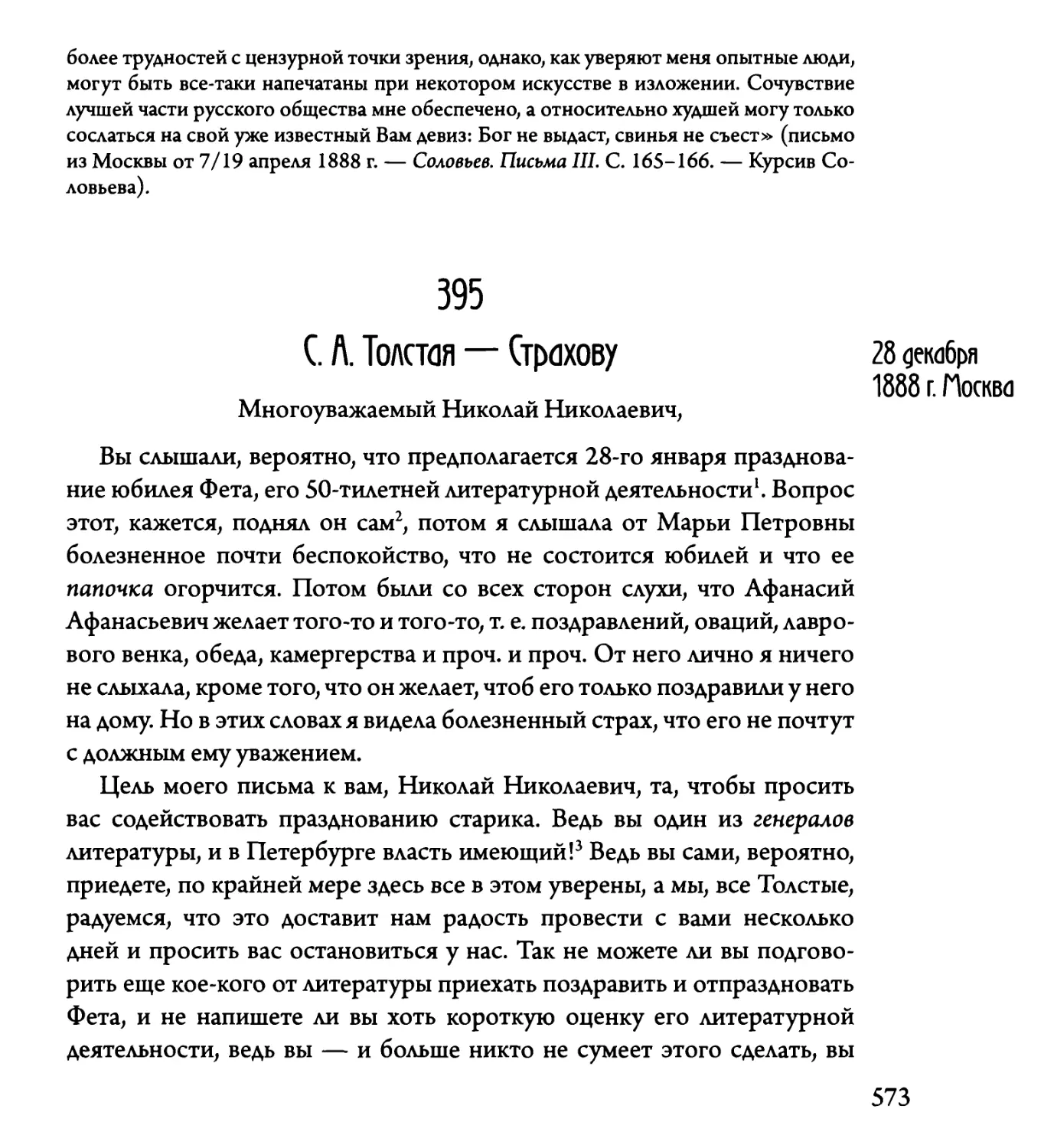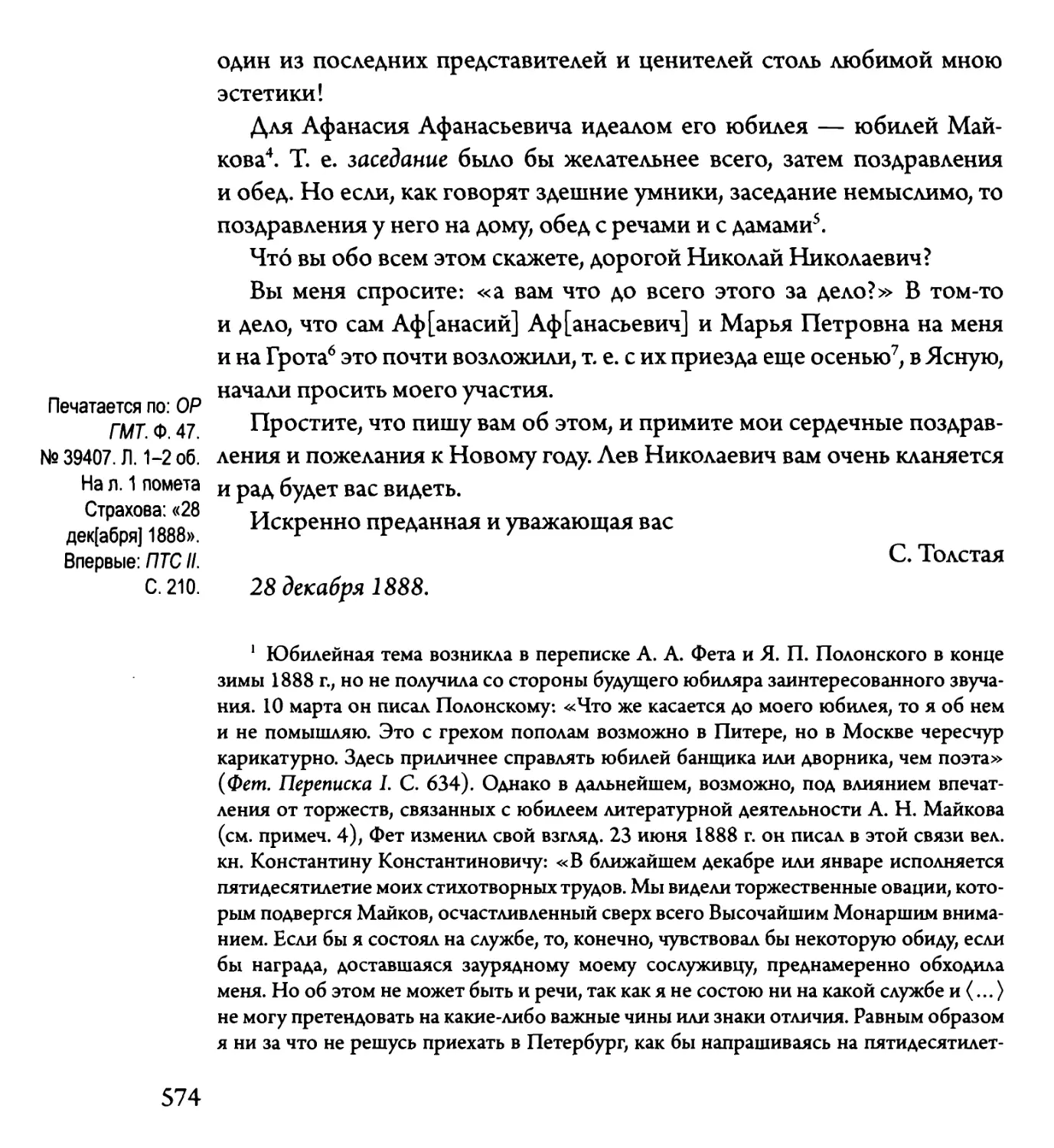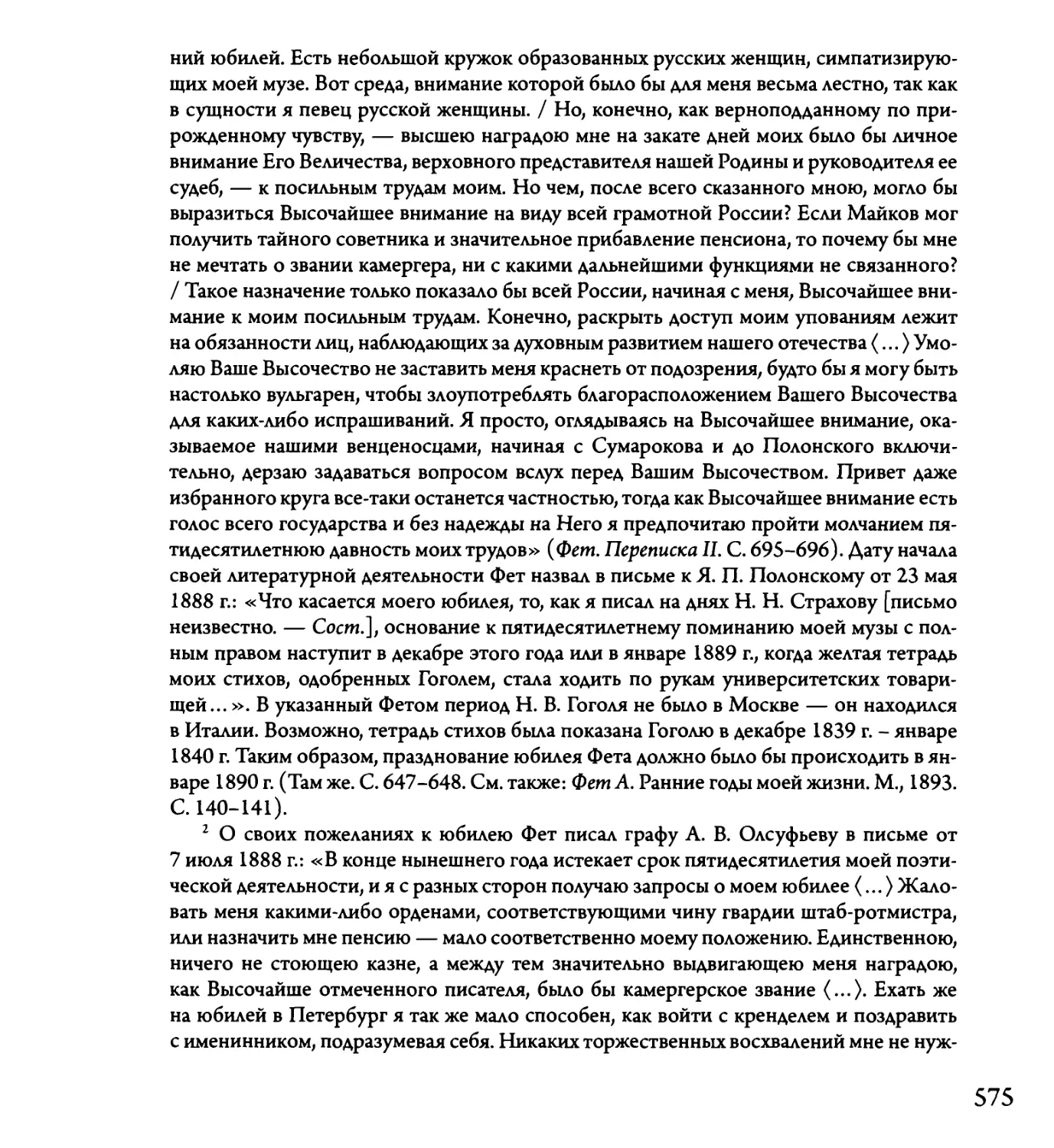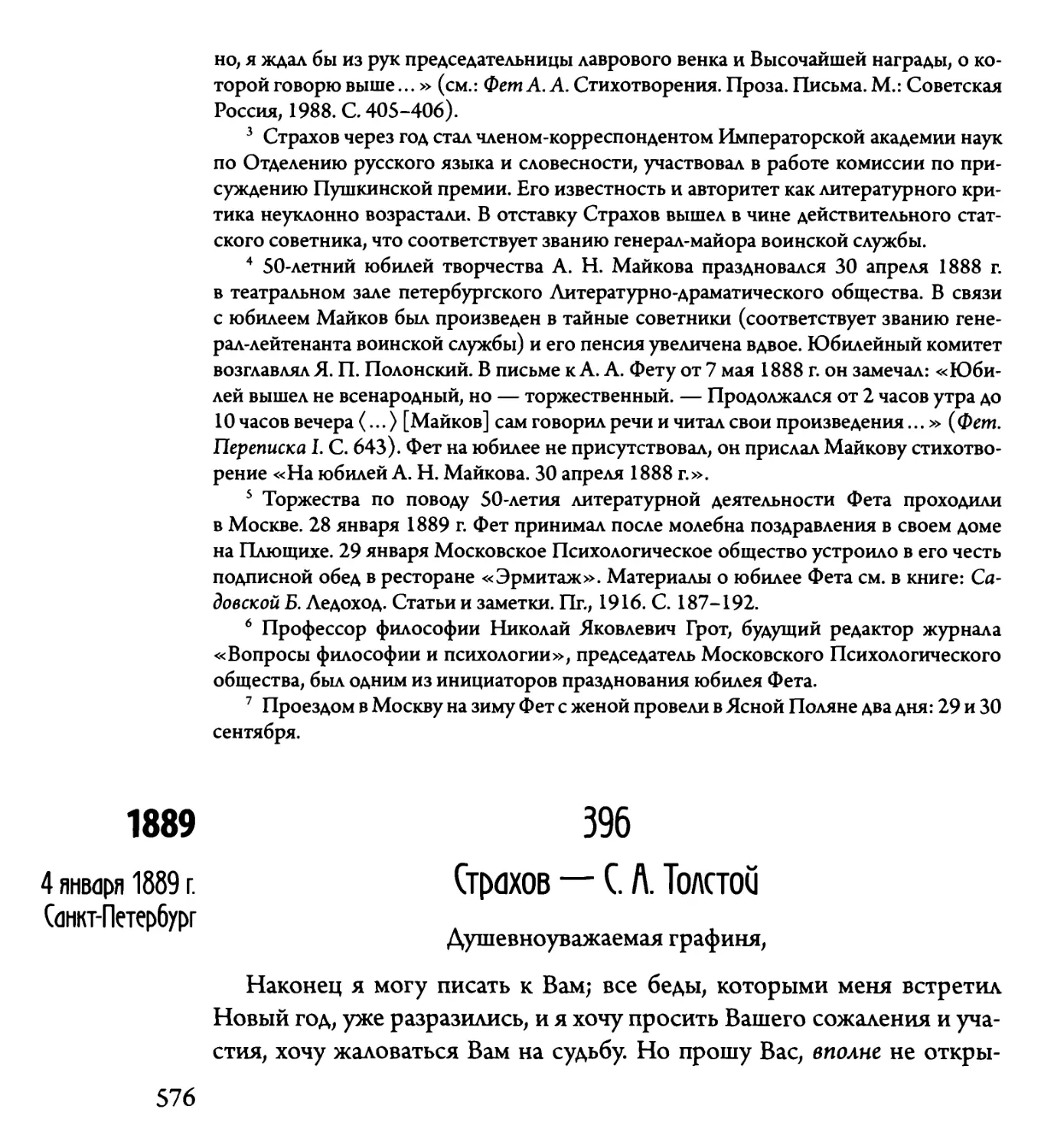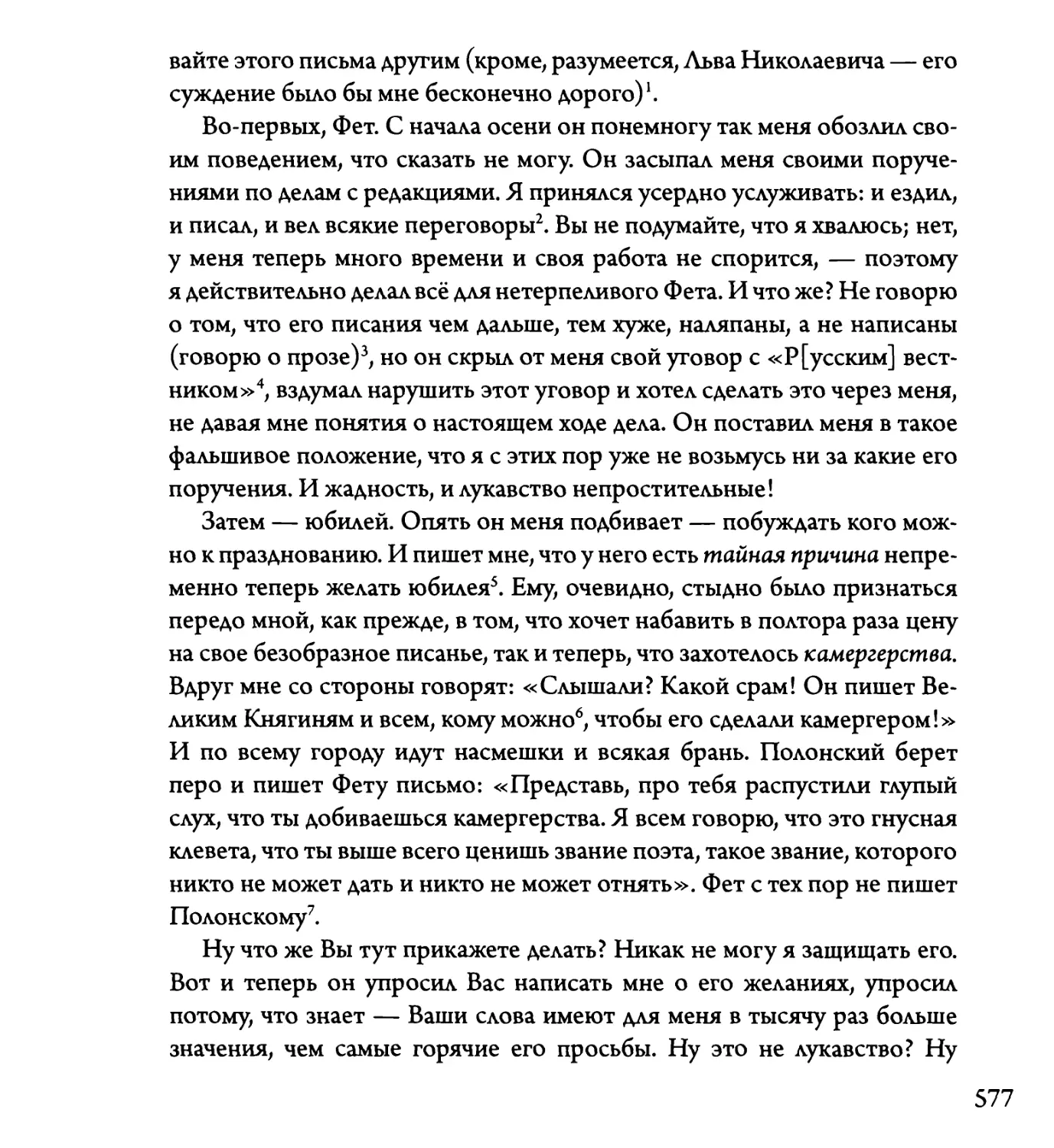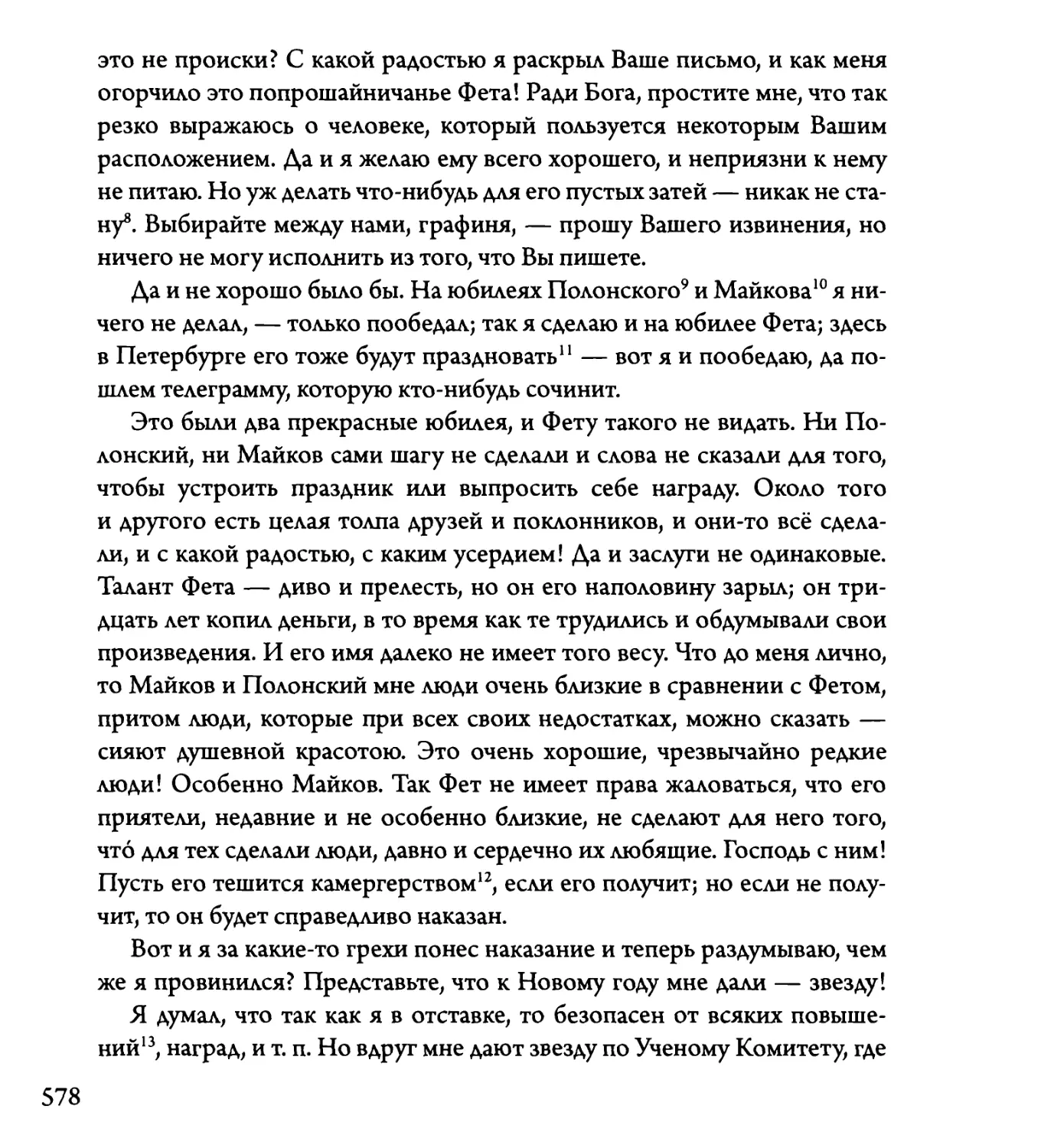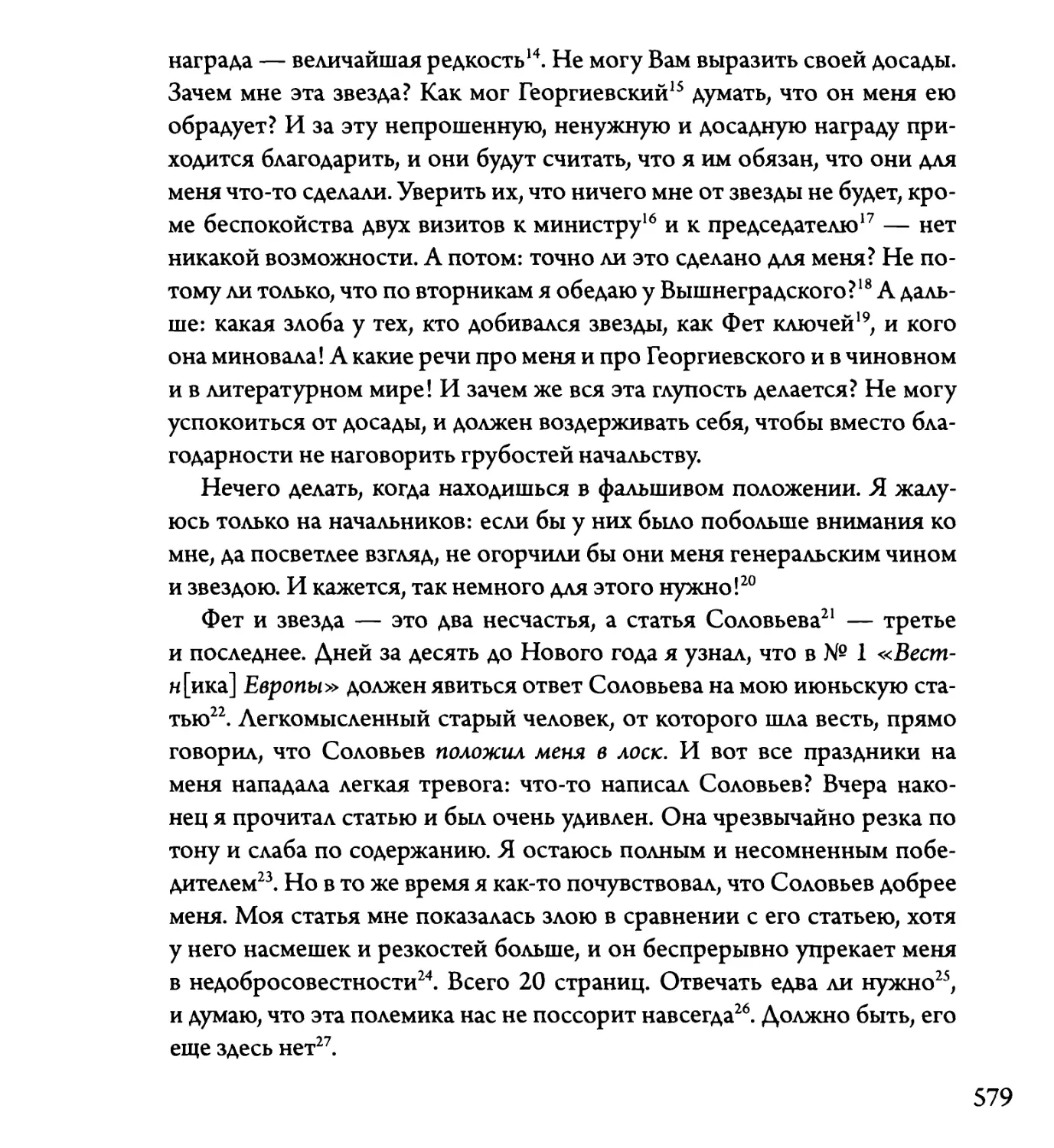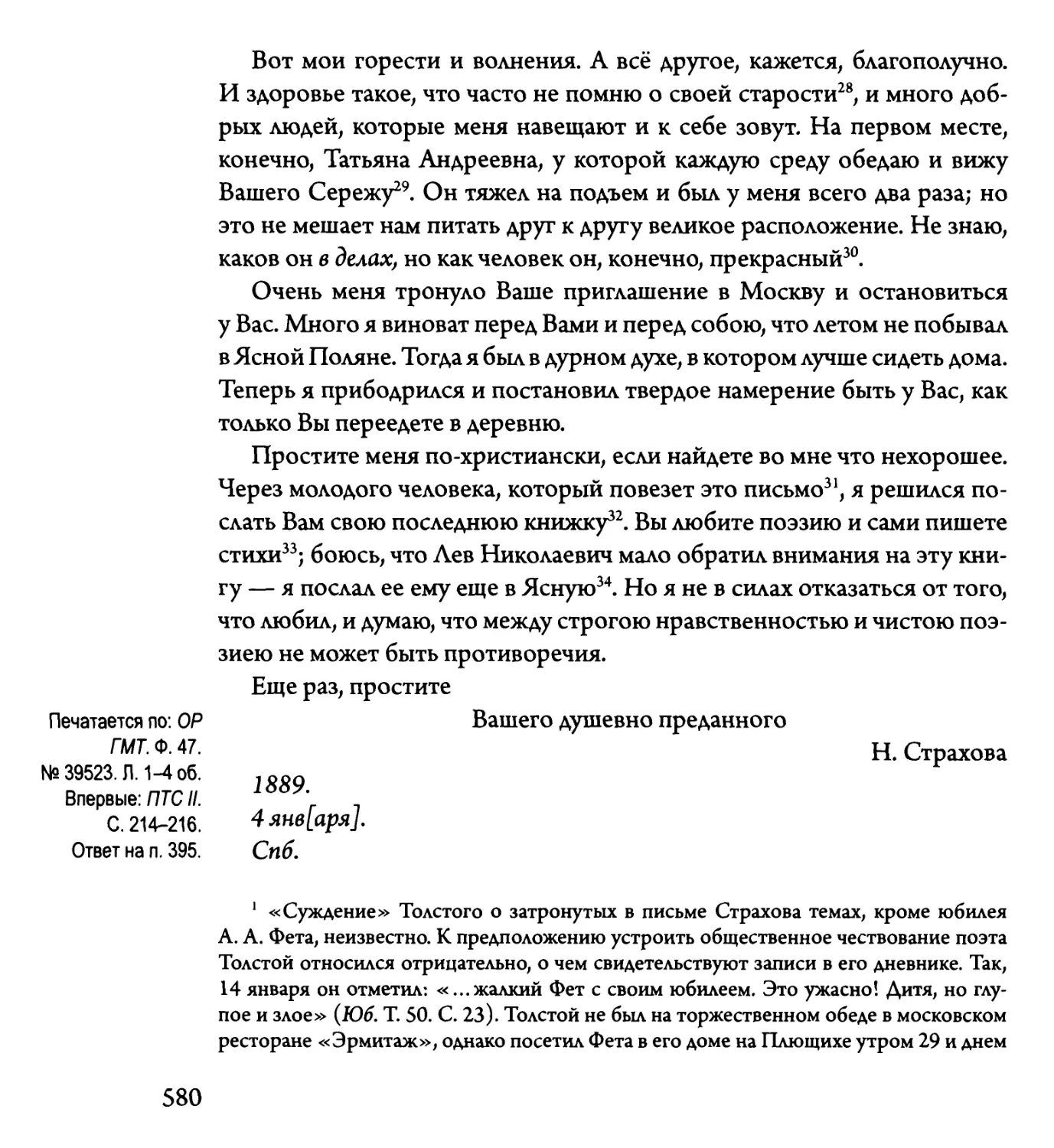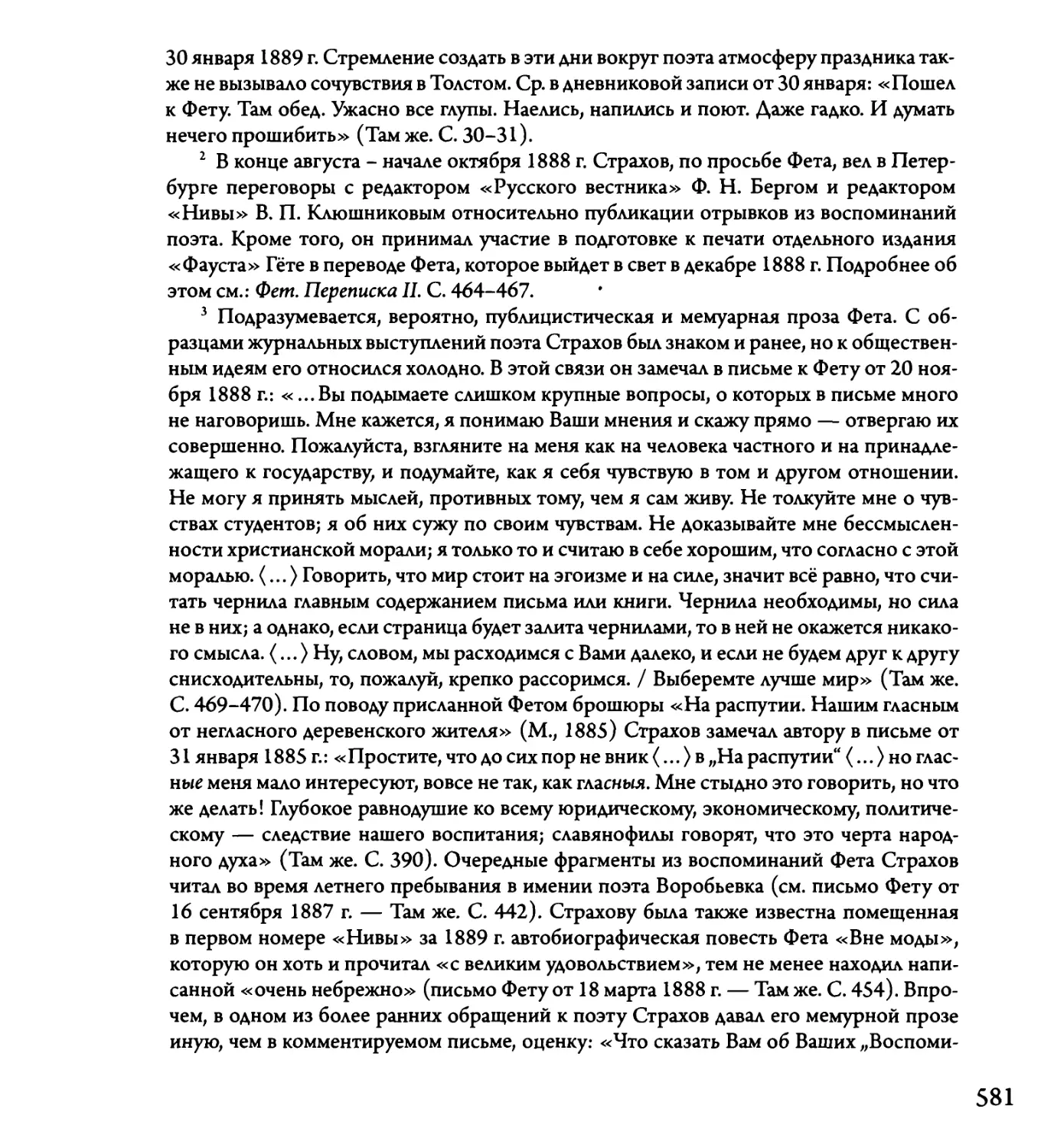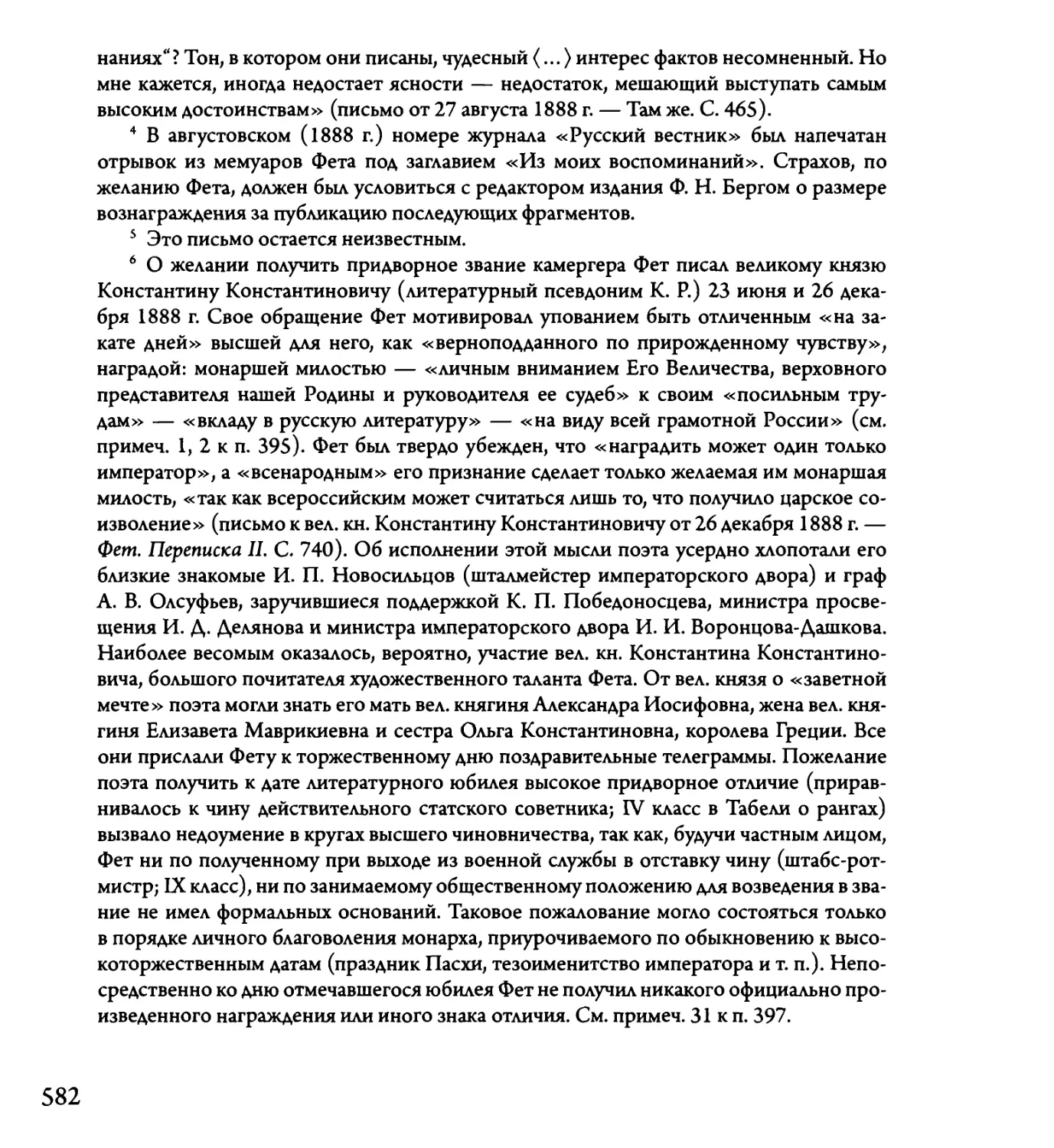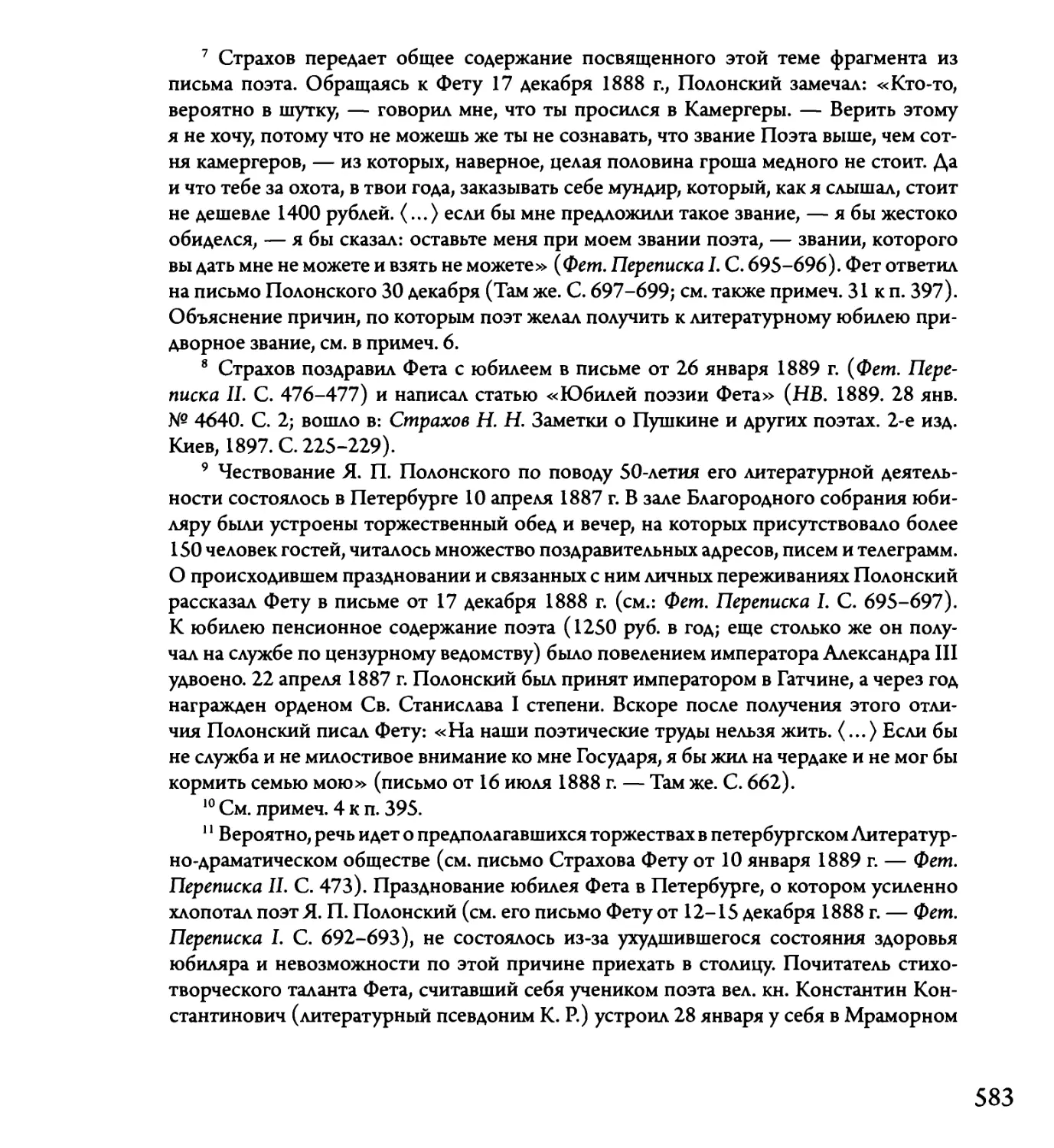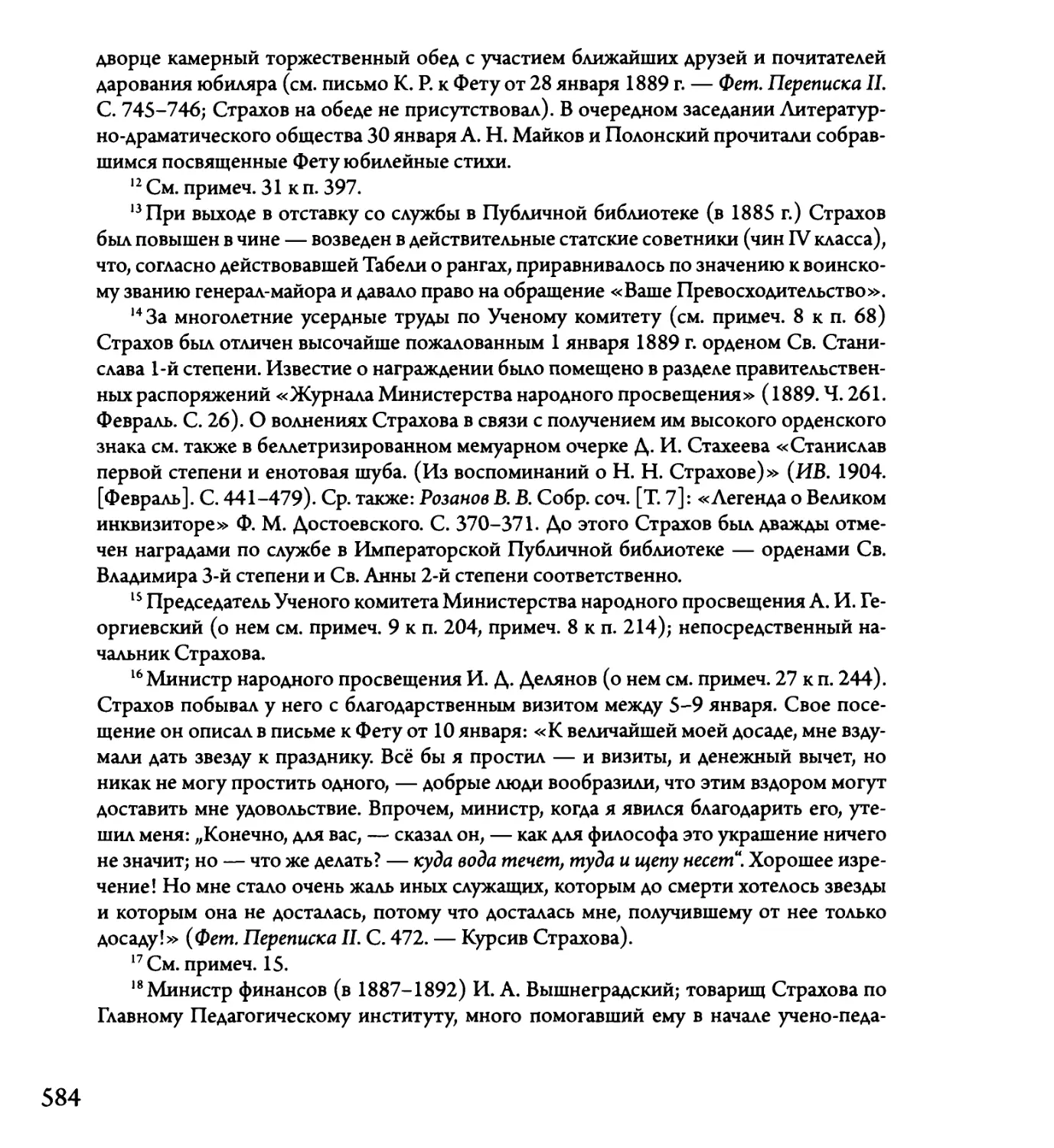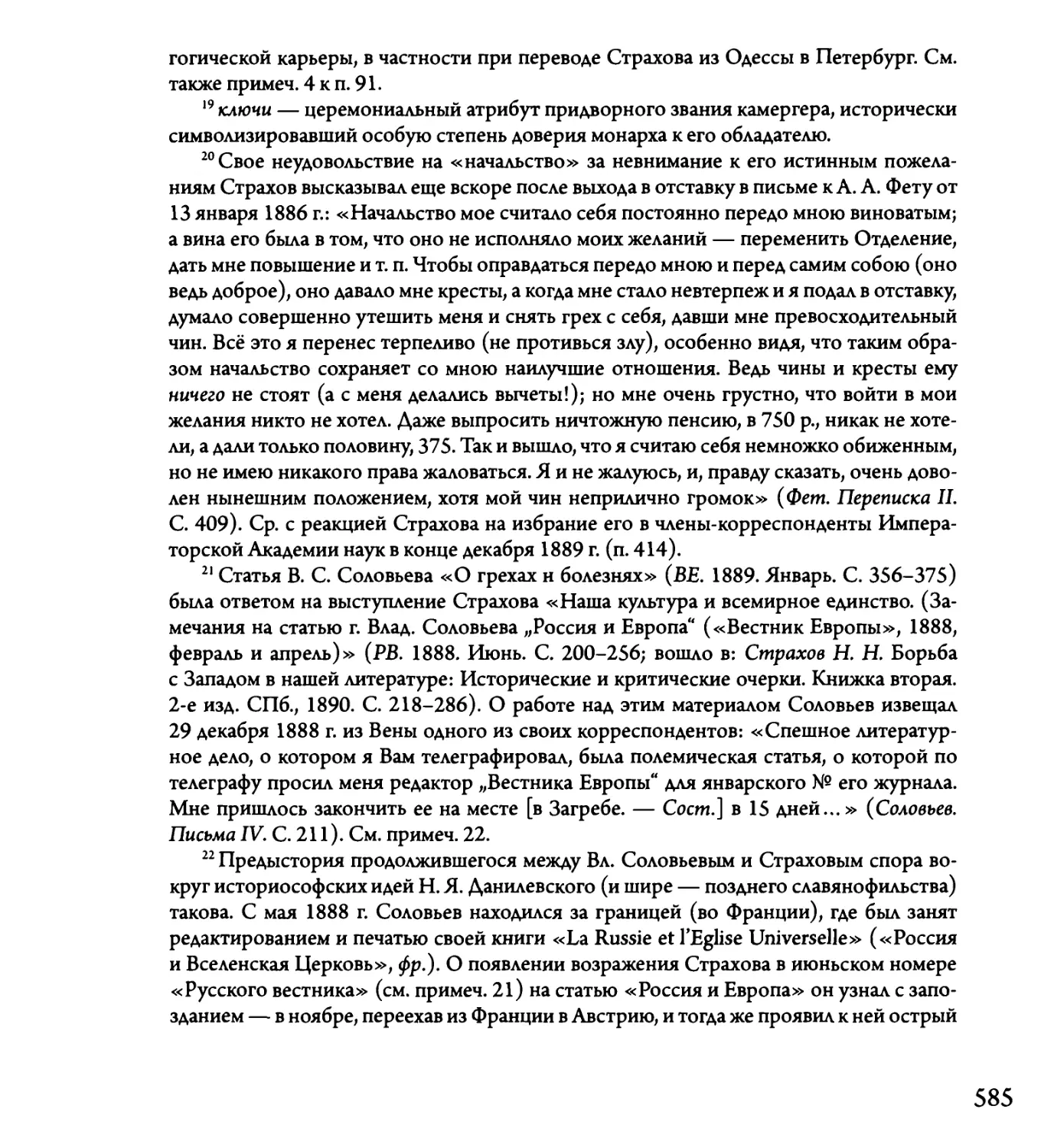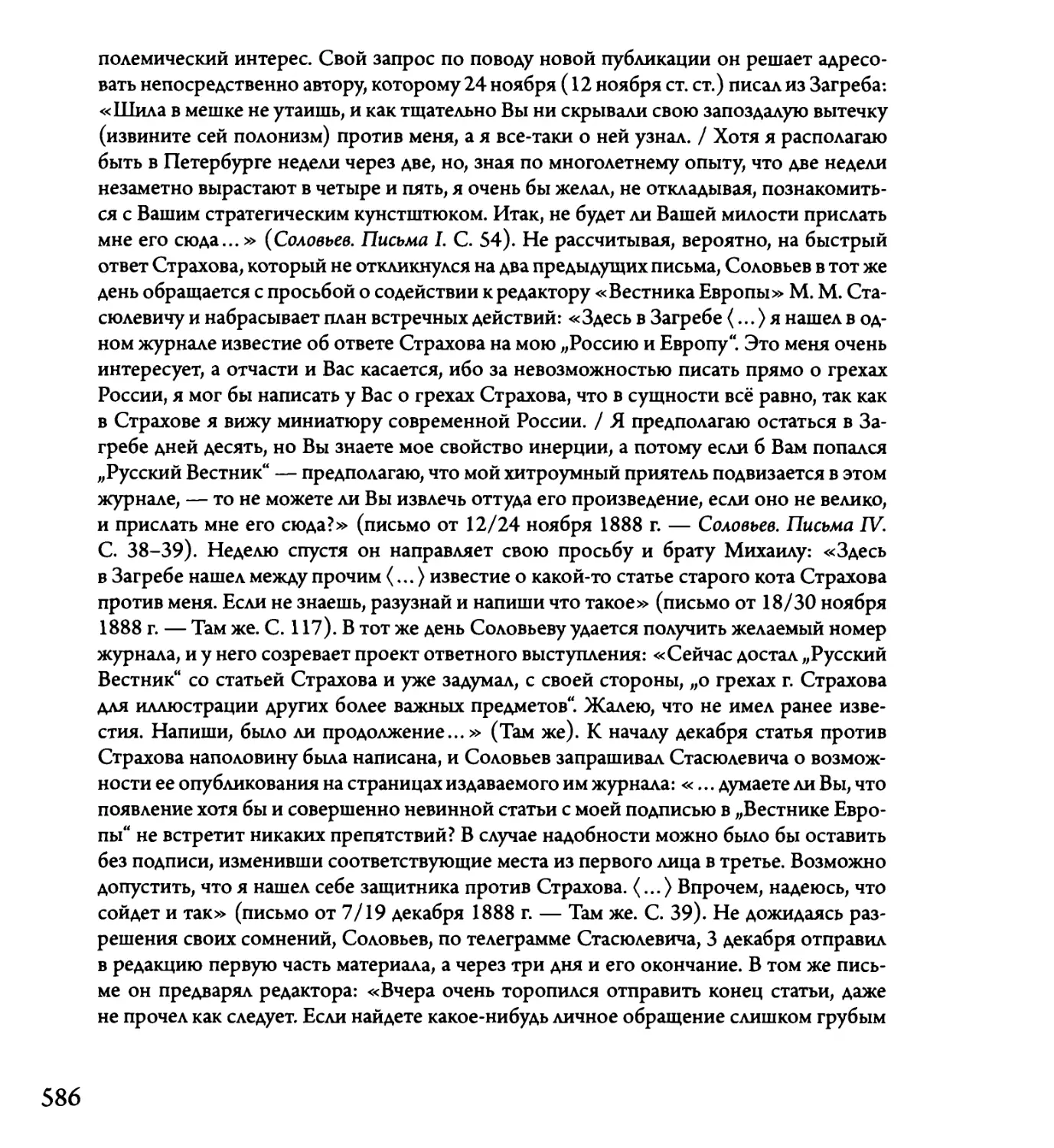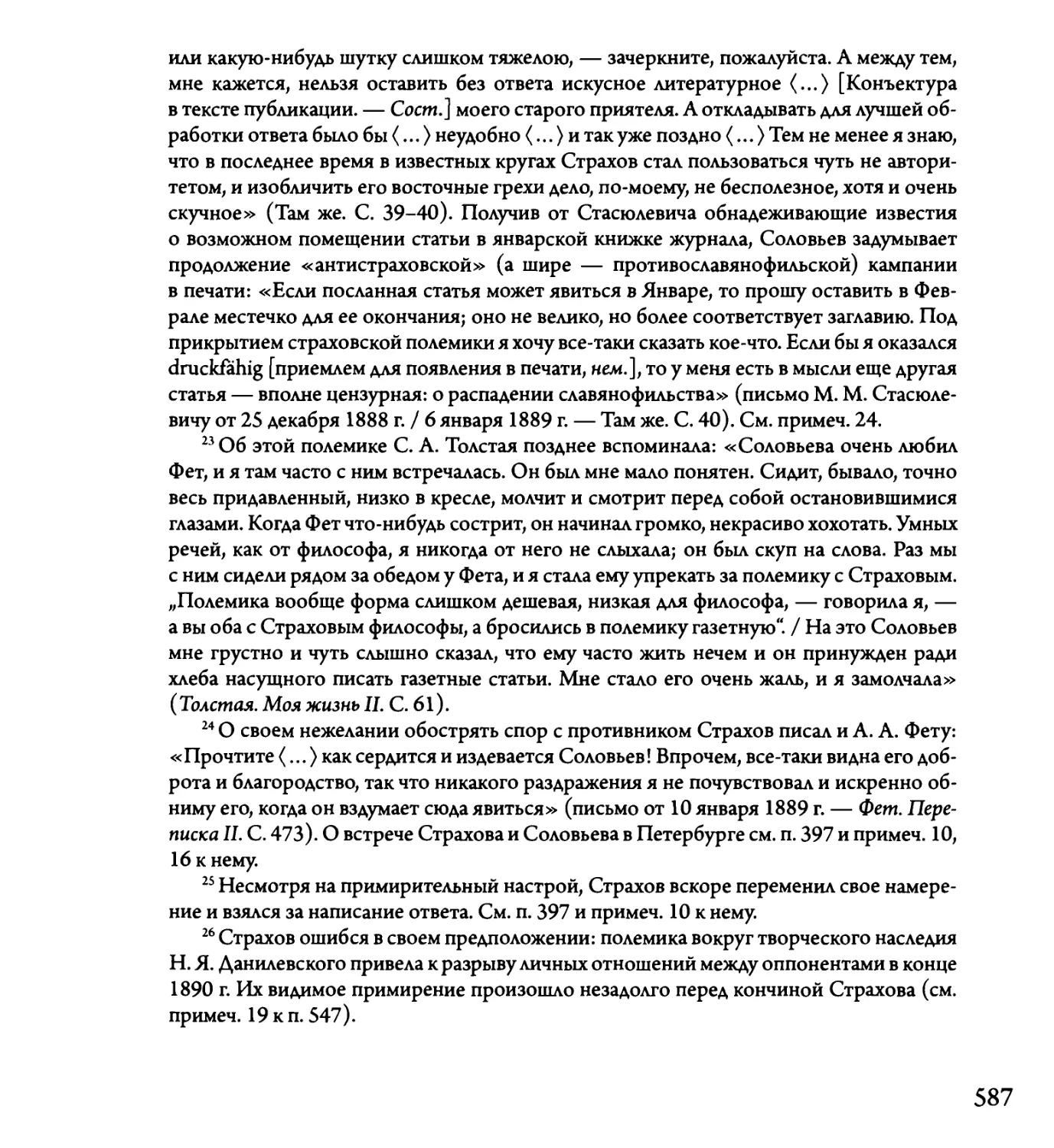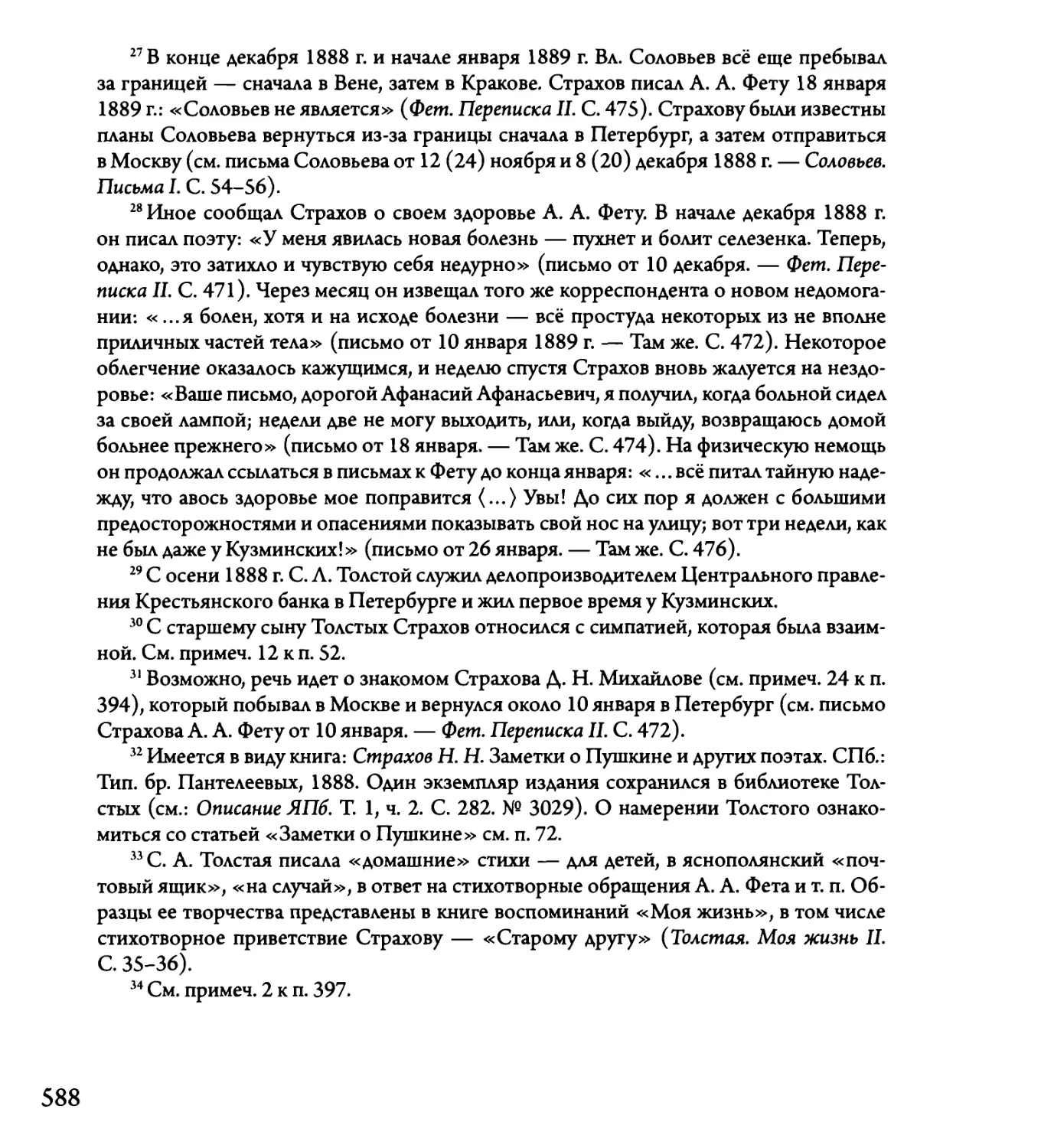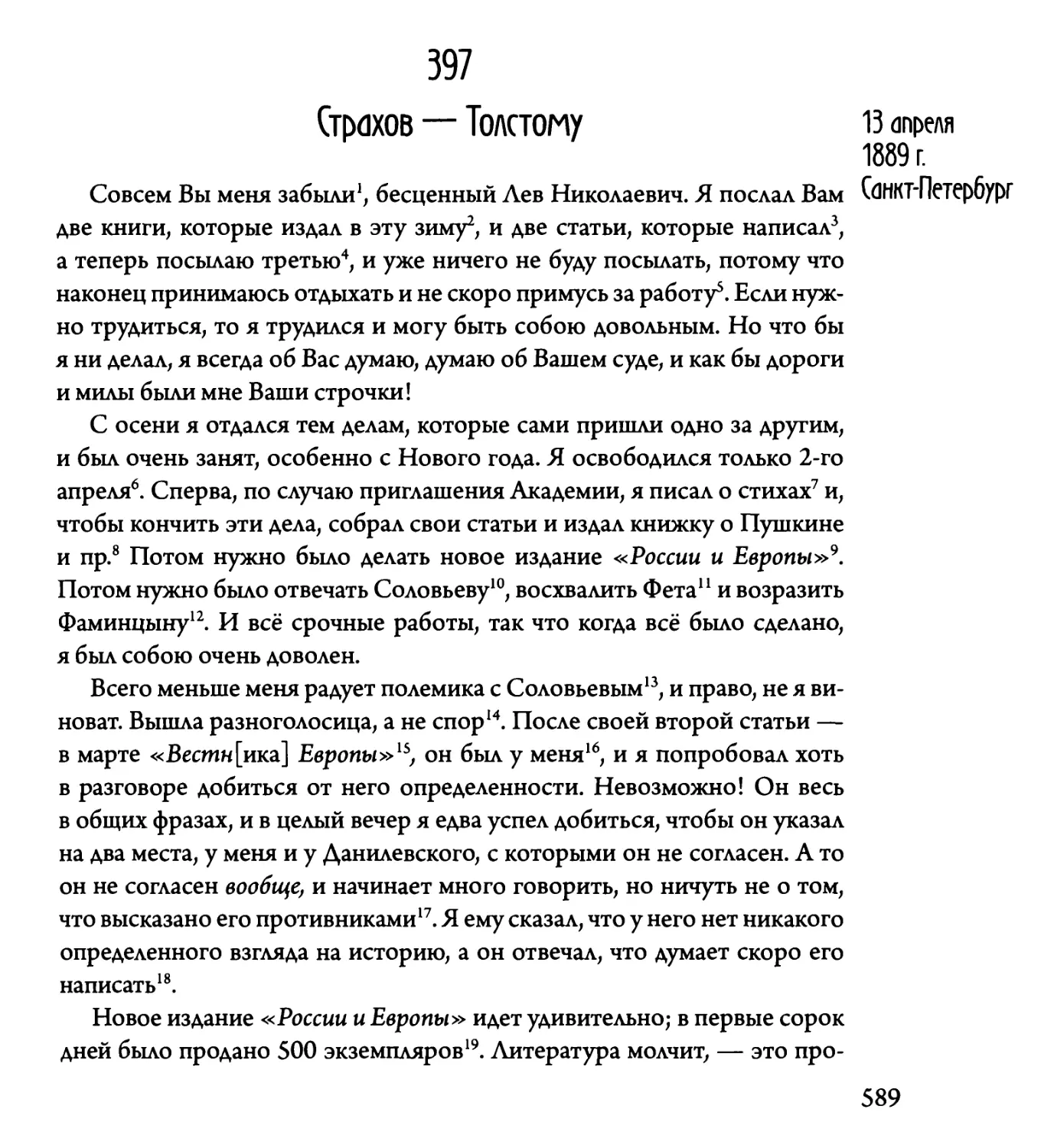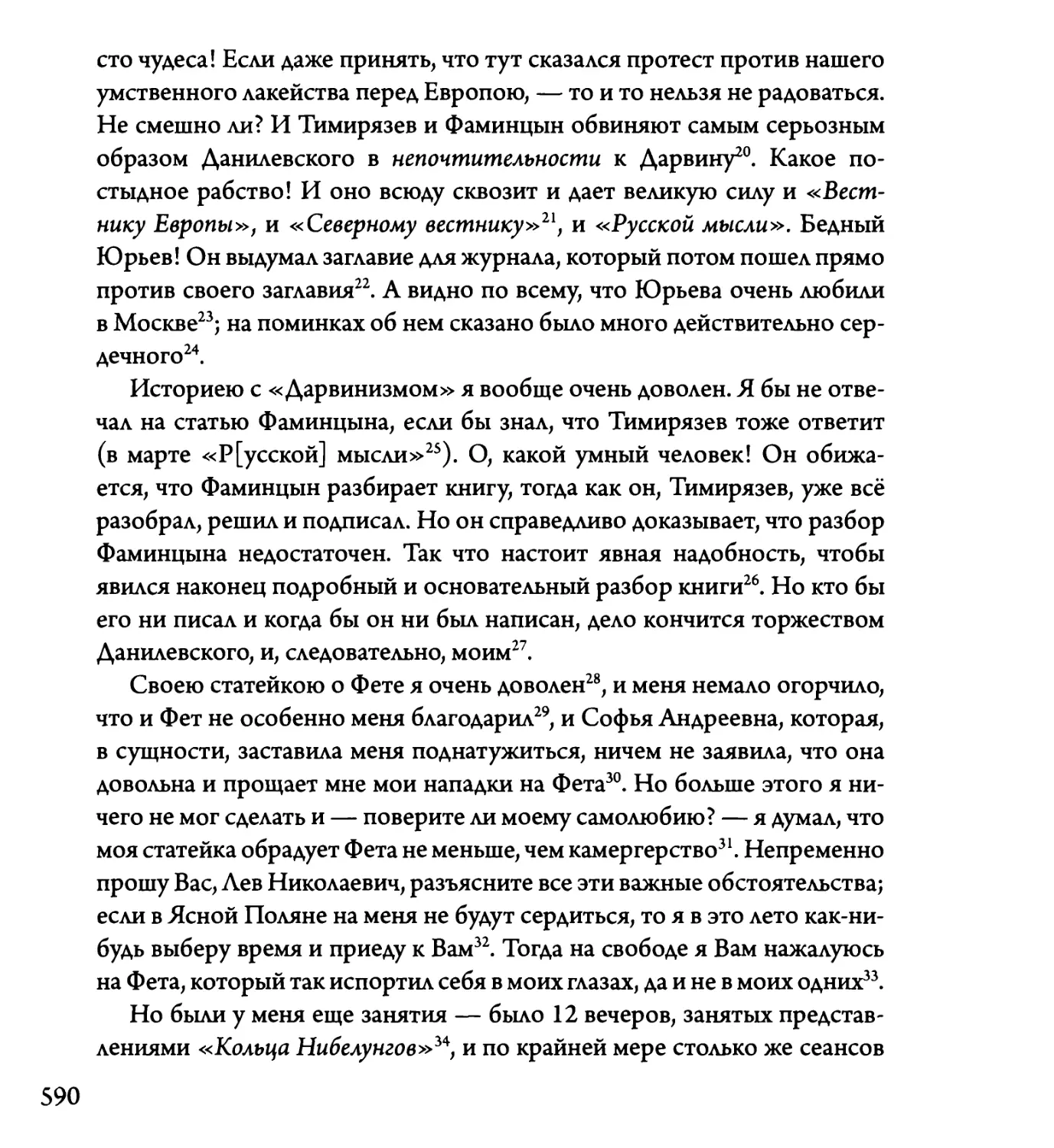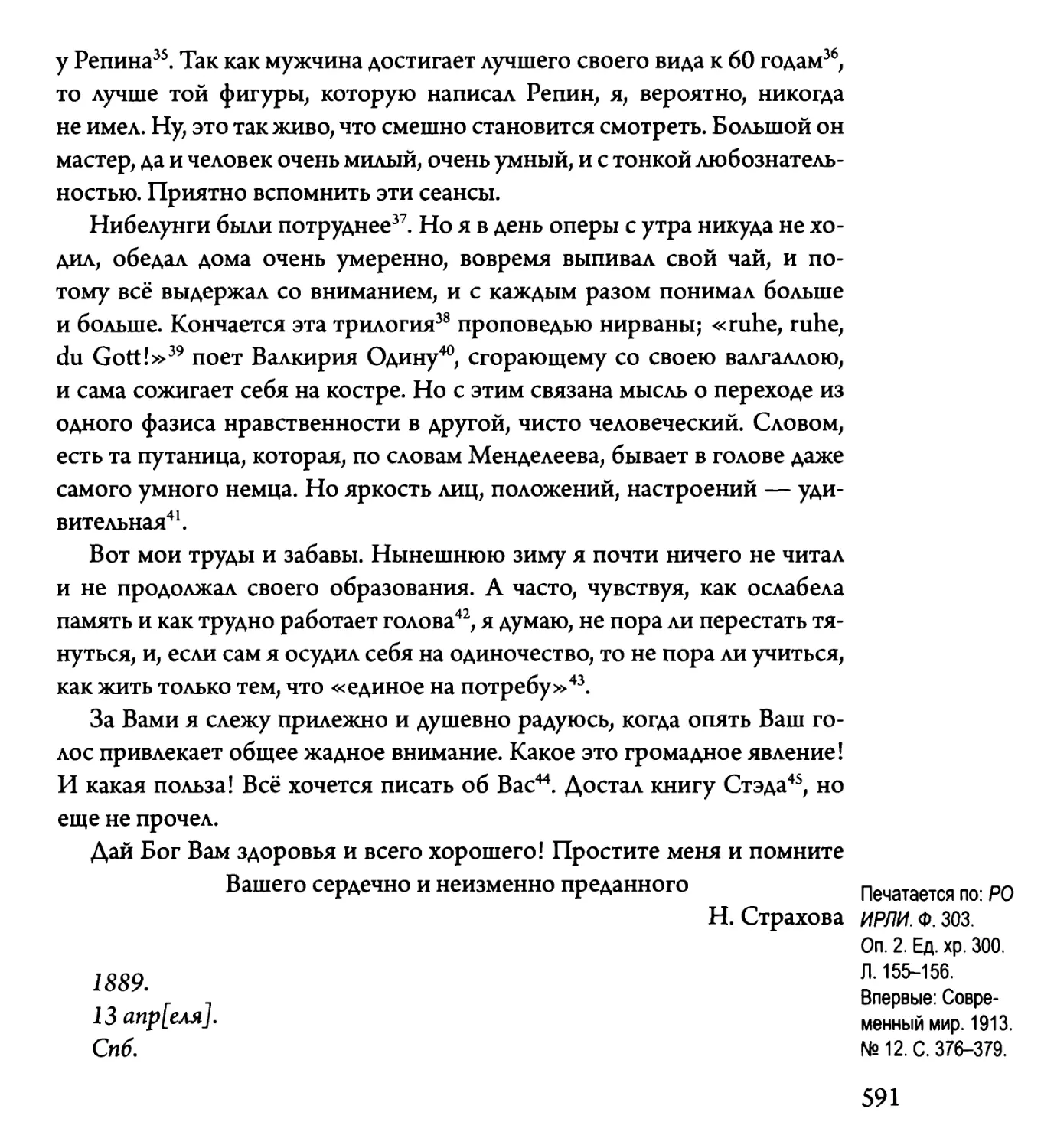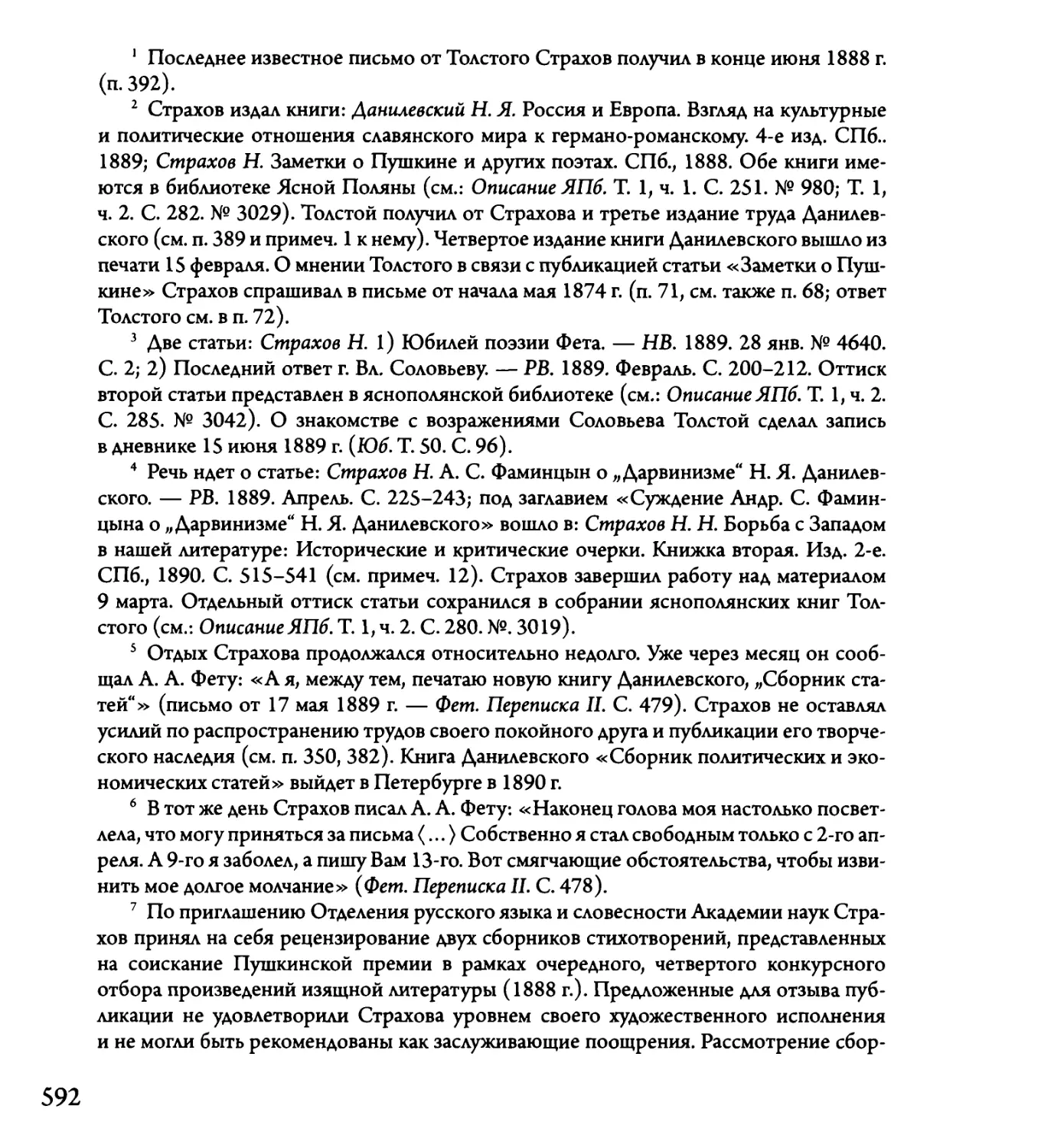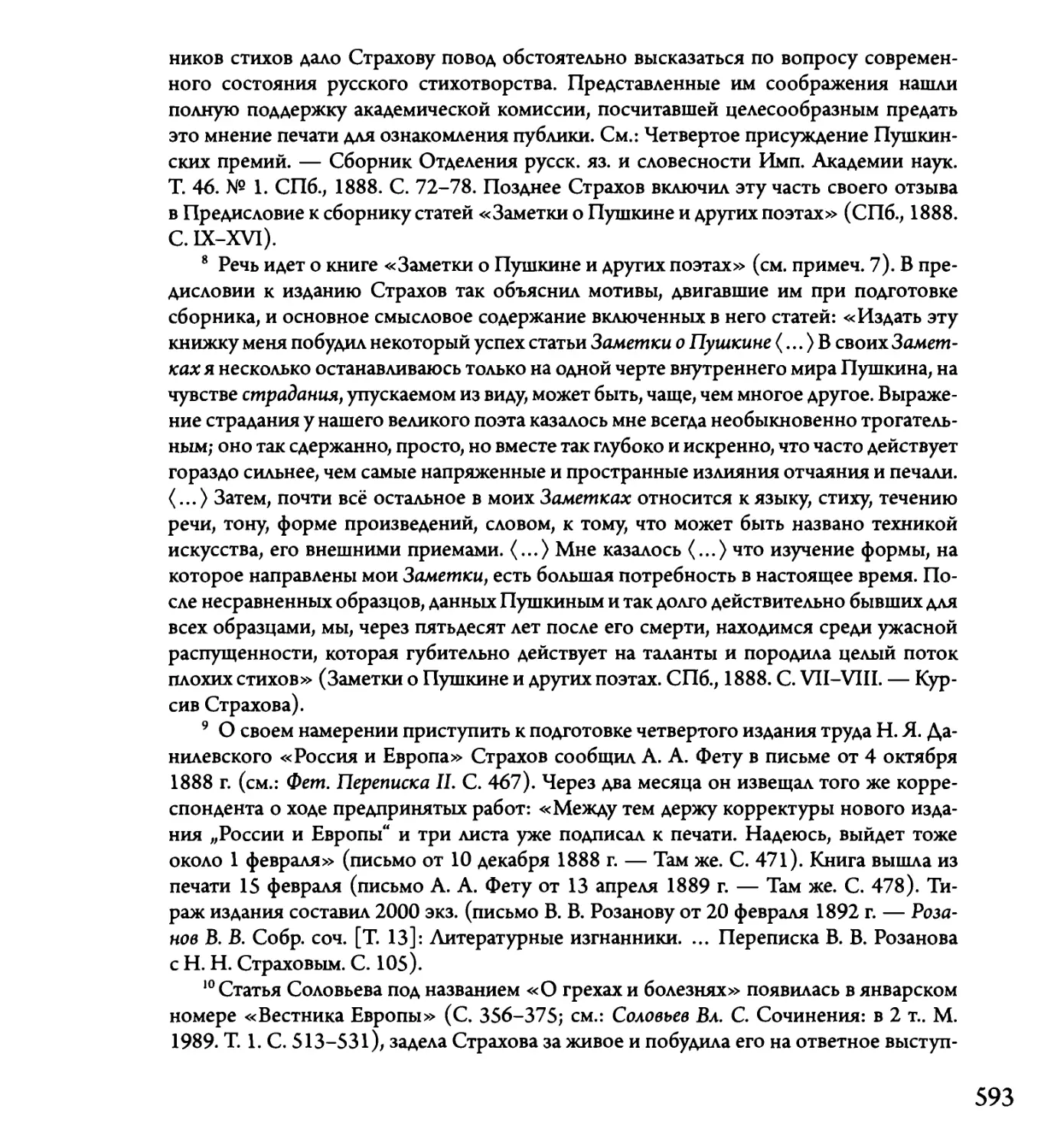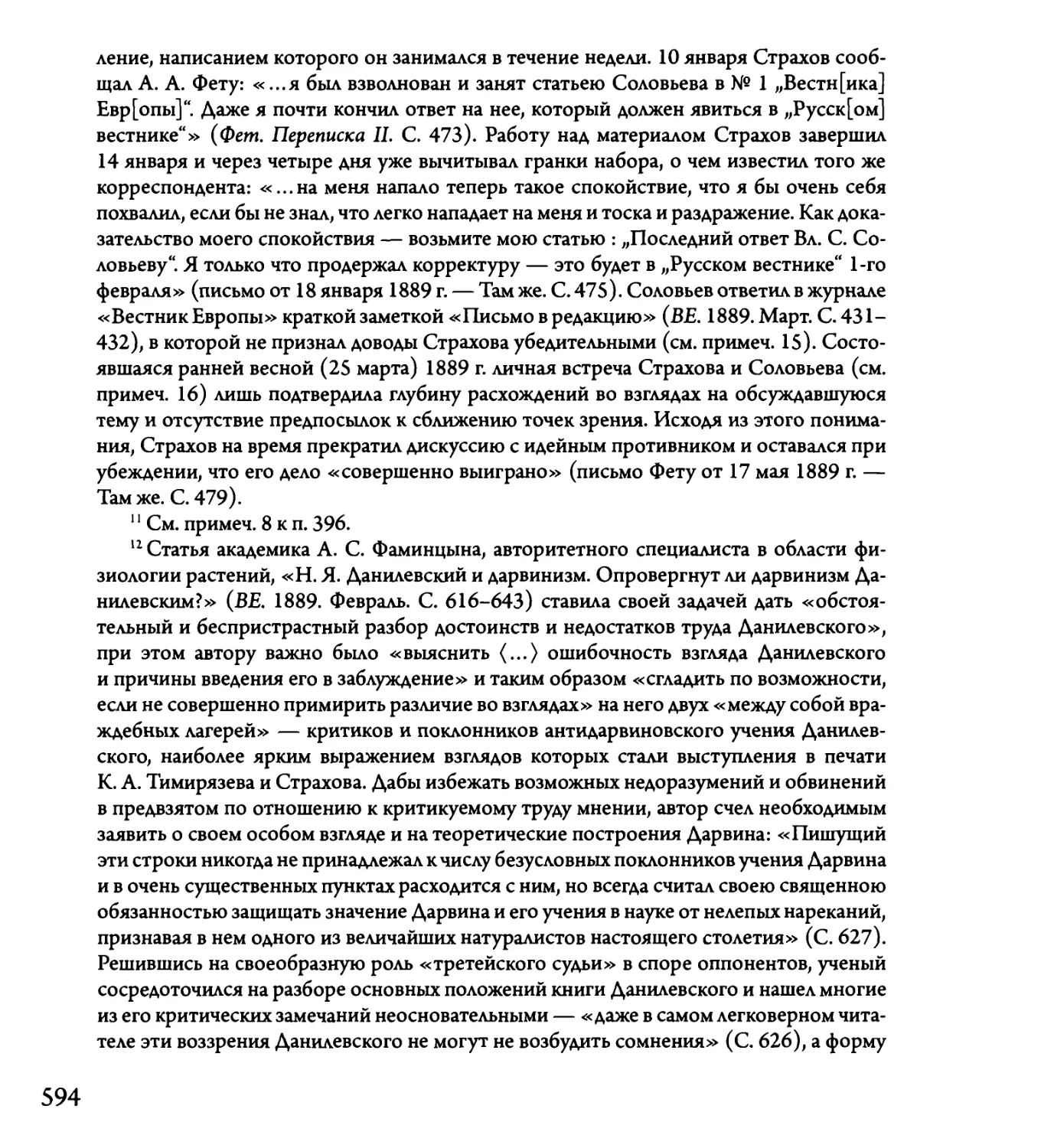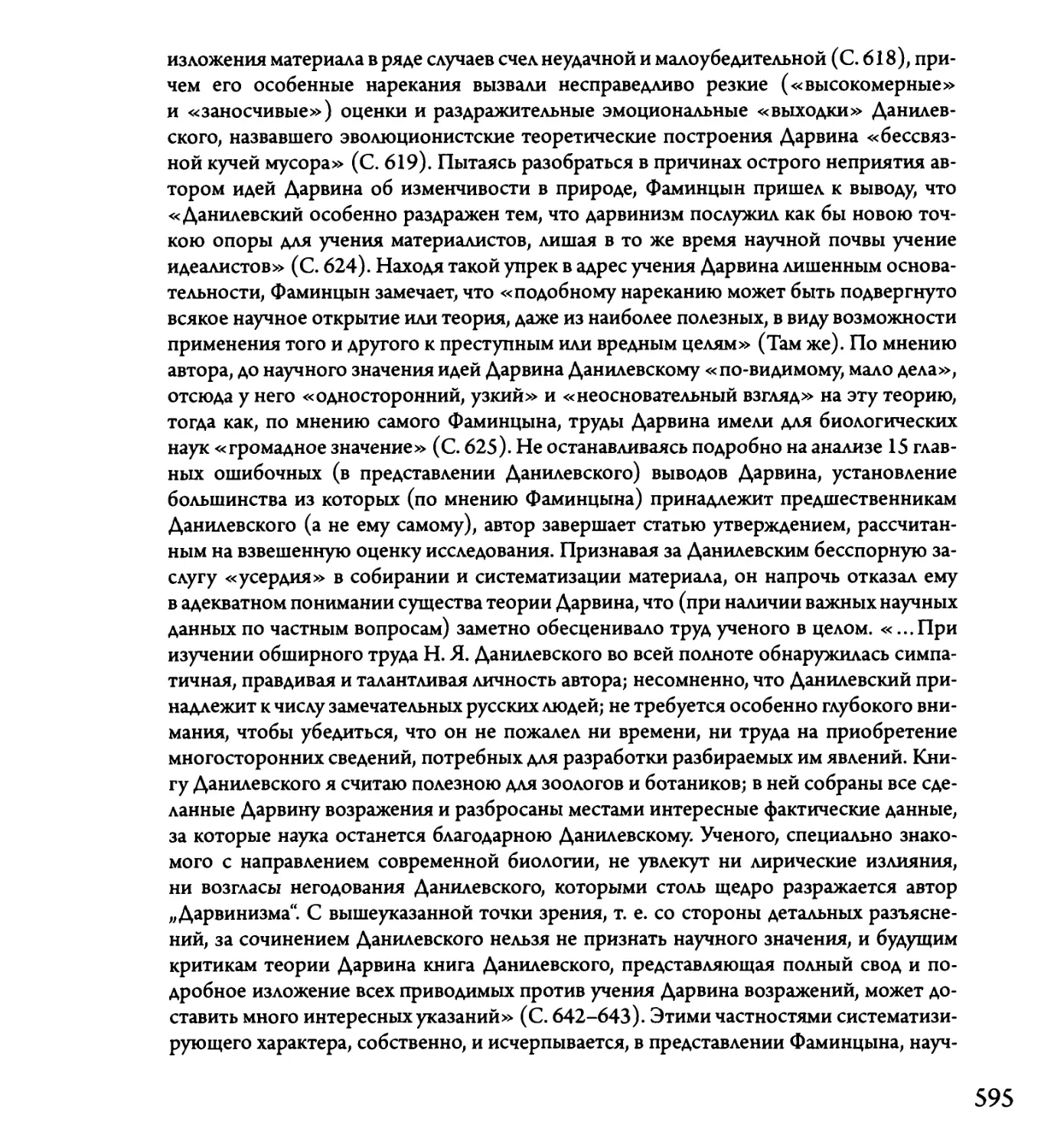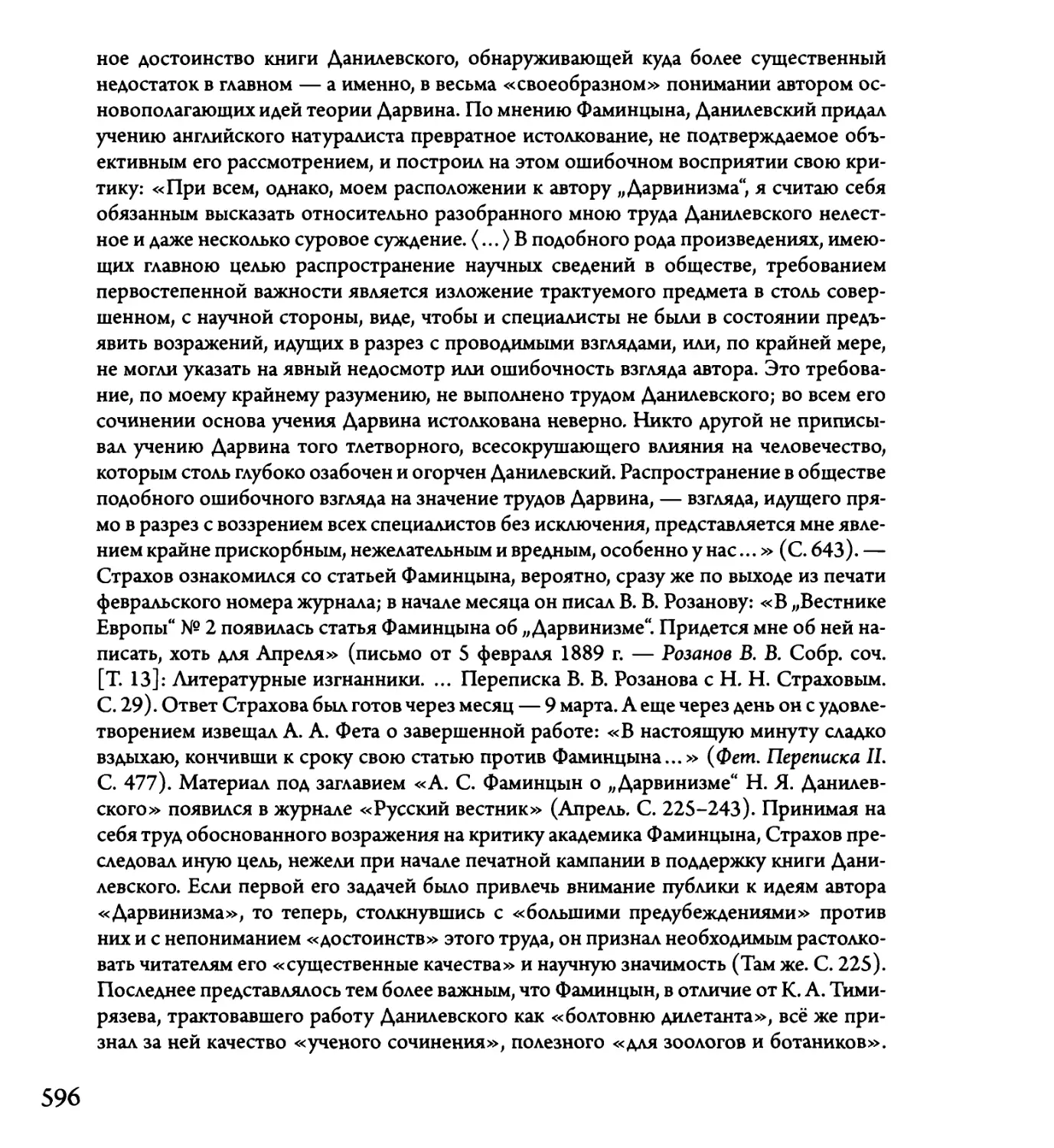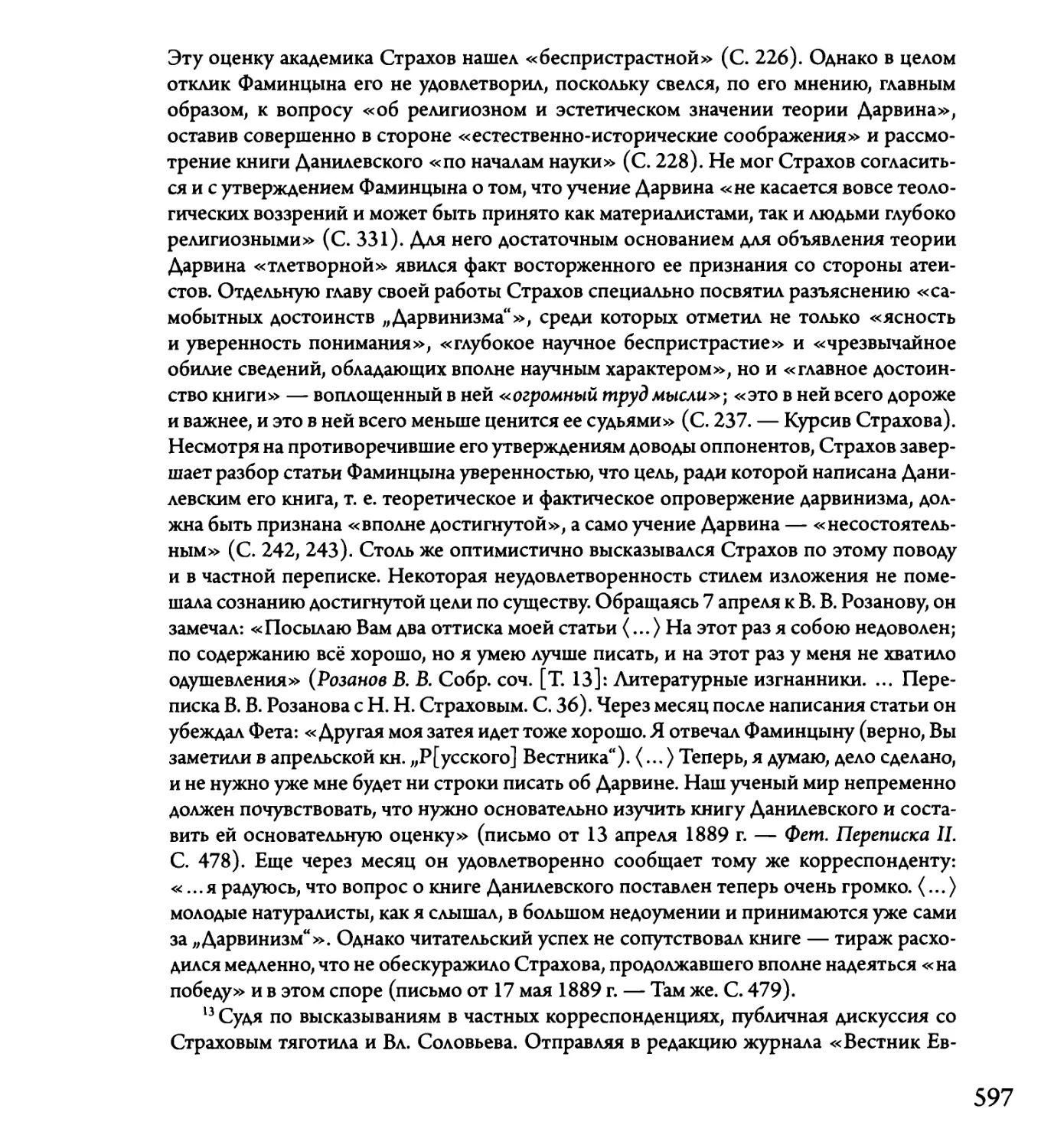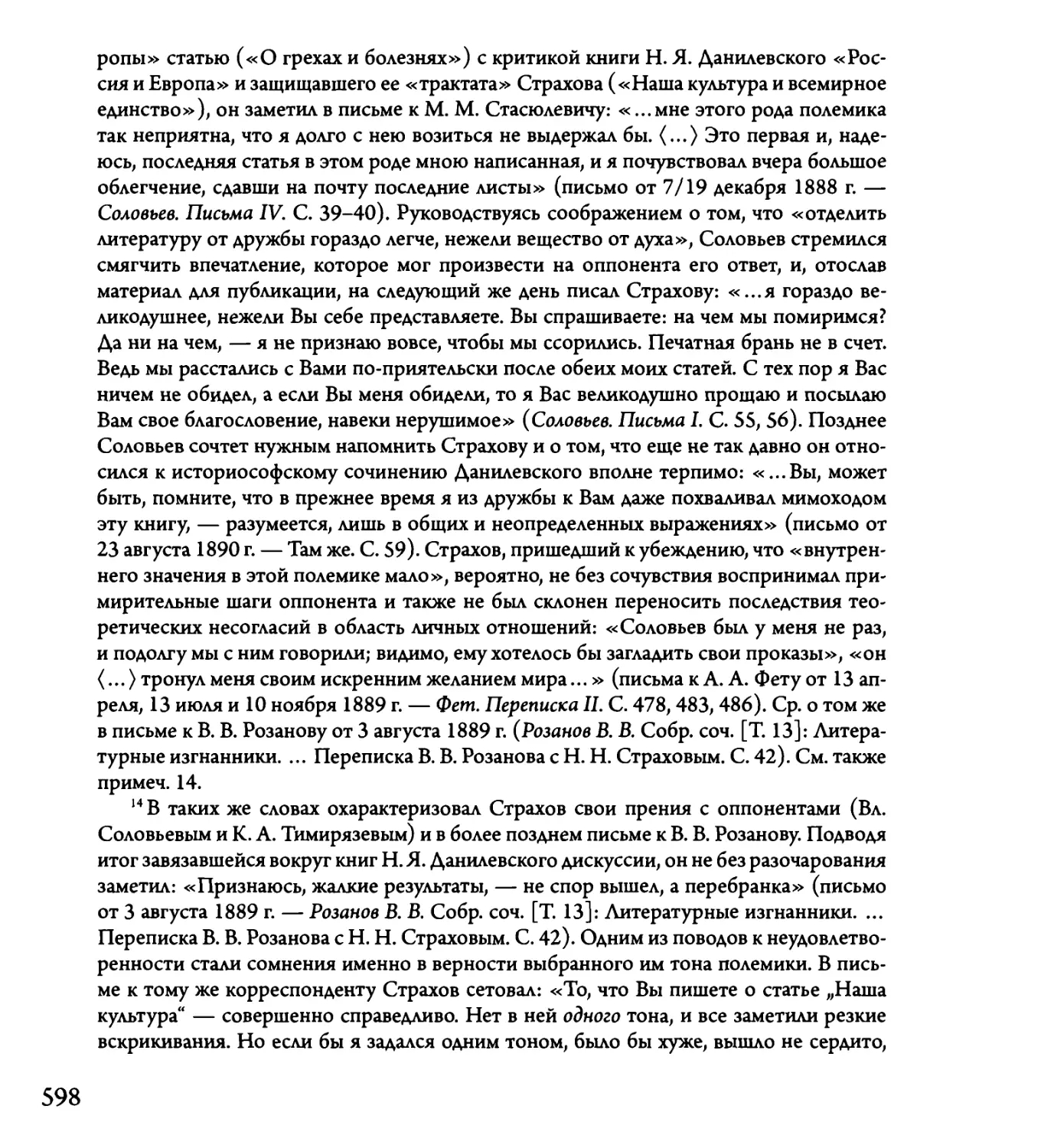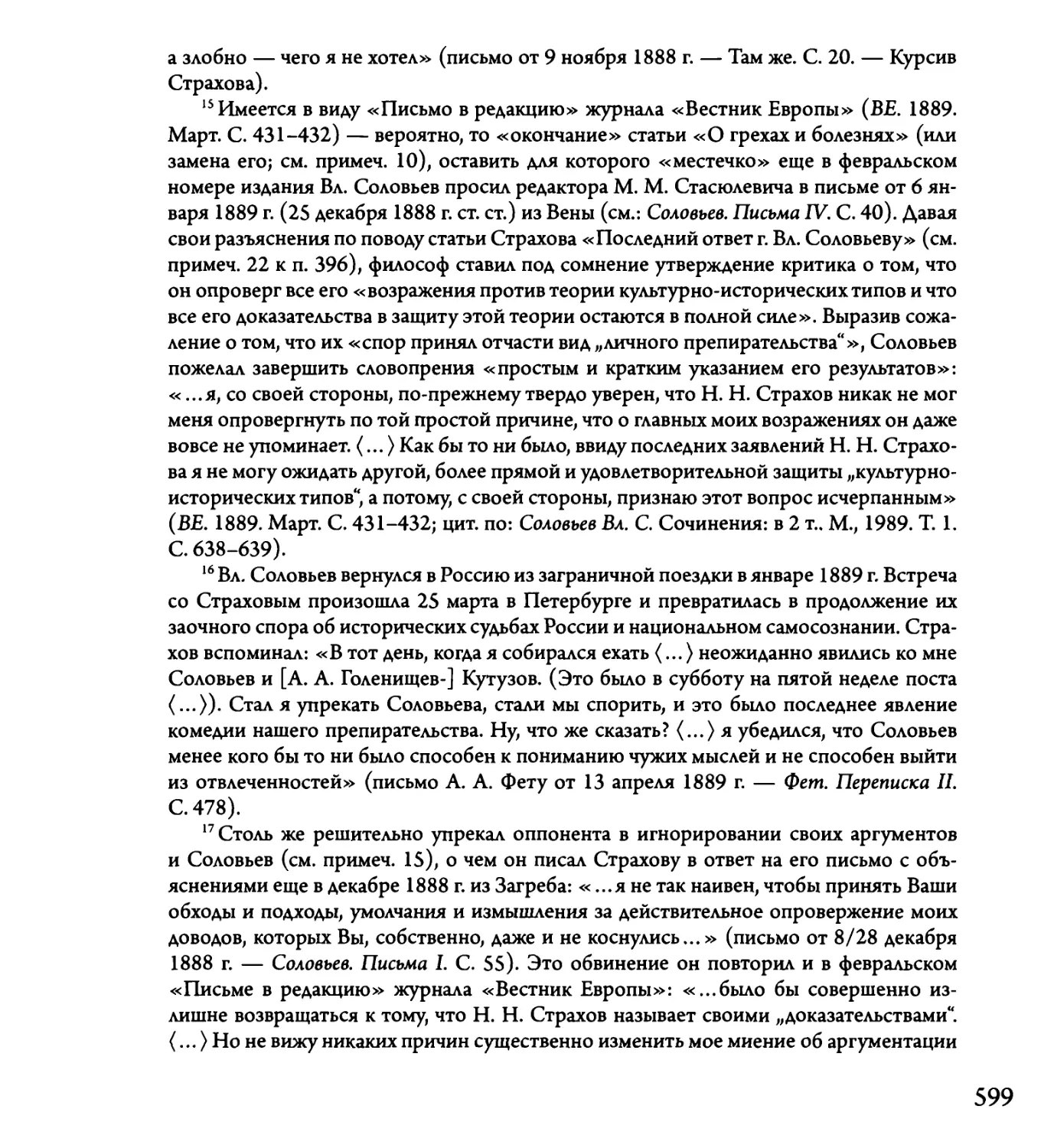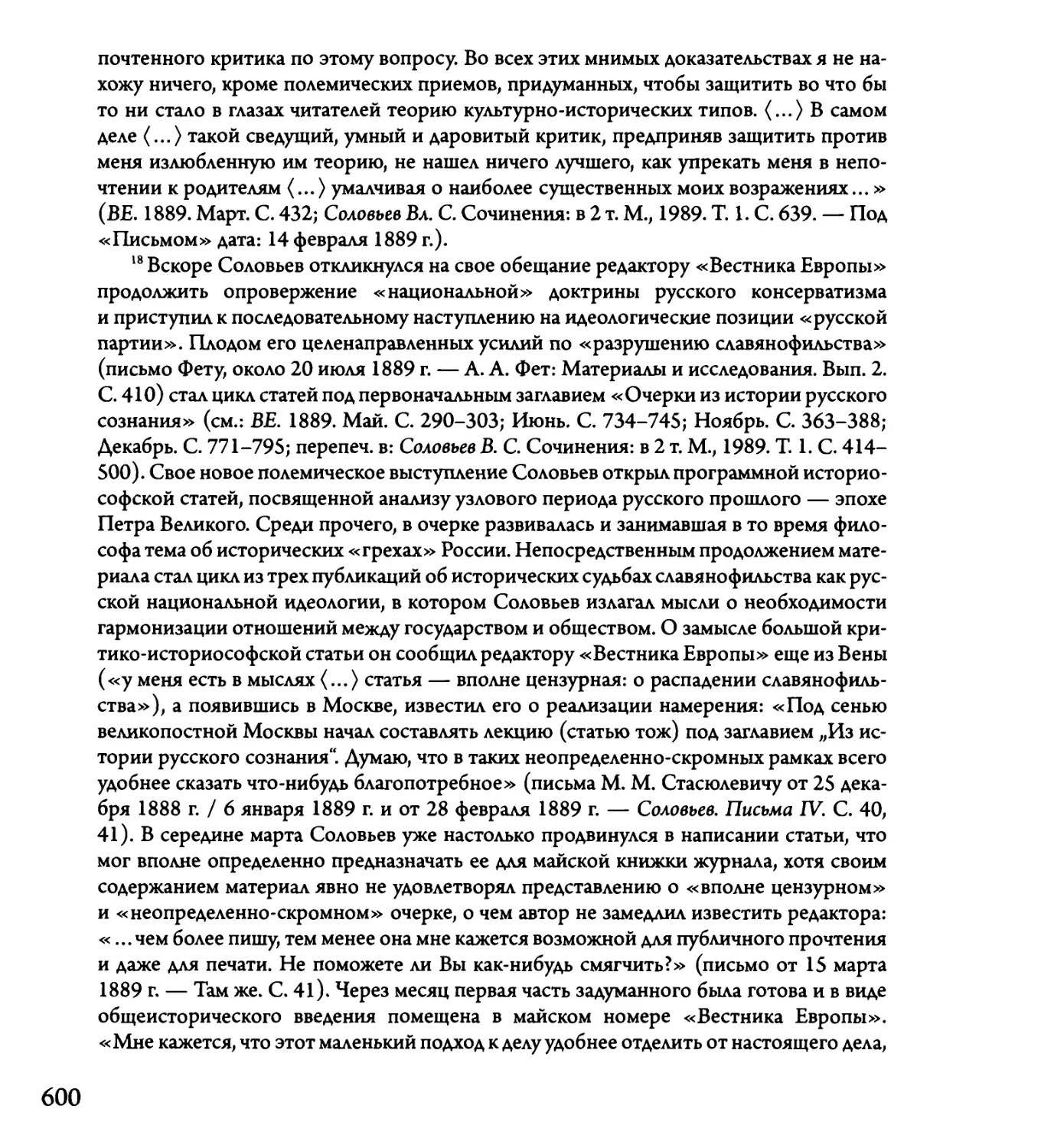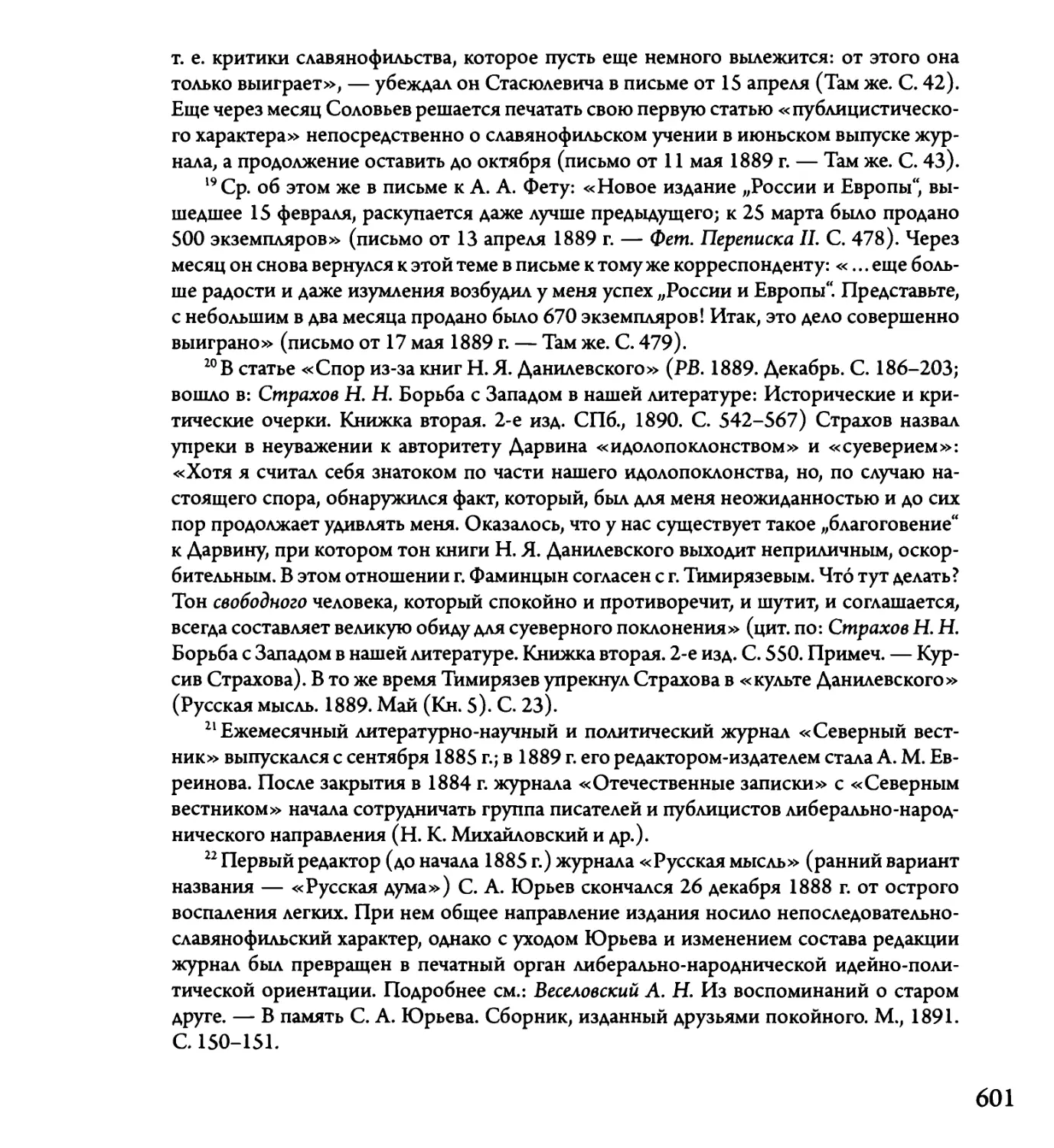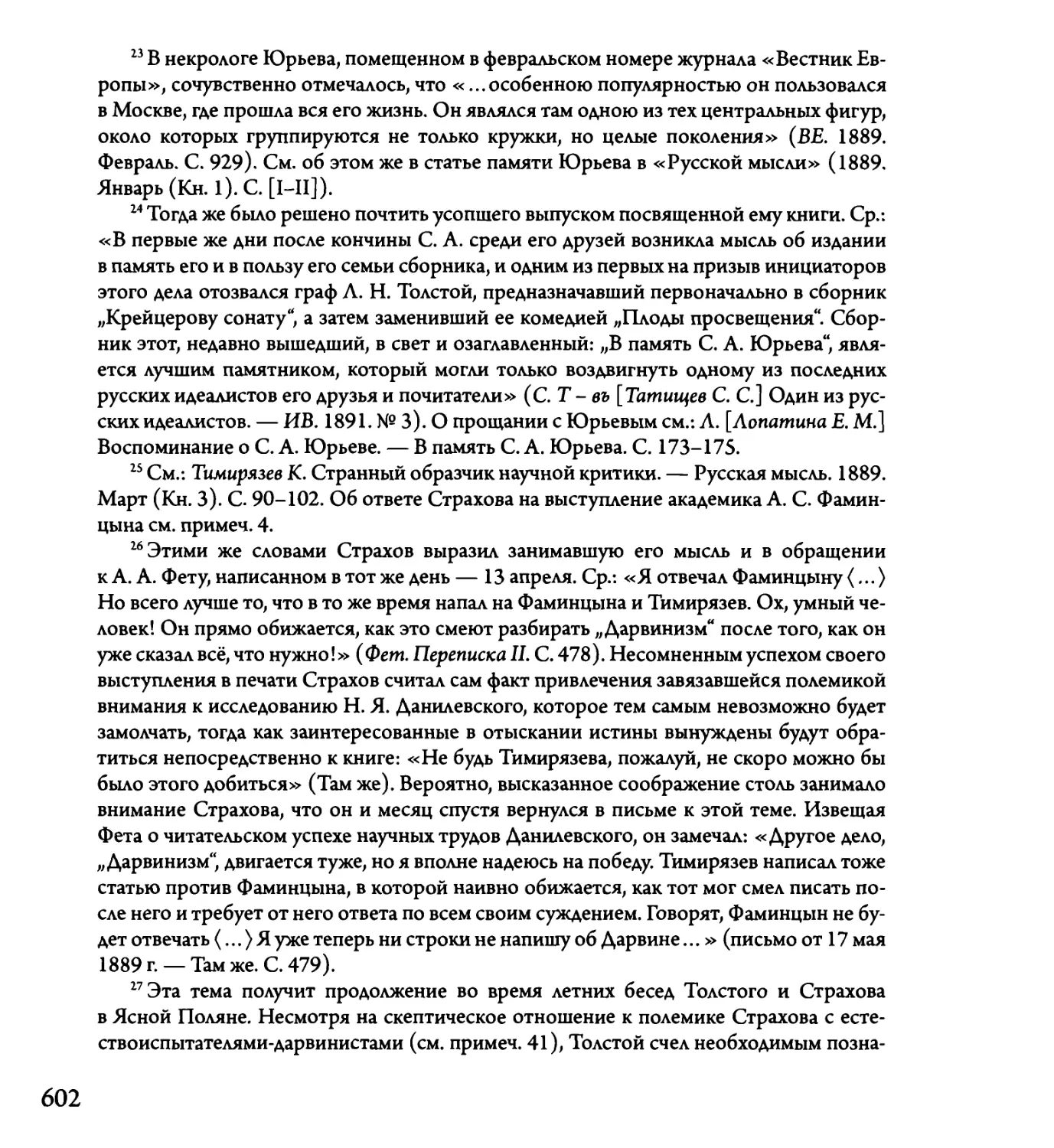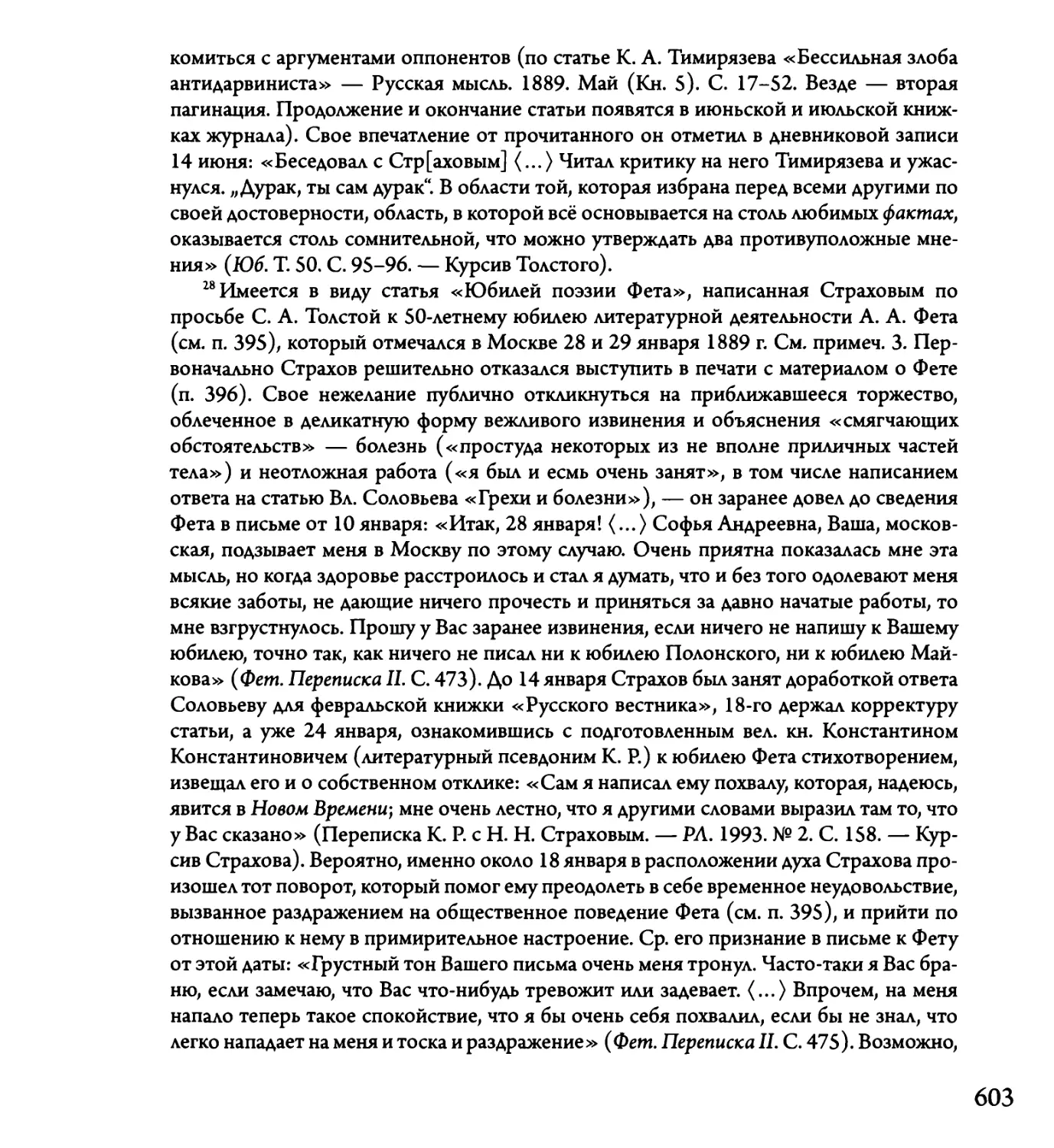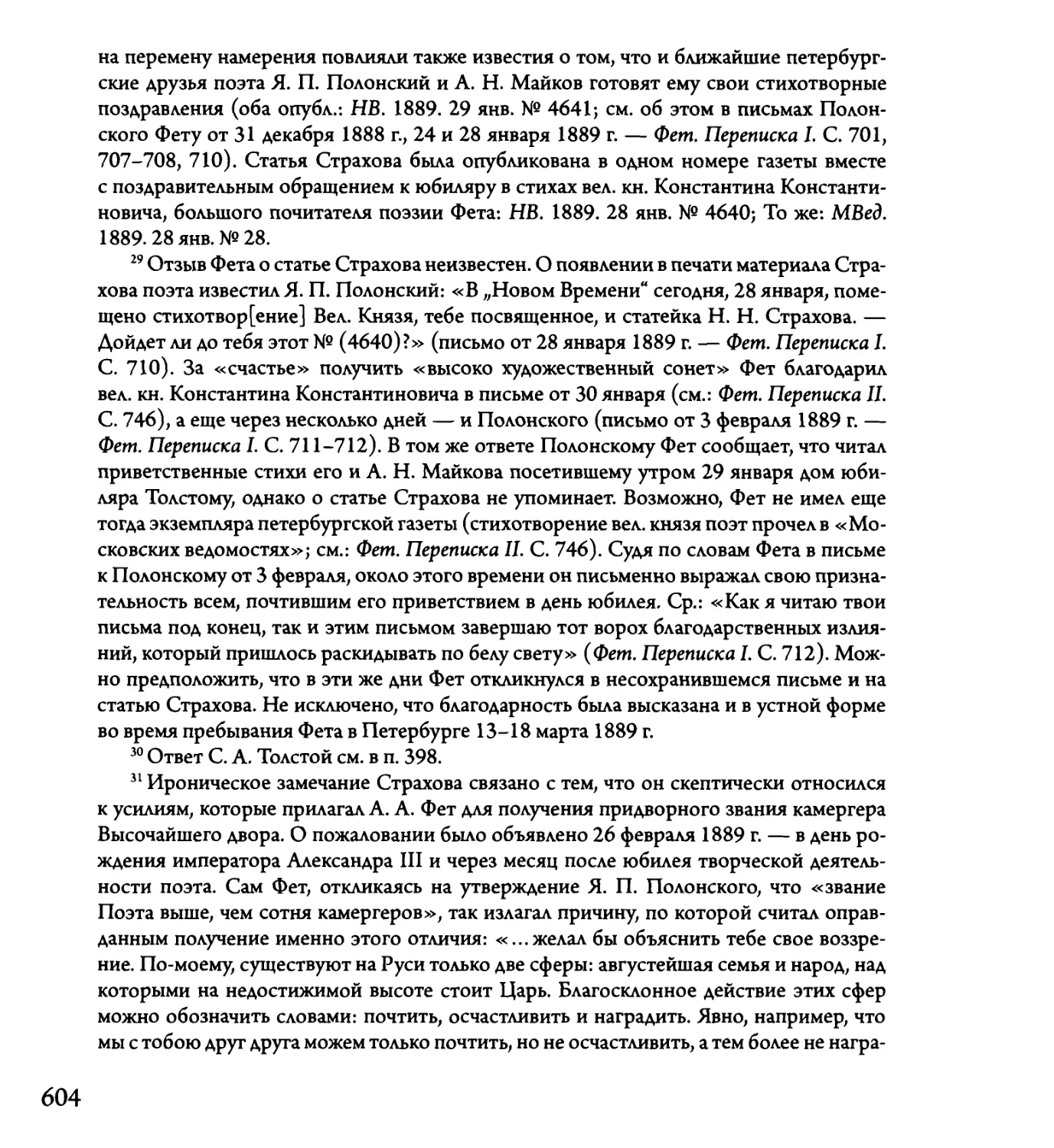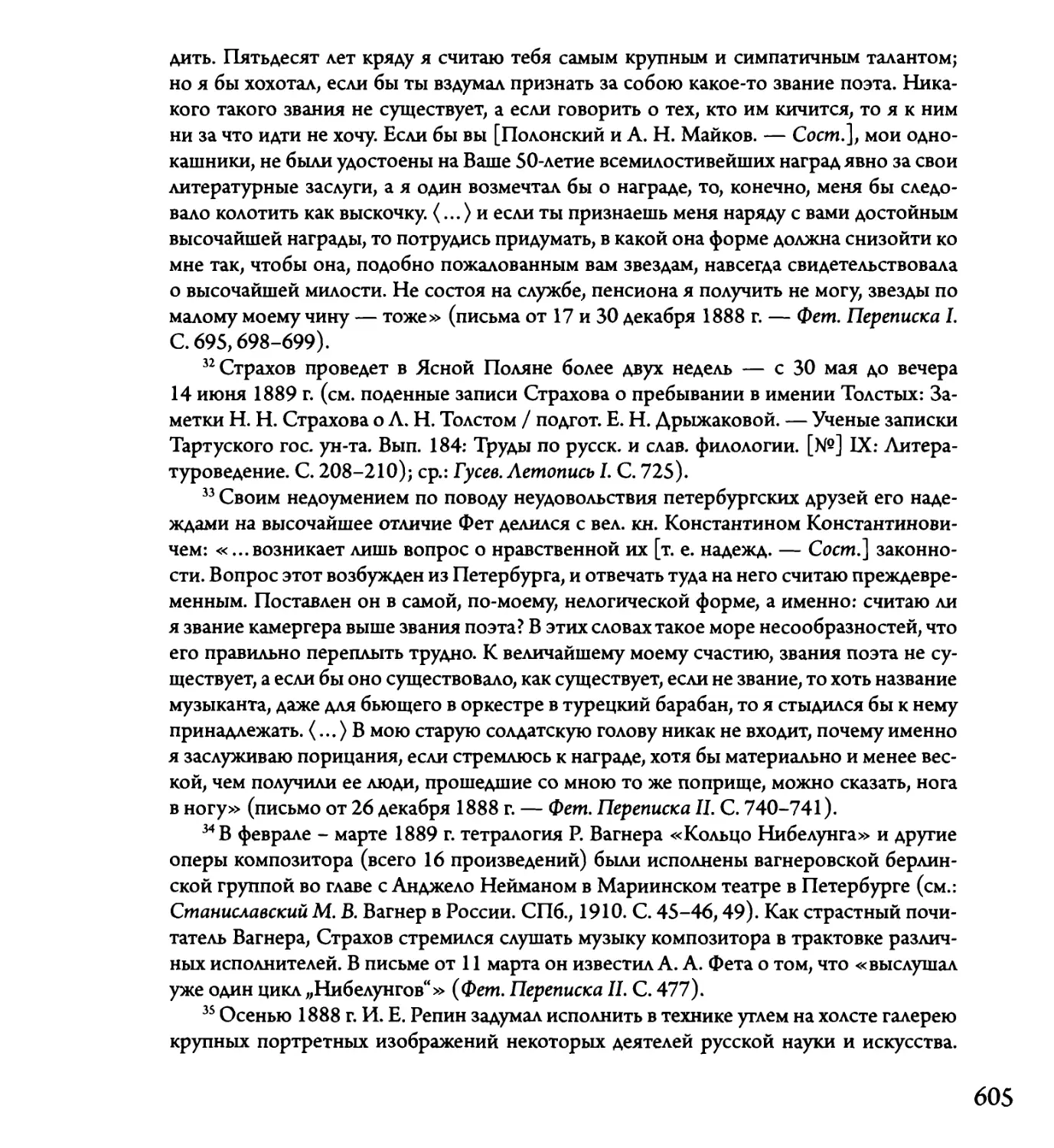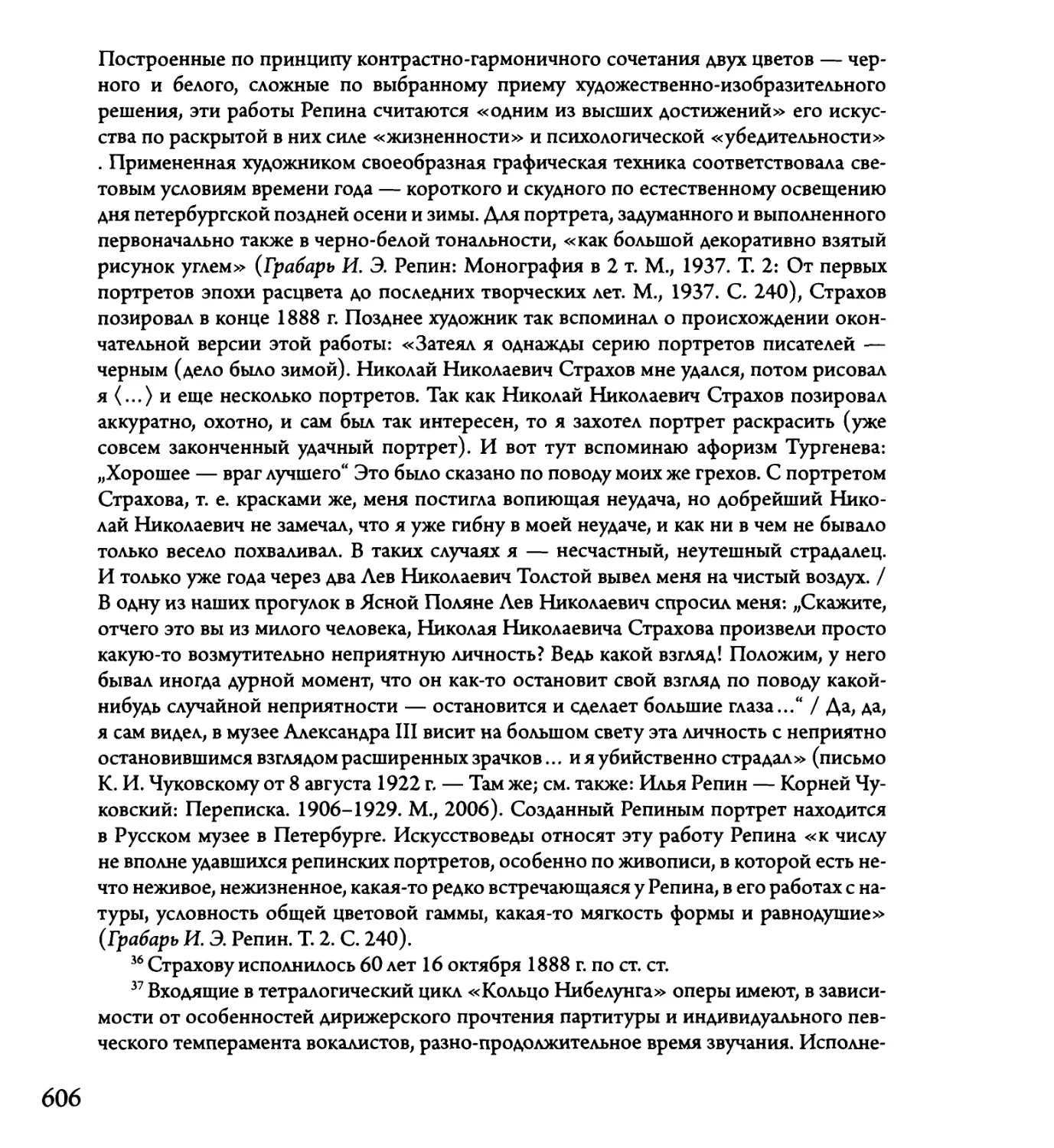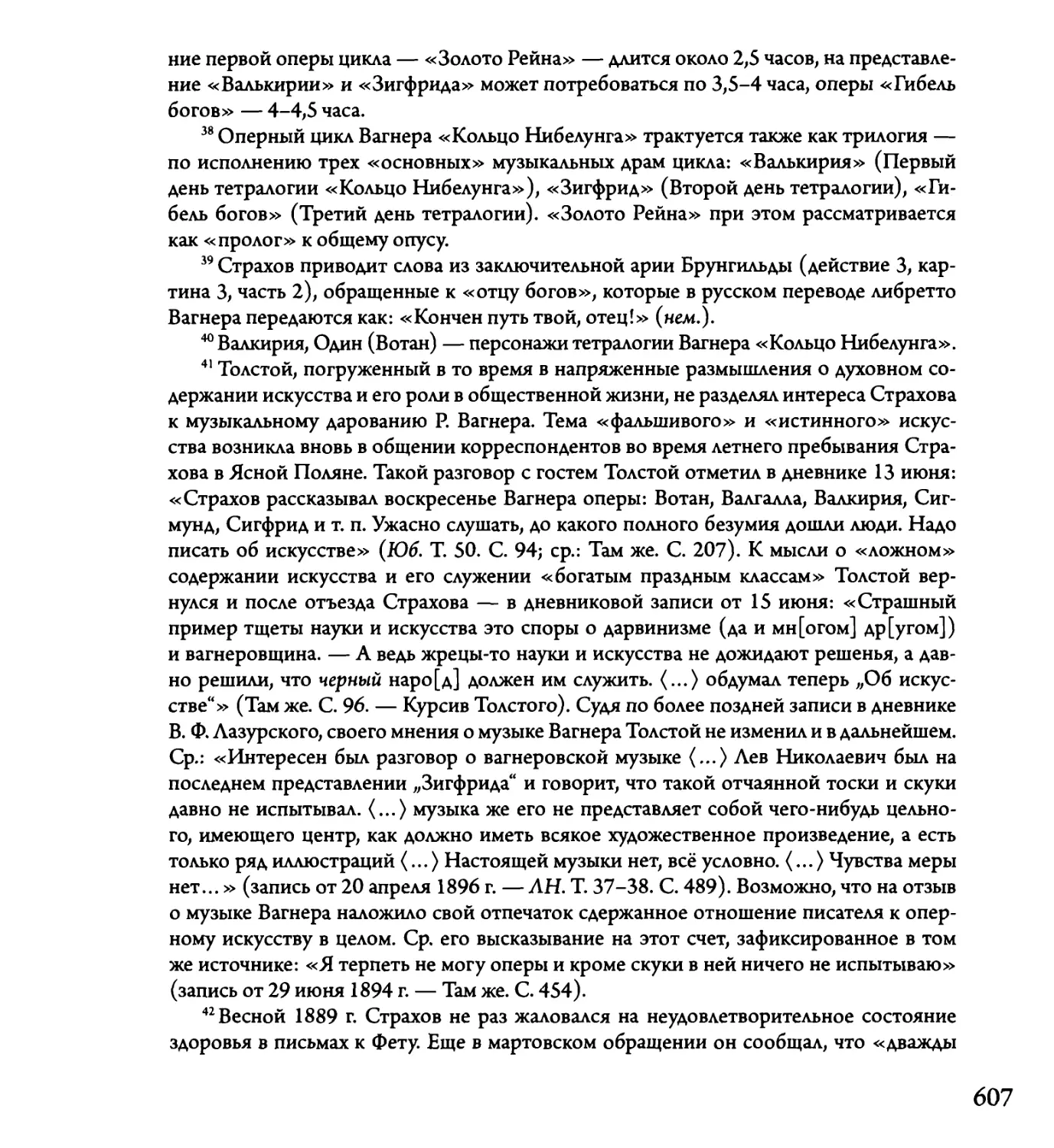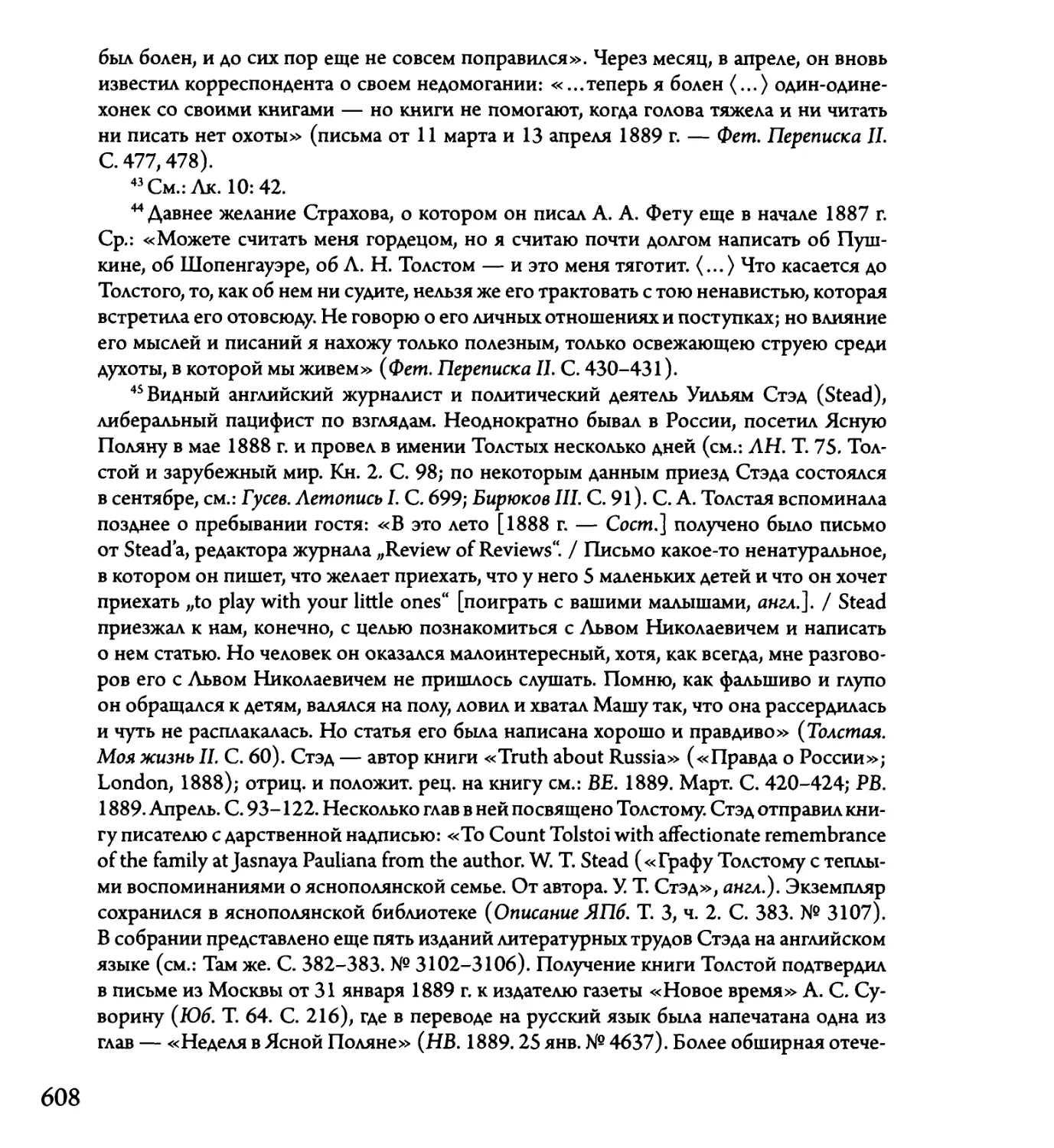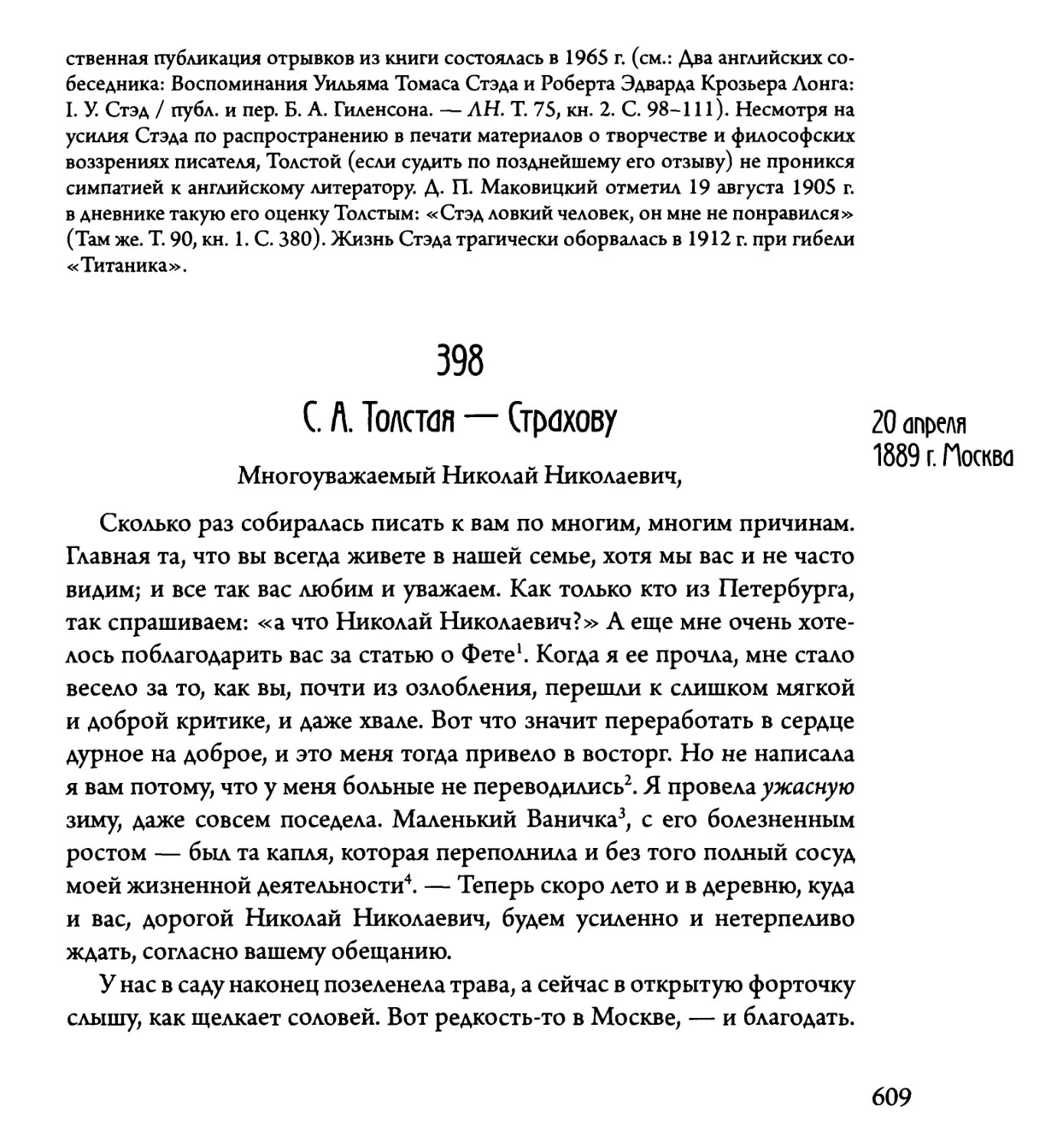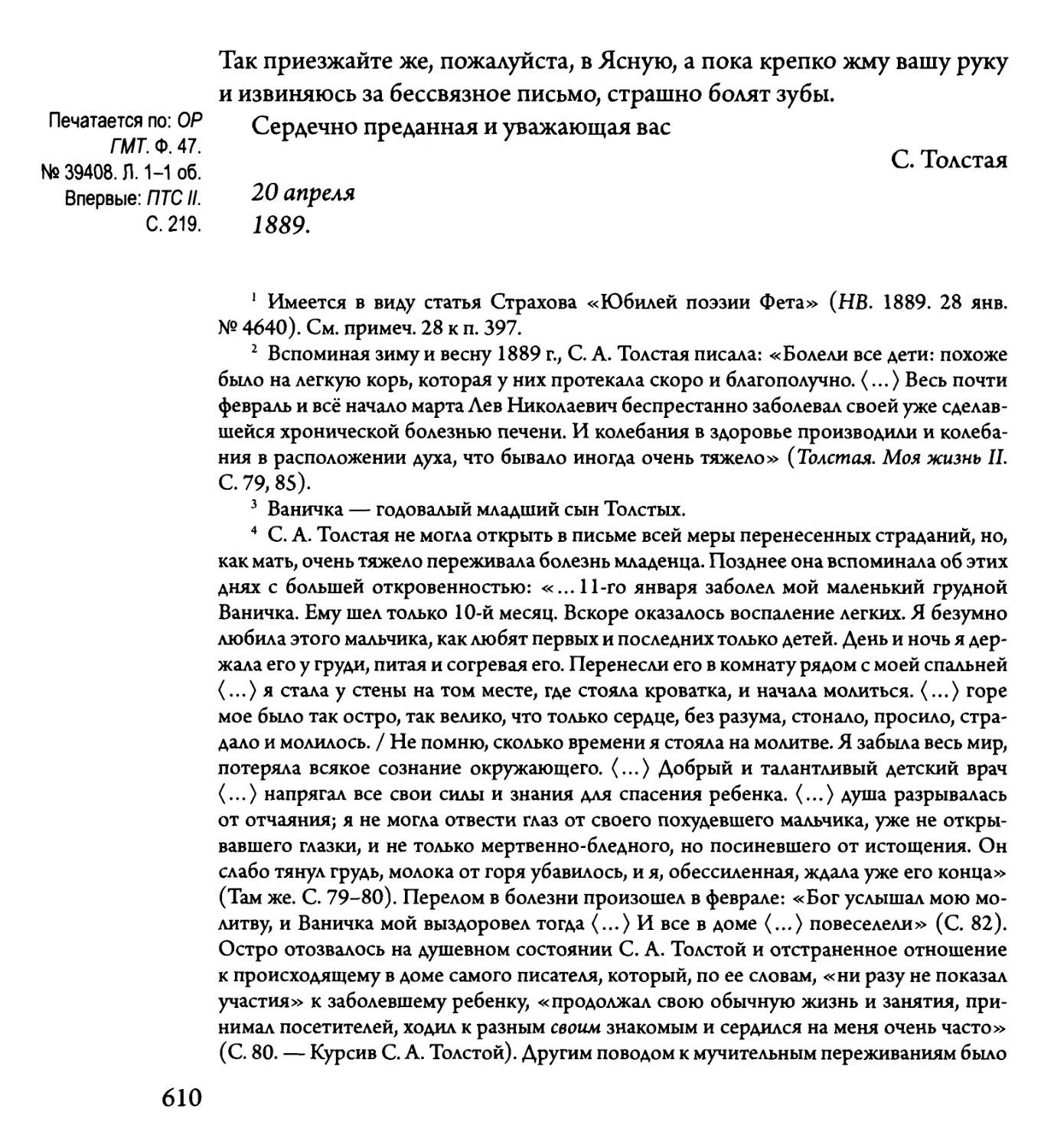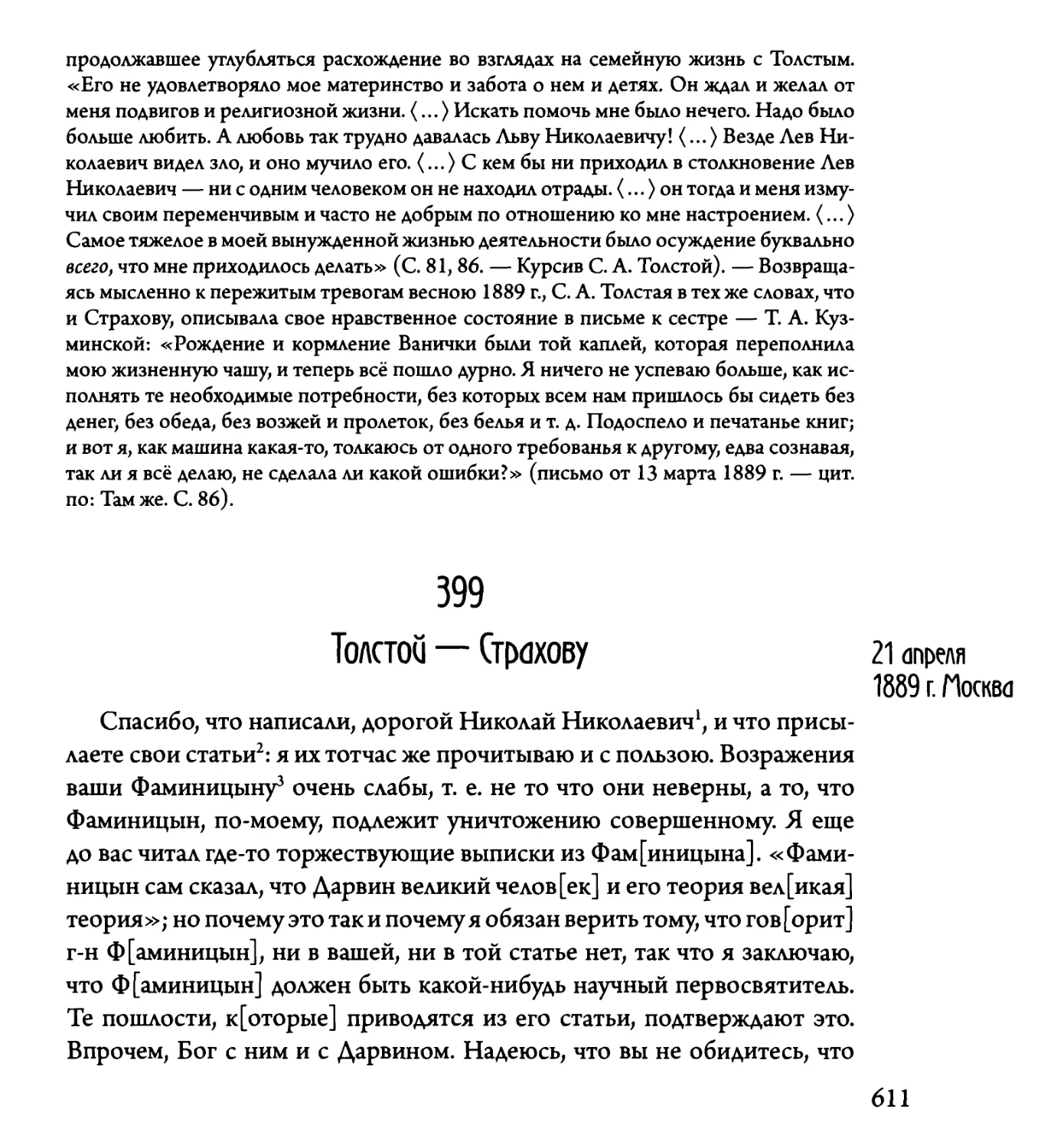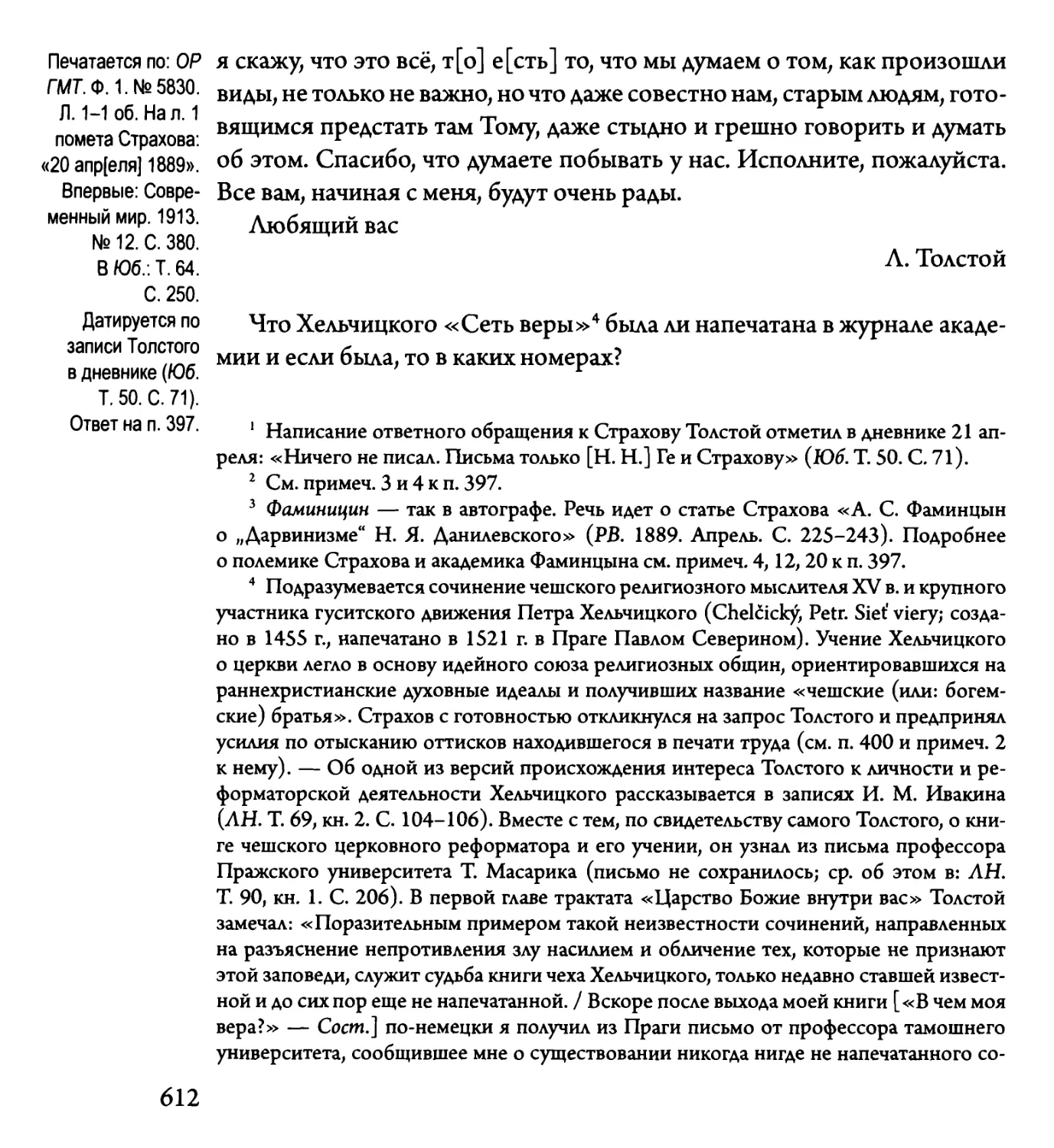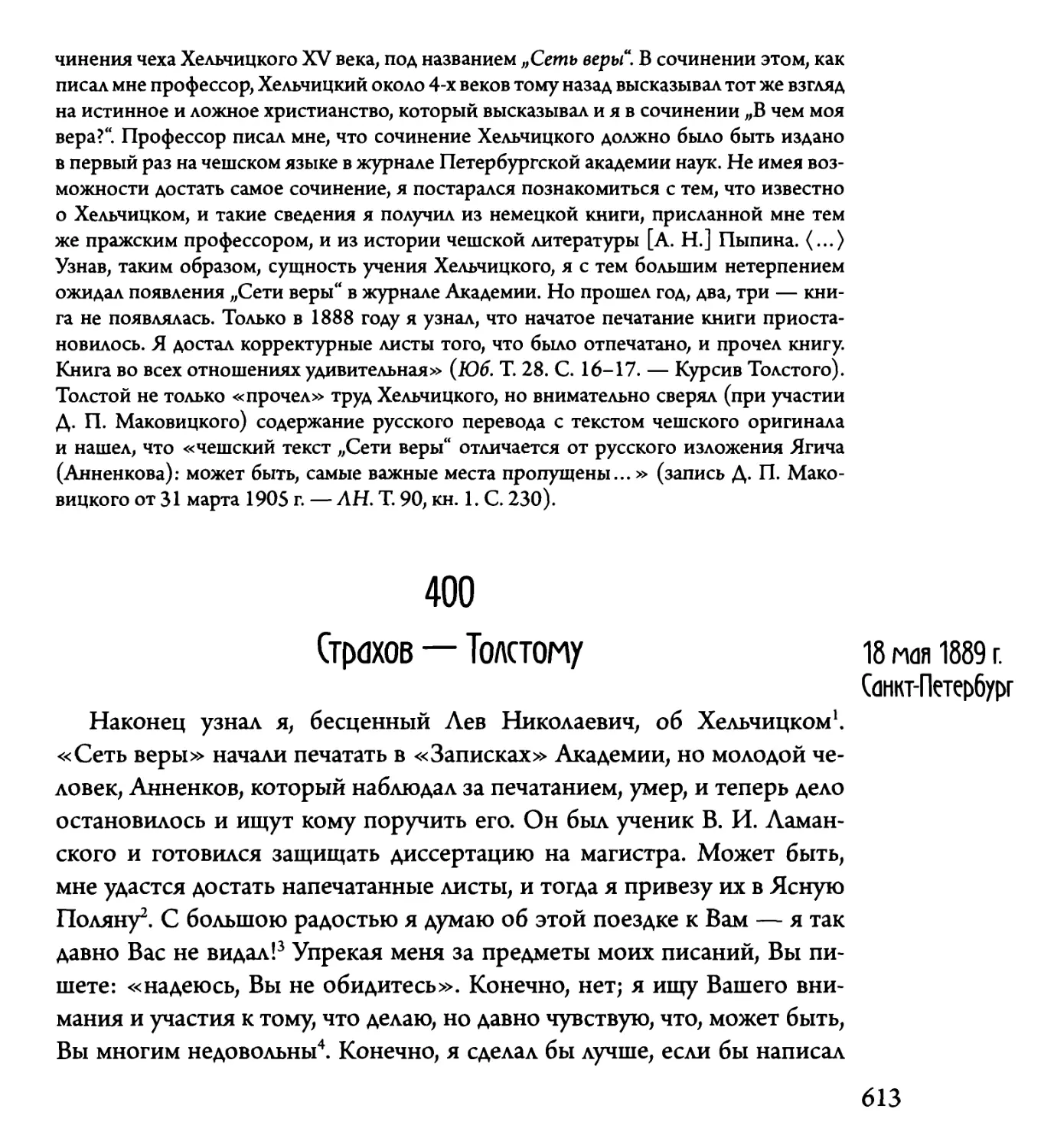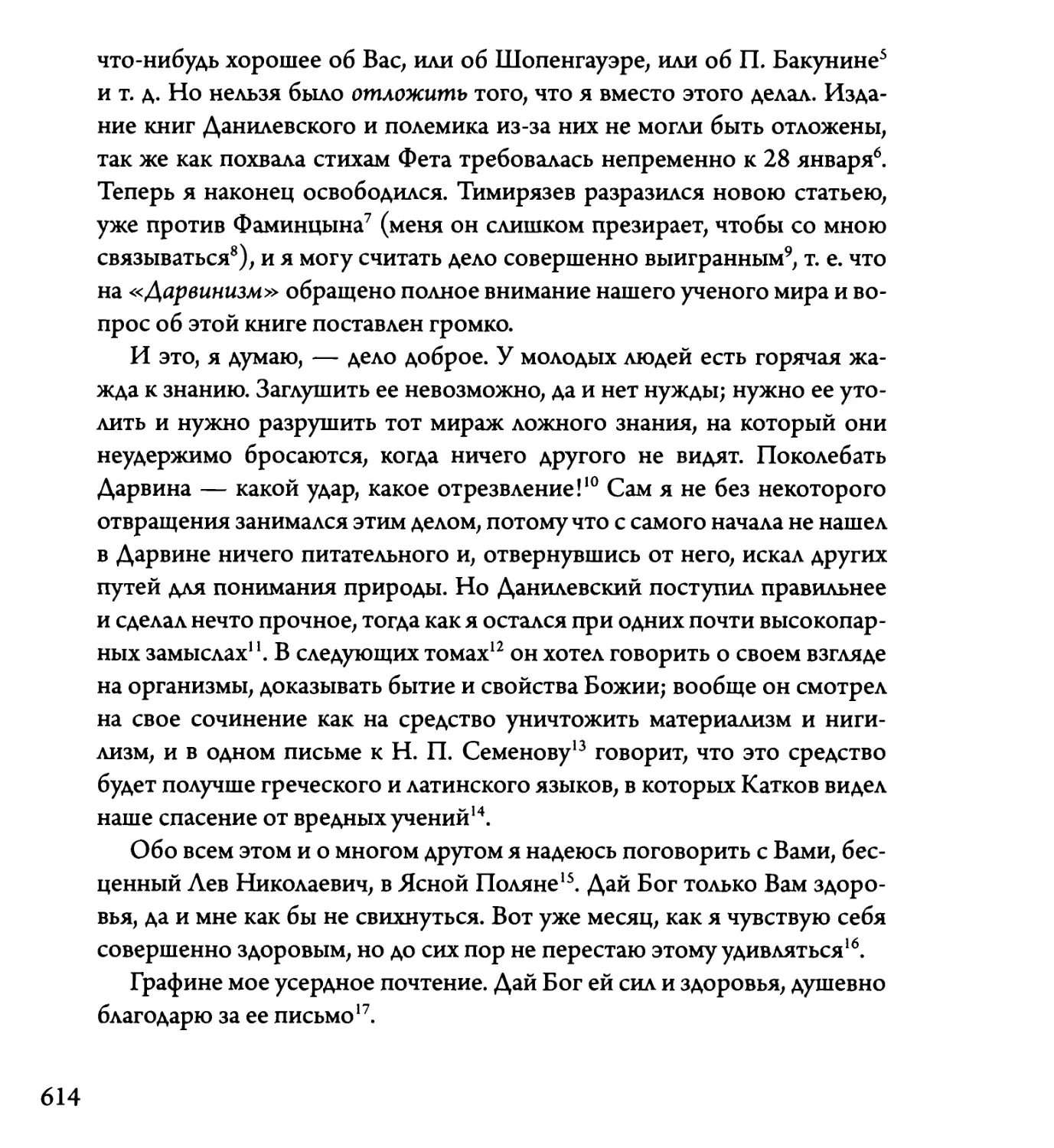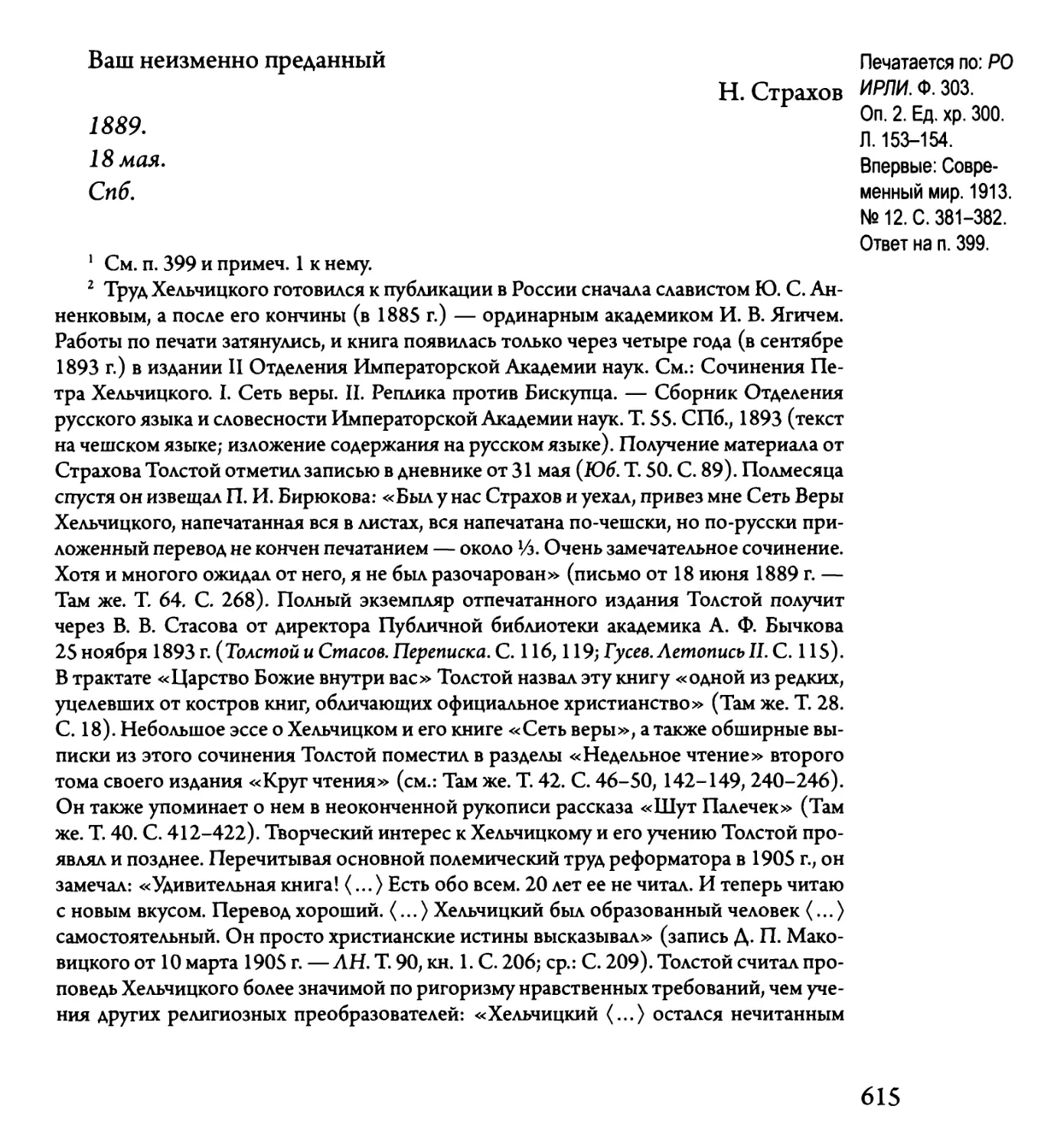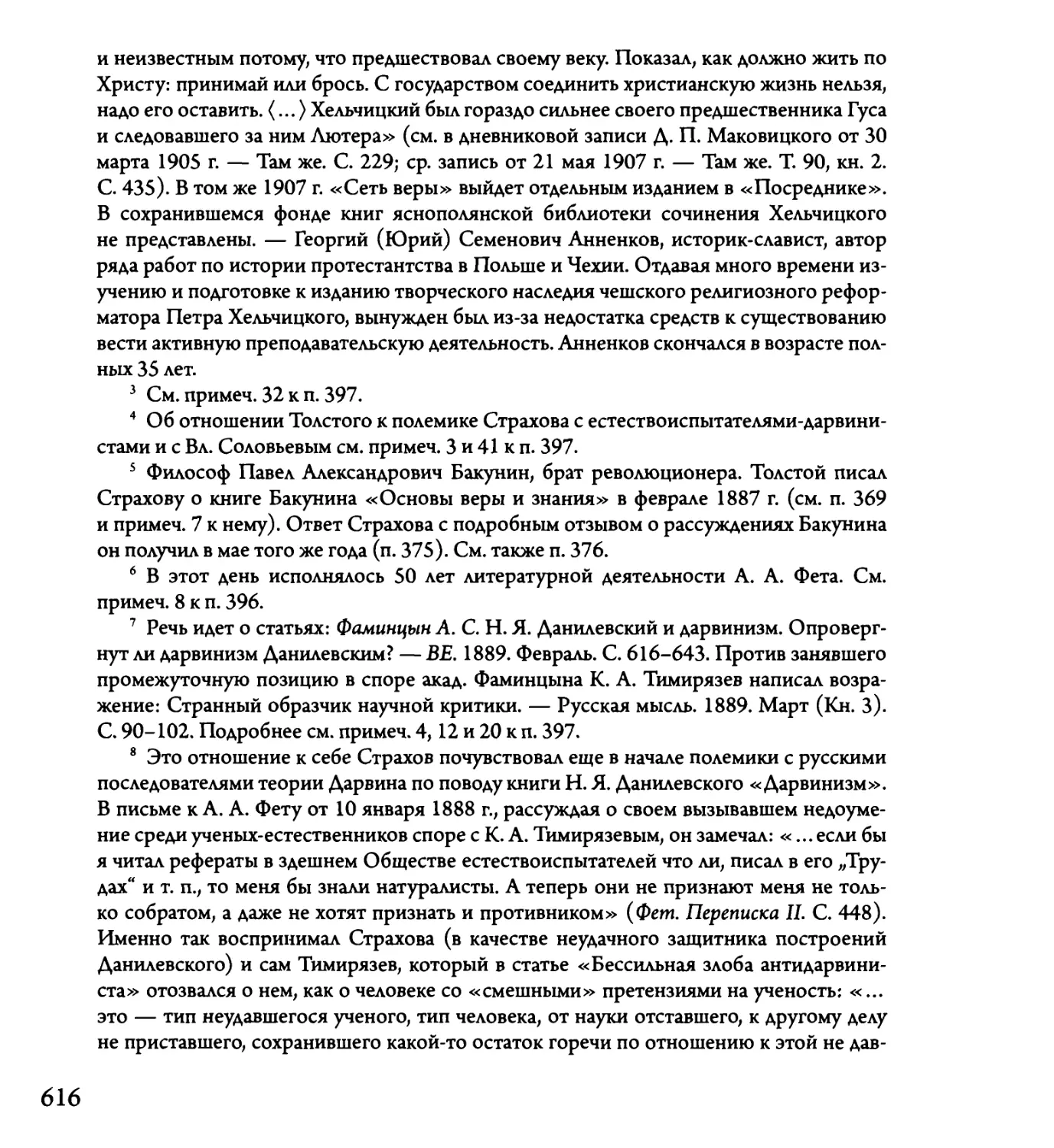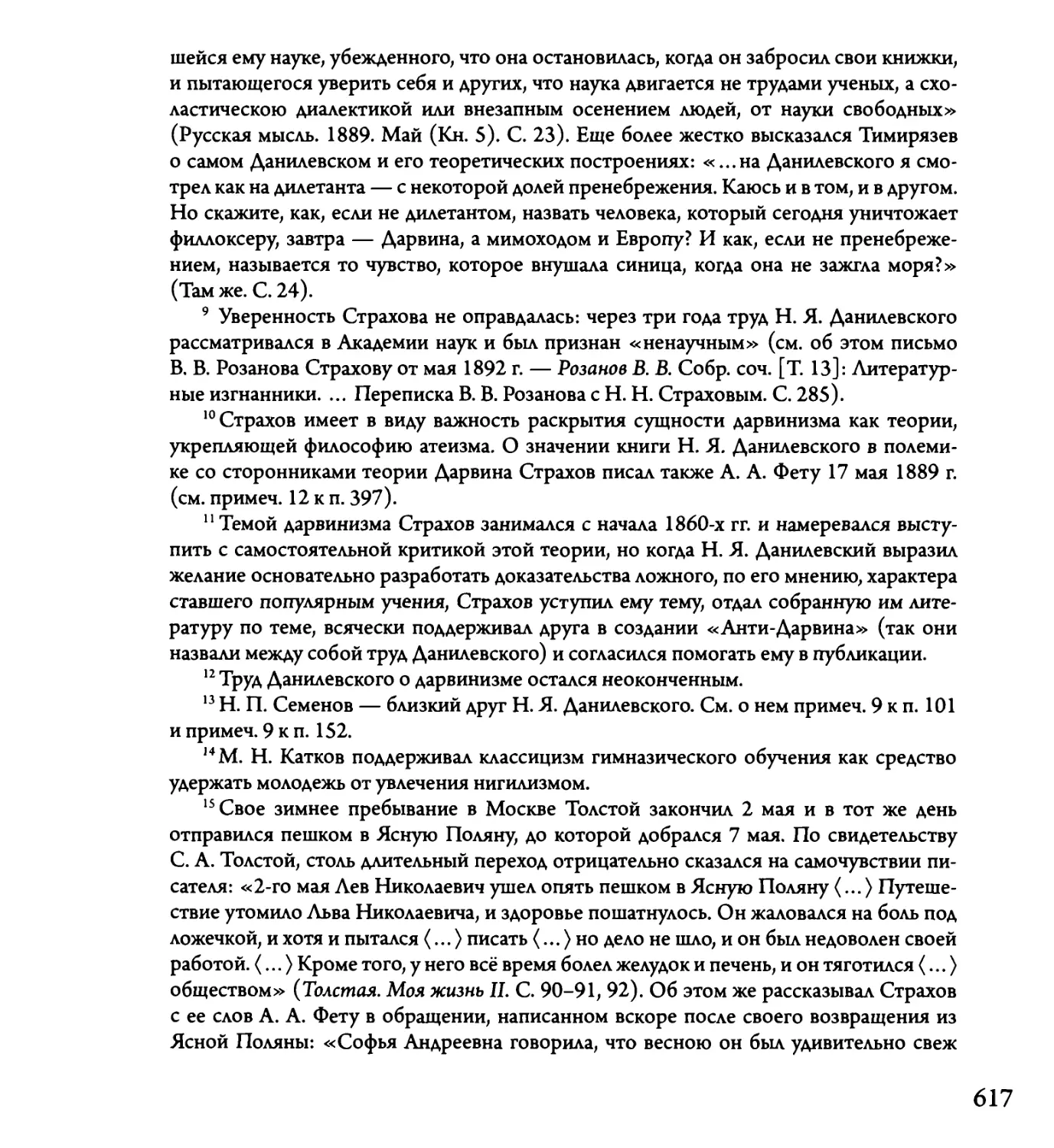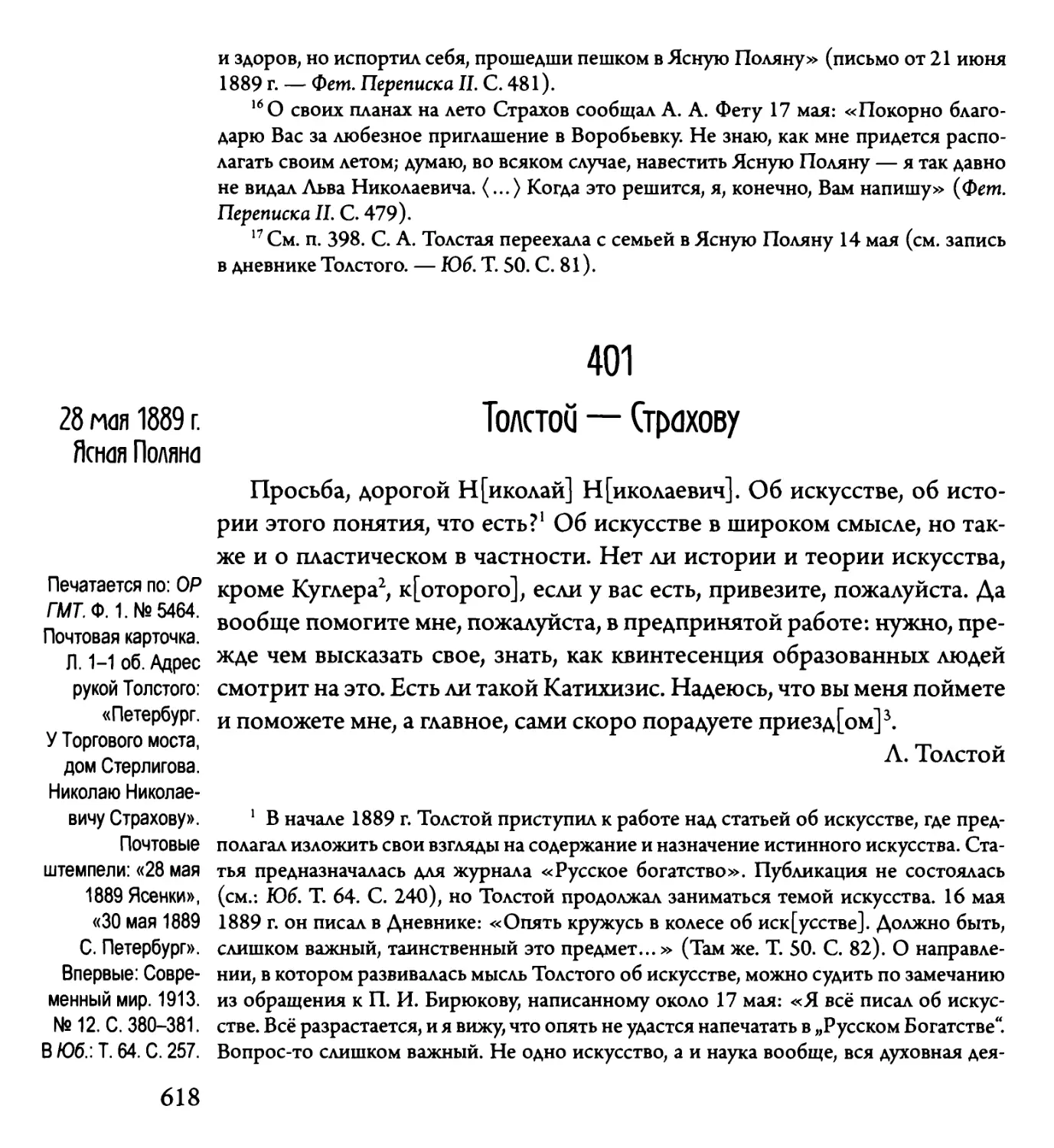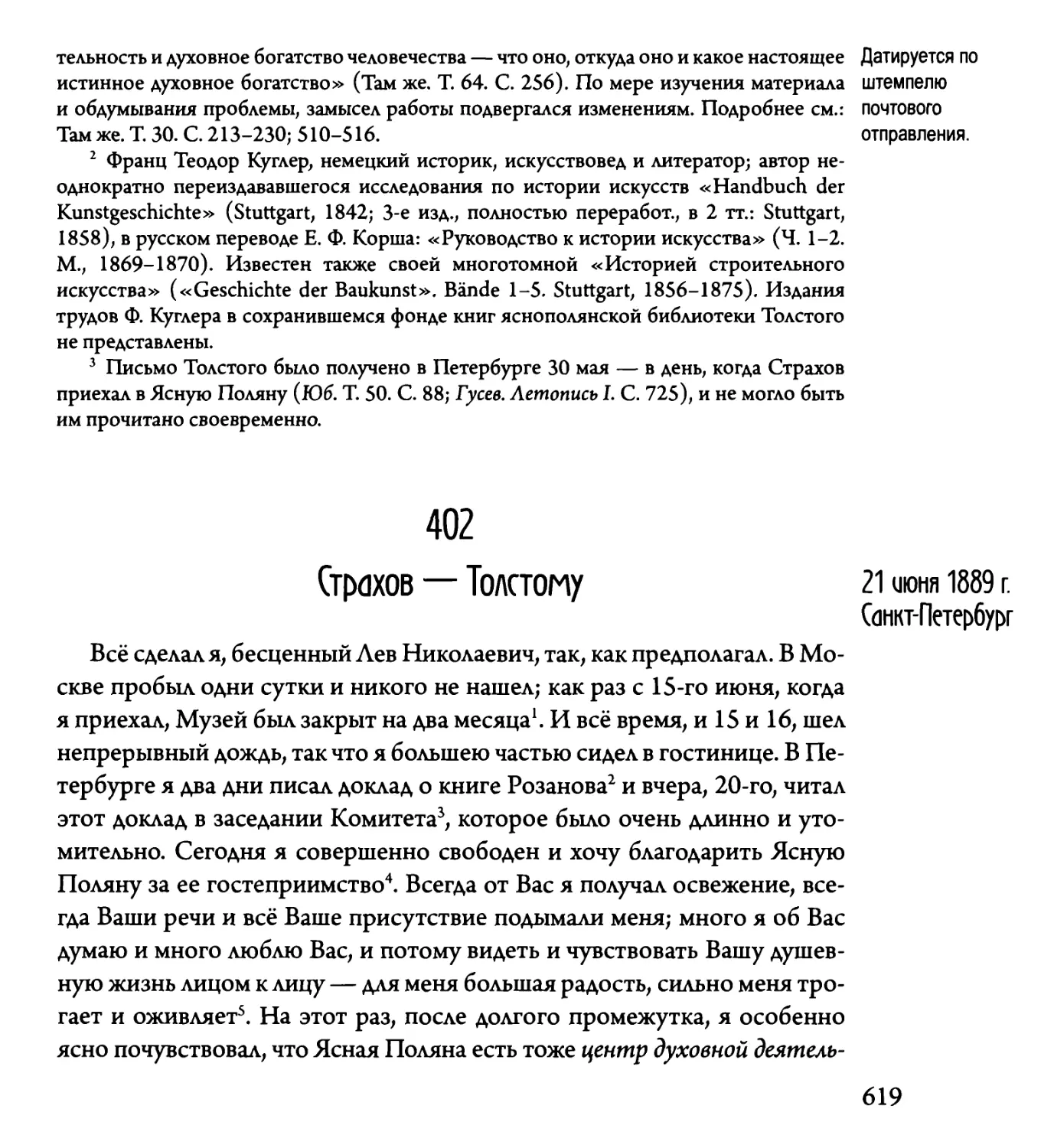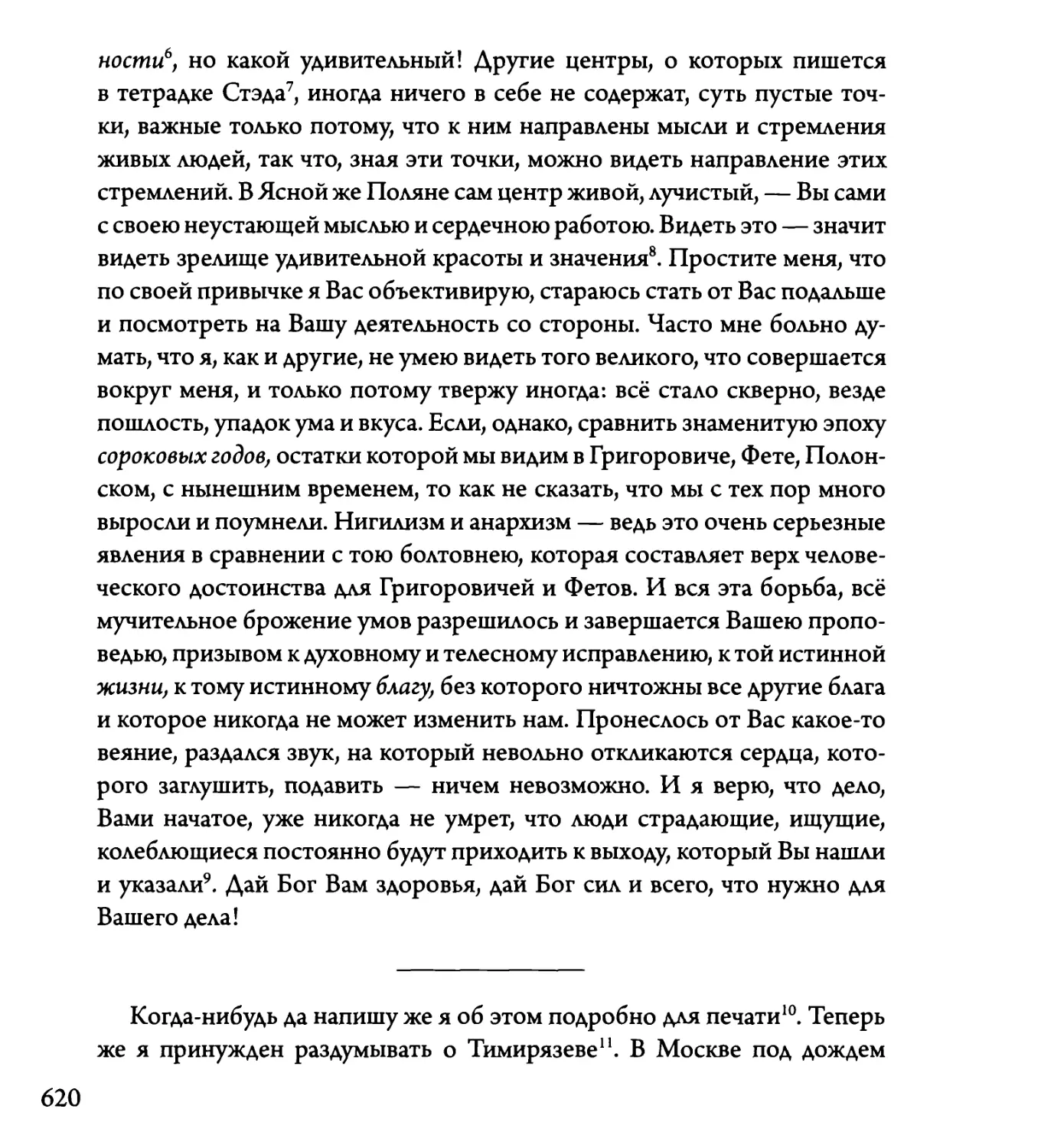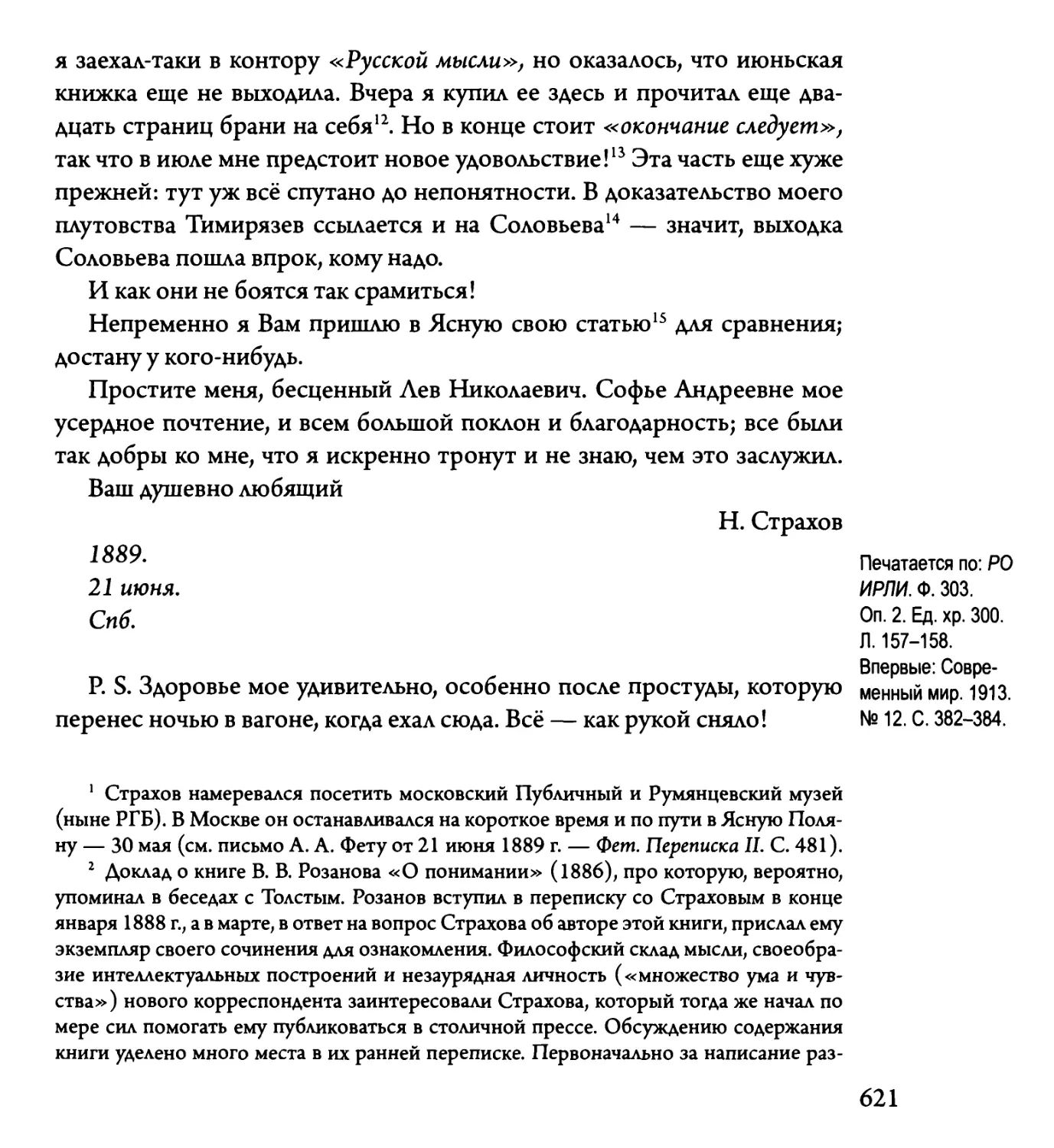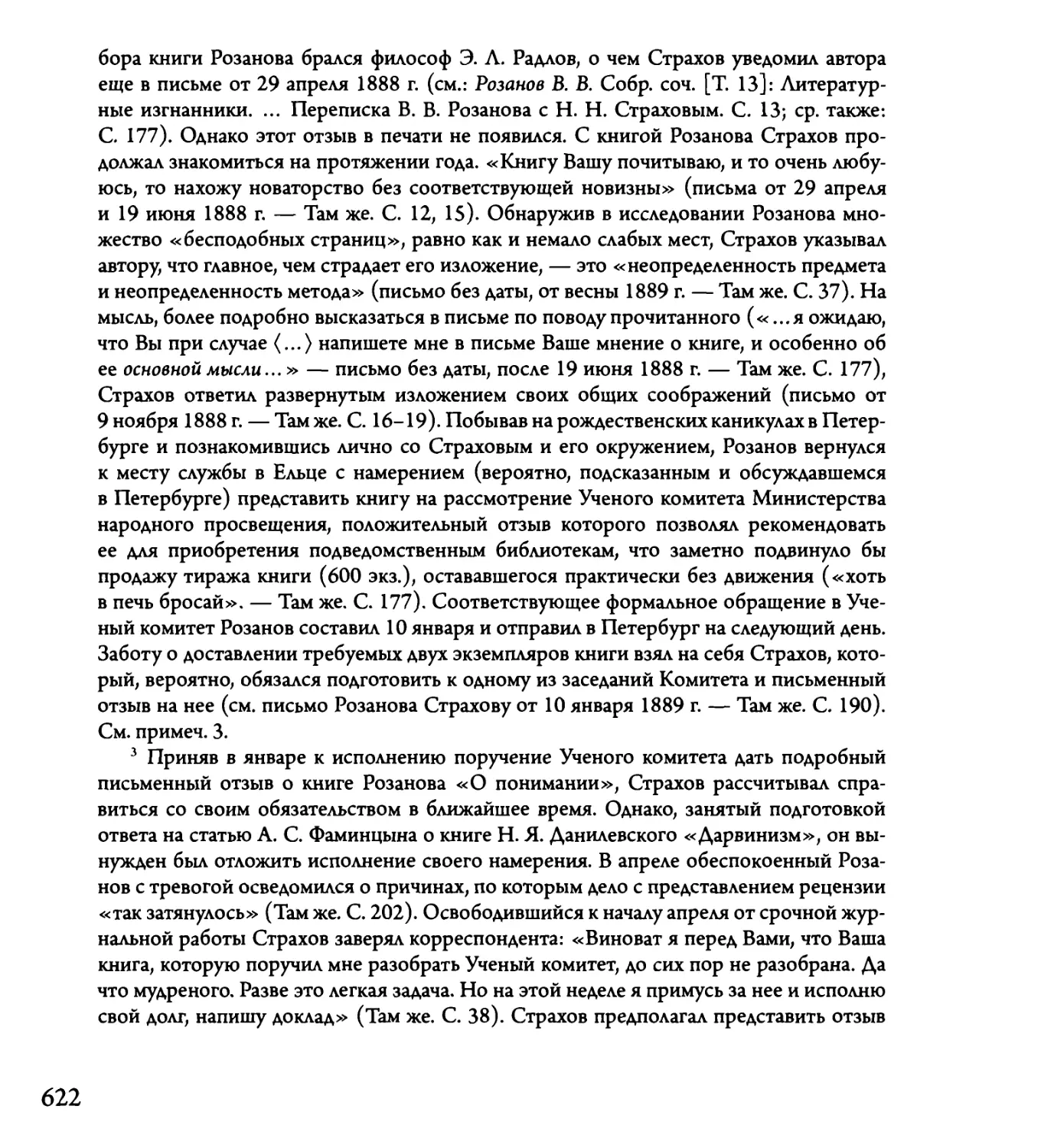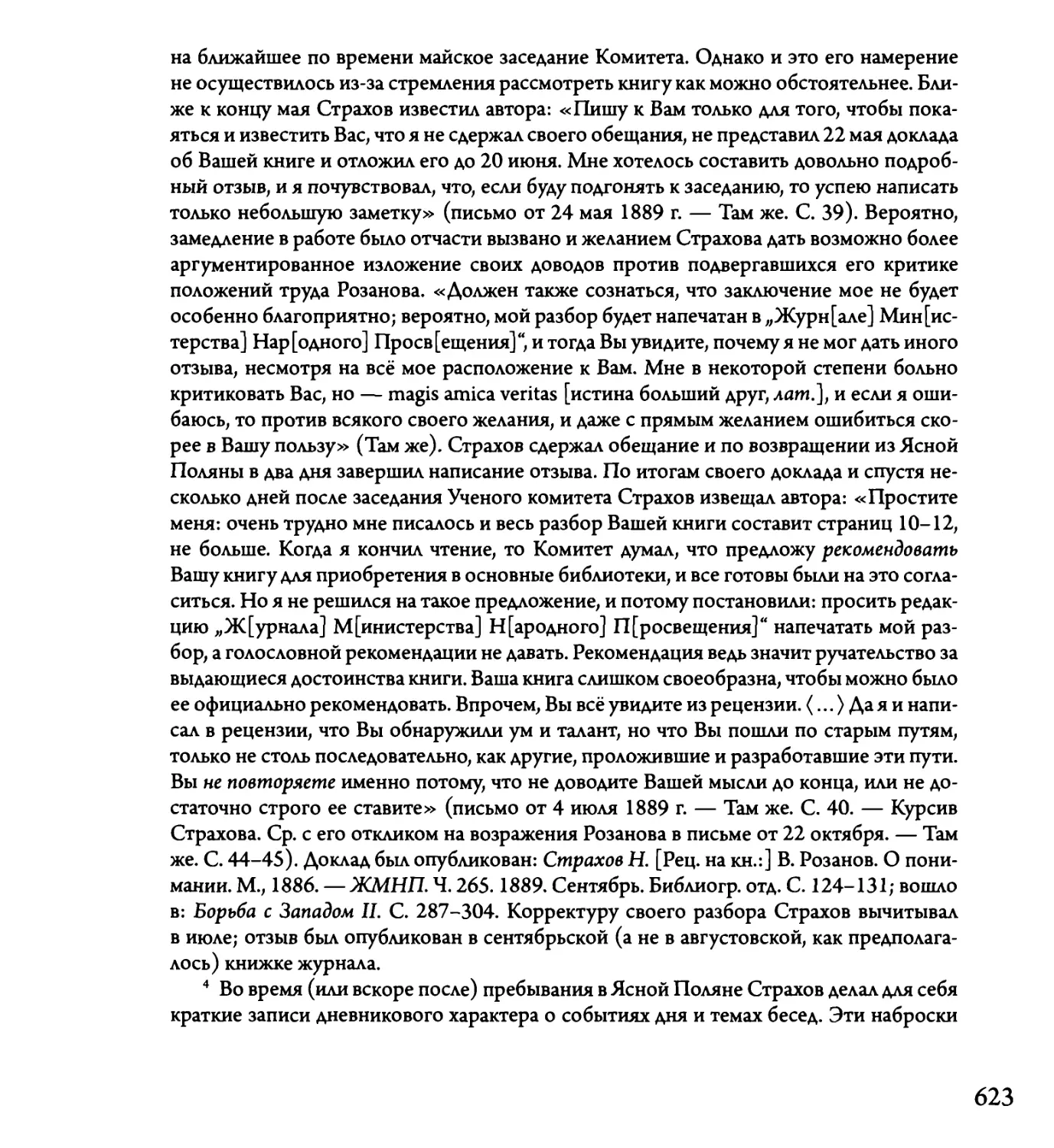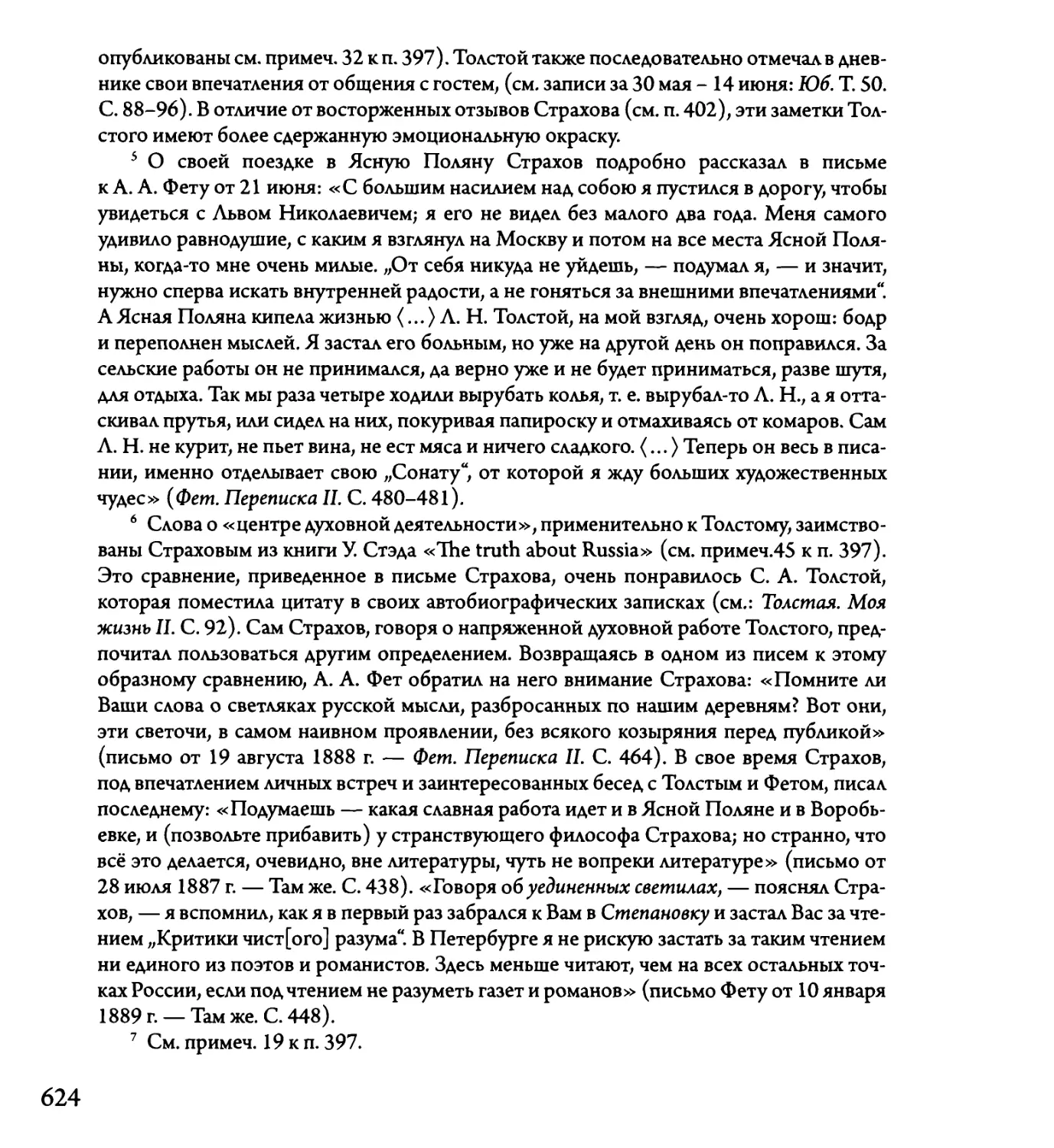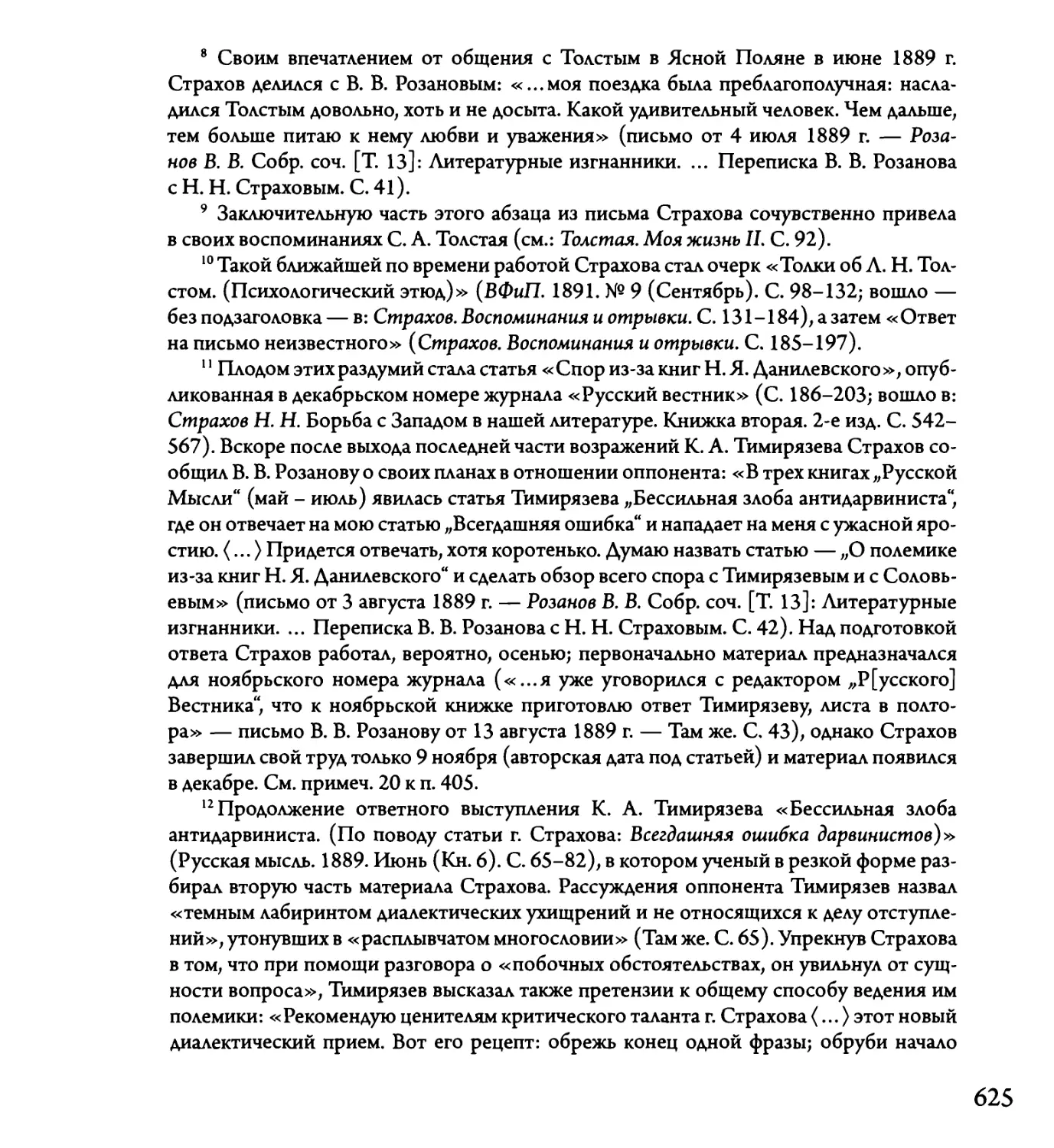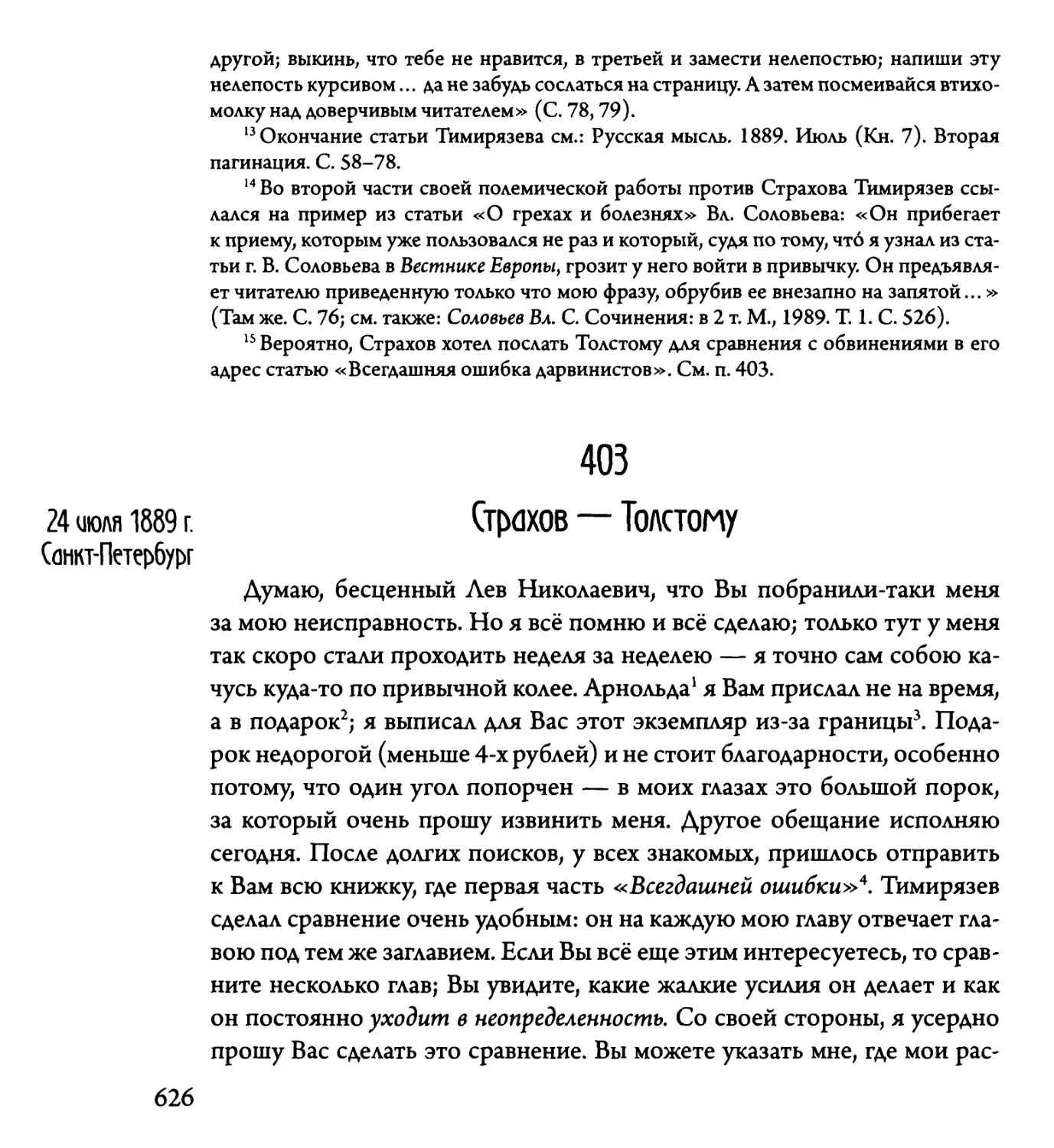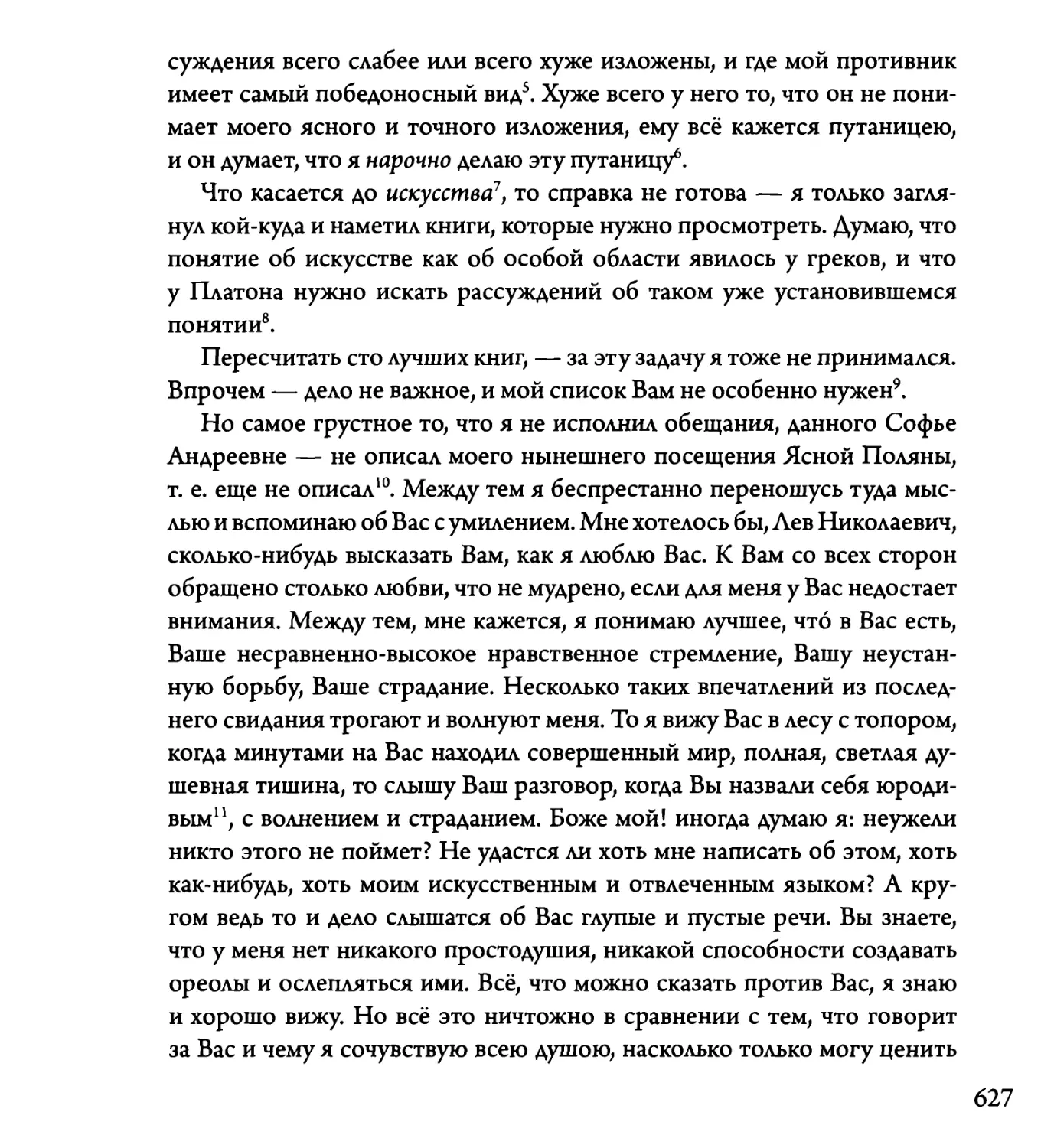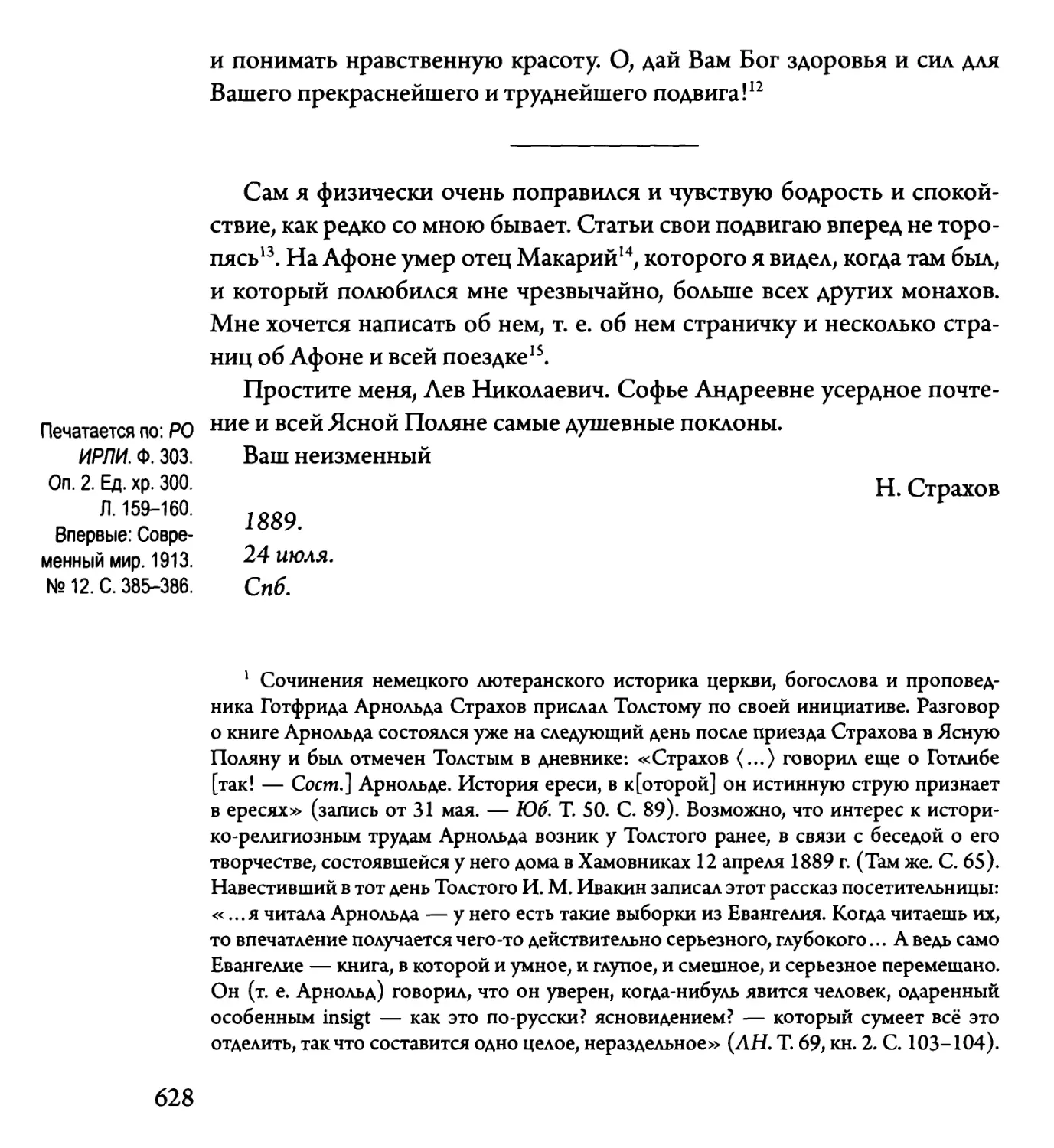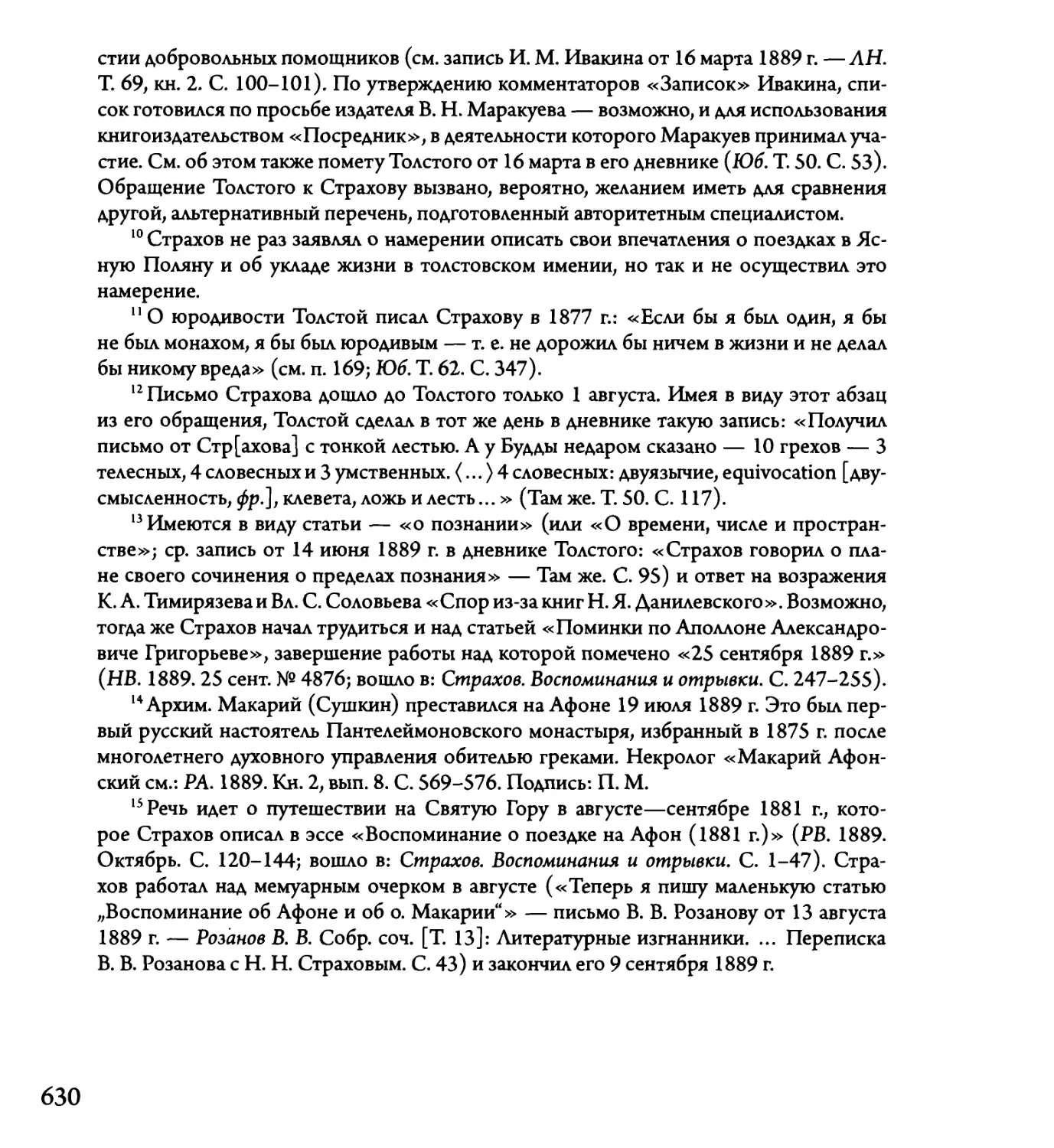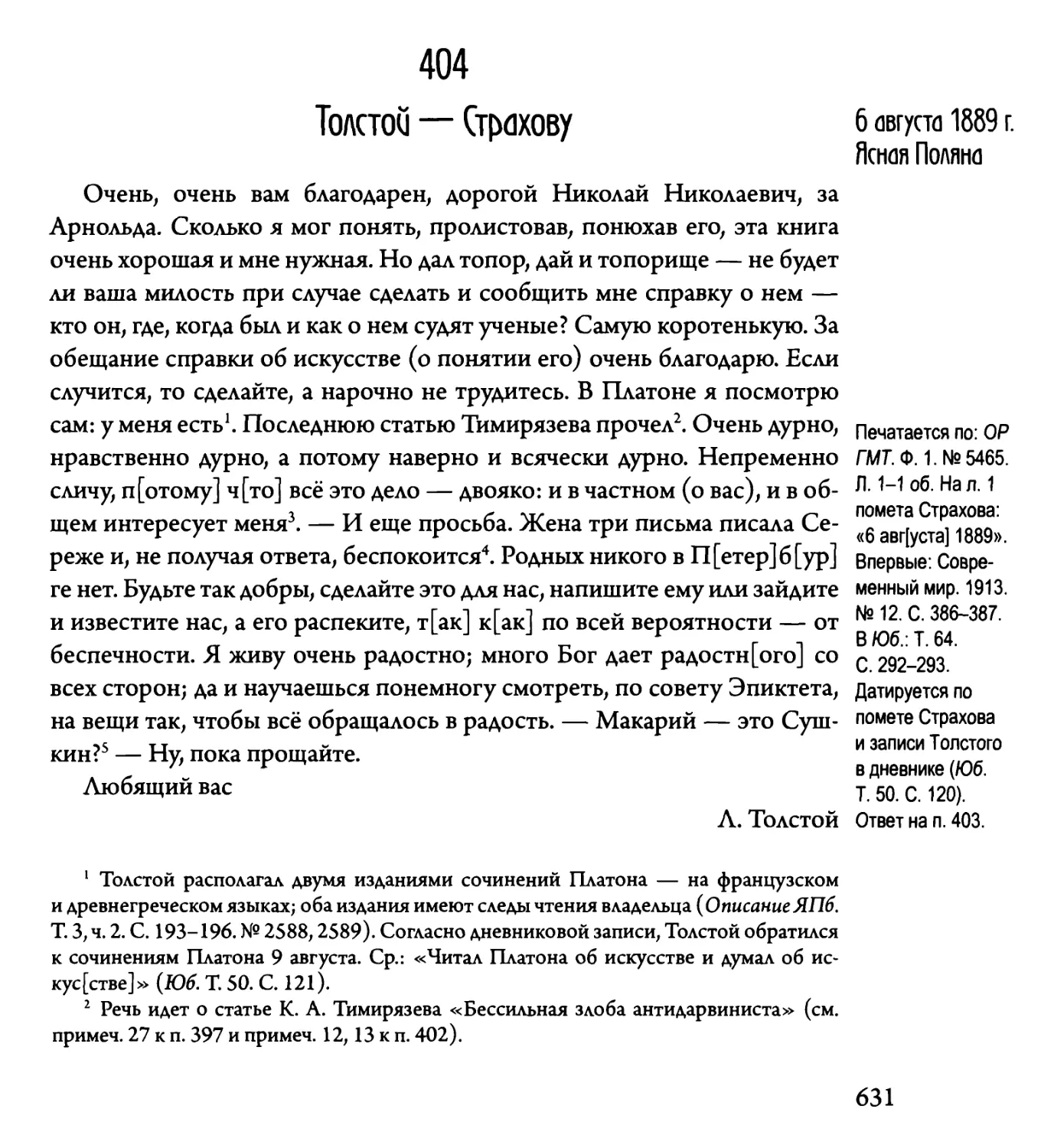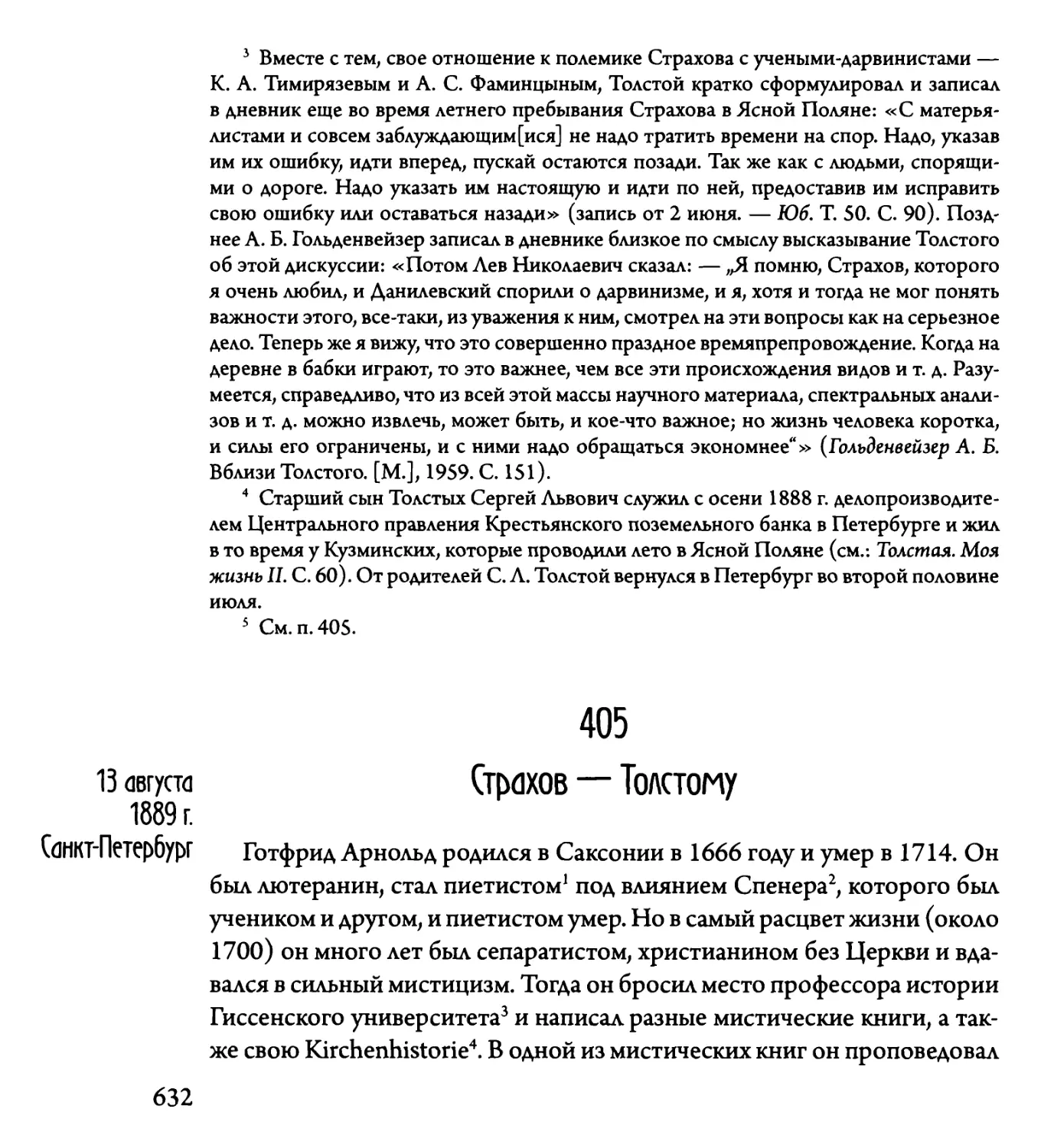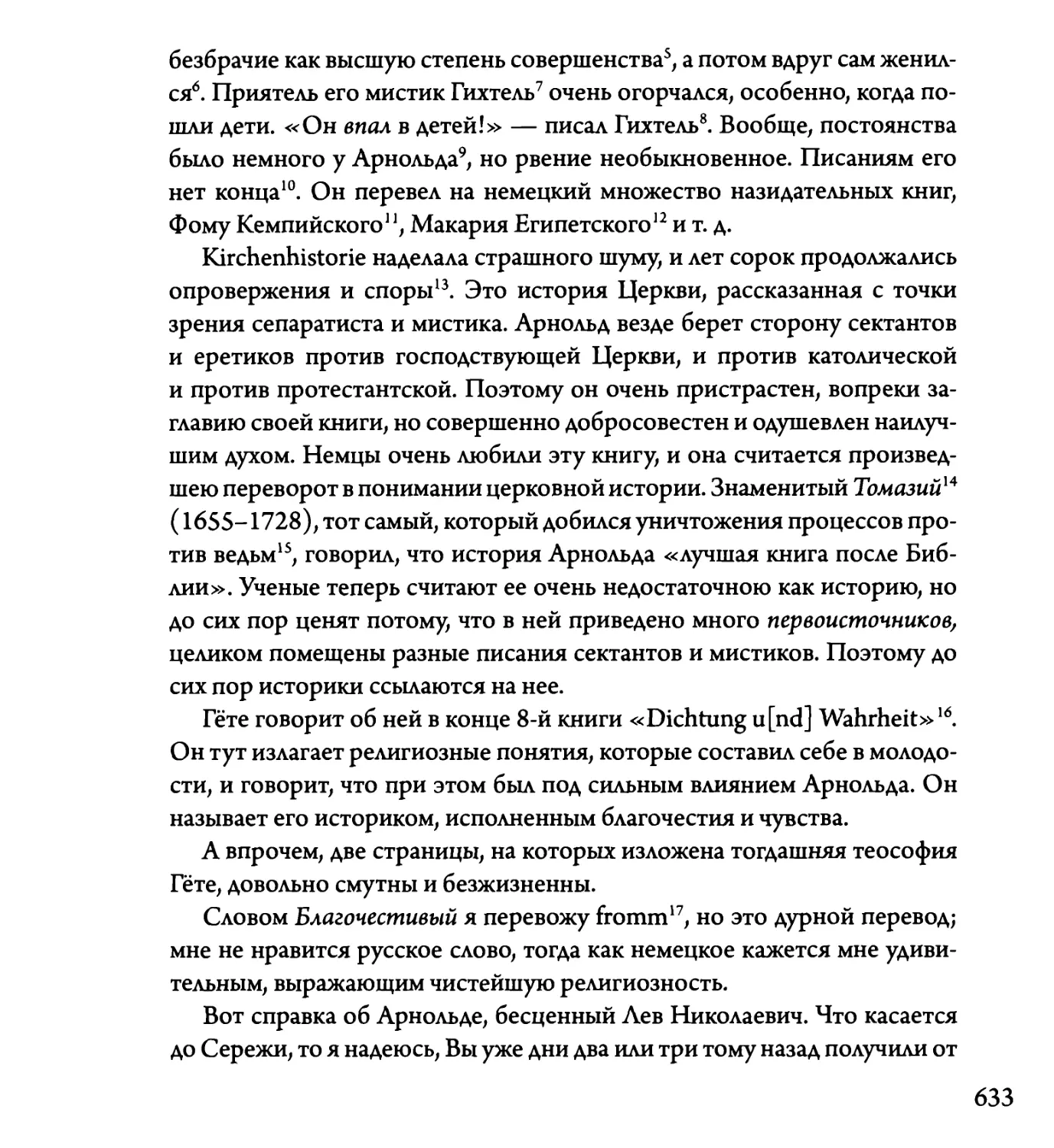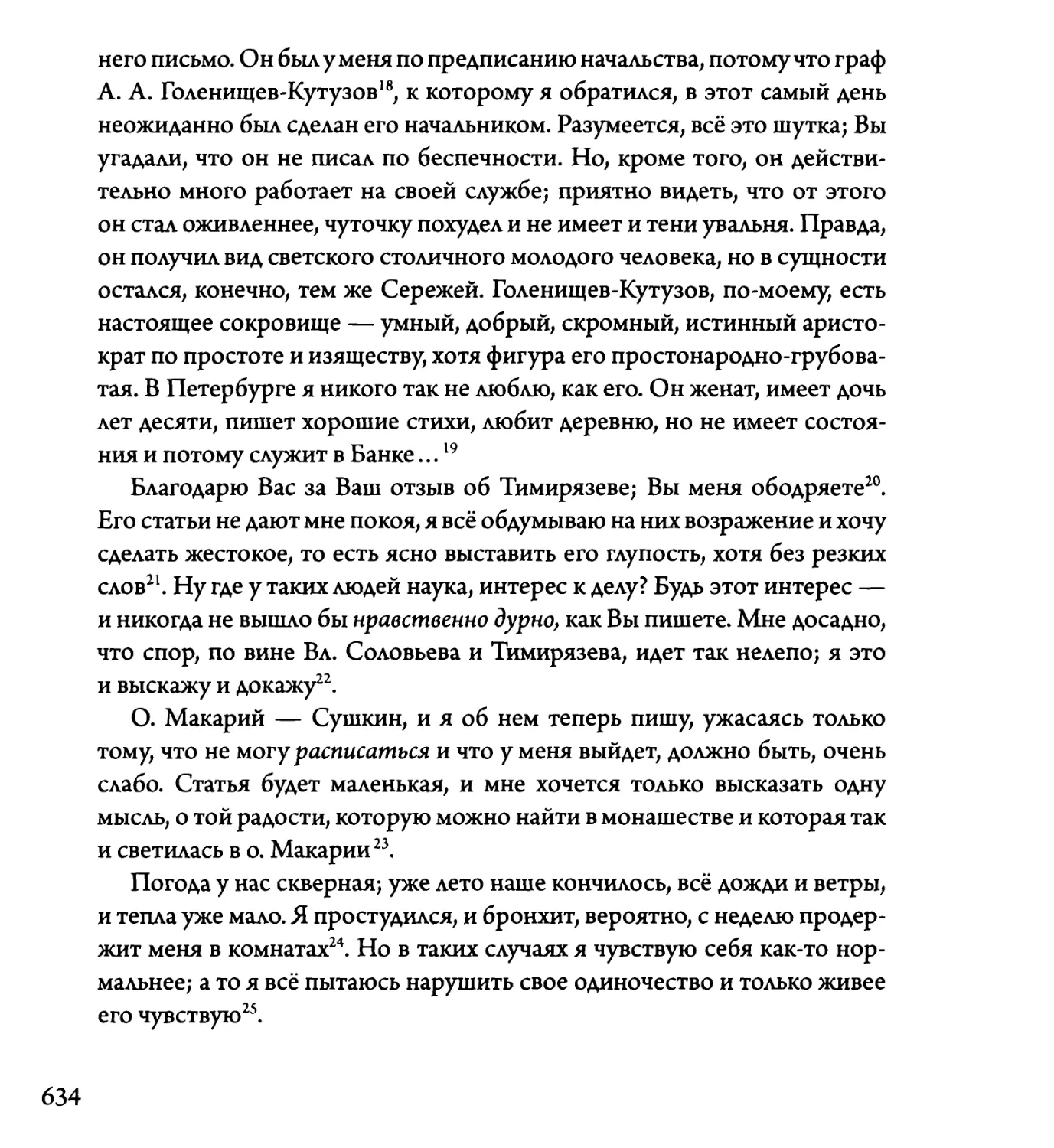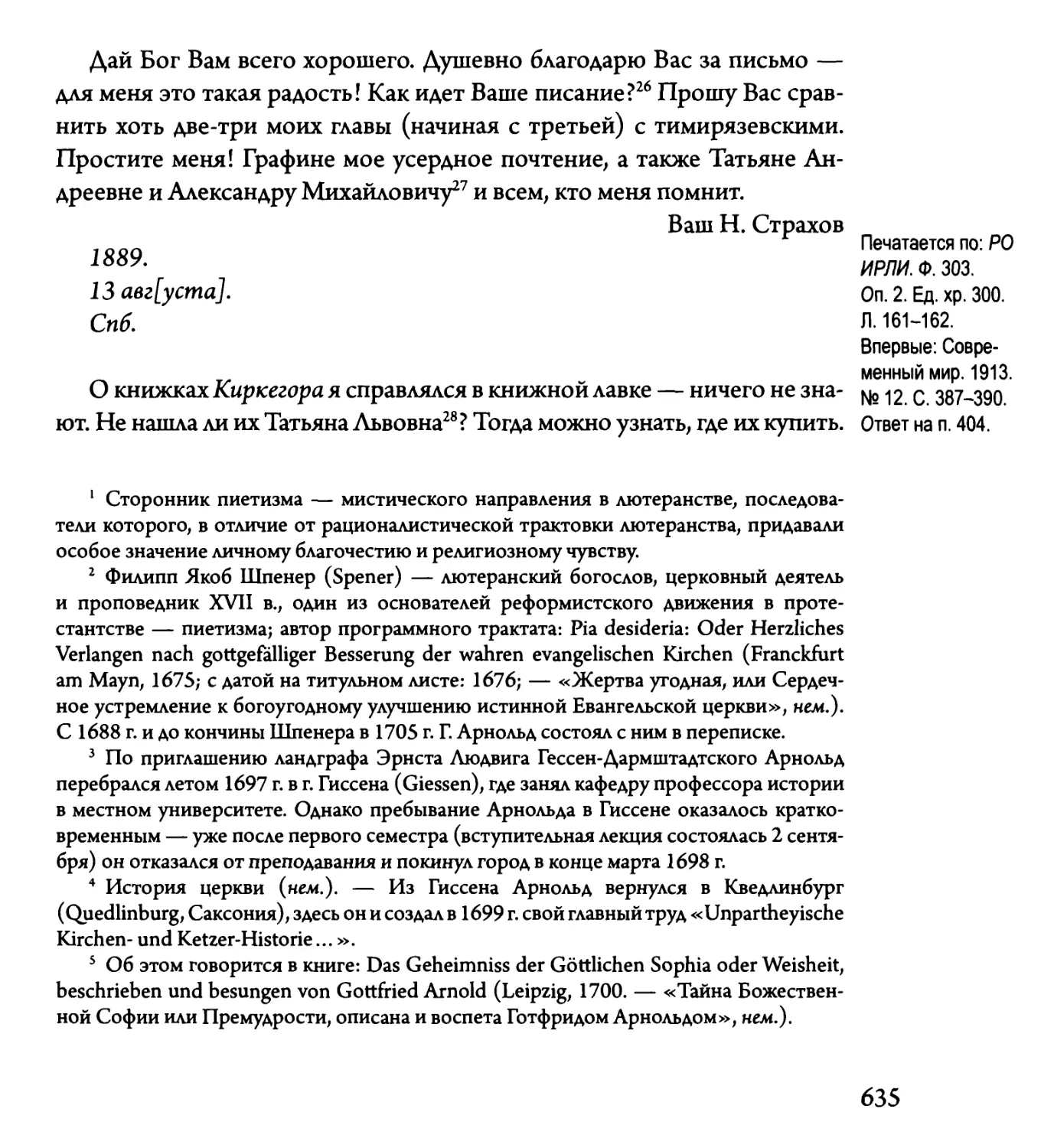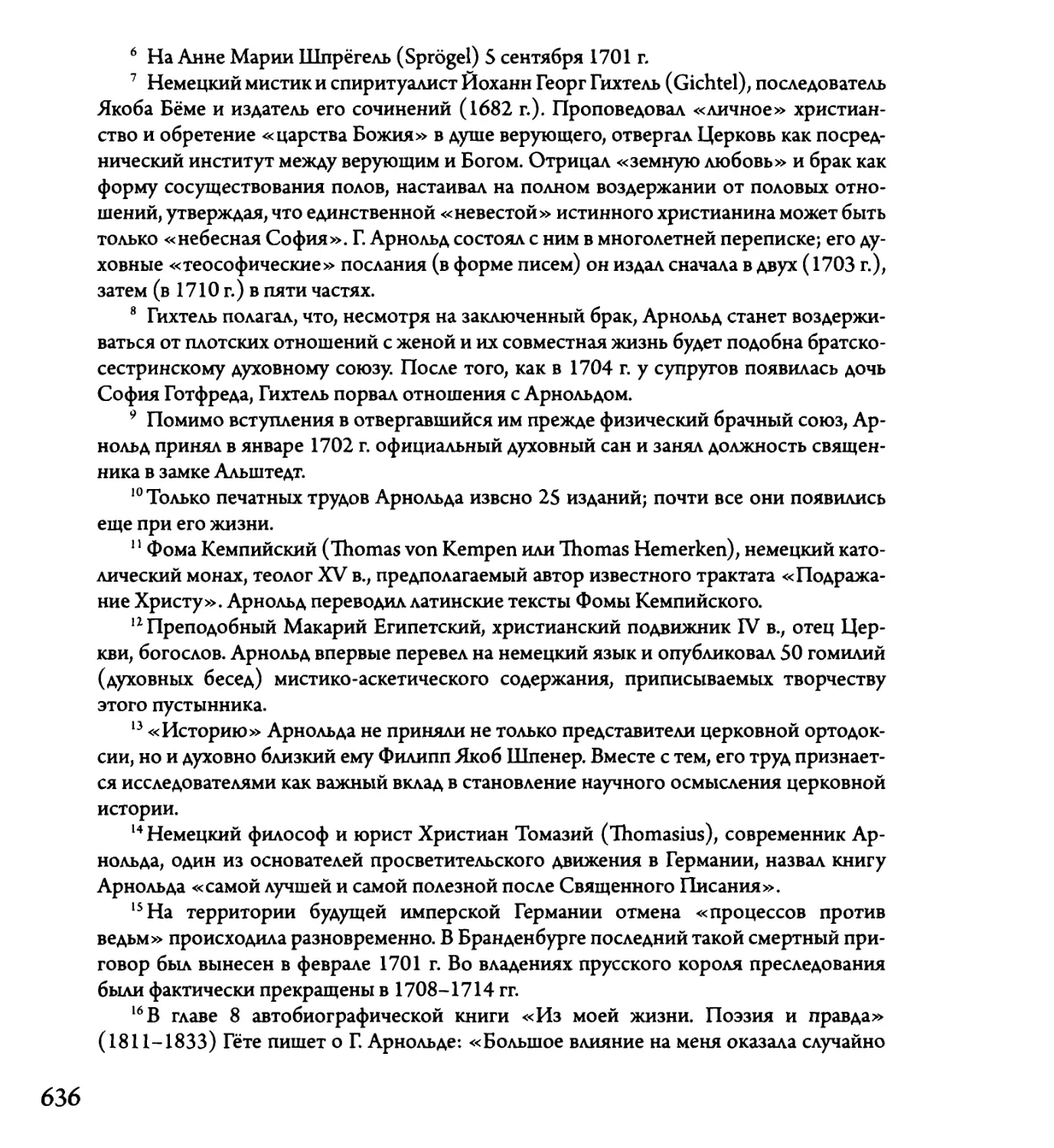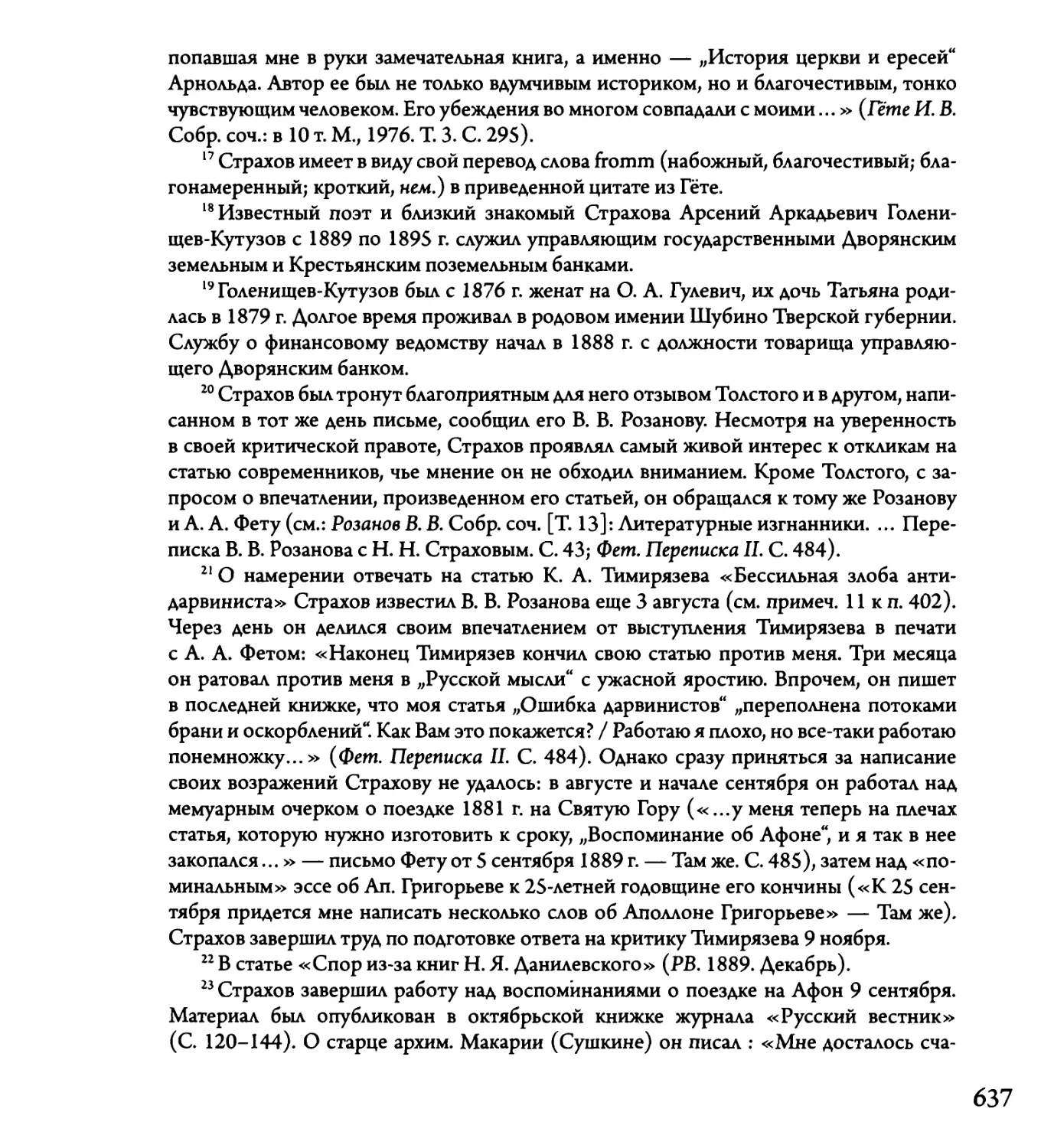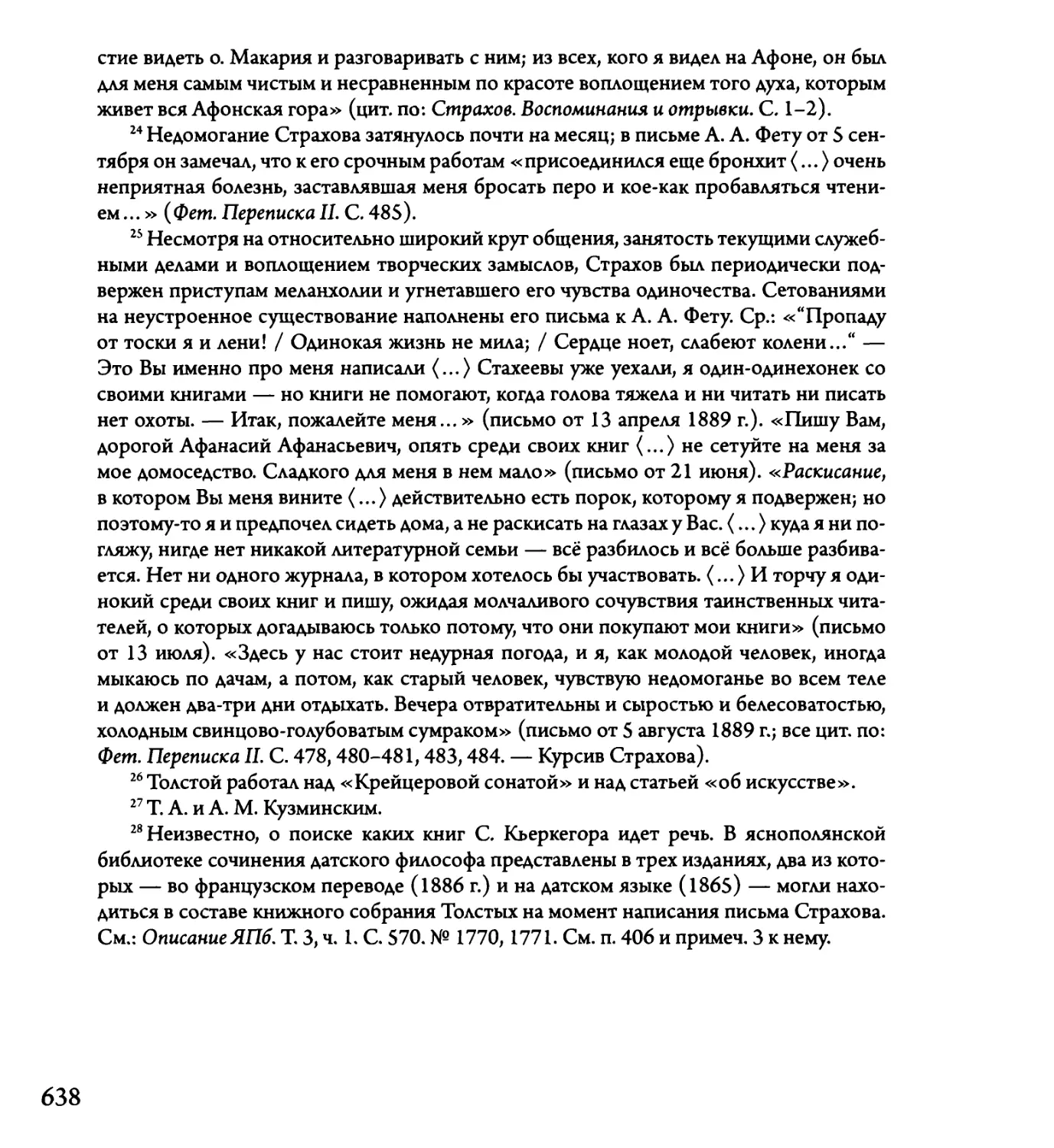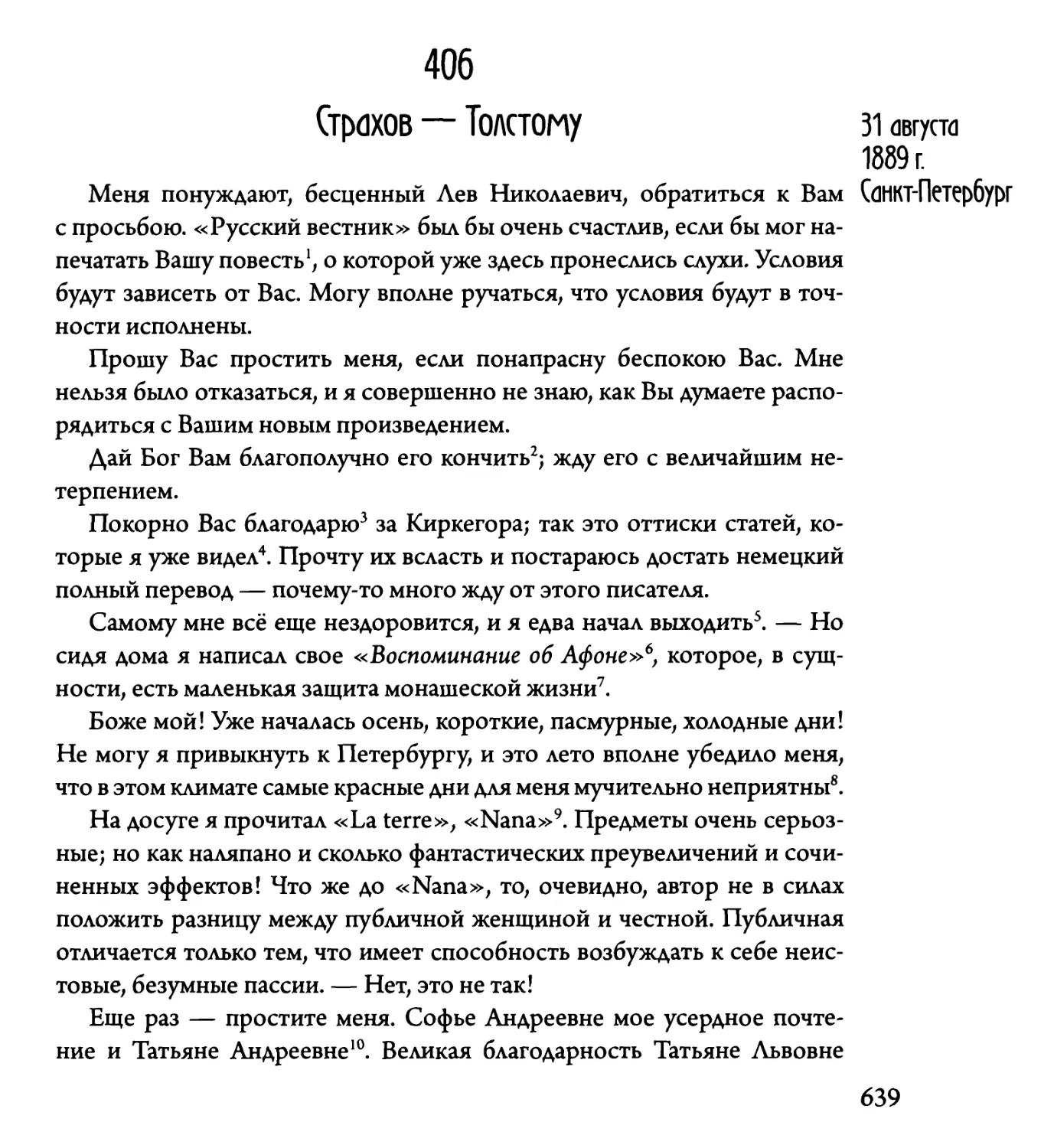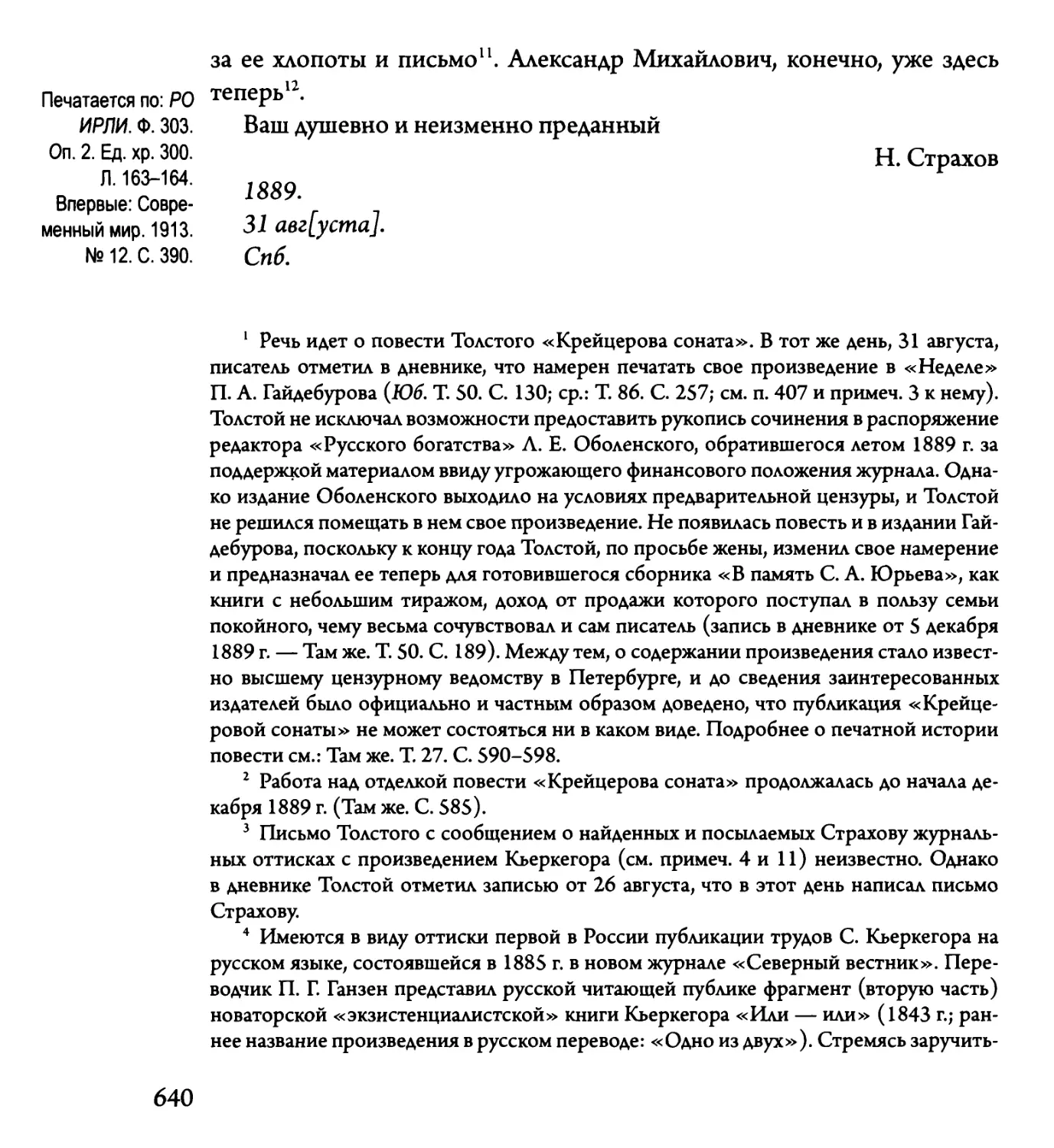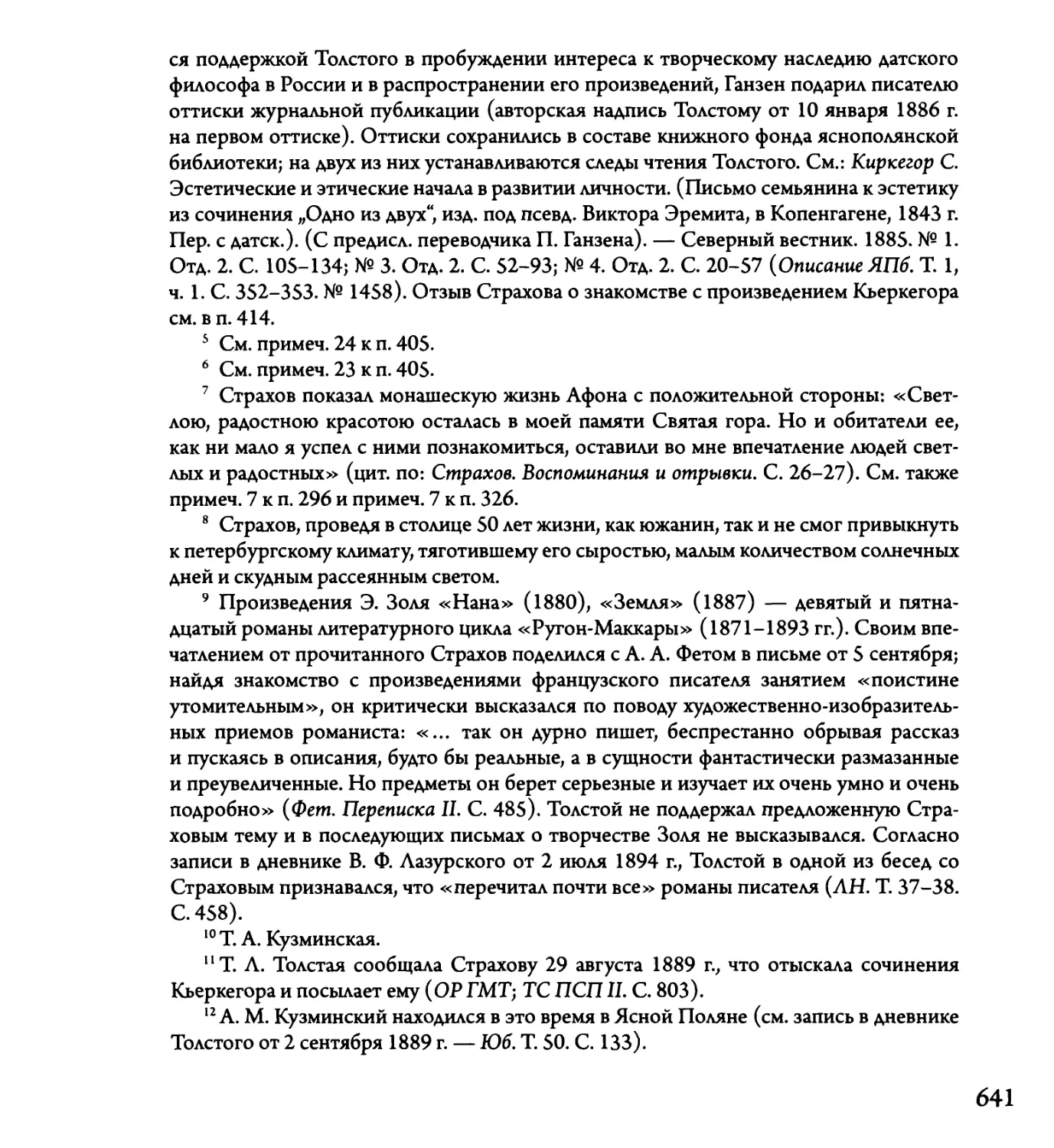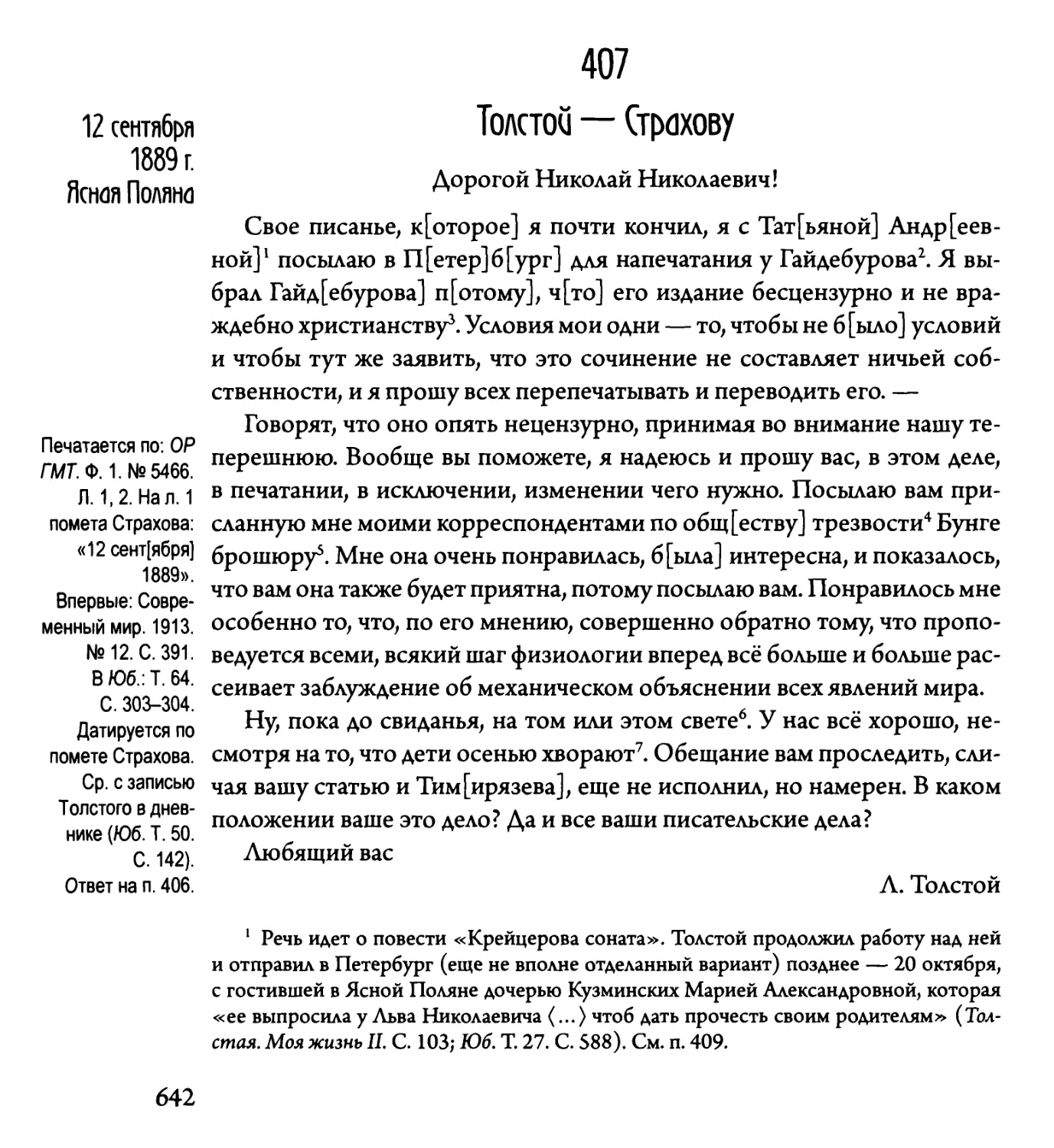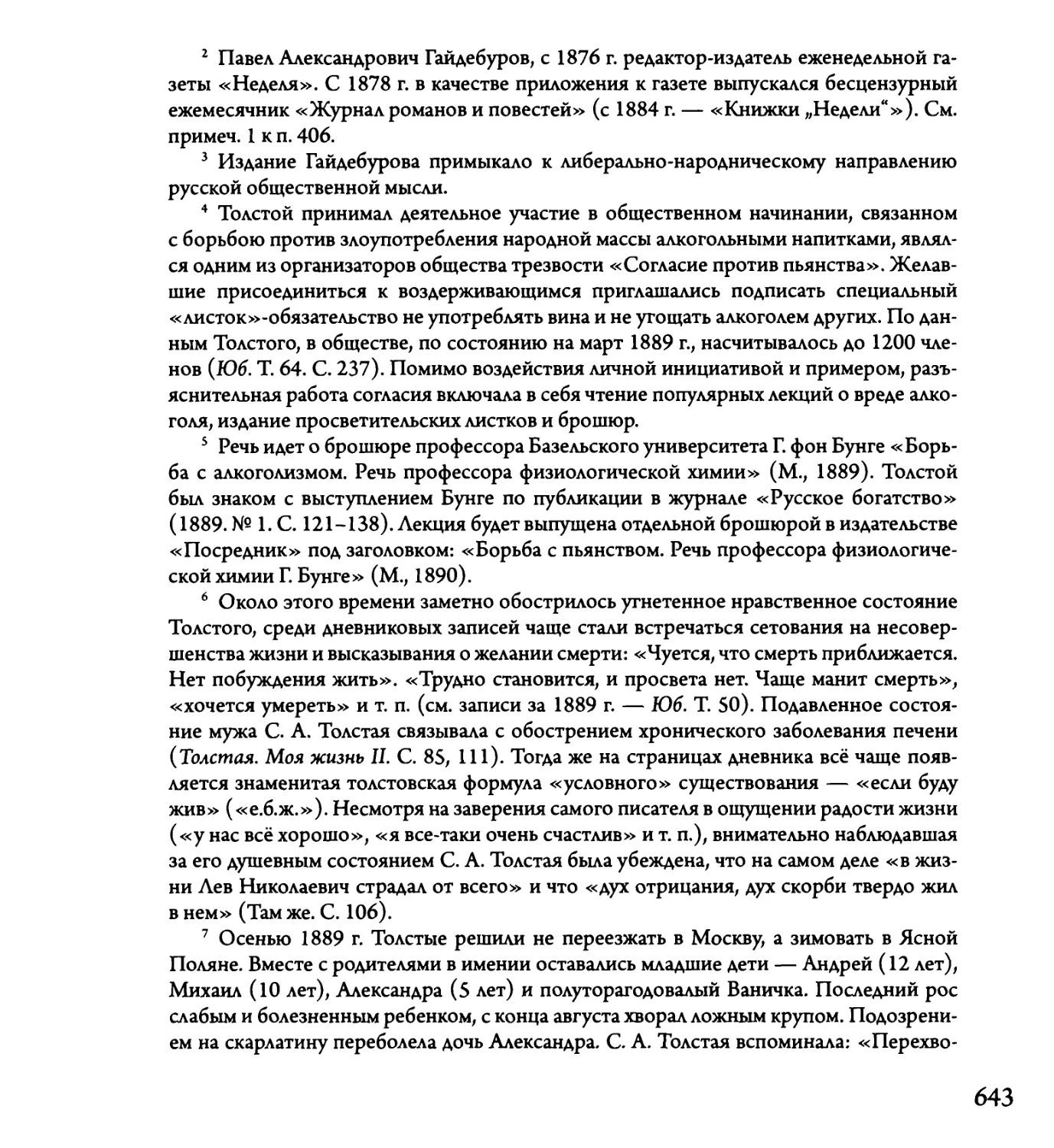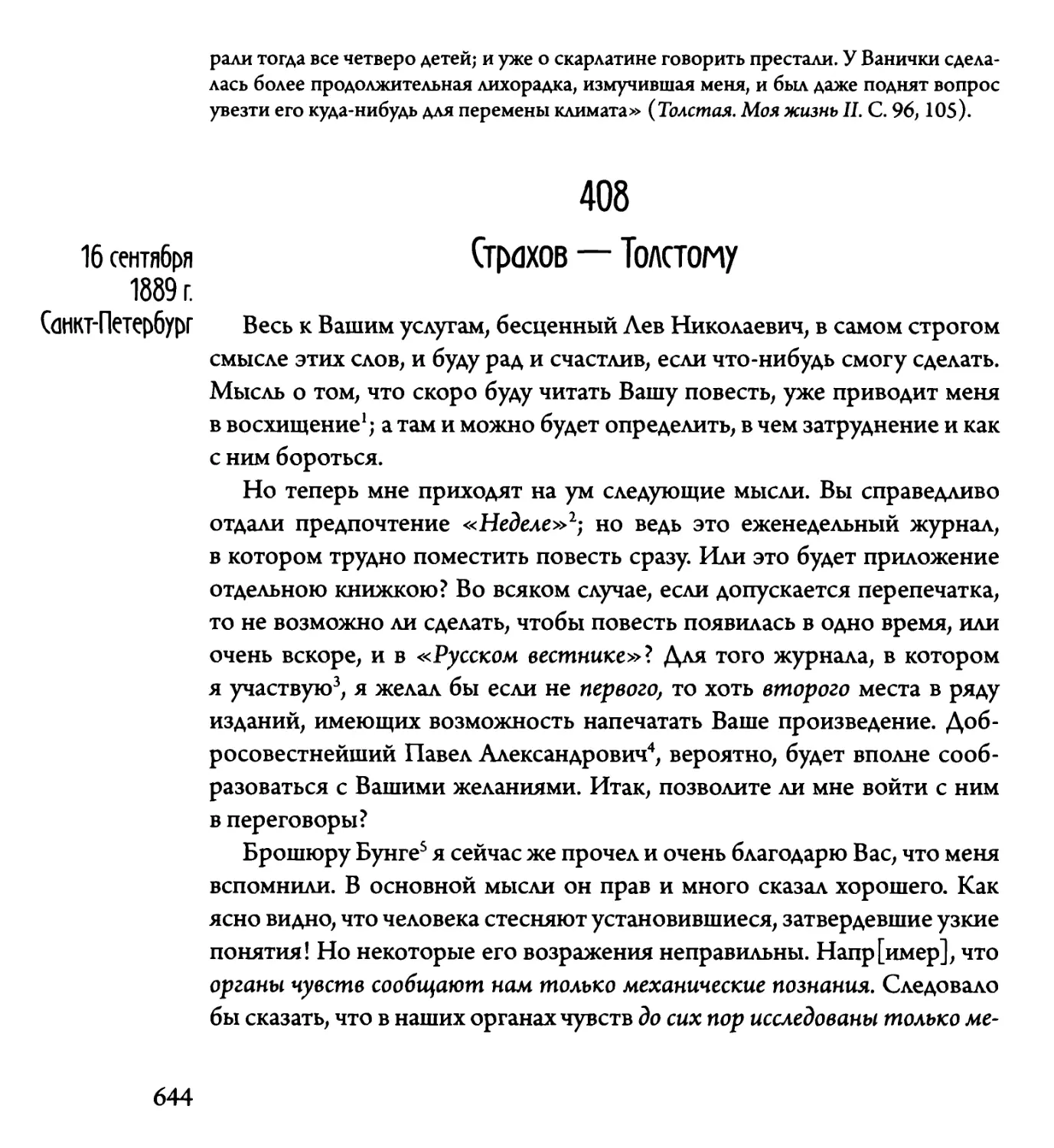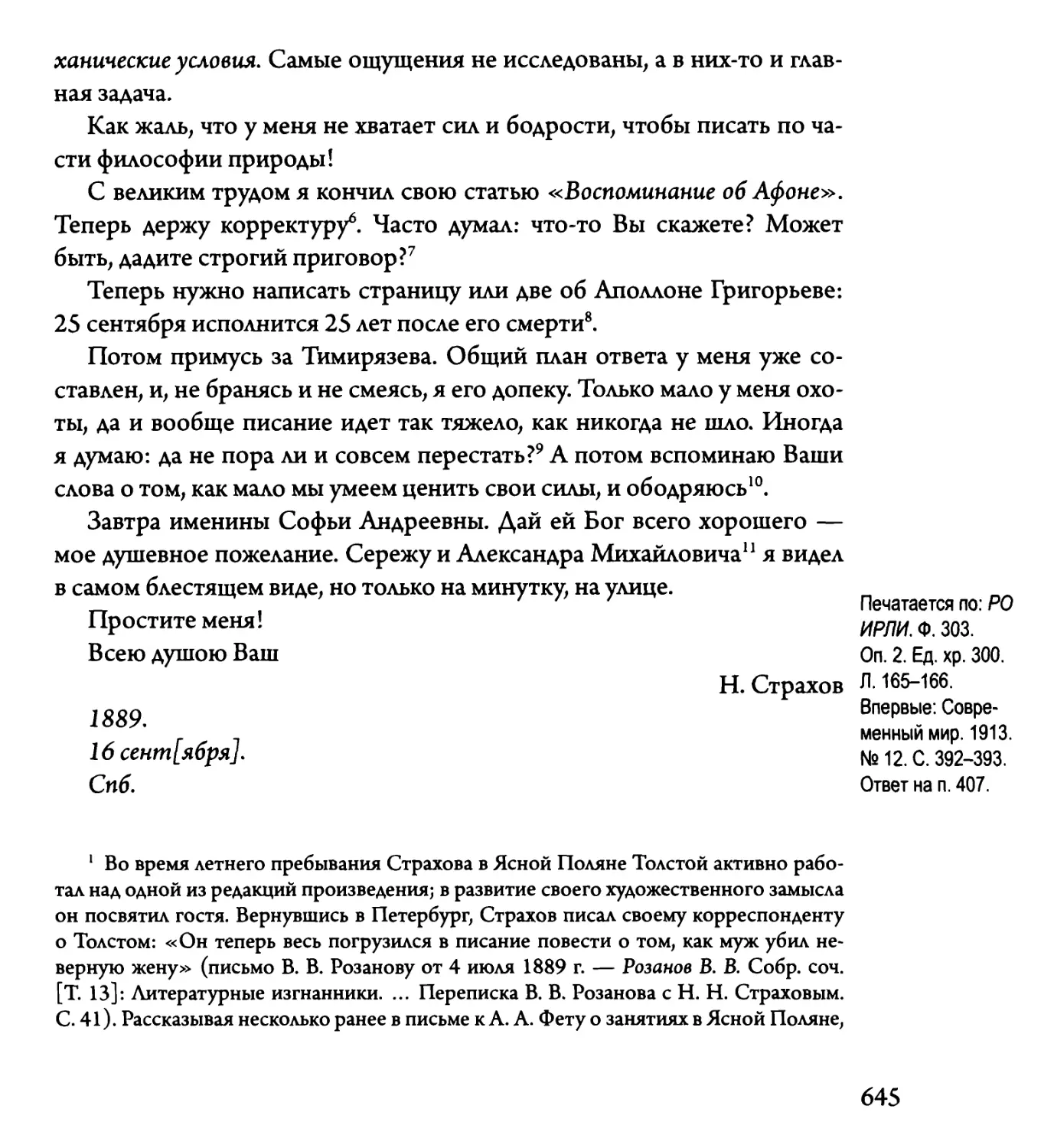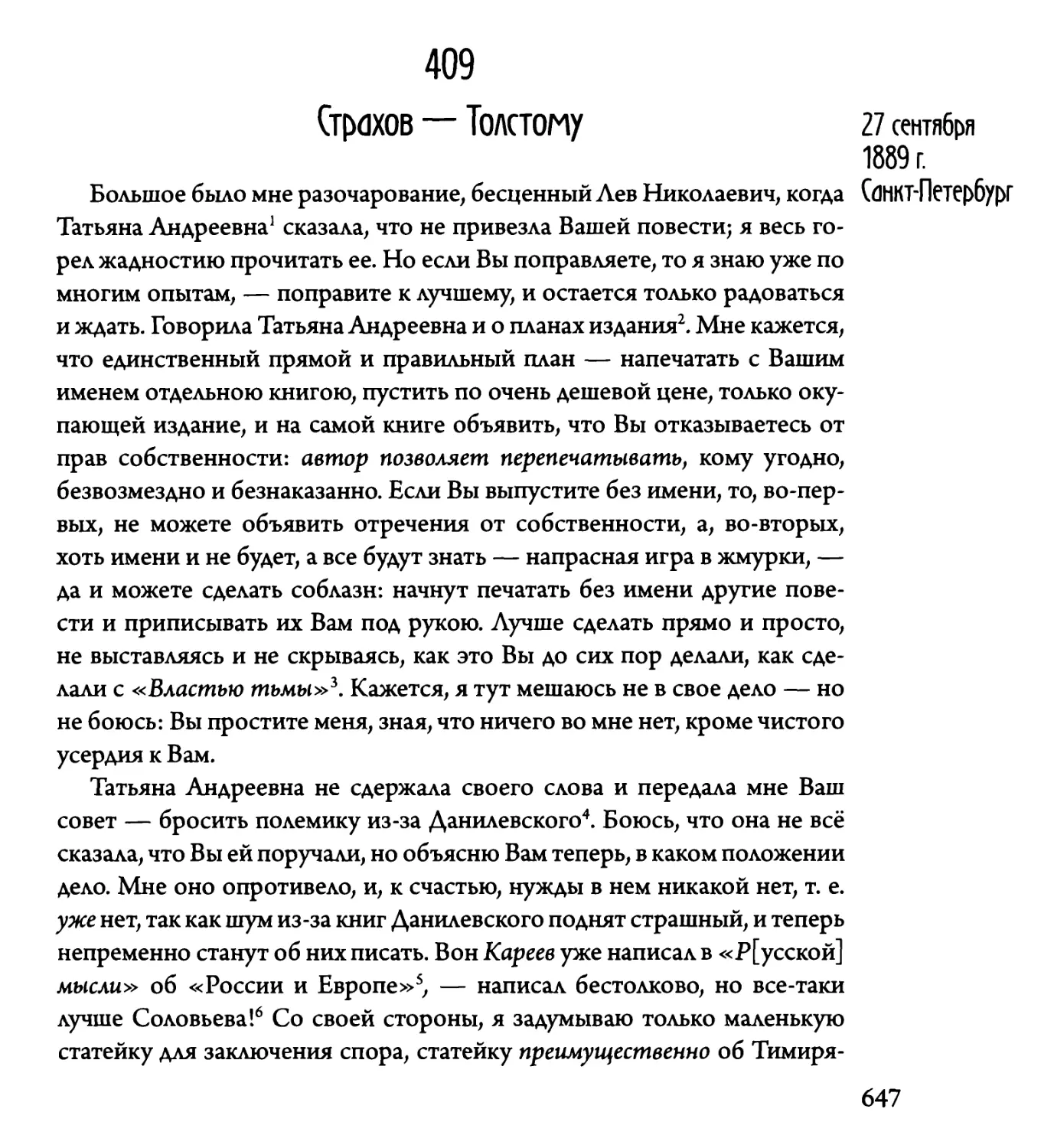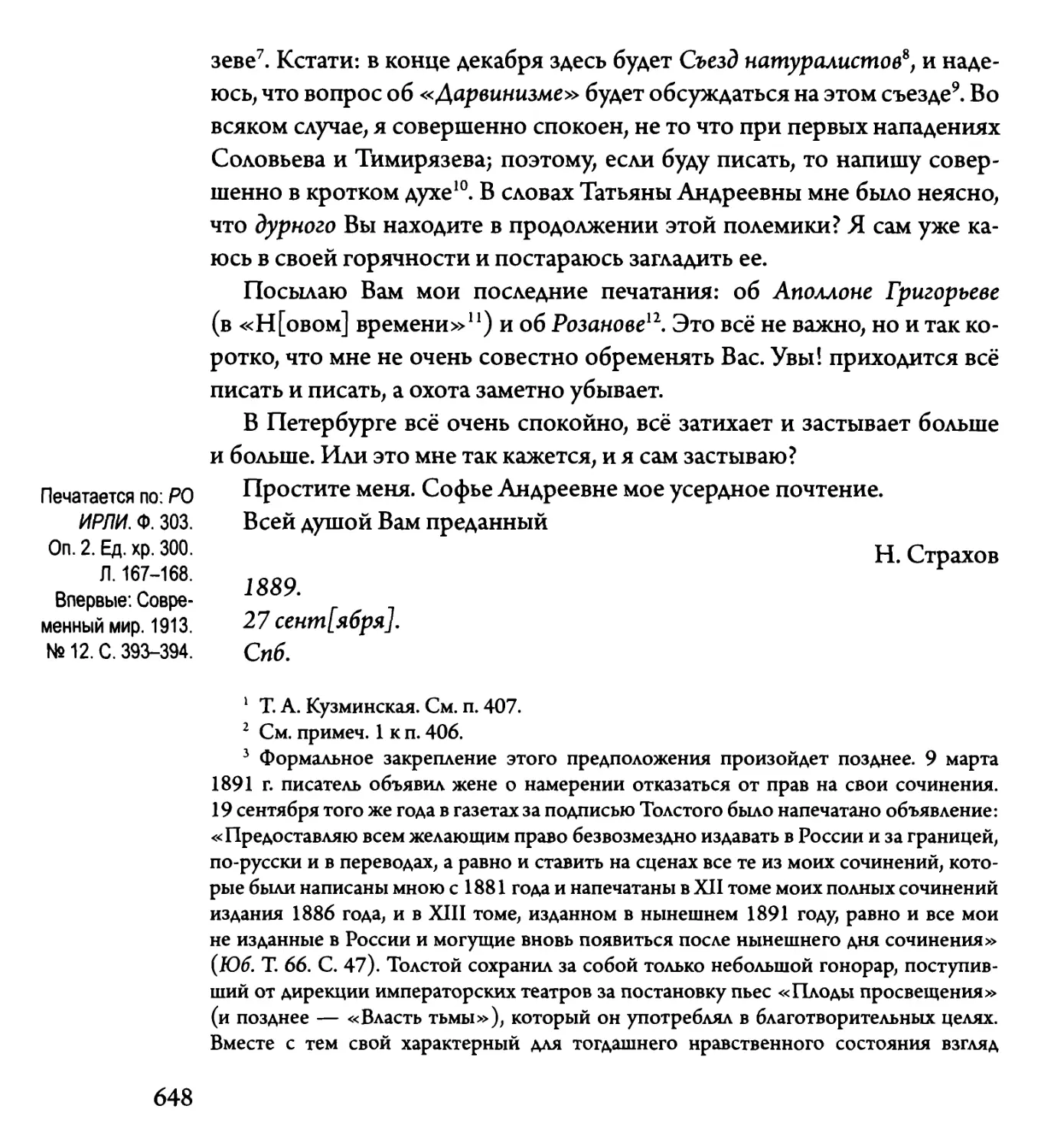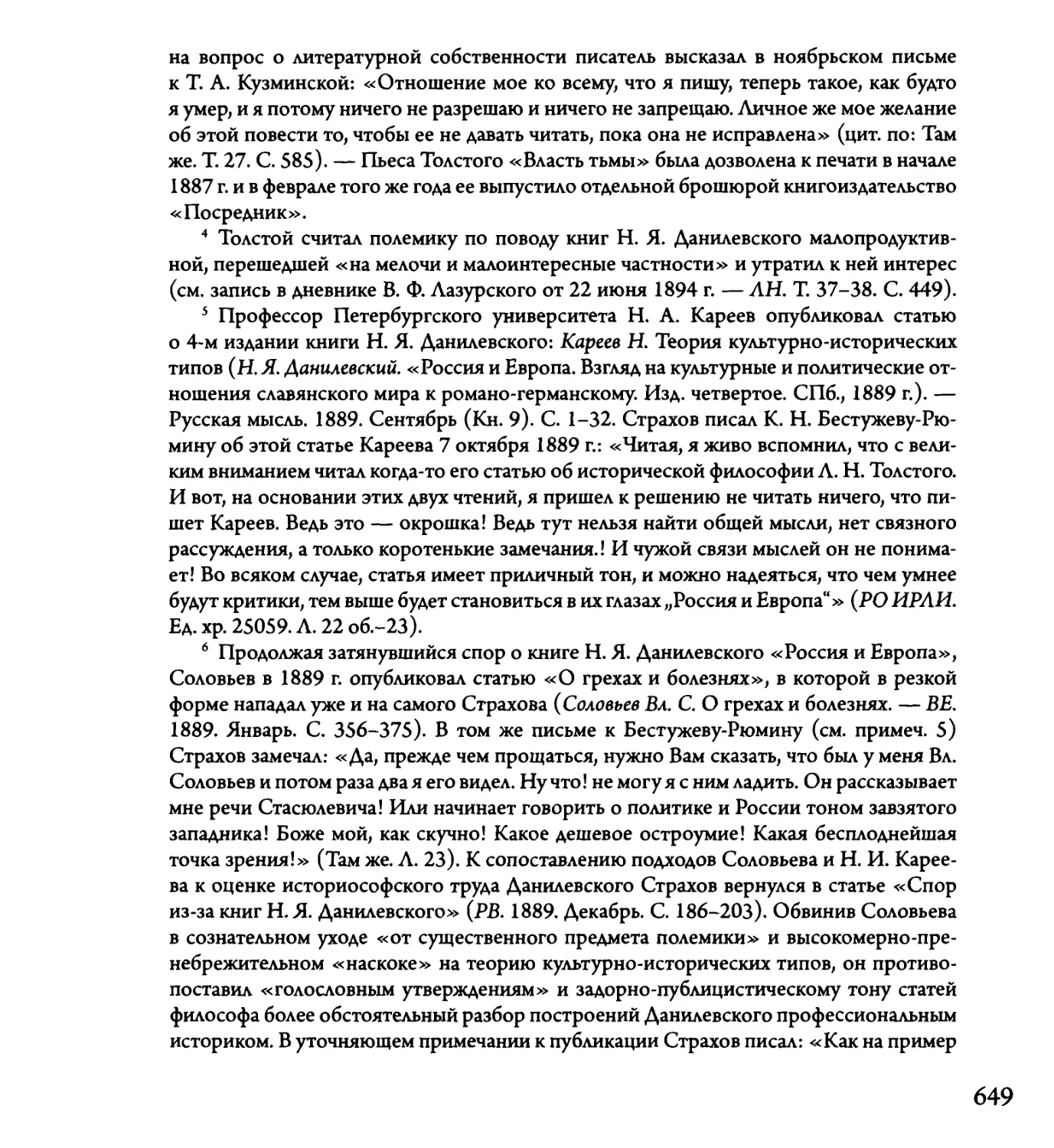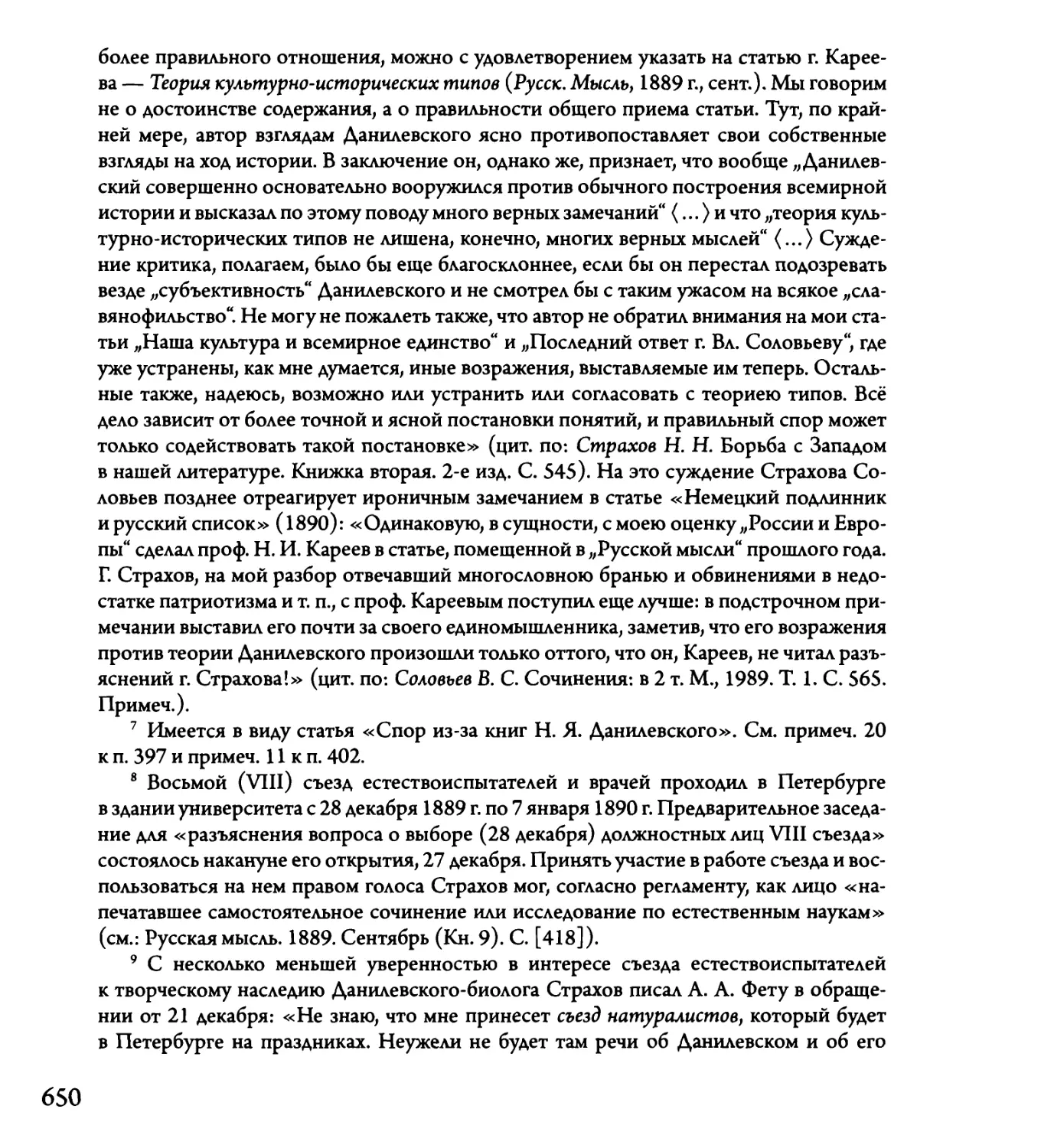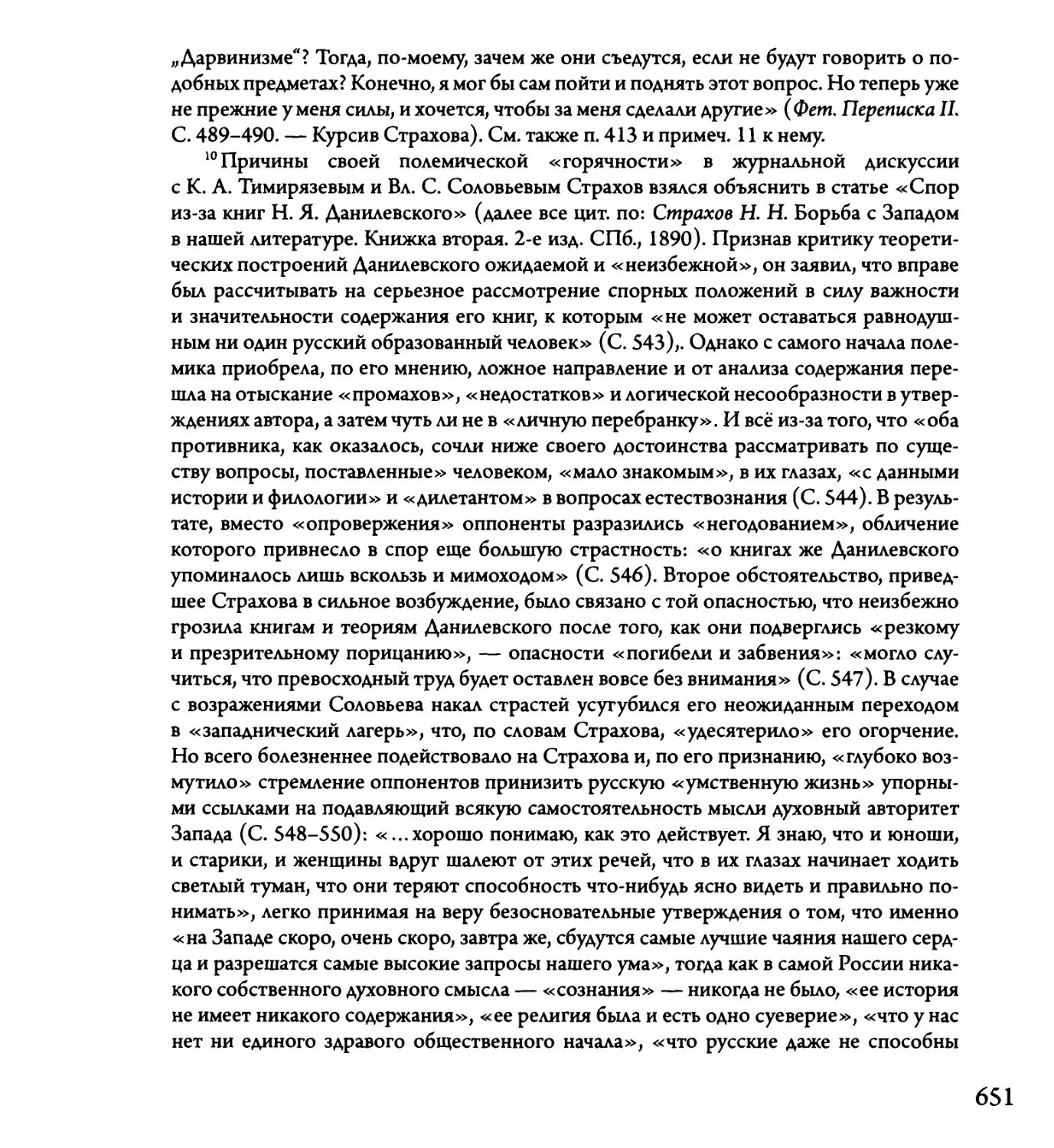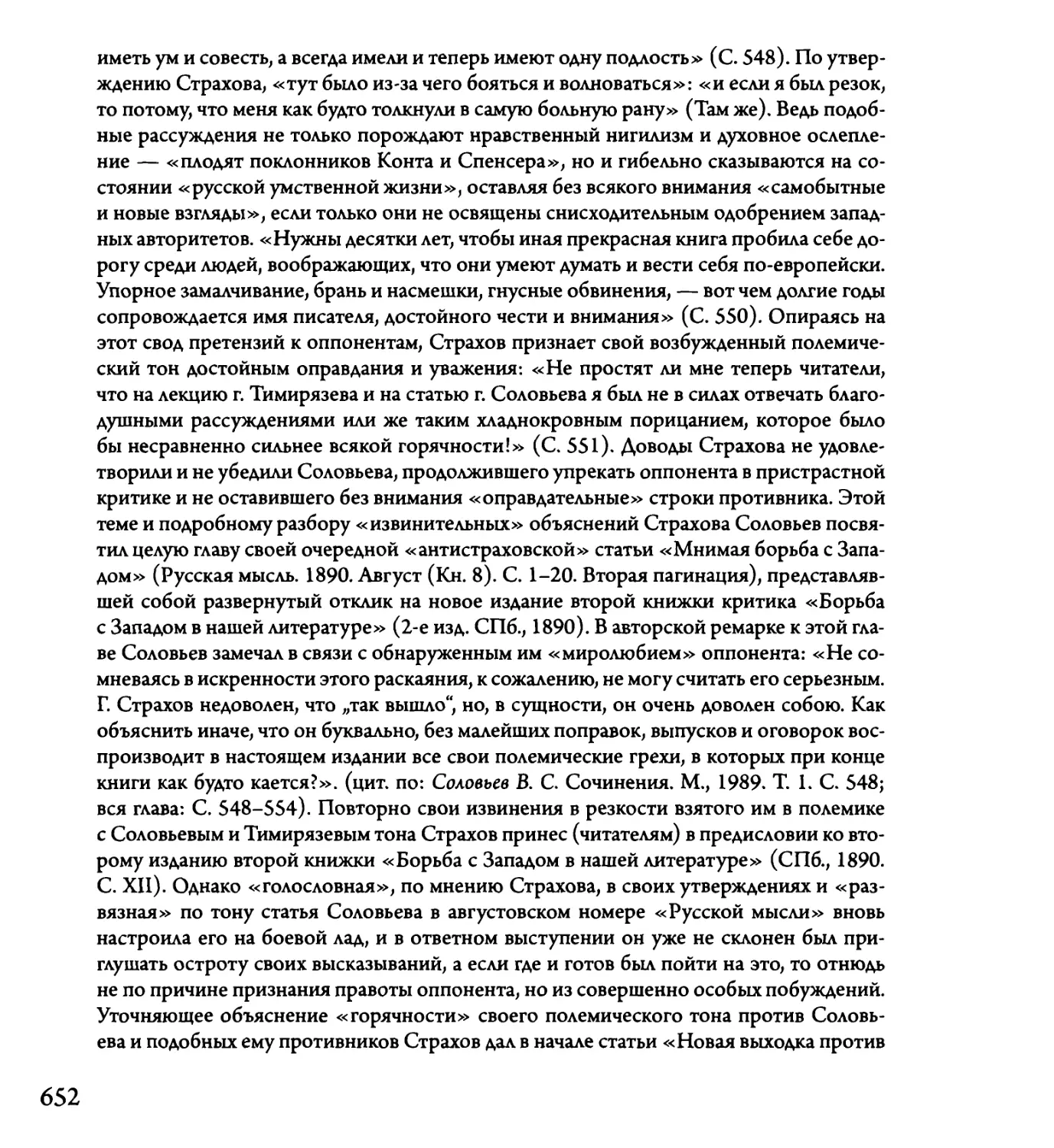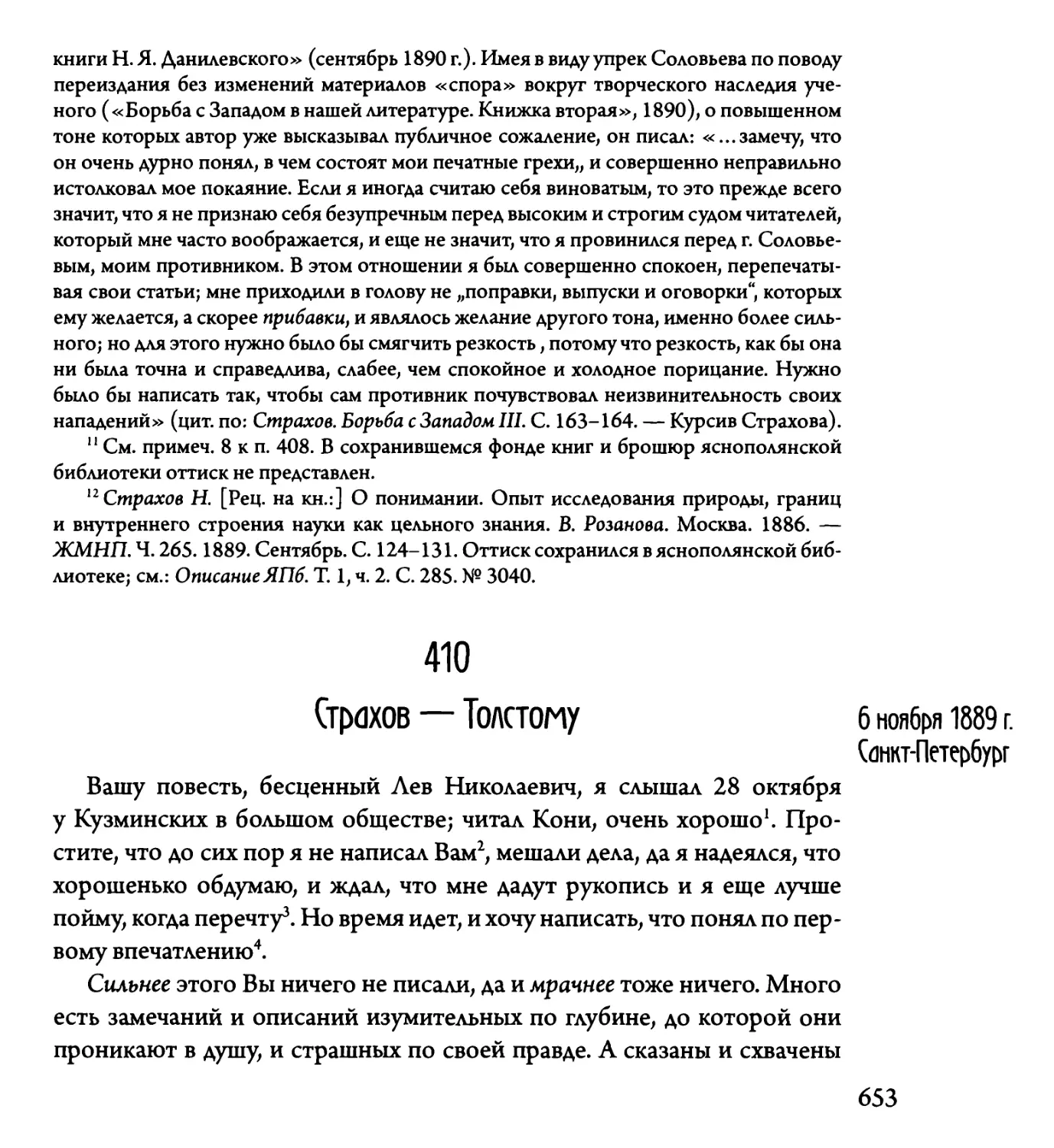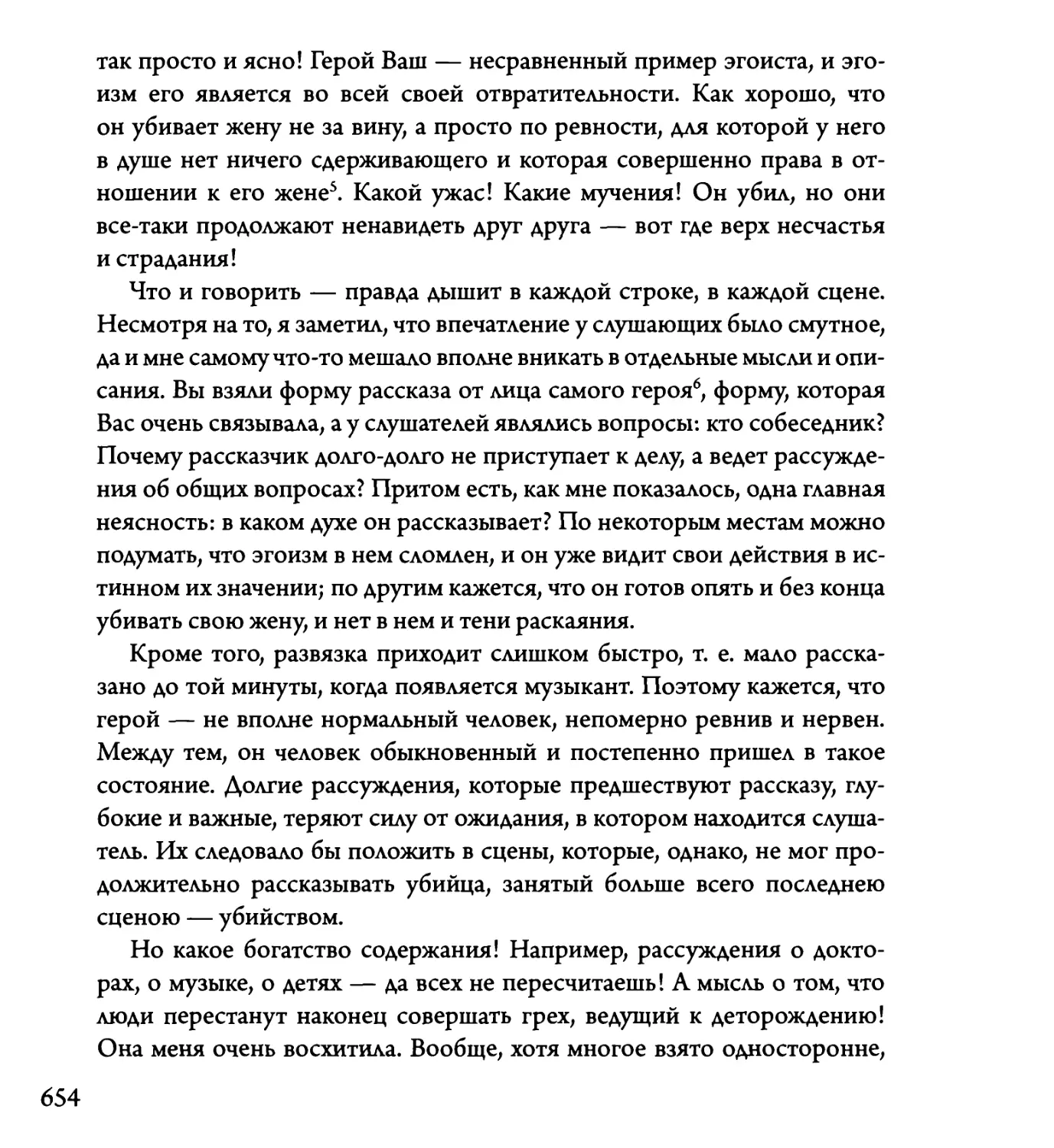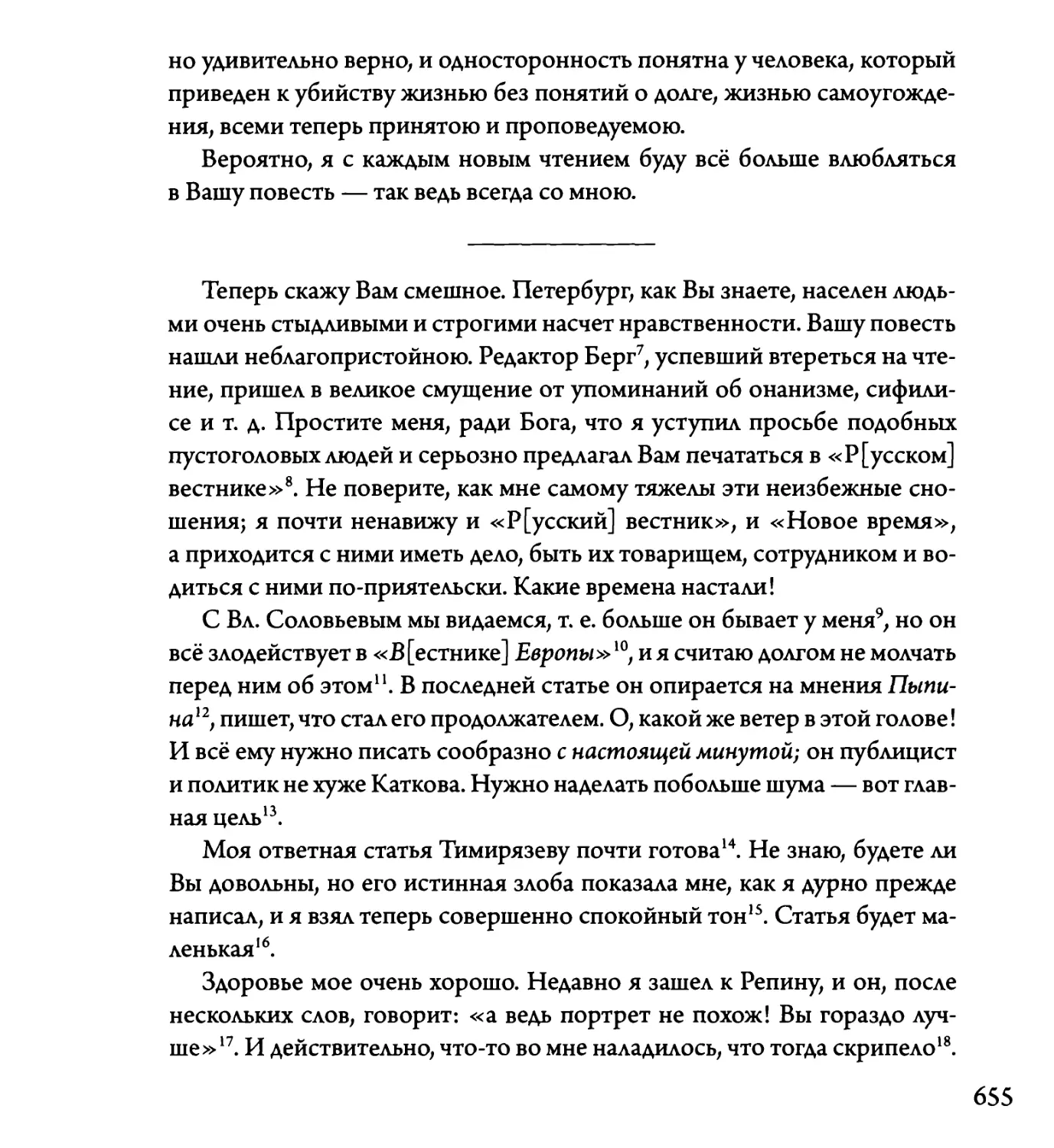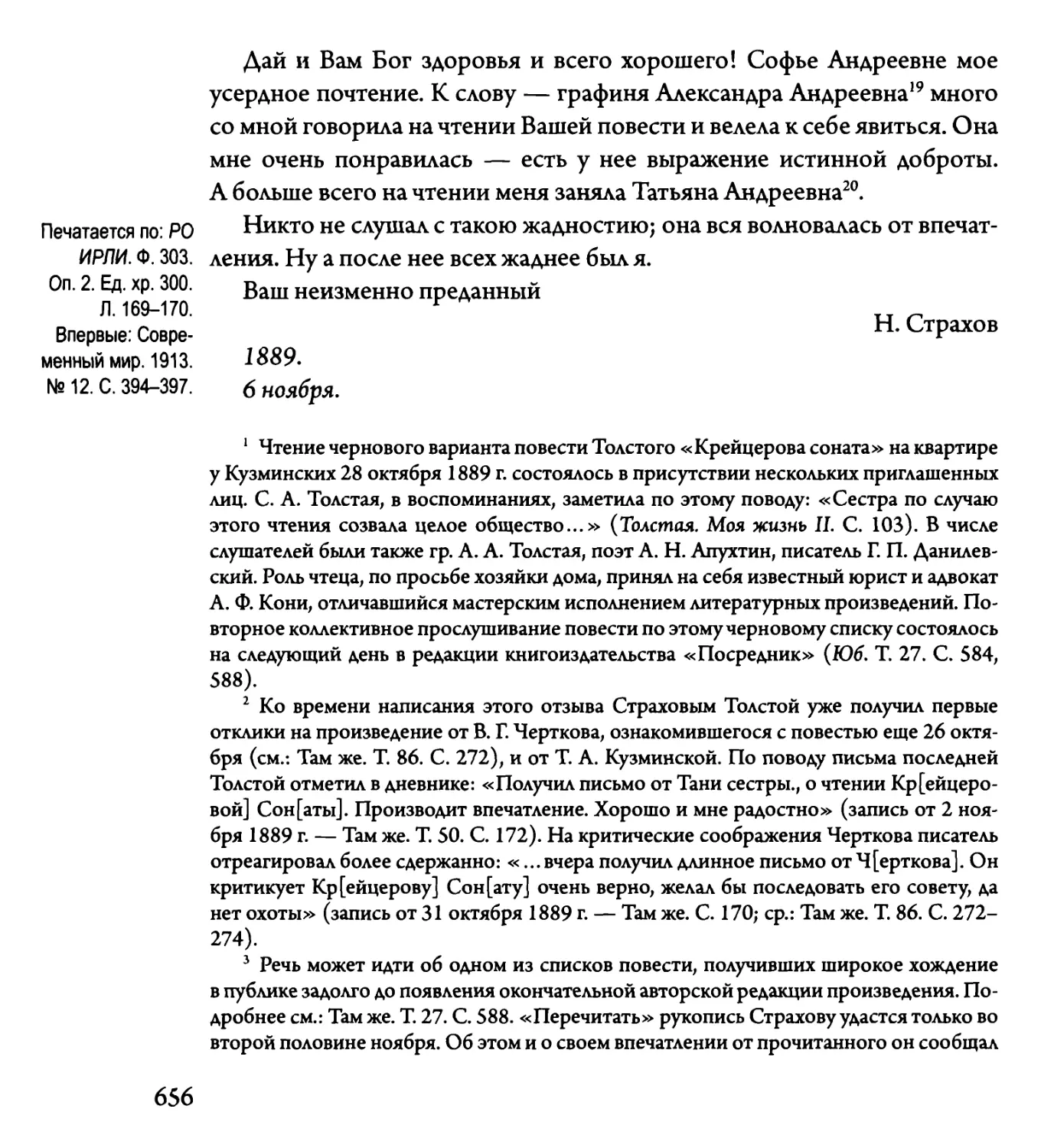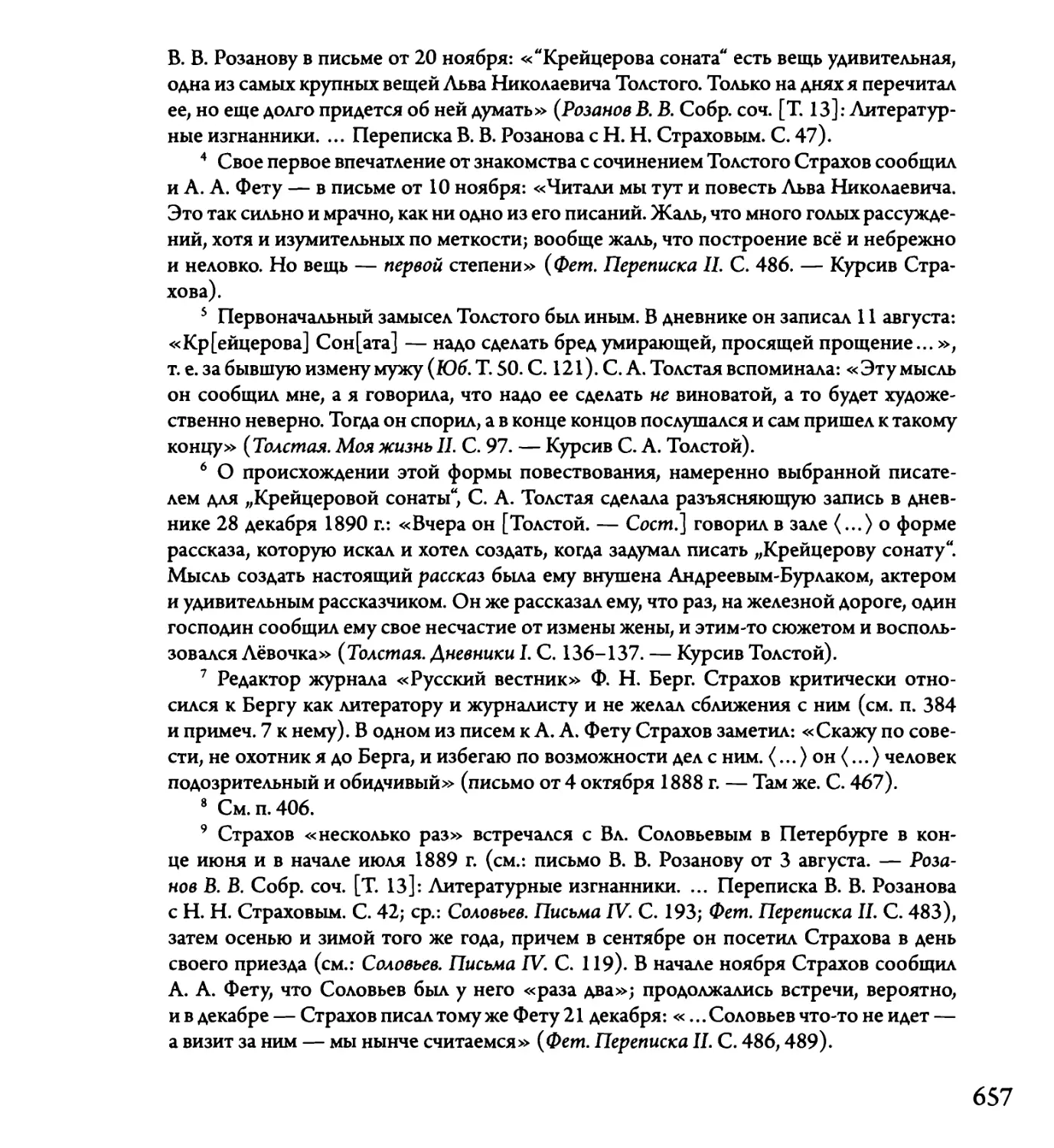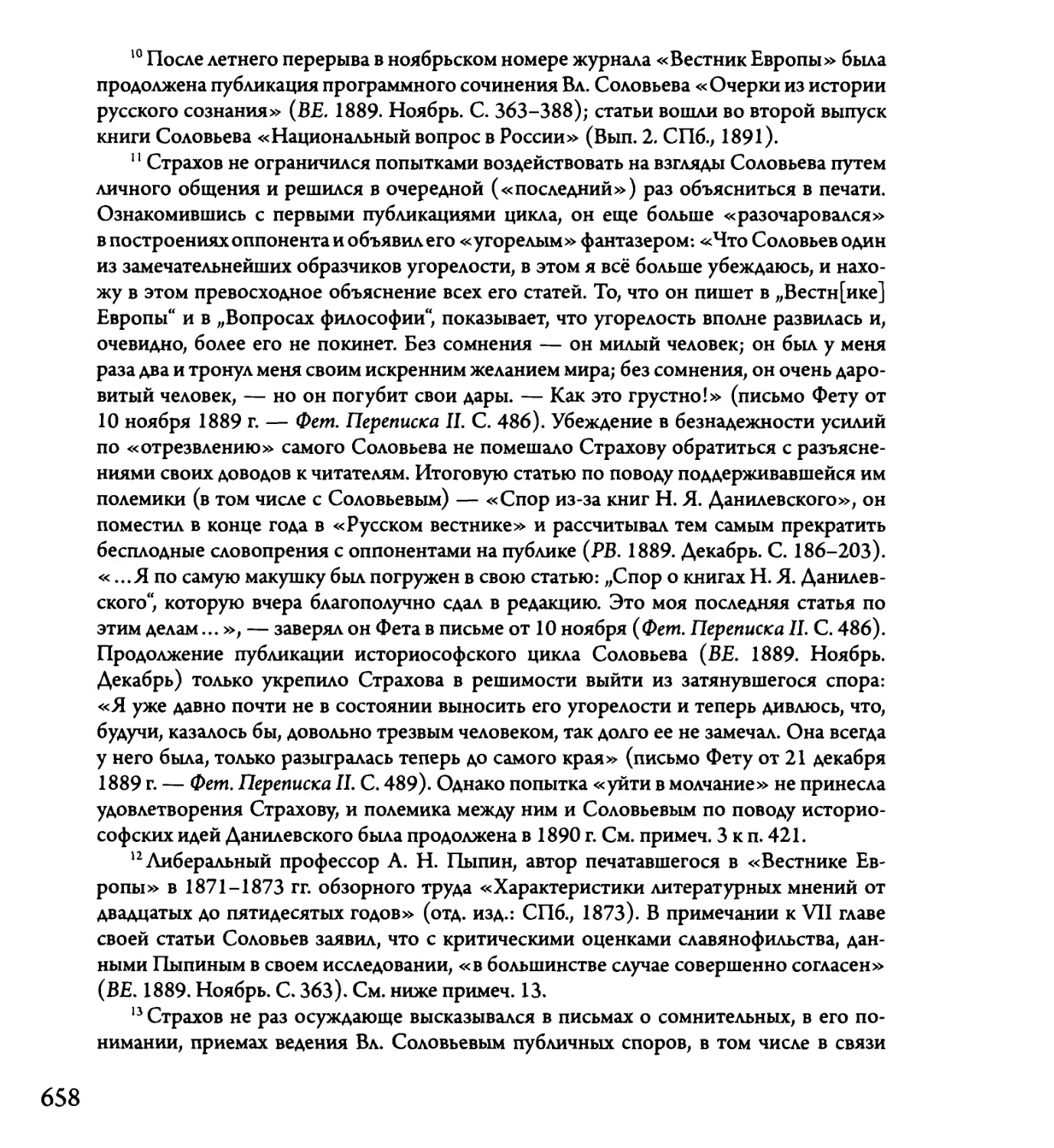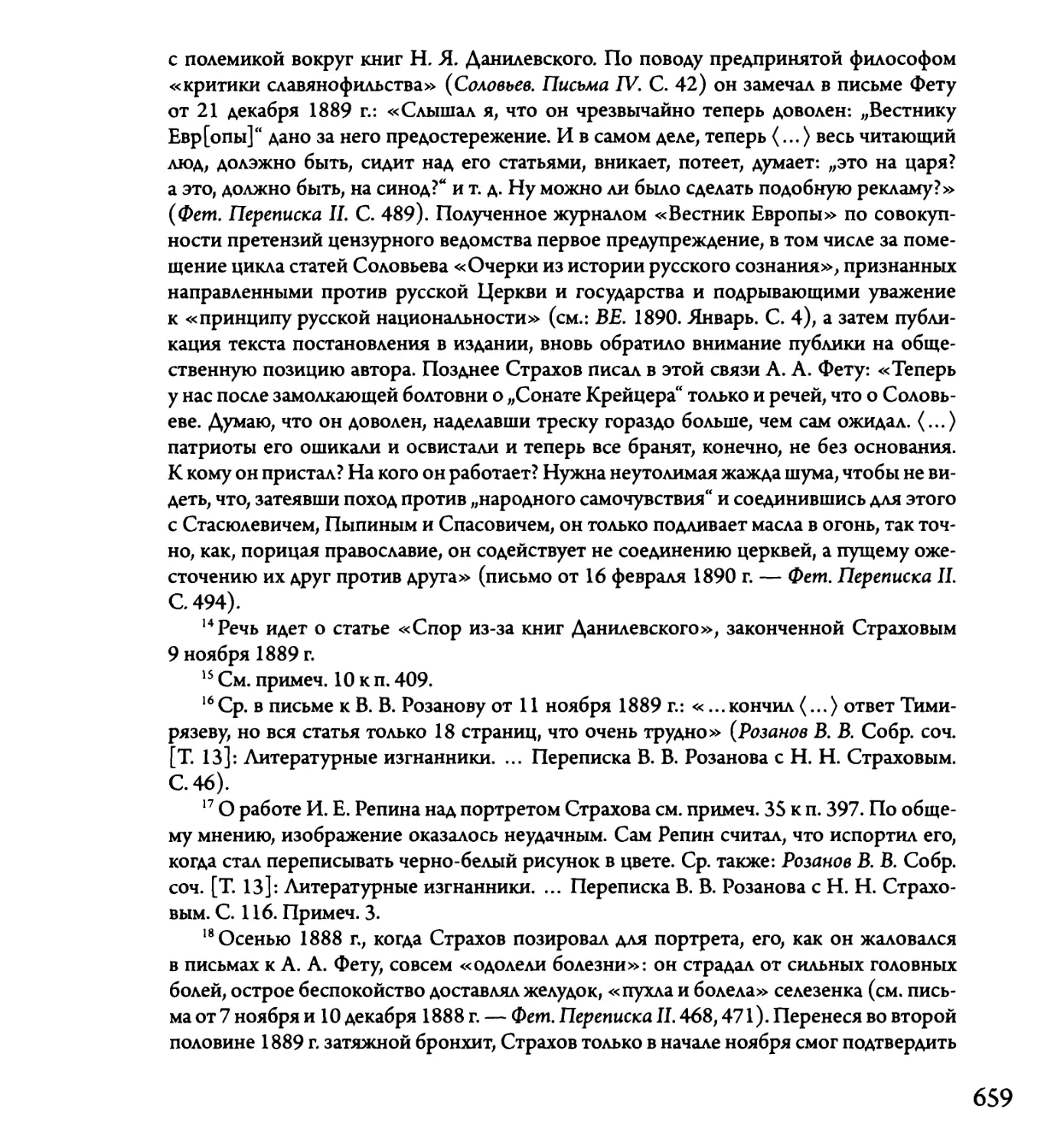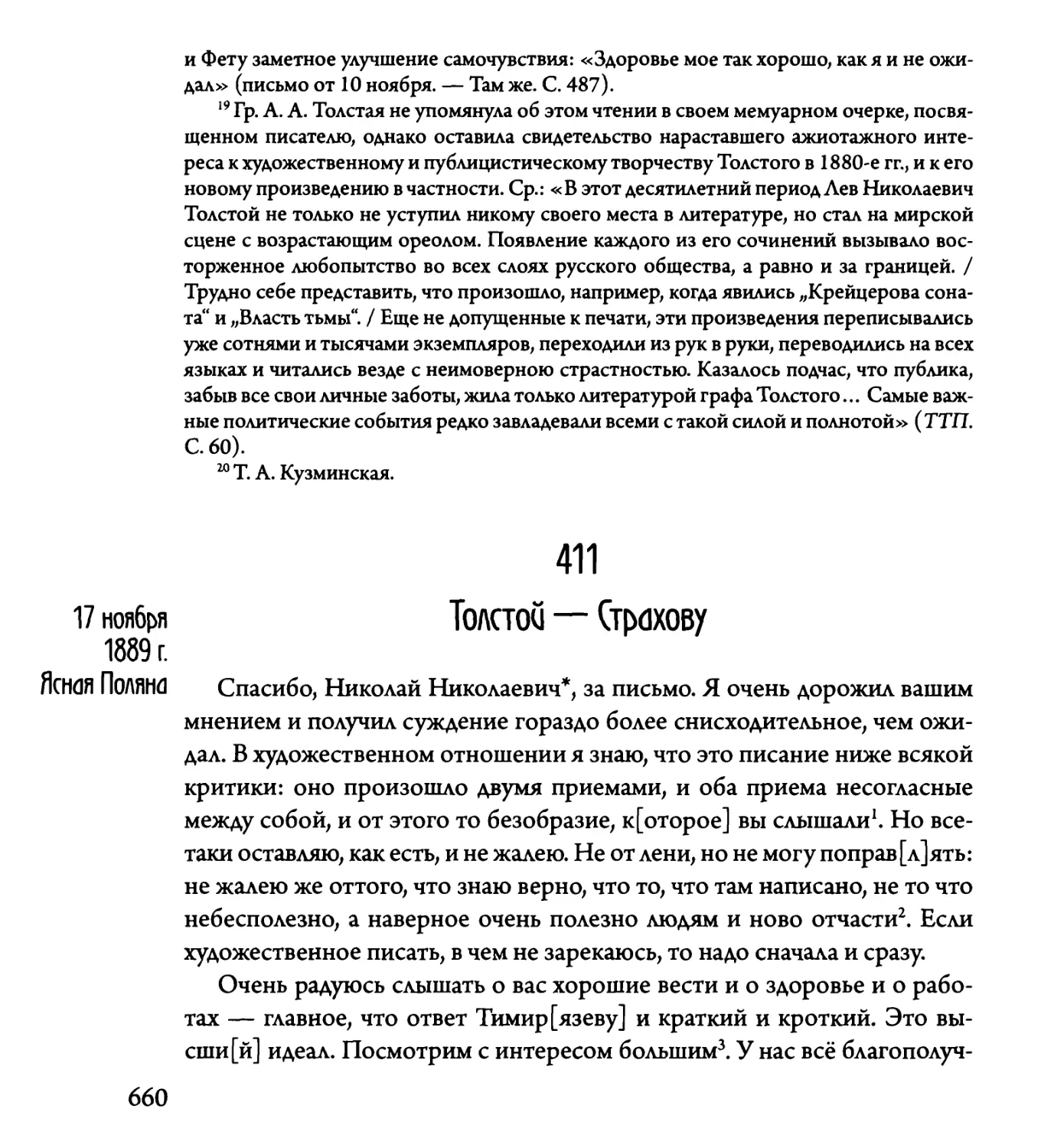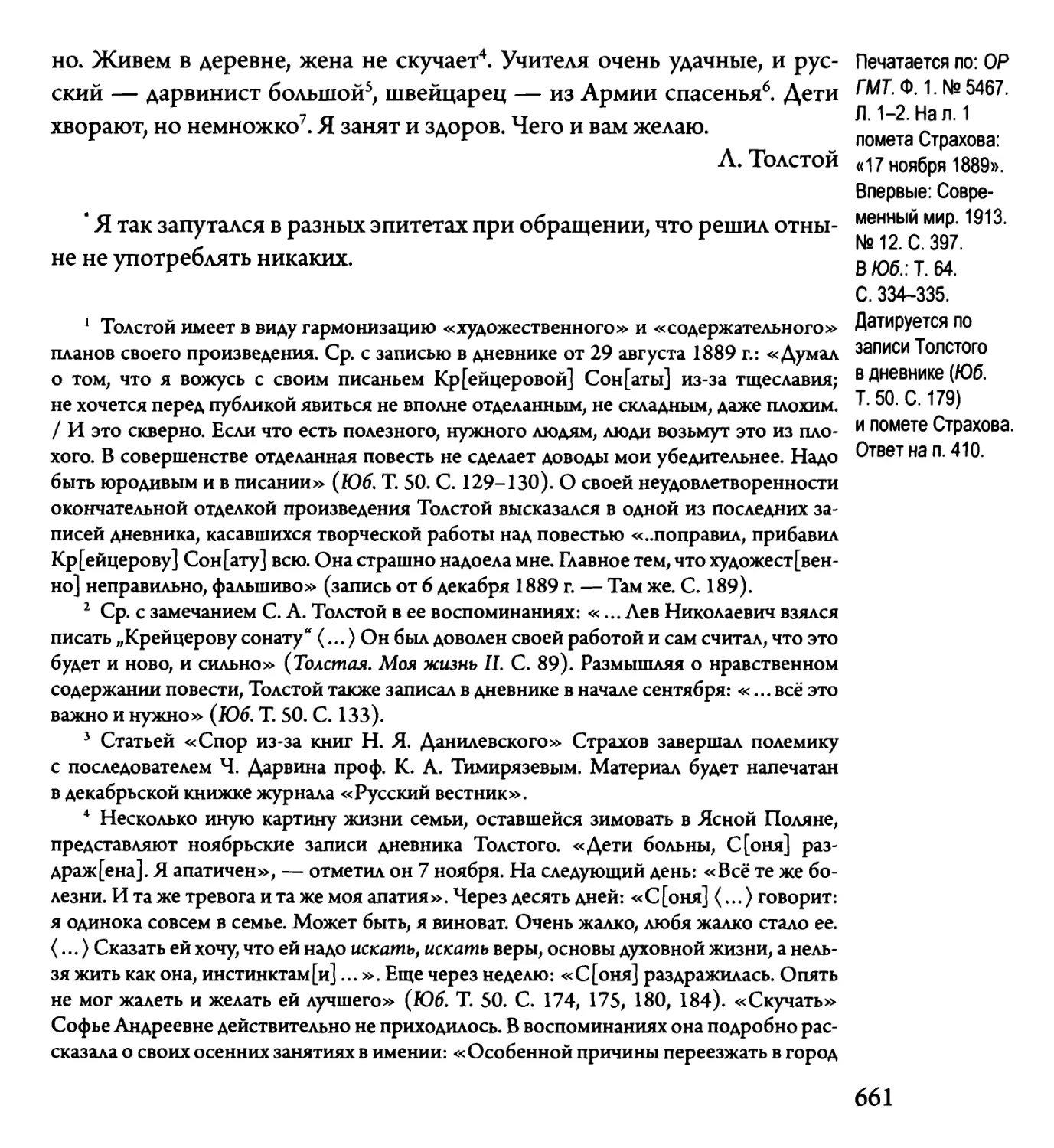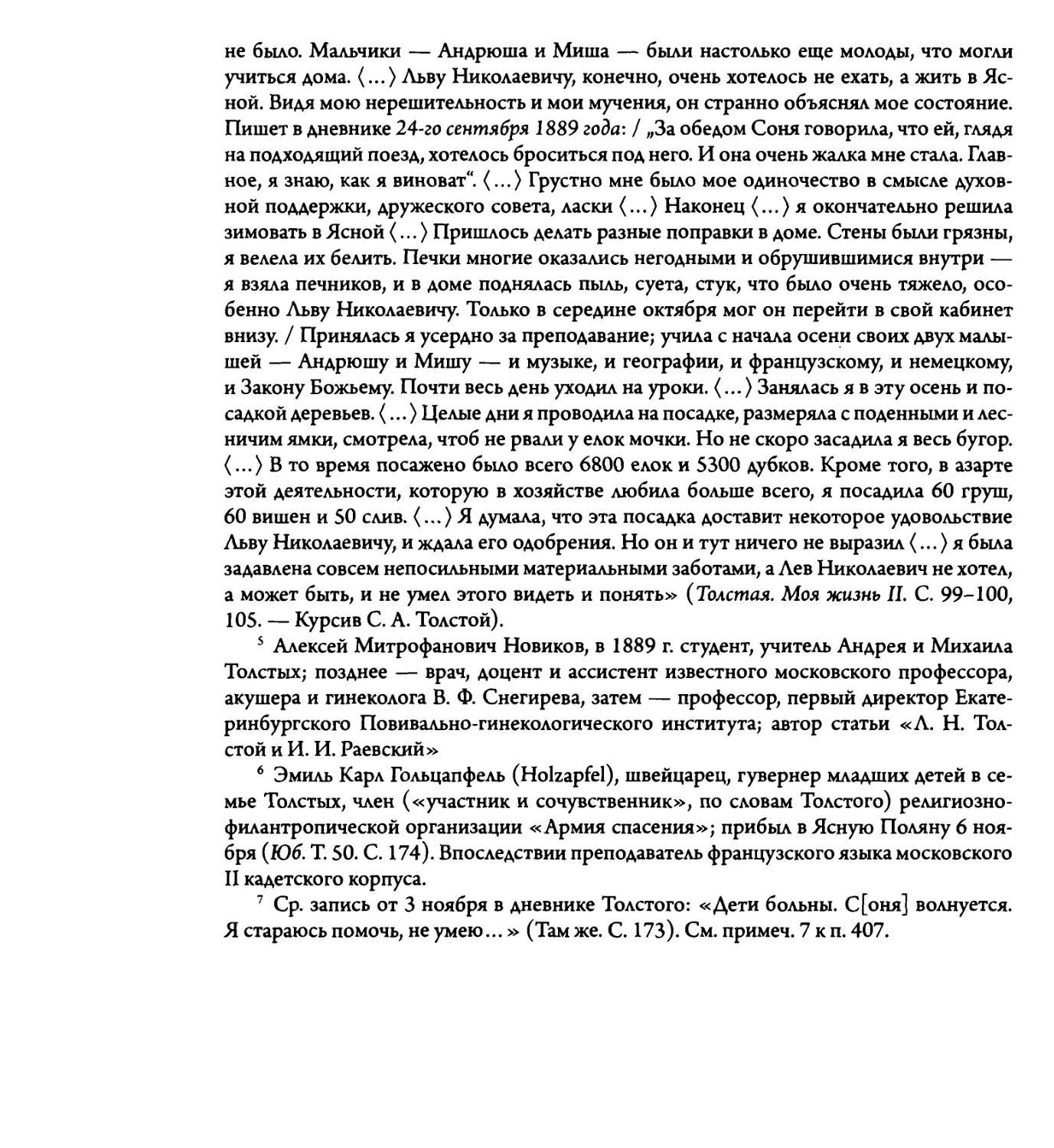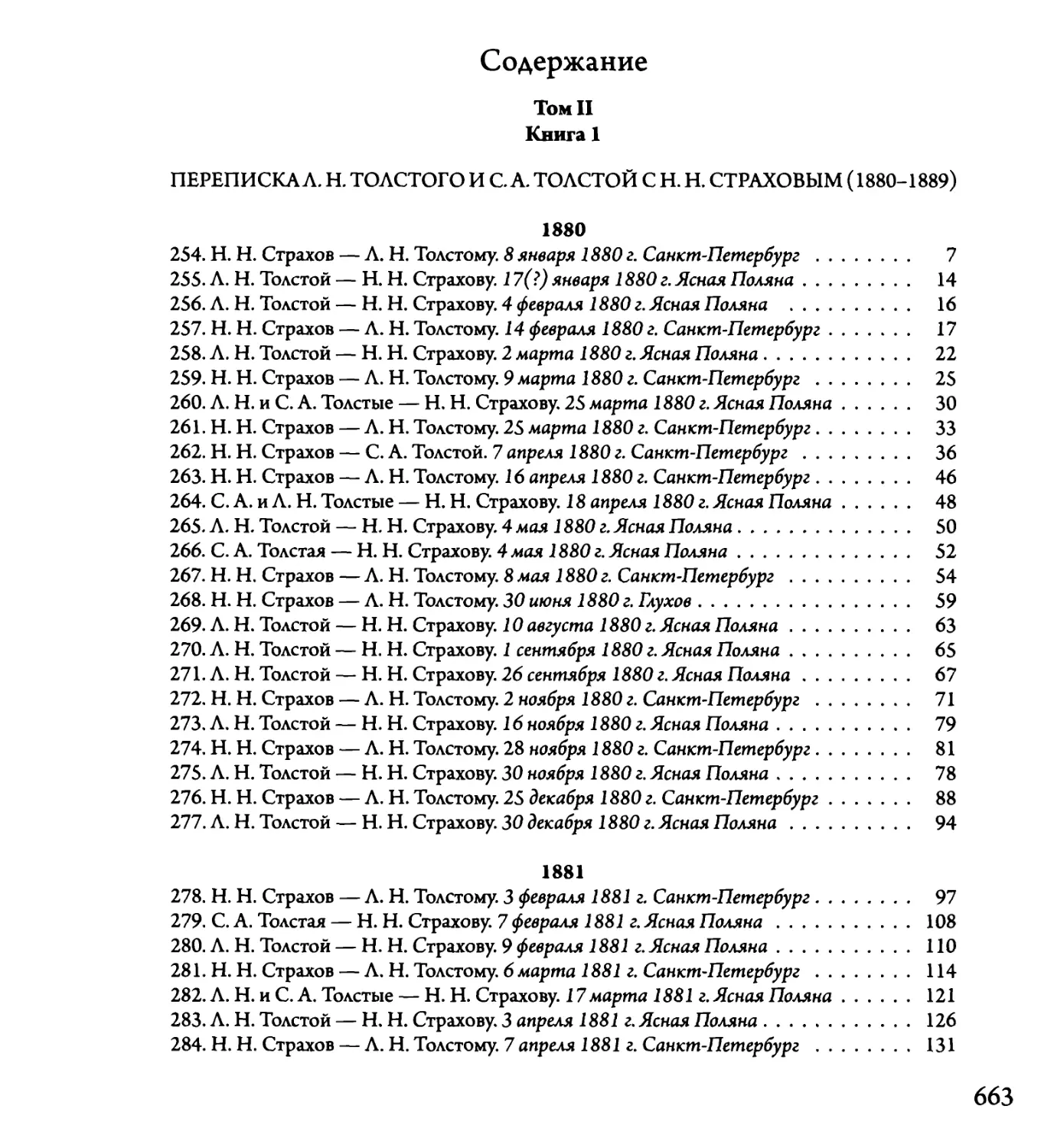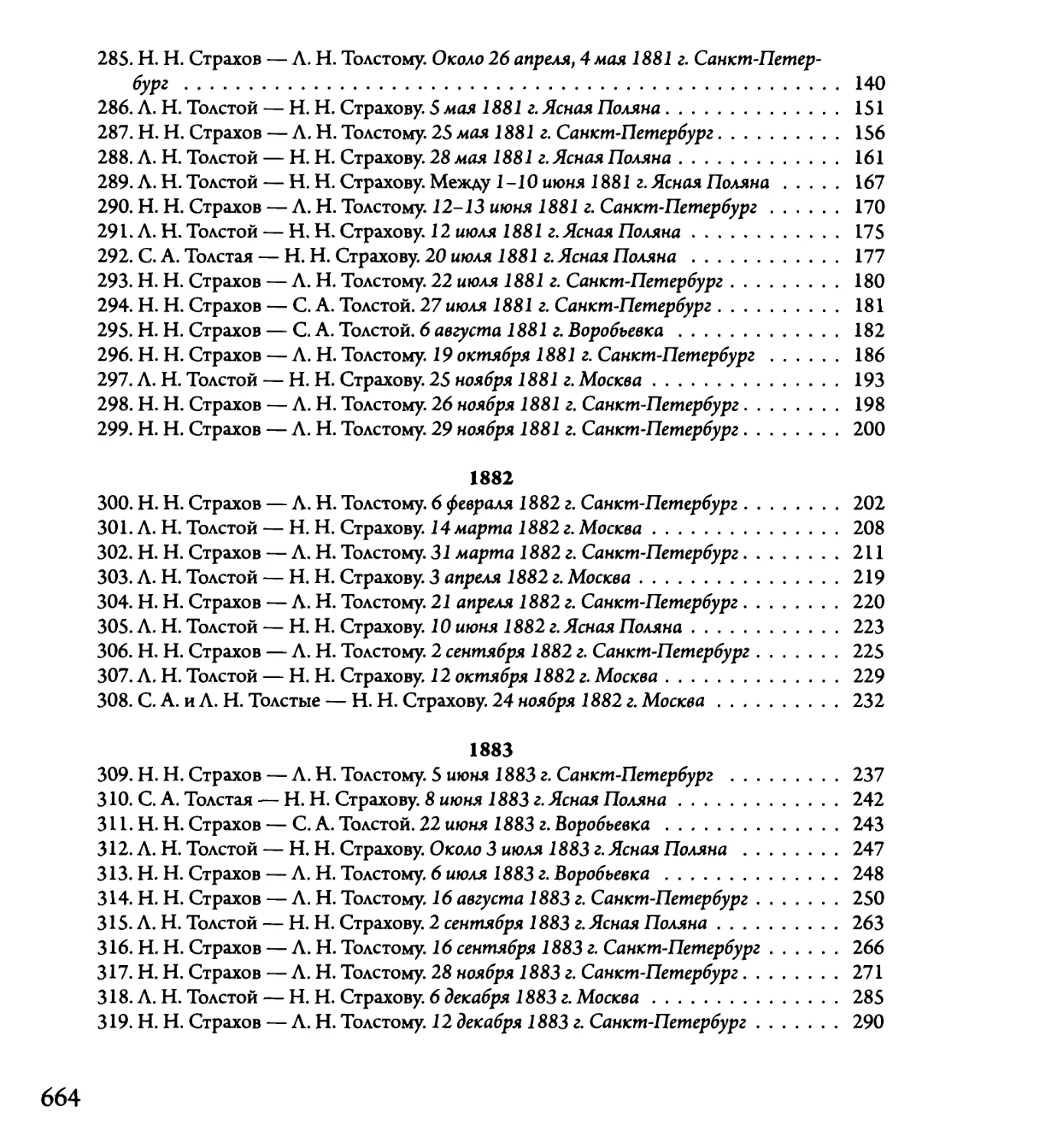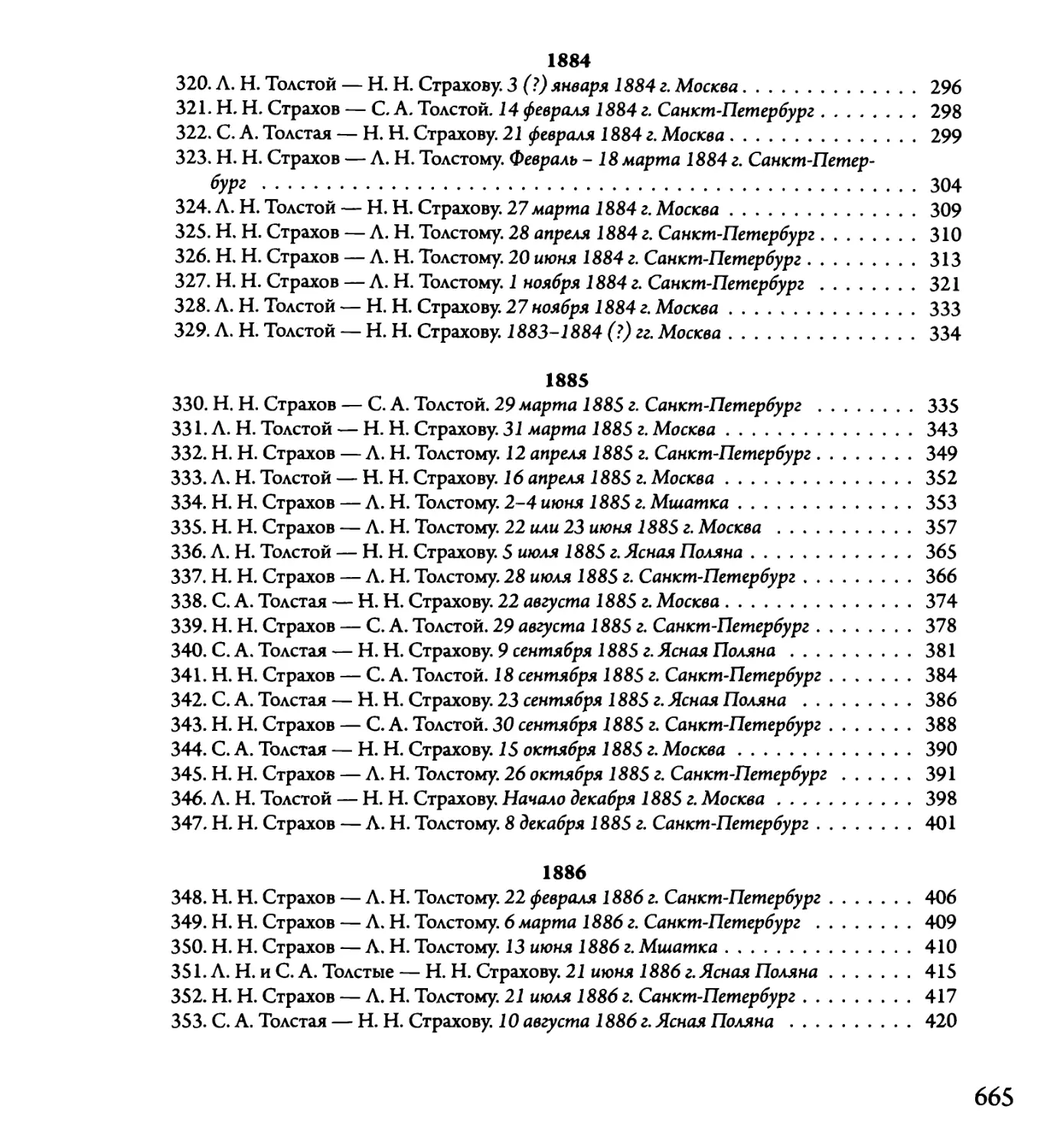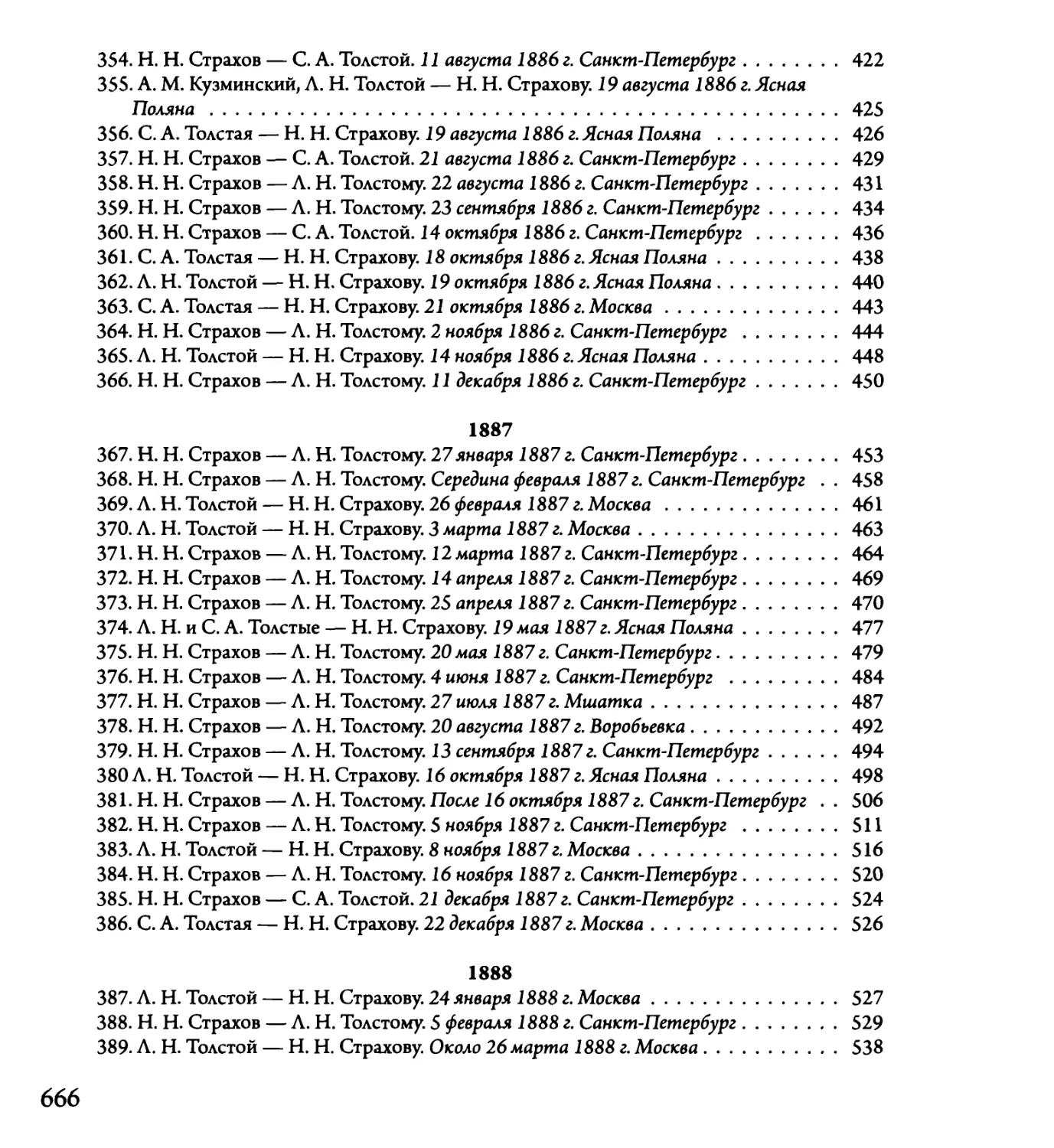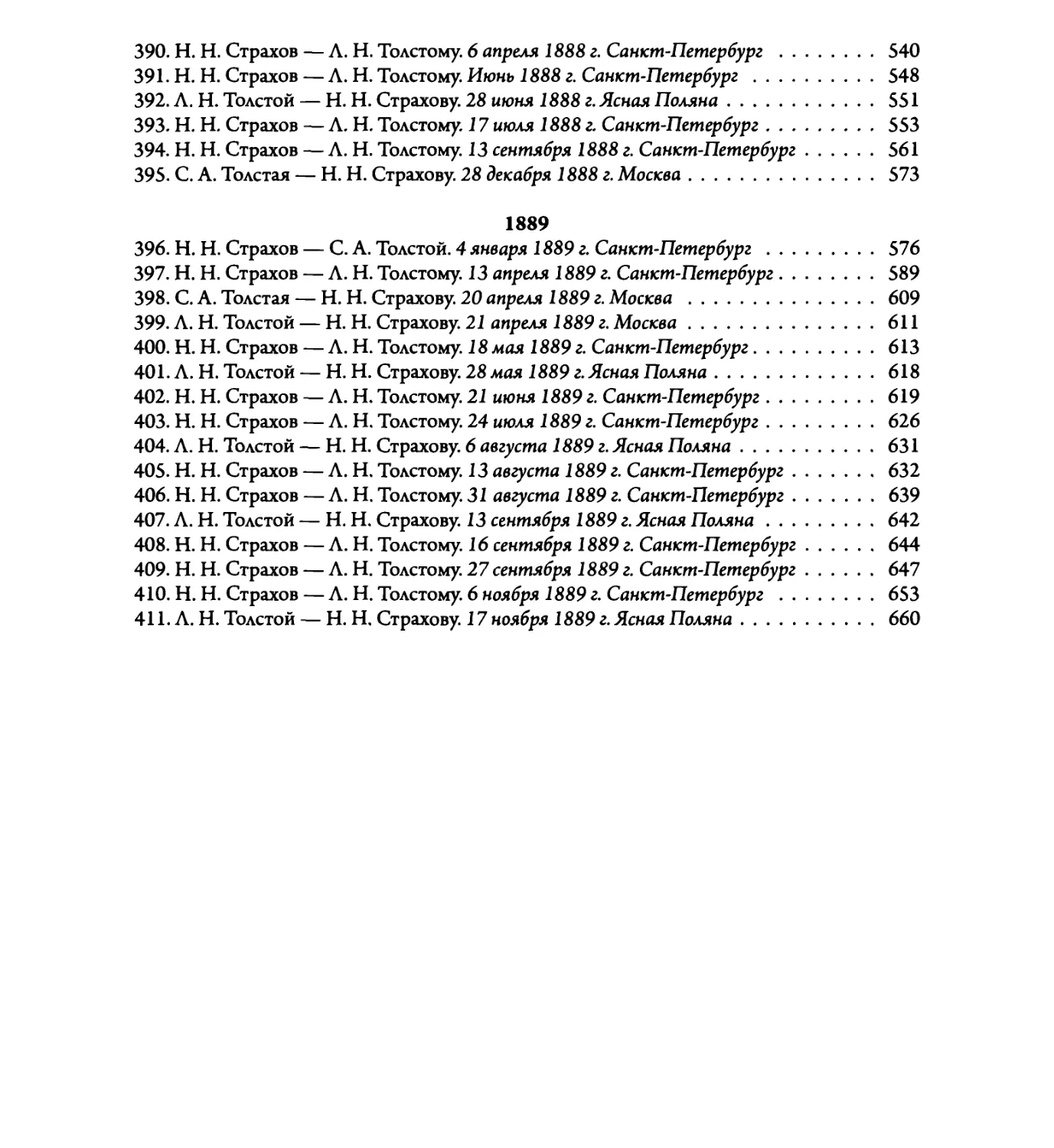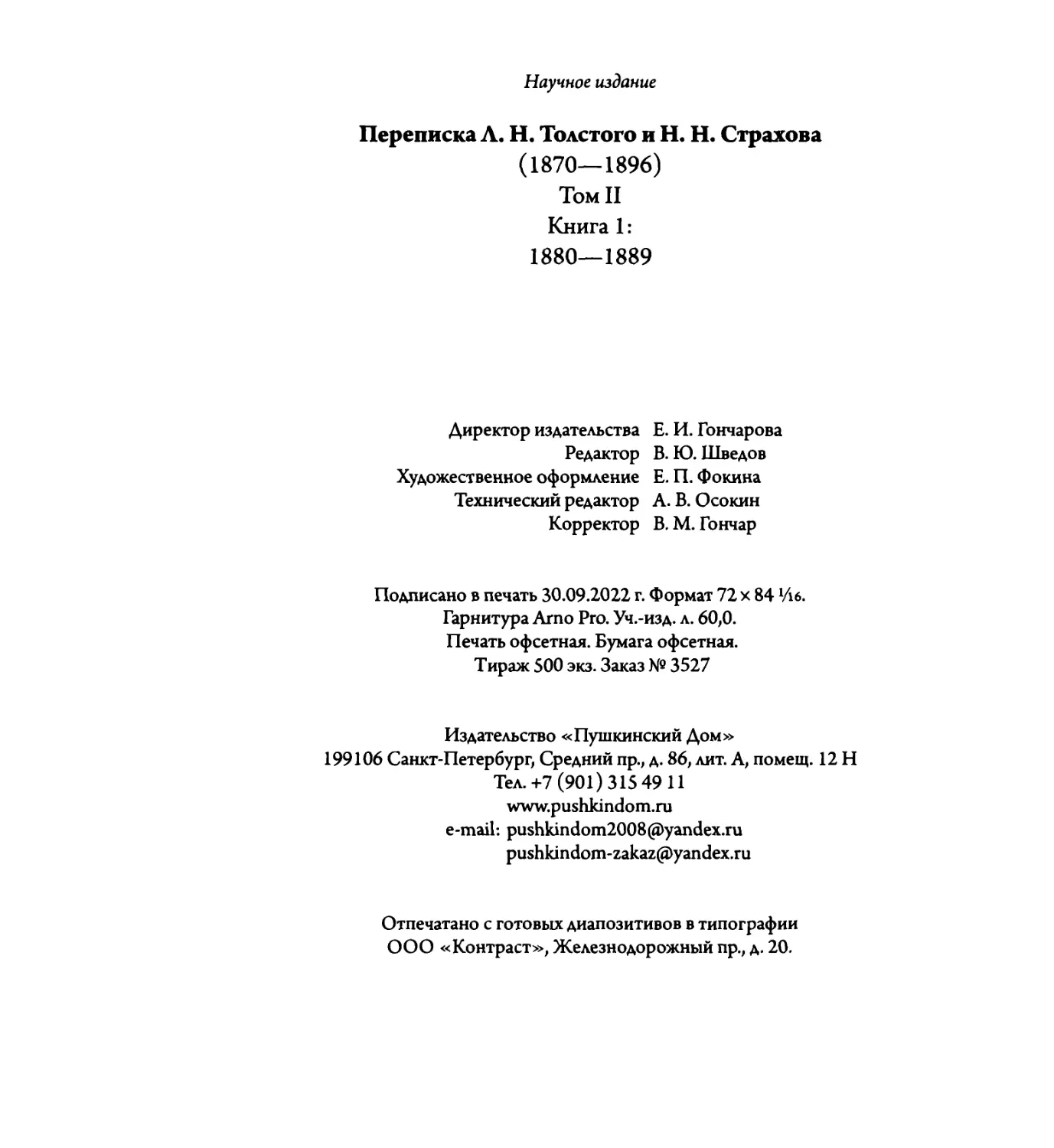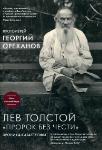Author: Фатеев В.А. Калюжная Л.В. Никифорова Т.Г. Шведов В.Ю.
Tags: русская литература переписка лев толстой
ISBN: 978-5-91476-095-0
Year: 2023
Text
Переписке!
Л. Н. Толстого и Н. Н. Страхова (1870-1896)
В двух томах
Издательство «Пушкинский Дом» Санкт-Петербург 2023
Издание подготовили: Л. В. Гладкова, Т. Г. Никифорова, В. А. Фатеев, В. Ю. Шведов
Том II
Книга 1: 1880-1889
РУССКИЕ ■ БЕСЕДЫ
Переписка Л. H. Толстого и H. H. Страхова (1870—1896) : в 2 т. /
' сост., подгот. текстов и коммент. Л. В. Калюжная, Т. Г. Никифорова,
B. А. Фатеев, В. Ю. Шведов. — СПб. : Изд-во «Пушкинский Дом», 2023.
ISBN 978-5-91476-095-0
Т. 2, кн. 1 : 1880—1889. — 2023. — 668 с, [l] л. ил. (фронт.)
ISBN 978-5-91476-141-4
Второй том переписки Л. Н. Толстого и H. H. Страхова охватывает период с 1880 по
1896 г. и также дополнен корреспонденцией между Страховым и женой писателя
C. А. Толстой. Ввиду значительного объема публикуемого материала второй том
выходит в двух книгах. Первая книга содержит письма корреспондентов за 1880-1889 гг.
Принципы воспроизведения авторских текстов и подачи комментариев к ним остались
неизменными
Издание рассчитано на читателей, интересующихся историей русской
общественной мысли и литературы.
© Калюжная Л. В., Никифорова Т. Г.,
Фатеев В. А., сост., подгот. текстов, 2023
© Шведов В. Ю., комментарии, 2023
© Издательство «Пушкинский Дом», 2023
ISBN 978-5-91476-095-0
ISBN 978-5-91476-141-4 (T. 2,
кн. 1)
Переписка Л. Н. Толстого и С А. Толстой с Н. Н. Страховым
1880-1889
1880
254 Страхов — Толстому
Вы не только удивили меня, бесценный Лев Николаевич, как это много раз бывало, но Вы на этот раз меня успокоили и согрели1. Я как будто чувствую, что найдена твердая точка, на которой следует стоять, которую нужно отыскивать в случае волнения и колебания; я действительно стал спокойнее и радостнее. Меня как будто что-то вдруг озарило, и я всё больше и больше радуюсь и всё вглядываюсь в этот новый свет2. Скажу Вам откровенно, что меня прежде смущало и отчего для меня так нова Ваша теперешняя мысль3. Мне всегда казалось непонятным и диким личное бессмертие в той форме, в которой его обыкновенно представляют4; точно так же мне был всегда противен мистический восторг^ до которого старались доходить большинство религиозных людей, говоривших почти так, как Вы. Но Вы избежали и того и другого; как ни горячи движения Вашей души, но Вы ищете спасения не в самозабвении и замирании, а в ясном и живом сознании. Боже мой, как это хорошо! Когда я вспоминаю Вас, все Ваши вкусы, привычки, занятия, когда вспоминаю то всегдашнее сильнейшее отвращение от всех форм фальшивой жизни6, которое слышится во всех Ваших писаниях и отражается во всей Вашей жизни, то мне становится понятным, как Вы могли наконец достигнуть Вашей теперешней точки зрения. До нее можно было дойти только силою души, только тою долгою и упорною работою, которой Вы предавались7. Пожалуйста, не браните меня, что я всё хвалю Вас; мне нужно в Вас верить, эта вера моя опора. Я давно называл Вас самым цельным и последовательным писателем; но Вы сверх того самый цельный и последовательный человек. Я в этом убежден умом, убежден моею любовью к Вам; я буду за Вас держаться и надеюсь, что спасусь8. Теперь я понимаю, как глупо было мое длинное письмо, где я жаловался,
8 января 1880 г. Санкт-Петербург
7
как на недостатки, на то, что ни хорошо ни дурно, и что можно считать дурным и несчастным только с дурной точки зрения9.
Эти припадки малодушия мучительны только для нашей гордости. — Мне кажется, я всё понимаю! Иго мое благо и бремя мое легко10 — мне кажется, я это понял! И не дай только, Боже, забыть, не дай, Боже, так поддаться злу, чтобы потерять из виду узкий путь спасения.
Любите враги ваша, добро творите ненавидящим вас11. И это я понимаю. Как хорошо предаваться добрым движениям души, из которых иных я, бывало, стыдился! Но я всё боюсь, всё боюсь, и лишь изредка является во мне уверенность, что, потерявши мой теперешний свет, я непременно сумею снова найти его.
Бесконечно благодарю Вас!
Меня, разумеется, много расспрашивают об Вас, и я в большом затруднении. Я говорю обыкновенно, что Вы теперь в сильном религиозном настроении, что Вы дошли до него самым правильным путем — через изучение народа и сближение с ним, что Вы пишете историю этих Ваших отношений к религии, историю, которая не может явиться печатно. Все одобряют, хотя под словом религия они понимают совсем другое, и я не берусь за объяснение — я еще слишком слаб и не придумал, с чего начинать и как говорить. А главное — мне их жалко, мне страшно им сказать, что всё, что они делают и чем живут, — вздор. Да и чувствую, как это покажется странно и невероятно.
Новостей важных, кажется, нет. Повесть Гончарова12 — у Вас есть,- отменно тонко и умно,13, но бледно и скучно. В полемике Тургенева с Маркевичем14 я перешел на сторону Маркевича, так как Тургенев напал на Маркевича15 с высоты своей цивической* доблести. Мне не дали ордена, к которому я был представлен16, и т. д. Всё это, конечно, пустяки. Сегодня был у меня Михайло Степанович Громека. Он очень, очень мил, хотя и раздражает своею медлительностью. Очень хотелось мне погово-
гражданской (от фр. civique). 8
рить с ним о русской словесности, но сегодня нельзя было, да и боюсь, что не совладаю. Он собирается на денек к Вам17; я его и не ободрял и не удерживал. Если же он приедет, то Вы можете сделать настоящее доброе дело, убедивши заняться чем-нибудь лучшим.
Как я ни стараюсь, но, может быть, чем-нибудь провинился перед Вами; если так, простите и дайте мне только возможность вперед не провиниться перед Вами. А я повторяю: неизменная, всегдашняя Вам благодарность и любовь за то, чем Вы были и есть для меня.
Ваш Н. Страхов
1880.
8янв[аря]. Спб.
1 Страхов имеет в виду благотворное нравственное влияние, которое оказывало на него непосредственное общение с Толстым. Желая поделиться с «единственным духовным другом» первыми результатами проделанной работы, писатель вызвал Страхова к себе в конце декабря телеграммой (см. примеч. 1 к п. 253). О его пребывании в Ясной Поляне С. А. Толстая вспоминала: «... наступили Рождественские праздники, приехал Николай Николаевич Страхов (...) и еще кто-то. Накануне Нового года сделали мы прекрасную елку (...) Новый год встречали все вместе: и учителя, и их семья, и гувернантки, и Страхов, и граф Сергей Николаевич [Толстой], и все были очень веселы и оживлены» (Толстая. Моя жизнь I. С. 311).
2 Об испытанных в общении с Толстым глубоких душевных ощущениях и об озарившем его в Ясной Поляне новом внутреннем «свете» Страхов сообщал в письме А. А. Фету от 30 января 1880 г.: «Я вполне разделяю религиозное настроение Льва Николаевича и убежден, что его направление верно. Но у меня нет и никогда не было желания заставить других думать и делать по-моему. Я ищу дороги только для себя, и в моем одиноком и, так сказать, голом положении мне довольно легко исповедывать и отчасти практиковать мораль отречения. (...) То, что он сказал мне на праздниках в Ясной Поляне, очень поразило меня ясностию, простотою и силою; я уверен без всяких сомнений, что он нашел истинный смысл христианского учения, и мне было это очень отрадно, так как в сущности все мы выкормлены этим молоком» (Фет. Переписка II. С. 300).
3 Отголоски бесед Толстого и Страхова о сути обретенного писателем «нового» духовного учения, открывшегося ему при углубленном изучении Евангелий и основ христианской веры, можно расслышать в его письмах того времени. Ср. в обращении Печатается по: РО ИРЛИ. Ф. 302. Оп. 2. Ед. хр. 300. Л. 31-32.
Впервые: Современный мир. 1913. № 9. С. 244-246.
9
к А. А. Толстой от 2 или 3 февраля 1880 г.: «...ваше исповедание веры есть исповедание веры нашей Церкви. Я его знаю и не разделяю. (...) Первое условие веры есть любовь к свету, к истине, к Богу и сердце чистое без лжи. (...) Я пробил до материка всё то, что оказалось хрупким, и уже ничего не боюсь, потому что сил у меня нет разбить то, на чем стою; стало быть, оно настоящее. (...) уж я не стану на мною самим пробитый ледок и не покачусь легко и весело по нем (...) мы все живем, как скоты, и так же издохнем. Для того, чтобы спастись от этого ужасного положения, нам дано Христом спасение. (...) Для меня главный смысл учения тот, что, чтобы спастись, надо каждый час и день своей жизни помнить о Боге, о душе, и потому любовь к ближнему ставить выше скотской жизни. (...) И потому-то это Божеская истина, что она так проста, что проще ее ничего быть не может, и вместе с тем так важна и велика и для блага каждого человека и всех людей вместе, что больше ее ничего быть не может» (Юб. Т. 63. С. 6-9; ТТП. С. 394-396). О том же В. В. Стасову: «...на меня сердиться нельзя, потому что у меня теперь одно желание в жизни — это никого не огорчить, не оскорбить, никому — палачу, ростовщику не сделать неприятного, а постараться полюбить их и заставить себя полюбить...» (Юб. Т. 63. С. 10; Толстой и Стасов. Переписка. С. 49). С. А. Толстой запомнилось такое определение Толстым проделанной им духовной работы по обретению нового религиозного сознания: «Пишет объяснение Евангелия и о разладе Церкви с Евангелием (...) Он как-то раз говорил: „Не Церковь, а христианство живет в преданиях, в духе народа бессознательно, но твердо. Я по лучам добрался до солнца, то есть через Церковь познал Евангелие“» (Толстая. Моя жизнь I. С. 310-311).
4 Страхов не признавал идею христианства как личного спасения, которую исповедовал, в частности, К. Н. Леонтьев.
5 Религиозная экзальтация была Страхову чужда, однако Толстой находил, что мистика религиозного сознания ему была близка. Ср. запись в «Дневнике» домашнего учителя младших детей Толстого В. Ф. Лазурского: «...Лев Николаевич посоветовал мне обратить внимание на одну черту у Страхова (он об этом говорил и [Н. Я.] Гроту): его мистицизм в духе Ефрема Сирина и других восточных учителей церкви» (запись от 20 апреля 1896 г. — АН. Т. 37-38. М., 1939. С. 491).
6 Эта мысль Страхова остановила на себе внимание С. А. Толстой. Перечитывая позднее (в 1913 г.) письма Страхова к Толстому и работая над своими воспоминаниями, она так прокомментировала эти строки, касавшиеся перемены в духовном и нравственном состоянии Толстого, в его отношении к самой Софье Андреевне: «То, что мы потеряли в то время с Львом Николаевичем ту душевную связь, которая соединяла нас всю жизнь, — страшно огорчало меня. Он или молчал со мной целыми днями, или же на всё нападал; все осуждал. (...) Тяжелое настроение мое и охлаждение Льва Николаевича не прошли мне даром. (...) разлад с Львом Николаевичем меня огорчал ужасно и был невыносимо болезнен. / Работая усердно над своими религиозно-фило10
софскими сочинениями, Лев Николаевич и в жизни всячески старался провести свои идеи. / Он посещал тогда тюрьмы и остроги, ездил на волостные и мировые суды, присутствовал на рекрутских наборах, и точно умышленно искал везде страдания людей, насилие над ними, и с горячностью отрицал весь существующий строй человеческой жизни, всё осуждал, за всё страдал сам, и выражал симпатию только народу и соболезнование всем угнетенным. / Это осуждение и отрицание распространилось и на меня, и на семью, и на всё и всех, кто был богат и не несчастлив. Жаль было видеть, как Лев Николаевич вдруг стал страдать за человечество, вследствие чего был чрезвычайно мрачен. Точно он отвел глаза от всего в мире, что было радостно и счастливо, и обратил их в противоположную сторону» (Толстая. Моя жизнь I. С. 321,327-328).
7 Слова Страхова позволяют предположить, что затронутая им в письме от 17 ноября 1879 г. (см. п. 249) тема «писать о своей жизни» — откровенного признания в собственных нравственных «несовершенствах», необходимости усиленной внутренней работы над обретением душевной крепости — получила продолжение во время личной встречи корреспондентов. В частности, по репликам Страхова можно заметить его знакомство с трудами Толстого, в которых он, следуя намерению рассказать и свою жизнь («я всё хочу то же сделать» — п. 248), начал описывать переживаемый им духовный кризис. По утверждению биографа Толстого Н. Н. Гусева, «за те несколько дней, какие Страхов в самом начале января 1880 года провел в Ясной Поляне, Толстой посвятил его в свои работы. Он дал ему прочесть свое первое неозаглавленное религиозно-философское произведение и, по-видимому, рассказал о той новой начатой работе, которая впоследствии получила название „Исповедь“, и о планах дальнейших работ» (Гусев III. С. 613). См. также п. 255.
8 Высокую оценку духовным и нравственным качествам Толстого-человека и мыслителя Страхов высказывал не раз. В письме Н. Я. Данилевскому от 4 мая 1879 г. он, например, писал: «Я безмерно удивляюсь Толстому, что он с непоколебимою стойкостью держится взгляда, внушаемого ему самою его натурой, самым его гением, притом взгляда трудно уловимого, не имеющего установившихся форм, не вкладывающегося в готовые выражения. Как критик я в большом восхищении от такого глубоко оригинального явления; как человек я чувствую в себе те струны, которые берет Толстой, и люблю его всею душою. (...) вместо того, чтобы браниться, попробуйте точнее формулировать то, что хочет сказать Толстой и что сказать ему самому так ужасно трудно, и вы убедитесь, что тут отражаются, если не все, то наверно наилучшие стороны нашего народного характера. (...) Толстой пишет очень ярко; попробуйте же проводить черту между тем, чтб он считает дурным, и тем, что считает хорошим; эта черта всегда верна безупречно, везде имеет надлежащее направление. Чего же больше? Что может быть выше? Односторонность его очевидна; я указывал ее в своей восторженной статье, и лично мне следовало бы сокрушаться, потому что он не только не пробовал исправиться, а даже еще глубже ушел в свою односторонность. Но он будет прав, пока 11
вы не найдете, каким путем он с своей точки зрения может перейти на вашу, и притом так, чтобы, как учил Гегель, в новом взгляде сохранилась вся правда его нынешних воззрений. / Я уверен, что духом, высказывающимся у Толстого, хранится и живет Россия, что от этого духа зависят, главным образом, и те чудеса самоотвержения и смирного героизма, которыми мы одолеем Европу и всех наших врагов внешних и внутренних» (PB. 1901. Январь. С. 136-137. — Курсив Страхова).
9 Страхов называет содержание и тон своего ноябрьского письма (п. 249) «глупым», однако повышенная самокритичность его признаний вполне соответствовала высказанному Толстым призыву придать описанию такую эмоциональную окрашенность, чтобы «возбудить к своей жизни отвращение всех читателей» (п. 248).
10 Мф. 11:30.
11 Мф. 5:44; Лк. 6: 27.
Гончаров И. А. Литературный вечер. — Русская речь. 1880. Кн. 1. С. 1-89.
13 Цитата из романа в стихах А. С. Пушкина «Евгений Онегин» (гл. VIII, строфа XXIV).
14 Под псевдонимом «Иногородний обыватель» консервативный писатель Б. М. Маркевич выступил в газете «Московские ведомости» (Иногородний обыватель [Маркевич Б. М.]. С берегов Невы. XIII. — МВед. 1879. 9 дек. № 313. С. 4-5) с резкой критикой сопроводительного письма (предисловия) И. С. Тургенева к напечатанным в парижской газете «Le Temps» на французском языке биографическим очеркам «В одиночном заключении. Впечатления нигилиста» русского революционера И. Я. Павловского (см.: Pavlovsky, Isaac. En cellule. Impressions d’un nihiliste. — Le Temps. 1879. 12 novembre. Préface par Ivan Tourgeneff. — Публикация продолжалась в номерах газеты до 25 ноября). В конце своего фельетона, имея в виду заявление писателя, что «нигилисты, о которых говорят в последнее время, и не так черны и не так ожесточены, как их обыкновенно изображают», Маркевич писал о Тургеневе: « ...он не понимает, что аттестациею, выданною им русским „нигилистам“, он признал правым их гнусное дело». В письмах к М. М. Стасюлевичу (от 22 декабря 1879 г. / 3 января 1880 г.) и Я. П. Полонскому (от 23 декабря 1879 г. / 4 января 1880 г.) Тургенев назвал статью «мерзостью», «клеветой» и «подлым доносом» (Тургенев И. С. Поли. собр. соч. и писем: в 28 т. Письма. Т. 12, кн. 2. С. 194, 195). На обвинение в «кувыркании перед молодежью» Тургенев, считавший себя «честным и благонамеренным человеком» и не без опасения полагавший, что Маркевич с намерением именно его «старается выставить „всей крови заводчиком“» (письмо М. М. Стасюлевичу от 1/13 января 1880 г. — Там же. С. 194), поспешил ответить «Иногороднему обывателю» открытым письмом с изложением своих политических взглядов («предстояла нужда публично объясниться» — курсив Тургенева), помещенным при содействии Стасюлевича в газете «Молва» (1879.29 дек. № 378; перепечатано в газете «Страна». 1880.1 янв. № 1; позднее появилось в журнале «Вестник Европы» — 1880. Февраль. С. 843-844). От12
вет Б. Маркевича: Справка для г. Тургенева. — МВед. 1880. 6 янв. № 5. С. 5. Позицию своего сотрудника энергично поддержал М. Н. Катков, выступивший в том же номере газеты с задевавшей Тургенева редакционной статьей. Таким образом, «спор» между Маркевичем и Тургеневым превращался в полемику писателя с влиятельным проправительственным печатным органом. Подключение издателя к обмену критическими репликами дало Тургеневу основание позднее заметить: «Благодаря „Московским ведомостям“ и другим усердствователям — меня все считают за тайного нигилиста и радикала... » (Тургенев И. С. Поли. собр. соч. и писем: в 28 т. Письма. Т. 12, кн. 2. С. 273). На «справку» Маркевича и на брошенную в него Катковым «грязь» Тургенев намеревался отреагировать еще одним публичным выступлением в печати — новым письмом в «Вестник Европы». Однако уже на следующий день изменил свое решение и телеграммой просил Стасюлевича задержать посланное (письмо неизвестно; возможно, уничтожено по просьбе отправителя) и ждать от него другого, которое, однако, не последовало. Возможно, на нежелание Тургенева продолжать обмен объяснениями повлияло дошедшее до него известие о том, что публикация его письма в «Молве» произвела, по его словам, «хорошее впечатление даже в тех сферах, с вышины которых на меня доселе падали неблагосклонные взоры», а также «очень любезное» отношение вел. кн. Николая Николаевича во время их личной встречи (письма М. М. Стасюлевичу от 1/13 и 10/22 января 1880 г. — Там же. С. 201, 203). Вместо ответа писателя в февральском выпуске журнала Стасюлевичем была помещена статья «Письмо И. С. Тургенева и несколько слов по этому поводу» (С. 843-849).
15 Тургенев принимал деятельное участие в опубликовании очерка Павловского. Написанные на русском языке, воспоминания были предложены им М. М. Стасюлевичу для помещения в журнале «Вестник Европы». Однако, ознакомившись с содержанием записок в феврале-марте 1879 г., Стасюлевич не решился на их обнародование в своем издании. По возвращении в Париж Тургенев в мае устроил перевод воспоминаний Павловского на французский язык, а затем и публикацию их в газете «Le Temps». Появление очерка в печати было замечено в русской прессе и вызвало оживленную полемику. В отличие от более консервативно настроенного Страхова, Толстой выразил сочувствие Тургеневу по поводу направленной против него статьи Б. М. Маркевича. Обращение Толстого к Тургеневу, написанное, по предположению H. Н. Гусева, «в половине или в конце декабря 1879 года» (Гусев III. С. 607), неизвестно. Тургенев в письме от 28 декабря 1879 г. / 9 января 1880 г. благодарил Толстого за внимание и «хорошие, дружелюбные слова» в его поддержку (Тургенев И. С. Поли. собр. соч. и писем: в 28 т. Письма. Т. 12, кн. 2. С. 197). — Примечательно, что «история с Павловским» не охладила желания писателя содействовать появлению в свет произведений писателей-эмигрантов. Когда в конце 1879 г. к нему обратился с просьбой о поддержке в публикации своего романа «Les victimes du tsar» («Жертвы царя») революционер М. О. Ашкинази, Тургенев, весьма невысоко оценивший литературные достоинства 13
творения молодого автора, тем не менее высказал готовность быть ему полезным. В разгар полемики с Б. М. Маркевичем и «Московскими ведомостями» (см. примеч. 13) он писал Ашкинази: «... скажу Вам откровенно, что я не сочувствую направлению Вашего произведения; но так как я старый либерал не на одних только словах — то уважаю свободу убеждений, даже противных моим — и не только не почитаю себя вправе стеснять их выражение — но не вижу причины уклоняться или способствовать к тому, чтобы они высказались — особенно когда дело идет о литературном произведении. (...) И вот почему я, постепеновец, не обинуясь, готов помочь появлению произведения, написанного революционером. Не сомневаюсь, однако, в том, что во избежание недоразумений или повторения истории с Павловским, Вы поймете необходимость не разглашать моего участия» (письмо от 12/24 января 1880 г. — Там же. С. 204).
16 Страхов был представлен Императорской публичной библиотекой к ордену Св. Анны II степени, но министр просвещения граф Д. А. Толстой не подписал представления. Страхов писал Н. Я. Данилевскому: «К Новому году меня представляли из Библиотеки к Анне 2-й степени, но, по счастию для меня, Толстой отказал. Это всё затеял Афанасий Федорович [Бычков]» (РВ. 1901. Январь. С. 140).
17 Занимавшийся творчеством Толстого молодой критик М. С. Громека посетил Страхова 8 января; в Ясной Поляне он побывает позже, в 1883 г. Однако спустя несколько дней Громека всё же увиделся с Толстым — в Москве во время пребывания там писателя 17-19 января 1880 г. (см.: Юб. Т. 83. С. 276). Толстой отзывался о нем сочувственно: «Это был симпатичный, страстный и талантливый человек». По свидетельству современника, «Лев Николаевич очень ценит критику Громеки» (Гольденвейзер А. Б. Вблизи Толстого. [М.], 1959. С. 62,63). В передаче слушателя Толстой так объяснил свое высокое мнение: «Мне было дорого, что человек, сочувствующий мне, мог даже в „Войне и мире“ и „Анне Карениной“ увидеть многое, о чем я говорил и писал впоследствии» (Там же. С. 63. — Курсив автора). Ср. также п. 252 и примеч. 9 к нему.
255
17 (?) января 1880 г. Ясная Поляна (?)
Толстой — Страхову
Дорогой Николай Николаич.
Должно быть, что я в одно время с этим письмом буду в Петерб[урге] \ но все-таки чувствую необходимость написать вам несколько слов на ваше последнее письмо2. Давно я не испытывал такой радости, какую 14
доставило мне ваше письмо. Я знаю, что вы искренний человек, но всетаки мне надо было повторять себе это несколько раз, чтобы знать, что я не заблуждаюсь и что правда, что моя мучительная духовная работа не напрасный труд и что вам она была полезна. Очень я рад3. Скоро увижусь с вами.
Ваш Л. Толстой
1 Толстой намеревался ехать в Москву и Петербург для переговоров с издателями о выпуске четвертого по счету собрания сочинений и для окончательной расплаты за купленную в 1878 г. у барона Р. Бистрома землю в Самарской губернии. В Москву Толстой прибыл в четверг 17 января и оставался там до 19 января. В Петербург он приехал утром 20 и остановился у матери С. А. Толстой; уехал рано утром 23 января.
2 Возможно, Толстой пожелал предуведомить Страхова по почте, так как поездка в Петербург еще не была им решена окончательно. См. об этом письмо Толстого С. А. Толстой от 19 января 1880 г. (Юб. Т. 83. С. 276).
3 Нравственная поддержка Страхова была тем более желанна и необходима Толстому, что он всё меньше мог находить понимания для своих духовных исканий среди самых близких ему людей, даже в семье. Особенно тяжело переживала новый фазис развития мужа («много пишет о религиозном») Софья Андреевна, для которой «горизонт сдвинулся, стало тёмно, тесно жить на свете» (запись от 18 декабря 1879 г. — Дневники Софьи Андреевны Толстой. 1860-1891. М., 1928. С. 126). Позднее она с горечью вспоминала: «Злобное отрицание православия и Церкви, брань на нее и ее служителей, осуждение нашей жизни, порицание всего, что я и мои близкие делали, — всё это было невыносимо. Я тогда еще сама переписывала всё, что писал и переправлял Лев Николаевич. Но раз, я помню, это было в этом, 1880 году, я писала, писала, и кровь подступала мне в голову и лицо всё больше и больше, негодование поднялось в моей душе, я взяла все листы и снесла к Льву Николаевичу, объявив ему, что я ему больше переписывать не буду, не могу я слишком сержусь и волнуюсь. Так и пришлось ему с того времени нанять себе переписчика. (...)/ Я думаю, ему и самому подчас тяжела была его работа. (...)/ Не знаю, имеет ли кто право отрицать в человеке и писателе те или другие свойства, но я лично знала твердо, что при муже художнике я была счастлива; при муже — религиозном мыслителе потускнела моя жизнь и мое счастье» (Толстая. Моя жизнь I. С. 312-315). Рассказанный С. А. Толстой эпизод имеет, вероятно, отношение к ее работе над изготовлением второй копии трактата Толстого «Исследование догматического богословия»: часть, переписанная ее рукой, обрывается на л. 123 из общего количества 564 листов (Юб. Т. 23. С. 543).
Печатается по: ОР ГМТ.Ф. 1.№5444. Л. 1. На л. 1 помета Страхова: «17 янв[аря] 1880». Впервые: Современный мир. 1913. №9. С. 246. В Юб.: Т. 63. С. 3. Датируется с учетом пометы
Страхова.
Ответ на п. 254.
15
256
4 февраля 1880 г. Ясная Поляна
Толстой — Страхову
Дорогой Николай Николаич.
Печатается по: ОР ГАЯ. Ф.1.№ 5469.
Л. 1,2. Нал. 1 помета Страхова: «4 февраля] 1890.
Ясная». Год в дате — описка Страхова; устанавливается по содержанию. Впервые: Современный мир. 1913.
№12. С. 398 (с датой: 4 февраля 1890 г.).
Датируется по помете Страхова (с исправлением).
Чувствую, что я был очень дурен перед вами в П[етер]б[ур]ге1. Но ваше пристрастие ко мне, надеюсь, преодолеет дурное впечатление. Пожалуйста, сделайте, чтоб это так было. Я и всегда-то неловок в обращении с людьми, а заеду в Петерб [ург], то уж совсем ошалею1 2. — Ну, будет жалобить вас. Я, слава Богу, здоров, дома хорошо и хорошо работал, но жизнь ужасно коротка и осталось её, я знаю, немного. — Издание продал Салаеву3. — Поездка моя в Петерб [ург] и за этими гадкими денежными делами и вся эта суета испортила меня значительно нравственно, но поверите ли, этот упадок нравственный облегчил меня. Кроме того, во время моей поездки я, чтобы поддерживать свои силы, много ел, пил вино и вернувшись продолжал тот же образ жизни, и мне стало лучше во всех отношениях. —
Работа моя очень утомляет меня4. Я всё переделываю — не изменяю, — а поправляю сначала и боюсь, что много пишу лишнего, и каждый день думаю о вашем суде. Что вы делаете? Напишите мне также про себя. А главное, любите меня по-прежнему и изредка пишите.
Любящий вас
Толстой 1 Толстой виделся со Страховым и В. В. Стасовым 22 января в Публичной библиотеке — после горячего спора с А. А. Толстой о православии, сильно взволновавшего обоих. См.: Юб. Т. 63. С. 4; 5-9; ТТП. С. 390-398. Ср. также: Гусев III. С. 625; Гусев. Летопись I. С. 520. Вероятно, это состояние проявилось в общении Толстого с собеседниками.
2 На душевном состоянии Толстого сказались, возможно, и последствия перене¬
сенного в Москве физического недомогания, названного им в письме к жене «обычное
мое желчное нездоровье» (Юб. Т. 83. С. 276). За произведенное в Петербурге «дур-
16
ное» впечатление Толстой извинялся и перед В. В. Стасовым в письме от 4 февраля 1880 г.: «Не сердитесь ли и вы на меня за то, что я грубо затронул тогда ваши задушевные чувства? Пожалуйста, не сердитесь. (...) Вам, Петербуржцу, может быть непонятно мое состояние в вашем городе. Я именно как угорелый в угарной комнате. Как бы сделать что нужно и бежать» (Там же. С. 11; Толстой и Стасов. Переписка. С. 49- 50). Перед отъездом в Ясную Поляну с такой же просьбой писатель обратился и к гр. А. А. Толстой: «... мою раздражительность, грубость, низменность простите...» (Юб. Т. 63. С. 4; ТТЛ. С. 391).
3 В Петербурге Толстой не воспользовался предложением М. М. Стасюлевича об издании своих произведений, и право выпустить Сочинения в 11 частях (тиражом 5500 экз.) было уступлено книгопродавческой фирме «Наследники братьев Салаевых» в Москве, обязавшейся уплатить писателю всю сумму вознаграждения (25 тыс. руб.) вперед. См.: Ю6.: Т. 63. С. 9,11-12.
4 Толстой начал работу над «Исследованием догматического богословия» еще в начале января и был поглощен ею до середины марта. См.: Юб. Т. 23. С. 60-303; 538- 542; Гусев III. С. 618.
257 Страхов — Толстому
14 февраля 1880 г. Санкт-Петербург
Вижу, что если буду дожидаться свободного времени, то еще долго не напишу Вам, бесценный Лев Николаевич. А я собирался писать о Вашей грусти, которая всегда ужасно меня поражает и которая слышна и в Вашем последнем письме. Вы в цвете сил; никакой болезни у Вас нет; отчего Вам грустить и говорить о смерти? Но Вы ужасно живете; Вы жжете себя беспощадно — можно ведь похвалить Вас за это, но мне хочется бранить1.
Пишу Вам наскоро, в Библиотеке; разная суета так меня затормошила, что я чуть не плачу. Да, мне досадно было, что Вы не посидели на моем кресле2, но если бы Вы себя принудили, тоже было бы нехорошо. Всё идет, как ему следует идти, и когда я чувствую свое одиночество и недостаток тепла вокруг себя, я всегда заключаю, что я это заслужил.
17
Печатается по: PO ИРЛИ. Ф. 302. Оп. 2. Ед. хр. 300. Л. 23-24. Впервые: Современный мир. 1913. №9. С. 246-247. Ответ на п. 256.
Своей статьи я так до сих пор и не кончил3; но чувствую веру что могу кончить и что стоит кончать. Собственно, я ничего не делал и только прислушивался к внутреннему голосу стараясь уловить самое ясное и чистое его выражение. Но это трудно писать — лучше отложу.
Фет написал мне два больших письма4, в которых рассказывает свой умственный спазм, как он выражается. Он не может Вас понять5. Я брался было объяснить, но ничего из этого не вышло — не успел и расписаться6.
То, что Вы пишете, конечно, необходимейшая вещь7. От всей души желаю Вам хороших сил и хороших дней; но в неотразимости (как и всего, что Вы пишете) я заранее уверен.
Пока простите
Вашего неизменно любящего
Н. Страхова
1880.
14 февр[аля].
1 С. А. Толстая особенно остро воспринимала происходившую на ее глазах нравственную перемену в муже и связывала наблюдаемые ею сложные душевные переживания Толстого («грустный дух Льва Николаевича») не с обстоятельствами повседневной жизни, которые в целом оставались для него и семьи благоприятными, а именно с его погруженностью в философско-религиозные поиски. «Настроение его, почти всегда унылое, очень тяжело отражалось и на мне. Общество тоскующего и отрицающего нашу жизнь мужа уже не удовлетворяло меня в моей замкнутой обстановке. (...) Самая лучшая иллюстрация тогдашнего настроения Льва Николаевича — это его же „Исповедь“, написанная в тот период времени. Несчастье его происходило не от внешней жизни, а от внутреннего разлада и от неудовлетворенных запросов его души. / Мне часто казалось в жизни, что отпадение Льва Николаевича от Церкви и его суровое порицание и веры, и той жизни, в которой он раньше жил, дались ему крайне тяжело, и он никогда уже не был счастлив после этого. Отрицание всего не дает счастья» (Толстая. Моя жизнь I. С. 312-314). Сам Толстой считал охватившее его состояние едва ли не «радостным» и наполненным счастьем; после свидания в Петербурге с А. А. Толстой он сообщал ей: «... вся жизнь моя стала другая и всё, что я знал прежде, всё перевернулось и всё, стоявшее прежде вверх ногами, стало вверх головами» (письмо от 2 или 3 февраля 1880 г. — Юб. Т. 63. С. 8; ТТП. С. 395; см. также п. 258, а также письмо 18
к А. А. Толстой, написанное между 1 и 15 января 1881 г. — Ю6. Т. 63. С. 42; ТТП. С. 399).
2 О пребывании Толстого в Петербурге 20-23 января см. п. 256 и примеч. к нему.
3 Вероятно, речь идет о статье «Об основных понятиях физиологии», над которой Страхов работал с осени 1879 г. и которую предполагал закончить еще к декабрю (см. п. 244 и примеч. 20 к нему, п. 246 и примеч. 2). Несмотря на поглощенность захватившей его темой и напряженное обдумывание материала, труд будет подготовлен к публикации только через несколько лет (Русская мысль. 1883. Май (Кн. 5). С. 1-32; вторая пагинация). См. далее п. 259, примеч. 3 и п. 262, примеч. 28.
4 Два «больших» письма А. А. Фета Страхову — пространные корреспонденции от 23 января и от 5 февраля 1880 г., значительная часть содержания которых отведена критике новых религиозно-философских воззрений Толстого, а также, частично, и взглядов разделявшего их Страхова. См.: Фет. Переписка II. С. 297-298,301-304.
5 «Умственным спазмом» Фет называет свою неспособность понять религиозные искания Толстого и возможность приложения к жизни их результатов из-за противоречивости самого «учения». Ср.: «Жажду услыхать Ваше суждение о труде Толстого. Через посредство Вашей категорической головы — я бы хоть услыхал, что это такое. А то я ума не приложу. Если это просто критика известного текста и учения, — я ничего не говорю. Но если это этика — дидактика а<1 ивит Не1рЬ1т [здесь: для широкого применения, лат.], практическое руководство ничего не делать, то, право, мы, русские, менее всего нуждаемся в такой рекомендации» (письмо Фета Вл. С. Соловьеву от 14 марта 1881 г. — Переписка Фета с Вл. С. Соловьевым (1881-1892) / публ. Г. В. Петровой. — А. А. Фет: Материалы и исследования. СПб., 2013. Вып. 2. С. 375). В письме Страхову от 6 декабря 1879 г. Фет недоуменно замечал о новых взглядах Толстого: «Что касается до его мировоззрения, то я уже тут отказываюсь мыслить (...) Что такое аскетизм, рождающий ежегодно детей и почивающий до 12 часов дня? Что такое опека труда, состоящая в каком-то раскисании над самим собой и всем и вся? — Ничего! Ничего!» (Там же. С. 296). Разглядев в религиозных построениях Толстого лишь очередное «кувыркание мозгов человеческих», Фет продолжал упрекать его в непоследовательности и необъяснимом несоответствии его образа жизни новому «учению» в письме от 23 января 1880 г.: «Но, чтобы убедясь в злобе дня, продолжать подтверждать жизнью — эту самую злобу, да еще стараться увеличивать неизбежные страдания (злобу) искусственными, как это делают некоторые] изуверы, этого я никогда не пойму. Тут нет последовательности. Равно как я не пойму, как человек, пришедший к убеждению в сплошной гадости жизни, из которой надо бежать сломя голову, может на основании этого убеждения стараться устроить, ублагополучить эту самую сплошную гадость. Этого тоже не понимаю. (...) Сплошной отрицатель жизни не может, не впадая в бедлам, ни воспитывать детей, ни проводить каких-либо улучшительных для жизни мыслей, кроме самоубийства. А в этом ужасающем хаосе 19
живет такой ум, как Лев Николаевич], который с одной стороны, что-то утонченносложенно проповедует для спасения рода человеческого и собственного рода, породы детей земных — и готовит веревку себе на горло» (Там же. С. 298). Не оставил Фет без внимания эту взволновавшую его тему и во втором своем «большом» письме, где от недоуменных вопрошаний перешел к обвинению Толстого в «сумбурном» натиске и проповеди «невообразимой чепухи», ведущей «к бездне гибели» и только сбивающей с толку слабые умы. «Но чего хочет Лев Николаевич, этого он сам не разжевал. Когда я ему говорил, что он губит свои труды на заглазную покупку земли, которая, без личного труда, подобно всему = 0, то он мне прямо пояснял, что с приближением жел[езных] дорог эта земля удесятерит цену и дети его будут богачи. Опыт подтвердил мои слова (...) А теперь этот же человек говорит мне, что не только сам капитал, но и всякий труд есть грабеж ближнего, а когда я ему сказал, что же он не продает Самару и не купит в Курске, он отвечал „нет" — подразумевая все-таки свою глубочайшую, тайную мысль о будущем богатстве своих детей. В чем же тут каяться, кроме в противуречии. (...) Можно, положим совершенно напрасно, стремиться к богатству — это логично. Оно достигается трудом, умением, ежеминутной сдержанностью; страшной дальнозоркостью — и то при удаче. Но радостно ожидать бедности — nonsense [бессмыслица, лат.] — этого ожидать не стоит, можно в одну минуту раздеться донага и выйти на мороз. Это не трудная задача. Зачем туманить народ. (...) Но засадить красавицу жену в 4 [-х] стенах, беременную в течение 20 лет, народить кучу детей и сказать: я разорю Вас всех моим высоким христианством, я убью этим христианством свой исключительно высокий талант, обозвав его греховным наваждением, значит дожить до Гоголевского положения, с тою разницей, что Гоголь дожил до практического ума в своих замыслах, а тут хотят навязать какую-то веру, в которую собствен[ная] сокровенная утроба не верит. (...) с этой нигилистической подкладкой возможны лишь мистические галлюцинации, но не серьезные уравновешенные труды божески спокойного гения эпоса» (Там же. С. 303). Вместе с тем, упоминаемые Страховым слова об «умственном спазме» обращены Фетом не только к Толстому, но и к разделявшему его искания Страхову. Не находя в доводах собеседников убедительного ответа на недоуменные вопросы, Фет объяснял свое затруднение понять и принять аргументы оппонентов путанностью их воззрений. «Есть вещи до того непонятные, — писал он Страхову 23 января 1880 г., — что природа получает спазм и болезненно отказывается от их понимания. Такой спазм у меня в горле, когда я умственно обращаюсь к Вам, господа, которых привык высоко ценить. (...) Что это за дьявольское наваждение? Отчего же я понимаю Соломона, Платона, Бэкона, Канта, Гёте, Шопенгауера, а Вашей мудрости не понимаю. / Вы всё говорите о каком-то свете, который у Вас руках. Покажите его, не под подсвечником, да светите всем в комнате, что это за духовная Америка? (...) Если вы не можете указать мне, в чем я слеп, то лучше и не говорите ничего» (Там же. С. 298). См. также п. 268 и примеч. 4 к нему.
20
6 Страхова язвительные вопросы и жесткие обвинения Фета «задели за живое», и он намеревался представить на них самые подробные объяснения. «...Собственно, я обязан был бы употребить в дело все свои силы, чтобы дать Вам полный ответ, какой только могу. И у меня на это большое желание» — писал он Фету 30 января 1880 г. Страхов дважды принимался за изложение своих доводов в защиту «исповедания» Толстого. Уже в первом письме, заявив о полной поддержке исканий Толстого, он начал приводить соображения в его пользу: «...что же Вы находите у него темным? Вы указываете на противоречие с жизнью — но его в сущности нет, или, по крайней мере, есть сильное желание из него выйти. (...) Впрочем, я хорошо понимаю Ваше затруднение, Ваш умственный спазм, как Вы чудесно выражаетесь. Я обдумаю и напишу Вам, что могу» (письмо от 30 января 1880 г. — Там же. С. 300). Уяснив для себя в основных чертах новое «учение» Толстого, Страхов не испытывал, судя по всему, недостатка в аргументах, чтобы дать Фету должные разъяснения, и лишь поджидал необходимого для обстоятельного их изложения свободного времени. В феврале он делает вторую попытку объясниться с Фетом по поводу его «умственного спазма» и воззрений Толстого. И вновь безуспешно: «Теперь мне следует говорить о том, о чем думаю каждый день, об учении самоотречения, о божественной чистоте, которой нужно стремиться достигнуть, отказываясь от всех земных желаний. Вы должны уже многое знать об этом из Шопенгауэра, который указал также и на сострадание, и на доброту как на главные черты нравственности. Он только не понимал, кажется, что настоящая цель не нирвана, а сильная, прекрасная жизнь. / Пришел Майков, прочел мне два новых стихотворения, бесподобных по языку и несколько холодных, и перебил мои мысли. Да нет, я чувствую, что у меня не те слова, какие надобны, и что, торопясь, я ничего хорошего не напишу. Лучше я попробую отдельно изложить это исповедание. Оно удивительно ясно, просто и спокойно. Всё суета, кроме той радостной готовности — нет, я опять чувствую, что не те слова и что начинаю не с начала» (письмо, написанное между 7 и 14 февраля 1880 г. — Там же. С. 305). Загруженность текущими делами по службе и хлопоты, связанные с печатью перевода Фета («Мир как воля и представление» А. Шопенгауэра), не позволили сосредоточиться на изложении мыслей должным образом, и Страхов решает отложить объяснение до личного свидания с Фетом: «Сам я об этом много думаю, и когда увидимся, может быть, удастся мне Вам высказать свои мысли» (письмо Страхова Фету от 29 февраля 1880 г. — Там же. С. 307). Встреча состоится летом (в июне 1880 г.) в имении поэта Воробьевке. Вместе с тем, в отличие от Толстого, крайне болезненно реагировавшего на критику его новых религиозных воззрений («а Толстому ничего этого сказать нельзя. Кто же из нас ближе к христианскому смирению?» — письмо Фета от 5 февраля 1880 г. — Там же. С. 304), Страхов готов был внимательно выслушивать возражения оппонентов и заинтересованно обдумывать их. С побуждением высказывать свои соображения он обращался к Фету: «Но я Вас понимаю, и прошу Вас,
21
пишите Ваши замечания — не пропадут, а будут приняты со вниманием и любовью» (Там же. С. 307).
7 Страхов продолжает сочувственно поддерживать Толстого в его «мучительной духовной работе» по обретению нового понимания христианского вероучения. См. п. 234.
258
2 марта 1880 г. ТОЛСТОЙ — СтрнЗХОВУ
Ясная Поляна
Дорогой Николай Николаич.
Каждый день собираюсь писать вам и каждый день так устану от работы, что тяжело взяться за перо. Нынче думаю, так всегда будет, если с утра не напишу хоть словечко. Главное, не думайте и не позволяйте хоть на минуту входить вам в голову сомненью в моей любви к вам. —
Весна подходит. И я, думая о лете, только тем утешаюсь, что авось вы проведете его у нас. Пожалуйста, если вы не сделали планов, проживите со мной ваши каникулы. Проживем ли еще лето, а это проживемте вместе — пожалуйста, пожалуйста. Я очень много работаю. Бумаги измарал много с большим напряжением и не скажу радостью, но с уверенностью, что это так нужно. Особенно тяжело мне было то, что, начав всё перерабатывать сначала, я отдел обзора православного богословия должен был расширить1. И я изучил хорошо богословие2 и теперь вот кончаю разбор его3. Если бы мне рассказывали то, что я там нашел, я бы не поверил4. И всё это очень важно.
У нас все здоровы.
Что вы? Работаете ли и как? Вам должно быть очень трудно воздерживаться от вихря политической жизни, к[оторый] дует около вас5. Я, сидя в деревне, и то не удерживаюсь и делаю величайшие усилия, чтоб он меня [не] сдул и чтоб я не сбивался с дороги6.
22
Обнимаю вас от души.
Ваш Л. Толстой
Кланяйтесь Стасову и спросите у него, получил ли он мое письмо7 вскоре после моего отъезда из Петерб[урга]. Мне ответа не нужно, а я подозреваю, что оно пропало.
1 С начала января Толстой напряженно трудился над изучением догматов церковного христианского учения с целью их критического разбора. Эта работа фактически продолжала размышления писателя, изложенные им на последних страницах «Исповеди». От самообличительного исповедания своего собственного отношения к религии он, по его словам, «неизбежно» должен был перейти «к исследованию учения о вере православной церкви», в нем «найти истину и ложь и отделить одно от другого» (Юб. Т. 23. С. 57, 60). Так к середине марта 1880 г. появилась на свет объемная рукопись с разбором православного вероучения, получившая затем название «Исследование догматического богословия». О проделанной Толстым огромной духовной работе дает представление состав Рукописного фонда трактата, который насчитывает 1221 л. (ОР ГМТ). Ознакомление с основными источниками и их подробная критика потребовали от писателя и немалых нравственных усилий: находясь под тягостным впечатлением от растущего чувства неприятия церковной догматики, Толстой несколько раз оставлял свой труд. Ср.: «Хочется бросить всё и избавиться от этого мучительного кощунственного чтения, от неудержимого негодования...» (Юб. Т. 23. С. 80). Однако сознание того, что предпринятое им — «нужно», заставляло его продолжать начатый труд: «... но дело слишком важно. Это — то учение церкви, которому верит народ и которое дает ему смысл жизни. Надо идти дальше» (Там же). См. также примеч. 2.
2 Готовясь к исследованию учения о вере православной церкви, Толстой искал ответы на волновавшие его вопросы христианской догматики и исполнения ее требований в условиях реальной жизни в устных беседах с иерархами, тщательно проштудировал имевшиеся основные богословские руководства, труды Отцов Церкви, Библию, Евангелия, а также изыскания по церковной истории. Список изученных Толстым с осени 1879 г. книг см.: Гусев III. С. 589; ср. также — Юб. Т. 23. С. 61. К прочитанным материалам он писал подробные критические суждения (сохранились фрагменты). Особенное внимание Толстой уделил детальной проработке двух, считавшихся наиболее совершенными, сводов церковного вероучения — «Православного догматического богословия» Филарета Черниговского (1864-1865; чч. 1-2) и «ПравоПечатается по: ОР ГМТ. Ф.1.№ 5445. Л. 1-2. На л. 1 помета Страхова: «2 мар[та] 1880». Впервые: Современный мир. 1913. № 9. С. 247-248. Датируется по помете Страхова. Ответ на п. 257.
23
славно-догматического богословия» митрополита Макария (1849-1853; тт. 1-5). Из развернутой критики последнего сложилась работа Толстого «Исследование догматического богословия». (Страхов рекомендовал Толстому ознакомиться с трудами Макария еще в сентябре 1878 г. — см. п. 206). Начав изучение церковной догматики с основ («Я в пятьдесят лет читал Богословие как новость...» — Гусев III. С. 624), Толстой быстро превратился в основательно подготовленного оппонента «официального» учения церкви: «Я долго трудился над этим и, наконец, достиг того, что выучил богословие, как хороший семинарист, и могу, следуя ходу мысли, руководившей составителей, объяснить основу всего,, связь между собой отдельных догматов и значение в этой связи каждого догмата и, главное, могу объяснить, для чего избрана именно такая, а не иная связь, кажущаяся столь странною» (Юб. Т. 23. С. 62). Итог своих изысканий и углубленного знакомства с богословской литературой Толстой сформулировал так: «... я ошибся, думая найти у церкви ответ и разрешение на мои сомнения. Я думал идти к Богу, а залез в какое-то смрадное болото, вызывающее во мне только те самые чувства, которых я боюсь более всего: отвращения, злобы и негодования» (Там же. С. 121).
3 Слова «и теперь вот кончаю разбор его» дают основание предположить, что Толстой был близок к завершению работы над «Исследованием догматического богословия» и помогают ближе определить время начала занятий следующим религиознофилософским трудом. См. п. 260 и примеч. 1 к нему.
4 Свои «открытия» и выводы о существе догматического учения церкви Толстой сформулировал так: «Я понял, что всё это вероучение есть искусственный (...) свод выражений верований самых различных людей, несообразных между собой и взаимно друг другу противоречащих. Я понял, что соединение это никому не может быть нужно, никто никогда не мог верить и не верил во всё это вероучение (...) никогда я не испытывал того несомненного убеждения в полном безверии человека, как то, которое я испытывал относительно составителей катехизисов и богословии. (...) И я понял, наконец, что всё это вероучение (...) не только ложь, но сложившийся веками обман людей неверующих, имеющий определенную и низменную цель». «Так что в жизни, как руководство к нравственному совершенствованию, православная вера не имеет никакого значения; она только внешний признак» (Там же. С. 62-63,489).
5 После устроенного террористами 5 февраля взрыва в Зимнем дворце были произведены существенные изменения в порядке высшего административного управления и обеспечения внутренней безопасности империи. Указом Александра II от 12 февраля был создан новый орган чрезвычайного управления государством, наделявшийся практически неограниченными полномочиями по охранению порядка, с подчинением ему III отделения и жандармского корпуса. Подразделения государственной власти различного уровня полномочий обязывались оказывать работам Комиссии безусловное содействие и неукоснительно исполнять ее распоряжения. Во главе состояв24
шей из 10 членов Комиссии был поставлен генерал-адъютант М. Т. Лорис-Меликов; заведовать делами Комиссии приглашен им А. М. Кузминский — муж младшей сестры С. А. Толстой Татьяны Андреевны. Работы Комиссии продолжались до августа 1880 г., когда поставленные перед ней задачи («борьба правительства с крамолой») были сочтены разрешенными, а сама Комиссия упразднена. В апреле 1880 г. Лорис-Меликов добьется увольнения Д. А. Толстого с должности министра народного просвещения. Подробнее о новых назначениях и изменениях в системе государственного управления в связи со взрывом 5 февраля см.: Милютин Д. А. Дневник. Т. 3: 1878-1880. М., 1950. С. 214-219,225.
6 О восприятии происходивших политических событий обитателями Ясной Поляны вспоминала С. А. Толстая: «В эту зиму всех в России очень интересовали разные события в Петербурге. Во дворце был взрыв, смутивший всех, после чего последовала отставка [И. В.] Гурко. Лорис-Меликов же был назначен министром внутренних дел. Потом было покушение и на его жизнь, в феврале же. Мы нетерпеливо ждали газет и с интересом их читали. Быстрое повышение Лорис-Меликова многих удивляло...» (Толстая. Моя жизнь I. С. 315). Одним из наиболее осведомленных посетителей Ясной Поляны был, конечно, А. М. Кузминский (см. примеч. 5), от которого Толстые узнавали последние политические новости. Ср.: «У нас теперь сидит Кузминский, вернувшийся из Петербурга из Верховной Комиссии, и я одним ухом слушаю и пишу» (письмо А. А. Фету, написанное между 12 и 17 марта 1880 г. — Юб. Т. 63. С. 14).
7 Вероятно, речь идет о письме к В. В. Стасову от начала февраля 1880 г. из Ясной Поляны (на конверте штемпель почтового отправления — «4 фев. 1880 Тула»). См.: Толстой и Стасов. Переписка. С. 49-50; Юб. Т. 63. С. 10-11. Стасов ответил Толстому 6 марта: «... Н. Н. Страхов передал мне ваш вопрос насчет вашего письма ко мне. Я получил письмо...» (Толстой и Стасов. Переписка. С. 50). Ответ Страхова см. в п. 259.
259
Страхов — Толстому 9 марта 1880 г.
Санкт-Петербург
Благодарю Вас от всей души, бесценный Лев Николаевич. Очень Вы утешили меня Вашим приглашением; так и сделаю, и лучше быть не может. Я всё носился с планом съездить в Константинополь и в Афины1, но очень дурно носился, т. е. не запасал денег и не готовился, а покупал книги и принимался их читать. Вообще я жил опустившись и чувствовал 25
себя нехорошо; оттого я так долго и не писал Вам, а давно уже собираюсь. Как я ни медлителен2, а все же я знаю, что мне во сто раз легче писать письма, чем Вам, с Вашею ужасною головною работою. Моя статья остановилась3, но я с радостью чувствую, что она все больше и больше зреет у меня в голове, и сегодня решил не печатать ее раньше лета или даже осени. Очень бы нужно также написать об «Анне Карениной»4. Здесь все толкуют о Вашем обращении и толкуют в стасовском духе5. Стасов недавно приходил и наговорил мне много глупостей, напр[имер], что он ценит Вас только как художника (и так, говорит он, надобно вообще ценить людей), что Вы теперь уже не можете писать романы, и потому потеряли для него всякое значение. Он, конечно, сам не знает, что говорит. Но я в таких случаях в большом затруднении, как и с Фетом6 и с Менделеевым7, с которым тоже имел долгий разговор об Вас. Когда я начинаю говорить об Вашем настроении, я вдруг чувствую, что слова мои принимаются не в том смысле, какой я им даю, и что вообще я не могу ничего объяснить тем, кто сам не дошел до понимания дела. Стасову я передал Ваш поклон и вопрос. Письмо Ваше он получил и тогда же читал мне, а теперь собирается отвечать8.
Политическая жизнь — должен сознаться — не увлекает меня, а служит как будто отдыхом и развлечением. Общее настроение здесь очень благоприятно мыслям Павла Дмитриевича9 — я часто был очень удивлен этим. Всего больше меня интересует наше министерство — по некоторым моим давно лелеемым мыслям. Сколько можно судить, теперь всё тихо, и мне всё кажется, что всё опять может погрузиться в долгую тишину10. Лорис-Меликов всех восхищает, но что он делает, никому не известно11.
Простите, бесценный Лев Николаевич. Я всё тот же Ваш неизменный и преданный, и за это Вы прощайте мне, когда не пишу или плохо пишу. Будет светлая минутка, — я постараюсь высказаться получше.
Всей душою Ваш
Н. Страхов
26
1880. Печатается по: РО
9 марта.
Спб.
ИРЛИ. Ф. 302.
Оп. 2. Ед. хр. 300.
Л. 5.
Впервые: Совре-
1 С планами посмотреть на «Царьград» и Святую Софию, а также побывать на менный мир. 1913. Святой Горе, Страхов, по его признанию, «носился» с зимы 1878/79 г. О намерении № 9. С. 248-249. посетить летом Константинополь и Афон он писал Толстому еще в мае 1879 г. (п. 235). Ответ на п. 258. Поездка не состоялась, однако Страхов предполагал осуществить свое желание «на
следующее лето», о чем сообщил Н. Я. Данилевскому в письме от 4 мая 1879 г. (см. примеч. 7 к п. 235). Но и в 1880 г. отправиться «на Восток» не удалось, хотя от планов предпринять поездку он не отказывался: «... очень меня манит проехать в Константинополь; нужно припасти денег, выехать попозже, в августе...» (письмо Н. Я. Данилевскому от 5 августа 1880 г. — РВ. 1901. Январь. С. 142). Путешествие в Константинополь и на Афон Страхов совершит в августе - сентябре 1881 г. См. п. 290, примеч. 5 и п. 295, примеч. 2,7.
2 Страхов был медлителен в работе («копотлив») и охотно признавал за собой этот недостаток: «...ужасное расположение копаться, при котором одно слово может отнять полчаса»; «...я вдвое медленнее работаю, чем всякий другой (...) я тяжел на подъем, я думаю больше, чем нужно...» (письма А. А. Фету от 25 марта и 1 апреля 1880 г. — Фет. Переписка II. С. 308, 310). Однако Страхов не всегда писал так тягуче: было время, когда его манера работать отличалась быстротой и даже «торопливостью» (см. примеч. 4 к п. 274). И — «выходило, однако, недурно. Торопливость меня подстрекала, оживляла» (цит. по: Аксаков — Страхов. Переписка. С. 59). К тому же, то, что со стороны могло казаться нерасторопностью и вялостью, на самом деле имело основание в свойственном ему чувстве повышенной ответственности, в стремлении как можно добросовестнее и тщательнее выполнить намеченное («Я пишу, взвешивая каждое слово и каждую запятую, как можно короче и как можно яснее» — письмо Н. Я. Гроту от 3 декабря 1890 г. — Николай Яковлевич Грот в очерках, воспоминаниях и письмах товарищей и учеников, друзей и почитателей. СПб., 1911. С. 243). На его требовательность к себе и к другим Фет шутя жаловался Толстому: «Опять за корректуру, которую надо сейчас к поезду. Страхов строг и внушает много страхов» (Фет. Переписка II. С. 89). Сам Страхов, со свойственной ему склонностью к самокритике и самообвинению, нередко называл это свое качество (въедливость) — «леностью». Об этом он, например, писал Фету в связи с работой над публикацией перевода А. Шопенгауэра: «...я ленюсь над корректурою. А я ленюсь, потому что часто приходится справляться с подлинником: я не могу подписать к печати, пока совесть у меня не совсем спокойна, и несколько явных неверностей, которые чуть было у меня не проскользнули, очень меня взволновали» (Там же). «Куда Вы торопитесь (...)
27
Я, напротив, видя, что дело к концу, становлюсь всё строже и строже, и держу свои две корректуры с особенной тщательностью» (письмо от 17 октября 1880 г. — Там же. С. 318). Несколько позднее он признается в письме к тому же Фету, что обдумывание вставки «четырех строчек» предисловия заняло у него целых «два дня» (письмо от 6 ноября 1880 г. — Там же. С. 322. — Курсив Страхова). Сознавая особенность своего темперамента и ее неудобство для исполнения деловых обязательств, Страхов тяготился неспособностью преодолеть это свойство характера. «Во мне есть косность, замедляющая все мои мысли и действия, и от этого часто выходит, что я поступаю несогласно с самыми искренними своими чувствами. И Лев Николаевич часто укоряет» (письмо Фету от 30 мая 1878 г. — Там же. С. 251);«... Я сам прихожу в негодование от своей нескладности и вялости», — сетовал он в письме Н. Я. Данилевскому от 5 августа 1880 г. (РВ. 1901. Январь. С. 142) . «Тягучесть», «вялость» Страхова особенно сильно действовала на более подвижного, энергичного Фета (что не мешало ему высоко ценить дружбу Страхова): «Мы с ним дошли до возможности, не обижая другого, выражать свои мысли, и я, не заикаясь, готов ему сказать, что он более черепаха, чем Ахиллес быстроногий. (...) Так он ест, пьет, раскладывает пасьянс, гуляет — словом, его герб — черепаха. Это раздражительное качество не мешает ему быть милейшим человеком» (письмо Толстому от 21 ноября 1880 г. — Толстой. Переписка с писателями IL С. 114). Медлительность Страхова отмечал и Толстой. В дневнике домашнего учителя детей Толстых В. Ф. Лазурского 9 марта 1896 г. записано: «Я завел разговор о покойном Н. Н. Страхове (...) Лев Николаевич (...) стал говорить о Страхове с большой любовью и уважением. Он мало знал таких всесторонне образованных людей, как Страхов, очень ценил его скромность, хотя не может не сознаться, что работал Страхов чересчур медленно» (АН. Т. 37-38. С. 489).
3 Вероятно, имеется в виду статья о физиологии, над которой Страхов продолжал усиленно работать. См. п. 244, 246,252,257 и примеч. 3, 262 и примеч. 28, 29.
4 В этот период Страхов об «Анне Карениной» ничего не опубликовал. О замысле написать статью см. п. 244 и примеч. 22, п. 246 и примеч. 1.
5 Речь идет о переломе в воззрениях Толстого. Стасов, будучи атеистом, воспринимал обращение Толстого к религии отрицательно. Кроме того, он, подобно многим, выражал опасение, что изменившиеся взгляды повредят Толстому как художнику слова. Характерно, что будучи осведомленным о новом «фазисе» духовного развития Толстого и его отходе от художественного творчества, он в своих письмах к нему продолжал интересоваться только его литературной работой. «А как я радуюсь, что вы крепко присели к работе, если не к Декабристам, то к Петровским раскольникам и старой Руси. У вас, мне кажется, наверное выйдут чудеса! Буду ждать этих чудес не с меньшим нетерпением, чем вся остальная Россия», — писал он Толстому 6 марта 1880 г. (Толстой и Стасов. Переписка. С. 51), когда тот, по выражению жены, давно всё «пишет какие-то религиозные рассуждения», а «Декабристы и вся деятельность в преж28
нем духе совсем отодвинута назад» (Гусев III. С. 590, Дневники Софьи Андреевны Толстой. 1860-1891. С. 42).
6 О взглядах Фета на религиозные искания Толстого см. примем. 5 к п. 257. В «обличительных» суждениях Фета Страхов мог также расслышать мотивы, близкие по своему содержанию мнению Стасова об «угасании» художественного мастерства Толстого, как причине его обращения к религиозно-философским темам. Ср. в письме Страхову от 5 февраля 1880 г.: «Эта вера, по-моему, плод обманутой собствен [ной] неспособности к практике (...) Не удается труд, не мил он мне, не выходит ничего, — ругай труд, ругай всё и говори: ничего не нужно...» (Фет. Переписка II. С. 303).
7 Из контекста письма Страхова можно предположить, что Д. И. Менделеев с недоумением воспринял новые воззрения Толстого.
8 Письмо Стасова см.: Толстой и Стасов. Переписка. С. 50-51. Стасов ответил Толстому 6 марта.
9 Общественно-политические взгляды П. Д. Голохвастова, сторонника идеи созыва Земского собора, совпадали с реформаторским настроением конца царствования Александра II и намерением М. Т. Лорис-Меликова содействовать сближению правительства с общественностью путем привлечения к законотворческой (законосовещательной) деятельности представителей земства и городов. Непосредственное участие Голохвастова в разработке проекта возможных административных преобразований пришлось на начало царствования Александра III, когда он некоторое время состоял чиновником особых поручений при министре внутренних дел Н. П. Игнатьеве. После отказа от идеи образования совещательного органа власти Голохвастов вышел в отставку.
10 Несмотря на свою близость к центру событий, Страхов, вероятно, располагал ограниченными сведениями о готовившихся переменах, в том числе в ведомстве его непосредственного подчинения. Так, слухи о возможной отставке министра народного просвещения Д. А. Толстого проникли в печать еще в конце 1879 г. И. С. Тургенев в письме от 26 декабря (7 января 1880 г.) из Парижа спрашивал своего постоянного корреспондента и информатора о делах в России П. В. Анненкова: «В сегодняшних телеграммах упоминается об отставке гр. Толстого (министра просвещения)? (...) знаменательный факт — которому я, однако, плохо верю...» (Тургенев И. С. Поли. собр. соч. и писем: в 28 т. Письма. Т. 12, кн. 2. С. 196). Хорошо осведомленный в событиях своего ведомства по должности редактора «Журнала Министерства народного просвещения» Е. М. Феоктистов вспоминал: «„Диктатура сердца“ на первых же порах жадно заискивала популярности, а что могло быть пригоднее для этого как пожертвовать графом Толстым? Для всех было ясно, что дни его изочтены...» (Феоктистов Е. М. Воспоминания: За кулисами политики и литературы. 1848-1896. Л., 1929. С. 185). Позднее М. Т. Лорис-Меликов признавался, что борьба за отставку Д. А. Толстого стоила ему «двухмесячных трудов и усилий». Подробнее об обстоятельствах 29
увольнения гр. Толстого от должности см.: Там же. С. 185-186; Валуев П. А. Дневник. 1877-1884. Пг., 1919. С. 84-88.
11 См. примеч. 5 к п. 258. О политическом направлении деятельности главы новоучрежденной Верховной распорядительной комиссии было мало что известно даже в среде высшей государственной администрации. Военный министр Д. А. Милютин записал в дневнике, что решение Александра II о новом назначении оказалось «неожиданным» для самого М. Т. Лорис-Меликова, который, после беседы с императором, «понял свою новую роль не в значении только председателя следственной комиссии, а в смысле диктатора, которому подчиняются все власти, все министры» (запись от 10 февраля 1880 г. — Дневник. Т. 3. С. 217). Не менее «неожиданными» оказались и действия самого «диктатора», добившегося спустя две недели после своего назначения увольнения с должности начальника III отделения шефа жандармов генераладъютанта А. Р. Дрентельна и переподчинения себе этой структуры с включением ее в состав Верховной комиссии (запись от 26 февраля 1880 г. — Там же. С. 225).
260
25 марта 1880 г. Л. Н. О С Л. ТоЛСТЫе — СтрЮХОВу
Ясная Поляна
Благодарствуйте, дорогой Николай Николаич, что не отказали мне. Я очень, очень рад и благодарен вам. Я всё работаю1 и не могу оторваться и часто счастлив своей работой, но очень часто слабею головой. Напишите как-нибудь.
Любящий вас
Л. Толстой
Мы все так рады, Николай Николаевич, что вы согласились к нам приехать на лето, и мы постараемся, чтоб вам было хорошо и удобно. Меня всегда мучает, что вам у нас беспокойно и шумно, и скучно. Сестра тоже приедет 1-го мая на всё лето, и я себе представляю лето как праздник2. Лёв Николаевич совсем себя замучал работой, ужасно устает и страдает головой, что меня сильно тревожит3. Но оторвать его нет никакой возможности4.
30
Как вы теперь поживаете, что ваше здоровье и ваша работа? Моя мечта — прочесть когда-нибудь сразу все ваши сочинения, но теперь мне от Марфинских («Марфа, Марфа, печешеси о мнозем»)5 трудов нет ни времени, ни умственной свежести понять серьезный труд.
До свиданья, Николай Николаевич, спасибо вам, что нас не забываете.
С. Толстая
1 Имеется в виду «Соединение, перевод и исследование 4-х Евангелий» — труд, который будет завершен в августе 1881 г. Содержание этой работы Толстой определял как «исследование христианского учения не по этим [церковным] толкованиям, а только по тому, что дошло до нас из учения Христа, приписываемого ему и записанного в Евангелиях, перевод четырех Евангелий и соединение их в одно» (Юб. Т. 24. С. 801 ). Позднее, в предисловии к одному из переизданий труда, Толстой отмечал: «Книга эта была писана мною в период незабвенного для меня восторга сознания того, что христианское учение, выраженное в Евангелиях, не есть то странное, мучавшее меня своими противоречиями, учение, которое преподается церковью, а есть ясное, глубокое, и простое учение жизни, отвечающее высшим потребностям души человека» (Там же. С. 7).
2 Сестра — Т. А. Кузминская. Ср.: «С приездом семьи Кузминских для нас с сестрой начинался праздник лета, как мы это всегда говорили. Осень и зима — это страда рабочей жизни; зато летом мы, среди забот о детях и хозяйстве, умели находить время и для веселья» (Толстая. Моя жизнь I С. 317. — Курсив С. А. Толстой).
3 Несмотря на то, что погруженность Толстого в религиозно-философские темы и их далекое от канонически принятого осмысление «очень тяжело» отражались на эмоционально-нравственном состоянии Софьи Андреевны, она стремилась стойко переносить это время своего растущего отчуждения от захвативших мужа идей и не переставала верно заботиться о его семейном, бытовом благополучии и душевном спокойствии. Преданность С. А. Толстой семье и мужу, ее надежда на возвращение Толстого к художественному творчеству поддерживали в ней душевные силы и помогали справляться с угнетавшем ее однообразием замкнутой жизни «в деревне». Внимание к повседневным мелочам быта писателя, желание всячески оградить его творческую работу от возможных помех и неудобств принимали у нее нередко самые исключительные формы. В воспоминаниях она признавалась: «Сестра меня часто упрекала в излишней и чрезмерной моей заботливости о муже». Однако сама Софья Андреевна продолжала держаться своего понимания условий «семейного счастья» и собственного житейского правила, которые представляла себе так: «...я считаю, что мужчиПечатается по: ОР ГМТ. Ф. 1. № 5446. Л. 1-1 об. Нал. 1 помета Страхова: «25 мар[та 1880]». Впервые: Современный мир. 1913. № 9. С. 249-250 (без приписки С. А. Толстой); полностью: ПТСII. С. 147. В Юб:. Т. 63. С. 15.
Датируется по помете Страхова. Ответ на п. 259.
31
ны постоянно напрягают ум и, следовательно, голову и нервы их надо беречь прежде всего; и за эту тишину, за соблюдение их нерв они после работы приносят в семью хорошее расположение духа, а если мы их раздражаем, мы сами страдаем от этого» (Толстая. Моя жизнь I С. 315). — Обеспокоенность тем, что у Льва Николаевича так усиленно-напряженно, «так страшно работает голова» не раз высказывал и Страхов. В одном из писем к А. А. Фету он делился своей тревогой: «Я иногда со страхом думаю о нем: так горяча, непрестанно-кипуча его умственная жизнь» (письмо от 25 ноября 1880 г. — Фет. Переписка II. С. 324).
4 Страстную поглощенность мужа новым «учением» («читает и думает до головных болей») С. А. Толстая готова была воспринимать как своего рода болезненную одержимость («болезнь»), справиться с которой было тем труднее, что писатель и сам оказывался не в силах преодолеть увлечения захватившей его идеей. По ее мнению, «им владеть, предписывать ему умственную работу, такую или другую, никто в мире не может, даже он сам в этом не властен» (Гусев III. С. 590). Страхов, имевший возможность наблюдать интенсивную творческую деятельность «наивной и до конца поглощаемой мыслью души» писателя, замечал, что «Льву Николаевичу труднее жить на свете (...) Его внутреннее беспокойство, его стремительная внутренняя работа так его поглощают и волнуют, что мне не раз становилось его жаль» (письма А. А. Фету от 30 июля и 24 октября 1880 г. — Фет. Переписка II. С. 314,320). Толстой и сам понимал, насколько охватившее его состояние может угнетающе действовать на окружающих («было противно другим»), и, во избежание недоразумений, просил не ставить ему в вину свое возможное невнимание в то время, когда он, по его словам, «предавался своему сумасшествию» (Юб. Т. 62. С. 507; Т. 63. С. 17-18).
5 Лк. 10: 41-42 («Марфа, Марфа, ты заботишься и суетишься о многом, а одно только нужно» — слова Христа, обращенные к Марфе из Вифании).
32
261
Страхов — Толстому 25 марта 1880 г.
Санкт-Петербург
Пишу к Вам, бесценный Лев Николаевич, только чтобы доказать, что всё думаю об Вас и хотел бы сделать Вам что-нибудь приятное. Но меня что-то мучит, а что — я сам не знаю и не сумею даже хорошенько пожаловаться. Уж не корректуры ли Шопенгауэра?1 Вот уже полтора месяца, как он печатается и беспокоит меня немало. Мне досадно, что при этом я не успеваю ни за что приняться. Между тем я читаю, и преимущественно в том направлении, которое Вы воплощаете в себе в такой удивительной мере. Я не мог многого понимать, до тех пор пока не увидел перед собою живого человека, который, как я твердо знаю, понимает это дело не отвлеченно, а сердечно. И те, которые не знают Вас, не знают Вашей души, едва ли могут Вас понять. Они принимают Ваши слова в какомнибудь другом смысле, и думают, что Вы парадоксальничаете и дразните их2. Я читал — Deutsche Theologia3, M-me Guyon4, Сведенборга, Фихте, читал об Аверроэсе5, о Людях Божиих6 — особенно интересны сведения об Радаеве1, которого судили в пятидесятых годах (в книге Добротворского8), — и пр. и пр. Везде я вижу одно, та же основная мысль об отречении от мира и своего «я» и об единении с Богом всюду составляет сущность дела и только искажается разными прибавками. И это идет от древнейших времен Индии и Персии.
А Герберт Спенсер написал недавно статью о добре и зле9; в ней он преглубоко доказывает, что добро есть удовольствие, а зло — неудовольствие. Что же касается до аскетов, то он объясняет их тем, что дикие люди любят смотреть на мучения пленных врагов, а потому некоторые сумасброды вообразили, что и Богу будет приятно, если они станут себя мучить перед Его глазами. Так рассуждает самый известный и самый плодовитый философ нашего времени. Я видел недавно японца, кото-
33
Печатается по: PO ИРЛИ. Ф. 302. Оп. 2. Ед. хр. 300. Л. 6-7. Впервые: Современный мир. 1913. №9. С. 250-251.
рый в год с небольшим выучился по-русски10. Первое, что он начал читать, были Бокль11, Дрепер12 и Спенсер13.
Простите, дорогой Лев Николаевич. Весна у нас ужасная. Холода были очень противны, без снега и с ветром. Теперь полегче.
Всею душою Вам преданный
Н. Страхов
1880.
25 марта.
Спб.
1 По договоренности с А. А. Фетом, который перевел первый том (четыре книги основного текста) трактата А. Шопенгауэра «Die Welt als Wille und Vorstellung» («Мир как воля и представление» — Leipzig, 1819; 2-е изд.: Leipzig, 1844. Bände 1-2), Страхов читал корректуры издания, набиравшегося и печатавшегося с середины февраля в петербургской типографии М. М. Стасюлевича. Книга вышла с предисловием Страхова (СПб., 1881. С. V-VIII). О работе Фета и Страхова над сверкой перевода труда Шопенгауэра см. п. 240 и примеч. 3, п. 243. Ср. п. 267. Подробнее о помощи Страхова в издании книги см. его переписку с Фетом за февраль - ноябрь 1880 г. (Фет. Переписка II. С. 305-326).Отзыв Толстого о предисловии Страхова см. в п. 277.
2 В словах Страхова можно услышать скрытый, но вполне внятный для Толстого, намек на непонимание его исканий, нового «направления» и «открытий» некоторыми церковными иерархами и А. А. Фетом (см. п. 257 и примеч. 5,6; п. 259 и примеч. 6). Последний, в частности, в письмах к Страхову и Толстому продолжал настаивать на своем неприятии проповеди Толстого. Причину такого затруднения Страхов, считавший, что Толстой открыл истинный «дух христианства», видел в нежелании оппонентов возвыситься до точки зрения человека, высказавшего взгляд, противоположный общепризнанному, и пропустить проповедуемые Толстым мысли через душу. В своих обращениях к Фету он замечал: «Вы справедливо пишете, что не понимаете, а я прибавлю, что причина в Вас, т. е. не в Вашем уме, а в Вашем сердце — (главная причина всякого непонимания). Нужно понять: совершенное отчаяние, отвращение от пустоты жизни, не боязнь страданий, а то, что человек не видит, для чего живет. Потом нужно почувствовать, что из этого страшного положения есть выход, полный выход, такой, что человек чувствует вдруг блаженство жизни, какого еще никогда не чувствовал. Если Вы ни того, ни другого не чувствовали, то и не можете понять, в чем дело. Так сытый не понимает голодного (...) Но попробуйте отведать настоящего отчаяния. — / Вот такой странный совет я Вам даю,- но иначе невозможно подняться с той точки зрения, на которой Вы стоите. Я, впрочем, ничего Вам не советую — какой я со34
ветчик! — я только стараюсь объяснить Вам, почему Вы приходите в недоумение». «Другое дело, если бы у Вас обнаружилось внимание и Вы бы обратились, напр[имер] к Л. Н. с открытою, а не с закрытою для восприятия душою». «Уверяю Вас, что он нашел мысли ясные, глубокие, которые вполне стоит понять; попробуйте — поймите». «Взгляда Л. Н. нельзя понимать, не сочувствуя ему; вот почему Ренан, Штраус никак не могли попасть на эту точку зрения. А кто попал, тот не уйдет, а если уйдет, то вернется. Особенно странно то, что глубоко-верующие архиереи-монахи — все-таки не понимают» (письма от 14 сентября, 24 октября, 25 ноября, 18 декабря 1880 г. — Фет. Переписка II. С. 316 -317, 320, 324, 327).
3 «Немецкая теология» — анонимный мистический трактат конца XIV — начала XV в., оказавший влияние на М. Лютера и опубликованный им с комментариями под названием «Eyn deutsch Theologia» в 1516 г. (фрагменты) ив 1518 г. (полный текст).
4 О мадам Гюйон (Guyon) — см. примеч. 19 к п. 178.
5 Представитель восточного аристотелизма XII в. Аверроэс (Ибн Рушд), арабский философ и врач. Помимо прочих источников, Страхову могло быть известно исследование Э. Ренана «Averroès et Г averroïsme: essai historique» («Аверроэс и аверроизм: исторический очерк» — Paris, 1852; 2-изд., испр. и доп.: Paris, 1861).
6 Имеется в виду книга профессора церковной истории Казанского университета И. М. Добротворского. См.: Добротворский И. М. Люди Божии. Русская секта так называемых духовных христиан. Казань, 1869.
7 Василий Радаев, представитель арзамасской секты духовных христиан, был в 1853 г. осужден за хлыстовство.
8 См. примеч. 6.
9 Вероятно, имеется в виду работа Г. Спенсера «Основание этики» (Spencer, Herbert. The Data of Ethics. London, 1879). Русский перевод вышел в 1896 г. под названием «Научные основания нравственности».
10 Об этом встреченном у востоковеда К. А. Коссовича японце, который использовал знание русского языка для чтения популярных в России книг европейских позитивистов, Страхов с иронией упоминает в письме к Н. Я. Данилевскому от 4 мая 1880 г. (PB. 1901. Январь. С. 140). Ср. язвительный отклик В. В. Розанова на это сообщение Страхова о популярности в 1860-е гг. в России «новейших выводов естествознания» и западных философов-позитивистов в книге «Мимолетное. 1914»: Розанов В. В. Когда начальство ушло... М., 1997. С. 343.
11 Английский историк и социолог Генри Томас Бокль (Buckle), представитель позитивизма. Его главный труд — «The History of Civilization in England» (1857-1861) был сразу же переведен на русский язык: Бокль Г. Т. История цивилизации в Англии. СПб., 1861.
12 Американский философ-позитивист, ученый и врач Джон Уильям Дрэпер, или Дрейпер (Draper), отрицал религию, противопоставлял ей науку, используя эволюци35
7 апреля 1880 г. QiHKT-Петербург
онные идеи Дарвина. В России были популярны его книги: «History of the Intellectual Development of Europe», 1862 (рус. пер.: «История умственного развития Европы», 1866); «History of the Conflict between Religion and Science», 1874 (рус. пер.: «История отношений между католицизмом и наукой», 1876).
13 Основные опубликованные произведения Спенсера были к тому времени переведены на русский язык; большая их часть представлена в изд.: Спенсер Г. Собр. соч.: в 7 т. СПб., 1866-1869.
262 Строхов — С Л. Толстой
От всей души благодарю Вас, многоуважаемая графиня, за Ваше ласковое приглашение. Мне всегда у Вас хорошо, и прошу Вас, откиньте всякую мысль о том, что мне может быть неудобно и скучно. Хоть и у Вас на меня нападает иногда мой злой демон, но нигде он так скоро не уходит, как у Вас. У Вас я всегда делаю запас душевного здоровья, которое здесь как-то трудно сохраняется1. Впрочем, вот уже с неделю как я опять повеселел, а то всё тосковал, несмотря на всевозможную кутерьму кругом. Немножко расскажу Вам. Антокольский2 привез сюда бесподобные статуи, между прочим Христа перед народом3 и Смерть Сократа4. Сократ поразил меня сильно; я дважды ходил смотреть и не мог насмотреться. Удивительно безобразно-красивая голова, и спокойствие смерти, полное смысла и какого-то блаженства. А из-за Верещагина мы поругались со Стасовым5; когда я накричал на него неприличнейшим образом, так что самому стало совестно, то это ему, кажется, ужасно понравилось. Он стал потом очень мил со мной, и мы теперь большие друзья. Дело шло, впрочем, не столько о Верещагине, как о статье Стасова в «Голосе»6.
Затем большое событие — я был позапрошлый четверг у графини С. А. Толстой7, вашей тезки. Я туда собирался уже года полтора и, наконец, исполнил этот долг. Там я нашел Гончарова8 и Достоевского9, которые, говорят, не пропускают ни одного четверга, кроме того — Марке36
вича10, Полонского11, Владимира] Соловьева12, Дм[итрия] Цертелева13, Киреева14 — всё знакомых. Большой свет состоял из Игнатьева13 и дам16, которых, к несчастью, невозможно было рассмотреть в модном полумраке17. Графиня считается женщиной необычайного ума, и любезна необыкновенно, так что я почувствовал желание подражать Гончарову и Достоевскому. Только нет у меня такого фрака с открытою грудью, в каких они сидели и какие Вл. Соловьев считает решительным бесстыдством.
Через два дни — какие страшные новости! Кн[язь] Дм. Цертелев, молодой человек лет 2518, писавший стихи и философские статьи, с которым я разговаривал у графини (а знал я его давно, и он затеял философское общество19) — сошел с ума! Он жил вместе с Вл. Соловьевым20, стал бредить, бесноваться, жечь книги и т. д.21 Соловьев рассказывал, что испытал ужасное впечатление. И в самом деле — это хуже смерти, это ужаснее всего на свете. А был очень милый молодой человек, хотя и слаб и в поэзии, и в философии22.
Через неделю, вчера — совершилось наконец великое торжество — был диспут Вл. Соловьева на доктора философии23. Сам он был великолепен; так спокоен, прост, так мастерски говорил. К несчастью, сильных возражений не было, и из семи возражателей24 ни один не коснулся существа дела — как это, впрочем, обыкновенно бывает на диспутах. Поэтому всё шло довольно вяло. Два позитивиста, выскочившие в конце, были опрокинуты Соловьевым с олимпийским спокойствием25. Но сам Соловьев что-то стал кручиниться. Когда он стоял на кафедре, никто бы не дал ему меньше 35 лет26, а сегодня он мне опять повторил, что ему скверно что-то. Верно, есть что-нибудь, чего он не хочет рассказывать27.
Мое здоровье — кажется, всё лучше и лучше. Впрочем, мне всегда кажется, что я поправляюсь, точно так, как постоянно кажется, что понемногу становлюсь умнее и добрее. Всё это может быть обман. Нет, однако. Часто я теперь благословляю судьбу, что довелось мне узнать Льва Николаевича, потому что вспоминаю его наставления, и они часто
37
Печатается по: PO ИРЛИ. Ф. 247. № 50. Л. 1-2. Впервые: Современный мир. 1913. №9. С. 251-253. Ответ на п. 260.
помогают мне — точно вдруг почувствую твердую почву под ногами, когда совсем уж боялся утонуть.
Статья моя28 — зреет. Оказывается, что гг. профессора очень обиделись моим намерением читать ее на съезде29. «Как смел он затевать перестройку всей системы естественных наук? Как смел учить нас азбуке дела?» Такие речи меня порадовали: значит, задело за живое — а я думал, они и не поймут.
На Страстной и Святой думаю пописать30. А то большую часть времени у меня поглощает чтение; в своей собственной библиотеке я провожу лучшие часы, — блуждая от книги к книге, задавая вопросы и находя на них ответы; очень я это люблю31.
Вот, многоуважаемая графиня, беглый отчет о том, в каком роде я живу и чувствую себя. Вообще я стараюсь жить помаленьку и потихоньку. Еще раз душевно благодарю Вас, и с большою радостью подумываю о лете.
Ваш душевно преданный
Н. Страхов
1880.
7 апр[еля]. Спб.
1 О благотворном влиянии пребывания у Толстых в Ясной Поляне Страхов высказывался не раз. В письме к А. А. Фету от 30 июля 1880 г., написанном после летнего посещения имения Толстых, он отмечал, что Ясная Поляна всегда оставляет в нем «сильное благодатное впечатление», и признавался, что физическая и нравственная апатия исчезает у него «только среди веселья Ясной Поляны» (Фет. Переписка II. С. 314). Впечатления Страхова разделал и Фет, уверявший Толстого: «Ужасно порываюсь в Ваши прелестные Афины Ясной Поляны. Только они для меня значительны и интересны...» (письмо от февраля - марта 1880 г. — Там же. С. 87).
2 Страхов познакомился с жившим с 1872 г. за границей (с 1877 г. — в Париже) скульптором М. М. Антокольским еще до его отъезда из России, вероятно, в самом начале 1870-х гг. Позднее он встречался с ним в Риме в мае 1875 г., когда посетил Италию во время своего заграничного путешествия. В Риме Антокольский оказывал Стра38
хову некоторые бытовые услуги. Отзыв Страхова об Антокольском см. в п. 93. В марте 1880 г. в залах Академии художеств в Петербурге был устроен показ скульптурных работ Антокольского. Страхов находил, что «выставка [Антокольского] доказывает такое строгое и чистое понимание искусства, что нельзя нарадоваться» (письмо к А. А. Фету от 25 марта 1880 г. — Там же. С. 309).
3 О скульптуре «Христос перед народом» (1874 г.) Толстые уже имели представление: И. С. Тургенев, побывавший в августе и сентябре 1878 г. в Ясной Поляне, живо описал им работу Антокольского, виденную ранее в Париже. Ср.: «Тургенев всех нас прельстил своим красноречием и картинностью изложения самых простых и вместе и возвышенных предметов. Так он описывал статую „Христос" Антокольского, точно мы все видели его...» (Гусев III. С. 510; см. также: Толстая. Моя жизнь I. С. 293). В настоящее время скульптура находится в Третьяковской галерее в Москве.
4 Скульптура «Умирающий Сократ» (1875) произвела на Страхова особенно сильное впечатление. В письме А. А. Фету от 25 марта 1880 г. он делился испытанным чувством: «Сегодня я опять ходил посмотреть на Сократа Антокольского, и очень жалел, что Вас не было; я уверен, что Вы были бы в восторге. Антокольского, несмотря на его полнейшее жидовство, я очень люблю...» (Фет. Переписка II. С. 309). Работа находится в Русском музее в Петербурге.
5 Страхов, в отличие от В. В. Стасова, скептически воспринимал творчество живописца Василия Васильевича Верещагина, не обнаруживая, вероятно, в нем «строгого и чистого понимания искусства» (см. примеч. 6). Поводом для спора стали работы художника, выставленные в феврале 1880 г. в Петербурге одновременно на двух его выставках. — Между Толстым и Верещагиным произошло недоразумение во время пребывания писателя в Петербурге в конце января. Настойчиво желавший познакомиться с Толстым лично, Верещагин напрасно прождал его в течение нескольких часов в Публичной библиотеке: Толстой так и не явился на заранее условленную встречу. Уязвленный невниманием, художник написал в Ясную Поляну резкое письмо (неизвестно). Толстой, не желавший усилить в нем прямым ответным обращением «чувства враждебности», принес свои извинения через Стасова. См.: Толстой и Стасов. Переписка. С. 49; Юб. Т. 63. С. 10-11).
6 Речь идет о статье Стасова «Оплеватели Верещагина», опубликованной в газете «Голос» № 72 за 1880 г., в которой он защищал творчество художника от обвинений критики в предвзятой трактовке выбираемых сюжетов и навязчивом натурализме в цикле картин на тему Русско-турецкой войны. Характерно, что эти «ультра-реалистические» живописные полотна Верещагина вызывали критические суждения даже со стороны профессиональных военных. Так, «кровавыми» считал его батальные работы вел. кн. Константин Константинович (псевдоним «К. Р.»), непосредственный участник боевых действий (запись в дневнике от 13 марта 1880 г. — Октябрь. 1993. № 12. С. 125). Военный министр Д. А. Милютин, специально осматривавший закры-
39
тую экспозицию, устроенную для Александра II, оставил о ней в дневнике такое впечатление: «... зашел я в Николаевский зал Зимнего дворца, где выставлены для государя картины Верещагина, наделавшие столько шуму и возбудившие ожесточенные споры между поклонниками его таланта, большей частью ультра-реалистами, и противниками, признающими эти картины не воспроизведением сцен минувшей войны, а профанацией [этой] войны, злобною каррикатурой того, что составляет гордость и святыню для народного чувства. Действительно, Верещагин, неоспоримо талантливый художник, имеет странную наклонность выбирать сюжеты для своих картин самые непривлекательные; изображать только [тяжелую и] неприглядную сторону жизни и, вдобавок, придавать своим картинам надписи в виде ядовитых эпиграмм с претензиями на [мизантропическое] остроумие. Так, например, изобразив на трех картинах часового, занесенного снегом и замерзающего, он над всеми этими изображениями пишет: „На Шипке всё спокойно“. На картине, изображающей государя и свиту его под Плевной, в виду кровопролития, он надписывает „Царские именины“. Впрочем, эта надпись, красовавшаяся в Париже, здесь, конечно, исчезла. Не имев возможности быть на выставке, привлекавшей массы народа, я рад был удобному случаю, чтобы лично проверить слышанные мною бесконечные толки об этих картинах; и должен сознаться, что, обойдя весь ряд картин, вынес грустное впечатление. Самого художника не было в зале; государь, пожелав видеть картины, не желал видеть самого автора» (Дневник. Т. 3. С. 235).
7 Вероятно, речь идет о «четверге» 27 марта на ул. Миллионной, д. 30. Софья Андреевна Толстая (урожд. Бахметева, в первом браке Миллер), вдова поэта А. К. Толстого, дальнего родственника Толстого. По отзыву А. Г. Достоевской, «это была женщина громадного ума, очень образованная и начитанная. Беседы с ней были чрезвычайно приятны для Федора Михайловича, который всегда удивлялся способности графини проникать и отзываться на многие тонкости философской мысли, так редко доступной кому-либо из женщин...» (Достоевская А. Г. Воспоминания. М., 1987. С. 376). О салоне С. А. Толстой подробнее см., например: АН. Т 86. С. 303-305). О знакомстве (в мае 1875 г.) Страхова с С. А. Толстой и ее «племянницей» С. П. Хитрово см. п. 147. После одной из встреч с С. А. Толстой в Петербурге Страхов писал о ней А. А. Фету: «Этот сфинкс совершенно очарователен своею тонкостию, простотою и живостью. Впрочем, я, как человек слепой по отношению к людям, не имею тут права на суждение. Меня поразила только удивительная сила и гибкость; а ей, должно быть, уже немало лет» (письмо от 6 апреля 1881 г. — Фет. Переписка II. С. 334).
8 Писатель Иван Александрович Гончаров.
9 А. Г. Достоевская в своих воспоминаниях также отмечала, что «всего чаще в годы 1879-1880 Федор Михайлович посещал (...) графиню Софию Андреевну Толстую», возможность общения с которой весьма ценил (Достоевская А. Г. Воспоминания. С. 376).
40
10 Писатель и публицист Болеслав Михайлович Маркевич, автор многочисленных, в том числе «великосветских» и «антинигилистических», романов и критических статей, среди прочего в газете «Голос» (под псевдонимом «Волна»).
11 Поэт Яков Петрович Полонский.
12 Философ Владимир Сергеевич Соловьев.
13 Князь Дмитрий Николаевич Цертелев, поэт, философ, близкий знакомый Вл. Соловьева, с которым они вместе учились в 5-й Московской гимназии и Московском университете.
14 Александр Алексеевич Киреев, генерал-лейтенант, член Славянского благотворительного общества.
15 Граф Николай Павлович Игнатьев, министр внутренних дел в 1881-1882 гг., принимал активное участие в деятельности петербургского Славянского благотворительного общества.
16 Мемуарное свидетельство А. Г. Достоевской позволяет уточнить имена постоянных посетительниц салона: «У графини С. А. Толстой Федор Михайлович встречался со многими дамами из великосветского общества: с графиней А. А. Толстой (родственницей графа Л. Толстого), с Е. А. Нарышкиной, графиней А. Е. Комаровской, с Ю. Ф. Абаза, княгиней Волконской, Е. Ф. Ванлярской, певицей Лавровской (княгиней Цертелевой) и др.» (Там же. С. 357).
17 Обладавшая большим женским обаянием, С. А. Толстая не отличалась, по мнению современника, привлекательностью лица. «Около нее всегда поддерживался некоторый таинственный сумрак, может быть, потому, что как она сама, так и С. П. Хитрово, были, в сущности, некрасивы» (Материалы к биографии Вл. Соловьева: (Из архива С. М. Лукьянова). — Российский архив: История Отечества в свидетельствах и документахXVIII — XX вв.: альманах. М.: Студия ТРИТЭ; Рос. архив, 1992. [Т.] 2/3. С. 397).
18 Д. Н. Цертелеву было около 28 лет.
19 О попытке составить в Петербурге Философское общество Страхов сообщал также А. А. Фету в письме от 22 февраля 1880 г.: «Сейчас должен ехать на собрание Философского Общества (...) Я уклонялся сколько мог от этих хлопот (...) Общество еще готовится только; а что будет делать, не решено. Затеял некто князь Дмитрий Цертелев, написавший книжку о Шопенгауэре — преплохую» (Фет. Переписка II. С. 306). Об участии Страхова в учредительном собрании общества см. п. 230. Страхов (вместе с Вл. Соловьевым) присутствовал также на собрании учредителей 15 февраля 1880 г., когда вырабатывался устав Философского общества (подробнее см.: Радлов Э. Л. Голоса из невидимых стран. — Дела и дни: Исторический журнал. Кн. 1. Пб., 1920. С. 190).
20 По воспоминаниям современника, «Соловьев жил в эту зиму [1880 г. — Сост.] на Петербургской стороне [на Каменноостровском проспекте — Сост.], неподалеку 41
от часовни Спасителя. Квартира — полупустая: два - три стула, кровать, книги, наваленные по углам. Впрочем, Соловьев этой квартирой почти не пользовался, так как ютился по большей части у знакомых и родных» (Материалы к биографии Вл. С. Соловьева: (Из архива С. М. Лукьянова). — Российский архив. [Т.] 2/3. С. 395). Одним из таких «знакомых» был Страхов, в квартире которого Соловьев бывал и жил не раз (в частности, во время заграничного путешествия Страхова — см.: Соловьев. Письма I. С. 7). О своем летнем проживании Соловьев писал матери из Петербурга: «Живу частию в Пустыньке у Толстой, частию здесь, в Европейской гостинице. (...) Думаю снять квартиру в Лесном, чтобы свободнее было заниматься, так как этот год мне предстоит много работы. Цертелев будет жить тоже в Лесном» (Соловьев. Письма II. С. 31). По замечанию биографа, «в сущности, прочного водворения, своего собственного уютного угла, Соловьев нигде и никогда не имел, за исключением родительского дома и лет, прожитых в нем; везде и всегда он был только как бы гостем...» (Лукьянов С. М. О Вл. С. Соловьеве в его молодые годы. Кн. 3, вып. 2. М., 1990. С. 90). Отношения Вл. Соловьева и Цертелева неплохо знавший их Э. Э. Ухтомский называет дающими «повод к некоторым сомнениям» — «их уже постоянно как-то связывали вместе». Ср.: «У князя Цертелева не было чувства благоговения к Соловьеву. Объясняется это отчасти его темпераментом, отчасти его внешней близостью к Соловьеву, отчасти его не совсем нормальным физическим состоянием в последние лет десять жизни. (...) Отношение князя Д. Н. Цертелева к Соловьеву можно бы назвать сдержанно-благосклонным. Восторгов, преклонения перед Соловьевым у него не было. Он находил, что Соловьев становится слишком близко к простым смертным, а надо бы помнить, что „мы“ — две крупные философские величины, стоящие превыше других людей. Он искренно считал себя равноценным Соловьеву. В свою очередь Соловьев, дружа с кн. Д. Н. Цертелевым, относился к нему несколько насмешливо.» (Материалы к биографии Вл. Соловьева: (Из архива С. М. Лукьянова). — Российский архив. [Т] 2/3. С. 397,399).
21 Болезнь Д. Н. Цертелева продолжалась относительно недолго. Ср.: «Князь Цертелев в ту пору (...) проживал где-то около Саблина [станция Николаевской железной дороги. — Сост.] на даче неподалеку от Пустыньки. Хворал несколько месяцев какой-то нервной болезнью. (...) Зиму 1880-1881 г. князь Д. Н. Цертелев прохворал. За ним ухаживала его мать. Говорили, что для утоления желудочных болей он принимал много опия. Больной сидел часами и катал большой камень... А от природы казался человеком крепким и здоровым. Появился в обществе после выздоровления зимой 1882-1883 г. У него был брат Алексей, [который] кончил жизнь ненормальным человеком (...) После зимы 1880-1881 г. признаков нервного расстройства не наблюдалось. По временам, однако же, опасались, как бы болезнь снова не дала о себе знать» (Там же. С. 396, 399,400). — Речь в воспоминаниях, записанных через 40 лет после упомя42
нутых событий, идет о заболевании Цертелева, рассказанном Страховым). Подробнее о Цертелеве см.: Там же. С. 396-397, 399-400. Расстроенное психическое состояние Цертелева стало предметом толков в петербургском обществе. И. С. Тургенев, вернувшийся в Париж после пятимесячного пребывания в России, на вопрос своей французской корреспондентки о новых явлениях в русской философии, не без иронии (имея в виду Цертелева и Вл. Соловьева) отвечал: «Вы меня очень удивили вашим вопросом о философии в России. Должен вам сказать, что там этим занимаются ужасно мало; правда, совсем недавно двое молодых писателей написали две книги об этом; а с давних пор ничего подобного там и не появлялось. И что же! Один из этих писателей сошел с ума, а другой не грани этого» (письмо Каролине Комманвиль от 10/22 июля 1880 г. — Тургенев И. С. Поли. собр. соч. и писем: в 28 т. Письма. Т. 12, кн. 2. С. 284; 390 пер. с фр. — Курсив Тургенева).
22Цертелев, несмотря на приписываемую ему Страховым философскую «слабость», успел к тому времени получить в Лейпцигском университете степень доктора философии за представленный на немецком языке труд по гносеологии А. Шопенгауэра (Schopenhauers Erkenntnisstheorie, 1879. — Теория познания Шопенгауэра, нем.) и являлся автором исследования «Философия Шопенгауэра. Ч. 1. Теория познания и метафизика» (СПб., 1880), с которой был знаком Страхов (см. примеч. 19). Его публичные лекции, состоявшиеся весной 1879 г. (см. п. 230), были напечатаны тогда же в журнале «Православное обозрение» и вышли отдельным оттиском под названием: Границы религии, философии и естествознания. Три чтения в Петербургском обществе любителей духовного просвещения. М., 1879. Первый сборник стихов Цертелева выйдет в свет в 1883 г.
23 6 апреля 1880 г. Соловьев защитил работу «Критика отвлеченных начал» в качестве диссертации на степень доктора философии. Защита, при большом стечении публики, состоялась в актовом зале Петербургского университета и продолжалась три часа — с 1 часа пополудни до 4. Главы диссертации печатались с ноября 1877 г. по январь 1880 г. в журнале «Русский вестник». Ее отдельное издание вышло в Москве в том же 1880 г. (опубл, в: Соловьев Вл. С. Поли. собр. соч. и писем: в 20 т. Сочинения. Т. 3. М., 2001. С. 7-360. — Далее: Соловьев. ПССиП, с указанием тома). Оставшийся незавершенным рукописный фрагмент речи Соловьева о философии, произнесенной на докторском диспуте, см.: Там же. С. 398-399 (полный текст речи не сохранился). Страхов подверг диссертацию Соловьева подробному разбору в статье «История и критика философии» (ЖМНП. Ч. 213. 1881. Январь. Отд. И. С. 79-115), и, несмотря на ряд серьезных возражений, в целом отозвался о ней положительно. Кроме Страхова, разбор диссертации Соловьева предприняли Б. Н. Чичерин («Мистицизм в науке». М., 1880), Н. Г. Дебольский («О высшем благе или О верховной цели нравственной деятельности: критическое исследование» СПб., 1886) и В. Д. Вольфсон 43
(«Позитивизм и „Критика отвлеченных начал“ В. Соловьева» СПб., 1880. — См. также примеч. 24). Подробное изложение работы Соловьева дал в ряде статей, опубликованных в 1880 г. в журнале «Мысль» (бывш. «Свет»; № 7, 8,10,11,12), Л. Е. Оболенский. Толстой был знаком (возможно, частично) с трудом Соловьева по его первым публикациям в журнале «Русский вестник» (см. п. 175). На завершение работы над рукописью и на подготовку диссертации к печати- его внимание обратил Страхов (см. п. 124, 170 и примеч. 10 к нему). Впоследствии Соловьев подарил Толстому отдельное издание своего труда; экземпляр с дарственной надписью автора сохранился в яснополянской библиотеке (см.: Описание ЯПб. Т. 1, ч. 2: М-Я. М., 1975. С. 251. № 2945).
14 Оппонентами Соловьева выступили проф М. И. Владиславлев (первый официальный оппонент), проф. богословия протоиерей В. Г. Рождественский (второй официальный оппонент), профессор всеобщей истории и исп. должн. декана историкофилологического ф-та В. В. Бауер, доцент полицейского права С. В. Вёдров, проф. химии А. М. Бутлеров, студент Онаков (Онапов?), кандидат математического факультета Вульфсон (В. Д. Вольфсон, полемизировавший с Соловьевым еще на его магистерском диспуте). Подробнее описание диспута см. в письме Соловьева А. А. Кирееву (письмо без даты, 1881 (?) г. [после 7 апреля 1880 г.]. — Соловьев. Письма II. С. 97-101).
25 Примером такого уверенного в себе «спокойствия» и полемической находчивости Соловьева может служить эпизод с замечанием Вульфсона. Последний не без укора напомнил Соловьеву, что полагаемое им в основу нормальных отношений человеческого общества чувство любви, было выдвинуто еще «отцом» позитивизма Огюстом Контом, о чем докторанту следовало бы упомянуть. На эту реплику Соловьев отреагировал ссылкой на то, что много раньше Конта любовь людям проповедовал Иисус Христос (Там же. С. 101). — Имевший возможность наблюдать публичные выступления Соловьева психиатр И. А. Сикорский отмечал поразившую его энергию внутренней убежденности и уверенности в своих духовных силах молодого ученого, и именно в этих качествах обнаруживал источник удивлявшего многих его «олимпийского спокойствия». «Уже с первого момента своей научной деятельности Соловьев производил сильное впечатление: и юный возраст философа, и глубина затронутых им вопросов, и оригинальность избранного направления, и самая смелость, с которою он вступил в борьбу с существовавшими философскими школами, указывали на глубокую веру в свои силы и в свое призвание. (...) Внешний вид Соловьева, его голос, выражение его лица, особая печать, всегда лежавшая в его глубоких глазах и кротком взоре — всё свидетельствовало о мире и безмятежности души, о философском самообладании и о высоком нравственном долге, бремя которого он ни на минуту не слагал с себя. Впечатление для наблюдателя было тем более сильным, что Соловьев с молодых лет
44
был тщедушен и слаб; так что всей своей фигурой он производил впечатление какой-то одухотворенной, бестелесной силы» (Сикорский И. А. Нравственное значение личности Владимира Соловьева. Киев, 1901. С. 3-4. — Отд. отт.).
26 В это время Вл. Соловьеву было полных 1Л лет.
27 Эту психическую предрасположенность «кручиниться» знал за собой и сам Соловьев. В недатированном письме к С. А. Толстой (вдове поэта) он признавался: «...я по своему меланхолическому темпераменту склонен чувствовать себя в забвении от Бога и людей (чего я, конечно, достоин)...» (письмо без даты, от 1879- 1880 (?) гг. — Соловьев. Письма II. С. 204). Возможно, что «скверное» расположение духа Соловьева было вызвано неудачей его объяснений с Елизаветой Николаевной Клименко (в замуж. Шуцкой), кончившихся отказом принять его предложение руки. Подробнее см.: Материалы к биографии Вл. С. Соловьева: (Из архива С. М. Лукьянова). — Российский архив. [Т]. 2/3. С. 415-418).
28 Вероятно, речь идет о продолжении работы над статьей «Об основных понятиях физиологии». См. п. 244 и примеч. 20, 21; п. 246 и примеч. 2.
29 Речь идет о VI съезде русских естествоиспытателей и врачей, проходившем в Петербурге 20-30 декабря 1879 г. («Речи и программы VI съезда русских естествоиспытателей и врачей в Петербурге». СПб., 1880. С. И). Страхов назван в числе участников съезда, но с докладом не выступал (Там же. Отд. I. С. 27).
30 Страстная неделя начиналась с 14 апреля, Святая — с 21 апреля.
31 Страхов очень любил свое книжное собрание, называл библиотеку «чудесной» и постоянно заботился о ее пополнении. Часто бывавший в это время у Страхова Э. Э. Ухтомский вспоминал: «Н. Н. Страхов жил за Мариинским театром, кажется, на Крюковом канале, в большом каменном доме, высоко. Прислуги у него не было; отворял дверь сам. Много книг: всё прикупал, ходя по антикварам» (Материалы к биографии Вл. Соловьева: (Из архива С. М. Лукьянова). — Российский архив. [Т]. 2/3. С. 398). Н. Я. Грот, один из корреспондентов Страхова, поддерживавший с ним живое общение, отмечал, что он «жил скромно» и «все свои сбережения тратил на пополнение превосходной своей философской и литературной библиотеки», судьба которой после кончины ее владельца вызывала опасения в связи с возможностью распыления или даже частичной утраты этого ценного собрания, если только оно не «войдет особым отделом в одно из правительственных или общественных книгохранилищ» (Грот Н. Я. Памяти Н. Н. Страхова. К характеристике его философского миросозерцания. М., 1896. С. 10). Племянница Страхова передала в 1897 г. значительную часть библиотеки в дар Петербургскому университету. Опись книг представлена в Инвентарной книге библиотеки Университета за 1897-1899 гг. (№№ 5382-5415). См. также п. 237 и примеч. 1 к нему.
45
263
16 апреля СфОХОВ — ТОЛСТОМ/
1880 г.
СбНКТ’Петербург. Со мною случилась беда, бесценный Лев Николаевич; оказывается, что я провинился и перед Вами, и перед другими, именно перед Нагорным1. Он пишет мне вот уж третье письмо, просит отзыва Ученого комитета об Вашей Азбуке. Я в Комитет: говорят, ничего не получали. Ну, думаю, получится, сейчас пошлют отзыв. Говорю Майкову2; ни минуты не задержу, отвечает он. Второе, третье письмо — то же самое; по всем справкам были присланы книжки еще в марте прошлого года, и отзыв по ним дан Майковым и отослан, а теперь ничего нет. Представьте вдобавок, что Нагорный не пишет, когда и что послано, а я потерял его адрес и даже не помню, как его по имени и отчеству. Повертелся я повертелся — и решаюсь просить Вас: выручите — напишите мне имя и адрес Нагорного, чтобы списаться. А то я даже извиниться не могу!
Всё это — моя вина, моя леность и неаккуратность. Я знаю, что Вы меня простите, но Нагорный едва ли похвалит и будет совершенно прав, если только сам не напутал. Может быть, он послал в Департамент вместо в Ученый комитет; тогда посылка где-нибудь застряла, и до нее не доберешься.
Боюсь я, как бы эта проклятая вялость совсем не завладела мною! Чувствую я себя, впрочем, недурно, как я и хвалился графине3. Особенно приятно, что начинаю лучше разглядывать себя и учусь действительному смирению... Нет, лучше не хвалить себя.
Я Вас воображаю погруженным в такие серьезные мысли, и вообще Вы стали для меня таким великим делом, что не мудрено, если я теряюсь, когда вздумаю писать к Вам. С большою радостью думаю о лете. Мне кажется, я буду способнее прежнего к нашим разговорам. Так я гораздо лучше теперь понимаю и Соловьева; его «Критика»4, вероятно, даст мне много хорошего. Да и сам он на мои глаза сделался лучше5.
46
Ото всей души желаю Вам всего лучшего, и если бы была власть, велел бы Вам бросить работу. Но Вы не из таких.
Минута ему повелитель6.
Ваш всею душою
Н. Страхов
1880.
16 апр[еля].
Спб.
Печатается по: РО ИРПИ. Ф. 302. Оп. 2. Ед. хр. 300. Л. 10-11.
Впервые: Современный мир. 1913. № 9. С. 253-254.
1 Имеется в виду муж племянницы Толстого Варвары Валерьяновны — Николай Михаилович Нагорнов, через которого Толстой поддерживал деловые отношения с издателями и книгопродавцами.
2 Поэт А. Н. Майков, друг Страхова, был членом особого отдела Ученого комитета Министерства народного просвещения по рассмотрению книг, издаваемых для народа.
3 См. п. 262.
4 См. примеч. 23,24 к п. 262.
5 Отношения Страхова с Вл. Соловьевым складывались непросто: периоды сближения и дружбы сменялись временем острой полемики, отчуждения, неприятия и завершились принципиальным разрывом в 1890 г. Выражая не раз свою искреннюю симпатию и «любовь» к Страхову-человеку, называя их личные отношения «интимно-дружескими и даже нежными» (письмо к М. С. Соловьеву от 16 декабря 1888 г. — Соловьев. Письма IV. С. 118), Соловьев позволял себе в частных письмах весьма бесцеремонно высказываться в его адрес («Страхов, которого я люблю, но всегда считал свиньей порядочной...» — Там же) и давать ему, как ученому и критику, отнюдь не лестные определения («я в печати изругал его как последнего мерзавца» — Там же), кончил обвинениями Страхова в «шарлатанстве» и «брюшном патриотизме» (Там же. С. 41; Николай Яковлевич Грот в очерках, воспоминаниях и письмах... С. 243). Общение прекратилось после полученного Страховым письма Соловьева от 23 августа 1890 г.: не соглашаясь в очередной раз с высокой оценкой книги Н. Я. Данилевского «Россия и Европа», активным защитником и пропагандистом которой являлся Страхов, Соловьев бросил ему упрек в том, что распространяемая им книга «становится специальным кораном всех мерзавцев и глупцов, хотящих погубить Россию и уготовить путь грядущему антихристу» (Соловьев. Письма I. С. 59). Ср.: «Князь Э. Э. Ухтомский часто посещал Страхова, но Соловьева живущим там не видал. В позднейшее время Н. Н. Страхов с ужасом произносил имя Соловьева, а Соловьев говорил о нем даже с некоторым ожесточением. (...) Соловьев выражался про Н. Н. Страхова: 47
„старый кот“ „лукавый Страхов“. (...) В расхождении Н. Н. Страхова с Соловьевым не без влияния было и отрицательное отношение Соловьева к Толстому» (Материалы к биографии Вл. Соловьева: (Из архива С. М. Лукьянова). — Российский архив. [Т]. 2/3. С. 398).
6 Цитата из баллады В. А. Жуковского «Граф Габсбургский» (1818).
264
18 апреля С Л. и Л. И. Толстые — Сгмхову
1880 г.
Ясная Поляна [Рукой С. А. Толстой:]
18 апреля.
Николай Николаевич,
Лев Николаевич ужасно устает от своей работы и говорит, что видеть не может пера и чернил, а вам очень желает писать, потому хочет мне диктовать письмо к вам. Во-первых, он говорит, что ему решительно всё равно, что касается до этих «Азбук» и Ученого комитета1, а вот на всякий случай адрес Нагорнова: Москва, близ Арбата, Серебряный переулок, дом Зернова. Николаю Михайловичу Нагорнову.
Теперь Л. Н. диктует:
Ради Бога, ради Бога, достаньте мне или купите, чего бы ни стоило, или пришлите из Библиотеки, или даже... украдьте — книгу или книги2, из которых бы можно было узнать о самых древних, греческих текстах четырех Евангелий, о всех выпусках, прибавках, вариантах, которые были сделаны3. Я из своего Рейса4 знаю, что таковых есть много и не лишенных важности для правильного понимания сомнительных мест5. Мне уж это давно нужно, а теперь, при конце работы, — особенно. Пожалуйста, уж вы потрудитесь, вы знаете, где узнать и где достать. Я сам не знаю, чего прошу, но воображаю и желал бы иметь вот какую книгу: по-гречески самый древний текст четырех Евангелий и в примечаниях
48
те перемены, которые были сделаны. Или наоборот, т. е. канонический текст и прежние варианты.
[Рукой Л. Н. Толстого:]
Я-то как жду вас, вы не можете себе представить. Я счастлив своей работой и быстро подвигаюсь. Очень, очень вас жду и люблю. Приезжайте пораньше6. Когда вы думаете?
Ваш Л. Т.
1 См. п. 263.
2 Ср. близкое по психологической мотивации и накалу эмоциональной выразительности обращение по аналогичному поводу А. С. Пушкина к брату Льву Сергеевичу из Михайловского: «... милый мой, если только возможно, отыщи, купи, выпроси, укради Записки Фуше и давай мне их сюда; за них отдал бы я всего Шекспира; ты не воображаешь, что такое Fouché! Он по мне очаровательнее Байрона» (письмо от конца января - начала февраля 1825 г. — Цит. по: Пушкин А. С. Поли. собр. соч.: [в 16 т.]. [А.] : изд-во АН СССР, 1937. Т. 13. С. 142-143).
3 Некоторые книги, посвященные исследованию истории происхождения канонических Евангелий, Страхов посылал Толстому еще в конце 1879 г. См. п. 252 и примеч. 2,5 к нему. См. также п. 267 и примеч. 1-3.
4 Эдуард Рейс (Reuss, Eduard Wilhelm Eugen), крупный французско-немецкий (родился в Эльзасе) теолог-библеист протестантского вероисповедания, составивший себе высокую научную репутацию трудами по историко-критическому исследованию Библии. Рейс — единственный в XIX в. богослов, которому удалось перевести и откомментировать Библию в ее полном объеме. В 1874-1881 гг. выпустил фундаментальное комментированное издание французского перевода Библии в 18 тт.: La Bible / Traduction nouvelle avec introductions et commentaires par Édouard Reuss... Paris: Sandoz et Fischbacher. 1874-1881 (Strasburg: J. H. Ed. Heitz). Возможно, Толстой имел в виду 14-й и 16-й тома этого труда, присланные А. А. Фетом в ноябре 1879 г. (см.: Толстой. Переписка с писателями II. С. 83). Полное издание этой Библии с многочисленными следами чтения Толстого находится в яснополянской библиотеке (см.: Описание ЯПб. Т. 3, ч. 1. С. 117-129. № 277). Рейсу принадлежит ценное историко-критическое исследование новозаветных текстов (Geschichte der Heiligen Schriften Neuen Testaments), выдержавшее за 1842-1887 гг. шесть изданий. В ОР ГМТ хранится (со множеством помет Толстого) книга Рейса: Histoire Evangélique. Synopse des trois premiers Evangiles par Édouard Reuss, professeur à l’université de Strasbourg. Paris, 1876. В отличие от И. Я. Гризбаха (см. п. 267, примеч. 1), Рейс признавал историко-хронологический
Печатается по: ОР ГМТ. Ф. 1. № 7453. Л. 1-2. На л. 1 помета Страхова: «18 апр[епя] 1880. Ясн[ая]».
Впервые: Юб. Т. 90. С. 242. Год устанавливается по содержанию и по помете Страхова.
Ответ на п. 263.
49
4 мал 1880 г. Ясная Поляна
Печатается по: ОР ГМТ. Ф.1.№ 5447.
Л. 1-1 об. Нал. 1 помета Страхова:
«4 мая 1880 г.».
ВЮб.:Т. 63.
С. 16-17.
Впервые: Современный мир. 1913.
№ 9. С. 254-255.
Датируется по помете Страхова.
приоритет текста Евангелия от Марка перед Евангелием от Матфея. Толстой высоко отзывался о труде ученого: «Лучшим сочинением по критике текстов священного] Писания я считаю перевод с комментариями Reuss’a» (письмо М. А. Новоселову от 12 или 13 октября 1886 г. — Юб. Т. 63. С. 390).
5 Слова: «сомнительных мест» — вписаны рукой Толстого.
6 Желание Страхова видеться с Толстым было не менее определенным. В письме к А. А. Фету от 25 марта 1880 г. он замечал: «Что пишете о Толстом, очень меня радует (...) Начинаю с нетерпением ждать лета и свидания с ним...» (Фет. Переписка II. С. 309).
265 Толстой — Страхову
Получил вчера ваши книги1, дорогой Николай Николаич. Кажется, это то самое, что мне и нужно. Очень вам благодарен. От нас только что уехал нынче Тургенев2. Я три дня не садился за работу и чувствую себя совсем другим человеком — очень легко. Погода, весна чудесная. Приезжайте поскорее.
С Тургеневым много было разговоров интересных3. До сих пор, простите за самонадеянность, всё, слава Богу, случается со мной так: «Что это Толстой какими-то глупостями занимается. Надо ему сказать и показать, чтобы он этих глупостей не делал». И всякий раз случается так, что советчикам станет стыдно и страшно за себя. Так, мне кажется, было и с Тургеневым. Мне было с ним и тяжело, и утешительно. И мы расстались дружелюбно4. Так приезжайте поскорее. Как я буду рад.
Если вы пишете, я не буду мешать вам. Будем только ходить гулять и есть простоквашу.
Л. Толстой
1 См. примеч. 1-5 к п. 267.
2 О своем намерении приехать в Россию и увидеться с Толстым Тургенев известил его письмом из Парижа от 28 декабря 1879 г. / 9 января 1880 г.: «Через неделю 50
с небольшим я выезжаю отсюда — и наверное знаю, что мы скоро увидимся, хотя еще не знаю где именно. (...) Точно, тяжелые и темные времена переживает теперь Россия; но именно теперь-то и совестно жить чужаком. Это чувство во мне всё становится сильнее и сильнее — и я в первый раз еду на родину, не размышляя вовсе о том, когда я сюда вернусь — да и не желаю скоро вернуться» (Тургенев И. С. Поли. собр. соч. и писем: в 28 т. Письма. Т. 12, кн. 2. С. 197-198). Задержка с отъездом дала Тургеневу повод уточнить время и место их возможной встречи: «Я выезжаю отсюда в будущую среду — надеюсь быть в Петербурге дней через 10. Так как мне придется съездить в Москву и в деревню — то, конечно, увижу Вас» (письмо от 12/24 января 1880 г. — Там же. С. 206). Тургенев прибыл в Петербург 28 января (9 февраля) и оставался там до второй половины апреля. Проведя время до конца апреля в Москве, Тургенев смог навестить Толстого в Ясной Поляне только 2-3 мая (уедет утром 4 мая). Целью поездки Тургенева к Толстому было привлечь его к участию в торжествах открытия памятника А. С. Пушкину в Москве. В письме П. В. Анненкову от 24 апреля он сообщал: «... Пушкинский праздник (...) будет продолжаться три дня (...) еду в деревню, в Спасское (...) На пути я посещу Льва Толстого и постараюсь его убедить также приехать, в чем едва ли успею» (Там же. С. 237). Несмотря на приложенные Тургеневым старания «уговорить» Толстого, тот, после некоторого раздумья («Л. Толстой пока колеблется» — письмо Тургенева М. М. Стасюлевичу от 5-6 мая 1880 г. — Там же. С. 246), не откликнулся на его доводы. Возвратившись с московских торжеств в Спасское, Тургенев писал Толстому: «Я приехал сюда (...) чтобы покончить кое-какие дела и чтобы отдохнуть от московских треволнений. Я было имел в мысли посетить Вас; но вышло так, что я завтра же должен ехать и, не останавливаясь в Москве, проследовать за границу. (...) Жаль, что Вы не были в Москве: было много фальшивого, но было также много хорошего и нового» (письмо от 16 июня 1880 г. — Там же. С. 276-277). Позднее Толстой так объяснял причину своего отказа последовать приглашению: «Вспоминаю, как давно уже, лет около тридцати тому назад, во время чествования Пушкина и поставления ему памятника, милый Тургенев заехал ко мне, прося меня ехать с ним на этот праздник. Как ни дорог и мил мне был тогда Тургенев, как я ни дорожил и высоко ценил (и ценю) гений Пушкина, я отказался, знал, что огорчал Тургенева, но не мог сделать иначе, потому что и тогда уже такого рода чествования мне представлялись чем-то неестественным и, не скажу ложным, но не отвечающим моим душевным требованиям» — писал Толстой в письме в редакцию газеты «Русские ведомости» 25 марта / 6 апреля 1908 г. (Юб. Т. 78. С. 105).
3 О посещении Тургеневым Ясной Поляны краткие воспоминания оставила С. А. Толстая: «В конце апреля мы получили от Тургенева письмо, что он едет к нам, и, кажется, около 2 - 3-го мая он приехал в Ясную Поляну, чему мы все, в особенности же я, очень обрадовались. / Ездили мы с ним на тягу (...) Пробыл у нас Тургенев только два дня; заказывал себе чисто русские обеды: манный суп с укропцем, пирог с рисом 51
и курицей, гречневую кашу и другое. Он много беседовал с Львом Николаевичем, был ласков, тих и нежен...» (Толстая. Моя жизнь I. С. 316). Среди прочего Тургенев познакомил Толстого с новым рассказом В. М. Гаршина «Война и люди» (Тургенев И. С. Поли. собр. соч. и писем: в 28 т. Письма. Т. 12, кн. 2. С. 273-274). О пребывании Тургенева см. также в воспоминаниях старших детей Толстого — Сергея Львовича (Тургенев в Ясной Поляне. — Голос минувшего. 1919. № 1-4) и Ильи Львовича (Мои воспоминания. М., 1914. С. 146-148).
4 Несмотря на «утешительные» беседы и «дружелюбное» расставание, Тургенев, вероятно, сохранил свое «понимание» происходивших во внутреннем мире Толстого перемен. По крайней мере, именно после возвращения Тургенева в мае на пушкинский праздник в Москву в среде литераторов появились слухи о «сумасшествии» Толстого. Приехавший на московские торжества Ф. М. Достоевский делился этой «новостью» с женой: «Сегодня [Д. В.] Григорович сообщил, что Тургенев, воротившийся от Льва Толстого, болен, а Толстой почти с ума сошел и даже, может быть, совсем сошел» (письмо от 27 мая 1880 г. — Достоевский. ПСС. Т. 30, кн. 1. С. 166). На следующий день он вновь затронул эту тему в письме: «О Льве Толстом и Катков подтвердил, что, слышно, он совсем помешался. [С. А.] Юрьев подбивал меня съездить к нему в Ясную Поляну: всего туда, там и обратно, менее двух суток. Но я не поеду, хоть очень бы любопытно было» (Там же. С. 168). Этот рассказ, вероятно, произвел впечатление на жену писателя: даже четверть века спустя она вспоминала, что Достоевский не решился в мае 1880 г. ехать в Ясную Поляну, потому что «приехавший оттуда Тургенев объявил, что Лев Николаевич „сходит с ума“» (ЛН. Т. 37-38. С. 558).
266
4 моя 1880 г. С Л. Толстая — Страхову
Ясная Поляна
Многоуважаемый Николай Николаевич, я поступила с вами ужасно смело и бесцеремонно, и теперь мучаюсь постоянно, с какого права я это сделала? Конечно, только с того, что вы очень добры и всегда готовы всем делать только приятное. Дело в том, что ко мне приезжает англичанка1,- я ее было направила к своей матери2, но, получив от мама письмо, что она уезжает в свою деревню, я, не сообразив, что остается в Петербурге брат3, с отчаяния дала англичанке ваш адрес у Торгового моста4. И вот
52
в один прекрасный день, в мае, явится на вашу квартиру неизвестная англичанка, ей надо дать 30 р[ублей] с[еребром], на которые она должна доехать до нас. Но она дикая и не будет знать, как и где железная дорога, поэтому главная просьба в том, чтоб ей дать провожатого, который мог бы ее посадить на курьерский поезд прямого сообщения до Тулы.
Деньги, если прикажете, вышлю сейчас же или отдам при свидании. У нас теперь прелестно, зелено и тепло, и только для полного удовольствия ждем сестру5 и вас.
Простите, Николай Николаевич, вперед никогда не буду так бессовестно беспокоить.
С. Толстая 4-го мая.
Печатается по: ОР ГМТ. Ф. 47.
№ 39396. Л. 1-2 об. На л. 1 помета Страхова «4 мая 1880».Год устанавливается по помете Страхова и содержанию.
Впервые: ПТС II. С. 135 (с неверной датой «4 мая 1876 г.»).
1 С. А. Толстая вспоминала: «... 19-го [мая] приехала вновь нанятая молодая англичанка, Miss Lizzie Ford. Но по первому взгляду на нее я уже поняла, какая это была глупая, и куклообразная, и неполезная особа, и очень огорчилась этому. Меня в то время всякое воспитание детей, и физическое, и тем более моральное, страшно занимало» (Толстая. Моя жизнь I. С. 317). Оказавшаяся «малообразованной», гувернантка младших детей Толстых Диззи Форд прослужила в Ясной Поляне недолго. 3 ноября 1880 г. С. А. Толстая писала Т. А. Кузминской: «...сегодня мы с Лёвочкой решили, что надо непременно отказать Лизи, она (...) после шести месяцев не только не привыкла, но ей жизнь у нас страшно тяжела, она мрачна, ненатуральна, и у ней беспрестанно вырываются резкие слова...» (ОР ГМТ). В декабре Толстые, убедившись, что Лиззи Форд «стала совсем невыносима своим бездействием, ленью и скукой», окончательно отказали гувернантке, предварительно подыскав ей место в Калуге (Толстая. Моя жизнь I. С. 327).
2 Л. А. Берс владела небольшой усадьбой «Утешенье» в Новгородской губернии. См. примеч. 4 к п. 241.
3 Петр Андреевич Берс, младший брат С. А. Толстой.
4 У Торгового моста, дом 7 (дом Стерлигова, потом Оношкевича-Яцыны), кв. 19. Современный адрес: набережная Крюкова канала, 7.
5 Т. А. Кузминская и ее семья, жившая в Харькове, проводила лето в Ясной Поляне.
53
267
б мая 1880 г. Сгр<ЗХОВ — ТОЛСТОМУ
Санкт-Петербург
Совесть совсем меня замучит, если сегодня не напишу к Вам, бесценный Лев Николаевич. Я послал Вам своего Гризбаха1, ужасно радуясь, что он так кстати пригодился. Имею только прибавить, что потом были еще открыты тексты Тишендорфом2, но что они прибавили, я не мог узнать — едва ли что важное. Мне не попадался знаток этого дела, а сам я не порылся — простите. Знаю только, что работа Гризбаха — основная, и что Тишендорф ее не повторял3. Впрочем, я завтра же зайду в отделение Богословия.
Послал я Вам также Даля4 и Садовникова5 — простите, что поздно — ни за что не хотел платить за Даля 15 или 20 р. и заплатил 3. Ваших денег у меня, впрочем, довольно; от Стасюлевича придется получить больше 50 (на этот раз немного)6, да Вашей «Азбуки» я продал на 12 рублей7.
Вы, вероятно, догадываетесь, почему я не писал; я в таком дурном настроении, что слова не идут с пера8. Одному радуюсь: мне всё кажется, что я переношу свою хандру легче прежнего. К Вам я стремлюсь всею душою, но раньше половины июня это невозможно9. Впрочем, до сих пор мы еще не распределяли наших каникул. Мучит меня то, что я ничего не делаю; как я понимаю Вашу радость об конченном труде10 — и сколько я себе от него обещаю! Сильно мешает мне корректура Шопенгауэра; я всё больше и больше разочаровываюсь в переводе11 и думаю, что вместо блистательно написанной книги мы дадим русским читателям книгу тяжелую и темную. Это меня чуть не каждый день огорчает, хотя я почти уверен, что преувеличиваю беду.
Прощанье со старым министром и представление новому12 были сценами, в которых для меня всегда есть нечто возмутительное, — по отсутствию жизни, чего-либо настоящего, по подобострастию чиновников, которое при большом количестве вещь нестерпимая.
54
Так и случилось, как я думал: в Библиотеке оказалось письмо от Вас. Скажите графине, что она поступила прекрасно13,- таки следовало поступить, а поступить иначе было бы дурно. Исполню поручение с большим усердием, и денег у меня, как Вы видите, довольно и Ваших, не только своих. Совесть меня сильно упрекнула, что не навестил я на праздниках Любовь Александровны14; но, право, часто думал и очень хотел.
Ваше свидание с Тургеневым15 и Ваша работа ужасно радуют меня и тянут в Ясную. Да, бесценный Лев Николаевич, Вы дошли до конца и стали твердо. Я это так живо почувствовал, что мне даже стало страшно и жалко. Всё кончено! Цель достигнута16. Не понимаю, как это случилось, но я приезжал к Вам в последний раз вполне приготовленный, с размягченною чистою душою, и понял Вас вдруг с нескольких слов.
Теперь я поставил себе правилом — поутру, при начале дня, вспоминать о тех блаженных минутах; и если воспоминание живо, я становлюсь лучше.
Через месяц — буду у Вас и жду себе великого добра. Пока простите Вашего всею душою
Н. Страхова 1880 г.
8 мая.
Спб.
Печатается по: РО ИРЛИ. Ф. 302. Оп. 2. Ед. хр. 300. Л. 8-9.
Впервые: Современный мир. 1913. №9. С. 255-256. Ответ на п. 265 и 266.
1 Евангелие, изданное немецким протестантским богословом И. Я. Гризбахом (Griesbach, Johann Jakob). Гризбах считался «отцом» текстологической критики Нового Завета, автором первого критического издания четырех Евангелий, в основу которого были положены наиболее древние и наиболее полные из сохранившихся рукописных списков и текст которого существенно отличался от признанного в европейской традиции каноническим (textus receptus); был известен также своей синоптической гипотезой о первичности текста Евангелия от Матфея по отношению к текстам евангелистов Луки и Марка (см.: Synopsis Evangeliorum Matthäi, Marei et Lucae. Halle, 1776; 2-е изд.: там же, 1797). Первое критическое издание текстов Нового Завета появилось в трех частях в 1774-1775 гг., второе — в двух томах в 1796 и 1806 гг.; 55
третье, доработанное издание, ставшее основой для дальнейших перепечаток, вышло в четырех томах в 1803-1807 гг. в Лейпциге. В яснополянской библиотеке (частично) сохранился присланный Толстому Страховым экземпляр Нового Завета, подготовленного Гризбахом. См.: Novum Testamentum graece I Textum ad fidem codicum versionum et patrum recensuit et lectionis varietatem adjecit d. Jo. Jac. Griesbach. — Editio secunda emendatior multoque locupletior. — Halae Saxonum; Londinum: J. J. Curtii haeredes: Petr. Elmsy, 1796-1806 (Jena: Gotthold Ludovicus Fiedler). — 2 vol. — Vol. 1: IV. Evangelia. — 1796. — [16], CXXXII, 554, [1] p. — Vol. 2: Acta et Epistolas apostolorum cum Apocalypsi complectens. — 1806. — XL, 684, 40 p. (Описание ЯПб., T. 3, ч. 1. С. 132-133. № 286). На титульном листе второго тома имеется владельческая запись: «Н. Страховъ» (Там же. С. 133). О судьбе первого тома см. п. 318 и примеч. 13-15 к нему.
2 Немецкий протестантский богослов Константин Тишендорф (Tischendorf, Lobegott Friedrich Constantin) продолжил начатую Гризбахом работу по критическому анализу текстов Нового Завета и публикации вновь выявленных рукописных источников. Ему принадлежит, среди прочего, заслуга прочтения крайне плохо сохранившегося греческого прототекста библейской рукописи, получившей название Ефремов кодекс (Codex Ephraemi Syri rescriptus), введения в научный оборот древнейшего рукописного свода библейских текстов — так называемого Синайского кодекса (Codex Sinaiticus), а также установления и издания критически выверенного текста Септуагинты (Septuaginta), снабженного развернутым комментарием. К числу важнейших научных трудов Тишендорфа относится также выпущенное им в двух томах критическое (итоговое) издание текстов Нового Завета на греческом языке, дополненное всеми известными на то время вариантами (Editio octava critica maior. 1869-1872). В общей сложности Тишендорф выпустил 24 издания греческого текста Нового Завета (включая издания, снабженные параллельными переводами на латинском и немецком языках), причем восемь раз перерабатывал текст заново. Протестантское богословие признает в Тишендорфе выдающегося исследователя текстологической истории Нового Завета, в значительной степени способствовавшего распространению научно выверенных библейских текстов. За усилия по обретению, расшифровке и публикации Синайского кодекса, оригинал которого был поднесен императору Александру И, Тишендорф, в признание его крупных научных заслуг, был возведен в российское потомственное дворянство. — Выпущенный Тишендорфом текст Нового Завета Страхов пришлет Толстому в августе (см. п. 270 и примеч. 3 к нему).
3 Оставаясь важнейшим и наиболее авторитетным вкладом в критическую текстологию Нового Завета, работы Гризбаха, как с методологической точки зрения, так и по своим научным результатам, считались к тому времени в протестантском богословии уже недостаточными, особенно после изысканий и появления печатных трудов К. Лахманна (Lachmann, Karl) и К. Тишендорфа. Своим замечанием Страхов дает понять, 56
что Тишендорф — самостоятельный исследователь и не повторяет в своих изысканиях и комментариях сделанное ранее другими.
4 Книга В. И. Даля «Пословицы русского народа. Сборник пословиц, поговорок, речений, присловий...» (Изд. 2. Т. 1-2. СПб.; М.: М. О. Вольф, 1879). Толстой просил Страхова приобрести для него сборник Даля еще в сентябре 1877 г. (п. 166), однако поиски издания затянулись (п. 167), и Страхов смог выполнить это пожелание только спустя три года. Присланный Страховым экземпляр в яснополянской библиотеке не сохранился. Предположительно, он был передан в дар Королевской библиотеке в Стокгольме сыном писателя Л. Л. Толстым (в 1918 г.). Подробнее см.: ТС ПСП II. С. 572-573. В яснополянском книжном собрании сборник представлен тем же изданием, полученным Толстым позднее (в октябре 1897 г.) в подарок от П. А. Сергеенко (см.: ОписаниеЯПб. Т. 1, ч. 1. С. 243-244,249. № 974).
5 Садовников Д. Н. Загадки русского народа: Сборник загадок, вопросов, притч и задач. СПб., 1876. Книга с пометами Толстого хранится в яснополянской библиотеке (см.: Там же. Т. 1, ч. 2. С. 184. № 2714).
6 Деньги за том сочинений Толстого, выпущенный в «Русской библиотеке» М. М. Стасюлевича.
7 Страхов продолжал занимался распространением в Петербурге «Новой азбуки» Толстого, изданной в 1875 г.
8 Свои извинения в неаккуратности поддержания переписки Страхов приносил не только Толстому, но и другим своим постоянным корреспондентам — А. А. Фету и Н. Я. Данилевскому. «Хандра» и тягостное расположение духа вызывались, среди прочего, «дурным» ходом работ по набору и печати труда Шопенгауэра, отстававших от ранее намеченного графика, сомнениями в достоинстве готовившегося к опубликованию перевода (см. примеч. 10) и начавшейся в связи со сменой министра народного просвещения административной «кутерьмой» (письмо Н. Я. Данилевскому от 4 мая 1880 г. — РВ. 1901. Январь. С. 139. — См. также примеч. 11).
9 См. примеч. 1 к п. 268.
10 Возможно, имеется в виду «Исследование догматического богословия», работа над которым была в основном завершена Толстым в середине марта (см. п. 258, примеч. 1). Не исключено также, что Страхов повторяет свою мысль об обретении Толстым «твердой точки» в его поисках новой «веры» (п. 254; см. также примеч. 16).
11К чтению корректуры перевода А. Шопенгауэра Страхов отнесся крайне серьезно, продолжая вносить в текст существенные терминологические и стилистические исправления, добиваясь точности в передаче смысловых оттенков оригинала. Отношение Страхова к качеству перевода не было устойчивым: наряду с положительными оценками (см. п. 240, 243), он не раз высказывал и опасения в недостаточной его отделке. Своей обеспокоенностью он делился с А. А. Фетом еще в письме от 25 марта 1880 г.: «Вообще меня всё время волнует страх, что перевод не будет так ясен, как 57
подлинник; то я успокоюсь и радуюсь, то опять начинаю бояться» (Фет. Переписка II. С. 308). Корректурные листы с правкой Страхов переправлял Фету в Воробьевку, а затем получал их обратно, что вызывало замедление работы и недовольство Фета. Дополнительные трудности, затягивавшие прохождение корректуры, возникали из-за неряшливо подготовленной рукописи перевода, о чем Страхов деликатно намекал Фету в том же письме: «Если же позволите мне сделать маленький практический вывод, то вот он: ничто не может заменить исправной рукописи, а исправная рукопись должна быть точной копией переводимой книги (сверх всего прочего). Это на случай Ваших будущих переводов: новая строка, параграф, тире — делайте всё, как в печатном» (Там же. — Курсив Страхова). Проявляемая Страховым щепетильность и его внимание даже к мелочам нередко вызывали чувство раздражения в импульсивном Фете, который не упускал случая пожаловаться на замедлявшую дело «придирчивость» своего помощника: «Боюсь, чтобы он из перевода не сделал ничего» (письмо Толстому от 31 января 1880 г. — Там же. С. 85. — Курсив Фета). «Всё жду книги и уже тошно, а он всё колдует» (письмо Толстому от 21 ноября 1880 г. — Толстой. Переписка с писателями II. С. 114).
12 24 апреля 1880 г. министром народного просвещения вместо графа Д. А. Толстого стал А. А. Сабуров. По этому случаю Д. А. Милютин сделал в дневнике 23 апреля следующую запись: «Гр. Лорис-Меликов заехал ко мне и долго сидел среди моей семьи. Он торжествует свою победу над гр. Толстым, увольнение которого от должности министра народного просвещения и обер-прокурора Синода произвело всеобщую радость. Известие это мгновенно распространилось повсюду; все ликуют и с любопытством расспрашивают о преемнике его. Предназначается на пост министра народного просвещения тайн. сов. Андрей Александрович Сабуров — попечитель Дерптского учебного округа, брат посла в Берлине. О нем слышны хорошие отзывы, но говорят, что он человек слабого характера. На место же обер-прокурора Синода назначен Победоносцев, который, говорят, в восторге от этого назначения. Гр. Лорис-Меликов не без больших затруднений достиг своей цели; государь упорно поддерживал Толстого; но вынужден был, наконец, решиться на удаление министра, умевшего заслужить всеобщую ненависть. Мера эта, несомненно, произведет хорошее впечатление во всей России и Лорис-Меликову скажут все искреннее спасибо» (Дневник. Т. 3. С. 243). Своими впечатлениями от происходивших административных перемен Страхов делился с Н. Я. Данилевским в письме от 4 мая 1880 г.: «Кутерьма тут у нас, как вы знаете, большая; например, одна смена Толстого заставляет так работать головы и языки, что весело смотреть и слушать. Впрочем, напрасно я сказал: головы; головы у нас не работают. Горестно подумать, что за это двадцатипятилетие у нас ничего твердого не сложилось, а продолжается и растет та же смута, то же шатание. (...) В настоящую минуту нельзя не ожидать, что наш классицизм поколеблется. Вчера мы являлись к Толстому, чтобы проститься, и он торжественно объявил, что Государь обе58
щал не изменять системы. Я думаю, официально она и не будет изменена, но будут придуманы побочные постановления и разрешения, которые значительно ее подорвут» (РВ. 1901. Январь. С. 139-140). Политическая карьера министра Сабурова оказалась скоротечной и продолжалась (без месяца) всего лишь один год, ознаменовавшись неудовольствием его деятельностью даже высших адмистративных кругов. Хорошо знавший закулисную историю перемещений в министерстве народного просвещения Е. М. Феоктистов писал: «Во главе министерства народного просвещения поставлен был Сабуров, занимавший перед тем должность попечителя Дерптского [учебного] округа. (...) назначением своим в Дерпт обязан был он [Д. А.] Толстому (...) В Дерпте Сабуров оставался вполне бесцветною личностью, никогда и ни в чем не проявлялась его инициатива, он беспрекословно повиновался внушениям баронов и пасторов (...) Но лишь только Сабуров сделался министром, им овладел необузданный либеральный зуд, стремление наложить на всё свою неумелую руку. Кто-то выразился о нем, что он в это время походил на человека, который, в неистовом исступлении парясь в бане, выбегает с веником на двор, перекувырнется в снегу и потом опять бежит в баню. Под конец даже Лорис-Меликов приходил от него в отчаяние. „Как мало требовалось, — говорил он (...), — чтобы после графа Толстого приобресть популярность, но Сабуров выкидывает такие штуки, что чего доброго, пожалуй, и о Толстом станут сожалеть“» (Феоктистов Е. М. Воспоминания. За кулисами политики и литературы. 1848-1896. Л., 1929. С. 188-189). Подробнее об обстоятельствах увольнения Д. А. Толстого см.: Там же. С. 185-186.
13 См. п. 266.
14 Л. А. Берс, мать С. А. Толстой. Имеются в виду праздничные Святая и Фомина недели. В 1880 г. Пасха приходилась на 20 апреля.
15 О посещении Тургеневым Ясной Поляны см. п. 265, примеч. 2-4.
16 Страхов имеет в виду завершение выработки мировоззрения Толстого после религиозного переворота.
268
Страхов — Толстому
30 июня 1880 г.
Глухов. Глухов
30 июня 1880.
Очень виноват перед Вами, бесценный Лев Николаевич. Приехавши к Фету1, я потонул в каком-то равнодушии, которое имело своего рода 59
приятность. Разговоры были бесконечные и для меня очень легкие, так как говорил без умолку Фет, и мне приходилось только, когда он начинал кричать, успокоивать его, обращать его внимание на новый предмет и т. п. Я очень изловчился в этом, и он мною не нахвалится. Самым важным предметом разговоров, конечно, были Вы2, и я успел многое сказать ему в эти десять дней. Примирительные речи были вполне удачны3, и скоро в них не оказалось никакой надобности; но учение передавалось очень плохо4. Он с первых же слов закусывал удила и обнаруживал не любопытство, а ярое желание говорить самому5. Однако я сделал многое, и сделал бы больше, если бы сумел всё сказать и сумел говорить без боязни его обидеть. Своими лошадьми, своим сеном и проч, он восхищается, как ребенок. Лошадей называет своими детьми, а когда свозили сено, и сто фур проезжали одна за другою, он видел в этом удивительную последовательность. Сено было снято при мне, с большими волнениями по случаю перепадавших дождей, и потом в самом парке на опушке между дубами был воздвигнут исполинский стог.
«Взгляни в лесу на бегемота»6, — говорил Фет, завидя его издали. Мы прочли с ним все присланные корректуры7, а затем я уехал сюда. Тут я с большою радостью увидел свою племянницу и познакомился с ее сыном8, который для трехмесячного ребенка очень красив. Молодая хозяйка, жена и мать в полном расцвете семейного счастья — на эту картину я не могу налюбоваться. А у них теперь не только всё благополучно, но еще особенная радость — муж перепросился на службу в Полтаву, на родину Оли, и они скоро переезжают туда9. Из этого выходит, между прочим, что мне нельзя у них долго оставаться, да мне и совестно их стеснять, как они ни рады мне. Оля была когда-то избалованной, ленивой и апатичной красавицей — девушкой; теперь она бойкая заботливая хозяйка, неутомимая нянька — расцвела и оживилась удивительно. И то, что сначала мне не нравилось, что она ни над чем не раздумывала и ни в чем не сомневалась, то теперь меня восхищает. Она знает, как ей жить и что ей делать, как будто родилась с этим знанием10.
60
Итак, через неделю или немножко больше, я надеюсь опять быть в Ясной11. Душевно желаю Вам и Вашим всего хорошего, и еще раз прошу извинения, что поздно написал.
Ваш искренний
Н. Страхов
Печатается по: РО ИРЛИ. Ф. 302. Оп. 2. Ед. хр. 300. Л. 84-85.
Впервые: Современный мир. 1913. № 9. С. 256-257.
1 Страхов выехал из Петербурга 23 мая и прибыл в Ясную Поляну 26 мая; 6-8 июня провел в Москве, участвуя (как депутат от Императорской Публичной библиотеки) в Пушкинских торжествах, затем снова вернулся в Ясную Поляну. В имение А. А. Фета Воробьевку Страхов уехал 19 июня и провел там десять дней. После этого отправился в Глухов Полтавской губернии, к племяннице, О. Д. Матченко (урожд. Самусь), чтобы «посмотреть на внука» (письмо Н. Я. Данилевскому от 5 августа 1880 г. — РВ. 1901. Январь. С. 140). После недолгого пребывания в Глухове Страхов вернулся в Воробьевку около 4-6 июля и остался у Фета еще на десять дней (см.: письмо А. А. Фету от 1 июля 1880 г. — Фет. Переписка II. С. 312-313).
2 Страхов и Фет в своих беседах много внимания уделяли Толстому из-за его разногласий с Фетом, который критически относился к отказу Толстого от художественного творчества. Фет недоуменно писал Толстому 28 сентября 1880 г.: «... я не могу понять, как можете Вы стать в ту оппозицию, с такими капитальными вещами, как Ваши произведения, которые так высоко оценены мною» (Толстой. Переписка с писателями II. С. 100-101). Изложение взглядов Фета на «переворот» Толстого см. в его письмах: Там же. С. 90-118; Фет. Переписка II. С. 78-93).
3 Страхов пытался убедить Фета в прежнем расположении к нему Толстого. Фет был обижен отсутствием отклика на его неоднократные обращения. «Ваши редкие письма и окончательное молчание на сборы мои в Ясную Поляну не требуют толкований (...) Писать тому, кто [не жел]ает читать — невежливо. Писать в дом того, кому постоянно писал, не написавшему самому — невежливо; ибо равняется в переводе на общежительный язык словам: а я к тебе писать не хочу...» — писал Фет Толстому 27 мая 1880 г. (Толстой. Переписка с писателями II. С. 92-93). Вскоре после посещения Страховым Воробьевки (и отчасти благодаря его примиряющим усилиям) Фет и Толстой дружелюбно обменялись письмами (послание Фета неизвестно; ответ Толстого от 8 июля 1880 г. см.: Юб. Т. 63. С. 19).
4 Как Фет не разделял религиозно-этического учения Толстого (см. п. 257, примеч. 5), так Толстой не принимал жизненную «философию» хозяина Воробьевки и его хлопотливую погруженность в повседневные заботы, не оставлявшую места для нравственного совершенствования. Страхову выпала роль «примирителя» сторон не только в имении Фета, но и в Ясной Поляне. Вернувшись в Петербург, Страхов писал Фету: «Я очень уважаю Ваши труды и заботы и защищал их от нападений Толстого, 61
но очевидность и осязательность этих трудов еще не дают права ставить их выше внутренней работы» (Фет Переписка 11. С. 314). В спорах Фета с Толстым Страхов, хоть и выступал в роли «примирителя», но всё же признавал правоту исканий и доводов Толстого: «Я же одно скажу, — писал он Фету 24 октября 1880 г., — кто не понял этого учения о возрождении, тот не знает важнейшего факта человеческой души. (...) одно могу сказать Вам: в этом споре Л[ев] Николаевич] положительная сторона, а Вы отрицательная. Поэтому Вы не правы, когда останавливаетесь на одном отрицании» (Там же. С. 320. — Курсив Страхова). Несогласие с позицией Фета не мешало Страхову ценить их личные отношения, которые он неизменно ставил выше идейных расхождений. Ср.: «Не знаю, сумею ли отразить свое чувство; но скажу только, что (...) я подумал: „чёрт с ними, с учениями, системами и всякой чепухой" (...) Самое дорогое на свете — отношения между людьми; настоящие хорошие отношения — величайшая редкость, а чем долее я знаком с Вами, тем легче, проще, яснее я чувствую себя. Это такая прелесть, такая радость!» (письмо Фету от 6 ноября 1880 г. — Там же. С. 321). Подобные признательные и эмоционально насыщенные письма зрелый Страхов писал еще только Толстому.
5 Суть своих сомнений Фет изложил самому Толстому в одном из сентябрьских писем: «Я ничего не знаю, что Вы делаете? Если Вы восстанавливаете настоящий смысл известного учения, Вам и книги в руки. Но если Вы хотите доказать притом и логическую правильность, и практическую полезность такого учения, то Вам предстоит 2 отдельных труда — философский, с особенной — ясно объясненной терминологией, ну хоть блага жизни, целесообразности, если Вы не согласны с общепринятой терминологией, и затем приложение такой наилучшей системы на опыте. А без этого спор невозможен: я Вашего блага не понимаю, потому что никогда не слыхал, что Вы под этим общим благом подразумеваете. Туда войдет, быть может, голодание, убожество и т. д. — А затем я не знаю указываемого Вами к нему практического пути: ни положительного, ни отрицательного. (...) Словом, что мне следует делать? Если по учению Христа продать доброво[льно] имение и раздать тунеядцам, то я подожду, пока другие все это сделают, и, если окажется хорошо, — не отстану. Такой мастер слова как Вы не должен затрудняться сказать что знает» (письмо без даты, сентябрь 1880 г. — Там же. С. 91. — Курсив Фета). По свидетельству современника, Фет и десятилетие спустя не мог без избытка эмоционального напряжения рассуждать о религиозно-философских и этических воззрениях Толстого: «Заговорили о Льве Николаевиче и его семье. Когда Фет коснулся теорий Толстого и стал их критиковать, то я едва мог разобраться в том, что он говорил. Старик уже забывает, путает слова, логичности в речи его мало... Я понял только одно, что он враг теорий Толстого...» (Жиркевич А. В. Встречи с Толстым: Дневники. Письма. Тула, 2009. С. 122).
6 Измененная цитата из «Оды, выбранной из Иова» М. В. Ломоносова (между 1743 и 1751).
62
7 Корректуры книги «Мир как воля и представление». Уезжая из Петербурга на летний отдых, Страхов просил типографию высылать ему корректурные оттиски вновь отпечатанных листов сначала в Ясную Поляну, а после 15 июня — в имение Фета Воробьевку (Будановку), где он предполагал гостить и работать над их сверкой. Часть листов Страхов успел получить до отъезда и привез их с собой в Ясную Поляну. Последующие листы высылались в имение Фета. См.: Фет. Переписка II. С. 310-312.
8 Ольга Даниловна Матченко (урожд. Самусь), племянница Страхова, родившая сына весной 1880 г.
9 Иван Павлович Матченко, муж Ольги Даниловны, в 1878-1880 гг. — преподаватель истории и географии Глуховского учительского института. С осени 1880 г. — преподаватель истории и географии Полтавского Александровского реального училища.
10 Об этом своем впечатлении Страхов сообщил и Фету в письме от 1 июля 1880 г. (Фет. Переписка II. С. 312-313).
11 Планы Страхова на скорый приезд в Ясную Поляну претерпели изменения. 1 июля в Глухове было получено официальное подтверждение на перевод И. П. Матченко в Полтаву, и Страхов поспешил сократить свое пребывание в семье племянницы. Однако прежде он вновь посетит Фета в Воробьевке (см. примеч. 1). В Ясную Поляну Страхов вернулся 16 июля и оставался в имении Толстых до 26 июля (см.: Там же. С. 311-315).
269
Толстой — Страхову
Дорогой Николай Николаевич.
Очень вам благодарен за письмо1 и за шляпу. Шляпа прекрасная. Желаю от всей души, чтобы вы поправились и бодро взялись за работу1 2. После томительных жаров наступила свежая погода, и я начинаю прилаживаться к зимней работе3. — Не забывайте нас и пишите хоть изредка. Все вас поминают и любят, а я больше всех.
Ваш Л. Толстой 1 Толстой отвечает на неизвестное письмо Страхова.
2 Из своей летней поездки («прогулки») Страхов возвратился в Петербург в кон¬
це июля. О причинах, заставивших его сократить время пребывания в Ясной Поляне,
10 августа 1880 г.
Ясная Поляна
Печатается по: ОР ГМТ.Ф. 1.№5448. Л. 1.Нап. 1 помета Страхова: «10 августа] 1880. Ясн[ая]».
Впервые: Современный мир. 1913. №9.
С. 258. В/Об.: Т. 63. С. 20. Датируется по помете Страхова.
63
он сообщал Н. Я. Данилевскому в письме от 5 августа 1880 г.: «... я (...) слишком рано вернулся: стояли жары невыносимые; и всё время моей прогулки мне нездоровилось, да и теперь нездоровится. Что мне повредило, не могу сказать; но жар так дурно на меня действовал, что у меня не было и предположения проехать в Крым. Я едва добрался до Глухова, чтобы посмотреть своего внука... Вообще, если судить по тому, что я видел и слышал, то лето было очень занимательно. Я много гостил у Л. Н. Толстого, ездил на Пушкинское торжество в Москву, в Глухове видел родных, да погостил еще у Фета. Но болезнь всё испортила, то есть попортила» (РВ. 1901. Январь. С. 141). Об охватившем его недомогании Страхов писал и А. А. Фету: «...такая страшная духота стоит в Петербурге, и так мне нездоровится. А нездоровится уже давно; еще у Вас я чувствовал какое-то расстройство, и оно потом разрослось и не унимается» (письмо от 30 июля 1880 г. — Фет. Переписка II. С. 314).
3 Летнее время благотворно действовало на расположение духа писателя и давало ему некоторый отдых после периода напряженного умственного труда. О перемене в своем образе жизни он извещал А. А. Фета в письме от 8 июля 1880 г.: «Теперь лето, и прелестное лето, и я, как обыкновенно, ошалеваю от радости плотской жизни и забываю свою работу. Нынешний год долго я боролся, но красота мира победила меня. И я радуюсь жизнью и больше почти ничего не делаю. / У нас полон дом гостей. Дети затеяли спектакль, и у них шумно и весело» (Юб. Т. 63. С. 19). Позднее, обращаясь к событиям этих дней лета 1880 г., С. А. Толстая вспоминала: «Лето мы провели очень весело и хорошо. Какое было жаркое, чудное лето, и всё шло у нас так ладно, дружно, здорово...». «... Задумали опять играть спектакль (...) и начали учить роли, репетировать; маленькие дети любили тоже суету и общество, и все были возбуждены и веселы. Даже Лев Николаевич развеселился, несмотря на то, что усиленно старался продолжать свои занятия и не участвовать в нашей молодой и шумной жизни. (...) Гостил в то время и Николай Николаевич Страхов; наехало пропасть гостей (...) Обедали в день спектакля человек около сорока, конечно, на воздухе, там, где играли часто с большим азартом в крокет. После спектакля — ужинали, и многие разъехались, но многие еще остались ночевать, кое-как разместившись в двух домах. В этот день спектакля все были так веселы, заражаясь и от молодежи, и друг от друга тем веселием, которое не закажешь и не выдумаешь нарочно» (Толстая. Моя жизнь I. С. 317, 318). Эмоциональный подъем второго летнего посещения имения Толстых («веселье Ясной Поляны») запомнился и Страхову: «Всё время после моего приезда туда было шумно, людно и действительно весело» (письмо А. А. Фету от 30 июля 1880 г. — Фет. Переписка II. С. 314). О характере творческих занятий Толстого и о впечатлении, произведенном переменой в нравственно-духовном состоянии писателя на Страхова, узнаем из подробного рассказа последнего Н. Я. Данилевскому: «В Ясной Поляне, как всегда, идет сильнейшая умственная работа. Мы с Вами, вероятно, не сойдемся в оценке этой 64
работы; но я удивляюсь и покоряюсь ей так, что мне даже тяжело. Толстой, идя своим неизменным путем, пришел к религиозному настроению; оно отчасти выразилось в конце “Анны Карениной,,. Идеал христианина понят им удивительно, и странно, как мы проходим мимо Евангелия, не видя самого прямого его смысла. Он углубился в изучение евангельского текста, немногое объяснил в нем с поразительною простотой и точностью. Очень боюсь, что по непривычке излагать отвлеченные мысли и вообще писать прозу, он не успеет изложить своих рассуждений кратко и ясно; но содержание книги, которую он составит, истинно великолепно» (письмо от 8 августа 1880 г. — РВ. 1901. Январь. С. 142). После летнего «перерыва» Толстой продолжил работу над своим исследованием «Соединение и перевод 4-х Евангелий».
270
Толстой — Страхову 1 сентября
1880 г.
Давно уж получил ваше письмо1, дорогой Николай Николаевич, flCHdfl ПоЛЯНб и очень был рад ему, а не писал от дурного состояния нервов2. Теперь чуть-чуть получше и взялся за работу пристальнее. Очень благодарен вам за Тишендорфское Евангелие3. Досадно было, что почерк ваш был только на адресе. Работы, работы мне впереди бездна, а сил мало. И я хоть и приучаю себя думать, что не мне судить то, что выйдет из моей работы, и не мое дело задавать себе работу, а мое дело проживать жизнь так, что [бы] это была жизнь, а не смерть, — часто не могу отделаться от старых дурных привычек заботиться о том, что выйдет, — заботиться, т. е. огорчаться, желать, унывать. — Иногда же, и чем дальше живу, тем чаще бываю совсем спокоен.
Вчера4 приехал из Москвы — ездил за учителем и гувернанткой5.
Учителя-филолога6, прекрасного человека, нашел, а гувернантки — нет7.
Всё страннее и страннее мне становится людская жизнь, особенно где их много.
65
Печатается по: ОР ГМТ.Ф. 1.№5449. Л. 1-2. Нал. 1 помета Страхова:
«3 сентября] 1880».
Впервые: Современный мир. 1913. № 9. С. 258. В Юб.: Т. 63. С. 21-22.
Датируется по помете Страхова с уточнением по содержанию.
Как вы живете? Поправились ли физически и духовно ободрились ли? — Работа ваша очень хорошая8. — Вам можно покойно заниматься ею. — Прощайте, напишите, когда вспомните обо мне.
Ваш А. Толстой
1 Толстой отвечает на неизвестное письмо Страхова.
2 На не удовлетворявшее его состояние здоровья Толстой жаловался в письме А. А. Фету, написанном между 20-25 августа: «Жары очень дурно действовали на меня, и я даже ездил к Захарьину советоваться. Пользы от его совета не получил, но теперь стало получше, и я прилаживаюсь к настоящей своей жизни, зимней работе» (Юб.Т.63. С. 21).
3 Речь идет об издании: «Novum Testamentum graece et latine. Graecum textum addito lectionum variarum delectu recensuit latinum Hieronimi Notata Clementina lectione ex auctoritale codicum restituit Constantinus Tischendorf». Ex triglottis. Lipsiae: Hermann Mendelsohn. 1858. B 1880 г. этот труд вышел девятым изданием: «Novum Testamentum graese. Recensuit inqui usum academicum omni modo instruxit Constant, de Tischendorf». Editio academica undecima. Ad ed. VIII, Critican majorem conformata. Cum tabula duplici terrae sanctae. Lipsiae. Hermann Mendelsohn. Londini-New York. 1880. Для справок при работе над «Соединением и переводом 4-х Евангелий» Страхов прислал Толстому книгу, о которой упоминал в письме от 8 мая. В яснополянской библиотеке имеется два издания Библии Константина Тишендорфа — Старого Завета и Нового Завета. См.: [Ё Palaia Diathêkè kata tous ebdomëkonta]. = Vêtus Testamentum graece juxta LXX interprètes. / Textum Vaticanum |Romanum emendatius edidit, argumenta et locos Novi Testament! parallelos notavit, omnem lectionis varietatem ... subjunxit ... Constantinus Tischendorf... —Editio quarta identidem emendata ... — Lipsiae: F. A. Brockhaus, 1869. — 2 t. — T. 1. — CXII, 682 p. — T. 2. — [2], 616 p.; [Ë Kainê Diathèkê]. = Novum Testamentum graece. / Ad editionem suam VIII. Criticam majorem conformavit, lectionibusque Sinaiticis et Vaticanis item Elzevirianis instruxit Constantinus de Tischendorf. — Lipsiae: F. A. Brockhaus, 1873. — XXXII, 418, [2] p. — Издание имеет пометы чтения рукой Толстого. См.: Описание ЯП6. Т. 3, ч. 1. С. 132- 133. № 285,286,287. О Тишендорфе см. примеч. 2 к п. 267.
4 Толстой вернулся в Ясную Поляну 31 августа. См. его телеграмму С. А. Толстой от 30 августа из Москвы: «... приеду завтра курьерским» {Юб. Т. 83. С. 281).
5 В кратком автобиографическом очерке С. А. Толстая отмечала, что «учителей и гувернанток Лев Ник. всегда выписывал и привозил сам» (Автобиография С. А. Толстой. — Начала: журнал истории литературы и истории общественности. Пб., 1921. С. 151 ). О другом поводе к поездке в Москву см. примеч. 2. Толстой приехал в Москву 27 августа и провел в ней четыре дня.
66
6 «Учитель-филолог» требовался Толстым для подготовки детей по греческому и латинскому языку: старшего Сергея — к «экзамену зрелости», дававшему право на обучение в университете, Ильи и Льва — к поступлению в гимназию. По замечанию С. А. Толстой, «отец хотел дать своим детям самое утонченное образование, и мальчикам исключительно классическое» (Автобиография С. А. Толстой. — Начала. С. 151). Толстой остановил свой выбор на воспитаннике Московского университета Иване Михайловиче Ивакине, окончившем весной 1880 г. по первому разряду курс историко-филологического факультета. С. Л. Толстой вспоминал о новом домашнем учителе: «И вот в Ясной Поляне появился молодой человек среднего роста, по общему виду тщедушный, белокурый, с редкой бородкой, бледный, тонкокостный, с серыми глазами необыкновенно тонкими пальцами. Он произвел хорошее впечатление как на моего отца, так и на мою мать» (АН. Т. 69, кн. 2. С. 21; ср. : Толстая. Моя жизнь I. С. 329. О пребывании в Ясной Поляне в 1880-1889 гг. И. М. Ивакин оставил воспоминания (см.: ЛН. Т. 69, кн. 2. С. 26 -124). См. также примеч. 8 к п. 271.
7 Подробнее о поездке Толстого в Москву, в т. ч. и о выборе гувернантки, см. его письма к С. А. Толстой (Юб. Т. 83. С. 279-281).
8 Возможно, речь идет о статье Страхова «Об основных понятиях физиологии», над которой Страхов, вероятно, продолжал работать и в Ясной Поляне.
271 Толстой — Страхову
Дорогой Николай Николаич.
Я давно уж прошу вас ругать меня, и вот вы и поругали в последнем письме1, хотя и с большими оговорками и с похвалами, но и за то очень благодарен. Скажу в свое оправданье только то, что я не понимаю жизни в Москве тех людей, кот[орые] сами не понимают ее. Но жизнь большинства — мужиков, странников и еще кое-кого, понимающих свою жизнь, я понимаю и ужасно люблю.
Я продолжаю работать всё над тем же2 и, кажется, не бесполезно. На днях нездоровилось, и я читал «Мертвый дом»3. Я много забыл, перечитал и не знаю лучше книги изо всей новой литературы, включая Пушкина4.
26 сентября 1880 г.
Ясная Поляна
67
Печатается по: ОР ШТ. Ф. 1. №4864. Л. 1,2. Надпись на конверте (не сохранился): «Петербург.
Публичная библиотека. Е[го] В[ысокоблагородию] Николаю Николаевичу
Страхову». Почтовые
штемпели: «26 сентября] 1880 Тула», «28 сентября] 1880 С. Петербург» (/Об. Т. 63.
С. 24).
Впервые: Русь. 1881.28 фев. №16. С. 15-18 (отрывок о Достоевском). В /Об.: Т. 63. С. 24.
Датируется по почтовому штемпелю отправления.
Не тон, а точка зрения удивительна — искренняя, естественная и христианская5. Хорошая, назидательная книга. Я наслаждался вчера целый день, как давно не наслаждался. Если увидите Достоевского, скажите ему, что я его люблю6.
Прощайте, пишите и, главное, поядовитее, вы такой на это мастер7.
У меня новый кандидат-филолог8, умный хороший малый. Я нынче очень нескладно рассказывал ему кое-что о вашей новой статье9, и очень мне было радостно видеть его удивление и восторг.
Ваш А. Толстой
1 Толстой отвечает на неизвестное письмо Страхова. — Выдержку из этого письма Толстого (от слов: «...я не понимаю жизни в Москве...» до «...скажите ему, что я его люблю») Страхов привел в своих воспоминаниях о Достоевском, прочитанных им 14 февраля 1881 г. в торжественном собрании Петербургского Славянского благотворительного общества, посвященного памяти писателя. В опубликованном тексте выступления вслед за цитатой указана дата письма: «1880 г., 26 сентября» (см. п. 278 и примеч. 12 к нему).
2 Речь идет о работе над «Соединением и переводом 4-х Евангелий».
3 Какое именно издание «Записок из Мертвого дома» Ф. М. Достоевского читал Толстой, установить не удалось. Отдельной книгой сочинение Достоевского в яснополянской библиотеке не представлено. Входящий в состав полного собрания сочинений том (т. 4) относится к выпуску более позднего времени (1883 г.) и следов чтения Толстого не имеет (Описание ЯПб. Т. 1, ч. 1. С. 268-269. № 1063). Известно, что впервые Толстой познакомился с произведением Достоевского по журнальной публикации (Время. 1861-1862) и настойчиво рекомендовал его вниманию А. А. Толстой. Ср.: «...пожалуйста, сделайте одно: достаньте записки из Мертвого дома и прочтите их. Это нужно» (письмо от 23 февраля 1862 г. — ТТП. С. 216,- Юб. Т. 60. С. 419. — Курсив Толстого). Высокое мнение о книге Достоевского Толстой высказывал не раз и в дальнейшем, приводя ее в пример как образец произведения «истинного искусства», «проникнутого христианским чувством» и «объединяющего людей» (запись в дневнике В. Ф. Аазурского от 14 февраля 1898 г. — ЛН. Т. 37-38. С. 495). Примечательно, что из творческого наследия всех русских писателей — как отвечающую такому критерию — Толстой назвал только книгу Достоевского. На вопрос, какое произведение писателя он считает лучшим, Толстой неизменно называл «Записки»: «Я думаю, что „Мертвый дом“ лучшее, потому что цельное в художественном отношении» (запись В. Г. Черткова от июля 1906 г. — Там же. С. 526). Работая над своим 68
последним романом, Толстой вновь обращался к книге Достоевского: «Я для „Воскресения“ прочел недавно „Записки из мертвого дома“. Какая это удивительная вещь!» (запись П. А. Сергеенко от 13 января 1899 г. — Там же. С. 540).
4 Со временем Толстой изменил свое мнение о значении творчества А. С. Пушкина. Ср. в записи Д. П. Маковицкого от 12 мая 1909 г.: «Софья Александровна [Стахович] рассказала мне, чтб ей говорил Л[ев] Николаевич] про Пушкина: чем старше становится, тем его выше ставит, и что Пушкин останется. / — Прежде, — добавила Софья Александровна от себя, — Л. Н. выше ставил Тютчева — на первое место, перед Пушкиным» (Там же. Т. 90, кн. 3. С. 411). См. примеч. 3 и 4 к п. 272.
5 Свой взгляд на творчество Достоевского Толстой так изложил в более поздней беседе с В. А. Жиркевичем: «Во всяком произведении должны быть три условия для того, чтобы оно было полезно людям: а) новизна содержания, б) форма, или, как принято у нас называть, талант, и в) серьезное, горячее отношение автора к предмету произведения. Первое и последние условия необходимы, а второго может и не быть. (...) Достоевский — богатое содержание, серьезное отношение к делу и дурная форма» (запись А. В. Жиркевича от 20 декабря 1890 г. — Там же. Т. 37-38. С. 421). В произведениях Достоевского Толстой ценил прежде всего их насыщенность значительным духовным смыслом — заряженность высокой «духовной энергией» (Там же. Т. 90, кн. 3. С. 336) . «Достоевский, да — это писатель большой. Не то, что писатель большой, а сердце у него большое. Глубокий он. У меня никогда к нему не переставало уважение» (запись В. Г. Черткова от июля 1906 г. — Там же. Т. 37-38. С. 526. — Курсив записи). «Я думал о писателях; я знаю трех из них — Пушкин, Гоголь и Достоевский, для которых существовали нравственные вопросы» (запись Д. П. Маковицкого от 14 января 1910 г. — Там же. С. 440-441). Наибольший недостаток Достоевского-писателя (при всей весомости содержания) Толстой видел в «невыдержанности», в «слабой» художественной отделке его произведений: «Я строг к нему именно (...) в чисто художественном отношении» (запись Д. П. Маковицкого от 14 октября 1910 г. — Там же. Т. 90, кн. 4. С. 381) . — «... Небрежность формы у Достоевского поразительная, однообразные приемы, однообразие в языке» (запись в дневнике В. Ф. Лазурского от 10 июля 1894 г. — Там же. Т. 37-38. С. 464); «странная манера, странный язык! Все лица одинаковым языком выражаются» (запись от 19 октября 1910 г. — Там же. Т. 90, кн. 4. С. 388). Недостаточная обработанное™ материала особенно сказывалась, по мнению Толстого, с развитием сюжета: если начало произведения бывает «прекрасно» («Идиот»), «хорошим» и даже представляет собой «шедевр» («Преступление и наказание»), то «этим всё исчерпано», и «потом идет ужасная каша», «дальше мажет, мажет». — «И так во всех почти его произведениях» (дневник В. Ф. Лазурского, запись от 12 июля 1894 г. — Там же. Т. 37-38. С. 465; запись В. Г. Черткова от июля 1906 г. — Там же. С. 526). Подкупало Толстого сильное, искреннее чувство, с которым написаны лучшие произведения Достоевского: «...у Достоевского, при всей его 69
безобразной форме, попадаются часто поразительные страницы (...) Читаешь и захватываешься тем, что чувствуешь, что автор хочет тебе сказать самое лучшее, что есть а нем, и пишет он тоже потому, чтобы высказать то, что назрело в его душе» (запись П. А. Сергеенко от 5 июля 1900 г. — Там же. С. 546). Отзываясь критически о некоторых художественных приемах автора, Толстой вместе с тем считал, что «Достоевский — такой писатель, в которого непременно нужно углубиться, забыв на время несовершенство его формы, чтобы отыскать под ней действительную красоту» (дневник В. Ф. Лазурского, запись от 10 июля 1894 г. — Там же. С. 464). По свидетельству современника, Толстой и в старости продолжал «восхищался» Достоевским, полагая, что даже «его небрежная страница стоит целых томов теперешних писателей» (запись П. А. Сергеенко от 13 января 1899 г. — Там же. С. 540).
6 Ответ Страхова см. в п. 272. Об изменившемся восприятии Страхова этого произведения Достоевского см. п. 278. — Повышенное внимание к личности Достоевского Толстой сохранял до конца жизни, неизменно давая ему самые признательные оценки: «Большой человек, его ценю» (запись Д. П. Маковицкого от 13 июня
1908 г. — Там же. Т. 90, кн. 3. С. 114) . «Достоевский — великий человек» (запись от 21 сентября 1908 г. — Там же. С. 206). «Всё, что касается Достоевского, всё это мне интересно» (запись от 12 мая 1909 г. — Там же. С. 411). Считая его «серьезным писателем», хотя и не без «путаницы» и без должной для художника такого масштаба «духовной свободы» (записи от 7 января и 20 февраля 1909 г. — Там же. С. 298, 336), Толстой, тем не менее, твердо выделял творчество Достоевского в ряду других больших художников, предшественников и современников. Ср.: «У Тургенева нет ни одной страницы, которая равнялась бы Достоевскому» (запись от 12 мая
1909 г. — Там же. С. 409). «После Пушкина, Достоевского (...) Островского — ничего нет [в литературе]» (запись от 25 июня 1908 г. — Там же. С. 124). См. также примеч. 4 к п. 272.
7 Замечание Толстого о «ядовитом» стиле полемических статей Страхова имело под собой и «реальное» основание. По воспоминаниям бывавшего на квартире у Страхова петербургского книгоиздателя Л. Ф. Пантелеева, на стене в его кабинете висели только два портрета — Толстого и Вольтера, причем, если, глядя на изображение первого, он, по его словам, «успокаивал свой дух», то вид второго, призван был, надо полагать, заряжать его энергией публициста (Пантелеев Л. Ф. Воспоминания. М., 1958. С. 256). Не раз призывал Страхова писать более темпераментно, «резко» и Ф. М. Достоевский. Ср.: «Резкость-то мне и нравится. Именно смелости, именно усиленного самоуважения надо больше». «...Публика теперешняя уже далеко не та, чем во времена нашей юности. Теперешней уже многое надо вновь растолковывать. Ах, Николай Николаевич — будьте позлее! Много этим пользы принесете и другим и себе» (письма от 2/14 декабря и 9/21 октября 1870 г. — Достоевский. ПСС. Т. 29, кн. 1. С. 153,149).
70
8 И. М. Ивакин. К нему тепло относились все члены семьи Толстого. 5 октября 1880 г. С. А. Толстая писала Т. А. Кузминской: «...учитель наш новый премилый. Учит прекрасно и притом тихий, наивный, с ним очень легко и образованный такой. Вот с учителями нам счастье, а с гувернантками беда...» (ОР ГМТ). См. примеч. 6 к п. 270.
9 Неизвестно, о какой новой статье идет речь. О работе Страхова над материалом по физиологии см. примеч. 8 к п. 270.
272
Строхов — Толстому 2 ноября 1880 г.
Санкт-Петербург
2 ноября.
Не будет ли каких распоряжений, бесценный Лев Николаевич? Стасюлевич прислал мне счет, по которому Вам приходится получить рублей около 5501; да я продал Вашей «Азбуки» на 10 р. 40 к. (с вычетом за Тишендорфа и пр.2). Это последние деньги от Стасюлевича, и их так много потому, что он покупает все оставшиеся экземпляры Вашей книги. Завтра я могу получить эти деньги; но подожду Ваших распоряжений.
Видел я Достоевского и передал ему Вашу похвалу и любовь3. Он очень был обрадован, и я должен был оставить ему листок из Вашего письма, заключающий такие дорогие слова. Немножко его задело Ваше непочтение к Пушкину, которое тут же выражено («лучше всей нашей литературы, включая Пушкина»). «Как, — включая?» — спросил он4. Я сказал, что Вы и прежде были, а теперь особенно стали большим вольнодумцем.
Сам я всё еще ничего хорошего не могу сказать о себе. Лечусь, и, кажется, не без толку5. Перестал пьянствовать кофеем и чаем6, ем мясо, как только встану, и чувствую себя значительно лучше, крепче. Я бы покаялся Вам в моих внутренних болестях; но меня что-то останавливает. Да! то самое — боязнь наклеветать на себя и перед кем же? — перед Вами. А главный мой недостаток Вы знаете — проклятая зыбкость, не дающая ничему установиться и созреть.
71
Печатается по: РО ИРЛИ. Ф. 302. Оп. 2. Ед. хр. 300. Л. 33-34. Впервые: Современный мир. 1913. № 9. С. 259-260. Год устанавливается по содержанию.
Вл. Соловьев начал свои лекции в Женских курсах7. Он читает историю философии, рассматривая ее в зависимости от истории религий. Успех большой; девицы теснятся до того, что падают в обморок8. На днях он должен начать лекции и в университете9, приват-доцентом, так как ему не дали штатного места10. Я спрашивал профессоров Ааманского и Минаева11, о чем он будет читать. Они слышали программу, но не могли мне сказать буквально ничего12. Наконец, говорят, Соловьев открывает еще публичные лекции об искусстве13. Сам я видел его мельком и вообще иногда подолгу вовсе не вижу14. Он говорил, что мучился сильною хандрою15.
Я написал предисловие к Шопенгауэру, послал его к Фету, и боюсь, что мы разладим16. Я, впрочем, приготовился уступить во всем. Теперь я начинаю любить эту книгу и думаю, что и в этом переводе она очень хороша и должна производить сильное впечатление. Есть страницы восхитительные по своей правде и глубине. Но, читая корректуры, я всё больше убедился в его односторонности. Его взгляды на государство, на милосердие, на любовь между мужчиной и женщиной — лишь наполовину верны. Ужели сострадание основано только на том, что в другом я вижу себя же? Это эгоистическое сострадание, как есть сострадание сластолюбивое, гордое и т. д. Настоящее же сострадание основано на признании самобытности, самостоятельности других существ, другой жизни, и на способности отречься, отвлечься от себя и от своей жизни. Если я бескорыстно люблю эту чужую жизнь и бескорыстно ей помогаю — я благодетельный, сострадательный человек. А сострадать только мучениям — это лишь крайний случай, тот, в котором и тупой человек не может не почувствовать желания помочь.
Простите, бесценный Лев Николаевич! Не забывайте моего безмерного уважения и моей неизменной любви. Поклонитесь всем, кто меня помнит.
Ваш Н. Страхов
72
1 Речь идет о завершении расчетов за сборник сочинений Толстого в серии «Русская библиотека», изданный М. М. Стасюлевичем в 1879 г. См. п. 205, 208, 209, 211-219.
2 Страхов имеет в виду расходы, связанные с приобретением запрошенных Толстым книг (см. п. 267,270).
3 После кончины Ф. М. Достоевского Страхов вспоминал в выступлении на вечере памяти писателя 14 февраля 1881 г. в Санкт-Петербургском Славянском благотворительном обществе о письме Толстого с похвалами таланту Достоевского: «Я принес это письмо Федору Михайловичу, и это была одна из прекрасных минут и для него и для меня, как свидетеля» (Страхов Н. Из воспоминаний о Достоевском. — Русь. 1881.28 февр. № 16. С. 15-18).
4 Достоевский увидел в похвале Толстого недостаточное уважение к неоспоримому для него авторитету творчества А. С. Пушкина. Ранее писатель высказывал Страхову свое несогласие с подобной оценкой им романа Толстого «Война и мир»: в заметке «Литературная новость» Страхов утверждал, что «„Война и мир“ есть произведение гениальное, равное всему лучшему и истинно великому, что произвела русская литература» (Заря. 1869. Март. С. 199). Достоевский, согласившись с основными положениями публиковавшегося в журнале «Заря» цикла статей критика о Толстом, не принял именно этого восторженного сравнения: «...я отрицаю всего только две строки, не более не менее, с которыми положительно не могу согласиться». «Две строчки о Толстом, с которыми я не соглашаюсь вполне, это — когда Вы говорите, что Л. Толстой равен всему, что есть в нашей литературе великого. Это решительно невозможно сказать! Пушкин, Ломоносов — гении. Явиться с Арапом Петра Великого и с Белкиным — значит решительно появиться с гениальным новым словом, которого до тех пор совершенно не было нигде и никогда сказано. Явиться же с „Войной и миром“ — значит явиться после этого нового слова, уже высказанного Пушкиным, и это во всяком случае, как бы далеко и высоко ни пошел Толстой в развитии уже сказанного в первый раз, до него, гением, нового слова. По-моему, это очень важно» (письма от 26 февраля / 10 марта и от 24 марта / 5 апреля 1870 г. — Достоевский. ПСС. Т. 29, кн. 1. С. 109, 114). Возможно, со временем Достоевский несколько изменил свое мнение о творчестве Толстого и стал оценивать его еще более высоко. Такое предположение можно сделать на основании сообщения вдовы издателя журнала «Заря» С. С. Кашпирёвой Страхову в письме от 1 марта 1881 г.: «...я приготовила вам одну выписку из заметок Федора Михайловича о Л. Н. Толстом, которую было хотела вначале скрыть от вас, да духу не хватило, — зная наперед, что этот отзыв Достоевского доставит вам большое удовольствие...» (АН. Т. 86. С. 552). Интерес к личности Толстого Достоевский обнаружил еще задолго до очного знакомства Страхова со своим будущим корреспондентом. Будучи за границей, Достоевский запрашивал 28 мая (9 июня) 1870 г. Страхова из Дрездена: «Да вот еще давно хотел Вас спросить: не знакомы ли Вы с Львом Толстым 73
лично? Если знакомы, напишите, пожалуйста, мне, какой это человек? Мне ужасно интересно узнать что-нибудь о нем. Я о нем очень мало слышал, как о частном человеке» (Достоевский. ПСС. Т. 29, кн. 1. С. 125-126). Примечательно, что в известных более поздних письмах Страхова к Достоевскому упоминаний о состоявшемся личном знакомстве с Толстым не имеется.
5 Страхов почувствовал недомогание еще во время летнего отдыха и долго не мог оправиться от него по возвращении в Петербург (см. примеч. 2 к п. 269). А. А. Фет извещал Толстого 9 августа 1880 г.: «Страхов писал, что расклеился здоровьем и впал в апатию» (Фет. Переписка II. С. 88). Месяц спустя Страхов заметил в письме к Фету: «Здоровье мое поправляется, но всё еще не хорошо. Жду доктора...» (письмо от 14 сентября 1880 г. — Там же. С. 317). Еще через месяц Страхов смог сообщить Фету о некотором улучшении здоровья: «... хоть я здоров, хоть я был у доктора и лечусь, но дело (...) в некоторой апатии...» (письмо от 17 октября 1880 г. — Там же. С. 319). Однако заболевание приобрело возвратный характер и очень угнетало Страхова: «...в настоящую минуту мне нездоровится (всё то же нездоровье) (...) Эта болезнь меня не мучит, но постоянно о себе напоминает. Лечусь, да, кажется, без толку» (письмо от 24 октября 1880 г. — Там же. С. 320). Болезнь затянулась, отчасти по вине самого Страхова. Ср.: «... я захворал еще у Вас, и эта хворь дает себя чувствовать очень противно, хоть и не валит меня. (...) Приехавши, я два месяца не обращался к доктору; но мне противно стало, что из этого образовалось что-то хроническое» (письмо Фету от 6 ноября 1880 г. — Там же. С. 322). О характере своего заболевания Страхов писал тому же Фету: «...у меня какая-то гадость, которую доктор называет упорной диспепсией... » (письмо от 25 ноября 1880 г. — Там же. С. 324). Лишь в самом конце года Страхов почувствовал некоторое облегчение: «Здоровье как будто лучше» (письмо Фету от 28 декабря 1880 г. — Там же. С. 328). Однако повторявшиеся простуды и болезнь глаз продолжали сказываться на самочувствии и работоспособности Страхова (см. п. 276; а также письма к Фету от 25 ноября, 18 и 28 декабря 1880 г. — Там же. С. 324-325,327, 328).
6 К употреблению крепкого чая и кофе, а также к затяжному табакокурению Страхов пристрастился еще в молодые годы. Перебравшись из Костромы на учебу в столицу, он поселился при родном дяде архимандрите Нафанаиле в Александро-Невской лавре и так сообщал в Кострому о распорядке дня и своем времяпрепровождении: «Описать вам образ нашей жизни? (...) встаем обыкновенно в 9 часов и сейчас пьем чай. В 12 часов подают кофе. В 3 часа обедаем. Потом, кроме нас, все спят до 6 часов. В 8-м часу пьем чай, потом играем в карты, закусываем, вместо ужина, и в 11 ложимся спать» (см.: Николай Николаевич Страхов: Жизненный путь: начало: альбом-биография... Белгород, 2018. С. 61). Возможно, что склонность к усиленным вкусовым ощущениям некоторым образом связана с особенностями физиологии Страхова. По прибытии в Петербург 16-летний юноша был подвергнут медицинскому «испыта74
нию», выявившему отсутствие у него ряда физических ощущений. «Оказалось, что я не имею обоняния», — писал он своему наставнику по Костромской семинарии о. Иоанну (Скивскому) 31 октября 1844 г. (Там же. С. 60). Несколько позднее Страхов ему же признавался: «...тело мое болезненно и имеет недостатки. Я не имею обоняния, и целый мир цветов закрыт для меня. Роза имеет для меня одинаковый запах как гнилая подошва. Далее, у меня нет и хорошего вкуса, всегда зависящего от обоняния; я не могу быть гастрономом и ем с одинаковым удовольствием красную смородину и репу. У меня нет даже слуха, нет уха, способного наслаждаться музыкою. У меня есть одно зрение, но зрение, неспособное наслаждаться» (письмо от декабря 1845 г. — Там же. С. 81-82). «А между тем я жаден к наслаждениям, готов объесться яблоками или смородиной, готов плакать от дрянной музыки, готов... я больше ничего не скажу. (...) Действительно, бывают минуты светлые, прекрасные, как крылья бабочки, — те минуты, когда вы, потрудившись умственно и телесно, медленно пьете кофе и еще медленнее пускаете дым из трубки» (письмо от декабря 1845 г. — Там же. С. 82,84). Толстой как-то в шутку заметил, что медлительность Страхова в работе объясняется его пристрастием к этим старым привычкам: «слишком много курил и пил кофе, оттого» (запись в дневнике В. Ф. Лазурского от 9 марта 1896 г. — АН. Т. 37-38. С. 489).
7 В конце марта 1880 г. устроитель и директор Высших женских курсах в Петербурге К. Н. Бестужев-Рюмин пригласил Соловьева войти в состав преподавателей учебного заведения и взять на себя лекционный курс по философии. Соловьев читал платные часовые лекции по истории философии с 17 сентября 1880 г., как правило, по субботам и средам. Тогда же он писал матери: «Начал лекции на Бестужевских курсах. Слушательницы отличаются большим количеством и малою красою» (письмо без даты [от 17 или 18 сентября 1880 г.]. — Соловьев. Письма II. С. 33). О содержании лекций Соловьев упоминал в своей краткой автобиографии. Говоря о периоде 1880-1882 гг., он отмечал: «В то же время читал лекции по истории древней философии на Высших женских курсах» (запись от мая 1887 г. — Там же. С. 185; ср.: С. 338). Преподавание продолжалось до 13 марта 1881 г. После вынужденного перерыва возобновил курс в конце января 1882 г. (этот цикл лекций Соловьев вел бесплатно), но через месяц отказался от его чтения (последняя лекция состоялась 24 февраля) и от профессорской деятельности. Неавторизованная запись лекций 1880/81 гг. была отлитографирована и выпущена отдельным изданием (перепеч. в: Соловьев. ПССиП. Сочинения. Т. 4. С. 169-258; см. также: С. 388-443); текст лекций 1882 г. не публиковался (фрагмент см.: Там же. С. 448-464).
8 Лекции Соловьева вызывали своим содержанием не только большое стечение желающих познакомиться с его «учением», но и заметно воздействовали на нравственный мир слушателей. Лично знавший Соловьева психиатр И. А. Сикорский свидетельствовал: «Особенно было сильно влияние Соловьева на женскую аудиторию. Большинство его слушательниц на Бестужевских курсах стали читать Евангелие 75
и сделали его настольной книгой. Христос, которого в наши дни многие забыли, снова воскрес в памяти юных слушательниц и напомнил им евангельские дни и евангельских женщин...» (Сикорский И. А. Нравственное значение личности Владимира Соловьева. С. 4). Подробнее о восприятии аудиторией личности Соловьева см. примеч. 12,13 к п. 274.
9 Соловьев начал лекционный курс по философии в Санкт-Петербургском университете в качестве приват-доцента в ноябре 1880 г. Вступительную лекцию на тему «Исторические дела философии» (опубл.: Русская мысль. 1881. Февраль (Кн. 2). С. 358-370) он прочел 20 ноября. На этом чтении присутствовал Страхов и свое мнение о виденном и об услышанном сообщил А. А. Фету в письме от 25 ноября: «Недавно Соловьев читал свою первую лекцию в Университете; восторг был общий — говорю восторг в полном смысле слова. Но то, что он говорил о христианстве, было очень криво, и однако я подумал, что никто бы не мог его как следует опровергнуть. Право, мы все ходим в потемках и иногда не знаем самых очевидных вещей, давно найденных и доказанных» (Фет. Переписка II. С. 324). — В краткой автобиографии Соловьев уточнял, что в Петербургском университете в 1880-1882 гг. читал «лекции по метафизике и философии истории» (Соловьев. Письма II. С.185). Курс лекций продолжался до марта следующего года и затем возобновился на один месяц в январе 1882 г. (последняя лекция — 25 февраля). Чтения имели успех: по свидетельству современника, слушать Соловьева собиралась «большая толпа» (Материалы к биографии Вл. Соловьева. (Из архива С. М. Лукьянова). — Российский архив. [Т.] 2/3. С. 393). Посещавший лекции Соловьева с осени 1880 г. до марта 1881 г. Э. Э. Ухтомский вспоминал: «Слушателей у Соловьева было множество. Такой переполненности одной из самых больших аудиторий никогда не было раньше. Студенты приходили занимать места заблаговременно, иногда за час или более до начала лекции. Шествие Соловьева по коридору в аудиторию — целый триумф. (...) На первых местах располагались лица, желавшие „подцепить“ Соловьева. Удары и нападения этих лиц Соловьев отражал шутя — тогда раздавались рукоплескания. (...) Лекции Соловьева представляли собою как бы пересказ чтений о богочеловечестве. Вообще это был призыв уйти в глубины человеческого духа. (...) Лекции Соловьева предназначались для всех, но студенты были разъединены из-за политики, и отношения между ними были обостренные. Каждая лекция Соловьева продолжалась около получаса. Потом начинались прения. Живая беседа продолжалась без конца. Лекции не записывались, не литографировались. Экзаменов по курсу Соловьева не было. Состав аудитории менялся. (...) Читал он, сколько помнится, раз или два в неделю. Частой манкировки со стороны Соловьева не было. Разные группы студентов (юристы, естественники) выставляли своих ораторов, старавшихся запутать Соловьева, но успеха эти ораторы не имели. Ходили студенты к нему и на дом, но не для систематических занятий, а случайно. (...) Настоящих „адептов“ у Соловьева в эту пору не было. Слушали его отрывочно, да и вообще всё
шло как-то порывисто. Лекции „импровизировались“ имели скорее лирический, чем строго научный характер. По-видимому, Соловьев к лекциям не готовился. Курс его не был курсом систематическим: это был, так сказать, „ряд блестящих выступлений“» (Там же. С. 394-395).
10 После успешной защиты докторской диссертации Соловьеву 7 апреля 1880 г. историко-филологическим факультетом Петербургского университета была присвоена ученая степень доктора философии и выдан соответствующий диплом от 25 апреля того же года. Вероятно, в сентябре 1880 г. Соловьев сообщал матери в Москву: «В университете я выбран в экстраординарные профессора, но еще предстоят выборы в совете» (письмо без даты. — Соловьев. Письма II. С. 33). На Ученом совете кандидатура Соловьева поддержки не получила; по мнению биографа, — «из-за плохого отношения к нему [профессора философии] М. И. Владиславлева, хотя этот последний весьма благосклонно отнесся к его обеим диссертациям и считал их талантливыми работами» (Лосев А. Ф. Владимир Соловьев и его время. М., 2000. С. 49). Занимавшийся философией у Владиславлева Э. Э. Ухтомский отмечал, что «к Соловьеву Владиславлев относился с плохо скрываемым пренебрежением. О лицах, увлекающихся Соловьевым, судил отрицательно» (Материалы к биографии Вл. Соловьева. (Из архива С. М. Лукьянова). — Российский архив. [Т.] 2/3. С. 394). «Как приват-доцент» Соловьев продолжал читать лекции и в январе 1882 г.
11 В. И. Ламанский был профессором по кафедре славянской филологии историкофилологического факультета Санкт-Петербургского университета; И. П. Минаев — ординарным профессором по кафедре сравнительной грамматики индоевропейских языков историко-филологического факультета.
12 О восприятии лекторской деятельности Соловьева профессорско-преподавательским составом Петербургского университета Э. Э. Ухтомский замечал: «Профессора относились к Соловьеву насмешливо. Кажется, [И. П.] Минаев говорил своим трем (или около того) слушателям: тут-де — наука, а там у Соловьева — болтовня, идите, мол, к нему» (Там же. С. 395). См. также примеч. 9.
13 Планы Вл. С. Соловьева, связанные с устройством лекций по искусству не осуществились.
14 Период наиболее активного общения Страхова с Соловьевым в 1880 г. приходился на зиму - весну, когда Соловьев предложил свои услуги по чтению корректур печатавшегося труда А. Шопенгауэра в переводе А. А. Фета (п. 261, примеч. 1) и принял участие в работе над исправлением терминологии русского текста и над корректурными листами. Подробнее об этом см. в письмах Страхова к Фету за февраль - апрель 1880 г.: Фет. Переписка II. С. 305-310. С отъездом Страхова в конце мая из Петербурга на летний отдых личные встречи с Соловьевым прекратились. Осенью усиленные занятия Соловьева преподаванием, вероятно, не позволили возобновить отношения с прежней частотой. Однако Страхов имел возможность видеться с Соловьевым на 77
лекциях последнего в университете. См. п. 274. Редакторское сотрудничество Страхова и Соловьева получит продолжение в 1881 г. совместной работой над новым переводом Фета — «Фауста» И.-В. Гёте.
15 Об одной из возможных причин «хандры» Соловьева см. примеч. 27 к п. 262. В письмах этого времени к матери Соловьев нередко жалуется на состояние здоровья («не совсем здоров»), в частности, на болезненные ощущения, происходившие от приступов крапивной лихорадки, невралгии и проч. (Соловьев. Письма II. С. 32,33).
16 По предварительной договоренности с А. А. Фетом Страхов взялся написать краткое предисловие к изданию сочинения Шопенгауэра «Мир как воля и представление» в переводе А. А. Фета (см. п. 261, примеч. 1). (СПб., 1881. См.: С. V—VIII). Первое упоминание о намеченной работе встречается в письме Фета к Страхову от 6 декабря 1879 г.: зная склонность Страхова к долгому и основательному обдумыванию материала и его занятость реализацией собственных творческих планов, Фет заблаговременно интересовался судьбой замысла. «Двигаюсь к последней, 4 [-й] книге Шопен[гауера]. Что же Ваше предисловие? Или физиология всё затоптала?» (Фет. Переписка II. С. 294). Ответ Страхова неизвестен. В конце января Фет обеспокоенно сообщает Толстому: «Страхов что-то безмолвствует насчет издания» (письмо от 31 января 1880 г. — Там же. С. 85). Погруженный в написание статьи об основных понятиях физиологии, а затем в вычитку корректур перевода труда Шопенгауэра, Страхов, вероятно, к написанию предисловия до осени 1880 г. не приступал. Следов более ранних упоминаний о его работе над сопроводительной заметкой к переводу в переписке Страхова не обнаруживается. Летнее свидание в имении Фета Воробьевке прошло в усиленной совместной работе над поступавшими из типографии корректурами, завершить которую Страхов предполагал «к сентябрю» (письмо Фету от 20 мая 1880 г. — Там же. С. 310). Однако вычитка чистых листов затянулась. Ближе к концу сентября обеспокоенный Фет вновь решается узнать у Страхова о судьбе обещанного предисловия и осторожно поинтересуется: «Соберетесь ли попредисловить?» (письмо от 22 сентября 1880 г. — Там же. С. 318). Страхов откликнется только 17 октября: «Куда Вы торопитесь, дорогой Афанасий Афанасьевич? (...) есть вещи неотразимые, да и хочется пофилософствовать, почему прошу у Вас усердно три страницы мелкого шрифта. Через два дни они будут непременно готовы» (Там же. — Курсив Страхова). Предисловие было готово через неделю — 24 октября Страхов сообщал: «Вот Предисловие к переводу, дорогой Афанасий Афанасьевич. Прошу Вас, не торопитесь — времени еще довольно. Вы можете — 1) или забраковать его, 2) или допустить, но сделать перемены, поправки и т. д. Если же будете торопиться, то я беспрекословно покорюсь Вашим требованиям, как мне ни дороги некоторые мысли и слова. Оно займет четыре страницы...» (Там же. С. 320. — Курсив Страхова). Как следует из комментируемого письма Страхова Толстому, текст статьи вызвал, вероятно, — к некоторому неудовольствию Страхова — возражения, и Фет представил свои исправления. Не желавший 78
вступать по этому поводу в полемику Страхов отреагировал на замечания в письме от 6 ноября: «Предисловие мое, когда я получил Ваше письмо, мне не так уже было мило и дорого, как прежде. Я поправил его согласно с Вашими указаниями; виноват, я задержал еще на два дни задержал его отсылку в типографию, чтобы обдумать четыре строчки, которые вставил. Ну, все-таки теперь будет получше и сегодня отправляю в типографию всё — до чиста» (Там же. С. 322. — Курсив Страхова). Количество и характер внесенных Страховым исправлений неизвестны; в публикации под текстом предисловия указана авторская дата: «Октябрь 1880 г.». Мнение Толстого о предисловии Страхова см. в п. 277.
273 Толстой — Строхову
Дорогой Николай Николаич.
Очень мне было радостно получить ваши два письма. Радуюсь на вас. Вы в хорошем духе. Я очень напряженно занят и оттого не отвечал1.
Не понимаю, отчего вы не работаете над своей статьей2 и не кончаете: обдумываете, или суета жизни мешает. Это было бы ужасно жаль. Статья превосходная. Самое для меня сильное и ясное из всего, что вы писали. Я много, много раз употреблял в дело те новые мысли, кот[орые] я приобрел из нее. И мысли эти так нужны, что беспрестанно приходится ими пользоваться. Работайте над ней, хоть не пишите, но работайте. — Ав газеты не пишите3 и разговоры не разговаривайте, только мне пишите и со мной разговаривайте — хочется сказать. — Пожалуй, и мне не пишите и не говорите со мной иначе, как через книгу. Это лучше, чем суета мысли. Как я не люблю и боюсь ее.
Будьте спокойны и работайте4.
Ваш Л. Толстой 1 Толстой продолжал трудиться над «Соединением и переводом 4-х Евангелий». См. п. 260 и примеч. 1 к нему. По поводу этого письма Страхов заметил А. А. Фету:
16 ноября 1880 г.
Ясная Поляна
Печатается по: ОР ГАЯ. Ф.1.№ 5450. Л. 1,2. Нал. 1 помета Страхова: «16 ноября 1880. Ясная».
Впервые: Современный мир. 1913. №9. С. 260-261. В Юб.: Т. 63.
С. 34-35.
Датируется по помете Страхова. Ответ на неизвестное письмо Страхова и п. 272.
79
«От Толстого получил коротенькое, но милое письмо. Должно быть, он очень занят» (письмо от 25 ноября 1880 г. — Фет. Переписка II. С. 324). Об увлеченной работе Толстого над переводом и толкованием евангельских сюжетов оставил подробные воспоминания И. М. Ивакин, помогавший ему в уточнении соответствия русских текстов греческому оригиналу. См.: АН. Т. 69, кн. 2. С. 39-43.
2 Судя по этим словам, в недошедшем до нас письме Страхов сообщал о замедлении работы над статьей по физиологии. Нет упоминания о продолжении этих трудов и в его письмах этого периода к Фету. Первые после перерыва известия о ней встречаются в письмах Толстого (п. 269, 270), не перестававшего побуждать Страхова к продолжению начатого. Однако осенью Страхов смог найти время лишь для «обдумывания» статьи (п. 274); дальнейшее ее написание относится уже к его зимним занятиям. Вероятно, вняв призыву Толстого, Страхов возобновил свою работу, о чем кратко заметил в письме к Фету от 18 декабря 1880 г.: «Простите, что я не писал к Вам так долго. Я еще вновь простудился и только теперь оправляюсь. А между тем хотелось воспользоваться свободной от корректур неделькой, и я торопил свою статью» (Там же. С. 327). См. п. 276 и примеч. 14 к нему.
3 Возможно, эта реплика Толстого вызвана сообщением Страхова в недошедшем до нас письме о намерении сотрудничать в начавшей выходить с 15 ноября новой еженедельной газете И. С. Аксакова «Русь» (офиц. издатель-редактор Д. Ф. Самарин). Страхов познакомился с первым номером издания и остался доволен его содержанием, которое подействовало на него «освежительно» (письмо П. Д. Голохвастову от 30 ноября 1880 г. — Цит. по: Аксаков — Страхов. Переписка. С. 43). Страхов не внял совету Толстого и продолжал публиковаться в «Руси». В том же письме П. Д. Голохвастову он замечал: «Сегодня отправляю к Аксакову маленькую статью и, надеюсь, вперед буду писать и, вероятно, лучше» (Там же. См. примеч. 11 к п. 274). На момент получения письма Толстого выступления Страхова в периодической печати ограничивались в 1880 г. небольшой публикацией (летом этого года) в ежемесячном детском журнале С. С. Кашпирёвой — «Открытие памятника Пушкину» (см.: Семейные вечера. 1880. № 6. С. 261-272).
4 О благотворной способности Толстого ободрять и заряжать людей творческой энергией вспоминала С. А. Толстая: «Я замечала часто, что Лев Николаевич умел всякого художника, музыканта, писателя — вообще всех служителей искусства — воодушевлять и возбуждать в них своим обаянием и своим горячим отношением к искусству и энергию, и лучшие их силы. / Так было тогда с Репиным, так раньше писал ему Чайковский, когда Лев Николаевич слушал его квартет. То же испытал давно игравший у нас скрипач Нагорнов и позднее другие музыканты. Об этом подъеме энергии и лучших духовных сил, проявлявшихся после замечаний и сочувствия Льва Николаевича, пишет и Н. Н. Страхов...» (Толстая. Моя жизнь I. С. 323).
80
274 Строхов — Толстому
Ваше письмо, бесценный Лев Николаевич, сделало меня счастливым на несколько дней. По своему малодушию я всё боялся, что уж наскучил Вам, или что Вы недовольны. Стасов прибежал с писком и радостью:
— Я получил письмо от Толстого!1
«Ия получил!»
— Ну, давайте мне свое, а я Вам дам свое.
И мы принялись читать. А до тех пор, бывало, каждый раз как встретимся, спрашиваем: Ничего нет? — Ничего! — и разойдемся.
И как Вы милы! Об деньгах ничего не пишете2, а написали то, что мне приятно и полезно.
И приятно и полезно мне напоминание об моей статье. Полезно и очень важно предостережение от суеты мысли. Свою статью я не только не забыл, но обдумывал всё время, а теперь, когда кончен Шопенгауэр, я только над нею и буду работать3. Когда не вылилось сразу, то всегда трудно мне кончать — очевидно, по недостаточной зрелости мысли. Но всё надеюсь, что конец будет не хуже начала4.
Всяческая суета здесь очень велика, но я стараюсь только пользоваться ею, для отдыха и оживления, а не отдаваться ей. Если я провел два вечера не дома, не за книгами, то чувствую себя как будто голодным и пустым5. Но нельзя же было не посмотреть картину Куинджи6, не побывать у графини Толстой7, не послушать первой лекции Соловьева в Университете8.
Картина — цвет нашего реализма. Луна и река светятся так, что не веришь глазам. Очень хорошо и только странно; такого обмана не должно быть в искусстве. Меня так это занимает, что думаю написать статейку в «Русь»9 (вопреки Вашему запрещению10), одну маленькую статью11, Лев Николаевич!
28 ноября 1880 г.
Санкт-Петербург
81
И вчерашняя лекция была блистательна12. Соловьев постарался, говорил ясно, свято и одушевленно. Тема — что сделала философия в жизни человечества. Он утверждал, что она возвысила человеческую личность, освобождала ее от гнета религий и власти. Полное возвышение личности, до богочеловечества, возвестило христианство, но потом упало, подчинилось власти, выродилось. Философия, действуя против этого зла, произвела реформацию и революцию. Да и теперь в материализме она силится восстановить плоть, что будто бы тоже входило в программу христианства.
Мне было странно вообще слышать его речи о христианстве, и я вспомнил Ваши объяснения, с такой неотразимой ясностью показывающие его истинный смысл. В каких мы потемках бродим! Соловьев интересен тем, что отзывается на всё и всё хочет примирить. В сущности, по логической и исторической постройке, лекция была слаба, хотя и вызвала общий восторг13. Но несколько слов, сказанных им о занятиях философией, мне очень пришлись по душе. Именно он говорил, что это углубление в себя, это устранение от жизни не нужно считать бесплодною работою14.
Я стараюсь, бесценный Лев Николаевич, не разбрасываться. Вот уж год или два, как я не принимаюсь ни за какие новые предметы и хожу всё в том же круге. Душевное здоровье мое гораздо лучше, и я надеюсь, что мне выпадет еще на долю год или два хорошей работы и я выполню некоторые свои планы. Притом я не забываю, что прежде всего нужно искать Царствия Божия, и эта мысль всегда успокоивает. Мне кажется, что понемножку я лучше вижу свои недостатки — как это примиряет с людьми, как располагает к доброте! А иногда это достается очень больно.
Усердное почтение графине, Сереже, Илюше, Василию Ивановичу15 и всем — желаю здоровья, и вообще уверен и радуюсь, что всё в Ясной Поляне благополучно; так ведь?
82
Деньги возьму и вышлю Вам на той неделе.
Всею душою Ваш
Н. Страхов
Р. S. Фет переводит «Фауста»16 и чудесно переводит. Я рад, что он нашел себе дело и вообще всё больше и больше его люблю. Прямой и добрый человек17.
1 Письмо Толстого к В. В. Стасову от 15 ноября 1880 г. (дата по почтовому штемпелю отправления; см.: Толстой и Стасов. Переписка. С. 55-56; Юб. Т. 63, С. 35-36). В самом начале октября Стасов впервые посетил Ясную Поляну и провел у Толстых два дня (2 и 3 октября; см.: Гусев III. С. 646-649; а также в воспоминаниях И. М. Ивакина — АН. Т. 69, кн. 2. С. 43-44). После встречи Стасов и Толстой обменялись письмами: Стасов извещал Толстого уже 6 октября, на следующий день по возвращении в Петербург; Толстой смог ответить только в половине ноября.
2 См. п. 272 и примеч. 1 к нему.
3 Предположение Страхова не оправдалось. Уже в следующем месяце он получил от Фета в рукописи часть его перевода «Фауста» И.-В. Гёте и занялся сверкой (см. примеч. 12 к п. 276). В декабре же Страхову пришлось уделять немало времени чтению начавших поступать из типографии корректур перевода первого тома труда Ф. А. Ланге (Lange, Friedrich Albert) «История материализма и критика его значения в настоящее время» (Т. 1: История материализма до Канта. СПб., 1881. [2], XII, 386 с.), выходившего под наблюдением Страхова (см. п. 286, 290; ср.: Фет. Переписка II. С. 327). Работа над статьей по физиологии вновь была приостановлена.
4 Оставшаяся незавершенной ко времени открытия в Петербурге съезда естествоиспытателей (декабрь 1879 г.), работа над материалом уже не носила срочного характера, и Страхов мог позволить себе обдумывать ее содержание более глубоко. Объяснением неторопливой манеры ее подготовки к печати могут служить слова из письма Страхова П. Д. Голохвастову от 30 ноября 1880 г.: «Когда я прежде писал, то писал для денег, торопясь, всячески изворачиваясь, чтобы не впасть в болтовню, не сказать необдуманного и не заговорить о том, чего не знаю» (цит. по: Аксаков — Страхов. Переписка. С. 59).
5 Свой обычный распорядок дня Страхов так описывал А. А. Фету: «А времени у меня ведь не много. С утра я в Библиотеке, потом гуляю, обедаю и часов в 7 являюсь домой: если иду в театр или в гости, то досуга на умственный труд дома не остается» (письмо от 25 марта 1880 г. — Фет. Переписка II. С. 308).
Печатается по: Р0 ИРЛИ. Ф. 302. Оп. 2. Ед. хр. 300. Л. 27-28.
Впервые: Современный мир. 1913. №9. С. 261-263.
Датируется по содержанию (написано на другой день после лекции Вл. Соловьева 27 ноября). Ответ на п. 273.
83
6 Поражавшая своим подчеркнуто декоративным, почти иллюзорным живописным исполнением картина А. И. Куинджи «Ночь на Днепре» впервые была представлена для обозрения 1-14 ноября 1880 г. на отдельной, специально устроенной выставке в Обществе поощрения художеств на Большой Морской улице в Петербурге. Картина произвела фурор среди зрителей своим световым эффектом: «...золотая рама была обтянута темным бархатом и лампа совершенно скрыта за драпировкой; у многих входивших в комнату, при виде картины вырывался невольный крик восторга. Иллюзия достигалась полная» (Голос. 1880. 18 нояб. № 329. С. 3). Работа произвела на Страхова смешанное впечатление и побудила выступить в печати с ее критической оценкой. «Очень уж задел меня этот реализм», — объяснял он свое намерение в письме к А. А. Фету от 25 ноября (Фет. Переписка II. С. 325). Отметив совершенство технического исполнения, Страхов поставил под сомнение художественно-эстетическую ценность творения Куинджи. В стремлении передать как можно ближе к натуре внешний эффект ночного лунного освещения во всей его интенсивности Страхов увидел лишь «смешное напряжение достигнуть невозможного», желание «подделаться под природу», — и всё это техническое новаторство приложено, по его мнению, только ради того, чтобы воспроизвести живописными средствами чисто «физическое впечатление» — в ущерб главному: «внутренней правде» произведения и истинному, серьезному содержанию искусства, превращая его из высокого общественного «дела» в «забаву» для публики (Страхов. Воспоминания и отрывки. С. 121,127-129).
7 Вдова поэта А. К. Толстого, графиня Софья Андреевна Толстая, хозяйка литературного салона. Речь, вероятно, идет о посещении Страховым очередного «четверга» их устроительницы на Миллионной. Страхов бывал и в имении Толстой Пустынька (см.: Фет. Переписка II. С. 375). См. также примеч. 7 к п. 262.
8 Первая лекция Соловьева в университете состоялась 20 ноября 1880 г.
9 Об этом же Страхов извещал и А. А. Фета в письме от 25 ноября: «Имеете ли понятие о картине Куинджи — „Ночь на Днепре“? Я думаю написать немножко в „Русь“ » (Фет. Переписка II. С. 325). Страхов исполнил свое намерение и 29 ноября завершил свою «Петербургскую заметку», посвященную критическому разбору художественных достоинств и недостатков полотна. Материал был помещен редактором газеты И. С. Аксаковым в ближайшем номере издания (см.: Русь. 1880.13 дек. № 5. С. 12-13). Под названием «Ночь на Днепре. Картина Куинджи» заметка перепечатана в кн.: Страхов. Воспоминания и отрывки. С. 121-129.
10 Страхов имел в виду совет Толстого сосредоточиться на занятиях философией и, в частности, на завершении статьи по физиологии (см. п. 273).
11 Сотрудничество Страхова с «Русью» не ограничилось помещением «одной» и «маленькой» статьи (см. примеч. 3 к п. 273). Он откликнулся на горячий призыв И. С. Аксакова продолжать свои публикации: «Надеюсь, что на этом не кончится». «Пожалуйста, пишите и пишите, особенно по части художественной критики» 84
(письма от 3 и 7 декабря 1880 г. — Аксаков — Страхов. Переписка. С. 44,43) — и уже в следующем году выступил в газете с рядом материалов принципиального характера, в том числе с циклом «писем о нигилизме» (см.: Там же. С. 43-64). В планы Аксакова входило привлечение Страхова к постоянному участию в издании в качестве ведущего критика (Там же. С. 65-66).
12 В Петербургском университете Соловьев читал по четвергам. Его вторая университетская лекция была посвящена роли философии и христианства в духовной жизни человечества. Слушавший университетские лекции Соловьева психиатр И. А. Сикорский считал, что «наибольшее впечатление» на аудиторию, обеспечивавшее «блестящий» успех его публичным выступлениям, производила «самая личность» мыслителя. «Его присутствие в обществе вызывало у всех подъем духа и нравственное обаяние как бы какого-то нового мира, пред которым умолкает всё будничное, сменяясь возвышенным, идеальным. В особенности было сильно влияние личности Соловьева на людей юного возраста. В 1880 году мы посетили некоторые из его лекций, читанных в С.-Петербургском университете. Нас привлекало не только содержание лекций юного философа, но еще более знаменательный факт необыкновенного влияния лектора на аудиторию. Нам пришлось видеть необычную картину! То не была лекция, и то не были слушатели: то был пламенный проповедник, вещавший новое слово, скорей — новую жизнь, а слушатели внимали ему как пророку. Безмолвие аудитории, сила внимания и глубина общего настроения едва ли могут быть переданы словами. Содержание лекций нередко носило характер не ясный и туманный; быть может, многое оставалось непонятным; но нравственная сила идей и мощь настроения лектора передавались всей аудитории. Главная роль в этом сильном влиянии Соловьева на юные умы слушателей принадлежала его художественной личности, полной возвышенных идей, глубокого настроения и необыкновенной нравственной чистоты, светившейся сквозь тонкие полупрозрачные черты его хрупкого тела» {Сикорский И. А. Нравственное значение личности Владимира Соловьева. С. 4. — Курсив автора). Другой современник и слушатель этих университетских лекций вспоминал: «Соловьев был тогда молодой человек. Интерес был к нему и внешний, и внутренний. (...) Видя перед собой массу слушателей, Соловьев весь отдавался восторженному, вдохновенному настроению. / Его лекции представляли собой действительно нечто необычное» (Материалы к биографии Вл. Соловьева (Из архива С. М. Лукьянова). — Российский архив. [Т]. 2/3. С. 394).
13 По образному выражению свидетеля этого восторженного приема слушателями лекций Э. Э. Ухтомского, «Соловьев не выходил из оваций». Изъявления восторгов не прекращались и после чтения, за пределами лекционных залов: «...на его долю выпало много оваций на дому: к нему приходили и студенты и студентки, и вообще различные интеллигенты, приносили много цветов. От посетителей не было отбою» (Там же. С. 396).
85
14 Говоря о пользе философского углубления в себя и отстранения от повседневной суеты мирской жизни, Соловьев, вероятно, пытался воздействовать на умонастроение наиболее политически ангажированной части своих слушателей. Этой же цели служили во многом и предпринимавшиеся им шаги по сближению со студенчеством вне стен университета. По мнению наблюдавшего эти встречи Э. Э. Ухтомского, Соловьев путем личного общения и частных бесед «надеялся повлиять» именно «на радикальную часть молодежи» (Там же. С. 395).
15 Василий Иванович Алексеев, учитель старших детей Толстого. О нем см. п. 177 и примеч. 10 к нему.
16Фет вспоминал, что его первые — неудачные («много раз (...) как ни пытался, не мог перевести ни одной строчки Фауста») — приступы к переложению на русский язык трагедии И.-В. Гёте были предприняты им еще во время одного из прежних наездов в имение И. С. Тургенева Спасское (Фет А. А. Мои воспоминания. М., 1890. Ч. 2. С. 367)). Более успешными стали опыты перевода в конце лета и осенью 1879 г., когда поэт, по его словам,« как бы разом учуяв тон, в котором следует переводить Фауста (...) шутя перевел несколько стихов» (Там же). Если, как пишет Фет, передача казавшегося ему прежде очень сложным текста более и не вызывала непреодолимых затруднений и стала удаваться «с совершенно неожиданной легкостью» (Там же), активного продвижения вперед эта работа всё же не получила, хотя еще зимой следующего года он продолжал трудиться над совершенствованием формы перевода (Там же. С. 370). Вынужденный уделять значительное количество времени чтению поступавших из Петербурга корректур русского издания труда А. Шопенгауэра «Мир как воля и представление», Фет смог вернуться к более деятельным занятиям по переводу «Фауста» лишь к осени 1880 г., когда и известил Страхова о проделанной работе. Оценив значение предпринятого поэтом начинания, Страхов откликнулся горячим призывом: «Ваш „Фауст" интересует меня в высшей степени, и я умоляю Вас — посылайте мне копию. (...) Если Вы не будете торопиться, и не будете позволять себе вольностей, до которых Вы величайший охотник, то это будет диво дивное и истинное обогащение русской литературы» (письмо от 17 октября 1880 г. — Фет. Переписка II. С. 319. — Курсив Страхова). Фет, высоко ценивший литературный вкус, критическое чутье и переводческий опыт своего корреспондента, переслал ему часть рукописи, ознакомление с которой вызвало новый искренний восторг Страхова (см.: Там же). Ко времени получения письма Страхова известие о работе Фета над переводом «Фауста» уже не было новостью для Толстого. Еще 18 октября поэт сообщал ему о своем новом труде: «Зная, что Страхов приезжает к Вам на праздники, я думал встретиться с ним у Вас денька на два (...) При этом я хотел прочесть графине Софье Андреевне начало моего перевода из „Фауста", чтобы знать, продолжать или нет. Надеюсь, что вы оба позволите мне доставить себе этот праздник» (Толстой. Переписка с писателями II. С. 106). Через месяц, не дожидаясь личной встречи, Фет, задетый заочной полемикой с Толстым по поводу 86
его нового «учения» и толкования текстов Нового Завета, пересылает в Ясную Поляну важный для него в смысловом отношении перевод отрывка из первой части «Фауста» — род поэтического ответа-намека на поиски Толстого, в котором утверждается приоритет практического «дела» («подвиг») над притязаниями теоретизирующего «слова» (см.: Там же. С. 114). Страхов, стремившийся всячески ободрять Фета в его новом переводческом увлечении и сам захваченный сознанием грандиозности поставленной поэтом перед собой творческой задачи, вновь вызывается оказывать ему всяческое содействие. Получив для ознакомления часть рукописи перевода, он писал Фету 6 ноября: «...чрезвычайной важности дело — Ваш перевод „Фауста". Я намерен следить за каждым стихом; в том, что Вы прислали — три четверти стихов — восхищение. Какой язык, какая близость, сила! Но остальная четверть, может быть даже восьмая доля — требуют поправки. Вот Вам дело бессмертное; если позволите, я буду Вам писать свои замечания. (...) Ах, какие у Вас там прелести!» (Фет. Переписка II. С. 322. — Курсив Страхова). В отличие от расположенного Страхова, прямо противоположной на занятия Фета была реакция Толстого: Фет не только не услышал от него ободрения, но и не получил своевременного отклика на труд, который его тогда «всего поглощал» и был ему «ужасно дорог» (письмо Фета Толстому от 21 ноября 1880 г. — Там же. С. 114). Не изменилось отношение Толстого к поэтическому переводу Фета и после пребывания последнего в Ясной Поляне в конце декабря. Отклик Толстого на занятия Фета — в п. 277. См. также примеч. 5 к п. 276.
17 Об отношении Страхова к Фету см. также примеч. 4 к п. 268.
275 Толстой — Страхову
Николай Николаич.
Пожалуйста, не пересылайте мне денег1, а положите их куда-нибудь в банк, а 100 р. передайте Любовь Александровне Берс2, Васильевск[ий] Остров, Средний проспект, дом № 1, кв. 9. Я был очень рад получить ваше последнее письмо, очень люблю получать ваши письма.
Будьте в таком же духе.
Ваш Л. Т.
1 Деньги за проданные экземпляры IX выпуска «Русской библиотеки» (СПб. 1879). См. п. 272.
2 Л. А. Берс, мать С. А. Толстой.
30 ноября 1880 г.
Ясная Поляна
Печатается по: ОР ГМТ.Ф. 1.№5451. Л. 1. На л. 1 помета Страхова: «30 ноября 1880.
Ясная».
Впервые: Современный мир. 1913. № 9. С. 263. В Юб:. Т. 63. С. 37.
Датируется по помете Страхова. Ответ на п. 274.
87
25 декабря 1880 г. Санкт-Петербург
276 Строхов — Толстому
1880.
25 дек[абря].
Спб.
С праздником, бесценный Лев Николаевич! Сегодня празднуется рождение Того, учение Которого Вы истолковываете1. Я всё колебался, проситься или не проситься к Вам на эти праздники, колебался потому, что шаталось мое здоровье; да и шатается до сих пор. Придется остаться дома2. Но хоть мне и грустно смотреть на себя как на хворого старика, болезнь эта явно мне на пользу: я смирнее и спокойнее, так спокойнее, как давно себя не помню. Болезнь — великое дело. Теперь умирает на моих глазах одна дама, Шестакова, вдова моего покойного приятеля3. При первых посещениях я пришел в ужас: шестидесятилетняя старуха вела себя избалованною десятилетнею девочкой, капризничала, злилась, вооружила против себя самых добрых людей. И так-то придется умирать! И человек к концу жизни может сделаться гаже и гаже, хуже, чем был всю жизнь! Тут меня поразило то отсутствие всяких серьозных мыслей, в котором мы живем. Она как будто никогда не слыхала, что нужно терпеть, прощать, любить. Но болезнь взяла наконец свое: в последние посещения я заметил, что она смягчилась, невольно стала кроткою и спокойною. Вот где на месте был бы проповедник: в сущности, мы живем и умираем язычниками, а не христианами4.
С Афанасием Афанасьевичем у нас идут постоянные споры, которые, впрочем, затевает и поддерживает он, а не я. Ему нужно поставить в честь, что он так горячо занят этим вопросом, вопросом спасения5; он чувствует, что дело важное и что нужно, необходимо добиться решения. Но принимается за дело он пока очень дурно: он упирается, горячится и ораторствует a priori, вместо того, чтобы добиваться понимания, в чем дело.
88
Тут наконец и в разговорах, и в печати толкуют об Ваших занятиях. Суворин выразился с приличною терпимостью6, но общий приговор один: жаль, что Вы не пишете романов, а занимаетесь делом отжившим, похороненным, исчерпанным и никому не нужным и не интересным. Право, мы одичали. Я недавно читал Евангелие с толкованиями Lamennais, изданное перед революцией 18487. Эти толкования очень слабы и явно говорят так: я не стану толковать о глупостях в роде возрождения, а укажу только, что любовь требует уравнения прав и имуществ, что тогда уничтожатся бедствия и на земле настанет процветание, какого еще не бывало. И это говорит духовное лицо, глубоко религиозный человек! А Фет меня уверяет, что все знают смысл, который Вы нашли8.
Скажите Афанасию Афанасьевичу (он будет у Вас9), что я напишу ему в Москву10, что Шопенгауэр пошел очень хорошо, что я объявил о нем в трех газетах11. Надеюсь, Фет привезет мне много известий об Вас и об Ваших. Предполагаю, что всё благополучно, а наверное знать еще лучше.
Я всё впопыхах. Фет прислал своего «Фауста»12, из типографии сыплются корректуры Ланге, «История материализма»13, а потом еще и еще разные разности. Моя несчастная статья никак не подвигается. Но в уме моем она становится всё серьезнее и серьезнее14.
Был у меня Вячеслав Андреевич15 и очень жаловался на Университет, на холодный, враждебный дух, который там царствует. На праздниках побываю у Любовь Александровны16.
Пока простите. От души желаю Вам всего, всего, что хорошо в Вашем смысле. Графине усердное почтение. Сережу17 хочу просить, не вызовется ли он написать мне иногда несколько строк вместо Вас? И всем кланяюсь, а перед Василием Ивановичем18 каюсь, что не прочел ему своей статьи, когда можно было. После уж догадался.
Ваш всею душою
Н. Страхов 1
Печатается по автографу: РО ИРЛИ. Ф. 302. Оп. 2. Ед. хр. 300. Л. 44-45.
Впервые: Современный мир. 1913. №9.
С. 263-264.
1 Имеется в виду праздник Рождества Иисуса Христа.
89
2 О недомогании Страхова см. примеч. 5 к п. 272. Свои опасения по поводу вероятной невозможности из-за болезни побывать в Ясной Поляне на рождественских праздниках Страхов высказывал в письме Фету еще от 24 октября 1880 г.: «Что до Ясной Поляны, то мне представляется, что еще много осталось времени; но в настоящую минуту мне нездоровится (всё то же нездоровье), и всё кажется, что едва ли доктор пустит» (Фет. Переписка II. С. 320). Имея в виду эти соображения, Фет 21 ноября известил Толстого о колебаниях Страхова: «Теперь он возится с каким-то недугом, не решается быть у Вас к Рождеству...» (Толстой. Переписка с писателями II. С. 114). Вскоре Страхов подтвердил вынужденную необходимость остаться на праздники в Петербурге: «А на Рождество не бывать мне у Толстого; я, как поправлюсь, всё думаю: поеду, — а дни через два опять меня схватит и думаю: нет, не ехать» (письмо от 25 ноября 1880 г. — Фет. Переписка II. С. 325). В декабре Страхов вновь простудился и смог оправиться от недомогания лишь в самом конце месяца (см.: Там же. С. 327, 328).
3 Вдова председателя Олонецкой судебной палаты И. А. Шестакова, приятеля Страхова из Петрозаводска.
4 Близкие по содержанию мысли Страхов высказывал не раз в письмах к А. А. Фету. Ср.: «Всею душою я стремлюсь к жизни, к правде, к настоящему, и чувствую, что всё время хожу в каких-то тенетах лжи и фантастики. Я стою на прежнем — хороший поступок, хорошее чувство, чистота в поведении — выше всякой философии и всего другого на свете». — «Право, мы все ходим в потемках, и иногда не знаем самых очевидных вещей, давно найденных и доказанных» (письма от 6 и 25 ноября 1880 г. — Фет. Переписка II. С. 322,324. — Курсив Страхова).
5 Вероятно, самосовершенствования в духе христианской нравственности и возможности осуществления на практике нового этического «учения» Толстого. Откликаясь на одно из таких обращений Фета, Страхов писал: «Толстой, несомненно, открыл дух христианства и глубочайшие черты в духе русского народа. А то, что у него с этим свяжется и к этому пристанет и в жизни и в писании, есть неизбежная примесь, и очень может быть, что на практике Вы лучше его исполняете то, что он признает в теории. Я очень радуюсь Вашим добрым делам, совершаемым, как кажется, под личиною грубейшего эгоизма и даже с видом раздражения. Мне хотелось бы знать даже точные подробности. О Толстом я знаю только, что он всё терпит...» (письмо от 25 ноября 1880 г. — Там же. С. 324). В конце года, накануне делового приезда Фета в Петербург, Страхов вновь вернулся к волновавшей поэта теме: «Жду Вас с нетерпением и ради Вас, и ради Толстого (...) Споры наши идут ужасно дурно, конечно потому, что идут на письме. Я одно замечу: напрасно Вы пишете, что я проповедываю Вам Толстого; я только отвечаю, когда Вы заговариваете. У Вас, очевидно, есть глубокий интерес к этому делу, и Вас беспокоит, что оно не распутывается» (письмо от 28 декабря 1880 г. — Там же. С. 328).
90
6 А. С. Суворин в своей статье от 7 декабря 1880 г. упоминает беседу с Толстым, состоявшуюся в январе 1880 г.: «Довелось мне беседовать с графом Львом Толстым. (...) Теперь мне говорят, что он написал Толкование на Евангелия и что это толкование уже вышло в Штутгарте. Скажут: охота такому художнику соперничать с отцами церкви. Я этого не скажу, потому, во-первых, что охота лучше неволи, во-вторых, потому что с отцами церкви чего бы и не соперничать. Не хорошо только то, что соперничать с ними приходится в Штутгарте, а не в Москве» (Незнакомец [Суворин А. С.]. Об уме и познании. — НВ. 1880.7 дек. № 1717. С. 2-3).
7 Речь идет об издании Евангелия, прокомментированного аббатом-социалистом Ламеннэ (Lamennais, Hugues Félicité Robert de). В яснополянской библиотеке сохранилась книга: Les Évangiles / Traduction nouvelle avec des notes et des reflections à la fin de chaque chapitre par F. Lamennais. — Paris: Pagnerre; Perrotin, 1846. — [4], 444 p. Экземпляр имеет многочисленные отметки читавшего его Толстого (см.: Описание ЯП6. Т. 3, ч. 1. С. 138-141. № 296). О своем впечатлении от знакомства с работой Ламеннэ Страхов тогда же писал и Фету: «Долго собирался я Вам писать и об открытии Толстого. Это — открытие вполне, потому что ни Штраус, ни Ренан не видели того, что увидел Л. Н. Еще недавно я читал Евангелие с толкованиями Lamennais — какая жалость! Чуть заметная тень правды» (письмо от 18 декабря 1880 г. — Фет. Переписка IL С. 327). О труде Ламеннэ Толстой отзывался как о «выдающемся сочинении» и считал, что из всех комментариев к Евангелиям — «лучшие его» (см.: в записи Д. П. Маковицкого от 26 апреля 1905 г. и от 26 сентября 1906 г. — ЛН. Т. 90, кн. 1. С. 258; кн. 2. С. 242; ср.: С. 636).
8 Письмо Фета, как и возможные другие его обращения к Страхову на эту тему, неизвестно.
9 Фет навестил Толстого в Ясной Поляне в последних числах декабря 1880 г.
10 По дороге в Петербург, куда он, по его словам, поехал, откликаясь на приглашение Страхова (письмо Толстому от 29 января 1881 г. — Там же. С. 93), Фет остановился на несколько дней в Москве. Здесь состоялось важное в личном и творческом отношении событие — очное знакомство Фета и философа Вл. Соловьева.
11 Вероятно, речь идет о письме Страхова от 28 декабря, в котором он среди прочего сообщал Фету: «О Шопенгауэре я объявил в „Голосе“ и в „Новом Времени“ и в „Руси“. У Стасюлевича уже давно продано 25 экз.» (Там же. С. 328).
12 Готовясь к встрече с Фетом, Страхов стремился как можно полнее познакомиться с его переводом и подготовить свои замечания. В письме от 28 декабря, перечисляя накопившиеся поводы к свиданию, он замечает, что ждет Фета, в том числе «и ради Фауста» (Там же) — Фет вез с собой рукопись с позднейшими, неизвестными Страхову исправлениями. Отношение Страхова к труду Фета продолжало оставаться высоко восторженным несмотря на замечаемые шероховатости переложения и торопливое желание Фета побыстрее завершить работу в ущерб более тщательной отделке рус91
ского поэтического текста. «Ваши переводы — прелесть и прелесть! (...) Вот настоящий поэтический склад и проч. Жду, как наслаждения, когда стану изучать и сравнивать с подлинником». «... Заглянул потом в „Пролог на земле“ и в начало самой драмы (...) и пришел в восхищение. С такими возможностями, как у Вас, грех не переводить хорошо. (...) Чудесные стихи, и близко очень...» (письма от 25 ноября и 18 декабря
1880 г. — Там же. С. 324, 326-327). Около половины декабря Страхов получил сообщение, что Фет завершил работу над переводом: «Ваше известие об окончании „Фауста“ привело меня в великую зависть — Вы прекрасно пользуетесь Вашим досугом и должны им пользоваться» (Там же. С. 327) — а вскоре, вероятно, и последнюю часть рукописи перевода («список»), о чем Страхов и уведомляет Толстого. По достоинству оценив свершение поэта, Страхов весьма критически высказался по поводу ряда неточностей перевода и смысловых отклонений от оригинала. «Самый слабый перевод, если он соблюдет в этом верность, произведет лучше впечатление, чем Ваш. (...) Соблюдение течения мыслей подлинника есть первое условие, а то читателя кидает и подбрасывает из стороны в сторону, и всё впечатление рушится» (Там же). Несколько важных замечаний сделал в Москве Вл. Соловьев, в целом весьма одобрительно отозвавшийся, по словам Фета, о качестве перевода («начал ночью читать и не мог оторваться», «вполне впечатление оригинала» — письмо Толстому от 29 января
1881 г. — Там же. С. 93). Судя по тому же письму к Толстому, Фет остался недоволен своей «безобразной поездкой в Питер», однако внял доводам Страхова и продолжил работу над совершенствованием русского текста. В конце января отделанный перевод был отправлен Страхову (Там же. С. 330). Несмотря на успех чтений русского «Фауста» в Петербурге, Страхов остерегал Фета от поспешности в деле подготовки рукописи к печати. Еще 18 декабря он увещал его: «Но не исчерпывайте интереса сразу, пройдите Вашего „Фауста“ еще и еще» (Там же. С. 327). И через месяц, 30 января 1881 г. повторил свой совет: «Чувствую, дорогой Афанасий Афанасьевич, по Вашему письму, что Вы уже горите нетерпением печатать и, признаюсь, не понимаю. Я бы держал еще у себя год или два и гладил бы до тех пор, пока ничего бы не задевало. Но, как хотите...» (Там же. С. 329). Свою «торопливость» Фет объяснял просто: «Я бы при жизни (мне 60 лет, и мы все смертны) хотел видеть „Фауста“ в печати общим достоянием» (Фет А. А. Стихотворения. Проза. Письма. М., 1988. С. 389). Видя нежелание Фета углубиться в доработку текста, Страхов стал охладевать к продолжению сотрудничества по его редактуре, а затем под благовидным предлогом и вовсе устранился от содействия в доведении его до печати. «Я всё досадовал на Вас за „Фауста“. Вы не хотите работать и всё торопитесь. Между тем у меня решительно нет времени. Столько набралось и своих и чужих дел, и так я копаюсь в каждом деле, что хожу, как в сетях. (...) Скажу Вам твердо: половина Ваших стихов прекрасны, но другая половина — не то что дурны, а ничего не значат. Если Вы не хотите исправлять, то я считаю дело почти неудавшимся. Печатать Вы можете, где хотите; я Вам устрою, если угодно, в той
92
же типографии; она будет посылать Вам корректуры, и Вам не будет никакой надобности в посредниках» (письмо от первой половины марта 1881 г. — Там же. С. 332). Первый том «Фауста» в переводе Фета вышел в свет в Москве в 1882 г.; через год там же будет отпечатан и второй том русского текста трагедии Гёте.
13 О работе Страхова над переводом «Истории материализма...» Ф.-А. Ланге см. примеч. 3 к п. 274, п. 285 и 290. Предложение принять участие в подготовке перевода книги Ланге на русский язык сделал Страхову книгоиздатель Л. Ф. Пантелеев (см.: Пантелеев Л. Ф. Воспоминания. М., 1958. С. 256). Чтением корректурных листов перевода труда Ланге Страхов занимался уже в половине декабря 1880 г.: «А вчера, вернувшись домой, вдруг и нахожу корректуры из двух типографий — чтоб вас!» (письмо А. А. Фету от 19 декабря 1881 г. — Там же. С. 327).
14 О затруднениях в написании статьи по физиологии Страхов сетовал не раз в письмах к Фету (см. п. 273 и примеч. 2 к нему). В декабре 1880 г. он продолжал, по мере возможности, отдавать ей свой короткий досуг: «На праздниках я тащу через силу свою статью и очень надсажаюсь» (письмо от 28 декабря 1880 г. — Там же. С. 328). Еще через месяц «Ая тащу и тащу свою статью, с очень малым успехом. Но в последние дни я и об ней не думаю...» (письмо от 30 января 1881 г. — Там же. С. 329).
15 В. А. Берс, младший брат С. А. Толстой, воспитанник Института инженеров путей сообщения.
16 Л. А. Берс, мать С. А. Толстой.
17 Старший сын Толстого. С. А. Толстая отмечала в своих автобиографических записках: «Дети мои, особенно Сережа, относились к Страхову тоже с любовью, доверием и уважением, а он любил их, как старые, бессемейные холостяки любят семьи дорогих и близких им друзей» (Толстая. Моя жизнь I. С. 173).
18 В. И. Алексеев, учитель старших детей Толстых в Ясной Поляне, с которым Страхов, вероятно, сблизился летом 1880 г. Алексеев оставил о Страхове краткие воспоминания. Ср.: «Почти каждый год в Ясную Поляну приезжал Н. Н. Страхов, библиотекарь Публичной Библиотеки в Петербурге. Лев Николаевич с ним был давно знаком и очень любил его. Это был человек очень эрудированный, окончивший два факультета, очень добрый, кроткий, но с слабой волей, человек науки, но не жизни. Он писал большею частью критические статьи. Его критика отличалась сухостью, но точностью. (...) Зато когда приходилось Н. Н. Страхову высказывать свои убеждения — выложить свою душу, он начинал говорить и то, и это, и в конце концов не дождетесь от него ничего определенного. (...) Когда он познакомился со мною и узнал все подробности моей поездки в Америку, то ничего иного не нашел сказать Льву Николаевичу, как то, что в нашей поездке отразилась истинно русская натура — искание праведной жизни на свете, и сравнил нашу поездку с исканием „истинной веры“ русского крестьянинастранника. При этом не высказал своего взгляда, правилен был ли наш поступок, соответствовал ли он тем целям, к которым мы стремились, наконец, — правилен ли был 93
наш взгляд на жизнь. И всё это потому, что ему сейчас пришлось бы высказаться, во что он верует и как стремится осуществить в жизни свои идеалы. / В своих письмах и беседах с Львом Николаевичем Н. Н. Страхов был весьма откровенен. (...) Как-то раз в разговоре Лев Николаевич довольно метко охарактеризовал Страхова. Он сказал: — Страхов — как трухлявое дерево, — ткнешь палкой, думаешь будет упорка, ан нет, она насквозь проходит, куда ни ткни, — точно в нем нет середины, вся она изъедена у него наукой и философией. / Лев Николаевич, как писатель, серьезно работавший над своими произведениями, весьма нуждался в критике его произведений, чтобы проверить, в чем его ошибки, если есть таковые, с целью исправить их. Критического слова он ждал и от Страхова, как человека весьма образованного и добросовестного критика. Но критика Страхова мало удовлетворяла его, так как Страхов большею частью во всем соглашался со Львом Николаевичем. (...) И все-таки искренность, добродушие и ум Н. Н. Страхова очень привлекали к себе Льва Николаевича. Он с большой любовью и уважением отзывался о нем и высоко ценил его всестороннюю образованность» (АН. Т. 69, кн. 2. С. 278-280).
277
30 декабря ТОЛСТОЕ — СтрОХОВу
1880 г.
АСНОЯ ПОАЯНб Не стою я, дорогой Николай Николаич, таких писем, как ваши два последние1, тем, что не написал вам давно; стою только той душевной радостью, которую они доставляют мне.
Пожалуйста, напишите мне подробнее о вашем нездоровьи. Я так и не знаю, что у вас. По последнему письму2 я думал, что вам лучше. Хоть вы и сами не любите лечиться, все-таки не залечивайтесь. Искушение у вас сильно — докторов много: знакомые. Если бы я был в городе, я наверно бы лечился, а вот не лечусь и всё то же5. Радуюсь тому, что статья ваша разрастается, и понимаю это, и желаю этого, и прошу вас работать побольше над делом, а не над пустяками, как переводы и особенно эта дребедень из дребеденей, «Фауст» Гёте. Фет напомнил мне его4.
Да еще получил от вас весточку — предисловие к Шопенгауеру5 — последняя страница превосходна6. — А 4 корня7 ведь я так и не пони94
маю и боюсь, что и Шопенгауер не понимал их, когда писал — мальчиком, а потом, когда вырос большой, не хотел отречься.
Судя по вашим письмам, у вас на душе очень хорошо. И это удивительно для меня — в Петербурге8. — Как получу ваше письмо, так захочется ужасно вас увидать. Давайте мечтать, что на масленице, если будем живы, здоровы, вы приедете к нам9. Я бы приехал к вам, если бы вы жили где-нибудь одни10; но Петербург для меня что-то страшное и гадкое, не по мыслям, но чувству прямо противно. Я бы так и ждал вас и пригонял свои занятия, чтобы быть более свободным.
У нас всё — очень хорошо. Каждый день удивляюсь своему счастью1 ’. Работа идет ровно. Могу сказать, что я на половине12. И рядом с работой всё светлее и светлее становится. Обнимаю вас
Ваш Л. Толстой
Хвалю ваше предисловие [к] Шопенг[ауеру], но не согласен, что пессимизм есть основная черта религиозного настроения13.
Если случится, что вам без труда можно приобрести книгу о Филоне14 или его сочинения — такую книгу, чтобы дала ясное понятие о нем, то достаньте, пожалуйста, и пришлите.
1 То есть письма от 28 ноября и 25 декабря (п. 274 и 276 соответственно).
2 Толстой имеет в виду письмо от 28 ноября (п. 274).
3 Толстой не воспринимал как «лечение» свои периодические консультации в Москве с крупным клиницистом проф. Г. А. Захарьиным.
4 Эти слова Толстого позволяют предположить, что намерение А. А. Фета читать в Ясной Поляне начало перевода «Фауста» (см. примеч. 16 к п. 274) осуществилось. Фет посетил Ясную Поляну в последние дни декабря.
5 Не ясно, о чем идет речь. Вероятно, Страхов прислал Толстому экземпляр незадолго перед тем вышедшей книги: Шопенгауэр А. «Мир как воля и представление» / пер. А. Фета. СПб., 1881 — или отдельный оттиск своего предисловия: С. У-У1П издания. Переплетенный экземпляр Страхов сразу же отправил Фету, о чем сообщил в письме от 18 декабря: «...я послал Вам уже давно переплетенную книжку, но адресовал по глупости в Орел, вместо Курска. Если случится, выручите ее — переплет не дурен» (Фет. Переписка II. С. 327. — Курсив Страхова). Возможно, тогда же экзем-
Печатается по: ОР ГМТ.Ф. 1.№5452. Л. 1-2об. Нал. 1 помета Страхова: «30 декабря] 1880. Ясная».
Впервые: Современный мир. 1913. №9. С. 265. В/Об.: Т. 63. С. 38-39.
Датируется по помете Страхова. Ответ на п. 274 и п. 276.
95
пляр книги был переслан и Толстому, так как по нездоровью лично приехать в Ясную Поляну в конце декабря Страхов не смог. Ср. в воспоминаниях домашнего учителя детей Толстых И. М. Ивакина: «Тогда только что вышел Шопенгауэров «Мир как воля и представление» в переводе Фета, и Страхов, конечно, его прислал...» (АН. Т. 69, кн. 2. С. 36). Экземпляр этого издания (в переплете) сохранился в яснополянской библиотеке, предположительно, со следами чтения Толстого. На страницах с предисловием Страхова отметок чтения не имеется (см.: Описание ЯПб. Т. 1, кн. 2. С. 472. №3816).
6 На последней странице предисловия Страхов высказал мысль, что труд Шопенгауэра полезен в борьбе с «розовыми мечтаниями», но что автор смотрит на жизнь «с одним лишь гневом и презрением», замечая в ней только «темные стороны». Такую точку зрения Страхов признает «вполне недостаточной» и упрекает Шопенгауэра в неспособности рассмотреть и «чисто-положительные» грани человеческой жизни, в которой отнюдь не всё вытекает из эгоизма, а есть и «какие-то добрые и светлые начала», однако эта сторона жизни осталась для Шопенгауэра «как будто закрытою». По мнению Страхова, такую «отрицательную» точку зрения можно преодолеть лишь в том случае, если начать смотреть на жизнь людей «с некоторою любовью и участием».
7 Свой ранний научный труд — диссертацию «О четверояком корне закона достаточного основания», посвященную разработке вопросов теории познания, А. Шопенгауэр защитил в Йенском университете в 1813 г., когда ему было 25 лет.
8 Высказывания Толстого о неприятии им жизни больших городов см. в п. 256 и 270.
9 См. п. 279.
10 С 1875 г. Страхов жил в Петербурге на одной квартире вместе с семьей писателя Д. И. Стахеева.
11 О своем умиротворенном расположении духа Толстой извещал в первой половине января 1881 г. и А. А. Толстую: «Очень жаль, что Вы всё грустите. (...) Впрочем, я не имею права судить. Я с внешней стороны так счастлив, как только могут быть люди. Мои все здоровы и не дурны. Я очень занят» (Ю6. Т. 63. С. 42; ТТП. С. 399).
12 Толстой продолжал трудиться над исследованием «Соединение и перевод 4-хЕвангелий». См. примеч. 1 к п. 260.
13 Имеется в виду следующее место из предисловия Страхова: «Он [Шопенгауэр] показал и разъяснил, что пессимизм есть основная черта религиозного настроения. Пессимизм может быть различен, смотря по тем поводам, которые его возбуждают. Есть пессимизм пошлый и даже гадкий. Но относительно Шопенгауэра следует признать, что у него пессимизм имеет настоящий религиозный характер. Глубокая сериозность и даже суровость нравственного настроения, могущая почти испугать читателя, постоянно слышится в речи Шопенгауэра. Зло, которое он видит в мире, оценивается 96
им по его действительному достоинству: зло нравственное для него несравненно важнее зла физического; он достигает до самого корня этого зла, эгоизма, и последовательно приходит к своему чистому идеалу, отрицанию эгоизма, отсечению эгоистической воли. Таким образом, книга Шопенгауэра может служить прекрасным введением к пониманию религиозной стороны человеческой жизни» (цит. по: Страхов. Философские очерки. С. 351).
14 Филон Александрийский или Филон — иудейско-греческий богослов и философ I в. до н. э. - I в. н. э., посвятивший свои труды, в том числе, толкованию библейских текстов. Его творческое наследие включает около 50 произведений, некоторые из которых сохранились только в переводах на латинский или армянский языки. В яснополянской библиотеке труды Филона Александрийского представлены изданием: Philônos loudaiou Exëgétika syggrammata eis ta tou Möiseös kosmopoiètika, istorika, kai nomothetika. = Philonis ludaei Opera exegetica in libros Mosis, De mundi opificio, historicos, & legales, / Quae partium ab Adriano Turnebo ... partim a Davide Hoeschelio ... édita & illustrata sunt.... — Nunc Graece et Latine in lucem emissa ex accuratissima Sigismunde Gelenii interpretatione, cum rerum indice locupletissimo. — Coloniae Allobrogum [Köln]: Petrus de la Rouiere, 1613. — [11], 904, [24] p. — О происхождении экземпляра см. п. 284 и 286. На некоторых страницах книги следы чтения Толстого устанавливаются предположительно (см.: ОписаниеЯПб. Т. 3, ч. 2. С. 190. № 2575). Ответ Страхова см. в п. 278.
278
1881
Страхов — Толстому
Чувство ужасной пустоты, бесценный Лев Николаевич, не оставляет меня с той минуты, когда я узнал о смерти Достоевского1. Как будто провалилось пол-Петербурга, или вымерло пол-литературы. Хоть мы не ладили всё последнее время, но тут я почувствовал, какое значение он для меня имел: мне хотелось быть перед ним и умным и хорошим, и то глубокое уважение, которое мы друг к другу чувствовали, несмотря на глупые размолвки, было для меня, как я вижу, бесконечно дорого. Ах, как грустно! Не хочется ничего делать, и могила, в которую придется лечь, кажется, вдруг близко подступила и ждет. Всё суета, всё суета!
3 февраля 1881 г. Санкт-Петербург
97
В одно из последних свиданий2 я высказал ему, что очень удивляюсь и радуюсь его деятельности3. В самом деле, он один равнялся (по влиянию на читателей) нескольким журналам4. Он стоял особняком, среди литературы почти сплошь враждебной, и смело говорил о том, что давно было признано за соблазн и безумие5. Зрелище было такое, что я изумлялся, несмотря на всё свое охлаждение к литературе.
Но, кажется, именно эта деятельность сгубила его. Ему показался очень сладок восторг, который раздавался при каждом его появлении, и в последнее время не проходило недели, чтобы он не являлся перед публикою6. Он затмил Тургенева и наконец сам затмился7. Но ему нужен был успех, потому что он был проповедник, публицист еще больше, чем художник8.
Похороны были прекрасные9; я внимательно смотрел и расспрашивал — почти ничего не было напускного, заказного, формального. Из учебных заведений было столько венков, что, казалось, их принесли по общему приказу; а между тем всё это делалось по собственному желанию10.
Бедная жена11 не может утешиться, и мне ужасно грустно было, что я не сумел ей ничего сказать. «Если б еще у меня была горячая вера...» — сказала она...
Теперь мне задали трудную задачу, вынудили, взяли слово, что я скажу что-нибудь о Достоевском в Сл[авянском] комитете 14-го февраля12. По счастью мне пришли кой-какие мысли, и я постараюсь попроще и пояснее отбыть свой долг перед живыми и перед мертвым. Прошу у Вас позволения сослаться на Ваше письмо, где Вы говорите о «Мертвом доме»13 Я стал перечитывать эту книгу и удивился ее простоте и искренности, которой прежде не умел ценить.
Простите, дорогой Лев Николаевич; не забывайте, не покидайте меня.
Ваш душевно
Н. Страхов
98
Р. 5. А что же требование книги?14 Его можно устроить так:
Многоуважаемый
Н. Н.
Прошу Вас, пришлите мне, если можно, из Публичной библиотеки сочинения Филона Иудея в подлиннике и пр. и пр.; я возвращу их через два месяца.
1881.
3 февр[аля].
Спб.
1 Ф. М. Достоевский скончался вечером 28 января 1881 г. О его смерти Страхов узнал в тот же день из записки А. Н. Майкова: «28 января 1881 г. Любезнейший Николай Николаевич, я сообщаю вам ужасную новость: Федор Михайлович скончался! Анна Григорьевна [Достоевская] и Софья Сергеевна [Кашпирёва] просят вас, если вы дома, приехать к ним, т. е. к Достоевским. Передаю поручение...» (АН. Т. 86. С. 532). Через день Страхов известил о случившемся А. А. Фета: «...умер Достоевский, умер неожиданно, почти скоропостижно, так что всё еще не хочется верить, что он мертв. Точно земля зашаталась под ногами. Общее сожаление и большое волнение. Толпы теснятся к трупу с утра до вечера. Государь назначил 2000 р. пенсии вдове, и детей — принять на казенный счет. Лавра дает место и будет даром отпевать. (...) Простите, я очень расстроен и мне трудно писать. Завтра вынос тела, а послезавтра похороны. Суета сует, и всё суета» (письмо от 30 января 1881 г. — Фет. Переписка II. С. 329). Утром 29 января Страхов присутствовал на первой панихиде по покойном в квартире Достоевских (АН. Т. 86. С. 536).
2 Личные встречи Страхова и Достоевского были довольно частыми в последний период жизни писателя. Об этом можно судить по относящимся к этому времени воспоминаниям домашнего врача Достоевских Я. Б. фон Бретцеля. Ср.: «Посещая Федора Михайловича, я часто встречал у него известного писателя Ореста Миллера и Николая Николаевича Страхова, который был моим преподавателем во Второй гимназии и о котором я сохранил самые лучшие воспоминания как о выдающемся педагоге и человеке. / Федор Михайлович был в это время занят своим „Дневником писателя“, который брал у него немало времени и труда и, конечно, вызывал утомление его надломленного организма» (Там же. С. 310). Страхов мог также встречаться с Достоевским у общих знакомых, например, у гр. С. А. Толстой на Миллионной, в салоне Е. А. Штакеншнайдер, где писатель читал отрывки из романа «Братья Карамазовы» и т. д. Известно Печатается по: РО ИРПИ. Ф. 302. Оп. 2. Ед. хр. 300. Л. 12-13.
Впервые: Современный мир. 1913. №9. С. 266-267.
99
о посещении Страховым квартиры Достоевских по случаю празднования именин — писателя и его жены. Ср.: «Вчера (...) отправился к Федору Михайловичу, поздравить его с именинами. (...) Часу в седьмом я пошел к ним опять. Кроме меня, обедал еще Николай Николаевич Страхов...» (письмо А. А. Достоевского к А. М. и Д. И. Достоевским от 18 февраля 1880 г. — Там же. 495-496); «... во вторник я (...) был у Анны Григорьевны Достоевской на именинах. Кроме нас, было еще несколько человек: родственник Анны Григорьевны Сниткин, Страхов, пасынок Федора Михайловича, фамилии коего не знаю, и др.» (письмо А. А. Достоевского к А. М. Достоевскому от начала декабря 1880 г. — Там же. С. 524). В воскресные дни Страхов нередко обедал по-домашнему у Достоевских. По свидетельству О. Ф. Миллера, Страхов виделся с писателем и незадолго до его кончины: «В воскресенье, 25 января, (...) О. Ф. Миллер отправился к Федору Михайловичу и застал у него А. Н. Майкова и Н. Н. Страхова...» (Биография, письма и заметки из записной книжки Ф. М. Достоевского. СПб., 1883. С. 322).
3 Страхов имеет в виду общественно-благотворительные и публицистические выступления писателя, заметно участившиеся после успешного его участия в Пушкинских торжествах в Москве. Эту мысль Страхов позднее развивал также в своих воспоминаниях в Достоевском (см.: Там же. С. 316-317).
4 В архиве Страхова сохранились разрозненные наброски записей о Ф. М. Достоевском, вероятно, относящиеся по своему хронологическому происхождению ко времени написания комментируемого письма Толстому. Один из фрагментов, посвященный кончине писателя, содержит ряд почти дословных совпадений с мыслями, высказанными Страховым в письме. Ср.: «Смерть Ф. М. Достоевского — великое горе, огромная утрата для русской литературы. Угасла необыкновенная умственная и художественная сила, и притом угасла в полном разгаре своей деятельности. Невозможно было бы не изумляться и не радоваться этой деятельности. Никто еще из наших крупных писателей не писал так много. Его романы следовали непрерывной чередою, но, кроме того, он издавал по временам журнал, которого сам был единственным сотрудником. И всё это нимало не отзывалось многописанием; страшная умственная работа вкладывалась в каждый роман, в каждый номер „Дневника". (...) От Достоевского постоянно можно было ожидать каких-то откровений, новых и новых мыслей и образов. / И большой успех наградил в последние годы эту деятельность. Число читателей и почитателей покойного быстро росло и было огромное. Глубокая серьезность тем, которые он брал в своих романах, глубокая искренность „Дневника" действовали неотразимо. В последние годы, как он сам сознавался, ему стало труднее писать, но зато он приобрел стариковскую уверенность и спокойствие в писании и выступал с настоящим авторитетным тоном, простым и твердым. Впечатление было могущественное. Его „Дневник" и по своему внутреннему весу, и по внешнему влиянию на читателей, конечно, равнялся не одному, а, пожалуй, нескольким взятым вместе боль100
шим журналам со всеми их редакциями и усилиями. Его романы всегда стояли в первом ряду художественных произведений текущей литературы, были выдающимися ее явлениями. Так что если вспомним притом размеры этой деятельности, то можно сказать, что с Достоевским сошла в могилу большая доля, чуть не половина наличной литературы. / Но, конечно, всего больше наша утрата по тому смыслу, по тому содержанию, которое воплощал в себе Достоевский. Он вовсе не был поклонником минуты, никогда не плыл по ветру, а всегда был писателем независимым, свободно следовал своим мыслям. И он не только не потворствовал нашим модным направлениям, а напротив, объявил себя их врагом, открыто преклонялся перед началами, которые для нашей интеллигенции только „соблазн и безумие“. Свою преданность искусству, свою любовь к народным началам, свое отвращение к Европе, свою веру в бессмертие души, свою религиозность — всё это он смело проповедовал» (ЛН. Т. 86. С. 564. — Курсив Страхова). Возможно, фрагмент представляет собой начало работы Страхова над обещанной С. С. Кашпирёвой для выпускавшегося ею журнала поминальной статьи о Достоевском. Работа не была вовремя закончена, что вызвало недоразумение между Страховым и издательницей, которая усматривала в уклонении Страхова от выполнения данного им обещания влияние Толстого и пеняла ему в письме от 1 марта 1881 г.: «Не в правде ли я была, сказав, что некролог Достоевского не будет вами написан для „Семейного чтения“. Не только ко вторнику, но и к четвергу, и к пятнице его тоже не будет, — и не вследствие недостатка времени, а просто-напросто потому, что не получено вами на то снят... разрешения. / Только зачем это вы, Николай Николаевич, хитрите и виляете перед порядочными людьми? Право, нехорошо! Не лучше ли прямо сказать: не решаюсь, не дерзаю. Положим, это выйдет не совсем респектабельно, даже несколько комично, если хотите, всё же несравненно чистосердечнее и честнее...» (Там же. С. 552). Страхов ограничился кратким некрологом, напечатанным в февральском номере журнала «Семейные вечера». Написание статьи могло затруднять сознание своей неспособности преодолеть негативные личные чувства, вспыхнувшие у Страхова по отношению к Достоевскому (ср.: «мы не ладили всё последнее время») и владевшее им раздражение по поводу его общественного поведения («глупые размолвки»), которое проскальзывало в текст и явственно читалось между строк, мешая более взвешенной и объективной оценке жизненного и творческого пути писателя. Примечательно, что этот фрагмент находится в непосредственной связи с короткой записью Страхова («Для себя»), являющейся фактически его ответом (независимо от времени происхождения) на вопрос Кашпирёвой, почему он не смог выполнить своего обещания и довести статью до конца (см. примеч. 3 к п. 317). Позднее Страхов воспользовался отдельными мыслями из этого фрагмента (несколько уточнив их) при написании заключительной главы своего раздела жизнеописания Достоевского для первого тома его полного собрания сочинений. Ср.: Биография, письма и заметки из записной книжки Ф. М. Достоевского. СПб., 1883. С. 327-328). Там же он (придав 101
изложению деликатно-приемлемую форму) откровенно признался в своем изменившемся чувстве к писателю (С. 317-318).
5 Таковым было мнение не одного только Страхова. Эту же мысль близкими по содержанию словами (хотя и несколько по иному поводу) выразил в одном из своих писем того времени и И. С. Аксаков. Ср.: «... Достоевский (...) отважился в упор публике, совсем не под лад ему и его направлению настроенной, высказать несколько мыслей, резко противоположных всему тому, чему она только что рукоплескала, и сказать с такою силой суждения, которая, как молния, прорезала туман их голов и сердец...» (письмо О. Ф. Миллеру от 17 августа 1880 г. — Цит. по: АН. Т. 86. С. 515). Аксаков и раньше отмечал высоко ценившуюся им способность Достоевского высказывать «с трибуны, в присутствии нескольких тысяч человек., прямо в упор массе молодых людей и всему сонму петербургских литераторов (...) истину в такой сравнительно сжатой, простой форме — и без всяких повелительных ораторских приемов, без всякого заискиванья и смазыванья, повернуть все умы в другую сторону, поставить их внезапно на противоположные для них точки зрения, озарить их, хотя бы и на мгновение, светом истины и вызвать в них восторг, вернее сказать — восторженное отрицание того, чему еще четверть часа назад восторженно поклонялись» (ему же, письмо от 14 июля 1880 г. — Там же. С. 512). Сам Миллер признавался в неопубликованных воспоминаниях, что его подкупило и сблизило с Достоевским именно подмеченное в писателе редкое качество — способность мужественно противопоставить свое мнение расхожему, благодаря чему он стал для него «примером победоносного поглаживания не по шерстке» (цит. по: Там же. С. 487. — Курсив Миллера). Часто общавшийся с Достоевским в последние годы его жизни публицист А. А. Киреев, сравнивая покойного писателя с другими петербургскими литераторами, отметил в своем дневнике: «Он один не популярничал, не подличал перед молодежью...» (Там же. С. 534). Не раз находивший повод для критики писателя К. Н. Леонтьев, в свою очередь, также охотно признавал, что «в недостатке смелости и независимости Ф. М. Достоевского уж никак обвинять нельзя» (Леонтьев К. Н. Поли. собр. соч. и писем: в 12 т. СПб., 2014. Т. 9. С. 223). П. Д. Голохвастов осенью 1880 г. замечал в письме к Страхову: «А что за прелесть его Август „Дневника“! Ведь эта схватка с [А. Д.] Градовским чуть ли не такое же событие, как и [Пушкинская] Речь его. Каким чудом живет Достоевский в Петербурге? Как он выносит Петербург?» (письмо от 5 октября 1880 г. — Там же. С. 519). А. Н. Майков еще в 1873 г. писал Страхову, что на не боявшегося говорить собственным голосом Достоевского «залаяла вся свора прогресса» (ОРРНБ. Ф. 747. Ед. хр. 21). См. также в примеч. 4 суждение Страхова о независимой позиции Достоевского-писателя и публициста. — Не все, однако, были расположены разделить точку зрения, с которой Достоевский представлялся вполне независимым в своих высказываниях от общественного настроения и даже решившимся противостоять ему литератором. Критик умеренно-консервативной ориентации М. Ф. Де-Пуле находил возмож102
ным указать на обнаруженную им у писателя интуитивную внутреннюю готовность чутко улавливать именно актуальные духовные запросы и живо откликаться на них, что, по его мнению, в конце концов, и обеспечило ему и проповедуемым им идеям успех у публики: «Последнее время в жизни Достоевского сопровождалось такою славою, выражением такого сочувствия, каких у нас ни один писатель, после Пушкина, не удостаивался. (...) Слава и популярность Достоевского объясняются духом теперешнего больного времени, которому он, совершенно бессознательно и неумышленно, умел польстить; что Достоевский был человек, глубоко правдивый, глубоко честный, — для меня вне сомнения. Как большой талант, как писателя-психографа, как писателя, необыкновенно искреннего, Достоевского нельзя было не любить, и я уверен, что он имел множество таких почитателей, которые даже сами этого не сознавали. Но отсюда до поклонений еще далеко! Поклонение началось с речи его при открытии пушкинского памятника. (...) Пушкин послужил ему только предлогом, чтобы развить несколько парадоксов и повторить несколько мыслей, раньше высказанных другими. (...) Русский человек, по его мнению, — скиталец по натуре. Ему тошно, ему скучно дома; он томится тоскою за себя и за других; он хочет спасать и себя, и других, — и спасет! Спасет и себя и Европу!.. Что за дикая мысль! Но она подкупила толпу, слушателей Достоевского: отсюда слезы и обмороки, потрясение нервов. Почему? Да потому, что все мятущиеся и непоседные [—] скитальцы. (...) Какому-нибудь нигилисту, конечно, приятно приравнять себя к [М. Г.] Черняеву или [Н. А.] Кирееву, но для правды и здравого смысла это совсем не приятно...» (АН. Т. 86. С. 555).
6 Упреки Достоевскому в слишком частых публичных выступлениях стали едва ли не общим местом в толках о писателе, особенно после Пушкинских торжеств, причем укоры в его адрес раздавались равно как из лагеря идейных противников, так и среди его сторонников. Близкий к Достоевскому О. Ф. Миллер вспоминал, как остро воспринимал писатель эти неблагожелательные суждения: «Его впечатлительная душа находилась под влиянием свежих еще попреков, что он любит овации...» (Там же. С. 529). Готовившийся накануне кончины утренний выпуск газеты «Новое время» вышел с заметкой на первой полосе, в которой не без горькой иронии, обращенной к «обличителям» писателя, отмечалось: «В сообщаемой сегодня программе пушкинского вечера читатели не найдут возвещенного прежде имени Ф. М. Достоевского. Он сильно занемог вечером 26 января и лежит в постели. Люди, еще недавно попрекавшие его тем, что он слишком часто принимает овации на публичных чтениях, могут теперь успокоиться: публика услышит его не скоро» (НВ. 1881.28 янв. № 1767. С. 1.; цит. по: Там же. С. 532). Только в 1879-1880 гг. в публичных и камерных собраниях Достоевский выступал с чтением около 25 раз.
7 Страхов не одобрял излишней, по его мнению, публичности общественной жизни писателя, в частности, его готовности откликаться на многочисленные приглашения выступить с чтением своих произведений на различного рода благотвори-
103
тельных мероприятиях, усматривая в этой отзывчивости проявление очевидных прагматических соображений. Сам Достоевский иначе объяснял свою расположенность к частым появлениям на публике, мотивируя ее служением принципиально важной общественной идее: «Дело главное в том, что во мне нуждаются не одни «Любители российской словесности», но вся наша партия, вся наша идея, за которую мы боремся уже 30 лет (...) Мой голос будет иметь вес, а стало быть, и наша сторона восторжествует» (письмо А. Г. Достоевской от 28-29 мая 1880 г. — Достоевский. ПСС. Т. 30, кн. 1. С. 169). Моменты своего публичного торжества писатель не рассматривал как признание собственных «заслуг», но как торжество провозглашаемых им духовных ценностей: «Простите и не смейтесь (...) что я в такой подробности всё это передаю и так много о себе говорю, но ведь, клянусь, это не тщеславие, этими мгновениями живешь, да для них и на свет являешься» (письмо к С. А. Толстой (урожд. Бахметевой) от 13 июня 1880 г. — Там же. С. 188). Возможно, Страхов, близко знавший интимную жизнь Достоевского, имел некоторые основания упрекать писателя в «погоне» за популярностью и успехом. Однако следует помнить, что, несмотря на возраставший в публике интерес к его сочинениям, Достоевский долгое время оставался одним из относительно скромно оплачиваемых русских писателей и болезненно переживал необъективное отношение издателей к его творчеству. В этих условиях представляется в известной мере оправданным стремление познакомить со своими произведениями как можно более широкую читательскую аудиторию. Не в последнюю очередь этим соображением руководствовался писатель, принимая приглашения выступать перед массовыми аудиториями, в том числе, например, и на Пушкинских торжествах 1880 г. Ср.: «Если будет успех моей речи в торжественном собрании, то в Москве (а стало быть, и в России) буду впредь более известен как писатель (то есть в смысле уже завоеванного Тургеневым и Толстым величия (...))...» (письмо А. Г. Достоевской от 27-28 мая 1880 г. — Там же. С. 168). Знал, вероятно, Страхов и о занимавшем внимание писателя литературном «соперничестве» с Тургеневым, в том числе и по части популярности среди читателей, что не могло не охлаждать отношения к нему сдержанного и аскетичного Страхова, имевшего к тому же перед собой восхищавший его прямо противоположный образец — последовательного устранения от «суеты» повседневной жизни и «безразличия» к собственному художническому успеху в лице Толстого. Сам же Достоевский, судя по всему, действительно весьма пристально следил за проявлениями общественного темперамента во время совместных с Тургеневым выступлений. Ср.: «...чтение на вечернем литературном празднестве в Благородном собрании с музыкою. Я читал сцену Пимена. Несмотря на невозможность этого выбора (ибо Пимен не может же кричать на всю залу) и чтение в самой глухой из зал, я, говорят, прочел превосходно (...) Приняли меня прекрасно, долго не давали читать, всё вызывали, после чтения же вызвали 3 раза. Но Тургенева, который прескверно прочел, вызывали больше меня. За кулисами (...) я заметил до сотни молодых людей, оравших в исступле104
нии, когда выходил Тургенев. Мне сейчас подумалось, что это клакеры...». «Сегодня был второй обед, литературный, сотни две народу. Молодежь встретила меня по приезде, потчевали, ухаживали за мной, говорили мне исступленные речи (...) Я сказал лишь несколько слов, — рев энтузиазма, буквально рев. Затем уже в другой зале обсели меня густой толпой — много и горячо говорили (...) прокричали мне ура, в котором должны были участвовать поневоле и несочувствующие. Затем вся эта толпа бросилась со мной по лестнице и без платьев, без шляп вышли за мной на улицу и усадили меня на извозчика. И вдруг бросились целовать мне руки — и не один, а десятки людей, и не молодежь лишь, а седые старики. Нет, у Тургенева лишь клакеры. А у моих истинный энтузиазм» (письмо А. Г. Достоевской от 7 июня 1880 г. — Там же. С. 182-183). Жена писателя, как видно, активно поддерживала его в намерении не отказываться от частых появлений на публике и не стремилась приглушить в нем «больное самолюбие» (слова Б. М. Маркевича), в частности беспокойное чувство «ревности» к литературно-общественным успехам Тургенева. Ср.: «А „мы" читали на разных чтениях, и нам аплодировали больше, чем Тургеневу, и будем читать и впредь получать аплодисменты. (...) В пятницу Федору Михайловичу аплодировали донельзя и вызывали девять раз и поднесли два лавровых венка...» (письмо А. Г. Достоевской писала 15 марта 1880 г. А. А. Достоевскому от 15 марта 1880 г. — ЛН. Т. 86. С. 498). Так что упреки Страхова могут быть в известной степени отнесены и к А. Г. Достоевской, нередко выступавшей перед мужем в качестве благосклонного ходатая за таких «просителей» (ср.: Там же. С. 526, 527-528). При этих обстоятельствах значимость публичной «деятельности» Достоевского не выдерживала в глазах Страхова сравнения с затворнической жизнью погруженного в религиозно-философские вопросы Толстого и его поистине подвижнической самоотдачей духовным поискам. Именно живой пример ригориста Толстого и мысль о недопустимости для большого писателя малейших проявлений литературного тщеславия, частых «мельканий» перед публикой ради усиления своей популярности могла внушить Страхову решимость столь нелицеприятно резко высказаться о писательской личности Тургенева и Достоевского еще в письме от 11 марта 1879 г. (п. 227).
8 Судя по более позднему суждению, Страхов либо забыл это определение различных граней дарования писателя, либо изменил точку зрения на соотношение в позднем творчестве Достоевского публицистического и художественного начал. В статье «Взгляд на текущую литературу» (Русь. 1883.3 янв. № 1. С. 52-60; 17 янв. № 2. С. 33- 42) он не менее решительно утверждал обратное высказанному в письме к Толстому. Ср.: «Достоевский, однако, не был ни мыслителем, ни публицистом в настоящем смысле слова; больше всего он был художником, и своим художническим чутьем он различал правду и заблуждение, добро и зло» (цит. по: Страхов. Критические статьи I. С. 433).
9 Вынос тела покойного писателя из квартиры в Кузнечном переулке происходил в 11 часов утра 31 января. Лития по усопшему была отслужена у ближайшей церкви Владимирской иконы Божией Матери, после чего траурная процессия двинулась по 105
Невскому проспекту к Александро-Невской лавре, где гроб был установлен в церкви Святого Духа. Отпевание Ф. М. Достоевского и его похороны на Тихвинском кладбище Александро-Невской лавры состоялись 1 февраля 1881 г. Траурная церемония погребения широко освещалась в периодической печати и передана в свидетельствах очевидцев. Подробное описание прощания с усопшим приведено в брошюре: Федор Михайлович Достоевский. Биография. - Его сочинения. - Последние минуты его жизни. - Проводы тела, похороны его и овации русского общества. М., 1881., а также в биографическом очерке, вошедшем в состав первого тома полного собрания сочинений писателя. См.: Биография, письма и заметки из записной книжки Ф. М. Достоевского. СПб., 1883. С. 324-329; Приложения. С. 85-101. Страхов, взявший на себя составление этого раздела книги, писал о всенародном признании скончавшегося писателя: «Такого огромного стечения народа, таких многочисленных и усердных заявлений уважения и сожаления не могли ожидать самые горячие поклонники покойного писателя. Можно смело сказать, что до того времени никогда еще не бывало на Руси таких похорон» (Там же. С. 324). Н. С. Лесков, поминая «недавно почившего собрата», назвал его похороны «событием в истории» и отмечал: «Почет, оказанный Достоевскому, несомненно, свидетельствует, что ему верили люди самых разнообразных положений...» (см.: Лесков Н. С. Собр. соч.: в 11 т. М., 1958. Т. 8. С. 95; Русь. 1881. 28 февр. № 16. С. 22; цит. цо: АН. Т. 86. С. 611). Проявления горячего участия к памяти ушедшего из жизни со стороны «разнообразнейших классов публики» дали основание Страхову назвать совершавшееся на его глазах «похоронами великого писателя» (Там же. С. 325; письмо А. А. Фету от 30 декабря 1881 г. — Фет. Переписка II. С. 329). Присутствовавший на погребении Вл. Соловьев писал матери 2 февраля под свежим впечатлением от увиденного: «Вчера похоронили Достоевского. Это так нежданно и ужасно! Похороны, вынос, вообще все эти дни были что-то никогда не виданное. В России никого так еще не хоронили (...) это было что-то баснословное» (цит. по: ЛН. Т. 86. С. 541). «Ни с чем не сравнимая пышность похорон» связывалась в сознании современников с представлением о прощании с «великой личностью», «пророком» — «так не хоронят ни богачей, ни власть имущих — так хоронят только любимцев народной массы» — свидетельствовал один из очевидцев (Там же. С. 541, 544, 545). Покрытие расходов, связанных с устроением и проведением траурных церемоний погребения писателя приняла на себя государственная казна.
10 Об этом же см.: Биография, письма и заметки из записной книжки Ф. М. Достоевского. С. 325.
11 О полном «отчаяния» положении вдовы писателя тогда же писал М. Н. Каткову в Москву К. П. Победоносцев (АН. Т. 86. С. 534). Будучи не в силах долее оставаться в стенах дома, где всё живо напоминало о недавней утрате, семья Достоевского вскоре оставила квартиру в Кузнечном переулке и переехала на жительство в Крым, что мало повлияло на изменение к лучшему душевного состояния А. Г. Достоевской. Ср.: 106
«...душевное мое состояние такое, что не пожелала бы его моему злейшему врагу. Утром жду вечера, вечером жду утра, как будто вечер или утро могут принести мне какое облегчение. (...) теперь знаешь наверно, что уж не случится никогда что-либо такого, что бы меня сильно обрадовало. Я точно умерла к жизни (...) Я так рвалась из Петербурга, от людей, куда-нибудь в глушь, где бы никто о нем не говорил, и почти не знал; так спешила доехать, чтоб уединиться и обдумать, а теперь вижу, что без людей еще хуже. Всякая-то вещь, всякое сказанное детьми слово напоминает мне прошедшее и невозвратное. Как облегчить, куда уйти от себя?» «Я чувствую себя до того одинокою в мире, что иногда страшно становится. (...) Долго, может быть, пройдет прежде, чем я оправлюсь от постигшего меня удара и встану на ноги (...) У меня расстроены нервы до невозможности. Плачу, тоскую, места себе не нахожу» (письма из Феодосии к Е. Ф. Юнге от 22 июня и 14 августа 1881 г. — Там же. С. 551-552,558).
12 Членом Славянского комитета (позднее — Славянского благотворительного общества) Достоевский стал еще в 1873 г., избран в состав совета общества в 1878 г., а 3 февраля 1880 г. — товарищем председателя и утвержден в этой должности 14 апреля. От Славянского благотворительного общества, в качестве его официального депутата, Достоевский принимал участие в Пушкинском празднике в Москве в мае - июне 1880 г. На торжественном заседании общества, посвященном 25-летию царствования императора Александра II, Достоевский зачитал проект юбилейного адреса, принятого и подписанного участниками. Памяти Достоевского было посвящено специальное собрание общества 14 февраля 1881 г., материалы которого были опубликованы в специальной брошюре: В память Ф. М. Достоевского: торжественное общее собрание С.-Петербургского Славянского благотворительного общества 14-го февраля 1881 г. СПб., 1881 (перепеч. в: Биография, письма и заметки из записной книжки Ф. М. Достоевского. — Приложение. С. 50-84). Чествование происходило «в огромном зале [Городской] Думы, переполненной публикой» (письмо О. Ф. Миллера И. С. Аксакову от 15 февраля 1881 г. — ЛН. Т. 86. С. 548). Помимо действительных членов общества в поминках приняли участие около 700 гостей. Страхов выступал четвертым по счету и прочитал отрывки из своих воспоминаний о Достоевском. «Новое время» в отчете о заседании 14 февраля 1881 г., посвященного памяти Достоевского, писало среди прочего: «Н. Н. Страхов произнес обширную речь, в которой привел отрывок из письма к нему Л. Н. Толстого с восторженным отзывом о „Записках из мертвого дома“» (НВ. 1881.16 февр. № 1786. С. 2). На следующий день после заседания О. Ф. Миллер в письме к И. С. Аксакову назвал выступление Страхова «превосходным» (АН. Т. 86. С. 548; Переписка О. Ф. Миллера и И. С. Асакова / предисл. и публ. А. В. Малинова. — Вече. Журнал русской философии и культуры. Вып. 21. 2010. С. 162). Текст своего выступления Страхов, вероятно, в самом начале февраля предложил для напечатания в еженедельнике Аксакова «Русь». В ответном обращении 6 февраля издатель газеты писал: «Сделайте одолжение, присылайте Вашу статью о Достоевском. Она уже пойдет 107
в 15 №, так как 14 № выйдет именно 14 февраля и к этому числу статья Ваша не поспеет, да и читаться в Славянском обществе она будет лишь 14 февраля. Но я просил бы Вас прислать статью как можно заранее, потому что с 15 февраля начнется роковая для редакторов неделя — масленица, когда типографии плохо работают» (Аксаков — Страхов. Переписка. С. 45). Материал был опубликован две недели спустя предполагавшегося Страховым срока (см.: Страхов Н. Из воспоминаний о Ф. М. Достоевском (Читано в Петербурге в торжественном заседании Славянского Благотворительного Общества 14 февраля 1881 г.). — Русь. 1881.28 февр. № 16. С. 15-18). Повторно воспроизведен в особой брошюре о торжественном собрании Славянского общества, устроенного в память Достоевского (см. выше), и перепечатан — при первом томе полного собрания сочинений писателя (см. выше. — С. 58-69), а также в издании: Первые 15 лет существования С.-Петербургского Славянского Благотворительного Общества. СПб., 1883. С. 653-658. В своем выступлении Страхов дважды ссылался на высказывания Толстого о Достоевском и приводил его слова о нем и о его произведениях из писем от 26 сентября 1880 г. (п. 271) и 9 февраля 1881 г. (п. 280). См. примеч. 1 к п. 271, а также п. 279 и примеч. 5 к нему.
13 См. п. 271. Ответ Толстого см. в п. 279.
14 Вероятно, Страхов напоминает Толстому о возможности получить интересующую его книгу из собрания Публичной библиотеки, о чем извещал его ранее в не дошедшем до нас письме. О Филоне и его книге см. примеч. 14 к п. 277.
7 февраля 1881 г. Ясная Поляна
279
С Л. Толстая — Отрохову
Многоуважаемый Николай Николаевич.
Мы с таким нетерпением ждали от вас ответа на робкое приглашение моего мужа приехать провести с нами масленицу1 — и ничего до сих пор не получили в ответ!
Было с тех пор письмо от вас2, но о приезде — ни слова. Вы не знаете, как вы бы порадовали, утешили нас, если б побывали в Ясной. Мы все мечтали об этом, и, наконец, я набралась смелости и решилась вам написать. Конечно, главное препятствие вашего приезда может быть 108
нездоровье. Но вы в последнем письме говорили, что вам гораздо лучше, и этим порадовали нас3.
Пожалуйста, не трудитесь мне писать, пишите, когда вздумается, по-прежнему, Льву Николаевичу,- ему только ваши письма и доставляют удовольствие.
Будем ждать опять с нетерпением ответа, а может быть, извещения о приезде вечером на Козловку. 18-го в среду на масленице именины Льва Николаевича; если вы захотите, то сделаете из этого дня праздник4.
Жму крепко вашу руку, желаю вам здоровья и ясного, спокойного расположения духа.
Преданная вам
С. Толстая
7 февраля
Мы всё поминали о вас по случаю смерти Достоевского. Если нас это так сильно поразило5, то как же это должно было подействовать на вас!
] См. п. 277.
2 См. п. 278.
3 «Последнее» письмо Страхова с известием об улучшении его здоровья неизвестно. Толстой просил Страхова подробнее рассказать о его недомогании в письме от 30 декабря 1880 г. (п. 277). О недугах Страхова см. примеч. 5 к п. 272.
4 Ответ Страхова неизвестен. Однако он откликнулся на приглашение и приехал на именины Толстого (Гусев. Летопись I. С. 531). Страхов провел в Ясной Поляне несколько дней. Ср. в письме к А. А. Фету от начала марта 1881г..- «Вероятно, Вы не знаете, что мне пришлось говорить речь о Достоевском в Славянском Комитете. Потом звал Л. Н. Толстой, и я гостил у него 4 дня на масленице. Все дни он писал, а я читал его рукопись» (Фет. Переписка II. С. 332).
5 Отклик на смерть Достоевского содержится в письме С. А. Толстой к Т. А. Кузминской от 2 февраля 1881 г.: «Его [Толстого] и всех нас ужасно поразила смерть Достоевского. Только что стал так известен и всеми любим, как умер! Лёвочку это навело на мысль о его собственной смерти, и он стал еще сосредоточеннее и молчаливее...» (ОРГМТ).
Печатается по: 0Р ГМТ.Ф. 47. №1127. Л. 1-2. Нал. 1 помета Страхова «8 февраля 18]81».
Впервые: ПТСII. С. 156.
Год устанавливается по помете Страхова и содержанию.
109
9 февраля 1881 г. Ясная Поляна
Печатается по: ОР ГМТ.Ф. 1.№4863, 10760. Л. 1-2. Конверт: «В Петербург. Публичная библиотека Его Высокоблагородию Николаю Николаевичу Страхову». Почтовые штемпели: «9 февраля] 1881 Тула», «11 февраля] 1881 С. Петербург». Впервые: Русь. 1881.28 февр. №16. С. 17 (отрывок о Достоевском). В Юб.: Т. 63. С. 42-43. Датируется по штемпелю почтового отправления. Ответ на п. 278.
280 Толстой — Страхову
Получил сейчас ваше письмо, дорогой Николай Николаич, и спешу вам ответить.
Разумеется, ссылайтесь на мое письмо1.
Как бы я желал уметь сказать всё, что я чувствую о Достоевском. Вы, описывая свое чувство, выразили часть моего. Я никогда не видал этого человека и никогда не имел прямых отношений с ним, и вдруг, когда он умер, я понял, что он был самый, самый близкий, дорогой, нужный мне человек2. Я был литератор, и литераторы все тщеславны, завистливы, я, по крайней мере, такой литератор. И никогда мне в голову не приходило меряться с ним — никогда. Всё, что он делал (хорошее, настоящее, что он делал), было такое, что чем больше он сделает, тем мне лучше. Искусство вызывает во мне зависть, ум тоже, но дело сердца только радость. — Я его так и считал своим другом, и иначе не думал, как то, что мы увидимся и что теперь только не пришлось, но что это мое. И вдруг за обедом — я один обедал, опоздал — читаю умер3. Опора какая-то отскочила от меня4. Я растерялся, а потом стало ясно, как он мне был дорог, и я плакал и теперь плачу5. —
На днях, до его смерти, я прочел «Униженные и оскорбленные»6 и умилялся7. —
В похоронах я чутьем знал, что как ни обосрали всё это газеты, было настоящее чувство. —
Что скажете на письмо жены?8 — Книги9 в эту минуту не нужно. Очень благодарю вас. От всей души обнимаю и люблю вас.
Ваш Л. Толстой
Вас[илий] Иваныч10 всякий раз просит передать вам свою любовь и уважение.
ПО
1 См. п. 271. В 1889 г. поэт К. К. Случевский, присутствовавший как член Петербургского славянского общества на торжественном общем собрании 14 февраля 1881 г. и слышавший отзыв о «Записках из Мертвого дома», написал посвященное Достоевскому литературно-историческое эссе, вторым эпиграфом к которому взял эти же слова Толстого. В качестве третьего эпиграфа автор выбрал слова Страхова из его воспоминаний о Достоевском («Достоевский чувствовал мысли» — в: Биография, письма и заметки из записной книжки Ф. М. Достоевского. С. 195). См.: Случевский К. К. Достоевский. (Очерк жизни и деятельности). СПб., 1889. С. 3.
2 Отголосок этих мыслей из письма Толстого о Достоевском прозвучал в выступлении Страхова 14 февраля: «...уже давно все общественные идеалы он подчинил одному вековечному идеалу Христа. С Достоевским случилось то же, что совершается вот уже более столетия со всеми нашими крупными писателями; все они начинали с того, что увлекались чужим, и все потом возвратились к своему. (...) Да, он был христианином, он ясно знал этот идеал, к которому нужно стремиться прежде всего другого. / Это тот путь, по которому идут простые души и к которому, как мы видим, приходят и самые одаренные души, иногда долго блуждавшие по другим путям. Все знают уже, что идеал Христа стал высшим идеалом и для другого нашего художника, гр. Л. Н. Толстого. Переходы были те же, как у Достоевского. Л. Н. Толстой всею своею натурою, всею симпатиею своего великого художественного чувства был направлен и устремлен к народу, и долгое и любовное созерцание народа открыло ему идеал, которым живет народ. Это совпадение с Достоевским было поразительно. Они не были знакомы друг с другом, но в последнее время оба всё собирались познакомиться. (...) И так, в любви к народу, переходящей в преданность высшему народному идеалу, идеалу Христа, завершается деятельность двух наших лучших художников слова» (цит. по: С. 60, 66-67. — Курсив Страхова). См. примеч. 3.
3 О кончине Достоевского Толстой узнал, по его словам, в день получения письма А. А. Фета от 29 января 1881 г. (Юб. Т. 63. С. 63). Первая реакция Толстого на уход из жизни писателя известна из письма С. А. Толстой к Т. А. Кузминской от 2 февраля (Гусев. Летопись I С. 531).
4 Несмотря на столь проникновенные слова Толстого о душевной («самый, самый дорогой, нужный мне человек») и духовной («всё, что он делал (...) дело сердца» «вызывает во мне (...) только радость») «близости», ощущавшейся им заочно по отношению к Достоевскому, а также вопреки утверждениям Страхова о том, что оба писателя разделяли единый нравственный идеал и шли по одному и тому же духовному пути (см. примеч. 2), действительное содержание их религиозно-философских воззрений было, судя по всему, не таким уж схожим. Хотя личное общение между Достоевским и Толстым не состоялось и они имели (по крайней мере Достоевский — критико-богословские труды Толстого еще не были известны в печати) весьма общее представление о внутренней жизни и сущностных моральных запросах каждого, воз111
можность ознакомиться с направлением духовных поисков Толстого и дать им оценку представилась Достоевскому в январе 1881 г. Важное свидетельство о его реакции на «учение» Толстого оставила давнишняя корреспондентка и конфидентка последнего графиня А. А. Толстая, лично познакомившаяся с Достоевским за месяц до его неожиданной кончины. О горячем интересе, проявленном ее новым знакомым к религиознофилософским взглядам Толстого, она тогда же сообщила в Ясную Поляну: «Я эту зиму очень сошлась с Достоевским, которого давно любила заочно. Он с своей стороны любит вас — много расспрашивал меня, много слышал об вашем настоящем направлении и, наконец, спросил меня, нет ли у меня чего-либо писанного, где бы он мог лучше ознакомиться с этим направлением — которое его чрезвычайно интересует. Я вспомнила ваше прошлогоднее письмо [от 2 или 3 февраля 1880 г.; см.: Юб. Т. 63. С. 6-9; ТТП. С. 394-396] и дала ему это письмо. / Вот в чем каюсь и для чего теперь пишу. Если это вам будет неприятно, то прошу прощения. Но не думаю, чтобы вы посмотрели на это, как на breatch of confidence [злоупотребление доверием, искаж. англ.] — тем более, что вы, как я слышу, делаете ваше profession de fois [исповедание веры, фр.] печатно, да и вообще наши религиозные убеждения не могут и не должны быть тайной. Отвечайте мне да или нет, чтобы успокоить мою совесть» (письмо Толстому от 17 января 1881 г. — ТТП. С. 400). Ответ неизвестен, но о дальнейших событиях А. А. Толстая подробно рассказала позднее в своих воспоминаниях, из коих явствует, что Достоевский получил в свое распоряжение не одно, а несколько писем Толстого с изложением его новых религиозных взглядов и мог составить себе о них вполне определенное суждение. Ср.: «... от нашей переписки того времени не осталось почти ничего: иные письма я уничтожила, — они меня слишком смущали, — другие я отдала Достоевскому. Вот как это случилось. / Я давно желала познакомиться с ним, и наконец мы сошлись, но — увы! — слишком поздно. Это было за две или три недели до его смерти. (...) Я встретила Достоевского в первый раз на вечере у графини [А. Е.] Комаровской. С Львом Николаевичем он никогда не видался, но как писатель и человек Лев Николаевич его страшно интересовал. Первый его вопрос был о нем: / — Можете ли вы мне истолковать его новое направление? Я вижу в этом что-то особенное и мне еще непонятное... / Я призналась ему, что и для меня это еще загадочно, и обещала Достоевскому передать два последние письма Льва Николаевича, с тем, однако ж, чтобы он пришел за ними сам. Он назначил мне день свидания, — и к этому дню я переписала для него эти письма, чтобы облегчить ему чтение неразборчивого почерка Льва Николаевича. (...) Этот очаровательный и единственный вечер навсегда запечатлелся в моей памяти; я слушала Достоевского с благоговением: он говорил, как истинный христианин, о судьбах России и всего мира; глаза его горели, и я чувствовала в нем пророка... Когда вопрос коснулся Льва Николаевича, он просил меня прочитать обещанные письма громко. Странно сказать, но мне было почти обидно передавать ему, великому мыслителю, такую путаницу и разбросанность в мыслях. / Вижу еще теперь перед собой
112
Достоевского, как он хватался за голову и отчаянным голосом повторял: — „Не то, не то!..“ Он не сочувствовал ни единой мысли Льва Николаевича; несмотря на то, забрал всё, что лежало писанное на столе: оригиналы и копии писем Льва. Из некоторых его слов я заключила, что в нем родилось желание оспаривать ложные мнения Льва Николаевича. / Я нисколько не жалею потерянных писем, но не могу утешиться, что намерение Достоевского осталось невыполненным: через пять дней после этого разговора Достоевского не стало... / Лев Николаевич напечатал в каком-то журнале, что хотя он не был знаком с Достоевским, но, узнавши об его смерти, ему показалось, что он потерял самое дорогое... (...)/ Я потом часто спрашивала себя, удалось ли бы Достоевскому повлиять на Л. Н. Толстого? Думаю, что едва ли. Один мой знакомый (...) очень умный, хотя слегка язвительный человек, сказал мне однажды, когда речь зашла о Льве Николаевиче. / — Le malheur du comte Tolstoy c’est qu’il n’écoute et n’estime que sa propre pensée, aussi vous verrez qu’il fera éternellement fausse route» [Несчастье графа Толстого в том, что он слушает и уважает только собственное мнение, вот почему, вы увидите, он всегда будет на ложном пути, фр.] / Это было, впрочем, до некоторой степени справедливо» (Там же. С. 31-33). Описанная мемуаристкой встреча произошла, вероятно, 11 января, а ровно через две недели, в воскресенье 25 января, Страхов посетил Достоевских и, в ответ на свою просьбу, получил для себя письмо Толстого от 2 или 3 февраля 1880 г. (см.: Летопись жизни и творчества Ф. М. Достоевского. СПб., 1995. Т. 3. С. 530, 540). Если сообщенная А. А. Толстой реакция Достоевского на искания Толстого верна, то Страхову вполне могло быть известно не только о состоявшейся у нее беседе о Толстом, но и существо мнения Достоевского о новом «направлении» Толстого, что, однако, не нашло отражения в содержании его выступления 14 февраля. Уместно напомнить, что Достоевский скептически отреагировал уже на первые результаты духовных поисков Толстого, как они отразились в заключительной части романа «Анна Каренина». Ироничному разбору этих взглядов отведена одна из главок ( «Помещик, добывающий веру в Бога от мужика») «Дневника писателя» за июль - август 1877 г. (Достоевский. ПСС. Т. 25. С. 202-206). Завершая разбор восьмой части произведения, Достоевский, опасаясь последствий возможного влияния идей Толстого, не без тревоги вопрошал: «Такие люди, как автор „Анны Карениной“, — суть учители общества, наши учители, а мы лишь ученики их. Чему же они нас учат?» (Там же. С. 223). Если Достоевский неодобрительно высказывался о новых религиозно-философских взглядах Толстого, то и Толстой впоследствии не раз отзывался критически о воззрениях Достоевского на христианство. В августе 1883 г. он, по свидетельству современника, заявил в частной беседе: «У него какое-то странное смешение высокого христианского учения с проповедыванием войны и преклонением пред государством, правительством и попами» (Русанов Г. А. Поездка в Ясную Поляну (24-25 августа 1883 г.). — Толстовский ежегодник 1912 г. СПб.; М., 1912. С. 60). Позднее эту же мысль (о непоследовательности Достоевского) Толстой повторил в присутствии 113
Страхова 1 августа 1894 г.: «Достоевский (...) хочет насилие, инквизиторство, войну примирить с христианством» (запись в дневнике В. Ф. Лазурского. — АН. Т. 37-38. С. 477).
5 Переживания, связанные с кончиной Достоевского, обратили на себя внимание и Софьи Андреевны, отметившей 3 февраля 1881 г., что Толстой, хотя и не знал писателя лично, «огорчился его смертью» (Толстая. Моя жизнь I. С. 331). См. также примеч. 5 к. 279.
6 Ф. М. Достоевский «Униженные и оскорбленные» (1861). Впервые опубликован в журнале братьев Достоевских «Время» (№ 1-7). В собрании яснополянской библиотеки роман отдельным изданием не представлен.
7 Обширный отрывок из этого письма, посвященный Достоевскому (от слов «Как бы я желал уметь сказать всё...» до «... прочел „Униженные и оскорбленные“ и умилялся»), Страхов зачитал в завершение своих воспоминаний о писателе, с которыми выступил в торжественном собрании Петербургского Славянского благотворительного общества 14 февраля 1881 г. (см. примеч. 12 к п. 278).
8 См. п. 279.
9 Сочинения Филона Александрийского (Филона Иудея), о которых Толстой просил Страхова (п. 277 и 278). См. далее п. 284 и 285.
10 Учитель старших сыновей Толстого В. И. Алексеев.
281
6 старта 1881 г. Страхов — ТОЛСТОМУ
Санкт-Петербург
Какой удар, бесценный Лев Николаевич! Я до сих пор не нахожу себе места и не знаю, что с собой делать1. Бесчеловечно убили старика, который мечтал быть либеральнейшим и благодетельнейшим царем в мире2. Теоретическое убийство, не по злобе, не по реальной надобности, а потому что в идее это очень хорошо3. Меня всё раздражает: и спокойствие, и злорадство, и даже сожаления...4 Нет, мы не опомнимся,- ведь не опомнились же французы?5 Гюго в последней поэме уверяет, что всё идет к лучшему; поэма называется «Осел»6. Нужны ужасные бедствия, опустошения целых областей, пожары, взрывы целых городов, избиение миллионов, чтобы опомнились люди. А теперь только цветочки7.
114
Пишу к Вам наскоро, чтобы только поблагодарить Вас за милое гостеприимство8, чтобы отдохнуть немножко душою, думая об Вас. Что Соловьев? Чем кончились Ваши разговоры?9 Напишите хоть коротенько, потому что сам он, хоть вовсе не скрытен, не умеет толком рассказывать. За таким делом, как Ваше, Вы можете продолжать трудиться, хотя бы мир рушился.
В Москве10 больше всего мне понравился Юрьев11. В Аксакове есть что-то сухое или важное — не разберу12. У Голохвастовых, как всегда, было приятно и немножко скучно13. А Юрьев так и залил меня воодушевленными речами. Между прочим, он составил философскую формулу развития Л. Н. Толстого и объяснял мне фазис, в котором теперь находится это развитие14. Мне было странно слышать язык, который я сам когда-то любил15, но от которого, как оказывается, давно отвык, хоть я и не переставал заниматься философиею.
Всё суета! Всё суета! Я немножко понимаю ужас, с которым Вы когда-то говорили о повешенных16. Мы очень тупы, очень тупы! Бездна ужаса, случайности, ничтожества, постоянно зияет прямо перед нашими глазами. Но умеем же мы отвертываться и танцовать на самом краю.
Ах, как тяжело и стыдно. Не могу отделаться от чувства, что я виноват.
Р. 8. Приезжал вчера Соловьев, очень интересный. Мы сговорились, когда хорошенько поговорить об Вас. Думаю, что Ваше влияние было для него благотворно17.
Я здоров как нельзя лучше и надеюсь еще поздороветь.
Усердно благодарю графиню и кланяюсь. Василию Ивановичу мой поклон.
Ваш всею душою
Н. Страхов 1881 г.
6 марта.
Спб.
Печатается по: РО ИР/7И. Ф. 302. Оп. 2. Ед. хр. 300. Л. 35-36.
Впервые: Современный мир. 1913. №9. С. 268-269.
115
1 Ответ Толстого на эту оценку Страхова неизвестен. В письме от 17 марта (п. 282) Толстой никак не отозвался на потрясенное состояние своего корреспондента. По более позднему свидетельству Софьи Андреевны, она «видела, как искренно был огорчен Лев Николаевич» известием о цареубийстве (Толстая. Моя жизнь I. С. 333). Однако сам Толстой, вспоминая свое восприятие события 1 марта, замечал: «О том, как на меня подействовало 1-е марта, не могу ничего сказать определенного, особенного. Но суд над убийцами и готовящаяся казнь произвели на меня одно из самых сильных впечатлений моей жизни. Я не мог перестать думать о них...» (письмо П. И. Бирюкову от 3 марта 1906 г. — Юб. Т. 76. С. 114). С. А. Толстая, работавшая над своими автобиографическими записками, когда от этих событий ее также отделяло более четверти века, отмечала: «Вообще же нас поражало, как общество и народ спокойно и равнодушно отнеслись к этому событию, по крайней мере у нас в Туле и ее окрестностях» (Толстая. Моя жизнь I. С. 333).
2 В августе 1879 г. террористическая организация Исполнительный комитет партии «Народная воля» приняла решение о приведении в исполнение планов насильственного устранения путем лишения жизни царствовавшего монарха императора Александра II (прозванного Царем-Освободителем за отмену крепостного права). Покушение на жизнь императора в воскресенье 1 марта 1881 г. стало шестым по счету и застало высшую администрацию и общество врасплох: со времени взрыва в Зимнем дворце 5 февраля 1880 г. видимая практическая активность террористов в течение года проявлялась незначительно, что давало повод считать ее угасшей. Ср. в дневнике военного министра Д. А. Милютина: «Трагическая кончина императора Александра II производит тем сильнее впечатление, что совершилась совсем неожиданно, в такое время, когда преступная крамола казалась подавленною, когда начали изглаживаться в памяти прежние злодейские покушения на цареубийство» (запись от 1 марта 1881 г. — Дневник. Т. 4:1881-1882. М., 1950. С. 25-26). Александр II был убит в возрасте неполных 63 лет. Очевидец последних минут жизни монарха Д. А. Милютин назвал его мученическую кончину «страшной» (Там же. С. 25). Определения Страхова «либеральнейший и благодетельнейший царь» отсылают к восприятию им последнего при жизни императора этапа реформ, разрабатывавшихся по инициативе министра внутренних дел М. Т. Лорис-Меликова (см. п. 259 и примеч. 9 к нему). Утром дня совершения убийства Александром II было предварительно одобрено предположение секретной комиссии по внесению изменений в законодательную систему государства в смысле допущения к законосовещательной работе представителей земства и городов (см. записи в дневнике Милютина от 8 марта и 28 апреля 1881 г. — Там же. С. 32,62).
3 Начальные слова письма Страхова, в которых он передавал свое восприятие цареубийства, вероятно, произвели впечатление на Толстого и остались у него в памяти. Решившись обратиться к императору Александру III с христианским увещанием не прибегать к смертной казни террористов, Толстой, в сохранившемся черновом ва116
рианте своего письма отозвался о событии 1 марта в выражениях, близких по мысли к суждению Страхова. Ср.: «Отца Вашего, Царя русскаго, сделавшаго много добра и всегда желавшаго добра людям, стараго, добраго человека, безчеловечно изувечили и убили не личные враги его, но враги существующаго порядка вещей; убили во имя какого-то высшаго блага всего человечества» (Юб. Т. 63. С. 45).
4 О равнодушной в целом реакции общества на убийство Александра II и о ходивших в этой связи в Петербурге толках вспоминал в своих мемуарах Е. М. Феоктистов: «„Диктатура сердца" завершилась страшною катастрофой 1-го марта. Я говорю „страшною", но так ли это? Помню ясно ужасное, потрясающее впечатление, произведенное на всех покушением Каракозова, но с тех пор целый ряд злодейств такого же рода в связи с подробными о них отчетами, наполнявшими страницы газет, притупили нервы публики. Мало-помалу она привыкла к событиям такого рода и уже не видела в них ничего необычайного. Около 3 часов дня я узнал, что государь тяжело ранен, а вскоре затем пришла весть и об его кончине. Все мы дома находились в крайне угнетенном состоянии духа, хотелось знать, как произошла катастрофа, кто ее виновники, и вечером я отправился в сельскохозяйственный клуб, где собиралось обыкновенно много посетителей и можно было, следовательно, собрать какие-нибудь сведения. Странное зрелище представилось мне: как будто не случилось ничего особенного, большая часть гостей сидели за карточными столами, погруженные в игру; обращался я и к тому, и к другому, мне отвечали наскоро и несколькими словами и затем опять: „два без козырей", „три в червях" и т. д. В следующие дни такая же притупленность: некоторые высказывали прямо, что в событии 1-го марта видят руку провидения; оно возвеличило императора Александра, послав ему мученическую кончину, но вместе с тем послужило спасением для России от страшных бедствий, угрожавших ей, если бы еще несколько лет оставался на престоле несчастный монарх, который давно уже утратил всякую руководящую нить для своих действий, а в последнее время очутился в рабском подчинении княгине Юрьевской» (Феоктистов Е. М. Воспоминания. С. 196,198).
5 Страхов имеет в виду внутриполитические потрясения во Франции в период 1789-1871 гг.
6 Сатирическая поэма Виктора Гюго «Осёл» («Lane») была написана в 1857- 1858 гг., но опубликована в 1880 г. Ее идейный пафос направлен против чрезмерного увлечения крайностями в науке и философии и, в частности, против позитивизма.
7 В близком по эмоциональной окрашенности и по смысловым акцентам письме к И. С. Аксакову от 2 марта Страхов передавал свое первое впечатление от события 1 марта: «Что я напишу Вам, глубокоуважаемый Иван Сергеевич? Свои чувства? Как мне больно и грустно и стыдно, как мне всё еще кажется, что земля колеблется под ногами? Так вот чем кончилось это двадцатипятилетие! Вот наш прогресс, единственные вполне спелые его ягодки... Но, право, в таких случаях нет охоты, у меня по 117
крайней мере нет никакой охоты, говорить и ораторствовать. Да и ничего не хочется делать и думать. (...) Сегодня я давал присягу в церкви Министерства народного просвещения. Молились на коленях и пели Тебе Бога хвалим-, сзади меня недурно подтягивал кн. В. П. Мещерский. Потом были на улице. Город имел праздничный вид. Сегодня прекрасный светлый день, и множество народа бродило по улицам. Всё тихо. Эта смерть, от которой содрогнулся мир, не нарушила ни на йоту заведенного порядка. В Публичной библиотеке выдавались книги, в Департаменте народного просвещения сидели по своим местам чиновники. Я получил в казначейской жалованье, которое раньше не успел взять. / И всё пойдет по-старому. И мы, вероятно, ничему не научимся, не поймем яснее своего положения, и классическая система по-прежнему всё будет к нам прививаема и всё не привьется. А рядом будут вырастать и зреть какие-нибудь ядовитые ягодки, самоубийства, политические преступления, что-нибудь чудовищное, неслыханное, так что немцы и французы будут с изумлением таращить глаза на своих учеников» (Аксаков — Страхов. Переписка. С. 47). Цареубийство тем более потрясло Страхова, что в происшедшем он мог видеть прямое проявление разрушительного действия тех самых «революционных начал», о неизбежном развитии которых он предупреждал еще в апреле 1878 г. в связи с оправданием в суде террористки В. Засулич (см. п. 191) и о которых с тревогой напоминал в своей посвященной Достоевскому речи 14 февраля — за две недели до нападения на Александра II. Заявив, что «нигилисты в мысли совершают покушение на убийство нашего царства» (Биография, письма и заметки из записной книжки Ф. М. Достоевского. — Приложение. С. 68), Страхов вполне точно определил и реальные цели террористов. Осмысление случившегося всколыхнуло в нем темперамент публициста, дав нравственный толчок к написанию цикла статей о нигилизме. См. п. 284 и примеч. 19 к нему. Под воздействием этих мыслей и чувств Страхов написал свое первое «Письмо о нигилизме», начинающееся словами из письма к Толстому: «Опомнимся ли мы? (...) Нет, мы не опомнимся! (...) слепота во всем». Близкими по смыслу словами закончил он и свою вторую статью на эту тему (Страхов. Борьба с Западом II. С. 50).
8 Страхов приезжал к Толстому на именины «на масленой» неделе (18 февраля 1881 г.) и провел в Ясной Поляне 4 дня (см. примеч. 4 к п. 279).
9 Это было второе посещение Вл. С. Соловьевым имения Толстых (о первой поездке см. п. 97 и примеч. 10 к нему). Философ прибыл в Ясную Поляну еще при Страхове и оставался там некоторое время после его отъезда. Страхов писал А. А. Фету в самом начале марта: «Приехал туда и Соловьев (...) он тоже засел за рукописи, и я оставил их в самом разгаре спора, результатов которого до сих пор не знаю» (см.-. Фет. Переписка II. С. 332). В письме к Страхову в Петербург из Москвы от 25 февраля Соловьев ничего не сообщил об итогах прений с Толстым, ограничившись уведомлением о своем возвращении в столицу «в середине будущей недели» (Соловьев. Письма!. С. 11). Рукопись, с которой знакомились Страхов и Соловьев, — «Соединение 118
и перевод 4-х Евангелий». О посещении Соловьева оставил воспоминания домашний учитель детей Толстого В. И. Алексеев. «Встречал я в Ясной Поляне также Вл. Соловьева (философа). Он очень интересовался религиозными вопросами и много говорил с Львом Николаевичем. Все его симпатии были тогда почему-то на стороне католического церковного учения, а не православного. (...) Он был очень начитан. По своему образованию он много походил на Н. Н. Страхова, но в нем не было того добродушия и чистосердечия, чем очень подкупал Страхов. И Льва Николаевича Соловьев совсем не удовлетворял, потому что Льву Николаевичу была дорога искренность убеждения, а не одни рассуждения о том, на каких книжных или научных положениях оно основано. / Н. Н. Страхов говорил, что В. Соловьев не мыслит и не говорит серьезно, а в сущности только забавляется мыслями и словами. Он тогда только хорош, когда вообще развивает чужие данные. / В. Соловьев мечтал о едином государстве в мире с единодержавным царем во главе и с единым главою церкви — папою. Это идеал, около которого вертелись все его суждения и доводы» (Летописи Государственного литературного музея. М., 1948. Кн. 12. С. 281). — Ответ Толстого о Соловьеве см. в п. 283. Ср. также примеч. 17.
10 На обратном пути из Ясной Поляны в Петербург Страхов остановился на несколько дней в Москве.
11 Имеется в виду издатель журнала «Русская мысль» С. А. Юрьев. Толстой относился к нему с симпатией, его привлекало в нем «драгоценное свойство: необдуманная, всем открытая готовность служить», хотя и осложненная «забывчивостью и неряшливостью» (письмо Н. В. Чайковскому от 12 июля 1881 г. — Юб. Т. 90. С. 245).
12 Результатом личной встречи с редактором «Руси» в Москве была, вероятно, договоренность о более активном участии Страхова в газете корреспонденциями из Петербурга. Именно в этом смысле можно истолковать ответ Страхова на побуждение Аксакова прислать в газету материал о событии 1 марта. Ср.: «Нет, Иван Сергеевич, плохой я Вам корреспондент, и Вы на меня не надейтесь. Я попробую, однако, завтра прислать Вам корреспонденцию, только не свою. Мне нужно слишком долго думать. Фактов и впечатлений у меня особенных нет» (письмо от 2 марта 1881 г. — Аксаков — Страхов. Переписка. С. 47). Ближайшее участие Страхова в «Руси» выразится в публикации цикла статей о нигилизме. См. примеч. 19 к п. 284.
13 О Голохвастовых см. примеч. 5-9 к п. 86 и п. 127, 128, 132, примеч. 1-4 к п. 133, примеч. 2 к п. 135, п. 178 и примеч. 4, п. 179 и примеч. 2, п. 204.
14 О подготовительной работе Юрьева и о его посещении с этой целью Ясной Поляны вспоминала С. А. Толстая: «Еще помню я, как приезжал к нам Сергей Андреевич Юрьев и подробно допрашивал меня о том, каким образом Лев Николаевич дошел до того состояния религиозного искания, в котором находился в то время, и почему он бросил писать и перестал интересоваться „Декабристами“. Трудно мне было объяснить всё это Юрьеву. Я слишком близко жила с Львом Николаевичем, чтобы усмотреть 119
момент, когда свершилась перемена. Насколько умела, я рассказала Юрьеву, с моей точки зрения, о душевных путях и исканиях Льва Николаевича в области религиозной. Ему понравился мой рассказ, и он просил меня даже его записать, что я и сделала» (Толстая. Моя жизнь I. С. 331).
15 С. А. Юрьев широко пользовался гегелевской терминологией.
16 «Воспоминание» Толстого о повешенных связано, возможно, с хладнокровным рассказом судебного деятеля А. М. Кузминского (муж сестры С. А. Толстой) о казни осужденного, приведенном в автобиографических записках домашнего учителя детей Толстых В. И. Алексеева. Описание процедуры приведения приговора в исполнение и ощущений участников этого действия взволновали Толстого, увидевшего в этом искажение глубинных основ человеческой морали. Ср.: «Удивляюсь, с каким хладнокровием Александр Михайлович рассказывал мне всю процедуру этого ужасного происшествия. Я его спросил потом, как он сам перенес этот ужас. — Он сказал: „Что же? Ничего. Все товарищи прокурора окружного суда отказались присутствовать при казни, я и пошел (...)“ (...) — До чего условности нашей жизни убивают в нас всё человеческое! (...) Господи, когда проснутся эти люди? / — Знаете, что я скажу вам? — продолжал Лев Николаевич, — чем более высокое положение занимает человек в государстве, тем больше он забывает в себе истинное значение человека, а помнит в себе лишь ту должность , которую он занимает, которую ему дали люди» (Летописи Государственного литературного музея. М., 1948. Кн. 12. С. 272-273).
17 Возможные точки духовно-нравственного соприкосновения с Толстым перечислил один из биографов мыслителя, который утверждал, что «Владимир Соловьев долгое время считал себя, хотя не единомышленником, но „попутчиком“ графа Л. Н. Толстого в отстаивании свободы совести и племенной самобытности российских инородцев, а также в критике тех частностей нашего церковного строя и быта, которые (...) считал пережитками средневекового миросозерцания» (Величко В. Л. Владимир Соловьев. Жизнь и творения. СПб., 1902. С. 125). По сведениям другого исследователя жизни и творчества философа, Соловьев, напротив, считал Толстого «типом „фальшивого“, „поддельного“ христианина, а потому предшественником антихриста», «отрицал Толстого не только как мыслителя, что часто бывает, но, что бывает весьма редко, и как художника» (цит. по: Соловьев Вл. С. Стихотворения. 6-е изд. М.: изд. С. Соловьева, 1915. С. 43,53). По мнению биографа, Соловьев представлял собой тип «полного антипода Толстого» (Там же. С. 53). Сам Соловьев не раз заверял Толстого в своей «искренней любви» и величал его — «дорогой друг и наставник в деле нравственной истины» (письмо без даты, от конца октября / 1 ноября 1894 г. — Цит. по: АН. Т. 37-38. С. 275). Однако, как религиозного мыслителя, выделял Достоевского (Соловьев Вл. С. Стихотворения. 6-е изд. С. 53). Судя по всему, отношение Соловьева к Толстому, даже в раннюю пору их личного знакомства, было сложным и противоречивым. Живой интерес к духовному феномену Толстого не исключал отстраненного 120
восприятия его религиозно-философских построений. Характерно, что уже в конце следующего, 1882 г. в одном из писем к И. С. Аксакову Соловьев заметил о Толстом: «...уж давно с ним не видаюсь и он для меня „яко язычник и мытарь“» (Материалы по истории русской литературы и культуры: I. Переписка Владимира Сергеевича Соловьева с Иваном Сергеевичем Аксаковым. — Русская мысль. 1913. Декабрь (Кн. 12). С. 76; вторая пагинация. — Далее: Соловьев — Аксаков. Переписка). Несмотря на продолжительное личное общение, долгое время поддерживавшееся чувством взаимной симпатии, мировоззренческие расхождения между Толстым и Соловьевым носили непреодолимый характер, препятствовали возможному идейному сближению, но никогда не приобретали формы отчужденной враждебности. Подробнее об их отношениях см.: Величко В. А. Владимир Соловьев. С. 124-141.
282
Л. И. и С Л. Толстые — Страхову 17 марта 1881 г.
Ясная Поляна
Дорогой Николай Николаевич.
Заказное письмо, которое вы получите, это письмо от меня к Государю1. Хорошо ли, дурно, но меня так неотвязно мучила мысль2, что я обязан перед своей совестью написать Государю то, что думаю, что я мучался неделю — писал, переделывал3 и вот посылаю письмо. Мой план такой: письмо к Государю и письмо, которое при этом приложено4, вы — если вы здоровы и можете, и хотите это сделать, вы передадите, или лично, или хоть перешлете к Победоносцеву. Если вы увидите Победоносцева, то скажите ему то, что мне неловко писать, что если бы было возможно передать это письмо или мысли, которые оно содержит, не называя меня, то это бы было то, чего я больше всего желаю; разумеется, это только в том случае, если нет никакой опасности в представлении этого письма. Если же есть опасность, то я, разумеется, прошу передать от моего имени.
Письмо вышло нехорошо. Я написал сначала проще, и было хотя и длиннее, но было сердечнее, как говорят мои, и я сам это знаю5, но
121
потом люди; знающие приличия; вычеркнули многое6 — весь тон душевности исчез, и надо было брать логичностью, и оттого оно вышло сухо и даже неприятно. Ну, что будет, то будет. Я знаю, что вы поможете мне7, и вперед благодарю вас и обнимаю.
Ваш Л. Толстой
[Рукой С. А. Толстой:]
Печатается по: ОР ГМТ.Ф. 1.№ 5453. Л. 1-2. На д. 1 помета Страхова: «17 марта 1881
Ясн[ая]». Впервые: Современный мир. 1913. №9. С. 269-270. В Юб:. Т. 63.
С. 59-60. Датируется по помете Страхова.
Многоуважаемый Николай Николаевич, несмотря на все мои просьбы и уговоры, Лев Николаевич решился послать письмо к Государю8. Но оно послано на ваше имя с просьбой передать Победоносцеву, который, в свою очередь, передаст Государю. Просьба моя к вам следующая: прочтите письмо, рассудите сами и потом спросите мнение Победоносцева, не может ли это письмо вызвать в Государе какие-нибудь неприятные чувства или недоброжелательство к Льву Николаевичу. В таком случае, ради Бога, не допускайте письма до Государя. Меня, отдаленную от света, всё это крайне тревожит, и я все-таки рада, что письмо пройдет через ваши мудрые и дружеские руки.
Преданная вам С. Толстая
1 Речь идет о письменном обращении Толстого к императору Александру III в связи с предстоявшим судом над террористами, готовившими и осуществившими цареубийство 1 марта 1881 г. История его написания подробно изложена в: Юб. Т. 63. С. 52-55. Подлинный текст отправленного Страхову письма остается неизвестным. Среди бумаг Толстого сохранился первоначальный вариант обращения (Там же. С. 44-52), в котором писатель призывал Александра III «исполнить закон Христа» и удержаться от ответного насилия: «Простите, воздайте добром за зло и из сотен злодеев 10-ки перейдут не к вам и не к ним (это не важно), а перейдут от дьявола к Богу и у тысяч, у миллионов дрогнет сердце от радости и умиления при виде примера добра с престола в такую страшную для сына убитого отца минуту» (Там же. С. 50). В христианском смирении и в следовании евангельской заповеди любви Толстой видел лучшее средство покончить с революционной крамолой.
2 О своих мучительных размышлениях и обстоятельствах написания письма Александру III в связи с предстоявшим решением участи террористов, убивших императора Александра II, Толстой позднее рассказывал так: «Я не мог перестать думать о них, 122
но не столько о них, сколько о тех, кто готовился участвовать в их убийстве и особенно Александре] III. Мне так ясно было, какое радостное чувство он мог испытать, простив их. Я не мог верить, что их казнят, и вместе с тем боялся и мучался за них и за их убийц. Помню, с этой мыслью я после обеда лег внизу на кожаный диван и неожиданно задремал и во сне, в полусне подумал о них, о готовящемся убийстве и почувствовал так ясно, как будто это всё б[ыло] наяву, что не их, а меня казнят, и казнят не Александр] III с палачами и судьями, а я же и казню их, и я с кошмарным ужасом проснулся. И тут написал письмо» (письмо П. И. Бирюкову от 3 марта 1906 г. — Там же. Т. 76. С. 114). Этот же эпизод подробно описан в воспоминаниях домашнего учителя старших детей Толстых В. И. Алексеева (см.: Летописи Государственного литературного музея. М., 1948. Кн. 12. С. 285-287). С. А. Толстая оставила в записках свое объяснение действий писателя: «Льва Николаевича особенно огорчало то, что молодой царь, вступая на престол, должен был совершить жестокое дело — казнить убийц отца. Еще до суда, в марте, Лев Николаевич решил написать Государю Александру III письмо, в котором он просил о помиловании убийц и убеждал молодого царя не начинать своего царствования с дурного дела, а стараться тушить зло добром и только добром, и слова свои Лев Николаевич основывал на Евангелии, которым был в то время весь духовно пропитан» (Толстая. Моя жизнь I. С. 334). — Предположительно, Толстой начал работать над обращением около 8 марта, т. е., возможно, в день получения письма Страхова от 6 марта, и завершил около 15 марта. Среди побудительных мотивов его написания, помимо стремления к проповеди христианского убеждения в необходимости воздаяния любовью за причиненное зло, прослеживается острое желание избежать в будущем самоосуждения за неисполнение некоего нравственного долга — тема, которая, как болезненное душевное признание собственной моральной «вины» в случившемся, присутствует в письме Страхова ( «Ах, как тяжело и стыдно. Не могу отделаться от чувства, что я виноват»). Ср. в воспоминаниях очевидца: «Он чувствовал, что именно теперь он должен громогласно произнести слова божественного учителя, чтобы не чувствовать себя участником этой казни» (цит. по: Ю6. Т. 63. С. 53; в изд.: Алексеев В. И. Воспоминания. — Летописи Государственного литературного музея. М., 1948. Кн. 12. Гл. XII. С. 285 — фраза приведена в усеченном виде). По свидетельству того же мемуариста, развивавшего перед Толстым мысль о последующем сожалении в бездействии («Всякий ему говорит теперь: „око за око, зуб за зуб" и „возненавидь врага твоего" и никто не говорит: „не противься злу насилием", „благотвори ненавидящих тебя". И вот вы своим письмом напомните ему слова божественного учителя. Какое счастье и радость будет, если, прочитав это письмо, он поступит по учению Христа. И как вы будете раскаиваться, если государь вспомнит эти слова после казни и скажет: „Ах, жаль, что никто не напомнил мне раньше этих слов спасителя"» — цит. по: Там же. С. 286), именно сознание личной ответственности за последствия такого самоустранения перед ожидавшимся решением судьбы террористов могло сыграть 123
определяющую роль в осуществлении намерения обратиться с письмом к Александру Ш.
3 Из сохранившихся черновиков видно, что обращение переделывалось не менее трех раз. Рукописный фонд письма составляет 27 листов. Комментаторы юбилейного издания сочинений Толстого замечают, что в черновом варианте рукой Толстого в общей сложности «исписано тринадцать с половиной страниц тетрадки, составленной из четырех полулистов писчей бумаги» (Юб. Т. 63. С. 52). Последующая правка производилась писателем по копии, снятой С. А. Толстой. Сохранились также несвязанные общим смыслом фрагменты дальнейшей переработки изначального текста.
4 К отправлению было приложено письмо Толстого обер-прокурору Святейшего синода К. П. Победоносцеву, автору манифеста 29 апреля 1881 г. о незыблемости самодержавия (Там же. С. 57). Решаясь действовать в Петербурге через Страхова, Толстой исходил из того, что Победоносцев хорошо знал Страхова и часто встречался с ним, а также в расчете на его «христианское чувство» сострадания, уже однажды проявленное по отношению к взятому под стражу «пропагандисту» А. К. Маликову (см. письмо П. И. Бирюкову от 3 марта 1906 г. — Там же. Т. 76. С. 114). Страхов исполнил желание Толстого, однако Победоносцев решительно отклонил просьбу содействовать в передаче письма по назначению. Причину отказа Победоносцев изложил только после повторного визита к нему и напоминающего запроса Страхова (см. п. 285 и 290) в ответе Толстому от 15 июня 1881 г.: «В таком важном деле всё должно делаться по вере. А прочитав письмо Ваше, я увидел, что Ваша вера одна, а моя и церковная вера другая, и что наш Христос не Ваш Христос. Своего я знаю мужем силы и истины, исцеляющем расслабленных, а в Вашем показались мне черты расслабленного, который сам требует исцеления. Вот почему я по своей вере и не мог исполнить Ваше поручение...» (Там же. С. 58-59). Биограф Толстого сообщает, что «получив обратно письмо Л. Н-ча к царю, Н. Н. Страхов сделал еще попытку довести его до сведения государя и через профессора Константина Бестужева-Рюмина передал его великому князю Сергею Александровичу для передачи Александру III. / Л. Н-чу известно, что оно было передано царю, но о дальнейшей судьбе он ничего не знает» (Бирюков II. С. 177). Факты, подтверждающие достоверность утверждения о доставлении обращения адресату, биограф не приводит. См. примеч. 7. Сам Толстой позднее так передавал этот эпизод (в записи Д. П. Маковицкого): «После убийства Александра Николаевича я писал Александру Александровичу, чтобы он не казнил убийц, чтобы не начинал царствования казнями. Сергей Александрович [вел. князь. — Сост.], в то время 25-летний молодой человек, взялся передать письмо Александру Александровичу. Я не мог понять, как это произошло, что он (Победоносцев) ему его не передал прямо» (запись от 19 февраля 1905 г. — АН. Т. 90, кн. 1. С. 182). Возможно, что, отказавшись выступить посредником в передаче письма Толстого, Победоносцев, тем не менее, предполагал ознакомить Александра III с фактом обращения писателя, о чем может 124
свидетельствовать сделанная им на листе пояснительная помета: «Он писал, что необходимо оставить злодеев без всякого преследования». Известно письменное обращение Победоносцева к Александру III от 30 марта 1881 г. по поводу возникших толков о желательности «помилования преступников» и с настоянием не поддаваться внушениям «голоса лести и мечтательности», проявить твердость в исполнении приговора суда. «Сегодня пущена в ход мысль, которая приводит меня в ужас. Люди так развратились в мыслях, что иные считают возможным избавление осужденных преступников от смертной казни. (...) Может ли это случиться? Нет, нет, и тысячу раз нет — этого быть не может, чтобы Вы перед лицом всего народа русского, в такую минуту простили убийц отца Вашего, русского государя, за кровь которого вся земля (кроме немногих, ослабевших умом и сердцем) требует мщения и громко ропщет, что оно замедляется» (К. П. Победоносцев и его корреспонденты: письма и записки. Т. 1, п/т. 1. М.; Пг., 1923. С. 47. — Курсив автора). Сохранился ответ Александра III: «Будьте спокойны, с подобными предложениями ко мне не посмеют прийти никто, и все шестеро будут повешены, за это я ручаюсь» (Там же. С. 48). О реакции Толстого на письмо Победоносцева рассказал в своих позднейших воспоминаниях И. М. Ивакин: «Когда было возбуждено дело 1 марта, Л. Н. писал к государю письмо и хотел, чтобы оно дошло к государю через Победоносцева. Победоносцев отказался. Он даже высказал Страхову, который вручил было ему письмо для передачи, что казнить, по его убеждению, надо, только не публично, а тайно. Он прислал Л. Н. письмо. / — Трудно сказать, сколько в этом письме он умел совместить ужасных вещей, — заметил Л. Н., — пишет бог знает что: например, мой Христос — не ваш Христос; ваш Христос — Христос мира и любви; мой — силы и власти» (АН. Т. 69, кн. 2. С. 59).
5 Об этом же Толстой писал П. И. Бирюкову четверть века спустя: «Первое письмо 6[ыло] гораздо лучше. Потом я стал переделывать, и стало холоднее» (Юб. Т. 76. С. 114).
6 Вероятно, Толстой имеет в виду своих тульских знакомых — вице-губернатора Л. Д. Урусова и прокурора окружного суда Н. В. Давыдова. Например, был вычеркнут такой кусок текста: «... Если бы вы простили всех государственных преступников, объявив это в манифесте, начинающемся словами: „Люби врагов своих“, — это христианское слово и исполнение его на деле было бы сильнее всей человеческой мудрости. Сделав это, вы бы истинно победили врагов любовью своего народа...» (Гусев. IV. С. 12; ОР ГМТ. Ф. 1). Ср. также: «Помню, я тогда прочел уже последнюю версию [Василию Николаевичу] Бестужеву, оружейного завода генералу, и он деловитым тоном объявил, что за такое письмо: „места отдаленные“» (письмо П. И. Бирюкову от 3 марта 1906 г. — Юб. Т. 76. С. 114).
7 О дальнейших действиях Страхова см. примеч. 4 и п. 284. Из слов биографа Толстого П. И. Бирюкова не ясно, каким образом письмо Толстого дошло до адресата. Судя по тому, что Толстой обращался к Страхову телеграммой, — вероятно, в ответ на
125
3 апреля 1881 г. Ясная Поляна
Печатается по: ОР ГМТ.Ф. 1.№ 5454.
Л. 1-1 об. Нал. 1 помета Страхова: «3 апр[еля] 1881.
Ясная».
Впервые: Современный мир. 1913.
№9. С. 270-271.
В Юб.: Т. 63.
С. 60-61.
Датируется по помете Страхова.
126
несохранившееся известие от него, — усилия последнего не были успешны. Объяснение Страхова в письме от 7 апреля (п. 284) дает основание предположить, что обращение Толстого пошло по назначению «общим порядком» — через почтовый ящик Зимнего дворца (см. примеч. 1 к п. 284).
8 Опасаясь за благополучие мужа и семьи, С. А. Толстая крайне отрицательно восприняла готовность писателя подать голос в пользу милосердия и обратиться с письмом о прощении террористов к Александру III. Свидетелем ее эмоциональной реакции на это намерение стал домашний учитель старших детей Толстых В. И. Алексеев, которого она обвинила в сочувственном отношении к предположению мужа и отказала ему от места (подробнее см.: Летописи Государственного литературного музея. М., 1948. Кн. 12. С. 286). По поводу происшедшего столкновения и нежелания писателя внять ее доводам, С. А. Толстая писала Т. А. Кузминской 12 марта: «У нас в доме некоторый разлад, который я выношу трудно» (цит. по: Гусев. Летопись I. С. 532).
283
Толстой — Страхову
Простите ради Бога, дорогой Николай Николаич, что измучил вас1. Я тоже измучался. Хорошо ли, дурно ли письмо, мне нужно было для души моей — послать его. Надеюсь, что теперь оно отослано. Главное, замешалась жена2 и ее страхи, очевидно не имеющие никакого основания. — Что после своего письма я не сделаю придворной карьеры, это так, но опасности, как она говорит, очевидно не может быть. — Победоносцев ужасен. Дай Бог, чтобы он не отвечал мне и чтобы мне не было искушения выразить ему мой ужас и отвращение перед ним3. — Не могу писать о постороннем, пока не решено то страшное дело, которое висит над всеми нами4.
Напишу вам скоро. Пожалуйста, простите, что измучал вас. — Молодец Соловьев5. Когда он уезжал6, я сказал ему: дорого то, что мы согласны в главном, в нравственном учении, и будем дорожить этим согласием. Благодарю вас за вашу любовь ко мне, а я не могу не любить вас и дорожу очень нашим согласием.
Ваш Л. Т.
1 Толстой, вероятно, отвечает на неизвестное послание Страхова, извещавшее, среди прочего, о безрезультатности его попыток передать обращение Толстого Александру III. Письмо Страхова могло быть написано около 29 марта (ср. отклик Толстого на лекцию Соловьева, состоявшуюся 28 марта; см. примеч. 5), т. е. в день или на следующие сутки после окончания судебных заседаний по делу 1 марта, и требовало от Толстого быстрого ответа. Посланная Толстым телеграмма (текст неизвестен) определяла направление дальнейших действий Страхова (см. примеч. 7 к п. 282). Вслед за телеграммой было, вероятно, отправлено и настоящее письмо. Приговор суда состоялся рано утром 29 марта и был приведен в исполнение утром же 3 апреля.
2 Опасаясь неблагоприятной реакции на обращение к Александру III, С. А. Толстая не раз настаивала на переделке текста письма. См. примеч. 8 к п. 282.
3 О позиции К. П. Победоносцева в деле передачи письма Толстого Александру III см. примеч. 4 к п. 282. Впоследствии Толстой отзывался об обер-прокуроре Синода в резко отрицательном смысле. Победоносцев не менее негативно реагировал на «религиозные искания» и «проповедь» Толстого, называя его — «фанатик своего безумия», который «увлекает и приводит в безумие тысячи легкомысленных людей» (Письма Победоносцева к Александру III. М., 1926. Т. 2. С. 252). Ср. в записи И. М. Ивакина (1885 г.) воспоминание Толстого о Победоносцеве: «Удивительный человек — этот Победоносцев! Со временем, когда жизнь его станет достоянием господ Бартеневых, он будет личностью замечательной. Я познакомился с ним еще давно. Это был молодой, длинный, сухой человек; он не произвел на меня особого впечатления Потом рассказывал мне о нем [А. К.] Маликов, он когда-то был слушателем Победоносцева (...) и после долго был с ним в переписке по поводу разного рода политических и религиозных вопросов» (АН. Т. 69, кн. 2. С. 59). Толстой признавался своему биографу П. И. Бирюкову, что невнимание к его обращению и казнь террористов«первомартовцев» усугубили его неприятие института «организованного насилия» и его представителей: «Не скажу, чтобы это отношение к письму имело влияние на мое отрицательное] отношение к государству и власти. Началось это и установилось в душе давно, при писании „Война и Мир“, и было так сильно, что не могло усилиться, а только уяснялось. Когда казнь совершилась, я только получил еще большее отвращение к властям и к Александру] III» (Ю6. Т. 76. С. 114).
4 Формального ответа на обращение Толстого не последовало. Однако, по словам С. А. Толстой, «на письмо это Александр III велел сказать графу Льву Николаевичу Толстому, что, если б покушение было на него самого, он мог бы помиловать, но убийц отца он не имеет права простить» (Толстая. Моя жизнь I. С. 334). Источник получения этих сведений С. А. Толстой не указан. См. примеч. 3 к п. 284.
5 Вернувшись из поездки в Москву и Ясную Поляну, Вл. Соловьев в марте 1881 г. продолжил читать курс лекций в Петербургском университете и на Высших женских курсах (см. примеч. 7 и 9 к п. 272). После события 1 марта первая такая лекция состоя127
лась в пятницу 13 марта на женских курсах и затем была повторена в Петербургском университете. Получившее в записях слушателей название «Речь...», чтение стало известно в списках, размноженных литографским способом, — под заглавием «Смысл современных событий». По утверждению одного из слушателей, Соловьев именно «вместо очередной лекции (...) произнес речь „о смысле современных событий“». Авторский текст выступлений Соловьева не выявлен, однако на растиражированных копиях слушательской записи имеется помета о «разрешении] профессора]» на ее распространение. Одна из записанных во время произнесения версий этой речи имеет определение «прощальная» (см.: Соловьев. ПССиП. Т. 4. С. 262, 667-668, 669, 771). Действительно, как свидетельствует современник, более в том учебном году философ лекций не читал ни на курсах, ни в университете (Там же. С. 673; ср.: Материалы к биографии Вл. Соловьева... — Российский архив. М., 1992. [Т.] 2/3. С. 396). Особенностью речи Соловьева, посвященной им обнаружению нравственного смысла переживавшихся обществом событий, стало высказанное им перед молодежной аудиторией решительное осуждение революционного насилия как возможного пути изменения социальных условий. «...Если современная революция начинает с насилия, если она пользуется им как средством для осуществления какой-то новой правды, она тем самым обнаруживает, что в ней кроется явная ложь; ложь в принципе и на практике (...) если бы действительно современная революция искала царства правды, она не могла бы смотреть на насилие как на средство его осуществить. (...) правда сама собою сильнее неправды. Употреблять же насилие для осуществления правды значит признать правду бессильною. Современная революция на деле показывает, что она признает правду бессильною. (...) революция, основанная на насилии, лишена будущности». По мнению философа, лишь «христианство завещало человечеству осуществить царство правды» (Там же. С. 264,265-266). Произнесенное дважды с кафедры открытое осуждение революционного насилия дало основание Соловьеву проявить последовательность и спустя две недели высказаться и против насильственного акта возмездия, как противоречащего «религии милосердия» — нравственному учению Христа. Выступая со своей второй (первая читалась 26 марта, предполагавшаяся третья не состоялась; анонс чтений см.: Голос. 1881. 25 марта) публичной лекцией «О ходе русского просвещения в настоящем столетии» (неавторское название: «Критика современного просвещения и кризис мирового процесса»; см.: Соловьев. ПССиП. Т. 4. С. 724) в зале Кредитного общества, Соловьев вечером 28 марта — в день ожидавшегося вынесения судебного приговора по делу цареубийц, — завершая чтение, выразил свое убеждение в недопустимости смертных казней в христианском государстве. В слушательской записи лекции Соловьева эта мысль передана так: «Настоящая минута представляет небывалый дотоле случай для государственной власти оправдать на деле свои притязания на верховное водительство народа. Сегодня судятся и, вероятно, будут 128
осуждены убийцы Царя на смерть. Царь может простить их, и если он действительно чувствует свою связь с народом, он должен простить. Народ русский не признает двух правд. Если он признает правду Божию за правду, то другой для него нет, а правда Божия говорит: „Не убий". (...) Пусть Царь и Самодержец России заявит на деле, что он прежде всего христианин, а как вождь христианского народа он должен, он обязан быть христианином. (...) Всякий осуждается и оправдывается собственными своими решениями, но если государственная власть отрицается от христианского начала и вступает на кровавый путь, мы выйдем, отстранимся, отречемся от нее» (см.: Былое. 1906. № 3. С. 52; полностью запись — С. 49-52; более исправный источник: Соловьев Вл. С. Сочинения: в 2 т. М., 1989. Т. 1: Философская публицистика. С. 39-42; 649- 650). На чтении присутствовало, по некоторым оценкам, около (или даже более) тысячи слушателей (сам Соловьев называл другую цифру — 800 человек; см. ниже), в том числе студенты, курсистки, представители знати и высшей администрации. О восприятии лекции присутствовавшими см.: Никифоров Н. К. Петербургское студенчество и Влад[имир] Сергеевич] Соловьев. — BE. 1912. Январь. С. 157-186; КузьминКараваев В. Д. Из воспоминаний о Владимире Сергеевиче Соловьеве. — Там же. 1900. Ноябрь. С. 443-444; Слонимский Л. 3. Письмо в редакцию. — Былое. 1907. Март (№ 3). С. 306. Министр Д. А. Милютин отметил в своем дневнике на следующий день: «Много еще толкуют о недавней публичной лекции нашего юного философа Соловьева, возбудившего страшное негодование своею безумною при настоящих обстоятельствах выходкой о том, что русский царь, чтобы быть верным „идеалу русского народа", должен помиловать цареубийц. Выходка эта вызвала взрыв рукоплесканий и одобрения в большей части аудитории, наполненной молодежью обоего пола, заведомо сочувствующей социалистическим учениям. Зато из другой части слушателей некоторые чуть не избили [юродивого] философа» (запись от 29 марта 1881 г. — Дневник. Т. 4. С. 50). О бурной реакции аудитории на выступление см.: Былое. 1906. № 3. С. 53-54; Попов И. И. Минувшее и пережитое. Л., 1924. Т. 1. С. 74-76. По поводу своих «неожиданных» высказываний в конце лекции Соловьеву пришлось давать письменные разъяснения новому петербургскому градоначальнику генерал-майору Н. М. Баранову, перед которым он, испрашивая позволение на чтение, под «честное слово» обязался не касаться событий 1 марта (первоначальное разрешение было получено еще 22 февраля): «Когда я просил о разрешении мне лекции, я заявил, что не буду говорить о политике. И я не говорил о политике. О самом событии 1-го марта я не сказал ни слова, а о прощении преступников говорил только в смысле заявления со стороны государя, что он стоит на христианском начале всепрощения, составляющем нравственный идеал русского народа. Заключение моей лекции было приблизительно следующее: „решение этого дела не от нас зависит, и не нам судить царей. Но мы (общество) должны сказать себе и громко заявить, что мы стоим под знаменем Христовым, и служим еди129
ному Богу — Богу любви (...)“/ Из 800 слушателей, разумеется, многие могли неверно понять и криво перетолковать мои слова. (...) После лекции один неизвестный мне господин настоятельно требовал, чтобы я заявил свое мнение о смертной казни, в ответ на что я сказал, взойдя на эстраду, что смертная казнь вообще, согласно изложенным принципам, есть дело непростительное и в христианском государстве должна быть отменена» (Соловьев. Письма IV. С. 142-143; официально одобренную Программу публичных чтений, составленную Соловьевым еще до событий 1 марта — 27 января 1881 г. см.: Соловьев Вл. С. Сочинения: в 2 т. М., 1989. Т. 1. С. 646-647). Факт объяснения Соловьева с петербургским градоначальником стал известен общественности. Страхов сообщал И. С. Аксакову в письме от 6 апреля: «Соловьева призывали к Баранову, тот потребовал от него полного изложения лекции на бумаге и сказал, что больше не позволит ему читать публично» (Аксаков — Страхов. Переписка. С. 53). Опасаясь возможных последствий за неверно переданное содержание лекции, Соловьев решился написать Александру III письмо с изложением основного смысла сказанного им в своей речи (Соловьев. Письма IV. С. 149-150). Преследованиям со стороны власти за высказанные в лекции соображения философ (отчасти благодаря позиции, занятой в этом деле министром внутренних дел М. Т. Лорис-Меликовым) не подвергался (если не считать за таковые переданные «через посредство Министра народного просвещения» — «внушение за неуместные суждения» и предложение воздержаться на некоторое время от появлений перед массовой аудиторией — слова из резолюции Александра III на докладе Лорис-Меликова; подробнее см.: Былое. 1918. № 4/5. С. 330-336), однако публичные и учебные чтения прекратил и оставил Петербург. — В смысловом контексте выступлений Соловьева реплику Толстого в письме к Страхову можно понять и как похвалу поднявшему голос против смертной казни конкретных обвиняемых (или осужденных) — в данном случае «первомартовцев», так и одобрение действий «единомышленника», разделявшего «главное» в его воззрениях — «нравственное учение» Христа, не допускавшего насилия как такового в виде средства достижения цели. Не исключено также, что Толстой мог знать и о написанном Соловьевым «объяснительном» письме Александру III, в котором фактически в десяти строках было изложено то, что Толстой пытался развить на тринадцати с половиной листах первоначального варианта своего обращения к императору.
6 Толстой отвечает на вопрос Страхова из п. 281. О посещении Вл. Соловьевым Ясной Поляны см. примеч. 9 к п. 281.
130
284 Страхов — Толстому
7 апреля 1881 г. Санкт-Петербург
Я опустил Ваше письмо в ящик1 тотчас, как получил телеграмму2, бесценный Лев Николаевич. Вот и всё, что могу сказать Вам; оно могло еще поспеть3, и если не поспело (что, я думаю, не изменило бы дела), то не по моей вине. Вообще нужно сказать, что у нас нехорошо: первое впечатление прошло, но осталось чувство тревоги и ожидания4. И хорошо бы, если бы мы уже не засыпали! Если бы мы не заснули, если бы наконец поворотили с нашей дороги, то можно бы было по крайне мере сказать, что удар не прошел даром5.
Нарочно заходил в Библиотеку за Вашим письмом6. Нет, Ваши ожидания не сбылись7, а у меня и не было никаких ожиданий. Расскажу Вам об Государе. Замечательно было, что он не назначил ни Верховного суда, ни Военного, а велел, чтобы дело шло обыкновенным порядком, то есть в Особом Присутствии Сената. Этот порядок учрежден несколько лет тому назад. Точно так и в других делах, говорят, Государь постоянно спрашивает: а как по закону? и так и решает. Поэтому судили очередные сенаторы по обыкновенным формам8.
Казнь и слухи об ней были очень тяжелы9. Сегодня я случайно заглянул в газеты и, признаюсь, рассердился на бессердечную наглость, с которою эксплуатируется событие 1-го марта. Нет, добра ждать невозможно.
В подарок на Светлый Праздник10 посылаю Вам книгу, какую, теперь не скажу. Я ужасно доволен, что мне она попалась; когда развернете, увидите, что за сокровище11.
Мое душевное почтение графине, и если нужно и с моей стороны уверение, то передайте, что я и с самого начала не предвидел никакой опасности12; мне видно это было по всему складу нравов вокруг. Гово131
Печатается по: РО ИРЛИ. Ф. 302. Оп. 2. Ед. хр. 300. Л.37-38. Впервые: Современный мир. 1913. № 9. С. 271-272. № 10. С. 273.
рят, (Победоносцев), что Государь получает множество писем и что всё сам читает13. Ваше же письмо, бесценный Лев Николаевич, содержит столько чувства и горячего желания добра, что не могло произвести дурного впечатления14. Другое дело речь Соловьева; вот уже было не по-христиански сказано на христианскую тему15. Соловьев вообще говорит как не живой, как будто у него одна голова, а сердца нет, еще не выросло16. Признаюсь, я тут много слушал всяких речей, но только в речи Аксакова17, да еще Кояловича18 прозвучало несколько грудных нот, а то всё фальцет.
Простите, что опять дурно пишу. Я недоволен и своими «Письмами об нигилизме»19. И только одним доволен — своим здоровьем20. Особенно меня радуют глаза; они, кажется, становятся даже зорче.
Простите. Если напишете на праздниках, то адресуйте — у Торгового моста, д. Стерлигова; я праздники очень аккуратно наблюдаю — и не заглядываю в Библиотеку. От всей души желаю Вам всякой радости; весна стоит чудесная, и в Ясной Поляне должно быть очень хорошо. Василию Ивановичу мое почтение. Видел здесь князя Урусова21 — он был на лекции Соловьева и потом у гр. Толстой22; он всё тот же и говорит мало нового.
Ваш всею душою
Н. Страхов
1881.
7 апр[еля].
Спб.
1 Страхов опустил письмо в особый ящик для прошений на высочайшее имя, установленный в подъезде Зимнего дворца, выходившего на Миллионную улицу. О действиях Страхова по выполнению поручения Толстого см. примеч. 7 к п. 282 и примеч. 1 к п. 283.
2 Текст телеграммы Толстого к Страхову остается неизвестным.
3 Толстой рассчитывал, что письмо попадет к Александру III до казни террористов. Подтвержденными объективными данными о получении обращения Толстого, а также 132
о самом факте прочтения, как и о конкретном времени ознакомления с его содержанием (до или после исполнения приговора), мы не располагаем.
4 Страхов отмечает напряженную атмосферу общей нервозности в столице в связи с состоявшейся 6 апреля казнью цареубийц, не прекращавшимися розысками и задержаниями подозреваемых в причастности к «делу 1 марта», слухами о возможных новых покушениях, почти ежедневными переменами в личном составе правительства. Своими наблюдениями над общественным настроением в Петербурге Страхов поделился с И. С. Аксаковым в письме от 6 апреля: «У нас по-прежнему смутно и неспокойно. Казнь невозможно переносить ни с радостью, ни даже с равнодушием; но сознаюсь, что это горькая необходимость. Розыски, говорят, горячо продолжаются» (Аксаков — Страхов. Переписка. С. S3). Ср. о том же А. А. Фету: «А время скверное: в городе смутно и неспокойно; была казнь, делаются деятельные розыски; как после шквала ходят волны и долго еще не успокоятся» (письмо от 6 апреля 1881 г. — Фет. Переписка II. С. 333). Военный министр Д. А. Милютин отметил в своем дневнике 3 апреля 1881 г.: «Вообще аресты продолжаются в большом числе. Во всех классах населения необыкновенно натянутое, нервное настроение. Все чего-то ожидают. А между тем ниоткуда не видно и не слышно проявления правительственной деятельности» (Дневник. Т. 4. С. 51). Тревожные ощущения жителей столицы усугубляло необъяснимое отсутствие в ней императора Александра III, в целях безопасности переехавшего 27 марта с семьей, при соблюдении строгой секретности, из Зимнего дворца в гатчинскую резиденцию. Озабоченность высшей администрации и тревожное ожидание общества были также вызваны неизвестностью относительно возможного направлении дальнейшего развития внутренней политики нового императора, которое предполагалось обсудить на особом закрытом совещании с участием Александра III лишь 21 апреля.. Ср.: «Предположенное совещание вызвано весьма серьезными объяснениями Лорис-Меликова с государем о необходимости так или иначе выйти наконец из настоящей неизвестности и замкнутости. Лорис-Меликов уговорил государя показаться в Петербурге, чтобы, по крайней мере, прекратить разные нелепые толки в народе, как например, будто царь содержится в плену, что он ранен и т. п.» (запись от 17 апреля 1881 г. — Там же. С. 55).
5 Оценка итогов завершившегося трагедией царствования императора Александра II не отличалась единством мнений. Общим было лишь чувство неудовлетворенности, которое высказывалось как «справа», так и «слева». В словах Страхова слышится отзвук тревожных размышлений, близких по содержанию соображениям нового оберпрокурора Синода К. П. Победоносцева, высказанных им (и некоторыми другими участниками) на заседании Совета министров в присутствии Александра III 8 марта. Ср. об этом в записи либерального военного министра Д. А. Милютина, отметившего в своем дневнике, что всё, сказанное на этом совещании «ретроградами» — «было бледно и ничтожно сравнительно с длинною иезуитскою речью, произнесенною 133
Победоносцевым: это было уже не одно опровержение предложенных ныне [либеральных. — Сост.\ мер, а прямое, огульное порицание всего, что было совершено в прошлое царствование; он осмелился назвать великие реформы императора Александра II преступною ошибкой! Речь Победоносцева, произнесенная с риторическим пафосом, казалась отголоском туманных теорий [Аксакова и других] славянофильских; это было отрицание всего, что составляет основу европейской цивилизации. Многие из нас не могли скрыть нервного вздрагивания от некоторых фраз фанатикареакционера» (Там же. С. 35). Характерно, что полтора месяца спустя сам Милютин, выступая на особом совещании у императора в Гатчине, посвященном обсуждению возможных направлений политического развития страны, назвал последние 14 лет царствования Александра II годами «застоя» и «хаоса» в управлении, правда, имея в виду незавершенность предпринятых либеральных реформ и непоследовательность в их проведении. Ср.: «...мы не только не подавили крамолу строгостями полицейскими, но создали массу недовольных, среди которых злонамеренные люди находят опору и рассадник. (...) недоконченность начатых реформ и отсутствие общего плана привели к тому, что по всем частям государственного организма ощущается полный хаос, и потому всего нужнее правительству заняться приведением в стройный порядок административного, экономического и школьного строя» (черновая запись от 21 апреля 1881 г. — Там же. С. 57).
6 Обычно Толстой адресовал свои письма Страхову по месту его основной службы, а не на квартиру (см. конец наст, письма).
7 В недошедшем до нас послании Толстой, вероятно, высказывал надежду на возможное изменение участи представших перед судом террористов, характер приговора которого не вызывал в обществе сомнений.
8 Стремление Александра III сохранить преемственность порядка отправления государственных дел неоднократно отмечал в записях своего дневника информированный военный министр Д. А. Милютин. Ср.: «В 10 час. утра поехал я в Аничков дворец и имел первый доклад у нового императора. (...) я представил на утверждение заготовленные на нынешнее число высочайшие приказы; получил приказание на первое время не изменять прежнего порядка докладов...» «Утром было у государя совещание по вопросу о том, каким судом судить извергов, участвовавших в последнем зверском злодействе, военным или в особом присутствии Сената. (...) [министр юстиции Д. Н.] Набоков изложил обстоятельно доводы в пользу предания суду Сената; с ним уже заранее все мы были согласны (...) Государь не возражал по существу дела, но настаивал только на сокращении сроков, узаконенных в процедуре. Впрочем, и Набоков предложил некоторые меры к возможному ускорению дела» (записи от 2 и 6 марта 1881 г. — Дневник. Т. 4. С. 26, 31). Решение о казни было принято без назначения (ввиду исключительности преступления) Верховного Суда или Военного суда — в Особом Присутствии Сената, строго по закону от 7 июня 1872 г. Состав 134
такого Присутствия определялся действовавшим положением в количестве 6 человек (включая первоприсутствующего — т. е. председателя), а персонально — назначением императора. Страхов подчеркивает, что Александр III и в этом случае не счел нужным изменять порядок очередного присутствия сенаторов.
9 Исполнение приговора суда над цареубийцами носило публичный характер и не обошлось без происшествий. Ср. в записи Д. А. Милютина: «Утром, в 9-м часу, на Семеновском плацу совершилась казнь пяти из 6-ти преступников 1-го марта, т. е. за исключением еврейки Гельфман, которая оказалась беременною, почему казнь ее отсрочена. Даже и повесить не сумели: [Т.] Михайлов два раза сорвался с виселицы. Во время перевозки преступников по улицам были в некоторых местах беспорядки: толпа чуть не растерзала нескольких безумцев, вздумавших выказать свое сочувствие цареубийцам» (запись от 3 апреля 1881 г. — Там же. С. 51). Непосредственный исполнитель убийства императора И. Гриневицкий, смертельно раненый во время покушения, умер в тот же день.
10 Светлый праздник Христова воскресения — Пасха, приходилась в 1881 г. на 12 апреля.
110 подарке Страхова см. п. 286 и примеч. 14 к п. 277.
12 Страхов имеет в виду, что не предвидел опасности ни для Толстого, ни для себя за передачу письма к Александру III.
13 Вероятно, подразумеваются прошения на высочайшее имя, подаваемые через почтовый ящик в подъезде Зимнего дворца, в который Страховым было опущено обращение Толстого к Александру III. См. примеч. 1.
14 Не все, однако, даже из числа принципиальных противников смертной казни разделяли столь оптимистическую уверенность Страхова в положительном впечатлении от знакомства с содержанием письма Толстого, и прежде всего с той его частью, где он призывает к проявлению христианского милосердия к цареубийцам. Осведомленный редактор «Руси» И. С. Аксаков не без разочарования заметил по этому поводу в письме к Страхову от 2 апреля: «Я знаю, что гр. Л. Толстой писал об этом письмо, но ведь Толстой, говорят, встречая солдат, внушает им, что они не должны стрелять в неприятеля. Это кривомудрие. Я всегда был против смертной казни в принципе и держусь этого мнения. Но если она существует, если казнены Лизогуб и К0, то не казнить Рысакова было бы исключением, извращающим смысл правосудия. / Есть какое-то общее повреждение смысла!» (Аксаков — Страхов. Переписка. С. 51. — Курсив Аксакова). Примечателен ответ Страхова на эту реплику: если в настоящем письме Толстому он видит в прощении цареубийц «желание добра», то накануне, 6 апреля, в письме Аксакову он признавал, что казнь террористов есть «горькая необходимость» (Там же. С. 53).
15 О публичной лекции Вл. С. Соловьева в зале Кредитного общества см. примеч. 5 к п. 283. Страхов, присутствовавший на лекции, отнесся к ее содержанию критически.
135
В письме И. С. Аксакову от 6 апреля 1881 г. он замечал: «Я был на лекции Соловьева, но не возьмусь Вам дать отчет об ней. Это была какая-то нескладная путаница мыслей, высказанная с необыкновенным сосредоточенным азартом. Лекция продолжалась не более двадцати минут или четверти часа, состояла из ряда положений. 1) одно о Боге, 2) другое о Богородице, 3) о Христе и т. д. Переход к казни был неожидан; против казни было сказано только то, что есть заповедь: не убий; дважды было с напором повторено, что Царь должен исполнить это как требование христианского учения, и затем прибавлено, что если не исполнить, то „мы не выйдем из этого кровавого круга преступлений и возмездий“. Вот, кажется, всё.» (Аксаков — Страхов. Переписка. С. 53. — Курсив Страхова). Примечательно, что в сознание современников чтение Соловьева, посвященное, если судить по заявленной теме, вопросам историософского содержания, вошло как «лекция об отмене смертной казни» (см.: письмо Страхова А. А. Фету от 6 апреля 1881г. — Фет. Переписка II. С. 333). Так же определял характер своей лекции позднее и сам Соловьев: в краткой автобиографии, написанной в 1887 г., историко-культурная лекция превратилась в публичную речь в защиту осуждаемых к повешению цареубийц. Ср.: «В марте 1881 г. произнес перед многочисленной публикой речь против смертной казни» (Соловьев. Письма II. С. 185). Факт неожиданного перехода от одобренной властями темы лекции к рассуждению о недопустимости в христианском государстве смертной казни и призыв к Александру III помиловать террористов, обратил на себя внимание публики и стал предметом различного рода толков. Свое объяснение этому обстоятельству, не вдаваясь в уточняющие подробности, передал Фету в том же письме Страхов: «... я не выпускаю Соловьева из виду — он хочет исчезнуть: ему что-то не терпится в Петербурге, и он оттого, отчасти, и рискнул на свою лекцию. Ссылки, однако, не вышло» (Фет. Переписка II. С. 333). Намек Страхова на странность поведения Соловьева остался неразъясненным. Между тем, видимая поспешность философа в оставлении Петербурга тем более обращает на себя внимание, что при более чем сдержанной реакции верховной власти на его публичную «бестактную выходку», у него не было видимых оснований опасаться каких-либо административных преследований. Да и свою ближайшую поездку в Москву он намеревался совершить лишь на пасхальные праздники, для чего и испросил двухнедельный отпуск обращением к министру народного просвещения от 27 марта (накануне своей второй лекции в Кредитном обществе). Ср. в письме А. А. Фету от 10 марта 1881г.: «Сам я на святой буду в Москве, а потом в разных местах...» (А. А. Фет: Материалы и исследования. Вып. 2. С.. 370). Тем не менее, вскоре после выступления 28 марта Соловьев коротко извещает своего нового знакомого Ф. Б. Геца: «Я оставляю Петербург, вероятно, скорее, чем предполагал» (Соловьев. Письма II. С. 134). Немотивированную внезапность отъезда Соловьев пытался объяснить полунамеками руководителю Высших женских курсов К. Н. Бестужеву-Рюмину уже в письме из Москвы: «Я уехал отчасти по нездоровью, главное же по некоторым другим причинам, о кото136
рых расскажу при свидании. Этими же причинами объясняется и внезапность моего отъезда» (Соловьев. Письма III. С. 35). Отклонил Соловьев и предложенные ему соображения о возобновлении преподавательской деятельности. Из Москвы же, 20 апреля 1881 г., он отправляет по месту службы прошение о предоставлении продолжительного, трехмесячного отпуска «по случаю болезни» (см.: Лукьянов С. М. О Вл. Соловьеве в его молодые годы. М., 1990. Т. 3, вып. 2. С. 84-85). Ранее Соловьев предполагал покинуть Петербург и перебраться на жительство в Москву после летних «каникул». Ср. в письме к Фету от 10 марта: «... в Москве (...) я думаю с осени поселиться окончательно, оставив чухонский Содом» (А. А. Фет: Материалы и исследования. Вып. 2. С. 370). В Петербург Соловьев вернулся лишь в конце сентября — начале октября.
16 С мнением Страхова совпадает и суждение домашнего учителя детей Толстых В. И. Алексеева, имевшего возможность наблюдать философа во время его посещения Ясной Поляны в феврале 1881 г. Ср.: «Соловьев жил вне действительной жизни; он как бы не замечал ее; жил как бы одной головой, игнорируя действительность. (...) от всех его суждений отдавало книжной мудростью» (Летописи Государственного литературного музея. М., 1948. Кн. 12. С. 281). О Соловьеве см. примеч. 9 кп. 281.
17 Речь И. С. Аксакова в память императора Александра II в С.-Петербургском Славянском благотворительном обществе была произнесена в воскресенье 22 марта 1881 г. на экстренном собрании и была посвящена теме «царской власти» — «Царь в народе» (опубл.: Русь. 1881. 22 марта. № 20. С. 2-4). О восприятии выступления либеральной общественностью можно судить по записи в дневнике Д. А. Милютина: «Вчера вечером было торжественное заседание Славянского благотворительного общества. Аксаков произнес восторженную речь, разумеется, в своем крайне русофильском духе. Те же туманные фразы, тот же пророческий мистицизм, то же пустозвонство, как и во всех статьях и речах славянофильской школы. Адепты этой школы восхищаются; противники их глумятся над ними» (запись от 23 марта 1881г. — Дневник. Т. 4. С. 46). На эту речь Аксакова ссылался Вл. Соловьев в «ключевой» части своего выступления 28 марта (см. примеч. 5 к п. 283), а именно, — делая неожиданный переход от официально заявленной темы чтения к рассуждению об этическом содержании царской власти. Обеспокоенный известием о попытке Соловьева договорить якобы «невысказанное» в своей речи им, Аксаковым, редактор «Руси» обращался за разъяснением к Страхову: «Правда ли, что Соловьев держал речь о том, что Государь не должен казнить преступников и что если казнит, то мы не пойдем за ним в этом направлении, и что при этом будто сослался на меня, уверяя, что это именно то, что я недосказал,..» (письмо от 2 апреля 1881 г. — Аксаков — Страхов. Переписка. С. 51). Об этом же он запрашивал и А. С. Суворина (см.: Письма русских писателей к А. С. Суворину. Л., 1927. С. 13). Присутствовавший на лекции Страхов поспешил рассеять сомнения своего корреспондента: «Ссылки на Вас не припомню:; кажется, 137
было просто сказано, что „здесь, в заседании Славянского общества, указывалось на значение Царя в России“; но „к этому нужно прибавить“ — и пр.» (письмо от 6 апреля 1881 г. —Аксаков — Страхов. Переписка. С. 53).
18 Имеется в виду посвященное памяти императора Александра II выступление историка М. О. Кояловича в С.-Петербургском Славянском благотворительном обществе 22 марта 1881 г. (Русь. 1881.4 апр. № 21. С. 11-12).
19 Для Страхова трагические события 1 марта послужили резким побудительным толчком к возобновлению публицистической деятельности: он начал усиленно работать над циклом статей под общим названием «Письма об нигилизме» для газеты И. С. Аксакова и уже 19 марта завершил написание первой статьи. На следующий день, 20 марта, он обращается к редактору «Руси»: «Покорно прошу Вас напечатать мое первое письмо об нигилизме. Сам чувствую его недостатки, неровность тона и пр. и ужасно досадую, потому что очень хочется высказать свою мысль как можно лучше и яснее. Если бы были силы, я бы каждую неделю посылал Вам по письму, и предполагаю, что их было бы до десяти. Я так расписался, как и не помню; ни в какое свое писанье я не вкладывал столько души, и если бы удалось, то можно было бы на этом кончить всякое писание. Тема — характеристика нравственного и умственного состояния нынешнего времени. Точка зрения — самая простая, именно — самые элементарные требования нравственности, не высокий христианский идеал, а лишь первые его основания, простейшие исходные точки. Будьте добры, не судите меня строго и поправьте, если что найдете нужным. Темы следующих писем будут: история, прогресс, просвещение и т. п. Надеюсь, что мне удастся излить всё, негодование, которое во мне накопилось, и главное — я радуюсь, что нашел, кажется, ясную положительную истину, с которой могу судить. / Если через неделю не успею прислать другого письма, то через две недели пришлю наверное» (Аксаков — Страхов. Переписка. С. 49. — Курсив Страхова). Характеризуя современное состояние общества, Страхов отмечал: «Корень зла — нигилизм (...) движение, которое в сущности ничем не удовлетворяется, кроме полного разрушения. (...) Это — безумие, соблазнительное и глубокое, потому что под видом доблести дает простор всем страстям человека, позволяет ему — быть зверем и считать себя святым». Статья завершалась неутешительным для таких социальных отношений прогнозом: «Если мы не отыщем других начал, если не прилепимся к ним всею душою, мы погибнем» (цит. по: Страхов. Борьба с Западом II. С. 62). (Уместно обратить внимание на смысловую близость высказывания Страхова мыслям на эту тему Ф. М. Достоевского. Ср.: «И не то беда, что есть еще зверство; беда в том, если зверство вознесено будет как добродетель (...) когда зверство воздвигается над всеми, как идол, и люди ему поклоняются, считая себя именно за это-то добродетельными. (...) Вот это так зверство — образованное и вознесенное как добродетель, и кланяются ему как идолу, и на Западе, и у нас еще в России» — Достоевский. ПСС. Т. 25. С. 124). Аксаков приветствовал выступление Страхова и предполагал поместить 138
его в ближайшем номере «Руси» (не осуществилось). В ответном письме от 2 апреля он извещал: «Ваше письмо о нигилизме будет напечатано в 22 №, который выйдет в четверг на Страстной. Остальные письма пойдут также последовательно, одно за другим. Ваше 1-е письмо разъехалось со мною; я (...) прочел его только вчера и тотчас же решил неотложно его печатать. Оно прекрасно и совпадает вполне с написанной уже мною статьей передовою, которая появится послезавтра. Но в передовой статье всё только намечается, поэтому я всегда очень дорожу подробным развитием той же мысли, предлагаемой в прочих статьях. Один недостаток у Вас — некоторая чисто внешняя длиннота, не совсем удобная для газеты при разнообразной ее программе» (Там же. С. 51). В еженедельнике были опубликованы четыре письма Страхова (Русь. 1881. 18 апр. № 23. С. 5-8; 25 апр. № 24. С. 14-17; 2 мая. № 25. С. 8-10; 16 мая. № 27. С. 20-21). Еще одно, пятое письмо, было опубликовано после смерти Страхова (РВ. 1898. Январь. С. 150-154). Тему критического осмысления нигилизма и его влияния на нравственно-духовное состояние русского общества Страхов развивал также в предисловии ко второй книжке исторических и критических очерков «Борьба с Западом в нашей литературе» (СПб., 1883. С. У1П-ХУ1), помеченном 12 марта 1883 г. и там же в разделе «Дополнения» (С. 271-272). На статью Страхова откликнулся из Москвы Вл. Соловьев: «Читал Ваше письмо о нигилизме с большим удовольствием, как и всё, что вы пишете» (письмо без даты, от весны 1881 г. — Соловьев. Письма I. С. 10). Своей неудовлетворенностью формой публицистического обращения к читательской аудитории Страхов делился и с Аксаковым. Отправляя следующую статью, он извещал его 6 апреля: «Вот второе письмо, глубокоуважаемый Иван Сергеевич. Третье пришлю Вам в конце Святой и постараюсь, чтобы оно было короче и сочнее, как Вы того желаете. Я сам пока доволен только мыслями, но не их выражением» (Аксаков — Страхов. Переписка. С. 53). Поиски нужного «тона» не мешали Страхову с увлечением трудиться над продолжением цикла. Перечисляя 6 апреля в письме к А. А. Фету свои многообразные занятия, он отмечал: «А рядом — мои „письма об нигилизме1, печатающиеся в „Руси" (да! пустился и я писать)...» (Фет. Переписка II. С. 333. — Курсив Страхова).
20 Об улучшении в состоянии здоровья Страхов извещал и А. А. Фета в письме от 6 апреля: «Здоровье мое почти в совершенстве, что меня ужасно радует: я уже боялся хронических недугов» (Фет. Переписка II. С. 332).
21 Кн. Леонид Дмитриевич Урусов, тульский вице-губернатор, друг Толстого с января 1878 г.; по отзыву С. А. Толстой — «горячий последователь ученья Льва Николаевича о христианстве, частый посетитель Ясной Поляны и большой преданный друг всех ее обитателей». Подробнее об Урусове и его отношении к семье Толстого см.: Толстая. Моя жизнь I. С. 288-290, 318, 326; Ивакин И. М. [Воспоминания о Толстом]. — АН. Т. 69, кн. 2. С. 44-45).
22 В салоне С. А. Толстой (урожд. Бахметевой), вдовы поэта А. К. Толстого.
139
Около 26 апреля,
4 моя 1881 г.
Санкт-Петербург
285 Страхов — Толстому
Большая к Вам просьба, бесценный Лев Николаевич: прошу Вас, читайте мои «Письма», которые начались в «Руси»1, и скажите мне Ваше суждение. Я знаю, что Вы попадете как раз на самое существенное. Князь2 (которому усердно кланяюсь) найдет Вам «Русь» в Туле, а я не имею возможности прислать Вам — оттисков газеты не дают. Меня уж и хвалят, и молчат, и бранят, но без Вашего отзыва я не буду удовлетворен.
Как живо мне вспомнился при этом Достоевский! Он был мой усерднейший читатель3, очень тонко всё понимал и не прочитал только «Писем о спиритизме»4, потому что был в этом вопросе так раздражен, что не в силах был читать.
Не думайте, что во мне очень заговорило литературное самолюбие; нет, я, кажется, уже успел несколько его укротить. Предвижу беду: с новым царствованием начались затеи новых журналов,- меня уже звали в одну газету5, имеющую возникнуть, да в один толстый журнал6. Всё это в наилучшем славянофильском духе, но я буду упираться всеми силами.
Общее состояние Петербурга теперь довольно сносно: стало очень тихо и серьозно. Можно порадоваться, что не делается никаких резких перемен и что ярость преобразования России находит некоторую остановку и несколько утихает7. Существенные дела делаются неотложно: сменен Сабуров8, сняты недоимки9 и т. п. Образ нового Царя, составляющийся в наших головах, право не дурен: что-то простое, серьозное, печальное и спокойное.
Уже больше недели, как начато это письмо,- но потом я заторопился со своим «Нигилизмом», да простудился и раскис10,- сегодня сижу дома и жду доктора, хоть мне и легче11.
140
Мои сожители уже уехали в Крым12; теперь я в совершенном уединении, — по целым дням полнейшая тишина, и я могу считать себя пустынножителем. Я привык к этому и провожу иногда очень приятные и спокойные часы13. Но мои «Письма» меня огорчили. Писать было ужасно тяжело, и чувствую, что выходит не совсем то, что хотел. А так ясно и горячо было задумано! Теперь я остановлюсь, но, отдохнувши, думаю еще написать четыре-пять писем14. Юрьев по поводу первого письма прислал мне восторженную и совершенно-отвлеченную похвалу15.
Затем у меня еще работа — корректуры «Истории материализма» Ланге16, перевод под моим наблюдением, — книга, очень дурно написанная, но прелюбопытная. Да кончить статью «О физиологии»17. Вот мои планы на лето: простите, что рассказываю Вам их, предполагая, что они Вам несколько интересны.
С Фетом мы чуть ли не поссоримся из-за «Фауста»18; он прислал мне письмо с упреками прямыми, косвенными, скрытыми, вовсе непонятными и всякими, какие только возможно19. Если бы я не знал его доброты и прямоты, меня бы огорчила эта беспорядочная игра фантазии. Но видно, что «Фаусту» неудача: если он упрямится и не хочет поправлять, то какая охота браться за работу, за которую я без того не взялся бы. Ах, трудно жить с людьми!
Предполагаю, что Вы читаете, читаете и задаете себе вопрос: ну, а где же его душа?20 Скажу Вам, как сумею. Душа моя — в исправлении помаленьку моих недостатков, которых, как Вы знаете по моей исповеди21, у меня много. Я чувствую, что понемногу наступает во мне мир, — и не могу Вам выразить, как отрадны мне даже неполные, временные ощущения этого мира. Стану всеми силами стремиться к этому миру — путь уже мне известен, и меня ничто не собьет с него. Доброта и спокойствие — качества старости, как я читал в одной материалистической физиологии.
А что у Вас делается? Дайте хоть маленькую весточку, а об «Письмах», пожалуй, хоть ничего не пишите. Мое почтение графине и усерд-
141
Печатается по: РО ИРЛИ. Ф. 302. Оп. 2. Ед. хр. 300. Л. 21-22.
Впервые: Современный мир. 1913. № 10. С. 273—275. Датировка письма уточняется по содержанию.
ный поклон всем, Василию Ивановичу, Сереже, Ильюше. Выздоровею, — непременно добьюсь от Победоносцева, какое впечатление на Государя сделало Ваше письмо и Соловьев22. Новый манифест производит кутерьму, раздражение нелепое, бестолковое, отвратительное по бессмысленности23. Я видел однажды, что в вагоне, когда стало вдруг ярко светить солнце, пассажиры стали опускать занавески. Увидевши это, один пассажир, сидевший на другой стороне, тоже поспешно бросился спускать занавеску, и только спустивши заметил, что солнце с его стороны не светит, и поднял занавеску. Такова, я думаю, вся наша интеллигенция.
Ваш душевно
Н. Страхов 1881 г.
4 мая.
Спб.
1 Имеются в виду «Письма о нигилизме» (см. примеч. 19 к п. 284). К моменту начала написания этого обращения к Толстому в «Руси» были опубликованы первые две статьи Страхова. Второе «письмо» появилось в субботнем выпуске газеты — 25 апреля, что дает основание датировать послание Страхова именно этими числами: 25-26 апреля. 4 мая — время написания комментируемого письма — приходилось на понедельник.
2 Князь А. Д. Урусов, тульский вице-губернатор. О нем см. примеч. 21 к п. 284.
3 Достоевский особенно усердно читал критические статьи Страхова в журнале «Заря» (1869-1872). Например, по поводу статьи о Герцене он писал Страхову 24 марта (5 апреля) 1870 г.: «С нетерпением жду продолжения Вашей статьи, чтобы всё понять в ней» (Достоевский. ПСС. Т. 28, кн. 1. С. 113). Позднее, в связи с появлением в печати рассуждений Страхова о творчестве И. С. Тургенева, замечал, что читал их, «как все Ваши статьи, — с восхищением». И добавлял: «Вы один из людей, наисильнейше отразившихся в моей жизни...» (письмо от 18/30 мая 1871 г. — Там же. Т. 29, кн. 1. С. 216). Достоевский высоко ценил «самостоятельность», «оригинальность» — то «свое», чем, по его мнению, неизменно отличались статьи Страховакритика: «Я упивался Вашими статьями, я Ваш страстный поклонник и твердо уверен, что у Вас есть и кроме меня достаточно поклонников...» (письмо от 23 апреля / 5 мая 1871г. — Там же. С. 207). О том же в письме от 18/30 марта 1871 г.:«Не знаю, как дру142
гие, а я по получении „Зари“ каждый раз разрезывал прежде всего Ваши статьи и упивался ими. Разумеется, иногда не во всем соглашался (например, в приемах, в тоне, то есть в излишней мягкости Вашей, и, кроме того, в преувеличении некоторых явлений литературы и жизни) — но интерес был всегда чрезвычайный» (Там же. С. 186). И раньше: «Но Вы мне дороги. Я недаром Вашу статью разрезываю первую, и день получения книжки с Вашей статьей для меня праздник» (письмо от 9/21 октября 1870 г. — Там же. С. 150). Достоевский не только с похвалой отзывался о журнальных статьях Страхова, находя их «превосходными», наполненными «здравой критикой», написанными «горячо», «глубоко» и «мужественно-откровенно» (С. 186, 187), но и нравственно поддерживал автора, нередко впадавшего в сомнения относительно действенности своих печатных выступлений. Ср.: «...я так думаю: не будь теперь Ваших критик, и ведь у нас совсем уж не останется никого, в целой литературе, кто бы смотрел на критику как на дело серьезное и строго необходимое. Не останется даже никого из пишущих критиков, кто бы сколько-нибудь ценил потребность (и уважение к нему) правильного философского осмысления текущих и минувших вещей, а стало быть, ценил и критику, то есть собственное дело свое. Итак, за Вами, прежде всего, этот строгий и философский взгляд на критику, чего у других нет (...) Кроме того, — Вы удивительно умеете писать. Литературный язык Ваш лучше, чем у них у всех. А это, как хотите, не может быть под конец не замечено». «Говорю Вам и предрекаю, что Вы непременно должны найти горячих приверженцев и немало. Уж одно то, что Вы проповедуете истину! Я с большим нетерпением жду целого ряда Ваших статей за нынешний сезон» (письма от 28 мая / 9 июня и от 9/21 октября 1870 г. — Там же. С. 124-125, 149. — Курсив автора). Поклонник Страхова-критика, Достоевский позволял себе упрекать его (кроме чрезмерной деликатности тона статей) разве что в нередком «манкировании» своими литературными обязанностями: «Мне не нравится в Ваших статьях лишь то, что Вы их редко помещаете» (письмо от 2/14 декабря 1870 г. — Там же. С. 153).
4 Интерес Ф. М. Достоевского к парапсихологическим явлениям сформировался в связи с его обращением к вопросу о научном определении границ возможного для человека, и в частности, к подкрепленному реальными фактами и «очищенному от мистической примеси» объяснению наблюдаемой способности к сверхчувственному познанию окружающей действительности (предчувствия, предсказания, ясновидение, пророчества). Этой теме Достоевский посвятил размышления, предназначавшиеся для майского выпуска «Дневника писателя» за 1877 г. и не попавшие в его окончательный текст (см.: Достоевский. ПСС. Т. 25. С. 261-266). Свою точку зрения на обсуждаемый предмет Достоевский изложил следующим образом: «Столь многих, утвердившихся в наш век на спиритизме, я считаю решительно постигнутыми злым роком (...) Кстати, про меня упомянули как-то печатно, что я тоже наклонен к спиритизму. Дай бог любому противнику спиритизма быть таким ненавистником его, как я, но я ненавижу лишь отвратительную гипотезу духов и сношений с ними, насколько может чувство143
вать к ней отвращение человек, не потерявший здравого смысла. Но откидывая лишь мистическое толкование фактов, я всё еще остаюсь в убеждении, что факты эти требуют строгой проверки и что наука, может быть, не сказала об них не только последнего, но и первого слова. Я, разумеется, могу ошибаться, но в таком случае я ошибаюсь вместе с сотнями тысяч людей, люди же науки вместо тщательного, непредвзятого отношения к факту говорят лишь: „Ничего этого нет, потому что не может быть"» (Там же. С. 265). Подробнее объясняя свою позицию в споре о спиритизме и обосновывая свои упреки в адрес науки, писатель замечал: «Я осмеливаюсь выразить мнение, что подобные верования, оставленные без внимания и разъяснения, без расчистки, так сказать, поля, вредят делу преуспеяния человеческого и самой даже науке несравненно более, чем сама наука полагает. Слишком уж высокомерно и предвзято смотрит она в наш век на иные предметы. (...) не предрассудок ли со стороны науки так относиться к иным вещам, голословно и ничего не разъяснив в точности. Согласитесь, что если все эти (бесчисленные) у людей случаи — ложь, то как должна вредить эта ложь и как важно разъяснить ее раз навсегда. Если же бы оказалось, что, что это вовсе не ложь, а многое из этого есть, существует и происходит по известным, определенным законам, то опять-таки, согласитесь, как важно бы было такое строгое научное исследование во всех отношениях и сколько пользы опять-таки могло бы принести оно. (...) Но наука отвергает факты голословно и пока спокойна, а лучше, что ли, будет, когда весь темный люд, рабочие и мужики засядут за столы и начнут вызывать духов» (Там же. С. 263-26$). С критикой спиритизма Достоевский-публицист выступал и ранее — в 1876 г. См.: Спиритизм. Нечто о чертях. Чрезвычайка хитрость чертей, если только это черти / Дневник писателя. 1876. Январь; — Словцо об отчете ученой комиссии о спиритических явлениях / То же. Март; — Опять только одно словцо о спиритизме / То же. Апрель. — Там же. Т. 22. С. 32-37,99-101,126-132). Подробнее о восприятии Достоевским «необъяснимых» психо-физических проявлений человеческого организма см.: Волгин И. Л., Рабинович В. А. Достоевский и Менделеев: антиспиритический диалог. — Вопросы философии. 1971. № 11. С. 103-115. — «Письма о спиритизме» Страхова печатались в газете-журнале «Гражданин» во второй половине ноября 1876 г. (см. п. 128 и примеч. 5, п. 131 и примеч. 9, 10). Позднее этот цикл статей был включен им во вторую книжку исторических и критических очерков «Борьба с Западом в нашей литературе» (СПб., 1883. С. 166-201).
5 О предположенном намерении выпускать в Петербурге новое периодическое издание Страхов упоминал еще в письме к А. А. Фету от 6 апреля: подробно перечисляя свои занятия, он, среди прочего, называет «план новой газеты», над составлением программы которой тогда, вероятно, трудился (Фет. Переписка II. С. 333). Вероятно, речь идет о журнально-газетном начинании, у истоков инициативы которого стоял кн. В. П. Мещерский, оставшийся к тому времени (1880-1881 гг.) без собственного органа печати. Обращаясь в октябре 1882 г. к императору Александру III с просьбой 144
о финансовой поддержке возобновленного тогда «Гражданина», он сообщал в особой записке: «Еще в прошлом году я советовал графу [Н. П.] Игнатьеву сделать две попытки: одну — сельской газеты для крестьян, другую общедоступного журнала, с участием лучших писателей и с картинами и с статьями строго консервативного направления, в подражание распространенному в баснословных размерах 75 000 подписчиков журналу „Нива" (...) Мысль была такая: незаметно интересным чтением, хорошими рассказами, сильными и почувствованными статьями, мало помалу производить пропаганду порядка и заставлять людей привыкать к звукам консервативной речи так же охотно, как теперь они привыкают к звукам речи либеральной» (Мещерский В. П. Письма к императору Александру III. М., 2018. С. 16. — Курсив источника). Проект «устроить нечто осмысленное и цельное в виде издания такого, которое могло бы, с одной стороны, быть органом консервативных начал, а с другой, привлечь к себе заманчивыми сторонами возможно большую читающую публику из той части общества, которую теперь завлекают и увлекают разные дешевые, но гнилые издания» — и всё это на средства правительства, удался только наполовину. С сентября 1881 г. в Петербурге при официальном «Правительственном вестнике» начала выходить еженедельная газета «Сельский вестник» (издавалась до 1917 г.). В числе сочувствовавших идее Мещерского были лица близкие или принадлежавшие к петербургскому кругу общения Страхова. Наиболее авторитетных из них назвал в своем обращении к Александру III сам инициатор затеи: «Лица эти суть: товар[ищ] государственного] контролера [Т. И.] Филиппов, редактор «Журн[ала] Министерства] народ[ного] просвещения]» [Е. М.] Феоктистов, член Совета мин[истра] народ[ного] проев[ещения В. Г.] Авсеенко, поэт [А. Н.] Майков и редактор „Нивы“ [Ф. Н.] Берг. К. П. Победоносцев обещал продолжить иметь высший надзор и помогать советами» (Там же. С. 14. — Курсив источника). Несмотря на полученные из казны средства, реализация замысла не принесла полного удовлетворения Мещерскому, который в том же обращении к Александру III заметил: «Первая мысль о крестьянской газете осуществилась, хотя, к сожалению, далеко не так, как полюбилось бы такое издание народу...» (Там же. С. 16). См. также примеч. 6.
6 О планах учреждения нового журнала и о роли в этом начинании кн. В. П. Мещерского см. примеч. 5. Подробнее о затевавшемся журнале «в славянофильском духе» и в несколько иной, более положительной тональности, Страхов писал позднее Н. Я. Данилевскому: «Приглашаю вас сотрудничать в журнале, который у нас затевается. Он, может быть, появится с октября; я в нем пока участвую одними благожеланиями, но я образую какой-то центр между литераторами и профессорами и слушаю, чтб они задумывают и говорят. Всё идет пока горячо и так естественно, что я, столь искушенный и потому маловерный, начинаю надеяться. Это будет лучше моей Зари и вашей Русской Речи. Нашелся милейший человек, граф Арсений Аркадьевич Голенищев-Кутузов, поэт, со вкусом, с душою, со связями, который хочет посвятить себя на 145
это дело (...) Если у него найдется помощник, который будет вести практическое дело, всё пойдет хорошо. И у меня есть такой на примете, тоже совсем свободный человек. Посмотрим. При этом множестве людей, не находящих себе места в журналистике, притом самых лучших людей, новый журнал может идти блистательно. Нужно только откуда-нибудь добыть хоть малую долю тех качеств, которыми блистают Краевский, Стасюлевич, Суворин, Некрасов и другие великие мужи нашей литературы» (письмо от 7 февраля 1882 г. — PB. 1901. Февраль. С. 455-456). О намечавшемся журнальном предприятии Страхов извещал и А. А. Фета: «Затевается новый журнал, но прежде чем придумали ему название и успели напечатать хоть одну строчку, между сотрудниками уже начались ссоры. Если дело удастся, будет хорошее, в прекрасном духе, с тонким вкусом» (письмо от 21 февраля 1882 г. — Фет. Переписка IL С. 343). Готовность императора Александра III финансово поддерживать солидную консервативную печать (см.: Феоктистов Е. М. Воспоминания. С. 246) должна была помочь поставить на ноги затевавшийся проправительственный журнал, однако усилия по созданию редакционного коллектива единомышленников не имели успеха. «Вторая мысль замерла» и проект не получил практического воплощения, — сетовал в своем письме к императору Мещерский (Мещерский В. П. Письма к императору Александру III. С. 16).
7 «Ярость преобразования» начала «утихать» с отклонением в заседании Совета министров 8 марта проекта предположенных министром внутренних дел М. Т. ЛорисМеликовым «органических преобразований» системы государственного управления за счет привлечения к законосовещательной деятельности выборных представителей земств и городских дум. Тем самым было, по мнению чуткого на грядущие перемены председателя Комитета министров П. А. Валуева, предрешено и будущее «клики гр. Лорис-Меликова»: «Такой полный fiasco министра внутренних дел, в таком деле и при всех усиливающих значение fiasco обстоятельствах, решает совершенно, на мой взгляд, вопрос о его дальнейшем значении и влиянии» (запись от 9 марта 1881 г. — Валуев П. А. Дневник. 1877-1884. Пг., 1919. С. 153). См. примеч. 8 и 23.
8 Министр народного просвещения А. А. Сабуров был уволен 24 марта 1881 г. Его сменил на этом посту барон А. П. Николаи. Отставка Сабурова была в известной мере инспирирована настоянием К. П. Победоносцева, обратившегося к Александру III еще 6 марта с письмом, в котором убеждал: «Сабуров не может быть долее терпим на месте: это совсем тупой человек, и тупость его наделала много бед, и с каждым днем больше делает. В приискании ему преемника было бы не так много затруднений. Из называемых кандидатов всех серьезнее барон Николаи...» (Письма Победоносцева к Александру III. М., 1925. Т. 1. С. 317). Среди прочих «ошибок» министру народного просвещения вменялось в ответственность попустительство радикальным элементам в университетском вопросе — «предположения об умиротворении университетов à la Loris [в духе Лорис(-Мельникова), фр.], т. е. о курсовых сходках и пр.» (Валуев П. А. Дневник. 1877-1884. С. 141). Увольнение Сабурова стало одним из первых явных при146
знаков перемены внутриполитического курса нового царствования. В том же письме от 6 марта Победоносцевым предлагалась целая программа кадровых перестановок в правительстве, предусматривавшая очищение высшего эшелона власти от не внушавших политического доверия представителей «либерального» направления. «Или теперь спасать Россию и себя, или никогда. / Если будут вам петь прежние песни сирены о том, что надо успокоиться, надо продолжать в либеральном направлении, надобно уступить так называемому общественному мнению, — о, ради бога, не верьте, ваше величество, не слушайте. Это будет гибель, гибель России и ваша: это ясно для меня как день. (...) Победить не трудно: до сих пор все хотели избегать борьбы и обманывали покойного государя, вас, самих себя, всех и всё на свете, потому что то были не люди разума, силы и сердца, а дряблые евнухи и фокусники» (Письма Победоносцева к Александру III. Т. 1. С. 315-316). Мнению Победоносцева вторил в своей оценке «либералов» в правительстве П. А. Валуев: «По настоящему все эти господа — полуучастники цареубийства» (Валуев П. А. Дневник. 1877-1884. С. 148). Несовместимость новых политических веяний с прежней системой «умиротворения» предопределила дальнейшую административную судьбу министра внутренних дел М. Т. Лорис-Меликова, чье удаление от дел усиленно подготавливалось Победоносцевым: «Народ одно только и видит здесь — измену, — другого слова нет. И ни за что не поймут, чтоб можно было теперь оставить прежних людей на местах. / И нельзя их оставить, ваше величество. Простите мне мою правду. Не оставляйте графа Лорис-Меликова. Я не верю ему. Он фокусник и может еще играть в двойную игру. Если вы отдадите себя в руки ему, он приведет Вас и Россию к погибели. Он умел только проводить либеральные проекты и вел игру внутренней интриги. Но в смысле государственном он сам не знает, чего хочет, — что я сам ему высказывал неоднократно. И он — не патриот русский. Берегитесь, ради бога, ваше величество, чтоб он не завладел вашей волей, и не упускайте времени» (Письма Победоносцева к Александру III. Т. 1. С. 316). О выходе «либеральных» министров из состава правительства см. примеч. 23.
9 9 мая 1881г. был принят закон о понижении размеров выкупных платежей и сложении недоимок по этим платежам за предыдущие годы. Подробнее о перипетиях выработки указа и положения об обязательном выкупе и о порядке понижения выкупных платежей см.: Перетц Е. А. Дневник (1881-1883). М.; Л., 1927. С. 66-68, 73-79. Ср. запись от 'll апреля в дневнике военного министра Д. А. Милютина: «Утром был (...) в заседании Государственного совета. Рассматривалось важное дело об уменьшении выкупной платы с крестьян в нечерноземных губерниях и вместе с тем об обязательном в течение нынешнего и будущего годов переходе на выкуп остающихся еще до сих пор временно-обязанных крестьян. От этих двух мер ожидается большое облегчение для крестьян и окончательное приведение в действие Положения 19-го февраля 1861 года. Дело это было решено почти единогласно, за исключением одного только голоса, ген.-ад. [А. Е.] Тимашева, который упорно отстаивал мнимое право помещиков, до сих 147
пор, в течение 20 лет, не покончивших своих отношений к крестьянам, на получение полной выкупной ссуды, без вычета 20 %. (...) Надо отдать справедливость Государственному совету: при голосовании не нашлось ни одного члена, который поддержал бы протест Тимашева в защиту мнимых помещичьих прав» (Милютин Д. А. Дневник. Т. 4. С. 60-61; см. там же: С. 72).
10 Ко времени написания завершающей части этого обращения к Толстому в печати появилось третье письмо Страхова о нигилизме (с авторской датой — «18-го апр.»); 16 мая в «Руси» будет опубликована и четвертая статья, помеченная «30 апр. 1881.». Страхов «заторопился» в связи с необходимостью соблюдать договоренность с редактором «Руси» И. С. Аксаковым о том, чтобы его «письма» появлялись в газете «последовательно, одно за другим» (см. примеч. 19 к п. 284). Однако по выздоровлении Страхова продолжения цикла статей о нигилизме в печати не последовало. См. примеч. 14, а также п. 287-291.
11 После некоторого улучшения в состоянии здоровья Страхов вновь надолго заболел в конце апреля. «... Мне вторую неделю нездоровится, — извещал он А. А. Фета в письме от конца апреля - начала мая, — Лихорадка так бьет, что нет мочи больше писать. Душевно желаю Вам никогда не испытывать ни этой гадости, ни какой другой» (Фет. Переписка II. С. 335-336). Недомогание продолжалось около месяца, и лишь 26 мая Страхов смог сообщить Фету о поправке: «Сегодня я должен считать себя совершенно здоровым, дорогой Афанасий Афанасьевич, потому что не чувствую уже никаких признаков болезни, а только одну слабость» (Там же. С. 336).
12 Семья писателя Д. И. Стахеева.
13 О своих занятиях Страхов сообщал А. А. Фету в письме от 26 мая 1881 г.: «Живу я в совершенном уединении и думал очень этим воспользоваться, чтобы кончить разные работы; но чуть ли не ошибусь: типография тянет, по всегдашнему обыкновению типографий, да и самому пришлось тянуть вследствие болезни. (...) скажу Вам просто: мне скучно бездельничать, и хоть живу здесь не без тоски, но не хочу отрываться от дела, хотя бы и не особенно важного. Все-таки на душе будет спокойнее» (Фет. Переписка II. С. 336-337).
14 Об этом намерении Страхов, вероятно, тогда же известил и И. С. Аксакова, который в ответном письме дал понять, что рассчитывает на продолжение публикаций: «Я надеюсь, что летом Вы приметесь за окончание Ваших писем о нигилизме (...) очень заинтересовавших публику» (Аксаков — Страхов. Переписка. С. 56).
15 С. А. Юрьев.
16 Первый том книги Ф. Ланге «История материализма» на русском языке вышел в 1881 г.
17 «Об основных понятиях физиологии».
18 Завершив в основном работу по переводу первой части «Фауста», А. А. Фет передал два экземпляра рукописи для просмотра и возможных замечаний «петербурж148
цам» — Страхову, Вл. С. Соловьеву и гр. С. А. Толстой (Бахметевой), обещавших ему свое содействие в установлении соответствий и точности передачи текста, как с точки зрения смысла, так и формы. Ср.: «...„Фауст“ Ваш имеет успех. Соловьев взял у меня рукопись и читал ее у гр. Толстой и у Бестужева-Рюмина: все очень восхищались, а графиня просила переписать и будет делать замечания. (...) Соловьев обнаруживает большой жар и усердие, и, я думаю, сделает много хорошего» (письмо Страхова от 30 января 1881 г. — Фет. Переписка IL С. 329). Фет состоял в деловой переписке со своими добровольными помощниками (см.: Письма к графине С. А. Толстой ... ШеншинаФета ... — BE. 1908. Январь. С. 218-229; Кузьмина И. А. С. А. Толстая, С. П. Хитрово и Фет: К истории отношений. — РА. 2005. № 1. С. 133-149; Переписка Фета с Вл. С. Соловьевым (1881-1892) / публ. Г. В. Петровой. — Фет: Материалы и исследования. Вып. 2. С. 359-427). Однако в силу ряда причин редактирование перевода затягивалось, тогда как сам Фет предполагал как можно скорее сделать его достоянием публики. Согласившись с некоторыми замечаниями корреспондентов, Фет выборочно внес в русский текст предложенные исправления и отложил печать первой книги перевода, как ему советовали Страхов и Вл. Соловьев, до осени 1881 г. См. примеч. 19.
19 Это письмо А. А. Фета неизвестно. Существо разногласий между переводчиком и его редактором сводилось к установлению степени готовности русского текста к печати и к определению сроков представления рукописи в типографию. Страхов, считавший, что перевод нуждается в серьезной доработке, советовал Фету воздержаться от торопливости в завершении работы, дать сделанному вылежаться «год или два», а тем временем устранять шероховатости (см. примеч. 12 к п. 276). Возражения Фета сводились к ссылкам на свой преклонный возраст, на желание увидеть перевод изданным еще при жизни, а также на неготовность найти в своей поэтической «кладовой» требуемое от него «полное соответствие» тому, что составляет для переводчика «Фауста» «почти необоримые трудности», тогда как уже сделанное им «граничит с чудом», и он успокаивает себя на мысли, что добился главного — попал в «тон целого», чему, однако, не мешает сознание имеющихся несовершенств (Переписка Фета с Вл. С. Соловьевым. С. 375; Письма к графине С. А. Толстой ... Шеншина-Фета ... С. 221; письмо С. В. Энгельгардт от 5 февраля 1881 г. — Фет А. А. Стихотворения. Проза. Письма. М., 1988. С. 388). Страхова доводы Фета не убеждали, и он, хоть и побуждаемый письмами Фета к продолжению редактуры, стал постепенно утрачивать интерес к совместной работе над переводом и его изданием в свет. Об отказе Страхова заниматься хлопотами с типографиями Фету сообщил Вл. Соловьев еще 10 марта: «Николай же Николаевич не возьмет теперь на себя труд издания» (Переписка Фета с Вл. С. Соловьевым. С. 370. — Курсив Соловьева). А в конце апреля - начале мая уже сам Страхов разочарованно заметил в письме, что его труд всё меньше и меньше находит у Фета понимания и он не видит смысла в предложении новых исправлений: «...если Вам ничего не стоит, как Вы пишете, делать (...) замены, то удивляюсь, отчего Вы так
149
неприветливо встречаете мои замечания. Право, у меня пропадает охота их делать» (Фет. Переписка II. С. 336. — Курсив Страхова). К творческим разногласиям добавились взаимные недоразумения и упреки: Фету — в «торопливости» и «хитрости», Страхову — в «лености и неспособности к труду» (Там же. С. 335). Работа над редактурой перевода в очередной раз затягивалась, желаемых указаний Фет не получал ни от Соловьева, ни от С. А. Толстой. Страхов известил его в письме от 26 мая: «О Соловьеве ни слуху ни духу; увез Вашу рукопись и пропал» (Там же. С. 337). Соловьев смог откликнуться с извинениями и объясниться лишь 18 августа; см. примеч. 3 к п. 295.
20 Страхов в очередной раз исповедуется перед Толстым как духовным авторитетом.
21 См. п. 194.
22 Речь идет о призыве Толстого и Вл. Соловьева к царю помиловать убийц Александра II. См. примеч. 4 к п. 282, примеч. 4 и 5 к п. 283.
23 Высочайший манифест от 29 апреля 1881 года «О призыве всех верных подданных к служению верою и правдою Его Императорскому Величеству и Государству, к искоренению гнусной крамолы, к утверждению веры и нравственности, доброму воспитанию детей, к истреблению неправды и хищения, к водворению порядка и правды в действии учреждений России». Проект царского обращения был подготовлен К. П. Победоносцевым при участии гр. С. Г. Строганова (но без согласования с членами правительства) и получил полную поддержку Александра III. О перипетиях внутриполитической борьбы за определение нового курса развития страны и его изложение в проекте манифеста см.: Письма Победоносцева к Александру III. М., 1925. Т. 1. С. 327-339; Милютин Д. А. Дневник. Т. 4. С. 62-63; Валуев П. А. Дневник. 1877-1884. С. 163-165. Появление манифеста было воспринято в обществе неоднозначно. Государственный секретарь Е. А. Перетц записал в дневнике 29 апреля 1881 г.: «Распубликован манифест, заявляющий о твердом намерении государя охранить самодержавие. (...) манифест дышит отчасти вызовом, угрозою, а в то же время не содержит в себе ничего утешительного ни для образованных классов, ни для простого народа. В обществе он произвел удручающее впечатление» (Перетц Е. А. Дневник (1880-1883). С. 69). Близкий к правительственным кругам Е. М. Феоктистов уточнял в своих воспоминаниях, что манифест вызвал крайнее недовольство прежде всего среди «либеральных» членов кабинета, которых он привел «в неистовое раздражение», — как своим неприемлемым содержанием, так и формой, какой были обставлены его подготовка и обнародование. Впрочем, и в консервативной части общества манифест возбудил определенное недоумение. Тот же Феоктистов замечал: «Кстати о манифесте (...) действительно, к чему было это торжественное заявление перед лицом всего народа? В предшествовавшее время было немало заявлений подобного рода, и общество изверилось в них, приучилось не придавать им серьезного значения; требовалось действие, а не более или менее пышные формы; если государь хотел засвидетельствовать, что со 150
вступлением его на престол порвана всякая связь с прежним направлением, то достаточно было бы просто-напросто уволить министров, которые в общем мнении служили наиболее видными представителями этого направления. Всякий бы понял смысл этой меры» (Воспоминания. С. 198). Напротив, К. П. Победоносцев, считавший своим долгом осведомлять императора о толках по случаю обнародования манифеста, утверждал в письме от 4 мая из Петербурга, что идея укрепления верховной власти на самодержавных началах нашла полное сочувствие среди массы населения: «В среде здешнего чиновничества манифест встречен унынием и каким-то раздражением: не мог и я ожидать такого безумного ослепления. Зато все здравые и простые люди несказанно радуются. В Москве ликование, — вчера там читали его в соборах и было благодарственное молебствие с торжеством. Из городов приходят известия о всеобщей радости от появления манифеста. Слышно, что из Москвы готовится благодарственный адрес вашему величеству» (цит. по: Письма Победоносцева к Александру III. Т. 1. С. 338). Подготовленный в обход «либеральной» части правительства, манифест был воспринят рядом министров как отказ в политическом доверии и повлек за собой прошения об отставке — М. Т. Лорис-Меликова, А. А. Абазы и Д. А. Милютина. Вслед за ними — по настоятельной рекомендации Александра III — сложил свои полномочия председателя Государственного совета и управляющего морским министерством удалившийся от дел вел. кн. Константин Николаевич.
286
Толстой — Ттрохову 5 мая 1881 г.
Ясная Поляна
Собрался совсем писать вам, дорогой Николай Николаевич, но получил второй нумер «Руси», в кот[ором] ваша статья1, и решил прежде прочесть.
Мне не понравилась ни первая2, ни вторая статья3. Как и почему, — поговорим, когда увидимся4. — Пожалуйста, преодолейте же неприязненное чувство, к[оторое] вызовет[ся] в вас ко мне за то, что я сказал, что мне не нравится.
Очень вам благодарен за Филона5. Позвольте им попользоваться, но, пожалуйста, не отдавайте его мне. Я с трудом могу понять, что это дра-
151
Печатается по: ОР ГМТ.Ф. 1,№5455. Л. 1. На л. 1 помета
Страхова: «5 мая 1881. Ясная».
Впервые: Современный мир. 1913.
№10. С. 275. В Юб.: Т. 63. С. 62.
Датируется по помете Страхова.
гоценность. Так что не в коня корм. — Простите и будьте добры ко мне по-прежнему.
Любящий вас
Л. Толстой
1 Еженедельная газета И. С. Аксакова «Русь» (см. примем. 3 к п. 273) выходила обычно по субботам. Речь идет о выпуске от 25 апреля 1881 г. (№ 24), в котором было напечатано второе «Письмо об нигилизме». См. примем. 19 к п. 284.
2 Первое «Письмо об нигилизме» — Русь. 1881. № 23. 18 апр. С. 5-8. Статья Страхова носила по существу проблемно-постановочный характер и была написана в форме обращения к редактору «Руси»; в ней он заявлял свое намерение «понять» и «уразуметь» смысл совершавшихся политических событий; указать — само поразившее современное общество «зло», выяснить, откуда оно появилось, а главное — предложить возможный выход: «как нам быть, чтб нам делать». Фактически статья более пространно развивала мысли, кратко высказанные в письме Толстому от 6 марта 1881 г. и по своему основному содержанию была ближе к соображениям, высказанным Вл. Соловьевым в «прощальных» лекциях 13 марта, чем к кругу представлений Толстого, насколько они отразились в черновом варианте его письма к Александру III. Как и Соловьев, Страхов сосредоточил идейный и эмоциональный пафос своего выступления на идее принципиального неприятия революционного насилия как такового, независимо от прикрывавших его, даже самых «возвышенных», «благородных», целей. Более того, уже первый заявленный в статье тезис — о фактически полном безразличии «лояльного» самодержавию общества к происходившей на его глазах в течение 15 лет настоящей охоте («травле») на русского царя — звучал резким диссонансом с основным тоном обращения Толстого, почти «не заметившего» гибели Александра И, но потерявшего душевный покой при мысли об ожидавшей цареубийц казни. Тем менее приемлемым для Толстого могло оказаться и другое высказанное Страховым убеждение (прозвучавшее и в его письме к Толстому и не вызвавшее с его стороны никакой ответной реакции) — об общей нравственной ответственности за допущенное убийство царя («мы все виноваты»), ставшее возможным только в условиях полного духовного «ослепления» общества, которому именно овладевшие умами моральная «ложь» и «зло» мешают прозреть. Пытаясь разобраться в причинах паралича общественной совести, Страхов устанавливает самый «источник зла» — нигилизм, «грех нечеловеческой гордости, обуявшей в наши дни умы людей», действующих во имя «отвлеченных мыслей, призрачных желаний, фантастических целей», вообразивших себя «полным владыкой своей судьбы» и вознамерившихся «поправить всемирную историю» и «преобразовать душу человеческую» — «безумие соблазнительное 152
и глубокое». Наиболее доступным средством достижения этих «фантастических целей» они избрали политическое убийство во имя отвлеченной идеи — «чудовищное извращение души, при котором злодеяние является добродетелью, кровопролитие — благодеянием, разрушение — лучшим залогом жизни». При написании статьи, как признавался сам Страхов, им двигало желание «сказать свою мысль, как бы резко она ни противоречила общепринятым мнениям», заявить «протест против ходячих заблуждений». И Страхов без обиняков называет непосредственных виновников переживаемой трагедии — людей, оторвавшихся от национальных корней, «охладевающих к родному языку, вере и обычаю», «чуждых народу» — основной резерв, откуда вербует своих адептов нигилизм и «революция». Убеждение, что от нигилизма не избавиться «ни реформами, ни умиротворением» и что «нигилизм ничем не удовлетворится», подсказывает наиболее верный способ действий: не создавать самим условий, образующих питательную среду для возникновения и развития всё новых и новых проявлений нигилизма — не рассыпать собственными руками порох по углам своего дома; порох, который может поджечь любой недоброжелатель России. А лучший способ избавиться от взрывоопасного материала — обрести истинные национальные ценности, «прилепиться душою» к народным началам. «Порох — это наш нигилизм; вместо того, чтобы думать только об его поджигателях, не разумнее ли позаботиться об уничтожении пороха?» Спасение не в абстрактной вере в «прогресс» или в какое-то туманное «счастье впереди»; спасение — «в народе», чуждом разъедающего общество «разврата мысли», и в искони одушевляющих его нравственных добродетелях — «терпении» и «безграничном самопожертвовании». «Примкнуть к народу» — вот единственное действенное средство спасения; в противном случае, «нам грозит позор и гибель». Вряд ли мог Толстой оставить без внимания и очевидную непоследовательность Страхова в утверждении «истинного» пути избавления от обрушившихся на Россию бед через единение с народом, мнения которого о настоящих виновниках покушений («потерпевшие убытки вследствие крестьянской реформы») сам же Страхов считает «предубеждением» и «совершенно неверным». Возражения Толстого см. в п. 288.
3 Второе «Письмо о нигилизме» — Русь. 25 апр. № 24. С. 14-17. О неудовлетворенности Толстого содержанием «Писем о нигилизме» Страхов коротко извещал А. А. Фета в письме от 26 мая: «Лев Николаевич (...) кажется, недоволен моими статьями в „Руси“» (Фет. Переписка II. С. 336-337). Однако были у Страхова и высказанного им в печати мнения сторонники, разделявшие его обеспокоенность происходившим и именно его версию объяснения событий. «Прекрасными» назвал статьи редактор «Руси» И. С. Аксаков, особенно отметивший понравившиеся ему первые «письма». Сочувственный отклик нашли выступления Страхова и среди читателей газеты, «очень заинтересовавшихся», по словам Аксакова, суждениями автора. 153
Очередная публикация появилась ровно через неделю после первой и была целиком посвящена размышлениям о судьбах молодого поколения, и прежде всего той его части, которая порывала с традицией и шла «в революцию». Как продолжение первой статьи, понятно стремление Страхова более подробно поделиться своим пониманием глубинных причин этой большой «беды» и предложить свое видение возможного из нее выхода. В сущности, тема второго очерка оказалась шире основного его сюжета и, помимо обнажения корней нигилизма, как специфического социального явления, и главных этапов его эволюции (от литературно-теоретической до общественно-практической стадии — «хождение в народ» и политический террор), вобрала в себя два принципиально важных аспекта его размышлений — интеллектуально-психологическую характеристику участников движения и его этический кодекс. «Нигилисты» для Страхова — «жалкие и страшные безумцы», «бесноватые», для которых типичны «скудость умственного достояния», «пустота идеала», «невысокие и неясные» жизненные цели, они «считают себя умными только потому, что ни во что не верят», «умны чужой глупостью», — но при этом души их поражены очевидным нравственным недугом: «величайшие душевные гадости могут уживаться с нигилизмом»: непомерная «гордость своим умом и просвещением», раздутое «самолюбие», «тщеславие», «хитрость», «зависть, бездарность, дурное сердце», «пустота души»; «нет людей более самодовольных, более удовлетворенных умственно и нравственно», «для совершения того, чтб они считают своими геройскими подвигами, часто достаточно одной тупости» {Страхов. Борьба с Западом II. С. 67-68, 70). Столь же неприемлем для Страхова и поведенческий императив нигилизма: принимая самих «себя за избранных, передовых, за соль земли», они испытывают «презрение ко всему остальному человечеству», «почти не заботятся о собственном усовершенствовании», их нравственные требования «смутны и скудны», нигилисты «не видят в жизни людей никакого добра», стремятся не к добру и любви, а к «ненависти», «придумали себе обязанности (...) просвещать других и содействовать прогрессу», страдать «гражданскою скорбью», «обличать», «возбуждать негодование», но «потеряв совесть», живут «ложью», «начинают обманывать себя и других», «стали на путь злодейств», «разрешили себе всякое зло, какое физически может причинять человек другим людям», «стали убивать» несогласных с их принципами — «считают лишним заботиться о своем собственном уме и сердце», «ум их направлен к отрицанию, сердце к ненависти, деятельность к разрушению», «святы только чужими грехами», «сделали своим орудием зло», «не способны произвести ничего доброго» (Там же. С. 69). Статья Страхова едва ли не впервые намечала также и такую важную линию осмысления беспокоившего его явления, как вопрос о прямой нравственной ответственности русской интеллигенции за появление, распространение и поддержку нигилизма. «Весь умственный склад нашей интеллигенции, даже той, которая далека от прямого 154
нигилизма, направлен, однако, в его сторону; нигилисты (...) только последовательнее других, только доходят до крайних выводов из тех начал, какие ежедневно проповедуются с кафедр и проводятся в печати». — Сосредоточившись на критике нигилизма «слева» и не пожалев для изображения присущих ему нравственных изъянов темных красок, Страхов мало что сказал по существу о другом, не менее тревожном для русской жизни социальном явлении — нигилизме «справа» и невольно сообщил своему выступлению однобокий характер, что давало повод к обвинению его в предвзятом отношении к образованной части общества и к радикально настроенной молодежи (см. п. 290). Сведя аргументацию к «дурным свойствам души», увлеченной пороком «невежества и предрассудков» на «путь духовных соблазнов», он оставил без внимания едва ли не самое важное в социальном анализе — реальные глубинные причины происходившего, коренившиеся в неустранимых несовершенствах русской действительности. Страхов в очередной раз повторил свою мысль из первого письма о том, что «нравственной заразой» поражены все части русского общества, «кроме простого народа», и завершил статью неутешительным прогнозом последствий необдуманного «вмешательства в государственные и социальные вопросы» людей, далеких от традиционных ценностей и идеалов. «И этот ход дел будет продолжаться до тех пор, пока не вступят в силу другие начала, могущие изменить настроение умов и дать всей нравственной жизни иное направление. Эти начала, конечно, существуют; но они заглохли или затерялись среди общего могущественного потока европейского просвещения» (Там же. С. 73). Не питая больших надежд на то, что «ослепленные» «ложью» люди смогут найти для себя положительные жизненные и духовные ориентиры — «образумятся» и «отрезвятся», а также не рассчитывая прямо на привлекательность исконных народных идеалов, Страхов (в согласии с мыслью, высказанной еще в письме к Толстому от 6 марта) ожидает впереди для русского общества «великие бедствия» и «страшные потрясения»: «люди долго будут слепы и не будут внимать самым ясным урокам, самым горьким опытам» — «пока не изживут своих нынешних понятий, пока на деле, на жизни не испытают того, к чему ведут их теперешние желания» (Там же. С . 72-73. — Курсив Страхова).
4 Обмен суждениями между Толстым и Страховым по поводу «Писем о нигилизме» см. в п. 286-291.
5 См. примеч. 14 к п. 277. В отличие от Страхова Толстой не был столь страстным книголюбом и не мог в полной мере оценить библиофильской ценности подаренного ему раритета, в чем откровенно и признался в письме. Позднее Толстой более прохладно относился и к содержательной значимости учения Филона. Отвечая на запрос одного из своих корреспондентов относительно знакомства с трудами александрийского философа, Толстой замечал: «Сочинения Филона и Хбуод я знаю. Оно очень искусственно» (Юб. Т. 63. С. 155).
155
25 моя 1881 г.
Санкт-Петербург
287 Страхов — Толстому
Сегодня нет корректур, и ни на какой прощальный вечер не нужно идти, и больных посещать не требуется, значит, нужно и должно писать к Вам, бесценный Лев Николаевич. Я всё поджидал письма от Вас1, думал, что Вы смилуетесь, и после третьего или четвертого «Письма об нигилизме»2 скажете мне хоть в нескольких словах Ваше мнение. «Неприязненного чувства», которое Вы просите прогнать3, я, конечно, не испытал ни малейшего. Но стал я вспоминать наши разговоры прошлым летом, когда мы не соглашались4, и много думал, но не придумал, в чем и как выразится Ваше неодобрение. Написал я, конечно, очень дурно, потому что не выразил и сотой доли того, что хотел, а то, что выразил, сказал в сто раз холоднее, чем думал. Не хватило и, может быть, никогда уже не хватит прежней силы. Но тема меня увлекла5. Этот мир я знаю давно, с 1845 года, когда стал ходить в Университет6. Петербургский люд с его складом ума и сердца и семинарский дух7, подаривший нам Чернышевского, Антоновича, Добролюбова, Благосветлова, Елисеева и пр.8 — главных проповедников нигилизма — всё это я близко знаю, видел их развитие, следил за литературным движением, сам пускался на эту арену и пр. Тридцать шесть лет я ищу в этих людях, в этом обществе, в этом движении мыслей и литературы — ищу настоящей мысли, настоящего чувства, настоящего дела — и не нахожу, и мое отвращение всё усиливается, и меня берет скорбь и ужас, когда вижу, что в эти тридцать шесть лет только это растет9, только это действует, только это может надеяться на будущность, а всё другое глохнет и чахнет. Вы помните, какой отрадой были для меня Вы, в какой восторг меня привела «Война и мир». Но общий поток прошел мимо и возрастал по-прежнему. Если бы Вы знали, что я чувствую 156
тут, слушая нынешние речи и рассуждения, следя за чувствами и поведением милых моих петербургцев! Одна уже привычка к болтовне, принимаемой за дело, одни уже непрерывные умничанья, не содержащие капли ума, могут привести в неистовство всякого сколько-нибудь серьозного человека.
А если у человека шевельнулось и серьезное чувство, то он готов будет возненавидеть этих болтунов, говорящих с простодушнейшим видом самые отвратительные вещи. Конечно, хорошие, настоящие нигилисты в тысячу раз выше этого общества, но, к несчастью, они его плод, они приняли всурьез его бездушие и пустомельство и исполняют его программу. Я не могу равнодушно думать о той истории, которая совершается перед нами, об этом извращении сил и бесплодной гибели. Это похоже на то, как если бы человек сам себя резал ножом в куски или бился головой об стену, воображая, что творит какой-то подвиг, который принесет и всем, и ему и славу, и благополучие.
И вот я вздумал выразить чувства, зревшие во мне десятки лет, но выразить их как возможно проще, становясь только на самые незыблемые точки зрения, опираясь на такие нравственные и умственные основания, которые для всех несомненны, всеми признаются. Неужели мне это не удалось? Смотрите, бесценный Лев Николаевич, не придайте моим словам какого-нибудь смысла, которого в них нет! Я был очень осторожен и, кажется, не обмолвился.
Недели три я болел и только сегодня чувствую себя как будто совсем здоровым. Сегодня же и первый теплый день нашего мая.
Нравственно за это время я тоже очень недоволен собою; были дни, когда я даже забывал обращаться лицом к тому идеалу, с которого не нужно спускать глаз; постараюсь это прекратить.
Простите меня и дайте мне хоть маленькую поддержку. Вы знаете, как дорого мне каждое Ваше слово; самое сердитое замечание меня не рассердит на Вас, а было бы настоящим хлебом для голодного.
157
Печатается по: PO ИРЛИ. Ф. 302. Оп. 2. Ед. хр. 300. Л. 14-15. Впервые: Современный мир. 1913. № 10. С. 275-277. Ответ на п. 286.
Надеюсь, что у Вас всё очень хорошо в Ясной Поляне; мое усердное почтение графине; прошу поклониться князю10, Василию Ивановичу.
Ваш всею душою
Н. Страхов
1881.
мая 25.
Спб.
1 На отсутствие известий от Толстого Страхов сетовал и в письме к А. А. Фету от 26 мая: «Лев Николаевич давно мне ничего не пишет и, кажется, недоволен моими статьями в „Руси“» (Фет. Переписка II. С. 337). Последнее письмо из Ясной Поляны Страхов получил 5 мая.
2 Страхов ждал развернутого отзыва Толстого на свои «Письма о нигилизме». Негативные высказывания Толстого о статьях Страхова в письме от 5 мая, вероятно, также сыграли определенную роль в прекращении им дальнейшей разработки темы на страницах «Руси». По замечанию биографа, после появления в печати «Писем о нигилизме» Толстой «очень охладел» к Страхову (Гусев IV. С. 299).
3 См. п. 286.
4 Отголоски идейных споров и возможных несогласий между Толстым и Страховым летом 1880 г. слышны в мемуарных записках современников и свидетелей этих бесед, а также в переписке того времени Страхова с А. А. Фетом. Конкретные сюжеты разномыслия не поддаются точному восстановлению, однако повод к возражениям могли подавать страстная увлеченность Толстого собственными толкованиями текстов Священного Писания (например, Евангелия от Иоанна) и выводимыми из них смысловыми построениями, далеко не совпадавшими с признаваемыми официальной церковью и авторитетами богословской науки. По замечанию наблюдавшего за творческими поисками Толстого домашнего учителя И. М. Ивакина, «для Л. Н. толкования церкви, само собою разумеется, не были убедительны. Он давал свои...» — Толстой «в этом отношении был крут: Евангелие должно было лишь подтвердить уже составленные взгляды, иначе Л. Н. не церемонился и с текстом» (АН. Т. 69, кн. 2. С. 40, 42). Вряд ли всё из переосмысления Толстого могло найти сочувственную поддержку у Страхова, придерживавшегося принципа точности перевода и толкования, тонко чувствовавшего «натяжки» предлагавшихся Толстым оттенков понимания «темных» мест Писания. Тем более, что, по свидетельству того же учителя детей Толстых, и пересмотренные переводы евангельских текстов «в большинстве случаев» выходили, к немалому огорчению писателя, «согласно с общепринятым церковным переводом» (Там же. С. 40). Впрочем, возражения Страхова носили, надо полагать, 158
более чем деликатный характер, что нередко вызывало раздражение в требовавшем большей определенности суждений Толстом. Учитель Ивакин записал тогда же характерный отзыв Толстого о его собеседнике: «Л. Н. хоть и уважал и любил Страхова, но, имея в виду, что он не умеет энергично в спорах отстаивать свои мнения, мне же заметил: / — Страхов, как трухлявое дерево: ткнешь палкой, думаешь будет упорка, ан нет, насквозь проскочила!» (Там же. С. 39). Другой очевидец бесед Толстого со Страховым, учитель В. И. Алексеев, в своих воспоминаниях отмечал: «Лев Николаевич, как писатель, серьезно работавший над своими произведениями, весьма нуждался в критике его произведений, чтобы проверить, в чем его ошибки, если есть таковые, с целью исправить их. Критического слова он ждал и от Страхова, как человека весьма образованого и весьма добросовестного критика. Но критика Страхова мало удовлетворяла его, так как Страхов большею частью во всем соглашался со Львом Николаевичем» (Летописи Государственного литературного музея. Кн. 12. С. 279). Сам Страхов в письме к Фету называл эти споры-разговоры с Толстым «странными» (письмо от 30 июля 1880 г. — Фет. Переписка II. С. 314). О том, как протекали такие полемические беседы и о реакции Толстого на противное его толкованию мнение можно судить по свидетельству того же Ивакина: «Как рад он был, если что скажешь насчет его работы, особенно если не согласишься с ним (...) Он весь превращался в слух, так и впивался в тебя... Иное дело, если кто начинал оспаривать его взгляды в корне, в основе, тут не обходилось без крика, и громче всех кричал Л. Н.» (ЛН. Т. 69, кн. 2. С. 40). Эту эмоциональную особенность Толстого-полемиста, знакомую, вероятно, по собственному опыту общения с ним, отмечал и Страхов: «Толстой слишком горяч, и никогда почти не понимает, что люди могут иначе думать, чем он; он всем проповедует, забывая, что нужно сперва приготовить слушателей к пониманию» (письмо кА. А. Фету от 14 сентября 1880 г. — Фет. Переписка II. С. 317). Другим поводом к несогласию могли стать резкие нападки Толстого на образ жизни Фета, о чем Страхов также упоминает в своем письме: «Я очень уважаю Ваши труды и заботы и защищал их от нападений Толстого...» (Фет. Переписка II. С. 314).
5 Эту устойчивую самооценку своего труда Страхов повторил в кратком дополнении к основному содержанию сборника «Борьба с Западом в нашей литературе: Исторические и критические очерки. Книжка вторая» (СПб., 1883). Ср.: «Письма об нигилизме не кончены; далеко не удалось мне высказать свой взгляд со всех сторон. И изложение не вполне такое, как мне мечталось» (С. 271. — Курсив Страхова).
6 Страхов перебрался из Костромы в Петербург 26 сентября 1844 г. и в январе следующего года начал вольноопределяющимся слушать лекции на камеральном факультете; в августе, выдержав экзамен, был зачислен действительным студентом. В 1848 г. вынужден был по личным обстоятельствам оставить занятия в университете и после небольшого перерыва в обучении был принят казеннокоштным студентом в Главный педагогический институт, который окончил в 1851 г. Именно в университете Страхов 159
впервые столкнулся и испытал на себе воздействие представителей петербургского нигилизма 40-50-х гг. Сознавая происходившие в нем нравственные перемены, Страхов признавался тогда же в письме от 23 июня 1847 г. своему духовному руководителю по Костромской семинарии: «Я уже не тот живой, свежий мальчик, каким вы меня знали. Я сделался тяжелым, молчаливым, неповоротливым. Мне кажется, что мои способности тупеют и ум слабеет более и более. Вместо той ревности и быстроты в занятиях, какая была у меня в Костроме, наступило какое-то утомление и бессилие; я так долго учусь и так мало выучиваю. (...) Мне кажется, что я потерял в вас незаменимого наставника; мне кажется, что еще не способен заниматься сам, без чужой помощи. Грустные и тяжелые мысли находят на меня. Я как будто сбился с дороги, как будто потерял цель, к которой должен был идти. Какой-то хаос в моих познаниях» (цит. по: Николай Николаевич Страхов: Жизненный путь: начало: альбом-биография... Белгород, 2018. С. 113-114).
7 Страхов как бывший семинарист и петербургский студент 1840-1850-х гг. имел ясное представление о целях литературной деятельности семинаристов-критиков, ставших главными проповедниками нигилизма среди молодежи. Он писал позже В. В. Розанову: «Добролюбов действительно звал к общественной деятельности, но именно — к революции, к разрушению, к осуществлению социализма, к тому же. к чему звали полоумный Чернышевский и совершенно зеленый Писарев. Все они исповедывали нигилизм, и начало этой проповеди надо непременно нужно указать в Белинском, в последнем его периоде. Это было общее движение, поток отрицания, захвативший почти всю литературу» (письмо от 26 августа 1890 г. — Розанов В. В. Собр. соч. [Т. 13]: Литературные изгнанники. ... Переписка В. В. Розанова с Н. Н. Страховым. С. 63-65).
8 Н. Г. Чернышевский, сын протоиерея, воспитанник Саратовской духовной семинарии (1846; три года обучения), окончил Петербургский университет (1850); М. А. Антонович, сын дьячка, окончил Ахтырское духовное училище, Харьковскую духовную семинарию (1855), Петербургскую духовную академию (1859); Н. А. Добролюбов, сын священника, окончил Нижегородское духовное училище (1847), Нижегородскую духовную семинарию (1853), Главный Педагогический институт (1857); Благосветлов Г. Е., сын полкового священника, воспитанник Камышинского и Саратовского духовных училищ, Саратовской духовной семинарии (1846), окончил Петербургский университет (1851); Елисеев Г. 3., сын сельского священника. Окончил духовное училище, Тобольскую духовную семинарию (1840), Московскую духовную академию (1844). Все — оставили духовное звание.
9 Страхов имеет в виду рост оппозиционных и нигилистических умонастроений в обществе.
10 Вероятно, Л. Д. Урусову, проводившему, по замечанию С. А. Толстой, «у нас почти половину своей жизни» (Толстая. Моя жизнь I. С. 334-335).
160
288 Толстой — Страхову
Дорогой Николай Николаевич!
Вчера только получил и прочел ваши 3-ю и 4-ю статьи1. Эти две мне очень понравились2; но, простите меня, именно тем, что они отрицают первые. В первой статье вы поставили вопрос так: среди благоустроенного, хорошего общества явились какие-то злодеи, 20 лет гонялись за добрым Царем и убили его. Что это за злодеи? И вы выставляете все недостатки этих злодеев во 2-й статье. — Но, по мне, вопрос поставлен неправильно. Нет злодеев, а была и есть борьба двух начал, и, разбирая борьбу с нравственной точки зрения, можно только обсуживать, какая из двух сторон более отклонялась от добра и истины; а забывать про борьбу нельзя. Забывать может только тот, кто сам в борьбе. Но вы обсуживаете. Другой упрек в том, что для того, чтобы обсуживать, необходима твердая и ясная основа, с высоты которой обсуживается предмет. — Вы же выставляете основой «народ»3. — Должен сказать, что в последнее время слово это стало мне так же отвратительно, как слова: церковь, культура, прогресс и т. п. — Что такое народ, народность, народное мировоззрение? Это ничто иное, как мое мнение с прибавлением моего предположения о том, что это мое мнение разделяется большинством русских людей. — Аксаков4, например, наивно уверен, что самодержавие и православие — это идеалы народа. Он и не замечает того, что самодержавие известного характера есть ничто иное, как известная форма, совершенно внешняя, в которой действительно в недолгий промежуток времени жил русский народ. Но каким образом форма, да еще скверная, да еще явно обличившая свою несостоятельность, может быть идеалом, — это надо у него спросить. Каким образом внешняя религиозная форма греко-российско-иосифлянских5 догматов вероисповедания и уже очень несостоятельная, и очень скверная может 28 мая 1881 г. Ясная Поляна
161
быть идеалом — народа? Это надо у него спросить. Ведь это так глупо, что совестно возражать. Я буду утверждать, что я знаю Страхова и его идеалы, потому что знаю, что он ходит в библиотеку каждый [день] и носит черную шляпу и серое пальто. И что потому идеалы Страхова суть: хождение в библиотеку и серое пальто, и страховщина. Случайные две, самые внешние формы — самодержавие и православие, с прибавлением народности, к[оторая] уже ничего не значит, выставляются идеалами. Идеалы Страхова — хождение в библиотеку, серое пальто и страховщина. Сказать, я знаю народные идеалы, очень смело, но никому не запрещено. Это можно сказать, но надо сказать ясно и определенно, в чем я полагаю, что они состоят, и высказать действительно нравственные идеалы, а не блины на масленице или православие, и не мурмолку или самодержавие.
Ошибка вашей статьи почти та же. Вы осуждаете во имя идеалов народа и не высказываете их вовсе в первых двух статьях и высказываете неопределенно для других (для меня ясно) в последних статьях. В последних статьях вы судите с высоты христианской, и тут народ ни при чем. И эта одна точка зрения, с к[оторой] можно судить. Народ ни при чем. Сошелся этот какой-то народ с той точкой зрения, к[оторую] я считаю истинной, — тем лучше; не сошелся, — тем хуже для народа. — И как только вы стали на эту точку зрения, то выходит совсем обратное тому, что было в прежних статьях. То были злодеи; а то явились те же злодеи единственными людьми, верующими — ошибочно, — но все-таки единственными верующими и жертвующими жизнью плотской для небесного, т. е. бесконечного6. —
Дорогой Николай Николаич. Богатому красть, старому лгать. Недолго мне осталось жить, чтобы не говорить прямо всю правду людям, которых я люблю и уважаю, как вас. — Разберите, что я говорю, и если не правда, — укажите, а если правда, то и мне при случае скажите такую же правду. Наше молчание тяготило меня7. Я дорожу и не перестану дорожить дружеским общением с вами.
162
Что вы делаете летом? Ясная Поляна, как и всегда, раскрывает вам свои любящие объятия. — Надеюсь, что вы, если выедете, то не минуете нас и проживете чем дольше, тем радостнее для нас всех. —
Я живу по-старому, расту и ближусь к смерти всё с меньшим и меньшим сомнением8. Всё еще работаю9 и работы не вижу конца.
Обнимаю вас от всей души.
Ваш Л. Толстой
1 Страхов Н. Письма об нигилизме. — Русь. 1881.2 мая. № 25; 16 мая. № 27.
2 В третьем письме Страхов предпринимает анализ «некоторых черт нравственного состояния» современного ему общества и рассуждает о «пошатнувшихся» в своих глубинных основах важнейших понятиях человеческого бытия и знания. «Наше время (...) ничего не признает за незыблемую вековечную истину. Такой скептицизм даже прямо возводится в принцип... »и — разрушает прежде всего мораль (Страхов. Борьба с Западом II. С. 74). В умах и душах людей произошло губительное смешение критериев добра и зла. «Отвержение твердых точек опоры», всеобщее исповедание (в среде образованных классов) скептицизма грозят неисчислимыми бедствиями, порождают социальную безответственность и произвол в политической борьбе («цель оправдывает средства»); из отношений между людьми исчезает традиционная мораль, как регулятор общественных связей. Все силы просвещенных людей нового времени направлены на разрушение того «старого», которым еще единственно живет и питается традиционная мораль. Если человечество не излечится от скептицизма, впереди его ждет «целый ряд бедствий», только большее и большее зло (Там же. С. 75, 81). Утрачивая опору в настоящих религиозных верованиях, человек выдумывает себе «суррогаты религии», одним из них стала «политическая деятельность», несовместимая с заботами истинного христианина о чистоте душевной жизни; такие суррогаты разрушают основы нравственности, углубляют душевный разлад современного человека, который всё чаще и чаще, отметая истинные духовные ценности, «бросается на фальшь, на призраки». «Потребность действовать и жертвовать в нем иногда даже сильнее, чем потребность верить, и потому он жертвует даже тому, во что почти не верит. Деятельность кипит, без ясных целей, без определенных идеалов; он обманывает сам себя, чтобы только дать простор своим страстям, но из мнимо-добрых стремлений выходит зло». Лишь пройдя через большие страдания, самим ходом жизни «люди принуждены будут вернуться к реальным началам человеческой жизни», забытым и заглохшим «среди нашего прогресса и просвещения» (Там же. С. 81). — В четвертом письме о нигилизме Страхов сосредоточился на критике новых «ходячих правил нравственности» (Там же. С. 87), осудил понимание прогресса Печатается по: ОР ГМТ.Ф. 1.№5456. Л. 1-1 об. Нал. 1 помета Страхова: «28 мая 1881. Ясная».
Впервые: Современный мир. 1913. № 10. С. 277-279. В /Об.: Т. 63.
С. 63-65.
Датируется по помете Страхова. Ответ на п. 287.
163
как стремления к всеобщему материальному благополучию при забвении истинных духовных ценностей, доставшихся в наследство от прошлого и фактически отвергнутых «новой» общественной моралью. «Современная нравственность представляет сплошь некоторую сделку с человеческими страстями; она всем им дает выходы и поприще, только обставляет их различными условиями, и наивно воображая, что страсти, развивающиеся и созревающие при этом покровительстве, не сбросят когда-нибудь этих условий и не пойдут по своим собственным законам». Между тем, «наша жизнь держится пока старою нравственностью, бессознательно живущею в душах» и только поэтому «в жизни частных людей еще много хорошего, много добрых нравов». Но в так называемой практической жизни, там, где «новая» мораль уже успела пустить корни (публичная жизнь, литература), там «наша нравственность обнаруживается в таких чертах, которые с совершенно строгой точки зрения нужно признать отвратительными» (Там же).
3 На эту тему Страхов рассуждал в своем первом письме. Ср.: «В одно я верю всем сердцем и одна твердая надежда меня утешает — та, что какой бы позор и какая бы гибель нам ни грозили, через них пройдет невредимо наш Русский народ, т. е. простой народ. Он чужд наших понятий, того разврата мыслей, который разъедает нас, и он смотрит на жизнь совершенно иначе: он всегда, всякую минуту готов к горю и беде, он не забывает своего смертного часа, для него жить — значит исполнять некоторый долг, нести возложенное бремя. Он спасается, как и прежде спасался, своим безграничным терпением, своим безграничным самопожертвованием. Он будет расти и множиться и шириться, как и до сих пор, — и для нас (если мы уразумеем, что нам грозит позор и гибель) остается одно средство спасения — примкнуть к народу, т. е. прилепиться душою к его образу чувств и мыслей, и отказаться от безумия, среди которого мы живем» (Там же. С. 53). Позднее он вернулся к этой мысли в своей третьей статье. Ср.: «Роль страдальца очень соблазнительна для нашей гордости; поэтому, за неимением своих печалей, достойных этой роли, мы берем на себя (разумеется, мысленно) чужие страдания и этим удовлетворяемся. Высокоумный революционер не замечает, как он в сущности обижает бедных мужиков: им ведь он дает в удел только материальные нужды и страдания, он только в этом отношении плачет об них; себе же выбирает долю возвышенного страдальца, трагически волнующегося об общем благе. Он не знает, несчастный, что эта мудрость самоотвержения, до которой он додумался и которую извратил, знакома этим мужикам от колыбели, что они ее сознательно исполняют на деле всю свою жизнь, что они твердо и ясно знают то высшее благо, без которого никакая жизнь не имеет цены и о котором бессознательно тоскуют просвещенные люди. Вокруг нас бесконечное море этих мужиков, твердых, спокойных, ясных, знающих, как им жить и как умирать. Не мы, а они счастливы, хотя бы они ходили в лохмотьях и нуждались в хлебе; не мы, а они истинно мудры, и мы только по крайней своей глу164
пости вообразили, что на нас лежит долг и внушить им правильные понятия о жизни, и обратить эту жизнь из несчастной в счастливую» (Там же. С. 78).
4 Замечание Толстого относится к двум выступлениям И. С. Аксакова. Его статья, начинавшаяся словами «Две реальные исторические силы в России: Царь и народ» (Русь. 1881. 14 марта. № 18. С. 2 -3. — Без названия и подписи) и речь на панихиде по Александру II (Там же. 28 марта. № 20. С. 2-4) отличались крайним монархизмом, апологией самодержавия.
5 Иосифляне (или «стяжатели») — последователи учения Иосифа Волоцкого (1439-1515), игумена и главы духовного движения, признававшего (в отличие от «нестяжателей» — сторонников аскетических воззрений Нила Сорского) необходимым земельные и имущественные владения церкви и монастырей для осуществления пастырской и просветительско-миссионерской деятельности.
6 Вероятно, имеется в виду следующее рассуждение Страхова из третьего письма о нигилизме: «Трудно высказать всю меру того внутреннего противоречия, той вопиющей душевной путаницы, в которой живет современный человек, и которая могла бы его замучить, если бы она только сознавалась, если бы эти поклонники разума и критики не были в сущности легкомысленны и слепы, как малые дети. / Вот мы отвергли религию, мы с торжеством и гневом преследуем каждое ее обнаружение. Но ведь душу, раз приобщившуюся этому началу, уже поворотить назад нельзя; мы откинули религию, но религиозности мы откинуть не могли. И вот люди, видящие все идеалы в земных благах, стремятся к отречению от этих благ, к самоотвержению, к подвижничеству, к самопожертвованию. (...) Достатка, безопасности, спокойной работы, этих, по их собственному мнению, лучших целей жизни, никто не хочет; напротив, беспрестанно являются люди, которые хотят быть страдальцами, мучениками и, за неимением действительных страданий, придумывают себе мнимые (...) Отчего же это? Да, очевидно, оттого, что здоровье, свобода, материальное обеспечение, работа — всё это вздор перед тайными требованиями их души; душе человеческой нужна иная пища, нужен идеал, которому можно было бы жертвовать всем, за который бы можно было умереть. Если нет у нас такой высшей цели, которой бы можно служить беззаветно, перед которою ничтожна земная жизнь, то нам, христианам по воспитанию, противеют заботы о личных благах и удобствах, нам становится стыдно нашего благополучия и нам легче чувствуется, когда мы терпим беду и обиду, чем когда нас ничто не тревожит. Поэтому революционер напрасно думает, что его мучит земля мужиков или их тяжкие подати; всё это и подобное — не столько настоящая причина, сколько предлог для мучения, для того душевного изворота, которым заглушается пустота души. (...) Нельзя вообще не видеть, что политическое честолюбие, служение общему благу, заняло в наше время то место, которое осталось пустым в человеческих душах, когда из них исчезли религиозные стремления. (...) Как прежде для человека считалось высшею задачей — спасе165
ние его души, так теперь считается — обязанность чем-нибудь содействовать общему благу. (...) Очевидно, тут нами движет не действительный интерес (...) и наше частное благо, а действует в нас интерес идеальный, т. е. мы желаем служить чему-нибудь, чтобы не служить одному лишь себе (...) Что же касается до прямых революционеров и анархистов, то весь склад их жизни ясно указывает, чем питают они свою совесть. Их нравственный разрыв с обществом, с греховным миром, жизнь отщепенцев, тайные сходки, связи, основанные на отвлеченных чувствах и началах, опасность и перспектива самопожертвования, — всё это черты, в которых может искать себе удовлетворения извращенное религиозное чувство. Как видно, легче человеку поклониться злу, чем остаться вовсе без предмета поклонения» (цит. по: Страхов. Борьба с Западом II. С. 77-80).
7 См. примеч. 1 к п. 287.
8 В близкой по душевному настроению тональности Толстой писал А. А. Фету 12 мая: «Я очень заработался и очень постарел нынешний год...» (Юб. Т. 63. С. 63). О заметно изменившемся физическом и нравственном состоянии писателя в первую половину 1881 г. вспоминала позднее С. А. Толстая: «Лев Николаевич в то время окружил себя всевозможными книгами религиозного содержания и продолжал работать над исследованием Евангелия. Он стал безучастен к жизни и весь ушел в мысль. Я пишу о нем в дневнике или письме — не помню. / „Лев Николаевич стал тих и сосредоточен и молчалив. Он совсем не так счастлив, как бы я того желала. Почти никогда не прорывается живое, веселое расположение духа (...)“/ Здоровье его также стало слабеть, он похудел, постарел и поседел за эту зиму. (...) О своем миросозерцании Лев Николаевич говорил, что у него изменился весь взгляд на людей. Прежде был небольшой, известный кружок людей своих, близких, теперь же миллионы людей стали братьями. (...) Пока его со всех сторон разбирали и обсуждали, Лев Николаевич шел своей дорогой, ища, мучаясь и прислушиваясь ко всяким религиозным верованиям. (...) Новое настроение Льва Николаевича проявлялось еще в том, что он вдруг начал раздавать много денег, без разбора всем, кто просил. Пробовала я его убеждать, что нужно же как-нибудь регулировать эту раздачу, знать, кому и зачем даешь, а он упорно отговаривался изречением «Евангелия: „Просящему дай“. (...) Всё дальше и дальше удалялся Лев Николаевич от жизни семейной, общественной и вообще мирской, и всё делался мрачнее и мрачнее» (Толстая. Моя жизнь I. С. 330-338. — Курсив С. А. Толстой). Примечательно, что и для жизнеощущения Страхова весной - летом 1881 г. характерны чувства конечности бытия и необходимости подведения жизненных «итогов». Извещая Фета о планах на ближайшее будущее, он не без горечи замечал: «Этим, я думаю, заключатся мои странствия, и затем останется мне спасать душу и готовиться к смерти» (Фет. Переписка II. С. 338).
9 Толстой продолжал работу над «Соединением и переводом 4-х Евангелий».
166
289 Толстой — Страхову
Дорогой Николай Николаевич. Мне всегда делается ужасно грустно, когда я вдруг с человеком, как вы, с которым мы всегда понимаем друг друга, вдруг упираюсь в тупик. И так мне сделалось грустно от вашего письма1.
Я сказал вам, что письма ваши2 мне не понравились, потому что точка зрения ваша неправильна; что вы, не видя того, что последнее, поразившее вас зло произошло от борьбы, обсуживаете это зло. Вы отвечаете мне: «я не хочу слышать ни о какой борьбе, ни о каких убеждениях, если они приводят к этому и т. д.». Но если вы обсуждаете дело, то вы обязаны слышать. Я вижу, что чумака 100-летнего убили жесточайшим образом колонисты3 и юношу прекрасного Осинского4 повесили в Киеве. Я не имею никакого права осуждать этих колонистов и тех, кто повесил Осинского, если я не хочу слышать ни о какой борьбе. — Только если я хочу слышать, только тогда я узнаю, что чумак убил 60 человек, а Осинский был революционер и писал прокламации. Вас особенно сильно поразило убийство царя, вам особенно противны те, которых вы называете нигилистами. — И то, и другое чувства очень естественные, но для того, чтобы обсуживать предмет, надо стать выше этих чувств; а вы этого не сделали. — И потому мне не понравились ваши письма. Если же я и потому, что вы упоминаете о народе, и потому, что вы особенно строго осуждаете это убийство, указывая, почему это убийство значительнее, чем все те убийства, среди которых мы живем, предположил, что вы считаете существующий русский государственный строй очень хорошим5, то я это сделал для того, чтобы найти какое-нибудь объяснение той ошибки, которую вы делаете, не желая слышать ни про какую борьбу и вместе с тем обсуживая один из результатов борьбы. Ваша точка зрения мне очень, очень знакома (она очень распространенная те-
Нежду 1 и 10 июня 1881 г. Ясная Поляна
167
Печатается по машинописной копии: ОР ГМТ.
Ф. 1. № 10669.
Л. 1,2. Местонахождение автографа неизвестно.
Впервые: Новый мир. 1926. №2. С. 130-131. В Юб.: Т. 63. С. 67-69. Письмо не было отправлено. Датируется по содержанию.
перь и очень мне не сочувственна). Нигилисты — это название каких-то ужасных существ, имеющих только подобие человеческое. И вы делаете исследование над этими существами. И по вашим исследованиям оказывается, что даже когда они жертвуют своею жизнью для духовной цели, они делают не добро, но действуют по каким-то психологическим законам бессознательно и дурно.
Я не могу разделять этого взгляда и считаю его дурным6. Человек всегда хорош и если он делает дурно, то надо искать источник зла в соблазнах, вовлекавших его в зло, а не в дурных свойствах гордости, невежества7. И для того, чтобы указать соблазны, вовлекшие революционеров в убийство, нечего далеко ходить. Переполненная Сибирь, тюрьмы, войны, виселицы, нищета народа, кощунство, жадность и жестокость властей — не отговорки, а настоящий источник соблазна.
Вот что я думаю. Очень жалею, что я так не согласен с вами, но не забывайте, пожалуйста, что не я обсуживаю то зло, которое творится; вы обсуживаете, и я сказал только свое мнение и не мнение, а объяснение, почему мне не нравятся ваши письма. — Я только одного желаю, чтобы никогда не судить и не слышать про это.
Как жаль, что вы не приедете летом8. И для меня жаль и за вас очень жаль. Сидеть в Петербурге летом должно быть ужасно. Да особенно еще хворая. Может быть, вы еще устроитесь. Как бы хорошо было. Пожалуйста, не сердитесь на меня и не думайте, что я читаю вас невнимательно. Обнимаю вас.
Ваш [А. Толстой]
1 Толстой отвечает на неизвестное послание Страхова. Об этом письме и его содержании сохранилось краткое упоминание в дневнике Толстого: «Письмо от Страхова. Не хочу о борьбе и убеждениях. А сам судит...» (запись от 1 июня 1881 г. — Юб. Т. 49. С. 42).
2 Имеются в виду статьи Страхова «Письма об нигилизме». См. п. 285, примеч. 2, 3 и п. 288, примеч. 2-4.
3 Вероятно, Толстой ссылается на сообщение уголовной хроники того времени или на устный рассказ одного из собеседников.
168
4 Валериан Андреевич Осинский, активный террорист, организатор ряда покушений на жизнь должностных лиц имперской администрации на юге России. По приговору Окружного суда повешен в Киеве 14 мая 1879 г.
5 Возможно, Толстой имел в виду, среди прочего, также следующие мысли из третьей статьи Страхова о нигилизме: «Сказать ли прямо мое убеждение? Мне кажется, наш век глубоко ошибается, исповедуя такой скептицизм, такое отсутствие вековечных начал и в жизни природы и в жизни человеческой. Они есть, эти начала, они действуют и действовали искони, и непреклонное их могущество не может быть сломлено никакою силою, никаким прогрессом. Наш век впал в большое легкомыслие, не признавая основ мироздания, вообразив, что можно их заменить чем-то другим, или переделать, усовершенствовать. И он, несомненно, будет наказан за свое легкомыслие. (...) Наш век, без сомнения, нужно считать сравнительно спокойным и счастливым временем, в котором над множеством людей действительность тяготеет очень слабо. Пользуясь существующим порядком, может быть, очень несовершенным и дурным, но имеющим то достоинство, что это не мнимый, а реальный порядок, — пользуясь им, мы можем свободно предаваться мечтам, воображать себя очень умными и доблестными, достойными величайших благ, критиковать этот самый порядок, относиться к нему с строжайшею требовательностию и даже отвращением, и строить в своей фантазии новые человеческие отношения, в которых не будет зол, нас огорчающих. Такие занятия очень приятны и завлекательны: но они не могут продолжаться без конца По всегдашнему требованию души человеческой, люди будут искать деятельности, будут так или иначе пытаться воплощать свои понятия. И как только они вступят в жизнь, так и начнутся разочарования, тем более горькие, чем слаще были мечтания. Всё то, чтб отрицалось и подвергалось сомнению, все действительные силы и свойства мира человеческого, заявят свою непобедимую реальность» (цит. по: Страхов Борьба с Западом П. С. 75-76).
6 Позднее (возможно, отчасти и под влиянием критики Толстого) Страхов несколько изменил свою точку зрения на тех, кого он считал носителями русского нигилизма. Продолжая считать социальные и философские взгляды отечественной интеллигенции «западнической» ориентации духовным источником современного ему «отрицательного» направления («нигилизм его [западничества. — Сост.] логический плод»), Страхов, тем не менее, признавал, что «в основе» этого общественного явления «лежат нравственные требования, стремление к общему благу» и именно «в этом смысле (...) нигилисты дали литературе серьезное настроение, подняли все вопросы» (письма В. В. Розанову от 26 августа и 13 сентября 1890 г. — Розанов В. В. Собр. соч. [Т. 13]: Литературные изгнанники. ... Переписка В. В. Розанова с Н. Н. Страховым. С. 65-66,68).
7 Через тринадцать лет после события Толстой будет несколько иначе оценивать действия террористов. Ср. с записью на эту тему в дневнике от 31 декабря 1894 г.: 169
«Зашел в Посредник, там говорили о том, что можно ли Желябова, Кибальчича признать высоко нравственными, самоотверженными людьми. Я сказал, что нет. Почему? Потому что поступок, обдуманно совершенный ими, был безнравственен. Почему? П[отому] ч[то] для того, чтобы поступок б[ыл] нравственен, нужно, чтобы он удовлетворил двум условиям: чтобы он был направлен к благу людей и к личному совершенствованию. Поступок, чтобы быть нравственным, должен быть определен двумя положительными координатами (...) стремлением к общ[ему] благу и личным совершенствованием» (Юб. Т. 52. С. 158).
8 Вероятно, Толстой ссылается на намерение Страхова провести большую часть лета в Петербурге. Между тем, сообщая А. А. Фету в письме от 26 мая о своих планах на каникулярное время, Страхов замечал: «Во всяком случае, дело решено — я выеду только в начале августа; пробуду у Вас только день или два и уеду на юг, к [Н. Я.] Данилевскому и дальше. Может быть, глупо распоряжаюсь, но так я забрал себе в голову, и разве в следующем году поживу в Вашем флигеле. Лев Николаевич давно мне ничего не пишет (...) И у него пробуду дни два или три» (Фет. Переписка II. С. 336-337).
290
12-13 июня СгрОХОВ — ТОЛСТОМУ
1881 г.
Санкт-Петербург 12 июня.
Верно, Сергей Николаевич1 уже уехал; он был два раза в Библиотеке, и очень мне жаль, что не удалось еще повидать его. Он мне напомнил Ясную Поляну — и так живо, что захотелось всё бросить и ехать к Вам. Но вот, бесценный Лев Николаевич, мои объяснения, которые нужно Вам изложить, чтобы не показать равнодушия, которого во мне нет. Стахеевы уехали в конце апреля2, и вокруг меня воцарилась тишина самая полная, восхитительная. Я чувствовал себя здоровым, спокойным, и я подумал: передо мною три месяца жизни совершенно пустыннической: я должен воспользоваться ими. Могу кончить свои работы о нигилизме, о физиологии, привести в порядок свои книги, разобраться со всеми своими делами, в которых хожу, как в тенетах3. Кстати, буду держать много коррек170
туры, что так удобно летом, когда много света (я выправляю «Историю материализма» Ланге 4).
Перспектива работы соблазнила меня; меня томит безделье, и вот я, не без борьбы и волнения, решил выехать только в августе5. Сказать ли, что из этого вышло? Пустынножительство удалось, припадки тоски прошли, но работа идет плохо, и это меня очень сокрушает: если я не могу ничего сделать при таких наилучших условиях, то нужно, значит, отказаться от мысли о работе6. Как бы то ни было, хотя бы с грехом пополам, но в июне я кончу свои «Письма»1, а в июле — «Физиологию»8, и мне все-таки будет легче жить на свете.
Относительно моего нигилизма Вы правы: всё мое писанье имеет односторонний вид и может быть принято за брань на нигилистов. Так это многие поняли; воздерживаясь от всякого суждения о существующем порядке и не воздерживаясь от самых резких суждений о нигилизме, я непременно впадаю в адвокатские приемы, в лукавство газетчиков. Да, молчать действительно лучше, чем говорить, и я часто колеблюсь — хорошо ли, или не хорошо то, что я делаю, почему и прошу Вашего внимания и участия. Следующее «Письмо» я напишу именно на эту тему о недовольстве существующим порядком9.
Фет мне пишет, что Вы ему читали третье письмо10 — оно и здесь, в Петербурге, принесло мне похвалы; но странно — Аксакову понравились преимущественно два первые письма11.
Но будет об себе; обращаюсь к Вам. Сергей Николаевич скажет Вам мои и стасовские уверения, что нет ничего легче и вернее, как поместить рукопись в Публичную библиотеку12. Ваше решение очень меня занимает; почему Вы так делаете? А я уж собирался писать Вам, чтобы к следующему лету Вы непременно кончали, что я поеду за границу печатать.
Сергей Николаевич привезет Вам новостей; некоторые он мне рассказывал и очень удивил; здесь слухи растут и сочиняются с необыкновенной быстротою и добраться до правды всегда очень трудно. Нарочно 171
Печатается по: PO ИРЛИ. Ф. 302. Оп. 2. Ед. хр. 300. Л. 90-91. Впервые: Современный мир. 1913. № 10. С. 279-280. Ответ на п. 288.
пошел я к Победоносцеву и услышал много речей, но мало что узнал. Об Вашем письме к Государю я прямо спросил, что он знает; он сказал, что ничего, и действительно видно, что он не знает13.
Простите, бесценный Лев Николаевич; начал письмо в говорливом настроении, а теперь мне опять нездоровится и голова тяжела. Мой усердный поклон всем, кто меня помнит; Татьяна Андреевна, верно, теперь отличается на крокете14; гостей, я думаю, у Вас все больше и больше. От всей души желаю веселиться.
Ваш неизменный и искренний
Н. Страхов
1881.
13 июня.
Спб.
1 С. Н. Толстой, старший брат Льва Николаевича. Его выразительную характеристику, относящуюся к этому времени, привел в своих воспоминаниях домашний учитель детей Толстых И. М. Ивакин: «Реже бывал в Ясной Поляне брат Л. Н. — Сергей Николаевич Толстой. Ни лицом, ни сложением, ни фигурой братья не были схожи, ни — прибавлю — темпераментом и убеждениями. Мало того, редко можно было встретить столь мало схожих. Когда они сходились вместе, не проходило минуты и смотришь — уже сцепились. (...) далеко не всё написанное братом, одобрял Сергей Николаевич. (...) О работах брата по Евангелию — и говорить нечего: Сергей Николаевич отвергал их совсем, и споры главным образом касались их. (...) Братья не схожи были и по женитьбе: Л. Н. и мечтал, может быть, жениться на крестьянке, но женился на дочери придворного доктора Берса, а Серей Николаевич, этот аристократ, барин (мне иногда думается, не есть ли тургеневский Павел Петрович Кирсанов список с Сергея Николаевича), мечтал жениться на сестре Софьи Андреевны, а женился на простой цыганке из табора... Они сходились и не могли не спорить, но это значит только одно — они и любили и уважали друг друга. Лев Николаевич называл воззрения брата дикими, но уважал их за то, что они у него свои, не начитанные, а Сергей Николаевич говорил мне в Москве раз весною, что с отъездом Л. Н. он не знает куда деваться — нет живого человека!» {АН. Т. 69, кн. 2. С. 45).
2 Семья писателя Д. И. Стахеева, соседи Страхова по квартире, лето проводила в Крыму. См. п. 285.
3 О планах Страхова на лето см. также примеч. 8 к п. 289.
172
4 По заказу книгоиздателя Л. Ф. Пантелеева Страхов правил перевод и вычитывал корректуры труда Ф. А. Ланге «История материализма и критика его значения в настоящее время»; первый том издания вышел в 1881 г. (см. примеч. 13 к п. 276 и примеч. 16 кп. 285).
5 Подразумевается поездка Страхова на юг. Ср. в письме к А. А. Фету от 9 июля 1881 г.: «...готовлюсь к своей поездке. 31 июля я, верно, тронусь и 1-го августа буду в Ясной; а там 4-го или 5-го у Вас; потом покачу в Крым, в Константинополь и Афины» (Фет. Переписка II. С. 338). Свой предполагаемый маршрут Страхов уточнил в письме к И. С. Аксакову от того же числа: «С начала августа я думаю сделать двухмесячную прогулку — поеду в Крым, в Константинополь и в Афины. Буду проездом и в Москве... » (Аксаков — Страхов. Переписка. С. 61).
6 О неудачных попытках войти в рабочий ритм творческих занятий летом 1881 г. Страхов сообщал и Фету в письме от 9 июля: «...я нынче очень расположен сам бранить себя — так глупо вышло мое лето. Я перемудрил, хотел насильно работать и только измучился в потугах и проскучал...» (Фет. Переписка II. С. 338).
7 Имеется в виду продолжение публикаций цикла статей «Письма об нигилизме», печатавшихся в газете «Русь» в апреле—мае 1881 г. (Русь. 1881.18 апр. № 23. С. 5-8; 25 апр. № 24. С. 14-17; 2 мая. № 25. С. 8-10; 16 мая. № 27. С. 20-21), пятое — опубликовано после кончины Страхова (РВ. 1898. Январь. С. 143-150; 150-154). См. примеч. 9.
8 Речь идет о статье «Об основных понятиях физиологии», которую Страхов закончил лишь в 1883 г.
9 Страхову не удалось выполнить свое намерение о чем он еще 9 июля известил редактора «Руси»: «Я обманул Вас, но еще жесточе сам обманулся: несмотря на всякие усилия я не мог кончить своих писем об нигилизме и пришел только в мучительную тоску. Теперь я вовсе их отложил и напишу уже осенью, если Вы найдете это возможным для „Руси“» (Аксаков — Страхов. Переписка. С. 61). Продолжение публикаций в газете Аксакова не последовало: пятое письмо о нигилизме сохранилось в архиве автора, но было напечатано лишь после его кончины (РВ. 1898. Январь. С. 150-154). Намереваясь исполнить свое предположение, Страхов действительно избрал темой статьи рассмотрение «безобразий русской жизни», представлявших собой, по его мнению, питательную среду русского нигилизма; эти социальные «несовершенства» — суть «очень распространенная и общедоступная пища отрицания» (Там же. С. 150). Вместе с тем, Страхов отказывается от мысли свести проблему «зла» нигилизма к одному этому источнику и, в отличие от Толстого, усматривавшему корень всех бед именно в общем неустройстве русской жизни (см. п. 289), не считал его даже главным основанием и побудительной причиной действий политических радикалов. Для Страхова «главная сторона нигилизма есть, безо всякого сомнения, его идеальная сторона», «он порождается и питается существенным образом отвлеченными мыслями и на173
строениями, а не какими-нибудь конкретными интересами и потребностями» (Там же. С. 151). В «несовершенствах» окружающей действительности нигилизм ищет лишь дополнительных «поводов и опор» своему разлагающему влиянию, но в сущности — он глубоко чужд самой этой жизни, «он не имеет в ней корней»; «в этом его сила и в этом же его слабость». Исходя из такого представления о происхождении общественного радикализма, Страхов вновь переводит острие своей критики на ту социальную среду, которую признает «виновной» в порождении и поддержании духа отрицания и разрушения социальных устоев, это — «недовольная» часть общества; люди, не имеющие «приверженности к основам» существующего порядка, лишенные стремления «осуществить эти основы в гораздо лучших формах»; из этих слоев образуется известный контингент «оторванных» от органической окружающей жизни, а из последних, в свою очередь, выходят «отрицатели» и «разрушители». Таким образом, нигилизм, по Страхову, есть следствие «нашей общей путаницы» и бессодержательности русской общественной жизни. Ни в чем так не сказывается эта бессодержательность «критикующих», как в неумении даже «хорошенько поставить вопрос», не говоря уже о том, чтобы «сделать хоть какой-нибудь самый начальный шаг к его решению» (С. 152). Всё дело ограничивается «болтовней», «злословием» в адрес правительства — что не удивительно, так как нельзя «строить» на одном отрицании. Не имея «ясной картины нужд, требующих удовлетворения», опираясь только на «отвлеченные рассуждения» и «совершенно фантастические требования», эта часть общества, будучи неспособна к созидательной работе и к конструктивному диалогу с правительством, толкает себя на путь разочарования и самоизоляции — к уходу от реальной жизни (С. 154); другой путь — его избирают «более твердые и настроенные практически» — путь «ненависти» и стремления разрушить окружающую жизнь (как совершенно им «чужую») любыми доступными средствами. Выступая в роли «строгого и высокомерного судьи», такие люди выискивают только несовершенства и видят вокруг «одно зло». На этом рассуждения автора обрываются. Страхов не был вполне удовлетворен своим сочинением и считал цикл статей незаконченным. Перепечатывая в 1883 г. «Письма об нигилизме» в виде раздела сборника «Борьба с Западом в нашей литературе. Книжка вторая», Страхов пожелал уточнить свои рассуждения и кратко изложил существо понимания этого духовного феномена: «Общая мысль моя та, что нигилизм есть крайнее, самое последовательное выражение современной европейской образованности, а эта образованность поражена внутренним противоречием, вносящим ложь во все эти явления. Противоречие состоит в том, что все протестуют против современного состояния общества, против дурных сторон современной жизни, но сами нисколько не думают отказываться от тех дурных начал, против которых протестуют. Гонители богатства нимало не перестают завидовать богатым; проповедники гуманности остаются нетерпимыми и жестокими; учители справедливости — сами вечно несправедливы; противники властей — жаждут, однако власти 174
для себя; и протестующие против притеснений и насилий — сами величайшие притеснители и насильники» (цит. по: Страхов. Н. Н. Борьба с Западом в нашей литературе: Исторические и критические очерки: Книжка вторая. СПб.. 1883. С. 171-172).
10 А. А. Фет побывал в Ясной Поляне в конце мая и провел у Толстых два дня — 28 и 29 мая. Письмо Фета с сообщением о чтении статьи Страхова не сохранилось.
11 Вероятно, Толстой читал Фету наиболее понравившееся ему «письмо о нигилизме». Отзыв И. С. Аксакова см. в примеч. 3 к п. 286.
12 О намерении Толстого поместить рукопись своего труда, посвященного переводу и толкованию четырех Евангелий, на временное хранение в Публичную библиотеку см. п. 291.
13 О посещении Страховым К. П. Победоносцева и об ответе последнего на письмо Толстого от 15 марта см. примеч. 4 к п. 282. Ср. также примеч. 3 и 4 к п. 283.
14 Об увлечении в Ясной Поляне игрой в крокет вспоминала С. А. Толстая: «Игра в крокет тоже страшно увлекала всех. Особенно азартно играли, кричали, ссорились — моя сестра Т А. Кузминская и князь Леонид Дмитриевич Урусов. / Азарт был так велик, что поздно вечером с фонарями все играли в крокет. Часто с ними играл и Лев Николаевич» (Толстая. Моя жизнь I. С. 385). См. также примеч. 6 к п. 237.
291
Толстой — Страхову 12 июля 1881 г.
. „ Ясная Поляна
Дорогой Николаи Николаич.
Я оттого давно не писал вам, что считаю как бы написанным письмо, кот[орое] сгоряча написал в ответ на ваше предпоследнее и кот[орое] не послал1. К чему спорить. В последнем письме вы и сами пишете, что считаете себя неправым; а это лучше всего и начало всякой премудрости. — Последнего письма вашего2, если оно вышло в «Руси», я еще не читал. —
Я недавно сделал путешествие в Оптину пустынь и в Калугу, и очень мне было хорошо3. Теперь сижу дома и понемногу занимаюсь всё той же своей работой4. — Очень вам благодарен за ваше предложение заняться печатанием, но едва ли придется воспользоваться. Дело мое вот в каком положении. — Из большого сочинения, кот[орое] я после вас и кончил5,
175
Печатается по: ОР ГМТ. Ф. 1.№ 5457.
Л. 1,2. Нал. 1 помета Страхова: «12 июля 1881». Впервые: Современный мир. 1913.
№10. С. 281.
В Юб.: Т. 63.
С. 71-72.
Датируется по помете Страхова. Ответ на п. 290.
и еще раз всё прошел, я сделал еще из Евангелия извлечение6 без примечаний, но с коротким предисловием; и это-то извлечение, кот[орое] составит небольшую книгу, хочу напечатать за границей7; а большое покамест положить (по гордости своей в библиотеку)8. Извлечение это мне кажется готовым, и я думаю напечатать его осенью. — Большое же может быть буду, может не буду еще перерабатывать. Если буду, то тогда с большой благодарностью приму ваше предложение9. Всё это, разумеется, если мы будем живы, о чем я относительно себя очень сомневаюсь10. Надеюсь увидать вас в августе. Обнимаю вас
Ваш А. Толстой
1 См. п. 289.
2 Пятая статья о нигилизме была опубликовано после кончины автора: Из бумаг H. Н. Страхова. II: Письмо V о нигилизме. — PB. 1898. Январь. С. 150-154). См. примем. 9 к п. 290.
3 10 июня 1881 г. Толстой в сопровождении двух спутников — слуги С. П. Арбузова и учителя яснополянской школы Д. Ф. Виноградова — отправился пешком в монастырь Оптина пустынь (Козельского уезда Калужской губ.). На обратном пути Толстой побывал в Калуге, где беседовал о вере с сектантами, посетил заседание в Калужском окружном суде и расспрашивал прокурора о преследованиях сектантов. Добравшись по железной дороге из Калуги до Тулы, Толстой возвратился в Ясную Поляну 19 июня. (Гусев. Летопись I. С. 537-538). «Паломничество мое удалось прекрасно. Я наберу из своей жизни годов 5, которые отдам за эти 10 дней», — писал Толстой Тургеневу около 26-27 июня 1881 г. (Юб. Т. 63. С. 70). Сохранился дневник, который он вел во время своего путешествия. См.: Там же. Т. 49. С. 138-147). О паломничестве Толстого Страхов узнал до получения данного письма. Еще 9 июля он извещал А. А. Фета: «От Толстого давно я ничего не получаю; слышал от приезжих, что он ходил пешком в лаптях в Оптину Пустынь. Как я люблю его и как мне жутко видеть то нравственное напряжение, в котором он живет! Но без этого он не был бы ни так высок, ни так дорог всем, кто его знает» (Фет. Переписка IL С. 338).
4 Речь идет о религиозных сочинениях: «Исповедь», «Исследование догматического богословия», «Соединение и перевод 4-х Евангелий».
5 То есть вскоре после отъезда Страхова из Ясной Поляны в конце февраля 1881 г.
6 «Краткое изложение Евангелия» является извлечением из полного текста «Соединения и перевода 4-х Евангелий» (Юб. Т. 24. С. 801).
7 Рукопись «Соединения и перевода 4-х Евангелий».
176
8 В России «Краткое изложение Евангелия» распространялось в рукописных и литографированных копиях под заглавием «Новое Евангелие Графа Л. Н. Толстого». Предисловие к «Краткому изложению Евангелия», переведенное на французский язык Л. Д. Урусовым, было напечатано под заглавием «Pages inédites de Léon Tolstoi» в парижском журнале «La nouvelle Revue» (т. XXIII, июль 1883). Это была первая публикация религиозно-философского сочинения Толстого за границей.
9 См. п. 290.
10 О пессимистическом душевном настроении писателя летом 1881 г. писала в своих воспоминаниях С. А. Толстая: « ...как ни старался Лев Николаевич найти спокойствие души и удовлетворение запросам ее, он был часто мрачен, о чем и писал знакомым и незнакомым лицам. (...) Сколько напрасных тяжелых ожиданий смерти и мрачных мыслей о ней пережил Лев Николаевич во всей своей долголетней жизни. Трудно перенестись в этот вечный страх смерти, и объяснить его можно только тем, что редко в ком приходится встретить такую силу и полноту всякой жизни — физической и моральной, — какая переполняла всё существо Льва Николаевича и которая инстинктивно не могла не ощущать предстоящее ей неизбежное разрушение» (Толстая. Моя жизнь I. С. 338).
292
С Л. Толстая — Страхову
Многоуважаемый Николай Николаевич, для того, чтобы вы не недоумевали, почему так долго не получаете ответа на ваше письмо к Льву Николаевичу1, спешу уведомить вас, что он уехал 13-го числа с Сережей2 в наше Самарское имение3, куда переехал и Василий Иванович с семейством4.
Лев Николаевич намеревался прожить там до начала августа5, после чего я отправлюсь опять в Москву окончательно устроить нанятый там мною дом6. В начале сентября мы переедем, вероятно, в Москву, что меня пугает всё больше и больше по мере приближения этого срока7.
Мы очень рады будем вас видеть в Ясной Поляне 2-го августа. Около этого времени, вероятно, и Лёв Николаевич вернется8. Без вас лето не в лето. И какие ваши письма грустные, Николай Николаевич! Мне всё
20 июля 1881 Г. Ясная Поляна
177
Печатается по: ОР ГМТ. Ф. 47. № 39397. Л. 1-2.
На л. 1 помета Страхова: «20 июл[я] 1881».
Впервые: ПТСII с неверной датой «20 июня». Год устанавливается по содержанию и помете
кажется, что вы захандридись. Приезжайте, мы все вместе постараемся вас хоть немножко развеселить.
Адрес Льва Николаевича просто в Самару, до востребования. Я письмо ваше ему послала9.
До свидания, Николай Николаевич, жму вам руку. Сестра и ее муж вам кланяются10. Если вы боитесь приехать в Ясную Поляну без Льва Николаевича, т. е. если это вам очень скучно, то я вам еще раз напишу наверное, когда он вернется.
Преданная вам
С. Толстая
Страхова. 20 июля.
1 Имеется в виду п. 290.
2 Старший сын Толстых.
3 О пребывании Толстого в самарском имении см. его письма к С. А. Толстой (Юб. Т. 83. С. 292-307), записи в дневнике (Там же. Т. 49. С. 52-56), а также в воспоминаниях В. И. Алексеева (Летописи Гос. лит. музея. Кн. 12. С. 290-292) и С. А. Толстой (Толстая. Моя жизнь I. С. 339-340).
4 В. И. Алексеев был вынужден покинуть Ясную Поляну вследствие недоброжелательного отношения к нему С. А. Толстой из-за его сочувствия новому мировоззрению Толстого. «...Мне было очень жаль расставаться с Львом Николаевичем, который вложил в мою душу так много драгоценного, имевшего громадное влияние на всю мою жизнь...», — писал он в своих воспоминаниях (Летописи Гос. лит. музея. Кн. 12. С. 287). Сам Толстой заметил позднее об Алексееве: «Он меня стал обращать в свой дух революционный, а (...) я его обратил в христианство» (запись в дневнике Д. П. Маковицкого от 6 октября 1907 г. — ЛН. Т. 90, кн. 2. С. 528).
5 Толстой возвратится в Ясную Поляну только 17 августа (Гусев. Летопись I. С. 540).
6 С. А. Толстая наняла дом князя Волконского в Денежном переулке (современный адрес: Малый Левшинский пер., д. 3), выходящем на Пречистенку, в котором Толстые прожили зиму 1881-1882 гг. О своих хлопотах, связанных с приисканием в Москве пристанища для семьи, она вспоминала: «Вскоре после того, как Лев Николаевич вернулся из Оптиной Пустыни, мне пришлось ехать в Москву искать или купить дом для жизни в Москве, или нанять квартиру. / Трудно мне было это чрезвычайно. (...) вышедши замуж очень молодой, прожила 19 лет почти безвыездно в Ясной Поляне. Где, как искать дома или квартиры — я понятия не имела и очень робела перед этой зада178
чей. Хотя мне было уже 37 лет, но я была очень неопытна в жизни, а посоветоваться не с кем, и помочь мне некому. Хлопоты мои еще осложнялись 6-месячной беременностью. Но делать нечего, собралась я и поехала в Москву. Жара была невыносимая (...) Наконец, я остановилась на том, что дом я, во всяком случае, купить не решусь, а взяла довольно дешевую квартиру в Денежном переулке в доме (особняке) князя Волхонского. Мне понравился большой кабинет, выходивший на двор окнами и совершенно в стороне от других комнат. Но этот-то великолепный кабинет впоследствии приводил в отчаяние Льва Николаевича тем, что был слишком просторен и слишком роскошен. / Наняв квартиру, мне предстоял еще большой труд: всю ее меблировать, купить лампы, всю домашнюю утварь и всё разместить» (Толстая. Моя жизнь I. С. 339). Вторично С. А. Толстая уехала в Москву по делам обустройства нового жилья 2 августа. Труды по приданию квартире жилого вида были завершены только во время третьей поездки — во второй половине августа. Ср.: «... пришлось в конце августа снова ехать в Москву и окончательно всё приготовить для переезда семьи. 26-го августа я писала Льву Николаевичу, что всё готово и всё хорошо. Так мне тогда казалось, а вышло, что многое было и не хорошо, а главное, непривычно, ново, не обжито. / Лев Николаевич, разумеется, ни в чем на этот раз мне не помогал и обещания своего о помощи исполнить, по-видимому, не мог» (Там же. С. 348).
7 Переезд в Москву состоялся 15 сентября. Описание связанных с перемещением на новое место жительства ощущений Толстых см. в воспоминаниях Софьи Андреевны (Там же. С. 349). Жизнь в непривычных для семьи городских условиях ее особенно тревожила, потому что С. Л. Толстой должен был приступить в качестве студента к слушанию лекций в Московском университете. Еще в марте 1881 г. она писала сестре: «Мне грустно, что Сережа в университет поступает: мне кажется, что теперь это — вертеп разбойников. Хотя меня многие утешают, что в университете только болтовни много, но на действия дурные студенты не идут. Одно утешение, что у Сережи характер серьезный и музыка его всего поглощает. Авось, не собьют с толку...» (ОРГМТ).
8 Страхов отправится в свое летнее путешествие из Петербурга 29 июля и на следующий день прибудет в имение Толстых. Из Самары в Ясную Поляну Толстой вернется лишь 17 августа (Гусев. Летопись I. С. 540). С. А. Толстая вспоминала: «Когда Страхов приехал в Ясную Поляну, Льва Николаевича уже не было, и, побыв у нас недолго, Страхов поехал дальше, к Фету...» (Толстая. Моя жизнь I. С. 340).
9 Толстой получил это письмо Страхова; об этом он сообщал С. А. Толстой 31 июля 1881г. из своего самарского имения («хутор на Моче»): «Письмо Страхова мне было очень приятно. Наши письма разъехались. Я ему писал перед отъездом» (Юб. Т. 83. С. 300). Вероятно, Толстой имеет в виду свое письмо от 12 июля (п. 291).
10 Т. А. и А. М. Кузминские.
179
22 июля 1881 г.
Санкт-Петербург
Печатается по: РО ИРЛИ. Ф. 302. Оп. 2. Ед. хр. 300. Л. 89. Впервые: Современный мир. 1913. № 10. С. 281-282. Ответ на п. 291.
293 Страхов — Толстому
Как Вы печально пишете, бесценный Лев Николаевич! Ваша мысль о смерти больно поразила меня. Теперь мне ужасно хочется увидеть Вас, и нетерпение увеличивается с каждым днем. Я не дождусь 1-го числа и выеду, вероятно, 29-го, так что 30-го буду у Вас1. Позвольте телеграфировать и просить лошадей на Козловку.
О себе скажу, что когда я бросил и работу, и всякие мысли об работе, мне стало легче. Помните — я, бывало, просил у Вас работы, корректур, или чего-нибудь подобного? Я, кажется, только на это теперь и способен. А предстоит еще большая работа — биография Достоевского1 2. Жду возможности поговорить с Вами об этом. Я попробую рассказать Вам, что знаю, и попрошу Вашего совета — как это делать? К чему направить весь труд?
Простите. Графине, Татьяне Андреевне, Василию Ивановичу3, князю — всем очень кланяюсь и радуюсь, что увижу.
Ваш всею душою
Н. Страхов
1881.
22 июля.
Спб.
1 Страхов, как и намечал, приехал в Ясную Поляну 30 июля.
2 В марте 1881 г. на квартире А. Г. Достоевской, при участии О. Ф. Миллера, Н. Н. Страхова, А. Н. Майкова, Д. В. Григоровича, Д. В. Аверкиева, К. П. Победоносцева, К. К. Случевского, состоялось несколько встреч, посвященных обсуждению плана, состава и подготовки к печати полного собрания сочинений Ф. М. Достоевского. По просьбе А. Г. Достоевской Страхов в 1881-1883 гг. писал воспоминания о Достоевском, которые должны были войти в первый том издания и которые сам он иногда называл «биографией». Помимо Страхова, в составлении материалов принимал участие
О. Ф. Миллер. Деловые и творческие отношения между «исполнителями» и «заказ-
180
чицей» складывались непросто. Одной из своих корреспонденток А. Г. Достоевская так описывала впоследствии свои переживания, связанные с подготовкой издания: «Если б вы знали (...) как трудно досталась мне „Биография“! Сколько беспокойств и борьбы выдержала я ради того, чтобы отстоять и не печатать некоторые письма, которые могли обидеть или огорчить людей, мною уважаемых. Многое удалось отстоять, но многое пришлось пропустить, и я теперь сильно раскаиваюсь в том. Например, напечатание писем о беспорядках в редакции „Заря“ рассорило меня с С. С. Кашпиревой, которую я искренно уважаю и люблю. В случае моего несогласия биографы хотели разбежаться и оставить меня одну доканчивать издание, с тем, чтоб и ответственность за нелитературное расположение статей оставить на мне. Я люблю работать, но люблю иметь дело с делом, а не с людьми, и не умею мирить разные мелкие самолюбия; так что я с горечью вспоминаю те бедственные для меня три месяца, когда я должна была бороться за каждое письмо, главу и т. п.» (письмо Е. Ф. Юнге от 15 февраля 1884 г. — АН. Т. 86. С. 559. — КурсивА. Г. Достоевской). Стоявшая перед Страховым непростая задача представить достоверный биографический материал и сложить на его основе объективный образ Достоевского писателя и человека, наводила его на мысль отказаться от принятого предложения и от выполнения самой работы, которую он позднее называл «почти навязанной» и его «очень тяготившей» (письмо Н. Я. Данилевскому от 29 ноября 1883 г. — РВ. 1901. Март. С. 125). Встревоженная дошедшим до нее слухом о намерении Страхова воздержаться от участия в составлении «Биографии», А. Г. Достоевская писала ему: «Я в большом беспокойстве, многоуважаемый Николай Николаевич! Софья Сергеевна [Кашпирёва] (не выдайте меня ей) передала мне, будто вы намерены отказаться писать биографию Федора Михайловича. Неужели это возможно? Но вы дали мне твердое слово, и я на него надеюсь. Пожалуйста, пожалуйста, не отказывайтесь!» (письмо без даты, вероятно, от лета 1881 г. — АН. Т. 86. С. 559). См. также примеч. 4 к п. 292.
3 Страхов уже не мог увидеться в Ясной Поляне с В. И. Алексеевым, покинувшем имение Толстых еще 2 июня (Юб. Т 49. С. 42). См. примеч. 3 к п. 292.
294
Строхов — С Л. Толстой 27 июля 1881 г.
Санкт-Петербург
Душевно благодарю Вас, многоуважаемая графиня, за Ваше доброе письмо. Я совсем запутался в своих пустых затеях1; теперь рвусь из Петербурга и надеюсь исполнить расписание, т. е. выехать 29-го и 30-го
181
Печатается по: ОР ГМТ. Ф. 65. Оп. 3. №648/1. Л. 1-1 об. Впервые: Современный мир. 1913.
№10. С. 282, с неверной датой: 27 июня. Ответ на п. 292.
б августа 1881 г. Воробьевка
быть у Вас2. Помешать этому может только здоровье, которое что-то опять повернулось. Если разболеюсь и должен буду остаться в Петербурге — вот будет достойное наказание мне за мое дурное поведение. Во всяком случае позвольте телеграфировать в тот день, когда придется явиться вечером на Козловку. Лев Николаевич, конечно, не загостится в Самаре и будет торопиться в Ясную3, одно мне будет действительно грустно, что не будет и надежды увидеть милого Василия Ивановича. Еду к Вам и с радостью, и с большим любопытством, как, впрочем, всегда: нигде нет столько жизни, как в Ясной Поляне. Дай Бог только, чтобы эта жизнь вся и до конца была светлая.
Ваш душевно преданный
Н. Страхов 1881.
27 июля.
Спб.
1 См. п. 290 и примеч. 6 к нему.
2 Страхов 2 августа 1881 г. уехал к А. А. Фету в его имение Воробьевку Щигровского уезда Курской губернии.
3 См. примеч. 8 к п. 292.
295
Строхов — С. Л. Толстой
Нет, я больше не могу, многоуважаемая графиня; тоска моя развивается с каждым днем, и я чувствую, что если вернусь в Ясную1, то скорее стану наводить тоску на других, чем сам от нее избавлюсь. Теперь я понимаю, что распорядился очень глупо: мне следовало бы прямо поехать в Константинополь2 и уже на обратном пути навещать добрых знакомых. Равнодушно смотрю я на нынешную Воробьевку; как будто я вижу 182
ее на картине, а не живу в ней. Боюсь, что Афанасий Афанасьевич, встретивший меня с такою радостью, разочаровался во мне, с утра до вечера испытывая мое скучное настроение. Сегодня, 6-го августа, я надеялся, что приедет Соловьев; но он обманул, по своему обыкновению3. Смысл этой длинной речи тот, что я завтра думаю ехать в Крым4, то есть хочу не сдержать данного Вам обещания. Для меня самого это так тяжело и неприятно, совесть у меня такая слабая, я так привык исполнять, что скажу, — что очень мне жутко, и я усердно прошу Вас простить меня и верить, что и без того я достаточно наказан. Теперь я не могу понять, как мог я дать такое обещание, тогда как твердо решился выпросить себе у Вас позволение колебаться в Воробьевке. Всего разумнее мне теперь кажется такой план: поехать как можно скорее в Крым и в Константинополь5 и выгадать как можно больше времени для Москвы6. Поездка, вероятно, освежит меня, разгонит мои мысли, и я не буду уже тоскливо дожидаться исполнения моей давнишней мечты7 — по крайней мере, впереди у меня ничего не будет, и волей-неволей я должен буду успокоиться8. Еще раз прошу Вас, простите меня; если не станете гневаться, буду Вам душевно благодарен.
Льву Николаевичу напишу из Крыма длинное письмо9. Он всегда у меня в мыслях, и чем дальше, тем больше хочется сказать ему; напишу хоть главные вопросы, а за ответом приеду в Москву10.
В Воробьевке всё по-старому, и Афанасий Афанасьевич — тот же и то же и так же говорит1Александра Ивановича12 нет, хозяйничает сам хозяин, но, несмотря на то, времени у него, очевидно, слишком много. Он попробовал читать, но дочитался до того, что глаза ему перестали служить. Но я уверен и видел отчасти на днях, что он здесь очень любим, уважаем и делает много добра соседним крестьянам. Видел его молотилку в работе — очень споро и красиво. Флигель мой отделан недурно, хотя видимо с соблюдением всяческой экономии. Фонтан в саду в нынешнем моем настроении показался мне прежалкою струйкой воды, но в сущности — красивая вещь. Моря цветов тоже не показались мне 183
морями, но недурны13. Всё как-то смешно обесцветилось в моих глазах, и поделом — не живи праздным, ничему не преданным, никому не жертвующим человеком. Если будете бранить меня, то припомните, прошу Вас, что я сам себя браню несравненно больше.
Простите. Всей душою желаю Вам всего хорошего. С искренним почтением остаюсь
Печатается по: ОР ГМТ. Ф. 65. Оп. 3. №648/1. Л. 1-2 об.
Впервые: ПТСI. С. 283-284.
Ваш покорный слуга
1881.
6 авг[уста].
Воробьевка.
Н. Страхов
1 Страхов обещал вернуться в Ясную Поляну к предполагавшемуся приезду Толстого из самарского имения.
2 Страхов отправился в Константинополь на пароходе из Севастополя в воскресенье 16 августа 1881 г. Впечатления от своей поездки он собрал в мемуарном очерке «Воспоминание о поездке на Афон (1881 г.)», впервые опубликованном в журнале (РВ. 1889. Октябрь. С. 120-144), а затем в книге: Страхов Н. Н. Воспоминания и отрывки. СПб., 1892. С. 1-47.
3 Вл. С. Соловьев рассчитывал приехать в Воробьевку, чтобы помочь подготовить к печати перевод первой части «Фауста» И.-В. Гёте, выполненный А. А. Фетом, однако своего намерения не осуществил. Причины, помешавшие исполнить это предположение, он изложил в письме к Фету от 18 августа 1881 г.: «Не оправдываюсь в том, что до сих пор не доставил Вам „Фауста", но хочу только изложить смягчающие обстоятельства. Я несколько раз в это лето собирался ехать к Вам с Вашею рукописью, чтобы вместе над нею поработать, и каждый раз принужден был откладывать свое намерение, не теряя надежды исполнить его после, а потому и держал у себя рукопись. / С другой стороны и графиня Толстая (краснорожская) не по одному отсутствию энергии не исполнила своего обещания. Но главным образом потому, что всё лето должна была ухаживать за своею племянницей, опасно заболевшей.» (Переписка Фета с Вл. С. Соловьевым. С. 377-378).См. также примеч. 19 к п. 285.
4 Страхов провел около недели в крымском имении Н. Я. Данилевского Мшатка.
5 Страхов прибудет в Константинополь (Стамбул) 17 августа и отправится на Афон 28 августа.
6 Подразумевается намерение Страхова посетить Толстых в Москве на обратном пути из поездки на Афон. О переезде Толстых в Москву см. примеч. 6 и 7 к п. 292.
184
7 О мотивах, побуждавших избрать именно этот маршрут передвижения, Страхов поведал в начальных главках очерка «Воспоминание о поездке на Афон (1881 г.)»: «Куда ехать? Зачем ехать? Если эти вопросы разуметь в сериозном смысле, на них вовсе не легко отвечать. Спасать свою душу одинаково надобно и возможно на всяком месте, и от души своей никуда спастись невозможно. (...) И счастлив, конечно, тот, кто прямо живет этими окружающими стихиями, кого не тянет в даль, кто почерпает свою душевную пищу из близкой и родной почвы. Для таких людей путешествие не может иметь глубокого интереса; оно всегда для них будет забавою, только „охотою“. Так гуляют по всему свету англичане (...) Другое дело, как известно, мы, русские. Мы большие охотники расширять свой кругозор (...) одною из причин моей поездки в Царьград и на Афон была прямо похоть очей. У меня было два свободных месяца, и мне захотелось увидеть что-нибудь новое, посмотреть собственными глазами на какое-нибудь большое зрелище, не похожее ни на что прежде виденное, и прикоснуться душою к какой-нибудь людской жизни, идущей не по тем началам, по которым мы сами живем. Европа меня не тянула (...) Но где же искать другой жизни? (...) у нас близко, под боком, есть страны, которые, очевидно, имеют тоже высокую занимательность. Самая страшная Азия, последняя могучая форма восточной жизни, еще царит в Константинополе (...) Если бы мне, думал я, и не удалось многое уразуметь в этой чужой жизни, то одно наверное удастся, — увижу это несравненное место, полюбуюсь на вид, равного которому не находят на всем земном шаре. А кроме того, побываю и в Святой Софии, то есть в храме, который, по мнению многих, тоже не имеет себе равного по красоте. / Но оттуда уже недалеко до другого места, как мне думалось, еще более любопытного, уступающего своим интересов разве только одной Индии. Это — Святая Гора, небольшой полуостров Эгейского моря, населенный монахами. Там сохранилась до наших дней и продолжает неприкосновенно процветать особая жизнь, начавшаяся с первых веков христианства. (...) Афон есть действительно живой остаток глубокой старины и, в этом отношении, место единственное в своем роде, подобного которому нет ни в одной стране обитаемого мира. (...) Афон есть поприще и училище святости, а святой человек есть высший идеал русских людей, начиная от неграмотного крестьянина и до Льва Толстого. / Вот (...) почему мне, грешному, захотелось побывать на Афоне» (Страхов. Воспоминания и отрывки. С. 4-11). В сентябре 1889 г., обращаясь памятью к своему путешествию «на Восток», Страхов так отзовется о поездке на Афон: «...в моей жизни было редкое и прекрасное событие: я видел Афон. Впечатления, которые оставила во мне Святая Гора, составляют с тех пор (т. е. с 1881 года) великую мою драгоценность...» (Там же. С. 1).
8 См. примеч. 1 к п. 259.
9 «Длинное» письмо Страхова к Толстому из Крыма неизвестно.
10 См. примеч. 6. Впечатления от встречи с Толстым в Москве в сентябре 1881 г. Страхов изложил в письме кА. А. Фету от 19 октября (см. примеч. 2 к п. 296).
185
11В кратком биографическом очерке, предварявшем полное собрание стихотворений Фета, Страхов дал своему многолетнему другу и корреспонденту такую характеристику: «Вообще душевные качества Афанасия Афанасьевича представляли очень заметное и прекрасное своеобразие. Он обладал энергиею и решительностью, ставил себе ясные цели и неуклонно к ним стремился. Ему всегда нужна была деятельность; он не любил бесцельных прогулок, не любил оставаться один или молча погружаться в книгу; когда же имел собеседников, был неистощим в речах, исполненных блеска и парадоксов» (Фет А. А. Полное собрание стихотворений. СПб., 1912. Т. 1. С. 9).
12 Александр Иванович Иост служил управляющим имениями родственников Фета и хозяйством самого поэта с 1872 по июль 1883 г. Подробнее о нем см.: Фет А. А. Мои воспоминания. Ч. 2. М. 1890. С. 240-241.
13 Подробное описание усадьбы Фета, «флигеля Страхова», фонтана и проч, см. в письме старшего сына поэта Я. П. Полонского Александра от 14 июня 1890 г.: А. А. Фет: Материалы и исследования. СПб., 2013. Вып. 2. С. 208-212, а также в написанном Страховым биографическом очерке «А. А. Фет»: Фет А. А. Полное собрание стихотворений. СПб., 1912. Т. 1. С. 7-8. Ср.: Фонякова Н. Н. Фет, его усадьба Воробьевка и семья Полонских. — Памятники культуры. Новые открытия: Письменность. Искусство. Археология: ежегодник. 1986. Л., 1987. С. 49-63.
296
19 октября 1881 г. Санкт-Петербург
Строхов — Толстому
К Вам прежде всех1, бесценный Лев Николаевич, да перед Вами я и больше всего виноват. Наконец я одолел апатию, которая напала на меня в Москве2 и с которою приехал в Петербург3. Но все-таки не сумею сказать Вам ничего хорошего — а очень бы хотелось; не могу без грусти подумать о том настроении, в котором видел Вас4. Иго мое благо, и бремя мое легко5; на Афоне6 мне особенно понравились веселые монахи7, ласковые, смеющиеся, — я думаю, что они ближе других к святости, да так об них говорили и другие. И Николай Федорович похож на них8. Но Вы не можете, кажется, не страдать; Вы преувеличиваете Ваши требования, а я читал где-то, что нужно быть к своей душе также снисходительным, как и к другим людям. Но нет! — как я стану Вас уговаривать 186
успокоиться, когда не могу подумать без умиления об этом огне, которым Вы горите? Я готов молить: пожалейте себя, пожалейте и нас! Да ведь знаю — Вы равнодушны к таким просьбам, и я, например, конечно не стою большого внимания с Вашей стороны.
Пока у меня одно желание, одна просьба — узнать, что у Вас делается, благополучно ли Вы съездили, благополучно ли разрешилась графиня9. — Совестно мне было не ехать с Вами в Торжок10, но, кроме лени, меня удерживало и то, чтобы Вам не мешать своею неповоротливостью и апатиею. Здесь я поплелся по старой колее; таскаюсь по похоронам, обедам, вечерам; слышал уже две поэмы, а завтра буду слушать драму1 11; но в свободные часы, дома, один, читаю духовные книги и, кажется, остается что-то доброе в душе. Прочитал и Пругавина «Алчущие и пр.»12 и пока, признаться, нашел только обыкновенный нигилизм и в мыслях, и в литературных приемах, — что мне очень противно. Но предмет любопытен и нужно подождать.
От души прошу Вас, простите меня, если чем согрешил или против Вас, или при Вас. Не разлюблю Вас никогда; я Вам это обещал, и было бы великое горе, если бы на меня когда-нибудь напало такое затмение.
Ваш душою
Н. Страхов
Р. S. Читали Вы в «Руси» Рачинского о Пушкине и об Вас13? Этот восторг меня очень удивил14, но порадовал.
Некто Ernst Roettger15, здешний юноша, просит Вашего разрешения напечатать перевод на немецкий «Детства». Я сказал, что Вы не будете отвечать, но для очистки совести, передаю Вам просьбу.
1 Страхов прибыл на Афон около полуночи 30 августа и провел на Святой Горе ровно две недели. После 13 сентября он отправился в обратный путь, который по условиям тогдашнего сообщения пролегал через Салоники, куда Страхов прибыл на
пароходе французской перевозочной компании 14 сентября. Проведя в Салониках три дня, Страхов с тем же пароходом отбыл в Константинополь (Стамбул) и около
Печатается по: РО ИРЛИ. Ф. 302. Оп. 2. Ед. хр. 300. Л. 43.
Впервые: Современный мир. 1913. №10. С. 284-287.
Датируется по содержанию.
187
21-22 сентября, пересев на другой пароход, отплыл из Константинополя в Одессу, где в тот же день, 23 сентября, «вечером сел в вагон и (...) был 25-го в Москве» (письмо А. А. Фету от 19 октября 1881 г. — Фет. Переписка II. С. 339; письмо Н. Я. Данилевскому от 20 октября 1881 г. — РВ. 1901. Февраль. С. 454). — В тот же день, 19 октября, Страхов извещал А. А. Фета из Петербурга: «Бесконечно виноват перед Вами, дорогой Афанасий Афанасьевич. Следовало бы писать к Вам еще из Константинополя или с Афона — но там стояла такая жара, а потом в Салониках настали такие холода, что я маялся всё время своей поездки и ни разу не испытал той прохлады, на которую рассчитывал. (...) К Толстому я тоже не писал до сих пор и не знаю, что там» (Фет. Переписка II. С. 339. — Курсив Страхова).
2 В Москве Страхов прожил неделю и, по его словам, «виделся с Толстым» (письмо Н. Я. Данилевскому от 20 октября 1881 г. — РВ. 1901. Февраль. С. 454). Осенью, в середине сентября, семья Толстых переехала в Москву и в дальнейшем, в течение 20 лет, будет проводить зимы в городе. Старший сын Сергей Львович начал слушать лекции в Московском университете; Илья и Лев были определены в частную гимназию Л. И. Поливанова — в пятый и третий классы соответственно; дочь Татьяна стала посещать Школу живописи, ваяния и зодчества (Гусев. Летопись I. С. 540). О встрече с Толстым Страхов рассказал А. А. Фету в письме от 19 октября: «В Москве я нашел Л. Н. Толстого со всею семьею. Он в очень дурном настроении, хворает, тоскует, и ужасно мне стало его жаль. А всё у него благополучно; графиня была в последней степени беременности и теперь уже, конечно, разрешилась. Тут был и Вл. Соловьев, и мы пофилософствовали и поспорили» (Фет. Переписка II. С. 339).
3 В Петербург Страхов возвратился около 3 октября. Ср. в письме к Н. Я. Данилевскому от 20 октября: «Вот уже третья неделя, как я в Петербурге...» (РВ. 1901. Февраль. С. 454). О своем нравственном состоянии по прибытии из заграничного путешествия он сообщал Фету в том же письме от 19 октября: «... был 25-го в Москве. Тут, после сорокадневного странствия по морям, меня одолела сладкая лень, потом я раскис, кислый приехал в Петербург и наконец-то оправляюсь» (Фет. Переписка II. С. 339).
4 О тяжелом душевном состоянии Толстого перед переездом семьи в Москву и в первые месяцы городской жизни свидетельствуют его записи в дневнике и обращения к корреспондентам. Ср.: «Вернулся из Пирогова. Умереть часто хочется. Работа не забирает». «Прошел месяц — самый мучительный в моей жизни. Переезд в Москву. — Всё устраиваются. Когда же начнут жить? Всё не для того, чтобы жить, а для того, что так люди. Несчастные! И нет жизни. — / Вонь, камни, роскошь, нищета. Разврат. Собрались злодеи, ограбившие народ, набрали солдат, судей, чтобы оберегать их оргию, и пируют. Народу больше нечего делать, как, пользуясь страстями этих людей, выманивать у них назад награбленное» (записи от 2 сентября и 5 октября 1881 г. — Юб. Т. 49. С. 57). Ср.: «Я попал сюда в страшный сумбур — театр, гости, суета и стран188
но — ушел в себя и чувствовал, и чувствую себя лучше, чем когда-нибудь. Несогласие мое с окружающей жизнью больше и решительнее, чем когда-нибудь; и я всё яснее и определеннее вижу свою роль и держусь ее. — / Смирение и сознание того, что всё, чтб мне противно теперь, есть плод моих же ошибок и потому прощение других и укоризна себе» (письмо А. А. Бибикову и В. И. Алексееву от 1-5 сентября 1881 г. — Там же. Т. 63. С. 76). «Мне очень тяжело в Москве. Больше двух месяцев живу и всё так же тяжело. Я вижу теперь, что я знал про всё зло, про всю громаду соблазнов, в которых] живут люди, но не верил им, не мог представить их себе (...) И громада этого зла подавляет меня, приводит в отчаяние, вселяет недоверие. Удивляешься, как же никто не видит этого? — / Может быть мне нужно было это, чтобы яснее найти свой частный путь в жизни. Представляется прежде одно из двух: или опустить руки и страдать бездеятельно, предаваясь отчаянию, или мириться со злом, затуманивать себя винтом, пустомельем, суетой. Но, к счастью, я последнего не могу, а первое слишком мучительно, и я ищу выхода. — Представляется один выход — проповедь изустная, печатная, но тут тщеславье, гордость и может быть самообман и боишься его; другой выход — делать доброе людям; но тут огромность числа несчастных подавляет. (...) Единственный выход, который я вижу — это жить хорошо — всегда ко всем поворачиваться доброй стороной. Но этого всё еще не умею...» (письмо В. И. Алексееву от 15-30 (?) ноября 1881 г. — Там же. С. 80). В связи с подавленным настроением писателя С. А. Толстая отметила в своих воспоминаниях: «По-видимому, он сам не ожидал, что жизнь в Москве так сильно повлияет на него в смысле тоски и тяжелых впечатлений... » «... Первые две недели я непрерывно и ежедневно плакала, потому что Лёвочка впал не только в уныние, но даже в какую-то отчаянную апатию. Он не спал и не ел, и сам иногда плакал, и я думала просто, что я с ума сойду» (Толстая. Моя жизнь I. С. 354,357). См. также примеч. 1 к п. 297.
5 Мф. 11: 30. Этим словами Страхов, по мнению биографа Толстого, «пытается в очень деликатной форме указать Толстому на то, что его грустное настроение противоречит той религиозной точке зрения, с которой он, Толстой, смотрит на жизнь» (Гусев IV. С. 85).
6 На Афоне Страхов проживал в русском монастыре Св. Пантелеймона и посетил два греческих монастыря — «Симоно-Петра» и «Дионисиат» (см.: Воспоминание о поездке на Афон (1881 г.). — Страхов. Воспоминания и отрывки. С. 23, 25-26, 33).
7 Ср.: «Светлою, радостною красотою осталась в моей памяти Святая Гора. Но и обитатели ее, как ни мало я успел с ними познакомиться, оставили во мне впечатление людей светлых и радостных. (...) Они считают грехом, если подвергаются чувству уныния и тоски, и они стараются прогнать от себя такие чувства. А главное, они считают свою жизнь по самому ее существу блаженною жизнью, исполненною лучших радостей, доступных человеку на земле» (Там же. С. 26-28; см. также: С. 31-34,41). — Многие читатели обратили внимание в очерке Страхова «Воспоминание о поездке на 189
Афон» на строки о веселости православных монахов. К. Н. Леонтьев, долго живший на Афоне, особо отметил это наблюдение: «Многие хорошие афонские монахи очень веселы и даже часто смеются; как и Ник. Ник. Страхов заметил в [18]81 году» (Леонтьев К. Н. Поли. собр. соч. и писем. СПб., 2021. Т. 12, кн. 2. С. 558).
8 Речь идет о библиотекаре Румянцевского музея и мыслителе Н. Ф. Федорове, с которым Страхов познакомился в Москве, вероятно, в самом начале октября 1881 г. Толстой знал Федорова с 1878 г., когда обращался в библиотеку Румянцевского музея в связи с изучением материалов для задуманного романа о декабристах. Переехав в Москву, Толстой возобновил отношения с Федоровым (см.: Гусев. Летопись I. С. 541; Гусев IV. С. 75). О своем московском знакомом Толстой сообщал в письме к бывшему учителю своих детей В. И. Алексееву: «Есть и здесь люди. И мне дал Бог сойтись с двумя. [В. Ф.] Орлов один, другой и главный Николай Федорович] Федоров. Это библиотекарь Румянцевской библиотеки. Помните, я вам рассказывал. Он составил план общего дела всего человечества, имеющего целью воскрешение всех людей во плоти. Во-первых, это не так безумно, как кажется. (Не бойтесь, я не разделяю и не разделял никогда его взглядов, но я так понял их, что чувствую себя в силах защитить эти взгляды перед всяким другим верованием, имеющим внешнюю цель. Во-вторых, и главное, благодаря этому верованию он по жизни самый чистый христианин. Когда я ему говорю об исполнении Христова учения, он говорил: да это разумеется, и я знаю, что он исполняет его. — Ему 60 лет, он нищий и всё отдает, всегда весел и кроток» (Юб. Т. 63. С. 80-81. — Курсив Толстого). Свое понимание учения Федорова Толстой (в передаче И. М. Ивакина) изложил так: «За чаем толковал с Л. Н. (...) о воскрешении Николая Федоровича. Это воскрешение Л. Н. сопоставил с теорией брата своего Сергея Николаевича, которая заключается в том, что мир состоит из частиц, изменяющих формы своего сочетания в бесконечности пространства и времени, и что, следовательно, возможна и такая комбинация, что раз уничтожившееся снова придет в прежнюю форму. Разница та, что у Николая Федоровича всё предоставляется сознательной деятельности человечества, а у Сергея Николаевича — простому процессу» (ЛН. Т. 69, кн. 2. С. 45). Побывав дома у Федорова, Толстой отметил в дневнике: «Николай Федорыч — святой. Каморка. (...) Не хочет жалованья. Нет белья, нет постели» (запись от 5 октября 1881 г. — Там же. Т. 49. С. 58). Толстой познакомил Федорова со своим религиозно-философским воззрением, представленном в «Кратком изложении Евангелия». Мнение мыслителя он передал В. И. Алексееву в следующих словах: «Книгу мою — Краткое изложение читали и Орлов, и Федоров и мы единомышленны» (Там же. Т. 63. С. 81). О дальнейшем развитии отношений между Толстым и Федоровым и об их расхождении подробнее см.: Гусев IV. С. 75-79. Ср. также: Толстая. Моя жизнь I. С. 369. Реплика Страхова в письме имеет тот смысл, что, по его мнению, аскет в быту, Н. Ф. Федоров был по своему мироощущению и общественному поведению 190
похож на афонских монахов. Личностью и идеями Федорова интересовался и Вл. Соловьев, который сообщал Страхову из Москвы о своих встречах с мыслителем: «Из общих знакомых видаюсь с Л. Толстым, от которого Вы, конечно, имеете известия, с [И. С.] Аксаковым, с Фетом, который печатает своего „Фауста“, и иногда очень приятно и забавно беседуем, с Н. Ф. Федоровым, который меня совершенно очаровал, так что я даже думаю, что и его странные идеи недалеки от истины» (письмо без даты, от начала декабря 1881 г. — Соловьев. Письма I. С. 12).
9 31 октября 1881 г. в семье Толстых родился восьмой ребенок — сын Алексей (умер осенью 1886 г.). Подробнее см.: Толстая. Моя жизнь I. С. 359.
10 В конце сентября Толстой ездил в Тверскую губернию (дер. Шевелино Новоторжского уезда) для знакомства с сектантом В. К. Сютаевым и его последователями. Сютаевцы отвергали православное вероучение, церковные таинства и обряды. С личностью и идеями Сютаева Толстого познакомил А. С. Пругавин во время пребывания писателя в селе Патровка 19 июля 1881 г., куда Толстой приехал из своего самарского имения для встречи с этим исследователем сектантства и для знакомства со взглядами местных молокан (Гусев IV. С. 53-54). В дневнике Толстого под датой 5 октября имеется такая запись: «Был в Торжке у Сютаева, утешенье» (Ю6. Т. 49. С. 58). Рассказывая своему корреспонденту о беседах с сектантом, писатель заметил, что в восприятии современного порядка и церковных установлений у него совпадение в мыслях «с Сютаевым во всем до малейших подробностей» (письмо к В. И. Алексееву без даты, от 15-30 (?) ноября 1881 г. — Там же. Т. 63. С. 81). Сютаев оказал большое влияние на взгляды Толстого. Подробнее об этом см.: Гусев IV. С. 67 - 75; Пругавин А. С. Граф Лев Николаевич и Сютаев. — Неделя. 1885. № 39.
11 Об этом же Страхов писал 20 октября Н. Я. Данилевскому: «Здесь я уже выслушал две новые поэмы и сейчас еду слушать драму. Петербург очень противен, темен, скучен и в настоящую минуту занят только похоронами» (PB. 1901. Февраль. С. 455). Указание на чтение драмы («сейчас еду») дает основание для уточнения даты этого обращения к Толстому, написанного накануне («завтра буду слушать драму»), т. е. 19 октября.
12 Пругавин А. С. Алчущие и жаждущие правды. Очерки современного сектантства. (Из путевых заметок). — Русская мысль. 1881. Октябрь (Кн. 10). С. 119-147. Декабрь. (Кн. 12). С. 274-315; 1882. Январь (Кн. 1). С. 255-288; перепеч. в: Пругавин А. С. Религиозные отщепенцы. М., 1906. Вып. 1. С. 3-143 (под названием «Сютаевцы»). За время пребывания на самарском хуторе Толстой трижды встречался с Пругавиным. Через два дня после первой беседы (см. примеч. 10) Пругавин посетил писателя вместе с духовными лидерами местных молокан и слушал чтение Толстым толкования Нагорной проповеди из «Краткого изложения Евангелия». Третья встреча произошла в Самаре после отъезда писателя с хутора в Ясную Поляну (Гусев IV. С. 52-54, 191
56). Толстой отозвался о Пругавине как об «очень интересном степенном человеке» (письмо к С. А. Толстой от 19 июля 1881 г. — Ю6. Т. 83. С. 293). Свои впечатления от общения с Толстым Пругавин собрал в книге: О Льве Толстом и о толстовцах. М., 1911; о встречах летом 1881 г. см.: Там же. С. 42-60.
13 Речь идет о публикации: Рачинский С. А. Заметки о сельских школах. V. — Русь. 1881.17 окт. № 49. С. 15-17, входившей в цикл статей с одноименным названием, печатавшихся в газете И. С. Аксакова с 26 сентября по 14 ноября (№ 46-53). Рачинский писал: «Но ничто не может сравниться с тем обаянием, которое производят творения Пушкина, начиная с его сказок и кончая Борисом Годуновым». Похвалив детские книги Толстого (вошедшие в «Новую Азбуку» и в «Книги для чтения»), Рачинский заметил: «Мы, кажется, забываем, что гр. Л. Н. Толстой — величайший из ныне живущих писателей, не только в России, но и в целом мире» (с. 15). Толстой не ответил на вопрос Страхова, однако существо своих взглядов на «национально-религиозное» содержание педагогических идей Рачинского высказал в письме к последнему от ноября-декабря 1881 г. «Ваши статьи в Руси мне не понравились. Есть неопределенноправославное направление, — которое есть не только признание факта требований народа, но к которому, к православию, выражается ваше сочувствие. Сочувствие же ваше не непосредственное и вместе с тем не разъясненное. — / Чтобы не ходить около, скажу вам прямо, чем я себя считаю: Я считаю себя христианином. Учение Христа есть основа моей жизни. Усумнившись в нем, я бы не мог жить; но православие сознанное, связанное с церковью, с государством, есть для меня основа всех соблазнов, есть соблазн, закрывающий Божескую истину от людей» (Юб. Т. 63. С. 84). Свою оценку статей Рачинский дал в письме к Толстому еще от 11 ноября: «Я напечатал в Руси ряд заметок о школах и раскаиваюсь. Времени не хватило и вышло боссвязно и длинно. Многие их хвалят — не могу решиться их перечитать. Эта работа не принесла мне того, чего я от нее ожидал, более спокойного взгляда на мое дело» (цит. по: Там же. С. 85). — Толстого интересовали принципы организации сельской школы Рачинского в Татеве (Бельский уезд, Смоленской губ.) и применявшаяся «народным учителем» оригинальная методика преподавания. Желая более подробно ознакомиться с постановкой дела в Татеве, Толстой намеревался посетить школу Рачинского на обратном пути из Торжка, о чем известил своего корреспондента телеграммой 30 сентября. Из-за недоразумения (Рачинский по неизвестной причине получил телеграмму Толстого только 10 ноября) поездка не состоялась.
14 Восторженный отзыв Рачинского удивил Страхова потому, что строго православный по взглядам педагог категорически не принял новых религиозных настроений Толстого.
15 Замысел перевода был осуществлен: Geschichte meiner Kindheit. Von Graf L. N. Tolstoi. Aus dem Russ. v. Ernst Röttger. Leipzig, [1882].
192
241
Толстой — Страхову
Простите, дорогой Николай Николаич, что не отвечал на ваше письмо. Вы меня любите, я знаю, и потому понимаете. — Правда, что мне тяжело1. Бывает очень больно. Но боль эту не отдам за 10 лет веселой приятной жизни. Даже странно сказать: не отдам за веселую приятную жизнь. Она-то мне и противна, а дорога, хотя не больно, та деятельность, которая может выйти из этой боли. — Не отвечал я вам, п[отому] ч[то] был всё это время в очень напряженном состоянии. Нынче я не то что бодрее, но менее удручен2. —
Работы я никакой еще не начал настоящей3. Написал рассказ4 в детский журнал — («Дет[ский] отдых») — и то нехорошо и с ужасным насилием над собой. Интересных мне людей я вижу много; но зачем? Учиться мне уж нечему от людей5. А жить так, как я выучился, я не умею. И всё ищу, и стараюсь, и всё недоволен собой. —
У нас всё благополучно, родился сын6. Все слава Богу здоровы, и в семье хорошо7.
Что вы делаете? Пишите мне и верьте в мою дружбу. Мне сердиться на вас не только не за что, но я знаю, что нет человека, который бы так по-моему понимал меня, как вы. У меня только происходит иногда по отношению вас обман чувств: «если этот человек так понимает меня, то как же он не разделяет моих чувств и в той же мере?» — иногда говорю я себе об вас. И разумеется, я говорю вздор, доказывающий только то, что я не умею так понимать вас, как вы меня, и потому не вижу ваших чувств так же ясно, как вы мои8. —
Познакомился я с Ник[олаем] Михайловским9. Я ожидал большего. Очень молодо, щеголевато и мелко. — Обнимаю вас.
Л. Толстой
25 ноября
1881 г. Носкво
Печатается по: ОР ГМТ.Ф. 1,№5458. Л. 1,2. Нал. 1 помета Страхова: «25 ноя[бря] 1881. Ясная». Письмо написано в Москве. Впервые: Юб. Т. 63. С. 85-86. Датируется по помете Страхова. Ответ на п. 296.
193
1 Около 21-22 ноября С. А. Толстая писала сестре — Т А. Кузминской: «Лёвочка всё хворает и тоскует, что меня совсем с ума сводит» (цит. по: Гусев. Летопись I. С. 542).
2 «Напряженное состояние» Толстого было вызвано переездом в интересах семьи в Москву (см. примеч. 4 к п. 296). О своей жизни и занятиях в Москве Толстой сообщал В. И. Алексееву в письме, написанном между 15 и 30 ноября 1881 г.: «...нет спокойствия. Торжество, равнодушие, приличие, привычность зла и обмана давят. Сижу я всё дома, утром пытаюсь работать — плохо идет, часа в 2, 3 иду за Москву реку пилить дрова. И когда есть сила и охота подняться, это освежает меня, придает силы, — видишь жизнь настоящую и хоть урывками в нее окунешься и освежишься. Но когда не хожу. Тому назад недели 3 я ослабел и перестал ходить, и совсем было опустился — раздражение, тоска» (Юб. Т. 63. С. 81). Через некоторое время писатель изменит свою точку зрения на жизнь в городе. Ср. слова Толстого в записи И. М. Ивакина от 7 июля 1885 г.: «Я прежде выражал недовольство, что пришлось жить в Москве, но теперь вижу, что в жизни всякого человека случается именно то, чему должно случиться, и что жизнь слагается именно так, как ей должно сложится» (АН. Т 69, кн. 2. С. 53).
3 Около середины ноября Толстой продолжал работать над отделкой текста «Записок христианина», первый вариант которых был создан в апреле 1881 г. Труд остался незавершенным и подвергся значительной правке в 1883 г. (см.: Юб. Т. 49. С. 185-186). В ноябрьском письме к В. И. Алексееву Толстой уточнял: «Кроме того пишу рассказы, в кот[орых] хочу выразить свои мысли» (Там же. Т. 63. С. 81). См. примеч. 4. После 14 ноября Толстой трудился над статьей об искусстве (не окончена), которой придал форму письма к издателю «Художественного журнала» Н. А. Александрову (Гусев. Летопись I. С. 543; Юб. Т. 30. С. 209-212,508-509).
4 Рассказ «Чем люди живы» напечатан в издании «Детский отдых: ежемесячный иллюстрированный журнал для детей» (1881. Год первый. Декабрь (№ 12). С. 407-434). К этому же времени, вероятно, относится и начало работы над повестью «Смерть Ивана Ильича» (Юб. Т. 26. С. 505-509). Другие, хронологически близкие к дате написания письма рассказы Толстого, неизвестны. — Работа над рассказом «Чем люди живы» (Там же. Т. 25. С. 7-25) была предпринята еще в конце 1880 или в начале 1881 г. и стала первой, дошедшей до читателей, попыткой возвращения к художественному творчеству после фактически четырехлетнего перерыва в публикации произведений Толстого. О своих пробах овладеть новой темой писатель сообщал жене с самарского хутора 25 июля 1881 г. «Я два последние дня два раза начинал Петину историю, и всё не могу попасть в колею. Я надеюсь, что пойдет, и если пойдет, то будет хорошо» (Там же. Т. 83. С. 298). Останавливаясь в воспоминаниях на творческих занятиях мужа летом 1881 г., С. А. Толстая уточняла: «Рассказ „Чем люди живы“ потому называется Петин, что брат мой Петр Андреевич издавал в то время вместе с Влади194
миром Константиновичем Истоминым журнал „Детский отдых“, и Лев Николаевич, всегда желавший помочь моим родным, и особенно брату Пете, которого он любил, обещал ему свое сотрудничество и писал для него этот рассказ, взятый им из рассказов и былин приходившего к нам крестьянина Олонецкой губернии, Петровича, очень интересного старика, знавшего и напевавшего нам много былин. / Только в истории Петровича были некоторые места, которые Лев Николаевич изменил. (...) Этот певец былин, Петрович, по фамилии Щеголенков, потом ездил в Петербург (...) Мотивы былин записывали за ним Балакирев, Мусоргский, Бородин и другие...» (Толстая. Моя жизнь I. С. 344-345). Работа над произведением давалась непросто: архивный фонд «легенды» насчитывает 33 рукописи и корректурные материалы; сохранилось двенадцать вариантов одного только зачина. Подробнее о работе писателя над рассказом см.: Юб. Т. 25. С. 665-674; Гусев IV. С. 87-103. На публикацию произведения Толстого (ценз. разр. от 18 ноября 1881 г.) появилось несколько откликов в печати (см.: Гусев IV. С. 93-103). Об отзыве Страхова см. п. 300.0 В. П. Шевелеве (Щеголёнкове) см. примеч. 4 к п. 246. — Журнал «Детский отдых» выпускался с 1881 г. в Москве Н. А. Истоминой (до 1887 г.) при участии П. А. Берса (редактор в 1881-1882 гг.) и В. К. Истомина (редактор в 1883-1887 гг.). Издание имело познавательный характер и было рассчитано на детей старшего возраста.
5 О встречах в московском доме Толстой рассказывал тому же В. И. Алексееву: «Вечером сижу дома и одолевают гости. Хоть и интересные, но пустые разговоры и теперь хочу затвориться от них» (письмо без даты, от 15 - 30 ноября 1881 г. — Юб. Т. 63. С. 81). Вернувшись в начале февраля 1882 г. в Ясную Поляну, Толстой так изложил в письме к жене одну из причин, побудивших его оставить Москву: «Главное зло города для меня и для всех людей мысли (...) это то, что беспрестанно приходится , или спорить, опровергать ложные суждения, или соглашаться с ними без спора, что еще хуже. А спорить и опровергать пустяки и ложь — самое праздное занятие, и ему конца нет, п[отому] ч[то] лжей может быть и есть бесчисленное количество. А занимаешься этим, и начинаешь воображать, что это дело, а это самое большое безделье. — Если же не споришь, то что-нибудь уяснишь себе так, что оно исключает возможность спора. А это делается только в тишине и уединении» (Там же. Т. 83. С. 314. — Курсив Толстого). Среди посетителей Толстого биографы писателя отмечают профессора Московского университета Н. И. Стороженко, А. С. Пругавина, В. К. Сютаев, Вл. С. Соловьева, Н. К. Михайловского и др. В Москве писатель возобновил знакомство с декабристами М. И. Муравьевым-Апостолом и П. Н Свистуновым. Встречался с художниками В. Г. Перовым, И. М. Прянишниковым, В. И. Суриковым, К. Е. Маковским и др. С. А. Толстая вспоминала: «Количество посетителей нашего дома быстро увеличивалось». Тогда же (поздней осенью 1881 г.) она писала сестре — Т. А. Кузминской: «И кого только у нас не бывает: и писатели, и художники, и светские. Непривычно всё это, и голова кругом идет» (цит. по: Толстая. Моя жизнь I. С. 358).
195
6 31 октября 1881 г. родился восьмой ребенок Толстых — сын Алеша. Умер 18 января 1886 г.
7 Иную картину этих дней в семье Толстых после родов ребенка оставила в своих воспоминаниях С. А. Толстая. Ср.: «Как только я стала немного поправляться, захворали и дети, и Лев Николаевич. Но хуже всего было то, что он опять захандрил, и молчаливые, но очень красноречивые упреки стали вновь чувствоваться в его отношениях ко мне. / Недели через четыре после родов, измученная и телом и душой, я вдруг сильно заболела. У меня сделались такие ужасные боли в правом боку и под ложечкой, что я упала на пол, начала кричать и не могла уже встать. (...) Утром Лев Николаевич (...) сказал, что привезет сам моего прежнего доктора Василия Васильевича Чиркова, еще приезжавшего меня лечить в Ясную Поляну. Чирков, увидав меня, сказал, что у меня были желчные колики и будет сильная желтуха. Так и вышло. Боли под ложкой продолжались долго; я вся пожелтела, пила Карлсбад, ела только рюмочками бульон, и, при болезненном кормлении грудью ребенка, я, конечно, очень истощалась. (...) В верованиях моих в то время всё во мне заколебалось, спуталось, и я искала выхода, вслушиваясь в свои внутренние религиозные вопросы. Оторваться от Церкви я никакими силами и доводами не могла. Смотреть на христианство и вообще на религию с точки зрения Льва Николаевича тоже не могла. Навязать мне и привить настроение суждения и верования всегда было невозможно, слишком я сама была самобытна. Я чувствовала, что Лев Николаевич прав только с одной стороны: со стороны личного самосовершенствования и отречения от благ. Отрицание же его Церкви и всего существующего порядка я не могла признать, не умела... ну, просто не принимала это моя душа» (Там же. С. 359,362).
8 Объяснение Страхова см. в п. 299. Вместе с тем, по замечанию биографа Толстого, на переписке писателя со Страховым именно в это время сказалось то обстоятельство, что Толстому уже мало стало одного «понимания» его идей, — ему нужен был корреспондент, который бы «не только понимал, но и разделял его воззрения» (Гусев IV. С. 86). Такого собеседника он обрел в лице бывшего учителя его детей В. И. Алексеева. Имея в виду более откровенный, почти исповедальный характер письма к нему от 15-30 ноября (см. примеч.. 4 к п. 296), исследователь утверждает: «Только В. И. Алексееву мог Толстой в то время написать такое письмо. Только один он мог понять, как мучительно тяжело переживал Толстой праздность и роскошь жизни привилегированных классов (...) и всю „громаду соблазнов“, порождаемых такой жизнью. Всё это Толстой наблюдал и в жизни своей семьи...» (Там же. С. 87).
9 С публицистом и критиком народнического направления Н. К. Михайловским Толстой вступил в заочное общение еще в 1874 г. в связи с предстоявшей публикацией в журнале «Отечественные записки» педагогической статьи Толстого «О народном образовании» — тогда Толстой и Михайловский обменялись письмами. Лично корреспонденты познакомились 18 ноября 1881 г. Поводом для посещения писателя стало 196
желание редактора «Отечественных записок» М. Е. Салтыкова-Щедрина привлечь Толстого к сотрудничеству в издании и осуществить на деле намерение, незадолго перед тем высказанное самим Толстым в письме к редактору. Свой визит к Толстому Михайловский описал спустя десять лет в главке «Личные воспоминания о гр. Толстом», вошедшей в цикл его литературных воспоминаний (Михайловский Н. К. Литературные воспоминания и современная смута. СПБ., 1900. Т. 1. С. 213-214). По утверждению Михайловского, Толстой произвел «впечатление простого, искреннего человека». «Когда я ему сказал, что так, мол, и так. слышали мы, что вы повесть написали или пишете, так не дадите ли ее нам, — он ответил: „О, нет! у меня ничего нет, это просто Н. Н. Страхов нашел в моих старых бумагах рассказ и заставил его отделать и кончить, — ему уже дано назначение“. И затем граф легко и свободно перешел к разговору об „Отечественных Записках“, сказал много приятных для нас вещей, ни одним словом, однако, не упоминая о своем предложении и тем как бы приглашая и меня не говорить о нем. Я, разумеется, последовал этому невыраженному приглашению. (...) В этот раз мы беседовали с графом о литературе и о кое-каких житейских делах, между прочим, об одном приватном, но имевшем общественное значение, в высокой степени симпатичном поступке графа в тот страшный 1881 г. [имеется в виду письмо Александру III. — Cocm.]. Я был рад выслушать рассказ об этом деле от самого графа и еще более рад был тому, что рассказ этот, своею простотою и задушевностью, вполне соответствовал тому представлению о гр. Толстом, которое я себе заочно составил...». На встрече присутствовал А. С. Пругавин, записавший высказывания Толстого во время беседы, в частности, его мысли о необходимости отмены частной собственности на землю (см.: Пругавин А. С. Л. Н. Толстой в 80-х годах. — Новая жизнь. 1912. № 5. С. 128-129). По признанию мемуариста, такие встречи продолжались и позднее. Ср.: «Тогда мне довольно часто случалось бывать в Москве, и я всякий раз доставлял себе удовольствие заезжать к графу Толстому. Это был один из приятнейших собеседников, каких я когда-либо встречал. Нам случалось много и горячо спорить, и как теперь слышу голос графа: „Ну, мы начинаем горячиться, это нехорошо, давайте выкурим по папиросе, отдохнем“. Мы закуривали папиросы, и это, конечно, не прекращало спора (...) Во всяком случае, у меня осталось чрезвычайно приятное воспоминание об этих якобы антрактах спора...». «Приятные» воспоминания о личных встречах не мешали Михайловскому не только не принимать «учения» Толстого, но и резко критиковать его в печати. Толстой не сохранил столь положительного впечатления от общения со своим современником и позднее отзывался о Михайловском менее приязненно, признаваясь, что люди, подобные Михайловскому, были ему «всегда очень неприятны». «Очевидно, не либерализм их меня отталкивал (...) а здесь какая-то серединность, журнальная либеральность» (запись Д. П. Маковицкого от 26 ноября 1908 г. — АН. Т. 90, кн. 3. С. 256). Не принимал Толстой и отношения либералов-народников к народу, считая его «фальшивым»: «Они любят народ из сожаления, за его 197
слабости. А надо его любить, как равного себе, не смотреть на него свысока» (запись около 10 мая 1909 г. — Там же. С. 408).Отрицал их ведущую идейную роль в социуме: «Такие люди, как (...) Михайловский, которым приписывали значение руководителей общества, в сущности, не могли быть ими, потому что они очень многого совсем не знали, и это многое они не понимали и игнорировали, как, например, область религиозную» (запись от 11 ноября 1906 г. — Там же. Т. 90, кн. 2. С. 300). Не высокого мнения был Толстой и о критических достоинствах работ Михайловского. На вопрос: какое общее впечатление произвел на него своими трудами Михайловский, писатель ответил коротко: «Как все критики (...) скука» (запись в дневнике Д. П. Маковицкого от 13 июня 1908 г. — Там же. Т. 90, кн. 3. С. 114). Вместе с тем, Толстой, вероятно, отдавал должное интеллекту народнического публициста. В дневнике В. Ф. Лазурского имеется запись разговора с участием Толстого и Страхова такого содержания: «Михайловского Николай Николаевич называет „умным человеком" (...) и, по-видимому, здесь все согласны с этим (запись от 27 июня 1894 г. — Там же. Т. 37-38. С. 453).
298
26 ноября Страхов — Толстому
1881 г.
Санкт-Петербург и сегодня нет письма от Вас, бесценный Лев Николаевич! Впрочем, я сам виноват — давно следовало бы написать Вам, а я всё был не в духе писания, то есть в дурном духе, — был здоров, ленился и с удовольствием занимался делами, не стоющими занятия. Побывал я у Любовь Александровны1, перед которою всегда так виноват, и узнал много об Вас. От души поздравляю графиню и Вас с сыном2. Вести всё хорошие, и мы с Любовью Александровной поделились восхищением от Вашей семьи и от Вас. Привез сюда еще вести Юрьев3; он вчера заходил ко мне, а еще раньше я слышал, что он много об Вас рассказывает. Передавал мне нигилист, один из членов Ученого комитета4; но похвалы Вам в его устах немножко меня коробили — застарела во мне вражда к нигилизму.
С Вашими изобретателями, Никитиным, которого Вы направили к Стасову5, и Яшиным, к которому Никитин приехал, мы много хлопотали, и Стасов, и я. Я послал их к Вышнеградскому, первому у нас знатоку 198
практической механики6. Ему они очень понравились своим умом и нравом; он считает их достойными всякого участия; но 1) они изобрели то, что уже сделано было, а 2) у них недостает подготовки, чтобы можно было дать им какую-нибудь должность или работу. Так он и не нашел ничего, что бы им сделать. Яшина я видел и не мог им налюбоваться: так красив и умен. Стасов давал им и денег и посылал их к разным техникам и начальникам по технической части. Ничего не вышло, и теперь они очень жалуются на стесненное положение.
А что я делаю? — Ничего хорошего. Много прочитал об Афоне, готовясь писать впечатления7; стал усерднее прежнего заниматься своею службою в Библиотеке и в Комитете; получаю книги и меняюсь, и отдаю в переплет, и читаю без порядка. Но я Вас не забываю, я вспоминаю об Вас каждый день, и главная задача жизни не выходит из моих ленивых и шатких мыслей. Простите меня. Если напишете несколько строк, очень утешите
Вашего душевно
Н. Страхова 1881.
26 нояб[ря].
Спб.
1 Л. А. Берс, теща Толстого.
2 См. примеч. 9 к п. 296.
3 О встрече С. А. Юрьева с Толстым поздней осенью 1881 г. не известно. Вместе с тем, Юрьев неоднократно обращался к Толстому с просьбой о сотрудничестве в издаваемом им журнале «Русская мысль». Толстой предлагал напечатать в издании Юрьева «Записки христианина» (1881) и давал редактору читать их начало, однако по цензурным соображениям такая публикация состояться не могла (см.: Юб. Т. 49. С. 9). Весной 1882 г. в типографии «Русской мысли» будет набираться текст так называемой «Исповеди» Толстого, но и этот труд окажется запрещенным к печати (см.: Гусев IV. С. 142-158).
4 Вероятно, речь идет об Александре Александровиче Слепцове, литераторе, публицисте, общественном деятеле и педагоге. В 1860-е гг. Слепцов вел активную революционную деятельность, являлся одним из организаторов и руководителей общества
Печатается по: РО ИРЛИ. Ф. 302. Оп. 2. Ед. хр. 300. Л. 88.
Впервые: Современный мир. 1913. № 10. С. 287-288.
199
«Земля и воля», входил в состав деятелей «молодой эмиграции», поддерживал тесные сношения с А. И. Герценом и с редакцией «Колокола». Во второй половине 60-х гг. прекратил противоправительственную работу, вернулся в Россию и поступил на государственную службу; занимался педагогикой. Назначен членом Ученого комитета Министерства народного просвещения 9 июня 1880 г. (по другим данным — с 1881 г.), ведал вопросами устройства народных чтений. С 1881 г. состоял в чине действительного статского советника. Двоюродный брат писателя В. А. Слепцова.
5 Об этих изобретателях В. В. Стасов в переписке с Толстым не упоминает.
6 И. А. Вышнеградский, друг и сокурсник Страхова по Главному педагогическому институту, крупный инженер-конструктор, теоретик машиностроения; в 1881 г. — профессор механики Технологического института в Петербурге, председатель Общества Юго-Западных железных дорог; генеральный комиссар Всероссийской выставки промышленности и художеств в Москве (1882 г.). Предприниматель.
7 В воспоминаниях о поездке на Святую Гору Страхов писал: «После того, как я съездил на Афон, для меня получила большую занимательность всякая книга или статья, где об нем говорится». Цель своих книжных разысканий и заинтересованного чтения Страхов определил так: «найти повторения иных впечатлений, которые я испытал и которые очень хотел бы встретить в полном и ясном выражении». Именно неудовлетворенность прочитанным и безуспешные попытки обнаружить «в чужих рассказах» «кой-какие черты», ставшие особенно дорогими его памяти после поездки, дали толчок к записи собственных впечатлений от увиденного и побудили Страхова предать свои заметки печати в 1889 г. (Страхов. Воспоминания и отрывки. С. 2). См. п. 326 и примеч. 5,7 к нему.
299
29 ноября СтрОХОВ — ТОЛСТОМУ
1881 г.
Санкт-Петербург Получил Ваше письмо, бесценный Лев Николаевич, и нашел в нем то самое, чего ожидал, тот упрек, который мне слышался в Вашем молчании и который я так часто сам себе делаю. Этот упрек смущает меня перед Вами и тревожит мою совесть постоянно. Почему я понимаю Ваши чувства, но не разделяю их?1 Буду говорить, как на исповеди. Потому, что у меня нет такой силы чувств, как у Вас; не хочу я насиловать себя или 200
прикидываться, а где же я возьму ту беззаветность, ту горячность, с которою Вы чувствуете, которою одарено Ваше сердце? Будьте снисходительны ко мне, не отталкивайте меня из-за этой разницы. Ваше отвращение к миру — я его знаю, потому что и сам испытывал его и испытываю, но испытываю в той легкой степени, в которой оно не душит и не мучит; но и привязанности к миру у меня никакой нет, если же есть какая, то я стараюсь теперь уничтожить ее, оборвать последние ниточки. Не имея положительных качеств, я решил заботиться об отрицательных. Постоянно я думаю об этом, и мне кажется, сделал некоторые успехи — не буду Вам рассказывать, так они еще малы, а, может быть, и те обманчивы. На усилия, на крутые повороты я неспособен, но знаю, что, постоянно держась одной мысли, одного пути, могу дойти до чего-нибудь хорошего. Я стал несравненно спокойнее, чем был, и всё благодаря Вам и чтению монашеских книг. Правда, это спокойствие беспрестанно нарушается, и опять приходится бороться; но колебания эти далеко не так мучительны, как бывали.
Любить людей — Боже мой, как это сладко! И в слабой степени я испытываю это чувство, я знаю его по опыту; но нет у меня силы и в этом, как и во всем другом. И все лучшие чувства, какие я нахожу в себе, я все их берегу, воспитываю в себе, держусь за них; но не в моей власти дать им порыв и огонь. Такова моя натура и такова моя судьба; жизнь сложилась сообразно с этими свойствами. Не будьте же строго требовательны ко мне; я Вам обязан, вероятно, лучшими минутами своей жизни; смотрите не на то одно, что во мне дурное, а и на то, что можно найти хорошего. А впрочем — наставьте меня; я Вас охотно слушаюсь, Вы сами знаете.
Ваш всею душою
Н. Страхов
1881.
29 нояб[ря]. Спб.
201
Печатается по: РО ИРЛИ. Ф. 302. Оп. 2. Ед. хр. 300. Л. 86-87. Впервые: Современный мир. 1913. № 10. С. 288-289. Ответ на п. 297.
1882
б февраля 1882 г. Санкт-Петербург
Ради Бога, не подумайте, что Ваше письмо огорчило меня,- напротив, оно меня тронуло и было мне сладко, как русский язык в Салониках2.
1 Страхов имеет в виду начавшие обнаруживаться его мировоззренческие несовпадения с Толстым и этим расхождением склонен был объяснять отсутствие писем от него в период после своего возвращения из Москвы в Петербург. См. примеч. 8 к п. 297.
2 В греческом городе Салоники Страхов провел три дня в ожидании отправки парохода в Константинополь (см. примеч. 1 к п. 296). Н. Я. Данилевскому Страхов, переживший тогда прилив чувства ностальгии, писал по возвращении: «Тяжело всё-таки на чужой стороне, и когда я попал в Салоники, не раз я вздохнул, приговаривая: „далеко до Петербурга"» (РВ. 1901. Февраль. С. 454).
300 Страхов — Толстому
Имею к Вам дело, бесценный Лев Николаевич. Иван Петрович Хрущов, председатель Постоянной комиссии народных чтений при Министерстве народного просвещения1, существующей с 1872 года, просит разрешения издать «Чем люди живы», для народа, отдельной книжкой, и желал бы знать Ваши условия. Я обещал ему написать Вам, предупреждая, однако, что едва ли получу ответ (по Вашему пренебрежению всяких дел), и что, вероятно, Вы уже немало получили подобных предложений в Москве.
Просить ли у Вас прощения за мое молчание? Я всё собирался писать, но часто думал, что Вы, в сущности, можете похвалить меня за то, что не надоедаю Вам. Думал же я об Вас постоянно; я написал даже об Вашем рассказе маленькую статью для «Гражданина»2. Разговоров об Вас также было немало; Соловьев3, по своей неспособности что-нибудь рассказать, ничего мне не сказал; но много говорили Боборыкин4 202
и Венгеров5, говорили с настоящим умилением, и я торжествовал, приговаривая: ага! ага! Слышу, что Ваша рукопись гостит теперь у Толстой, и очень собираюсь повоевать за нее6, так как там господствуют большие предрассудки, и мне хочется уяснить свое собственное положение — по отношению к этим предрассудкам.
Занят я был изданием своей книжки «Борьба с Западом в нашей литературе». Издание кончено, но цензура арестовала книгу7 и отправит ее к министру Н. П. Игнатьеву на решение. Министр, конечно, разрешит, но шуму наделано много, и я надеюсь, что, наконец, моя книжка будет иметь успех.
Внутри себя я переживаю тяжкую работу, и мне всё кажется, что есть какой-то успех. Нравственные радости и страдания имеют бесконечные степени; последней степени у них нет. И познание самого себя также не имеет пределов. Как ни бывает тяжело на душе, и как ни ясно видишь себя, через несколько времени чувствуешь себя еще тяжелее и видишь еще яснее. Это походит на какой-то обман, которому нет конца.
Фет написал мне два сердитых письма8, которые очень меня огорчили. Жалуется на то, что я его презираю и не хочу разделять его общества. Это за то, что я у него остановился!9 И грустно мне, и жалко его.
Вопрос об искусстве и науке не выходил у меня из головы. Вы, Лев Николаевич, по натуре больше новатор, а я по натуре больше консерватор. Буду защищать искусство и науку изо всех сил против Вас, Соловьева и Николая Федоровича10. Это область мне сродная, область мысли, а не дела; никто из Вас, стремящихся к деятельности, не может понять, какое различие между деятельностью и совершенным отсутствием позыва к ней, чистым созерцанием. Тут у меня весь центр тяжести.
Простите меня. Я часто вспоминаю бывалые выражения Вашего расположения ко мне и твердо надеюсь, что Вы помните мою любовь и понимаете мои чувства. Ради их простите мне и скуку, которую навожу, и всякие неисправности по отношению к Вам, которых избежал 203
бы человек покрепче и поживее, чем я. Графине мое усердное почтение
Печатается по: РО ИРЛИ. Ф. 302. Оп. 2. Ед. хр. 300. Л. 92-93. Впервые: Современный мир. 1913. №10. С. 289-291.
и поклон всем, кто меня помнит.
Ваш всею душою
1882.
6 февр[аля].
Спб.
Н. Страхов
1 И. П. Хрущев обратился через Страхова к Толстому от имени учрежденной (6 апреля 1872 г.) по высочайшему повелению при Министерстве народного просвещения Постоянной комиссии по устройству народных чтений в Петербурге и его окрестностях. В целях обеспечения просветительских чтений доступной пониманию масс литературой Комиссия выпускала популярные брошюры исторического и религиозного содержания тиражом 12 000 экз. и оплачивала труд авторов по единой ставке 70 руб. с листа. С августа 1882 г. при Комиссии существовало также особое издательское общество, которое вело свою деятельность на средства, пожертвованные в основном детьми графа С. Г. Строганова (10 000 руб.), подавшего мысль о желательности расширения тематики выпускаемой литературы за счет сочинений, способных принести народу пользу и вне рамок непосредственно публичных чтений. Издание легенды «Чем люди живы» под грифом Комиссии неизвестно; в перечне брошюр, имевшихся на складе Комиссии по состоянию на 1 июля 1883 г., произведение Толстого также не значится (см.: ЖМНП. Ч. 229. 1883. Сентябрь. С. 38-43). В 1882 г. московским Обществом распространения полезных книг было выпущено первое «народное» издание рассказа Толстого с рис. акад. В. О. Шервуда. В том же году владелец нового московского издательства «Народная библиотека» В. Н. Маракуев напечатает свой тираж произведения и повторит его выпуск в 1883 г.. В Петербурге отдельное издание рассказа появится лишь в 1883 г. — под маркой С.-Петербургского комитета грамотности при Императорском Вольном экономическом обществе.
1 Страхов Н. Новый рассказ гр. А. Н. Толстого [«Чем люди живы»]. — Гражданин. 1882. 5 февр. № 10-11. С. 24-25. По мнению Страхова, рассказ Толстого производит на читателя «неотразимое впечатление» прежде всего сообщенным ему «тоном искренности и простоты». Не останавливаясь на оценке художественных достоинств, критик обращает свое внимание преимущественно на содержательную сторону нового сочинения и отмечает, что «самое главное достоинство всего рассказа есть, конечно, удивительная сердечная теплота», с которой он написан, — и усматривает источник этой «теплоты» в «евангельском духе», «евангельской точке зрения» 204
автора, выработавшейся в «связи с занятиями гр. Л. Н. Толстого в последнее время». Утверждая всем смыслом произведения, что «люди живы любовью» друг к Другу, той «животворной любовью», которая, собственно, и делает людей людьми, художник находит образцы такого человеколюбивого отношения у «самых обыкновенных», «скорее маленьких, чем больших людей, по размерам своих душ». И если ему удалось своим изображением «схватить за сердце самых равнодушных», то добиться такого впечатления он смог именно потому, что «стал совершенно в уровень с этими людьми, что он смотрит на них не сверху и не снизу, а прямо, как на равных, как на братьев, как на своих». Страхов не без нравоучительности добавляет, что если между бедняками «подвиги и действия любви» «гораздо возможнее и не в диковинку», то среди состоятельных слоев общества они встречаются не часто: «Обставляя свою жизнь удобствами и усложняя ее, мы, очевидно, ставим помехи сближению людей и делаем тяжелым, и даже невозможным, то взаимное участие, которое совершенно просто делается у крестьян и бедняков». Заканчивает свою статью Страхов прямым выпадом против «общества». «Главная прелесть и новость рассказа Л. Н. Толстого» состоит, по его мнению, в том, что в нем «с неотразимою художественною выпуклостию» показано: «истинная жизнь» обнаруживается у таких простых людей, как «сапожник Семен со своею семьею», который «более достоин общества ангелов, чем мы с вами, любезный читатель», потому что «от нас самих, пожалуй, постоянно несет „мертвым духом"» (цит. по: Страхов. Критические статьи I. С. 415-418). — Примечательно, что иначе воспринял это произведение А. А. Фет. Толстой вспоминал: «Когда я написал рассказ „Чем люди живы", Фет сказал: „Ну, чем люди живы? Разумеется, деньгами!" (...) это было его убеждение. И как это часто бывает, то, чего люди очень упорно добиваются, того и достигают. Фету всю жизнь хотелось разбогатеть, и потом он и сделался богат. Его братья и сестры, кажется, посходили с ума, и всё их состояние перешло в нему» (Гольденвейзер А. Б. Вблизи Толстого. [М.], 1959. С. 63).
3 О встречах в Москве с Толстым Вл. Соловьев сообщал Страхову в письме от декабря 1881 г. (см. примеч. 8 к п. 296). В начале 1882 г. Соловьев вернулся в Петербург и возобновил чтение лекций на Высших женских курсах и в Петербургском университете. См. примеч. 7 к п. 302.
4 После возвращения из Москвы в январе 1882 г. Страхов общался с женой П. Д. Боборыкина Софьей Александровной, о чем известил А. А. Фета в письме от 16 января (Фет. Переписка II. С. 341). О встречах с Толстым П. Д. Боборыкин рассказал позднее в своих воспоминаниях «В Москве — у Толстого» («Международный толстовский альманах». М., 1909. С. 3-11).
5 С. А. Венгеров посетил Толстого в Москве 18 января 1882 г. с рекомендательным письмом от С. А. Юрьева и просил пцсателя дать какое-либо сочинение для нового народнического журнала «Устои». По словам познакомившегося в это время с Тол205
стым профессора И. И. Янжула, писатель с одобрением отозвался о редактируемом Венгеровым журнале и высказал намерение поместить в нем одну из своих статей (публикация не состоялась). Подробнее об этом см.: РЛ. 1961. № 1. С. 212; ЛН. Т. 37- 38. С. 184-185; Гусев IV. С. 112-114: Гусев. Летопись I. С. 547-548. Письмо Толстого Венгерову от конца марта 1881 г. с отзывом об «Устоях» см. также в: Юб. Т. 90. С. 248- 249. В отличие от Толстого Страхов отнесся более критически к новому изданию за его неуместное «подражательство» западной политической публицистике (Взгляд на текущую литературу. — Русь. 1883.3 янв. № 1. С. 53).
6 Вероятно, имеется в виду вдова поэта А. К. Толстого — С. А. Толстая, у которой (возможно, через посредство Вл. Соловьева) оказалась копия рукописи «Краткое изложение Евангелия». Страхов намеревался выступить в защиту труда писателя в салоне Толстой.
7 Книга Страхова «Борьба с Западом в нашей литературе: Исторические и критические очерки» (Книжка первая. СПб., 1882) была отпечатана к середине января (см. письмо А. А. Фету от 16 января 1882 г. с уведомлением: «Кончил печатание [одн(ой)] своей книги». — Фет. Переписка II. С. 341), но задержана цензурой за «дурацкое», по мнению руководившего с 1881 г. Главным управлением печати кн. П. П. Вяземского, опровержение автором «популярных западных теорий». Эту историю подробно изложил в своих воспоминаниях Е. Опочинин:
«Человек добрый, мягкий, с широким умственным горизонтом и большой терпимостью, Павел Петрович принужден был по указке свыше принимать суровые меры в отношении печати. Предостережения журналам и газетам сыпались одно за другим, и одни за другими запрещались как повременные издания, так и отдельные книги.
Вспоминается мне, между прочим, один любопытный эпизод из деятельности князя по управлению печатью. Придя как-то к нему вечером, я увидал в кабинете на оттоманке книгу под заглавием „Борьба с Западом“ Н. Н. Страхова. Книга меня заинтересовала и своим заглавием, и именем автора, и я начал ее просматривать, а Вяземский хитро смотрел на меня и улыбался.
— Знаете, — сказал он мне, — книга эта запрещена.
—Почему? — вырвалось у меня. — Ведь Николай Николаевич...
— ... дурак. — не дал мне договорить князь.
— Как можно, князь! Николай Николаевич Страхов — один из умнейших и образованнейших людей нашего времени.
— Может быть, — отрезал Вяземский. — Но все-таки дурак! Посмотрите, за что он берется? Опровергать теории самых больших ученых Запада? И он приводит их. И подробно. Тут же старается и опровергнуть их. Но доводы его ничтожны и глупы... Что же оказывается? Приводятся подробно умные теории, а рядом дурацкие их опровержения. Конечно, от этого первые только выиграют. Между тем теории эти вредны. Поэтому книгу надо запретить — она вредна. Ведь дурак в споре с умным человеком 206
всегда, и для всякого ясно, делает еще более заметным его ум» (Опочинин Е. Литературные портреты. — Опочинин Е. Среди великих. Литературные встречи. М., 2001. С. 265-266).
По поводу ареста книги Страхов писал Н. Я. Данилевскому: «Я напечатал из старых своих статей книгу Борьба с Западом в нашей литературе. Что же вы думаете? Книгу арестовали и теперь представят [министру внутренних дел Н. П.] Игнатьеву на решение, не сжечь ли ее. Видите ли, как я пишу, туманно и не вразумительно!» (РВ. 1901. Февраль. С. 455. — Курсив Страхова). Дополнительные подробности узнаем из письма Страхова А. А. Фету: «Посылаю Вам свою книжку, дорогой Афанасий Афанасьевич, и очень прошу внимания и снисхождения. История с этой книгой так меня занимала, что не успел до сих пор написать Вам. Цензура ее арестовала и употребляла усилия ее истребить; но, благодаря Н. П. Игнатьеву, выпустила из своих когтей. Очень меня огорчило подобное неразумие; зато имел случай видеться с Игнатьевым, и был совершенно очарован его умом и добротою» (письмо от 21 февраля 1882 г. — Фет. Переписка II. С. 342).
8 Оба «сердитых» письма А. А. Фета не сохранились. Страхов отвечал в примирительном тоне лишь 21 февраля: «Я очень обижался на Вас за то, что Вы не верили моему расположению, и очень огорчался, что Вы так огорчились» (Там же. С. 343). Косвенно о содержании писем Фета узнаем также из обращений объяснявшегося с ним Страхова. Одним из поводов к неудовольствию стали их разногласия в оценках писаний и деятельности Толстого, усугублявшиеся подозрениями Фета в том, что Страхов со своими симпатиями «перешел на противную сторону», утратив «душевное расположение» к Фету (письмо от 16 января 1882 г. — Там же. С. 341). Страхов продолжал увещать Фета и призывать его к большей терпимости по отношению к Толстому и в письме от 21 февраля: «Хотел и я повести речь о Л. Н. Толстом, но, кажется, лучше будет помолчать. Скажите, не великая ли беда, что между им и Вами, между Вами и мною возникают такие неудовольствия? Что нам делать? И кому же быть дружными, как не нам? Когда-нибудь увидимся и поговоримте серьезно на эту тему» (Там же. С. 343).
9 Страхов останавливался в доме Фета на Плющихе во время своего пребывания в Москве на рождественских и новогодних праздниках. См.: Фет. Переписка II. С. 341- 342.
10 Утверждая полезность искусства, его нужность народу, а также религиозный и нравственный смысл, Толстой отрицал многие явления искусства, в том числе, например, драматургию В. Шекспира или «Фауст» Гёте. Пренебрежительно отзывался он и о собственном художественном творчестве, называя его «бесполезным». Утопист Н. Ф. Федоров в своем «проекте» отводил искусству и науке лишь служебную роль (см.: Федоров Н. Ф. Собр. соч. Т. 4. С. 5-90). На тему о существе и значении искусства в общественной жизни людей Толстой рассуждал в оставшейся неза207
конченной статье для «Художественного журнала», задуманной в форме письма к редактору (Юб. Т. 30. С. 209-212). О своем намерении возражать на взгляды Толстого Страхов сообщал А. А. Фету в письме от 16 января: «К Толстому я всё еще собираюсь писать, и именно об искусстве. Он доказывает своими речами, что творчество совершается бессознательно,- а иначе как же он пришел в недоумение о деле, которое сам же делает?» (Фет. Переписка IL С. 342). Сведения о работе Толстого над «статьями» об искусстве появились в повременной печати и привлекли к себе внимание современников. Заинтересованный изложением мыслей писателя на близкую ему как художественному критику тему, Стасов замечал, обращаясь к Толстому: «Я вздумал написать вам сегодня, Лев Николаевич, потому, что прочитал в газетах известие. Что скоро появится несколько ваших статей о художестве. Это меня ужасно обрадовало. Наверное тут будет пропасть чудесного. От этого мне и пришло в голову приложить вам, в письме, одну статью из „Порядка“, где излагается содержание новейшей книги об искусстве, недавно появившейся в Париже. Я подумал, что авось вам будет интересно посмотреть, что ныньче думают и говорят на Западе самые прогрессивные люди об том самом предмете, о котором скоро будете говорить и вы. (...) Еще я вам скажу, Лев Николаевич, что меня ужасно удивило объявление, что ваши статьи о художестве появятся — где же? В „Художественном Журнале“ Александрова, интригана, пройдохи и писателя, можно сказать, наемного для похвалы и брани. Это один из людей, которых по-французски называют: un homme taré — как это сказать лучше по-русски, не умею, разве „человек с пятнами“ — что ли. Как этот молодчик до вас пролез — недоумеваю» (Толстой и Стасов. Переписка. С. 60-61. — Курсив Стасова). Работы Толстого в издании Н. А. Александрова не появлялись. Статьи писателя с размышлениями об искусстве будут напечатаны лишь через 15 лет.
301
14 порто 1882 г. Толстой — СтрОХОВ/
Носква
Дорогой Николай Николаевич!
Виноват, что долго не отвечал вам; виноват, п[отому] ч[то] знаю, что ответ мой о вашей книге1 вам интересен и молчание тяжело. Я как получил, так и прочел ее. Статьями о Герцене2 я 6[ыл] восхищен, статьей о Милле3 удовлетворен, но статьями о коммуне и Ренане4 не удовлетворен. — Позитивисты говорят, что то, о чем люди думают и всегда 208
думали, — пустяки и не надо о том думать. Они не имеют права этого говорить и выходят из затруднения, отрицая его. Это неправильно. Вы делаете то же, но хуже. Вы отрицаете не то, что думают — а то, что делают люди. Вы говорите — они делают вздор. Задача в том, чтобы понять, что и зачем они это делают5.
Этим мне не понравилась ваша книга. — Простите не за правду, а за правдивость.
Я устал ужасно и ослабел6. Целая зима прошла праздно7. — То, что по-моему нужнее всего людям, то оказывается никому не нужным. Хочется умереть иногда. Для моего дела смерть моя будет полезна. Но если не умираю, еще видно нет на то воли Отца8. — И часто, отдаваясь этой воле, не тяготишься жизнью и не боишься смерти. Напишите про себя. Мне всегда радостны ваши письма. Да напишите, что слышно про приговоренных9.
Обнимаю вас.
Л. Толстой
Печатается по: ОР ГМТ.Ф. 1.№5459. Л. 1,2. Нал. 1 помета Страхова: «14 марта 1882. Ясн[ая]». Письмо написано в Москве. Впервые: Современный мир. 1913. №10. С. 291. В/Об.:Т. 63. С. 93-94.
Датируется по помете Страхова.
1 Речь идет о книге: Страхов Н. Борьба с Западом в нашей литературе: Исторические и критические очерки. Книжка первая. СПб., 1882. XII, 362 с. — сборнике статей, ранее печатавшихся в различных периодических изданиях. См. примеч. 7 к п. 300.
2 В статье «Герцен» (1870) Страхов преимущественно рассматривал воззрение А. И. Герцена на Европу, буржуазно-демократическое государство, проблему революции, а также давал оценку его взглядам на исторические судьбы России и ее будущее. В очерке содержалась высокая оценка Герцена как писателя, вступившего в борьбу с идеями Запада, пришедшего к отрицанию «европейских начал» и к уверенности в самобытном развитии России. Страхов, в известном смысле, мог считать себя продолжателем критического дела Герцена, когда в предисловии к первому изданию книги «Борьба с Западом в нашей литературе» (помеченном 13 января 1882 г.) писал: «Нам предстоит совершить критику начал, господствующих в европейской жизни, и привести к сознанию другие, лучшие начала. Задача эта давно уже поставлена. (...) Нам не нужно искать каких-нибудь новых, еще не бывалых на свете начал; нам следует только проникнуться тем духом, который искони живет в нашем народе и содержит в себе всю тайну роста, силы и развития нашей земли» (Страхов. Борьба с Западом I. С. V-VI). — Об отношении Толстого к Герцену можно судить по его высказыванию 209
в записи Д. П. Маковицкого от 26 ноября 1908 г.: «Перед Герценом я всегда преклонялся... » (ЛН. Т. 90, кн. 3. С. 256).
3 Речь идет о статье «Милль. Женский вопрос», которую Толстой читал еще в журнале «Заря». 1870. № 2. Свое мнение об этой статье он высказал в неотправленном письме к Страхову от 19 марта 1870 г. (п. 1).
4 Имеется в виду статья «Парижская коммуна», в которой Страхов отрицательно высказывался о «восстании» 1871 г., рассмотрев в коммуне новый «тип» революций — социальный, в отличие от прежнего — политического. По мнению Страхова, Парижская коммуна знаменовала собой начало нового этапа общественной борьбы, которая окажется «страшнее всех прежних» сотрясавших Европу переворотов, потому что будет вестись не за общечеловеческие ценности, а за узко-классовые интересы противостоящих друг другу «богатых» и «бедных», имущих и неимущих. Кто бы в этой схватке ни победил, в итоге проиграет общество в целом. Самую цель социального переустройства — уничтожение имущественного неравенства — Страхов считал противоречащей здравому смыслу, утопической, недостижимой. — В статье «Ренан», используя многочисленные выдержки из трудов Э. Ренана на социальнополитические темы, Страхов утверждал свою концепцию истории, противопоставляя буржуазно-демократической Франции самодержавную и православную Россию.
5 Книга Страхова подала очередной повод для выявления разногласий между корреспондентами в оценке общественных явлений, обнаружившихся еще при обмене мнениями по поводу «дела Засулич» (п. 189—198). Если Страхов не мог примириться и не принимал ни с нравственной, ни с практической точек зрения совершавшееся на его глазах нигилистическое «дело» («что делают люди»), независимо от тех или иных побудительных мотивов «делателей», то Толстой, напротив, настаивал на необходимости принимать во внимание именно обстоятельства и причины, заставлявшие людей выступать против сложившихся отношений и порядка («понять зачем они это делают»).
6 На состояние здоровья и упадок настроения Толстой неоднократно жаловался в письмах к С. А. Толстой из Ясной Поляны, где он провел несколько дней в конце февраля - начале марта (см.: Ю6. Т. 83. С. 318-329). По признанию Толстого, его мучили мигрени, геморрой и давала о себе знать печень: «Это период моего желчного состояния: во рту горько, ноет печень и всё мрачно и уныло» (письмо от 3 марта 1882 г. — Там же. С. 323). «Отчего я так опустился, я не знаю. Может быть, года, может быть, нездоровье...» (письмо от 4 марта 1882 г. — Там же. С. 325).
7 Толстой имеет в виду затянувшийся перерыв в его писаниях на религиознонравственные темы. Во время непродолжительного пребывания в Ясной Поляне (см. примеч. 6) им были предприняты попытки вернуться к оставленным занятиям и возобновить художественное творчество. Ср.: «Сейчас в первый раз раскрыл свои тетради и вижу возможность писать». «Я нынче пытался писать, но сделал мало. Всё 210
какая-то усталость...». «... Несмотря на нездоровье, набираюсь сил, и многое лучше, яснее и проще обдумываю. Может быть, это мечты и загадыванья ослабевающаго, но приходят всё в голову мысли о поэтической работе. / И как бы я отдохнул на такой работе» (письма к С. А. Толстой от 28 февраля, 2 и 3 марта 1882 г. — Там же. С. 320, 321,324).
8 В ответ на подобные жалобы С. А. Толстая возражала мужу: «... твое письмо. Всё хуже и хуже. Это тоскливое состояние уже было прежде, давно: ты говорил: „от безверья повеситься хотел“. А теперь? Ведь ты не без веры живешь, отчего же ты несчастлив? И разве ты прежде не знал, что есть голодные, больные, несчастные и злые люди? Посмотри получше: есть и веселые, здоровые, счастливые и добрые. Хоть бы Бог тебе помог, а я что же могу сделать?» (письмо от 3 марта 1882 г. — Цит. по: Там же. С. 322).
9 С 9 по 15 февраля 1882 г. в Особом присутствии Правительствующего Сената в Петербурге слушалось дело по обвинению 20 народовольцев (А. Д. Михайлова, М. Ф. Фроленко, Н. А. Морозова, Н. Н. Колодкевича, Т. И. Лебедевой Н. Е. Суханова, Н. В. Клеточникова, А. И. Баранникова и др.) в принадлежности к социально-революционной партии и участии в террористических актах. 10 обвиняемых были приговорены к смертной казни. Толстой имеет в виду известия о решении участи приговоренных императором Александром III, которое ожидалось уже около месяца. Об этом же он запрашивал С. А. Толстую еще в письме от 4 марта из Ясной Поляны: «Что о приговоренных? Не выходит у меня из головы и сердца. — И мучает, и негодованье поднимается, самое мучительное чувство» (Юб. Т. 83. С. 326). Александр III изменил вынесенный приговор: девяти приговоренным была сохранена жизнь и вменена в наказание бессрочная каторга; Суханову, как офицеру действительной службы, нарушившему присягу, повешение заменено «расстрелянием»; было удовлетворено ходатайство суда о сокращении срока наказания некоторым осужденным.
302
Строхов — Толстому 31 порта 1882 г.
Санкт-Петербург
Как я обрадовался Вашему письму, бесценный Лев Николаевич! Как горячо захотелось мне отвечать Вам, спорить против Вашего упрека — но я вдруг заболел и с неделю был ни к чему не способен1. Теперь поправляюсь, и всё же прошу извинить мое писание. Ваше возражение мне давно и не раз приходило в голову (есть даже у меня статья на эту 211
тему2). Всё это движение, которое наполняет собою последний период Истории, либеральное, революционное, социалистическое, нигилистическое, — всегда имело в моих глазах только отрицательный характер,- отрицая его, я отрицал отрицание3. Часто я задумывался над этим и был изумляем, видя, что свобода, равенство, эти идолы для многих, эти знамена битв и революций, в сущности не содержат в себе ни малейшей привлекательности, никакого положительного содержания, которое могло бы дать им настоящую цену, сделать положительными целями. Начиная с Реформации и раньше и до последнего времени, всё, что люди делают (как Вы говорите) — не вздор, а постепенное разрушение некоторых положительных форм, сложившихся в средние века. Четыре столетия идет это расшатывание и должно кончиться полным падением. В эти четыре века положительного ничего не явилось, да и теперь нет нигде в целой Европе. Самое новое — в Америке и состоит в том, что голоса продаются, места покупаются и т. п. Общество держится старыми элементами, остатками веры, патриотизма, нравственности, мало-помалу теряющими свои основания. Но так как эти начала были воспитаны христианством до неслыханной силы, то человечество неизгладимо носит их в себе, и их еще долго хватит для его поддержания. Но живет оно не ими, а против них или помимо их4. Все новые принципы — прямое признание мирской, земной жизни — и вот отчего так пышно нынче развилась жизнь. Есть простор для всего, для всякого рода деятельности, и для науки и искусства, и для служения Марсу, Венере и Меркурию.
В таком странном положении живут люди. Нынешняя жизнь носит противоречие внутри себя. Она возможна только потому, что человек вообще может жить, не имея внутреннего согласия, и останавливаясь на какой-нибудь одной мысли, напр[имер], свободы, национальности, обязательного обучения и т. п.
И вот я отрицаю самые крайние из отрицаний, и говорю, что если люди в них живут и действуют, то только в силу каких-нибудь положительных начал, обманывая сами себя, принимая призраки за действи212
тельность, любя и злобствуя, но без настоящего предмета для любви и злобы5.
Я давно смотрю и вглядываюсь, но не вижу ясного идеала.
И Вам ли меня упрекать? Не Вы ли видите одно лишь безобразие и обман в самых огромных сферах и в самых распространенных формах человеческой жизни? Если у Вас одно отрицаемое, а у меня другое, то Ваше шире по объему и труднее для объяснения, чем мое. Всемирная история есть повесть безумия и в том и в другом случае, но, по-Вашему, безумия более повального и жестокого, чем по-моему. И разве в «Коммуне»6 и в «Ренане» я уж нисколько не объясняю, почему люди это делают?
В сущности, Ваша правда (только не ловите меня на слове); такие критические очерки, как мои, непременно требуют положительного изложения начал, и без этого изложения легко могут быть употреблены на подпору самых дурных начал. Но, Боже мой, это свое фальшивое положение я чувствую с тех пор, как пишу; я им мучусь, я знаю, что лучше бы прямо проповедовать, цельную систему, ясную мысль. Но я делаю, что могу, и много, много молчу, и говорю осторожно и ясно; не пошлет ли Бог других, которые скажут лучше и полнее?
Соловьев вдруг всё бросил и уехал из Петербурга7, почему? — не мог я дознаться, а сам он давал понять, будто из-за фальшивого положения, в которое привела его его проповедь8. Скорей, я думаю, по любовным делам.
Книжка моя быстро расходится9. Это первая моя книга, имеющая успех, и был день, когда это мне показалось очень сладким.
Потихоньку я занимаюсь. Юрьев поступает со мною невежливо и бессовестно; статьи моей не печатает10, на письма не отвечает и на просьбы мои — прислать статью назад — ни слова.
Фет пишет мне и часто — длиннейшие письма, наполненные философскими рассуждениями11, которые, конечно, сам забывает прежде, чем успеет запечатать письмо.
213
Печатается по: РО ИРЛИ. Ф. 302. Оп. 2. Ед. хр. 300. Л. 94-95. Впервые: Современный мир. 1913. №10. С. 291-293. Ответ на п. 301.
От души прошу — простите меня. Ваши грустные строки о себе — больно поразили меня. Если бы Вы искали покоя. Вы бы нашли его; но Вы не хотите. А для всех нас Ваш покой был бы зрелищем самым радостным и самым поучительным.
Графине мое усердное почтение12. Сереже13 и кто меня помнит — кланяюсь.
Весь Ваш
Н. Страхов
1882.
31 марта.
Спб.
1 Состояние физического недомогания Страхов периодически переживал с конца 1881 г., о чем сообщал, в частности, А. А. Фету. Ср.: «Мне очень нездоровится, дорогой Афанасий Афанасьевич, и если мышьяк не поможет (меня кормят мышьяком), то не знаю, как устроится моя поездка в Москву, о которой я так мечтал». «А мне всё нездоровится (...) Всеми силами постараюсь не разболеться...». «Конечно, дорогой Афанасий Афанасьевич, я явился к Вам в Москву не в большом авантаже: больной и с тоскливым настроением» (письма от 20, 21 декабря 1881 г., 16 января 1882 г. — Фет. Переписка II. С. 340,341). Лишь спустя некоторое время Страхов смог избавиться от недуга; 7 февраля он известил Н. Я. Данилевского: «Здоровье покачнулось было, да опять справилось» (РВ. 1901. Февраль. С. 456). Очередной приступ нездоровья пришелся на весну 1882 г. и продолжался до начала лета. «Я проболел всю Страстную и теперь только оправляюсь, — писал он тому же Данилевскому 29 марта и добавлял — всё еще нездоровится» (Там же. С. 456-457). Ср. с сообщениями в письмах к Фету: «Сам я после своей болезни всё не могу хорошенько поправиться и кое-как тяну время». «Не писал я Вам потому, что всё нездоровилось, да нездоровится и теперь (...) болезнь отняла у меня всякую энергию; мне хочется одного — отдохнуть и отдохнуть» (письма от 21 апреля и 13 мая 1882 г. — Фет Переписка II. С. 343, 344). Лишь в начале июня он сможет уведомить Фета и Данилевского о перемене к лучшему: «Здоровье мое поправилось, но чувствую себя неспособным к работе...». «Теперь я поздоровел, так что не прочь, пожалуй, и за границу ехать... (Там же. С. 345; РВ. 1901. Февраль. С. 457).
2 Возможно, Страхов имеет в виду не опубликованное тогда пятое «письмо о нигилизме», в котором рассуждал об «отрицательном» содержании общественного «прогресса» (см. примеч. 19 к п. 284 и примеч. 9 к п. 290).
214
3 Одно из основных расхождений во взглядах на действительность между Страховым и Толстым: если первый «отрицал отрицание» российской действительности, а вместе — и ее «отрицателей», прежде всего из радикального лагеря, то последний «отрицал» самую наблюдаемую им в России действительность; если Толстой видел в радикальном движении реакцию на общее неустройство русской жизни, то Страхов находил, что «главная сторона нигилизма есть, безо всякого сомнения, его идеальная сторона, что он порождается и питается существенным образом отвлеченными мыслями и настроениями, а не какими-нибудь конкретными интересами и потребностями»; пораженные «острою мечтательностью» — «мечтаниями, отрешенными от действительной жизни», — эти люди «слепнут для действительности и тратят свои силы и деятельность на погоню за воображаемыми благами и на борьбу против воображаемых зол» (Письмо V о нигилизме. — РВ. 1898. Январь. С. 151; Страхов. Борьба с Западом I. С. IV, V). См. также п. 303.
4 На эту тему Страхов размышлял также в третьем «письме о нигилизме», а также в предисловии к первому изданию книги «Борьба с Западом в нашей литературе».
5 Страхов повторяет свою мысль из предисловия к первому изданию «Борьбы с Западом в нашей литературе». Ср.: «...всё наше историческое движение получило какой-то фантастический вид. Наши рассуждения не соответствуют нашей действительности; наши желания не вытекают из наших потребностей; наша злоба и любовь устремляются на призраки; наши жертвы и подвиги совершаются ради мнимых целей. Понятно, почему такая действительность бесплодна, почему она только пожирает силы и расшатывает связи, а ничего доброго произвести не может» (Страхов. Борьба с Западом I. С. Ш-1У).
6 Произведения Страхова: «Парижская коммуна» (1871) и «Ренан» (1872), вошедшие в первый сборник очерков «Борьба с Западом а нашей литературе».
7 В своей краткой автобиографии, составленной в мае 1887 г., Вл. Соловьев отмечал: «В январе 1882 г. возобновил чтения по философии в Петербургском университете и на Высших женских курсах, но через месяц уехал из Петербурга и оставил окончательно профессорскую деятельность» (Соловьев. Письма II. С. 338). Вопрос о возможности возобновления преподавательской деятельности Соловьева, в частности на Женских курсах, поднимался в письме к нему директора курсов К. Н. БестужеваРюмина непосредственно перед началом 1881/1882 учебного года. Отвечая на обращение, Соловьев сообщал из Москвы 18 сентября 1881 г.: «Невозможность для меня читать в первое полугодие происходит от того, что, по разным печальным обстоятельствам личным, я всё это лето не мог ни отдыхать, ни работать, и теперь должен месяца три предаться усиленному писанию, для чего и поселяюсь (...) в совершенном уединении. Во втором же полугодии я и желаю, и надеюсь читать, и притом на обоих курсах. (...) Читать я намерен во всяком случае бесплатно» (Соловьев. Письма III. С. 34). Свою первую после перерыва лекцию Соловьев прочитал в конце января (по некоторым све215
дениям — 21 января или в последнюю неделю месяца), вторую — 3 февраля и продолжал далее читать один раз в неделю. Всего известно о пяти чтениях Соловьева перед слушательницами Курсов, из них записаны и сохранились тексты трех лекций (опубл.: Соловьев. ПССиП. Т. 4. С. 448-464). Параллельно Соловьевым велся цикл чтений по философии религии в Петербургском университете; в печати появились отчеты о лекциях 18 и 25 февраля (см.: Там же. С. 776,779-782). О содержании выступлений можно судить по общему изложению тематики курса в письме Соловьева к БестужевуРюмину от 18 сентября 1881 г.: «Прошлый год я остановился на Платоне, и теперь мог бы читать о Платонизме и Христианстве (Аристотель, стоики е!с. отнеслись бы сюда же, поскольку их идеи заполняли философию Платона и вошли в состав Неоплатонизма). Это я мог бы читать обоим курсам соединенно, предпославши несколько вступительных лекций, которые для четвертого курса были бы обзором уже пройденного» (Соловьев. Письма III. С. 34). Более подробно о программе читавшегося Соловьевым предмета сообщает современник: «Программа его курса в 1882 году была следующая: I) Жизненный смысл христианства. II) Общие замечания о религиозно-философском развитии древнего мира. Несколько слов о мистериях. III) Христианство и иудейство. IV) Умозрения Востока и их влияние на иудейство. Каббала. V) Платоническая философия. Аристотель и стоики как дополнение платонизма. VI) Древнееврейская теософия. VII) Филон иудейский. Неоплатонизм. VIII) Неоплатонизм. IX) Гнозис и манихейство. X) Платоническое христианство. XI) Рационализм и натурализм как реакция христианского начала против платонизма. XII) Условия истинного христианства» (цит. по: Соловьев. ПССиП. Т. 4. С. 775. О содержании первых лекций см. также примеч. 8). По отзыву того же современника, «лекции Вл. С. Соловьева по философии религии возбудили величайший интерес, чему причиною были, конечно, глубина и оригинальность мысли лектора, в связи с убежденностью речи, запечатленной искренностью и вдохновением» (Там же). Однако, прочитав очередные лекции на курсах (24 февраля) и в университете (25 февраля; опубл.: Последняя лекция Владимира Сергеевича Соловьева в С.-Петербургском университете в 1882 г. (Лекция 25 февраля). [СПб., 1882]), Соловьев накануне или в день 1 марта внезапно покидает Петербург. О причине, вызвавшей столь неожиданное прекращение начатого курса лекций, а затем и решительный отказ от педагогической деятельности, единого мнения не имеется. Помимо намеков самого Соловьева (о «фальшивом положении», в которое его поставили лекции), предположения Страхова («любовные дела»), намеренно завуалированного утверждения современника («Философское преподавание с кафедры сделалось для Соловьева, по независящим от него обстоятельствам, недоступным навсегда, и русская молодежь была лишена возможности испытывать на себе непосредственно то благотворное влияние, которое оказывал на нее Соловьев на лекциях и в беседах»), имеется свидетельство как правило хорошо осведомленного 216
Б. М. Маркевича в письме к М. Н. Каткову о том. что Соловьев покинул Петербург «испуганный предложениями, сделанными ему нигилистической партией из редакции газеты Светоч, которой для чего-то понадобилось его имя и которая рассчитывала на его сочувствие на основании известной его выходки против казни цареубийц» (цит. по: Там же. С. 776). Высказанное Маркевичем соображение становится более понятным, если принять во внимание внутриполитические обстоятельства, на фоне которых состоялись лекции Соловьева: с 9 по 15 февраля в Петербурге, в здании Окружного суда на Шпалерной ул., в Особом присутствии Сената рассматривалось так называемое «дело 20-ти» — самый крупный (по роли обвиняемых в организации) «политический» процесс над террористами партии «Народная воля». Решением суда 10 привлеченных к ответственности были приговорены к смертной казни через повешение, пятеро — к бессрочным каторжным работам и остальные — к 20 годам каторги. Приговор и ходатайства суда были представлены на высочайшее рассмотрение; решение Александра III последовало 17 марта (с соответствующим изменением ряда приговоров; подробнее см.: «Народная Воля» перед царским судом. М., 1930). См. примеч. 9 кп. 301.
8 О содержании первых лекций Соловьева можно составить представление также по краткому отзыву о них его внимательного и заинтересованного (по исполняемой должности) слушателя — попечителя Петербургского учебного округа бывшего профессора Московского университета Ф. М. Дмитриева, изложенного им обер-прокурору Синода К. П. Победоносцеву в письме от 2 марта 1882 г.: «Соловьев с тех пор прочел 4 лекции. Из них я был на трех. (...) На 1-й лекции он говорил о современной расшатанности научных воззрений и их материалистическом направлении, объясняя это явление падением в современном обществе религиозно-нравств[енных] начал. Вторая содержала краткий обзор истории религий, причем иудейство выставлялось как высшая форма религиозных] воззрений древнего мира, — поклонение Богу как лицу и личное отношение к нему человека. Третья, очень странная, была посвящена еврейскому вопросу. По мнению Соловьева, еврейский вопрос будет разрешен в России, ибо здесь, во всеобъемлющем духе православия, они примирятся с ненавистным им христианством; с другой стороны, они принесут России недостающий ей элемент — сильное развитие субъективного духа, которым всегда отличались. / То, о чем Вы пишете, могло быть сказано только на 4-й лекции. Я полагаю, что переданное Вам впечатление не совсем верно. По всей вероятности, Соловьев говорил то же, что в прошлогодних лекциях, напечатанных в „Православном] Обозр[ении]“, и которых оттиску меня есть. Там католицизм выставляется как религия одного внешнего культа, доходящего до идолопоклонства, — православие, как соединение культа и личного отношения к Богу. Протестантизм, который берет за основу лишь последнее, имеет явное значение протеста против католицизма. Не думаю, чтоб Соловьев мог говорить 217
против культа и церкви. На масленице он читал воспоминание о Достоевском, которому вменял в особенную заслугу его сыновнее отношение к церкви. Еще менее могу предположить, чтоб в И. Христе он отделял идею от личности. В напечатанном прошлогоднем курсе он видит в воплощении не только непосредственное откровение божеское, но и поднятие им человечества до себя или, как он выражается, обожествление человечества. — Если в его взглядах есть много недостаточно верно выведенного, или же произвольного, то во всяком случае с Льв. Толстым у него ничего нет общего» (К. П. Победоносцев и его корреспонденты: Письма и записки. Т. 1, п/т 1. М.; Пг., 1923. С. 278-279).
9 В письме к А. А. Фету от 21 апреля Страхов сообщал: «Книга моя пошла превосходно, и даже я дождался печатных похвал не от одного [И. С.] Аксакова» (Фет Переписка II. С. 343). О положительном отзыве А. Д. Градовского Страхов уведомлял Н. Я. Данилевского (также приславшего благожелательный отклик) в письме от 29 марта (см.: РВ. 1901. Февраль. С. 457). Выпуская в следующем году второй сборник очерков «Борьба с Западом в нашей литературе», Страхов в предисловии благодарил читателей, «так быстро раскупивших книжку», изданную им в 1882 г. (Страхов. Борьба с Западом II. С. VII). В начале сентября Страхов уже мог известить Фета, что «„Борьбы с Западом“ осталось из 1500 экземпляров только 400» (Фет. Переписка II. С. 346). А в конце марта 1883 г. он вполне определенно сообщает Н. Я. Данилевскому, что «первая [книжка]почти вся разошлась» (письмо 21-28 марта 1883 г. — РВ. 1901. Февраль. С. 464).
10 Речь идет о статье Страхова «Об основных понятиях физиологии», которая будет напечатана в журнале С. А. Юрьева в следующем году. См.: Русская мысль. 1883. Май (Кн. 5). С. 1-32 (вторая пагинация).
11 Письма Фета к Страхову за 1882 г. не сохранились. Ответы Страхова см.: Фет. Переписка II. С. 341-352.
12 С. А. Толстая высоко оценила это письмо Страхова и привела из него обширные выдержки в своих воспоминаниях: «Письмо чрезвычайно умное и как бы предсказывающее дальнейший исторический ход русской жизни. Я его переписала частями, потому что оно мне очень нравится...» (Толстая. Моя жизнь I. С. 376). Не менее впечатлило ее и замечание Страхова в конце письма о нравственном состоянии Толстого («Если бы Вы искали покоя, Вы бы нашли его; но Вы не хотите»). «Эти последние слова поразили меня своей справедливостью. Действительно, Лев Николаевич не хотел покоя и как будто болезненно-упорно держался в том настроении, в котором отрицал и осуждал ввсё, и боялся его нарушить раньше, чем выскажет в своих писаниях» (Там же. С. 377).
13 Старший сын Толстого Сергей Львович.
218
303 Толстой — Отрохову
Я говорю, что отрицать то, что делает жизнь, значит не понимать ее. Вы повторяете, что отрицаете отрицание. Я повторяю, что отрицать отрицание значит не понимать того, во имя чего происходит отрицание. Каким образом я оказался с вами вместе, не могу понять.
Вы находите безобразие, и я нахожу. Но вы находите его в том, что люди отрицают безобразие, а я в том, что есть безобразие1.
И почему мое отрицаемое труднее для объяснения, чем ваше — тоже не знаю. Вы отрицаете то, что живет, а я отрицаю то, что мешает жить. Трудности же для объяснения того, что я отрицаю, нет никакой. Я отрицаю то, что противно смыслу жизни, открытому нам Христом, и этим занимается всё человечество. До сих пор уяснилось безобразие рабства, неравенства людей, и человечество освободилось от него, и теперь уясняется безобразие государственности, войн, судов, собственности, и человечество всё работает, чтобы сознать и освободиться от этих обманов. Всё это очень просто и ясно для того, кто усвоил себе истины учения Христа1 2; но очень неясно для того, для кого международное, государственное и гражданское право суть святые истины, а учение Христа хорошие слова.
3 апреля 1882 г. Москва
Печатается по: ОР ГМТ.Ф. 1.№5460. Л. 1,2. Нал. Помета Страхова: «3 апр[еля] 1882. Ясн[ая]». Письмо написано в Москве. Впервые: Современный мир. 1913. № 10. С. 294. В/Об.:Т. 63. С. 94-95.
Датируется по помете Страхова. Ответ на п. 302.
1 Ср. примем. 3 к п. 302.
2 Расхождение Толстого и Страхова распространялось не только на «отрицаемую» составляющую действительности, но и на «утверждаемые» цели и идеалы. «Положительная» часть воззрений Толстого имела в виду обращение к «очищенному от лжи» учению Христа, как средству выхода общества из нравственного тупика; пессимизм взглядов Страхова провидел впереди только несчастия и гибель для «сбившегося с пути» социума (см. п. 304).
219
304
21 апреля СгрйХОВ — ТОЛСТОМУ
1882 г.
(бНКТ-Петербург Получивши Ваше письмо, бесценный Лев Николаевич, я сейчас же го¬
тов был отвечать Вам, но всё ждал хорошего духа. Мне до сих пор нездоровится1, а хотелось бы хорошенько сказать свою мысль. Я не отрицаю Вашего отрицания, а отрицаю другое отрицание, совершенно противоположное Вашему2. Что говорит христианин? «Я не хочу имущества, не хочу власти над другими, не хочу судить, не хочу убивать, брать подати».
Это святые желания, и их запрещать невозможно. А что говорят те отрицатели, которых я отрицаю? «Я не хочу, чтобы у кого-нибудь было имущества больше моего, не хочу, чтобы кто-нибудь имел власть надо мною, не хочу быть судимым, не хочу быть убитым, не хочу платить податей». Разница большая, и как возможно смешать тех и других? Источник одних желаний есть отречение от себя, источник других — чистый эгоизм. Сходство заключается только в том, что по-видимому отрицаются одни и те же предметы; но, в сущности, отрицание имеет не одинаковый смысл, и это тотчас видно по последствиям. Христианские желания всегда возможно исполнить, ибо в них дело идет о перемене в нас самих; желания эгоиста неисполнимы, ибо требуют перемены целого мира и перемены, для мира невозможной. Я могу никого не убивать, но ручаться, что меня никто не убьет, нельзя будет никогда. Когда же те и другие принимаются действовать, тогда разница начал обнаруживается всего яснее. От христиан нельзя ждать никакого насилия и разрушения; эгоисты же против суда ставят суд, против казни — убийство, против поборов — грабеж, против власти — измену, бунт, разрушение. Они последовательны, потому что их принцип тут не нарушается. Если я не хочу быть убитым, то, разумеется, я должен убить убивающего меня; если же не хочу убивать, то не стану стрелять в спину даже разбой220
нику. Если не хочу неравенства в имуществе, то отниму у богатого; если не хочу имущества, то отдам свое.
Характер эгоизма в высшей степени ясен у всех отрицателей; т. е. не то, что они сами великие эгоисты, а то, что признают эгоизм священным принципом. Они пылают негодованием против неправды, а неправдою называют нарушение чьего-нибудь эгоизма; тогда как грех вовсе не в этом нарушении, а в нечистом желании, в неправде душевной. В сущности, когда мы щадим чужой эгоизм, обходимся с ним осторожно, мы поступаем как воры, не выдающие других воров, или распутники, считающие долгом чести не выдавать женщин, с которыми блудят. Во всем направлении современных умов, во всех толках и стремлениях Вы не найдете и намека на самоотречение, как на коренной принцип; всякое душевное благородство рассматривается только как средство для эгоистического земного благополучия. Эта черта нынешних умов и душ — отвратительна; и самые эти души гораздо лучше своего исповедания3.
Государство и Церковь действуют иначе. Они выставляют своею целью общее благо и прямо требуют для этого блага ограничения эгоизма, пожертвования некоторою его долею. Это понятно, это логично, и достижимо, и выполняется в огромных размерах. Злоупотребления не вытекают из самого принципа государства и Церкви, точно так же, как и добрые чувства отрицателей не вытекают из принципа эгоизма. Государство в известном смысле требует от каждого, чтобы он отчасти отрекался от своего имущества, от своей воли и иногда и от своей жизни. Вот почему против него и восстают отрицатели. Это некоторый положительный принцип, и отрицать его труднее, чем отрицать эгоизм, который в самой сущности есть отрицание, отвержение всяких связей4.
Итак, мир и мирское для меня имеют такое же низкое значение, как и для Вас; но Вы, отвергая мир, находите что-то подобное своему отвержению в том, в чем я вижу только крайнее выражение мирского начала; Вы думаете, что мир добивается жизни, а я думаю, что он идет к смерти, что он доводит развитие своих начал до того, что сам себя убьет и только 221
Печатается по: РО ИРЛИ. Ф. 302. Оп. 2. Ед. хр. 300. Л. 96-97. Впервые: Современный мир. 1913. № 10. С. 295-296. Ответ на п. 303.
этим убедится в ложности этих начал. Мечты человеколюбия, обновления, благополучия не имеют правильного источника, правильной цели и потому приведут к убийству, к хаосу и страданию5. Весь вопрос, как Вы справедливо говорите, заключается в том, какое безобразие больше, то ли, которое Вы отрицаете, или то, которое я; но я твердо убежден, что то, что я отрицаю, есть несомненное безобразие6.
Чувствую, что много бы нужно еще сказать и сказать лучше, чем говорю; но прибавлю только, что грусть мучит меня ужасная, и что я почти прихожу в негодование при виде людей спокойных и в хорошем духе7. Простите, что я так навязчиво спорю с Вами; мне дорого Ваше хорошее мнение, и я не хотел бы, чтобы Вы меня неправильно понимали. Еще раз, простите меня.
Ваш душевно
Н. Страхов
1882.
21 апр[еля].
Спб.
1 См. примеч. 1 к п. 302.
2 Страхов продолжает спор о нигилизме, противопоставляя отрицанию нигилистов, в котором он видит преобладание чистого эгоизма, христианское отречение от эгоистических интересов.
3 Эту тему Страхов развивал в четвертом «письме о нигилизме».
4 Взгляды Толстого и Страхова на государство и церковь всё больше расходились в противоположные стороны: Толстой еще категоричнее отрицал значение этих общественных институтов для жизни людей, тогда как Страхов именно в них видел социальное и нравственное начало, противостоящее частному эгоизму, партикуляризму и разрушительному индивидуализму новейших устремлений.
5 Страхов в очередной раз повторяет свою мысль, высказанную прежде в «письмах о нигилизме» (статья вторая и третья) и в дополнении к ним (см.: Страхов Н. Н. Борьба с Западом в нашей литературе: Исторические и критические очерки. Книжка вторая. СПб., 1883. С. 271-272). Провидческий пессимизм Страхова не раз звучал на страницах его откровенных писем к А. А. Фету. Так, 16 декабря 1882 г., обращаясь к своему корреспонденту, он не без горечи замечал: «Но это наша общая судьба: всё суета и нет ничего нового под солнцем. Признаюсь Вам, я однако же больше тоскую, чем скучаю; слишком 222
дурно кругом, слышно что-то мертвенное и зловещее. Что мы живем накануне огромных войн и революций — это очевидно. В людях упали стремления к мирным целям; жизнь уже не наполняется религиею, наукою, искусством; осталось прибегнуть к последнему развлечению — к крови и железу. (...) Странный обман вся наша жизнь! Как будто мы пропускаем мимо самое главное, самое существенное» (Фет. Переписка II. С. 352).
6 По замечанию биографа Толстого, «никогда раньше Страхов не высказывался так определенно отрицательно против взглядов Толстого на существующее общественнополитическое устройство», как в этом письме. После столь откровенно изложенного Страховым несогласия, в духовном общении корреспондентов произошел перелом: «Толстой прекратил спор и старался забыть о нем, но теперь уже он не мог смотреть на Страхова как на своего „единственного духовного друга“, как было в 1877 году. А Страхов не только возражал Толстому, но не скрывал от своих друзей, в чем он был с ним не согласен» (Гусев IV. С. 136).
7 В тот же день, 21 апреля, Страхов в письме к А. А. Фету также высказал эту мысль: «Дела и разговоры, какие я вижу и слышу, очень меня печалят; не слышно веяния нового духа, а общество отвратительно по своему равнодушию и злорадству» (Фет. Переписка II. С. 343)). О поводах к пребыванию в состоянии «ужасной грусти» Страхов рассказывал в письме к Н. Я. Данилевскому от 29 марта: «Литература (...) спускается всё больше и больше (...) она ужасна по своему духу. Время беспокойное, и всё доброе растет слабо, или вовсе не растет; всё злое разрастается и организуется» ((РВ. 1901. Февраль. С. 456). Ср. также с высказываниями на эту тему в письме к Фету от 5 июня: «В какое странное время мы живем; коренные, существенные вопросы подняты и мыслью и жизнью; не оказывается ничего твердого под ногами, всё нужно снова перевертеть и установить. / Мне всё кажется это предвестием великих бедствий; мы еще живем и авось умрем среди положения дел не такого страшного, какое будет потом. (...) Состояние умов вообще не отрадное. Все чего-то ждут и толкуют большею частию ужасный вздор. Одному я дивлюсь, почему так мало боятся и не становятся серьезнее» (Фет. Переписка II. С. 345).
305 Толстой — Страхову
Николай Николаич.
Ваше последнее письмо1 жена мне читала. Я лежал в сильнейшем жару и проболел тяжело 3 суток2, нынче мне лучше и вот пишу вам,
10 июня 1882 г. Ясная Поляна
223
Печатается по: ОР ГМТ.Ф. 1,№5461. Л. 1. На л. 1 помета Страхова: «10 июня 1882. Ясн[ая]».
Впервые: Современный мир. 1913. № 10. С. 297. В Юб.
Т. 63. С. 98.
Датируется по помете Страхова.
чтобы просить непременно заехать к нам3. Я не отвечал на последнее письмо ваше, потому что совсем несогласен и мне казалось, что я слишком резко выскажу причину этого несогласия. Притом предметы эти такие сами по себе неинтересные, что не стоит из-за отступления мысли нарушать естественную любовную связь между людьми. При свиданьи поговорим4, если хотите.
И так до свиданья.
Ваш А. Толстой
Очень вам благодарен за книгу5. — Мысль беседы с Никод[имом] там у Конфуция6 ясно выражена.
1 Неизвестно, какое письмо имеется в виду. Маловероятно, что Толстой не прочитал до начала июня объяснение Страхова от 21 апреля. Допустимо предположить наличие несохранившегося майского письма, сопровождавшего подаренную тогда же Толстому книгу (см. примеч. 5). Однако большие перерывы во времени между получением письма и откликом на него случались в переписке и раньше, когда содержание ответа не удовлетворяло Толстого и он не торопился снова высказать корреспонденту свое мнение. Это не позволяет совершенно исключить возможность того, что Толстой всё же подразумевает письмо Страхова от 21 апреля (п. 304).
2 Толстой заболел около 7 июня (см.: Гусев. Летопись I С. 551).
3 Около середины мая семья Толстых, кроме Софьи Андреевны, трех старших сыновей и младенца Алексея, переехала в Ясную Поляну. Толстой, после короткой деловой отлучки в Москву, находился в имении с конца мая.
4 Страхов воспользуется приглашением и побывает у Толстого в Ясной Поляне во второй половине июня (Гусев. Летопись I. С. 551). О своих планах на лето Страхов дал знать А. А. Фету в письме от 13 мая: «... вчера наконец решен срок моего отъезда, и вообще определилось, как я проведу лето. Выеду я 15 июня и, вероятно, дней через пять буду у Вас, в истинно-великолепной Воробьевке. Но чтобы не мыкаться и воспользоваться морским купаньем, я скоро от Вас поеду в Крым к Николаю Яковлевичу Данилевскому» (Фет. Переписка II. С. 344). По дороге в имение Фета Страхов предполагал сделать две остановки - в Москве и в Ясной Поляне. «Что до А. Н. Толстого, то постараюсь хорошенько поговорить с этим бесценным человеком, и потом будем вместе с Вами разбирать» (Там же). «Очень желаю, чтобы удачно было предстоящее посещение Ясной Поляны — там тоже очень бы хотелось поговорить» (письмо от 5 июня 1882 г. — Там же. С. 345). Время своего приезда в Крым Страхов уточнял 224
в письме к Н. Я. Данилевскому от 12 мая: «В половине июня я выеду из Питера, задержусь не на долго в Москве, в Ясной Поляне, в Коренной Пустыни и в половине 20-х чисел буду у вас» (PB. 1901. Февраль. С. 458). О своем посещении Толстого и беседах с ним в июне 1882 г. Страхов вспоминал в п. 309.
5 Вероятно, речь идет о книге: Pauthier, Jean Pierre Guillaume. Les Livres sacrés de l’Orient: Comprenant: Le Chou-king ou le Livre par excellence/ [trad, par A. Gaubil]. Les Sse-chou ou les Quatres livres moreaux de Confucius et de ces disciples. Les Lois de Manou.../ [trad, par A. Loiseleur- Deslongchamps]. Le Koran de Mahomet/ [trad, par
A. Biberstein- Kazimirski]; Traduits ou revus et publiés par G. Pauthier. — Paris: Firmin Didot frères: Aug. Desrez, 1840. — XXX, [2], 764 p. На книге владельческая запись рукой Страхова: «Н. Страхова. 24 февр[аля] 1878. Подарена Л. Н. Толстому 24 мая 1882» (Описание ЯПб. Т. 3, ч. 2. С. 163-164. № 2531). В яснополянской библиотеке сохранилось и более позднее издание этой книги (Paris: Bureau du Panthéon littéraire, 1852 (H. Vrayet de Surcy). — XXX, [2], 764 p. — см.: Там же. С. 178. № 2532).
6 Конфуций — Кун-фу-цзы, китайский философ VI—V в. до н. э, создатель мировоззренческой системы, получившей название по его имени. Толстой включил немало его высказываний в свои издания «Круг чтения», «На каждый день» и «Путь жизни». Интерес к учению китайского философа носил у Толстого устойчивый характер.
B. Ф. Лазурский 10 декабря 1900 г. отметил в дневнике: «Теперь Лев Николаевич занят Конфуцием. Из Румянцевской библиотеки (...) ему доставили кучу английских книг о Китае. Он находит очень глубоким учение Конфуция о том, что для счастья нужно устроить государство, личность, определить понятия добра и зла» (АН. Т. 37-38.
C. 502). Для подготовленной П. А. Буланже брошюры «Жизнь и учение Конфуция» Толстой написал специальную статью «Изложение китайского учения». Книга Буланже была выпущена под редакцией Толстого в издательстве «Посредник» (М., 1904).
306
Страхов — Толстому 2 сентября
1882 г.
Пишу Вам наскоро1, бесценный Лев Николаевич. Сперва мне дохнуть (йНКТ-ПстербурГ нельзя было от хлопот2, потом я написал к Вам длинное письмо с разными нежностями и сетованиями и бросил3: недоволен не содержанием, а формою. Голова из рук вон тяжела, и лучше помолчать.
225
Печатается по: РО ИРЛИ. Ф. 302. Оп. 2. Ед. хр. 300. Л. 46-47. Впервые: Современный мир. 1913. №10. С. 297-298.
Книги я послал несколько дней назад4 и прошу Вас, примите их без всякого зазрения: они стоят мне бесценок, а на меня прошу Вас смотреть как на человека, много Вам обязанного. Если бы Вы, например, указали мне работу или поручили кого-нибудь моим заботам, то я был бы душевно рад.
В Эпиктета я вложил программу Полевого5; усердно прошу Вас — взгляните и что-нибудь скажите. Полевой хвалится, что Рачинский писал ему необыкновенные похвалы6 — от Вас я этого не ожидаю, и, если Вы дадите мне разрешение, объясню ему это, постаравшись придумать слова помягче.
Не могу жаловаться на здоровье7; но на хлопоты, давно мною предвиденные и наконец надвинувшиеся, кажется, следует пожаловаться8. К делу, которое приходится делать, нет почти никакой охоты, а оно будет отнимать у меня всё время, чуть не целый год9.
Простите меня и прошу Вас, не забывайте, что есть человек, преданный Вам без конца; пока жив, надеюсь не изменить этой преданности.
Графине мое усердное почтение и поклон всем, кто меня помнит.
Ваш душевно
Н. Страхов
1882.
2 сентября].
Спб.
1 Из своей летней поездки на юг Страхов вернулся в Петербург 19 августа. Впечатления от проведенного у друзей и родных отдыха он передавал в письме к А. А. Фету от начала сентября: «...неудачно сложилось лето. Только что я приехал на Южный Берег, как начались страшные жары, при которых можно было только сидеть неподвижно в тени, куря, глотая чай и разговаривая. В большой семье, состоящей из милых мне людей, это far niente [ничегонеделанье, urn.] было удивительно приятно. Я купался в море и, несмотря на чрезвычайную теплоту воды, простудился и схватил господствующую здесь дизентерию. Меня вылечили очень просто и спокойно давно известным здесь способом, и я готов думать, что болезнь послужила впрок моему желудку. Сердеч226
ным занятием были только разговоры о Дарвине. (...) Затем я долго мыкался, заезжал в Алушту, потом в Полтаву, и уже из Полтавы направился по прямому пути в Питер» (Фет. Переписка II. С. 346). Дополнительные подробности обратного путешествия Страхова узнаем из письма к Н. Я. Данилевскому от 9 сентября: «От вас я благополучно доехал вечером к [Д. И.] Стахееву [в Алушту — Сост.]; за Ялтой где-то напился удивительной воды и всю дорогу наслаждался Южным Берегом, пока наконец перекладная не измучила меня совершенно. Через два дня пустился в Полтаву; у ЧатырДага попал под дождь, а в Симферополе голодал, проехав (...) прямо на вокзал (...) В Полтаве нашел внука и внучку... В Ясной Поляне не застал Толстого, ожидал его три дня и очень рад был, что он здоров и крепок совершенно. (...) В Петербурге я очутился 19 августа...» (РВ. 1901. Февраль. С. 461).
2 О своих занятиях в Петербурге Страхов подробно рассказывал Н. Я. Данилевскому: «...я у вас так разленился, что первые работы и заботы показались мне очень тяжелы, и только теперь я попал в свою колею. (...) перебирая бумаги, ужаснулся, увидев, что срок разбора Двух Миров [поэма А. Н. Майкова. — Сост.] 1-е сентября. Принялся писать и с великим трудом кончил очень небольшую статейку. А между тем пошли разные дела. Например, в один день, 3 сентября, нужно было утром являться к черногорскому князю, а вечером провожать [генерала М. Г.] Черняева. Я к князю не поехал, сознаюсь, прямо поленился (...) Проводы Черняева были очень хороши, очень теплы, без фальши, без официальности (...) Еще на другом хорошем празднике довелось мне быть, на юбилее Я. К. Грота. Тоже было очень тепло и искренно. (...) А вчера я обедал у [А. Д.] Градовского. Было либеральничанье, спор и всё как следует... / Навестил я [А. Н.] Майкова на даче...» (письмо от 9 сентября 1882 г. — Там же. С. 459-460).
3 «Длинное» письмо Страхова неизвестно. Возможно, речь идет о тексте, вошедшем позднее в письмо от 5 июня 1883 г. (см. п. 309).
4 Судя по содержанию комментируемого письма и ответу Толстого (п. 307). Страхов отправил Толстому посылку с книгами, среди которых находились сочинения римского философа-стоика Эпиктета и труды Отцов Церкви.
5 Вероятно, речь идет о Петре Николаевиче Полевом, плодовитом сочинителе, литературном составителе-компиляторе, издателе, и об одном из его многочисленных литературно-издательских начинаний (см. п. 308). Страхов ранее откликался на выпущенную им «Историю русской литературы в очерках и биографиях» (СПб., 1872) в статье из цикла «Литературные письма», напечатанной в журнале «Гражданин» (1872. 3 янв.). В конце 1881 г. Полевой возглавил русскую редакцию издательства М. О. Вольфа, а с конца лета 1882 г. стал редактором и издателем иллюстрированного еженедельника «Живописное обозрение» (1882-1885). Как составитель выпускал различные пособия (в том числе методические), руководства, хрестоматии, прозаиче227
ские (в том числе пересказы) и поэтические сборники, в том числе для детей, юношества и для народа.
6 Страхов с недоверием отнесся к утверждению Полевого, так как педагог С. А. Рачинский был известен строгостью своих оценок и суждений.
7 Более осторожно о своем самочувствии и расположении духа Страхов высказался в письме к А. А. Фету от начала сентября: «... кажется, я здоров, хоть и не весел; веселье совсем от меня ушло, и еще недавно Ученый Комитет хохотал всем собором, а я едва мог улыбнуться» (Фет. Переписка II. С. 346). Еще сдержаннее отозвался он о состоянии здоровья, обращаясь к Н. Я. Данилевскому: «Сам я хоть и не болен, но, кажется, и не здоров; глаза опять стали нехороши, а голова какая-то тупая» (письмо от 9 сентября 1882 г. — РВ. 1901. Февраль. С. 461).
8 Предмет своего беспокойства Страхов уточнял в письме к А. А. Фету от начала сентября: «Приехав в Петербург, я разом попал в хлопоты; нужно писать критику и биографию, издавать журнал, печатать перевод — всё сверх службы. Ах! жутко мне приходится» (Фет. Переписка II. С. 346). Для первого соискания новоучрежденной (в 1881 г.) Пушкинской премии Страхов, по поручению Академии наук, готовил и закончил 5 сентября написание критического разбора трагедии в стихах А. Н. Майкова «Два мира» (опубл.: Страхов Н. Н. Заметки о Пушкине и других поэтах. 2-е изд., доп. Киев, 1897. С. 191-211). Над биографией Ф. М. Достоевского Страхов работал по просьбе вдовы писателя и был связан конкретным сроком завершения работы (книга выйдет в 1883 г.; см. примеч. 2 к п. 293). Ср.: «Нужно писать биографию Достоевского. Собрал материалы, читаю, начал, наконец, писать» (письмо А. А. Фету от 25 сентября 1882 г. — Фет. Переписка II. С. 348). О заботах по изданию журнала Страхов поведал тому же Фету: «„Известия Слав [янского] Благотворительного] Общества“ имеют быть под моею редакцией), и я веду теперь пренеприятнейшие хлопоты с цензурой» (Там же). Перевод второй части труда Ф.-А. Ланге «История материализма и критика его значения в настоящее время» будет завершен печатью и выйдет в свет в 1883 г. Страхов очень внимательно читал корректуры издания, на что у него уходило «часов шесть непременно на каждый лист этой истории» (Там же). См. также примеч. 3 к п. 274 и примеч. 13 к п. 276. Занятия Страхова не исчерпывались перечисленными «сверхурочными» трудами; долг казенного и общественного служения требовал выполнения и рутинных обязанностей, а именно: «Каждый день в Библиотеку; это с прогулкой и умываньем поглощает от 10 ч. утра до 5 ч. пополудни. (...) Совет Славянского Комитета. В праздничный день, когда думаешь: „вот посижу дома“. Является приглашение и нужно заседать. (...) Ученый Комитет. В неделю одно заседание — битых четыре часа, да работы на дому, по крайности, один вечер в неделю. / Прибавьте к этому дни [журфиксы. — Cocm.], оперы, обеды, газеты, приятелей и книги, которые я люблю покупать и читать, и Вы получите понятие о моей жизни. Она уходит понемногу без особого толку» (Там же. — Курсив Страхова).
228
9 Вероятно, имеется в виду прежде всего работа над биографией Ф. М. Достоевского для первого тома его собрания сочинений, предпринятого вдовой писателя. См. примеч. 2 к п. 293.
307
Толстой — Ттрохову 11 октября
11 октября. 1882 г. Ноский
Дорогой Николай Николаевич!
Давно у меня на совести ваше письмо. Я даже не поблагодарил за книги. Я тотчас же стал читать «Отцов»1 и очень многое приобрел от этого чтения. — Нынешний год я всё лето не переставая занимался2 и только осенью стал ничего не делать и заниматься устройством нового дома3. На днях наши переехали4 и мы привелись в порядок, и я вот взялся за запущенные письма. Надеюсь прожить нынешнюю зиму спокойнее, чем прошлую5. Вы на меня сердитесь за то, что я последний год был неприятен. Мне самому тяжело было переживать то, что я пережил. А что я пережил? Ничего такого, что бы можно было назвать; а все-таки очень определенно пережил что-то не только очень, но самое существенное. Говорю вам это затем, чтобы вы были снисходительны ко мне в прошедшем и не имели бы против меня ни малейшего неприятного чувства. Перемениться я нисколько не переменился; но разница моего прошлогоднего состояния и теперешнего такая же, как между строющимся человеком и построившимся. Надеюсь снять леса, вычистить сор вокруг жилья и жить незаметно и покойно6.
Читаю Эпиктета, к[оторого] вы прислали — как хорошо!7
Не приедете ли в Москву зимою. Как бы хорошо было. — Что вы делаете? Неужели тоскуете. И Эпиктет, и Христос не велят. Они велят радоваться8. И можно. —
Обнимаю вас и прошу не переставать любить меня.
Л. Толстой
Печатается по: ОР ГМТ.Ф.1.М5462. Л. 1,2. Нал. 1 помета Страхова: «12 октября] 1882. Ясн[ая]». Письмо написано в Москве. Впервые: Современный мир. 1913. № 10. С. 298-299. ВЮб.:Т. 63.
С. 104.
Год устанавливается по помете Страхова.
Ответ на п. 306.
229
1 Кого именно из отцов Церкви читал Толстой, выяснить не удалось.
2 С весны 1882 г. Толстой усиленно занимался подготовкой к печати своей рукописи, получившей позднее название «Исповедь» (см. примеч. 7 к п. 254 и примеч. 3 к п. 298). Работа предназначалась для майской книжки журнала С. А. Юрьева «Русская мысль», однако не была пропущена духовной цензурой и по определению Московского цензурного комитета уничтожена полицией (подробнее см.: Гусев IV. С. 142-149; 151-158). Свое летнее пребывание в Ясной Поляне Толстой посвятил трудам над новым религиозно-философским трактатом «В чем моя вера?» (Юб. Т. 23. С. 304-465), представлявшим собой, по мысли автора, заключительную, четвертую часть цикла его исследований («большого сочинения»), связанных с установлением основ «неискаженного» учения Христа и обретением самим автором евангельского «пути жизни» в свете новооткрытых «истин». В предисловии к «Краткому изложению Евангелия» Толстой пояснял: «Сочинение состоит из 4-х частей: /1) Изложение того хода моей личной жизни и моих мыслей, которые привели меня к убеждению о том, что в христианском учении находится истина. [«Исповедь». — Сост.] / 2) Исследование христианского учения по толкованиям церкви вообще, апостолов, соборов и так называемых отцов церкви и доказательства ложности этих толкований. [«Исследование догматического богословия» — Сост.] / 3) Исследование христианского учения не по этим толкованиям, а только по тому, что дошло до нас из учения Христа, приписываемого ему и записанного в Евангелиях (...) [«Соединение и перевод 4-х Евангелий». — Сост.] / 4) Изложение настоящего смысла христианского учения, причин, по которым оно было извращено,, и последствий, которые должна иметь его проповедь [«В чем моя вера?» — Сост.]»... (Там же. Т. 24. С. 801). Фактически Толстой переходил в своей деятельности от теоретической стадии к практической — публичному распространению и прямой пропаганде своих религиозно-этических воззрений. Работа над первым вариантом нового сочинения была завершена в начале сентября 1882 г.
3 Речь идет о «неожиданном» решении Толстого, тяжело переносившего городскую жизнь и стремившегося к возвращению в Ясную Поляну, приобрести собственный дом в Москве. С. А. Толстая вспоминала: « В конце апреля и начале мая Лев Николаевич приезжал к нам в Москву, и я ему тогда сказала, что на будущую осень я не в силах опять вернуться жить этой сложной городскою жизнью с его недовольством и тяжестью ее переносить и останусь в Ясной Поляне жить там по-прежнему. Лев Николаевич ничего мне на это не сказал, но о Москве отозвался, что это большой нужник и зараженная койка, с чем я принуждена была согласиться. И вдруг, не говоря ни слова, он, как я пишу сестре 2 мая: „вдруг стремительно бросился искать по всем улицам и переулкам дома и квартиры для нас. Вот и пойми тут что-нибудь самый мудрый философ“» (Толстая. Моя жизнь I. С. 381). Свой выбор писатель остановил на городской усадьбе помещиков Арнаутовых в Долго-Хамовническом переулке (д. 15, ныне д. 21 по ул. Льва Толстого), сохранившей элементы деревенской планировки и застройки 230
при расположении в непосредственной близости от центральных районов Москвы. Толстой осматривал домовладение в мае, окончательное решение о его приобретении было принято в конце месяца, купчая на приобретение была составлена 14 июля — на сумму 27 тыс. рублей, в которую вошла также стоимость старинной мебели красного дерева от прежнего хозяина усадьбы. В июне - сентябре Толстой специально приезжал в Москву для распоряжений по перепланировке и ремонту жилой постройки, которые продолжались до начала октября. Ср.: «В Москве Лев Николаевич занялся купленным домом, пригласив архитектора; делал планы и желал устроить всё как можно лучше, что очень трудно ему было с его непрактичностью, а главное, трудно было потому, что пришлось оторваться от умственной работы... » (Там же. С. 383). Позднее, в автобиографии 1913 г., С. А. Толстая заметила, что дом в Хамовниках был куплен писателем вопреки ее желанию; по ее словам, этим приобретением Толстой «как будто закрепил нашу жизнь в городе» (Начала: журнал истории литературы и истории общественности. Пб., 1921. С. 155). Описание дома и сада нового владения Толстых см.: Булгаков Вен. Дом Льва Толстого в Хамовниках: путеводитель. М., 1927; Гусев IV. С. 1 SOIS 1, 162-164. Ср. также в письмах Толстого к Софье Андреевне в: Юб. Т. 83. С. 340, 346-372.
4 Из Ясной Поляны на подготовленное к приезду семьи место жительства в Хамовниках Толстые перебрались 8 октября.
5 Не стала «спокойной» для писателя и зима 1882/1883 г. С. А. Толстая вспоминала: «Переезд в Москву и жизнь в городе неожиданно для нас обоих оказалась гораздо тяжелее, чем мы могли предполагать. (...) Лев Ник. (...) сразу затосковал. Отсутствие деревни, природы, — уже забытые, новые впечатления города, с бедностью, с одной стороны, и роскошью, с другой, повергли его в уныние, так что я часто плакала, глядя на его настроение, которое еще более ухудшилось после его участия в переписи города Москвы. Жизнь города как будто впервые предстала перед его впечатлительным наблюдением. Поворот же к прежней жизни был немыслим, так как воспитание детей только что наладилось и стало главным вопросом нашей жизни. С грустью пришлось оглянуться назад и признать самым счастливым временем в нашей жизни 19 лет, прожитых нами безвыездно в Ясной Поляне» (Автобиография С. А. Толстой. — Начала. Пб., 1921. С. 152).
6 Биограф писателя так комментирует эти слова из письма Толстого: «Трудно понять эти строки как в смысле какой-либо внутренней перемены, происшедшей с Толстым за последний год, так и в смысле внешней перемены в его жизни, которой Толстой был бы доволен. По-видимому, в этих словах Толстой имел в виду то внутреннее удовлетворение, которое он испытывал, изложив подробно в новой работе свой взгляд на значение христианского учения как для разумной постановки личной жизни каждого человека, так и для переустройства общей жизни всего человечества» (Гусев. IV. С. 160).
231
7 Пбзднее воспоминание Толстого о знакомстве с доставленной Страховым книгой трудов Эпиктета записал в своем дневнике Д. П. Маковицкий: «...Страхов прислал мне Эпиктета на французском языке. Я прочел и подумал, что это все — старое, известное. Когда впоследствии развилось у меня религиозное сознание, я читал снова Эпиктета и мне он был дорог; я нашел в нем точь-в-точь то же самое, что я перечувствовал, передумал» (запись от 20 декабря 1904 г. — ЛН. Т. 90, кн. 1. С. 104). Вскоре Толстой уточнил свое восприятие в первом чтении нравственной философии Эпиктета: «Мне Страхов (Николай Николаевич) послал Эпиктета (в 1882 г.). Я прочел. „Всё сам знаю“, — подумал. Проскользнуло, не оставило никакого следа. А теперь не могу читать без восхищения. Излагает так просто, понятно, как если бы здесь, между нами сидел. Поучительно для меня. (...) Когда сам хочешь как писатель передать что-нибудь, другой не понимает, у него направлена мысль на другое. Так со мной было, когда первый раз читал Эпиктета» (запись от 30 марта 1906 г. — Там же. Т. 90, кн. 2. С. 93). В одной из бесед Толстой заметил, что в 1907 г. он читал присланную Страховым книгу «в десятый раз» (запись Д. П. Маковицкого от 11 июня 1907 г. — Там же. С. 449). Настоятельно советуя одному из своих корреспондентов познакомиться для душевного устроения с учением древнего мыслителя, Толстой замечал: «Как вам надо почитать Эпиктета! Хорошенько почитать и вникнуть. Это гимназия для университета Христа» (письмо А. М. Калмыковой от 11 июня 1885 г. — Юб. Т. 63. С. 261).
8 См. примеч. 12 к п. 380.
308
24 ноября С Л. и Л. И. Толстые — Строхову
1882 г. Москва
[Рукой С. А. Толстой:]
Долго-Хамовнический переулок, Девичье Поле, собственный дом
24 ноября Многоуважаемый Николай Николаевич, извините меня, что не тотчас же ответила на письмо ваше1. Но нас всё время преследует судьба: как только переехали сюда, начались болезни, и в настоящее время в доме 232
у нас поселилась возвратная горячка. Перебрала всех маленьких, потом Таню, которая еле ходит, ужасно слаба и худа, а вчера слег Илья, заболела Маша, а в перспективе страх, что и остальных переберет2. Я измучилась и нравственно и физически, и хотя доктора говорят, что не опасно, но по моему мнению это прежестокая болезнь. Мы с мужем пока еще здоровы, что дальше будет!
На вопрос ваш спешу отвечать. Никогда Репин3 не писал портрета Льва Николаевича. Кроме Крамского4 никто никогда его не писал5; и Крамской-то насилу уговорил тогда Льва Николаевича позволить себя срисовать6. Удивились мы, что вы это спрашиваете у нас, тогда как Репин сам переехал в Петербург7 и его самого мог бы Стасов спросить8.
Жаль, Николай Николаевич, что вы не приедете в Москву9. Значит, долго, долго не увидимся. А мы все вас очень любим, и такое удовольствие видеть вас, слушать ваши беседы и всегда кроткие и умные речи.
Лёв Николаевич в очень хорошем духе10, но занят, к моему великому огорчению, очень несимпатичным мне делом: он изучает еврейский язык11 и делает большие успехи, что приводит его в восторг, а я про себя думаю: «Как жаль, что столько хороших сил тратится на такое бесплодное дело!» А направлять эти силы — во власти Божьей, и какие всё неожиданности у моего мужа, и не поймешь, почему и зачем. Он так весь поглощен и увлечен этим делом, что его ничто не интересует больше.
По вашему красивому почерку я действительно вижу, что вы здоровы, чему радуюсь от души12. А вы по моему беспорядочному почерку можете заключить, что я очень утомлена, почему и спешу кончить мое письмо.
Дружески жму вам руку и кланяюсь от всей моей молодежи. Сережа особенно вас любит. Он страстно увлечен химией, зоологией и любит свое дело, а я вспоминаю, как вы его поощряли, и мысленно благодарю часто вас за это13.
Преданная вам
Гр. С. Толстая
233
Печатается по: ОР ГМТ.Ф. 1.№7454.
Л. 1-2 об. На л. 1 помета Страхова: «1882». Впервые: Юб.
Т. 90. С. 249-250.
Год устанавливается по содержанию и помете
[Рукой Л. Н. Толстого:]
Я не отвечал вам, дорогой Н[иколай] Николаевич], потому ч[то] всё ждал свиданья с Юрьевым, и до сих пор не видался. Статью вашу14 непременно выручу и напишу тогда. 2-й вопрос: о книге для чтения15. Я прочел программу — очень хорошо. Дай ему Б[ог] успеха. Исполнение — трудно.
Обнимаю вас.
Л.Т.
Страхова.
1 Письмо Страхова С. А. Толстой неизвестно. А. А. Фету Страхов собщал 9 ноября 1882 г., что он написал «два письма к Л. Н. Толстому», одно из которых было, вероятно, обращено и к С. А. Толстой. Второе письмо Страхова также не обнаружено.
2 С. А. Толстая вспоминала: «... в ноябре все начали болеть. Сначала хворали три малыша: Андрюша, Миша и Алеша: опять жар и рвота. Потом серьезно заболела Таня. Такой был сильный жар, что ее каждые два часа всю вытирали уксусом и думали, что у нее тиф. Но, к счастью, это не был тиф, и она выздоровела» (Толстая. Моя жизнь I. С. 399).
3 С художником И. Е. Репиным Толстой познакомился 7 октября 1880 г. в его мастерской в Большом Трубном переулке (Гусев. Летопись I. С. 527; Гусев III. С. 648-652; И. Е. Репин и Л. Н. Толстой. Кн. 2: Материалы. М.; Л., 1949. С. 5-7). Возможно, Страхов знал, что Репин посещал дом Толстых в Денежном переулке и писал там в конце января 1882 г. в присутствии Толстого портрет сектанта В. К. Сютаева, гостившего у писателя. Ср.: «Популярность Сютаева в московском обществе была до такой степени велика, что в художественном магазине Аванцо на Кузнецком мосту продавались его фотографии. / И. Е. Репин в конце января начал писать портрет Сютаева; тогда же Т. Л. Толстая делала копию с репинского портрета. Толстой нашел эту копию удачной и поместил ее в своем кабинете. Написанный Репиным портрет Сютаева с подписью „Сектант" приобрел (по рекомендации Толстого) П. М. Третьяков для своей галереи» (Гусев. IV. С. 125). Известия о занятиях Репина в доме и в кабинете Толстого могли подать повод к распространению слуха о мнимой работе художника и над портретом писателя. Ср.: Толстая. Моя жизнь I. С. 357. — Для издания брата С. А. Толстой — П. А. Берса — Репин создал четыре карандашных рисунка к легенде Толстого «Чем люди живы», три из которых были воспроизведены в книге: Рассказы для детей И. С. Тургенева и графа Л. Н. Толстого с картинками академиков: В. А. Васнецова, В. Е. Маковского, И. Е. Репина и В. И. Сурикова / изд. П. А. Берс и кн. Л. Д. Оболенского. М., 1883. — Между С. 92-93, 98-99, 108-109. Если судить по свидетельству современника, художественная трактовка Репиным образов произведения не удовле234
творила Толстого, и он отдавал предпочтение соответствующим работам В. О. Шервуда (см.: И. Е. Репин и Л. Н. Толстой: Материалы. Кн. 2. С. 28).
4 И. Н. Крамской написал в сентябре — октябре 1873 г. одновременно два портрета Толстого — для П. М. Третьякова (по его заказу) и для Толстого, который хотел иметь его для своей семьи. О работе Крамского над изображением Толстого см. п. 60 и примеч. 6-14 к нему.
5 К тому времени Толстой был знаком со многими московскими художникамипортретистами. В частности, на февраль 1882 г. приходится его знакомство с живописцем Николаем Николаевичем Ге, который тогда же писал портрет С. А. Толстой. О начале дружеского общения Толстого и Ге оставила воспоминания С. А. Толстая (см.: Толстая. Моя жизнь I. С. 363-366). См. также примеч. 6.
6 Об отношении Толстого к просьбам о позволении выполнить его художественное изображение С. А. Толстая рассказывала в письме к В. В. Стасову от 17 декабря 1886 г.: «Очень трудно мне отвечать на ваше письмо. Просьба ваша — ведь это было бы и мое самое сильное желание! Давно уже мне хотелось бы сделать бюст моего мужа; но он столько раз отказывал и мне, и художникам, что на этот раз я и не просила его. Я подала ему письмо и просила прочесть. Он прочел и молча положил мне на стол. Я спросила, что же отвечать? Он сказал, что я это сама должна знать. И только. Ведь то же самое было и с портретами его. Он не хотел ни за что допустить И. Н. Крамского писать свой портрет. Но Крамской приехал в Ясную Поляну сам и своею симпатичною личностью и беседою привлек Льва Николаевича, и он согласился на портрет. То же самое было с Ге. Он полюбил художника и дался ему делать портрет. / Если б ваш молодой художник жил в Москве и пришел бы с решительностью и энергией к Льву Николаевичу. Принес бы и всё нужное для работы и стал бы умолять о позволении — тогда может быть Лев Николаевич по свойственной ему доброте не решился бы оттолкнуть от себя художника. И то я говорю: может быть и за полный успех не ручаюсь. В какой час попадешь» (Толстой и Стасов. Переписка. С. 75. — Курсив С. А. Толстой).
7 И. Е. Репин переехал из Москвы в Петербург в сентябре 1882 г.
8 Судя по всему, запрос Страхова был сделан по инициативе его коллеги по Публичной библиотеке В. В. Стасова. В опубликованной переписке Толстого и Стасова эта тема не отразилась.
9 Страхов не решился на поездку в Москву из-за сильной загруженности текущими делами. Об этом он писал А. А. Фету 9 ноября 1882 г.: «... мне предстоит двадцать дел, которые я всё откладываю и откладываю (...) Давно я решил, что эту зиму не тронусь из Петера и (....) приведу все дела в порядок. Даже лето меня не манит на поездку» (Фет. Переписка II. С. 350).
10 Иначе отзывался о своем расположении духа сам Толстой. В отличие от письма к Страхову, в котором Толстой ограничился малозначительной короткой деловой припиской, он более доверительно и пространно сообщал о переживаемом настроении 235
своему новому конфиденту В. И. Алексееву: «Я довольно спокоен, но грустно — часто от торжествующего самоуверенного безумия окружающей жизни. Не понимаешь часто, зачем мне дано так ясно видеть их безумие и они совершенно лишены возможности понять свое безумие и свои ошибки; и мы так стоим друг против друга, не понимая друг друга и удивляясь, и осуждая друг друга. Только их легион, а я один. Им как будто весело, а мне как будто грустно. (...) Здоровье мое слабеет и очень часто хочется умереть; но знаю, что это дурное желание — это второе искушение. Видно, я не пережил еще его» (письмо без даты, от 7-15 ноября 1882 г. — Юб. Т. 63. С. 106).
11 Толстой с горячим усердием отдался изучению еврейского языка под руководством московского раввина С. А. Минора. Об этих занятиях он извещал того же В. И. Алексеева: «Всё это время я очень пристально занимался Еврейским языком и выучил его почти, читаю уж и понимаю (...) Я очень многое узнал благодаря этим занятиям, а главное — очень занят» (Там же). Иначе восприняла это новое увлечение мужа С. А. Толстая: «Лев Николаевич вскоре после нашего переезда вздумал вдруг учиться по-еврейски. Ему хотелось читать Библию и Евангелие по-еврейски. Для этого он пригласил очень почтенного человека, умного и приятного еврея, раввина Минора. Он приходил давать уроки Льву Николаевичу, беседовал с ним. (....) Меня очень пугало занятие еврейским языком Льва Николаевича. Я еще хорошо помнила, как он совершенно расстроил свое здоровье изучением греческого языка. Но, к счастью, выучившись читать еще не очень хорошо, Лев Николаевич бросил это занятие; да и мало интересен еврейский язык, не то, что греческий. Это напряжение умственных сил всетаки дурно повлияло на Льва Николаевича; он стал не в духе, более мрачен и утомлен нервами, чем был, когда мы только что приехали» (Толстая. Моя жизнь I. С. 397-398). Воспоминания Минора о вызвавших неудовольствие С. А. Толстой занятиях с писателем см.: Гусев IV. С. 164-165.
12 Уверенность С. А. Толстой не подтвердилась; 9 ноября Страхов извещал А. А. Фета: «...я всё жалуюсь и жалуюсь. (...) нынче и уже дней пять у меня что-то скверное делается в кишках, и я имею законную причину недовольства миром» (Фет. Переписка II. С. 351). Самочувствие Страхова не улучшилось и к концу года; 16 декабря в письме к А. А. Фету он сетовал: «Всё время мне нездоровится; брожу вялый и тупой, сижу больше дома и ничего не могу сделать хорошего» (Там же. С. 352). Страхов несколько приободрится лишь к середине января следующего года.
13 См. п. 196.
14 Речь идет о статье Страхова «Об основных понятиях физиологии», которую он передал для напечатания в журнал С. А. Юрьева «Русская мысль». Вероятно, в не дошедшем до нас письме Страхов обращался к Толстому с просьбой узнать о судьбе своего материала и позаботиться о возвращении ему рукописи (см. п. 302 и примеч. 10 к нему). Не известно, удалось ли Толстому содействовать в выяснении судьбы статьи Страхова, но с такой же просьбой позднее (вероятно, в марте) Страхов обращался уже 236
к Вл. С. Соловьеву, который ответил, что один из его «приятелей» обещался «помочь в исхищении от Юрьева статьи о физиологии» (письмо без даты, от начала апреля 1883 г. — Соловьев. Письма I. С. 15).
15 Толстой отвечает на сообщение Страхова об издательском начинании П. Н. Полевого См. примеч. 5 к п. 306.
309 Страхов — Толстому
Был так занят, бесценный Лев Николаевич, что успел только послать Вам книги, а писать не мог1. Мне всё хочется высказать Вам то, что шевелится в душе, и нежности, и просьбы, и упреки. Но это так мне трудно, что я собираюсь — собираюсь, да и промолчу. И грустно подумать, что всё это могло бы быть сказано, но пропадет навсегда. Когда я уезжал от Вас в Крым2, я часто припоминал Ваши выражения о том, что «кто не со мною, тот против меня», и слова в письме, что я «хуже позитивистов», и я думал: он отлучает меня от Церкви!3 Ну что же делать! Я ведь потому держусь своих мыслей, что не могу иначе, и не лукавлю перед собою. Но пусть он отвергает меня, я останусь ему верен. Простите, что мне всё хочется высказать Вам свою нежность; но я почти готов молчать и воздавать Вам почтение в тайне от Вас4.
Хочется мне еще посетовать на одно Ваше обвинение, которое больно задевает меня. Я писал и говорил Вам о моем пристрастии к чистому созерцанию, о любви к мысли, к объективному представлению вещей. Может быть, это лучшее, что во мне есть, те минуты, когда я всего больше чужд поганого эгоизма. Сколько раз взволнованный, мучащийся, я успокоивался тем, что отбрасывал к черту свое милое «я» и смотрел лишь на общий смысл вещей. Поэтому меня всегда очень затрагивает, когда высказывается сомнение в моем бескорыстии. Что сердце подкупает наш ум, это я очень хорошо знаю и испытал, конечно, на себе много раз.
1883
5 июня 1883 г. Санкт-Петербург
237
Печатается по: РО ИРЛИ. Ф. 302. Оп. 2. Ед. хр. 300. Л. 102-103. Впервые: Современный мир. 1913. №10. С. 301-302.
Но что ум считает эти подкупы грехом и всячески стремится избежать их, это я также знаю. Мне ничего не нужно, Лев Николаевич, я ничего не добиваюсь, и уже смотрю шутя на всё, кроме душевного блага. Но когда разговоришься без всякой другой цели, кроме рассуждения, и вдруг раздастся подозрение в задних мыслях — невольно обижаешься5. Молчание — золото, да я и молчу самым усердным образом.
Очень жажду Вас видеть, бесценный Лев Николаевич. Позвольте на два на три дни заехать в Ясную Поляну6. В мыслях я часто разговариваю с Вами, а думаю о Вас, конечно, каждый день. И может быть, мне и удастся и хорошенько пожаловаться, и сказать Вам что-нибудь любопытное. А главное — повидать бы Вас и послушать. Пишу это на листке, на котором давно начал письмо к Вам7. Прочитавши это начало, я увидел, что чувства мои не изменились, и посылаю его Вам. Они и не изменятся, надеюсь; даже я уверен, что Вы мне не откажете в маленьком участии, несмотря на Вашу строгость.
Но поздно уж теперь переписываться. Выеду я отсюда 15 июня, пробуду, может быть, день в Москве, и потом к Вам. Александр Михайлович8, верно, будет раньше. Всё больше и больше начинаю любить его и уважать. Какой чистый и милый человек!
И так простите, простите меня и позвольте приехать. Графине мое усердное почтение.
Всей душою Ваш
Н. Страхов
1883 г,
5 июня.
Спб.
1 Переписка Толстого и Страхова за первую половину 1883 г. остается неизвестной. Если судить по упоминаниям Страхова имени Толстого в письмах к А. А. Фету, которому Страхов регулярно сообщал известия о писателе, обмен мнениями между корреспондентами если и продолжался, то не с прежней живой интенсивностью. Ср.: «...Толстой мне совсем не пишет, и я только от Вас имею вести из Москвы». «...От 238
Толстого ничего не имею и очень томлюсь своим одиночеством» (письма от 16 января и 18 апреля 1883 г. — Фет. Переписка П. С. 353,355). Отсутствует упоминание имени Толстого и в сохранившейся части писем Страхова к Н. Я. Данилевскому за это время. Из хроники жизни Толстого известно, что зиму 1882/1883 г. и начало весны (примерно до 26 апреля) писатель провел в Москве; на лето семья Толстых переехала в Ясную Поляну. В следующем месяце, 21 мая, Толстой отправился в свое самарское имение с целью ликвидации заведенного там хозяйства и в самом конце июня выедет с хутора обратно в Ясную Поляну. Из внешних событий жизни Толстого обращает на себя внимание избрание его баллотировкой в уездные предводители дворянства по Крапивенскому уезду Тульской губернии и отказ писателя занять на предстоявшее трехлетие эту выборную должность. Повторное общение с молоканами и переселенцами в самарском крае, беседы с ними на религиозно-этические темы; начало прямого распространения своих евангельско-христианских и социальных воззрений среди слушателей из простого народа. Установление по распоряжению министра внутренних дел секретного наблюдения за Толстым со стороны полиции (с конца сентября 1882 г.; для Толстого этот скрытый надзор не остался тайной — см.: Юб. Т. 83. С. 392) и уничтожение по постановлению Московского цензурного комитета статьи «Вступление к ненапечатанному сочинению» («Исповедь») в майской книжке «Русской мысли». Из творческих начинаний писателя обращает на себя внимание работа над художественным произведением «Смерть Ивана Ильича» и продолжение труда над трактатом «В чем моя вера?», написание которого воспринимает как свой христианский долг (см.: Гусев. Летопись 1.555-559). Подробнее о вновь установившихся семейных отношениях Толстых см.: Гусев. IV. С. 185-188,191-194. Перед отъездом в самарское имение Толстой выдал жене нотариально заверенную доверенность на ведение его хозяйственных дел и на распоряжение принадлежащим ему имуществом (Юб. Т. 83. С. 579-580) По этой доверенности С. А. Толстая занималась изданием и распространением сочинений мужа до июля 1910 г.. — Страхов продолжал вести в Петербурге привычный образ жизни, который предполагал хождение на службу в Публичную библиотеку и выполнение им взятых на себя частных и общественных обязательств, о чем он не без привычного для него сетования извещал Н. Я. Данилевского в письме от 21 марта 1883 г.: «...на мне (...) лежат: 1) Биография Достоевского, 2) перевод Ланге Материализм, 3) Издание Известий Сл. Благотв. Общества, 4) Ученый Комитет, 5) Петровские премии, 6) статьи для Руси, 7) Публичная библиотека. И верно я пропустил несколько дел. Всё это опутывает меня как сетью, из которой невозможно выбраться, а главное, всё скучно, всё не по вкусу. (...) Хлопоты одолевают» (РВ. 1901. Февраль. С. 463-464. — Курсив Страхова). Важным событием в творческой биографии Страхова стал выход в конце марта второго сборника его статей: Борьба с Западом в нашей литературе: Исторические и критические очерки: Книжка вторая. СПб., 1883. По мнению автора, этот выпуск был по своему содержанию «лучше» первого, что позволяло надеяться на 239
успех у читателей. В мае появилась наконец в «Русской мысли» статья «Об основных понятиях физиологии». Еще раньше, в январе, была напечатана на страницах издания И. С. Аксакова работа Страхова «Взгляд на текущую литературу» (Русь. 1883. 3 янв. № 1. С. 52-60; 17 янв. № 2. С. 33-42. — В обоих номерах в рубрике с содержанием статья названа «Взгляд на русскую литературу»). Начало года вообще было отмечено оживлением творческого интереса и критической деятельности Страхова. В письме от 16 января к А. А. Фету он замечал: «Я что-то разгорелся, и мне хочется писать...» (Фет. Переписка II. С. 353). Из внешних событий жизни Страхова следует отметить получение им в мае 1883 г. «за отлично-усердную службу» ордена Св. Владимира 3-й степени (РВ. 1901. Февраль. С. 465), а позднее — золотой медали «в вознаграждение трудов» по рассмотрению сочинений, представленных на соискание премий императора Петра Великого (ЖМНП. Ч. 229.1883. Сентябрь. С. 39). Рассчитывал он и на (не состоявшееся) перемещение по службе. Ср.: «В Библиотеке занятий у меня множество; мое отделение с годами становится всё труднее и труднее, а философское отделение, на которое я точил зубы, ушло надолго — занял молодой человек...» (письмо А. А. Фету от 9 ноября 1882 г. — Фет. Переписка II. С. 350). К лету 1883 г. несколько поправилось физическое здоровье Страхова: «Чувствую себя довольно бодрым, хотя старость, очевидная старость настала для меня» (письмо Н. Я. Данилевскому от 22 мая 1883 г. — РВ. 1901. Февраль. С. 464).
2 Подразумевается поездка летом 1882 г. См. примеч. 4 к п. 305.
3 Вероятно, подразумевается неудовлетворенность Толстого отношением Страхова к официальной Церкви, с одной стороны, и к «истинной» Церкви в понимании Толстого, с другой. Страхов, утверждавший о себе, что он «не легко отдается новым взглядам», в том числе по части толкования Священного Писания Толстым, не раз скептически высказывался относительно именно его критических суждений. Ср.: «Положительная сторона его понимания христианства несомненна; но в отрицательной есть много слабых мест и преувеличений» (письмо Н. Я. Данилевскому от 19 июля 1883 г. — РВ. 1901. Февраль. С. 467).
4 По замечанию входившего тогда к круг петербургских знакомых Страхова Э. Э. Ухтомского, «культ графа Л. Н. Толстого был у Н. Н. Страхова как бы совершенно слепой. (...) Всякому, кто хвалил Толстого, он готов был всё отдать (...) он сейчас же преображался, когда речь заходила о Толстом, становился каким-то фетишистом» (Материалы к биографии Вл. С. Соловьева: (Из архива С. М. Лукьянова). — Российский архив. [Т] 2/3. С. 398).
5 О том, что Страхов мог вызывать в других представление (возможно, обманчивое), как характера скрытного, не всегда и не во всем искреннего, свидетельствуют отзывы о нем некоторых современников. Известно, что Вл. Соловьев высказывался о нем: «лукавый Страхов»; неплохо знавший критика Э. Э. Ухтомский признавался: «Действительно, Н. Н. Страхов производил впечатление человека выпытывающего 240
в разговоре своего собеседника. Сам навстречу собеседнику с открытой душой никогда не шел (...) не острословил, только вечно сардонически улыбался, теребя свою длинную бородку вдоль. (...) Вообще это был холодный скептик...» (Материалы к биографии Вл. С. Соловьева: (Из архива С. М. Лукьянова). — Российский архив. [Т.] 2/3. С. 398). Судя по всему, Страхов действительно воздерживался от разговоров на интимные духовные темы с людьми, мало ему близкими, что могло подать повод для не совсем верных выводов, например, относительно его религиозных взглядов. По уверению того же Э. Э. Ухтомского, он никогда не слышал от него высказываний о религии и ему «Н. Н. Страхов казался скорее „вольтерьянцем“, мыслителем XVIII века» (Там же). В то же время неплохо знавший Страхова и его славянофильские убеждения Вл. Соловьев со временем напрочь отказывал ему в искренности «почвеннических» воззрений и, обвиняя своего еще недавнего «друга» в «брюшном патриотизме», утверждал, что Страхов «головою всецело принадлежит „гнилому Западу“ и лишь живот свой возлагает на алтарь отечества» (письмо М. М. Стасюлевичу из Вены от 25 декабря 1888 / 6 января 1889 г. — Соловьев. Письма IV. С. 40,41).
6 В связи с занятостью трудом по составлению «биографии» Ф. М. Достоевского, Страхов не строил обширных планов на отдых летом 1883 г. В конце марта он извещал Н. Я. Данилевского: «... чтб буду делать летом, еще не знаю, но до июня конечно не тронусь с места» (РВ. 1901. Февраль. С. 464). К середине весны представления о летнем пребывании стали уясняться: «Думаю, что приеду к Вам (...) хотя до сих пор еще не решил ничего о своих двух месяцах, — сообщал он 18 апреля А. А. Фету. — На мне лежит ужасная обуза — „Биография Достоевского“; я ее тяну изо всех сил, как бурлак лямку, и хочется снять эту лямку до поездки» (Фет. Переписка II. С. 355). Во второй половине мая Страхов уже определенно мог сказать, что затянувшееся выполнение обязательства перед А. Г. Достоевской не позволит ему предпринять дальнюю поездку на юг: «Наконец, хочу дать вам решительный ответ на ваше предложение, долго соблазнявшее меня и бывшее предметом моих мечтаний. Не могу приехать в Мшатку. (...) Нужно работать, оканчивать биографию Достоевского. Этот тяжкий труд нужно кончить к осени, и я отказываюсь от далеких разъездов и думаю поселиться у Фета, где необходимо побывать, где не жарко и, я думаю, возможно будет работать» (РВ. 1901. Февраль. С. 464). Узнав из письма С. А. Толстой (п. 310) об отсутствии в Ясной Поляне Толстого, к которому намеревался заехать по пути в имение Фета, Страхов сообщал владельцу Воробьевки 13 июня: «Еду прямо к Вам, дорогой и многоуважаемый Афанасий Афанасьевич, и даже прямо прошу у Вас убежища на довольно долгое время. Дело в том, что я не кончил своей работы, что ее необходимо кончить, и потому у Вас если не каждый день, то через день придется мне утро проводить в своей комнате с пером в руках. Согласны ли Вы? Душевно благодарю Вас за повторное и настойчивое приглашение (...) Всё время работаю (...) Итак, до свиданья, и скорого! В понедельник или вторник буду, наверное, в Воробьевке» (Фет. Переписка II. С. 359). Указанная
241
8 июня 1883 г. Ясная Поляна
Печатается по: ОР ГМТ.Ф, 47. №1128.
Л. 1-1 об. На л. 1 помета Страхова: «1883».
Впервые: ПТС11. С. 168.
Год устанавливается по содержанию и помете Страхова.
Ответ на п. 309.
в письме дата отъезда из Петербурга — 15 июня — приходилась на среду. Страхов прибудет к Фету около 20-21 июня и останется его гостем в течение трех недель. См. примем. 2 к п. 311; п. 313, примем. 1 и 2 к нему.
7 Перед началом письма имеется помета Страхова: «Писано год назад». См. п. 306 и примем. 3 к нему.
8 Вероятно, имеется в виду свояк Толстого А. М. Кузминский, приезд которого к семье в Ясную Поляну ожидался в первой половине июня (см. письмо Толстого к жене от 12 июня 1883 г. — Юб. Т. 83. С. 389). Кузминский прибудет из Петербурга в Ясную Поляну 21 июня.
310
С А. Толстая — Строхову
С большим огорчением должна вам сообщить, многоуважаемый Николай Николаевич, что Льва Николаевича нет опять в Ясной. Он уехал в Самару пить кумыс1. Пробудет он там до конца июня или начала июля2; уехал же он 21 мая, и я часто получаю от него письма3. Он очень усердно хозяйничает, спокоен, доволен, и я надеюсь, что с поправлением здоровья он и духом будет веселей.
Нечего вам говорить, Николай Николаевич, что мы все будем очень рады вас видеть в Ясной Поляне; но мне так жалко всегда видеть ваше разочарование, когда вы приезжаете и не застаете моего мужа. Сережа4 тоже в Самаре; и в Ясной осталось очень много женщин и очень много мальчиков5.
Если вы можете иначе распорядиться своим временем, чтоб приехать в Ясную во время пребыванья в ней Льва Николаевича, то и ему, и вам было бы приятней6.
Жму вашу руку и во всяком случае надеюсь, до свидания!
Преданная вам
Гр. С. Толстая
8 июня.
242
1 Помимо восстановительного курса пользования кумысом («...думается, что 5 недель кумыса совсем освободят меня от гемороидального состояния, того, с которым] так трудно бороться, п[отому] ч[то] оно действует на душу» — письмо к С. А. Толстой от 12 июня 1883 г. — Юб. Т. 83. С. 389) свое последнее пребывание в самарском имении Толстой посвятил ликвидации заведенного там хозяйства и отдаче земельных участков в аренду. Ср.: «...я рад, что прекращаю хозяйство» (письмо С. А. Толстой от 2 июня 1883 г. — Там же. С. 383). С. А. Толстая связывала с поездкой в самарские степи и надежды на изменение к лучшему душевного состояния писателя, о чем высказывалась в письме к нему от 7 июня (Там же. С. 391). Ср.: «С. А. долго не верила в серьезность мучительных исканий Л. Н-ча, считая их слабостью, болезнью на почве переутомления и „игрою в Робинзона“. Уже в 1883 году, отправляя Л. Н-ча в Самарские степи, она искренно думала, что он там излечится от своей болезни посредством кумыса» (Начала. Пб., 1921. С. 174).
2 Толстой прибыл на самарский хутор 24 мая и провел на нем более месяца; в Ясную Поляну писатель вернулся около 1 июля (Гусев IV. С. 192, 198; Гусев. Летопись I. С. 559.
3 См.: Юб. Т. 83. С. 375-394.
4 Старший сын Толстых.
5 Об остававшихся в Ясной Поляне членах семьи и гостях Толстых см. в переписке Софьи Андреевны с мужем (примеч. 3).
6 См. примеч. 6 к п. 309.
311
Строхов — С Л. Толстой
Московско-Курской ж[елезной] дор[оги]
Станция Коренная Пустынь1.
Душевно Вас благодарю, многоуважаемая графиня, за Ваше истинно доброе письмо. Вы видите, где я теперь сижу, поджидая погоды2. Когда мне случалось бывать в Ясной без Льва Николаевича, мне всегда было немножко совестно: я казался сам себе каким-то темным пятном на светлой картине. К Воробьевке я подхожу гораздо лучше. Всё здесь по-старому. Теперь никого нет, кроме филолога3, с которым Афанасий Афанасьевич переводит Горация. И я буду здесь преспокойно продол-
22 июня 1883 г. Воробьевка
243
Печатается по: ОР ГМТ. Ф. 47. №39514. Л. 1-2.
Конверт. На конверте: Тула, губ[ернский] гор[од]. Ее Сиятельству Г рафине Софье Андреевне Толстой в Ясной Поляне».
Почтовый штемпель: «23 июня 1883. Почтовый вагон». Впервые: ПТСII.
С. 169. Ответ на п. 310.
жать свою работу над биографией Достоевского4. Мы оба будем заняты и, значит, меньше будем скучать. За Льва Николаевича очень радуюсь: кумыс — чудесное питье5, хоть и не по Вашему вкусу6.
Боюсь, что я к старости становлюсь хуже и что не много удовольствия доставит мой приезд Льву Николаевичу7,- но всей душой стремлюсь повидать его и навестить Ясную Поляну. Хозяева мои8 усердно Вам кланяются. А я покорно прошу передать мой поклон Татьяне Андреевне, Александру Михайловичу и всем, кто меня помнит.
Ваш душевно преданный
Н. Страхов 1883 г.
22 июня.
1 Письмо написано на почтовой бумаге, принадлежавшей А. А. Фету. Адрес исполнен типографским способом.
2 Первые дни пребывания в имении А. А. Фета ушли у Страхова на привыкание к иному эмоционально-психологическому фону общения с более темпераментным по складу характера владельцем Воробьевки. По приезде к Фету Страхов с присущей ему сдержанностью сообщал своему постоянному корреспонденту Н. Я. Данилевскому: «Может быть, я поступил нехорошо, дорогой Николай Яковлевич, поселившись в этом месте, у Афанасия Афанасьевича Шеншина (бывший Фет); но так как я уже привык к этому с своей стороны, то переношу терпеливо свое положение. (...) Простите меня, что не воспользовался вашим приглашением: расчет мой был поменьше утомиться, побольше писать (...) и мне хотелось поставить себя в положение, в котором совестно не работать. (...) Только сегодня чувствую, что я наконец оправился от своего переезда и что можно приняться за работу» (письмо от 25 июня 1883 г. — РВ. 1901. Февраль. С. 465-466. — Курсив Страхова). О занятиях Страхова см. примеч. 4.
3 Преподаватель латинской словесности одной из московских мужских гимназий Максим Германович Киндлер вызвался без всякого вознаграждения помогать А. А. Фету в переводе сатир Горация. Подробнее о сотрудничестве Фета с Киндлером см.: Фет А. Мои воспоминания. 1848 - 1889. М., 1890. Ч. 2. С. 387-390, 392-393. О трудностях, которые Фет испытывал при разборе произведений римского поэта, пытавшегося перенести греческие стихотворные размеры в собственную лирическую поэзию, он сообщал в письме от 14 апреля Вл. Соловьеву: «Я на всех парах работаю над Горацием, и дело весьма спорится. Я так боялся эпод — по причине их формы, 244
но теперь они у меня все за спиной. (....) Теперь я зарылся по уши в прекраснейших сатирах поэта. / Это образец языка, практического ума, тонкости, словом, прелесть. / Конечно, перевожу буквально. Но работы много. Надо готовиться. Так много на каждом шагу подробностей, без которых ничего понять невозможно. Бью на то, чтобы иметь радость зимой отлично издать всего Горация с примечаниями, вновь пересмотренного. Он ужасно криво пишет, а это я только и ценю в поэте и терпеть не могу прямолинейных» (Фет: Материалы и исследования. Кн. 2. С. 382). Труд Фета будет издан дважды; см.: К. Гораций Флакк / в пер. и с объясн. А. Фета. М., 1883; То же. 2- изд. СПб., [1898]. Это был второй опыт переводческой работы Фета над поэзией Горация; ранее он выпустил на русском языке собрание од римского поэта: Оды Квинта Горация Флакка: в 4-х кн. / пер. с лат. [и вступ. ст.] А. Фета. СПб., 1856. Страхов несколько скептически относился к занятию Фета и считал, что он взялся за переложение произведений Горация на русский язык из-за отсутствия серьезной жизненной цели. В письме к Н. Я. Данилевскому от 13 сентября 1883 г. он, между прочим, замечал: «Я говорю: для интеллигенции надобно занятие, иначе ей скучно, и ради этого государство будет принуждено открыть парламент. Сообразите, чтб же ей делать? Переводить Горация, как Фет? Ах, несчастный! Богат, свободен, бездетен. Достиг этого тяжкими трудами и теперь не знает что делать» (РВ. 1901. Февраль. С. 469).
4 О работе Страхова над воспоминаниями о Ф. М. Достоевском см. примеч. 2 к п. 293. В окончательном виде труд, предназначавшийся для книги: Биография, письма и заметки из записной книжки Ф. М. Достоевского (СПб. 1883), включает в себя 23 главы и охватывает последние 20 лет жизни писателя. До сентября 1882 г. Страхов занимался преимущественно подборкой, обдумыванием и первичной обработкой выявленного массива документов и только в конце месяца смог приступить непосредственно к изложению. Об этом он извещал А. А. Фета 25 сентября 1882 г.: «Собрал материалы, читаю, соображаю, начал, наконец, писать» (Фет. Переписка II. С. 348). С этого времени составление воспоминаний о Достоевском становится одной из постоянно упоминаемых тем в его (известной нам) переписке. Для ускорения работы Страхов решает отказаться от зимнего выезда из Петербурга и посвящает свой досуг выполнению взятого на себя обязательства: «напишу-таки о Достоевском» (Там же. С. 350). Овладение темой стоило Страхову немалых усилий — не только по «сопротивлению» материала, но и по тяготившей его внутренней необходимости сообразовываться с мнением «заказчицы» (см. примеч. 2 к п. 293) и при этом не покривить совестью: «... да и лгать я могу не иначе, как разве взявши очень большие деньги. Вот и приходится вертеться. Тоже самое теперь и с Достоевским; нужно писать только то, что годится для полного собрания сочинений, — стеснение большое, а и без всякого-то стеснения писать не хочется» (письмо А. А. Фету от 9 ноября 1882 г. — Там же). В непростых творческих условиях работа над «биографией» затянулась и не давала 245
возможности уделить внимание другим темам, на что Страхов сетовал в письме к Фету от 16 января 1883 г.: «... хочется писать и об Вас, и об Жуковском, и об Некрасове — но не придется, нужно писать об Достоевском. Приходят последние сроки» (Там же. С. 353). Крайний срок ограничивался осенью 1883 г. («Этот тяжкий труд нужно кончить к осени...» — письмо Н. Я. Данилевскому от 22 мая 1883 г. — РВ. 1901. Февраль. С. 464), так что наиболее интенсивные занятия подготовкой материала пришлись, вероятно, именно на этот год. Вместе с тем взятые на себя заботы не приносили Страхову удовлетворения, что, наряду с высокой загруженностью делами, тормозило окончание столь угнетавшего его (прежде всего нравственно) труда («ужасная обуза»). Большие надежды на продвижение в работе Страхов связывал с весной и началом лета и предполагал завершить ее в основном еще в Петербурге, до своего отъезда на отдых в имение Фета. «Я совершенно замучен своею работой, — извещал он того же корреспондента 26 мая, — конец этой работы мне представляется не то окончанием экзамена, не то выходом из каторги» (Фет. Переписка II. С. 359). И даже за два дня до отъезда: «Всё время работаю...» (Там же). Однако, несмотря на усиленный труд, расчеты Страхова не оправдались в полной мере и доделывать оставшееся он поехал в Воробьевку, с сознанием, что ему еще «работа предстоит огромная...» (письмо Н. Я. Данилевскому от 25 июня 1883 г. — РВ. Февраль. С. 465; см. также примеч. 2). См. п. 312 и примеч. 1 к нему.
5 Свое впечатление от физического состояния Толстого после его возвращения с самарского хутора в Ясную Поляну Страхов сообщил А. А. Фету в письме от 19 июля: «Льва Николаевича я нашел совершенным богатырем, после кумыса» (Фет. Переписка II. С. 360). Сам Страхов также отдавал должное этому целебному напитку. По воспоминаниям обитателей Ясной Поляны, он с удовольствием пользовался кумысом в июле 1890 г. — его готовили прибывшие из самарской степи по вызову Толстого в Ясную Поляну башкиры. Ср. в записи дневника Д. П. Маковицкого от 12 февраля 1910 г.: «Татьяна Львовна [Толстая] с улыбкой рассказала про Страхова. Там, за канавой, жили башкирцы. Николай Николаевич любил кумыс пить и говорил, что, когда холодно, кумыс греет; когда тепло — холодит, когда голоден — насыщает; когда полон — кумыс облегчает, и так без конца» (ЛН. Т. 90, кн. 4. С. 181). См. также примеч. 28 к п. 417.
6 Устойчивое неприятие кислого запаха и вкуса кумыса обнаружилось у С. А. Толстой еще во время поездки семьи в самарские степи летом 1873 г. См.: Толстая. Моя жизнь I. С. 220, 223. Ср.: Автобиография С. А. Толстой. — Начала. Пб., 1921. С. 149.
7 Пояснение этой мысли Страхова см. в п. 313.
8 А. А. Фет (Шеншин) и его жена Марья Петровна.
246
312
Толстой — Страхову
Дорогой Николай Николаевич,
Я ехал домой, надеясь застать вас у нас. — Я приехал 3-го дня1 и теперь боюсь, что вы, если и приедете, недолго пробудете у нас1 2. Я очень, очень желаю вас видеть, и если бы не так долго был вне дома, то приехал бы к Афанасию Афанасьевичу, которого обнимаю и желал бы видеть. Мы с ним во всю зиму никогда так хорошо не беседовали, как перед отъездом3, и так странно, что мы иногда как будто не понимаем друг друга4.
Так приезжайте же к нам поскорее. Сестра Таня5 велит вам сказать, что и луна, и крокет, и цыплята вас ждут. Что жена вас ждет и все мои — не нужно вам говорить. — Благодарю вас за ваше последнее письмо6. Поживем вместе, то выйдет время, и всё переговорим7.
Наш душевный привет вашим милым хозяевам. Скажите Аф[анасию] Аф[анасьевичу], что я надеюсь, что он, если поедет мимо, нас не проедет8. Я бы не проехал, если б ехал мимо9. —
До свиданья.
Ваш Л. Толстой Около 3 июля 1883 г.
Ясная Поляна
Печатается по: ОР ГМТ.Ф.1.М7387. Л. 1-2. Помет Страхова на письме нет. Впервые: Юб. Т. 90. С. 250 с датой «18- 19 июля 1883 г.». Датируется по содержанию.
1 Толстой выехал из своего самарского имения 28 июня и прибыл в Ясную Поляну около 1 июля. День возвращения Толстого в имение дает основание для уточнения датировки письма.
2 О времени, проведенном Страховым в Ясной Поляне, см. п. 314.
3 Эта встреча, ее время и место остались неизвестны биографу Толстого. Из вос¬
поминаний С. А. Толстой узнаем, что в зиму 1883 г., и особенно в январе и феврале,
супруги Шеншины (Фет) были нередкими гостями в хамовническом доме Толстых.
Ср.: «Часто бывали у нас и супруги Фет, Мария Петровна, жена Фета, принимала
большое участие в нашей с Таней светской жизни и всегда приезжала смотреть, как
мы одеты. / Мне смешно пишет сестра из Петербурга, что ей Мария Петровна рассказывала, какие были у Танички на платье бельдежурчики [здесь: вышитый рисунок. —
Сост.]. а графиня такая красивая в туалете, что Фет совсем влюблен...» ( Толстая. Моя
247
жизнь I. С. 404). Встреча с Фетом не могла состояться около середины февраля, когда поэт уезжал в Петербург (Фет. Переписка II. С. 355, 356; Соловьев. Письма I. С. 14). Толстой отправился в Ясную Поляну около 26 апреля (Гусев. Летопись. I. С. 557). Еще раньше (вероятно, в самом начале апреля) отбыл в Воробьевку Фет (см.: Переписка Фета с Вл. С. Соловьевым. — Фет: Материалы и исследования. Кн. 2. С. 380-382).
4 Попав 12 июля в Ясную Поляну Страхов поспешил известить Фета о беседах с Толстым и о своих попытках разрядить некоторое напряжение, возникшее между писателем и поэтом в связи с расхождениями во взглядах: «Разумеется, сначала я говорил об Вас, я говорил, что Вы горюете об разногласии, а он очень сокрушался о том, что это так изменяет отношения, и просил передать Вам, что нисколько не изменился в своих чувствах, что личные отношения у него не зависят от того строя мыслей, который им овладел» (Фет. Переписка II. С. 360).
5 Сестра С. А. Толстой Т. А. Кузминская.
6 Вероятно, имеется в виду письмо Страхова к С. А. Толстой от 22 июня (п. 311).
7 В Ясной Поляне Страхов провел первые дни в оживленном общении с Толстым, о чем через неделю после приезда туда извещал своих корреспондентов: «...уже неделя, как живу здесь, в Ясной Поляне; всё идет здесь благополучно. (...) Теперь ничего не делаю, только гуляю, читаю и разговариваю (...) и важнейшие разговоры были (...) с хозяином Ясной Поляны» (письмо Н. Я. Данилевскому от 19 июля 1883 г. — РВ. 1901. Февраль. С. 467). В тот же день Страхов поделился и с Фетом своим впечатлением от бесед с Толстым: «Сегодня Льва Николаевича нет дома; он уехал кое с кем (...) я попал в большое общество, хотя кроме своих тут никого нет. (...) Но на другой же день он чуть-чуть прихворнул и обратился в Льва Николаевича последних лет. Теперь опять расцвел (...) меня попрекал, что предполагаю в нем охлаждение к себе, которого вовсе нет. И действительно мы наговорились с ним всласть, и вот целую неделю не было ни единого облачка раздражения» (Фет. Переписка II. С. 360).
8 Сведений о посещении А. А. Фетом Толстого летом 1883 г. не имеется.
9 До переезда из Ясной Поляны в Москву 3 октября Толстой «мимо» имения Фета не проезжал.
313
6 июля 1883 г. Воробьевка
Страхов — Толстому
Через неделю буду у Вас1, бесценный Лев Николаевич. Я бы и сейчас перенесся к Вам, если бы послушался своего желания; но мне совестно 248
бросить работу1 2, которая идет плохо, но подвигается вперед порядочно. Если бы не ужасная погода, то здесь3 было бы удобно писать. Но всего лучше было бы в Петербурге, и меня теперь тянет туда.
Как я ни стараюсь возобновить в памяти прошлую жизнь, интерес лиц и происшествий, всё мне кажется таким ничтожным, что я каждый день думаю: зачем это писать?4
Поеду к Вам — в Мекку5, как смеются надо мной в Петербурге, — чтобы оживиться, чтобы прикоснуться к неистощимой духовной жизни. А Вы будьте снисходительны к моей сухости умственной и сердечной.
Татьяне Андреевне6 скажите, что луна и цыплята здесь есть; крокет7 же напомнил мне столько радостей и горестей, что я пришел в волнение; но, впрочем, обещаюсь по-прежнему слушаться ее во всем8.
Афанасий Афанасьевич и Марья Петровна9 очень кланяются Вам и графине, и всем. Опять скажу, — будь я немножко потеплее и повлажнее, я мог бы тут много хорошего сделать. Везде, всегда люди мучат сами себя, и я, хныкающий, конечно, делаю то же самое.
Простите, бесценный Лев Николаевич. Перед приездом я телеграфирую10 — прошу на то у Вас позволения.
Ваш душевно
Н. Страхов
1883 г.
6 июля.
Спб"
Печатается по: РО ИРЛИ. Ф. 302. Оп. 2. Ед. хр. 300. Л. 41-42.
Впервые: Современный мир. 1913. № 10. С. 302-303. Ответ на п. 312
1 Страхов исполнил свое намерение и прибыл в Ясную Поляну 12 июля (см. письмо Н. Я. Данилевскому от 19 июля 1883 г. — РВ. 1901. Февраль. С. 467).
2 Судя по письму к Н. Я. Данилевскому от 19 июля, Страхову не удалось и на сей раз
привести свою работу по написанию «биографии» Ф. М. Достоевского к желаемому
завершению. «Три недели я гостил у Фета (...) У Фета в эти жары я работал с великою
натугой и с грехом пополам кончил первую половину своей работы, рассказ о жур¬
налах Время и Эпоха» (Там же. — Курсив Страхова). Если не предполагать имевше¬
гося тогда у Страхова иного представления о заключительном объеме предпринятой
им работы, то сообщение о размерах проделанного следует признать несколько при-
249
16 августа 1883 г. Санкт-Петербург
уменьшенным: в печатном варианте «Воспоминаний» на описание периода издания Достоевским журналов «Время» и «Эпоха» приходится 115 страниц из 160.
3 Письмо написано в имении Фета. Страхов тяжело переносил летние жары, отрицательно сказывавшиеся на его работоспособности. В силу этой причины он не воспользовался приглашением Н. Я. Данилевского провести летний отпуск в его крымском имении Мшатка. Именно опасением сделать меньше задуманного в Крыму он объяснял свое намерение поселиться на это время в усадьбе Фета, «где не жарко» и где «возможно будет работать» (письмо Н. Я. Данилевскому от 22 мая 1883 г. — РВ. Февраль. С. 464).
4 Высказанное Страховым суждение имело, вероятно, вполне устойчивый характер, так как эту же мысль он изложил и в письме к А. А. Фету еще от 16 апреля 1883 г.: «Как ничто ясно мне помнится всё, что когда-то волновало! Насилу могу принудить себя думать об этой минувшей жизни. А как грустно видеть, что изо всех ожиданий и усилий того времени (20 лет назад) ни одно не сбылось и не удалось, да и вперед на это нет надежды» (Фет. Переписка II. С. 355).
5 Мекка — центр паломничества мусульман.
6 Младшая сестра С. А. Толстой — Т. А. Кузминская.
7 Крокет — любимая летняя игра гостей и обитателей Ясной Поляны (см. примеч. 14 к п. 290).
8 Дружеские отношения связывали Страхова не только с Толстыми, но и с семьей младшей сестры Софьи Андреевны — Кузминскими. Ср.: «Любила Страхова и моя сестра Татьяна Андреевна Кузминская, у которой Николай Николаевич в Петербурге обедал по вторникам» (Толстая. Моя жизнь I. С. 173). Позднее Страхов извещал Толстого, что обедает у Кузминских по средам. См. п. 319.
9 А. А. и М. П. Шеншины.
10 Телеграмма Страхова неизвестна. Обычно по его телеграфному уведомлению о дне приезда Толстые высылали для встречи лошадей на станцию Козловка (Козлова Засека) Московско-Курской железной дороги.
11 Вероятно, описка Страхова: письмо отправлено из имения Фета Воробьевка.
314
Отрохов — Толстому
Давно следует писать к Вам, бесценный Лев Николаевич, и благодарить Вас от всей души за чудесные 16 дней Вашего гостеприимства1.
250
С великою нежностью смотрел я на Вас, и общее благополучие Ясной Поляны просто восхищало меня2.
Мне особенно понравился в этот приезд Ваш Ильюша3. Но главное — Ваши речи и писания, и в них тот характер спокойствия, о котором Вы мне писали. Сколько понял — всё меня радует, всё запало прямо в душу.
В Москве я провел несколько дней4, но не видел ни Аксакова5, ни Николая Федоровича — Музей закрыт6. Зато — поохотился за книгами, осматривал Ваш дом7 и Третьяковскую галерею. Ваш дом и Ваши комнаты — всё как будто нарочно придумано по Вашему характеру и вкусу. Я очень любовался. А в Третьяковкой галерее, почти вдвое выросшей с тех пор, как я ее видел, и составляющей, вероятно, лучшее собрание русских картин, какое существует, меня ждала необыкновенно приятная неожиданность — «Медея» Сведомского8. Я порадовался и за свой вкус — сошелся с Третьяковым. Какая прелесть это лицо! Просто я млел от жалости и от чувства женской красоты9.
В Петербурге я дни два отдыхал и здоровался со своими книгами, потом принялся работать, и дело пошло, к моему большому удовольствию10.
Письмо Фета, пересланное от Вас, оказалось очень милым11. Я выпишу то, что касается Ясной Поляны:
«Спасибо Льву Николаевичу за его отзыв обо мне. Вы хорошо знаете, как высоко я ценю его, как человека и художника. Но это мне мало помогает. У нас в настоящее время гостит знакомая ему М-11е, теперь M-me Amelie (пьянистка)12 и она-то вчера без всякого с моей стороны вызова начала распространяться о солидарности (бывшей) наших мыслей с Львом Николаевичем. То ли это теперь? Конечно, сущность (абстрактная) лиц от такой перемены не пострадала. Но где тот жгучий интерес взаимного ауканья?»13
Последние слова — прелесть14. Но дальше идет гораздо хуже, именно, что в полиции всё спасение15.
251
А вот это получше:
«Усердно поклонитесь от меня неувядаемым дамам16 и скажите, что я только духом живу в мире невозможно-возможного, а телом, увы! прижат к земле. Я уже 2 раза выписывал через Александра] Ивановича17 из Москвы свои новые книги18 — и оба раза ни одной не осталось. И если б нужна справка, то и самому не по чем справиться».
Всё это писалось в том предположении, что будет читаться в Ясной Поляне. Посылаю по адресу.
Опять я оторвался от письма к Вам, но зато почти кончил свою «биографию». Не ожидал я, что это так меня увлечет, и если первая половина будет скучна, то вторая, вероятно, прочтется с интересом19. Какое странное явление этот человек! И отталкивающее, и привлекательное.
Вернувшись, я услышал много печальных вестей: двое умерло в Библиотеке20, и Покровский (приятель)21 болен при смерти. А он моложе меня на 10 лет! Но чем мне яснее, что смерть ходит около меня, тем спокойнее становится на душе. Я купил новый стол, новую лампу, построил три новых шкапа для книг, и усердно сижу дома22. Всё готово, ничего больше не нужно; кажется, никогда я не был так счастлив, в таком ровном и ясном духе.
Простите, бесценный Лев Николаевич! От всей души желаю Вам тех благ, которые Вы так хорошо знаете. Хоть я и читаю аскетические книги, а Вы много лучше меня говорили на те же темы. Щебальский23 спрашивает меня об Вас. Ему пришло на мысль писать что-то. Постараюсь внушить ему построже, чтобы он не путал. Графине и Татьяне Андреевне и Александру Михайловичу и всем 24
Ваш всею душою
Н. Страхов
1883.
16 авг[уста].
Спб.
252
Р. 8. Я послал Вам еврейскую Библию с русским переводом25. Об »стальных книгах еще не успел распорядиться.
Вспомните иногда, что каждая строчка от Вас мне радость и утеше[ие. Жгучий интерес взаимного ауканья26 у меня, конечно, живее, чем Вас.
И простите меня. Я прибранил Достоевского27, а сам, верно, хуже.
1 Страхов приехал в Ясную Поляну 12 июля после 3-недельного пребывания в Вообьевке у А. А. Фета и оставался в имении Толстых, вероятно, до 28 июля, после чего тправился в Петербург. Ср. в обращении к Фету от 17 августа: «... Ваше письмо при1ло в Ясную, когда я уже уехал (28 июля, кажется)...» (Фет. Переписка II. С. 362).
2 Своими утешительными наблюдениями над жизнью насельников Ясной Поляны 'трахов поделился с Фетом уже вскоре после прибытия в имение Толстых: «Пользу>сь (...) случаем, чтобы написать Вам. (...) Все живы, здоровы, веселы (...) Дух тут тоит прекрасный, и жизнь катится незаметно» (письмо от 19 июля 1883 г. — Там же.
360).В том же смысле описывал он свои впечатления от яснополянской действиельности и в письме к Н. Я. Данилевскому: «...уже неделя, как живу здесь, в Ясной 1оляне,- всё идет здесь благополучно» (письмо от 19 июля 1883 г. — РВ. 1901. Феваль. С. 467). С. А. Толстая, вспоминая лето 1883 г., также отметила в своих записках ;веселье Ясной Поляны»: «В то время гостил у нас Николай Николаевич Страхов, я помню, как он на нас всех радовался и как смеялся, когда мы с сестрой Таней, уж чень развеселившись, плясали вдвоем венгерскую польку с фигурами, которой нас чили еще в детстве. И дети все от этого зрелища пришли в какой-то дикий восторг. 1о-видимому, в то время у нас было очень весело и дружелюбно...» (Толстая. Моя сизнь I. С. 417). По поводу неизменно восторженных отзывов Страхова о пребывании Ясной Поляне и о благотворном влиянии общения с ее обитателями на расположеие его духа С. А. Толстая заметила в своих автобиографических записках: «... Никоай Николаевич всегда преувеличенно хвалил яснополянскую жизнь и крайне выражал вою благодарность за ту пользу, которую ему приносит яснополянская жизнь» (Там се. С. 173). Ср.: «Часто и подолгу живал у нас Николай Николаевич Страхов, всеми ами любимый и уважаемый друг, всегда умилявшийся на нашу жизнь, ласкавший и леей и часто говоривший: „Непременно напишу об Ясной Поляне и жизни в ней“. Но он ак и не исполнил своего намерения» (Автобиография С. А. Толстой. — Начала. Пб., 921. С. 151).
3 Второй сын Толстых, 17-летний гимназист 6-го класса. В своих воспоминаниях 'офья Андреевна писала: «Маленький Илья был здоровый, пышный ребенок, споойный, белый, и для матери это была настоящая гордость, этот прекрасный мальчик. Печатается по: Р0 ИРЛИ. Ф. 302. Оп. 2. Ед. хр. 300. Л. 104-105.
Впервые: Современный мир. 1913. № 10. С. 303-305.
253
Помню, как Марья Петровна Фет, увидав его впоследствии, сказала мне: „Вот в Лондоне выставка младенцев, и дается премия лучшему. Ваш Илюша, наверное, получил бы эту премию"» (Толстая. Моя жизнь I. С. 150). Однако, несмотря на усилия родителей, и особенно — внимание матери, Илья рос шаловливым и трудным ребенком, отличался ленью («всегда ленивый»); страстно увлекался охотой с гончими в ущерб учебным занятиям (Там же. С. 257,296). Про него говорили: «Когда Илья играет Шопена, даже собаки убегают» со двора (С. 332); любитель цыганских песен, лошадиных и собачьих выставок. В 1881/1882 и 1882/1883 учебных годах по причине неуспеваемости оставлен в классе на второй год. В августе 1882 г. тяжело переболел тифом. Давая в одном из писем краткую характеристику сыну, Толстой сдержанно заметил, что «душа в нем задавлена органическими процессами» (письмо В. И. Алексееву от 7-15 ноября 1882 г. — Юб. Т. 63. С. 106). Неизвестно, чем мог порадовать Страхова Илья Львович летом 1883 г. Пребывавшему на кумысе мужу С. А. Толстая сообщала в письме от 4 июня: «... Илья дома, а утром был на охоте; он совсем ничем не занимается, читает „Войну и мир“, и то, представь себе, прочел нечаянно вторую часть прежде первой, и до конца почти не спохватился» (цит. по: Там же. Т. 83. С. 387). Вспоминая события семейной жизни осени и зимы 1883 - начала 1884 г., С. А. Толстая замечала, что особенно разлагающе действовала на сына городская среда: «Илья повадился играть в винт, проигрывал деньги, которых у него не было, я огорчалась, со слезами упрекала ему, а между тем чувствовала, что взамен его развлечений я ему дать дома ничего не могу. Просиживая вечера в гостях за винтом, Илья вставал поздно, получал за неприготовленные уроки единицы и приводил меня в отчаяние. Уже он был настолько взрослый, ему было 17 лет, что бранить его было бесполезно, а приходилось мирно увещевать и горячо просить, после чего он на время делался прилежнее и благоразумнее» (Там же. С. 433-434).
4 О своем времяпрепровождении Страхов сообщал А. А. Фету: «В Москве я провел три дни, и, кажется, в первый же навестил Клюшникова (Виктора Петровича). Он очень обрадовал меня, заявляя себя Вашим великим поклонником (...) Аксакова мне не удалось видеть (...) Я всё охотился за книгами» (письмо от 17 августа 1883 г. — Фет. Переписка II. С. 362).
5 С прекращением публикации в «Руси» «писем» Страхова о нигилизме в мае 1881 г. редактор газеты И. С. Аксаков не раз побуждал своего автора к поддержанию сотрудничества, которое, однако, получит продолжение лишь в 1883 г. К тому времени претерпит существенное изменение сам орган печати: из еженедельного издания «Русь» превратится в двухнедельный, получит новый формат — газеты-журнала (в восьмую долю листа) и объем (4-5 листов выпуск), расположение текстов в две колонки. Предпринятые новации были вызваны как финансово-экономическими (сокращение количества подписчиков), так и общественно-политическими (отставка министра внутренних дел гр. Н. П. Игнатьева, сторонника взглядов Аксакова на роль 254
Земского собора, и изменение курса правительства) и моральными (накопившаяся усталость редактора от интенсивной еженедельной работы) причинами. Новые объективные условия требовали корректировки идейного содержания газеты и тактики политической борьбы, о чем Аксаков писал Страхову еще осенью 1882 г.: «Я полагаю, что „Русь“ до сих пор довольно расчистила почву и порубила чащу современного вздора; теперь пора уже трубить и сбор и выбираться на большую дорогу мысли общей, совокупляющей и объединяющей» (письмо от 26 сентября 1882 г. — Аксаков — Страхов. Переписка. С. 65). Ставя перед обновленным печатным органом задачу собирания и соединения сил сторонников «национального» направления, Аксаков имел основания рассчитывать на деятельную поддержку и в целом идейно близкого ему Страхова, которому было предложено возглавить критический отдел. В том же сентябрьском письме Аксаков объяснял: «Мне необходимо Ваше участие не случайное, а постоянное, как критика, участие более или менее закрепощенное, дабы мне не остаться в один прекрасный день на мели одному» (Там же. — Курсив Аксакова). Ответ Страхова на предложение неизвестен, однако смысл его объяснений устанавливается из нового обращения к нему Аксакова в октябре. Занятость служебными и общественными делами в Петербурге (см. примеч. 1 к п. 309), погружение в сложные вопросы внутренней духовной жизни не позволяли ему в должной мере отдаться новой деятельности, хотя посильное творческое участие и возможную организационную помощь (по привлечению новых сотрудников) Страхов, вероятно, и обещал. По крайней мере, Аксаков стремился поддержать конструктивный настрой Страхова: «Что же касается до Вас, то надеюсь, Ваше теперешнее состояние духа минует и Вы опять заохотитесь писать. Хотя форма критическая самая удобная и Вам, может быть, наиболее привычная (при работе журнальной), однако же для Вашего характера она должна порой представить истинные муки: как бы побранить так, чтоб человек не обиделся, или — нет ли и в самом деле чего-нибудь хорошего там, где даже на Ваш снисходительный взгляд сплошь плохое. / Поэтому я вовсе и не настаиваю на том, чтоб Вы писали одни критики. Пишите о чем угодно. Есть две темы, две задачи: диагноз нашего общественного духовного недуга, снедающего молодежь, — и, с другой стороны, указание этой молодежи новых горизонтов, куда мог бы воспарить юный дух (...) но нужно. Чтобы он не испарился в парении, а, набравшись сил, возвращался к родной земле для работы» (письмо от 10 октября 1882 г. — Там же. С. 67). Страхов поспешил откликнуться на призыв редактора и уже в следующем месяце известил его о намерении поместить в «Руси» новую статью, а к середине декабря и отсылает ее в Москву (письма от 21 ноября и 17 декабря 1882 г. — Там же. С. 69, 72). Критическая работа Страхова получила одобрение Аксакова («Именно статья в таком роде и такого содержания была мне нужна») и появилась в январских номерах газеты (см. примеч. 1 к п. 309). Заинтересованный в более частом появлении своего сотрудника на страницах «Руси» Аксаков убеждал Страхова «не полагать пера» и уже в марте желал иметь от него что255
нибудь «для критики или литературного обзора». Считая нравственной обязанностью поддержать нередко впадавшего в сомнение относительно своих сил автора, Аксаков призывал: «Дай Вам Бог скорее оправится от Вашего катара и от Вашего пессимизма относительно самого себя. Право, Ваши статьи нужны, они читаются со вниманием...» (письма от 17 декабря 1882 г. и от 17 января 1883 г. — Там же. С. 72, 78). Страхов, ободренный успехом первого номера обновленной «Руси», признавался редактору, что «и сам одушевился и этим успехом и своим литературным оплотом: хочется писать...» Но, связанный сроками сдачи рукописи «воспоминаний» о Ф. М. Достоевском, готов был возобновить сотрудничество только после лета: «... даю Вам слово осенью усердно работать для «Руси». Но до тех пор невозможно. Я уже получил выговор от А. Г. Достоевской, что вместо работы над биографией пишу в «Русь». Нужно свалить с плеч это дело, что и думаю сделать к лету» (письмо от 16 января 1883 г. — Там же. С. 75. — Курсив Страхова). Однако труд по написанию воспоминаний потребовал гораздо большего времени для завершения, чем представлял себе Страхов: не только всё лето, но и значительная часть осени были посвящены доделкам. Будучи не в состоянии исполнить в срок своего обещания, Страхов стремится восполнить затянувшуюся творческою паузу помощью в приискании для газеты новых авторов (А. А. Фет, П. А. Кусков. Н. Я. Данилевский) и счел возможным сообщить редактору названия уже задуманных им статей («Поездка на Афон», «Историки без принципов»; см.: Там же. С. 83). Направляясь летом в имение А. А. Фета, Страхов рассчитывал на встречу с Аксаковым в Москве, где и сделал остановку, но редактора «Руси» не застал. Неудачной оказалась и повторная попытка увидеть Аксакова на обратном пути в Петербург из Ясной Поляны, о которой упоминает Страхов в письме к Толстому. В своем очередном обращении к редактору он объяснял: «Летом я дважды проезжал через Москву и искал Вас — но Вы не приехали в банк [место службы Аксакова. — Сост.] как раз в тот день, когда я уже наверное думал, что Вас увижу. Ехать к Вам на дачу [в Троекурово, под Москвой. — Сост.] я не решился, соображая, как мало привезу Вам интересного». Из этого же письма узнаем, что одним из поводов к желаемой Страховым встрече стало его намерение подготовить для «Руси» материал по поводу состоявшейся в мае коронации Александра III и «написать об Тургеневе», незадолго перед тем скончавшемся во Франции (письмо от 16 сентября 1883 г. — Там же. С. 92). Несмотря на заверения в удовольствии, получаемом от чтения публикаций («душевно благодарю Вас за много-много отрады, доставленной Вашею „Русью“»), и в желании быть полезным и впредь, содержание газеты Аксакова вызывало у Страхова противоречивые чувства. Еще в марте он разочарованно заметил Н. Я. Данилевскому: «Русь скучна и опять стала напоминать департаментские бумаги...» (письмо от 21-28 марта 1883 г. — РВ. 1901. Февраль. С. 464. — Курсив Страхова). Не скрывал он своего впечатления от материалов газеты и перед редактором: «„Русь“ читалась мною довольно усердно, но очень мне жаль было видеть, как мало 256
интересовались ею другие. Она слишком суха для публики, и часто я думал, как бы помочь этому делу. Оживление возможно только посредством присяжных сотрудников, а их у Вас нет ни одного» (Аксаков — Страхов. Переписка. С. 94). Неоднозначным было и само отношение Страхова к сотрудничеству. С одной стороны, откликаясь на ободрения редактора («...уже давно недоставало „Руси“ Вашего мягкого, но многомысленного слова». «Пожалуйста, не ленитесь и пишите. Ваше слово берет» — письма от 1 декабря 1883 г. — Там же. С. 97), он неизменно отзывался готовностью к продолжению своего участия в газете («Я было предполагал и еще писать». «...Я и вперед Ваш покорный сотрудник» (письмо от 16 ноября 1883 г. — Там же. С. 94), с другой — всячески избегал связывать себя какими-либо обязательствами («Аксакова мне не удалось видеть; я, впрочем, немножко боялся, что он сорвет с меня какое-нибудь обещание» — письмо А. А. Фету от 17 августа 1883 г. — Фет. Переписка И. С. 362). До конца 1883 г. Страхов поместит в «Руси» еще две статьи: Поминки по Тургеневе (1 дек. № 23. С. 14-20) и отзыв о сборнике стихов Фета «Вечерние огни» (15 дек. № 24. С. 57-58).
6 Речь идет о философе Н. Ф. Федорове. Румянцевский музей, в котором он служил библиотекарем, был, вероятно, закрыт по случаю летнего каникулярного времени.
7 Дом Толстых (бывший Арнаутовых) в Хамовниках. См. примеч. 3 к п. 307.
8 Вероятно, описка или ошибка памяти Страхова. По рекомендации И. Е. Репина в Петербурге П. М. Третьяков приобрел для своей галереи картину художника-академиста П. А. Сведомского «Медуза» (Рим, 1882). Однако вскоре Репин разочаровался в работе Сведомского и изменил о ней свое первоначально высокое мнение, посчитав ее «вещью иностранного происхождения», т. е. написанной «под впечатлением иностранных мастеров», не отличавшейся «ни оригинальностью, ни значительностью», а потому мало подходившей для собрания русской национальной живописи. Ср.: «А Медуза мне во второй раз уже не понравилась: слишком декоративна и манерна показалась; краски хороши» (см.: Письма И. Е. Репина: Переписка с П. М. Третьяковым. 1873-1898. М.; Л., 1946. С. 67,70-72). Полотно Сведомского Страхов мог видеть и в Петербурге, где оно было представлено в экспозиции Общества художественных выставок, размещенной в залах Академии художеств весной (с 10 марта по 1 мая) 1883 г. В том же 1883 г. Сведомский был удостоен звания почетного вольного общника Императорской академии художеств «за известность и труды на художественном поприще», в том числе за картину «Медуза». Несмотря на скептический отзыв Репина, Третьяков не расстался с работой, она была выставлена для обозрения в большом третьем зале верхних помещений галереи, среди 75 работ других мастеров русской живописи — А. К. Саврасова, К. Е. Маковского, Н. В. Неврева, И. М. Прянишникова, П. П. Чистякова, Л. Ф. Лагорио, М. П. Клодта, С. В. Бакаловича и др. (см.: Опись художественных произведений городской галлереи Павла и Сергея Третьяковых. М., 1893. С. 40. № 396). В составе коллекции Третьякова работа была передана в дар городу
Москве в 1892 г. и в настоящее время представлена в общей экспозиции галереи (см.: Государственная Третьяковская галерея: Каталог живописи XVIII - начала XX века (до 1917 года). М., 1984. С. 419. № 1846).
9 «Медуза» Сведомского вызвала противоречивые толки. Наряду с положительными отзывами, в адрес работы художника раздавались и критические суждения. Обозреватель «Художественных новостей» (приложение к «Вестнику изящных искусств»), делясь своими мыслями по поводу работ Сведомского, замечал о «Медузе»: «Странное впечатление производит она на зрителя и своим сюжетом, и своим исполнением. Кто не знает мифологии, или позабыл ее, останавливается перед этим произведением с недоумением; даже тот, кто сведущ в античном баснословии, прочтя в каталоге, что картина называется «Медузою», не скоро догадывается, чтб хотел изобразить художник. Большинство посетителей выставки спрашивает себя, кто эта колоссальная женщина в белой растрепанной и измятой тунике, с бледным полусумасшедшим лицом, с тяжелыми, словно каменными космами каштановых волос; зачем стоит она в такой театральной позе у колодца, среди камней, кактусов и терний пустынного морского берега, окрашенная багровым светом как будто красного бенгальского огня, спрятанного за суровыми облаками? Медузу мы знаем все как безобразную голову, с змеями вместо волос, которою Персей испугал насмерть чудовище, собиравшееся пожрать прикованную к скале Андромеду; но мало кто помнит, что это самое пугало было прежде головою красавицы, дочери Проциона, безвинно наказанной Минервою за то, что Нептун осквернил святилище этой богини совершением насилия над приглянувшейся ему девушкой. По-видимому, г. Сведомский хотел изобразить Медузу в тот момент, когда она, еще возмущенная нанесенным ей позором, начинает вдобавок чувствовать, что ее роскошные волосы, слывшие чудом во всем околодке, превращаются, по воле мстительной богини, в отвратительных змей. Задача была выбрана очень хорошая, но и опасная, потому что к ее исполнению следовало отнестись с большею обдуманностью. В том, как разрешил ее г. Сведомский, сказалось нечто хорошее; но слишком сильная погоня за эффектом композиции и неумеренное желание выказать широту и свободу кисти испортили дело» (1883.15 апр. Т. 1. № 8. Стб. 274-275).
10 О своих занятиях по возвращении в Петербург Страхов подробно рассказывал А. А. Фету в письме от 17 августа: «Я всё охотился за книгами. По приезде в Петербург я тоже продолжал это занятие, но главное — сел за работу, как намеревался, и с радостью вижу, что она действительно подходит к концу. В первый же день я купил новый стол, потом заказал три полки для книг, купил превосходную лампу и теперь благодушествую необыкновенно. Сижу дома, пишу и читаю. (...) Сегодня же — стал ходить на службу» (Фет. Переписка II. С. 362). Страхов продолжал трудиться над завершением своих «воспоминаний» о Ф. М. Достоевском.
11 Обращение Фета к Страхову, написанное, вероятно, около 26 июля 1883 г., известно только в приведенных Страховым выдержках. О выписках из письма строк, ка258
савшихся обитателей Ясной Поляны, Страхов уведомил Фета в ответном обращении от 17 августа из Петербурга: «... Ваше письмо (...) я получил его уже здесь. Но всё, что касается до Ясной, я выписал буквально и посылаю туда с этою же почтою» (Там же).
12 Возможно, речь идет о бывшей гувернантке племянницы Фета француженке м-ль Оберлендер, которую поэт в своих воспоминаниях называет «замечательной пьянисткой» (Мои воспоминания. Ч. 2. С. 312). Если упоминаемая Фетом «M-me Amélie» была действительно взятая им весной 1876 г. для музыкальных занятий пианистка, то она должна быть знакома и Страхову, который видел ее в доме поэта в Степановке в июле 1877 г. Ср. в мемуарах Фета: «В середине лета совершенно неожиданно приехал гр. Толстой вместе с гостившим в это время у него H. Н. Страховым, с которым я за год перед тем познакомился в Ясной Поляне. Излишне говорить, до какой степени мы были рады дорогим гостям (...) Чуткий эстетик по природе, граф так и набросился на фортепианную игру нашей М-Пе Оберлендер. Он садился играть с нею в четыре руки, и таким образом они вместе переиграли чуть ли не всего Бетховена» (Там же. С. 328).
13 Фет имеет в виду, что живой обмен мнениями, прежде всего посредством заинтересованно поддерживаемой с обеих сторон переписки, между ним и Толстым прекратился: последнее известное обращение Толстого к Фету — от 12 мая 1881 г. (Юб. Т. 63. С. 63), Фета к Толстому — от 20 января 1881 г. (если не считать его единственного более позднего письма от 7 июня 1884 г. (Толстой. Переписка с писателями II. С. 116-118). Между тем стремление к поддержанию взаимного общения по миновании личных встреч было некогда весьма сильно в обоих корреспондентах. Ср.: «... душит неудовлетворенная потребность в родственной душе, как Ваша, чтобы высказать всё накопившееся» (письмо Толстого от 30 августа 1869 г. — Юб. T. С.). — «О, как живительны Ваши краткие письма (...) Вы меня всякий раз подымаете с земли, на которой я иногда лежу, скорбный, одинокий, как расслабленный у овчей купели. Знаете ли, как я облизываюсь от предвкушения наслаждения, когда сажусь писать Вам?» (письмо Фета от 31 марта 1878 г. — Толстой. Переписка с писателями IL С. 17).
14 Понравившиеся Страхову слова из письма Фета представляют собой «перифраз» высказывания Толстого из письма к Фету. «Аукаться» Толстой и Фет начали еще с конца 50-х гг. — в пору душевной и духовной близости. Ср.: «Ау! Дядинька! Ауу!» (письмо Толстого А. А. Фету от 16 мая 1858 г. — Юб. Т. 60. С. 270). «Черкните и аукнитесь!» «... Захотелось мне (...) кликнуть Вам издалека это приветствие» (письма А. А. Фета Толстому от 15 июня 1867 г. и от 16 апреля 1878 г. — Толстой. Переписка с писателями II. С. 21). Выразив в ответном обращении к Фету свою благодарность за доставленное его письмом удовольствие, чуткий к образному слову Страхов счел нужным отметить: «И всего прелестнее в нем жгучий интерес взаимного ауканья!» (Фет. Переписка II. С. 362. — Курсив Страхова). Запомнилось это яркое выражение и С. А. Толстой, которая отметила его в своих автобиографических запис259
ках (Толстая. Моя жизнь I. С. 417). Подробнее о переписке Толстого и Фета см: Маймин Е. А. А. А. Фет и Л. Н. Толстой — РА. 1989. № 4. С. 131-142).
15 Возможно, реминисценция одной из остро волновавших Фета тем социального обустройства пореформенной земской России, которая затрагивалась и в переписке поэта. Ср.: «При крепостном праве помещики были местной полицией и цензурой. Допустим, что и то и другое было неудовлетворительно и требовало реформ в духе времени. Время сегодня требует этой реформы. В Апреле бросают сани и надевают колеса. Но бросить сани и не дать ничего — не значит сделать реформу, а разорение. Между тем у нас всё отменено и поставлены на место слова в виде мирового суда, который, во-первых, за 50 верст, а во-вторых, слишком формален, а в-третьих, совершенно бессилен. Это мебельный магазин, в котором и хозяину сесть не на чем. (...) У меня подожгли в Воробьевке стог сена (...) около Граворонки нигилисты жгут петролеумом самым радикальным способом, превращают [Так. — Сост.] народ в этом направлении. Я мог бы Вам назвать ряд поджогов; начиная с моей Граворонки (...) Нашего соседа (...) сначала сожгли хлеб, а затем и усадьбу. А между тем в газетах пишут, что мужики, догнав вора на краденой лошади, привязали к ней и растрепали. Виновные находятся в руках правосудия. Если б было действительное правосудие, то надо бы суд весь растрепать таким образом...» (письмо Страхову от 5 октября 1878 г. — Фет. Переписка II. С. 72. — Курсив Фета). Беспокоил этот вопрос не одного Фета. И. С. Аксаков в редакционной статье первого номера обновленной газеты «Русь» замечал: «Уничтожение крепостного права выдернуло, так сказать, из-под самого главного орудия общественного строя, из-под дворянского сословия, ту историческую вековую основу, на которой оно сидело. „Ста тысяч полицеймейстеров" в виде помещиков — чем так гордилась Екатерина II — как бы не бывало. Образовался провал, и многое повисло на воздухе. Кое-как, на скорую руку созданными земскими учреждениями, никого пока в своем настоящем виде не удовлетворяющими, поспешно заткнули эту пустоту. (...) великий социальный переворот, совершенный Александром II, поколебал всю правительственную систему, созданную петербургским периодом русской истории, с его бюрократическою, канцелярско-полицейскою опекою. Новый строй еще не сложился, да и сложиться ему не легко — именно благодаря отсутствию в правящих и в общественных классах исторического национального духа и нераздельной с ним жизненной творческой силы и правды в сознании» (1883. 3 янв. № 1. С. 5-6). Не был равнодушен к этой проблеме и Страхов, подключившийся к обсуждению в одном из писем к И. С. Аксакову: «... Вы пишете об уничтожении ста тысяч полицеймейстеров, и о провале, который от этого образовался. Мне всегда это мерещилось. Собственно у нас теперь только два класса: чиновники и обыватели. Уничтожен целый класс с его занятиями, привычками, нравами. Могла ли не быть вредною такая пустота? Я глубоко убежден, что ожесточение политиканства и, следовательно, ряд политических пре260
ступлений вызваны этой пустотою. (...) Мне кажется, Вы первый решились сказать, что 19 февраля до сих пор требует поправки или подпорки» (письмо от 16 января 1883 г. — Аксаков — Страхов. Переписка. С. 75. — Курсив Страхова). Страхов хотя и взглянул на постановку вопроса с несколько иной точки зрения, чем та, с которой его рассматривал Фет, не решился обсуждать эту тему с Толстым, зная его отрицательное отношение к государству в целом и к важнейшим его опорным институтам в частности. Тем горячее он поддержал намерение Фета более подробно разработать вопрос в отдельной брошюре: «Ваша мысль писать книгу о том, как нам жить — прекрасная. Меня глубоко трогает Ваше беспокойство относительно этих вопросов. Вы настоящий, серьезный человек, который не хочет плыть по ветру и жить как придется» (письмо от 17 сентября 1883 г. — Фет. Переписка II. С. 363). Возможно, что слова Страхова об «упованиях» Фета на полицию, не остались незамеченными Толстым. По крайней мере, на взгляды именно таких современников Толстой откликнулся в своем трактате «В чем моя вера?». Ср.: «Всё цивилизованное большинство людей осталось для жизни с одной верой в городового и урядника. / Положение это было бы ужасно, если бы оно вполне было таково. Но, к счастью, и в наше время есть люди, лучшие люди нашего времени, которые не довольствуются такой верою и имеют свою веру в то, как должны жить люди» (Юб. Т. 23. С. 447).
16 Речь идет прежде всего о С. А. Толстой, которой Фет неизменно симпатизировал, и о ее сестре Т. А. Кузминской. Происхождение эпитета «неувядаемая» применительно к жене писателя объясняется из дарственной надписи Фета на сохранившемся в составе яснополянской библиотеки Толстых экземпляре первого выпуска сборника неизданных стихотворений «Вечерние огни», вышедшем в Москве в том же 1883 г.: «Неувядаемой графине Софье Андреевне Толстой. Автор» (Описание ЯП6. Т. 1, ч. 2. С. 398-399. № 3533). Страхову было известно это «величание»; еще 19 июля 1883 г. он сообщал Фету из Ясной Поляны: «Все усердно кланяются Вам (...) Неувядаемая графиня (эпитет, она говорит, принадлежит Вам) и Татьяна Андреевна и Татьяна Львовна блистают как нельзя лучше» (Фет. Переписка II. С. 360. — Курсив Страхова).
17 А. И. Пост, бывший (до июля 1883 г.) управляющий имениями Фета и его племянников, определившийся на службу к родственникам жены поэта.
18 Фет отзывается на просьбу, сообщенную ему Страховым в письме от 19 июля 1883 г.: «Татьяна Андреевна [Кузминская] просит Вас прислать ей для прочтения „Вечерние огни“, где, как ей сказали, воспето и ее пение. Книга Толстых осталась в Москве. Хотя мне представилось множество возражений против такого обращения к автору, или с автором, но я не успел их высказать и обещал передать просьбу» (Там же. С. 360. — Курсив Страхова). В ответе Фета, вероятно, подразумеваются книги: Фауст. Трагедия Гете. Часть вторая. Пер., предисл. и примеч. А. Фета. Ч. 2. М., 1883; Вечерние огни. Собрание неизданных стихотворений А. Фета. [Вып. 1]. М., 1883. Кроме того, 261
Фет под псевдонимом выпустил публицистическую брошюру: Наши корни. [О двух главных корнях народной жизни: народном миросозерцании и земледельческой промышленности]. Деревенского жителя. М., 1882.
19 Имеется в виду работа над «Воспоминания о Ф. М. Достоевском». Окончательное завершение труда потребовало от Страхова еще месяц напряженных занятий. В первой половине сентября он сообщал Н. Я. Данилевскому: «Я сижу всё за Достоевским и теперь так уже втянулся в работу, что перестал досадовать на нее и сокрушаться, что плохо идет» (письмо от 13 сентября 1883 г. — РВ. 1901. Февраль. С. 468). Несколько дней спустя, обращаясь к Фету, он уточнял: «Сам я всё еще сижу за Достоевским — немного разыгрался; но вообще мы испечем претолстую книгу, которую трудно будет читать и даже держать в руках и в которой будет множество недопеченного» (письмо от 17 сентября 1883 г. — Фет. Переписка II. С. 363).
20 Этими сотрудниками были исправлявший должность библиотекаря отделения книг на русском языке, заведующий ее хозяйственной частью коллежский советник Федор Иванович Плетнев (| 12 июля 1883 г.) и почетный член Публичной библиотеки Алексей Егорович Викторов (+ 22 июля 1883 г.) (см.: Отчет Императорской Публичной библиотеки за 1883 год. СПб., 1885. С. 1-4).
21 Михаил Петрович Покровский, один из деятельных организаторов и руководителей студенческого движения 1860-х гг. в Петербурге, близкий знакомый Страхова по товарищескому кружку молодежи. Неплохо знавший Покровского и Страхова Л. Ф. Пантелеев замечал: «Они были большими приятелями, когда Покровский был еще студентом, и оставались такими до самой смерти Покровского...» (Пантелеев Л. ф. Воспоминания. М. 1958. С. 534). В 1861 г. выслан в Архангельскую губернию под надзор полиции. По утверждению мемуариста, Покровский вернулся из ссылки «сильно поправевшим и уже стоял совершенно далеко от каких-нибудь оппозиционных выступлений, даже не поддерживал отношений со старыми товарищами по университетской истории» (Там же. С. 532 - 534). О кончине Покровского Страхов известил Н. Я. Данилевского 13 сентября 1883 г. (РВ. 1901. Февраль. С. 469).
22 Ср. примеч. 10.
23 П. К. Щебальский, историк, критик, сотрудник журналов «Русский вестник», «Заря», «Русский архив», «Русская старина» и др. В 1883-1886 гг. редактор «Варшавского дневника». Автор статей о романе Толстого «„Война и мир“, сочинение графа Л. Н. Толстого» (РВ. 1868. Январь. С. 300-320; 1869. Апрель. С. 856-868). На основе анализа военных и политических глав романа обвинял Толстого в историческом нигилизме. Другие работы Щебальского о Толстом в печати не появлялись.
24 Так в автографе. Страхов обращается к С. А. Толстой, Т. А. и А. М. Кузминским, а также другим обитателям Ясной Поляны.
25 Возможно, речь идет о выполненном в 1882 г. по поручению Британского библейского общества гебраистами В. А. Левинсоном и Д. А. Хвольсоном под литера262
турной редакцией П. И. Боголюбова и П. И. Савваитова переводе на русский язык еврейской Библии (ТаНаХа, с параллельным еврейским текстом). В Ясной Поляне Толстой продолжал усиленно трудиться над овладением еврейским языком и чтением Библии в оригинале, о чем Страхов сообщал Н. Я. Данилевскому в письме от 19 июля: «Л. Н. Толстой (может быть, вы слышали) выучился в эту зиму по-еврейски, и это уже помогает ему в понимании Писания, главном его занятии» (РВ. 1901. Февраль. С. 467).
26 См. примеч. 13 и 14.
27 Страхов имеет в виду свои слова о Ф. М. Достоевском в середине письма.
315 Толстой — Отрохову
Дорогой Николай Николаевич.
Благодарю вас за письмо; мы поджидали его и начинали уж беспокоиться о вас. Очень радуюсь за то, что вам было хорошо у нас. Жду вашу биографию1. Хоть вы и браните ее, я знаю, что там будет много хорошего. Я всё переделываю, поправляю свое писанье1 2 и очень занят. Погода прекрасная, мы все веселы и здоровы3. Смерть Тургенева4 я ожидал, а всетаки очень часто думаю о нем теперь 5. Простите, что пишу несколько слов. Не забывайте нас за то, что мы все вас любим.
Ваш Л. Толстой
1 См. примеч. 19 к п. 314.
2 Толстой продолжал работать над статьей «В чем моя вера?», первоначально на¬
званной «Записки моей жизни 1881 года», с которой познакомил Страхова уже в первую неделю его пребывания в Ясной Поляне. Свой краткий отзыв о труде Толстого
Страхов сообщил тогда же А. А. Фету: «Я прочитал его новое изложение учения, во многом очень замечательное, в других местах недоработанное» (письмо от 19 июля
1883 г. — Фет. Переписка II. С. 360). Более подробно Страхов высказался на эту тему в тот же день в письме к Н. Я. Данилевскому: «...читал я новое изложение учения Христа, составленное в прошлую зиму Л. Н. Толстым, и важнейшие разговоры были с автором этого изложения и хозяином Ясной Поляны. Всё вместе удивительно и зани-
2 сентября 1883 г. Ясная Поляна
Печатается по: ОР ГАЯ. Ф.1. №7455. Л. 1. На л. 1 помета Страхова: «2 сентября] 1883». Впервые по копии: Толстой и о Толстом //. С. 45. В/06..Т. 63. С. 138. Датируется по помете Страхова. Ответ на п. 314.
263
мательно (...) Иные из его открытий в этом деле и поразительны своею верностию и приводят к важным, глубоким результатам. Не подозревайте меня в пристрастии, я, вы знаете, не легко отдаюсь новым взглядам. Но напрасно я ищу у его ведомых и неведомых противников какого-нибудь основательного возражения. Положительная сторона его понимания христианства несомненна; но в отрицательной есть много слабых мест и преувеличений» (РВ. 1901. Февраль. С. 467).
3 Страхов считал за должное знакомить с получаемыми из Ясной Поляны новостями А. А. Фета, «горевавшего», по выражению С. А. Толстой, «о том разъединении, которое произошло между ним и Львом Николаевичем вследствие его новых идей», но продолжавшего проявлять острый интерес к жизни ее насельников, несмотря на прекращение переписки с Толстым (Толстая. Моя жизнь I. С. 417). Ср.: «Из Ясной Поляны есть маленькие известия — всё по-прежнему, т. е. очень благополучно» (письмо от 17 сентября 1883 г. — Фет. Переписка II. С. 363). Судя по всему, интимная жизнь Толстых, с ее семейными неурядицами, нараставшим отчуждением супругов и углублявшимся непониманием между отцом и детьми, оставалась закрытой для сторонних наблюдателей и не угадывалась ими за внешним вполне «безоблачным» течением событий. Об этой светлой стороне быта Ясной Поляны С. А. Толстая вспоминала: «Вообще настроение всех было в то время очень хорошее — дружное и веселое. Хотелось всем пользоваться вовсю: деревней, купанием, всякими деревенскими радостями. (...) Льву Николаевичу тогда было уже 55 лет, а мне 39, а бегали мы (...) наравне с нашей молодежью. Хорошее было у нас здоровье и много еще силы» (Толстая. Моя жизнь I. С. 409. — Курсив С. А. Толстой). Сложнее было разглядеть происходившее под радужной оболочкой повседневности. Еще в августе прошлого 1882 г. в семье Толстых произошло событие, которое С. А. Толстая считала неким поворотным моментом в отношениях с мужем: «Уж кто из нас двух был тогда виноват и что было предметом нашей ссоры с Львом Николаевичем — я не помню. В дневнике моем упомянуто, что я упрекала Льву Николаевичу, что он совсем не заботится о своих детях и что я осталась одна, а у меня сил нет нести всю тяжесть семейной жизни без помощи, а только с его помехой. / Ссора была очень бурная. Лев Николаевич громко вскрикнул, что самая страстная мысль его о том, чтоб уйти из семьи. Меня это особенно больно поранило, потому что я последнее время всегда это чувствовала, и сердилась, и огорчалась на это. Пишу в своем дневнике 26 августа 1882 года: „Он как бы отрезал от меня сердце...“» «Кажется, в то же лето был еще один тяжелый эпизод. Опять Лев Николаевич стал меня упрекать, злобно мучить своим недовольством всем, и, доведенная раз до последней степени нервности и отчаяния, я решила броситься под поезд на ближайшей станции» (Там же. С. 391, 392. — Курсив С. А. Толстой). В лето 1883 г. душевно опустошающие размолвки не повторялись, но трещина, надорвавшая семейную жизнь Толстых, поползла дальше: «...лучше он стал со мной на короткое время. Я знала эти периоды страстности после разлуки, я боялась их, не любила этого захвата моей жизни
264
в эту область взаимных страстно-любовных отношений и, намучившись сердцем, была уже не прежняя. Мне бывало часто жаль себя, своей личной одинокой жизни, уходящей на заботы о муже и семье; во мне просыпались чаще другие потребности, желание личной жизни, чтоб кто-нибудь в ней участвовал ближе, помогал мне и любил бы меня не страстно, а ласково, спокойно и нежно. Но этого так никогда в жизни и не было. Когда кончилась страстность, ее заменила привычка и холодность» (Там же. С. 412. — Курсив С. А. Толстой). Не могла Софья Андреевна оставаться равнодушной и видя отношение Толстого к семье, которой он, по ее утверждению, «не хотел быть нужен» — «ни во что не входил, и если знал, что сыновья не пошли в гимназию, или пропадали ночь, или дурно учатся, он старательно избегал встречаться с ними, чтобы не говорить о их недостатках и себя ни в чем не тревожить. Как исключительный человек, художник, мыслитель — он был прав. Но как отец — вина его перед детьми и передо мной, оставшейся беспомощной, очень велика» (Там же. С. 428). Не способствовали устранению недоразумений и новые религиозно-нравственные воззрения писателя. Начав знакомиться с рукописью занимавшей тогда внимание Толстого работы, Софья Андреевна замечала: «Я всё читаю твою статью, или лучше твое сочинение. Конечно, ничего нельзя сказать против того, что хорошо бы людям быть совершенными, и непременно надо напоминать людям, как надо быть совершенными и какими путями достигнуть этого. Но все-таки не могу не сказать, что трудно отбросить все игрушки в жизни, которыми играешь, и всякий, и я больше других держу эти игрушки крепко и радуюсь, как они блестят, и шумят, и забавляют» (письмо от 21 июня 1883 г. — Толстая С. А. Письма к Л. Н. Толстому. М., 1936. С. 227). «Эта тяжеловесная работа религиознофилософская, это отрицание всего, всего на свете, и прежде всего Церкви, несомненно давалось ему тяжело. А жизнь наша шла в разлад с его писаньями и проповедью, и это тоже несомненно мучило его. Я это всё чувствовала и потому тоже была несчастлива...» (Толстая. Моя жизнь I. С. 427. — Курсив С. А. Толстой). О том, насколько «несчастлив» был сам Толстой, наблюдая жизнь семьи и страдая от неспособности привести ее в соответствие с разрабатываемым им учением, свидетельствуют заметки его дневника и письма к жене. Ср.: «...распечатал твое письмо от 7-го Июня, последнее; и чем дальше я читал, тем большим холодом меня обдавало. — Хотел послать тебе это письмо, да тебе будет досадно. Ничего особенного нет в письме; но я не спал всю ночь, и мне стало ужасно грустно и тяжело. Я так тебя любил, и ты так напомнила мне всё то, чем ты старательно убиваешь мою любовь. Я писал, что мне больно то, что я слишком холодно и поспешно простился с тобой; на это ты мне пишешь, что ты стараешься жить так, чтобы я тебе был не нужен, и что очень успешно достигаешь этого. Обо мне и о том, что составляет мою жизнь, пишешь, как про слабость, от которой ты надеешься, что я исправлюсь посредством кумыса. О предстоящем нашем свидании, кот[орое] для меня радостная, светлая точка впереди, о к[оторой] я стараюсь не думать, чтобы не ускакать сейчас, ты пишешь, предвидя с моей стороны какие-то упреки и неприят265
ности. О себе пишешь так, что ты так спокойна и довольна, что мне только остается желать не нарушать этого довольства и спокойствия своим присутствием» (письмо от 15 июня 1883 г. — Юб. Т. 83. С. 391). Ср. с записями в дневнике: Там же. Т. 49. С. 66-68.
4 О предсмертном заболевании И. С. Тургенева Толстой узнал из разговора с Д. В. Григоровичем весной 1882 г. Обеспокоенный поставленным врачами неутешительным диагнозом, Толстой обратился к Тургеневу с письмом: «Известия о вашей болезни (...) ужасно огорчили меня, когда я поверил, что это серьезная болезнь. Я почувствовал, как я вас люблю. Я почувствовал, что если вы умрете прежде меня, мне будет очень больно. (...) В первую минуту, когда я поверил — надеюсь, напрасно — что вы опасно больны, мне даже пришло в голову ехать в Париж, чтобы повидаться с вами» (письмо от начала мая 1882 г. — Юб. Т. 63. С. 95-96). Тургенев, не желая обеспокоить Толстого неблагоприятным прогнозом и, вероятно, полагаясь на первичное мнение врачей, поспешил заверить его в том, что болезнь у него «вовсе не опасная, хоть и довольно мучительная». «Что же касается до моей жизни — так я, вероятно, еще долго проживу, хотя моя песенка уже спета...» (письмо от 26/14 мая 1882 г. — Тургенев И. С. Поли. собр. соч. и писем: в 28 т. Письма: Т. 13, кн. 1. С. 256). Более определенные сведения о состоянии больного Толстой мог получить от общей знакомой, посетившей Тургенева в ноябре того же года и передавшей ему для ознакомления, по просьбе Толстого, его «Исповедь» (см.: Юб. Т. 63. С. 139). О безнадежном состоянии Тургенева Толстой узнал из его прощального письма от конца июня (по старому стилю) 1883 г. (Тургенев И. С. Поли. собр. соч. и писем: в 28 т. Письма: Т. 13, кн. 2. С. 180). Тургенев скончался 22 августа 1883 г. в Буживале (Франция).
5 Кончина Тургенева глубоко взволновала Толстого; месяц спустя, всё еще находясь под свежим впечатлением от кончины и похорон Тургенева, Толстой писал из Ясной Поляны жене: «О Тургеневе всё думаю и ужасно люблю его, жалею и всё читаю. Я всё с ним живу» (письмо от 30 сентября 1883 г. — Юб. Т 83. С. 396).
316
16 сентября Строхов — ТОЛСТОМ/
1883 г.
01НКтПетербурГ. Душевно благодарю Вас за письмецо, бесценный Лев Николаевич! Меня тронуло и пристыдило и то, что Вы пишете, и то, что рассказывал Александр Михайлович1, что Вы заждались моего письма. Но я вчера только успел повидать Александра] М[ихайловича]: так я копаюсь во всех своих делах и мыслях. Благодарю Вас и за рукопись, которую Вы 266
прислали для Публичной библиотеки2: я ее сперва перечту сам с величайшим вниманием и пользою. — Теперь все здесь заняты Тургеневым, и похороны его будут что-то колоссальное3. Очевидно, из них хотят сделать демонстрацию; но большинство волнуется просто из искреннего или подражательного почтения к литературе. Вы видите, бесценный Лев Николаевич, как жадно люди хватаются за имя, за гроб, за минуту опускания этого гроба в землю. Людям нужно нечто совершенно определенное и индивидуальное. Так, им нужна церковь, алтарь, минута произнесения известных слов. В общем они жить не могут, и те, кто очень мало способен и расположен к литературе, будут преусердно горевать на могиле Тургенева. Вы пишете, что Вам думается о нем — конечно, Вы понимаете его и его смерть лучше, чем кто-нибудь. Я прочитываю в газетах рассказы об нем и отзывы, и перестал на него сердиться4. Он был добродушный, мягкий сердцем и несчастный человек. Ему хотелось славы, и он постарался создать себе огромную известность. Но он мучился, не зная, чего держаться. В одно он верил, в прогресс, в молодое поколение — и рассорился с ним. Мне рассказывали, что в Москве, в заседании Общества любителей, молодой человек, студент, говорил ему речь, в которой заявлял, что «Отцы и дети» были грехом против прогресса, но что «Новью» Тургенев искупил свой грех, и что они, молодые люди, ему прощают5. Речь была сказана вопреки желанию Юрьева, боявшегося за Общество6. Факт этот совершенно достоверный. Жаль одно — «Новь» очень плоха7.
Началось печатание моих «Воспоминаний» о Достоевском. Я всё еще в этой работе, но через месяц мечтаю быть совершенно свободным8.
Простите меня. Душевно Вас люблю, и часто утешаюсь, вспоминая Вас. Как Вы были хороши! Жалею, что не успел тогда сказать графине, каким красавцем Вас нахожу. Мое усердное почтение графине. Дни через четыре увижу Татьяну Андреевну9.
Ваш всею душою
Н. Страхов
267
Печатается по: РО ИРЛИ. Ф. 302. Оп. 2. Ед. хр. 300. Л. 98-99. Впервые: Современный мир. 1913. №10. С. 306. Ответ на п. 315.
1883 г.
16 сент[ября].
Спб.
Р. 5. Тупость и черствость, неподвижность умственная и сухость сердечная — вот что находит на меня; и то я бьюсь против этого, то опускаюсь, отдаюсь этому. Но Вам я верен и останусь верен, дорогой Лев Николаевич.
1 А. М. Кузминский, свояк Толстого, председатель С.-Петербургского окружного суда.
2 Толстой подарил Императорской Публичной библиотеке одну из рукописей «Краткого изложения Евангелия», которая сейчас хранится в ОР ГМТ. В отчете за 1883 г. в перечне рукописей, поступивших в библиотеку за истекший период, под № 24 указано: «Краткое изложение Евангелия. Графа Л. Н. Толстого. Экземпляр, переписанный рукою писца, с собственноручными изменениями и поправками автора. 169 листов. В 4-ю д[олю]. л[иста]. (Собрание автографов). (От графа А. Н. Толстого, через посредство библиотекаря Н. Н. Страхова)» (Отчет Императорской Публичной библиотеки за 1883 год. СПб., 1885. С. 259-260). Вероятно, рукопись была передана через А. М. Кузминского.
3 Тургенев скончался 22 августа 1883 г.; его тело было привезено для погребения в Россию месяц спустя. Похороны Тургенева, которые состоялись в Петербурге на Волховом кладбище 27 сентября, широко освещались в прессе. См.: Последний путь. Отклики русской и зарубежной печати на смерть и похороны Тургенева / обзор Л. Р. Ланского (АН. Т. 76: И. С. Тургенев. Новые материалы и исследования. М., 1967. С. 633-701). В первой половине сентября общественные распорядители энергично занимались подготовкой траурной церемонии прощания с писателем. В написанном на следующий день, 17 сентября, письме А. А. Фету Страхов сообщал: «Ну что Вы скажете о Тургеневе, дорогой Афанасий Афанасьевич? (...) Вы (...) может быть, не знаете, да и никак не можете знать, какая кутерьма теперь происходит из-за покойника. Выйдет что-то колоссальное, неслыханное. На этих похоронах сойдутся и красные и либералы, и вся просвещенная публика. (...) Но всего не расскажешь. Жаль бедного Тургенева — не люблю я ничего, что делается не от души, никакого шума ради шума. Разумеется, тут много и искреннего, но оно потонет в массе лжи» (Фет. Переписка II. С. 363).
4 Свою несколько «изменившуюся» точку зрения на Тургенева и его творчество Страхов подробнее изложил в письме к Н. Я. Данилевскому от 13 сентября: «Теперь 268
все здесь только и думают о похоронах Тургенева, и толкам нет конца. (...) Вы понятия не имеете о том, что творится. Гвалт по всей Европе и России. Западники очень стараются, и демонстрация выходит сама собою. На Невском в 20-ти местах выставлены венки, есть и серебряные по нынешней моде, с надписями вроде: Великому художнику и гражданину русскому. Я говорю: для интеллигенции надобно занятие, иначе ей скучно (...) Отзыв в Руси о Тургеневе поразил меня холодностию. Я затеваю статейку, но состоится ли, не знаю. Тургенев тип слабого человека и в жизни и в писании. Он не мог не поддаться общему настроению интеллигенции, а был Русским в тысячу раз больше других. Помните Живые мощи! Да и много другого. За что же винить его? Виноват только свирепствующий у нас разлад» (РВ. 1901. Февраль. С. 469. — Курсив Страхова).
5 Выступление студента-медика П. П. Викторова от имени молодежи во время встречи Тургенева с московскими студентами 18 февраля 1879 г. широко обсуждалось в печати. См.: П. В. [Васильев П. П.]. Описание торжеств, происходивших в честь И. С. Тургенева во время пребывания его в Москве и Петербурге в течение февраля и марта 1879 г. Казань, 1880. С. 2; Тургенев ПСС. Сочинения. Т. 12. С. 335-337. См. также письмо Тургенева А. В. Топорову от 20 февраля (4 марта) 1879 г. и комментарий к нему (Там же. Письма. Т. 16, кн. 2. С. 55; 246-252; 369-371). О Викторове см.: Алексеева Н. В. Воспоминания П. П. Викторова о Тургеневе. — И. С. Тургенев (1818- 1883-1958): статьи и материалы. Орел, 1960. С. 288 - 343.
6 С. А. Юрьев являлся председателем Общества любителей российской словесности при Московском университете (1878-1884). На заседании Общества 18 февраля Юрьев объявил об избрании Тургенева почетным членом Общества. Примечательно, что в действительные члены Общества Тургенев был избран в один день с Толстым — 28 января 1859 г. — по предложению Константина Сергеевича Аксакова (см.: Словарь членов Общества любителей российской словесности при Московском университете. 1811- 1911. М., [1911]. С. 288,290).
7 О своей неудовлетворенности романом Тургенева Страхов сообщал Толстому еще в январе - апреле 1877 г., после знакомства с его журнальной публикацией (п. 136 и примеч. 5-7,141 и примеч. 9-11,142 и примеч. 5,149 и примеч. 6). В том же смысле Страхов писал 23 января 1877 г. и П. Д. Голохвастову: «„Анна Каренина“ меня восхитила, а „Новь“ очень раздражила. Думаю писать размышления по этому грустному поводу» (Письма к П. Д. Голохвастову — РО ИРАН. № 11060/ХУП617. Л. 3). Однако отдельной работы разбору «Нови» критик не посвятил. В конце 1882 г. Страхов опять обратился к произведению Тургенева. Свое еще раз проверенное мнение он сообщил
А. А. Фету в письме от 16 декабря: «Перечитал я недавно „Новь“ Тургенева — что за жалкое сочинение! Лица сами не знают, что им делать и толкаются в разные стороны без всякой причины. Влюбляются на каждом шагу. Потом — ненужные и невозможные разговоры, ненужное похищение, ненужное самоубийство!» (Фет. Переписка II.
269
С.352). В статье «Поминки по Тургеневе» Страхов вновь высказался о романе крайне отрицательно: «Неудачная „Новь“ представляет лишь отвлеченное и холодное преклонение перед нигилизмом» (Русь. 1883. 1 дек. № 23. С. 16; перепеч. в: Страхов. Критические статьи I. С. 172). Роман Тургенева «Новь» признавали неудачным и другие критики. Ранний отзыв Толстого о «Нови» см.: п. 137 и примеч. 6. В отличие от Страхова Толстой со временем изменил свою скептическую оценку романа.
B. Ф. Лазурский записал в дневнике 12 июля 1894 г. очередное высказывание Толстого о произведении Тургенева: «По поводу „Нови“ опять повторил раньше высказанный им взгляд, что „Новь“, вопреки общему мнению, — лучшая вещь Тургенева, лучше „Рудина“ и других его романов; что она отличается цельностью, верно рисует время и верно изображает типы» (АН. Т. 37-38. С. 465; ср.: С. 450). — Примечательно, что в том же 1883 г. собрание рукописей Публичной библиотеки пополнилось беловым автографом и корректурными листами произведения Тургенева. В отчете Библиотеки за 1883 г. под № 23 указано: «Новь. Роман И. С. Тургенева, весь писанный рукой автора в 1876 году. В лист, 298 листов. К этому экземпляру присоединена печатная корректура этого романа, держанная самим Тургеневым, с его собственноручными изменениями и добавлениями, а также телеграмма его из Парижа, в которой он предложил заменить в ХХХ-й главе в стихотворении „Сон“ стих: / Один царев кабак — тот не смыкает глаз / следующим: / Один душа кабак — тот не смыкает глаз / или: / Один кабак не спит и не смыкает глаз. / (Собрание автографов). (От действ, статского советника М. М. Стасюлевича)» (см.: Отчет Императорской Публичной библиотеки за 1883 год. С. 259).
8 «Воспоминания о Ф.М. Достоевском» Страхова выйдут в составе первого тома Полного собрания сочинений писателя (вместе с материалами О. Ф. Миллера и «Записными книжками» Достоевского). Страхов извещал 13 сентября Н. Я. Данилевского о сдаче в типографию первой части книги: «Печатанье уже началось, а еще не всё написано» (РВ. 1901. Февраль. С. 468). Набирались и печатались главы, подготовленные Миллером. По оценке Страхова, на долю составленного им раздела объемистого тома («моя доля в Левиафане») приходилась «почти пятая часть» издания (письмо А. А. Фету от 8 декабря 1883 г. — Фет. Переписка II. С. 366). Над приготовленным Страховым материалом типография работала в октябре - первой половине ноября.
9 Т. А. Кузминскую, возвращение которой из Ясной Поляны в Петербург ожидалось около этого времени (об отъезде Кузминской из имения Толстых см. запись от 22 августа в дневнике их старшей дочери: Сухотина-Толстая Т. Л. Дневник. М., 1987.
C. 90). Вероятно, по обыкновению, Страхов предполагал быть у Кузминских на ближайшем обеде. См. примеч. 11 к п. 319.
270
317
Страхов — Толстому 28 ноября
1883 г.
Напишу Вам, бесценный Лев Николаевич, небольшое письмо, хотя О1НКТ-Петербу|)Г тема у меня богатейшая. Но и нездоровится1, и очень долго бы было вполне развить эту тему. Вы, верно, уже получили теперь «Биографию» Достоевского2 — прошу Вашего внимания и снисхождения — скажите, как Вы ее находите. И по этому-то случаю хочу исповедаться перед Вами3. Всё время писания я был в борьбе, я боролся с подымавшимся во мне отвращением, старался подавить в себе это дурное чувство. Пособите мне найти от него выход. Я не могу считать Достоевского ни хорошим, ни счастливым человеком (что, в сущности, совпадает). Он был зол, завистлив, развратен, и он всю жизнь провел в таких волнениях, которые делали его жалким, и делали бы смешным, если бы он не был при этом так зол и так умен. Сам же он, как Руссо, считал себя лучшим из людей, и самым счастливым4. По случаю биографии я живо вспомнил все эти черты5. В Швейцарии, при мне, он так помыкал слугою, что тот обиделся и выговорил ему: «Я ведь тоже человек!» Помню, как тогда же мне было поразительно, что это было сказано проповеднику гуманности и что тут отозвались понятия вольной Швейцарии о правах человека6. Такие сцены были с ним беспрестанно, потому что он не мог удержать своей злости7. Я много раз молчал на его выходки, которые он делал совершенно по-бабьи, неожиданно и непрямо; но и мне случилось раза два сказать ему очень обидные вещи. Но, разумеется, в отношении к обидам он вообще имел перевес над обыкновенными людьми, и всего хуже то, что он этим услаждался, что он никогда не каялся до конца во всех своих пакостях. Его тянуло к пакостям, и он хвалился ими. Висковатов8 стал мне рассказывать, как он похвалялся, что соблудил в бане с маленькой девочкой, которую привела ему гувернантка. Заметьте при этом, что, при животном сладострастии, у него не было никакого вкуса, никакого
271
чувства женской красоты и прелести. Это видно в его романах. Лица, наиболее на него похожие, — это герои «Записок из подполья», Свидригайлов в «Преет[уплении] и наказании]» и Ставрогин в «Бесах»; одну сцену из Ставрогина (растление и пр.) Катков не хотел печатать9, но Д[остоевский] здесь ее читал многим.
При такой натуре он был очень расположен к сладкой сантиментальности, к высоким и гуманным мечтаниям, и эти мечтания — его направление, его литературная муза и дорога. В сущности, впрочем, все его романы составляют самооправдание, доказывают, что в человеке могут ужиться с благородством всякие мерзости10.
Как мне тяжело, что я не могу отделаться от этих мыслей, что не умею найти точки примирения! Разве я злюсь? Завидую? Желаю ему зла? Нисколько; я только готов плакать, что это воспоминание, которое могло бы быть светлым, — только давит меня!
Припоминаю Ваши слова, что люди, которые слишком хорошо нас знают, естественно не любят нас. Но это бывает и иначе. Можно, при близком знакомстве, узнать в человеке черту, за которую ему потом будешь всё прощать. Движение истинной доброты, искра настоящей сердечной теплоты, даже одна минута настоящего раскаяния — может всё загладить; и если бы я вспомнил что-нибудь подобное у Д [остоевского], я бы простил его и радовался бы на него. Но одно возведение себя в прекрасного человека, одна головная и литературная гуманность — Боже, как это противно!11
Это был истинно несчастный и дурной человек, который воображал себя счастливцем, героем и нежно любил одного себя12.
Так как я про себя знаю, что могу возбуждать сам отвращение, и научился понимать и прощать в других это чувство, то я думал, что найду выход и по отношению к Д[остоевскому]. Но не нахожу и не нахожу!13
Вот маленький комментарий к моей «Биографии»; я мог бы записать и рассказать и эту сторону в Д[остоевском]; много случаев рисуются мне гораздо живее, чем то, что мною описано, и рассказ вышел бы го272
раздо правдивее; но пусть эта правда погибнет, будем щеголять одною лицевою стороною жизни, как мы это делаем везде и во всем!14
Я послал вам еще два сочинения (дублеты), которые очень сам люблю, и которыми, как я заметил, бывши у Вас, Вы интересуетесь. Pressense15 — прелестная книга, перворазрядной учености, a Joly — конечно, лучший перевод М. Аврелия16, восхищающий меня мастерством.
Еще давно, в августе, я послал Вам в Ясную еврейскую Библию17. Прошу Вас, не поленитесь — черкните, получили ли Вы ее? У меня есть если не сомнение, то возможность сомнения в том, дошла ли она до Вас.
Простите меня и прошу Вас, помните мою преданность. Теперь, хоть и нездоровится, чувствую себя недурно, освободясь от тяжелой работы18. Но лучше ли я стал, Бог ведает — а ведь это главное.
Написал несколько страниц об Тургеневе (для «Руси»J19, но неужели Вы ничего не напишете?20 Ведь во всем, что писано, такая фальшь, холод!21 А я с ним помирился22 — хоть и не имею права так говорить: не знал его почти вовсе.
Графине мое усердное почтение, и если кто вспомнит. А как Вы нашли И. П. Минаева?23 Он очень восхищен.
Всей душою Ваш
Н. Страхов
1883.
28 ноября.
Спб.
Печатается по: РО ИРЛИ. Ф. 302. Оп. 2. Ед. хр. 300. Л. 209-210. Впервые: Современный мир. 1913. № 10. С. 307-310.
1 Страхов простудился еще на похоронах Тургенева (см.: письмо И. С. Аксакову от 16 ноября 1883 г. — Аксаков — Страхов. Переписка. С. 94). В ноябре сетования Страхова на нездоровье участились. В письме А. А. Фету от 12 ноября он заметил: «Здоровье мое пошаталось, да и опять установилось, так что я даже доволен. Но берегусь и должен беречься. Самое здоровое, я знаю, — ничего не делать. Между тем постоянно приходится напрягаться и вывертываться» (Фет. Переписка II. С. 365). В конце месяца Страхов известил Н. Я. Данилевского, что болезни его по-прежнему «навещают» (РВ. 1901. Март. С. 125). В начале декабря он жаловался Фету: «Я всё болею; вчера как будто поправился, сегодня опять хуже» (письмо от 8 декабря 1883 г. — Фет. Пере273
писка II. С. 367). Продолжал Страхов хворать и в декабре. Особенное беспокойство внушало ему состояние глаз и снижение остроты зрения.
2 В середине сентября Страхов уведомлял редактора «Руси» И. С. Аксакова, желавшего скорейшего возобновления его сотрудничества с газетой, о невозможности откликнуться на его просьбу, объяснив свое затруднение занятостью: «...всё дело теперь в биографии Достоевского. Она совсем близка к концу и скоро начнется печатание; О. Ф. Миллер свою долю уже допечатывает» (Аксаков — Страхов. Переписка. С. 92). Печать первого тома полного собрания сочинений Ф. М. Достоевского с обширным мемуарно-биографическим разделом, подготовленным О. Ф. Миллером и Страховым, завершилась в первой половине ноября. В недатированном письме к Н. Я. Данилевскому от ноября 1883 г. Страхов сообщал: «Биографию Достоевского кончил, но никак не могу развязаться с типографией, которая тянет, не дает ни полного отдыха, ни полной работы...» (РВ. 1901. Март. С. 127). В письме к А. А. Фету от 12 ноября Страхов уточнял: «Слава Богу! Завтра сдается в цензуру «Биография Достоевского» (Фет. Переписка II. С. 364). Наконец в середине месяца Страхов уже смог сообщить Аксакову, что не только получил из типографии последние отпечатанные листы, но и завершил их вычитку: «... до сих пор всё сидел над корректурами первого тома, т. е. биографического, Достоевского. Дни два назад он наконец сдан в цензуру» (письмо от 16 ноября 1883 г. —Аксаков — Страхов. Переписка. С. 94). По получении цензурного разрешения Страхов начал рассылать отдельные оттиски своего раздела и экземпляры тома наиболее близким корреспондентам — Н. Я. Данилевскому, Вл. С. Соловьеву, Толстому, А. А. Фету. Отдельное издание первого тома собрания сочинений Достоевского (помимо наличного комплекта из 14 томов) представлено в составе дошедшей до нас яснополянской библиотеки. Однако, оснований утверждать, что это присланный Страховым экземпляр, не обнаруживается: книга не имеет ни дарственной надписи автора, ни следов чтения, надежно атрибутируемых Толстому. Не содержит признаков чтения и экземпляр тома с биографий Достоевского из полного комплекта издания (см.: Описание ЯПб. Т. 1, ч. 1. С. 268. № 1062; ср.: Там же. № 1063). Тем не менее из полученного Страховым ответа (п. 319) следует, что Толстой ознакомился с присланной ему книгой.
3 Страхова беспокоила возможность быть неправильно понятым в его творческих намерениях читателями «Биографии» и особенно людьми, близко знавшими интимную сторону духовного общения и деловых отношений между писателем и критиком.
4 На эти темы Ж.—Ж. Руссо рассуждал в « Исповеди» (1766-1770).Ср.: «...явсегда считал и тепероь считаю, что я, в общем, лучший из людей, и вместе с тем уверен, что как бы ни была чиста человеческая душа, в ней непременно таится какой-нибудь отвратительный изъян...» (Часть 2, кн. 10).
5 В архиве Страхова отложилась краткая запись его переживаний, вызванных мыслями о Достоевском в связи с работой над его «биографией». Ср.: «Во всё время, 274
когда я писал воспоминания о Достоевском, я чувствовал приступы того отвращения, которое он часто возбуждал во мне и при жизни и по смерти; я должен был прогонять от себя это отвращение, побеждать его более добрыми чувствами, памятью его достоинств и той цели, для которой пишу. Для себя мне хочется, однако, формулировать ясно и точно это отвращение и стать выше его ясным сознанием». (АН. Т. 86. С. 564. — Курсив Страхова. Запись не имеет продолжения). По мнению некоторых исследователей, этот отрывок может представлять собой «предварительный вариант известных строк из письма Страхова кА. Н. Толстому (26 ноября 1883 г.)» (Там же).
6 Ср. этот упрек Страхова с его признанием в собственном высокомерии по отношению к людям более низкого социального положения (п. 330).
7 В «воспоминаниях» о Достоевском этот эпизод не упоминается. О совместном пребывании Страхова и Достоевского в Швейцарии и Италии летом 1862 г. см.: Биография, письма и заметки из записной книжки Ф. М. Достоевского. С. 243-245.
8 Историк литературы П. А. Висковатов (Висковатый), биограф и издатель сочинений М. Ю. Лермонтова, оставил в своем личном альбоме близкую по содержанию запись о Достоевском (см.: Белов С. В. Ф. М. Достоевский и его окружение: в 2 т. СПб., 2001. Т. 2. С. 149).
9 М. Н. Катков в 1871 г. категорически отказался печатать в журнале «Русский вестник» уже набранную главу «У Тихона» романа Достоевского «Бесы» — «из-за невыносимого реализма» и по соображениям нравственной цензуры. Страхов, вместе с К. П. Победоносцевым и А. Н. Майковым, присутствовал при чтении Достоевским этой главы о Ставрогине. В 1872 г. Катков отверг и измененный вариант главы.
10 Мысль о преобладающем значении личного опыта в исходном творческом субстрате Достоевского-писателя Страхов обнажил в VI главе своих «воспоминаний». Ср.: «... это был один из самых искренних писателей (...) всё, им писанное, было им переживаемо и чувствуемо, даже с великим порывом и увлечением. Достоевский — субъективнейший из романистов, почти всегда создававший лица по образу и подобию своему. Полной объективности он редко достигал. Для меня, близко его знавшего, субъективность его изображений была очень ясна, и потому всегда наполовину исчезало впечатление от произведений, которые на других читателей действовали поразительно, как совершенно объективные образы. / Часто я даже удивлялся и боялся за него, видя, что он описывает иные темные и болезненные свои настроения. (...) Но Достоевский не останавливался ни перед чем, и, что бы он ни изображал, он сам твердо верил, что возводит свой предмет в перл создания, дает ему полную объективность. Не раз мне случалось слышать от него, что он считает себя совершенным реалистом, что те преступления, самоубийства и всякие душевные извращения, которые составляют обыкновенную тему его романов, суть постоянное и обыкновенное явление в действительности и что мы только пропускаем их без внимания. В таком убеждении он смело пускался рисовать мрачные картины,- никто так далеко не заходил 275
в изображении всяких падений души человеческой. (...) в Достоевском муза и человек сливались необыкновенно тесно» (Биография, письма и заметки из записной книжки. С. 226-227).
11 Подобные мысли высказывал и другой близко знавший Достоевского современник — А. Н. Майков. В письме к жене от конца июня 1879 г. он замечал: «Что же это такое, что тебе говорила Анна Григорьевна [Достоевская], что ты писать не хочешь? Что муж ее мучителен, в этом нет сомнения, — невозможностью своего характера, — это не новое, грубым проявлением любви, ревности, всяческих требований, смотря по минутной фантазии, — всё это не ново. Что же так могло тебя поразить и потрясти? Не могу понять, хотя, признаюсь, часто у меня вопрос рождался, что они оба не по себе, т. е. не в своем уме, и где у них действительность, где фантазия — отличить трудно. Федор Михайлович, например, такие исторические факты приводит иногда, что ясно, что он их разве что видел во сне (...) Насчет расточаемого им титула дураков — ключ вот какой: все, что ни есть крайний славянофил, тот дурак. Словом, он в своей логике такой же абстракт, как и все головные натуры, как и нигилисты, такой же беспощадный деспот, судящий не по разуму жизни, а в силу отвлеченного понятия» (АН. Т. 86. С. 485. — Курсив Майкова).
12 Об этом Страхов писал Толстому 14 сентября 1878 г. (п. 206).
13 В своих «воспоминаниях» о Достоевском Страхов признавался, что «противоречивость», сложность натуры и содержания внутреннего духовного мира писателя затрудняли вполне объективное понимание его личности, на что он счел нужным специально обратить внимание читателей подготовленного им биографического материала. Ср.: «Здесь кстати вообще сказать, что читатель в этих и следующих заметках не должен видеть попытки вполне изобразить покойного писателя; прямо и решительно отказываюсь от этого. Он слишком для меня близок и непонятен. Когда я вспоминаю его, то меня поражает именно неистощимая подвижность его ума, неиссякающая плодовитость его души. В нем как будто не было ничего сложившегося, так обильно нарастали мысли и чувства, столько таилось неизвестного и непроявившегося под тем, что успело сказаться (...) С чрезвычайной ясностию в нем обнаруживалось особенного рода раздвоение, состоящее в том, что человек предается очень живо известным мыслям и чувствам, но сохраняет в душе неподдающуюся и неколеблющуюся точку зрения, с которой смотрит на самого себя, на свои мысли и чувства. Он сам иногда говорил об этом свойстве и называл его рефлексиею. Следствием такого душевного строя бывает то, что человек сохраняет всегда возможность судить о том, что наполняет его душу, что различные чувства и настроения могут проходить в душе, не овладевая ею до конца, и что из этого глубокого душевного центра исходит энергия, оживляющая и преобразующая всю деятельность и всё содержание ума и творчества» (Биография, письма и заметки из записной книжки. С. 275-176 [185-186]. — Сбой пагинации в источнике).
276
14 Тема взаимоотношений Страхова и Достоевского заслуживает отдельного обстоятельного и более беспристрастного, чем предпринимавшиеся прежде попытки, осмысления — рассмотрения, свободного от намерения свести многообразную сложность межличностных отношений к одному или нескольким частным фактам из истории взаимного общения Достоевского и Страхова. См.: Долинин А. С. Ф. М. Достоевский и Н. Н. Страхов. — Шестидесятые годы: Материалы по литературе и общественному движению. М.; Л., 1940. С. 238-254; РозенблюмА. М. Творческие дневники Достоевского. —АН. Т. 83. С. 16-23; Кирпотин В. Я. Достоевский, Страхов — и Евгений Павлович Радомский. — Кирпотин В. Я. Мир Достоевского: Этюды и исследования. М., 1980. С. 119-167; Туниманов В. А. Достоевский, Страхов, Толстой (Лабиринт сцеплений). — Туниманов В. А. Лабиринт сцеплений: Избранные статьи. СПб., 2013. С. 248-316. Не углубляясь намеренно в эту специальную область, следует, тем не менее, отметить важное значение публикуемой переписки для установления подлинного генезиса развивавшегося в Страхове непростого чувства: сначала постепенного внутреннего отчуждения, а со временем и усугубившей его острой нравственной неприязни к Достоевскому, — удерживаемой в рамках внешней корректности общения и не доведенной (несмотря на критическое восприятие) до полного разрыва личных отношений. Не подлежит сомнению, что среди обусловивших это отталкивание причин имелись факторы как объективного, так и субъективного характера. Среди последних внимание исследователей неизменно привлекал утверждаемый факт знакомства (post mortem) Страхова с известным отзывом писателя о нем, занесенным в одну из рабочих тетрадей с записями 1876-1877 гг. Однако если период 1860-х гг. можно считать временем наибольшего сближения между ними, то уже на вторую половину 1870-х гг. пришелся, вероятно, пик расхождения и взаимного личного раздражения (т. е. когда не могло быть и речи о доступности Страхову записи с его характеристикой). Примечательно, что и в письмах Страхова к Толстому наиболее резкие отзывы о Достоевском тоже приходятся на это время. И всё же в распоряжении исследователей нет достаточного количества фактического материала, способного бесспорно подтвердить догадку о безвозвратном расхождении. Напротив, известные факты свидетельствуют о противном. Несмотря на сохранявшийся известный негативный внутренний фон размолвок прошлого, Страхов и Достоевский не прекращали бытового и интеллектуального общения, о степени глубины и интенсивности которого можно лишь догадываться по косвенным свидетельствам. Тем не менее хорошо известно, что оба продолжали бывать в одних и тех же дружеских кружках и литературных салонах (гр. С. А. Толстая-Бахметева, Штакеншнейдеры, К. П. Победоносцев), Страхов продолжал навещать Достоевских у них дома и охотно принимал приглашения разделить стол. Такое, возможно, чисто внешнее общение продолжалось до самых последних дней жизни писателя. Хорошо известно, что Страхов одним из первых был извещен о внезапной кончине Достоевского и, как близкий дому покойного человек, призван 277
для совета и поддержки семьи. Понятна скромная роль Страхова, не любившего публичности, в похоронах писателя. При самом непосредственном участии Страхова проводились обсуждения планов издания литературного наследства Достоевского. Никакие бывшие недоразумения не помешали Страхову написать Толстому наполненное искренним чувством горечи от свежей потери письмо от 3 февраля 1881 г. (п. 278). Эти же расхождения и отчуждение не стали препятствием, когда Страхов брал на себя обязательства по написанию некролога и «биографии» писателя, хотя при иных обстоятельствах ему, вероятно, не трудно было бы найти благовидный предлог для отказа. Само обращение А. Г. Достоевской к Страхову с просьбой «написать о муже», говорит о том, что в интимной обстановке семьи разногласия между бывшими сотрудниками вряд ли обсуждались, а Достоевский, судя по всему, не оглашал даже намеком свой отзыв о Страхове в той тональности, в какой он отразился в рабочей записи. И, наконец, сам факт, что Страхов, несмотря на разного рода объективные и субъективные трудности, довел принятый на себя труд до конца, сумел подавить и в известной степени встать выше овладевшего им (вероятно, уже во время написания) чувства, говорит в пользу того, что комментируемое письмо к Толстому если и было написано под воздействием не преодоленного полностью ощущения жгучей обиды на «несправедливую» характеристику, то само это чувство известной неприязни возникло не вдруг, но относительно давнего времени происхождения, скорректированное теперь не только ущемленным самолюбием, но и сознанием значимости творческого гения покойного. Думается, Страхов был обескуражен тем неожиданным впечатлением, которое он мог производить на других и которое так резко прозвучало в словах записи Достоевского. Неспроста, вероятно, появилась в письме и фраза о способности самого Страхова вызывать собой в других чувство «отвращения» к себе, но могло быть именно следствием знакомства с отзывом Достоевского. Не менее важно правильно оценить и перспективу овладевшего Страховым чувства неприязни к писателю. Если всё содержание пространного отзыва Страхова о Достоевском можно свести к утверждению того, что Достоевского фактически «не за что было любить», то ведь и данная писателем Страхову характеристика, в свою очередь, не содержала ни одной светлой черты... Пристрастность и предвзятость таких характеристик, высказанных под влиянием момента, доказывать, как кажется, нет необходимости. Тем важнее проследить, хотя бы с одной (возможной) стороны, устойчивость высказанных в минуты раздражения оценок. По свидетельству, например, наблюдавших Страхова обитателей Ясной Поляны, позднейшие отзывы его о Достоевском писателе и человеке имели различную тональность и отнюдь не сводились к мотивам «осуждения». Важное подтверждение тому — публикуемые на эту тему письма Страхова к Толстому.
15 Французский протестантский богослов Эдмон де Прессансе (Pressensé, Edmond Déhault de) после выхода книги Э. Ренана «Жизнь Иисуса» написал как бы в противо278
вес его скептической версии книгу: Jésus-Christ. Son temps, sa vie, son oeuvre (1866); рус. пер.: Иисус Христос. Его время, жизнь и дела (1866). Затруднительно определить с точностью, о каком сочинении Прессансе идет речь. Одному из своих корреспондентов Толстой вскоре (около 19 февраля 1884 г.) писал: «... достаньте прекрасную историю церкви Pressensé. Я могу вам даже прислать свою. Очень поучительное чтение. Книга классическая и, несмотря на протестантскую тенденцию, проливающая новый свет на всю историю церкви» (Юб. Т. 63. С. 155; ср.: Там же. С. 390). В рекомендации Толстого речь шла о многотомном исследовании: Histoire des trois premiers siècles de l’Eglise Chrétienne (4 Séries, 6 Volumes. Paris, 1858-1870). Судя по содержанию письма («Книги Pressensé тоже почитал... » — п. 318), Толстой получил от Страхова несколько книг автора. Неизвестно, располагал ли Толстой комплектным изданием труда Прессансе. В яснополянской библиотеке сохранились книги из состава первых трех серий (пять томов): Le premier siècle (vol. 1-2. 1858); La Grande lutte du christianisme contre le paganisme. Les Martyrs et les apologistes (vol. 1-2. 1861); L’ Histoire du dogme (1869). Экземпляры имеют (предположительно) следы чтения Толстого (Описание ЯПб. Т. 3, ч. 2. С. 211-212. № 2638). Если слова Страхова о книге Прессансе следует понимать в том смысле, что Толстой еще не имел в своей библиотеке его исследований, то допустимо предположить, что Толстой собирался послать для прочтения именно полученный от Страхова экземпляр. Полный комплект включал в себя и шестой том издания: La vie ecclésiastique et morale des chrétiennes aux И-e et Ill-e sciécles (Paris, 1870). — Примечательно, что к исследованию Прессансе проявил интерес и философ Вл. Соловьев в период работы над сочинением «La Russie et l’Église universelle». Находясь весной 1887 г. в курском имении А. А. Фета Воробьевке, он писал брату Михаилу: «... начатого в вагоне Прессансэ продолжаю. О Востоке — жидко, но о греках довольно хорошо» (письмо без даты, от второй половины апреля 1887 г. — Соловьев. Письма IV. С. 106).
16 В 1870 г. Жан-Пьер де Жоли (Joly) издал перевод с греческого языка на французский книги императора Марка Аврелия «Размышления», объединив близкие по смыслу фрагменты в главы (Pensées de l’empereur Marc-Aurèle-Antonin, ou Leçons de vertu que ce prince philosophe se faisoit à lui-même. Nouvelle traduction du grec, distribuée en chapitres suivant les matières, avec des notes et des variantes, par M. de Joly). Этот перевод ценится до сих пор. Сочинение Марка Аврелия (в более поздних изданиях) Толстой читал также в переводе на немецкий язык (см.: Описание ЯПб. Т. 3, ч. 1. С. 65-69. № 135,136).
17 См. примеч. 25 к п. 314.
18 Несмотря на некоторый духовный подъем, с которым Страхов завершал свой труд по написанию материалов для биографии Ф. М. Достоевского, он на будущее решил отказаться от обязательств, требующих для своего исполнения продолжительного напряжения физических и нравственных сил. «Такой большой и тяжелой работы,
как биография, я уже теперь ни за что не возьму на себя» (письмо И. С. Аксакову от
16 ноября 1883 г. —Аксаков — Страхов. Переписка. С. 94).
19 Страхов Н. Поминки по Тургеневе. — Русь. 1883. 1 дек. № 23. С. 14-20. К написанию «итоговой» статьи о Тургеневе Страхов, судя по всему, начал готовиться заранее — побуждаемый, вероятно, распространившимися сообщениями о тяжелом физическом состоянии заболевшего писателя. В конце 1882 г. он перечитывает сочинения Тургенева («Новь», «Стихотворения в прозе») и делится с А. А. Фетом мнением об авторе и его творчестве. «Он боится смерти! Не странно ли, что мы никак не можем совладать с мыслью, которая для нас должна бы быть вполне ясна. Молодой человек считает себя умнее и милее всех на свете. Старик боится умереть, как будто это неожиданная случайность, от которой можно бы уйти» (письмо от 16 декабря 1882 г. — Фет. Переписка II. С. 352). Личность Тургенева неизменно вызывала у Страхова сожаление: «Незавидна была его жизнь, жизнь слабого человека...» (письмо от
17 сентября 1883 г. — Там же. С. 363). Не без скептицизма отзывается он и о его литературном наследии: «Тургенева превозносят, как Бога, — разумеется, неправильно. Если бы он был более серьезное явление, то, конечно, его бы меньше любили. Но он — полный представитель нашего образования, жеманного, мелкого и притязательного» (письмо от 12 ноября 1883 г. — Там же. С. 365). Мысль дать Тургеневу в печати более взвешенную, очищенную от парадности характеристику, появилась у Страхова еще в первой половине сентября, о чем он тогда же известил в письме Н. Я. Данилевского: «Отзыв в Руси о Тургеневе поразил меня своей холодностию. Я затеваю статейку, но составится ли, не знаю. Тургенев тип слабого человека и в жизни и в писании. Он не мог не поддаться общему настроению интеллигенции, а был Русским в тысячу раз больше других» (РВ. 1901. Февраль. С. 469. — Курсив Страхова). Два месяца спустя Страхов подтвердил свое намерение выступить с такой оценкой творчества писателя публично («В этом духе мне хочется написать статейку»), назвав среди занимавших его внимание «трех неотложных тем» — и «Тургенева»: сюжет, по его мнению, «чудный», хотя и до известной степени «несовременный» (письмо Фету от 12 ноября 1883 г. — Фет. Переписка II. С. 365. — Курсив Страхова). «Превознесение» заслуг Тургенева как писателя вызывало у Страхова неприятие и потребность определить его «истинное» место в истории русской литературы:: «После похорон здесь часто слышатся такие речи: „Ну что Достоевский! Что Толстой! — Вот Тургенев — он всех выше“ и т. п.» (Там же). Обращаясь 16 ноября к редактору «Руси» И. С. Аксакову, Страхов уже более определенно сообщал: «...я затеял статейку о Тургеневе (...) Через три - четыре дни пришлю ее Вам — на Ваше благоусмотрение» (Аксаков — Страхов. Переписка. С. 94). Статья понравилась Аксакову, назвавшему ее «прекрасной и оригинальной». В день появления газеты с материалом Страхова он извещал автора: «Ваша статейка уже напечатана в 23 № и послезавтра Вы его получите (...) Очень я ей обрадовался, и самой темы ради, и потому, что уже давно недоставало „Руси“ Вашего мягкого, но 280
многомысленного слова. И Вы очень мягко, но беспощадно верно воздали должное Тургеневу, определив его настоящее место и значение» (письма Страхову от 1 декабря 1883 г. и 5 января 1884 г. — Там же. С. 96,101). Основную мысль своей статьи (Тургенев своим творчеством «обслуживал» русскую интеллигенцию, будучи сам ее неотъемлемой частью) Страхов выразил в таких словах: «Тургенев был любимцем публики в продолжение двадцати пяти лет. Двадцать пять лет он считался первым русским писателем, прямым и достойным преемником Пушкина, Лермонтова и Гоголя. Никто из его современников не имел такой светлой, общепризнанной и широкой славы. Чем же объясняется это первенство, это долгое и живое обаяние? (...) Часто указывают на то, что он всегда держался современных вопросов. Но кто же не пытался делать то же самое? (...) Тургенев вовсе не составляет исключения в этой общей погоне за современностью, в стремлении отзываться на вопросы минуты. Его отличительная черта состоит не в выборе предметов, а в том, как он относился к предметам. / Это отношение было — полное подчинение, подчинение искреннее, естественное, вытекающее не из расчета или увлечения, а прямо из мягкой натуры писателя. Тургенев шел постоянно рядом и вместе с самою большою толпою публики, с главною массою наших образованных людей. Он не хотел отделяться от этой массы (то есть и не мог отделяться), он ни в чем не расходился с ее вкусами и мыслями, и потому никогда не противоречил этим вкусам и мыслям. Такого отношения не выдерживал и не мог выдержать никто из других писателей. (...) Возьмем язык. Сверстники Тургенева, нимало не задумываясь, писали таким языком, каким каждому вздумается. Оригинальность языка считалась достоинством, заслугою. Один Тургенев писал общелитературным языком, избегая всякой шероховатости и особенности. Он писал языком образованного русского общества и, естественно, был за то мил этому обществу. / Точно так — один Тургенев соблюдал то изящество, ту грациозность, к которой стремится наш образованный класс. Вы не найдете у него грубых образов, диких нравов, резких выражений. Всё опрятно и умеренно; скорее встретится жеманство, чем отступление от приличия. (...) По внутреннему содержанию своих произведений Тургенев должен был иметь главную и несравненную привлекательность для наших образованных людей. Кого он выводил на сцену? Он изображал представителей нашей образованности, „современных героев“. И он один умел это делать, потому что стоял наравне с этими героями, нимало не думал от них отделяться. Ни у какого другого писателя русский образованный человек не встречал себя самого, или людей, стоящих с ним на одной доске, ягод с того же поля. (...) Подумайте, как это должно было привлекать и занимать! (...) Рисуя задачи и стремления нашего образованного класса, возводя в перл создания его радости и горести, Тургенев никогда не впадал в противоречие с духом того общественного слоя, которому служил. (...) Таков был Тургенев. С удивительною мягкостью, с женственной отзывчивостию он подчинялся всем лучшим стремлениям, господствовавшим в нашем просвещении. Поэтому он был самым чистым, полным 281
и искренним представителем этого просвещения. В нем не было ничего оригинального, никакой упорной последовательности, никакой глубокой задачи; н при этом было столько ума, образованности, вкуса и художественного таланта, сколько может совместиться с настроением и умственной жизнью наших просвещенных людей. / Как же было им не любить его? Как не любить писателя, до такой степени им сочувственного и однородного? Поэтому понятно, что никакой другой писатель не мог иметь столько поклонников (...) Разве они не идут по главному руслу нашего просвещения, нашего умственного движения? Разве до сих пор не с Запада почерпается нами образование? (...) и потому Тургенев, как самый европейский из русских писателей, должен пользоваться наибольшими симпатиями этого большинства. (...) Тургенев и вообще не имел столько силы и оригинальности, чтобы быть самостоятельным» (Страхов. Критические статьи I. С. 168-173, 180. — Курсив Страхова). Позднее Аксаков, в письме к Страхову от 5 января 1884 г., сетовал на отсутствие в обществе реакции на материал Страхова о Тургеневе. С похвалой в частной переписке отозвались о статье Вл. Соловьев, назвавший ее «прекрасной» в письме к Страхову от 13 января 1884 г. (Соловьев. Письма I. С. 16), и А. А. Фет (Фет. Переписка II. С. 366). Не обошлось и без критических замечаний, о чем Страхов извещал Фета в письме от 8 декабря: «Третьего дня был у меня [поэт А. А.] Голенищев-Кутузов (...) он чуть-чуть не жаловался на мою статью о Тургеневе и обещал мне много врагов» (Там же).
20 В собрании членов Общества любителей российской словесности в Москве 16 сентября 1883 г. было решено почтить память скончавшегося в Буживале И. С. Тургенева особым торжественным заседанием с участием близко знавших его лиц, в частности, П. В. Анненкова, Я. П. Полонского и Л. Н. Толстого, которые приглашались выступить с воспоминаниями о писателе, высказаться о его личности и творчестве. Толстой с готовностью откликнулся на обращение председателя Общества С. А. Юрьева и просил С. А. Толстую, через которую велись предварительные переговоры, известить Общество о своем намерении присутствовать на чествовании. «Непременно или буду читать, или напишу и дам прочесть о нем», — писал он жене из Ясной Поляны 30 сентября (Ю6. Т. 83. С. 397). Позднее Толстой так объяснял свое побуждение высказаться публично: «Когда Тургенев умер, я хотел прочесть о нем лекцию. Мне хотелось, особенно ввиду бывших между нами недоразумений, вспомнить и рассказать всё то хорошее, чего в нем было так много и что я любил в нем» (Гольденвейзер А, Б. Вблизи Толстого. [М.], 1959. С. 62). Еще в августе, беседуя с впервые посетившим его новым приверженцем Г. А. Русановым, Толстой тепло охарактеризовал Тургенева («хороший человек, огромный ум, гуманный»), хотя и признался, что «не очень» высоко ценит его произведения, за исключением «Записок охотника» (Русанов Г. А. Поездка в Ясную Поляну. — Толстовский ежегодник 1912. М., 1912. С. 55-56, 59). Готовясь к выступлению, Толстой посвятил конец сентября и начало октября чтению произведений писателя и отзывался о прочитанном с большим одобрением. Ср.: «Всё читал 282
Тургенева». «О Тургеневе всё думаю и ужасно люблю его, жалею и всё читаю. Я всё с ним живу. (...) Сейчас читал Тургеневское „Довольно“. Прочти, что за прелесть». «Вчера очень долго не мог заснуть — читал Тургенева». «Читаю Тургенева» (письма к С. А. Толстой от 29 и 30 сентября, 1 и 4 октября 1883 г. — Юб. Т. 83. С. 395, 397, 399, 402). Первоначально выступление Толстого предполагалось назначить на 15 октября, но затем оно было перенесено на более позднее время. С. А. Толстая извещала сестру в начале октября: «23 октября Лёвочка будет публично читать о Тургеневе, это теперь уже волнует всю Москву, и будет толпа страшная в актовом зале университета» (письмо Т. А. Кузминской от 9 октября 1883 г. — Цит. по: Гусев. Летопись I. С. 563). Ажиотаж вокруг ожидавшегося чтения Толстого и недавний отказ писателя вступить в исполнение обязанностей назначенного присяжного заседателя очередной выездной сессии Тульского Окружного суда в Крапивне привлекли к нему внимание высших правительственных сфер, посчитавших за лучшее принять меры к воспрепятствованию публичного выступления Толстого. Недавно назначенный новый начальник Главного управления по делам печати (цензуры) Е. М. Феоктистов был уверен в непредсказуемости действий писателя («Толстой — человек сумасшедший; от него следует всего ожидать; он может наговорить невероятные вещи — и скандал будет значительный») и поспешил предотвратить появление Толстого перед массовой аудиторией (цит. по: Феоктистов Е. М. Воспоминания. С. 44). Под предлогом необходимости просмотра текста готовившихся к произнесению речей московский генерал-губернатор возымел сначала мысль затребовать от устроителей для ознакомления списки выступлений, а затем счел более надежным обязать председателя Общества Юрьева изыскать возможность для переноса заседания на неопределенное время в будущем (см.: Гусев. Летопись I. С. 564-565). Вмешательство властей в планы организаторов не осталось тайной для Толстого. Вспоминая позднее инцидент, он прямо указывал, что его лекция не состоялась из-за противодействия московского генерал-губернатора («Ее не разрешил [В. А.] Долгоруков». — Гольденвейзр Л. Б. Вблизи Толстого. С. 62. — Запись от 29 апреля 1900 г.), хотя содержание речи Толстого, по его уверению, «было бы так же невинно, как рассказ о Красной Шапочке» (Толстая. Моя жизнь I. С. 424). Реакция Толстого на отмену чтений не была однозначной. С одной стороны, он явно испытал некоторое чувство облегчения от устранения необходимости говорить перед большой аудиторией. В письме к сестре — Т. А. Кузминской от 24 октября, С. А. Толстая замечала, что последовавшим от властей запрещением «озлоблены все, все без исключения, кроме Лёвочки, который, кажется, даже рад, что избавлен явиться к публике: это ему так непривычно» (цит. по: Гусев IV. С. 211-212). С другой, счел нужным заявить о своем огорчении из-за несостоявшейся «лекции» в частном письме, явно рассчитывая на дальнейшую передачу своих слов: «Я очень жалел, что мне помешали говорить о нем» (письмо А. Н. Пыпину от 10 января 1884 г. — Юб. Т. 63. С. 150). Следов рукописной работы над предполагавшимся выступлением не сохранилось. По свидетель283
ству С. А. Толстой, «Лёвочка говорил, что ему писать речь некогда, но что он будет говорить» (цит. по: Там же. С. 211). Вместе с тем, Толстому предоставилась возможность изложить свои взгляды на личность и творчество Тургенева в связи с обращением к нему А. Н. Пыпина, задумавшего исследовательскую работу по истории русской литературы 40-50-х гг. XIX в. Отвечая на запрос относительно имевшихся в его (Толстого) распоряжении корреспонденций Тургенева, писатель более подробно высказался и о нем самом, назвав «прекрасным человеком» («не очень глубокий, очень слабый, но добрый, хороший человек»), которого он «всегда любил» (Юб. Т. 63. С. 149). Толстой признался, что «после его смерти только оценил его как следует», и отметил основное достоинство Тургенева-писателя: «Главное в нем это его правдивость» — «говорит всегда то самое, то, чтб он думает и чувствует»; «и потому воздействие Тургенева] на нашу литературу было самое хорошее и плодотворное» (Там же. С. 149-150. — Курсив Толстого). Приведя ряд общих наблюдений над эволюцией творчества Тургенева, Толстой объяснил причину своего «молчания» о дорогом его памяти писателе и человеке словами, которые могут служить и ответом на вопрос Страхова: «Я ничего не пишу о Тургеневе, потому что слишком многое и всё в одной связи имею сказать о нем» (Там же. С. 150).
21 Эту мысль Страхов повторил и в своей статье «Поминки по Тургеневе». Ср.: «Похороны Тургенева оставили по себе грустное впечатление. Чем пышнее было зрелище, чем в большем порядке и чинности совершалась длиннейшая процессия, тем яснее была ее искусственность и холодность. (...) То же повторилось и в области литературы. Во всех этих бесчисленных отзывах, восхвалениях, спорах, которыми два месяца наполнялись газеты и журналы» (Страхов. Критические статьи I. С. 167).
22 Этот «примирительный» настрой Страхова ясно прозвучал в заключительной части его статьи. Ср.: «Тургенев до конца дней не обладал никаким авторитетом. Его очень любили и жадно читали; всякая мысль, всякое чувство, которое он вздумал бы вложить в свое создание, были бы приняты публикою с отверстыми душами. Но ему нечего было сказать; не было в нем струны, которая, издавая господствующий звук, вносила бы ясность и гармонию во все его звуки. Понятно, что Запад, перед которым он так преклонялся, не мог дать ему какого-нибудь руководящего начала; Запад внушил ему только веру в прогресс, заставляющую вечно оглядываться на других и ждать чего-то впереди; но для нас всего прискорбнее должно быть то, что такой добросовестный, талантливый и мягкий душою человек равно не нашел себе твердых опор и среди того хаоса, в котором ему явился наш русский нравственный мир. Мудрено винить таких людей, как Тургенев; они дети своего времени, но, очевидно, из тех детей, которые способны были бы примкнуть к самым высоким стремлениям времени» (Там же. С. 181-182).
23 Имеется в виду Иван Павлович Минаев (см. п. 144, примеч. 5), выдающийся востоковед, крупный санскритолог, исследователь религии буддизма, путешествен284
ник в Индию и на Цейлон. Минаев, наряду с К. А. Коссовичем (см. п. 101, примеч. 10), В. И. Ламанским (см. п. 151, примеч. 4), М. В. Праховым (см. п. 223, примеч. 4) и др. входил в петербургский круг общения Страхова. Труды Минаева были известны Толстому по крайней мере с весны 1877 г. Личное знакомство Толстого с Минаевым состоялось 6 октября 1883 г. в Туле, где Толстой находился проездом из Ясной Поляны в Москву. Обстоятельства первой встречи с писателем, которая произошла в доме тульского вице-губернатора Л. Д. Урусова, изложены в письме Минаева к своим племянницам от 6 октября: «Еду к вице-губернатору и подъезжаю, вхожу на крыльцо, звоню. Подходит какой-то старик дворовый с седой бородой и смотрит на меня. Смотрит и спрашивает: „Который час?“ — „У меня часы неверны, по петербургскому времени“ (... ) „Да вы кто?“ — спрашивает дворовый. / „Я такой-то“ (...) „Вы были в Индии? — допрашивает дворовый с седой бородой. — Как я рад Вас видеть. Я граф Л[ев] Толстой!“ Rien que ça!.. [Ни много ни мало!, фр.]» (цит. по: Александрова О. И. П. Минаев и Л. Н. Толстой. — РЛ. 1960. № 3. С. 202-203). В тот же день общение было продолжено у Минаева в гостинице, куда Толстой пришел для беседы «о буддизме и на религиозные темы». Разговор между ними продолжался около 5-6 часов: «Толстой ставил И [вану] П[авлович]у целый ряд самых детальных вопросов о буддизме», на которые получал «исчерпывающие» ответы (Там же. С. 203). Следующая встреча Толстого и Минаева произошла в Москве между 9 и 15 октября 1883 г., на обратном пути ученого в Петербург. О впечатлении, вынесенном Минаевым из общения с Толстым, его племянница вспоминала: «По возвращении из Тулы Ив [ан] П[авлови]ч с подъемом подробно рассказывал нам об этой встрече и разговорах...» (Там же). Несколько позднее, в конце октября, Минаев послал Толстому через Урусова одну из своих книг. Ранее, в марте 1877 г., Страхов выслал Толстому книгу Минаева: Индийские сказки и легенды, собранные в Камаоне / Записки ист.-филол. фак. СПб. ун-та. Ч. 16. СПб., 1877 (см. п. 144,148). Экземпляр содержит пометы Толстого (Описание ЯПб. T. 1, ч. 2. С. 28. № 1984). См. также п. 390 и примеч. 24 к нему.
318
ТоЛСТОй — СТРОХОВ/ б декабря
6 декабря. 1883 Г. ЙОСКВО
Дорогой Николай Николаевич!
Я только что начинал скучать о том, что давно не имею от вас известий, как получил вашу книгу1 и письмо, и книги2. Очень благодарен вам
285
Печатается по: ОР ГМТ.ФЛ№745Ь.
Л. 1-2. На л. 1 помета Страхова: «6 декабря] 1883. Ясн[ая]». Письмо написано в Москве. Впервые по копии с датой «1883 г.
Ноября 30?... декабря 1?»: Юб. Т. 63. С. 142-143. Г од устанавливается по содержанию и помете
Страхова. Ответ на п. 317.
за всё и за евр [ейскую] Библию, которую с радостью получил давно и, мне кажется, уж благодарил вас за нее3. Сколько я вам должен? Когда увидимся? Не приедете ли в Москву. Книгу вашу прочел. Письмо ваше очень грустно подействовало на меня, разочаровало меня4. Но вас я вполне понимаю и, к сожалению, почти верю вам. Мне кажется, вы были жертвой ложного, фальшивого отношения к Достоевск[ому]5 — не вами, но всеми преувеличения его значения и преувеличения по шаблону, возведения в пророка, святого — человека, умершего в самом горячем процессе внутренней борьбы добра и зла. Он трогателен, интересен, но поставить на памятник в поучение потомству нельзя человека, который весь борьба. — Из книги вашей я в первый раз узнал всю меру его ума. Чрезвычайно умен и настоящий. И я всё так же жалею, что не знал его6. — Книги Ргеззепзё тоже почитал, но вся ученость пропадает от загвоздки7. — Бывают лошади — красавица, рысак, цена 1000 р[ублей], и вдруг заминка, и лошади красавице и силачу грош цена. Чем больше живу, тем больше ценю людей без заминки. Вы говорите, что помирились с Тургеневым]. А я очень полюбил8. И главное за то, что он был без заминки. Маштачок9 да без заминки и свезет, а то рысак, да никуда на нем не уедешь, если еще не завезет в канаву.
И Ргеззепзё, и Дост[оевский] — оба с заминкой. И у одного вся ученость, а у другого весь ум и сердце пропали за ничто10. — Ведь Тургенев переживет Дост[оевского]. И не за художественность, а за то, что без заминки11. —
Обнимаю вас от всей души. Ах, да. Со мною случилась беда, задевшая и вас. Я ездил на недельку в деревню в половине октября12, и, возвращаясь от воксала до дому, выронил из саней чемодан. В чемодане были книги и рукописи, и корректуры13. И книга одна пропала ваша. 1-й том Грисбаха14. Все объявления ни к чему не привели15. Надеюсь еще найти у букинистов. Я знаю, что вы простите мне; но мне и совестно и досадно лишиться книги, кот[орая] мне всегда нужна16.
Ваш Л. Толстой
286
1 Речь идет о первом томе полного собрания сочинений Ф. М. Достоевского, вышедшего под заголовком: «Биография, письма и заметки из записной книжки Ф. М. Достоевского». СПб., 1883. В книгу вошли «Воспоминания о Ф. М. Достоевском» Страхова.
2 Страхов прислал Толстому сочинение французского писателя-богослова Э. де Прессансе (Pressensé) «Histoire de trois premières siècles de leglise chrétienne» («История первых трех столетий христианской Церкви»; Paris, 1858-1870) и перевод «Les Pensées de l’impereur Marc-Aurèle-Antonin», выполненный Жан Пьером де Жоли в 1870 г. и выдержавший несколько изданий (см. примеч. 15 и 16 к п. 317).
3 См. примеч. 25 к п. 314. Ранее Толстой не благодарил Страхова за полученную книгу.
4 Свое «разочарование» Толстой позднее осмысливал как прямое осуждение Страхова за предвзятую характеристику Ф. М. Достоевского. В одной из бесед на эту тему, запись о которой отражена в дневнике Д. П. Маковицкого, писатель заметил по поводу «нескромности» мемуариста: «Нехорошо было со стороны Страхова» (запись от 2 июля 1908 г. — АН. Т. 90, кн. 3. С. 133). «Необъективность» Страхова Толстой склонен был объяснять его изменившимся чувством к писателю. Ср.: «Софья Андреевна рассказала про свою работу над письмами Л. Н. к [С. С.] Урусову и другим, про письма H. Н. Страхова (...) Потом, что Страхов писал про Достоевского, Фета. Он Достоевского не любил, хоть писал о нем. Л. Н. подтвердил» (Там же. Т. 90, кн. 2. С. 363). Однако некоторое время спустя Толстой в разговоре заметил, что Страхов «Достоевского любил» (запись от 12 февраля 1910 г. — Там же. Т. 90, кн. 4. С. 181). Следует иметь в виду признание писателя, что к тому времени его память начала слабеть. Упомянутое в письме Страхова (п. 317) решение умолчать об известных ему неприглядных фактах из жизни Достоевского Толстой находил вполне разумным и «прекрасным» (Там же. Т. 90, кн. 2. С. 385).
5 Затем вычеркнуто: мученика
6 На «ложное» отношение Страхова к Достоевскому, в написанных им «воспоминаниях», обратил внимание и Вл. Соловьев, высказавший свое мнение о работе критика в нескольких письмах к нему. Увлеченно прочитав воспоминания Страхова, он, судя по первому отзыву, остался удовлетворен распределением материала, изложением и смысловой трактовкой автора, о чем и сообщил ему в письме от 13 января 1884 г.: «Что касается биографии, то сам я Вас за нее бранить не буду, так как прочел ее в одну ночь с большим удовольствием, но слышал, что многие ею недовольны якобы за сухость. Я этого не нахожу. Вообще же мне кажется несправедливым хватать людей за горло и требовать от них того, чего они вовсе не имеют в виду давать. Если бы Вы хотели свободно на досуге написать полную всестороннюю биографию Достоевского, тогда можно было бы от Вас требовать, чтобы Вы соблюдали должную пропорцию между внешнею жизнью и внутренним значением Достоевского в русской мысли и словес287
ности, которое у Вас действительно не выступает с достаточной рельефностью. Но Вы хотели только собрать личные литературно-житейские воспоминания (и должны были их собрать поскорее, к сроку) — с этой точки зрения я Вас и читал и остался доволен» (Соловьев. Письма I. С. 16). Однако уже в следующем обращении, отвечая на сделанное Страховым в письме невыгодное для Достоевского сравнение его с Толстым, Соловьев уточнил свое мнение и энергично возразил адресату, преувеличившему, по его мнению, недостатки Достоевского: «С тем, что Вы пишете о Достоевском и Л. Н. Толстом, я решительно не согласен. Некоторая непрямота и неискренность (так сказать, сугубость) была в Достоевском лишь той шелухой, о которой Вы прекрасно говорите, но он был способен разбивать и отбрасывать эту шелуху, и тогда оказывалось много настоящего и хорошего» (Там же. С. 18). Не удовлетворил Соловьева и показавшийся ему тенденциозным подбор писем первого тома (см. примеч. 2 к п. 293), дающий искаженное представление о личности Достоевского: «Ну, Николай Николаевич, прочел я весь первый том. Ах! / Ну где же та реальная фигура, о которой Вы говорите? Я вижу только чье-то грязное белье. Но разве моя фигура определяется моим бельем? Ведь я, может быть, купил готовую рубашку на удачу в плохом магазине! Ведь мне, может быть, двоюродный дядюшка подарил свои старые кальсоны! При чем же тут моя собственная фигура? Да ведь главное-то и не фигура, а лицо, а его и по самому лучшему белью никак не угадаешь. А я-то думал, что собрание писем дополнит Ваши „воспоминания“! А вышло наоборот: что и было у Вас интересного, совсем потонуло в этом море ненужных дрязг. Говорю с Вами совершенно откровенно, потому что уважаю и люблю Вас» (письмо без даты, от конца марта - начала апреля 1884 г. — Соловьев. Письма I. С. 22).
7 Толстой продолжал читать труды Э. де Прессансе; 19 сентября 1890 г. он отметил в дневнике: «Читал Ргесепзё. Какое ничтожество! Ничего» (Юб. Т. 51. С. 89).
8 Это мнение Толстой высказывал и позднее. Ср. в дневниковой записи Д. П. Маковицкого от 13 июня 1908 г.: «Тургенев — я его всегда любил. Эх, какой глупый я был (что хотел стреляться с Тургеневым)! Это вспоминаешь! Он (Тургенев) был добрый. Но он не был самобытный» (АН. Т. 90, кн. 3. С. 114).
9 По разъяснению В. И. Даля, маштачок, маштак — «очень малорослая лошаденка, лошадь карлик»; применительно к определению человека — «приземистый крепыш».
10 Согласно позднейшему признанию Толстого, его отношение к Достоевскому, несмотря на высокую оценку его ума и духовного строя, всегда оставалось в глубине двойственным, не лишенным некоторой настороженности. Толстой не разделял прежде всего взглядов Достоевского на государство и церковь, что, вероятно, и считал характерной для него «заминкой». Ср. высказывание Толстого, отмеченное в дневниковой записи Д. П. Маковицкого от 23 октября 1910 г.: «Н. Н. Гусев пишет о Достоевском, возмущен им, выписывает места, где он оправдывает войну, наказание, суды...
288
Какое несерьезное отношение к самым важным вопросам! У меня было смутное сознание нехорошего у Достоевского» (ЛН. Т. 90, кн. 4. С. 393).
11В августе 1883 г., беседуя в Ясной Поляне с Г. А. Русановым о творчестве русских писателей, Толстой высказал о Тургеневе и судьбе его литературного наследия такое мнение: «... мне кажется, что слава его сочинений не переживет его. Мне кажется, что о Тургеневе сохранится память, похожая на ту, какую оставил по себе Жуковский. Он такой добрый, гуманный, обязательный, стольким помогал» (Русанов Г. А. Поездка в Ясную Поляну. — Толстовский ежегодник 1912 г. С. 55-56). Не менее критично отозвался Толстой и о сочинениях Достоевского: «“Записки из Мертвого дома“ — прекрасная вещь, но остальные произведения Достоевского я не ставлю высоко. Мне указывают на отдельные места. Действительно, отдельные места прекрасны, но в общем, в общем — это ужасно! Какой-то выделанный слог, постоянная погоня за отысканием новых характеров, и характеры эти только намеченные. Вообще Достоевский говорит, говорит и, в конце концов, остается какой-то туман над тем, что он хотел доказать. У него какое-то странное смешение высокого христианского учения с проповедыванием войны, преклонением пред государством, правительством и попами» (Там же. С. 60). Своего мнения о писательском мастерстве Достоевского Толстой не изменял и в дальнейшем, что видно на примере отзыва о романе «Братья Карамазовы»: «Нехудожественно, надуманно, невыдержанно... Прекрасные мысли, содержание религиозное... Странно, как он пользуется такой славой» (запись в дневнике Д. П. Маковицкого от 18 октября 1910 г. — ЛН. Т. 90, кн. 4. С. 385). Ср. также слова Толстого на эту же тему в записи за следующий день: «Ах, у Достоевского его странная манера, странный язык! Все лица одинаковым языком выражаются. Лица его постоянно поступают оригинально. И, в конце, вы привыкаете, и оригинальность становится пошлостью. Швыряет, как попало, самые серьезные вопросы, перемешивая их с романическими. По-моему, времена романов прошли» (запись от 19 октября 1910 г. — Там же. С. 388).
12 Описка или ошибка памяти Толстого. В Ясную Поляну писатель ездил в середине (8-18) ноября для завершения работы над рукописью трактата «В чем моя вера?». См.: Гусев. Летопись I. С. 565.
13 Толстой возвращался в Хамовники с Курского вокзала. Среди утерянных вещей была и корректура одной из глав трактата «В чем моя вера?». Ср.: «... когда Лев Николаевич, возвращаясь в Москву, ехал в своих санях и на своей лошади с вокзала, у него из саней выскочил чемодан и бесследно пропал. В чемодане были его рукописи и очень редкие и хорошие книги, что очень огорчило Льва Николаевича. Искали через полицию, но всё напрасно» (Толстая. Моя жизнь I. С. 429).
14 В яснополянской библиотеке сохранился комплектный экземпляр Нового Завета в издании И. Я. Гризбаха (см. примеч. 1 к п. 267): с помощью Страхова Толстому удалось восполнить утрату (см. п. 352).
289
15 Известно одно такое объявление — напечатанное в газете «Ведомости московской городской полиции» (1883.22 нояб. № 253). См.: Гусев. Летопись Г С. 566. Розыски чемодана не дали результатов.
16 Со временем Толстой изменит свое отношение к ученым толкованиям текстов Священного Писания, и оно станет более сдержанным и критичным. Откликаясь в конце 1890 г. на просьбу одного из своих последователей прислать для ознакомления работы Гризбаха и Тишендорфа, он замечал: «Грисбаха я вам не посылаю, но Тишендорфа, в к[отором] есть все варианты Грисбаха. (...) Не увлекайтесь вы этими вариантами. Я это испытал, это скользкий путь. Смысл каждого места — во всем Евангелии, и кто не может понять смысла отдельного места сообразно всему духу его, того ничем не убедить» (письмо к И. Б. Файнерману от 12 декабря 1890 г. — Юб. Т. 65. С. 201-202).
319
12 декабря СтрОХОВ — ТОЛСТОМ/
1883 г.
ОшгПетербург Если так, то напишите же, бесценный Лев Николаевич, о Тургеневе1. Как я жажду прочесть что-нибудь с такою глубокою подкладкою, как Ваша! А то наши писания — какое-то баловство для себя или комедия, которую мы играем для других2. В своих «Воспоминаниях» я всё налегал на литературную сторону дела, хотел написать страничку из «Истории литературы»; но не мог вполне победить своего равнодушия3. Лично о Достоевском я старался только выставить его достоинства; но качеств, которых у него не было, я ему не приписывал. Мой рассказ о литературных делах, вероятно, мало Вас занял. Сказать ли, однако, прямо? И Ваше определение Достоевского4, хотя многое мне прояснило, все-таки мягко для него. Как может совершиться в человеке переворот, когда ничто не может проникнуть в его душу дальше известной черты? Говорю — ничто — в точном смысле этого слова; так мне представляется эта душа5. О, мы несчастные и жалкие создания! И одно спасение — отречься от своей души.
290
За книги, которые я Вам послал, я не хочу с Вас ничего брать, кроме самого маленького спасибо. Мне они достались за бесценок (напр. Joly за 20 к.), да кроме того, я всё еще получаю маленькие деньги за разрозненные части первого издания Вашей «Азбуки». Сколько этих денег, я, по лености, не сумею сказать, не записывал; но хоть они не вполне покроют книги, — разница будет пустая. Мне главное, чтобы книги были Вам приятны. Гризбаха я давно не считал своим6. Постараюсь поискать — нельзя ли будет в Лейпциге найти его7. Но во всяком случае его можно заменить — большим изданием Тишендорфа8, которое, вероятно, сейчас можно будет выслать Вам, если пожелаете. Ни на какую книгу я не смотрю, как на образец для Вас, а только как на материал, пособие. А что за корректуры потеряны Вами?9 Здесь были слухи о Вашей статье для «Р[усской] мысли»10.
У Кузминских я обедаю каждую среду11, и очень стало мне это приятно. Оттуда узнаю и об Вас. Они живут трудно, и заняты, и средства их в самый обрез12. Я же живу легко: и денег, и даже времени у меня довольно. Недавно у меня скопилось до 1000 рублей, в первый раз в жизни. Спокойствие мое возрастает; но здоровье изменяет. В последнее время — мучат глаза, не дают читать — великое для меня горе13. Каждый день думаю о смерти, и так ясно мне, как она подходит всё ближе и ближе. Хотелось бы еще написать о естественных науках14 и о том неведомом Боге, который всегда к нам близок.
Простите, бесценный Лев Николаевич. От всей души желаю Вам всего хорошего. Благодарю Вас за письмо, в котором мне так и послышался пульс сильной жизни, которою Вы живете.
Вспоминайте иногда
Вашего усердного
Н. Страхова 1883 г.
12 дек[абря].
Спб.
Печатается по: РО ИРЛИ. Ф. 302. Оп. 2. Ед. хр. 300. Л. 100-101. Впервые: Современный мир. 1913. №10. С. 310-311. Ответ на п. 318.
291
1 Страхов откликается на слова Толстого об охватившем его глубоком чувстве к Тургеневу и предлагает ему высказаться более подробно, изложив свои взгляды на личность и творчество писателя в связи с его недавней кончиной. Возможно, Толстой не оставил без внимания призыв Страхова; по крайней мере, в завязавшемся через 10 лет разговоре о творчестве Тургенева Толстой в присутствии Страхова заметил, что начинал работать над материалом о Тургеневе. Ср. запись в дневнике В. Ф. Лазурского от 23 июня 1894 г.: «Николай Николаевич [Страхов], со своей всегдашней манерой, стал спрашивать относительно разных тургеневских вещей. Лев Николаевич отлично помнит все. Выше всех он ставит „Довольно“ и статью „Гамлет и Дон-Кихот“. Говорит, что писал статью о Тургеневе, где рассматривал эти два произведения в связи одно с другим (настроение разочарования и потом указание пути спастись от сознания пустоты). Хотел читать на тургеневском празднике, но ему „запретили“. Высоко ставит „Живые мощи“. / — „Новь“ мне, представьте, понравилась; „Пунин и Бабурин“, „Колосов“ — это бог знает что такое; „Вешние воды“ — это к тому же разряду: всё выдуманное, хотя хорошо выдуманное. Критики, — иному некогда, другой не любит, — все валят в кучу; а ведь нужно различать двух Тургеневых: один там, под землею на десять футов, а другой сверху. Я часто удивлялся, как Тургеневе, такой умный, изящный, образованный, мог писать такие глупости. Иногда он писал, как... ну, как [Вас. И.] Немирович-Данченко; еще хуже... как Мачтет, самый плохой Мачтет. Средние таланты пишут ровнее; высоко не залетают, но и особенно низко не спускаются (...)/ Об описаниях природы у Тургенева говорил: „Они удивительны; ничего лучшего ни в одной литературе не знаю". Восхищался его манерой, не выписывая подробно всего, дать понять несколькими штрихами» (АН. Т. 37-38. С. 450). Другим развернутым высказыванием о творчестве Тургенева является посвященный ему раздел письма Толстого к литератору и историку русской общественной мысли А. Н. Пыпину от 10 января 1884 г. (Юб. Т.83. С. 149-150).
2 Страхов повторяет мысль о том, что был связан в изложении воспоминаний рамками «допустимого». Возвращаясь позднее к этой теме, он, между прочим, замечал: «В „Воспоминаниях“ я был очень сдержан; это не была свободная статья; я писал правду, но ту, которую прилично и уместно было напечатать в самом „Собрании сочинений“ Достоевского» (письмо В. В. Розанову от 13 сентября 1890 г. — Розанов В. В. Собр. соч. [Т. 13]: Литературные изгнанники. ... Переписка В. В. Розанова с Н. Н. Страховым. С. 70).
3 Некоторую сухость изложения в «Воспоминаниях о Федоре Михайловиче Достоевском» Страхова отмечали и современники. Д. С. Мережковский также высказал сомнение, что Страхов написал всю правду в «Воспоминаниях»: («Даже такой проницательный ум, как Страхов, не то что облагораживает, а чрезмерно упрощает личность Достоевского, смягчает, притупляет, сглаживает ее, приводит к общему знаменателю» (см.: Мережковский Д. С. Л. Толстой и Достоевский. М.: Наука, 2000.
292
С. 81). Эту особенность своего литературного стиля признавал и Страхов. В письме к В. В. Розанову от 13 сентября 1890 г. он замечал: «Вообще я пишу холодно и сухо; но бывает у меня скрытый огонь...» (Розанов В. В. Собр. соч. [Т. 13]: Литературные изгнанники. ... Переписка В. В. Розанова с Н. Н. Страховым. С. 70. — Курсив Страхова). Своеобразную писательскую манеру Страхова верно подметил тонко чувствовавший его стиль Розанов: то, что сам автор считал в своем писании «холодностью» и «равнодушием», могло исходить из тщательно скрываемой им внутренней «грусти». Ср.: «Хотя Страхов постоянно наукообразен и философичен, всегда „правилен“ и „последователен“, наконец, хотя он повсюду цитирует других, говорит свою мысль чужими словами, но у него постоянно есть пульс в этих построениях и даже в чужих словах: так он много жару, надежд, убеждения, наставничества соединяет с мыслью. Наоборот, есть шумные писатели, был шумный Скабичевский, шумный Шелгунов, а уж Чернышевский просто „гремел“, — и тем не менее они все были, в сущности, холодные писатели (...) Мне кажется, теплота всегда соединяется с грустью, и у Страхова есть постоянная тайная грусть; а те все были „пресчастливы собою“» (Там же. Примеч.).
4 См. п. 318.
5 Ср. с близким по смыслу высказыванием Страхова (о «рефлексии» писателя) в «Воспоминаниях о Ф. М. Достоевском» (см. примеч. 13 к п. 317).
6 Страхов прислал Толстому для работы критическое издание текстов Нового Завета И. Я. Гризбаха еще в начале мая 1880 г. (см. п. 267).
7 Страхов предполагал совершить заграничное путешествие летом 1884 г. В его планы входило посетить несколько городов в Германии и, кроме прочего, показаться местным врачам. Ср.: «Хочу поехать за границу — лечиться, слушать Вагнера и глазеть» (письмо А. А. Фету от 22 мая 1884 г. — Фет. Переписка II. С. 374). Лейпциг, в котором Страхов также намеревался сделать остановку, был известен обилием книжных магазинов.
8 О Константине фон Тишендорфе (Tischendorf) и его трудах см. примеч. 2 к п. 267. Одно из изданий критического текста Нового Завета, подготовленного Тишендорфом, Страхов прислал Толстому в августе 1880 г. О сохранившихся в яснополянской библиотеке экземплярах подготовленных Тишендорфом книг см. примеч. 3 к п. 270.
9 См. примеч. 13 к п. 318.
10 Толстой намеревался печатать в журнале «Русская мысль» статью «В чем моя вера?», но рукопись разрослась до размеров объемного трактата и от журнальной публикации было решено отказаться. По словам Толстого, от первоначального варианта работы «двух слов не осталось подряд» — «Всё переделано» (цит. по: Гусев IV. С. 219). Слухи, на которые ссылается Страхов, могли исходить от В. В. Стасова, который присутствовал на чтении рукописи статьи в одном знакомом ему петербургском 293
семействе. Также посвящены были в планы Толстого по ее напечатанию Кузминские, которых Страхов посещал почти еженедельно (Там же. С. 218). Для помещения в журнале материал готовился в сентябре - октябре, но в дальнейшем Толстой уже имел в виду выпустить трактат отдельным изданием. Относительно возможной судьбы отпечатанного трактата сомнений ни у автора, ни у предполагавшихся издателей статьи (В. М. Лавров, С. А. Юрьев) не возникало: цензурный запрет публикации был предсказуем. Дабы облегчить прохождение через цензуру отдельного издания, Толстой предполагал отпечатать его в ограниченном количестве (50) экземпляров и установить на книгу повышенную (25 руб.) цену. В декабре Толстой продолжал вычитывать гранки и править корректуру трактата. Эта работа будет продолжаться до начала января 1884 г. (Юб. Т. 63. С. 150). См. п. 322.
11 См. примеч. 8 к п. 313. Возможно, что изменение дня посещения Кузминских (со вторника на среду) связано с приглашением обедать по вторникам у друга Страхова И. А. Вышнеградского (см. п. 396).
12 В Петербурге Кузминские проживали по адресу: Невский проспект, д. 75 — недалеко от места службы Страхова, Публичной библиотеки. О взаимоотношениях Кузминских Толстой сделал 31 августа 1884 г. в дневнике такую запись: «... зашел к Кузмин [ским]. Они собрались ссориться. (...) всплыло всё старое, и он стал говорить о том, что они ненавидят друг друга и что так нельзя жить. Она смолчала. Но вечером подняла этот разговор, упрекая его в раздражительности, доходящей до сумашествия. Он оправдывался, но б[ыл] мрачен. Она при мне стала говорить ему, что она по любви вышла за него замуж. А я знаю, что она не то говорила Соне [С. А. Толстой. — Сост.]. И мне вдруг стало ясно, как и чем сильны женщины: холодностью и невменяемой, по слабости их мысли, лживостью, хитростью, льстивостью» (Юб. Т. 49. С. 119-120. — Курсив Толстого).
13 О состоянии здоровья Страхова см. примеч. 1 к п. 317. Существенных улучшений в самочувствии не произошло и в течение декабря. Ср. в письмах А. А. Фету от 16 декабря 1883 г. и 6 января 1884 г.: «А я и сегодня не выхожу, и завтра едва ли выйду. Не хуже, но и не вовсе хорошо». «От меня самого проку чрезвычайно мало (...) вообще — тоскую...» (Фет. Переписка II. С. 367, 368). Лишь в конце января 1884 г. Страхов почувствовал некоторое облегчение недуга, о чем сообщил Фету 20 января: «Телом почти здоров (...) Но душа очень плоха» (Там же. С. 369). Не меньшее беспокойство причиняло Страхову состояние глаз, которое периодически ухудшалось, затрудняя работу. Некоторое изменение к лучшему стало наблюдаться с января 1884 г. «Глаза только теперь поправляются благодаря окулисту, к которому я наконец прибег», — известил Страхов Фета в письме от 6 января 1884г. Об этом же Страхов сообщил Н. Я. Данилевскому: «О себе скажу, что, слава Богу, жаловаться мне грех. Особенно радуюсь, что несчастные глаза мои, кажется, дают сериозную надежду на выздоровление. Я обратился к окулисту, который сразу мне помог...» (письмо без даты, от 294
конца декабря 1883 г. - начала января 1884 г. — РВ. 1901. Март. С. 128). Во второй половине января Страхов смог уже более уверенно заметить в письме к Фету: «... мои глаза — о чудо! — поправились от новых капель» (письмо от 20 января 1884 г. — Фет. Переписка II. С. 368, 369). См. также п. 323.
14 Одной из побудительных причин, повлиявших на намерение Страхова высказаться на естественнонаучную тему, стала, вероятно, его полемика в переписке с Н. Я. Данилевским по вопросам познания в натурфилософии («об отношении умозрения и опыта») и «об отношении зародышевых форм к формам различных видов» (письмо от 3 марта 1884 г. — РВ. 1901. Март. С. 129). Ср. : «А ведь мы сильно расходимся с вами и, кажется, чем дальше, тем больше, так что надежда на соглашение, с которою я всё носился, едва ли в чем сбудется. Вы мне писали об эмпиризме, о Геккеле и т. п. такие вещи, что я, раздумавши, прихожу в смущение. (...) всего больше меня огорчил Геккель, которого вы ставите упреком натурфилософии и вообще философии. Тот, который представляет живейший пример безобразия, порождаемого отсутствием философии, ей же ставится в вину потому только, что, по своей глупости и полному невежеству, он употребил еще имя натурфилософии. Но тогда нападите на Англичан, у них всё natural philosophy. I Боюсь очень увлечься (...) но я часто грустил, что по невозможности сговориться с вами лишен был участия и совета человека, которого так высоко ставлю. Эта философия вообще наделала мне бед. Но что прикажете делать, чем больше я за нее терплю, тем больше я ее люблю. О спиритизме непременно еще напишу. (...) Если бы мое время не растаскивалось таким жестоким образом, я бы давно написал и обработал эти письма. Чего лучше для изложения вопроса о познании?» (письмо от 29 ноября 1883 г. — Там же. С. 125-126). Существенное расхождение во взглядах наметилось и по проблеме развития органической жизни. Ср.: «Расходимся, расходимся. Дорогой Николай Яковлевич! Вижу это и по тому, чтб вы пишете о развитии организмов (...) Я писал об этом в статье О развитии организмов, которую послал вам. Считаю себя виноватым, что не успел дать своим мыслям довольно авторитета в ваших глазах, что не сделал всяких попыток сговориться с вами. (...) Те мысли, которые я изложил в Письмах об органической жизни, я их держусь до сих пор и стараюсь развить дальше (...) Очень бы желал беседовать с вами, тогда, конечно, многое бы сказалось, но не всё, однако. Полная, отчетливая формулировка мыслей, когда они написаны» (письмо без даты, от конца 1883 - начала 1884 г. — Там же. С. 127-128. — Курсив Страхова). Подробнее полемику Страхов с Данилевским по вопросам натурфилософии см.: Там же. С. 125-132. Творческие замыслы Страхову удалось осуществить лишь частично, высказавшись по вопросу о спиритизме (см.: Страхов Н. Н. Еще письмо о спиритизме: (В редакцию «Нового времени»). — НВ. 1884. 1 февр. № 2848). Более объемная, обобщающая работа «Ход и характер современного естествознания», посвященная рассмотрению итогов развития науки о природе за период после 1872 г., появится лишь в 1892 г.
295
1884
320
3(?) января 1884 г. Москва
Печатается по: ОР ГАЯ. Ф.1.№ 1114.
Л. 1-2. Нал. 1 помета Страхова «? 1884». Впервые: Новый мир. 1926. №2. С. 131-132. В Юб:.
Т. 63. С. 148.
Число и месяц устанавливаются по сопоставлению с письмом Толстого к В. В. Стасову от 3 января 1884 г. (Юб. Т. 63. С. 147).
Толстой — Страхову
Дорогой Николай Николаевич.
Письмо это вам передаст выдающийся молодой ученый1, сын моего друга, еврейского раввина1 2 — Лазарь Соломонович Минор3.
С величайшим трудом преодолев препятствия, которые ставили ему вследствие его еврейского происхождения, он должен был быть утвержден приват-доцентом Московского] университета]4, когда вдруг оказалось нужным послать его назначение на утверждение министра5. Не можете ли вы попросить министра или того, от кого зависит это утверждение? Если можете, сделайте это6. Век вам буду благодарен. Я готов бы сам ехать просить министра, но боюсь, что моя личная просьба будет хуже7. Это для меня сердечное дело.
Обнимаю вас.
Л. Толстой
1 Л. С. Минору было 28 лет.
2 О московском раввине С. А. Миноре см. примеч. 11 к п. 308.
3 Уроженец Вильны, Л. С. Минор оказался в Москве в 1870 г., закончил 4-ю Московскую мужскую классическую гимназию и (с золотой медалью) медицинский факультет Московского университета (в 1879 г.). Поступил на военную службу и исполнял обязанности ординатора при московском военном госпитале, работал по невропатологии в клинике проф. А. Я. Кожевникова. В 1882 г. защитил диссертацию на степень доктора медицины по вопросу локализации функций организма в головном мозге. Тогда же
подал в отставку и отправился для усовершенствования по специальности за границу, где работал в клиниках Парижа, Берлина, Вены (в т. ч. у Ж.-М. Шарко и Р. Вирхова).
В 1884 г. вернулся в Москву и был принят приват-доцентом в Московский университет на кафедру нервных болезней. В том же году поступил на казенную службу в качестве консультанта при городских Яузской и Басманной больницах. Автор 135 научных работ, в том числе учебника терапии нервных заболеваний. С 1885 г. сотрудник газеты
«Русские ведомости». Подробную автобиографию Минора см.: Русские ведомости.
1863 - 1913. Сборник статей. М., 1913. С. 117 (вторая пагинация).
296
4 На утверждение министра народного просвещения направил предположение о назначении Минора приват-доцентом медицинского факультета Московского университета попечитель Московского учебного округа гр. П. А. Капнист (см. примеч. 6 и 7). Это утверждение состоялось, однако неизвестно, потребовало ли оно вмешательства ходатаев или было принято министром самостоятельно (см. примеч. 7).
5 Имеется в виду министр народного просвещения, которым с 1882 г. был Иван Давыдович Делянов.
6 С просьбой о содействии Толстой обращался не только к Страхову. Тогда же он писал об этом и В. В. Стасову: «Опять с просьбой. Дело для меня сердечное. Письмо это передаст вам Лазарь Соломонович Минор, замечательный молодой ученый, обративший на себя внимание в Европе; он сын моего друга, еврейского раввина Московского. Насилу, насилу он добился, несмотря на свое еврейское происхождение, того, чтобы прочесть пробную лекцию на приват-доцента. Лекция имела (также и прежняя диссертация его) огромный успех, и казалось бы всё решено, но наш попечитель — один из глупейших людей мира — нашел нужным послать на утверждение Министра. Как бы это не повлекло отказа. Молодой человек в отчаянии. Голубчик, нельзя с вашими связями и с вашей прямотой и умением помочь ему в том, чтобы не было отказа?» (Юб. Т. 63. С. 147; Толстой и Стасов. Переписка. С. 67). Судя по всему, письма Стасову и Страхову были написаны в один день и переданы отъезжавшему в Петербург Минору для передачи адресатам. Стасов пометил на письме Толстого день его получения — 5 января, что дало основание первым публикаторам определить время написания этого обращения — 3 января. Придерживаемся этой даты для уточнения дня и месяца написания письма Страхову.
7 Возможно, что опасения Толстого не были вовсе лишены основания, однако лица, близко знавшие Делянова, отзывались о нем, как о человеке, старательно избегавшем конфликтов и неудовольствий, готового откликнуться на доводимые до него просьбы и ходатайства. Хорошо знавший нового министра по службе в одном ведомстве Е. М. Феоктистов так отзывался о нем в своих мемуарах: «Делянов представлял собой пример того, как можно у нас достигнуть очень высокого положения без сколько-нибудь выдающихся заслуг; никогда не был он не только тружеником — смешно и говорить об этом, — но даже дельцом в самом ординарном значении этого слова (...) обладал он в значительной степени хитростью, знал Петербург как свои пять пальцев, со всеми находился в хороших отношениях, не имел врагов, потому что и враждовать с ним было как-то странно: он способен был всякого обезоружить своим невозмутимым добродушием. В обществе любили Ивана Давыдовича за его доброту, хотя и самая доброта эта была какая-то дряблая, пассивная; он готов был хлопотать без разбора за кого угодно: и за порядочных людей, и за людей вовсе непорядочных, так что на его рекомендации привыкли не обращать внимания, и он нисколько этим не обижался. Человек, несомненно честный, отличавшийся чрезвычайной простотою своего образа
297
14 февраля 1884 г. (кмкт-Петербург
Печатается по: ОР ГМТ. Ф. 47. №39515. Л. 1,2. Впервые: ПТСII.
С. 170. №20.
жизни, никогда не кичившийся своим положением, всегда доступный всякому, кто хотел его видеть, так что двери его кабинета были постоянно открыты для посетителей... » (Феоктистов Е. М. Воспоминания. С. 171-172.).
321
Страхов — С А. Толстой
Глубокоуважаемая графиня,
Решаюсь Вас беспокоить по очень хорошему делу. Нужно войти в сношения с Н. М. Нагорновым1, чтобы купить на большую сумму учебных книг Льва Николаевича. Я предполагаю, что этими делами по-прежнему заведует Николай Михайлович1 2. Льва Николаевича, как я слышал, теперь нет в Москве3, да если бы он и был, то трудно бы от него было добыть ответ. Покорно прошу Вас, отправьте записочку4, которую при этом посылаю.
Вести об Вас большею частью хорошие, и я очень радуюсь, когда их слышу от Татьяны Андреевны и Александра Михайловича5. Обеды у них для меня большое удовольствие, а когда здесь был кн[язь] Урусов6, то Ясная Поляна так и носилась передо мною.
Самому мне — хвалиться нечем, но жаловаться грех.
Ваш душевно преданный
Н. Страхов
1884.
14 февр[аля].
Спб.
1 О Николае Михайловиче Нагорнове и его помощи Толстому в ведении издательских дел см. п. 88 примеч. 1, п. 95 примеч. 5, п. 140 примеч. 9.
2 Нагорнов до 1885 г. имел от Толстого доверенность на продажу «Азбуки» и дру¬
гих его образовательных книг.
298
3 По завершении (22 января) работы над трактатом «В чем моя вера?» Толстой 27 января 1884 г. уехал в Ясную Поляну, чтобы отдохнуть от напряженного умственного труда. В воскресенье, 29 января, Толстой писал жене: «Ты не можешь себе представить моего приятного чувства свободы по окончании моей работы. Я перестал чувствовать [себя] une machine à écrire (пишущей машиной, фр.)» (Юб. Т. 83. С. 416). В воспоминаниях С. А. Толстая писала, что Толстой уехал в имение «работать и отдыхать от города» (Толстая. Моя жизнь I. С. 430). В Ясной Поляне писатель проведет около двух недель и вернется в Москву 8 февраля (Гусев. Летопись. I. С. 569, 571).
4 Записка Страхова к H. М. Нагорнову неизвестна.
5 Семья Кузминских с 1881 г. жила в Петербурге, где А. М. Кузминский занимал должность председателя Петербургского окружного суда. О посещении Страховым Кузминских см. примеч. 11 к п. 319.
6 Князь Леонид Дмитриевич Урусов, тульский вице-губернатор в 1876-1885 гг.; переводчик на французский язык трактата Толстого «В чем моя вера?». Урусов оставался в Москве до 3 февраля и уехал в Тулу, где встречался с Толстым (см.: Юб. Т. 83. С. 423-424).
322
С Л. Толстая — (трохову 21 февраля
21 февраля 1884 Г. HoCKBd
Многоуважаемый Николай Николаевич,
Извините меня, что долго не отвечала на ваше любезное и заботливое письмо; масленица и удовольствия детей, людей1 и особенно моей старшей дочери2, совсем меня сбили с ног. Слава Богу, всё это кончилось и наступил тихий пост.
Спасибо вам, что всегда соблюдаете наши интересы и не забываете любить нас. Записку вашу я передала Н. М. Нагорнову; он сказал, что тотчас же ответил вам.
Лев Николаевич, отпечатав3 свою «Веру»4, совсем вдруг упал духом, работать ничего не может, да еще кроме того разболелся: жар, кашель, страшный насморк и крайне угнетенное состояние. Всё это, конечно, 299
Печатается по: ОР ГМТ. Ф. 47. №39398. Л. 1-2 об. Впервые: ПТСII. С. 171-172. №21. Год устанавливается по содержанию. Ответ на п. 321.
не опасно, но очень скучно. Знаете ли вы, что сделали с этими 50-ю запрещенными экземплярами «В чем моя вера?». Сначала их запечатали5, потом распечатали, чтоб один экземпляр дать генерал-губернатору6, а другой — неизвестно кому. Потом 10 экз. пошло в цензуру7, а остальные 38 отправили в Петербург. Значит — мы заплатили 400 р[ублей] с[еребром] за печать и бумагу, а читать книгу будут даром разные министры, генералы, их жены и прочие высокопоставленные лица. Если это чтение вредно, то по закону сжечь должны, а в Петербурге, кажется, забыли, что такое закон8.
Мне очень досадно; не можете ли вы, Николай Николаевич, узнать как-нибудь, куда дели эти 38 экземпляров? Но чтобы знать наверное, и не сердиться ни на кого.
Я о вас часто знаю от сестры. Ваши посещения им всегда так приятны, что почти во всяком письме сестра упоминает о них. Тут в Москве очень мало, даже совсем нет у нас таких милых посетителей9. Думаю о Ясной как о рае, надеюсь, что и вас заманим опять погостить у нас. Только не приезжайте между 6 и 15 июня10, а то я вас не увижу. — Мы с Львом Николаевичем иногда мечтали увидать вас в Москве; особенно последнее время он часто упоминал о вас по случаю задуманного им издания библиотеки общедоступной и составленной из разных отделов. Это так длинно и сложно, что не берусь теперь вам рассказывать этот план11, пусть сам напишет. Статью вашу в «Нов[ом] вр[емен]и»12 прочла, и с интересом; ну где же Вагнеру и компании] полемизировать с вами!
До свидания, любезный Николай Николаевич, письмо мое и длинно и без содержания; извините, я в Москве очень поглупела. Но не настолько, чтоб перестать любить и уважать вас.
Преданная вам
Гр. С. Толстая 1
1 Т. е. прислуги в доме Толстых.
300
2 Т. Л. Толстой. О светской жизни зимой 1884 г. С. А. Толстая вспоминала: «Начаись один за другим балы и выезды, на которые мы ездили с Таней. (...) Был прекрасый бал на Масленице в лицее. Таня была прелестна в своем тюлевом зеленом платье бархатными темно-зелеными птичками (...) дотанцевались до того, что музыканты тказались играть. Было уже утро, когда все разъехались (...) Были и разные веселья ля меньших детей» (Толстая. Моя жизнь I. С. 433; ср.: Сухотина-Толстая Т. Л. Дневик. С. 98-106). Толстой осуждал праздный образ жизни семьи и не одобрял развлеений, которые С. А. Толстая стремилась устроить для детей на Масленой неделе. Из [сной Поляны он не без упрека писал жене: «Ты теперь, верно, собираешься на бал. )чень жалею и тебя, и Таню» (письмо от 30 января 1884 г. — Юб. Т. 83. С. 417). Столь се неблагосклонно относился он и к выездам с детьми на выставки и в театр — всё го, по его мнению, только «нарушает правильный ход жизни», не давая ничего вза[ен (письмо к С. А, Толстой от 1 февраля 1884 г. — Там же. С. 420). Ср. с резкими ритическими высказываниями Толстого о светских балах: Там же. Т. 23. С. 368; Т. 25. :. 303-305; 627.
3 Деловые отношения с московской типографией И. Н. Кушнерева, где набиралась печаталась брошюра Толстого, поддерживала С. А. Толстая. Ср.: «В январе была наечатана в типографии Кушнерева „В чем моя вера?“ в количестве 50 экземпляров, что не стоило 400 рублей» (Толстая. Моя жизнь I. С. 432). Уехавшего в Ясную Поляну олстого она извещала 30 января: «Кушнерев прислал счет: 200 р. с[еребром] печать бумага; 200 р. с[еребром] корректуры. Я не платила, в банк не ездила еще и не посыала» (Толстая С. А. Письма к Л. Н. Толстому. С. 247).
4 Трактат Толстого «В чем моя вера?» был напечатан в количестве 50 экземпляров ез предварительной цензуры. Московский духовный цензор протоиерей М. Богоюбский в своем заключении от 7 февраля 1884 г. писал о том, что книга «В чем моя ера?» содержит мысли, «явно противные духу и учению христианства, разрушающие ачала нравственного учения его, устройство и тишину церкви и государства» (Гусев, .стопись I. С. 571). Распоряжением от 14 февраля 1884 г. трактат был запрещен Главым управлением по делам печати к обращению и подлежал уничтожению (Там же. ’. 572). Подробнее о рассмотрении труда Толстого в светской и духовной цензуре см.: усев IV. С. 248-255.
5 Книга Толстого была опечатана инспектором по типографиям Москвы в наличом ее объеме, т. е. в количестве 39 экземпляров. Ранее определенные законом о печати 0 «обязательных» экземпляров издания были направлены в цензуру. Еще 10 неучтеных экземпляров было отпечатано типографией сверх тиража.
6 Московским генерал-губернатором с 1865 по 1891 г. был князь В. А. Долгоруков.
7 Из 10 представленных в цензуру экземпляров книги Толстого восемь разошлись о разного рода запросам среди начальствующих лиц, один предназначался автору см.: Гусев IV. С. 253.
301
8 Подробнее о дальнейшей судьбе «арестованных» книг Толстого см.: Там же. С. 253-254. С. А. Толстая не обошла этот эпизод молчанием и в своих воспоминаниях. Ср.: «...вместо того, чтоб уничтожить это, по их мнению, вредное сочинение, петербургские начальники потребовали его в Петербург и раздали даром разным высокопоставленным лицам, а я осталась в убытке за издание» (Толстая. Моя жизнь I. С. 432). Не менее жены был возмущен «произволом» властей и Толстой, который, однако, воспринял произошедшее не столь драматично: «...книга моя (...) вышла и запрещена; но не сожжена, а увезена в Петербург, где, сколько мне известно, те, к[оторые] запретили ее, разбирают ее по экземплярам и читают. И то хорошо. У меня есть и будут рукописные экземпляры...» (письмо А. С. Бутурлину от 19 (?) февраля 1884 г. — Юб. Т. 63. С. 155). Ср. также в письме к художнику Н. Н. Ге от 2 марта 1884 г.: «Книгу мою, вместо того, чтобы сжечь, как следовала по их законам., увезли в Петербург] и здесь разобрали экземпляры по начальству. Я очень рад этому. Авось кто-нибудь и поймет» (Там же. С. 160).
9 Намек С. А. Толстой на посетителей Толстого, которых она называла «темными»: «Я их часто ненавидела, не разбирая, кто они (...) Да и были они для меня темные люди, о которых часто ровно ничего не знаешь (...) А жизнь моей семьи от них страдала, и я их избегала и боялась» (Толстая. Моя жизнь I. С. 425).
10 С. А. Толстая ждала ребенка, который, по ее расчетам, должен был появиться на свет в первой половине июня. Третья дочь Толстых Александра родилась в Ясной Поляне 18 июня 1884 г.
11 Этот замысел был воплощен в деятельности издательства «Посредник», основанного при участии Толстого и В. Г. Черткова в 1885 г. Вдохновленный идеей народного просветительства, Толстой писал Черткову 17 февраля 1884 г.: «Я увлекаюсь всё больше и больше мыслью издания книг для образования русских людей. Я избегаю слова для народа, потому что сущность мысли в том, чтобы не было деления народа и не народа. (...) Не верится, чтобы вышло, боюсь верить, пот [ому] ч[то] слишком было бы хорошо». В конце месяца Толстой вновь затрагивает в письме не оставлявшую его внимания тему: «О книгах вы правы, мне кажется: те, к[оторые] есть, скорее вредны, чем полезны. Мое занятие книгами больше и больше захватывает меня. — Хотелось бы отплачивать чем могу за свои 50-летние харчи» (Юб. Т. 85. С. 27, 30). Подробнее о намерении Толстого издавать доступные по цене и пониманию книги для народа см.: Там же. Т. 25. С. 874-879.
12 Имеется в виду статья Страхова «Еще письмо о спиритизме: (В редакцию „Нового времени“)» (НВ. 1884. 1 февр. № 2848), бывшая ответом на «Открытое письмо» Страхову профессора Н. П. Вагнера, напечатанное в «Новом времени» 13 и 20 июля 1883 г. Полемику о спиритизме Страхов начал еще в 1876 г. (см. п. 105). В сентябре 1883 г. Страхов писал Н. Я. Данилевскому: «Н. Вагнер напечатал в Новом Времени „открытое письмо“ ко мне по поводу спиритизма. Вот прочтите и полюбуйтесь, 302
до чего доводит проклятый эмпиризм. Думаю отвечать и ни за что не оставлю дела» (письмо от 13 сентября 1883 г. — РВ. 1901. Февраль. С. 469. — Курсив Страхова). Завершив работу над воспоминаниями о Ф. М. Достоевском, Страхов возвращается к мысли ответить в печати на выпад Вагнера: «О спиритизме непременно еще напишу. Отозвался не только Вагнер, но Бутлеров. Но главное самый интерес дела. Если бы мое время не растаскивалось таким жестоким образом, я бы давно написал и обработал эти письма. Чего лучше для изложения вопроса о познании?» (письмо Н. Я. Данилевскому от 29 ноября 1883 г. — Там же. Март. С. 126). Однако непосредственно приступить к написанию статьи Страхов смог лишь в начале следующего года. «Сам я принимаюсь — за что бы Вы думали? — за спиритизм, не за чудеса, а за опровержение» — сообщал он А. А. Фету о своих занятиях 6 января 1884 г. (Фет. Переписка II. С. 368. — Курсив Страхова). Работу над материалом Страхов завершил 27 января. Посылая в конце года свою публикацию для ознакомления И. С. Аксакову, Страхов так объяснял ее основное содержание, касающееся вопросов познания: «Вы можете себе легко представить, что на меня иногда нападает большой зуд писания и высказывания этих мыслей, хотя я и знаю, что молчание лучше, и, верно, молчал бы, если бы был менее грешен. / Но думаю ограничиться исследованиями чисто философскими, вопросами о познании, о природе и т. п. (...) Посылаю Вам, может быть, пропущенное Вами письмо о спиритизме. Тут — отрицание всяких чудес и вместе признание, что мы окружены таинственным» (письмо от 12 декабря 1884 г. — Аксаков — Страхов. Переписка. С. 120. — Курсив Страхова). Кроме С. А. Толстой, на статью положительно откликнулся А. А. Фет. «Душевно рад, что Вам понравился мой „Спиритизм“ — я его писал с любовью» — благодарил Страхов своего корреспондента 12 мая (Там же. С. 373). Получить «новое удовольствие» от статьи Страхова о спиритизме рассчитывал и Вл. Соловьев (письмо от 13 января 1884 г. — Соловьев. Письма I. С. 16). Полемика между Страховым и его оппонентами не ограничилась обменом возражениями. Получив ответ на свою статью в виде очередных открытых «писем» («Умствование и опыт» Бутлерова появилось в номере «Нового времени» от 7 февраля, «Раздвоенная философия» Вагнера — в выпуске от 5 апреля 1884 г.), Страхов решается продолжить дискуссию и берется подготовить новое опровержение, о чем извещает Фета в письме от 12 мая: «На руках у меня, однако (...) „Опять о спиритизме“. Ответ на письма Вагнера и Бутлерова (...) И теперь постараюсь хорошенько обдумать тему» (Фет. Переписка II. С. 373). Страхов намеревался завершить работу над новой статьей до своих летних каникул, однако это предположение не осуществилось и его возражение «Физическая теория спиритизма: (Письмо в редакцию)» появится в печати только через год после опубликования первого материала (НВ. 1885.26 февр. № 3232). Обе работы перепечатаны в: Страхов Н. Н. О вечных истинах (Мой спор о спиритизме). СПб.. 1887. Полемика продолжится в 1885 г. (см. п. 345 и примеч. 2-4 к нему), и к ней подключится кн. Д. Н. Цертелев, оппонировавший Страхову в своей книге «I. Спиритизм 303
с точки зрения философии. И. (Ответ Н. Н. Страхову). Медиумизм и границы возможного» (СПб., 1885). Толстой, в целом несочувственно относившийся к участию Страхова в подобных дискуссиях, считал наиболее удачными его выступления именно с возражениями Вагнеру и Бутлерову. Ср. запись о разговоре с Толстым на эту тему в дневнике В. Ф. Лазурского: «По его [Толстого. — Сост.] мнению, Страхов был на высоте своей серьезности, когда полемизировал с Бутлеровым о спиритизме („О вечных истинах“)» (запись от 20 апреля 1896 г. — ЛН. Т. 37-38. С. 490).
323
Февраль - CtpdXOB — ТОЛСТОМ/
18 порта 1884 г.
Санкт-Петербург Соловьев мне пишет: «на днях я прочитал „В чем моя вера'»1. Эти слова привели меня в большую зависть, бесценный Лев Николаевич. Как ни совестно Вас беспокоить, но я очень жажду наставления, и потому не забудьте меня, если будет возможно2.
18 марта 1884 г.
Эти верхние строчки писаны с месяц тому назад. Очень мне недостает переписки с Вами!3 Маленькая записочка с Минором4, и та мне была большим утешением. Вы прекрасно сделали, адресовавши его к Стасову. Тот всё устроил с такою энергиею и быстротою, к какой никто другой не способен. Минор был у меня и поразил меня своею красотою, щеголеватостью и бойкостью. Мы с ним говорили о физиологии и психиатрии; он много сообщил любопытного и умного, но он умен — как отличная умная немецкая книга, недавно вышедшая. Это полное отсутствие своеобразия меня поразило. Конечно, лучше профессора придумать невозможно. Но как же случилось, что от отца он ничего не взял?5
Настроение современных людей имеет в себе что-то прометеевское. Они хотят распоряжаться природою, они мечтают, как алхимики, продлить жизнь, переделать по-своему животных и растения, какие водятся 304
на земном шаре, овладеть болезнями и т. п. Они уже видят успехи своих трудов, они веселы и смелы, и будущее радугой играет перед ними.
Но пока насчет болезней дело плохо. С начала марта я болею, и недели две проболел очень нехорошо, не мог ничего делать, ни писать, ни читать6. Пригласил я к себе любимого ассистента Боткина7, очень милого человека. Но оказалось, что он меня совсем не лечил; он только противодействовал лихорадке, а там всё предоставлял природе. Я сунулся было к нему с вопросами о своем катаре и других хворостях, но он, услышавши, что я их переношу без крайнего расстройства, не стал и говорить. Я понял, что Гиппократ опять в силе, и в теории был очень доволен, но на практике огорчился. Недавно меня ведь очень поразило искусство медицины. Мне вылечили мои глаза. Я до сих пор едва этому верю, потому что лет пятнадцать ложился спать и вставал с зудом и гноем на ресницах и спасался только ежедневным примачиванием. Теперь глаза действуют у меня всею силою своего зрения, так что я вижу яснее и не устаю видеть, разумеется, в очках. А об зуде и гное помину нет. Это сделано в три или четыре дня8.
Работы мои всё не наладились, т. е. после биографии Достоевского. Небольшою помехою был «Дарвинизм», огромная книга (67 печатных листов), печатающаяся под моим наблюдением. Это опровержение Дарвина, Н. Я. Данилевского9. Немножко мы поспорили с автором и переписывались10 (он в Крыму), да приходится смотреть корректуры. И я всё раскачиваюсь, чтобы приняться за свою книгу — «Деятельность познания», или же «Познание как деятельность», — что-нибудь в этом роде11.
В настоящую минуту я, кажется, успокоился; но вообще я дурно провел эту зиму. Покаюсь Вам, бесценный Лев Николаевич, я поддавался новым гадостям, которые открылись у меня в душе, боролся с ними, но очень мучился и унывал. Почему-то на этот раз мне было совершенно ясно, что я в глубине души очень пошл и дурен. По обыкновению я пережидал и, кажется, переждал; но эти открытия очень огорчили меня.
305
Печатается по: РО ИРПИ. Ф. 302. Оп. 2. Ед. хр. 300. Л. 106-107. Впервые: Современный мир. 1913. №10. С. 311-313.
На Страстной думаю быть здоровым и побывать в Москве12. Фет13 и Соловьев14 зовут, и я очень уж затупел от однообразия и возни с книгами, которые, наконец, начинают вовсе терять свой вкус для меня.
Простите, бесценный Лев Николаевич. Дай Вам Бог сил и здоровья — Вам еще много работы.
Всей душою Ваш
Н. Страхов
1884.
18 марта.
Спб.
Р. 5. Передайте графине низкий мой поклон и душевную благодарность за ее доброе письмо15 (истинно — не стою). Дело, о котором я писал, пошло в ход16.
1 Цитата из не датированного (вероятно, от января 1884 г.) письма Вл. С. Соловьева (Соловьев. Письма I С. 21). Страхов ограничился первой фразой реплики Соловьева, которая, однако, имела высказанное в скептическом духе продолжение и язвительно-ироничное смысловое сближение с доморощенной «философией» директора Пробирной палатки. Ср.: «На днях прочел Толстого „В чем моя вера“. Ревет ли зверь в лесу глухом? — Вчера получил только что вышедшее собрание сочинений Козьмы Пруткова, с портретом и факсимиле автора». Не менее критичным по отношению к новой «вере» Толстого был и пространный комментарий Соловьева к полученному им письму Страхова: «По поводу мнения Менделеева, что литературный период кончился, Вы спрашиваете: какой же период начался? Мне кажется, ответ очевиден: если кончился период литературный или словесный, то начался период бессловесный. Разумеется, эта бессловесность далеко не означает того „безмолвного жития“, о котором молится Победоносцев. Напротив, всяких нечленораздельных звуков, и воя, и визгу, и реву весьма довольно. Нет только ясного и свободного человеческого слова, собой владеющего, себя сознающего. (...) Только не прельщайтесь бессловесной религией — ведь это еще хуже, чем бессловесная литература» (Там же). Отрицательное мнение Соловьева о религиозно-этических построениях Толстого не осталось темой только его частных корреспонденций. В одном из писем этого времени Толстой заметил: «Влад. Соловьев враждебно относится ко всей моей работе» (письмо А. С. Бутурлину 306
от 19 (?) февраля 1884 г. — Юб. Т. 63. С. 156). Отметив 11 апреля в дневнике посещение Соловьева, Толстой записал свое впечатление от общения с философом: «Мне он не нужен и тяжел, и жалок» (Там же. Т. 49. С. 81).
2 Страхов имеет в виду возможность получения от Толстого рукописной копии его трактата, которые — после конфискации отпечатанного тиража брошюры — изготовлялись по желанию автора переписчиками по цене 15 руб. за экземпляр (см.: Там же. С. 155).
3 Последнее письмо от Толстого (п. 320) Страхов получил, вероятно, в самом начале января.
4 О Л. С. Миноре см. п. 320 и примеч. к нему.
5 По мнению Страхова, Минор-младший не унаследовал от отца глубокого и оригинального ума. О С. М. Миноре см. в примеч. 11 к п. 308.
6 В начале марта Страхов сетовал в письме к Н. Я. Данилевскому на постоянные простуды в течение зимы и затянувшееся болезненное состояние (см.: РВ. 1901. Март. С. 132). Жалобы на нездоровье — одна из часто затрагиваемых тем в переписке Страхова с А. А. Фетом. Ср.: «Здоровье мое неважное». — «Двенадцать дней просидел дома, но так был болен, что ничего не мог делать — да и до сих пор тяжело. Всё бронхит, да доктор еще говорит: что-то инфекционное, гастрическая форма. Эти приятные греческие слова означают однако чисто петербургскую гадость. (...) Всё еще я чувствую слабость и во рту вкус хромокислого хинина, которого уже третий день не принимаю» (письма от 22 февраля и 18 марта 1884 г. — Фет. Переписка II. С. 370-371).
7 Возможно, имеется в виду ученик и ассистент С. П. Боткина Василий Михайлович Бородулин, женившийся на его старшей дочери от первого брака Анастасии. Страхов писал Фету 18 марта: «Нынешний тип лекарей меня поразил. Они вовсе не лечат болезней — а только поддерживают организм. Оно очень умно, но я осужден, значит, остаться навсегда со своими хворостями» (Там же. С. 371).
8 По поводу заболевания глаз Страхов обращался за консультацией и рекомендациями к петербургскому офтальмологу Г. А. Донбергу. См. примеч. 13 к п. 319.
9 С просьбой взять на себя чтение корректур и издание в целом своего обстоятельного труда «Дарвинизм. Критическое исследование» Н. Я. Данилевский обратился к Страхову еще в конце 1883 г. В ответ на это пожелание Страхов писал: «Меня сперва испугало ваше предложение печатать анти-Дарвина. Только что я мечтал о свободном времени, как явилась перспектива ста или больше листов корректур» (письмо от 29 ноября 1883 г. — РВ. 1901. Март. С. 125). Однако при содействии двух помощников, вызвавшихся читать корректуры, наиболее трудоемкой части работы Страхову удалось избежать; на себя он принял ответственность за общий надзор над процессом прохождения рукописи в типографии. Вероятно, в самом начале январе первая часть рукописи уже была сдана в печать (Там же. С. 128). В начале марта Страхов просматри307
вал поступавшие из типографии листы и смог сообщить Данилевскому: «Корректуру вашей книги держу с немалым удовольствием, хотя время у меня вечно в недостатке». Впрочем, благодаря энергичной поддержке помощника, затрат его собственного труда оказалось «немного» (Там же. С. 131). Страхов продолжал просматривать корректуры книги Данилевского до конца года, с перерывом на три месяца, отведенные им на летний отдых и заграничное путешествие (Там же. С. 134,135).
10 Подробнее возражения Страхова на естественнонаучные взгляды Данилевского см.: РВ. 1901. Март. С. 125-135.
11 Страхов и позже намеревался писать о познании. Так, А. А. Фету он сообщал 22 июня 1888 г.: «Сам я всё раскачиваюсь — хочу писать о познании» (Фет. Переписка II. С. 460). Страхов затрагивал проблемы познания в некоторых сочинениях («О вечных истинах», «Об основных понятиях психологии»), однако за отдельную работу на эту тему он так и не взялся.
12 Страстная неделя в 1884 г. начиналась со 2 апреля. Об одном из мотивов, побудивших Страхова предпринять поездку в Москву, он позднее писал Фету: «Боялся я Вашей строгости, дорогой Афанасий Афанасьевич, и потому не сказал Вам, что собираюсь за границу и что в Москву приезжал — повидать Вас перед отъездом и попрощаться с Вами» (письмо от 20 июня 1884 г. — Там же. С. 375).
13 Письмо Фета неизвестно. Обращаясь к нему, Страхов писал 22 февраля: «На Страстную замышляю побывать в Москве и немного рассеяться» (Фет. Переписка II. С. 370). Через месяц он уточнял в письме к своему корреспонденту: «Спрашивал у доктора, можно ли ехать в Москву. Конечно, очень можно. Думаю, что поеду...» (письмо от 18 марта 1884 г. — Там же. С. 371). Наконец в понедельник, 2 апреля, Страхов уведомлял: «Если всё пойдет так же — не знаю, сказать ли хорошо, или дурно — то в четверг, вероятно, увидимся, дорогой Афанасий Афанасьевич. Приеду к Вам кислятина-кислятиной, — так и ждите. Нарочно предупреждаю Вас обо всех этих неприятностях» (Там же. С. 372. — Курсив Страхова).
14 Вл. Соловьев, среди прочего, писал Страхову из Москвы в январе 1884 г.: «А есть у меня и серьезная мысль: приезжайте-ка Вы, Николай Николаевич, на Пасху в Москву. / Ведь Вы уж давно хотели быть в Кремле на заутрени, и, кажется, еще не исполнили этого желания. Пасха этот год не ранняя, 8 апреля. Всё благоприятствует. Кроме Ивана Великого, Вы, вероятно, найдете в Москве и Льва Толстого. Будут и dii minorum gentium [менее важные, второстепенные боги, лат.]. Фет остается здесь на Святой, чтобы не христосоваться со своими мужичками. Итак, до недалекого свидания. Не правда ли?» (Соловьев. Письма I. С. 22).
15 См. п. 322.
16 См. п. 321.
308
324
Толстой — Отрохову
Получил ваше письмо, Николай Николаевич, и обрадовался даже вашему почерку на конверте1. Так давно уже ничего не знаю про вас2. Приезжайте к нам3; мы вам все будем очень рады. Обо многом будем говорить с вами4. У меня много воды утекло с тех пор, как не видался с вами. Я думаю, то же и для вас.
Так до скорого свиданья.
Л. Толстой
1 Прочитав это обращение от 18 марта (п. 323), Толстой отметил в дневнике: «Письмо от Страхова — совершенно пустое» (запись от 20 марта 1884 г. — Юб. Т. 49. С. 71). Толстой ответил через неделю. См. запись в дневнике под 27 марта: «Написал (...) Страхову...» (Тамже. С. 73).
2 Ранее Страхов писал Толстому 12 декабря 1883 г. (п. 319).
3 Страхов приехал в Москву 5 апреля и остановился в доме А. А. Фета на Плющихе. В тот же день он виделся с Толстым в его доме в Долгохамовническом переулке (см.: Гусев. Летопись I С. 577).
4 Биограф Толстого отмечает ежедневные встречи со Страховым в период с 5 по 11 апреля, причем 8, 9 и 10 апреля Толстой посещал дом Фета на Плющихе, где Страхов проживал во время пребывания в Москве. После свидания и беседы 5 апреля в дневнике Толстого впервые появилась запись с резкой оценкой Страхова: «Пришел Страхов (...) Та же узость и мертвенность. А мог бы проснуться» (Юб. Т. 49. С. 78). Дальнейшие записи дневника отражают впечатление Толстого от общения со Страховым: «Дома. Страхов. (...) С Страховым разговор о дарвинизме. Мне скучно и совестно. Он — бедный — серьезно, разумно опровергает бред сумашедших. Напрасно и бесконечная работа» (запись от 7 апреля. — Там же. С. 79). Через день Толстой поздно вечером читает статью Страхова (вероятно, о спиритизме) и остается недоволен: «Праздно, на все случаи не надоказываешься. А анализировать приемы науки не нужно, кто любит науку, тот их знает, как знает законы равновесия человек, к[оторый] ходит» (Там же. С. 80) На следующий день Толстой корректирует свою оценку: «Дома (...) Страхов (...) Разговор Стр [ахова] интересный. Я его понял...» (запись от 10 апреля. — Там же. С. 80). Утром 11 апреля Толстой отправился на Плющиху: «...ходил к Страхову. Хорошо говорил с ним и Фетом» (Там же. С. 81). Записи за последующие 27 марта 1884 г. Москва
Печатается по: ОР ГМТ.Ф. 1.№7457. Л. 1. На л. 1 помета Страхова: «28 марта 1884».
Впервые опубликовано по копии: Юб. Т. 63. С. 162.
Датируется по записи Толстого в дневнике (Юб. Т. 49. С. 73). Ответ на п. 323.
309
дни сведений о дальнейших встречах не содержат. В Петербург Страхов уехал, вероятно, 11 или 12 апреля (ср.: письмо А. А. Фету от 15 апреля 1884 г. — Фет. Переписка II. С. 372). Сочувственный мнениям Страхова отголосок этих бесед о дарвинизме слышен в суждении Толстого об английских позитивистах, записанном И. М. Ивакиным в дневнике летом следующего, 1885 г. в Ясной Поляне: «Трое: Льюис, Милль и Спенсер, — сказалЛ[ев] Николаевич], — для меня — ничто. Они, не хорошо сказать, но... это почти идиоты, только владеющие пером. (...) Сюда, пожалуй, можно причислить и Дарвина. Теория его не нова. Кювье системой своей дал возможность разобраться во множестве научных фактов. Дарвин предложил метод для научного исследования, и для зоолога он имеет значение. Но как он может относиться к вопросам нравственным, к философии, не понимаю. Данилевский, написавший книгу „Россия и Европа“, страстно любящий заниматься естественными науками, написал книгу, и, по словам Страхова, от Дарвиновой теории после его возражение не останется ничего» (запись от 20 июля 1885 г. — ЛН. Т. 69, кн. 2. С. 59. — Курсив источника).
325
28 апреля 1884 г. Санкт-Петербург
Страхов — Толстому
Посылаю Вам, бесценный Лев Николаевич, через милейшего Якова Петровича1, две книги. Одну Вы читали — «Les évangiles»2, и потому Вам приятно будет (так я предполагаю) иметь ее всегда у себя. Другая — одна из книжек Шарпантье; это часть того, что заключается в «Livres Sacrés»3, но этот томик приятнее читать: он невелик и крупно напечатан.
Вот какие у меня расчеты угодить Вам.
Простите, что до сих пор не написал Вам и даже не поблагодарил Вас за гостеприимство4. Покаюсь, что я поторопился сперва написать Фету5 и Аксакову6. Но был наказан: оба мои письма пропали.
Теперь пишу наскоро. Однако вот известие, которое мне поручили Вам передать, именно Ор[ест] Федорович] Миллер7. Он узнал наверное, что «В чем моя вера?» здесь налитографировано и продается по 4 р. в пользу Исполнительного Комитета8. Так как Миллер не любит анар310
хистов, то его это возмутило. Он огорчился и тем, что Вы и Ваше имя сплелись с этими делами.
Признаюсь, и меня это иногда огорчает. Судя по всему, Вы в тысячу раз благодушнее меня, и потому судите снисходительнее. Но мне так живо представляется, как эти люди берут у Вас только то, что им по вкусу, и не делают ни шага по пути, который Вы указываете. Они выходят из другой исходной точки, а потому всегда разойдутся с Вами, хотя бы оба пути и пересеклись где-нибудь.
Всей душою желаю Вам здоровья и всего хорошего. Софье Андреевне мое усердное почтение.
Ваш Н. Страхов
1884.
28 апр[еля]. Спб.
Р. 5. К удивлению, я до сих пор здоров и поездка была мне очевидно полезна9.
Печатается по: ОР ГМТ. Ф. 1. № 106/2. Л. 1-1 об.
Впервые: ТС ПСП II. С. 668-669.
1 Поэт Яков Петрович Полонский побывал у Толстого в Москве 30 апреля и 2 мая 1884 г. (Гусев. Летопись I. С. 581). О встрече с Полонским Страхов писал А. А. Фету 15 апреля (см.: Фет. Переписка II. С. 372).
2 Возможно, речь идет о новом переводе Ф. Ааменнэ (Lamennais, Hugues Félicité Robert de) текстов четырех Евангелий на французский язык с его подстрочными примечаниями и размышлениями в конце каждой главы: Les Évangiles. Traduction nouvelle avec des notes et des réflexions à la fin de chaque chapitre par F. Lamennais. Paris, 1846. Страхов читал эту книгу в 1880 г. (см. п. 276 и примеч. 7 к нему). Менее вероятно, что речь может идти о другом издании: Renan, Erneste. Les Évangiles et la seconde génération chrétienne. Paris, 1877 («Евангелия и второе поколение христианства» — пятая книга из цикла: «История первых веков христианства»). О чтении этой книги Страхов извещал Толстого еще в сентябре 1877 г. (п. 165), а в ответ на запрос писателя о возможности получения им новых книг Ренана (п. 172) заметил по поводу его последнего исследования: «Как добыть пятую [книгу Ренана], „Les Évangiles“, не знаю; впрочем, в ней мало существенного» (п. 174). Вряд ли Страхов стал бы дарить Толстому эту 311
книгу через семь лет с таким проникновенным комментарием, зная его критическую оценку историко-религиозных трудов Ренана («детская шалость» — п. 193).
3 Вероятно, имеется в виду одна из книг «восточной мудрости», выпущенная парижским издательством Шарпантье (Paris: Charpentier, Éditeur; 29, rue de SeineSaint-Germain) и вошедшая позднее составной частью в подготовленный французским синологом Гийомом Потье (Guillaume Pauthier) сборник «священных книг Востока» (Livres Sacrés de l’Orient). См.: Confucius et Mencius. Les Quatre Livres de Philosophie moral et politique de la Chine, traduits de Chinois par M. G. Pauthier. Paris: Charpentier, Éditeur, 1841 (Конфуций и Менцзы. Четыре книги нравственно-политической философии Китая, пер. с кит. Г. Потье. Париж: Шарпантье, издатель, 1841); вошло в: Les Livres sacrés de l’Orient, comprenant Le Chou-King, ou Le Livre par Execellence; Les Sse-Chou ou Les Quatres Livres Moraux de Confucius et des Ses Disciples; Les Lois de Manou, Premier Législateur de l’Inde; Le Koran de Mahomet. Traduits ou revus et corrigés par G. Pauthier. Paris: Société du Panthéon Littéraire, MDCCCLII» («Священные книги Востока, включающие Шу-Кинг, или Главную книгу; Ссе-шу, или Четыре книги морали Конфуция и его учеников; Законы Ману, первого законодателя Индии; Коран Магомета. Переведены, пересмотрены и исправлены Г. Потье. Париж: Общество Пантеон Литературы, 1852»). Книга с пометами Толстого представлена в яснополянской библиотеке. (Описание ЯПб. Т. 3, ч. 2. С. 163. № 2531).
4 См. примеч. 3 и 4 к п. 324.
5 Письмо Страхова к А. А. Фету от 15 апреля 1887 г. сохранилось. См.: Фет. Переписка II. С. 372-373.
6 Письмо Страхова к И. С. Аксакову пропало. Аксаков писал 23 апреля: «Спешу ответить Вам, дорогой Николай Николаевич, что письмо Ваше, о котором вы пишете, до меня не дошло, и мне этого страшно жаль» (Аксаков — Страхов. Переписка. С. 106).
7 Историк литературы, критик и публицист либерально-славянофильской ориентации Орест Федорович Миллер.
8 Трактат Толстого «В чем моя вера?» (1884) не был допущен к публичному обращению решением Главного управления по делам печати от 14 февраля 1884 г., что не помешало его распространению в рукописных списках и отлитографированных копиях. См.: Юб. Т. 23. С. 304-465. Выручка от продажи такого рода экземпляров могла поступать на поддержку революционного движения, в частности в пользу Исполнительного комитета террористической организации «Народная воля».
9 Пребывание в Москве благоприятно сказалось на самочувствии и душевном расположении Страхова. Об этом он писал Фету из Петербурга: «Вернулся я здоровее гораздо, чем уехал, и это меня очень утешило. (...) я у Вас истинно освежился. Боюсь, что здесь скоро опять скисну» (письмо от 15 апреля 1884 г. — Фет. Переписка IL С. 372). Однако и через месяц Страхов смог известить своего корреспондента о вполне благо312
получном существовании: «Сам я, к удивлению своему, здоров; этому помогает мое ничего неделанье — самое здоровое занятие, когда оно не скучно» (письмо от 12 мая 1884 г. —Там же. С. 373).
326 Страхов — Толстому
Прощайте, бесценный Лев Николаевич. Еду в Германию для того, чтобы немножко полечиться, послушать много (если удастся) музыки Вагнера и поболтаться по разным городам среди красивых мест и всякого благоустройства европейской жизни1. Когда в хлопотах перед отъездом2 я бросил читать, я вдруг почувствовал, что голова у меня свежее и что у меня много времени3. Однообразие моей жизни сделалось, наконец, мне мучительно, и я думаю, что поездка очень освежит меня. Если дело пойдет хорошо, то я останусь за границей месяца четыре, а не то вернусь и через два4. Планы мои не удались; я не успел написать до отъезда ни «Прогулки в Константинополь и на Афон»3, ни письма «Опять о спиритизме»6. Цели у меня высокие, дорогой Лев Николаевич. В «Прогулке» я хотел разговориться о монашеской жизни7, а в «Спиритизме» я всё пытаюсь поймать границу человеческого познания8. Но я так устал, что меня эти важные вопросы не довольно подымают и возбуждают. Здоровье мое, в сущности, очень не дурно, хотя я всё продолжаю худеть9.
Читали ли вы последнюю книжку Вл. Соловьева, «Религиозные основы жизни»?10 Она занимала меня в последнее время. Это почти полная параллель Вашему истолкованию Евангелия и книге «В чем моя вера?». Его понимание Христа и Церкви есть лучшее изо всего, что мне случалось читать у чистых церковников11. Он мне открыл самую внутреннюю сторону Церкви, и хотя я не признаю этой постановки дела, но начал понимать, в чем состоит великая привлекательность этого учения и какими силами создалось то историческое явление, которое называется Цер20 июня 1884 г. Санкт-Петербург
313
ковью12. С величайшею жадностью услышал бы я Ваше мнение об этом предмете. Прочтите книжку Соловьева — право, она того стоит. Много мест слабых, даже очень слабых; например, толкование молитвы Господней и то не вполне состоятельно13. Но есть страницы бесподобные, ясно и глубоко определяющие стремление душ, выразившееся в религиозной истории. Так как эта история строилась не отвлеченно, а самою жизнью человечества, то мы теперь потеряли ее смысл, и напр[имер], такой человек, как К. Н. Леонтьев, живший и на Афоне и в других монастырях и очень ревностный к учению Церкви, не понимает самых существенных вещей этого дела14. Кстати: прощаясь со своим председателем А. И. Георгиевским15, я с удивлением услышал, что он теперь погрузился в изучение христианства. Он полагает, что для того, чтобы иметь свое мнение в этих вопросах (как, например, Вы имеете), нужно обладать величайшею ученостью, читать Отцов Церкви, все исследования текстов Писания и т. д. Я уже послал ему из П[убличной] библиотеки несколько книг по этому предмету, которых он просил. Но, увы! всякий берет из книг только то, что есть в нем самом, может только развивать существующие задатки, а не приобрести новые. Вполне новое дается только жизнью, да и то есть только развитие собственной души человека.
Посылаю Вам при этом две книги: одну в подарок, другую на время. Meadows16 хотя некрасив по наружности, но очень интересен по содержанию и, кажется, пользуется большим авторитетом, судя по ссылкам, которые на него делают ученые. Lao-tsea17, как видно, нелегко получить, — впрочем, я сомневаюсь в Ваших книгопродавцах. Поблагодарите от меня Александра Михайловича18 за письмо, — я как раз получил его сегодня. Скажите, что из книг, им оставленных, ни одна не пригодилась для Публичной библиотеки, а рукопись годится и оценена в 5 рублей. Жалею об Саше19, но очень радуюсь, что вести вообще такие хорошие. Душевно желаю, чтобы великое таинство, которое теперь совершается в Ясной Поляне, совершилось благополучно20. Конечно, мне очень хоте-
314
лось бы побывать и в Ясной. Но ласковые приглашения только трогают меня и почти всегда напоминают, что я их не стою. Как будто было прежде во мне что-то, по чему можно было желать моего присутствия, но это что-то теперь пропало. Сердечный мой поклон всем и помнящим и непомнящим меня (непомнящих ведь у Вас много). Простите, не будьте строги ко мне и отзовитесь, если напишу Вам из-за границы.
Ваш всею душою
Н. Страхов
1884.
20 июня.
Спб.
1 О планах Страхова совершить заграничное путешествие см. примеч. 7 к п. 319. Сообщая А. А. Фету в письме от 22 мая о своем намерении «освежить» себя поездкой в Германию, Страхов не без горечи замечал: «Что будет со мной дальше, не знаю — и это отчасти моя беда. (...) увы! Нет уже ни прежнего любопытства, ни отваги. Хотел бы сидеть на месте и — киснуть, Вы скажете? А что же мне другое делать?» (Фет. Переписка II. С. 374. — Курсив Страхова). В июне решимость Страхова отправиться за границу настолько окрепла, что он уже смог высказаться о поездке более определенно: «...еду — в последний раз и (...) есть у меня желанье — упиться до конца музыкой Вагнера. Но есть и существенная причина — полечиться в Эмсе от бронхита. (...) Горе мое в том, что до сих пор я не чувствую надлежащей охоты к поездке, которую уже давно задумал. Да и всякая поездка — лотерея: какова-то будет погода? Кого-то встречу? Надеюсь на одно — пройдет моя усталость, а может быть пройдет и болезнь. (...) Еду послезавтра (...) Может быть, я хорошо отдохну, поздоровею и наберусь мыслей. Мне приятно думать об удобстве и благоустроенности тамошней жизни» (письмо от 20 июня 1884 г. — Там же. С. 375). Последний раз Страхов был в Германии весной 1875 г., на обратном пути из Италии в Россию.
2 О своих занятиях в последний месяц перед отъездом Страхов писал Фету: «Сам я всё в больших хлопотах. Уже месяц здесь живет Н. Я. Данилевский, и я испытываю такое впечатление, как будто уехал из Петербурга и живу на Южном Берегу: ничего не делаю, болтаю и слушаю, или в гостях или принимаю гостей» (письмо от 22 мая 1884 г. — Там же. С. 374). В июне Страхов посетил в Пустыньке под Петербургом Вл. Соловьева и провел день в этом имении гр. С. А. Толстой (Бахметевой).
Печатается по: РО ИРЛИ. Ф. 302. Оп. 2. Ед. хр. 300. Л. 70-71.
Впервые: Современный мир. 1913. №10. С. 313-315.
315
3 Об этой перемене в своих привычках Страхов писал и Фету еще по возвращении из апрельской поездки в Москву: «...приехал и бросился, по обыкновению, на свои книги, которые после разлуки всегда кажутся вкуснее. (...) Вообще думаю больше писать и меньше читать — не будет ли так веселее кончать свои дни» (письмо от 15 апреля 1884 г. — Там же. С. 372).
4 Страхов уехал в Германию 22 июня и возвратился в Петербург 18 сентября 1884 г.
5 Приняться за написание очерка, посвященного пребыванию «на Востоке», Страхов рассчитывал сразу же после возвращения из Москвы, в середине апреля, о чем тогда же известил А. А. Фета: «Теперь примусь за „Прогулку в Константинополь и на Афон“. Хочется написать небольшой рассказ об этой поездке» (письмо от 15 апреля 1884 г. — Там же). Вероятно, в течение следующего месяца Страхов продолжал обдумывать материал или делать первые наброски, намереваясь завершить работу к середине июня. Однако около 20 апреля в Петербург из Крыма по делам издания своего труда «Дарвинизм» приехал Н. Я. Данилевский, и Страхов не смог уделять должного внимания написанию воспоминаний. В письме от 12 мая он извещал Фета: «Затем скоро сюда приехал Н. Я. Данилевский, и за разговорами и всякими свиданиями у меня вовсе не стало времени» (Там же. С. 373). Судя по всему, до конца мая работа мало продвинулась вперед: к захватившим Страхова хлопотам, в том числе по службе, опять прибавился упадок нравственных сил. Несмотря на твердое желание «прибодриться» и довести начатое до конца (см. письмо Фету от 22 мая. — Там же. С. 374), дописать статью не удалось и в июне. «Как раз перед отъездом вздумал я написать свою „Прогулку в Константинополь и на Афон“ и не успел! Я остановился на том месте, где собрался бранить Перу [западная часть города. — Сост.]. (...) А всё, мне кажется, от моей службы, так что я готов хоть в отставку...» (письмо Фету от 20 июня 1884 г. — Там же. С. 375. — Курсив Страхова). Таким образом, за недолгое время работы Страхову удалось довести изложение только до начала третьей (из семи, составивших окончательный текст очерка) главы, что представляет собой чуть более четверти объема мемуара в его печатном варианте. Увлеченный другими творческими начинаниями, в том числе полемикой о спиритизме (см. примеч. 6), Страхов вынужден был отложить реализацию замысла на более позднее время. Очерк был опубликован под другим названием только в 1889 г. См.: Воспоминание о поездке на Афон (1881 г.). — РВ. 1889. Октябрь. С. 120-144; вошло в: Страхов. Воспоминания и отрывки. С. 1-47.
6 Письмо под названием «Опять о спиритизме» в печати не появилось. В 1884 г. Страхов опубликовал только статью: Еще письмо о спиритизме (В редакцию «Нового времени»). — НВ. 1884. 1 февр. № 2848. Подробнее об этом см. примеч. 12 к п. 322. Решившись отвечать на возражения оппонентов, Страхов предполагал завершить работу в два месяца, однако почти накануне своего отъезда за границу он известил 316
и А. А. Фета, что «письмо о спиритизме не написано» (письмо от 20 июня 1884 г. — Фет. Переписка II. С. 375).
7 Значительная часть очерка «Воспоминание о поездке на Афон» действительно посвящена описанию пребывания Страхова в русском Свято-Пантелеймоновом монастыре, знакомству с другими православными обителями Святой горы, их бытом и насельниками. Само написание мемуара, т. е. более позднее возвращение Страхова к оставленной на продолжительное время теме, связано с оживлением его интереса к ней после полученного известия о кончине столь запомнившегося своим редким душевным расположением и высоким духовным обликом игумена монастыря о. Макария (Сушкина). В вводной главе он признавался, что впечатления от посещения Афона и общения с настоятелем обители явились для него самым памятным событием всей поездки, а личность о. Макария стала для него «самым чистым и несравненным по красоте воплощением того духа, которым живет вся Афонская гора» (Страхов. Воспоминания и отрывки. С. 2). Судя по всему, своим описанием Страхов стремился опровергнуть устоявшееся мнение о монашеской жизни, как о безотрадном затворническом бытии, лишенном сознания красоты окружающего мира и теплых человеческих чувств. Ср.: «Статья будет маленькая, и мне хочется только высказать одну мысль, о той радости, которую можно найти в монашестве и которая так и светилась в о. Макарии» (п. 405). Поездка на Афон — не первое свидетельство внутреннего притяжения Страхова к феномену монашества. Отправляясь весной 1875 г. в свое заграничное путешествие, он признавался Толстому: «Скажу Вам откровенно — еду смотреть природу. (...) Люди меня не интересуют, разве монахи, — я все-таки думаю, что там есть настоящие, хорошие» (см. п. 91; ср. также п. 93). Много позднее Толстой как-то в беседе заметил о Страхове: «Как посмотрю я на Николая Николаевича, быть бы ему архиереем; хороший бы архиерей вышел» (запись в дневнике В. Ф. Лазурского от 4 августа 1894 г. — ЛН. Т. 37-38. С. 479).
8 Проблема философского осмысления вопросов познания волновала Страхова не только в связи с полемикой о существе спиритизма, но и вследствие выявившего разногласия при обмене мнений на эту тему в переписке с Н. Я. Данилевским. Существо своего взгляда на соотношение опыта и умозрения в формировании фактов познания Страхов кратко изложил в письме своему корреспонденту от 3 марта 1884 г.: «Об отношении умозрения и опыта. (...) Какую роль играет умозрение? (...) этот вопрос меня постоянно занимает (...) Нет никакого сомнения, что умозрительный вывод, когда он сделан правильно, есть истина и всегда будет подтверждаться опытом. Так, закон сохранения вещества и закон сохранения силы были найдены a priori (...) С другой стороны, чисто опытного познания не существует; во всяком познании есть умозрительный элемент, делающий его познанием. (...) Во всяком случае необходимо изучить ту диалектику, которой постоянно подвержен наш ум, и не принимать за дан317
ные опыта то, чтб нами вносится в опыт (...) диалектический элемент, дающий ему стройность, чем подкупается ум. Опыт же сам по себе всегда хаос и безобразие. (...) Вообще взгляды мои изменились в том смысле, что стали определеннее. Например, мышление и познание человека есть настоящее мышление и познание, так что не только житель других планет, но и сами ангелы идут в мышлении и познании тем самым путем, как человек; но как далеко идут те и другие, этого не знаю и почти равнодушен к этому вопросу, лишь бы идти, лишь бы знать, что под ногами твердо» (РВ. 1901. Март. С. 129-131. — Курсив Страхова).
9 Это внешнее изменение в облике Страхова Толстой отметил в дневнике-сразу же после первого свидания с ним 5 апреля: «Пришел Страхов. Он похудел» (Юб. Т. 49. С. 78).
10 Сочинение Вл. С. Соловьева «Религиозные основы жизни» (М.: Университетск. тип., 1884. — Позднее, с 3-его изд.: «Духовные основы жизни»). Соловьев работал над книгой в 1882 - 1884 гг., публикуя отдельные главы произведения виде самостоятельных статей в повременных изданиях. В феврале 1884 г. Страхов интересовался в письме ходом творческих занятий Соловьева, на что последний отвечал 2 марта: «Вы желаете знать о моих занятиях. Печатаю две книжки: 1) о Достоевском, часть которой вновь написана, и 2) „О религиозных основах жизни“ — об остальных своих трудах умолчу, так как они еще лежат в портфеле с позолоченной надписью: сборник неоконченного... » (Соловьев. Письма I. С. 18). Вероятно, Страхов получил экземпляр книги от автора, охотно дарившего в то время вновь выходившие сочинения своему корреспонденту (ср.: Соловьев. Письма II. С. 116). В библиотеке Толстого в Ясной Поляне имеется 2-е издание «Основ религиозной жизни» (М., 1885) из собрания Л. Ф. Страховой — жены толстовца Ф. А. Страхова. Некоторые пометы в книге атрибутируются как принадлежащие (предположительно) Толстому (Описание ЯПб. Т. 1, ч. 2. С. 252. № 2946).
11 Этот вопрос рассматривался Соловьевым в Предисловии и в главе «О Церкви» (Ч. 2, гл. 2). Основу своего взгляда он кратко изложил в следующих словах Предисловия: «Церковь сама по себе в своей истинной сущности представляет божественную действительность Христа на земле. Но в лице Христа Божество сочетало с собою и чисто человеческое и природное начало. Это сочетание трех начал, совершившееся в лице духовного человека Иисуса Христа единично, должно совершиться собирательно в одухотворенном через Него человечестве. Чисто человеческая свободная стихия общественной жизни, представляемая государством, и природная стихия этой жизни, представляемая народом или землею, должны быть внутренно связаны или согласованы с божественной стихией, представляемой собственно Церковью. Церковь должна освящать и чрез посредство христианского государства преобразовывать всю естественную, земную (или земскую) жизнь народа и общества».
318
12 Позднее Страхов повторил эту мысль в письме к И. С. Аксакову от 12 декабря 1884 г., придав ей расширительное звучание за счет сравнения с религиозными взглядами Толстого, на что он только намекнул в комментируемом обращении. Ср.: «Л. Н. Толстой и Вл. Соловьев были для меня очень важны в этом деле. Толстой очень плохо пишет всё, что у него касается отвлеченного изложения христианства; но его чувства, которых он вовсе не умеет выразить и которые я знаю прямо по лицу, по тону, по разговорам, — имеют необыкновенную красоту. В нем много всего; но я поражен и навсегда останусь пораженным его натурою, христианскими чертами его натуры. И меня покоробило то, что врагов нельзя любить-, но ведь он постоянно договаривается (ради спора) до противоречий, преувеличений и т. д. Между тем самая мысль верна, т. е. Христос, конечно, предписывал любить иноплеменников; вспомните самаритянина. В „Изложении Евангелия“ рядом с натяжками бездна проницательности и правды, подсказанной сердцем. Так что то, что для других безобразие, для меня полно смысла и поучения. / Соловьев мне очень дорог, потому что разъяснил мне понятие Церкви. Он один настоящий церковник, т. е. не только утверждает, что вне церкви нельзя спастись, но и ясно понимает, почему это так. Его мнений я вовсе не разделяю, не могу разделять, и он мне только уясняет и закрепляет то противоречие, которое лежит между моими мыслями и общепринятыми верованиями» (Аксаков — Страхов. Переписка. С. 120. — Курсив Страхова).
13 На эту тему Соловьев рассуждал в главе «О молитве» (Ч. 1, гл. 1).
14 К этому времени К. Н. Леонтьев предпринял несколько попыток войти в монашескую жизнь: около года провел среди афонских монахов — с конца июля 1871 до (с перерывом) августа1872 г.; в августе 1874 г. побывал в Оптиной пустыни; в ноябре 1874 г. поступил послушником в Николо-Угрешский монастырь под Москвой, где оставался до мая 1875 г. Следующее приближение к монашеству произойдет уже в мае 1887 г., когда он вновь отправится в Оптину пустынь, где и поселится при монастыре в снятом доме с ноября. Приняв здесь тайный постриг в августе 1891 г., Леонтьев окончит свое земное поприще в Троицко-Сергиевой лавре (похоронен в Черниговском скиту Лавры). Основные воззрения на христианство изложены Леонтьевым в статьях «О всемирной любви» (в связи с речью Ф. М. Достоевского на Пушкинских торжествах в Москве; 1880) и «Страх Божий и любовь к человечеству. По поводу рассказа гр. Л. Н. Толстого „Чем люди живы?“» (1882). Личное знакомство Толстого с Леонтьевым состоялось в 1878 г. Страхов и Леонтьев, знакомые с 1860-х гг., расходились во мнениях по многим религиозным, философским и этическим вопросам, хотя были по взглядам «на 2/3 единомышленники» (Леонтьев К. Н. Поли. собр. соч. и писем. СПб., 2021. Т. 12, кн. 3. С. 28).
^Председатель Учёного комитета и член Совета министра народного просвещения Александр Иванович Георгиевский, сподвижник М. Н. Каткова. Ср. его характе319
ристику в воспоминаниях близко знавшего его современника: «...он был и честен, и трудолюбив, и умен, но ум его был чересчур тяжеловесный, а по натуре своей он уже с молодых лет представлял собой тип порядочного педанта; неприятно было в нем крайнее самомнение, непоколебимая уверенность, что только он один способен овладеть каким угодно делом вполне основательно, хотя эта мнимая основательность состояла в том, что иногда без малейшей нужды и с упоением погружался он в море ненужных мелочей и подробностей» (Феоктистов Е. В. Воспоминания. С.174-175). Георгиевский оставил подробные мемуары «Мои воспоминания и размышления», печатавшиеся в журнале «Русская старина» на протяжении 1915 (Февраль. Апрель - Июнь. Сентябрь - Декабрь) и 1916 (Февраль - Май) гг.
16 В библиотеке Толстого в Ясной Поляне хранится книга Томаса Медоуза (Meadows, Thomas Taylor) Ihe Chinese and Their Rebellions, viewed in connection with their national philosophy, ethics, legislation, and administration. To which is added, an essay on civilization in its present state in the East and West. London; Bombay, 1856. IX, 656 pp. (Описание ЯПб. T. 3, ч. 2. С. 61. № 2237). В дневнике Толстой делал записи о чтении книги Медоуза 9-13 июля (см.: Юб. Т. 49. С. 111-112).
17 См. п. 176,177 и примеч. 22 к п. 178. Обширными выписками из Лао-цзы открывается дневник Толстого за 1884 г. (см.: Юб. Т. 49. С. 62). Тогда же (в марте) Толстой предпринимал попытки перевода высказываний философа с французского языка (Там же. С. 63). Под 15 марта Толстой записал в дневнике: «Мое хорошее нравственно состояние я приписываю тоже чтению Конфуция и главное Лаоцы. Надо себе составить Круг чтения: Эпиктет, Марк Аврелий, Лаоцы, Будда, Паскаль, Евангелие. — Это и для всех бы нужно. Это не молитва, а причащение» (Там же. С. 68). В яснополянской библиотеке Толстого тексты Лао-цзы представлены в более поздних изданиях на английском языке (см.: ОписаниеЯПб. Т. 3, ч. 1. С. 624-632. № 1922).
18 Имеется в виду А. М. Кузминский.
19 Страхов высказывает сожаление по поводу болезни сына Кузминских Александра.
20 Ко времени написания письма «великое таинство», о котором упоминает Страхов, уже совершилось: 18 июня С. А. Толстая родила третью дочь — Александру. Об этом событии в семье Толстых Страхов узнал, вероятно, из письма А. А. Фета, которого еще в начале июля просил из Берлина: «Не забудьте написать, благополучно ли родила гр. Толстая... » (письмо из Берлина от 5-6 (17-18) июля 1884 г. — Фет. Переписка II. С. 377). Ответ Фета неизвестен, однако Страхов благодарил его за полученные известия в августе из Мюнхена (Там же. С. 379). О драматичных обстоятельствах появления на свет нового ребенка Толстых см.: Толстая. Моя жизнь I. С. 443-444; Юб. Т. 49. С. 104-105.
320
327 Стрдхов — Толстому
1 ноября 1884 г. Санкт-Петербург
Очень хочется, бесценный Лев Николаевич, сообщить Вам свои мысли и чувства, но не могу я выдерживать Вашего молчания1 — думаю об Вас беспрестанно, собирался не раз писать из-за границы2, но когда невольно представится, что ничего не узнаю о впечатлении своего письма, — мешкаю и ничего не пишу. Говорю не в упрек Вам, а себе в извинение.
Поездка моя была очень любопытна. Я прощался с Европой, с немецким искусством, с Западом и его просвещением, которого мне уже больше не видать3. Нынче я всё собираюсь умирать, всё кажется, что жизнь уже кончена — и чувствуешь ее пустоту, и ни за что не хочется взяться4.
Странные впечатления. Баварцы (в Байрейте, в Мюнхене, в Штутгарте) показались мне такими добрыми и милыми людьми, что я, кажется, люблю их больше русских и охотно бы там остался5. Вообще, я три месяца чувствовал себя космополитом, и, вернувшись домой, до сих пор не привык к патриотизму, вероятно, охладел к нему навсегда. Как хорошо смотреть на каждого человека как на брата и не разбирать, какого он племени и закона!6 Байрейт, по-моему, — чистая Аркадия: доброта, веселость, спокойствие — постоянные, ненарушимые!7 Берлин, разумеется, другое дело. Но он в своем роде стал чудом, вырос вдвое, обстроился и щеголяет удивительными удобствами, чистотою, порядком. Петербург мне кажется теперь грязен, неудобен, и вижу, что нам никогда не догнать, в этом отношении, Европы. И слава Богу! Может быть, заведется у нас что-нибудь лучшее, чем эти современные Вавилоны8.
Видя этот твердый склад жизни, наблюдая эти нравы, вполне окрепшие и передающиеся с молоком матери, я готов был отказаться от мысли, что этому обществу грозит опасность. Нет, оно проникнуто слишком хорошими и ясными началами. Они устоят, потому что видят опасность 321
и добросовестно стараются предупредить ее. Между прочим, я слушал политические речи Stöcker а9 (это христианский социалист, придворный проповедник). Дар речи — изумительный, но понятия посредственные, даже жалкие. Так, он выразил учение своей партии в таком кратком лозунге: Das Vermögen, die Arbeit, und Nächstenliebe*. Всё время я ждал, что он скажет что-нибудь о христианском учении, и немало был удивлен, когда любовь к ближнему оказалась на третьем месте!
Люди в роде Штёккера, конечно, не руководители, а только выразители разных застаревших мнений; но ведь все мнения высказываются, игра политической машины идет непрерывно, и главная нота все-таки раздается от времени до времени. «Зачем нам социал-демократия, — говорил этот же проповедник, — когда у нас социал-монархия?»
Среди удобств, порядка, правильного и легкого течения жизни, на меня неожиданное впечатление сделали кресты и распятый на них человек. Эти кресты в натуральную величину попадаются иногда на открытых местах, а в Мюнхене, в соборе, такой крест висит с высоких сводов внутри церкви10. Страшное изображение! Верно, я слишком много читал о Христе, что эта фигура получила для меня такую жизнь. И какой контраст со всею окружающею жизнью!
Кроме Берлина, везде я был почти одинок и забавлялся очень много покупкою книг: я пополнил свою библиотеку (главное — мистиками11) и теперь книг не покупаю, не охочусь за ними. Будет!12 Кстати: я купил там и Гризбаха13 и Лао-дзе, так что если Вы очень привыкли к Гризбаху, я могу Вам его прислать, а Лао-дзе, который у Вас, пусть у Вас и остается14.
Здоровье мое, кажется, поправилось — именно желудок, хоть я и не от него лечился. Остальное чуть ли не по-прежнему, и я еще похудел15. Но важнее — какая-то внутренняя перемена, новый период тоски, которого не стану Вам расписывать. Как неодолимо действует на чело-
Благосостояние, труд и любовь к ближнему (нем.). 322
века обстановка! Я потому и был везде и всем доволен за границей, что там я был свободен от привычной обстановки и потому мог свободно держаться известного душевного настроения. А здесь — овладевают мною привычные чувства; станешь от них отбиваться — и всё кругом станет противно и скучно16. Петербург я застал не в хорошем духе. Начальство успокоилось и развеселилось, чувствуя себя очень крепко на своих местах. Чувствуется всеобщая духота и ни единой струйки свежего воздуха17.
Ну вот, бесценный Лев Николаевич, хоть подобие рассказа о моей поездке. В настоящую минуту, чтобы встряхнуть себя, я решил написать статью об Вас, по поводу статьи Вогюэ18. Пишу потому, что тут будет и кое-что душеспасительное. Ни для чего другого у меня не хватает бодрости. В Эмсе начал преважное исследование о времени, числе и пространстве19; надеюсь, что после статьи об Вас буду его продолжать.
Но главное не в том — это я знаю. Простите меня за всё, в чем сочтете виноватым, и порадуйте несколькими словами. Когда-то Вы и бранили, и хвалили меня — как было это мне полезно! Мне всё кажется, что по мере того, как я подавляю в себе одни дурные стороны, нарождаются или появляются другие.
Простите, простите.
Ваш всею душою
Н. Страхов
1884.
1 ноября.
Спб.
Р. 3. У Кузминских я бываю каждую середу, обедаю; чем дальше, тем больше я на них радуюсь. Его я почти не знал, а он чудесный человек20.
1 Письма Толстого к Страхову с конца марта до конца ноября 1884 г. неизвестны.
2 Во время пребывания за границей Страхов поддерживал переписку с А. А. Фетом. См.: Фет. Переписка II. С. 376-380. Через месяц после приезда в Германию он Печатается по: РО ИРЛИ. Ф. 302. Оп. 2. Ед. хр. 300. Л. 108-109. Впервые: Современный мир. 1913. №10. С. 315-318.
323
писал поэту: «Молю Вас об одном; черкните мне несколько Ваших милых строчек. От Толстого я уже не надеюсь ничего получить и до сих пор не писал ему» (Там же. С. 379).
3 Ср. в письме к А. А. Фету от 20 июня: «...собираюсь за границу (...) еду — в последний раз...» (Фет. Переписка II. С. 375). Со временем Страхову удастся преодолеть упадок душевных сил; он побывает в Европе (в Германии — Эмсе, Мюнхене) в июне - августе 1893 г. (см. п. 485-489).
4 Вскоре по возвращении из-за границы Страхов вновь почувствовал физическое недомогание и упадок сил. О своем состоянии он писал 21 октября И. С. Аксакову: «Вот уже месяц как я дома, всё собирался писать к Вам — кругом, кругом виноват я перед „Русью“ и перед Вами. (...) У меня есть маленькое извинение — всё время мне не совсем здоровилось — теперь лучше. Но главная причина — у меня всё больше и больше пропадает охота писать. Всё кажется и недостаточным и ненужным» (Аксаков—Страхов. Переписка. С. 107).
5 Ср. в письме к Фету от 16 (28) августа из Мюнхена: «Столичный город Баварии и грязноват и беспорядочен; жители его чуточку бестолковы, но они очень добродушны, и мне приятно здесь жить» (Фет. Переписка II. С. 380). Об этом же впечатлении Страхов сообщил и А. Ф. Бычкову: «Живя в стране немцев, лучше понимаешь и их, и всё, что они делают. Мое глубокое уважение к Германии только усилилось и определилось. Пруссия поразила меня своей энергией. Баварию же я так полюбил, что готов был бы остаться в ней навсегда. (...) моя любезная Бавария (...) Она грязновата, неудобна и чуть-чуть бестолкова; жизнь в ней не кипит и не нарастает. Но она добродушна, проста, спокойна и хранит в себе порыв к высшему, к высочайшему» (письмо от 17 (29) августа 1884 г. — Цит. по: Аксаков—Страхов. Переписка. С. 108).
6 Об этом своем неожиданном психологическом «превращении» Страхов известил Фета еще в первом письме из Германии: «Переехавши границу, я вдруг почувствовал себя космополитом — и это приятное чувство. Я одинаково дружелюбно встречаюсь с немцем, жидом, поляком; нелепо и невозможно было бы жить на чужбине, не относясь ко всем просто как к людям, — разделение само собою исчезает, и отсутствие той непрерывной враждебности, которая отчасти всегда есть в патриотизме, дает душе более мягкое и спокойное настроение» (письмо от 5-6 (17-18) июля 1884 г. — Фет. Переписка II. С. 377. Ср. в письме к И. С. Аксакову от 21 октября: «Три месяца я был космополитом, таскался по Германии, якшался со всякими немцами и жидами, слушал оперы Вагнера, лечился, покупал книги и проч.» (Аксаков—Страхов. Переписка. С. 107).
7 В Байрейте Страхов провел около двух недель — с 7 (19) июля по начало августа. О своем пребывании в этом баварском городе он сообщал Фету: «Тут я три раза слушал „Парсифаля“ и очень доволен, хотя и обманулся несколько и в опере и в своей 324
музыкальной восприимчивости. Но сам Байрейт — какая прелесть! Жители его довольно безобразны, но так добры, просты, трудолюбивы и счастливы, что это чистая Аркадия» (письмо от 26 июля (7 августа) 1884 г. — Фет. Переписка II. С. 379). В этом же роде он описывал свое впечатление от жизни в Байрейте и А. Ф. Бычкову: «Байрейт, где я слушал „Парсифаля“, показался мне чистою Аркадиею. Доброта светится во всех глазах и на всех лицах; доброта и спокойная веселость стоит в воздухе. Сколько раз темные мысли, налетавшие на меня в одиночестве, исчезали без следа от ласковой улыбки и от неожиданного приветствия» (письмо от 17 (29) августа 1884 г. — Цит. по: Аксаков—Страхов. Переписка. С. 108). В греческой мифологии Аркадия — счастливая и беззаботная страна идиллических отношений.
8 В христианской традиции Вавилон — олицетворение показной роскоши и греха. Берлин — первый крупный немецкий город, где остановился Страхов во время путешествия. В столице Германии он провел две недели. О своих впечатлениях от увиденного он рассказывал Фету в письме от 5 (17) июля: «... как хорош Берлин и какие чудные у немцев порядки! С 1875 года он сильно переменился, и если так пойдет дело, то в 10 лет обратится в чудо, в новейший из Вавилонов. Мостовые — роскошь, асфальт или торц, так что колес не слышно, как будто все ездят на резиновых колесах. Новые кварталы — загляденье — ряды дворцов; тут на каждой улице два ряда лип, широкие тротуары и асфальт. Они задумали весь Tiergarten [Зоологический сад, нем.] оставить не тронутым, так что он со временем будет внутри города, и называют его Berlins Lungen [лёгкие Берлина, нем.], Lorlogischer Garten [лорингологический сад, нем.] — удивительное гулянье; да гулянье здесь без конца и везде — какое множество народа, какой порядок, и, наконец, какое оживление! Люди в самом деле гуляют, а не совершают скучную церемонию. Правда, всё это — сплошное мещанство, по виду, по манерам, по голосу; я не видел ни единого изящного человека. Все носят усы, как Бисмарк, вследствие чего открываются ужасные скулы. (...) Однако же память о Берлинском конгрессе меня огорчает. Берлинцы очень с ним носятся. В Panopticum он представлен в восковых фигурах в натуральную величину и с удивительным совершенством. В чудесной Ратуше он изображен на громадной и превосходной картине. Очевидно, Пруссия гордится тем, что стояла во главе Европы, а следовательно, всего мира, а мы тут были сконфужены, как школьники, забравшие слишком много воли» (Фет. Переписка II. С. 376). Столь же восторженно описывал Страхов усовершенствования быта германской столицы в письме к А. Ф. Бычкову от 17 августа: «Берлин растет не по дням, а по часам, и скоро станет одним из Вавилонов. Я любовался тысячами удобств, которые здесь являются от совместного жительства громадного числа людей, — мостовыми, омнибусами, магазинами, выставками, пивными и пр. и пр. Новые улицы усажены деревьями, а дома их глядят дворцами, и всё там — окна, двери, лестницы — всё так умно, удобно, красиво!(...) Из красот природы я видел до сих пор, конечно, только 325
Байрейт и Эмс. Не считаю птиц, которых нашел в Берлине в зоологическом саду, а еще меньше носорога и бегемота, которых удалось мне, наконец, увидеть живыми. Но для меня, как для зоолога, и это впечатление было сильное» (цит. по: Аксаков—Страхов. Переписка. С. 108).
9 Адольф Штёкер (Stöcker), немецкий протестантский теолог и политический деятель, придворный германский проповедник (1874-1890); основатель Христианско-социальной рабочей партии (1878; с 1881 г. — Христианско-социальная партия), депутат рейхстага. Стал известен своими энергичными речами против крупного капитала, либерализма и иудаизма как вероисповедания. Заявлял о себе как о борце за чистоту христианской цивилизации и религии. Конечной политической целью партии и поддерживавшего ее массового движения средних слоев населения объявлял создание теократического сословного государства национально-христианской ориентации. Выступал против отделения Церкви от государства. Сторонник патерналистской системы регулирования отношений между наемными работниками и предпринимателями, проводник идеи социальных реформ, вводимых имперским правительством при участии капитала. На раннем этапе деятельности партии считал ее основной задачей воздействие на рабочую массу с целью предотвращения распространения в ней леворадикальных теорий и политического влияния укреплявшейся социал-демократии.
10 Вероятно, имеется в виду расположенное под куполом скульптурное распятие в Мюнхенском соборе Пресвятой Девы (Фрауэнкирхе). Страхов охотно посещал католические и протестантские храмы, специально ездил в Страсбург и Кёльн «ради соборов». Он писал А. Ф. Бычкову из Германии: «Из созданий искусства, конечно, всего больше меня занимал Вагнер. Это тоже нечто чудовищное и чудесное. (...) Потом — предметами умиления были для меня и церкви, и картины, и статуи. В Берлине — пергамские мраморы и молящийся мальчик, здесь в Мюнхене — собор, картины Пилоти, Мурильо. Я говорю об умилении, а не о простом удовольствии, или любопытстве, для которых предметов очень много» (письмо от 17 августа 1884 г. — Цит. по: Аксаков— Страхов. Переписка. С. 109. — Курсив Страхова). Н. Я. Данилевскому он признавался: «Самое сильное впечатление, однако, произвел на меня Кёльнский собор. Конечно, это первое здание в мире не только по величине, но и по красоте; тут красота соответствует величине, а величина такова, что больше уже не нужно, уже было бы напрасно и излишне» (РВ. 1901. Март. С. 133. — Курсив Страхова). Вспоминая зимой в Петербурге о своей недавней поездке, Страхов заметит в письме к П. Д. Голохвастову, что в Германии он «погнался за теми крупными и высшими произведениями искусства, которых здесь не увидишь и не услышишь» (письмо от 10 декакбря 1884 г. — Цит. по: Там же. С. 108).
11 Страхов стал увлекаться мистиками в 1870-е гг., после того, как почувствовал неудовлетворенность в рационализме науки. Погружение в мир идей «настоящего» ми326
стицизма и повышенное внимание к духовной практике мистиков связаны, вероятно, с переживавшимся им тогда (в начале 1880-х гг.) нравственным переломом, существо которого он попытался в общих чертах изложить А. А. Фету в письме от 24 сентября 1884 г.: «Вы меня браните за легкомысленные суждения; но я хочу осудить Вас за нечто более важное. То беспокойство, та скука (говоря самым прозаическим выражением), которыми Вы страдаете, часто меня трогали и заставляли задумываться. В чем корень этого зла?(...) если Вам постоянно нужны люди для насыщения Вашей души, то людей везде много, от них уйти невозможно. Как ни совестно, а поставлю Вам себя в пример. Иногда и я бываю похож на человека. За границей часто приходилось попадать надолго в одиночество, и алкание людей пробуждалось во мне. Но я насыщался разговорами с хозяйкою, с служанкою, с первым встречным в пивной или в книжной лавке. Не все ли люди равны? (...) Нужно достигнуть равнодушия (не холодности), и тогда всё явится в гораздо лучшем свете, чем теперь, когда мы стремимся упорно к наилучшему. Общение с людьми, конечно, есть высшее из живых наслаждений. Сумели же люди так испакостить свои отношения, что встречаются обыкновенно с недоумением, с подозрением, едва могут смотреть друг на друга и даже старательно показывают, что они друг для друга ничего не значат. Они вечно сбиваются в кучу, но, по-видимому, только для того, чтобы смеяться друг над другом или высокомерничать, или кокетничать, но не для того, чтобы войти в хорошие человеческие отношения и, следовательно, получить истинное наслаждение. И так как от нас зависит, бросить всё остальное и искать только этих отношений — то каждый сможет добыть себе этой пищи столько, сколько пожелает. Она придет сама собой, стоит только отбросить путы и перегородки, в которых мы так усердно щеголяем. / Ну, простите, говорю я Вам всё это не потому, чтобы умел всегда исполнять эти правила, но потому, что действительно испытал на деле их верность. Скуки я не знаю — в силу равнодушия. Идеал этого состояния — дойти до того, чтобы было всё равно, с кем жить, где жить, завтра ли, послезавтра умереть. Одного я еще не мог усвоить: мистики говорят, что можно заниматься какими угодно работами, жить в величайших хлопотах и однако вполне сохранять и спокойствие и внутреннюю деятельность духа. Верю, что так и должно быть, но сам пока всё заботливо выгадываю себе свободное время, чтобы можно было почитать и подумать. / За границей я и читал мистиков, и покупал все их книги, какие мог достать. Эта дорога мне уясняется всё больше и больше, но, пожалуйста, не думайте, что настоящая мистика похожа на обыкновенное понятие, с которым употребляется это слово» (письмо от 24 сентября 1884 г. — Фет. Переписка II. С. 382. — Курсив Страхова). Еще более откровенно объяснял он свою наклонность к мистицизму в письме к И. С. Аксакову от 12 декабря 1884 г.: «...несколько исповедуюсь перед Вами, так как Вы вызываете меня на исповедь. / Вы угадали, я еретик с известной точки зрения,- я считаю неверным то, что говорит Пастырское послание, что „никакая добродетель, никакой подвиг“
327
не может спасти человека, сделать его святым вне церкви. Это жестокие слова, которых Послание ничем и не объясняет. Я думаю, Бог милостив и его отношение к людям проще, понятнее, общее, теснее, глубже. Сознаюсь, я мистик, я даже спешу Вам в этом признаться — так мало случаев сообщить свои мысли кому-нибудь разумеющему! / Несколько лет уже я чувствую, что блуждания мои по морю книг оканчиваются, что путь найден, что во всех книгах в сущности говорится одно и то же. Я узнал высшую цель, к которой нужно стремиться, узнал, как готовиться к смерти, не боясь ее, а радуясь ей — чего же больше? / Ноя ведь — головастик; меня теперь больше всего занимает теоретическая разработка этих взглядов, до которых я дошел (...) я питаю большое отвращение ко всяким ненормальным психическим состояниям, и в физике я самый упорный рационалист. Если бы для мистицизма нужно было приходить в неистовство или добиваться непременно случая подержать чёрта за рога — я никогда бы к нему не обратился. Однако в этих стремлениях есть смысл, и когда я понял их корень и их ошибку, мне открылась радостная возможность оставаться совершенно трезвым человеком и предаваться, насколько есть ума и сил, лучшим мыслям и чувствам, какие знало человечество. Человек я слабый и грешный, но мне думается, нет — не думается, а я уверен, что знаю, в чем сила и что такое святость. (...) Соловьев иногда называет себя мистиком; но он не мистик, а теософ. Он предается всяким построениям божественного мира и судеб человечества. По-моему, это радость обманчивая, хотя и очень увлекательная. Всё это образы, которые ниже своего предмета. Их не нужно; нужно стремиться без них стать Богом. Вы примете это за богохульство, а это есть даже в одной русской книге — в беседах Симеона Нового Богослова, и это значит только — устранить всё, разделяющее нас от Бога. Что тогда бывает с душою, нельзя иначе и выразить. / В нем (не о нем, как переводят) мы живем и движемся и существуем — вот вкратце вся мистика» (Аксаков—Страхов. Переписка. С. 119-120. — Курсив Страхова). Эту тему Страхов затронул в шестой главе своего очерка «Французская статья об Л. Н. Толстом» (Русь. 1885.12янв. № 2. С. 13-18; вошло в: Страхов. H. Н. Критические статьи об И. С. Тургеневе и Л. Н. Толстом (1862-1885). 2-е изд. СПб., 1887. С. 458-484), где утверждал, что искание «пути к Богу» есть «вековечное стремление» человечества, а мистицизм представляет собой «лучший цвет этого стремления», поэтому «всякий истинный христианин есть мистик» (Там же. С. 18; Там же. С. 481). См. также важное для понимания Страховым мистицизма его письмо Толстому от октября 1887 г. (п. 381).
12 Библиотека Страхова вызывала восторженные отклики современников. В. В. Розанов, сам неутомимый приобретатель книг, так описывал это уникальное собрание: «Удивительное было количество, красота и смысл книг. Тут я видел (впервые и единственный раз в жизни) „Principia“ [„Начала“, лат.] Ньютона, в первом и во втором (друга Ньютона) издании; и editiones principes [основные издания, лат.] Джордано Бруно. 328
Особенно один шкафик, возле дверей: „первые издания“ всех величайших философов мира. Книги занимали всё поле стен страховской квартиры (и прихожей), — с выбросом всех, довольно многочисленных и бесплатно им получаемых, журналов (продавал с весу татарам). Всё это были исключительно классики ума человеческого, и — поэты (но уже с меньшей полнотой и выбором)» (Розанов В. В. Собр. соч. [Т. 13]: Литературные изгнанники.... Переписка В. В. Розанова с Н. Н. Страховым. С. 116. Примеч. — Курсив Розанова). Выразительное определение собранным Страховым книжным сокровищам дал и его первый биограф: «Библиотека, им оставленная, оказалась слишком энциклопедичной, чтобы какое-нибудь отдельное лицо пожелало ее приобрести, но в то же время отлично могла бы удовлетворить любознательность целого научного учреждения» (цит. по: Белов С. В., Белодубровский Е. Б. Библиотека Н. Н. Страхова. — Памятники культуры. Новые открытия: Письменность. Искусство. Археология: ежегодник. 1976. М., 1977. С. 134; ср. также: Никольский Б. Н. Н. Страхов. Критико-биографический очерк. СПб., 1896. С. 7; Грот Н. Я. Памяти Н. Н. Страхова. К характеристике его философского миросозерцания. М., 1896. С. 10). Исток своей библиофильской страсти Страхов объяснял неутолимой жаждой знания: «Я постоянно чувствовал недостаток образования и потому решил: лет десять ничего не писать и учиться. Я стал покупать книги (это была моя охота, развлечение) и проводил вечера за чтением философов, богословов, поэтов — всего важнейшего во всемирной литературе» (Никольский Б. Н. Н. Страхов. Критико-биографический очерк. С. 49). Однако деятельно отдаться своему собирательскому увлечению Страхов смог только с 1873 г., когда с поступлением на казенную службу в Публичную библиотеку его материальное положение более упрочилось.
13 См. примеч. 13 кп. 318.
14 См. примеч. 14 к п. 326.
15 Находясь в Германии, Страхов регулярно извещал корреспондентов о ходе своего лечения и состоянии здоровья. Ср. в письме из Берлина: «Здоровье мое, конечно, очень недурно, потому что нет ничего здоровее, как ничего не делать и много ходить; кажется, я даже начинаю полнеть». Попав на воды, Страхов извещал: «В Эмсе тоже очень хорошо. Красивое, тихое и веселое место. К несчастию, воды действуют на меня сначала не очень хорошо: голова не свежа и желудок очевидно перемогается. Но глаза мои прелестны и, кажется, обнаруживается уже облегчение моих катарров». Из Мюнхена он писал: «Здоровье мое недурно, а главное, что меня утешает — глаза...» (письма А. А. Фету от 5-6 (17-18) июля, 26 июля (7 августа) и 16 (28) августа 1884 г. — Фет. Переписка II. С. 377, 379, 380). Вернувшись из поездки, Страхов писал своей племяннице: «Три месяца я ездил по Германии, и лечился, и музыку слушал, и видел чудеса архитектуры, и покупал книги. Всё бы хорошо, но здоровье мое едва ли поправилось...» (письмо от 10 ноября 1884 г. — Цит. по: Аксаков—Страхов. Переписка.
329
С. 109). В конце декабря он сообщал Н. Я. Данилевскому: «Здоровье мое средственное. Морозы, как всегда, мне очень помогли, и я как-будто наладился на прежний лад» (PB. 1901. Март. С. 135).
16 О своем расположении духа после возвращения из-за границы Страхов сообщал Н. Я. Данилевскому в письме от 1 ноября: «Виноват я перед вами, дорогой Николай Яковлевич, да и перед многими и многими: приехавши в Петербург, я сначала очень обрадовался полному покою и удобству и отдыхал; а потом, когда отдохнул, стал скучать, что всё по-старому, или даже хуже старого. Так я почти ничего не делал и ни к кому не писал больше месяца. / Не хорошо задавать себе такие праздники, как я себе задал в эти три месяца» (PB. 1901. Март. С. 132).
17 Об этом же Страхов рассуждал в письме к Н. Я. Данилевскому от 1 ноября: «В Петербурге, как мне мерещится, всё затихает и замирает, я ни в чем вкусу не нахожу. В большой силе, говорят, Михаил Островский. Власти вообще чувствуют себя по-новому, очень твердо, а потому возвращаются на старые пути, и выходит всё то же, что и было (...) К[атков] первый человек в государстве, а куда и как идти, он не знает. И никто не знает; только рады, что места, на которых сидят, тверды» (Там же. С. 134). В конце года он смог подтвердить свои наблюдения и сделанные ранее выводы об официальной жизни в столице: «В Петербурге тихо, так мне кажется; частные дела и случаи делаются предметом бесконечных толков, а общие мысли не в моде, или лучше, в моде голое порицание всего, что когда-то было прогрессивным» (письмо от 30 декабря 1884 г. — Там же. С. 135).
18 Страхов писал статью о посвященном Толстому очерке французского критика М. де Вогюэ «Современные русские писатели. Граф Лев Толстой» (Les écrivains russes contemporains. Le comte Léon Tolstoï. — Revue des Deux Mondes. 15 juillet 1884). Прежде чем приступить к исполнению замысла, он счел нужным известить о нем редактора «Руси», где предполагал поместить свой материал: «Наконеця надумался (...) написать Вам статью о литературе и прошу Вашего одобрения относительно темы. Хочется написать об Л. Н. Толстом по поводу статьи Вогюэ, которую читал еще в Эмсе. Статья очень хороша и затрогивает такие интересные предметы — религию, нигилизм, простой народ, искусство и пр. Набрели разные мысли, которые постараюсь изложить умненько. Вы имеете все поводы опасаться пристрастия с моей стороны кА. Н. Толстому, но я постоянно буду иметь эту опасность в виду» (письмо И. С. Аксакову от 21 октября 1884 г. — Аксаков—Страхов. Переписка. С. 107). Аксаков живо откликнулся на предложение и в ответном письме энергично поддержал намерение Страхова: «Очень обрадовало меня письмо Ваше, дорогой Николай Николаевич. Приятно знать, что Вы в России. (...) Еще приятнее известие, что Вы собираетесь писать, хотя и утверждаете, что к писанью всё более и более пропадает охота. / Пожалуйста, пишите, и пишите именно на избранную Вами тему, т. е. по поводу статьи де Вогюэ. Хотя я и не в такой степени пристрастен к Толстому, как Вы, но это не помеха. У Вас все-таки будет обилие 330
умных мыслей» (письмо от 24 октября 1884 г. — Там же. С. 111). Не получая ожидаемого материала, Аксаков через месяц решается напомнить Страхову о его намерении: «Да где же, наконец, Ваша статья, любезнейший Николай Николаевич?» (письмо от 28 ноября 1884 г. — Там же. С. 114). В начале декабря Аксаков побывал в Петербурге и посетил Страхова, который передал ему рукопись материала. Об этом Страхов сообщил в письмах к П. Д. Голохвастову (от 2 января 1885 г. — РО ИРЛИ. № 11060/ XVII617. Л. 34 об.) и А. А. Фету (от 4 декабря 1884 г. — Фет. Переписка II. С. 387). Ознакомиться со статьей Аксаков смог только в Москве, откуда писал автору: «По возвращении в Москву сегодня я тотчас прочел Вашу статью. Она прекрасна и пойдет, я надеюсь, в 1-й номер „Руси". Ранее не может идти уже потому, что, как Вы увидите и сами, между последним 14-м листком и листком, Вами не переписанным, нет связи. Тут очевидный пропуск» (письмо от 9 декабря 1884 г. — Аксаков—Страхов. Переписка. Там же. С. 115). Помимо «технической» неувязки, быстрой публикации материала не способствовали возражения редактора на отдельные утверждения Страхова, в частности, касающиеся мистицизма в христианстве (подробнее замечания Аксакова см.: Там же. С. 115-117). Страхов учел пожелания редактора и 12 декабря выслал в Москву исправленный вариант рукописи: «Очень радуюсь, что Вы не отказываетесь печатать мою статью. Я боялся отказа (...) Соглашаюсь на изменения и пошлю Вам листки обратно с новым текстом в тех местах, которые Вы указали» (Там же. С. 119). Под окончательным вариантом статьи стоит авторская дата завершения работы над ней — 6 декабря 1884 г. Дабы устранить возможные недоразумения и неясности в понимании своего текста, Страхов решается более подробно и откровенно изложить в письме к Аксакову свои взгляды на мистицизм , не ограничиваясь одной лишь областью познания, за пределы которой он не позволял себе выходить в открытой печати. В этом же письме он замечал: «Вы можете себе легко представить, что на меня иногда нападает большой зуд писания и высказывания этих мыслей (...) Но думаю ограничиться исследованиями чисто философскими (...) В других же писаниях я всё сворачиваю на любимую мысль, но в тех пределах, какие у нас положены. (...) Таков Ваш сотрудник, многоуважаемый Иван Сергеевич! Вы можете положиться на меня, что я не перейду границы, но от Вас мне не хотелось скрывать моих мыслей. Меня очень возмущает, что писать всё, что думаю, мне нельзя и что все мои вылазки будут приняты за подтверждение того, чего я не признаю. Но какое же средство выйти из этого положения? Только материалисту и атеисту можно у нас преудобно писать — все поймут, для других умственных путей у нас нет и категорий, и нет возможности народиться этим категориям. Мы величайшие недотроги, каких еще не было во всемирной истории» (Там же. С. 120-121). Чуткий Аксаков по достоинству оценил высказанное с предельной искренностью «задушевное слово» и ответил Страхову пространным письмом, в котором заметил: «В Вашем profession de foi, если можно так выразиться, нет ничего, что бы нас разделяло, кроме того, может быть, что Вы слишком много отводите места для 331
истин „безусловных" хотя бы в мире физическом, — ибо и сей последний ведом нам лишь по внешности. Эти „безусловные истины" суть только констатирование внешнего факта, но не самой сути факта. Сущность вещей, таинства жизни даже березового листочка Вы все-таки не знаете и знать не будете. Да и так называемое „чудо" — чудо только с людской точки зрения, с близорукой» (письмо от 23 декабря 1884 г. — Там же. С. 122. — Курсив Аксакова). После выяснения возможных идейных сомнений препятствием для скорого опубликования статьи стал ее большой объем, на который уже не доставало места в собранном первом номере «Руси», о чем Аксаков известил Страхова в письме от 25 декабря: «На всякий случай, глубокоуважаемый Николай Николаевич, спешу предупредить Вас, что, может быть, статья Ваша в 1-й № и не пойдет. Из нее вышло 6 полос, что составляет более трети всего №, а так как в 1-м № предполагается некоторое большее разнообразие, и уже имеется одна большая статья по вопросу внутреннего устройства, затем есть разные actualités [злободневные материалы, фр.], не терпящие отлагательства, то шести полос нет возможности в 1-м № уделить. Если бы разделить статью на две половины, то I и II можно бы поместить в 1-м, а остальную во 2-м; но я на это не решаюсь без Вашего согласия, да и боюсь повредить цельности статьи» (Там же. С. 125). Страхов не возражал на предположение редактора: «Что Вы не хотите разбивать мою статью — мне очень приятно, а когда напечатаете — мне почти всё равно» (письмо от 29 декабря 18843 г. — Там же. С. 126). Материал был помещен в следующем номере газеты. См.: Страхов Н. Французская статья об Л. Н. Толстом. — Русь. 1885.12янв. № 2. С. 13-18; вошло в: Страхов H. Н. Критические статьи об И. С. Тургеневе и Л. Н. Толстом. ( 1862-1885). 2-е изд. СПб., 1887. С. 458-484.
19 Неоконченная статья «О времени, числе и пространстве» была опубликована после смерти Страхова (PB. 1897. Январь. С. 69-81; Февраль. С. 264-278; вошло в: Страхов. Философские очерки. С. 401-430).
20 А. М. Кузминский, муж младшей сестры С. А. Толстой, состоял со Страховым в переписке (см. 5 его писем к Страхову: Толстой и о Толстом: Материалы и исследования. Вып. 3. М., 2009. С. 254-260). Несмотря на отдельные критические реплики, Толстой в целом тепло отзывался о свояке. См., например, записи о нем в дневнике 1884 г.: «Кузмин[ский] тяжел. Очень мертв». «Многого я очень требую от моих близких. В них шевелится совесть, в лучших, и то хорошо. — Александр] Михайлович] очень таков». «Саша Кузм[инский] положительно добр и хорош» (записи от Т1 мая, 24 и 30 июня. — Юб. Т. 49. С. 98,107, 108). Однако о Кузминских под 27 мая 1884 г. он кратко записал: «У них ненависть». На следующий день он вновь отметил: «Кузм[инские] ссорятся» (Там же. С. 98). О взаимоотношениях в семье Кузминских см. примеч. 12 к п. 319.
332
328
Толстой — Страхову
Дорогой Николай Николаевич.
Дня не проходит, чтоб не вспомнил о вас с угрызением совести. Сейчас в середине работы1 вспомнил и пишу два слова только, чтобы покаяться перед вами и просить не сердиться. На последнее письмо2 не ответил под предлогом, что не знал адреса; но я мог писать в Пуб [личную] библиотеку]. — Пожалуйста, не отдаляйтесь в душе от меня. А я чувствую себя ближе к вам, чем прежде. Отзовитесь словечком.
Толстой
Вы сами любите — много баить не подобает, а я всё больше и больше люблю.
1 Толстой вернулся из Ясной Поляны в Москву 3 ноября и продолжил работу над трактатом «Так что же нам делать?», начало написания которого относится еще к 1882 г., когда писатель находился под свежим впечатлением от знакомства с жизнью городской нищеты в период своего участия в переписи населения в Москве в конце января. Оставленный в свое время без продолжения, этот материал вновь привлек внимание Толстого в апреле - мае 1884 г., когда у него появилась мысль поместить свои размышления в журнале «Русская мысль». В ноябре редактор журнала С. А. Юрьев подтвердил свою готовность напечатать «статью» Толстого в январском номере издания. Однако написание трактата затянулось: 2 декабря Толстой извещал В. Г. Черткова: «Нынче пишу статью [о] переписи. Она томит меня, пока не разрожусь ею» (Юб. Т. 85. С. 121). К концу года было подготовлено 20 из 40 глав печатного текста. По цензурным причинам трактат в журнале «Русская мысль» не появился. Работа над произведением была продолжена в 1885 г. Подробнее об этом см.: Гусев IV. С. 316-317, 345-347,358,366-382,391-393,402; Юб. Т. 25. С. 740-839.
2 Толстой отвечает на неизвестное письмо Страхова.
27 ноября 1884 г. Москва
Печатается по: ОР ГМТ. Ф. 1 .№ 7458. Открытое письмо. Л. 1-1 об. На адресной стороне: «Петербург. Публичная библиотека. Николаю Николаевичу Страхову». Почтовые штемпели: «27 ноя[бря 18]84 Москва», «28 ноя[бря 18J84 С. Петербург». На л. 1 об. помета Страхова: «28 ноя[бря] 1884». Впервые по копии: /Об. Т. 63. С. 192-193. Датируется по штемпелю почтового отправления.
333
1883-
1884 (?) гг.
Москва
Печатается по: ОР ГМТ.Ф. 1.№5468. Л. 1-1 об. Впервые: Современный мир. 1913.
№ 12. С. 398. В/Об.:Т. 63.
С. 197-198. Приблизительная дата устанавливается по содержанию.
329 Толстой — Страхову
Дорогой Николай Николаевич.
Письмо это вам передаст Алексей Алексеевич, вам известный, Гатцук1, мой добрый знакомый. Он едет в П [етер] б [ур] г хлопотать о своих делах по цензурным запрещениям2. Мне кажется, что вы можете помочь ему советом, и знаю, что вы это захотите и можете сделать.
Любящий вас
Л. Толстой
1 Археолог и публицист А. А. Гатцук издавал с 1865 г. в Москве «Крестный календарь» — первый общедоступный «народный» календарь, расходившийся в отдельные годы стотысячными тиражами. Получаемые от продажи «Календаря» средства позволили Гатцуку основать (в 1875 г.) дешевую иллюстрированную «Газету Крестного календаря» (с № 43 — «Газета А. Гатцука») и завести в Москве собственную типографию, в которой, среди прочих, печатались книги А. А. Фета — обе части перевода трагедии И.-В. Гёте «Фауст», первая книжка сборника стихов «Вечерние огни».
2 Хлопоты А. А. Гатцука по делам издания газеты могли быть предприняты в 1883 и 1884 гг.: в 1883 г. «Газете Гатцука» было воспрещено печатание частных объявлений; в марте и апреле 1884 г. газета получила от цензуры два предостережения «за предосудительное направление», а несколько позднее и третье — «за вредное направление». В 1887 г. газете была воспрещена розничная продажа (см.: Розенберг Вл., Якушкин В. Русская печать и цензура в прошлом и настоящем. Статьи... М., 1905. С. 197, 229-230). Кроме того, по распоряжению министра внутренних дел, с 8 октября 1887 г. издание газеты было приостановлено на восемь месяцев, однако возобновить выпуск газеты Гатцуку удалось только через год — 8 октября 1888 г., под предварительной цензурой. Комментатор первого издания переписки Толстого и Страхова Б. Л. Модзалевский поместил это обращение Толстого, как не имеющее бесспорных данных для отнесения к той или иной конкретной дате, между письмами конца 1880-х — начала 1890-х гг. Считаем более вероятным временем происхождения этой корреспонденции 1883 или, скорее, 1884 г. (Толстой пишет уже о нескольких «запрещениях»), так как цензурные претензии, вызвавшие категоричное временное запрещение выпуска газеты осенью 1887 г., не оставляли возможностей для хлопот по изменению решения министра внутренних дел, тогда как принятые в 1883 и 1884 г. против газеты «тех334
нические» меры воздействия еще позволяли надеяться на помощь влиятельного лица в облегчении участи издания. Обращаясь за содействием в этом вопросе к Страхову, Толстой мог рассчитывать на его дружеские отношения с К. П. Победоносцевым.
330
Страхов — С Л. Толстой
1885
Многоуважаемая Софья Андреевна,
29 марта 1885 г. Санкт-Петербург
Только дней десять тому назад я получил от Черткова1 корректурные листы «Так что ж нам делать»2, и вот уж больше недели как я всё пишу к Вам, и от старания написать побольше из того, что пришло в голову, и написать поумнее, не могу кончить3.
Главное вот в чем: Лев Николаевич чувствует сильнейшую потребность в нравственной жизни4, это так живо выражено, что было для меня очень поучительно, наполнило меня тем умилением, которое я всегда к нему чувствую. Он показывает, что обыкновенная благотворительность не удовлетворяет нравственного чувства, не содержит в себе настоящего добра, настоящего подвига5. Совесть у нас голодна, но мы не даем ей пищи, а стараемся обмануть ее и не насытить, а только заглушить ее. Полная нравственная жизнь — это когда бы мы постоянно чувствовали, что исполняем некоторый долг, что жертвуем собою, живем не для себя, а для чего-то другого. Мы так не живем. Но жить для одного себя становится иногда так мучительно-противно, что люди нарочно отдают себя во власть других людей, нарочно придумывают себе лишения и всякие ограничения.
Лев Николаевич рассказывает, как он разочаровался в благотворительности, перешел все степени разочарования. Это чудесно! Он желал бы настоящих добрых дел, где нужны — любовь, жертва, труд. Подавать милостыню, говорит он, — только вежливость6; как это верно и как метко выражено! И все другие отношения между бедными и благотво335
рителями у него указаны с удивительной правдою. Да, всё это — далекодалеко от братской, христианской, истинной любви! Чувство страдания и искания, проникающее весь рассказ Л. Н., трогает и поражает.
И он верно указывает на одну из главных трудностей, мешающих нам утолять жажду нравственных дел. Между людьми существует постоянно разделение на слои и кучки. Одну причину разделения, имущество, Л. Н. разбирает подробно7. Конечно, эта причина действует сильно и становится всё больше и больше главною. Но действуют и другие причины; вернее сказать, что люди хватаются за всевозможные поводы, чтобы отделиться от других, стать хоть на волосок выше и держаться на этой высоте. Тщеславие есть глупейшая из страстей, хотя, по мнению Саллюстия8, человек им-то и превосходит других животных. Градации между людьми возникают беспрерывно и составляют главное занятие и утешение разумных жителей нашей планеты.
Поэтому братство и всякие добрые отношения между нами очень трудны. Л. Н. чудесно рассказывает, как люди бедные, и потому равные, помогают друг Другу. Им ничто не мешает обнаружить естественную доброту. И еще глубже пошел Л. Н. Он указывает, что не может делать добро тот, кто сам испорчен; да и получить добро, принять помощь испорченный не может. Большинству несчастных нельзя помочь иначе, как исправив их; требуется пример, любовь, перемена мыслей и чувств. Как же это сделать, не имея нравственной силы, не ведя нравственной жизни? Деньгами нельзя благотворить, нужно благотворить душою9. По-моему, тут главный пункт дела, тут и есть исполнение слова: «Ищите прежде всего Царствия Божия, и всё остальное прибавится Вам»10. Благотворители, которые этого не чувствуют, пожалуй, хуже тех, кто прямо отказывается от этих мнимых добрых дел, инстинктивно угадывая в них фальшь. Да и тот, кто из вежливости не отказывается, кто лицемерит сознательно, не так еще дурен, как злой богач, считающий себя благодетелем только потому, что дал денег.
336
Трудно стать настоящим благотворителем. Человеку богатому знатному свободному всего труднее, потому что ему не приходится ни терпеть, ни покоряться, ни жертвовать11. Л. Н. позавидовал проститутке, кормившей чужого ребенка12, и справедливо позавидовал. Разбросавши все свои деньги, можно не сделать ни единого доброго дела, равняющегося этому. Очевидно, у бедных поприще для добродетели несравненно шире, чем у богатых. Труд, заботливость, взаимная помощь, равенство, смирение, прощение, умение ничем не дорожить, кроме необходимого, — ко всему этому принуждает бедность, но душа человеческая, поднимаясь над принуждением, делает изо всего этого добродетели. Притом страдающие понимают друг друга, и у них есть действительные основания не быть взыскательными ни к другим, ни к самим себе.
Всего же поразительнее рассказ, как Л. Н. на масленице не нашел бедных15. Это показывает, что главный принцип, по которому устроена теперешняя жизнь, действует очень энергически и приносит хорошие результаты. Этот принцип — эгоизм. Мы обязаны не о других заботиться, а только каждый о самом себе. Вот новая заповедь, и на основании ее мы считаем обыкновенно бедняков — не исполнившими своей обязанности. Цель государства — охранять эгоизм каждого, ограждать его личность, имущество и свободу действий14. Таким образом, каждый с утра до вечера думает и старается о своем благосостоянии; вся эта страшная масса энергии пущена в ход и работает неутомимо. Поэтому никогда еще на земном шаре материальное благосостояние людей не было так велико, как теперь, никогда человечество не жило богаче и привольнее, причем, разумеется, выгода высших классов была значительнее, чем выгода низших, но и низшие не исключены вовсе из общего благополучия.
Эта новая жизнь имеет, однако, в себе язву, которая всё больше и больше разбаливается. Явилась скука и взаимное отвращение между людьми. Все связи порваны, каждый живет для себя. Встречаясь друг с другом, люди чувствуют недоверие и подозрение, показывают равнодушие или 337
опускают глаза. Есть семейства, превосходные во всех отношениях, в которых мне противно бывать, — до такой степени там всё ограничено семейным эгоизмом. Нигде нет ничего общего, публичного в настоящем смысле этого слова. Даже домов красивых не строят; вся безумная роскошь расточается внутри своих комнат. Между тем люди, как угорелые, сбиваются в кучи везде, где возможно. Всякие зрелища, гулянья, увеселения, ужасающие по своей нелепости и пустоте, имеют в виду — утолить голод души, который всех мучит. И публика на всё бросается с азартом. Наконец, множество вполне достаточных людей погружаются по уши в совершенно ненужные для них дела, голова и сердце у них так пусты, что они не могут жить без работы; они бросаются на всякие хлопоты, ревизии, комиссии, отчеты и т. п.
Вы видите, графиня, я сам начинаю вышивать узоры по канве Льва Николаевича. Его статья так глубоко берет и столько в себе содержит, что должна заставить всякого задуматься; меня она многому научила. Но в конце он указывает средства выйти из этих затруднений и задач, и я нахожу, что тут он сузил свой предмет и многие заключения его очень односторонни. Деньги, например, вовсе не зло сами по себе, точно так, как огонь и железо не зло сами по себе и могут быть употребляемы для добра и с пользою. Но деньги тяжелы для христианина, потому что удваивают и утраивают его обязанности. Разбросать свой капитал или свое имущество — это всё равно, что сломать огромный и прекрасно устроенный дом и раздать беднякам по кирпичу, или разбить на мелкие части громадной силы машину и раздать всем желающим по куску железа. Я слышал, что Льву Николаевичу предлагают отказаться от всяких прав на свои сочинения15. Это значило бы просто выбросить деньги на улицу и потом любоваться на драку и следить за тем, кому больше удастся захватить16.
Мысль моя та, что так просто добро не достигается, и Л. Н. сам это чудесно объяснил в своей статье. Нужно самому стать добрым, любящим, терпеливым, трудолюбивым, исполняющим всякий свой долг, готовым 338
на всякую помощь и нимало собою не дорожащим, и нужно уметь увлекать на этот путь и других. Тогда действительно всякие материальные бедствия стали бы быстро облегчаться и уменьшаться. Но уничтожение бедствий не должно быть нашею главною и прямою целью; прямая цель — нравственная: «ищите прежде всего Царствия Божия». Да это уничтожение есть притом дело невозможное. Я не могу вылечить больного, спасти от смерти умирающего, исправить пьяницу, возвратить рассудок сумасшедшему; но я могу и должен оказать им любовь и самоотвержение.
Та нравственная чуткость, которая проникает всю статью Л. Н., наполнила меня умилением, которое, впрочем, я и всегда к нему чувствую; между тем он иногда как будто забывает внутреннюю сторону дела. Расскажу Вам, как на духу, одно обстоятельство моей жизни. Вы знаете, я человек мягкий и бранюсь и кричу один раз в два года, или и того реже. Между тем в давние времена, хотя я был таким же мягким, со мною были странные вещи. Люди, которым случайно приходилось мне услуживать, половые в трактире, швейцары и т. п., иногда загорались ко мне такою ненавистью, что как они ни сдерживались, я не мог ее не заметить. Меня это ужасно поразило, и наконец я твердо убедился, что я обижал их взглядом, жестом, звуком голоса, обижал невольно, обнаруживая высокомерие, — порок, с которым я, конечно, родился и против которого мне пришлось долго бороться. Победил ли я его, не знаю.
Когда между слугою и барином существует добродушие, услуга не только не тяжела, а приятна; а в других случаях подвинуть пальцем тяжелее, чем целый день таскать двухпудовые кули. Не деньгами и не мускульным напряжением измеряется достоинство вещей и цена наших действий, нашего поведения.
Вот, кажется, я довольно наговорил, многоуважаемая графиня. По совести, я старался исполнить Ваше желание, притом с большим удовольствием и от мысли, что к Вам пишу, и от самого предмета, от мысли о том бесценном человеке, которого так люблю и которому столько обя-
339
Печатается по: ОР ГМТ. Ф. 47. № 39516. Л. 1-4 об. Конверт. Адрес на конверте: «Москва Долгохамовнический переулок, собственный] дом. Ее Сиятельству Графине Софье Андреевне Толстой от Н. Страхова, из Публичной Библиотеки». Почтовые штемпели: «29 мар[та] 1885 С. Петербург», «30 мар[та] 1885 Москва». Впервые: РВ. 1901. Июнь. С. 456-458 (черновой вариант; автограф см.: РО ИРЛИ. Ф. 287. Ед. хр. 51. Л. 1-5).
зан в моей внутренней жизни. Мне остается поблагодарить Вас за всё это и просить Вас написать мне, довольны ли Вы мною, как и почему.
В конце апреля, вероятно, я буду дни на два в Москве17; помню Ваш зов в Ясную Поляну, но скажите, удобно ли будет заехать туда в июне, в средних числах?18 В мае я думаю навестить Воробьевку19, а большею частью прожить в Крыму20. От заграничной поездки и от вод я теперь совершенно оправился21 и чувствую себя молодцом.
Простите, многоуважаемая графиня, и примите уверение в душевной преданности
Вашего покорнейшего
Н. Страхова
1885.
29 марта.
Спб.
1 Владимир Григорьевич Чертков, единомышленник, близкий друг и корреспондент Толстого, издавал за границей запрещенные произведения писателя; один из основателей и руководителей издательства «Посредник», поддерживал его деятельность собственными финансовыми средствами. Толстой познакомился с Чертковым в октябре 1883 г. в Москве (Гусев IV. С. 224).
2 Корректурные оттиски 20 глав статьи, предназначавшейся для журнала «Русская мысль»; разрешение на их воспроизведение в печати редакции получить не удалось (описание сверстанных полос см.: Юб. Т. 25. С. 798-799, 800; ср. также: Гусев IV. С. 316-317, 366-375, 381-382). Живший в Петербурге В. Г. Чертков занимался размножением не получивших цензурного одобрения произведений Толстого литографским и гектографическим способами. Широкое хождение имели также многочисленные рукописные копии с корректур статьи. Первое отдельное издание произведения (в незавершенной редакции) под заголовком «Какова моя жизнь?» выпустил в 1886 г. в Женеве М. К. Элпидин. Он же в 1889 г. отпечатал трактат Толстого в полном виде и с названием «Так что же нам делать?».
3 По просьбе С. А. Толстой, обратившейся за разъяснением взглядов, изложенных в статье «Так что же нам делать?», Страхов отвечал подробным разбором содержания известных ему глав трактата Толстого. В своих воспоминаниях С. А. Толстая замечала: «Меня мучило, мое несочувствие крайним мыслям Льва Николаевича, и я жаждала мнения умных и близких людей» (Толстая. Моя жизнь I. С. 472). Письменное обра340
щение С. А. Толстой к Страхову по этому вопросу неизвестно. Возможно, пожелание было высказано в устной форме во время встреч со Страховым в Петербурге, куда Софья Андреевна приезжала во второй половине февраля по делам издания собрания сочинений Толстого. Ср.: «Обедал с нами Страхов, очень тобой интересовался, я всё рассказывала и немного пожаловалась на тебя. Он очень тих, худ и кроток. Заеду к нему в Библиотеку, он приготовит кое-какие сведения по печати» (письмо Толстому от 20 февраля 1885 г. — Толстая С. А. Письма кА. Н. Толстому. С. 291). О свиданиях со Страховым на квартире у Кузминских, где в свой приезд (с 19 по 27 февраля) останавливалась С. А. Толстая, см.: Там же. С. 296; Юб. Т. 83. С. 481, 486. Судя по словам Страхова, он начал работать над ответом около 21 марта. Сохранился неоконченный черновик письма, который в начальной и заключительной частях существенно отличается от публикуемого текста. В первоначальном его варианте Страхов прямо ссылается на имевшую место между ним и С. А. Толстой беседу о статье Толстого. Ср.: «Только три дни тому назад получил я от Черткова корректурный оттиск „Так что ж нам делать?“. Читал я его с жадностью, как книгу, имеющую животрепещущий интерес, и с умилением, которое всегда чувствую в себе в отношении ко Льву Николаевичу. И теперь готов рассказать Вам всё, что сложилось на душе после чтения, разговора и размышлений. Прежде всего, чему я научился?» (цит. по: РВ. 1901. Июнь. С. 456- 458; вошло в: Страхов. Критические статьи II. С. 374-377). Дальнейший текст в основном содержании (при некоторых изменениях форм изложения) совпадает с публикуемым (кроме концовки письма; см. примеч. 14).
4 См. в гл. XII (Юб. Т. 25. С. 226).
5 Об этом идет речь в главах ХГУ-ХУ1 известной Страхову части трактата Толстого (Там же. С. 233-247).
6 У Толстого — «благопристойность», «учтивость» (см.: Там же. С. 240).
7 См. размышление на эту тему в гл. XIV трактата Толстого (Там же. С. 235-238).
8 Римский историк-моралист I в. до н. э. Гай Саллюстий Крисп высказал эту мысль в начале своего сочинения «О заговоре Катилины» (43-42 гг. до н. э.). Современный перевод см.: Гай Саллюстий Крисп. Сочинения. М., 1981. С. 5.
9 См. об этом в гл. VII, XV и XVI (Там же. С. 207,242-243,245-247).
10 Мф. 6: 33.
11 Ср. в гл. XVI рассуждение о благотворительности «владельцев кошелька с неразменным рублем» (Там же. С. 244-245).
12 См. гл. XV (Там же. С. 243).
13 Этот эпизод рассказан в гл. XI (Там же. С. 221-223).
14 На этом месте завершается содержательное соответствие текстов чернового автографа и отправленного письма. Первоначальный вариант далее имел следующее рассуждение, снятое Страховым в обращении: «Полное человеческое развитие разделяется на два главные периода. Сперва человек живет, потом он понимает свою жизнь. 341
Сперва бессознательное или полусознательное действие и проявление, потом сознание более и более ясное. Этот ход нашей судьбы имеет в себе нечто жестокое, но он необходим и он, несомненно, ведет нас от хорошего или дурного к лучшему или даже к наилучшему. Только тот вполне несчастлив, кто до конца не выходит из первого периода. И если во многих случаях можно сказать о людях, что в первую половину своей жизни они грешат, а во вторую каются в своих грехах, то и тут раскаяние часто приносит плоды, которых не всегда достигают безгрешные люди...» (Страхов. Критические статьи II. С. 377. — Курсив Страхова). На этом запись чернового автографа обрывается.
15 Такое суждение высказывал, в частности, собеседник Толстого известный философ Н. Ф. Федоров, обращавший внимание писателя на несоответствие его образа действий исповедуемому им убеждению по отношению к собственности: не признавая права владения как такового, Толстой, хоть и устранился от ведения имущественных дел, тем не менее, передал заботу о них жене и предоставил ей возможность извлечения доходов от переиздания его сочинений. Старшая дочь Толстого отметила в этой связи в дневнике 26 октября 1886 г.: «...сегодня был разговор у мама (...) о том, как папа осуждают за то, что он, написавши, что отрицает собственность, живет в роскоши. Он получает бесчисленное количество бранных писем за это...» (Сухотина-Толстая Т. Л. Дневник. С. 140).
16 В начале 1885 г. С. А. Толстая примет на себя заботы по управлению принадлежавшей писателю литературной собственностью и будет вести книгоиздательские дела мужа, в том числе по «Азбуке» («Новой азбуке») и «Русским книгам для чтения», печатанием и продажей которых до этого занимался муж племянницы Толстого Н. М. Нагорнов (Гусев. Летопись I. С. 593). В воспоминаниях С. А. Толстая относит это событие (или разговор о нем с мужем) к концу весны 1884 г. (Толстая. Моя жизнь I. С. 442-443). Практическая передача дел происходила несколько позднее. С. А. Толстая вспоминала: «Этой же осенью я взяла из рук Николая Михайловича Нагорного продажу „Новой Азбуки“ и четырех „Книг для чтения“ и стала сама этим заниматься, но сначала очень неумело и непрактично. Свалили книги в сарай нашего дома, даже не застраховали их, и выдавал книги книгопродавцам и публике молодой лакей (...) записывая кое-как на клочках бумаги./ Кто-то потом посоветовал мне взять артельщика, что я и сделала...» (Там же. С. 461). Юридические полномочия С. А. Толстой были, вероятно, несколько ограничены фактически сложившейся практикой отношений Толстого с книгоиздательством «Посредник», которые определялись писателем самостоятельно. От права собственности на свои произведения, созданные после 1881 г. (года его «духовного рождения»), Толстой публично откажется 19 сентября 1891 г. (Юб. Т. 66. С. 47). Несколько ранее — 17 апреля 1891 г. — он подпишет дарственную бумагу, по которой передавал свою имущественную собственность членам семьи (Сухотина-Толстая. Т. Л. Дневник. С. 222-223). См. также примеч. 1 к п. 309 и примеч. 4 к п. 338.
342
17 Откликаясь на настойчивое и «ласковое» приглашение Н. Я. Данилевского посетить его в имении Мшатка на Южном берегу Крыма, Страхов обдумывал планы на отдых весной-летом 1885 г. (см. письма А. А. Фету от 14 марта. — Фет. Переписка II. С. 393; Н. Я. Данилевскому от 4 апреля. — РВ. 1901. Март. С. 136). Его предположения предусматривали краткую остановку в Москве, во время которой он намеревался встретиться с Толстым (письмо Фету от 15 апреля. — Фет. Переписка II. С. 394).
18 Страхов осуществил это предположение, побывав в Ясной Поляне на обратном пути из Мшатки 13-20 июня. См. п. 334.
19 В имение А. А. Фета Страхов прибудет 26 апреля и останется в Воробьевке около двух недель. В начале апреля он извещал о своем намерении Н. Я. Данилевского: «План мой такой: выеду к 20 или к 21 и к 25 апреля буду в Воробьевке у Фета. Там проведу недели две (...) явлюсь к вам, значит, числа 10 мая» (письмо от 5 апреля. — РВ. 1901. Март. С. 136). О своих предполагаемых трудах Страхов писал Фету 15 апреля: «В Воробьевке думаю пресерьезно заняться Катуллом и Тибуллом, и так разгорелся, что даже не страшит меня опасность ссориться с Вами, может быть, вплоть до примирения за вечерним чаем» (Фет. Переписка II. С. 394). О помощи Фету в работе над текстами переводов стихотворений римских поэтов Страхов сообщал и Толстому (п. 334).
20 У Н. Я. и О. А. Данилевских во Мшатке Страхов провел около месяца. См. примеч. 1 к п. 334.
21 Имеется в виду поездка в Германию летом 1884 г. (см. п. 327). В этом же смысле Страхов писал о своем самочувствии и Фету: «Здоровье мое — хорошо (...) Главное — грудь моя очевидно поправлена Эмсом» (письмо от 14 марта. — Фет. Переписка II. С. 394).
331
Толстой — Страхову
31 марта 1885 г.
Москва
Сейчас прочел ваше длинное письмо жене1, дорогой Николай Николаевич, и так мне радостно было знать, что мои мысли и чувства так живо и верно отозвались в вас2. Вы не согласны с выводами — я в этом виноват, но не виноваты выводы неизбежные, и, Бог даст, и вы согласитесь с ними; но это всё равно. Я всё это время о вас думал. Во-первых, был в Крыму3 и поехал к Данилевскому4. Он очень мне полюбился и его 343
Печатается по: ОР ГМТ. Ф. 1.№ 7459.
Л. 1-2 об. На л. 1 помета Страхова: «31 марта 1885». Впервые по копии:
Толстой и о Толстом II. С. 46-47.
ВЮб.'.Т. 63.
С. 220-221.
Датируется по помете Страхова.
жена5. Разумеется, о вас много говорили, потом [читали] вашу статью о спиритизме6. Всё это для меня труизмы, но я люблю читать эти ваши статьи. И вот — ваше письмо, которое мне было очень, очень приятно7. Ведь я не дорожу тем, что есть моего в этой статье, а тем, что в ней есть божеского, и мне радостно видеть, что я не так еще попортил его, чтобы нельзя было узнать. И вы узнали. —
После Georg а8 я нашел еще одного американца, который мне очень понравился, это Theodore Parker9, проповедник 40-вых годов, унитарьянец, — посмотрите. А что за чудо — Бруно10 философ. Шопенгауер — того мощи не долго лежали под спудом, а этого — 300 лет, и вдруг открыли. Так было для меня по крайней мере. Третьего дня, кроме того, что я уже читал о нем11, Грот12, молодой одесский13, прислал мне свою книжку о нем14. Очень хорошо. — Мне и Грот нравится15. Я не знаю его, но он писал мне16. Какого вы о нем мнения? Какого вы мнения тоже о картине Репина?17 Я сейчас пишу ему. Мне она не скажу нравится, но я ее вполне одобряю, и высоко сравнительно с другими ставлю. —
Очень, очень радуюсь тому, что вы приедете в Москву. Я постараюсь уехать попозже, а вы постарайтесь приехать пораньше. — Загадывать так далеко не люблю, а в Ясной Поляне, как были, так и есть, и будем вам всегда все рады. Так и жена велит вам сказать и просит у вас прощенья за то, что не отвечает вам. Она говорит: он пишет такое умное письмо, а я так глупа. Главное, она в весенней суете18.
Вчера видели Ржевскую19; ее муж умер20. И она рассказывала, как он умирал. Болел 4 дня, почти не страдал, был неверующий — нравы вы его знаете — и последние слова его были: Ах, какое счастие! — Как это хорошо, что и добрым, и злым, и верующ [им], и невер[ующим], и умным, и глупым, и в жизни, и в смерти — всем равно — всем благо, не правда ли?
Обнимаю вас от души.
Ваш А. Толстой
344
1 Письмо Страхова к С. А. Толстой от 29 марта (п. 330).
2 Имеется в виду разбор Страховым в письме к С. А. Толстой статьи «Так что же нам делать?».
3 Поездка была вызвана необходимостью принять участие в тяжело больном (грудью) князе Л. Д. Урусове (о нем см. примеч. 21 к п. 284), близкие родные которого (трое братьев и три сестры) не имели возможности сопровождать его в Крым для поддержания сил (Юб. Т. 63. С. 211-212). Толстой выехал из Москвы 7 марта в имение родственников Урусова (по жене) Дятьково (Брянского уезда Орловской губ.; 40 верст от Брянска), где находился больной. В ночь с 11 на 12 марта Толстой и Урусов отправились поездом до Севастополя и далее на лошадях в Симеиз (20 верст от Ялты), в имение тестя Урусова С. И. Мальцова, куда прибыли 14 марта. Толстой оставался с больным до 21 марта и вернулся в Москву 23 марта (Гусев IV. С. 599-601; Юб. Т. 83. С. 485-502; Толстая. Моя жизнь I. С. 469-472).
4 Толстой посетил Н. Я. Данилевского в его имении Мшатка 19 марта, куда добрался из Симеиза пешком (часть пути, вероятно, была проделана верхом), и провел у него часть следующего дня. О впечатлении Данилевского от этой встречи с Толстым см. в п. 332. Толстой позднее рассказывал об этой поездке в одной из бесед (в записи Д. П. Маковицкого): «Л. Н. вспоминал, как был у Данилевского, друга Н. Н. Страхова, автора «России и Европы», в 20 верстах от Симеиза. Ехал верхом с провожатым-татарином. Месяц. Настало затмение. Л. Н. не знал, что оно должно быть. Татарин боялся, молился» (запись от 18 июля 1906 г. — ЛН. Т. 90, кн. 2. С. 178).
5 Ольга Александровна Данилевская (урожд. Межакова).
6 Имеется в виду статья Страхова «Физическая теория спиритизма (Письмо в редакцию)» (НВ. 1885. 26 февр. № 3232. С. 2-3; вошло в: Страхов Н. Н. О вечных истинах (Мой спор о спиритизме). СПб., 1887. С. 61-81). Страхов начал работать над материалом в конце декабря, о чем извещал Н. Я. Данилевского в письме от 30 декабря 1884 г.: «...я пишу. (...) [статью] о спиритизме напечатаю в Новом Времени, она на половине» (РВ. 1901. Март. С. 135. — Курсив Страхова). Через несколько дней он сообщил А. А. Фету: «...на праздниках трудился — написал отповедь Бутлерову по поводу спиритизма» (письмо от 2 января 1885 г. — Фет. Переписка II. С. 389). Однако отделка рукописи была завершена только 20 января. В конце месяца Страхов уточнил, обращаясь к Фету: «...я изготовил статью о спиритизме (пятую по счету)...» (письмо от 31 января. — Там же. С. 390).
7 То есть письмо Страхова от 29 марта.
8 Толстой высоко ценил общественно-реформистские идеи американского экономиста и публициста Генри Джорджа (George, Henry), поборника ликвидации частной собственности на землю и перевода ее в общее достояние. Писателя особенно привлекала мысль о национализации земельной ренты с целью покрытия ею государственных 345
расходов, а также в интересах обеспечения всеобщего материального достатка и установления социального мира. Толстой неоднократно высказывался на эту тему в статьях (например: «Великий грех», «Единственное возможное решение земельного вопроса», «Письмо к крестьянину» и др.). Своим впечатлением от знакомства с книгой Г. Джорджа «Прогресс и бедность. Исследование причин промышленного застоя и бедности» он делился с Л. Д. Урусовым в письме от конца февраля 1885 г.: «Я всё это время не писал ничего (...) Главное же, был поглощен чтением Georg а Progress and poverty, к[оторого] советую вам прочесть. Это удивительный писатель — писатель, который произведет эпоху» (Юб. Т. 63. С. 212). Более подробно он высказался о книге в письме к жене от 22 февраля: «...читаю своего Georg а. (...) Это важная книга. Это тот важный шаг на пути общей жизни, как освобождение крестьян — освобождение от частной собственности земли. Взгляд на этот предмет есть поверка людей. И надо прочесть Georg’а, к[оторый] поставил этот вопрос ясно и определенно. Нельзя уж после него вилять, надо прямо стать на ту или другую сторону. — Мои требования гораздо дальше его; но это шаг на первую ступеню той лестницы, по к[оторой] я иду» (Там же. Т. 83. С. 480-481). Познакомиться с печатными трудами Г. Джорджа Толстой советовал многим из своих знакомых и единомышленников. О захвативших писателя социально-экономических построениях реформатора С. А. Толстая сообщила Страхову во время своего пребывания в Петербурге в феврале 1885 г. В одном из писем она тогда же известила Толстого: «Обедала дома с Страховым, читала в твоем письме о George е, и он тебе напишет свое мнение, будет теперь читать» (Толстая С. А. Письма к Л. Н. Толстому. С. 296. — Курсив С. А. Толстой). Ответный отзыв Страхова на эту тему неизвестен; возможно, он поделился им позднее, во время личной встречи с Толстым в апреле. Труды Г. Джорджа в переводе на русский язык выпускались издательством «Посредник». В яснополянской библиотеке сохранилось 9 книг Г. Джорджа, изданных в 1884-1898 гг., две из них с дарственными надписями автора Толстому (см.: ОписаниеЯПб. Т. 3, ч. 1. С. 396-401. № 1194-1202).
9 На труды американского общественного деятеля-аболициониста, религиозного реформатора и «вольного» богослова-унитарианца (позднее — священника общины конгрегационалистов) Теодора Паркера (Parker, Theodore) обратил внимание Толстого в начале 1885 г. В. Г. Чертков, предложивший ему познакомиться с мыслями проповедника по сочинениям: «The Transient and Permanent in Christianity» (1841; «Преходящее и вечное в христианстве», англ.) и «А Discourse of Matters Pertaining to Religion» (1842; «Рассуждение о вопросах, относящихся к религии», англ.). В построениях Паркера Толстой нашел немало созвучного своим собственным мыслям — в частности, критику института церкви, отрицание христианской догматики и авторитета Библии, обличение существующего общественного строя, права собственности и проч. О своем впечатлении от его книг писатель сообщал жене 25 февраля: «Читаю: нынче нашел американского писателя религиозного, Паркера, и очень был счастлив 346
находить прекрасно выраженные свои мысли 20 лет тому назад». Тогда же он проявил интерес к мнению Страхова о нем: «Спроси у Ник[олая] Николаевича], знает ли он Theodore Parker» (Юб. Т. 83. С. 486). Ответ Страхова неизвестен; возможно, он был высказан во время личной встречи с писателем в Москве в конце апреля. Толстой относил Паркера (как и Г. Джорджа) к числу наиболее «глубоких» религиозно-философских писателей Америки (см. запись в дневнике Д. П. Маковицкого от 20 января 1905 г. — АН. Т. 90, кн. 1. С. 143). На мысль Паркера, что «учение Христа не есть система, но метод», Толстой обращал внимание вступившей с ним духовное общение А. М. Калмыковой (письмо от конца марта 1885 г. — Юб. Т. 63. С. 220). Труды Паркера писатель рекомендовал для ознакомления и своим единомышленникам, одному из которых он сообщал: «Последнее же время я многое узнал и нашел близкого себе в двух Американских писателях: 1) Henri George. «Progress and poverty и Social problems», и 2) Theodor Parker» (письмо Л. П. Никифорову от апреля-мая 1885 г. — Там же. С. 318). В письме к Черткову от 4-5 июня 1885 г. Толстой признавался: « ...я по себе знаю, какую это придает силу, спокойствие и счастие — входить в общение с такими душами, как Сократ, Эпиктет, [Matthew] Arnold, Паркер (странно это сопоставление, но для меня оно так)» (Там же. Т. 85. С. 218). В России появление сочинений Паркера в переводе на русский язык было невозможно по условиям времени; лишь позднее (в 1901 г.) Чертков напечатал в Англии (Christchurch) оба сочинения («Рассуждение... » — под заголовком «О вопросах религии...» — в извлечениях) по-русски. Годом раньше издательством «Посредник» была выпущена в серии книг «для интеллигентных читателей» работа проф. Н. И. Стороженко «Апостол гуманности и свободы Теодор Паркер» (М., 1900). Изречения из книг Паркера Толстой включил в первое и второе издания сборника «Круг чтения» (см.: АН. Т. 90, кн. 2. С. 215,592). Сочинения Паркера в сохранившемся фонде яснополянской библиотеки не представлены.
10 Итальянский философ-пантеист XVI в. Джордано Бруно, автор трактатов «О бесконечности, вселенной и мирах» (1584), «Изгнание торжествующего зверя» (1584), «О магии», и др., в которых высказывал антицерковные и еретические идеи. После суда инквизиции восемь лет просидел в тюрьме, после чего был сожжен на костре.
11 Книги Дж. Бруно в сохранившемся фонде яснополянской библиотеке Толстого не представлены. По свидетельству часто посещавшего Страхова в Петербурге В. В. Розанова, в книжном собрании философа имелись «editiones principes [первые издания, лат.] Джордано Бруно» (Розанов В. В. Собр. соч. [Т. 13]: Литературные изгнанники. ... Переписка В. В. Розанова с H. Н. Страховым. С. 116, примеч. 3).
12 Николай Яковлевич Грот, в то время профессор философии Новороссийского университета в Одессе. Речь идет о письме Грота к Толстому от 12 января 1885 г. из Одессы (ОР ГМТ. Ф. 1. № 90/1), в котором он сообщал о своем желании познако347
миться с писателем, рассказывал о себе, говорил о большом влиянии на него «Краткого изложения Евангелия», подробно излагал сущность своего понимания пантеизма у Христа, Дж. Бруно, Спинозы и сравнивал с ними пантеизм Толстого.
13 «Молодой» — в отличие от его отца Якова Карловича Грота-старшего, академика Императорской академии наук и профессора словесности. Н. Я. Грот был первенцем в семье.
14 Речь идет о брошюре: Грот Н. Я., проф. Джиордано Бруно и пантеизм. Философский очерк... Одесса, 1885. Экземпляр сохранился в библиотеке Толстого (Описание ЯПб. Т. 1, ч. 1. С. 224. № 925; прочие издания работ Грота см.: С. 224-226. № 926-936). Грот выступал также с публичными лекциями о философе (см.: Николай Яковлевич Грот в очерках, воспоминаниях и письмах... С. 351 -352).
15 Толстой с симпатией относился к молодому ученому. Вспоминая позднее свое общение с ним, он замечал: «...с первой же встречи мы полюбили друг друга. Для меня, кроме его учености, и, прямо скажу, несмотря на его ученость, Николай Яковлевич был дорог тем, что те же вопросы, которые занимали меня, занимали и его, и что занимался он этими вопросами не как большинство ученых, только для своей кафедры, а занимался ими и для себя, для своей души. (...) Думаю, что мы с Николаем Яковлевичем, хоть и по разным радиусам, но оба шли к тому одному центру, который соединяет всех, и что мы оба сознавали это, и потому наши дружеские отношения никогда не прерывались. И я рад случаю с искренней любовью вспомнить об этом не только умственно даровитом, но что дороже всего, сердечно добром и искреннем человеке» (Там же. С. 208,210а).
16 Личное знакомство Толстого и Грота произойдет вскоре — вероятно, в самом начале апреля 1885 г. После состоявшейся встречи Толстой сообщал В. Г. Черткову: «Познакомился я здесь с Гротом-философом — он мне очень понравился — надеюсь, не только потому, что он разделяет мои взгляды» (Юб. Т. 85. С. 160). В период наиболее оживленного общения с писателем, пришедшегося на время участия в подготовке к изданию его трактата «О жизни», Грот писал брату: «...с Толстым вижусь почти ежедневно, ибо нас соединяет общее дело. (...) Я его очень люблю, и он меня, кажется тоже. У нас в характере, стремлениях, идеях столько общего, что сгиуоисяа [сосуществование, грен.] необходима и всегда радостна» (письмо от 8 ноября 1887 г. — Цит. по: Там же. Т. 26. С. 774). Установившиеся между Толстым и Гротом дружеские отношения не прерывались до конца жизни философа.
17 Имеется в виду полотно И. Е. Репина «Иван Грозный и сын его Иван 16 ноября 1581 г.» («Иван Грозный убивает своего сына Ивана»); впервые представлено публике на XIII Передвижной художественной выставке в Петербурге и Москве (февраль-апрель 1885). О «поразительной» и «написанной превосходно» работе Репина рассказала писателю С. А. Толстая, видевшая ее в Петербурге в феврале, вскоре после открытия выставки (письмо от 24 февраля. — Толстая С. А. Письма к Л. Н. Толстому. 348
С. 294). Толстой познакомился с картиной в конце марта в Москве и вскоре поделился с автором впечатлением от его новом создании: «...хотел тотчас же писать вам, да не успел. Написать же хотелось именно вот что — так, как оно сказалось мне: молодец Репин, именно молодец. Тут что-то бодрое, сильное и попавшее в цель. (...) хотел художник сказать значительное, и сказал вполне и ясно, и, кроме того, так мастерски, что не видать мастерства» (письмо Репину от 31 марта или 1 апреля 1885 г. — Юб. Т. 63. С. 223). Ответ Репина от 3 апреля см.: И. Е. Репин и Л. Н. Толстой. I: Переписка с Л. Н. Толстым и его семьей. М.; Л., 1949. С. 12. Отзыв Страхова о картине см. в п. 332.
18 С. А. Толстая вспоминала о своих занятиях весной 1885 г.: «Пока Лев Николаевич отсутствовал в Крым, я наладила все дела издания. Пришлось, кроме Полного собрания, печатать и „Азбуку“ и „Книги для чтения“. Целыми вечерами я принимала от Николая Михайловича Нагорного отчеты по продаже этих книг. Днем я принимала фабрикантов с образцами бумаги. Кроме того, приходилось ездить покупать всему дому весенние платья, пальто, шляпы; мерить, менять, шить и т. д. (...) Около 1-го мая я съездила в Ясную Поляну всё устроить и приготовить к приезду нашему и сестры моей Кузминской с семьей. Велела белить стены, чинить кое-что, всё вымыть и убрать» (Толстая. Моя жизнь I. С. 473,476).
19 Наталья Андреевна Ржевская, урожд. Беэр, троюродная сестра Толстого.
20 Владимир Константинович Ржевский, сенатор, писатель по крестьянскому и педагогическому вопросам.
332
Строхов — Толстому
Прежде всего напишу Вам, бесценный Лев Николаевич, что мне пишет об Вас Н. Я. Данилевский1. «Он сам — еще лучшее произведение, чем его художественные произведения. Вот какое впечатление произвел он на меня и на Ольгу Алекс [андровну]. В нем такая задушевная искренность, которой и вообразить себе нельзя. Он просидел у нас вечер, переночевал и до 1 часу на другой день остался, потому что на следующий день должен был ехать, ходок он удивительный2. Я слышал, что будто он дурен собой — ничего этого я не нашел — превосходное, дышащее простотой, искренностью и добродушием лицо. Одним словом, понравился 12 апреля 1885 г. Санкт-Петербург
349
Печатается по: РО ИРЛИ. Ф. 302. Оп. 2. Ед. хр. 300. Л. 110-111. Впервые: Современный мир. 1913. №10. С. 318-319. Ответ на п. 331.
он мне очень, так понравился, как с первого взгляда и менее чем однодневного знакомства едва ли кто нравился. Я обещал, если...3 к нему заехать и непременно исполню...4 Говорили мы о том, о сем, но никак ни договориться, ни даже разговориться ни о чем толком не успели». —
Большая для меня была радость читать такие известия. Н. Я. Данилевский во всех отношениях лучше меня, а правдив и прям, как никто. Я уже отвечал ему и передал, что и он Вам полюбился5. Как я Вам благодарен за эту Вашу поездку!
Пишу к Вам наскоро: уже начал собираться в дорогу. В понедельник 22 апреля я, верно, буду уже в Москве6.
Как бы хорошо застать Вас и наговориться!7 Тогда подробно отвечу Вам и на Ваши вопросы о Гроте, о Репине. Грот, по-моему, очень малая величина, и я на него не надеюсь, — у него нет философского склада8, а пишет он механически и много — да и напечатал уже много дикого. Брошюрки о Бруно9 я еще не читал. — Репин другое дело10. «Подходишь с ужасом и отвращением и уходишь с умилением». Так я слышал, и так было и со мною. Три раза я ходил смотреть картину; в первый раз впечатление поразительное; но потом выступило что-то мешающее — попробую при свидании с Вами сказать, какие тут недостатки.
Всей душой стремлюсь с Вами увидеться. Тогда, может быть, скажется что-нибудь о душевном деле, которое у меня идет медленно. Впрочем, на эту зиму я не пожалуюсь. Всё, что Вы пишете, для меня имеет высокую пользу. Понимаю я Ваши писания и потому, что Вас знаю; я согласен с Данилевским, что Вы лучше Ваших произведений — для других — я же вижу Вас в Ваших произведениях.
Графиню еще раз благодарю11.
Простите Вашего
Н. Страхова
1885.
12 апр[еля].
Спб.
350
1 Оригинал письма Н. Я. Данилевского к Страхову неизвестен. Письмо Страхова к Толстому сохранилось с частичными (в двух местах) утратами текста.
2 Расположенность к дальним и продолжительным прогулкам пешком и верхом Толстой сохранял почти до конца своих дней. Многочисленные наблюдения за перемещениями писателя в окрестностях Ясной Поляны см. в записях Д. П. Маковицкого за 1905-1910 гг. (ЛН. Т. 90, кн. 1-4). В этой связи Маковицкий заметил: «Л. Н. один день ходит пешком верст семь, другой день ездит верхом верст 12-20, любит делать кругообразные прогулки. Иногда по таким местам леса Засеки, куда, кроме него, никто не заглядывает» (Там же. Кн. 2. С. 17). Толстой трижды совершал пеший переход из Москвы в Ясную Поляну, ходил пешком в Оптину Пустынь, до Тулы (ок. 16 км от Ясной Поляны) и обратно.
3 Пропуск в тексте — лист поврежден.
4 Пропуск в тексте — лист поврежден.
5 Возможно, имеется виду письмо от 5 апреля, в котором Страхов делился с Данилевским своим чувством: «Большая, пребольшая была для меня радость, что вы познакомились с Л. Н. Толстым. Он писал мне, что вы ему очень полюбились, да и Ольга Александровна также. Сейчас буду писать к нему и передам ваш отзыв; впечатление ваше я вполне понимаю и считаю совершенно правильным. Он чудесный человек...» (РВ. 1901. Март. С. 136. — Курсив Страхова). Через несколько дней Страхов сообщал А. А. Фету о новом знакомстве Толстого: «Он написал мне удивительную новость: в Крыму он заехал к Н. Я. Данилевскому, и они очень друг друга полюбились. Мне это была истинная радость. Николай Яковлевич принадлежит тоже к очень и очень редким людям» (письмо от 15 апреля 1885 г. — Фет. Переписка. II. С. 394). Вероятно, во время встречи во Мшатке Толстой пригласил Данилевского побывать у него в Ясной Поляне. Два месяца спустя, накануне своего отъезда из имения Толстых, Страхов передавал в письме Данилевскому слова Толстого: «Л. Н. просил напомнить вам, что вы обещались к нему заехать» (письмо от 18 июня. — РВ. 1901. Март. С. 138).
6 Прибыв 22 апреля в Москву, Страхов остановился в доме Фета на Плющихе. Вечером того же дня встретился в Москве с Толстыми (см. письмо А. А. Фету от 23 апреля. — Фет. Переписка II. С. 395).
7 Толстой оставался в Москве до середины мая {Гусев. Летопись I. С. 606).
8 Страхов не скрывал и от самого автора, что он невысокого мнения о его философских сочинениях: «Покорно Вас благодарю за Ваше письмо, и за то, что хвалите мою книгу и за то, что просите совета. (...) но не могу ответить вам похвалой на похвалу» (Николай Яковлевич Грот в очерках, воспоминаниях и письмах... С. 236). Прямой и искренний ответ не обидел доброжелательного Грота, и между ним и Страховым завязалась дружеская переписка. Впоследствии Грот признавал, что Страхов оказал влияние на его отход от позитивизма: «Я искренно ценю в Вас глубокого мыслителя и образцового писателя, которому я тоже лично обязан так много в своем фи351
16 апреля 1885 г. Москва
Печатается по: ОР ГМТ.Ф.1.№7460.
Л. 1-1 об. Нал. 1 помета Страхова: «16 апр[еля] 1885».
Впервые по копии:
Юб. Т. 63. С. 238.
Датируется по помете Страхова.
Ответ на п. 332.
лософском развитии. Ваш 1-й очерк об основных понятиях психологии дал один из первых толчков моему обращению к метафизике, а Ваши статьи о наших художниках слова, о Герцене и Компании помогли моему обращению из западников в славянофила (не в избитом смысле, а в более широком и, надеюсь, законном)» (ОР РНБ. Ф. 747. Ед. хр. 13. А. 12 -12 об.).
9 Речь идет об отдельном оттиске из «Записок Одесского университета» (1885. Т. 41): Джиордано Бруно и пантеизм. Философский очерк Н. Я. Грота. Одесса, 1885. 86 с.
10 Работу И. Е. Репина Страхов видел вскоре после открытия (10 февраля) в Петербурге XIII выставки Товарищества передвижных художественных выставок. Около середины февраля он делился своим впечатлением от полотна с А. А. Фетом: «Репин написал изумительную картину, перед которою я чуть не заплакал. Так меня захватило, что хочу писать к Льву Николаевичу. Вот сила! Вот неотразимо, непобедимо!» (письмо от 17 или 18 февраля. — Фет. Переписка II. С 392). Несколькими днями ранее он не менее взволнованно рассказал о своих переживаниях, вызванных знакомством с работой Репина, редактору газеты «Русь» И. С. Аксакову: «...давно я не испытывал такого восторга, такого потрясающего и цельного, ясного впечатления. Перед этой картиной можно плакать и плакать...» (письмо от 15 февраля. — Аксаков — Страхов. Переписка. С. 128). См. примеч. 17 к п. 331.
11 Страхов благодарит С. А. Толстую за повторное приглашение посетить Ясную Поляну (см. п. 330,331).
333 Толстой — Страхову
По всем вероятиям, буду в Москве1, дорогой Николай Николаевич, и радуюсь при мысли увидать и беседовать с вами. Давно уж этого не было1 2. Вы знали, чем меня порадовать — хорошим отзывом Данилевского. Я очень рад, что догадался побывать у него. —
Так мы ждем вас с любовью3.
Л. Толстой
1 См. примеч. 7 к п. 332.
2 Толстой и Страхов не виделись с апреля 1884 г.
352
3 Страхов приехал в Москву 22 апреля и провел в общении с Толстым несколько дней. О своем пребывании он рассказывал А. А. Фету в письме от 23 апреля: «Софьи Андреевны нет — она в Ясной по хозяйству; Лев Николаевич очень бодр и весел, пишет вещи, которые с известной стороны очень тонки и глубоки [народные рассказы. — Со ст.]. / Сам я немного развинтился — стоят холода и солнце — так что не знаешь, как тут уберечься. Но надеюсь, всё поправится» (Фет. Переписка II. С. 395). Вероятно, Страхов выехал из Москвы 25 апреля и на следующий день прибыл в имение Фета Воробьевку (см. примеч. 3 к п. 334).
334 Строхов — Толстому
Кажется, всё решено, бесценный Лев Николаевич. Через неделю я уеду отсюда и, следовательно, числа 11-го или 12-го буду в Ясной Поляне1. Время прошло очень хорошо, если не считать моего утомления и недомогания, которые по временам так ясно дают мне чувствовать, что был и я когда-то молод2. У Фета мы занимались Катуллом3, а у Данилевского главным образом разговорами, которые на этот раз были удивительно занимательны для нас обоих. Никогда, кажется, я столько не говорил4. Очарование Южного Берега также было очень сладко, хотя я испытал его столько раз5. Впрочем, обо всем этом и других, более важных вещах нужно отложить речь до свидания с Вами. Весь быт Данилевских тоже для меня очарование. А Ольга Александровна и своими суждениями, и своею жизнью трогала меня очень глубоко6.
С отвращением думаю о Петербурге7 и с большой радостью об Ясной Поляне. Надеюсь, что в ней, как всегда, всё благополучно и маленькие беды — только тени на общем фоне здоровья и светлого настроения8.
Мне до сих пор не удалось съездить в Сименс,- но теперь уже всё готово, и через день или два я сделаю эту поездку и привезу Вам известия от больного9.
2-4 угона
1885 г. Ншйтка
353
Простите меня.
Всей душой Вам преданный
Н. Страхов
1885.
2 июня.
Мшатка.
Печатается по: РО ИРЛИ. Ф. 302. Оп. 2. Ед. хр. 300. Л. 112. Впервые: Современный мир. 1913. №10. С. 320. №11. С. 321.
Р. 5. Разумеется, об Вас было здесь говорено без конца.
Р. 5. Всё время меня беспокоило и желание, и обязанность — побывать в Сименсе у кн. Урусова. Но дело откладывалось, потому что Данилевский приехал сюда с ушибленной ногой10 — он был на положении больного, всё время лежал, хотя вполне бодрый и веселый. Потом забирались справки о том, как удобнее добраться до Сименса; но когда всё было готово и сторговались с извозчиком, пришло известие, что кн. Урусов уже давно уехал в Тулу и оттуда писал, что ему лучше1 \ Надеюсь, что увижу его в Ясной и все-таки лично поклонюсь ему12.
Позвольте мне телеграфировать Вам — просить выслать лошадей в Козловку.
4 июня.
1 Страхов собирался приехать в Ясную Поляну из Крыма, где он в течение месяца гостил у Н. Я. Данилевского. Однако первоначальный его план подвергся некоторому изменению, о чем он сообщил А. А. Фету в письме от 10 июня: «Завтра еду, только завтра (...) Сегодня день рождения 16-тилетней дочери Николая Яковлевича, а вчера приехали его дети — из Одесской гимназии; нельзя было не остаться» (Фет. Переписка II. С. 397). Страхов выехал из Мшатки 11 июня и через два дня прибыл к Толстым. Свой переезд по железной дороге он подробно описал Данилевскому в обращении от 18 июня (РВ. 1901. Март. С. 136-137).
2 О своей физической «вялости» и угнетающем действии крымской жары Страхов сообщал Фету в письме из Мшатки от 10 июня и в письме к Данилевскому от 18 июня (см. примеч. 4,5).
3 В курском имении А. А. Фета Страхов провел более двух недель. О своем водворении во Мшатке он писал ему несколько дней спустя после приезда к Данилевским — 354
17 мая (см.: Фет. Переписка II. С. 396). В Воробьевке Страхов помогал Фету в обработке текстов перевода «Стихотворений» Катулла, над которым в это время работал поэт (см. примем. 19 к п. 330). Свои замечания на перевод Страхов сообщал Фету и из Крыма (см. его письмо от 10 июня. — Фет. Переписка II. С. 397).
4 «Беседуем мы всласть. Кажется, я поправляюсь и начинаю полнеть от всего этого милого времяпровождения...» — сообщал Страхов Фету уже в начале своего крымского отдыха (письмо от 17 мая. — Там же. С. 396). Несмотря на одолевавшую его жару, пребывание в имении Данилевских весной - летом 1885 г. Страхов называл «очаровательным во всех других отношениях» (письмо Фету от 10 июня. — Там же. С. 397).
5 В своих письмах к Н. Я. Данилевскому Страхов не раз с восторгом отзывался о природе Южного берега Крыма и имении Данилевских Мшатке. Еще перед отъездом из Петербурга он писал Данилевскому в начале апреля: «...стремлюсь в Крым почти как в уголок рая» (письмо от 5 апреля 1885 г. — РВ. 1901. Март. С. 136). О первом впечатлении от пребывания в Крыму он сообщал Фету: «Южный Берег я застал в полной красе: никогда еще я не видал на нем такой роскошной и светлой зелени. Очарование еще продолжается: не могу видеть равнодушно этого моря, этих гор и лунных ночей» (письмо от 17 мая. — Фет. Переписка II. С. 396). Приехав из Мшатки в Ясную Поляну, он вновь обращается к воспоминаниям о полюбившихся ему местах: «С тех пор как я оставил ваш райский уголок (...) мысли мои постоянно к нему обращаются, да и такого радостного, как за вашими горами, я ничего не встретил» (письмо от 18 июня. — РВ. 1901. Март. С. 136).
6 Ольга Александровна Данилевская (урожд. Межакова), жена Н. Я. Данилевского. Страхов был дружен со всей семьей Данилевских. Овдовев, О. А. Данилевская с начала 1890-х гг. проводила зимнее время в Петербурге, заняв освободившиеся после отъезда Д. И. Стахеева (см. п. 441) три комнаты в квартире Страхова на Крюковом канале.
7 Мысль о необходимости отправляться после отдыха в северную столицу угнетающе действовала на Страхова. Приехав в крымское имение Данилевских, он уже через несколько дней сетовал в письме к Фету: «Нет, не нужно мне делать этих поездок! Чувствую заранее тоску при мысли о возвращении в Петербург и почел бы величайшим счастием, если бы год или два мог прожить в таком глухом месте, как эта Мшатка...» (письмо от 17 мая. — Фет. Переписка II. С. 396).
8 Предположения Страхова оправдались не в полной мере. О своем кратком (в течение недели) пребывании у Толстых он извещал Фета из Москвы: «Переезд из Крыма в Ясную и мое проживание в Ясной были не совсем благополучны. Жара на дороге была такая ужасная, что эти двое суток я причисляю к самым тяжелым дням моей жизни. Явилась даже резь в животе (...) в Ясной Поляне было что-то смутное. Л[ев] Николаевич] был не совсем здоров, а в обеих людных семьях [Толстых и Кузминских. — Сост.] (...) нет бывалого веселого духа. (...) одному радовался: лите355
ратурная деятельность Л. Н. кипит» (письмо от 22 июня. — Там же. С. 398). Более подробный рассказ о занятиях в имении Толстых см. в письме Страхова Н. Я. Данилевскому от 18 июня (РВ. 1901. Март. С. 137-138,- см. примеч. 18 к п. 335). На фразу Страхова о начавших набегать на семейные отношения Толстых «тенях» обратила внимание С. А. Толстая и заметила по этому поводу в воспоминаниях: «А тени уже появлялись, и наш дорогой друг это чувствовал своею чуткой душой» (Толстая. Моя жизнь I. С. 480). Поясняя свою мысль, она писала: «Вся эта жизнь (...) шла совсем вразрез с жизнью Льва Николаевича (...) он всё лето работал усиленно с крестьянами: вставал с рассветом, и бывало, я проснусь часов в пять, шесть, а его постель уже пуста (...) Целые дни он то пахал, то косил траву или рожь. Возил сам сено, которое убирал вдовам и сиротам. В это же лето он уже начинал поговаривать о вегетарианстве и избегать есть мясо. Всё это меня очень мучало; мне казалось, что Лев Николаевич надрывал свои силы в непосильной работе; а кроме того, я чувствовала, что сочувствовать, участвовать в этих работах ни я, ни мои дети серьезно и всецело не могли. / Трагизм положения всё больше осложнялся; презрительное отношение моего мужа к моей жизни, моему хозяйству и трудам семейным, издательским и другим заражало и детей, и я часто чувствовала их иронию...» (Там же. С. 480-481).
9 Речь идет о кн. Л. Д. Урусове (см. п. 331 и примеч. 3 к нему).
10 Н. Я. Данилевский еще в апреле по пути в командировку (в Тифлис) повредил ногу и на обратном пути был вынужден остановиться в Симферополе, чтобы сделать очень болезненную операцию. Подробнее об этом см. в письмах Страхова А. А. Фету от 17 мая (Фет. Переписка II. С. 396) и И. С. Аксакову от 25 мая 1885 г. (Аксаков — Страхов. Переписка. С. 136).
11 Сведения Страхова оказались не совсем точны. Л. Д. Урусов вернулся из Симеиза в имение шурина Дятьково Брянского уезда в конце мая - начале июня и вскоре написал оттуда Толстому (письмо получено в Ясной Поляне, вероятно, в начале июня; до этого — перед отъездом из Крыма — Урусов еще дважды извещал Толстого о состоянии своего здоровья письмами из Симеиза и Севастополя; см.: Юб. Т. 63. С. 258). Определеннее о намерении Урусова Толстой узнал до сообщения Страхова, о чем и уведомил В. Г. Черткова уже 1 или 2 июня: «Нынче получил письмо от Урусова. Он очень плох здоровьем. Он едет к Мальцеву [т. е. в Дятьково. — Сост.], где съедется с семьей» (Там же. Т. 85. С. 211). Известия о том, что ему стало «лучше», подразумевали, вероятно, временное изменение в состоянии больного. Навестившая его тем же летом С. А. Толстая, отметила, что «Урусов страшно кашлял, был худ, слаб и бледен» (см.: Толстая. Моя жизнь I. С. 481-482).
12 Эта надежда не осуществилась: Л. Д. Урусов более не смог побывать в Ясной Поляне, однако Страхову удалось заочно приветствовать больного — будучи в гостях у Толстого, он передал свой поклон Урусову в письме Толстого от 19 июня (Юб. Т. 63. С. 266).
356
335 Сгрдхов — Толстому
Исполнил Ваши поручения, бесценный Лев Николаевич, и дам Вам отчет по пунктам1.
1) Рукописи Урусовой я нашел только вторую часть (Кингслей и Эмерсон)2. Как я ни искал во всех трех ящиках, первой части не нашел. Все-таки я взял вторую, и сам прочитаю, и постараюсь устроить; а между тем прошу Вас, не отыщется ли первая часть, а если нет, то дайте разрешение обойтись без нее — думаю, что можно3.
2) Ни писем, ни бумаг никаких у Вас в доме не получено. Так мне и не досталось экземпляра «Учения 12-ти апостолов»4.
3) Нашел я переплетенную тетрадь, но совершенно пустую; на ней написано: «Так что ж нам делать, часть 2-я» — и больше ни одной буквы. Если она Вам нужна, то простите: мне вообразилось, что Вам нужна рукопись, и потому я пустую книжку оставил и не решился Вам переслать.
4) Разыскал Сытина5, передал ему корректуры и объяснил, как Вы желаете печатать речи и мысли действующих лиц6. Он очень был рад, боялся, что Вы недовольны печатанием7. Я его успокоил, а он сказал, что поручит, для большей исправности, дело особому корректору. Очень обрадовался, когда я сказал, что готовы два новые рассказа8. Показывал мне картину Репина9 (очень хороша!) и обещал выслать всё10, что выйдет с красным ободком11.
Вчера я встретил Анну Григорьевну Достоевскую; она с детьми едет в Пятигорск, где лечится ее мать12. Мечтает она заплатить визит Софье Андреевне13 и хотела даже на всякий случай заехать в Ваш дом здесь в Москве. Пришлось отложить до будущего14.
Сегодня видел я Аксакова в банке15; он с восхищением отзывался о Ваших 2-х новых рассказах16, говорил, что приходится простить Вам Ваши еретичества. Разговориться мне не удалось, хоть я и пробовал17.
22 или 23 июня
1885 г. Посква
357
Печатается по: РОИРЛИ. Ф. 302. Оп. 2. Ед. хр. 300.
Л. 76-77.
Впервые: Современный мир. 1913. №11. С. 321-322.
Датируется по содержанию.
Москва мне вообще понравилась, хотя я вовсе и не думал смотреть на нее. Какой красивый, пестрый и натуральный город! Более натурального и разнообразного, я думаю, нет на свете. И жители, хоть угорелые, но добрые, вежливые.
Простите меня, дорогой Лев Николаевич! Мне чего-то недостает после нынешнего проживания в Ясной Поляне. Я очень радовался, видя, как живо идет Ваша деятельность; но не послало мне небо ни одного задушевного разговора, после которого прибывает у меня сил. Сам виноват; для таких минут нужно быть более добрым и менее тупым, чем я теперь18. Итак, простите меня; не забывайте только неизменной любви
Вашего Н. Страхова
Р. 5. Напомните графине об обещанных мне корректурах: буду их ждать19.
Р. Р. 5. К несчастью, я не видал Иванцова-Платонова20 — он далеко на даче, и переезды так мне тяжелы, что нужно отложить до зимы, — до какой, Бог ведает21.
1 Страхов провел у Толстых неделю и уехал из Ясной Поляны 20 июня. Основанием для уточнения даты написания письма служит сопоставление его содержания со сведениями из обращения Страхова к А. А. Фету от 22 июня из Москвы, в котором он замечал, что уезжает в Петербург «завтра», т. е. 23 июня. Из текста письма Страхова явствует, что к моменту его написания он провел в Москве не менее двух дней. Таким образом, Страхов давал Толстому отчет о выполненных им поручениях писателя либо 22, либо в день отъезда ■— 23 июня. Страхов остановился в доме Фета на Плющихе (см. письмо А. А. Фету от 22 июня. — Фет. Переписка II. С. 398). О своем намерении задержаться в Москве не более чем на «два дня» он извещал Н. Я. Данилевского незадолго до своего отъезда из Ясной Поляны (см.: РВ. 1901. Март. С. 138). Из имения Данилевского Мшатка Страхов писал И. С. Аксакову о своем намерении «ехать назад» в Москву «около 20 июня» (письмо от 17 и 25 мая 1885 г. —Аксаков — Страхов. Переписка. С. 136).
2 Княжна В. Д. Урусова (сестра кн. Л. Д. Урусова; о ней см. в письме С. А. Толстой от 29 января 1884 г. — С. А. Толстая. Письма кА. Н. Толстому. С. 245) написала серию очерков об английских писателях проповедниках. Страхов, побывавший в Москве 358
в доме Толстых, искал по просьбе писателя в его столе рукопись кнж. Урусовой, но нашел лишь ее часть (см. п. 336), со статьями о Чарльзе Кингсли (Kingsley) и американском философе и проповеднике Ральфе Уолде Эмерсоне (Emerson). Кингсли — приходской священник и проповедник, сторонник социальных реформ; писатель-романист. С его романом «Гипатия» («Hypatia». London, 1853) Толстой познакомился в мае 1884 г. и рекомендовал его В. Г. Черткову для издания в сокращенном виде фирмой «Посредник» (Юб. Т. 49. С. 89, 95,96; ср.: Там же. С. 100; Там же. Т. 85. С. 184). Тогда же Толстой читал и труды Эмерсона (Там же. С. 92,93).
3 При посредничестве Страхова очерки были помещены в «Гражданине»: [Урусова В. Д., кнж.]. Чарлс Кингслей. — Литературное приложение к газете «Гражданин». 1885. Август. Отд. «Критика». С. 1-24. Без подписи; [Она же]. Ралф Уалдо Эмерсон. — Там же. 1885. Сентябрь. Отд. «Критика». С. 1-24. Без подписи.
4 «Учение 12-ти Апостолов» — памятник древней церковной письменности, созданный между 96 и 112 гг. н. э. Обнаружен митрополитом Серронским (затем Никомидийским) Вриением в Константинополе в библиотеке подворья иерусалимского монастыря в 1875 г. Толстой познакомился с сочинением в январе 1885 г. и тогда же начал его переводить. Во второй половине февраля работа была завершена и предпринята попытка напечатать русский текст памятника отдельной брошюрой при содействии издателя В. Н. Маракуева, однако осуществить намерение не удалось. Бывший редактор «Православного обозрения» священник Г. П. Смирнов-Платонов, принявший на себя выпуск (с 1885 г.) нового «филантропического» журнала «Детская помощь», высказал готовность поместить в своем издании перевод Толстого с его предисловием и послесловием. Об этом Толстой известил кн. Л. Д. Урусова в письме от начала мая (см.: Юб. Т. 63. С. 242). Вопреки ожиданиям материал прошел цензуру и (без подписи автора) был опубликован (Детская помощь. 1885. 24 мая. № 8; Юб. Т. 25. С. 416-428). Вероятно, Толстой был вскоре уведомлен редакцией о выходе в свет номера журнала с его работой. Около 17-18 июня писатель сообщал В. Г. Черткову: «Я узнал, что в Детской помощи издатель священник напечатал мой перевод с примечаниями Учения 12 апостолов и что на него за это напали. Я никак не думал, что его напечатают, и потому оставил очень много небрежного и слишком смелого, неоправданного в переводе. Я не видал напечатанного. Они мне прислали 25 экземпляров] в Москву» (Юб. Т. 63. С. 229). Возможно, по просьбе Толстого Страхов должен был переправить полученное (или часть его) в Ясную Поляну. О помощи С. А. Толстой в переводе текста «Учения» с немецкого языка см.: Толстая. Моя жизнь I. С. 465).
5 С издателем и книготорговцем Иваном Дмитриевичем Сытиным Толстой познакомился в конце 1884 г. или в начале 1885 г. в Москве в связи с планами издания «Посредником» книг для народа. Инициатором сближения был Толстой, посетивший Сытина в его книжной лавке у Ильинских ворот. Отношения поддерживались до кончины писателя.
359
6 Возможно, Страхов передал И. Д. Сытину корректурные оттиски с текстами Толстого, предназначавшимися для «народных картин в красках» на евангельские сюжеты (так называемые «открытые листы»), изображения к которым выполняли также сотрудничавшие с издательством «Посредник» русские художники. Толстой, сообщавший В. Г. Черткову о своих работах для «Посредника», в письме к нему от 23-24 июня 1885 г. заметил: «Вчера получил от Сытина известие, что картинки Искушение] и Истязание запрещены. Это будет жалко» (Юб. Т. 85. С. 234-235). К первой из них, воспроизводившей работу французского художника Ари Шеффера, Толстой подготовил сопроводительный текст «Искушение Господа нашего Иисуса Христа» (Там же. Т. 25. С. 26-27; 675), ко второй, представлявшей собой переработку картины французского художника У. А. Бугро (Воп^егеап) — фигура Иисуса Христа написана акварелью И. Е. Репиным, — составил очерк «Страдания Господа нашего Иисуса Христа» (Там же. С. 163; 713-714). Обе картины и тексты к ним прошли цензуру позднее в 1885 г.
7 Речь идет об отпечатанных в типографии И. Д. Сытина для издательства «Посредник» рассказах Толстого «Упустишь огонь — не потушишь» и «Где любовь, там и Бог». Оба произведения были проиллюстрированы художниками К. А. Савицким и А. Д. Кившенко (соответственно). Кроме того, Сытин отправил Толстому напечатанную в его типографии по заказу «Посредника» брошюру с рассказом «Дед Софрон» писателя из народа В. И. Савихина (наст. фам. Вас. Ив. Иванов), украшенную рисунками И. Е. Репина. Об этих книгах, доставленных в Ясную Поляну незадолго до приезда Страхова, Толстой писал кн. Л. Д. Урусову в Дятьково: «Я получил от Сытина два моих рассказца и один крестьянина Савихина. Посылаю их вам, желаю, чтоб понравились» (письмо от 10 июня 1885 г. — Юб. Т. 63. С. 258). Страхов познакомился с содержанием рассказов Толстого еще в Ясной Поляне. Извещая Н. Я. Данилевского о своих занятиях в имении Толстых, он отмечал в письме от 18 июня: «... прочитал я старый, неконченный рассказ [Толстого. — Сост.] Лошадь; потом новые рассказы: Где любовь, там и Бог, Упустишь огонь, не погасишь, Свечка, Два старика. Всё это он делает для тех народных изданий, которые я вам показывал...» (РВ. 1901. Март. С. 137. — Курсив Страхова). В Петербурге Страхов перечитывал их и распространял экземпляры этих изданий среди знакомых (см. примеч. 10 к наст, п., а также п. 337).
8 Речь идет о произведениях Толстого «Два старика» и «Свечка». О них Страхов писал А. А. Фету 22 июня из Москвы: «Два народных рассказа (новых) напечатаны и еще два были окончены при мне» (Фет. Переписка II. С. 398).
9 Возможно, имеется в виду иллюстрация И. Е. Репина к легенде Толстого «Два брата и золото» (1885), которую он исполнил после прочтения рассказа писателя, показанного ему В. Г. Чертковым (см. письмо Черткова Толстому от 23 марта 1885 г. — Юб. Т. 85. С. 158). Изображение — раскрашенная акварелью литография — воспроизведено также в: Письма И. Е. Репина: И. Е. Репин и Л. Н. Толстой. [Кн.] 2: Материалы. 360
М.; Л., 1949. — Между С. 64-65; опис.: С. 147-148. Однако Страхов мог подразумевать и другую работу Репина, безвозмездно выполненную им для книгоиздательства «Посредник» и вызвавшую восторженный отзыв Толстого, — написанный акварелью образ Иисуса Христа, которым предполагалось заменить изображение Спасителя на картине У. А. Бугро «Бичевание Христа» (см. примеч. 6), признанное цензурой излишне натуралистичным и не допущенное к воспроизведению. О впечатлении, произведенном картиной Репина, Толстой писал В. Г. Черткову 2 мая: «Радость великую мне доставил Репин. Я не мог оторваться от его картинки и умилился. И сколько людей умилятся. (...) Репину, если увидите, скажите, что я всегда любил его, но это лицо Христа связало меня с ним теснее, чем прежде. Я вспомню только это лицо и руку, и слезы навертываются» (Ю6. Т. 85. С. 173-174). Авторские оригиналы предназначавшиеся для «Посредника» работ Репина хранились у Сытина.
10 Сообщая Н. Я. Данилевскому в письме от 5 июля о своих встречах в Москве на обратном пути в Петербург, Страхов между прочим замечал: «Видел я и Сытина, издателя тех дешевых книжек. И наказал я ему, чтобы всё, чтб будет напечатано от Толстовского кружка, и книги, и картины, присылал он ко мне, а также и к вам в Мшатку, и дал ему точные адресы» (РВ. 1901. Март. С. 140. — Курсив Страхова).
11 Подразумеваются издания так называемой «основной серии» книжной продукции фирмы «Посредник», выходившие в обложках с красной рамкой и девизом-эпиграфом «Не в силе Бог, а в правде». Брошюры, выходившие в «побочной серии», печатались без рамки и без девиза.
12 А. Г. Достоевская с детьми Любой и Федей направлялась к своей престарелой матери А. Н. Сниткиной (урожд. Мильтопеус).
13 А. Г. Достоевская и С. А. Толстая познакомились в Петербурге в феврале 1885 г. и состояли в дружеской переписке. См. эту переписку в сб.: Мир филологии. Посвящается Лидии Дмитриевне Громовой-Опульской / ИМЛИ РАН; ред. М. И. Щербакова. М.: Наследие, 2000. С. 290-306. Об этой своей поездке в Петербург С. А. Толстая вспоминала: «Приближалось и время печатанья нового издания Полного собрания сочинений Льва Николаевича, и, узнав, что вдова Достоевского Анна Григорьевна продает сочинения своего мужа по подписке, я решила ехать в Петербург для изучения дела печатанья книг, издания и продажи их по подписке. (...) Мне очень хотелось получше изучить дело изданий и подписки на сочинения, посоветоваться с Страховым и Анной Григорьевной Достоевской, уже давно успешно занимавшейся изданиями сочинений своего мужа. Я еще с осени начала с ней об этом переписываться, и она много помогла мне советами» (Толстая. Моя жизнь I. С. 461,468).
14 В дальнейшем, как вспоминала А. Г. Достоевская, она не раз виделась с С. А. Толстой и поддерживала с ней переписку (см. примеч. 13). В своей мемуарной книге она писала: «Частые встречи и беседы с графиней дали нам возможность узнать друг друга, и мы дружески сошлись (...) Бывая в Петербурге, графиня посещала меня, я тоже, 361
бывая в Москве, непременно заезжала к графине. / Я бывала в Москве большею частью или весною (ради посещения моего „Музея [памяти Ф. М. Достоевского]“), или осенью, возвращаясь из Крыма, и, навещая графиню...)» (Достоевская А. Г. Воспоминания. М., 1981. С. 391).
15 И. С. Аксаков был председателем правления Московского Купеческого общества взаимного кредита. О намерении посетить Аксакова в Москве или на подмосковной даче близ Кунцева на обратном пути из Крыма Страхов извещал своего корреспондента и редактора «Руси» еще в конце мая из Мшатки; в этом же письме Страхов наметил и примерные темы для обсуждения при предполагавшемся свидании: «Когда буду ехать назад (...) постараюсь разыскать Вас, если Вы где-нибудь под Москвою. Очень желаю служить „Руси“ и думаю, между прочим, исполнить свой давнишний план, написать о Некрасове. Ведь никто ничего еще не сказал, а слава великого поэта уже очень твердо укрепилась» (Аксаков — Страхов. Переписка. С. 136. — Курсив Страхова). Несколько подробнее о встрече с Аксаковым Страхов сообщил Н. Я. Данилевскому в письме от 5 июля из Петербурга: «В Москве я видел Аксакова в банке, и мы говорили, то есть он говорил всё о том же, о кратком изложении евангелия [Толстого. — Сост.; см. примеч. 17]. Увы, Николай Яковлевич, только с вами насладился я разговорами в настоящем смысле этого слова. (...) Ну, словом, чем речистее был Аксаков, тем меньше толку вышло из нашего разговора. Я обещал ему статьи для Руси и сказал свои темы: 1)0 Ренане и Тене (или об историках без принципов) и 2) О Некрасове» (РВ. 1901. Март. С. 139-140. — Курсив Страхова).
16 О рассказах Толстого «Упустишь огонь — не потушишь» и «Где любовь, там и Бог» Аксаков с восторгом отзывался еще в письме к Страхову от 4 и 9 июня 1885 г. Познакомившись с новыми произведениями Толстого, Аксаков в обращении к Страхову заметил: «Если Толстой от формы дидактической возвратится к форме художественной, то можно лишь благословить процесс его внутреннего перевоспитания» (Там же. С. 142).
17 Помимо сюжета, касавшегося намерения вступить в более деятельное сотрудничество с газетой «Русь» (см. примеч. 15), Страхов, возможно, предполагал затронуть в беседе с Аксаковым и тему выявившихся между ними расхождений во взглядах на религиозное «проповедничество» Толстого и отличное от принятого церковью истолкование им текстов и смысла евангельских притч и изречений. Свои соображения по этому поводу Страхов изложил Аксакову в обращении от 17 и 25 мая (ранее Страхов затрагивал эту тему в письме к Аксакову от 12 декабря 1884 г. — Там же. С. 119-121); ответные возражения корреспондента содержались в письме от 4 и 9 июня, однако были изъяты из текста под влиянием поразивших Аксакова своею глубокой искренностью «любовных отношений» писателя к «Святой Истине», «тайна которых не подлежит нашему анализу и которые ставят его, автора, вне суда нашего» (Там же. С. 142; сжатое изложение критических замечаний Аксакова на «проповедь» Толстого содер362
жится в его письме к Страхову от 9 декабря 1884 г. — Там же. С. 115-117). Несостоявшееся объяснение с Аксаковым было не первой попыткой Страхова ближе сойтись с редактором «Руси». Это желание не укрылось от внимания Аксакова, заметившего по поводу одного из обращений Страхова: «Вижу из Вашего письма, что Вы о многом другом и личном хотели бы поговорить со мною, но не сказали этого мне прямо...» (Там же. С. 117). Однако и во время пребывания Страхова в Москве зимой 1884/85 г. более доверительное общение с Аксаковым не наладилось. П. Д. Голохвастову Страхов в этой связи писал: «...я видел его здесь, но не допросился, какие у него планы и виды...» (письмо от 2 января 1885 г. — Цит. по: Там же. С. 118).
18 Неудовлетворенность содержанием духовного общения с Толстым во время краткого пребывания в Ясной Поляне летом 1885 г. прорвалась в письме Страхова к Н. Я. Данилевскому от 5 июля (см. примеч. 14). О своем кратком пребывании и занятиях в имении Толстых Страхов подробно рассказывал тому же Н. Я. Данилевскому в письме от 18 июня: «В четверг вышедши из вагона и едучи по солнцу в первом часу дня (семь верст до Ясной Поляны), я всё вздыхал и радостно потягивался, как будто вырвался из жаркой бани. (...) Ясную Поляну нашел я наполненную женщинами и детьми человек до 30 и среди них двое мущин, Лев Николаевич и [А. М.] Кузминский. Такова она была и 14 лет тому назад, когда я в первый раз в нее заехал, только моложе и не так многолюдна, много народилось с тех пор... Л[ев] Николаевич] был и нездоров, и не в духе, и до сих пор жалуется, хотя и поправился немного Сейчас же принялся он читать мне свою статью о деньгах, очень остроумную, но не захватывающую вполне вопроса. Потом прочитал я старый не конченный рассказ Лошадь-, потом новые рассказы: Где любовь, там и бог, Упустишь огонь — не погасишь, Свечка, Два старика. Всё это он делает для тех народных изданий, которые я вам показывал; два последние рассказа удивительны по своей художественности и по чудесному смыслу; взяты из народных рассказов. Он исключительно этим и занимается. / Я сплю в его кабинете, встаю в 8 Уг часов, пью кофе и завтракаю. Часов в 11 он приходит ко мне, сам убирает и подметает кабинет, умывается, и мы идем на крокет, т. е. под клены, возле крокета, где старшие члены обеих семей пьют утренний кофе. Через час или полтора мы расходимся; он уходит в кабинет, а я в павильон, в котором теперь пишу к вам и который появился лишь нынче весною. В 5 часов обед; каждая семья особо. В 8 часов детский чай; в 10 часов чай и ужин для взрослых, сходятся обе семьи и проводят время до полуночи, потом расходятся. Людно и пестро чрезвычайно; между обедом и чаем прогулки, купанье и всякое безделье. (...) Л. Н. очень кланяется вам и Ольге Александровне. (...) литературная его деятельность кипит. Жена теперь держит корректуру нового издания собрания сочинений, и я помогал...» (РВ. 1901. Март. С. 137-138. — Курсив Страхова; см. также примеч. 8 к п. 334).
19 Страхов предложил С. А. Толстой свою помощь в чтении корректурных листов Пятого издания собрания Сочинений Толстого (в 12 частях, печатавшегося в Москве 363
в типографиях М. Г. Волчанинова и А. И. Мамонтова в 1885-1886 гг.). Тираж предыдущего Четвертого издания Сочинений, выпущенный в 1880 г. издательской фирмой «Наследники братьев Салаевых» в 11 ч., разошелся и срок действия «условия», по которому оно печаталось книготорговцем, к тому времени закончился. Не имевшая опыта ведения книгоиздательских дел С. А. Толстая приняла на себя (по доверенности Толстого от 21 мая 1883 г.) хлопоты по подготовке и напечатанию нового издания Сочинений мужа (подробнее об этом см.: Толстая. Моя жизнь I. С. 442,461,464,468,473, 475,478,484-485). Страхов включился в эту работу еще во время летнего пребывания в Ясной Поляне, о чем извещал А. А. Фета в письме от 22 июня из Москвы: «Графиня держит корректуры полного собрания — и я помогал» (Фет. Переписка IL С. 398. — Курсив Страхова). В письме к Толстому от 28 июля (п. 337) Страхов повторил свое предложение. Ответ С. А. Толстой см. в п. 338.
20 «Очень умный и симпатичный», по словам С. А. Толстой, профессор церковной истории Московского университета протоиерей А. М. Иванцов-Платонов (см. п. 379), в известной мере «терпимее» (определение Толстого) относившийся к религиозно-нравственным исканиям и построениям писателя, выразил весной 1885 г. готовность просмотреть произведения Толстого на религиозно-нравственные темы перед представлением в цензуру для получения разрешения на их включение в состав Пятого издании Сочинений (см. письмо Толстого кн. Л. Д. Урусову от начала мая 1885 г. — Юб. Т. 63. С. 242). Свое отношение к высказанному предложению Толстой изложил в письме к В. Г. Черткову от 17 мая того же года: «Перед отъездом из Москвы [16 мая в Ясную Поляну. — Сост.] я б[ыл] у Иванц[ова]-Платонова (...) Он был у нас и выразил желание процензировать для печатанья в полных сочинениях: Исповедь, В ч[ем] м[оя] вера и Ч[то] н[ам] Э[елатъ]. Он, хотя и православный, находит полезным это печатанье. 3-го дня я снес ему эти статьи, и он сказал мне, что хорошо бы было напечатать еще выдержки из исследования подробного Еванг[елия], к[оторое] он давно читал. То, что можно. Он берется за это. И я чувствую, что это хорошо. Пускай моя мысль будет estropiée [искалечена, фр.], но я думаю, что это должно» (Там же. Т. 85. С. 205-206). Толстой не стеснял добровольного помощника в свободе критики, попросив его изложить свои мнения и возражения в виде примечаний к текстам. Учитывая довольно срочный характер предпринятой работы, писатель, вероятно, просил Страхова, при возможности, поинтересоваться у Иванцова-Платонова ходом дела. Из письма С. А. Толстой к мужу от 18 августа 1885 г. следует, что начатый ученым богословом труд еще не был готов и мог быть завершен не ранее середины осени. Подробнее см.: С. А. Толстая. Письма к Л. Н. Толстому. С. 315-318; Толстая. Моя жизнь I. С. 382, 484,492-496; Юб. Т. 63. С. 316). См. п. 336,338. Составленные Иванцовым-Платоновым «Примечания читателя» не опубликованы, хранятся в ОРГМТ.
21 Причина, по которой Страхов намеревался вступить в непосредственное общение с А. М. Иванцовым-Платоновым, из строк его письма не ясна. О том, что побу-
364
дительный мотив имел личный характер и, вероятно, не был связан исключительно с поручением Толстого (см. примеч. 20), свидетельствует намерение Страхова повторить попытку увидеться с Иванцовым-Платоновым в неопределенное, более позднее время — в частности, в один из зимних приездов в Москву на рождественские и новогодние праздники, что позволяет предположить отсутствие спешности в этом деле, тогда как ожидавшаяся помощь Иванцова-Платонова в проведении писаний Толстого на религиозно-нравственные темы через цензуру требовала более энергичных действий в связи с желанием С. А. Толстой завершить к концу года печать последней, 12-й части нового издания Сочинений Толстого, где в составе «произведений последних лет» намечалось поместить и вышеназванные труды.
336 Толстой — Страхову
Видите, как исправен. Благодарю за исполнение поручения. Кажется, что эта часть «Кингслей» и «Эмерсон» только и были. Как бы хорошо было, если бы вы их поместили1. — На другой день после вас пришло письмо от Иванцова1 2. Он занимался чтением статей и не отчаивается
пропустить их.
Я всё не совсем здоров — печень болит3. И жена больна — она, кажется, выкинула4. Но всё идет нормально. —
Не скучайте и не унывайте, и несите ваш крест, тот самый, кот[орый] для вас сделан.
Прощайте.
Л. Толстой 5 июля 1885 г. Ясная Поляна
Печатается по: ОР Ш7. Ф. 1, №7461. Л. 1. На л. 1 помета Страхова: «5 июл[я] 1885».
Впервые: Юб.
Т. 63. С. 372 (по копии).
Датируется по помете Страхова. Ответ на п. 335.
1 См. примеч. 2, 3 к п. 335, а также п. 337.
2 Это письмо к Толстому от 25 июня 1885 г. сохранилось. В нем прот. А. М. Иван¬
цов-Платонов сообщал: «...я вновь прочитал оставленные у меня три Ваших сочинения. Два из них — „Исповедь“ и о благотворительности [„Так что же нам делать?“], — мне кажется, не трудно было бы провести в Полном, для всех доступном, Собрании Ва¬
ших сочинений, лишь сделав в них некоторые небольшие и малозначительные выпуски,
365
и присоединить несколько примечаний — более, конечно, пояснительного, чем опровергательного смысла. Но что касается самого, конечно, важного — „В чем моя вера?“, с ним труднее будет сладить. Здесь пришлось бы выкидывать целые главы. Но все-таки большую и наиболее существенную часть сочинения, по моему мнению, можно и нужно было бы провести...» (ОР ГМТ). Около середины мая Толстой передал на отзыв наборные оттиски трех своих работ — «Исповедь», «В чем моя вера», «Так что же нам делать?». Иванцов-Платонов проделал большую критическую работу и снабдил тексты трактатов собственными комментариями и замечаниями, «чтобы смягчить эти сочинения для цензуры» (Толстая. Моя жизнь I. С. 484). Объем подготовленных примечаний к одной только «Исповеди» составил 28 листов (см. также: Юб. Т. 25. С. 752- 753). Тем не менее провести через цензурное ведомство произведения писателя на религиозно-нравственные темы так и не удалось (за исключением сильно урезанной и напечатанной с измененным заглавием — «Мысли, вызванные переписью» — статьи «Так что же нам делать?», вошедшей в 12-ю часть нового издания Сочинений Толстого). Более того, по отзыву (в передаче С. А. Толстой) ознакомившегося с ними обер-прокурора Св. синода К. П. Победоносцева, объяснения Иванцова-Платонова «не только не ослабляют действие» этих трудов Толстого, «но еще усиливают его в отрицательном смысле» (Там же. С. 758; Толстая. Моя жизнь I. С. 495-496). Сам же богослов «относился к сочинениям Льва Николаевича не только не отрицательно», но и вынужденные сокращения текстов предпринимал лишь «с большим прискорбием» и в надежде «спасти всё хорошее», которого, по его словам, в религиозных трактатах Толстого «очень много» (Там же. С. 496). См. п. 338.
3 О переживаемом упадке сил Толстой извещал около этого времени и кн. Л. Д. Урусова: «...я не писал. Нездоровится — печень болела и слабое состояние — ни ума, ни энергии...» (письмо от 4 или 5 июля 1885 г. — Юб. Т. 63. С. 271).
4 18 июня 1884 г. у Толстых родилась дочь Александра, а осенью того же года С. А. Толстая перенесла тяжелую послеродовую женскую болезнь, от которой не оправилась и в 1885 г. (подробнее см.: Толстая. Моя жизнь I. С. 484).
337
28 июля 1885 г. СгроХОВ — ТОЛСТОМУ
Санкт-Петербург
Всё время я занят Вами и мысленно пишу к Вам, бесценный Лев Николаевич. Расскажу по порядку. В Москве я виделся с Аксаковым1 и выслушал от него восторженный отзыв об Ваших рассказах: «Где любовь» 366
и «Упустишь»2. На него повеяло таким духом, что он уже отказывается судить об Вас, говоря, что у Вас свои счеты с Богом, которые нам следует уважать3. Такое же впечатление сделали эти рассказы и на Вл. Соловьева. Он третьего дня приехал сюда4, и я первым делом дал ему эти две книжки. Вообще я всем и каждому их раздаю; продажа их оказалась у самых дверей Библиотеки5, где открылась новая лавочка и где я беру их по 2 коп[ейки]. Сам я не раз их перечитывал и не раз вспоминал о «Двух стариках» и о «Свече»6.
Вот чудесное дело! Наконец Вы нашли ту форму, в которой всего яснее и неотразимее выражаются Ваши мысли. Однако же я далеко не так доволен этими рассказами, как другие. Мне всё мерещится первая половина «Чем люди живы»7, и когда я сравниваю с этим Вашу новую работу, мне ясно, что она сделана с меньшим старанием, а по местам и вовсе небрежно. Если главная сила должна содержаться в изображении души человеческой, то тут у Вас можно указать пропуски и большие пятна. Одно из двух: или рассказ должен быть совершенно анекдотический, как напр[имер], об Марфе и Марии у Луки8, или он должен иметь индивидуальный характер. Сказать, что один мужик поджег у другого дом, а тот простил ему и так его этим удивил, что они стали друзьями, — такой рассказ не будет иметь никакой силы. Но если я рассказываю про Ивана, как про знакомого, и описываю всё, что в нем делалось, — то могу очень увлечь. В Вашем рассказе есть много бесподобного,- но пробелы большие; напр[имер], конец вовсе скомкан. Как они встречались, как затихала в том и другом злоба — это любопытно и трогательно, а этого нет. Простите меня, Лев Николаевич, что я говорю Вам о том, что Вы сами лучше меня знаете. Но так как Вы заняты этими рассказами, то мне ужасно хотелось бы, чтобы из них вышло несравненное чудо, — и Вы можете сделать, и незачем Вам работать на два на три года, когда можете работать на сто и двести лет. Раздумавшись об этом, я пришел к большому вольнодумству. Помните Вы в «В чем моя вера?» главу о разводе?9 Много старания и места Вы употребили, чтобы доказать, что Хри¬
стос не допускал развода. Какой же результат? Если бы Писание была чужая Воля, которой мы должны покоряться, то дело было бы важное; но если Вам хочется доказать, что целомудрие, которое Вам дорого само по себе, как целомудрие, — что оно не только Вам дорого, а было дорого и Христу, то прежде всего и важнее всего показать всю цену целомудрия, а уже потом, для подтверждения, ссылаться на Христа. (Вспомните платоновского «Эвтифрона»10). Эту более важную задачу Вы и исполнили, именно в «Анне Карениной», которая поэтому приносит больше пользы, чем та глава книги «В чем моя вера?».
Буду уже вполне откровенен. В рассказе «Свеча» я нахожу слабым место, где добрый мужик объясняет, почему не следует убивать приказчика11. Для избежания угрызений совести — я так понял. Но нужно бы другое, нужно указать самое основание этих угрызений, что-нибудь положительное — Вы это лучше моего знаете12.
Еще одно привело меня к мыслям об Вас. Я задумал издавать свои критические статьи. И так как оказалось, что я всего больше писал об Тургеневе и об Вас, то я решил сперва выпустить книжку под заглавием: «Критические статьи об И. С. Тургеневе и А. Н. Толстом»13. Перебирая эти статьи, я почувствовал было сперва отвращение к своим писаниям и стал колебаться: стоит ли этот вздор издавать? Но когда дело дошло до статей об Вас, я почувствовал, что в них есть жизнь, что их нужно печатать, и во мне сильней и сильней заиграла моя любовь к Вам, глубокое сочувствие к образу Ваших чувств. Нужно служить по мере сил тому делу, которое Вы начали и ведете; это будет мне отрадою и опорою. В предисловии я постараюсь высказать дело как можно яснее14. Против Тургенева я почти всё время (кроме первой статьи15) враждовал — и то хорошо; не нужно, чтобы эта слава ослепляла; а то из-за восторгов уже ничего разобрать нельзя.
Кроме этого печатания, занимаюсь теперь еще писанием; пишу об Ренане и Тэне16; очень уж набралось много против них17. На здоровье 368
теперь мне грех жаловаться, и тот период скуки, которым начинается всякое одиночество, уже прошел18.
Простите меня, бесценный Лев Николаевич. Графине мое усердное почтение и скажите, что я буду считать себя обиженным, если не продержу корректуры по крайней мере двух томов Вашего Собрания сочинений19. Каковы-то были Ваши разговоры с Градовским?20 Непременно повидаюсь с ним, когда он вернется. Кланяюсь низко всей Ясной Поляне.
Ваш всею душою
Н. Страхов
1885.
28 июля.
Спб.
Статья о Кингслее21 и Эмерсоне22 оказалась несколько безграмотною и мало занимательною. Я ее сдал Мещерскому; наверное, будет напечатана.
1 См. примеч. 15 и 17 к п. 335.
2 См. примеч. 16 к п. 335.
3 В передаче слов И. С. Аксакова Страхов, вероятно, старался быть максимально точным и потому отчасти опирался на более раннее письмо Аксакова от 4 и 9 июня, в котором также содержался близкий по своей содержательно-эмоциональной оценке отзыв о рассказах Толстого «Где любовь, там и Бог» и «Упустишь огонь — не потушишь», выпущенных в 1885 г. издательством «Посредник» при участии «Товарищества И. Д. Сытина». Аксаков писал Страхову, что за эти народные рассказы можно простить Толстому его проповедничество: «Вот такая проповедь — его дело. Но чтобы воспринять благодать такой проповеди, нужно было уготовить почву душевную, просветить и прогреть душу такой искренностью, стать к Святой Истине в такие чистосердечные любовные отношения, тайна которых не подлежит нашему анализу и которые ставят его, автора, вне суда нашего. Очевидно, у него свой конто-коррент с Богом (...) Если Толстой от формы дидактической возвратится к форме художественной, то можно лишь благословить процесс его внутреннего перевоспитания» (Аксаков — Страхов. Переписка. С. 142).
Печатается по: РО ИРЛИ. Ф. 302. Оп. 2. Ед. хр. 300. Л. 113-114. Впервые: Современный мир. 1913. №11. С. 322-325.
369
4 Вл. С. Соловьев приехал в Петербург 25 июля. На следующий день Страхов извещал о его прибытии А. А. Фета: «Вчера (...) приехал сюда Соловьев. Вечером он сидел у меня...» (Фет. Переписка II. С. 399).
5 Имеется в виду Императорская Публичная библиотека в Петербурге.
6 «Два старика» и «Свечка» — народные рассказы Толстого, написанные в 1885 г. (см.: Юб. Т. 25. С. 82-99; 106-113). Сам Страхов познакомился с этими произведениями во время июньского посещения Толстых в Ясной Поляне (см. его письмо к Н. Я. Данилевскому от 18 июня в примеч. 18 к п. 335).
7 Рассказ «Чем люди живы?» создавался в конце 1880 - 1881 г. и был напечатан в декабрьском номере журнала «Детский отдых» (Юб. Т. 25. С. 7-25, 665-668). Для отдельного издания рассказ правился Толстым в начале 1885 г. и был выпущен фирмой «Посредник» весной того же года. Вошел в 12 часть Пятого издания Сочинений Толстого (см. п. 338).
8 Притча о Марфе и Марии: Лк. 10: 39-42.
9 Теме развода посвящена шестая глава в трактате Толстого «В чем моя вера».
10 В диалоге Платона «Эвтифрон» (или «Евтифрон»), примыкающем к «Апологии Сократа», добродетели рассматриваются с точки зрения их ценности для богов (см.: Платон. Избранные диалоги. М., 2007. С. 128-150).
11 Имеются в виду следующие слова персонажа рассказа Петра Михеева: «Грех вы, братцы, великий задумали. Душу погубить — великое дело. Чужую душу погубить легко, да своей-то каково? Он худо делает — перед ним худое. Терпеть, братцы, надо. (...) Я (...) братцы, не свое говорю. Кабы нам показано было зло злом изводить, так бы нам и от Бога закон лежал; а то нам другое показано. Ты станешь зло изводить, а оно в тебя перейдет. Человека убить не мудро, да кровь к душе липнет. Человека убить, душу себе окровянить. Ты думаешь — худого человека убил, думаешь — худо извел, ан глядь, ты в себе худо злее того завел. Покорись беде, и беда покорится» (Юб. Т. 25. С. 108). Разбору рассказа Толстого Страхов посвятил отдельную статью (см.: Новый рассказ гр. Л. Н. Толстого. — Гражданин. 1882. № 10-11. С. 24-25; вошло в: Страхов. Критические статьи I. С. 415-418).
12 О чтении в Ясной Поляне этого письма и критических замечаний Страхова по поводу новых произведениях Толстого см. в дневниковых записях И. М. Ивакина от 1 и 2 августа 1885 г. (ЛН. Т. 69, кн. 2. С. 67-68).
13 Подразумевается первое издание сборника: Страхов Н. Критические статьи об И. С. Тургеневе и Л. Н. Толстом (1862-1885). СПб., 1885.
14 Под авторским предисловием к сборнику стоит дата завершения работы над ним — 29 сентября 1885 г. (во втором и последующих изданиях книги — 22 сентября 1885 г.). Объясняя в нем причины, побудившие его переиздать свои разновременные по происхождению литературно-критические статьи, Страхов прямо указы370
вал на связь этого решения с появлением его новых работ о Толстом: «...моя книга, вероятно, никогда бы не явилась в свет, если бы мне не довелось и в последнее время написать несколько критических статей. Содержание их настолько важно в моих глазах и я настолько доволен их изложением, что с большею смелостию решаюсь предложить их читателям в отдельном издании. Прошу не упускать этого из вида (...) главный центр моей книги, от которого зависит наибольший ее вес, есть, конечно, Толстой. Тут помещены в полном составе статьи, которые могли бы подать мне повод к большой гордости» (Страхов. Критические статьи I. С. И-Ш). Свое понимание существа «служения» Толстого начатому им «делу» Страхов изложил в следующем рассуждении: «Люди с художественным даром часто делают из своего дара забаву; они живут двойною жизнью, то подымаясь в область поэтической свободы, то опускаясь в ту сеть интересов, страстей и привычек, которая составляет их настоящую жизнь. Читая Толстого, можно почувствовать, что для него такая двойственность невозможна, что здесь человек действительно страстно ищет свободы, и, когда найдет для нее точку опоры, уже никогда не покинет ее. / Какой же идеал постоянно раскрывается в этой освобождающейся душе? От самого начала ее борьба и труд имеют ясный смысл, видимо направляются к известной цели. Не скептицизм, не обманутая жадность к жизни, не холод гордости и себялюбия составляют главный нерв этих исканий. Всем теперь очевидно, что от самого начала сочувствия Толстого устремлялись к простому и доброму, что эта освобожденная душа, умеющая видеть жизнь не в отвлеченных формах и не с частных точек зрения, а во всей ее полноте и цельности, упорно доискивается истинной жизни среди всякого рода фальшивых явлений, и что она находит ее только в том, что представляет самую чистую нравственную красоту, чтб бывает просто и смиренно до самоуничижения и в то же время твердо и спокойно до степени высочайшего великодушия. Пусть это называют пантеизмом, или фатализмом, или буддизмом, но во всяком случае пусть принают, что это путь, ведущий к Богу, и что Толстой, вышедши на него, до сих пор идет прямо, а не в обратном направлении» (Там же. С. VII-VIII. — Курсив Страхова).
15 Первая статья Страхова об И. С. Тургеневе была посвящена роману «Отцы и дети» (Время. 1862. № 4. С. 50-84; Страхов. Критические статьи I. С. 1-49).
16 Страхов Н. Историки без принципов. (Заметки об Ренане и Тэне). — Русь. 1885. 24 авг. № 8. С. 7-8; 31 авг. № 9. С. 4-7. Статья вошла в сборник: Страхов Н. Н. Борьба с Западом в нашей литературе: Исторические и критические очерки: Книжка первая. 2-е изд. СПб., 1887. Книга с дарственной надписью: «Бесценному Льву Николаевичу Толстому от Н. Страхова» сохранилась в яснополянской библиотеке (см.: Описание ЯПб. Т. 1, ч. 2. С. 281. № 3022).
17 О намерении выступить в печати с размышлениями о творчестве двух современных французских писателей и историков — Э. Ренана и Ип. Тэна, чьи книги широко 371
переводились на русский язык, Страхов сообщил И. С. Аксакову в ответ на его просьбу поддержать своим участием приостанавливаемую на летние месяцы по нездоровью редактора газету «Русь» ко времени ее возобновления (см. письмо Аксакова от 27 февраля 1885 г. — Аксаков — Страхов. Переписка. С. 130). Извещая его через месяц о темах своих возможных работ для «Руси», он между прочим замечал: «Думаю, однако, об „Руси", и кажется, всего лучше писать о прочитанных семи томах Ренана [Histoire des origines du christianisme, 1863-1881. — Сост.] и четырех Тэна [Les origines de la France contemporaine, 1875-1883. — Сост.]; меня это тянет» (письмо от 29 марта. — Там же. С. 132). К лету представление Страхова о рамках и основном содержании предполагаемого труда, вероятно, настолько уяснилось, что он мог уточнить в письме к А. А. Фету его основную мысль: «Прочитал я „Nouvelles études d’histoire religieuse“ [„Новые очерки по истории религии“, фр.] Ренана, да „Souvenirs“ [„Souvenirs d’enfance et de jeunesse“ — „Воспоминания детства и юности“ фр.] его же перечел. Я собираюсь об нем писать для „Руси“. Очень меня поразил глубокий скептицизм, господствующий ныне во Франции; они уже не знают, что такое история, что такое нравственность. Если взять Тэна и Ренана, то можно удивляться, зачем они пишут. Pour s'amuser et pour amuser les autres [Самому развлечься и позабавить других, фр.], — так выражается Ренан. Но чтобы забавлять, нужно затрагивать что-нибудь интересное, хоть, напр[имер], половые органы. И вот один берет христианство, другой революцию, и на всякие лады дразнят людей, для которых есть еще что-то важное, святое в этих предметах. Если бы хорошенько схватить эти контрасты, вышло бы, может быть, недурно» (письмо от 8 или 9 июля 1884 г. — Фет. Переписка IL С. 399). О ходе работы над темой Страхов в конце июля извещал Н. Я. Данилевского: «Еще долго я раскачивался, чтобы писать столько [статью? — Сост.] о Ренане и Тене для Руси и, наконец, кажется, плыву на всех парусах» (письмо от 29 июля. — PB. 1901. Март. С. 141. — Курсив Страхова). Ближе к исходу лета материал был составлен и отправлен в редакцию. «Написал статью „Заметки об Ренане и Тэне“, и дни через четыре она уже явится в „Руси“» — сообщал он 21 августа в Воробьевку (Фет. Переписка II. С. 401). Замысел Страхова был шире итогового воплощения. В написанном в сентябре 1887 г. предисловии ко второму изданию первого сборника «Борьба с Западом в нашей литературе» он отмечал, что подготовленная им статья «почти вся посвящена Ренану», — «о другом историке без принципов, Тэне, тут сделано только несколько общих замечаний; мне не удалось выполнить задуманный план — рассмотреть рядом с Ренаном книгу Тэна Les origines de la France contemporaine [Происхождение современной Франции, фр.] (...) и показать, что автор, сам объявляющий, что у него нет принципов, не мог, по этому самому, понять истории, которую рассказы Н. Я. Данилевского:вает. (...) Без твердых начал, без определенных понятий о человеке и о человеческих отношениях мы, конечно, в истории всегда придем лишь к одному — к неверию в историю, к представлению, что она 372
есть бессмысленная путаница» (СПб., 1887. С. XII). Именно так воспринимал, судя по всему, композицию критического труда Страхова редактор „Руси“, получивший первый материал еще около 12 августа и ожидавший от своего сотрудника продолжения: «Ваша статья идет в следующем №, имеющем выйти послезавтра. (...) Жду теперь от Вас Тэна» (письмо от 21 августа. — Аксаков — Страхов. Переписка. С. 144, 145). Однако развития заявленной темы не последовало, и Аксаков через месяц напоминает об ожидаемом: «Что же (...) продолжение Вашей статьи? С Ренаном покончили, надо приняться за Тэна» (письмо от 21 сентября. — Там же. С. 146). Исполнению задуманного должно было способствовать оставление Страховым ставшей тяготить его службы в Публичной библиотеке: намечавшийся досуг он предполагал использовать в том числе и для оживления своего сотрудничества в «Руси», о чем с готовностью заверял редактора газеты: «Выхожу в отставку из Публичной библиотеки и устроил так, что (...) буду иметь почти все утра свободные. Поэтому я могу гораздо ревностнее служить „Руси“ и уже буду кончать свои статьи» (письмо от 8 декабря. — Там же. С. 150). Тем не менее начатое так и не получило завершения — возможно, отчасти по причине последовавшей в 1886 г. кончины Аксакова и прекращения выхода «Руси». К рассмотрению философских и историософских взглядов французского писателя Страхов вернется позднее в очерке 1893 г. «Заметки об Тэне» (см.: РВ. 1893. Апрель. С. 238-258; вошло в: Страхов. Борьба с Западом III. С. 123-154).
18 Вскоре после возвращения домой из Ясной Поляны Страхов писал в Крым Н. Я. Данилевскому: «С самого же начала в Петербурге я простудился, сходивши в баню, и дня три ходил как угорелый от насморка и всяких катаров. Потом начались у нас жары и стали с каждым днем увеличиваться. (...) Прибавьте к этому, что дом красят, лестницу белят, тротуар стелют асфальтом. Я счел долгом засесть дома, читать и писать после долгой прогулки; но под конец только маюсь и больше ничего» (письмо от 5 июля. — РВ. 1901. Март. С. 138-139). О своих занятиях Страхов извещал А. А. Фета в письме от 27 июля: «Веду я себя не совсем хорошо. Мало пишу, следовательно], мало тружусь, и много читаю, т. е. ленюсь напропалую. Затем — ничего нового...» (Фет. Переписка II. С. 400).
19 Ответ С. А. Толстой см. в п. 338.
20 Вероятно, имеется в виду юрист и публицист Александр Дмитриевич Градовский, с которым Страхов был хорошо знаком (см. примеч. 7 к п. 214). Толстой не откликнулся на вопрос Страхова и содержание его бесед с Градовским остается неизвестным.
21 См. п. 335 и примеч. 2,3 к нему.
22 Речь идет о В. П. Мещерском, издателе-редакторе газеты-журнала «Гражданин».
373
338
22 августа С Д. ТоЛСТйЯ — СтраХОВ/
1885 Г. НоСКВй Москва
22 августа 1885 г.
Многоуважаемый Николай Николаевич,
Я всё собиралась благодарить вас за вторичное предложение держать корректуру1. Но типографии очень ропщут2 и так за посылку в Тулу и грозят, что поздно кончат печатание, которым я очень тороплюсь, так как Салаев3 уже всё продал и я имею право продавать книги хоть сейчас4. Кроме того, Сережа5 взялся помогать и огорчен бы был, если б я отняла у него это дело.
Вот сижу неделю в Москве с моими неспособными сыновьями6. Илья провалился на экзаменах из 7-го в 8-й класс и хочет выбыть из гимназии и жить дома. Я уговариваю его остаться в 7 классе, но он этому не внемлет7.
Лёля держит в 5-й и еще не кончил, завтра будет окончательное решение его судьбы8. Всё это меня очень тянет за душу, и я расстроена ужасно9.
Лев Николаевич с семьей в Ясной и очень весел, здоров и бодр10.
Есть у меня просьба к вам, многоуважаемый Николай Николаевич. Я бы и сама могла обратиться письменно кА. Г. Достоевской за советами, но боюсь быть навязчива, я так мало еще ее знаю1 \ Дело вот в чем: я хочу открыть подписку12 на издание новое, да не знаю, в какой это делается форме. Кроме того, я хотела бы по примеру А. Г. Достоевской разослать циркуляры по казенным заведениям с объявлением о подписке. Так не можете ли вы попросить ее прислать мне копию с объявлений о подписке и копию с циркуляра, который она рассылала. Еще, как вы думаете, Николай Николаевич, можно ли высылать томы не первые по порядку, а те, которые готовы, т. е. 1, 2 и 3 «Войны и мира», 1-й и 2-й «Анны 374
Карениной», составляющие по изданию последние, а не первые части. Будьте милостивы и напишите ваше мнение13.
Была я у Иванцова-Платонова14, он вычеркивает многое из запрещенных статей Льва Николаевича, и советует с предисловием, примечаниями, выпусками и другими заглавиями — напечатать без цензуры последние произведения Льва Николаевича, которые и составили бы 12-й том. Я это непременно сделаю, но кроме того, по совету же Иванцова-Платонова, заручусь частным обещанием Феоктистова15 не препятствовать мне и не задерживать 12-го тома, для чего, по отпечатании 1-го экземпляра, поеду с ним в Петербург16. В этот же том взойдут: «Чем люди живы», «Смерть Ивана Ильича»17, «Два старика» (новый, чудесный рассказ) и еще 3 рассказа из народного издания («Где любовь, там и Бог», «Упустишь огонь — не поймаешь»18 и «Свечка»). Как ваше мнение обо всем этом, дорогой Николай Николаевич? Напишите, пожалуйста, и поподробней о себе, о здоровье, о расположении духа и занятиях. Вы всем нам родной и любимый.
Адресуйте мне: Козловка-Засека.
Крепко жму вашу руку.
Граф[иня] Софья Толстая
1 О помощи Страхова С. А. Толстой в чтении корректур томов Пятого издания Сочинений Толстого см. примеч. 19 к п. 335. Страхов предлагал свое содействие в письмах от 22 (или 23) июня и от 28 июля (п. 335 и 337 соответственно).
2 Речь идет о московских типографиях А. И. Мамонтова и К° и М. Г. Волчанинова, в которых одновременно печаталось новое издание Сочинений Толстого. С. А. Толстая писала мужу из Москвы 21 августа: «Я усердно поправляю корректуры (...) Обе типографии настояли на том, чтоб я держала тут корректуры, все-таки выгода 4 дня. Мне это даже приятно, не так скучаю...» (Толстая С. А. Письма к Л. Н. Толстому. С. 323).
3 Имеется в виду издательско-книгопродавческая фирма «Наследники братьев Салаевых», выпустившая в 1880 г. четвертое по счету собрание Сочинений Толстого в 11 частях (см. п. 256 и примеч. 3 к нему). О состоянии издательских дел С. А. Толстая писала мужу из Москвы 20 августа: «У Салаева книг уже нет, хоть сейчас продавать. Печатается по: ОР ГМТ. Ф. 47.
№ 39399. Л. 1-2 об.
Впервые: ПТСII.
С. 178-179.
375
Я велела брошюровать и открою подписку» (Толстая С. А. Письма к Л. Н. Толстому. С. 322).
4 Все коммерческие операции, связанные с ведением имущественных дел мужа, С. А. Толстая осуществляла на основании полученной от него 21 мая 1883 г. доверенности (Юб. Т. 83. С. 579-581).
5 Старший сын Толстых Сергей Львович.
6 С. А. Толстая приехала в Москву из Ясной Поляны 16 августа и оставалась в городе около недели. О побудительных причинах переезда она вспоминала: «... я должна была поехать в Москву в августе по самым разнообразным делам. Главное дело было переэкзаменовка моего сына Ильи и переходный экзамен Левы, который весной по болезни не мог держать экзаменов. И вот мы втроем переехали в наш хамовнический дом (...) В Москве, кроме сыновей, меня захватили всецело и дела по печатенью. Приходилось днем много ездить по типографиям, бумажным складам, книжным магазинам и с робостью решать вопросы, вновь поставленные мне в жизни» (Толстая. Моя жизнь 1. С. 483-484). Сыновья Толстых держали экзамены в гимназии Л. И. Поливанова.
7 Легкомысленное отношение сына к переэкзаменовке вызвало недовольство С. А. Толстой: «Илья ничего не делал и беззаботно вел себя, как будто ему и не предстояли экзамены, и 20-го августа оказалось, что он на экзаменах провалился, остался в 7-м классе и уехал охотиться в Ясную Поляну, что, собственно, и составляло и радость и цели всей его жизни. / Меня это и возмущало, и огорчало» (Там же. С. 483). Подробнее об этом см. также в письмах С. А. Толстой к мужу (Толстая С. А. Письма к Л. Н. Толстому. С. 313-323). И. Л. Толстой оставил гимназию в октябре 1886 г.
8 Л. Л. Толстой выдержал переходные экзамены из 4-го в 5-й класс Поливановской гимназии, которые он не сдавал весной из-за длительной болезни. Лев Львович — единственный из детей Толстых окончил полный курс очного обучения в гимназии.
9 Огорчение С. А. Толстой низкой успеваемостью сыновей осложнялось и разладом отношений с сыновьями: их отношение к учебе и поведение приводили ее «в отчаяние». Сын Лев «с его нервным и противным состоянием» был с ней «неприятен и даже груб»; Илья, провалив экзамен, «страшно расстроил» мать своей беззаботностью, отчего она не спала и пребывала «в нервном волнении» — «а он свистит, говорит про охоту, поет, врет, наливает красное вино в стакан, ни о чем не думает» и также «очень стал неприятен». «Ужасно скучно и тяжело стало тут жить, — главное бесполезно для мальчиков...», — подводила она в одном из писем к мужу итог их совместной московской жизни (письма от 18,20 и 21 августа. — Толстая С. А. Письма к Л. Н. Толстому. С. 317, 321-323; Толстая. Моя жизнь I. С. 483).
10 Толстой оставался в имении с младшими и старшими детьми. Его письма с известиями о здоровье и занятиях членов семьи и гостей Ясной Поляны см.: Юб. Т. 83. С. 505-510. О бодром состоянии духа писателя С. А. Толстой рассказали приехавшие из Ясной Поляны В. Г. Чертков и П. И. Бирюков. 20 августа она извещала мужа: «Заез¬
жал Чертков с Бирюковым. Они всё рассказали, как у вас; очень, видно, довольны своим пребыванием в Ясной, говорили, что все очень веселы и что никогда не видали Льва Николаевича таким веселым. Вот я и права, что без меня лучше!» ( Толстая С. А. Письма к Л. Н. Толстому. С. 322).
110 знакомстве С. А. Толстой с вдовой Ф. М. Достоевского Анной Григорьевной Достоевской см. примеч. 13,14 к п. 335.
12 Мысль открыть подписку на новое издание поддержал и Толстой; 19 августа 1885 г. в ответ на сообщение жены о ее намерении узнать у Салаевых, «можно ли объявить подписку», он писал жене: «Советую тебе выпустить отпечатанное с подпиской. Если что не доделаешь, не заботься, я могу съездить. — Чертков с Бирюковым] остались нынче утром, до ночи. Я с ними и пишу это письмо. Я его просил поговорить с тобой о подписке и помочь через Сытина, всё это знающего» (Юб. Т. 83. С. 508). На следующий день, после беседы с прежним издателем Сочинений Толстого, С. А. Толстая, вероятно, утвердилась в своем предположении и известила о принятом решении мужа: «У Салаева книг уже нет, хоть сейчас продавать. Я (...) открою подписку» (Толстая С. А. Письма кА. Н. Толстому. С. 318, 322).
13 В своих поздних мемуарах С. А. Толстая с благодарностью отмечала деятельное участие Страхова в обсуждении деловых аспектов предпринятого ею издания: «Перед тем как открыть подписку на сочинения Толстого, я написала Николаю Николаевичу Страхову, прося его спросить Анну Григорьевну Достоевскую, как она ведет свои дела по подписке и продаже сочинений своего мужа. Страхов мне дает тоже разные советы... » (Толстая. Моя жизнь 1. С. 485).
14 См. примеч. 20 к п. 335 и примеч. 2 к п. 336. О своем посещении протоиерея А. М. Иванцова-Платонова и его советах относительно издания статей Толстого на религиозно-нравственные темы С. А. Толстая подробно рассказала мужу в письме от 18 августа (Толстая С. А. Письма кА. Н. Толстому. С. 317-318).
15 Евгений Михайлович Феоктистов, начальник Главного управления по делам печати.
16 Эта поездка состоялась во второй половине ноября 1885 г. Подробнее см.: Толстая. Моя жизнь I. С. 493-496; Толстая С. А. Письма к Л. Н. Толстому. С. 337-348.
17 Работу над повестью «Смерть Ивана Ильича» Толстой начал в ноябре 1881 г. и завершил ее после продолжительного перерыва только в феврале - марте 1886 г. (Юб. Т. 26. С. 61-113; 678-681). В письме к кн. Л. Д. Урусову от 20 (?) августа 1885 г. он сообщал: «Теперь я прихожу (...) в писательское состояние и хочется писать, а работы слишком много. Начал нынче кончать и продолжать смерть И [ванна] И[льича]. Я, кажется, рассказывал вам план: описание простой смерти простого человека, описывая из него. Жены рожденье 22-го и все наши ей готовят подарки, а она просила кончить эту вещь к ее новому изданию, и вот я хочу сделать ей „сюрприз“ и от себя» (Там же. Т. 63. С. 282). Согласно воспоминаниям жены писателя, «рассказ» был подарен 377
ей несколько позже: «Он в то время, осенью, его кончил, отделывал и, вложив в портфель, подарил мне его в день моих именин, 17-го сентября, сказав мне, что это его подарок к именинам для нового моего издания. Я очень была этому и рада, и благодарна; но впоследствии Лев Николаевич был настолько недобросовестен, что отнял у меня этот рассказ и отдал на общее пользование, как и всё, что он писал после 1881 года» (Толстая. Моя жизнь I. С. 485). Повесть будет напечатана в 12-й части Пятого издания собрания Сочинений Толстого.
18 Имеется в виду рассказ «Упустишь огонь — не потушишь».
29 августа 1885 г. Санкт-Петербург
339
Страхов — С Л. Толстой
Многоуважаемая Софья Андреевна,
Очень меня огорчило, что ускользнула от меня маленькая услуга, которую мог бы Вам сделать. Но надеюсь, что Вы меня вознаградите, я буквально, а не на словах только к Вашим услугам. Анны Григорьевны1 здесь еще нет, но как только она явится, я отберу от нее копии всех ее ловких приемов и объявлений и пришлю к Вам. Всё, что Вы пишете о Ваших планах, могу только подтвердить и одобрить. Выпускать томы не по порядку есть дело самое обыкновенное, и никому не придет в голову осуждать Вас за это. Что касается до 12-го тома, то, при цензуре Иванцова-Платонова, смело можно рискнуть выпустить его2. Впрочем, времена нынче жестокие, и, пожалуй, Ваши предосторожности не будут лишние.
Еще раз повторяю — всё исполню, и прошу поручений и приказов. Не выпускайте ничего раньше 1-го октября — это лучший срок — наверное.
Ваши вести об детях очень огорчили меня. Сережа3 один всё сделал как следует; недаром я за что-то всегда так любил его. Заботы о детях всегда казались мне страшно трудными, и вот за что Бог не дал мне узнать ни этих радостей, ни этих горестей.
378
Душевно благодарю Вас, графиня, за то, что осведомляетесь обо мне. Здоровье мое совсем наладилось, и душевно я большею частью в том равновесии, которого так добиваюсь, и часто понапрасну4. Занятия мои — книги, которые постоянно меня втягивают и мешают мне во всяком деле5. Однако я написал статью для «Руси» об Ренане и Тэне6, она теперь уже напечатана. Кроме того, я собрал старое свое писанье и выпущу к октябрю целую книгу — «Критические статьи об И. С. Тургеневе и Л. Н. Толстом»7. Печатанье уже в половине. И конечно, в предисловии я буду опять преклоняться перед Львом Николаевичем8, как перед путеводною звездою.
С Фетом идет переписка, с его стороны очень деятельная, с моей ленивая9. С Владимиром] Соловьевым мы видимся каждый день, очень сблизились, хотя он (сидя со мною рядом в Библиотеке) всё сообщает мне аргументы в пользу папства10.
Вот и вся моя одинокая жизнь. На дачу во всё лето я съездил всего три раза. Погода с августа стоит холодная, как в октябре, и в настоящую минуту отвратительна.
Итак — как только захвачу Достоевскую1 11, сейчас же буду опять писать к Вам; да и она, я думаю, напишет.
Мой душевный привет всей Ясной Поляне!
Ваш глубоко уважающий и преданный
Н. Страхов
1885.
29 авг[уста].
Спб.
Р. 5. Можно ли на Козловку отправлять посылки и заказные письма? Думаю, что нет.
1 А. Г. Достоевская с детьми проводила лето на Кавказе и в Крыму, вернулась в Пе¬
тербург в начале сентября.
Печатается по: ОР ГМТ. Ф. 47. №39517. Л. 1-2. На конверте: «Московско-Курская жел[езная] дорога станция Козловка-Засека. Ее сиятельству Графине Софье Андреевне Толстой». Почтовые штемпели: «29 августа] 1885 С. Петербург», «30 августа] 1885 Москва». Впервые: ПТСII. С. 181-182. Ответ на п. 338.
379
2 Страхов имеет в виду совет А. М. Иванцова-Платонова относительно подготовки к печати 12-й части нового издания Сочинений Толстого (см. п. 338). Об этой практической рекомендации С. А. Толстая писала мужу 18 августа: «Печатать он советует без цензуры, но заручившись вперед устным обещанием Феоктистова — не запрещать. Советует непременно, набрав и напечатав статьи, в их окончательном виде послать Феоктистову и непременно самой ехать в Петербург, и лично хлопотать. Советует поместить непременно последние рассказы, как выражение в образах учения твоего» (Толстая С. А. Письма к А. Н. Толстому. С. 318. — Курсив С. А. Толстой).
3 С. Л. Толстой учился на физико-математическом факультете Московского университета (отделение естественных наук) и закончил его со степенью кандидата, защитив диссертацию по химии; серьезно увлекался музыкой. С. А. Толстая писала о старшем сыне: «Мне часто было жаль его, что он, молодой, как бы от конфуза и некоторой неловкости совсем не ездит в свет, а что, может быть, ему иногда и хочется веселья, плясать (...) и вообще пожить молодой жизнью. А то от лаборатории к роялю и обратно, и только. (...) Если б знал Сережа, с какой глубокой нежностью я часто смотрела на него и как я его всегда горячо любила. Я гордилась и его университетскими, и его музыкальными успехами и любила его деликатную душу, часто скрываемую под какой-то внешней брюзгливостью и даже иногда грубостью» (Толстая. Моя жизнь I. С. 405).
4 О своем физическом состоянии и о расположении духа Страхов за неделю до этого извещал А. А. Фета: «Теперь настает уже осень с холодами и слякотью, и начинается городская жизнь, т. е. начинают меня тормашить и приятеля, и неприятели (...) по Вашему совету, стараюсь не солодеть, да и на здоровье нечего жаловаться» (письмо от 21 августа. — Фет. Переписка II. С. 401).
5 В воспоминаниях о Страхове С. Л. Толстой приводил его суждение о книгах: «Страхов любил книги и в своей квартире в Петербурге он составил себе ценную библиотеку. Он говорил, что частному человеку невозможно составить себе библиотеку не только по всем отраслям знания, но даже по тем отраслям, которые его интересуют. Чем же руководствоваться при выборе книг? Он советовал составлять библиотеку из первоисточников. Так, например, надо иметь самого Канта, самого Шопенгауэра, самого Шекспира, самого Гёте, самого Дарвина и т. д., но не загромождать свою библиотеку теми писателями, которые писали о всех этих авторах (...) Он любил хорошие издания. Он говорил: в книге прежде всего после заглавного листа должно быть помещено оглавление, затем предисловие или введение, затем текст...» (Яснополянский сборник. 1982. С. 130).
6 См. примеч. 16,17 к п. 337.
7 См. примеч. 13 к п. 337. Об этом своем предприятии Страхов сообщал 29 июля Н. Я. Данилевскому: «...к этому же времени (к концу печатания), то есть к 1 октября, я намерен выпустить и свою книжку под таким заглавием: Критические статьи об И. С. Тургеневе иЛ.Н. Толстом. Сначала, когда стал перечитывать свои статьи, было 380
противно; но теперь ничего, втянулся и воображаю себя героем. В общем Тургеневу достанется выговор и Толстому большая похвала» (РВ. 1901. Март. С. 141. — Курсив Страхова).
8 В предисловии Страхов писал: «... главный центр моей книги (...) есть конечно Толстой. (...) Задолго до нынешней славы Толстого (...) я почувствовал великое значение этого писателя и старался объяснить его читателям. Во всяком случае, я могу сослаться на этот факт как на доказательство живости и независимости чувства, внушившего мне поклонение, которое я с тех пор исповедую» (с. Ш-1У). См. также примеч. 14 к п. 337.
9 Письма А. А. Фета к Страхову за 1885 г. не сохранились. Страхов написал Фету за лето пять писем (см.: Фет. Переписка II. С. 397-401).
10 В. С. Соловьев работал над книгой «История и будущность теократии (Исследование всемирно-исторического пути к истинной жизни) »ив связи с этим изучал труды византийских богословов, в частности, константинопольского патриарха Фотия. См. письмо Страхова к Н. Я. Данилевскому от 29 июля 1885 г. (РВ. 1901. Март. С. 141).
11 См. примеч. 2 к п. 343.
340
С Л. Толстая — СтрОХОВУ 9 сентября
1885 г.
Опять я вам надоедаю, многоуважаемый Николай Николаевич! Про- ЯСНАЯ ПОЛЯНО стите меня вперед. Дело вот в чем: мне нужен ваш совет, напишите его откровенно. Лев Николаевич нашел, что помещать новые отрывки без предисловия — нельзя и сказал приблизительно, что написать. Я написала кратко и показала ему, а он велел непременно спросить вас, годится ли так написать, а если не годится, то как?
Не откажите в совете и научите, как быть? Прилагаю при сем это мое краткое предисловие, прочтите его, Николай Николаевич, переделайте как надо1. Еще скажите, приложить ли портрет (у меня есть чудесный, сделанный любителем нынешнее лето)2 или же не прикладывать? Как лучше? — Я вся погрузилась в издание и, кажется, весь мир забыла. Сыновья мои разлетелись, как птицы из гнезда. Один, старший, в Самару 381
Печатается по: ОР ГМТ. Ф. 47. №39400. Л. 1-2 об. На л. 1 помета Страхова «12 сентября] 1885»(дата получения?). Впервые: ПТСII. С. 183-184.
уехал, хозяйничать3. Другой на охоте4, третий в Москве5, куда и все переедем после 1-го октября6. Лев Николаевич пишет понемногу вторую часть «Что же нам делать?»7, но больше ходит в лес рубить деревья, собирать грибы, или пашет, сохой учится управлять так же, как топором8.
Очень стало холодно и безотрадно в деревне, не люблю осень, а в Москве все-таки хуже. Сестра9 еще здесь до 18-го. Вы, верно, уже видели Александра Михайловича10. Он уже давно уехал с Верочкой11.
В октябре приеду хлопотать о своем 12-м томе, и одна из главных радостей в Петербурге будет увидать вас. Так до свидания, добрый, уважаемый Николай Николаевич, все вам усердно кланяются, а я крепко, крепко жму руку.
Искренно преданная вам
Гр. С. Толстая
9 сентября
1885.
1 Проект предисловия С. А. Толстой написан на отдельном листе с более поздней датой рукой Страхова: «1893?» (ОР ГМТ. Ф. 47. № 39424): «В литературном Сборнике 1884 года помещены были краткие отрывки из неоконченного романа „Декабристы“. Благосклонный прием, оказанный читателями этим небольшим отрывкам, поощрил меня напечатать в новом издании еще два неизвестных отрывка, написанных более 25 лет назад. Может быть, и они будут не без интереса для публики.
Отрывки эти, первый, попытка в фантастическом роде, под заглавием: „История одной лошади“, произведение не конченное, я печатаю в том виде, в котором оно написано. Первая часть этого отрывка очевидно закончена, вторая только набросана. Для полноты впечатления печатаю обе. Второй отрывок из деревенского быта под заглавием „Деревенская идиллия“.
В новом, двенадцатом томе имею намерение издать несколько отрывков из последних произведений автора и несколько рассказов из народного быта, написанных в течение последних лет.
Издательница ».
Необходимость помещения предисловия «От издательницы» в одном из томов издания отпала, так как за время исполнения типографских работ Толстой дописал повесть «История одной лошади», придав ей законченный вид. «История лошади» — 382
с новым заголовком «Холстомер» — вошла в 3-ю часть Сочинений, фрагменты из романа «Декабристы» были напечатаны во 2-й части издания, а «Деревенская идиллия» опубликована не была. См. также п. 342 и примеч. 7 к нему.
2 Вероятно, С. А. Толстая имеет в виду фотографию, сделанную кн. С. С. Абамеликом-Лазаревым летом 1885 г. в Ясной Поляне. 12-ая часть Пятого издания Сочинений Толстого вышла с портретом писателя (см. п. 242 и примеч. 5 к нему).
3 После окончания университета С. Л. Толстой некоторое время по желанию матери вел дела в самарском имении. См.: Очерки былого. С. 158-160. С. А. Толстая вспоминала: «Старшие дети все-таки жалели иногда меня и помогали мне. В августе Сережа вызвался ехать в самарское имение и устроить там хозяйственные дела» (Толстая. Моя жизнь I. С. 481).
4 Илья Львович Толстой. С. А. Толстая писала о нем: «Илья ничего не делал и беззаботно вел себя, как будто ему и не предстояли экзамены, и 20-го августа оказалось, что он на экзаменах провалился, остался в 7-м классе и уехал охотиться в Ясную Поляну, что, собственно, и составляло и радость и цели всей его жизни» (Там же. С. 483).
5 Лев Львович Толстой выдержал экзамены и продолжал учиться в гимназии, директором которой был Л. И. Поливанов.
6 Толстые (кроме самого писателя) уехали в Москву 11 октября (см. письмо Толстого В. Г. Черткову от 11 октября. — Юб. Т. 85. С. 261). Через день С. А. Толстая сообщала мужу в Ясную Поляну о своей московской жизни: «... так тоскливо в Москве, что на меня нашло какое-то злобное отчаяние. И думала я: приехала я, чтоб сыновей любимых видеть и жить с ними и для них — а они злобны, просят денег, а любви мало. / Приехала дела делать, думала, что денег для них же, для детей, нужно — они этого и знать не хотят; будто мое издание и все дела какой-то мой каприз, фантазия (...) мне трудно и обидно» (письмо от 13 октября. — Толстая С. А. Письма к Л. Н. Толстому. С. 325).
7 Толстой продолжал работу над трактатом «Так что же нам делать?» до конца года.
8 О творческой работе писателя С. А. Толстая вспоминала: «В октябре вся семья наша переехала в Москву, кроме Льва Николаевича, оставшегося для занятий в Ясной Поляне. Он продолжал исправлять „Смерть Ивана Ильича", „Историю лошади" и „Сказку [об Иване-дураке и двух его братьях: Семене-воине и Тарасе-брюхане, и немой сестре Маланье, и о старом дьяволе и трех чертенятах]“, которую быстро написал в эту осень, очень радуясь на ее содержание. (...) Кроме того, он продолжал свою статью „Так что ж нам делать?“» (Толстая. Моя жизнь I. С. 487).
9 Т. А. Кузминская.
10 А. М. Кузмнский.
1114-летняя дочь А. М. и Т. А. Кузминских.
383
18 сентября 1885 г. Санкт-Петербург
341
Страхов — С Л. Толстой
Многоуважаемая графиня.
Покорно благодарю Вас за поручения, и такие приятные! Как приехала Анна Григорьевна1, я передал ей Вашу просьбу. А она принялась так Вас хвалить, так выражать свою любовь к Вам и готовность служить, что казалось, никогда бы не кончила. Теперь, верно, Вы что-нибудь от нее да получили2. Предисловие, конечно, немножко нужно, а главное — очень полезно, обращает внимание. Я переделал его с большим старанием и посылаю Вам свой проект3. Мне очень хотелось: 1. избежать личных местоимений, я, мой; поэтому глухо сказано: пришла мысль; можете, если пожелаете, прибавить: мне, и даже с позволения автора, но мне хотелось, чтобы Вы лично не обращались к презренной публике; 2. выставить как можно яснее преимущества нового издания. Кажется, я сделал так, что не похоже на рекламу. Портрет прилагайте непременно; это будет самою приятною новостью и даст изданию удивительный успех. Вообще я жду с нетерпением этого издания; все предыдущие были плохи, даже несносно плохи; а это, при Вашем внимании, выйдет почти образцовым.
Александра Михайловича я еще не видал, хотя много раз к нему собирался. Но он, верно, занят, не делом, так охотой и развлечениями. Сам я нынче так здоров, что даже удивляюсь. Не обновляется ли молодость моя?4 Приписываю это тому, что все вечера сижу за корректурами5 и книгами.
Низкий мой поклон Льву Николаевичу. Держу корректуру своих статей об нем (для издания особой книгой) и с радостью нахожу всё те же мысли и те же чувства, которые к нему и теперь питаю6. Несравненный человек!
Простите меня. Давайте сколько можно больше поручений; буду исполнять и благодарить.
384
Ваш душевно преданный
Н. Страхов
1885.
18 сентября].
Спб.
1 См. примеч. 1 к п. 339.
2 В воспоминаниях С. А. Толстая рассказывала: «От Анны Григорьевны Достоевской я в то время получила длинное письмо, в котором она советует мне печатать как можно меньше объявлений в газетах, потому что это и дорого, и бесцельно; а напечатать обращение к публике, вроде циркуляра с предложением подписаться на Полное собрание сочинений Толстого с рассрочкой платежа, что я вскоре после этого и сделала... » (Толстая. Моя жизнь I. С. 485).
3 См. примеч. 1 к п. 340. Проект предисловия, исправленный Страховым, написан на л. 2-2 об. настоящего письма:
«От издательницы.
Благосклонный прием, который оказали читатели небольшим отрывкам из романа „Декабристы", появившимся сперва в сборнике „XXV лет Литературного фонда" (СПб., 1884) и вновь являющимся в этом томе, подал мысль поместить тут же еще два неизданных отрывка, написанных более 25-ти лет назад.
Отрывок под заглавием „История одной лошади" есть попытка в фантастическом роде. Он состоит из двух частей, из которых первая закончена, а вторая только набросана. Для полноты впечатления помещены и эти наброски.
Второй отрывок, „Деревенская идиллия", есть картина из крестьянского быта.
В последнем томе, который прибавится к прежним одиннадцати томам, будут помещены отрывки из не бывших в печати произведений автора за последние годы, а также ряд рассказов из народного быта, написанных в последнее время».
4 Ср: «обновится яко орля юность твоя» (Пс. 102: 5).
5 О своих занятиях в это время Страхов писал 17 сентября А. А. Фету: «Сам я завален всякою работою. / 1. Корректуры „Дарвинизма" [Н. Я. Данилевского]. Он должен выйти в двух толстых книгах в начале октября. / 2. Корректуры моей книги о Тургеневе и Толстом. (...) 3. Полемика с Бутлеровым о спиритизме. Веду ее очень серьезно, хочется много сказать самого существенного. / Затем именины, пятницы, служба, книги, штаны и пр.» (Фет. Переписка И. С. 403).
6 См. примеч. 7,8 к п. 339.
Печатается по: ОР ГМТ. Ф. 47. №39518. Л. 1-2 об. Конверт. На конверте: Тула, губ[ернский] гор[од] (Ясная Поляна) Ее сиятельству Г рафине Софье Андреевне Толстой. Почтовые штемпели: «18 сентября] 1885 С. Петербург», «(нрзб.) Тула». Впервые: ПТСII. С. 185.
Ответ на п. 340.
385
23 сентября 1885 г. Ясная Поляна
342
С Л. Толстая — Страхову
Многоуважаемый Николай Николаевич,
Вы так добродушно относитесь ко всем моим поручениям и надоеданиям, что я поневоле поверила, что вам это всё не скучно и не трудно, и теперь совсем уж стала храбра и опять хочу просить вас об одной вещи.
Вот в чем дело.
Содержание 12-го тома будет следующее. «Исповедь», «В чем моя вера?» и «Что ж нам делать?»1. Все эти статьи сокращенные, под другими заглавиями и с примечаниями (очень пошлыми и наивными) Читателя, т. е. Иванцова-Платонова2.
Затем в этом томе будут: «Смерть Ивана Ильича», «Чем люди живы» и 4 рассказа из народного быта3, написанные недавно для издания «Посредника» (Сытинское). Еще, вероятно, Лев Николаевич мне даст «Сказку»4, написанную 3 дня тому назад,- чудо какая сказка! Он ее отделывает и очень ей занят5.
К этому 12-му тому надо написать коротенькое и очень тонкое предисловие. В нем надо выяснить, что статьи сокращены, надо сказать чтонибудь о примечаниях Читателя, который, несмотря на свое крайне православное направление, находит много истин и полезных мыслей в этих статьях, надо указать на христианское направление во всем томе, и всё это надо сделать без обращения к публике и совершенно безлично.
Ваше маленькое предисловие я напечатаю6, как вы мне его написали, и очень, очень благодарю вас, оно прекрасно. Напишите мне и к 12-му тому, пожалуйста! К 12-му тому мне сегодня Лев Николаевич подарил обещание сделать свой новый портрет7. Сегодня наш свадебный день, 23 года.
Радуюсь, что вы здоровы и помолодели. Ведь Л. Н. говорит, что старости нет; и для вас, живущего вечно в духовном и умственном мире, 386
и не будет никогда старости. А работа духовная уравновешивает человека. Не потраченная, материальная сторона человеческой натуры только выигрывает от отдыха, и вот почему можно и в ваши года помолодеть.
Прилагаю маленький набросок Льва Николаевича8, как приблизительно написать предисловие, и надеюсь, что вы его пополните и исправите по вашему усмотрению.
От А. Г. Достоевской я еще ничего не получала9. Спасибо вам, что опять побеспокоились и спрашивали о моих делах, и спасибо ей за незаслуженное расположение.
Сейчас получили телеграмму о смерти кн[яз]я Урусова!10 Как ужасно жаль его, как больно за его последние дни жизни, как грустно, что одним дорогим другом меньше на свете!
Лев Николаевич огорчен тоже. Он вам сердечно кланяется; не пишет, потому что страшно занят писательством последнее время и в чудесном расположении духа. В Москву мы переедем 12 октября1 11.
С нетерпением жду вашу книгу12, дорогой Николай Николаевич, будьте подольше молоды, здоровы и веселы.
Жму вам крепко руку и благодарю, благодарю бесконечно.
Гр. С. Толстая 23 сентября 1885.
1 Трактаты «Исповедь» и «В чем моя вера?» не были дозволены цензурой к помещению в 12-ю часть Сочинений Толстого. Статья «Так что же нам делать?» подверглась по настоянию цензуры существенному сокращению и напечатана под измененным заглавием «Мысли, вызванные переписью».
2 См. примеч. 20 к п. 335, примеч. 2 к п. 336, примеч. 14 к п. 338, примеч. 2 к п. 339. Примечания А. М. Иванцова-Платонова не публиковались.
3 Речь идет о рассказах «Упустишь огонь — не потушишь», «Свечка», «Два старика», «Где любовь, там и Бог» (Юб. Т. 25).
4 Имеется в виду «Сказка об Иване-Дураке и его двух братьях: Семене-воине и Тарасе-брюхане и немой сестре Маланье, и о старом дьяволе и трех чертенятах» (Юб. Т. 25. С. 115-138).
5 Основная работа над произведением была проделана Толстым в сентябре - октябре 1885 г. «Сказка» была «обещана» писателем С. А. Толстой для включения в со-
Печатается по: ОР ГМТ. Ф. 47. №39401.
Л. 1-2об. Нал. 1 помета Страхова: «23 сентября] 1885».
Впервые: ПТСII.
С. 187-188. Ответ на п. 341.
387
30 сентября 1885 г. Санкт-Петербург
став 12-й части собрания его Сочинений (подробнее см.: Юб. Т. 25. С. 715-717). Относительно публикации и предположения напечатать ее сначала массовым тиражом Толстой писал жене из Ясной Поляны 19 октября: «Я подумал, не лучше ли в самом деле в полное издание, как ты хотела; так что я отложил до твоей поездки в П[етер[б]ур]г; там с Страховым рассудите» (Там же. Т. 83. С. 518).
6 См. примеч. 1 к п. 340 и примеч. 3 к п. 341.
7 Портрет Толстого был изготовлен в студии известного московского фотоателье «Шерер, Набгольц и К°» в Старом Газетном переулке — вероятно, в конце ноября 1885 г. (см. об этом в воспоминаниях И. М. Ивакина. — АН. Т. 69, кн. 2. С. 74).
8 С. А. Толстая послала Страхову копию с краткого предисловия Толстого к 12 тому пятого издания «Сочинений» на отдельном листе (ОР ГМТ. Ф. 47. № 39425 с датой Страхова «1893 ?» ):
«Предисловие Л[ьва] Николаевича]
Предлагаемый том содержит в себе, кроме 4-х народных рассказов, отрывка под заглавием ,,С[мерть] И [вана] И[льича]“ и вновь написанной сказки, содержит в себе три статьи, не появлявшиеся в печати в России. Статьи эти печатаются с некоторыми исключениями и примечаниями. Исключения тех мест, которые могли бы вызвать недоразумения, и примечания, объясняющие значение мест, могущих вызвать неправильные толкования, сделаны компетентным в этом деле лицом, к которому автор относится с уважением и доверием». Ср. также в: Юб. Т. 25. С. 753.
9 См. примеч. 2 к п. 341.
10 Л. Д. Урусов умер от разрыва аорты в Дятькове Брянского уезда, имении, принадлежавшем родственникам его жены Мальцовым. Летом 1885 г., узнав о безнадежном состоянии Урусова, С. А. Толстая с дочерями Татьяной и Марией, навестила его в Дятькове (см.: Толстая. Моя жизнь I. С. 481-483).
11 См. примеч. 6 к п. 340.
12 См. примеч. 7,8 к п. 339. В сохранившемся книжном фонде библиотеки Толстого в Ясной Поляне «Критические статьи об И. С. Тургеневе и Л. Н. Толстом» представлены вторым изданием (СПб., 1887. — ОписаниеЯПб. Т. 1, ч. 2. С. 282-283. №. 3032).
343
Страхов — С Л. Толстой
Многоуважаемая графиня.
Вот мой проект, и с вариантами1. Покорно Вас благодарю! Всё это — мне удовольствие. Анна Григорьевна очень передо мною извинялась и, 388
конечно, поправит дело и напишет Вам2 о себе и о делах больше и лучше, чем я умею.
Известия Ваши и радостны и горестны. Смерть Урусова3 — настоящее горе для тех, кто понимал его; в нем светилась чистота, на которую смотреть отрадно и полезно. Но к смерти вообще я уже привык. Не проходит года, чтобы не умерли три-четыре человека, которых хорошо знал. И сам уже начинаю ждать...
Что Лев Николаевич пишет, это мне самое сладкое. Написал я ему новую похвалу в предисловии к своей книге4. Завтра, вероятно, подпишу последнюю корректуру, и дней через десять книга появится.
Всё хорошо, но я опять заскрипел; никак не могу привыкнуть к этим переменам в своем здоровье.
Простите, что немножко и запоздал — много столкнулось забот, от которых через неделю буду, я думаю, совершенно свободен5. Я должен еще выпустить «Дарвинизм» Данилевского. Вот сколько разных литературных новостей!
От всей души желаю Вам Вашей всегдашней бодрости и сохранения всего Вашего счастья.
Сегодня заходил к Кузминским и не застал их. Петербург, как видите, не только соединяет людей, но иногда и разделяет.
Простите, многоуважаемая графиня, — и еще поручений! Льву Николаевичу и всей Ясной Поляне — сердечный поклон.
Ваш преданный и благодарный
Н. Страхов
1885.
30 сент[ября].
Спб.
Печатается по: ОР ГМТ. Ф. 47. № 39519. Л. 1-2 об. Конверт. На конверте: «Тула, губ[ернский] гор[од]. Ее сиятельству Графине Софье Андреевне Толстой». Почтовые штемпели: «1 октября] 1885 С. Петербург», «2 октября] 1885 Тула».
Впервые: ПТСII. С. 189.
Ответ на п. 342.
1 Проект предисловия к 12-й части Сочинений Толстого написан на отдельном листе. Предположенный С. А. Толстой состав тома претерпел существенные изменения в результате вмешательства цензуры (примеч. 1 к п. 342), и надобность в сопроводи-
389
15 октября
1885 г. Поскво
Печатается по: ОР ГМТ.Ф. 47. №1133.
Л. 1-1 об.
Впервые: ПТСII.
С. 191.
Год устанавливается по содержанию (ср. с п. 342).
тельном разъяснении отпала. Предисловие напечатано не было. См. также примеч. 8 к п. 342.
2 А. Г. Достоевская написала С. А. Толстой 1 октября 1885 г. большое письмо, в котором приводила немало полезных сведений и давала практические советы по изданию и продаже книг. См.: Мир филологии. М., 2000. С. 293-296.
3 См. примеч. 10 к п. 342.
4 См. примеч. 14 к п. 337 и примеч. 7, 8 к п. 339. «Похвалы» Толстому некоторые корреспонденты Страхова нашли преувеличенными. Книга не понравилась А. А. Фету (см. письмо Страхова от 17 ноября. — Фет. Переписка II. С. 406) и вызвала критичнеский отклик И. С. Аксакова, заметившего в одном из своих обращений к Страхову: «Относительно Толстого нахожу, что Вы не довольно строги к нему даже как к художнику. В нем слишком много сырого таланта» (письмо от 16 ноября. — Аксаков — Страхов. Переписка. С. 148. — Курсив Аксакова).
5 См. примеч. 5 к п. 341.
344
С А. Толстая — Страхову
Многоуважаемый Николай Николаевич,
Посылаю две обертки1. У меня явилось страстное желание напечатать красными буквами, в воспоминание о «Войне и мире»2. Но тут многие, и особенно типографии, отсоветывают. Как вы скажете, так и будет. Но ответ очень к спеху, и потому, пожалуйста, телеграфируйте, черными, или красными буквами мне печатать3. В конце этого месяца буду в Петербурге4 и не забуду отдать свой долг за эту телеграмму.
Ответьте в Москву. Мы переехали 12-го. Лев Николаевич еще в Ясной5. Спешу с изданием и хлопочу ужасно. Извините за эту записочку; как-нибудь напишу хорошее письмо, когда будет что, а пока благодарствуйте за вечную готовность помочь и простите.
Гр. С. Толстая
15 октября.
390
1 Имеются в виду печатные обложки книг Пятого издания Сочинений Толстого.
2 Заглавие романа «Война и мир» в первом отдельном издании 1868 г. напечатано красным цветом.
3 Телеграмма Страхова неизвестна. В печати обложек и титульных листов всех частей нового издания использована типографская краска черного цвета.
4 С. А. Толстая намеревалась ехать в Петербург, чтобы добиться цензурного разрешения на выход 12-й части Сочинений Толстого в предположенном ею составе.
5 Толстой переехал на зиму в Москву 1 ноября (Гусев. Летопись I. С. 618).
345 Страхов — Толстому
Много от Вас, бесценный Лев Николаевич, доходит до меня и вестей, и вопросов, и писаний; но я становлюсь чем дальше, тем медлительнее, — простите, что до сих пор не писал к Вам. Прежде всего — я Вас не послушался; Татьяна Андреевна1 передавала Ваш совет — не отвечать спиритам2. Почему? — она не могла хорошенько объяснить. Между тем я считал долгом — на этот раз обстоятельно ответить. Много мне стоило это труда, по путанице мыслей и по невольному лукавству Бутлерова3. Но, по крайней мере, теперь я считаю правильную полемику конченною, и если буду писать, то могу свободно остановиться на той мысли, на какой захочу. Статья готова, переписана, выправлена и сегодня сдана в «Новое время»4. Буду ждать напечатания и Вашего суда. Прошу Вас также взглянуть на «Критические статьи»5, которые я Вам послал. И предисловие и последняя статья о Вас6 заслужат ли Ваше одобрение? Если недовольны — браните, но не оставайтесь равнодушны.
Кроме своей книги, я кончил издание «Дарвинизма» Н. Я. Данилевского7. Всё это вместе так меня поглощало, что я почти ни к кому не ходил и всё сижу дома (вечера).
Новых Ваших писаний я прочел два: письмо к X. X. (Калмыкова8 говорила — к Энгельгарту?9) и сказку10. Письмо меня привело в восхище-
26 октября 1885 г. Санкт-Петербург
391
ние — ясностью, чувством, силою и искренностью; но сказка — опечалила, так что я дни два ходил раненый. Никогда я не сужу о писаниях по тому, согласен ли я с ними, или не согласен. Но если мне слышится чувство, работа ума, творчества, даже злоба, даже ярая чувственность — я доволен, потому что передо мною живое явление, которое мне годится, лишь бы я умел употребить его с пользою. Но если передо мною сочинение, стихи без поэзии, картина без живописи, сказка без сказочного содержания, то я вижу, что передо мною что-то деланное, ненатуральное, умышленно сплетенное и принимающее на себя маску жизни — и мне становится только досадно за напрасную трату сил, за высокие цели, для которых употребляются низкие средства. Вы — такой удивительный художник, не имеете права так писать. Голое нравоучение, голое рассуждение — вещь прекрасная; хорош коротенький анекдот в роде эзоповой басни; но длинный рассказ — должен быть художественною работою. Помню, я сердился на Тургенева за «Новь»11 и думал: не стыдно ли наплести столько сочиненных страниц! Ведь он знает, что значит писать с вдохновением; ведь он не начинающий мальчик, который пишет не то, что хочется, а в подражание тому, как другие пишут, и еще не знает, что значит настоящее писание. Следовательно, если у него не было вдохновения, если работа не шла тем ходом, как прежде, он должен бросить ее и молчать. И Вы, конечно, знаете, что значит снять все покровы с лица или происшествия, которое описываете, и наоборот, что значит слегка оболванить сюжет, что значит написать и что значит набросать. Зачем же Вы всё только набрасываете?
Голое нравоучение в рассказе потому нехорошо, что оно уничтожает интерес рассказа, что оно самый лучший рассказ делает фальшивым, умышленным, отнимает от него естественность. Вторая половина Вашей сказки не имеет ни главной нити, ни живых лиц, ни живых сцен. А содержания, то есть поучительных тем, Вы вложили столько, что оно торчит большими глыбами, и его хватило бы на двадцать таких сказок. А от недостатка художественного развития вышли неверности. Вы дока392
зываете, что государством, войной, торговлею жить нельзя, а Франция, Англия, Германия живут,- вы пишете, что враг ушел бы из мирной страны, а англичане и не думают уходить из Индии. Враг завладеет землею, обратит туземцев в рабов и пр. Словом, тут множество тем, которые в разных видах уже осуществлялись в истории, и нужно с большою меткостью указать уродливость этого осуществления.
А главное, — простите меня, дорогой Лев Николаевич, прием доказательства не выдерживает критики. Верховный аргумент Ваш — счастие, благополучие. Им, однако, я думаю, ничего нельзя доказать. Каждый счастье выбирает по-своему, и если Вы не покажете, что свято пострадать и умереть счастливее, чем жить долго и богато с большими ли, или малыми грехами, — Вы ничего не докажете. Спасти душу — вот единое счастье. Добродетель — сама себе награда, как пишется в прописях.
Отчего Вам не писать сказок? Их писали и Вольтер12, и Мор13, и Бакон14, и Платон15. И Вы можете написать не хуже. Но, имея такой громадный авторитет, зная, что всё Вами писанное будут читать с жадностью, зная, что большинство неразборчиво и удовольствуется самою небрежною формою, — Вы пренебрегаете работою. Простите мне, ради Бога, что я так прямо пишу. Разве, Вы думаете, мне не хотелось бы, чтобы всякое слово Ваше блестело и звенело? Разве для самого дела не важно, чтобы все, и умники, и простяки, одинаково не могли устоять против Вашей речи? Сегодня еще я слышал, как люди, резко Вас осуждающие, восхищались без меры маленькими отрывками из Вашего рассказа «О переписи», перепечатанными в «Новом времени»16. Значит, Вы будете неотразимы и покорите самых упорных, если только сами захотите17.
Еще раз, простите и простите. Мне, горемычному, любовь к Вам и сочувствие к глубокому духу Ваших писаний — великое утешение в жизни, чуть не половина ее содержания.
Общественные дела, и внешние, и внутренние, нагоняют на меня тоску все больше и больше. Право, грустно умирать, не имея, чему порадоваться, чему пожелать успеха. Пустое брожение, притом болезненное, 393
содержащее семена разных зол и неизвестно какого блага18. Сам я здоровее обыкновенного, и когда подумаю, скоро ли! то вижу, что еще долго придется ждать.
Простите Вашего
всей душою преданного
Н. Страхова
1885.
26 окт[ября].
Спб.
Печатается по: РО ИРЛИ. Ф. 302. Оп. 2. Ед. хр. 300. Л. 115-116.
Впервые: Современный мир. 1913. № 11. С. 325-327.
А. М. Калмыкова очень мила, и приятна мне своими южными манерами и речами19. Но какое в ней беспокойство!20 Негде, негде отдыхать душою.
Сегодня была у меня Татьяна Андреевна с мужем21 — во всем блеске здоровья и своих очарований. Очень меня это утешило и утешает. Они оба добрей ко мне, чем я того стою.
1 Т. А. Кузминская, через которую Страхов получал в Петербурге известия о Толстом. Так, около середины октября Толстой писал ей: «Вели Маше [М. А. Кузминской. — Сост.] за меня поцеловать милого Ник[олая] Николаевича] и скажи ему, что, кроме желания знать то, что он хотел сказать вам об Иване дураке [сказка Толстого. — Сост.], я часто думаю о нем, и желал бы очень знать его мнение о моем писании об органической и эволюционной теории в науке [главы ХХУ111-ХХХУ1 статьи «Так что же нам делать?». — Сост.], к[оторую] я считаю суеверным вероучением царствующей науки. — Он поймет все эти страшные слова» (письмо от 15-18 октября 1885 г. — Юб. Т. 63. С. 290).
2 Страхов начал полемизировать с убежденными сторонниками спиритизма, видными учеными Н. П. Вагнером и А. М. Бутлеровым, в 1876 г. (см. примеч. 5 к п. 128). В середине 1880-х гг. он продолжил спор с профессором А. М. Бутлеровым как наиболее глубоким в своих суждениях оппонентом (см. примеч. 12 к п. 322 и примеч. 6, 8 к п. 326). Возражение на натурфилософские построения Бутлерова — статья «Физическая теория спиритизма» (НВ. 1885. 26 февр. № 3232) — вызвало ответ ученого, который по случайному обстоятельству не попал в печать. Обмен мнениями столь увлек Страхова, что он не без сожаления извещал Н. Я. Данилевского 29 июля 1885 г.: «А со мною какая беда! Бутлеров написал мне ответ, но редакция Нового Времени его 394
потеряла. Хлопотал я, чтобы разыскали, но напрасно. Хочу обратиться к Бутлерову лично и просить восстановить, досада несказанная!» (РВ. 1901. Март. С. 141. — Курсив Страхова). Ознакомившись наконец с контрдоводами ученого (Бутлеров А. М. Медиумизм и умозрение без опыта. Ответ г. Страхову. — НВ. 1885. 27 авг. № 3411), Страхов писал А. А. Фету 17 сентября 1885 г.: «Полемика с Бутлеровым о спиритизме. Веду ее очень серьезно, хочется много сказать самого существенного» (Фет. Переписка II. С. 403). Несмотря на советы Толстого не втягиваться в дискуссию, Страхов вновь выступил в печати с развернутым опровержением аргументов противника (Страхов Н. Закономерность стихий и понятий. Открытое письмо к А. М. Бутлерову. — НВ. 1885. 11 нояб. № 3487,- 26 нояб. № 3502). Полемика прекратилась ввиду смерти Бутлерова в 1886 г. Фет, в отличие от Толстого, одобрительно относился к критическим выступлениям Страхова против спиритизма, называя проводимое им опровержение связи науки и спиритических явлений «божественной темой» (Фет. Переписка II. С. 383). Философской полемике по вопросам познания материи (вещества), энергии, духа Страхов придавал принципиальное значение и свод материалов дискуссии представил в отдельной брошюре «О вечных истинах. (Мой спор о спиритизме)» (СПб., 1887).
3 «Невольное лукавство Бутлерова» Страхов видел, вероятно, в том, что ученый пытался доказывать правомерность спиритических опытов с помощью авторитета науки.
4 Страхов Н. Закономерность стихий и понятий. Открытое письмо к А. М. Бутлерову. — НВ. 1885.11 нояб. № 3487; 26 нояб. № 3502. См. примеч. 2.
5 Страхов Н. Критические статьи об И. С. Тургеневе и Л. Н. Толстом (1862-1885). СПб., 1885. Неизвестно, получил ли Толстой посланную ему книгу. В сохранившемся фонде яснополянской библиотеки первое издание сборника Страхова не представлено. На его втором издании (СПб., 1887) имеются многочисленные карандашные пометы в статьях, посвященных разбору романа «Война и мир», — возможно, следы чтения Толстого (ОписаниеЯПб. Т. 1, ч. 2. С. 282).
6 Речь идет о предисловии Страхова к его книге «Критические статьи об И. С. Тургеневе и Л. Н. Толстом» (с. I-VIII) и о статье «Французская статья об Л. Н. Толстом» (там же. С. 458-484; см. о ней примеч. 18 к п. 327). См. примеч. 14 к п. 337 и примеч. 7, 8 к п. 339.
7 В сентябре Страхов закончил работу по просмотру корректур первого тома обширного критического труда Н. Я. Данилевского «Дарвинизм» (СПб., 1886), который вышел «через несколько дней после его смерти» (Дарвинизм. Критическое исследование Н. Я. Данилевского. Т. 2. СПб., 1889. С. 2). Второй, незавершенный том труда Данилевского Страхов издал в 1889 г.
8 Александра Михайловна Калмыкова (урожд. Чернова), жена председателя департамента Судебной палаты в Харькове, учительница в воскресной школе, автор педаго395
гических статей; в конце июня 1885 г. переехала из Харькова в Петербург, сотрудничала с издательством «Посредник» (см.: Гусев IV. С. 421-427).
9 Письмо Толстого к М. А. Энгельгардту, сыну известного публициста и общественного деятеля А. Н. Энгельгардта (Юб. Т. 63. С. 112-124). Историю этого обращения Энгельгардта, обширный фрагмент его письма Толстому с просьбой высказать свое мнение на изложенные им (Энгельгардтом) взгляды о несоответствии официального церковного христианства духу учения Христа см.: Там же. С. 124-127.
10 «Сказка об Иване дураке и его двух братьях: Семене-воине и Тарасе-брюхане и немой сестре Маланье, и о старом дьяволе и трех чертенятах» (см. примеч. 4, 5 к п. 342). Страхов познакомился с произведением по рукописному списку, находившемуся в распоряжении В. Г. Черткова. Сказка впервые опубликована в Пятом издании Сочинений Толстого (Ч. 12. М., 1886).
11 Страхов писал о романе «Новь» в статье «Поминки по Тургеневе» (Русь. 1883. 1 дек. № 23. С. 14-20): «Неудачная „Новь“ представляет лишь отвлеченное и холодное преклонение перед нигилизмом» (Страхов. Критические статьи 1. С. 172). В отличие от Страхова Толстой, из художественных произведений Тургенева, высоко отзывался именно о романе «Новь». Ср. его высказывание о романах Тургенева, записанное И. М. Ивакиным в Ясной Поляне летом 1885 г.: «Русские считают нужным читать Пушкина, Тургенева, Толстого, и этой-то дребеденью заслоняют книги, которые для людей действительно нужны. (...) Тургенев до самой смерти так и занимался в сущности пустяками. Я чувствовал это еще тогда (...) Настоящее лучшее его произведение — „Записки охотника". Тут есть прямая цель. А после ему, очевидно, стало нечего писать, и пошла ужасная чепуха. (...) Я чувствовал, что это чушь и больше ничего... Лаврецкий, Базаров — и это всё мне тоже не нравится. Лучше всего „Новь": тут выведено что-то реальное, соответствующее жизни (...) ведь те движения, представителями которых являются Рудин, Лаврецкий, совершились только в умственной сфере, в поступки не переходили, оттого-то и не могли дать содержание художественному произведению, тогда как „Новь“ могла» (запись от 3 июля. — ЛН. Т. 69, кн. 2. С. 49-50).
12 Среди художественных произведений Вольтера имеется сказка «Микромегас» (1772). Сказочные мотивы присутствуют и в таких его сочинениях, как «Повесть о Задиге» (1748) и «Царица Вавилонская» (1768).
13 Английский писатель и государственный деятель Томас Мор был автором книги «Золотая книжечка, столь же полезная, как и забавная, о наилучшем устройстве государства и о новом острове Утопия» (1511-1516).
14 Вероятно, Страхов имеет в виду содержащее сказочные элементы утопическое сочинение английского философа Фрэнсиса Бэкона «Новая Атлантида» (опубл, в 1627 г.).
15 В диалогах «Тимей» и «Критий» Платона излагается миф о сказочной стране атлантов, известной под названием Атлантида.
396
16 Толстой Л. Из воспоминаний о переписи. — Русское богатство. 1885. Кн. IX. С. 128-143; Кн. X. С. 1-18. Отрывки из воспоминаний представляли собой главы IVXI не пропущенного цензурой трактата Толстого «Так что же нам делать?» (Юб. Т. 25. С. 748-751); перепечатывались в газете «Новое время» и в других периодических изданиях.
17 Критические замечания Страхова, вероятно, задели Толстого и запомнились ему. И. М. Ивакин вспоминал о реакции читавших это произведение до его появления в печати: «Концом лета, видимо, кончилось и летнее настроение Л. Н.: он бросил шить сапоги и написал произведение, о котором в августе я не слыхал ничего даже в намеке, а он не любил скрывать то, что пишет. / Произведение это называлось „Сказка об Иване дураке“ (...) В ней с такой удивительной силой, с такой рельефностью выражены были теоретические взгляды автора, что я пришел в восторг. Я читал ее и другим — приходили в восторг и другие. Правда, слышались голоса про основную идею, но дивная форма одолевала всё. (...) После чтения я не удержался — сказал, что (...) сказка с чёртом на вышке хороша (...) все только смеются от души. / — Не все, — сказал Л. Н., — многим она не понравится. Страхов, например, не хвалит ее. Странный это человек Страхов! Деревья есть такие: дерево стоит, но середины в нем нет — она вся выедена. Так же и Страхов: в нем вся середина выедена наукой, философией» (АН. Т. 69, кн. 2. С. 74,76).
18 Ср. с рассуждениями Страхова в письме к А. А. Фету от 17 сентября: «Всё хуже и хуже становится дух, который вокруг нас. Когда переберу все воспоминания, то на меня нападает тоска. За все тридцать лет — ни одной светлой эпохи, кроме разве беспутной зари возрождения, 1859-61. Никогда не было возможности успокоиться духом, глядеть вперед без боязни. Но теперь хуже всего; я не вижу, в чем мы преуспели, а ясно вижу, что от нашей глупости и пошлости мы ничуть не исправились. Чего можно ожидать от такого общества? Почему все семена, чуть распустятся, глохнут среди родимого бурьяна? То, что говорят и печатают, иногда меня просто пугает. Нет охоты ничего делать, не видишь цели и возможности» (Фет. Переписка II. С. 403-404. — Курсив Страхова).
19 А. М. Калмыкова была родом из Екатеринослава.
20 А. М. Калмыкова тяжело переживала душевный разлад, вызванный отчуждением членов семьи, не разделявших ее духовных устремлений и общественного беспокойства, о чем она не раз писала Толстому. В одном из обращений к корреспондентке писатель заметил: «...я буду очень рад, когда узнаю, что вы не огорчаетесь больше, особенно тем, что думают о вас люди. — Желаю вам не спокойствия и не тревоги, а упорного и постоянного движения из области тревог в область мира душевного» (письмо от 11 (?) июня 1885 г. — Юб. Т. 63. С. 261).
21Т. А. и А. М. Кузминские.
397
Начало декабря
1885 г. Москва
346 Толстой — Страхову
Сейчас прочел ваши прекрасные две статьи1, дорогой Н[иколай] Николаевич]. Они мне понравились по строгости, ясности мысли, по простоте распутывания умышленно запутываемого. Я читал их, любуясь на мастерство работы, но с некоторым равнодушием и осуждением — зачем заниматься таким искусственным ходом мыслей, вроде того чувства, с кот[орым] разбираешь решение шахматн[ых] задач. Бутлеров] сочинил задачу, вы решили. Интересно, увлекательно, но зачем это мне? — Конец статьи, однако, подействовал на меня иначе, он мне объяснил, почему вы сделали и делаете такие усилия, что можете так легко разрешать такие задачи и, главное, показал мне вас, вашу душу, то чуждое и родное мне в вашей душе, кот[орое] и сближает и разделяет нас. Вы нигде так не высказались, или я только теперь понял вас. — Конец этой вашей статьи объяснил мне всё: и ваше пристрастие к инд[ийской] мудрости и к Mme Guyion, к углублению в себя, и то ваше последнее письмо, которое меня за вас очень огорчило. Вы между прочим пишете, что чаще и чаще думаете о смерти, чувствуете ее приближение и уходите из мира, в кот[ором] не видите никакого просвета, ничего, что бы вызывало надежду на лучшее. Ведь это нездоровое душевное состояние. И вот в этой статье мне дан ключ ко всему. Познание есть в известн[ом] смысле отрицание, понижение, удаление от себя того, что познается1 (и далее до черточки). Это совершенно справедливо по отношению к познанию всего внешнего мира, за исключением человека — всех людей, т. е. того, что познает не во мне одном, но и вне меня. Познание понижает и удаляет внешний мир, но за то и для того только, чтобы поднять и приблизить человека. — И тут-то и кажущееся мне разномыслие мое с вами. Мне кажется, что вы познание и удаление ставите целью. Я же считаю его средством. Познание мира и человека, принижающее и удаляющее пер398
вое и возвышающее, и приближающее второе, есть только орудие, которое надо взять в руки, прежде чем и для того чтобы начать работу. — Я, мы все упали с неба в какое-то заведение. Первое — нужно жить, т. е. употреблять в дело свои руки, ноги, голову, свое движение и время, т. е. работать. Для того чтобы это делать, надо понять, где я? что я? Какое мое назначение? (Я подчеркиваю этот вопрос, п[отому] ч[то] для меня он главный, и мне кажется, что у вас он выпущен.) И для этого мне нужно познать. Познание это дает мне великое удовлетворение; но это удовлетворение сделается страданием (как бы я ни раздувал его), если я тотчас не употреблю это познание, удалившее и принизившее внешнее и поднявшее и приблизившее человека, уяснившее для меня, разместившее для меня правильно весь окружавший меня хаос, если я не употреблю это познание на исполнение своего назначения, на работу, всем существом моим для того, что поднялось и приблизилось, для человека. — Очень мне грустно было узнать о смерти Данилевского3. Я рад все-таки, что мы полюбили друг друга. Грустно за вас. — Простите, что давно не писал вам4. От души целую вас.
Л.Т.
Я перечел что написал и боюсь, что неясно; а мне дорого передать вам всю мою (дорогую мне, к[оторой] я живу) мысль. На то только мы, любящие друг друга люди, и нужны друг другу, чтобы общаться духом. — Мне кажется, что индийцы, Шопенгауер, мистики и вы делаете ту ошибку, ничем не оправдываемую, что вы признаете мир внешний, природу, бесцельной фантасмагорией. Задача духа есть освобождение от подчинения этой внешней игры материи, но не для того чтобы освободиться. Иначе гораздо бы проще было и не подневоливать дух этой игре. И каждый может освободиться радикально, убив себя. (Я никогда не верил и не понимал этого страха перед метампсихозой3, кот[орая] руководит Буддою6.) Задача состоит в освобождении не для освобождения, а для освобожденной жизни — труда в этих самых матерьяльных
399
Печатается по: ОР ГМТ.Ф. 1.№7462. Л. 1-3 об. На л. 1 помета Страхова: «декабрь] 1885».
Впервые: Бирюков П. И. Л. Н. Толстой. Биография: [в 3 т.]. Берлин, 1921. Т. 2.
С. 597-600. В Юб.: Т. 63. С. 312-314.
Датируется по содержанию (см. п. 347) и помете Страхова.
условиях жизни. Человек, освобождающийся из темницы, почти всегда думает, что освобождение и есть цель, а между тем он освобождается для того, чтобы жить. Так же я представляю себе ваш взгляд. Всё нереально, всё фантасмагория, всё мое представление и больше ничего; но это так только до тех пор, пока я подчинен этим призракам. Но как скоро я освободился от подчинения, так призраки становятся орудием и реальностью из реальностей; составляют необходимое условие моей жизни духа. И только тогда я знаю, что я имею жизнь духа, когда все эти прежде странные и страшные орудия непонятного мне заведения становятся не столько понятными, но необходимыми и покорными, подчиненными мне. — Боюсь, что, желая разъяснить вам свою мысль, я еще больше запутал ее. Вы, впрочем, один из тех редких людей, к[оторые] умеют понимать чужие ходы мыслей. Матерьяльный мир не есть ни призрак, ни пустяки, ни зло, а это тот матерьял и те орудия, над к[оторыми] и которыми] мы призваны работать. Я возьмусь без уменья и без охоты строгать и, обив себе руки, обругаю доску и рубанок; это же самое я делаю, когда называю матер [ьяльный] мир пустяками и злом.
1 См. примеч. 4 к п. 345.
2 Толстой цитирует статью Страхова «Закономерность стихий и понятий. Открытое письмо к А. М. Бутлерову».
3 Н. Я. Данилевский умер в Тифлисе 7 ноября 1885 г. от «смертельного припадка болезни сердца». Страхов написал некролог, помещенный сначала в газете «Новое время» и перепечатанный затем в газете «Русь» (1885.16 нояб. № 20. С. 5) и Журнале Министерства народного просвещения (Ч. 242. 1885. Декабрь. Отд. 4. С. 206-207). Утрату друга Страхов переносил болезненно; 17 ноября он писал А. А. Фету: «Дни три уже, как слезы перестали мне навертываться на глаза, но рана, нанесенная смертью Н. Я. Данилевского, останется навсегда и хорошо будет, если ненадолго. (...) Мне не кончить, если я стану изливать Вам свое уныние. Скажу одно: теперь я уже отказался от всех надежд и расчетов, так точно, как если бы наверное знал, что завтра умру» (Фет. Переписка II. С. 406). С. А. Толстая, находившаяся в конце ноября в Петербурге и встречавшаяся со Страховым у Кузминских, писала мужу об угнетенном душевном состоянии их друга: «... вчера обедала с Страховым у нас, и очень он грустен, худ и жалок. Хоть бы ты ему когда написал, он так тебя любит» (письмо от 21 ноября. — Толстая. С. А. Письма кА. Н. Толстому. С. 339).
400
4 Предыдущее письмо Толстого было написано в начале июля (п. 336).
5 метампсихоза (метемпсихоза, метампсихоз, греч.) — переселение душ.
6 Будда (санскр. — просветленный), имя, данное основателю буддизма Сиддхартхе Гаутаме (623-544 до н. э.) после «пробуждения» в нем высокого сознания и обретения им духовного совершенства.
347
Страхов — Толстому
Письмо Ваше, бесценный Лев Николаевич, так меня обрадовало, заняло и утешило, что и сказать не могу. Вы коснулись самого важного, того вопроса, который стоит передо мною почти постоянно. Как следует относиться к временному, частному, личному, одним словом, к земному? Вся мудрость состоит в том, чтобы всему давать свое место и за всякой вещью признавать ее точное значение. Мне кажется, я вполне понимаю Вас, понимаю, с чем Вы не согласны в моем образе мыслей. Но прямо защищать себя я еще не в силах; я всё еще ищу и работаю. Одно я знаю наверное — должна быть у человека область выше всего временного и земного, область, в которую он мог бы подыматься, спасаться от всяких зол и всего, что называется жизнью. Иначе он — вечный мученик.
Ужасно меня поразила смерть Н. Я. Данилевского1. Я был тогда слегка болен, и с удивительной ясностью почувствовал ничтожество жизни. Если не половина, то треть этой жизни для меня исчезла. Мои привычки, книги, мои планы и надежды — мне опротивели, как чистая глупость; на несколько дней я получил способность плакать и ничем не волноваться. Сошло на меня спокойствие, которое стало наконец открывать мне новый, лучший взгляд на вещи. И пожелал я, чтобы оно навсегда у меня осталось, и с горем чувствую, что уходит оно, по мере возвращения здоровья и беспамятства, в котором мы всегда живем. Могила подходила 8 декабря 1885 г.
Санкт-Петербург
401
ко мне близко, была у самых ног; а теперь я опять вижу ее далеко в тумане. Нет, напрасно люди жалуются на горести, когда так легко забывают уроки этих горестей и возвращаются к своим пакостям. Дай Бог мне еще пожить и потерпеть; может быть, не останусь я до конца таким гадким, как теперь.
В этот месяц принял я важное решение — подал в отставку из Публичной библиотеки2. Мне хотелось 1) отказаться от расчетов (каких бы то ни было) на служебную карьеру; 2) уменьшить свои доходы, 3) получить больше свободного времени. Может быть, последняя причина была всего сильнее; мне и на краю могилы всё казалось, что моя обязанность — писать, и очень уж мешала служба этому желанию. Но я мирился и с тою мыслью, что ничего больше не напишу. Все-таки лучше меньше делать, как советовал какой-то стоик; душа свободнее. От Славянского комитета и от его журнала я также отказался3, и уже теперь, хотя отставка из Библиотеки еще не вышла, чувствую себя гораздо легче. Труден мне был этот шаг, изменить свое положение; теперь поплетусь до конца, со всем мирясь и ничего не ища.
Очень мне радостно было, что Вы заметили в моей статье частицу моей души; я буду всё больше и больше вкладывать в свои писания свои заветные мысли, и только это привлекает меня к писанию и оправдывает меня в моих глазах; может быть, и Вы, как теперь, одобрите меня.
От «Двух стариков»4 я в полном восхищении, да и все смыслящие дело, как, напр[имер], Кутузов5, Стахеев6. У моего сожителя (Стахеева)7 целый день навертывались слезы, когда он заговаривал об Вашем рассказе. Вот как Вы должны писать. Хотя Победоносцев и Аксаков приходили в умиление и от прежних Ваших рассказов8, и вообще многие могут не разобрать разницы, но Вы сами, конечно, ясно знаете разницу и не имеете права писать слабо и недоконченно, когда можете производить вековечные и вполне законченные вещи. Даже и в «Двух стариках» заметно Ваше враждебное отношение к Ефиму9. Если бы Вы взяли тон еще более спокойный, Вы бы рассказали его благогове402
ние (сродни страху), с которым он глядел на Ерусалим и на всю святыню. Тогда еще сильнее было бы то чувство, с которым он увидел впереди лысину Елисея, и яснее был бы его поворот к пониманию, что в своем сердце каждый может найти святыню выше Ерусалима и гроба Господня.
Но какое мастерство! Изба с голодною семьею, Елисей в своем пчельнике и разговоры, и путешествие — всё это навсегда остается в памяти и заставляет задумываться, и дает силу и жизнь широкому и мирному смыслу рассказа. Нравоучения тут не нужно, когда всё сказано рассказом. Кто заинтересовался Елисеем и Ефимом, тот уж не может не понять, в чем дело.
Простите, что я всё впадаю в тон критика; я ведь хорошо знаю, что слаб по этой части, что Вы сами критик, несравненно более тонкий, чем я; но я хочу только напомнить Вам Вашу собственную критику и сказать Вам, что ниже этой Вашей собственной критики Вы не имеете права писать.
При этом письме посылаю Вам 40 рублей для кн. Голицыной10 за «Кингслея» и «Эмерсона», напечатанных в «Гражданине». Не без труда я получил эти деньги; но беспорядочный кн. Мещерский не дал мне отчета, все ли это деньги, или он еще причитает что-нибудь за названные статьи. Думаю, что больше не получу, хотя и попрошу еще раз счета. По-моему, цена все-таки сносная за 21 страницу очень крупного шрифта — и небольшого формата.
Пока простите, бесценный Лев Николаевич. Очень мне хочется в Москву на праздники, но я всё еще чувствую нездоровье и сознаюсь, — пугают меня бесконечные речи Афанасия Афанасьевича, с которым повидаться было бы, однако же, мне истинным наслаждением. Но — подождем и увидим, как дела пойдут дальше1 \
Усердное почтение графине и великая благодарность за ее дружелюбное внимание, которое было очень отрадно мне, больному и грустному12.
403
Печатается по: РО ИРЛИ. Ф. 302. Оп. 2. Ед. хр. 300. Л. 65-66. Впервые: Современный мир. 1913. № 11. С. 328-330. Ответ на п. 346.
Ваш всею душою
8 дек[абря].
1885 г.
Спб.
Н. Страхов
Перечитавши письмо, вижу что много недосказано и много очень хороших тем для разговоров. Простите и верьте, что не вполне я написал, как люблю Вас.
1 См. примеч. 3 к п. 346. В письме к А. А. Фету от 25 декабря Страхов горестно признавался: «...смерть Данилевского сделала меня сиротою» (Фет. Переписка II. С. 408).
2 Прошение об отставке со службы в Императорской Публичной библиотеке, сотрудником которой он состоял с 1 августа 1873 г. (см. примеч. 7 к п. 49), Страхов подал 25 ноября. Сообщая А. А. Фету о принятом решении, в письме от 13 декабря он замечал: «Завтра я в последний раз отправляюсь в Публичную библиотеку, и затем — отставка и все мои утра свободны. Мои казенные доходы уменьшатся рублей на 800; буду бережливее на деньги и буду беспощадно марать бумагу. Если эти планы и не сбудутся, все-таки не буду, как теперь, вертеться как белка в колесе» (Фет. Переписка II. С. 407). Несмотря на очевидное расположение начальства (директор Библиотеки академик А. Ф. Бычков назвал это прошение «безумным поступком». — Там же) и опасения друзей за материальное благополучие Страхова, он не предвидел неудобств от осуществления своего намерения и 25 декабря писал тому же Фету: «Не бойтесь за меня по поводу отставки: я так хорошо себя чувствую, что радуюсь своей решимости каждый день» (Там же. С. 408). Несколько позднее Страхов так объяснял причины, побудившие изменить не удовлетворявшее его служебное положение: «Дело было так (...) Начальство мое считало себя постоянно передо мною виноватым; а вина его была в том, что оно не исполняло моих желаний — переменить Отделение, дать мне повышение и т. п. Чтобы оправдаться передо мною и перед самим собою (оно ведь доброе!), оно давало мне кресты, а когда мне стало невтерпеж и я подал в отставку, думало совершенно утешить меня и снять грех с себя, давши мне превосходительный чин. Всё это я перенес терпеливо (не противься злу), особенно видя, что таким образом начальство сохраняет со мною наилучшие отношения. Ведь чины и кресты ему ничего не стоят (а с меня делались вычеты!); но мне очень грустно, что войти в мои желания никто не хотел. Даже выпросить ничтожную пенсию, в 750 р., никак не хотели, а дали только 404
половину, 375. Так и вышло, что я считаю себя немножко обиженным, но не имею никакого права жаловаться. Я и не жалуюсь, и, правду сказать, очень доволен нынешним положением, хотя чин мой неприлично громок. Вам я всё это рассказываю ради откровенности; я ни о чем не хлопотал, ничего не просил, кроме отставки» (письмо Фету от 13 января 1886 г. — Там же. С. 409. — Курсив Страхова). При увольнении от службы Страхов получил чин действительного статского советника (соответствует званию генерал-майора воинской службы). Кроме выплаты за труды по Публичной библиотеке, Страхов получал пенсионное обеспечение в размере 350 руб. за свою прежнюю преподавательскую деятельность в гимназиях и сохранил за собою оклады содержания по Ученому и цензурному комитетам.
3 Страхов был членом Славянского Благотворительного комитета (1877-1885 гг.) и редактировал журнал «Славянские известия» (1883 - 27 октября 1885 гг.). За собой Страхов сохранил обязанности члена Ученого комитета Министерства народного просвещения и еще некоторое время продолжал служить в Комитете иностранной цензуры.
4 Главную мысль, положенную в основу рассказа «Два старика», Толстой заимствовал у народного сказителя В. П. Шевелёва (Щеголёнка; о нем см. примеч. 4 к п. 246), устные выступления которого он слышал в 1879-1880 гг. Писатель художественно оформил этот сюжет к июню 1885 г. и затем еще некоторое время продолжал его обрабатывать. В начале октября было получено цензурное разрешение на его публикацию и вскоре рассказ был выпущен отдельным изданием фирмой «Посредник» (Юб. Т. 25. С. 703-705). Страхов познакомился с произведением еще во время летнего пребывания в Ясной Поляне (см. примеч. 18 к п. 335).
5 Имеется в виду поэт, граф Арсений Аркадьевич Голенищев-Кутузов.
6 Сосед Страхова, с семьей которого он занимал общую квартиру, писатель Д. И. Стахеев.
7 См. примеч. 2 к п. 91 и примеч. 3 к п. 101.
8 И. С. Аксаков, начав 4 июня 1885 г. письмо к Страхову с критики проповедничества Толстого, дописал 9 июня 1885 г.: «Не успел я письмо докончить, как прочел новые, только что вышедшие из печати два рассказа Толстого, и так они, по-моему, хороши, что я купил их (цена каждому полторы копейки]) и послал под бандеролем Николаю Яковлевичу [Данилевскому]. Вот такая проповедь — это его дело» (Аксаков — Страхов. Переписка. С. 143). См. также примеч. 16 к п. 335.
9 Страхов видит в отрицательном отношении автора к богатому, хотя и праведному, мужику Ефиму тенденциозность рассказа «Два старика».
10 Описка Страхова. Деньги предназначались для княжны В. Д. Урусовой. См. п. 335 и примеч. 2, 3 к нему. О хлопотах С. А. Толстой и Страхова, связанных с публикацией статей Урусовой и получением за них авторского гонорара, см.: Толстая С. А. Письма к Л. Н. Толстому. С. 346,347.
405
11 О своем желании побывать на рождественских праздниках в Москве Страхов писал 13 декабря А. А. Фету: «... душою стремлюсь на Плющиху побеседовать с Вами и поблагодарить за приглашение в Москву. Тяжело мне подниматься! Чувствую, что не выдержу, по своей избалованности, и буду дней пять мотаться мимо Девичьего поля от Фета к Толстому и от Толстого к Фету. (...) Но этого не нужно бы делать; не нужно бы искать рассеяния, откладывая труд; не нужно бы переменять места — нужно привыкать к одиночеству и неизменной обстановке. Мне так грустно вспоминать теперь свои веселые поездки, и Воробьевку, и Ясную Поляну, и Южный Берег. Всё это может дурно кончиться, т. е. напрасно я буду туда тянуться душою, понемножку старея и умирая в этом противном Петербурге» (Фет. Переписка II. С. 407). Ближе к концу декабря Страхов смог уже вполне определенно сообщить корреспонденту о своем решении: «Итак, на праздники я к Вам не приеду (...) Простите за неудавшееся навязывание или полуобещание. И доктор, кормящий меня мышьяком, не отпускает безусловно, и есть дрянные делишки, которые нужно исполнить. Но — яс каждым днем становлюсь свободнее с тех пор, как вышел в отставку, и мне всегда будет возможно приехать в Москву на неделю или две, — что я желаю сделать как можно скорее» (письмо от 25 декабря. — Там же. С. 408. — Курсив Страхова). См. п. 348 и примеч. 1 к нему.
12 О своем душевном состоянии Страхов поведал Фету в письме от 25 декабря: «Уныние мое не проходит, и я не желаю, чтобы оно прошло. Если не хотите уныния, возьмите печаль. Когда я прихожу в то обыкновенное беспамятство, в котором мы всегда живем, то скоро становлюсь противен самому себе. (...) я всё жмусь к людям, всё мне холодно, и чувствую, что сам виноват. Люди, превосходные по уму и по душе, оказывают ко мне расположение, которого я не стою; а я греюсь им и питаюсь. — За то и наказан...» (имеется в виду остро переживавшаяся Страховым кончина Н. Я. Данилевского. — Там же. — Курсив Страхова).
1886
348
22 февраля СтрЮХОВ — ТОЛСТОМ/
1886 г.
Санкт-Петербург Вернулся я домой из Москвы поздно ночью1, а на другой день не мог быть у В. Г. Черткова2, и вот как случилось, бесценный Лев Николаевич, что Ваше письмо к нему я занес только во вторник3. Его я не застал дома, думал, что он побывает у меня, или как-нибудь его увижу — так и не извещал Вас ни о чем. Очень прошу извинить меня; я всё утешаюсь, 406
что перед отъездом в Москву4 он должен же был получить Вашу записку (с письмами Болдырева5); я оставил ее у него с своею карточкой.
Самому мне не радостно; нездоровье, кажется, совсем прошло6, но для меня это всегда хуже. В душе подымается возня, с которою я всё еще часто не умею справляться. Всякие дела запустил, передо всеми виноват7.
От всей души благодарю Вас и графиню. Конечно, Лев Николаевич, я приезжал для Вас больше, чем для кого-нибудь. Видеть других приятно, Вас — нужно8, видеть человека, у которого, как выразился Аксаков, свои счеты с Богом9. Мне хочется понимать Вас; это дело очень важное, и у меня есть средство для этого — я Вас люблю, — увы! гораздо больше, чем Вы меня. Будьте всегда так же бодры и здоровы, как я видел Вас!
Ваш душевно
Н. Страхов
1886.
22 февр[аля].
Спб.
Печатается по: РО ИРПИ. Ф. 302. Оп. 2. Ед. хр. 300. Л. 117-118. Конверт. На конверте: Москва. Долго-Хамовнический пер[еулок], собственный] дом. Его Сиятельству Графу Льву Николаевичу Толстому. Впервые: Современный мир. 1913. №11. С. 330-331.
1 Точная дата приезда Страхова в Москву и продолжительность пребывания в ней неизвестны, однако с некоторой достоверностью можно предположить, что поездка состоялась в самом начале февраля 1886 г. Отвечая на приглашение А. А. Фета погостить у него, Страхов писал 13 января: «...очень хочется к Вам в Москву. Выжду хорошего времени, когда буду себя чувствовать в силах, и прикачу к Вам дней на пять» (Фет. Переписка II. С. 409). По обыкновению Страхов остановился в доме Фета на Плющихе. С. А. Толстая вспоминала, что в этот свой приезд Страхов пробыл в Москве «недолго». В Петербург он вернулся 9 февраля и на следующий день благодарил в письме Фета и его жену за «милое гостеприимство» (письмо от 10 февраля. — Там же. С. 412).
2 Страхов должен был встретиться с В. Г. Чертковым, чтобы передать ему письмо Толстого (см. примеч. 3).
3 Возможно, речь идет о письме Толстого от 8 февраля (см.: Юб. Т. 85. С. 322). После приезда Страхова в Петербург ближайший вторник приходился на 11 февраля.
4 Речь идет о поездке В. Г. Черткова в Москву, состоявшейся во второй половине февраля (подробнее см. Там же. С. 323-324).
5 Имеется в виду писатель-самоучка философствующего склада Т. М. Бондарев, автор сочинения «Торжество земледельца, или Трудолюбие и тунеядство», которое 407
Толстой получил и читал в июле 1885 г. и нашел, что оно «очень хорошо и вполне верно» (см.: Гусев. Летопись I. С. 610-611; Юб. Т. 63. С. 337). Об этой работе Толстой писал автору в марте 1886 г.: «Вашу проповедь я списал для многих моих друзей, но печатать ее еще не отдавал» (Там же. С. 332). С. А. Толстая вспоминала: «... Лев Николаевич именно тогда был увлечен мыслями крестьянина из Сибири Бондарева, приславшего свои записки, к которым Лев Николаевич написал свое предисловие» (Толстая. Моя жизнь I. С. 511; это предисловие Толстого см.: Юб. Т. 25. С. 463-475). Сам Толстой в трактате «Так что же нам делать?» замечал: «За всю мою жизнь два мыслящих русских человека имели на меня большое нравственное влияние и обогатили мою мысль, и уяснили мне мое миросозерцание. Люди эти были не русские поэты, ученые, проповедники, — это были два живущие теперь замечательные человека, оба всю свою жизнь работавшие мужицкую работу, — крестьяне Сютаев и Бондарев» (Юб. Т. 25. С. 386, примеч.). В одном из писем к Бондареву писатель признавался: «Я в вас нашел сильного помощника в своем деле. (...) Дело наше одно» (Там же. Т. 63. С. 338). Подробнее об отношении Толстого к Бондареву см.: Бирюков Ш. С. 42-45.
6 Страхов захворал еще перед поездкой в Москву; 13 января он извещал А. А. Фета: «... в последнее время меня стала очень сокрушать моя телесная слабость. Все праздники я перемогался и наконец вполне заболел. Сижу дома и жду, когда поправлюсь» (Фет. Переписка II. С. 409). Неделю спустя он ему же сообщал: «Понемногу я поправляюсь, но, очевидно, еще не поправился» (письмо от 21 января. — Там же. С. 411). В Москве Страхов, вероятно, перенес простудное заболевание; 10 февраля он писал Фету: «Никого еще здесь не видал, но, кажется, простуженный глаз пройдет к завтрему, и начну свои похождения» (Там же. С. 413).
7 О своем душевном состоянии по приезде в Петербург Страхов рассказывал Фету в том же письме: «Приехал я благополучно (...) и когда взобрался в свой пустынножительный чердак, то на меня пахнуло тишиною и миром. Казалось мне, что в Москве я покинул какую-то лихорадку, какое-то тоскливое напряжение, что-то растерянное и ищущее. Может быть, это и есть нынешняя русская жизнь, выбитая из колеи; но я умею уйти от нее, мне возможно умереть, спокойно глядя вокруг себя, и провести последние годы в тихих и чистых созерцаниях. (...) мне ничего не нужно, кроме лампы и этой комнаты. / Эти сладкие и самодовольные мысли, однако, уже нынче были ниспровергнуты. Получил я требование явиться на чтение творений начинающего автора. (...) В пятницу большое заседание в Славянском комитете, а завтра весь день нужно работать и ехать обедать... Словом, тенета уже раскинуты вокруг меня, и мне нужно каждый день заботливо обдумать, как ускользнуть и в какой петле придется застрянуть. И я сержусь, и всех обижаю, и рвусь и путаюсь» (Там же. С. 412).
8 В начале марта, возвращаясь памятью к дням своего пребывания у Фета, Страхов так объяснил ему причину своего неудовлетворенного расположения духа: «В Вашем письме есть нечто язвительное, как будто так, что я в Москве скучал и имел для Вас 408
скучный вид. (...) что я в Москве тосковал — это правда. Чем приятнее было видеть Вас и Льва Николаевича, тем горше мне было, что тоска не уходит от такой приятности. В кружке, который бродит (в обоих смыслах) вокруг Л. Н. (...) царит напряжение и колебание относительно мира и человека вообще. Я как потерянный среди этих лихорадочных и легкомысленных речей» (письмо от 9 марта. — Там же. С. 413. — Курсив Страхова).
9 Имеются в виду слова из письма И. С. Аксакова к Страхова от 4 и 9 июня 1885 г. См. примеч. 3 к п. 337.
349 Страхов — Толстому
Вот два письма, бесценный Лев Николаевич, которые прислал мне для Вас Стасюлевич1. Вероятно, от новых Ваших поклонников и последователей. Не могу Вам выразить, как я радуюсь всё растущему и растущему впечатлению и движению, которое Вы производите. Вы коснулись самой глубокой, самой существенной струны, и так коснулись, что она громко зазвучала.
Однако я только что прочел рассказ об Вас Г. П. Данилевского2. Он пишет, что Вы совершенно здоровы и ведете себя самым надлежащим образом, читаете, пишете, очень любите литературу, Тургенева, Достоевского, и занимаетесь телесными трудами только ради здоровья, ради отдыха от умственной работы. Подробно описан Ваш кабинет, и между прочим замечено, что на столе у Вас лежит «Новый Завет в греческом переводе Тишендорфа»3.
Я едва поверил глазам своим!
Простите Вашего неизменно преданного, неизменно любящего
Н. Страхова
1886.
6 марта.
Спб.
б марта 1886 г.
Санкт-Петербург
Печатается по: ОР ГМТ.Ф. 1.
№ 58948. Л. 1-2.
Впервые:
ТС ПСП II. С.705.
409
1 Известно, что одно из этих двух писем, переданных издателем журнала «Вестник Европы» М. М. Стасюлевичем через Страхова, было получено из Петербурга от А. Ф. Елачича, который рассказывал в нем о влиянии на его духовную жизнь «последних творений» и «религиозных идей» Толстого (письмо от 24 февраля 1886 г. — ОРГМТ).
2 Данилевский Г. П. Поездка в Ясную Поляну (Поместье графа Л. Н. Толстого). — ИВ. 1886. [Март]. С. 529-544. Литератор Г. П. Данилевский побывал в Ясной Поляне в конце сентября 1885 г. (см.: Гусев. Летопись I. С. 614). С. А. Толстая вспоминала: «Посетил нас в эту осень писатель Григорий Данилевский и очень всем понравился. Он очень удивлялся перемене, происшедшей в Толстом, о чем и написал в то время статью. / Лев Николаевич тогда усердно читал житие святых, Библию и Евангелие и беседовал с Данилевским о религиозных вопросах» (Толстая. Моя жизнь I. С. 486).
3 Об этом см.: ИВ. 1886. [Март]. С. 537. Ошибка Г. П. Данилевского: К. фон Тишендорф — не переводчик Нового Завета на греческий язык, а комментатор текста. См. примеч. 3 к п. 270.
350
в июня 1886 г. Страхов — Толстому
НшбТКй 13 июня 1886. Мшатка.
Уже больше трех недель живу здесь1, бесценный Лев Николаевич, и давно пора писать к Вам. Попрошу у Вас позволения заехать на обратном пути в Ясную Поляну на несколько дней (числа около 7 июля)2 и тогда расскажу Вам много подробностей. Но иногда разговоры удаются, а иногда письма, и мне столько хотелось бы передать Вам, что попробую что-нибудь написать теперь.
Всё время здесь я был за работою. Я разбирал рукописи, письма, книги Николая Яковлевича. Нужно было определить, что можно напечатать из его неконченных трудов, а кроме того, мне хотелось собрать сведения о его жизни и получить точное понятие о его радостях и горестях, об усилиях и препятствиях в трудах, и пр.3 Когда я приехал, всё лежало на своем месте; Ольга Александровна4 до меня не позволяла передвинуть 410
ни одной книги, ни одного листочка бумаги — ей было больно, если кто-нибудь дотрогивался до вещей Н[иколая] Яковлевича]. Казалось, он только уехал из дому и завтра должен вернуться. И на меня нашло то же чувство,- по расположению ко мне, О[льга] А[лександровна] уверяла, что ей казалось — сам Н[иколай] Яковлевич] совершенно доверил бы мне одному это дело; но мне было жутко, да и до сих пор жутко разбирать его бумаги и книги. Утром я работал в его кабинете, подле которого живу (в той комнате, где Вы спали), а вечером мы навещали могилу и без конца разговаривали о покойном. Опять — и эти разговоры были первые разговоры О[льги] А[лександровны]. Шесть или семь месяцев она ни с кем не могла говорить об этом, и стала говорить со мной, веря, что я любил его не больше, но лучше всех других. Это мне было очень отрадно, что я пригодился к чему-нибудь на свете5.
Узнал я много удивительного. Жизнь эта была очень трудная, очень полезная, очень счастливая и очень скромная. И смерть была прекрасная: думали, что он заснул. А последние слова его были: «испортят они нашу Гокчу!..» Гокча6 — озеро, в котором он исследовал рыболовство; он по долгому опыту боялся, что правила, которые он составил, будут нарушаться и лов станет уменьшаться. Но самое важное, что я узнал, — его настроение перед смертью. Вы были свидетелем припадка7, который потом повторялся чаще и чаще, наконец в сентябре — почти каждый день. «Как будто грудь разрывается», — говорил он, когда хотел дать понятие о припадках. Боль, вероятно, была большая, хотя он никогда не жаловался и только крупный пот иногда выступал у него на лице. Но в дни припадков часто случалось, что в спокойном состоянии глаза его принимали выражение, которое поражало всех. «Необыкновенная кротость», — говорила О[льга] А[лександровна]; «ангельское, небесное выражение», — говорила гувернантка, — и они обе не находили слов, чтобы выразить то, что было тогда на лице и особенно в глазах Н [иколая] Яковлевича]. О[льга] А[лександровна] говорила ему об этом и даже спрашивала, что это значит. Она говорит также, что он, верно, много 411
думал о смерти, потому что иногда, ночью, не рассказывал ей своих мыслей так откровенно, как всегда. Слушая эти воспоминания, я невольно сближал их с Вашим рассказом о смерти Ивана Ильича, о котором много думал еще в Петербурге.8 Тайны смерти — чудесные, высокие тайны!9 —
И еще нечто удивительное. В самый день и час смерти О[льга] Александровна] видела Н[иколая] Яковлевича]. Она не спала, была одета и не думала о нем в эту минуту. Вдруг ей явилась его голова на подушках, с болезненным выражением; она дважды провела рукой по его щеке, говоря: «милый мой, дорогой!» Но всё исчезло, и она вскочила, не понимая и удивляясь тому, что было. Она даже не встревожилась и приписала всё нервам, так как последняя телеграмма была очень успокоительная. На другой день весть о смерти10 была для нее совершенно неожиданною, и теперь, вспоминая свое видение, она твердо уверена, что он «приходил проститься».
Такие явления до того часты, что трудно в них сомневаться. А мне кажется, что как они ни таинственны, в них нет ничего чудесного. Почему не предположить, что связь между близкими душами сохраняется и на большом пространстве?
В горевании О[льги] А[лександровны] много очень трогательного. Она одарена большою чувствительностью и чуткостью, всею душою ищет прямого пути, вечно собой недовольна и вечно думает и заботится о других.
Для печати у Н[иколая] Яковлевича] осталось мало. Я нашел одну готовую главу для 2-го тома «Дарвинизма»11 и несколько маленьких отрывков общего философского содержания. Эти отрывки должны были войти в последнюю главу, о которой Н[иколай] Яковлевич] много думал и говорил, но которой, к несчастью, не написал. Это было бы нечто в роде естественного богословия, но, без сомнения, очень остроумное, блестящее строгостью и определенностью мысли. Но мне дороже тот несравненно светлый образ, в котором мне является сам Н[иколай] 412
Я [ковлевич]. Я его очень люблю и вижу его, но едва ли мне удастся выразить то, что я вижу и люблю.
Простите меня, бесценный Лев Николаевич. От Фета я получил письмо12 и заеду к нему по дороге13. Он уже очень тяготится своею дряхлостью и жалуется. Дай Бог Вам всего хорошего. Графине мое усердное почтение, и всем обитателям Ясной Поляны очень кланяюсь. Сам я мало здоров14 и нашел здесь больше ветров и дождей, чем ожидал.
Ваш душевно
Н. Страхов
Написать поклон Льву Николаевичу? — спросил я О[льгу] Александровку]. — «Какой поклон! — ответила она. — разве поклонение, а не поклон!» Здесь об Вас часто, часто вспоминают, и с тем чувством, которое Вы так неизменно возбуждаете.
Печатается по: РО ИРЛИ. Ф. 302. Оп. 2. Ед. хр. 300. Л. 119-120. Впервые: Современный мир. 1913. №11. С. 331-333.
1 Виды на лето 1886 г. Страхов сообразовывал с обстоятельствами своей жизни и принятыми на себя ранее обязательствами, среди которых прежде всего требовало исполнения обещание, данное вдове Н. Я. Данилевского, — разобрать архив покойного ученого. В этой связи еще в январе 1886 г. Страхов писал А. А. Фету: «Планы мои на лето такие — нужно непременно ехать на Южный Берег, к семье Н. Я. Данилевского. Это и сердечная моя потребность и долг. (...) Пущусь, вероятно, в мае, пораньше; но больше двух месяцев проездить нельзя» (письмо от 13 января. — Фет. Переписка II. С. 409). Осуществить намеченное он предполагал по завершении работы, связанной с написанием важной для него теоретической статьи «Главная задача физиологии» (опубл.: ЖМНП. Ч. 246. 1886. Август. Отд. 2. С. 311-338; Ч. 247. 1886. Сентябрь. Отд. 2. С. 1-28), подготовка которой к печати, однако, затянулось. Тому же корреспонденту он сообщал 14 апреля: «Сам я очень занят статьею, которая трудно пишется. Когда кончу, стану собираться в дорогу и в половине мая, верно, выеду. План такой — ехать прямо в Крым, пробыть там недель пять и пуститься назад» (Там же. С. 415). Страхов придерживался своего предположения и 6 мая известил Фета: «Меня уже захватывают хлопоты, бывающие перед отъездом (...) Теперь дело уже вполне уяснилось. Выеду я 15-го или 16-го (...) Статью о главной задаче физиологии привел-таки почти к концу, так что уеду с спокойной совестью» (Там же. С. 416). В имение Данилевских Мшатку он прибыл около 18 мая (ср.: в письме к Фету от 18 июня Страхов замечал, что «вот уже месяц», как он находится во Мшатке. — Там же. С. 417).
413
2 См. примеч. 5 к п. 351.
3 По просьбе вдовы Н. Я. Данилевского Страхов разбирал в Мшатке его бумаги и отбирал материалы, предназначавшиеся для опубликования. Через месяц работы он писал Фету из Крыма: «Живу я как будто на кладбище, над свежею могилою. Моя комната рядом с кабинетом Николая Яковлевича, где я разбираю его рукописи, письма, книги. (...) Попробую написать его биографический очерк; едва ли сумею так сделать, как хочется, но писать буду с любовью и радостию» (письмо от 18 июля. — Фет. Переписка II. С. 417-418). Страхов оставался в Мшатке до конца июня.
4 Вдова Н. Я. Данилевского.
5 О своем участии в жизни семьи Данилевских Страхов писал Фету 18 июня: «Если читаю книгу, то на полях нахожу бесчисленные заметки, которые он любил делать. Если гуляю по саду, то на каждом шагу нахожу растения, которые он садил, растил, и которыми так любовался. Если разговариваю, то вспоминаю о нем или слушаю нескончаемые воспоминания. В урочный час иду на его могилу (...) Там я нахожу Ольгу Александровну, и мы вместе возвращаемся домой, долго и медленно подымаясь зигзагами через весь сад. / Вот уже месяц, как я справляю поминки по Николае Яковлевиче. Лучшего человека я не знал на свете, и всё, что я тут узнал, придало его образу почти святость» (Там же. С. 417).
6 Гокча — тюркское название озера Севан.
7 Имеется в виду посещение Данилевских Толстым 19-20 марта 1885 г.
8 Ср. с суждением Страхова о повести Толстого в п. 426.
9 Мысли о бренности земного существования человека занимали Страхова во Мшатке неотступно; А. А. Фету он писал: «Странное впечатление! Собирая свои и чужие воспоминания (...) я живо почувствовал, как будто какие-то волны топят и уносят (...) жизнь, со всеми (...) делами, мыслями, приключениями, а я упорно какие-то обрывки, лоскутки, всплывающие на поверхность. Напрасные усилия! Всё погибнет, несмотря ни на какие старания. Обратить временное в вечное невозможно. Вечность доступна человеку только при его жизни, а не по смерти, когда всё, что он был, делается временным» (письмо от 18 июня. — Там же. С. 417-418).
10 Данилевский внезапно скончался от сердечного приступа 7 ноября (ст. ст.) 1885 года в Тифлисе, возвращаясь после очередной экспедиции на озеро Гокча.
11 Глава из второго тома неоконченного исследования «Дарвинизм» была выпущена Страховым отдельной книгой: Дарвинизм. Критическое исследование Н. Я. Данилевского. Т. 2 (одна посмертная глава): Происхождение человека. СПб., 1889. В виде предисловия к т. 2 была помещена характеристика книги и краткий анализ ее содержания, извлеченные из статьи Страхова «Полное опровержение дарвинизма» (РВ. 1887. Январь. С. 1-62).
12 Письмо от А. А. Фета, полученное Страховым в июне 1886 г., перед посещением Воробьевки, не сохранилось.
414
13 Фет еще с весны приглашал Страхова погостить у него в имении; откликаясь на одно из таких предложений, Страхов писал ему: «Что касается до меня, то я всегда пугаюсь, когда на меня возлагаются какие-нибудь надежды и часто думаю о том, как бы мне никого не отягощать своим существованием и ничем не надоедать добрым людям. На свете нет ничего лучше общения с людьми, и я жажду его, и у меня есть какие-то задатки, иногда привлекающие ко мне людей; но эти задатки растут криво и скудно, и я душевно благодарен всем тем, кто по добродушию принимает их за зрелые качества» (письмо от 14 апреля. — Фет. Переписка II. С. 414). В начале мая, выстраивая план летней поездки, он обещал Фету заехать к нему «на несколько дней» на обратном пути из Крыма — во второй половине июня (письмо от 6 мая. — Там же. С. 416). В конце месяца Фет извещал С. А. Толстую: «Июня 15-го поджидаю Страхова из Крыма» (письмо от 31 мая. — Там же. С. 117). Страхов побывал в Воробьевке после 26-27 июня (письмо Фету от 18 июня. — Там же. С. 418).
14 О своем недомогании Страхов писал Фету из Мшатки 18 июня: «Когда я получил Ваше письмо (...) мне нездоровилось, да и теперь молодцом я себя не чувствую» (Там же. С. 417).
351
Л. Н. и С Л. Толстые — Строхов/ 21 июня 1886 г.
Очень рад был получить от вас весточку1, дорогой Николай Николае- ЯСНОЯ ПОЛЯНЛ вич. Мы все в Ясной и любим вас по-старому и так же желаем вас видеть.
Передайте мой душевный привет Ольге Александровне2. Я очень мало знал Н[иколая] Яковлевича], но очень хорошо полюбил его3. И если бы я мог жалеть о чьей-нибудь смерти, то очень жалел бы о нем. Так до свиданья.
Ваш Л. Толстой
[Рукой С. А. Толстой:]
Многоуважаемый Николай Николаевич,
У нас такой азарт покоса4, что Лев Николаевич от усталости едва написал вам несколько слов. Косят все — муж, сыновья, гости; гребем сено тоже все: девочки, я, бабы. Погода чудесная, это очень весело, но
415
Печатается по: ОР ГМТ.Ф. 1. № 1115.
Л. 1-1 об. На л. 1 помета Страхова: «23 июня 1886» (дата получения).
Впервые: Толстой и о Толстом II.
С. 9. В/Об.:Т. 63.
С. 366 (без приписки С. А. Толстой). ПТСII.
С. 192. Ответ на п. 350.
очень утомительно. Присоединяюсь и я выразить вам свою радость увидать вас в Ясной Поляне, и буду ждать вас с нетерпением5.
Крепко жму вашу руку. Еду завтра в Москву дня на 4 заказывать новое издание6.
До свиданья.
Гр. С. Толстая 21 июня 1886.
1 Имеется в виду письмо из Мшатки (п. 350), где Страхов жил со второй половины мая в имении покойного Н. Я. Данилевского.
2 О. А. Данилевской.
3 См. п. 332.
4 Свидетелем этого «азарта покоса» стал и Страхов, о чем он подробно рассказал А. А. Фету в письме от 13 и 15 июля. Об см. также в воспоминаниях С. А. Толстой (Толстая. Моя жизнь I. С. 522-523).
5 Вероятно, Страхов, как и предполагал, приехал в Ясную Поляну около 7 июля. Рассказывая Фету в письме от 13 июля из Москвы об обстоятельствах жизни в Ясной Поляне на время его прибытия в имение Толстых, он отметил, что С. А. Толстая «надорвалась на той же косьбе» и «уже с неделю больна» (Фет. Переписка II. С. 418). Об этой болезни Толстой сообщал В. Г. Черткову около 15-16 июля, что «жена нездорова и лежит 2 недели» (Юб. Т. 85. С. 369). Страхов оставался в Ясной Поляне до 12 июля.
6 Имеется в виду Шестое издание Сочинений Толстого. Вышедшее в начале года Пятое издание было быстро раскуплено, но требования на приобретение книг продолжали поступать. Страхов писал Фету 13 июля: «Издание, ею [С. А. Толстой] сделанное, уже почти распродано, и она сейчас же начала новое, хотя публика четыре-пять месяцев все-таки останется без возможности купить Толстого. Новое издание будет меньше форматом, мельче шрифтом и будет стоить всего 8 р. Так хочет Лев Николаевич,- он хотел бы вовсе без барыша, но барыша все-таки будет 25-30 тысяч. Затем в этом году с имений получено всего 1, 5 тысячи» (Фет. Переписка II. С. 419. — Курсив Страхова). О «неприятном» разговоре с женой о новом издании, состоявшемся в день написания этого письма Страхову, Толстой извещал В. Г. Черткова: «Да, наше столкновение с женой так хорошо было уничтожено, что на другой же день (это было перед ее отъездом в Москву для новаго издания) я ей сказал самую неприятную для нее вещь, что если делать по моему, то надо напечатать в газетах объявление, что права на издание я предоставляю всякому, но что если уже делать по ее, то для нее лучше оставить мысли корыстныя и делать для публики, т. е. самое дешевое издание. И к моей радости за нее, она согласилась и начала такое издание» (письмо от 28 или 29 июня. — Ю6. Т. 85. С. 383). См. также: Толстая. Моя жизнь I. С. 524.
416
352 Страхов — Толстому
Каждый раз, бесценный Лев Николаевич, когда приведется мне видеть Вас, я испытываю чувство удивления: в Вас горит такое большое пламя чувства и мысли, что все другие люди, и я сам в том числе, вдруг покажутся мертвыми и холодными. Простите мне, если я Вам противоречу иногда, или вообще принимаюсь обсуждать Ваши слова и мысли. Все-таки я ухожу от Вас всегда возбужденный, умиленный, всегда с глубокой благодарностью к Вам и с более высоким понятием о человеческой жизни. Я вполне согласен с замечанием Вашего американского переводчика1, что не было еще подобного комментария на Нагорную проповедь, как Ваше толкование2; я вполне понимаю, почему так зажигает Ваш огонь людей, молодых и старых, в Европе и в Америке,- я почти готов сказать: счастлив тот, кто на этом прекрасном огне сгорит, а не будет долгие годы благополучно вести обыкновенную мертвую жизнь. Итак, не думайте, что я не принадлежу к Вашим приверженцам, что я когданибудь перестану сочувствовать главному Вашему чувству. Я Ваш навсегда, и после того, как я видел Вас, мне хочется тысячу раз это повторить.
Благополучно я добрался до Петербурга и принялся за свои работы, которые теперь в полном ходу. Едва ли много монахов, которые жили бы так уединенно, как я теперь3. Никого нет в городе, и я по целым дням один в своей квартире. Начал выправлять 12-й том, и дни через два пошлю графине первые листы4. Дело пойдет скоро и непрерывно — я теперь вижу, и прошу Вас передать это Софье Андреевне. В Москве я просил Румянцева5 прислать мне: 2-й, 3-й и 12-й томы для выправки6; кроме того — полный экземпляр «Сочинений» &ля О. А. Данилевской — я его отдам здесь переплести и пошлю ей. Наконец по экземпляру «Азбуки» и «Книг для чтения». Всё это я сегодня получил исправно, и за всё это душевно благодарю.
21 июля 1886 г. Санкт-Петербург
417
Печатается по: РО ИРЛИ. Ф. 302. Оп. 2. Ед. хр. 300. Л. 121-122. Впервые: Современный мир. 1913. №11. С. 333-335.
Точно так дни через два вышлю Вам «Лотос»7 и Гризбаха первый том8. Поберегите мой «Лотос», — Вы увидите сами, что он того стоит. А я постараюсь купить и для Вас экземпляр.
Был у меня Александр Михайлович9 в самый день приезда, нет, на другой день, и не одобрил газетной корреспонденции, составленной в Ясной Поляне. Однако я в тот же день, в четверг, как обещал Татьяне Андреевне10, отвез ее в газету, отдал лично ответственному редактору Федорову1 11 и переговорил с Бурениным12. И все-таки, к моему удивлению, статья не появилась до сих пор в газете. Дело в том, что Суворина13 здесь нет; я его встретил в Москве на улице, впопыхах, и, конечно, сказал ему про письмо от Вас, но получил в ответ: «там всё сделают!» А здесь, так как в газете всё идет по русскому порядку, т. е. спустя рукава и через пень-колоду, ничего не сделали. Вчера я послал Буренину записочку, а если завтра ничего не будет, поеду сам справляться. Александр Михайлович старательно зачеркнул буквы Т. К. Если всё это огорчит Татьяну Андреевну, то прошу Вас, передайте мои оправдания. По совести, я всё сделал, что нужно14.
Простите меня, бесценный Лев Николаевич. Очень беспокоюсь о здоровье графини и от души желаю ей поправиться15.
Ваш неизменно преданный
Н. Страхов
21 июля 1886 г.
1 Возможно, речь идет о Хантингтоне Смите, который для американского издания перевел на английский язык трактат Толстого «В чем моя вера?» и снабдил его предисловием. См.-. «Му Religion. By Tolstoy. Translated from the French by H. Smith. New York, 1885.
2 О работе Толстого над объяснениями к Нагорной проповеди см.: Юб. Т. 25. С. 880-882.
3 Ср. в письме Страхова к А. А. Фету от 2 августа: «В Петербурге я очутился 16-го (...) да заболел. Мой проклятый бронхит не забыл-таки меня после бани — явился даже на девятый день. И вот сижу безвыходно дома один-одинешенек (...) Если бы
418
не болезнь, жизнь моя была бы идеалом отшельнической жизни. Сразу по приезде я с головой ушел в свою статью „Главная задача физиологии“ и с большим напряжением кончил ее, но только вчера. Видел у себя счетом четырех человек. (...) Вот и вся моя жизнь» (Фет. Переписка IL С. 420).
4 Для Шестого издания собрания Сочинений Толстого в 12 (позднее — в 14) частях, печатавшегося в московских типографиях А. И. Мамонтова и К0, Э. Лисснера и Ю. Романа, а также М. Г. Волчанинова тиражом 10 000 экз. С. А. Толстая вспоминала: «В то время Николай Николаевич Страхов, любивший и ценивший хорошие издания книг и желая по дружбе с нами помочь мне в книжных делах, вызвался просмотреть сколько возможно томов для нового, дешевого издания (...) Николай Николаевич исправлял не только опечатки, но и вкравшиеся ошибки, бессмыслицы — всё, что наросло в течение нескольких лет и изданий. Я очень была ему за это благодарна. По мере выправки он посылал листы мне, а я сдавала в печать и держала корректуры» (Толстая. Моя жизнь I. С. 530).
5 По совету знакомых артельщик Кокоревской биржевой артели Матвей Никитич Румянцев был приглашен в начале 1885 г. С. А. Толстой для помощи в ведении издательских дел и заведования книжным складом в Москве (во флигеле московского дома Толстых располагалась Контора изданий сочинений Толстого, а в одном из отделений каретного сарая — склад изданий).
6 Страхов просматривал печатные листы повестей и рассказов (ч. 2 и 3), а также «произведений последних годов» (ч. 12).
7 Сочинение о буддизме французского буддолога Эжена Бюрнуфа: Burnouf, Eugène. Le Lotus de la Bonne Loi, traduit du sanscrit, accompagné d’un commentaire et de vingt et un mémoires, relatifs au Bouddhisme. Paris, 1852.
8 См. примеч. 1 к п. 267.
9 A. M. Кузминский.
10 Т. А. Кузминская. Статья Кузминской неизвестна. В ней шла речь о каком-то крестьянском переселенческом вопросе, и, вероятно, критиковались действия местных властей. См. примеч. 10 к п. 354.
11 Михаил Павлович Федоров, ответственный редактор газеты «Новое время».
12 Критик Виктор Петрович Буренин был влиятельным членом редакции газеты «Новое время».
13 Издатель газеты «Новое время» А. С. Суворин.
14 Позднее в августе Страхов получил из Ясной Поляны от А. М. Кузминского письмо с припиской Толстого о том, что хлопотать о предании печати статьи Т. А. Кузминской не следует (см. п. 356). Письма Кузминского к Страхову опубликованы (см.: Толстой и о Толстом. Вып. 3. М., 2009). См. также п. 354.
15 См. примеч. 5 к п. 351. Об этой болезни, произошедшей от перенапряжения сил на крестьянском покосе, С. А. Толстая писала: « ...я решила в один прекрасный день, 419
что и я пойду грести с бабами сено. Заменила я беременную женщину и сразу горячо принялась за дело. Но, проработав несколько дней, я сильно заболела: сделались жестокие боли, жар (...) Прохворала я очень долго, несколько недель, и еще более поняла бессмыслицу нашего барского вмешательства в непривычную жизнь и работу крестьян» (Толстая. Моя жизнь I. С. 523).
353
10 августа 1886 г. Ясная Поляна
С Л. Толстая — Страхову
Многоуважаемый Николай Николаевич,
Давно собираюсь поблагодарить вас за тот труд, который вы взяли на себя и который так поспешно выполняете1, да всё не могла собраться. После отъезда вашего2, болезнь моя значительно ухудшилась, и я пролежала еще около 4-х недель3. Теперь я хожу, но здоровье так расшаталось, что еду завтра в ночь в Москву, если Льву Николаевичу будет лучше. Он же нас ужасно напугал. Несколько дней тому назад вдруг сделался жар, 40°, бред и рвота. При этом боль в ноге. Оказалась рана небольшая, прикинулась болеть, сделалась сильнейшая рожа, а рана всё глубже и глубже. При этом жар: утром 38°, вечером 39°. Стонет, не спит всю ночь и постель не оставляет. Доктора видеть не хочет и лекарств не признает. От этого уход за ним очень тяжел, чувствуешь бессилие и бесконечное страдание для него4.
Видите ли, Николай Николаевич, как мрачно опять в Ясной Поляне. Остальные все здоровы, все о вас часто поминаем, и все вам сердечно кланяются. Лев Николаевич хотел сегодня написать вам в постели, но не мог, и очень мучается, что не ответил еще на ваше прекрасное письмо5.
Усердно и с удовольствием вяжем вам одеяло. Надеюсь, что к отъезду сестры будет готово и она свезет вам его как раз к холодному сезону6.
Не посылайте мне, Николай Николаевич, бандеролями, по частям: для вас хлопот больше и риску больше растерять по мелочам книги7; мои 420
типографии ничего еще не работают, и я еду их подбодрить8. Вы работаете несравненно скорее.
После страшного потопа мы немного вздохнули и начали просыхать9. Что это была за ночь, когда ехали от Олсуфьевых10 из Москвы Сережа и Таня — этого себе и представить нельзя было! И их поезд проехал последним по тому мосту на р. Лопасне, который провалился. Хорошо еще, что их поезд сутки задержали в Серпухове. А мы, ничего не зная, послали на Козловку, поехали все мальчики и до 4-х часов утра не возвращались. Оказалось, и наш мост развалился, и лошадь провалилась в речку, а мужики ночью ее тащили, ничего не видно, и ливень! Страшно было очень.
Вот и все наши события. Гостит у нас старик Н. Н. Ге, привез рисунки — иллюстрации Евангелия1 11. Бирюков12 у нас, Иславин13, вообще гостей много. Напишите, Николай Николаевич, как вам живется, здоровы ли вы и мрачно или светло на душе? Прощайте, жму вам крепко руку.
Душой вам преданная
гр. С. Толстая
10 августа 1886 г.
1 См. п. 352 и примеч. 4 к нему.
2 См. примеч. 5 к п. 351.
3 См. примеч. 15 к п. 352.
4 Об этой болезни С. А. Толстая вспоминала: «...случилось событие с Львом Николаевичем, во многом изменившее нашу жизнь. / В начале августа он возил на телеге хлеб вдове (...) и ударился ногой, прямо костью (против икры) о телегу. Сначала было небольшое красное пятно, которое болело. Потом из пятна образовалась ранка; вокруг ранки краснота всё увеличивалась, а ранка всё усугублялась. (...) положение ноги и раны делалось серьезно. / Около 8-9 августа у Льва Николаевича сделался сильный жар, градусов в 40. (...) Болезнь Льва Николаевича затянулась надолго, почти на три месяца» (Толстая. Моя жизнь I. С. 531-532). См. также п. 356.
5 Подразумевается п. 352.
6 С. А. Толстая писала, что вязала это одеяло «в подарок Страхову, чтоб хоть чемнибудь отблагодарить его за работу над выправкой моих изданий» (Толстая. Моя жизнь I. С. 534).
Печатается по: ОР ГМТ. Ф. 47.
№ 39402. Л. 1-2 об. На л. 1 помета Страхова: «12 августа] 1886» (дата получения). Впервые: ПТСII. С.193-194.
421
7 Имеются в виду печатные листы трех частей Шестого издания Сочинений Толстого, которые просматривал Страхов и отправлял в Ясную Поляну С. А. Толстой для дальнейших исправлений. См. примеч. 4,6 к п. 352.
8 Другим поводом к этой краткой поездке С. А. Толстой в Москву стала необходимость привезти для осмотра раны Толстого квалифицированного доктора. С. А. Толстая писала: «Вечером 10-го августа я уехала с страшной тревогой о Льве Николаевиче, у которого был жар градусов 40 и рожа на ноге. / Приехав утром, я отправилась сейчас же к Иверской; со слезами молилась об исцелении моего мужа, а оттуда поехала к доктору (...) и стала умолять ехать со мной в Ясную Поляну. (...) Время шло, я приходила в волнение, в 12 часов отходил скорый поезд, надо было торопиться. Наконец я уговорила (...) и мы поехали» (Толстая. Моя жизнь I. С. 532).
9 Подробнее об этом напугавшем обитателей Ясной Поляны ливневом дожде см. в письме С. А. Толстой к А. А. Фету от 15 августа (Фет. Переписка II. С. 122).
10 Речь идет о семье отставного свитского генерала графа Адама Васильевича Олсуфьева. Т. Л. Толстая уехала в имение Олсуфьевых Никольское-Обольяново (Горушки) под Москвой (близ станции Подсолнечная Николаевской ж. д.) в конце июля. У Олсуфьевых охотно и часто гостил и Толстой.
11Н. Н. Ге летом 1886 г. работал над эскизами рисунков к неосуществленному изданию «Краткого изложения Евангелия» Толстого (1883).
12 Последователь и биограф Толстого Павел Иванович Бирюков.
13 Вероятно, имеется в виду Михаил Владимирович Иславин. С. А. Толстая вспоминала о побывавших в августе в Ясной Поляне лицах: «Приезжал в то время гостить ухаживавший за моей Таней мой двоюродный брат Миша Иславин, приезжал князь Абамелек, снимавший наши портреты и группы привезенным им фотографическим аппаратом. Потом приехал Николай Николаевич Ге-отец (...) Этот хаос жизни с гостями, моей болезнью и корректурами, работами и несвоевременными обедами, чаями пропадавших в поле мужа и детей — был очень несносен и тяжел» (Толстая. Моя жизнь I. С. 531).
354
11 августа СтрОХОВ — С Л. ТОЛСТОЙ
1886 г.
■Петербург Глубокоуважаемая Софья Андреевна!
Когда я приехал в Петербург, я сейчас же написал письмо ко Льву Николаевичу1, где и Вам сообщал, что получил в Москве и что обещаю 422
сделать. Потом послал Вам заказными первые листы второго тома2 (по адресу — в Тулу) и стал затем высылать простыми по три, по четыре листа в сутки. Александра Михайловича просил в записке узнать у Вас, хорошо ли я делаю. Но до сих пор у меня нет ни самой маленькой весточки из Ясной Поляны3, а между тем, вероятно, по случаю катастрофы под Серпуховом, письма стали пропадать в большом числе (пропало письмо ко мне Фета, очень большое4). Поэтому я боюсь, дошли ли к Вам все мои отсылки, и не пропало ли что-нибудь ко мне из Ясной Поляны? Досаднее всего, что не знаю ничего о Вашем здоровье, которое было нехорошо при моем отъезде. Со всем остальным еще можно было бы помириться.
Теперь о корректуре5. Моя пунктуация будет во всяком случае лучше прежней. Много я поправил крупных ошибок; но относительно всех поправок не скажу, чтобы они были наилучшие. Слог Л. Н. так своеобразен, что иногда очень трудно решить, как поставить знаки. Во всяком случае, прошу Вас, просмотрите сами крупные поправки; мелкие не подлежат сомнению. Иногда я ставил красные N6 на полях, где очевидно текст не исправен. «Ружье вышло» — следует, я думаю, выпалило. В других случаях я брал поправку на себя, даже обыкновенно так делал.
Хотел я, при этой оказии, написать кое-что Льву Николаевичу, но слышал от Д. И. Воейкова6, что он теперь где-то в Самарской губернии, у Сибирякова7.
Если угодно Вам знать обо мне, то похвалюсь, что я кончил-таки работу8, ради которой торопился в Петербург, но кончил ее уже больной. Две недели не выхожу из дому, — лихорадка, кашель и головная боль9.
Прошу простить меня. Всей Ясной Поляне усердный поклон и всякие благожелания. Александру Михайловичу и Татьяне Андреевне усердное мое почтение. Передайте Т[атьяне] А[ндреевне] эту корректуру10, свидетельствующую о ее трудах, о моей исправности и о стараниях Суворина. Ее прислали мне из редакции.
423
Печатается по: ОР ГМТ. Ф. 47. №39519/1. Л. 1-2. Конверт. На конверте: Заказное Тула, губ(ернский) гор[од]. Ее Сиятельству Софье Андреевне Толстой подал Н. Страхов (Торговый] мост, д[ом] Стерлигова). Почтовые штемпели: «13 августа] 1886 С. Петербург», «14 августа] 1886 Тула». Впервые: ПТСII. С. 195.
От всей души желаю Вам здоровья и остаюсь
искренно преданный
Н. Страхов
1886.
11 авг[уста].
Спб.
Р. 5. Чуть было не забыл написать, что работу я делаю с большим наслаждением, а бывает — и со слезами.
1 Из летней поездки Страхов вернулся в Петербург 16 августа. Ближайшее по времени известное письмо его к Толстому датировано 21 июля (п. 352).
2 См. об этом в п. 352 и 353.
3 См. п. 355.
4 О пропаже этого, «первого», по словам Страхова, после его отъезда из Воробьевки письма он известил А. А. Фета 28 августа (Фет. Переписка II. С. 421).
3 Речь идет о корректурах Шестого издания Сочинений Толстого.
6 Дмитрий Иванович Воейков, директор канцелярии Министерства внутренних дел, помещик Симбирской губернии, знакомый Толстого и Страхова.
7 Константин Михайлович Сибиряков, владелец золотых приисков в Сибири, нескольких имений в Самарской губернии и на Кавказе, корреспондент Толстого. Слух о поездке писателя к Сибирякову был ложным — летом 1886 г. Толстой не выезжал из Ясной Поляны.
8 Речь идет о доработке статьи «Главная задача физиологии». См. примеч. 1 к п. 350.
9 О своем нездоровье Страхов писал А. А. Фету и 28 августа: «... был я порядочно болен катаром дыхательного горла. Так пропала у меня вторая половина лета: не мог ни окон раскрыть, ни на балконе посидеть, ни побродить по улицам — великое мое удовольствие. По целым неделям я просиживал один со своими книгами; никто не заходил, и я не решался на поездки» (Фет. Переписка II. С. 421).
10 Имеется в виду корреспонденция Т. А. Кузминской, написанная в июле 1886 г. в Ясной Поляне при участии Толстого и Страхова (см. п. 352 и примеч. 14 к нему). 12 июля она писала А. М. Кузминскому: «Я написала статью о переселенцах. Описала всю историю подробно и послала в „Новое время“ со Страховым. Лёвочка мне помог, и Ник[олай] Николаевич] выправил ее. Не знаю, примут ли. Написана бойко...» (ОР ГМТ. Ф. 25. № 2276. Л. 3). Статья Т. А. Кузминской не сохранилась.
424
355
Л. И. Кузгшнскщ Л. Н. Толстой — Страхову
Многоуважаемый Николай Николаевич.
Только что получили Ваше письмо, в котором нас чрезвычайно удивило и даже огорчило известие о том, что до Вас не дошли наши письма1. Обещание свое я выполнил и с неделю тому назад послал Вам обстоятельный отчет о том, что делается в Ясной1 2 и, главным образом, о здоровье Льва Николаевича, столь беспокоившем нас; об этом, вероятно, Вам подробно написала сегодня Софья Андреевна3.
Меня также удивила присланная Вами в корректуре статья Татьяны Андреевны, т[а]к к [а] к мне казалось, на основании наших переговоров в П[етербур]ге, что вопрос о печатании ее вполне решен в отрицательном смысле. Теперь, по новому уполномочию Тат[ьяны] Анд[реевны], обращаюсь к Вам с просьбою написать Суворину, чтобы он совершенно отказался от мысли поместить эту статью в «Нов[ом] вр[емени]>>. Она, во 1-х, не представляет теперь никакого интереса: а., ни местного, т[а]к к[а]к кр[естья]не с Божьею помощью уже переселились, б., ни общего, п[отому] ч[то] статья совсем не касается этого целого, и во 2-х, с точки зрения юридической заключает в себе полный состав «диффамации»4, за которую я вовсе не желаю, чтобы Тат[ьяна] Анд[реевна] судима была в С.П[етер]б[ургски]х судебных] установлениях. Будьте добры не откладывать этого дела и к[а]к можно скорей дать знать Суворину; меня же уведомить, чем очень обяжете душевно Вам преданного
Кузминского
[Рукой Л. Н. Толстого:]
Обнимаю вас, дорогой Н[иколай] Николаевич]. Поправляйтесь, и я, кажется, то же собираюсь делать. — Пожалуйста, попросите А. С. Суворина (а меня простите за хлопоты), чтобз статью не печатать5. Я увлекся тогда досадой, это б[ыло] хоть немного простительно, но теперь, кроме зла, уже очевидно эта статья ничего произвести не может.
Ваш Л. Толстой
19 августа 1886 г. Ясная Поляна
Печатается по: ОР ГМТ.Ф. 1.№9531. Л. 1-2 об. Приписка Толстого (карандашом) на п. 2 об. Впервые: ТС ПСП II. С. 711, примем. 10.
Датируется по содержанию и сопоставлению с п. 356.
Ответ на п. 354.
1 См. п. 354.
2 А. М. Кузминский приехал в Ясную Поляну 2 августа 1886 г.
3 См. п. 356.
425
19 августа
1886 г.
Ясная Поляна
4 Вероятно, в статье Т. А. Кузминской содержались резкие высказывания в адрес местных властей, которые по каким-то причинам задерживали переселенцев, и Кузминский усмотрел в этом «состав диффамации».
5 Корреспонденция Т. А. Кузминской в газете «Новое время» не появилась.
356
С Л. Толстой — Страхову
Как больно и досадно, многоуважаемый и дорогой Николай Николаевич, что письма так пропадают! Я давно уже написала вам длинное письмо1, в котором выразила все свои и Льва Николаевича чувства к вам и подробности жизни нашей, — и вдруг письмо это куда-то исчезло! Дала я его положить в ящик молодому Ге2, а потом куда оно делось — неизвестно. Ну, да что теперь говорить об этом.
Как вы далеки, Николай Николаевич, от того, что у нас делается, и как я знаю вперед, какое сочувствие я встречу в вас. Лев Николаевич третью неделю лежит совсем больной, и даже внушает большие опасения3. Началось с того, что болела нога, был ушиб о грядку телеги, на которой он возил снопы для бедной вдовы-крестьянки. Струп засох, но он его содрал. Тогда прикинулось болеть и стала краснота. После чего вдруг наступил жар в 40°, рвота и рвущая боль в ноге. Клали компрессы, припарки, но всё больше и больше краснота и боль, — я вижу, что рожа. Послала в Тулу за доктором; он говорит: «гноящаяся ранка поддерживает рожу, а рожа — ранку». Вижу, что дело плохо, под предлогом своего нездоровья, которое и теперь не прошло, я поехала в Москву, взяла доктора (Чиркова)4 и на другое утро выехала обратно.
Доктор сделал промывания, наложил бинт, всё прочистил, и температура сразу стала нормальна. Но он, уезжая, требовал непременно, чтоб сделали через два дня дренаж; Лев Николаевич, поддерживаемый стариком Ге (с которым я очень воюю по этому случаю), уперся и ни за что 426
не хотел. Но улучшение было временное. Без дренажа задержался гной, образовались новые нарывы, и жар опять 3 дня был страшный.
Сегодня сделали операцию, резали, зондировали, сделали дренаж и проч[ие] мытарства. Грозит воспаление кости, чего я ужасно боюсь. После операции стало лучше, жар опять спал, что-то будет завтра! Исхудал он страшно, кроток, терпелив и теперь — покорился. Но чего мне это стоило! Я думаю, его покорил больше всего мой убитый вид. После вашего отъезда мне стало хуже, я пролежала еще почти 2 недели и теперь еще не поправилась5.
Плохо нам живется это лето, дорогой Николай Николаевич! А теперь такое напряженное состояние души, что и себя не чувствуешь, точно и не живешь, а только и хорошо, когда послужить можно, походить за своим больным; а остальное время усиленно вяжу ваше одеяло, и это очень хорошая работа; весело, что вам, и сидишь, вяжешь и всё думаешь, думаешь обо всем, что было и что может быть. Жаль мне вас, что вы больной и один; я бы и за вами с удовольствием походила, да далеко очень.
Спасибо вам, большое спасибо за ту работу, которую вы делаете для меня. Я вам писала еще между прочим, чтобы вы не посылали листами, а сразу всю книгу. Типографии мои работают страшно медленно; и еще и не начинали того, что вы поправили. Неужели вы думали, что я даже не поблагодарила вас ни разу? Мало вы меня знаете. Листки от вас получила все исправно, Таня, сестра, благодарит за присланную корректуру6. Лев Николаевич в начале болезни, в постели, хотел вам писать, но не мог. Он и тогда, когда я вам писала, и теперь просил вам передать свою нежность и чувство близости сердечной, и желание написать, и сожаление, что не в состоянии сам этого сделать. И сейчас говорит, что никогда не оставлял такого хорошего воспоминания Николай Николаевич, как в этот последний раз, и на беду сообщения совсем между нами прекратились. А поверите ли, всякий день о вас вспоминаем и говорим.
Была еще у нас эпоха тяжелая, Николай Николаевич. А именно, в ту ночь, как провалился на нашей Курской дороге мост, поехали мои стар427
шие дети, Сережа и Таня, из Москвы, от гр[афов] Олсуфьевых7. Ливень был страшный, безнадежный,- мрак и грязь непролазная. Получила я телеграмму, что они будут на Козловку с ночным поездом. Делать нечего, посылать надо, а знаю, что дорога там опасная: овраги, бугры, водомоины. Вызвались ехать Илюша, Лёва, Алкид8,- взяли кучера, два фонаря и отправились. Ждем мы всю ночь — никого нет: ни Сережи с Таней, ни мальчиков, ни лошадей, ни посланных. До пяти часов утра мы были в отчаянии: я больна, у Лёвочки (мужа) нога болит. Наконец слышим — верховой. Мы его перехватили, он скорей проговорил, что есть телеграмма, поезд вернули тотчас по выходе из Серпухова обратно туда же, что Толстые едут с этим поездом, а мальчики наши, с 15-ю мужиками у моста, ломают мост и вытаскивают потопшую лошадь. Наконец все собрались, и мы успокоились. Но что это была за ужасная ночь! По провалившемуся мосту последним прошел поезд, в котором ехали и наши дети.
У нас в доме теперь пропасть гостей, что не особенно удобно при нездоровье Льва Николаевича. Все дети здоровы и дома, только Илья и Лёва в Москве на переэкзаменовке9. Не знаю еще, чем кончились их экзамены: были сегодня и вчера. Бедные мальчики очень встревожены болезнью отца, и боюсь, что не выдержат своих переэкзаменовок. — Вот и все вести о нас, многоуважаемый и милый Николай Николаевич. Дай Бог и вам и Льву Николаевичу скорей поправиться, это теперь главное. Хоть и хорошо, что вы кончили ту работу, которую спешили кончить10, но работа бы подождала, а нас лишили так скоро своего общества; когда-то теперь увидимся. Теперь прощайте, Николай Николаевич, я вам напишу скоро еще о здоровье мужа, только известите открытым письмом, что получили мое письмо, и как ваше здоровье? Крепко, крепко жму вам руку.
Сердечно преданная вам
Гр. С. Толстая
19'го августа 1886 г.
428
Александр Михайлович тоже писал вам на днях. Неужели и его письмо пропало? Таня, сестра, сама вам напишет.
1 Вероятно, С. А. Толстая считала пропавшим свое п. 353. См. ниже п. 357.
2 Речь идет о сыне художника H. Н. Ге — Николае Николаевиче Ге-младшем, помогавшем в это время С. А. Толстой вести издательские дела.
3 См. п. 353 и примеч. 4 к нему.
4 Ассистент профессора Г. А. Захарьина терапевт Василий Васильевич Чирков был лечащим врачом С. А. Толстой. Он неоднократно приезжал в Ясную Поляну по просьбе Толстых. См. примеч. 8 к п. 353.
5 См. примеч. 15 к п. 352.
6 См. п. 354 и 355.
7 См. п. 353 и примеч. 10 к нему.
8 Алкид (Алсид) Сейрон, сын француженки-гувернантки Анны Сейрон, воспитанник Лазаревского института; дружил с Л. Л. Толстым и обычно проводил каникулы в Ясной Поляне. Подробнее о нем см.: Толстая. Моя жизнь I. С. 398.
9 Илья был переведен в VIII, Лев — в VI классы гимназии. С. А. Толстая вспоминала: «В конце августа сыновья мои Илья и Лева уехали с Madame Seuron и сыном ее Алкидом в Москву, где и жили всю осень без нас, что очень меня тревожило и огорчало. Директор гимназии Лев Иванович Поливанов писал мне жалобы на постоянные манкировкм Ильи и Левы, грозя оставлением их в классе: Илью в VIII, Леву в VI» (Там же. С. 533).
10 См. примеч. 8 к п. 354.
357
Страхов — С. Л. Толстой
Душевноуважаемая Софья Андреевна,
Виноват я перед Вами безбожно и непростительно. Первое письмо Ваше1 я получил очень исправно 12 августа, а накануне, 11 авг[уста], я отправил к Вам то письмо, на которое Вы мне теперь отвечаете2. Значит, письма разминулись, и я не считал нужным сейчас отвечать. Но послушался Вашего приказа — перестал высылать листы и думал, что из
Печатается по: ОР ГМТ. Ф. 47.
№ 39403. Л. 1-3 об.
На л. 1 помета
Страхова:
«20 августа] 1886».
Впервые: ПТСII. С.197-199.
Ответ на п. 354.
21 derycid 1886 г.
ÇdHKT-Петербург
429
Печатается по: ОР ГМТ. Ф. 47. № 39520. Л. 1-2.
На конверте: «Тула, губ[ернский] гор[од]. Ее сиятельству Софье Андреевне Толстой». Почтовые штемпели: «22 августа] 1886 С. Петербург», «23 августа] 1886 Тула». Впервые: ПТСII.
С. 200. Ответ на п. 356.
этого Вы уже узнаете, что письмо Ваше получено. И вдруг сегодня, 21 авг[уста], получаю Ваше второе письмо3. Если бы я не знал, как скоро Вы всё делаете, и если бы мне не было так радостно читать выражение Вашего участия и внимания ко мне, то досада загрызла бы меня.
Или мое письмо так поздно получено Вами?
Печальные вести Вы пишете и о себе, и о Льве Николаевиче. Ах, если бы это всё поскорее прошло! Гораздо легче самому болеть, чем знать, что другие болеют, и бояться за них, и чувствовать бессильные желания4. Сам я уже дней пять на положении здорового, но болезнь не прошла совсем, и есть слабость, которая давно уже не оставляет меня совсем. Хорошо еще, что последние дни голова свежа и могу с удовольствием читать и писать. Живу я очень одиноко, и уже не мечтаю ни о другой жизни, ни даже о полном здоровье5.
Одеяло, которое Вы вяжете, очень волнует меня. Мне всё кажется, что лучше будет повесить его на стену или заказать для него особую витрину. Неужели укрываться такою драгоценностью?
Работы мои идут по порядку, и я очень радуюсь, что наконец так устроился, что могу работать что хочу6. Когда один сидишь дома, то целый день — много времени!
Не могу выразить, как я Вам благодарен и как тронут Вашим вниманием. Пишу к Вам наскоро, чтобы отвечать сегодня же. Завтра напишу и Льву Николаевичу7, и Александру Михайловичу8.
Всё хорошо, только не болейте! От всего сердца желаю Вам поправиться.
Ваш душевно преданный и благодарный
Н. Страхов
1886.
21 авг[уста].
1 См. п. 353.
2 См. п. 354.
430
3 Имеется в виду п. 356, полученное Страховым, судя по его помете, 20 августа.
4 Ср. примеч. 5 к п. 359.
5 См. примеч. 9 к п. 354.
6 Страхов был занят изданием двух своих новых книг: «Об основных понятиях психологии и физиологии» (СПб., 1886) и «О вечных истинах (Мой спор о спиритизме)» (СПб., 1887) и работал, соответственно, над предисловием и вступительной статьей к ним; готовил переиздание сборника «Критических статей об И. С. Тургеневе и Л. Н. Толстом (1862-1885)» (2-е изд. СПб., 1887). О своих занятиях он писал А. А. Фету 28 августа: «Пишу я всё предисловия, к трем книгам, которые, вероятно, издам зимою. Третья книга — мои „Критические статьи“; она почти разошлась, и от меня желают второго издания» (Фет. Переписка II. С. 421). См. п. 358.
7 См. п. 358.
8 Письмо Страхова к А. М. Кузминскому неизвестно.
358 Страхов — Толстому
Ваша болезнь1 мучит меня, бесценный Лев Николаевич. Как мне ни жаль Софьи Андреевны2, но почему-то я за нее не так боюсь, как за Вас. Вы должны беречь себя. В «Апологии» у Платона Сократ говорит, что он не вмешивался в политические дела потому, что тогда давно бы пропал, а у него было свое дело, которое он хотел делать для пользы ближних3. Так и Вы — избегайте всего, где есть опасность: у Вас есть дело, которое далеко еще до конца.
Доктор мне помог; дал мне хины и потом микстуру. Но он предсказывал, что через два дни я буду здоров, а вот уже неделя, как я на положении здорового, но чувствую, что болезнь не оставила меня. Что-то стал я хил, перестал уже вовсе рассчитывать даже на три, на четыре года жизни вперед. Поэтому утих, перестал тосковать и очень тороплюсь. Я был бы совершенно доволен, если бы удалось мне написать еще книгу, последнюю, о том, как искать Бога, как всё делать во славу Божию и всякое познание направлять к познанию Бога. Вы видите, замыслы высо22 августа 1886 г.
Санкт-Петербург
431
кие, но ничего никогда мне так не хотелось писать, как это. Напишу какнибудь, торопясь, но непременно напишу4. А пока — издам в эту зиму две книги: 1) «Об основных понятиях психологии и физиологии». Я кончил наконец статью, которую Вы знаете; этот конец напечатан5, но я его Вам не пошлю, а пошлю уже книгу6. 2) «Спор о спиритизме»7. Бутлеров умер8 — он только тремя днями был моложе Вас9. Значит, наш спор кончен; а для меня он имеет огромное значение, которое я и объясню в большом введении10. Эта книга — уже выход на новую дорогу, на путь мистицизма, как я его понимаю.
Не могу сказать, как меня трогает внимание Ваше и Софьи Андреевны; она пишет, что Вы нашли меня нравственно лучше прежнего. Это очень меня ободрило и укрепило; хотя я сам чувствовал, что стал спокойнее, яснее, но ведь самому себе не веришь.
Получили ли Вы мой «Лотос»?11 Об этом никто мне не пишет. А я удивился своему беспамятству. Как же я не вспомнил, когда Вы меня спрашивали, о таких книгах:
Koppen, Buddismus. 2 Bde. Это превосходная книга для изучения, но уже довольно старая12.
A. Barth, Religions de l’Inde, Par., 187913.
Bergaigne, La religion védique, кажется, 3 тома, Par., 187914.
Эти два автора считаются в последнее время наилучшими. И этих книг, увы! у меня нет. Веды изучать, я думаю, бесполезно. Но книга, которая у Вас непременно должна быть, это «Sacred Books of the East»15. Теперь вышло до тридцати томов, каждый том по 5 или 6 рублей. Можно выбрать. Тут есть и упанишады и буддийские сутры или сутты, есть бгаватгита и т. д. Какая прелесть! У меня, увы! только Коран, два тома16.
Простите меня, браните меня, но никогда не сомневайтесь в моей душевной глубочайшей преданности. Дай Бог Вам благополучно выздороветь! С Вашей плодовитой душою Вы вынесете из болезни только новый подъем духовных сил. Дай Бог!
Ваш Н. Страхов
432
1886 г.
22 авг[уста].
Спб.
1 См. п. 353 и 356.
2 Об этой болезни Страхов писал А. А. Фету из Ясной Поляны 13-15 июля 1886 г.: «... Софья Андреевна уже с неделю больна, надорвалась на той же косьбе, которую она принялась было делать со свойственною ей энергиею и поспешностью. Она явилась в залу только вечером и потом хвалилась, что в первый день своей работы вызывала у мужиков похвалы своей красоте, а во второй — своей ловкости и силе. Мужики и говорят, что графиню сглазили и предлагали ей пить с уголька...» (Фет. Переписка II. С. 418). См. также п. 353.
3 Ср.: Платон. Собр. соч.: в 3 т. [4 кн.]. М., 1968. Т. 1. С. 106. В это время Страхов обращался к сочинениям Платона в связи с работой над вступительной статьей к сборнику «О вечных истинах» (см. примеч. 5 к п. 357).
4 Ср. об этом же в письме к А. А. Фету от 28 августа: «Что до меня, то (...) мне больше всего хотелось бы написать книгу, которою бы я сам был доволен, а публика — пусть как знает. И ужасная у меня нынче охота писать; рассчитываю, что с октября уже примусь, разделавшись со всем старым, за новое, уже серьезное писание» (Фет. Переписка II. С. 421).
5 Имеется в виду статья Страхова «Главная задача физиологии» (см. примеч. 1 к п. 350), которая вошла в книгу «Об основных понятиях психологии и физиологии» (1886).
6 Экземпляр (без дарственной надписи, но с многочисленными пометами Толстого) сохранился в яснополянской библиотеке (Описание ЯПб. Т. 1, ч. 2. С. 284. № 3036). Толстой читал книгу Страхова в ноябре 1886 г. (см. п. 365).
7 Книга с дарственной надписью на обложке («Бесценному Льву Николаевичу Толстому от Н. Страхова») представлена в библиотеке писателя (Описание ЯПб. Т. 1, ч. 2. С. 284. № 3037). Толстой получил экземпляр сборника в феврале 1887 г. (см. п. 369).
8 А. М. Бутлеров умер 5 августа 1886 г. Во вступлении к книге «О вечных истинах» Страхов писал: «Смерть А. М. Бутлерова была и для меня большим ударом. (...) А. М. Бутлеров был светлою звездою в моей памяти. Лично я его мало знал; немногие встречи и разговоры дали мне только почувствовать ту прелесть его благородной натуры, по которой он всегда и везде был окружен любовью и уважением. (...) Так как разбор мнений А. М. Бутлерова имел для меня важную цель и был делом истинно сериозным, то (...) я имею право считать эту книгу только подтверждением моего уважения к покойному ученому» (СПб., 1887. С. У-У1, XXXVIII).
Печатается по: РО ИРЛИ. Ф. 302. Оп. 2. Ед. хр. 300. Л. 123-124. Впервые: Современный мир. 1913. №11. С. 335-336.
433
9 Бутлеров родился 3 сентября, Толстой 28 августа (ст. ст.) 1828 г.
10 Во вступлении к книге Страхов писал: «Спиритизм наводил меня на мысли, касающиеся важнейших в мире задач, и мне представлялась возможность говорить об этих задачах, опираясь на пример чрезвычайно резкий и совершающийся у всех на глазах» (Страхов H. Н. О вечных истинах. (Мой спор о спиритизме). СПб., 1887. С. VII).
11 См. п. 352 и примеч. 7 к нему.
12 Вероятно, имеется в виду посвященная истории буддизма книга: Коерреп, Karl Friedrich. Die Religion des Buddha. 2 Bde. Berlin, 1857-1859. Первый том издания посвящен изучению религии Будды и ее возникновения (Erster Band: Die Religion des Buddha und ihre Entstehung). Второй — истории ламаистской духовной иерархии и церкви (Zweiter Band: Die lamaische Hierarchie und Kirche). Ранняя книга немецкого историка на эту тему: Einige Worte über den Buddhismus (1851; Несколько слов о буддизме).
13 См.: Barth, August. Les religions de Г Inde. Paris, 1879. Эта книга («История религий Индии») принесла ее автору, французскому ориенталисту Огюсту Барту, научную известность.
ï4Bergaigne, Abel. La religion védique d apres les hymnes du Rig-Veda. T. 1-3. Paris, 1878-1883. Четвертый том исследования французского индолога Абеля Бергеня «Ведическая религия по гимнам Ригведы» вышел в 1897 г.
15 Обширное 50-томное издание «Священных книг Востока» в переводе на английский язык было предпринято известным востоковедом Максом Мюллером (Мах Müller); выходило на протяжении 1879-1910 гг. в издательстве Oxford University Press, включало в себя собрание основных священных текстов индуизма, буддизма, даосизма, конфуцианства, зороастризма, джайнизма и ислама. По состоянию на 1886 г. было выпущено 29 книг издания.
16 Эти два тома вышли в 1880 г.
359
23 сентября (трбХОВ — ТОЛСТОМУ
1886 г.
Санкт-Петербург «Скажите лучше: так Богу угодно»1. Помните ли, бесценный Лев Николаевич, где Вы написали эти слова? Вы написали их больше тридцати лет назад, в «Набеге»2. Что же удивительного, что и через тридцать лет Вы принялись внушать всем и толковать молитву: «Да будет воля Твоя!»3 И как Вы можете сказать, что прежде писали не то, что теперь? 434
Для поправки я перечитываю Ваши писания4, и опять удивляюсь, и удивляюсь больше прежнего. Меня во всем у Вас схватывает такая серьозность, такая полная правдивость, которая равняется самому чистому религиозному настроению. У Вас можно учиться любить смирение, простоту и правду и уходить от тщеславия и всякой лжи, внутренней и внешней. Вы тем и дороги, что смотрите на душу человека с этой высокой точки зрения; во всем и везде Вы показываете не одну пошлость, но и добираетесь до следов настоящего блага, вечного света, бывающего в людях. Когда чувствуешь, что у писателя эта цель никогда не выходит из мыслей, что она невидимо озаряет всё, что он пишет, то чтение получает интерес, которого ни с чем сравнить нельзя. Читаю и вникаю всеми силами в этот чудесный смысл, и никогда еще я не читал Вас с таким наслаждением и поучением.
От Александра Михайловича знаю, что Вы всё еще очень больны, и мне это тяжело и грустно5. Сам я почти здоров и погружен больше всего в печатание своей книги, которое уже дошло до половины6. Когда самолюбие очень разыграется, то приходит на ум, что за эту книгу меня следовало бы сделать доктором философии и членом Академии наук7. Но по правде, я сам только хотел бы быть доволен своею книгою, и для этого, кажется, чего-то не хватает.
Софье Андреевне — усердное мое почтение, и скажите, что по первому ее слову вышлю исправленные листы — конец 2-го тома и начало 3-го8. Еще раз — глубоко я Вам обязан, невыразимо благодарен как писателю!
Если мне поручите просмотреть и другие томы, если работа моя годится, — рад буду всею душою! Простите
Вашего неизменного
Н. Страхова
1886.
23 сент[ября].
Спб.
Печатается по: РО ИРЛИ. Ф. 302. Оп. 2. Ед. хр. 300. Л. 74-75.
Впервые: Современный мир. 1913. №11. С. 337.
435
1 Страхов отвечает на неизвестное письмо Толстого.
2 В рассказе «Набег» (1853) Толстой писал: «Подъехал и капитан. Он пристально посмотрел на раненого, и на всегда равнодушном холодном лице его выразилось искреннее сожаление.
— Что, дорогой мой Анатолий Иванович? — сказал он голосом, звучащим с таким нежным участием, какого я не ожидал от него, — видно, так Богу угодно.
Раненый оглянулся, бледное лицо его оживилось печальной улыбкою.
— Да, вас не послушался.
— Скажите лучше: так Богу угодно, — повторил капитан» (Юб. Т. 3. С. 37-38).
3 Мф.б: 10.
4 Для удешевленного Шестого издания Сочинений Толстого в 12 частях. Рассказ «Набег», из которого Страхов приводил цитату в своем письме, вошел в третью часть издания.
5 Через несколько дней Страхов писал А. А. Фету: «Толстой, как пишут, поправляется, что меня очень порадовало. Переживать других, убедился я, гораздо тяжелее, чем самому умереть» (письмо от 27 сентября. — Фет. Переписка II. С. 422).
6 «Об основных понятиях психологии и физиологии» (1886).
7 Желание Страхова осуществится в конце 1889 г., когда его выберут членом-корреспондентом Императорской Академии наук, но по Отделению русского языка и словесности (см. п. 413 и примеч. 8 к нему).
8 См. примеч. 4.
360
14 октября 1886 г. Санкт-Петербург
Страхов — С. А. Толстой
Глубокоуважаемая Софья Андреевна,
Наружно я перед Вами виноват без меры, но внутренне гораздо меньше. Каждый день утром и вечером я любуюсь своим одеялом и благодарю Вас1. Моя кровать, и даже вся моя спальня вдруг расцвела от такого украшения. Величиною оно равняется самому большому моему одеялу. Тепло удивительно, как я и не ожидал. Кроме того, оно имеет превосходное свойство: оно не тянет никогда, а ложится спокойно, ничуть не коробится и не скользит. Всё это важно, но еще важнее то доброе желание и та честь, которые заключены для меня в этом одеяле.
436
Право, я этого не стою. Что две дамы пожелали, чтобы хилеющий старик потеплее укрывался — это одно уже дорого и мило. Но какие дамы! Из самых знаменитых, какие есть в России! Поэтому я всё еще с смущением гляжу на свое одеяло. Я никому еще его не показывал; нельзя показать, не чувствуя в себе похвальбы и хвастовства. Конечно, это самый милый и самый почетный подарок, какой я получил в жизни, и другого такого мне уже не получить.
Не забудьте, что я считаю себя постоянным должником перед Ясной Поляной и что я с радостью сделаю всё, чем могу быть ей приятным и полезным. Опять обращаюсь к Вам: не поручите ли мне корректур?2 Высылаю Вам вместе с этим письмом всё, что готово из второго и третьего тома. Конец третьего сделаю сейчас же, как дадите знать.
Третьего дня пошла моя книга в цензуру3, а я всё еще ношусь с нею, как курица с яйцом. Если бы я в жизни вел себя получше, то мог бы написать еще пять-шесть таких книг, и тогда можно было бы меня добром помянуть.
Здоровье мое лучше, чем за весь этот год. Холод, оказалось, мне полезен, и я очень обрадован таким открытием. Да пью меньше чаю.
От Кузминских имею постоянные известия, знаю и об Вашей прошлой болезни, и о том, как поправляется Лев Николаевич. Очень радуюсь и успокоился.
Еще раз душевно благодарю Вас. Простите меня и не забывайте Вашими поручениями.
Глубоко преданный и уважающий
Н. Страхов
1886.
14 окт[ября].
Спб.
1 Страхов благодарит за одеяло, которое связали для него С. А. Толстая и Т. А. Кузминская летом 1886 г. Одеяло привезла в Петербург Т. А. Кузминская, уехавшая из Ясной Поляны 1 октября.
Печатается по: ОР ГМТ. Ф. 47.
№ 39521. Л. 1-2.
На конверте: «Заказное. Тула, губ[ернский] гор[од]. Ее сиятельству Софье Андреевне Толстой».
Почтовые штемпели: «16 октября] 1886 С. Петербург», «17 октября] 1886 Тула».
Впервые: ПТСII. С. 201.
437
2 Выполнив первичную, текстологическую работу по частям 2,3 и 12 нового издания Сочинений Толстого, Страхов предлагал свои услуги и по чтению корректурных листов.
3 Имеется в виду книга «Об основных понятиях психологии и физиологии» (СПб., 1886). В конце сентября Страхов писал А. А. Фету: «Половина моей книги напечатана, и я за корректурами то прихожу в восторг от своего писания, то в отчаяние» (письмо от 27 сентября. — Фет. Переписка II. С. 422).
18 октября 1886 г. Ясная Поляна
361
С Л. Толстая — Страхову
Многоуважаемый Николай Николаевич.
Теперь, с тех пор как сестра в Петербурге1, надо бы иметь о вас чаще известия, а мы ничего не слышим, как вы поживаете, здоровы ли, чем заняты? Пришло время, дорогой Николай Николаевич, просить вас переслать в Москву, Леонтьевский переулок, д. № 5, Типография А. И. Мамонтова, конец 2-й части и всю 3-ю2, если она готова. Не знаю, как и благодарить вас за труд, который вы на себя взяли. Я вижу по корректурам, как хорошо всё исправлено и как это мне облегчило дело держанья корректур.
Мы всё еще в Ясной Поляне3, нам тут очень хорошо и тихо, и дружно, и уютно. Так много досугу, и так нам много приходится быть с Львом Николаевичем, что жаль расстаться с этой жизнью. Но издали доходят довольно смутные, но тем не менее иногда тревожные слухи об обстановке жизни мальчиков в Москве4, и страх берет за них и за то, что внешние обстоятельства и влияния могут отозваться и на внутреннюю жизнь молодых душ. Кроме того и дела мои книжные идут без меня неудовлетворительно, и очень затруднительно вести их издали в продолжение 6-ти месяцев.
Здоровье Льва Николаевича поправляется быстро. Сегодня он ходил уже сам и без костыля. Он бодр, свеж и очень добр5. Мы отлично жили 438
и право, грех сказать, но это время его болезни будет для меня одним из лучших воспоминаний жизни. Что-то дальше будет? Страшно трогаться, как бывает жалко проснуться, когда видишь чудный какой-нибудь сон6.
Простите за мое эгоистическое письмо, но всегда хочется тому всё высказать, кто поймет и кого любишь и уважаешь, как я вас.
Душевно преданная вам
Граф. С. Толстая 18 октября 1886 г.
Печатается по: ОР ГМТ. Ф. 47.
№ 39404. Л. 1-2 об.
Впервые: ПТСII.
С. 203.
1 Т. А. Кузминская уехала из Ясной Поляны в Петербург 1 октября.
2 См. примеч. 4,6 к п. 352, примеч. 7 к п. 353.
3 Толстые оставались в Ясной Поляне почти до конца ноября 1886 г.
4 Сыновья — Илья и Лев Толстые — продолжали обучение в гимназии Л. И. Поливанова и жили в Москве под присмотром (некоторое время) гувернантки Анны Сейрон (см. примеч. 9 к п. 356). Небрежное их отношение к учебе внушало С. А. Толстой опасения за воспитание мальчиков. Вскоре 20-летний Илья бросил гимназию. Он увлекся С. Н. Философовой и в ожидании разрешения родителей Софьи Николаевны на брак поступил вольноопределяющимся в Сумской драгунский полк, расквартированный в Москве. С. А. Толстая писала: «...жаль было, что способный Илья не доучился, и страшно было, что он рано связывает себя семьей» (Толстая. Моя жизнь I. С. 533). Свадьба И. Л. Толстого и С. Н. Философовой состоялась в феврале 1888 г.
5 После полученной травмы, осложненной воспалением раны, Толстой смог подняться с постели только в начале октября, но еще не был в состоянии передвигаться самостоятельно и вынужден был прибегать к помощи костыля (см.: Там же. С. 534; письмо С. А. Толстой к А. А. Фету от 7 октября. — Фет. Переписка II. С. 131).
6 Вместе с тем уже через неделю С. А. Толстая записала в дневнике: «Все в доме — особенно Лев Николаевич, а за ним, как стадо баранов, все дети, — навязывают мне роль бича. Свалив всю тяжесть и ответственность детей, хозяйства, всех денежных дел, воспитанья, всего хозяйства и всего материального, пользуясь всем этим больше, чем я сама, одетые в добродетель, приходят ко мне с казенным, холодным, уже вперед взятым на себя видом просить лошадь для мужика, денег, муки и т. п. (...) Как я хотела и хочу часто бросить всё, уйти из жизни так или иначе. Боже мой, как я устала жить, бороться и страдать. Как велика бессознательная злоба самых близких людей и как велик эгоизм! Зачем я все-таки делаю всё? Я не знаю; думаю, что так надо. То, чего хочет (на словах) муж, того я исполнить не могу, не выйдя прежде сама из тех семейных деловых и сердечных оков, в которых нахожусь. И вот уйти, уйти, так или иначе, из дому или из жизни, уйти от этой жестокости, непосильных требований — это одно, что день 439
и ночь у меня на уме. (...) Последние два месяца — болезнь Льва Николаевича — было последнее мое (странно сказать), с одной стороны, мучительное, а с другой — счастливое время. Я день и ночь ходила за ним; у меня было такое счастливое, несомненное дело — единственное, которое я могу делать хорошо — это личное самоотвержение для человека, которого любишь. Чем мне было труднее, тем я была счастливее. Теперь он ходит, он почти здоров. Он дал мне почувствовать, что я не нужна ему больше, и вот я опять отброшена, как ненужная вещь...» (Толстая. Дневники I. С. 110-111. — Курсив С. А. Толстой).
362
19 октября Толстой — Страхову
1886 г.
flCHdfl ПОАЯНй Как вы живете, дорогой Николай Николаевич? Что ваша книга?1 Видно, еще не кончилась печатанием; иначе бы вы прислали. Тепло ли вам, независимо от одеяла2, на душе? Благодарю вас за письма ко мне. Вы угадали в одном из писем3, что болезнь мне дает многое. Она, мне кажется, мне дала многое новое. Я много передумал и перечувствовал4. Теперь всё еще примериваюсь к работе и всё еще не могу сказать, чтобы напал на такую, какую мне нужно для спокойствия — такую, чтобы поглотила меня всего5. — Если нужно, то Бог даст.
Благодарю за сведения о книгах. Теперь мне не нужны еще. А если бы попались вам ВеаГа «Лалитавистара»6 и «Bouddha» St-Hilaire7, кажется, то купите на мой счет. Как всегда, книги кажутся нужными, когда их нет, и бесполезными, когда они есть. Николай Николаевич, помогите предприятию «Посредника» издания научных книг. Вы можете помочь и непосредственно и посредственно, возбуждая к этой работе ваших знакомых. Как мне жаль, что нельзя поговорить с вами об этом. — Мне представляется желательным и возможным (отнюдь не легким, но даже очень трудным) составление книг, излагающих основы наук в доступной только грамотному человеку форме — учебников, так сказать, для самообучения самых даровитых и склонных к известному роду знаний
440
людей из народа; таких книг, к[оторые] бы вызвали потребность мышления по извести [ому] предмету и дальнейшего изучения. Такими мне представляются возможными — арифметика, алгебра, геометрия, химия, физика. — Мне представляется, что изложение должно быть самое строгое и серьезное8. — Не выскажу всего, что думаю об этом теперь, но рад бы был вызвать ваше мнение. Здоровье мое очень хорошо. Иногда думаю: что если бы жизнь моя не имела другого смысла, кроме моей жизни и удовольствий от нее — выздоровление было бы еще ужаснее, чем смерть. У казненного уж была петля на шее, он совсем приготовился, и вдруг петлю сняли, но не затем, чтобы простить, а чтобы казнить какой-то другой казнью. При Христовой же вере в то, что жизнь не во мне, а в служении Богу и ближнему, отсрочка эта самая радостная: жизнь, какая была, так и остается, а радость служения закону мира — Богу — в моей теперешней форме увеличивается9. Прощайте, дорогой Николай Николаевич. Пишите, когда вздумается.
Ваш Л. Т.
Печатается по: ОР ГАЯ. Ф. 1.№ 7463. Л. 1-2 об. На л. 1 помета Страхова: «19 октября] 1886».
Впервые: Юб. Т. 63. С. 397-398.
Датируется по помете Страхова.
1 См. п. 358 и примеч. 5 к нему.
2 См. п. 360 и примеч. 1 к нему.
3 Имеются в виду п. 358 и п. 359.
4 Подробнее об этих мыслях Толстого см. в его письме от конца сентября - начала октября 1886 г. к будущей жене В. Г. Черткова А. К. Дитерихс (Юб. Т. 85. С. 392-396).
5 Толстой имеет в виду прежде всего свою работу над религиозно-нравственными темами. В начале октября он сообщал В. Г. Черткову: «Здоровье мое лучше, но я всё еще инвалид и живу вне своих привычек, не только физических, но и умственных. Не скажу, чтобы это было мне тяжело. Многое я приобрел во время этой болезни. (...) одна из мыслей была о жизни и смерти, то, о чем я так много заново думал, то и начал об этом и до сих пор всё пишу, т. е. думаю и записываю» (письмо от 3 или 4 октября. — Там же. С. 389). Другой работой, увлекшей на время внимание Толстого, стало писание драмы «Власть тьмы» — начатая 26 октября, она 25 ноября уже была сдана в набор.
6 Ьа1ка У1з1ага, ЬаН1ау151ага — «Аалитавистара» (санскр. «Пространное повествование о прелести [жизни и Слова Будды]»), сохранившаяся в нескольких версиях (в т. ч. на санскрите и в китайском переводе) ранняя сутра махаяны о жизни и деяниях Будды Шакьямуни неизвестного автора (авторов) и времени происхождения. Один из 441
наиболее популярных текстов буддизма в составе 27 глав. Начальные части произведения в переводе С. Лефмана (Salomon Lefmann) появились на немецком языке в Берлине в 1875 г. Крупный бенгальский ученый Раджендралал Митра (Rajendralal Mitra) выполнил (неполный) английский перевод памятника, который выходил в составе серии «Bibliotheca Indica» в Калькутте, с 1881 по 1886 г. Полный корпус текстов в переводе на французский язык, подготовленный Филиппом Эдуардом Фуко, появился в Париже в 1887-1892 гг. в издании «Annals du Musée Guimet» (vol. VI, XIX). Сэмюэль Биль (Samuel Beal), английский китаист, специалист в области китайского языка (профессор в Университетском колледже Лондона), крупный исследователь буддизма в Китае представил в книге «The romantic legend of Sakya Buddha, from the Chinese — Sanscrit» (London, 1875) сокращенный перевод китайской версии сутры Abhiniskramana, которая не сохранилась в оригинальном тексте на санскрите и дошла до нас в китайском переводе (ок. 587 г.). В использованной Билем редакции излагается жизнеописание Будды в традиции ранней буддийской школы Дхармагуптака (Dharmagupta). Эту книгу и использовал в своей работе Толстой. В 1883 г. в 19-м томе серии «Священные книги Востока» («Sacred Books of the East») появилась в переводе Биля с китайского публикация памятника «The Fo-sho-hing-tsan-king: a life of Buddha, by Ashvaghosha, Bodhisattva» («Фо Шо Хин Цзан Цзин, „Жизнь Будды“ Ашвагхоши, Бодхисаттвы»).
7 Речь идет о книге: Saint-Hilaire, Barthélemy. Le Bouddha et sa religion (3e édition, revue et corrigée. Paris, 1866; Будда и его религия, фр.).
8 В этой связи Толстой тогда же писал одному из своих корреспондентов и давал практические советы по подготовке материала: «Самый важный и занимающий меня [пункт], — это преподавание истории. Мы только о том и думаем, чтобы открыть в „Посреднике“ отдел научный, для народа, т. е. для большой серьезной публики. О других отделах не буду говорить, но история... Это то самое, что вы говорите. Только излагайте хорошим языком, понятным, русским и точно так, как вы говорите. Вы убьете двух зайцев. Составьте записки для преподавания и книжки въ „Посреднике“» (письмо М. А. Новоселову от 12 или 13 октября. — Юб. Т. 63. С. 389). Позднее замысел Толстого был реализован сотрудничавшим с фирмой «Посредник» книгоиздателем И. Д. Сытиным в его известной серии «Библиотека для самообразования» (с 1895 г. в ней вышло 47 наименований книг).
9 Ср. в письме кА. М. Кузминскому от конца октября 1886 г.: «Болезнь меня перенесла совсем в другой мир, замкнутый матерьяльно и очень вследствие того расширившийся духовно, и я увидал многое новое, чего я не видал прежде. Желаю тебе (...) того же освобождения на время от суеты житейской, заслоняющей самое важное и дорогое, т. е. вечный смысл нашей жизни, неуничтожаемый смертью и видимый только при свете любви ко всем — больше чем к самому себе, к самым близким (по духу), спокойной к равнодушным и сострадательной к заблудшим» {Юб. Т. 63. С. 402. — Курсив Толстого).
442
363
С Л. Толстая — Страхову
21 октября
1886 г. Москва
Письма наши сегодня разъехались1, многоуважаемый Николай Николаевич. Пишу это, чтоб сказать вам, что я получила с благодарностью исправленные листы и письмо ваше с вашей благодарностью2 — но какой благодарностью! за такую в сущности легкую, ничтожную, но приятную работу! Мне совестно было читать такое милое и доброе письмо за незаслуженный маленький труд. Намекните, пожалуйста, не могу ли еще поработать что-нибудь для вас. А пока крепко жму вашу руку и поздравляю с оконченной книгой3. Еще работать надо.
С.Т.
1 Вероятно, С. А. Толстая отвечает на письмо Страхова от 14 октября, которое по неизвестной причине было отправлено из Петербурга только 16 октября и прибыло в Тулу 17 октября (см. п. 360). Другое, более позднее по времени письмо Страхова С. А. Толстой за период 14-21 октября неизвестно.
2 Страхов благодарил С. А. Толстую за связанное для него одеяло еще в письме от 14 октября (п. 360).
3 См. п. 360 и примеч. 3 к нему.
Печатается по: ОР ГМТ. Ф. 47.
№ 39405. Л. 1-1 об. Почтовая карточка. На адресной стороне: «С. Петербург. Е[го] Превосходительству] Николаю Николаевичу Страхову. Близ Торгового моста дом Стерлигова». Почтовые штемпели: «21 октября] 1886 Почтовый вагон», «22 октября] 1886 С. Петербург 4. Городская почта». Помета Страхова «21 октября] 1886».
Впервые: ПТС //. С. 204. № 37. Датируется по почтовому штемпелю
отправления и помете Страхова. Ответ на п. 360.
443
2 ноября 1886 г. Санкт-Петербург
364 Строхов — Толстому
Как меня обрадовало Ваше письмо, бесценный Лев Николаевич! И известия всё хорошие, да и почерк Ваш всегда сильно на меня действует и разом напоминает множество блаженных минут, когда я получал Ваши письма. Не отвечал я Вам сейчас потому, что хотелось сперва подумать; кроме того, я опять сумел расплодить свои дела так, что мне всё не достает времени. Книгу мою Вы получили1. Нужно теперь никого не обидеть, занести или послать ее тому, другому2. А есть и такие, к которым хочется пристать: пожалуйста, прочитайте! И прежде всего Вас прошу об этом. Вы когда-то хвалили кое-что из того, что там перепечатано3.
Письмо мое перервал Афанасий Афанасьевич4. Он приехал навестить своего несчастного племянника5 и нашел его в ужасном состоянии — ест свой кал. С Фетом вместе приехал и Н. П. Семенов6, и я чувствую, как надвигается зимний сезон, утомительный и не дающий ничего делать.
О самоучителях. Без сомнения, я всею душою готов содействовать, но как? Сам писать не могу, рассматривать чужие писания — буду очень охотно7. Но прежде всего скажу вообще об этом деле.
Очень трудно мне представить самое его осуществление, то есть, какую меру сведений можно заключить в самоучители, и как эти самоучители будут действовать, то есть читаться и пониматься, и что изо всего этого выйдет. Но совершенно согласен, что изложение должно быть и просто, и вполне строго. Мысль эта, однако, уже была не раз приводима в исполнение. Существует и у нас целая литература таких книг, а за границею их еще больше. К несчастью, я вовсе не знаком с этою литературою. Но первым делом, конечно, — нужно пересмотреть эту литературу, выбрать хорошее из русского, а чего недостает — перевести. Если бы я был министром просвещения, то непременно учредил бы правиль444
ный и непрерывный перевод иностранных учебников. По тем частям, по которым я рассматриваю книги в Уч[еном] комитете, я знаю, как неизмеримо далеко иностранные учебники (ботаники, зоологии, физики и т. п.) превосходят наши, обыкновенно едва-едва терпимые. Меня ужасает эта непрерывная фабрикация плохих книг, возрастающая с каждым годом. Плохие книги есть зло, потому что мешают хорошим. Так что, если приниматься за издание новых книг, то нужно уже быть твердо уверенным, что книги выйдут хорошие. Англичане, чтобы избежать всяких колебаний, поступают очень умно: они учат геометрии по Эвклиду, а началам механики по Ньютону. Тут в достоинстве книг нельзя сомневаться. Итак, мой совет — пересмотреть литературу. Вновь составлять книги — наверное будет меньше удачи. Если что будут переводить, то я готов обучать переводчиков, как это мне доводилось много раз. На всякие совещания также готов, лишь бы не приходилось ездить по вечерам.
Вы спрашиваете, бесценный Лев Николаевич, о моем житье. На здоровье жаловаться не могу, — давно не был так здоров. (А Усов-то умер!8 Какая жалость — так и не удалось познакомиться!). Дел внешних — никаких; дела внутренние — веду упорно в одну сторону, но медленно. Осталось мне еще издать книжку — «Спор о спиритизме»9, чтобы расквитаться с прошлым. Да нужно еще написать о «Дарвинизме»10. Думаю всё сделать к новому году. Тоска теперь реже грызет меня, и часто кажется, что уже близко состояние полной тишины и ясности. Очень радуюсь, что разные скверные чувства, которые находили на меня, почти исчезли. Боюсь самодовольства, гордости, самолюбия и стараюсь обратить их в настоящее смирение и благодушие. Но боюсь и большой возни с собою и часто стараюсь только переждать свои недостатки и терпеливо переносить дурное настроение.
Какая радость, что у Вас является новая работа!11 Художество, самая свободная и самая глубокая форма, в которой мы можем выражать свою душу, находится вполне в Вашей власти (жаль, что Вы не читаете моих печатных похвал Вам12). В художестве мы можем притом отдаваться тем 445
Печатается по: РО ИРЛИ. Ф. 302. Оп. 2. Ед. хр. 300. Л. 125-126. Впервые: Современный мир. 1913. №11. С. 338-340. Ответ на п. 362.
внушениям свыше, которых не в силах привести к сознанию и выразить отвлеченно. Как я всегда завидовал художникам, чувствуя свою шаткость и слабость! Сказать вполне то, для чего недостает мыслей, откинуть всё посредствующее и постепенное и прямо выразить самую глубину своего чувства — какая бесценная способность! На эту высоту можно всегда уйти тому, кому это дано, уйти не от других, а от самого себя; тут разрешаются сами собою все загадки. Художество до сих пор заражено язычеством; Фет и Майков в моих глазах наполовину, нет — больше, язычники13. Но Вы, теперь, если будете писать, дадите нам христианское художество.
Простите меня, бесценный Лев Николаевич; дай Вам Бог всяких сил, и удали от Вас всякие помехи.
Софье Андреевне усердное почтение. Скажите, что я отправил продолжение корректуры по адресу в Москву14 и скоро отправлю и конец. Очень меня радует доброта графини, и не знаю, как ее и благодарить.
А что Вы скажете о моей книге?15 У авторов это ведь главный вопрос, и во мне он шевельнулся.
Ваш всею душою
Н. Страхов
1886.
2 ноября.
1 Страхов Н. Об основных понятиях психологии и физиологии (СПб., 1886). См. примеч. 6 к п. 358.
2 Среди прочих лиц книгу от автора получили А. А. Фет и Вл. С. Соловьев.
3 В письме от 29 мая 1878 г. (п. 199) Толстой высоко отозвался о достоинствах статьи Страхова «Об основных понятиях психологии» (см. примеч. 1 к п. 199).
4 А. А. Фет приезжал из Москвы в Петербург на короткое время по делам, связанным с опекой над П. И. Борисовым (см. примеч. 5).
5 Петр Иванович Борисов, сын сестры Фета Надежды Афанасьевны и Ивана Петровича Борисова. Фет был опекуном племянника. Молодой человек подавал своими способностями большие надежды на будущее, однако с начала 1880-х гг. его психическое здоровье пошатнулось, в его бытовом поведении стали замечать странности 446
и отклонения от принятых норм. Весной 1884 г., после резкого обострения душевного заболевания, Борисов был определен на излечение в петербургскую клинику св. Николая Чудотворца. Фет предполагал хлопотать о переводе племянника в одну из московских клиник (недалеко от своего дома на Плющихе), что упростило бы попечение о больном. Однако убедившись в хорошем помещении и уходе за племянником, Фет не решился на его перемещение, и Борисов оставался в петербургском лечебном заведении до своей кончины, последовавшей в начале весны 1888 г.
6 Сенатор Н. П. Семенов, друг Н. Я. Данилевского и приятель Страхова, брат географа и путешественника П. П. Семенова-Тян-Шанского, историк реформы 1861 г., автор 3-томного труда «Освобождение крестьян в царствование императора Александра И: Хроника деятельности комиссий по крестьянскому делу» (СПб., 1889-1893).
7 После завершения работы над составлением сборника «Об основных понятиях психологии и физиологии» Страхов скептически оценивал перспективы своего научного творчества и в одном из писем к А. А. Фету: «Увы! Нет у меня энергии, чтобы дальше и дальше идти по этому пути; вероятно, это мое последнее сочинение по наукам» (письмо от 25 ноября. — Фет. Переписка II. С. 424. — Курсив Страхова).
8 Профессор Московского университета по кафедре зоологии Сергей Алексеевич Усов скончался 27 октября 1886 г.
9 Свою полемику с учеными Н. П. Вагнером и А. М. Бутлеровым по вопросу спиритизма Страхов издал в середине февраля 1887 г. под названием «О вечных истинах. (Мой спор о спиритизме)». По поводу нового сборника он писал Фету: «Вообще, эту книжку выпускаю не совсем покойно. Пожалуй, найдутся такие, что обидятся за Бутлерова, а другие за самих себя. Пожалуй, найдут книгу неясною и неполною; и действительно, дело не доведено до конца. Со своею мешкотностью я дотянул до того, что Бутлеров умер» (письмо от 18 февраля 1887 г. — Там же. С. 430). См. также: Раздьяконов В. С. Расцвет и закат экспериментального спиритизма в России. 1860-1880-х годов. — Вестник Российского гуманитарного университета. Серия «Культурология. Искусствоведение. Музеология». 2010. О Страхове с. 164-165.
10 Страхов закончил статью «Полное опровержение дарвинизма», посвященную книге покойного Н. Я. Данилевского «Дарвинизм. Критическое исследование» (Т. 1, ч. 1 и 2. СПб., 1885), 9 декабря 1886 г. См.: РВ. 1887. Январь. С. 1-62. Перепечатана в книге: Страхов Н. Борьба с Западом в нашей литературе: Исторические и критические очерки. Книжка вторая. Изд. 2-е. СПб., 1890. С. 342-417.
11 Толстой с конца октября писал драму «Власть тьмы» (см. примеч. 5 к п. 362).
12 Страхов имеет в виду отсутствие отклика Толстого на посвященные ему строки предисловия ко второму изданию сборника «Критические статьи об И. С. Тургеневе иЛ. Н. Толстом (1862-1885)» (СПб., 1887).
13 Вероятно, под языческой стороной поэзии А. А. Фета и А. Н. Майкова Страхов подразумевает их приверженность античности.
447
п. 365.
14 ноября 1886 г. Ясная Поляна
14 См. п. 361.
15 Книга «Об основных понятиях психологии и физиологии» (СПб., 1886). См.
365 Толстой — Страхову
Дорогой Николай Николаевич.
Радуюсь очень, что вы в бодром — в добром вы всегда — духе и много работаете. Мы поспелые плоды — какие ни есть, надо отваливаться и падать. Вашу книгу1 я, как получил, так сейчас же стал читать то, что мне было неизвестно и более всего интересно — об организмах, определении их. Нашел много нового и важного. Теперь не вспомню всего, но помню, что меня поразила мысль о том, что главное, опускаемое всегда свойство организма то, что ему не видим ни начала, ни конца, что то, что мы называем организм, есть только одно видимое нами звено, связывающее прошедшее с будущим. Мне дорога эта мысль. Ведь то же и в духовном мире, в мире сознания. Меня последнее время особенно поразила мысль, что сознание есть сила в ряду всех других сил мира. Сила в самом прямом смысле этого слова. Сознание движет другие сознания и приводит в известные положения другие силы, направляет их. Действие его так же инертно, как и действие других сил, и оно не может исчезнуть (если оно есть разумное сознание — разумное, потому доброе и деятельное). И точно так же, как организм есть звено, так и сознание (разумное), оно несет в себе всё прошедшее того же рода и вида сознание и производит будущее, развиваясь и совершенствуясь. —
Я живу очень хорошо, радостно — пишу. Написал пьесу для народных театров2. Все здоровы. Жена была в Крыму у умирающей матери3. Завтра возвращается. Книгу еще прочту и еще напишу.
Ваш Л. Т.
448
Я, может быть, неправильно выразился, назвав сознание силой. Оно, очевидно, не сила в смысле физических сил, но я хочу сказать, что есть явления и законы одного рода физические (я включаю сюда и химические, и все др.), другого рода органические и 3-го рода сознательно разумные; физические законы учреждают мертвую материю, органические — живые существа, состоящие из материи, учрежденной по законам физическим; законы разумного сознания учреждают и органические существа, составленные по законам и физическим, и органическим, и неорганическим. И последние властвуют над вторыми и первыми, и вторые властвуют над первыми, т. е. изменяют процессы низшие, давая им другие направления (хотя и подчиняясь всегда законам низших процессов, т. е. не отступая от них).
Меня главное поразила мысль, что разум, сознание не есть случайное одиночное явление, а что это есть одна из учреждающих сил мира и высшая. Простите за метафизику. Так пришлось. Книгу вашу еще почитаю.
1 «Об основных понятиях психологии и физиологии» (СПб., 1886).
2 Драма в пяти действиях «Власть тьмы, или „Коготок увяз, всей птичке пропасть“». См. примеч. 11 к п. 364. В. Г. Черткову Толстой писал 14 ноября: «Написал драму на прелюбодеяние. Кажется, хорошо» (Юб. Т. 85. С. 410-411). Однако писатель продолжил поправлять текст пьесы и через месяц сообщал тому же корреспонденту: «Работал я (...) драму. Кажется, что я грешил с ней, очень уж ее отделывал. А это не следует, и от того хуже многое бывает» (письмо от 9 или 10 декабря. — Там же. С. 416).
3 Л. А. Берс умерла в Ялте 11 ноября 1886 г. С. А. Толстая уехала в Крым 6 ноября и вернулась в Ясную Поляну 15 ноября. Подробнее см.: Толстая. Моя жизнь I. С.539-542.
Печатается по: ОР ШТ. Ф. 1. №7464. Л. 1-2об. Нал. 1 помета Страхова: «14 ноября 1886». Впервые: Юб. Т. 63. С. 408-409. Датируется по помете Страхова. Ответ на п. 364.
449
11 декабря 1886 г. Санкт-Петербург
366 Страхов — Толстому
Вчера наконец я кончил свою статью, сегодня утром отвез ее к Каткову (он здесь)1, а вечером пишу к Вам, бесценный Лев Николаевич. Так меня поглощала эта работа, что я даже не совестился, что не отвечаю Вам. И теперь, когда всё готово, я испытываю большое удовольствие — вижу, как много сработано. Не знаю, когда Вы это прочтете2, — Катков обещал в первую книжку, но ведь это значит 1-го февраля! А предмет как раз подходит к тому, о чем Вы мне пишете; доказывается, что организмы суть явления некоторого морфологического процесса, не зависимого от вещественных случайностей и в существе своем разумного. Мне очень досадно, что в книге своей я все-таки не договорил своей мысли. Она полнее выражена в «Мире как целом»3. Наша душевная жизнь очевидно вполне сливается с органическою. И та и другая состоят в каком-то непрерывном изменении. Как наши мысли и чувства непременно преходящи, не могут остановиться неподвижно, а, по самой своей природе, текут и обновляются, так точно происходит и органическое развитие. Нет сомнения, что одно составляет условие другого. Как будто кто-то стремится создать самые подвижные существа, такие, что их подвижность равнялась бы течению мышления. Но, в то же время, мысль есть ведь то, что, изо всего существующего, обладает наибольшим единством и не изменяющимся от времени тожеством. Так и организм — есть нечто сосредоточенное и сохраняющее в себе всё прошлое. Правы Шеллинг и Гегель, когда говорят, что в нашем сознании сознает себя то вечное духовное начало, в котором корень всего бытия4. Я готов сказать, что всякая жизнь непосредственно происходит из Бога, что Бог одинаково растит и мелкую травку и душу величайшего человека. В этом росте и во всякой жизни соблюдаются известные законы, как соблюдаются неизменно и все законы физические,- но это не есть стеснение, а наоборот 450
пособие и необходимое удобство. Так человек не может подняться до 5-го этажа иначе, как шагая по лестнице, но это не значит, что лестница его стесняет, и нелепо воображать (как думают материалисты), что сама лестница есть причина, подымающая на высоту.
Конец же и цель всякого развития есть Бог, то самое, что есть и его источник. Всё это у меня еще не совсем ясно, хотя крайние точки уже стали для меня совершенно незыблемыми. Всё из Бога исходит и всё к Богу ведет и в Боге завершается. Мы в Нем живем и движемся и существуем.
Вот, бесценный Лев Николаевич, немножко моей метафизики, и она сходится с Вашею в мысли о господствующем значении сознания. И я думаю, что сознание есть «высшая сила мира».
Живу я очень скучно5. Это я недавно заметил, когда оглянулся назад и почувствовал, что, со времени возвращения в Петербург, кажется, прошли годы и десятки лет. Между тем я занят непрерывно и даже с напряжением. Но душевное настроение перестало изменяться; и дома и в гостях, и за работою, и в театре оно одно и тоже. Может быть, это и лучше. Здоровье хромает, но не очень.
Книга моя «Об осн[овных] понятиях» имеет пока успех только у медиков; к моему удивлению, я слышал от них такие восторженные отзывы, что ими может быть довольно какое угодно самолюбие. И действительно, множество мест в книге имеют особую занимательность для тех, кто возился с анатомиею, с курсами физиологии и т. п. Афанасий Афанасьевич очень хвалит и с особенным упором передавал и Ваши похвалы6.
Ваша пьеса7 и Ваш календарь8 ужасно меня интересуют. Слышал от Бирюкова9, которому теперь, на свободе, примусь больше помогать. Дай Вам Бог всего хорошего! Графине передайте мое глубокое почтение и простите
Вашего Н. Страхова
1886.
11 дек[абря].
Спб.
Печатается по: РО ИРЛИ. Ф. 302. Оп. 2. Ед. хр. 300. Л. 68-69.
Впервые: Современный мир. 1913. №11. С. 340-342. Ответ на п. 365.
451
1 В конце ноября, извещая А. А. Фета о своих текущих занятиях, Страхов писал о работе над статьей «Полное опровержение дарвинизма»: «Теперь упорно сижу над „Дарвинизмом“, и восхищаюсь и бьюсь, чтобы статья была достойна книги и предмета. Когда от книги Данилевского я перехожу к другим книгам по этому вопросу, то мне кажется, что я вдруг с яркого света попадаю в сумерки или потемки» (письмо от 25 ноября. — Фет. Переписка II. С. 424). По завершении труда (9 декабря) Страхов отвез материал издателю журнала «Русский вестник» М. Н. Каткову и вскоре писал тому же Фету: «Последнюю неделю я очень скучал от гордости, лени и недосуга. Кончил я, наконец, статью о „Дарвинизме" и сдал ее лично Каткову, так что имею все поводы надеяться, что она явится в январской книжке, следовательно, 1 февраля. Работою своею на этот раз я доволен; удалось огромный материал уложить ясно в небольшие рамки, и когда я кончил, то сам обрадовался. Теперь, думал я, нужно предписать по империи, чтобы мою статью учили в школах наизусть! И, кажется, я еще долго буду такого мнения» (21 декабря. — Там же. С. 425). Статья была напечатана в январском номере журнала.
2 В составе яснополянской библиотеки сохранился отдельный оттиск статьи (без дарственной надписи автора и без видимых следов чтения Толстого). См.: Описание ЯПб. Т. 1, ч. 2. С. 285. № 3041.
3 В книге «Мир как целое» выразился органический характер мировоззрения Страхова. Об органицизме умозрения Страхова см.: Снетова Н. И. Философия Н. Н. Страхова (Опыт интеллектуальной биографии) : монография. Пермь, 2010.
4 Страхов обращается здесь к религиозным аспектам философских систем Шеллинга и Гегеля.
5 А. А. Фету Страхов писал 21 декабря: «Вижусь я со множеством народа, хотя и стараюсь тормошиться как можно меньше; но иногда нападает на меня, даже среди людей, такое жестокое чувство одиночества, что я тоскую и унываю» (Фет. Переписка II. С. 425).
6 Фет положительно отозвался о книге Страхова «Об основных понятиях психологии и физиологии» в недошедшем до нас письме от ноября 1886 г. Отвечая на благожелательную оценку корреспондента, Страхов писал: «...у меня самолюбие нежное, а потому мне были восхитительны именно Ваши похвалы, в которых Вы указываете как раз на то, что всего важнее в моей книге и что мне самому стоило наибольшего умственного усилия. (...) Доставила мне также удовольствие статья Эльпе [Л. К. Попов. — Сост.] в „Новом времени". Он обратил внимание на метод, и очевидно, очень поражен им. По моей книжке, известные познания оказываются и ограниченными, и твердыми. Значение их уменьшено, но вместе им дано больше твердости» (письмо от 25 ноября. — Там же. С. 423. — Курсив Страхова). Суждение Толстого о книге Страхова Фет мог слышать во время одной из встреч с писателем в Москве, куда Толстые перебрались на зиму в конце ноября.
452
1 С содержанием пьесы «Власть тьмы» Страхов не был знаком до 13 января 1887 г. (см. п. 367).
8 Имеется в виду работа Толстого над сборником народных пословиц в сопоставлении с текстом Евангелия, составленном в форме календаря. С. А. Толстая вспоминала: «Увидал Лев Николаевич у дочери Маши на стене английский календарь, составленный из пословиц. Это очень ему понравилось, и он тотчас же привлек на помощь всех девочек и начал составлять такой календарь из русских пословиц. У него было уже раньше много выписано из сборника Даля пословиц, которые ему нравились, и он хотел их теперь использовать. Составление календаря шло очень быстро; Лев Николаевич мечтал его выпустить непременно к Новому году в издании „Посредника“ и печатать в типографии Сытина» (Толстая. Моя жизнь I. С. 543). См.: Календарь с пословицами на 1887 год (СПб.: изд-во «Посредник», 1887). Толстой остался недоволен этой работой (письмо П. И. Бирюкову от 5 (?) февраля 1887 г. — Юб. Т. 64. С. 10-12). Подробнее см. также: Бирюков П. И. Как Лев Николаевич Толстой составлял народный календарь. — Всеобщий ежемесячник. 1911. Ноябрь. С. 4-10.
9 П. И. Бирюков заведовал в это время основанным Толстым и В. Г. Чертковым издательством «Посредник».
367 1887
Страхов — Толстому 27 пнворя
1887 г.
Не будет мне покоя, бесценный Лев Николаевич, пока не напишу СбНКгПетербурГ Вам об Вашей драме «Власть тьмы»1. Я так много слышал об ней разговоров, так нетерпеливо ждал ее, так жадно слушал2 и так много об ней думал, что мне мешала писать к Вам только моя проклятая медлительность и уменье так устроиться, что времени никогда не хватает. Первый акт привел меня в совершенное восхищение; давно не испытывал я такого свежего и чистого художественного впечатления. Конечно, Ваше мастерство тотчас затмило Островского, Писемского и пр. И во всей драме, или лучше, по всей драме видна та же сила, правда сцен и характеров и речей, далеко превосходящая силу других писателей, всегда с трудом сочиняющих свои сцены и разговоры. Но в следующих актах интерес не развивается и не возрастает3. Меня очень заняли (какая до453
сада, что нет у меня драмы, чтобы перечитать!) только сцена свидания Никиты с Мариною4, а потом с пьяною женою5. Как это ярко и полно смысла! В остальных сценах лица только верны себе, действуют так, как выступили. Два важных момента: 1) когда жена признается Никите в преступлении6 и 2) когда он решается на публичное покаяние7, — эти две важные минуты происходят за сценою, так что зрителю непонятна и ненависть Никиты к жене и смысл его появления на свадьбе — в первую минуту неизвестно, что он сделает, с чем пришел. Вообще, Никита нисколько не интересен; он действует всё время как угорелый, не по своему почину; его преступления не оправдываются его страстностью, или чем другим, и его покаяние не имеет силы. Как зло увлекает — неясно, нет изображения этого увлечения; и как в человеке просыпается и побеждает совесть — не видно или мало видно. Наконец, последняя сцена мне кажется слабою, не довольно живою и со стороны кающегося Никиты и со стороны присутствующих.
Вот, я сказал главное. Вы сами, конечно, лучше знаете, и я предлагаю Вам свою критику с большим недоверием к себе. Очень мне было странно слышать, что драму не пускают на сцену, и никак я не мог добиться толкового ответа, почему. Не каждый ли день ставятся на театре всякие преступления?8 Но прослушавши и подумавши, я, кажется, нашел настоящую причину. Этот ряд сцен пугает не потому, что сцены ужасны, а потому что они низменны, отвратительны, и в такой степени, которая превосходит их ужас.
Вы гениальный мастер — в этом не может быть сомнения. Если Вы захотите произвести какое впечатление, то производите его неотразимо. Значит, Вы хотели этого впечатления, и ни один человек не смел и заикнуться, что Ваше изображение в чем бы то ни было неверно. Но оно не восполнено, не вознаграждено изображением того, что в душе человека живет и непобедимо среди этой грязи. Ваш Аким — прелесть. С величайшею жадностью следил я за ним и за тем, что делается под его влиянием с Никитою. Тут — тайна, тут — самая глубокая заниматель454
ность, захватывающая всех, и грубейших мужиков и вполне образованных людей. Но эта сторона у Вас слабее обработана. По замыслу какая прелесть сцена Никиты с Мариною9 — когда получу драму я прежде всего перечту эту сцену. Теперь же мне кажется, что Марина бледна, не довольно характерна, общая форма хорошей женщины.
Уж я расходился. — В драме, очевидно, нет цельности, нет одного узла, постепенно развязывающегося. Если Вы возьмете «Грех да беда на кого не живет» Островского10 — эту драму я считаю безукоризненною по постройке. Всё в ней катится, увлекая зрителя, и неизбежно приходит к последнему удару. Такая постройка безмерно усиливает значение каждой сцены, каждой подробности. Много я волновался, разговаривая с разными Вашими недоброжелателями и сам раздумывая о драме. Шум и остановки, которые Вам делают, решительно не понимаю из-за чего, — приведут к одному — сделают Вам громадный успех.
Часто мне приходит горячее желание писать об Вас, и, конечно, больше всего потому, что можно будет хвалить Вас и указывать всё, чему можно и следует у Вас сочувствовать. О, какая тема!
Посылаю Вам свою речь о «России и Европе»11 с большою просьбою о снисхождении12. В 1-м № «Русского вестника» будет моя статья о «Дарвинизме»^. А теперь печатаю свою последнюю научную книгу: «О вечных истинах» (мой спор о спиритизме)14 и пришлю Вам в начале поста15.
Чувствую, однако, что становлюсь тяжел для добрых знакомых; шутка ли всё это прочитать! И потому Вы меня можете очень тронуть, если прочтете; а прочтете, тогда уж, конечно, и скажете что-нибудь.
Простите меня, и дай Вам Бог всяких сил и всякого успеха! Графине мое усердное почтение. Какая жалость! Так мне нездоровится, что завтра не буду у Кузминских и не буду с ними говорить об Вас!
Ваш Н. Страхов
1887.
27 янв[аря].
Спб.
Печатается по: РО ИРЛИ. Ф. 302. Оп. 2. Ед. хр. 300. Л. 127-128. Впервые: Современный мир. 1913. №11. С. 342-344.
455
1 См. примеч. 5 к п. 362.
2 06 обстоятельствах знакомства с пьесой Страхов извещал А. А. Фета в письме от 14 января 1887 г.: «Вчера слышал я, наконец, „Власть тьмы" Толстого; читал очень хорошо А. А. Стахович. Дело было у Кузминских; разряженные дамы и девицы; мужчины во фраках и в белых перчатках. Очевидно, всё дело делалось из любопытства и никто не полагал, что должен вынести определенное чувство или суждение. А странно! Ведь они должны бы почувствовать ужасный контраст между своими вкусами и жизнью и этою драмою. Как всё это у нас рядом уживается!» (Фет. Переписка II. С. 427).
3 О своем первом впечатлении от художественных достоинств пьесы Страхов писал тому же Фету: «В драме — первостепенное, неслыханное мастерство в языке, в подробностях; но в характерах, в душах, — мало живого, низменность, не дающая заинтересоваться этими лицами, ни злыми, ни добрыми. Преступления совершаются, как во сне или в угаре. Всё вместе производит тяжелое и отталкивающее впечатление, притом неясное. Впрочем, я еще обдумаю и напишу Вам» (Там же). Ср. с п. 368.
4 Действие S-oe, сцена 1-я, явление 4-е.
5 Действие 5-ое, сцена 1-я, явление 9-е.
6 Действие 4-ое, явление 12-е.
7 Действие 5-ое, сцена 1-я, явление 2-е.
8 Свое недоумение по поводу цензурных мытарств пьесы Страхов высказывал А. А. Фету в письме от 14 января: «Драму разрешили печатать, но на сцену не пускают, не понимаю почему. А. Ф. Кони говорил, потому, что нервы публики не выдержат и явятся болезненные припадки. Следовательно, с гигиенической точки зрения. А вот оперетки — те допускаются, хотя и опасны с венерической стороны» (Фет. Переписка II. С. 427). Обстоятельства прохождения пьесы в цензуре и оценку произведения Толстого представителями высшей администрации в Петербурге см.: К. П. Победоносцев и его корреспонденты: Письма и записки. Т. 1, п/т. 2. М.; Пг., 1923. С. 643, 648-651,687; Юб. Т. 26. С. 714-717; Толстая. Моя жизнь II. С. 8-13. Драма готовилась Толстым для постановки и исполнения на народном театре (Юб. Т. 85. С. 421), однако не прошла московскую духовную цензуру, а затем в Петербурге театральную. Начальник Главного управления по делам печати Е. М. Феоктистов так объяснял в письме к С. А. Толстой от 9 января запрет публичного представления драмы: «Пьеса должна произвести самое удручающее впечатление на публику; в ней изображался целый ряд прелюбодеяний и убийств, в высшей степени возмутительных. Действующие лица говорят языком возмутительным по своему цинизму; не только отдельные сцены, но весь четвертый акт таков, что — полагаю — никогда и нигде в мире не появлялось на сцене ничего подобного (...) Надобно иметь железные нервы, чтобы вынести всё это» (цит. по: Там же. Т 26. С. 715). Усилиями приверженцев учения Толстого и поклонников его художественного творчества в светских гостиных столицы были устроены чте456
ния пьесы, на одном из которых должен был присутствовать и Феоктистов. Благодаря предпринятым хлопотам, 13 января было получено цензурное разрешение на появление драмы в печати (не дозволено было лишь использование в качестве эпиграфа евангельского текста — Мф. 5: 28, 29). Объясняя основания для частичного цензурного преследования драмы Толстого, Феоктистов писал 19 февраля К. П. Победоносцеву: «Мы запретили пьесу для театра, но мне кажется, что запретить ее печатать не было достаточных оснований. Толстой не преподает в ней своих сумасбродных теорий; он не выставляет порок в обольстительном виде; правда, своею грубостью и цинизмом пьеса производит омерзительное впечатление, но она никого не собьет с толку. Другое дело сцена: было бы в высшей степени оскорбительно, если бы подобные вещи считать пригодными императорских театров...» (К. П. Победоносцев и его корреспонденты. Т. 1, п/т. 2. С. 687). Еще более резким был отзыв о пьесе самого К. П. Победоносцева, который, ознакомившись с ее содержанием, «не мог прийти в себя от ужаса» и считал, что «день, в который драма Толстого будет представлена на имп. театрах, будет днем решительного падения нашей сцены». Одновременно «сильное впечатление» и «отвращение» произвело знакомство с произведением Толстого на Александра III, выразившего в письме к Победоносцеву от 19 февраля убеждение, что «эту драму на сцене давать невозможно, она слишком реальна и ужасна по сюжету» (Там же. С. 643, 648). Постановка была отложена на неопределенный срок. Официально первое представление драмы «Власть тьмы» в России состоялось в Александрийском театре в 1895 г., хотя уже в 1890 г. она ставилась на любительской сцене, а еще раньше — за границей.
9 См. примеч. 4.
10 «Грех да беда на кого не живет». Драма в 4 действиях, написанная А. Н. Островским в 1862 г. В отличие от Страхова Толстой считал наиболее удачной пьесу Островского «Не так живи, как хочется» (см.: Юб. Т. 26. С. 708).
11В связи с первой годовщиной памяти Н. Я. Данилевского Страхов выступл в ноябре 1886 г. на заседании С.-Петербургского Славянского благотворительного общества с чтением своей статьи об основном историософском труде ученого «Россия и Европа» (см.: Известия С.-Петербургского славянского благотворительного общества. 1886. № 12. С. 566-570). Впервые материал Страхова о книге Данилевского был опубликован в издававшемся В. В. Кашпирёвым журнале «Заря» (1871. № 3. Отд. 2. С. 7-13) в виде отклика на ее отдельное издание; для выступления в собрании Общества Страхов подверг статью некоторым сокращениям и дополнил кратким введением. Позднее, в измененном виде, статья была включена им в предисловие к пятому изданию «России и Европы» (СПб., 1895) и полностью перепечатана в посмертном сборнике «Критические статьи. (1861-1894). Том второй» (Киев, 1902. С. 158-166).
457
12 Снисхождения Страхов просит, вероятно, из-за того, что нарушил данное Толстому обещание не участвовать своими выступлениями в журналистике.
13 Страхов Н. Полное опровержение дарвинизма. Дарвинизм. Критическое исследование Н. Я. Данилевского. СПб, 1885. — РВ. 1887. Январь. С. 1-62. См. примеч. 10 к п. 364, примеч. 1,2 к п. 366.
14 Книга «О вечных истинах (Мой спор о спиритизме)» вышла в свет в феврале 1887 г.
15 См. примеч. 7 к п. 358.
368
Страхов — Толстому
Середина
февраля 1887 г. Санкт-Петербург
Очень виноват я перед Вами, бесценный Лев Николаевич; из усердия я поторопился, вопреки своему правилу, и с большою развязностью написал Вам свое суждение о Вашей драме. Теперь я очень сержусь и на себя, и на Стаховича, обманувшего меня чтением1, и на всех, кто читал, слышал и не умел ничего понять прямо. Дней пять, как я получил, наконец, Вашу драму2 и с тех пор не могу от нее оторваться, не могу ею начитаться. Боже мой, как хорошо! Как это живо, правдиво, точно, как просто и как глубоко захватывает дело! То, что я говорил о первом акте, я скажу теперь обо всей драме — она отодвигает на задний план всех Островских, Писемских, Потехиных3. Я восхищаюсь естественностью, краткостью, характерностью каждого разговора; выбор минуты, чередование сцен, полнота всей жизненной обстановки — что за прелесть, что за совершенство!
Как глупы мне кажутся теперь речи о Шекспире4, о действии, о цельности и т. п.!
Да, тут нет действия. Преступления зреют постепенно и совершаются не в порыве, не в борьбе мыслей, а под прямым влиянием обстоятельств на людей с тупою совестью. Но ведь это и хорошо, это и есть правда, это и есть задача!
458
И какие преступления? Соблазн девушки, отравление постылого мужа, детоубийство — самые обыкновенные, самые ходячие преступления — и Вы показали нам, как они делаются, Вы первый осветили их настоящим светом. Они делаются простодушно, людьми скверными, но не злодеями во вкусе Шекспира или Вальтер-Скотта.
Эта скверность принадлежит — бабам, с их похотливостью и бессовестною поблажкою всякому греху. Ваши бабы, завидующие, ссорящиеся, лукавящие и никогда не кающиеся — что это за живая и поразительная картина!
Мужики добродушны, сильны, совестливы. В Вашего Акима я просто влюблен, я вижу его, как живого, слышу его отрывистую речь, его крики — и всплакнул я не раз от этого золотаря5.
В том и беда наша, что с нашими понятиями о трагическом и о красоте, мы разучились смотреть на вещи просто и ищем везде или безобразия, или эффектных речей и действий. Воображаю, как будут исполнять Вашу драму! Как будут подчеркивать всякую грубость, как из Матрены сделают леди Макбет и придадут демонскую ядовитость ее речам и т. д. Наделают Вам таких эффектов и страстей, что Вы не узнаете Вашего тульского народа6.
Видятся мне в драме два-три пятна — но теперь я буду умнее, не буду говорить об них, пока не всмотрюсь, не вдумаюсь хорошенько. Так как я, по своим чувствам, нахожу, что драма мне очень понятна, что мне уже доступно самое важное ее содержание, то меня теперь занимает другое. Я обращаюсь к самому себе и говорю себе:
«Ну вот тебе то, чего ты так желал; вот художественное создание высокой, несравненной силы. Ты впиваешься в него и не можешь досыта начитаться. Что же оно тебе дает? Что тебя занимает? Какая душевная польза от этого созерцания жизни, раскрытой до самого дна?»
Дайте подумать, бесценный Лев Николаевич.
А между тем, прежде всего, простите, что так навязываюсь Вам со своими письмами. Нынешнее письмо, как Вы видите, было совершенно
459
Печатается по: РО ИРЛИ. Ф. 302. Оп. 2. Ед. хр. 300. Л. 78-79. Впервые: Современный мир. 1913. №11. С. 344-346.
Датируется по содержанию.
необходимо, кроме моего всегдашнего желания уверять Вас в неизменной моей преданности, в том, что поклоняюсь Вам глубоко.
Ваш Н. Страхов
Р. S. Графине мое усердное почтение7. В драме, как она напечатана, есть недосмотры, иные грубые. Выправлю хорошенько и на всякий случай пришлю один экземпляр графине, а другой Черткову8.
1 Обладавший актерскими способностями близкий знакомый семьи Толстых Александр Александрович Стахович читал драму «Власть тьмы» в присутствии приглашенной публики в доме Кузминских 13 января (см. примеч. 2 к п. 367).
2 Отдельное издание драмы Толстого «Власть тьмы» было выпущено фирмой «Посредник» в начале февраля 1887 г.
3 Прозаик и драматург Алексей Антипович Потехин, автор популярных пьес « Мишура» и «Отрезанный ломоть», а также драм из народной жизни: «Чужое добро в прок не идёт», «Суд людской не Божий», «Около денег» и др. Его сочинения были изданы в 1874 г. в 6 томах.
4 Имеются в виду критические высказывания относительно недостатка сюжетного действия в драме Толстого и ссылки на пример гармоничного построения и сценичности классических пьес У. Шекспира.
5 Аким, отец Никиты в драме «Власть тьмы», занимался отхожим промыслом — чистил выгребные ямы. Таких людей называли золотарями.
6 Пьеса написана Толстым отчасти на основе реальных событий, имевших место в Тульской губ. и разбиравшихся в рамках судебного дела, с содержанием которого писателя познакомил прокурор Тульского окружного суда и близкий знакомый Толстых Н. В. Давыдов. С одним из участников процесса (главным обвиняемым) Толстой дважды встречался лично. Подробнее см.: Юб. Т. 26. С. 705-708.
7 С. А. Толстая.
8 Отпечатанный в типографии И. Д. Сытина текст пьесы содержал целый ряд опечаток. Практически в одно время с этим изданием пьеса набиралась и печаталась С. А. Толстой в составе 12-й части Сочинений Толстого Пятого и Шестого изданий, где эти погрешности были устранены (см.: Юб. Т. 26. С. 718). В. Г. Чертков занимался распространением бесцензурных текстов Толстого за границей.
460
369
Толстом — Отрохову
26 февраля
1887 г. ГЛосква
Сейчас получил вашу книгу1, дорогой Николай Николаевич, и вспомнил, как я виноват перед вами, в двух письмах1 2. Не оттого не отвечал вам на последнее, чтобы мне совестно было отвечать на хвалящее письмо, когда не ответил на осуждающее. Мне было важно и то, и другое. Мне хотелось знать ваше мнение, особенно п[отому], ч[то] я, право, решительно не знал и не знаю (прислушиваясь к толкам), хорошо ли это или дурно. С первым вашим письмом я был несогласен — мне казалось, что вы не с моей точки зрения судили, со вторым же еще менее согласен — вы придаете слишком большое значение. Мне всё, когда я слышу похвалы, думается: коли бы я знал, что это может понравиться, я бы хоть постарался это сделать получше. Вообще же на свою блевотину ворочаться боюсь3 — очень уж я до ней охотник4. И потому уже давно отучил себя от этого — ввиду того, что это мешает работе. А мне всё хочется и весело работать5. Вчера — вы удивитесь — я был в заседании Психологического общества. Грот читал о свободе воли6. Я слушал дебаты и прекрасно провел вечер, не без поучительности и, главное, с большим сочувствием лицам общества. Я начинаю выучиваться не сердиться на заблуждения. Много, много бы желал поговорить с вами. Коли будем живы — поговорим. Прочту непременно вновь вашу книгу. Читали ли вы книгу Бакунина?7 Это чтение было для меня большая радость. Обнимаю вас. Все наши вас помнят и любят.
Л.Т.
Печатается по: ОР ГМТ.Ф. 1,№7465. Л. 1-1 об. Нал. 1 помета Страхова; «26 февраля] 1887».
Впервые: Толстой и о Толстом II.
С. 49-50. В Юб:.
Т. 64. С. 20.
Ответ на п. 367 и 368.
Датируется по помете Страхова.
1 Страхов Н. О вечных истинах (Мой спор о спиритизме)». СПб., 1887. См. примеч. 7 к п. 358.
2 Речь идет о п. 367 и 368.
461
3 См.: 2 Пет. 2: 20-22.
4 Толстой имеет в виду свое неравнодушное прежде отношение к похвалам его творчеству, над преодолением которого он много работал. Эту внешнюю психологическую сдержанность писателя в отношении повышенного внимания публики к его пьесе отметила и С. А. Толстая: «Успех драмы огромный, и мы оба с Лёвочкой спокойно относимся к нему» (запись от 3 марта 1887 г. — Толстая. Дневники I. С. 115; ср. в письме к А. А. Стаховичу от конца января 1887 г. — Юб. Т. 64. С. 9).
5 С зимы 1886/87 г. Толстой работал над новым большим сочинением, получившем название «О жизни», а также продолжил писать «повесть из времен древних христиан» — «Ходите в свете, пока есть свет» и вступительный рассказ к ней (Юб. Т. 26. С. 313-442; 250-301; 246-249).
6 Толстой дважды слушал чтение Н. Я. Гротом реферата «О свободе воли»: 12 февраля дома у Грота и 25 февраля на заседании Московского психологического общества. Отчет о заседании был опубликован: РусВед. 1887. 16 марта. № 73 (ср.: Там же. 18 марта. № 75); НВ. 1887. 22 марта. № 3973. Отд. оттиск: Грот Н. Я. Извлечение из сообщения о свободе воли. Общие положения. М., 1887.4 с. В начале марта Толстой присутствовал и на прениях в Обществе по реферату Грота. См.: Гусев. Летопись I. С. 658,660, 662. С зимы 1887 г. начинается личное сближение Толстого и Грота, завязывается переписка, в круг тем которой сразу входит имя Страхова. Вероятно, после февральских посещений Толстого Грот обратился к нему со своим первым письмом, где «благодарил его за всё доброе, светлое, высокое, что пережил в общении с ним» (Н. Я. Грот в очерках, воспоминаниях и письмах товарищей и учеников, друзей и почитателей. СПб., 1911. С. 211). Подробнее об этих встречах с Толстым см. примеч. 8 к п. 380.
7 Речь идет о книге: Бакунин П. А. Основы веры и знания. СПб., 1886. В письме к П. А. Бакунину от 20 (?) февраля 1887 г. Толстой замечал: «Третий день ничего не делаю, кроме того, что читаю Вашу книгу. Смеюсь и вскрикиваю от радости, читая ее (...) Я остановился, чтобы написать вам мою благодарность и любовь за то, что я нашел в этой книге...» (цит. по: Пирумова Н. М. Толстой и семья Бакуниных. — Л. Н. Толстой и русская литературно-общественная мысль. Л., 1979. С. 187). Отзыв Страхова о книге см. в п. 375. Подробнее о религиозно-философских взглядах П. А. Бакунина — в статье: Фатеев В. А. Философия личного бессмертия Павла Бакунина. — Христианское чтение. 2016. № 1. С. 195-228.
462
370 Толстой — (трохову
Прочел вашу книгу дорогой Николай Николаевич, то, что не читал прежде, и очень одобрил. Как прекрасно Сократ о естественных науках1. Какое сильное орудие невежества — книгопечатание, и эта масса книг без указания выделения того, что в книгах есть рост человеческого сознания — и что слова — и глупые часто. Ведь это читаешь, как вы умели осветить, как новое и самое, самое современное. И как несравненно хорош ваш перевод!1 2 Ведь это ваш? Про себя скажу, что я последнее время решительно мучим последствиями моей несчастной драмы. Если бы знал, что столько это у меня отнимет времени, ни за что бы не печатал3. Чудной народ люди нашего круга! Как ни думаешь знать их, всякий день удивляют своей праздностью и неожиданностью употребления способности мысли. Вот именно как с писанной торбой. На дело боятся употребить, и болтается она у них перед ногами, бьет и их и других. А делать им, беднякам, больше нечего. До свиданья, обнимаю вас.
Л.Т.
Прекрасно и ново, и поучительно для меня значение, к[оторое] вы придаете науке.
3 порта 1887 г. Носки
Печатается по: ОР ГМТ. Ф. 1 .№ 7466. Л. 1-2. Нал. 1 помета Страхова: «3 мар[та] 1887».
Впервые: Юб.: Т. 64. С. 23. Датируется по помете Страхова.
1 Подразумевается пятая главка в разделе «Вступление» книги Страхова «О вечных истинах» — «Сократ о естественных науках».
2 В главке «Сократ о естественных науках» Страхов приводит в переводе на русский язык обширные цитаты из диалога Платона «Федон». Ответ Страхова см. в п. 371.
3 После выхода первого отдельного издания драмы «Власть тьмы» Толстой продолжал работать над отделкой текста, приспособляя его к условиям сцены. В то же время начавшиеся репетиции пьесы для ожидавшейся ее постановки на театре вызывали письменные просьбы участников о дополнительном разъяснении деталей сюжетного действия. В течение февраля-марта 1887 г. вышло в свет несколько различных, в том числе дешевых «народных» изданий пьесы общим тиражом более 100 000 экз. (Юб.
463
Т. 26. С. 718-719), но к Толстому обращались за разрешением перепечатать произведение, в том числе для благотворительных целей. Тогда же писатель решает публично отказаться от права литературной собственности на пьесу и другие свои произведения, выходившие в издательстве «Посредник» (см. об этом письмо к В. Г. Черткову от 23 февраля 1887 г. — Там же. Т. 86. С. 34-35). Интерес к драме Толстого и ее широкое распространение в печати вызвали неудовольствие императора Александра III, обратившего внимание министра внутренних дел на недопустимость бесконтрольного обращения пьесы на книжном рынке: «Надо было бы положить конец этому безобразию Л. Толстого. Он чисто нигилист и безбожник. Недурно было бы запретить теперь же продажу его драмы „Власть тьмы“, довольно он уже успел продать этой мерзости и распространить ее в народе» (Красный архив. 1922. № 1. С. 417; Гусев. Летопись 1. С. 661).
371
12 марта 1887 г. СтраХОВ — ТОЛСТОМ/
Санкт-Петербург
Мой перевод, мой собственный!1 Эта Ваша похвала, бесценный Лев Николаевич, обрадовала меня особенно сильно. Как Вы тонко всё понимаете! Не даром же я так трудился над этим переводом, стараясь передать не только прозрачное течение мысли, но и самый тон речи. Очень утешили и ободрили меня Ваши похвалы. Как самолюбивый автор, я, разумеется, страдаю от равнодушия и невнимания. Мои книжки, однако, имеют успех, который должен меня веселить. В четыре месяца какие-то 400 человек купили «Основные понятия» !2 Это для меня такой же успех, как для Вас 40 000! Но отзывы, которые случается слышать, большею частью, совершенно тупы. Вчера пришло письмо от Фета, в котором восторги и восхищения от «Вечных истин»3 и ни единого слова о том, почему и что ему нравится4. Зато в заключение такое известие, которого до сих пор не могу переварить. Жалуюсь Вам и прошу Вашего внимания. Фет пишет:
«Часто посещавшие нас в Москве В. Соловьев и Грот5, по инициативе первого, вскипели негодованием от Вашей книги, как вода кузнеца 464
от раскаленного железа, и собираются соборне писать Вам дружеские нарекания. Всё, что я пишу Вам, я испросил на это разрешение Соловьева. Соловьев прямо говорит, что это лживая, лукавая книга, прикрывающаяся девизом — philosophari — Deum amare6 — и проповедывающая чистейший материализм. Если она преднамеренно в этом смысле лукава, то тем сильнее хочется мне обнять Вас, как умницу, умеющего защитить свое чадо»7.
Вот мои судьи, бесценный Лев Николаевич! И все три знакомы со мною и не раз выражали, что любят меня. Стыдно Соловьеву подумать, что я лгу3, да стыдно и Фету поверить такой мысли9. Когда же я лгал? Зачем мне лгать на старости лет? Что за гнусность!
Не знаю теперь, что делать. Первое мое желание было — разорвать всякие отношения с ними, — так мне было обидно. Но потом я принялся думать, отчего же всё это вышло? Не понимаю. Грот — мальчик, не имеющий никакой состоятельности в мыслях10. Но Соловьев? Как же он не понял книги? И если он не понял, кто же ее поймет? Неужели он уже до конца во власти фанатизма, который у него иногда проглядывал?
Такого огорчения и недоумения я еще не испытывал в жизни. Не верят! Знали меня так долго и говорили, и уверяли в дружбе, — и не верят моим словам! И обнимают за это!
Простите меня, — я наполнил всё письмо собственною своею особою. Следовало бы написать и об Вашей драме; впечатление от нее еще растет, бродит, развертывается — ив публике, и в театральном мире и — у меня. Со временем всё станет яснее.
Еще раз, простите меня. Графине мое усердное почтение.
Не забывайте
Вашего неизменного
Н. Страхова
1887.
12 марта.
Спб.
Печатается по: РО ИРЛИ. Ф. 302. Оп. 2. Ед. хр. 300. Л.129-130. Впервые: Современный мир. 1913. №11. С. 346-348. Ответ на п. 370.
465
1 См. примеч. 2 к п. 370.
2 Книга Страхова «Об основных понятиях психологии и физиологии» (СПб., 1886) поступила в продажу в конце октября 1886 г.
3 Полученное Страховым 11 марта 1887 г. письмо А. А. Фета с похвалами сборнику «О вечных истинах» и сообщением о «негодовании» по поводу этой книги Вл. С. Соловьева и Н. Я. Грота, посетивших Фета в Москве, не сохранилось и известно только по приводимому Страховым фрагменту.
4 Вероятно, Страхов сомневался в искренности «восторженного» отзыва Фета. Еще отсылая ему в феврале свою книгу, он предвидел возможную критику и был готов ответить на нее: «...моя книжка о вечных истинах напечатана и через неделю будет у Вас на столе. Думаю, что тут Вы не ограничитесь одними похвалами, а будете, пожалуй, и бранить меня» (письмо Фету от 18 февраля. — Фет. Переписка II. С. 430. — Курсив Страхова). Однако, ожидая критики по существу изложенных им взглядов, он не предполагал получить в свой адрес обвинения в ученом «лукавстве» и «притворстве» (см. примеч. 8).
5 Возможно, Фет передал в письме преимущественно мнение Соловьева, а не Грота, т. к. 30 марта 1887 г., в личном письме к Страхову, Н. Я. Грот высказал совсем иное мнение о книге: «Вчера прочел Вашу книжку „О спиритизме“. Я уже много слышал об ней от Л. Н. Толстого и В. С. Соловьева и очень ею интересовался. Прочитав ее внимательно за один присест, я пришел в восторг» (ОРРНБ. Ф. 747. Оп. 1. Ед. хр. 13. Л. 1-2). Не было новостью для Страхова и неоднозначное отношение к его книге Вл. Соловьева, который еще в письме от 9 марта предупреждал автора, что готовит для него «целый трактатец» с разбором его «антиспиритуалистических аргументов». В полушутливой, каламбурной манере, принятой им для заочного общения со Страховым, Соловьев продолжал: «А пока извольте получить и „немую похвалу“, и немой протест. Он не только немой [т. е. не публичный. — Сост.], но и немой, ибо не я один восклицаю по Вашему адресу: „немой материализма тонким мылом диалектики, — кроме пены ничего не выйдет“. Такого же мнения держатся между прочим два мои приятеля, философы [Л. М.] Лопатин и [Н. Я.] Грот, и мы даже собираемся написать Вам соборне. Однако, не мая же месяца дожидаться, а потому вот Вам сейчас немая похвала: я безусловно согласен и одобряю главный тезис Вашего вступления, а именно, что путем спиритизма религиозной истины добиться нельзя. / Также одобряю я и общие Ваши положения о существовании вечных истин против Вагнера. Доселе хвала. Что же касается до полемики с Бутлеровым, то Ваша аргументация против спиритических чудес имеет силу (если имеет) также и против всяких чудес и против самого существования невидимых духовных деятелей, — т. е. против всякой религии...» (Соловьев. Письма I С. 31. — Курсив Соловьева). На это обращение Соловьева Страхов ответил только через месяц (текст письма неизвестен; см. ниже примеч. 9). В письме к Фету от 9 апреля Соловьев замечал: «Получил перед праздниками [Пасхой, бывшей 4 апреля. — Сост.] чрезвы466
чайно обиженное письмо от Страхова по поводу его спиритизма. Отлагаю обстоятельный ответ до Воробьевки» (Соловьев. Письма III. С. 115). Развернутое суждение Вл. Соловьева о книге и об «антиспиритизме» Страхова, подготовленное им в имении Фета, см. в его письме к Страхову от 12 апреля 1887 г. — Соловьев. Письма I. С. 32-34. Ср. также в примеч. 9 к п. 416.
6 Эпиграф в книге Страхова «О вечных истинах»: «Philosophari nihil aliud est quam Deum amare» — «Философствование ничто иное как любовь к Богу». Происхождение неизвестно. С. И. Уманец на одной из «сред» у Страхова спрашивал его об авторстве афоризма, но ответа не получил. Присутствовавший драматург Д. В. Аверкиев тут же предположил, что авторство принадлежит самому Страхову (см.: С. У. [Уманец С. И.]. Мозаика (Из старых записных книжек). — ИВ. 1912. [Декабрь]. С. 1013-1066 (о Страхове с. 1042-1047).
7 Развернутый отклик на книгу Страхова и изложение своего понимания ее основного содержания А. А. Фет представил в письме к С. А. Толстой («яснополянской») от 14 марта: «Соловьев с Гротом возбуждают соборне крестовый поход дружественный на Страхова за его книгу о вечных истинах, за которую я ему уже письменно кланялся в ножки. Так как эта книга написана популярно, то, по-моему, следовало ему резюмировать ее в немногих словах (...) Неведомое есть тайное и может быть чудом; но из этого никак не следует, чтобы таинственное было непременно чудом. (...) Страхов только утверждает, что при помощи прирожденных законов разума уже отысканы капитальнейшие законы бытия мира и куда бы мы ни обратились, мы всюду встречаемся с их необходимостью, так что рядом с ними беспричинному чуду нет места. Пусть спиритические или иные чудеса, хоть среди белого дня, садятся с нами обедать, все-таки они будут дети другого, заоблачного мира, но никак не возможно разбирать их с точки зрения естественных наук, в которых все места уже заняты самыми слепыми, но зато непреклонными законами. Этого я не успел написать Страхову, а хотелось передать Льву Николаевичу» (Фет. Переписка IL С. 134). Вероятно, это мнение Фета было известно Толстому.
8 Свои слова о «лукавой» аргументации Страхова в споре со спиритами Соловьев так разъяснил в письме к оппоненту от 12 апреля: «Клянусь Вам физикою, дорогой и многоуважаемый Николай Николаевич, что, упрекая Вас в лукавстве, я имел в виду единственно только то, в чем Вы и сами признаетесь в своем последнем письме, т. е. соединение известных умолчаний с употреблением (без оговорок) обычных религиозных выражений для мыслей иного рода. Вот и всё (...) Поэтому я был справедливо огорчен Вашим несправедливым огорчением. (...) Вы хорошо знаете, что Вы лично для меня милее всех спиритических quasi чертей и медиумов, перемноженных друг на друга и возведенных в степень безграмотности проф. Вагнера. Поэтому Вы не примете за личную обиду, если я сочту себя вправе отнестись к Вашей антиспиритуалистической аргументации так же, как Вы отнеслись к доволам Ваших противников» (Соловьев. Письма I. С. 32).
467
9 Острая обида Страхова привела к приостановлению, с его стороны, переписки с поэтом на два месяца (февраль-апрель 1887 г.). Объясняя впоследствии причину своего охлаждения, он писал Фету: «Когда я кончил свои „Вечные истины" и сдал их в магазин, я испытывал очень благодушное настроение. Беспрестанно мне приходила мысль о возвышении к Богу, и я раздумывал о том, какие есть для этого пути, и как их себе уяснить и определить. (...) Два приятеля [Вл. Соловьев и Фет. — Сост.] прислали мне отзывы о моей книге, от которых я стал жестоко волноваться. Я знал заранее, что книга моя ни тому, ни другому вполне не понравится; один будет недоволен, что я слишком часто говорю о Боге, а другой, что слишком усердно держусь за физику. Для обоих в моей книге должно представляться некоторое внутреннее противоречие. И вот я думал: что они на это скажут? Верно, они никак не согласятся со мною, что в действительности тут нет никакого противоречия. / Но того, что случилось, я никак не ожидал. Оба приятеля решили просто: всё, что я говорю о духе и Боге, всё это лукавство, притворство, ничего этого я сам не думаю. Один готов меня за это хвалить, а другой протестует против употребления имени Божия всуе и кричит: караул! / Я написал Владимиру Сергеевичу горячие уверения в своей искренности; но он и слышать не хочет. Он пишет, будто я сам признаюсь (не признаю, а признаюсь), что „употребляю без оговорок обычные религиозные выражения для мыслей иного рода". Подлинные его слова. Я ему писал, что все мои слова я употребляю в точном смысле, что если не могу употребить религиозных выражений в их точном смысле, то я молчу, никаких слов не употребляю. А он говорит, что я говорю одно, а у меня мысли иного рода1. И хоть бы он привел единое слово, единую фразу, где бы видно было, что слово есть есть маска для мысли! Нет, меня обвиняют голословно. / И вот, я принялся обижаться. Как! Они не хотят признать меня добросовестным, правдивым, искренним писателем? Почему они так обо мне думают? Эти самолюбивые мысли так разыгрались, что я забыл все знаки расположения, которыми осыпают меня приятели, и стал думать, что они, верно, ничуть меня не любят» (письмо от 18 и 20 апреля 1887 г. — Фет. Переписка II. С. 432- 434. — Курсив Страхова). По размышлении Страхов пришел к выводу, что его неудовольствие на «приятелей» следует воспринимать как ниспосланное ему «искушение», от которого он невольно впал «в грех», заподозрив добросовестность их отношений к нему, тогда как истинной причиной недоразумения является несовершенное изложение мыслей в книге. «Конечно, дорогой Афанасий Афанасьевич, я должен бы подумать, что вся вина ни в чем ином, как в моей книге. Если кто находит разлад между ее выражениями и ее мыслями, если кому не ясна связь между ее положениями, то значит, книга дурно написана, неубедительна, не затягивает туда, куда хочет затянуть» (Там же. С. 434). Выяснение «приятелям» истинного смысла своего писания Страхов намеревался продолжить при личной встрече с Фетом и Соловьиным в Воробьевке летом 1887 г.
468
10 Отношение Страхова к философу Н. Я. Гроту в начальный период их (заочного на то время) знакомства имело несколько наставительный оттенок. В своем первом письме к молодому университетскому профессору, отзываясь о присланной им для ознакомления книге, Страхов замечал: «Очень мне приятно Ваше внимание, и признаюсь, не раз я Вас корил за то, что до сих пор Вы меня не читали. Желал бы с своей стороны сделать всё Вам приятное; но есть вещи, которые выше моих сил. (...) Вашу книгу о душе я отчасти читал, но не могу Вам отплатить похвалой за похвалу [книге «О вечных истинах». — Сост.]. Скажу пока об одном пункте: учения о веществе, силе, энергии и т. п. имеют в физике и химии совершенно определенный, математически строгий вид. Этот вид Вам нужно отчетливо знать, и, когда употребляете эти понятия, то давать их или то самое значение, которое они имеют в этих науках, или, если угодно, новое, но точно определенное, находящееся в точно определенном отношении к тому значению. (...) Так как я очень много занимался этим вопросом, то решаюсь прямо отослать Вас к моим книгам (...) там по этому вопросу много сказано, всё давно обдуманное, и лучше я не скажу теперь» (письмо от 4 апреля 1887 г. — Николай Яковлевич Грот в очерках, воспоминаниях и письмах... С. 236. — Курсив Страхова).
372
Страхов — Толстому 14 опрели
1887 г.
Вот, бесценный Лев Николаевич, очень милый и серьозный человек, СоНКТ-Петерб/рГ Фома Осипович Масарик1, профессор Пражского университета по философии, моравский брат по духу2.
Простите меня; он не будет Вам неприятен, а видеть Вас будет для него великое счастье3. Он говорит по-русски и очень усердно изучает русскую литературу.
Еще раз простите
Вашего неизменного
Н. Страхова
1887.
14 апр[еля].
Спб.
469
Печатается по: ОР
ГМТ.Ф.1.
№55710. Л. 1-2.
Впервые:
ТС ПСП II. С. 735.
25 апреля 1887 г. Санкт-Петербург
Р. 5. Давно собираюсь писать к Вам, и скоро сделаю это, при теперешней моей свободе.
1 Рекомендательное письмо Страхова к Толстому с просьбой принять Томаша Г. Масарика, профессора философии Пражского университета (впоследствии — в 1918-1935 гг. — первый президент Чехословацкой республики). Масарик — автор трудов по истории русской культуры (см.: Масарик Т. Г. Россия и Европа. Эссе о духовных течениях в России. Т. 1-3. СПб.: РХГИ, 2004). Встреча с писателем состоялась в Москве 19 апреля, куда Толстой вернулся накануне из Ясной Поляны. В московский дом Толстых Масарика привел проф. Н. Я. Грот (Гусев. Летопись I. С. 667). Второе свидание Масарика с Толстым произошло через неделю в Ясной Поляне, где писатель находился с 25 апреля. Масарик провел в гостях у Толстого три дня — с 27 по 29 апреля. См. отзыв о нем Толстого в п. 374.
2 Моравские братья (Богемские братья, Чешские братья, Община Богемских братьев) — религиозно-реформаторская евангелическая секта в Чехии, основанная в середине XV в. последователями Я. Гуса и П. Хельчицкого (см. примеч. 4 к п. 399).
3 См. п. 374 и примеч. 2 к нему.
373 Страхов — Толстому
Сейчас только я кончил, бесценный Лев Николаевич, длинное примирительное письмо к Фету1, примирительное и с Соловьевым, который живет у него в Воробьевке2 и с которым мы дважды поменялись письмами3. Какие странные впечатления! Как мне стало до очевидности ясно, что и тот и другой не мыслят и не говорят серьозно, а в сущности только забавляются мыслями и словами. Особенно со стороны Соловьева это было для меня открытием. Понятно, что они и не могли взять в сурьоз моих слов. Поверьте, что Соловьев спасается в свою церковь, а Фет к своим деньгам, потому что во всем остальном они не в силах уловить ничего реального. Это самые фантастические люди в мире, люди, 470
принимающие самую свою жизнь, т. е. свои чувства и размышления, за призрак, за игру. Поэтому они так охотно сочиняют. Фет прямо говорит, что поэзия есть ложь по самому своему существу, а Соловьев думает, что ему следует писать и мыслить, только крепко держась за церковь. Тогда будет всё хорошо, а без этого он вдруг теряет всякую опору. Что он мне написал! Какие чудовищные возражения! Только теперь я вполне понял (когда дошло дело до меня самого!) его высокопарность, туманность, софистичность, его твердое убеждение, что сравнение есть доказательство, а симметрия признак безусловной истины. Поэтому он тогда только и хорош, и то на половину, когда объясняет догматы, толкует смысл церкви, вообще развивает чужое и данное4. С такими людьми можно ли вести серьоный обмен мыслей? Они никак не понимают, чем я обиделся, когда они сказали, что я не думаю серьозно того, что пишу. Так и возьму их, хоть ужасно грустно, когда не с кем слова сказать. Майков или покойный Аксаков5 лучше понимали меня, хотя нас разделяет множество несогласий. Бедный Майков! Он видимо стал дряхлеть; но его худое лицо и глаза, достигшие полной чистоты и прозрачности, удивительно стали прекрасны. У него хорошая старость: он всё мягче и добрее и спокойно ожидает смерти6.
Полонского на его юбилее7 поэт Минаев назвал маститым юношею8; это очень верно. Юбилей был очень удачен, т. е. не шумен, а весел, теплою веселостью. Меня подбивали — написать Вам, чтобы и Вы прислали поздравление. Но мне всё время было не по себе и на самый юбилей я пошел больной. Поэтому простите мне нерасторопность; а Полонский к тому же в горе: он потерял Ваше письмо, которым очень дорожил и гордился9.
Вчера только получил я письмо от О. А. Данилевской, где она рассказывает, как была у Вас в Москве10, с большою радостью и любовью к Вам и к графине. Как это всё хорошо! Глубоко трогает меня эта женщина. Ведь она до сих пор ежеминутно сдерживает свое отчаяние и, как я знаю 471
по здешнему ее житью, спать настоящим образом не может. Зовет меня в Крым, между прочим заманивая и тем, что расскажет разговоры, какие были в Москве. Про Вас она пишет, что не любить Вас невозможно.
Конечно, нужно ехать; конечно, очень жажду и с Вами повидаться, поговорить, если Бог пошлет благодать, о жизни и смерти11, о чем Вы теперь пишете. Но май пробуду здесь, а может быть, и весь июнь12. Летом и осенью будет у меня большое печатание — три книги! Две — второе издание своих13, а третья — новое издание «России и Европы»14. Между тем готовлюсь и обдумываю — писать и свою последнюю книгу. Главные темы — две: сущность познания и то, как всё нас приводит к Богу, и как нам от всего идти к Богу15. Теперь я упростил все свои дела, имею вдоволь свободного времени, — да жаль — мало сил, очень мало. Вот уж вторую неделю не выхожу, сижу один (Стахеев уехал16) и вижу в окна, как наступили красные дни, как съезжаются в Оперу17, с каким очевидным наслаждением гуляют здоровые люди.
На досуге я прочел «L’Œuvre» Золя18. Очень интересный предмет, очень серьозное отношение к делу, много верных и свежих описаний — и чрезвычайно слабая работа. Лица — вовсе не изображены, а только служат вешалками для сцен, мыслей, для формулирования известных качеств и известной судьбы человека. Весь роман не стоит одной Вашей страницы.
Грот мне пишет, что лекция Тимирязева «Опровергнут ли дарвинизм?» была очень язвительна и резка против Н. Я. Данилевского и меня и кончилась стоном и ревом восторга слушателей19. Наконец они говорят, но — какое оружие — публичная лекция! Нечего делать, нужно готовиться к борьбе и пошире расставить ноги20.
Простите меня, бесценный Лев Николаевич. Мое усердное почтение графине; скажите, что я треплю свое одеяло21, но до сих пор мне его жалко. А не прав ли я был, когда уговаривал печатать 15 00022?
Всею душою Ваш
Н. Страхов
472
1887.
25 апр[еля].
Спб.
1 Письмо к А. А. Фету от 18 и 20 апреля 1887 г. (Фет. Переписка II. С. 432-434). Выдержки из этого письма Страхова см. в примеч. 9 к п. 371.
2 Вл. Соловьев гостил в имении Фета, вероятно, со второй декады апреля. Незадолго до своего отбытия из Москвы он писал Фету 9 апреля в Воробьевку: «Я на отъезде и не позже воскресенья буду у вас» (Соловьев. Письма III. С. 115). Ближайшее по времени воскресенье приходилось на 11 апреля. Однако спустя пять дней (если число указано по русскому стилю и публикатором правильно прочитана дата письма) он еще из своего московского дома извещал каноника Ф. Рачкого: «Пишу Вам с дорожным посохом; сегодня уезжаю в деревню на неопределенное время» (письмо от 14 апреля 1887 г. — Соловьев. Письма I. С. 177). Своему приятелю кн. Д. Н. Цертелеву Соловьев несколько позднее сообщал: «По случаю абсолютного безденежья я никуда двигаться до осени не уповаю, и буду очень рад, если ты попадешь в конце июля в Воробьевку» (Соловьев. Письма II. С. 252). Соловьев оставался в имении Фета до второй половины сентября (см.: Соловьев. Письма IV. С. 113).
3 Сохранились лишь письма Соловьева к Страхову от 9 марта и 12 апреля 1887 г. (см. выдержки из них в примеч. 5,8 к п. 371). В письме от 12 апреля Соловьев писал об аргументах Страхова против спиритов, а также иронизировал над поддержавшем его философские доводы Толстым: «Спириты говорят: спорьте с нами на нашей почве, на почве медиумических фактов. Но Вы находите эту почву нетвердою и отказываетесь на нее вступить. (...) Вы спорите не против опыта или наблюдения, а против того, чтобы все вопросы решались безапелляционно опытом или наблюдением. (...) Вы знаете, что вольнодумцы IV и V века, за ними французские энциклопедисты прошлого столетия, а наконец и наш непременный Колумб всех открытых Америк Л. Н. Толстой оспаривали догмат Троицы на основании арифметики: один не три, и три не один. Не в обиду Вам будь сказано, когда во имя физики Вы отрицаете чудеса, напр., безвредное падение человека с большой высоты, то Вы рассуждаете почти так же плохо, как Л. Н. Толстой (...) Не могу, однако, скрыть своего удивления, что Вы столь решительно признаете невеждами или дураками многочисленных лиц как богословского, так и философского сословия, коим свет современной науки отнюдь не препятствует искренне верить в предметы чудесные и супранатуральные. (...) Я не только верю во всё сверхестественное, но, собственно говоря, только в это и верю. Клянусь четой и нечетой, с тех пор, как я стал мыслить, тяготеющая над нами вещественность всегда представлялась мне не иначе, как некий кошмар сонного человечества, которого давит домовой» (Соловьев. Письма I. С. 32-34).
Печатается по: Р0 ИРПИ. Ф. 302. Оп. 2. Ед. хр. 300. Л. 131-132.
Впервые: Современный мир. 1913. №11. С. 348-351.
473
4 Возможно, что это данное Страховым краткое определение творческих сил Вл. Соловьева как философа разделялось и Толстым. Еще летом 1885 г. И. М. Ивакин записал в дневнике суждение писателя о том, что «где Соловьев излагает чужое, там он хорош — и только» (запись от 20 июля 1885 г. — АН. Т. 69, кн. 2. С. 59). Толстой повторял эту мысль и позднее. Ср. его высказывание в дневниковой записи Д. П. Маковицкого от 13 августа 1905 г.: «У Владимира Соловьева тоже нет ничего своего, а что есть — то самые слабые места его писаний. Но блестяще подает чужие мысли» (ЛН. Т. 90, кн. 1. С. 374).
5 И. С. Аксаков, в «Руси» которого Страхов печатался в 1880-е гг. Учитывая близость их взглядов, Аксаков даже предполагал предложить Страхову совместное редактирование газеты (см. его письмо от 9 декабря 1884 г. — Аксаков—Страхов. Переписка. С. 117). О «несогласиях» Страхова и Аксакова см. по их переписке в том же источнике. Одним из таких расхождений была различная оценка корреспондентами религиозно-нравственных построений Толстого и масштабов его художественного дарования.
6 К тому времени в представлении Страхова, вероятно, сложился устойчивый бытовой образ А. Н. Майкова. О своем восприятии его Страхов писал Фету 13 января 1886 г.: «Самым счастливым человеком я считаю Майкова. Прекрасная семья, хорошее здоровье и хорошее настроение духа. Печального он не принимает, не хочет его видеть; а мало ли печального для такого патриота!» (Фет. Переписка II. С. 424, 425, 429). О болезни Майкова Страхов извещал А. А. Фета еще в конце осени 1886 г. (см.: Там же. С. 410).
7 Пятидесятилетний юбилей творческой деятельности поэта Я. П. Полонского отмечался 10 апреля 1887 г. в Петербурге. Описание торжеств поместили на своих страницах многие столичные газеты; см., например: НВ. 1887.11 апр. № 3391; 12 апр. № 3392. О своих переживаниях, связанных с чествованием, Полонский рассказал в письме к А. А. Фету от 17 декабря 1888 г. (Фет. Переписка I. С. 695). Страхов присутствовал на праздновании, однако в печати по поводу события не выступал. В письме к Фету от 18 и 20 апреля он замечал: «На юбилей Полонского я пошел уже больной, но всё же могу оценить, что праздник был очень мил, вопреки моим положительным ожиданиям» (Фет. Переписка II. С. 434).
8 Стихи Я. П. Полонского не раз становились объектом сатирического пародирования поэта Д. Д. Минаева, однако прочитанное на торжестве его стихотворное обращение к музе юбиляра (самого автора не было в Петербурге) прозвучало настоящим признанием со стороны язвительного критика и не могло не тронуть Полонского.
9 Вероятно, речь идет о письме Толстого от 17 или 18 ноября 1876 г. Подробнее см. п. 128 и примеч. 1 к нему, п. 130 и примеч. 2 к нему.
10 Это посещение О. А. Данилевской семьи Толстых в Москве могло состояться либо в конце марта (31 марта Толстой уехал в Ясную Поляну), либо сразу после его возвращения 18 апреля из имения в Москву.
474
11В это время Толстой усиленно работал над трактатом «О жизни и смерти» (окончательное название — «О жизни»). См. письмо В. Г. Черткову от 24 или 25 апреля. — Юб. Т. 86. С. 49.
12 Виды Страхова на лето 1887 г. обретут более конкретные очертания к концу июня. А. А. Фету в письме от 18 и 20 апреля он сообщал: «...мои планы до сих пор не установились. Май месяц, конечно, останусь здесь. Должен быть в Киеве [у племянницы. — Сост.] и в Крыму, а между тем переговоры еще продолжаются. Можете ли Вы сомневаться в том, что меня тянет в Воробьевку?» (Фет. Переписка II. С. 434).
13 Второе издание книг Страхова «Борьба с Западом в нашей литературе» (Книжка первая. СПб., 1887) и «Критические статьи об И. С. Тургеневе и Л. Н. Толстом (1862-1885)» (СПб., 1887).
14 Речь идет о третьем (втором отдельном) издании книги Н. Я. Данилевского «Россия и Европа» (СПб., 1888), которое было дополнено примечаниями автора, предназначавшимися для включения в основной текст книги при переиздании труда. Работу над своим предисловием Страхов завершит только 15 февраля 1888 г.
15 В виде систематического и законченного изложения этот замысел Страхова осуществлен не был.
16 Семья писателя Д. И. Стахеева, сожителя Страхова по квартире в доме Стерлигова (см. примеч. 17), уезжала на весенне-летнее время в Крым.
17 Страхов жил на Крюковом канале, на верхнем этаже пятиэтажного дома, окна которого выходили на здание Мариинского оперного театра, построенного архитектором А. К. Кавосом в 1860 г.
18Роман Э. Золя. «L’OEuvre» (1886) — «Творчество» (русский перевод, 1886).
19 Видный ботаник Климент Аркадьевич Тимирязев, сторонник Дарвина и популяризатор его учения, прочел 22 апреля 1887 г. в Московском политехническом музее лекцию «Опровергнут ли дарвинизм?» с критикой основных положений книги Н. Я. Данилевского «Дарвинизм» и статьи Страхова «Полное опровержение дарвинизма». Н. Я. Грот описал Страхову свои впечатления от лекции 23 апреля: «Вчера я был на публичной лекции Тимирязева „Опровергнут ли дарвинизм?“. Досталось на ней Вам и особенно] Данилевскому. Лекция эта будет напечатана кажется в „Русской мысли“. Торжество лектора было полное. После 2-й лекции (их было 2 (с перерывами) слушатели (6. ч. молодежи) дошли в своих восторгах до исступления — это был рев и стон. А все-таки должен признаться, что лекция меня мало удовлетворила, хотя я более дарвинист, чем антидарвинист. Во 1-х, она была субъективна и страстна сверх меры — шуточками, остротами и метафорами противник (Данил[евский]) был сначала втоптан в грязь и затем уже последовал легкий, фельетонный разбор нескольких (наиболее слабых) аргументов Данилевского, а именно против естественного] подбора и против случайности в Дарвинизме. Кое-где мелькало остроумие и умные соображения, кот[орые] несомненно подтверждают существование естеств[енного] 475
подбора (я его сам допускаю), и также удачно было эксплуатировано в пользу учения Дарвина признание Данилевским „многих бессмыслиц и неудач“ (природы). Но всё это единичные и по моему мнению верные замечания тонули в пучине дешевых острот и неприятных шуток. Данилевский был между прочим обвинен в том, что он старается предубедить против Дарвина и подействовать на чувство читателей, но сам его критик сделал еще больше, чтобы предубедить слушателей и овладеть их чувствами. Я Вашу статью читал и нашел в ней много прочувствованного (если хотите, сообщу Вам мои соображения), также читал Данилевского (не всё, впрочем) и со многим не соглашался, но все-таки во время лекции всё время стоял на Вашей стороне, ибо меня всегда возмущают несправедливые пристрастия» (ОР РНБ. Ф. 747. Оп. 1. Ед. хр. 13. Л. 5-6. — Курсив Грота).
20 За известие о лекции К. А. Тимирязева и замечания о полемических приемах докладчика Страхов благодарил Н. Я. Грота в письме от 5 мая (Николай Яковлевич Грот в очерках, воспоминаниях и письмах... С. 237). Дождавшись появления текста лекции (переработанного и дополненного автором) в печати (Русская мысль. 1887. Кн. 5 (Май). С. 145-180; Кн. 6 (Июнь). С. 1-14) и ознакомившись с ее содержанием, Страхов принялся за обдумывание и подготовку ответа. В начале июня он писал А. А. Фету из Петербурга: «Теперь прибавилась еще забота — изучаю статью Тимирязева: „Опровергнут ли дарвинизм?“, коей первая половина явилась в „Русской мысли“. И жалко, и странно! Человек с горячкой и самоуверенностию наскочил на книгу Данилевского, — и оборвался! Статья очень горяча по тону и удивительно слаба по содержанию. Но вот мне тема для размышлений на нынешнее лето» (письмо от 3 июня. — Фет. Переписка II. С. 435. — Курсив Страхова). Полемика с Тимирязевым и его сторонниками продолжалась до 1889 г.
21 См. примеч. 6 к п. 353.
22 Речь идет о тираже Шестого издания Сочинений Толстого. С. А. Толстая вспоминала, что это дешевое издание было выпущено в конце февраля и «продажа пошла необыкновенно успешная» (Толстая. Моя жизнь II. С. 16-17). Уже через месяц она писала А. А. Фету: «У меня опять пропасть дела; новое издание мое (6000 экз.) продалось в три недели всё, и теперь я снова заказываю бумагу, веду переговоры с типографиями, буду держать корректуру; а самое скучное то, что приходится отказывать тем бесчисленным требованиям, которым нельзя удовлетворить. Легкой рукой, видно, я взялась за это дело, так как в год с книг Л. Н. я получила больше восьмидесяти тысяч чистого капитала! А радости от этого не получила ни больше, ни меньше» (письмо от 23 марта. — Фет. Переписка И. С. 136).
476
374
А. И. ц С Л. Толстые — Страхову
19 мая 1887 г. Ясная Поляна
Простите, что долго не отвечал, дорогой Николай Николаевич. — Я очень рад, что вы договорились с Соловьевым1. Вы будете спокойнее. А то он вас тревожил. Нет ничего беспокойнее, как кажущаяся духовная близость, к[оторая] никогда не переходит в настоящую и к[оторая] дразнит и большей частью есть самое большое отдаление; знаете, как на кольцах для ключей: те ключи, к[оторые] у перерыва кольца, кажутся рядом, а их надо передвинуть на всё кольцо, чтобы соединить. Таково мне казалось всегда ваше отношение к Соловьеву. Трудно представить более отдаленных по умственному характеру людей, чем вы и он. — Очень благодарю вас за Масарика. Он 6[ыл] и в Ясной2, и я очень полюбил его. — Я всё работаю над мыслями о жизни и смерти3 — не переставая, и всё мне становится яснее и важнее. Очень хочется знать ваше отношение к этому.
Наши все здоровы, вам кланяются и вас зовут. Я же, разумеется, очень. Полюбил я тоже Данилевскую4. —
Грота вы напрасно не любите5. Если его сравнивать с Соловьевым, то оба одинаково легкомысленны; но Грот свободен и ищет истину везде, а Соловьев спутан и не может уже искать истины нигде, кроме (простите меня) в загаженном уголку церкви. — Соловьев талантливее, это правда, но Грот шире образован. Так мне кажется. Пожалуйста, разорвите это письмо.
Мне очень хорошо жить на свете, т. е. умирать на этом свете, и вам того же не только желаю, но требую от вас. Человек обязан быть счастлив. Если он не счастлив, то он виноват. И обязан до тех пор хлопотать над собой, пока не устранит этого неудобства или недоразумения. Неудобство главное в том, что если человек несчастлив, то не оберешься неразрешимых вопросов: и зачем я на свете, и зачем весь мир? и т. п.
477
А если счастлив, то «покорно благодарю и вам того же желаю», вот и все вопросы. Ну, пока прощайте. Ваши книги и мысли, выраженные в них, много мне помогли в уяснении тех вопросов, к[оторыми] я занят теперь. Надеюсь, что я их не извергаю сырыми, а ассимилировал, и что вы мне скажете: на здоровье. —
Ваш друг
Лев Толстой
[Рукой С. А. Толстой:]
Печатается по: ОР ГМТ.Ф.1.№7467. Л. 1-2 об. Нал. 1 помета Страхова: «20 мая 1887».
Впервые: Толстой и о Толстом II.
С. 51-52. В Юб.: Т. 64. С. 48-49. Ответ на п. 373.
19 мая 1887.
Хотела вам сама писать, но всё не собралась, многоуважаемый и дорогой Николай Николаевич. Спасибо за Сократа6, какой характерный бюст, веришь в сходство этого изображения.
Мы все вас зовем всем сердцем и ждем как радости, но не на короткое время, а чтоб подольше пожить с вами.
Пожалуйста, будьте добры, поживите с нами7.
Преданная вам
С. Толстая
1 См. примеч. 9 к п. 371 и примеч. 3 к п. 373. Намерение Страхова некоторым образом смягчить впечатление от «разгоряченного» ответа Вл. Соловьеву выразилось в его письме к А. А. Фету в Воробьевку от 18 и 20 апреля, в котором он просил передать философу свое пожелание устранить возникшее «несовпадение» во взглядах при личной встрече в имении Фета: «Владимиру Сергеевичу — душевное приветствие. Когда увидимся, мы, я думаю, яснее будем понимать друг друга, и очень радуюсь, что есть надежда его увидеть» (Фет. Переписка 11. С. 434). Ответное письмо откликнувшегося на призыв корреспондента было написано через месяц: «Уже один вид почерка Вашего на конверте преисполнил меня радостью как свидетельство, что Вы на меня более не сердитесь. То же подтвердило и содержание Вашего письма» (письмо от 20 мая. — Соловьев. Письма I. С. 35). Соловьев усердно звал Страхова в Воробьевку «для сердечной дружбы и, быть может, для мозговой брани» (Там же. С. 37).
2 О встречах Толстого с Т. Масариком см. примеч. 1 к п. 372. О пребывании Масарика в Ясной Поляне см. в письме Толстого к жене от 29 апреля (Юб. Т. 84. 478
С. 30). Масарик оставил воспоминания об этом свидании и беседах с писателем (см.: «Erinnerungen an L. N. Tolstoi» — Illustrierte Beilage der Rigaschen Rundschau. 1910. November [«Воспоминания о Л. H. Толстом» — Иллюстрированное приложение к «Рижскому обозрению»/ 1910. Ноябрь]). Бывший свидетелем этих бесед П. И. Бирюков писал: «Известность Л. Н-ча росла и привлекала к нему многих замечательных посетителей. (...) В апреле же, по возвращении в Ясную Поляну, Л. Н-ча посетил чешский профессор доктор философии Массарик. Предварительно он прислал Л. Н-чу свою докторскую диссертацию „О самоубийстве". В этой книге уже проявилась серьезная религиозная основа молодого ученого, и она расположила Л. Н-ча к ее автору. / Личное свидание только усилило взаимные симпатии. Мне удалось несколько раз присутствовать при их беседе и от самого Л. Н-ча слышать симпатичный отзыв об уме, простоте и религиозности его нового друга. (...) С тех пор общение Л. Н-ча с Массариком не прекращалось...» (Бирюков III. С. 72).
3 В декабре 1886 г. Толстой начал работу над философским трактатом, первоначально озаглавленном «О жизни и смерти». По мере развития общей концепции книги Толстой пришел к убеждению, что для блага человека, познавшего смысл жизни в исполнении высшего блага — служении Богу, т. е. высшей нравственной истине, смерти не существует и вычеркнул слово «смерть» из названия трактата.
4 См. п. 373 и примеч. 10 к нему.
5 См. примеч. 10 к п. 371. Толстой тепло и с симпатией относился к молодому философу Н. Я. Гроту, их духовное и бытовое общение продолжалось до кончины Грота. Краткие мемуарные свидетельства о нем Толстого см.: Николай Яковлевич Грот в очерках, воспоминаниях и письмах... С. 207-210.
6 О каком именно изображении Сократа идет речь, неясно. Ни в московском, ни в яснополянском доме нет бюста Сократа.
7 Ответ Страхова см. в п. 376.
375
Строхов — Толстому 20 ноя 1887 г.
Санкт-Петербург
Ваши слова не пропадают для меня даром, бесценный Лев Николаевич. Досталя из П[убличной] библиотеки книгу П. Бакунина «Основы веры и знания»1 и принялся читать. Первые пять страниц так мне не понравились по неточности и бессвязности, что я чуть не бросил книги.
Извериться никогда ничего другого не значит, как потерять доверие 479
других людей, смысл простой, ясный, из которого ничего нельзя выжать. Читаю дальше — и мысль начинает интересовать и захватывать меня. Я стал только думать, что у этого человека мысль и слово не совпадают, что из-за своей мысли он не видит слов и потому хватает их без хорошего разбора, и, сам это чувствуя, набирает их побольше — для ясности. Читателю, таким образом, приходится из-за слов автора разглядывать его мысль, переводить его смутную речь на ясную. Но чем дальше я читал, тем больше меня увлекало содержание; я пришел в совершенное восхищение и нашел много мест, где прекрасные мысли и выражены прекрасно, с воодушевлением и точно2. Это они, мои любезные идеалисты, Фихте, Шеллинг, и величайший из них Гегель! Но автор обратил их мысли и их диалектику в свою плоть и кровь, и пишет с полной свободою и твердостью и воодушевлением самостоятельной мысли. Высота и глубина мысли бесподобные, и сам вдруг подымаешься как на крыльях3. Всё, что говорится об отношении человека к Богу — удивительно хорошо, да и часто чудесно сказано. Пришлось мне быть на Невском, я зашел в магазин и купил книгу, чтобы не расставаться с нею. Однако я стал чувствовать, что, читая, теряю нить рассуждения. Должно быть, я слишком бегу, подумал я, и внимательно прочел оглавление, чтобы убедить себя, что автор имел в виду правильный порядок и последовательность. К удивлению, впечатление путаницы с середины книги всё усиливалось, две главы, об эстетике и об этике, совершенно обманули мое любопытство. Я на них смотрел заранее с большою жадностью, потому что ведь это насущные, ежедневные, практические вопросы; досадно было так мало найти. Потом раздосадовали меня особенно двадцать страниц (297-320), на которых очень слабо доказывается, что есть вещи, для человека непонятные. Тема важная; но ведь нужно найти границу понятного и непонятного, так чтобы потом уметь ставить вещи по ту или по другую сторону этой границы. Ничего такого тут нет, и всё рассуждение ничем не оканчивается. Немножко утешили меня удивительные страницы о смерти, в конце книги.
480
Теперь очарование мое рассеялось, и я с грустью смотрю на эту книгу, давшую мне столько глубокого наслаждения. Какое великое было бы дело, если бы эти самые мысли были действительно изложены и действительно приложены}4 У Бакунина есть в огромных размерах тот самый недостаток, который произвел падение и забвение немецкого идеализма. Книга сияет мыслью, — а кто ее поймет? Она писана с глубоким воодушевлением — а кто ее будет читать? От этого настоящего не останется никакого прошедшего — скажу я выражением автора.
Есть в книге и прямое возражение против Вас, на стр. 297 с первой строчки5. А дальше выражено всё бессилие философии автора:
«Нет правил для нравственных поступков человека; нравственный человек нравственен только по вдохновению свыше»6.
Поэтому сегодня, по вдохновению, можно предавать себя на смерть и сожжение,- а завтра, по новому вдохновению, можно убивать и сожигать других. Так и понял это Михаил Бакунин, и везде старался подбивать к убийствам и поджогам. Это — та самая черта гегельянства, которая оттолкнула меня когда-то от этой философии7. Когда теряется разграничительная черта между добром и злом, весь вкус жизни пропадает и исчезает всякий интерес мышления. Можно признать, что злодей бессознательно повиновался некоторому нравственному побуждению; но сознательное злодейство никогда не будет нравственным поступком.
Не упрекнете ли Вы меня в педантизме? Я сам себя часто в нем упрекаю и стараюсь поддаваться ему лишь настолько, насколько он прав. Книгу П. Бакунина возьму с собой на летнюю поездку и непременно сниму с нее пенки, как кто-то выразился, смеясь над моими цитатами.
Но сейчас нужно ехать за «Русск[ой] мыслью», май, где статья Тимирязева против Н. Я. Данилевского8. И нужно вчитываться и писать опровержение. Когда так ясно, что именно следует делать, я всегда очень доволен. Лишь бы не довелось жить, «изнывая пустым призраком», как выражается П. Бакунин9.
481
Печатается по: PO ИРЛИ. Ф. 302. Оп. 2. Ед. хр. 300. Л. 133-134. Впервые: Современный мир. 1913. №11. С. 351-353. Ответ на п. 369.
Вы видели Масарика?10 Он мне истинно понравился; но, вероятно, Вы узнали его до корня, как не узнать мне, слепому человеку11.
Простите меня. Дай Вам Бог всего, что хорошо для тела и души.
Ваш неизменно преданный и любящий
Н. Страхов
1887.
20 мая.
Спб.
1 О книге «Основы веры и знания» (1886) философа Павла Александровича Бакунина (брата революционера-анархиста М. А. Бакунина) Толстой спрашивал Страхова в п. 369. Год спустя в письме к В. В. Розанову от 18 мая 1888 г. Страхов рассказывал: «Недавно он [П. А. Бакунин] захотел познакомиться со мною, но мы виделись только один раз. Крепкий старик, еще с чернеющими волосами, лет 70-ти. Он мне сказал, что его книга дурно написана (что совершено справедливо), что он сам иногда не может добраться, какая мысль внушила ему слова и фразы, напечатанные в его книге. „Я себя испортил, — говорит он, — я писал для себя и позволял себе самые странные выражения своих мыслей“» (Розанов В. В. Собр. соч. [Т. 13]: Литературные изгнанники. ... Переписка В. В. Розанова с Н. Н. Страховым. С. 14).
2 В январе 1888 г. Страхов в близких по смыслу словах кратко определил достоинства и недостатки труда П. А. Бакунина в письме к Розанову: «Знаете ли Вы книгу Бакунина „Основы веры и знания“, вышедшую в 1886 году? Очень дурно написана, но в хорошем и истинно философском духе» (письмо от 27 января. — Там же. С. 8. — Курсив Страхова).
3 На известную теоретическую преемственность построений П. А. Бакунина по отношению к учению немецкого идеализма Страхов обратил внимание и в письме к Розанову от 18 мая 1888 г.: «Философ он вполне, но он прямо питомец Шеллинга и Гегеля — тут нет существенной разницы, да и нет того школьного подчинения, которое обыкновенно соединяется с понятием приверженца известной системы. Философия немецкого идеализма вообще чужда догматичности, дает свободу и вполне развязывает ум. (...) Бакунин есть свидетельство силы и жизни этих школ, есть доказательство в их пользу» (Там же. С. 14. — Курсив Страхова).
4 У Страхова, по его признанию, было намерение разобрать книгу Бакунина и изложить ее основные положения именно с точки зрения их непосредственной связи с историческими течениями немецкого философского идеализма. Отвлеченный от этого соображения полемикой с дарвинистами и Вл. Соловьевым, он готов был поддержать такое желание в других. Тому же Розанову он писал год спустя: «Главное, из-за чего 482
пишу Вам, — хочу похвалить Вас за Бакунина. Вы отлично сделаете, если растолкуете эту книгу Вашим легким и ясным языком. У меня была мысль самому заняться таким толкованием, но вижу, что никак не удастся это сделать (...) Но Вы можете написать Ваше толкование, вовсе не указывая на положение Бакунина по отношению к известным школам. Сам я навел кой-какие справки об этом и постараюсь уяснить себе это отношение вполне...» (письмо от 18 мая 1888 г. — Там же). Ни Страхов, ни Розанов своего предположения не осуществили.
5 Рассматривая столкновение в мире «святого» и «необходимого», П. А. Бакунин выступает с осуждением морализма: «Моральные люди усматривают в этом лишь пагубные последствия необузданного честолюбия, непомерной гордыни и несдержанных страстей человека и услаждаются мыслью, что спасение лежит в несопротивлении злу. Но из этого видно, что резонерство и мораль, по сравнению с действительной нравственностью общества и человечества — то же, что лужа или аквариум с фонтанчиком и рыбками перед океаном, по которому дух Божий вздымает его океанические волны и бури» (Бакунин П. Основы веры и знания, М., 1886. С. 296-297).
6 Ср.: «Как нет правил для творчества художника, так нет правил для нравственных поступков человека...» (Там же. С. 297).
7 После долгого увлечения Гегелем Страхов отошел от гегельянства в 1870-е гг. из-за нравственного безразличия учения немецкого философа, оставшись апологетом его диалектического метода. Споря с Н. Я. Данилевским, отвергавшим Гегеля, Страхов писал ему в 1873 г.: «В том-то и штука, что учение Гегеля, над которым вы так ругаетесь, и метода Гегеля — две вещи различные, и что если возможно отделиться от учения, то от методы невозможно. Что-нибудь из двух: или эта метода, или голый эмпиризм; всё среднее есть незаконная помесь, уродство, недомыслие. Логические приемы Гегеля проникли повсюду, во все науки, во все литературы, в газеты и в детские книжки, они есть и в вашей „России и Европе", они тот воздух, которым мы дышим. Хорошо ли ругаться над ними, употребляя их на каждой странице? Учение Гегеля — другое дело. Вы знаете, что оно имеет тысячу видов, что оно служит опорою самым противоположным взглядам. Эта неопределенность погубила его» (РВ. 1901. Январь. С. 127-128). Ср.: Грот Н. Я. Памяти Н. Н. Страхова. К характеристике его философского миросозерцания. М., 1896. С. 12-19.
8 В майском номере журнала «Русская мысль» было напечатано начало статьи К. А. Тимирязева «Опровергнут ли дарвинизм?» (1887. Май (Кн. 5). Отд. II. С. 145- 180). См. примеч. 20 к п. 373.
9 П. А. Бакунин указывает на противоречие между мечтами человека и реальностью: «Человек вечно мечтает о прекрасном, чтобы на самом деле жить только пошлостью и безобразием (...). А потом ему остается лишь изнывать и пропадать пустым призраком между призраками, кошмарами и дикими наваждениями пошлости, безобразия, насилия и отъявленной лжи» (Бакунин П. Основы веры и знания. СПб., 1886. С. 225).
483
4 июня 1887 г. Санкт-Петербург
10 См. примеч. 2 к п. 374.
11 Позднее Толстой так передавал свое впечатление от общения с Т. Масариком: «Что же Масарик! Он робкой мысли, он ищет авторитетов, несамостоятельный человек. Я это замечал, когда мы разговаривали. Он тогда был протестантом» (запись Д. П. Маковицкого от 8 января 1905 г. — АН. Т. 90, кн. 1. С. 128).
376
Страхов — Толстому
Никогда в жизни не получал я более лестного письма, как Ваше письмо, бесценный Лев Николаевич, от 21 мая1. Вы пишете, что мои мысли и книги много помогли Вам — это мне такая награда, похвала, гордость, что выше и быть не может.
Но главное мне не в гордости, с которою я постоянно борюсь, а в том, что я безусловно верю Вашему гениальному нравственному чутью и что Ваш отзыв позволяет мне думать, что я тружусь в чистом направлении и с чистым сердцем. Тогда всё хорошо, а остальное пусть будет как Богу угодно.
Ваше требование) чтобы я был счастлив, признаю вполне, и это удивительно сошлось с моими мыслями. Впрочем, я теперь не имею никакого предлога для жалоб, и мое малодушие очень редко напоминает мне о себе. С апреля месяца я так свободен, как никогда не бывал; а я всего больше мучился подневольною работою, которая поглощает время и не дает думать. Часто я хвалю себя за то, что распорядился так умно, отказался от лишних занятий2.
На свободе я думал было писать3, и оттого так долго сижу здесь. Однако писание не пошло, потому что казалось нужным прочесть сперва то и другое, и чтение меня затянуло. Все-таки я доволен — яснее и яснее вижу предмет. Теперь — задал себе тем на всё лето, а кроме того, нужно сделать три важные вещи: 1) вникнуть в то, что Вы написали о жизни 484
и смерти4 — жду не дождусь свидания с Вами. 2) Перечесть и распутать книгу Бакунина5. 3) Изучить статью Тимирязева и отвечать ему6. Она очень слаба — видно, что он наскочил на книгу Данилевского с большою самоуверенностью; но дело оказалось не так легко, — он оборвался. Статья и сохраняет в себе обе черты: тон презадорный, а в доказательствах — вялость.
О Соловьеве и о Гроте — слишком долго писать; в главном Вы совершенно правы, и у нас уже началась дружба с Гротом, пока на переписке7. Но жаль, что долго еще ждать случая увидеться с ним.
Теперь о моих планах. Всею душою благодарю графиню и Вас за приглашение; но дела так расположились, что мне нельзя будет пожить в Ясной Поляне. По всем расчетам дело будет так: выеду отсюда недели через три в двадцатых числах и прямо к Вам, дней на пять на шесть; потом уеду в Крым, в Киев, в Воробьевку и в августе в двадцатых числах буду опять у Вас, на недельку. Очень меня смущают эти большие переезды, хоть в последнее время я чувствую себя так хорошо, как давно не чувствовал. Но что же делать! В Крым непременно нужно, и не на короткое время, а Киев и Воробьевка по дороге8.
Простите меня. Еще раз всем сердцем благодарю Вас и за внимание и за участие. Прошу Вас верить моей всегдашней, неизменной любви. Дай Бог только в добрый час свидеться!
Перед приездом напишу Вам. Сердечное почтение графине и Татьяне Андреевне.
Ваш Н. Страхов
1887.
4 июня.
Спб.
1 Подразумевается письмо от 19 мая, которое Страхов, вероятно, получил 21 мая.
2 Страхов ссылается на свое решение оставить службу в Императорской Публичной библиотеке и Комитете цензуры иностранной.
Печатается по: РО ИРЛИ. Ф. 302. Оп. 2. Ед. хр. 300. Л. 135-136.
Впервые: Современный мир. 1913. №11.
С. 353-355. Ответ на п. 374.
485
3 Еще в феврале, сообщая А. А. Фету о своих творческих планах на ближайшее будущее, Страхов замечал: «Перечитываю Пушкина, о котором, к нашему стыду, не было сказано ни слова, его сколько-нибудь достойного, по случаю пятидесятилетия. Можете считать меня гордецом, но я считаю почти долгом написать об Пушкине, об Шопенгауэре, об Л. Н. Толстом — и это меня тяготит» (письмо от 18 февраля. — Фет. Переписка II. С. 430. — Курсив Страхова). Однако основной темой его размышлений были предметы более «отвлеченные», чем художественная критика — «беспрестанно мне приходила мысль о возвышении к Богу, и я раздумывал о том, какие есть для этого пути, и как их себе уяснить и определить» (письмо Фету от 18 и 20 апреля. — Там же. С. 432-433).
4 См. примеч. 11 к п. 373.
5 Имеется в виду нереализованное намерение написать разбор книги П. А. Бакунина «Основы веры и знания».
6 Речь идет о завершенной в июне публикации полемической статьи К. А. Тимирязева, направленной против защиты Страховым книги Н. Я. Данилевского «Дарвинизм» (Тимирязев К. А. Опровергнут ли дарвинизм? Окончание. — Русская мысль.
1887. Июнь (Кн. 6). Отд. II. С. 1-14). См. примеч. 20 к п. 373 и примеч. 8 к п. 375.
7 25 писем Страхова к Н. Я. Гроту за 1887-1895 гг. опубликованы в книге «Николай Яковлевич Грот в очерках, воспоминаниях и письмах...» (С. 236-260). В записке к Гроту от 31 марта 1887 г. Толстой пишет: «Адрес Страхова: Публ[ичная] библиотека. С ним человеку серьезному нельзя расходиться» (Там же. С. 211; Юб. Т. 64. С. 31). Письма Грота хранятся в ОР РНБ в Петербурге (ф. 747. Ед. хр. 13).
8 Накануне Страхов сообщал о своих предположениях на лето А. А. Фету: «Планы мои всё еще колеблются. Кажется, мне нельзя будет к Вам заехать иначе, как в августе, на обратном пути из Крыма. (...) Воробьевка имеет для меня великую прелесть; и чего бы лучше, — поселиться у Вас да и проводить дни в прогулках и умных беседах. Но в Крым ехать необходимо; но навестить родных в Киеве необходимо; но побывать у Л. Н. Толстого нужно даже по некоторому умственному делу. Наконец, нельзя надолго отлучаться из Петербурга и нельзя обратиться в простого коптителя неба, хотя я часто жалею о том, что потерял возможность стать таким коптителем. Прибавьте к этому мою косность, и Вы пожалеете о моих затруднениях. Меня так тянет в разные стороны, что я всего охотнее остался бы сидеть на месте. / Выеду, я думаю, недели через три» (письмо от 3 июня. — Фет. Переписка II. С. 435. — Курсив Страхова). См. примеч. 1 кп. 377.
486
377
Строхов — Толстому 27 июля 1887 г.
Ншитки
Мшатка, 27 июля 1887.
Давно пора писать к Вам1, бесценный Лев Николаевич; но до сих пор стояла такая жара, что я был в состоянии делать только одно дело, — дочитывать «Войну и мир»2. Это дело я, однако же, делал серьознейшим образом и с величайшим, неожиданно огромным наслаждением. Удивительная глубина и правда были для меня удивительнее прежнего, и очень огорчали меня те места, где тон понижается и проступает что-то менее серьозное. Этих мест я прежде не замечал. Но общая высота взгляда — несравненная, поразительная. Если бы я теперь писал свои статьи об Вас, то написал бы иначе3. Я не видал тогда, что Вы уже тогда выступили мыслителем и нравоучителем, с полным мировоззрением, — так точно, как выступаете теперь. Если Вы давно не читали «Войны и мира», то убедительно прошу и советую Вам — перечтите внимательно это первое полное выражение стремлений всей Вашей души; Вы увидите, что в сущности они те же, что и теперь, и выражены часто с бесподобною силою и ясностью. Вы вывели на сцену целую толпу людей религиозных, вы показали, как растет и живет в душе религия, и какую силу она дает людям. Несравненная книга! До сих пор я не умел ценить ее как следует, да и Вы не умеете — так мне кажется.
Здесь всё благополучно. Ольга Александровна4 не жалуется на упадок здоровья, но этот упадок мне очень заметен; а жалуется она на апатию, на равнодушие ко всему. По-прежнему я захожу вечером в кипарисный зал5, и мы вместе уходим и долго бредем по саду. Дети очень милы и резвятся с увлечением; к числу детей я отношу и 18-летнюю Вареньку и 22-летнего студента-репетитора6. Меня принялись усердно лечить от старости; каждый день я купался в море, выпивал по две бутылки кефи-
487
ру и по 20 капель кокаину. Но, кажется, всё придется бросить, потому что появился зуд и прыщи на лице — очевидный избыток здоровья.
Жары я перенес довольно легко, а теперь стоит прохлада, т. е. 20° в полдень.
Три дни назад пришло известие о смерти Каткова7. Хоть я всё больше и больше привыкаю и к тому, что всё мгновенно и проходит, и к тому, чтобы не думать вовсе о так называемых внутренних и внешних делах, но тут невольно задумался. Эта смерть почти равняется перемене царствования. Многое зашатается. Благодаря Каткову деятельность правительства имела постоянно вид твердости, энергии, последовательности; но, в сущности, я всегда удивлялся, как не замечает Катков, что его страстное вмешательство в дела не ведет ни к чему хорошему. Это был самый нелогический, и потому самый решительный и самый красноречивый человек. Польское восстание и начало «Московских] ведомостей» совпадают: 1863 г. И с тех самых пор наши дела идут хуже и хуже. Между тем, он, возбужденный своею удачею в Польском деле, работал неутомимо, и сколько раз он громко и торжественно возвещал: наконец мы на прямом пути, наконец всё идет прекрасно! Вы правы, Лев Николаевич, — люди — марионетки, которыми кто-то двигает, и они только воображают, что сами двигаются8.
Простите, бесценный Лев Николаевич! Через неделю трогаюсь отсюда в Киев9, а там к Фету10, а на закуску и к Вам заеду на несколько дней. У Фета я пробыл два дня11, но расскажу Вам уже всё вместе, когда побываю там во второй раз. Дай Бог Вам всего хорошего! Графине и Татьяне Андреевне мое усердное почтение, и поклон всем, кто меня помнит.
От всей души Ваш неизменно любящий
Н. Страхов
Р. 5. Забыл написать Вам и Софье Андреевне усердный поклон от Ольги Александровны. Разумеется, не проходит здесь дня, чтобы не вспоминали и не рассуждали об Вас, и хоть Вас поминают часто в разных
488
местах России, Европы и Америки, но едва ли где с такою любовью, как в Мшатке.
1 В течение июня планы Страхова на летнюю поездку изменились; во второй половине месяца он сообщал А. А. Фету в Воробьевку: «Решил я заехать к Вам на прямом пути дни на два на три; это будет в первых числах июля. Ведь мне очень хочется быть в Воробьевке и, как только я почувствовал себя немножко бодрее, я решился на это и сам обрадовался своему решению. / Теперь я в наипущих хлопотах по отъезду...» (письмо от 19 июня. — Фет. Переписка II. С. 437). Приехав к Толстым в Ясную Поляну 26 июня, Страхов через три дня извещал Фета: «Выеду отсюда никак не позже 2-го и на этот раз загляну к Вам только на сутки или на двое; Вы успеете, я полагаю, наказать меня за все мои провинности, а я успею излить все свои жалобы. (...) жду свидания с Вами как великого лакомства» (письмо от 29 июня. — Там же). Пребывание Страхова в Ясной Поляне продлилось не более недели. С. А. Толстая записала в дневнике 2 июля: «Страхов у нас; как он умен, тих и приятен! Лёвочка занимается покосом и 3 часа в день пишет статью [„О жизни". — Сост.] (...) У него длинные разговоры с Страховым о науке, искусстве, музыке; сегодня о фотографии говорили...». В тот же день Страхов выехал в имение Фета (Толстая. Дневники I. С. 120-121). В Воробьевке Страхов оставался до 5 июля. В письме к вел. кн. Константину Константиновичу Фет подробно описал, как происходило и чему было посвящено их общение: «Вчерашний день был в скромном нашем быту одним из тех немногих, которые (...) надо в календаре отмечать как радостные (....) За завтраком сошлись наш летний гость В. С. Соловьев и прогостивший у нас три дня Н. Н. Страхов, вчера же уехавший в Крым (...) Я начал эти строки упоминанием о трехдневных беседах моих с доктором философии и тонким знатоком поэзии В. С. Соловьевым с одной стороны и тончайшим критиком Н. Н. Страховым, который и на этот раз улучил время для просмотра сорока пяти моих стихотворений, предназначенных осенью к напечатанию отдельным третьим выпуском „Вечерних Огней". При этом он был так строг, что вынудил во многих местах Соловьева заступиться за меня, грешного. Излишне прибавлять, как глубоко я им признателен. Конечно, между ними происходили ученые споры по поводу философских мировоззрений, споры, в которых я принимал весьма скромное участие, но так как, по случаю пересмотра моих стихотворений, мы все невольно попадали в столь близкий нам всем трем круг поэзии, то в этом случае с критической стороны у нас ни разу не проявилось ни малейшего разноречия (...) и, конечно, никто лучше Страхова не способен раскрыть всей беспомощной наготы (...) псевдо-поэтов» (письмо от 6 июля. — Фет. Переписка II. С. 634-635). Пребывание Страхова в Мшатке продлилось до 2 августа.
2 О путешествии в Крым и своих занятиях в имении Данилевских Страхов рассказал Фету в письме от 28 июля из Мшатки: «Благополучно и вовремя добрался я сюда Печатается по: РО ИРЛИ. Ф. 302. Оп. 2. Ед. хр. 300. Л. 137-138. Впервые: Современный мир. 1913. №11. С. 355-356.
489
(...) хотя только по чистой случайности попал на поезд, идущий прямо в Севастополь (такие поезди ходят не каждый день, как мне воображалось). И здесь всё хорошо (...) Работал я мало; большею частию было так жарко, до 25° и 27° [по Реомюру. — Сост.], что мы только разговаривали, и я мог читать только две вещи — статью Тимирязева, возбуждающую во мне негодование и смех, и „Войну и мир“ восхищающую меня более прежнего. Я теперь нашел гораздо яснее и слабые и сильные стороны этого удивительного произведения. / Дни три назад стало вдруг прохладно, и я принялся за письма. Настоящую работу я, конечно, откладываю до Петербурга, а тут только думаю» (Фет. Переписка II. С. 438. — Курсив Страхова).
3 Страхов имеет в виду цикл своих статей 1868-1869 и 1870-1871 гг. о романе «Война и мир».
4 О. А. Данилевская.
5 Об этом уголке сада в имении Данилевских Страхов писал Фету еще 18 июня 1886 г.: «Живу я как будто на кладбище (...) в урочный час иду на его [Н. Я. Данилевского. — Сост.] могилу; она в дальней части сада, среди широкой полянки, кругом обставленной кипарисами и заслоненной отовсюду возвышениями. Чудесное место для могилы! И так как это самое святое место в Мшатке, то сюда приходят те, кто захочет молиться. Там я нахожу Ольгу Александровну, и мы вместе возвращаемся домой, долго и медленно подымаясь зигзагами через весь сад» (Фет. Переписка II. С. 417). «Кипарисный зал» Мшатки — почти плоская поляна, ограниченная с боковых сторон колоннами пирамидальных кипарисов — была одной из самых красивых частей сада, созданного Данилевским, его любимым местом отдыха. «Кипарисный зал» стал местом упокоения Николая Яковлевича. В статье «Жизнь и труды Н. Я. Данилевского» (предисловие к 3-му изд. книги Данилевского «Россия и Европа») Страхов писал: «Тело его было перевезено в Мшатку и похоронено в его саду. Там есть, недалеко от берега моря, узкая дорожка, которая как будто ведет с открытого места в глухую чащу. Но в конце этой дорожки вдруг открывается гладкая поляна, со всех сторон окруженная, как стеною, высокими деревьями и крутыми скалами. Поляна так ровна и ее ограда так правильна, что это место назвали кипарисным залом. Теперь оно напоминает храм: посредине его — могила, и над нею стоит крест, на который приходят молиться не одни свои, но иногда и разный простой люд, далеко вокруг Мшатки знающий о покойном и почитающий его память» (Страхов Н. Предисловие [Жизнь и труды Н. Я. Данилевского]. — Данилевский Н. Я. Россия и Европа. Изд. 3-е. СПб.,
1888. С. ХУ-ХУ1. — Курсив Страхова).
6 В письме к Фету от 28 июля Страхов замечает, что в Мшатке его встретила целая «команда» молодежи — «шесть человек девушек и мальчиков, состоящих под начальством самого младшего десятилетнего Вани» (Фет. Переписка II. С. 438). У Н. Я. Данилевского было пятеро детей (шестой ребенок — сын Григорий — умер в 1872 г. в возрасте 7 лет).
490
7 Публицист, издатель и государственный деятель Михаил Никифорович Катков умер в подмосковном имении Знаменское Подольского уезда 20 июля 1887 г. Страхов писал А. Н. Майкову 26 июля: «Третьего дни мы узнали о смерти Каткова. Событие, которое чуть не равняется перемене царствования. Но с некоторых пор всё мне кажется таким преходящим и зыбким, что я не испытал большого впечатления! Он дал существование русской политической печати, создал для нее формы и самую речь, был красноречив до высшей степени красноречия, а главное — обнаружил силу русского патриотизма, укрепил за ним эту силу, заставлял всегда помнить о нем тех, кто постоянно о нем забывает. Довольно для славы!» (РО ИРЛИ. Ед. хр. 66947. Л. 22). Через два дня о том же в письме к А. А. Фету: «Известие о смерти Каткова пришло к нам только 23-го и было отчасти неожиданно. „Новое время“, которое здесь получается, начиная с 10 июля, не давало никаких известий о болезни, так что я стал надеяться, что беда минует. Событие самых крупных размеров! Но у меня такой мрачный взгляд на наши дела, и внешние и внутренние, что новые опасения не могут увеличить этой мрачности. Катков — блистательный пример того, что может сделать частный человек, — пример, который должен нас ободрять, должен каждому показывать, что нечего жаловаться на невозможность действовать. (...) После смерти Каткова можно даже смело спросить: да разве существует Русская Литература?» (письмо от 28 июля. — Фет. Переписка II. С. 438).
8 Здесь Страхов имеет в виду фаталистическую философию Толстого в романе «Война и мир», изложенную им в комплексе обобщающих постулатов о фатализме в истории (см. т. 3. часть 1), а также выраженную в трактовке образов, особенно Наполеона. По мнению фаталистов, люди, лишь кажутся всемогущими, в действительности являются лишь марионетками в руках судьбы или Всевышнего. Толстой писал: «Фатализм в истории неизбежен для объяснения неразумных явлений (то есть тех, разумность которых мы не понимаем). Чем более мы стараемся разумно объяснить эти явления в истории, тем они становятся для нас неразумнее и непонятнее. (...) Человек сознательно живет для себя, но служит бессознательным орудием для достижения исторических, общечеловеческих целей» (см.: Ю6. Т. 11. С. 6).
9 В Киеве проживала семья племянницы Страхова О. Д. Матченко (урожд. Самусь), которую он не видел уже несколько лет, и некоторые из его близких знакомых (например, искусствовед А. В. Прахов). В конце июля Страхов писал Фету из Мшатки: «2-го августа, по всем вероятиям, сяду я на пароход в Севастополе, 3-го буду в Одессе и пущусь в Киев, где придется пробыть дней десять...» (письмо от 28 июля. — Фет. Переписка II. С. 438).
10 О намерении посетить Воробьевку на обратном пути из Киева Страхов писал Фету из Мшатки 28 июля. Через две недели он предуведомлял его из Киева: «Со 2-го августа (...) я уже пустился в обратный путь: на пароходе „Пушкин" приплыл в Одессу, пообедал в знакомом семействе, вечером сел в вагон и на другой день увидел своих
491
20 августа 1887 г. Воробьевка
Печатается по: РО ИРЛИ. Ф. 302. Оп. 2. Ед. хр. 300. Л. 72-73. Впервые: Современный мир. 1913. №11. С. 357.
родных, и тех, которых знал прежде, и двух новых, народившихся в мое отсутствие. / Киев бесподобен (...) Через два дни, т. е. в пятницу, выеду отсюда, и значит в субботу, часов в 7 вечера обниму Вас» (письмо от 12 августа. — Там же. С. 439). Страхов прибыл в имение Фета 15 августа.
11 О первом в лето 1887 г. посещении Страховым Воробьевки см. примеч. 1.
378
Строхов — Толстому
Воробьевка, 20 августа
Пишу к Вам, бесценный Дев Николаевич, наскоро, только для того, чтобы сказать, что 23-го, в воскресенье, явлюсь к Вам в Ясную1. Думаю выйти в Ясенках1 2 и нанять кого-нибудь подвезти меня: так будет спокойнее и для Вас и для меня.
Собою я очень недоволен; всё время ничего не делал, и часто мучительно тосковал по работе3; боюсь, что, пожалуй, наводил тоску и на тех добрых людей, которые были мне так рады. Слава Богу, я здоров, и нужно будет хорошенько загладить мое бездействие в Петербурге. Здесь всё еще гостит Соловьев4, и хотя все трое мы не согласны между собою, но живем мирно. Один день я пробыл в Одессе и десять дней у родных в Киеве5. Откладываю рассказы до свидания, к которому стремлюсь всею душою. Графине мое усердное почтение, и всем усердно кланяюсь.
Ваш неизменный
Н. Страхов
1 Во второй свой приезд Страхов провел в имении А. А. Фета около недели — с 15 по 23 августа.
2 Ясенки (позднее Щекино) — станция Московско-Курской железной дороги
в 7 верстах от Ясной Поляны. Недалеко от железнодорожной станции находилась де¬
ревня Ясенки и одноименный почтовый пункт.
492
3 Несмотря на недовольство своим творческим «бездействием», в имении Фета Страхов не оставался праздным и помогал поэту в работе по подготовке к печати очередного (третьего) выпуска стихотворного сборника «Вечерние огни». С. А. Толстой (яснополянской) Фет писал 27 августа: «Так как по приезде в Москву я думаю тотчас приступить к напечатанию последнего небольшого сборника стихотворений, то милейший Николай Николаевич оказал мне великую услугу тщательным их пересмотром» (Фет. Переписка IL С. 155).
4 Вл. С. Соловьев прожил в имении Фета около пяти месяцев — с апреля до 22 сентября 1887 г. (Соловьев. Письма IV. С. 113). Вместе с Фетом он переводил русскими стихами «Энеиду» Вергилия и трудился над исследованием, получившим название «La Russie et l’Eglise universelle» («Россия и вселенская церковь», фр.); готовился писать «обстоятельный разбор» книги Ю. Ф. Самарина «Иезуиты и их отношение к России» (1866), вошедшей в появившийся незадолго перед тем шестой том его «Сочинений» (Соловьев. Письма III. С. 25). Публицистическая деятельность философа поддерживалась работой над статьями — «Грехи России» (при жизни автора не публиковалась. — Соловьев. Письма II. С. 150) и «Россия и Европа». О замысле написать последнюю Соловьев извещал 17 сентября редактора журнала «Вестник Европы» М. М. Стасюлевича: «Приятель мой Страхов готовит 4-ое [3-е. — С о ст.] издание „России и Европы" Данилевского. Мой взгляд на это сочинение диаметрально противоположен взгляду Страхова, и я готовлю обстоятельный разбор „России и Европы" с присоединением некоторых замечаний и о „Дарвинизме" того же автора. Я хотел было назвать свою статью „Философия пустых претензий", но из уважения к памяти Данилевского, который в других отношениях был почтенный и разумный человек, переменю заглавие. Когда этот разбор будет готов, пришлю его Вам... » (Соловьев. Письма IV. С. 32). Позднее (26 октября) о своем намерении он уведомил и Страхова: «О новом издании „России и Европы" я желал знать потому, что, перечтя эту книгу (последнее время в Воробьевке), задумал написать ее разбор. Разумеется, могу начать его хоть сейчас, но печатать нужно будет лишь по выходе 4-го издания и по его поводу» (Соловьев. Письма I. С. 39).
5 В Киев перевелась семья племянницы Страхова Ольги Даниловны Матченко. См. примеч. 9 к п. 377.
493
379 Страхов — Толстому
13 сентября 1887 г. Санкт-Петербург
13 сент[ября]. Спб.
Вчера получил я экземпляр Ваших сочинений1, бесценный Лев Николаевич, и совесть стала так грызть меня, что принимаюсь писать к Вам. Много, много виноват я перед Вами и перед Софьею Андреевною. Хочу покаяться перед Вами. Всё это время, весну и лето, я чувствовал себя таким дурным, что готов был у всех просить прощения, готов был ото всех убежать куда-нибудь. Меня давила непобедимая тяжесть. Таким я был и у Вас2, таким вернулся и в Петербург. Вы справедливо запрещаете тосковать3, и я знаю, в таких случаях, что душа моя болеет от своей нечистоты. Но, кажется, тут есть и что-то физическое. Всё время я полнею, и платье стало мне узко4. Всеми силами я стараюсь меньше копаться с собою и меньше занимать собою других; но это не всегда удается, и я должен просить прощения и за свою деревянность в Ясной Поляне и за свои теперешние излияния.
В Москве я видел много народу: Цертелева5, Ивакина6, Николая Федоровича7, Иванцова-Платонова и других, менее Вам интересных. Ото всех на меня пахнуло чем-то старым и не обещающим ничего нового. Каков сам человек, такими кажутся ему люди. Николай Федорович и Иванцов твердили то, что я уже слышал. Порадовался я на неизменную живость и бодрость Николая Федоровича8 и на истинно блистательные зубы Иванцова9. В этот раз, мне кажется, я понял Иванцова: он, очевидно, действовать не хочет, не считает себя призванным писать и решать. Он стоит в стороне, умно и тонко наблюдая всё, что делается, и спокойно надеясь, что дело Божие не может не сделаться. Его мысли об Вашей деятельности, об ее важности и пользе — очень приятно было мне услышать.
494
В Петербурге я сначала погрузился в полное уединение, и это было мне, я думаю, полезно. В моем душевном состоянии еще лучше было бы, если бы я умел бить поклоны и по нескольку часов стоять на молитве10.
Однако понемногу начал я свои работы, и все они теперь в ходу, и чтение, и печатание, и писание1 11. С нетерпением жду появления Вашей книги12; хотелось бы перечесть те чудесные страницы, которые я читал в Ясной Поляне13. Пойду в «Новое время» и скажу, что напишу им разбор, чтобы никому другому не давали. Эта книга и вообще Ваши последние писания — вот тема, которая может одушевить меня14. Мне хочется взять их с той стороны, с которой никто не смеет осуждать Вас, хочется поставить их как огромный поворот в литературе и в самой нашей жизни.
А до тех пор, сделаю и ту работу, которую обещал графине: выборку из Ваших сочинений для школьного их издания15. Хорошо было бы, если бы графиня сговорилась для этого с Поливановым16. Он совершенный мастер этого дела. Тогда моя выборка могла бы помочь ему, подсказать в чем-нибудь или поправить.
Простите меня, бесценный Лев Николаевич. Дай Вам Бог здоровья и душевной силы. Если Стасов досадил графине17, то прошу у нее извинения, что подал к этому повод. Но не думаю, чтобы досадил; я очень его люблю, несмотря ни на что. К несчастью, только нельзя с ним разговаривать, а можно лишь слушать.
Ваш сердечно и неизменно преданный
Н. Страхов Печатается по: РО ИРЛИ. Ф. 302. Оп. 2. Ед. хр. 300. Л. 82-83.
Впервые: Современный мир. 1913. №11. С. 299-301 (в публикации ошибка в дате).
1 Шестое издание собранных в 12 частях Сочинений Толстого печаталось в 1886 г. одновременно в трех московских типографиях — А. И. Мамонтова и К° М. Г. Волчанинова (тт. 4, 9-11), Э. Аисснера и Ю. Романа (тт. 5-8).
2 Страхов приехал в Ясную Поляну 23 августа. В этот день С. А. Толстая извещала А. А. Фета: «Сейчас приехал Н. Н. Страхов и привез нам от Марьи Петровны [ФетШеншиной] и от вас приветы...» (Фет. Переписка II. С. 152). Страхов прогостил
495
у Толстых до 29 августа и тогда же переехал в Москву в дом Фета на Плющихе, где провел несколько дней (см. письмо Фету от 29 августа. — Там же. С. 440).
3 См. п. 374.
4 На эту физическую особенность своего организма Страхов обратил внимание и в письме к Фету от 29 августа: «Мое здоровье по-прежнему: толстею и недомогаю» (Фет. Переписка II. С. 440). В середине следующего месяца он с тревогой сообщал о том же своему корреспонденту: «... я продолжаю толстеть, но так как ничуть не становлюсь бодрее, то готов видеть в этом какую-то беду» (письмо от 16 сентября. — Там же. С. 442).
5 Кн. Д. Н. Цертелев принял на себя после кончины редактора «Русского вестника» М. Н. Каткова (20 июля 1887 г.) попечение о выпуске ближайших четырех номеров журнала и рассматривался в качестве одного из кандидатов на роль будущего руководителя издания.
6 Учитель детей в семье Толстых И. М. Ивакин.
7 Философ Н. Ф. Федоров.
8 Об отношениях Толстого и Н. Ф. Федорова в этот период см. в записях И. М. Ивакина (АН. Т. 69, кн. 2. С. 95-97).
9 Страхов с молодых лет страдал от неудовлетворительного состояния зубов.
10 О своем настроении в первое время по возвращении в Петербург Страхов писал Фету: «Увы! моя лампа и мои книги не приносят мне прежнего наслаждения! Работаю мало, а дома сижу очень много. Уже началась темнота днем, которая будет продолжаться пять месяцев, и при которой я всегда чувствую затруднение в своих странствиях по своей библиотеке» (письмо от 16 сентября. — Фет. Переписка IL С. 442).
11 Страхов работал над разбором положений лекции К. А. Тимирязева «Опровергнут ли дарвинизм?», получившим форму обширного полемического материала под названием «Всегдашняя ошибка дарвинистов» (публ. первой части возражений: РВ. 1887. Ноябрь. С. 66-114).
12Трактат «О жизни», над которым Толстой работал в 1886-1887 гг., готовился для отдельного бесцензурного издания в московской типографии А. И. Мамонтова. С. А. Толстая вспоминала: «...мне много все-таки приходилось переписывать для Льва Николаевича его писание. Бирюков взял статью „О жизни“ и свез ее печатать отдельной книжкой в типографию Мамонтову, откуда поступили корректуры, которые Лев Николаевич все перемарывал и поправлял, и приходилось опять и опять переписывать. Печатала я без цензуры крупным шрифтом, чтобы разогнать книжечку на законных десять печатных листов, но по отпечатании цензура все-таки ее запретила и мне выдали только 10 экземпляров» (Толстая. Моя жизнь II. С. 40). Подробнее см.: Бирюков III. С. 67-70.
13 Страхов писал А. Н. Майкову 23 июля 1887 г. о своем недельном пребывании в июле в Ясной Поляне: «Л. Н. вставал в 9 часов и уходил косить, а я, напившись кофе 496
в своей комнате, шел в его кабинет и читал его новое писание: мысли о жизни и смерти, которое он уже кончил, но постоянно поправляет и отделывает. (...) Новое писание Л. Н. привело меня в восхищение; оно не только важно по мыслям, не только написано с тою заразительною задушевностию и простотою, с которою только он умеет писать, но и свободно от преувеличений, беспорядка, непоследовательности — которые у него так обыкновенны в его прозе» (РО ИРАН. Ед. хр. 66947. Л. 21. — Курсив Страхова).
14 Разбор книги Толстого «О жизни» Страхов не написал.
15 Возможно, эта мысль — выпустить издание сочинений Толстого для детей школьного возраста, была подсказана С. А. Толстой А. Г. Достоевской, которая после смерти мужа предполагала осуществить давний замысел писателя — напечатать сборник его произведений для юношества. Ср.: «... была у Федора Михайловича мечта выбрать из своих сочинений отрывки, которые можно было бы дать в руки детям 12-14 лет. При жизни его это не удалось сделать, но я имею указания, что именно он желал видеть в печати, и теперь выдам в свет к праздникам отдельный томик в 16-17 печатных листов, роскошно изданный» (письмо А. Г. Достоевской к Е. Ф. Юнге от 19 ноября 1882 г. — АН. Т. 86. С. 558-559). См. также п. 384.
16 Об участии Страхова в осуществлении замысла подготовить выборку сочинений Толстого для школьного издания С. А. Толстая вспоминала: «Мы с ним еще деятельно переписывались о моем плане составить из сочинений Льва Николаевича хрестоматию для школ и учебных заведений. Для этого я просила Страхова указать мне, какие сделать выборки. Он в свою очередь советовал мне обратиться с этой просьбой к Льву Ивановичу Поливанову. Но мы оба были тогда так завалены всякими делами и работами, что проект мой остался невыполненным» (Толстая. Моя жизнь I. С. 533). Лев Иванович Поливанов — основатель и директор частной гимназии в Москве, был знаком с Толстыми. В гимназии Поливанова учились сыновья Толстого — Илья, Лев и Михаил. См. п. 385, 386.
17 Речь идет о намерении И. Е. Репина и В. В. Стасова выпустить массовым тиражом хромолитографию картины «Толстой на пашне», написанной художником в Ясной Поляне в августе 1887 г. Предположение вызвало недовольство семьи Толстого, увидевшей в этом замысле основание для возможных обвинений писателя в саморекламе. Подробнее см.: Толстой и Стасов. Переписка. С. 77-78, 81-84). С. А. Толстая вспоминала: «Вскоре осенью мы узнали, что копии с картины, написанной Репиным, на которой Лев Николаевич изображен пашущим, готовятся в бесчисленном количестве. Копии эти должны были быть сделаны и гравированные, и в олеографиях, и в разных еще видах. Это возмутило всю нашу семью и очень неприятно было Льву Николаевичу. Написали об этом Стасову, узнали и Страхов, и Репин о нашем недовольстве. Я выставляла ту причину, что такую интимную вещь, даже задушевную, как работа в поле для бедной вдовы, неприятно опубликовать во всех возможных иллюстрациях и под 497
фирмой кого же? Репина. Стало быть, Толстой позировал...» (Толстая. Моя жизнь II. С.45). См. далее п. 382,383 и примеч. 9-15 к нему.
16 октября 1887 г. Ясная Поляна
380 Толстой — Сгрохову
Дорогой Николай Николаевич.
Я в большом волнении. — Я был нездоров простудой эти несколько дней1 и, не будучи в силах писать, читал и прочел в 1-й раз «Критику практического] разума» Канта2. Пожалуйста, ответьте мне: читали ли вы ее? когда? и поразила ли она вас?
Я лет 25 тому назад поверил этому талантливому пачкуну Шопенгауеру3. На днях прочел его биографию русскую4 и прочел «Кр[итику] спекулятивного] разума»5 (к[оторая] есть ничто иное, как введение полемическое с Юмом6 к изложению его основных взглядов в «Кр[итике] практического] разума») и так и поверил, что старик заврался, и что центр тяжести его — отрицание. Я и жил 20 лет в таком убеждении, и никогда ничто не навело меня на мысль заглянуть в самую книгу. Ведь такое отношение к Канту всё равно, что принять леса вокруг здания за здание. Моя ли это личная ошибка или общая? Мне кажется, что есть тут общая ошибка. Я нарочно посмотрел историю философии Вебера7, к[оторая] у меня случилась, и увидал, что г. Вебер не одобряет того основного положения, к к[оторому] пришел Кант, что наша свобода, определяемая нравственными законами, и есть вещь сама в себе (т. е. сама жизнь), и видит в нем только повод для элукубраций Фихте, Шеллинга и Гегеля и всю заслугу видит в Кр[итике] чистого разума, т. е. не видит совсем храма, к[оторый] построен на расчищенном месте, а видит только расчищенное место, весьма удобное для гимнастических упражнений. Грот8, доктор философ [ии], пишет реферат о свободе воли, цити498
рует каких-то Рибо9 и др., определения которых представляют турнир бессмыслиц и противоречий, и кантовское определение игнорируется, и мы слушаем и толкуем, открывая открытую Америку. Если не случится среди нашего мира возрождения наук и искусств через выделение жемчуга из навоза, мы так и потонем в нашем нужнике невежественного многокнижия и многозаучиванья подряд.
Напишите мне, пожалуйста, ваше мнение об этом и ответы на мои вопросы.
Давно не знаю ничего про вас. Даже и Кузминские не пишут. А то напишут: обедал Н[иколай] Николаевич], и я рад, что знаю, что вы живы, здоровы. Надеюсь, что ваше хорошее мрачное расположение, о котором] вы писали в последнем письме, прошло и что вы подвинули свои не к слову только, а истинно очень интересующие меня работы. Я называю хорошим то расположение, к[оторое] усмотрел из вашего письма, п[отому], ч[то] по себе судя, знаю, что таковое предшествует напряжению деятельности. Дай вам Бог ее. Я живу хорошо, очень хорошо. Корректуры мне не присылают, а их держит Грот10. Я начал было новую работу1 \ да вот уже недели две не подвигаюсь. С работой лучше, но и так хорошо. Не сметь быть ничем иным, как счастливым, благодарным и радостным, с успехом иногда повторяю я себе12. И очень рад, что вы с этим согласны. Прощайте пока, дружески обнимаю вас.
Л.Т.
Еще сильное впечатление у меня б[ыло], подобное Канту — недели три тому назад при перечитываньи в 3-й раз в моей жизни переписки Гоголя13. Ведь я опять относительно значения истинного искусства открываю Америку, открытую Гоголем 35 лет тому назад. Значение писателя вообще определено там (письмо его к Языко[ву], 29)14 так, что лучше сказать нельзя. Да и вся переписка (если исключить немногое частное) полна самых существенных, глубоких мыслей. Великий мастер своего дела увидал возможность лучшего деланья, увидал недостатки своих
499
Печатается по: ОР ГМТ.Ф. 1. № 1116.
Л. 1-2 об. Нал. 1 омета Страхова:« 16 октября] 1887».
Впервые: Юб.
Т. 64. С. 105-107.
Датируется по помете Страхова.
работ, указал их и доказал искренность своего убеждения и показал хоть не образцы, но программу того, что можно и должно делать, и толпа, не понимавшая никогда смысла делаемых предметов и достоинства их, найдя бойкого представителя15 своей низменной точки зрения, загоготала, и 35 лет лежит под спудом в высшей степени трогательное и значительное житие и поученья подвижника нашего цеха, нашего русского Паскаля16. Тот понял несвойственное место, к[оторое] в его сознании занимала наука, а этот — искусство. Но того поняли, выделив то истинное и вечное, к[оторое] б[ыло] в нем, а нашего смешали раз с грязью, так он и лежит, а мы-то над ним проделываем 30 лет ту самую работу, бессмысленность к[оторой] он так ясно показал и словами и делами. Я мечтаю издать «Выбранные места из переписки» в «Посреднике», с биографией17. Это будет чудесное житие для народа. Хоть они поймут. Есть ли биография Гоголя?18
1 Вероятно, Толстой простудился около 10 октября. Вскоре после этого он сообщал П. И. Бирюкову: «Я не совсем здоров, кашляю и сижу дома и не могу писать — читаю» (письмо от 11 или 12 октября. — Юб. Т. 64. С. 102).
2 О чтении книги И. Канта «Критика практического разума» (1788) Толстой несколько ранее, 11-12 октября 1887 г., писал П. И. Бирюкову: «Много испытал радости, прочтя в 1-й раз Канта „Критику практического разума". Какая страшная судьба этого удивительного сочинения. Это венец всей его глубокой разумной деятельности, и это-то никому неизвестно. Если вы не прочтете в подлиннике, и я буду жив, переведу или изложу, как умею...» (Там же). О своем «радостном восхищении» от знакомства с произведением Канта Толстой извещал и Н. Я. Грота в письме от 13 октября (Там же. С. 104). Обещая Бирюкову «перевести или изложить» содержание труда Канта, Толстой, вероятно, забыл или не знал, что это сочинение уже имелось на русском языке в виде отдельного издания (см.: Кант И. Критика практического разума и основоположение к метафизике нравов / полный пер. с примеч. и прилож. Краткого очерка практической философии; сост. Н. Смирнов. СПб.: тип. А. Траншеля, 1879). В архиве Толстого сохранилась рукопись сделанного им перевода отрывка из работы Канта: «Две вещи наполняют мою душу всегда новым и всё возрастающим восхищением и благоговением, чем чаще и дольше я размышляю об этом: звездное небо надо мной и нравственный закон во мне», по-видимому, относящегося к этому времени. Этот же 500
текст (по-немецки) взят эпиграфом книги «О жизни». Позднее включен вместе с другими избранными мыслями Канта в «Круг чтения» (Юб. Т. 42. С. 78). В яснополянской библиотеке представлены два отдельных издания труда Канта на немецком языке; одно из них — со следами чтения Толстого (подробнее см.: Описание ЯПб. Т. 3, ч. 1. С. 556-557). Толстой впервые запрашивал у Страхова книгу Канта в письме от 18 декабря 1877 г. (п. 175; см. также п. 177). Тогда же он обращался за содействием в приобретении издания и к А. А. Фету (см. письмо от 24 декабря 1877 г. — Юб. Т. 62. С. 362). Толстой и в дальнейшем высоко отзывался о произведении Канта. Д. П. Маковицкий записал 19 августа 1905 г. его сравнительное суждение об основных трудах немецкого философа: «Я его „Критику практического разума" выше ставлю „Критики чистого разума"» (АН. Т. 90, кн. 1. С. 381). Несколько ранее Толстой раскрыл в беседе свое понимание смысла и значения работы Канта (в записи Д. П. Маковицкого от 26 июля того же года): «Л[ев] Николаевич] сказал приблизительно так, что его, Канта, главная мысль в „Критике практического разума": нравственный закон — основа всего. Свобода нужна ради него. Отсюда гипотеза, что если есть нравственный закон, то должен быть и создатель его — Бог» (Там же. С. 353). В другой беседе Толстой заметил о Канте: «Он философским языком передает христианские истины. (...) Лучшее его сочинение „Kritik der praktischen Vernunft“, которое профессорами не признается — будто бы оно написано для его лакея. А признается „Kritik der reinen Vernunft“. А эта была подготовительная работа для той. Для христианина Кант superfluous [излишен, англ.]. Его „Religion in Grenzen der blossen Vernunft“ читайте. Разбивает догматы (божественность Христа) и суеверия» (запись Д. П. Маковицкого от 30 июля 1906 г. — Там же. Кн. 2. С. 191).
3 30 августа 1869 г. Толстой писал А. А. Фету: «Знаете ли, что было для меня нынешнее лето? Неперестающий восторг перед Шопенгауэром и ряд духовных наслаждений, которые я никогда не испытывал. Я выписал все его сочинения и читал и читаю (...). Не знаю, переменю ли я когда мнение, но теперь я уверен, что Шопенгауэр гениальнейший из людей (...). Я начал переводить его. Не возьметесь ли и вы за перевод его?» (Там же. Т. 61. С. 219). Перевод Толстого неизвестен. Интерес к творчеству А. Шопенгауэра писатель сохранял до конца жизни (ср. запись о чтении в дневнике от 7 октября 1910 г. — Там же. Т. 58. С. 115); с произведениями философа Толстой знакомился как по немецким, так и по русским изданиям (в т. ч. в переводах А. А. Фета). Сохранившиеся в книжном фонде яснополянской библиотеки сочинения Шопенгауэра см.: ОписаниеЯПб. Т. 1, ч. 2. С. 472-474. № 3816-3819; Т. 3, ч. 2. С. 316-317. № 2928- 2930. Многочисленные фрагменты из трудов Шопенгауэра включены Толстым в сборники «Для души», «Круг чтения», «На каждый день», «Путь жизни». — В письме Толстого речь, вероятно, идет о работе Шопенгауэра «Критика Кантовской философии» — приложении к его главному труду «Мир как воля и представление».
501
4 Подразумевается издание: Штейн Вл. Артур Шопенгауер как человек и мыслитель (1780-1860): Опыт биографии. Т. 1. СПб., 1887. Экземпляр сохранился в библиотеке Толстого, см.: Описание ЯПб. Т. 1, ч. 2. С. 479. № 3840.
5 «Критика чистого разума» (1781; 2-е изд. 1787). О чтении сочинения Канта Страховым см. п. 149. Его суждение о намерении А. А. Фета взяться за перевод этого труда немецкого философа см. в п. 178 и примеч. 6-8 к нему.
6 Шотландский философ Дэвид Юм (Hume) обосновал принципы скептицизма. Его основные труды: «Трактат о человеческой природе» (1739-1740) и «Исследование человеческого разумения» (1748).
7 Вероятно, речь идет о Теодоре-Губерте Вебере (Weber), немецком теологе, профессоре философии в университете Бреслау, и его книге «Die Geschichte der neueren deutschen Philosophie und die Mytaphysik» (Münster, 1873. Th. 1-3, История новейшей немецкой философии и метафизика. Ч. 1-3, нем.). Издание в сохранившемся фонде книг библиотеки Толстого не представлено.
8 Николай Яковлевич Грот, ординарный профессор Московского университета (см. п. 331); в 1880 г. защитил магистерскую диссертацию на тему «Психология чувствований в ее истории и главных основах», помещал свои статьи по проблемам психологии в «Философском обозрении» Т. Рибо (см. примеч. 9). С января 1885 г. — член Московского психологического общества, с февраля 1888 г. — его председатель. Свое преподавание в Московском университете (с лета 1886 г.) Грот начал курсом лекций по методологии изучения основных проблем психологии. В начале октября 1887 г. Грот впервые председательствовал на заседании Общества вместо убывшего за границу его руководителя проф. М. М. Троицкого. Реферат «О свободе воли» — первый доклад Грота перед членами Общества — был прочитан в заседании 25 февраля и вызвал повышенный интерес аудитории. Прения по выступлению продолжались в собрании Общества 5 и (частично) 14 марта (см.: Николай Яковлевич Грот в очерках, воспоминаниях и письмах... С. 84-85). Толстой познакомился с содержанием реферата еще до его публичного прочтения и, по словам Грота, одобрил его основные положения. В письме к родителям от 14 февраля Грот отметил это посещение писателя и сообщил, что в присутствии Толстого «читал свой реферат о свободе воли для Психологического общества. Толстому он очень понравился. Он просидел дольше всех с 71/1 до 11 часов, и мы много болтали и спорили о частностях, ибо в общих положениях мы вполне согласны» (см.: Гусев. Летопись I. С. 658; цит. по: Юб. Т. 26. С. 752. — Курсив Грота). Побывал Толстой и на выступлении Грота в Обществе (см. п. 369). В письме к матери от 1 марта Грот сообщил: «Толстой сидел против меня, и его сочувственное присутствие меня очень ободряло». Особое внимание проявил писатель к прениям по докладу, состоявшимся 5 марта. Рассказывая родителям в письме от 9 марта про это обсуждение, Грот уточнил: «...в четверг заседание было очень интересно. Оно длилось от 8 до 12 (...) Был и Толстой, стоявший за мои основные положения...» 502
(цит. по: Юб. Т. 26. С. 752-753). Несмотря на подчеркивавшееся Гротом положительное отношение писателя к его построениям, не всё в рассуждениях философа было одинаково близко Толстому. Позднее, в октябре 1887 г., в письме к Гроту он в этой связи, в частности, заметил: «Мне кажется, что вы в своей работе о свободе воли, указавши на нелепые определения свободы новейших, напрасно оставили определение Канта, которое нельзя обойти. Выделение свободы воли, как единственной постигаемой нами вещи в самой себе, из критики всего остального познания, есть венец всей его философской деятельности, как он и сам говорит это. Если несправедливо его определение свободы, то несправедлива и вся его работа критики познания, на которой зиждется вся новая философия. Нельзя ведь сказать: nous avons changé tout ça [мы всё это изменили, фр.]. И потому мне кажется, что для изложения нового определения свободы воли необходимо показать: или что Кантовское — неудовлетворительно, или что вы признаете его. / По последнему же письму, которое вы мне писали из деревни, о том, что доказательство свободы воли должно быть построено на доказательствах неправильности всех отрицаний ее, я заключаю, что вы признаете в сущности определение Канта, хотя и чувствуете необходимость изложить его вновь соответственно тем возражениям и недоумениям, которые возникли после Канта» (Там же. Т. 64. С. 104).
9 Теодюль Арман Рибо (Ribot), французский психолог-экспериментатор и философ, занимался психофизиологическими аспектами наследственности, разрабатывал естественно-научные методы изучения важнейших процессов высшей нервной деятельности человека. Редактор (с 1876) журнала «Revue philosophique de la France et de l’étranger». В апреле 1885 г. в журнале Рибо был помещен критический отзыв на работу Толстого «В чем моя вера», вышедшую в Париже в переводе на французский язык князя Л. Д. Урусова (см.: Там же. Т. 63. С. 234-235).
10 Корректуры предполагавшегося отдельного издания трактата Толстого «О жизни». Материал набирали, печатали и правили в московской типографии А. И. Мамонтова в Леонтьевском пер. с августа по декабрь. Непосредственным чтением корректурных полос занимались сам Толстой и — по его просьбе — Н. Я. Грот. По мере подписания выправленных листов наборные формы переводились в гранки, их печать завершена в декабре; в январе 1888 г. тираж издания (600 экз.) был полностью готов, однако не допущен цензурой к распространению (подробнее см.: Юб. Т. 26. С. 771- 780; Бирюков III. С. 67-70). См. примеч. 12 к п. 379.
11 Толстой начал работу над повестью «Крейцерова соната». В письме к художнику H. Н. Ге от 5 октября он замечал: «Я всё время работал над своей книгой о жизни и дошел уж, кажется, до того предела, даже перешел, что всякая работа над ней портит. Она печатается. Буду стараться меньше копаться. Тем более, что затеял другое, художественное. Только затеял» (Юб. Т. 64. С. 99). В октябре - ноябре 1887 г. были созданы первая и вторая редакции произведения. См.: Там же. Т. 27. С. 353-368, 503
391-396. Творческим толчком к созреванию замысла стал один из устных рассказов драматического актера В. Н. Андреева-Бурлака, приезжавшего знакомиться с Толстым в Ясную Поляну 20 июня. С. А. Толстая отметила в дневнике необычную для сдержанного в своих эмоциях писателя реакцию на эти «истории»: «Он рассказывал вроде рассказов [И. Ф.] Горбунова, из крестьянского быта. (...) Рассказы были удивительно хороши, и Лёвочка так смеялся, что нам (...) стало жутко» (запись от 21 июня 1887 г. — Толстая. Дневники I. С. 120). Примечательна в психологическом отношении и одна из следующих записей в дневнике С. А. Толстой: «Сережа играет сонату Бетховена Крейцеровскую с скрипкой (...) что за сила и выражение всех на свете чувств!» (от 3 июля. — Там же. С. 121. Курсив С. А. Толстой).
12 Эту мысль Толстой повторял и позднее. Д. П. Маковицкий записал в дневнике 3 февраля 1905 г. высказывание Толстого: «Обыкновенно говорят: когда хорошо, тогда счастлив. А жить счастливо — это обязанность. Когда хорошо живешь, тогда жизнь хороша» (ЛН. Т. 90, кн. 1. С. 161). Ср. также с записью от 28 сентября того же года (Там же. С. 410).
13 Речь идет о чтении писем Н. В. Гоголя, а также книги «Выбранные места из переписки с друзьями Николая Гоголя» (1847). Первый раз Толстой читал это произведение, вероятно, еще в конце 1857 г. — после получения «Сочинений и писем Н. В. Гоголя» в 6 томах, изданных тогда же П. А. Кулишем. В яснополянской библиотеке сохранился этот экземпляр издания (без первых двух томов). Третий том сочинений Гоголя, куда вошли «Выбранные места из переписки с друзьями», имеет многочисленные следы чтения Толстого (см.: Описание ЯПб. Т. 1, ч. 1. С. 194-198. № 813). К «Переписке» Толстой возвращался и позднее, в частности, весной 1909 г., когда вновь перечитывал произведение Гоголя по изданию, подготовленному проф. Н. Тихонравовым (Сочинения. Изд. 10-е. Т. 1-5. М., 1889). На страницах с «Выбранными местами из переписки с друзьями» (в т. 4) — обильные пометы Толстого карандашом, в том числе оценочного характера: Толстой определял достоинство того или иного высказывания Гоголя по пятибалльной системе (подробнее см.: Там же. С. 190-194; ср. также: С. 196-198). Этот «дидактический» прием Толстого вызвал в свое время критическую реплику В. В. Розанова в первом коробе «Опавших листьев»: «Толстой ставит то „3“, то „Г Гоголю: приятное самообольщение» (Розанов В. В. Опавшие листья. СПб., 1913. С. 29). Возвращению к переписке Гоголя предшествовало обращение Толстого к поэме «Мертвые души». С. А. Толстая отметила 19 августа в дневнике: «По вечерам читает нам всем вслух сам Лёвочка „Мертвые души" Гоголя» (Толстая. Дневники!. С. 123).
14 Имеется в виду письмо от 5 мая (н. с.) 1846 г. из Рима к поэту Н. М. Языкову. Толстой обратил внимание на следующую мысль: «Карамзин (...) показ [ал] первый, [что] звание писателя стбит того, чтоб для него пожертвовать всем, что в России писатель может быть вполне независим, и если он уже весь исполнился любви к благу, 504
первенствующей во всем его организ[ме] и во всех его поступках, то ему можно всё сказать» (цит. по: Гоголь Н. В. Поли. собр. соч. Т. 13: Письма 1846-1847. [Л.], 1952. С. 61). Позднее, в измененном и существенно расширенном виде этот фрагмент (под заглавием «Карамзин») был включен писателем в издание «Выбранные места из переписки с друзьями Николая Гоголя» (1847).
15 Подразумевается письмо В. Г. Белинского к Гоголю от 15 июля 1847 г. из Зальцбрунна по поводу «Выбранных мест из переписки с друзьями», впервые опубликованное А. И. Герценом в альманахе «Полярная звезда на 1855» в разделе «История русского развития. Переписка Н. Гоголя с Белинским» с подзаголовком «Ответ В. Белинского [Гоголю]» (С.66-76).
16 Толстой повторяет определение, данное им Гоголю в письме к П. И. Бирюкову от 5 октября: «Очень меня заняла последнее время еще Гоголя переписка с друзьями. Какая удивительная вещь! За 40 лет сказано, и прекрасно сказано, то, чем должна быть литература. Пошлые люди не поняли, и 40 лет лежит под спудом наш Паскаль. Я думал даже напечатать в Посреднике выбранные места из переписки. Я отчеркнул, что пропустить (Юб. Т. 64. С. 98-99). Вскоре Толстой, обращаясь к тому же Бирюкову, более подробно разовьет свою мысль: «... о Гоголе вот что: перечел я его переписку 3-й раз в жизни. Всякий раз, когда я ее читал, она производила на меня сильное впечатление, а теперь сильнее всех. Я отчеркнул излишнее, и мы прочли вслух — на всех произвела сильное впечатление и бесспорное. 40 лет тому назад человек, имевший право это говорить, сказал, что наша литература на ложном пути — ничтожна, и с необыкновенной силой показал, растолковал, чем она должна быть, и в знак своей искренности сжег свои прежние писанья. Но многое и сказал в своих письмах, по его выражению, что важнее всех его повестей. Пошлость, обличенная им, закричала: он сумашедший, и 40 лет литература продолжает идти по тому пути, ложность к[отораго] он показал с такой силой, и Гоголь, наш Паскаль, — лежит под спудом. Пошлость царствует, и я всеми силами стараюсь, как новость, сказать то, что чудно сказано Гоголем. Надо издать выбранные места из его переписки и его краткую биографию — в Посреднике. Это удивительное житие» (письмо к В. Г. Черткову и П. И. Бирюкову от 10 октября. — Там же. Т. 86. С. 89-90). См. примеч. 17.
17 Предположение Толстого было осуществлено: в 1888 г. в издательстве «Посредник» вышла брошюра «Николай Васильевич Гоголь как учитель жизни». Первичный отбор материала частично выполнен Толстым и сведен А. И. Орловым; Толстой также просмотрел весь состав сборника. Писатель намеревался предварить издание своей статьей «о Гоголе» (см. п. 387) и вскоре приступил к работе над ней. Исполнению задуманного он посвятил конец января и начало февраля 1888 г., однако, несмотря на поддерживавший его труд «интерес» к теме, замысел реализован не был (подробнее см.: Юб. Т. 26. С. 874-876; черновая рукопись статьи: С. 648-651).
18 См. п. 381.
505
381
После ÇïpdXOB — ТОЛСТОМ/
16 октября
1887 Г. Какое чудесное письмо Вы мне прислали, бесценный Лев НиколаеCdMKT-Петербург вич! Я так и вижу тот пламень, который в Вас горит и светит. И всем сердцем я готов отозваться на обе темы Вашего письма1. 1)0 Канте. Должен признаться, что «Критики практического] разума» я не читал, но знаю ее содержание по чужим изложениям, напр[имер], по подробному изложению у Куно Фишера2. Тот поворот, который тут делает Кант, конечно, важен в высшей степени; но обыкновенно, как Вы и пишете, его оставляют без внимания. Скажу Вам еще более: у Фихте и Шеллинга этот самый поворот выразился еще резче; но обыкновенно об этом рассказывают как об упадке, различают у этих философов два периода, и сочинения второго периода считаются не важными, ничего не вносящими в науку. У одного Гегеля нельзя было различить двух периодов: слишком цельный был ум; но его вообще рассматривают как пантеиста чуть не в материалистическом духе, тогда как он есть чистейший мистик и совпадает с Баадером3, Мейстером Экгардом4, Ангелом Силезским5 и т. п. Это одно из самых удивительных и самых ясных явлений: все эти философы приходили к самой чистой форме религии и проповедовали эту форму. Но эта проповедь осталась бесплодною, не нашла никакого отзыва и почти не упоминается в истории философии. Я давно ношусь с мыслью написать эти свои сближения, напр[имер], показать, что Гегель и Спиноза были мистики, и что мистика есть нечто, не смутное и неопределенное, как всегда понимают, а, напротив, самое ясное и чистое, так что к ней приходит всякое строгое мышление. Ваша книга «О жизни и смерти»6 имеет, напр[имер], ту же тему и то же направление, как Фихте «Anweisung zum seligen Leben» и «Bestimmung des Menschen»7. Несколько лет тому назад Вл. Соловьев прямо 506
мне говорил, что Вы проповедуете то же, что Фихте8, — тут есть доля правды. Меня самого иногда пугают эти сближения, представляющиеся мне во множестве; очевидно, нужно хорошенько поработать, чтобы установить самое основание сближений; тогда будет ясно, что подходит под данное понятие и что нет. Но для европейской публики все эти мысли были совершенно чужды, и она не видела ни их важности, ни их сходства между собою. Мистика есть не что иное, как чистая религия, и это видно по двум ее признакам: во-первых, для мистиков все религии равны, т. е. они признают, что в каждой из них человек может приходить в соединение с Богом; во-вторых, для мистиков обряды и всякая внешность не имеет важности, почему господствующие церкви всегда видели здесь нечестие и гнали мистиков, сами же мистики обыкновенно не хотели даже покидать свою церковь: они уважали в ней внутреннее, а она требовала, чтобы они уважали внешнее9. От Платона и до Гегеля я нахожу у философов то же стремление, как у мистиков, и никто так прямо на них не ссылается, как Гегель. Весь вопрос поэтому: отчего же происходит недоразумение, непонимание? Шопенгауэр хорошо отвечал: потому что ум заправляется волею, нашими желаниями10. Религии нельзя научиться, ее можно только выжить, приобрести жизнью. А человеческий ум так загроможден своими собственными построениями, что немецкие философы, как ни работали, не пробились сквозь них, да, кажется, сами же подбавили новых построений.
Как меня восхитило Ваше слово: «Не сметь быть ничем иным, как счастливым, благодарным и радостным». Точно прямо у меня из души!
Или, когда Вы боитесь, что мы потонем в нашем нужнике невежественного многокнижия и многозаучивания подряд. Тонут, действительно тонут! Прибавьте только — шаблонного многокнижия и бессмысленного многозаучивания.
2) О Гоголе. Ваши мысли поразили меня. Я не читал его писем и уверен, что когда Вы сделаете выборку и объясните общую мысль, то нельзя 507
Печатается по: РО ИРЛИ. Ф. 302. Оп. 2. Ед. хр. 300. Л. 80-81. Впервые: Современный мир. 1913. №11. С. 357-360.
Датируется по содержанию. Ответ на п. 380.
будет не согласиться с Вами. Действительно, там должны быть сокровища. Русский Паскаль11 — да, это должно быть верно. Биография Гоголя есть, написана Кулишом и во втором издании составляет 2 тома12. Кроме того, очень полезны Вам будут две книжки Шенрока: 1) Указатель к письмам Гоголя13 и 2) «Ученические годы Гоголя»14 — недавно только вышли. Сам я ничего этого не читал, хотя Гоголь для меня один из самых удивительных писателей.
Послал я Вам свои два вторые издания15. Особенно прошу Вашего внимания к статье «Историки без принципов»16. И еще — взгляните в «Борьбе с Зап [адом]» на страницы 66,6717. Тут дело идет о двух сторонах в философии; я только не знал тогда, как важна другая, практическая сторона; но она осталась в тени, очевидно, от преобладания теоретической. В «Критических] статьях»18 взгляните, прошу Вас, на стр. 126 и 12719, и сделайте милость, прочтите последнюю статью, со стр. 458-й20. Тут мои задушевнейшие мысли.
В настоящую минуту я с головой погружен в свою статью «Всегдашняя ошибка дарвинистов»21, возражение Тимирязеву. Надеюсь, что будет недурно, но трудно следить за чужими мыслями, притом бестолковыми. Вы правы — я опять чувствую себя бодрым и готов работать без конца. Недавно познакомился с Репиным22. Какой симпатичнейший человек! Редко кто делал на меня такое милое впечатление. Он и Стасову поддается, очевидно, только, чтобы не огорчить его.
Простите меня, бесценный Лев Николаевич! Когда освобожусь, напишу Вам что-нибудь лучше нынешнего маранья.
Всей душою Ваш
Н. Страхов
Графине мое усердное почтение; я кругом виноват — меня так захватил Тимирязев, что как ни бьюсь, не выберу времени для обещанной работы23. Пишу к сроку, в ноябрьскую книжку. Но освобожусь и всё сделаю.
508
1 Письмо Страхова без даты. Вероятнее всего, оно было написано сразу же или вскоре после получения письма Толстого (п. 380). Относим его ко второй половине октября по содержанию: Страхов рассылал знакомым свои вновь вышедшие книги (см. примеч. 13) именно около половины октября, сообщая об этом в сопроводительных письмах. Так, в ответ на такое известие Вл. Соловьев уведомлял Страхова 26 октября: «До 19 сего месяца (когда уехал в деревню) я не получал Ваших книг, надеюсь, что это замедление, а не пропажа» (Соловьев. Письма I. С. 39). Толстой смог забрать присланные Страховым экземпляры около 25 октября в Туле — по дороге из Ясной Поляны в Москву, куда он прибыл 26 октября (см. п. 383; Гусев. Летопись I. С. 680).
2 И. Канту посвящены тт. 3 и 4 «Истории новой философии» Куно Фишера, переведенные Страховым (СПб., 1864,1865).
3 Франц Ксавер фон Баадер (Baader).
4 Немецкий мистик Иоганн Экхарт (Eckhart).
5 Ангелиус Силезиус (Angelus Silesius) — псевдоним Иоганнеса Шефлера (Scheffler).
6 Вероятно, Страхов еще не знал, что Толстой изменил название книги, опустив в последнем варианте текста вторую часть заголовка. См. об этом в письме к В. Г. Черткову от 4 августа: «П[авел] Иванович] [Бирюков] милый вчера уехал и увез в типографию статью о жизни. Начал я писать о Жизни и смерти, а когда дописал, оказалось, что вторую часть заглавия пришлось выкинуть, п[отому] ч[то] для меня, по крайней мере, это слово потеряло совершенно то значение, к[акое] я ему придавал в заглавии. Дай то Бог, чтобы хоть на некоторых читателей она произвела то же действие» (Юб. Т. 86. С. 70). С. А. Толстая отметила в тот же день в дневнике: «Вчера вечером повез П. И. Бирюков статью „О жизни“ в печать. Слова: и смерти выкинул. Когда он кончил статью, он решил, что смерти нет» (Толстая. Дневники I. С. 123. — Курсив С. А. Толстой). О том, что в своих размышлениях на тему о жизни и смерти Толстой придет к выводу, «что всё живо и что мертвое не существует», Страхов провидчески предсказывал еще в письме от 8 апреля 1876 г., когда Толстой только начинал углубляться в философские проблемы познания (см. п. 113).
7 Имеются в виду труды И. Г. Фихте «Наставление к блаженной жизни» («Anweisung zum seligen Leben, 1806) и «О назначении человека» («Bestimmung des Menschen», 1800).
8 См. главу «Трансцендентализм Фихте и антропология Л. Н. Толстого» в диссертации: Некрасов И. А. Философская антропология Л. Н. Толстого. М., 1998.
9 О своей предрасположенности к мистическому мировосприятию Страхов дал понять Толстому в «исповедальном» письме от 8 апреля 1876 г. (п. 113).
10 Согласно Шопенгауэру, в основе мироздания лежит не разум, а воля — совокупность безотчетных, иррациональных стремлений.
509
11 См. на эту тему: Незовибатъко О. Е. Гоголь и Паскаль (К вопросу о литературнофилософских сближениях). — Новый филологический вестник. 2014. Вып. 4 (31). С. 90-100.
12 Кулиш П. А. Записки о жизни Николая Васильевича Гоголя. Изд. 2-е. СПб., 1856. Т. 1-2.
13 Шенрок В. Указатель к письмам Гоголя, заключающий в себе объяснение инициалов и других сокращений в издании Кулиша. С приложением неизданных отрывков из писем матери Н. В. и его собственных. М.: тип. Т. Рис, 1886.
14 Шенрок В. И. Ученические годы Гоголя: Биографические заметки. М.: тип. Т. Рис, 1887.
15 В 1887 г. вышли вторым изданием книги Страхова: «Борьба с Западом в нашей литературе. Книжка первая» и «Критические статьи об И. С. Тургеневе и Л. Н. Толстом (1862-1885)», в которые были добавлены статьи последних лет. В конце апреля Страхов извещал и своего нового корреспондента В. В. Розанова: «Пришлю Вам скоро в подарок вторые издания „Борьбы с Западом“ и „Критических статей“. — Давно бы прислал, да немножко затрудняет меня возня с почтой» (письмо от 29 апреля 1888 г. — Розанов В. В. Собр. соч. [Т. 13): Литературные изгнанники. H. Н. Страхов. К. Н. Леонтьев: Переписка В. В. Розанова с H. Н. Страховым... М., 2001. С. 13). Оба издания сохранились в яснополянской библиотеке. На книге «Борьба с Западом в нашей литературе» имеется дарственная надпись автора: «Бесценному Льву Николаевичу Толстому от Н. Страхова». Единственная помета на экземпляре — отчеркивание на полях нескольких строк текста — принадлежит, вероятно, Толстому (подробнее см.: ОписаниеЯПб. T. 1, ч. 2. С. 281. № 3022). Писатель был знаком с книгой Страхова по ее первому изданию (см. п. 301). Происхождение экземпляра книги «Критические статьи об И. С. Тургеневе и Л. Н. Толстом» неизвестно: дарственная надпись автора на нем отсутствует, однако имеются многочисленные следы чтения, приписываемые Толстому (Там же. С. 282-283. № 3032).
16 Статья, посвященная И. Тэну и Э. Ренану, первоначально печаталась в «Руси» И. С. Аксакова (Страхов Н. Историки без принципов. Заметки об Ренане и Тэне. — Русь. 1885. 24 авг. № 8. С. 7-8. 31 авг. № 9. С. 4-7), а затем вошла во 2-е издание сборника «Борьба с Западом в нашей литературе: Исторические и критические очерки. Книжка первая» (1887).
17 См.: Страхов Н. Борьба с Западом в нашей литературе: Исторические и критические очерки. Книжка первая. Изд. 2. СПб.. 1887. С. 66,67.
18 См.: Страхов Н. Критические статьи об И. С. Тургеневе и Л. Н. Толстом (1862- 1885). Изд. 2. СПб., 1887. С. 126,127. Эти страницы посвящены И. С. Тургеневу.
19 «Последняя статья» — отклик на помещенную в «Revue de deux Mondes» (15 июля 1884 г.) статью М. де Вогюэ о Толстом «Les écrivains russes contemporains. Le comte Léon Tolstoï» («Современные русские писатели. Граф Лев Толстой», фр-)- 510
Под заголовком «Французская статья об Л. Н. Толстом» была напечатана в газете И. С. Аксакова «Русь» (1885.14янв. № 2. С. 13-18).
20 На с. 458 собственно и начинается статья Страхова, посвященная разбору мнения М. де Вогюэ о Толстом. Приступая к рассмотрению суждений де Вогюэ, Страхов прежде всего отмечает, что «автор ценит нашего писателя с величайшей любовью, с таким пониманием, какого можно пожелать всякому русскому. Он готов поставить Л. Н. Толстого наравне с величайшими писателями всех времен; он восхищается им, верно и тонко оценивая его художественные достоинства. Но кроме того, Вогюэ подымается в своей статье до самых высоких и общих точек зрения; для него Л. Н. Толстой есть лучший показатель не только современного искусства, но вместе, и по тому самому, и русского духа, и даже отчасти духа современной Европы» (С. 458-459).
21 Работа Страхова «Всегдашняя ошибка дарвинистов. (По поводу статьи проф. Тимирязева: Опровергнут ли дарвинизм?») (РВ. 1887. Ноябрь. Гл. 1-Х. С. 66-114; Декабрь. Гл. Х1-Х1У. С. 98-129) является ответом на выступление проф. К. А. Тимирязева «Опровергнут ли дарвинизм?» (Русская мысль. 1887. Май (Кн. 5). С. 145-180; Июнь (Кн. 6). С. 1-14). См. п. 382.
22 В воспоминаниях о встречах с Вл. С. Соловьевым И. Е. Репин рассказал о посещении квартиры Страхова: «Я познакомился с ним через Толстых и потому полюбил всецело простоту его ясных больших глаз, — и доброе, всегда бодрое, настроение; писал с него портрет и удостоился посещать его уютные вечера, на которых очень большою приманкою был В. С. Соловьев» (Репин И. Е. Случайные впечатления от Владимира Сергеевича Соловьева... — Российская Государственная библиотека. Записки отдела рукописей. Вып. 52. М., 2004. С. 161).
23 См. п. 379 и примеч. 15,16 к нему.
382
Строхов — Толстому
Не забудьте меня, бесценный Лев Николаевич! Я часто вспоминаю о Вашей печатающейся книге1 и думаю, что если ее задержат, то мне не скоро придется ее читать. Если Вам можно как-нибудь этому помочь, то очень прошу Вас об этом. Как бы мне важно было перечесть теперь то, что я читал в Ясной! Занят я Вами беспрестанно. «Гражданин», ежедневная газета Мещерского, открыла поход на Вас; выступил там Кри5 ноября 1887 г. Санкт-Петербург
511
emu2, — и так бестолково; что я пришел в недоумение. Он всё ссылается на книгу Остроумова3; чтобы прояснить себе дело, купил я эту книгу и до половины прочитал. И умно, и с чувством, и со старанием, но вместе — бесконечно-отвратительно и в нравственном, и в умственном отношении. Нет, — церковный фанатизм есть проказа, искажающая всё в душе человека! Но в этом отношении дело любопытное, и я хорошенько вникну в книгу.
Статья против Тимирязева почти кончена и первая, большая часть уже сдана в редакцию4. Сам я доволен тем, что распутал дело до конца, так что всякому, желающему понять, оно будет вполне ясно. Вот больше года я всё работаю для памяти Н. Я. Данилевского5; она мне очень дорога, но часто я и скучал над работою. Вопрос, конечно, важный и его непременно нужно поставить как следует. Но тут нет пищи для души, нет интересного для меня даже как натуралиста; спиритизм совсем другое дело, и там я был хозяином6; здесь же по необходимости мне нельзя выходить из тех границ, в которых вел дело Н. Я. Данилевский7. Но память о нем согревает меня; я не могу об нем подумать без умиления, и не могу читать его книгу, не восхищаясь его ясным умом.
Теперь мне еще предстоит кончить печатание нового издания «России и Европы», приложить хоть коротенькую биографию — думаю, к новому году всё будет готово8.
Грипп засадил меня больше прежнего в мое уединение9. Но перед этим я дважды был в мастерской Репина, и ничего еще не написал Вам об этом. Конечно, он по искусству стоит далеко выше всех наших живописцев. Давно уже я испытал, что если на выставке есть одна-две картины Репина, то они обыкновенно заслоняют собою всю выставку. Но как он сам мил! Более серьезного, скромного и спокойного человека я не встречал! Он весь погружен в свое художество, нет у него и тени тщеславия, и с какою живостью и завистью он ценит достоинства чужих произведений! У него я нашел портрет покойного Мстислава Прахова10, человека очень мне дорогого11. Видел и удивительную картинку, на кото512
рой Вы пашете12. Это доходит до совершенства. Слышал я от него, что Вы не позволяете ему пустить ее в политипажах и в олеографии13. Почему это, дорогой Лев Николаевич? Об этом начинают довольно много говорить; я же всегда думал, что Вы вовсе не желаете нарочно производить шум. Вы меня простите, что, не зная хорошенько дела, суюсь к Вам со своим мнением. Но я видел картину, и хочу сказать только об ней. Она никого не может ни удивить, ни повести к каким-нибудь толкованиям. Дело совершенно просто. Что Вы пашете, это знают и в России, и в Европе, и в Америке. Что Репин вздумал Вас так написать — дело самое естественное; что же иное делать живописцу? И мог ли он выбрать чтонибудь лучше? Потом он захотел размножить свою картину, также, как всякую другую; это ведь всё равно, что человек, написавший повесть, хочет ее напечатать. Конечно, он позаботится, сколько может, чтобы снимки были хороши. Кому же охота выпускать в свет свое произведение в искаженном виде? Итак, всё имеет самый натуральный в мире ход; почему же этому препятствовать?
В душе я всегда очень восхищался тем, как Вы действуете относительно Вашей известности и Ваших произведений. Вы никогда не делали ни шагу ни для того, чтобы что-нибудь распространять, ни для того, чтобы что-нибудь скрывать. Всё шло само собою, и Вы оставались спокойным и при похвалах и при нападках; если искажались и перевирались Ваши мнения, если Вас обвиняли в безбожии и всяких преступлениях, Вы не протестовали; когда <<Р[усский] вестник» отказался напечатать конец «Анны Карениной»14, Вы не сказали ни слова. Отчего теперь в таком простом случае, как картина Репина, Вы изменяете Ваш образ действий? Трудно Вам взять на себя заботу о своей репутации; что бы Вы ни делали, всё только будет увеличивать шум и вместе кривые толки. Вы же до сих пор всем своим поведением доказывали, что Вы чужды и всякого тщеславия и всякой щепетильности.
Простите, бесценный Лев Николаевич, за эти рассуждения. Дай Вам Бог всего хорошего!
513
Печатается по: PO ИРЛИ. Ф. 302. Оп. 2. Ед. хр. 300. Л. 139-140. Впервые: Современный мир. 1913. №11. С. 360-362.
Графине мое усердное почтение. Начал я пересматривать Ваши сочинения15. Начало выбора уже сделано, именно в «Русской библиотеке» Стасюлевича,- а у меня еще сохранились предварительные работы для этой «Библиотеки», так что мне стоит только доканчивать16.
Еще раз простите.
Ваш всею душою
Н. Страхов
1887.
5 ноября.
Спб.
1 Трактат Толстого «О жизни» (1887): Юб. Т 26. С. 311-442. См. примем. 10 к п. 380, примем. 6 к п. 381.
2 Ученик К. Н. Леонтьева И. И. Кристи посвятил Толстому серию из трех критических статей в «Гражданине»: Кр. [Кристи И. И.]. Литературное обозрение. — Гражданин. 1887.15 окт. № 15. С. 3; 22 окт. № 22. С. 3; 29 окт. № 29. С. 3. Подробнее о личности И. И. Кристи см. в кн.: Фетисенко О. Л. «Гептастилисты»: Константин Леонтьев, его собеседники и ученики. СПб., 2012. С. 492-532, а также в кн.: Леонтьев К. Н. Поли. собр. соч.: в 12 т. Приложение. Кн. 2: Иван Кристи. Письма к К. Н. Леонтьеву. Статьи / сост., вступ. ст., подгот. текста и «коммент. О. Л. Фетисенко. СПб., 2016.
3 Остроумов М. Л. Гр. Л. Н. Толстой. Харьков, 1887.
4 Страхов Н. Всегдашняя ошибка дарвинистов (По поводу статьи проф. Тимирязева: «Опровергнут ли дарвинизм»?). — РВ. 1887. Ноябрь. С. 66-114. В начале ноября Страхов писал А. А. Фету: «Злодей Тимирязев, наконец, поражен и лежит у ног моих разбитый вдребезги. Я до того дошел, что мне даже жалко его; но авось этот случай пробудит внимание наших ученых» (письмо о 5 ноября. — Фет. Переписка II. С. 443). Вскоре он уведомлял своего корреспондента: «Первая большая часть статьи о Тимирязеве уже в печати; последняя, меньшая, должна быть еще кончена; сейчас за нее сяду» (письмо от 16 ноября. — Там же. С. 446).
5 Страхов разбирал оставшиеся после ученого бумаги и занимался публикацией его творческого наследия. В марте 1886 г. он выступил с чтением о книге Н. Я. Данилевского «Россия и Европа» в собрании Славянского благотворительного общества (см.: Известия Санкт-Петербургского славянского благотворительного общества. 1886. № 12. С. 566-570). В том же году в «Гражданине» (1886. № 25. С. 4-6) поместил восторженный отклик на исследование Данилевского «Дарвинизм» (СПб, 1885). В начале 1887 г. выступил в «Русском вестнике» на эту тему со статьей «Пол514
ное опровержение дарвинизма. (Н. Я. Данилевский: Дарвинизм, т. 1. СПб., 1885)» (см.: РВ. 1887. Январь. С. 9-62). На последний материал Страхову возражал в публичной лекции «Опровергнут ли дарвинизм?» К. А. Тимирязев (Русская мысль. 1887. Май (Кн. 5). С. 145-180; Нюнь (Кн. 6). С. 1-14). См. также примеч. 8 к п. 384.
6 Имеется в виду полемика Страхова по вопросам «сверхнатуральных» явлений, которую он вел против сторонников спиритизма — проф. А. М. Бутлерова, Н. П. Вагнера и др. в 1884-1885 гг. См.: Страхов Н. Н. О вечных истинах (Мой спор о спиритизме). СПб., 1887.
7 Страхов не во всем был согласен с теоретическими построениями Н. Я. Данилевского (подробнее об этом см. по их переписке — РВ. 1901. Январь. Февраль. Март), однако в полемике держался в границах его взглядов.
8 Страхов готовил к печати третье издание исследования Н. Я. Данилевского «Россия и Европа» (СПб, 1888) и намеревался написать для него посвященный автору краткий биографический очерк. Работа над составлением текста продолжалась и в следующем месяце; 13 декабря Страхов писал А. А. Фету: «Еще одно усилие — написать биографический очерк Н. Я. Данилевского — и буду свободен!» (Фет. Переписка II. С. 447). Материал будет помещен в виде Предисловия на стр. V-XXXII издания. См. примеч. 21 кп. 388.
9 В связи с болезнью Страхов писал А. А. Фету 5 ноября: «... я почти рад (...) что немножко заболел — грипп — и успею теперь, сидя дома, исполнить разные обязанности» (Фет. Переписка II. С. 443).
10 И. Е. Репин. Портрет Мстислава Викторовича Прахова. 1866. ГТГ. Портрет находился у Репина, а в 1928 г. был подарен им Тургеневской библиотеке в Париже.
110 М. В. Прахове см. примеч. 4 к п. 223, примеч. 2 к п. 224. О возвышенном нравственном воздействии М. В. Прахова на современников можно судить по мемуарному отзыву хорошо знавшего его художника В. Д. Поленова: «Вспоминаю я мое первое посещение Абрамцева осенью 1873 года. (...) Туда случайно приехал, и тоже в первый раз, Мстислав Прахов. Вскоре он сошел в могилу, но оставил в нас высокую память о себе. Он сделался, почти без ведома для себя, основателем нашего единенья, положив первый камень художественному зданию. Внешне странный, почти юродивый, он своим высоким настроением выделялся и даже как бы противоречил общему тогда представлению об интеллигентном передовом человеке. В то время когда эстетика изгонялась из искусства, а на ее место водворялась доктрина, тенденция, он в своем наивном идеализме имел мужество пойти против течения и тихо, но твердо выставить эстетическую потребность человека не только как возможного деятеля, но как одно из самых необходимейших начал человеческого существования. (...) Это короткое пребывание в вашей деревне озарило меня таким чудным лучом света, что он до сих пор светит мне путеводной звездой. Начатые в то время Мстиславом Викторовичем чтения стали понемногу выразителями нашего общего стремления к совершенствованию. Великие 515
8 ноября 1887 г. Носква
создания слова всех времен и народов стали живым источником духовной жизни для целого кружка. В продолжение нескольких лет мы жили этими чтениями, мы к ним готовились, они вызывали интереснейший обмен мыслей и горячие споры» (письмо С. И. Мамонтову от 6 апреля 1900 г. — цит. по: Сахарова Е. В. Василий Дмитриевич Поленов: письма, дневники, воспоминания. Изд. 2-е. М.; Л., 1950. С. 318-319).
12 И. Е. Репин. Пахарь. Л. Н. Толстой на пашне. 1887. ГТГ.
13 См. примеч. 17 к п. 379.
14 В 1877 г., когда М. Н. Катков признал последнюю главу «Анны Карениной» не соответствующей его идейным представлениям, Толстой отказался что-либо поправлять в ней и прекратил печатание романа в «Русском вестнике». См. примеч. 2 к п. 153.
15 Страхов обещал С. А. Толстой заняться отбором произведений Толстого для тома его избранных сочинений, предназначенного для школ и гимназий. См. примеч. 15,16 к п. 379. См. далее п. 385,386.
16 Страхов предполагал использовать в своей работе сделанный им отбор текстов Толстого для тома в серии «Русская библиотека», изданного в 1878 г. М. М. Стасюлевичем. Подробнее об этом см. примеч. 13 к п. 205, а также п. 209, 211-215, 219, 232-233.
3S3 Толстой — Отрохову
Получил вчера ваше письмо1, дорогой Николай Николаевич, и как всегда с большой радостью увидал ваш изящный почерк. — «О жизни» печатается. Грот с удивительным усердием держит корректуры2; на будущей неделе, должно быть, всё будет набрано и к концу месяца, вероятно, наступит решение вопроса для цензуры3 — сжечь или нет. Жалко будет — я имею смелость думать, что многим книга эта будет утешением и опорой. Разумеется, употреблю все старания, чтобы в случае непропуска оставить вам экземпляр. —
Где вы печатаете статью-ответ Тимирязеву?4
За книги вас очень благодарю5. Я их получил в день отъезда из Тулы6 и прочел тотчас указанные вами страницы из кн[иги] о Тургеневе] и Т[олстом] и, разумеется, очень одобрил. Книгу же «Б[орьба] с 3[апа516
дом]» оставил в Ясной и возьму ее у Фета и прочту не только отмеченные, но и другие страницы. Я помню, она и тогда мне дала много новых мыслей, а я уже знаю, что перечитывать вас можно и должно7. У нас живет студент-филолог8, кончающий курс, к[оторый] меня порадовал тем, что открыл вас; купил и читает.
Всё, что вы пишете о Репине, совершенно справедливо; и то, что вы пишете о нелепости и непоследовательности запрещения распространять его картину. Вы очень верно описываете мое отношение к толкам обо мне: оно сознательно, и я не перестаю держаться всё того же самого покойного для меня правила, но тут случилось так, что когда мы получили от Стасова известие о затеянном Репиным распространении этой картинки9, всем нам это показалось неприятно: жена написала в этом смысле Стасову, и я ему тоже приписал10, но потом, когда получилось 2-е письмо от Стасова11 и Репина12, где они писали, что у них начата работа и что это запрещение огорчает их, я увидал, что это наше несогласие было неправильно, но жена, желая избавить меня от того, что мне было неприятно, написала им13, объяснив мотивы отказа и подтверждая его. Теперь же я вижу, что я сначала поступил неправильно и вы совершенно правы. Главное же то, что во имя этих пустяков я как будто огорчил Репина14, которого я так же высоко ценю, как и вы, и сердечно люблю. Поэтому будьте добры, передайте ему, что я отказываюсь от своего отказа и очень жалею, если ему доставил неприятное15. Я знаю, что он меня любит, как и я его, и что он не будет сердиться на меня. —
Еще просьба: простите. — Есть некто, бывший революционер, врач Богомолец. Он был под надзором, теперь освобожден, но только с запрещением жить в столицах16; жена его17 приговорена в 1881 г. в Кару на 10 лет. Она пыталась бежать, возвращена, и ей прибавлено 6 лет. Муж ее желает хлопотать о ней в Петербурге у начальства — главное желание его то, чтобы ему разрешено было жить с ней, ему и их ребенку — в Каре. Не можете ли вы узнать или даже попросить кого нужно — можно ли ему приехать в Петербург для этого.
517
Печатается по: ОР ГМТ.Ф. 1.№ 7468. Л. 1-2об. Нал. 1,2 пометы Страхова: «10 ноября 1887». Впервые: Толстой и о Толстом II.
С. 53-55. В /Об.: Т. 64. С. 121-123.
Заключаю письмо, как и вы, словами «простите» и напоминанием о своей любви к вам.
А.Т.
Как хорошо и верно всё, что вы пишете о Канте и мистиках! Как бы хорошо было написать об этом. Зиждущие оставили камень, кот[орый] должен быть во главе угла18.
Датируется по
содержанию. 1 При определении даты ответного послания Толстого мы исходили из предполоОтвет жения, что письмо Страхова от 5 ноября (п. 382) было получено им в Москве 7 ноября, на п. 381 и 382. 2 Это время наиболее интенсивного общения Толстого с проф. Московского уни¬
верситета Н. Я. Гротом, державшим корректуры трактата «О жизни» (см.: Гусев. Летопись!. С. 680).
3 Трактат «О жизни» поступил в Московский духовно-цензурный комитет в конце декабря и подвергся запрещению. См. примеч. 10 к п. 380.
4 Статья «Всегдашняя ошибка дарвинистов. (По поводу статьи проф. Тимирязева: Опровергнут ли дарвинизм?)» была опубликована в ноябрьском и декабрьском номерах журнала «Русский вестник» (см. примеч. 21 к п. 381). В яснополянской библиотеке сохранился отдельный оттиск окончания статьи Страхова из декабрьского выпуска журнала (см.: Описание ЯПб. Т. 1, ч. 2. С. 282. № 3027). К обсуждению полемики с К. А. Тимирязевым Страхов и Толстой, вероятно, возвращались и позднее, при личных встречах. Ср. в дневниковой записи В. Ф. Лазурского от 20 апреля 1896 г.: «Я рассказал, что перечитывал недавно полемику Страхова и Тимирязева о дарвинизме и что за этой полемикой очень трудно следить. Лев Николаевич того же мнения: „Мне когда-то Николай Николаевич рассказывал об этом; но, как только окончит, я всё и забуду: так это скучно и неинтересно“. Вообще этой полемике (...) он не сочувствовал» (АН. Т. 37-38. С. 490).
5 См. примеч. 17,18 к п. 381.
6 Толстой переехал из Ясной Поляны в Москву 26 октября (Гусев. Летопись I. С. 680).
7 Отклик Толстого на первое издание книги Страхова «Борьба с Западом в нашей литературе. Книжка первая» (СПб., 1882) см. в п. 301.
8 Поэт и журналист Анатолий Александрович Александров после окончания историко-филологического факультета Московского университета (1887) был оставлен для приготовления к профессорскому званию по кафедре русской литературы. Толстой пригласил его репетитором к сыновьям Андрею и Михаилу. Александров считал себя учеником К. Н. Леонтьева.
518
9 Впервые В. В. Стасов высказал мысль о желательности массового распространения изображения Толстого в письме от 31 августа (см.: Толстой и Стасов. Переписка. С. 77-78).
10Письмо С. А. и Л. Н. Толстых Стасову от 26 сентября (см.: Там же. С. 81-82).
11 Письмо В. В. Стасова к С. А. Толстой от 2 октября 1887 г. см.: Репин И. Е. Письма: И. Е. Репин и Л. Н. Толстой. I: Переписка с Л. Н. Толстым и его семьей. М.; Л., 1949. С. 109-110). Ответ С. А. Толстой Стасову от 5 октября см.: Толстой и Стасов. Переписка. С. 83-84.
12 Письмо И. Е. Репина к С. А. Толстой от 1 октября 1887 г. см.: Репин И. Е. Письма: И. Е. Репин и Л. Н. Толстой. I: Переписка с Л. Н. Толстым и его семьей. С. 19-20.
13 Имеется в виду письмо С. А. Толстой от 5 октября, в котором она настаивала, что Толстой «никакого разрешения Репину на словах не давал», что «он [Толстой] не помнит» или что Репин «его не так понял» (цит. по: Там же. С. 110). Репин признавался В. Г. Черткову, что, получив такое письмо, он «чуть в обморок не упал» (Там же).
14 В письме к С. А. Толстой от 1 октября 1887 г. Репин замечал: «Ваше письмо к В. В. Стасову так нас тут пристукнуло, что мы совсем не знаем, что делать. У [А. А.] Ильина [владелец картографического заведения. — Сост.] уже много камней совсем готово. Более двух недель работало несколько лучших мастеров — он будет в большом убытке, если Вы запретите издание. (...) и скоро будет уже готово клише, которое недешево стоит (...) Перед отъездом [изЯсной Поляны. — Сост.] я спросил позволение у Льва Николаевича, и он сказал, что ничего не имеет против изданий этих рисунков; потому-то я и позволил воспроизводить... Я даже не могу понять, почему Вы и вся семья Ваша против наглядной известности такого значительного, серьезного и прекрасного факта из жизни Льва Николаевича. Для всякого имеющего хотя малейшее понятие о гр. Л. Н. Толстом — а таковых теперь весь свет — это уже не будет новостью» (Репин И. Е. Письма: И. Е. Репин и Л. Н. Толстой. I: Переписка с Л. Н. Толстым и его семьей. С. 19).
15 Можно предположить, что Толстой забыл о данном им разрешении воспроизводить сделанные Репиным в Ясной Поляне рисунки. Художник же счел полученное разрешение действительным и для написанной им небольшой картины маслом («Пахарь. Л. Н. Толстой на пашне»). Впоследствии (с марта 1888 г.) хромолитографическое воспроизведение картины широко продавалось для публики.
16 Александр Михайлович Богомолец, земский врач, революционер-народник, член леворадикальной организации «Южнорусский рабочий союз», в 1882 г. был арестован, отбывал ссылку. В 1886 г. освобожден от гласного надзора. В 1891 г., после вмешательства Толстого, получил разрешение на свидание с женой, также революционеркой, отбывавшей срок на каторге.
17 Софья Николаевна Богомолец (урожд. Присецкая), активная участница революционной организации «Южнорусский рабочий союз», приговоренная в 1881 г.
519
16 ноября 1887 г. Санкт-Петербург
к смертной казни, замененной десятью годами каторжных работ. За попытку к бегству и постоянные протесты срок каторги был увеличен на 6 лет. Умерла на Каре от туберкулеза, освобожденная из тюрьмы за три дня до смерти.
18 Мф. 21:42.
384 Строхов — Толстому
Был я сегодня в Главном тюремном управлении, бесценный Лев Николаевич, и узнал всё, что нужно. Начальник — Михаил Николаевич Галкин-Врасский1 пользуется репутацией милейшего человека и был вполне любезен. Он восторженный Ваш поклонник, и меня даже знает, и заявил, что дело это всё в его ведении и не может встретить никакого препятствия. Нужно подать прошение на его имя; по закону супруг имеет право следовать за супругом; только теперь, так как он не сделал этого при самом начале ссылки, он должен будет ехать на свой счет. При прошении должен быть адрес просителя, и тогда очень скоро он получит уведомление.
Предлагаю Вам себя и впредь в посредники: буду ходить за справками, благо, знаю двери.
Статья моя о Тимирязеве уже большею частью набрана, и я держал уже корректуру. Она появится в ноябрьской книжке «Русского вестника»2, которая издается уже здесь3. Окончание статьи, меньшая часть, будет в декабре4; она почти готова, и я сяду за ее полное изготовление после этого письма5. Перенесение <<Р[усского] вестника» в Петербург было для меня большою неприятностью6. Нового редактора Ф. Берга я знаю больше двадцати пяти лет7; это человек очень узкий умом, полуграмотный и недобросовестный. Литература теперь имеет такой дикий вид, что тоска берет. А, вероятно, будет еще хуже!
С Тимирязевым мне тоже было досадно возиться; он очень рьян, но твердости у него никакой нет; я разбил его в щепки8, но, боюсь, в статье 520
будет слышен недостаток воодушевления. Если бы не память Н. Я. Данилевского, не писал бы я о дарвинизме ни единого слова9.
Репину я сообщил Ваше разрешение и обрадовал его чрезвычайно. Как будто в награду он подарил мне большой фотографический снимок с писанного им Вашего портрета. Что за прелесть! Обделаю в рамку и повешу10.
Дай Бог, чтобы пропустили Вашу книгу. Впрочем, всё равно. Киевская дух[овная] академия недавно назначила премию Макария, 1750 р., за разбор «В чем моя вера?»п, а сегодня в газетах объявляют о книге Д. П. Григорьева12, которая посвящена этому самому предмету. Значит, дело идет. Галкин-Врасский тоже очень хорошо сказал, что Вы будите нравственное чувство и что сам Бог посылает подобных писателей для того, чтобы нас образумить. Слышал я также недавно от одного приезжего из Киева, что митрополит Платон осуждает запрещение Ваших сочинений13, считает их чрезвычайно полезными. Приезжий прибавлял, что ему известны многие случаи, когда нигилисты бросали свои затеи и становились христианами, Вашими последователями.
Дай же вам Бог и здоровья и всякого успеха!
Очень вожусь теперь с Вашими сочинениями, раздумывая о том, что выбрать из них для школьного чтения14. Начал с «Войны и мира» и вижу, что дело труднее, чем я думал15.
Пока простите меня! Графине мое усердное почтение.
Ваш всею душою
Н. Страхов
1887.
16 ноября.
Спб.
Печатается по: РО ИРЛИ. Ф. 302. Оп. 2. Ед. хр. 300. П. 141-142.
Впервые: Современный мир. 1913. №11. С. 362-364. Ответ на п. 383.
1 К М. Н. Галкину-Врасскому, начальнику Главного тюремного управления, Страхов обратился с просьбой удовлетворить ходатайство Толстого по поводу семьи революционеров А. М. и С. Н. Богомолец. См. п. 383.
521
1 Страхов Н. Всегдашняя ошибка дарвинистов. (По поводу статьи проф. Тимирязева: Опровергнут ли дарвинизм?). — РВ. 1887. Ноябрь. С. 66-114. В ноябрьском номере журнала были напечатаны десять (из 14) глав работы Страхова. См. примеч. 4 к п. 382.
3 В ноябре 1887 г. издание московского журнала «Русский вестник» было перенесено в Петербург. Страхов писал А. А. Фету 5 ноября: «“Русский вестник“ как Вы знаете, переселяется в Петербург. Не очень он был хорош в Москве, но в Петербурге едва ли будет лучше. По секрету скажу Вам, что руки, в которые он переходит, не очень мне по душе» (Фет. Переписка II. С. 443).
4 В декабрьском номере «Русского вестника» были помещены последние четыре главы статьи (РВ. 1887. Декабрь. С. 98-129).
5 В конце статьи Страхова указана дата завершения работы над ней — 28 ноября. См. примеч. 4 к п. 382.
6 О переносе издания в Петербург новая редакция извещала в обращении «К читателям» и в разделе «Внутреннее обозрение». Среди основных причин, повлиявших на принятие такого решения, указывались обстоятельства, имевшие как общественно-политическое, так и чисто «техническое» значение. Среди последних отмечалась потребность упростить сношения с «наиболее талантливыми» — столичными, сотрудниками журнала, образовавшими еще при М. Н. Каткове костяк авторского коллектива. В условиях, когда литературные силы распределены между Москвой и Петербургом далеко «не одинаково», представлялось и на будущее время менее хлопотным восполнять состав штатных и нештатных работников именно в столице; эти доводы и склонили чашу весов в пользу соображения «перевести издание прямо в средоточие русской литературной и художественной деятельности, в непосредственное, живое общение с деятелями слова» (РВ. 1887. Ноябрь. С. 417). Кроме того, подчеркивалось в разъяснении, «в Петербурге мы получаем большую возможность знать из прямых источников о намерениях и устроительных работах правительственной власти» (Там же. С. 418). Однако более важным, с идейной точки зрения, аргументом стало убеждение новой редакции в том, что «время разлада в политических воззрениях Москвы и Петербурга (...) миновало» и «нет более разумного повода к общественному разъединению Москвы с Петербургом», так как правительство и здравая часть общества одинаково стоят на национальной почве и ратуют за национальное достоинство и «упрочение исторических основ русского государственного строя», так что «потеряло смысл и противуположение двух будто особых миров русской жизни: общественного и официального»,- что «Русский вестник» никогда не был «местным» органом печати — специально «московским», но всегда — общерусским. Наконец, в новое царствование нет оснований продолжать духовно дистанцироваться от центра формальной власти: «нет уже такой необходимости ограждать себя от „тлетворных вея522
нии чтобы сохранить свежесть и трезвость взгляда на явления и требования русской жизни» (Там же). — Вероятно, отнюдь не все доводы редакции журнала «Русский вестник» по части обоснования своего решения о перемене места издания прозвучали убедительно и разделялись Страховым, что и вызвало его критическую реплику в письме.
7 Страхов в письме к А. А. Фету от 5 ноября (см. выше примеч. 3) назвал нового редактора журнала «Русский вестник» Ф. Н. Берга «недоучкой» и «ретроградом»: «Во-первых, кадет Воронежского корпуса, хотя и учился на родине Кольцова (...) почему и получил страсть к литературе, но далеко не доучился до полной грамотности, а потом вовсе не думал о своем образовании (...) Во-вторых, мнения и вкусы Берга мне известны; это — самое грубое ретроградство, известное давно под именем мракобесия» (Фет. Переписка II. С. 443. — Курсив Страхова).
8 5 ноября 1887 г. Страхов писал А. Н. Майкову: «Статью против Тимирязева я почти кончил и первую, большую половину уже сдал Бергу, для ноябрьской книжки. Вторая, меньшая и последняя пойдет в декабре. Тимирязев разбит вдребезги и так, что не подымется. За этою статьею я испытал большое наслаждение. Целый месяц я писал с утра до вечера и рад, что успел написать. Вот, дорогой Аполлон Николаевич, как я был прав, что вышел и из Библиотеки и из Вашего комитета! Ведь мне ни за что не удалось бы сделать это необходимое дело, если бы служба мне мешала. (...) вот уже целый год я работаю ради памяти Н. Я. Данилевского, работаю, увы! один-одинёшенек! Мне и радостно и грустно; не могу о нем вспоминать без умиления. (...) „Дарвинизм" в Академии наук дали рассматривать какому-то Шмиту; тот написал две странички очень презрительных. Вл. Павлович Безобразов поднял шум, и книгу отложили на будущий год (на Макарьевскую премию), но кому поручат разбирать ее, неизвестно. Видите, какие толстые стены и шкуры приходится пробивать! Услыхав это, я утешился, что приложил столько труда к Тимирязеву» (РО ИРЛИ. Ед. хр. 16947. Л. 23-23 об.).
9 Завершив работу по написанию второй части статьи «Всегдашняя ошибка дарвинистов», Страхов заметил в письме к А. А. Фету от 13 декабря: «Очень я рад, что свалил с себя бремя дарвинизма; не поздоровится Тимирязеву, но я уже буду теперь иметь право отвечать короткими и резкими статьями. Но — да мимо идет чаша сия!» (Фет. Переписка II. С. 447). Однако непонимание, а отчасти и невнимание широкого читателя к полемике с дарвинистами, болезненно задевало самолюбие Страхова. Тому же корреспонденту он не без горечи писал 10 января: «...ко мне (...) из Москвы, пришли такие речи: „Страхов превосходный человек, но Бог знает, что делает; разве можно спорить против такого светила, как Тимирязев?" (Это говорил [проф. Н. И.] Стороженко). Тут нужно быть терпеливым. (...) если бы я читал рефераты в здешнем Обществе естествоиспытателей, что ли, писал в его „Трудах" и т. п., то меня бы знали 523
21 декабря 1887 г. Санкт-Петербург
натуралисты. А теперь они не признают меня не только собратом, а даже не хотят признать и противником. Я очень доволен только тем, что могу, однако, печататься. Ктонибудь да разберет же» (Там же. С. 448). Отсутствие деятельной поддержки единомышленников не охладило творческого запала Страхова, и он вскоре начал строить новые планы по теоретическому опровержению основных положений дарвинизма. Фету он сообщал 24 января: «Не могу скрыть от Вас большой слабости: Ваш рассказ об [Н. Я.] Гроте опечалил меня. Мне так живо представилось это тупое упорство, с которым многие встретят мои рассуждения. Но не всё ли равно? Разве я ждал успеха? Однако у меня вот какая мечта: если Тимирязев или кто другой отзовется, то я попробую еще упростить формы и дать, так сказать, правильную и годную для всех случаев методу опровержения. Может быть, кому-нибудь пригодится» (Там же. С. 450). Продолжение полемики Страхова с дарвинистами последует в 1889 г.
10 Впоследствии И. Е. Репин напишет и портрет Страхова. В. В. Розанов, описывая квартиру Страхова, упоминал и висевший там его портрет работы Репина, но считал его «неудачным» (Розанов В. В. Собр. соч. [Т. 13]: Литературные изгнанники. ... Переписка В. В. Розанова с Н. Н. Страховым. С. 116).
11 Ежегодная премия "За лучшие сочинения по всем наукам академического курса" была учреждена митрополитом Макарием в день юбилея Киевской духовной академии, 28 сентября 1869 г. В 1887 г. был объявлен конкурс на премию митр. Макария за критический разбор сочинения Толстого «В чем моя вера?» (1884). Брошюру о сочинении Толстого написал генерал-лейтенант артиллерии Д. П. Григорьев.
12 Григорьев Д. П. Христианские вопросы жизни. По поводу сочинения гр. Л. Н. Толстого «В чем моя вера?». СПб., 1887.
13 Платон (в миру Николай Иванович Городецкий), митрополит Киевский и Галицкий в 1882-1891 гг.
14 См. примеч. 15,16 к п. 379. Издание не было осуществлено. См. далее п. 385.
15 О чтении Страховым романа Толстого «Война и мир» см. п. 377.
385 Страхов — С Л. Толстой
Многоуважаемая графиня!
Мучит меня совесть за неисполнение обещания, которое я Вам дал1. Много раз я упорно принимался за дело и оставлял его, бранил себя, жа524
ловался на свою старость, отнимающую понемногу бодрость и живость мыслей, и наконец решился просить у Вас и прощения, и помощи. Вся задача в том, чтобы установить хорошенько план школьного издания сочинений Льва Николаевича. На это нет лучшего мастера, как Поливанов: и школьные потребности он знает, и человек вполне грамотный и со вкусом. Не поручите ли Вы ему этого дела? Мне кажется, что без него обойтись нельзя, и тогда я с большим усердием и удовольствием стал бы его сотрудником1 2. Он мне прислал недавно свое издание Пушкина3, и я не налюбуюсь этою книгою: так она умно сделана.
Браните Вы меня или нет? Делаете что-нибудь или отложили Ваш план на время? Ничего об этом я не знаю, и если не вовремя и не кстати суюсь к Вам с разговорами, то и за это простите меня. Очень уж хотелось бы мне сделать Вам что-нибудь приятное.
От всей души желаю Вам здоровья и веселых праздников.
Ваш покорный и преданный слуга
Н. Страхов 1887.
21 дек[абря].
Спб.
Печатается по: ОР ГМТ. Ф. 47. № 39522. Л. 1-2. На конверте: Заказное Москва Долго-Хамовнический переулок. Собственный] дом. Ее сиятельству Г рафине Софье Андреевне Толстой. Почтовые штемпели: «21 XII 1887 С. Петербург», «22 декабря] 1887 Москва». Впервые: ПТС II. С. 207.
1 Страхов обещал С. А. Толстой свою помощь в подготовке хрестоматии для школ и учебных заведений, составленной из сочинений Толстого. В основу издания он советовал положить издание избранных сочинений Толстого для «Русской библиотеки». См. также п. 379,382 и 384. Издание не было осуществлено.
2 См. примеч. 15,16 к п. 379.
3 Речь идет об издании: Пушкин А. С. Избранные сочинения. Для детей школьного возраста. Старший возраст. 2 вып[уска]. М., учеб. маг. «Начальная школа», 1887. Вып. 1.412 с. Вып. 2. 314 с. Книга имеется в библиотеке Толстого: ОписаниеЯПб. Т. 1, ч. 2. С. 145. №2531.
525
22 декабря
1887 г. Москва
Печатается по: ОР ГМТ. Ф. 47. №39406. Л. 1-2. Впервые: ПТСII.
С. 208. Ответ на п. 385.
386
С А. Толстая — Страхову
Многоуважаемый Николай Николаевич,
Мне совестно было читать Ваше1 письмо, как будто я имею право рассчитывать на Ваш труд, да еще обращенный на такой маловажный предмет! Ваша деятельность так обширна и так нужна для более серьезного, что Вы должны беречь и себя и свое время.
Собственно хрестоматией и я теперь совсем не могу заниматься; главное здоровья нет и другого дела очень много2. Я была по поводухрестоматического издания у Поливанова; но он очень уклончиво отвечал и дал мне почувствовать, что он очень занят, что и справедливо; ведь кроме его писательской деятельности — у него целая гимназия.
Дев Николаевич сегодня подписал последний листок корректур «О жизни»3 и теперь после праздников решится судьба этой статьи. Кажется бы, статья и весь тон спокойно-серьезный; да уж цензора очень плохи, всего боятся и без разбора всё казнят.
Здоровье Льва Николаевича всё было хорошо, а сегодня схватили его опять боли желудочные, которые нет, нет, да и повторяются4.
Живем мы очень тихо, и только масса самых разнообразных посетителей осаждает нас. И какие разнообразные мотивы привлекают к Льву Николаевичу этих людей! Иногда очень от них тяжело5.
Желаю Вам провести праздники в совершенном здоровье и радости душевной. Лев Николаевич шлет Вам сердечный поклон, а я крепко жму Вам руку и прошу в душе не сетовать за то, что так легкомысленно согласились тогда на то, что невозможно бы было Вам исполнить; да и не должно.
Преданная Вам
Гр. С. Толстая
22 декабря
1887.
826
1 В отличие от прочих своих писем к Страхову в настоящем С. А. Толстая использует при обращении к корреспонденту написание обращений с прописной буквы.
2 С. А. Толстая находилась на последних месяцах беременности (младший сын Толстых Ванечка родится в марте 1888 г.) и крайне тяжело переносила свое физическое состояние. Она вспоминала: «Здоровье мое делалось всё хуже и хуже. Уже я почувствовала движение ребенка и огорчалась, что он будет плохой, так как я худела и очень была слаба, едва двигалась. Невралгия доходила до такого ужаса, что я с вытаращенными глазами просиживала напролет целые ночи и утром уже не могла встать с постели. (...) В декабре я стала настолько тяжела и слаба, что не могла сама, одна ходить. Мои две милые дочери по вечерам водили меня под руки гулять по переулку, и встречные прохожие недоумевающее смотрели на нас, предполагая, вероятно, что я была пьяна» (Толстая. Моя жизнь IL С. 47-48). Кроме того, С. А. Толстая с увлечением работала над французским переводом трактата Толстого «О жизни» (см. ниже примеч. 3).
3 Печатание трактата «О жизни» в количестве 600 экземпляров было закончено в последних числах декабря: «Сочинения графа Л. Н. Толстого. Часть тринадцатая. О жизни». Москва. 1888. Типография А. И. Мамонтова и К°. Еще до окончания печатания, в ноябре 1887 г., С. А. Толстая начала переводить «О жизни» на французский язык. 6 февраля 1888 г. перевод был закончен, отредактирован профессором Э. Тастевеном и издан в Париже ( «De la Vie, seule traduction revue et corrigée par l’auteur»). Cm. также: Толстая. Моя жизнь IL С. 47.
4 С. А. Толстая писала Т. А. Кузминской: «Лёвочка всё не кончил печатанье своей статьи („О жизни“), но теперь дело подходит к концу. Это печатанье его очень занимает, и он никуда не стремится, поправляет корректуру, изменяет кое-что, бегает в типографию и всё время был весел» (цит. по: Там же. С. 48).
5 На тяготившее ее обилие посетителей в хамовническом доме Толстых С. А. Толстая жаловалась сестре: «Я стала тяготиться этой пестрой, непрестанно сменяющейся толпой, ничего никому не дающей. И чужды все, и толпа поневоле вытесняет интимных и часто приятных людей» (цит. по: Там же).
387
Толстой — Страхову
1888
24 января 1888 г. Москве]
Кругом виноват перед вами, дорогой Николай Николаевич. До вас верно уже дошло от Семевского то предисловие1, к[оторое] я его про-
527
Печатается по: ОР ГМТ. Ф. 1. № 7469.
Л. 1-1 об. На п. 1 помета Страхова: «24 янв[аря] 1888». Впервые: Толстой и о Толстом II. С. 56. В /Об.: Т. 64.
С. 138.
Датируется по помете Страхова.
сил доставить вам, а сам же я еще не написал вам, прося вас продержать эту корректуру2. Очень прошу вас не только об этом, но и о том, чтобы выключить или изменить там всё то, что вы найдете нужным. О том, что вы по этому сделаете, «спорить и прекословить не буду»3. Не писал еще вам, благодаря вас за вашу статью о Дарвине4. Я много приобрел из нее. — Не писал я п[отому], ч[то] был нездоров — желчь и упадок деятельности. Теперь лучше. Книга «О жизни» всё в духовной цензуре. Едва ли пропустят. Во всяком случае пришлю вам. Теперь хочется написать предисловие к статье о Гоголе5, прекрасной, одного Орлова, а еще статью о пьянстве6, к[оторая] мне представляется очень важной. Так простите меня. Целую вас. Любящий вас очень
Л. Толстой
1 Речь идет о второй корректуре предисловия Толстого к сочинению крестьянина Т. М. Бондарева «Торжество земледельца, или Трудолюбие и тунеядство» (Юб. Т. 25. С. 463-475), которая была отправлена в журнал «Русская старина», редактируемый М. И. Семевским (см. письмо Семевскому от 17 января 1888 г.: Там же. Т. 64. С. 137). Статья была напечатана в № 2 «Русской старины» за 1888 г., но (как и сочинение Бондарева) не прошла цензуру и была вырезана из тиража (см. письмо В. Г. Черткову от 2 февраля 1888. — Юб. Т. 86. С. 115). Впервые сочинение Бондарева в значительно сокращенном виде и предисловие к нему Толстого были опубликованы в марте в газете «Русское дело» (1888. № 12, 13). За помещение их издатель С. Ф. Шарапов получил предупреждение от Министерства внутренних дел (см. примеч. 1 к п. 388). Подробнее см. также: Юб. Т. 25. С. 862-867.
2 Имеется в виду вторая корректура предисловия; первую Толстой держал сам и отправил в редакцию «Русской старины» при письме к М. И. Семевскому от 17 января (примеч. 1).
3 Ответ Страхова см. в п. 388.
4 Толстой имеет в виду полемическую статью Страхова «Всегдашняя ошибка дарвинистов», напечатанную в ноябрьском и декабрьском номерах журнала «Русский вестник» за 1887 г. (см. п. 384). Страхов прислал Толстому оттиски статьи, за них Толстой и благодарит в письме своего корреспондента. В яснополянской библиотеке сохранился только оттиск окончания статьи Страхова (РВ. 1887. Декабрь. С.98-129). См.: Описание ЯПб. Т. 1, ч. 2. С. 282. № 3027. Судя по свидетельству Вл. Соловьева, Толстой в то время с одобрением относился к высказанным Страховым мыслям. Около 528
22-23 декабря 1887 г. Соловьев сообщал Страхову: «В прошлое воскресенье зашел ко мне вторично Л. Н. Толстой и с восторгом говорил о Вашей статье против дарвинизма. / Относительно сделанных им из нее заключений (что дарвинизм есть такая глупость, которая не стоит опровержения, что увлечение этою теорией было невольным сумасшествием и т. п.) je reserve mon opinion [я придерживаюсь особого мнения, фр.], но самую статью Вашу, конечно, прочту не с меньшим восхищением, чем он» (Соловьев. Письма I. С. 48).
5 См. примеч. 13 к п. 380. Среди бумаг Толстого сохранилась незавершенная рукопись «О Гоголе», которая может быть приблизительно отнесена по времени происхождения к 1888 г. (см.: Юб. Т. 26. С. 648-651). Не исключено, что это были наброски первых страниц предисловия к книге А. И. Орлова «Н. В. Гоголь как учитель жизни» (М., Посредник, 1888). Толстой работал над темой 24 января и 8-9 февраля 1888 г., однако развития и завершения она не получила (см.: Там же. С. 874-876). В. Г. Черткову Толстой 9 февраля сообщил: «Начатые статьи о пьянстве и о Гоголе лежат, и принимаюсь продолжать и останавливаюсь — не идет» (Там же. Т. 86. С. 121).
6 Возможно, имеется в виду статья «Пора опомниться» (Там же. С. 443-445). Этой же теме — неприятию пьянства — посвящена статья Толстого «Праздник просвещения 12-го января» (Там же. С. 446-450). О пьянстве идет речь в незавершенном наброске «К молодым людям», относящемуся по происхождению в этому же времени (Там же. С. 652-654; 878-879).
388 Строхов — Толстому
5 февраля 1888 г.
Санкт-Петербург
Простите, бесценный Лев Николаевич, что не тотчас отвечал Вам. Я поджидал, что, может быть, еще придет от Семевского та корректура, о которой Вы пишете1. Но вот прошла неделя — ничего нет; вероятно, Семевский заупрямился, как это я и предчувствовал. Недавно со мною случилась совершенно подобная история: Соловьев писал мне, что Стасюлевич пришлет мне корректуру его статьи «Россия и Европа»; но я напрасно этого ждал, а вчера Соловьев пишет мне, что Стасюлевич не захотел моего посредничества2, и статья явилась в № 2 «Вестн [ика] 529
Европы»3, миновав мои руки. Это мне досадно. Вы видите, что Семевский и Стасюлевич не очень много питают ко мне доверия и расположения; мне хочется их ругать, и я чувствую, что сам виноват: когда встречался с ними, не мог я сдержать своего высокомерия перед такими почтенными людьми, и они хорошо поняли впечатление, которое во мне производят. Вот и лишили они меня чести, которую я очень ценю. Следует мне утешиться тем, что Ваше доверие, или Соловьева значит много, а их нерасположение и опасение, пожалуй, служит мне же в похвалу.
Всё это я шучу, бесценный Лев Николаевич; больше всего мне досадно, что я не знаю Вашего писания или не так скоро узнаю, что в нем, о чем дело4. А если бы я раньше знал статью Соловьева, то, может быть, и помешал бы хотя немножко ее безобразию5. Какой зыбкий ум! Еще раз я убеждаюсь, что он неспособен понимать действительность и даже понимать книгу, которую разбирает. Он всегда носится на сто верст выше того предмета, о котором говорит, и ничего в нем не видит. Он написал несколько статей о Достоевском6, в которых нет ни одного слова, относящегося к действительному Достоевскому и к его действительным писаниям7. Но теперь, кроме того, он (Соловьев) написал такую бестолковщину, которая даже понизила мое уважение к его уму. «Россия — европейская нация»8 — в одном месте, а в другом: «Русские — один из полудиких народов востока»9. Да вообще, разве можно доказывать темы общеотрицательные? — Буду писать ему10, хотя чувствую, что столковаться нет почти возможности.
Статья Лесевича в «Р[усской] мысли»11 задела меня за живое. Он говорит, что я влюблен в самого себя и всё о себе говорю12. Хотя дело вовсе не в этом, но неужели это правда? Неужели речи мои противны по сквозящему в них себялюбию и высокомерию? Или он сам уж чересчур самолюбив и может спокойно видеть большую букву I13 только у Дарвина или Милля14?
530
Зато я получил из Ельца от одного учителя гимназии письмо15, которое могло бы утешить самого гордого и занесшегося человека. Много ума, души и самое сердечное сочувствие.
Всё я Вас занимаю своею интересною особою. Но вот новость, которая гораздо важнее. Вчера пришло большое письмо от Ольги Александровны Данилевской16; она пишет, что тоска ее прошла и что наступила у нее радость, какой прежде не бывало. Рассказывает она это с волнением, почти со стыдом за свое «старое истрепанное сердце», но так ясно, с такою живостию и полною душевною чистотою, что, кажется, никогда я еще не приходил в такое умиление, как от этого письма. Она много стала плакать, она доверилась Богу вполне и без раздела и — погрузилась в свои житейские хлопоты с охотою и энергиею, каких прежде не бывало. Но я не могу Вам передать всего и так, как написано, и готов бы прислать Вам копию с этого удивительного письма, если бы только она разрешила — а это невозможно. Да, мы рождены для света и радости, о которых большинство людей не имеет и понятия17; благословенно всякое горе и всякие страдания, если они наводят нас на этот путь.
Каждый день я думаю об Вас, бесценный Лев Николаевич, и не только потому, что имя Ваше теперь, можно сказать, наполняет воздух. Всё я обдумываю Ваши мысли и всё готовлюсь выступить Вашим проповедником. Поздравляю Вас с успехом Вашей драмы в Париже18. Что за тупость нашла на тех, кто говорил, что эта драма не годна для театра?19 Она вся — зрелище от первой строчки до последней.
Грустно слышать, что Вам нездоровится; дай Бог поправиться! О себе скажу, что и не думал дожить до такого здоровья: и бодр, и толстею, и чуть ли борода не начинает темнеть. И всё радуюсь своей свободе20. Теперь кончаю свое издание «России и Европы»21; еще неделя работы и тогда — писать свою последнюю книгу. Книги мои идут не шибко, но идут-таки; всего лучше идут «Критические статьи»22, так что, если бы наживать деньги, то нужно бы мне писать о литературе.
531
Печатается по: PO ИРЛИ. Ф. 302. Оп. 2. Ед. хр. 300. Л. 149-150. Впервые: Современный мир. 1913. №11. С. 364-367. Ответ на п. 387.
Простите меня! Мое усердное почтение графине. Дай Вам Бог всего лучшего.
Всей душою Вам преданный
Н. Страхов
1888.
5 февр[аля].
Спб.
1 Редактор-издатель «Русской старины» М. И. Семевский не прислал вторую корректуру предисловия Толстого к статье крестьянина T. М. Бондарева, напечатанной в его журнале «Русская старина» (1888. № 2), потому что статья была запрещена цензурой, а сам Семевский не пожелал, чтобы текст Толстого подвергался искажению (см. примеч. 1 и 2 к п. 387). Сочинение сибирского крестьянина в сокращенном виде напечатал в своей газете «Русское дело» публицист С. Ф. Шарапов (Трудолюбие, или Торжество земледельца (Сочинение крестьянина T. М. Бондарева) — Русское дело. 1888. 19 марта. № 12. С. 12-14) с собственным предисловием ко второй части публикации (27 марта. № 13. С. 1-3), в котором сравнивал взгляды Бондарева и Толстого в пользу первого. Шарапов писал: «Бондарев цивилизации не отрицает по существу. С ним, повторяем, можно столковаться. (...) Для Бондарева наш мир — мир реальный и общий ему. (...) Для Толстого наш мир — чужой, наши понятия — чужие, наша цивилизация — чужая. (...) Он не берется исправлять этот мир, но желает создать новый». Шарапов прямо выступал против Толстого-проповедника: «Как проповедник и мыслитель, он представляет оригинальный ум, авторитетный лишь постольку, поскольку сзади, в прошлом, стоят его гениальные художественные произведения». Тем не менее за эту публикацию издателю «Русского дела» был объявлен выговор. Предисловие Толстого под названием «Трудолюбие, или Торжество земледельца» см.: Юб. Т. 25. С. 463-475. В 1890 г. сочинение T. М. Бондарева с предисловием Толстого было издано на французском языке (Léon Tolstoi et Timothée Bondareff. Le travail. Traduit du russe par B. Tseytline et A. Pagès. Paris, 1890). В апреле 1895 г. Толстой написал статью о T. М. Бондареве для «Критико-биографического словаря русских писателей» С. А. Венгерова (Т. 5. СПб., 1897. С. 447-453; Юб. Т. 31. С. 69-71). Подробнее о T. М. Бондареве см. в библиографическом указателе: Сибирский крестьянин Тимофей Бондарев и Лев Толстой. Абакан, 2010.
2 О своем намерении откликнуться в печати на готовившееся Страховым новое издание исследования Н. Я. Данилевского «Россия и Европа» Вл. С. Соловьев известил редактора-издателя журнала «Вестник Европы» М. М. Стасюлевича еще 17 сентября 1887 г. из Воробьевки: «Приятель мой Страхов готовит 4-ое [3-е. — Сост.] из532
дание „России и Европы“ Данилевского. Мой взгляд на это сочинение диаметрально противоположен взгляду Страхова, и я готовлю обстоятельный разбор „России и Европы“ с присоединением некоторых замечаний и о „Дарвинизме" того же автора. Я хотел было назвать свою статью „Философия пустых претензий“, но из уважения к памяти Данилевского, который в других отношениях был почтенный и разумный человек, переменю заглавие. Когда этот разбор будет готов, пришлю его Вам, если же не сойдемся (чего не думаю), то имею в виду „Русскую Мысль“» (Соловьев. Письма IV. С. 32). Заручившись поддержкой редактора журнала, Соловьев приступил к работе над материалом и сообщил о своем замысле Страхову. В письме от 26 октября 1887 г. он уточнял: «О новом издании „России и Европы“ я желал знать потому, что, перечтя эту книгу (последнее время в Воробьевке), задумал написать ее разбор. Разумеется, могу начать его хоть сейчас, но печатать нужно будет лишь по выходе (...) издания и по его поводу» (Соловьев. Письма I. С. 39). Не получив от Страхова суждения по поводу своего намерения, Соловьев в письме от 10 ноября замечал: «Из умолчания Вашего о „России и Европе“ заключаю (быть может, ошибочно), что мой разбор этой книги не представляется Вам особенно желательным. Я с своей точки зрения считаю его нужным, не настолько, однако ж, чтобы пренебрегать дружеским взглядом» (Там же. С. 42). Предчувствуя возможную болезненно-щепетильную реакцию Страхова на избранный для научного анализа предмет, Соловьев счел необходимым предварить свои дальнейшие действия подробным объяснением с изложением причин, побуждавших его взяться именно за разбор книги Данилевского. В том же письме от 10 ноября он сообщал Страхову: «Но войдите в мое положение (...) Духовные журналы для меня закрыты окончательно и безусловно. Всякое положительное развитие моих мыслей сводится на проповедь Вселенской Церкви и примирения с папством, чего ни один светский журнал (....) допустить не может, не говоря уже о цензуре. Остается, следовательно, излагать отрицательную или критическую сторону своих мыслей. Но, помимо запретной духовной сферы, что же могу я взять объектом своей критики? Мракобесие? (....) Значит, кроме славянофильства вообще и Данилевского в частности, никакой пищи для моей критики не найдется. Если бы Вы в „Борьбе с Западом“ противупоставили сему западу что-нибудь определенно-восточное, то я вместо Данилевского посвятил бы статью Вам; теперь же придется говорить о Вашей книге только в связи с „Россией и Европой“. Разумеется, Вы по тонкости и широте ума неизмеримо выше своего покойного друга (так же, как и живого божка, что на Девичьем поле) (Л. Н. Толстой. — Сост.), но он (покойный) соорудил некоторое неуклюжее здание, которое стоит на моей дороге. Тем не менее я не стал бы писать отдельной статьи, если бы мог писать или издавать что-нибудь другое. — Вот Вам мое объяснение по сему предмету» (Там же). В начале декабря Страхов откликнулся на намерение Соловьева и переслал ему в Москву оттиск с текстом своего выступления в Петербургском славянском благотворительном обществе (март 1886 г.), посвященного книге Данилев533
ского (см. примеч. 5 к п.382); 5 декабря Соловьев уведомлял Страхова: «Спасибо за присланную заметку о „России и Европе“. О значении Данилевского по отношению к прежним славянофилам я говорю в сущности то же, что и Вы. Первая моя статья (их будет две или три) готова и посылается завтра. Если цензурный террор или тонкая политика С [тасюлевича] не воспрещают, то Вы на днях получите корректуру» (Соловьев. Письма I. С. 43). Отправляя на следующий день рукопись в Петербург, Соловьев замечал в сопроводительном письме к Стасюлевичу: «... посылаю Вам первую статью о „России и Европе“. Как Вы увидите, я принял в соображение цензурные условия и исключил всё собственно политическое, а также всё, что могло бы подлежать духовной цензуре. Если статья будет печататься в „Вестнике Европы“, то прошу Вас покорнейше распорядиться, чтобы первая корректура (в гранках) посылалась Н. Н. Страхову (в Петербурге) (...), а вторая (сверстанная) мне в Москву (...) В случае же непомещения статьи в ,,В[естнике] Е[вропы]“, сделайте мне одолжение — пришлите рукопись» (Соловьев. Письма IV. С. 32). Получив от Страхова письмо (остается неизвестным) с соображениями об основных положениях историософской теории Данилевского и предваряя возможные возражения Страхова на критику этих построений, Соловьев в следующем письме к корреспонденту решает более пространно высказаться по существу своего взгляда: «Возвращаясь к моему разбору России и Европы, я должен возразить на Ваши предварительные замечания. Национальность есть факт, который никем не игнорируется. Но в славянофильских теориях мы имеем дело не с национальностью, а с национализмом. Это, пожалуй, тоже факт — на манер чумы или сифилиса. Смертоносность сего факта особенно стала чувствительна в настоящее время, и противодействие ему вполне своевременно и уместно. Как я уже Вам писал, мне поневоле придется ограничиться отрицательною критикой, так как положительная сторона дела и нецензурна, и нелиберальна (...) Само собою разумеется, что ничего оскорбительного для памяти Н. Я. Данилевского (в роде глупой брани Тимирязева) в моем разборе не будет, а из дружбы к Вам постараюсь исключить или смягчить всё резкое относительно самих идей и воззрений, излагаемых в „России и Европе". (...) Если хотите, в случае печатания моего разбора в „Вестнике Европы“, я распоряжусь, чтобы Вам присылали корректуры и предоставлю Вам исправлять всё для Вас прямо неприятное по отношению к памяти Н. Я. [Данилевского]. Не сомневаюсь, что Вы сделаете подобные исправления или смягчения так добросовестно и умело, что моя статья от этого только выиграет» (письмо от 6 декабря. — Соловьев. Письма I. С. 45-46). Оставаясь в неизвестности относительно судьбы посланного в журнал материала, Соловьев тем не менее и в письме от второй половины (до 25) декабря подтвердил свое доверие редакторскому чутью Страхова и заранее вроде бы одобрял его возможное вмешательство в текст своей статьи: «А я еще не получил никакого известия о своей статье, посланной еще 7 декабря. При всегдашней аккуратности и любезности Стасюлевича это меня несколько удивляет. Вероятно, гадают: что сей сон значит, и не будет ли дальше какой534
нибудь антилиберальной загвоздки. — Если пришлют Вам корректуру, — пожалуйста, черкайте всё для Вас неприятное: право, я вовсе не расположен обижать без высшей необходимости даже своих врагов, а тем менее друзей. / Но выходку против рыночного патриотизма (не имеющего ничего общего ни с поэтическим национализмом прежних славянофилов, ни с наукообразным национализмом Данилевского) — эту выходку Вы оставьте; она, кажется, забавна и ни к кому лично не относится» (Там же. С. 48-49. — Курсив Соловьева). Через месяц после отправки рукописи в «Вестник Европы» Соловьев решает напомнить о себе в редакции и запрашивает Стасюлевича о предполагаемом времени появления статьи в печати: «... не получая от Вас никакого известия касательно посланной месяц тому назад статьи „Россия и Европа“, предполагаю, что она будет печататься для Февральской кн. „Вестника Европы“. Если так то покорнейше прошу прислать мне корректуру (после Страхова) (...) Корректура мне нужна непременно, так как некоторые стилистические поправки необходимы, да и страховскую редакцию все-таки нужно будет проконтролировать» (письмо от 3 января 1888 г. — Соловьев. Письма IV. С. 33. — Курсив Соловьева). Стасюлевичу просьба Соловьева о редакторском участии Страхова в прохождении его статьи показалась, вероятно, неожиданной, и он запросил подробностей, которые Соловьев представил в письме от 12 января: «Виноват перед Вами, что не объяснил Вам как следует своего желания. Всё дело здесь исключительно в личных отношениях. Я хотел только предоставить Страхову смягчить выражения оскорбительные (буде он найдет такие) для памяти Данилевского, к которому он благоговеет. Я этого чувства не разделяю, но не желал бы слишком оскорблять его ради старых приятельских отношений к Страхову. Впрочем, кажется, ничего обидного для Данилевского лично в моей статье не находится» (Там же. С. 34). На отказ Стасюлевича привлечь к редактированию материала Страхова Соловьев, не настаивая на своем намерении, в том же письме заметил: «Может быть, смягчу что-нибудь сам, Страхову же скажу, что по обычаям „Вестника Европы“ найдено неудобным предоставлять корректуру постороннему лицу» (Там же). Действительно, в конце января Соловьев пытается предложить Страхову приемлемое для него изложение событий, придав всему вид ничего не значащего недоразумения: «...должен известить Вас (простите, что немного с этим запоздал, — впрочем, дело неважное), что Стасюлевич проявил редакторское самолюбие, отказавши допустить между автором и редактором третье лицо. Очевидно, он смотрит на эту литературную связь гораздо строже, чем иные мужья на союз брачный (...) Итак, я сам держал корректуру своей статьи, но при этом старался производить на самого себя „мысленное внушение“ от Вашего лица» (письмо от 30 января. — Соловьев. Письма 1. С. 50).
3 В февральской книжке «Вестника Европы» появилась первая часть статьи Соловьева; ее продолжение последовало в апрельском номере журнала. См.: Соловьев Вл. Россия и Европа. — ВЕ. 1888. Февраль. С. 742-761. Апрель. С. 725-767; вошло в: Соловьев Вл. С. Национальный вопрос в России. Вып. 1. Изд. 2-е, доп. СПб., 1888; см. так535
же: Соловьев Вл. С. Сочинения. М., 1989. Т. 1. С. 333-396. Отдавая должное некоторым научно-практическим заслугам Н. Я. Данилевского, Соловьев в статье, направленной против «площадного патриотизма и национализма», пишет, вероятно, в виде уступки Страхову, что Данилевский обладает «крупным умственным дарованием и безукоризненным нравственным характером», однако не признает новаторства книги «Россия и Европа» и отрицает наличие каких-либо положительных задатков «для великого и независимого будущего России в области мысли и знания» (Соловьев Вл. С. Сочинения. Т. 1. С. 349).
4 Речь идет о трактате Толстого «О жизни», печатавшемся отдельным изданием в московской типографии А. И. Мамонтова в течение почти пяти месяцев (с августа по декабрь 1887 г.) и подготовленном Толстым и Н. Я. Гротом к выходу в свет к январю 1888 г. Представленная в Московский цензурный комитет, книга долгое время находилась на рассмотрении. Толстой рассылал отдельные экземпляры отпечатанного издания некоторым из своих знакомых для прочтения. Окончательно судьба издания была решена в начале апреля 1888 г. — книга не прошла ни общегражданскую, ни духовную цензуру, ее распространение было запрещено, а тираж подлежал сдаче в Архив Московского цензурного комитета (см.: Юб. Т. 26. С. 780-781).
5 Статья Соловьева, в которой за Россией не признается права на развитие в области культуры, вызвала ряд полемических откликов, в том числе и статью Страхова «Наша культура и всемирное единство. Замечания на статью г. Влад. Соловьева: Россия и Европа („Вестник Европы“, 1888, февр. и апрель)» (РВ. 1888. Июнь. С. 200-256). Вместе с тем, Страхов, еще не зная содержания статьи Соловьева, вероятно, желал появления ее в печати; 10 января, имея в виду задержку в публикации материала, он не без иронии писал А. А. Фету: «Очень виноват я перед Вл. Серг. Соловьевым — до сих пор не отвечал ему. (...) Очень досадно, что не придется ему, кажется, блистать в „Вестнике Европы". Там они свою дребедень считают куда важнее и интереснее и — главное! — полезнее его статей» (Фет. Переписка II. С. 448). Однако, ознакомившись с сочинением Соловьева, он не мог скрыть своего разочарования и в письме к тому же корреспонденту замечал: «Никак не собрался еще написать Соловьеву; всё не найду тона. Вот уж не ожидал, что он напишет в таком явно враждебном тоне. Что ж? И отвечать следует враждебно? Потешил он беса; Скабичевский пришел в восхищение, а Стасюлевич — то-то, я думаю, радовался! Но подождем следующих статей; тогда дело будет виднее» (письмо от 20 февраля. — Там же. С. 451).
6 Имеются в виду: «Три речи в память Достоевского (1881-1883)» и «Заметка в защиту Достоевского от обвинения в „новом" христианстве» (Соловьев Вл. С. Сочинения. Т. 2. С. 289-318; С. 319-323).
7 Страхов скептически относился к восторженной характеристике Соловьевым Ф. М. Достоевского как «„ясновидящего предчувственника" истинного христианства» (Там же. С. 302) и не принимал более позднего противопоставления философом 536
в западническом духе «Пушкинской речи» Достоевского его консервативной публицистике.
8 Ср. у Вл. Соловьева: «... Россия, при всех своих особенностях, есть одна из европейских наций» (Соловьев Вл. С. Сочинения. Т. 1. С. 352).
9 В контексте рассуждений о «национальном мистицизме» Соловьев признавал его свойственным «не исключительно русским, а и другим полудиким народам Востока» (Там же. С. 349). На это противоречие в суждениях Соловьева Страхов сослался и в письме к А. А. Фету от 20 февраля (Фет. Переписка II. С. 451).
10 Письмо Страхова остается неизвестным.
и Лесевич В. В. Что такое научная философия. — Русская мысль. 1888. Январь (Кн. 1). Отд. 2. С. 1-26. Февраль (Кн. 2). Отд. 2. С. 5-60. На статью Лесевича обратил внимание Страхова Вл. Соловьев в письме от 30 января: «На днях был у меня другой философ, [Н. Я.] Грот, и с большим аффектом передавал, что некто г. Лесевич в „Русской Мысли“ разнес всех русских философских писателей последнего времени. Во главу угла он, по словам Грота, поставил меня, затем досталось Вам, в особенности же ему, Гроту» (Соловьев. Письма I. С. 50).
12 Представитель либерально-позитивистской философии В. В. Лесевич, отождествлявший науку и философию, выступил с резкой и довольно развязной критикой противников позитивизма, в том числе Вл. С. Соловьева, Л. М. Лопатина, Н. Н. Страхова и А. А. Козлова. О Страхове Лесевич писал: «Но вот хоть г. Н. Страхов, глубокоуважаемый г. Страхов, который, наверно воображает, как петух в басне, что солнце восходит лишь из-за страстного желания слушать его пение, — какое снадобье он придумал? Первым источником своих воззрений он считает науку, а вторым — метод Гегеля. И чем же это не „венец стряпни и знанья“? Ну что за суета и всяческая суета: через пятнадцать лет после того, как из хаоса фельетонов и был создан г. Страховым его никуда не годный Мир он еще вспоминает о нем с наивною любовью и еще раз предлагает читателю целые страницы этого незабвенного для самого автора творения. И не замечательно ли, что книга, в которой влюбленный в самого себя философ забавляется цитирование самого себя, носит подзаглавие: Мой спор о спиритизме. Мой! — без этого нельзя, читатель обязан с головою окунуться во все эти воспоминания, отношения, дружеские излияния — словом, во всю эту лирическую логоррею, в которой „я“, „мне“, „меня“, „нас“ томит и изнуряет в конец» (Русская мысль. 1888. Январь (Кн. 1). Отд. 2. С. 5). А. А. Козлов предлагал Страхову через Н. Я. Грота помочь ему напечатать статью с критикой этого агрессивного позитивиста в «Русском вестнике» (см.: Письма Н. Я. Грота к Н. Н. Страхову. — ОР РНБ. Ф. 747. Ед. хр.13. Л. 9-10).
13 Т. е. «Я» (англ.) с большой буквы.
14 Т. е. признает научными авторитетами только Ч. Дарвина и Д. С. Милля.
537
Около 26 порто
1888 г. Носкво
15 Письмо от известного в будущем писателя и мыслители В. В. Розанова, тогда служившего учителем в Елецкой гимназии, послано 22 января 1888 г. (см.: Розанов В. В. Собр. соч. [Т. 13]: Литературные изгнанники. ... Переписка В. В. Розанова с Н. Н. Страховым. С. 144-147). Страхов ответил через пять дней — Т1 января. С январского обмена письмами у Розанова со Страховым завязалась продолжительная дружеская переписка, не прерывавшаяся до последних дней жизни философа. Это первое упоминание Розанова в переписке Страхова и Толстого.
16 Вдова Н. Я. Данилевского.
17 Страхов возвращается к полюбившейся ему мысли Толстого о том, что человек «обязан быть счастливым» (см. п. 380).
18 Первое представление драмы Толстого «Власть тьмы» состоялось в Свободном театре в Париже 10 февраля 1888 г.
19 О непригодности пьесы для театра писали, например, М. де Вогюэ — см.: Пантеон литературы. 1888. № 4. Современная летопись. С. 1-27, а позже — Ю. Н. ГоворухаОтрок: Николаев Ю. [Говоруха-Отрок Ю. Н.] Литературные заметки. «Власть тьмы», драма графа Л. Н. Толстого. — МВед. 1890.3 февр. № 34. С. 3-4.
20 См. об этом же в письме к А. А. Фету от 20 февраля: «Не раз благословляю я свое решение — оставить Библиотеку и всё прочее. Здоровье мое — очень удовлетворительно, а скуки вовсе не полагается — вот я и счастливее Члена Государственного Совета!» (Фет. Переписка II. С. 452).
21 Страхов занимался подготовкой третьего издания историософского труда Н. Я. Данилевского «Россия и Европа» и читал в это время корректурные листы книги. Через две недели (после написания настоящего письма) он извещал А. А. Фета: «Вчера подписал последнюю корректуру „России и Европы“ (...) Сегодня мой первый свободный день» (письмо от 20 февраля 1888 г. — Фет. Переписка II. С. 451-452).
22 Сборник Страхова «Критические статьи об И. С. Тургеневе и Л. Н. Толстом (1862-1885) » вышел в 1887 г. вторым изданием.
389
Толстой — Страхову
Дорогой Николай Николаевич.
Я у вас в долгу по письмам1, но вы простите меня. Благодарю вас за книгу Данилевского2. —
538
Письмо это передаст вам Pagès (Пажес)3, мой молодой французский друг. Он перевел между прочим очень неполное и неточное издание «Что же нам делать», сделанное в Швейцарии под заглавием: «Какова моя жизнь»4. — Он мне очень понравился: умный, образованный и, что редкость, — свободный человек5. Будьте к нему добры, пожалуйста, и не столько поруководите по Петербургу, сколько сами серьезно побеседуйте с ним. Ему это будет интереснее всего; и я с этой целью его и направляю к вам.
Любящий вас
Л. Толстой
Печатается по: ОР ГМТ. Ф.1.№5463. Л. 1-1 об.
Впервые: День. 1913. 7 нояб.
№ 302. В /Об.: Т. 64. С. 158. Датируется по содержанию.
1 Толстой не ответил на письмо Страхова от 5 февраля (п. 388).
2 Подразумевается подготовленное Страховым 3-е издание работы Н. Я. Данилевского «Россия и Европа. Взгляд на культурные и политические отношения славянского мира к германо-романскому» (СПб., 1888; с предисловием Страхова). Присланный Страховым экземпляр в сохранившемся фонде книг яснополянской библиотеки не представлен. В собрании Толстого имеется 4-е изд. исследования Данилевского, также выпущенного Страховым (СПб., 1889. ХХХХ, 610 с.). Экземпляр не содержит дарственной надписи Страхова и следов чтения Толстого (Описание ЯПб. T. 1, ч. 1. С. 251. № 980). Согласно записи в дневнике В. Ф. Лазурского, Толстой выборочно читал труд Данилевского в июле 1894 г., когда Страхов в Ясной Поляне просматривал корректуры очередного (пятого) издания «России и Европы». Судя по характеру зафиксированных очевидцем высказываний, Толстой скептически относился к культурно-историческим построениям Данилевского (записи от 3 и 4 июля 1894 г. — АН. Т. 37-38. С. 458-459; ср. также: С. 449).
3 Эмиль Пажес (Pagès), профессор философии Сорбонского университета в Париже, переводчик. Тогда же Толстой рекомендовал Пажеса и гр. А. А. Толстой в Петербурге: «Письмо это передаст вам Emile Pagès, professeur de philisophie, переводчик, несмотря на то, что он ни слова не знает по-русски, части моей книжки „Что же нам делать?“. Ему переводил русский mot à mot [слово в слово, фр.], а он излагал. Он очень милый, молодой, но серьезный и образованный человек. Впрочем, je suis payé pour le trouver tel [здесь: я сужу предвзято, фр.]: он большой сторонник моих взглядов. — Я его рекомендовал в Петерб[урге] людям специальным (и плохо знающим по-франц[узски]), но думаю, что ему желательно бы и общий взгляд, и придворный, может быть. Он очень деликатный и скромный молодой человек, и если вы примете 539
его и поговорите с ним Ц часа, то и за то и я и он, мы будем благодарны, если же случится возможность помочь ему в чем-нибудь, как путешественнику, то вы, верно, не откажете» (Юб. Т. 64. С. 159; ТТП. С. 443). А. А. Толстая отвечала 28 марта: «Вчера вечером в полночный час получила ваше письмо, дорогой Лев, и при оном карточку г. Эмиля Пажес с надписью, вызывающей меня на свидание. / Сегодня утром написала ему, назначая rendez-vous [свидание, фр.] на завтра... » (ТТП. С. 444. — Из-за отъезда Пажеса встреча не состоялась). Письмо А. А. Толстой дает основание для уточнения датировки обращения Толстого к Страхову. См. также: Гусев. Летопись I. С. 692.
4 Неполный текст статьи Толстого «Так что же нам делать?» под заглавием «Какова моя жизнь?» был напечатан в Женеве в 1886 г. в издательстве М. Элпидина. Перевод Пажеса на французский язык («Quelle est ma vie?» Traduit par É. Pagès et A. Gatzouk. Paris, 1888) был выполнен по этому изданию.
5 Пажес произвел благоприятное впечатление и на С. А. Толстую. Возвращаясь позднее в мемуарах к этому времени, она писала: «Помню я, как приезжал к нам тогда, в январе, французский молодой философ, Mr Pagès. (...) Pagès мне очень понравился своим пониманием мыслей Льва Николаевича, своим тонким образованием, этой изысканной французской вежливостью, которой так недостает русским» {Толстая. Моя жизнь И. С. 49). См. примеч. 17 к п. 393.
390
6 апреля 1886 г. Санкт-Петербург
Страхов — Толстому
Всегда мне хочется многое сказать Вам, бесценный Лев Николаевич, но скажу хоть то, что занимает меня в эту минуту. Покорно Вас благодарю за Пажеса1; вот знакомство очень приятное и даже удивительное! Он просидел у меня часа три, и с каждой минутой я всё больше убеждался, что это истинно серьезный человек, действительно понимающий философию. Каковы французы, думал я! Судя по их литературе, никак нельзя было ожидать, что у них есть настоящее философское движение. Его суждения о своих, о Рибо2, Ренане, Мунке3, Жанэ4, Вогюэ и т. д. были совершенно беспристрастны и так же строги, как если бы их произносил философски образованный немец. Он с восхищением принялся 540
говорить об Вас и ценил и Вас лично, и Ваш разговор, и Ваши сочинения так верно и с таким сочувствием, как дай Бог всякому русскому. Это знакомство хотелось бы поддержать. Я дал ему три своих книги (ему будут читать приятели, знающие по-русски), но забыл указать на «Основные понятия»5 (не было под рукою), т. е. забыл о главной своей книге.’6 Рассеянность эта очень меня огорчила за меня самого — верно, старость подходит не на шутку. Пошлю ему книгу в Париж и, как умею, напишу письмо.
Теперь же я весь наполнен статьями Соловьева7, которого и видел много раз и с которым долго говорил об этих его статьях. Чем больше думаю об этом деле, тем печальнее вывод. Статьи (об «России и Европе»8) так пусты и жидки и писаны с такими скверными замашками, что я останавливаюсь на мысли — отвечать ему самым решительным и уничтожающим образом9. Это большое разочарование. Мне уже не верится ни в его ум, ни в искренность. Я в глаза несколько раз называл его лукавым в приемах и выражениях, и он или не мог ничего ответить, или отвечал — мне так нужно было сделать. Когда я подумаю, что он ничего не знает основательно, что он вовсе не способен понимать правильно книгу или человека (об Достоевском, об «России и Европе», обо мне — он писал и говорил что-то вовсе постороннее, неверное, неясное), что он постоянно только выкидывал фокусы для того, чтобы поразить читателей и слушателей и выставить себя — таковы были и его лекции в Университете и его статьи и публичные лекции, то, несмотря на его удивительные способности, я начинаю в нем видеть актера, а не мыслителя и писателя, да и актера, чем-то одурманенного10. Еще неделю я решил не писать, а обдумывать11; но мне так тяжело выбирать тут наименьшее из зол!
А есть и другая трудность — нужно говорить о патриотизме, о политике, о предметах, где так легко сбиться с правильного пути, т. е. с пути любви и смирения. Пожалуй, напишу статью, которой свои же (т. е. «Русский вестник») не примут. Нет мне никакого удовольствия участ541
вовать в этом журнале; он имеет дух и тон, в сущности, ничем не отличающийся от «Гражданина»12.
Вот Вам мои горести. Если Вы читали статьи Соловьева, или вообще, если найдете это дело достойным внимания и скажете мне для назидания Вашу мысль, то истинно утешите меня и поможете мне13.
Прощаясь со мной, Соловьев просидел у меня вечер один на один, и подробности этого разговора многое мне прояснили. Темы, на которые нужно писать статью, готовы. В лжи нет никакого спасения и от лжи ничего, кроме вреда, не может произойти14. Только искренний и добросовестный человек может сделать что-нибудь полезное. Пользоваться тем хаосом и противоречием, которое царит в России в умах и сердцах, значит увеличивать этот хаос, поддерживать его.
Дай Вам Бог здоровья, Лев Николаевич! Не могу выразить, как меня радует Ваша слава, растущая видимо, с каждым днем. К Вам следует применить слова:
Ударит по сердцам с неведомою силой15.
Против Вас проповедуют в церквах и в аудиториях16, но Ваше слово и Ваше дело останется навсегда. Теперь везде продают «Пахаря»17, фотолитографию Репина, очень удачную. Гляжу и радуюсь; в этой картинке всё сказано, и она переживет все произведения Репина.
Поздравляю Вас и Софью Андреевну с сыном18. Как я рад, что всё так благополучно. А Татьяна Андреевна порядочно помучилась19. Вчера я обедал у них, и была у них Ольга Андреевна Голохвастова20, к несчастью, не совсем здоровая. Обед был веселый все-таки.
Кстати: Соловьев мне похвалился, что обедал у Гинцбурга21, и были там, кроме иных, Стасюлевич, Валуев, Гончаров, Пыпин; кроме того, что он познакомился с посланниками и что английский посланник был у него22. Говорю: похвалился, потому что на вопрос, о чем же шла речь, ничего ровно не сказал. Всё это немножко обрисовывает его положение.
Сегодня я узнал в магазине приятную новость: триста экземпляров «России и Европы» проданы в этот первый месяц23.
542
Посылаю Вам «Буддизм» И. П. Минаева, нашего знаменитого санскритолога. Он величайший Ваш почитатель и просил меня переслать Вам книгу24.
Читал я статью Вогюэ о «Власти тьмы»25; он не справился с задачей, но важно здесь выражение того впечатления, которое Вы производите у французов; они как будто в потемках вдруг увидели свет с Востока.
Простите меня, бесценный Лев Николаевич. Дай Бог Вам здоровья; мое усердное поздравление26 и почтение графине.
Ваш от всей души
Н. Страхов
1888.
6 апр[еля].
Спб.
Печатается по: РО ИРПИ. Ф. 302. Оп. 2. Ед. хр. 300. Л. 151-152.
Впервые: Современный мир. 1913. №11. С. 368. №12. С. 369-371.
Ответ на п. 389.
1 Страхов благодарит Толстого за возможность познакомиться с Эмилем Пажесом (Pagès) — профессором философии Сорбонского университета (см. примем. 3 к п. 389). Пажес писал Толстому после возвращения из России: «Я видел Петербурге (...) г-на Страхова. Г-н Страхов задержал меня у себя довольно долго. Там был один профессор философии, который прекрасно говорит по-французски и хорошо знаком с нашими работами. У нас состоялась весьма полезная беседа. Г-н Страхов также любезно предоставил мне несколько книг, которые окажутся мне полезными для того, чтобы я узнал больше о России... » (ГАТТ).
2 Теодюль Арман Рибо (Ribot), французский философ и психолог, профессор сравнительной и экспериментальной психологии Коллеж де Франс в Париже. С 1876 г. Рибо издавал журнал «Revue philosophique» («Философское обозрение»).
3 Соломон Мунк (Munk), профессор семитических языков в College de France.
4 Поль Жанэ (Janet), французский философ, автор книги «La philosophie française contemporaine» (Paris, 1879).
5 Об основных понятиях психологии и физиологии (СПб, 1886).
6 Страхов считал эту книгу главной, так как в ней отразились его взгляды после отказа от гегельянства.
7 Имеется в виду начало и окончание статьи Вл. С. Соловьева «Россия и Европа», появившиеся в февральском и апрельском номерах журнала «Вестник Европы». 13 февраля Соловьев извещал М. М. Стасюлевича о продолжении работы над материалом: «Новый прием цетварного семени готовится (...) Думаю выехать [в Петербург]
543
8 марта, но, если хотите, могу прислать часть статьи раньше, а конец привезу с собою. Корректуры в гранках мне на этот раз не нужно. Перемен в тексте не предвижу (...) Для второй статьи (при окончательной обработке) я желал бы воспользоваться новым изданием „России и Европы", в котором должны быть некоторые любопытные ретрактации Данилевского. Но, кажется, Страхов этого устрашился и задерживает издание до окончания моей статьи. Это выходит в роде того, как в молодости случалось пересиживать соперника у какой-нибудь прекрасной дамы» (Соловьев. Письма IV. С. 35. — Курсив Соловьева).
8 См. примеч. 2, 3 к п. 388.
9 См. примеч. 5 к п. 388. На решение Страхова отвечать в печати Вл. Соловьеву повлияло, вероятно, среди прочего и то обстоятельство, что во второй части статьи Соловьев от разбора историософских и естественно-научных взглядов Н. Я. Данилевского перешел к критике воззрений Страхова, придав тем самым полемике новое направление. А. А. Фету Страхов писал 18 марта: «Виделся я, наконец, с Соловьевым, и даже он прочел мне то, что явится в апрельской книжке. Это уже дело серьезное, не то, что было в февральской. Но, в конце концов, я теряю веру в Соловьева. Когда человек добровольно откажется от умственной свободы, он уже не может рассуждать вполне разумно и ясно. Придется мне отвечать; он и против меня пишет, доходит до того, что называет меня материалистом и западником. О Боже мой! Если он меня не понял, то что же другие? Как же плохо написано всё, что я писал!» (Фет. Переписка II. С. 454). Захваченный мыслью возражать оппоненту, Страхов с марта готовил свой ответ и в начале апреля извещал Фета о проделанной работе: «Теперь весь поглощен статьею Соловьева, появившеюся в апреле ,,В[естника] Евр[опы]“. Нужно будет отвечать, и зло меня разбирает большое. Очень уж развязно и бессвязно сплетена эта статья» (письмо от 3 апреля. — Там же. С. 455). На обдумывание и написание материала ушел остаток весны; 10 мая Страхов сообщил Фету: «... я так был поглощен статьею против Соловьева, что не мог оторваться. Да и нужно было торопиться. Сегодня, 10-го, вижу, что осталось дописать всего две страницы, и я отложил работу, чтобы вздохнуть немножко (...) Наш друг Соловьев будет в моей статье осмеян и растрепан по заслугам. С тяжелым чувством писал я, но Вы увидите, что иначе нельзя было, и по мере того, как продвигалась работа, я всё больше убеждался, что действую справедливо, даже, что следовало быть гораздо строже» (Там же. С. 456). Страхов завершил написание статьи в тот же день, и ответ Соловьеву под заголовком «Наша культура и всемирное единство» появился в июньском номере журнала «Русский вестник» (С. 200-256; вошло в: Страхов Н. Н. Борьба с Западом в нашей литературе: исторические и критические очерки. Книжка вторая. 2-е изд. СПб., 1890. С. 218-286). Но и после выхода публикации Страхов некоторое время продолжал оставаться под впечатлением проведенной полемики. В начале июня он писал по этому поводу Фету: «Ну что-то Вы скажете о моей статье? Меня всё еще занимают мысли о Соловьеве.
544
В газетах пишут, что он в Париже (...) проповедует соединение церквей. / А я всё больше удивляюсь его подавторитетности. Ведь он не решается отказаться от Дарвина, он мне прямо говорил. Почему же? Потому что у него не хватает соображения, чтобы обнять всю аргументацию, а Дарвин давит своим авторитетом. / Данилевский всё больше и больше растет в моих глазах. Знаете, когда вчитываешься, то начинаешь яснее видеть. После него я иногда с негодованием бросаю иную ученую и знаменитую книгу — такое жалкое плетение!» (письмо от 4 июня. — Фет. Переписка II. С. 458. — Курсив Страхова). Один из основных упреков Страхова Соловьеву сводился именно к обвинению философа в слабости самостоятельной мысли. В этой связи он замечал в письме к Фету от 15 июля: «На тему, что нужно стоять на своих ногах, можно сказать многое; всю жизнь мне было противно рабское умственное подчинение, которое у нас так обыкновенно, и я умею, кажется, отличить его от сознательного уважения авторитета. Соловьев очень отважен, но у него нет сознания почвы под ногами, нет внутри точек опоры, и он ищет их вне — в догматах, в Риме. (...) Право, тяжело и мучительно жить среди такого умственного разлада...» (Там же. С. 461. — Курсив Страхова). Несмотря на независимость собственных суждений и оптимистические ожидания, статья Страхова получила более чем скромное внимание со стороны читателей. Сам автор жаловался на низкий интерес к его материалу в письме к Фету от 22 июня: «Статья против Соловьева имеет большой успех у знакомых, но в печати — кажется, ни единого звука!» (Там же. С. 460). Почти месяц спустя Страхов подводит неутешительный итог своей дискуссии с Соловьевым: «Благодарю Вас за похвалы моей полемике, но в печати и в публике, кажется, я не имел успеха» (письмо Фету от 15 июля. — Там же. С. 461). В отличие от Страхова Соловьев остался вполне доволен реакцией пишущего и читающего сообщества на его статью и полученной в печати оценкой проведенной им полемики. См. его написанное по возвращении из Петербурга в Москву обращение к о. П. Пирлингу от 7 апреля (примеч. 28 к п. 394).
10 Страхов и позднее отрицательно высказывался по поводу полемических приемов Вл. Соловьева (см. запись в дневнике В. Ф. Лазурского от 22 июня 1894 г. — АН. Т. 37- 38. С. 449). Тогда же Толстой, вспоминая публичные лекции Соловьева, назвал их «вздором» и «бредом сумасшедшего» (Там же. С. 466 — запись от 14 июля 1894 г.).
11 К написанию статьи Страхов приступил, вероятно, во второй половине апреля (см. примеч. 9). В конце месяца он сообщал В. В. Розанову, что «очень занят статьею против Вл. Соловьева, которую теперь пишу» (письмо от 29 апреля 1888 г. — Розанов В. В. Собр. соч. [Т. 13]: Литературные изгнанники. ... Переписка В. В. Розанова с Н. Н. Страховым. С. 11). См. также примеч. 1 к п. 391.
12 О журнале «Русский вестник», созданном Катковым, Страхов отзывался по-разному, но из-за отсутствия других подходящих органов печати для литератора, имеющего репутацию консерватора, был вынужден печататься в нем, как и в «Гражданине».
545
13 Толстой отозвался о Вл. Соловьеве еще в письме от 19 мая 1887 г. (п. 374). Судя по отдельным замечаниям в письмах Соловьева, около этого времени (зимой 1887/88 г.) между ним и Толстым произошло некоторое сближение. Одна из таких встреч состоялась в доме А. А. Фета на Плющихе еще 18 ноября. Присутствовавший на ней Н. Я. Грот писал родителям, что Толстой и Соловьев «беседовали часа три и обсуждали вопросы о бессмертии души и другие философские (...) Споры были любопытные» (цит. по: Гусев. Летопись I. С. 680-681). В начале декабря 1887 г. Соловьев извещал Страхова из Москвы: «... чуть было не забыл сообщить Вам важное известие: я вполне примирился с Л. Н. Толстым.; он пришел ко мне объяснить некоторые свои странные поступки, а затем я у него провел целый вечер с большим удовольствием, и если он всегда будет такой, то буду посещать его» (письмо от 5 декабря. — Соловьев. Письма I. С. 44). Около середины декабря Соловьев вновь сообщил Страхову о встречах с Толстым в Москве и состоявшихся между ними беседах: «В прошлое воскресенье зашел ко мне вторично Л. Н. Толстой и с восторгом говорил о Вашей статье против дарвинизма. / Относительно сделанных им из нее заключений (что дарвинизм есть такая глупость, которая не стоит опровержения, что увлечение этою теорией было невольным сумасшествием и т. п.) je reserve mon opinion [я придерживаюсь особого мнения, фр.], но самую статью Вашу, конечно, прочту не с меньшим восхищением, чем он» (Там же. С. 48). Продолжались встречи и в январе 1888 г. (см. письмо Фета к С. А. Толстой от 25 января. — Фет. Переписка II. С. 161). См. также примеч. 23 к п. 396.
14 Применительно к Вл. Соловьеву Страхов повторил эту мысль в письме от 13 сентября 1888 г. (п. 394).
15 Цитата из стихотворения А. С. Пушкина «Ответ Анониму» (1830).
16 В 1886-1888 гг. усилилась деятельность церковных изданий по опровержению религиозно-философского учения Толстого (см. Христианство и новая русская литература XVIII—XIX вв.: библиографический указатель / сост. А. П. Дмитриев, Л. П. Дмитриева. СПб., 2002. С. 397-401).
17 И. Е. Репин. Пахарь. Л. Н. Толстой на пашне. 1887. ГТГ. См. примеч. 17 к п. 379, а также п. 382.
18 31 января 1888 г. у Толстых родился сын Иван («Ванечка»). См.: Толстая. Моя жизнь II. С. 52.
19 У Т. А. Кузминской родился сын Дмитрий.
20 Писательница, жена П. Д. Голохвастова.
21 Гораций Евзелиевич (Осипович) Гинцбург, председатель Еврейской общины в Петербурге.
22 Вероятно, рассказ Вл. Соловьева об этой встрече показался сдержанному Страхову не лишенным элемента саморекламы, и неприятно задел его нравственное чувство. Два месяца спустя он вновь вернулся к этому событию, уже в письме к П. Д. Голохвастову, которому не без неприязни к Соловьеву сообщал: «Тут он водился со 546
Стасюлевичами, Гинцбургами, Валуевыми, и посланниками: английский был у него с длинным визитом» (письмо от 19 июня 1888 г. — Вопросы философии.. 2015. № 9. С. 122). Под «английским посланником» Страхов подразумевает королевского посла в России в 1884-1893 гг. Роберта Мориера. Судя по всему, своим впечатлением от этой беседы Страхов поделился позднее и с В. В. Розановым, так передавшим по памяти его слова: «Был у меня Вл. С. и рассказывал, что он обедал у (банкира) Гинсбурга и что за обедом был и Стасюлевич, а также посланник нидерландский. — „Ну и что же из этого“, — заметил неопытный Страхов. Соловьев промолчал. Соловьев вообще умел хорошо обедать и, принимая у себя в Hôtel d'Angleterre студентов и курсисток, к обеду переодевался и ехал туда, куда переодевался и тоже ехал нидерландский посланник. (...) Страхов же, никуда не пристроившийся по женитьбе, не пристроился никуда и по литературе... » (Розанов В. В. Мимолетное. 1914. — Розанов В. В. Собр. соч. [Т. 8]: Когда начальство ушло... М., 1997. С. 329). О различном «положении» Соловьева и Страхова высказался в комментарии к одному из писем последнего тот же Розанов: «...всегда нужно помнить слова одного скромного ученого [Э. Л. Радлов. — Сост.], сказанные сравнительно о Страхове и Соловьеве (...) (он — большой почитатель Соловьева). Мы шли от Страхова вместе, и заговорили что-то о нем. Так как в то время „весь мир говорил о Соловьеве“, — то я спросил его, что он думает о их полемике и вообще о них обоих. „Какое же может быть сомнение, — Страхов, конечно, гораздо умнее Соловьева“. Я был поражен, и по-молодости, и по огромной репутации Соловьева, и что-то сказал. Отвечая на это „что-то“, он добавил: „Но у Страхова, конечно, нет и малой доли того великолепного творчества, какое есть у Соловьева“. Две эти фразы, в обоих изгибах верные, вполне и до конца исчерпывают „взаимное отношение“ этих двух лиц, в которых в сущности ничего не было сходного, ни — умственно, ни — морально. Но собственно критико-философское и вообще научное превосходство свое над Соловьевым Страхов чувствовал, — и был вправе, в частном письме, выразить его. Почти не нужно договаривать, что в споре шум победы был на стороне Соловьева, а истина победы была на стороне Страхова. Но Страхов писал в „Русском Вестнике“, которого никто не читал, а Соловьев — в „Вестнике Европы“, который был у каждого профессора и у каждого чиновника на столе. (...) Страхов был измучен и угнетен этою полемикой, зная хорошо, что его „читать не будут“ а Соловьева будут „читать и аплодировать“ подписчики Стасюлевича, т. е. вся (условно) образованная Россия» (Там же. [Т. 13]: Литературные изгнанники. ... Переписка В. В. Розанова с H. Н. Страховым. С. 13-14. — Курсив Розанова).
23 О высоком читательском интересе к книге Н. Я. Данилевского «Россия и Европа» можно судить по письму В. В. Розанова — в то время учителя провинциальной гимназии (в Ельце) — к Страхову с выражением беспокойтва по поводу возможности ее приобретения: «Я и еще один учитель здесь (кот[орый] имеет почти все ваши книги), мы боимся, что ,,Р[оссия] и Евр[опа]“ Данил[евского] будет расхвачена раньше, 547
чем успеешь выписать» (письмо от 2 марта 1888 г. — Розанов В. В. Собр. соч. [Т. 13]: Литературные изгнанники. ... Переписка В. В. Розанова с Н. Н. Страховым. С. 159). Через месяц Страхов извещал А. А. Фета: «Знаете ли Вы об успехе книги „Россия и Европа“? В первый месяц — 400 или больше экземпляров! Вот истинное событие (...) Проклятая публика! С тобой ничего не сообразишь. Я ведь напечатал всего 1000 экземпляров» (письмо от 10 мая 1888 г. — Фет. Переписка И. С. 457). К осени 1888 г. тираж книги Данилевского практически разошелся, и Страхов смог с удовлетворением сообщить Фету об успехе своего издательского начинания: «Вот новость: „Россия и Европа“ раскуплена, так что в 7 месяцев из 1000 экз. осталось только 170. Нужно готовить новое издание» (письмо от 4 октября 1888 г. — Там же. С. 467).
24 Об И. П. Минаеве и его встрече с Толстым см. п. 144 и примеч. 5 к нему, п. 272 и примеч. 11, п. 317 и примеч. 23. Присланная Страховым брошюра Минаева « Буддизм. Исследования и материалы» (Т. 1, вып. 1: Об источниках. СПб., 1887) сохранилась в яснополянской библиотеке. Следов чтения Толстого экземпляр не имеет (Описание ЯПб. Т. 1, ч. 2. С. 29).
25 М. де Вогюэ писал о драме «Власть тьмы», сопоставляя ее с романом «Война и мир»: «„Власть Тьмы“ требует большей сдержанности в оценке. Печать гения лежит и на ней. Тот, кого Бог одарил ею, вносит яркий свет ее во все свои произведения; но так как ум его утратил уже равновесие прежних лет, так как он систематическим образом принимается за новый род литературы, к которой у него нет достаточной подготовки, то его драма представляет скорее любопытную попытку, чем законченное произведение» (Пантеон литературы. 1888. № 4. Современная летопись. С. 26).
26 С рождением сына (см. примеч. 18).
391
Июнь 1888 г.
Санкт-Петербург
Отрохов — Толстому
Посылаю Вам1, бесценный Лев Николаевич, свою статью против Соловьева2. Конечно, я не успел выполнить и десятой доли того, что задумывал; но кой-что тут все-таки есть. Всё время я имел в виду его церковную точку зрения со всеми сильными доводами в ее пользу, и постарался точно и просто поставить несколько противоположных пунктов. Статья эта всего меня взбудоражила, и так и хочется писать еще на темы, близкие к этой — может быть, осенью придется к ним возвратиться3. РазумеS48
ется, и Вы у меня всегда в мыслях — как судья, перед которым ни за что не хотелось бы провиниться.
Недавно я усердно занимался и Вашею книгою «О жизни»4. Из Америки пришли наконец корректуры перевода, сделанного г-жею Hapgoods; она просмотрела их и дала мне, говоря, что не нашла никаких затруднений при переводе, так что у нее нет вопросов предложить мне. Действительно, я убедился, что она в совершенстве понимает Ваш подлинник, а перевод ее меня привел в восхищение совершенною точностию, буквальною передачею текста и тою ясностию, которая свойственна английской речи. К несчастью, она меня торопила, и я успел просмотреть только вторую половину книги. В пяти-шести местах я нашел чуть заметные пятнышки, в которых отчасти виновата была рукопись; она всё поправила и теперь уже отослала назад. Вообще я убедился, что Ваша книга явится в Америке в наилучшем виде, какого можно желать. Седоволосая г-жа Гапгуд — очень привлекательное существо по простоте, спокойствию, живости и открытости. Право, эта легкая жизнь, устроенная англичанами и американцами, дает людям какую-то детскую наивность, позволяет развиваться в них всяким безвредным, значит и многим хорошим сторонам.
Она говорила мне о том, как она сама восторженно поклоняется Вам6 и как, вообще, Вас любят в Америке7. Право, это большие чудеса, и нельзя не подивиться тупости многих у нас, которые смотрят на Вас равнодушно или враждебно. Ваша заграничная слава всегда меня восхищает; но главное, конечно, тот поворот, который Вы дали умам у нас, внутри. Можно ли было думать, что вдруг раздастся проповедь любви и с такою силою? Какие безумцы наши консерваторы, восстающие против Вас и не понимающие, что Вы раз навсегда указали тот выход, которого им придется опять и опять искать, когда они вновь доведут людей до ненависти и возмущения! Часто мне было грустно, когда я думал, что на моих глазах выросло у нас только одно новое явление — нигилизм; но теперь я утешаюсь, что за нигилизмом последовала Ваша проповедь. Вашу кни-
549
гу я опять перечитывал с жадностию. Есть страницы бесподобные по отчетливости и неотразимой убедительности. Жизнь есть любовь и нет другой жизни, стоющей этого названия, — какая тема!
А они — запретили Вашу книгу!8
Что делать, однако! Таков строй русской жизни, что в ней сочетаются
Печатается по: РО ИРЛИ. Ф. 303. Оп. 2. Ед. хр. 300. Л. 61-62. Впервые: Современный мир. 1913. № 12. С. 371-372.
Датируется по содержанию.
чуть не допотопные явления с самыми передовыми, с такими, которым суждено далекое будущее.
Дай Вам Бог всего хорошего! Здоровье мое не совсем хорошо; кажется, главное — грудь, дыхательное горло — весь раскисаю от простуды. А к этому еще то, что понемногу я очутился в совершенном одиночестве, которое я отлично переносил бы, если бы были силы для работы — их-то нет.
Простите меня по-христиански. Графине мое усердное почтение.
Ваш всею душою
Н. Страхов
1 Письмо Страхова без даты. Наиболее вероятное время написания этого обращения — первая половина июня. Работу над рукописью Страхов завершил 10 мая и через неделю смог сообщить В. В. Розанову: «Только что кончил корректуру своей статьи против Соловьева (явится 1 июня в ,,Русск[ом] Вест [нике] “)•••» (письмо от 18 мая 1888 г. — Розанов В. В. Собр. соч. [Т. 13]: Литературные изгнанники. ... Переписка В. В. Розанова с Н. Н. Страховым. С. 13). А уже 19 июня запрашивал адресата: «Читали ли Вы мою статью против Соловьева?» (Там же. С. 15).
2 Страхов послал Толстому отдельный оттиск своей полемической статьи «Наша культура и всемирное единство. Замечания на статью г. Влад. Соловьева: Россия и Европа» (РВ. 1888. Июнь. С. 200-256, вощло в: Страхов Н. Н. Борьба с Западом в нашей литературе. Книжка вторая. 2-е изд. СПб., 1890. С. 218-296). См. примеч. 9, 11 к п. 390, примеч. 1 к п. 392.
3 Вернуться к полемике с Соловьевым Страхову удалось лишь в начале 1889 г.
4 См. примеч. 5 к п. 369, примеч. 11 к п. 373, примеч. 3 к п. 374, примеч. 12 к п. 379, примеч. 10 к п. 380, примеч. 6 к п. 381, примеч. 3, 4 к п. 386, примеч. 4 к п. 388. Книга возникла из первоначального замысла журнальной «статьи о жизни», предназначавшейся для журнала «Русское богатство» Л. Е. Оболенского. Напечатанная в 1888 г. отдельным изданием, была запрещена цензурой. После сокращений опубликована в петербургской газете «Неделя» (1889. № 1-6). Полное русское издание выпустил 550
в Женеве М. К. Элпидин (1891). Газетному изданию трактата «О жизни» было посвящено несколько рецензий, в том числе: Козлов А. А. Письма о книге гр. Л. Н. Толстого «О жизни». — ВФиП. 1890. Кн. 5-8; Цертелев Д. Учение гр. Л. Н. Толстого о жизни. — Русское обозрение. 1890. Июль. С. 268-296.
5 Authorized translation by Isabel F. Hapgood. New York, 1888.295 pp.
6 Американская переводчица и журналистка Изабелла Флоренс Хэпгуд приехала в Россию с матерью в 1887 г. 25 ноября 1888 г. встречалась с Толстым в Москве (см.: Хэпгуд И. Ф. Прогулка с Толстым по Москве / пер. и публ. В. Александрова. — Новый мир. 1989. № 7. С. 164-171). В 1889 г. вместе с матерью И. Ф. Хэпгуд посетила Ясную Поляну и позже также описала свои впечатления (см. рус. пер.: Хэпгуд И. Граф Толстой у себя дома. — Вопросы литературы. 1984. № 2. С. 163-177). Позже И. Ф. Хэпгуд отказалась переводить повесть «Крейцерова соната» и трактат «Царство Божие внутри вас» по идейным соображениям.
7 В Америке в 1880-х гг. популярность Толстого, особенно как автора романов «Война и мир» и «Анна Каренина», была чрезвычайно высока. Привлекала внимание американцев и общественная деятельность Толстого. Важную роль при этом сыграла деятельность Толстовского фонда, созданного И. Ф. Хэпгуд для помощи голодающим в России в 1892 г.
8 Речь идет о книге «О жизни».
392
Толстой — Страхову 28 июня 1888 г.
Ясная Поляна
Спасибо, дорогой Николай Николаевич, за письмо и статью1. Несмотря на сельские работы летом, я проследил ваш спор с Соловьевым и, простите, нашел, что и правы и не правы вы оба2. Ведь вы знаете, как выгодно со стороны смотреть и разбирать. Против Данилевского за историческое] отрицание народности я с Соловьевым3, но в осуждении его узких, пошлых, односторонних исторических взглядов я за вас и Данилевского. В особенности я за вас в осуждении его недобросовестности, злоупотреблен[ия] бойкости слова, легкомыслия и осуждении и осмеянии жестоком его защиты спиритизма. Вам должно быть радостно было на этом случае видеть, как твердо поставлены ваши положения
551
Печатается по: ОР ГМТ.Ф. 1.№7470.
Л. 1-2. Нал. 1 помета Страхова: «28 июн[я] 1888».
Впервые: Юб.: Т. 64. С. 175.
Датируется по помете Страхова. Ответ на п. 391.
о вечных истинах. Мне было очень приятно4. Я здоров, счастлив, ничего не пишу, но... живу и мыслю. Все вас помнят и любят.
Когда же вы к нам? Все и я очень вас желают и ждут.
Любящий вас
Л. Толстой
1 См. примем. 2 к п. 391. Присланный Страховым оттиск в яснополянском собрании книг Толстого не сохранился.
2 Близкую по смыслу оценку полемики Страхова с Вл. Соловьевым высказал, например, А. А. Фет. Поэт Я. П. Полонский поделился с ним своим впечатлением от материала «Наша культура и всемирное единство» в письме от 14 июня 1888 г.: «Но что в особенности меня порадовало, это статья Страхова — написанная в ответ В. Соловьеву. Какой прекрасный язык, какая ясность и какая образцовая полемика! Быть до такой степени прилично-злым и добродушно-беспощадным в наше время могут немногие ...» (Фет. Переписка I. С. 650). Разделяя в целом положительный отклик Полонского, Фет, однако, высказался в своем суждении более сдержанно, найдя заслуживающие внимания аргументы у обоих полемистов: «Буквально готов повторить всё высказанное тобою о Страхове. (...) Статья Страхова бесподобна, изобличая преднамеренное со стороны Соловьева принижение почтенного труда Данилевского. А между тем Соловьев в некоторых отношениях инстинктивно прав» (письмо от 22 июня. — Там же. С. 653). Через несколько дней Фет повторил свою точку зрения в письме к Н. Я. Гроту: «Хотя [я] за тезис Соловьева в известном смысле против Страхова, но должен сказать, что статья Соловьева написана пристрастно и с софистическими прорехами, а статья Страхова выдержана с его обычным мастерством. Знаком я с Данилевским лишь из рук Страхова и совершенно согласен, утверждая это с первого знакомства, что вся теория Дарвина — за волосы притянутая чепуха, а собственно у Данилевского мне понравились культурные типы отдельных народностей...» (письмо от 26 июня. — цит. по: Там же. С. 652).
3 Эту особенность статьи Вл. Соловьева отметили многие современники. Вел. кн. Константин Константинович писал в этой связи А. А. Фету 11 апреля 1888 г.: «... я был очень опечален статьей Вл. Соловьева „Россия и Европа". Мне кажется, так может думать только человек, которому свое русское, родное немило и недорого. Я слышал, что Н. Н. Страхов очень огорчен этой статьей» (Фет. Переписка II. С. 681). Такое же впечатление вынес от знакомства с построениями Соловьева и новый корреспондент Страхова В. В. Розанов, заметивший в одном из своих писем: «... в смысле самоуверенности, неуважения ни к чему, кроме себя самого, в нем есть нечто почти хлестаковское (...) Вы первый дали ему урок, отнеслись к нему небрежно, как к поверхностному мыслителю, почти прямо назвали его холопом и нахалом, ничего не любящим и едва 552
ли способным что-нибудь любить серьезно» (письмо Страхову от второй половины июня 1888 г. — Розанов В. В. Собр. соч. [Т. 13]: Литературные изгнанники. ... Переписка В. В. Розанова с Н. Н. Страховым. С. 172. — Курсив Розанова). По всей видимости, Толстой, под «отрицанием народности» имеет в виду, подобно Вл. Соловьеву, неприятие роли, отводимой народному началу в теории культурно-исторических типов Н. Я. Данилевского, видя в ней опасность национализма. Яснополянский учитель детей В. Ф. Лазурский зафиксировал в своем «Дневнике» высказывания Толстого в июле 1894 г., в разговоре со Страховым, против славянофильства после упоминания книги Данилевского «Россия и Европа». Лазурский пишет о Толстом: «Стал говорить о вреде патриотизма всех сортов, ведущего к самодовольству и разъединению людей. Отделал русский патриотизм, русскую историю, русскую церковь. Ссылается на Владимира Соловьева, когда нужны ссылки на исторические примеры, так как за собой не признает достаточных исторических знаний» (запись от 3 июля 1894 г. — АН. Т. 37-38. С. 458-459). Что касается Страхова, то он не раз печатно признавался в своем страстном русском патриотизме (ср.: Страхов Н. Н. Воспоминания о Федоре Михайловиче Достоевском. — Биография, письма и заметки из записной книжки Ф. М. Достоевского. СПб., 1883. С. 248; Его же. Всегдашняя ошибка дарвинистов. — РВ. 1887. Ноябрь. С. 66; Его же. [рец.]. Славянское обозрение (1892. Январь - Апрель). — Страхов. Борьба с Западом III. С. 276-278).
4 Согласно позднейшему признанию, Толстой в целом, несмотря на свою «нелюбовь» к Соловьеву, полемике Страхова с философом «не сочувствовал» (записи в дневнике В. Ф. Лазурского от 20 апреля 1896 г. и 10 декабря 1900 г. — АН. Т. 37-38. С. 490, 502). Ср. также запись от 22 июня 1894 г., где он назвал дискуссию Страхова с Соловьевым «несчастной», «малоинтересной» и «никому не нужным спором» (Там же. С. 449).
393
Строхов — Толстому 17 июля 1888 г.
Санкт-Петербург
От всего сердца благодарю Вас, бесценный Лев Николаевич, за Ваше письмо, очень коротенькое и писанное настоящим почерком сельского рабочего1, но очень многосодержательное. Когда я писал в своей статье о народности2, то постоянно думал об Вас и заранее знал, что Вы не будете со мною согласны. Однако, если посмотрите, то увидите, что 553
я нигде не перешел границы и что я держусь в тех пределах, где совершенно безопасен от нападений Соловьева, а мне думается, и от Ваших3. Что меня возмущало у Соловьева — это то, что он не взял вопроса в полноте (а для этого не было лучшего случая, как книга Данилевского), что он вовсе и не подумал о значении народности в жизни людей4. Для меня самого было бы радостно уяснить себе это дело, и я заранее указывал ему (в письме5), что это должно быть его главною темою. А он стал на ту точку зрения, с которой можно точно так же сильно восстать и против семьи, против уважения к отцу и матери6, против любви к жене и детям. Разумеется, всё это — ограничения; разумеется, есть требования, которые стоят выше всего этого. Но помните слова Христа: «вы говорите: если кто скажет отцу и матери: дар Богу то, чем бы ты от меня пользовался, тот может и не почтить отца своего или мать свою». Мат. 15, 57. Этот упрек книжникам и фарисеям вполне применяется к Соловьеву. Он ссылается на свои обязанности к Богу, а потому и разрешает себе не соблюдать никаких обязанностей к Данилевскому или ко мне.
Великий это вопрос. Во всем нужно служить Богу; нужно служить Ему и служа родине, и любя свою семью, и восставая против тех, кто не согласен с нами в мыслях. Но как же это сделать? Как провести одно начало во все свои дела и отношения? Вы правы: тут один путь — любовь, чистое сердце. Но это — практическое разрешение вопроса, а не теоретическое8.
Статья моя почти не имела никакого успеха. В печати о ней не говорили. Несколько человек, особенно мне дорогих, были чрезвычайно довольны9. Вижу, что и Вы нашли наказание Соловьева и справедливым, и вполне удачным; благодарю Вас от души. Но большинство нашло статью незанимательною10; в ней не говорится ни о католицизме, ни о будущности России, ни о политических вопросах. В смысле агитации Соловьев вполне успел сделать свое дело11.
554
Благодарю Вас за приглашение в Ясную. Усердно кланяюсь всем, кто там обо мне помнит и желает меня видеть. Но я попал в положение, из которого мне трудно выбраться. Вокруг меня всё обстоит превосходно: тихо, светло, просторно, чисто, и — гибель прекрасных книг. Сам я здоров и бодр и затеял на свободе большую работу12. Лето стоит прохладное, так что в городе нет никакой духоты. Спрашивается, что же я должен делать? Конечно, работать и работать. Не придумаешь никакого повода, никакой причины, чтобы ехать; меня будут сопровождать угрызения совести. Поэтому я до сих пор остаюсь на месте, несмотря на пустоту города и на то, что иногда по два по три дня никого не вижу, кроме Катерины13, обладающей всеми добродетелями и всяким усердием и благочестием, так что мне всегда приятно ее видеть, но почти столь же молчаливой и мало для меня занимательной, как моя мебель.
В Ясную мне очень хотелось бы. Александр Михайлович14 собирается в августе, и, может быть, я не выдержу и приеду с ним15.
Дай Бог Вам всего хорошего! Ясная Поляна, с тех пор как ее знаю, полна и жизни, и мысли. Дай Бог, чтобы так было и долго-долго!
Всей душою Вам преданный
Н. Страхов
1888.
17 июля.
Спб.
P. S. Недавно я сделал открытие, которое немножко меня огорчило. В одной из своих книг «Le nouveau spiritualisme» par Vacherot16 я вдруг нашел всю ту философскую глубину, которою так пленил меня Пажес. Там есть глава, содержащая те самые мысли, имена и выражения, которые я от него слышал. Он затвердил их с большою точностью. Но потом я вспомнил, как он отзывался об Вас, как рассказывал свое свидание с Вами, как тонко и с любовью говорил об Ваших мыслях, и я снова убе-
555
Печатается по: РО ИРЛИ. Ф. 303. Оп. 2. Ед. хр. 300. Л. 145-148. Впервые: Современный мир. 1913. № 12. С. 372-374. Ответ на п. 392.
дился, что он умный и хороший человек. Однако нужно быть осторожным. Они, западные, всегда с умом и вкусом украшают себя чужими мыслями и познаниями, тогда как мы часто откровенно выступаем во всей своей дикости17.
1 Письмо Толстого написано широким, размашистым почерком. С. А. Толстая вспоминала о занятиях мужа летом 1888 г.: «В этот год Лев Николаевич особенно проникся мыслями о ручном труде. Кроме полевых работ, шитья обуви, уборки комнаты, чистки сапог и платья, он выдумал строить для вдовы (...) избу по новому способу. Изба возникала из глины с соломой. Помню, как резали солому, толкли глину, смачивая ее водой, смешивали всё и шлепали из этой массы стены, бросая ее лопатой. Весь измазанный, грязный возвращался Лев Николаевич домой. Но глиняная с соломой изба (сгоревшая впоследствии) была достроена...» (Толстая. Моя жизнь II. С. 58).
2 Страхов писал о народности в статье «Наша культура и всемирное единство. Замечания на статью г. Влад. Соловьева» (РВ. 1888. Июнь. С. 200-256). См. примеч. 3 к п. 392.
3 Началу народности посвящена глава II статьи Страхова «Наша культура и всемирное единство». Под нападениями Толстого Страхов имеет в виду их споры из-за различного отношения к идее народности и к славянофильству.
4 Вл. Соловьев отрицательно относился к идее народности, трактуя ее как проявление национализма.
5 Это письмо Страхова, как и прочие его корреспонденции Соловьеву, неизвестно. Письма Соловьева к Страхову, часть из которых имеет, по мнению публикатора, «теоретическое значение», см. в: Соловьев. Письма I. С. 1-60.
6 Эпиграфом к своей статье Страхов взял слова из православного катехизиса: «Чти отца твоего и матерь твою, и благо ти будет, и долголетен будеши на земли» (см.: Страхов Н. Н. Борьба с Западом в нашей литературе: Исторические и критические очерки: Книжка вторая. Изд. 2-е. СПб., 1890. С. 218). Этот прием вызвал насмешку Соловьева в одном из его ответных возражений (см.: Соловьев Вл. С. Счастливые мысли Н. Н. Страхова. — Соловьев Вл. С. Сочинения. Т. 1. С. 555-556).
7 Мф. 15: 5, 6. Страхов приводит цитату с незначительным изменением канонического текста.
8 Ср. с признательным замечанием Страхова в письме к В. В. Розанову от 27 января 1888 г.: «Благодарю Вас за то, что Вы так проницательно угадали мою грусть. Признаюсь, она не ослабевает, несмотря на видимый успех моих писаний в последние годы. Есть для грусти другие причины, которые отчасти Вы знаете. Но главное, Вы знаете, что у меня грусть светла, что над нею — мысль о Боге» (Розанов В. В. Собр. соч. [Т. 13]: Литературные изгнанники. ... Переписка В. В. Розанова с Н. Н. Страховым. С. 7).
556
9 Страхов повторяет мысль, высказанную ранее в письмах к А. А. Фету (см. примеч. 9 к п. 390). Вл. Соловьев также отметил молчание в прессе по поводу предпринятого против него выступления: «По-видимому, статья Страхова особенного внимания на себя не обратила, иначе кто-нибудь сообщил бы мне о ней раньше» — писал он из Загреба почти через полгода после появления публикации в «Русском вестнике» (письмо М. М. Стасюлевичу от 7/19 декабря 1888 г. — Соловьев. Письма IV. С. 40). Отсутствие в обществе реакции на публикацию Страхова было тем заметнее, что статья самого Соловьева вызвала в целом оживленную полемику в печати (см.: Скабичевский А. Вл. Соловьев, произносящий роковой приговор над всеми нами и в том числе над самим собою в статье своей „Россия и Европа“... — Новости и Биржевая газета. 1888.11 февр. № 42. С. 2; Его же. Нечто о полярных противоположностях в общественной жизни. — Образец таких частных полярностей в борьбе западников с славянофилами. — Пессимистические крайности статьи Вл. Соловьева. 18 февр. № 49. С. 2; Его же. Нечто по поводу второй статьи г. Вл. Соловьева. — Там же. 14 апр. № 104. С. 2; Шостъин А. [Передовая статья]. — Русское дело. 1888. 13 февр. № 7. С. 5-6; Абрамов Я. Вл. Соловьев и Россия. — Неделя. 1888.17 апр. № 16. С. 513-517; и др. См. также ссылку на отклики печати в письме Соловьева о. Пирлингу от 7 апреля 1888 г. — Соловьев. Письма III. С. 165; отзывы частных лиц см. в письме Соловьева к М. М. Стасюлевичу от 13 февраля 1888 г. — Соловьев. Письма IV. С. 35). Некоторым утешительным противовесом «молчанию» публики могли стать для Страхова положительные отклики на статью, доходившие до него из ближайшего круга общения и от знакомых. Вел. кн. Константин Константинович (псевдоним К. Р.), например, писал Страхову 10 июня 1888 г.: «Глубокоуважаемый Николай Николаевич, я чувствую душевную потребность выразить вам благодарность за отрадное и утешительное впечатление после чтения вашей статьи в ответ Вл. Соловьеву. / Его мрачный и как будто недоброжелательный взгляд на будущность нашей русской науки и искусства поверг меня в уныние; теперь же, с жадностью пробежав ваш ответ, я снова могу верить, во что веровал, и по-прежнему любить то, что мне дорого и свято» (РА. 1993. № 2. С. 154). В письме к В. В. Розанову от 9 ноября 1888 г. Страхов указывает на поэта А. А. Голенищева-Кутузова — «большого приятеля Соловьева», которому также «статья очень понравилась» (Розанов В. В. Собр. соч. [Т. 13]: Литературные изгнанники ... Переписка В. В. Розанова с Н. Н. Страховым. С. 20-21). Сам Розанов прислал Страхову пространное письмо с подробным положительным откликом на его полемическое выступление (письмо без даты, написано после 29 апреля 1888 г. — Там же. С. 172-174). Статьей Страхова, прежде всего со стороны ее формы и стиля, восхищался поэт Я. П. Полонский; его мнение в известной степени разделял А. А. Фет (см. примеч. 2 к п. 392).
10 Ср. с замечанием В. В. Розанова в письме от второй половины июня: «Статья его [Соловьева] действительно разбита, и всё значение ее уничтожено, но только для кого? Я дал здесь, прочтя сам, Вашу статью одному замечательному человеку (...) 557
помнящему Данилевского по „Заре“ и Вас по статье „Роковой вопрос“ (...) сегодня, встретясь со мной на вечернем гулянье, он сказал тотчас же о Вас: „Да, он отлично его (Соловьева]) разделал“. Таково первое впечатление, и оно, я думаю, одинаково для всех: „Да только толку-то от этого никакого не будет, — прибавил он тотчас, — их много, а нас мало, и они люди предубежденные: статья Стр[ахо]ва хотя и верна, но ее не будут читать западники, или и прочтут — не примут во внимание“...» (Розанов В. В. Собр. соч. [Т. 13]: Литературные изгнанники. ... Переписка В. В. Розанова с Н. Н. Страховым. С. 173). От себя Розанов добавил: «Не могу еще не сказать Вам об одном особенном ощущении, которое испытываешь, читая Вашу статью: в отдельности все Ваши едкости, насмешки над Соловьевым метки, удачны; для того, против кого они направлены, — больны, со стороны читая, — невольно улыбаешься. Но в общем, в них нет свободы, той особенной естественности и непринужденности, которая является, когда насмешка выливается из самой натуры человека. Для всякого читателя ясно (...) как мало смеющегося в Вашей душе, как серьезно, сумрачно и печально Вы настроены как человек и писатель. (...) Словом, — Ваши насмешки всего менее отличаются добродушием и невольностью; они желчны и вместе непривычны для Вас (...) От этого и статья Ваша против Соловьева совершенно не похожа на все Ваши остальные статьи, где Вы всегда спокойны или одушевлены чем-либо положительным, до последней степени ясны, просты и естественны, а когда относитесь к кому отрицательно, то в немногих простых и ясных словах, и всегда только с чувством скорби, сожаления. Поэтому для того, кто уже привык к Вам как к писателю, она непривычна и, я сомневаюсь, не составляет ли дисгармонии» (Там же. С. 173-174).
11 Точка зрения на выступление Соловьева как на проявление легковесной публицистической «агитации» не разделялась современниками, многие из которых увидели в его критике немало объективных замечаний. В ответ на отповедь, данную Соловьеву в газете «Новое время» (см.: Соловьев. Письма III. С. 165; Соловьев. Письма IV. С. 35), писатель Н. С. Лесков счел нужным высказаться в обращении к редактору издания, только что прямым текстом не назвавшего автора статьи «дураком и шутом гороховым», в защиту Соловьева. В письме к А. С. Суворину от 12 апреля 1888 г. Лесков замечал: «Вчера (11 Апр.) заметку о статьях Соловьева вы сами писали, или Вы ее насоветовали, или Вы ее поправили. Я говорю о заметке, начинающейся со слов о книгах Кони и Н. Данилевского. Эта заметка вся больная... Зачем это Вам? Я говорю „Вам“, п. ч. газете это совсем не нужно. В газете довольно держать свой тон, но... „надо жить и давать жить другим“. Разве статьи Соловьева не правдивы, не искренны и не содержат дельных указаний? Разве это так часто и так заурядно в нашей печати? Разве Вы можете факт за фактом опровергнуть всё, что он Вам ставит на вид? Или Вы совсем разлюбили истину как венценосцы, и всё несогласное с Вами — Вам несносно? Но это было бы ужасно! Тогда — как не быть хандре и мучениям? Но в чью же это пользу идет этот 558
форсированный расход сил?.. Даже не в пользу детских приютов. Подписчикам или публике Вы даете всё, что нужно и без этого, а тот, „один в партере“, который понимает музыку и для которого только и стоит стараться взять верхнюю ноту, — тот в таких случаях недоволен и удивляется: зачем брать до этого „фа", когда можно хорошо играть на „до“ и всем будет хорошо. Вы меня простите, — я не злодей Вам и искренно жалею, что нападками на Соловьева Вы теряете сочувствие многих совестливых друзей Вашей газеты. Пусть Страхов напишет деловые возражения — тогда им и честь и место, но заскоки без доказательств только сердят хороших людей, кот. знают, что ассимилируется с „данилевщиной“... Зачем это брать на себя? Между тем деловое возражение будет и уместно и интересно и не обидит людей, уважающих свободу суждения» (Письма русских писателей к А. С. Суворину / подгот. к печ. проф. Д. И. Абрамович. Л., 1927. С. 66-67. — Курсив Лескова).
12 Возможно, Страхов имеет в виду свое намерение выступить в печати по вопросам гносеологии. Обращаясь 22 июня к А. А. Фету, он замечал: «Сам я всё раскачиваюсь — хочу писать о познании. Вообще же недоволен и своею головою и своим сердцем. Одно для меня спасение — писать, притом что-нибудь серьезное, важное» (Фет. Переписка II. С. 460. — Курсив Страхова). Более определенно о характере затевавшейся работы Страхов высказался в письме к В. В. Розанову: «Сам в потугах рождения новой статьи — „О времени, числе и пространстве“» (письмо от 19 июня 1888 г. — Розанов В. В. Собр. соч. [Т. 13]: Литературные изгнанники. ... Переписка В. В. Розанова с Н. Н. Страховым. С. 15). Не исключено, что Страхов решил обратиться к этой теме в том числе и под влиянием знакомства с книгой Розанова «О понимании» (М., 1886), которую читал тогда же по просьбе приславшего ее автора (см.: Там же. С. 12, 15). По обыкновению, Страхов приступил к исполнению своего замысла продолжительным обдумыванием намеченной темы: «Всё время меня поглощала мысль моей новой статьи, и до сих пор я всё еще не успел наладить дело, как следует» (письмо от 15 июля 1888 г. — Фет. Переписка II. С. 461). К неудовольствию Страхова, подготовительные работы, вероятно, затянулись, и написание труда за лето мало продвинулось вперед. В самом начале августа он извещал Фета о своей творческой неудаче: «...просидел я в Петербурге до осени, без радости, но и без горя (...) А радости не было потому, что ничего не написалось. А что как и вперед ничего не напишется? — думаю я иногда» (Там же. С. 462). Еще через месяц Страхов признавался тому же корреспонденту: «Начинается осень. (...) Но итог прошлого лета для меня неутешительной: июнь, июль и август прошли в одних колебаниях мысли. Чувствую, однако, освежение, которое приносится осенью, и надеюсь, что дело пойдет лучше» (письмо от 8 сентября 1888 г. — Там же. С. 466). Судя по всему, загруженность текущими издательскими делами (подготовка к печати собственного сборника статей «Заметки о Пушкине и других поэтах» и четвертого издания «России и Европы» Н. Я. Данилевского), а также 559
возобновление полемики с Вл. Соловьевым по поводу последней книги, не позволили Страхову овладеть темой и к концу года. См. п. 394.
13 Катерина — прислуга или кухарка Страхова.
14 А. М. Кузминский.
15 Планы Страхова на лето 1888 г. носили неопределенный характер. Откликаясь еще в январе на предложение А. А. Фета погостить летом в его курском имении Воробьевка, Страхов замечал: «Вы загадываете о лете,- душевно Вас благодарю за приглашение, но мне всё хочется остаться здесь, в Петербурге. Однако, думать еще, кажется, рано. Выеду, вероятно, поздно, к осени» (письмо от 24 января 1888 г. — Фет. Переписка IL С. 450). С наступлением тепла Страхов стал склоняться к летней поездке в рязанское имение своего близкого знакомого — сенатора, поэта и переводчика Н. П. Семенова: «Что буду делать с собою, не знаю; вернее всего, что приеду не месяц к Н. П. Семенову, у которого был лет десять или двенадцать назад» (письмо А. А. Фету от 10 мая 1888 г. — Там же. С. 456; см. п. 152 и примеч. 9 к нему). Тем не менее в начале июня он извещал Фета, что ехать ему «до сих пор никуда не хочется» (Там же. С. 458). Ближе к концу месяца Страхов высказал уже иное намерение: «В августе, вероятно, я поеду — куда-нибудь и, если придется по Курской дороге, то, конечно, не миную Воробьевки. Но пока я ничего не решил» (письмо от 22 июня 1888 г. — Там же. С. 460). Тем не менее, захваченный творческими замыслами, обремененный делами и угнетаемый периодическим нездоровьем, Страхов всё лето провел в Петербурге. До конца 1888 г. Страхов в Ясную Поляну не приезжал и с Толстым не виделся.
16 Французский философ и политический деятель Этьен Вашро (Vacherot) был профессором Сорбонны (1839-1851), сменив на философской кафедре В. Кузена (Cousin), но либерально-демократические взгляды привели его к отставке. Впоследствии эволюционировал в сторону монархизма и католицизма. В книге «Новый спиритуализм» Вашро (Vacherot, Е. La nouveau spiritualisme. Paris, 1884) изложил свою идеалистическую метафизику, основным положением которой явилось утверждение, что «Бытие есть дух и дух есть бытие».
17 Это «открытие» Страхова произвело в свое время глубокое впечатление на С. А. Толстую, придерживавшуюся первоначально высокого мнения о суждениях Пажеса и переменившую это представление после ознакомления с отзывом о нем в письме Страхова, который она сочувственно привела в воспоминаниях. Ср.: «Но моя оценка Mr Pagès очень умалилась, когда о нем написал H. Н. Страхов свое мнение» (Толстая, Моя жизнь II. С. 49).
560
394 Страхов — Толстому
Посылаю Вам, бесценный Лев Николаевич, «L’idée Russe» Соловьева1, на тот случай, если Вы еще не видали этой брошюры. Блистательно, что и говорить! Я ужасно любовался звонкостью этих фраз, имеющих притом вид необычайной серьозности и глубокомыслия. Французам должно это очень понравиться2; это писано лучше, чем писали Монталамбер3 или сенсимонисты4. Тут весь Соловьев, и больше этого он ничего дать не может5. Важно, что он прямо объявил, что нужно подчиниться папе6, и даже исповедал его непогрешимость — chef infallible du sacredoce7. Все рассуждения идут по методе аналогии и симметрии, и красота формулы составляет главное доказательство верности ее содержания8.
По-моему, всё это наводит на одну мысль, на то, что христианство уже стало покидать форму Церкви (как это Вы не раз высказывали), и вот где причина этих горячих забот о Церкви, и создания новых догматов, и провозглашения непогрешимости. Напрасные усилия! Церковь возникла во времена падения древнего мира. Тогда она образовала крепкое общество среди разлагавшегося государства и создала свою догматику как противовес тогдашней языческой мудрости. Монахи сначала даже называли себя философами и жизнь свою философскою жизнью. Но в настоящее время ни догматы, ни Церковь не могут иметь такого значения и напрасно пытаются удержать прежнюю главную роль9.
Когда читаю Вас, Лев Николаевич, то в каждой строке слышу живое чувство — в этом состоит Ваш очаровательный слог (выражение Бунакова или Евтушевского10). Когда читаю Соловьева, то ни в одной строке не чувствую живого человека, а везде одно сочинение. Потребность мысли, увлечение всеобъемлющими решениями — я понимаю; но тогда нужно, чтобы надо всем господствовала жажда истины, а тут, у Соловь13 сентября 1888 г ÇdHKT-Петербург
561
ева, скорее царствует жажда обмана, желание уйти в фантастический мир, который он сам себе строит11.
Петербург (а с ним и Россия) всё больше и больше затихает. Помните Вы, как министра Сабурова публично хлопнул студент?12 Теперь министру Делянову усыпают путь цветами13. Вот награда за то, что он скрутил университеты! Соловьев прав, что в нашем обществе нет никакой энергии14. Оно совершенно пусто; самое лучшее для него, если его будут крепко держать в руках. Только очень противно громадное обнаружение подлости частных лиц перед правительством.
Будете ли Вы читать письма Аксакова, недавно изданные?15 Анна Федоровна мне прислала16, и я читаю, не отрываясь. Сам он очень хорош. Но живо рисуется и весь тогдашний быт — это время17 имело светлые стороны, которые теперь забыты. Чрезвычайно интересны отрывки из писем Сергея Тимофеевича] Аксакова — он куда выше сына и как человек, и как писатель18.
Много бы я дал, чтобы знать, как Вы и что делаете19. Всё лето у меня была тоска по Ясной Поляне и, сказать правду, только по ней одной20. В прошлом году во время поездки я так намучился от жары, что был очень рад нынешнему холодному лету, и здоровье мое очень поправилось21. Но вот уже три месяца с лишком, как я собираюсь писать, освободив себя для этого от всяких забот, — и ничего не сделал!22 Меня это мучило — и наконец я почти отказался от своих затей. Но когда стал поспокойнее, они опять нашли на меня; но зато теперь, кажется, я вижу дело яснее. Пусть будет, что Бог даст; время мое не идет праздно, — мысль всё копошится и зреет23.
Поручили мне передать Вам усердную просьбу: журнал «Нива»24, в котором были напечатаны Ваши «Три старца»25, просит у Вас чегонибудь на следующий год издания. Разумеется, они рады были бы, если бы могли заранее объявить об Вашем участии в журнале. Но во всяком случае примут Ваше писание с восторгом и заплатят Вам по Вашему же562
ланию. Новый редактор Виктор Петр[ович] Клюшников, очень милый человек, давнишний мой знакомый26.
Простите меня. Дай Вам Бог здоровья и тех мыслей, которыми Вы живете. Графине мое усердное почтение и поздравление с именинами.
Ваш навсегда преданный
Н. Страхов
13 сентября] 1888.
Спб.
Недавно в «Петерб[ургских] ведомостях» объявили меня чистым материалистом27. Статья Соловьева приносит плоды; он куда больше обращает на себя внимание, чем я28.
1 Soloviev V. L’Idée russe. Paris, 1888.46, [3] p. Страхов рассылал брошюру по просьбе Вл. Соловьева, обратившемуся к нему за содействием в ее распространении среди друзей и знакомых в России. Вероятно, это был не первый опыт такого рода помощи. Из недатированного письма (после 1884 г.) Соловьева к брату известно, что Страхов ранее уже принимал участие в судьбе выпущенных философом книг (Ср. в недатированном письме к брату Михаилу: «Присылай, пожалуйста, сто экз. „Религиозных] осн[ов жизни]“ и сто „[Три] Реч[и] в память Дост[оевского]“. Посылай по следующему адресу: Петербург. Его Высокородию Николаю Николаевичу Страхову, у Торгового моста, дом Стерлигова, квартира 19» — Соловьев. Письма IV. С. 115. — Курсив Соловьева). Возникшую между ним и его корреспондентом острую публичную полемику Соловьев не считал основанием для отказа от добрых отношений и взаимных дружеских услуг. В письме из Франции от 6 сентября он убеждал Страхова: «Мне писали, что Вы на меня ужасно негодуете. Не зная причин такого аффекта, не могу вступить с Вами в объяснение по сему предмету. Но негодование — негодованием, а дружба — дружбой. Разумею (относительно Вас) дружбу объективную, так сказать, и философичную. Я вполне ценю родственную субъективно-сердечную заботливость обо мне Владимира Павловича Безобразова [свекр сестры Соловьева Марии. — Со ст.], вследствие которой он отказался раздавать общим знакомым мою брошюру ,,L' Idée russe". Но suum cuique [каждому свое, лат.]. Вы мне не родственник, а только старый приятель, и к тому же философ стоико-эпикурейской школы. Итак, прошу Вас стать на точку зрения вполне объективную и поступить со мною на точном основании общечеловеческих прав. Мне 35 лет, я нахожусь в здравом уме и твердой памяти и издаю брошюру о высоких материях, в которой нет ничего противного религии, Печатается по: РО ИРЛИ. Ф. 303. Оп. 2. Ед. хр. 300. Л. 143-144.
Впервые: Современный мир. 1913. № 12. С. 374-376.
563
общественному порядку и добрым нравам. Эту брошюру я во всяком случае буду распространять в России между людьми, читающими по-французски. Но если бы Вы отказались мне в этом содействовать в известной мере, то причинили бы мне тем лишние и бесполезные хлопоты» (Соловьев. Письма I. С. 52). Месяц спустя Соловьев вновь вернулся в письме к вопросу о распространении отправленных в Петербург 50 экз. брошюры: «В. П. Безобразов известил меня, что исполнил мое поручение относительно Вас. А я между тем раскаялся в своей бесцеремонности. Если Вам неприятно будет раздавать мою брошюру общим знакомым, то отправьте ее М. М. Стасюлевичу (Галерная, 20).» (письмо от 2 октября 1888 г. — Там же. С. 53. — Курсив Соловьева; ср. с письмами М. М. Стасюлевичу от 11 и 25 августа 1888 г. — Соловьев. Письма IV. С. 36-37). — Экземпляр (с несколькими исправлениями в тексте черным карандашом рукой — предположительно — Страхова) представлен в яснополянской библиотеке (см.: ОписаниеЯПб. Т. 3, ч. 2. С. 374. № 3077).
2 Брошюра содержит текст прочитанной Соловьевым в Париже в собрании у кн. Л. Н. Сайн-Виттгенштейн лекции, которая представляет собой конспективное изложение еще остававшейся к тому времени в рукописи программной работы философа «Россия и Вселенская церковь» («La Russie et l’Église universelle»; будет отпечатана в Париже в конце 1888 г.). Из Петербурга Соловьев отбыл 20 апреля; чтение лекции состоялось 25 (13) мая. В начале лета Страхов извещал А. А. Фета: «Меня всё еще занимают мысли о Соловьеве. В газетах пишут, что он в Париже и что в салоне СайнВитгенштейн, урожденной Барятинской, проповедует соединение церквей» (письмо от 4 июня 1888 г. — Фет. Переписка II. С. 458). Судя по письму Соловьева к А. А. Фету из Франции от 6 сентября (25 августа) 1888 г., его труд действительно «понравился» в определенных кругах. Ср.: «О брошюре моей „Idée Russe" было в разных французских и бельгийских журналах и revues (большей частью религиозных) много хвалебных статей» (А. А. Фет: Материалы и исследования. Вып. 2. С. 406). Ранее Соловьев сообщал из Парижа одному из своих корреспондентов в Петербурге: «Сентябрь уж близко, а я еще не устроился окончательно с своею французской книгой [«La Russie et l’Église universelle». — Сост.]. Предварительно я издал предисловие к ней отдельной брошюрой [«L’Idée Russe». — Сост.] и, кажется, поступил хорошо: во многих газетах были статьи, и несколько издателей предлагают свои услуги» (письмо Ф. Б. Гецу от 16/28 июля 1888 г. — Соловьев. Письма IL С. 157). В ноябре, адресуясь из Загреба к брату Михаилу, он также упомянул о внимании к его творчеству со стороны французских газет: «многие из них меня восхваляли» (Соловьев. Письма IV. С. 117). За помощью в привлечении внимания местной прессы к готовившемуся труду Соловьев обращался к своему парижскому корреспонденту иезуиту о. П. О. Пирлингу. «Я совершенно понимаю, что в католическом мире моя деятельность может быть интересна лишь настолько, насколько она имеет успех в России. Но, с другой стороны, вследствие незрелости нашего общества решительный успех у нас обеспечен тому делу, на кото564
рое обращено внимание в Европе. Вот почему я намерен все-таки продолжать свою „Philosophie de Г Église“ [первоначальное название „La Russie et Г Église universelle“. — Cocm.] и прислать ее Вам или кому-нибудь из своих добрых знакомых в Париже для исправления и напечатания тем или другим способом. Надеюсь, что через это я не нарушу нравственной границы между тем, что мы должны представлять на волю Божию и тем, к чему нам должно прилагать свои собственные старания» — «... Если бы ктонибудь из интересующихся этим предметом во Франции нашел полезным и возможным сделать analyse [разбор, фр.] моей книжки в виде журнальной статьи для более обширного круга читателей и поместить эту статью в одном из распространенных французских revues, то это было бы всё, чего я могу желать» (письма от 26 февраля и 20 июня 1887 г. — Соловьев. Письма III. С. 141, 148) Полученная Соловьевым в печати моральная поддержка не сопровождалась, однако, значимым материальным успехом его брошюры, о чем он извещал Страхова в письме от 2 октября 1888 г.: «Путешествием своим я в конце концов доволен. Не ропщу и в настоящую минуту, хотя нахожусь в крайне жалком положении, изнемогая от обилия истекающей крови и скудости притекающих денег. В самом деле, геморроидальный припадок в небывалых размерах уж шестой день, а утешения никакого: французы тароваты только на печатные комплименты» (Соловьев. Письма I. С. S3).
3 Французский писатель и политический деятель граф Шарль-Форб де Монталамбер (de Montelembert), сторонник либерального католицизма, был не только красноречивым оратором, но и отличался цветистым, пылким и отточенным стилем своих писаний.
4 Сторонники и последователи французского социалиста-утописта графа Анри де Сен-Симона (Henri de Rouveroy, comte de Saint-Simon), проповедовавшего всеобщее равенство и устранение частной собственности, — в частности, его ученики Олинд Родриг (Rodrigues), Сент-Аман Базар (Bazard) и Бертелеми Проспер Анфантэн (Enfantin).
5 Работая летом 1887 г. над первоначальным текстом будущего трактата о вселенской церкви («Philosophie de Г Église universelle») Соловьев старался проявлять в изложении своих мыслей возможную сдержанность, дабы умерить резкость ожидаемого раздражения читателей, прежде всего западных, от восприятия которых во многом зависела поддержка его идей и судьба книги в Европе. Тогда же Соловьев представлял своему советчику и конфиденту русскому иезуиту о. Пирлингу такого рода практические соображения по изменению содержания его будущей книги: « ...в виду главной задачи (соединения церквей) нужно соблюдать большую осторожность. Эта задача и без того для большинства людей, даже благонамеренных, представляется фантастическою, и увеличивать эту мнимую фантастичность действительными отступлениями в область отдаленных умствований значило бы давать новое оружие в руки прямых противников дела. Им достаточно было бы прочесть первые страницы пред565
положенного сочинения, чтобы, даже не заглядывая в остальное, победоносно восклицать: „О соединении церквей могут говорить только такие полоумные фантасты, как Соловьев, который находит что-то ужасное в естественной смене поколений, очевидно, желая, чтобы дети рождали своих родителей, а не наоборот". — В лучшем случае я нашел бы несколько единомышленников и последователей, как нашли их Фурье или Père Enfantin [отец Анфантэн, фр.], которые писали еще хуже, чем я, но ради такого дешевого и сомнительного успеха дорогое и несомненно важное дело соединения церквей было бы компрометировано. / Итак, я решился совсем уничтожить отдаленные умствования, т. е. всю первую часть, уже лежащую на моем столе, и затем ограничиться историческими и богословско-полемическими соображениями, предпославши лишь несколько слов о ближайшем (нравственном) значении теократии. Соответственно этому придется изменить название (...) Остается та трудность, о которой я Вам писал прошлый раз, а именно: как представить в небольшой книжке основательное, историческое рассуждение (я не говорю уж исследование) о таком огромном вопросе? Нужно попытаться. А в крайнем случае лучше будет вовсе отказаться от обращения к европейской публике, нежели выступать с сочинением бесполезным или даже вредным для дела» (письмо от 17/29 июля 1887 г. — Соловьев. Письма III. С. 152-153).
6 В статье «Русская идея» Вл. Соловьев сформулировал свой идеал вселенской церкви в виде совокупности трех главных действующих сил, открывающей начала идеального будущего человечества: «вселенского первосвященника (непогрешимого главы священства)», т. е. папы римского; «светской власти национального государя» («законного главы государства»), и «свободного служения пророка (вдохновенного главы человеческого общества в его целом)». В статье недвусмысленно выражена идея подчинения светской власти Российской империи папе римскому: «Христианская Россия, подражая самому Христу, должна подчинить власть государства (царственную власть Сына) авторитету Вселенской Церкви (священству Отца)...» (цит. по: Соловьев В. С. Сочинения: в 2 т. М., 1989. Т. 2: Чтения о Богочеловечестве. Философская публицистика. С. 242, 245). Папа Лев XIII был ознакомлен с идеями Соловьева о воссоединении Западной и Восточной Церквей (подробнее см.: Соловьев. Письма I. С. 180-193) и нашел их заслуживающими внимания. Сочувственная реакция понтифика была доведена до сведения автора. Из Вены Соловьев сообщал 16 (28) декабря 1888 г. брату Михаилу: «Посылал папе ,,L' idée russe“. Папа сказал: „Bella idea, ma fuor d’un miracolo ecosa impossibile“ [„Прекрасная мысль, но без вмешательства чуда — дело невозможное“, um.]» (цит. по: Соловьев. Письма IV. С. 119).
7 chef infallible du sacerdoce — папская непогрешимость (фр.). Об этом Соловьев говорит в начале десятой главы «Русской идеи» (ср. примеч. 6).
8 Страхов имеет в виду рассуждения Соловьева в заключительной, десятой главе брошюры о механизме «гармонического» духовного и социального взаимодействия «трех главных действующих сил» будущей «Вселенской Церкви» (см. примеч. 6), 566
устроению которого, по его мнению, призвана помочь Российская империя. Этой задаче, в его представлении, и соответствует историческое содержание и внутренний смысл понятия «русская идея» (см.: Соловьев В. С. Сочинения. М., 1989. Т. 2. С. 242-246).
9 Высказывание, важное для понимания особенностей отношения Страхова к современной Церкви и его поддержки религиозно-нравственных исканий Толстого.
10 Педагогов и методистов Н. Ф. Бунакова и В. А. Евтушевского Толстой резко критиковал в статье «О народном образовании» (1874), и они выступили тогда в печати с опровержением критических выводов писателя, хотя Бунаков и отмечал, что статья Толстого написана «увлекательно, остроумно и таким прекрасным языком, каким умеет писать только автор „Войны к мира"» (см. примеч. 8 к. п. 81).
11 Мысль Страхова о склонности Вл. Соловьева в его историософских построениях к «сочинительству» раскрывается с большей полнотой и становится понятнее в контексте его общих суждений того времени о философе. Не стесняемый рамками публичной полемики, Страхов в частной переписке мог позволить себе высказаться по этому поводу с несдерживаемой откровенностью. Так, размышляя об «умственном разладе» в научной и общественной жизни, он и в воззрениях Соловьева усматривает ту же «умственную мелкость», делает ему упрек в «неосновательности» («развязное и бессвязное» плетение мысли) и «несамостоятельности» умозаключений (письма А. А. Фету от 3 апреля и 15 июля 1888 г. — Фет. Переписка II. С. 455, 461; письмо В. В. Розанову от 15 февраля 1889 г. — Розанов В. В. Собр. соч. [Т. 13]: Литературные изгнанники. ... Переписка В. В. Розанова с Н. Н. Страховым. С. 30). Ср.: «...недавно я стал перечитывать Гоголя и меня поразила его удивительная способность делать верные и точные гиперболы. Разве Хлестаков и Подколесин — не гиперболы? А все-таки верно, что, например, Петербург до сих пор так и остается городом Хлестаковых. (...) Но что-то Вы скажете о моей статье [„Наша культура и всемирное единство“. — Сост.]? Меня всё еще занимают мысли о Соловьеве (...) я всё больше удивляюсь его подавторитетности. Ведь он не решается отказаться от Дарвина, он мне прямо говорил. Почему же? Потому что у него не хватает соображения, чтобы обнять всю аргументацию, а Дарвин давит своим авторитетом». «Но, в конце концов, я теряю веру в Соловьева. Когда человек добровольно откажется от умственной свободы, он уже не может рассуждать разумно и ясно». «На тему, что нужно стоять на своих ногах можно сказать многое; всю жизнь мне было противно рабское умственное подчинение, которое у нас так обыкновенно, и я умею, кажется, отличить его от сознательного уважения авторитета. Соловьев очень отважен, но у него нет сознания почвы под ногами, нет внутри точек опоры, и он ищет их вне — в догматах, в Риме (письма Фету от 18 марта, 4 июня и 15 июля 1888 г. — Фет. Переписка II. С. 454,458, 461. — Курсив Страхова). Такого рода смелые предположения и утверждения Страхов называл «угорелыми» пророчествами Соловьева. В. В. Розанов, тонко понимавший ход полемической мысли Страхова, заметил в одном из ранних писем к нему по 567
поводу критики выступлений философа в печати: «...так сильно (по-моему) Соловьев еще ни разу не был унижен в нашей литературе. Но это и поделом; в смысле самоуверенности, неуважения ни к чему, кроме себя самого, в нем есть нечто почти хлестаковское, и мы всегда как-то склонны относиться к таким господам особенно почтительно: он всегда был небрежен со своими критиками (...) а они, даже когда чувствовали себя, очевидно, сильнее его, относились к нему как-то бережно, чересчур деликатно. Вы первый дали ему урок, отнеслись к нему небрежно, как к поверхностному мыслителю, почти прямо назвали его холопом и нахалом, ничего не любящим и едва ли способным что-нибудь любить серьезно, отдельные суждения его — софистическими, жалкими, убогими» (письмо без даты, от второй половины июня 1888 г. — Розанов В. В. Собр. соч. [Т. 13]: Литературные изгнанники. ... Переписка В. В. Розанова с Н. Н. Страховым. С. 172. — Курсив Розанова).
12 8 февраля 1881г. на ежегодном торжественном акте в Санкт-Петербургском университете (посвященном основанию столичного учебного заведения) студент-народоволец П. П. Подбельский в присутствии 4 тыс. человек собравшихся нанес оскорбление действием министру народного просвещения А. А. Сабурову за (как настаивал позднее в письменном обращении к ректору университета сам Подбельский) неисполнение им (Сабуровым), «желаний студентов», хотя именно этот министр выдвинул, с целью успокоения радикальных настроений молодежи, проект предоставления учащимся высших учебных заведений некоторых прав студенческой корпорации, в том числе возможности коллективного обсуждения настоявших нужд обучающихся (так называемое «право сходок»). Провокационная выходка 20-летнего студента рассматривалась по его настоянию в заседании университетского суда, не нашедшего в его поступке признаков заявленного им в самообвинении деяния. Из показаний некоторых очевидцев, в том числе из профессорско-преподавательского состава университета, следовало, что некий молодой человек действительно подбегал к министру и при этом было замечено его движение рукой «сверху вниз», однако определить этот жест как «удар по лицу» никто не решился. Сам министр сохранял во всё время беспорядков в зале «самообладание и спокойствие». Наблюдавший эту сцену будущий академик-медиевист, а тогда студент историко-филологического отделения С. Ф. Платонов, так описал происходившее: «...Сабуров (...) сидел в кресле и на шум, начавшийся на хорах, повернул голову влево и вверх, в это время последовал удар от быстро промелькнувшего за его спиной справа налево человека низкого роста и с черной бородой. Направленный в правую щеку, удар пришелся в затылок...» (Несколько воспоминаний о студенческих годах. — Дела и дни. Кн. 2. П6., 1921. С. 126). Признанный виновным в участии в недозволенных организованных выступлениях, Подбельский был исключен из университета, а копия решения университетского суда направлена для рассмотрения в общем порядке уголовного судопроизводства. Подробнее об инциденте см.: Журналы экстренных заседаний Совета С.-Петербургского университета 568
от 8 и 12 февраля 1881 г. — Протоколы заседаний Совета С.-Петербургского Императорского университета за вторую половину 1880/1881 академического года. СПб. 1881. №24. С. 32-34.
13 Иван Давидович Делянов стал министром народного просвещения в 1882 г. и оставался им до самой своей смерти в 1897 г. Он был известен целым рядом консервативных мер, в том числе принятием нового университетского устава (1884 г.), ограничивавшего автономию высших учебных заведений, и циркуляром о сокращении числа учеников в гимназиях и допущении в гимназии детей «не ниже купцов второй гильдии» (получившем в народе название «указа о кухаркиных детях»). При Делянове была введена процентная норма приема в высшие учебные заведения евреев. Однако Делянов придерживался не столько собственных взглядов, сколько преобладающего консервативного направления царствования Александра III, определявшегося графом Д. А. Толстым и К. П. Победоносцевым, и в своей деятельности, по признанию современников, был образцом лавирующего чиновника, не делавшего значимых самостоятельных шагов и старательно поддерживавшего общественное спокойствие и порядок во вверенном его попечению ведомстве. 23 ноября 1888 г. Делянов был за свою деятельность удостоен титула графа.
14 Страхов в духе либерального славянофильства признает критику философом косности русской мысли и социально-политической бездеятельности общества, сложившихся под влиянием недостатка гражданских свобод, однако решительно отвергает его призыв к раскаянию и отречению от идеи народности, понимаемой как проявление национального эгоизма, во имя единого вселенского организма человечества. Этот спор о национальном начале и едином человечестве ляжет в основу полемики двух философов вокруг книги Н. Я. Данилевского «Россия и Европа».
15 См.: Иван Сергеевич Аксаков в его письмах. Ч. 1, т. 1-2. М., 1888. В яснополянской библиотеке издание не представлено.
16 Анна Федоровна Аксакова (урожд. Тютчева), вдова И. С. Аксакова. Страхов писал А. Н. Майкову 31 августа 1888 г.: «Сейчас получил я от А. Ф. Аксаковой письмо и два тома только что напечатанных: «Иван Сергеевич Аксаков в его письмах». Письма доходят до 1851 года. Оказывается, что она всё живет у Сергия, над могилой, и что она сама ведет это издание и написала тут большие статьи о семье Аксаковых, о детстве И [ван] а С[ергеевич]ча и пр. Просит отзыва и снисхождения; да она стоит не снисхождения, а восхищения!» (РО ИРЛИ. № 16947. Л. 26).
17 В первых двух томах писем И. С. Аксакова была собрана его корреспонденция за годы учебы и служебной деятельности; в первом — за 1839-1848 гг., во втором — за 1848-1851 гг.
18 Сочинения С. Т. Аксакова, которого, как продолжателя пушкинской традиции в отечественной прозе, Страхов оценивал чрезвычайно высоко, сопоставляются с творчеством одного из сыновей, И. С. Аксакова. Толстой был лично знаком с С. Т. Аксако569
вым с конца января 1856 г., весной того же года присутствовал на чтении «Семейной хроники», которую признавал «замечательным» литературным произведением (Юб. Т. 47. С. 73, 111-112; Т. 60. С. 156). В яснополянской библиотеке сохранился экземпляр книги Аксакова «Семейная хроника и воспоминания» (М., 1856) с дарственной надписью автора (ОписаниеЯПб. Т. 1, ч. 1. С. 29. № 39). Однако позднее Толстой более сдержанно высказывался о творчестве С. Т. Аксакова, считая, что его «литературная известность (...) раздута» — «у него было лишь среднее дарование» (см.: Дневник В. Ф. Лазурского, запись от 5 августа 1894 г. — ЛН. Т. 37-38. С. 480).
19 Длительные перерывы в получении писем от Толстого и продолжительное отсутствие известий из Ясной Поляны тяготило Страхова. Не имея долгое время (летом и осенью 1888 г.) сообщений о писателе, он обращался в начале октября к А. А. Фету с просьбой уведомить его о новостях в семействе Толстых: «Если же хотите доказать, что вовсе на меня не сердитесь, то напишите мне побольше и о себе и об Ясной Поляне. Есть на свете разные люди; есть такие, о которых все их знакомые всегда говорят и не могут наговориться. Это бывают большею частию плутоватые и лгущие, но неугомонные молодцы. Но бывают и хорошие, и первый из них Л. Н. Толстой. Трудно представить более интересного человека!» (письмо от 4 октября 1888 г. — Фет. Переписка II. С. 467).
20 Несколько иначе объяснял Страхов свои душевные порывы и духовные притяжения летом 1888 г. в письме к другому своему постоянному корреспонденту — А. А. Фету: «Когда пишу к Вам, дорогой Афанасий Афанасьевич, то всегда бывает у меня минута тоски: я вспоминаю Вашу Воробьевку и желал бы вдруг перенестись на берег Тускари. Как там хорошо! (...) Когда бывал у Вас, я всегда чувствовал тот спокойный, твердый порядок во всем, который мне так любезен; напротив, в Ясной Поляне — чувство зыбкости и хаоса во всем окружающем быте отравляло мне часто самые прекрасные дни.» (письмо от 2 или 3 августа 1888 г. — Там же. С. 462).
21 Свои ощущения от пребывания в Ясной Поляне в конце августа 1887 г. Страхов описывал в письме к Фету из Москвы от 29 августа: «Водворившись в Вашем кабинете, дорогой и многоуважаемый Афанасий Афанасьевич, почувствовал я большое удовольствие от совершенной тишины, от совершенной сухости и от отсутствия не только кусающих мух, но и обыкновенных (Musca domestica); а равно и представителей класса паукообразных (Arachnoidea) и класса многоногих (Myriapoda). Вы догадываетесь, что я сегодня только покинул Ясную Поляну и перенесся сюда. (...) До самого этого дня погода стояла томительно жаркая — 23°, 24° по Реомюру! Просто я истосковался по холоду; только сегодня похолодело, и я был этому немало рад. Мое здоровье по-прежнему: толстею и недомогаю» (Там же. С. 440).
22 См. примеч. 12 к п. 393.
23 О том, что Страхов продолжил обдумывать содержание намеченной к написанию статьи, свидетельствует запись Толстого в дневнике от 14 июня 1889 г., сделанная на570
кануне отъезда Страхова из Ясной Поляны после летнего отдыха: «Страхов говорил о плане своего сочинения о пределах познания. Познание бывает только формальное, но есть еще постижение содержания. Это область нравственности, любви и искусства. Он не ясен» (Юб. Т. 50. С. 95).
24 Первые контакты Страхова с выпускавшимся А. Ф. Марксом в Петербурге еженедельным иллюстрированным журналом «Нива» относятся к 1877 г., когда издание редактировал сосед Страхова по квартире в доме Стерлигова литератор Д. И. Стахеев (1876-1878 гг.). В одном из номеров журнала была опубликована заметка Страхова «К портрету Пушкина» (Нива. 1877. 2 мая. № 18. С. 282-283, 286). С 1878 по 1887 г. журнал перешел в ведение Ф. Н. Берга, будущего редактора-издателя «Русского вестника» (об интригах Берга против Стахеева в связи с интересом к редактированию «Нивы» см. п. 209 и примеч. 7 к нему). В 1887 г. редактирование вновь (впервые — в 1870-1875 гг.) принял на себя писатель и журналист В. П. Клюшников (см. примеч. 26). В связи с приближавшимся 50-летним юбилеем творческой деятельности А. А. Фета (отмечался в Москве 28 и 29 января 1889 г.) редакция проявила интерес к предложению выпустить отдельным изданием обе части трагедии Й.-В. Гете «Фауст» в переводе поэта, а также поместить на страницах журнала его автобиографическую прозу (рассказ «Вне моды», отрывки из воспоминаний). Посредником в переговорах с редакцией, и в частности с Клюшниковым, выступил с марта 1888 г. Страхов. (Подробнее о его сношениях с издательством Маркса по делам публикации произведений Фета см. в его письмах к поэту: Фет. Переписка II. С. 453-471; о возникшем при этом между Страховым и Фетом недоразумении см. ниже п. 395, 396). В июне на страницах «Нивы», вероятно, не без содействия редактора, появилась посвященная Страхову статья (биографический очерк) его «доброго знакомого» и «последователя» Д. Н. Михайлова, при которой был помещен и выполненный с фотографии гравированный портрет философа (см.: М - овъ Д. Николай Николаевич Страхов — Нива. 1888.25 июня. № 26. С. 641-642).
25 Три старца. (Народное сказание). Графа Л. Н. Толстого. — Нива. 1886.29 марта. №13. С. 330-331,334.
26 Страхов был лично знаком с писателем В. П. Клюшниковым, автором антинигилистического романа «Марево» (1864), по сотрудничеству в журнале В. В. Кашпирёва «Заря», где почти весь 1869 г. печатался роман Клюшникова «Цыганы» (1869, № 2-4, 6, 7, 10, 12) (1869-1872), а позже — незаконченная повесть «Не марево» (Заря. 1874. № 4), в которой развивались идеи принесшего автору известность романа «Марево». На последний Страхов дал отзыв в своей рубрике «Заметки летописца» в журнале братьев Достоевских «Эпоха» (Страхов Н. Марево и естественные науки. — Эпоха. 1864. Март. С. 325-347). Позднее Страхов публиковался в издававшемся Клюшниковым (1876-1878 гг.) еженедельном иллюстрированном журнале «Кругозор». В 1883-1886 гг. Клюшников заведовал редакцией журнала М. Н. Катко571
ва «Русский вестник». Современник отзывался о Клюшникове, как об «идеальном» редакторе и человеке «безграничной доброты, необычайной скромности, мягкости» (Всемирная иллюстрация. 1892. № 1244. С. 405-406). Встретившись вновь с Клюшниковым в Петербурге, Страхов писал о нем А. А. Фету: «Удивил меня Клюшников; он точь-в-точь такой, как в 1869 году. Вот как долго продолжается юность!» (письмо от 18 марта 1888 г. — Фет. Переписка IL С. 454). Страхов также высоко оценивал деловые качества редактора «Нивы»: «он очень грамотный человек, со вкусом и знанием дела», «скромность, кажется, у него в крови», «в аккуратности Клюшникова я уверен» — сообщал он о нем свое мнение Фету после нескольких месяцев совместной работы над произведениями поэта (письмо от 22 июня 1888 г. — Там же. С. 460).
27 Ведущий критик газеты «Санкт-Петербургские ведомости», полковник Генерального штаба В. К. Петерсен, писавший под псевдонимом Н. Ладожский, задался целью «констатировать смерть славянофильства» и использовал для подтверждения своей мысли такой странный аргумент: «С своей стороны, H. Н. Страхов, как естествоиспытатель, — чистый материалист, что не могло не отразиться и на чистоте его славянофильства» (Н. Ладожский [Петерсен В. К.]. Критические наброски. В защиту славянофилов. М. О. Коялович. Правда. № 29, 30 и 31. — СПбВед. 1888.2 сент. № 242. С. 2).
28 См. примеч. 9 к п. 393. Ср. оценку воздействия статьи на русское столичное общество в письме Соловьева иезуиту о. Пирлингу: «В Петербурге (отчасти благодаря моей ужасной статье) меня приняли с таким empressement [живым участием, фр.] в разных кругах общества, начиная с самых высоких и кончая „умственным пролетариатом“, что я вместо десяти предположенных дней пробыл там целый месяц и не видел, как проходило время. (...) Что псевдопатриотическая клика, которую я назвал „хрюкающим и завывающим воплощением национальной идеи", отозвалась на этот комплимент соответственною бранью — это было вполне естественно и мною предусмотрено. Впрочем, как Вы увидите из прилагаемого листка, не все псевдопатриотические органы отнеслись ко мне так, как „Новое время“ или как мой приятель В. В. Стасов. Что же касается до органов не шовинистских, то все они отозвались более или менее сочувственно на мою статью (...) Под конец „Новое время“, несмотря на свою особенную обиду, должно было понизить тон. (Если у Вас в Париже получается эта газета, то посмотрите в № от 27-го марта ст[арого] ст [иля] передовую статью под заглавием: „Идея нации“, где на меня клевещут и ругаются уже не так самоуверенно, как сначала.) Не могу не придать значения тому факту, что небольшая журнальная статья в течение двух месяцев служит предметом оживленных толков в обществе и печати. Так как Вы интересуетесь моим личным впечатлением, то я должен Вам сказать, что безусловно доволен действием моей статьи и решительно продолжаю в том же направлении. Вторая, гораздо более обширная статья уже вышла в апрельском № „Вестника Европы“ и дальнейшие, трактующие об „исторических грехах России“, хотя и представляют 572
более трудностей с цензурной точки зрения, однако, как уверяют меня опытные люди, могут быть все-таки напечатаны при некотором искусстве в изложении. Сочувствие лучшей части русского общества мне обеспечено, а относительно худшей могу только сослаться на свой уже известный Вам девиз: Бог не выдаст, свинья не съест» (письмо из Москвы от 7/19 апреля 1888 г. — Соловьев. Письма III. С. 165-166. — Курсив Соловьева).
395
С Л. Толстая — Строхову 28 декабря
1888 г. Носквй
Многоуважаемый Николай Николаевич,
Вы слышали, вероятно, что предполагается 28-го января празднование юбилея Фета, его 50-тилетней литературной деятельности1. Вопрос этот, кажется, поднял он сам2, потом я слышала от Марьи Петровны болезненное почти беспокойство, что не состоится юбилей и что ее папочка огорчится. Потом были со всех сторон слухи, что Афанасий Афанасьевич желает того-то и того-то, т. е. поздравлений, оваций, лаврового венка, обеда, камергерства и проч, и проч. От него лично я ничего не слыхала, кроме того, что он желает, чтоб его только поздравили у него на дому. Но в этих словах я видела болезненный страх, что его не почтут с должным ему уважением.
Цель моего письма к вам, Николай Николаевич, та, чтобы просить вас содействовать празднованию старика. Ведь вы один из генералов литературы, и в Петербурге власть имеющий!3 Ведь вы сами, вероятно, приедете, по крайней мере здесь все в этом уверены, а мы, все Толстые, радуемся, что это доставит нам радость провести с вами несколько дней и просить вас остановиться у нас. Так не можете ли вы подговорить еще кое-кого от литературы приехать поздравить и отпраздновать Фета, и не напишете ли вы хоть короткую оценку его литературной деятельности, ведь вы — и больше никто не сумеет этого сделать, вы 573
Печатается по: ОР ГМТ. Ф. 47. №39407. Л. 1-2 об. На л. 1 помета Страхова: «28 декабря] 1888». Впервые: ПТСII. С. 210.
один из последних представителей и ценителей столь любимой мною эстетики!
Для Афанасия Афанасьевича идеалом его юбилея — юбилей Майкова4. Т. е. заседание было бы желательнее всего, затем поздравления и обед. Но если, как говорят здешние умники, заседание немыслимо, то поздравления у него на дому, обед с речами и с дамами5.
Что вы обо всем этом скажете, дорогой Николай Николаевич?
Вы меня спросите: «а вам что до всего этого за дело?» В том-то и дело, что сам Аф[анасий] Аф[анасьевич] и Марья Петровна на меня и на Грота6 это почти возложили, т. е. с их приезда еще осенью7, в Ясную, начали просить моего участия.
Простите, что пишу вам об этом, и примите мои сердечные поздравления и пожелания к Новому году. Лев Николаевич вам очень кланяется и рад будет вас видеть.
Искренно преданная и уважающая вас
С. Толстая
28 декабря 1888,
1 Юбилейная тема возникла в переписке А. А. Фета и Я. П. Полонского в конце зимы 1888 г., но не получила со стороны будущего юбиляра заинтересованного звучания. 10 марта он писал Полонскому: «Что же касается до моего юбилея, то я об нем и не помышляю. Это с грехом пополам возможно в Питере, но в Москве чересчур карикатурно. Здесь приличнее справлять юбилей банщика или дворника, чем поэта» (Фет. Переписка I. С. 634). Однако в дальнейшем, возможно, под влиянием впечатления от торжеств, связанных с юбилеем литературной деятельности А. Н. Майкова (см. примеч. 4), Фет изменил свой взгляд. 23 июня 1888 г. он писал в этой связи вел. кн. Константину Константиновичу: «В ближайшем декабре или январе исполняется пятидесятилетие моих стихотворных трудов. Мы видели торжественные овации, которым подвергся Майков, осчастливленный сверх всего Высочайшим Монаршим вниманием. Если бы я состоял на службе, то, конечно, чувствовал бы некоторую обиду, если бы награда, доставшаяся заурядному моему сослуживцу, преднамеренно обходила меня. Но об этом не может быть и речи, так как я не состою ни на какой службе и (...) не могу претендовать на какие-либо важные чины или знаки отличия. Равным образом я ни за что не решусь приехать в Петербург, как бы напрашиваясь на пятидесятилет574
ний юбилей. Есть небольшой кружок образованных русских женщин, симпатизирующих моей музе. Вот среда, внимание которой было бы для меня весьма лестно, так как в сущности я певец русской женщины. / Но, конечно, как верноподданному по прирожденному чувству, — высшею наградою мне на закате дней моих было бы личное внимание Его Величества, верховного представителя нашей Родины и руководителя ее судеб, — к посильным трудам моим. Но чем, после всего сказанного мною, могло бы выразиться Высочайшее внимание на виду всей грамотной России? Если Майков мог получить тайного советника и значительное прибавление пенсиона, то почему бы мне не мечтать о звании камергера, ни с какими дальнейшими функциями не связанного? / Такое назначение только показало бы всей России, начиная с меня, Высочайшее внимание к моим посильным трудам. Конечно, раскрыть доступ моим упованиям лежит на обязанности лиц, наблюдающих за духовным развитием нашего отечества (...) Умоляю Ваше Высочество не заставить меня краснеть от подозрения, будто бы я могу быть настолько вульгарен, чтобы злоупотреблять благорасположением Вашего Высочества для каких-либо испрашиваний. Я просто, оглядываясь на Высочайшее внимание, оказываемое нашими венценосцами, начиная с Сумарокова и до Полонского включительно, дерзаю задаваться вопросом вслух перед Вашим Высочеством. Привет даже избранного круга все-таки останется частностью, тогда как Высочайшее внимание есть голос всего государства и без надежды на Него я предпочитаю пройти молчанием пятидесятилетнюю давность моих трудов» (Фет. Переписка II. С. 695-696). Дату начала своей литературной деятельности Фет назвал в письме к Я. П. Полонскому от 23 мая 1888 г.: «Что касается моего юбилея, то, как я писал на днях Н. Н. Страхову [письмо неизвестно. — Сост.], основание к пятидесятилетнему поминанию моей музы с полным правом наступит в декабре этого года или в январе 1889 г., когда желтая тетрадь моих стихов, одобренных Гоголем, стала ходить по рукам университетских товарищей... ». В указанный Фетом период Н. В. Гоголя не было в Москве — он находился в Италии. Возможно, тетрадь стихов была показана Гоголю в декабре 1839 г. - январе 1840 г. Таким образом, празднование юбилея Фета должно было бы происходить в январе 1890 г. (Там же. С. 647-648. См. также: Фет А. Ранние годы моей жизни. М., 1893. С. 140-141).
2 О своих пожеланиях к юбилею Фет писал графу А. В. Олсуфьеву в письме от 7 июля 1888 г.: «В конце нынешнего года истекает срок пятидесятилетия моей поэтической деятельности, и я с разных сторон получаю запросы о моем юбилее (...) Жаловать меня какими-либо орденами, соответствующими чину гвардии штаб-ротмистра, или назначить мне пенсию — мало соответственно моему положению. Единственною, ничего не стоющею казне, а между тем значительно выдвигающею меня наградою, как Высочайше отмеченного писателя, было бы камергерское звание (...). Ехать же на юбилей в Петербург я так же мало способен, как войти с кренделем и поздравить с именинником, подразумевая себя. Никаких торжественных восхвалений мне не нуж575
но, я ждал бы из рук председательницы лаврового венка и Высочайшей награды, о которой говорю выше...» (см.: Фет А. А. Стихотворения. Проза. Письма. М.: Советская Россия, 1988. С. 405-406).
3 Страхов через год стал членом-корреспондентом Императорской академии наук по Отделению русского языка и словесности, участвовал в работе комиссии по присуждению Пушкинской премии. Его известность и авторитет как литературного критика неуклонно возрастали. В отставку Страхов вышел в чине действительного статского советника, что соответствует званию генерал-майора воинской службы.
4 50-летний юбилей творчества А. Н. Майкова праздновался 30 апреля 1888 г. в театральном зале петербургского Литературно-драматического общества. В связи с юбилеем Майков был произведен в тайные советники (соответствует званию генерал-лейтенанта воинской службы) и его пенсия увеличена вдвое. Юбилейный комитет возглавлял Я. П. Полонский. В письме к А. А. Фету от 7 мая 1888 г. он замечал: «Юбилей вышел не всенародный, но — торжественный. — Продолжался от 2 часов утра до 10 часов вечера (...) [Майков] сам говорил речи и читал свои произведения...» (Фет. Переписка I. С. 643). Фет на юбилее не присутствовал, он прислал Майкову стихотворение «На юбилей А. Н. Майкова. 30 апреля 1888 г.».
5 Торжества по поводу 50-летия литературной деятельности Фета проходили в Москве. 28 января 1889 г. Фет принимал после молебна поздравления в своем доме на Плющихе. 29 января Московское Психологическое общество устроило в его честь подписной обед в ресторане «Эрмитаж». Материалы о юбилее Фета см. в книге: Садовской Б. Ледоход. Статьи и заметки. Пг., 1916. С. 187-192.
6 Профессор философии Николай Яковлевич Грот, будущий редактор журнала «Вопросы философии и психологии», председатель Московского Психологического общества, был одним из инициаторов празднования юбилея Фета.
7 Проездом в Москву на зиму Фет с женой провели в Ясной Поляне два дня: 29 и 30 сентября.
1889 396
4 января 1889 г. (трОХОВ — С Л. ТОЛСТОЙ
Санкт-Петербург
Душевноуважаемая графиня,
Наконец я могу писать к Вам; все беды, которыми меня встретил Новый год, уже разразились, и я хочу просить Вашего сожаления и участия, хочу жаловаться Вам на судьбу. Но прошу Вас, вполне не откры576
вайте этого письма другим (кроме, разумеется, Льва Николаевича — его суждение было бы мне бесконечно дорого)1.
Во-первых, Фет. С начала осени он понемногу так меня обозлил своим поведением, что сказать не могу. Он засыпал меня своими поручениями по делам с редакциями. Я принялся усердно услуживать: и ездил, и писал, и вел всякие переговоры2. Вы не подумайте, что я хвалюсь; нет, у меня теперь много времени и своя работа не спорится, — поэтому я действительно делал всё для нетерпеливого Фета. И что же? Не говорю о том, что его писания чем дальше, тем хуже, наляпаны, а не написаны (говорю о прозе)3, но он скрыл от меня свой уговор с <<Р[усским] вестником»4, вздумал нарушить этот уговор и хотел сделать это через меня, не давая мне понятия о настоящем ходе дела. Он поставил меня в такое фальшивое положение, что я с этих пор уже не возьмусь ни за какие его поручения. И жадность, и лукавство непростительные!
Затем — юбилей. Опять он меня подбивает — побуждать кого можно к празднованию. И пишет мне, что у него есть тайная причина непременно теперь желать юбилея5. Ему, очевидно, стыдно было признаться передо мной, как прежде, в том, что хочет набавить в полтора раза цену на свое безобразное писанье, так и теперь, что захотелось камергерства. Вдруг мне со стороны говорят: «Слышали? Какой срам! Он пишет Великим Княгиням и всем, кому можно6, чтобы его сделали камергером!» И по всему городу идут насмешки и всякая брань. Полонский берет перо и пишет Фету письмо: «Представь, про тебя распустили глупый слух, что ты добиваешься камергерства. Я всем говорю, что это гнусная клевета, что ты выше всего ценишь звание поэта, такое звание, которого никто не может дать и никто не может отнять». Фет с тех пор не пишет Полонскому7.
Ну что же Вы тут прикажете делать? Никак не могу я защищать его. Вот и теперь он упросил Вас написать мне о его желаниях, упросил потому, что знает — Ваши слова имеют для меня в тысячу раз больше значения, чем самые горячие его просьбы. Ну это не лукавство? Ну 577
это не происки? С какой радостью я раскрыл Ваше письмо, и как меня огорчило это попрошайничанье Фета! Ради Бога, простите мне, что так резко выражаюсь о человеке, который пользуется некоторым Вашим расположением. Да и я желаю ему всего хорошего, и неприязни к нему не питаю. Но уж делать что-нибудь для его пустых затей — никак не стану8. Выбирайте между нами, графиня, — прошу Вашего извинения, но ничего не могу исполнить из того, что Вы пишете.
Да и не хорошо было бы. На юбилеях Полонского9 и Майкова10 я ничего не делал, — только пообедал; так я сделаю и на юбилее Фета; здесь в Петербурге его тоже будут праздновать11 — вот я и пообедаю, да пошлем телеграмму, которую кто-нибудь сочинит.
Это были два прекрасные юбилея, и Фету такого не видать. Ни Полонский, ни Майков сами шагу не сделали и слова не сказали для того, чтобы устроить праздник или выпросить себе награду. Около того и другого есть целая толпа друзей и поклонников, и они-то всё сделали, и с какой радостью, с каким усердием! Да и заслуги не одинаковые. Талант Фета — диво и прелесть, но он его наполовину зарыл; он тридцать лет копил деньги, в то время как те трудились и обдумывали свои произведения. И его имя далеко не имеет того весу. Что до меня лично, то Майков и Полонский мне люди очень близкие в сравнении с Фетом, притом люди, которые при всех своих недостатках, можно сказать — сияют душевной красотою. Это очень хорошие, чрезвычайно редкие люди! Особенно Майков. Так Фет не имеет права жаловаться, что его приятели, недавние и не особенно близкие, не сделают для него того, что для тех сделали люди, давно и сердечно их любящие. Господь с ним! Пусть его тешится камергерством12, если его получит; но если не получит, то он будет справедливо наказан.
Вот и я за какие-то грехи понес наказание и теперь раздумываю, чем же я провинился? Представьте, что к Новому году мне дали — звезду!
Я думал, что так как я в отставке, то безопасен от всяких повышений13, наград, и т. п. Но вдруг мне дают звезду по Ученому Комитету, где 578
награда — величайшая редкость14. Не могу Вам выразить своей досады. Зачем мне эта звезда? Как мог Георгиевский15 думать, что он меня ею обрадует? И за эту непрошенную, ненужную и досадную награду приходится благодарить, и они будут считать, что я им обязан, что они для меня что-то сделали. Уверить их, что ничего мне от звезды не будет, кроме беспокойства двух визитов к министру16 и к председателю17 — нет никакой возможности. А потом: точно ли это сделано для меня? Не потому ли только, что по вторникам я обедаю у Вышнеградского?18 А дальше: какая злоба у тех, кто добивался звезды, как Фет ключей19, и кого она миновала! А какие речи про меня и про Георгиевского и в чиновном и в литературном мире! И зачем же вся эта глупость делается? Не могу успокоиться от досады, и должен воздерживать себя, чтобы вместо благодарности не наговорить грубостей начальству.
Нечего делать, когда находишься в фальшивом положении. Я жалуюсь только на начальников: если бы у них было побольше внимания ко мне, да посветлее взгляд, не огорчили бы они меня генеральским чином и звездою. И кажется, так немного для этого нужно!20
Фет и звезда — это два несчастья, а статья Соловьева21 — третье и последнее. Дней за десять до Нового года я узнал, что в № 1 «Вестн[ика] Европы» должен явиться ответ Соловьева на мою июньскую статью22. Легкомысленный старый человек, от которого шла весть, прямо говорил, что Соловьев положил меня в лоск. И вот все праздники на меня нападала легкая тревога: что-то написал Соловьев? Вчера наконец я прочитал статью и был очень удивлен. Она чрезвычайно резка по тону и слаба по содержанию. Я остаюсь полным и несомненным победителем23. Но в то же время я как-то почувствовал, что Соловьев добрее меня. Моя статья мне показалась злою в сравнении с его статьею, хотя у него насмешек и резкостей больше, и он беспрерывно упрекает меня в недобросовестности24. Всего 20 страниц. Отвечать едва ли нужно25, и думаю, что эта полемика нас не поссорит навсегда26. Должно быть, его еще здесь нет27.
579
Печатается по: ОР ГМТ. Ф. 47. №39523. Л. 1-4 об. Впервые: ПТСII. С.214-216. Ответ на п. 395.
Вот мои горести и волнения. А всё другое, кажется, благополучно. И здоровье такое, что часто не помню о своей старости28, и много добрых людей, которые меня навещают и к себе зовут. На первом месте, конечно, Татьяна Андреевна, у которой каждую среду обедаю и вижу Вашего Сережу29. Он тяжел на подъем и был у меня всего два раза; но это не мешает нам питать друг к другу великое расположение. Не знаю, каков он в делах, но как человек он, конечно, прекрасный30.
Очень меня тронуло Ваше приглашение в Москву и остановиться у Вас. Много я виноват перед Вами и перед собою, что летом не побывал в Ясной Поляне. Тогда я был в дурном духе, в котором лучше сидеть дома. Теперь я прибодрился и постановил твердое намерение быть у Вас, как только Вы переедете в деревню.
Простите меня по-христиански, если найдете во мне что нехорошее. Через молодого человека, который повезет это письмо31, я решился послать Вам свою последнюю книжку32. Вы любите поэзию и сами пишете стихи33; боюсь, что Лев Николаевич мало обратил внимания на эту книгу — я послал ее ему еще в Ясную34. Но я не в силах отказаться от того, что любил, и думаю, что между строгою нравственностью и чистою поэзиею не может быть противоречия.
Еще раз, простите
Вашего душевно преданного
Н. Страхова
1889.
4 янв[аря].
Спб.
1 «Суждение» Толстого о затронутых в письме Страхова темах, кроме юбилея А. А. Фета, неизвестно. К предположению устроить общественное чествование поэта Толстой относился отрицательно, о чем свидетельствуют записи в его дневнике. Так, 14 января он отметил: «...жалкий Фет с своим юбилеем. Это ужасно! Дитя, но глупое и злое» (Юб. Т. 50. С. 23). Толстой не был на торжественном обеде в московском ресторане «Эрмитаж», однако посетил Фета в его доме на Плющихе утром 29 и днем
580
30 января 1889 г. Стремление создать в эти дни вокруг поэта атмосферу праздника также не вызывало сочувствия в Толстом. Ср. в дневниковой записи от 30 января: «Пошел к Фету. Там обед. Ужасно все глупы. Наелись, напились и поют. Даже гадко. И думать нечего прошибить» (Там же. С. 30-31).
2 В конце августа - начале октября 1888 г. Страхов, по просьбе Фета, вел в Петербурге переговоры с редактором «Русского вестника» Ф. Н. Бергом и редактором «Нивы» В. П. Клюшниковым относительно публикации отрывков из воспоминаний поэта. Кроме того, он принимал участие в подготовке к печати отдельного издания «Фауста» Гёте в переводе Фета, которое выйдет в свет в декабре 1888 г. Подробнее об этом см.: Фет. Переписка II. С. 464-467.
3 Подразумевается, вероятно, публицистическая и мемуарная проза Фета. С образцами журнальных выступлений поэта Страхов был знаком и ранее, но к общественным идеям его относился холодно. В этой связи он замечал в письме к Фету от 20 ноября 1888 г.: «... Вы подымаете слишком крупные вопросы, о которых в письме много не наговоришь. Мне кажется, я понимаю Ваши мнения и скажу прямо — отвергаю их совершенно. Пожалуйста, взгляните на меня как на человека частного и на принадлежащего к государству, и подумайте, как я себя чувствую в том и другом отношении. Не могу я принять мыслей, противных тому, чем я сам живу. Не толкуйте мне о чувствах студентов; я об них сужу по своим чувствам. Не доказывайте мне бессмысленности христианской морали; я только то и считаю в себе хорошим, что согласно с этой моралью. (...) Говорить, что мир стоит на эгоизме и на силе, значит всё равно, что считать чернила главным содержанием письма или книги. Чернила необходимы, но сила не в них; а однако, если страница будет залита чернилами, то в ней не окажется никакого смысла. (...) Ну, словом, мы расходимся с Вами далеко, и если не будем друг к другу снисходительны, то, пожалуй, крепко рассоримся. / Выберемте лучше мир» (Там же. С. 469-470). По поводу присланной Фетом брошюры «На распутии. Нашим гласным от негласного деревенского жителя» (М., 1885) Страхов замечал автору в письме от
31 января 1885 г.: «Простите, что до сих пор не вник (...) в „На распутии“ (...) но гласные меня мало интересуют, вовсе не так, как гласных. Мне стыдно это говорить, но что же делать! Глубокое равнодушие ко всему юридическому, экономическому, политическому — следствие нашего воспитания; славянофилы говорят, что это черта народного духа» (Там же. С. 390). Очередные фрагменты из воспоминаний Фета Страхов читал во время летнего пребывания в имении поэта Воробьевка (см. письмо Фету от 16 сентября 1887 г. — Там же. С. 442). Страхову была также известна помещенная в первом номере «Нивы» за 1889 г. автобиографическая повесть Фета «Вне моды», которую он хоть и прочитал «с великим удовольствием», тем не менее находил написанной «очень небрежно» (письмо Фету от 18 марта 1888 г. — Там же. С. 454). Впрочем, в одном из более ранних обращений к поэту Страхов давал его мемурной прозе иную, чем в комментируемом письме, оценку: «Что сказать Вам об Ваших „Воспоми581
наниях"? Тон, в котором они писаны, чудесный (...) интерес фактов несомненный. Но мне кажется, иногда недостает ясности — недостаток, мешающий выступать самым высоким достоинствам» (письмо от 27 августа 1888 г. — Там же. С. 465).
4 В августовском (1888 г.) номере журнала «Русский вестник» был напечатан отрывок из мемуаров Фета под заглавием «Из моих воспоминаний». Страхов, по желанию Фета, должен был условиться с редактором издания Ф. Н. Бергом о размере вознаграждения за публикацию последующих фрагментов.
5 Это письмо остается неизвестным.
6 О желании получить придворное звание камергера Фет писал великому князю Константину Константиновичу (литературный псевдоним К. Р.) 23 июня и 26 декабря 1888 г. Свое обращение Фет мотивировал упованием быть отличенным «на закате дней» высшей для него, как «верноподданного по прирожденному чувству», наградой: монаршей милостью — «личным вниманием Его Величества, верховного представителя нашей Родины и руководителя ее судеб» к своим «посильным трудам» — «вкладу в русскую литературу» — «на виду всей грамотной России» (см. примеч. 1, 2 к п. 395). Фет был твердо убежден, что «наградить может один только император», а «всенародным» его признание сделает только желаемая им монаршая милость, «так как всероссийским может считаться лишь то, что получило царское соизволение» (письмо к вел. кн. Константину Константиновичу от 26 декабря 1888 г. — Фет. Переписка II. С. 740). Об исполнении этой мысли поэта усердно хлопотали его близкие знакомые И. П. Новосильцов (шталмейстер императорского двора) и граф А. В. Олсуфьев, заручившиеся поддержкой К. П. Победоносцева, министра просвещения И. Д. Делянова и министра императорского двора И. И. Воронцова-Дашкова. Наиболее весомым оказалось, вероятно, участие вел. кн. Константина Константиновича, большого почитателя художественного таланта Фета. От вел. князя о «заветной мечте» поэта могли знать его мать вел. княгиня Александра Иосифовна, жена вел. княгиня Елизавета Маврикиевна и сестра Ольга Константиновна, королева Греции. Все они прислали Фету к торжественному дню поздравительные телеграммы. Пожелание поэта получить к дате литературного юбилея высокое придворное отличие (приравнивалось к чину действительного статского советника; IV класс в Табели о рангах) вызвало недоумение в кругах высшего чиновничества, так как, будучи частным лицом, Фет ни по полученному при выходе из военной службы в отставку чину (штабс-ротмистр; IX класс), ни по занимаемому общественному положению для возведения в звание не имел формальных оснований. Таковое пожалование могло состояться только в порядке личного благоволения монарха, приурочиваемого по обыкновению к высокоторжественным датам (праздник Пасхи, тезоименитство императора и т. п.). Непосредственно ко дню отмечавшегося юбилея Фет не получил никакого официально произведенного награждения или иного знака отличия. См. примеч. 31 к п. 397.
582
7 Страхов передает общее содержание посвященного этой теме фрагмента из письма поэта. Обращаясь к Фету 17 декабря 1888 г., Полонский замечал: «Кто-то, вероятно в шутку, — говорил мне, что ты просился в Камергеры. — Верить этому я не хочу, потому что не можешь же ты не сознавать, что звание Поэта выше, чем сотня камергеров, — из которых, наверное, целая половина гроша медного не стоит. Да и что тебе за охота, в твои года, заказывать себе мундир, который, как я слышал, стоит не дешевле 1400 рублей. (...) если бы мне предложили такое звание, — я бы жестоко обиделся, — я бы сказал: оставьте меня при моем звании поэта, — звании, которого вы дать мне не можете и взять не можете» (Фет. Переписка I. С. 695-696). Фет ответил на письмо Полонского 30 декабря (Там же. С. 697-699; см. также примеч. 31 к п. 397). Объяснение причин, по которым поэт желал получить к литературному юбилею придворное звание, см. в примеч. 6.
8 Страхов поздравил Фета с юбилеем в письме от 26 января 1889 г. (Фет. Переписка IL С. 476-477) и написал статью «Юбилей поэзии Фета» (НВ. 1889. 28 янв. № 4640. С. 2; вошло в: Страхов Н. Н. Заметки о Пушкине и других поэтах. 2-е изд. Киев, 1897. С. 225-229).
9 Чествование Я. П. Полонского по поводу 50-летия его литературной деятельности состоялось в Петербурге 10 апреля 1887 г. В зале Благородного собрания юбиляру были устроены торжественный обед и вечер, на которых присутствовало более 150 человек гостей, читалось множество поздравительных адресов, писем и телеграмм. О происходившем праздновании и связанных с ним личных переживаниях Полонский рассказал Фету в письме от 17 декабря 1888 г. (см.: Фет. Переписка I. С. 695-697). К юбилею пенсионное содержание поэта (1250 руб. в год; еще столько же он получал на службе по цензурному ведомству) было повелением императора Александра III удвоено. 22 апреля 1887 г. Полонский был принят императором в Гатчине, а через год награжден орденом Св. Станислава I степени. Вскоре после получения этого отличия Полонский писал Фету: «На наши поэтические труды нельзя жить. (...) Если бы не служба и не милостивое внимание ко мне Государя, я бы жил на чердаке и не мог бы кормить семью мою» (письмо от 16 июля 1888 г. — Там же. С. 662).
10 См. примеч. 4 к п. 395.
11 Вероятно, речь идет о предполагавшихся торжествах в петербургском Литературно-драматическом обществе (см. письмо Страхова Фету от 10 января 1889 г. — Фет. Переписка II. С. 473). Празднование юбилея Фета в Петербурге, о котором усиленно хлопотал поэт Я. П. Полонский (см. его письмо Фету от 12-15 декабря 1888 г. — Фет. Переписка I. С. 692-693), не состоялось из-за ухудшившегося состояния здоровья юбиляра и невозможности по этой причине приехать в столицу. Почитатель стихотворческого таланта Фета, считавший себя учеником поэта вел. кн. Константин Константинович (литературный псевдоним К. Р.) устроил 28 января у себя в Мраморном
583
дворце камерный торжественный обед с участием ближайших друзей и почитателей дарования юбиляра (см. письмо К. Р. к Фету от 28 января 1889 г. — Фет. Переписка II. С. 745-746; Страхов на обеде не присутствовал). В очередном заседании Литературно-драматического общества 30 января А. Н. Майков и Полонский прочитали собравшимся посвященные Фету юбилейные стихи.
12 См. примеч. 31 к п. 397.
13 При выходе в отставку со службы в Публичной библиотеке (в 1885 г.) Страхов был повышен в чине — возведен в действительные статские советники (чин IV класса), что, согласно действовавшей Табели о рангах, приравнивалось по значению к воинскому званию генерал-майора и давало право на обращение «Ваше Превосходительство».
14 За многолетние усердные труды по Ученому комитету (см. примеч. 8 к п. 68) Страхов был отличен высочайше пожалованным 1 января 1889 г. орденом Св. Станислава 1-й степени. Известие о награждении было помещено в разделе правительственных распоряжений «Журнала Министерства народного просвещения» (1889. Ч. 261. Февраль. С. 26). О волнениях Страхова в связи с получением им высокого орденского знака см. также в беллетризированном мемуарном очерке Д. И. Стахеева «Станислав первой степени и енотовая шуба. (Из воспоминаний о Н. Н. Страхове)» (ИВ. 1904. [Февраль]. С. 441-479). Ср. также: Розанов В. В. Собр. соч. [Т. 7]: «Легенда о Великом инквизиторе» Ф. М. Достоевского. С. 370-371. До этого Страхов был дважды отмечен наградами по службе в Императорской Публичной библиотеке — орденами Св. Владимира 3-й степени и Св. Анны 2-й степени соответственно.
15 Председатель Ученого комитета Министерства народного просвещения А. И. Георгиевский (о нем см. примеч. 9 к п. 204, примеч. 8 к п. 214); непосредственный начальник Страхова.
16 Министр народного просвещения И. Д. Делянов (о нем см. примеч. 27 к п. 244). Страхов побывал у него с благодарственным визитом между 5-9 января. Свое посещение он описал в письме к Фету от 10 января: «К величайшей моей досаде, мне вздумали дать звезду к празднику. Всё бы я простил — и визиты, и денежный вычет, но никак не могу простить одного, — добрые люди вообразили, что этим вздором могут доставить мне удовольствие. Впрочем, министр, когда я явился благодарить его, утешил меня: „Конечно, для вас, — сказал он, — как для философа это украшение ничего не значит; но — что же делать? — куда вода течет, туда и щепу несет“. Хорошее изречение! Но мне стало очень жаль иных служащих, которым до смерти хотелось звезды и которым она не досталась, потому что досталась мне, получившему от нее только досаду!» (Фет. Переписка II. С. 472. — Курсив Страхова).
17 См. примеч. 15.
18 Министр финансов (в 1887-1892) И. А. Вышнеградский; товарищ Страхова по Главному Педагогическому институту, много помогавший ему в начале учено-педа584
гогической карьеры, в частности при переводе Страхова из Одессы в Петербург. См. также примеч. 4 к п. 91.
19 ключи — церемониальный атрибут придворного звания камергера, исторически символизировавший особую степень доверия монарха к его обладателю.
20Свое неудовольствие на «начальство» за невнимание к его истинным пожеланиям Страхов высказывал еще вскоре после выхода в отставку в письме к А. А. Фету от 13 января 1886 г.: «Начальство мое считало себя постоянно передо мною виноватым; а вина его была в том, что оно не исполняло моих желаний — переменить Отделение, дать мне повышение и т. п. Чтобы оправдаться передо мною и перед самим собою (оно ведь доброе), оно давало мне кресты, а когда мне стало невтерпеж и я подал в отставку, думало совершенно утешить меня и снять грех с себя, давши мне превосходительный чин. Всё это я перенес терпеливо (не противься злу), особенно видя, что таким образом начальство сохраняет со мною наилучшие отношения. Ведь чины и кресты ему ничего не стоят (а с меня делались вычеты!); но мне очень грустно, что войти в мои желания никто не хотел. Даже выпросить ничтожную пенсию, в 750 р., никак не хотели, а дали только половину, 375. Так и вышло, что я считаю себя немножко обиженным, но не имею никакого права жаловаться. Я и не жалуюсь, и, правду сказать, очень доволен нынешним положением, хотя мой чин неприлично громок» (Фет. Переписка II. С. 409). Ср. с реакцией Страхова на избрание его в члены-корреспонденты Императорской Академии наук в конце декабря 1889 г. (п. 414).
21 Статья В. С. Соловьева «О грехах и болезнях» (BE. 1889. Январь. С. 356-375) была ответом на выступление Страхова «Наша культура и всемирное единство. (Замечания на статью г. Влад. Соловьева „Россия и Европа“ («Вестник Европы», 1888, февраль и апрель)» (PB. 1888. Июнь. С. 200-256; вошло в: Страхов H. Н. Борьба с Западом в нашей литературе: Исторические и критические очерки. Книжка вторая. 2-е изд. СПб., 1890. С. 218-286). О работе над этим материалом Соловьев извещал 29 декабря 1888 г. из Вены одного из своих корреспондентов: «Спешное литературное дело, о котором я Вам телеграфировал, была полемическая статья, о которой по телеграфу просил меня редактор „Вестника Европы“ для январского № его журнала. Мне пришлось закончить ее на месте [в Загребе. — Сост.] в 15 дней... » (Соловьев. Письма IV. С. 211 ). См. примеч. 22.
22 Предыстория продолжившегося между Вл. Соловьевым и Страховым спора вокруг историософских идей Н. Я. Данилевского (и шире — позднего славянофильства) такова. С мая 1888 г. Соловьев находился за границей (во Франции), где был занят редактированием и печатью своей книги «La Russie et l’Eglise Universelle» («Россия и Вселенская Церковь», фр.). О появлении возражения Страхова в июньском номере «Русского вестника» (см. примеч. 21) на статью «Россия и Европа» он узнал с запозданием — в ноябре, переехав из Франции в Австрию, и тогда же проявил к ней острый 585
полемический интерес. Свой запрос по поводу новой публикации он решает адресовать непосредственно автору, которому 24 ноября (12 ноября ст. ст.) писал из Загреба: «Шила в мешке не утаишь, и как тщательно Вы ни скрывали свою запоздалую вытечку (извините сей полонизм) против меня, а я все-таки о ней узнал. / Хотя я располагаю быть в Петербурге недели через две, но, зная по многолетнему опыту, что две недели незаметно вырастают в четыре и пять, я очень бы желал, не откладывая, познакомиться с Вашим стратегическим кунстштюком. Итак, не будет ли Вашей милости прислать мне его сюда...» (Соловьев. Письма I. С. 54). Не рассчитывая, вероятно, на быстрый ответ Страхова, который не откликнулся на два предыдущих письма, Соловьев в тот же день обращается с просьбой о содействии к редактору «Вестника Европы» М. М. Стасюлевичу и набрасывает план встречных действий: «Здесь в Загребе (...) я нашел в одном журнале известие об ответе Страхова на мою „Россию и Европу“. Это меня очень интересует, а отчасти и Вас касается, ибо за невозможностью писать прямо о грехах России, я мог бы написать у Вас о грехах Страхова, что в сущности всё равно, так как в Страхове я вижу миниатюру современной России. / Я предполагаю остаться в Загребе дней десять, но Вы знаете мое свойство инерции, а потому если б Вам попался „Русский Вестник“ — предполагаю, что мой хитроумный приятель подвизается в этом журнале, — то не можете ли Вы извлечь оттуда его произведение, если оно не велико, и прислать мне его сюда?» (письмо от 12/24 ноября 1888 г. — Соловьев. Письма IV. С. 38-39). Неделю спустя он направляет свою просьбу и брату Михаилу: «Здесь в Загребе нашел между прочим (...) известие о какой-то статье старого кота Страхова против меня. Если не знаешь, разузнай и напиши что такое» (письмо от 18/30 ноября 1888 г. — Там же. С. 117). В тот же день Соловьеву удается получить желаемый номер журнала, и у него созревает проект ответного выступления: «Сейчас достал „Русский Вестник“ со статьей Страхова и уже задумал, с своей стороны, „о грехах г. Страхова для иллюстрации других более важных предметов“. Жалею, что не имел ранее известия. Напиши, было ли продолжение...» (Там же). К началу декабря статья против Страхова наполовину была написана, и Соловьев запрашивал Стасюлевича о возможности ее опубликования на страницах издаваемого им журнала: «... думаете ли Вы, что появление хотя бы и совершенно невинной статьи с моей подписью в „Вестнике Европы“ не встретит никаких препятствий? В случае надобности можно было бы оставить без подписи, изменивши соответствующие места из первого лица в третье. Возможно допустить, что я нашел себе защитника против Страхова. (...) Впрочем, надеюсь, что сойдет и так» (письмо от 7/19 декабря 1888 г. — Там же. С. 39). Не дожидаясь разрешения своих сомнений, Соловьев, по телеграмме Стасюлевича, 3 декабря отправил в редакцию первую часть материала, а через три дня и его окончание. В том же письме он предварял редактора: «Вчера очень торопился отправить конец статьи, даже не прочел как следует. Если найдете какое-нибудь личное обращение слишком грубым 586
или какую-нибудь шутку слишком тяжелою, — зачеркните, пожалуйста. А между тем, мне кажется, нельзя оставить без ответа искусное литературное (...) [Конъектура в тексте публикации. — Сост.] моего старого приятеля. А откладывать для лучшей обработки ответа было бы (...) неудобно (...) и так уже поздно (...) Тем не менее я знаю, что в последнее время в известных кругах Страхов стал пользоваться чуть не авторитетом, и изобличить его восточные грехи дело, по-моему, не бесполезное, хотя и очень скучное» (Там же. С. 39-40). Получив от Стасюлевича обнадеживающие известия о возможном помещении статьи в январской книжке журнала, Соловьев задумывает продолжение «антистраховской» (а шире — противославянофильской) кампании в печати: «Если посланная статья может явиться в Январе, то прошу оставить в Феврале местечко для ее окончания; оно не велико, но более соответствует заглавию. Под прикрытием страховской полемики я хочу все-таки сказать кое-что. Если бы я оказался с1п1ск/а1^ [приемлем для появления в печати, нем.], то у меня есть в мысли еще другая статья — вполне цензурная: о распадении славянофильства» (письмо М. М. Стасюлевичу от 25 декабря 1888 г. / 6 января 1889 г. — Там же. С. 40). См. примеч. 24.
23 Об этой полемике С. А. Толстая позднее вспоминала: «Соловьева очень любил Фет, и я там часто с ним встречалась. Он был мне мало понятен. Сидит, бывало, точно весь придавленный, низко в кресле, молчит и смотрит перед собой остановившимися глазами. Когда Фет что-нибудь сострит, он начинал громко, некрасиво хохотать. Умных речей, как от философа, я никогда от него не слыхала; он был скуп на слова. Раз мы с ним сидели рядом за обедом у Фета, и я стала ему упрекать за полемику с Страховым. „Полемика вообще форма слишком дешевая, низкая для философа, — говорила я, — а вы оба с Страховым философы, а бросились в полемику газетную“. / На это Соловьев мне грустно и чуть слышно сказал, что ему часто жить нечем и он принужден ради хлеба насущного писать газетные статьи. Мне стало его очень жаль, и я замолчала» (Толстая. Моя жизнь II. С. 61).
24 О своем нежелании обострять спор с противником Страхов писал и А. А. Фету: «Прочтите (...) как сердится и издевается Соловьев! Впрочем, все-таки видна его доброта и благородство, так что никакого раздражения я не почувствовал и искренно обниму его, когда он вздумает сюда явиться» (письмо от 10 января 1889 г. — Фет. Переписка II. С. 473). О встрече Страхова и Соловьева в Петербурге см. п. 397 и примеч. 10, 16 к нему.
25 Несмотря на примирительный настрой, Страхов вскоре переменил свое намерение и взялся за написание ответа. См. п. 397 и примеч. 10 к нему.
26 Страхов ошибся в своем предположении: полемика вокруг творческого наследия Н. Я. Данилевского привела к разрыву личных отношений между оппонентами в конце 1890 г. Их видимое примирение произошло незадолго перед кончиной Страхова (см. примеч. 19 к п. 547).
587
27 В конце декабря 1888 г. и начале января 1889 г. Вл. Соловьев всё еще пребывал за границей — сначала в Вене, затем в Кракове. Страхов писал А. А. Фету 18 января 1889 г.: «Соловьев не является» (Фет. Переписка II. С. 475). Страхову были известны планы Соловьева вернуться из-за границы сначала в Петербург, а затем отправиться в Москву (см. письма Соловьева от 12 (24) ноября и 8 (20) декабря 1888 г. — Соловьев. Письма I. С. 54-56).
28 Иное сообщал Страхов о своем здоровье А. А. Фету. В начале декабря 1888 г. он писал поэту: «У меня явилась новая болезнь — пухнет и болит селезенка. Теперь, однако, это затихло и чувствую себя недурно» (письмо от 10 декабря. — Фет. Переписка II. С. 471). Через месяц он извещал того же корреспондента о новом недомогании: «...я болен, хотя и на исходе болезни — всё простуда некоторых из не вполне приличных частей тела» (письмо от 10 января 1889 г. — Там же. С. 472). Некоторое облегчение оказалось кажущимся, и неделю спустя Страхов вновь жалуется на нездоровье: «Ваше письмо, дорогой Афанасий Афанасьевич, я получил, когда больной сидел за своей лампой; недели две не могу выходить, или, когда выйду, возвращаюсь домой больнее прежнего» (письмо от 18 января. — Там же. С. 474). На физическую немощь он продолжал ссылаться в письмах к Фету до конца января: «... всё питал тайную надежду, что авось здоровье мое поправится (...) Увы! До сих пор я должен с большими предосторожностями и опасениями показывать свой нос на улицу; вот три недели, как не был даже у Кузминских!» (письмо от 26 января. — Там же. С. 476).
29 С осени 1888 г. С. Л. Толстой служил делопроизводителем Центрального правления Крестьянского банка в Петербурге и жил первое время у Кузминских.
30 С старшему сыну Толстых Страхов относился с симпатией, которая была взаимной. См. примеч. 12 к п. 52.
31 Возможно, речь идет о знакомом Страхова Д. Н. Михайлове (см. примеч. 24 к п. 394), который побывал в Москве и вернулся около 10 января в Петербург (см. письмо Страхова А. А. Фету от 10 января. — Фет. Переписка II. С. 472).
32 Имеется в виду книга: Страхов Н. Н. Заметки о Пушкине и других поэтах. СПб.: Тип. бр. Пантелеевых, 1888. Один экземпляр издания сохранился в библиотеке Толстых (см.: Описание ЯПб. Т. 1, ч. 2. С. 282. № 3029). О намерении Толстого ознакомиться со статьей «Заметки о Пушкине» см. п. 72.
33 С. А. Толстая писала «домашние» стихи — для детей, в яснополянский «почтовый ящик», «на случай», в ответ на стихотворные обращения А. А. Фета и т. п. Образцы ее творчества представлены в книге воспоминаний «Моя жизнь», в том числе стихотворное приветствие Страхову — «Старому другу» (Толстая. Моя жизнь II. С. 35-36).
34 См. примеч. 2 к п. 397.
588
397
СгМХОВ — ТОЛСТОМУ 13 апреля
1889 г.
Совсем Вы меня забыли1, бесценный Лев Николаевич. Я послал Вам СанкТ'ПетербурГ две книги, которые издал в эту зиму2, и две статьи, которые написал3, а теперь посылаю третью4, и уже ничего не буду посылать, потому что наконец принимаюсь отдыхать и не скоро примусь за работу5. Если нужно трудиться, то я трудился и могу быть собою довольным. Но что бы я ни делал, я всегда об Вас думаю, думаю об Вашем суде, и как бы дороги и милы были мне Ваши строчки!
С осени я отдался тем делам, которые сами пришли одно за другим, и был очень занят, особенно с Нового года. Я освободился только 2-го апреля6. Сперва, по случаю приглашения Академии, я писал о стихах7 и, чтобы кончить эти дела, собрал свои статьи и издал книжку о Пушкине и пр.8 Потом нужно было делать новое издание «России и Европы»9. Потом нужно было отвечать Соловьеву10, восхвалить Фета11 и возразить Фаминцыну12. И всё срочные работы, так что когда всё было сделано, я был собою очень доволен.
Всего меньше меня радует полемика с Соловьевым13, и право, не я виноват. Вышла разноголосица, а не спор14. После своей второй статьи — в марте «Вести[ика] Европы»15, он был у меня16, и я попробовал хоть в разговоре добиться от него определенности. Невозможно! Он весь в общих фразах, и в целый вечер я едва успел добиться, чтобы он указал на два места, у меня и у Данилевского, с которыми он не согласен. А то он не согласен вообще, и начинает много говорить, но ничуть не о том, что высказано его противниками17. Я ему сказал, что у него нет никакого определенного взгляда на историю, а он отвечал, что думает скоро его написать18.
Новое издание «России и Европы» идет удивительно; в первые сорок дней было продано 500 экземпляров19. Литература молчит, — это про589
сто чудеса! Если даже принять, что тут сказался протест против нашего умственного лакейства перед Европою, — то и то нельзя не радоваться. Не смешно ли? И Тимирязев и Фаминцын обвиняют самым серьозным образом Данилевского в непочтительности к Дарвину20. Какое постыдное рабство! И оно всюду сквозит и дает великую силу и «Вестнику Европы», и «Северному вестнику»11, и «Русской мысли». Бедный Юрьев! Он выдумал заглавие для журнала, который потом пошел прямо против своего заглавия22. А видно по всему, что Юрьева очень любили в Москве23; на поминках об нем сказано было много действительно сердечного24.
Историею с «Дарвинизмом» я вообще очень доволен. Я бы не отвечал на статью Фаминцына, если бы знал, что Тимирязев тоже ответит (в марте «Р[усской] мысли»25). О, какой умный человек! Он обижается, что Фаминцын разбирает книгу, тогда как он, Тимирязев, уже всё разобрал, решил и подписал. Но он справедливо доказывает, что разбор Фаминцына недостаточен. Так что настоит явная надобность, чтобы явился наконец подробный и основательный разбор книги26. Но кто бы его ни писал и когда бы он ни был написан, дело кончится торжеством Данилевского, и, следовательно, моим27.
Своею статейкою о Фете я очень доволен28, и меня немало огорчило, что и Фет не особенно меня благодарил29, и Софья Андреевна, которая, в сущности, заставила меня поднатужиться, ничем не заявила, что она довольна и прощает мне мои нападки на Фета30. Но больше этого я ничего не мог сделать и — поверите ли моему самолюбию? — я думал, что моя статейка обрадует Фета не меньше, чем камергерство31. Непременно прошу Вас, Лев Николаевич, разъясните все эти важные обстоятельства; если в Ясной Поляне на меня не будут сердиться, то я в это лето как-нибудь выберу время и приеду к Вам32. Тогда на свободе я Вам нажалуюсь на Фета, который так испортил себя в моих глазах, да и не в моих одних33.
Но были у меня еще занятия — было 12 вечеров, занятых представлениями «Кольца Нибелунгов»^, и по крайней мере столько же сеансов 590
у Репина35. Так как мужчина достигает лучшего своего вида к 60 годам36, то лучше той фигуры, которую написал Репин, я, вероятно, никогда не имел. Ну, это так живо, что смешно становится смотреть. Большой он мастер, да и человек очень милый, очень умный, и с тонкой любознательностью. Приятно вспомнить эти сеансы.
Нибелунги были потруднее37. Но я в день оперы с утра никуда не ходил, обедал дома очень умеренно, вовремя выпивал свой чай, и потому всё выдержал со вниманием, и с каждым разом понимал больше и больше. Кончается эта трилогия38 проповедью нирваны; «ruhe, ruhe, du Gott!»39 поет Валкирия Одину40, сгорающему со своею валгаллою, и сама сожигает себя на костре. Но с этим связана мысль о переходе из одного фазиса нравственности в другой, чисто человеческий. Словом, есть та путаница, которая, по словам Менделеева, бывает в голове даже самого умного немца. Но яркость лиц, положений, настроений — удивительная41.
Вот мои труды и забавы. Нынешнюю зиму я почти ничего не читал и не продолжал своего образования. А часто, чувствуя, как ослабела память и как трудно работает голова42, я думаю, не пора ли перестать тянуться, и, если сам я осудил себя на одиночество, то не пора ли учиться, как жить только тем, что «единое на потребу»43.
За Вами я слежу прилежно и душевно радуюсь, когда опять Ваш голос привлекает общее жадное внимание. Какое это громадное явление! И какая польза! Всё хочется писать об Вас44. Достал книгу Стэда45, но еще не прочел.
Дай Бог Вам здоровья и всего хорошего! Простите меня и помните Вашего сердечно и неизменно преданного
Н. Страхова
1889.
13 апр[еля].
Спб.
Печатается по: РО ИРЛИ. Ф. 303. Оп. 2. Ед. хр. 300. Л. 155-156. Впервые: Современный мир. 1913. № 12. С. 376-379.
591
1 Последнее известное письмо от Толстого Страхов получил в конце июня 1888 г. (п. 392).
2 Страхов издал книги: Данилевский Н. Я. Россия и Европа. Взгляд на культурные и политические отношения славянского мира к германо-романскому. 4-е изд. СПб.. 1889; Страхов Н. Заметки о Пушкине и других поэтах. СПб., 1888. Обе книги имеются в библиотеке Ясной Поляны (см.: Описание ЯП6. Т. 1, ч. 1. С. 251. № 980; Т. 1, ч. 2. С. 282. № 3029). Толстой получил от Страхова и третье издание труда Данилевского (см. п. 389 и примеч. 1 к нему). Четвертое издание книги Данилевского вышло из печати 15 февраля. О мнении Толстого в связи с публикацией статьи «Заметки о Пушкине» Страхов спрашивал в письме от начала мая 1874 г. (п. 71, см. также п. 68; ответ Толстого см. в п. 72).
3 Две статьи: Страхов Н. 1) Юбилей поэзии Фета. — НВ. 1889. 28 янв. № 4640. С. 2; 2) Последний ответ г. Вл. Соловьеву. — РВ. 1889. Февраль. С. 200-212. Оттиск второй статьи представлен в яснополянской библиотеке (см.: ОписаниеЯПб. Т. 1, ч. 2. С. 285. № 3042). О знакомстве с возражениями Соловьева Толстой сделал запись в дневнике 15 июня 1889 г. (Юб. Т. 50. С. 96).
4 Речь идет о статье: Страхов Н. А. С. Фаминцын о „Дарвинизме" Н. Я. Данилевского. — РВ. 1889. Апрель. С. 225-243; под заглавием «Суждение Андр. С. Фаминцына о „Дарвинизме" Н. Я. Данилевского» вошло в: Страхов Н. Н. Борьба с Западом в нашей литературе: Исторические и критические очерки. Книжка вторая. Изд. 2-е. СПб., 1890. С. 515-541 (см. примеч. 12). Страхов завершил работу над материалом 9 марта. Отдельный оттиск статьи сохранился в собрании яснополянских книг Толстого (см.: Описание ЯПб. Т. 1, ч. 2. С. 280. №. 3019).
5 Отдых Страхова продолжался относительно недолго. Уже через месяц он сообщал А. А. Фету: «А я, между тем, печатаю новую книгу Данилевского, „Сборник статей"» (письмо от 17 мая 1889 г. — Фет. Переписка II. С. 479). Страхов не оставлял усилий по распространению трудов своего покойного друга и публикации его творческого наследия (см. п. 350, 382). Книга Данилевского «Сборник политических и экономических статей» выйдет в Петербурге в 1890 г.
6 В тот же день Страхов писал А. А. Фету: «Наконец голова моя настолько посветлела, что могу приняться за письма (...) Собственно я стал свободным только с 2-го апреля. А 9-го я заболел, а пишу Вам 13-го. Вот смягчающие обстоятельства, чтобы извинить мое долгое молчание» (Фет. Переписка II. С. 478).
7 По приглашению Отделения русского языка и словесности Академии наук Страхов принял на себя рецензирование двух сборников стихотворений, представленных на соискание Пушкинской премии в рамках очередного, четвертого конкурсного отбора произведений изящной литературы (1888 г.). Предложенные для отзыва публикации не удовлетворили Страхова уровнем своего художественного исполнения и не могли быть рекомендованы как заслуживающие поощрения. Рассмотрение сбор592
ников стихов дало Страхову повод обстоятельно высказаться по вопросу современного состояния русского стихотворства. Представленные им соображения нашли полную поддержку академической комиссии, посчитавшей целесообразным предать это мнение печати для ознакомления публики. См.: Четвертое присуждение Пушкинских премий. — Сборник Отделения русск. яз. и словесности Имп. Академии наук. Т. 46. № 1. СПб., 1888. С. 72-78. Позднее Страхов включил эту часть своего отзыва в Предисловие к сборнику статей «Заметки о Пушкине и других поэтах» (СПб., 1888. С. 1Х-ХУ1).
8 Речь идет о книге «Заметки о Пушкине и других поэтах» (см. примеч. 7). В предисловии к изданию Страхов так объяснил мотивы, двигавшие им при подготовке сборника, и основное смысловое содержание включенных в него статей: «Издать эту книжку меня побудил некоторый успех статьи Заметки о Пушкине (...) В своих Заметках я несколько останавливаюсь только на одной черте внутреннего мира Пушкина, на чувстве страдания, упускаемом из виду, может быть, чаще, чем многое другое. Выражение страдания у нашего великого поэта казалось мне всегда необыкновенно трогательным; оно так сдержанно, просто, но вместе так глубоко и искренно, что часто действует гораздо сильнее, чем самые напряженные и пространные излияния отчаяния и печали. (...) Затем, почти всё остальное в моих Заметках относится к языку, стиху, течению речи, тону, форме произведений, словом, к тому, что может быть названо техникой искусства, его внешними приемами. (...) Мне казалось (...) что изучение формы, на которое направлены мои Заметки, есть большая потребность в настоящее время. После несравненных образцов, данных Пушкиным и так долго действительно бывших для всех образцами, мы, через пятьдесят лет после его смерти, находимся среди ужасной распущенности, которая губительно действует на таланты и породила целый поток плохих стихов» (Заметки о Пушкине и других поэтах. СПб., 1888. С. УП-УШ. — Курсив Страхова).
9 О своем намерении приступить к подготовке четвертого издания труда Н. Я. Данилевского «Россия и Европа» Страхов сообщил А. А. Фету в письме от 4 октября 1888 г. (см.: Фет. Переписка II. С. 467). Через два месяца он извещал того же корреспондента о ходе предпринятых работ: «Между тем держу корректуры нового издания „России и Европы“ и три листа уже подписал к печати. Надеюсь, выйдет тоже около 1 февраля» (письмо от 10 декабря 1888 г. — Там же. С. 471). Книга вышла из печати 15 февраля (письмо А. А. Фету от 13 апреля 1889 г. — Там же. С. 478). Тираж издания составил 2000 экз. (письмо В. В. Розанову от 20 февраля 1892 г. — Розанов В. В. Собр. соч. [Т. 13]: Литературные изгнанники. ... Переписка В. В. Розанова с Н. Н. Страховым. С. 105).
10 Статья Соловьева под названием «О грехах и болезнях» появилась в январском номере «Вестника Европы» (С. 356-375; см.: Соловьев Вл. С. Сочинения: в 2 т.. М. 1989. Т. 1. С. 513-531), задела Страхова за живое и побудила его на ответное выступ593
ление, написанием которого он занимался в течение недели. 10 января Страхов сообщал А. А. Фету: «...я был взволнован и занят статьею Соловьева в № 1 „Вести [ика] Евр[опы]“. Даже я почти кончил ответ на нее, который должен явиться в „Русск[ом] вестнике“» (Фет. Переписка II. С. 473). Работу над материалом Страхов завершил 14 января и через четыре дня уже вычитывал гранки набора, о чем известил того же корреспондента: «...на меня напало теперь такое спокойствие, что я бы очень себя похвалил, если бы не знал, что легко нападает на меня и тоска и раздражение. Как доказательство моего спокойствия — возьмите мою статью : „Последний ответ Вл. С. Соловьеву“. Я только что продержал корректуру — это будет в „Русском вестнике“ 1-го февраля» (письмо от 18 января 1889 г. — Там же. С. 475). Соловьев ответил в журнале «Вестник Европы» краткой заметкой «Письмо в редакцию» (ВЕ. 1889. Март. С. 431- 432), в которой не признал доводы Страхова убедительными (см. примеч. 15). Состоявшаяся ранней весной (25 марта) 1889 г. личная встреча Страхова и Соловьева (см. примеч. 16) лишь подтвердила глубину расхождений во взглядах на обсуждавшуюся тему и отсутствие предпосылок к сближению точек зрения. Исходя из этого понимания, Страхов на время прекратил дискуссию с идейным противником и оставался при убеждении, что его дело «совершенно выиграно» (письмо Фету от 17 мая 1889 г. — Там же. С. 479).
11 См. примеч. 8 к п. 396.
12 Статья академика А. С. Фаминцына, авторитетного специалиста в области физиологии растений, «Н. Я. Данилевский и дарвинизм. Опровергнут ли дарвинизм Данилевским?» (ВЕ. 1889. Февраль. С. 616-643) ставила своей задачей дать «обстоятельный и беспристрастный разбор достоинств и недостатков труда Данилевского», при этом автору важно было «выяснить (...) ошибочность взгляда Данилевского и причины введения его в заблуждение» и таким образом «сгладить по возможности, если не совершенно примирить различие во взглядах» на него двух «между собой враждебных лагерей» — критиков и поклонников антидарвиновского учения Данилевского, наиболее ярким выражением взглядов которых стали выступления в печати К. А. Тимирязева и Страхова. Дабы избежать возможных недоразумений и обвинений в предвзятом по отношению к критикуемому труду мнении, автор счел необходимым заявить о своем особом взгляде и на теоретические построения Дарвина: «Пишущий эти строки никогда не принадлежал к числу безусловных поклонников учения Дарвина и в очень существенных пунктах расходится с ним, но всегда считал своею священною обязанностью защищать значение Дарвина и его учения в науке от нелепых нареканий, признавая в нем одного из величайших натуралистов настоящего столетия» (С. 627). Решившись на своеобразную роль «третейского судьи» в споре оппонентов, ученый сосредоточился на разборе основных положений книги Данилевского и нашел многие из его критических замечаний неосновательными — «даже в самом легковерном читателе эти воззрения Данилевского не могут не возбудить сомнения» (С. 626), а форму 594
изложения материала в ряде случаев счел неудачной и малоубедительной (С. 618), причем его особенные нарекания вызвали несправедливо резкие («высокомерные» и «заносчивые») оценки и раздражительные эмоциональные «выходки» Данилевского, назвавшего эволюционистские теоретические построения Дарвина «бессвязной кучей мусора» (С. 619). Пытаясь разобраться в причинах острого неприятия автором идей Дарвина об изменчивости в природе, Фаминцын пришел к выводу, что «Данилевский особенно раздражен тем, что дарвинизм послужил как бы новою точкою опоры для учения материалистов, лишая в то же время научной почвы учение идеалистов» (С. 624). Находя такой упрек в адрес учения Дарвина лишенным основательности, Фаминцын замечает, что «подобному нареканию может быть подвергнуто всякое научное открытие или теория, даже из наиболее полезных, в виду возможности применения того и другого к преступным или вредным целям» (Там же). По мнению автора, до научного значения идей Дарвина Данилевскому «по-видимому, мало дела», отсюда у него «односторонний, узкий» и «неосновательный взгляд» на эту теорию, тогда как, по мнению самого Фаминцына, труды Дарвина имели для биологических наук «громадное значение» (С. 625). Не останавливаясь подробно на анализе 15 главных ошибочных (в представлении Данилевского) выводов Дарвина, установление большинства из которых (по мнению Фаминцына) принадлежит предшественникам Данилевского (а не ему самому), автор завершает статью утверждением, рассчитанным на взвешенную оценку исследования. Признавая за Данилевским бесспорную заслугу «усердия» в собирании и систематизации материала, он напрочь отказал ему в адекватном понимании существа теории Дарвина, что (при наличии важных научных данных по частным вопросам) заметно обесценивало труд ученого в целом. «...При изучении обширного труда Н. Я. Данилевского во всей полноте обнаружилась симпатичная, правдивая и талантливая личность автора; несомненно, что Данилевский принадлежит к числу замечательных русских людей; не требуется особенно глубокого внимания, чтобы убедиться, что он не пожалел ни времени, ни труда на приобретение многосторонних сведений, потребных для разработки разбираемых им явлений. Книгу Данилевского я считаю полезною для зоологов и ботаников; в ней собраны все сделанные Дарвину возражения и разбросаны местами интересные фактические данные, за которые наука останется благодарною Данилевскому. Ученого, специально знакомого с направлением современной биологии, не увлекут ни лирические излияния, ни возгласы негодования Данилевского, которыми столь щедро разражается автор „Дарвинизма“. С вышеуказанной точки зрения, т. е. со стороны детальных разъяснений, за сочинением Данилевского нельзя не признать научного значения, и будущим критикам теории Дарвина книга Данилевского, представляющая полный свод и подробное изложение всех приводимых против учения Дарвина возражений, может доставить много интересных указаний» (С. 642-643). Этими частностями систематизирующего характера, собственно, и исчерпывается, в представлении Фаминцына, науч595
ное достоинство книги Данилевского, обнаруживающей куда более существенный недостаток в главном — а именно, в весьма «своеобразном» понимании автором основополагающих идей теории Дарвина. По мнению Фаминцына, Данилевский придал учению английского натуралиста превратное истолкование, не подтверждаемое объективным его рассмотрением, и построил на этом ошибочном восприятии свою критику: «При всем, однако, моем расположении к автору „Дарвинизма“, я считаю себя обязанным высказать относительно разобранного мною труда Данилевского нелестное и даже несколько суровое суждение. (...) В подобного рода произведениях, имеющих главною целью распространение научных сведений в обществе, требованием первостепенной важности является изложение трактуемого предмета в столь совершенном, с научной стороны, виде, чтобы и специалисты не были в состоянии предъявить возражений, идущих в разрез с проводимыми взглядами, или, по крайней мере, не могли указать на явный недосмотр или ошибочность взгляда автора. Это требование, по моему крайнему разумению, не выполнено трудом Данилевского; во всем его сочинении основа учения Дарвина истолкована неверно. Никто другой не приписывал учению Дарвина того тлетворного, всесокрушающего влияния на человечество, которым столь глубоко озабочен и огорчен Данилевский. Распространение в обществе подобного ошибочного взгляда на значение трудов Дарвина, — взгляда, идущего прямо в разрез с воззрением всех специалистов без исключения, представляется мне явлением крайне прискорбным, нежелательным и вредным, особенно у нас...» (С. 643). — Страхов ознакомился со статьей Фаминцына, вероятно, сразу же по выходе из печати февральского номера журнала; в начале месяца он писал В. В. Розанову: «В „Вестнике Европы“ № 2 появилась статья Фаминцына об „Дарвинизме“. Придется мне об ней написать, хоть для Апреля» (письмо от 5 февраля 1889 г. — Розанов В. В. Собр. соч. [Т. 13]: Литературные изгнанники. ... Переписка В. В. Розанова с Н. Н. Страховым. С. 29). Ответ Страхова был готов через месяц — 9 марта. А еще через день он с удовлетворением извещал А. А. Фета о завершенной работе: «В настоящую минуту сладко вздыхаю, кончивши к сроку свою статью против Фаминцына...» (Фет. Переписка II. С. 477). Материал под заглавием «А. С. Фаминцын о „Дарвинизме“ Н. Я. Данилевского» появился в журнале «Русский вестник» (Апрель. С. 225-243). Принимая на себя труд обоснованного возражения на критику академика Фаминцына, Страхов преследовал иную цель, нежели при начале печатной кампании в поддержку книги Данилевского. Если первой его задачей было привлечь внимание публики к идеям автора «Дарвинизма», то теперь, столкнувшись с «большими предубеждениями» против них и с непониманием «достоинств» этого труда, он признал необходимым растолковать читателям его «существенные качества» и научную значимость (Там же. С. 225). Последнее представлялось тем более важным, что Фаминцын, в отличие от К. А. Тимирязева, трактовавшего работу Данилевского как «болтовню дилетанта», всё же признал за ней качество «ученого сочинения», полезного «для зоологов и ботаников».
596
Эту оценку академика Страхов нашел «беспристрастной» (С. 226). Однако в целом отклик Фаминцына его не удовлетворил, поскольку свелся, по его мнению, главным образом, к вопросу «об религиозном и эстетическом значении теории Дарвина», оставив совершенно в стороне «естественно-исторические соображения» и рассмотрение книги Данилевского «по началам науки» (С. 228). Не мог Страхов согласиться и с утверждением Фаминцына о том, что учение Дарвина «не касается вовсе теологических воззрений и может быть принято как материалистами, так и людьми глубоко религиозными» (С. 331). Для него достаточным основанием для объявления теории Дарвина «тлетворной» явился факт восторженного ее признания со стороны атеистов. Отдельную главу своей работы Страхов специально посвятил разъяснению «самобытных достоинств „Дарвинизма“», среди которых отметил не только «ясность и уверенность понимания», «глубокое научное беспристрастие» и «чрезвычайное обилие сведений, обладающих вполне научным характером», но и «главное достоинство книги» — воплощенный в ней «огромный труд мысли»', «это в ней всего дороже и важнее, и это в ней всего меньше ценится ее судьями» (С. 237. — Курсив Страхова). Несмотря на противоречившие его утверждениям доводы оппонентов, Страхов завершает разбор статьи Фаминцына уверенностью, что цель, ради которой написана Данилевским его книга, т. е. теоретическое и фактическое опровержение дарвинизма, должна быть признана «вполне достигнутой», а само учение Дарвина — «несостоятельным» (С. 242, 243). Столь же оптимистично высказывался Страхов по этому поводу и в частной переписке. Некоторая неудовлетворенность стилем изложения не помешала сознанию достигнутой цели по существу. Обращаясь 7 апреля к В. В. Розанову, он замечал: «Посылаю Вам два оттиска моей статьи (...) На этот раз я собою недоволен; по содержанию всё хорошо, но я умею лучше писать, и на этот раз у меня не хватило одушевления» (Розанов В. В. Собр. соч. [Т. 13]: Литературные изгнанники. ... Переписка В. В. Розанова с Н. Н. Страховым. С. 36). Через месяц после написания статьи он убеждал Фета: «Другая моя затея идет тоже хорошо. Я отвечал Фаминцыну (верно, Вы заметили в апрельской кн. ,,Р[усского] Вестника“). (...) Теперь, я думаю, дело сделано, и не нужно уже мне будет ни строки писать об Дарвине. Наш ученый мир непременно должен почувствовать, что нужно основательно изучить книгу Данилевского и составить ей основательную оценку» (письмо от 13 апреля 1889 г. — Фет. Переписка II. С. 478). Еще через месяц он удовлетворенно сообщает тому же корреспонденту: «... я радуюсь, что вопрос о книге Данилевского поставлен теперь очень громко. (...) молодые натуралисты, как я слышал, в большом недоумении и принимаются уже сами за „Дарвинизм“». Однако читательский успех не сопутствовал книге — тираж расходился медленно, что не обескуражило Страхова, продолжавшего вполне надеяться «на победу» и в этом споре (письмо от 17 мая 1889 г. — Там же. С. 479).
13 Судя по высказываниям в частных корреспонденциях, публичная дискуссия со Страховым тяготила и Вл. Соловьева. Отправляя в редакцию журнала «Вестник Ев597
ропы» статью («О грехах и болезнях») с критикой книги Н. Я. Данилевского «Россия и Европа» и защищавшего ее «трактата» Страхова («Наша культура и всемирное единство»), он заметил в письме к М. М. Стасюлевичу: «...мне этого рода полемика так неприятна, что я долго с нею возиться не выдержал бы. (...) Это первая и, надеюсь, последняя статья в этом роде мною написанная, и я почувствовал вчера большое облегчение, сдавши на почту последние листы» (письмо от 7/19 декабря 1888 г. — Соловьев. Письма IV. С. 39-40). Руководствуясь соображением о том, что «отделить литературу от дружбы гораздо легче, нежели вещество от духа», Соловьев стремился смягчить впечатление, которое мог произвести на оппонента его ответ, и, отослав материал для публикации, на следующий же день писал Страхову: «...я гораздо великодушнее, нежели Вы себе представляете. Вы спрашиваете: на чем мы помиримся? Да ни на чем, — я не признаю вовсе, чтобы мы ссорились. Печатная брань не в счет. Ведь мы расстались с Вами по-приятельски после обеих моих статей. С тех пор я Вас ничем не обидел, а если Вы меня обидели, то я Вас великодушно прощаю и посылаю Вам свое благословение, навеки нерушимое» (Соловьев. Письма I. С. 55, 56). Позднее Соловьев сочтет нужным напомнить Страхову и о том, что еще не так давно он относился к историософскому сочинению Данилевского вполне терпимо: «...Вы, может быть, помните, что в прежнее время я из дружбы к Вам даже похваливал мимоходом эту книгу, — разумеется, лишь в общих и неопределенных выражениях» (письмо от 23 августа 1890 г. — Там же. С. 59). Страхов, пришедший к убеждению, что «внутреннего значения в этой полемике мало», вероятно, не без сочувствия воспринимал примирительные шаги оппонента и также не был склонен переносить последствия теоретических несогласий в область личных отношений: «Соловьев был у меня не раз, и подолгу мы с ним говорили; видимо, ему хотелось бы загладить свои проказы», «он (...) тронул меня своим искренним желанием мира...» (письма к А. А. Фету от 13 апреля, 13 июля и 10 ноября 1889 г. — Фет. Переписка II. С. 478,483,486). Ср. о том же в письме к В. В. Розанову от 3 августа 1889 г. (Розанов В. В. Собр. соч. [Т. 13]: Литературные изгнанники. ... Переписка В. В. Розанова с Н. Н. Страховым. С. 42). См. также примеч. 14.
14 В таких же словах охарактеризовал Страхов свои прения с оппонентами (Вл. Соловьевым и К. А. Тимирязевым) и в более позднем письме к В. В. Розанову. Подводя итог завязавшейся вокруг книг Н. Я. Данилевского дискуссии, он не без разочарования заметил: «Признаюсь, жалкие результаты, — не спор вышел, а перебранка» (письмо от 3 августа 1889 г. — Розанов В. В. Собр. соч. [Т. 13]: Литературные изгнанники. ... Переписка В. В. Розанова с Н. Н. Страховым. С. 42). Одним из поводов к неудовлетворенности стали сомнения именно в верности выбранного им тона полемики. В письме к тому же корреспонденту Страхов сетовал: «То, что Вы пишете о статье „Наша культура“ — совершенно справедливо. Нет в ней одного тона, и все заметили резкие вскрикивания. Но если бы я задался одним тоном, было бы хуже, вышло не сердито, 598
а злобно — чего я не хотел» (письмо от 9 ноября 1888 г. — Там же. С. 20. — Курсив Страхова).
15 Имеется в виду «Письмо в редакцию» журнала «Вестник Европы» (ВЕ. 1889. Март. С. 431-432) — вероятно, то «окончание» статьи «О грехах и болезнях» (или замена его; см. примеч. 10), оставить для которого «местечко» еще в февральском номере издания Вл. Соловьев просил редактора М. М. Стасюлевича в письме от 6 января 1889 г. (25 декабря 1888 г. ст. ст.) из Вены (см.: Соловьев. Письма IV. С. 40). Давая свои разъяснения по поводу статьи Страхова «Последний ответ г. Вл. Соловьеву» (см. примеч. 22 к п. 396), философ ставил под сомнение утверждение критика о том, что он опроверг все его «возражения против теории культурно-исторических типов и что все его доказательства в защиту этой теории остаются в полной силе». Выразив сожаление о том, что их «спор принял отчасти вид „личного препирательства“», Соловьев пожелал завершить словопрения «простым и кратким указанием его результатов»: «...я, со своей стороны, по-прежнему твердо уверен, что Н. Н. Страхов никак не мог меня опровергнуть по той простой причине, что о главных моих возражениях он даже вовсе не упоминает. (...) Как бы то ни было, ввиду последних заявлений Н. Н. Страхова я не могу ожидать другой, более прямой и удовлетворительной защиты „культурноисторических типов“, а потому, с своей стороны, признаю этот вопрос исчерпанным» (ВЕ. 1889. Март. С. 431-432; цит. по: Соловьев Вл. С. Сочинения: в 2 т.. М., 1989. Т. 1. С. 638-639).
16 Вл. Соловьев вернулся в Россию из заграничной поездки в январе 1889 г. Встреча со Страховым произошла 25 марта в Петербурге и превратилась в продолжение их заочного спора об исторических судьбах России и национальном самосознании. Страхов вспоминал: «В тот день, когда я собирался ехать (...) неожиданно явились ко мне Соловьев и [А. А. Голенищев-] Кутузов. (Это было в субботу на пятой неделе поста (...)). Стал я упрекать Соловьева, стали мы спорить, и это было последнее явление комедии нашего препирательства. Ну, что же сказать? (...) я убедился, что Соловьев менее кого бы то ни было способен к пониманию чужих мыслей и не способен выйти из отвлеченностей» (письмо А. А. Фету от 13 апреля 1889 г. — Фет. Переписка II. С. 478).
17 Столь же решительно упрекал оппонента в игнорировании своих аргументов и Соловьев (см. примеч. 15), о чем он писал Страхову в ответ на его письмо с объяснениями еще в декабре 1888 г. из Загреба: «...я не так наивен, чтобы принять Ваши обходы и подходы, умолчания и измышления за действительное опровержение моих доводов, которых Вы, собственно, даже и не коснулись...» (письмо от 8/28 декабря 1888 г. — Соловьев. Письма I. С. 55). Это обвинение он повторил и в февральском «Письме в редакцию» журнала «Вестник Европы»: «...было бы совершенно излишне возвращаться к тому, что Н. Н. Страхов называет своими „доказательствами“. (...) Но не вижу никаких причин существенно изменить мое мнение об аргументации 599
почтенного критика по этому вопросу. Во всех этих мнимых доказательствах я не нахожу ничего, кроме полемических приемов, придуманных, чтобы защитить во что бы то ни стало в глазах читателей теорию культурно-исторических типов. (...) В самом деле (...) такой сведущий, умный и даровитый критик, предприняв защитить против меня излюбленную им теорию, не нашел ничего лучшего, как упрекать меня в непочтении к родителям (...) умалчивая о наиболее существенных моих возражениях...» (ВЕ. 1889. Март. С. 432; Соловьев Вл. С. Сочинения: в 2 т. М., 1989. Т. 1. С. 639. — Под «Письмом» дата: 14 февраля 1889 г.).
18 Вскоре Соловьев откликнулся на свое обещание редактору «Вестника Европы» продолжить опровержение «национальной» доктрины русского консерватизма и приступил к последовательному наступлению на идеологические позиции «русской партии». Плодом его целенаправленных усилий по «разрушению славянофильства» (письмо Фету, около 20 июля 1889 г. — А. А. Фет: Материалы и исследования. Вып. 2. С. 410) стал цикл статей под первоначальным заглавием «Очерки из истории русского сознания» (см.: ВЕ. 1889. Май. С. 290-303; Июнь. С. 734-745; Ноябрь. С. 363-388; Декабрь. С. 771-795; перепеч. в: Соловьев В. С. Сочинения: в 2 т. М., 1989. Т. 1. С. 414- 500). Свое новое полемическое выступление Соловьев открыл программной историософской статей, посвященной анализу узлового периода русского прошлого — эпохе Петра Великого. Среди прочего, в очерке развивалась и занимавшая в то время философа тема об исторических «грехах» России. Непосредственным продолжением материала стал цикл из трех публикаций об исторических судьбах славянофильства как русской национальной идеологии, в котором Соловьев излагал мысли о необходимости гармонизации отношений между государством и обществом. О замысле большой критико-историософской статьи он сообщил редактору «Вестника Европы» еще из Вены («у меня есть в мыслях (...) статья — вполне цензурная: о распадении славянофильства»), а появившись в Москве, известил его о реализации намерения: «Под сенью великопостной Москвы начал составлять лекцию (статью тож) под заглавием „Из истории русского сознания“. Думаю, что в таких неопределенно-скромных рамках всего удобнее сказать что-нибудь благопотребное» (письма М. М. Стасюлевичу от 25 декабря 1888 г. / 6 января 1889 г. и от 28 февраля 1889 г. — Соловьев. Письма IV. С. 40, 41). В середине марта Соловьев уже настолько продвинулся в написании статьи, что мог вполне определенно предназначать ее для майской книжки журнала, хотя своим содержанием материал явно не удовлетворял представлению о «вполне цензурном» и «неопределенно-скромном» очерке, о чем автор не замедлил известить редактора: «... чем более пишу, тем менее она мне кажется возможной для публичного прочтения и даже для печати. Не поможете ли Вы как-нибудь смягчить?» (письмо от 15 марта 1889 г. — Там же. С. 41). Через месяц первая часть задуманного была готова и в виде общеисторического введения помещена в майском номере «Вестника Европы». «Мне кажется, что этот маленький подход к делу удобнее отделить от настоящего дела, 600
т. е. критики славянофильства, которое пусть еще немного вылежится: от этого она только выиграет», — убеждал он Стасюлевича в письме от 15 апреля (Там же. С. 42). Еще через месяц Соловьев решается печатать свою первую статью «публицистического характера» непосредственно о славянофильском учении в июньском выпуске журнала, а продолжение оставить до октября (письмо от 11 мая 1889 г. — Там же. С. 43).
19 Ср. об этом же в письме к А. А. Фету: «Новое издание „России и Европы“, вышедшее 15 февраля, раскупается даже лучше предыдущего; к 25 марта было продано 500 экземпляров» (письмо от 13 апреля 1889 г. — Фет. Переписка II. С. 478). Через месяц он снова вернулся к этой теме в письме к тому же корреспонденту: «... еще больше радости и даже изумления возбудил у меня успех „России и Европы“. Представьте, с небольшим в два месяца продано было 670 экземпляров! Итак, это дело совершенно выиграно» (письмо от 17 мая 1889 г. — Там же. С. 479).
20 В статье «Спор из-за книг Н. Я. Данилевского» (РВ. 1889. Декабрь. С. 186-203; вошло в: Страхов Н. Н. Борьба с Западом в нашей литературе: Исторические и критические очерки. Книжка вторая. 2-е изд. СПб., 1890. С. 542-567) Страхов назвал упреки в неуважении к авторитету Дарвина «идолопоклонством» и «суеверием»: «Хотя я считал себя знатоком по части нашего идолопоклонства, но, по случаю настоящего спора, обнаружился факт, который, был для меня неожиданностью и до сих пор продолжает удивлять меня. Оказалось, что у нас существует такое „благоговение“ к Дарвину, при котором тон книги Н. Я. Данилевского выходит неприличным, оскорбительным. В этом отношении г. Фаминцын согласен с г. Тимирязевым. Что тут делать? Тон свободного человека, который спокойно и противоречит, и шутит, и соглашается, всегда составляет великую обиду для суеверного поклонения» (цит. по: Страхов Н. Н. Борьба с Западом в нашей литературе. Книжка вторая. 2-е изд. С. 550. Примеч. — Курсив Страхова). В то же время Тимирязев упрекнул Страхова в «культе Данилевского» (Русская мысль. 1889. Май (Кн. 5). С. 23).
21 Ежемесячный литературно-научный и политический журнал «Северный вестник» выпускался с сентября 1885 г.; в 1889 г. его редактором-издателем стала А. М. Евреинова. После закрытия в 1884 г. журнала «Отечественные записки» с «Северным вестником» начала сотрудничать группа писателей и публицистов либерально-народнического направления (Н. К. Михайловский и др.).
22 Первый редактор (до начала 1885 г.) журнала «Русская мысль» (ранний вариант названия — «Русская дума») С. А. Юрьев скончался 26 декабря 1888 г. от острого воспаления легких. При нем общее направление издания носило непоследовательнославянофильский характер, однако с уходом Юрьева и изменением состава редакции журнал был превращен в печатный орган либерально-народнической идейно-политической ориентации. Подробнее см.: Веселовский А. Н. Из воспоминаний о старом друге. — В память С. А. Юрьева. Сборник, изданный друзьями покойного. М., 1891. С. 150-151.
601
23 В некрологе Юрьева, помещенном в февральском номере журнала «Вестник Европы», сочувственно отмечалось, что «...особенною популярностью он пользовался в Москве, где прошла вся его жизнь. Он являлся там одною из тех центральных фигур, около которых группируются не только кружки, но целые поколения» (ВЕ. 1889. Февраль. С. 929). См. об этом же в статье памяти Юрьева в «Русской мысли» (1889. Январь (Кн. 1). С. [1-П]).
24 Тогда же было решено почтить усопшего выпуском посвященной ему книги. Ср.: «В первые же дни после кончины С. А. среди его друзей возникла мысль об издании в память его и в пользу его семьи сборника, и одним из первых на призыв инициаторов этого дела отозвался граф Л. Н. Толстой, предназначавший первоначально в сборник „Крейцерову сонату“, а затем заменивший ее комедией „Плоды просвещения“. Сборник этот, недавно вышедший, в свет и озаглавленный: „В память С. А. Юрьева“ является лучшим памятником, который могли только воздвигнуть одному из последних русских идеалистов его друзья и почитатели» (С. Т - въ [Татищев С. С.] Один из русских идеалистов. — ИВ. 1891. № 3). О прощании с Юрьевым см.: Л. [Лопатина Е. М.] Воспоминание о С. А. Юрьеве. — В память С. А. Юрьева. С. 173-175.
25 См.: Тимирязев К. Странный образчик научной критики. — Русская мысль. 1889. Март (Кн. 3). С. 90-102. Об ответе Страхова на выступление академика А. С. Фаминцына см. примеч. 4.
26 Этими же словами Страхов выразил занимавшую его мысль и в обращении к А. А. Фету, написанном в тот же день — 13 апреля. Ср.: «Я отвечал Фаминцыну (...) Но всего лучше то, что в то же время напал на Фаминцына и Тимирязев. Ох, умный человек! Он прямо обижается, как это смеют разбирать „Дарвинизм“ после того, как он уже сказал всё, что нужно!» (Фет. Переписка II. С. 478). Несомненным успехом своего выступления в печати Страхов считал сам факт привлечения завязавшейся полемикой внимания к исследованию Н. Я. Данилевского, которое тем самым невозможно будет замолчать, тогда как заинтересованные в отыскании истины вынуждены будут обратиться непосредственно к книге: «Не будь Тимирязева, пожалуй, не скоро можно бы было этого добиться» (Там же). Вероятно, высказанное соображение столь занимало внимание Страхова, что он и месяц спустя вернулся в письме к этой теме. Извещая Фета о читательском успехе научных трудов Данилевского, он замечал: «Другое дело, „Дарвинизм“, двигается туже, но я вполне надеюсь на победу. Тимирязев написал тоже статью против Фаминцына, в которой наивно обижается, как тот мог смел писать после него и требует от него ответа по всем своим суждением. Говорят, Фаминцын не будет отвечать (...) Я уже теперь ни строки не напишу об Дарвине...» (письмо от 17 мая 1889 г. —Там же. С. 479).
27 Эта тема получит продолжение во время летних бесед Толстого и Страхова в Ясной Поляне. Несмотря на скептическое отношение к полемике Страхова с естествоиспытателями-дарвинистами (см. примеч. 41), Толстой счел необходимым позна602
комиться с аргументами оппонентов (по статье К. А. Тимирязева «Бессильная злоба анти дарвиниста» — Русская мысль. 1889. Май (Кн. 5). С. 17-52. Везде — вторая пагинация. Продолжение и окончание статьи появятся в июньской и июльской книжках журнала). Свое впечатление от прочитанного он отметил в дневниковой записи 14 июня: «Беседовал с Стр [аховым] (...) Читал критику на него Тимирязева и ужаснулся. „ Дурак, ты сам дурак“. В области той, которая избрана перед всеми другими по своей достоверности, область, в которой всё основывается на столь любимых фактах, оказывается столь сомнительной, что можно утверждать два противуположные мнения» (Юб. Т. 50. С. 95-96. — Курсив Толстого).
28 Имеется в виду статья «Юбилей поэзии Фета», написанная Страховым по просьбе С. А. Толстой к 50-летнему юбилею литературной деятельности А. А. Фета (см. п. 395), который отмечался в Москве 28 и 29 января 1889 г. См. примеч. 3. Первоначально Страхов решительно отказался выступить в печати с материалом о Фете (п. 396). Свое нежелание публично откликнуться на приближавшееся торжество, облеченное в деликатную форму вежливого извинения и объяснения «смягчающих обстоятельств» — болезнь («простуда некоторых из не вполне приличных частей тела») и неотложная работа («я был и есмь очень занят», в том числе написанием ответа на статью Вл. Соловьева «Грехи и болезни»), — он заранее довел до сведения Фета в письме от 10 января: «Итак, 28 января! (...) Софья Андреевна, Ваша, московская, подзывает меня в Москву по этому случаю. Очень приятна показалась мне эта мысль, но когда здоровье расстроилось и стал я думать, что и без того одолевают меня всякие заботы, не дающие ничего прочесть и приняться за давно начатые работы, то мне взгрустнулось. Прошу у Вас заранее извинения, если ничего не напишу к Вашему юбилею, точно так, как ничего не писал ни к юбилею Полонского, ни к юбилею Майкова» (Фет. Переписка II. С. 473). До 14 января Страхов был занят доработкой ответа Соловьеву для февральской книжки «Русского вестника», 18-го держал корректуру статьи, а уже 24 января, ознакомившись с подготовленным вел. кн. Константином Константиновичем (литературный псевдоним К. Р.) к юбилею Фета стихотворением, извещал его и о собственном отклике: «Сам я написал ему похвалу, которая, надеюсь, явится в Новом Времени; мне очень лестно, что я другими словами выразил там то, что у Вас сказано» (Переписка К. Р. с Н. Н. Страховым. — РЛ. 1993. № 2. С. 158. — Курсив Страхова). Вероятно, именно около 18 января в расположении духа Страхова произошел тот поворот, который помог ему преодолеть в себе временное неудовольствие, вызванное раздражением на общественное поведение Фета (см. п. 395), и прийти по отношению к нему в примирительное настроение. Ср. его признание в письме к Фету от этой даты: «Грустный тон Вашего письма очень меня тронул. Часто-таки я Вас браню, если замечаю, что Вас что-нибудь тревожит или задевает. (...) Впрочем, на меня напало теперь такое спокойствие, что я бы очень себя похвалил, если бы не знал, что легко нападает на меня и тоска и раздражение» (Фет. Переписка II. С. 475). Возможно, 603
на перемену намерения повлияли также известия о том, что и ближайшие петербургские друзья поэта Я. П. Полонский и А. Н. Майков готовят ему свои стихотворные поздравления (оба опубл.: НВ. 1889. 29 янв. № 4641; см. об этом в письмах Полонского Фету от 31 декабря 1888 г., 24 и 28 января 1889 г. — Фет. Переписка I. С. 701, 707-708, 710). Статья Страхова была опубликована в одном номере газеты вместе с поздравительным обращением к юбиляру в стихах вел. кн. Константина Константиновича, большого почитателя поэзии Фета: НВ. 1889. 28 янв. № 4640; То же: МВед. 1889. 28 янв. №28.
29 Отзыв Фета о статье Страхова неизвестен. О появлении в печати материала Страхова поэта известил Я. П. Полонский: «В „Новом Времени“ сегодня, 28 января, помещено стихотворение] Вел. Князя, тебе посвященное, и статейка Н. Н. Страхова. — Дойдет ли до тебя этот № (4640)?» (письмо от 28 января 1889 г. — Фет. Переписка I. С. 710). За «счастье» получить «высоко художественный сонет» Фет благодарил вел. кн. Константина Константиновича в письме от 30 января (см.: Фет. Переписка II. С. 746), а еще через несколько дней — и Полонского (письмо от 3 февраля 1889 г. — Фет. Переписка I. С. 711-712). В том же ответе Полонскому Фет сообщает, что читал приветственные стихи его и А. Н. Майкова посетившему утром 29 января дом юбиляра Толстому, однако о статье Страхова не упоминает. Возможно, Фет не имел еще тогда экземпляра петербургской газеты (стихотворение вел. князя поэт прочел в «Московских ведомостях»; см.: Фет. Переписка II. С. 746). Судя по словам Фета в письме к Полонскому от 3 февраля, около этого времени он письменно выражал свою признательность всем, почтившим его приветствием в день юбилея. Ср.: «Как я читаю твои письма под конец, так и этим письмом завершаю тот ворох благодарственных излияний, который пришлось раскидывать по белу свету» (Фет. Переписка I С. 712). Можно предположить, что в эти же дни Фет откликнулся в несохранившемся письме и на статью Страхова. Не исключено, что благодарность была высказана и в устной форме во время пребывания Фета в Петербурге 13-18 марта 1889 г.
30 Ответ С. А. Толстой см. в п. 398.
31 Ироническое замечание Страхова связано с тем, что он скептически относился к усилиям, которые прилагал А. А. Фет для получения придворного звания камергера Высочайшего двора. О пожаловании было объявлено 26 февраля 1889 г. — в день рождения императора Александра III и через месяц после юбилея творческой деятельности поэта. Сам Фет, откликаясь на утверждение Я. П. Полонского, что «звание Поэта выше, чем сотня камергеров», так излагал причину, по которой считал оправданным получение именно этого отличия: «...желал бы объяснить тебе свое воззрение. По-моему, существуют на Руси только две сферы: августейшая семья и народ, над которыми на недостижимой высоте стоит Царь. Благосклонное действие этих сфер можно обозначить словами: почтить, осчастливить и наградить. Явно, например, что мы с тобою друг друга можем только почтить, но не осчастливить, а тем более не награ604
дить. Пятьдесят лет кряду я считаю тебя самым крупным и симпатичным талантом; но я бы хохотал, если бы ты вздумал признать за собою какое-то звание поэта. Никакого такого звания не существует, а если говорить о тех, кто им кичится, то я к ним ни за что идти не хочу. Если бы вы [Полонский и А. Н. Майков. — Сост.], мои однокашники, не были удостоены на Ваше 50-летие всемилостивейших наград явно за свои литературные заслуги, а я один возмечтал бы о награде, то, конечно, меня бы следовало колотить как выскочку. (...) и если ты признаешь меня наряду с вами достойным высочайшей награды, то потрудись придумать, в какой она форме должна снизойти ко мне так, чтобы она, подобно пожалованным вам звездам, навсегда свидетельствовала о высочайшей милости. Не состоя на службе, пенсиона я получить не могу, звезды по малому моему чину — тоже» (письма от 17 и 30 декабря 1888 г. — Фет. Переписка I. С. 695,698-699).
32 Страхов проведет в Ясной Поляне более двух недель — с 30 мая до вечера 14 июня 1889 г. (см. поденные записи Страхова о пребывании в имении Толстых: Заметки Н. Н. Страхова о Л. Н. Толстом / подгот. Е. Н. Дрыжаковой. — Ученые записки Тартуского гос. ун-та. Вып. 184: Труды по русск. и слав, филологии. [№] IX: Литературоведение. С. 208-210); ср.: Гусев. Летопись I. С. 725).
33 Своим недоумением по поводу неудовольствия петербургских друзей его надеждами на высочайшее отличие Фет делился с вел. кн. Константином Константиновичем: «...возникает лишь вопрос о нравственной их [т. е. надежд. — Сост.] законности. Вопрос этот возбужден из Петербурга, и отвечать туда на него считаю преждевременным. Поставлен он в самой, по-моему, нелогической форме, а именно: считаю ли я звание камергера выше звания поэта? В этих словах такое море несообразностей, что его правильно переплыть трудно. К величайшему моему счастию, звания поэта не существует, а если бы оно существовало, как существует, если не звание, то хоть название музыканта, даже для бьющего в оркестре в турецкий барабан, то я стыдился бы к нему принадлежать. (...) В мою старую солдатскую голову никак не входит, почему именно я заслуживаю порицания, если стремлюсь к награде, хотя бы материально и менее веской, чем получили ее люди, прошедшие со мною то же поприще, можно сказать, нога в ногу» (письмо от 26 декабря 1888 г. — Фет. Переписка II. С. 740-741).
34 В феврале - марте 1889 г. тетралогия Р. Вагнера «Кольцо Нибелунга» и другие оперы композитора (всего 16 произведений) были исполнены вагнеровской берлинской группой во главе с Анджело Нейманом в Мариинском театре в Петербурге (см.: Станиславский М. В. Вагнер в России. СПб., 1910. С. 45-46,49). Как страстный почитатель Вагнера, Страхов стремился слушать музыку композитора в трактовке различных исполнителей. В письме от 11 марта он известил А. А. Фета о том, что «выслушал уже один цикл „Нибелунгов“» (Фет. Переписка II. С. 477).
35 Осенью 1888 г. И. Е. Репин задумал исполнить в технике углем на холсте галерею крупных портретных изображений некоторых деятелей русской науки и искусства. 605
Построенные по принципу контрастно-гармоничного сочетания двух цветов — черного и белого, сложные по выбранному приему художественно-изобразительного решения, эти работы Репина считаются «одним из высших достижений» его искусства по раскрытой в них силе «жизненности» и психологической «убедительности» . Примененная художником своеобразная графическая техника соответствовала световым условиям времени года — короткого и скудного по естественному освещению дня петербургской поздней осени и зимы. Для портрета, задуманного и выполненного первоначально также в черно-белой тональности, «как большой декоративно взятый рисунок углем» (Грабарь И. Э. Репин: Монография в 2 т. М., 1937. Т. 2: От первых портретов эпохи расцвета до последних творческих лет. М., 1937. С. 240), Страхов позировал в конце 1888 г. Позднее художник так вспоминал о происхождении окончательной версии этой работы: «Затеял я однажды серию портретов писателей — черным (дело было зимой). Николай Николаевич Страхов мне удался, потом рисовал я (...) и еще несколько портретов. Так как Николай Николаевич Страхов позировал аккуратно, охотно, и сам был так интересен, то я захотел портрет раскрасить (уже совсем законченный удачный портрет). И вот тут вспоминаю афоризм Тургенева: „Хорошее — враг лучшего“ Это было сказано по поводу моих же грехов. С портретом Страхова, т. е. красками же, меня постигла вопиющая неудача, но добрейший Николай Николаевич не замечал, что я уже гибну в моей неудаче, и как ни в чем не бывало только весело похваливал. В таких случаях я — несчастный, неутешный страдалец. И только уже года через два Лев Николаевич Толстой вывел меня на чистый воздух. / В одну из наших прогулок в Ясной Поляне Лев Николаевич спросил меня: „Скажите, отчего это вы из милого человека, Николая Николаевича Страхова произвели просто какую-то возмутительно неприятную личность? Ведь какой взгляд! Положим, у него бывал иногда дурной момент, что он как-то остановит свой взгляд по поводу какойнибудь случайной неприятности — остановится и сделает большие глаза..." / Да, да, я сам видел, в музее Александра III висит на большом свету эта личность с неприятно остановившимся взглядом расширенных зрачков... и я убийственно страдал» (письмо К. И. Чуковскому от 8 августа 1922 г. — Там же; см. также: Илья Репин — Корней Чуковский: Переписка. 1906-1929. М., 2006). Созданный Репиным портрет находится в Русском музее в Петербурге. Искусствоведы относят эту работу Репина «к числу не вполне удавшихся репинских портретов, особенно по живописи, в которой есть нечто неживое, нежизненное, какая-то редко встречающаяся у Репина, в его работах с натуры, условность общей цветовой гаммы, какая-то мягкость формы и равнодушие» (Грабарь И. Э. Репин. Т. 2. С. 240).
36 Страхову исполнилось 60 лет 16 октября 1888 г. по ст. ст.
37 Входящие в тетралогический цикл «Кольцо Нибелунга» оперы имеют, в зависимости от особенностей дирижерского прочтения партитуры и индивидуального певческого темперамента вокалистов, разно-продолжительное время звучания. Исполне606
ние первой оперы цикла — «Золото Рейна» — длится около 2,5 часов, на представление «Валькирии» и «Зигфрида» может потребоваться по 3,5-4 часа, оперы «Гибель богов» — 4-4,5 часа.
38 Оперный цикл Вагнера «Кольцо Нибелунга» трактуется также как трилогия — по исполнению трех «основных» музыкальных драм цикла: «Валькирия» (Первый день тетралогии «Кольцо Нибелунга»), «Зигфрид» (Второй день тетралогии), «Гибель богов» (Третий день тетралогии). «Золото Рейна» при этом рассматривается как «пролог» к общему опусу.
39 Страхов приводит слова из заключительной арии Брунгильды (действие 3, картина 3, часть 2), обращенные к «отцу богов», которые в русском переводе либретто Вагнера передаются как: «Кончен путь твой, отец!» (нем.).
40 Валкирия, Один (Вотан) — персонажи тетралогии Вагнера «Кольцо Нибелунга».
41 Толстой, погруженный в то время в напряженные размышления о духовном содержании искусства и его роли в общественной жизни, не разделял интереса Страхова к музыкальному дарованию Р. Вагнера. Тема «фальшивого» и «истинного» искусства возникла вновь в общении корреспондентов во время летнего пребывания Страхова в Ясной Поляне. Такой разговор с гостем Толстой отметил в дневнике 13 июня: «Страхов рассказывал воскресенье Вагнера оперы: Вотан, Валгалла, Валкирия, Сигмунд, Сигфрид и т. п. Ужасно слушать, до какого полного безумия дошли люди. Надо писать об искусстве» (Юб. Т. 50. С. 94; ср.: Там же. С. 207). К мысли о «ложном» содержании искусства и его служении «богатым праздным классам» Толстой вернулся и после отъезда Страхова — в дневниковой записи от 15 июня: «Страшный пример тщеты науки и искусства это споры о дарвинизме (да и мн[огом] др[угом]) и вагнеровщина. — А ведь жрецы-то науки и искусства не дожидают решенья, а давно решили, что черный наро[д] должен им служить. (...) обдумал теперь „Об искусстве“» (Там же. С. 96. — Курсив Толстого). Судя по более поздней записи в дневнике В. Ф. Лазурского, своего мнения о музыке Вагнера Толстой не изменил и в дальнейшем. Ср.: «Интересен был разговор о вагнеровской музыке (...) Лев Николаевич был на последнем представлении „Зигфрида“ и говорит, что такой отчаянной тоски и скуки давно не испытывал. (...) музыка же его не представляет собой чего-нибудь цельного, имеющего центр, как должно иметь всякое художественное произведение, а есть только ряд иллюстраций (...) Настоящей музыки нет, всё условно. (...) Чувства меры нет...» (запись от 20 апреля 1896 г. — ЛН. Т. 37-38. С. 489). Возможно, что на отзыв о музыке Вагнера наложило свой отпечаток сдержанное отношение писателя к оперному искусству в целом. Ср. его высказывание на этот счет, зафиксированное в том же источнике: «Я терпеть не могу оперы и кроме скуки в ней ничего не испытываю» (запись от 29 июня 1894 г. — Там же. С. 454).
42 Весной 1889 г. Страхов не раз жаловался на неудовлетворительное состояние здоровья в письмах к Фету. Еще в мартовском обращении он сообщал, что «дважды 607
был болен, и до сих пор еще не совсем поправился». Через месяц, в апреле, он вновь известил корреспондента о своем недомогании: «...теперь я болен (...) один-одинехонек со своими книгами — но книги не помогают, когда голова тяжела и ни читать ни писать нет охоты» (письма от 11 марта и 13 апреля 1889 г. — Фет. Переписка II. С. 477,478).
43 См.: Лк. 10:42.
44 Давнее желание Страхова, о котором он писал А. А. Фету еще в начале 1887 г. Ср.: «Можете считать меня гордецом, но я считаю почти долгом написать об Пушкине, об Шопенгауэре, об Л. Н. Толстом — и это меня тяготит. (...) Что касается до Толстого, то, как об нем ни судите, нельзя же его трактовать с тою ненавистью, которая встретила его отовсюду. Не говорю о его личных отношениях и поступках; но влияние его мыслей и писаний я нахожу только полезным, только освежающею струею среди духоты, в которой мы живем» (Фет. Переписка II. С. 430-431).
45 Видный английский журналист и политический деятель Уильям Стэд (Stead), либеральный пацифист по взглядам. Неоднократно бывал в России, посетил Ясную Поляну в мае 1888 г. и провел в имении Толстых несколько дней (см.: АН. Т. 75. Толстой и зарубежный мир. Кн. 2. С. 98; по некоторым данным приезд Стэда состоялся в сентябре, см.: Гусев. Летопись I. С. 699; Бирюков III. С. 91). С. А. Толстая вспоминала позднее о пребывании гостя: «В это лето [1888 г. — Сост.] получено было письмо от Stead а, редактора журнала „Review of Reviews". / Письмо какое-то ненатуральное, в котором он пишет, что желает приехать, что у него 5 маленьких детей и что он хочет приехать „to play with your little ones" [поиграть с вашими малышами, англ.]. I Stead приезжал к нам, конечно, с целью познакомиться с Львом Николаевичем и написать о нем статью. Но человек он оказался малоинтересный, хотя, как всегда, мне разговоров его с Львом Николаевичем не пришлось слушать. Помню, как фальшиво и глупо он обращался к детям, валялся на полу, ловил и хватал Машу так, что она рассердилась и чуть не расплакалась. Но статья его была написана хорошо и правдиво» (Толстая. Моя жизнь II. С. 60). Стэд — автор книги «Truth about Russia» («Правда о России»; London, 1888); отриц. и положит, рец. на книгу см.: BE. 1889. Март. С. 420-424; РВ. 1889. Апрель. С. 93-122. Несколько глав в ней посвящено Толстому. Стэд отправил книгу писателю с дарственной надписью: «То Count Tolstoi with affectionate remembrance of the family at Jasnaya Pauliana from the author. W. T. Stead («Графу Толстому с теплыми воспоминаниями о яснополянской семье. От автора. У Т. Стэд», англ.). Экземпляр сохранился в яснополянской библиотеке (Описание ЯПб. Т. 3, ч. 2. С. 383. № 3107). В собрании представлено еще пять изданий литературных трудов Стэда на английском языке (см.: Там же. С. 382-383. № 3102-3106). Получение книги Толстой подтвердил в письме из Москвы от 31 января 1889 г. к издателю газеты «Новое время» А. С. Суворину (Юб. Т. 64. С. 216), где в переводе на русский язык была напечатана одна из глав — «Неделя в Ясной Поляне» (НВ. 1889.25 янв. № 4637). Более обширная отече608
ственная публикация отрывков из книги состоялась в 1965 г. (см.: Два английских собеседника: Воспоминания Уильяма Томаса Стэда и Роберта Эдварда Крозьера Лонга: I. У. Стэд / публ. и пер. Б. А. Гиленсона. — АН. Т. 75, кн. 2. С. 98-111). Несмотря на усилия Стэда по распространению в печати материалов о творчестве и философских воззрениях писателя, Толстой (если судить по позднейшему его отзыву) не проникся симпатией к английскому литератору. Д. П. Маковицкий отметил 19 августа 1905 г. в дневнике такую его оценку Толстым: «Стэд ловкий человек, он мне не понравился» (Там же. Т. 90, кн. 1. С. 380). Жизнь Стэда трагически оборвалась в 1912 г. при гибели «Титаника».
398
С Л. Толстая — Страхову
Многоуважаемый Николай Николаевич,
Сколько раз собиралась писать к вам по многим, многим причинам. Главная та, что вы всегда живете в нашей семье, хотя мы вас и не часто видим; и все так вас любим и уважаем. Как только кто из Петербурга, так спрашиваем: «а что Николай Николаевич?» А еще мне очень хотелось поблагодарить вас за статью о Фете1. Когда я ее прочла, мне стало весело за то, как вы, почти из озлобления, перешли к слишком мягкой и доброй критике, и даже хвале. Вот что значит переработать в сердце дурное на доброе, и это меня тогда привело в восторг. Но не написала я вам потому, что у меня больные не переводились2. Я провела ужасную зиму, даже совсем поседела. Маленький Ваничка3, с его болезненным ростом — был та капля, которая переполнила и без того полный сосуд моей жизненной деятельности4. — Теперь скоро лето и в деревню, куда и вас, дорогой Николай Николаевич, будем усиленно и нетерпеливо ждать, согласно вашему обещанию.
У нас в саду наконец позеленела трава, а сейчас в открытую форточку слышу, как щелкает соловей. Вот редкость-то в Москве, — и благодать.
20 апреля
1889 г. Носква
609
Печатается по: ОР ГМТ. Ф. 47. № 39408. Л. 1-1 об. Впервые: ПТСII.
С. 219.
Так приезжайте же, пожалуйста, в Ясную, а пока крепко жму вашу руку и извиняюсь за бессвязное письмо, страшно болят зубы.
Сердечно преданная и уважающая вас
С. Толстая
20 апреля
1889.
1 Имеется в виду статья Страхова «Юбилей поэзии Фета» (НВ. 1889. 28 янв. № 4640). См. примеч. 28 к п. 397.
2 Вспоминая зиму и весну 1889 г., С. А. Толстая писала: «Болели все дети: похоже было на легкую корь, которая у них протекала скоро и благополучно. (...) Весь почти февраль и всё начало марта Лев Николаевич беспрестанно заболевал своей уже сделавшейся хронической болезнью печени. И колебания в здоровье производили и колебания в расположении духа, что бывало иногда очень тяжело» (Толстая. Моя жизнь II. С. 79, 85).
3 Ваничка — годовалый младший сын Толстых.
4 С. А. Толстая не могла открыть в письме всей меры перенесенных страданий, но, как мать, очень тяжело переживала болезнь младенца. Позднее она вспоминала об этих днях с большей откровенностью: «... 11-го января заболел мой маленький грудной Ваничка. Ему шел только 10-й месяц. Вскоре оказалось воспаление легких. Я безумно любила этого мальчика, как любят первых и последних только детей. День и ночь я держала его у груди, питая и согревая его. Перенесли его в комнату рядом с моей спальней (...) я стала у стены на том месте, где стояла кроватка, и начала молиться. (...) горе мое было так остро, так велико, что только сердце, без разума, стонало, просило, страдало и молилось. / Не помню, сколько времени я стояла на молитве. Я забыла весь мир, потеряла всякое сознание окружающего. (...) Добрый и талантливый детский врач (...) напрягал все свои силы и знания для спасения ребенка. (...) душа разрывалась от отчаяния; я не могла отвести глаз от своего похудевшего мальчика, уже не открывавшего глазки, и не только мертвенно-бледного, но посиневшего от истощения. Он слабо тянул грудь, молока от горя убавилось, и я, обессиленная, ждала уже его конца» (Там же. С. 79-80). Перелом в болезни произошел в феврале: «Бог услышал мою молитву, и Ваничка мой выздоровел тогда (...) И все в доме (...) повеселели» (С. 82). Остро отозвалось на душевном состоянии С. А. Толстой и отстраненное отношение к происходящему в доме самого писателя, который, по ее словам, «ни разу не показал участия» к заболевшему ребенку, «продолжал свою обычную жизнь и занятия, принимал посетителей, ходил к разным своим знакомым и сердился на меня очень часто» (С. 80. — Курсив С. А. Толстой). Другим поводом к мучительным переживаниям было 610
продолжавшее углубляться расхождение во взглядах на семейную жизнь с Толстым. «Его не удовлетворяло мое материнство и забота о нем и детях. Он ждал и желал от меня подвигов и религиозной жизни. (...) Искать помочь мне было нечего. Надо было больше любить. А любовь так трудно давалась Льву Николаевичу! (...) Везде Лев Николаевич видел зло, и оно мучило его. (...) С кем бы ни приходил в столкновение Лев Николаевич — ни с одним человеком он не находил отрады. (...) он тогда и меня измучил своим переменчивым и часто не добрым по отношению ко мне настроением. (...) Самое тяжелое в моей вынужденной жизнью деятельности было осуждение буквально всего, что мне приходилось делать» (С. 81, 86. — Курсив С. А. Толстой). — Возвращаясь мысленно к пережитым тревогам весною 1889 г., С. А. Толстая в тех же словах, что и Страхову, описывала свое нравственное состояние в письме к сестре — Т. А. Кузминской: «Рождение и кормление Ванички были той каплей, которая переполнила мою жизненную чашу, и теперь всё пошло дурно. Я ничего не успеваю больше, как исполнять те необходимые потребности, без которых всем нам пришлось бы сидеть без денег, без обеда, без возжей и пролеток, без белья и т. д. Подоспело и печатанье книг; и вот я, как машина какая-то, толкаюсь от одного требованья к другому, едва сознавая, так ли я всё делаю, не сделала ли какой ошибки?» (письмо от 13 марта 1889 г. — цит. по: Там же. С. 86).
399
Толстой — Страхову 21 апреля
1889 г. Носква
Спасибо, что написали, дорогой Николай Николаевич1, и что присылаете свои статьи2: я их тотчас же прочитываю и с пользою. Возражения ваши Фаминицыну3 очень слабы, т. е. не то что они неверны, а то, что Фаминицын, по-моему, подлежит уничтожению совершенному. Я еще до вас читал где-то торжествующие выписки из Фам[иницына]. «Фаминицын сам сказал, что Дарвин великий челов[ек] и его теория вел[икая] теория»; но почему это так и почему я обязан верить тому, что гов [орит] г-н Ф[аминицын], ни в вашей, ни в той статье нет, так что я заключаю, что Ф[аминицын] должен быть какой-нибудь научный первосвятитель. Те пошлости, к[оторые] приводятся из его статьи, подтверждают это. Впрочем, Бог с ним и с Дарвином. Надеюсь, что вы не обидитесь, что
611
Печатается по: ОР ГМТ. Ф. 1. № 5830.
Л. 1-1 об. На л. 1 помета Страхова: «20 апр[еля] 1889».
Впервые: Современный мир. 1913.
№ 12. С. 380.
В /Об.: Т. 64.
С. 250.
Датируется по записи Толстого в дневнике (/Об.
Т. 50. С. 71).
Ответ на п. 397.
я скажу, что это всё, т[о] е[сть] то, что мы думаем о том, как произошли виды, не только не важно, но что даже совестно нам, старым людям, готовящимся предстать там Тому, даже стыдно и грешно говорить и думать об этом. Спасибо, что думаете побывать у нас. Исполните, пожалуйста. Все вам, начиная с меня, будут очень рады.
Любящий вас
Л. Толстой
Что Хельчицкого «Сеть веры»4 была ли напечатана в журнале академии и если была, то в каких номерах?
1 Написание ответного обращения к Страхову Толстой отметил в дневнике 21 апреля: «Ничего не писал. Письма только [Н. Н.] Ге и Страхову» (Юб. Т. 50. С. 71).
2 См. примем. 3 и 4 к п. 397.
3 Фаминицин — так в автографе. Речь идет о статье Страхова «А. С. Фаминцын о „Дарвинизме" Н. Я. Данилевского» (РВ. 1889. Апрель. С. 225-243). Подробнее о полемике Страхова и академика Фаминцына см. примем. 4,12,20 к п. 397.
4 Подразумевается сочинение чешского религиозного мыслителя XV в. и крупного участника гуситского движения Петра Хельчицкого (Chelcicky, Petr. Siet' viery; создано в 1455 г., напечатано в 1521 г. в Праге Павлом Северином). Учение Хельчицкого о церкви легло в основу идейного союза религиозных общин, ориентировавшихся на раннехристианские духовные идеалы и получивших название «чешские (или: богемские) братья». Страхов с готовностью откликнулся на запрос Толстого и предпринял усилия по отысканию оттисков находившегося в печати труда (см. п. 400 и примем. 2 к нему). — Об одной из версий происхождения интереса Толстого к личности и реформаторской деятельности Хельчицкого рассказывается в записях И. М. Ивакина (АН. Т. 69, кн. 2. С. 104-106). Вместе с тем, по свидетельству самого Толстого, о книге чешского церковного реформатора и его учении, он узнал из письма профессора Пражского университета Т. Масарика (письмо не сохранилось; ср. об этом в: ЛН. Т. 90, кн. 1. С. 206). В первой главе трактата «Царство Божие внутри вас» Толстой замечал: «Поразительным примером такой неизвестности сочинений, направленных на разъяснение непротивления злу насилием и обличение тех, которые не признают этой заповеди, служит судьба книги чеха Хельчицкого, только недавно ставшей известной и до сих пор еще не напечатанной. / Вскоре после выхода моей книги [«В чем моя вера?» — Сост.] по-немецки я получил из Праги письмо от профессора тамошнего университета, сообщившее мне о существовании никогда нигде не напечатанного со612
чинения чеха Хельчицкого XV века, под названием „Сеть веры“. В сочинении этом, как писал мне профессор, Хельчицкий около 4-х веков тому назад высказывал тот же взгляд на истинное и ложное христианство, который высказывал и я в сочинении „В чем моя вера?“. Профессор писал мне, что сочинение Хельчицкого должно было быть издано в первый раз на чешском языке в журнале Петербургской академии наук. Не имея возможности достать самое сочинение, я постарался познакомиться с тем, что известно о Хельчицком, и такие сведения я получил из немецкой книги, присланной мне тем же пражским профессором, и из истории чешской литературы [А. Н.] Пыпина. (...) Узнав, таким образом, сущность учения Хельчицкого, я с тем большим нетерпением ожидал появления „Сети веры“ в журнале Академии. Но прошел год, два, три — книга не появлялась. Только в 1888 году я узнал, что начатое печатание книги приостановилось. Я достал корректурные листы того, что было отпечатано, и прочел книгу. Книга во всех отношениях удивительная» (Юб. Т. 28. С. 16-17. — Курсив Толстого). Толстой не только «прочел» труд Хельчицкого, но внимательно сверял (при участии Д. П. Маковицкого) содержание русского перевода с текстом чешского оригинала и нашел, что «чешский текст „Сети веры“ отличается от русского изложения Ягича (Анненкова): может быть, самые важные места пропущены...» (запись Д. П. Маковицкого от 31 марта 1905 г. — ЛН. Т. 90, кн. 1. С. 230).
400 Страхов — Толстому
Наконец узнал я, бесценный Лев Николаевич, об Хельчицком1. «Сеть веры» начали печатать в «Записках» Академии, но молодой человек, Анненков, который наблюдал за печатанием, умер, и теперь дело остановилось и ищут кому поручить его. Он был ученик В. И. Ламанского и готовился защищать диссертацию на магистра. Может быть, мне удастся достать напечатанные листы, и тогда я привезу их в Ясную Поляну2. С большою радостью я думаю об этой поездке к Вам — я так давно Вас не видал!3 Упрекая меня за предметы моих писаний, Вы пишете: «надеюсь, Вы не обидитесь». Конечно, нет; я ищу Вашего внимания и участия к тому, что делаю, но давно чувствую, что, может быть, Вы многим недовольны4. Конечно, я сделал бы лучше, если бы написал 18 моя 1889 г.
Санкт-Петербург
613
что-нибудь хорошее об Вас, или об Шопенгауэре, или об П. Бакунине5 и т. д. Но нельзя было отложить того, что я вместо этого делал. Издание книг Данилевского и полемика из-за них не могли быть отложены, так же как похвала стихам Фета требовалась непременно к 28 января6. Теперь я наконец освободился. Тимирязев разразился новою статьею, уже против Фаминцына7 (меня он слишком презирает, чтобы со мною связываться8), и я могу считать дело совершенно выигранным9, т. е. что на «Дарвинизм» обращено полное внимание нашего ученого мира и вопрос об этой книге поставлен громко.
И это, я думаю, — дело доброе. У молодых людей есть горячая жажда к знанию. Заглушить ее невозможно, да и нет нужды; нужно ее утолить и нужно разрушить тот мираж ложного знания, на который они неудержимо бросаются, когда ничего другого не видят. Поколебать Дарвина — какой удар, какое отрезвление!10 Сам я не без некоторого отвращения занимался этим делом, потому что с самого начала не нашел в Дарвине ничего питательного и, отвернувшись от него, искал других путей для понимания природы. Но Данилевский поступил правильнее и сделал нечто прочное, тогда как я остался при одних почти высокопарных замыслах11. В следующих томах12 он хотел говорить о своем взгляде на организмы, доказывать бытие и свойства Божии; вообще он смотрел на свое сочинение как на средство уничтожить материализм и нигилизм, и в одном письме к Н. П. Семенову13 говорит, что это средство будет получше греческого и латинского языков, в которых Катков видел наше спасение от вредных учений14.
Обо всем этом и о многом другом я надеюсь поговорить с Вами, бесценный Лев Николаевич, в Ясной Поляне15. Дай Бог только Вам здоровья, да и мне как бы не свихнуться. Вот уже месяц, как я чувствую себя совершенно здоровым, но до сих пор не перестаю этому удивляться16.
Графине мое усердное почтение. Дай Бог ей сил и здоровья, душевно благодарю за ее письмо17.
614
Ваш неизменно преданный
Н. Страхов 1889.
18 мая.
Спб.
1 См. п. 399 и примем. 1 к нему.
2 Труд Хельчицкого готовился к публикации в России сначала славистом Ю. С. Анненковым, а после его кончины (в 1885 г.) — ординарным академиком И. В. Ягичем. Работы по печати затянулись, и книга появилась только через четыре года (в сентябре 1893 г.) в издании II Отделения Императорской Академии наук. См.: Сочинения Петра Хельчицкого. I. Сеть веры. II. Реплика против Бискупца. — Сборник Отделения русского языка и словесности Императорской Академии наук. Т. 55. СПб., 1893 (текст на чешском языке,- изложение содержания на русском языке). Получение материала от Страхова Толстой отметил записью в дневнике от 31 мая (Юб. Т. 50. С. 89). Полмесяца спустя он извещал П. И. Бирюкова: «Был у нас Страхов и уехал, привез мне Сеть Веры Хельчицкого, напечатанная вся в листах, вся напечатана по-чешски, но по-русски приложенный перевод не кончен печатанием — около !4. Очень замечательное сочинение. Хотя и многого ожидал от него, я не был разочарован» (письмо от 18 июня 1889 г. — Там же. Т. 64. С. 268). Полный экземпляр отпечатанного издания Толстой получит через В. В. Стасова от директора Публичной библиотеки академика А. Ф. Бычкова 25 ноября 1893 г. (Толстой и Стасов. Переписка. С. 116,119; Гусев.Летопись II. С. 115). В трактате «Царство Божие внутри вас» Толстой назвал эту книгу «одной из редких, уцелевших от костров книг, обличающих официальное христианство» (Там же. Т. 28. С. 18). Небольшое эссе о Хельчицком и его книге «Сеть веры», а также обширные выписки из этого сочинения Толстой поместил в разделы «Недельное чтение» второго тома своего издания «Круг чтения» (см.: Там же. Т. 42. С. 46-50, 142-149, 240-246). Он также упоминает о нем в неоконченной рукописи рассказа «Шут Палечек» (Там же. Т. 40. С. 412-422). Творческий интерес к Хельчицкому и его учению Толстой проявлял и позднее. Перечитывая основной полемический труд реформатора в 1905 г., он замечал: «Удивительная книга! (...) Есть обо всем. 20лет ее не читал. И теперь читаю с новым вкусом. Перевод хороший. (...) Хельчицкий был образованный человек (...) самостоятельный. Он просто христианские истины высказывал» (запись Д. П. Маковицкого от 10 марта 1905 г. — АН. Т 90, кн. 1. С. 206; ср.: С. 209). Толстой считал проповедь Хельчицкого более значимой по ригоризму нравственных требований, чем учения других религиозных преобразователей: «Хельчицкий (...) остался нечитанным
Печатается по: РО ИРЛИ. Ф. 303. Оп. 2. Ед. хр. 300. Л. 153-154.
Впервые: Современный мир. 1913. № 12. С. 381-382. Ответ на п. 399.
615
и неизвестным потому, что предшествовал своему веку. Показал, как должно жить по Христу: принимай или брось. С государством соединить христианскую жизнь нельзя, надо его оставить. (...) Хельчицкий был гораздо сильнее своего предшественника Гуса и следовавшего за ним Лютера» (см. в дневниковой записи Д. П. Маковицкого от 30 марта 1905 г. — Там же. С. 229; ср. запись от 21 мая 1907 г. — Там же. Т. 90, кн. 2. С. 435). В том же 1907 г. «Сеть веры» выйдет отдельным изданием в «Посреднике». В сохранившемся фонде книг яснополянской библиотеки сочинения Хельчицкого не представлены. — Георгий (Юрий) Семенович Анненков, историк-славист, автор ряда работ по истории протестантства в Польше и Чехии. Отдавая много времени изучению и подготовке к изданию творческого наследия чешского религиозного реформатора Петра Хельчицкого, вынужден был из-за недостатка средств к существованию вести активную преподавательскую деятельность. Анненков скончался в возрасте полных 35 лет.
3 См. примеч. 32 к п. 397.
4 Об отношении Толстого к полемике Страхова с естествоиспытателями-дарвинистами и с Вл. Соловьевым см. примеч. 3 и 41 к п. 397.
5 Философ Павел Александрович Бакунин, брат революционера. Толстой писал Страхову о книге Бакунина «Основы веры и знания» в феврале 1887 г. (см. п. 369 и примеч. 7 к нему). Ответ Страхова с подробным отзывом о рассуждениях Бакунина он получил в мае того же года (п. 375). См. также п. 376.
6 В этот день исполнялось 50 лет литературной деятельности А. А. Фета. См. примеч. 8 к п. 396.
7 Речь идет о статьях: Фаминцын А. С. Н. Я. Данилевский и дарвинизм. Опровергнут ли дарвинизм Данилевским? — ВЕ. 1889. Февраль. С. 616-643. Против занявшего промежуточную позицию в споре акад. Фаминцына К. А. Тимирязев написал возражение: Странный образчик научной критики. — Русская мысль. 1889. Март (Кн. 3). С. 90-102. Подробнее см. примеч. 4,12 и 20 к п. 397.
8 Это отношение к себе Страхов почувствовал еще в начале полемики с русскими последователями теории Дарвина по поводу книги Н. Я. Данилевского «Дарвинизм». В письме к А. А. Фету от 10 января 1888 г., рассуждая о своем вызывавшем недоумение среди ученых-естественников споре с К. А. Тимирязевым, он замечал: «... если бы я читал рефераты в здешнем Обществе естествоиспытателей что ли, писал в его „Трудах“ и т. п., то меня бы знали натуралисты. А теперь они не признают меня не только собратом, а даже не хотят признать и противником» (Фет. Переписка II. С. 448). Именно так воспринимал Страхова (в качестве неудачного защитника построений Данилевского) и сам Тимирязев, который в статье «Бессильная злоба антидарвиниста» отозвался о нем, как о человеке со «смешными» претензиями на ученость: «... это — тип неудавшегося ученого, тип человека, от науки отставшего, к другому делу не приставшего, сохранившего какой-то остаток горечи по отношению к этой не дав616
шейся ему науке, убежденного, что она остановилась, когда он забросил свои книжки, и пытающегося уверить себя и других, что наука двигается не трудами ученых, а схоластическою диалектикой или внезапным осенением людей, от науки свободных» (Русская мысль. 1889. Май (Кн. 5). С. 23). Еще более жестко высказался Тимирязев о самом Данилевском и его теоретических построениях: «...на Данилевского я смотрел как на дилетанта — с некоторой долей пренебрежения. Каюсь и в том, и в другом. Но скажите, как, если не дилетантом, назвать человека, который сегодня уничтожает филлоксеру, завтра — Дарвина, а мимоходом и Европу? И как, если не пренебрежением, называется то чувство, которое внушала синица, когда она не зажгла моря?» (Там же. С. 24).
9 Уверенность Страхова не оправдалась: через три года труд Н. Я. Данилевского рассматривался в Академии наук и был признан «ненаучным» (см. об этом письмо
B. В. Розанова Страхову от мая 1892 г. — Розанов В. В. Собр. соч. [Т. 13]: Литературные изгнанники. ... Переписка В. В. Розанова с Н. Н. Страховым. С. 285).
10 Страхов имеет в виду важность раскрытия сущности дарвинизма как теории, укрепляющей философию атеизма. О значении книги Н. Я. Данилевского в полемике со сторонниками теории Дарвина Страхов писал также А. А. Фету 17 мая 1889 г. (см. примеч. 12 к п. 397).
11 Темой дарвинизма Страхов занимался с начала 1860-х гг. и намеревался выступить с самостоятельной критикой этой теории, но когда Н. Я. Данилевский выразил желание основательно разработать доказательства ложного, по его мнению, характера ставшего популярным учения, Страхов уступил ему тему, отдал собранную им литературу по теме, всячески поддерживал друга в создании «Анти-Дарвина» (так они назвали между собой труд Данилевского) и согласился помогать ему в публикации.
12 Труд Данилевского о дарвинизме остался неоконченным.
13 Н. П. Семенов — близкий друг Н. Я. Данилевского. См. о нем примеч. 9 к п. 101 и примеч. 9 к п. 152.
14 М. Н. Катков поддерживал классицизм гимназического обучения как средство удержать молодежь от увлечения нигилизмом.
15 Свое зимнее пребывание в Москве Толстой закончил 2 мая и в тот же день отправился пешком в Ясную Поляну, до которой добрался 7 мая. По свидетельству
C. А. Толстой, столь длительный переход отрицательно сказался на самочувствии писателя: «2-го мая Лев Николаевич ушел опять пешком в Ясную Поляну (...) Путешествие утомило Льва Николаевича, и здоровье пошатнулось. Он жаловался на боль под ложечкой, и хотя и пытался (...) писать (...) но дело не шло, и он был недоволен своей работой. (...) Кроме того, у него всё время болел желудок и печень, и он тяготился (...) обществом» (Толстая. Моя жизнь II. С. 90-91, 92). Об этом же рассказывал Страхов с ее слов А. А. Фету в обращении, написанном вскоре после своего возвращения из Ясной Поляны: «Софья Андреевна говорила, что весною он был удивительно свеж 617
и здоров, но испортил себя, прошедши пешком в Ясную Поляну» (письмо от 21 июня 1889 г. — Фет. Переписка II. С. 481).
16 О своих планах на лето Страхов сообщал А. А. Фету 17 мая: «Покорно благодарю Вас за любезное приглашение в Воробьевку. Не знаю, как мне придется располагать своим летом; думаю, во всяком случае, навестить Ясную Поляну — я так давно не видал Льва Николаевича. (...) Когда это решится, я, конечно, Вам напишу» (Фет. Переписка II. С. 479).
17 См. п. 398. С. А. Толстая переехала с семьей в Ясную Поляну 14 мая (см. запись в дневнике Толстого. — Юб. Т. 50. С. 81).
28 мая 1889 г.
Ясная Поляна
Печатается по: ОР ГМТ.Ф. 1,№ 5464. Почтовая карточка.
Л. 1-1 об. Адрес рукой Толстого: «Петербург. У Торгового моста, дом Стерлигова. Николаю Николаевичу Страхову». Почтовые штемпели: «28 мая 1889 Ясенки», «30 мая 1889 С. Петербург». Впервые: Современный мир. 1913. №12. С. 380-381. В/Об.:Т. 64. С. 257.
618
401 Толстой — Страхову
Просьба, дорогой Н[иколай] Николаевич]. Об искусстве, об истории этого понятия, что есть?1 Об искусстве в широком смысле, но также и о пластическом в частности. Нет ли истории и теории искусства, кроме Куглера2, к[оторого], если у вас есть, привезите, пожалуйста. Да вообще помогите мне, пожалуйста, в предпринятой работе: нужно, прежде чем высказать свое, знать, как квинтесенция образованных людей смотрит на это. Есть ли такой Катихизис. Надеюсь, что вы меня поймете и поможете мне, а главное, сами скоро порадуете приезд [ом]э.
Л. Толстой 1 В начале 1889 г. Толстой приступил к работе над статьей об искусстве, где предполагал изложить свои взгляды на содержание и назначение истинного искусства. Статья предназначалась для журнала «Русское богатство». Публикация не состоялась (см.: Юб. Т. 64. С. 240), но Толстой продолжал заниматься темой искусства. 16 мая 1889 г. он писал в Дневнике: «Опять кружусь в колесе об искусстве]. Должно быть, слишком важный, таинственный это предмет...» (Там же. Т. 50. С. 82). О направлении, в котором развивалась мысль Толстого об искусстве, можно судить по замечанию из обращения к П. И. Бирюкову, написанному около 17 мая: «Я всё писал об искусстве. Всё разрастается, и я вижу, что опять не удастся напечатать в „Русском Богатстве“. Вопрос-то слишком важный. Не одно искусство, а и наука вообще, вся духовная дея-
тельность и духовное богатство человечества — что оно, откуда оно и какое настоящее истинное духовное богатство» (Там же. Т. 64. С. 256). По мере изучения материала и обдумывания проблемы, замысел работы подвергался изменениям. Подробнее см.: Там же. Т. 30. С. 213-230; 510-516.
2 Франц Теодор Куглер, немецкий историк, искусствовед и литератор; автор неоднократно переиздававшегося исследования по истории искусств «Handbuch der Kunstgeschichte» (Stuttgart, 1842; 3-е изд., полностью переработ., в 2 тт.: Stuttgart, 1858), в русском переводе Е. Ф. Корша: «Руководство к истории искусства» (Ч. 1-2. М., 1869-1870). Известен также своей многотомной «Историей строительного искусства» («Geschichte der Baukunst». Bände 1-5. Stuttgart, 1856-1875). Издания трудов Ф. Куглера в сохранившемся фонде книг яснополянской библиотеки Толстого не представлены.
3 Письмо Толстого было получено в Петербурге 30 мая — в день, когда Страхов приехал в Ясную Поляну (Юб. Т. 50. С. 88; Гусев. Летопись 1. С. 725), и не могло быть им прочитано своевременно.
402 Страхов — Толстому
Всё сделал я, бесценный Лев Николаевич, так, как предполагал. В Москве пробыл одни сутки и никого не нашел; как раз с 15-го июня, когда я приехал, Музей был закрыт на два месяца1. И всё время, и 15 и 16, шел непрерывный дождь, так что я большею частью сидел в гостинице. В Петербурге я два дни писал доклад о книге Розанова2 и вчера, 20-го, читал этот доклад в заседании Комитета3, которое было очень длинно и утомительно. Сегодня я совершенно свободен и хочу благодарить Ясную Поляну за ее гостеприимство4. Всегда от Вас я получал освежение, всегда Ваши речи и всё Ваше присутствие подымали меня; много я об Вас думаю и много люблю Вас, и потому видеть и чувствовать Вашу душевную жизнь лицом к лицу — для меня большая радость, сильно меня трогает и оживляет5. На этот раз, после долгого промежутка, я особенно ясно почувствовал, что Ясная Поляна есть тоже центр духовной деятельДатируется по штемпелю почтового отправления.
21 июня 1889 г. Санкт-Петербург
619
ности6, но какой удивительный! Другие центры, о которых пишется в тетрадке Стэда7, иногда ничего в себе не содержат, суть пустые точки, важные только потому, что к ним направлены мысли и стремления живых людей, так что, зная эти точки, можно видеть направление этих стремлений. В Ясной же Поляне сам центр живой, лучистый, — Вы сами с своею неустающей мыслью и сердечною работою. Видеть это — значит видеть зрелище удивительной красоты и значения8. Простите меня, что по своей привычке я Вас объективирую, стараюсь стать от Вас подальше и посмотреть на Вашу деятельность со стороны. Часто мне больно думать, что я, как и другие, не умею видеть того великого, что совершается вокруг меня, и только потому твержу иногда: всё стало скверно, везде пошлость, упадок ума и вкуса. Если, однако, сравнить знаменитую эпоху сороковых годов, остатки которой мы видим в Григоровиче, Фете, Полонском, с нынешним временем, то как не сказать, что мы с тех пор много выросли и поумнели. Нигилизм и анархизм — ведь это очень серьезные явления в сравнении с тою болтовнею, которая составляет верх человеческого достоинства для Григоровичей и Фетов. И вся эта борьба, всё мучительное брожение умов разрешилось и завершается Вашею проповедью, призывом к духовному и телесному исправлению, к той истинной жизни) к тому истинному благу, без которого ничтожны все другие блага и которое никогда не может изменить нам. Пронеслось от Вас какое-то веяние, раздался звук, на который невольно откликаются сердца, которого заглушить, подавить — ничем невозможно. И я верю, что дело, Вами начатое, уже никогда не умрет, что люди страдающие, ищущие, колеблющиеся постоянно будут приходить к выходу, который Вы нашли и указали9. Дай Бог Вам здоровья, дай Бог сил и всего, что нужно для Вашего дела!
Когда-нибудь да напишу же я об этом подробно для печати10. Теперь же я принужден раздумывать о Тимирязеве11. В Москве под дождем 620
я заехал-таки в контору «Русской мысли», но оказалось, что июньская книжка еще не выходила. Вчера я купил ее здесь и прочитал еще двадцать страниц брани на себя12. Но в конце стоит «окончание следует», так что в июле мне предстоит новое удовольствие!13 Эта часть еще хуже прежней: тут уж всё спутано до непонятности. В доказательство моего плутовства Тимирязев ссылается и на Соловьева14 — значит, выходка Соловьева пошла впрок, кому надо.
И как они не боятся так срамиться!
Непременно я Вам пришлю в Ясную свою статью15 для сравнения; достану у кого-нибудь.
Простите меня, бесценный Лев Николаевич. Софье Андреевне мое усердное почтение, и всем большой поклон и благодарность; все были так добры ко мне, что я искренно тронут и не знаю, чем это заслужил.
Ваш душевно любящий
Н. Страхов
1 Печатается по: РО
21 июня. ИРЛИ. Ф. 303.
Спб. Оп. 2. Ед. хр. 300.
Л.157-158.
Впервые: Совре-
Р. 5. Здоровье мое удивительно, особенно после простуды, которую менный мир. 1913. перенес ночью в вагоне, когда ехал сюда. Всё — как рукой сняло! № 12. С. 382-384.
1 Страхов намеревался посетить московский Публичный и Румянцевский музей (ныне РГБ). В Москве он останавливался на короткое время и по пути в Ясную Поляну — 30 мая (см. письмо А. А. Фету от 21 июня 1889 г. — Фет. Переписка II. С. 481).
2 Доклад о книге В. В. Розанова «О понимании» (1886), про которую, вероятно, упоминал в беседах с Толстым. Розанов вступил в переписку со Страховым в конце января 1888 г., а в марте, в ответ на вопрос Страхова об авторе этой книги, прислал ему экземпляр своего сочинения для ознакомления. Философский склад мысли, своеобразие интеллектуальных построений и незаурядная личность («множество ума и чувства») нового корреспондента заинтересовали Страхова, который тогда же начал по мере сил помогать ему публиковаться в столичной прессе. Обсуждению содержания книги уделено много места в их ранней переписке. Первоначально за написание раз621
бора книги Розанова брался философ Э. Л. Радлов, о чем Страхов уведомил автора еще в письме от 29 апреля 1888 г. (см.: Розанов В. В. Собр. соч. [Т. 13]: Литературные изгнанники. ... Переписка В. В. Розанова с Н. Н. Страховым. С. 13; ср. также: С. 177). Однако этот отзыв в печати не появился. С книгой Розанова Страхов продолжал знакомиться на протяжении года. «Книгу Вашу почитываю, и то очень любуюсь, то нахожу новаторство без соответствующей новизны» (письма от 29 апреля и 19 июня 1888 г. — Там же. С. 12, 15). Обнаружив в исследовании Розанова множество «бесподобных страниц», равно как и немало слабых мест, Страхов указывал автору, что главное, чем страдает его изложение, — это «неопределенность предмета и неопределенность метода» (письмо без даты, от весны 1889 г. — Там же. С. 37). На мысль, более подробно высказаться в письме по поводу прочитанного («...я ожидаю, что Вы при случае (...) напишете мне в письме Ваше мнение о книге, и особенно об ее основной мысли...» — письмо без даты, после 19 июня 1888 г. — Там же. С. 177), Страхов ответил развернутым изложением своих общих соображений (письмо от 9 ноября 1888 г. — Там же. С. 16-19). Побывав на рождественских каникулах в Петербурге и познакомившись лично со Страховым и его окружением, Розанов вернулся к месту службы в Ельце с намерением (вероятно, подсказанным и обсуждавшемся в Петербурге) представить книгу на рассмотрение Ученого комитета Министерства народного просвещения, положительный отзыв которого позволял рекомендовать ее для приобретения подведомственным библиотекам, что заметно подвинуло бы продажу тиража книги (600 экз.), остававшегося практически без движения («хоть в печь бросай». — Там же. С. 177). Соответствующее формальное обращение в Ученый комитет Розанов составил 10 января и отправил в Петербург на следующий день. Заботу о доставлении требуемых двух экземпляров книги взял на себя Страхов, который, вероятно, обязался подготовить к одному из заседаний Комитета и письменный отзыв на нее (см. письмо Розанова Страхову от 10 января 1889 г. — Там же. С. 190). См. примеч. 3.
3 Приняв в январе к исполнению поручение Ученого комитета дать подробный письменный отзыв о книге Розанова «О понимании», Страхов рассчитывал справиться со своим обязательством в ближайшее время. Однако, занятый подготовкой ответа на статью А. С. Фаминцына о книге Н. Я. Данилевского «Дарвинизм», он вынужден был отложить исполнение своего намерения. В апреле обеспокоенный Розанов с тревогой осведомился о причинах, по которым дело с представлением рецензии «так затянулось» (Там же. С. 202). Освободившийся к началу апреля от срочной журнальной работы Страхов заверял корреспондента: «Виноват я перед Вами, что Ваша книга, которую поручил мне разобрать Ученый комитет, до сих пор не разобрана. Да что мудреного. Разве это легкая задача. Но на этой неделе я примусь за нее и исполню свой долг, напишу доклад» (Там же. С. 38). Страхов предполагал представить отзыв 622
на ближайшее по времени майское заседание Комитета. Однако и это его намерение не осуществилось из-за стремления рассмотреть книгу как можно обстоятельнее. Ближе к концу мая Страхов известил автора: «Пишу к Вам только для того, чтобы покаяться и известить Вас, что я не сдержал своего обещания, не представил 22 мая доклада об Вашей книге и отложил его до 20 июня. Мне хотелось составить довольно подробный отзыв, и я почувствовал, что, если буду подгонять к заседанию, то успею написать только небольшую заметку» (письмо от 24 мая 1889 г. — Там же. С. 39). Вероятно, замедление в работе было отчасти вызвано и желанием Страхова дать возможно более аргументированное изложение своих доводов против подвергавшихся его критике положений труда Розанова. «Должен также сознаться, что заключение мое не будет особенно благоприятно; вероятно, мой разбор будет напечатан в ,,Журн[але] Министерства] Нар [одного] Просвещения]“, и тогда Вы увидите, почему я не мог дать иного отзыва, несмотря на всё мое расположение к Вам. Мне в некоторой степени больно критиковать Вас, но — magis arnica veritas [истина больший друг, лат.], и если я ошибаюсь, то против всякого своего желания, и даже с прямым желанием ошибиться скорее в Вашу пользу» (Там же). Страхов сдержал обещание и по возвращении из Ясной Поляны в два дня завершил написание отзыва. По итогам своего доклада и спустя несколько дней после заседания Ученого комитета Страхов извещал автора: «Простите меня: очень трудно мне писалось и весь разбор Вашей книги составит страниц 10-12, не больше. Когда я кончил чтение, то Комитет думал, что предложу рекомендовать Вашу книгу для приобретения в основные библиотеки, и все готовы были на это согласиться. Но я не решился на такое предложение, и потому постановили: просить редакцию ,,Ж[урнала] Министерства] Н[ародного] Просвещения]“ напечатать мой разбор, а голословной рекомендации не давать. Рекомендация ведь значит ручательство за выдающиеся достоинства книги. Ваша книга слишком своеобразна, чтобы можно было ее официально рекомендовать. Впрочем, Вы всё увидите из рецензии. (...) Да я и написал в рецензии, что Вы обнаружили ум и талант, но что Вы пошли по старым путям, только не столь последовательно, как другие, проложившие и разработавшие эти пути. Вы не повторяете именно потому, что не доводите Вашей мысли до конца, или не достаточно строго ее ставите» (письмо от 4 июля 1889 г. — Там же. С. 40. — Курсив Страхова. Ср. с его откликом на возражения Розанова в письме от 22 октября. — Там же. С. 44-45). Доклад был опубликован: Страхов Н. [Рец. на кн.:] В. Розанов. О понимании. М., 1886. —ЖМНП. Ч. 265.1889. Сентябрь. Библиогр. отд. С. 124-131; вошло в: Борьба с Западом IL С. 287-304. Корректуру своего разбора Страхов вычитывал в июле; отзыв был опубликован в сентябрьской (а не в августовской, как предполагалось) книжке журнала.
4 Во время (или вскоре после) пребывания в Ясной Поляне Страхов делал для себя краткие записи дневникового характера о событиях дня и темах бесед. Эти наброски 623
опубликованы см. примеч. 32 к п. 397). Толстой также последовательно отмечал в дневнике свои впечатления от общения с гостем, (см. записи за 30 мая - 14 июня: Юб. Т. 50. С. 88-96). В отличие от восторженных отзывов Страхова (см. п. 402), эти заметки Толстого имеют более сдержанную эмоциональную окраску.
5 О своей поездке в Ясную Поляну Страхов подробно рассказал в письме к А. А. Фету от 21 июня: «С большим насилием над собою я пустился в дорогу, чтобы увидеться с Львом Николаевичем; я его не видел без малого два года. Меня самого удивило равнодушие, с каким я взглянул на Москву и потом на все места Ясной Поляны, когда-то мне очень милые. „От себя никуда не уйдешь, — подумал я, — и значит, нужно сперва искать внутренней радости, а не гоняться за внешними впечатлениями“. А Ясная Поляна кипела жизнью (...) Л. Н. Толстой, на мой взгляд, очень хорош: бодр и переполнен мыслей. Я застал его больным, но уже на другой день он поправился. За сельские работы он не принимался, да верно уже и не будет приниматься, разве шутя, для отдыха. Так мы раза четыре ходили вырубать колья, т. е. вырубал-то Л. Н., а я оттаскивал прутья, или сидел на них, покуривая папироску и отмахиваясь от комаров. Сам Л. Н. не курит, не пьет вина, не ест мяса и ничего сладкого. (...) Теперь он весь в писании, именно отделывает свою „Сонату“, от которой я жду больших художественных чудес» (Фет. Переписка IL С. 480-481).
6 Слова о «центре духовной деятельности», применительно к Толстому, заимствованы Страховым из книги У. Стэда «The truth about Russia» (см. примеч.45 к п. 397). Это сравнение, приведенное в письме Страхова, очень понравилось С. А. Толстой, которая поместила цитату в своих автобиографических записках (см.: Толстая. Моя жизнь II. С. 92). Сам Страхов, говоря о напряженной духовной работе Толстого, предпочитал пользоваться другим определением. Возвращаясь в одном из писем к этому образному сравнению, А. А. Фет обратил на него внимание Страхова: «Помните ли Ваши слова о светляках русской мысли, разбросанных по нашим деревням? Вот они, эти светочи, в самом наивном проявлении, без всякого козыряния перед публикой» (письмо от 19 августа 1888 г. — Фет. Переписка II. С. 464). В свое время Страхов, под впечатлением личных встреч и заинтересованных бесед с Толстым и Фетом, писал последнему: «Подумаешь — какая славная работа идет и в Ясной Поляне и в Воробьевке, и (позвольте прибавить) у странствующего философа Страхова; но странно, что всё это делается, очевидно, вне литературы, чуть не вопреки литературе» (письмо от 28 июля 1887 г. — Там же. С. 438). «Говоря об уединенных светилах, — пояснял Страхов, — я вспомнил, как я в первый раз забрался к Вам в Степановку и застал Вас за чтением „Критики чист [ого] разума“. В Петербурге я не рискую застать за таким чтением ни единого из поэтов и романистов. Здесь меньше читают, чем на всех остальных точках России, если под чтением не разуметь газет и романов» (письмо Фету от 10 января 1889 г. — Там же. С. 448).
7 См. примеч. 19 к п. 397.
624
8 Своим впечатлением от общения с Толстым в Ясной Поляне в июне 1889 г. Страхов делился с В. В. Розановым: «...моя поездка была преблагополучная: насладился Толстым довольно, хоть и не досыта. Какой удивительный человек. Чем дальше, тем больше питаю к нему любви и уважения» (письмо от 4 июля 1889 г. — Розанов В. В. Собр. соч. [Т. 13]: Литературные изгнанники. ... Переписка В. В. Розанова с Н. Н. Страховым. С. 41).
9 Заключительную часть этого абзаца из письма Страхова сочувственно привела в своих воспоминаниях С. А. Толстая (см.: Толстая. Моя жизнь II. С. 92).
10 Такой ближайшей по времени работой Страхова стал очерк «Толки об Л. Н. Толстом. (Психологический этюд)» (ВФиП. 1891. № 9 (Сентябрь). С. 98-132; вошло — без подзаголовка — в: Страхов. Воспоминания и отрывки. С. 131-184), а затем «Ответ на письмо неизвестного» (Страхов. Воспоминания и отрывки. С. 185-197).
11 Плодом этих раздумий стала статья «Спор из-за книг Н. Я. Данилевского», опубликованная в декабрьском номере журнала «Русский вестник» (С. 186-203; вошло в: Страхов Н. Н. Борьба с Западом в нашей литературе. Книжка вторая. 2-е изд. С. 542- 567). Вскоре после выхода последней части возражений К. А. Тимирязева Страхов сообщил В. В. Розанову о своих планах в отношении оппонента: «В трех книгах „Русской Мысли“ (май - июль) явилась статья Тимирязева „Бессильная злоба антидарвиниста“, где он отвечает на мою статью „Всегдашняя ошибка“ и нападает на меня с ужасной яростию. (...) Придется отвечать,хотя коротенько. Думаю назвать статью — „О полемике из-за книг Н. Я. Данилевского“ и сделать обзор всего спора с Тимирязевым и с Соловьевым» (письмо от 3 августа 1889 г. — Розанов В. В. Собр. соч. [Т. 13]: Литературные изгнанники. ... Переписка В. В. Розанова с Н. Н. Страховым. С. 42). Над подготовкой ответа Страхов работал, вероятно, осенью; первоначально материал предназначался для ноябрьского номера журнала («...я уже уговорился с редактором „Р[усского] Вестника“, что к ноябрьской книжке приготовлю ответ Тимирязеву, листа в полтора» — письмо В. В. Розанову от 13 августа 1889 г. — Там же. С. 43), однако Страхов завершил свой труд только 9 ноября (авторская дата под статьей) и материал появился в декабре. См. примеч. 20 к п. 405.
12 Продолжение ответного выступления К. А. Тимирязева «Бессильная злоба антидарвиниста. (По поводу статьи г. Страхова: Всегдашняя ошибка дарвинистов)» (Русская мысль. 1889. Июнь (Кн. 6). С. 65-82), в котором ученый в резкой форме разбирал вторую часть материала Страхова. Рассуждения оппонента Тимирязев назвал «темным лабиринтом диалектических ухищрений и не относящихся к делу отступлений», утонувших в «расплывчатом многословии» (Там же. С. 65). Упрекнув Страхова в том, что при помощи разговора о «побочных обстоятельствах, он увильнул от сущности вопроса», Тимирязев высказал также претензии к общему способу ведения им полемики: «Рекомендую ценителям критического таланта г. Страхова (...) этот новый диалектический прием. Вот его рецепт: обрежь конец одной фразы; обруби начало 625
24 июля 1889 г. Санкт-Петербург
другой; выкинь, что тебе не нравится, в третьей и замести нелепостью; напиши эту нелепость курсивом... да не забудь сослаться на страницу. А затем посмеивайся втихомолку над доверчивым читателем» (С. 78,79).
13 Окончание статьи Тимирязева см.: Русская мысль. 1889. Июль (Кн. 7). Вторая пагинация. С. 58-78.
14 Во второй части своей полемической работы против Страхова Тимирязев ссылался на пример из статьи «О грехах и болезнях» Вл. Соловьева: «Он прибегает к приему, которым уже пользовался не раз и который, судя по тому, чтб я узнал из статьи г. В. Соловьева в Вестнике Европы, грозит у него войти в привычку. Он предъявляет читателю приведенную только что мою фразу, обрубив ее внезапно на запятой...» (Там же. С. 76; см. также: Соловьев Вл. С. Сочинения: в 2 т. М., 1989. Т 1. С. 526).
15 Вероятно, Страхов хотел послать Толстому для сравнения с обвинениями в его адрес статью «Всегдашняя ошибка дарвинистов». См. п. 403.
403 Страхов — Толстому
Думаю, бесценный Лев Николаевич, что Вы побранили-таки меня за мою неисправность. Но я всё помню и всё сделаю; только тут у меня так скоро стали проходить неделя за неделею — я точно сам собою качусь куда-то по привычной колее. Арнольда1 я Вам прислал не на время, а в подарок2; я выписал для Вас этот экземпляр из-за границы3. Подарок недорогой (меньше 4-х рублей) и не стоит благодарности, особенно потому, что один угол попорчен — в моих глазах это большой порок, за который очень прошу извинить меня. Другое обещание исполняю сегодня. После долгих поисков, у всех знакомых, пришлось отправить к Вам всю книжку, где первая часть «Всегдашней ошибки»4. Тимирязев сделал сравнение очень удобным: он на каждую мою главу отвечает главою под тем же заглавием. Если Вы всё еще этим интересуетесь, то сравните несколько глав; Вы увидите, какие жалкие усилия он делает и как он постоянно уходит в неопределенность. Со своей стороны, я усердно прошу Вас сделать это сравнение. Вы можете указать мне, где мои рас626
суждения всего слабее или всего хуже изложены, и где мой противник имеет самый победоносный вид5. Хуже всего у него то, что он не понимает моего ясного и точного изложения, ему всё кажется путаницею, и он думает, что я нарочно делаю эту путаницу6.
Что касается до искусства7, то справка не готова — я только заглянул кой-куда и наметил книги, которые нужно просмотреть. Думаю, что понятие об искусстве как об особой области явилось у греков, и что у Платона нужно искать рассуждений об таком уже установившемся понятии8.
Пересчитать сто лучших книг, — за эту задачу я тоже не принимался. Впрочем — дело не важное, и мой список Вам не особенно нужен9.
Но самое грустное то, что я не исполнил обещания, данного Софье Андреевне — не описал моего нынешнего посещения Ясной Поляны, т. е. еще не описал10. Между тем я беспрестанно переношусь туда мыслью и вспоминаю об Вас с умилением. Мне хотелось бы, Лев Николаевич, сколько-нибудь высказать Вам, как я люблю Вас. К Вам со всех сторон обращено столько любви, что не мудрено, если для меня у Вас недостает внимания. Между тем, мне кажется, я понимаю лучшее, что в Вас есть, Ваше несравненно-высокое нравственное стремление, Вашу неустанную борьбу, Ваше страдание. Несколько таких впечатлений из последнего свидания трогают и волнуют меня. То я вижу Вас в лесу с топором, когда минутами на Вас находил совершенный мир, полная, светлая душевная тишина, то слышу Ваш разговор, когда Вы назвали себя юродивым11, с волнением и страданием. Боже мой! иногда думаю я: неужели никто этого не поймет? Не удастся ли хоть мне написать об этом, хоть как-нибудь, хоть моим искусственным и отвлеченным языком? А кругом ведь то и дело слышатся об Вас глупые и пустые речи. Вы знаете, что у меня нет никакого простодушия, никакой способности создавать ореолы и ослепляться ими. Всё, что можно сказать против Вас, я знаю и хорошо вижу. Но всё это ничтожно в сравнении с тем, что говорит за Вас и чему я сочувствую всею душою, насколько только могу ценить
и понимать нравственную красоту. О, дай Вам Бог здоровья и сил для Вашего прекраснейшего и труднейшего подвига!12
Печатается по: РО ИРЛИ. Ф. 303. Оп. 2. Ед. хр. 300. Л. 159-160.
Впервые: Современный мир. 1913. № 12. С. 385-386.
Сам я физически очень поправился и чувствую бодрость и спокойствие, как редко со мною бывает. Статьи свои подвигаю вперед не торопясь13. На Афоне умер отец Макарий14, которого я видел, когда там был, и который полюбился мне чрезвычайно, больше всех других монахов. Мне хочется написать об нем, т. е. об нем страничку и несколько страниц об Афоне и всей поездке15.
Простите меня, Лев Николаевич. Софье Андреевне усердное почтение и всей Ясной Поляне самые душевные поклоны.
Ваш неизменный
Н. Страхов 1889.
24 июля.
Спб.
1 Сочинения немецкого лютеранского историка церкви, богослова и проповедника Готфрида Арнольда Страхов прислал Толстому по своей инициативе. Разговор о книге Арнольда состоялся уже на следующий день после приезда Страхова в Ясную Поляну и был отмечен Толстым в дневнике: «Страхов (...) говорил еще о Готлибе [так! — Со ст.] Арнольде. История ереси, в к[оторой] он истинную струю признает в ересях» (запись от 31 мая. — Юб. Т. 50. С. 89). Возможно, что интерес к историко-религиозным трудам Арнольда возник у Толстого ранее, в связи с беседой о его творчестве, состоявшейся у него дома в Хамовниках 12 апреля 1889 г. (Там же. С. 65). Навестивший в тот день Толстого И. М. Ивакин записал этот рассказ посетительницы: «...я читала Арнольда — у него есть такие выборки из Евангелия. Когда читаешь их, то впечатление получается чего-то действительно серьезного, глубокого... А ведь само Евангелие — книга, в которой и умное, и глупое, и смешное, и серьезное перемешано. Он (т. е. Арнольд) говорил, что он уверен, когда-нибуль явится человек, одаренный особенным insigt — как это по-русски? ясновидением? — который сумеет всё это отделить, так что составится одно целое, нераздельное» (АН. Т. 69, кн. 2. С. 103-104).
628
2 24 июля 1889 г. Толстой записал в Дневнике: «Получил от Страхова книги Арнольда 1720 года история церкви настоящая» (Юб. Т. 50. С. 111). Страхов прислал в подарок писателю книгу: Gottfried Arnolds Unpartheyische Kirchen- und KetzerHistorie, vom Anfang des Neuen Testaments bis auf das Jahr Christi 1688. [Bde. 1-2, lh. 1-4]. Frankfurt am Mayn, 1729 [Готфрида Арнольда Беспристрастная история церкви и ересей, от начала Нового Завета до 1688 г. после Рождества Христова. [Т. 1-2, ч. 1-4]. Франкфурт на Майне, 1729, нем.]. Экземпляр с многочисленными следами чтения Толстого сохранился в яснополянской библиотеке (Описание ЯПб. Т. 3, ч. 1. С. 54-55. № 107). В своем критическом исследовании (впервые напечатано в 1699- 1700 гг.) Г. Арнольд, как представитель мистико-спиритуалистического направления в протестантстве (пиэтизма), рассматривает генезис института христианской Церкви как историю ее уклонения от истинной веры и упадка, утверждает, что первоначально заповеданная Церкви правда Христова ею искажена, но сохранена среди тех, кого она преследует как еретиков.
3 Судя по штампу на форзаце, Страхов выписал книгу антикварного магазина в Лейпциге (Oswald Weigel Antiquariat & Auctions, Kônigstrasse 1 ).
4 Ноябрьский (1887 г.) выпуск журнала «Русский вестник» с первой частью статьи «Всегдашняя ошибка дарвинистов». Отдельный оттиск окончания этой работы Страхова имелся в яснополянской библиотеке (см. примеч. 4 к п. 383).
5 Одну из статей К. А. Тимирязева против антидарвинистских суждений Страхова Толстой читал еще 24 июня, о чем сделал для памяти запись в дневнике (см.: Юб. Т. 50. С. 99).
6 См. примеч. 12 и 14 к п. 402.
7 Страхов откликается на просьбу, высказанную Толстым еще в письме от 28 мая (п. 401). Толстой продолжал интенсивно обдумывать и делать записи своей статьи об искусстве (см. примеч. 1 к п. 401). По свидетельству С. А. Толстой, во время летнего пребывания Страхова в Ясной Поляне писатель познакомил гостя с черновыми набросками статьи и «очень считался с его мнением о ней» (Толстая. Моя жизнь II. С. 92). Согласно дневниковой записи Толстого, беседа со Страховым об искусстве состоялась 1 июня. Ср.: «Страхову рассказывал об искусстве. И вышло хорошо. Надо писать» (Юб. Т. 50. С. 89).
8 Примечательно, что в тот же день и Толстой записал в дневник суждение на эту тему: «Я пишу (...) „Об искусстве]“ (...) в древности у греков был один идеал красоты. Христианство же, выставив идеал добра, устранило, сдвинуло этот идеал и сделало из него условие добра. Истина? Я чувствую, что [в] сопоставлении, замене одного из этих идеалов другим вся история эстетики, но как это? не могу обдумать» (Там же. С. 111).
9 Имеется в виду перечень из «ста книг для чтения, „чтобы человек мог рассеять окружающий его мрак“»; составлялся «по английскому каталогу» Толстым при уча629
стии добровольных помощников (см. запись И. М. Ивакина от 16 марта 1889 г. — ЛН. Т. 69, кн. 2. С. 100-101). По утверждению комментаторов «Записок» Ивакина, список готовился по просьбе издателя В. Н. Маракуева — возможно, и для использования книгоиздательством «Посредник», в деятельности которого Маракуев принимал участие. См. об этом также помету Толстого от 16 марта в его дневнике (Юб. Т. 50. С. 53). Обращение Толстого к Страхову вызвано, вероятно, желанием иметь для сравнения другой, альтернативный перечень, подготовленный авторитетным специалистом.
10 Страхов не раз заявлял о намерении описать свои впечатления о поездках в Ясную Поляну и об укладе жизни в толстовском имении, но так и не осуществил это намерение.
11 О юродивости Толстой писал Страхову в 1877 г.: «Если бы я был один, я бы не был монахом, я бы был юродивым — т. е. не дорожил бы ничем в жизни и не делал бы никому вреда» (см. п. 169; Юб. Т. 62. С. 347).
12 Письмо Страхова дошло до Толстого только 1 августа. Имея в виду этот абзац из его обращения, Толстой сделал в тот же день в дневнике такую запись: «Получил письмо от Стр [ахова] с тонкой лестью. А у Будды недаром сказано — 10 грехов — 3 телесных, 4 словесных и 3 умственных. (...) 4 словесных: двуязычие, equivocation [двусмысленность, фр.], клевета, ложь и лесть...» (Там же. Т. 50. С. 117).
13 Имеются в виду статьи — «о познании» (или «О времени, числе и пространстве»; ср. запись от 14 июня 1889 г. в дневнике Толстого: «Страхов говорил о плане своего сочинения о пределах познания» — Там же. С. 95) и ответ на возражения К. А. Тимирязева и Вл. С. Соловьева «Спор из-за книг Н. Я. Данилевского». Возможно, тогда же Страхов начал трудиться и над статьей «Поминки по Аполлоне Александровиче Григорьеве», завершение работы над которой помечено «25 сентября 1889 г.» (НВ. 1889. 25 сент. № 4876; вошло в: Страхов. Воспоминания и отрывки. С. 247-255).
14 Архим. Макарий (Сушкин) преставился на Афоне 19 июля 1889 г. Это был первый русский настоятель Пантелеймоновского монастыря, избранный в 1875 г. после многолетнего духовного управления обителью греками. Некролог «Макарий Афонский см.: РА. 1889. Кн. 2, вып. 8. С. 569-576. Подпись: П. М.
15 Речь идет о путешествии на Святую Гору в августе—сентябре 1881 г., которое Страхов описал в эссе «Воспоминание о поездке на Афон (1881 г.)» (РВ. 1889. Октябрь. С. 120-144; вошло в: Страхов. Воспоминания и отрывки. С. 1-47). Страхов работал над мемуарным очерком в августе («Теперь я пишу маленькую статью „Воспоминание об Афоне и об о. Макарии“» — письмо В. В. Розанову от 13 августа 1889 г. — Розанов В. В. Собр. соч. [Т. 13]: Литературные изгнанники. ... Переписка В. В. Розанова с Н. Н. Страховым. С. 43) и закончил его 9 сентября 1889 г.
630
404 Толстой — Страхову
Очень, очень вам благодарен, дорогой Николай Николаевич, за Арнольда. Сколько я мог понять, пролистовав, понюхав его, эта книга очень хорошая и мне нужная. Но дал топор, дай и топорище — не будет ли ваша милость при случае сделать и сообщить мне справку о нем — кто он, где, когда был и как о нем судят ученые? Самую коротенькую. За обещание справки об искусстве (о понятии его) очень благодарю. Если случится, то сделайте, а нарочно не трудитесь. В Платоне я посмотрю сам: у меня есть1. Последнюю статью Тимирязева прочел1 2. Очень дурно, нравственно дурно, а потому наверно и всячески дурно. Непременно сличу, п[отому] ч[то] всё это дело — двояко: и в частном (о вас), и в общем интересует меня3. — И еще просьба. Жена три письма писала Сереже и, не получая ответа, беспокоится4. Родных никого в П[етер]б[ур] ге нет. Будьте так добры, сделайте это для нас, напишите ему или зайдите и известите нас, а его распеките, т[ак] к[ак] по всей вероятности — от беспечности. Я живу очень радостно; много Бог дает радости [ого] со всех сторон; да и научаешься понемногу смотреть, по совету Эпиктета, на вещи так, чтобы всё обращалось в радость. — Макарий — это Сушкин?5 — Ну, пока прощайте.
Любящий вас
Л. Толстой
б августа 1889 г. Ясная Поляна
Печатается по: ОР ГМТ.Ф. 1.№5465. Л. 1-1 об. Нал. 1 помета Страхова: «6 августа] 1889». Впервые: Современный мир. 1913. № 12. С. 386-387. В/Об.: Т. 64. С. 292-293. Датируется по помете Страхова и записи Толстого в дневнике (/Об. Т. 50. С. 120). Ответ на п. 403.
1 Толстой располагал двумя изданиями сочинений Платона — на французском и древнегреческом языках; оба издания имеют следы чтения владельца ( Описание ЯПб. Т. 3, ч. 2. С. 193-196. № 2588,2589). Согласно дневниковой записи, Толстой обратился к сочинениям Платона 9 августа. Ср.: «Читал Платона об искусстве и думал об искусстве]» (Юб. Т. 50. С. 121).
2 Речь идет о статье К. А. Тимирязева «Бессильная злоба антидарвиниста» (см.
примеч. 27 к п. 397 и примеч. 12,13 к п. 402).
631
3 Вместе с тем, свое отношение к полемике Страхова с учеными-дарвинистами — К. А. Тимирязевым и А. С. Фаминцыным, Толстой кратко сформулировал и записал в дневник еще во время летнего пребывания Страхова в Ясной Поляне: «С матерьялистами и совсем заблуждающимися] не надо тратить времени на спор. Надо, указав им их ошибку, идти вперед, пускай остаются позади. Так же как с людьми, спорящими о дороге. Надо указать им настоящую и идти по ней, предоставив им исправить свою ошибку или оставаться назади» (запись от 2 июня. — Юб. Т. 50. С. 90). Позднее А. Б. Гольденвейзер записал в дневнике близкое по смыслу высказывание Толстого об этой дискуссии: «Потом Лев Николаевич сказал: — „Я помню, Страхов, которого я очень любил, и Данилевский спорили о дарвинизме, и я, хотя и тогда не мог понять важности этого, все-таки, из уважения к ним, смотрел на эти вопросы как на серьезное дело. Теперь же я вижу, что это совершенно праздное времяпрепровождение. Когда на деревне в бабки играют, то это важнее, чем все эти происхождения видов и т. д. Разумеется, справедливо, что из всей этой массы научного материала, спектральных анализов и т. д. можно извлечь, может быть, и кое-что важное; но жизнь человека коротка, и силы его ограничены, и с ними надо обращаться экономнее"» (Гольденвейзер А. Б. Вблизи Толстого. [М.], 1959. С. 151).
4 Старший сын Толстых Сергей Львович служил с осени 1888 г. делопроизводителем Центрального правления Крестьянского поземельного банка в Петербурге и жил в то время у Кузминских, которые проводили лето в Ясной Поляне (см.: Толстая. Моя жизнь II. С. 60). От родителей С. Л. Толстой вернулся в Петербург во второй половине июля.
5 См. п. 405.
405
13 августа 1889 г Санкт-Петербург
Страхов — Толстому
Готфрид Арнольд родился в Саксонии в 1666 году и умер в 1714. Он был лютеранин, стал пиетистом1 под влиянием Спенера2, которого был учеником и другом, и пиетистом умер. Но в самый расцвет жизни (около 1700) он много лет был сепаратистом, христианином без Церкви и вдавался в сильный мистицизм. Тогда он бросил место профессора истории Гиссенского университета3 и написал разные мистические книги, а также свою Kirchenhistorie4. В одной из мистических книг он проповедовал 632
безбрачие как высшую степень совершенства5, а потом вдруг сам женился6. Приятель его мистик Гихтель7 очень огорчался, особенно, когда пошли дети. «Он впал в детей!» — писал Гихтель8. Вообще, постоянства было немного у Арнольда9, но рвение необыкновенное. Писаниям его нет конца10. Он перевел на немецкий множество назидательных книг, Фому Кемпийского11, Макария Египетского12 и т. д.
Kirchenhistorie наделала страшного шуму, и лет сорок продолжались опровержения и споры13. Это история Церкви, рассказанная с точки зрения сепаратиста и мистика. Арнольд везде берет сторону сектантов и еретиков против господствующей Церкви, и против католической и против протестантской. Поэтому он очень пристрастен, вопреки заглавию своей книги, но совершенно добросовестен и одушевлен наилучшим духом. Немцы очень любили эту книгу, и она считается произведшею переворот в понимании церковной истории. Знаменитый Томазий14 (1655-1728), тот самый, который добился уничтожения процессов против ведьм15, говорил, что история Арнольда «лучшая книга после Библии». Ученые теперь считают ее очень недостаточною как историю, но до сих пор ценят потому, что в ней приведено много первоисточников, целиком помещены разные писания сектантов и мистиков. Поэтому до сих пор историки ссылаются на нее.
Гёте говорит об ней в конце 8-й книги «Dichtung u[nd] Wahrheit»16. Он тут излагает религиозные понятия, которые составил себе в молодости, и говорит, что при этом был под сильным влиянием Арнольда. Он называет его историком, исполненным благочестия и чувства.
А впрочем, две страницы, на которых изложена тогдашняя теософия Гёте, довольно смутны и безжизненны.
Словом Благочестивый я перевожу fromm17, но это дурной перевод; мне не нравится русское слово, тогда как немецкое кажется мне удивительным, выражающим чистейшую религиозность.
Вот справка об Арнольде, бесценный Лев Николаевич. Что касается до Сережи, то я надеюсь, Вы уже дни два или три тому назад получили от 633
него письмо. Он был у меня по предписанию начальства, потому что граф А. А. Голенищев-Кутузов18, к которому я обратился, в этот самый день неожиданно был сделан его начальником. Разумеется, всё это шутка; Вы угадали, что он не писал по беспечности. Но, кроме того, он действительно много работает на своей службе; приятно видеть, что от этого он стал оживленнее, чуточку похудел и не имеет и тени увальня. Правда, он получил вид светского столичного молодого человека, но в сущности остался, конечно, тем же Сережей. Голенищев-Кутузов, по-моему, есть настоящее сокровище — умный, добрый, скромный, истинный аристократ по простоте и изяществу, хотя фигура его простонародно-грубоватая. В Петербурге я никого так не люблю, как его. Он женат, имеет дочь лет десяти, пишет хорошие стихи, любит деревню, но не имеет состояния и потому служит в Банке...19
Благодарю Вас за Ваш отзыв об Тимирязеве; Вы меня ободряете20. Его статьи не дают мне покоя, я всё обдумываю на них возражение и хочу сделать жестокое, то есть ясно выставить его глупость, хотя без резких слов21. Ну где у таких людей наука, интерес к делу? Будь этот интерес — и никогда не вышло бы нравственно дурно, как Вы пишете. Мне досадно, что спор, по вине Вл. Соловьева и Тимирязева, идет так нелепо; я это и выскажу и докажу22.
О. Макарий — Сушкин, и я об нем теперь пишу, ужасаясь только тому, что не могу расписаться и что у меня выйдет, должно быть, очень слабо. Статья будет маленькая, и мне хочется только высказать одну мысль, о той радости, которую можно найти в монашестве и которая так и светилась в о. Макарии23.
Погода у нас скверная; уже лето наше кончилось, всё дожди и ветры, и тепла уже мало. Я простудился, и бронхит, вероятно, с неделю продержит меня в комнатах24. Но в таких случаях я чувствую себя как-то нормальнее; а то я всё пытаюсь нарушить свое одиночество и только живее его чувствую25.
634
Дай Бог Вам всего хорошего. Душевно благодарю Вас за письмо — для меня это такая радость! Как идет Ваше писание?26 Прошу Вас сравнить хоть две-три моих главы (начиная с третьей) с тимирязевскими. Простите меня! Графине мое усердное почтение, а также Татьяне Андреевне и Александру Михайловичу27 и всем, кто меня помнит.
Ваш Н. Страхов 1889.
13 авг[уста].
Спб.
О книжках Киркегора я справлялся в книжной лавке — ничего не знают. Не нашла ли их Татьяна Львовна28? Тогда можно узнать, где их купить.
Печатается по: РО ИРЛИ. Ф. 303. Оп. 2. Ед. хр. 300. Л. 161-162.
Впервые: Современный мир. 1913. № 12. С. 387-390. Ответ на п. 404.
1 Сторонник пиетизма — мистического направления в лютеранстве, последователи которого, в отличие от рационалистической трактовки лютеранства, придавали особое значение личному благочестию и религиозному чувству.
2 Филипп Якоб Шпенер (Spener) — лютеранский богослов, церковный деятель и проповедник XVII в., один из основателей реформистского движения в протестантстве — пиетизма; автор программного трактата: Pia desideria: Oder Herzliches Verlangen nach gottgefälliger Besserung der wahren evangelischen Kirchen (Franckfurt am Mayn, 1675; с датой на титульном листе: 1676; — «Жертва угодная, или Сердечное устремление к богоугодному улучшению истинной Евангельской церкви», нем.). С 1688 г. и до кончины Шпенера в 1705 г. Г. Арнольд состоял с ним в переписке.
3 По приглашению ландграфа Эрнста Людвига Гессен-Дармштадтского Арнольд перебрался летом 1697 г. в г. Гиссена (Giessen), где занял кафедру профессора истории в местном университете. Однако пребывание Арнольда в Гиссене оказалось кратковременным — уже после первого семестра (вступительная лекция состоялась 2 сентября) он отказался от преподавания и покинул город в конце марта 1698 г.
4 История церкви (нем.). — Из Гиссена Арнольд вернулся в Кведлинбург (Quedlinburg, Саксония), здесь он и создал в 1699 г. свой главный труд «Unpartheyische Kirchen- und Ketzer-Historie...».
5 Об этом говорится в книге: Das Geheimniss der Göttlichen Sophia oder Weisheit, beschrieben und besungen von Gottfried Arnold (Leipzig, 1700. — «Тайна Божественной Софии или Премудрости, описана и воспета Готфридом Арнольдом», нем.).
635
6 На Анне Марии Шпрёгель (Sprögel) 5 сентября 1701 г.
7 Немецкий мистик и спиритуалист Йоханн Георг Гихтель (Gichtei), последователь Якоба Бёме и издатель его сочинений (1682 г.). Проповедовал «личное» христианство и обретение «царства Божия» в душе верующего, отвергал Церковь как посреднический институт между верующим и Богом. Отрицал «земную любовь» и брак как форму сосуществования полов, настаивал на полном воздержании от половых отношений, утверждая, что единственной «невестой» истинного христианина может быть только «небесная София». Г. Арнольд состоял с ним в многолетней переписке; его духовные «теософические» послания (в форме писем) он издал сначала в двух ( 1703 г.), затем (в 1710 г.) в пяти частях.
8 Гихтель полагал, что, несмотря на заключенный брак, Арнольд станет воздерживаться от плотских отношений с женой и их совместная жизнь будет подобна братскосестринскому духовному союзу. После того, как в 1704 г. у супругов появилась дочь София Готфреда, Гихтель порвал отношения с Арнольдом.
9 Помимо вступления в отвергавшийся им прежде физический брачный союз, Арнольд принял в январе 1702 г. официальный духовный сан и занял должность священника в замке Альштедт.
10 Только печатных трудов Арнольда извсно 25 изданий; почти все они появились еще при его жизни.
11 Фома Кемпийский (Thomas von Kempen или Thomas Hemerken), немецкий католический монах, теолог XV в., предполагаемый автор известного трактата «Подражание Христу». Арнольд переводил латинские тексты Фомы Кемпийского.
12 Преподобный Макарий Египетский, христианский подвижник IV в., отец Церкви, богослов. Арнольд впервые перевел на немецкий язык и опубликовал 50 гомилий (духовных бесед) мистико-аскетического содержания, приписываемых творчеству этого пустынника.
13 «Историю» Арнольда не приняли не только представители церковной ортодоксии, но и духовно близкий ему Филипп Якоб Шпенер. Вместе с тем, его труд признается исследователями как важный вклад в становление научного осмысления церковной истории.
14 Немецкий философ и юрист Христиан Томазий (Ihomasius), современник Арнольда, один из основателей просветительского движения в Германии, назвал книгу Арнольда «самой лучшей и самой полезной после Священного Писания».
15 На территории будущей имперской Германии отмена «процессов против ведьм» происходила разновременно. В Бранденбурге последний такой смертный приговор был вынесен в феврале 1701 г. Во владениях прусского короля преследования были фактически прекращены в 1708-1714 гг.
16 В главе 8 автобиографической книги «Из моей жизни. Поэзия и правда» (1811-1833) Гёте пишет о Г. Арнольде: «Большое влияние на меня оказала случайно
попавшая мне в руки замечательная книга, а именно — „История церкви и ересей“ Арнольда. Автор ее был не только вдумчивым историком, но и благочестивым, тонко чувствующим человеком. Его убеждения во многом совпадали с моими...» (Гете И. В. Собр. соч.: в 10 т. М., 1976. Т. 3. С. 295).
17 Страхов имеет в виду свой перевод слова fromm (набожный, благочестивый; благонамеренный; кроткий, нем.) в приведенной цитате из Гёте.
18 Известный поэт и близкий знакомый Страхова Арсений Аркадьевич Голенищев-Кутузов с 1889 по 1895 г. служил управляющим государственными Дворянским земельным и Крестьянским поземельным банками.
19 Голенищев-Кутузов был с 1876 г. женат на О. А. Гулевич, их дочь Татьяна родилась в 1879 г. Долгое время проживал в родовом имении Шубине Тверской губернии. Службу о финансовому ведомству начал в 1888 г. с должности товарища управляющего Дворянским банком.
20 Страхов был тронут благоприятным для него отзывом Толстого и в другом, написанном в тот же день письме, сообщил его В. В. Розанову. Несмотря на уверенность в своей критической правоте, Страхов проявлял самый живой интерес к откликам на статью современников, чье мнение он не обходил вниманием. Кроме Толстого, с запросом о впечатлении, произведенном его статьей, он обращался к тому же Розанову и А. А. Фету (см.: Розанов В. В. Собр. соч. [Т. 13]: Литературные изгнанники. ... Переписка В. В. Розанова с Н. Н. Страховым. С. 43; Фет. Переписка II. С. 484).
21 О намерении отвечать на статью К. А. Тимирязева «Бессильная злоба антидарвиниста» Страхов известил В. В. Розанова еще 3 августа (см. примеч. 11 к п. 402). Через день он делился своим впечатлением от выступления Тимирязева в печати с А. А. Фетом: «Наконец Тимирязев кончил свою статью против меня. Три месяца он ратовал против меня в „Русской мысли" с ужасной яростию. Впрочем, он пишет в последней книжке, что моя статья „Ошибка дарвинистов“ „переполнена потоками брани и оскорблений“. Как Вам это покажется? / Работаю я плохо, но все-таки работаю понемножку...» (Фет. Переписка II. С. 484). Однако сразу приняться за написание своих возражений Страхову не удалось: в августе и начале сентября он работал над мемуарным очерком о поездке 1881 г. на Святую Гору («...у меня теперь на плечах статья, которую нужно изготовить к сроку, „Воспоминание об Афоне“, и я так в нее закопался...» — письмо Фету от 5 сентября 1889 г. — Там же. С. 485), затем над «поминальным» эссе об Ап. Григорьеве к 25-летней годовщине его кончины («К 25 сентября придется мне написать несколько слов об Аполлоне Григорьеве» — Там же). Страхов завершил труд по подготовке ответа на критику Тимирязева 9 ноября.
22 В статье «Спор из-за книг Н. Я. Данилевского» (РВ. 1889. Декабрь).
23 Страхов завершил работу над воспоминаниями о поездке на Афон 9 сентября. Материал был опубликован в октябрьской книжке журнала «Русский вестник» (С. 120-144). О старце архим. Макарии (Сушкине) он писал : «Мне досталось сча637
стие видеть о. Макария и разговаривать с ним; из всех, кого я видел на Афоне, он был для меня самым чистым и несравненным по красоте воплощением того духа, которым живет вся Афонская гора» (цит. по: Страхов. Воспоминания и отрывки. С. 1-2).
24 Недомогание Страхова затянулось почти на месяц; в письме А. А. Фету от 5 сентября он замечал, что к его срочным работам «присоединился еще бронхит (...) очень неприятная болезнь, заставлявшая меня бросать перо и кое-как пробавляться чтением...» (Фет. Переписка II. С. 485).
25 Несмотря на относительно широкий круг общения, занятость текущими служебными делами и воплощением творческих замыслов, Страхов был периодически подвержен приступам меланхолии и угнетавшего его чувства одиночества. Сетованиями на неустроенное существование наполнены его письма к А. А. Фету. Ср.: «“Пропаду от тоски я и лени! / Одинокая жизнь не мила; / Сердце ноет, слабеют колени...“ — Это Вы именно про меня написали (...) Стахеевы уже уехали, я один-одинехонек со своими книгами — но книги не помогают, когда голова тяжела и ни читать ни писать нет охоты. — Итак, пожалейте меня...» (письмо от 13 апреля 1889 г.). «Пишу Вам, дорогой Афанасий Афанасьевич, опять среди своих книг (...) не сетуйте на меня за мое домоседство. Сладкого для меня в нем мало» (письмо от 21 июня). «Раскисание, в котором Вы меня вините (...) действительно есть порок, которому я подвержен; но поэтому-то я и предпочел сидеть дома, а не раскисать на глазах у Вас. (...) куда я ни погляжу, нигде нет никакой литературной семьи — всё разбилось и все больше разбивается. Нет ни одного журнала, в котором хотелось бы участвовать. (...) И торчу я одинокий среди своих книг и пишу, ожидая молчаливого сочувствия таинственных читателей, о которых догадываюсь только потому, что они покупают мои книги» (письмо от 13 июля). «Здесь у нас стоит недурная погода, и я, как молодой человек, иногда мыкаюсь по дачам, а потом, как старый человек, чувствую недомоганье во всем теле и должен два-три дни отдыхать. Вечера отвратительны и сыростью и белесоватостью, холодным свинцово-голубоватым сумраком» (письмо от 5 августа 1889 г.; все цит. по: Фет. Переписка II. С. 478,480-481,483,484. — Курсив Страхова).
26 Толстой работал над «Крейцеровой сонатой» и над статьей «об искусстве».
27 Т. А. и А. М. Кузминским.
28 Неизвестно, о поиске каких книг С. Кьеркегора идет речь. В яснополянской библиотеке сочинения датского философа представлены в трех изданиях, два из которых — во французском переводе (1886 г.) и на датском языке (1865) — могли находиться в составе книжного собрания Толстых на момент написания письма Страхова. См.: Описание ЯПб. Т. 3, ч. 1. С. 570. № 1770,1771. См. п. 406 и примеч. 3 к нему.
638
406
Страхов — Толстому 31 августа
1889 г.
Меня понуждают, бесценный Лев Николаевич, обратиться к Вам СбНКТ-Петербург с просьбою. «Русский вестник» был бы очень счастлив, если бы мог напечатать Вашу повесть1, о которой уже здесь пронеслись слухи. Условия будут зависеть от Вас. Могу вполне ручаться, что условия будут в точности исполнены.
Прошу Вас простить меня, если понапрасну беспокою Вас. Мне нельзя было отказаться, и я совершенно не знаю, как Вы думаете распорядиться с Вашим новым произведением.
Дай Бог Вам благополучно его кончить2; жду его с величайшим нетерпением.
Покорно Вас благодарю3 за Киркегора; так это оттиски статей, которые я уже видел4. Прочту их всласть и постараюсь достать немецкий полный перевод — почему-то много жду от этого писателя.
Самому мне всё еще нездоровится, и я едва начал выходить5. — Но сидя дома я написал свое «Воспоминание об Афоне»6, которое, в сущности, есть маленькая защита монашеской жизни7.
Боже мой! Уже началась осень, короткие, пасмурные, холодные дни! Не могу я привыкнуть к Петербургу, и это лето вполне убедило меня, что в этом климате самые красные дни для меня мучительно неприятны8.
На досуге я прочитал «La terre», «Nana»9. Предметы очень серьозные; но как наляпано и сколько фантастических преувеличений и сочиненных эффектов! Что же до «Nana», то, очевидно, автор не в силах положить разницу между публичной женщиной и честной. Публичная отличается только тем, что имеет способность возбуждать к себе неистовые, безумные пассии. — Нет, это не так!
Еще раз — простите меня. Софье Андреевне мое усердное почтение и Татьяне Андреевне10. Великая благодарность Татьяне Львовне
639
Печатается по: РО ИРЛИ. Ф. 303. Оп. 2. Ед. хр. 300. Л. 163-164. Впервые: Современный мир. 1913. № 12. С. 390.
за ее хлопоты и письмо11. Александр Михайлович, конечно, уже здесь теперь12.
Ваш душевно и неизменно преданный
Н. Страхов
1889.
31 авг[уста].
Спб.
1 Речь идет о повести Толстого «Крейцерова соната». В тот же день, 31 августа, писатель отметил в дневнике, что намерен печатать свое произведение в «Неделе» П. А. Гайдебурова (Юб. Т. 50. С. 130; ср.: Т. 86. С. 257,- см. п. 407 и примеч. 3 к нему). Толстой не исключал возможности предоставить рукопись сочинения в распоряжение редактора «Русского богатства» А. Е. Оболенского, обратившегося летом 1889 г. за поддержкой материалом ввиду угрожающего финансового положения журнала. Однако издание Оболенского выходило на условиях предварительной цензуры, и Толстой не решился помещать в нем свое произведение. Не появилась повесть и в издании Гайдебурова, поскольку к концу года Толстой, по просьбе жены, изменил свое намерение и предназначал ее теперь для готовившегося сборника «В память С. А. Юрьева», как книги с небольшим тиражом, доход от продажи которого поступал в пользу семьи покойного, чему весьма сочувствовал и сам писатель (запись в дневнике от 5 декабря 1889 г. — Там же. Т. 50. С. 189). Между тем, о содержании произведения стало известно высшему цензурному ведомству в Петербурге, и до сведения заинтересованных издателей было официально и частным образом доведено, что публикация «Крейцеровой сонаты» не может состояться ни в каком виде. Подробнее о печатной истории повести см.: Там же. Т. 27. С. 590-598.
2 Работа над отделкой повести «Крейцерова соната» продолжалась до начала декабря 1889 г. (Там же. С. 585).
3 Письмо Толстого с сообщением о найденных и посылаемых Страхову журнальных оттисках с произведением Кьеркегора (см. примеч. 4 и 11) неизвестно. Однако в дневнике Толстой отметил записью от 26 августа, что в этот день написал письмо Страхову.
4 Имеются в виду оттиски первой в России публикации трудов С. Кьеркегора на русском языке, состоявшейся в 1885 г. в новом журнале «Северный вестник». Переводчик П. Г. Ганзен представил русской читающей публике фрагмент (вторую часть) новаторской «экзистенциалистской» книги Кьеркегора «Или — или» (1843 г.; раннее название произведения в русском переводе: «Одно из двух»). Стремясь заручить640
ся поддержкой Толстого в пробуждении интереса к творческому наследию датского философа в России и в распространении его произведений, Ганзен подарил писателю оттиски журнальной публикации (авторская надпись Толстому от 10 января 1886 г. на первом оттиске). Оттиски сохранились в составе книжного фонда яснополянской библиотеки; на двух из них устанавливаются следы чтения Толстого. См.: Киркегор С. Эстетические и этические начала в развитии личности. (Письмо семьянина к эстетику из сочинения „Одно из двух“, изд. под псевд. Виктора Эремита, в Копенгагене, 1843 г. Пер. с датск.). (С предисл. переводчика П. Ганзена). — Северный вестник. 1885. № 1. Отд. 2. С. 105-134; № 3. Отд. 2. С. 52-93; № 4. Отд. 2. С. 20-57 (Описание ЯПб. Т. 1, ч. 1. С. 352-353. № 1458). Отзыв Страхова о знакомстве с произведением Кьеркегора см. в п. 414.
5 См. примеч. 24 к п. 405.
6 См. примеч. 23 к п. 405.
7 Страхов показал монашескую жизнь Афона с положительной стороны: «Светлою, радостною красотою осталась в моей памяти Святая гора. Но и обитатели ее, как ни мало я успел с ними познакомиться, оставили во мне впечатление людей светлых и радостных» (цит. по: Страхов. Воспоминания и отрывки. С. 26-27). См. также примеч. 7 к п. 296 и примеч. 7 к п. 326.
8 Страхов, проведя в столице 50 лет жизни, как южанин, так и не смог привыкнуть к петербургскому климату, тяготившему его сыростью, малым количеством солнечных дней и скудным рассеянным светом.
9 Произведения Э. Золя «Нана» (1880), «Земля» (1887) — девятый и пятнадцатый романы литературного цикла «Ругон-Маккары» (1871-1893 гг.). Своим впечатлением от прочитанного Страхов поделился с А. А. Фетом в письме от 5 сентября; найдя знакомство с произведениями французского писателя занятием «поистине утомительным», он критически высказался по поводу художественно-изобразительных приемов романиста: «... так он дурно пишет, беспрестанно обрывая рассказ и пускаясь в описания, будто бы реальные, а в сущности фантастически размазанные и преувеличенные. Но предметы он берет серьезные и изучает их очень умно и очень подробно» (Фет. Переписка II. С. 485). Толстой не поддержал предложенную Страховым тему и в последующих письмах о творчестве Золя не высказывался. Согласно записи в дневнике В. Ф. Лазурского от 2 июля 1894 г., Толстой в одной из бесед со Страховым признавался, что «перечитал почти все» романы писателя (ЛН. Т. 37-38. С. 458).
10 ТА. Кузминская.
НТ. Л. Толстая сообщала Страхову 29 августа 1889 г., что отыскала сочинения Кьеркегора и посылает ему (ОР ГМТ, ТС ПСП II. С. 803).
12 А. М. Кузминский находился в это время в Ясной Поляне (см. запись в дневнике Толстого от 2 сентября 1889 г. — Юб. Т. 50. С. 133).
641
12 сентября 1889 г. Ясная Поляна
Печатается по: ОР ГМТ. Ф. 1 .№ 5466.
Л. 1,2. Нал. 1 помета Страхова:
«12 сентября] 1889». Впервые: Современный мир. 1913.
№12. С. 391.
В/Об.: Т. 64.
С. 303-304.
Датируется по помете Страхова.
Ср. с записью Толстого в дневнике (/Об. Т. 50.
С. 142). Ответ на п. 406.
407 Толстой — Страхову
Дорогой Николай Николаевич!
Свое писанье, к[оторое] я почти кончил, я с Тат[ьяной] Андреевной]1 посылаю в П[етер]б[ург] для напечатания у Гайдебурова2. Я выбрал Гайд[ебурова] п[отому], ч[то] его издание бесцензурно и не враждебно христианству3. Условия мои одни — то, чтобы не б[ыло] условий и чтобы тут же заявить, что это сочинение не составляет ничьей собственности, и я прошу всех перепечатывать и переводить его. —
Говорят, что оно опять нецензурно, принимая во внимание нашу теперешнюю. Вообще вы поможете, я надеюсь и прошу вас, в этом деле, в печатании, в исключении, изменении чего нужно. Посылаю вам присланную мне моими корреспондентами по общ[еству] трезвости4 Бунге брошюру5. Мне она очень понравилась, б[ыла] интересна, и показалось, что вам она также будет приятна, потому посылаю вам. Понравилось мне особенно то, что, по его мнению, совершенно обратно тому, что проповедуется всеми, всякий шаг физиологии вперед всё больше и больше рассеивает заблуждение об механическом объяснении всех явлений мира.
Ну, пока до свиданья, на том или этом свете6. У нас всё хорошо, несмотря на то, что дети осенью хворают7. Обещание вам проследить, сличая вашу статью и Тимирязева], еще не исполнил, но намерен. В каком положении ваше это дело? Да и все ваши писательские дела?
Любящий вас
Л. Толстой
1 Речь идет о повести «Крейцерова соната». Толстой продолжил работу над ней и отправил в Петербург (еще не вполне отделанный вариант) позднее — 20 октября, с гостившей в Ясной Поляне дочерью Кузминских Марией Александровной, которая «ее выпросила у Льва Николаевича (...) чтоб дать прочесть своим родителям» (Толстая. Моя жизнь II. С. 103; Юб. Т. 27. С. 588). См. п. 409.
642
2 Павел Александрович Гайдебуров, с 1876 г. редактор-издатель еженедельной газеты «Неделя». С 1878 г. в качестве приложения к газете выпускался бесцензурный ежемесячник «Журнал романов и повестей» (с 1884 г. — «Книжки „Недели“»). См. примеч. 1 к п. 406.
3 Издание Гайдебурова примыкало к либерально-народническому направлению русской общественной мысли.
4 Толстой принимал деятельное участие в общественном начинании, связанном с борьбою против злоупотребления народной массы алкогольными напитками, являлся одним из организаторов общества трезвости «Согласие против пьянства». Желавшие присоединиться к воздерживающимся приглашались подписать специальный «листок»-обязательство не употреблять вина и не угощать алкоголем других. По данным Толстого, в обществе, по состоянию на март 1889 г., насчитывалось до 1200 членов (Юб. Т. 64. С. 237). Помимо воздействия личной инициативой и примером, разъяснительная работа согласия включала в себя чтение популярных лекций о вреде алкоголя, издание просветительских листков и брошюр.
5 Речь идет о брошюре профессора Базельского университета Г. фон Бунге «Борьба с алкоголизмом. Речь профессора физиологической химии» (М., 1889). Толстой был знаком с выступлением Бунге по публикации в журнале «Русское богатство» (1889. № 1. С. 121-138). Лекция будет выпущена отдельной брошюрой в издательстве «Посредник» под заголовком: «Борьба с пьянством. Речь профессора физиологической химии Г. Бунге» (М., 1890).
6 Около этого времени заметно обострилось угнетенное нравственное состояние Толстого, среди дневниковых записей чаще стали встречаться сетования на несовершенства жизни и высказывания о желании смерти: «Чуется, что смерть приближается. Нет побуждения жить». «Трудно становится, и просвета нет. Чаще манит смерть», «хочется умереть» и т. п. (см. записи за 1889 г. — Юб. Т. 50). Подавленное состояние мужа С. А. Толстая связывала с обострением хронического заболевания печени (Толстая. Моя жизнь II. С. 85, 111). Тогда же на страницах дневника всё чаще появляется знаменитая толстовская формула «условного» существования — «если буду жив» («е.б.ж.»). Несмотря на заверения самого писателя в ощущении радости жизни («у нас всё хорошо», «я все-таки очень счастлив» и т. п.), внимательно наблюдавшая за его душевным состоянием С. А. Толстая была убеждена, что на самом деле «в жизни Лев Николаевич страдал от всего» и что «дух отрицания, дух скорби твердо жил в нем» (Там же. С. 106).
7 Осенью 1889 г. Толстые решили не переезжать в Москву, а зимовать в Ясной Поляне. Вместе с родителями в имении оставались младшие дети — Андрей (12 лет), Михаил (10 лет), Александра (5 лет) и полуторагодовалый Ваничка. Последний рос слабым и болезненным ребенком, с конца августа хворал ложным крупом. Подозрением на скарлатину переболела дочь Александра. С. А. Толстая вспоминала: «Перехво643
ради тогда все четверо детей; и уже о скарлатине говорить престали. У Ванички сделалась более продолжительная лихорадка, измучившая меня, и был даже поднят вопрос увезти его куда-нибудь для перемены климата» (Толстая. Моя жизнь II. С. 96,105).
408
16 сентября СТРОХОВ — ТОЛСТОМ/
1889 г.
ОтКТ-Петербург Весь к Вашим услугам, бесценный Лев Николаевич, в самом строгом смысле этих слов, и буду рад и счастлив, если что-нибудь смогу сделать. Мысль о том, что скоро буду читать Вашу повесть, уже приводит меня в восхищение1; а там и можно будет определить, в чем затруднение и как с ним бороться.
Но теперь мне приходят на ум следующие мысли. Вы справедливо отдали предпочтение «Неделе»1; но ведь это еженедельный журнал, в котором трудно поместить повесть сразу. Или это будет приложение отдельною книжкою? Во всяком случае, если допускается перепечатка, то не возможно ли сделать, чтобы повесть появилась в одно время, или очень вскоре, и в «Русском вестнике»? Для того журнала, в котором я участвую3, я желал бы если не первого, то хоть второго места в ряду изданий, имеющих возможность напечатать Ваше произведение. Добросовестнейший Павел Александрович4, вероятно, будет вполне сообразоваться с Вашими желаниями. Итак, позволите ли мне войти с ним в переговоры?
Брошюру Бунге5 я сейчас же прочел и очень благодарю Вас, что меня вспомнили. В основной мысли он прав и много сказал хорошего. Как ясно видно, что человека стесняют установившиеся, затвердевшие узкие понятия! Но некоторые его возражения неправильны. Напр[имер], что органы чувств сообщают нам только механические познания. Следовало бы сказать, что в наших органах чувств до сих пор исследованы только ме644
ханические условия. Самые ощущения не исследованы, а в них-то и главная задача.
Как жаль, что у меня не хватает сил и бодрости, чтобы писать по части философии природы!
С великим трудом я кончил свою статью «Воспоминание об Афоне». Теперь держу корректуру6. Часто думал: что-то Вы скажете? Может быть, дадите строгий приговор?7
Теперь нужно написать страницу или две об Аполлоне Григорьеве: 25 сентября исполнится 25 лет после его смерти8.
Потом примусь за Тимирязева. Общий план ответа у меня уже составлен, и, не бранясь и не смеясь, я его допеку. Только мало у меня охоты, да и вообще писание идет так тяжело, как никогда не шло. Иногда я думаю: да не пора ли и совсем перестать?9 А потом вспоминаю Ваши слова о том, как мало мы умеем ценить свои силы, и ободряюсь10.
Завтра именины Софьи Андреевны. Дай ей Бог всего хорошего — мое душевное пожелание. Сережу и Александра Михайловича1 11 я видел в самом блестящем виде, но только на минутку, на улице.
Простите меня!
Всею душою Ваш
Н. Страхов 1889.
16 сент[ября].
Спб.
1 Во время летнего пребывания Страхова в Ясной Поляне Толстой активно работал над одной из редакций произведения; в развитие своего художественного замысла он посвятил гостя. Вернувшись в Петербург, Страхов писал своему корреспонденту о Толстом: «Он теперь весь погрузился в писание повести о том, как муж убил неверную жену» (письмо В. В. Розанову от 4 июля 1889 г. — Розанов В. В. Собр. соч.
[Т. 13]: Литературные изгнанники. ... Переписка В. В. Розанова с Н. Н. Страховым. С. 41). Рассказывая несколько ранее в письме к А. А. Фету о занятиях в Ясной Поляне,
Печатается по: РО ИРЛИ. Ф. 303. Оп. 2. Ед. хр. 300. Л.165-166.
Впервые: Современный мир. 1913. № 12. С. 392-393. Ответ на п. 407.
645
Страхов уточнял, что Толстой теперь «отделывает свою „Сонату“», от которой он (Страхов) ждет «больших художественных чудес» (письмо от 21 июня 1889 г. — Фет. Переписка II. С. 481). Страхов познакомится с повестью Толстого лишь через полтора месяца после получения письма Толстого — в конце октября. См. п. 410.
2 См. примеч. 2 и 3 к п. 407.
3 Страхов имеет в виду журнал «Русский вестник».
4 П. А. Гайдебуров.
5 О брошюре Г. Бунге см. примеч. 5 к п. 407. Возможно, что Страхову было известно и немецкое издание лекции базельского профессора о необходимости борьбы с алкоголизмом. См.: Bunge, Gustav von. Die Alcoholfrage: Ein Vortrag. Leipzig, 1887).
6 Работу над рукописью своего мемуара Страхов завершил 9 сентября. «Воспоминание о поездке на Афон (1881 г.)» появится в октябрьской (1889 г.) книжке журнала «Русский вестник».
7 На заинтересованный вопрос Страхова Толстой ответит лишь после напоминания — в мае 1890 г. См. п. 415.
8 К 25-летию кончины Ап. А. Григорьева была написана статья: Страхов Н. Поминки по Аполлоне Григорьеве. — НВ. 1889.25 сент. № 4876. С. 1,- вошло в: Страхов. Воспоминания и отрывки. С. 245-255.26 сентября Страхов присутствовал на заказной обедне в соборе Митрофаньевского кладбища и панихиде на могиле Ап. А. Григорьева (НВ. 1889.26 сент. № 4847. С. 3).
9 Имеется в виду ответ на статью К. А. Тимирязева «Бессильная злоба антидарвиниста» : Страхов Н. Спор из-за книг Н. Я. Данилевского. — РВ. 1889. Декабрь. С. 186- 203. Страхов будет работать над материалом до начала ноября. На следующий день по завершении труда он извещал А. А. Фета: «...я по самую макушку был погружен в свою статью: „Спор о книгах Н. Я. Данилевского“, которую вчера благополучно сдал в редакцию. Это моя последняя статья по этим делам, и я, наконец, могу обратиться к исполнению давно задуманных планов. Теперь, когда новых мыслей уже не приходит, нужно писать на старые, давно обдуманные темы» (письмо от 10 ноября 1889 г. — Фет. Переписка II. С. 486).
10 О том, насколько важны были Страхову слова одобрения и поддержки для осуществления его творческих замыслов, свидетельствует его признание в письме к В. В. Розанову от 13 августа 1889 г.: «До похвал я, признаюсь, жаден, потому что часто унываю в своем одиночестве, и похвалы дают мне знать, что я пишу не в пустом пространстве» (Розанов В. В. Собр. соч. [Т. 13]: Литературные изгнанники. ... Переписка В. В. Розанова с Н. Н. Страховым. С. 43).
11 С. Л. Толстого и А. М. Кузминского.
646
409
Страхов — Толстому 27 сентября
1889 г.
Большое было мне разочарование, бесценный Лев Николаевич, когда СоНКТ'Петерб/рг Татьяна Андреевна1 сказала, что не привезла Вашей повести; я весь горел жадностию прочитать ее. Но если Вы поправляете, то я знаю уже по многим опытам, — поправите к лучшему, и остается только радоваться и ждать. Говорила Татьяна Андреевна и о планах издания2. Мне кажется, что единственный прямой и правильный план — напечатать с Вашим именем отдельною книгою, пустить по очень дешевой цене, только окупающей издание, и на самой книге объявить, что Вы отказываетесь от прав собственности: автор позволяет перепечатывать, кому угодно, безвозмездно и безнаказанно. Если Вы выпустите без имени, то, во-первых, не можете объявить отречения от собственности, а, во-вторых, хоть имени и не будет, а все будут знать — напрасная игра в жмурки, — да и можете сделать соблазн: начнут печатать без имени другие повести и приписывать их Вам под рукою. Лучше сделать прямо и просто, не выставляясь и не скрываясь, как это Вы до сих пор делали, как сделали с «Властью тьмы»3. Кажется, я тут мешаюсь не в свое дело — но не боюсь: Вы простите меня, зная, что ничего во мне нет, кроме чистого усердия к Вам.
Татьяна Андреевна не сдержала своего слова и передала мне Ваш совет — бросить полемику из-за Данилевского4. Боюсь, что она не всё сказала, что Вы ей поручали, но объясню Вам теперь, в каком положении дело. Мне оно опротивело, и, к счастью, нужды в нем никакой нет, т. е. уже нет, так как шум из-за книг Данилевского поднят страшный, и теперь непременно станут об них писать. Вон Кареев уже написал в <<Р[усской] мысли» об «России и Европе»5, — написал бестолково, но все-таки лучше Соловьева’.6 Со своей стороны, я задумываю только маленькую статейку для заключения спора, статейку преимущественно об Тимиря-
647
Печатается по: РО ИРЛИ. Ф. 303. Оп. 2. Ед. хр. 300. Л. 167-168. Впервые: Современный мир. 1913. № 12. С. 393-394.
зеве7. Кстати: в конце декабря здесь будет Съезд натуралистов8, и надеюсь, что вопрос об «Дарвинизме» будет обсуждаться на этом съезде9. Во всяком случае, я совершенно спокоен, не то что при первых нападениях Соловьева и Тимирязева; поэтому, если буду писать, то напишу совершенно в кротком духе10. В словах Татьяны Андреевны мне было неясно, что дурного Вы находите в продолжении этой полемики? Я сам уже каюсь в своей горячности и постараюсь загладить ее.
Посылаю Вам мои последние печатания: об Аполлоне Григорьеве (в <<Н[овом] времени»1 11) и об Розанове12. Это всё не важно, но и так коротко, что мне не очень совестно обременять Вас. Увы! приходится всё писать и писать, а охота заметно убывает.
В Петербурге всё очень спокойно, всё затихает и застывает больше и больше. Или это мне так кажется, и я сам застываю?
Простите меня. Софье Андреевне мое усердное почтение.
Всей душой Вам преданный
Н. Страхов 1889.
27 сентября].
Спб.
1 Т. А. Кузминская. См. п. 407.
2 См. примеч. 1 к п. 406.
3 Формальное закрепление этого предположения произойдет позднее. 9 марта 1891 г. писатель объявил жене о намерении отказаться от прав на свои сочинения. 19 сентября того же года в газетах за подписью Толстого было напечатано объявление: «Предоставляю всем желающим право безвозмездно издавать в России и за границей, по-русски и в переводах, а равно и ставить на сценах все те из моих сочинений, которые были написаны мною с 1881 года и напечатаны в XII томе моих полных сочинений издания 1886 года, и в XIII томе, изданном в нынешнем 1891 году, равно и все мои не изданные в России и могущие вновь появиться после нынешнего дня сочинения» (Юб. Т. 66. С. 47). Толстой сохранил за собой только небольшой гонорар, поступивший от дирекции императорских театров за постановку пьес «Плоды просвещения» (и позднее — «Власть тьмы»), который он употреблял в благотворительных целях. Вместе с тем свой характерный для тогдашнего нравственного состояния взгляд
648
на вопрос о литературной собственности писатель высказал в ноябрьском письме к Т. А. Кузминской: «Отношение мое ко всему, что я пишу, теперь такое, как будто я умер, и я потому ничего не разрешаю и ничего не запрещаю. Личное же мое желание об этой повести то, чтобы ее не давать читать, пока она не исправлена» (цит. по: Там же. Т. 27. С. 585). — Пьеса Толстого «Власть тьмы» была дозволена к печати в начале 1887 г. и в феврале того же года ее выпустило отдельной брошюрой книгоиздательство «Посредник».
4 Толстой считал полемику по поводу книг Н. Я. Данилевского малопродуктивной, перешедшей «на мелочи и малоинтересные частности» и утратил к ней интерес (см. запись в дневнике В. Ф. Лазурского от 22 июня 1894 г. — ЛН. Т. 37-38. С. 449).
5 Профессор Петербургского университета Н. А. Кареев опубликовал статью о 4-м издании книги Н. Я. Данилевского: Кареев Н. Теория культурно-исторических типов (Н. Я. Данилевский. «Россия и Европа. Взгляд на культурные и политические отношения славянского мира к романо-германскому. Изд. четвертое. СПб., 1889 г.). — Русская мысль. 1889. Сентябрь (Кн. 9). С. 1-32. Страхов писал К. Н. Бестужеву-Рюмину об этой статье Кареева 7 октября 1889 г.: «Читая, я живо вспомнил, что с великим вниманием читал когда-то его статью об исторической философии Л. Н. Толстого. И вот, на основании этих двух чтений, я пришел к решению не читать ничего, что пишет Кареев. Ведь это — окрошка! Ведь тут нельзя найти общей мысли, нет связного рассуждения, а только коротенькие замечания.! И чужой связи мыслей он не понимает! Во всяком случае, статья имеет приличный тон, и можно надеяться, что чем умнее будут критики, тем выше будет становиться в их глазах „Россия и Европа“» (РО ИРЛИ. Ед. хр. 25059. Л. 22 об.-23).
6 Продолжая затянувшийся спор о книге Н. Я. Данилевского «Россия и Европа», Соловьев в 1889 г. опубликовал статью «О грехах и болезнях», в которой в резкой форме нападал уже и на самого Страхова (Соловьев Вл. С. О грехах и болезнях. — ВЕ. 1889. Январь. С. 356-375). В том же письме к Бестужеву-Рюмину (см. примеч. 5) Страхов замечал: «Да, прежде чем прощаться, нужно Вам сказать, что был у меня Вл. Соловьев и потом раза два я его видел. Ну что! не могу я с ним ладить. Он рассказывает мне речи Стасюлевича! Или начинает говорить о политике и России тоном завзятого западника! Боже мой, как скучно! Какое дешевое остроумие! Какая бесплоднейшая точка зрения!» (Там же. Л. 23). К сопоставлению подходов Соловьева и Н. И. Кареева к оценке историософского труда Данилевского Страхов вернулся в статье «Спор из-за книг Н. Я. Данилевского» (РВ. 1889. Декабрь. С. 186-203). Обвинив Соловьева в сознательном уходе «от существенного предмета полемики» и высокомерно-пренебрежительном «наскоке» на теорию культурно-исторических типов, он противопоставил «голословным утверждениям» и задорно-публицистическому тону статей философа более обстоятельный разбор построений Данилевского профессиональным историком. В уточняющем примечании к публикации Страхов писал: «Как на пример 649
более правильного отношения, можно с удовлетворением указать на статью г. Кареева — Теория культурно-исторических типов (Русск. Мысль, 1889 г., сент.). Мы говорим не о достоинстве содержания, а о правильности общего приема статьи. Тут, по крайней мере, автор взглядам Данилевского ясно противопоставляет свои собственные взгляды на ход истории. В заключение он, однако же, признает, что вообще „Данилевский совершенно основательно вооружился против обычного построения всемирной истории и высказал по этому поводу много верных замечаний" (...) и что „теория культурно-исторических типов не лишена, конечно, многих верных мыслей" (...) Суждение критика, полагаем, было бы еще благосклоннее, если бы он перестал подозревать везде „субъективность" Данилевского и не смотрел бы с таким ужасом на всякое „славянофильство". Не могу не пожалеть также, что автор не обратил внимания на мои статьи „Наша культура и всемирное единство" и „Последний ответ г. Вл. Соловьеву", где уже устранены, как мне думается, иные возражения, выставляемые им теперь. Остальные также, надеюсь, возможно или устранить или согласовать с теориею типов. Всё дело зависит от более точной и ясной постановки понятий, и правильный спор может только содействовать такой постановке» (цит. по: Страхов Н. Н. Борьба с Западом в нашей литературе. Книжка вторая. 2-е изд. С. 545). На это суждение Страхова Соловьев позднее отреагирует ироничным замечанием в статье «Немецкий подлинник и русский список» (1890): «Одинаковую, в сущности, с моею оценку „России и Европы" сделал проф. Н. И. Кареев в статье, помещенной в „Русской мысли" прошлого года. Г. Страхов, на мой разбор отвечавший многословною бранью и обвинениями в недостатке патриотизма и т. п., с проф. Кареевым поступил еще лучше: в подстрочном примечании выставил его почти за своего единомышленника, заметив, что его возражения против теории Данилевского произошли только оттого, что он, Кареев, не читал разъяснений г. Страхова!» (цит. по: Соловьев В. С. Сочинения: в 2 т. М., 1989. Т. 1. С. 565. Примеч.).
7 Имеется в виду статья «Спор из-за книг Н. Я. Данилевского». См. примеч. 20 к п. 397 и примеч. 11 к п. 402.
8 Восьмой (VIII) съезд естествоиспытателей и врачей проходил в Петербурге в здании университета с 28 декабря 1889 г. по 7 января 1890 г. Предварительное заседание для «разъяснения вопроса о выборе (28 декабря) должностных лиц VIII съезда» состоялось накануне его открытия, 27 декабря. Принять участие в работе съезда и воспользоваться на нем правом голоса Страхов мог, согласно регламенту, как лицо «напечатавшее самостоятельное сочинение или исследование по естественным наукам» (см.: Русская мысль. 1889. Сентябрь (Кн. 9). С. [418]).
9 С несколько меньшей уверенностью в интересе съезда естествоиспытателей к творческому наследию Данилевского-биолога Страхов писал А. А. Фету в обращении от 21 декабря: «Не знаю, что мне принесет съезд натуралистов, который будет в Петербурге на праздниках. Неужели не будет там речи об Данилевском и об его 650
„Дарвинизме"? Тогда, по-моему, зачем же они съедутся, если не будут говорить о подобных предметах? Конечно, я мог бы сам пойти и поднять этот вопрос. Но теперь уже не прежние у меня силы, и хочется, чтобы за меня сделали другие» ( Фет. Переписка II. С. 489-490. — Курсив Страхова). См. также п. 413 и примеч. 11 к нему.
10 Причины своей полемической «горячности» в журнальной дискуссии с К. А. Тимирязевым и Вл. С. Соловьевым Страхов взялся объяснить в статье «Спор из-за книг Н. Я. Данилевского» (далее все цит. по: Страхов Н. Н. Борьба с Западом в нашей литературе. Книжка вторая. 2-е изд. СПб., 1890). Признав критику теоретических построений Данилевского ожидаемой и «неизбежной», он заявил, что вправе был рассчитывать на серьезное рассмотрение спорных положений в силу важности и значительности содержания его книг, к которым «не может оставаться равнодушным ни один русский образованный человек» (С. 543),. Однако с самого начала полемика приобрела, по его мнению, ложное направление и от анализа содержания перешла на отыскание «промахов», «недостатков» и логической несообразности в утверждениях автора, а затем чуть ли не в «личную перебранку». И всё из-за того, что «оба противника, как оказалось, сочли ниже своего достоинства рассматривать по существу вопросы, поставленные» человеком, «мало знакомым», в их глазах, «с данными истории и филологии» и «дилетантом» в вопросах естествознания (С. 544). В результате, вместо «опровержения» оппоненты разразились «негодованием», обличение которого привнесло в спор еще большую страстность: «о книгах же Данилевского упоминалось лишь вскользь и мимоходом» (С. 546). Второе обстоятельство, приведшее Страхова в сильное возбуждение, было связано с той опасностью, что неизбежно грозила книгам и теориям Данилевского после того, как они подверглись «резкому и презрительному порицанию», — опасности «погибели и забвения»: «могло случиться, что превосходный труд будет оставлен вовсе без внимания» (С. 547). В случае с возражениями Соловьева накал страстей усугубился его неожиданным переходом в «западнический лагерь», что, по словам Страхова, «удесятерило» его огорчение. Но всего болезненнее подействовало на Страхова и, по его признанию, «глубоко возмутило» стремление оппонентов принизить русскую «умственную жизнь» упорными ссылками на подавляющий всякую самостоятельность мысли духовный авторитет Запада (С. 548-550): «...хорошо понимаю, как это действует. Я знаю, что и юноши, и старики, и женщины вдруг шалеют от этих речей, что в их глазах начинает ходить светлый туман, что они теряют способность что-нибудь ясно видеть и правильно понимать», легко принимая на веру безосновательные утверждения о том, что именно «на Западе скоро, очень скоро, завтра же, сбудутся самые лучшие чаяния нашего сердца и разрешатся самые высокие запросы нашего ума», тогда как в самой России никакого собственного духовного смысла — «сознания» — никогда не было, «ее история не имеет никакого содержания», «ее религия была и есть одно суеверие», «что у нас нет ни единого здравого общественного начала», «что русские даже не способны 651
иметь ум и совесть, а всегда имели и теперь имеют одну подлость» (С. 548). По утверждению Страхова, «тут было из-за чего бояться и волноваться»: «и если я был резок, то потому, что меня как будто толкнули в самую больную рану» (Там же). Ведь подобные рассуждения не только порождают нравственный нигилизм и духовное ослепление — «плодят поклонников Конта и Спенсера», но и гибельно сказываются на состоянии «русской умственной жизни», оставляя без всякого внимания «самобытные и новые взгляды», если только они не освящены снисходительным одобрением западных авторитетов. «Нужны десятки лет, чтобы иная прекрасная книга пробила себе дорогу среди людей, воображающих, что они умеют думать и вести себя по-европейски. Упорное замалчивание, брань и насмешки, гнусные обвинения, — вот чем долгие годы сопровождается имя писателя, достойного чести и внимания» (С. 550). Опираясь на этот свод претензий к оппонентам, Страхов признает свой возбужденный полемический тон достойным оправдания и уважения: «Не простят ли мне теперь читатели, что на лекцию г. Тимирязева и на статью г. Соловьева я был не в силах отвечать благодушными рассуждениями или же таким хладнокровным порицанием, которое было бы несравненно сильнее всякой горячности!» (С. 551). Доводы Страхова не удовлетворили и не убедили Соловьева, продолжившего упрекать оппонента в пристрастной критике и не оставившего без внимания «оправдательные» строки противника. Этой теме и подробному разбору «извинительных» объяснений Страхова Соловьев посвятил целую главу своей очередной «антистраховской» статьи «Мнимая борьба с Западом» (Русская мысль. 1890. Август (Кн. 8). С. 1-20. Вторая пагинация), представлявшей собой развернутый отклик на новое издание второй книжки критика «Борьба с Западом в нашей литературе» (2-е изд. СПб., 1890). В авторской ремарке к этой главе Соловьев замечал в связи с обнаруженным им «миролюбием» оппонента: «Не сомневаясь в искренности этого раскаяния, к сожалению, не могу считать его серьезным. Г. Страхов недоволен, что „так вышло", но, в сущности, он очень доволен собою. Как объяснить иначе, что он буквально, без малейших поправок, выпусков и оговорок воспроизводит в настоящем издании все свои полемические грехи, в которых при конце книги как будто кается?». (цит. по: Соловьев В. С. Сочинения. М., 1989. Т. 1. С. 548; вся глава: С. 548-554). Повторно свои извинения в резкости взятого им в полемике с Соловьевым и Тимирязевым тона Страхов принес (читателям) в предисловии ко второму изданию второй книжки «Борьба с Западом в нашей литературе» (СПб., 1890. С. XII). Однако «голословная», по мнению Страхова, в своих утверждениях и «развязная» по тону статья Соловьева в августовском номере «Русской мысли» вновь настроила его на боевой лад, и в ответном выступении он уже не склонен был приглушать остроту своих высказываний, а если где и готов был пойти на это, то отнюдь не по причине признания правоты оппонента, но из совершенно особых побуждений. Уточняющее объяснение «горячности» своего полемического тона против Соловьева и подобных ему противников Страхов дал в начале статьи «Новая выходка против 652
книги Н. Я. Данилевского» (сентябрь 1890 г.). Имея в виду упрек Соловьева по поводу переиздания без изменений материалов «спора» вокруг творческого наследия ученого («Борьба с Западом в нашей литературе. Книжка вторая», 1890), о повышенном тоне которых автор уже высказывал публичное сожаление, он писал: «...замечу, что он очень дурно понял, в чем состоят мои печатные грехи,, и совершенно неправильно истолковал мое покаяние. Если я иногда считаю себя виноватым, то это прежде всего значит, что я не признаю себя безупречным перед высоким и строгим судом читателей, который мне часто воображается, и еще не значит, что я провинился перед г. Соловьевым, моим противником. В этом отношении я был совершенно спокоен, перепечатывая свои статьи; мне приходили в голову не „поправки, выпуски и оговорки“, которых ему желается, а скорее прибавки, и являлось желание другого тона, именно более сильного; но для этого нужно было бы смягчить резкость, потому что резкость, как бы она ни была точна и справедлива, слабее, чем спокойное и холодное порицание. Нужно было бы написать так, чтобы сам противник почувствовал неизвинительность своих нападений» (цит. по: Страхов. Борьба с Западом III. С. 163-164. — Курсив Страхова).
11 См. примеч. 8 к п. 408. В сохранившемся фонде книг и брошюр яснополянской библиотеки оттиск не представлен.
12 Страхов Н. [Рец. на кн.:] О понимании. Опыт исследования природы, границ и внутреннего строения науки как цельного знания. В. Розанова. Москва. 1886. — ЖМНП. Ч. 265.1889. Сентябрь. С. 124-131. Оттиск сохранился в яснополянской библиотеке; см.: ОписаниеЯПб. Т. 1, ч. 2. С. 285. № 3040.
410 Строхов — Толстому
Вашу повесть, бесценный Лев Николаевич, я слышал 28 октября у Кузминских в большом обществе,- читал Кони, очень хорошо1. Простите, что до сих пор я не написал Вам2, мешали дела, да я надеялся, что хорошенько обдумаю, и ждал, что мне дадут рукопись и я еще лучше пойму, когда перечту3. Но время идет, и хочу написать, что понял по первому впечатлению4.
Сильнее этого Вы ничего не писали, да и мрачнее тоже ничего. Много есть замечаний и описаний изумительных по глубине, до которой они проникают в душу, и страшных по своей правде. А сказаны и схвачены 6 ноября 1889 г. Санкт-Петербург
653
так просто и ясно! Герой Ваш — несравненный пример эгоиста, и эгоизм его является во всей своей отвратительности. Как хорошо, что он убивает жену не за вину, а просто по ревности, для которой у него в душе нет ничего сдерживающего и которая совершенно права в отношении к его жене5. Какой ужас! Какие мучения! Он убил, но они все-таки продолжают ненавидеть друг друга — вот где верх несчастья и страдания!
Что и говорить — правда дышит в каждой строке, в каждой сцене. Несмотря на то, я заметил, что впечатление у слушающих было смутное, да и мне самому что-то мешало вполне вникать в отдельные мысли и описания. Вы взяли форму рассказа от лица самого героя6, форму, которая Вас очень связывала, а у слушателей являлись вопросы: кто собеседник? Почему рассказчик долго-долго не приступает к делу, а ведет рассуждения об общих вопросах? Притом есть, как мне показалось, одна главная неясность: в каком духе он рассказывает? По некоторым местам можно подумать, что эгоизм в нем сломлен, и он уже видит свои действия в истинном их значении; по другим кажется, что он готов опять и без конца убивать свою жену, и нет в нем и тени раскаяния.
Кроме того, развязка приходит слишком быстро, т. е. мало рассказано до той минуты, когда появляется музыкант. Поэтому кажется, что герой — не вполне нормальный человек, непомерно ревнив и нервен. Между тем, он человек обыкновенный и постепенно пришел в такое состояние. Долгие рассуждения, которые предшествуют рассказу, глубокие и важные, теряют силу от ожидания, в котором находится слушатель. Их следовало бы положить в сцены, которые, однако, не мог продолжительно рассказывать убийца, занятый больше всего последнею сценою — убийством.
Но какое богатство содержания! Например, рассуждения о докторах, о музыке, о детях — да всех не пересчитаешь! А мысль о том, что люди перестанут наконец совершать грех, ведущий к деторождению! Она меня очень восхитила. Вообще, хотя многое взято односторонне, 654
но удивительно верно, и односторонность понятна у человека, который приведен к убийству жизнью без понятий о долге, жизнью самоугождения, всеми теперь принятою и проповедуемою.
Вероятно, я с каждым новым чтением буду всё больше влюбляться в Вашу повесть — так ведь всегда со мною.
Теперь скажу Вам смешное. Петербург, как Вы знаете, населен людьми очень стыдливыми и строгими насчет нравственности. Вашу повесть нашли неблагопристойною. Редактор Берг7, успевший втереться на чтение, пришел в великое смущение от упоминаний об онанизме, сифилисе и т. д. Простите меня, ради Бога, что я уступил просьбе подобных пустоголовых людей и серьозно предлагал Вам печататься в <<Р[усском] вестнике»8. Не поверите, как мне самому тяжелы эти неизбежные сношения; я почти ненавижу и <<Р[усский] вестник», и «Новое время», а приходится с ними иметь дело, быть их товарищем, сотрудником и водиться с ними по-приятельски. Какие времена настали!
С Вл. Соловьевым мы видаемся, т. е. больше он бывает у меня9, но он всё злодействует в «В[естнике] Европы»10, и я считаю долгом не молчать перед ним об этом11. В последней статье он опирается на мнения Пыпина12, пишет, что стал его продолжателем. О, какой же ветер в этой голове! И всё ему нужно писать сообразно с настоящей минутой; он публицист и политик не хуже Каткова. Нужно наделать побольше шума — вот главная цель13.
Моя ответная статья Тимирязеву почти готова14. Не знаю, будете ли Вы довольны, но его истинная злоба показала мне, как я дурно прежде написал, и я взял теперь совершенно спокойный тон15. Статья будет маленькая16.
Здоровье мое очень хорошо. Недавно я зашел к Репину, и он, после нескольких слов, говорит: «а ведь портрет не похож! Вы гораздо лучше»17. И действительно, что-то во мне наладилось, что тогда скрипело18.
655
Печатается по: РО ИРЛИ. Ф. 303. Оп. 2. Ед. хр. 300. Л. 169-170.
Впервые: Современный мир. 1913. № 12. С. 394-397.
Дай и Вам Бог здоровья и всего хорошего! Софье Андреевне мое усердное почтение. К слову — графиня Александра Андреевна19 много со мной говорила на чтении Вашей повести и велела к себе явиться. Она мне очень понравилась — есть у нее выражение истинной доброты. А больше всего на чтении меня заняла Татьяна Андреевна20.
Никто не слушал с такою жадностию; она вся волновалась от впечатления. Ну а после нее всех жаднее был я.
Ваш неизменно преданный
Н. Страхов 1889.
6 ноября.
1 Чтение чернового варианта повести Толстого «Крейцерова соната» на квартире у Кузминских 28 октября 1889 г. состоялось в присутствии нескольких приглашенных лиц. С. А. Толстая, в воспоминаниях, заметила по этому поводу: «Сестра по случаю этого чтения созвала целое общество...» (Толстая. Моя жизнь II. С. 103). В числе слушателей были также гр. А. А. Толстая, поэт А. Н. Апухтин, писатель Г. П. Данилевский. Роль чтеца, по просьбе хозяйки дома, принял на себя известный юрист и адвокат
А. Ф. Кони, отличавшийся мастерским исполнением литературных произведений. Повторное коллективное прослушивание повести по этому черновому списку состоялось на следующий день в редакции книгоиздательства «Посредник» (Юб. Т. 27. С. 584, 588).
2 Ко времени написания этого отзыва Страховым Толстой уже получил первые отклики на произведение от В. Г. Черткова, ознакомившегося с повестью еще 26 октября (см.: Там же. Т. 86. С. 272), и от Т. А. Кузминской. По поводу письма последней Толстой отметил в дневнике: «Получил письмо от Тани сестры., о чтении Кр[ейцеровой] Сон[аты]. Производит впечатление. Хорошо и мне радостно» (запись от 2 ноября 1889 г. — Там же. Т. 50. С. 172). На критические соображения Черткова писатель отреагировал более сдержанно: «... вчера получил длинное письмо от Ч[ерткова]. Он критикует Кр[ейцерову] Сон [ату] очень верно, желал бы последовать его совету, да нет охоты» (запись от 31 октября 1889 г. — Там же. С. 170; ср.: Там же. Т 86. С. 272- 274).
3 Речь может идти об одном из списков повести, получивших широкое хождение в публике задолго до появления окончательной авторской редакции произведения. Подробнее см.: Там же. Т. 27. С. 588. «Перечитать» рукопись Страхову удастся только во второй половине ноября. Об этом и о своем впечатлении от прочитанного он сообщал
656
В. В. Розанову в письме от 20 ноября: «“Крейцерова соната" есть вещь удивительная, одна из самых крупных вещей Льва Николаевича Толстого. Только на днях я перечитал ее, но еще долго придется об ней думать» (Розанов В. В. Собр. соч. [Т 13]: Литературные изгнанники. ... Переписка В. В. Розанова с Н. Н. Страховым. С. 47).
4 Свое первое впечатление от знакомства с сочинением Толстого Страхов сообщил и А. А. Фету — в письме от 10 ноября: «Читали мы тут и повесть Льва Николаевича. Это так сильно и мрачно, как ни одно из его писаний. Жаль, что много голых рассуждений, хотя и изумительных по меткости; вообще жаль, что построение всё и небрежно и неловко. Но вещь — первой степени» (Фет. Переписка II. С. 486. — Курсив Страхова).
5 Первоначальный замысел Толстого был иным. В дневнике он записал 11 августа: «Кр[ейцерова] Сон[ата] — надо сделать бред умирающей, просящей прощение...», т. е. за бывшую измену мужу (Юб. Т. 50. С. 121). С. А. Толстая вспоминала: «Эту мысль он сообщил мне, а я говорила, что надо ее сделать не виноватой, а то будет художественно неверно. Тогда он спорил, а в конце концов послушался и сам пришел к такому концу» (Толстая. Моя жизнь II. С. 97. — Курсив С. А. Толстой).
6 О происхождении этой формы повествования, намеренно выбранной писателем для „Крейцеровой сонаты", С. А. Толстая сделала разъясняющую запись в дневнике 28 декабря 1890 г.: «Вчера он [Толстой. — С о ст.] говорил в зале (...) о форме рассказа, которую искал и хотел создать, когда задумал писать „Крейцерову сонату". Мысль создать настоящий рассказ была ему внушена Андреевым-Бурлаком, актером и удивительным рассказчиком. Он же рассказал ему, что раз, на железной дороге, один господин сообщил ему свое несчастие от измены жены, и этим-то сюжетом и воспользовался Лёвочка» (Толстая. Дневники I. С. 136-137. — Курсив Толстой).
7 Редактор журнала «Русский вестник» Ф. Н. Берг. Страхов критически относился к Бергу как литератору и журналисту и не желал сближения с ним (см. п. 384 и примеч. 7 к нему). В одном из писем к А. А. Фету Страхов заметил: «Скажу по совести, не охотник я до Берга, и избегаю по возможности дел с ним. (...) он (...) человек подозрительный и обидчивый» (письмо от 4 октября 1888 г. — Там же. С. 467).
8 См. п. 406.
9 Страхов «несколько раз» встречался с Вл. Соловьевым в Петербурге в конце июня и в начале июля 1889 г. (см.: письмо В. В. Розанову от 3 августа. — Розанов В. В. Собр. соч. [Т. 13]: Литературные изгнанники. ... Переписка В. В. Розанова с Н. Н. Страховым. С. 42; ср.: Соловьев. Письма IV. С. 193; Фет. Переписка II. С. 483), затем осенью и зимой того же года, причем в сентябре он посетил Страхова в день своего приезда (см.: Соловьев. Письма IV. С. 119). В начале ноября Страхов сообщил А. А. Фету, что Соловьев был у него «раза два»; продолжались встречи, вероятно, и в декабре — Страхов писал тому же Фету 21 декабря: «... Соловьев что-то не идет — а визит за ним — мы нынче считаемся» (Фет. Переписка II. С. 486,489).
657
10 После летнего перерыва в ноябрьском номере журнала «Вестник Европы» была продолжена публикация программного сочинения Вл. Соловьева «Очерки из истории русского сознания» (ВЕ. 1889. Ноябрь. С. 363-388); статьи вошли во второй выпуск книги Соловьева «Национальный вопрос в России» (Вып. 2. СПб., 1891).
11 Страхов не ограничился попытками воздействовать на взгляды Соловьева путем личного общения и решился в очередной («последний») раз объясниться в печати. Ознакомившись с первыми публикациями цикла, он еще больше «разочаровался» в построениях оппонента и объявил его «угорелым» фантазером: «Что Соловьев один из замечательнейших образчиков угорелости, в этом я всё больше убеждаюсь, и нахожу в этом превосходное объяснение всех его статей. То, что он пишет в „Вести[ике] Европы“ и в „Вопросах философии“, показывает, что угорелость вполне развилась и, очевидно, более его не покинет. Без сомнения — он милый человек; он был у меня раза два и тронул меня своим искренним желанием мира; без сомнения, он очень даровитый человек, — но он погубит свои дары. — Как это грустно!» (письмо Фету от 10 ноября 1889 г. — Фет. Переписка II. С. 486). Убеждение в безнадежности усилий по «отрезвлению» самого Соловьева не помешало Страхову обратиться с разъяснениями своих доводов к читателям. Итоговую статью по поводу поддерживавшейся им полемики (в том числе с Соловьевым) — «Спор из-за книг Н. Я. Данилевского», он поместил в конце года в «Русском вестнике» и рассчитывал тем самым прекратить бесплодные словопрения с оппонентами на публике (РВ. 1889. Декабрь. С. 186-203). «...Я по самую макушку был погружен в свою статью: „Спор о книгах Н. Я. Данилевского“, которую вчера благополучно сдал в редакцию. Это моя последняя статья по этим делам...», — заверял он Фета в письме от 10 ноября (Фет. Переписка II. С. 486). Продолжение публикации историософского цикла Соловьева (ВЕ. 1889. Ноябрь. Декабрь) только укрепило Страхова в решимости выйти из затянувшегося спора: «Я уже давно почти не в состоянии выносить его угорелости и теперь дивлюсь, что, будучи, казалось бы, довольно трезвым человеком, так долго ее не замечал. Она всегда у него была, только разыгралась теперь до самого края» (письмо Фету от 21 декабря 1889 г. — Фет. Переписка II. С. 489). Однако попытка «уйти в молчание» не принесла удовлетворения Страхову, и полемика между ним и Соловьевым по поводу историософских идей Данилевского была продолжена в 1890 г. См. примеч. 3 к п. 421.
12 Либеральный профессор А. Н. Пыпин, автор печатавшегося в «Вестнике Европы» в 1871-1873 гг. обзорного труда «Характеристики литературных мнений от двадцатых до пятидесятых годов» (отд. изд.: СПб., 1873). В примечании к VII главе своей статьи Соловьев заявил, что с критическими оценками славянофильства, данными Пыпиным в своем исследовании, «в большинстве случае совершенно согласен» (ВЕ. 1889. Ноябрь. С. 363). См. ниже примеч. 13.
13 Страхов не раз осуждающе высказывался в письмах о сомнительных, в его понимании, приемах ведения Вл. Соловьевым публичных споров, в том числе в связи 658
с полемикой вокруг книг Н. Я. Данилевского. По поводу предпринятой философом «критики славянофильства» (Соловьев. Письма IV. С. 42) он замечал в письме Фету от 21 декабря 1889 г.: «Слышал я, что он чрезвычайно теперь доволен: „Вестнику Евр[опы]“ дано за него предостережение. И в самом деле, теперь (...) весь читающий люд, долэжно быть, сидит над его статьями, вникает, потеет, думает: „это на царя? а это, должно быть, на синод?“ и т. д. Ну можно ли было сделать подобную рекламу?» (Фет. Переписка II. С. 489). Полученное журналом «Вестник Европы» по совокупности претензий цензурного ведомства первое предупреждение, в том числе за помещение цикла статей Соловьева «Очерки из истории русского сознания», признанных направленными против русской Церкви и государства и подрывающими уважение к «принципу русской национальности» (см.: ВЕ. 1890. Январь. С. 4), а затем публикация текста постановления в издании, вновь обратило внимание публики на общественную позицию автора. Позднее Страхов писал в этой связи А. А. Фету: «Теперь у нас после замолкающей болтовни о „Сонате Крейцера“ только и речей, что о Соловьеве. Думаю, что он доволен, наделавши треску гораздо больше, чем сам ожидал. (...) патриоты его ошикали и освистали и теперь все бранят, конечно, не без основания. К кому он пристал? На кого он работает? Нужна неутолимая жажда шума, чтобы не видеть, что, затеявши поход против „народного самочувствия“ и соединившись для этого с Стасюлевичем, Пыпиным и Спасовичем, он только подливает масла в огонь, так точно, как, порицая православие, он содействует не соединению церквей, а пущему ожесточению их друг против друга» (письмо от 16 февраля 1890 г. — Фет. Переписка II.
С. 494).
14 Речь идет о статье «Спор из-за книг Данилевского», законченной Страховым 9 ноября 1889 г.
15 См. примеч. 10 к п. 409.
16 Ср. в письме к В. В. Розанову от 11 ноября 1889 г.: «... кончил (...) ответ Тимирязеву, но вся статья только 18 страниц, что очень трудно» (Розанов В. В. Собр. соч. [Т. 13]: Литературные изгнанники. ... Переписка В. В. Розанова с Н. Н. Страховым. С. 46).
17 О работе И. Е. Репина над портретом Страхова см. примеч. 36 к п. 397. По общему мнению, изображение оказалось неудачным. Сам Репин считал, что испортил его, когда стал переписывать черно-белый рисунок в цвете. Ср. также: Розанов В. В. Собр. соч. [Т. 13]: Литературные изгнанники. ... Переписка В. В. Розанова с Н. Н. Страховым. С. 116. Примеч. 3.
18 Осенью 1888 г., когда Страхов позировал для портрета, его, как он жаловался в письмах к А. А. Фету, совсем «одолели болезни»: он страдал от сильных головных болей, острое беспокойство доставлял желудок, «пухла и болела» селезенка (см. письма от 7 ноября и 10 декабря 1888 г. — Фет. Переписка II. 468,471). Перенеся во второй половине 1889 г. затяжной бронхит, Страхов только в начале ноября смог подтвердить 659
17 ноября
1889 г.
Ясная Поляна
и Фету заметное улучшение самочувствия: «Здоровье мое так хорошо, как я и не ожидал» (письмо от 10 ноября. — Там же. С. 487).
19 Гр. А. А. Толстая не упомянула об этом чтении в своем мемуарном очерке, посвященном писателю, однако оставила свидетельство нараставшего ажиотажного интереса к художественному и публицистическому творчеству Толстого в 1880-е гг., и к его новому произведению в частности. Ср.: «В этот десятилетний период Лев Николаевич Толстой не только не уступил никому своего места в литературе, но стал на мирской сцене с возрастающим ореолом. Появление каждого из его сочинений вызывало восторженное любопытство во всех слоях русского общества, а равно и за границей. / Трудно себе представить, что произошло, например, когда явились „Крейцерова соната“ и „Власть тьмы“. / Еще не допущенные к печати, эти произведения переписывались уже сотнями и тысячами экземпляров, переходили из рук в руки, переводились на всех языках и читались везде с неимоверною страстностью. Казалось подчас, что публика, забыв все свои личные заботы, жила только литературой графа Толстого... Самые важные политические события редко завладевали всеми с такой силой и полнотой» (ТТП. С. 60).
20 Т. А. Кузминская.
411 Толстой — Страхову
Спасибо, Николай Николаевич*, за письмо. Я очень дорожил вашим мнением и получил суждение гораздо более снисходительное, чем ожидал. В художественном отношении я знаю, что это писание ниже всякой критики: оно произошло двумя приемами, и оба приема несогласные между собой, и от этого то безобразие, к[оторое] вы слышали1. Но всетаки оставляю, как есть, и не жалею. Не от лени, но не могу поправ[л]ять: не жалею же оттого, что знаю верно, что то, что там написано, не то что небесполезно, а наверное очень полезно людям и ново отчасти2. Если художественное писать, в чем не зарекаюсь, то надо сначала и сразу.
Очень радуюсь слышать о вас хорошие вести и о здоровье и о работах — главное, что ответ Тимир [язеву] и краткий и кроткий. Это высший идеал. Посмотрим с интересом большим3. У нас всё благополуч660
но. Живем в деревне, жена не скучает4. Учителя очень удачные, и русский — дарвинист большой5, швейцарец — из Армии спасенья6. Дети хворают, но немножко7. Я занят и здоров. Чего и вам желаю.
Л. Толстой
* Я так запутался в разных эпитетах при обращении, что решил отныне не употреблять никаких.
1 Толстой имеет в виду гармонизацию «художественного» и «содержательного» планов своего произведения. Ср. с записью в дневнике от 29 августа 1889 г.: «Думал о том, что я вожусь с своим писаньем Кр[ейцеровой] Сон[аты] из-за тщеславия; не хочется перед публикой явиться не вполне отделанным, не складным, даже плохим. / И это скверно. Если что есть полезного, нужного людям, люди возьмут это из плохого. В совершенстве отделанная повесть не сделает доводы мои убедительнее. Надо быть юродивым и в писании» (Юб. Т. 50. С. 129-130). О своей неудовлетворенности окончательной отделкой произведения Толстой высказался в одной из последних записей дневника, касавшихся творческой работы над повестью «..поправил, прибавил Кр[ейцерову] Сон [ату] всю. Она страшно надоела мне. Главное тем, что художественно] неправильно, фальшиво» (запись от 6 декабря 1889 г. — Там же. С. 189).
2 Ср. с замечанием С. А. Толстой в ее воспоминаниях: «... Лев Николаевич взялся писать „Крейцерову сонату“ (...) Он был доволен своей работой и сам считал, что это будет и ново, и сильно» (Толстая. Моя жизнь II. С. 89). Размышляя о нравственном содержании повести, Толстой также записал в дневнике в начале сентября: «... всё это важно и нужно» (Юб. Т. 50. С. 133).
3 Статьей «Спор из-за книг Н. Я. Данилевского» Страхов завершал полемику с последователем Ч. Дарвина проф. К. А. Тимирязевым. Материал будет напечатан в декабрьской книжке журнала «Русский вестник».
4 Несколько иную картину жизни семьи, оставшейся зимовать в Ясной Поляне, представляют ноябрьские записи дневника Толстого. «Дети больны, С[оня] раздражена]. Я апатичен», — отметил он 7 ноября. На следующий день: «Всё те же болезни. И та же тревога и та же моя апатия». Через десять дней: «С[оня] (...) говорит: я одинока совсем в семье. Может быть, я виноват. Очень жалко, любя жалко стало ее. (...) Сказать ей хочу, что ей надо искать, искать веры, основы духовной жизни, а нельзя жить как она, инстинктам [и]...». Еще через неделю: «С[оня] раздражилась. Опять не мог жалеть и желать ей лучшего» (Юб. Т. 50. С. 174, 175, 180, 184). «Скучать» Софье Андреевне действительно не приходилось. В воспоминаниях она подробно рассказала о своих осенних занятиях в имении: «Особенной причины переезжать в город Печатается по: ОР ГМТ.Ф. 1.№5467. Л. 1-2. На л. 1 помета Страхова: «17 ноября 1889». Впервые: Современный мир. 1913. №12. С. 397. ВЮ6..Т. 64. С. 334-335. Датируется по записи Толстого в дневнике (Юб. Т. 50. С. 179) и помете Страхова. Ответ на п. 410.
661
не было. Мальчики — Андрюша и Миша — были настолько еще молоды, что могли учиться дома. (...) Льву Николаевичу, конечно, очень хотелось не ехать, а жить в Ясной. Видя мою нерешительность и мои мучения, он странно объяснял мое состояние. Пишет в дневнике 24-го сентября 1889 года: / „За обедом Соня говорила, что ей, глядя на подходящий поезд, хотелось броситься под него. И она очень жалка мне стала. Главное, я знаю, как я виноват“. (...) Грустно мне было мое одиночество в смысле духовной поддержки, дружеского совета, ласки (...) Наконец (...) я окончательно решила зимовать в Ясной (...) Пришлось делать разные поправки в доме. Стены были грязны, я велела их белить. Печки многие оказались негодными и обрушившимися внутри — я взяла печников, и в доме поднялась пыль, суета, стук, что было очень тяжело, особенно Льву Николаевичу. Только в середине октября мог он перейти в свой кабинет внизу. / Принялась я усердно за преподавание; учила с начала осени своих двух малышей — Андрюшу и Мишу — и музыке, и географии, и французскому, и немецкому, и Закону Божьему. Почти весь день уходил на уроки. (...) Занялась я в эту осень и посадкой деревьев. (...) Целые дни я проводила на посадке, размеряла с поденными и лесничим ямки, смотрела, чтоб не рвали у елок мочки. Но не скоро засадила я весь бугор. (...) В то время посажено было всего 6800 елок и 5300 дубков. Кроме того, в азарте этой деятельности, которую в хозяйстве любила больше всего, я посадила 60 груш, 60 вишен и 50 слив. (...) Я думала, что эта посадка доставит некоторое удовольствие Льву Николаевичу, и ждала его одобрения. Но он и тут ничего не выразил (...) я была задавлена совсем непосильными материальными заботами, а Лев Николаевич не хотел, а может быть, и не умел этого видеть и понять» (Толстая. Моя жизнь II. С. 99-100, 105. — Курсив С. А. Толстой).
5 Алексей Митрофанович Новиков, в 1889 г. студент, учитель Андрея и Михаила Толстых; позднее — врач, доцент и ассистент известного московского профессора, акушера и гинеколога В. Ф. Снегирева, затем — профессор, первый директор Екатеринбургского Повивально-гинекологического института; автор статьи «Л. Н. Толстой и И. И. Раевский»
6 Эмиль Карл Гольцапфель (Holzapfel), швейцарец, гувернер младших детей в семье Толстых, член («участник и сочувственник», по словам Толстого) религиознофилантропической организации «Армия спасения»; прибыл в Ясную Поляну 6 ноября (Юб. Т. 50. С. 174). Впоследствии преподаватель французского языка московского II кадетского корпуса.
7 Ср. запись от 3 ноября в дневнике Толстого: «Дети больны. С[оня] волнуется. Я стараюсь помочь, не умею...» (Там же. С. 173). См. примеч. 7 к п. 407.
Содержание
Том п Книга 1
ПЕРЕПИСКАЛ. Н. ТОЛСТОГО И С. А. ТОЛСТОЙ С Н. Н. СТРАХОВЫМ (1880-1889)
1880
254. Н. Н. Страхов — Л. Н. Толстому. 8 января 1880 г. Санкт-Петербург 7
255. Л. Н. Толстой — Н. Н. Страхову. 17(?) января 1880 г. Ясная Поляна 14
256. Л. Н. Толстой — Н. Н. Страхову. 4 февраля 1880 г. Ясная Поляна 16
257. Н. Н. Страхов — Л. Н. Толстому. 14 февраля 1880 г. Санкт-Петербург 17
258. Л. Н. Толстой — Н. Н. Страхову. 2 марта 1880 г. Ясная Поляна 22
259. Н. Н. Страхов — Л. Н. Толстому. 9 марта 1880 г. Санкт-Петербург 25
260. Л. Н. и С. А. Толстые — Н. Н. Страхову. 25 марта 1880 г. Ясная Поляна 30
261. Н. Н. Страхов — Л. Н. Толстому. 25 марта 1880 г. Санкт-Петербург 33
262. Н. Н. Страхов — С. А. Толстой. 7 апреля 1880 г. Санкт-Петербург 36
263. Н. Н. Страхов — Л. Н. Толстому. 16 апреля 1880 г. Санкт-Петербург 46
264. С. А. и Л. Н. Толстые — Н. Н. Страхову. 18 апреля 1880 г. Ясная Поляна 48
265. Л. Н. Толстой — Н. Н. Страхову. 4 мая 1880 г. Ясная Поляна 50
266. С. А. Толстая — Н. Н. Страхову. 4 мая 1880 г. Ясная Поляна 52
267. Н. Н. Страхов — Л. Н. Толстому. 8 мая 1880 г. Санкт-Петербург 54
268. Н. Н. Страхов — Л. Н. Толстому. 30 июня 1880 г. Глухов 59
269. Л. Н. Толстой — Н. Н. Страхову. 10 августа 1880 г. Ясная Поляна 63
270. Л. Н. Толстой — Н. Н. Страхову. 1 сентября 1880 г. Ясная Поляна 65
271. Л. Н. Толстой — Н. Н. Страхову. 26 сентября 1880 г. Ясная Поляна 67
272. Н. Н. Страхов — Л. Н. Толстому. 2 ноября 1880 г. Санкт-Петербург 71
273. Л. Н. Толстой — Н. Н. Страхову. 16 ноября 1880 г. Ясная Поляна 79
274. Н. Н. Страхов — Л. Н. Толстому. 28 ноября 1880 г. Санкт-Петербург 81
275. Л. Н. Толстой — Н. Н. Страхову. 30 ноября 1880 г. Ясная Поляна 78
276. Н. Н. Страхов — Л. Н. Толстому. 25 декабря 1880 г. Санкт-Петербург 88
277. Л. Н. Толстой — Н. Н. Страхову. 30 декабря 1880 г. Ясная Поляна 94
1881
278. Н. Н. Страхов — Л. Н. Толстому. 3 февраля 1881 г. Санкт-Петербург 97
279. С. А. Толстая — Н. Н. Страхову. 7 февраля 1881 г. Ясная Поляна 108
280. Л. Н. Толстой — Н. Н. Страхову. 9 февраля 1881 г. Ясная Поляна ПО
281. Н. Н. Страхов — Л. Н. Толстому. 6 марта 1881 г. Санкт-Петербург 114
282. Л. Н. и С. А. Толстые — Н. Н. Страхову. 17 марта 1881 г. Ясная Поляна 121
283. Л. Н. Толстой — Н. Н. Страхову. 3 апреля 1881 г. Ясная Поляна 126
284. Н. Н. Страхов — Л. Н. Толстому. 7 апреля 1881 г. Санкт-Петербург 131
663
285. Н. Н. Страхов — Л. Н. Толстому. Около 26 апреля, 4 мая 1881 г. Санкт-Петер¬
бург 140
286. Л. Н. Толстой — Н. Н. Страхову. 5 мая 1881 г. Ясная Поляна 151
287. Н. Н. Страхов — Л. Н. Толстому. 25 мая 1881 г. Санкт-Петербург 156
288. Л. Н. Толстой — Н. Н. Страхову. 28 мая 1881 г. Ясная Поляна 161
289. Л. Н. Толстой — Н. Н. Страхову. Между 1-10 июня 1881 г. Ясная Поляна 167
290. Н. Н. Страхов — Л. Н. Толстому. 12-13 июня 1881 г. Санкт-Петербург 170
291. Л. Н. Толстой — Н. Н. Страхову. 12 июля 1881 г. Ясная Поляна 175
292. С. А. Толстая — Н. Н. Страхову. 20 июля 1881 г. Ясная Поляна 177
293. Н. Н. Страхов — Л. Н. Толстому. 22 июля 1881 г. Санкт-Петербург 180
294. Н. Н. Страхов — С. А. Толстой. 27 июля 1881 г. Санкт-Петербург 181
295. Н. Н. Страхов — С. А. Толстой. 6 августа 1881 г. Воробьевка 182
296. Н. Н. Страхов — Л. Н. Толстому. 19 октября 1881 г. Санкт-Петербург 186
297. Л. Н. Толстой — Н. Н. Страхову. 25 ноября 1881 г. Москва 193
298. Н. Н. Страхов — Л. Н. Толстому. 26 ноября 1881 г. Санкт-Петербург 198
299. Н. Н. Страхов — Л. Н. Толстому. 29 ноября 1881 г. Санкт-Петербург 200
1882
300. Н. Н. Страхов — Л. Н. Толстому. 6 февраля 1882 г. Санкт-Петербург 202
301. Л. Н. Толстой — Н. Н. Страхову. 14 марта 1882 г. Москва 208
302. Н. Н. Страхов — Л. Н. Толстому. 31 марта 1882 г. Санкт-Петербург 211
303. Л. Н. Толстой — Н. Н. Страхову. 3 апреля 1882 г. Москва 219
304. Н. Н. Страхов — Л. Н. Толстому. 21 апреля 1882 г. Санкт-Петербург 220
305. Л. Н. Толстой — Н. Н. Страхову. 10 июня 1882 г. Ясная Поляна 223
306. Н. Н. Страхов — Л. Н. Толстому. 2 сентября 1882 г. Санкт-Петербург 228
307. Л. Н. Толстой — Н. Н. Страхову. 12 октября 1882 г. Москва 229
308. С. А. и Л. Н. Толстые — Н. Н. Страхову. 24 ноября 1882 г. Москва 232
1883
309. Н. Н. Страхов — Л. Н. Толстому. 5 июня 1883 г. Санкт-Петербург 237
310. С. А. Толстая — Н. Н. Страхову. 8 июня 1883 г. Ясная Поляна 242
311. Н. Н. Страхов — С. А. Толстой. 22 июня 1883 г. Воробьевка 243
312. Л. Н. Толстой — Н. Н. Страхову. Около 3 июля 1883 г. Ясная Поляна 247
313. Н. Н. Страхов — Л. Н. Толстому. 6 июля 1883 г. Воробьевка 248
314. Н. Н. Страхов — Л. Н. Толстому. 16 августа 1883 г. Санкт-Петербург 250
315. Л. Н. Толстой — Н. Н. Страхову. 2 сентября 1883 г. Ясная Поляна 263
316. Н. Н. Страхов — Л. Н. Толстому. 16 сентября 1883 г. Санкт-Петербург 266
317. Н. Н. Страхов — Л. Н. Толстому. 28 ноября 1883 г. Санкт-Петербург 271
318. Л. Н. Толстой — Н. Н. Страхову. 6 декабря 1883 г. Москва 285
319. Н. Н. Страхов — Л. Н. Толстому. 12 декабря 1883 г. Санкт-Петербург 290
664
1884
320. Л. Н. Толстой — Н. Н. Страхову. 3 (?) января 1884 г. Москва 296
321. Н. Н. Страхов — С. А. Толстой. 14 февраля 1884 г. Санкт-Петербург 298
322. С. А. Толстая — Н. Н. Страхову. 21 февраля 1884 г. Москва 299
323. Н. Н. Страхов — Л. Н. Толстому. Февраль - 18 марта 1884 г. Санкт-Петербург 304
324. Л. Н. Толстой — Н. Н. Страхову. 27 марта 1884 г. Москва 309
325. Н. Н. Страхов — Л. Н. Толстому. 28 апреля 1884 г. Санкт-Петербург 310
326. Н. Н. Страхов — Л. Н. Толстому. 20 июня 1884 г. Санкт-Петербург 313
327. Н. Н. Страхов — Л. Н. Толстому. 1 ноября 1884 г. Санкт-Петербург 321
328. Л. Н. Толстой — Н. Н. Страхову. 27 ноября 1884 г. Москва 333
329. Л. Н. Толстой — Н. Н. Страхову. 1883-1884 (?) гг. Москва 334
1885
330. Н. Н. Страхов — С. А. Толстой. 29 марта 1885 г. Санкт-Петербург 335
331. Л. Н. Толстой — Н. Н. Страхову. 31 марта 1885 г. Москва 343
332. Н. Н. Страхов — Л. Н. Толстому. 12 апреля 1885 г. Санкт-Петербург 349
333. Л. Н. Толстой — Н. Н. Страхову. 16 апреля 1885 г. Москва 352
334. Н. Н. Страхов — Л. Н. Толстому. 2-4 июня 1885 г. Мшатка 353
335. Н. Н. Страхов — Л. Н. Толстому. 22 или 23 июня 1885 г. Москва 357
336. Л. Н. Толстой — Н. Н. Страхову. 5 июля 1885 г. Ясная Поляна 365
337. Н. Н. Страхов — Л. Н. Толстому. 28 июля 1885 г. Санкт-Петербург 366
338. С. А. Толстая — Н. Н. Страхову. 22 августа 1885 г. Москва 374
339. Н. Н. Страхов — С. А. Толстой. 29 августа 1885 г. Санкт-Петербург 378
340. С. А. Толстая — Н. Н. Страхову. 9 сентября 1885 г. Ясная Поляна 381
341. Н. Н. Страхов — С. А. Толстой. 18 сентября 1885 г. Санкт-Петербург 384
342. С. А. Толстая — Н. Н. Страхову. 23 сентября 1885 г. Ясная Поляна 386
343. Н. Н. Страхов — С. А. Толстой. 30 сентября 1885 г. Санкт-Петербург 388
344. С. А. Толстая — Н. Н. Страхову. 15 октября 1885 г. Москва 390
345. Н. Н. Страхов — Л. Н. Толстому. 26 октября 1885 г. Санкт-Петербург 391
346. Л. Н. Толстой — Н. Н. Страхову. Начало декабря 1885 г. Москва 398
347. Н. Н. Страхов — Л. Н. Толстому. 8 декабря 1885 г. Санкт-Петербург 401
1886
348. Н. Н. Страхов — Л. Н. Толстому. 22 февраля 1886 г. Санкт-Петербург 406
349. Н. Н. Страхов — Л. Н. Толстому. 6 марта 1886 г. Санкт-Петербург 409
350. Н. Н. Страхов — Л. Н. Толстому. 13 июня 1886 г. Мшатка 410
351. Л. Н. и С. А. Толстые — Н. Н. Страхову. 21 июня 1886 г. Ясная Поляна 415
352. Н. Н. Страхов — Л. Н. Толстому. 21 июля 1886 г. Санкт-Петербург 417
353. С. А. Толстая — Н. Н. Страхову. 10 августа 1886 г. Ясная Поляна 420
665
354. Н. Н. Страхов — С. А. Толстой. 11 августа 1886 г. Санкт-Петербург 422
355. А. М. Кузминский, Л. Н. Толстой — Н. Н. Страхову. 19 августа 1886 г. Ясная
Поляна 425
356. С. А. Толстая — Н. Н. Страхову. 19 августа 1886 г. Ясная Поляна 426
357. Н. Н. Страхов — С. А. Толстой. 21 августа 1886 г. Санкт-Петербург 429
358. Н. Н. Страхов — Л. Н. Толстому. 22 августа 1886 г. Санкт-Петербург 431
359. Н. Н. Страхов — Л. Н. Толстому. 23 сентября 1886 г. Санкт-Петербург 434
360. Н. Н. Страхов — С. А. Толстой. 14 октября 1886 г. Санкт-Петербург 436
361. С. А. Толстая — Н. Н. Страхову. 18 октября 1886 г. Ясная Поляна 438
362. Л. Н. Толстой — Н. Н. Страхову. 19 октября 1886 г. Ясная Поляна 440
363. С. А. Толстая — Н. Н. Страхову. 21 октября 1886 г. Москва 443
364. Н. Н. Страхов — Л. Н. Толстому. 2 ноября 1886 г. Санкт-Петербург 444
365. Л. Н. Толстой — Н. Н. Страхову. 14 ноября 1886 г. Ясная Поляна 448
366. Н. Н. Страхов — Л. Н. Толстому. 11 декабря 1886 г. Санкт-Петербург 450
1887
367. Н. Н. Страхов — Л. Н. Толстому. 27января 1887 г. Санкт-Петербург 453
368. Н. Н. Страхов — Л. Н. Толстому. Середина февраля 1887 г. Санкт-Петербург . . 458
369. Л. Н. Толстой — Н. Н. Страхову. 26 февраля 1887 г. Москва 461
370. Л. Н. Толстой — Н. Н. Страхову. 3 марта 1887 г. Москва 463
371. Н. Н. Страхов — Л. Н. Толстому. 12 марта 1887 г. Санкт-Петербург 464
372. Н. Н. Страхов — Л. Н. Толстому. 14 апреля 1887 г. Санкт-Петербург 469
373. Н. Н. Страхов — Л. Н. Толстому. 25 апреля 1887 г. Санкт-Петербург 470
374. Л. Н. и С. А. Толстые — Н. Н. Страхову. 19 мая 1887 г. Ясная Поляна 477
375. Н. Н. Страхов — Л. Н. Толстому. 20 мая 1887 г. Санкт-Петербург 479
376. Н. Н. Страхов — Л. Н. Толстому. 4 июня 1887 г. Санкт-Петербург 484
377. Н. Н. Страхов — Л. Н. Толстому. 27 июля 1887 г. Мшатка 487
378. Н. Н. Страхов — Л. Н. Толстому. 20 августа 1887 г. Воробьевка 492
379. Н. Н. Страхов — Л. Н. Толстому. 13 сентября 1887 г. Санкт-Петербург 494
380 Л. Н. Толстой — Н. Н. Страхову. 16 октября 1887 г. Ясная Поляна 498
381. Н. Н. Страхов — Л. Н. Толстому. После 16 октября 1887 г. Санкт-Петербург . . 506
382. Н. Н. Страхов — Л. Н. Толстому. 5 ноября 1887 г. Санкт-Петербург 511
383. Л. Н. Толстой — Н. Н. Страхову. 8 ноября 1887 г. Москва 516
384. Н. Н. Страхов — Л. Н. Толстому. 16 ноября 1887 г. Санкт-Петербург 520
385. Н. Н. Страхов — С. А. Толстой. 21 декабря 1887 г. Санкт-Петербург 524
386. С. А. Толстая — Н. Н. Страхову. 22 декабря 1887 г. Москва 526
1888
387. Л. Н. Толстой — Н. Н. Страхову. 24 января 1888 г. Москва 527
388. Н. Н. Страхов — Л. Н. Толстому. 5 февраля 1888 г. Санкт-Петербург 529
389. Л. Н. Толстой — Н. Н. Страхову. Около 26 марта 1888 г. Москва 538
666
390. Н. Н. Страхов — Л. Н. Толстому. 6 апреля 1888 г. Санкт-Петербург 540
391. Н. Н. Страхов — Л. Н. Толстому. Июнь 1888 г. Санкт-Петербург 548
392. Л. Н. Толстой — Н. Н. Страхову. 28 июня 1888 г. Ясная Поляна 551
393. Н. Н. Страхов — Л. Н. Толстому. 17 июля 1888 г. Санкт-Петербург 553
394. Н. Н. Страхов — Л. Н. Толстому. 13 сентября 1888 г. Санкт-Петербург 561
395. С. А. Толстая — Н. Н. Страхову. 28 декабря 1888 г. Москва 573
1889
396. Н. Н. Страхов — С. А. Толстой. 4 января 1889 г. Санкт-Петербург 576
397. Н. Н. Страхов — Л. Н. Толстому. 13 апреля 1889 г. Санкт-Петербург 589
398. С. А. Толстая — Н. Н. Страхову. 20 апреля 1889 г. Москва 609
399. Л. Н. Толстой — Н. Н. Страхову. 21 апреля 1889 г. Москва 611
400. Н. Н. Страхов — Л. Н. Толстому. 18 мая 1889 г. Санкт-Петербург 613
401. Л. Н. Толстой — Н. Н. Страхову. 28 мая 1889 г. Ясная Поляна 618
402. Н. Н. Страхов — Л. Н. Толстому. 21 июня 1889 г. Санкт-Петербург 619
403. Н. Н. Страхов — Л. Н. Толстому. 24 июля 1889 г. Санкт-Петербург 626
404. Л. Н. Толстой — Н. Н. Страхову. 6 августа 1889 г. Ясная Поляна 631
405. Н. Н. Страхов — Л. Н. Толстому. 13 августа 1889 г. Санкт-Петербург 632
406. Н. Н. Страхов — Л. Н. Толстому. 31 августа 1889 г. Санкт-Петербург 639
407. Л. Н. Толстой — Н. Н. Страхову. 13 сентября 1889 г. Ясная Поляна 642
408. Н. Н. Страхов — Л. Н. Толстому. 16 сентября 1889 г. Санкт-Петербург 644
409. Н. Н. Страхов — Л. Н. Толстому. 27 сентября 1889 г. Санкт-Петербург 647
410. Н. Н. Страхов — Л. Н. Толстому. 6 ноября 1889 г. Санкт-Петербург 653
411. Л. Н. Толстой — Н. Н. Страхову. 17 ноября 1889 г. Ясная Поляна 660
Научное издание
Переписка Л. Н. Толстого и Н. Н. Страхова (1870—1896) Том II Книга 1: 1880—1889