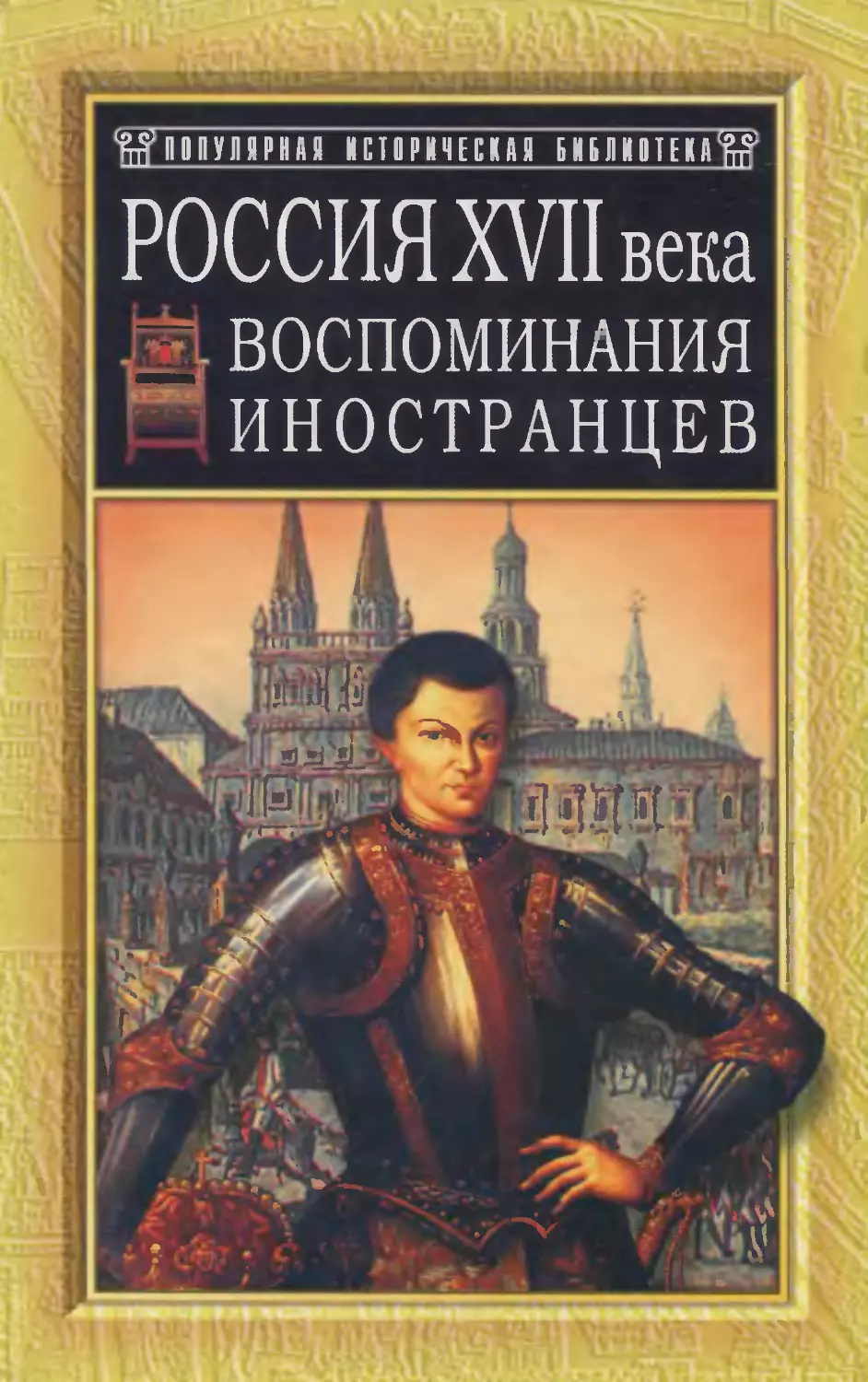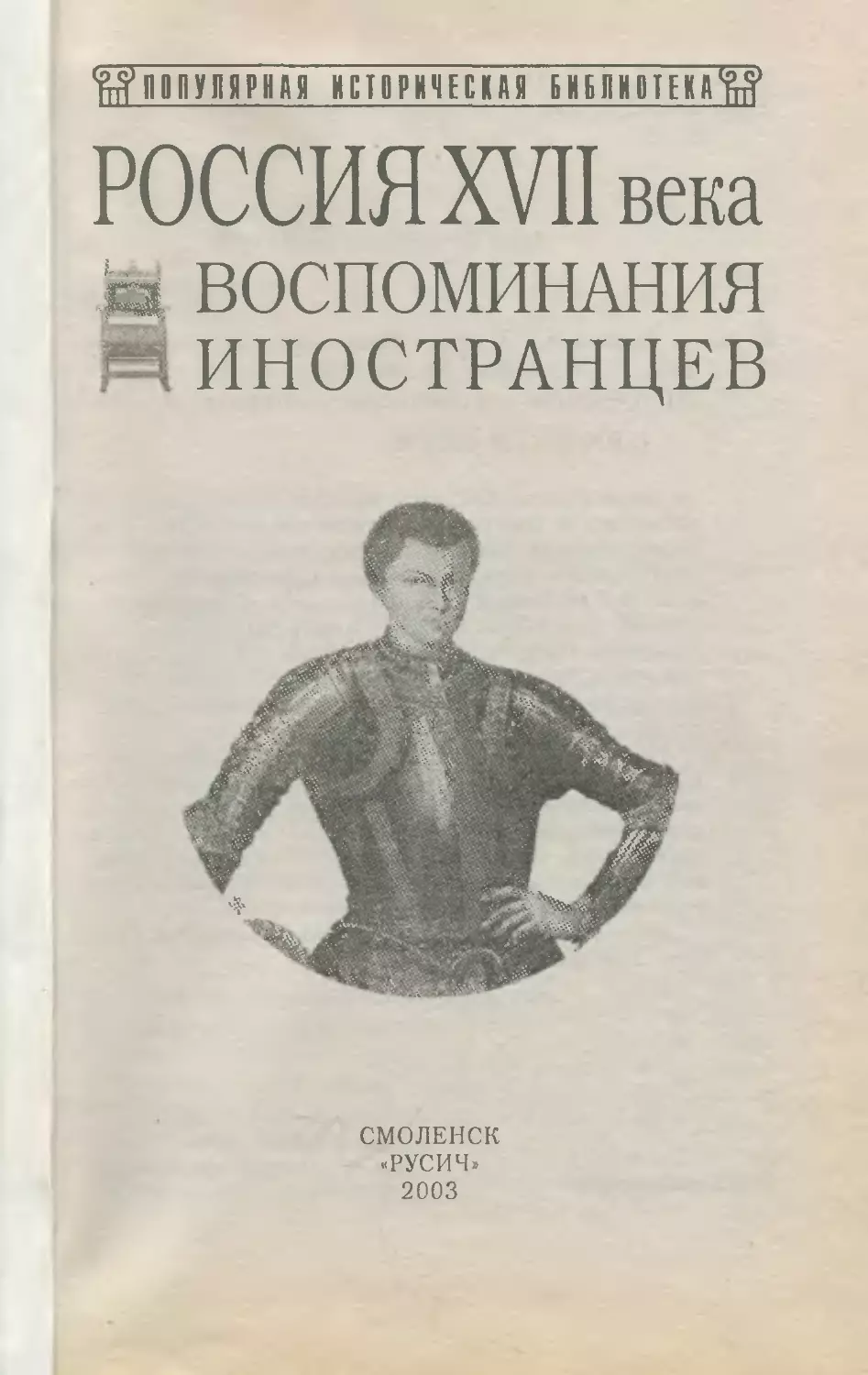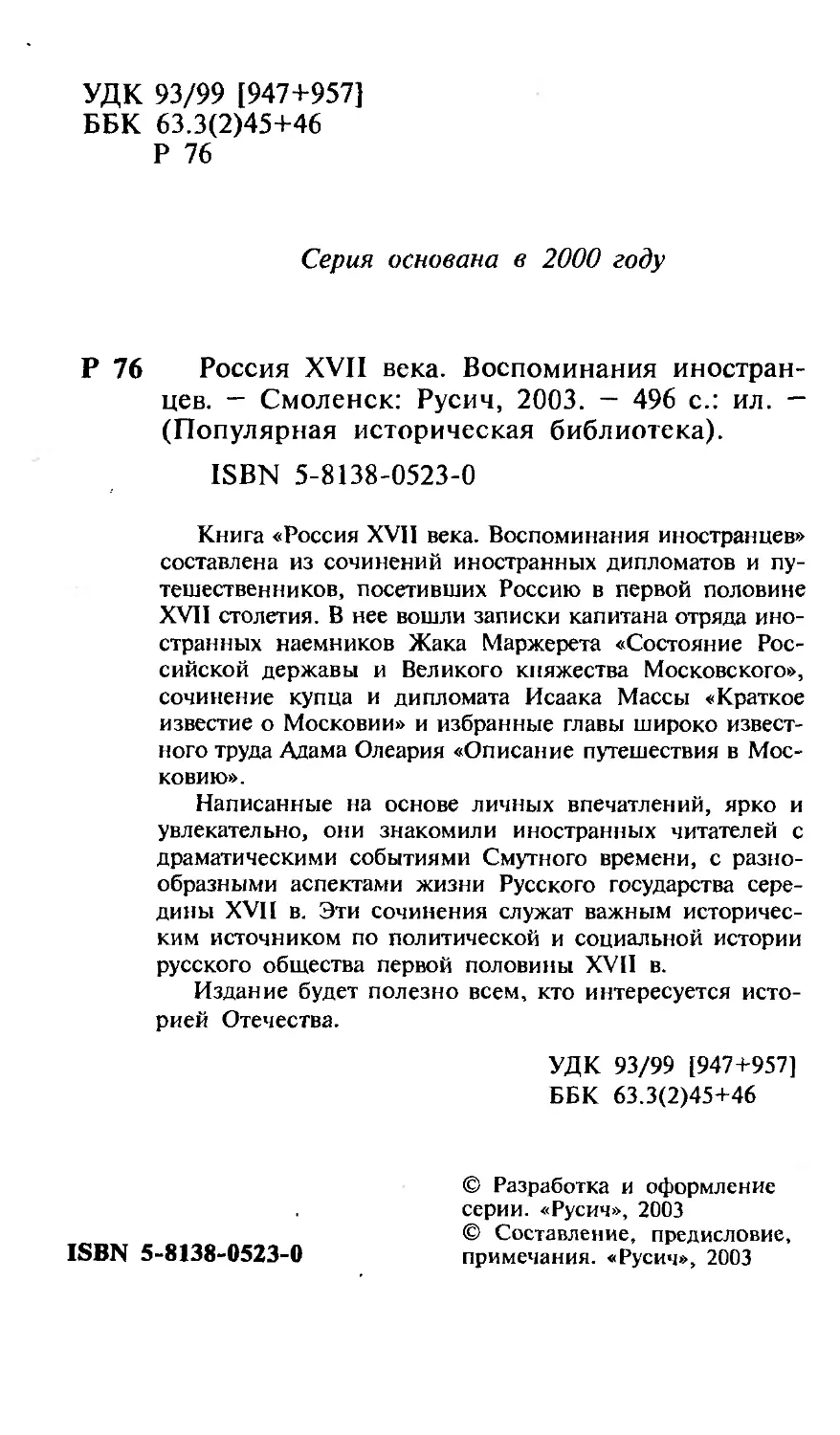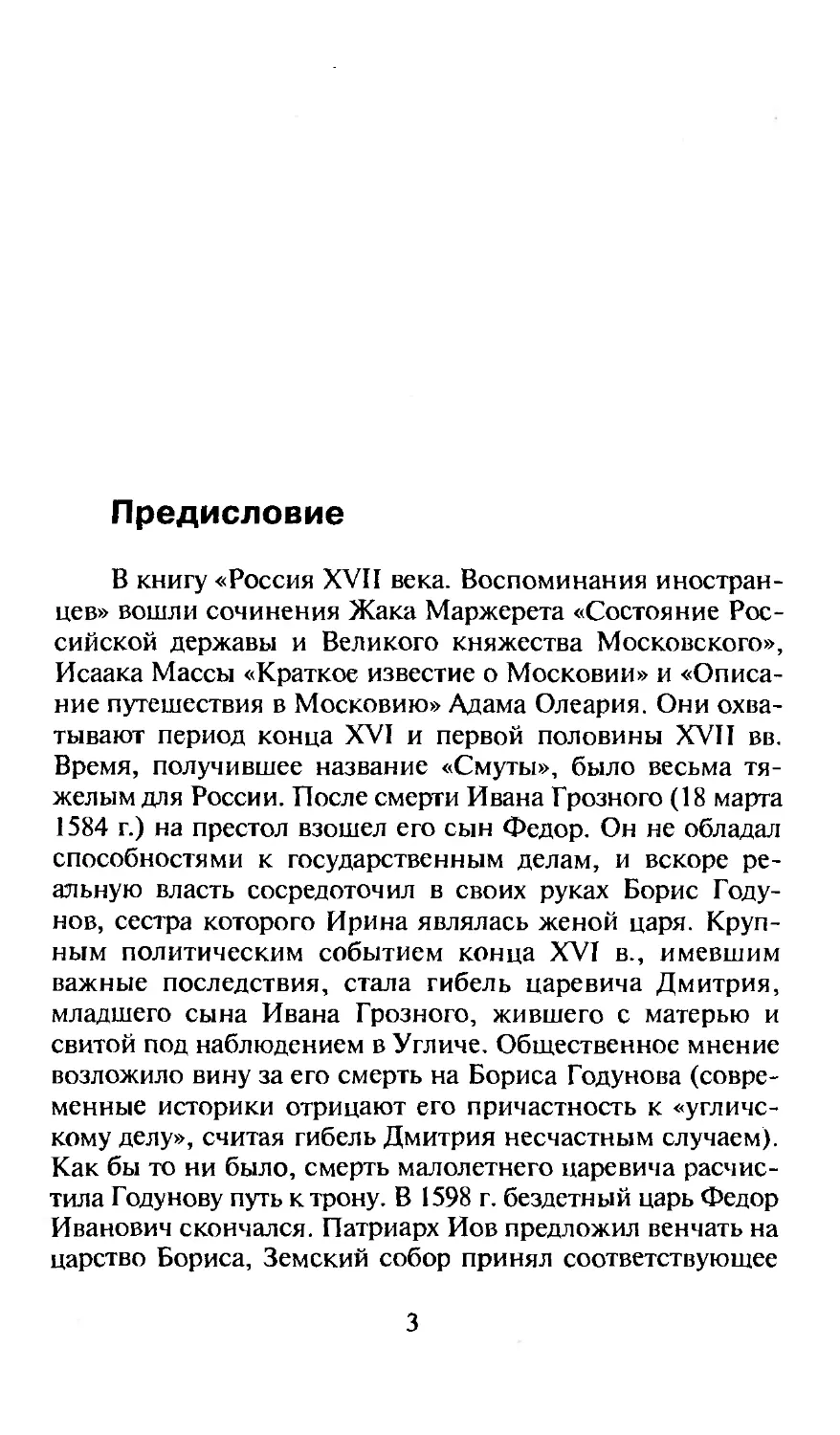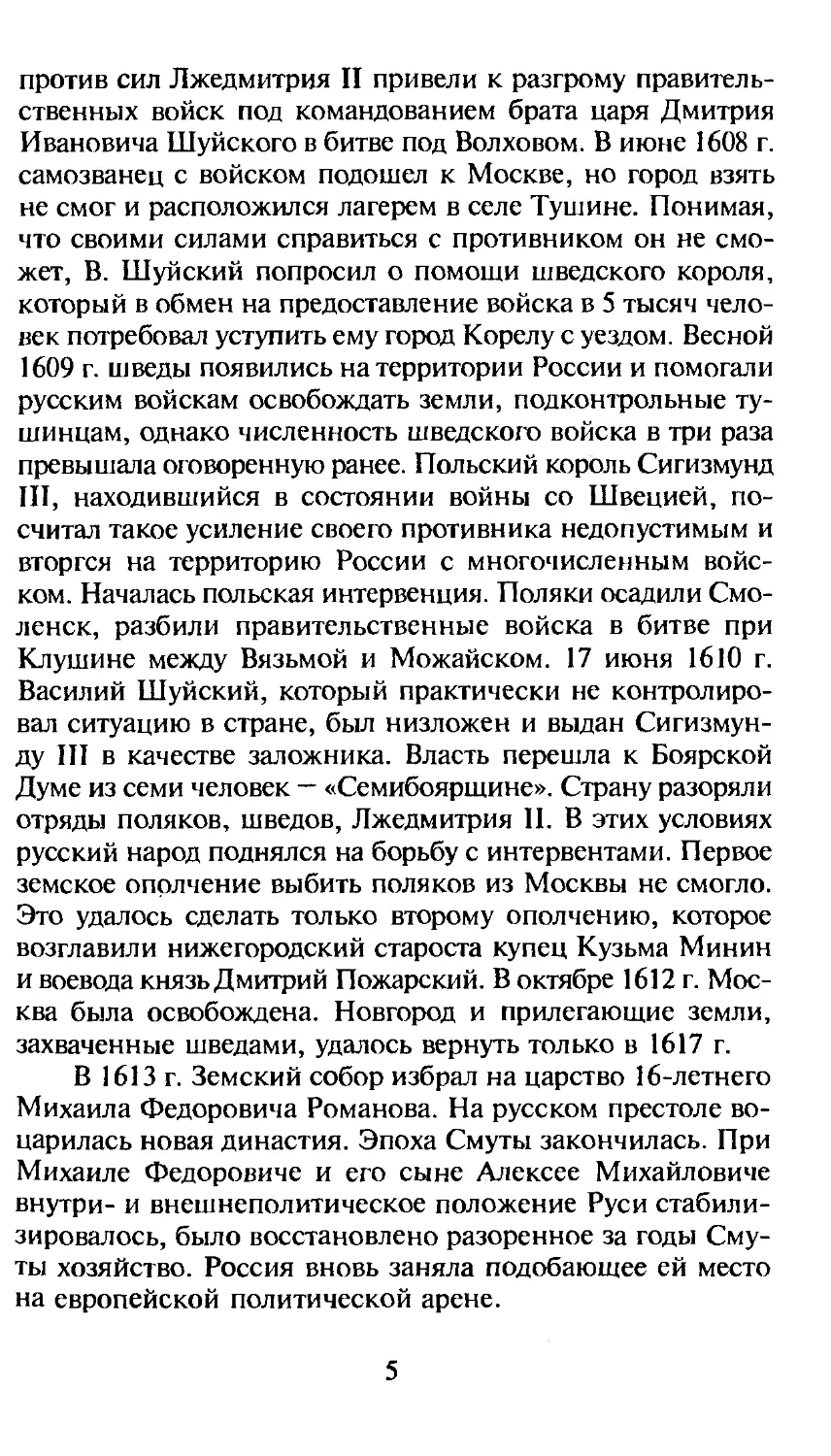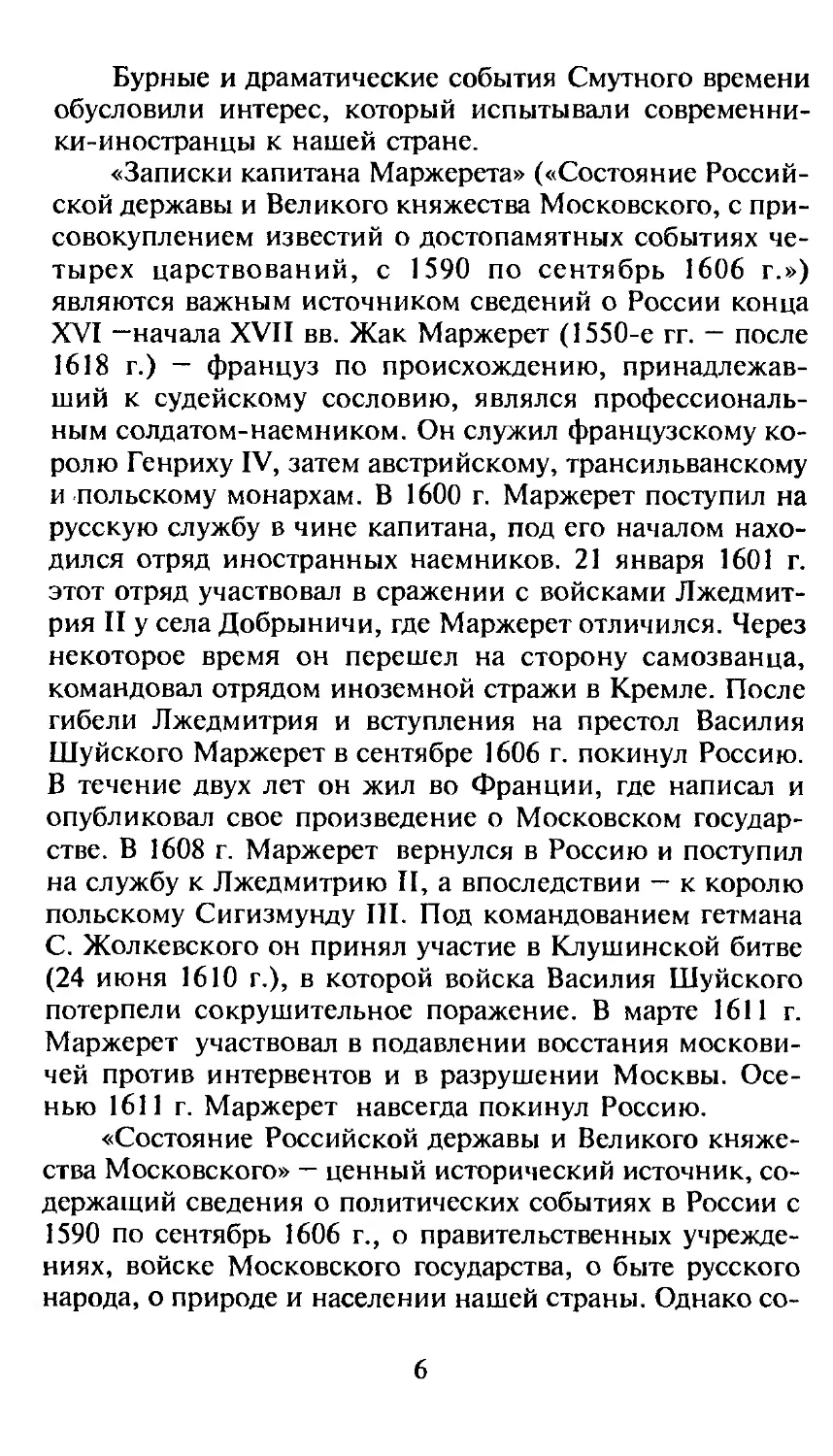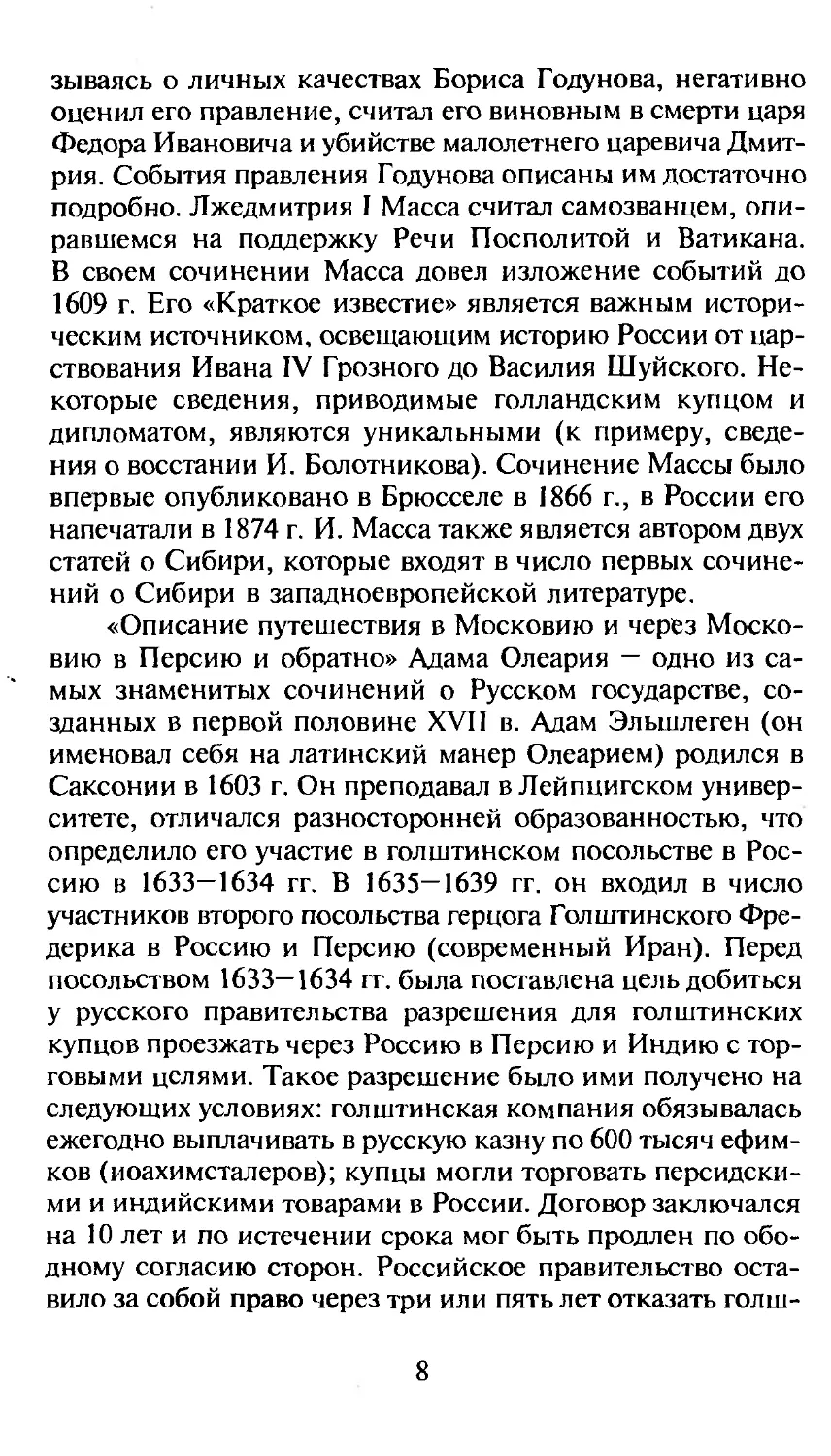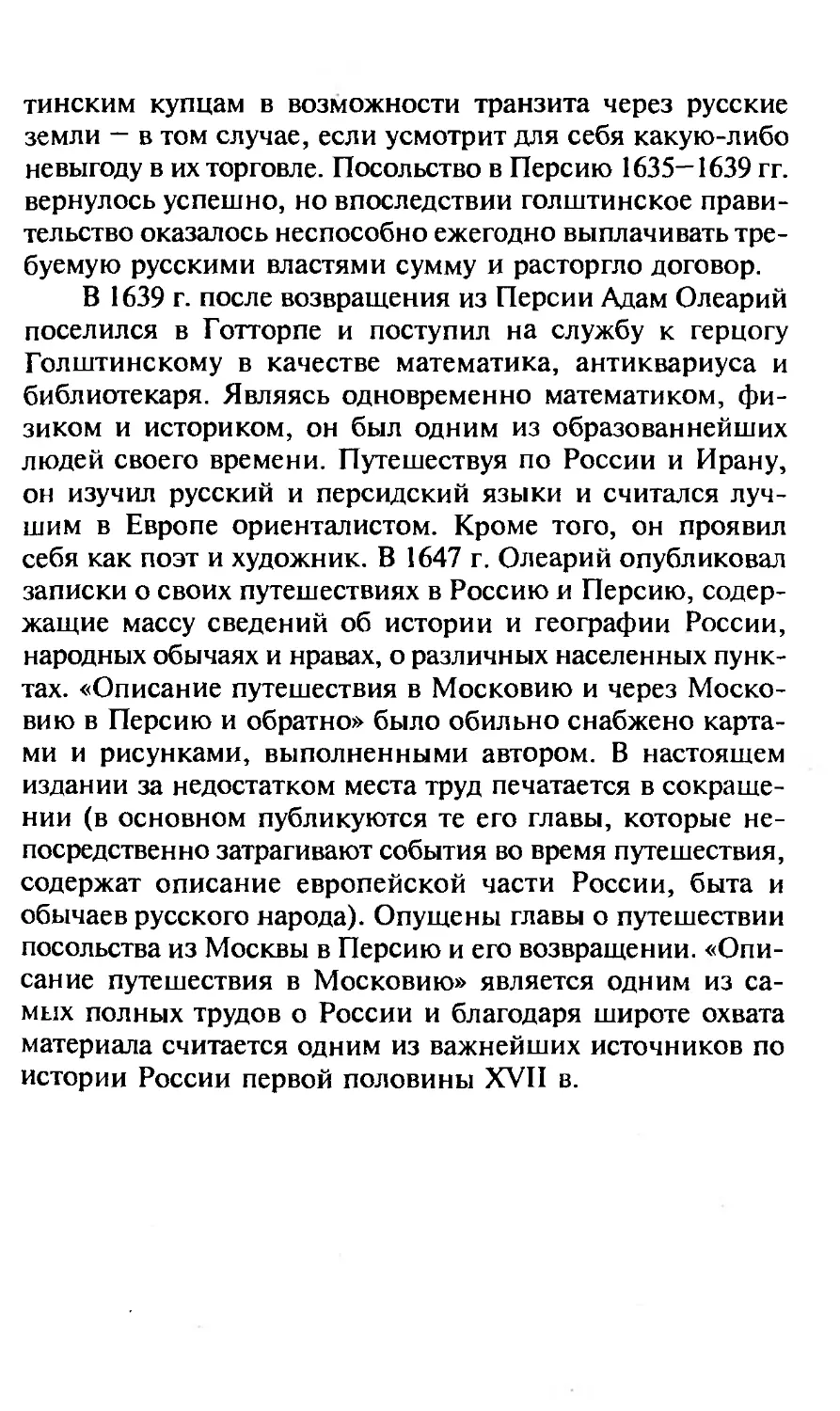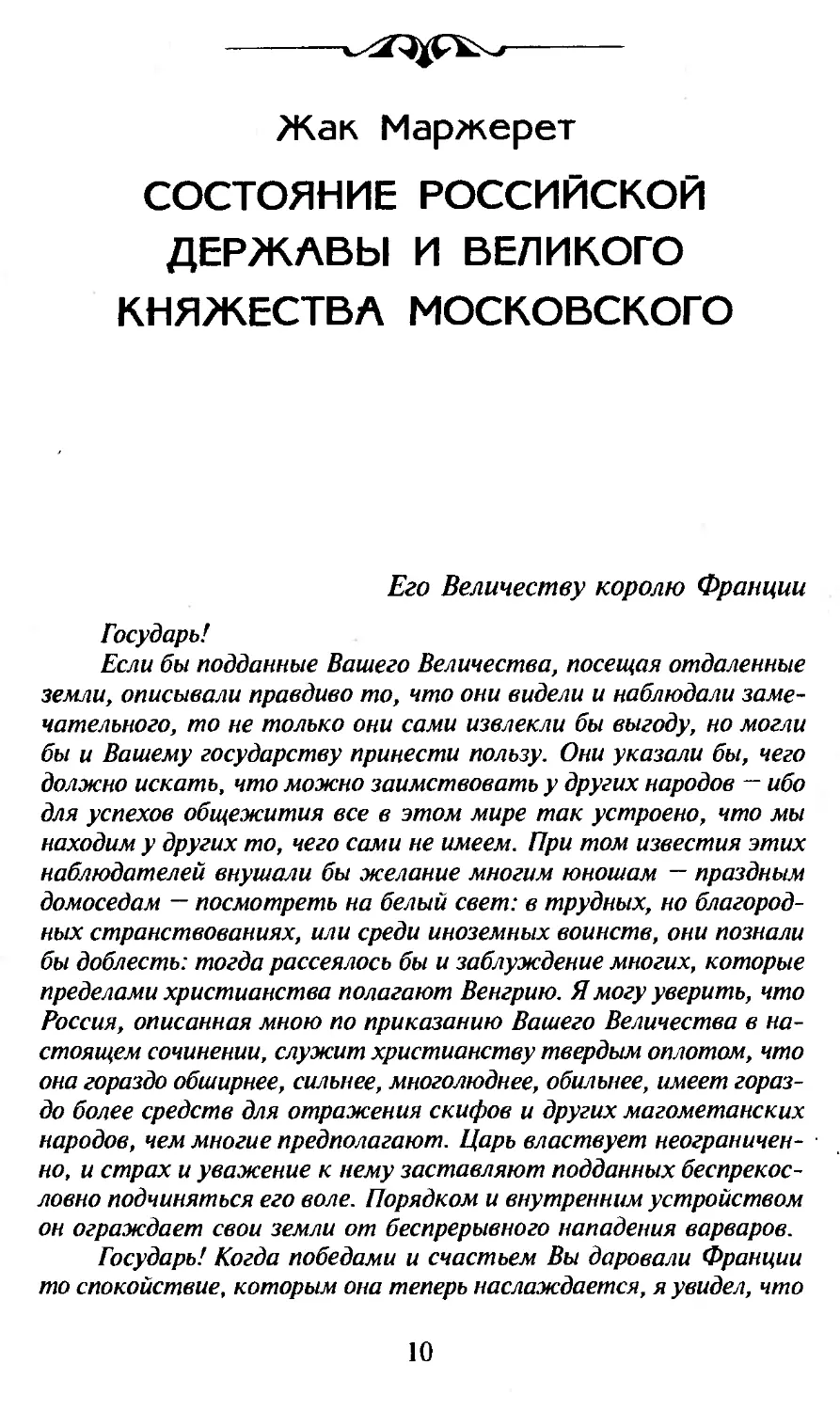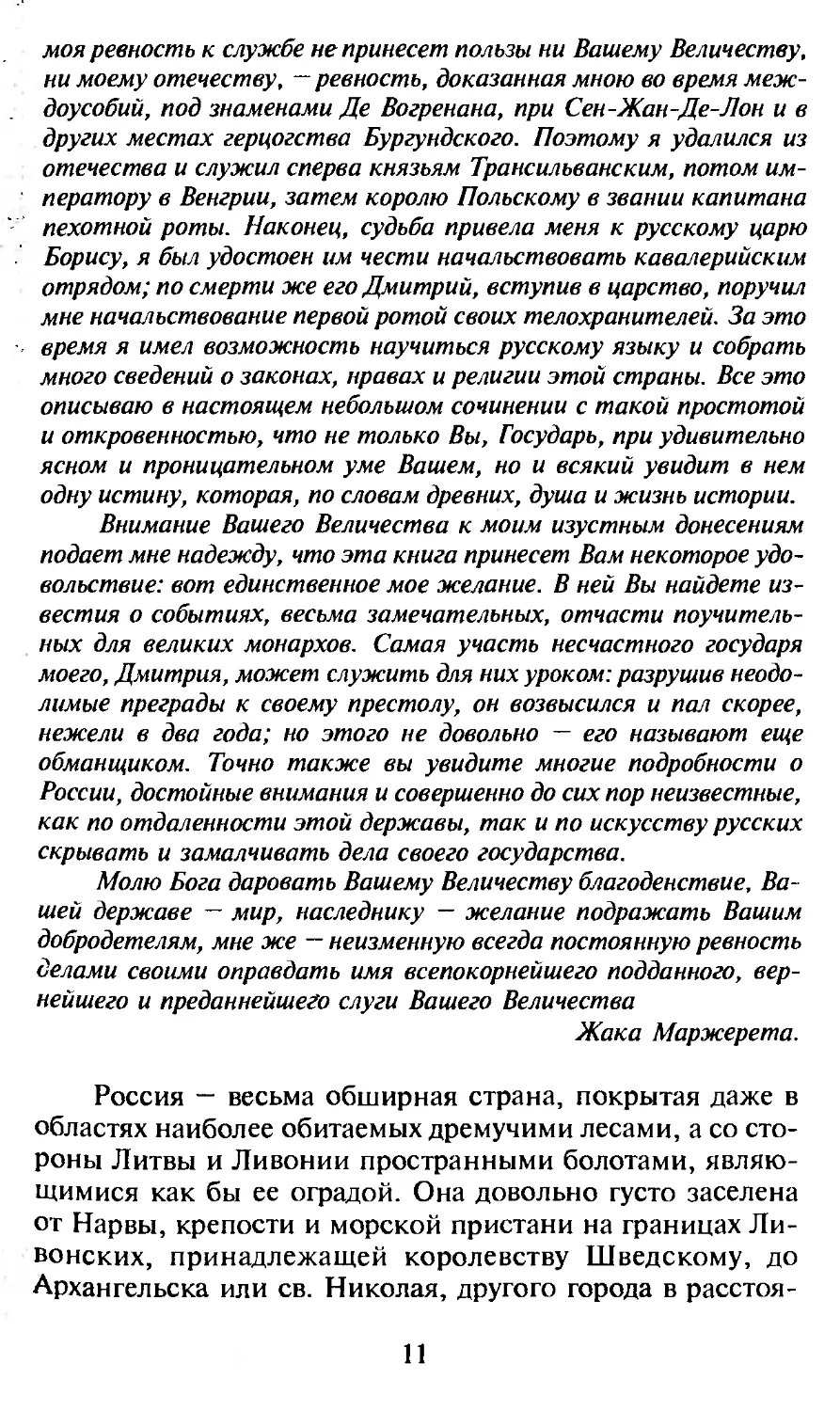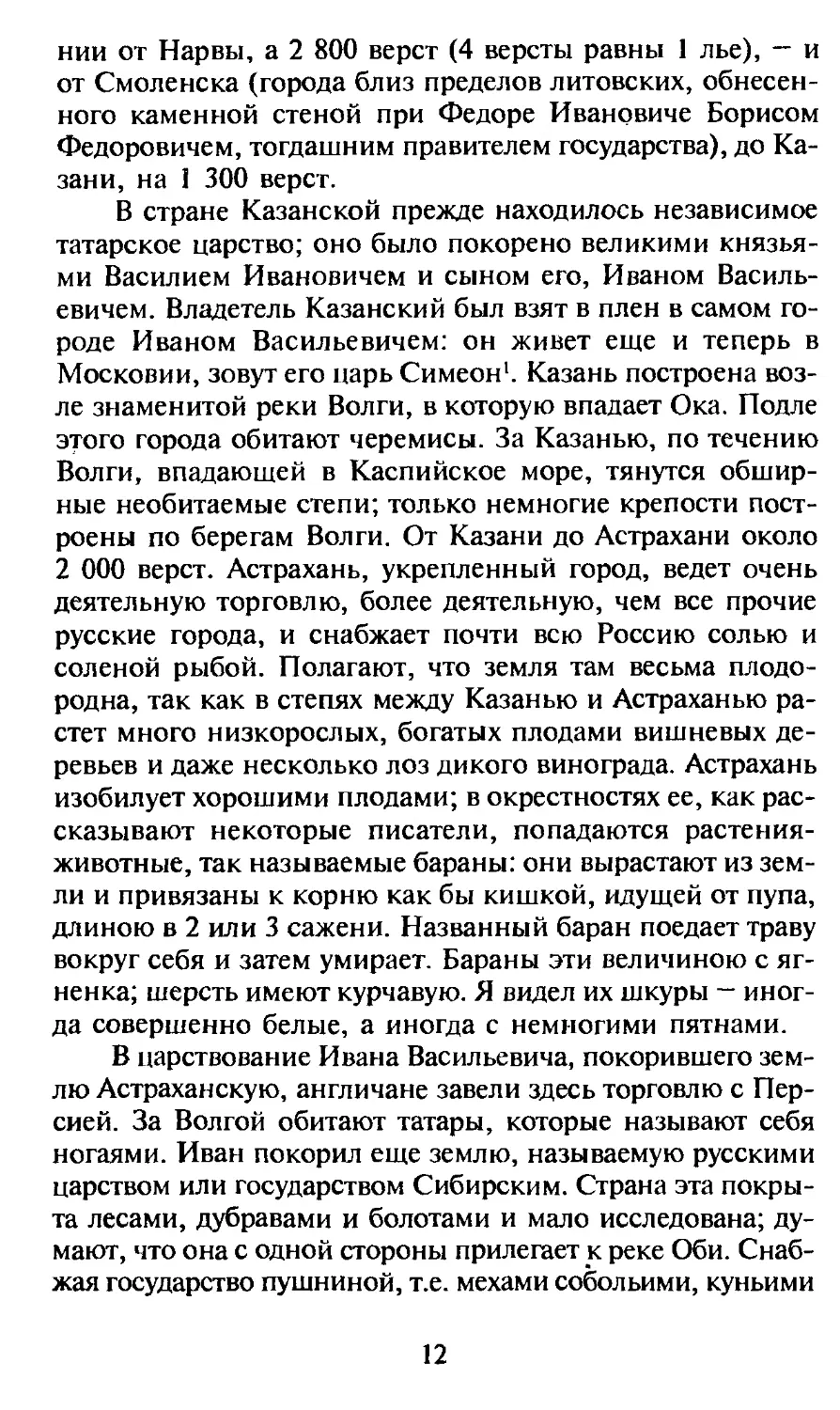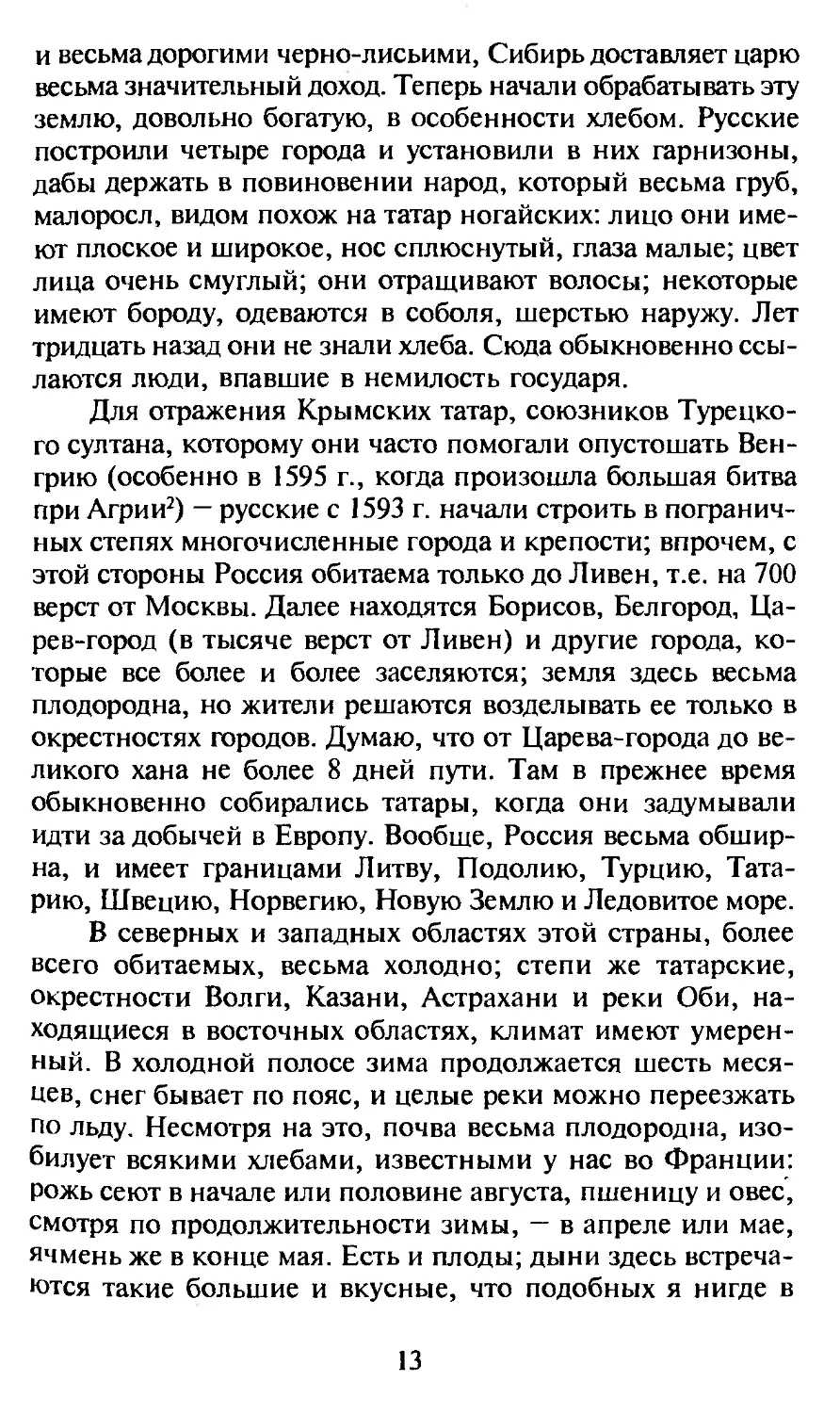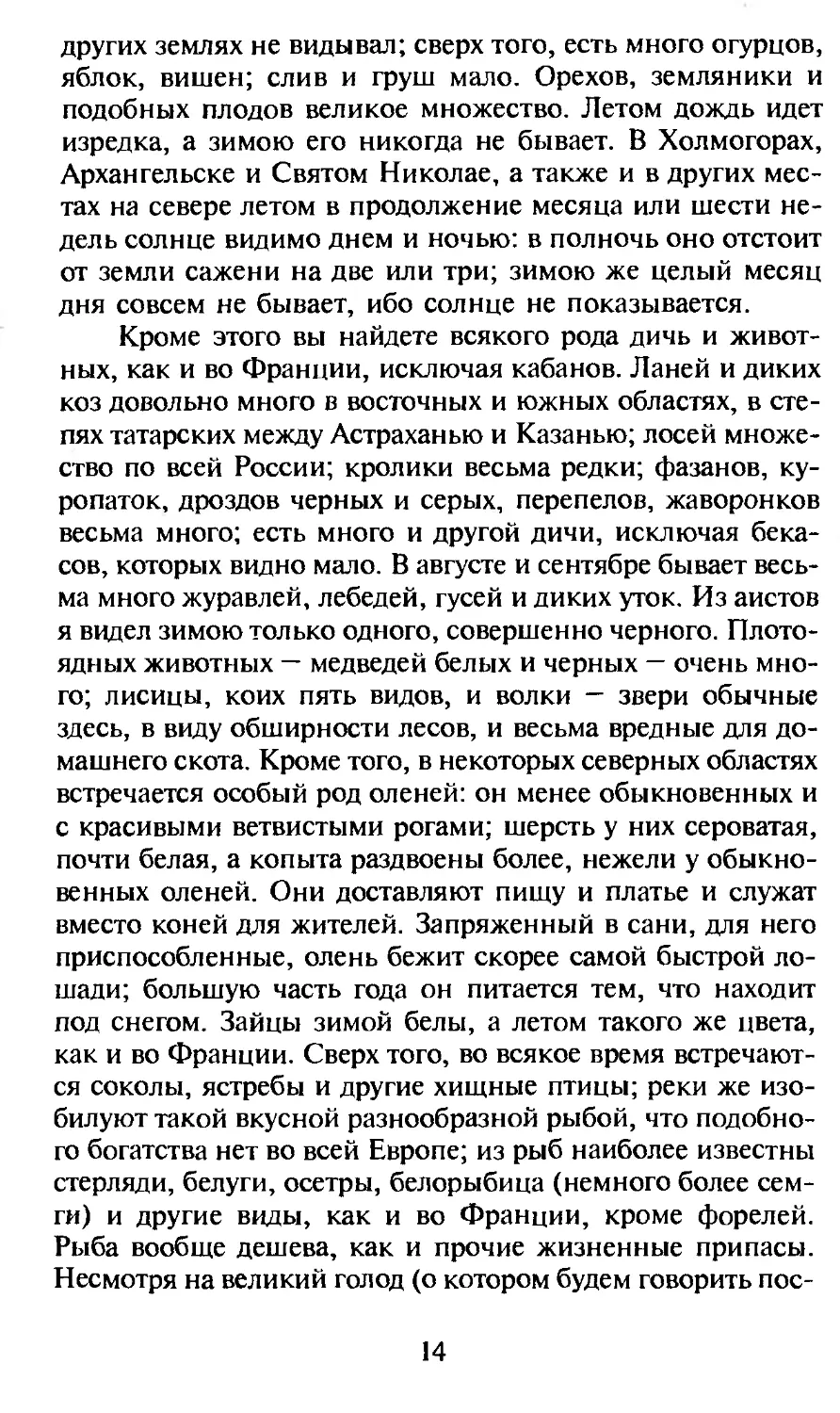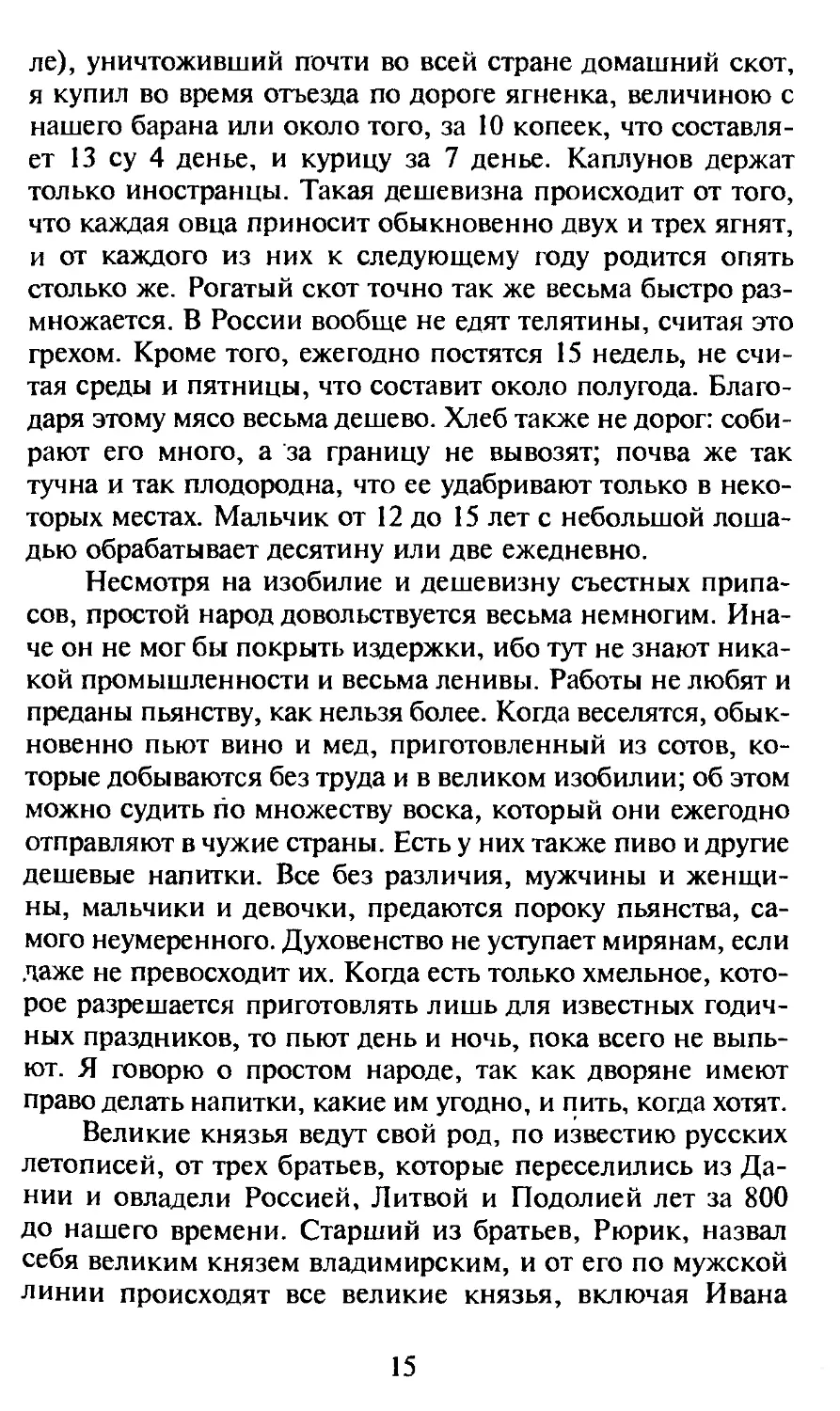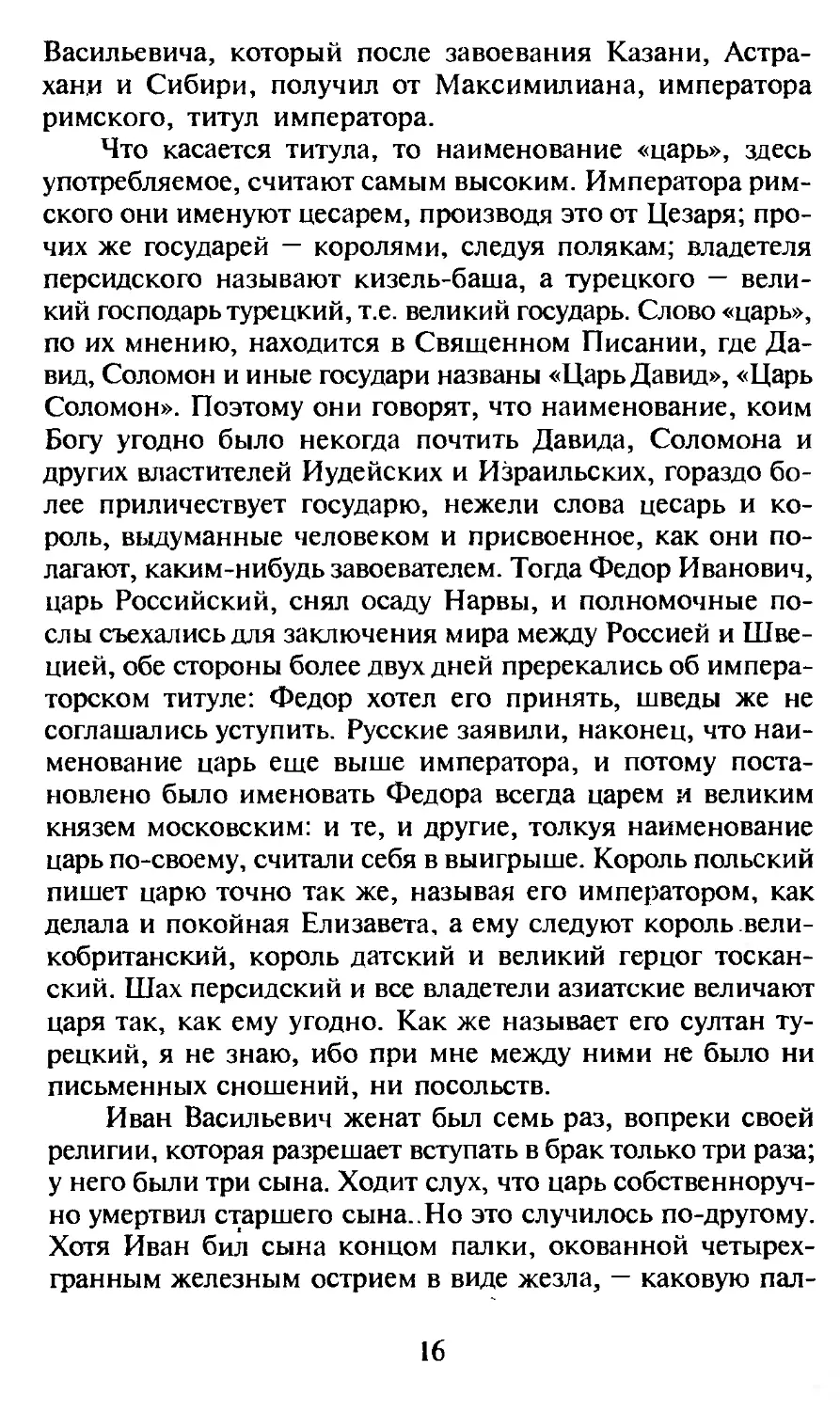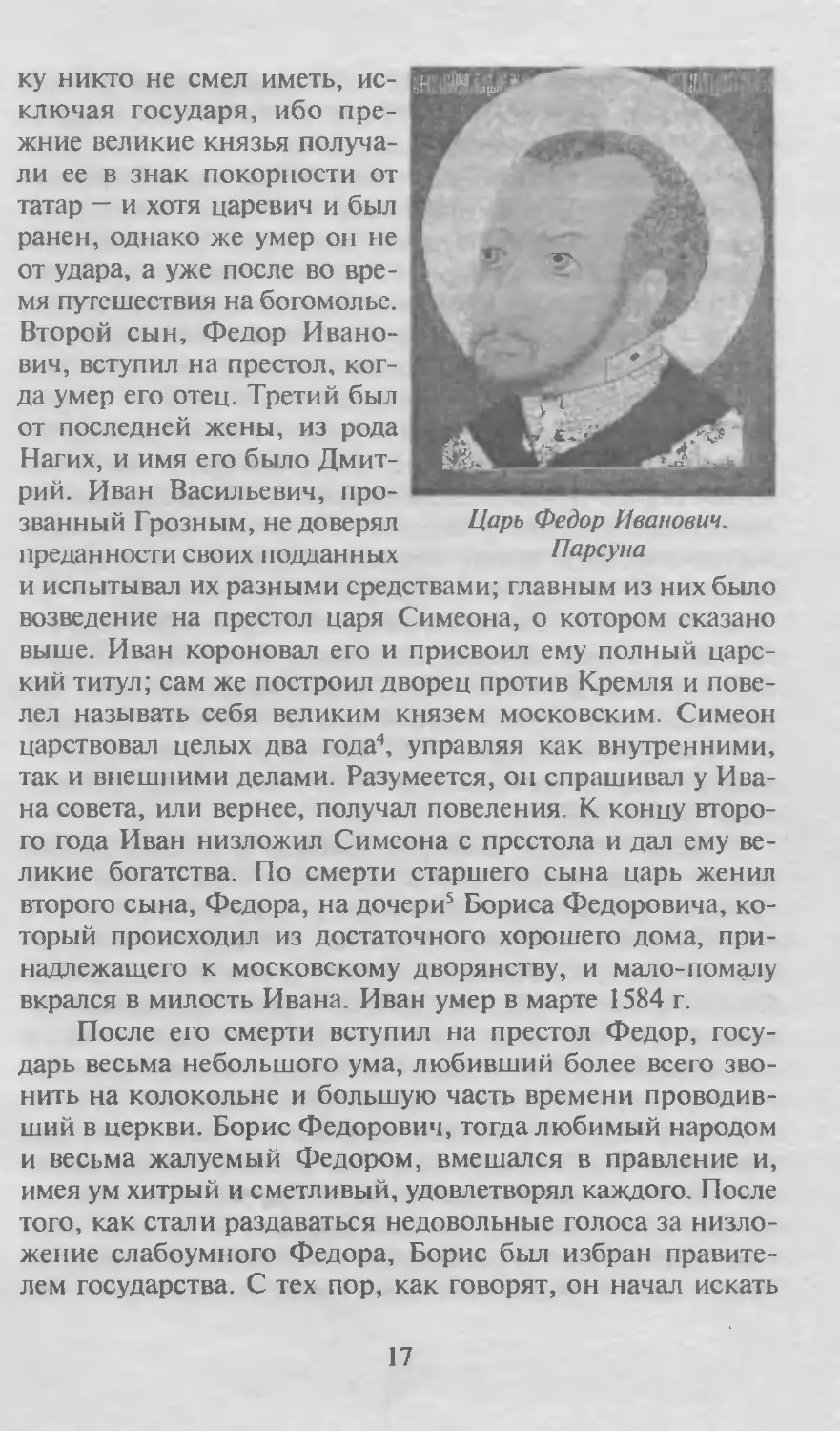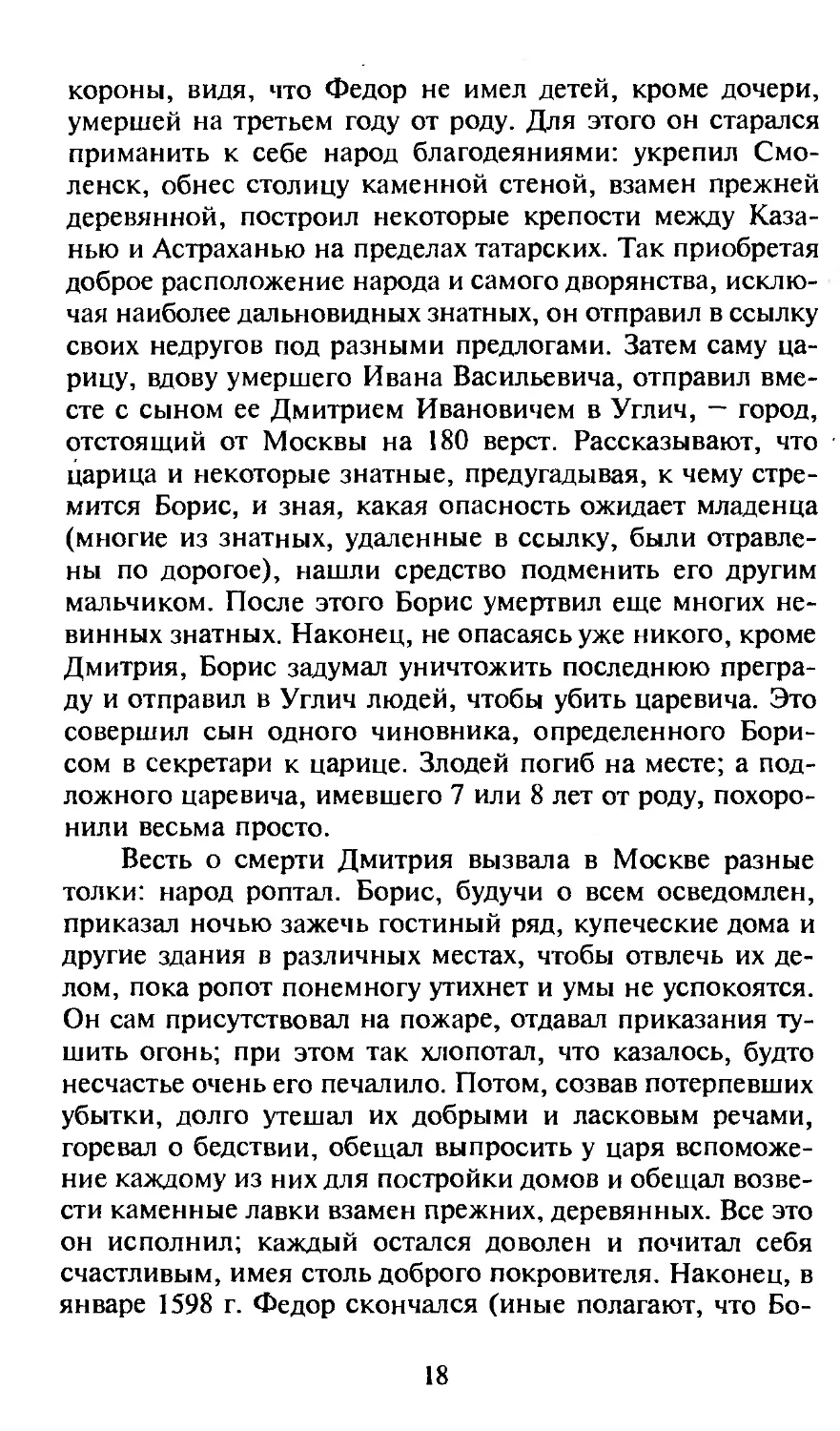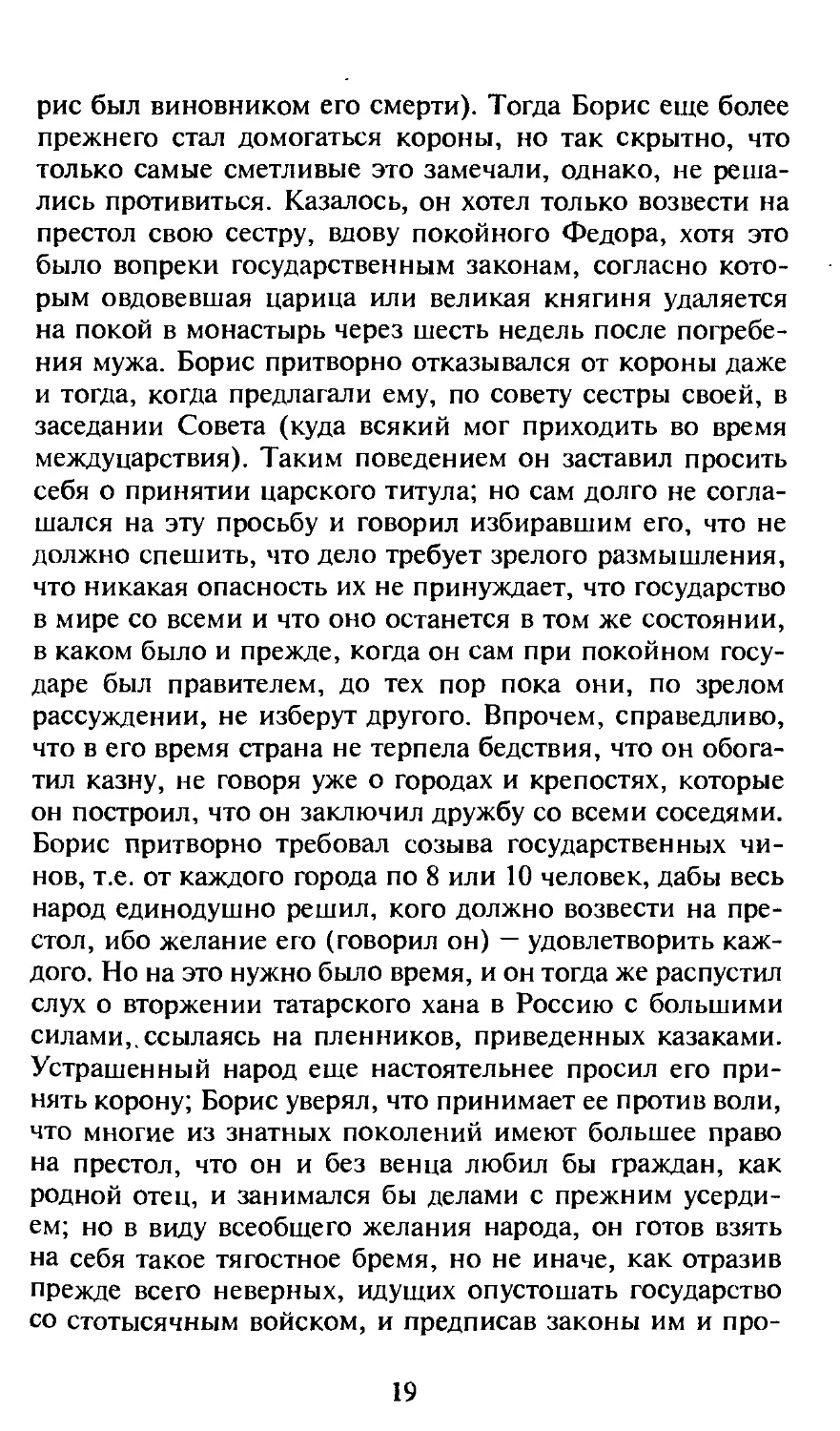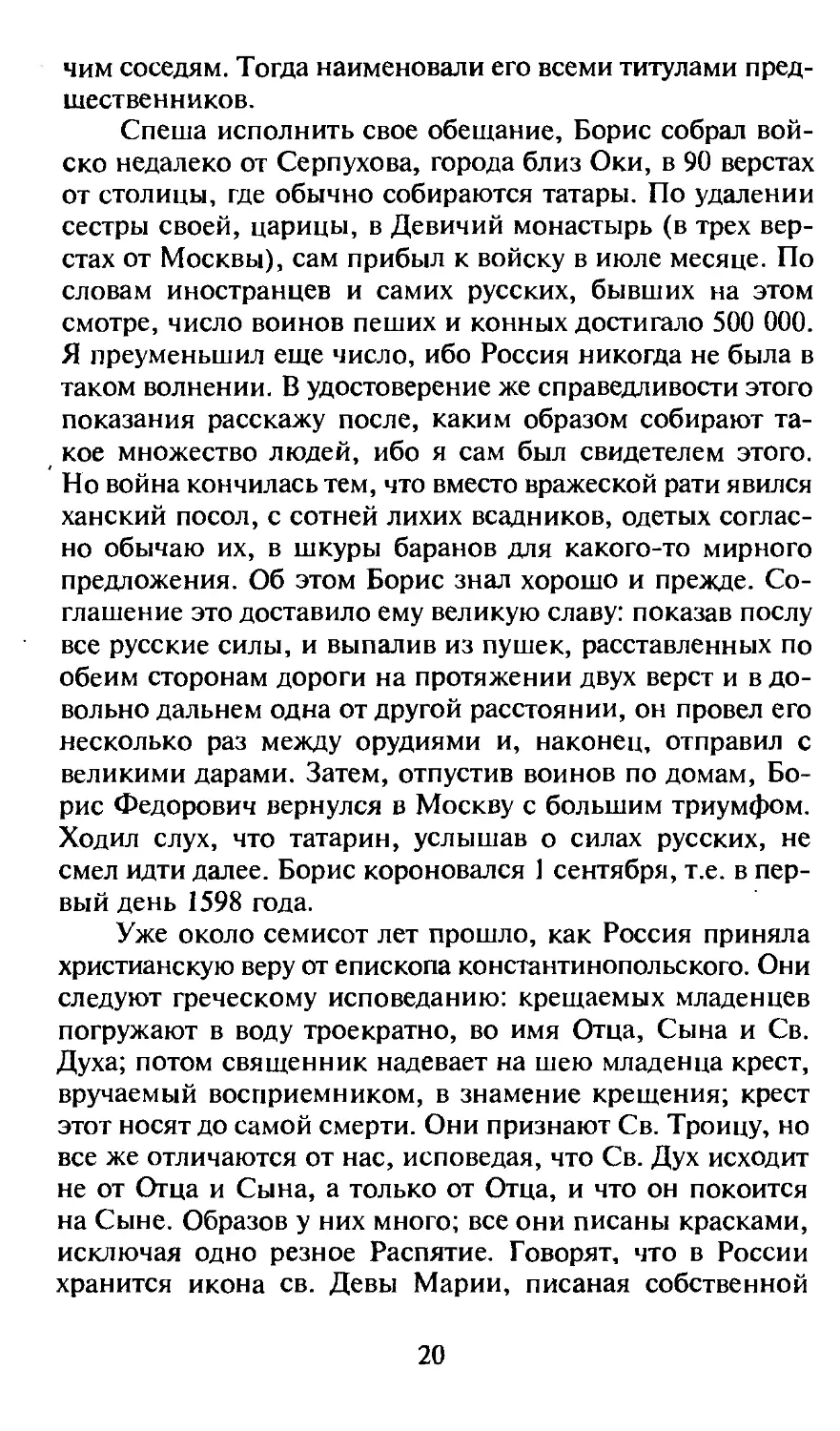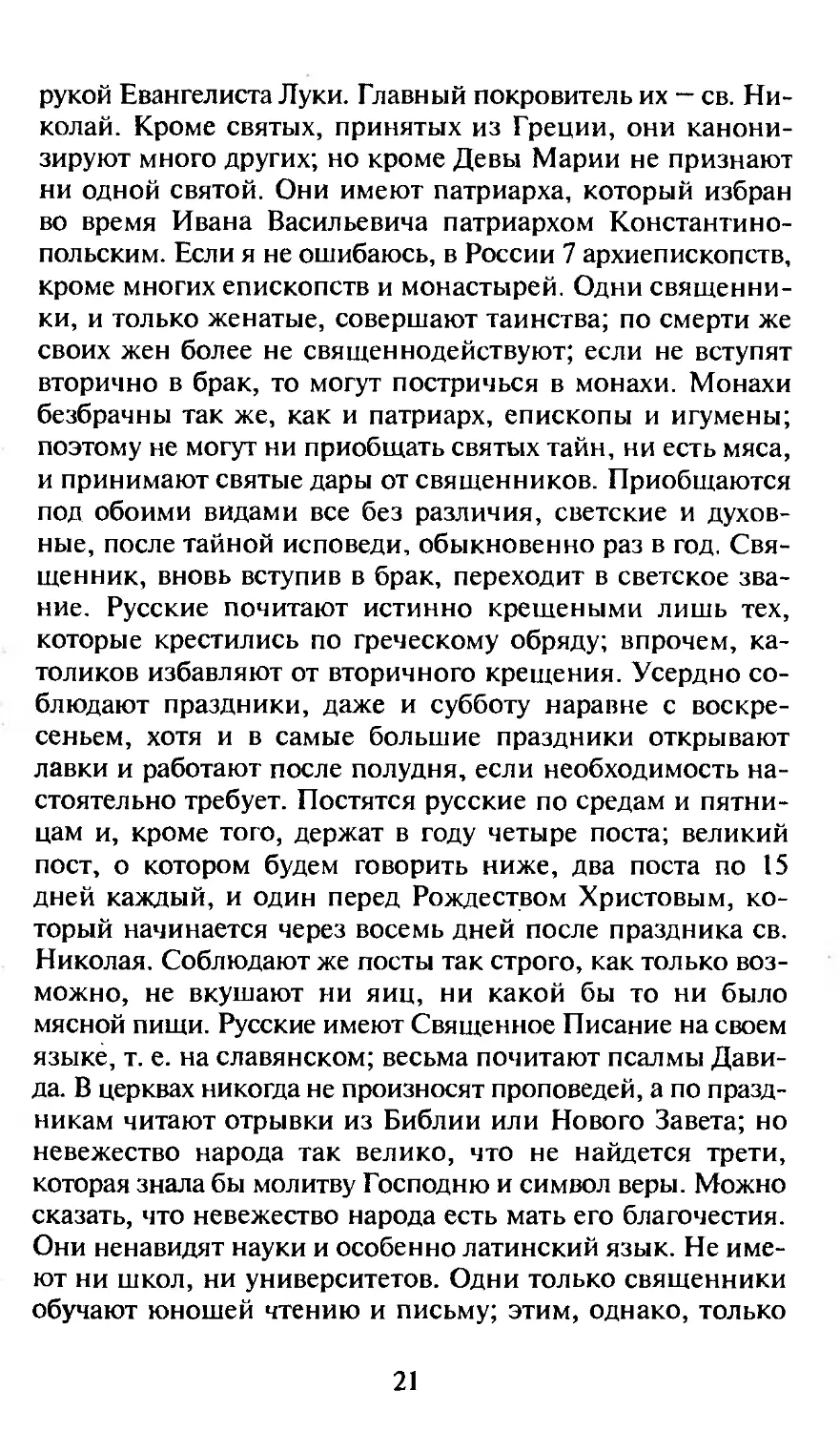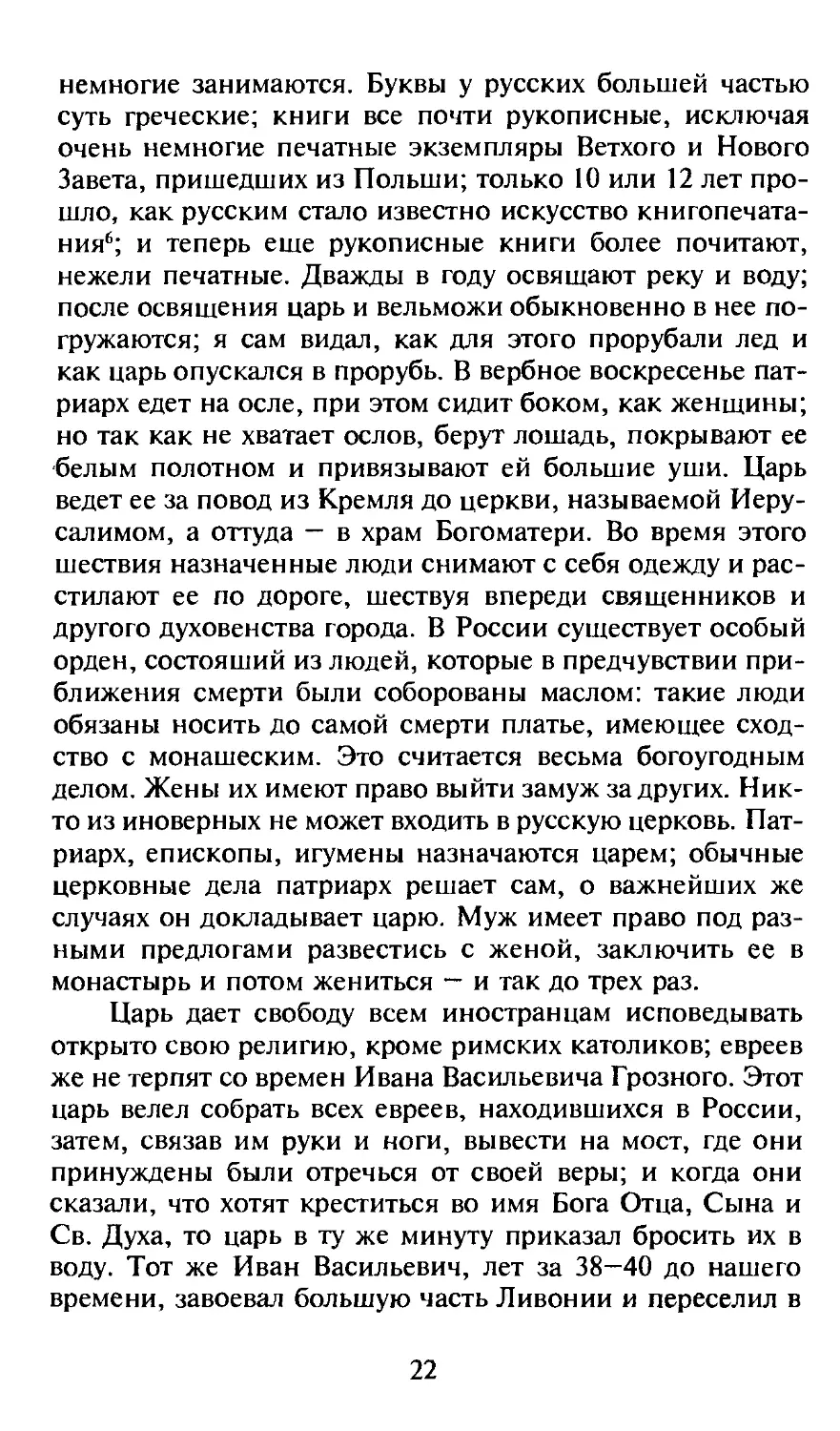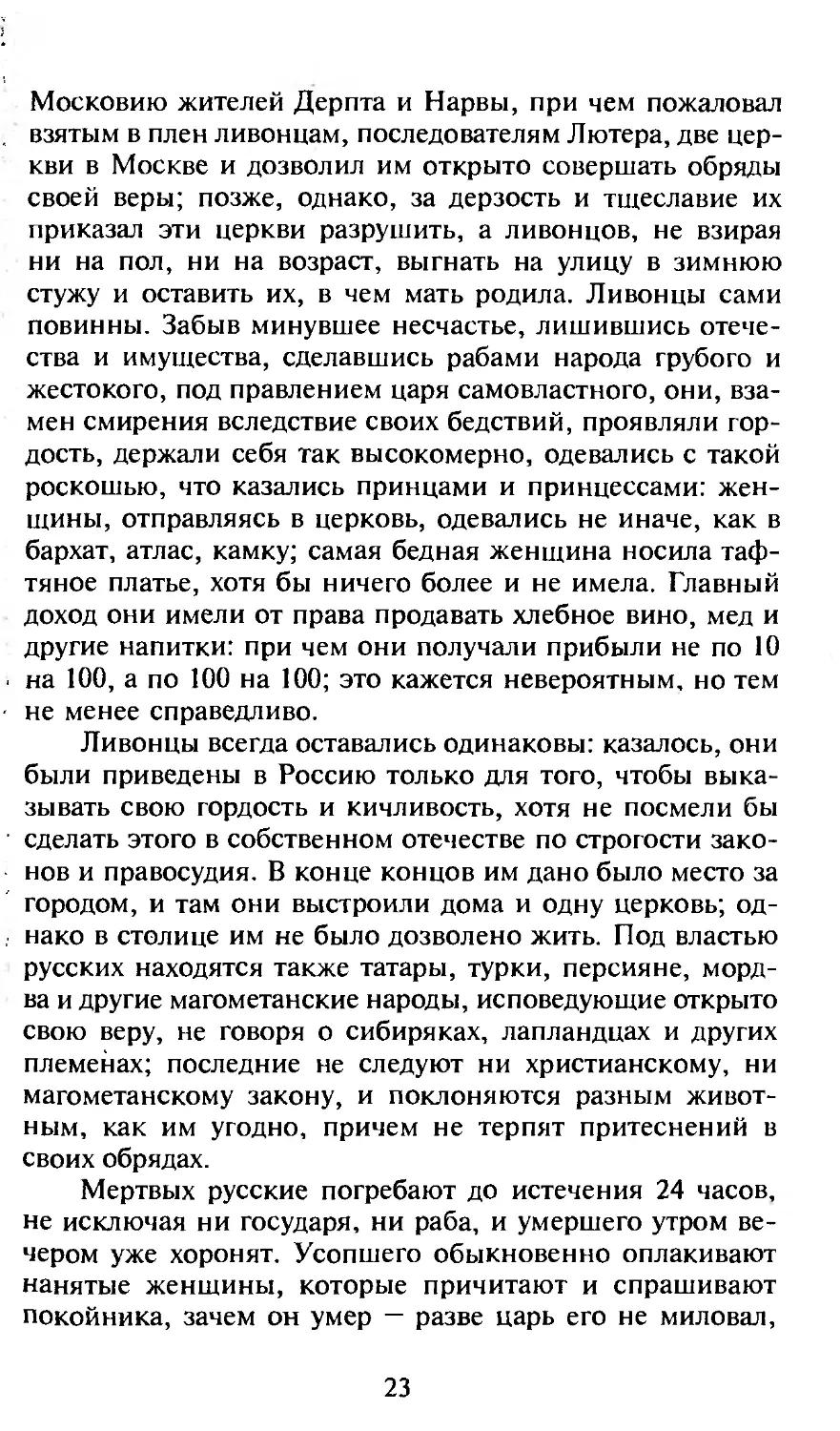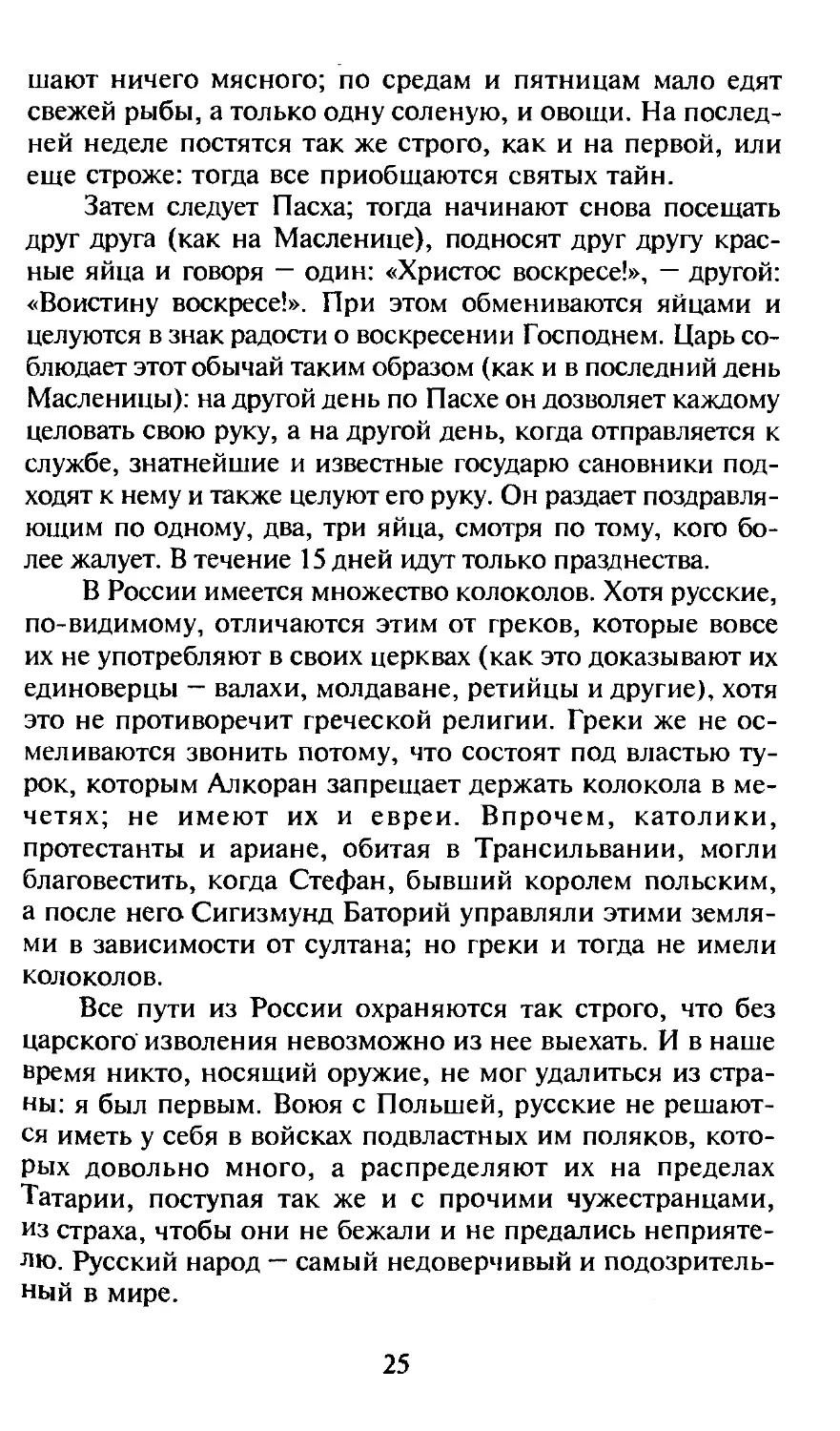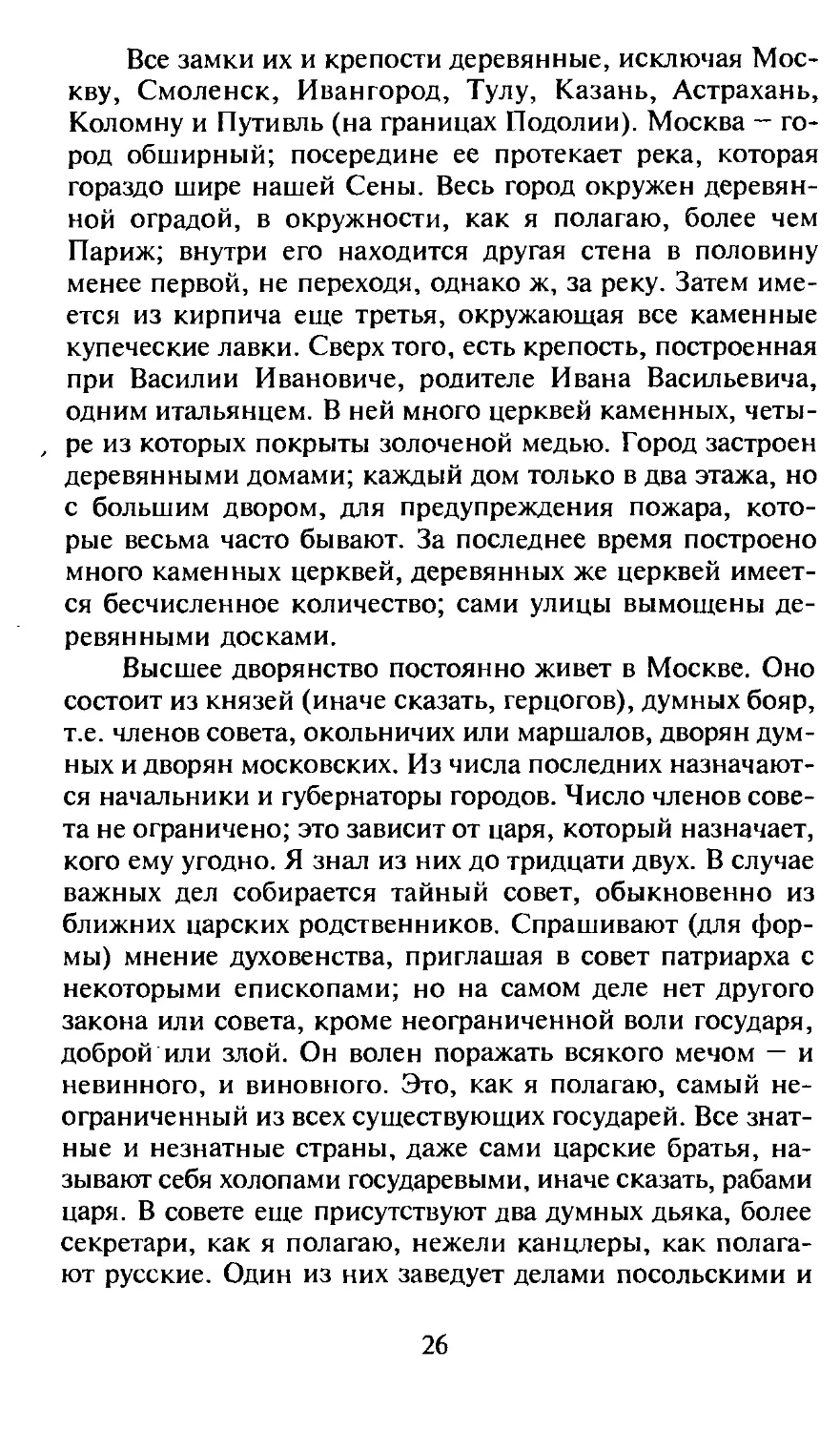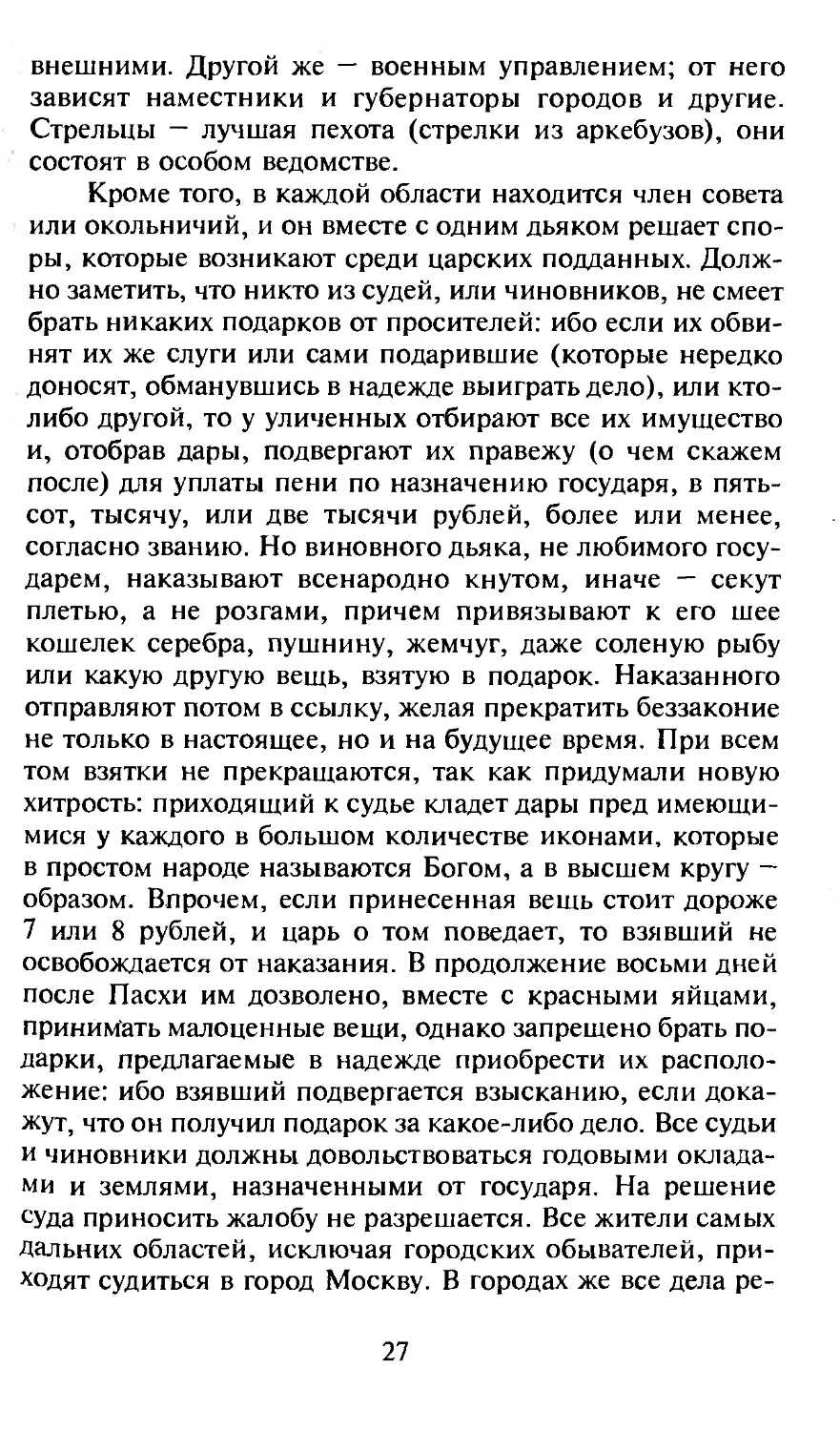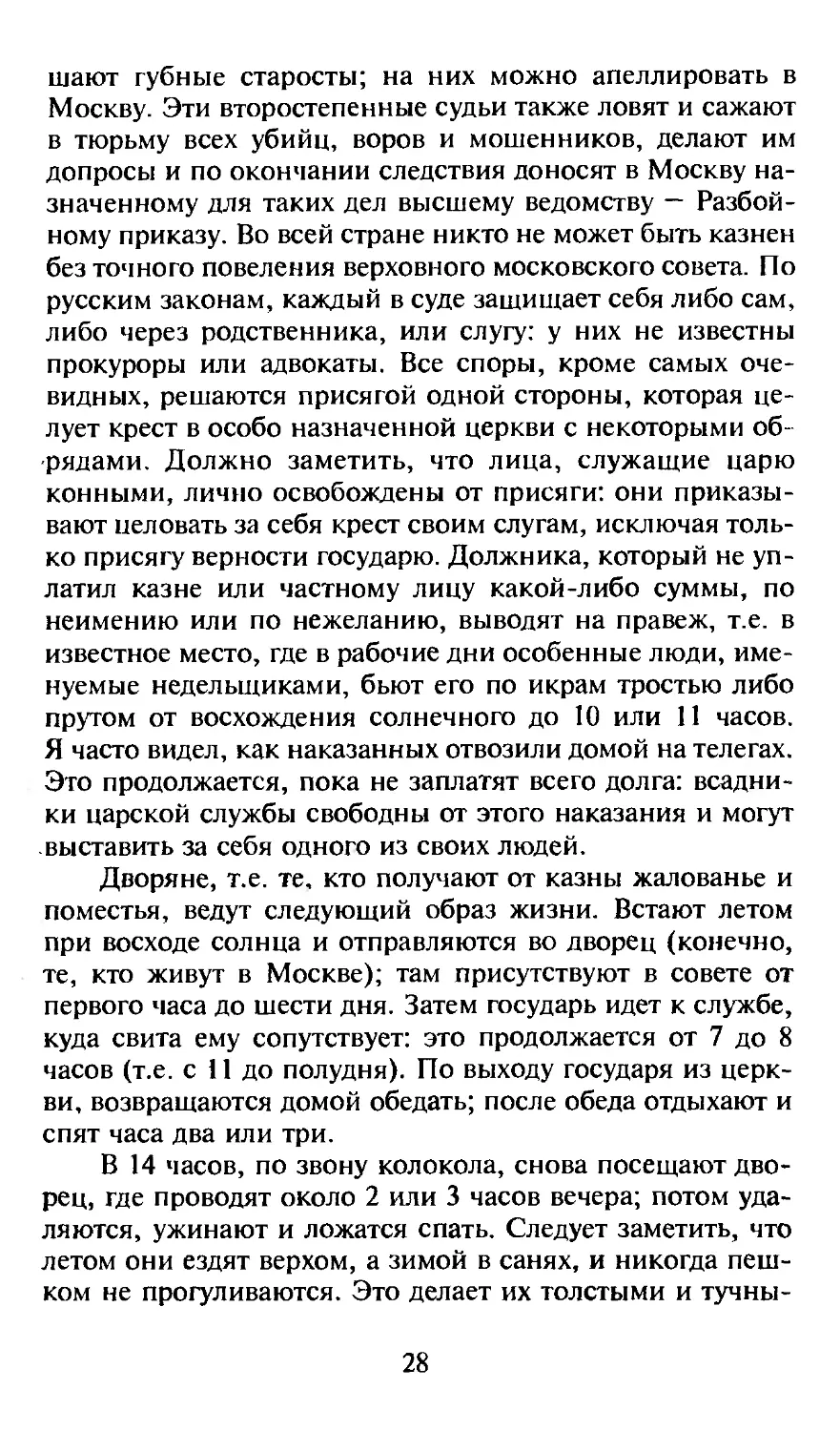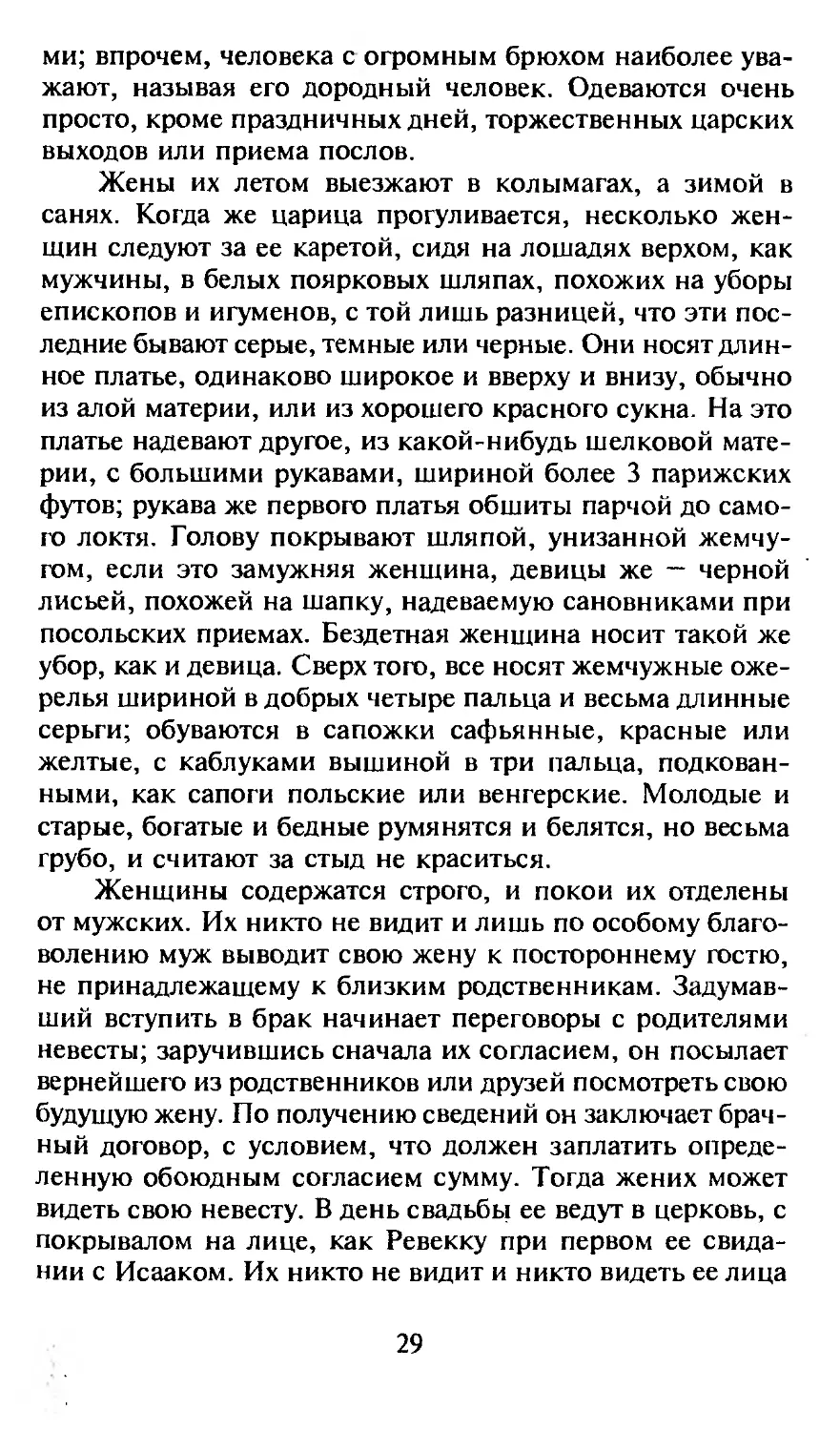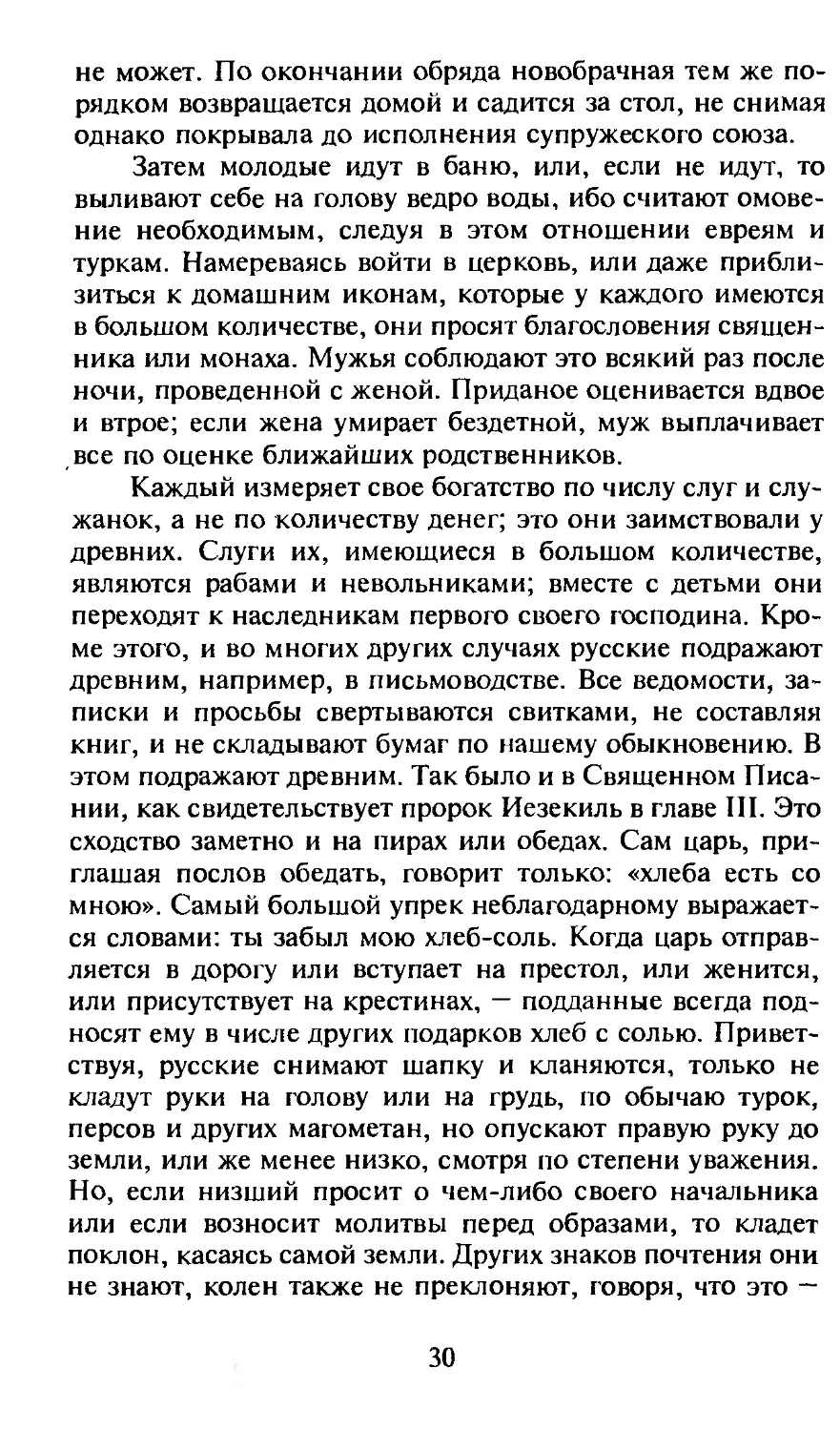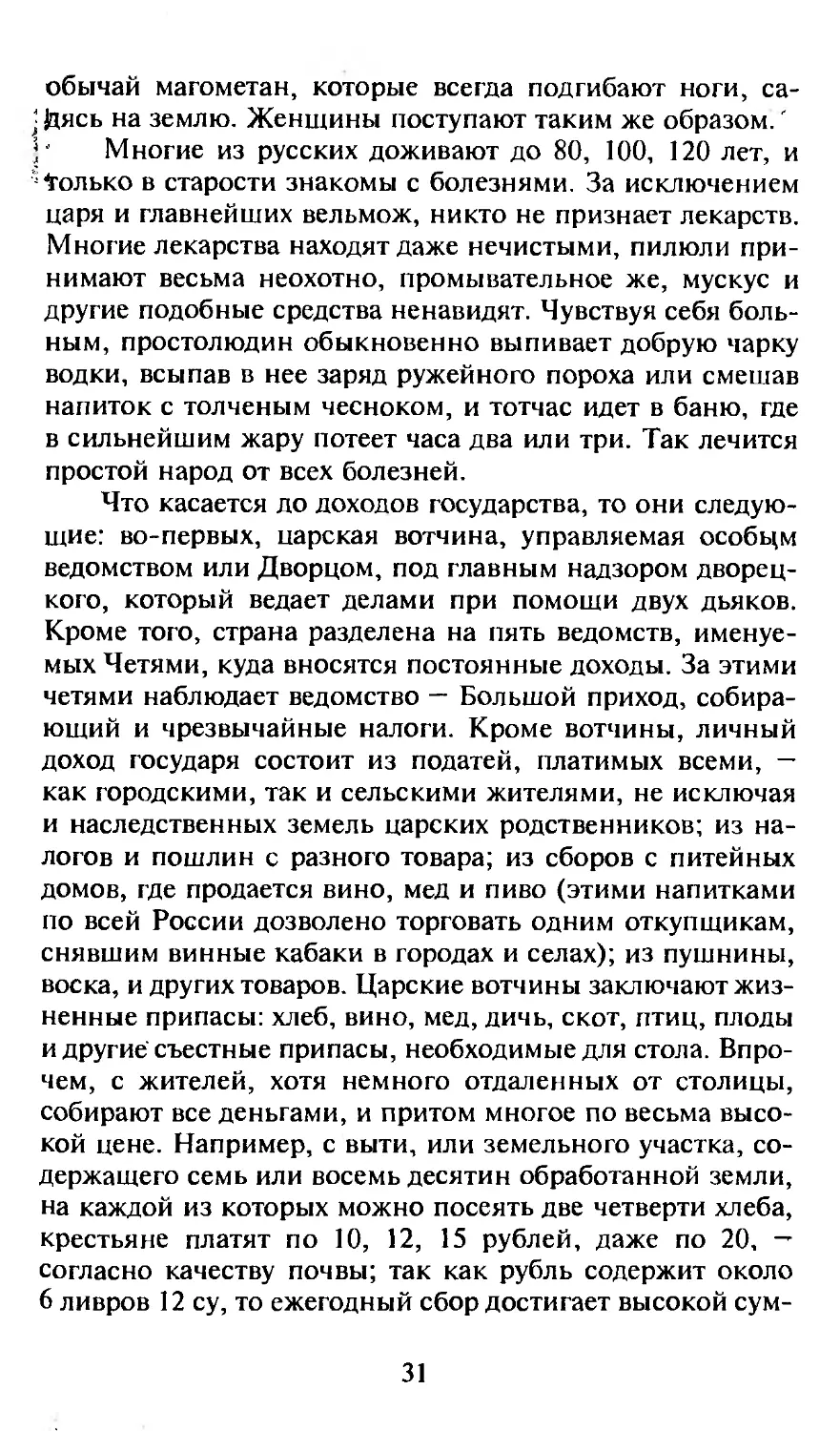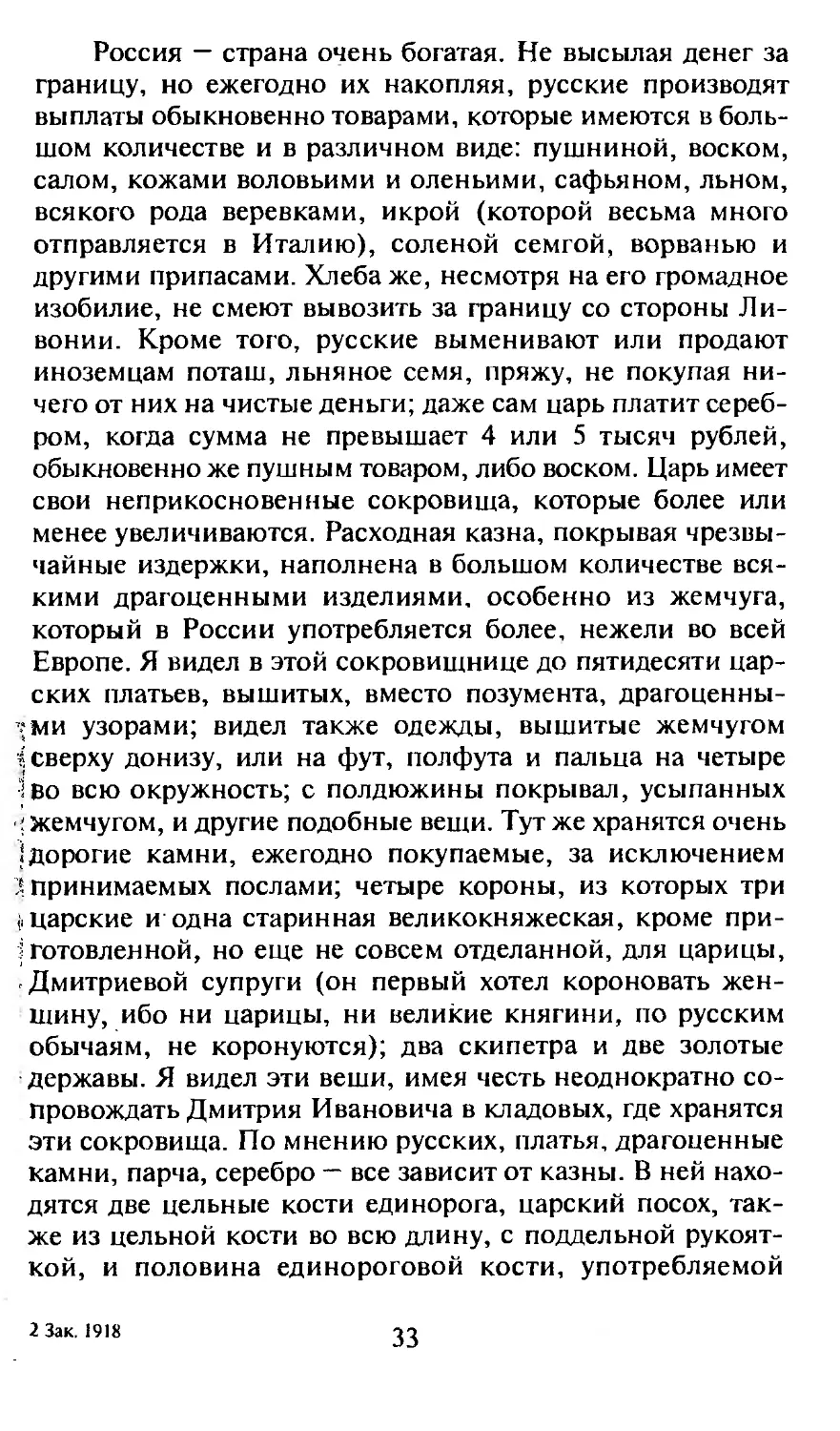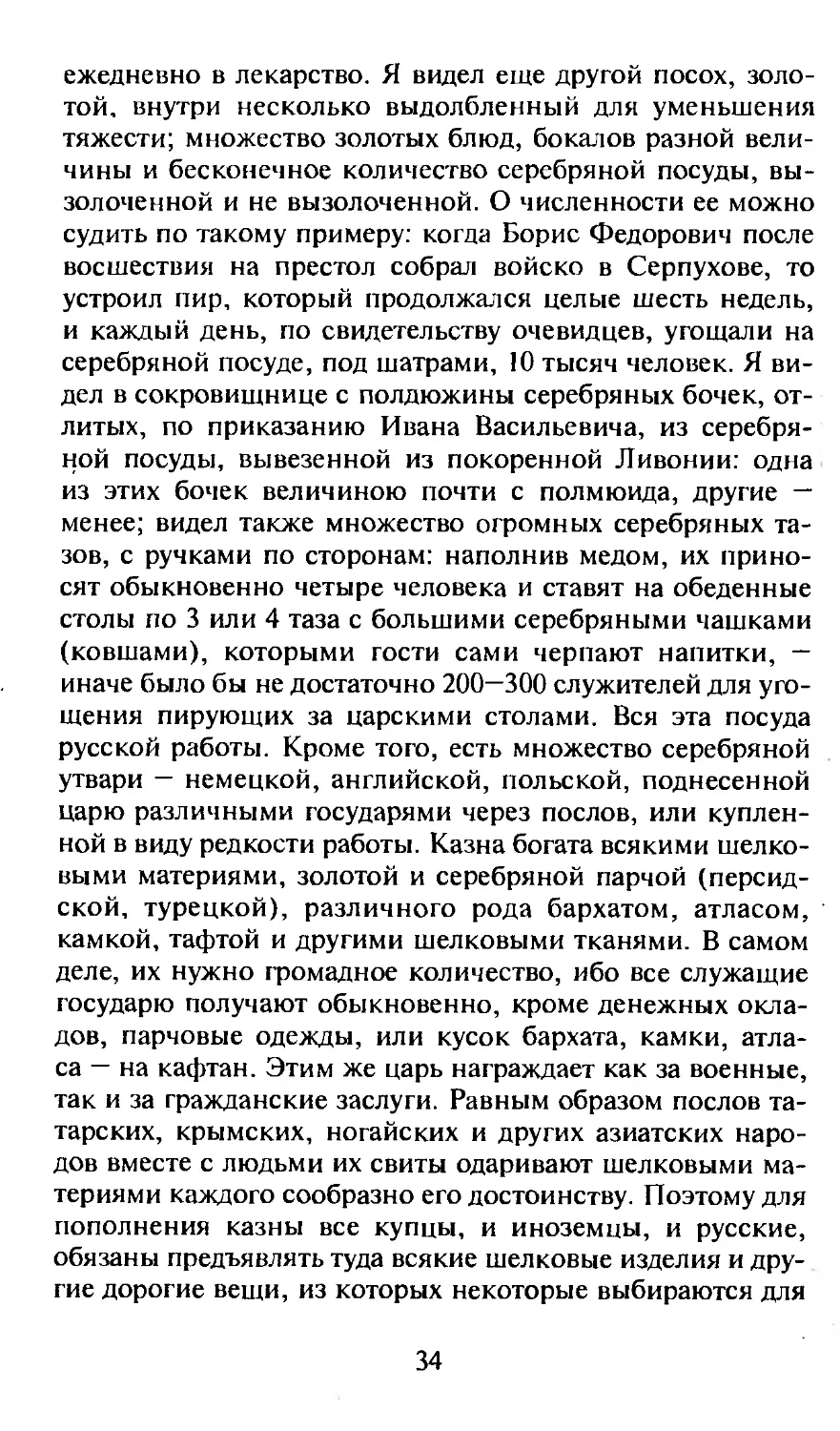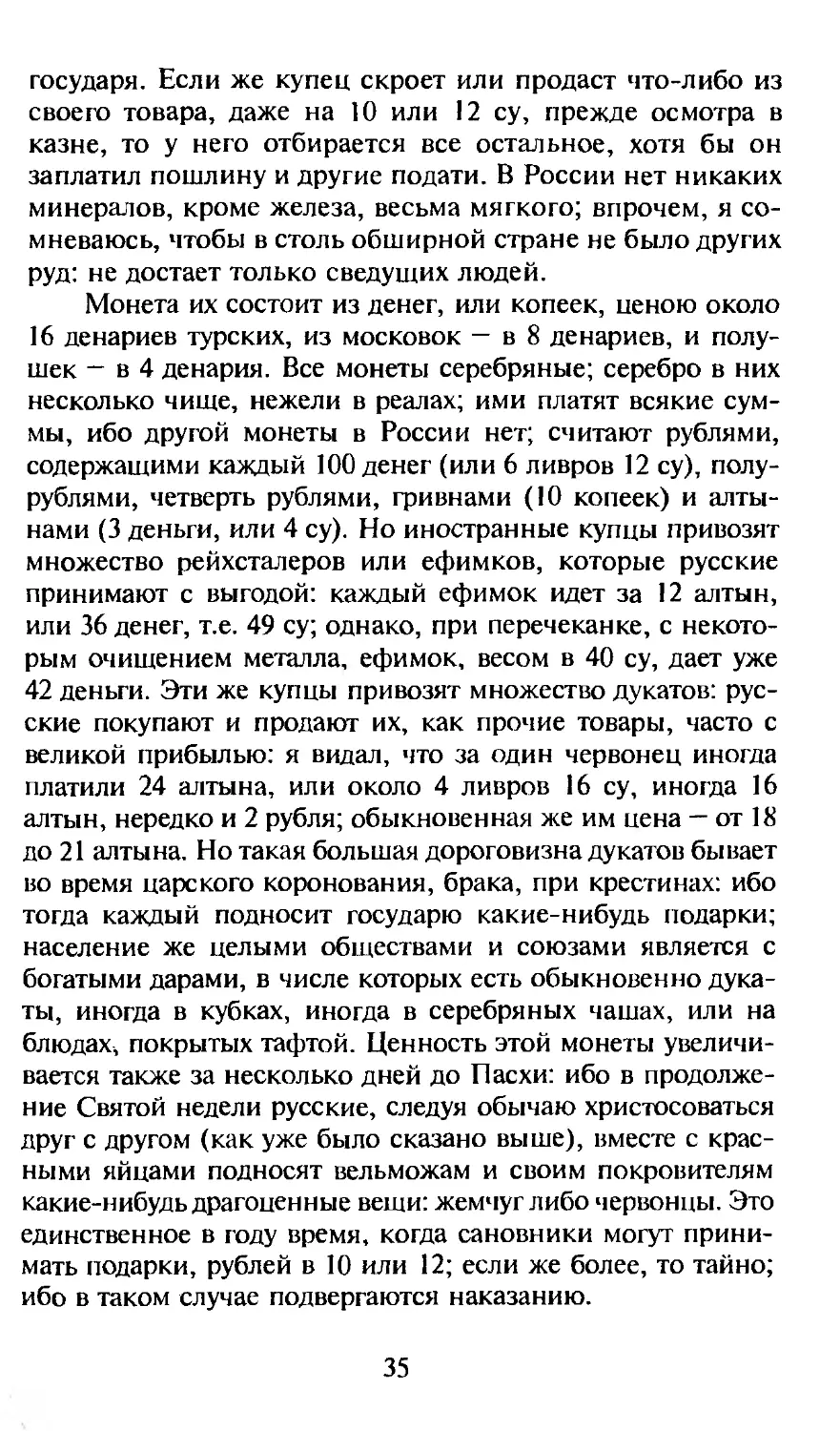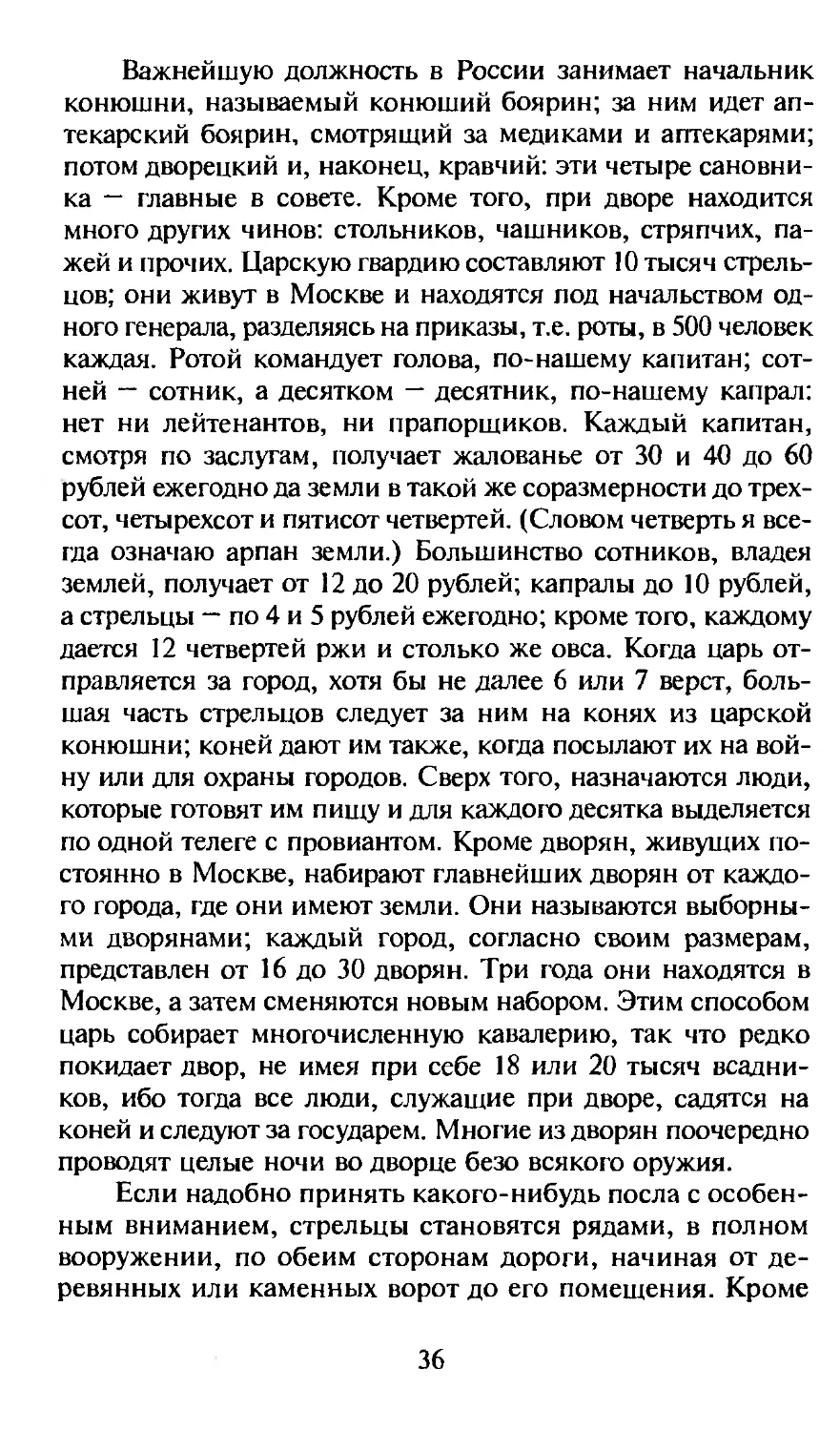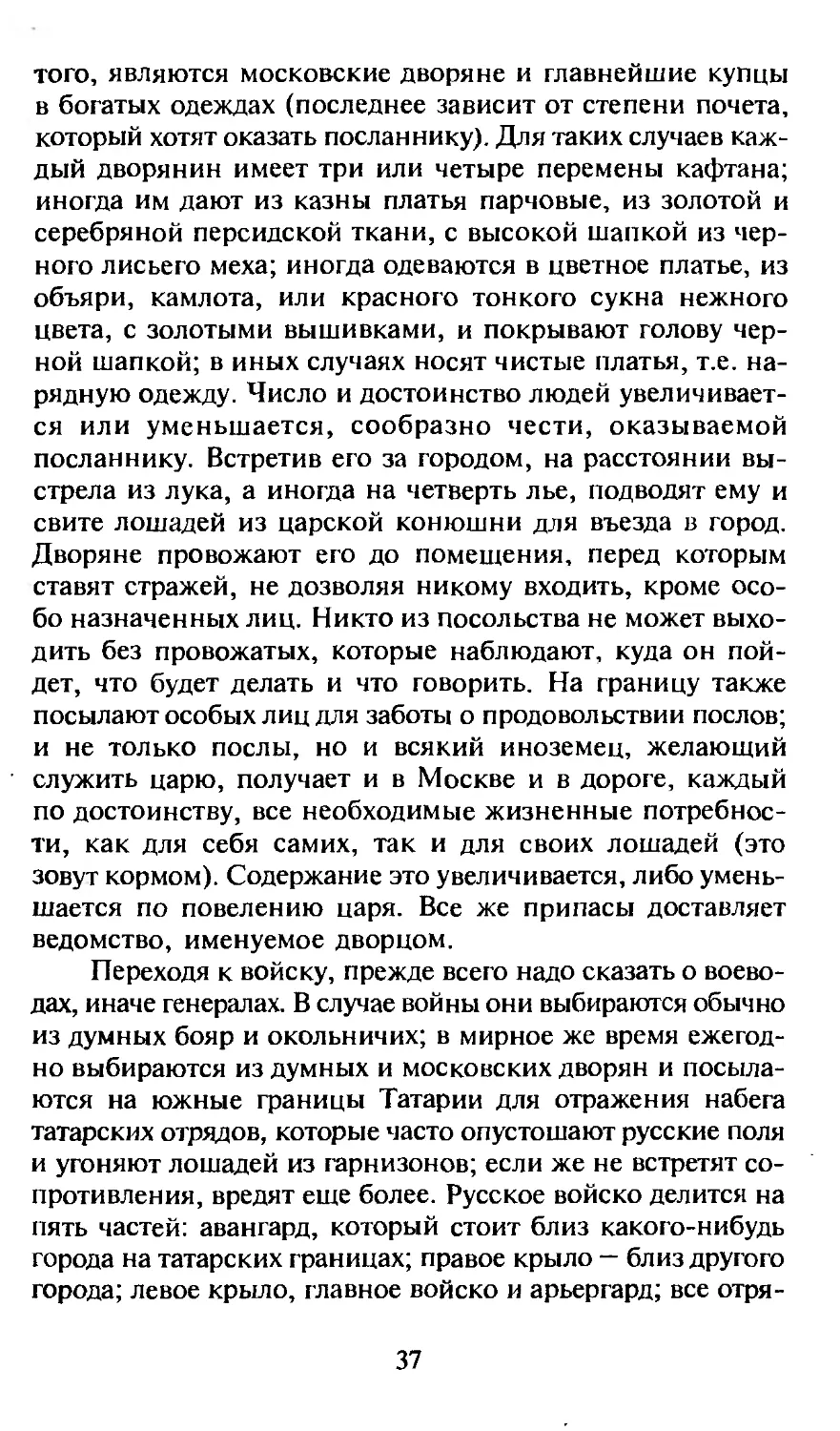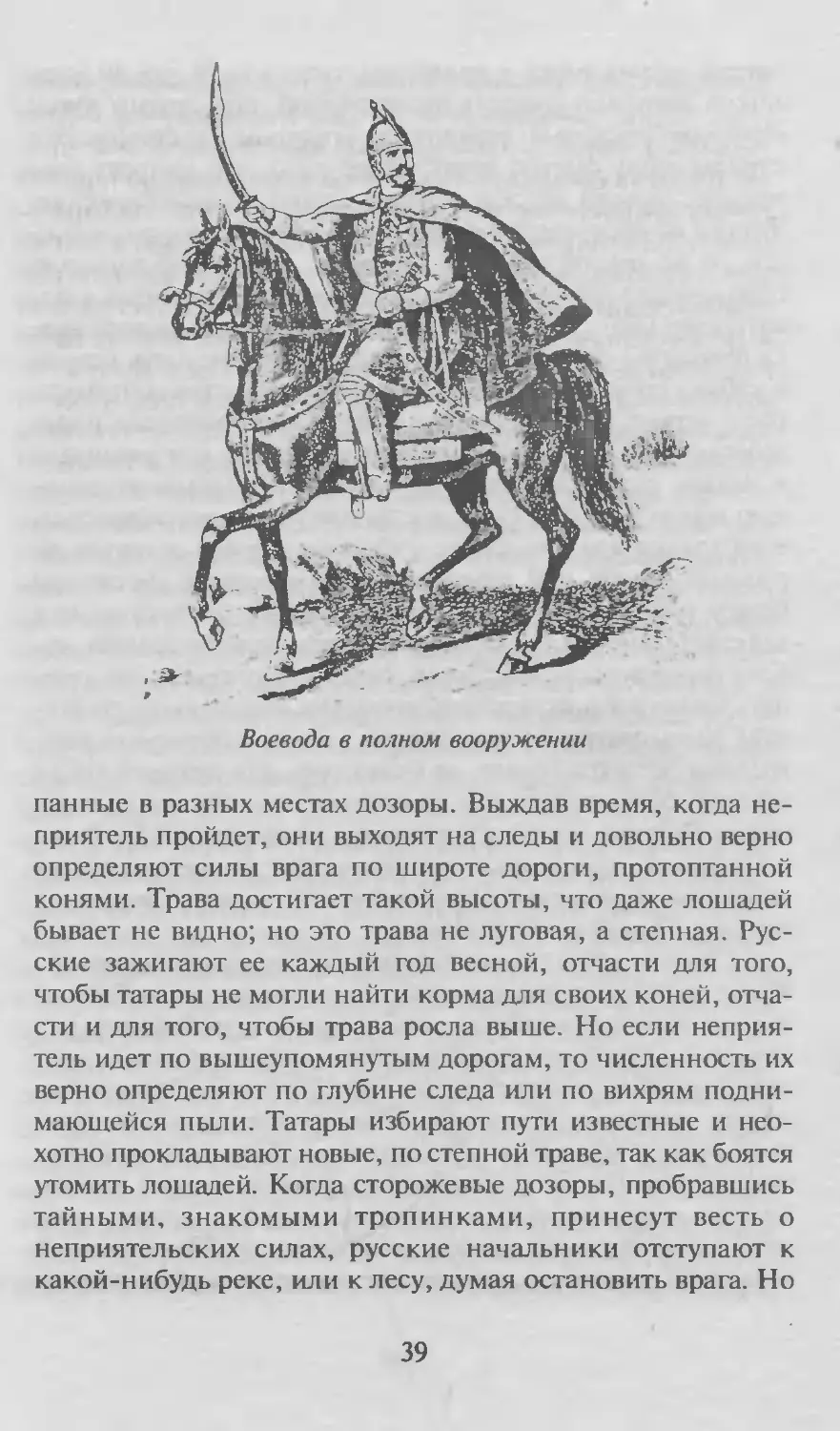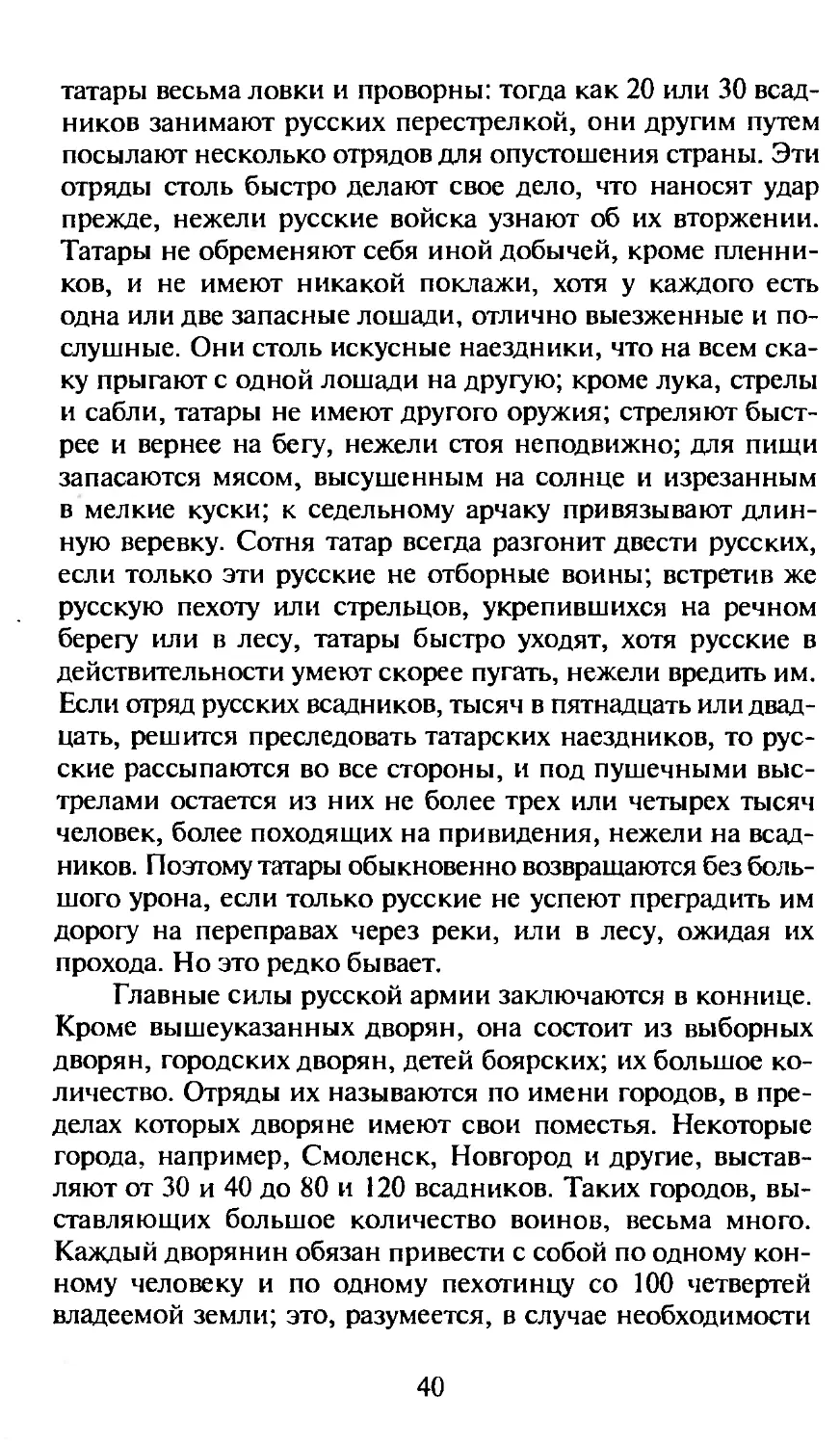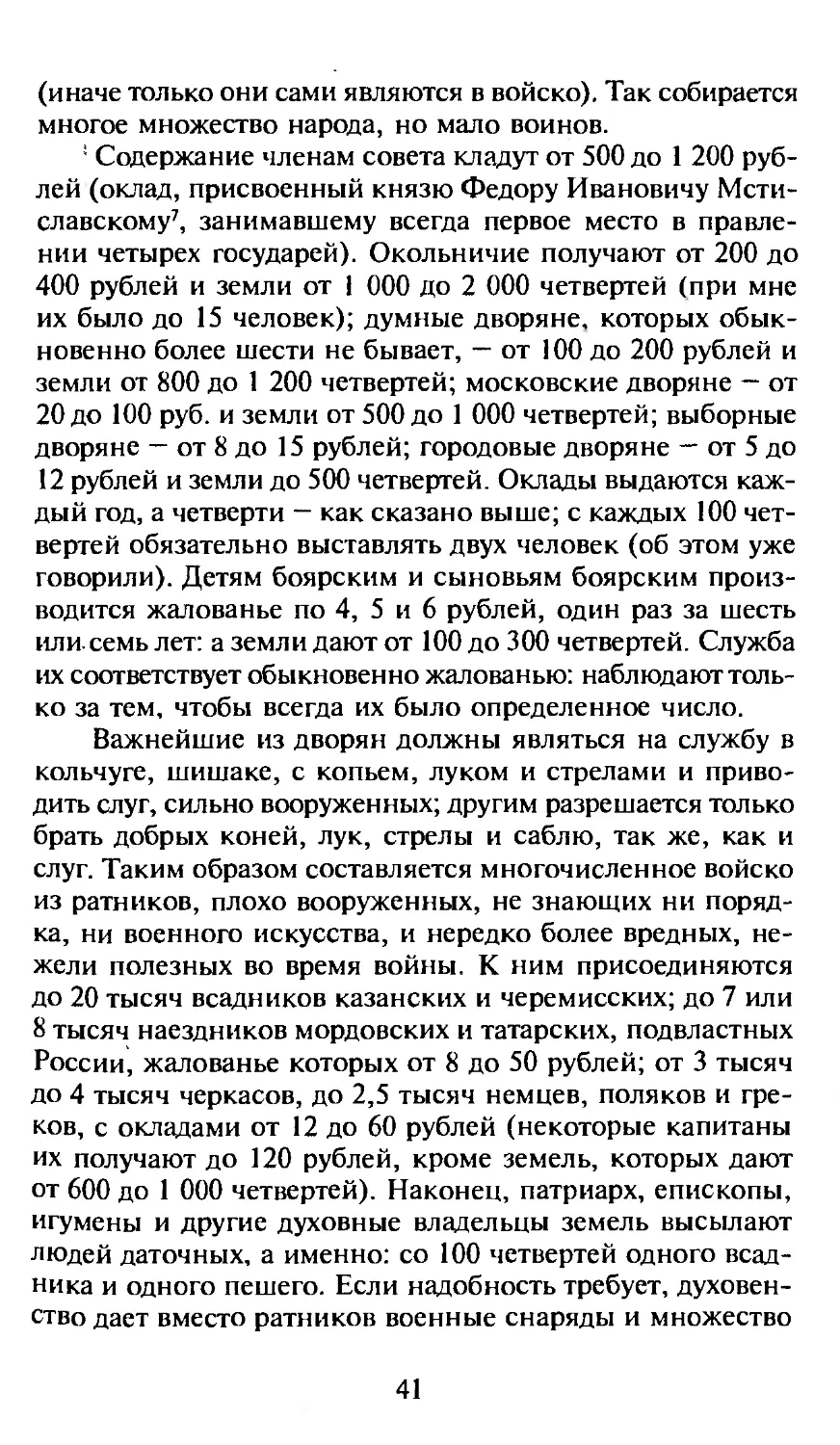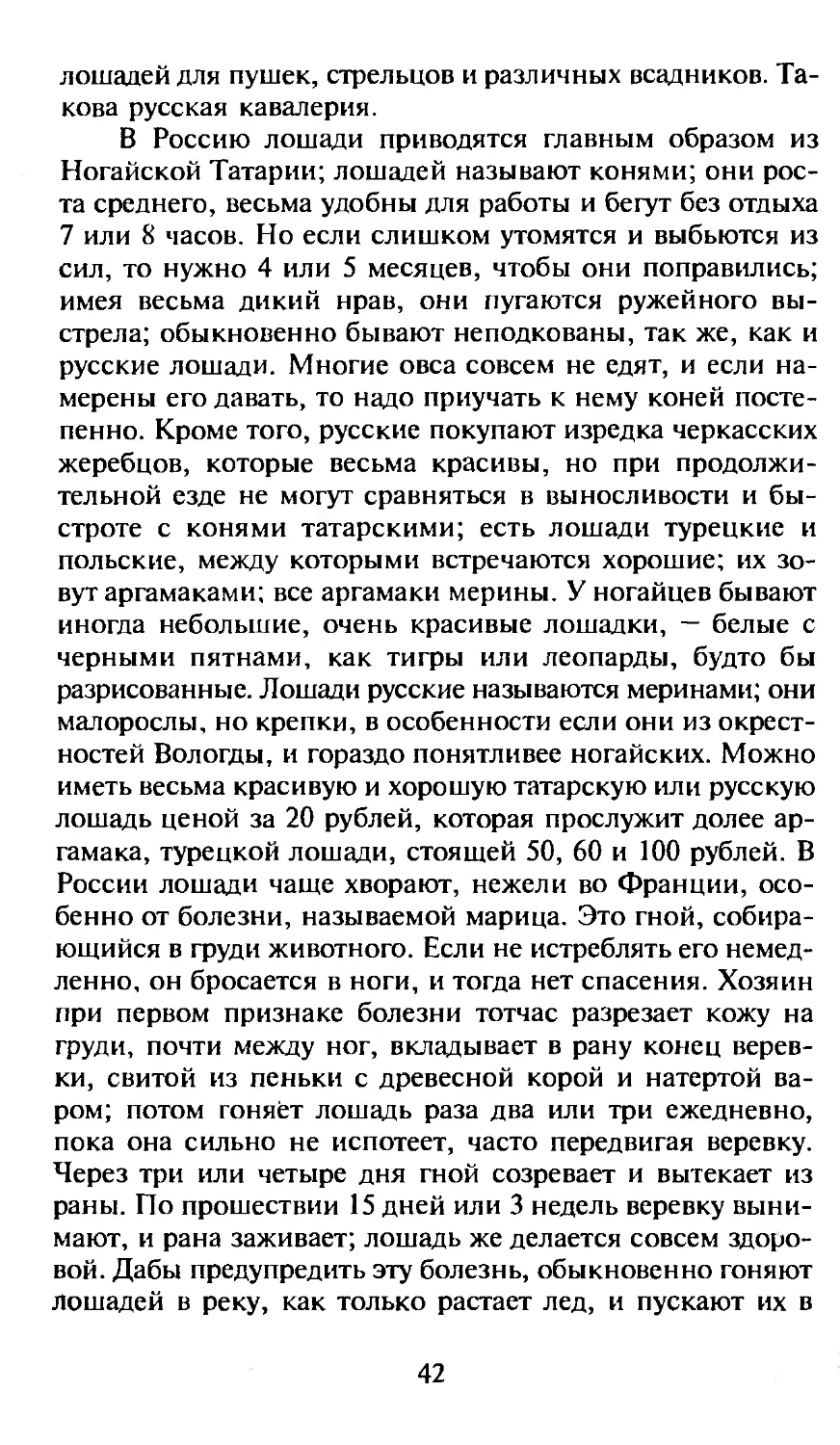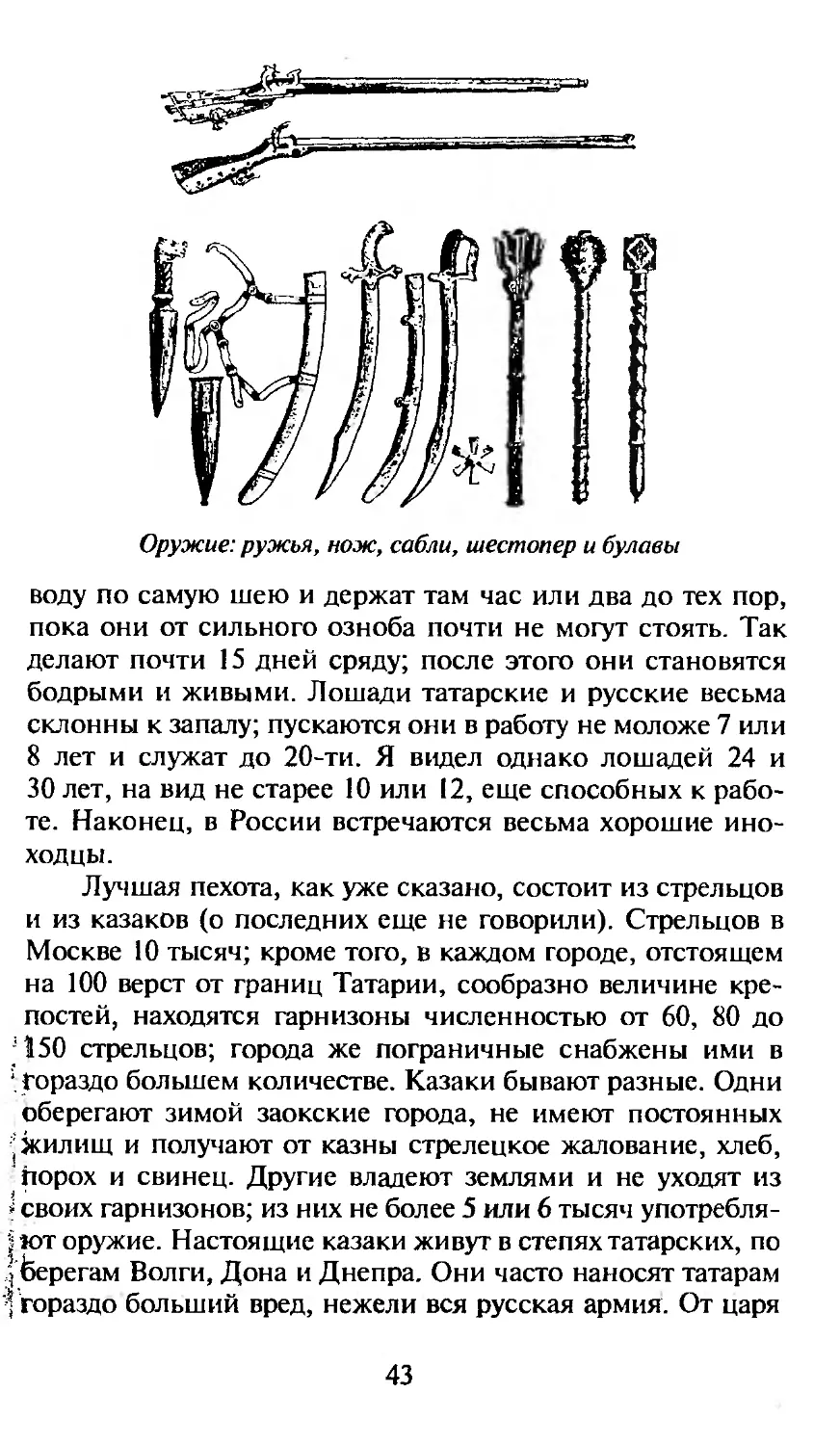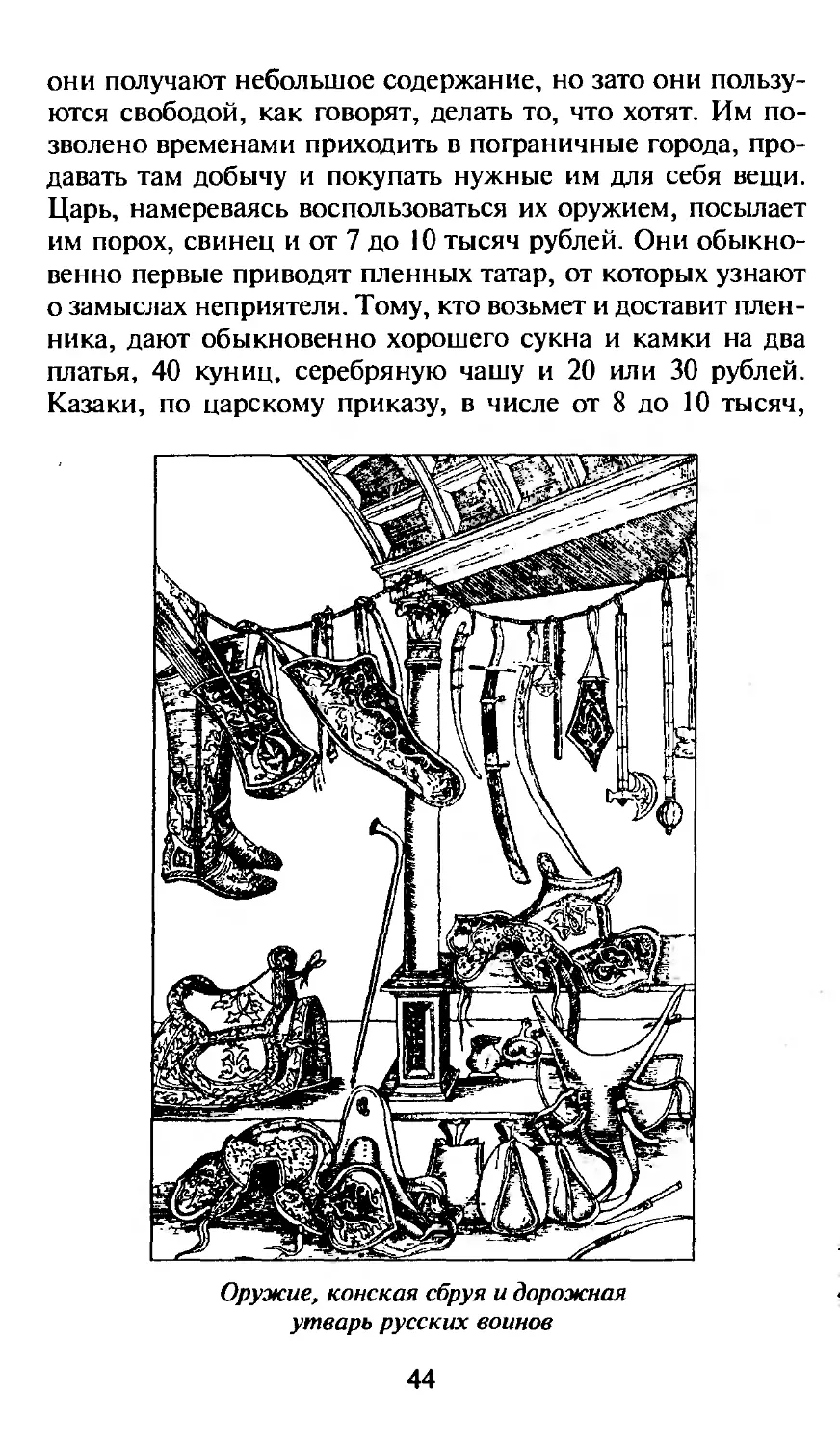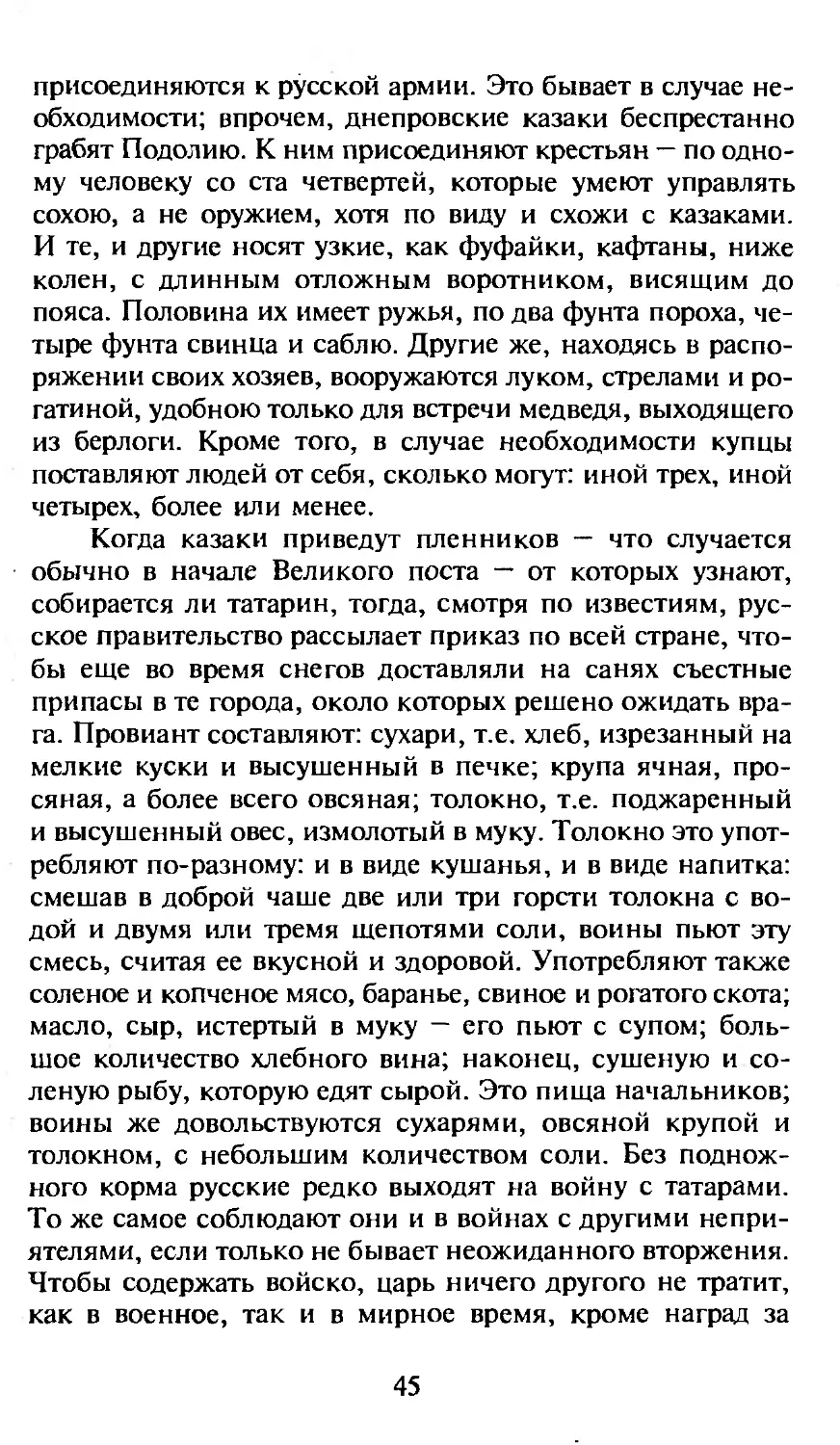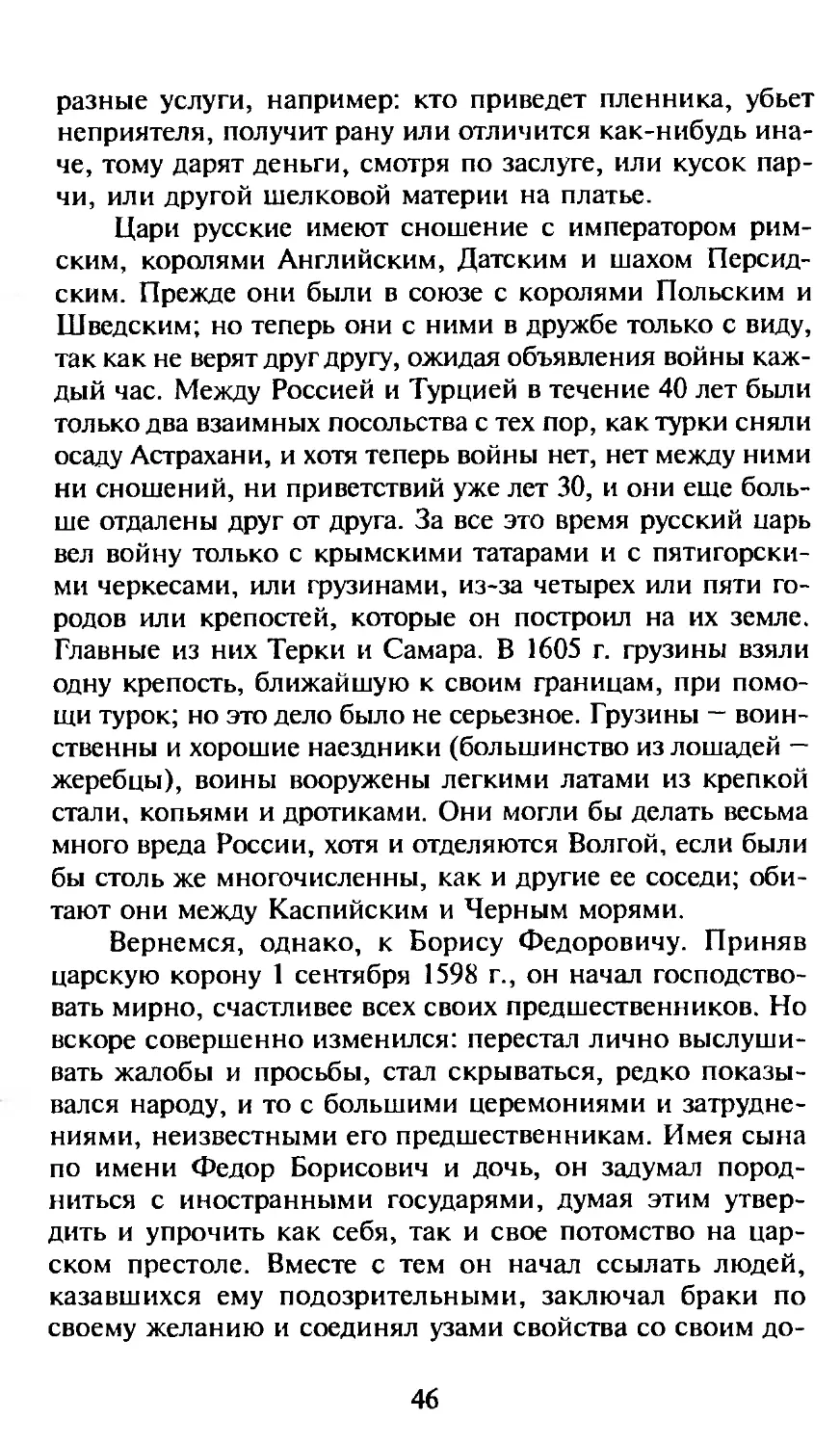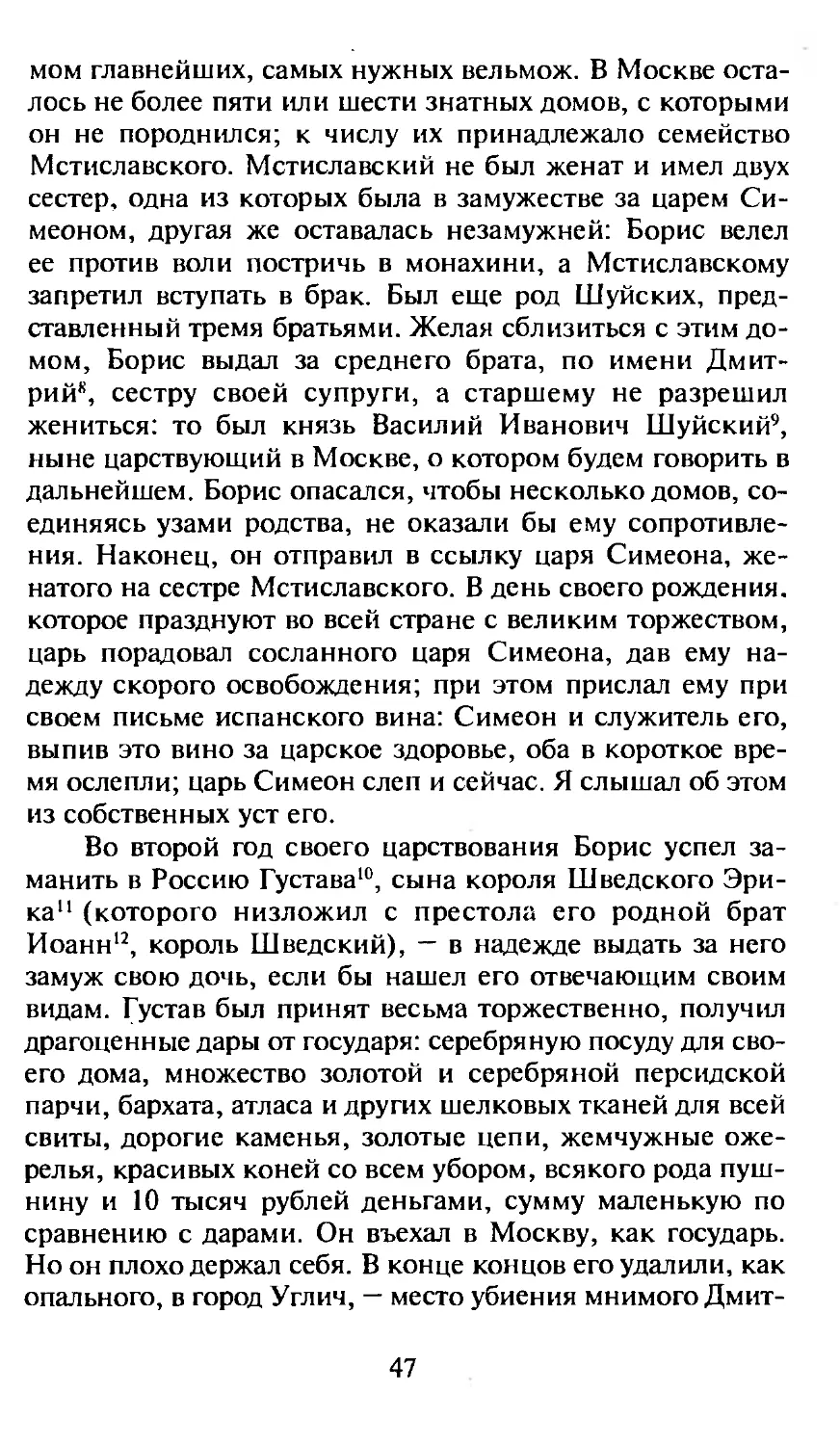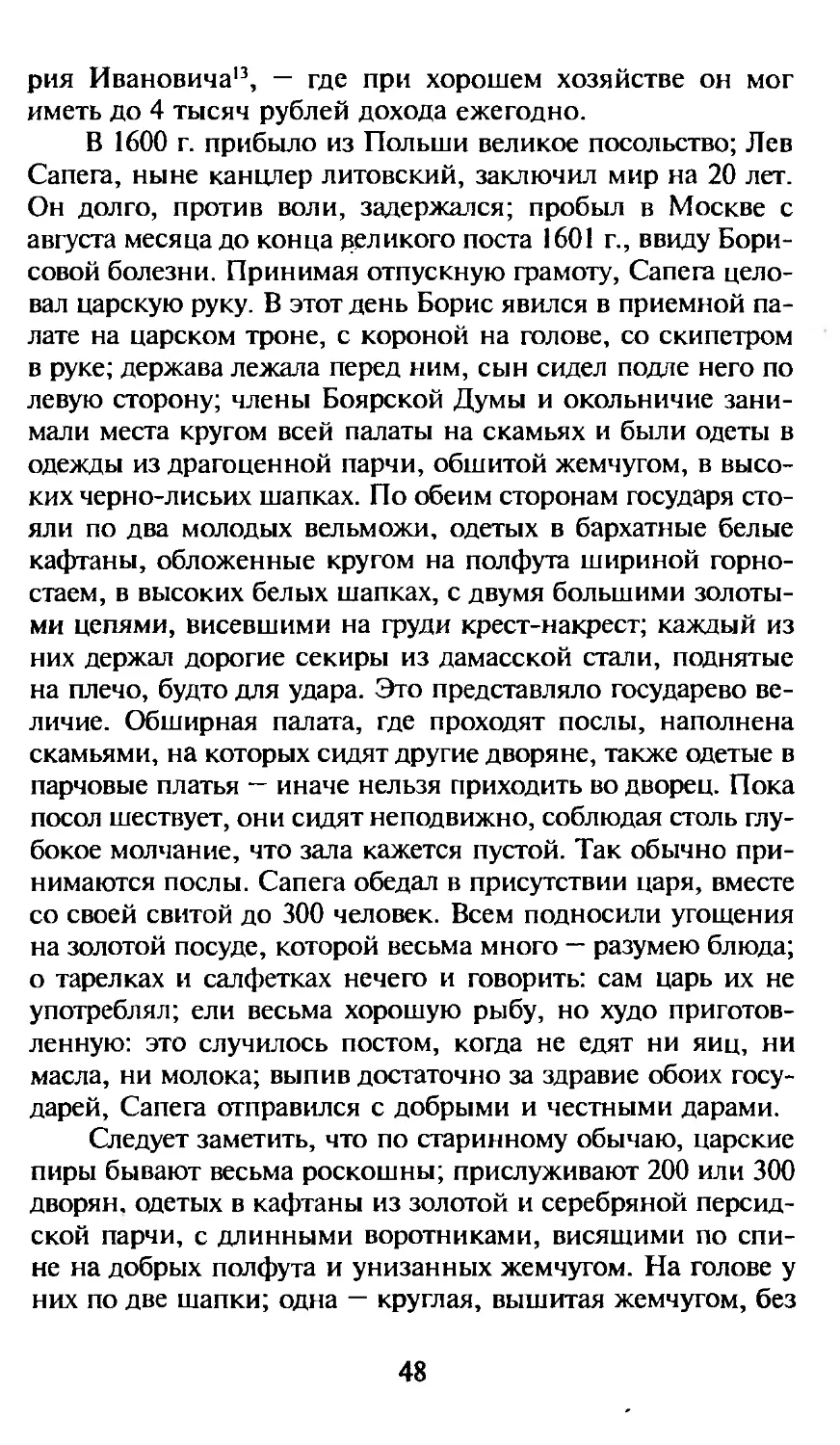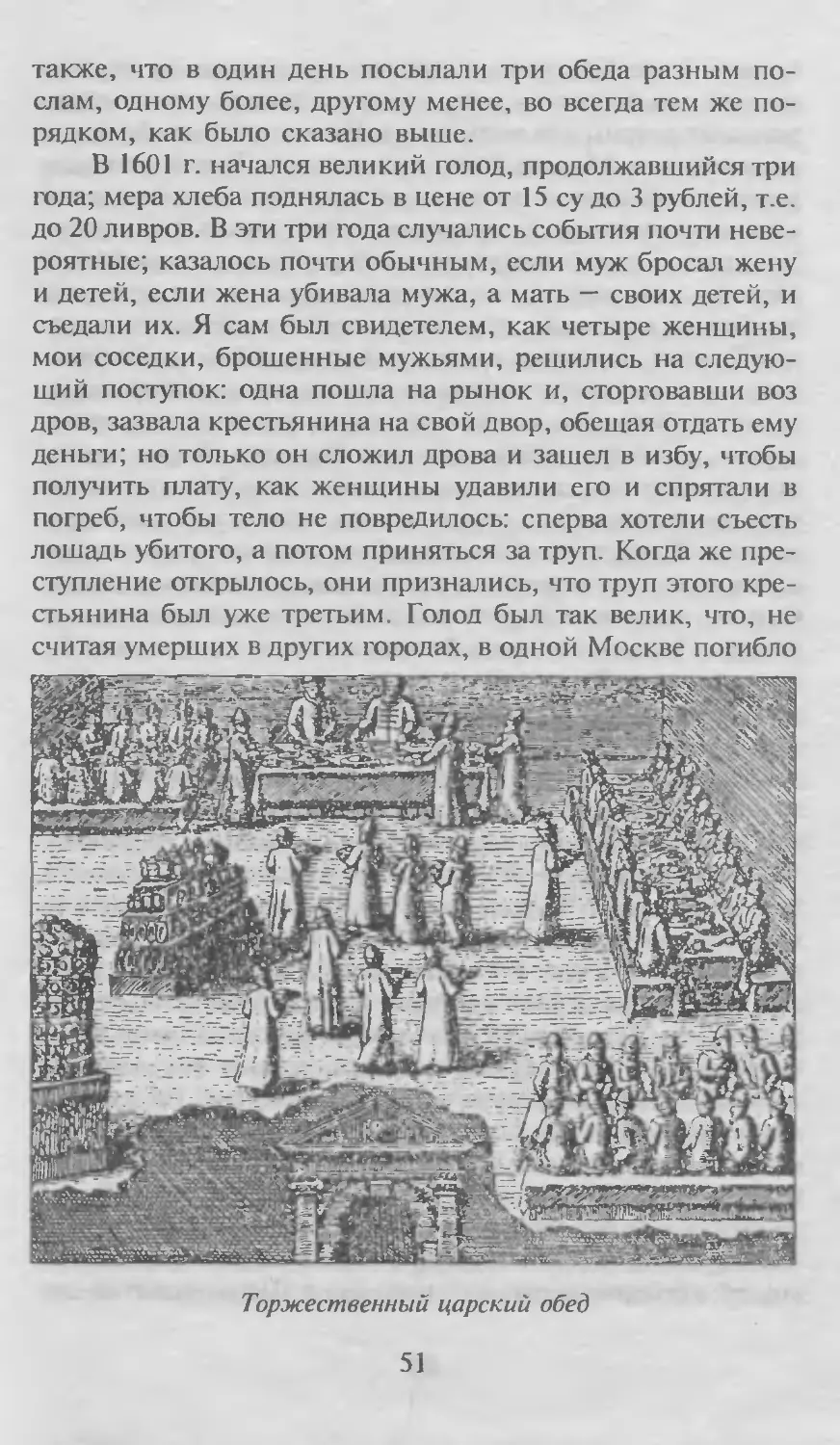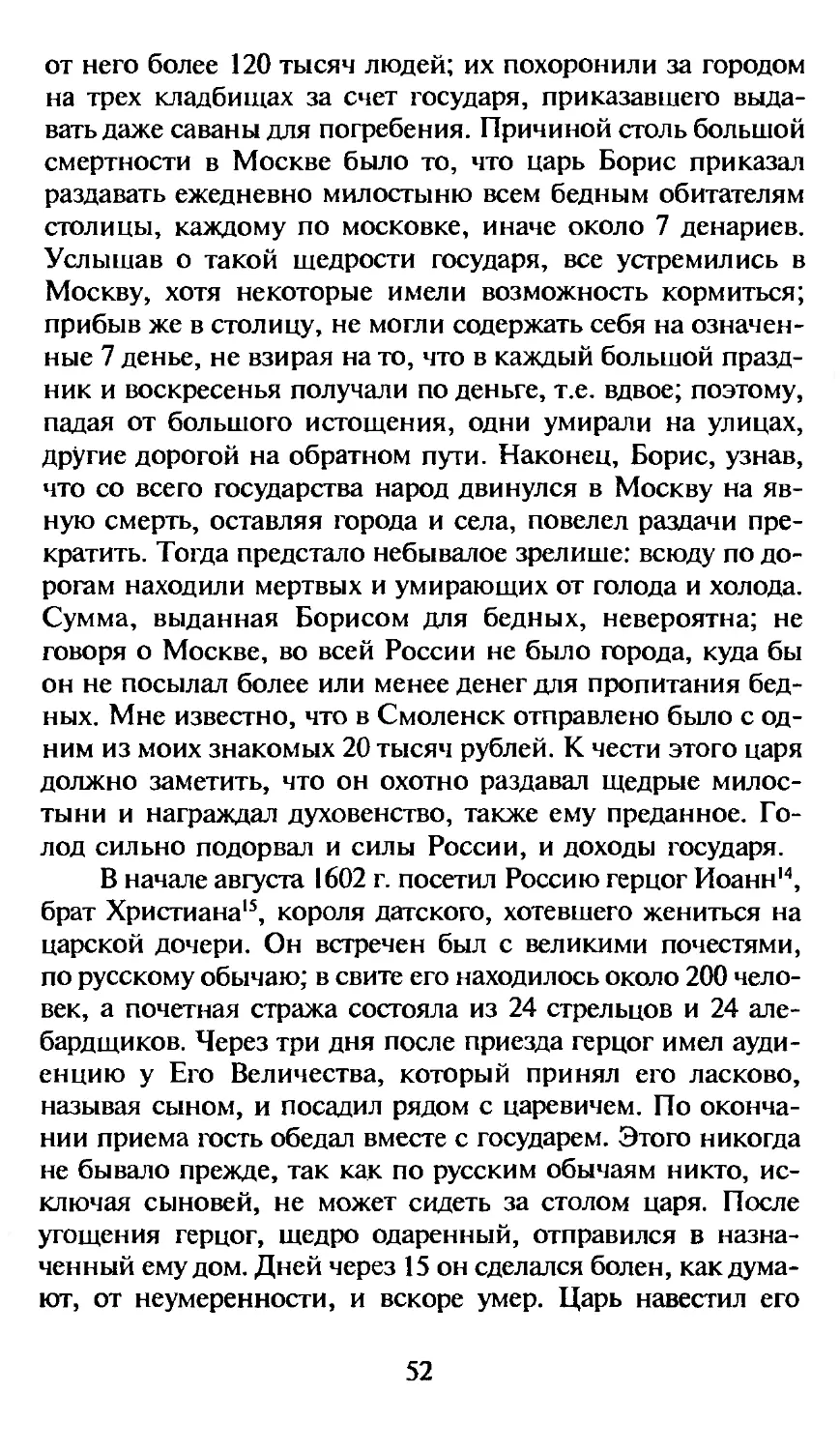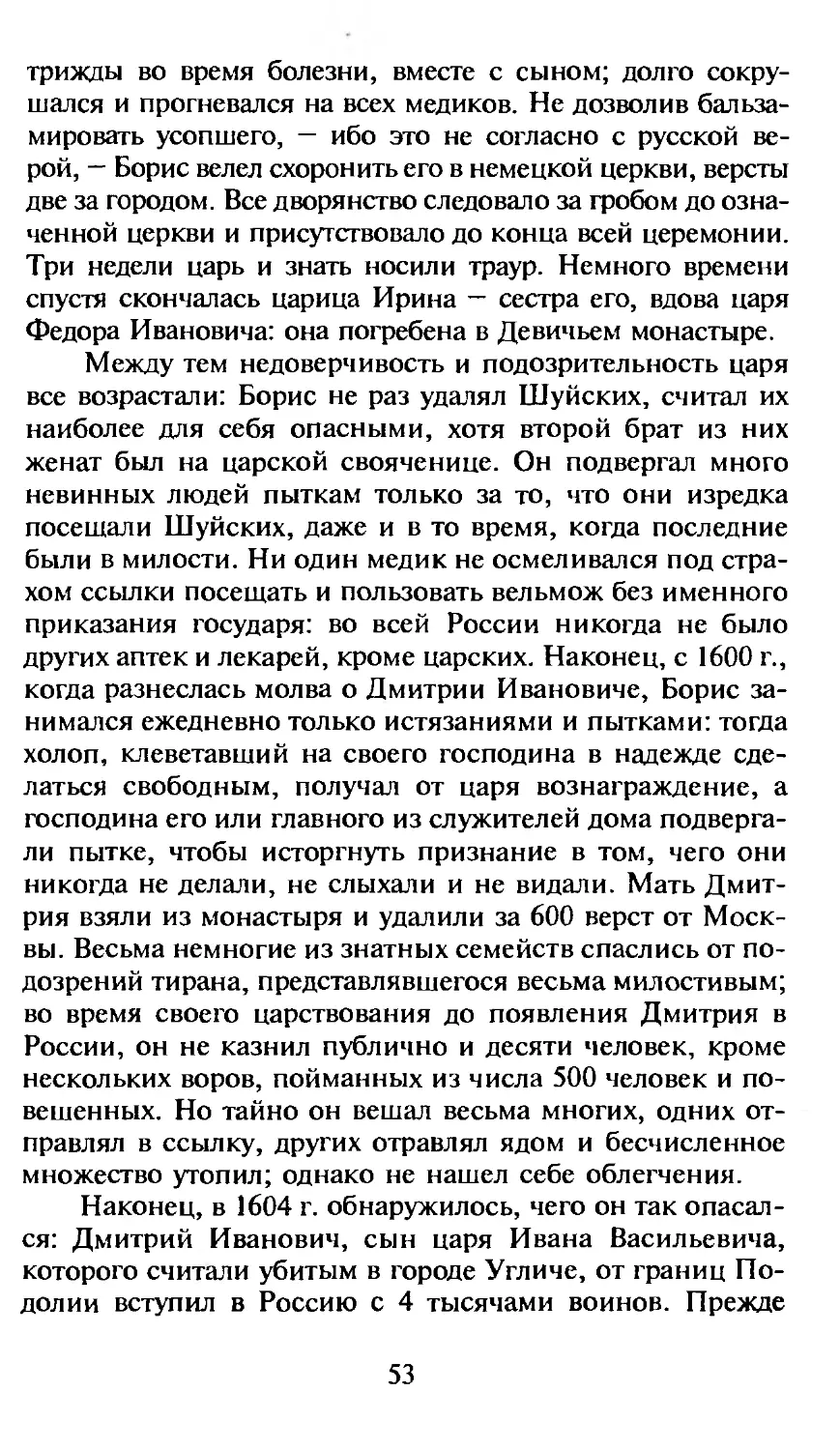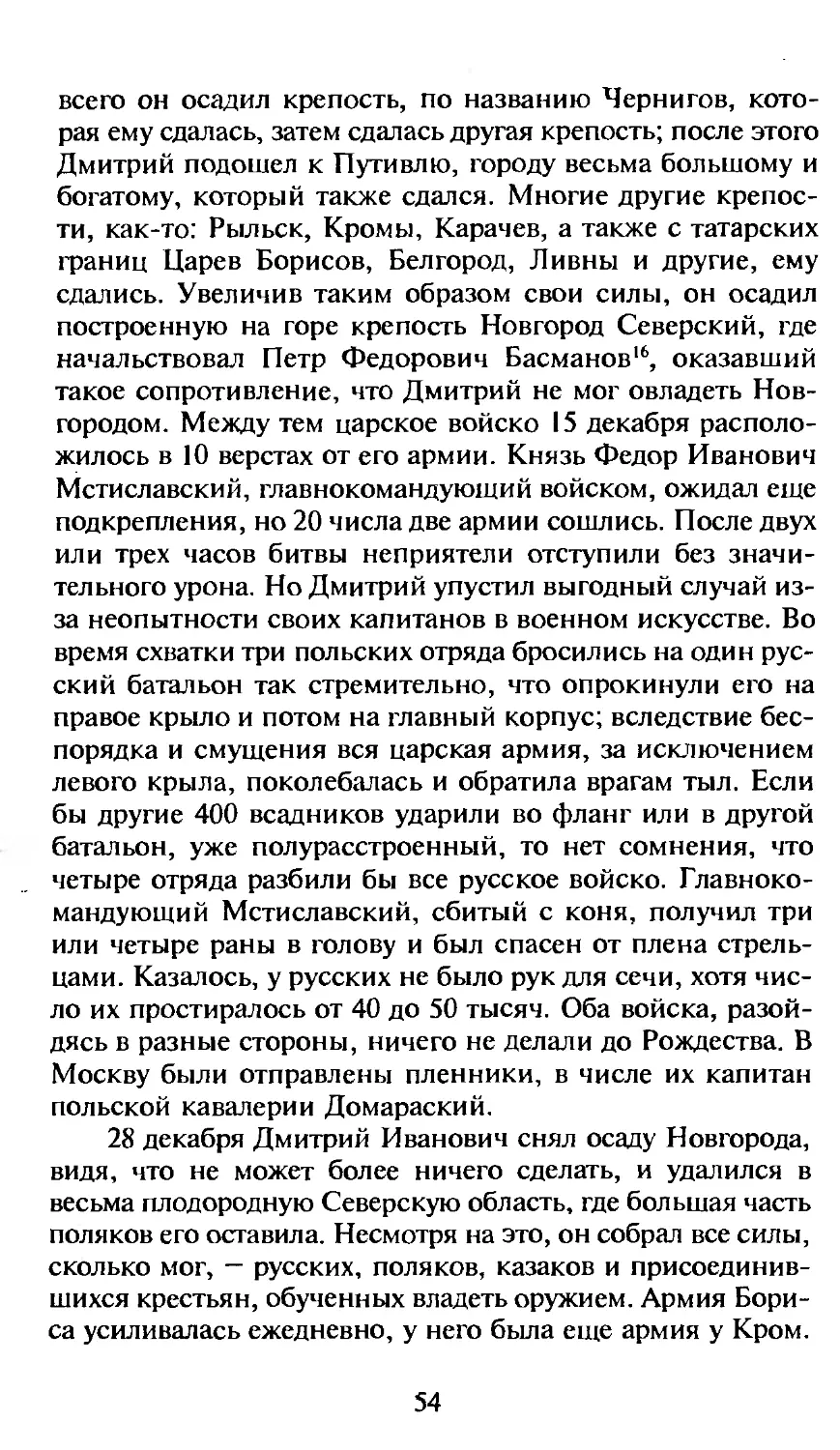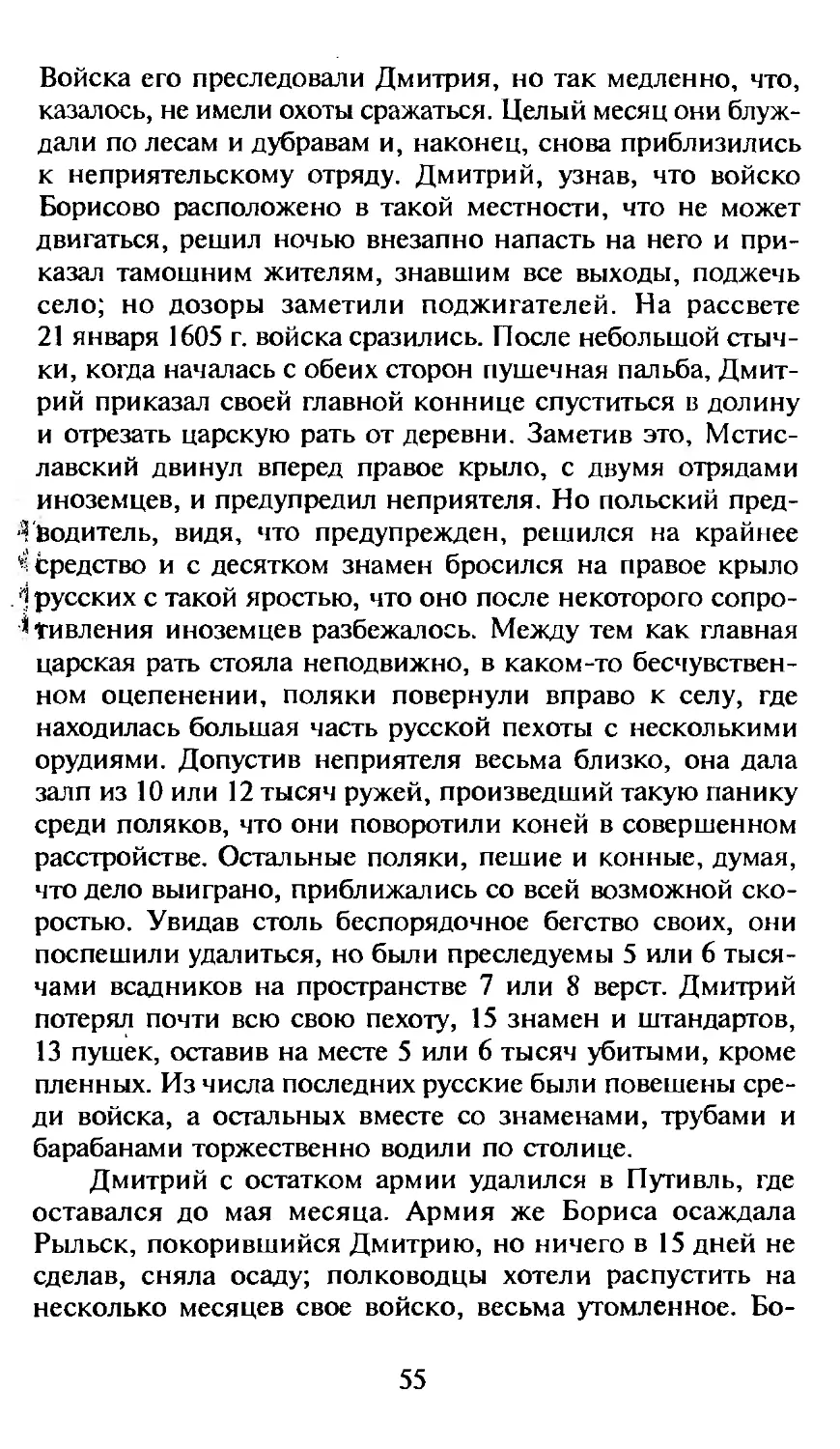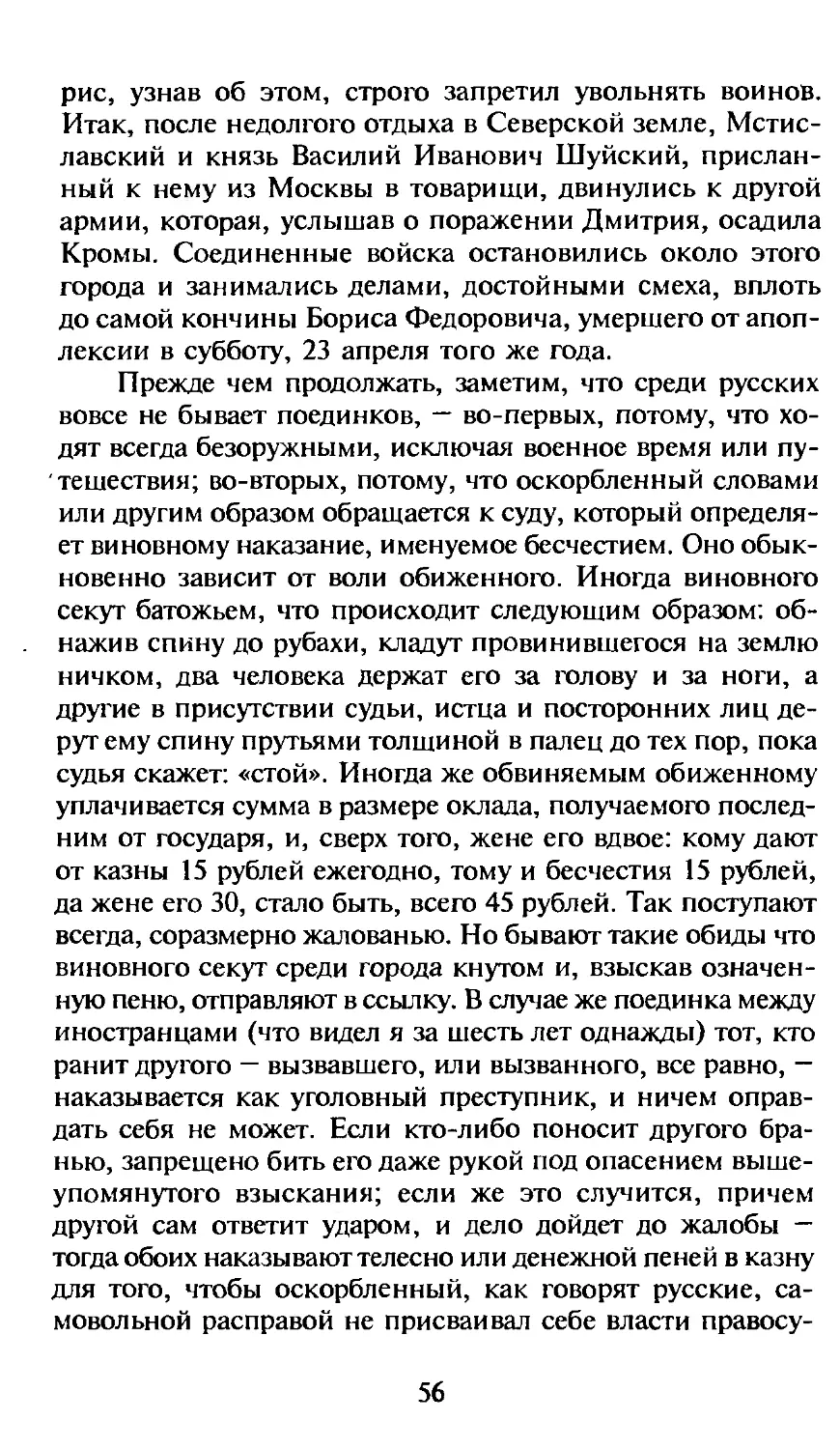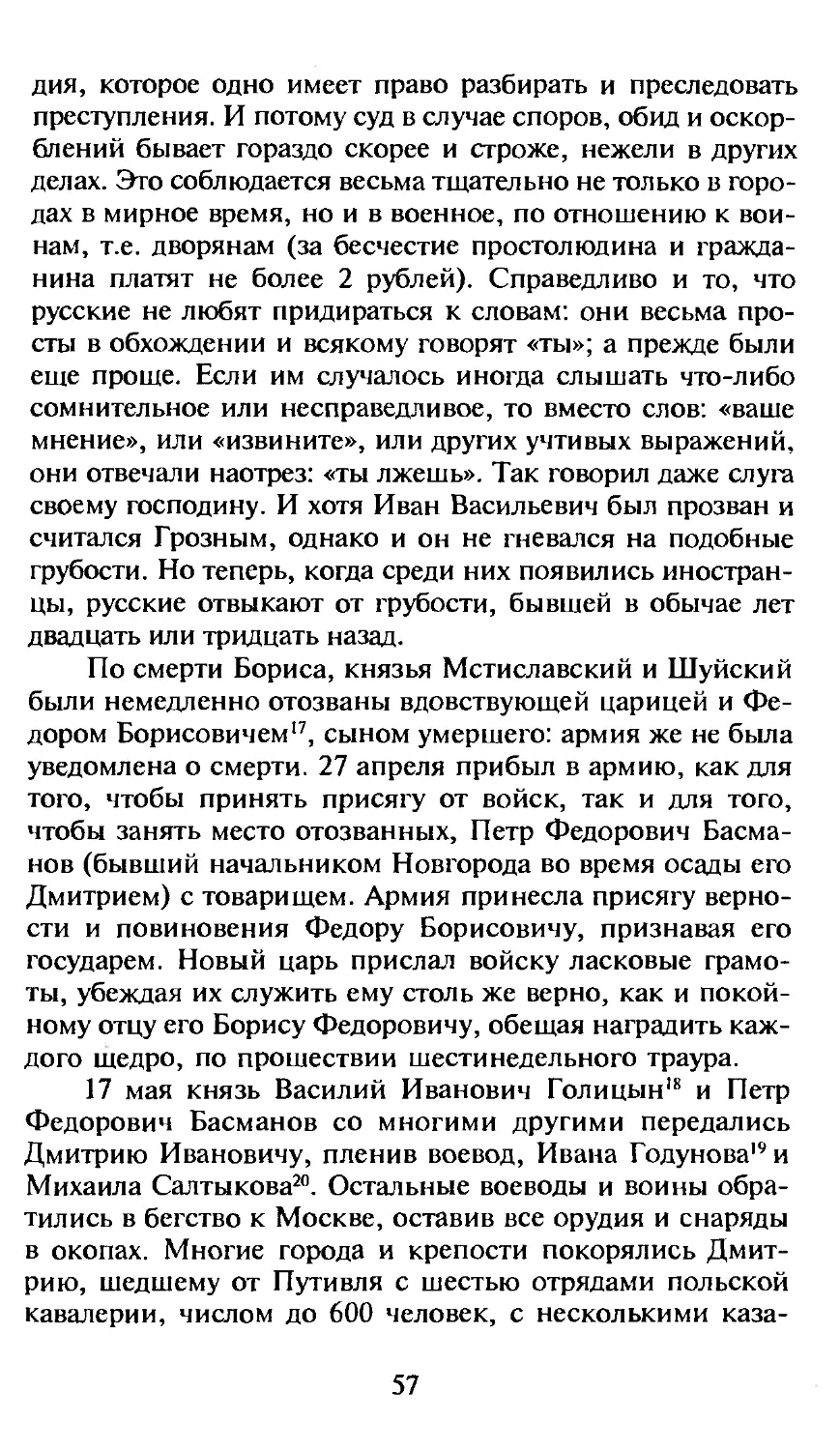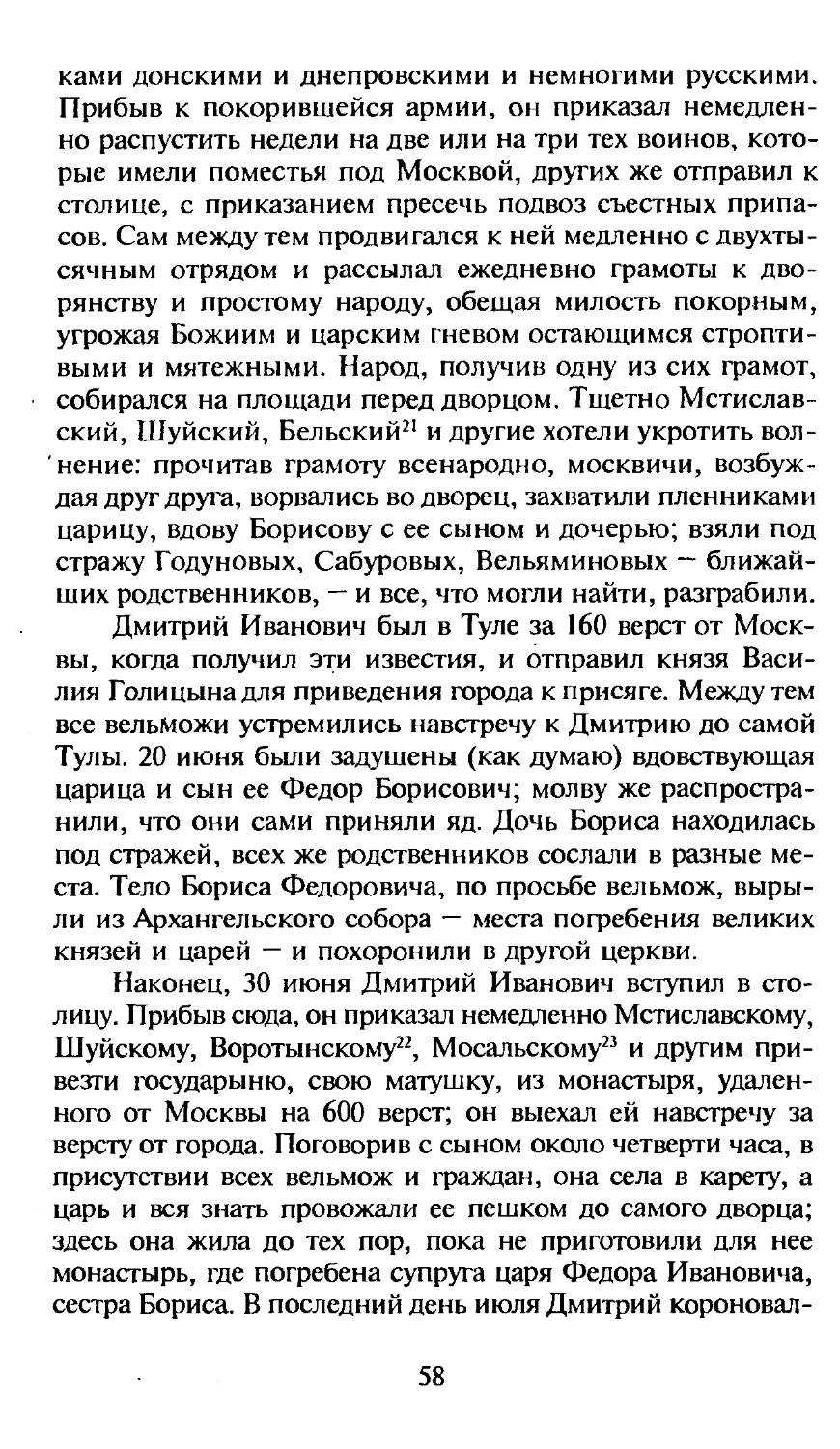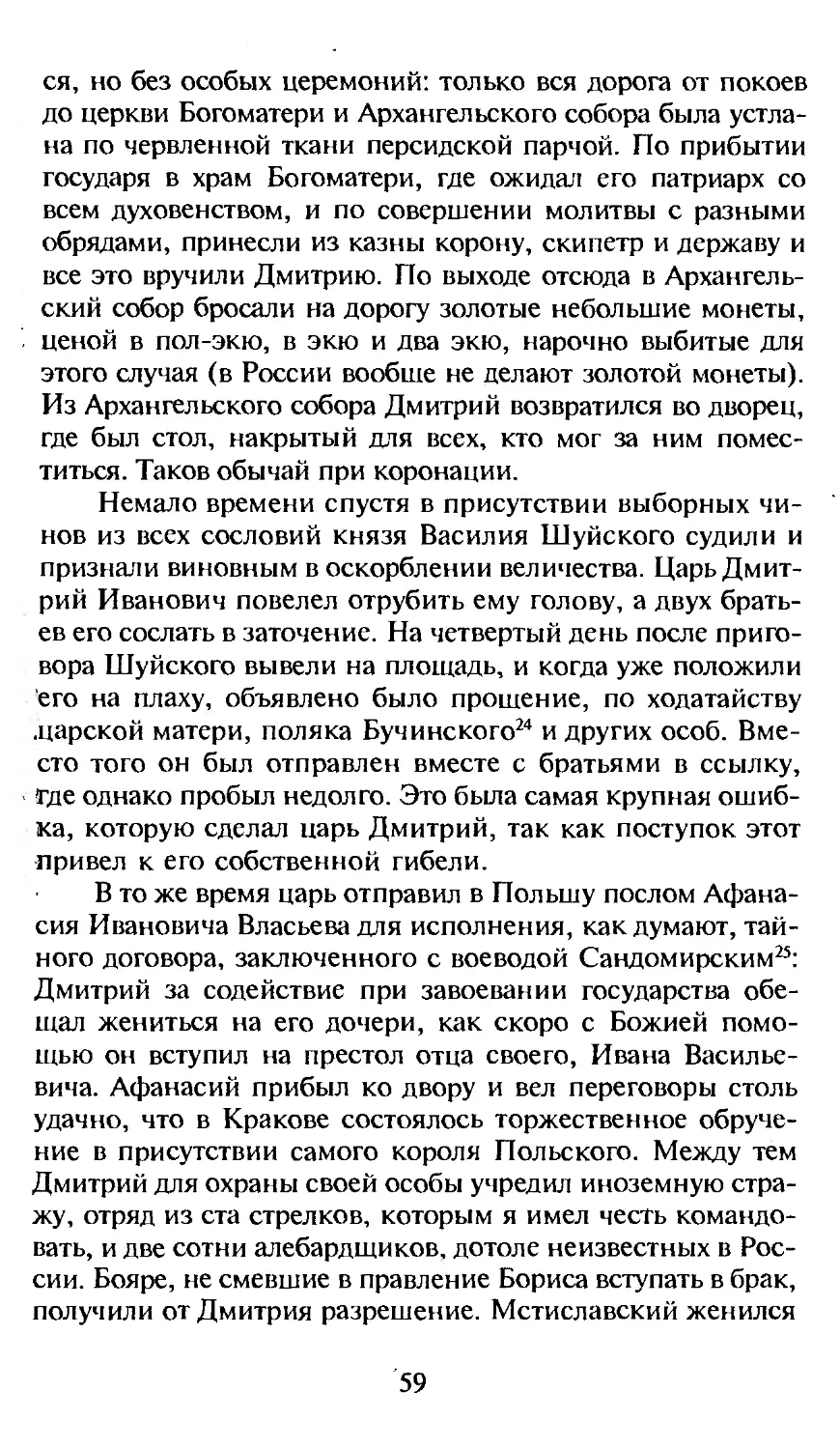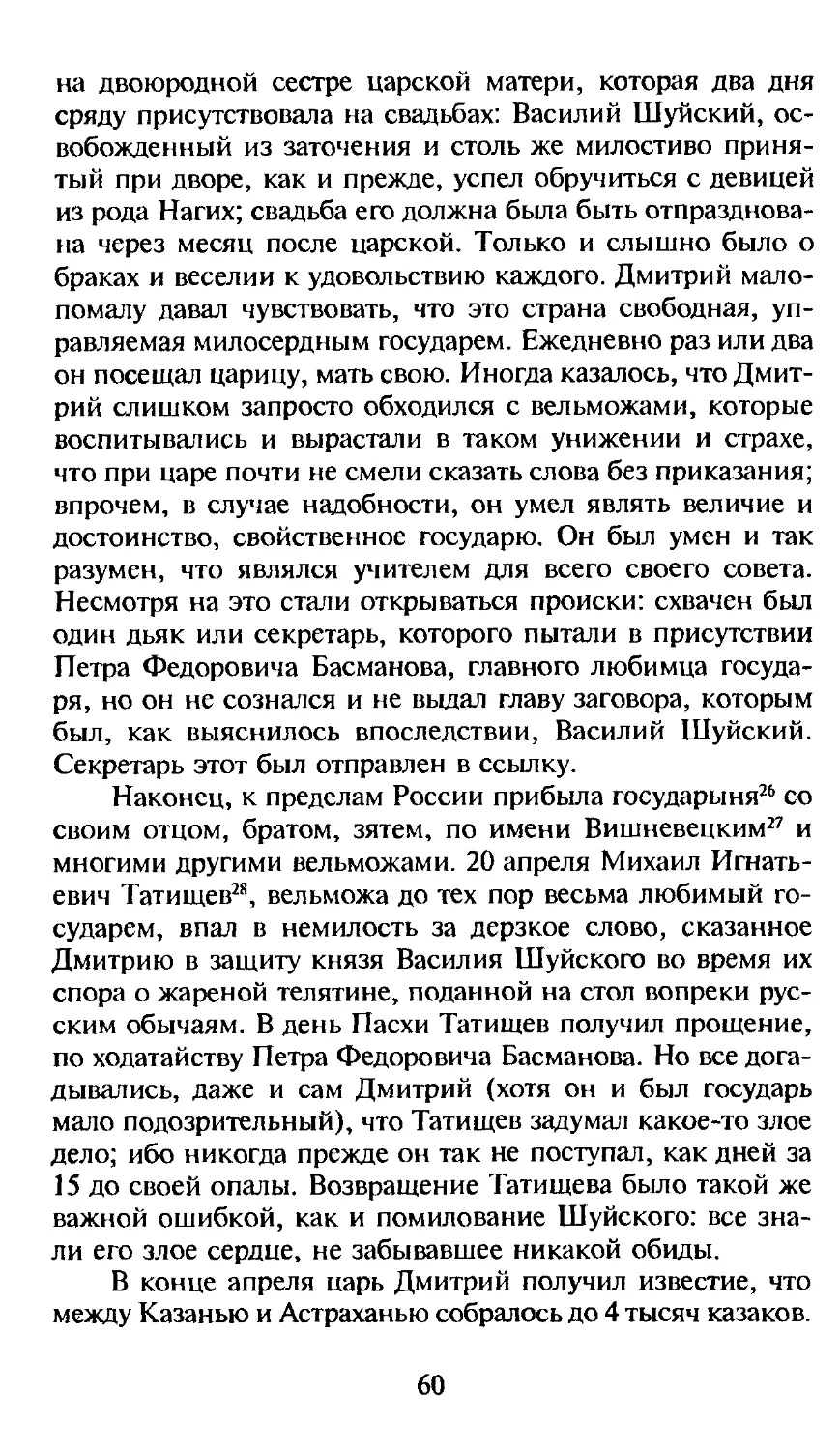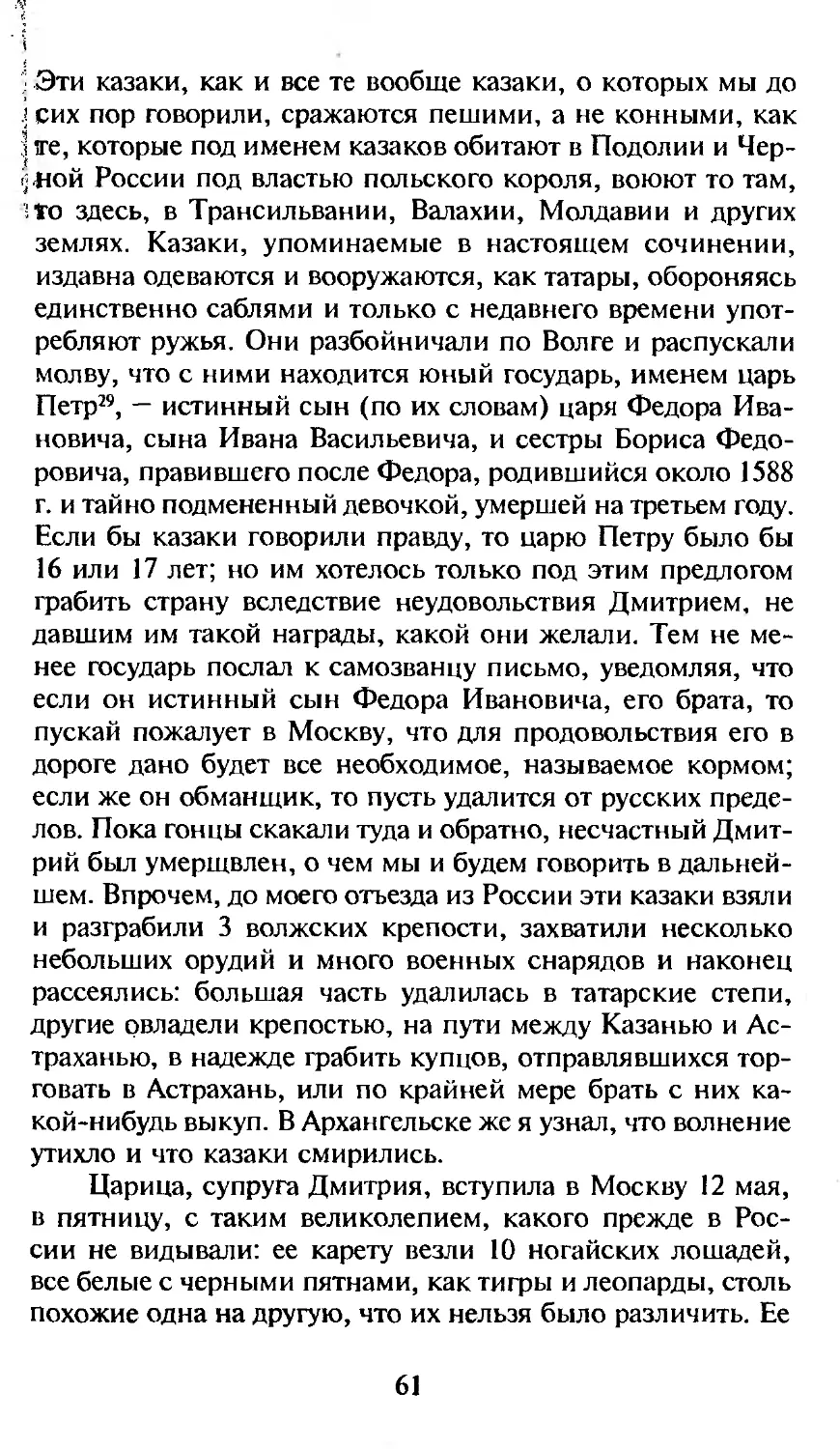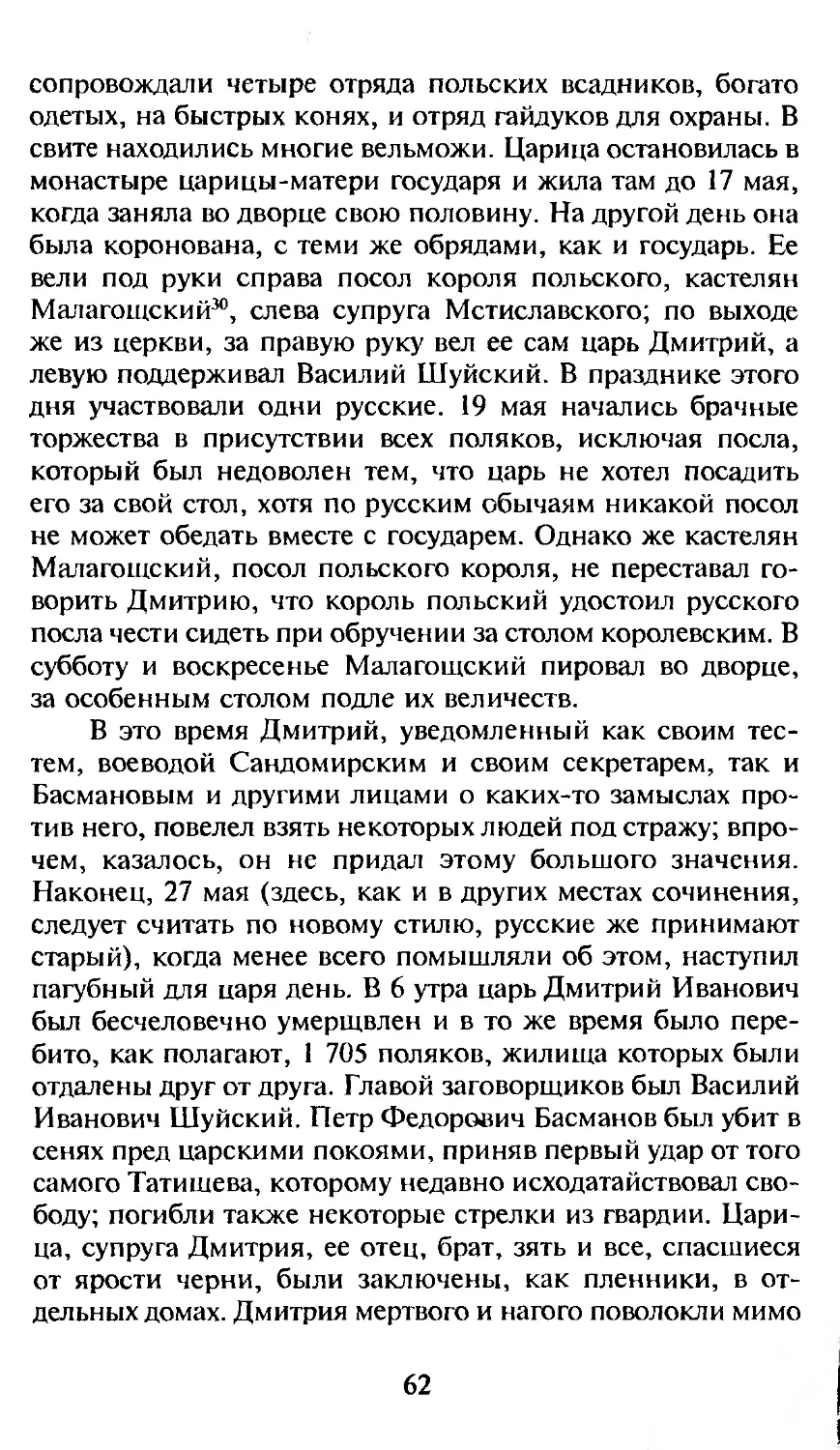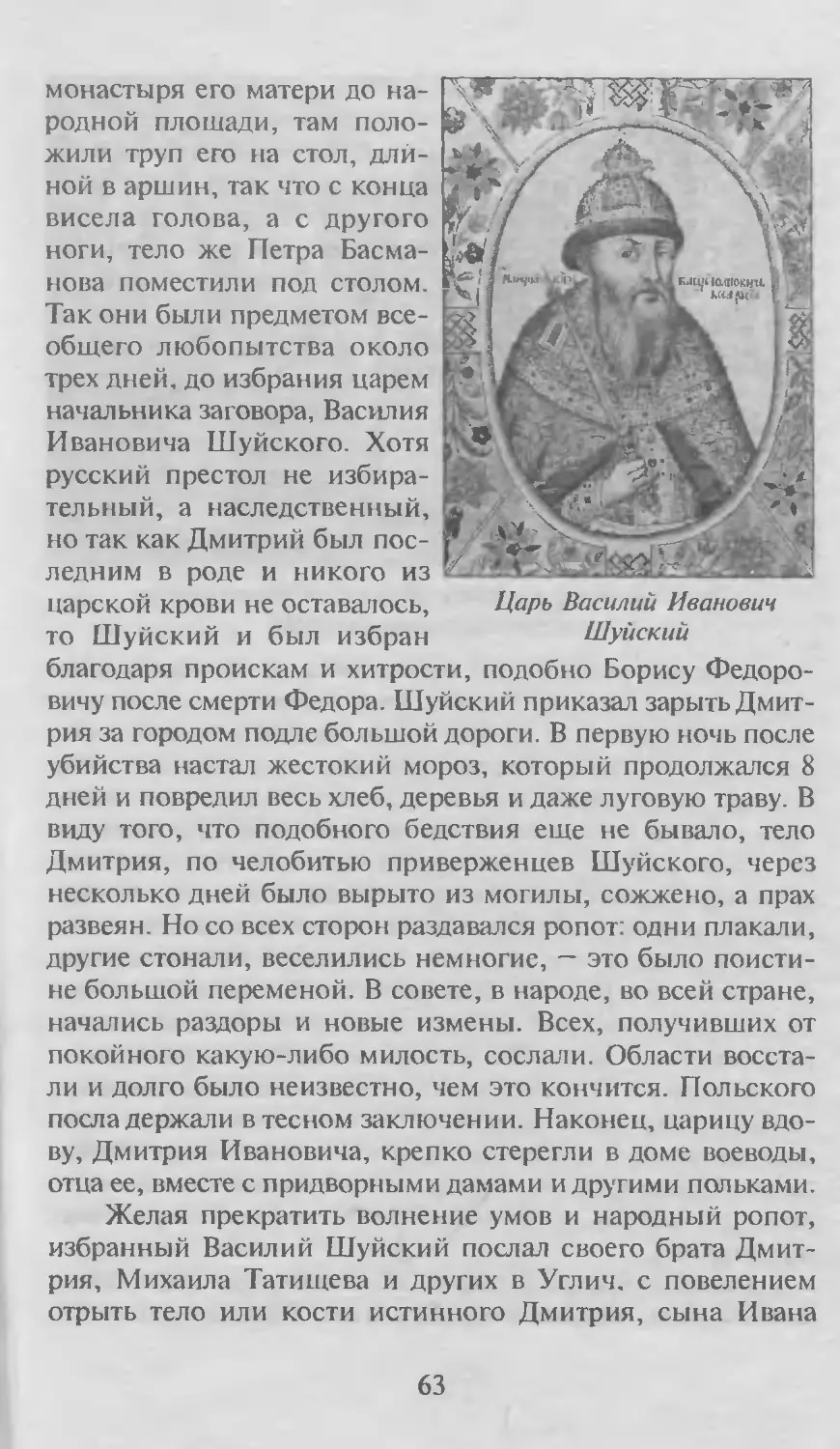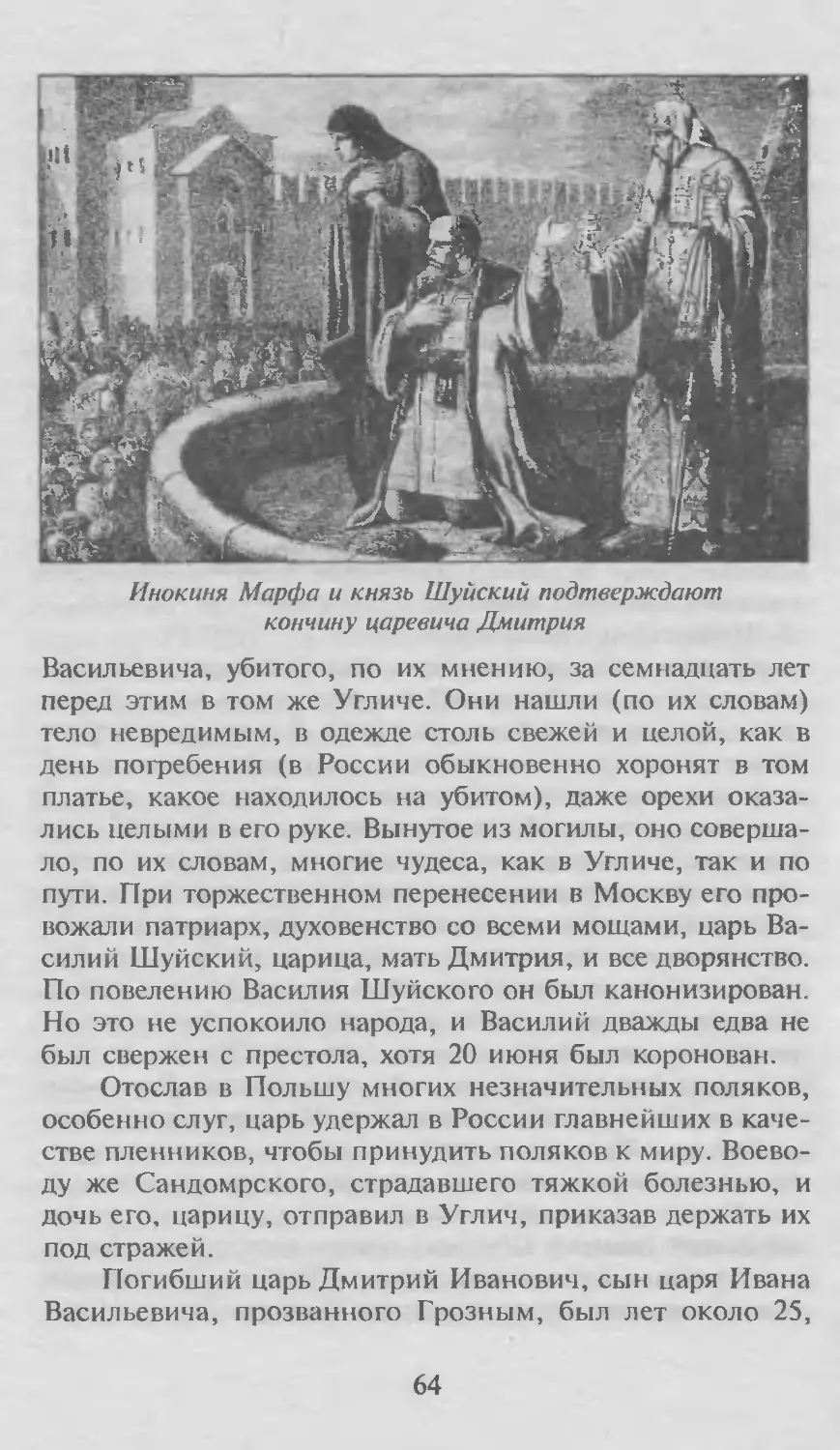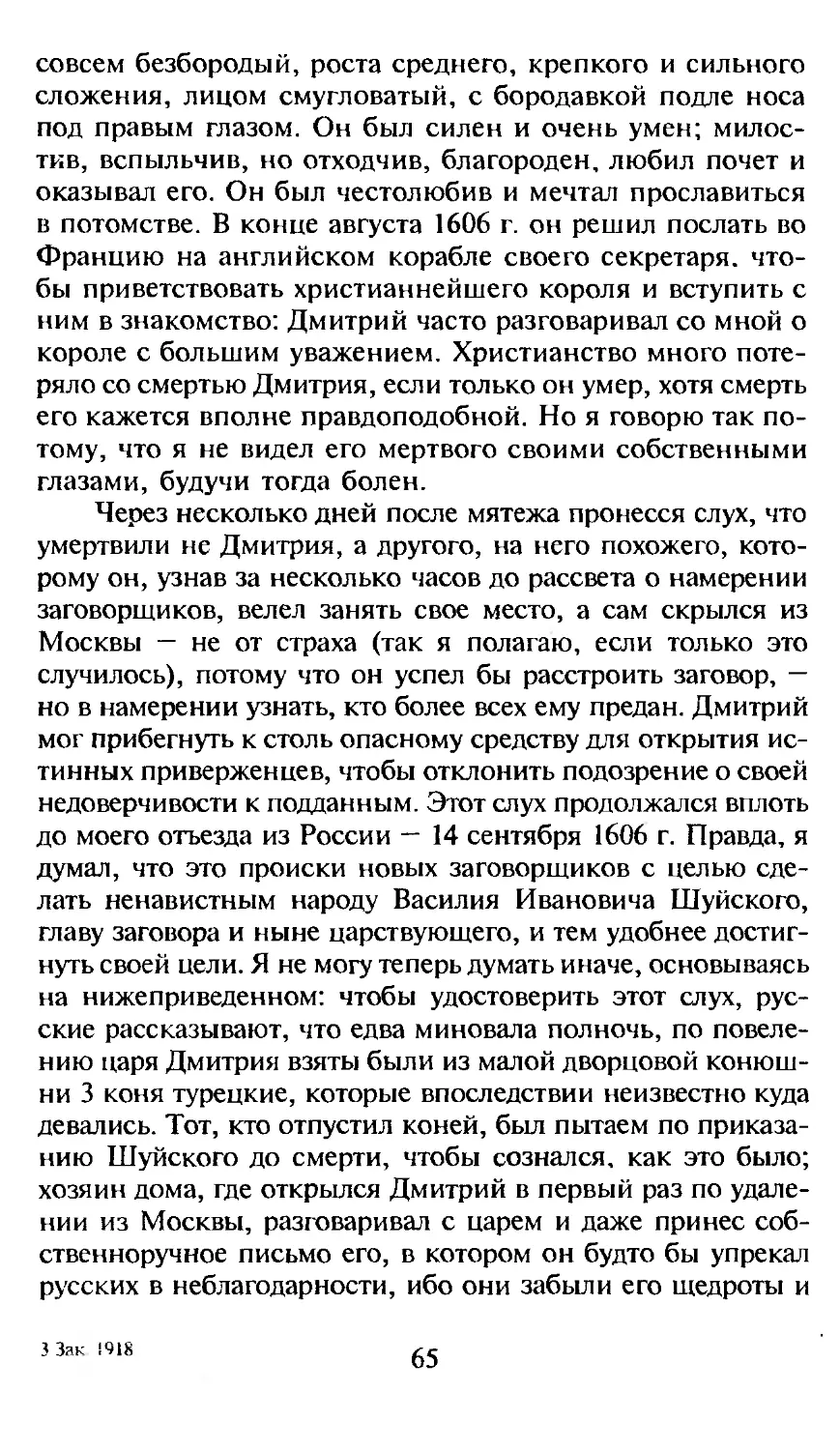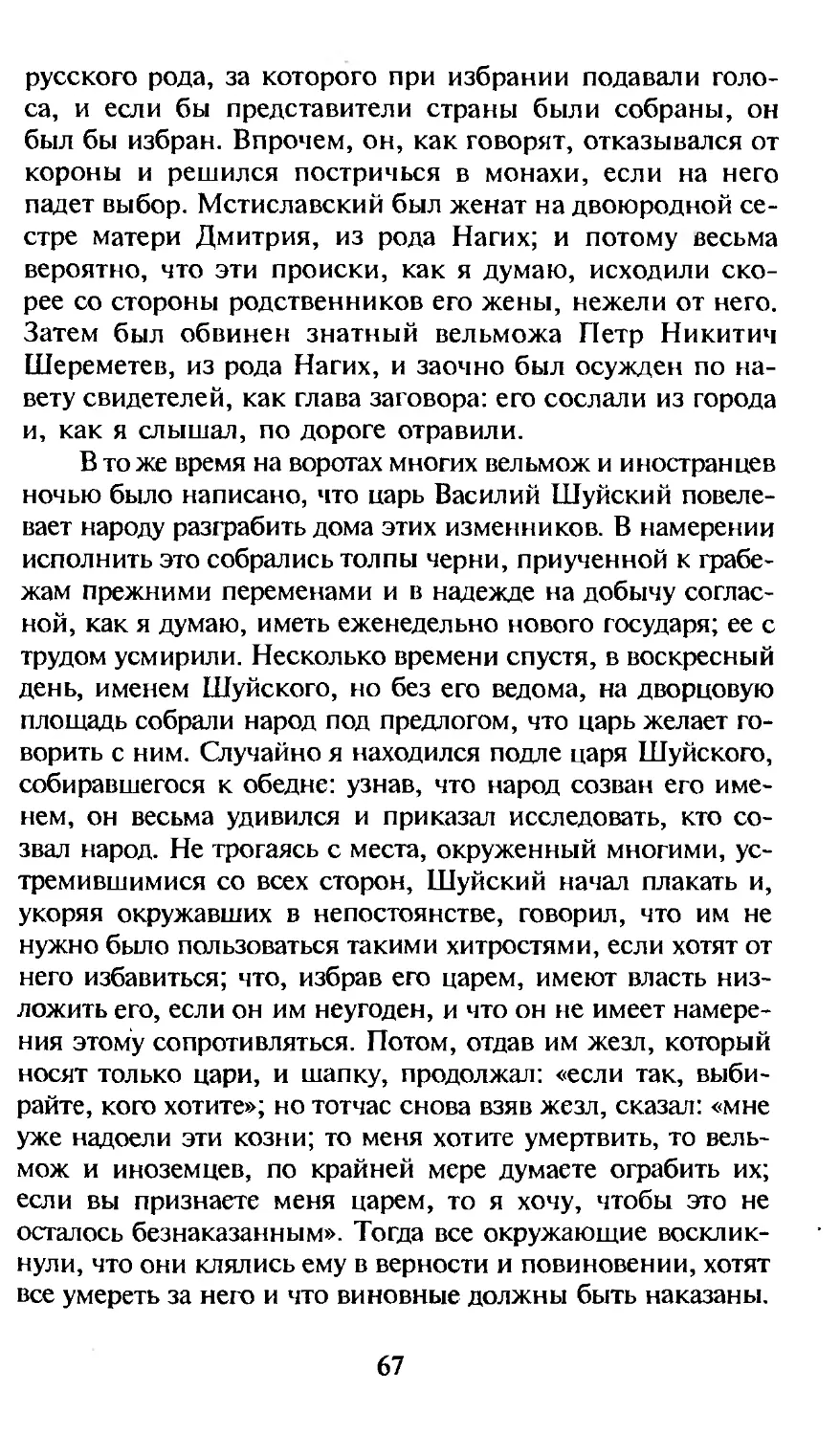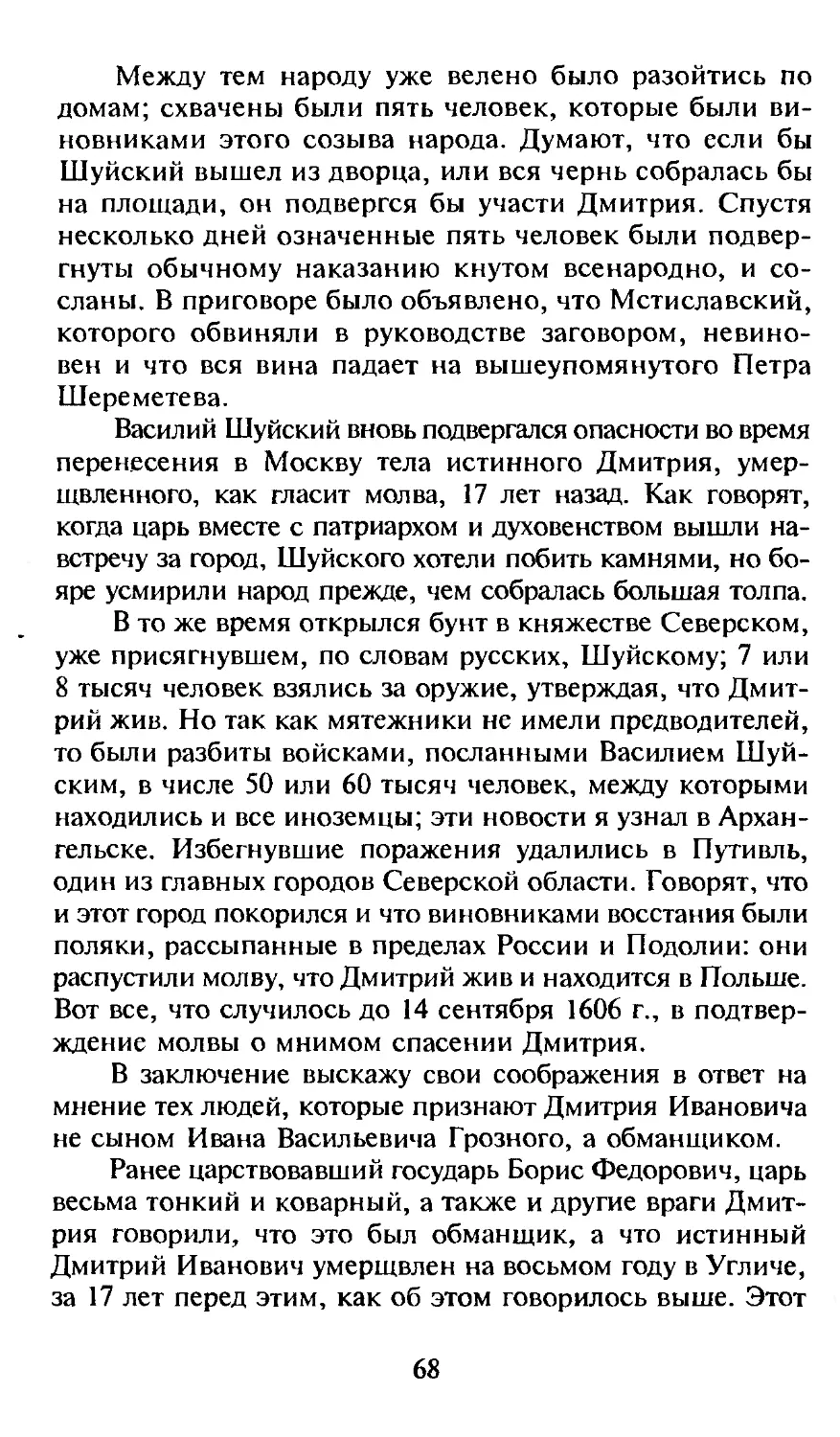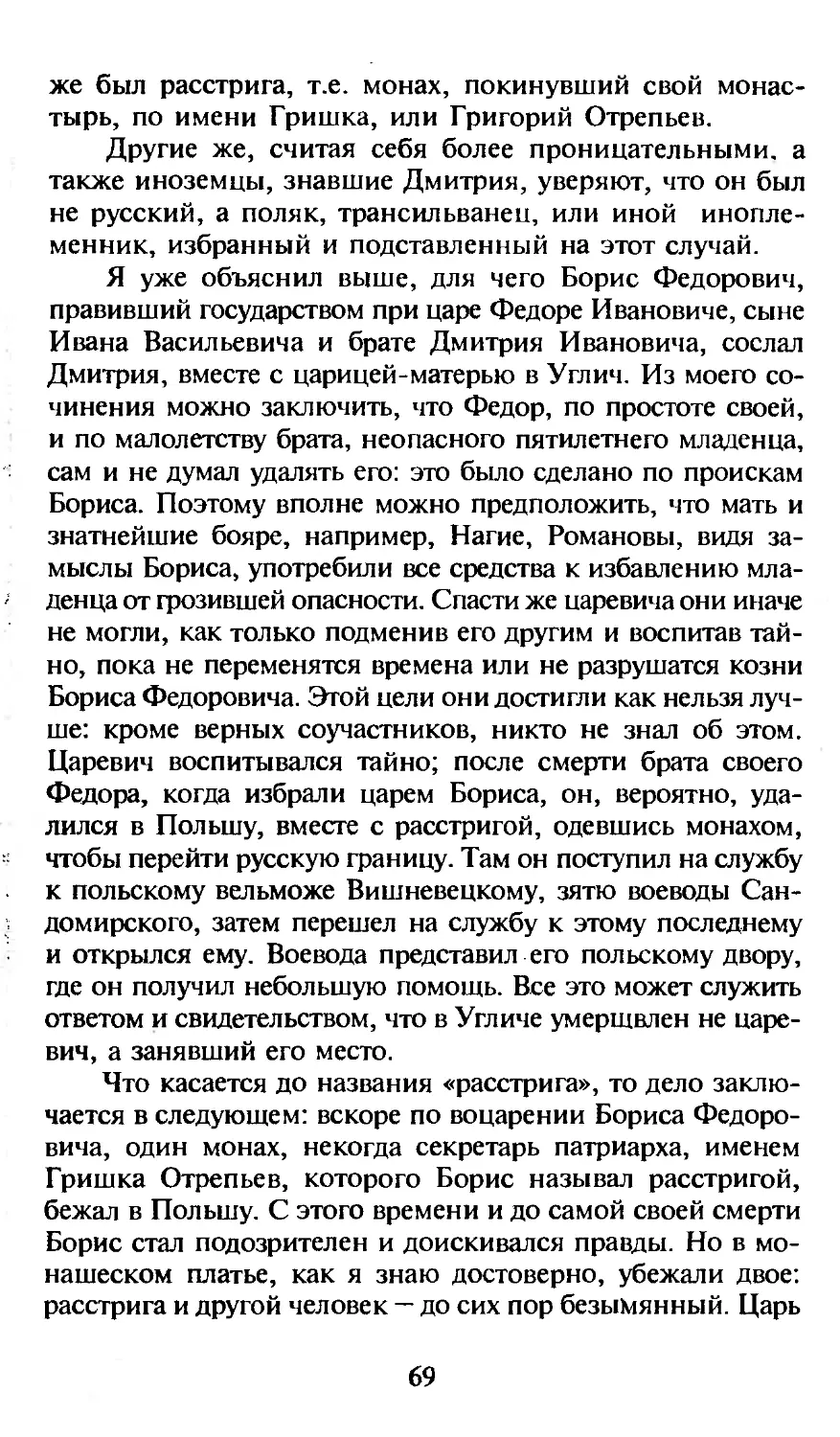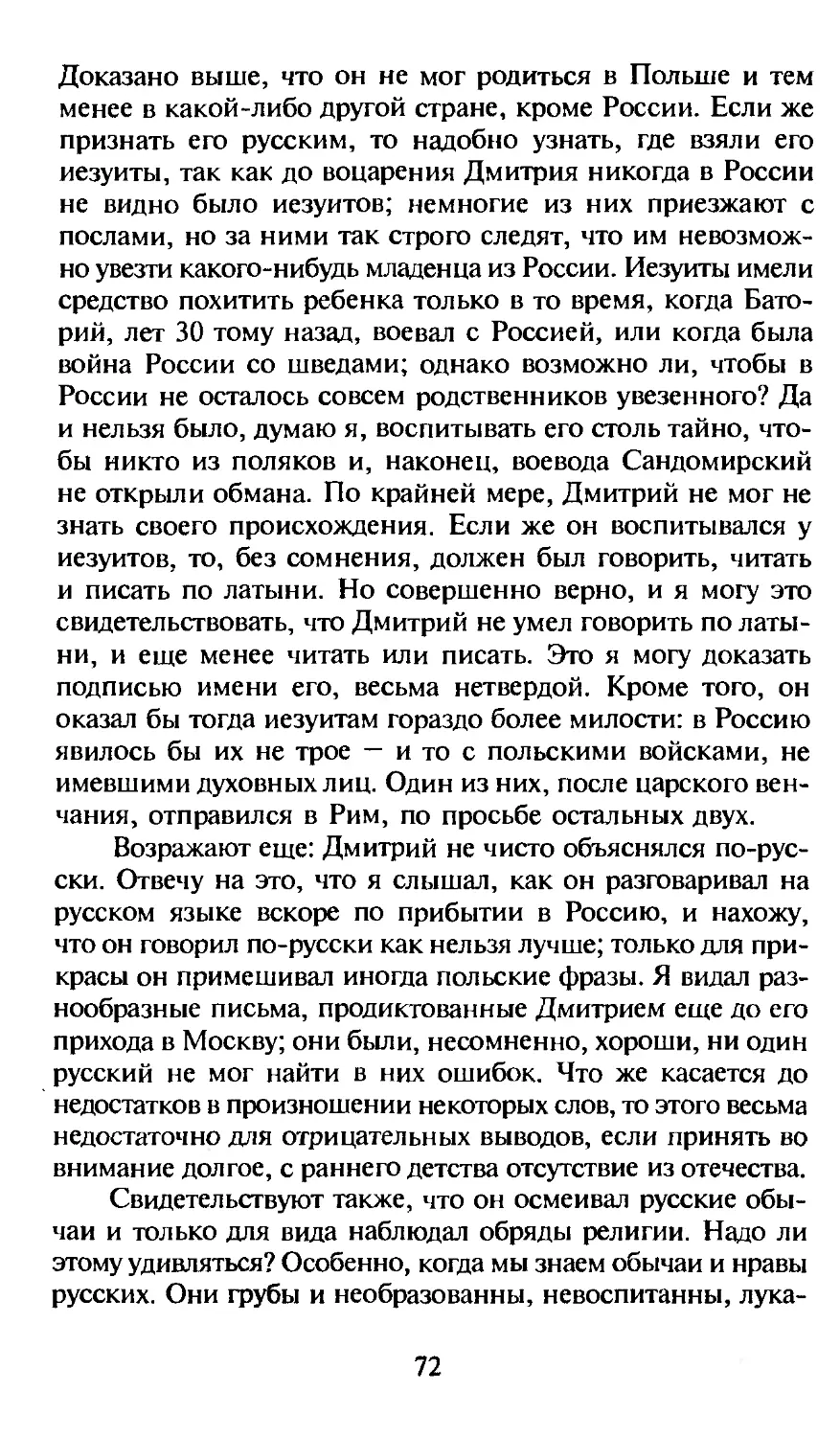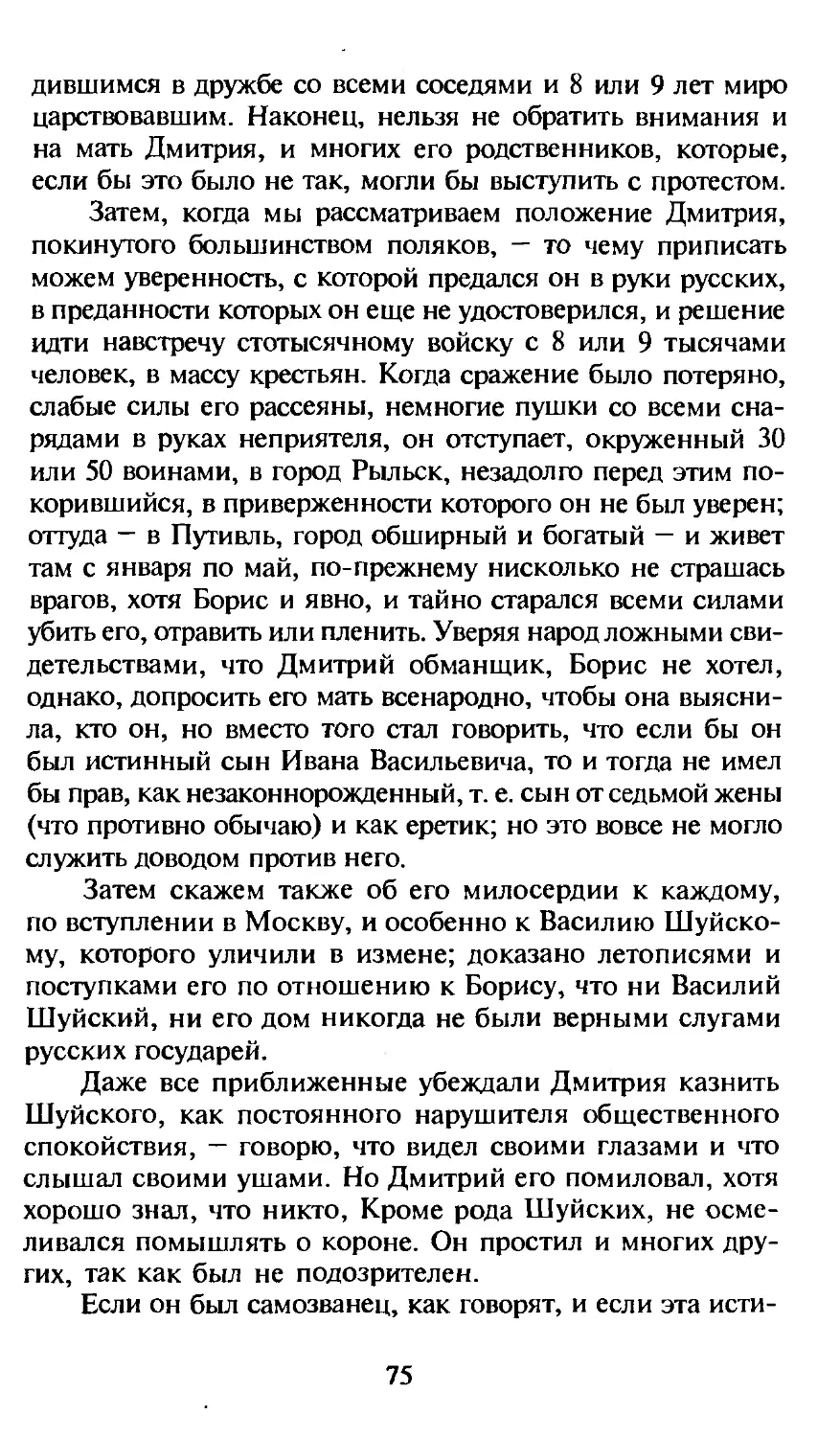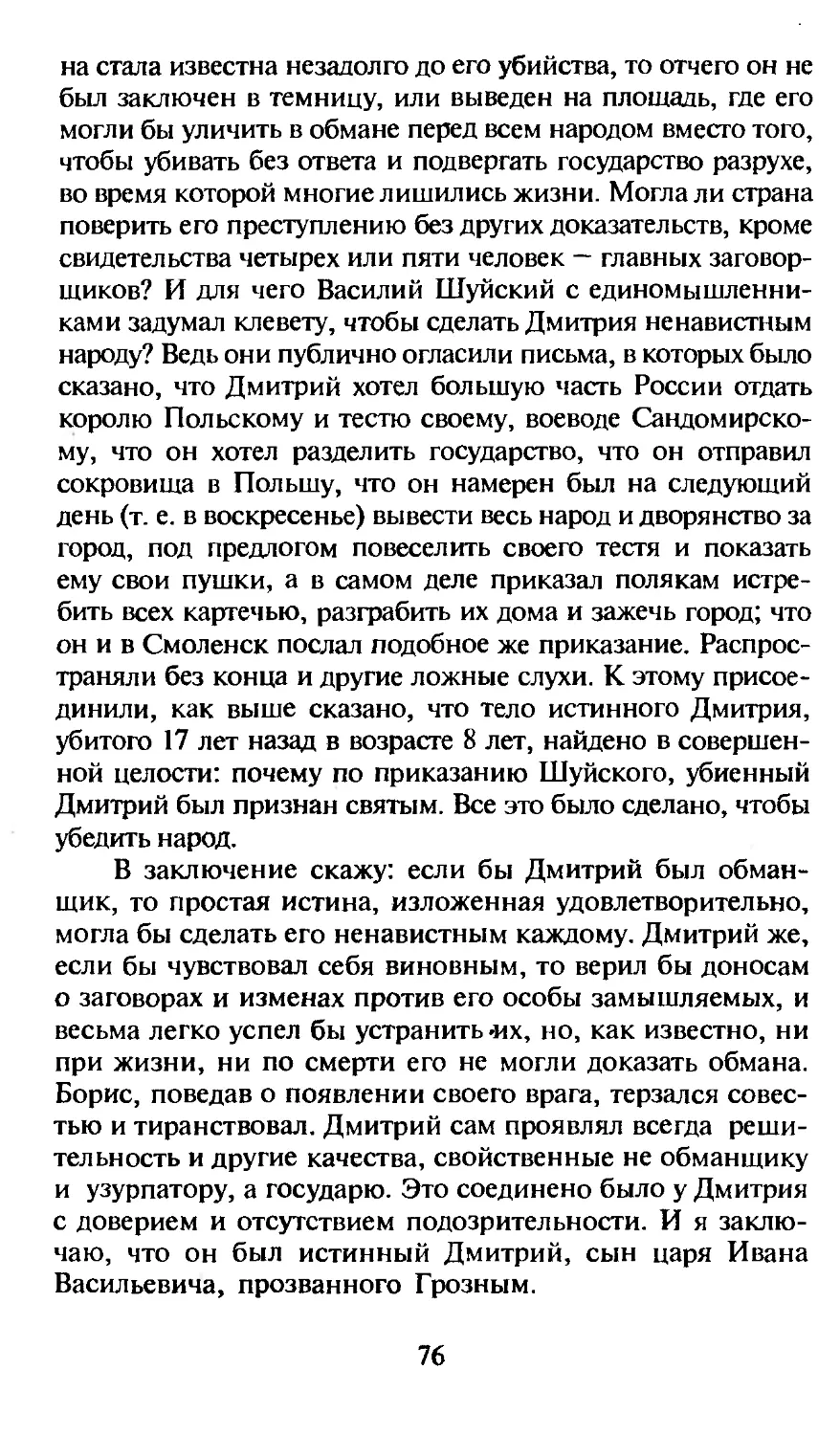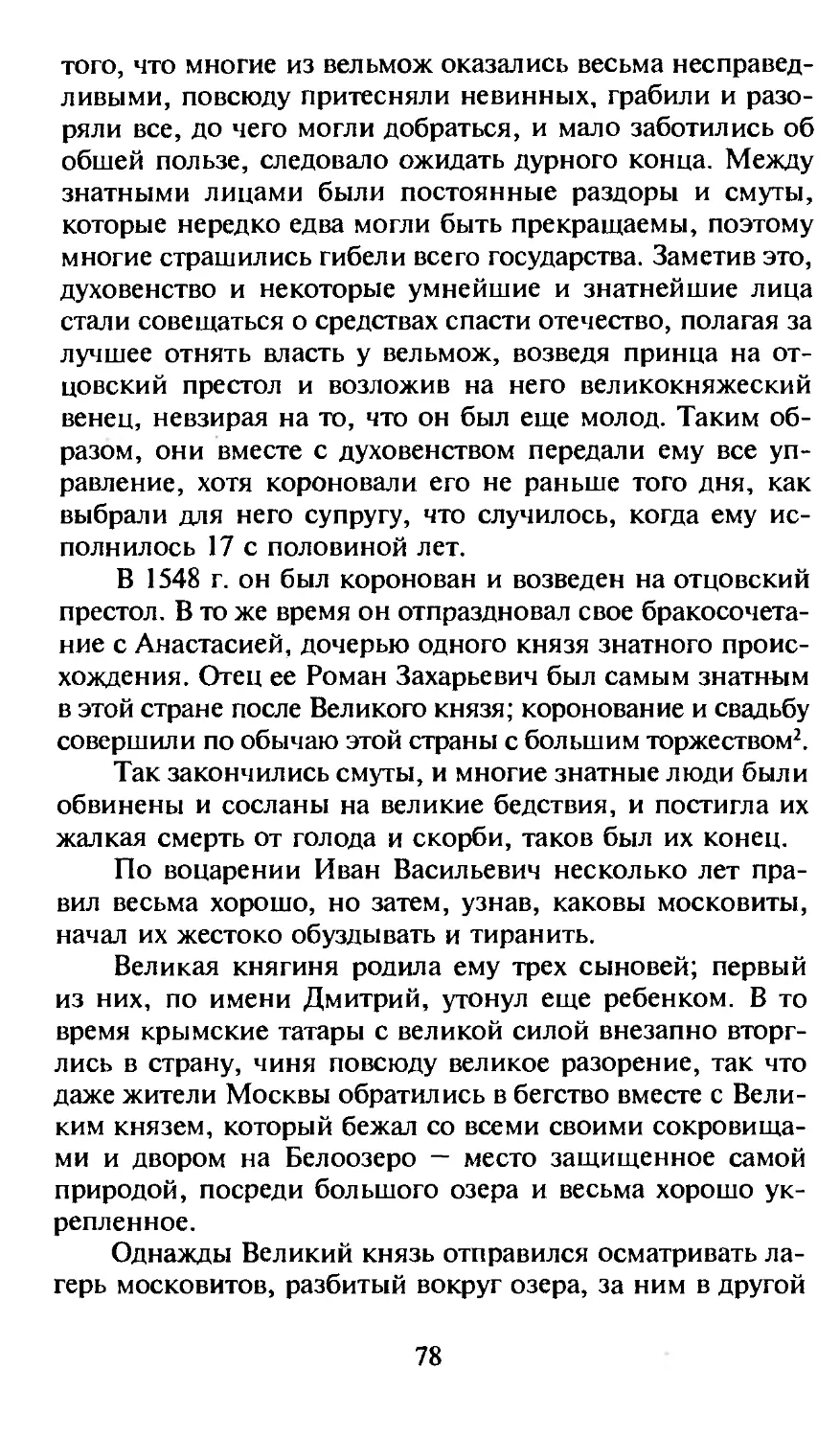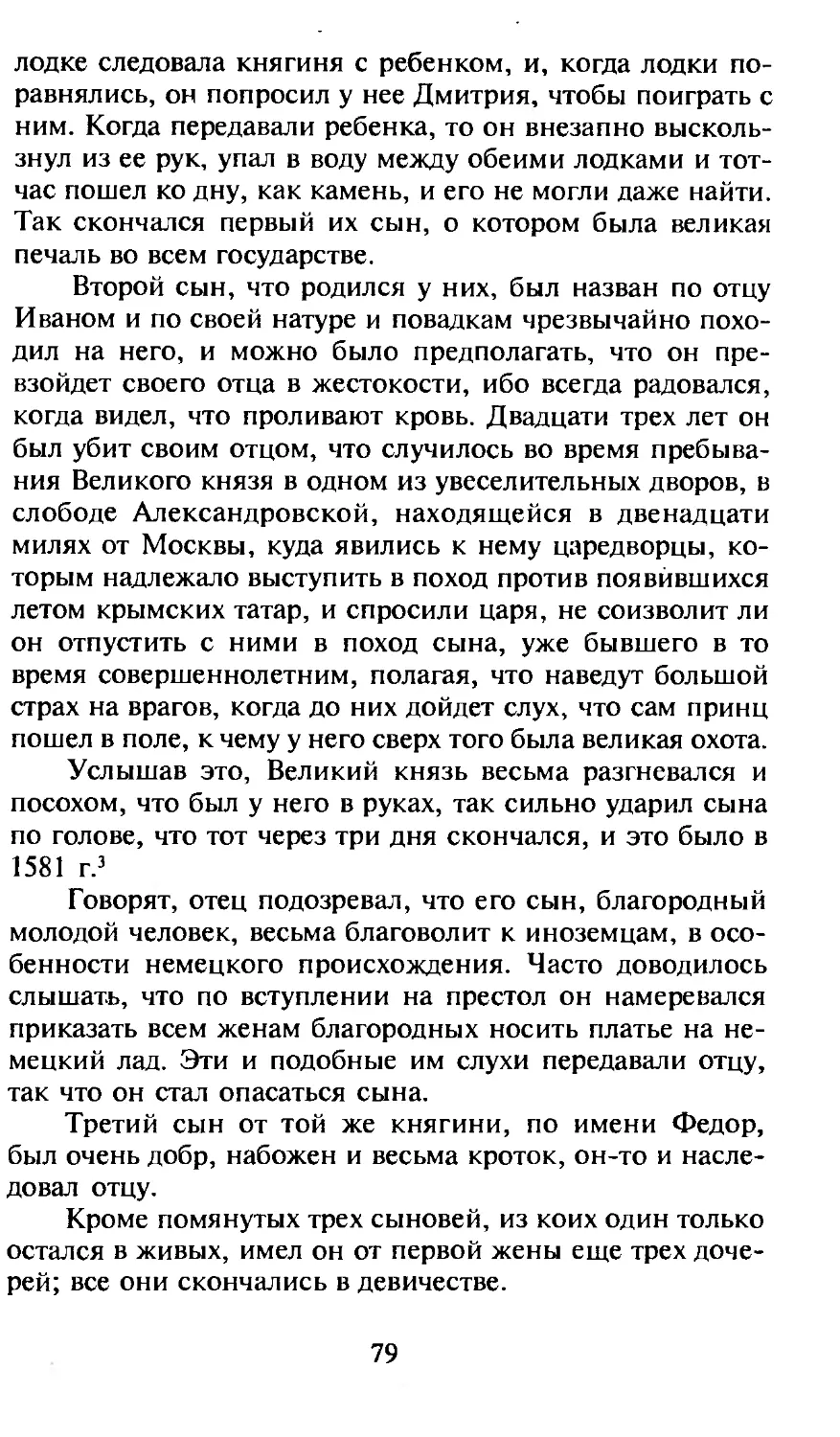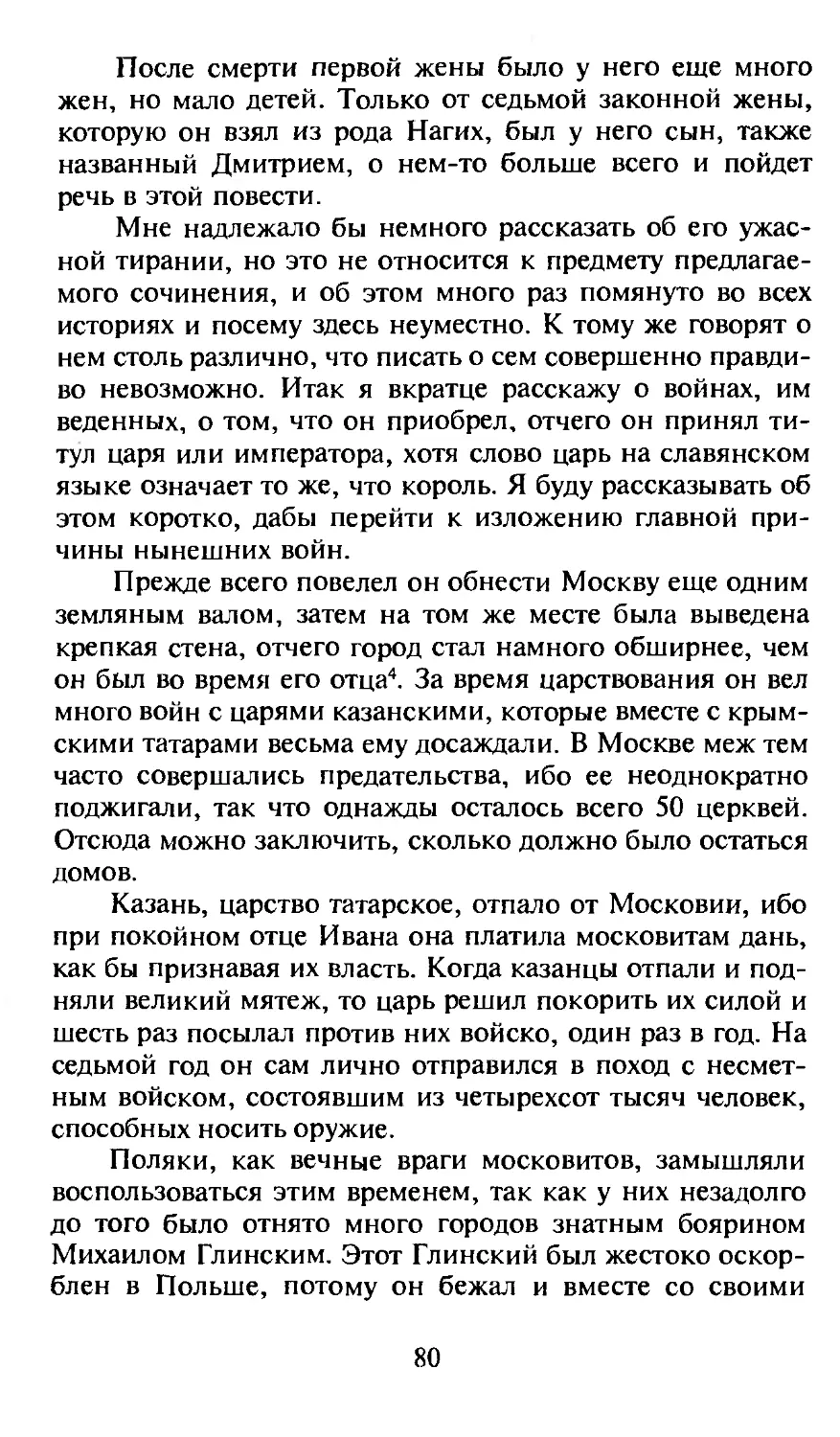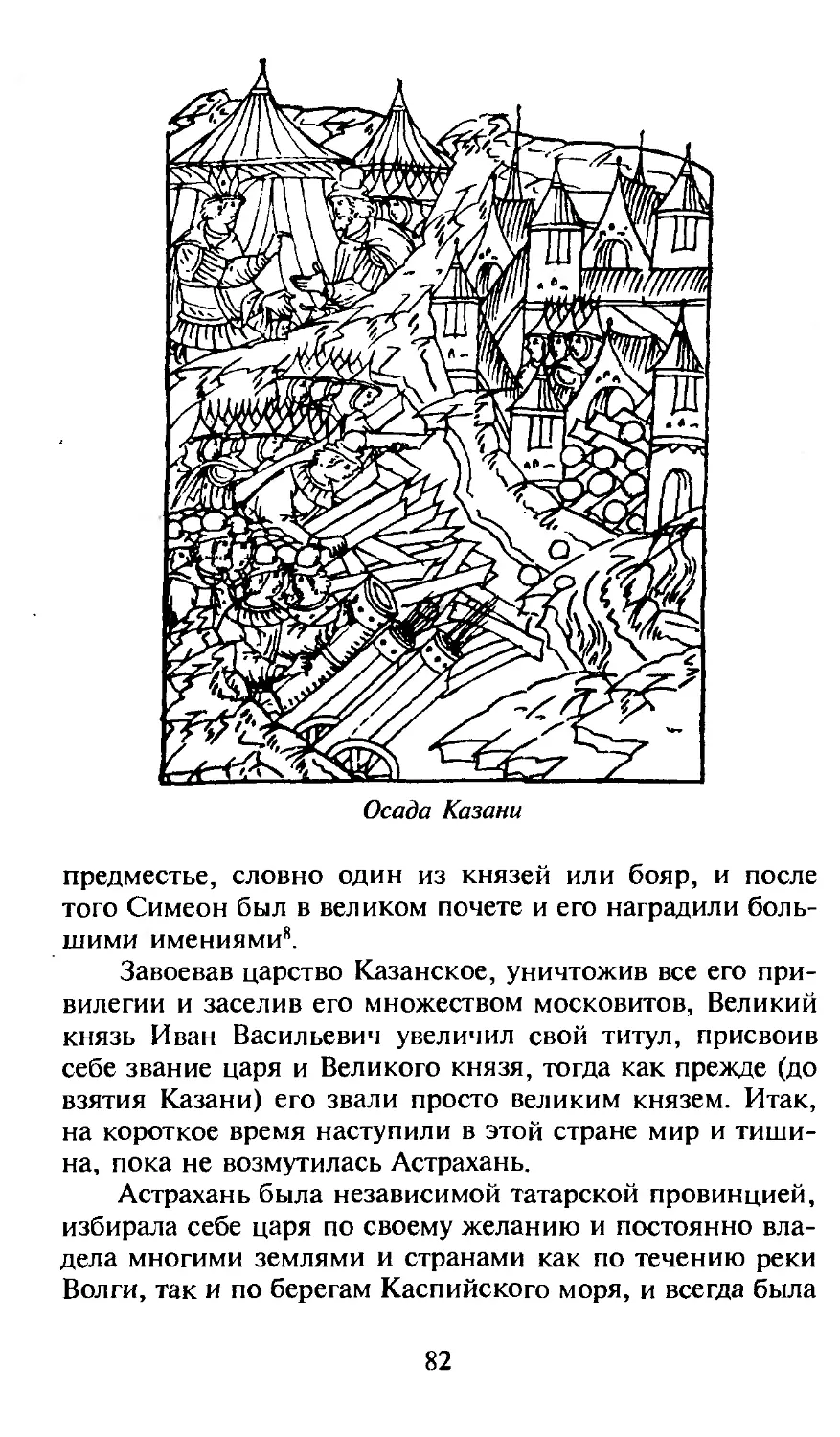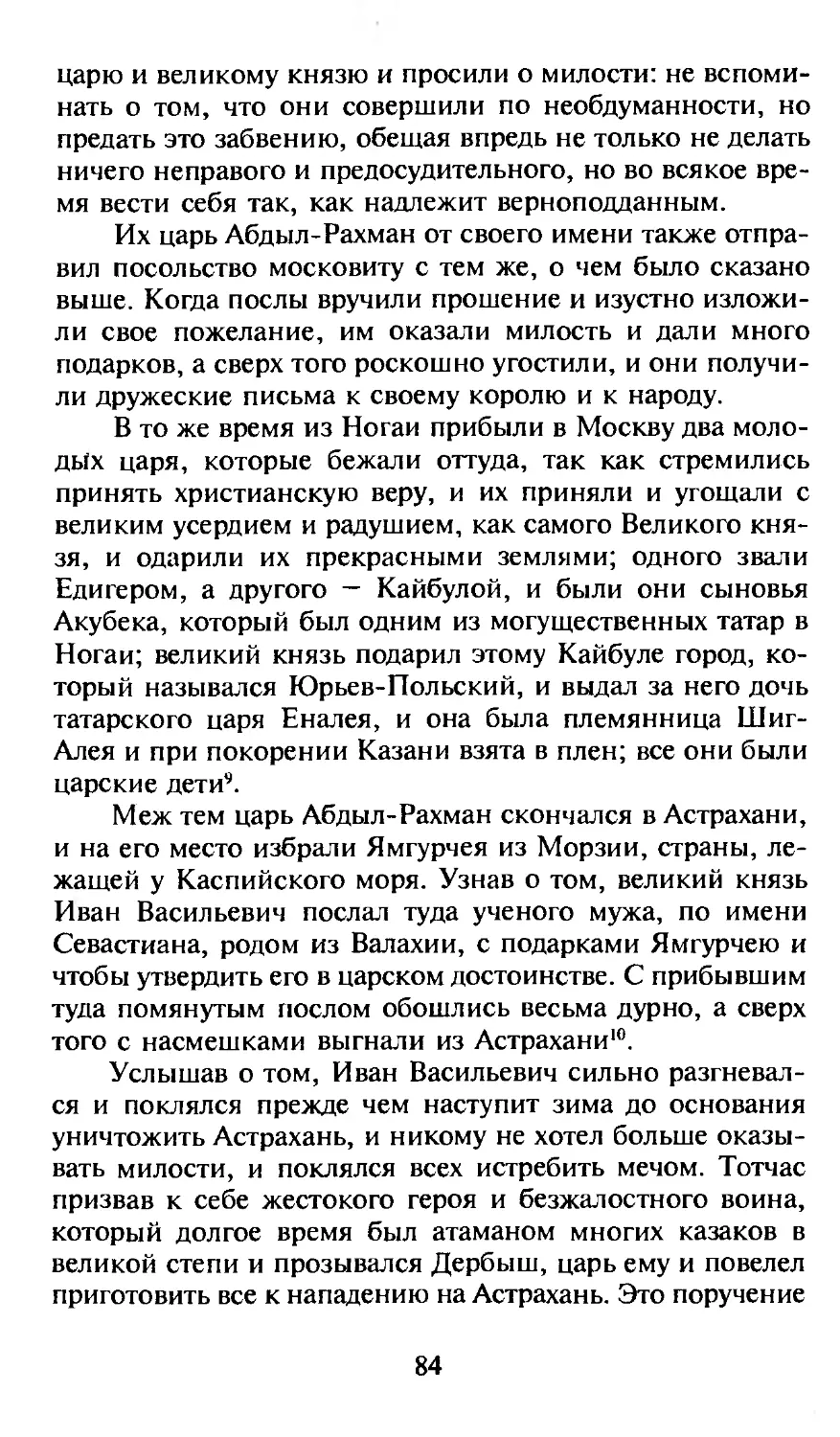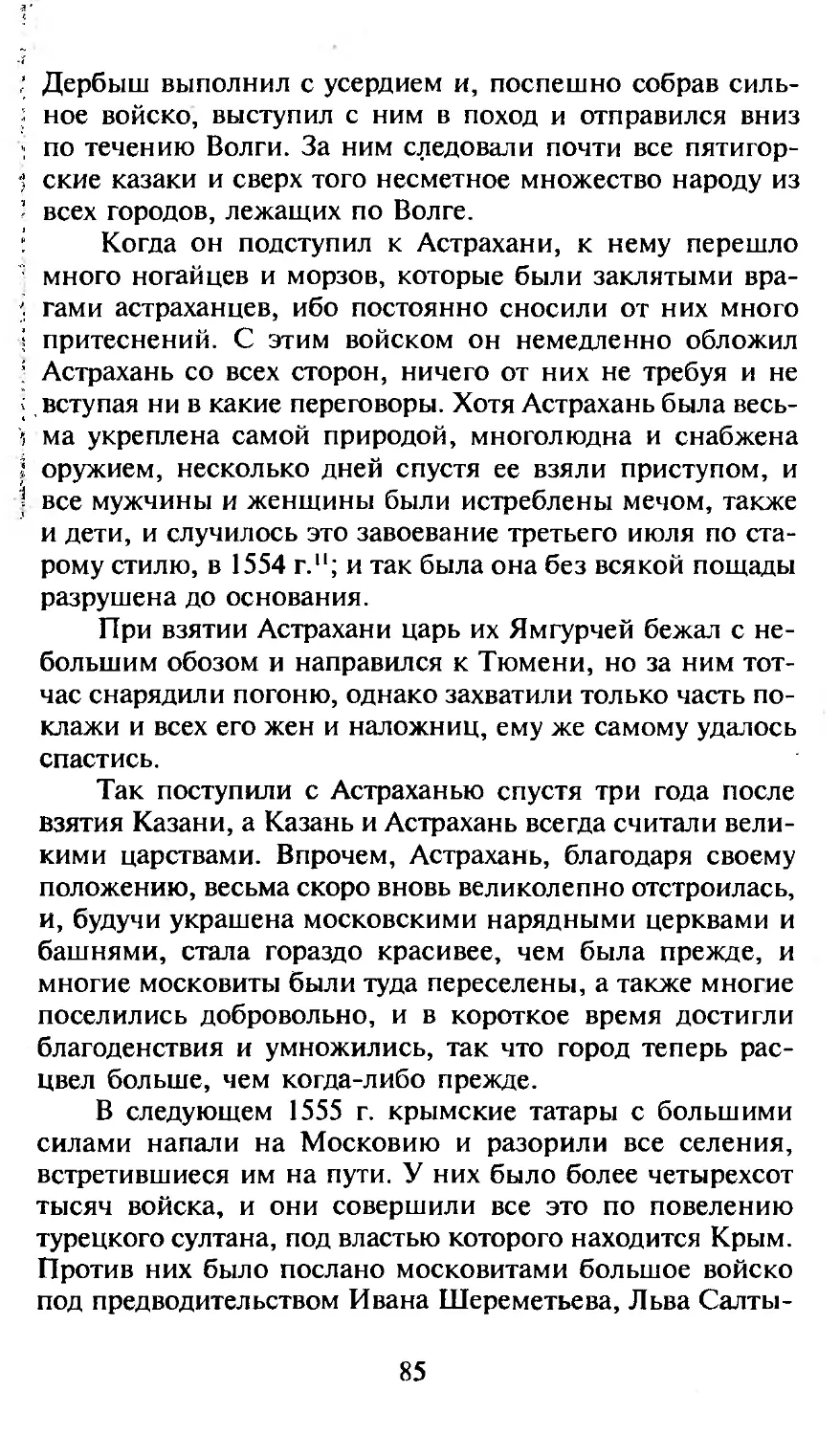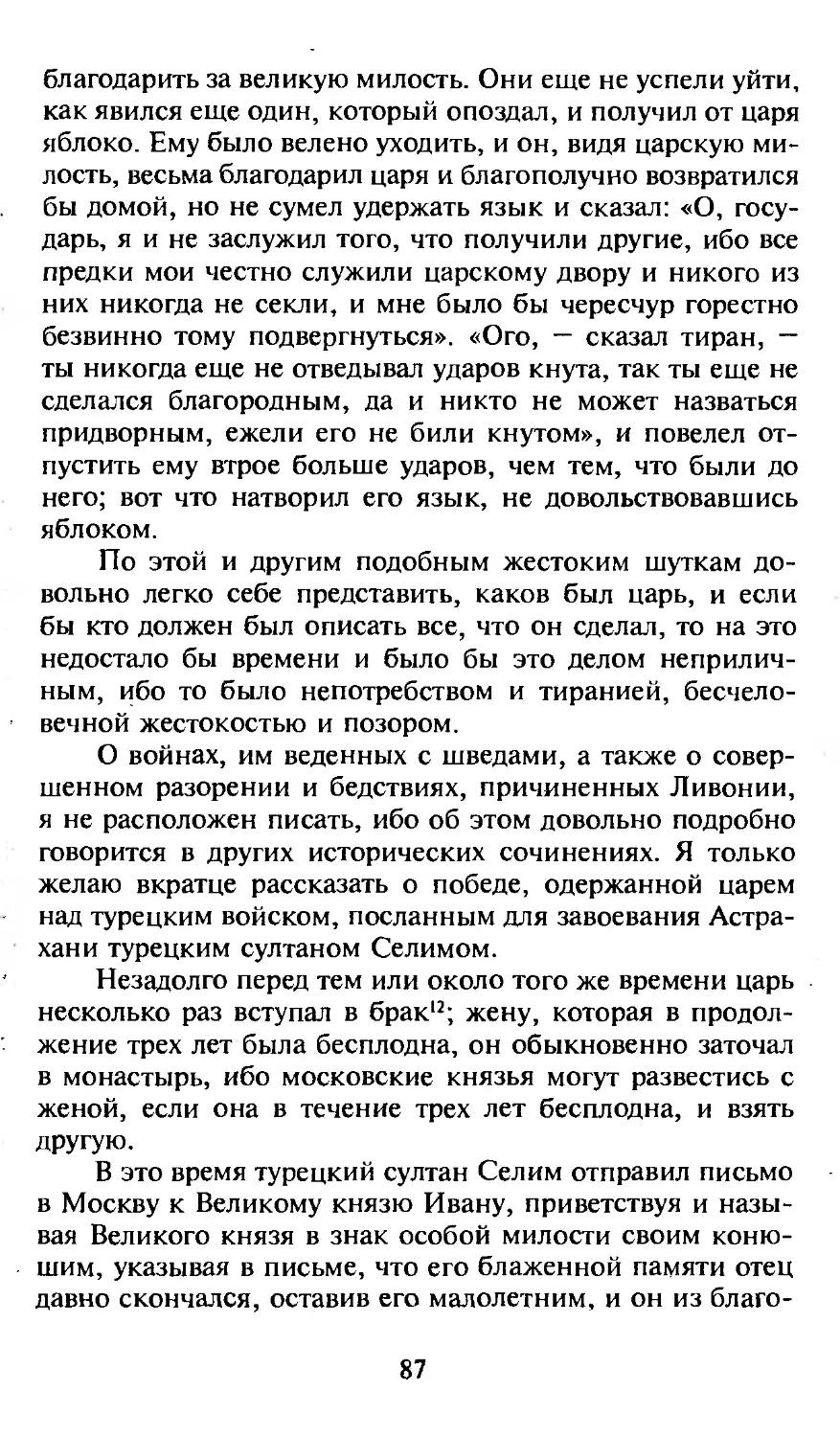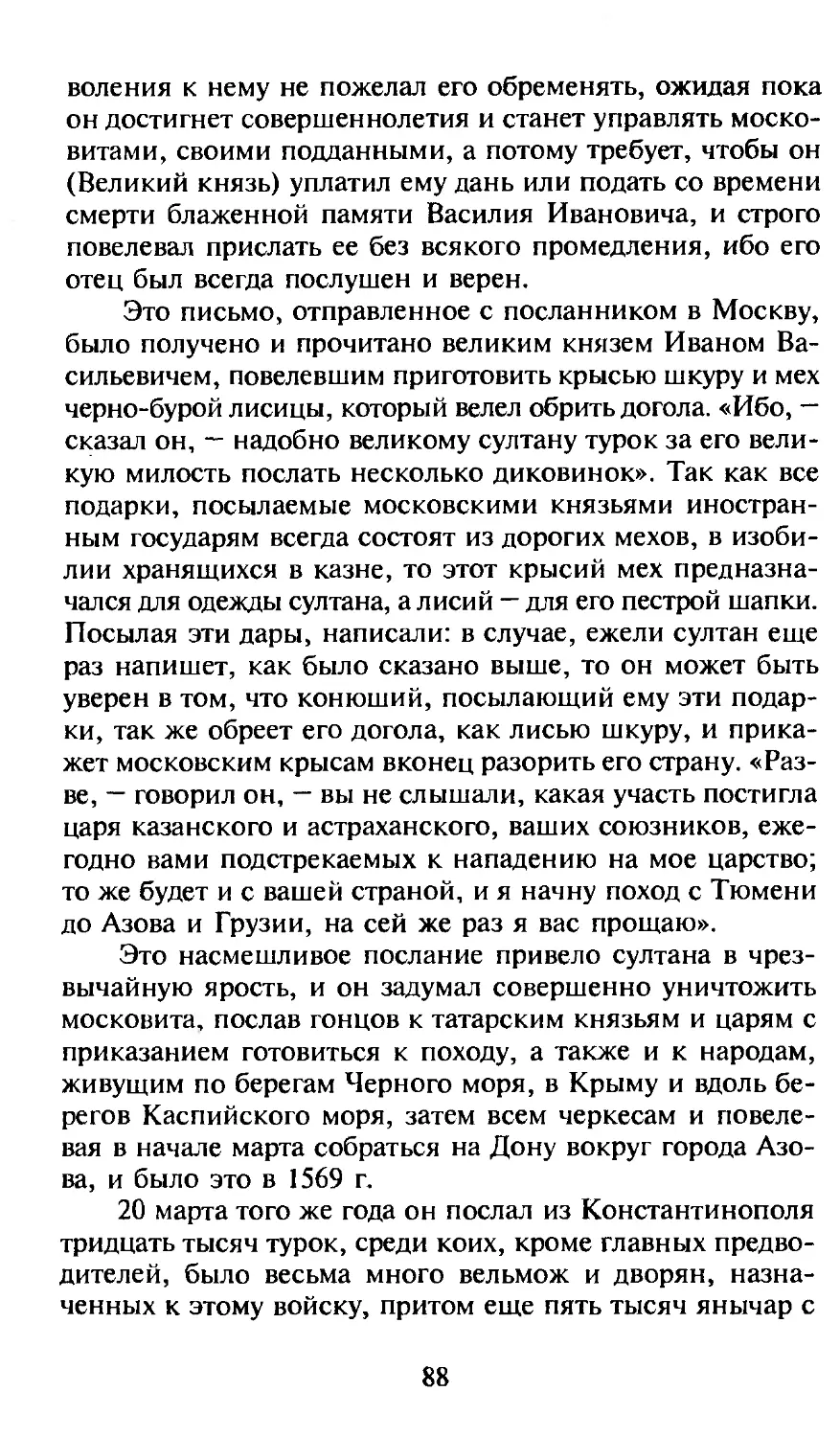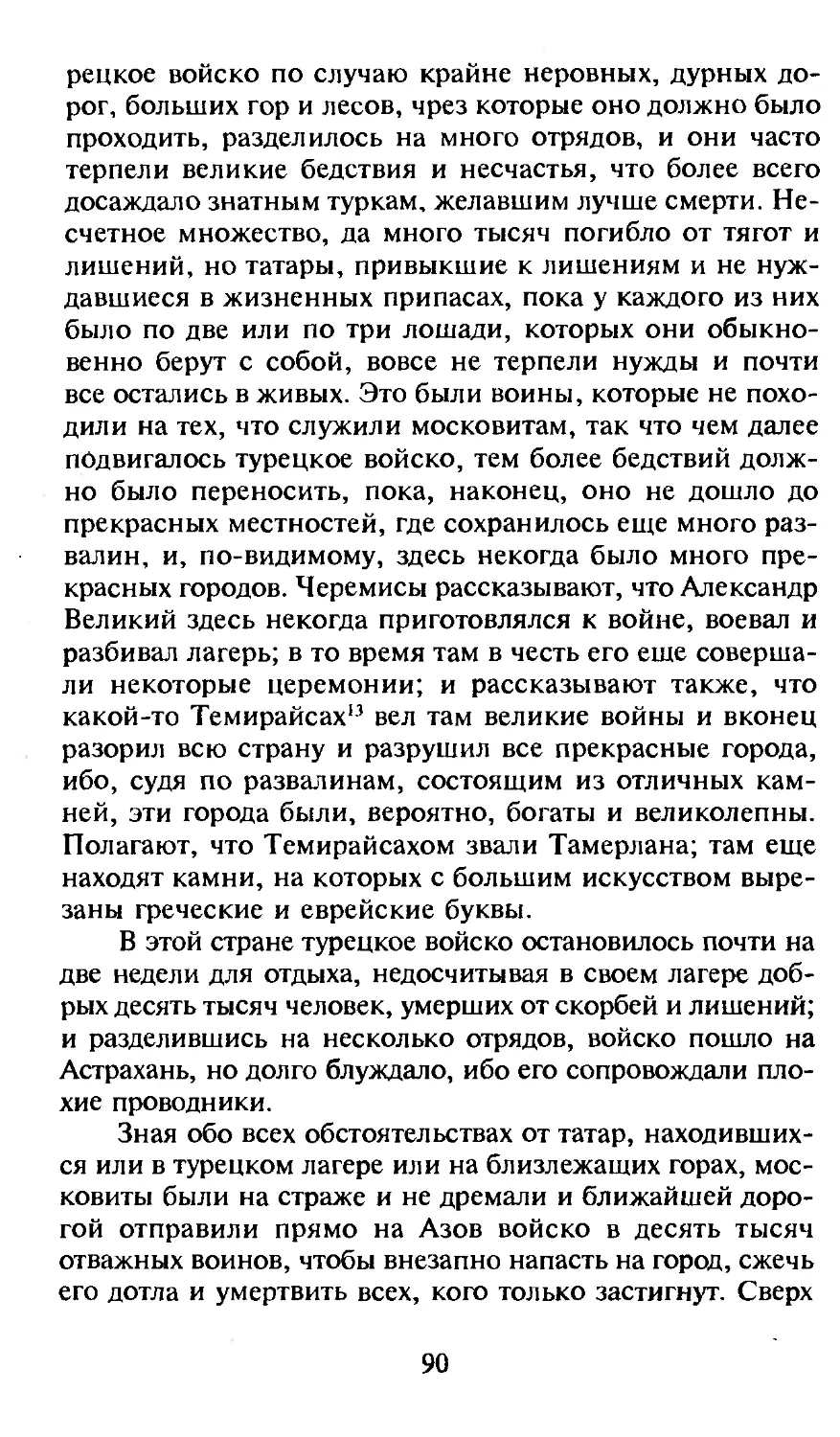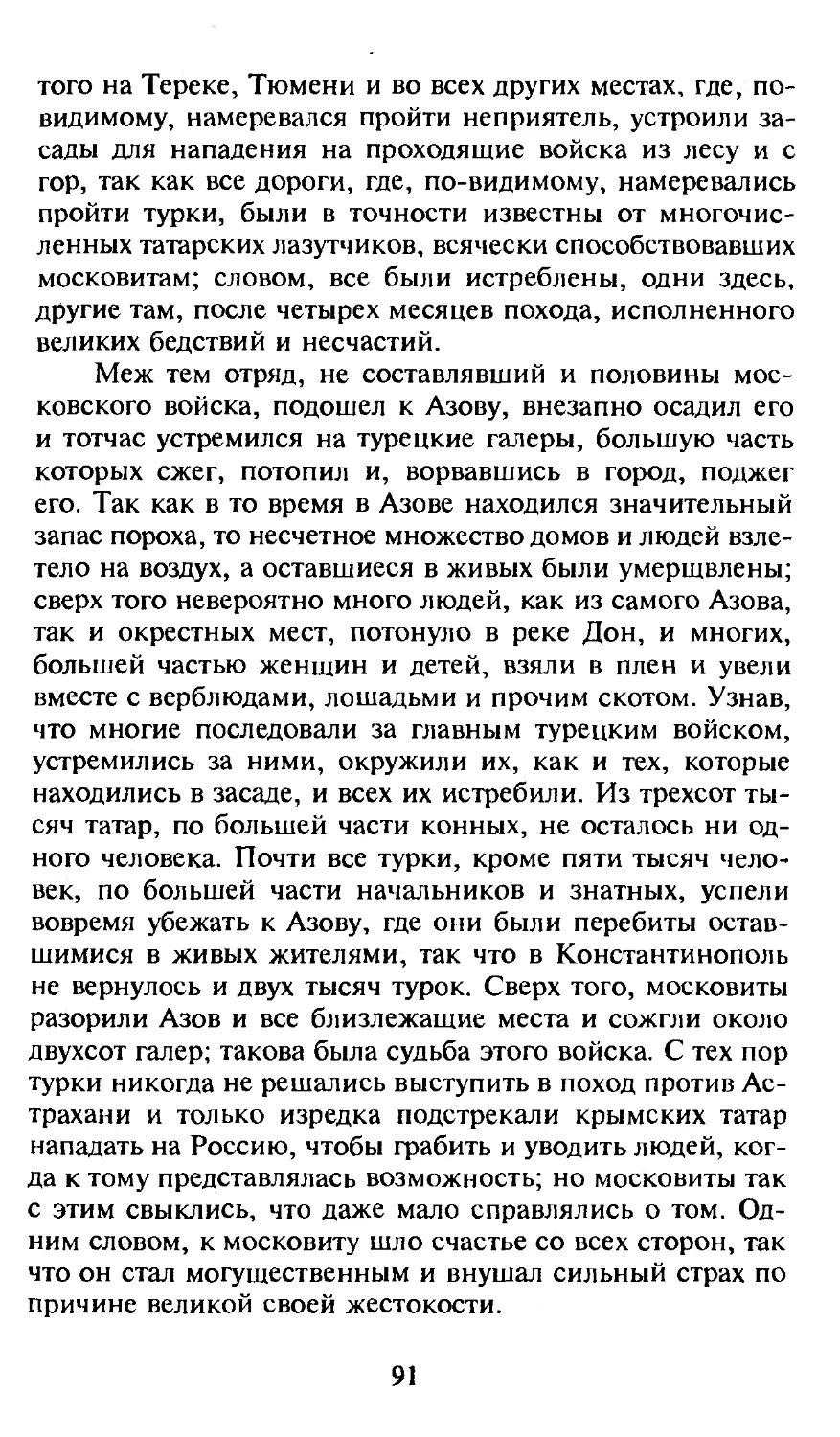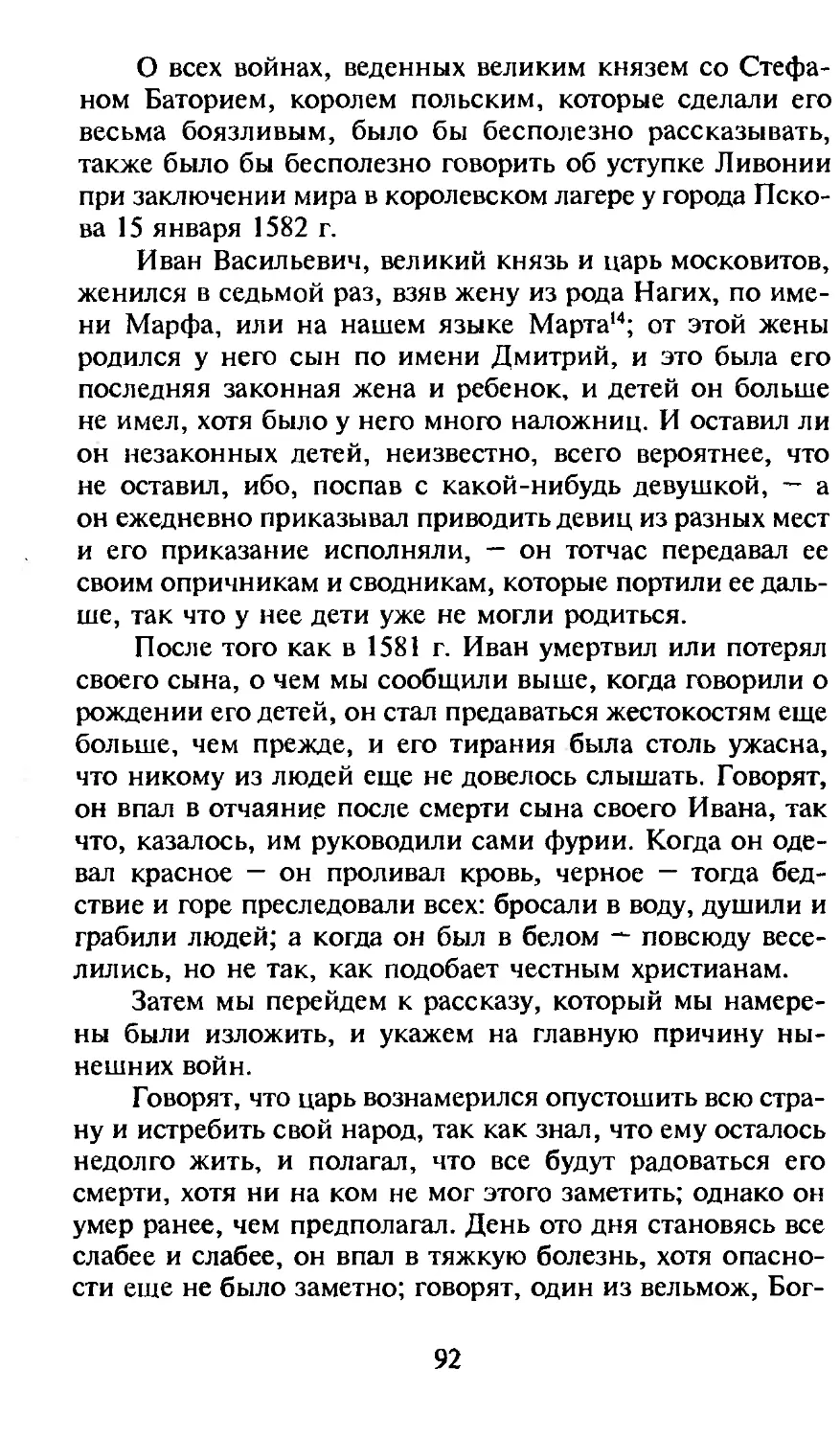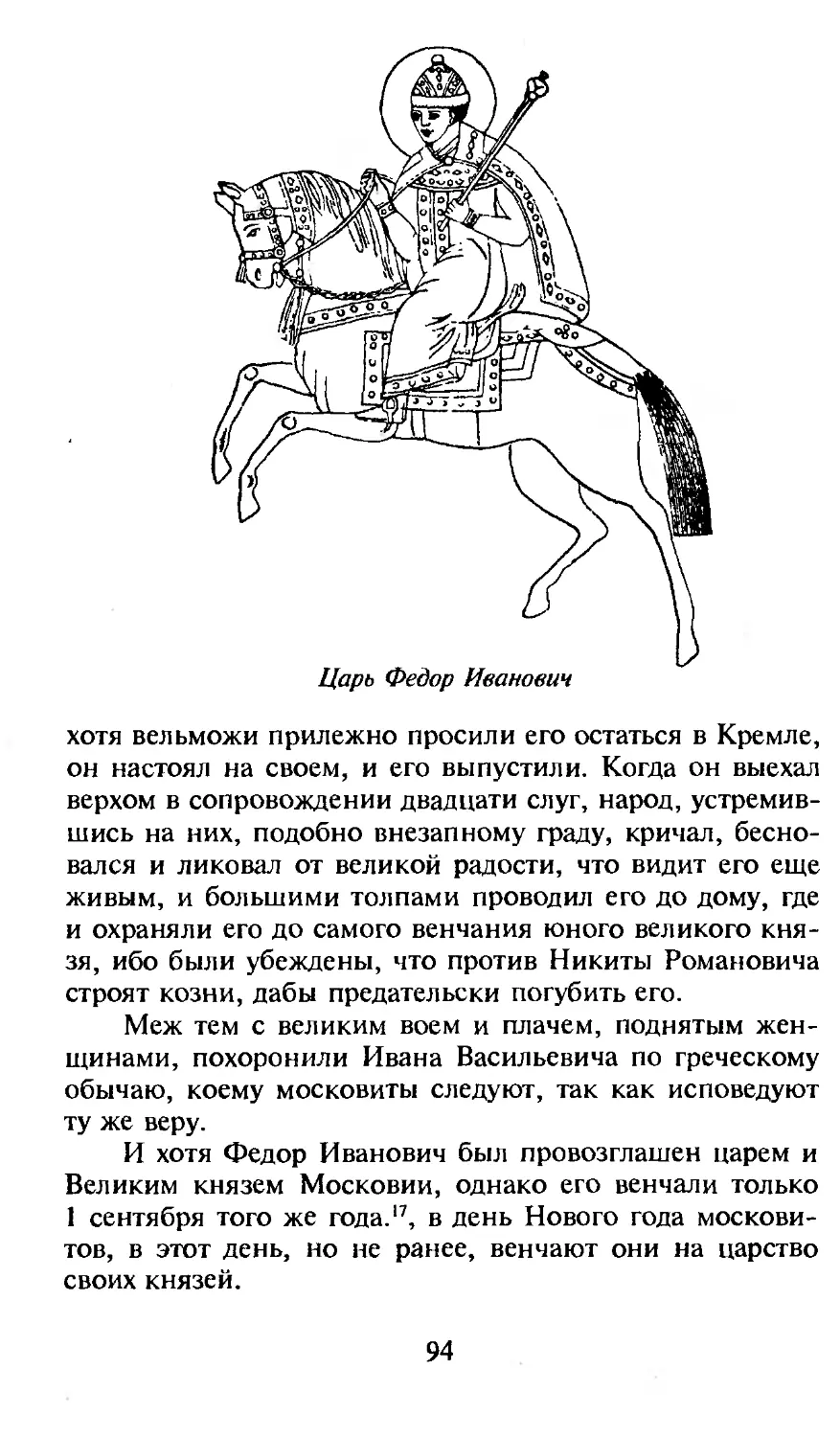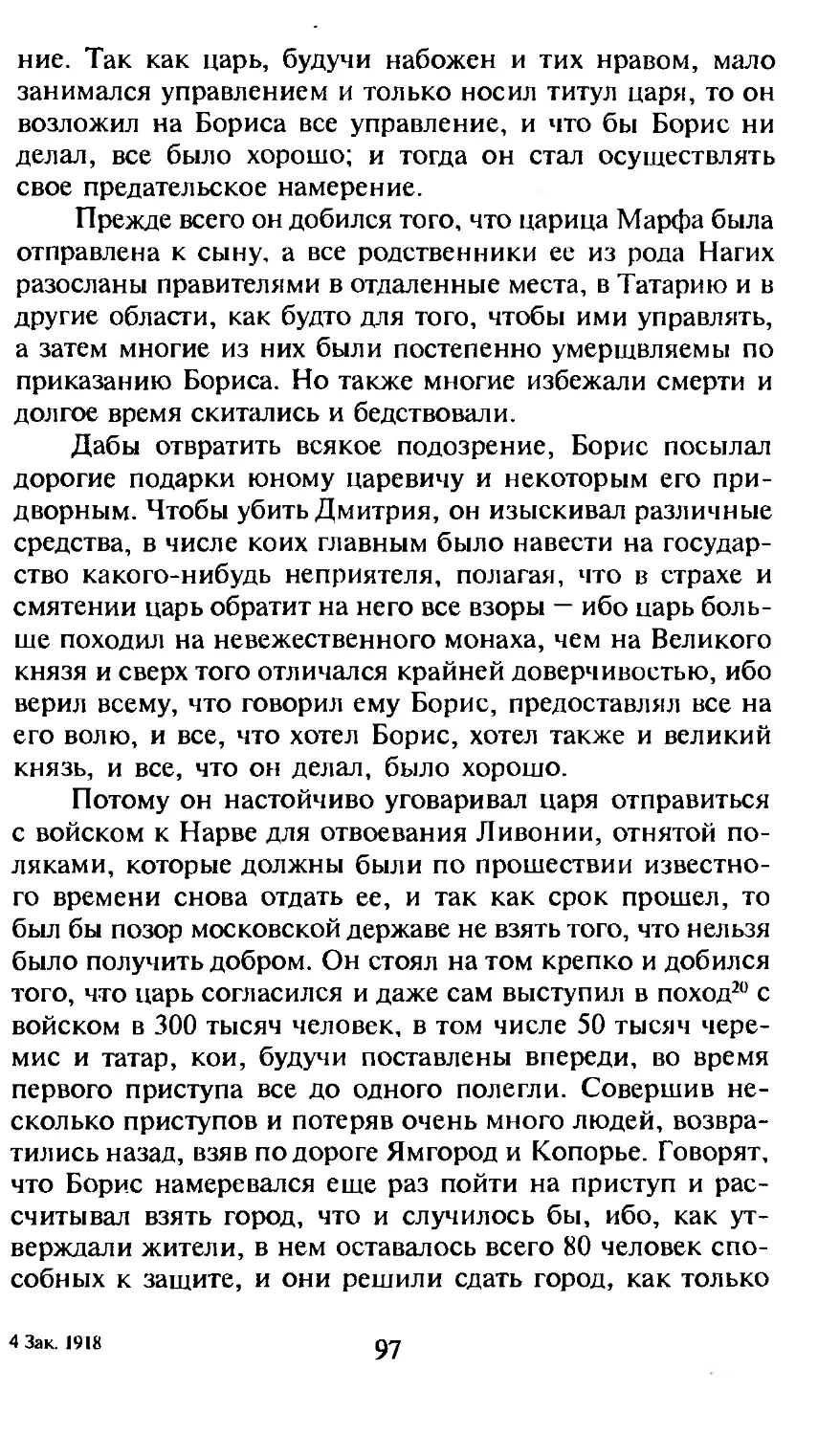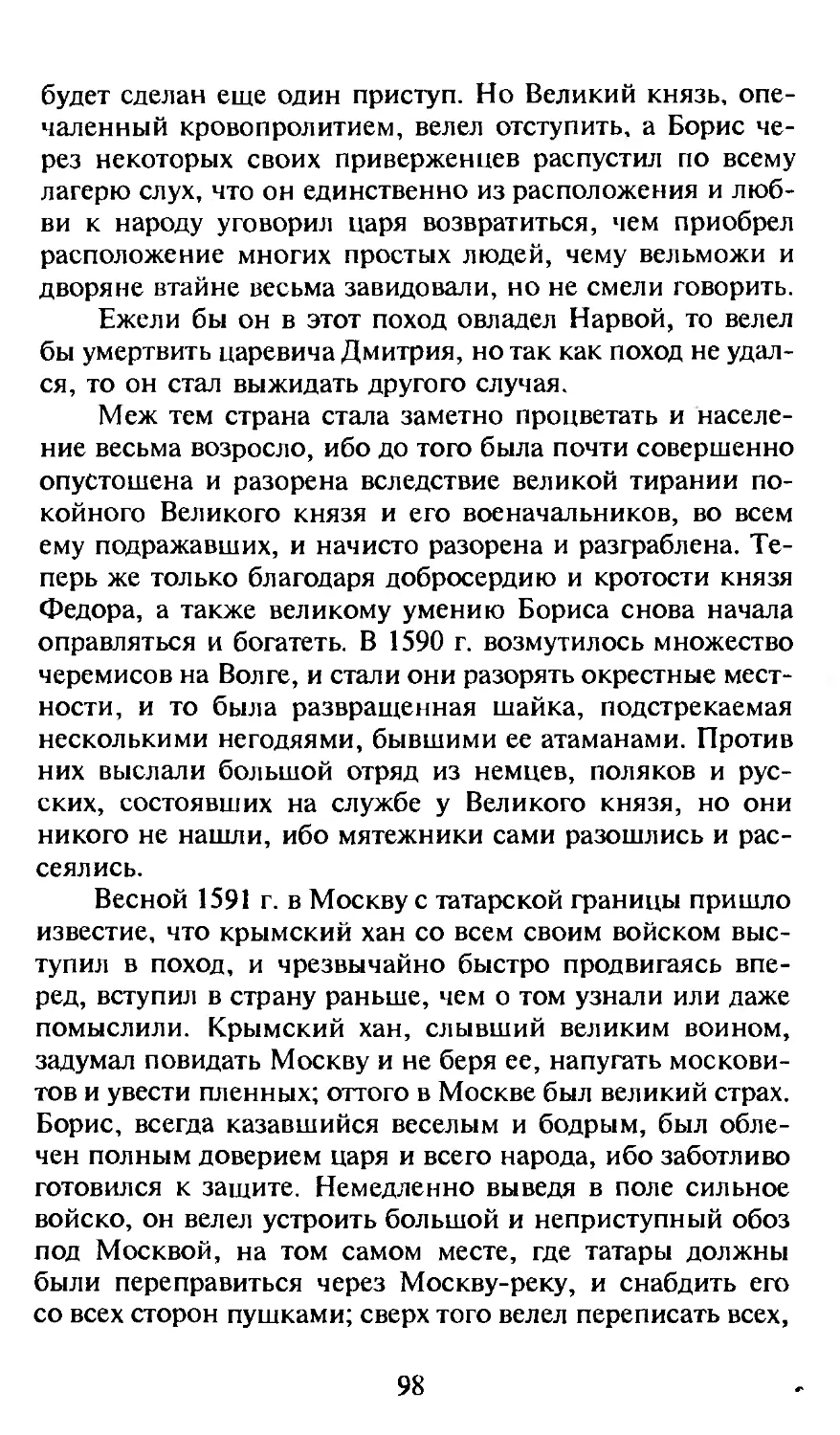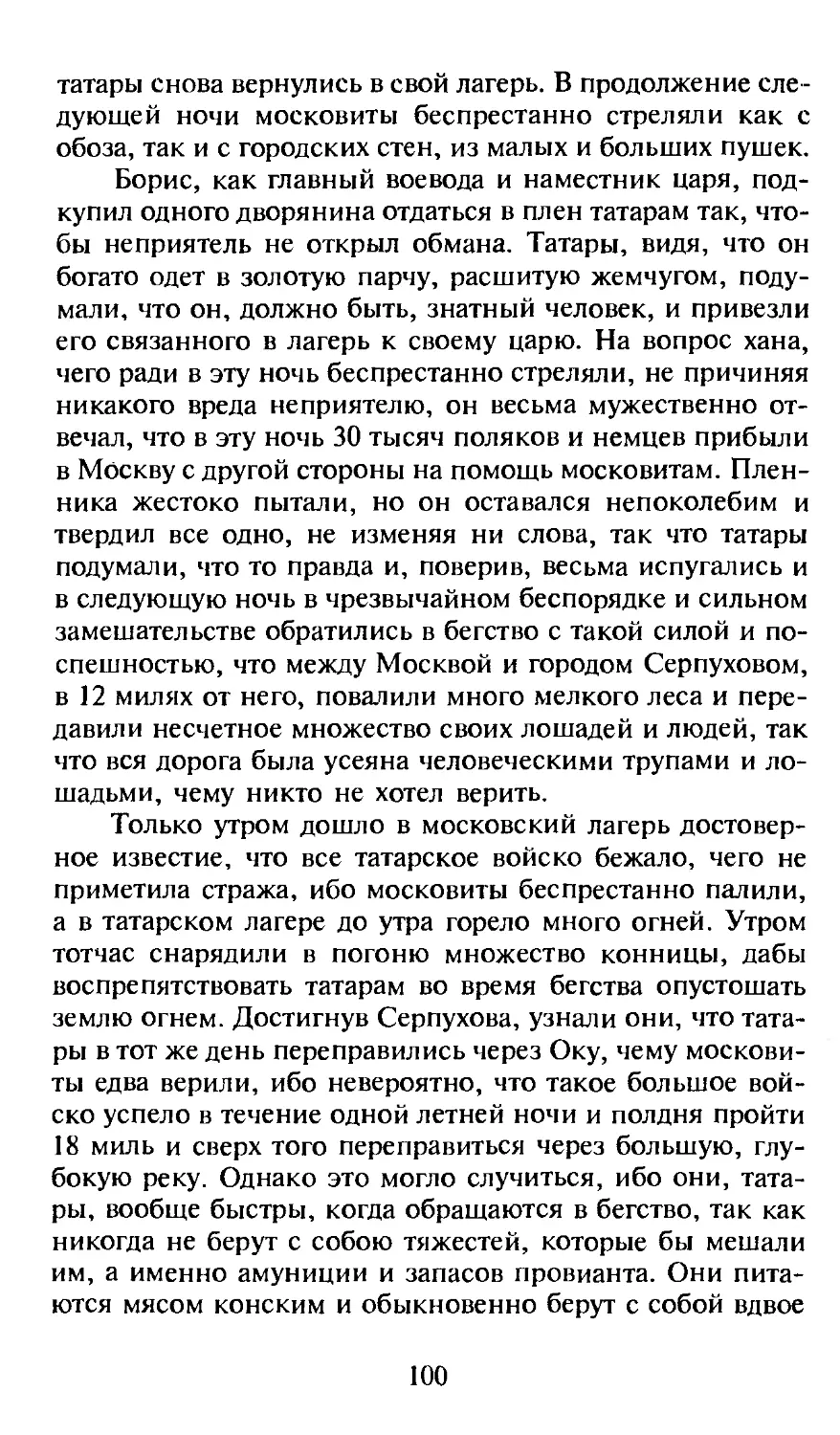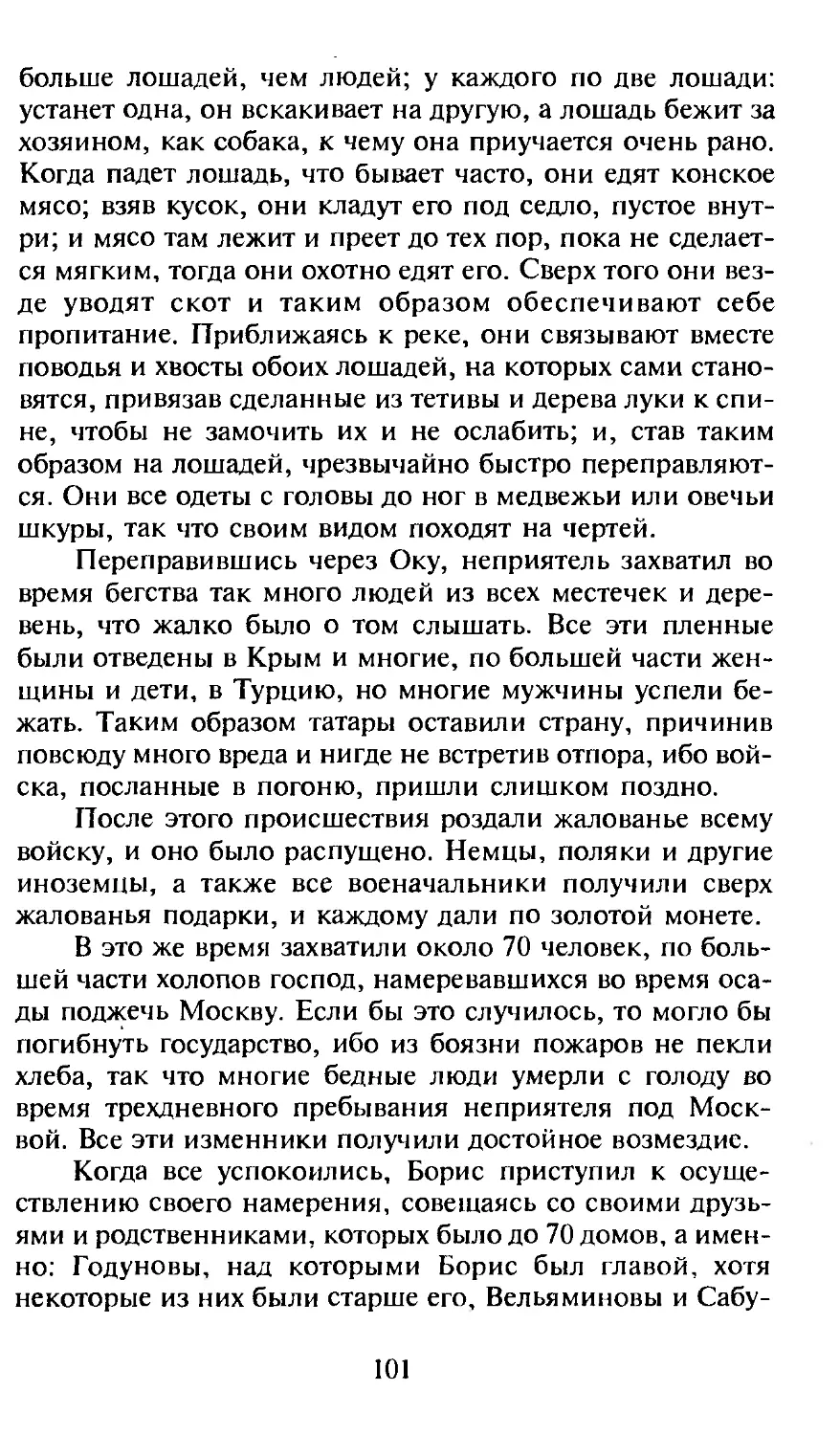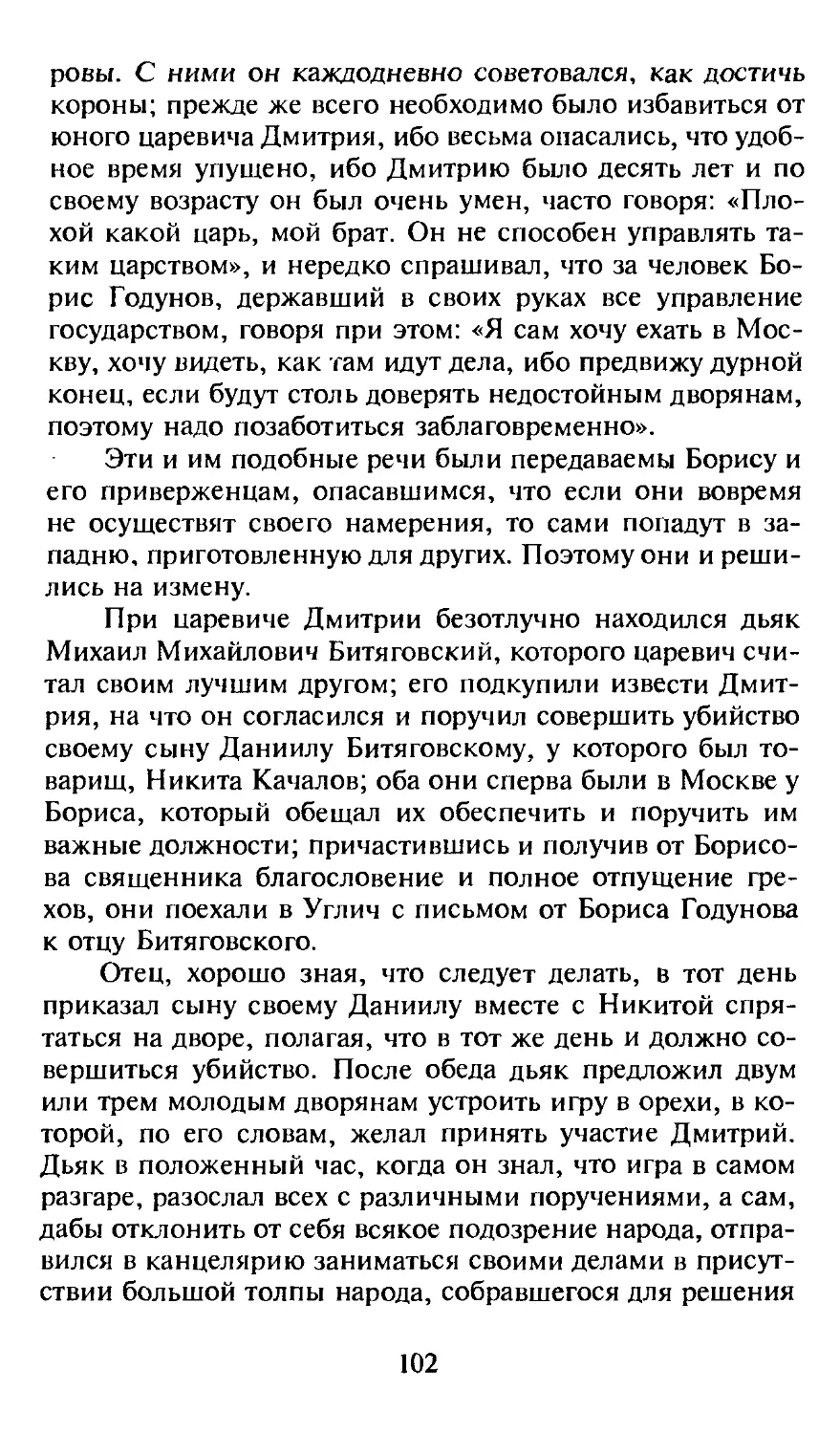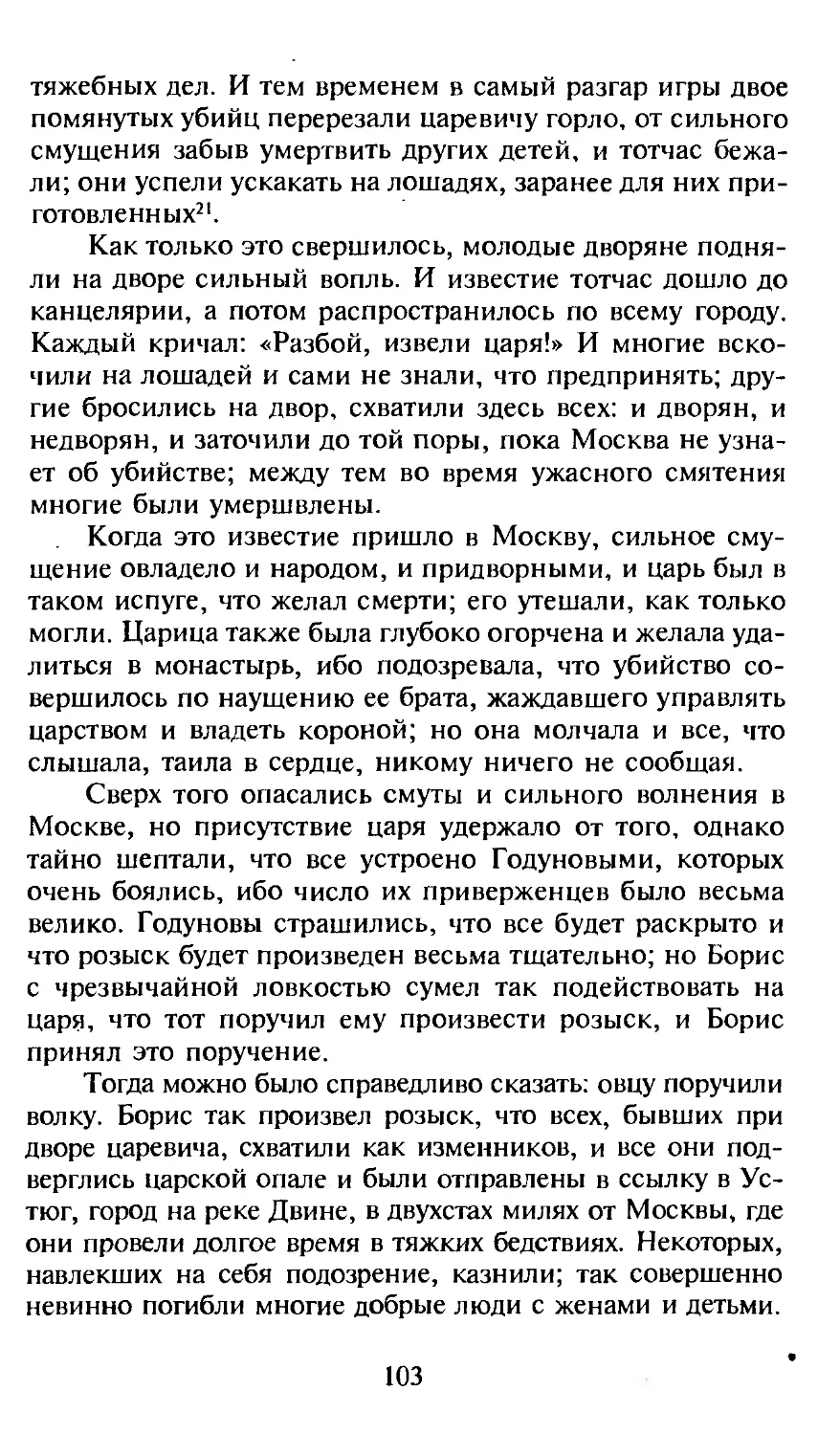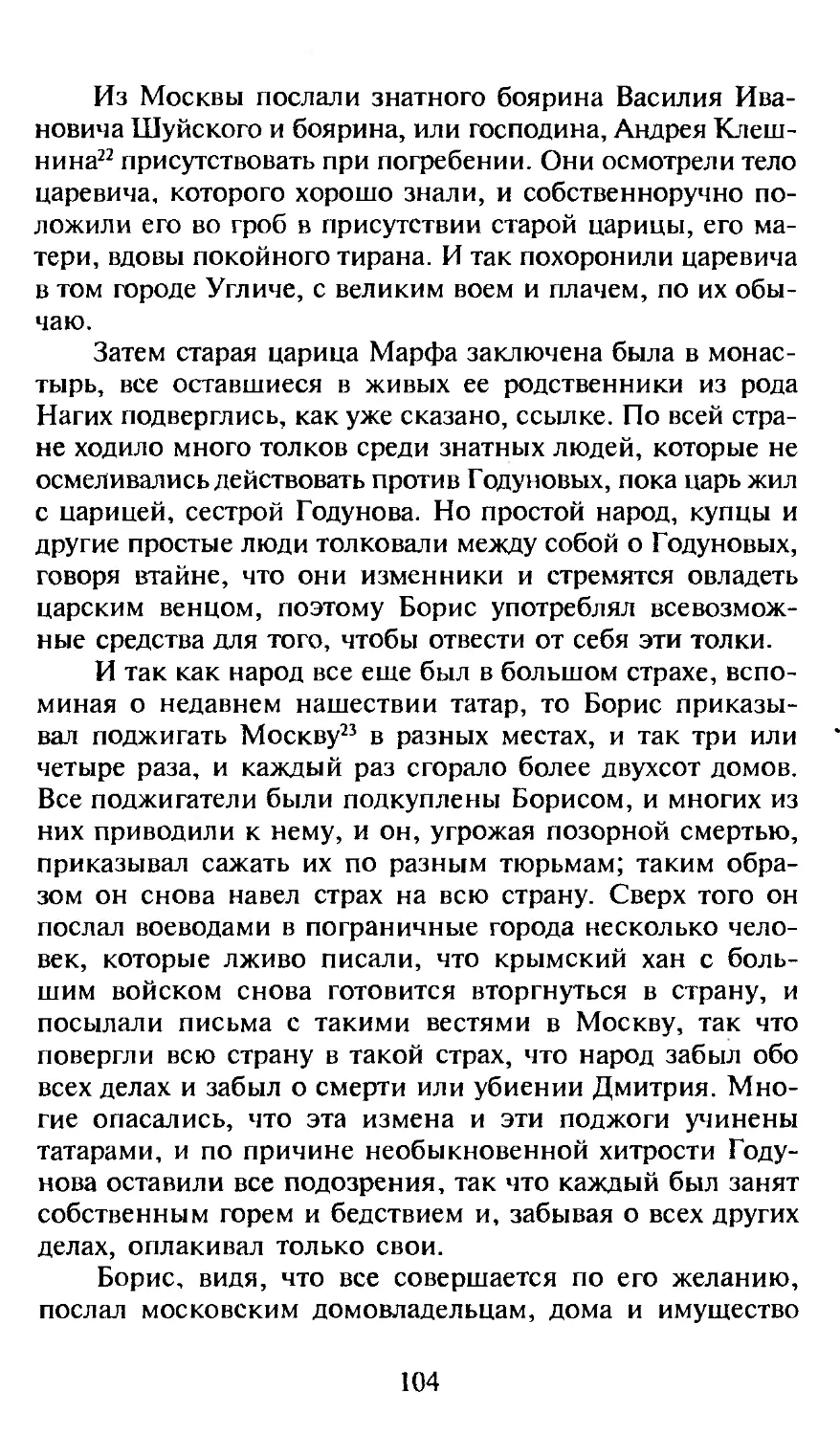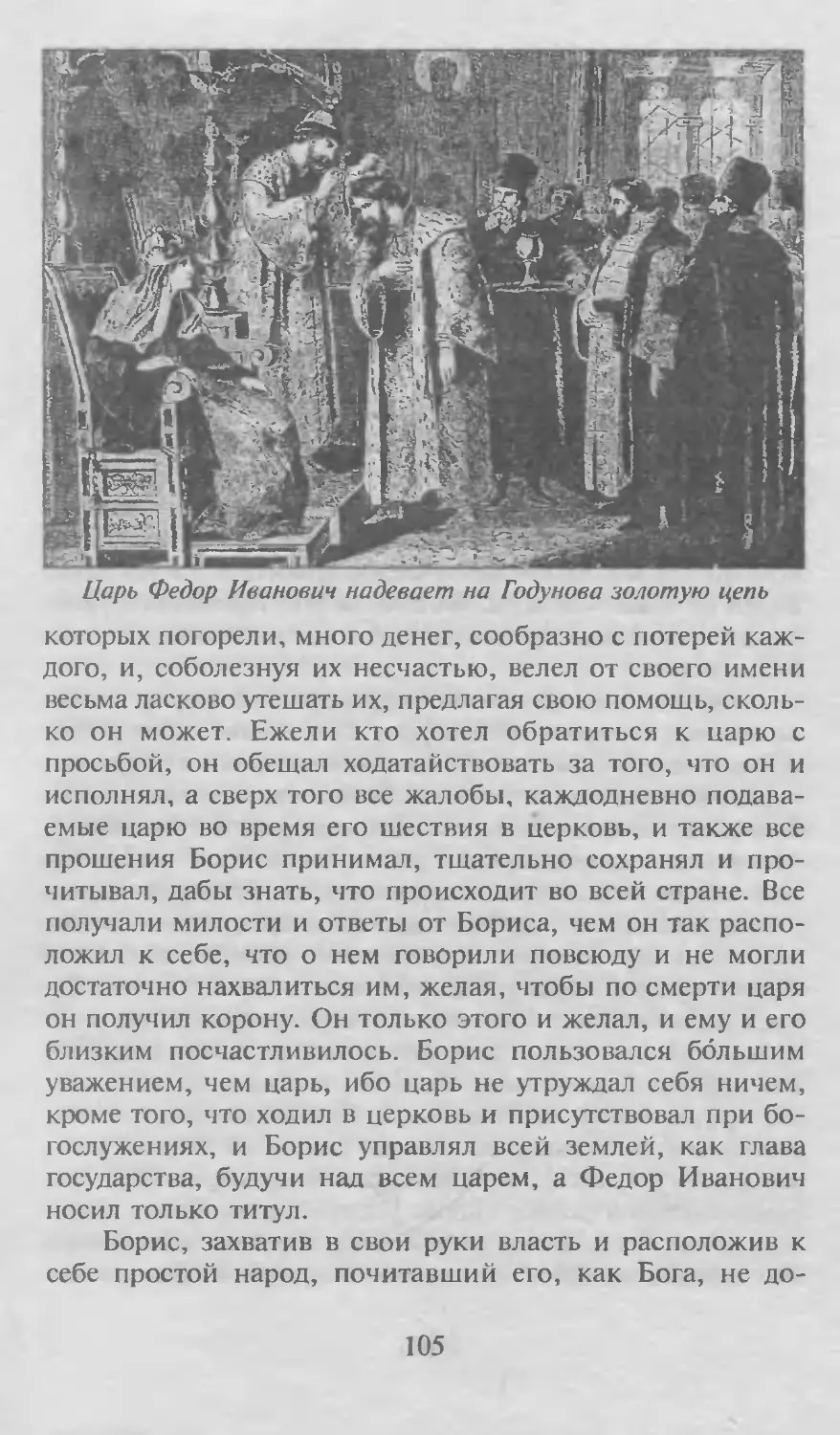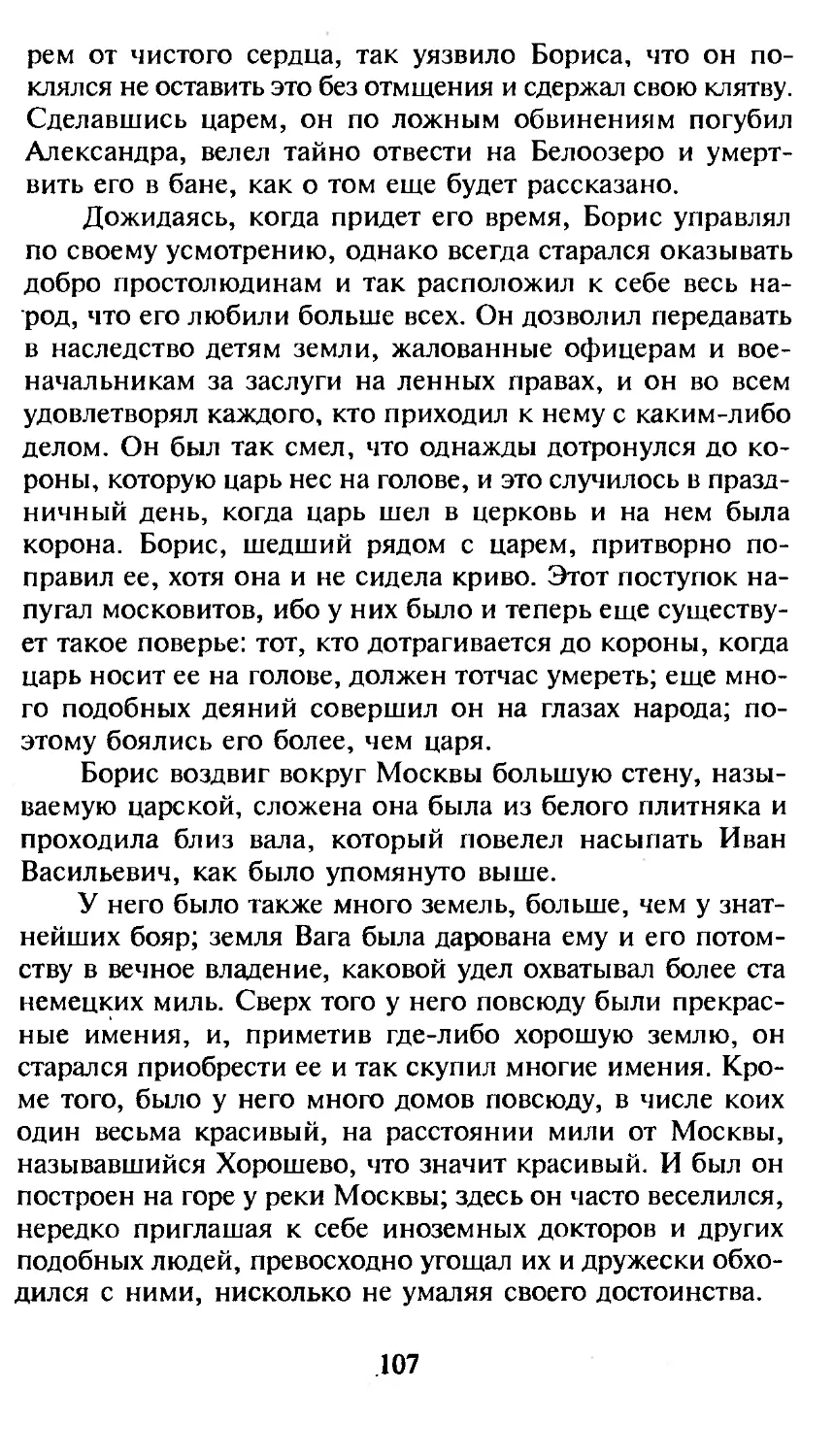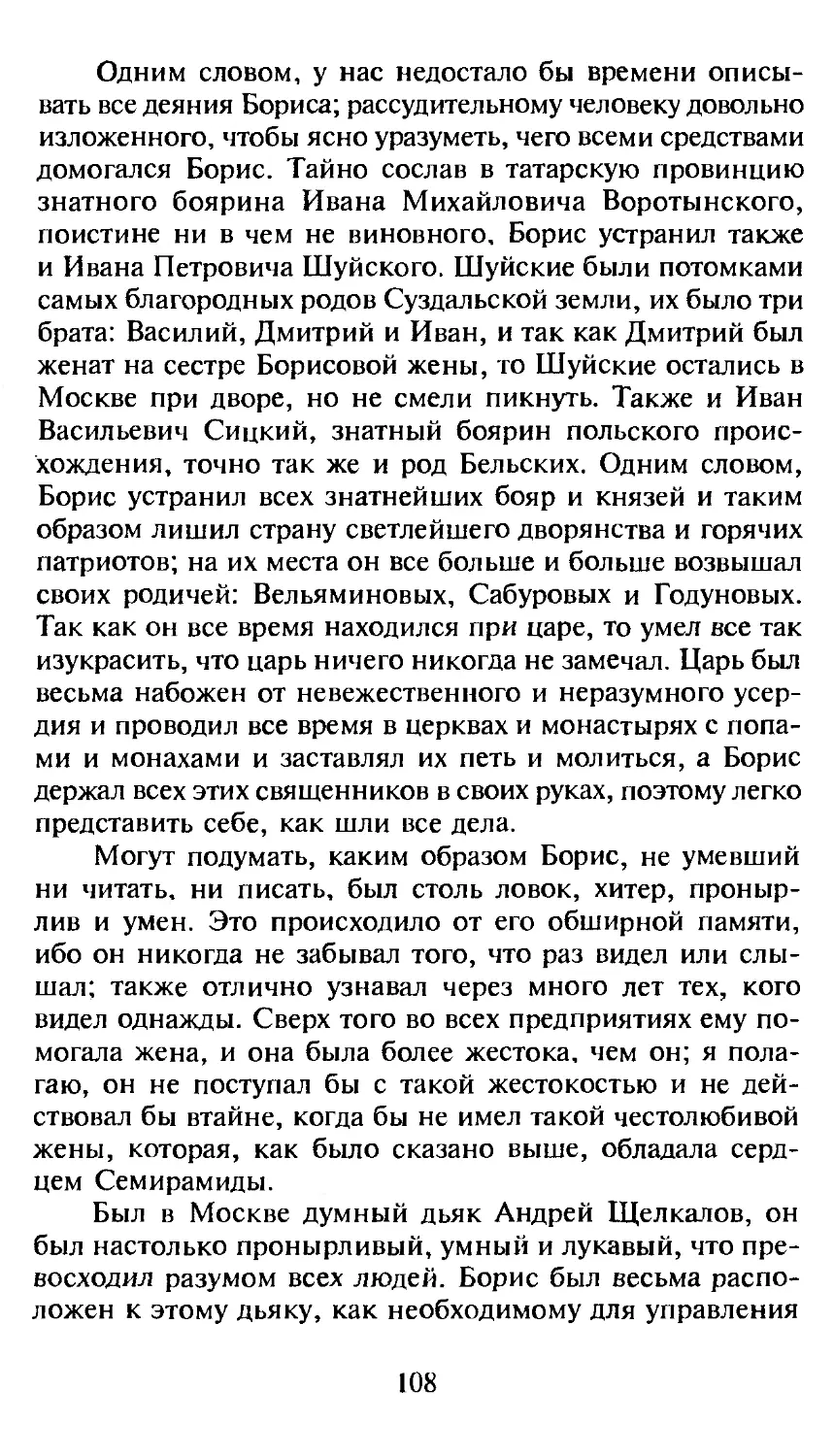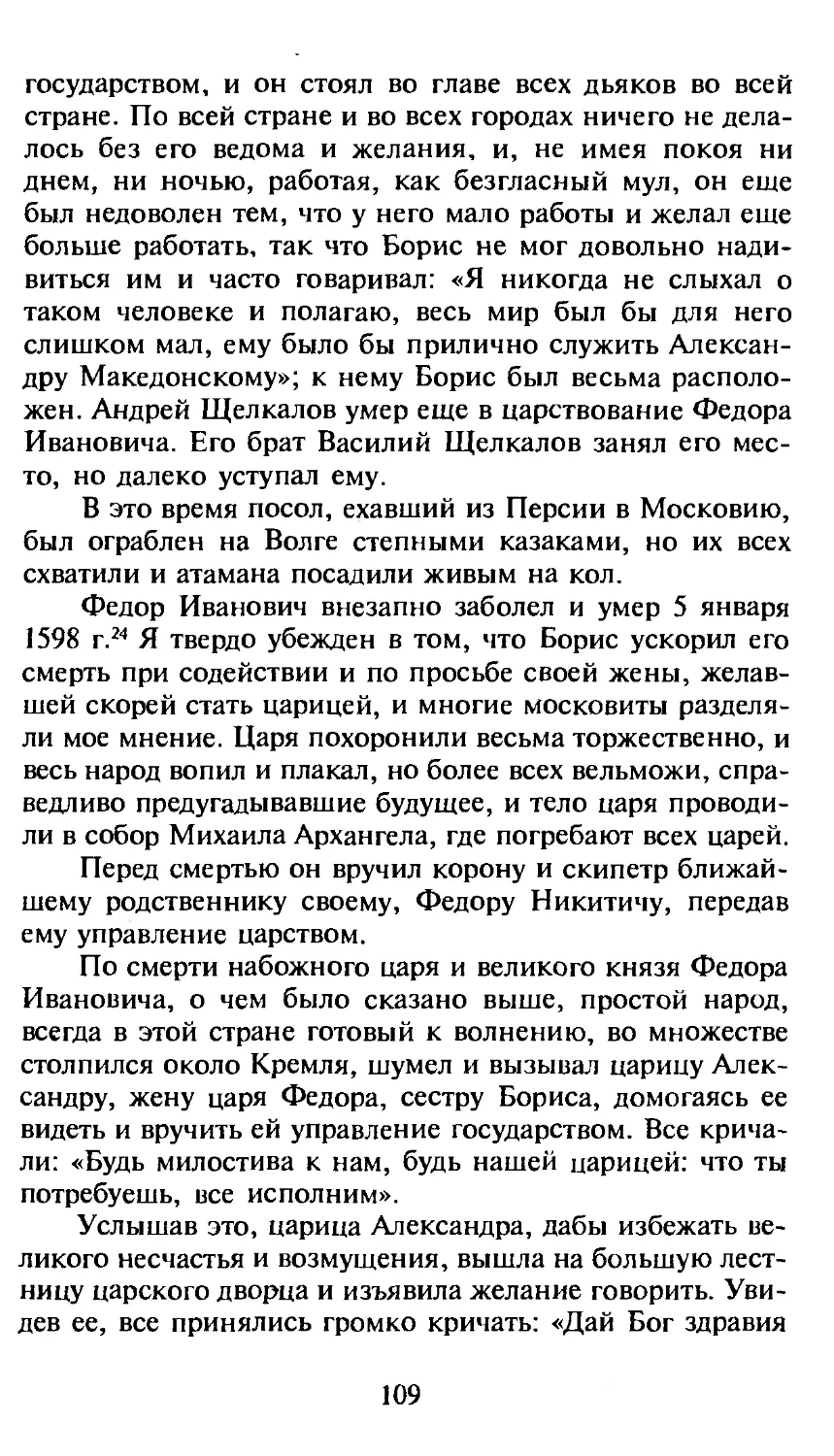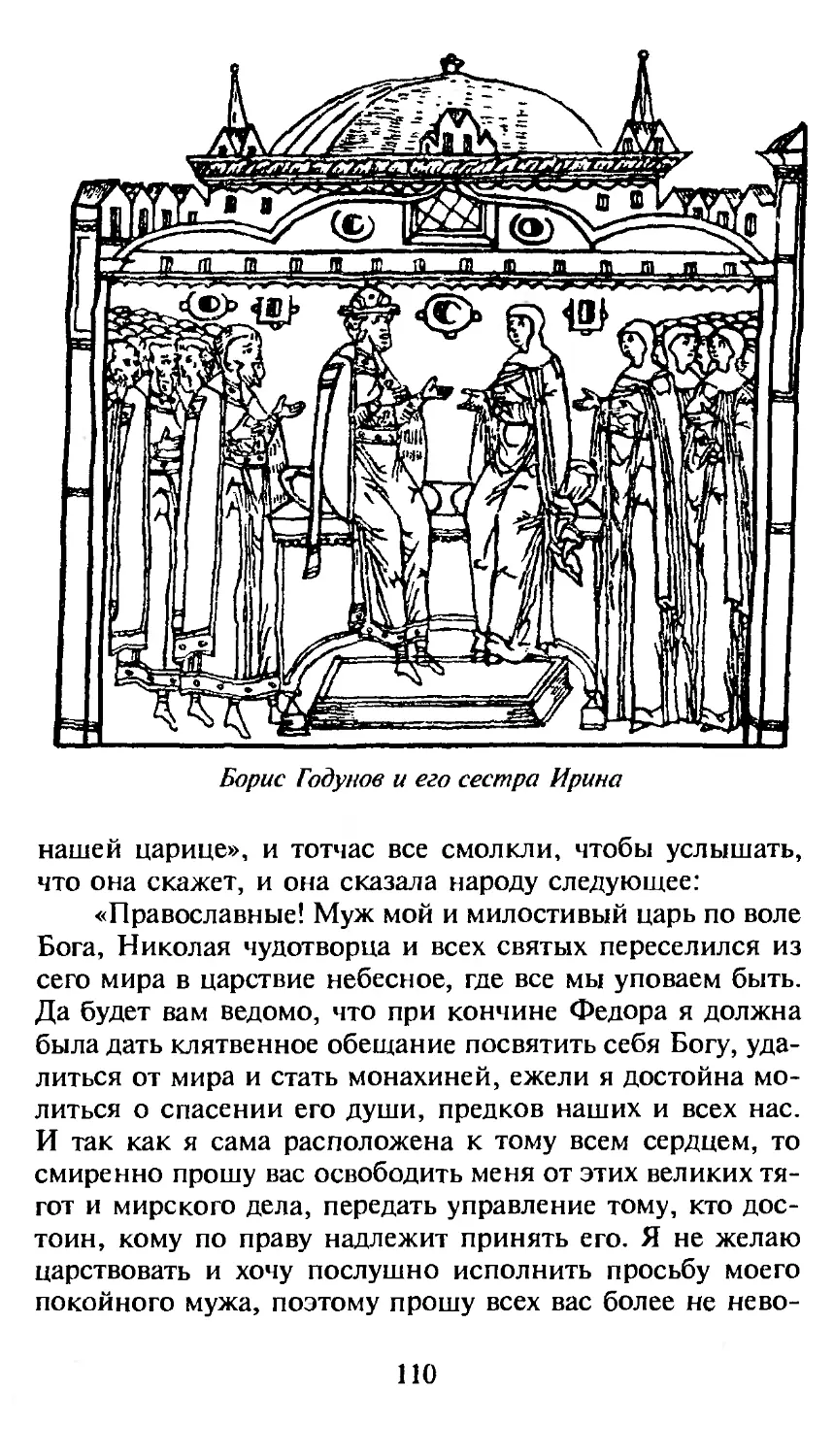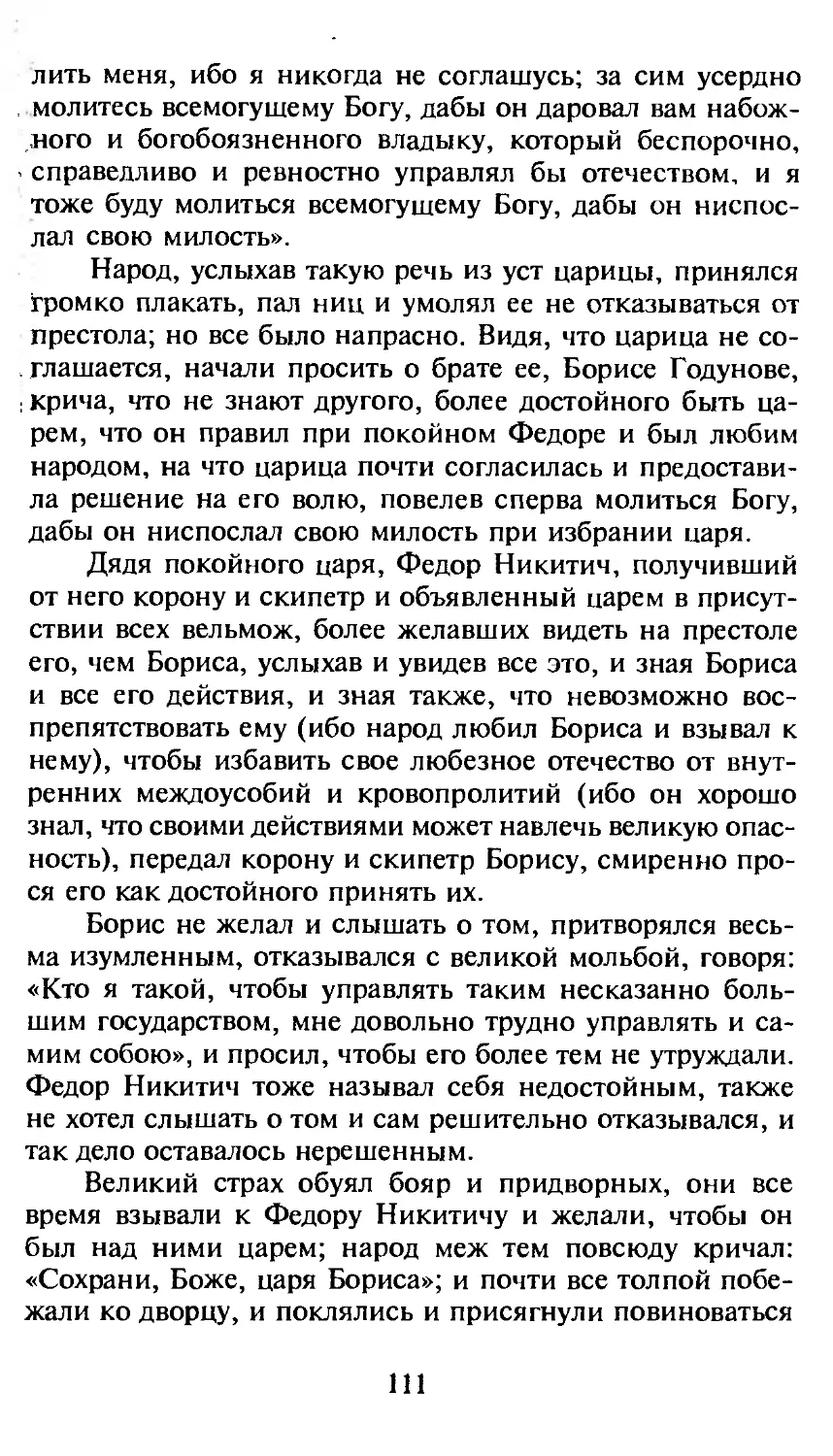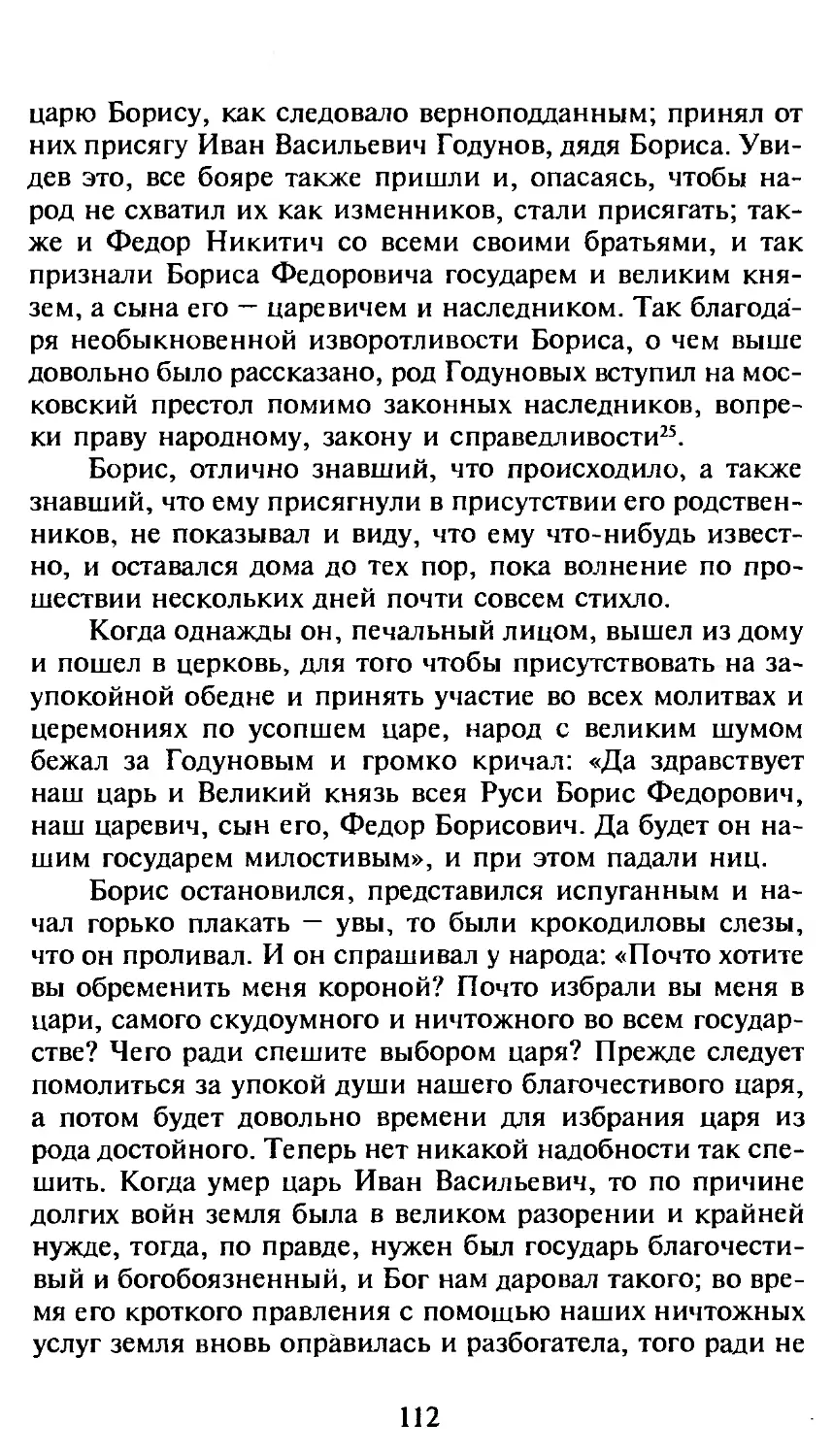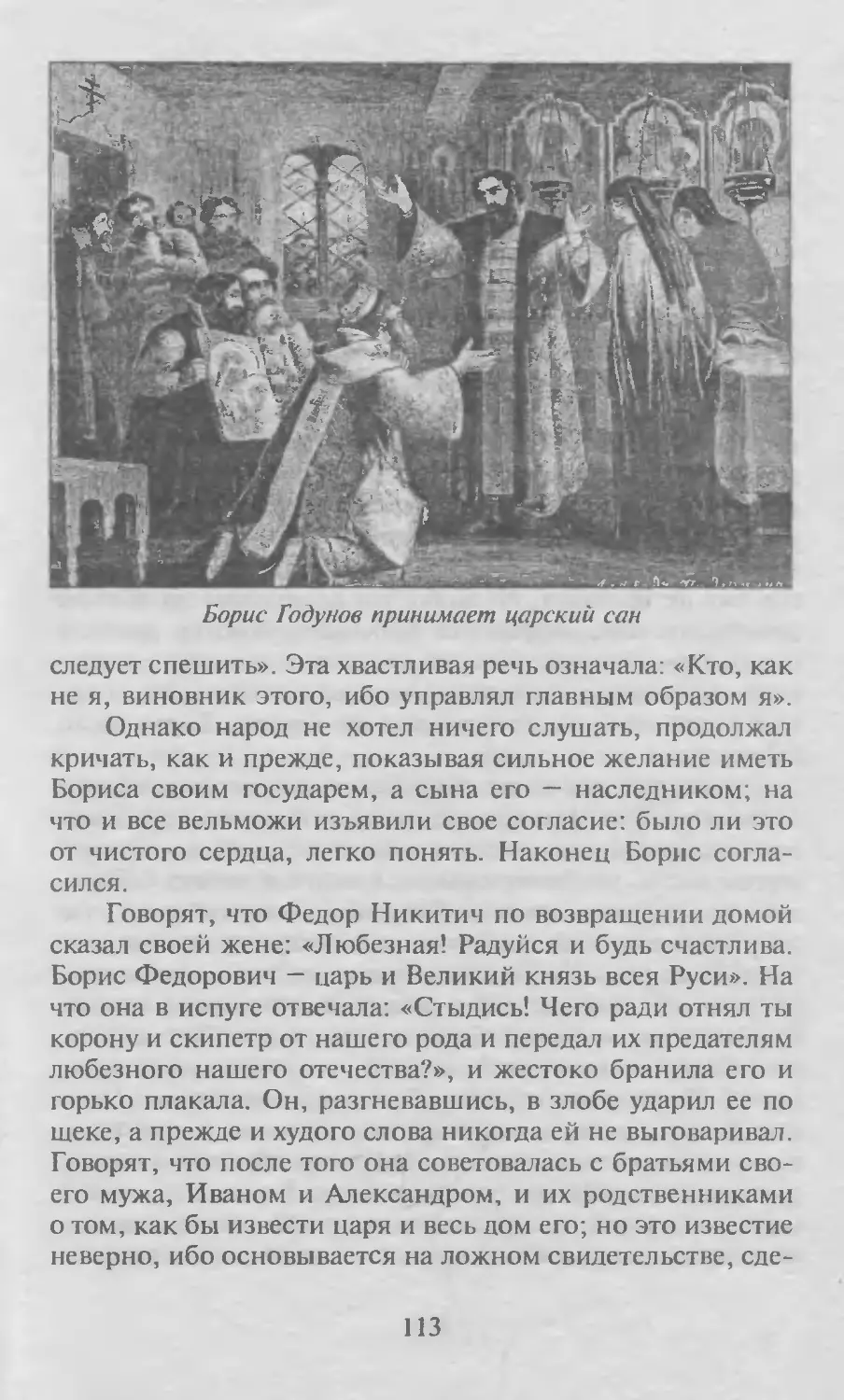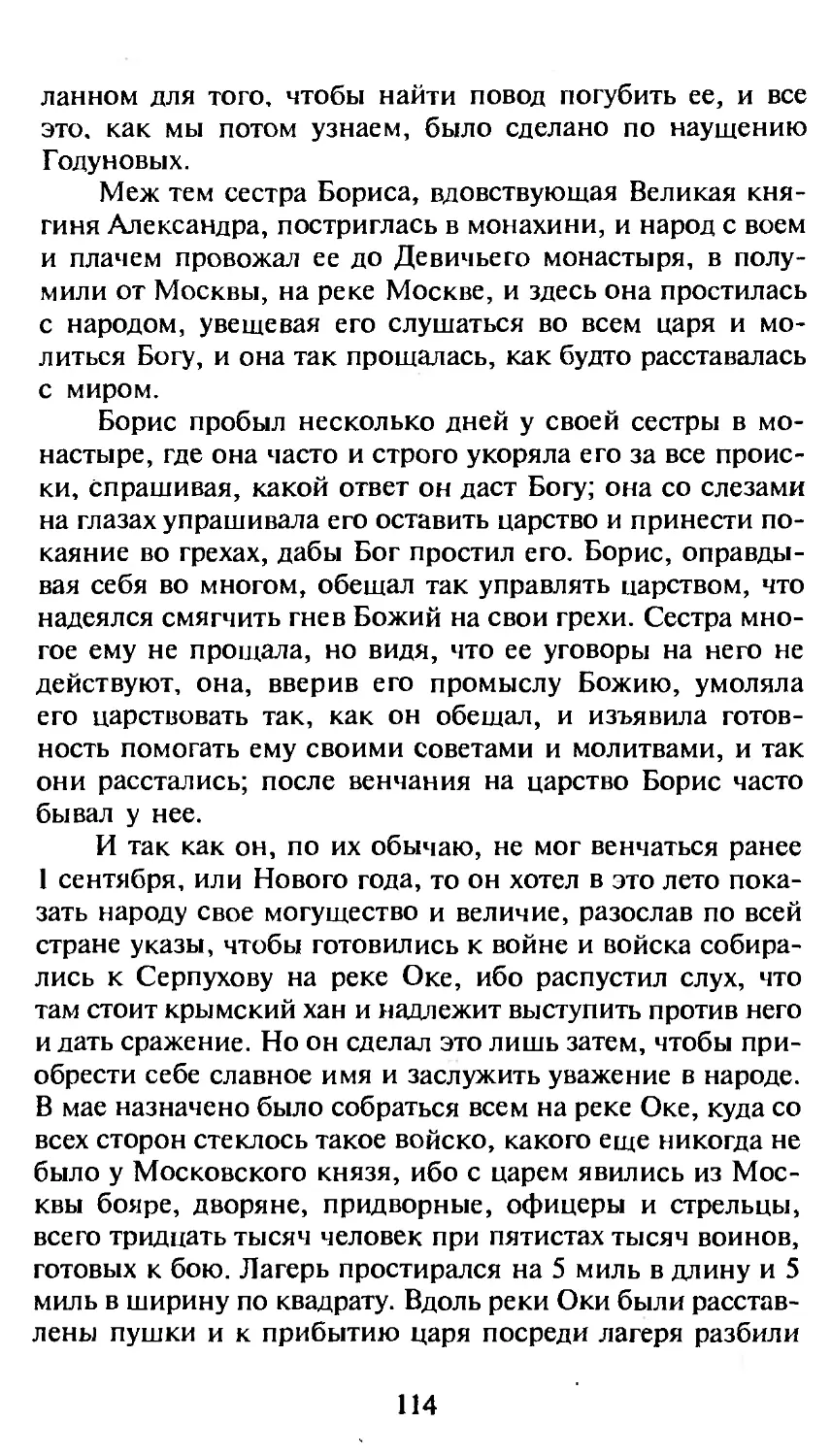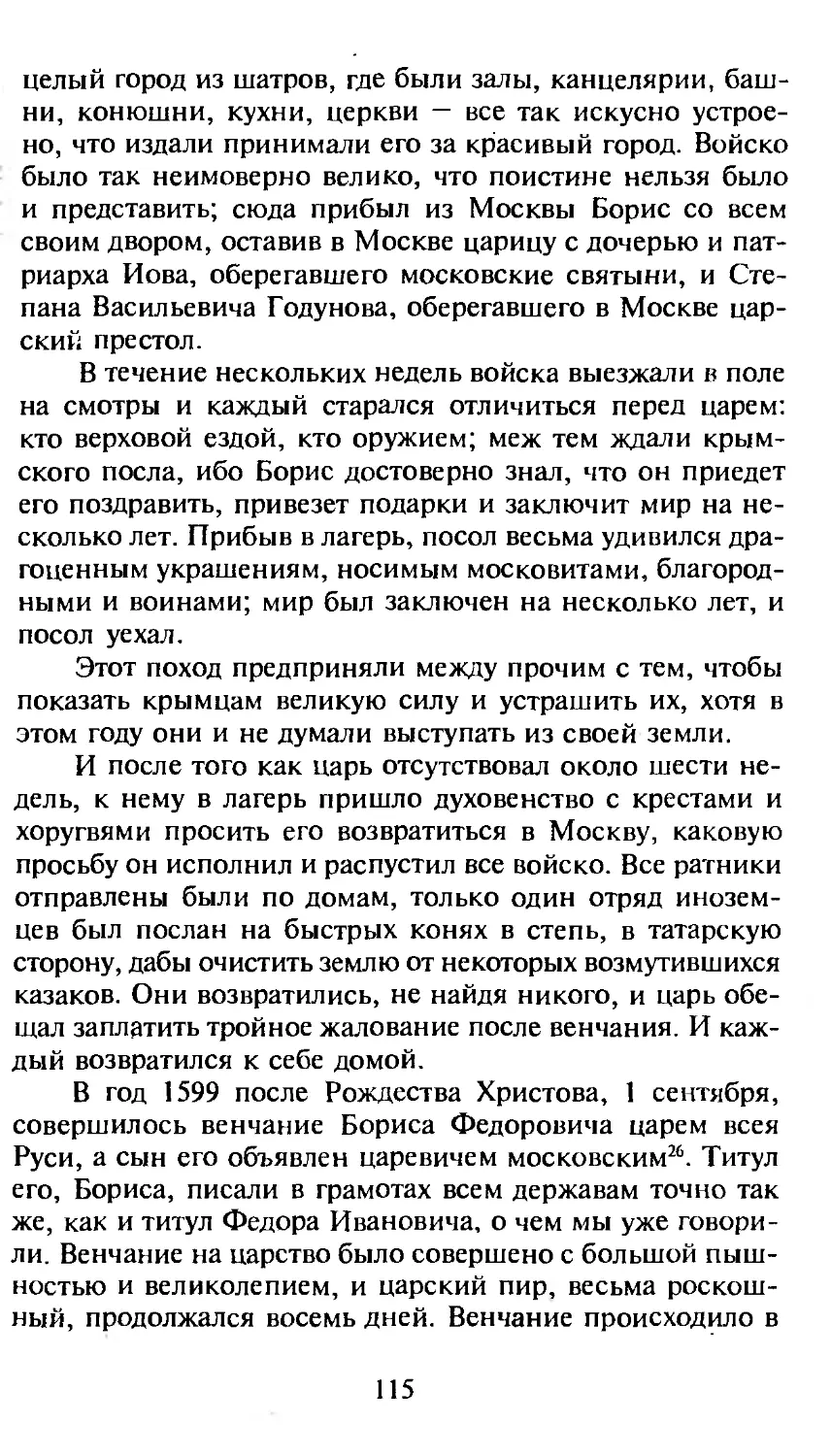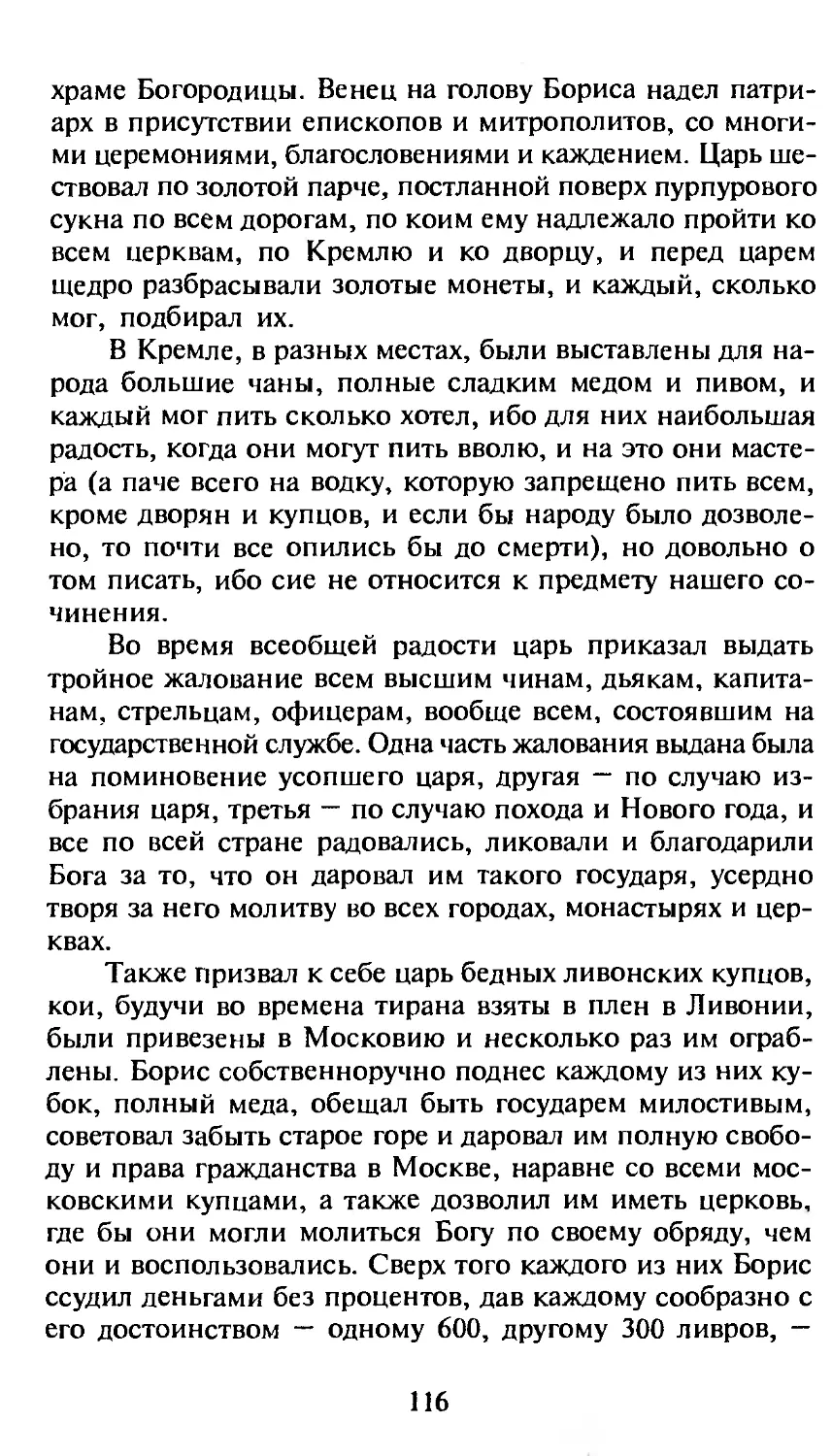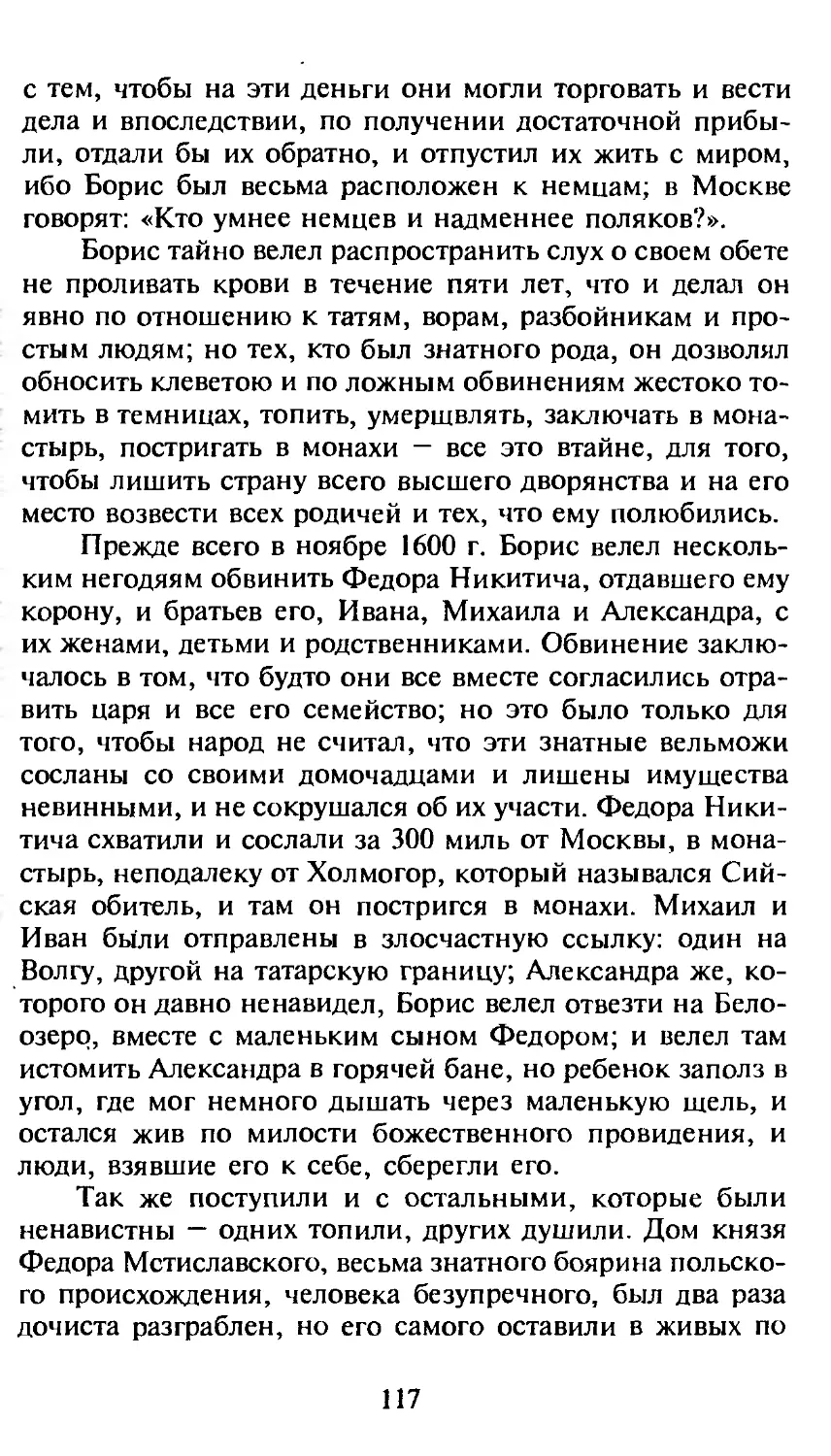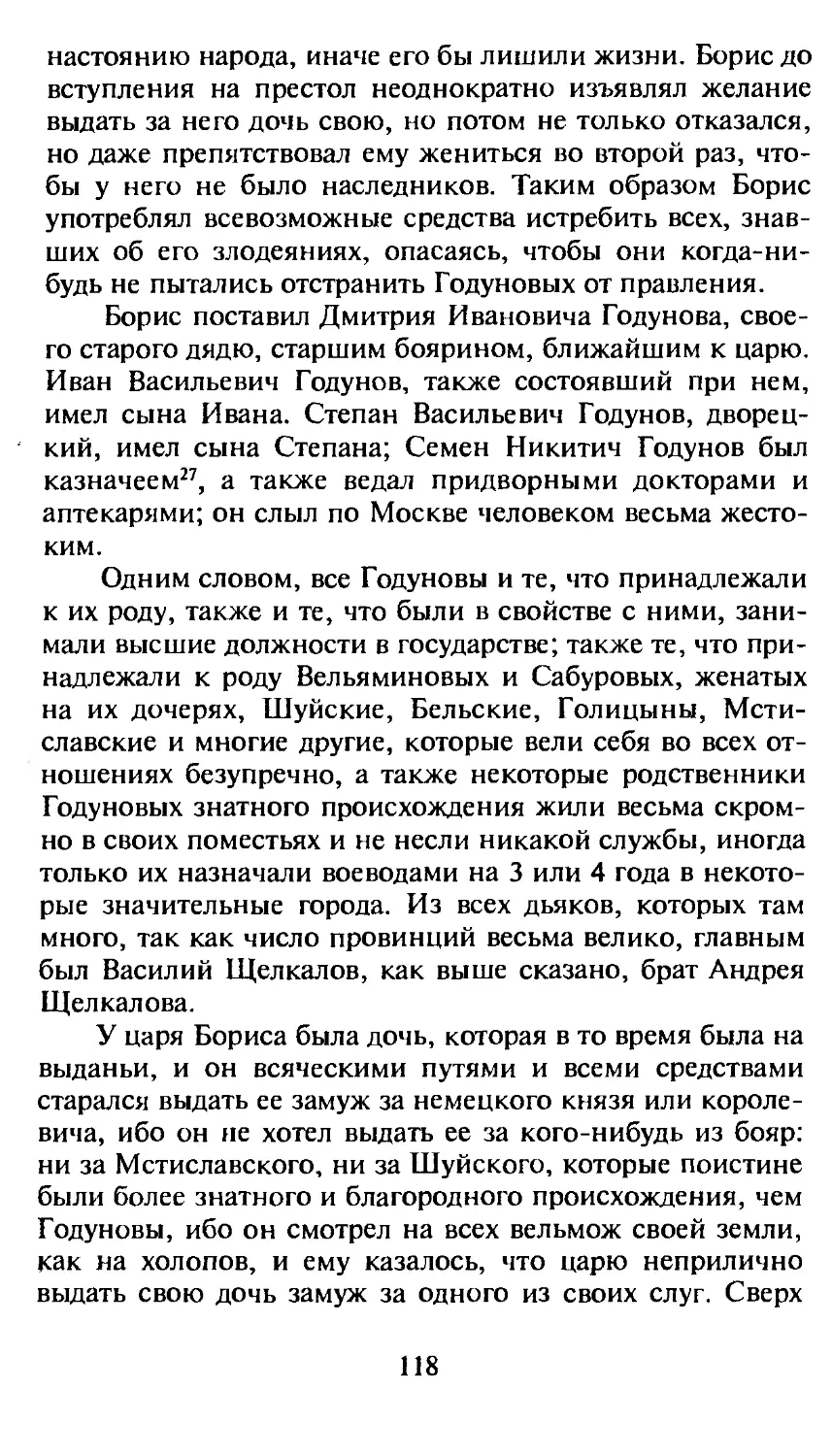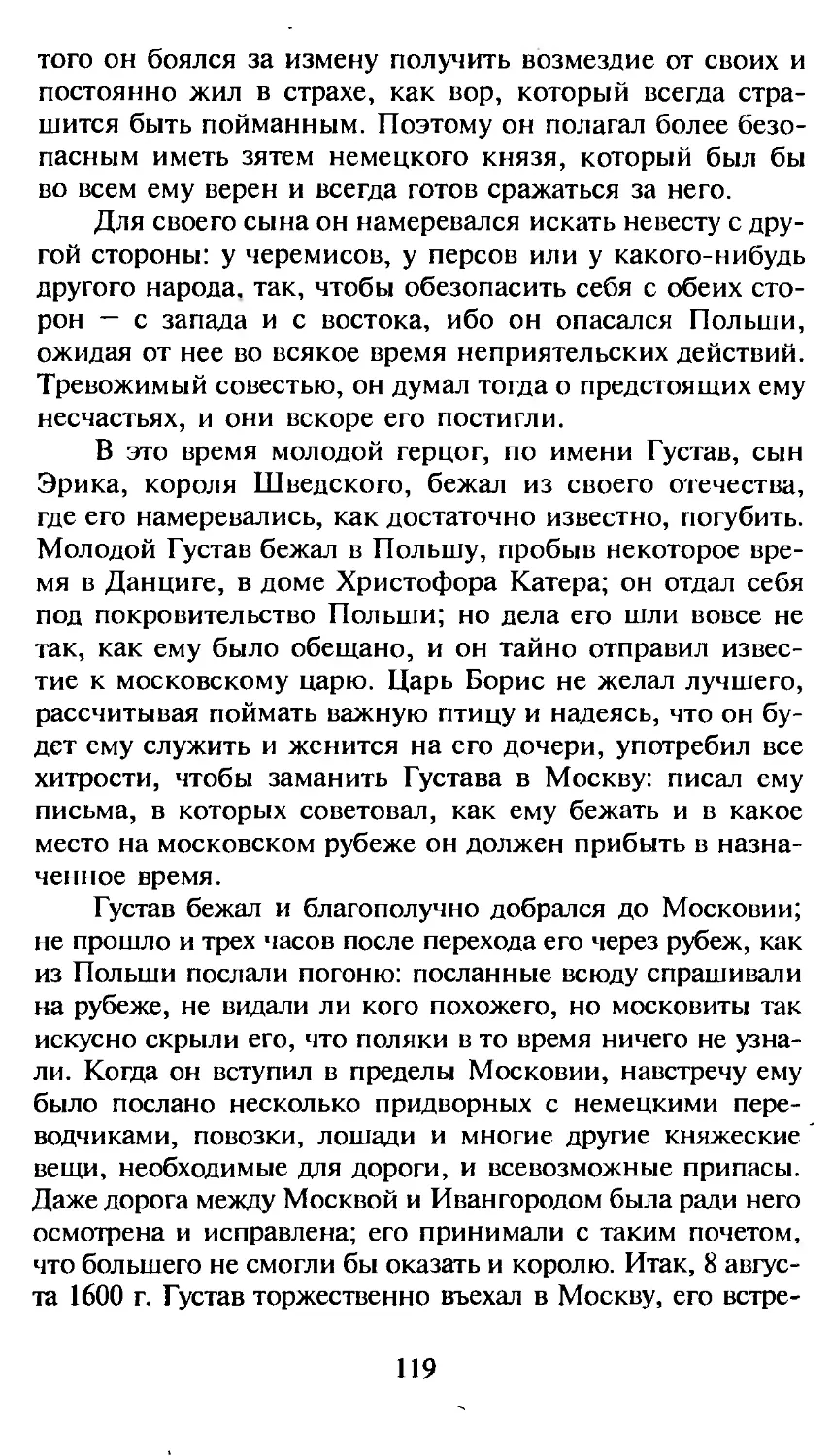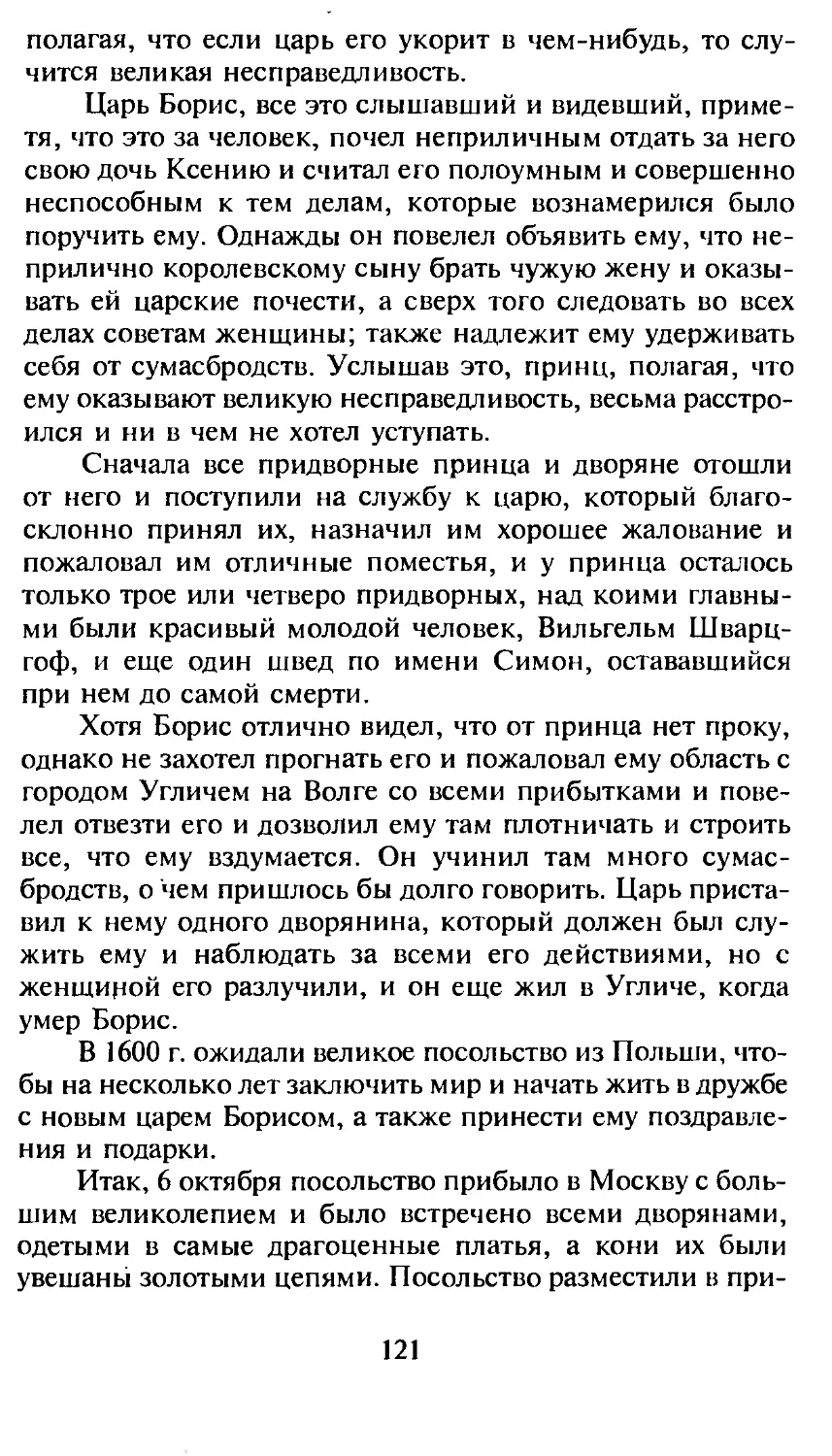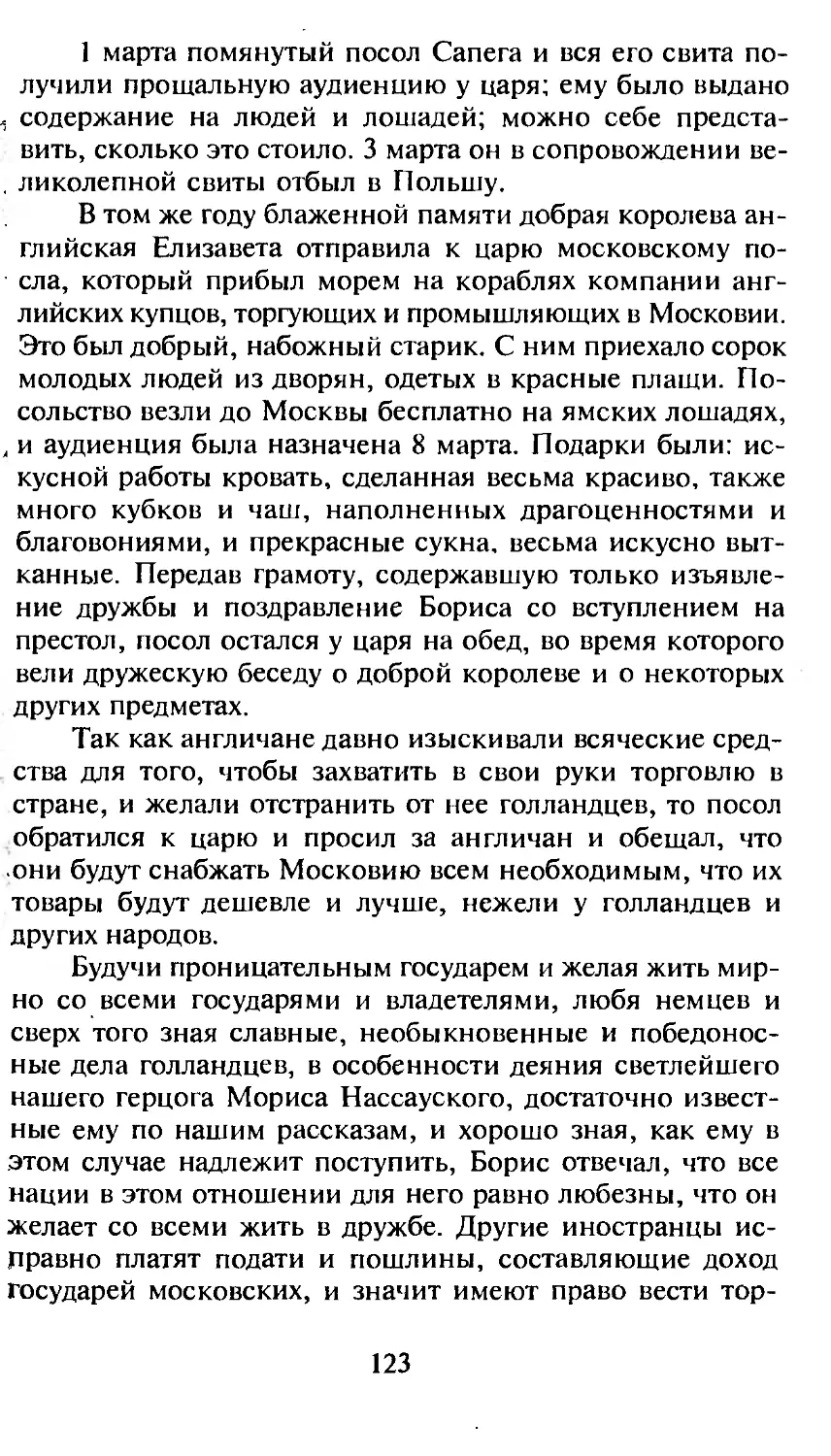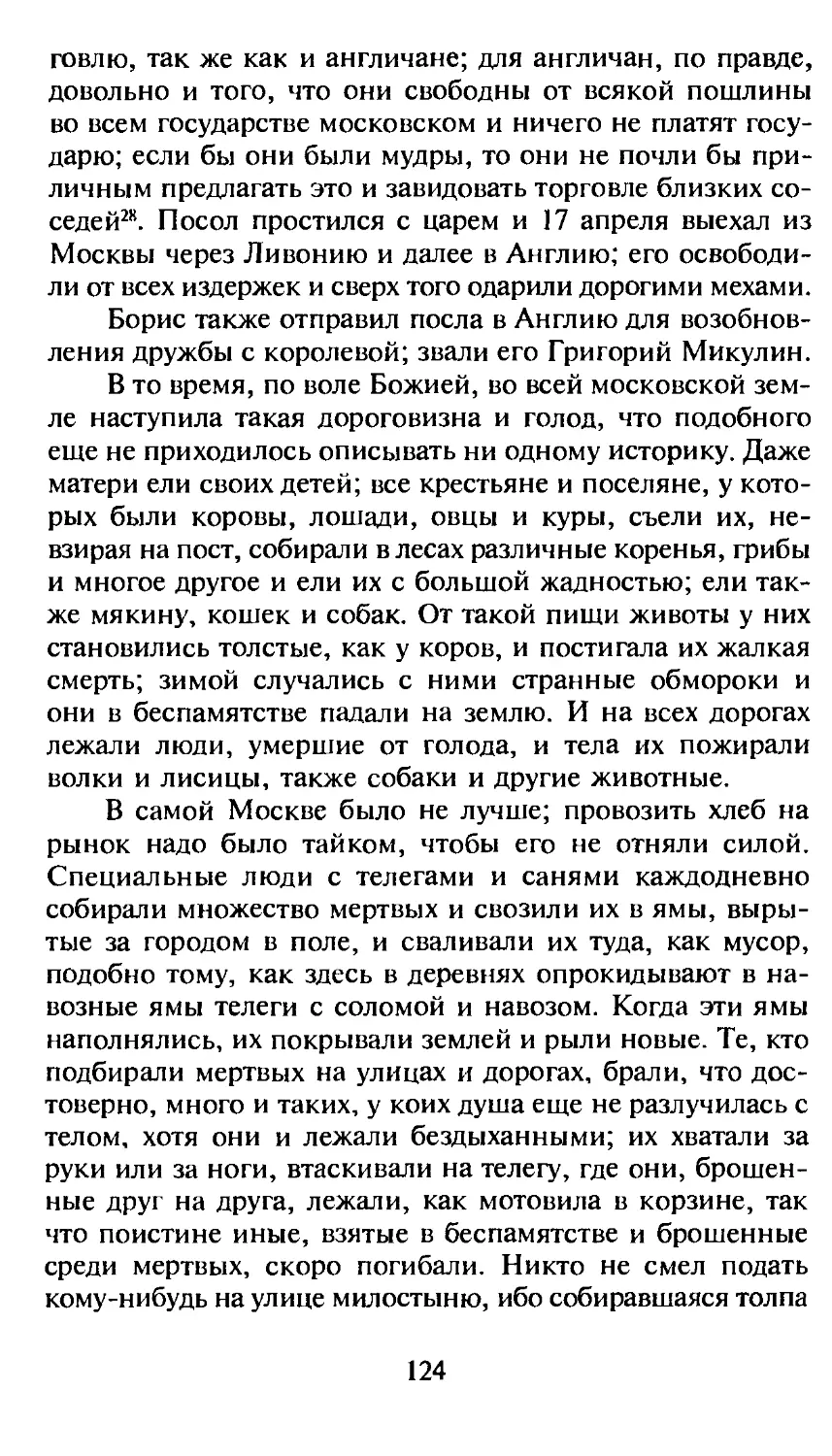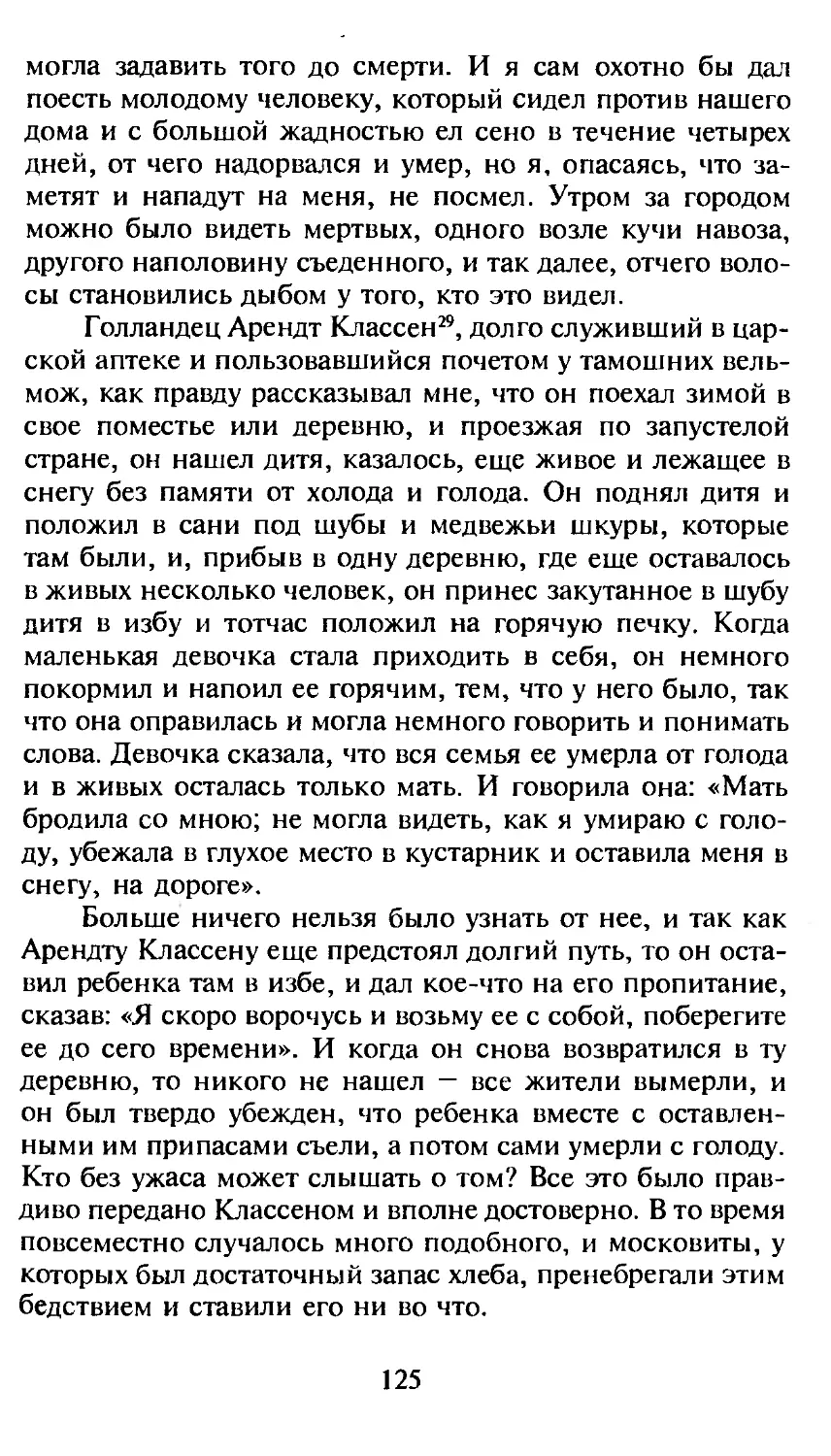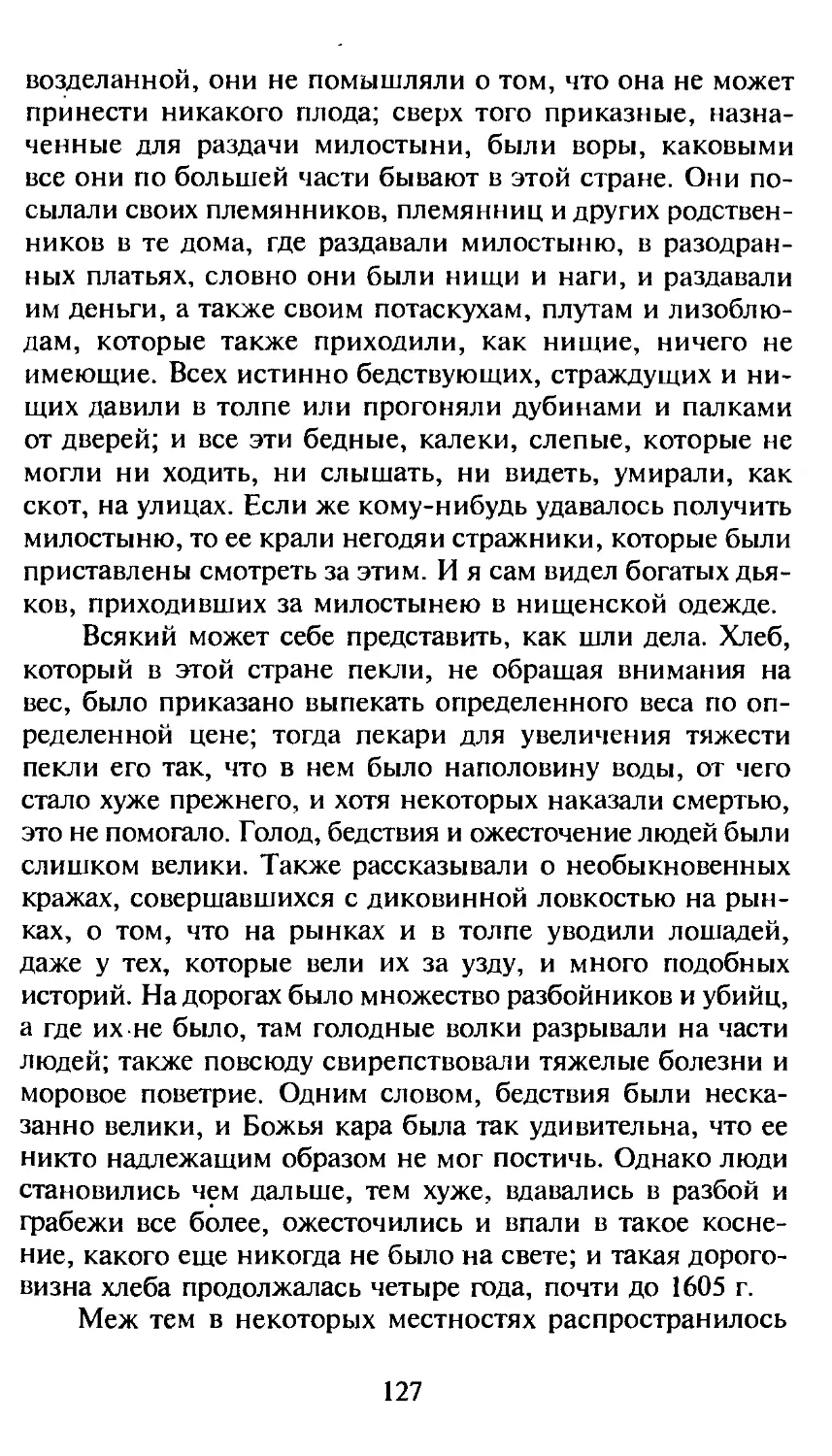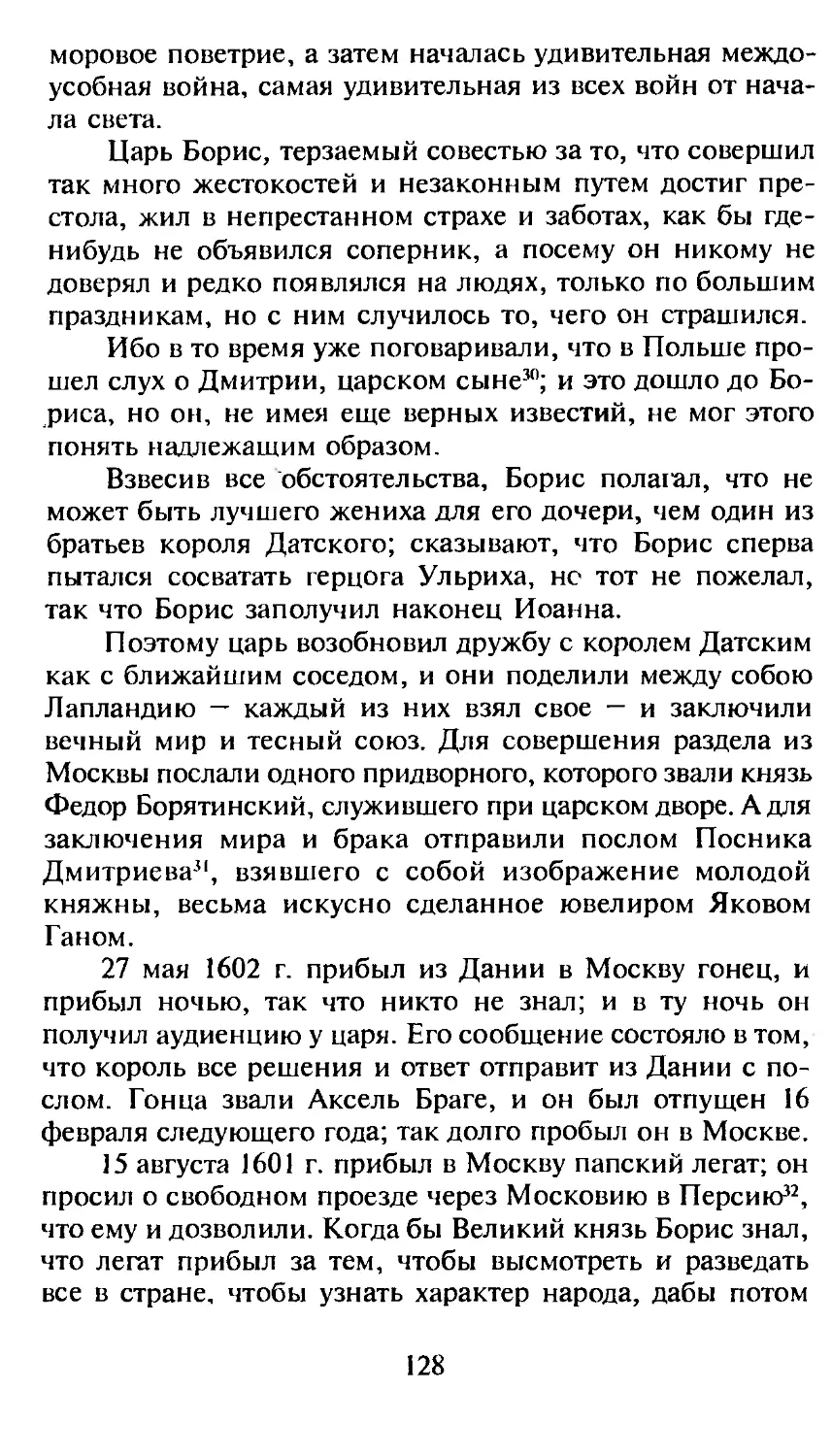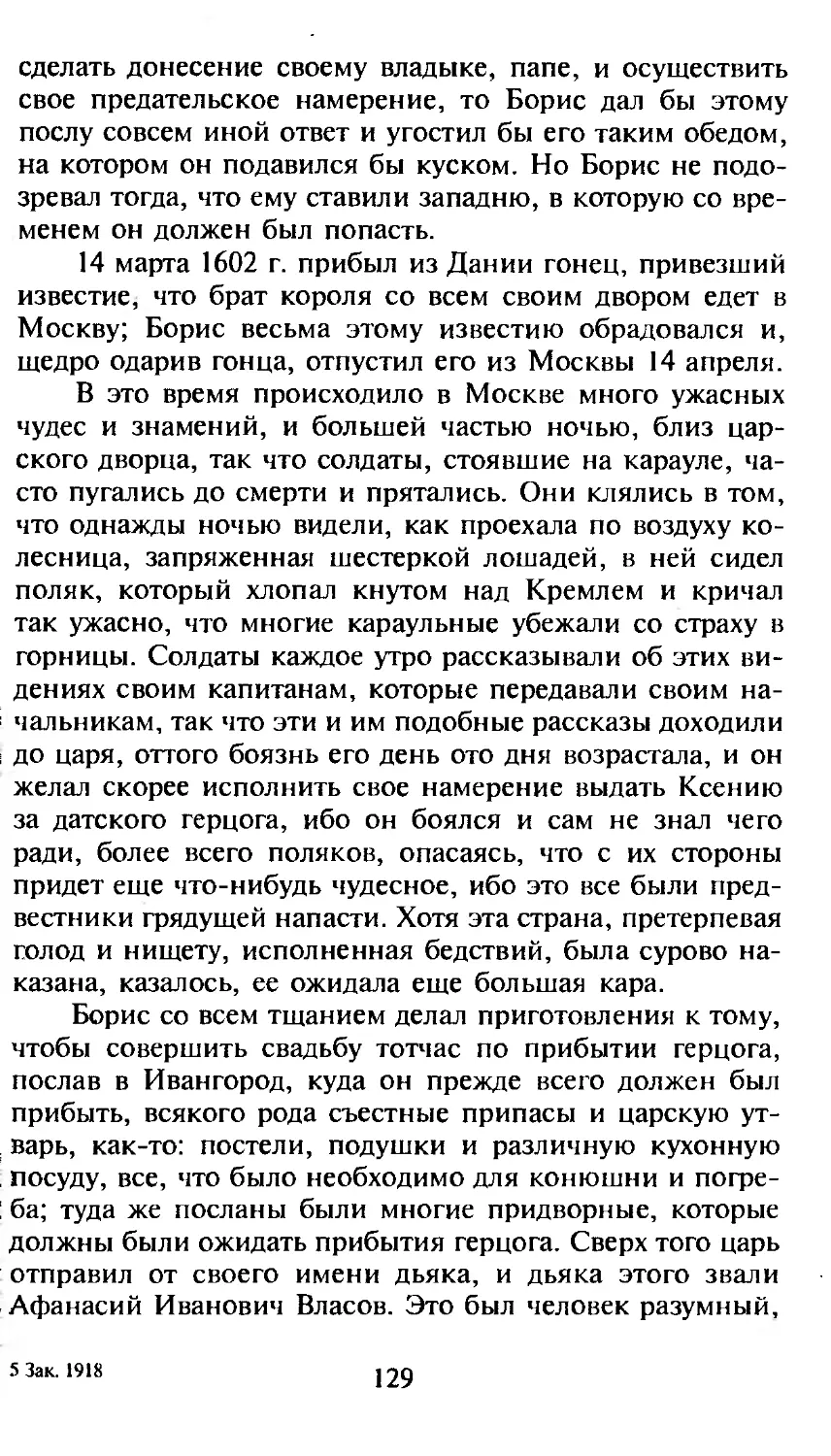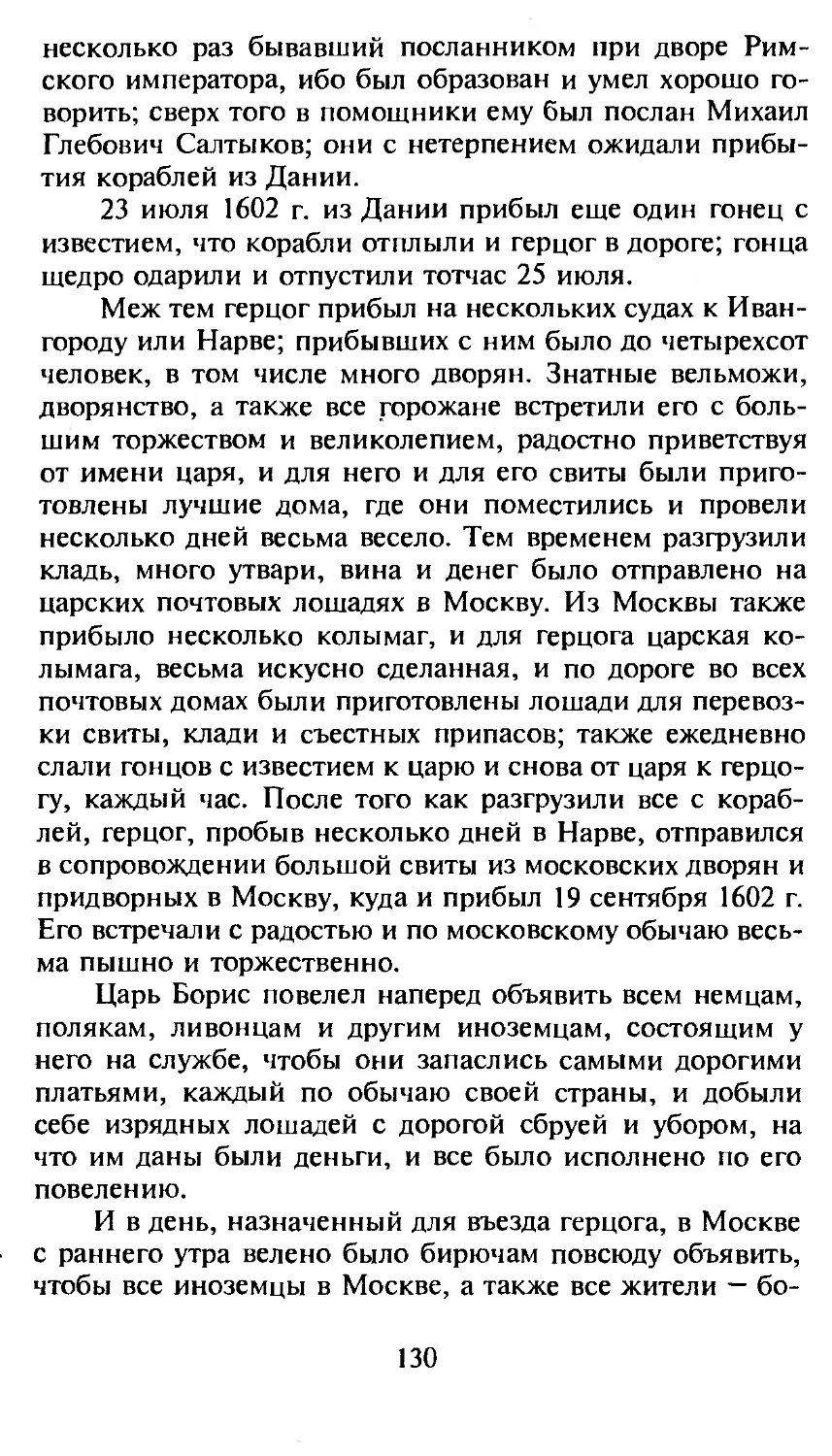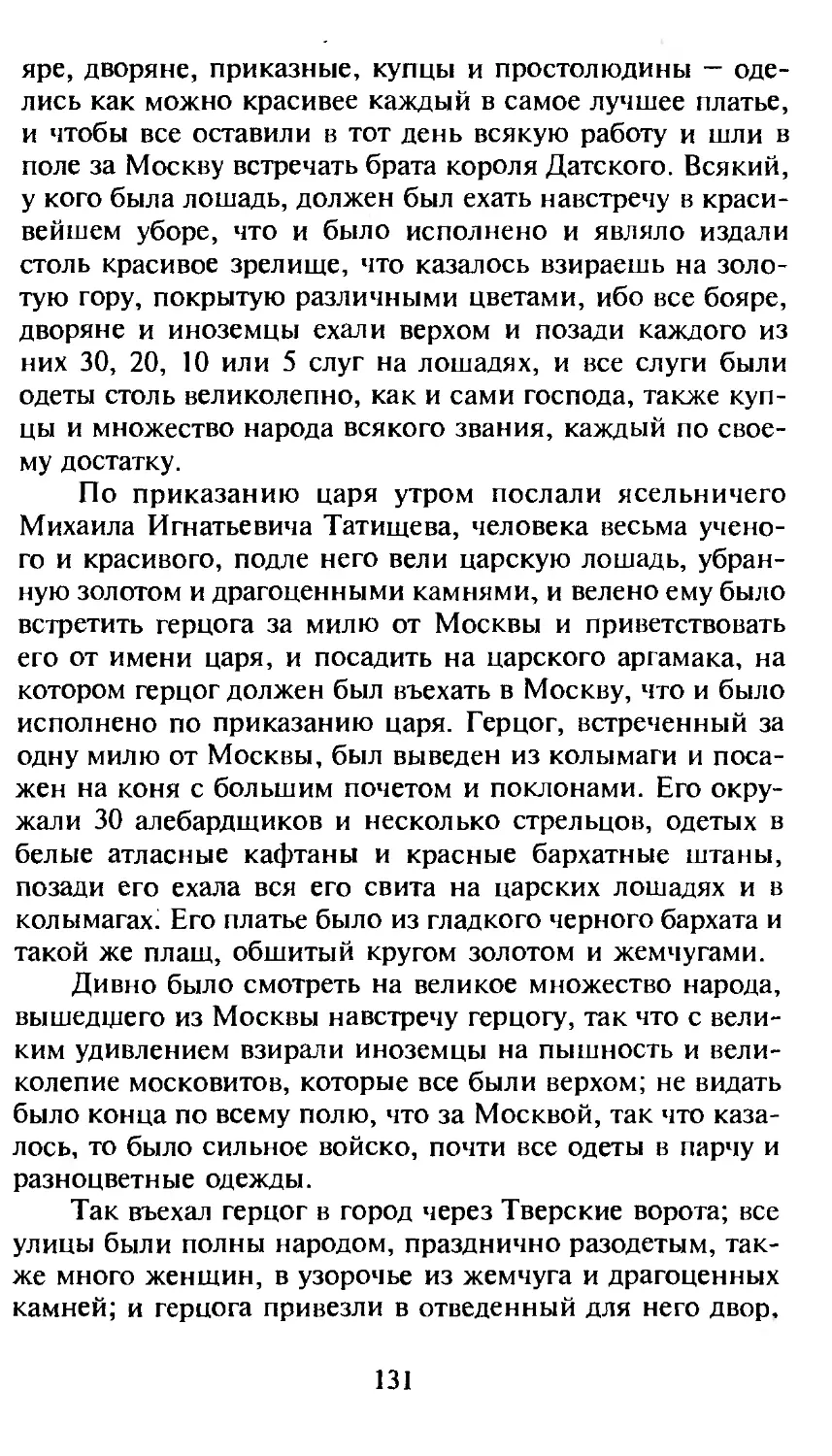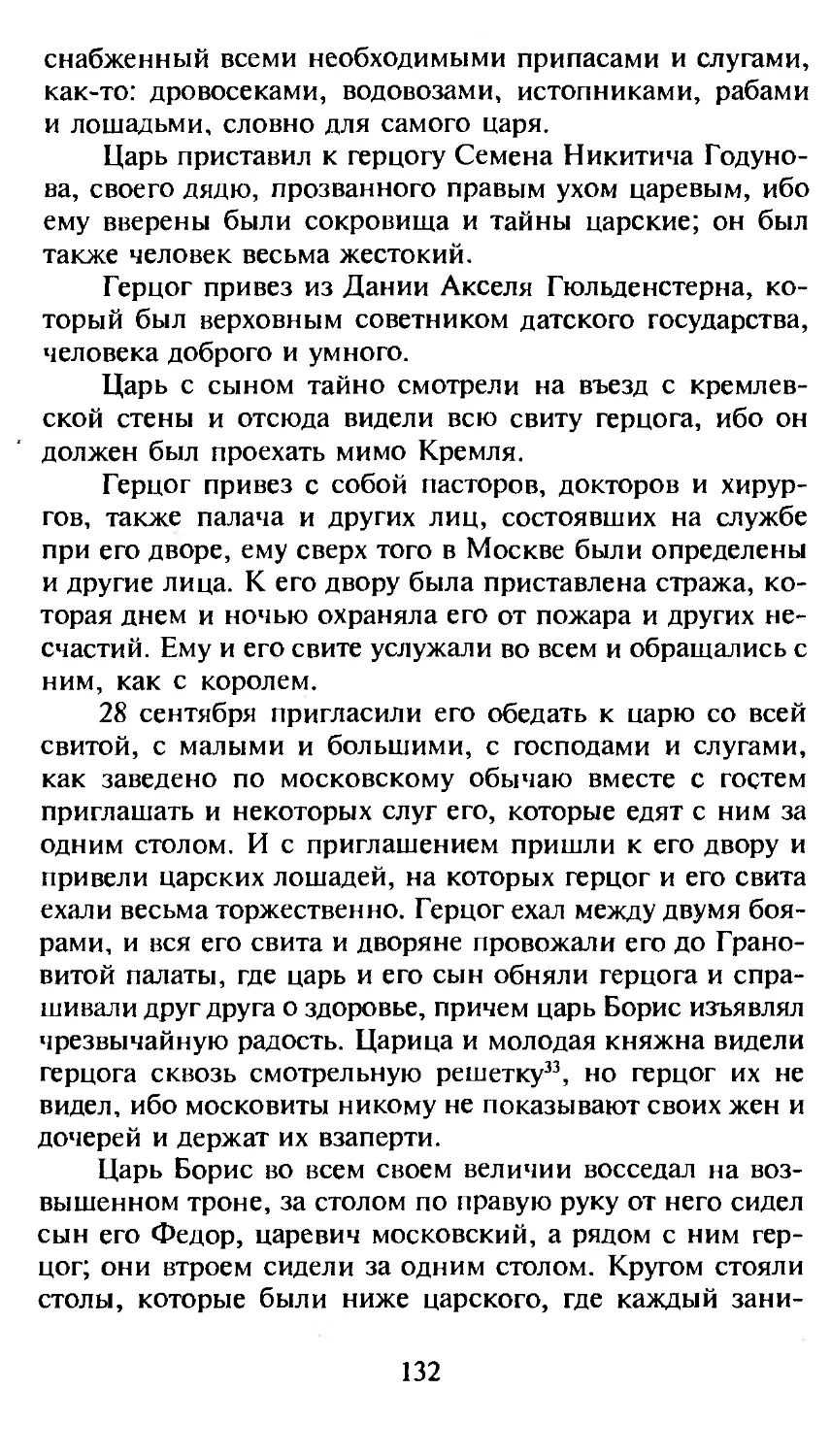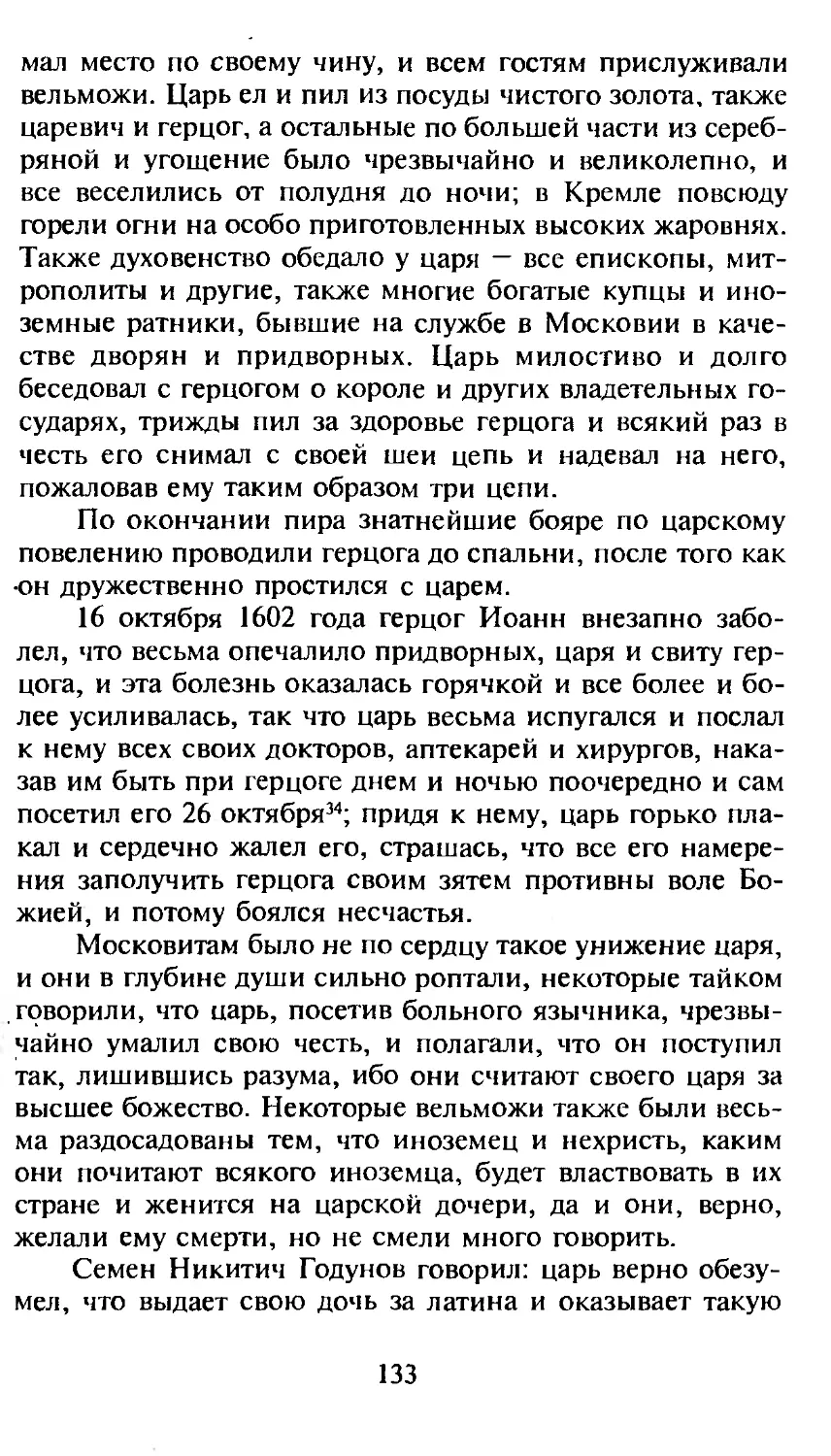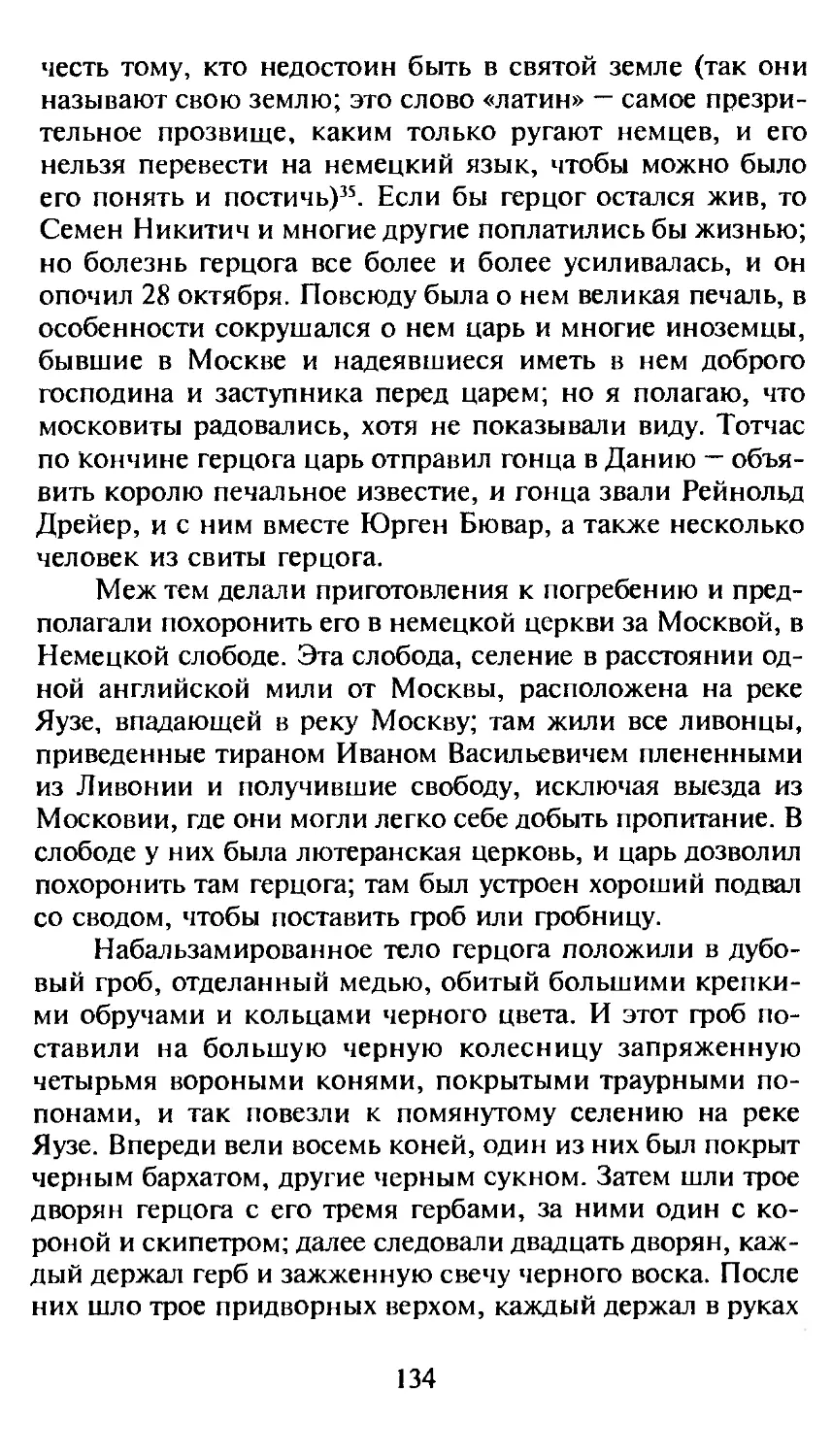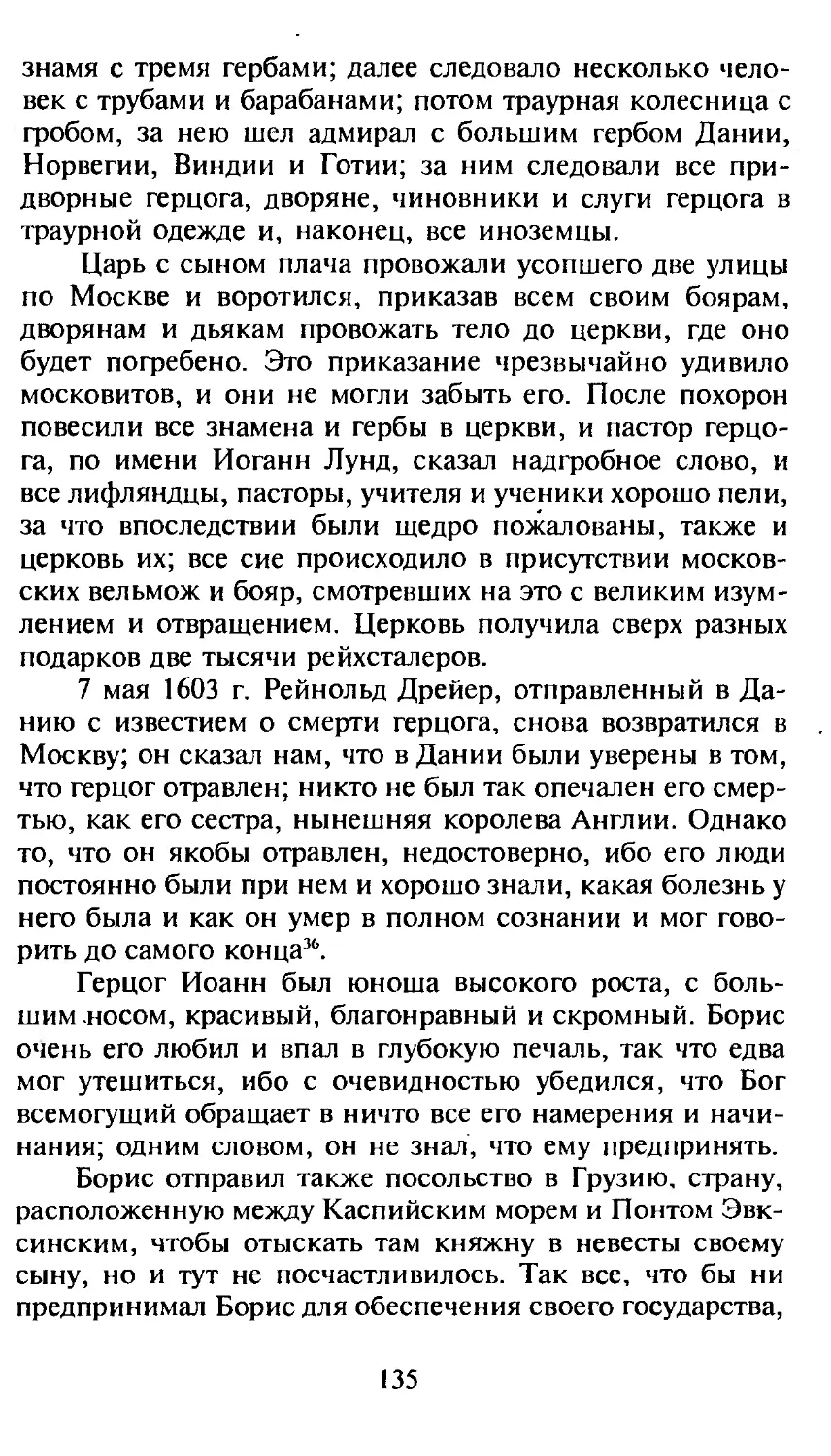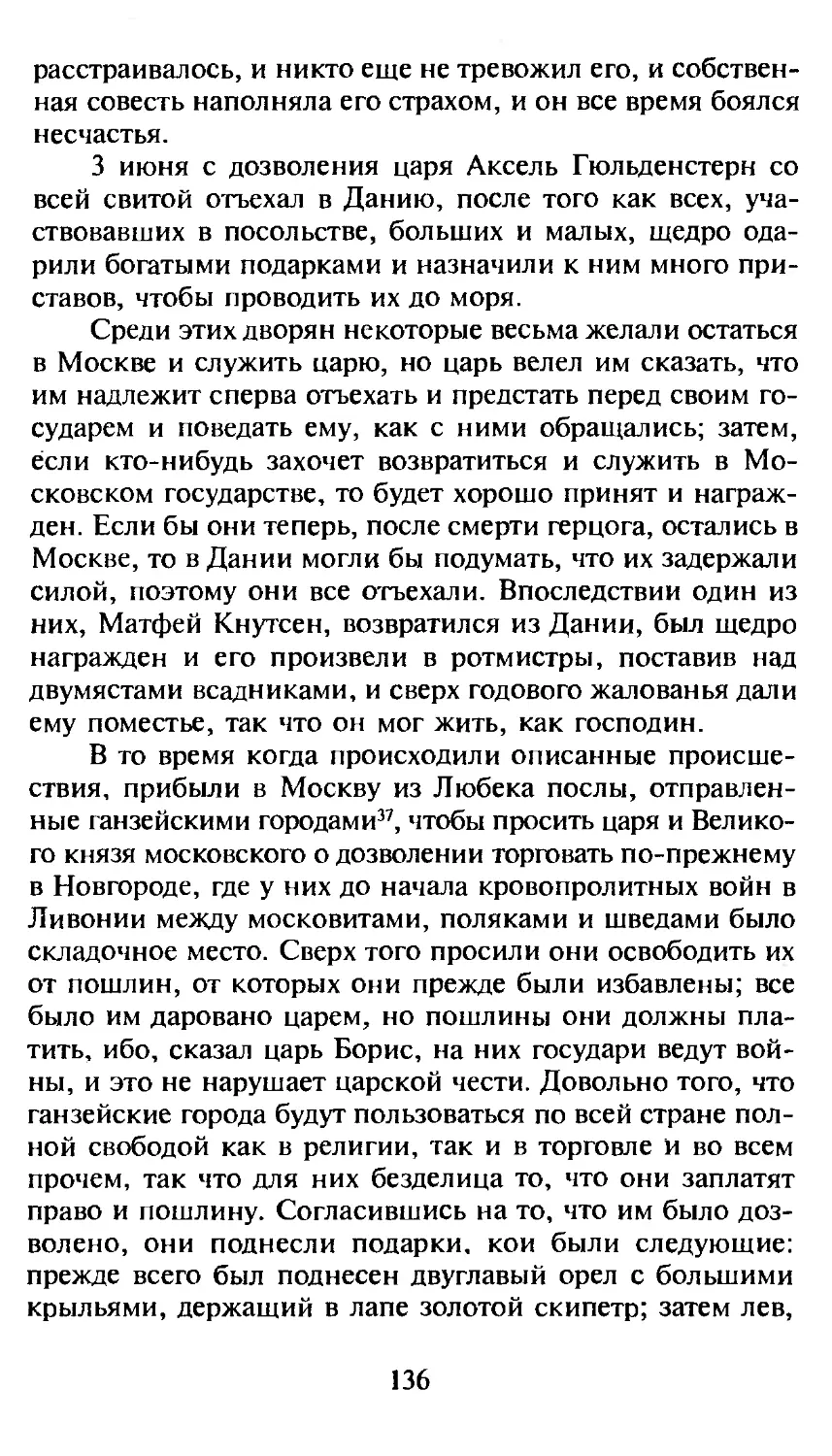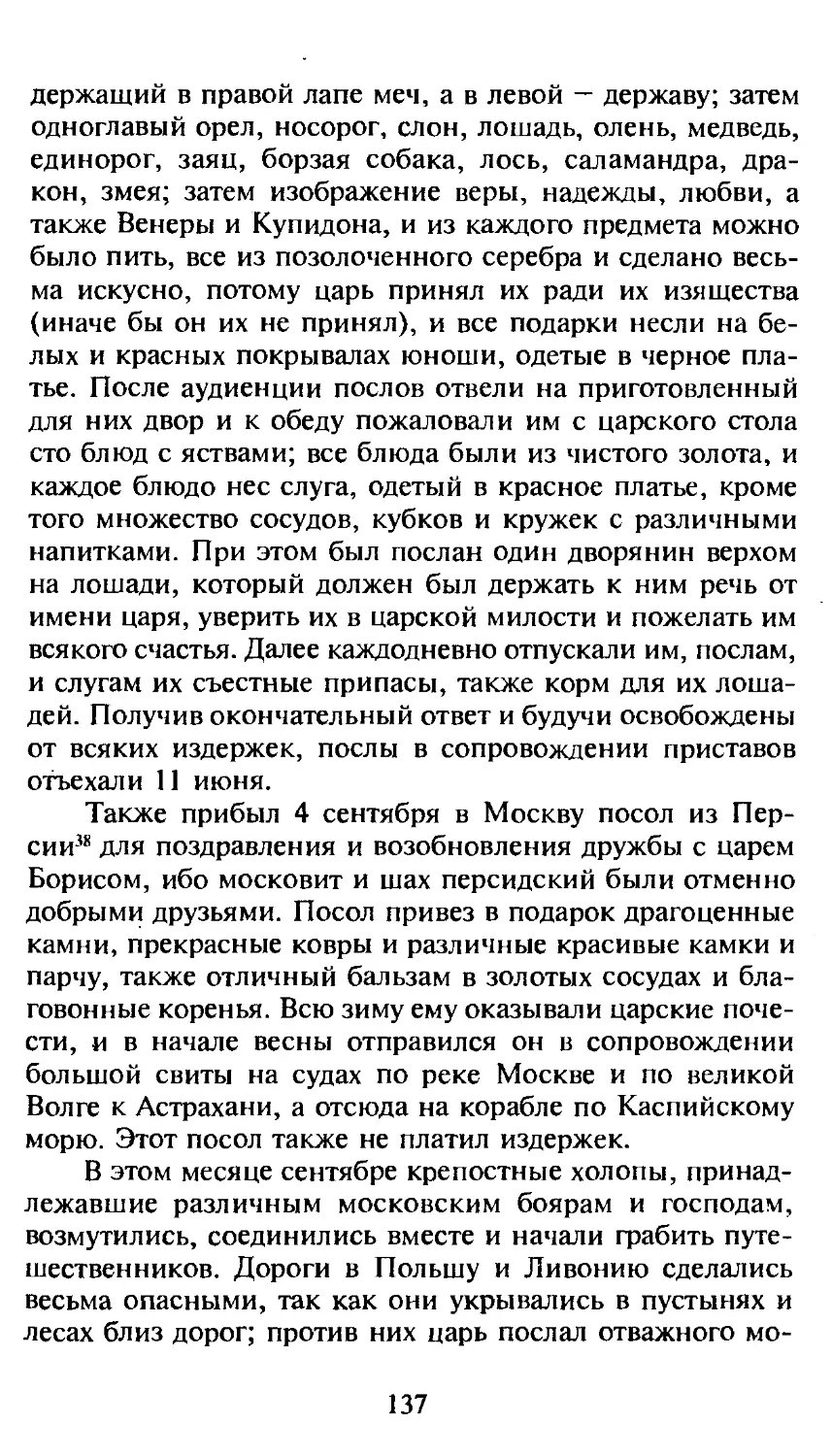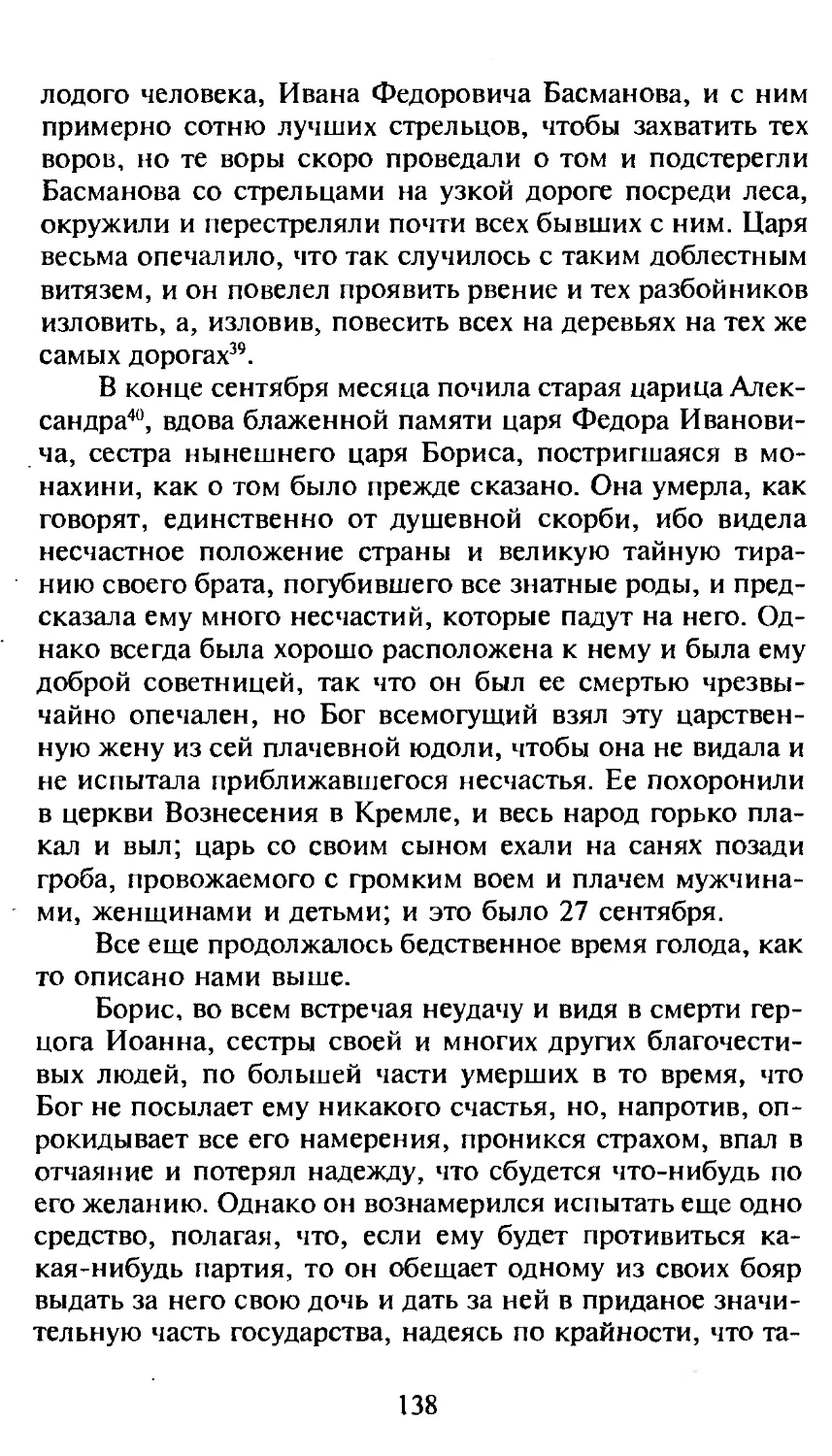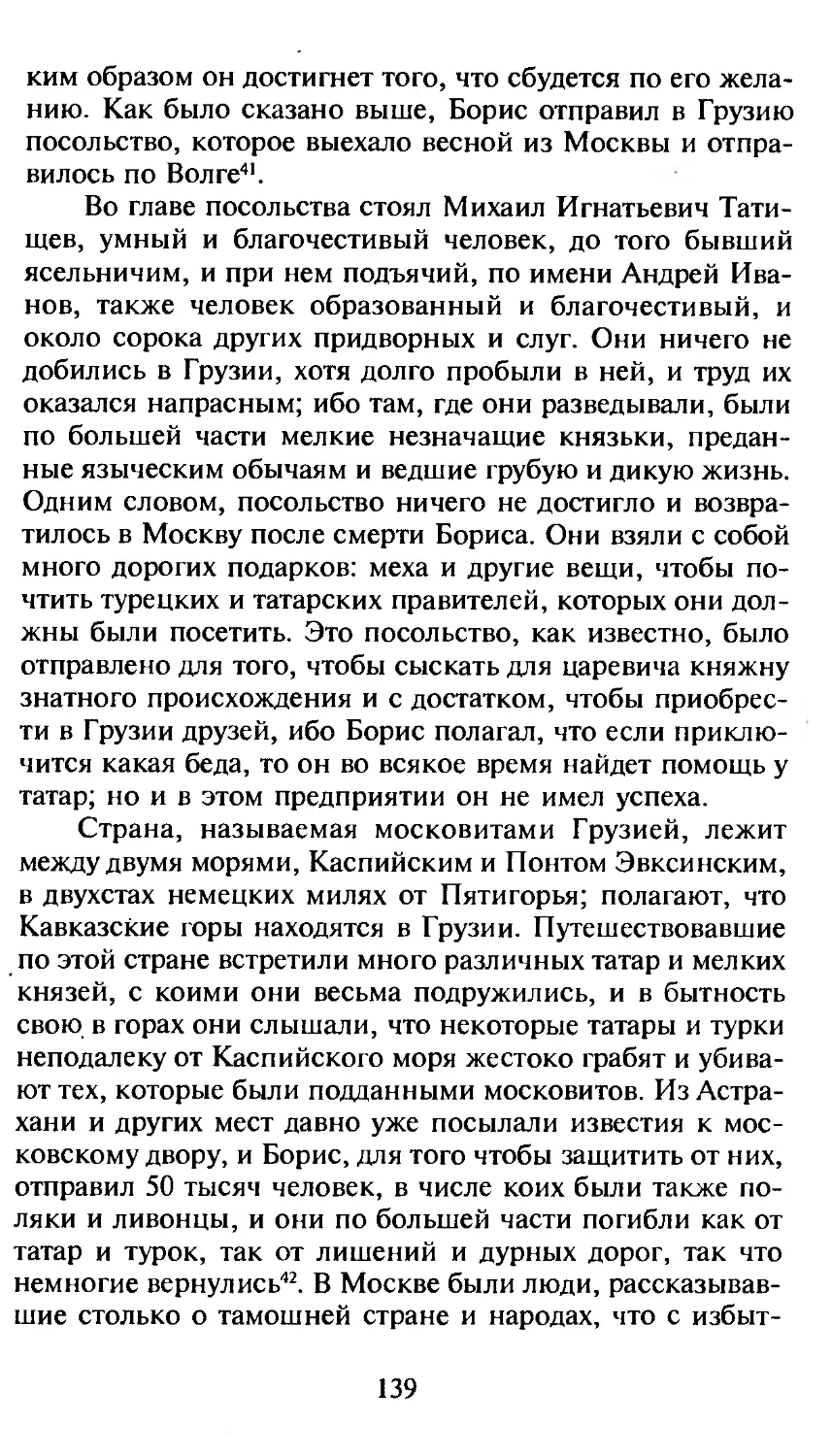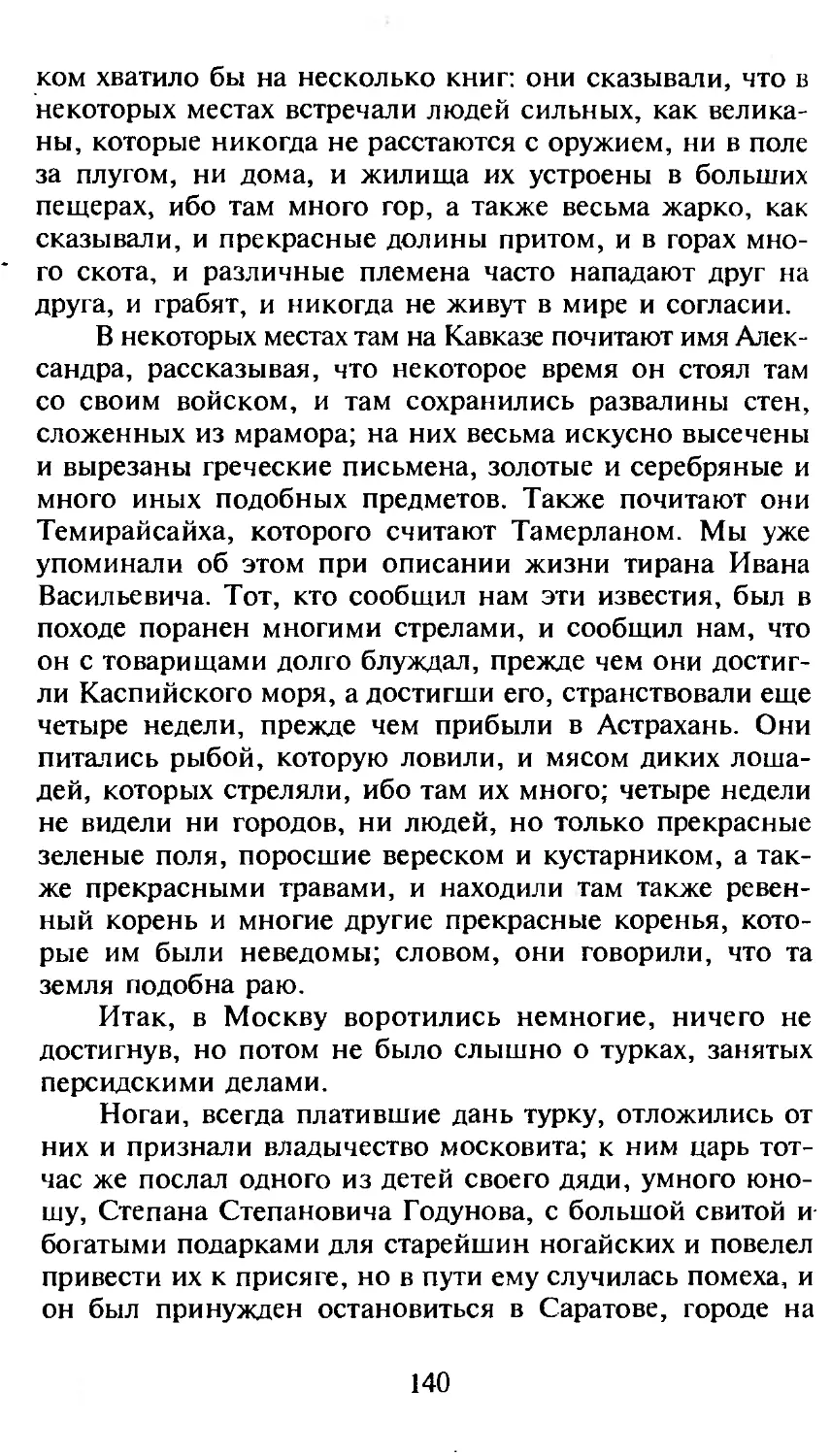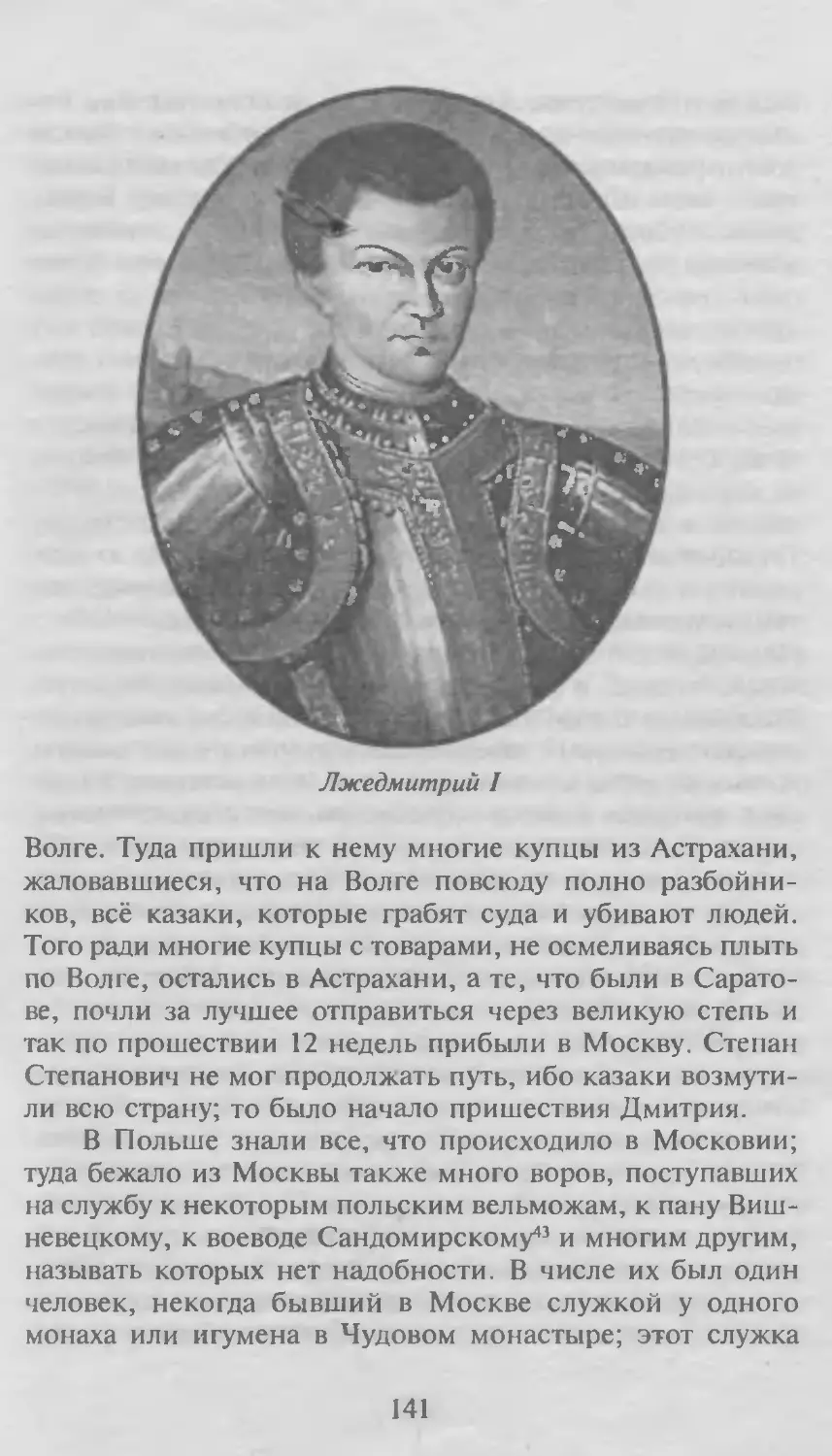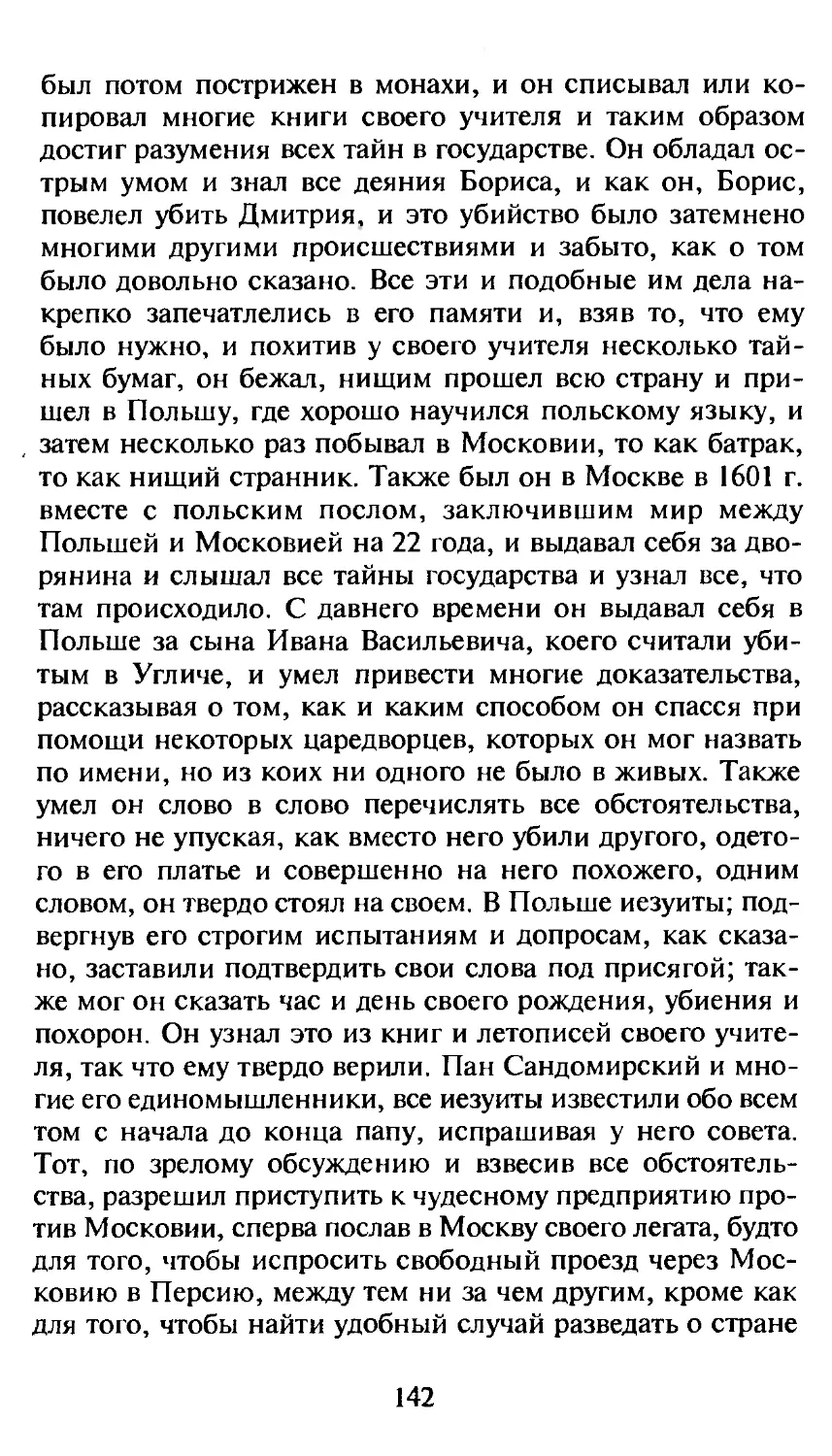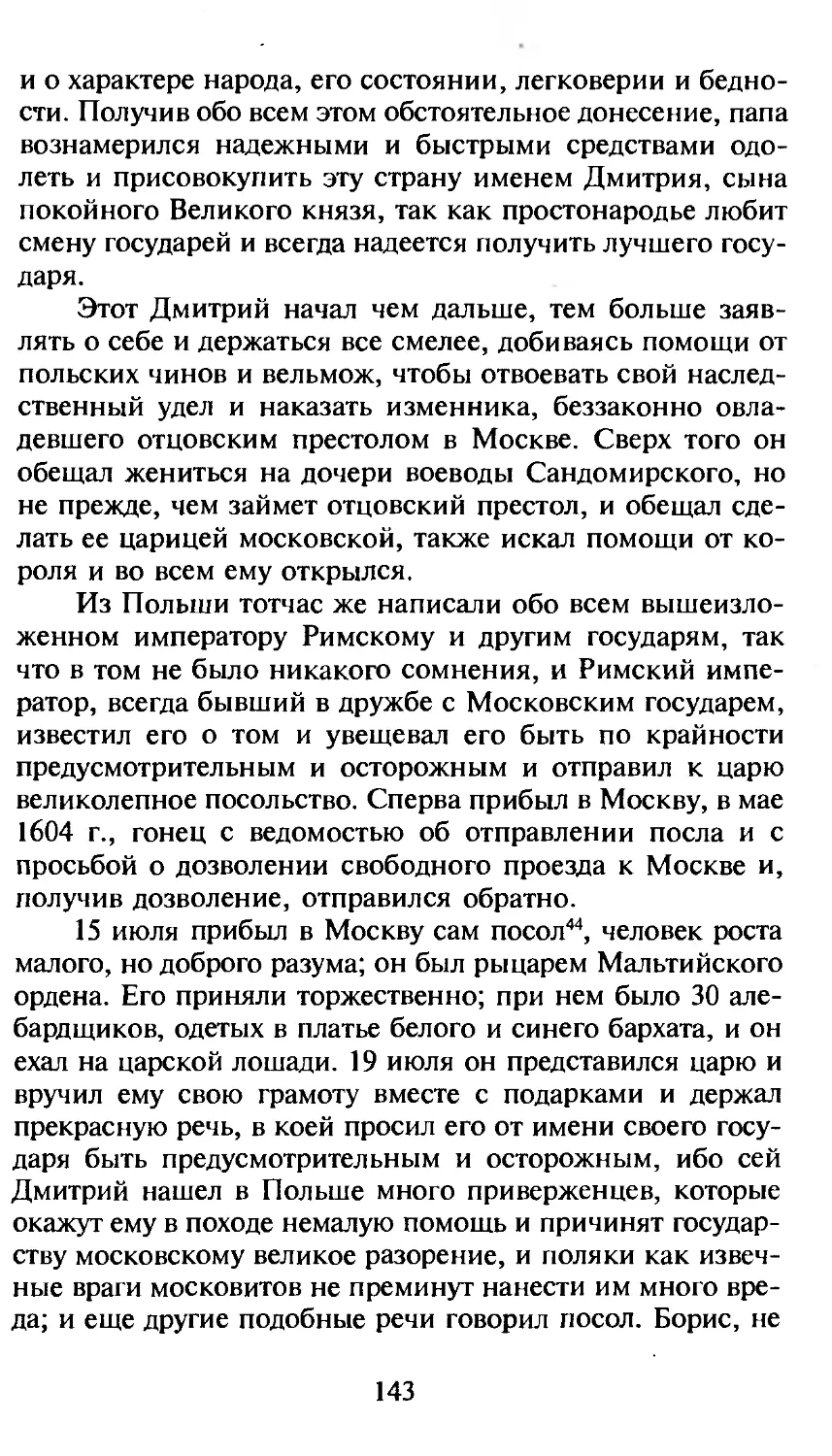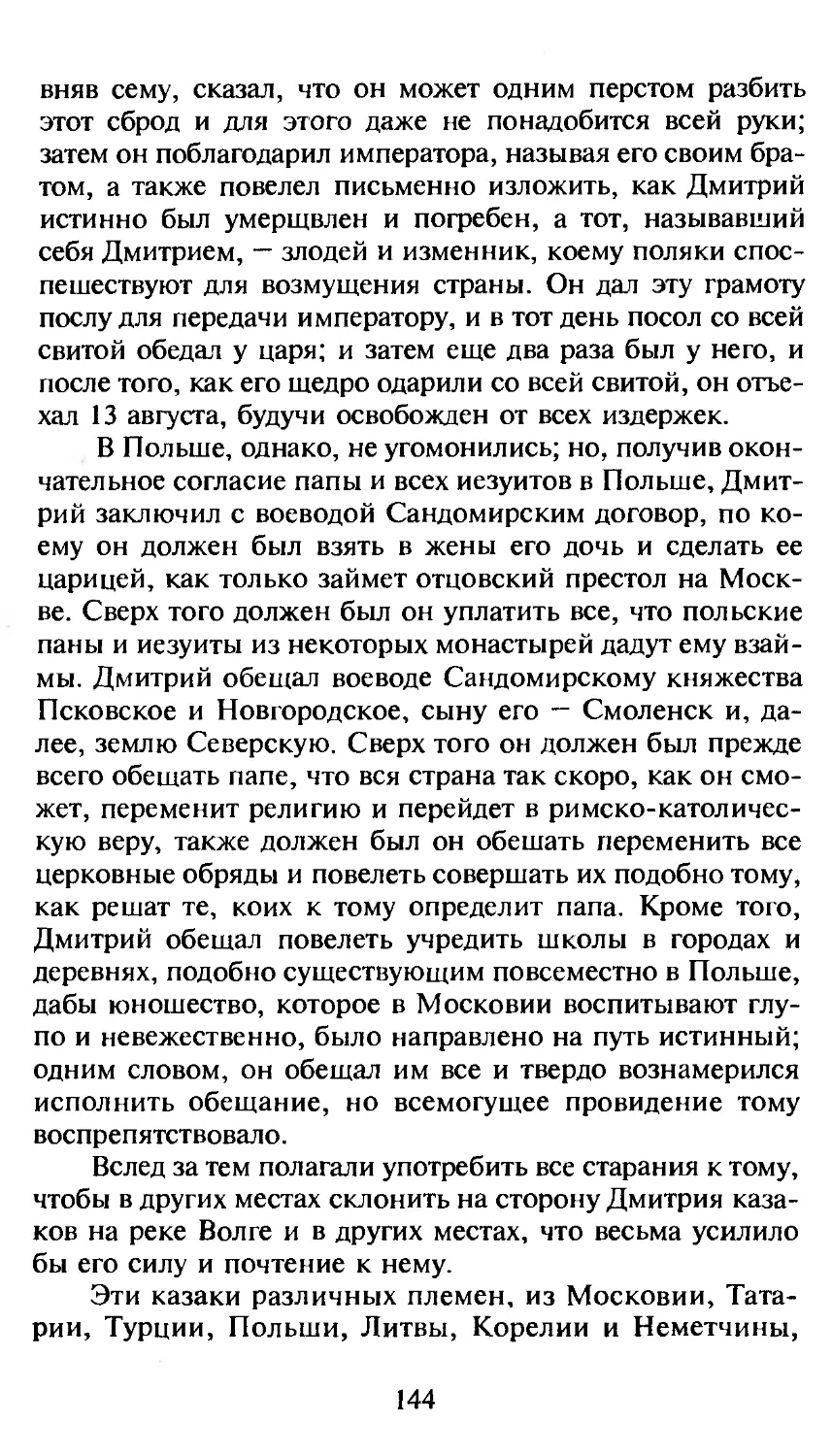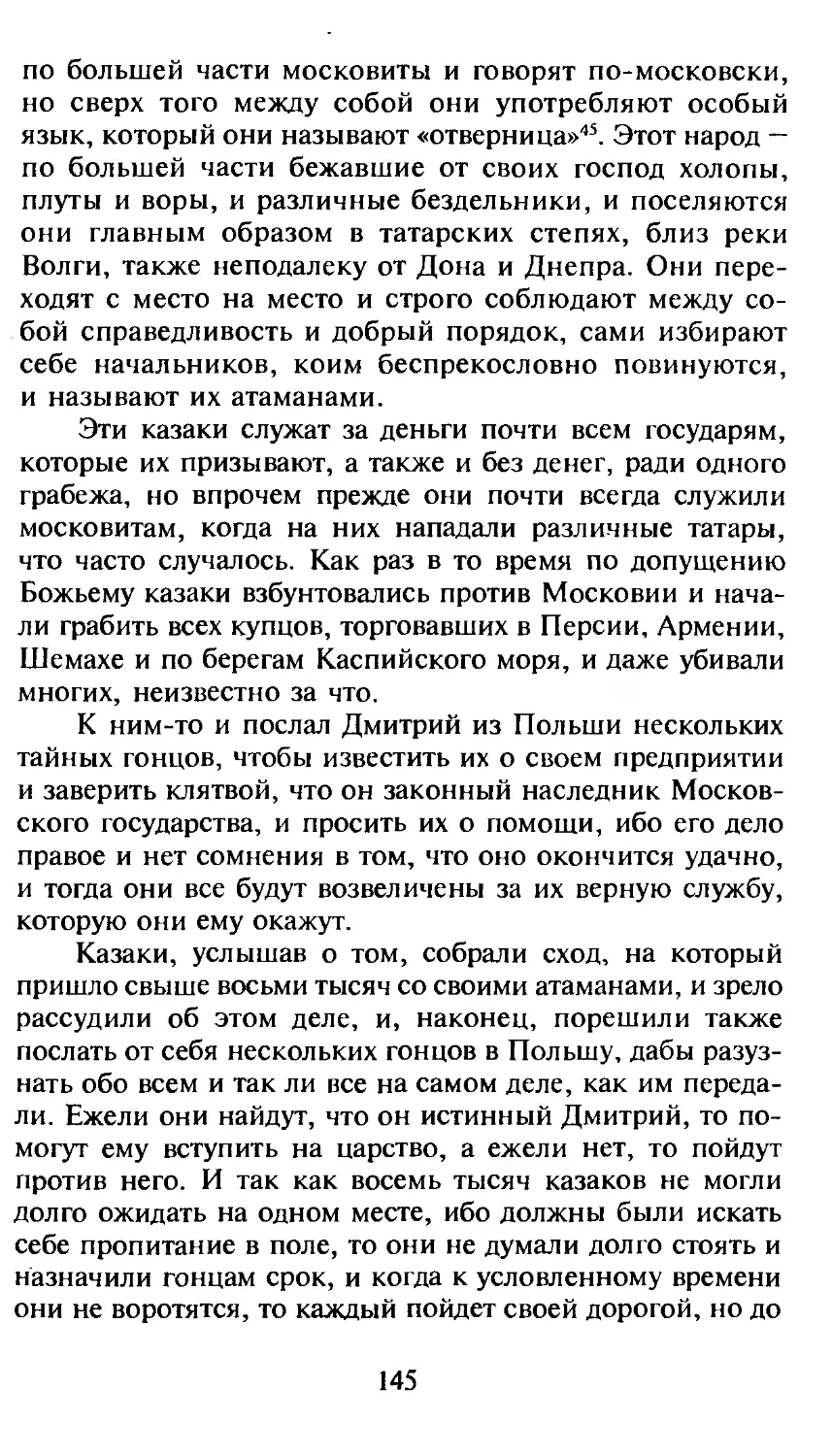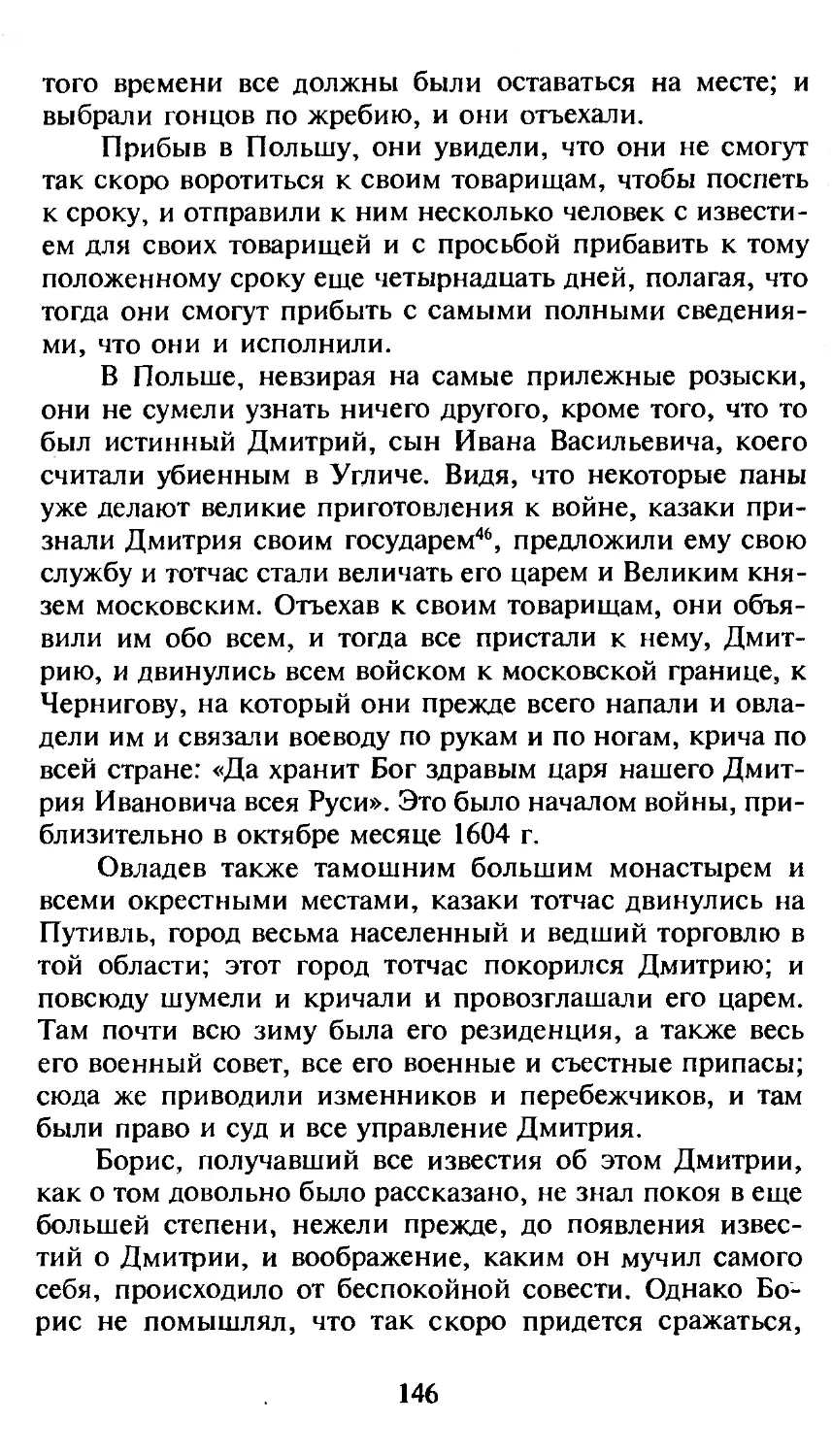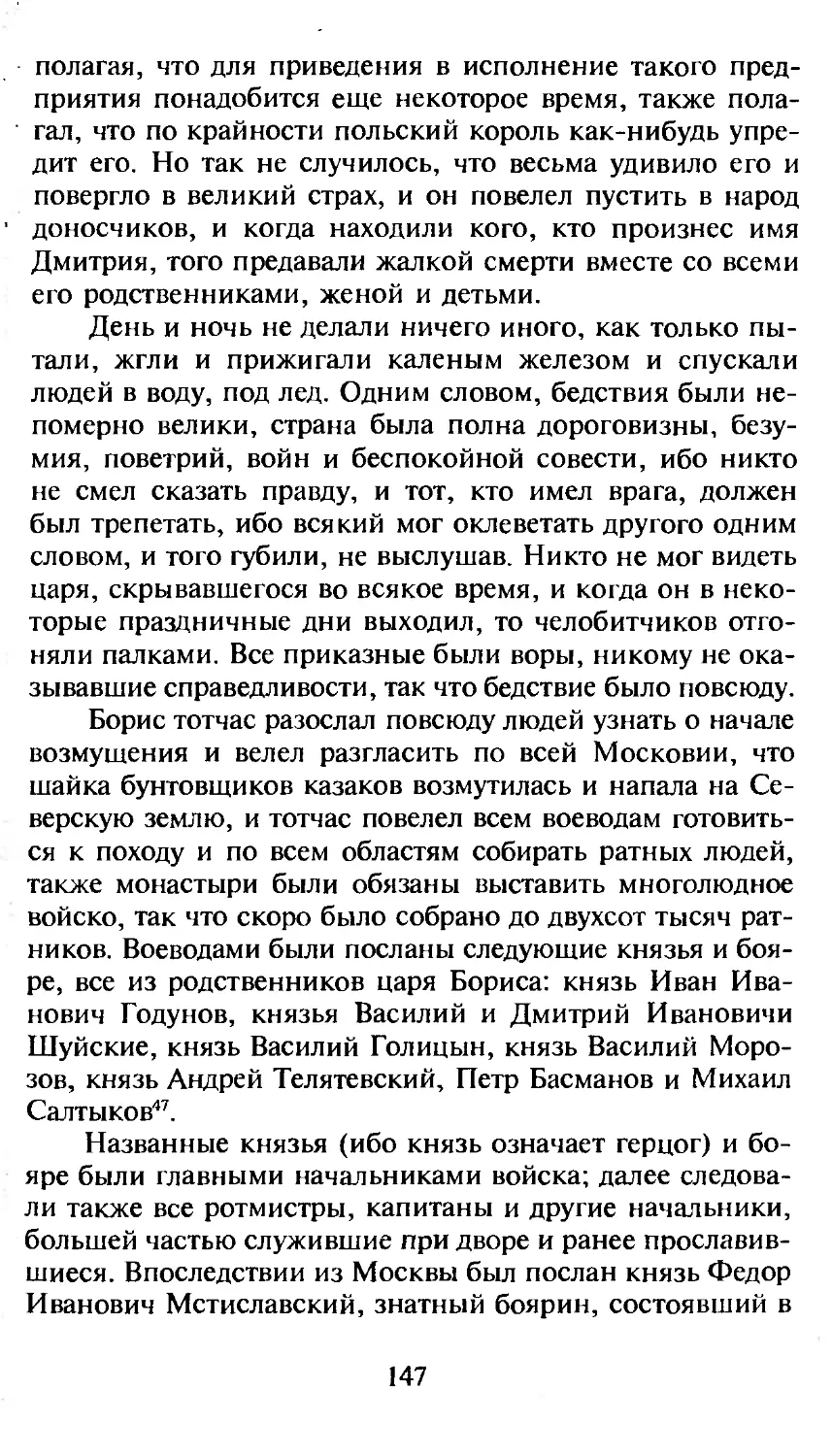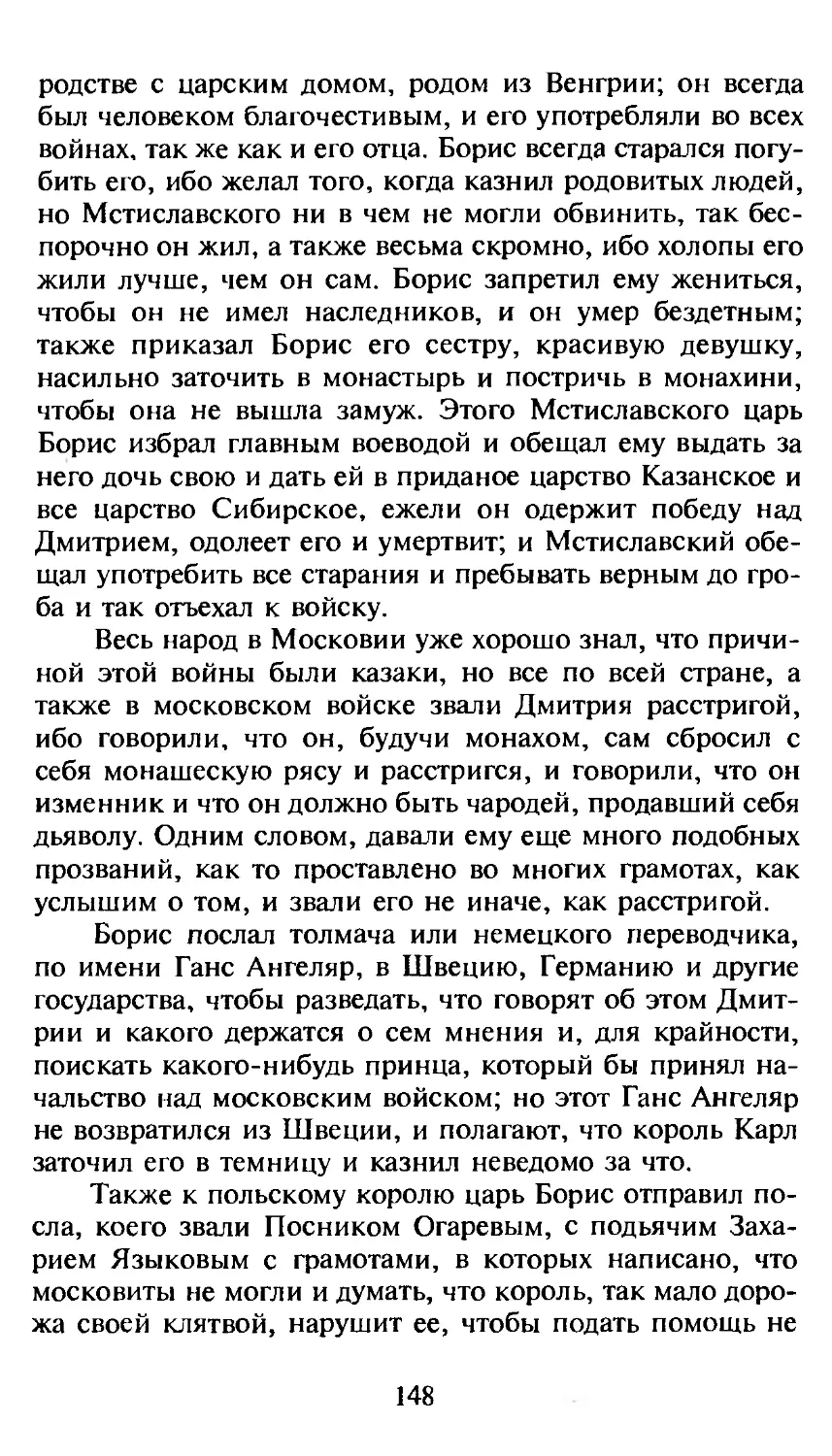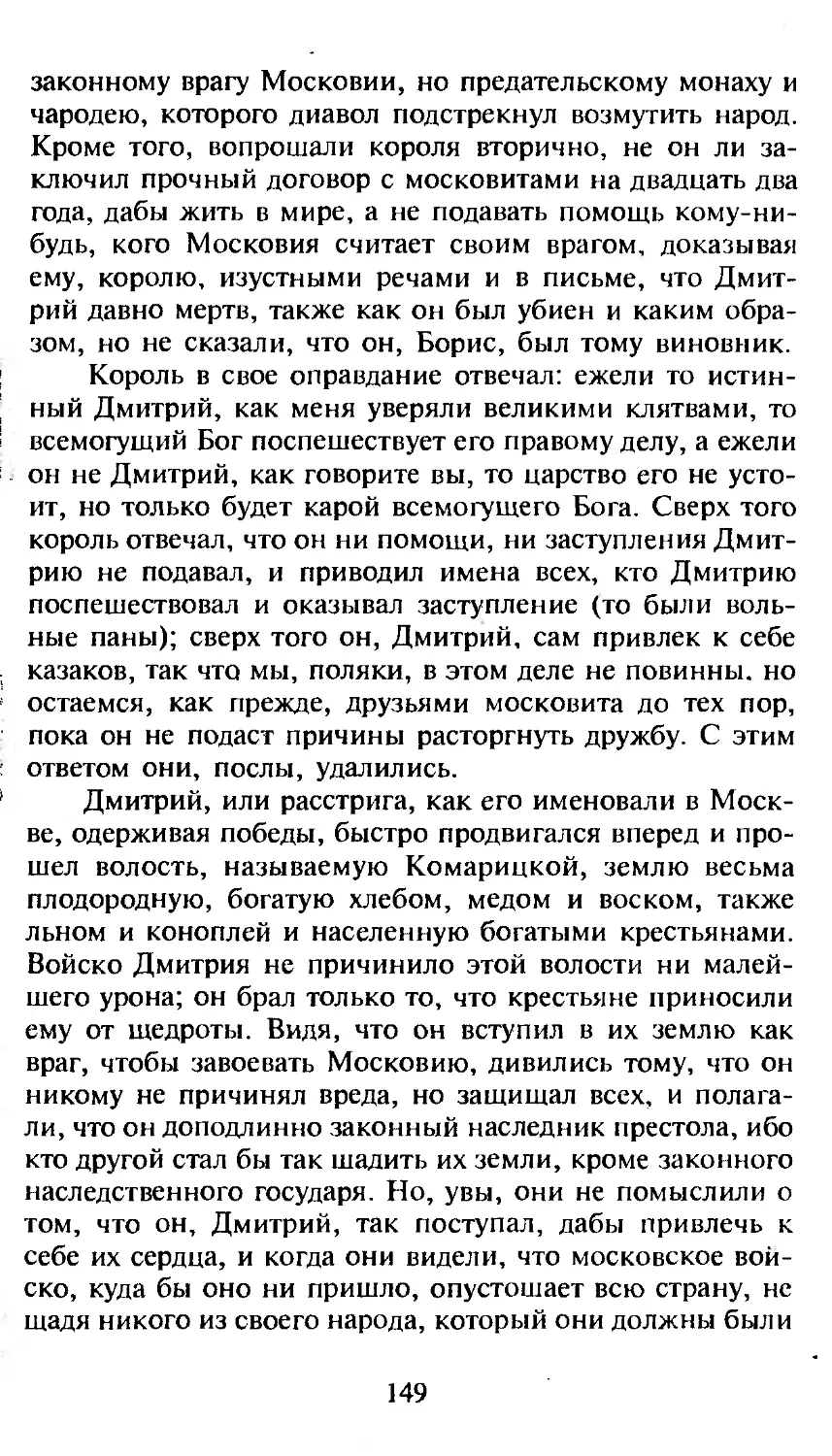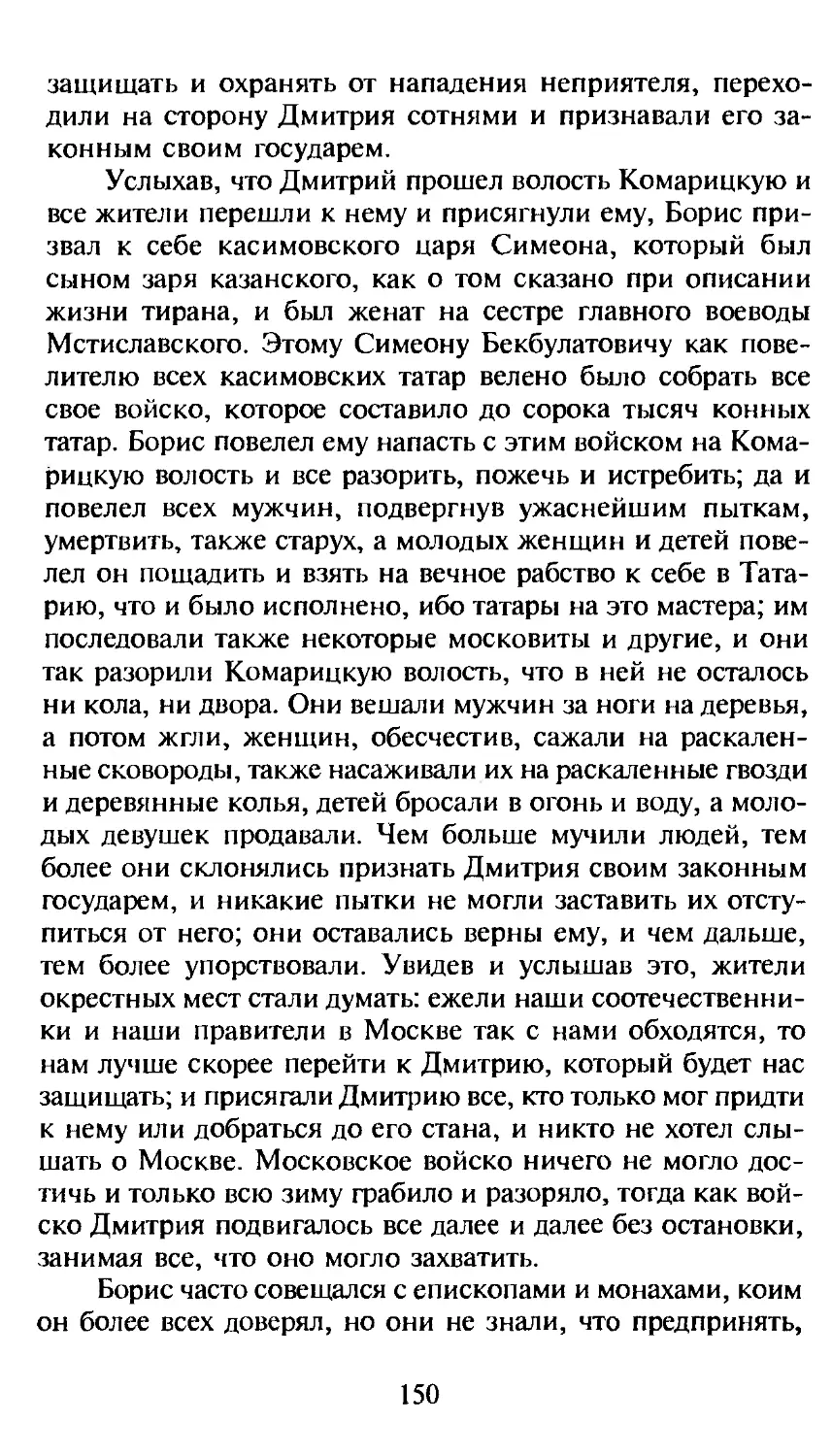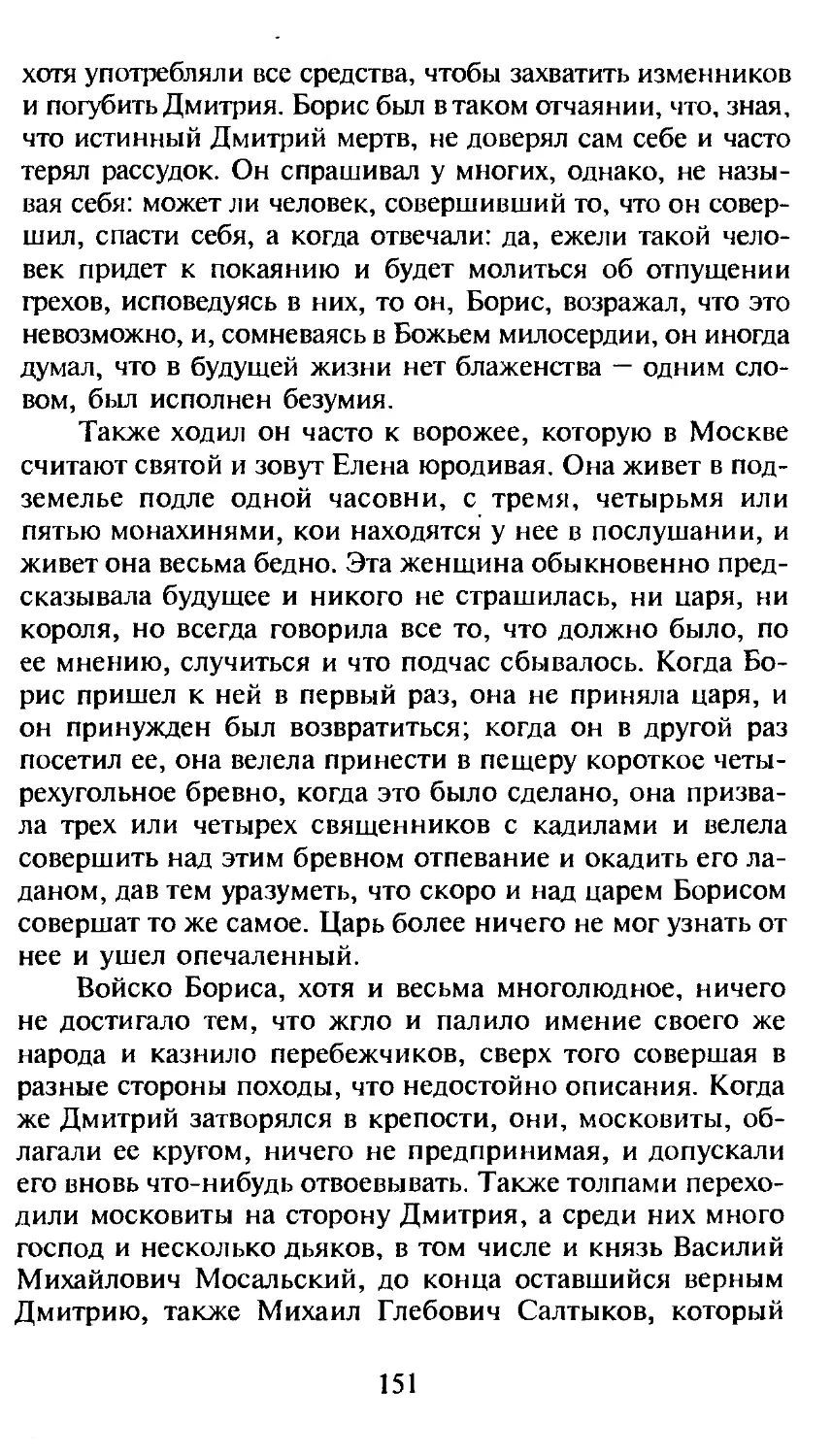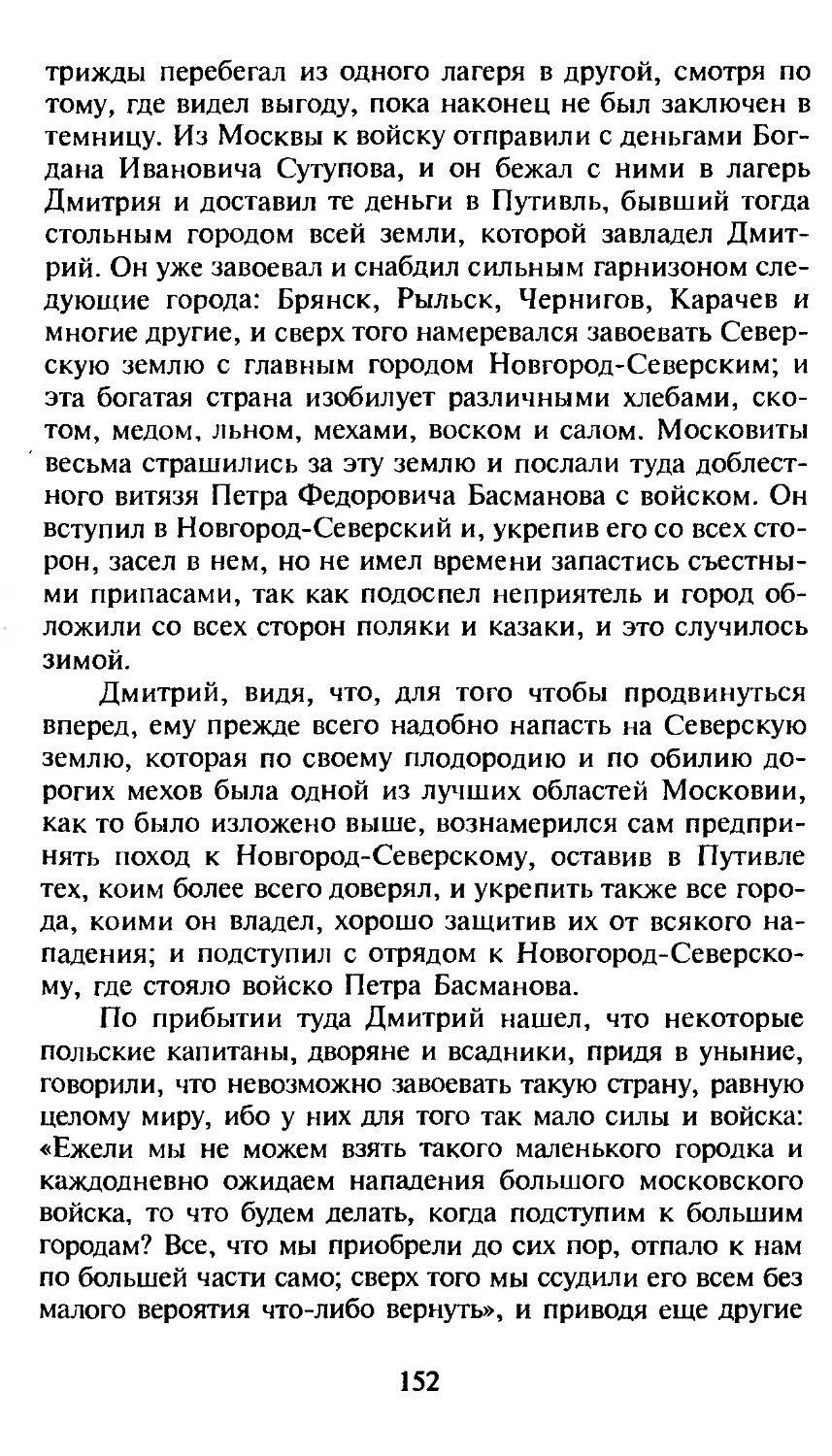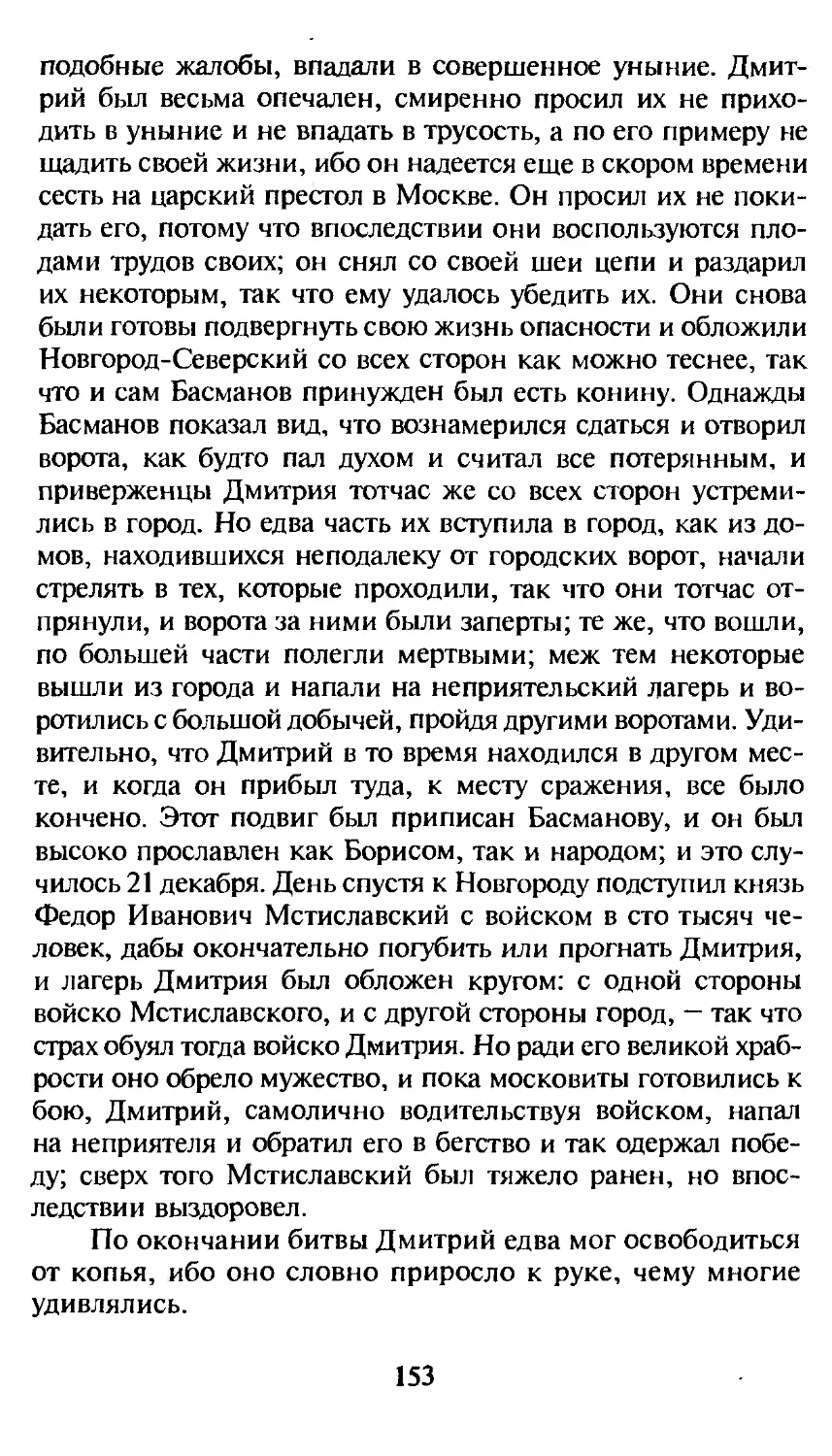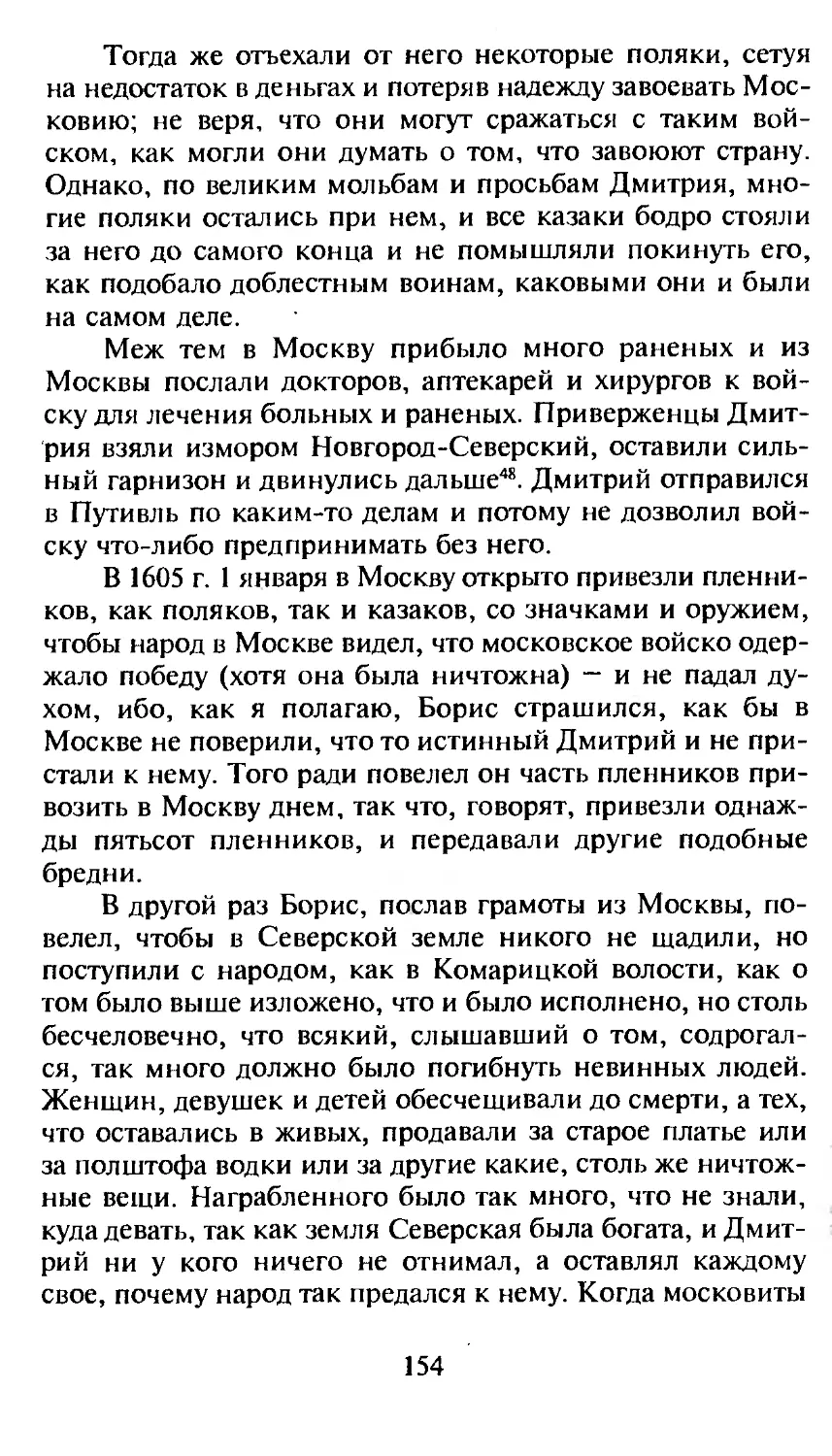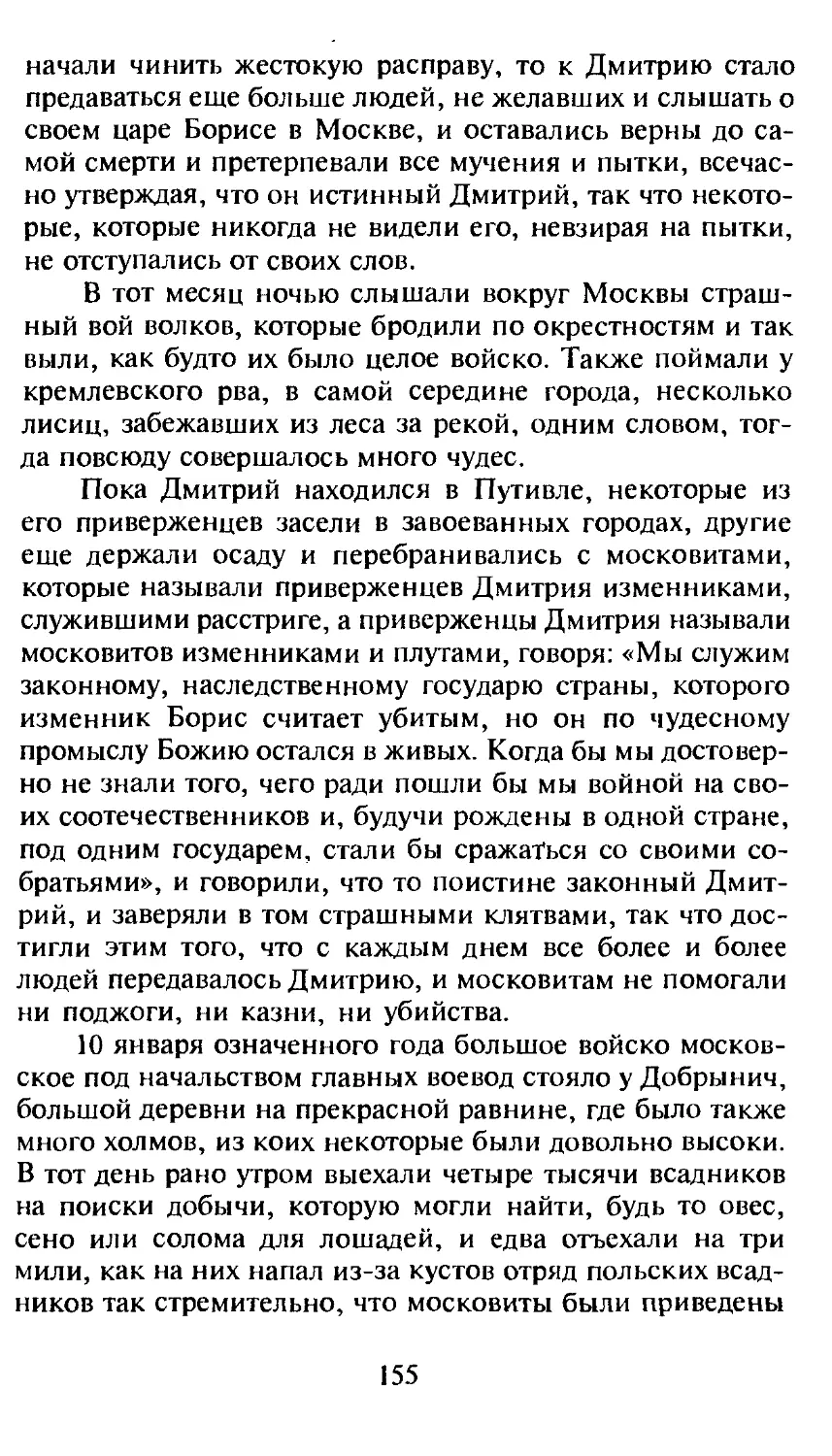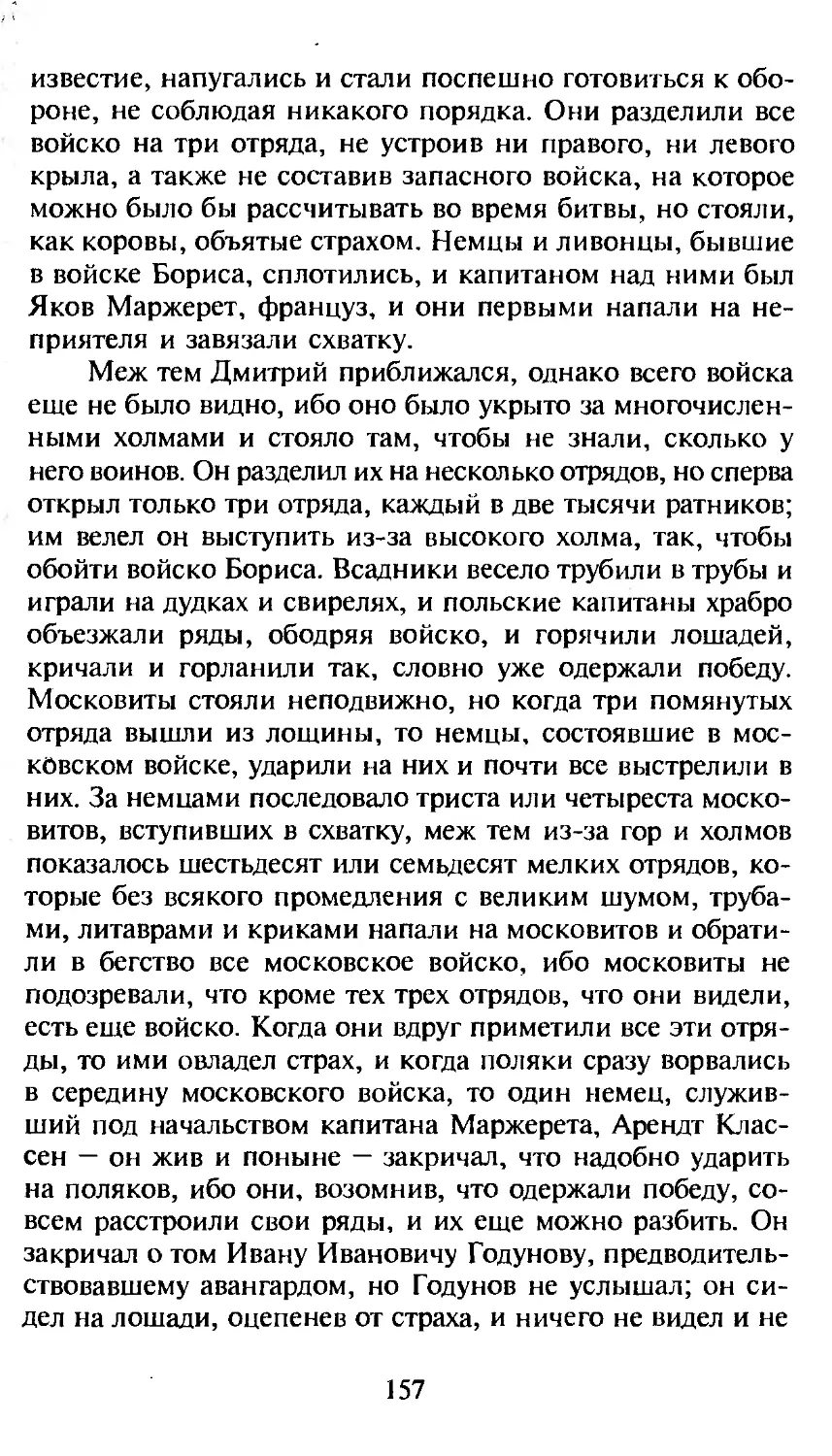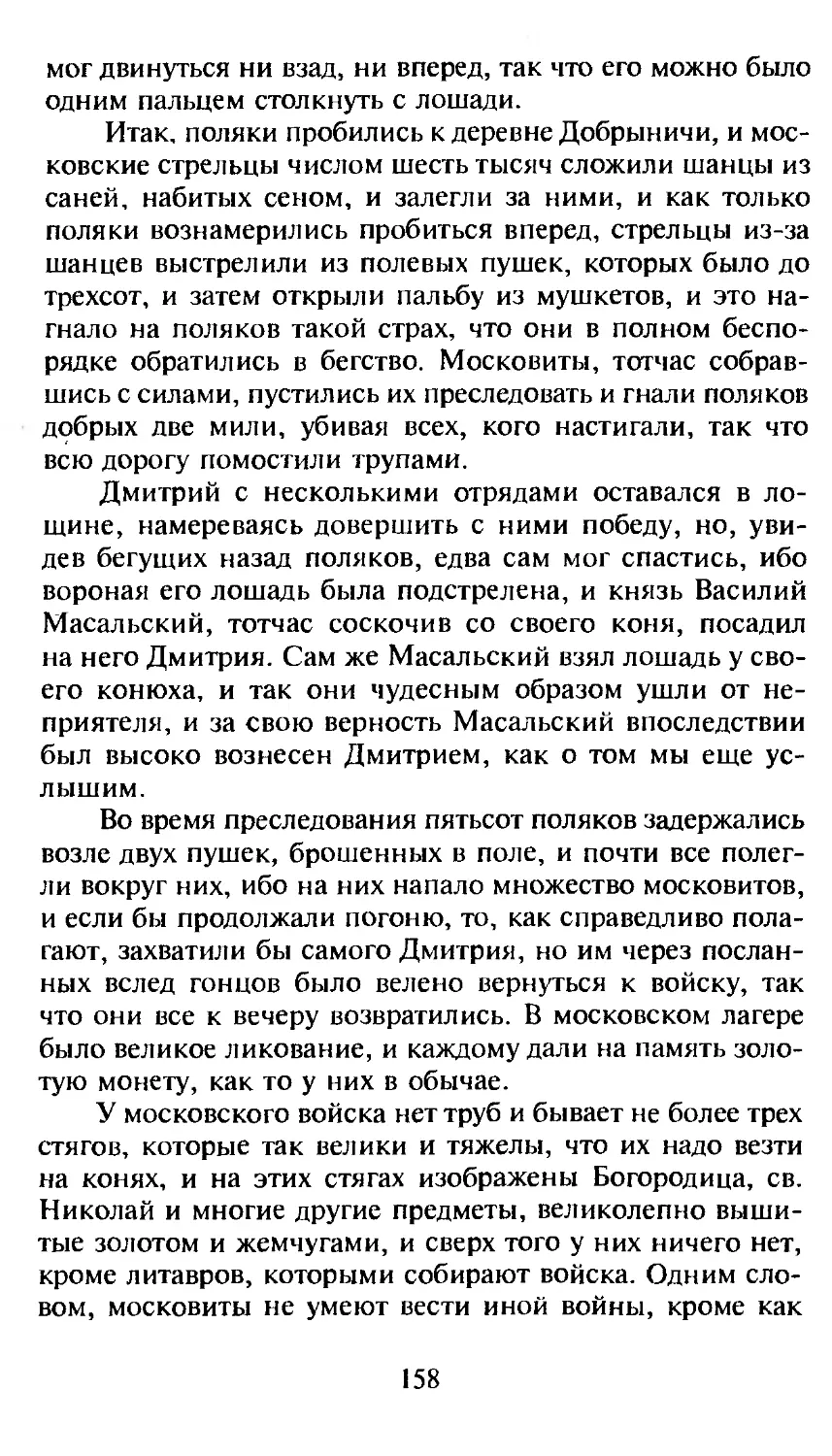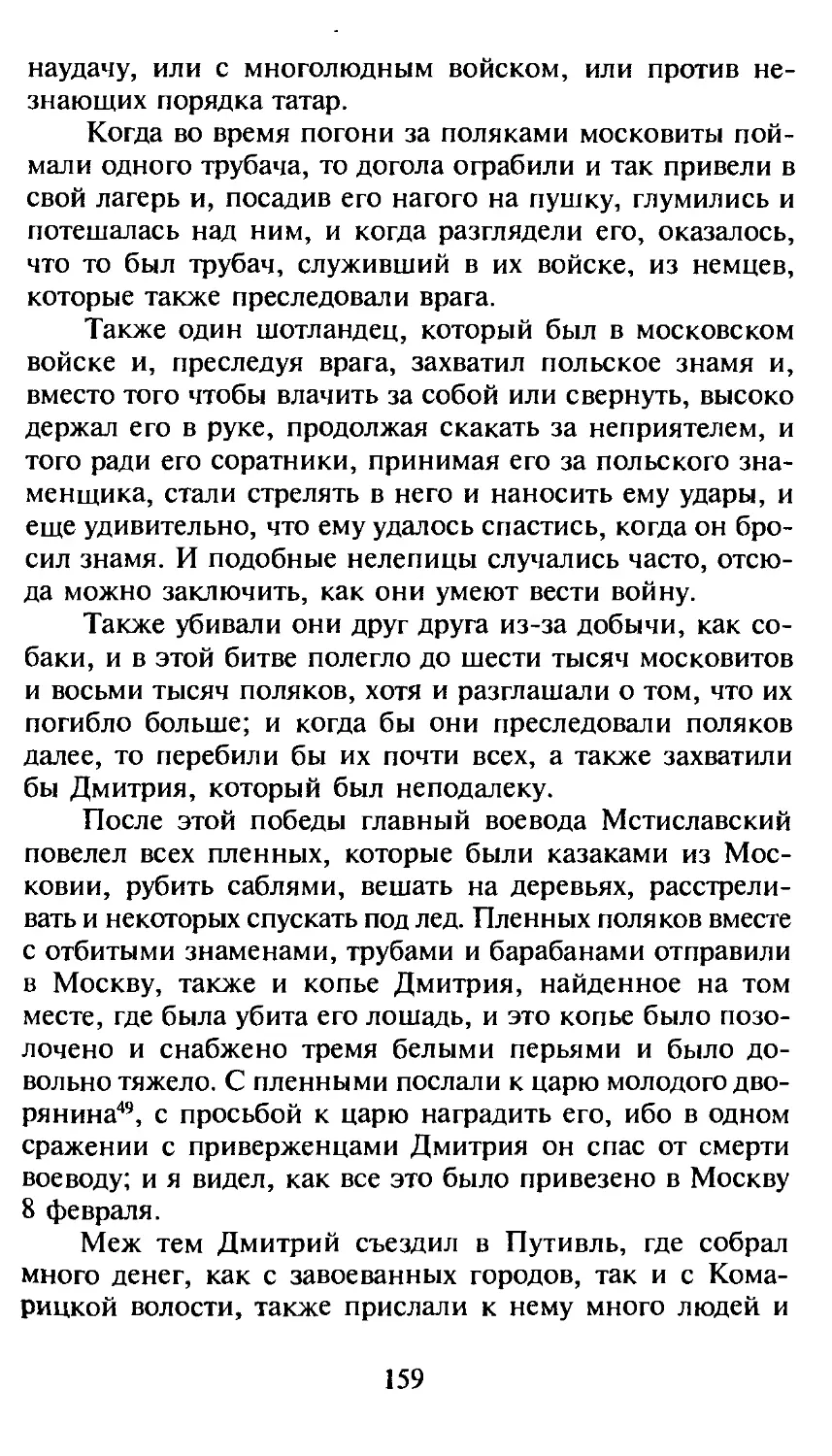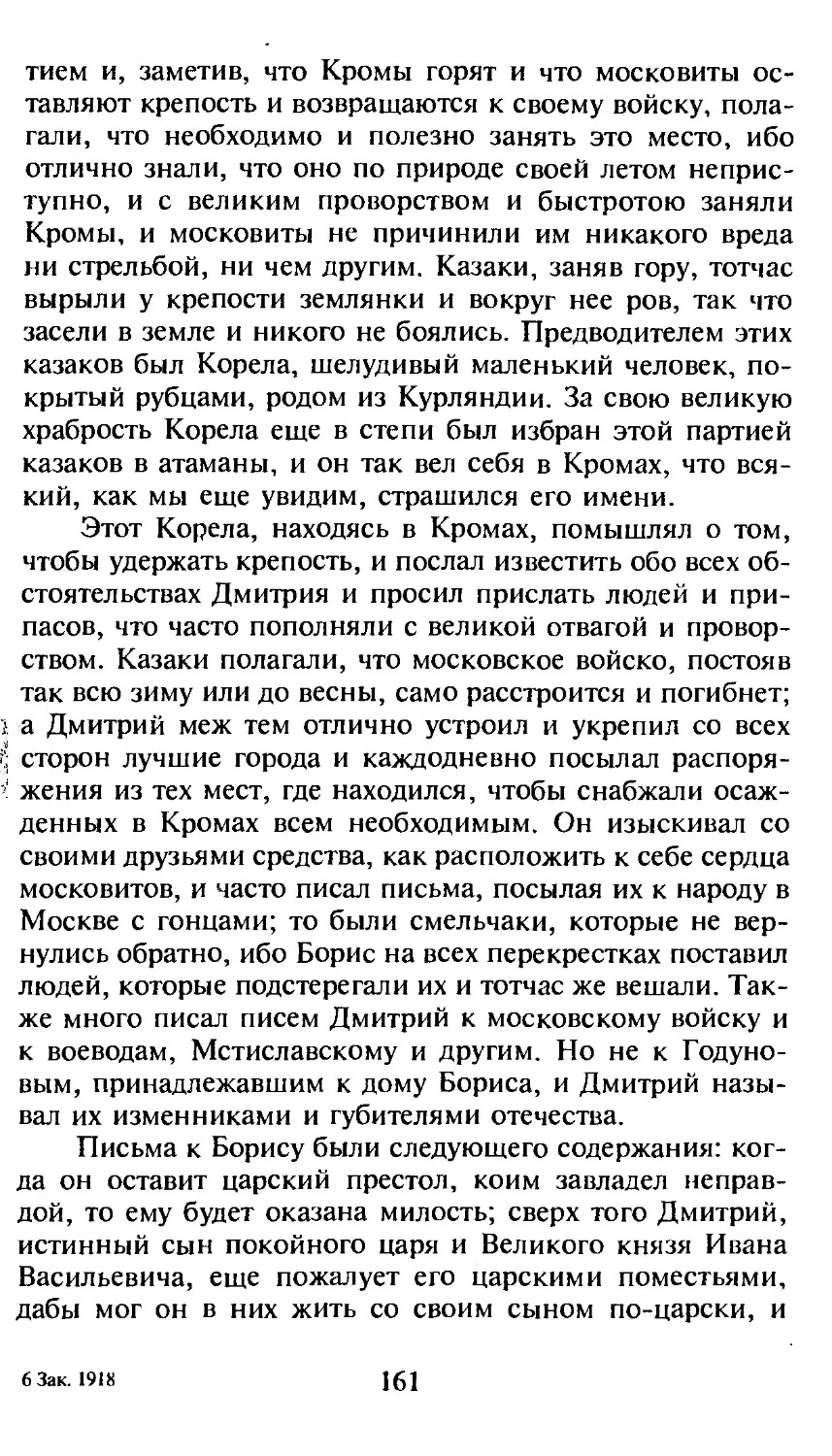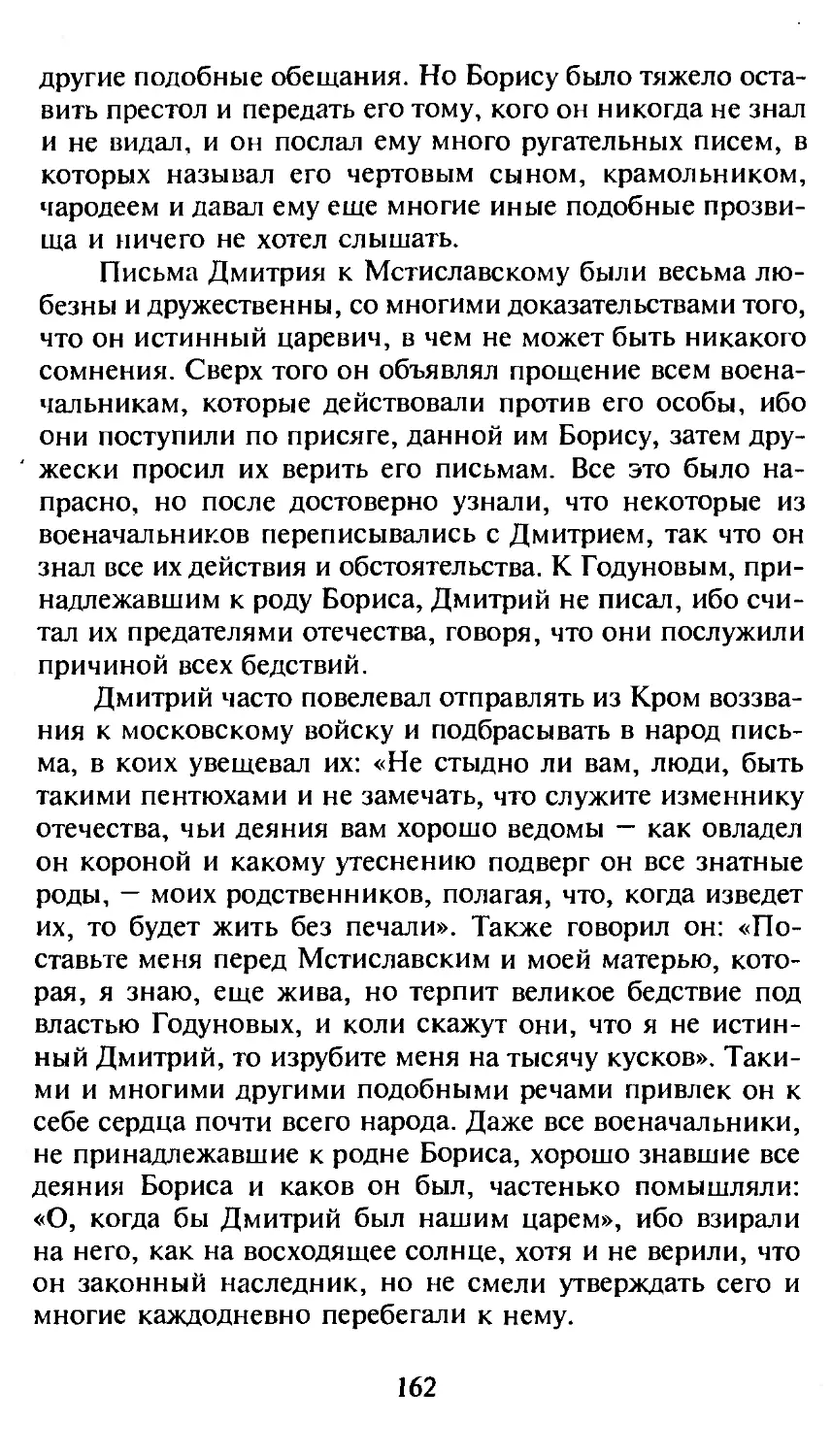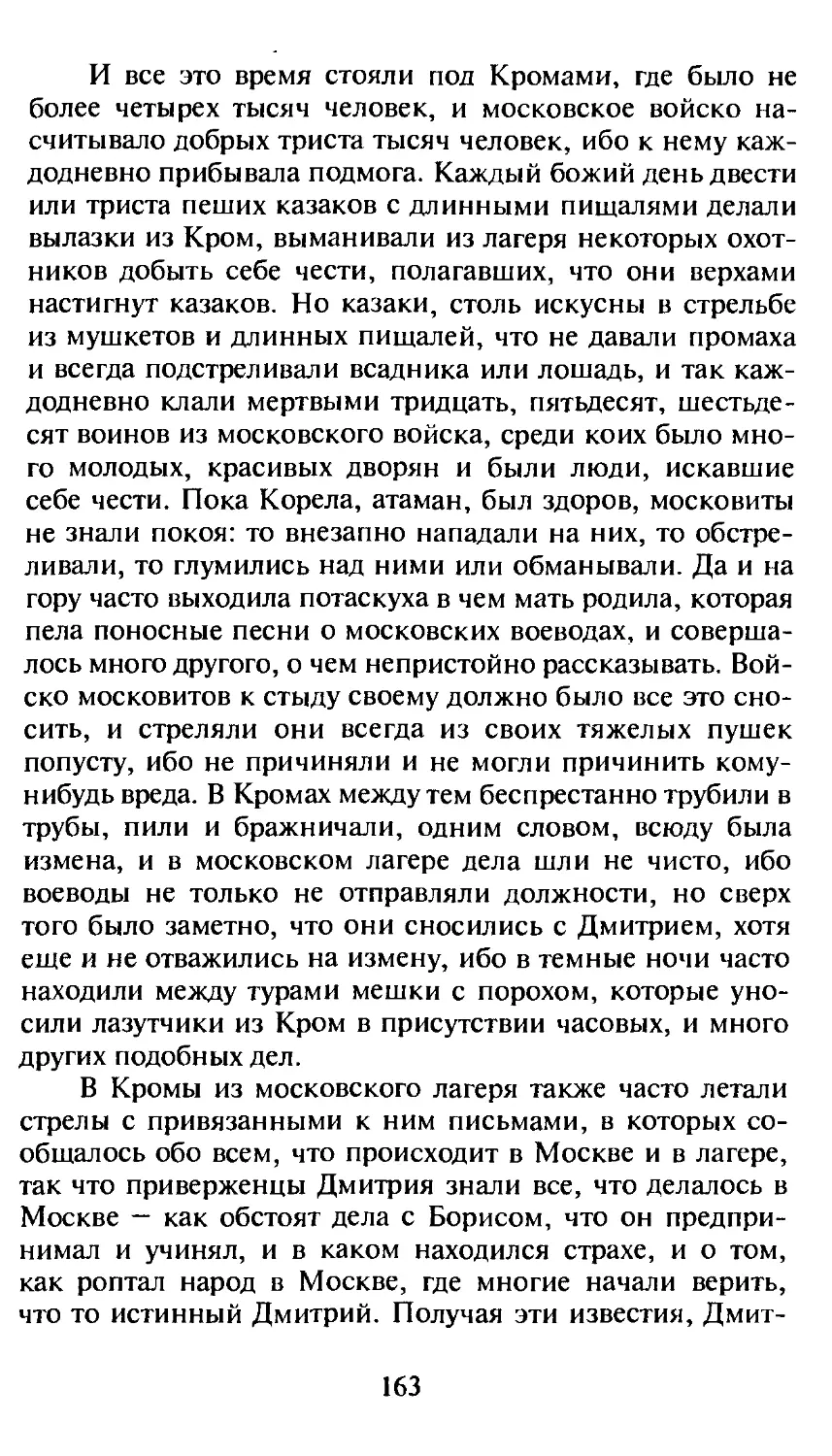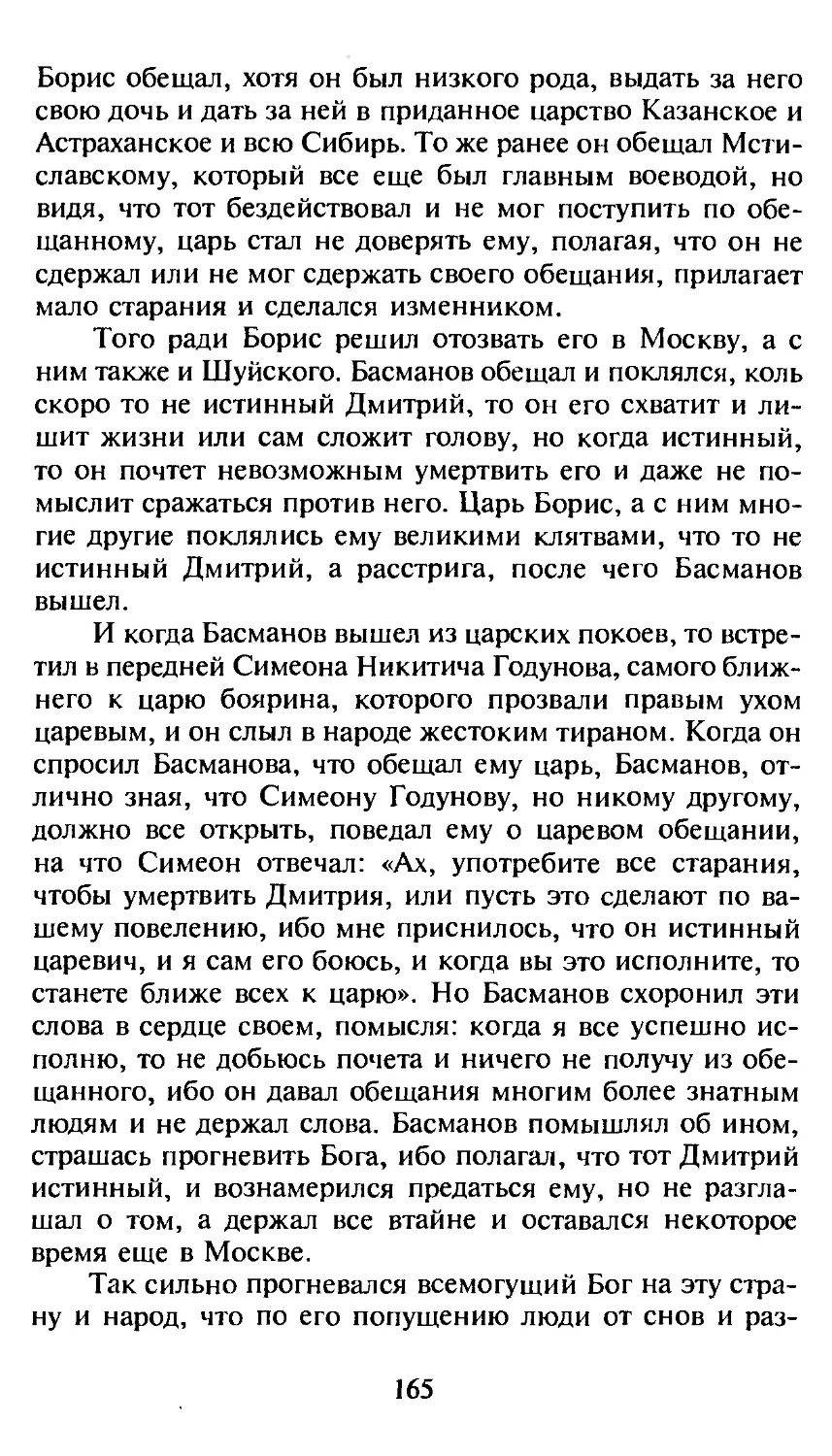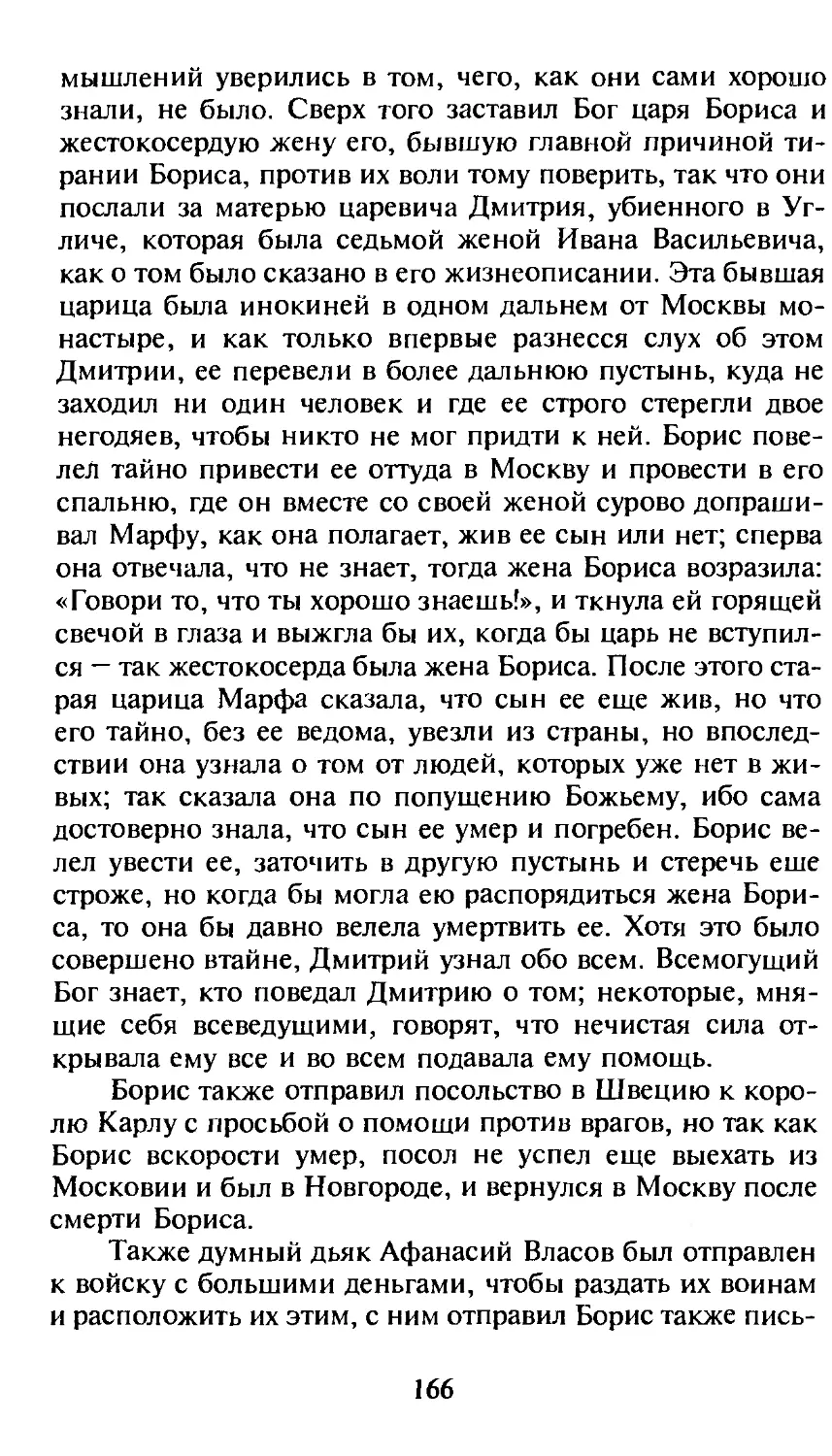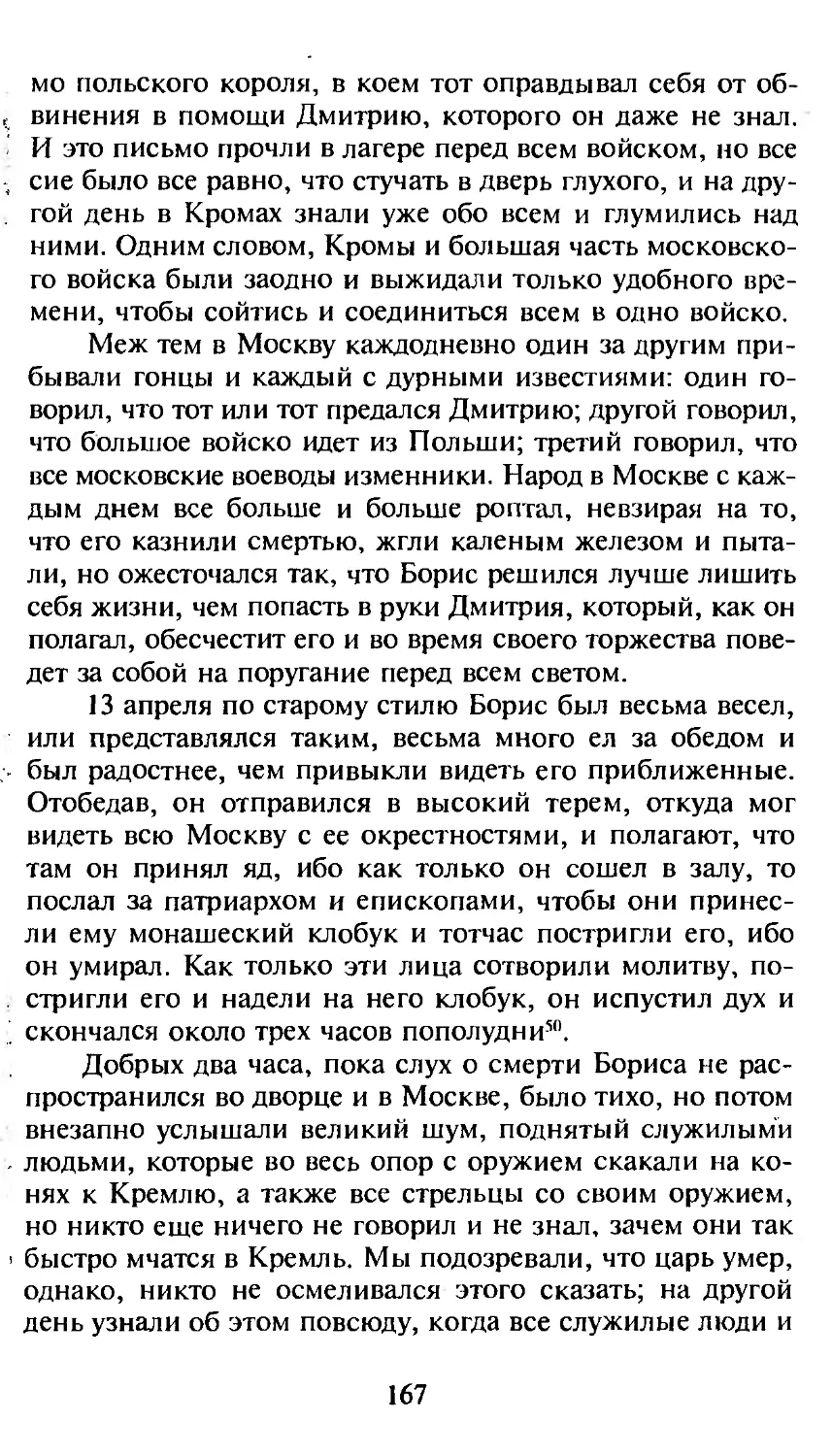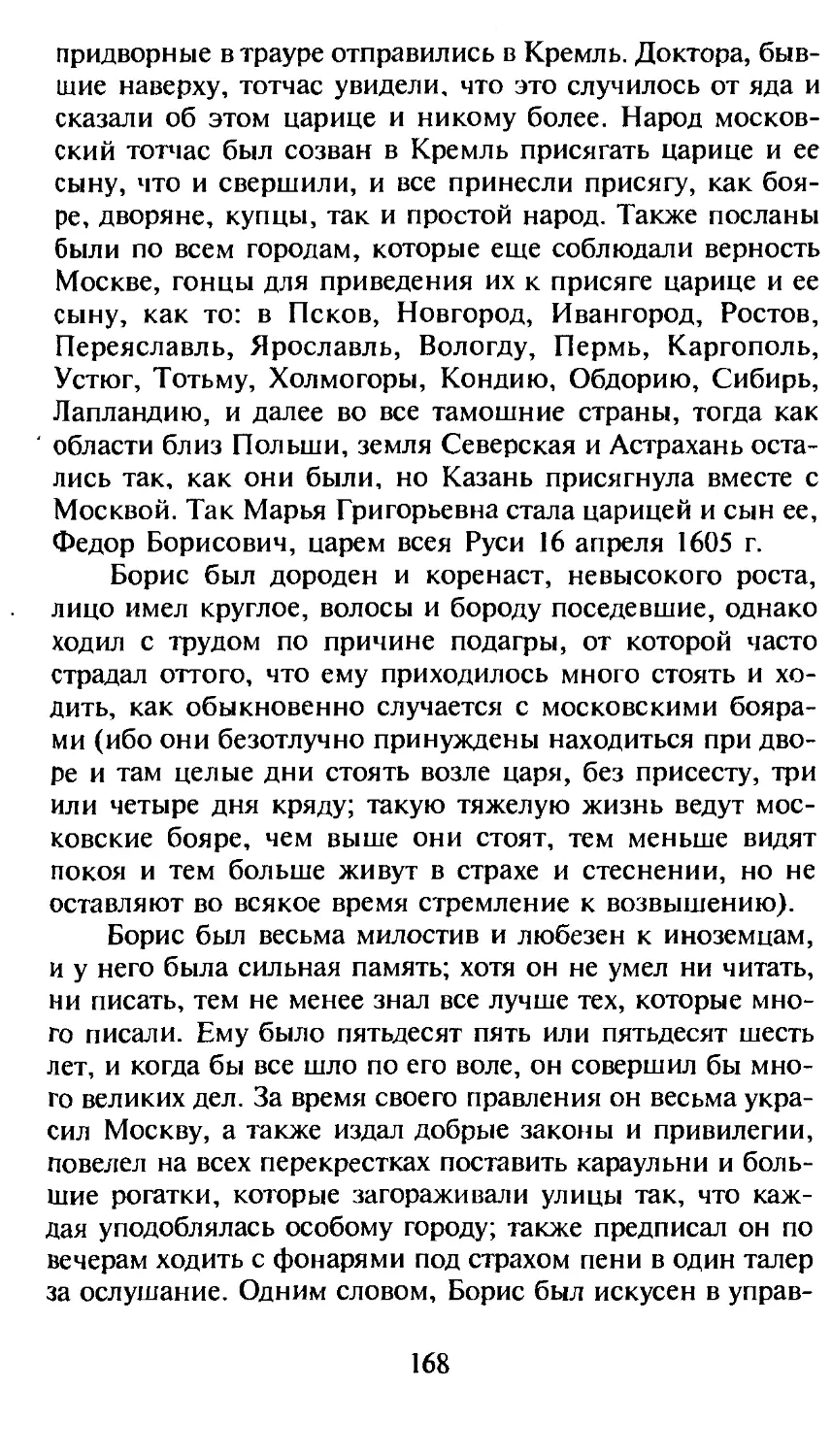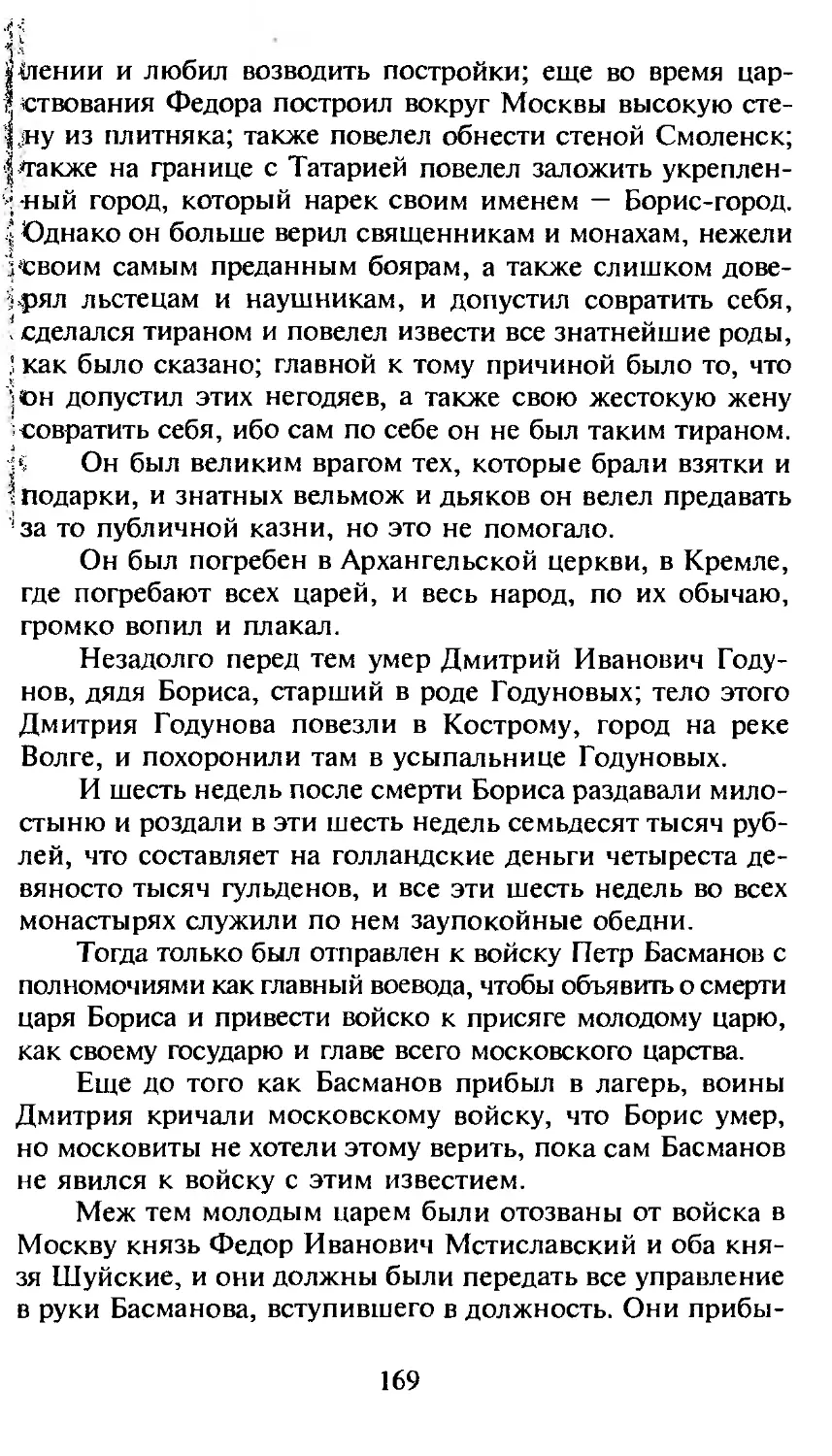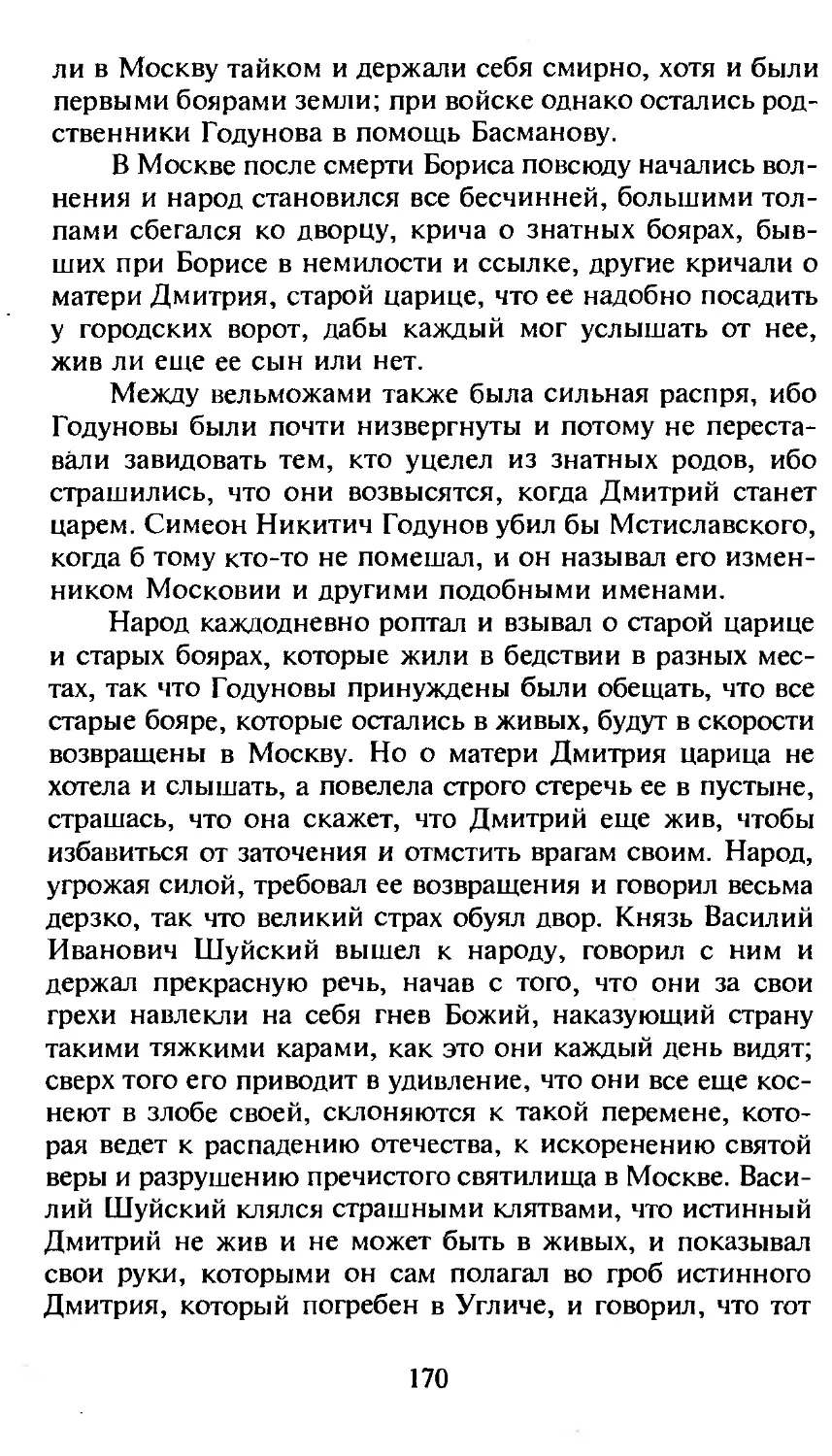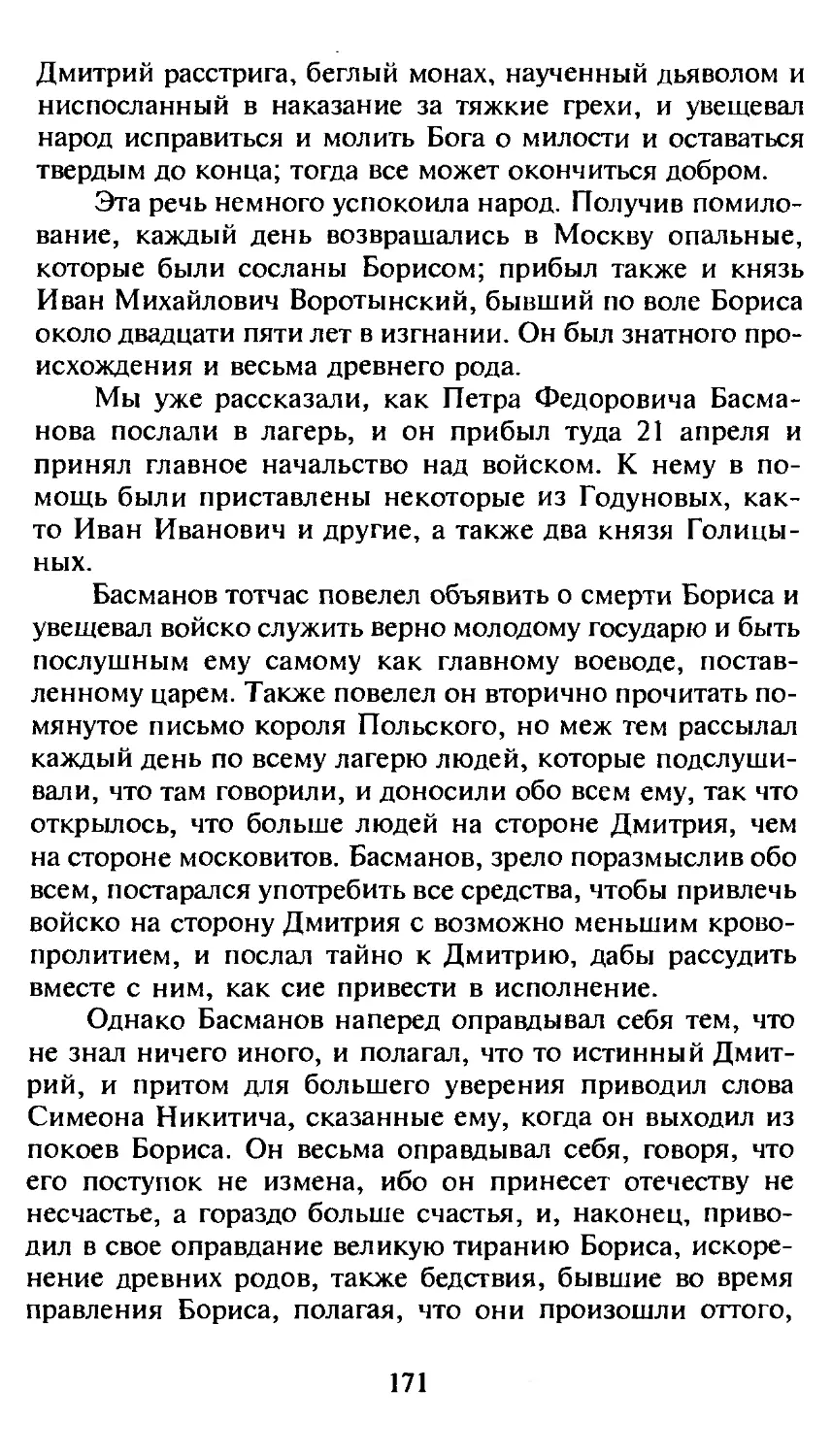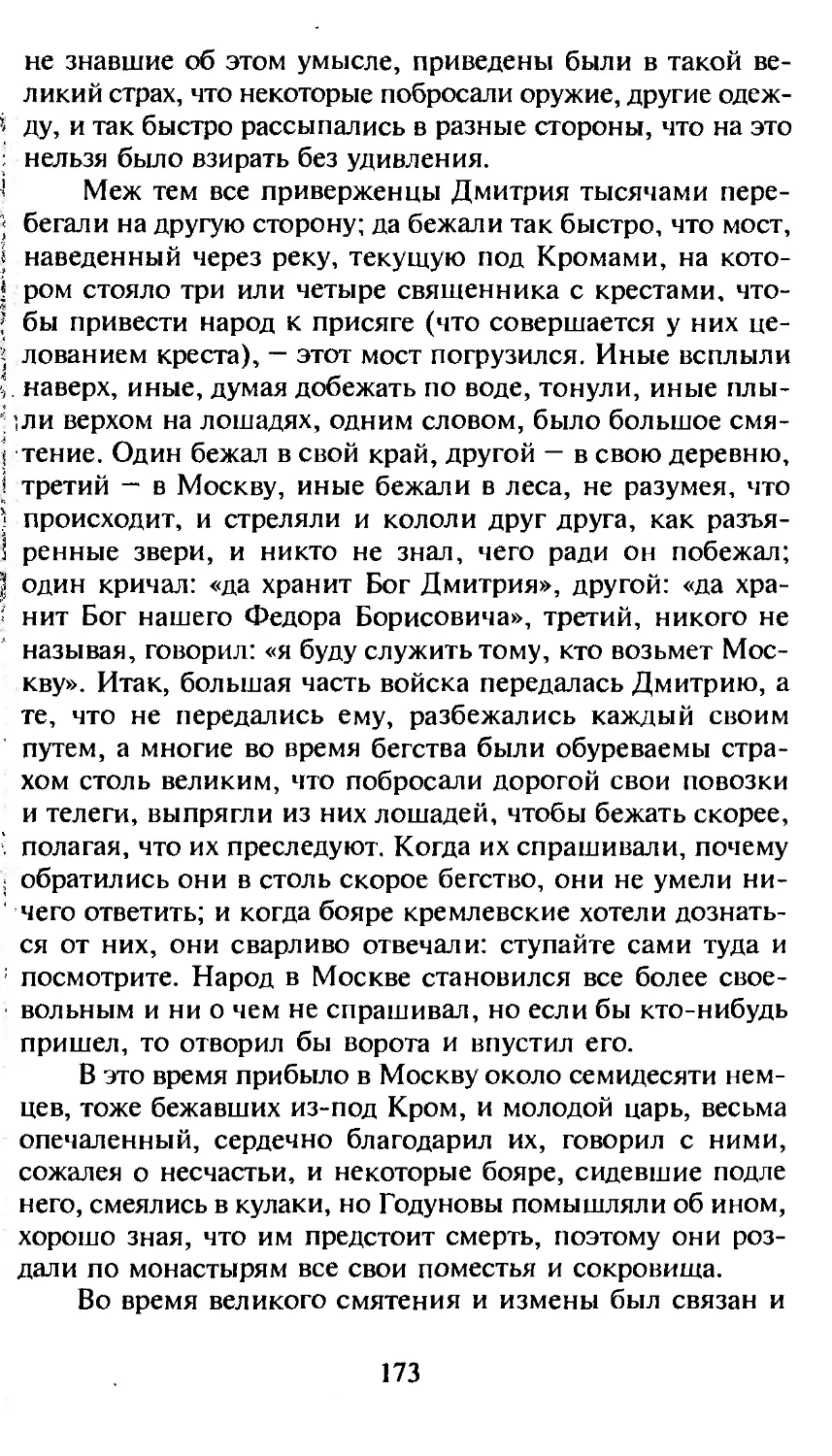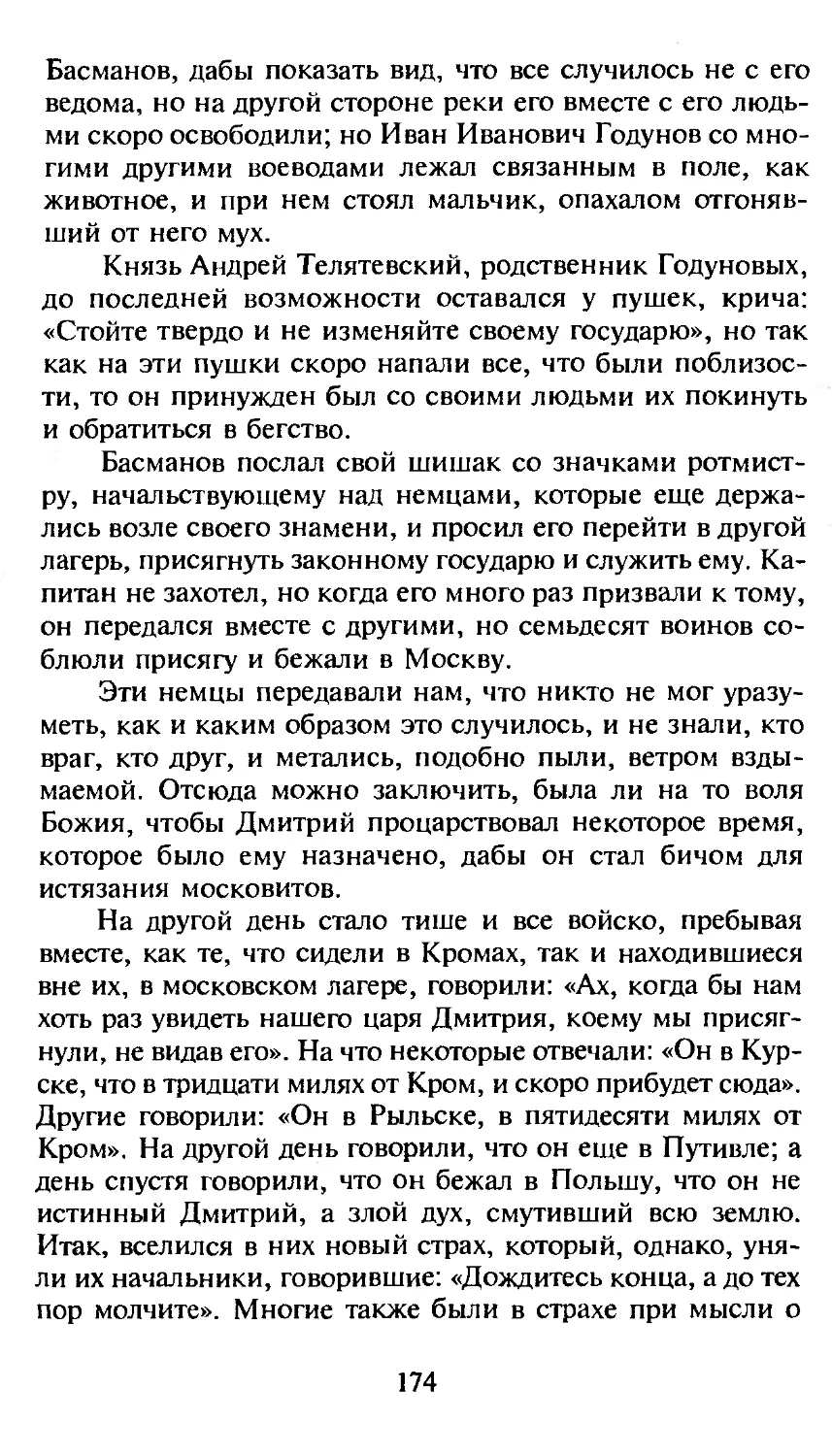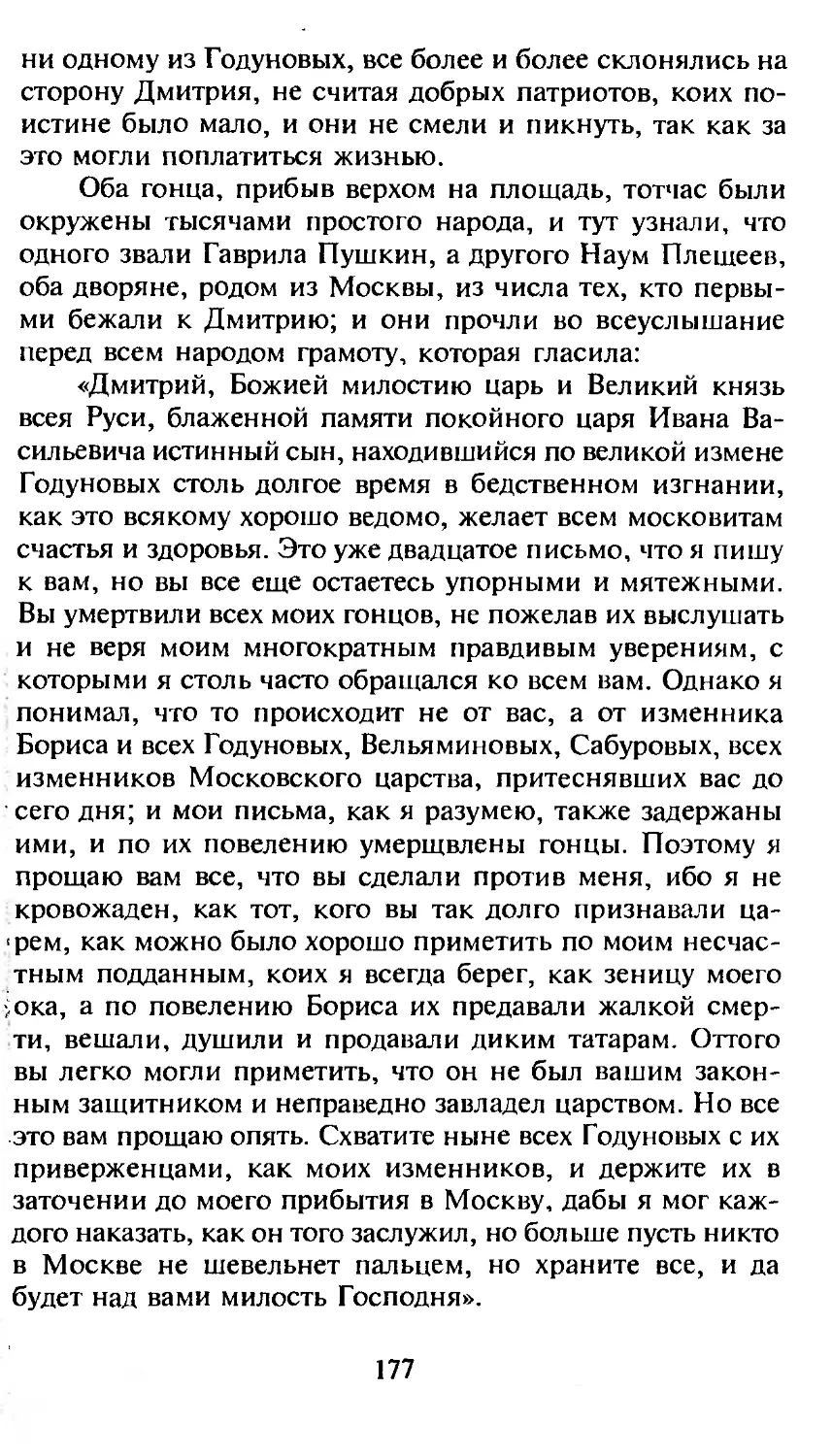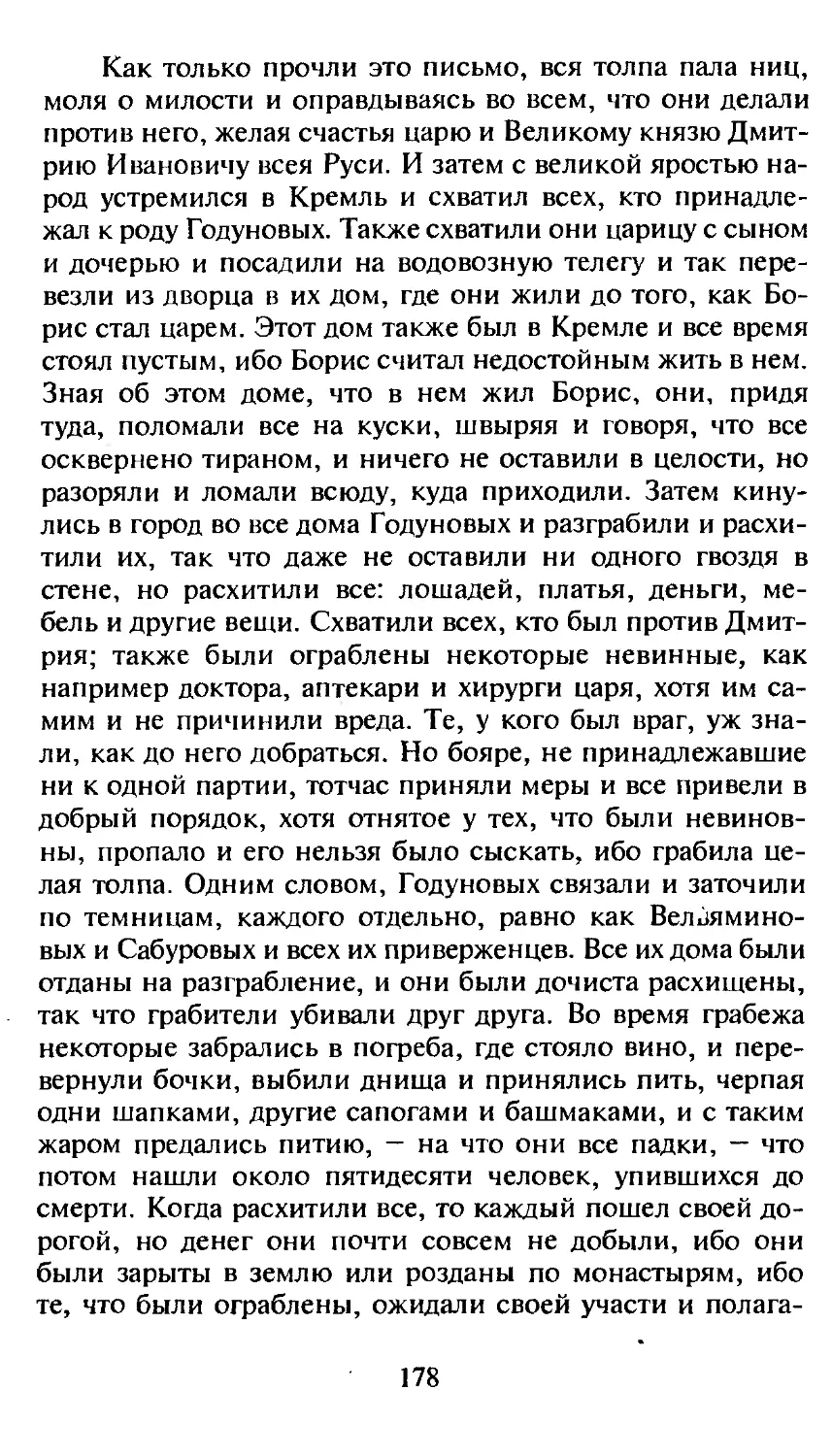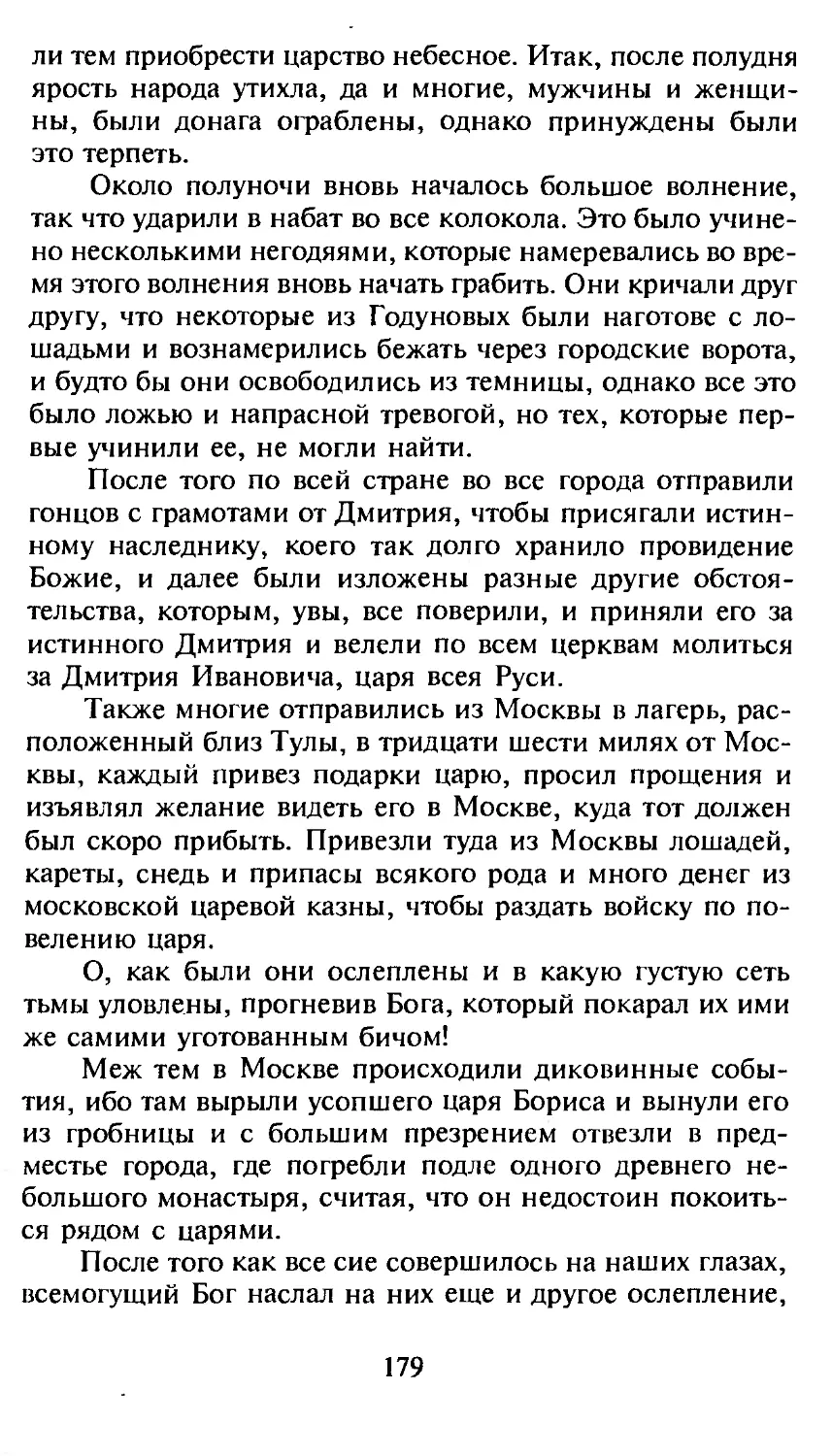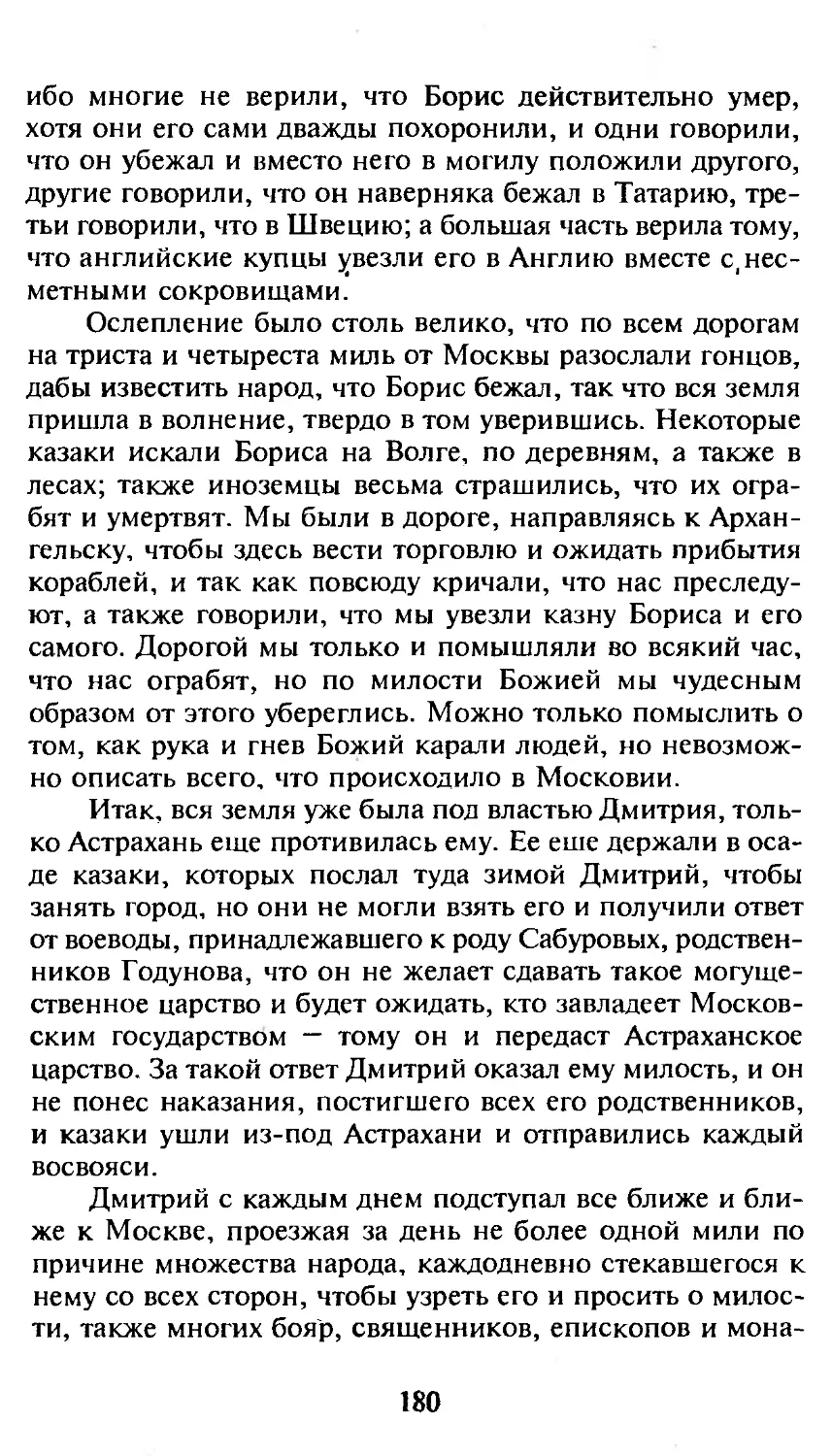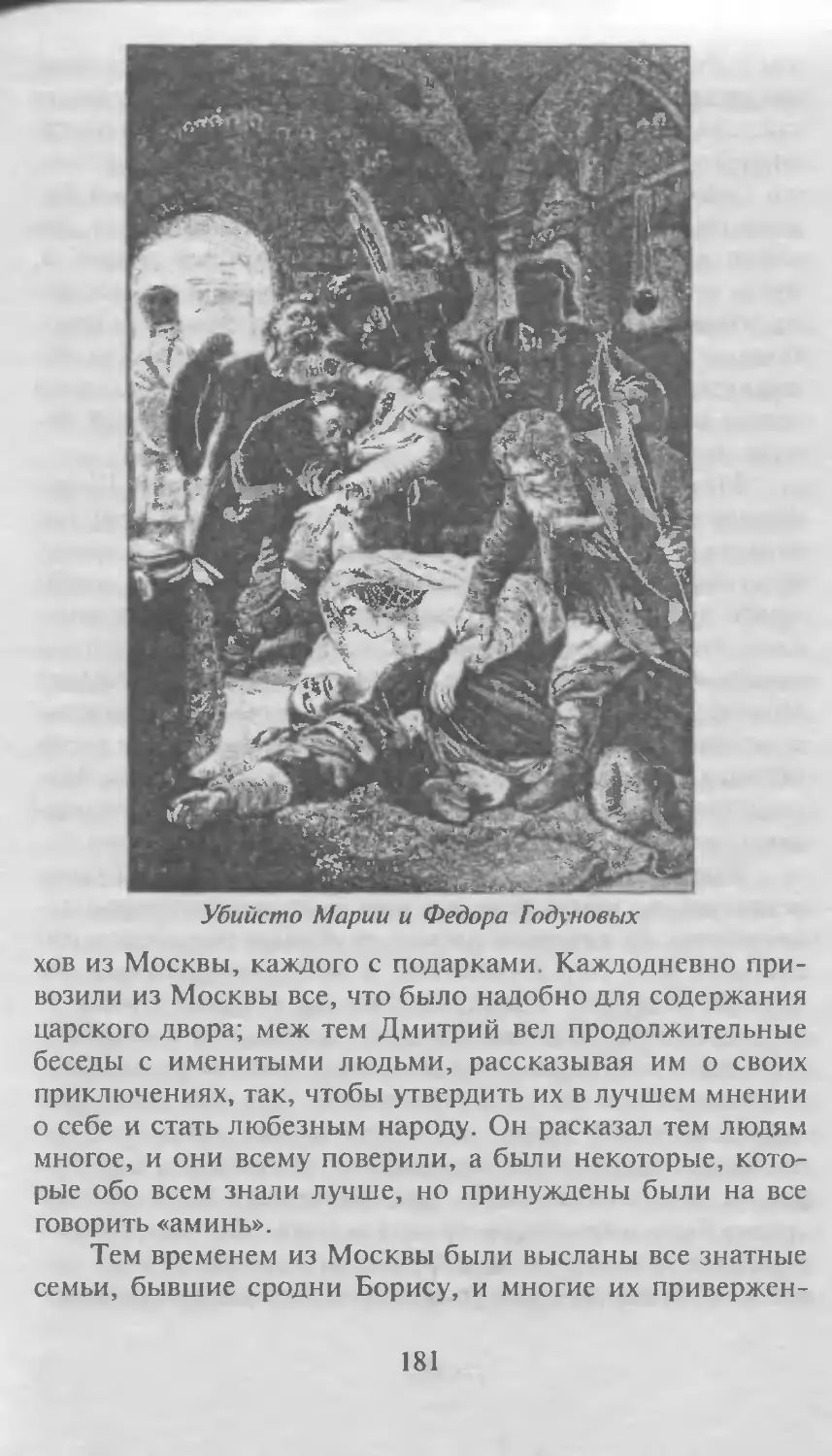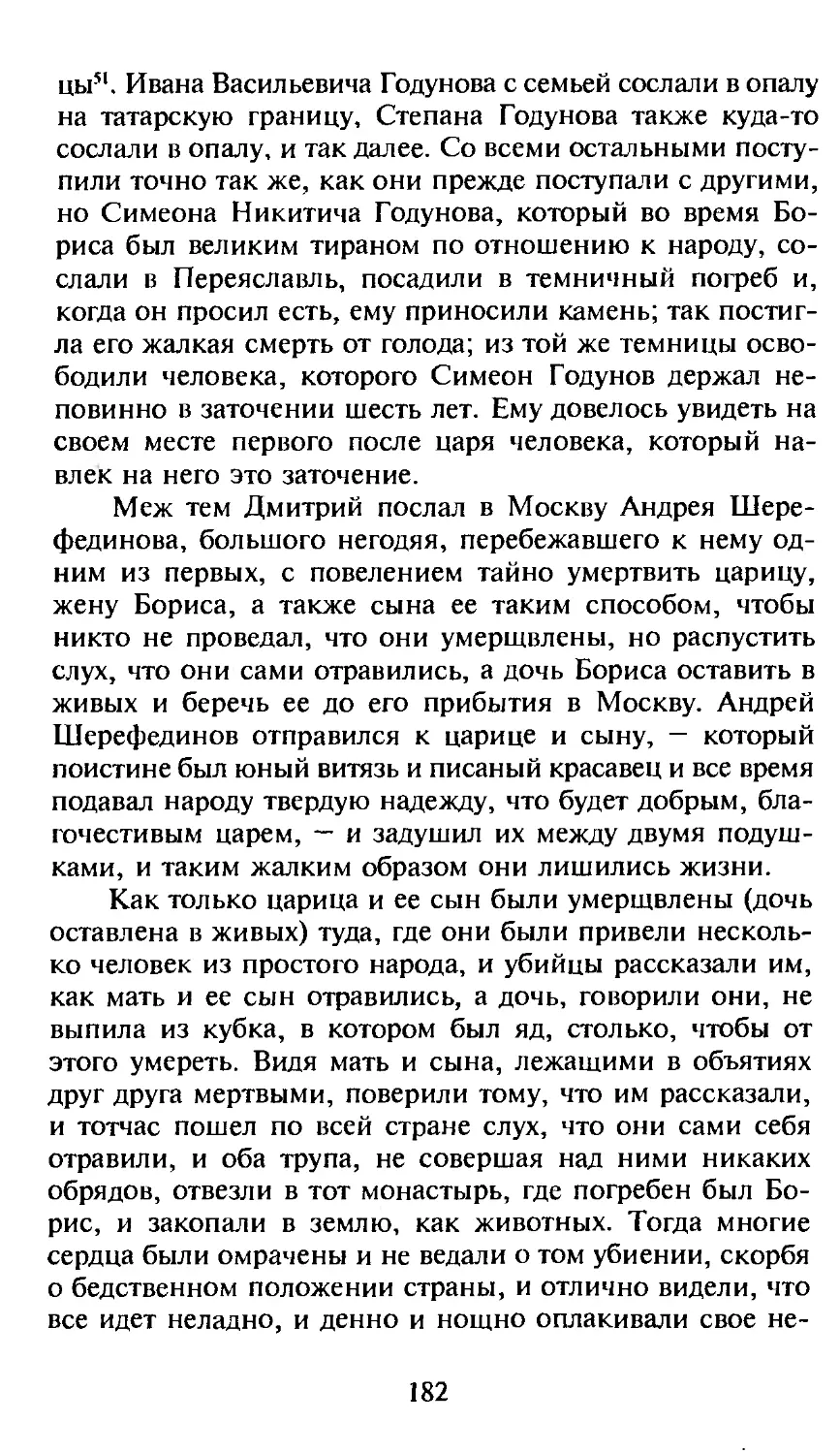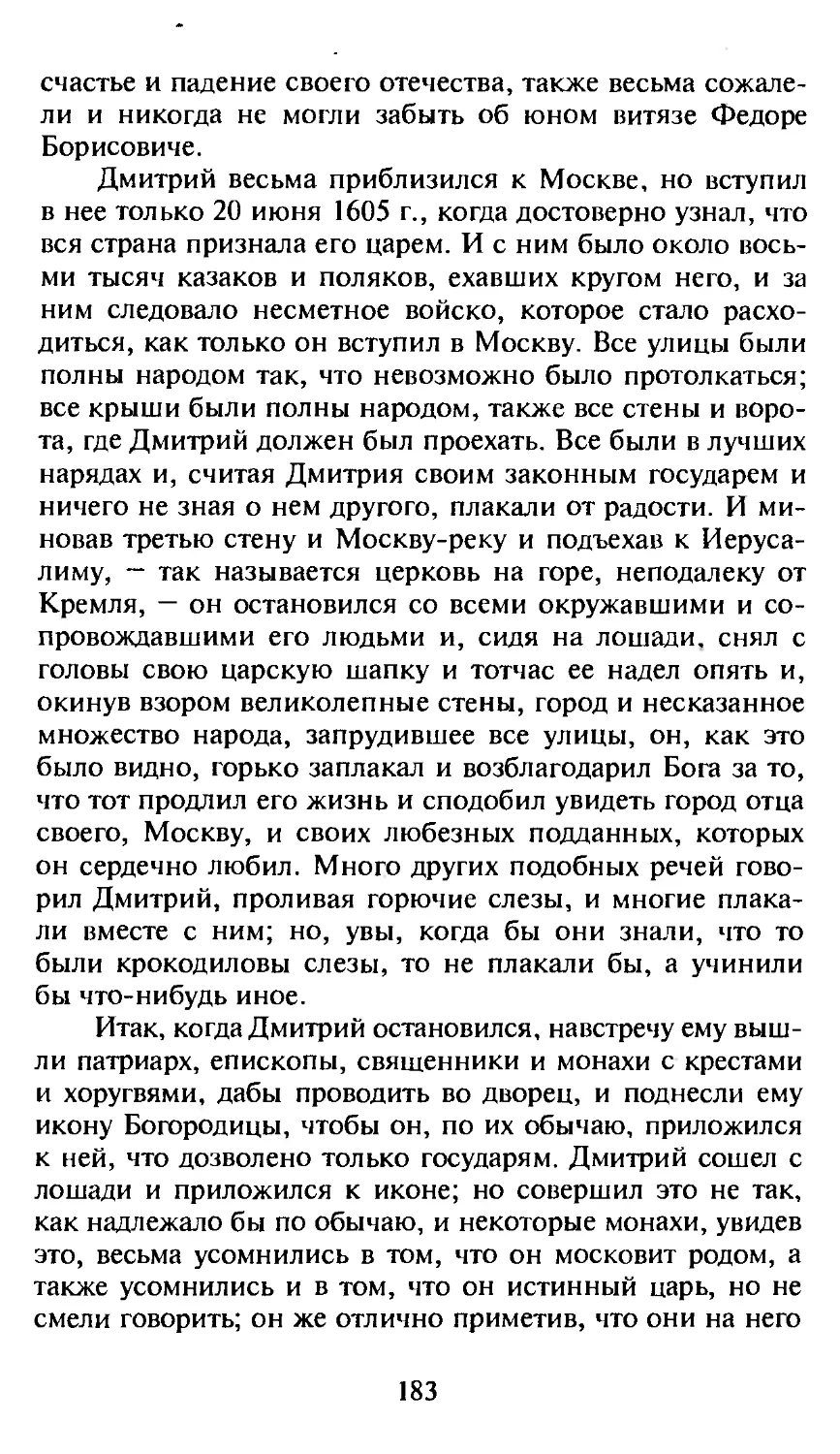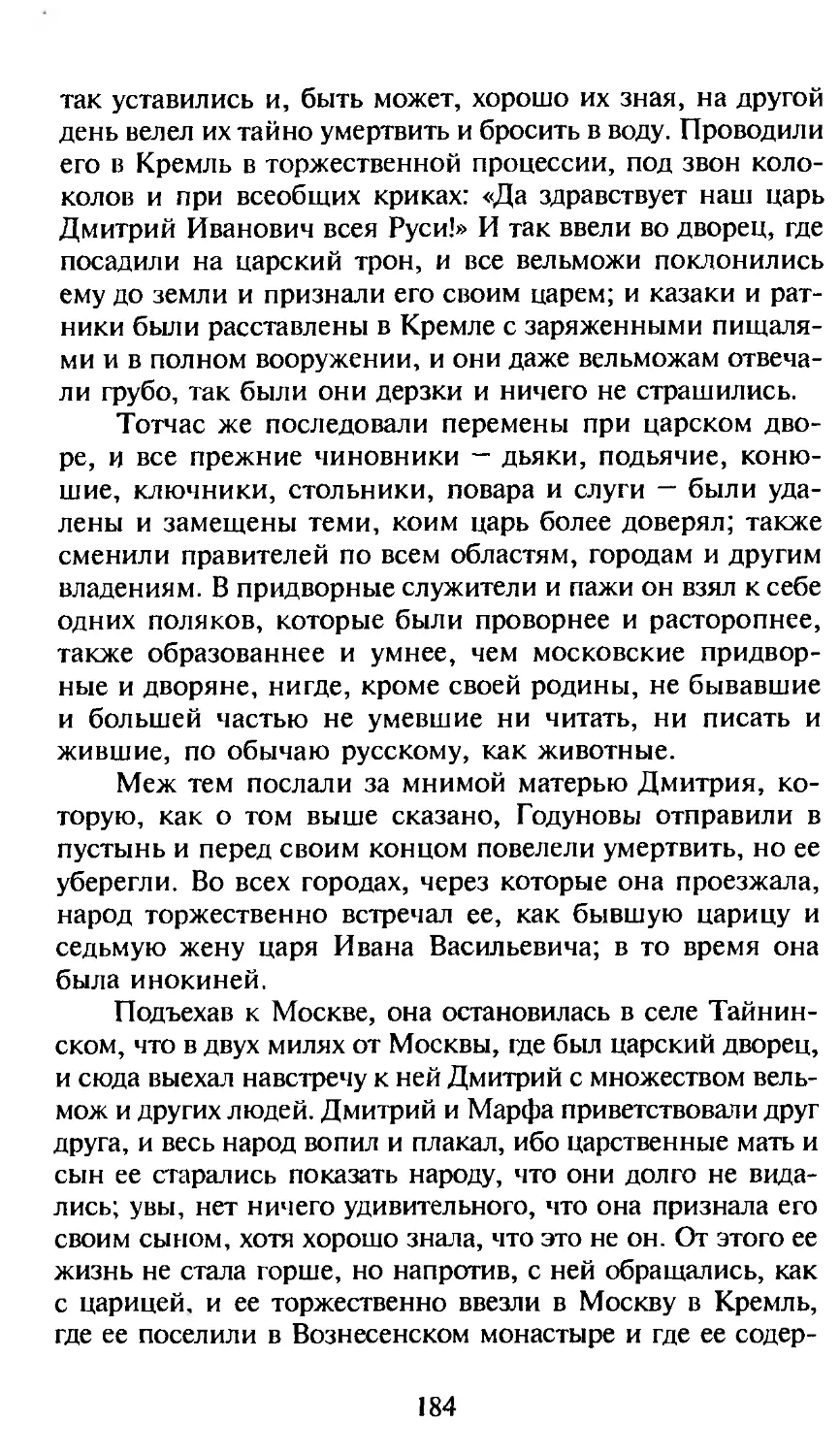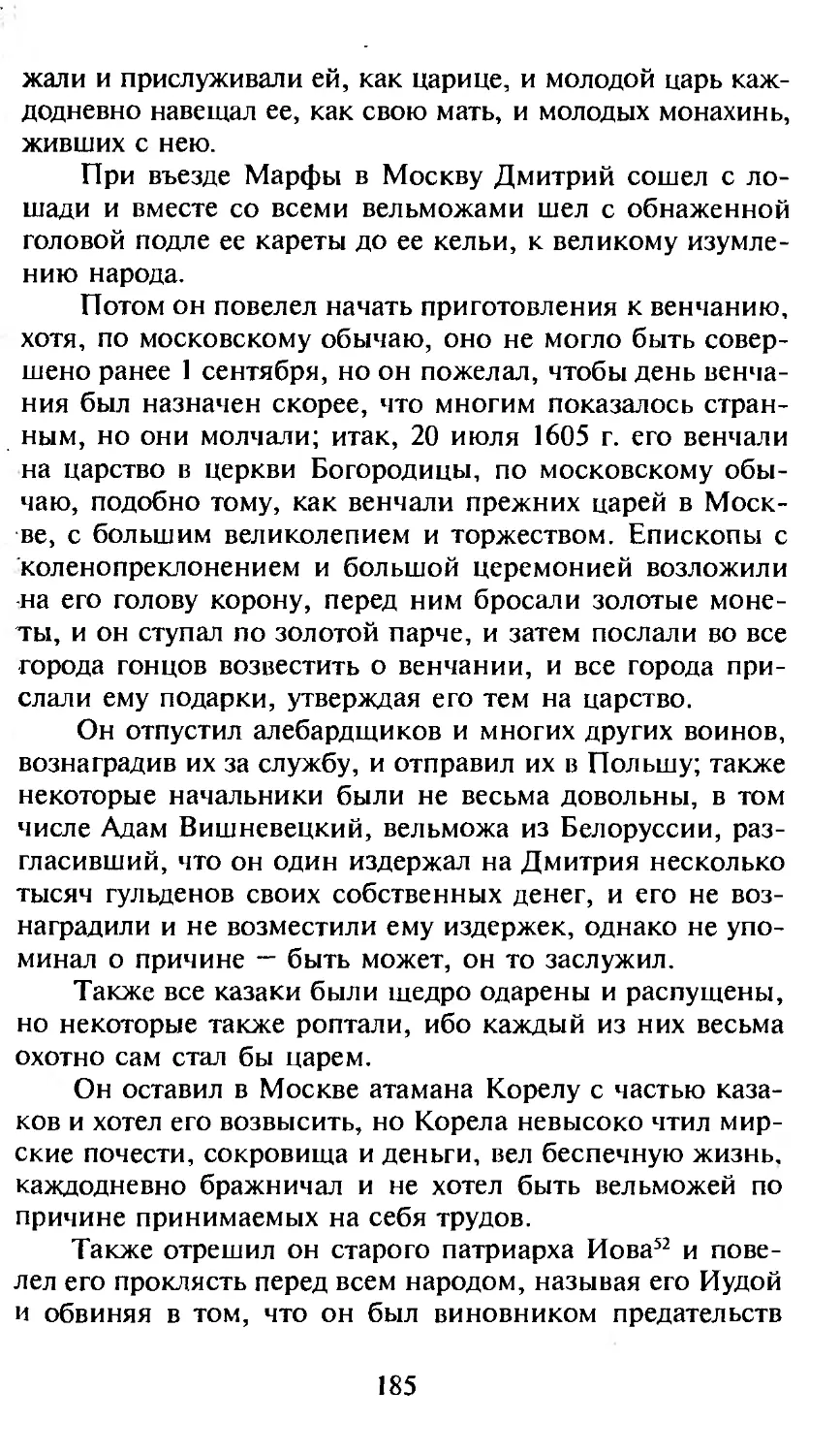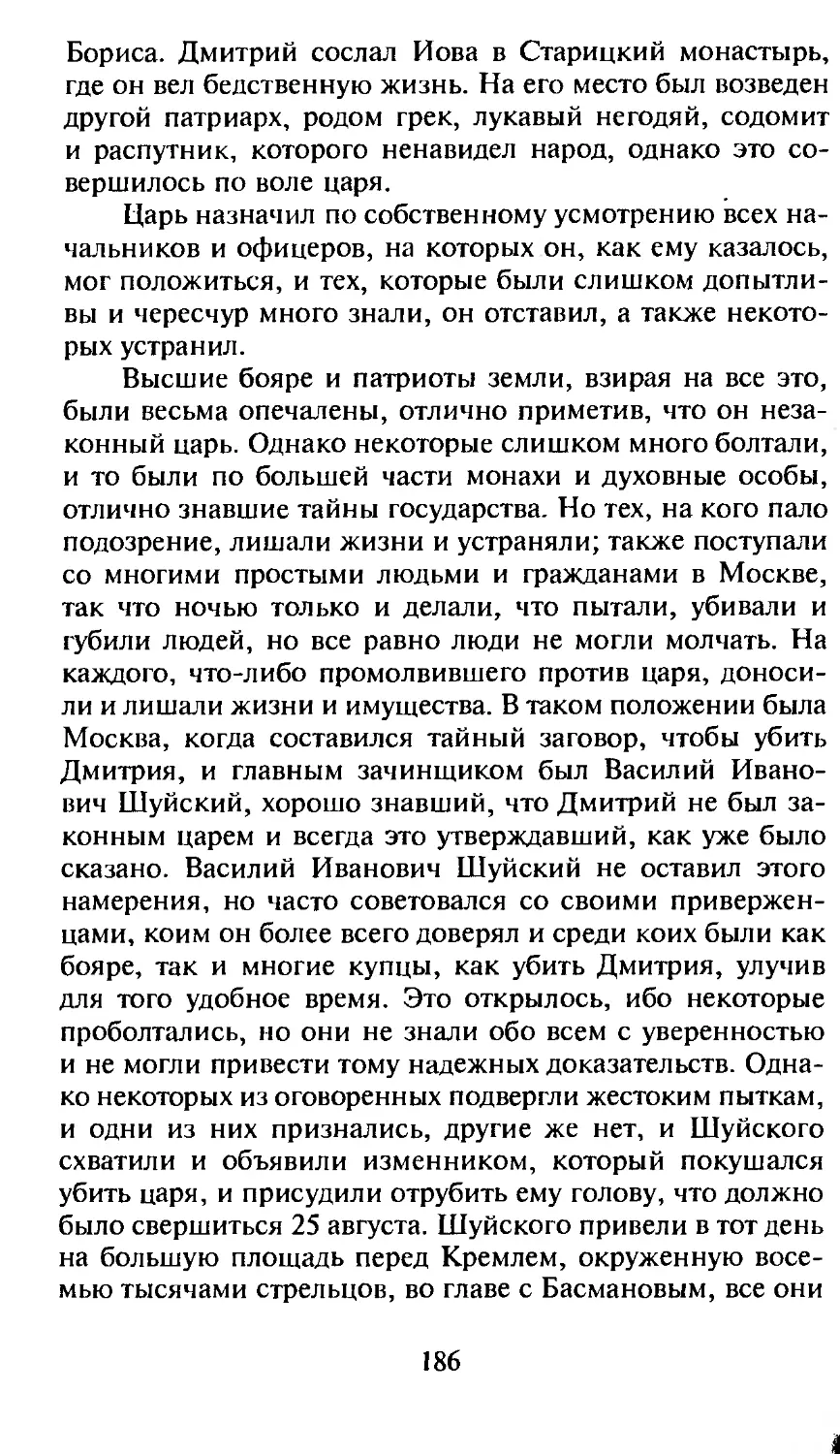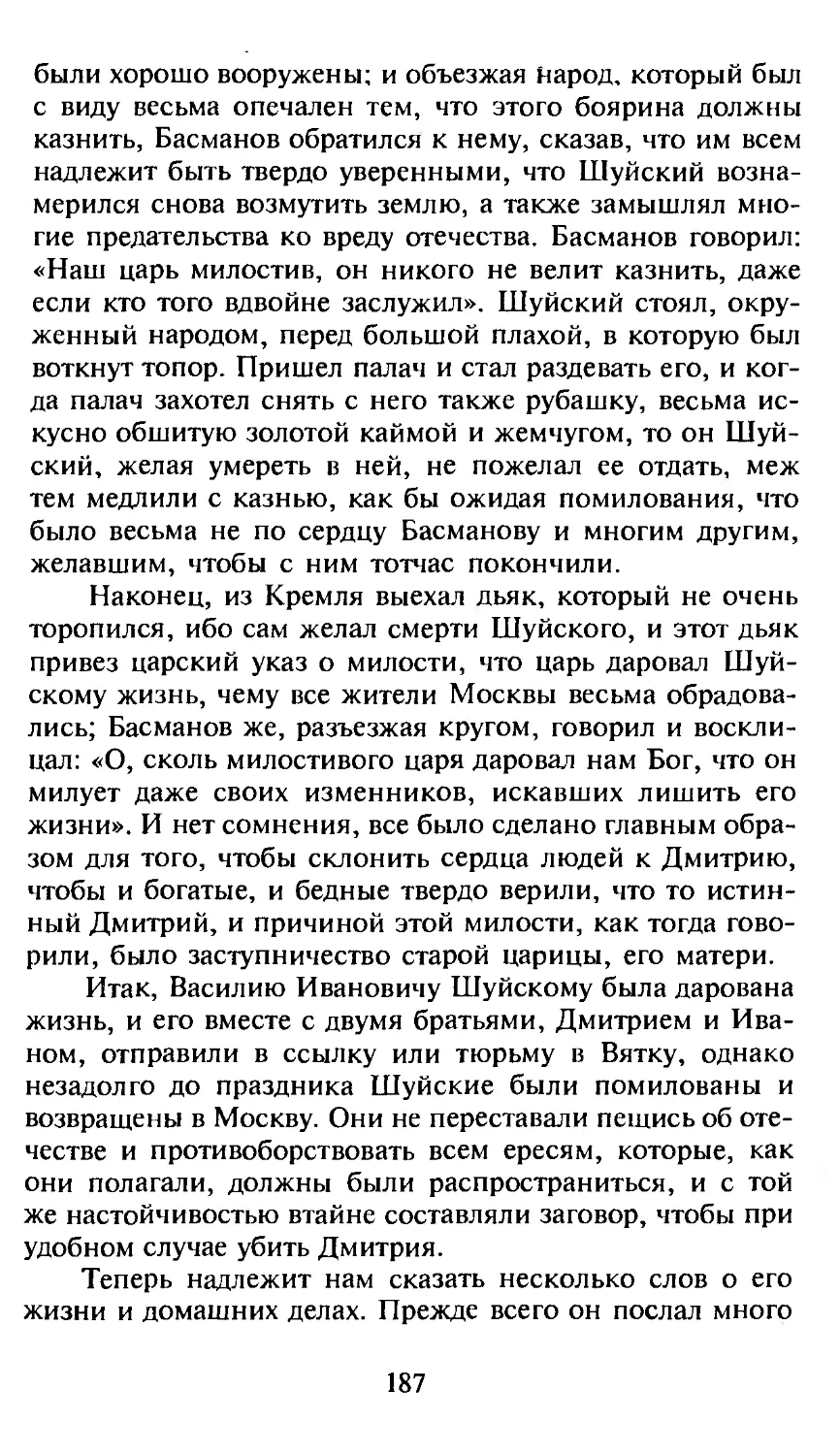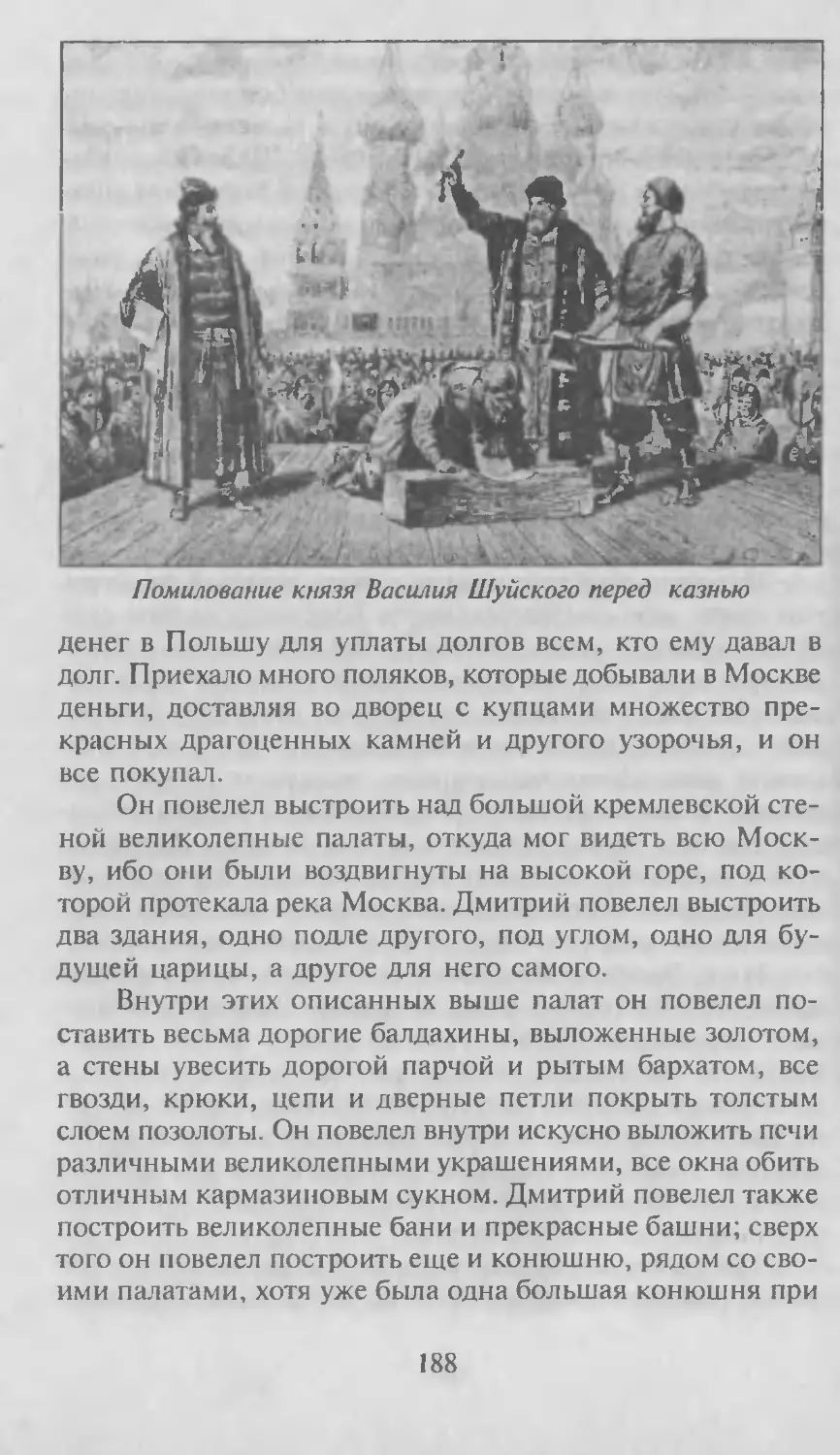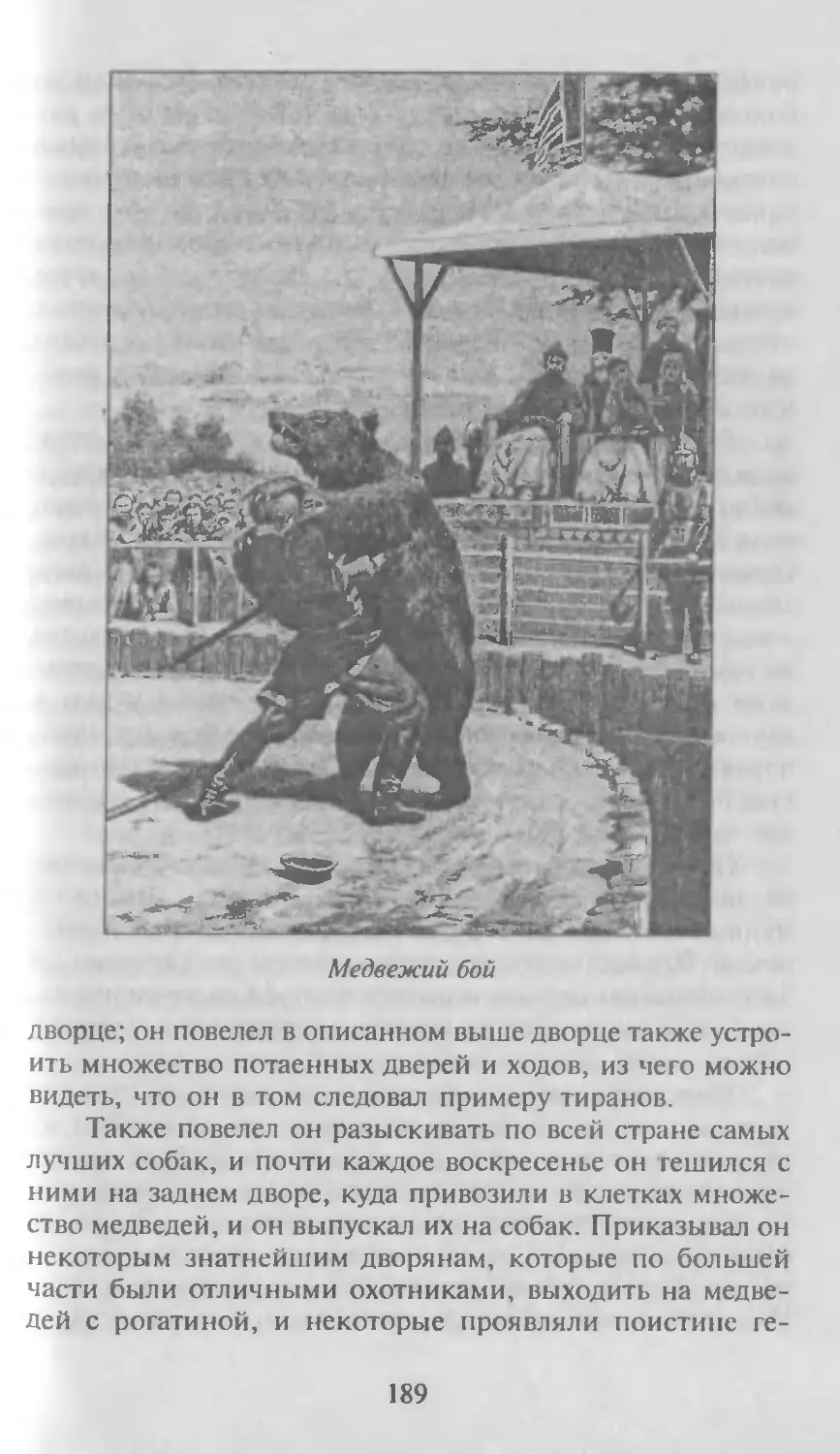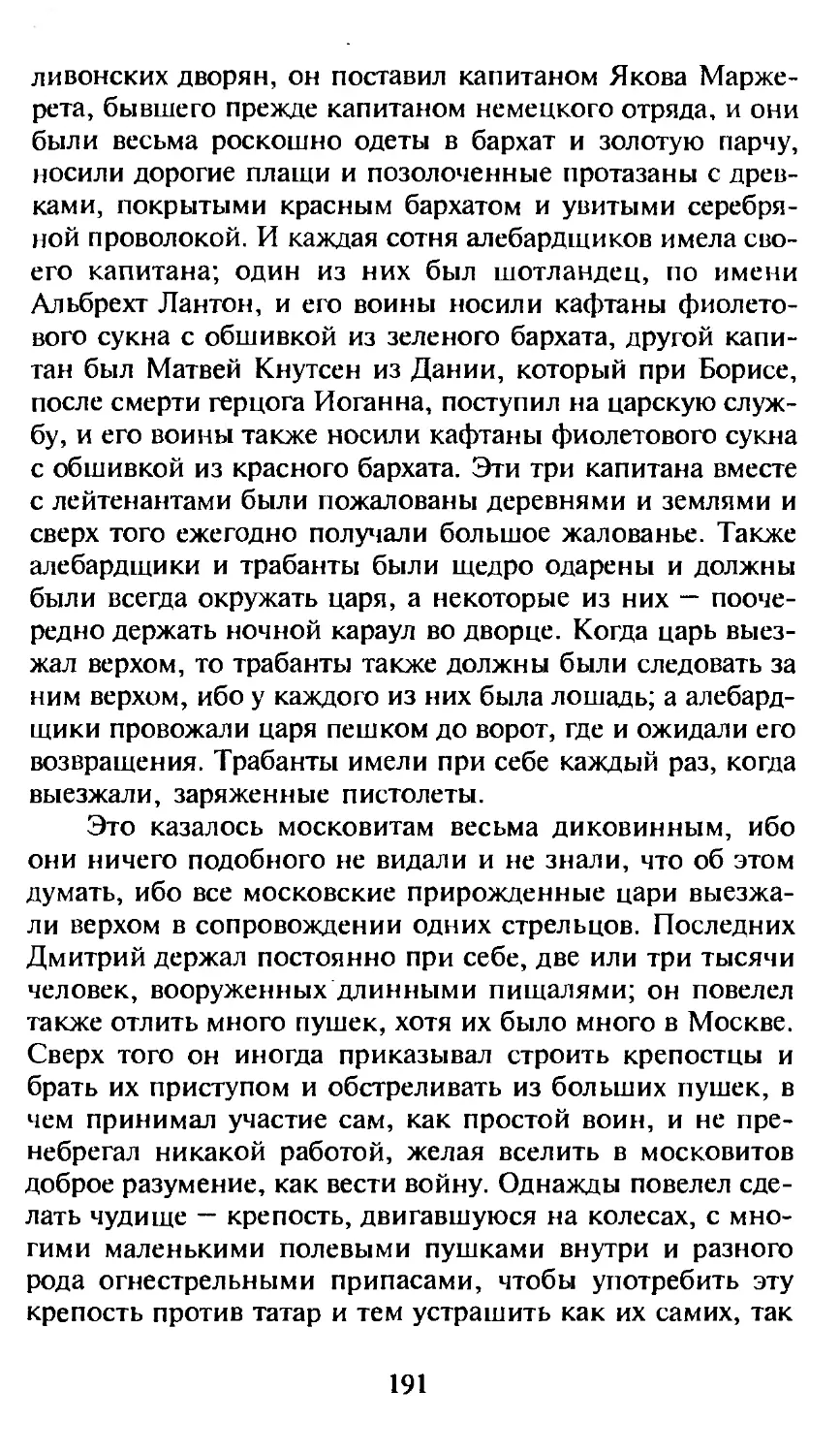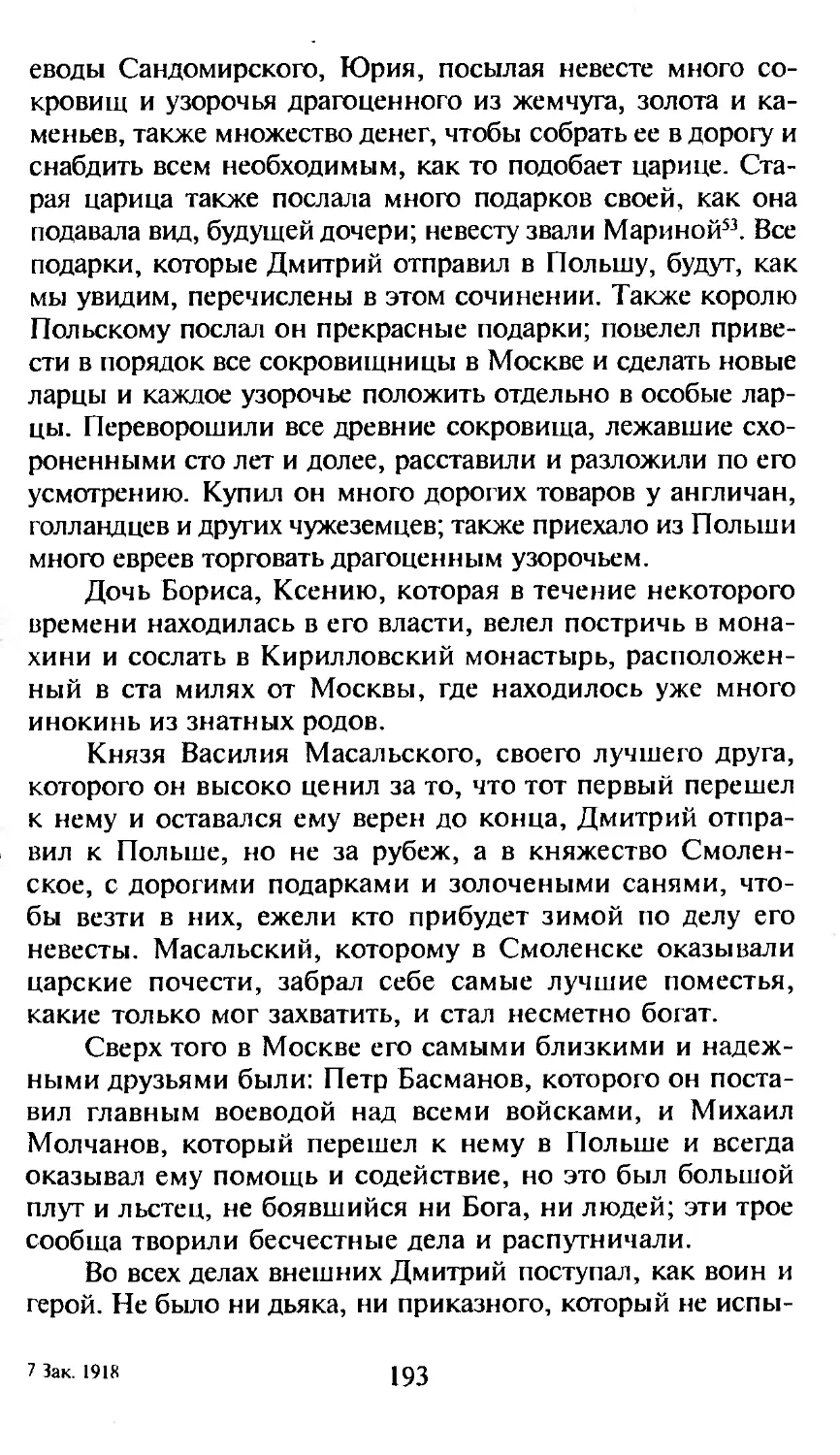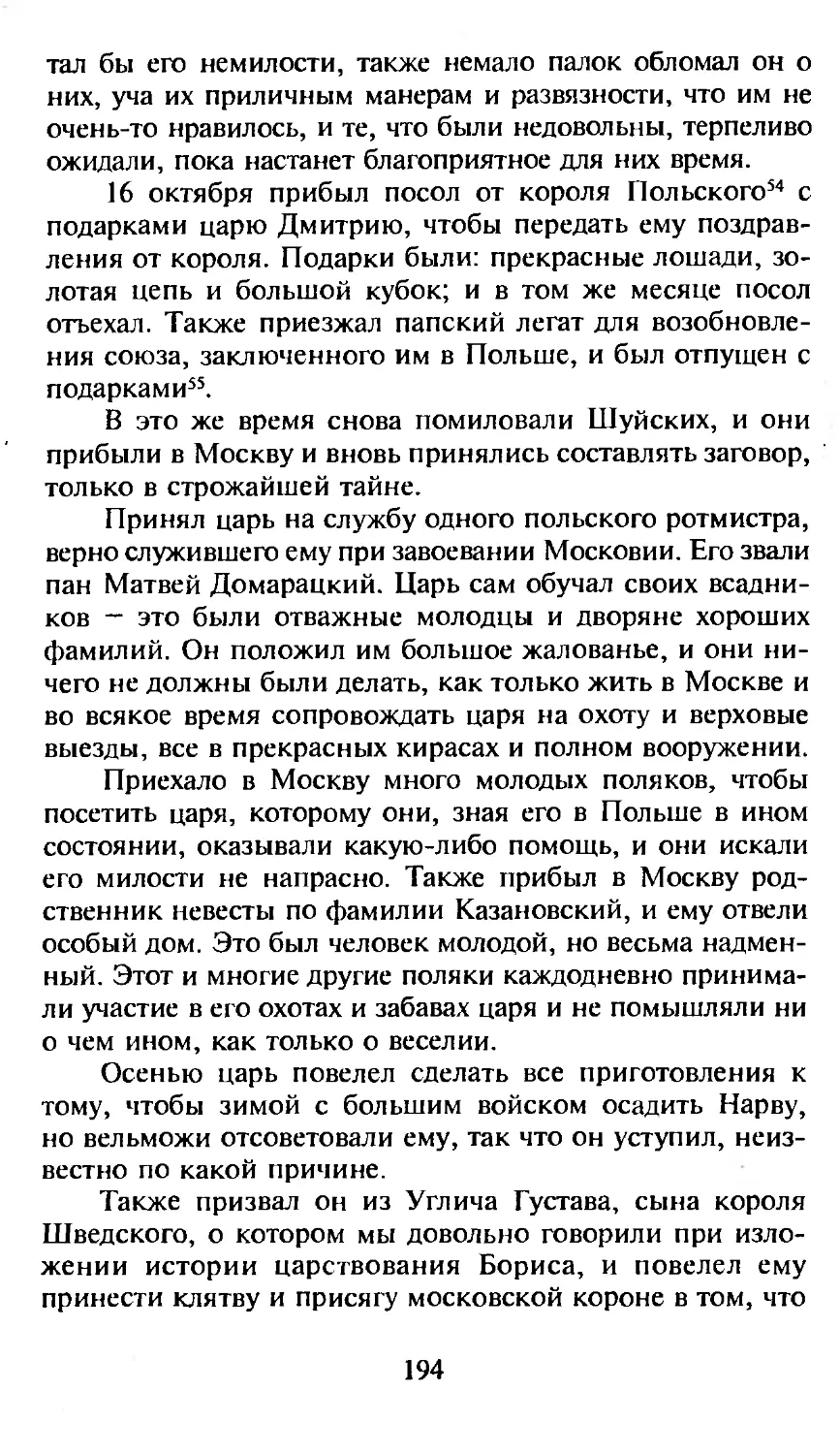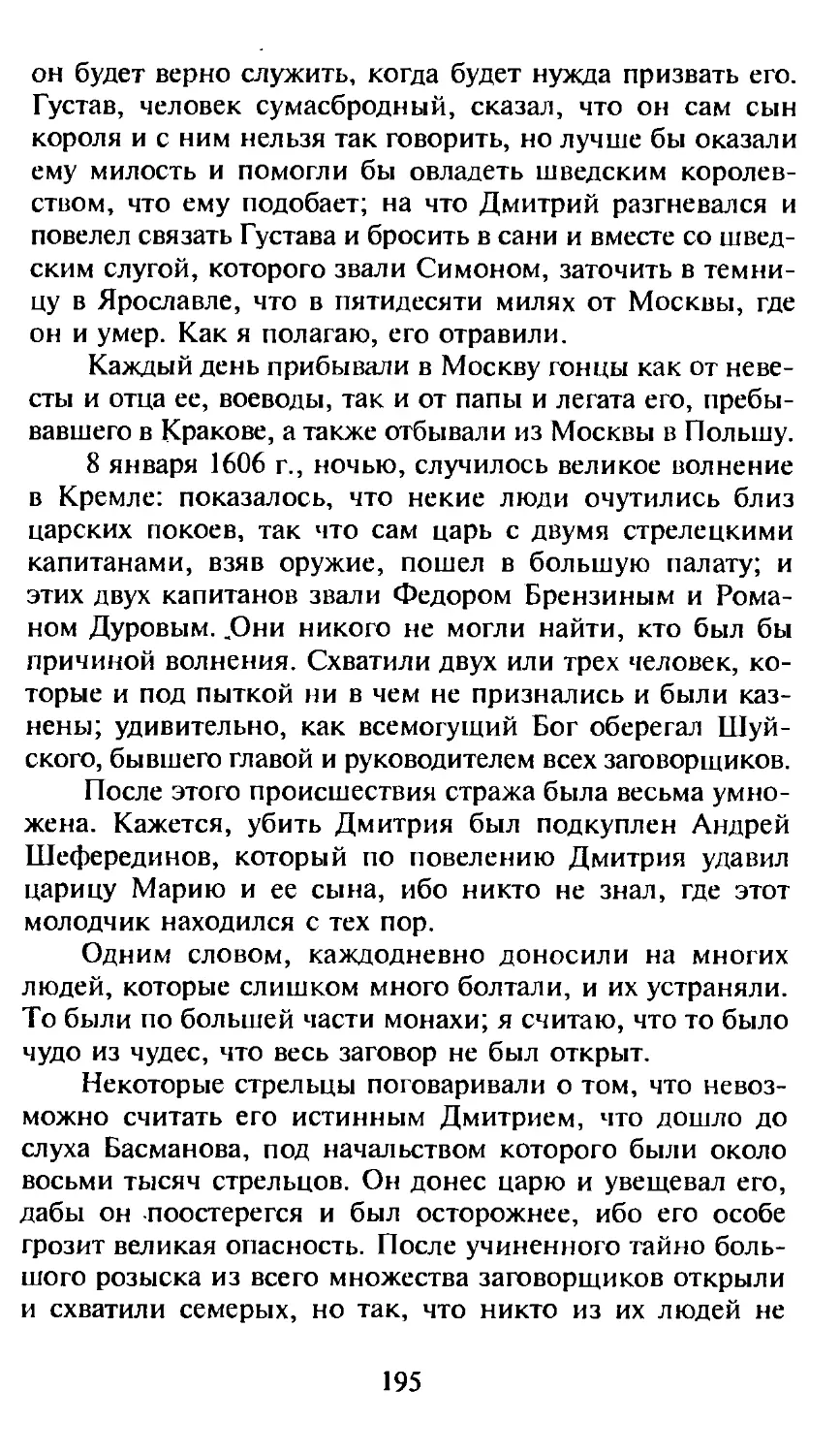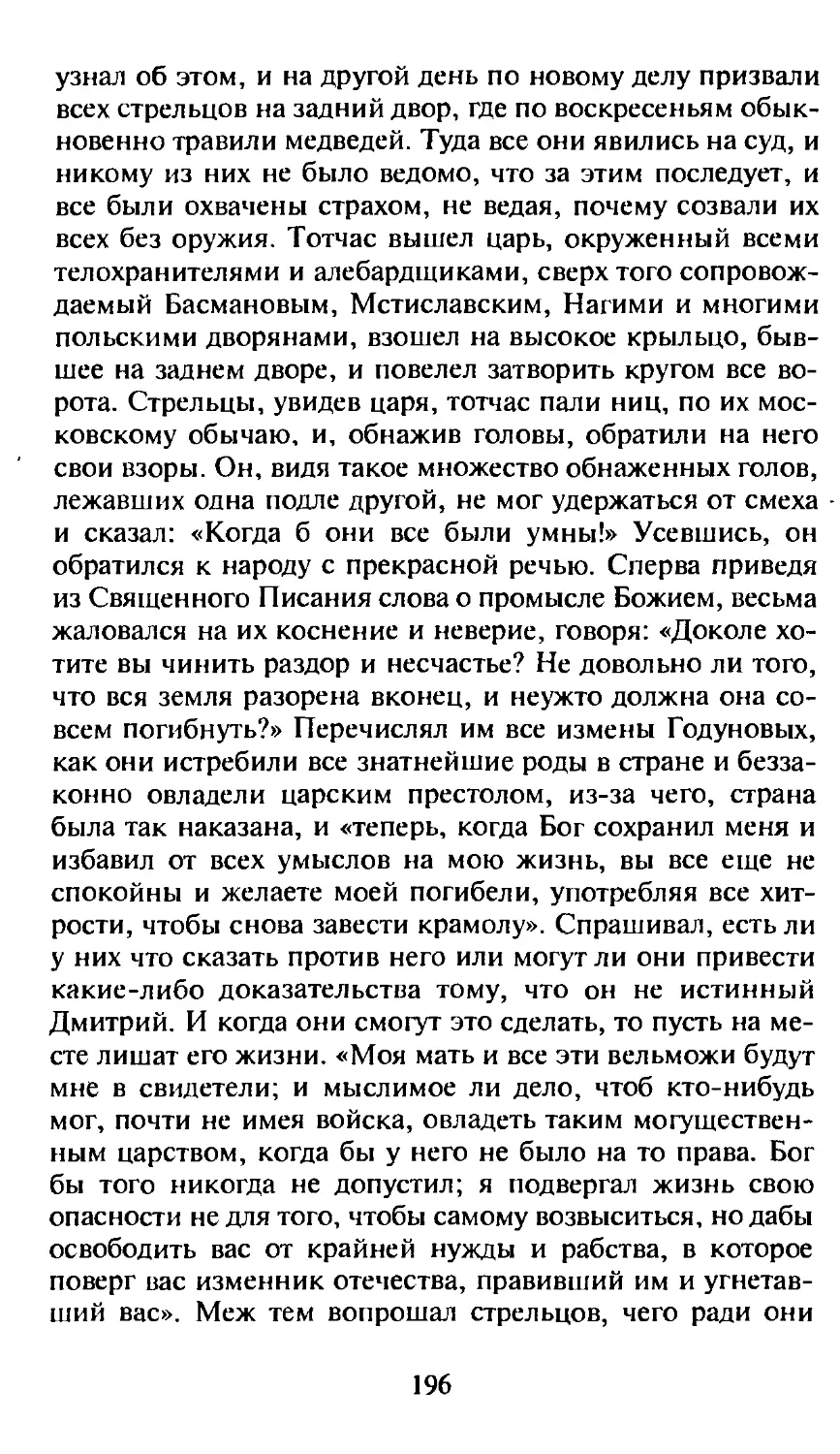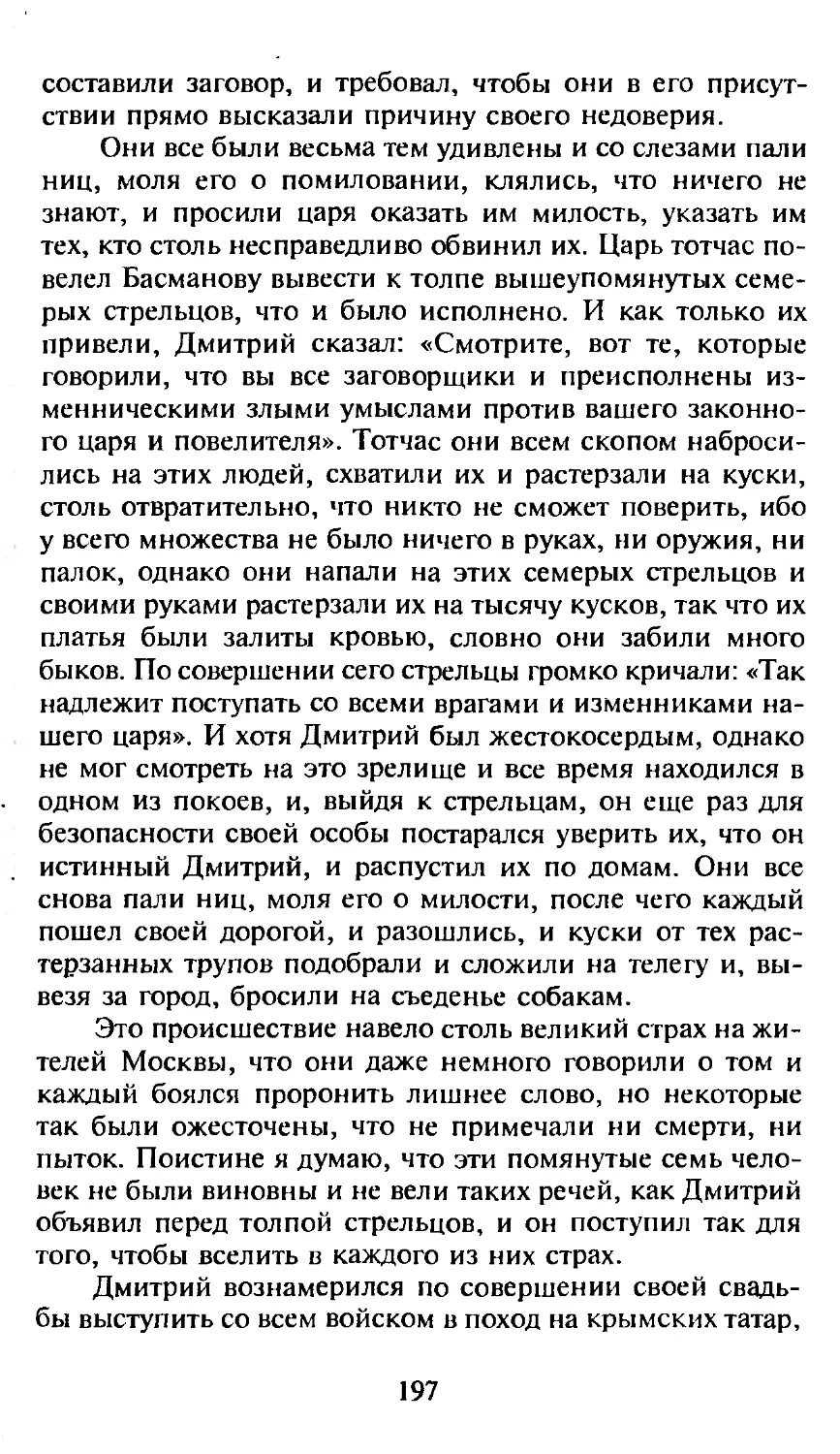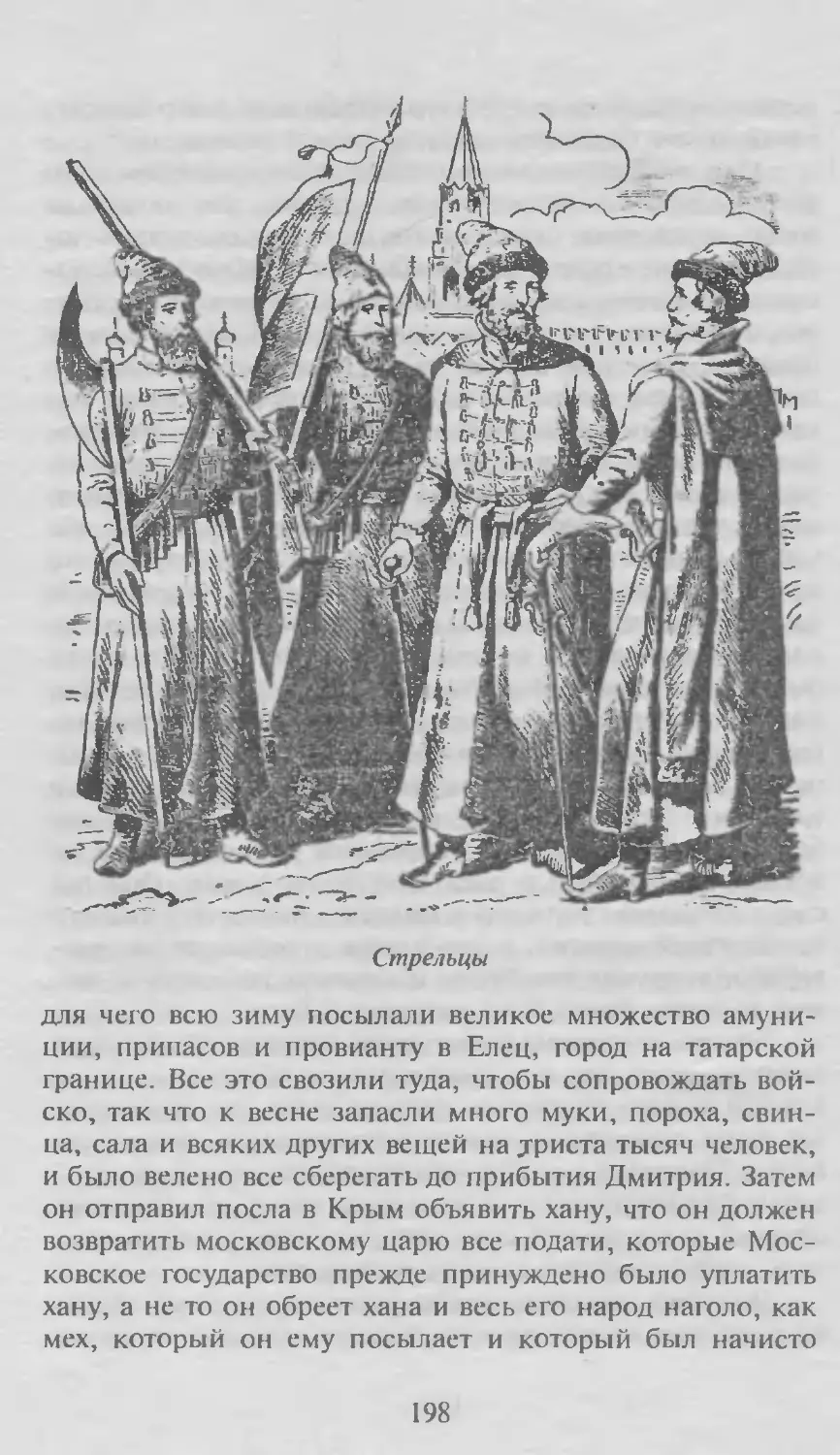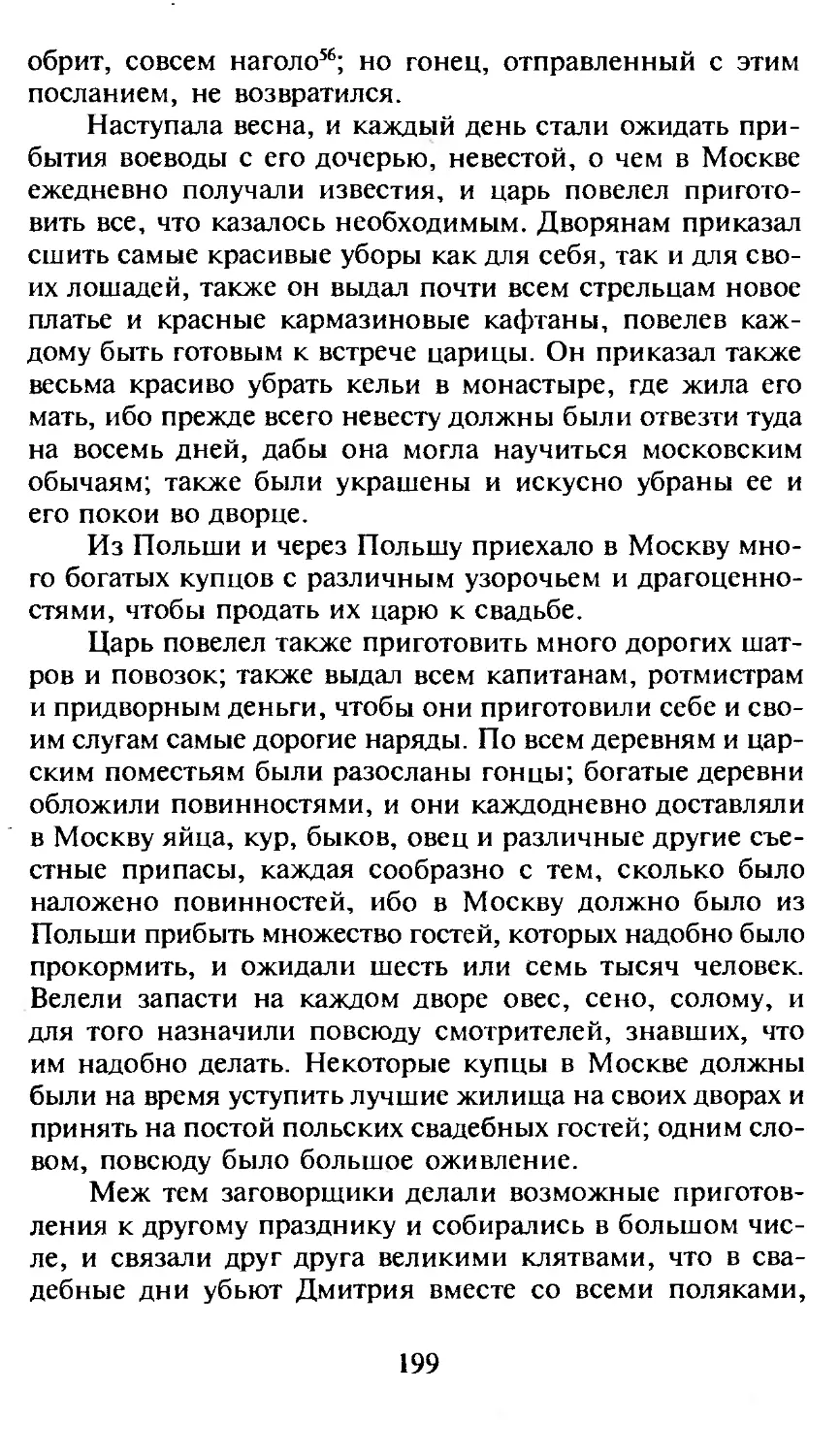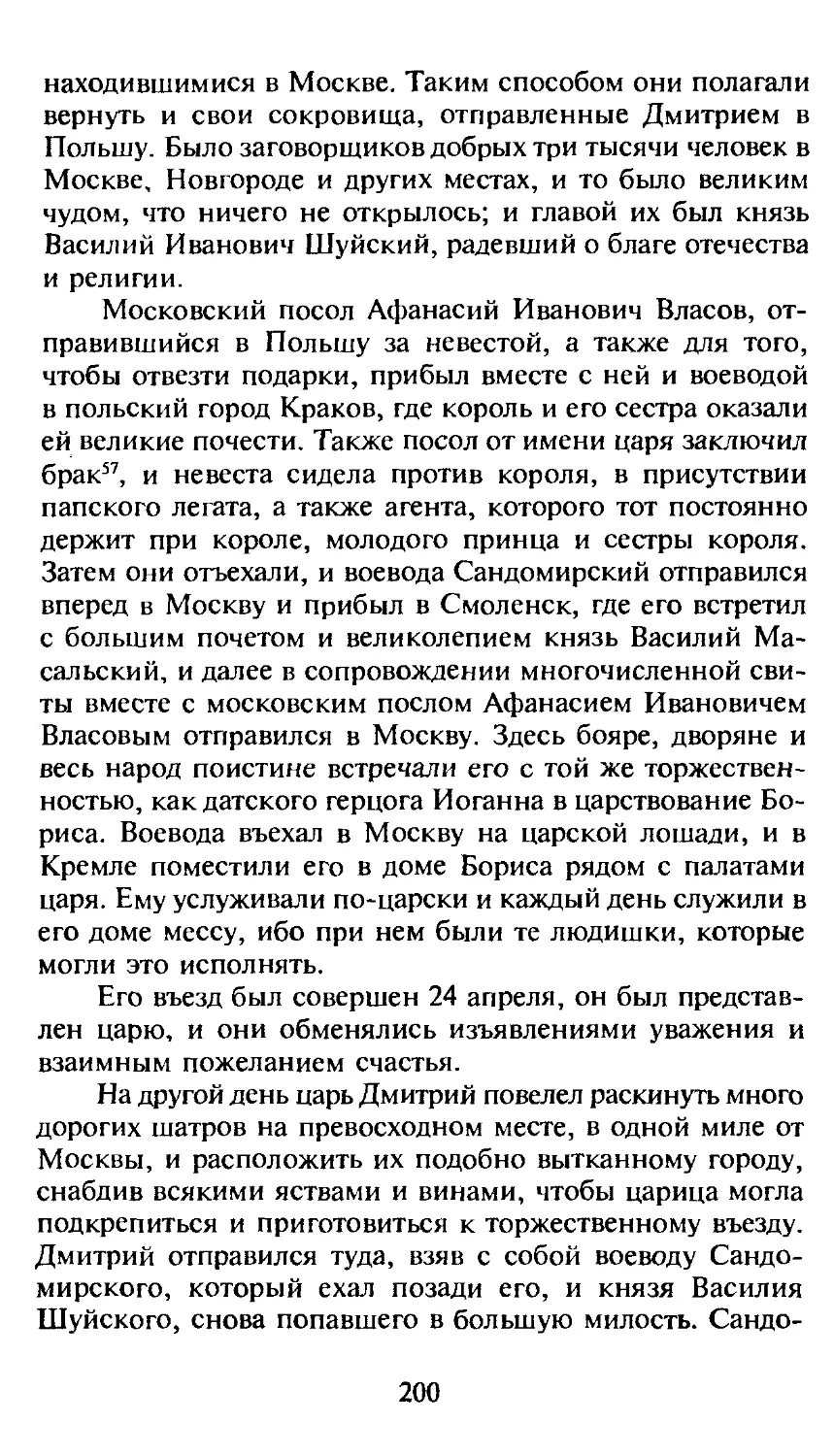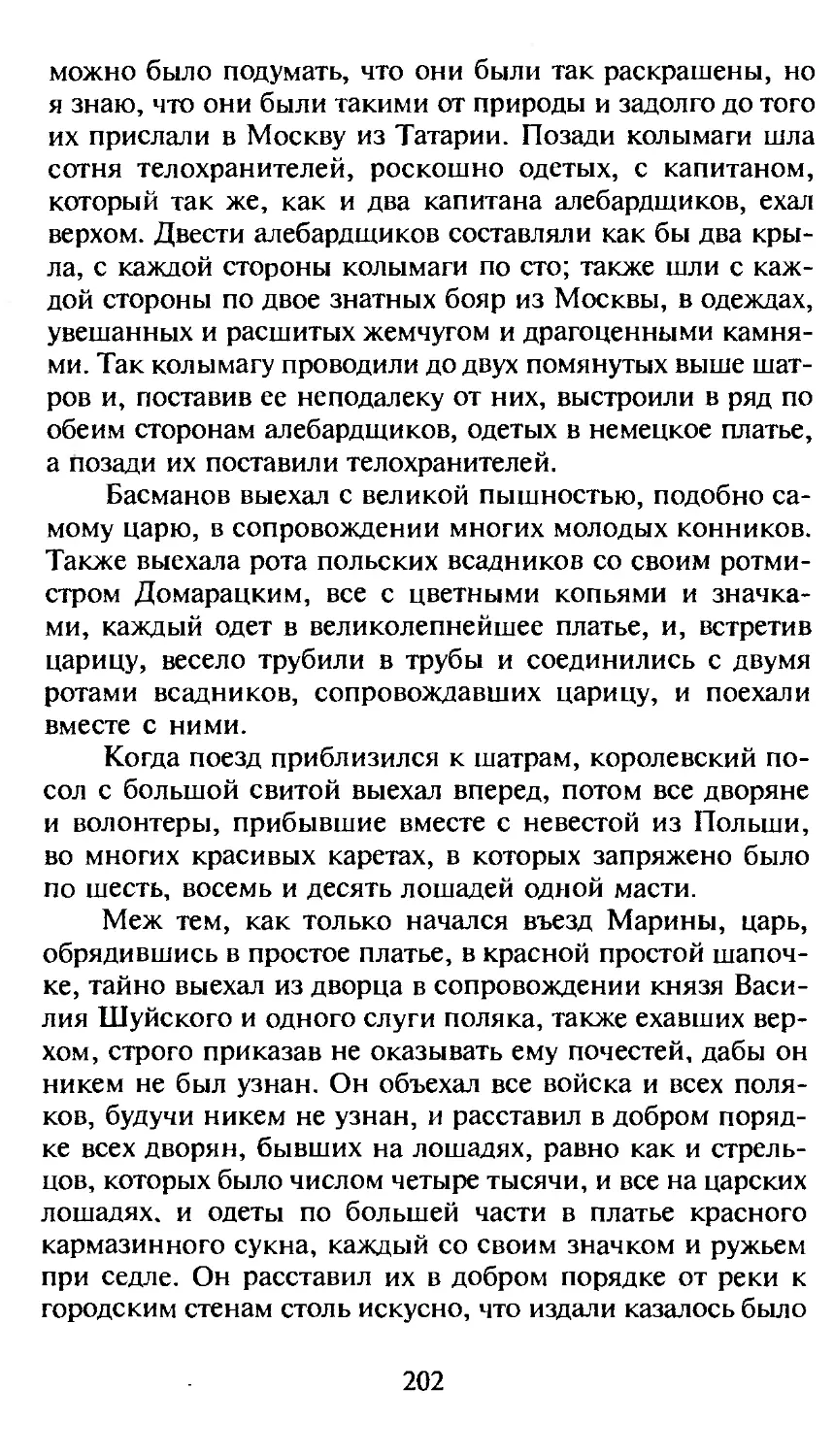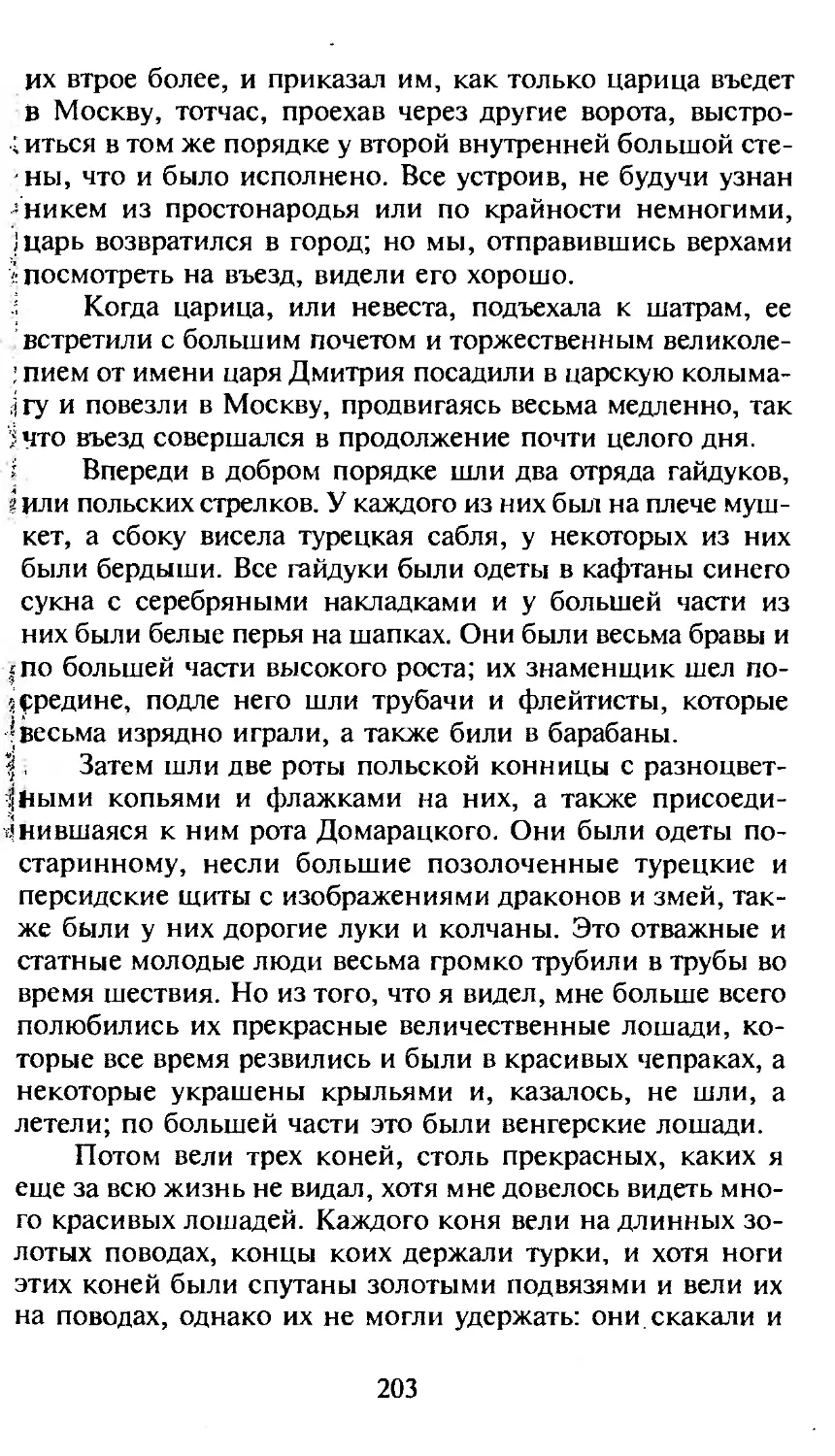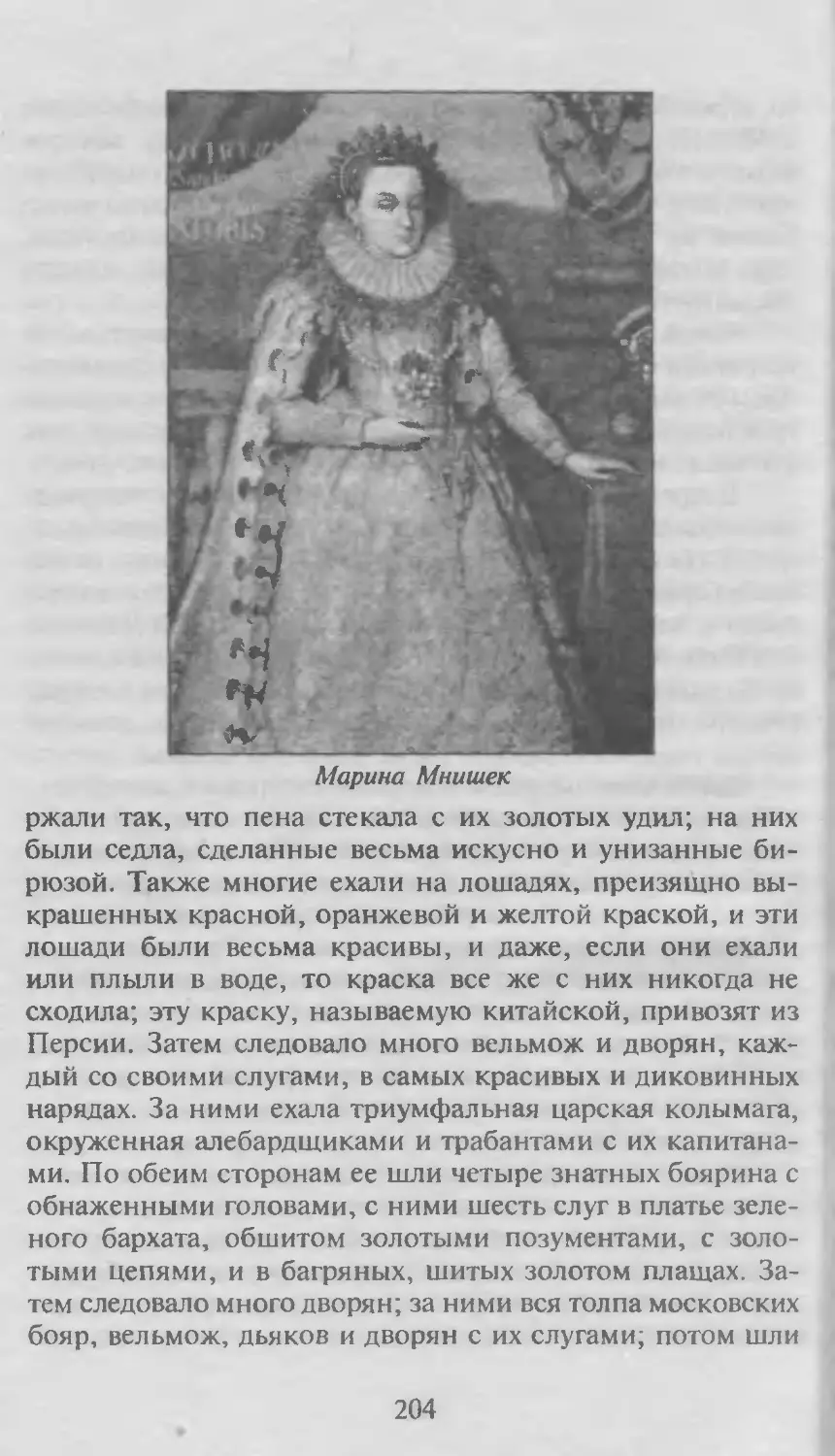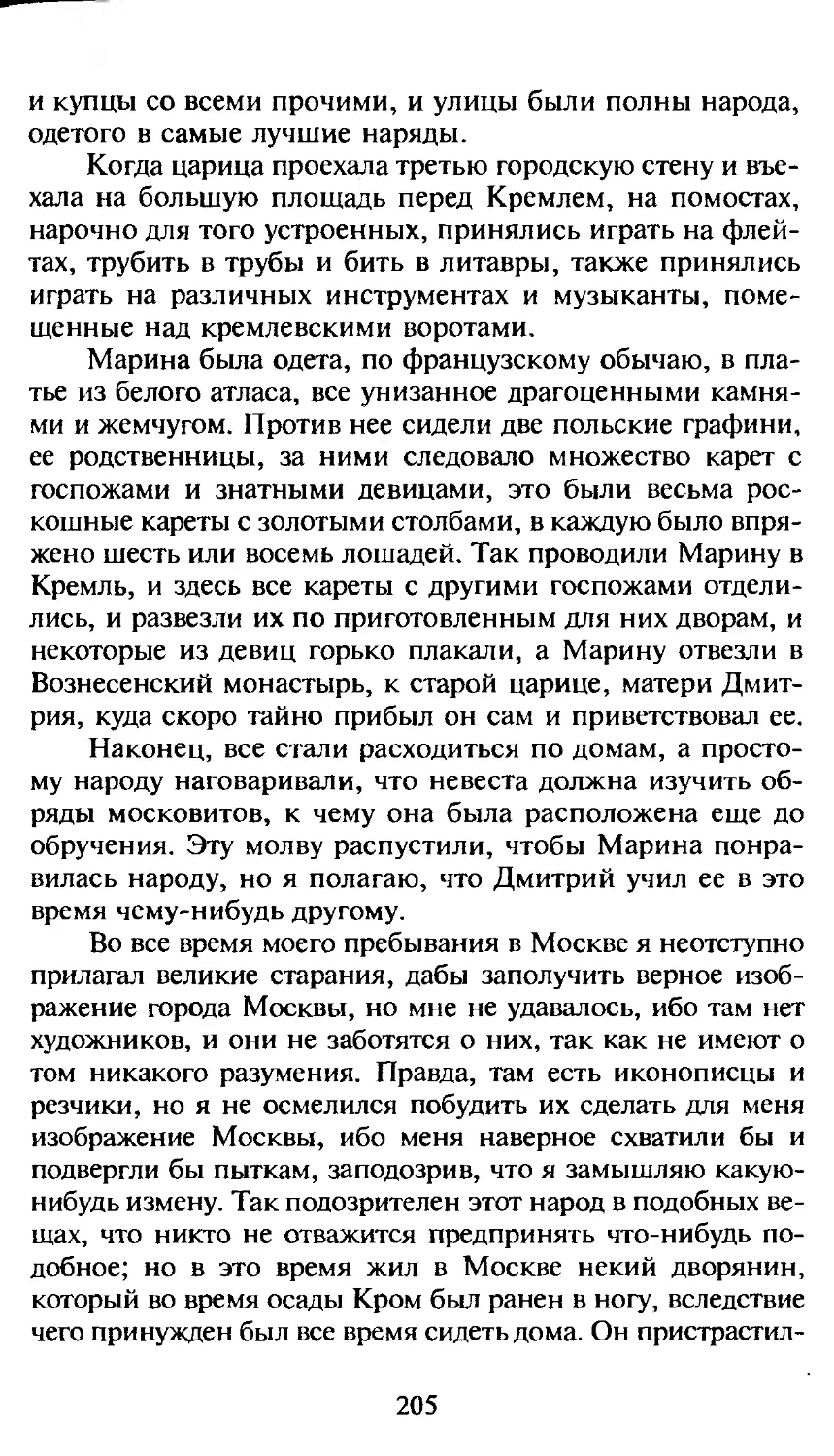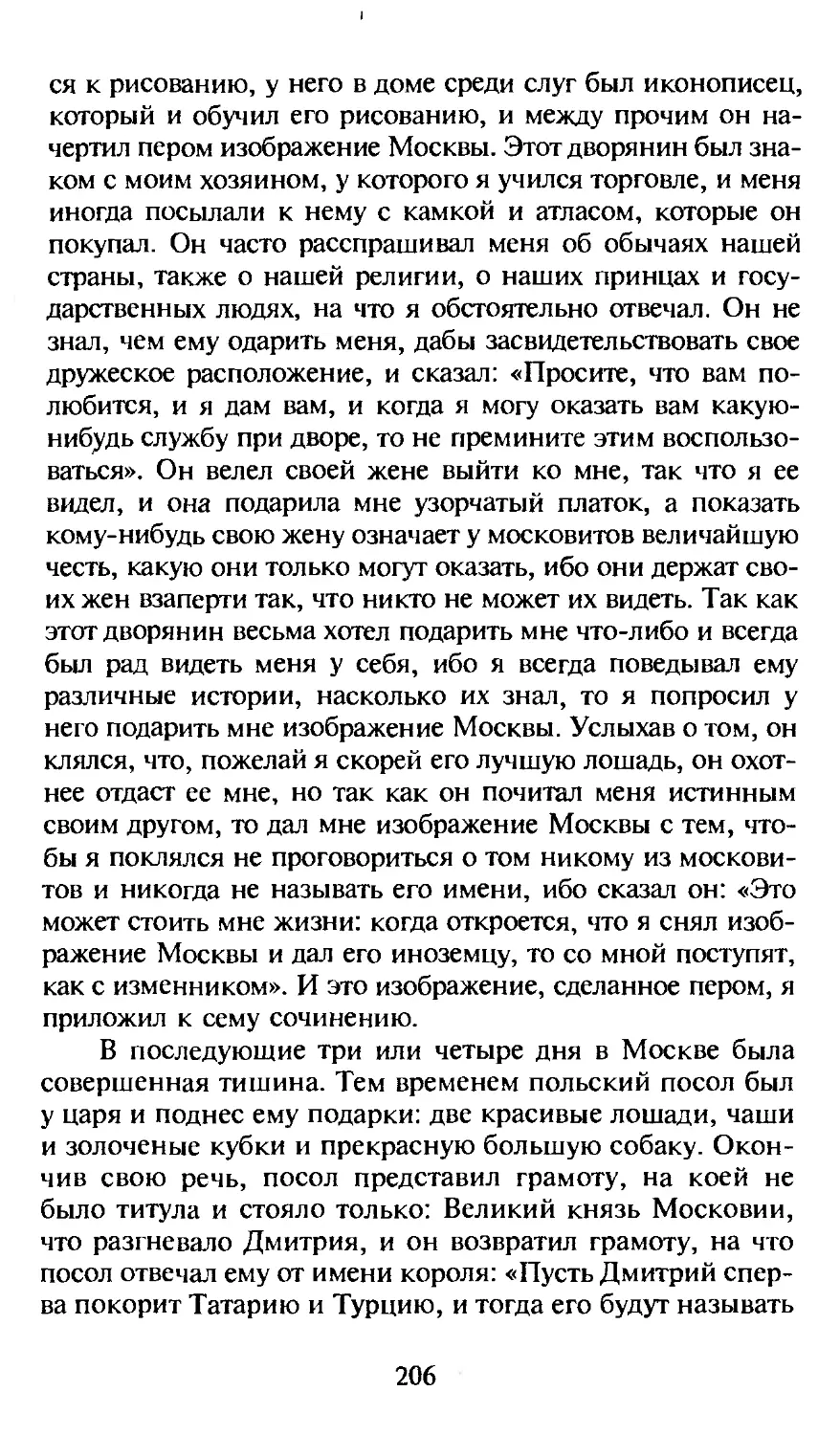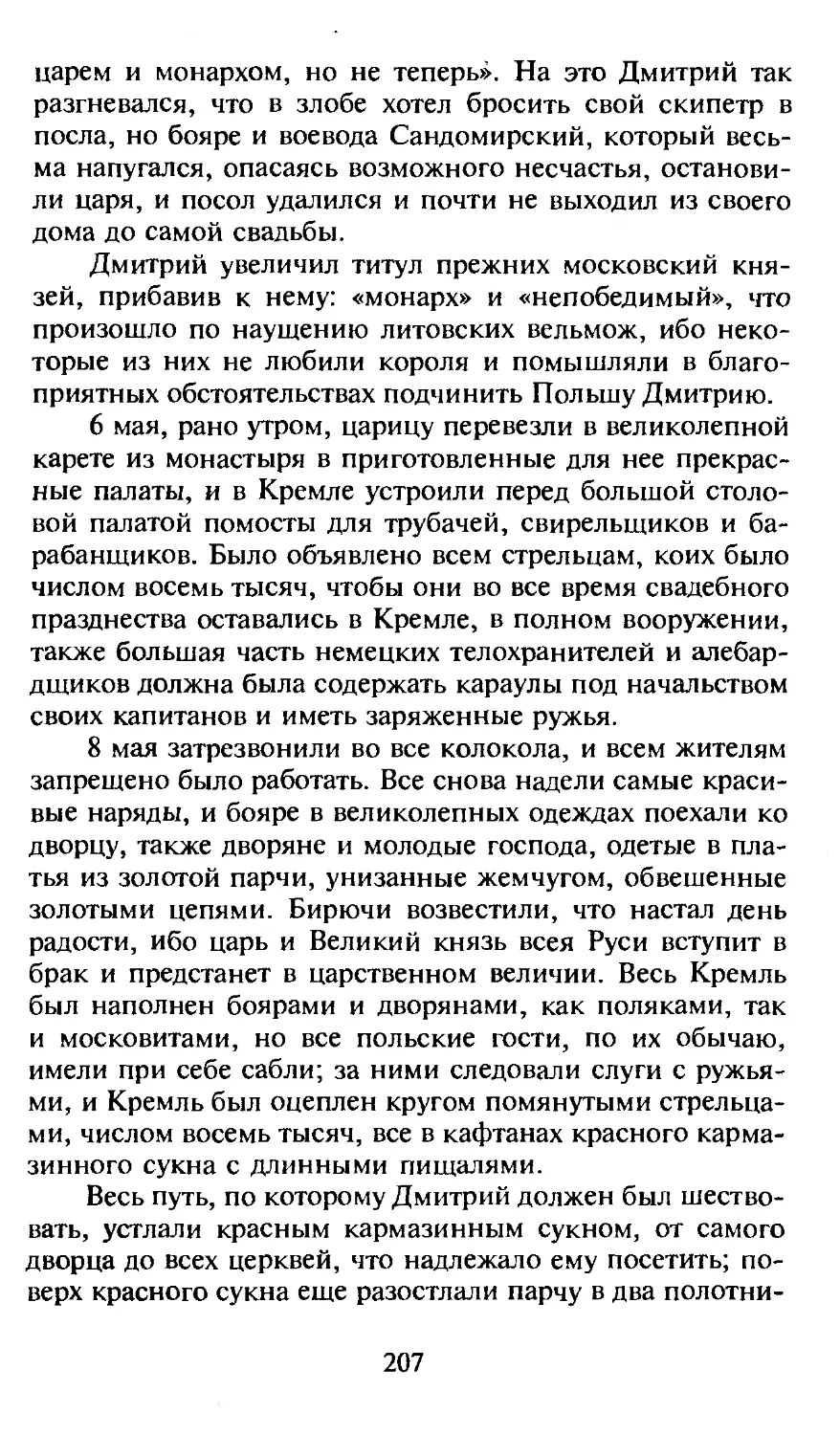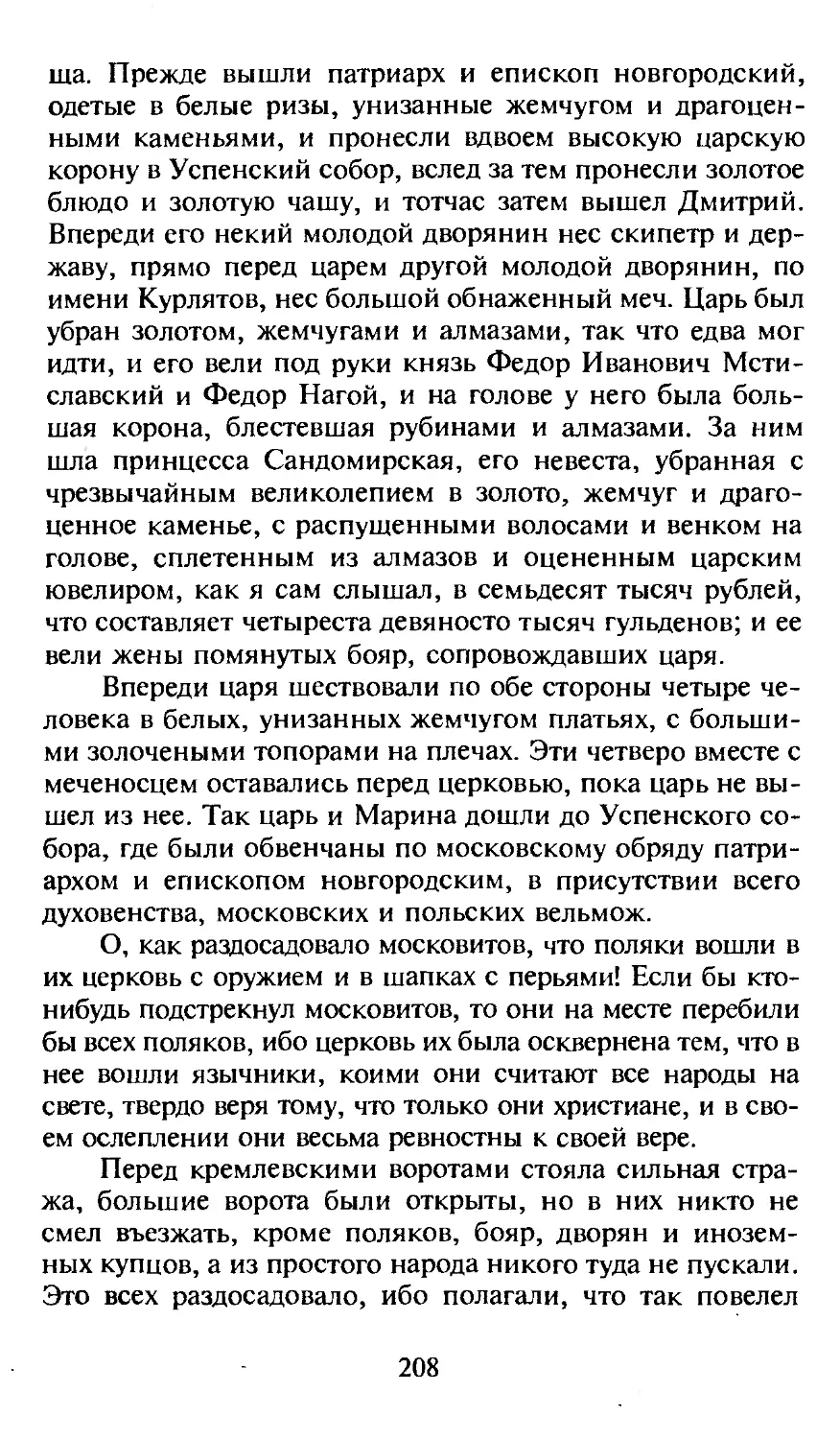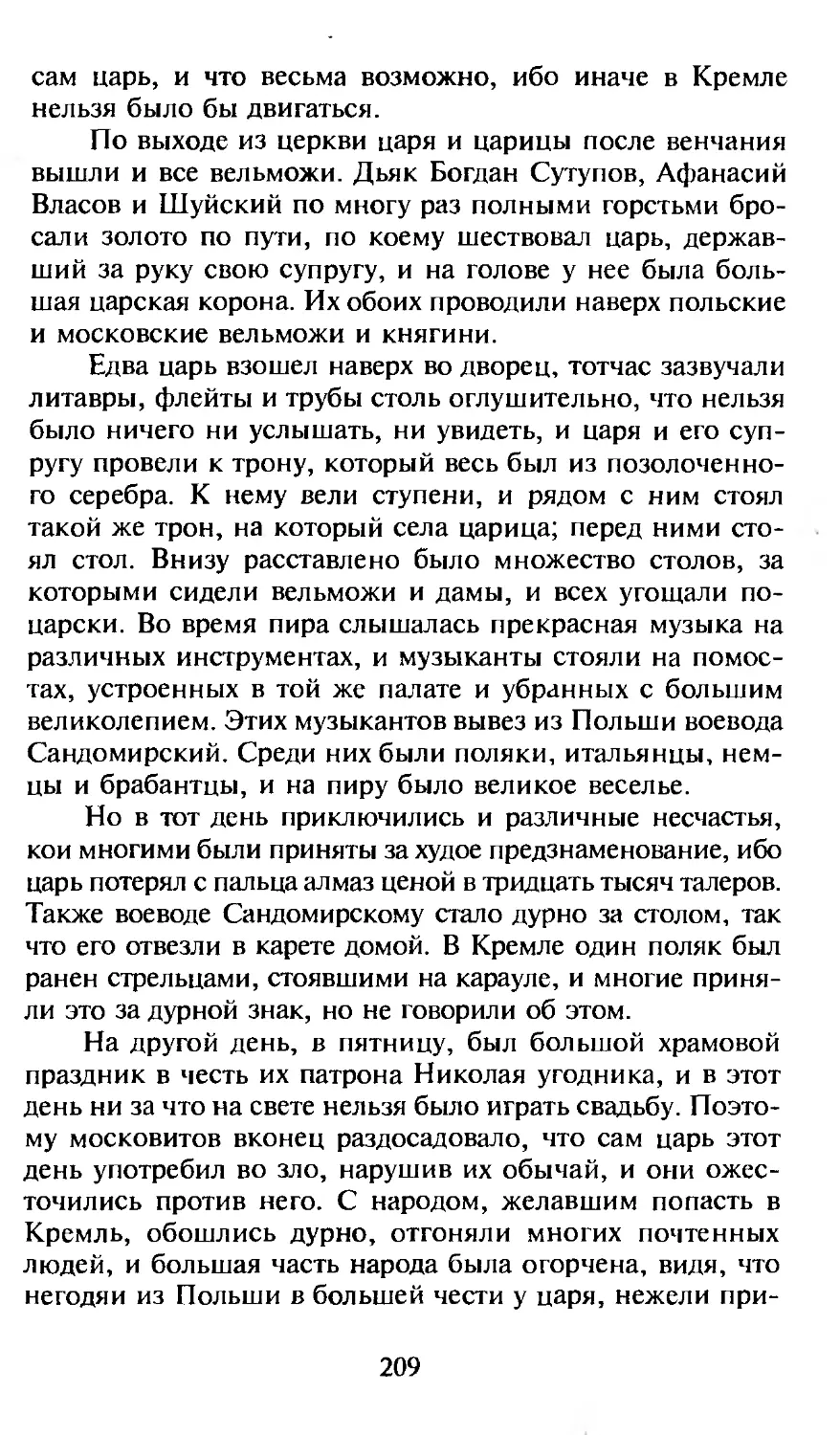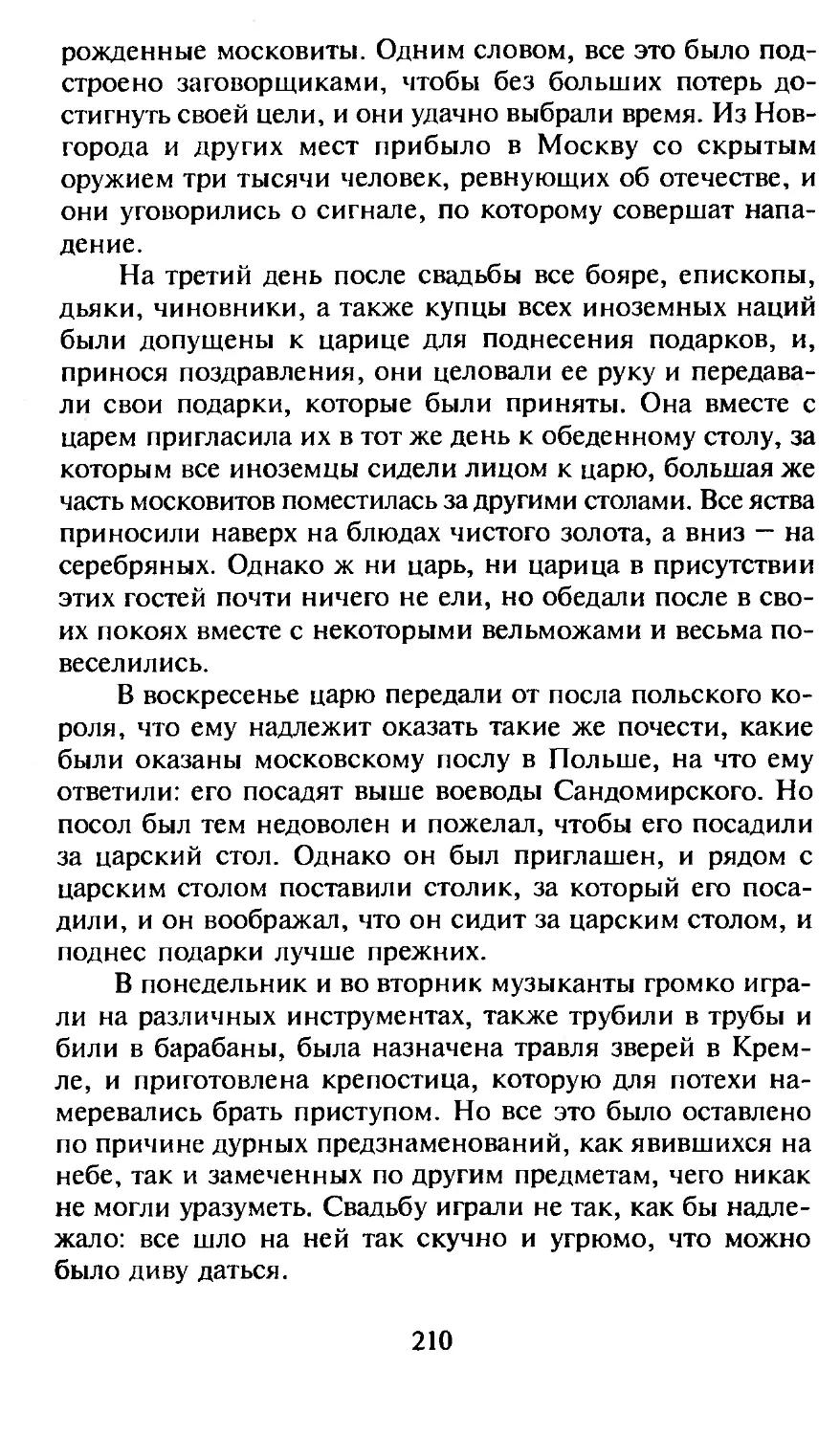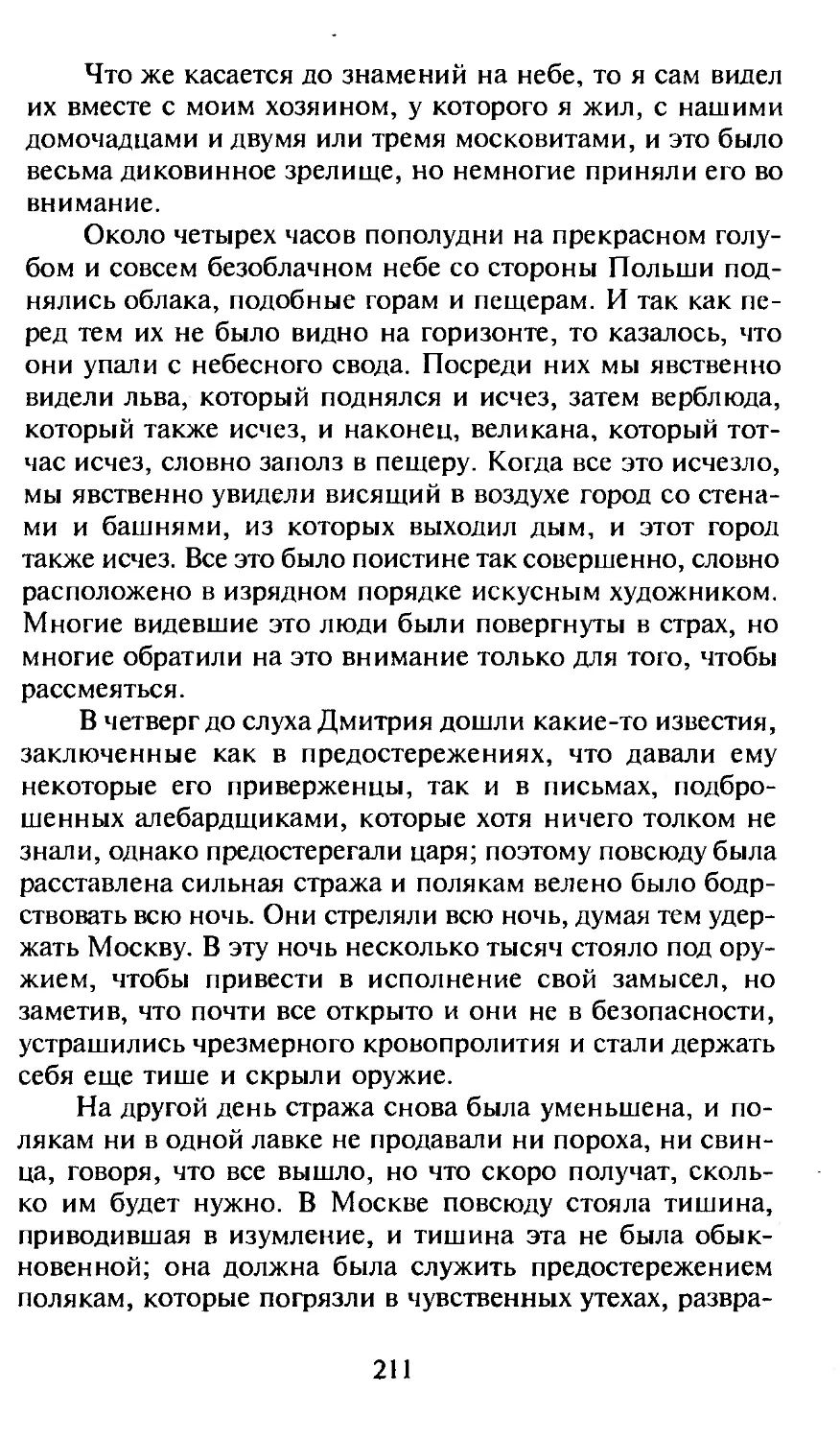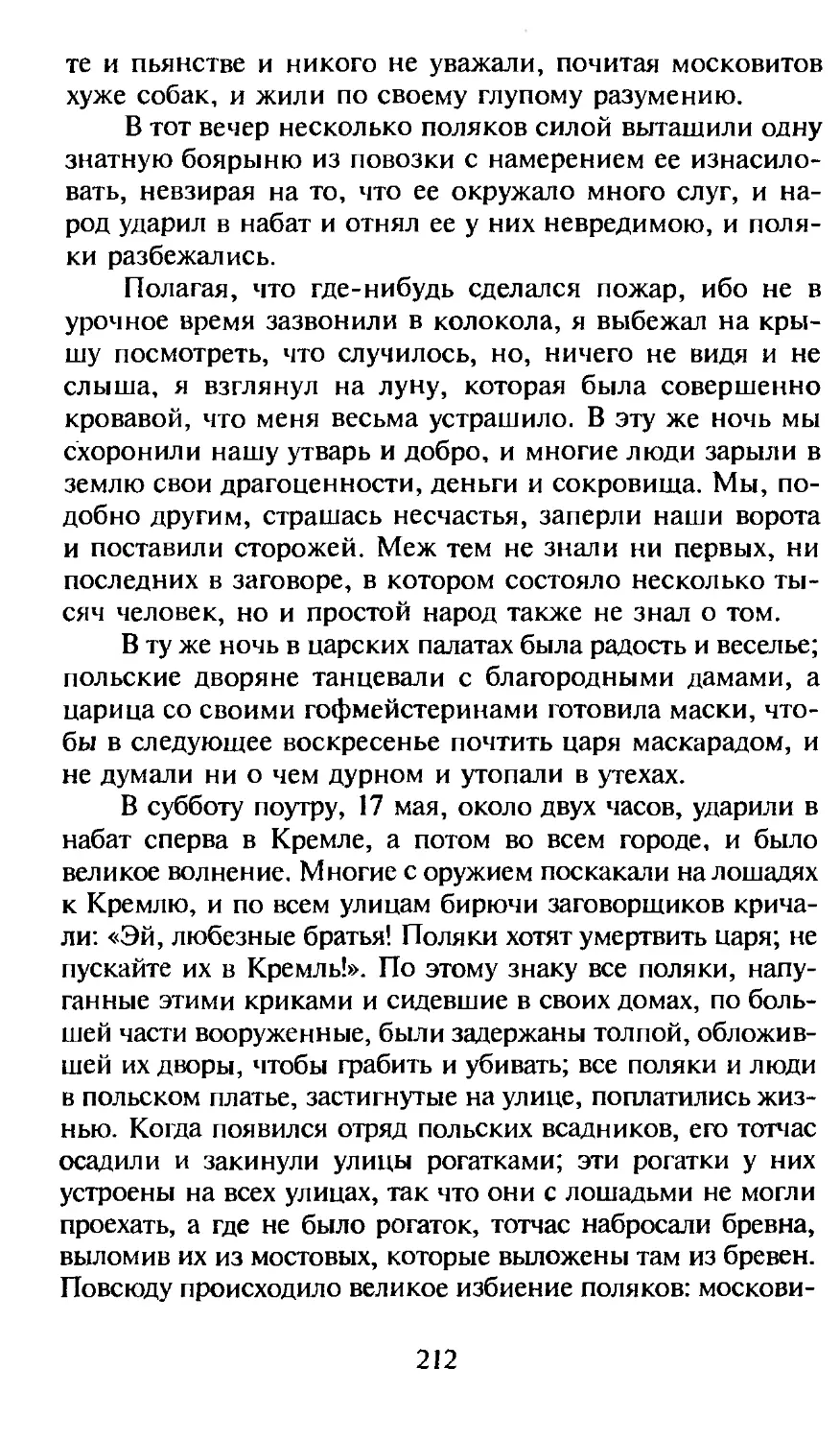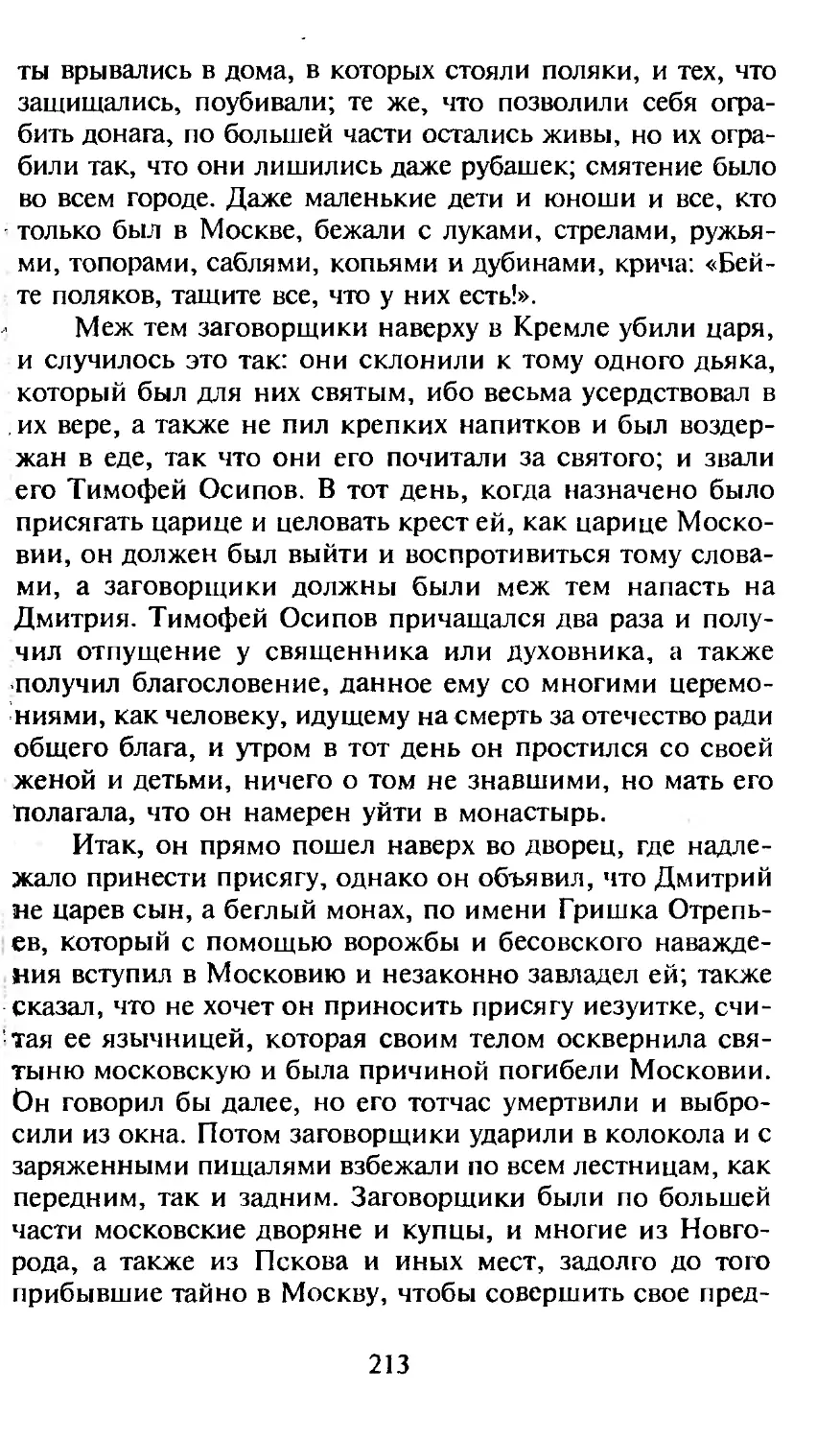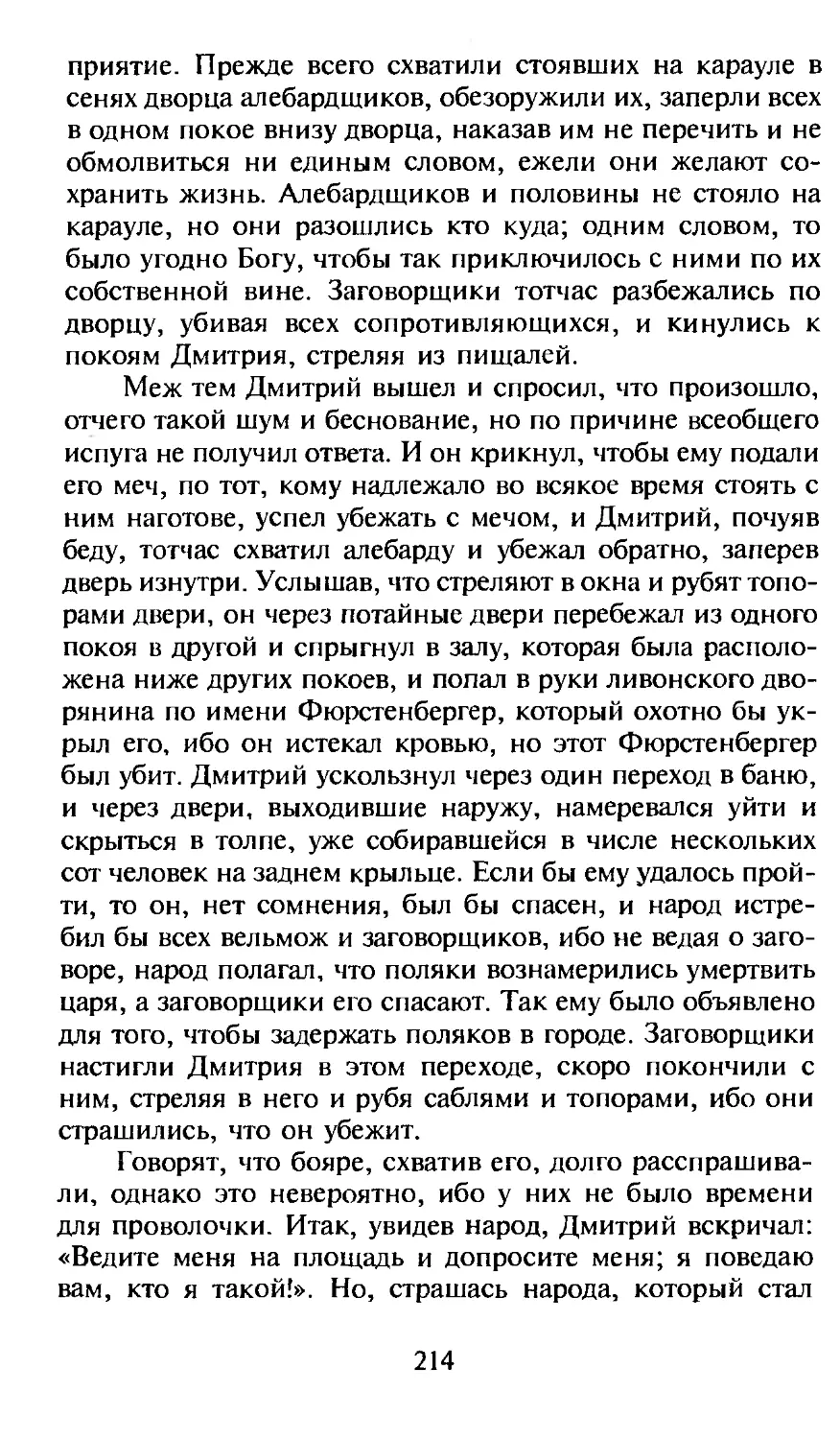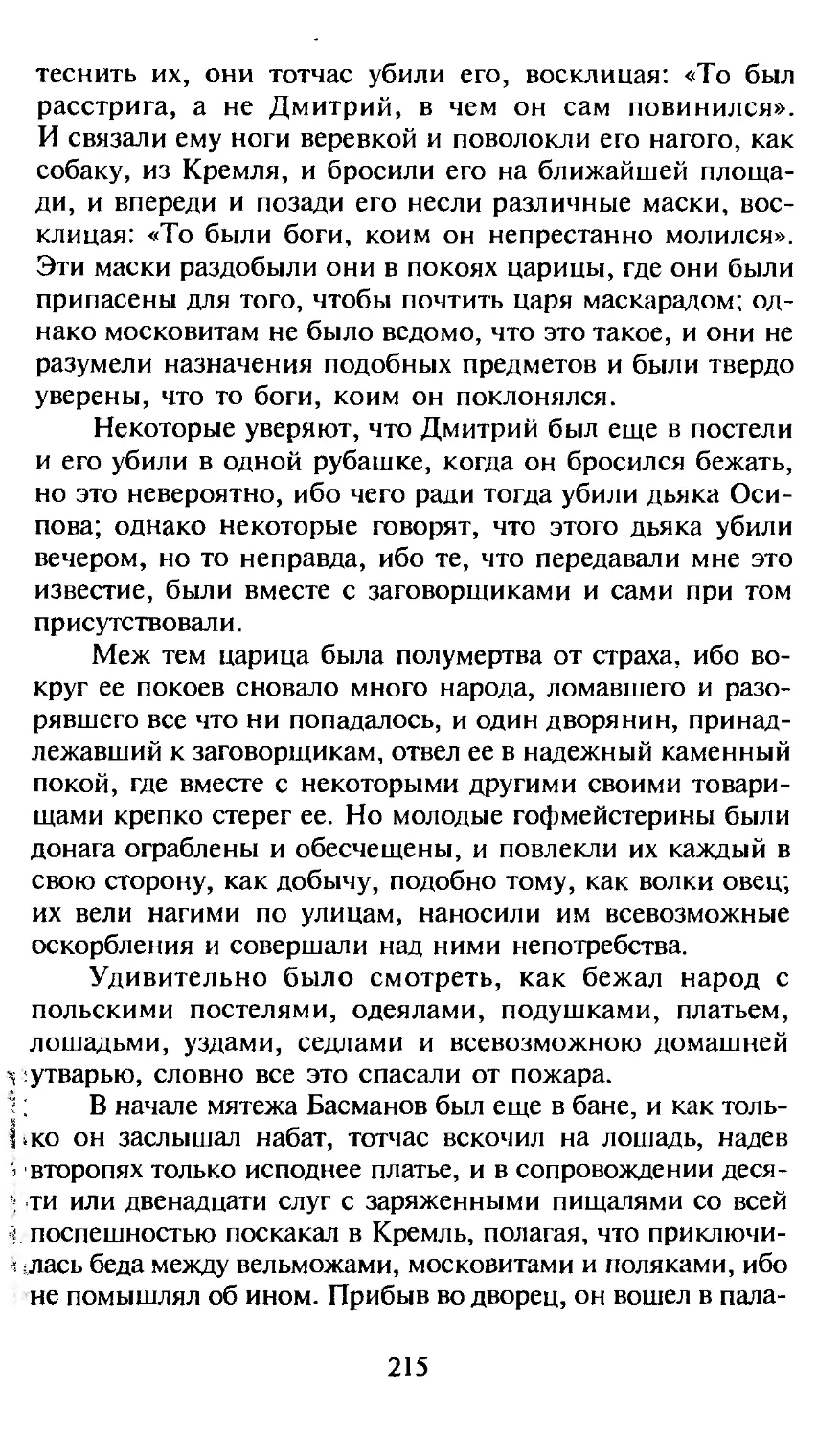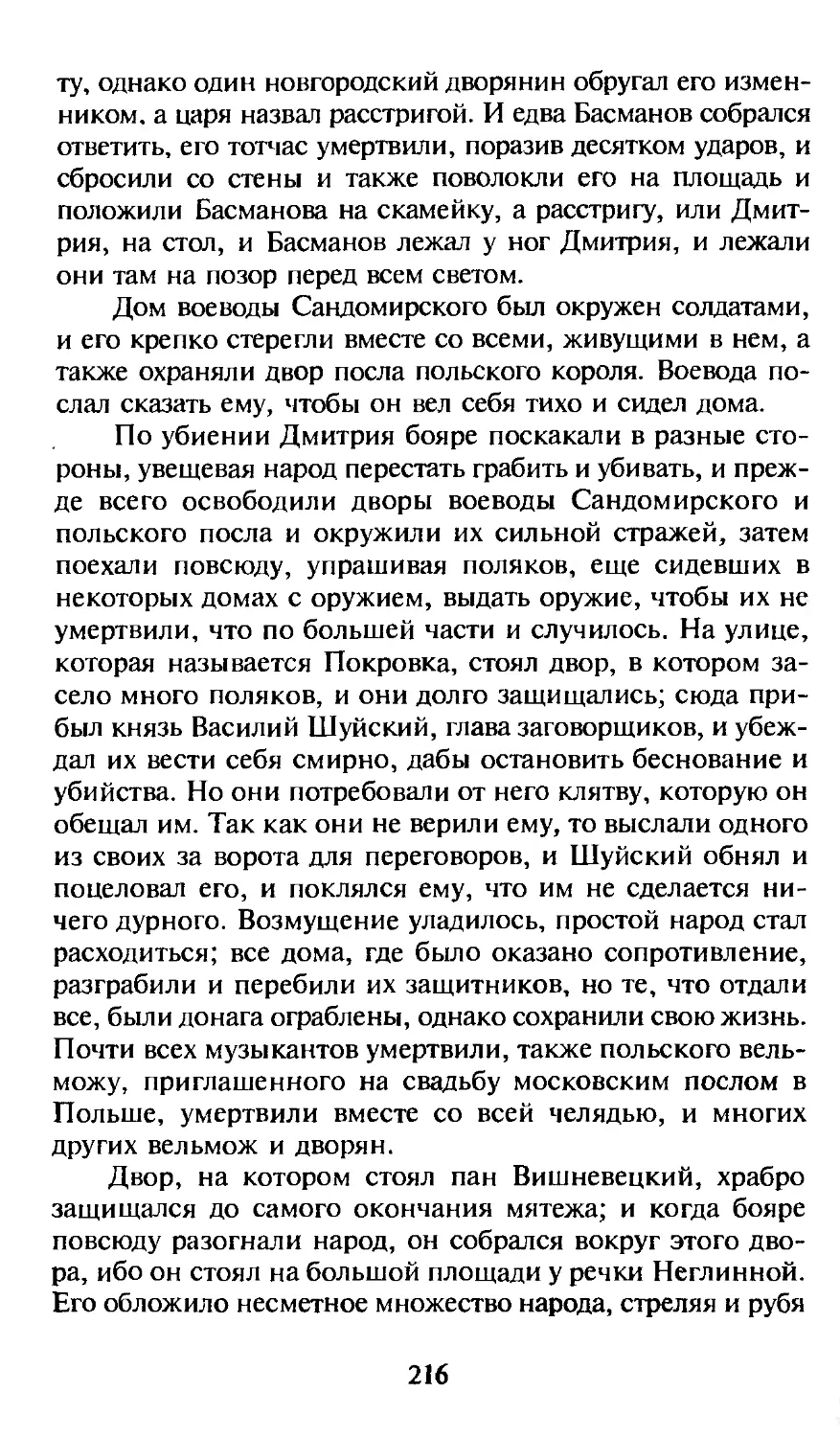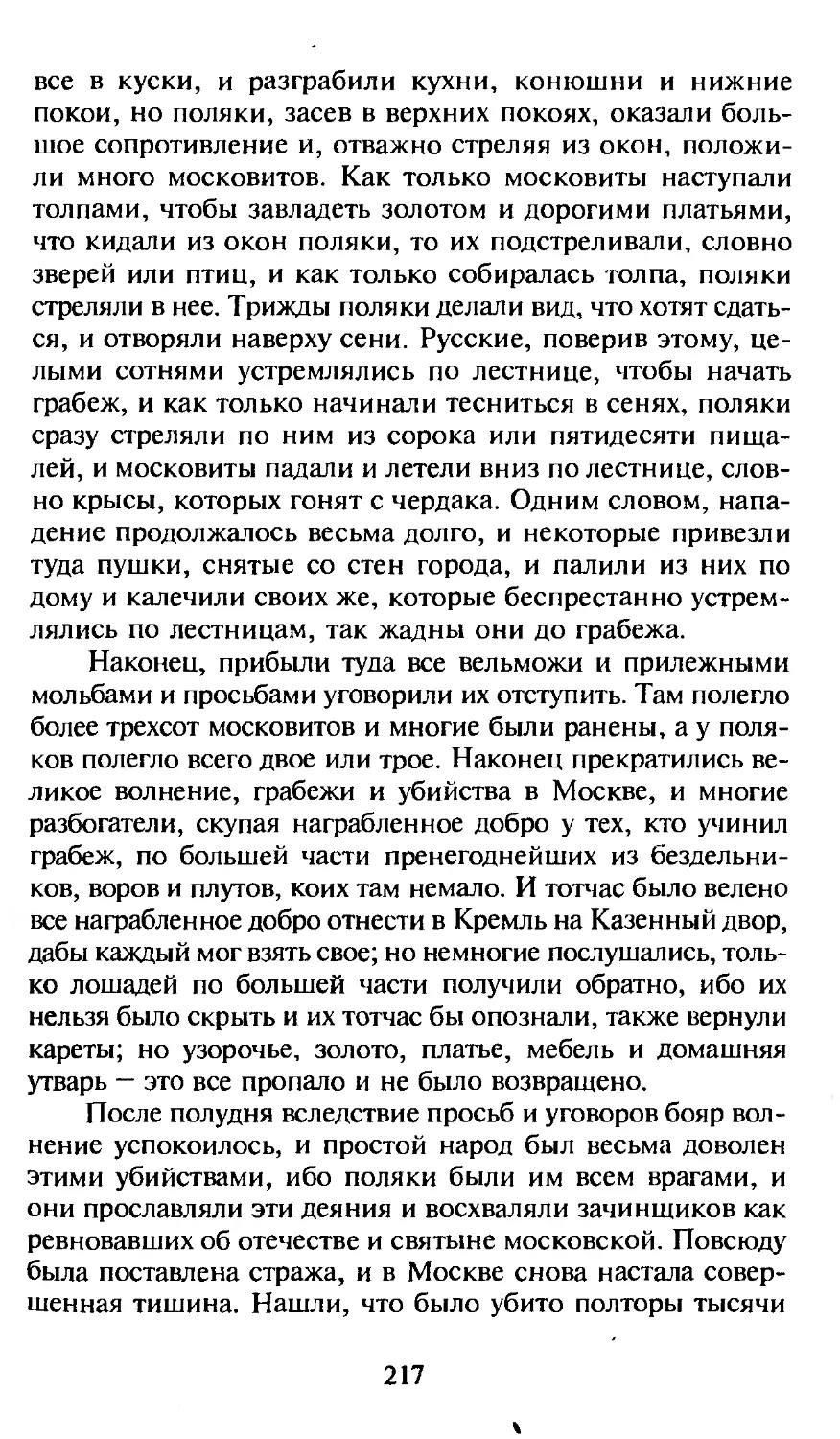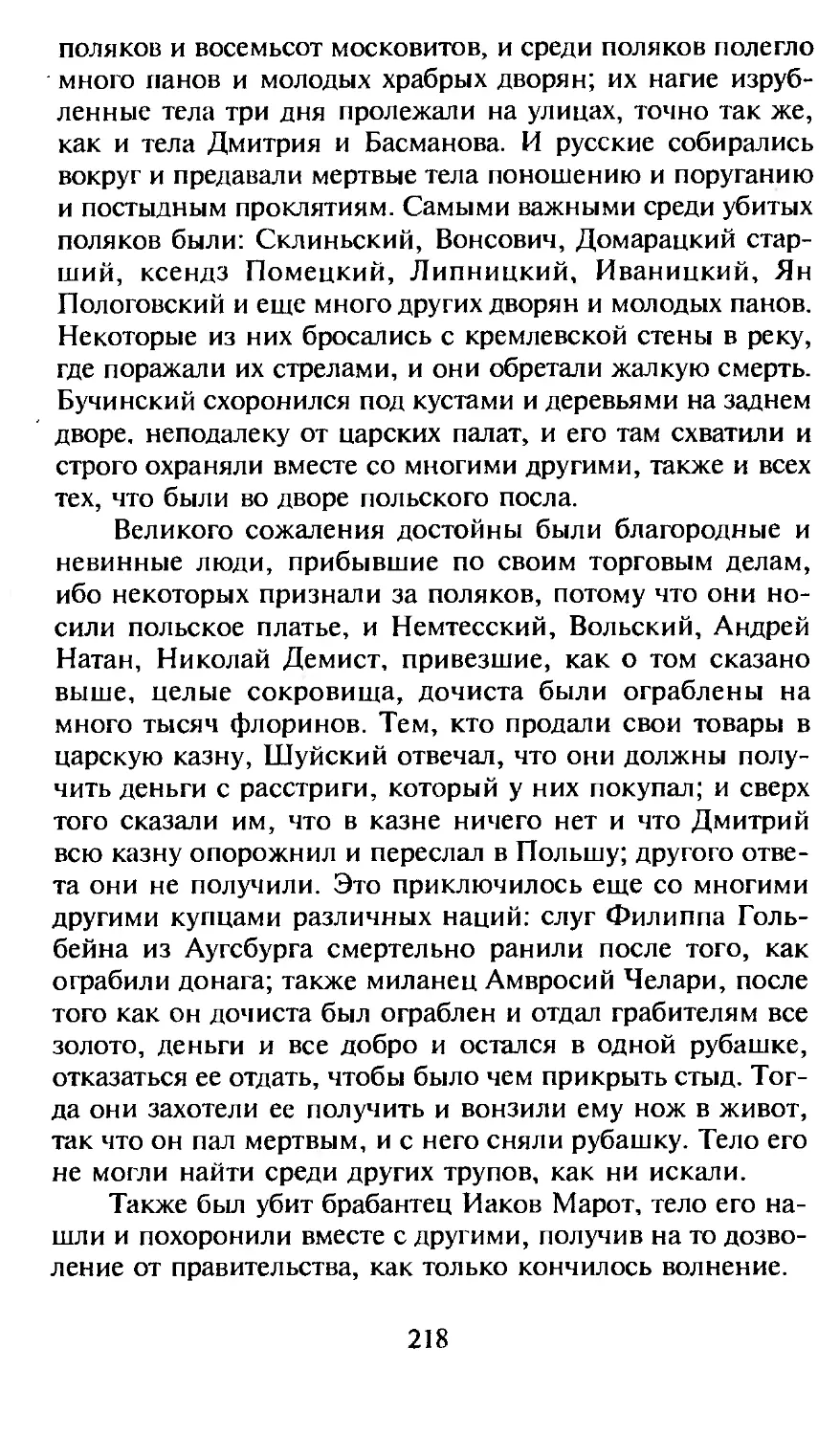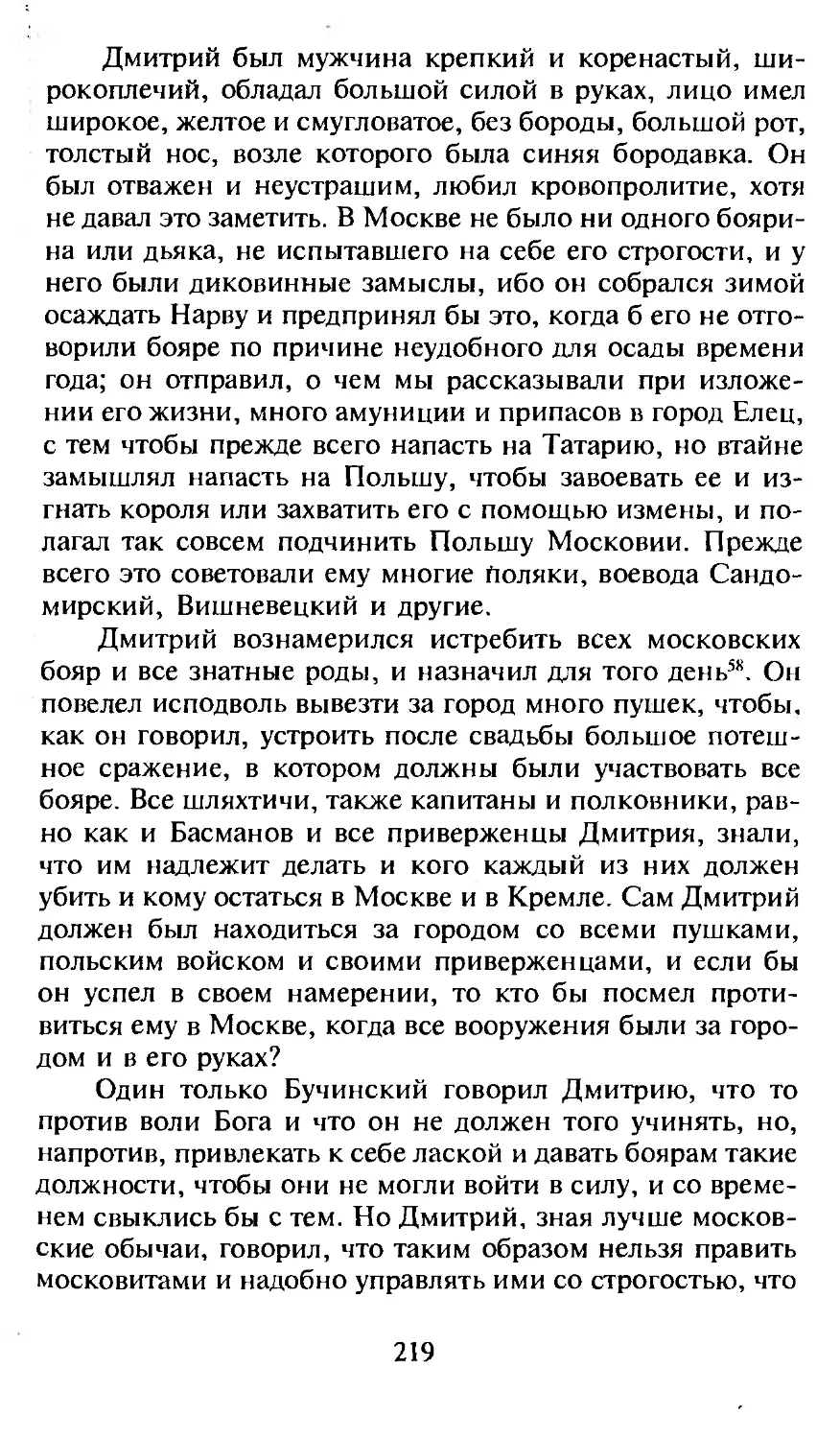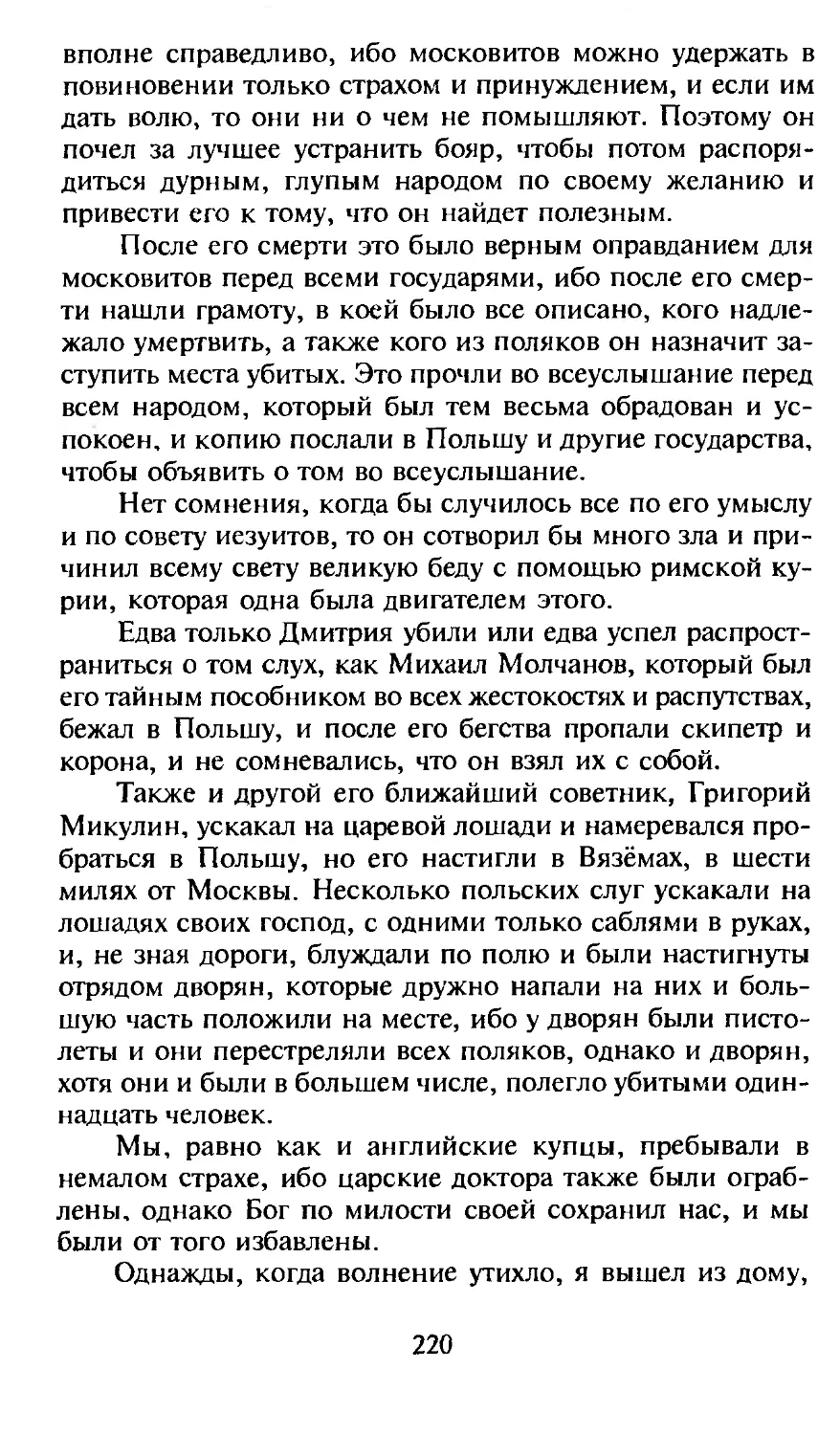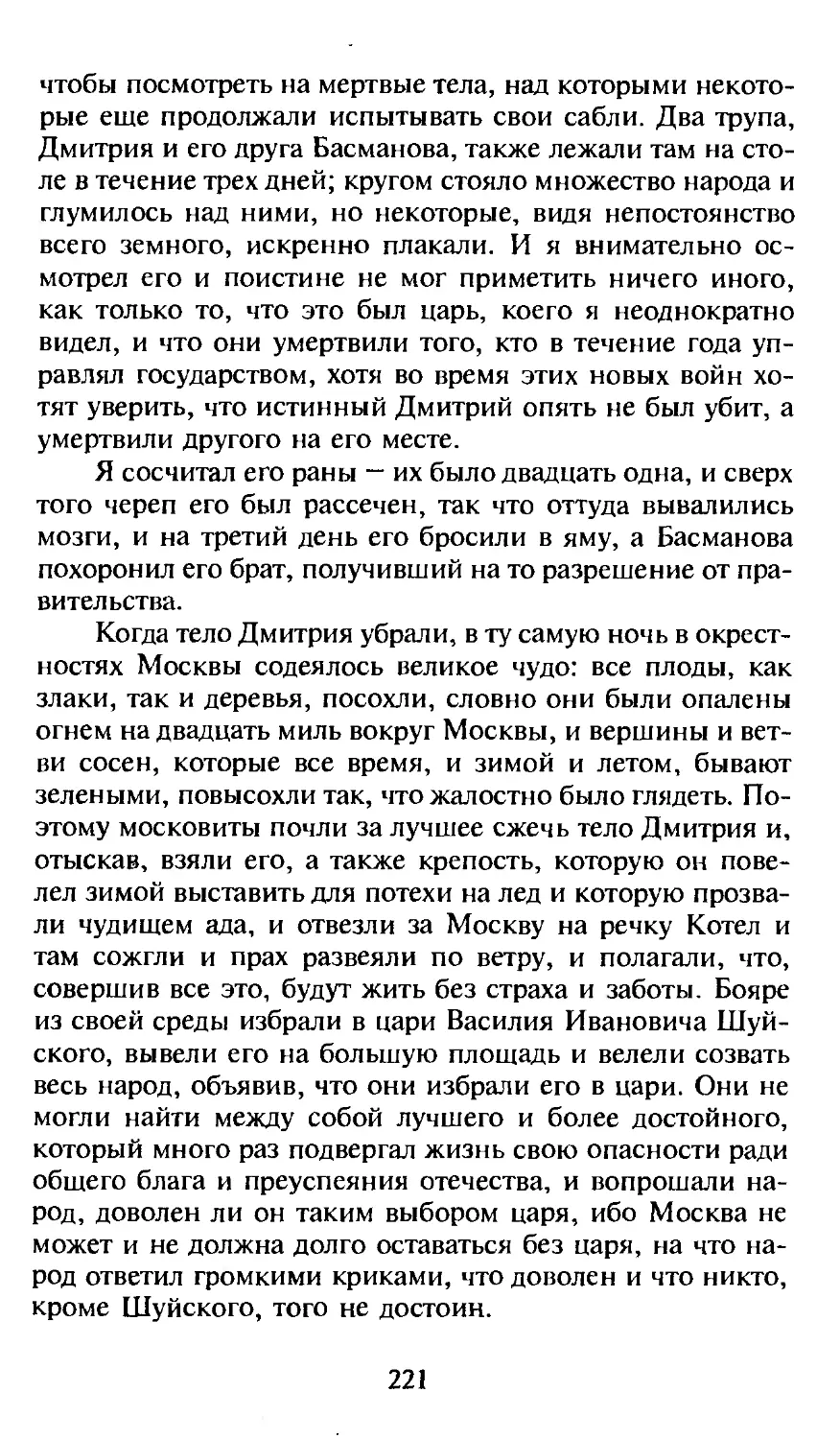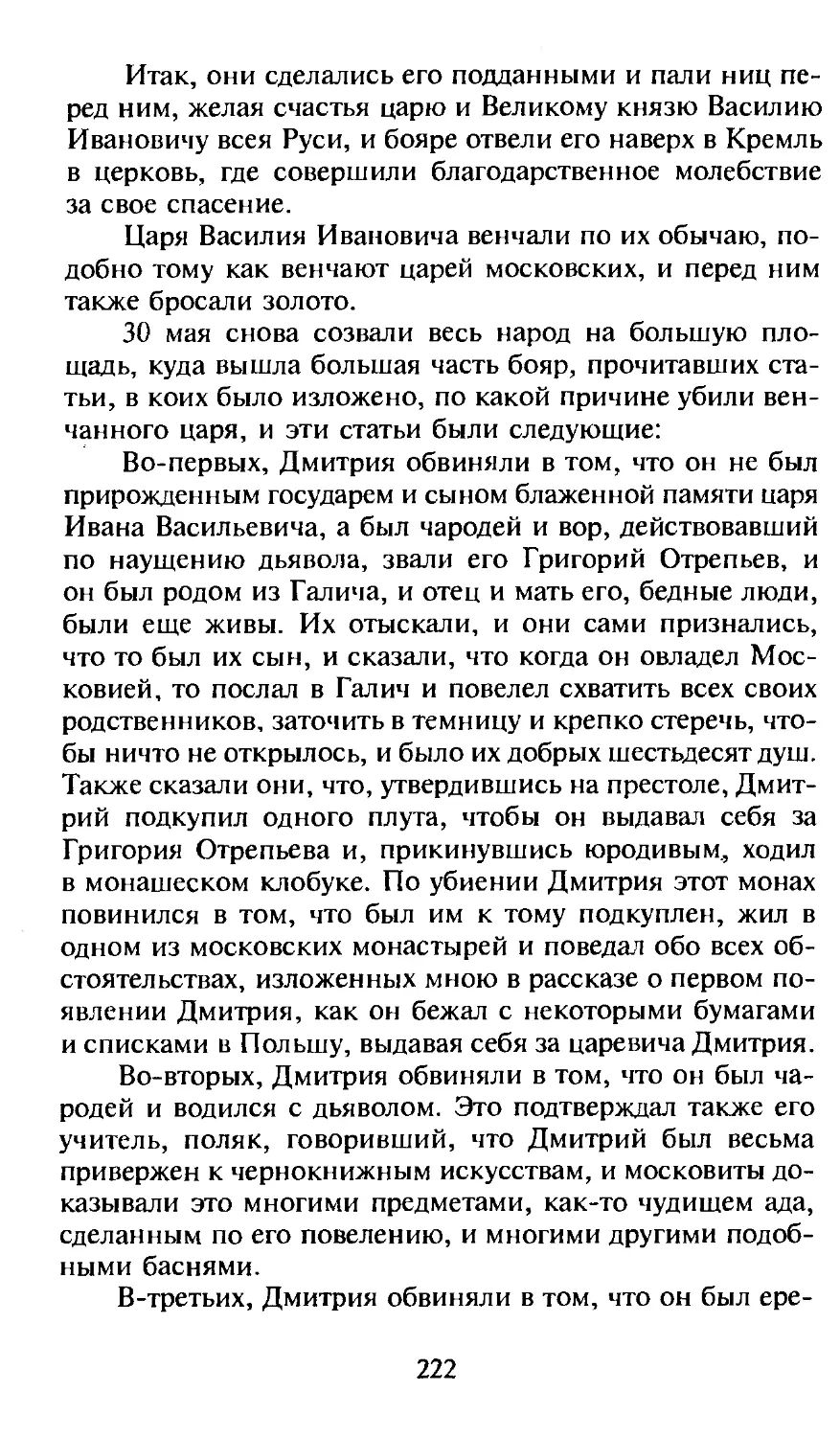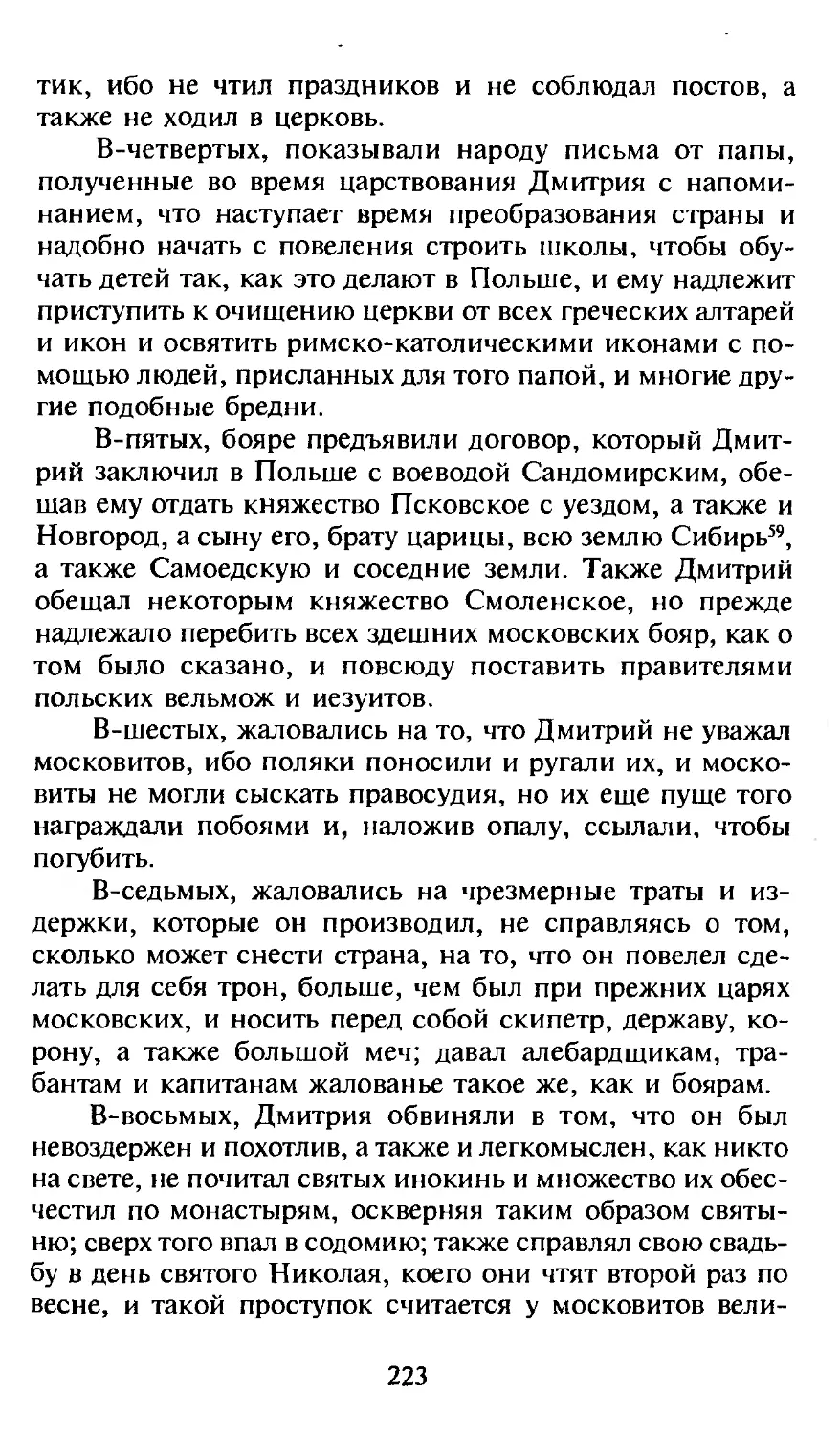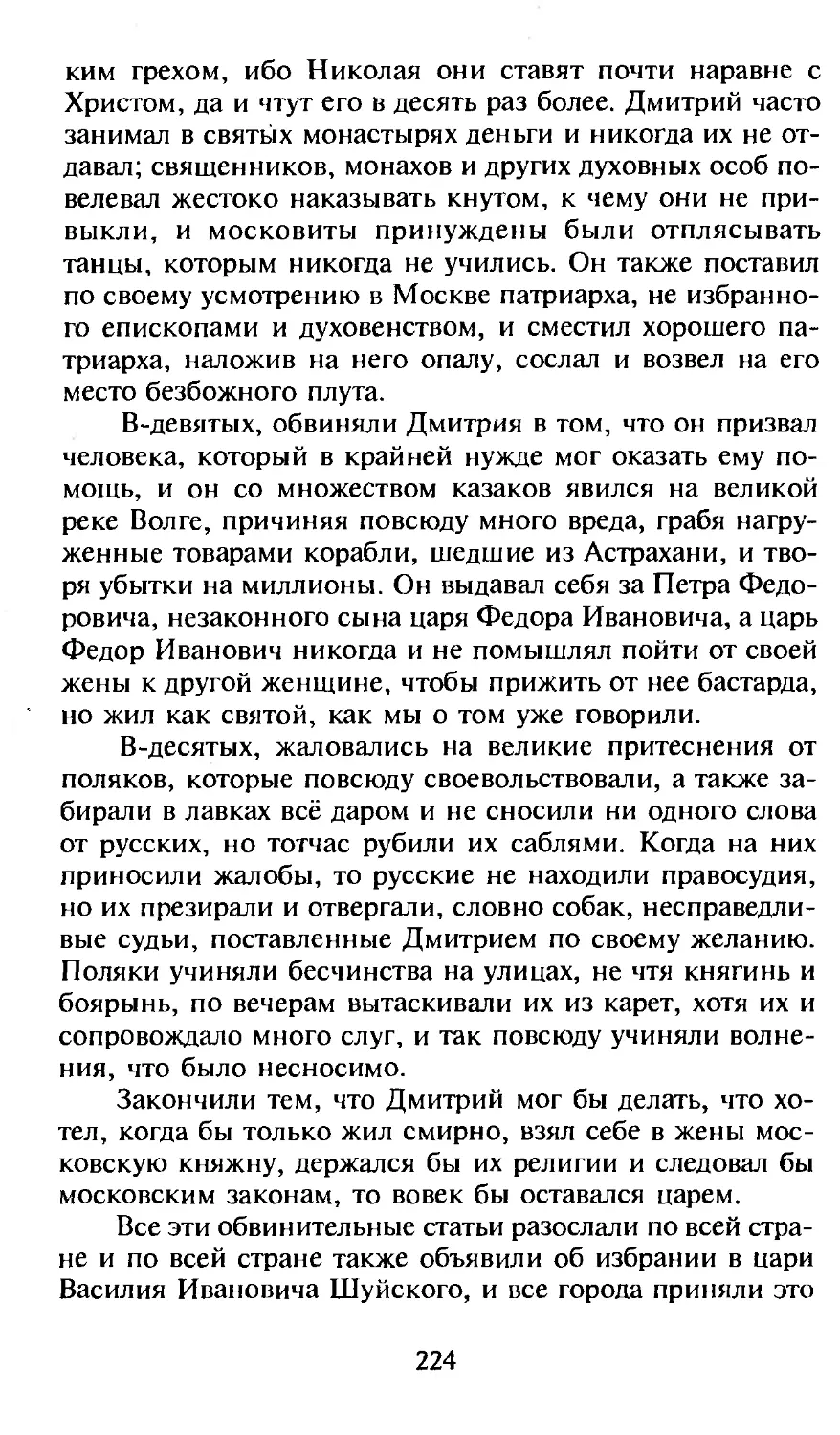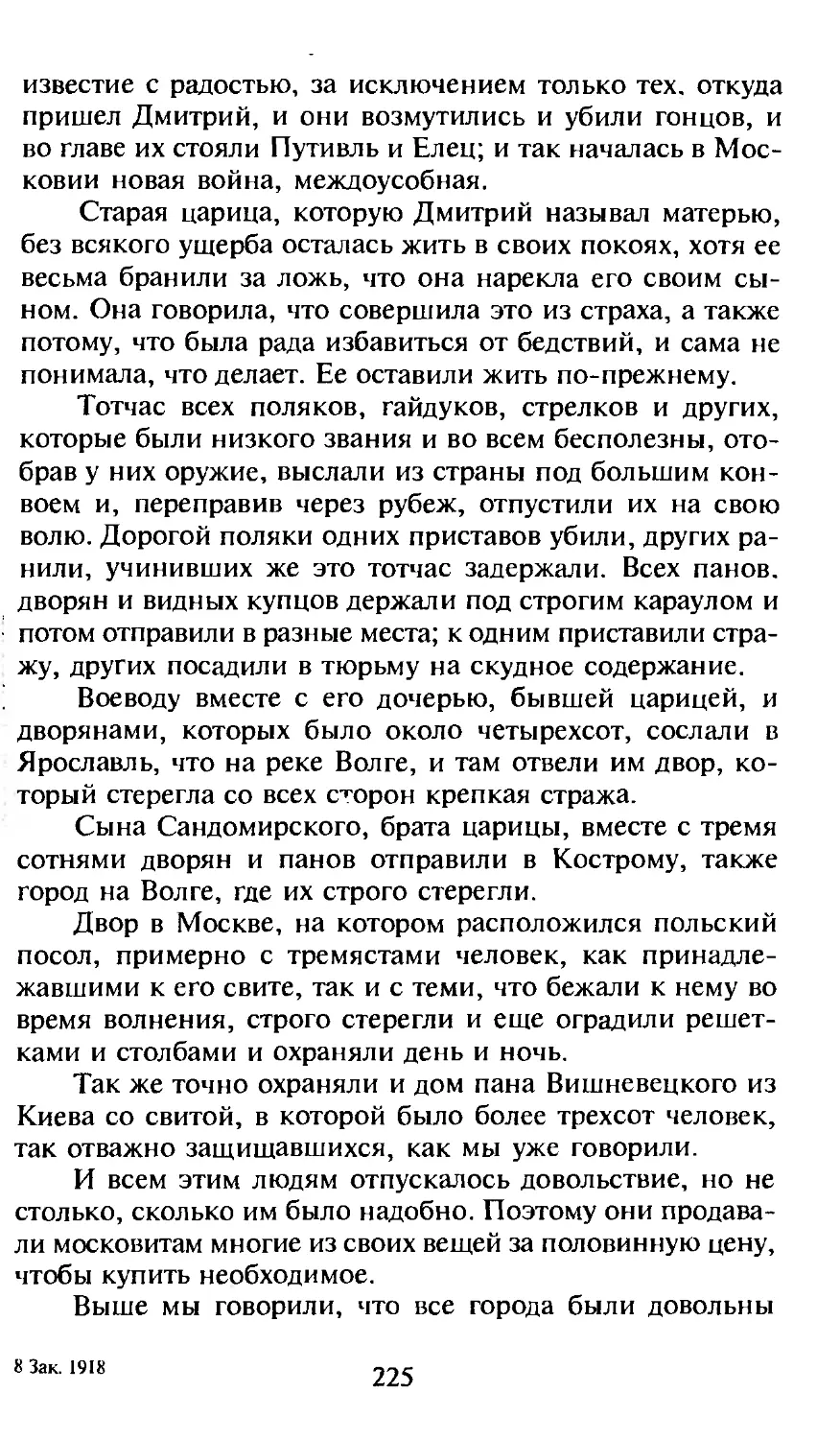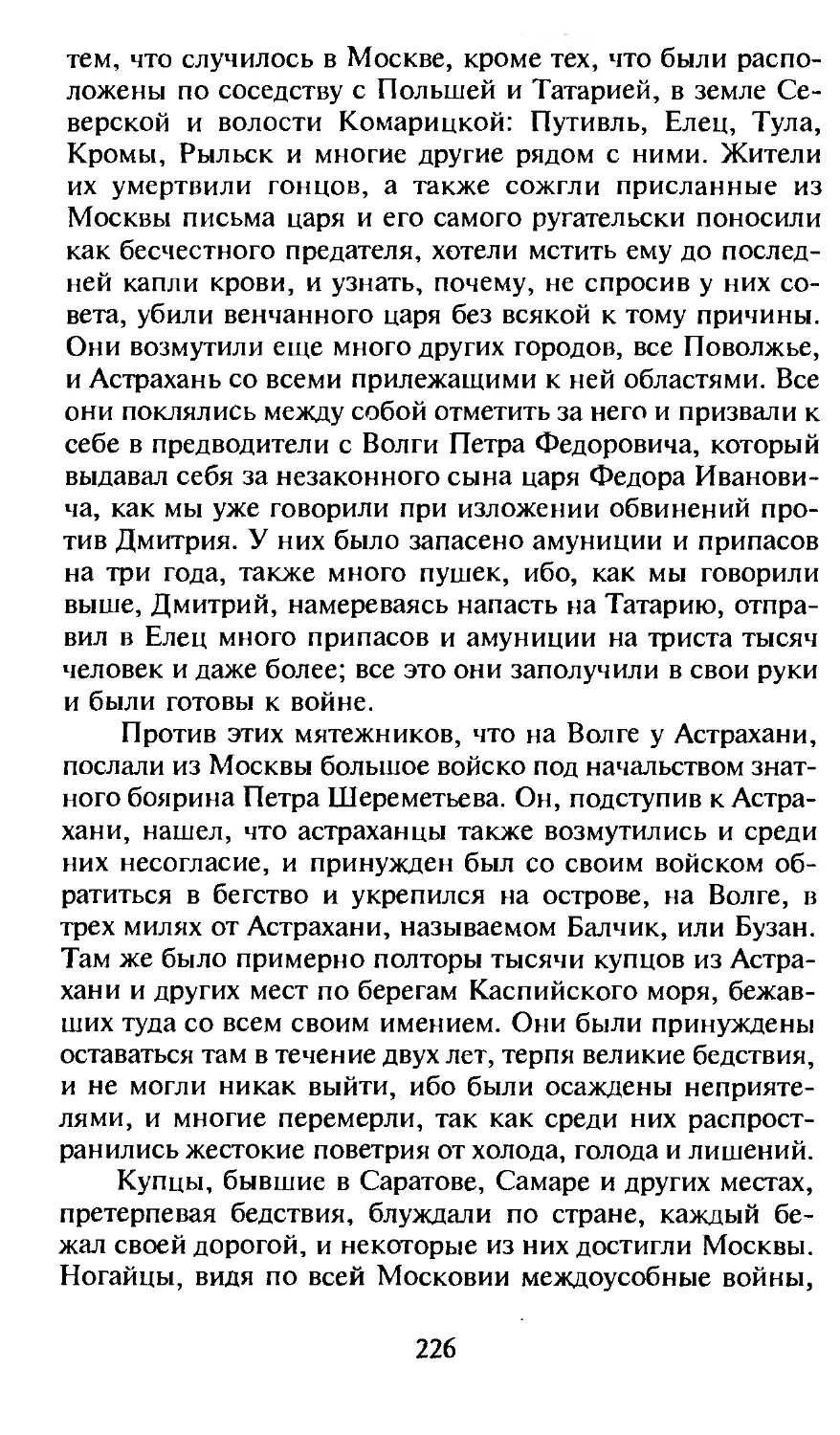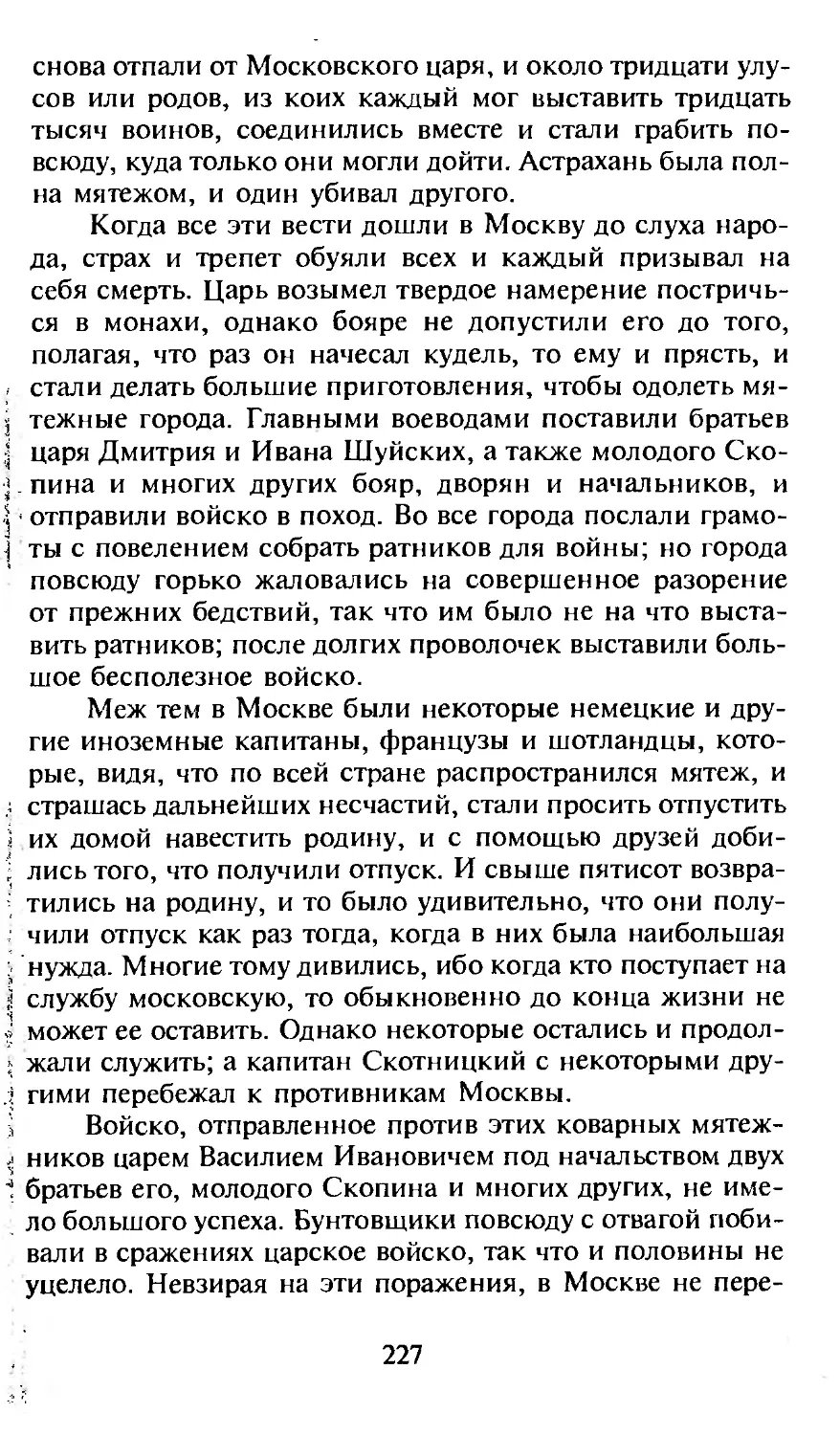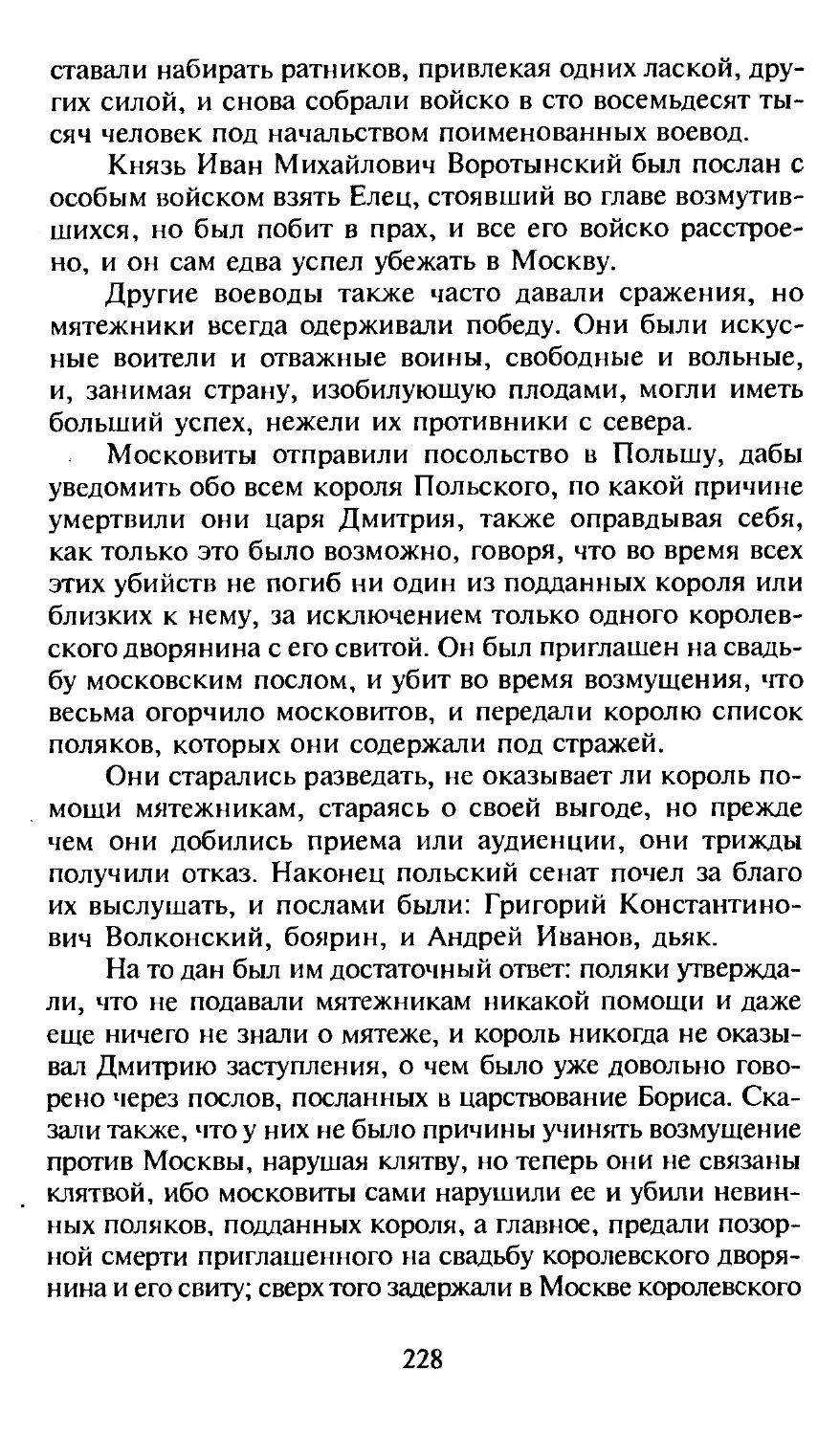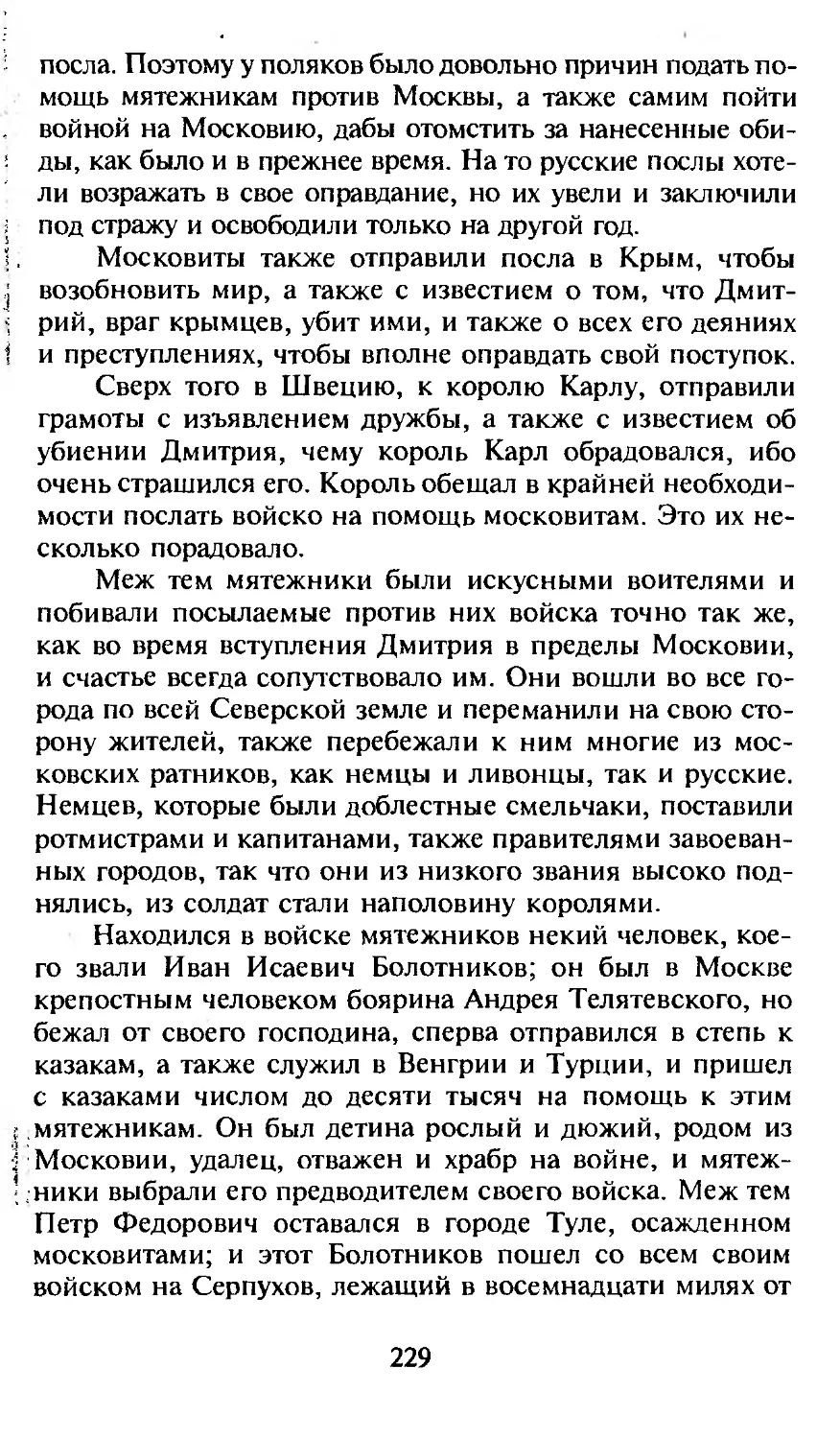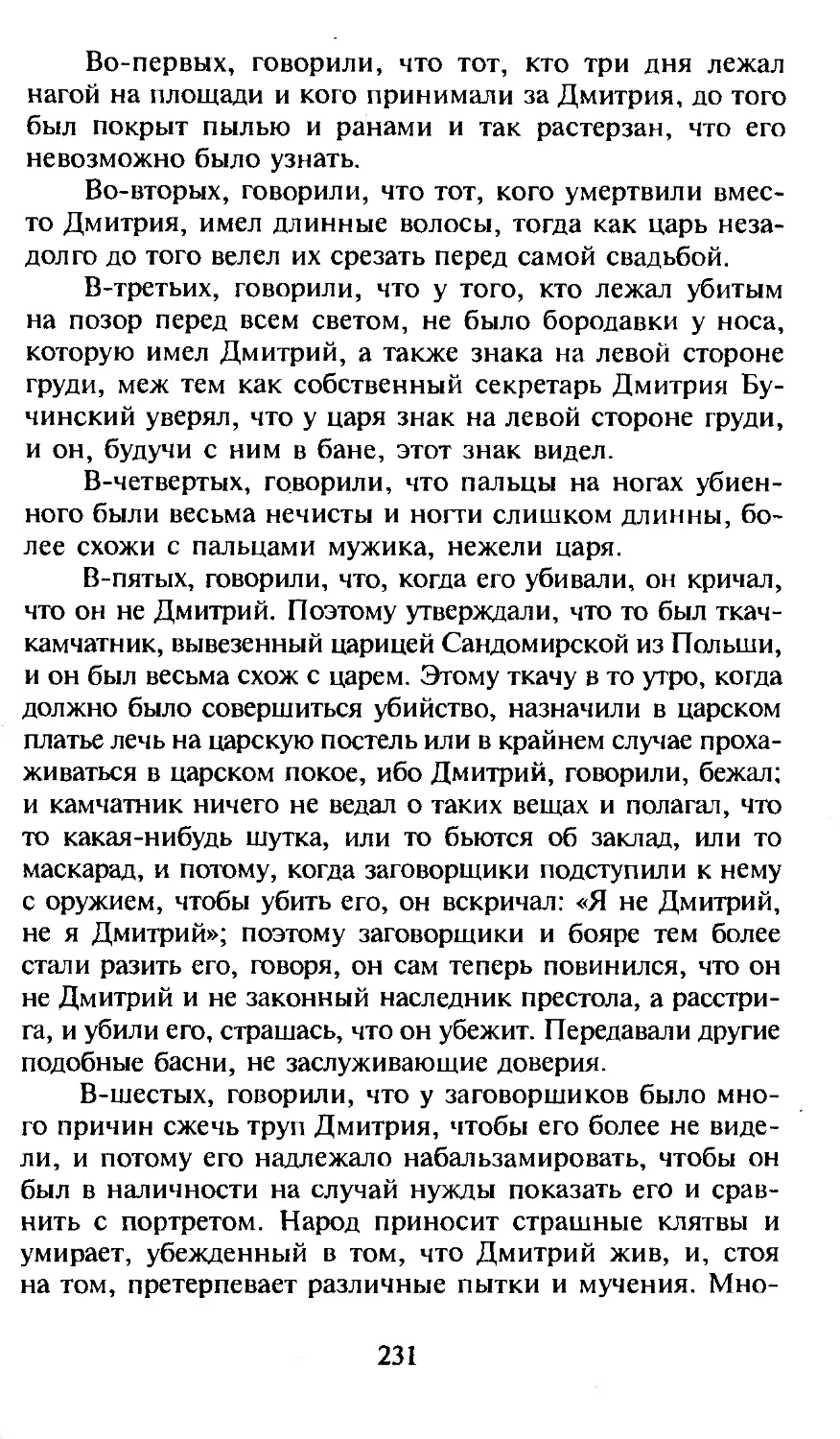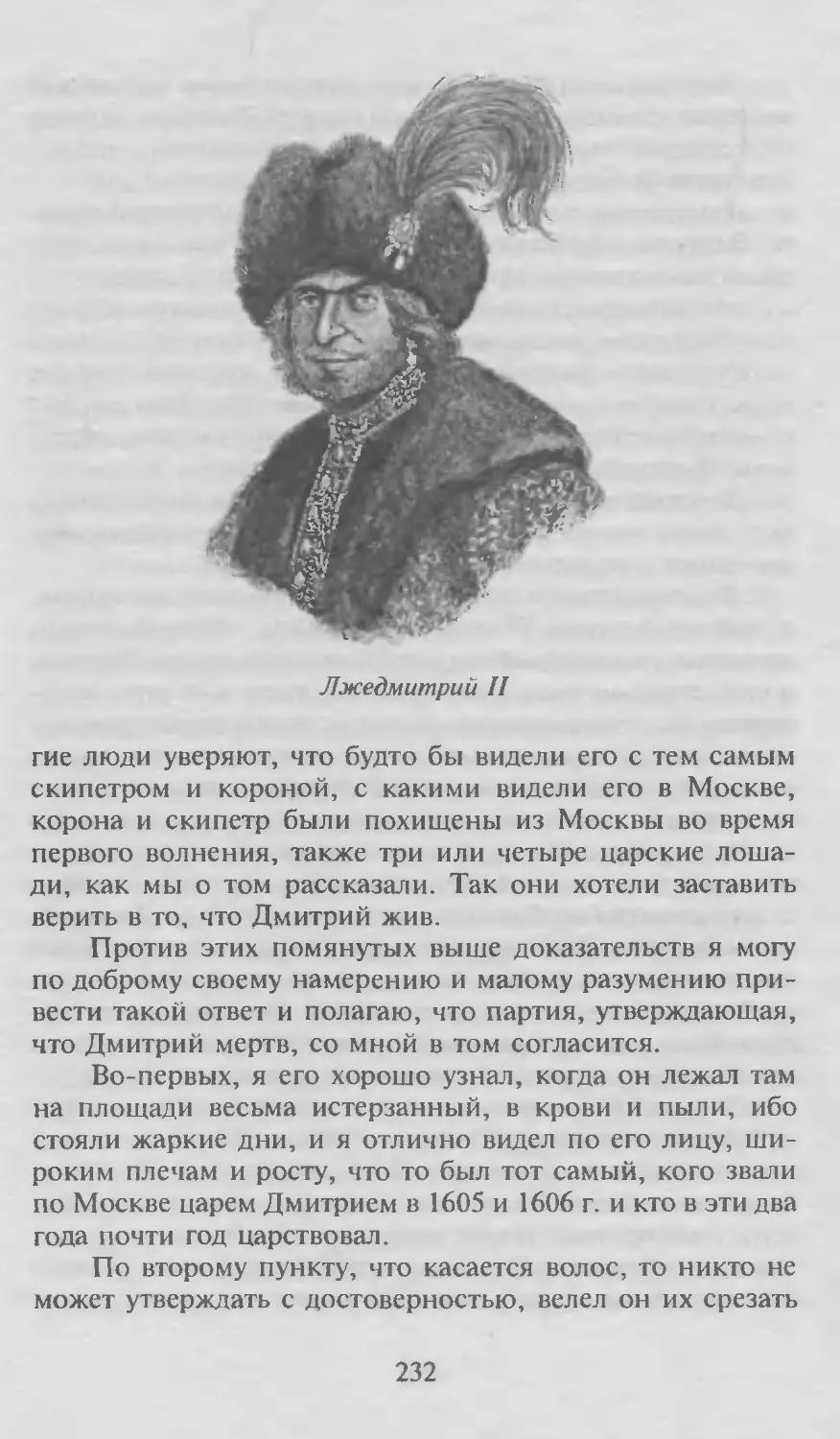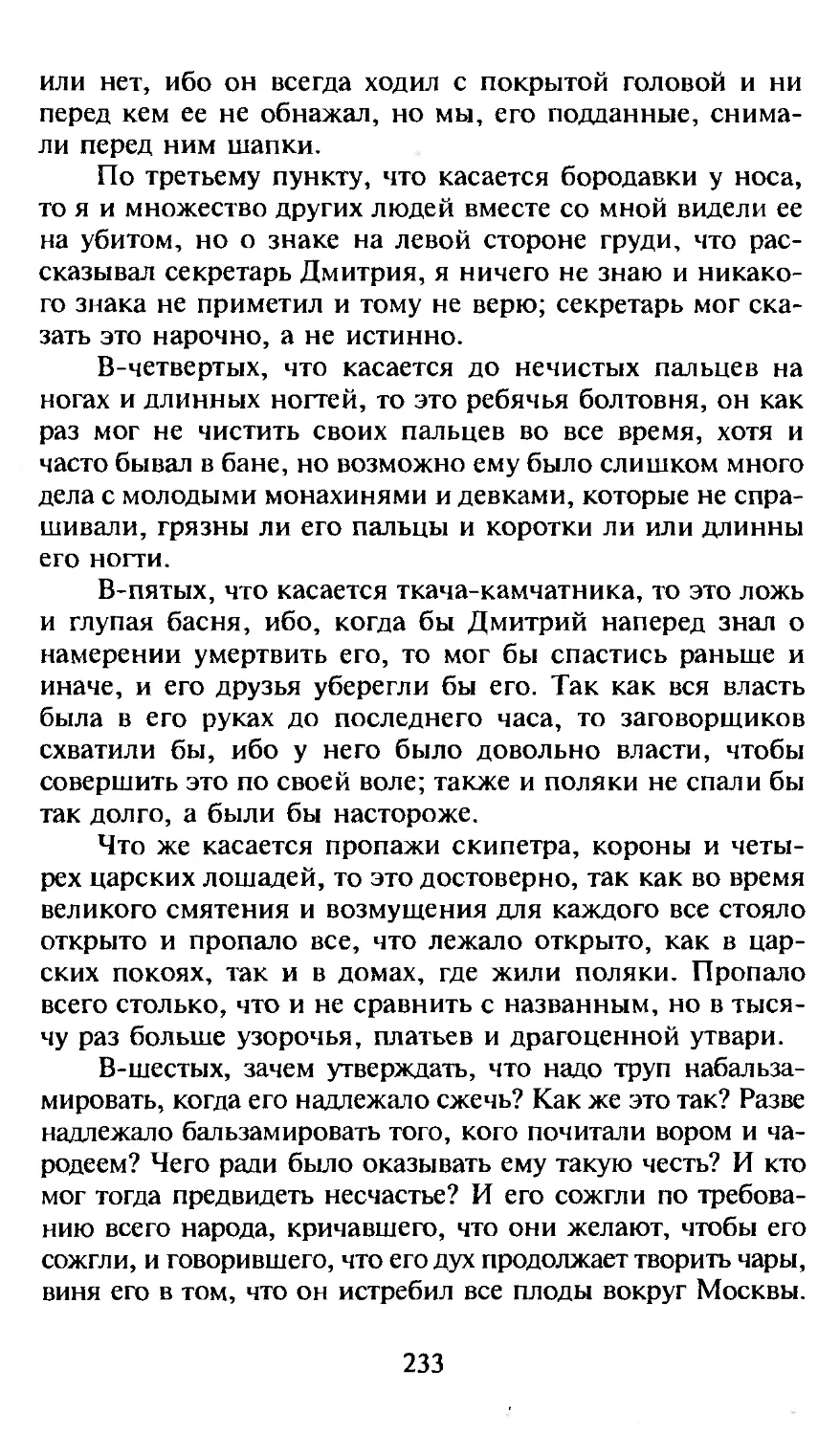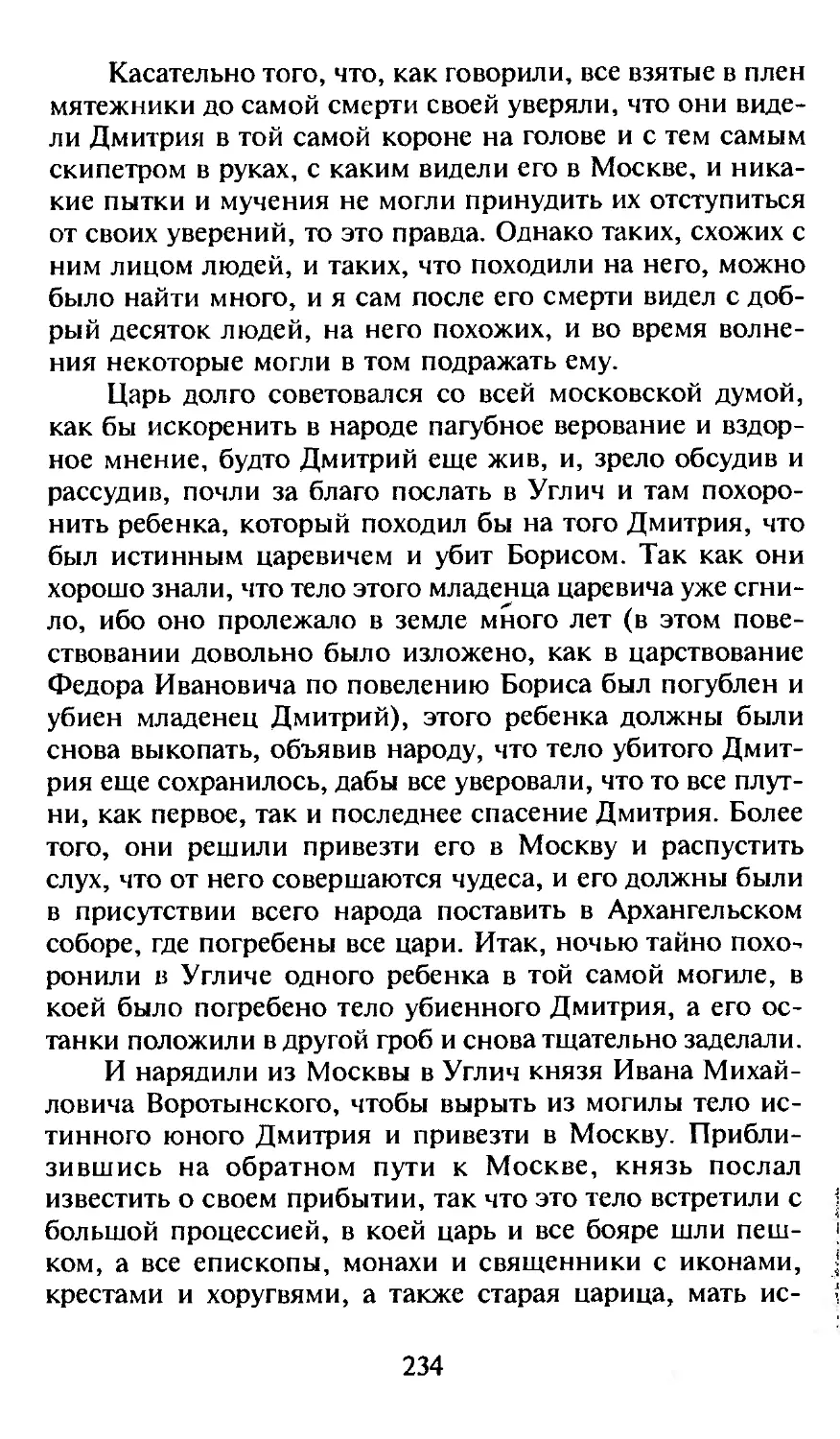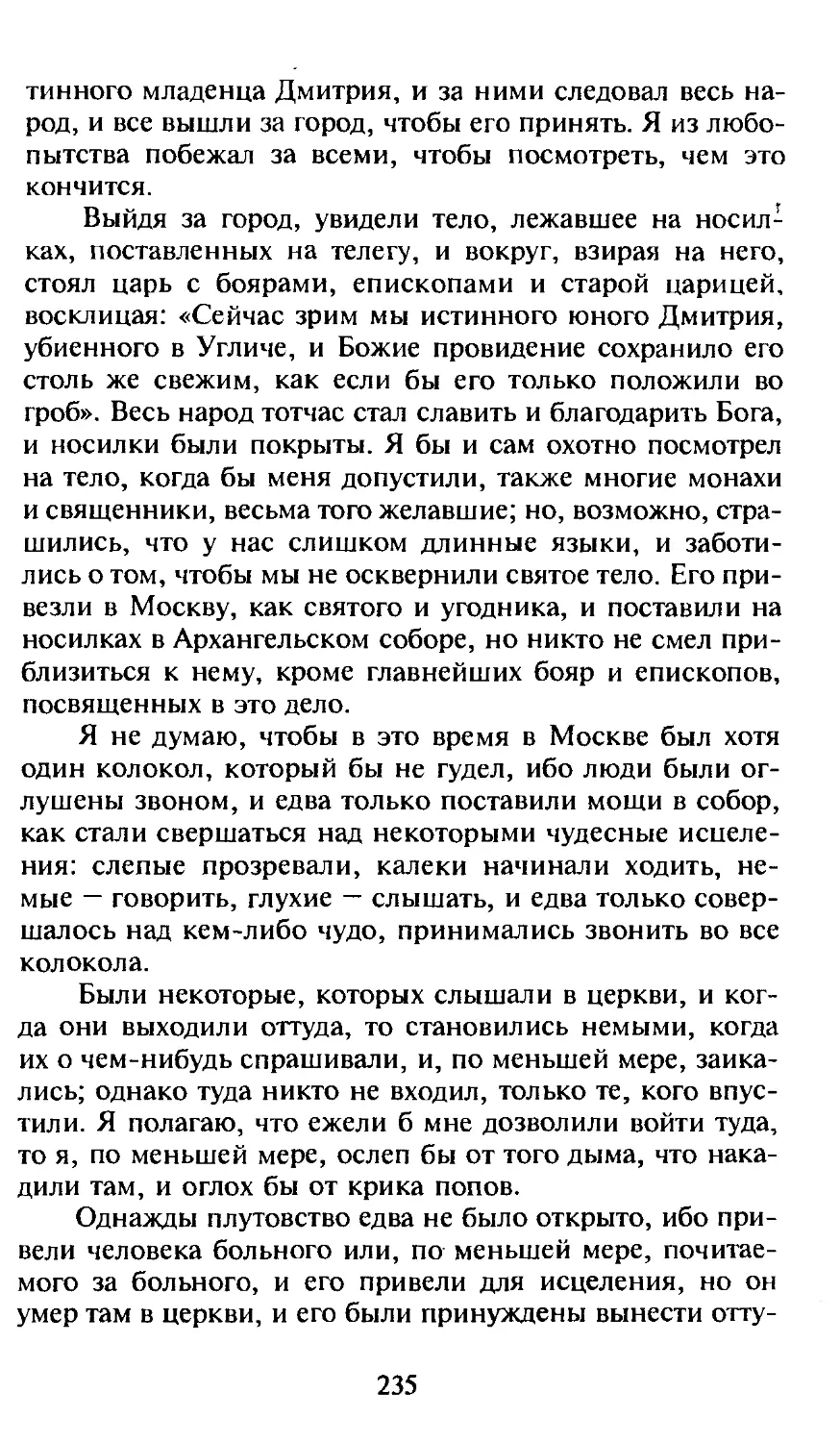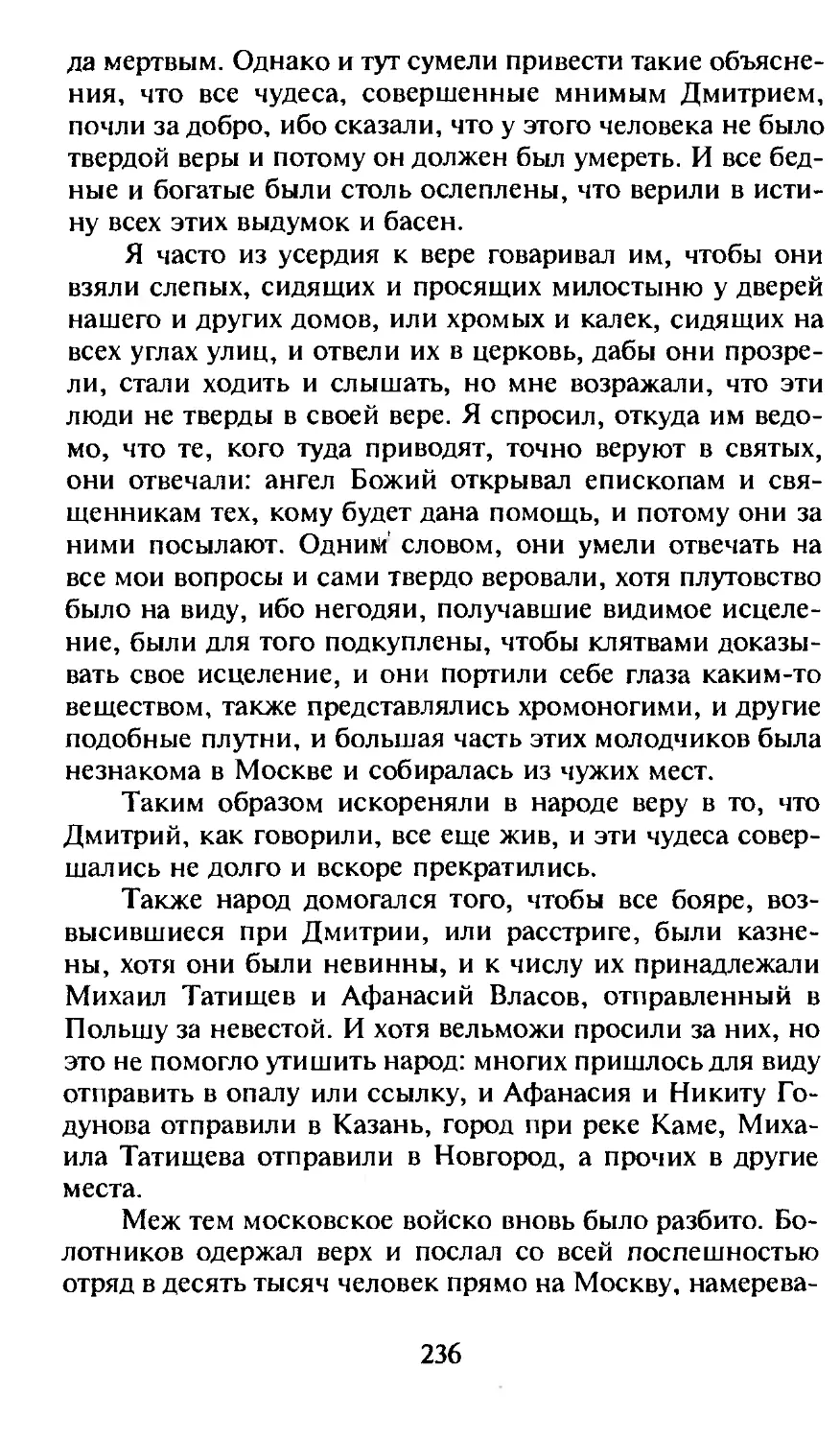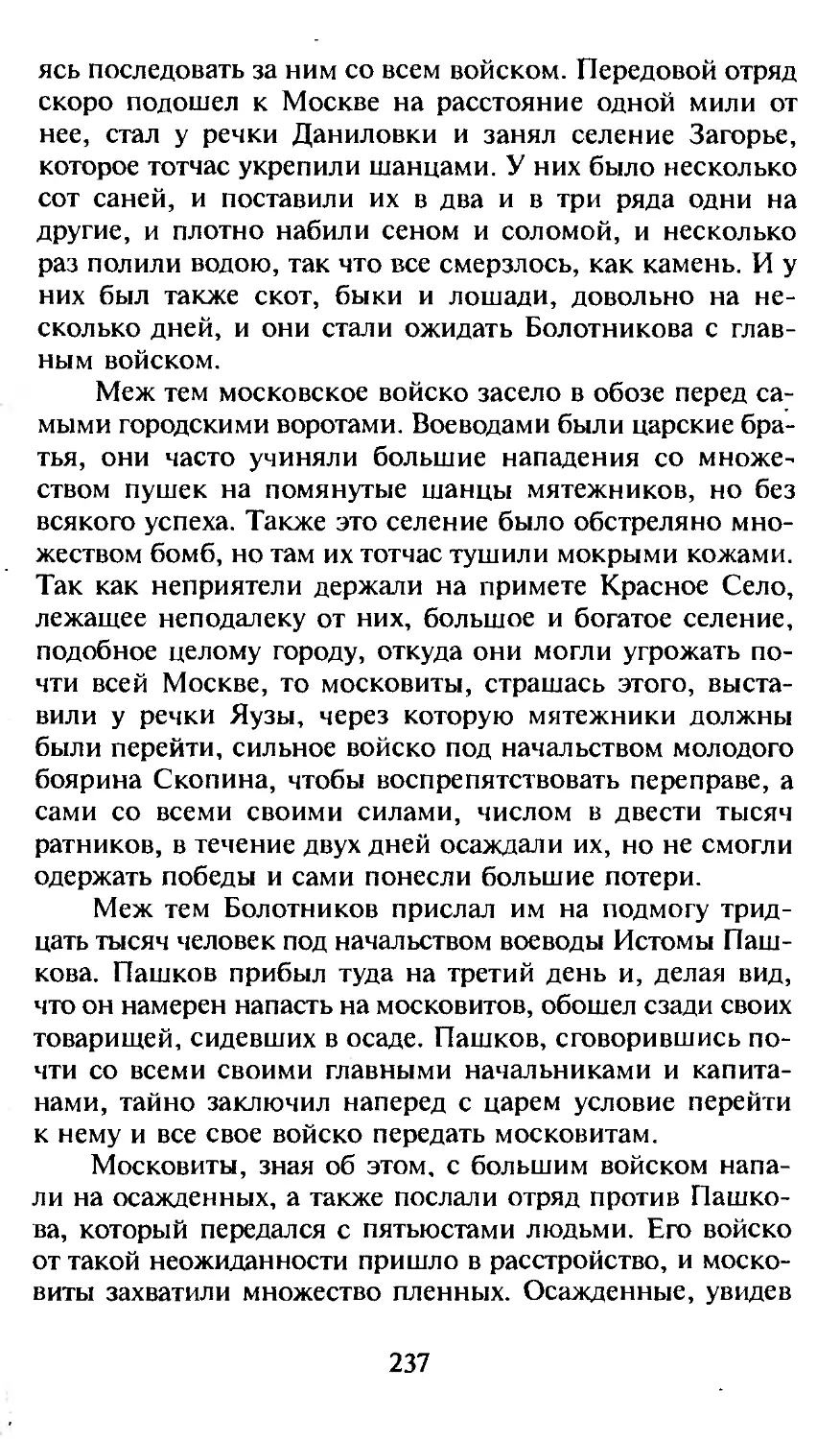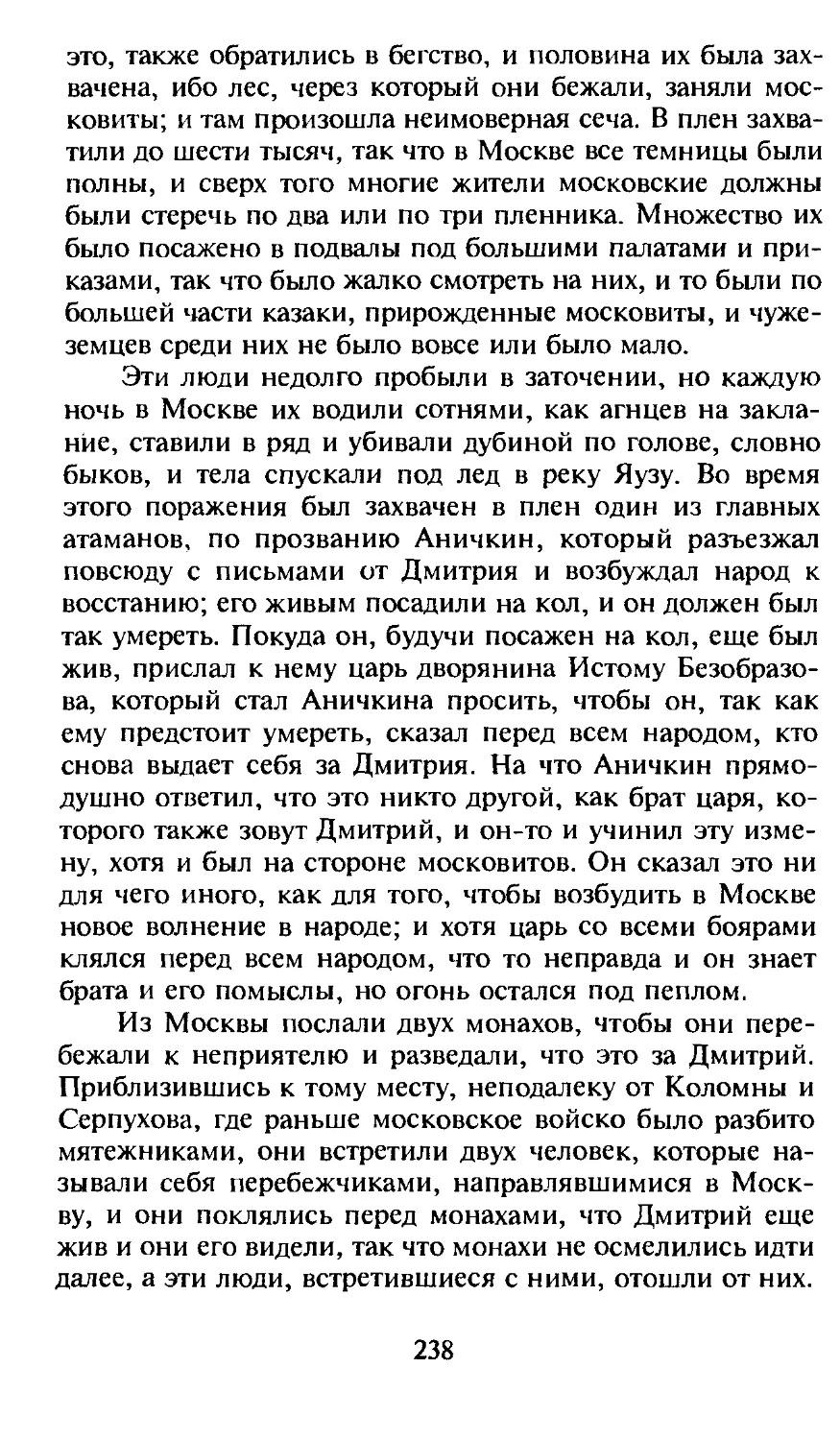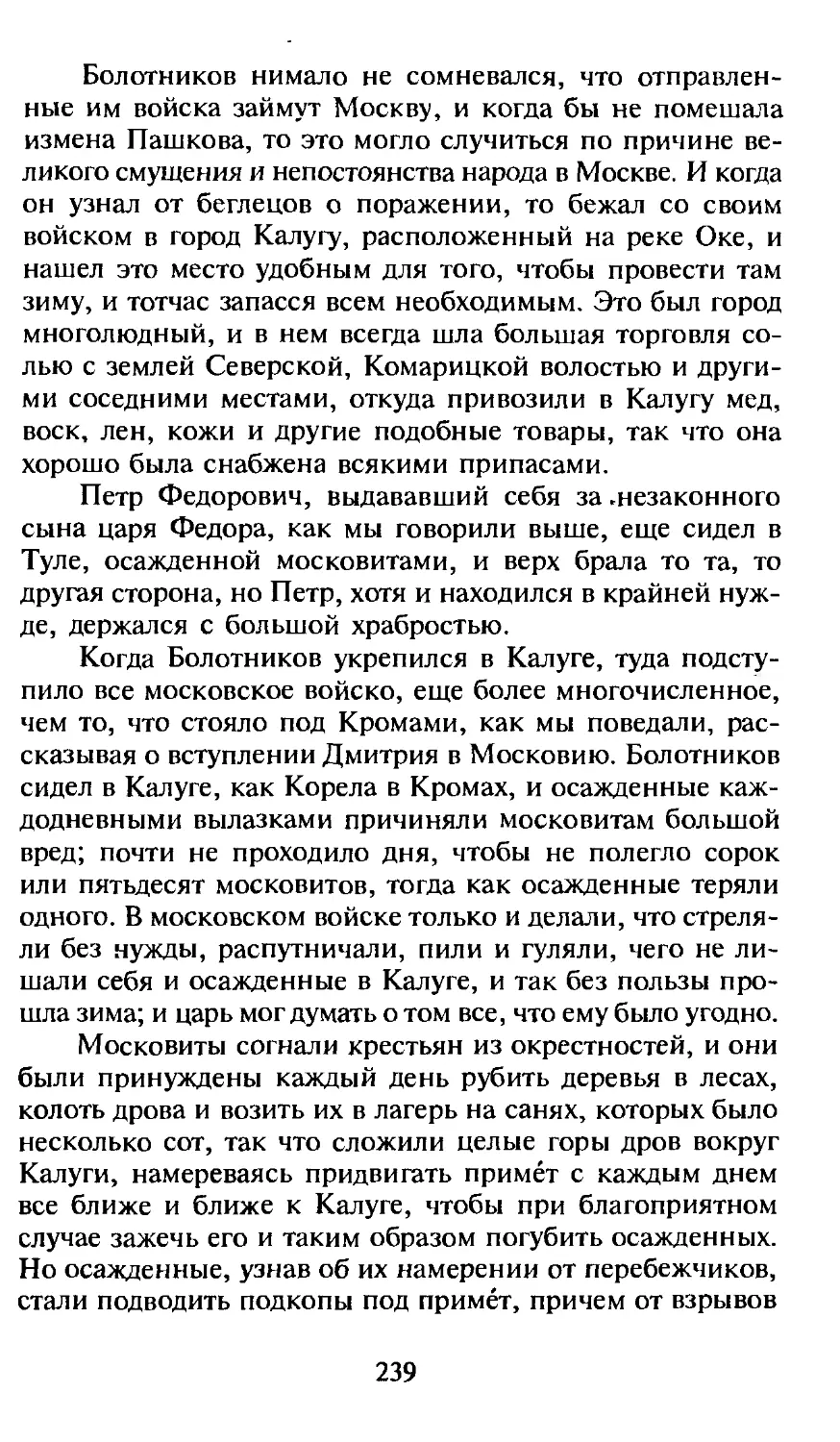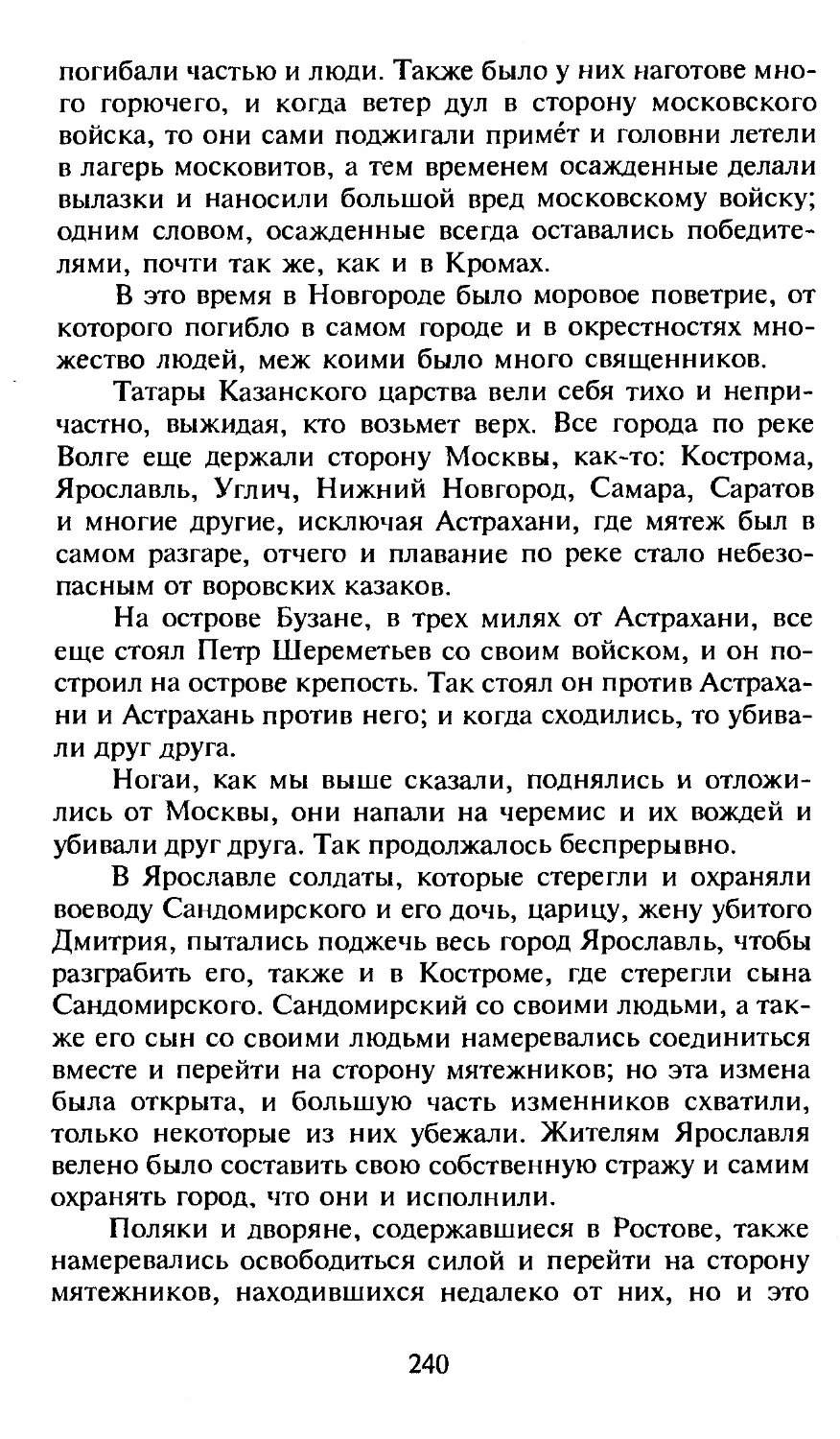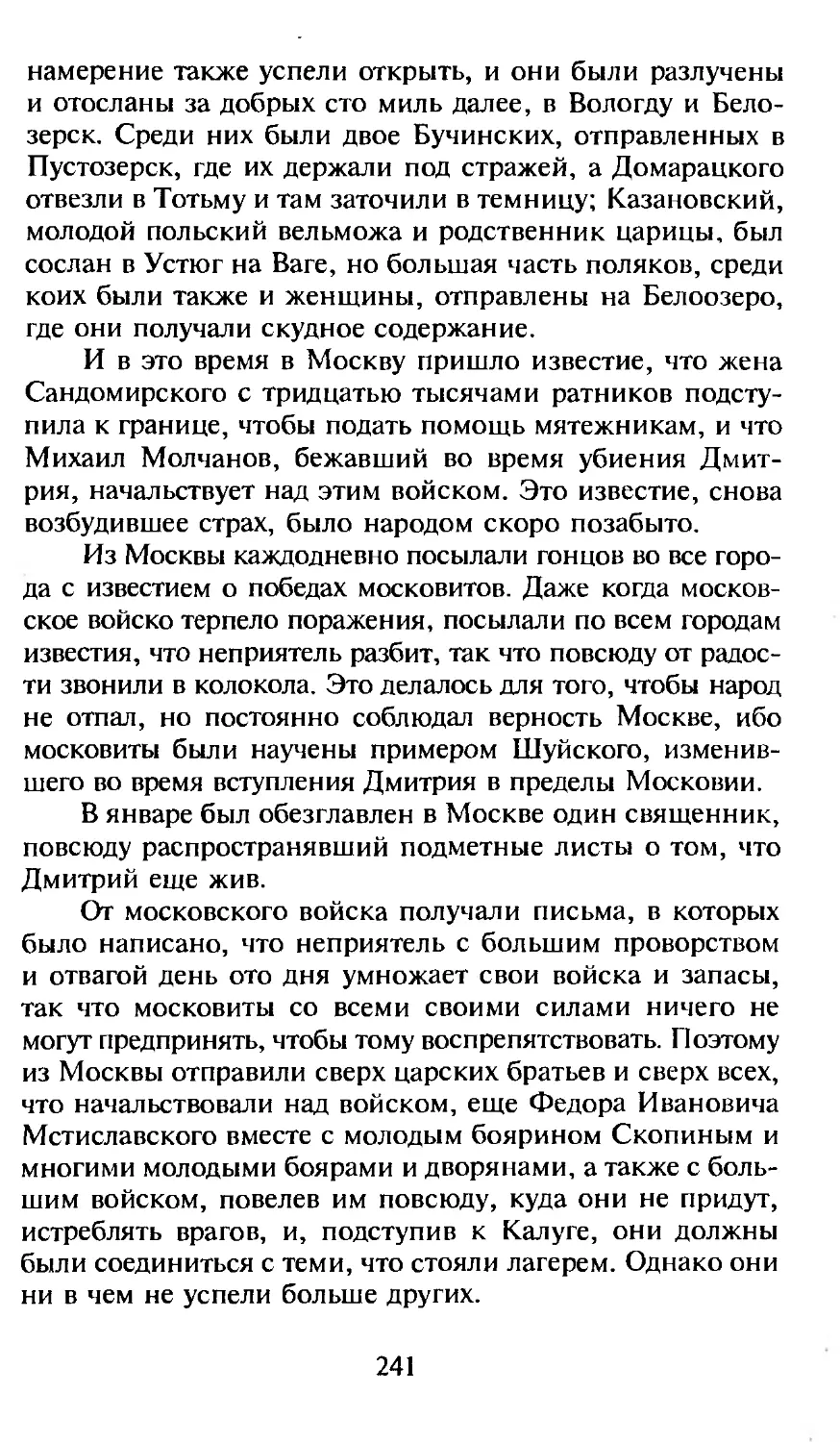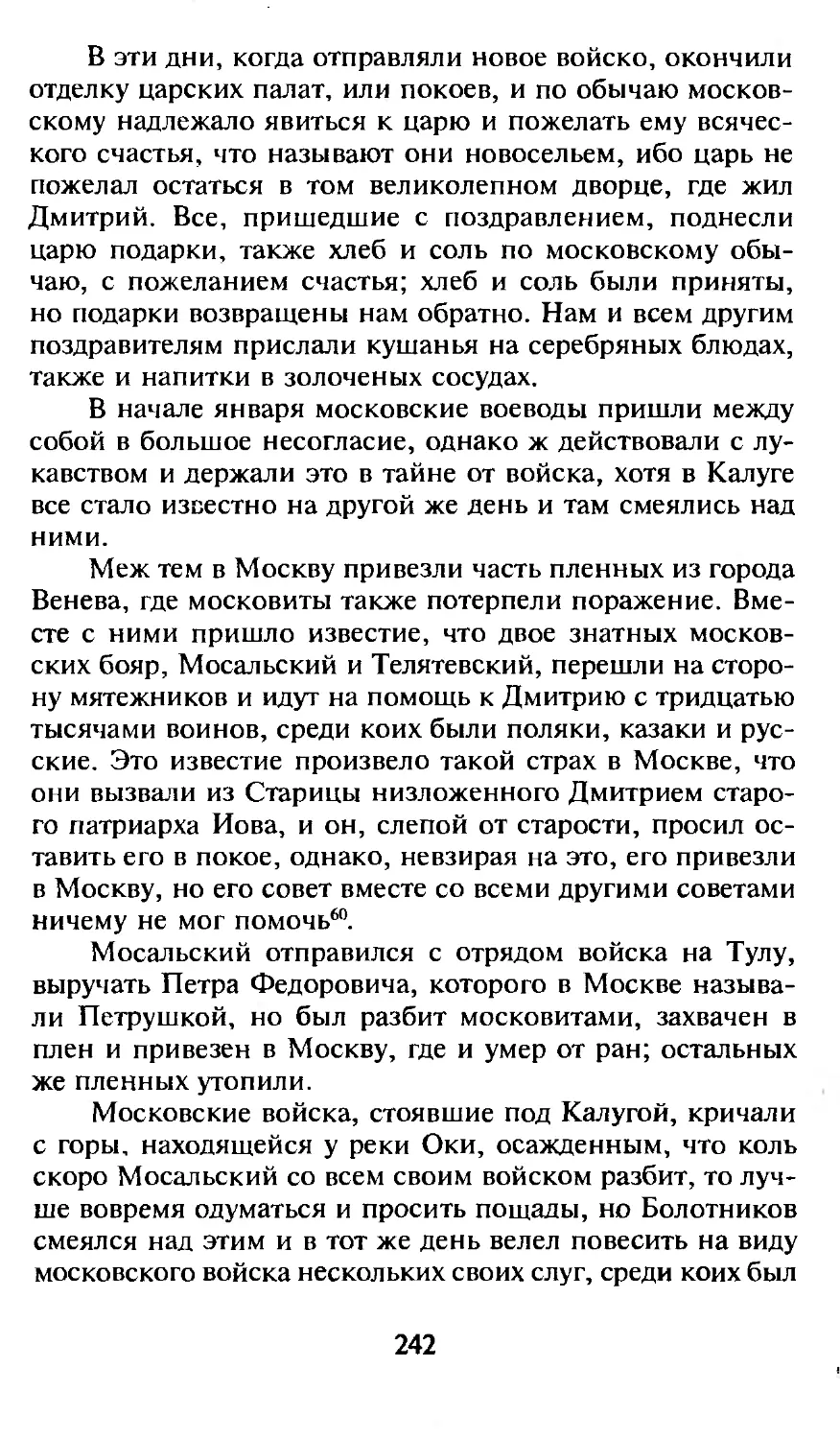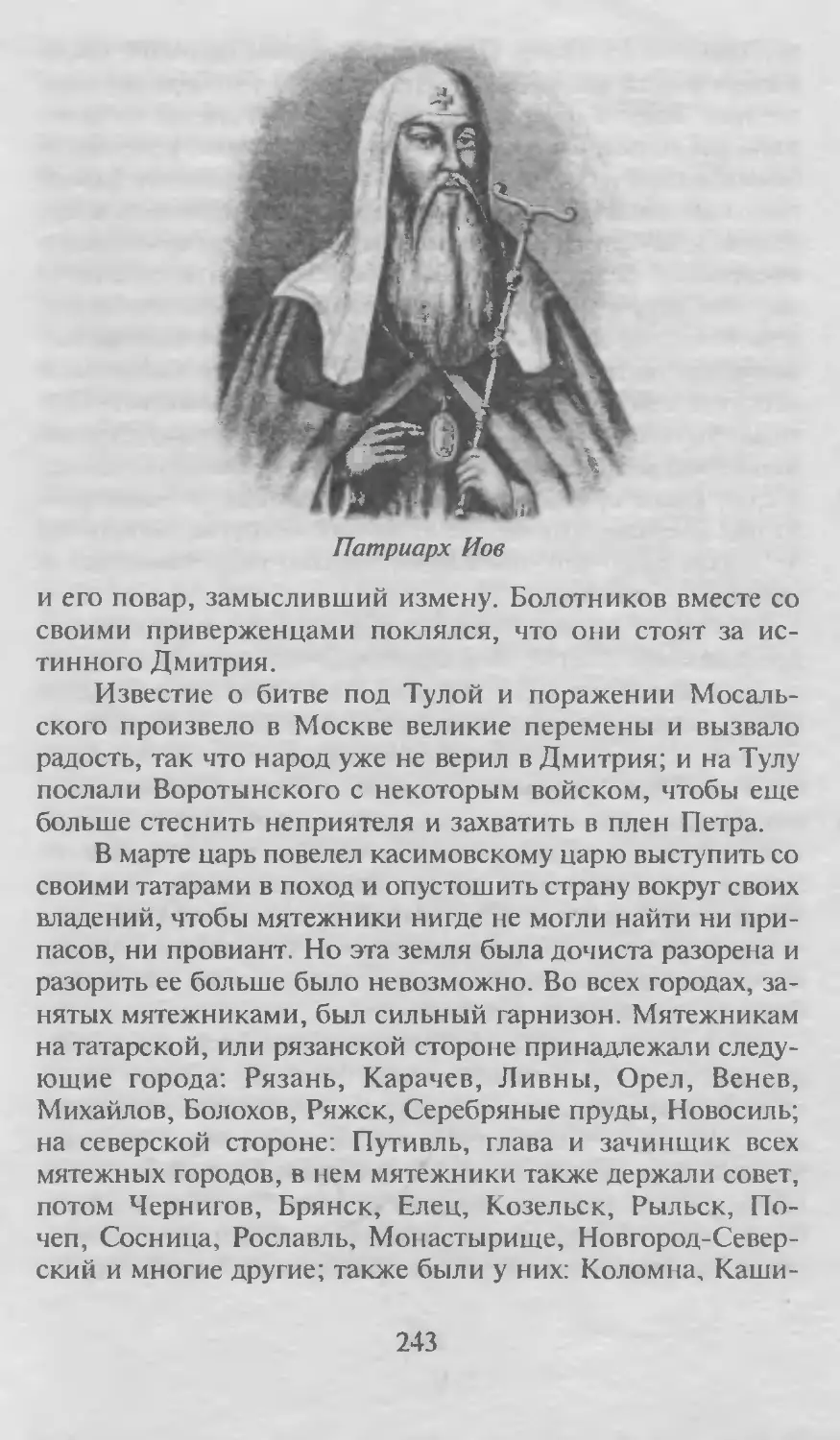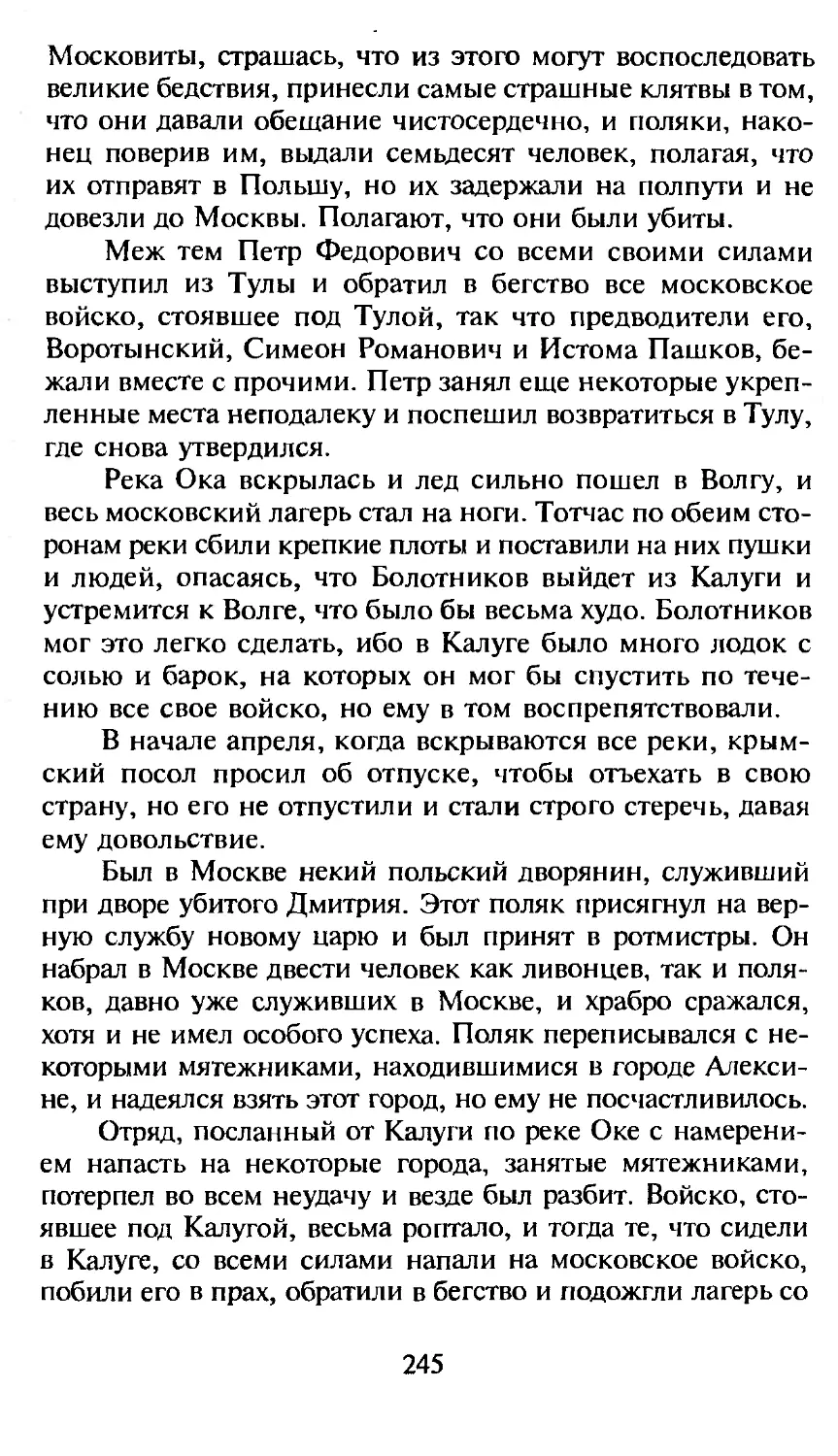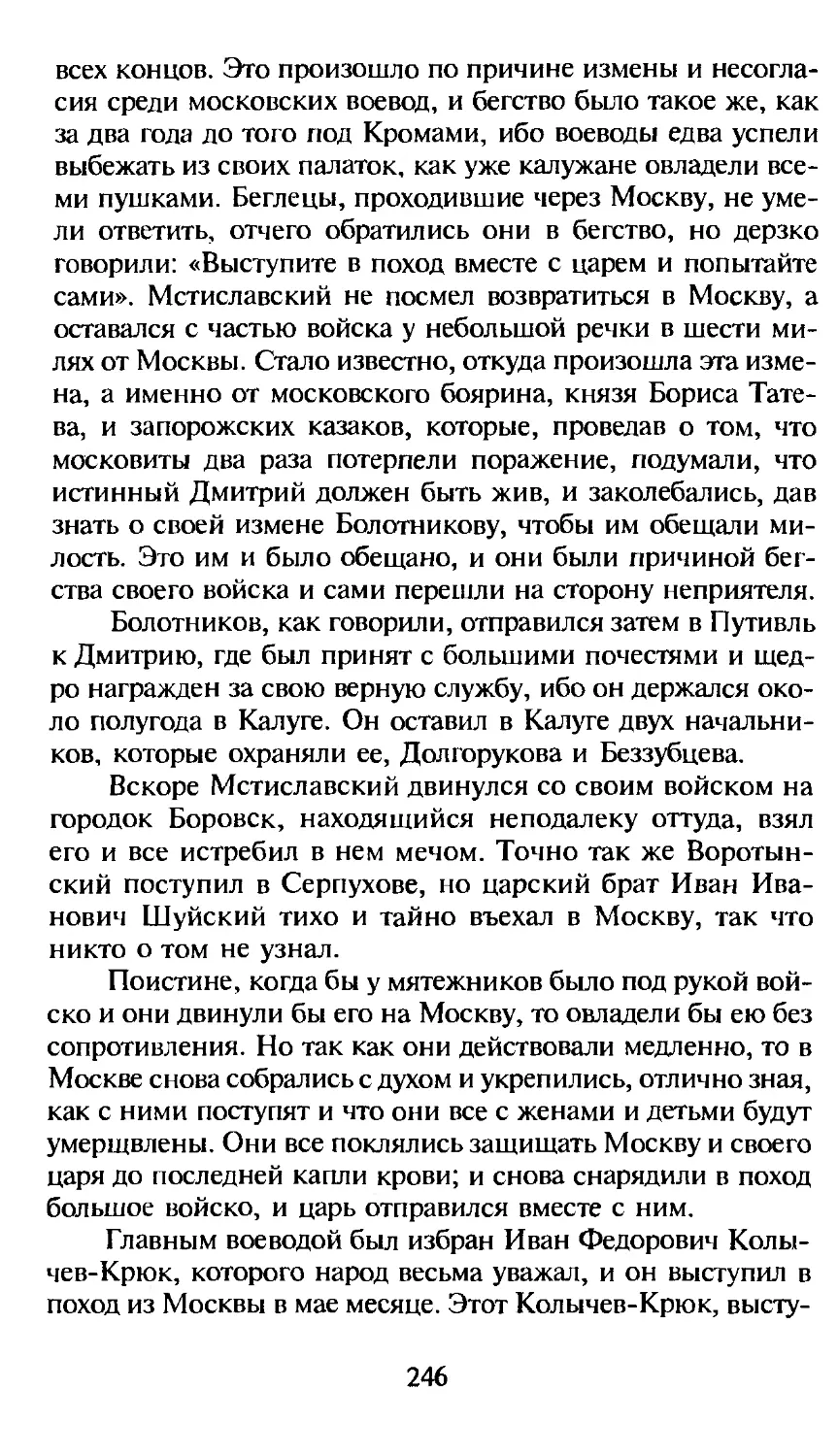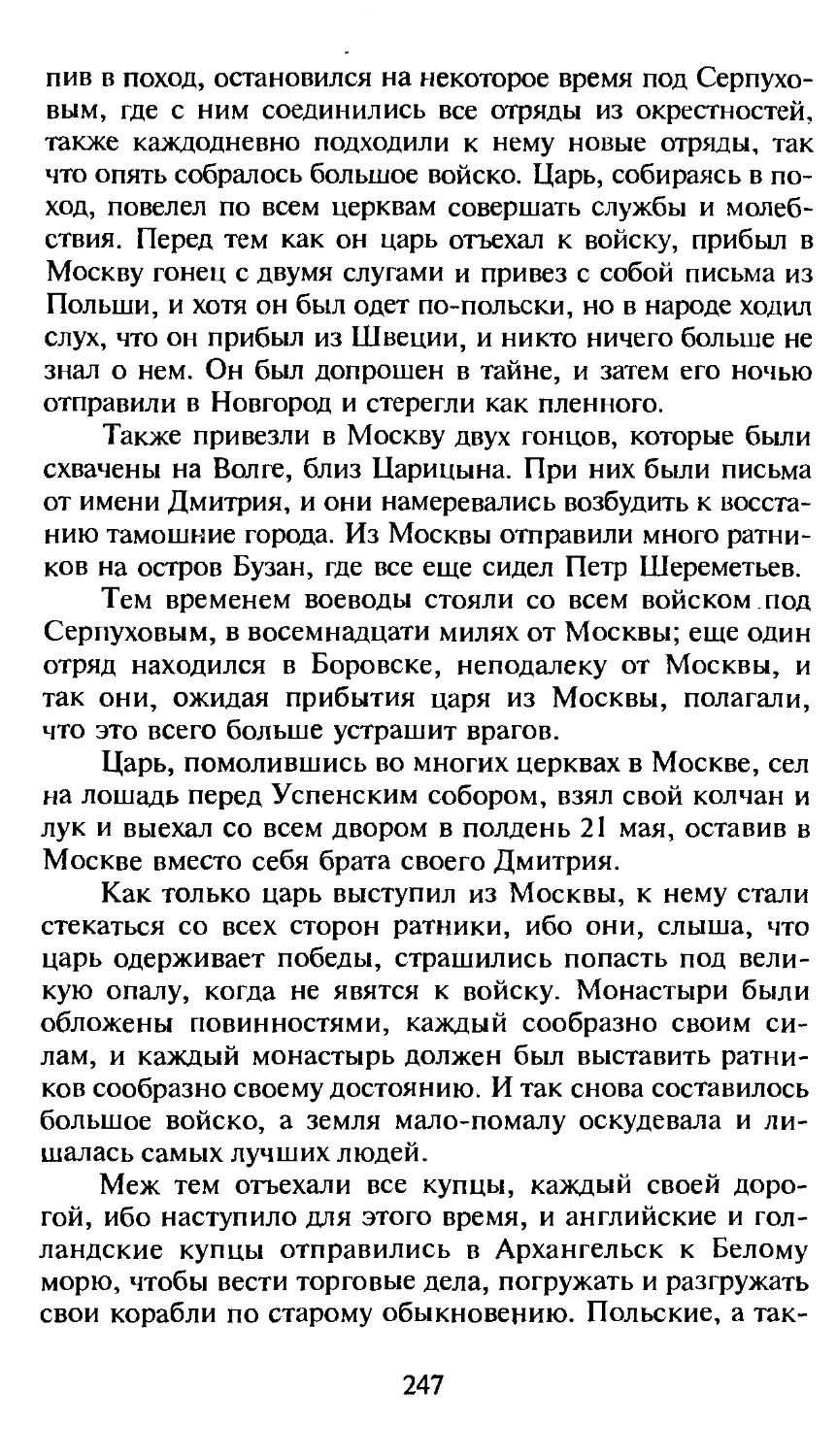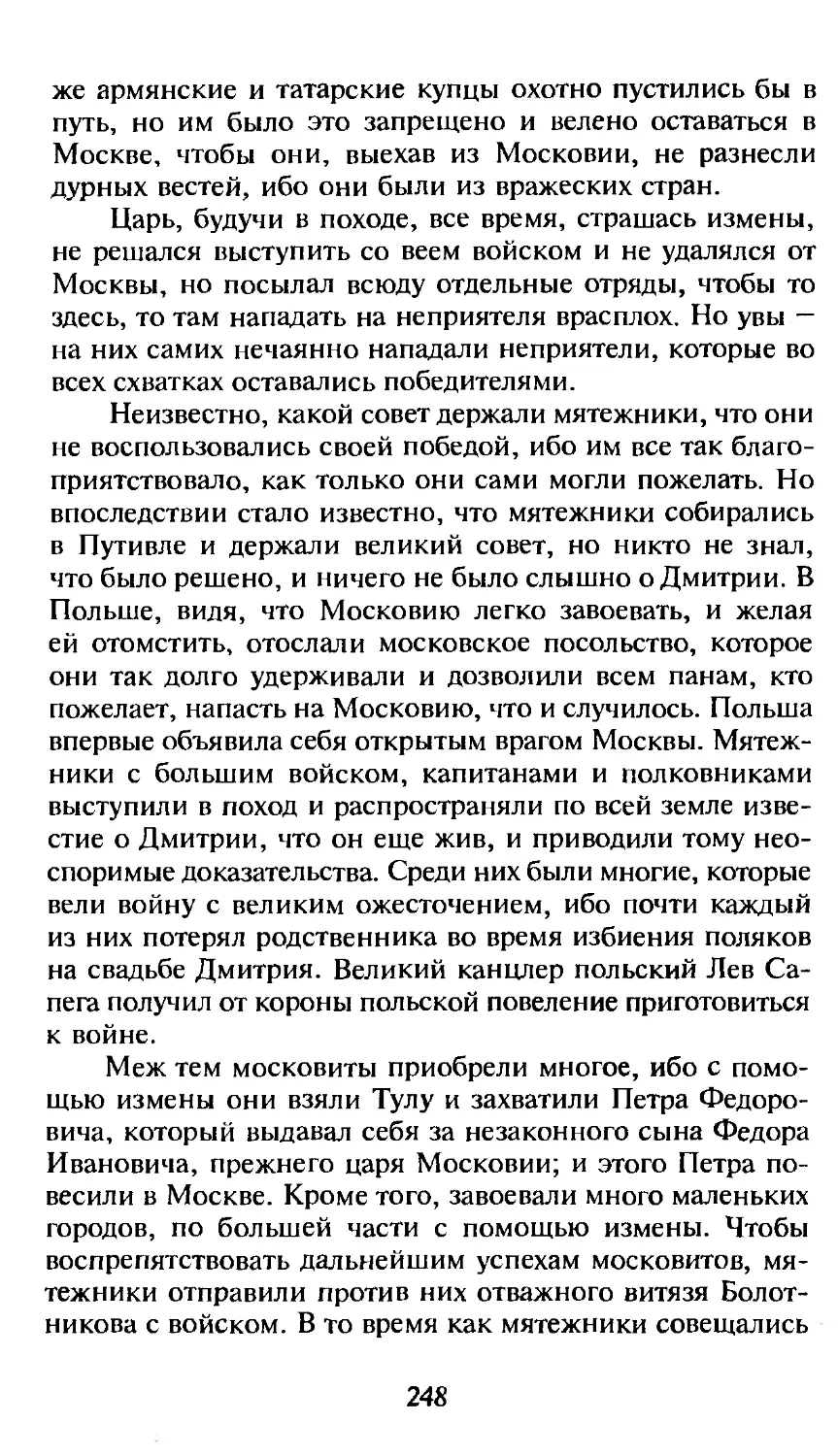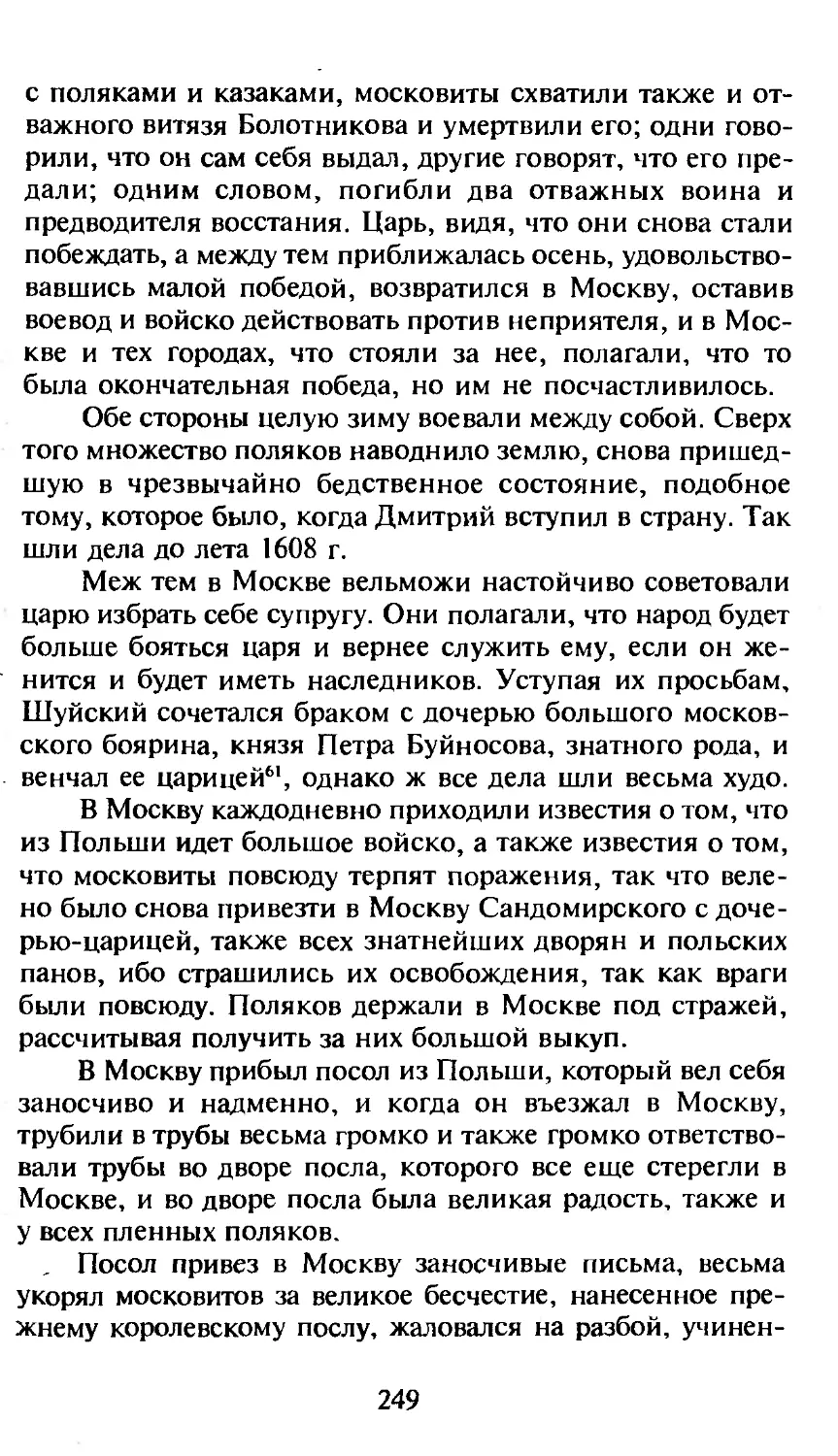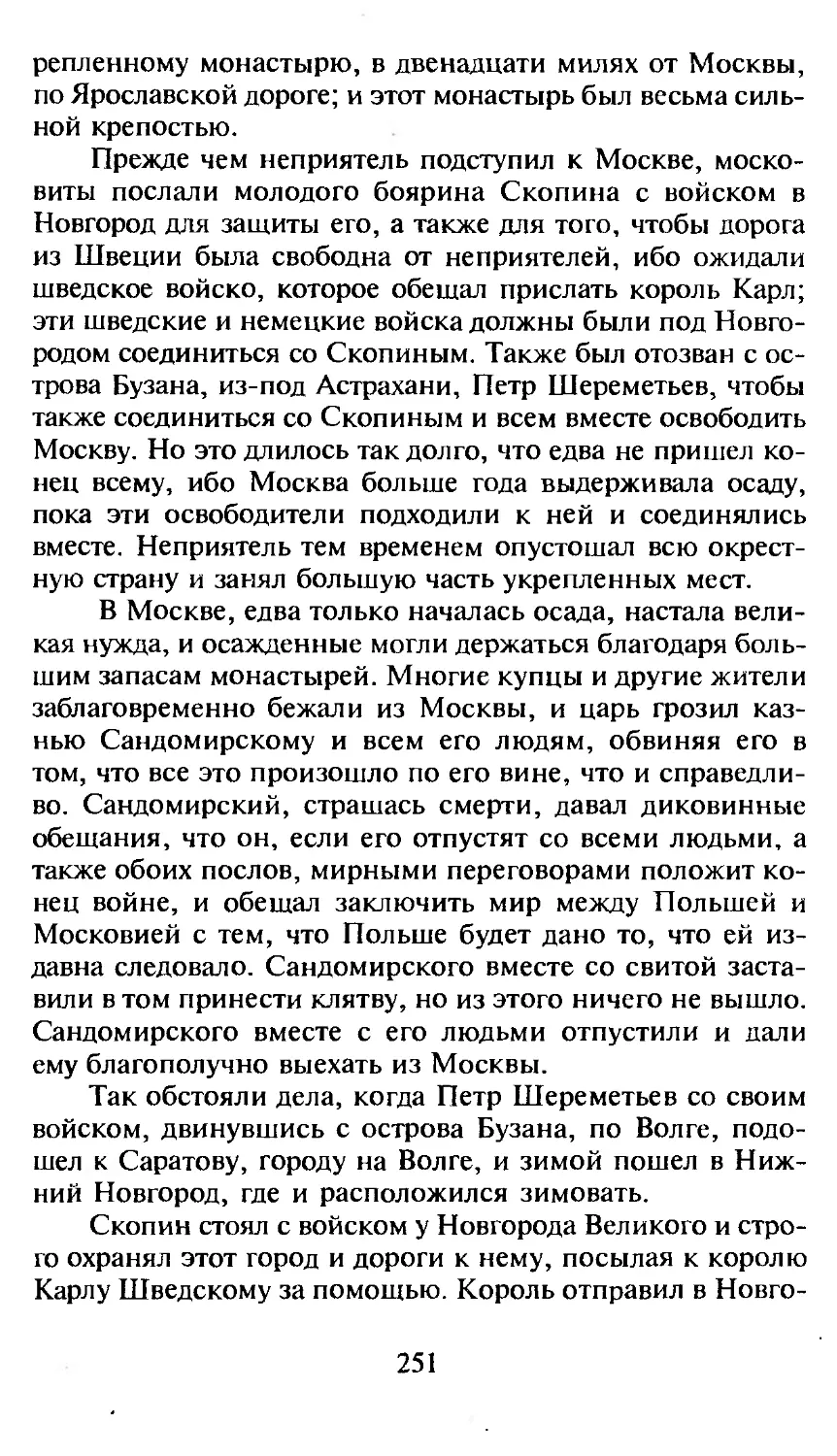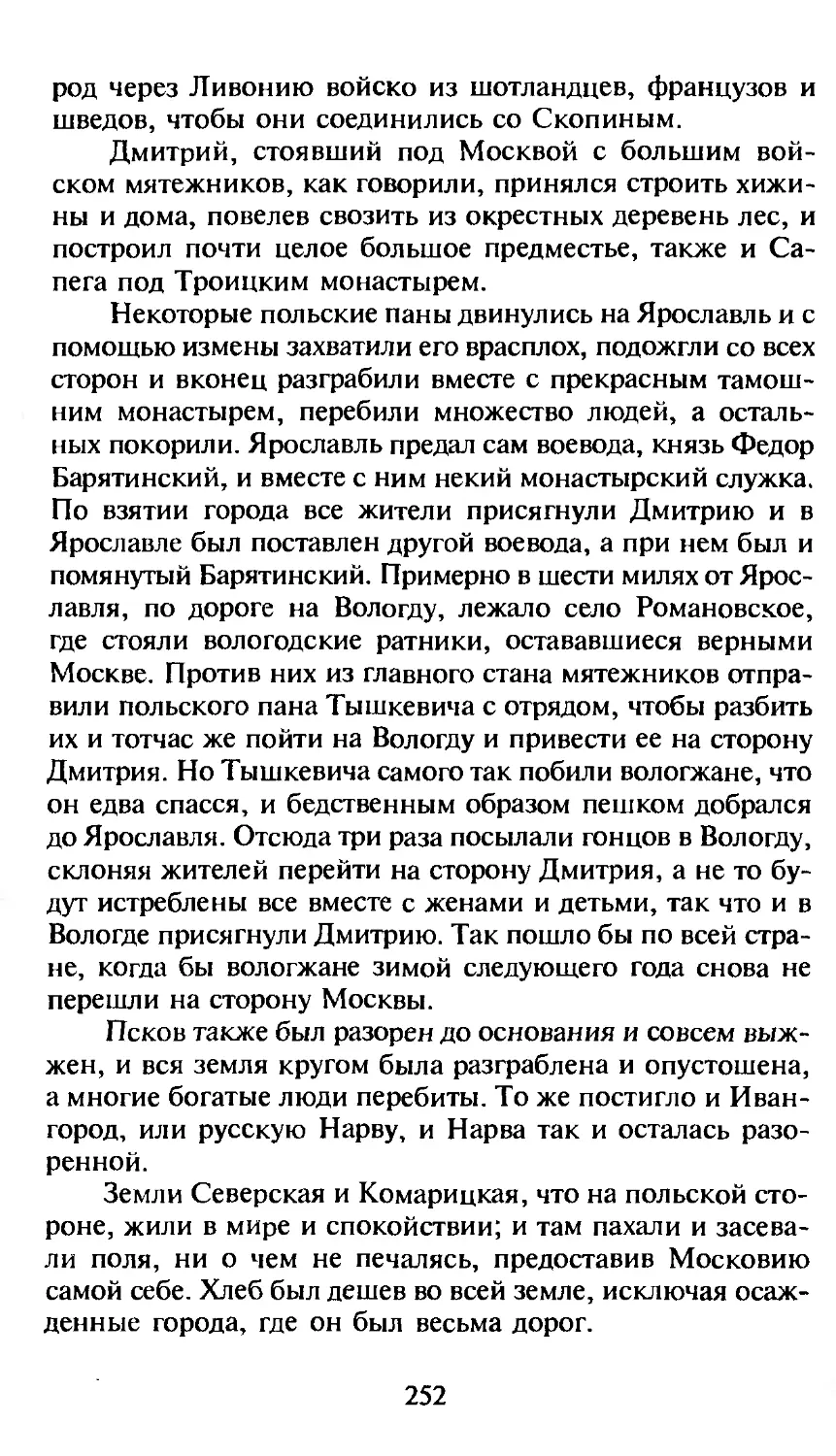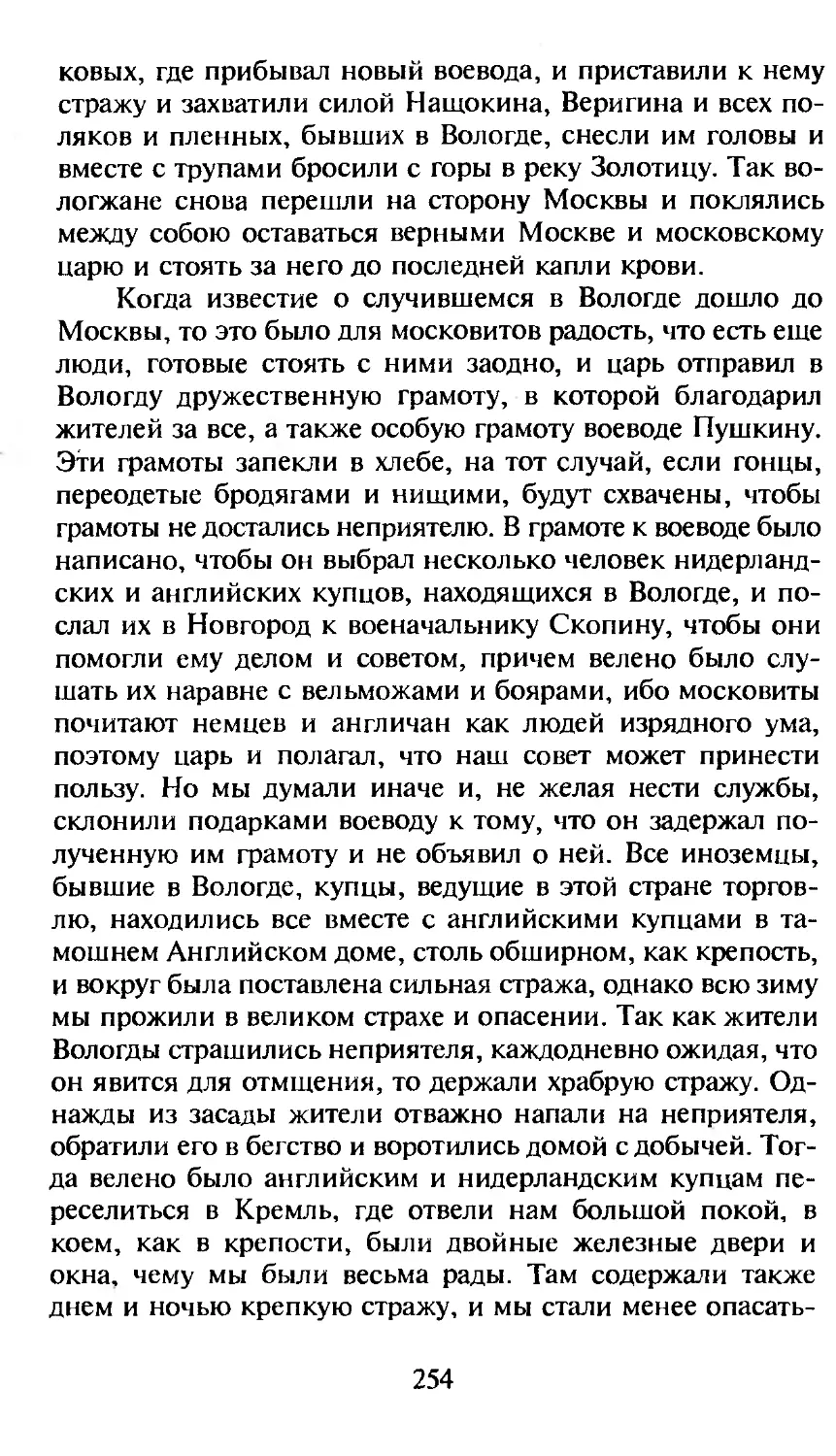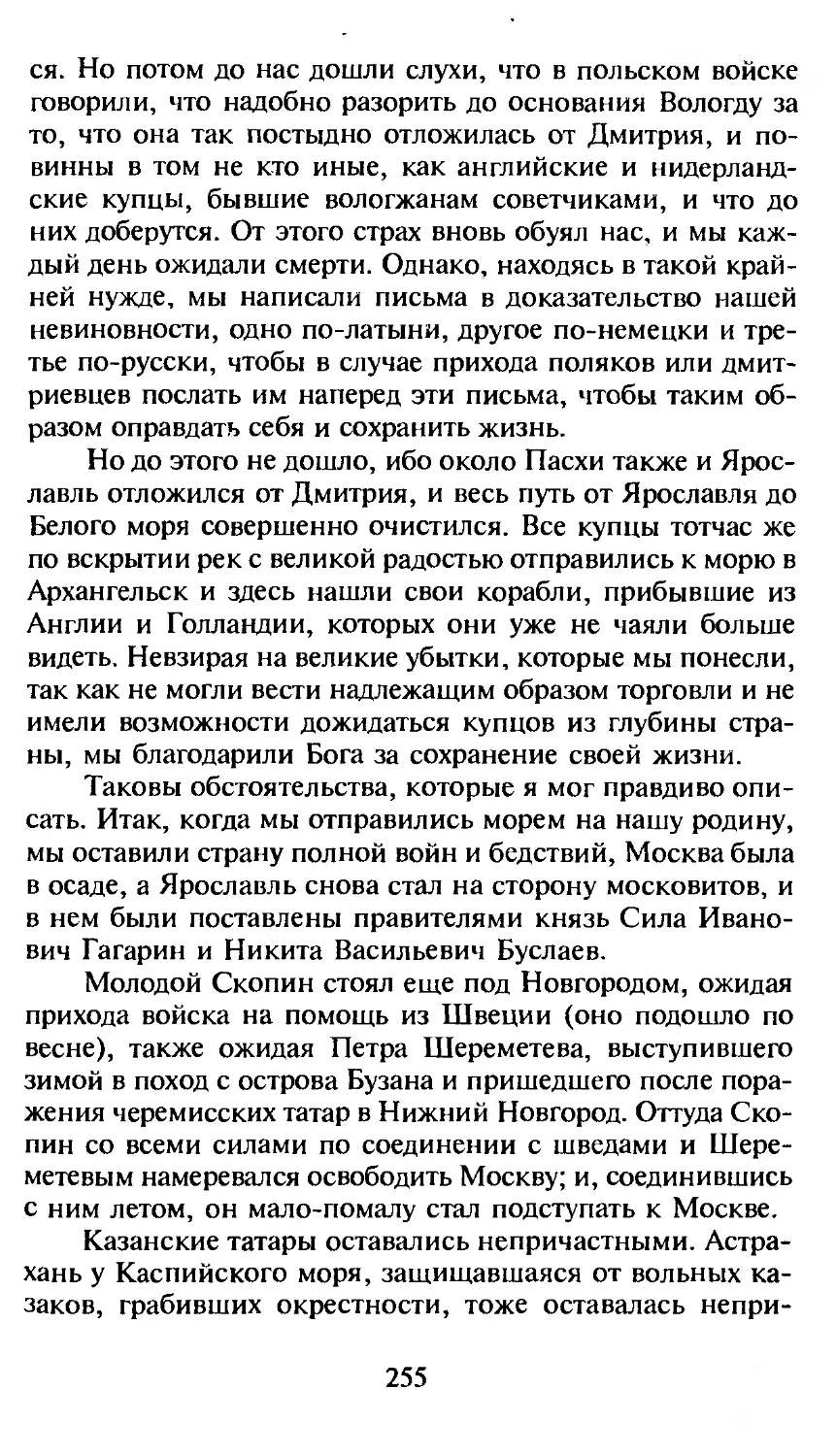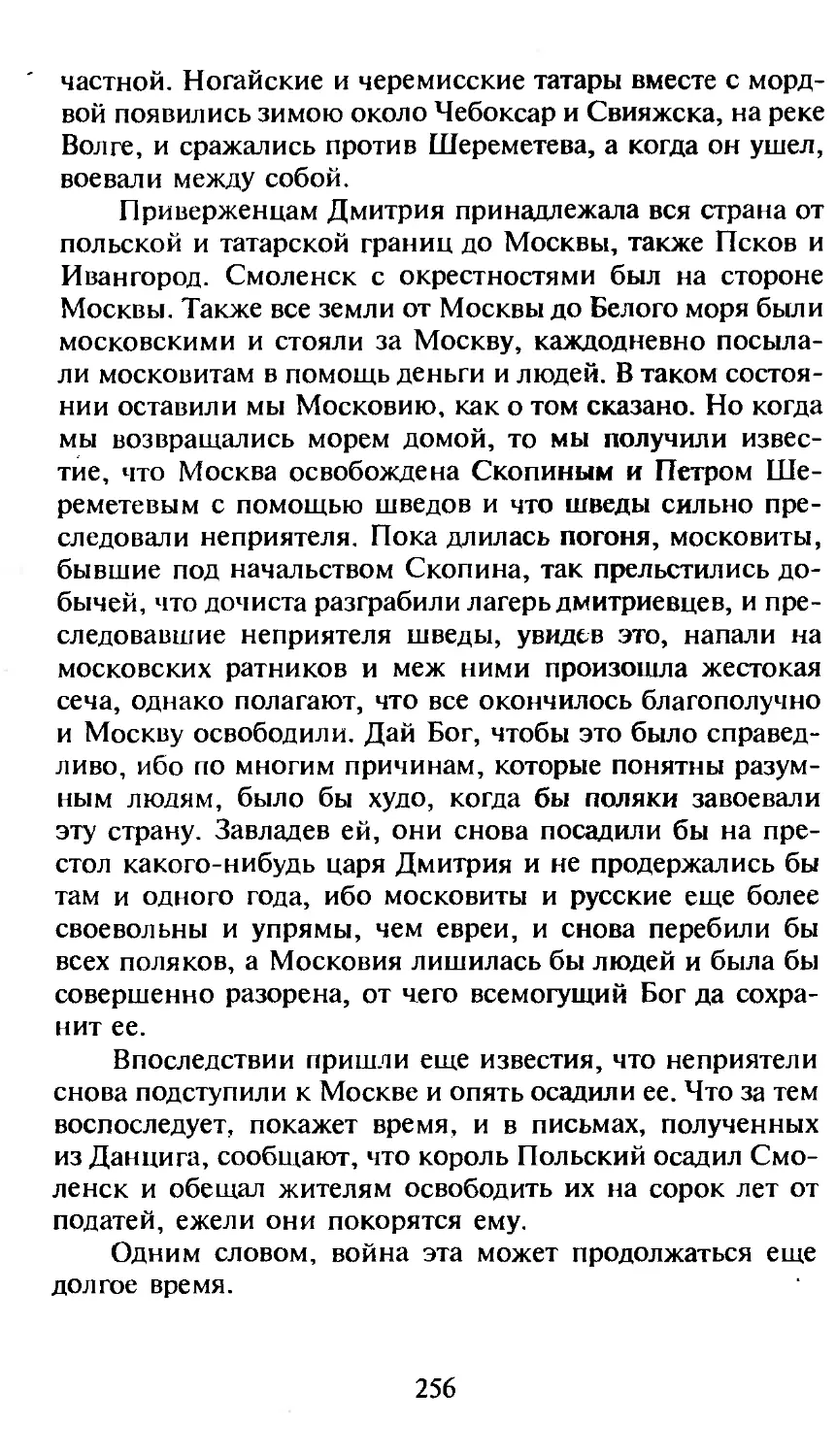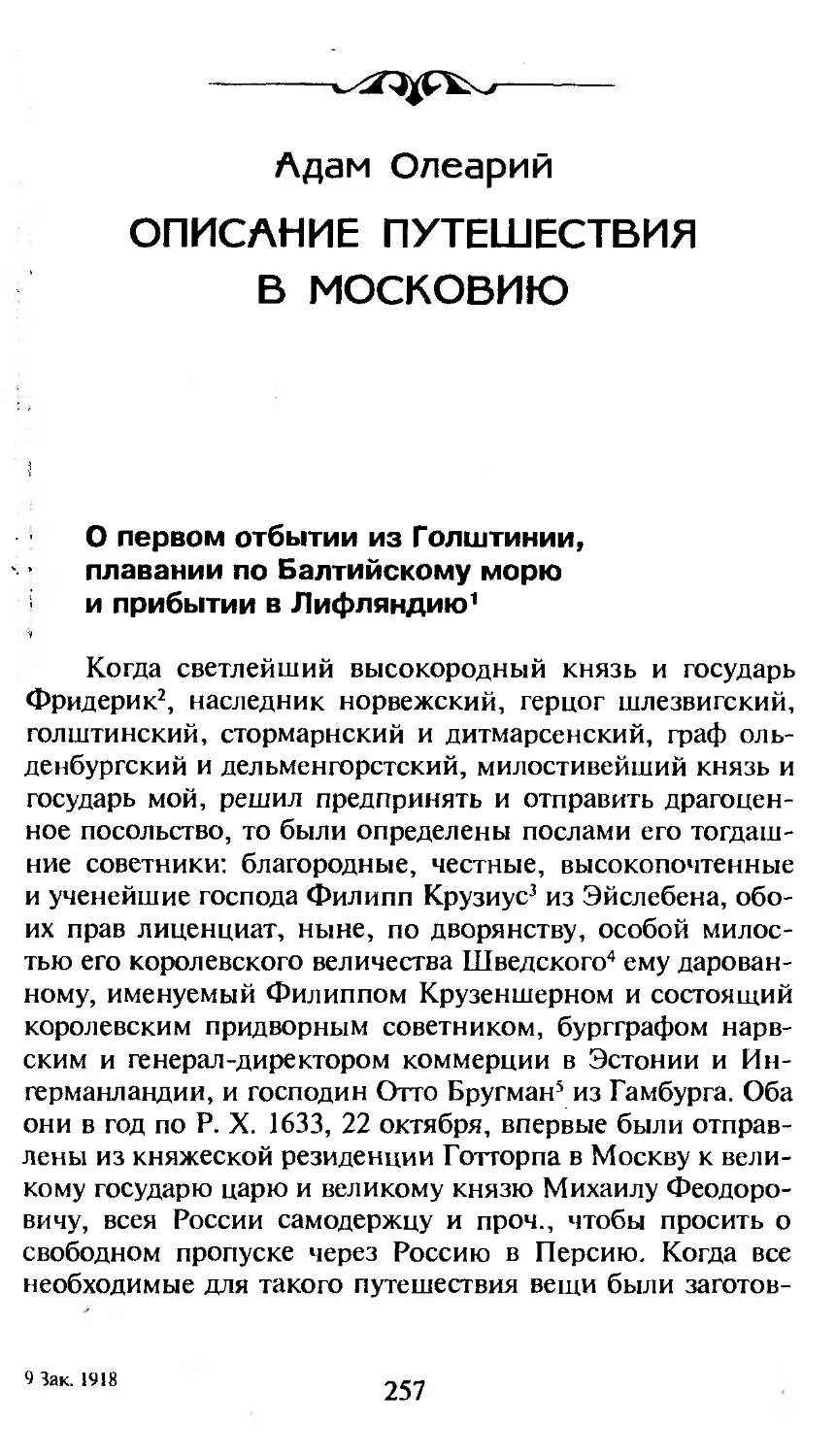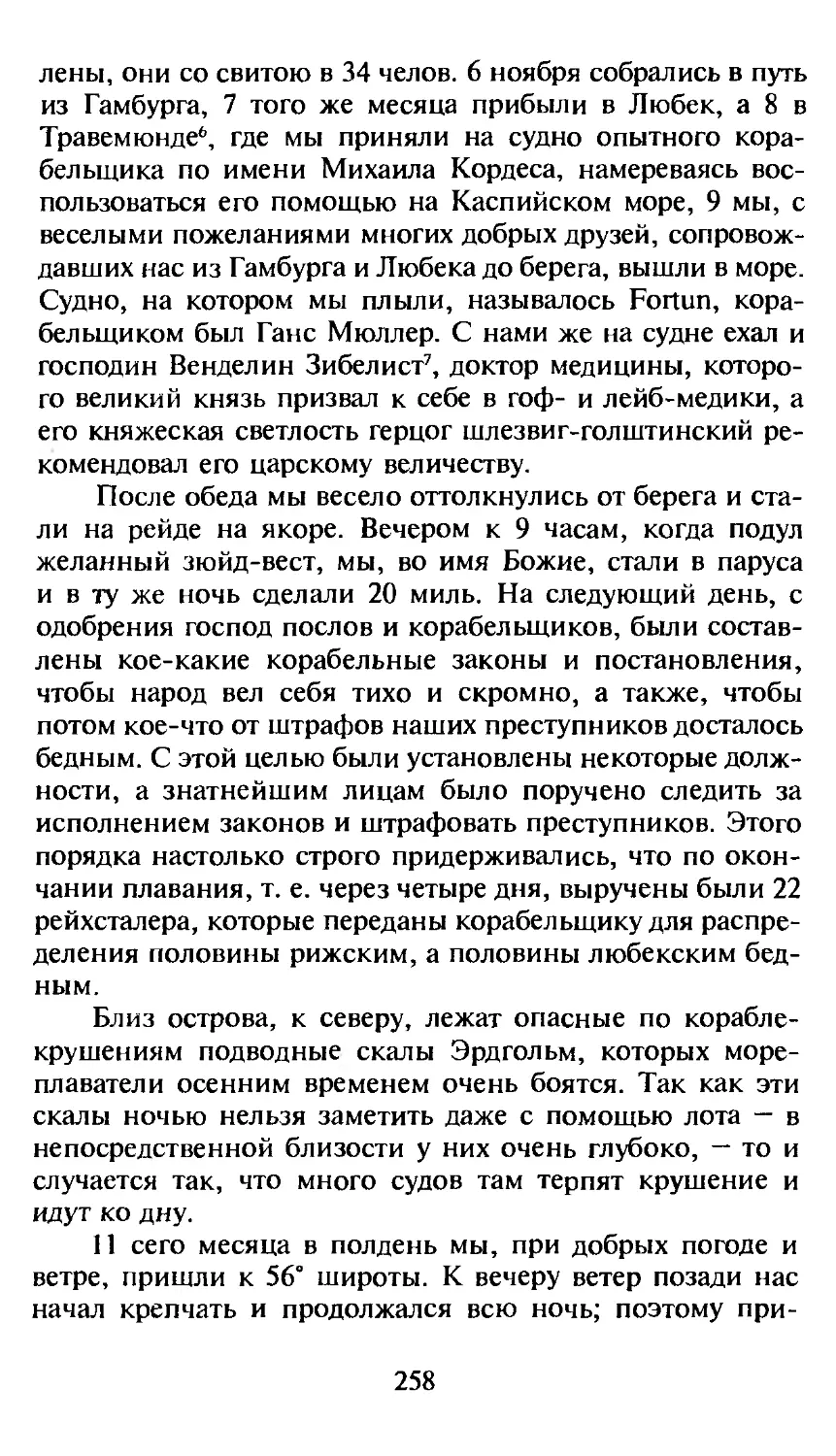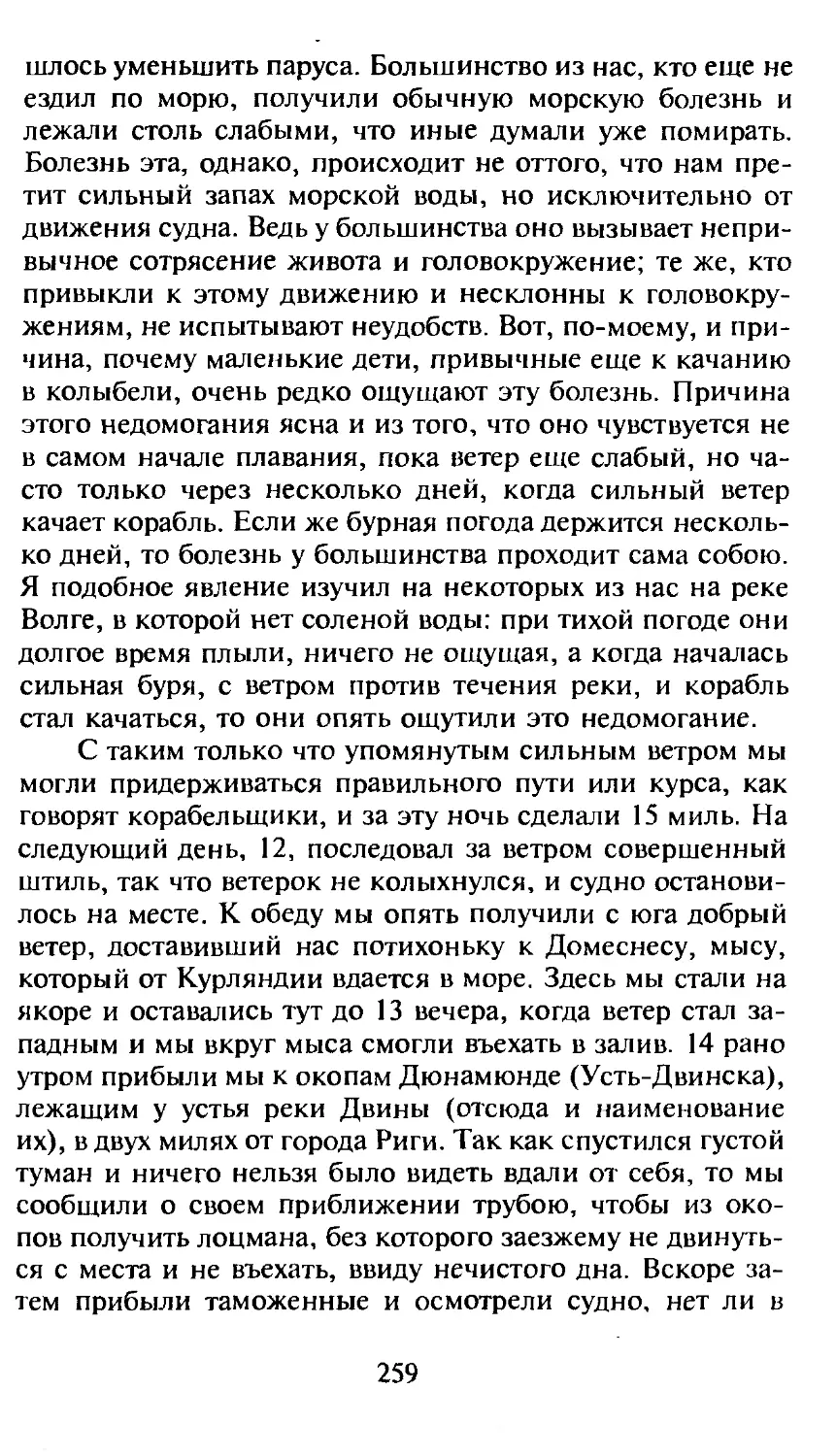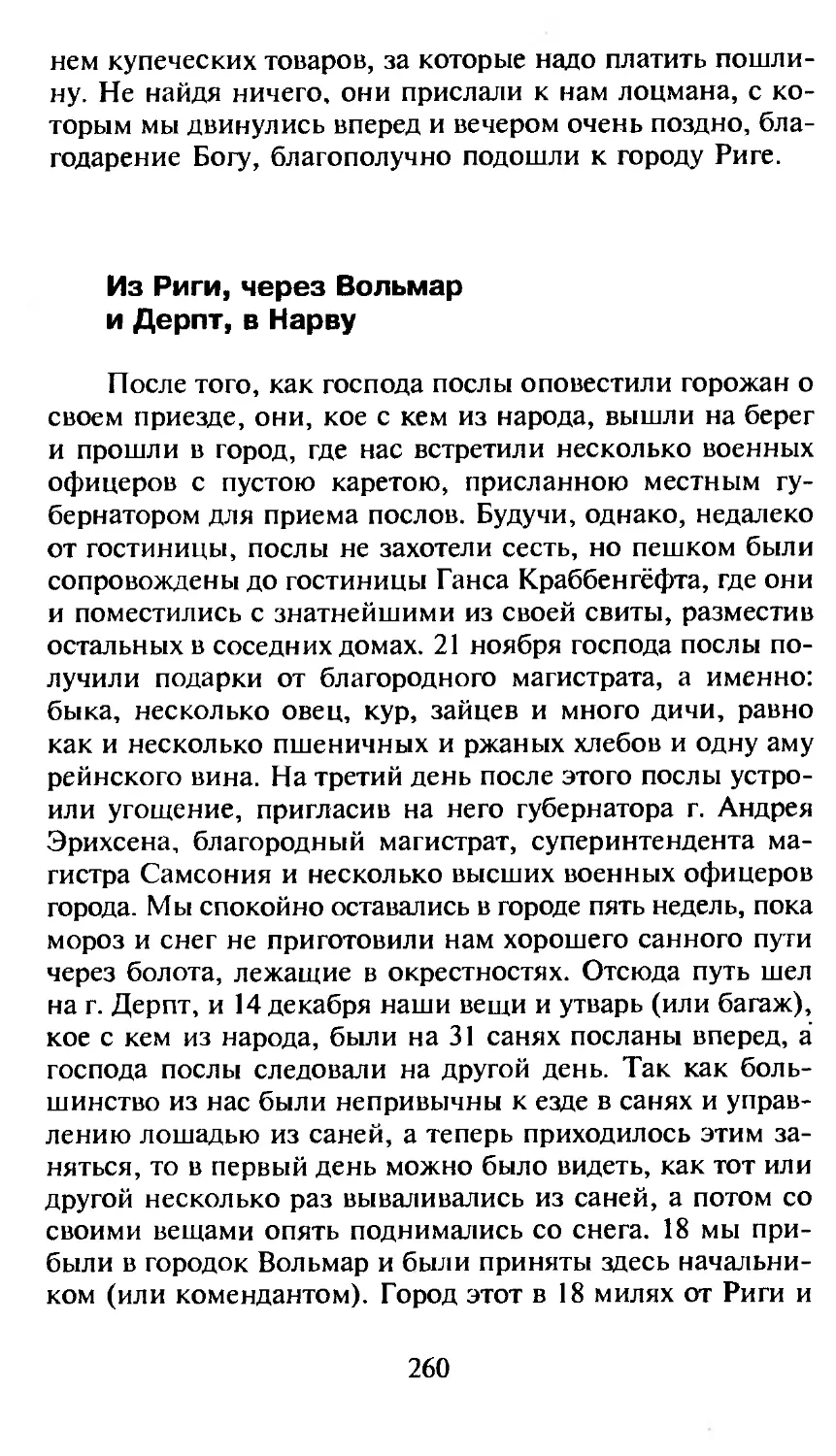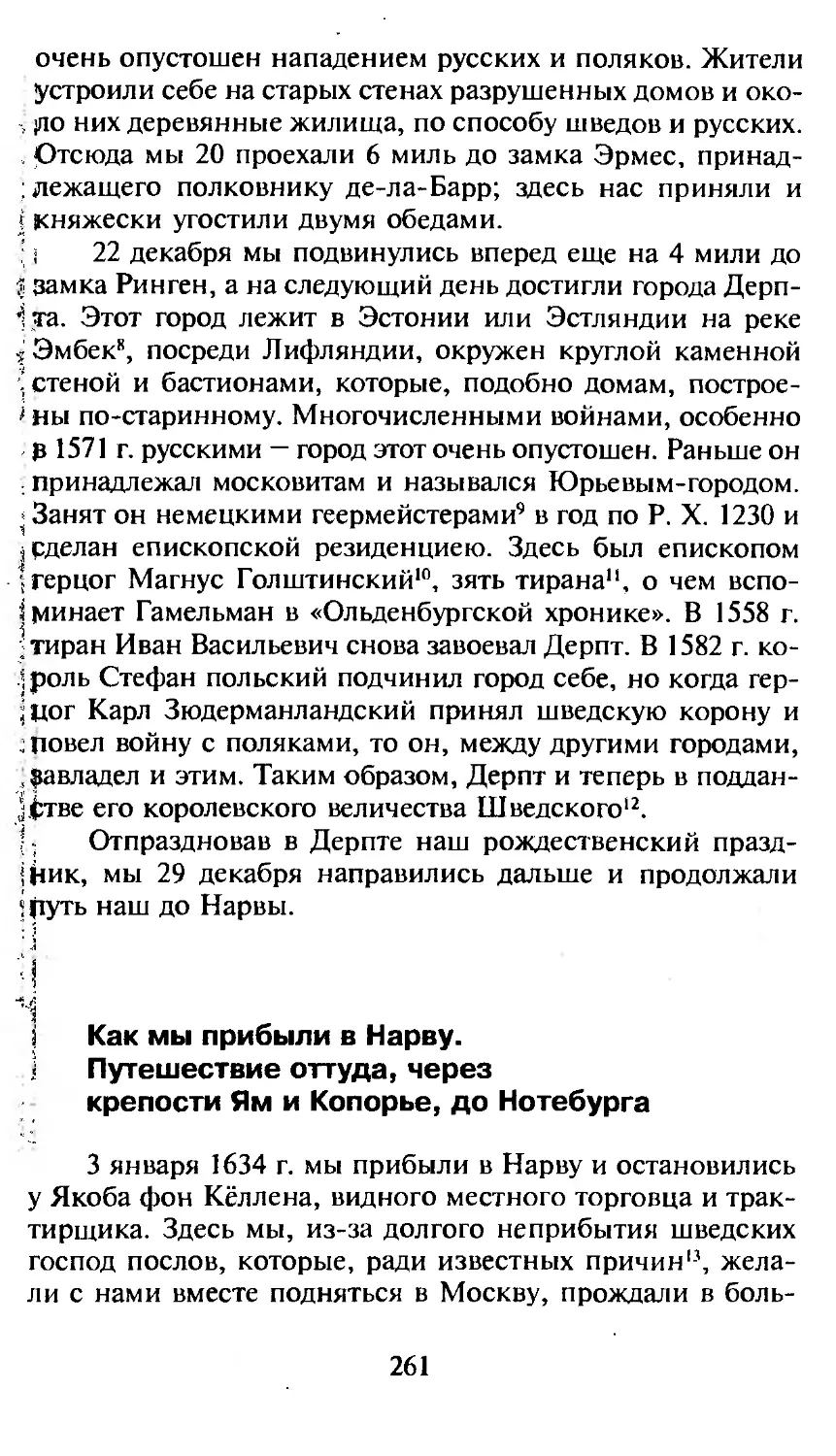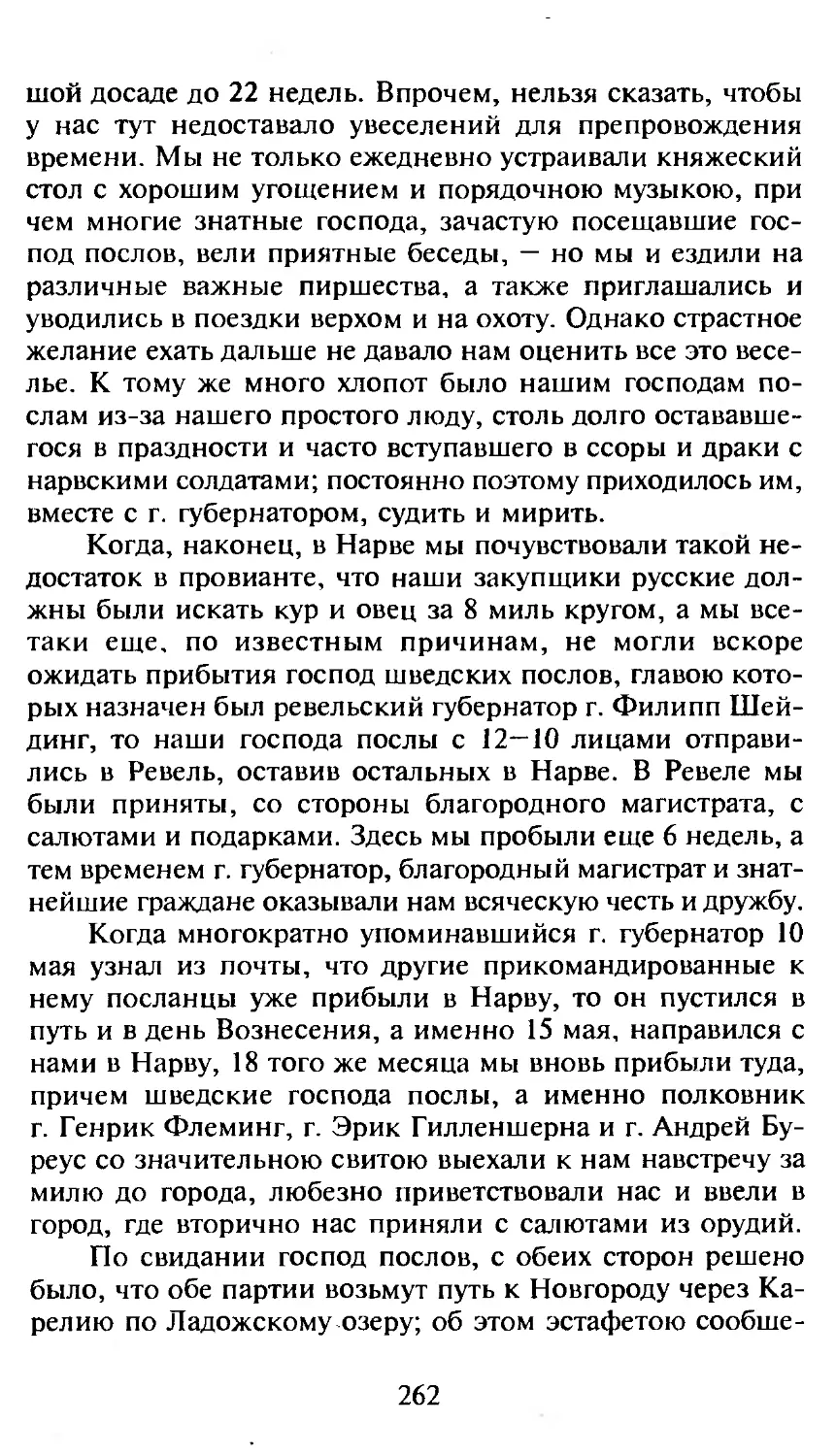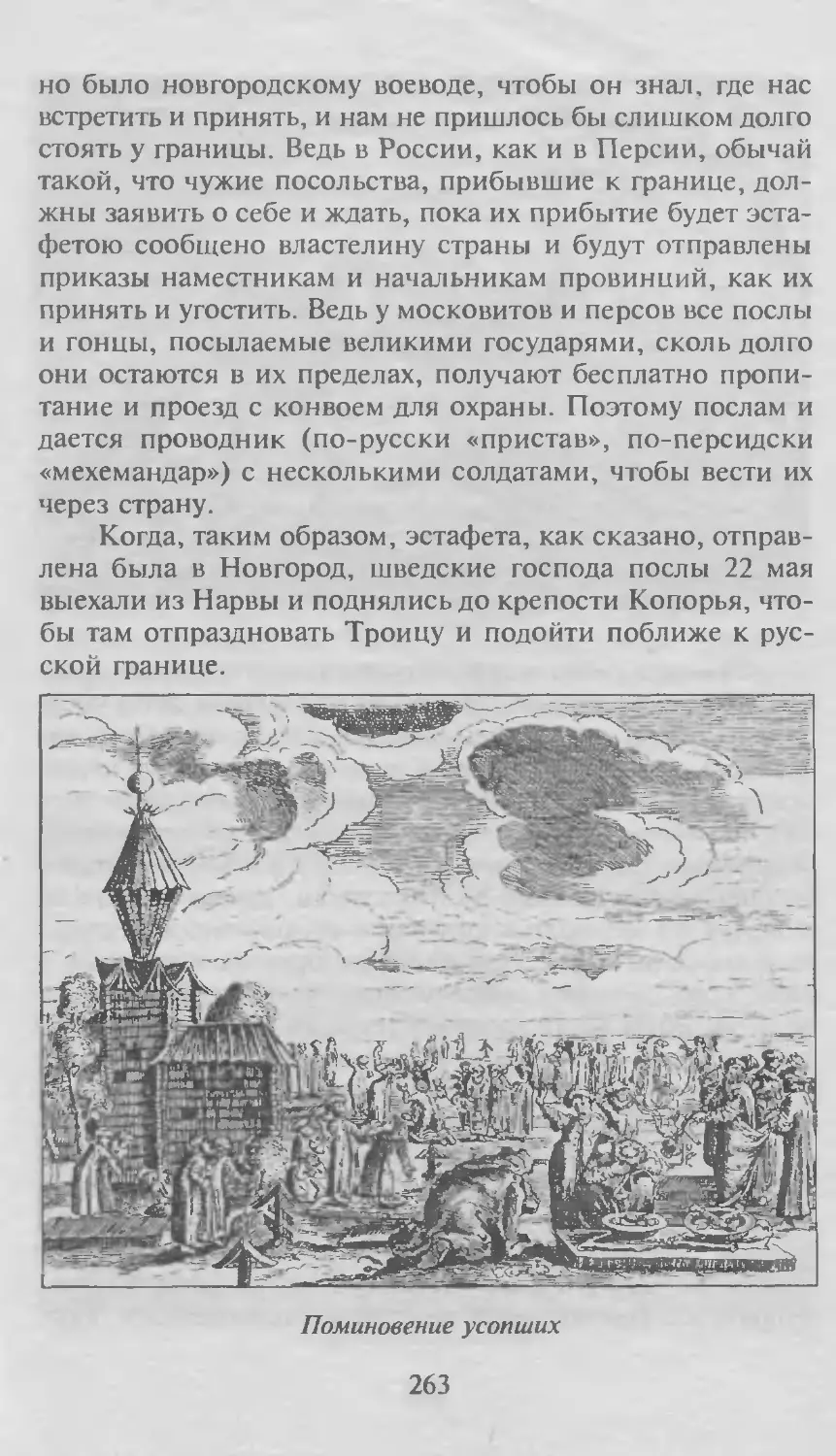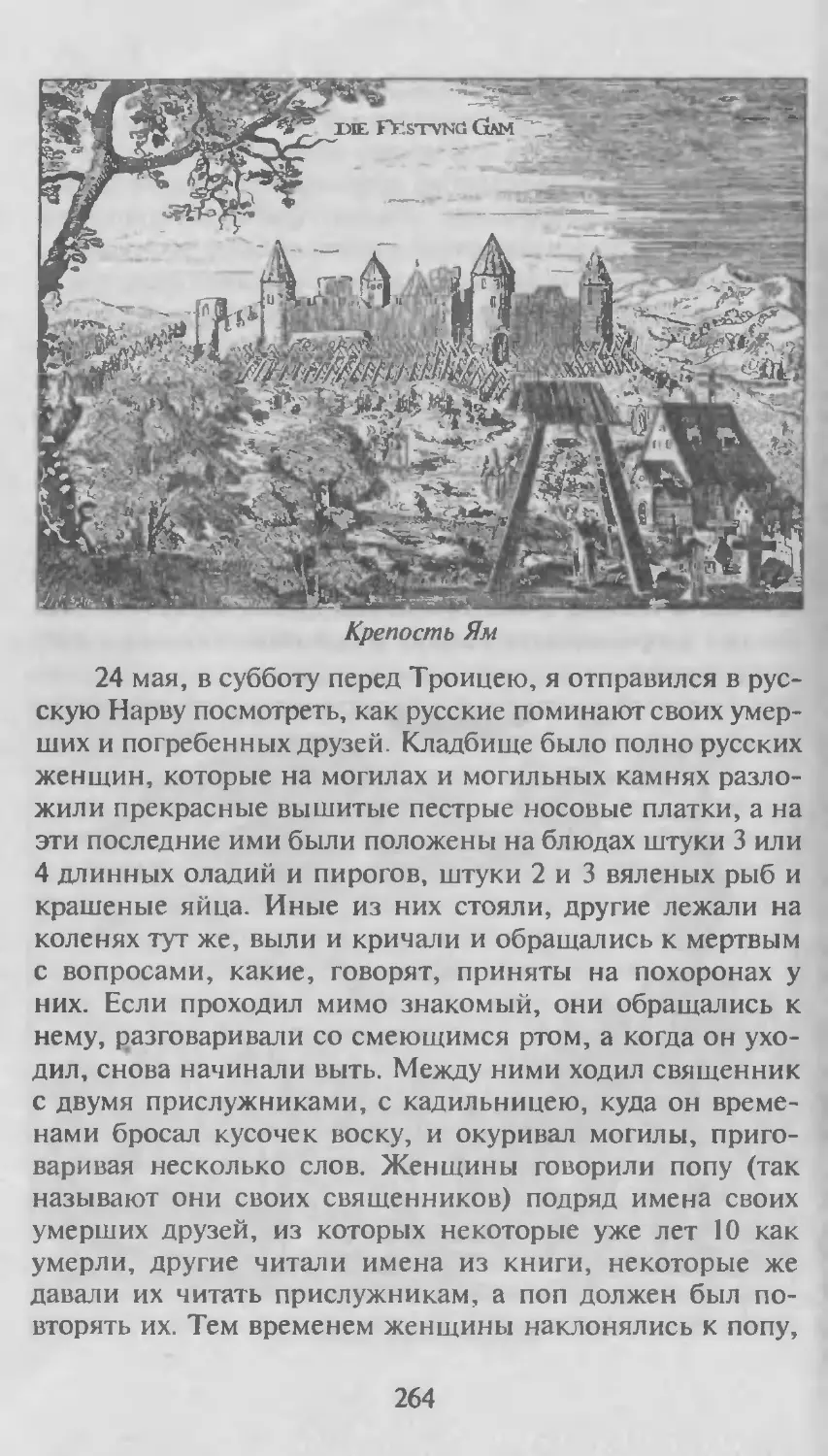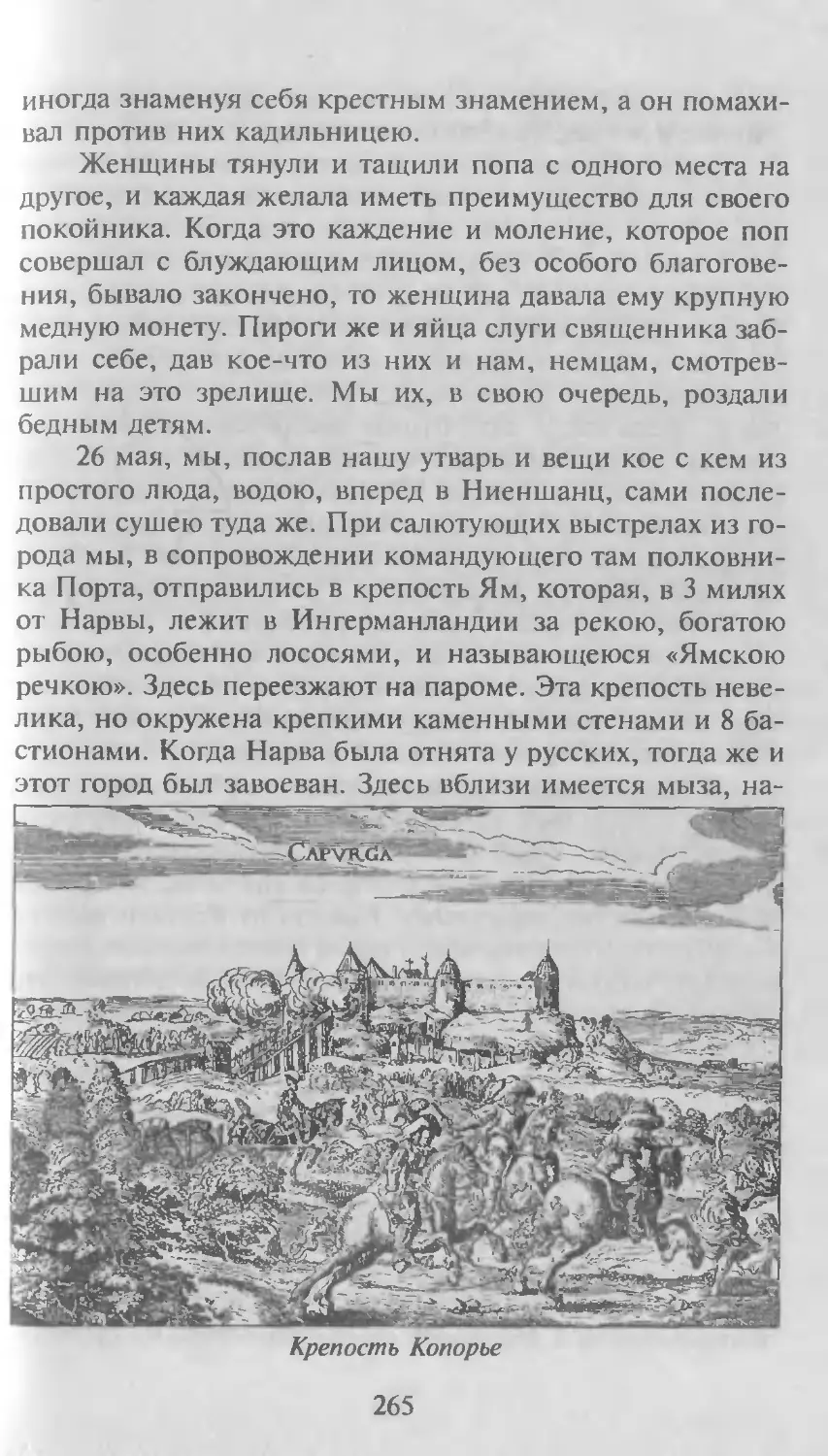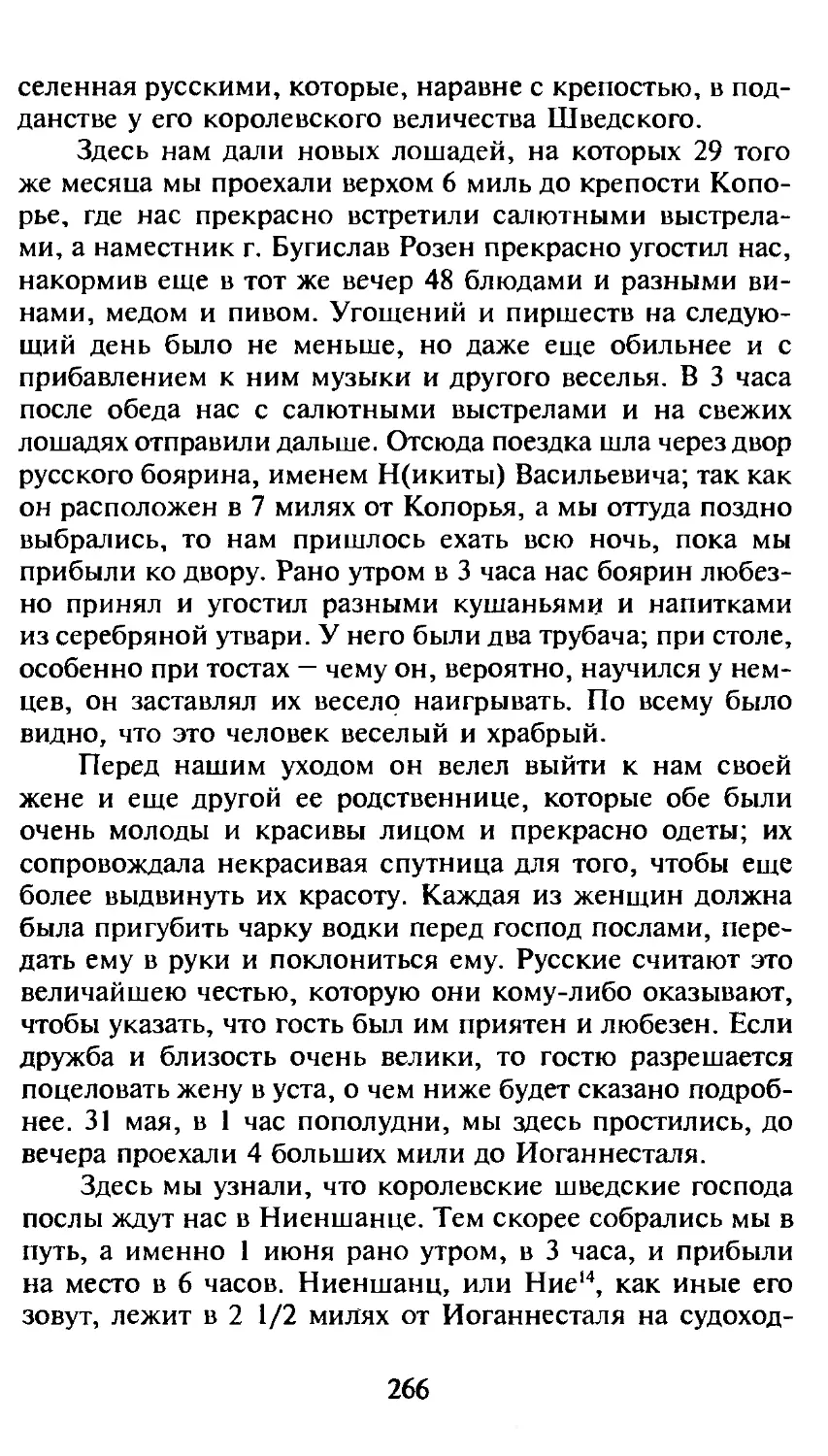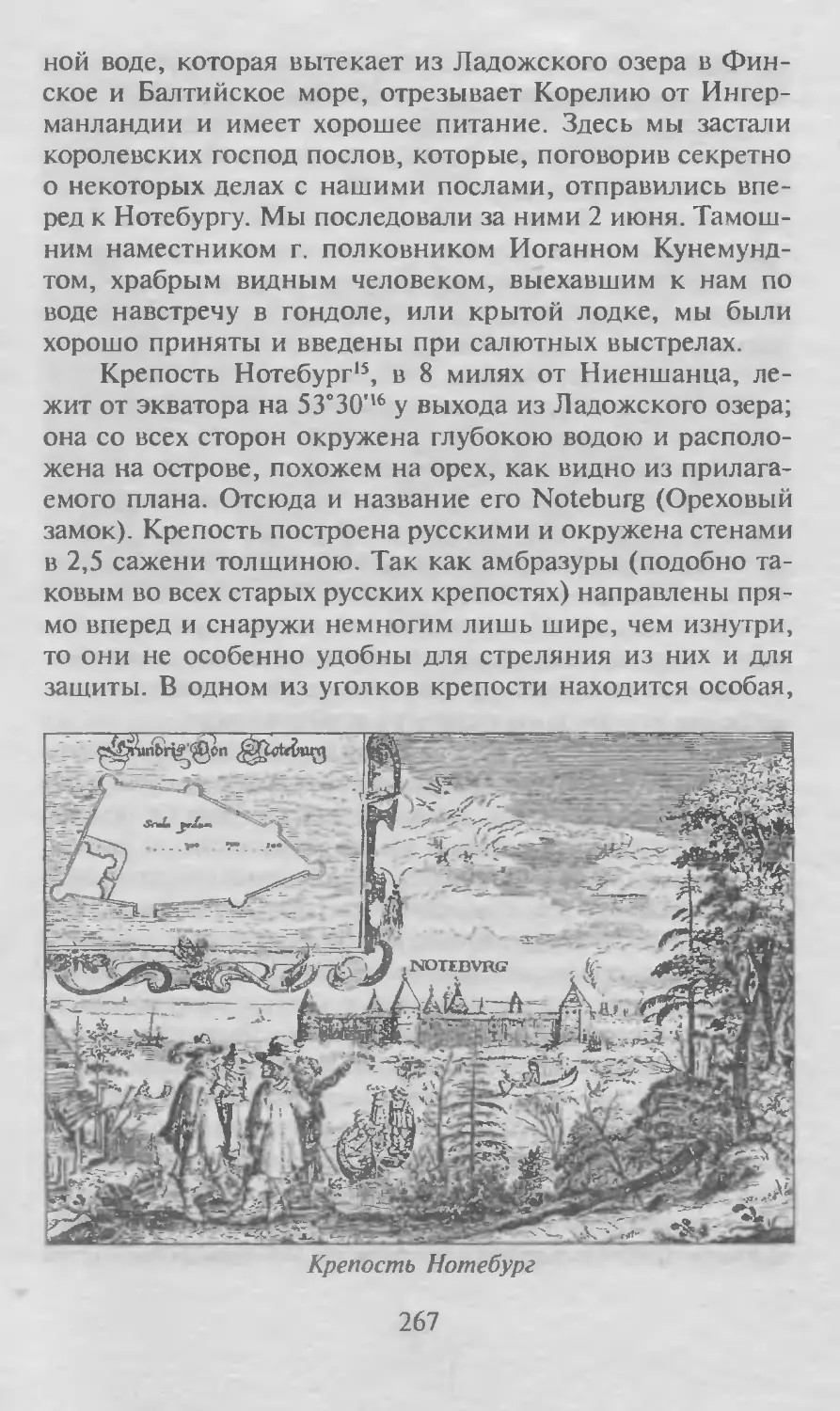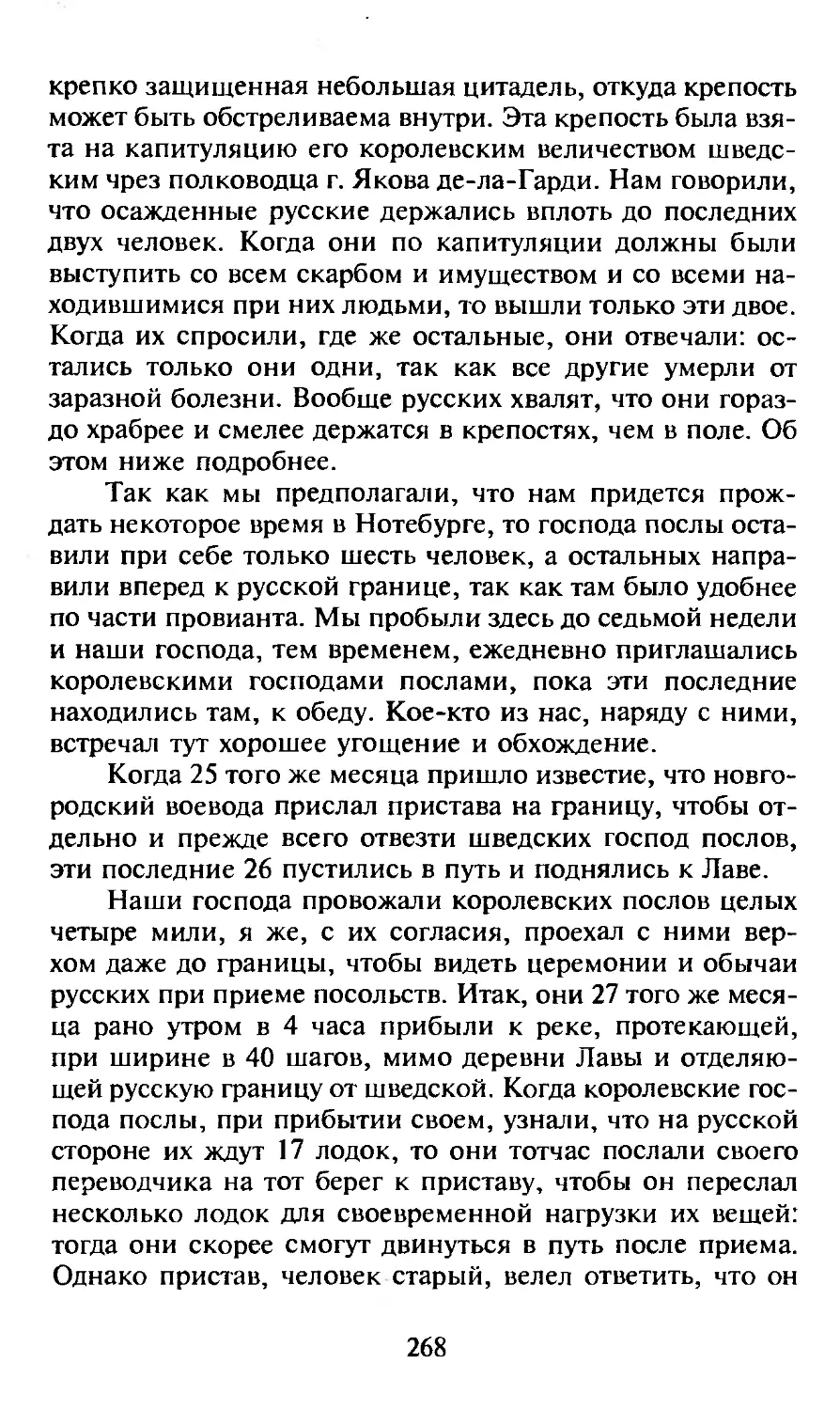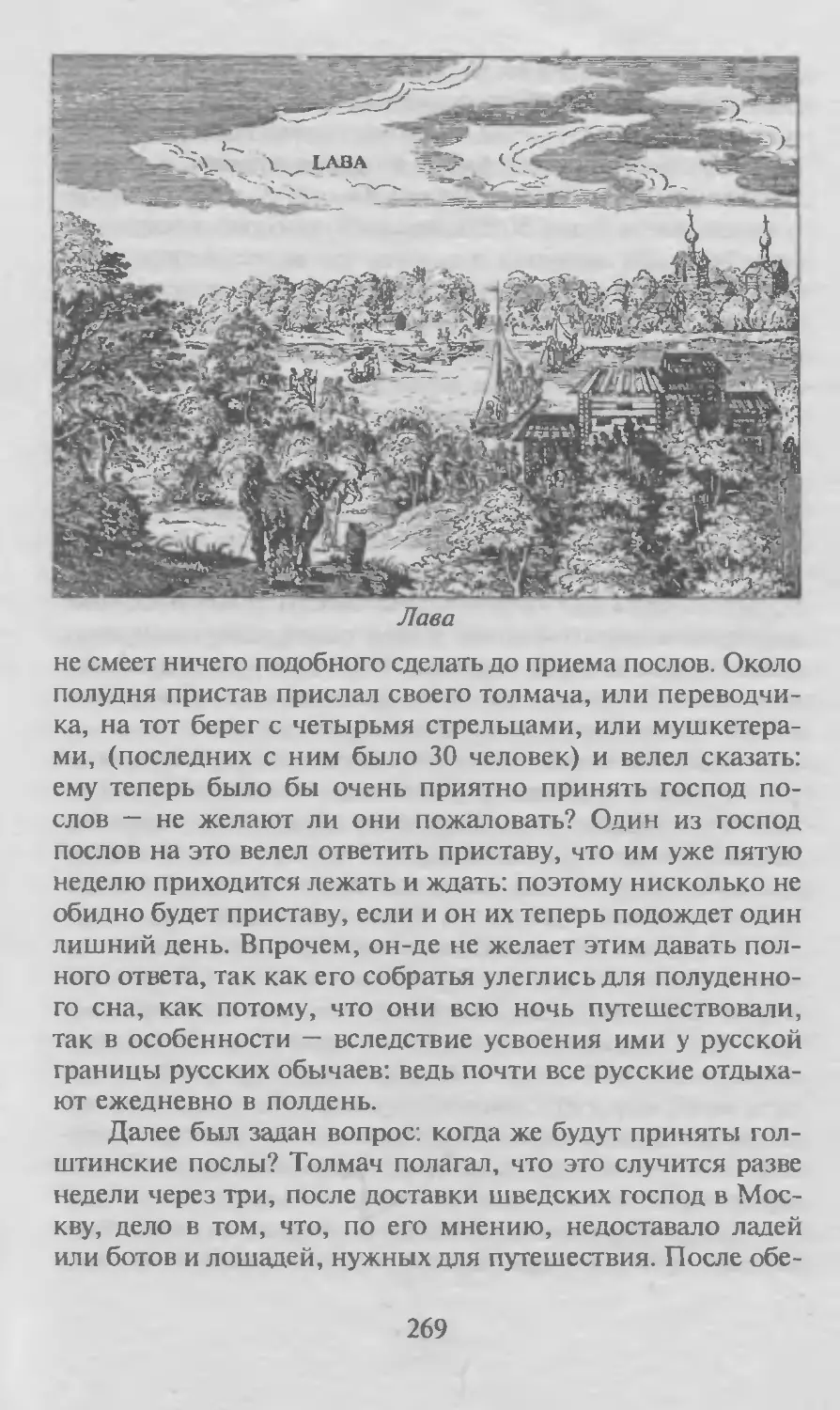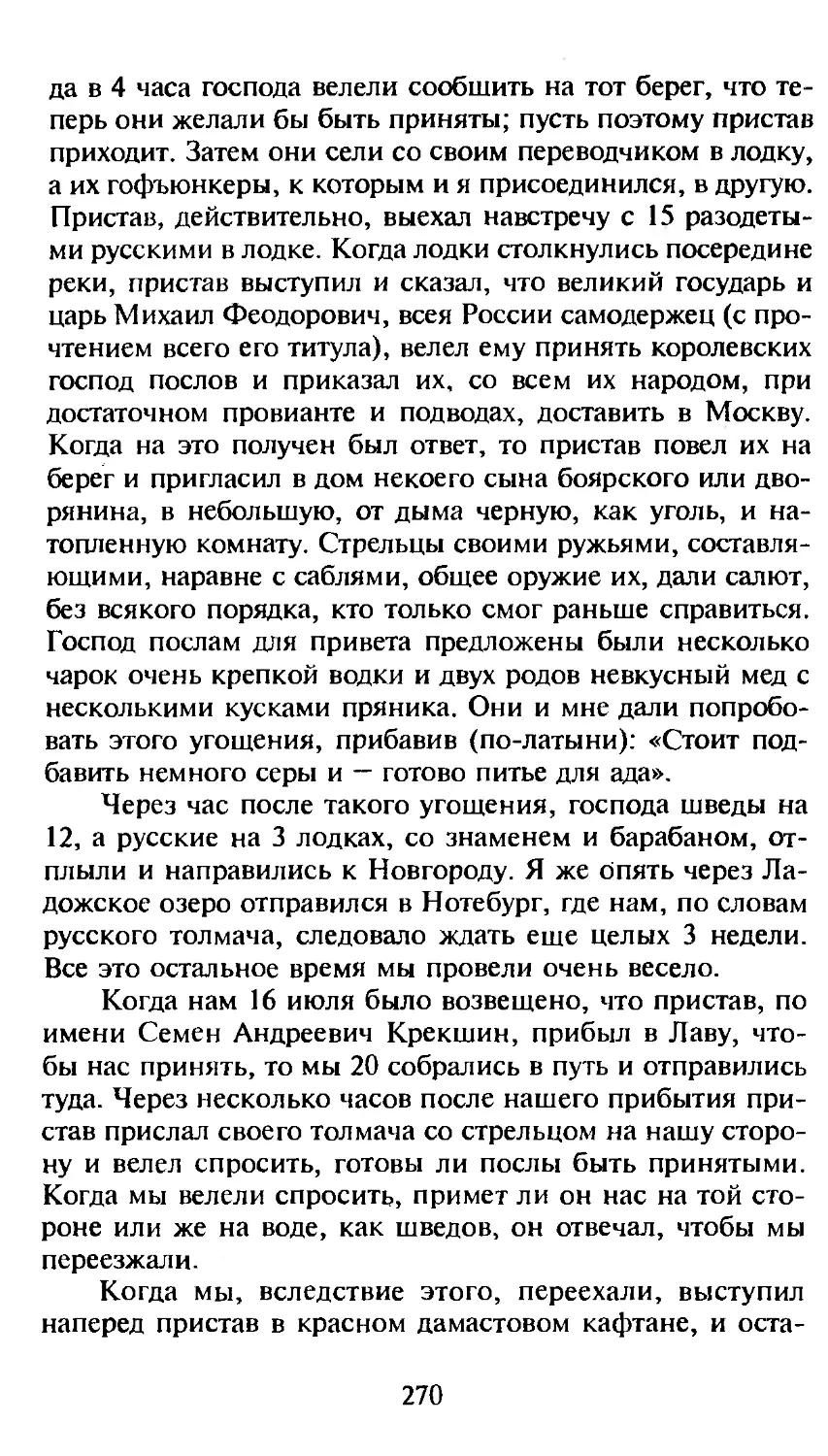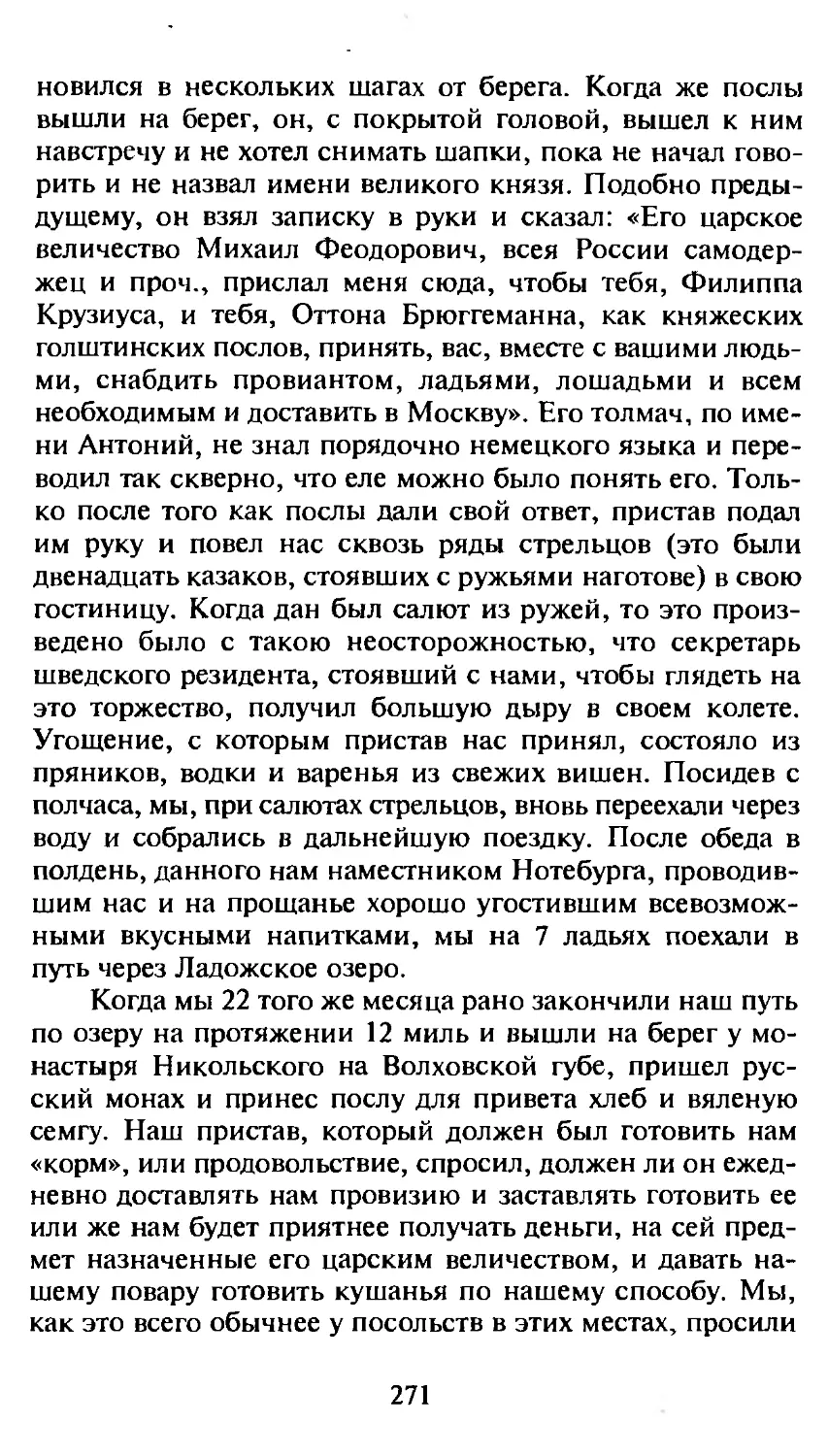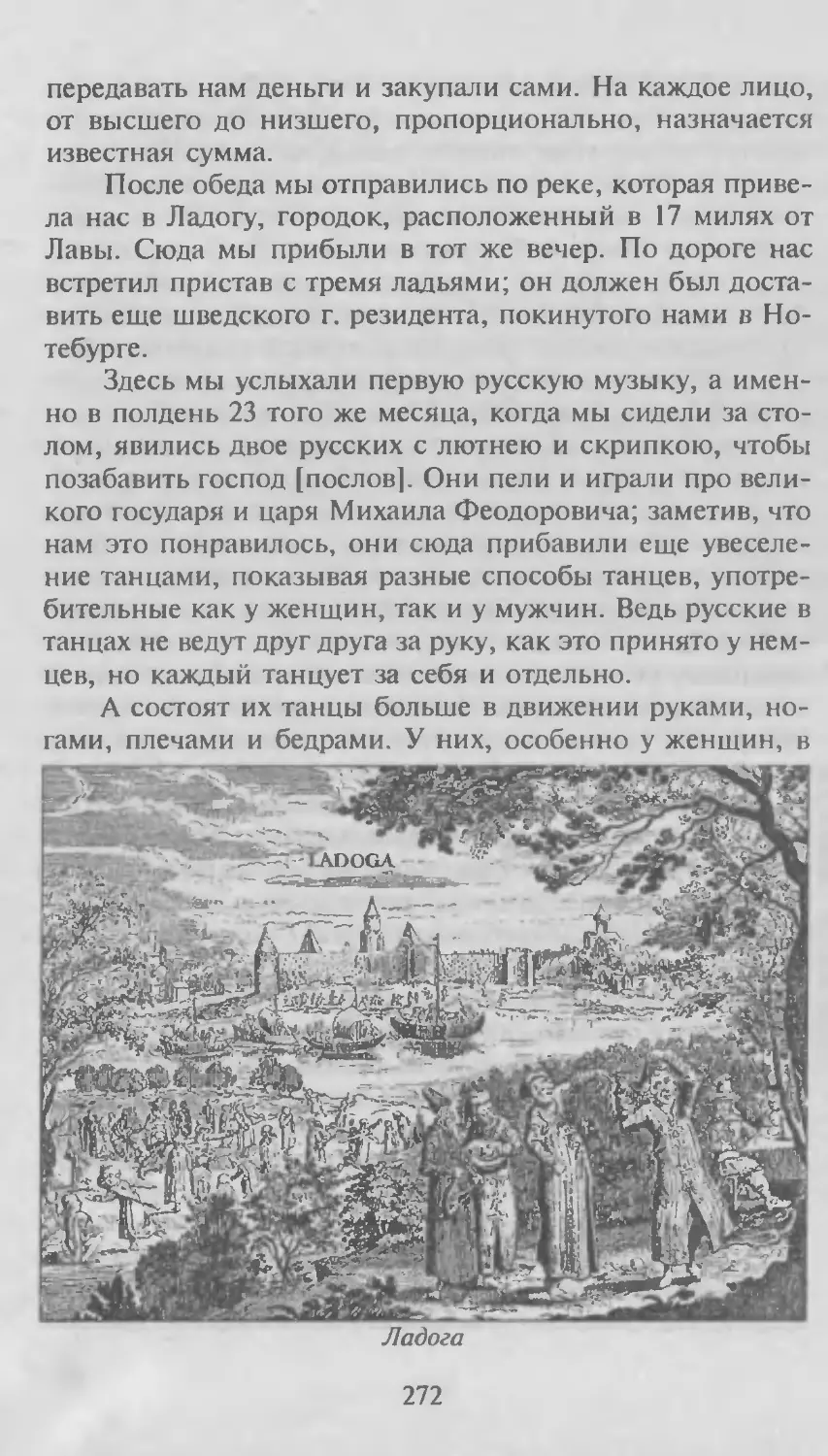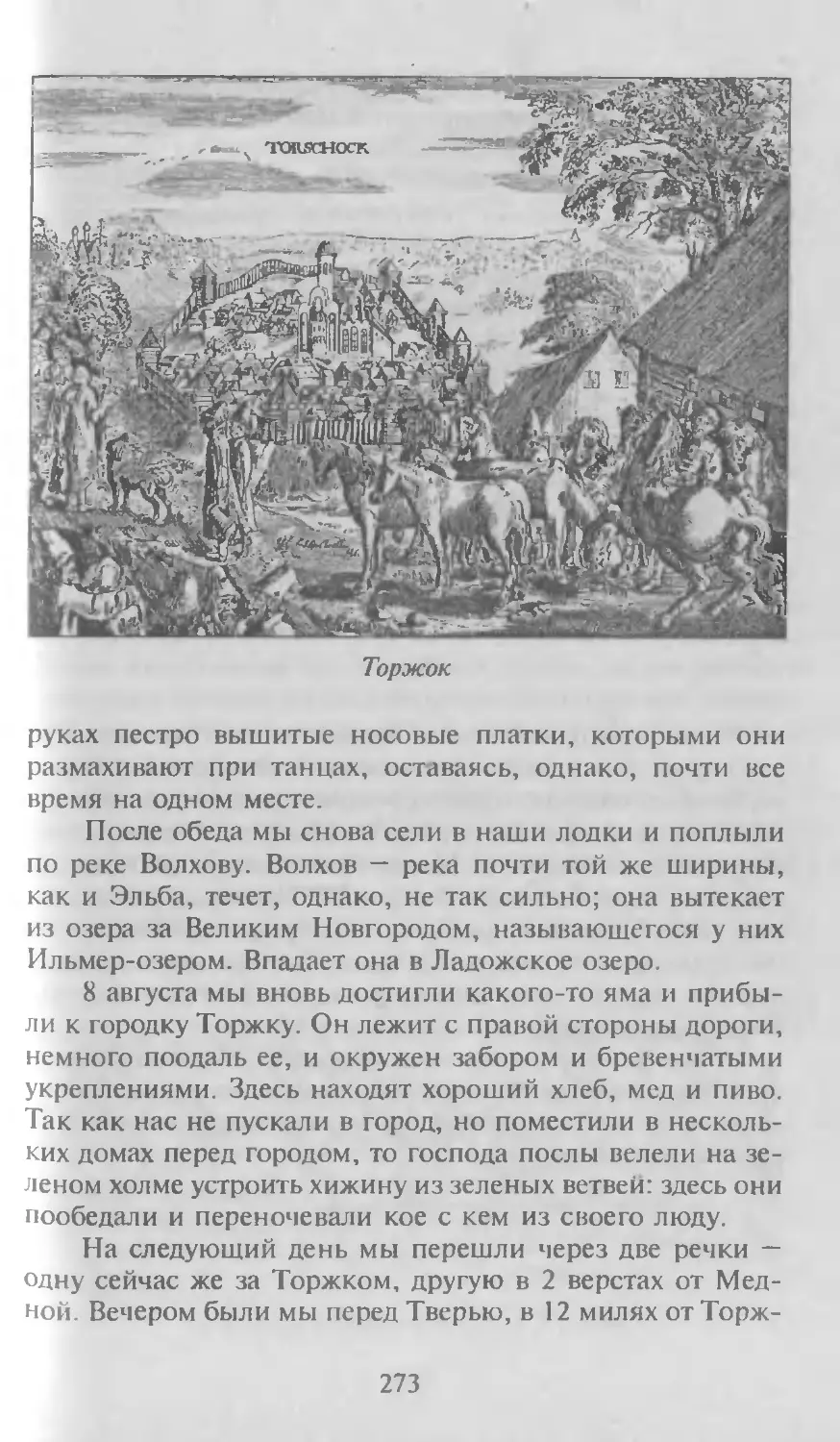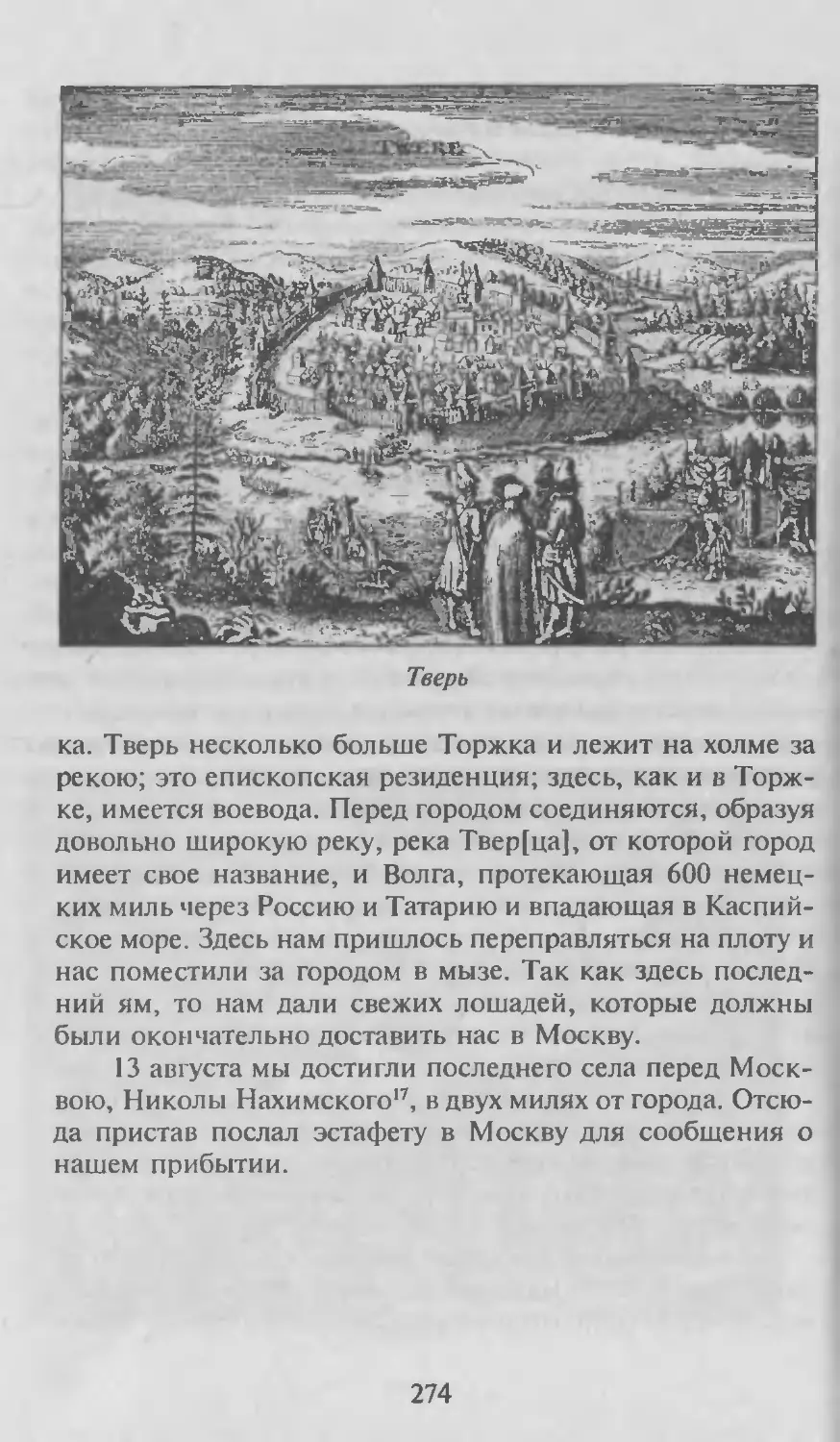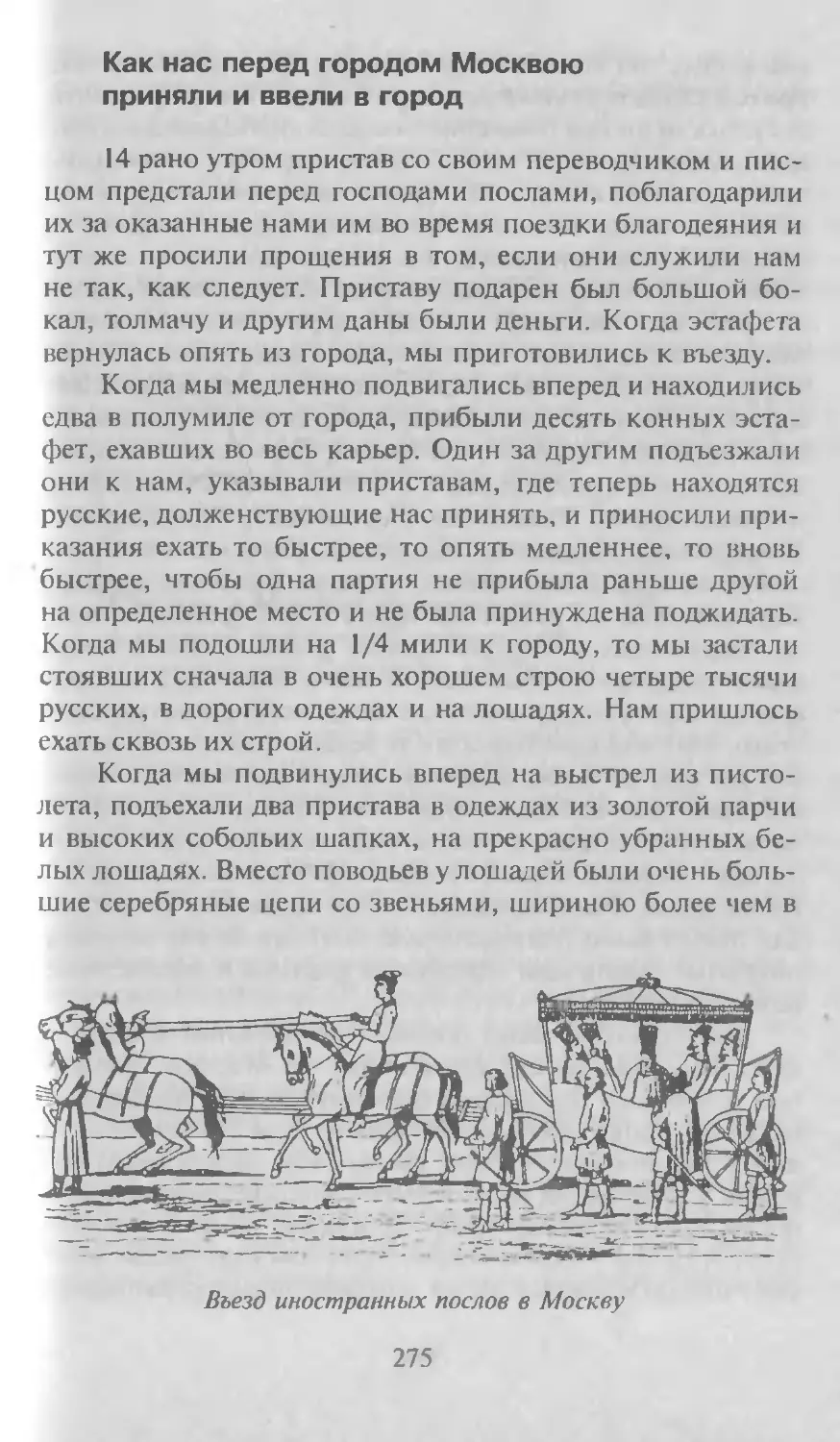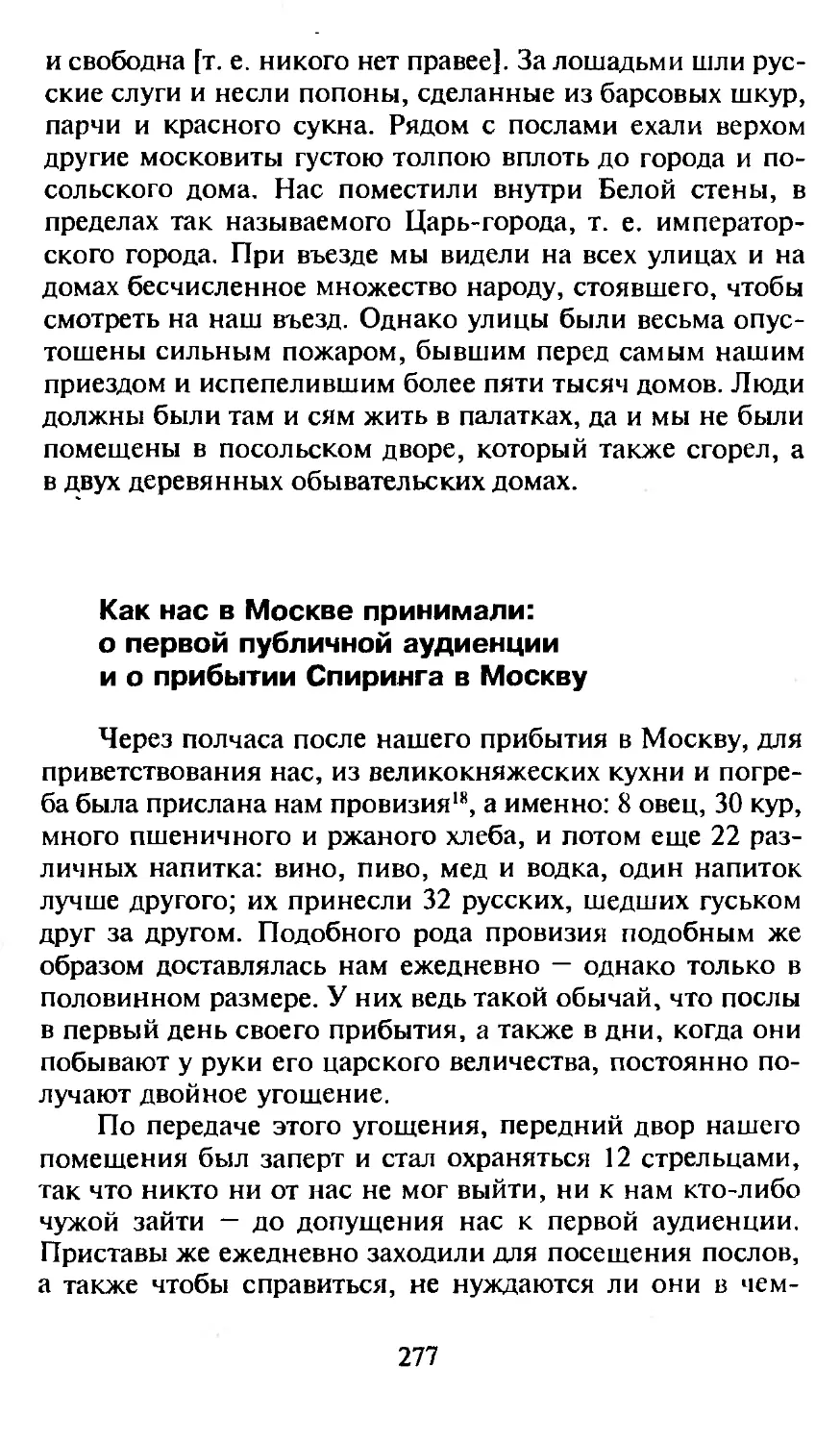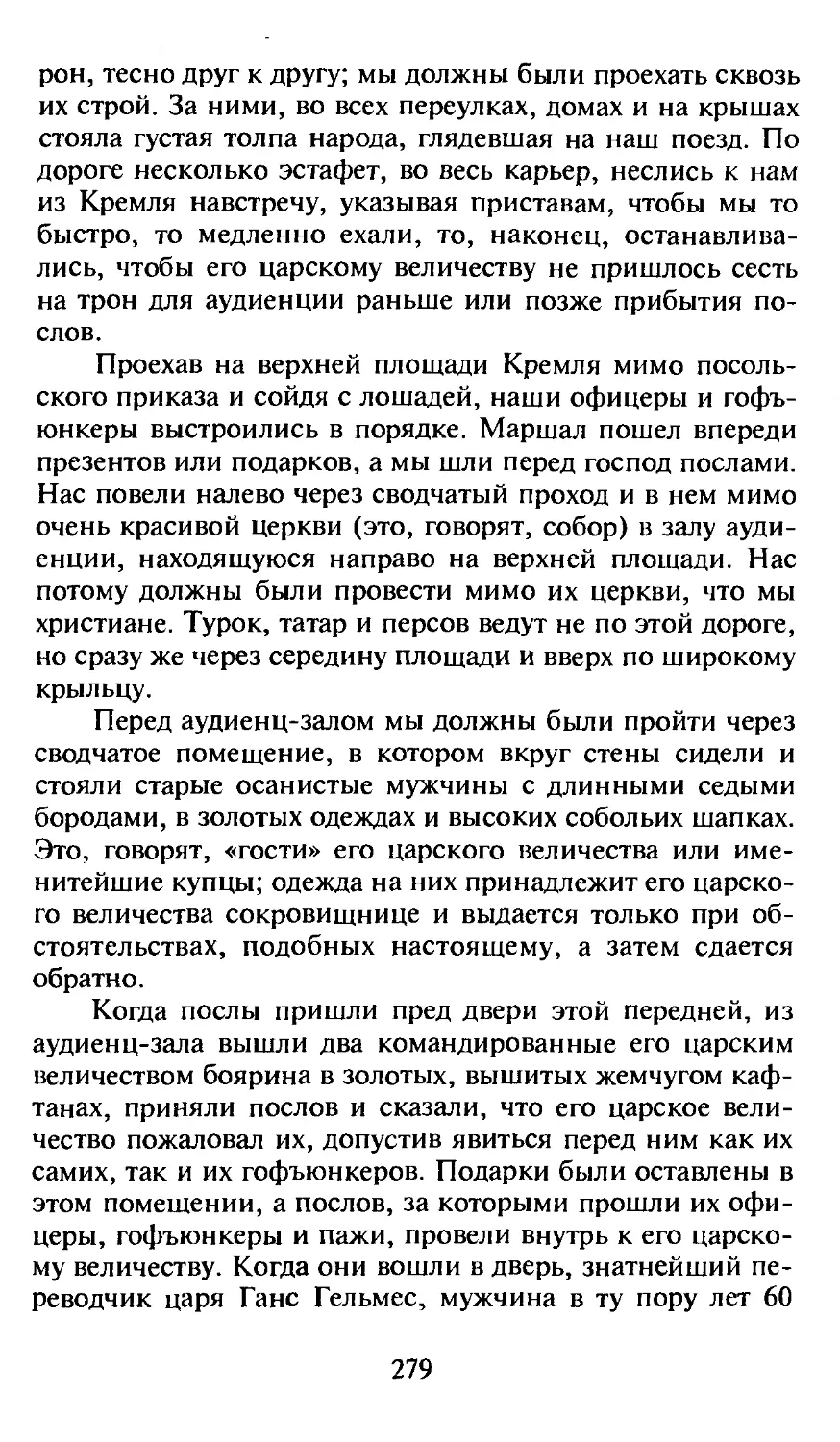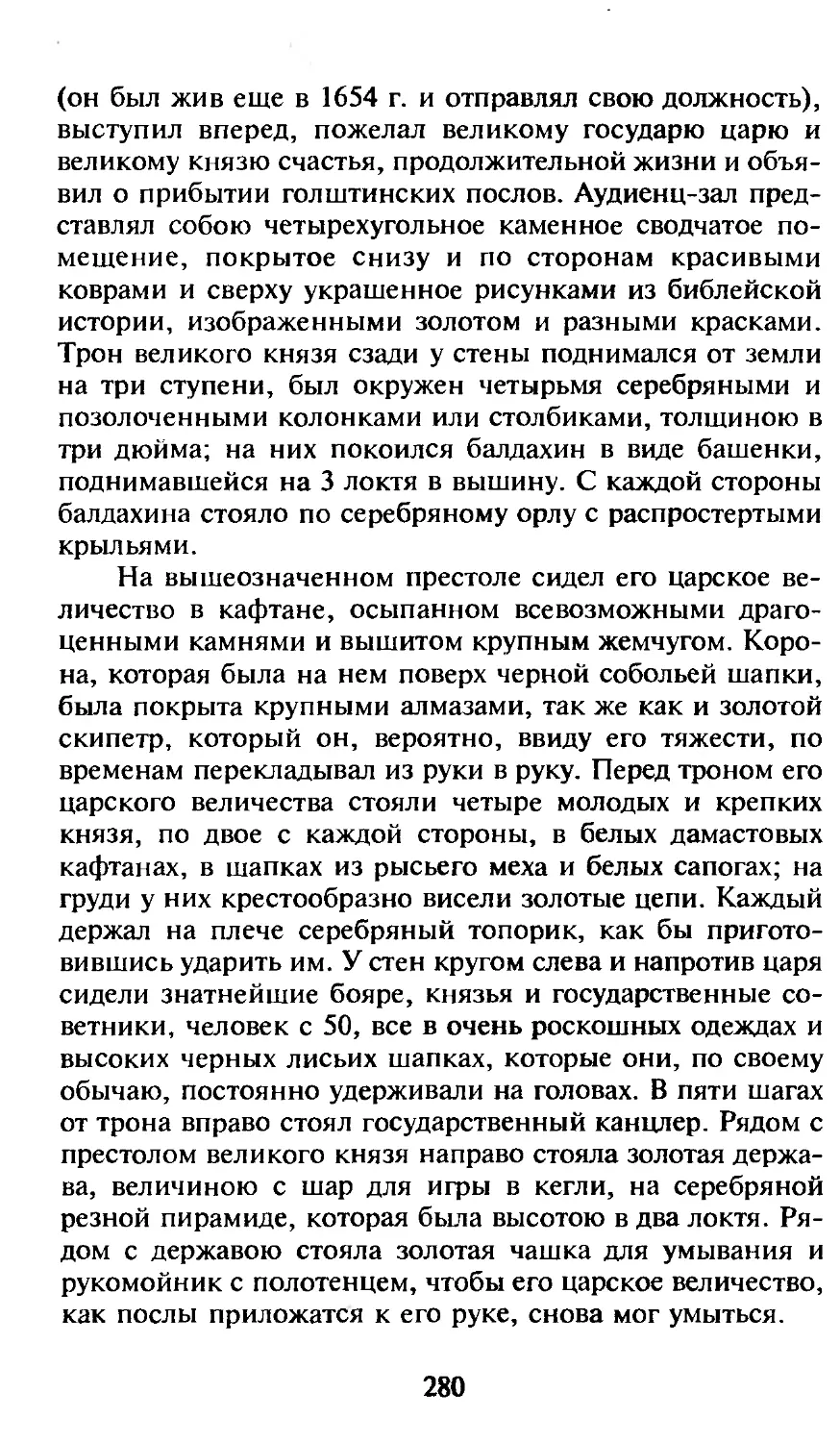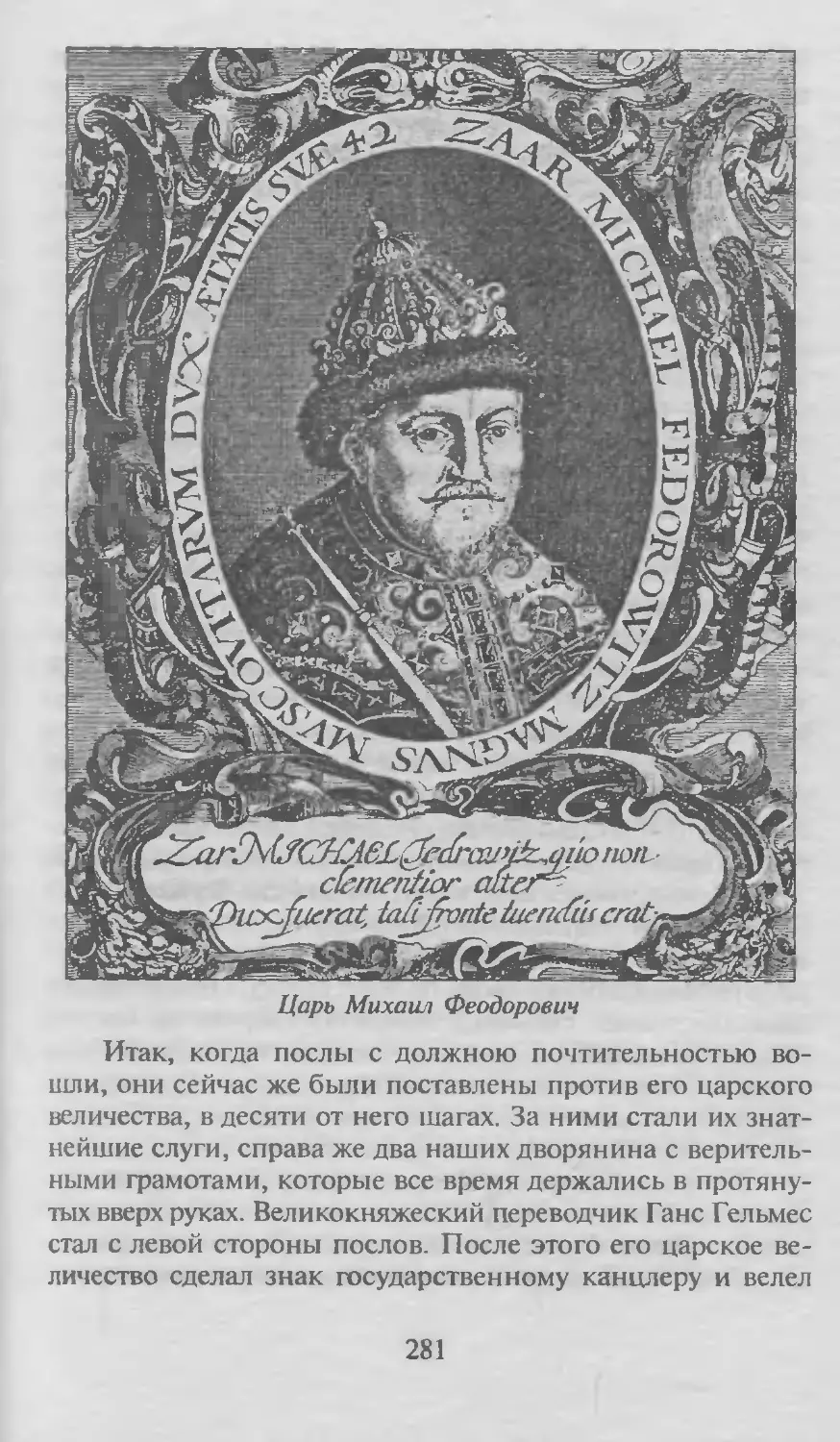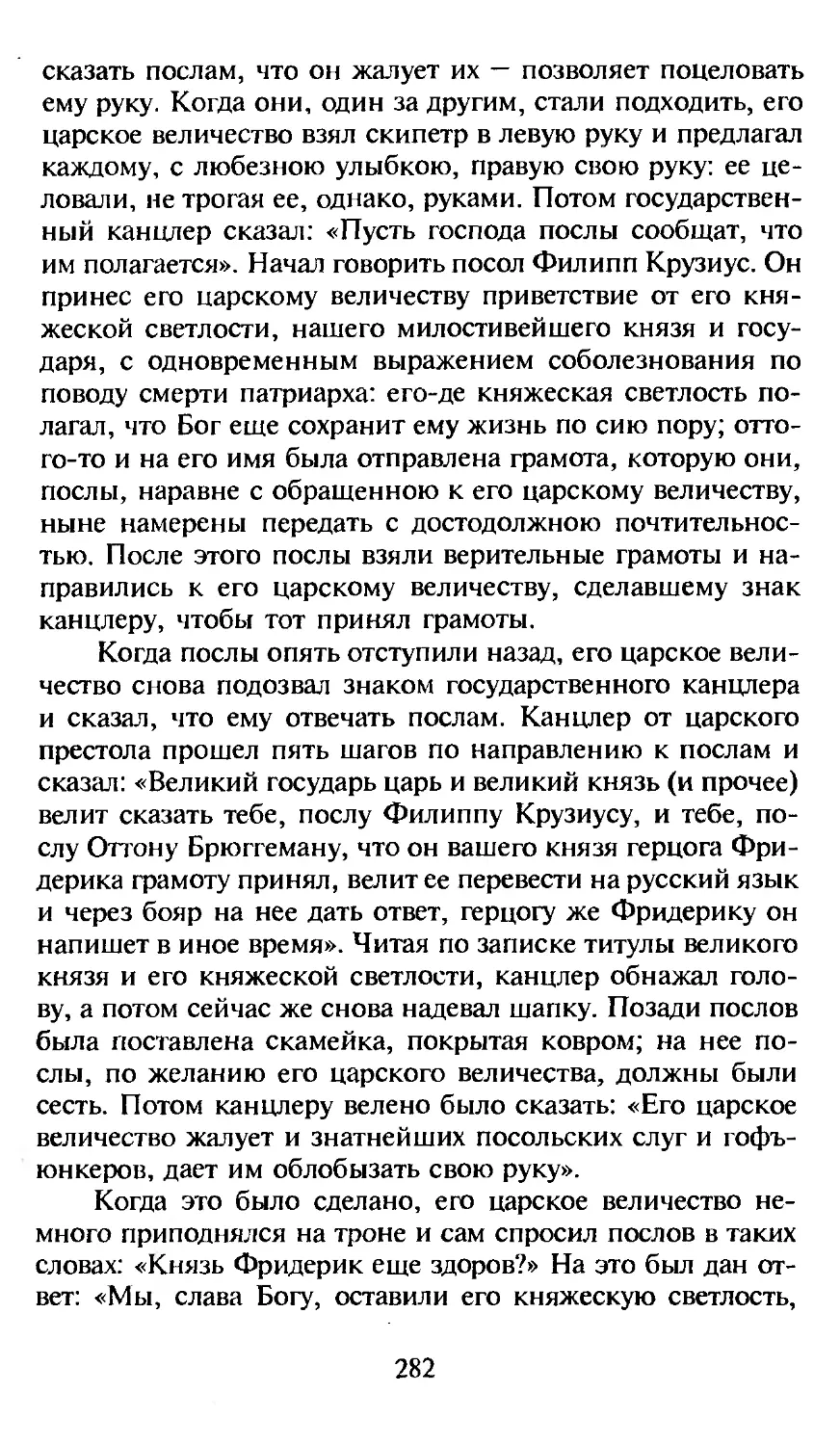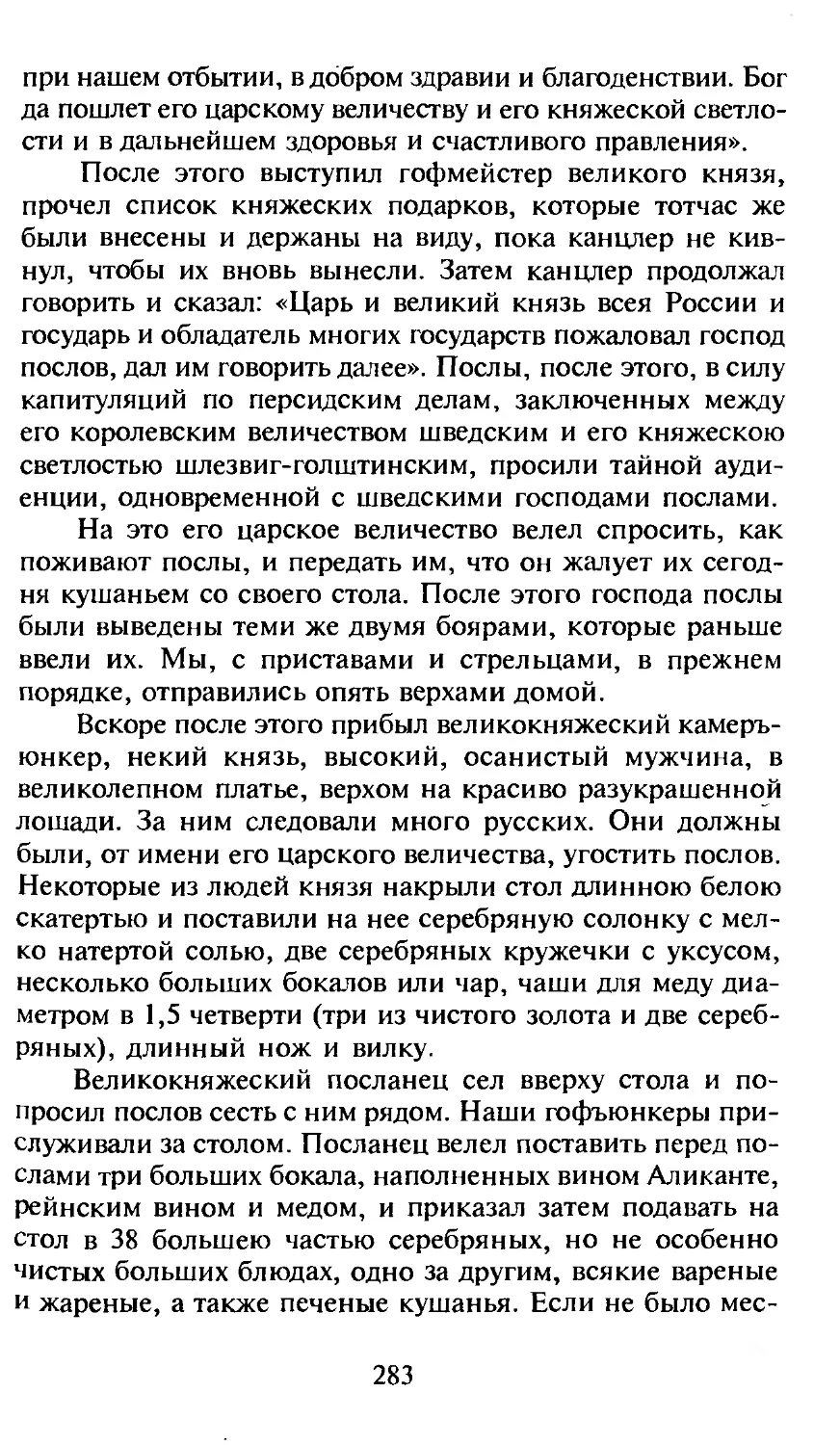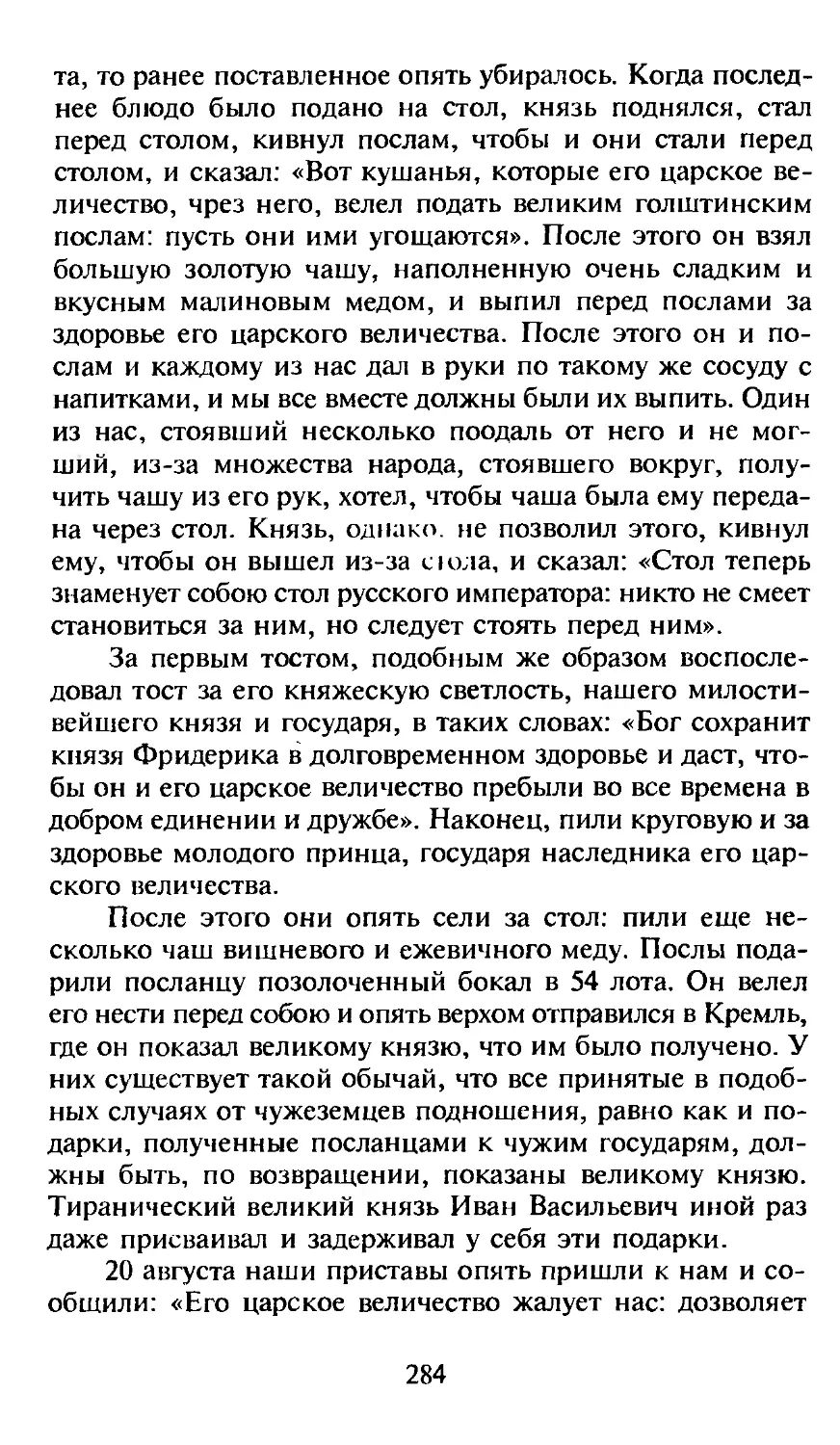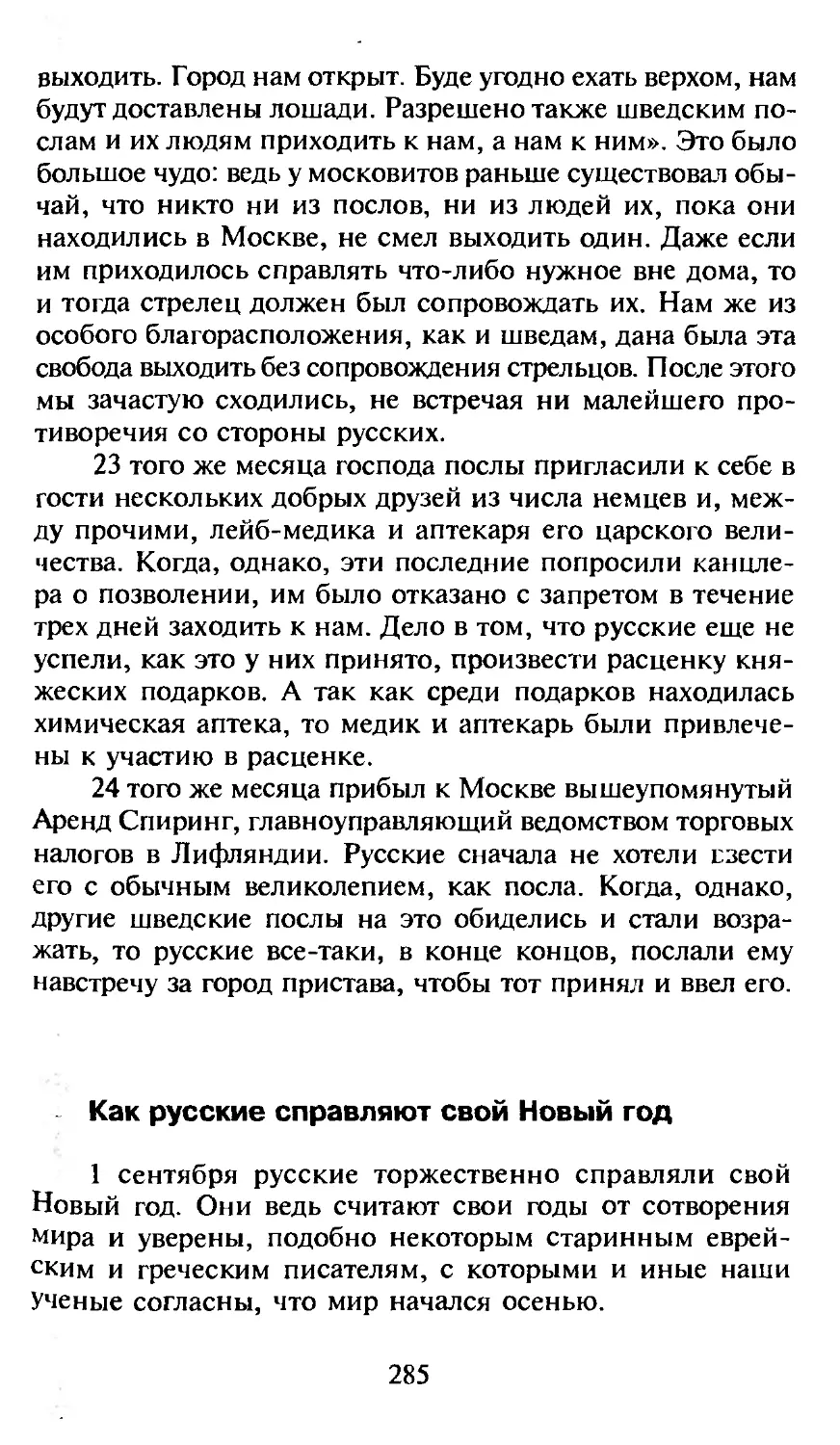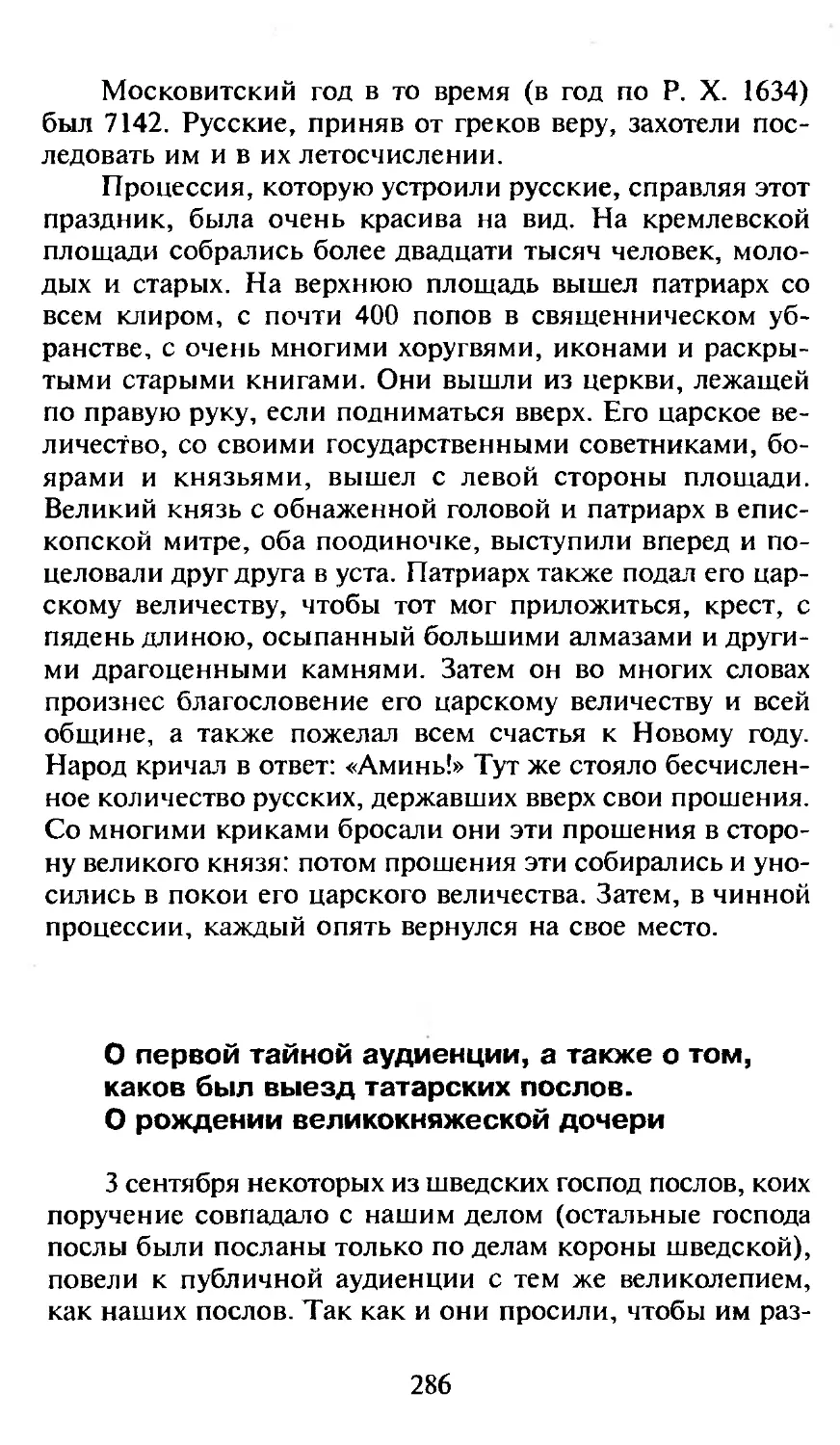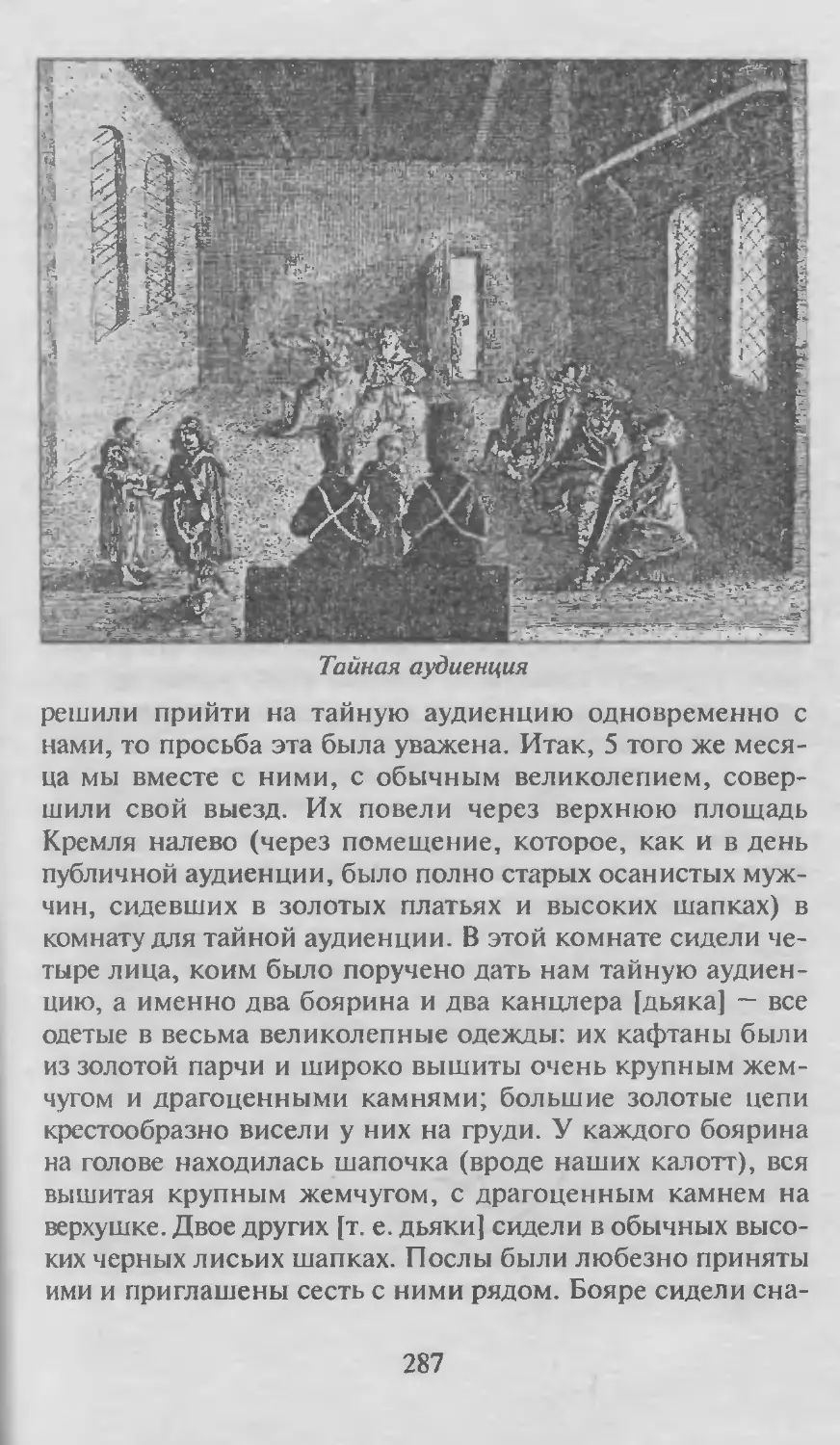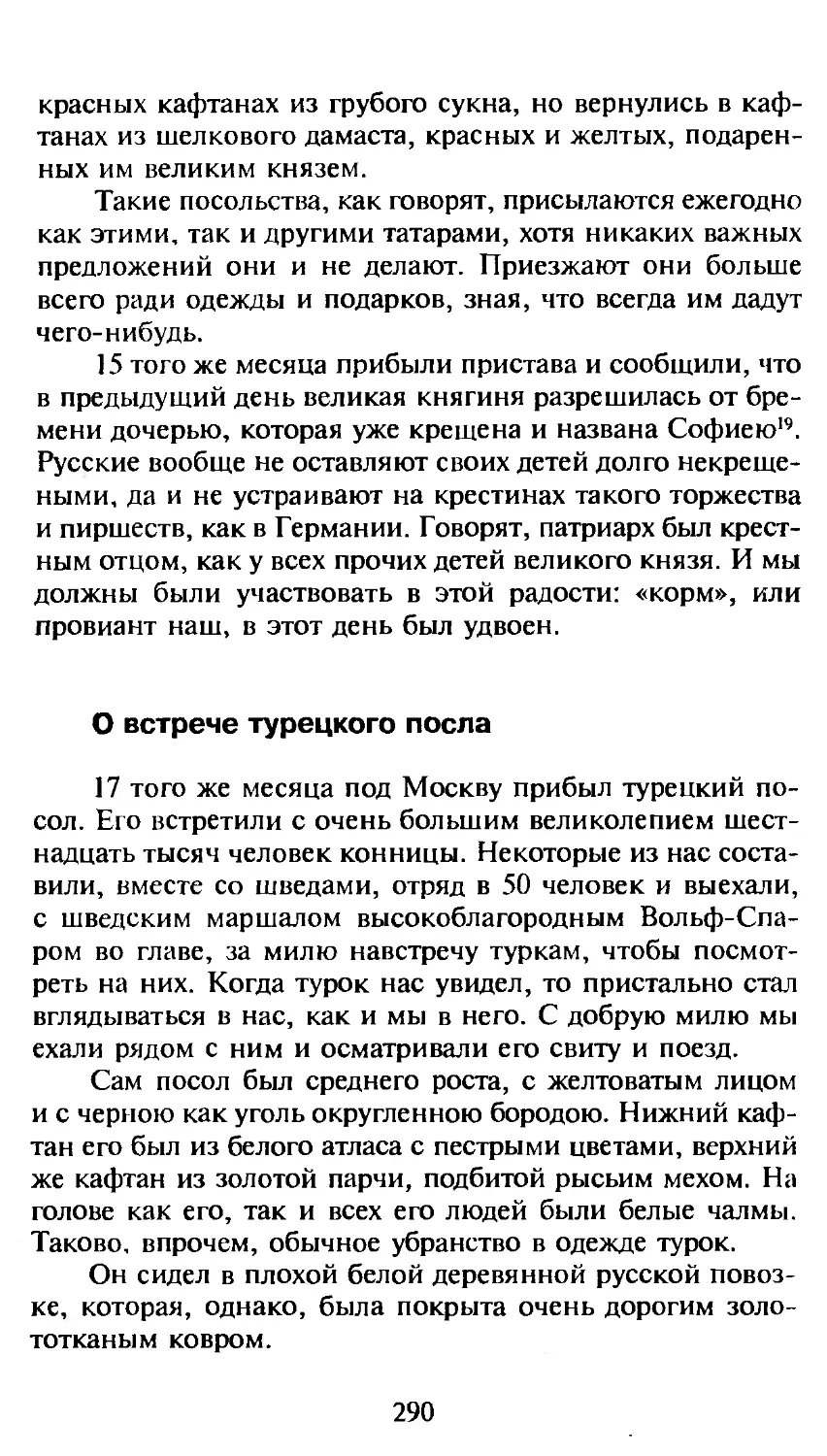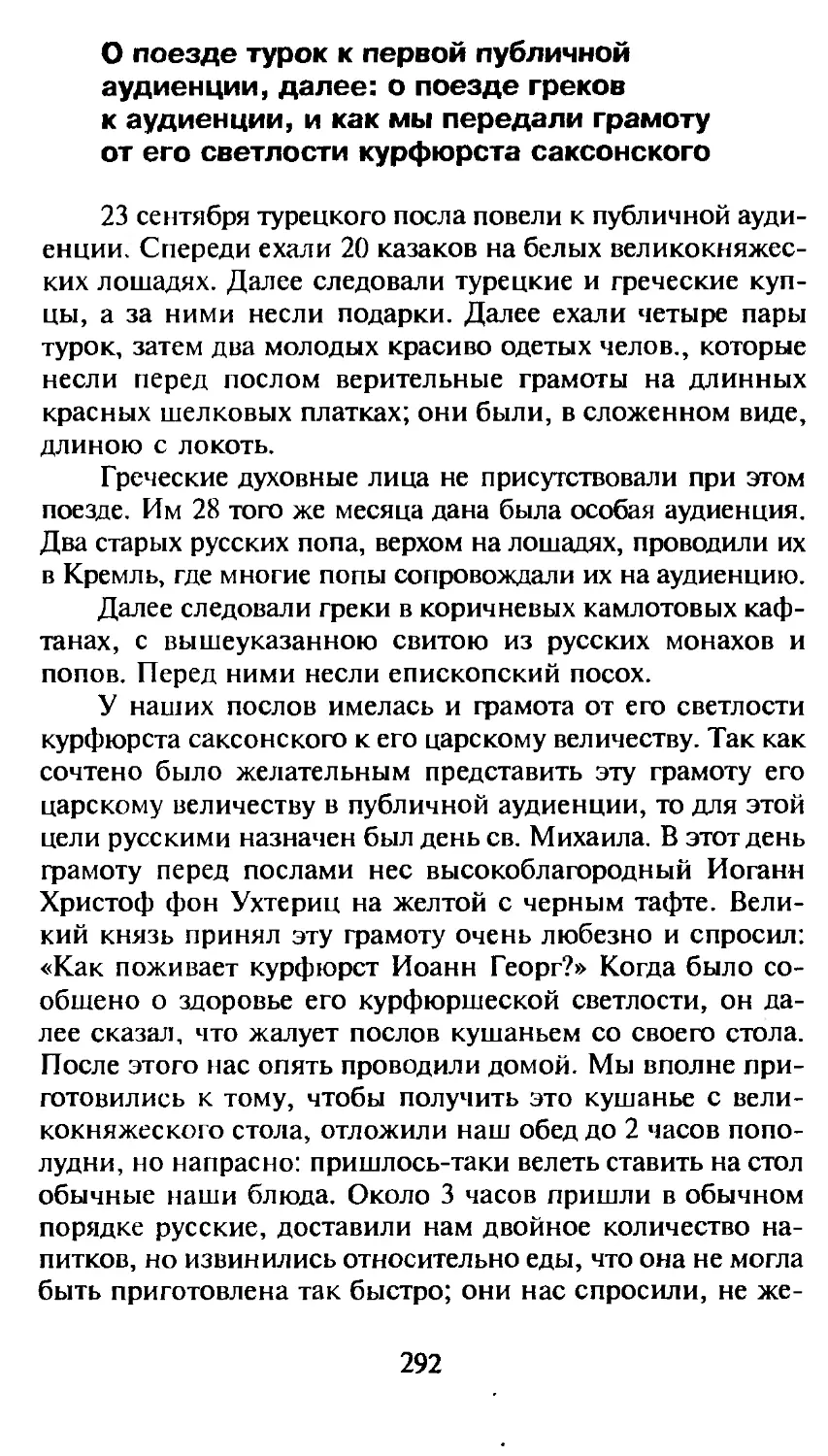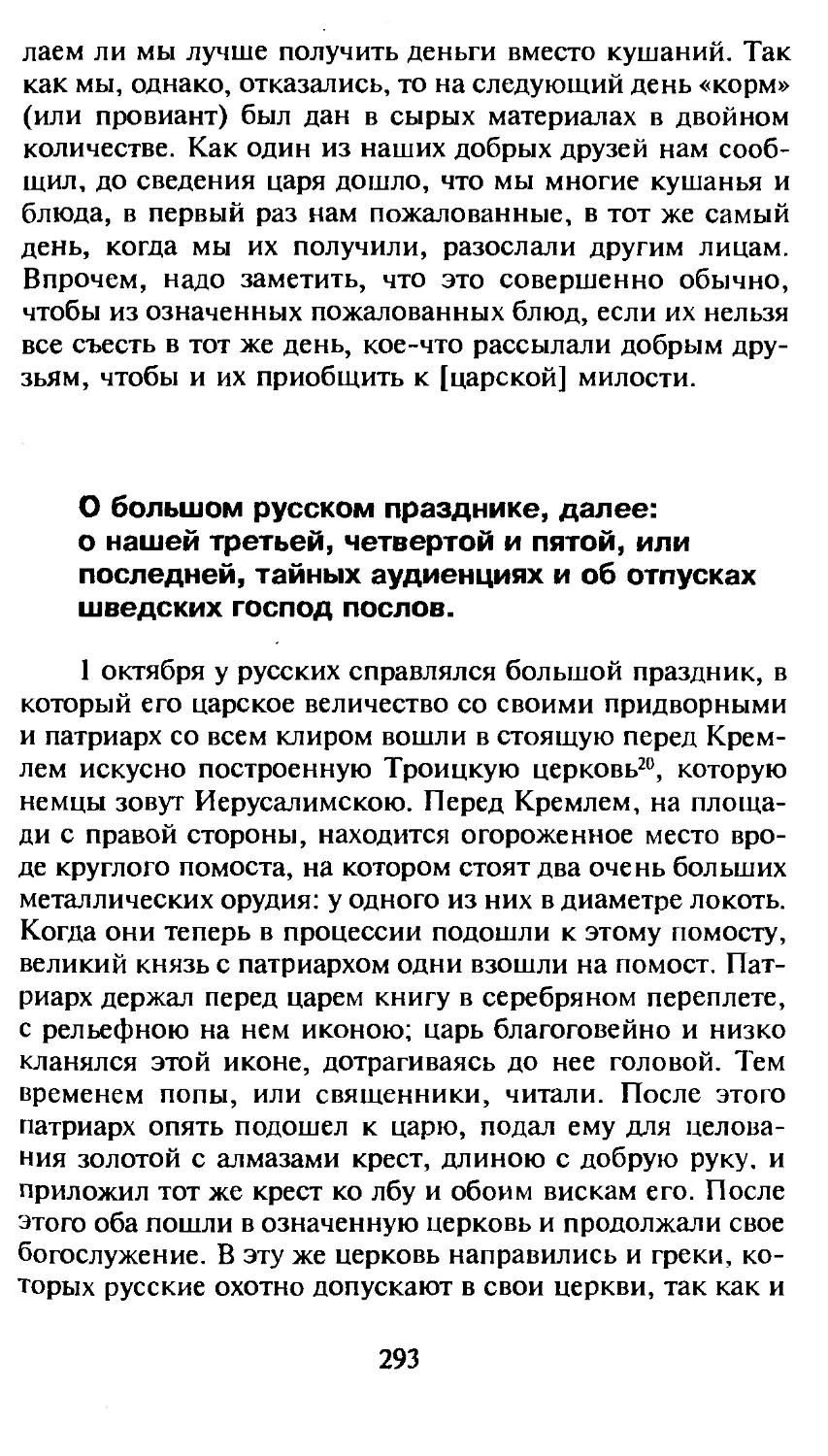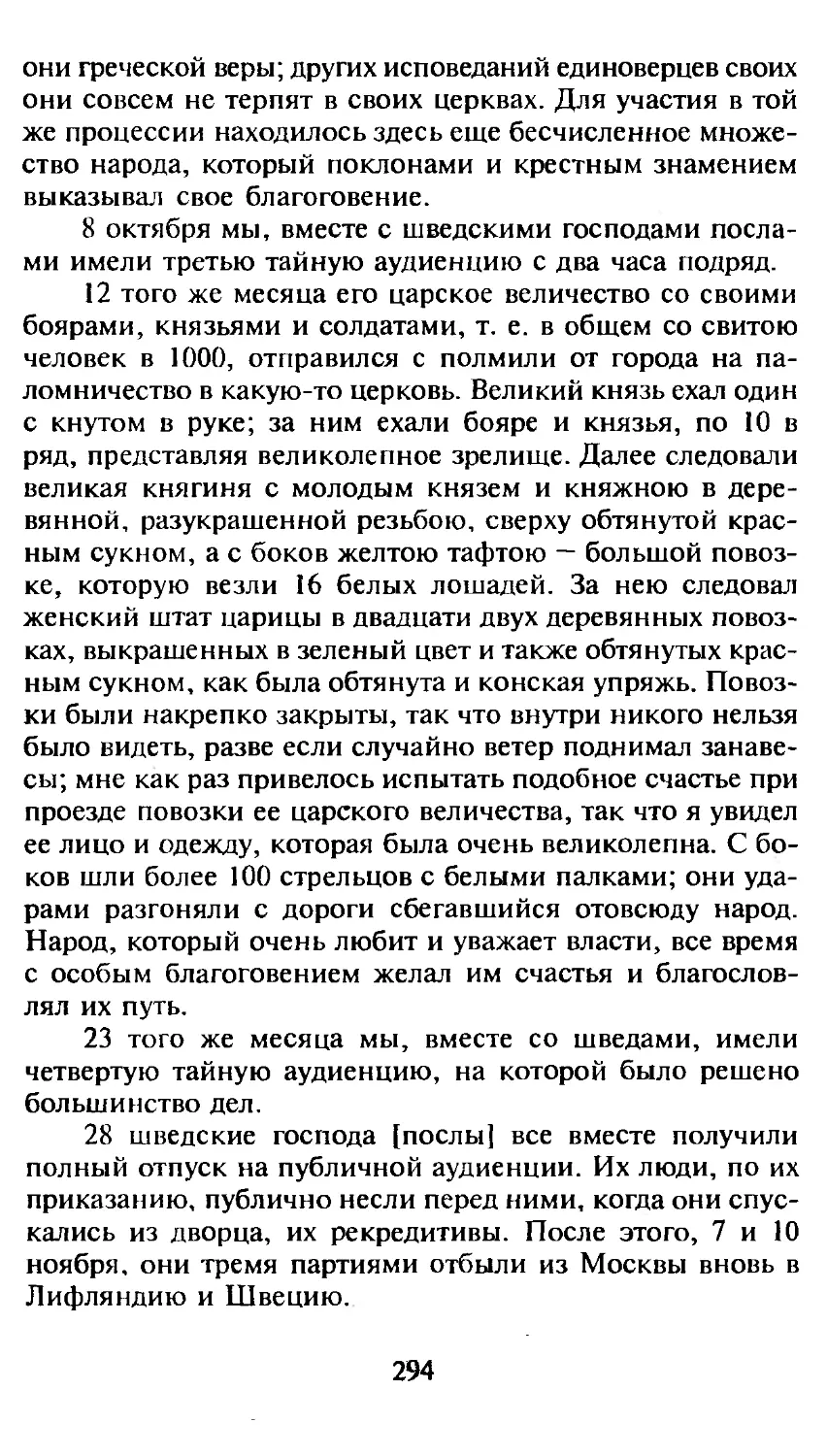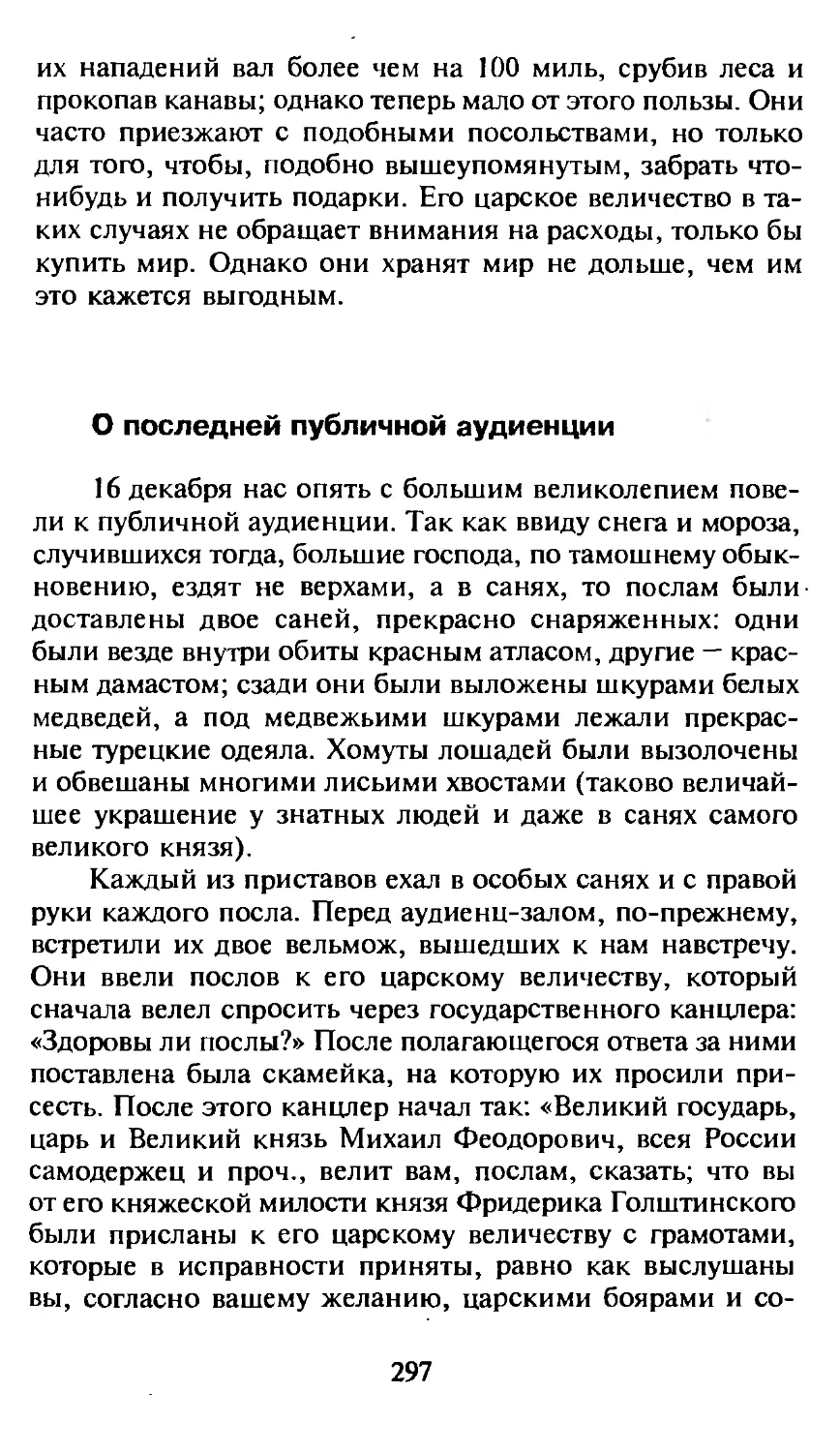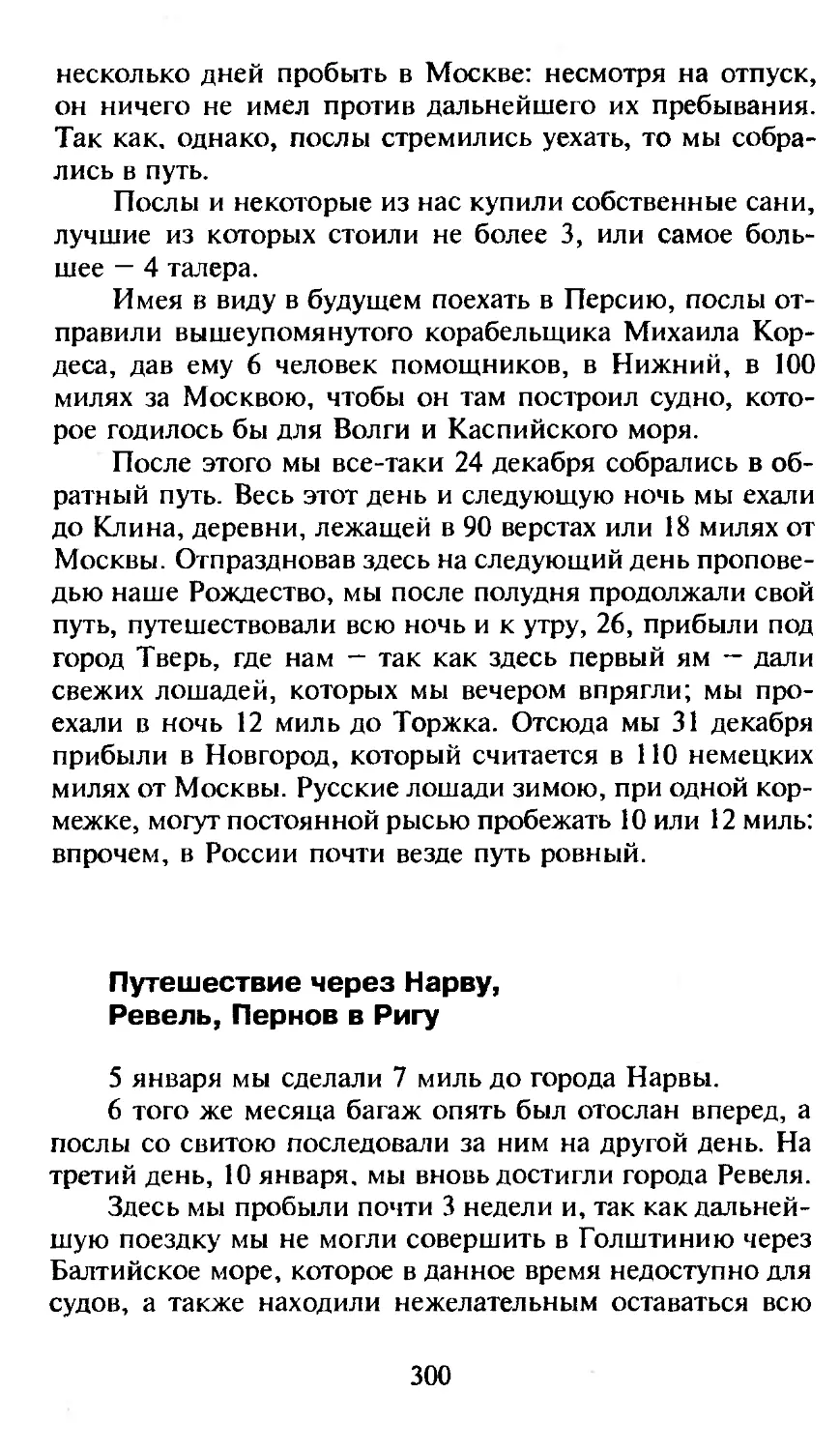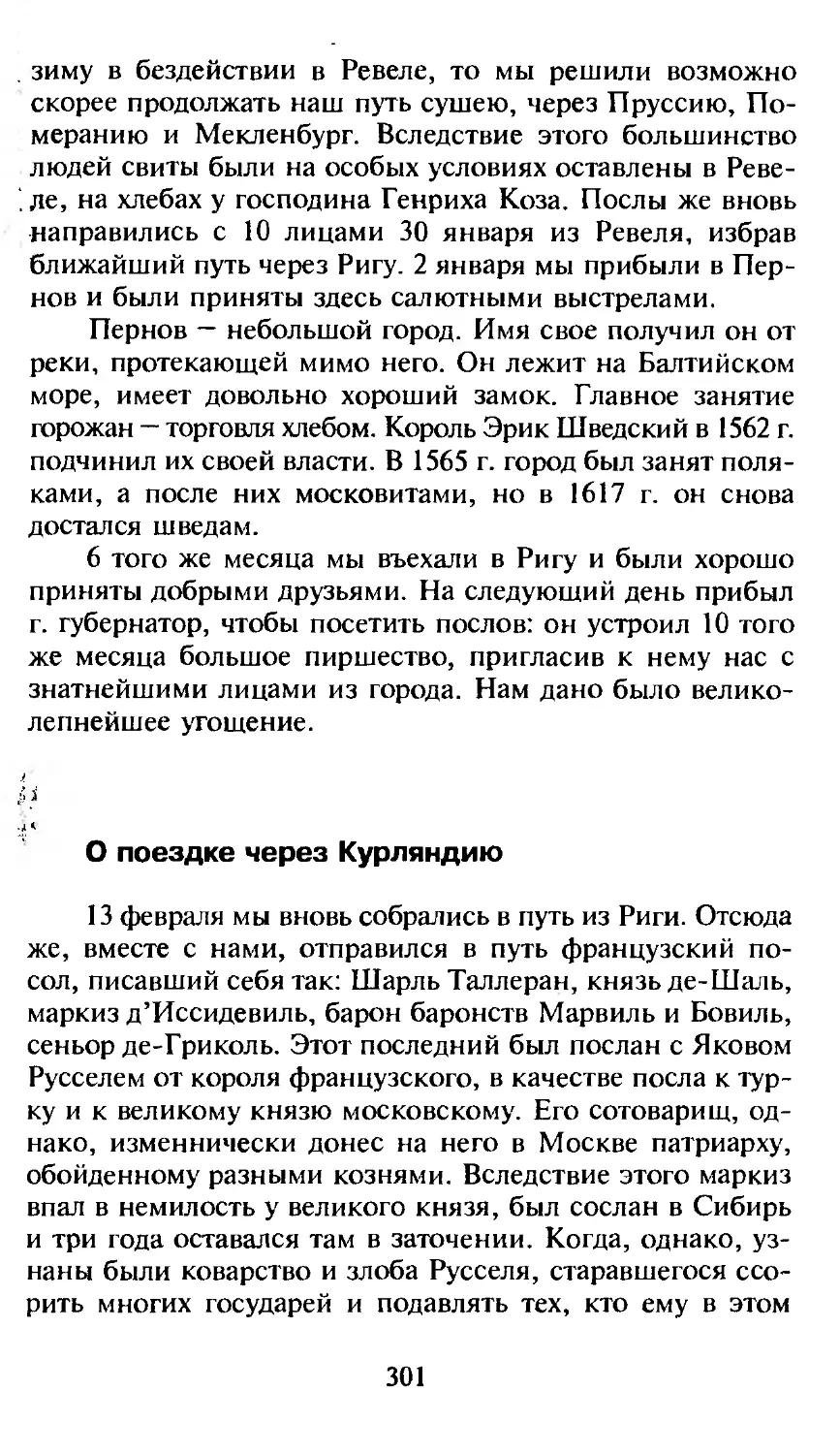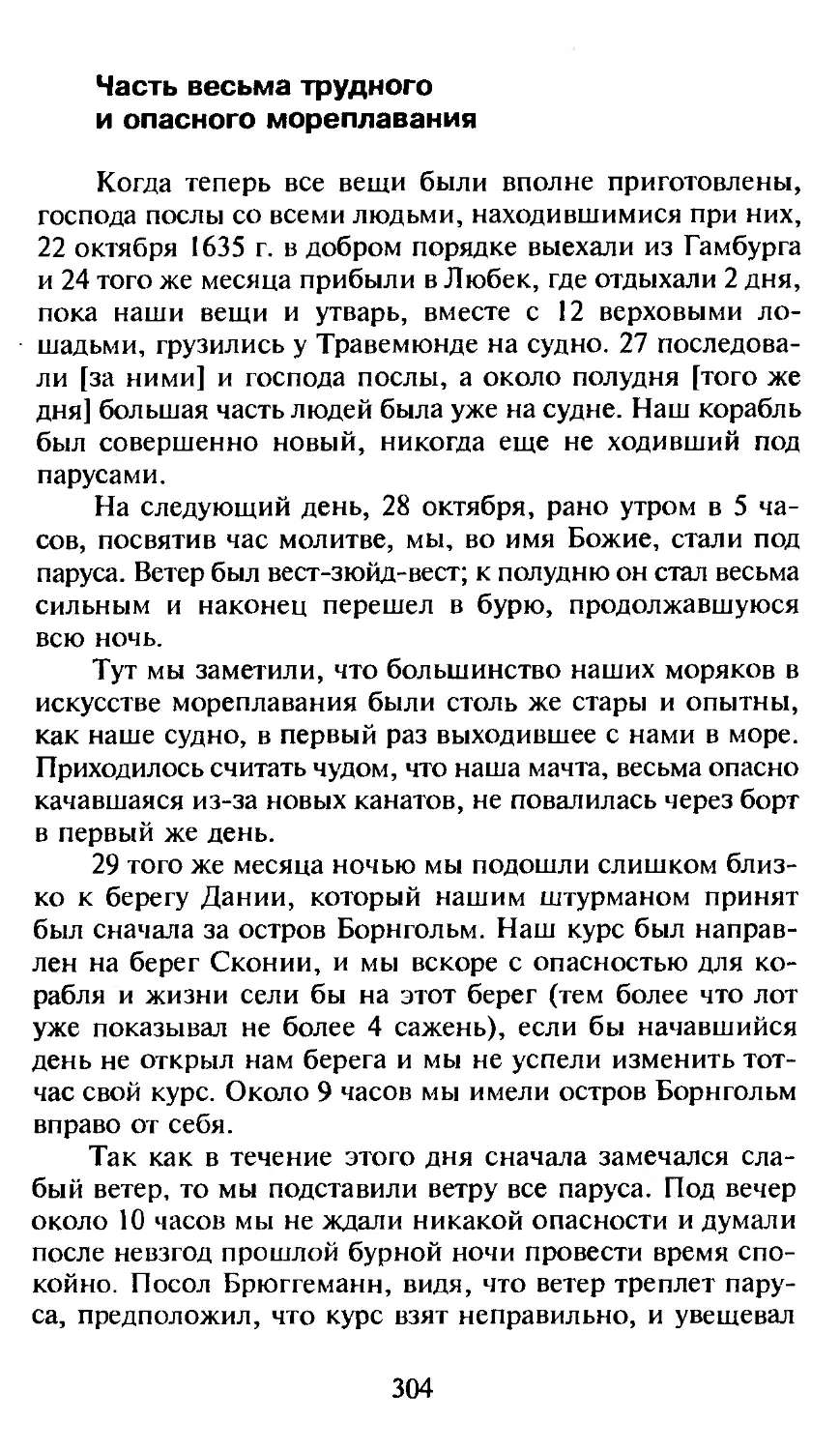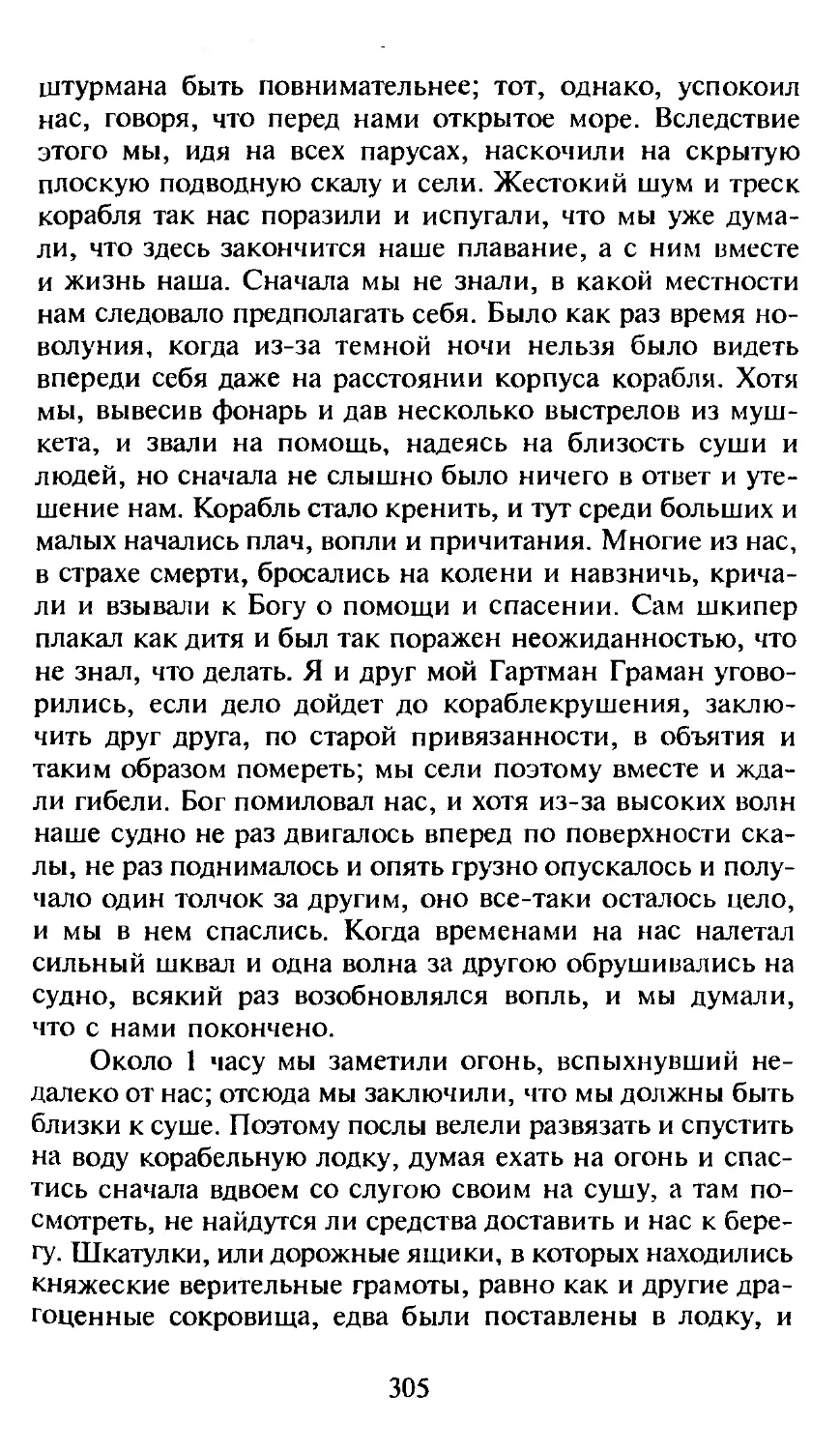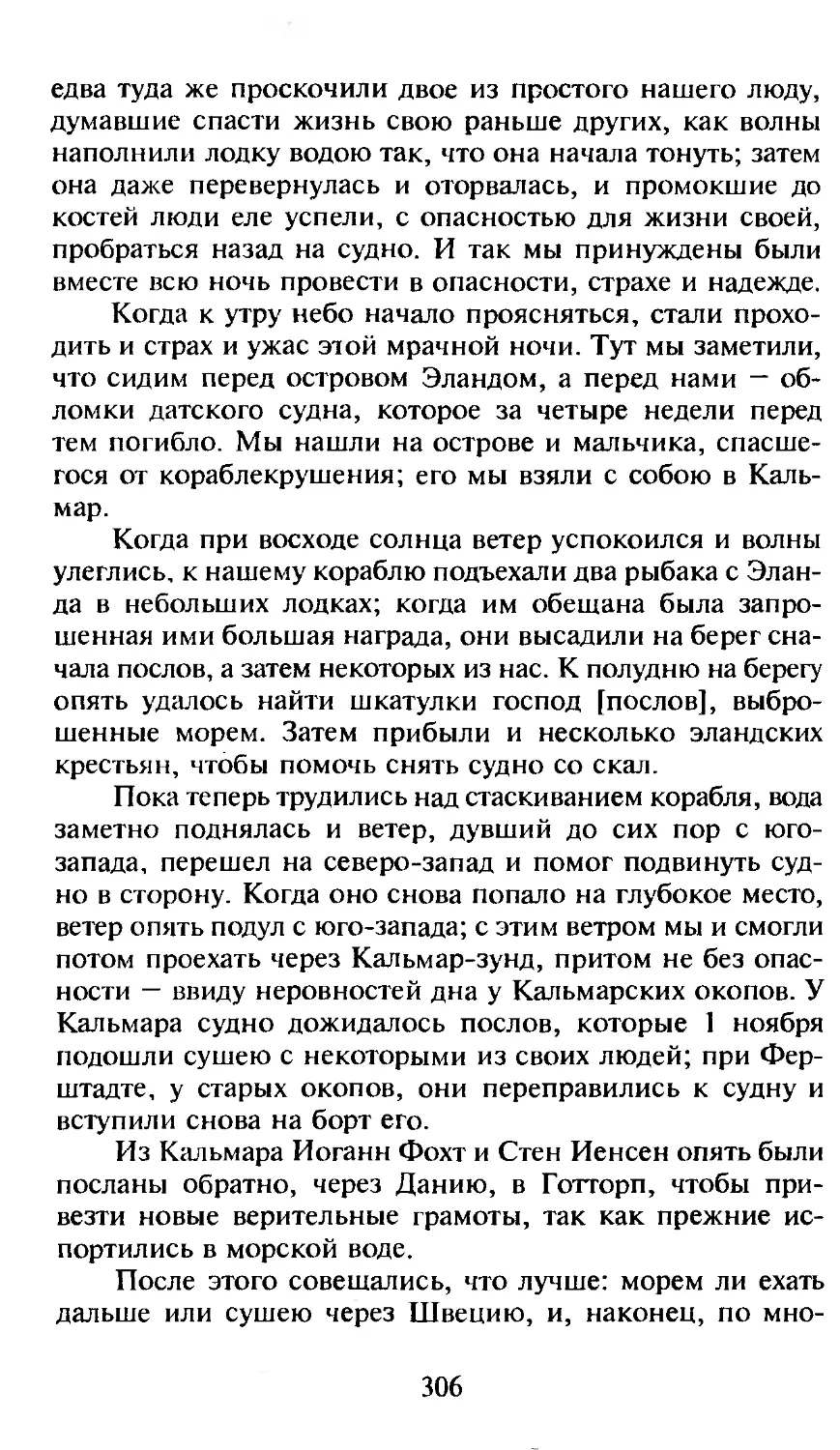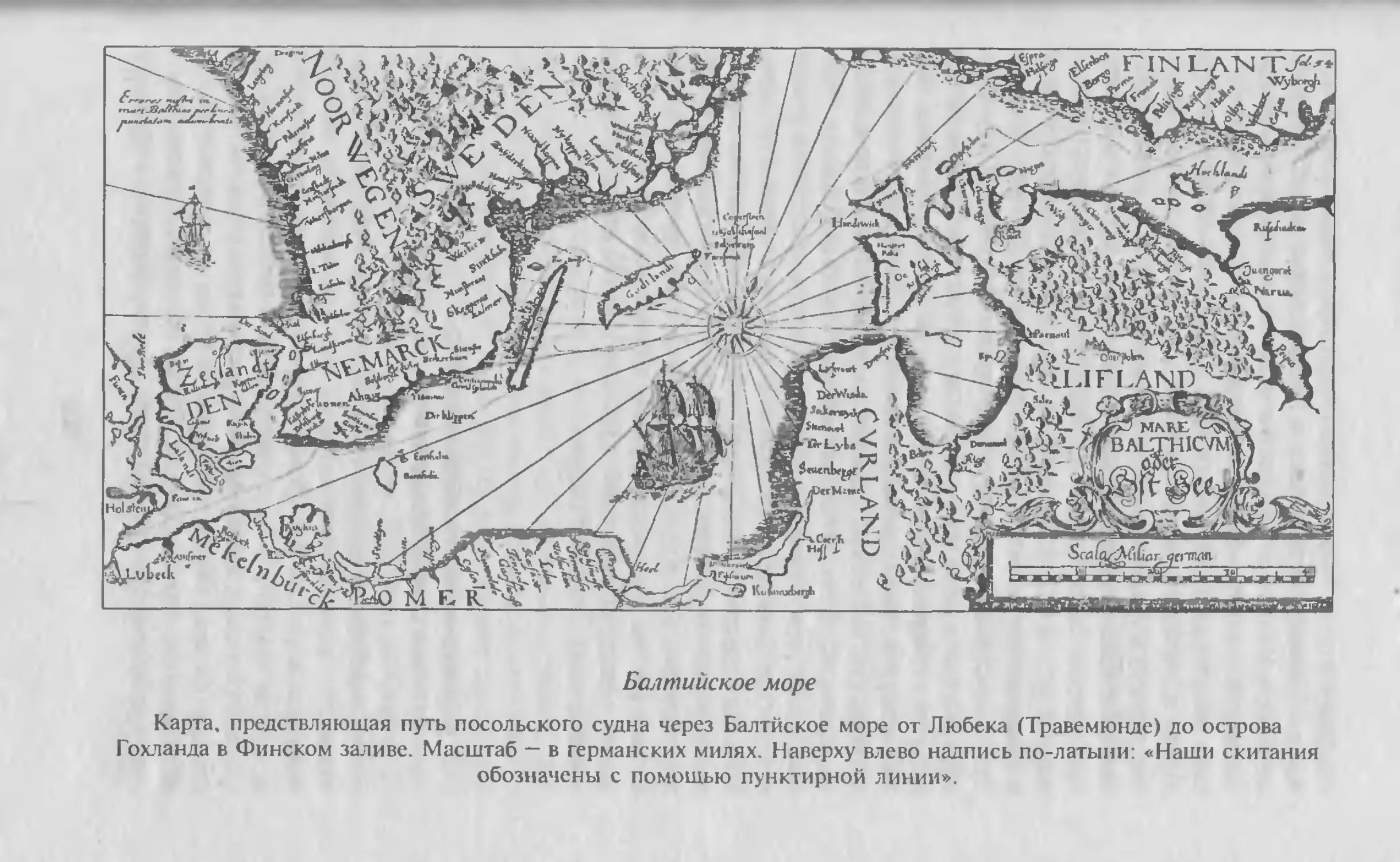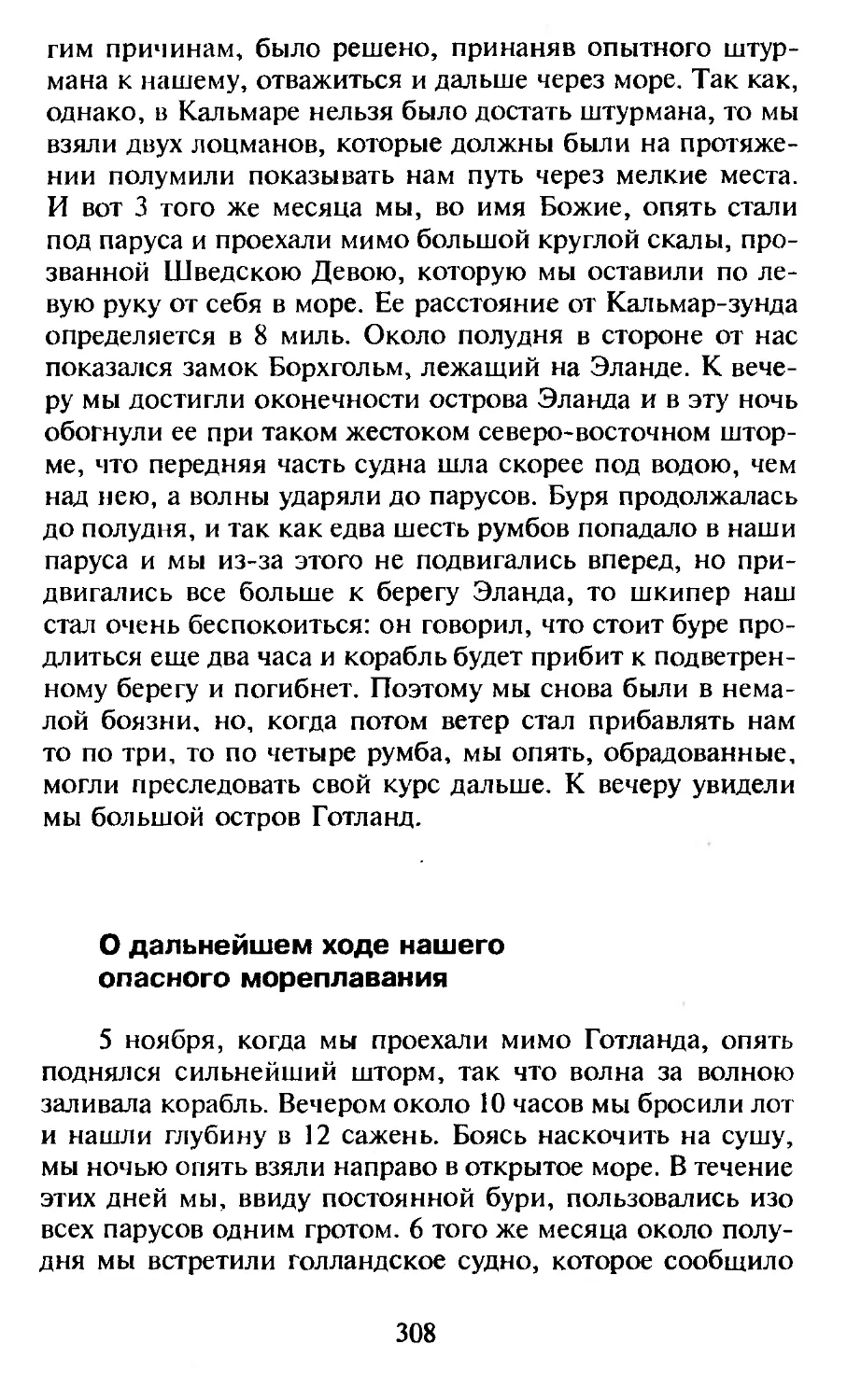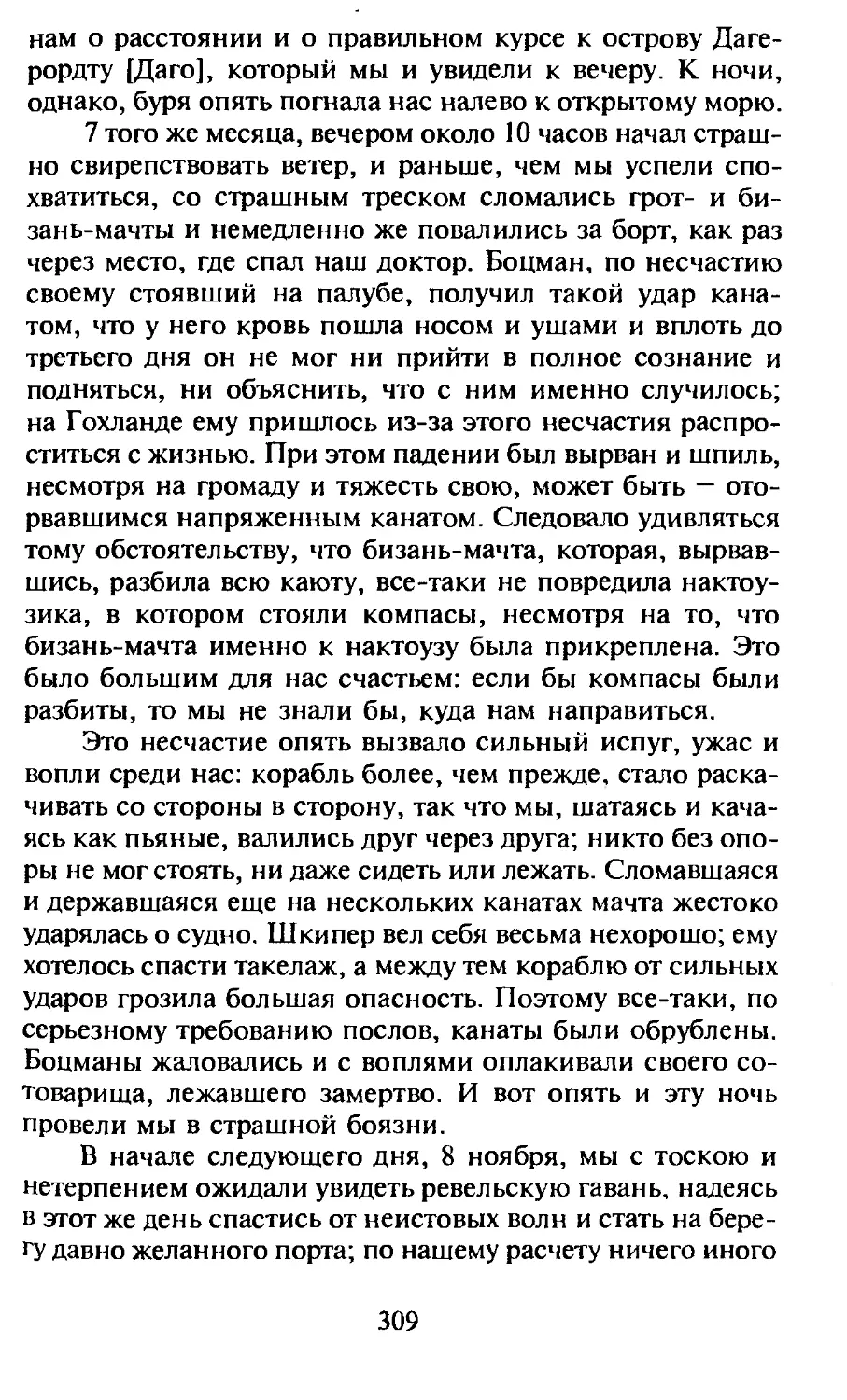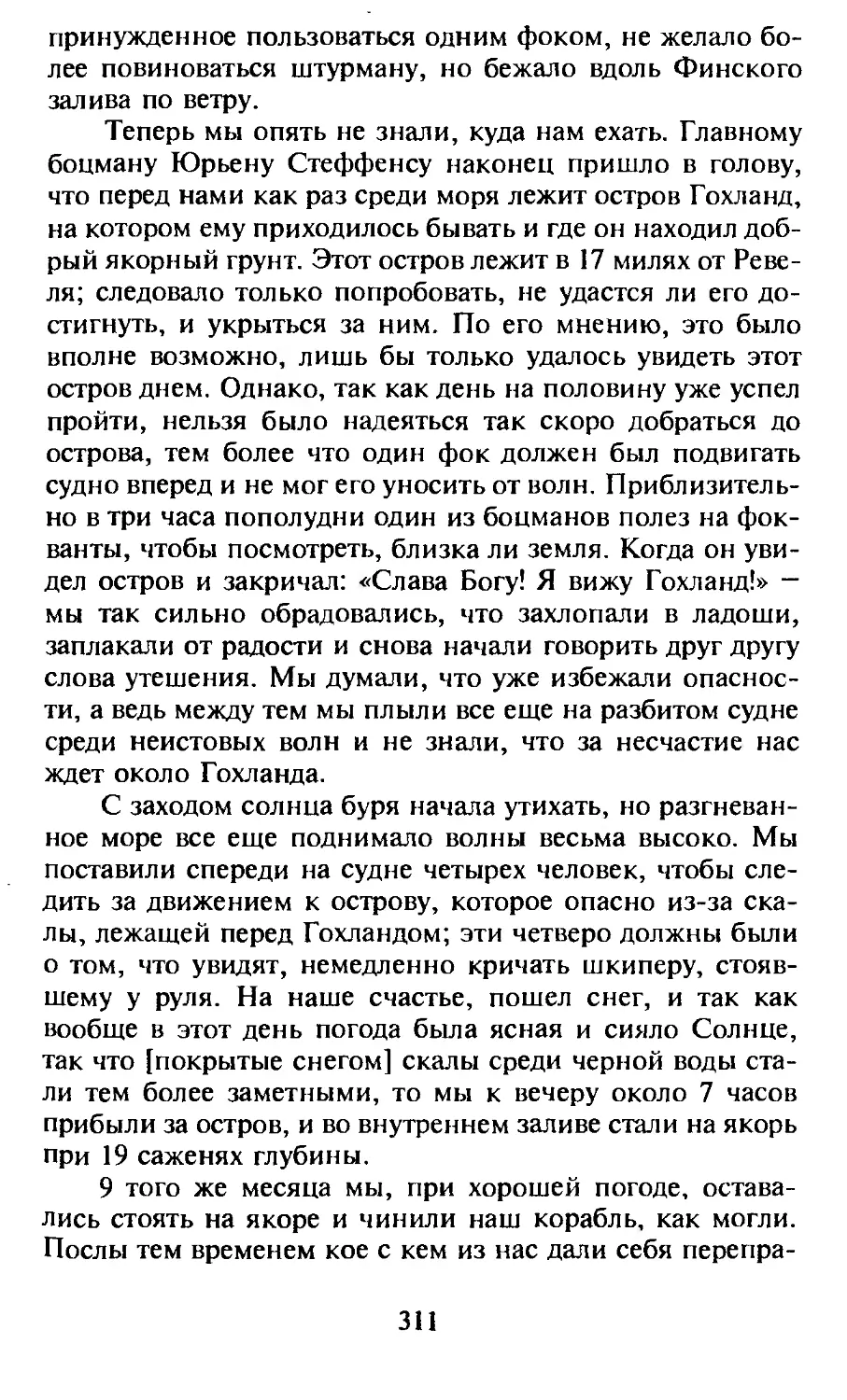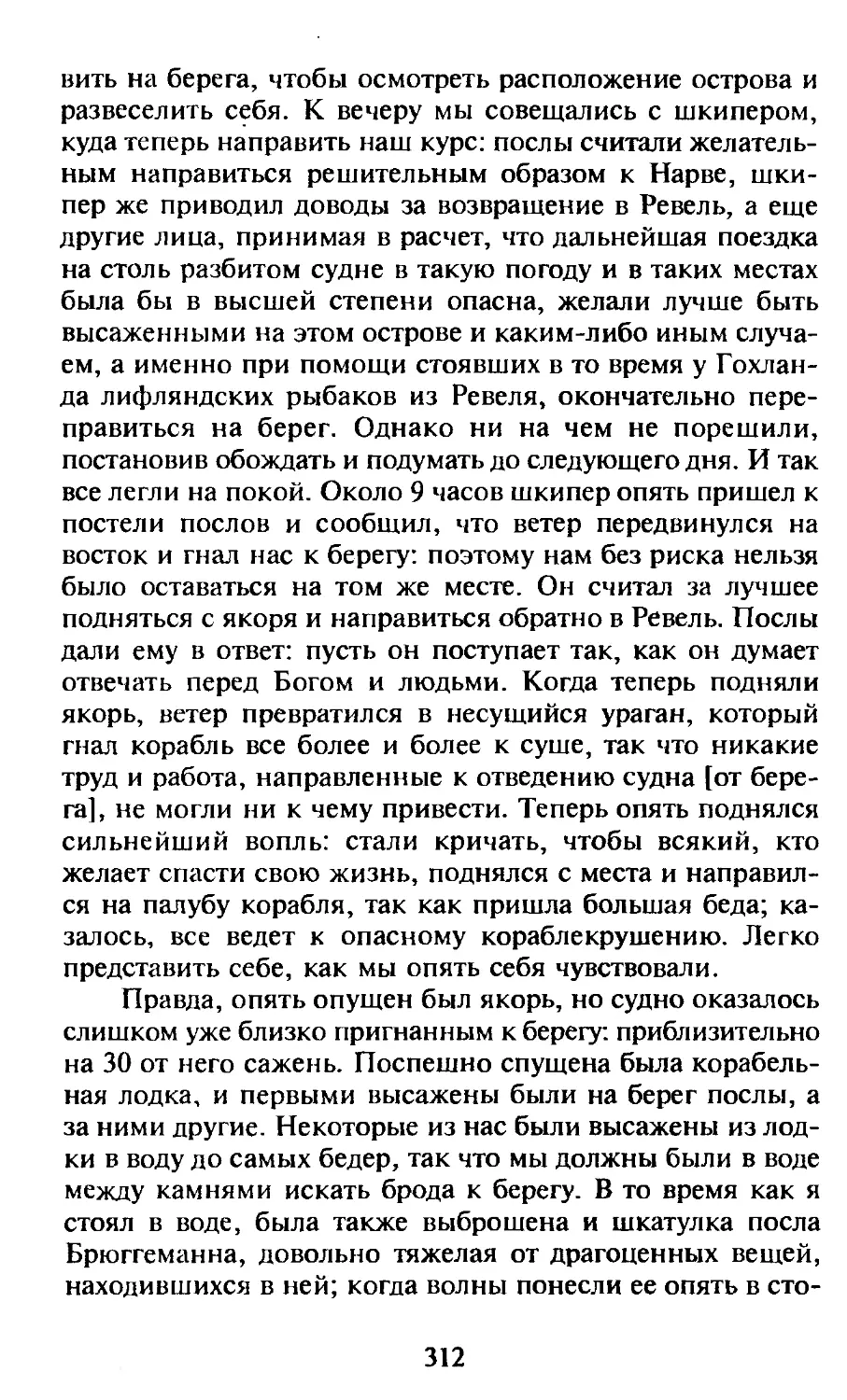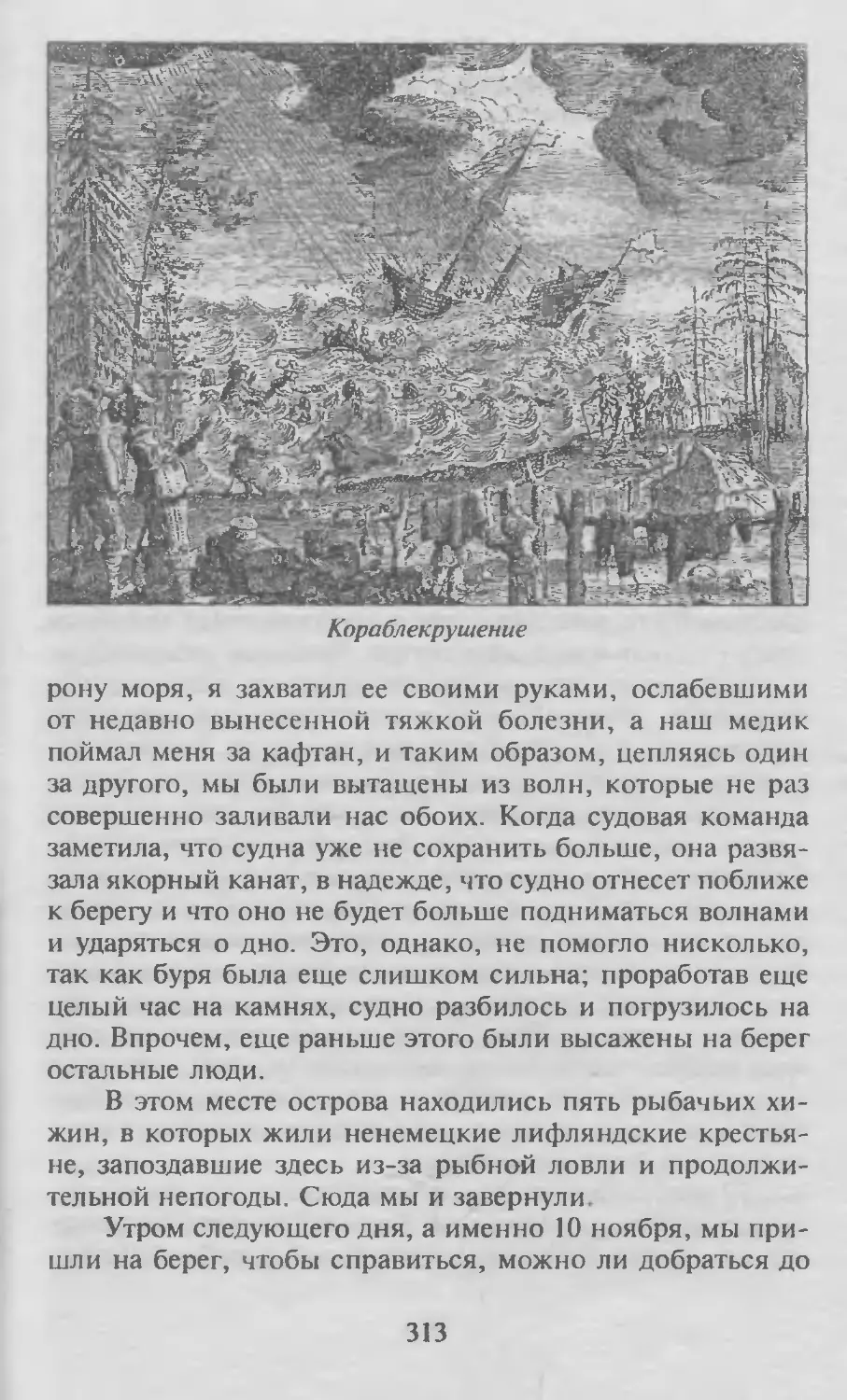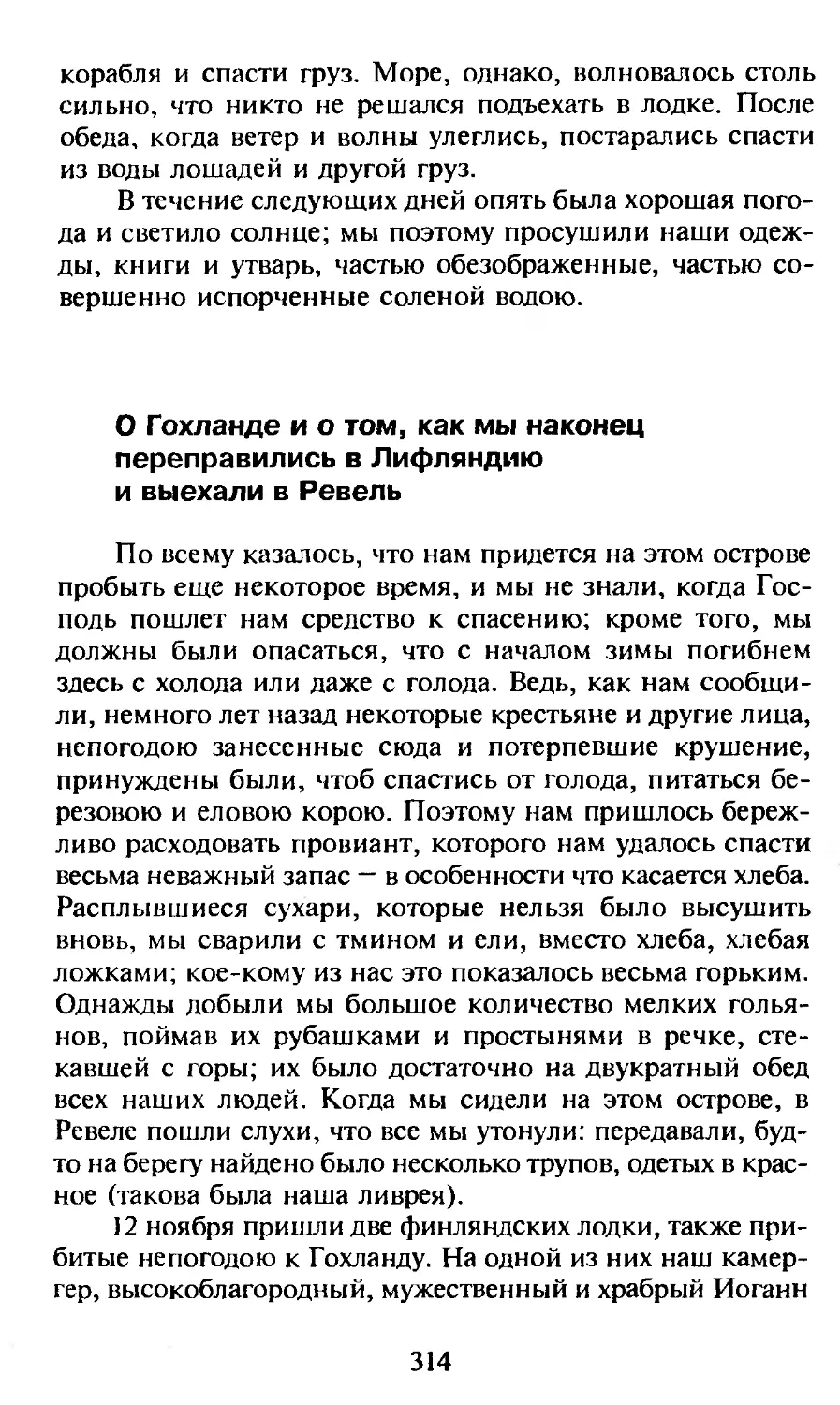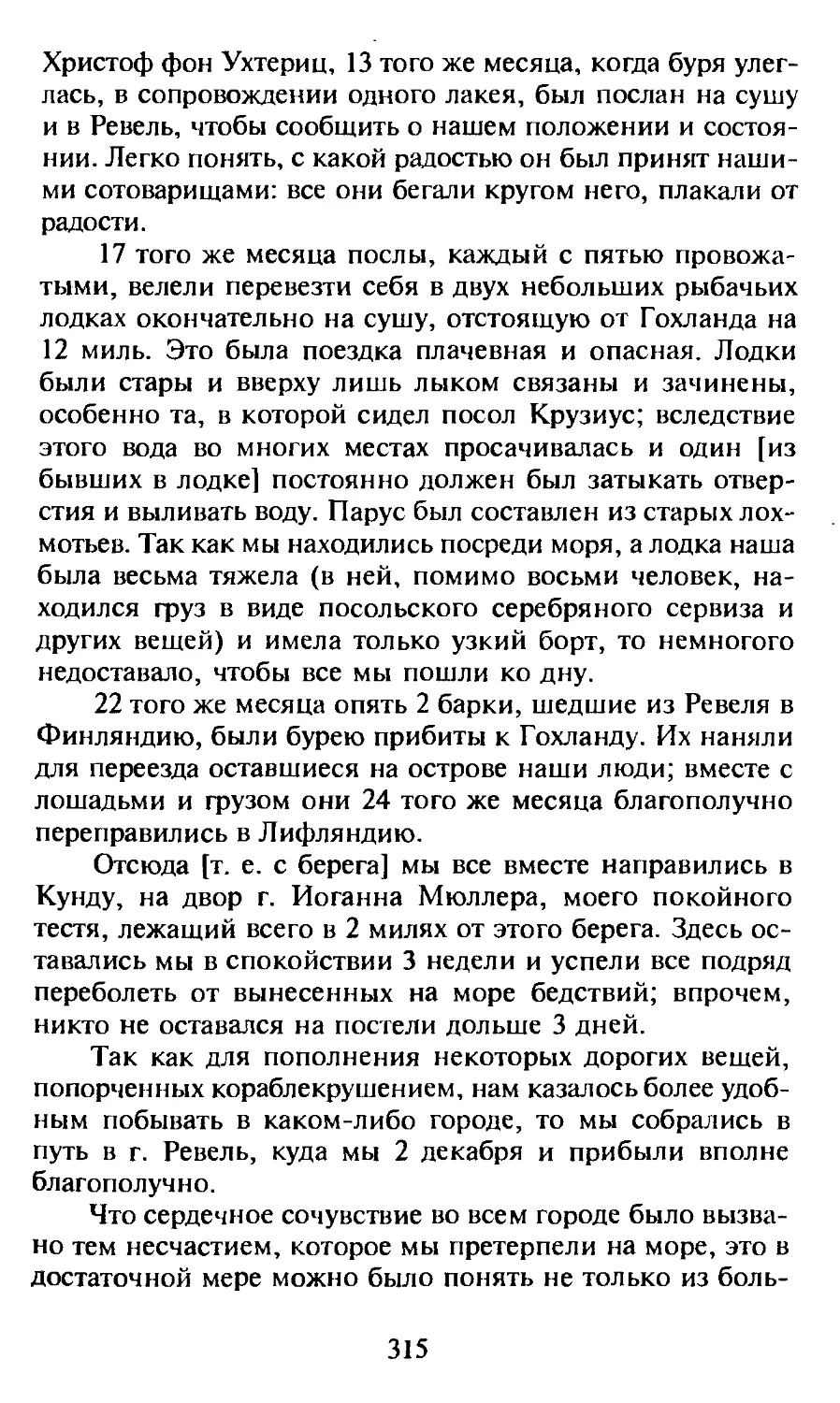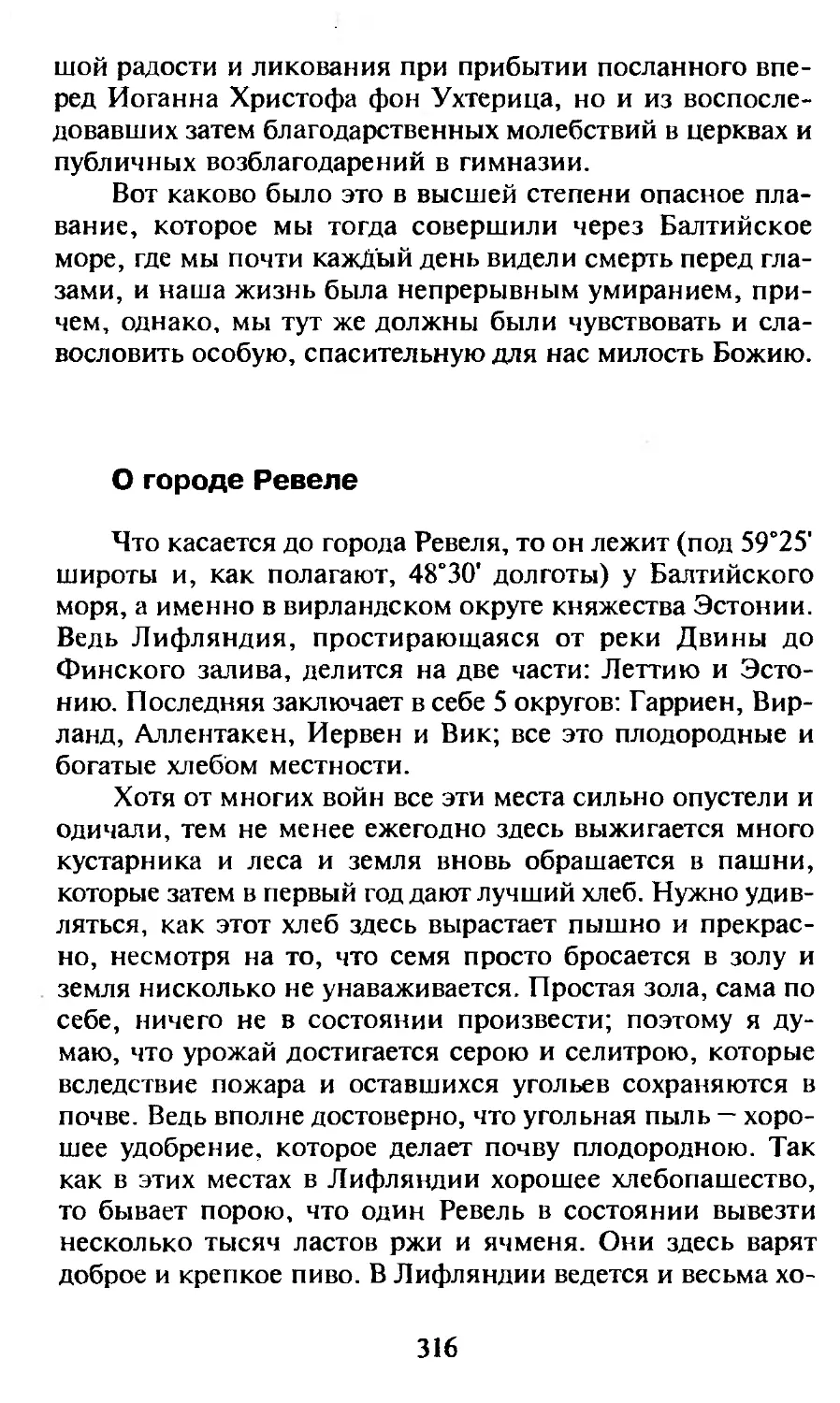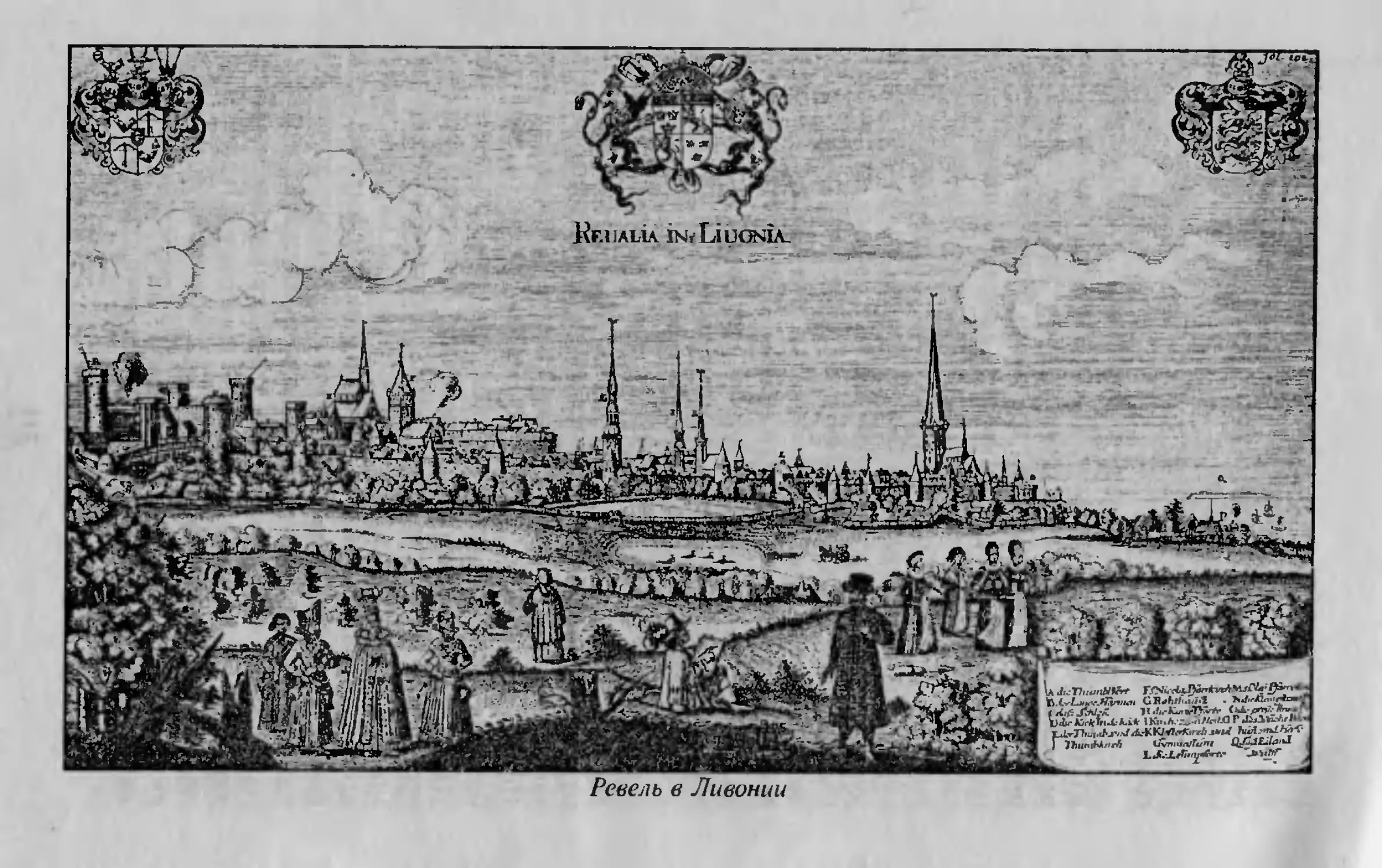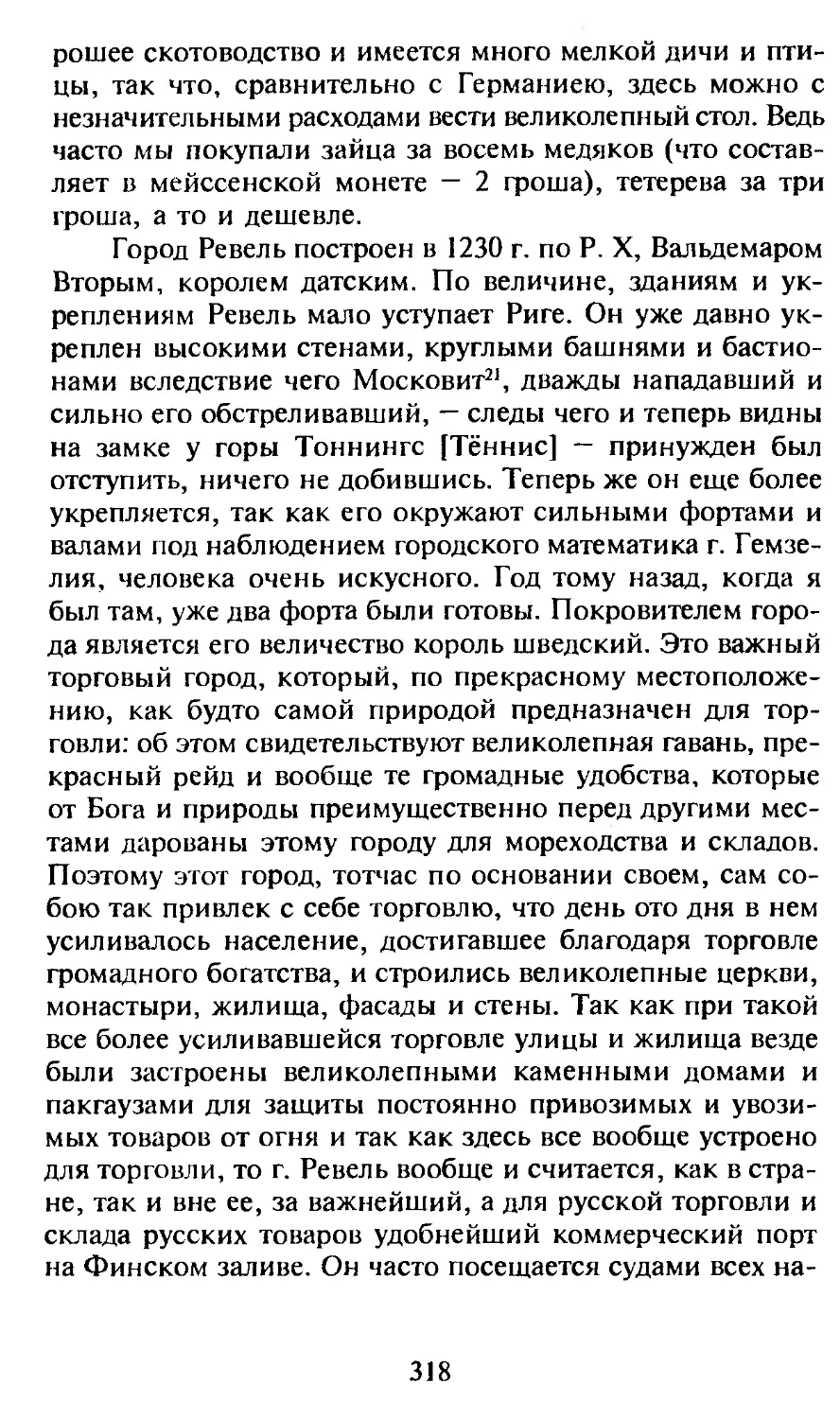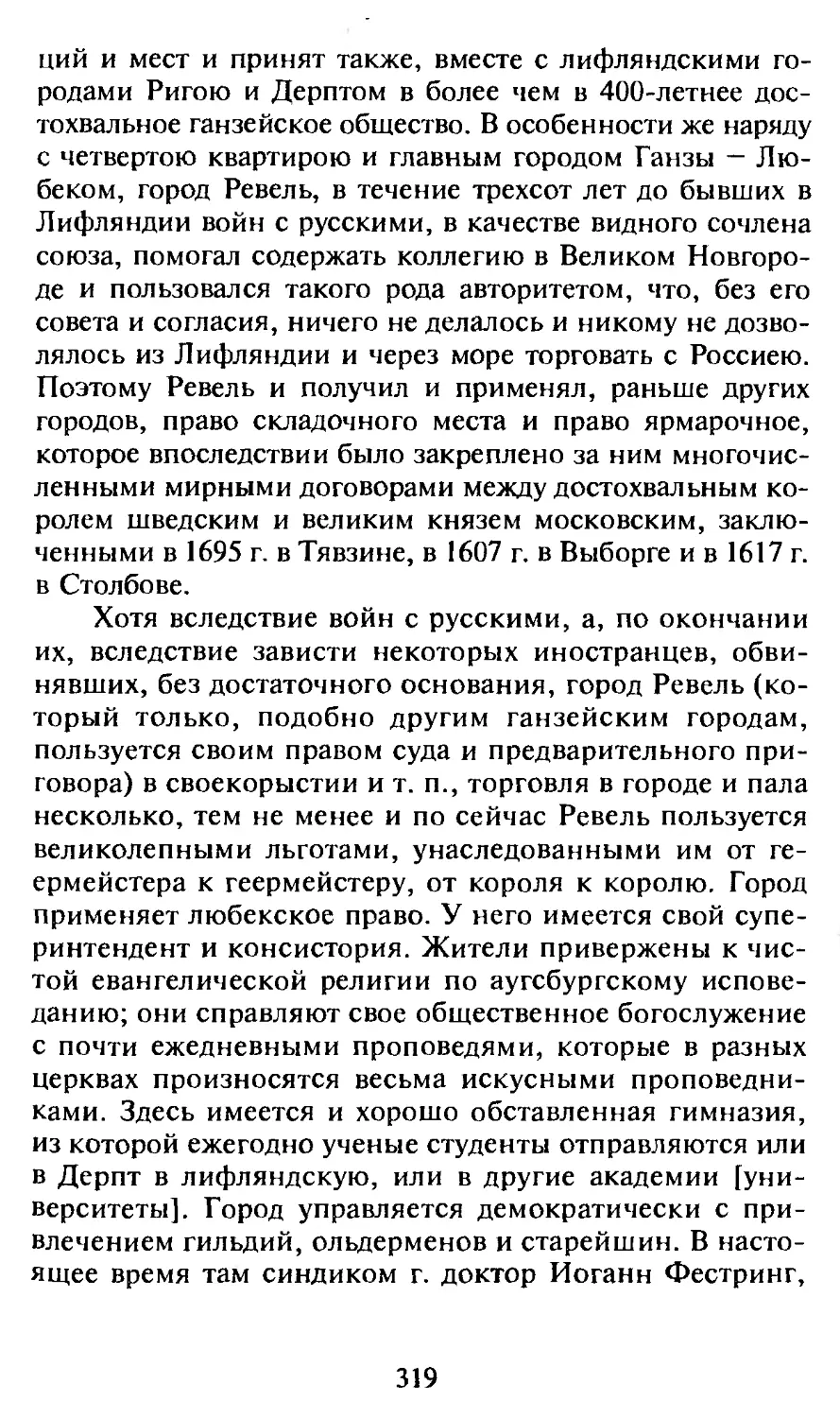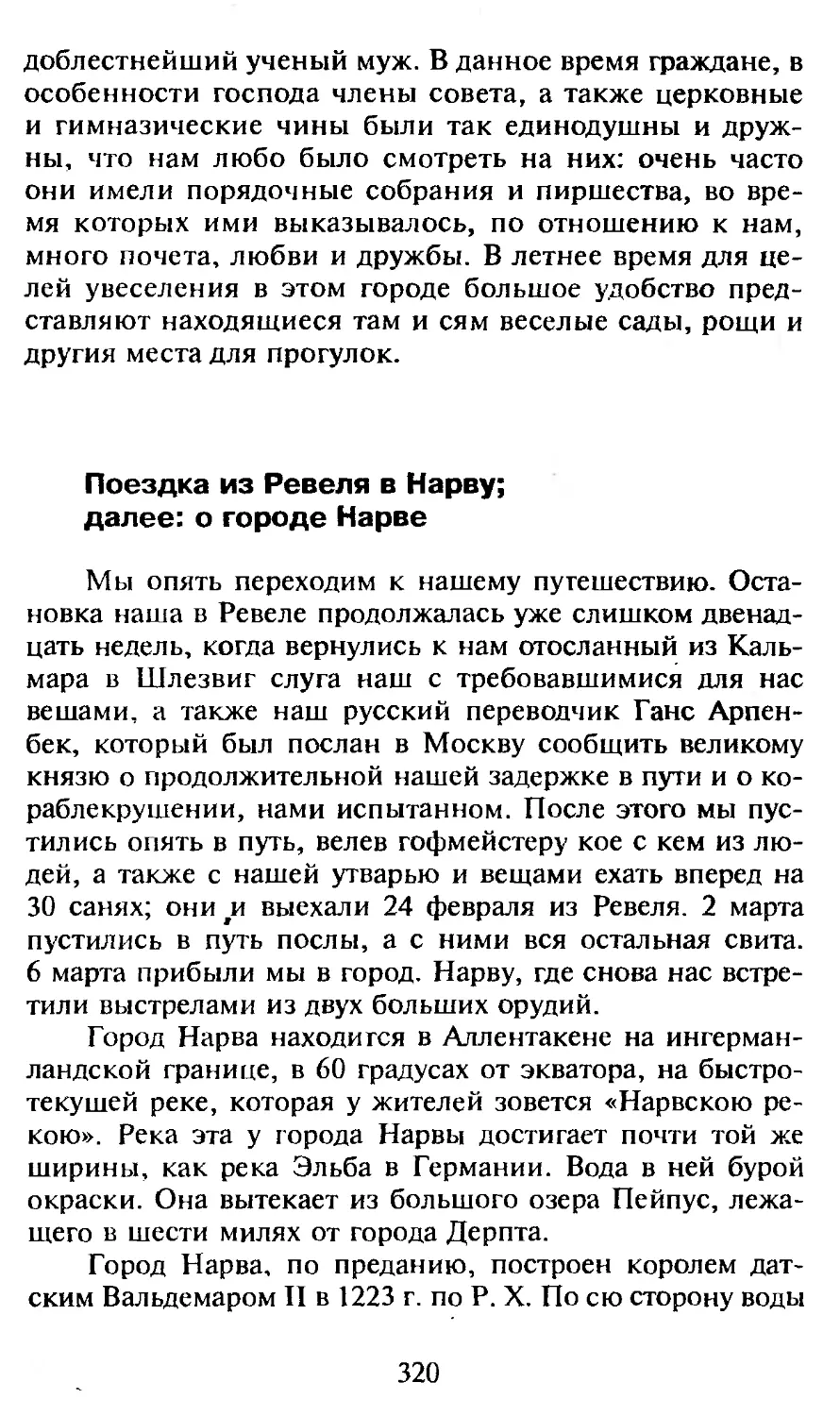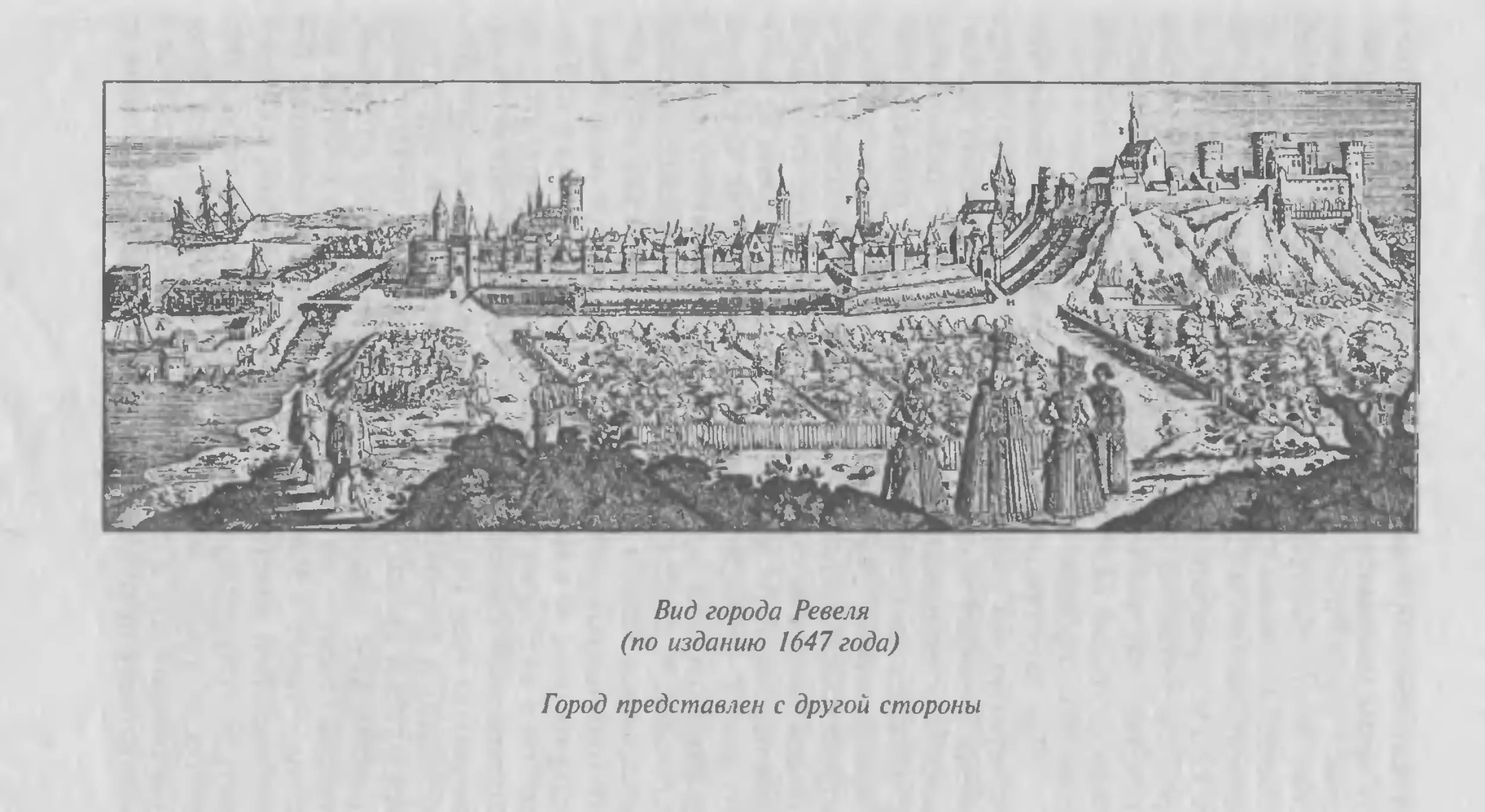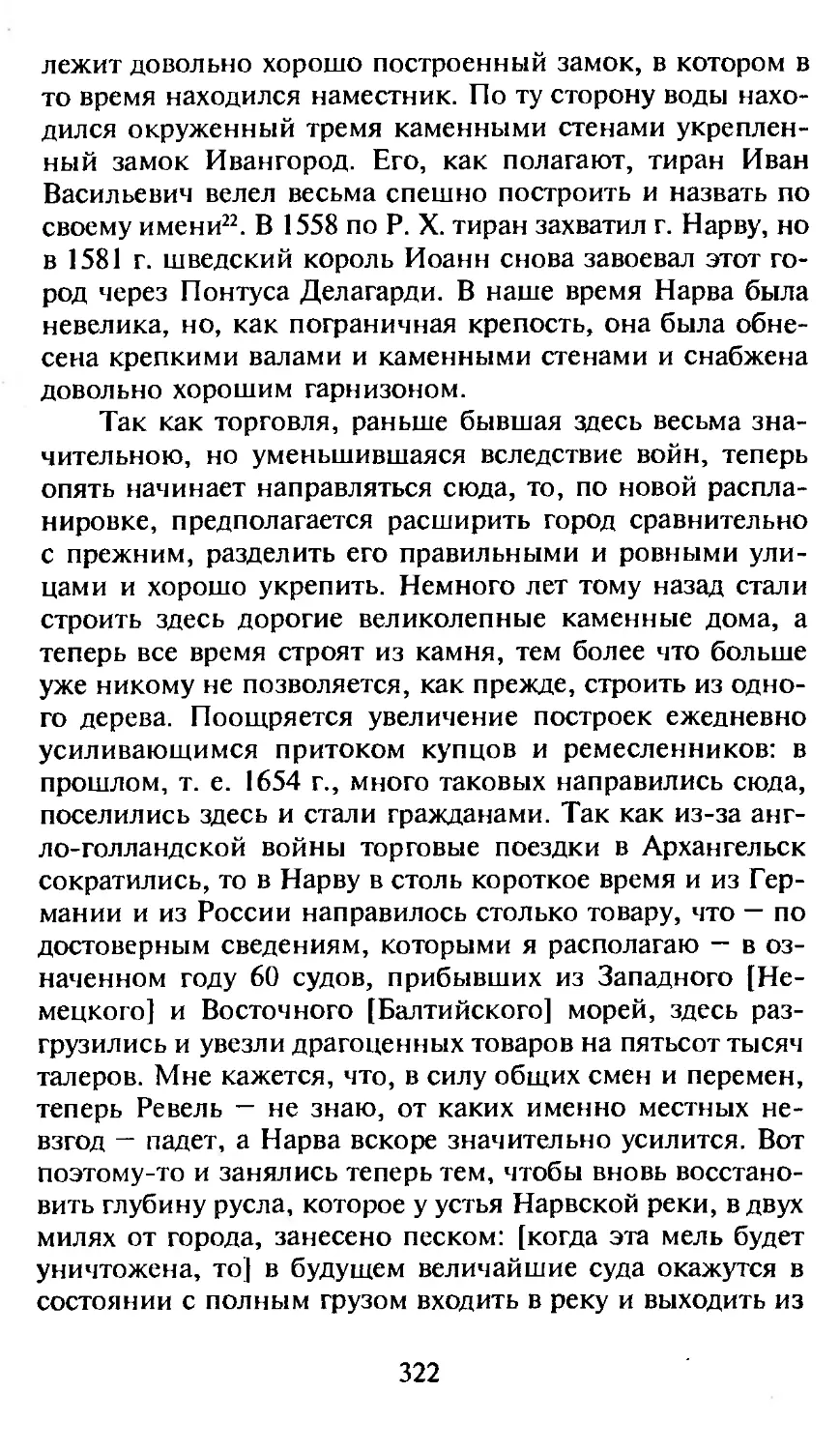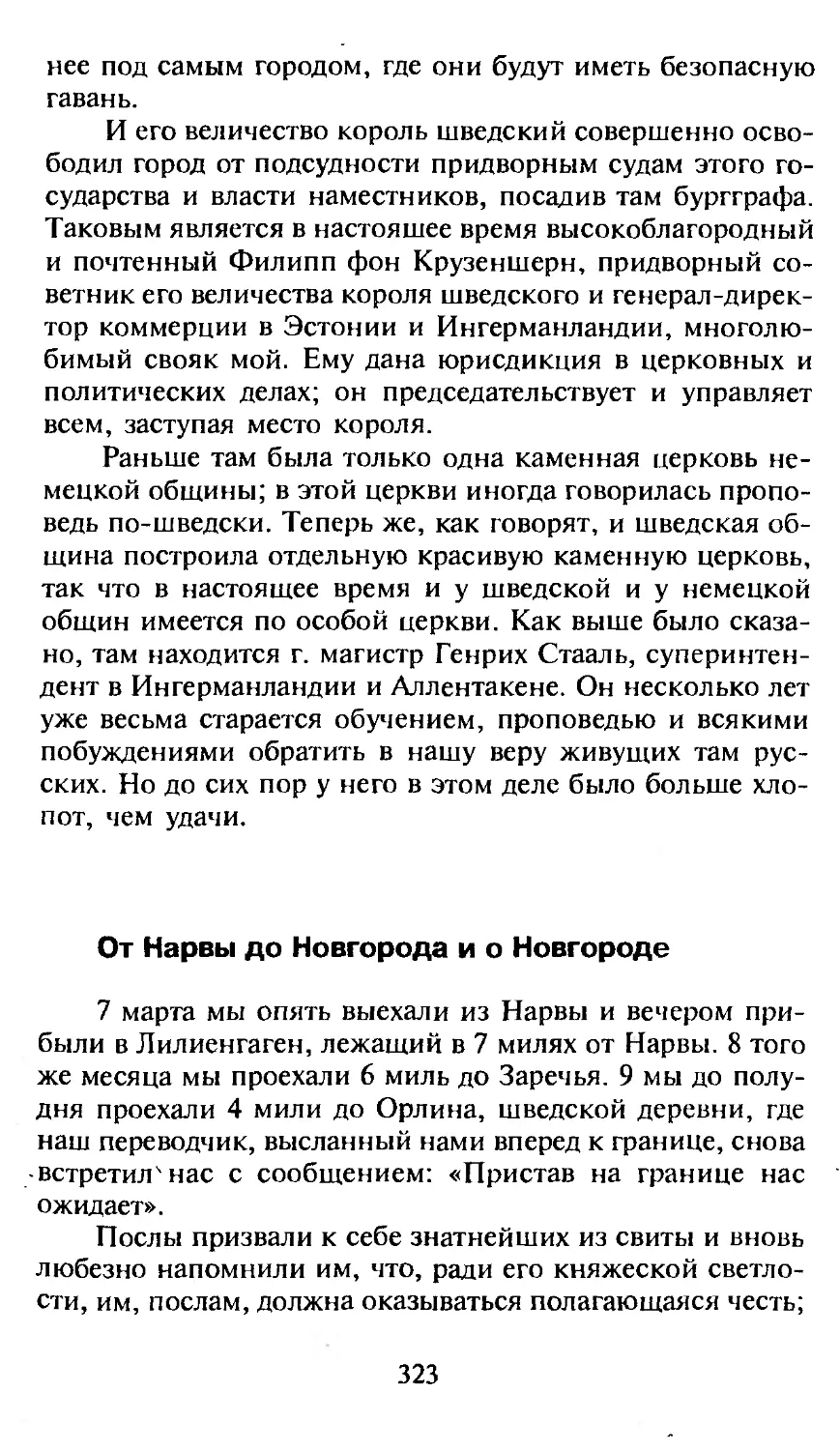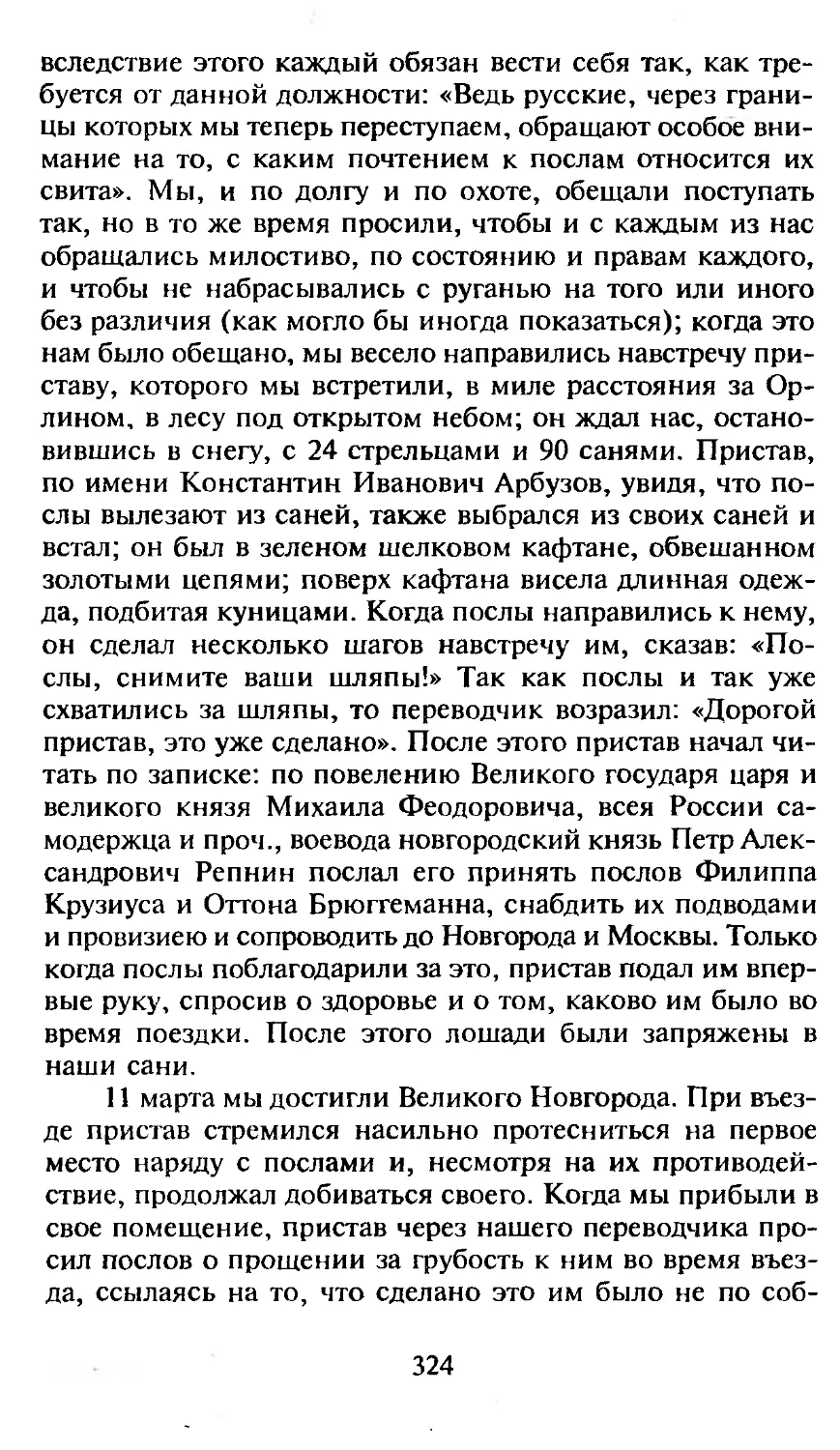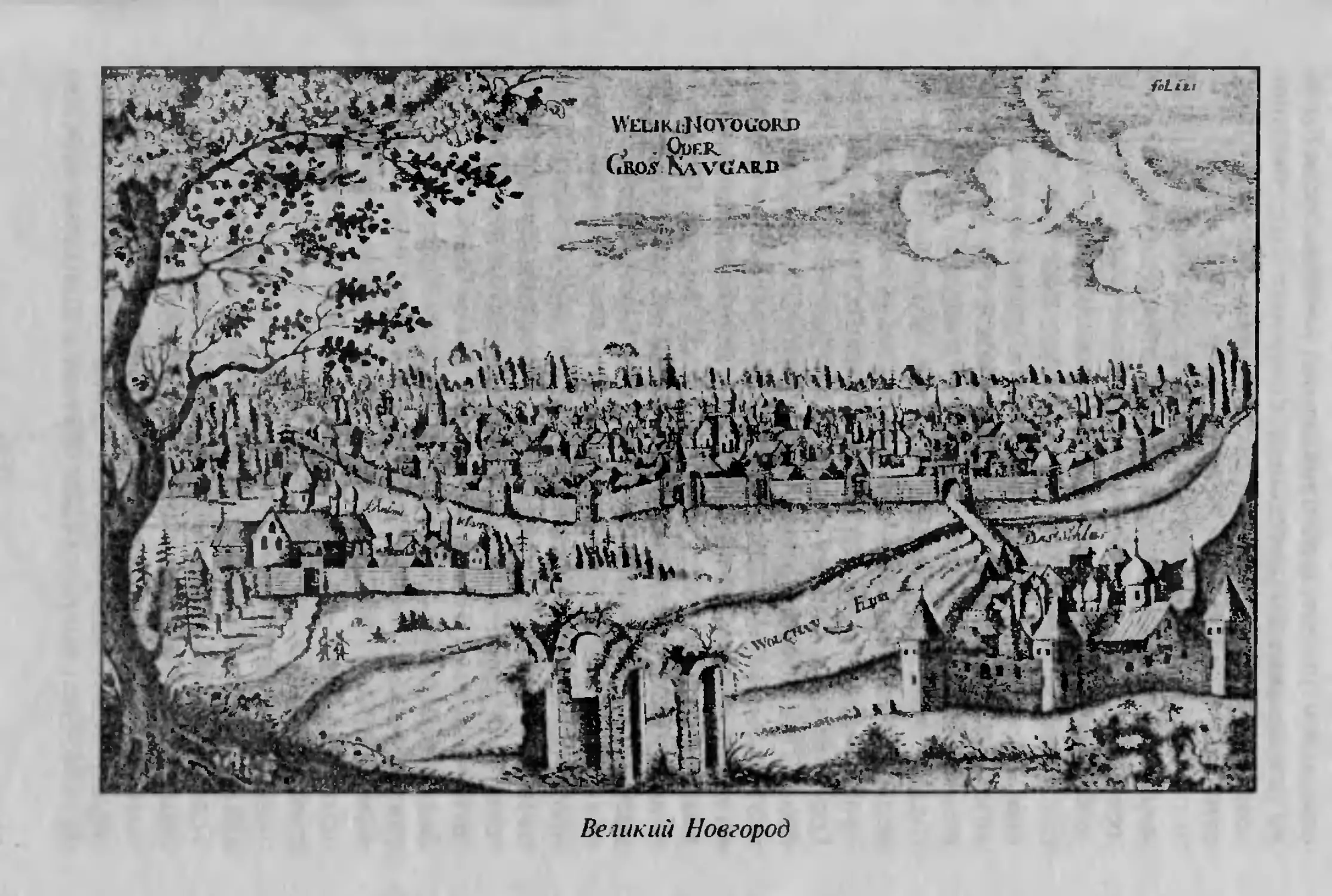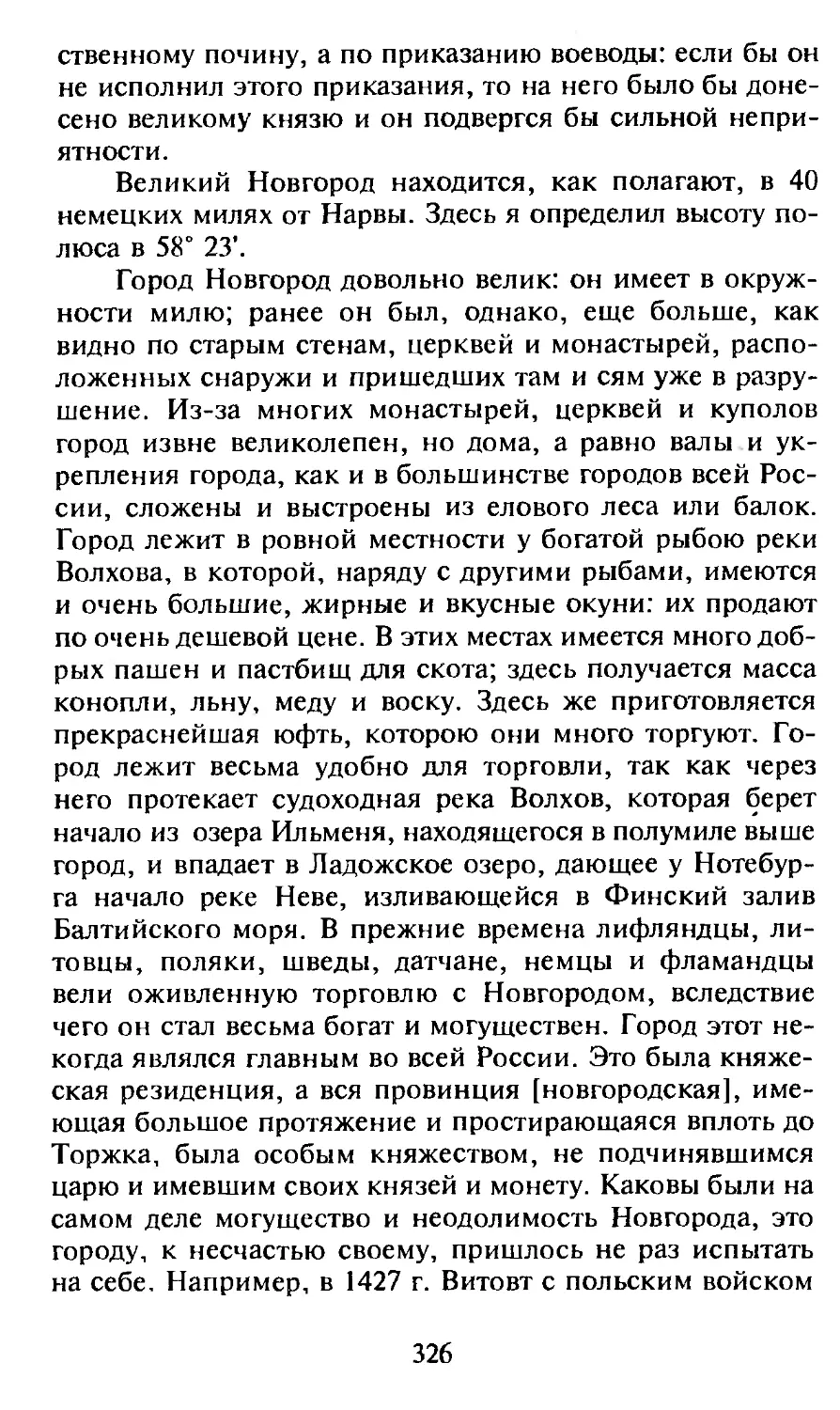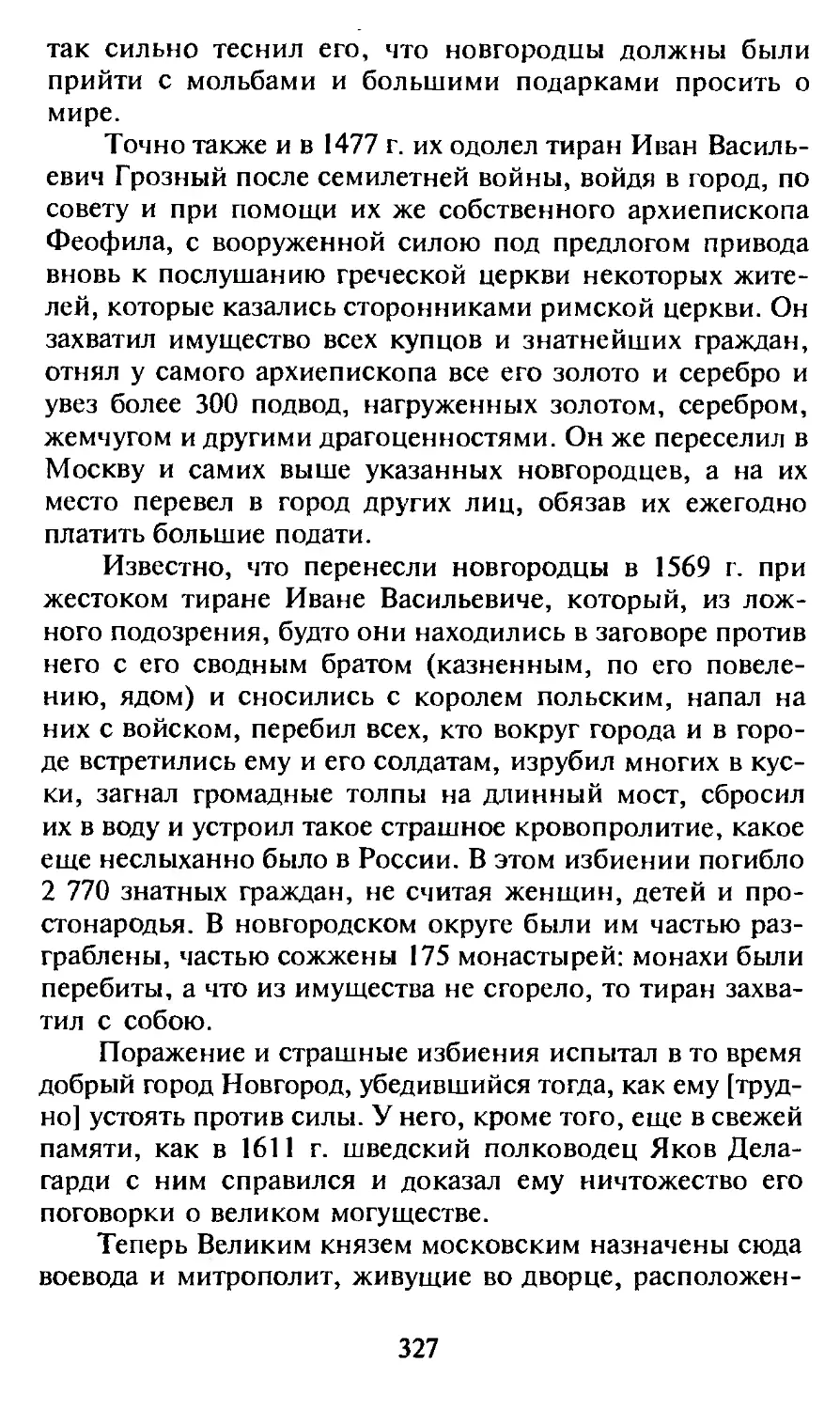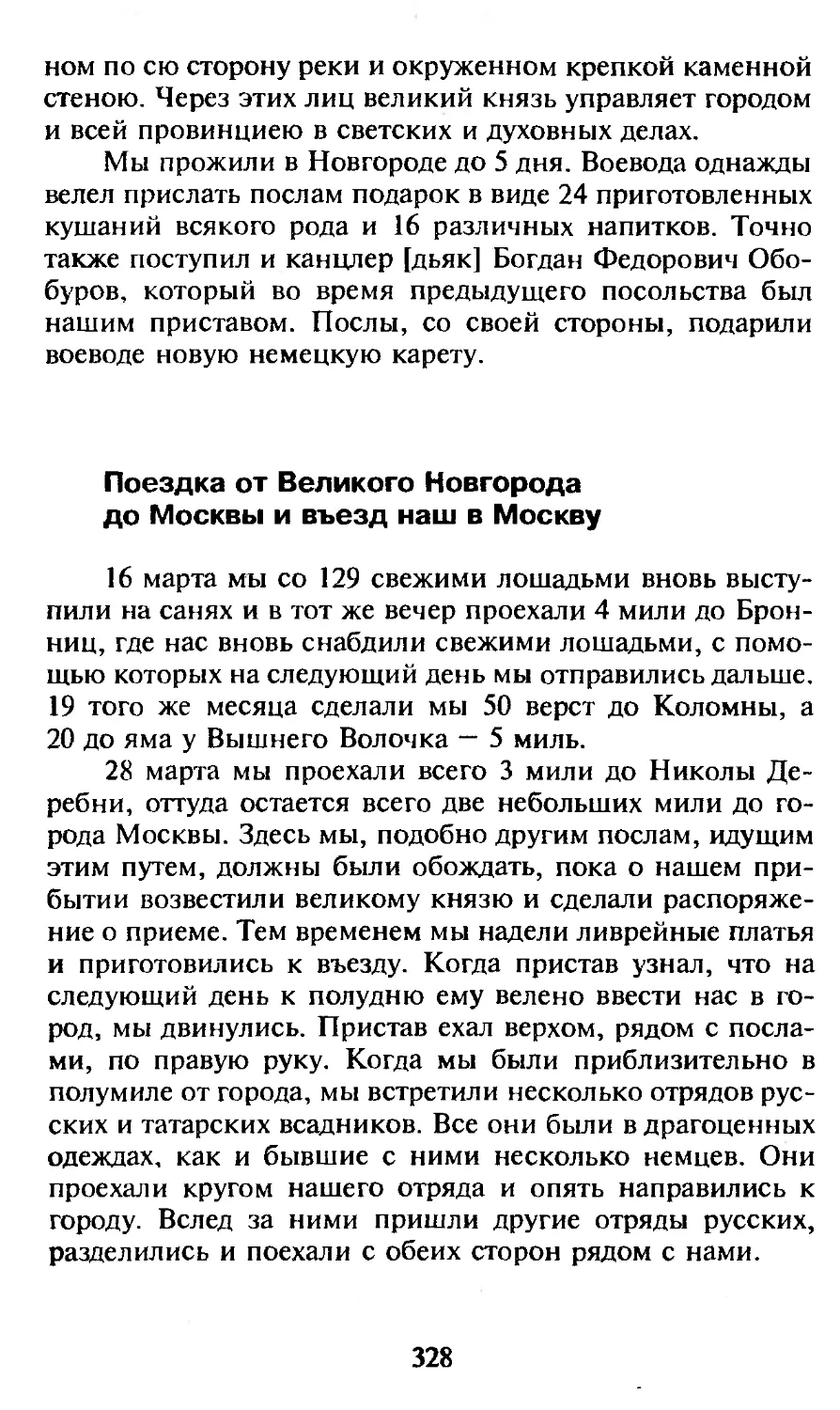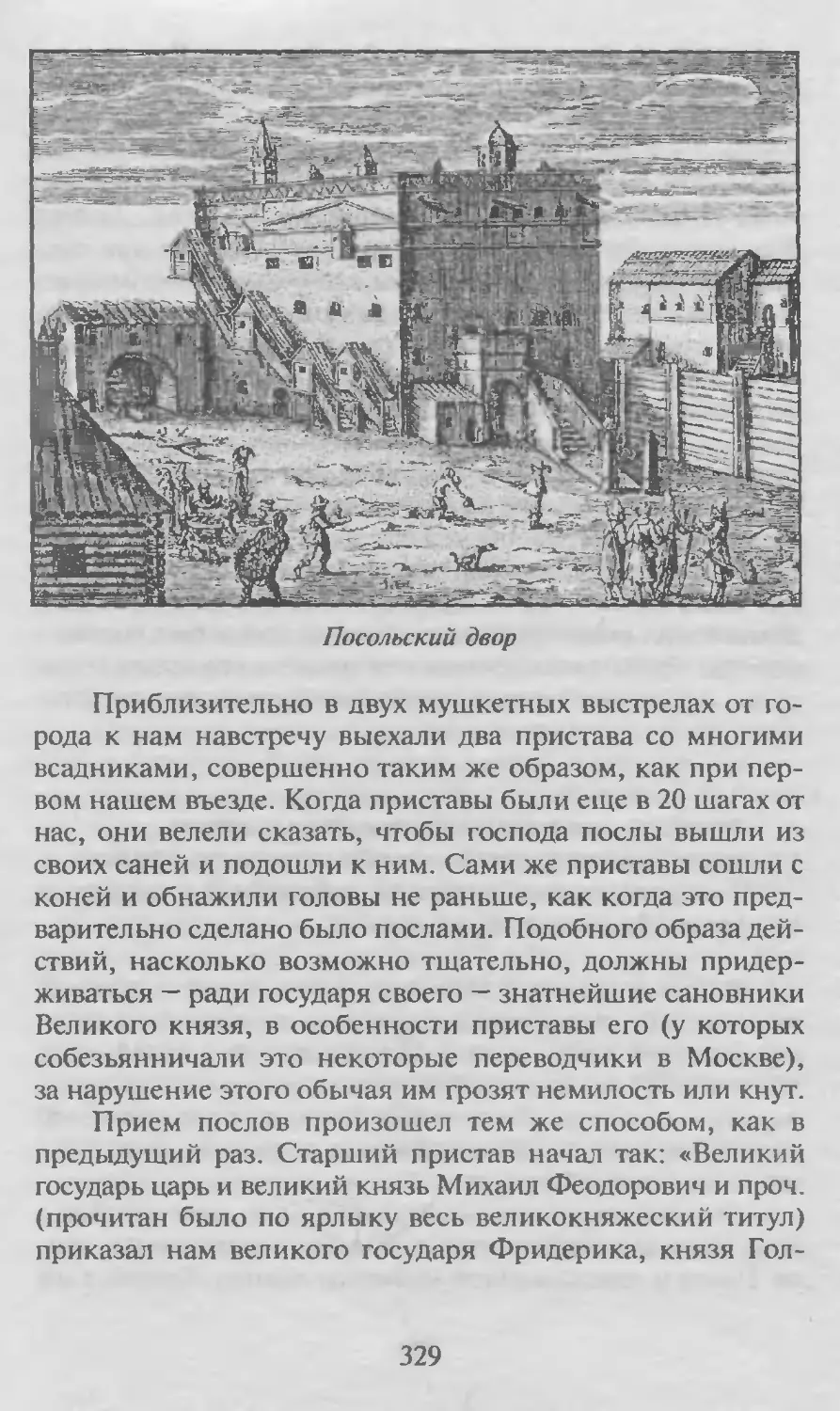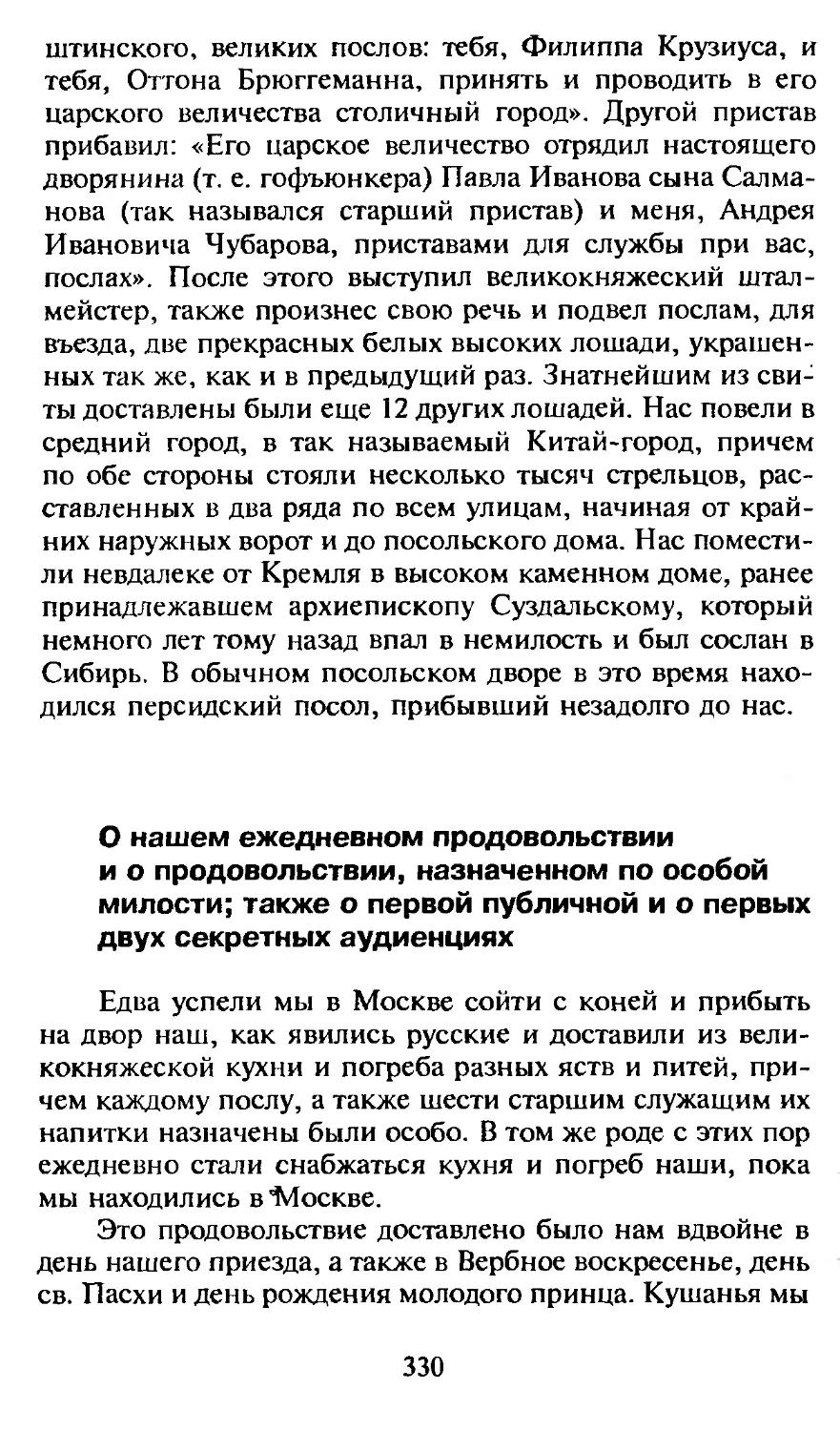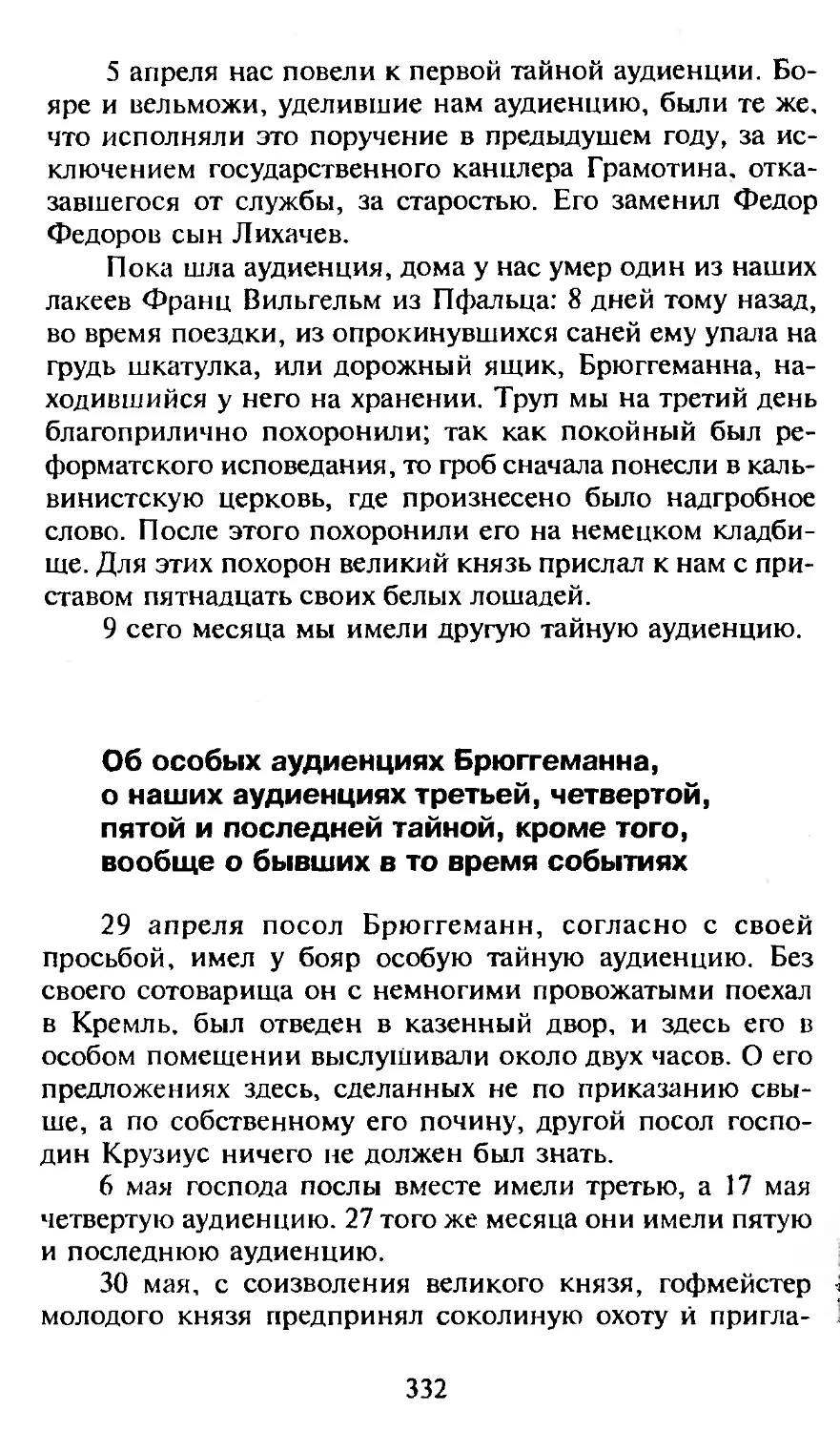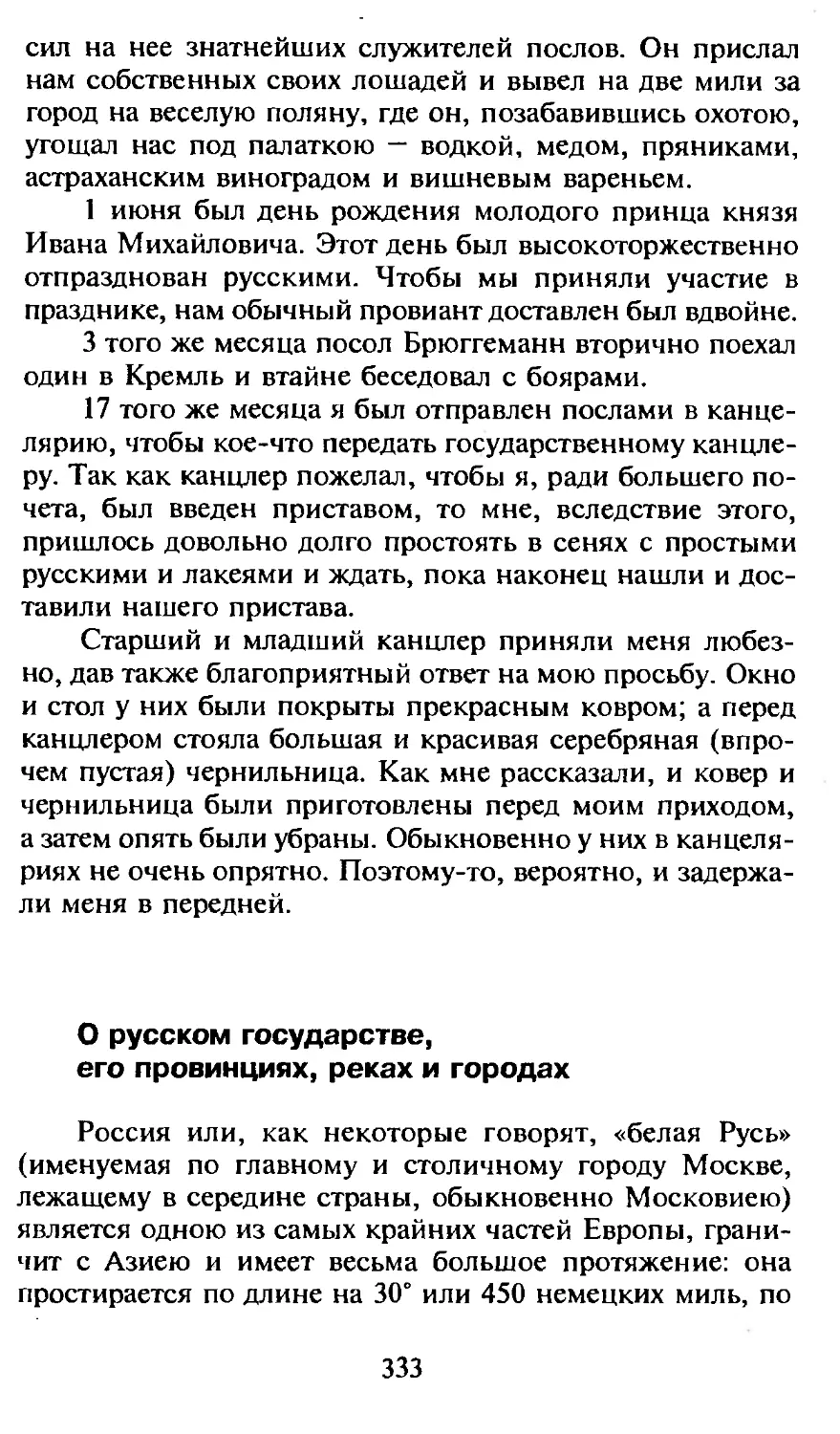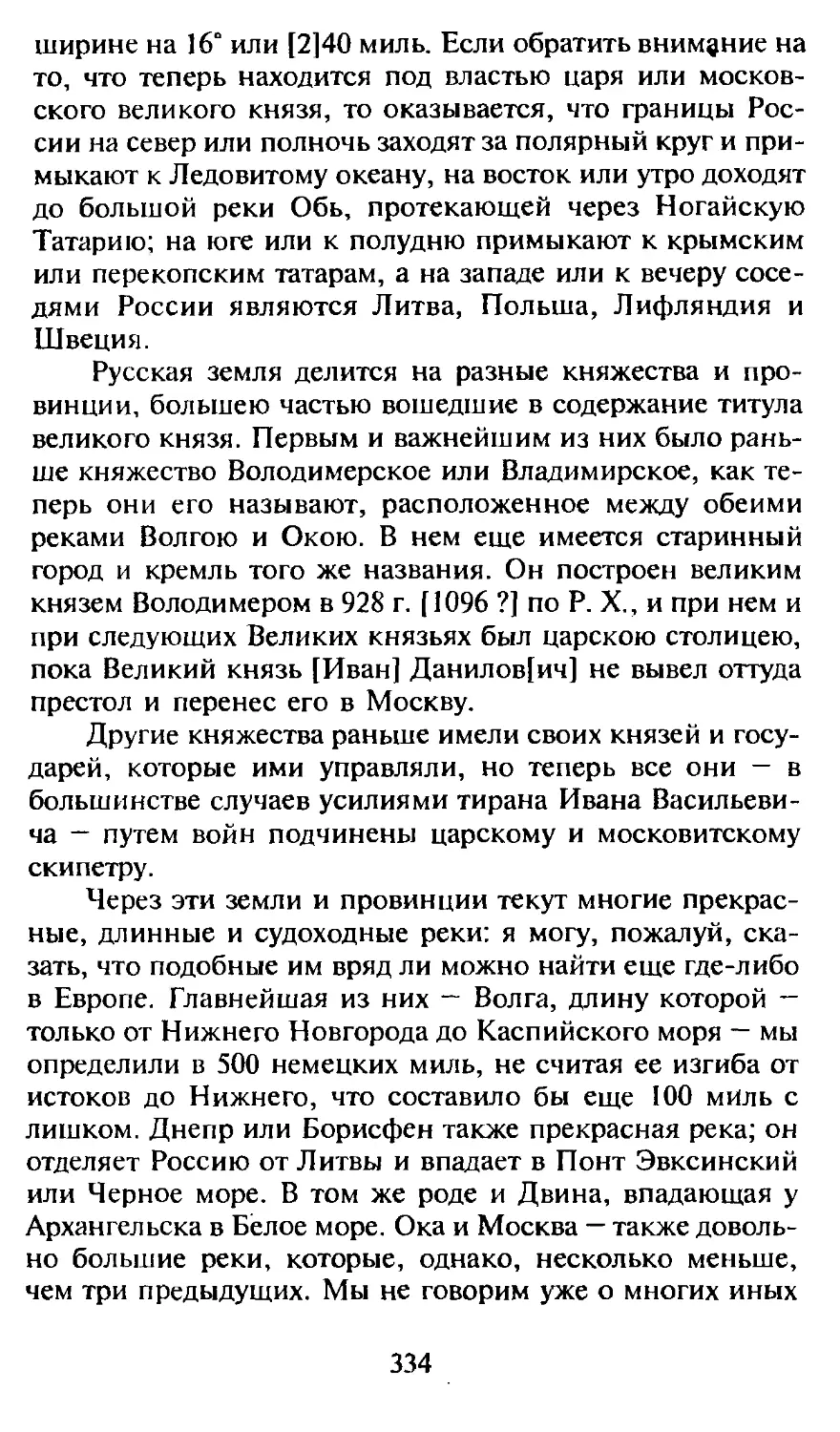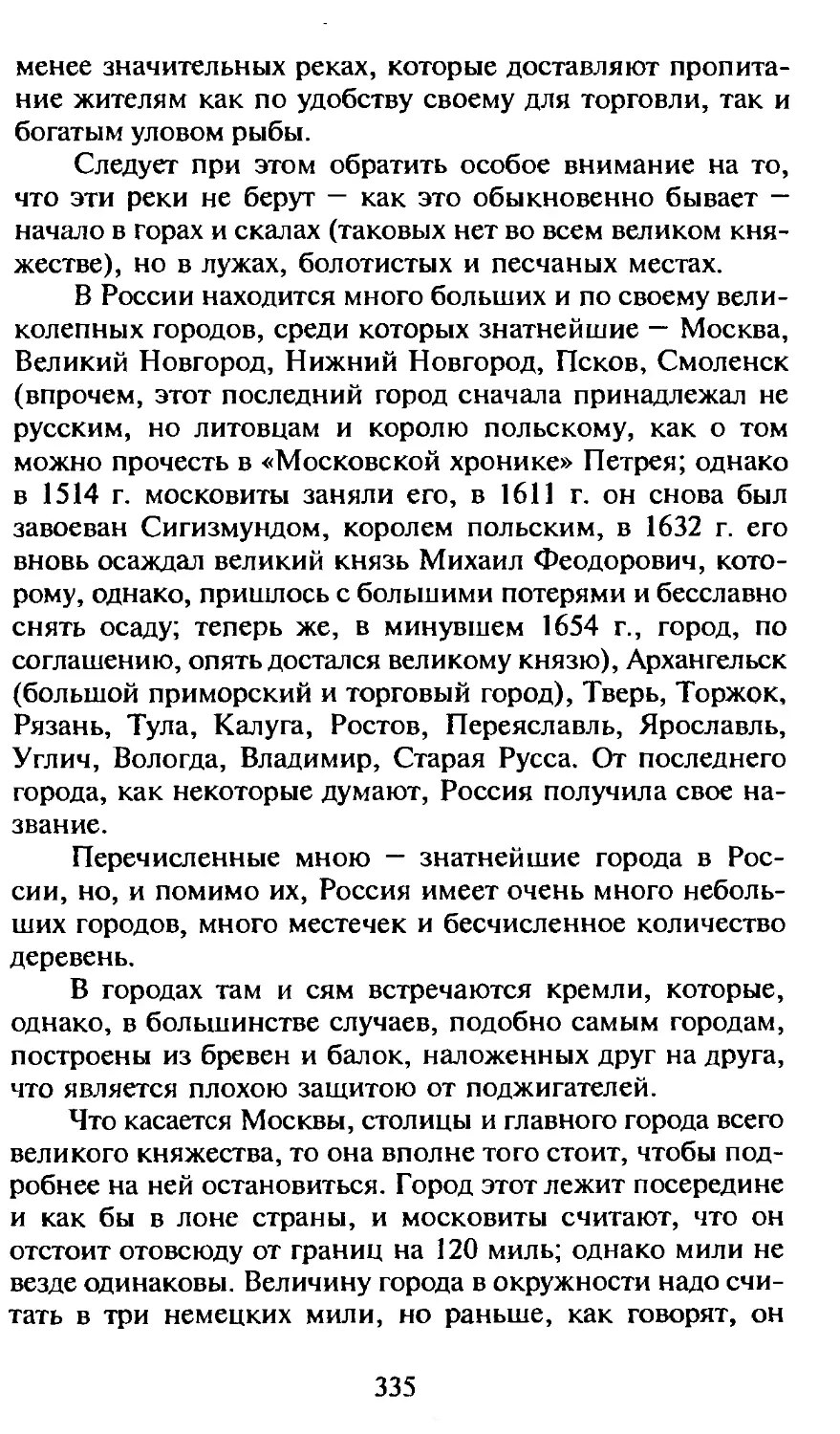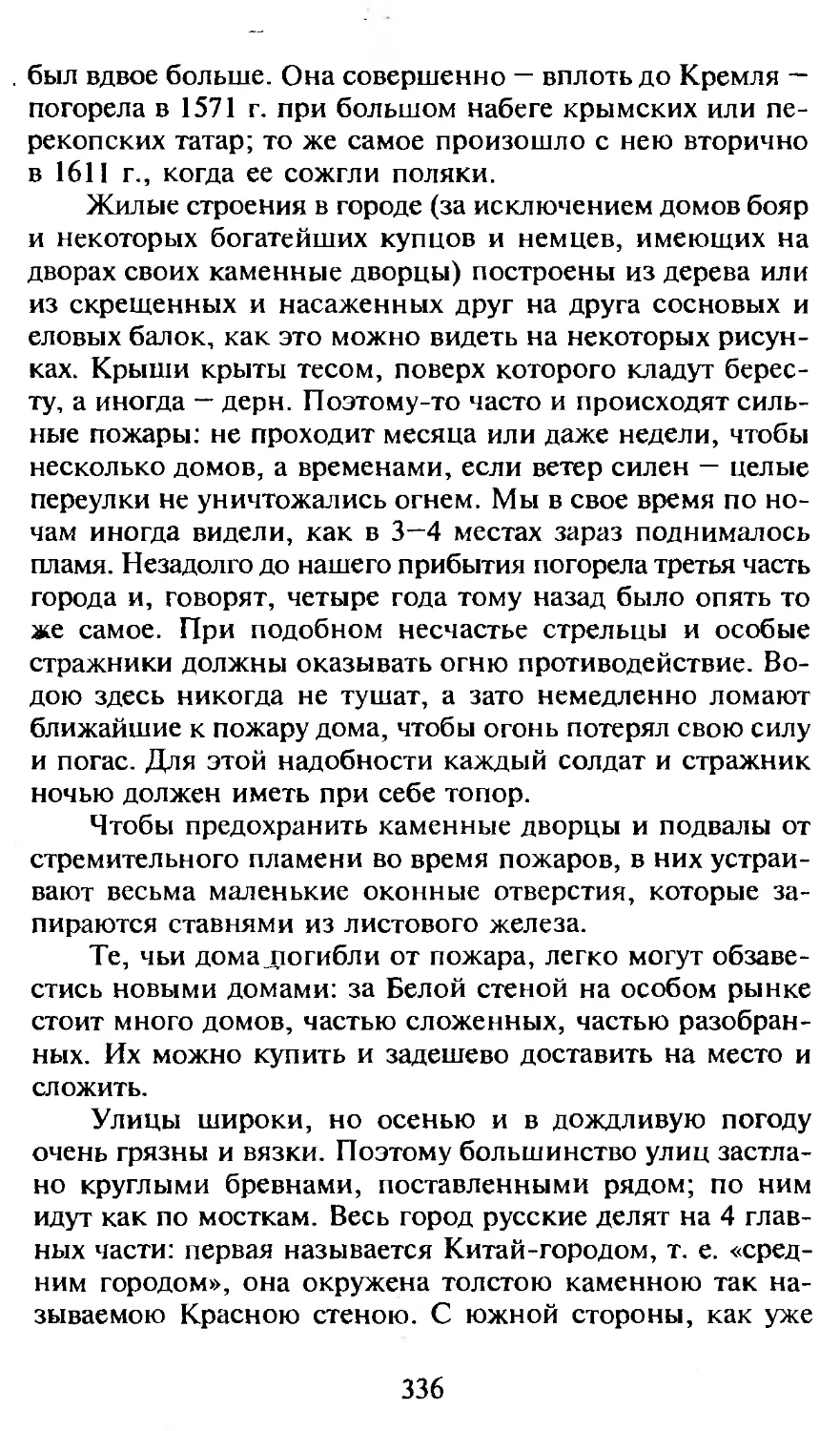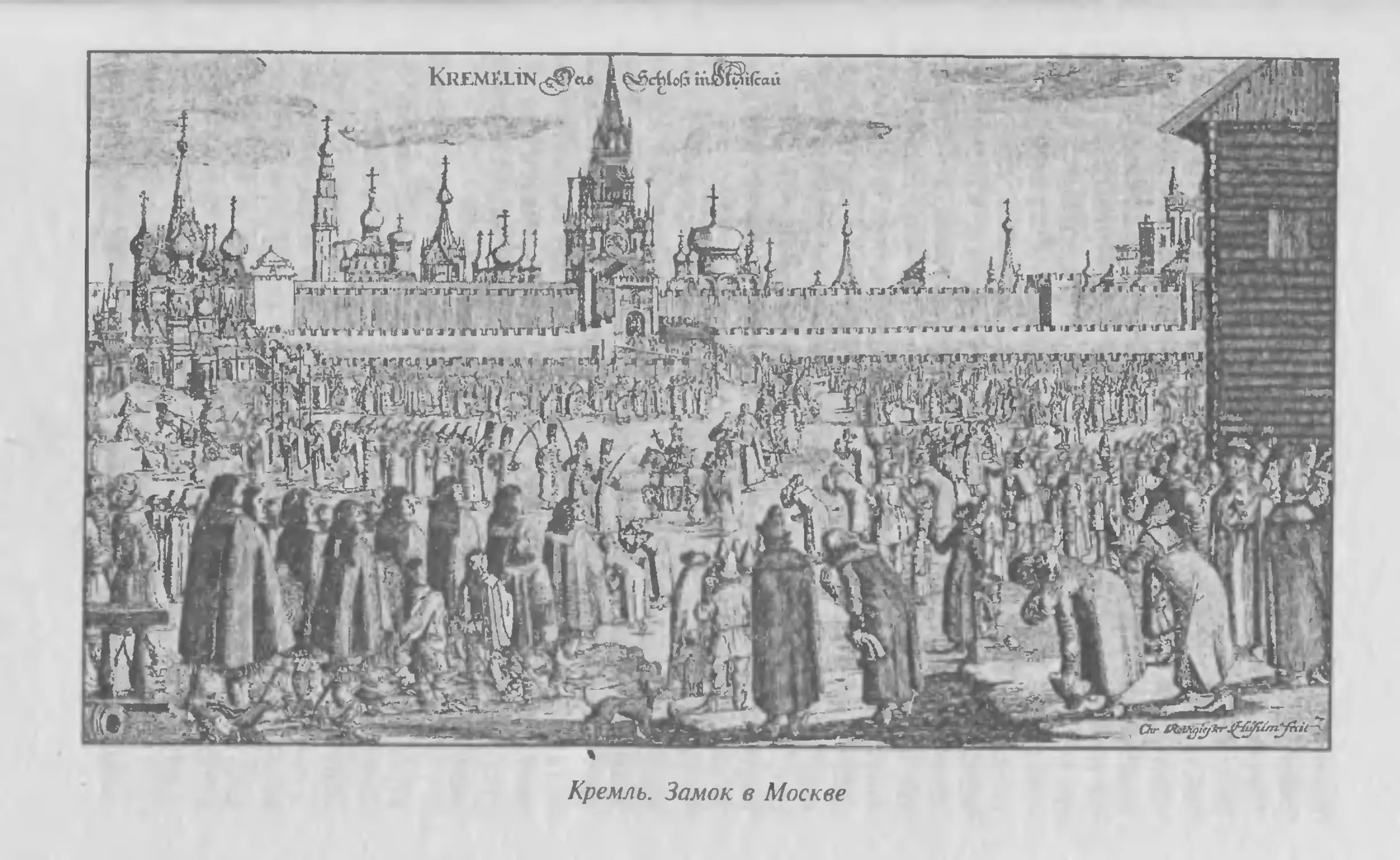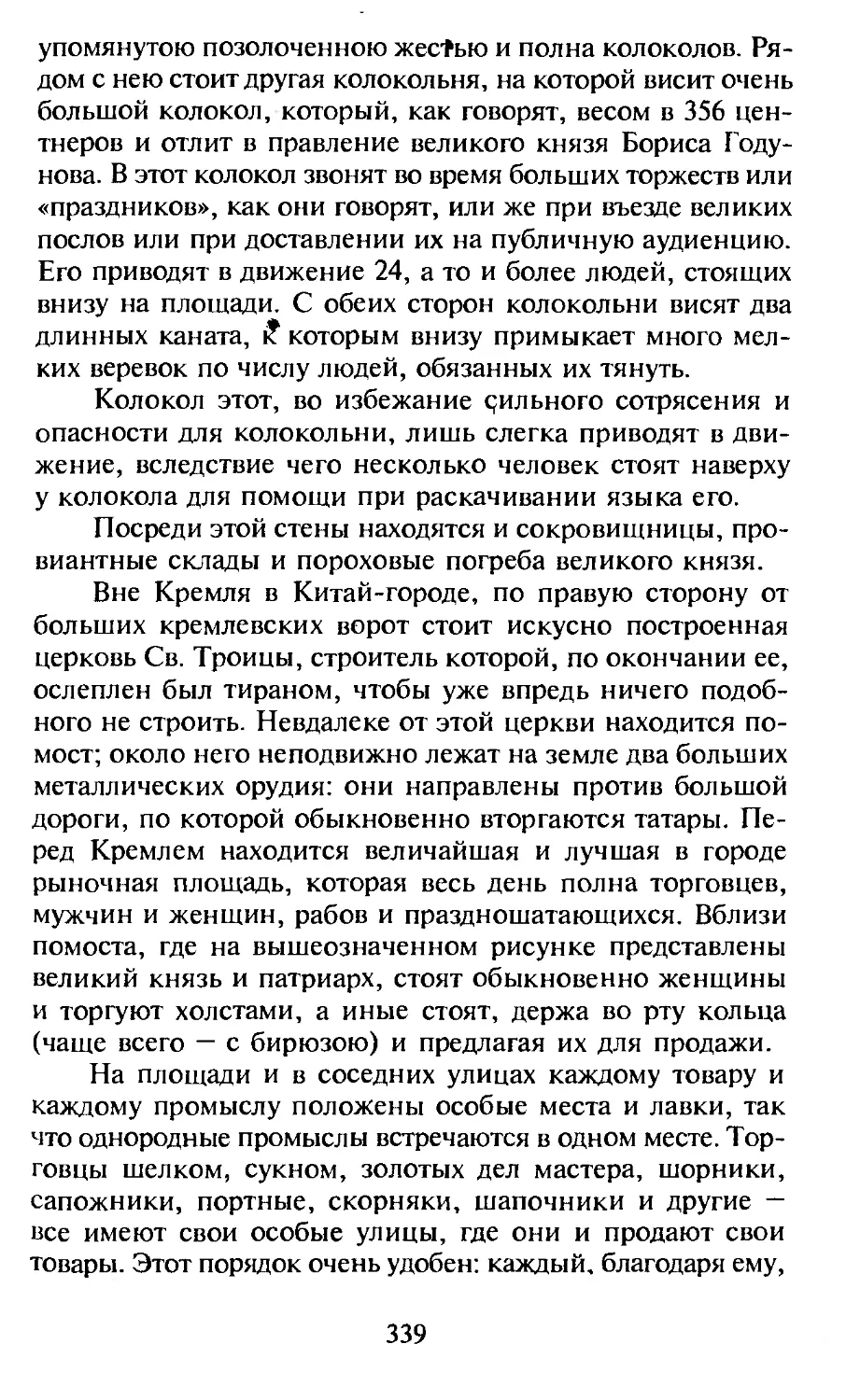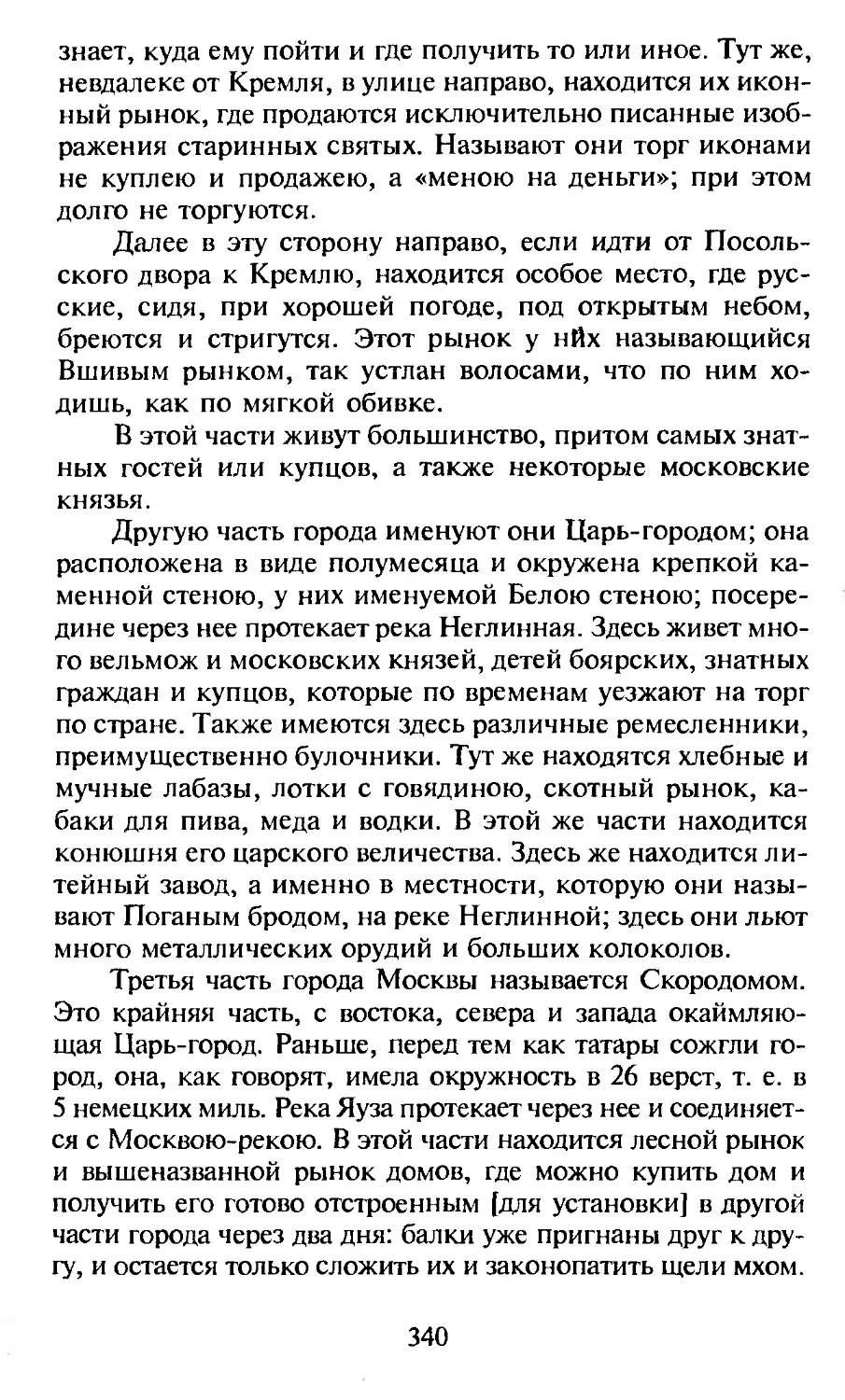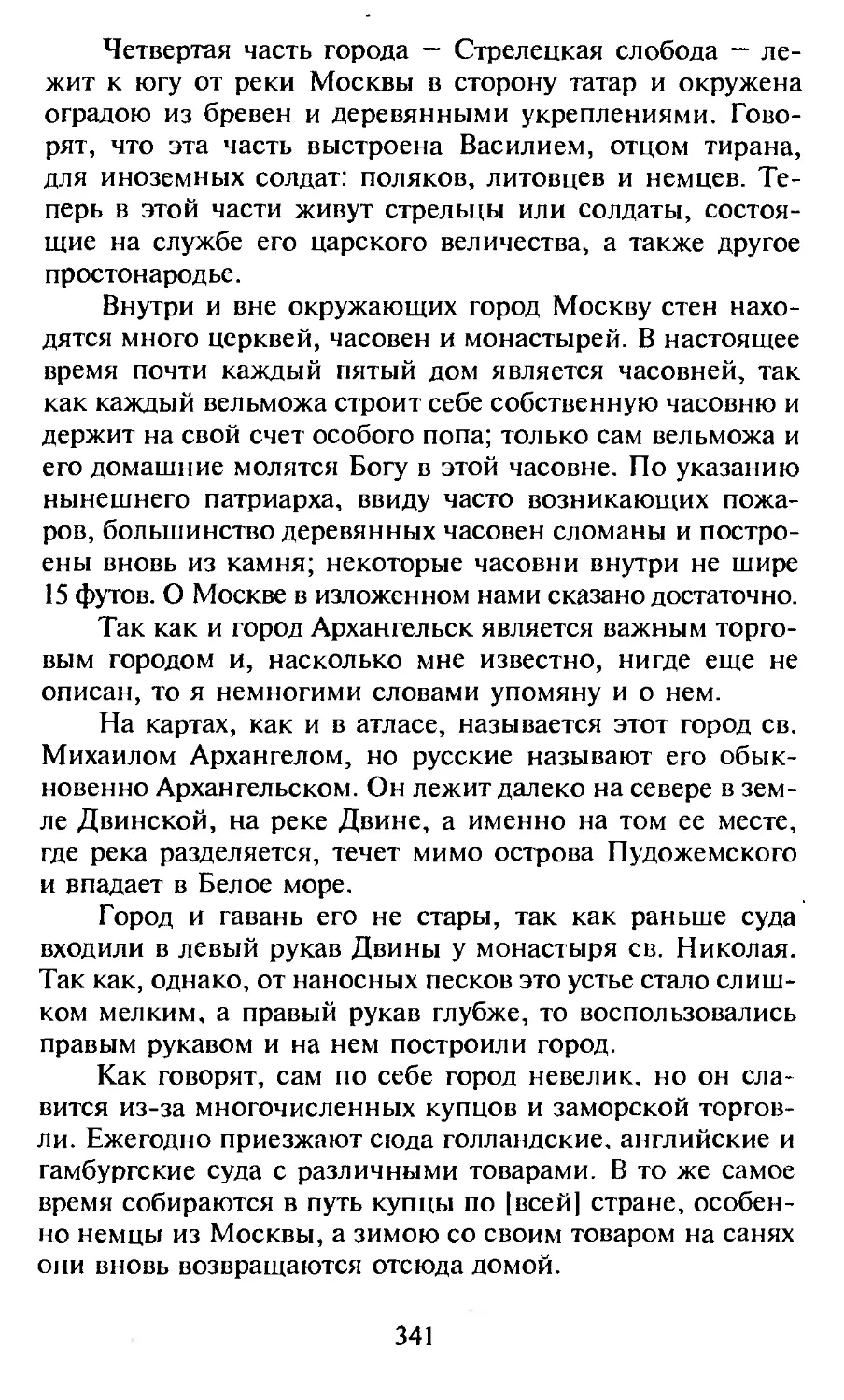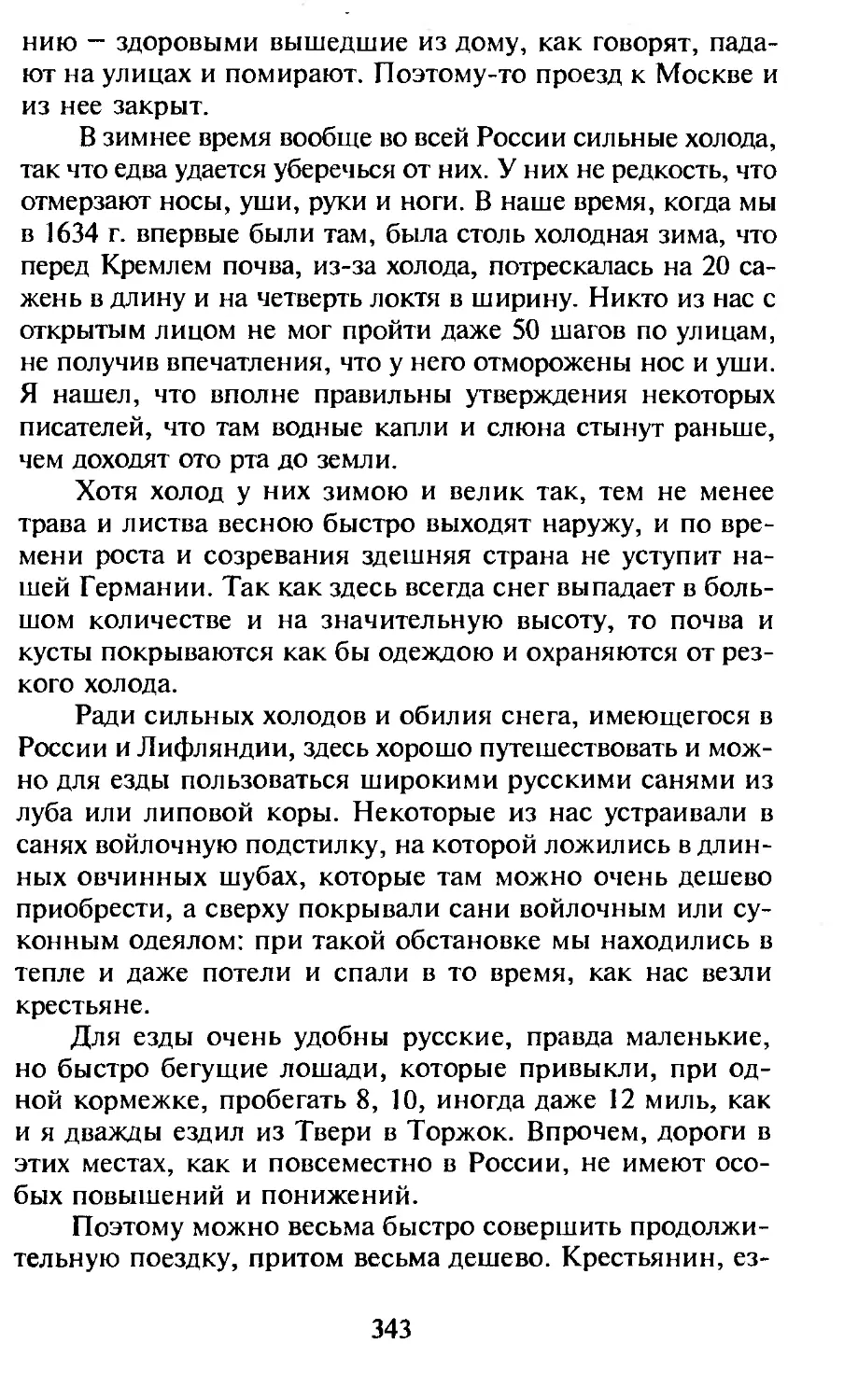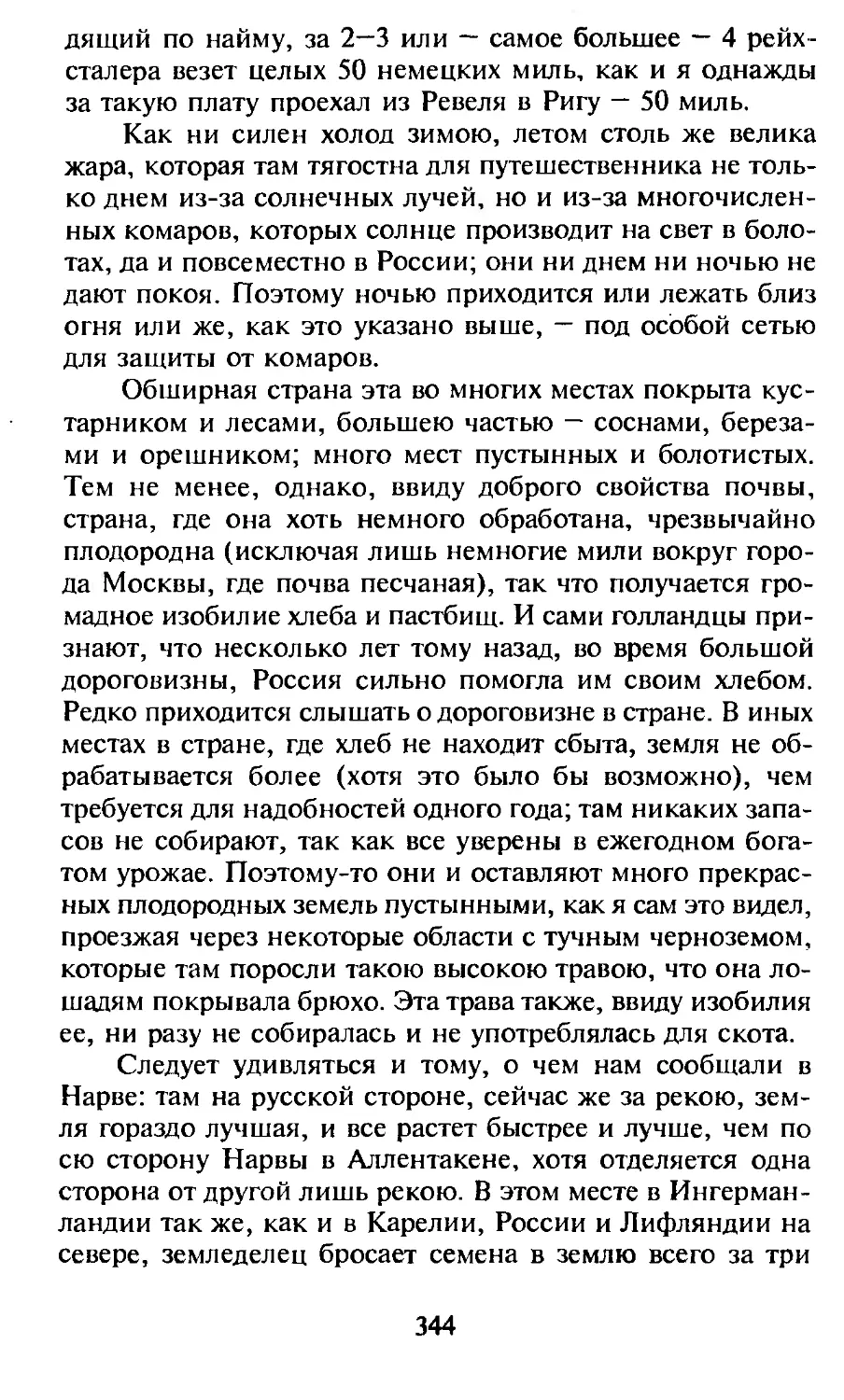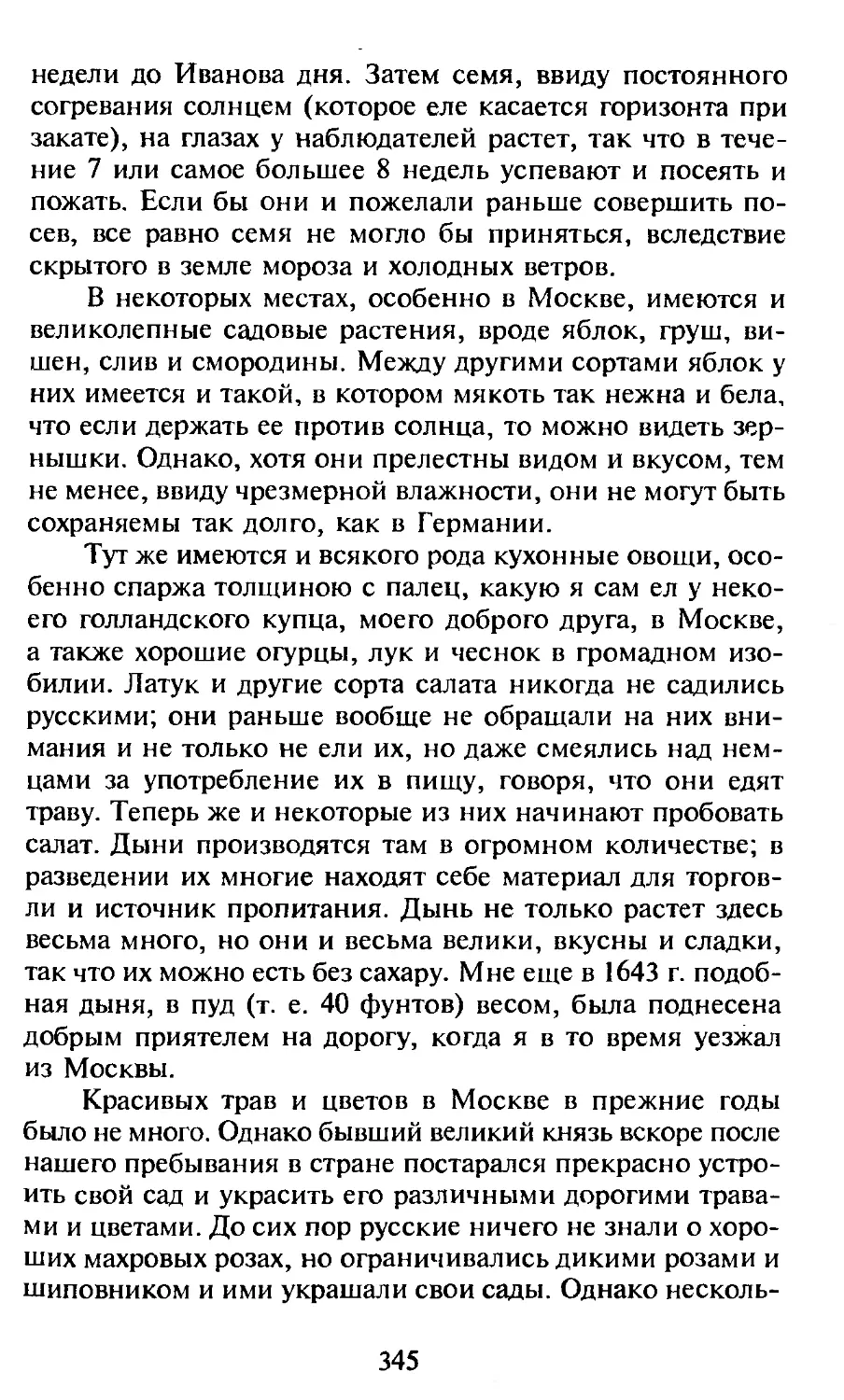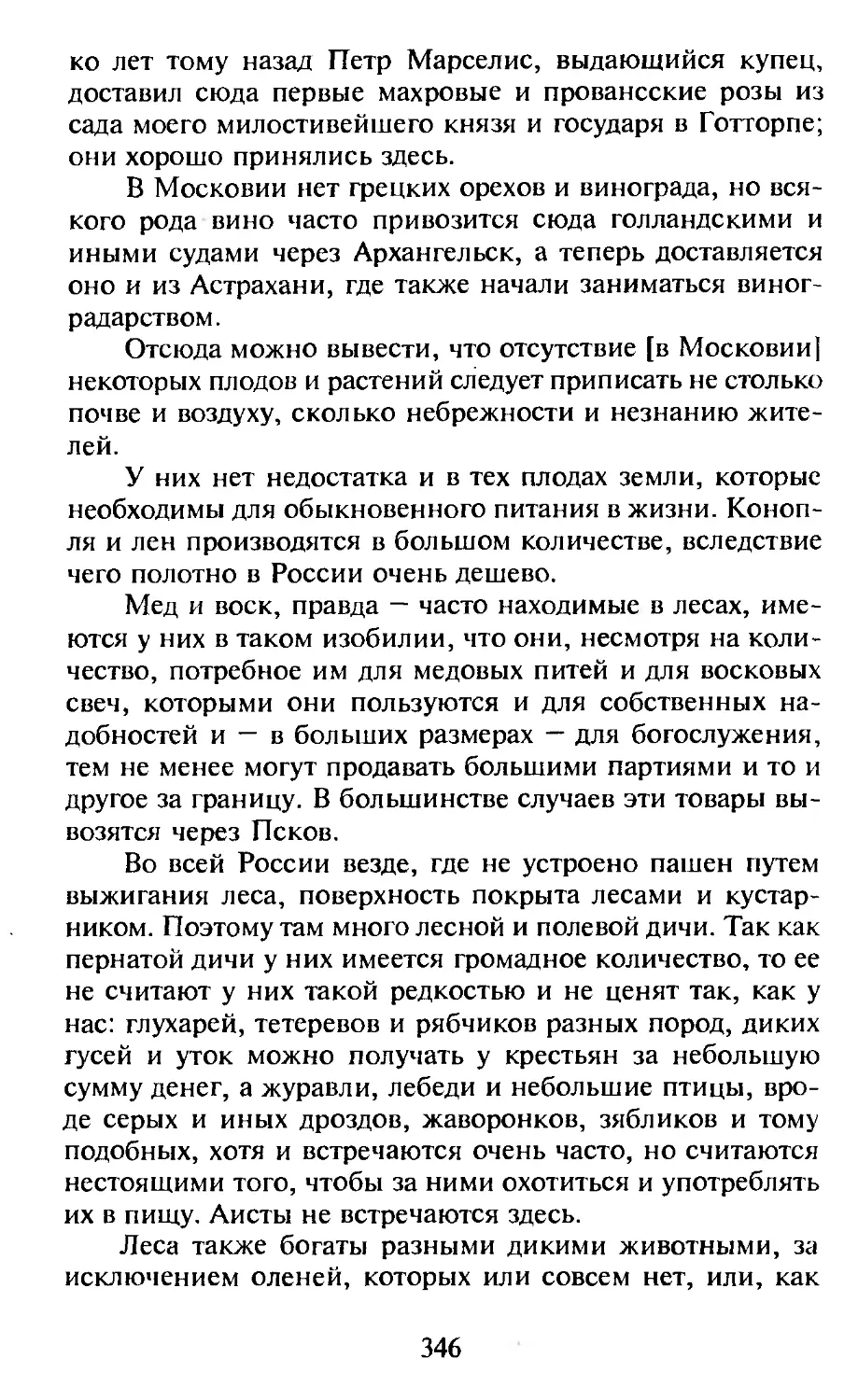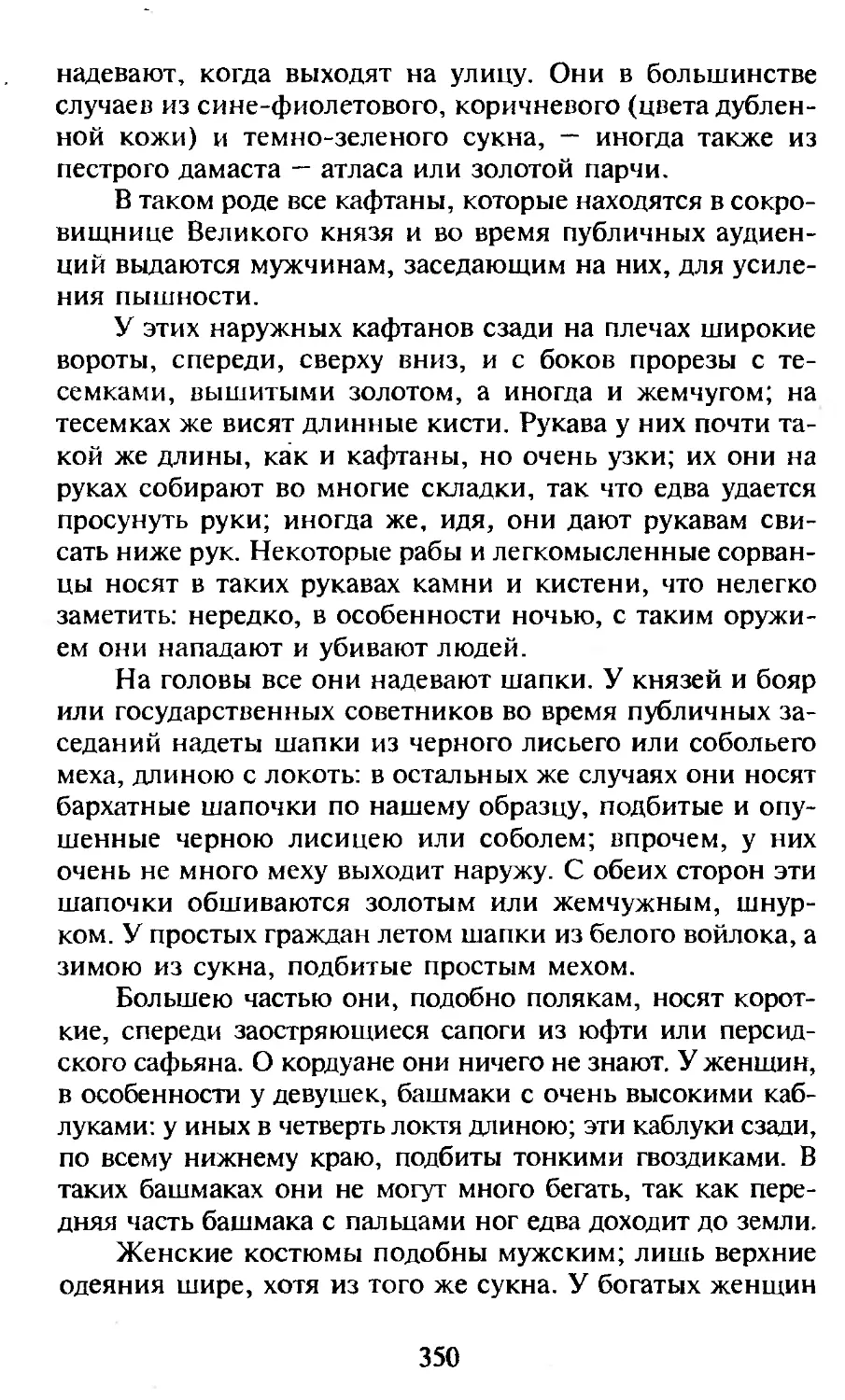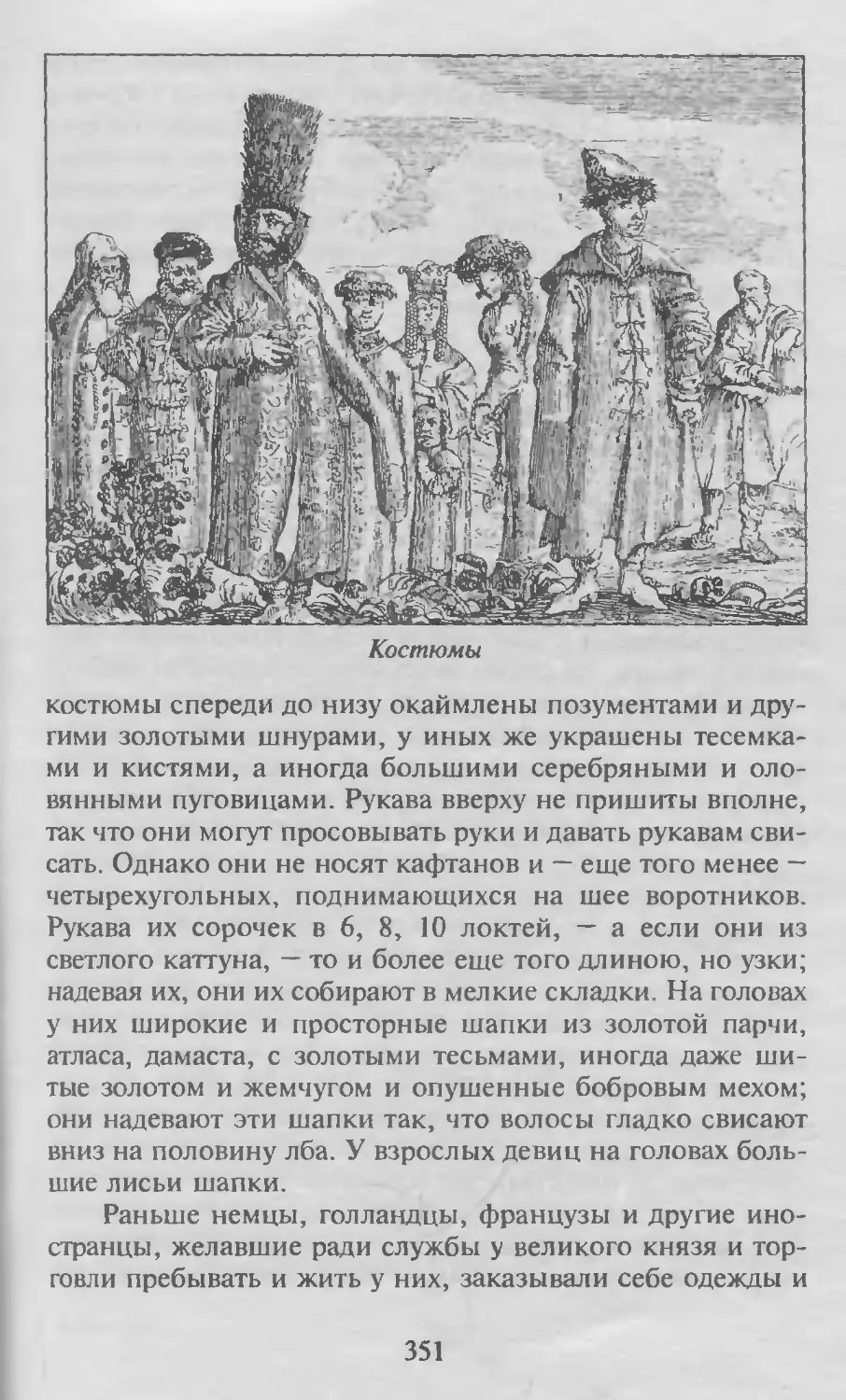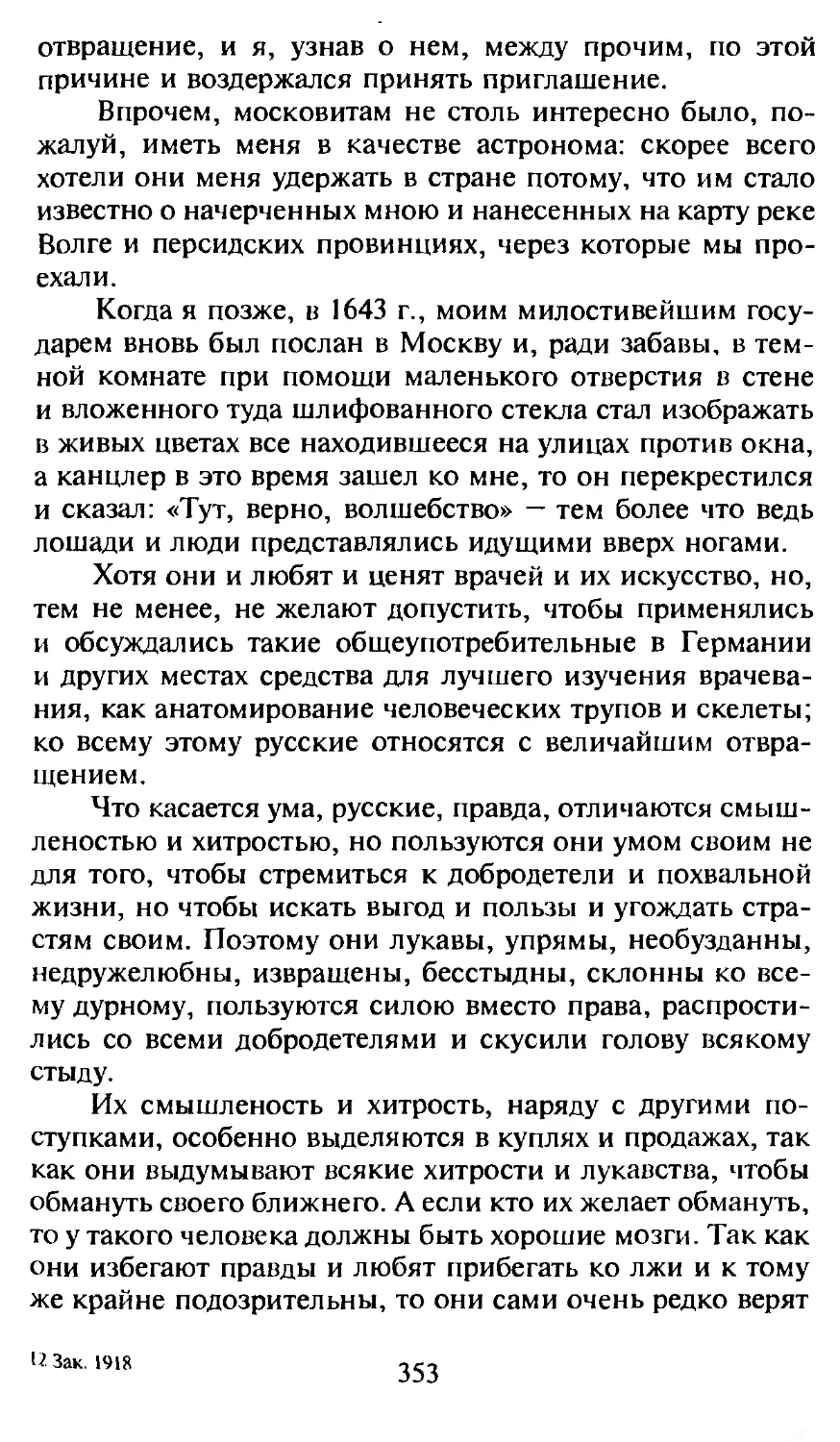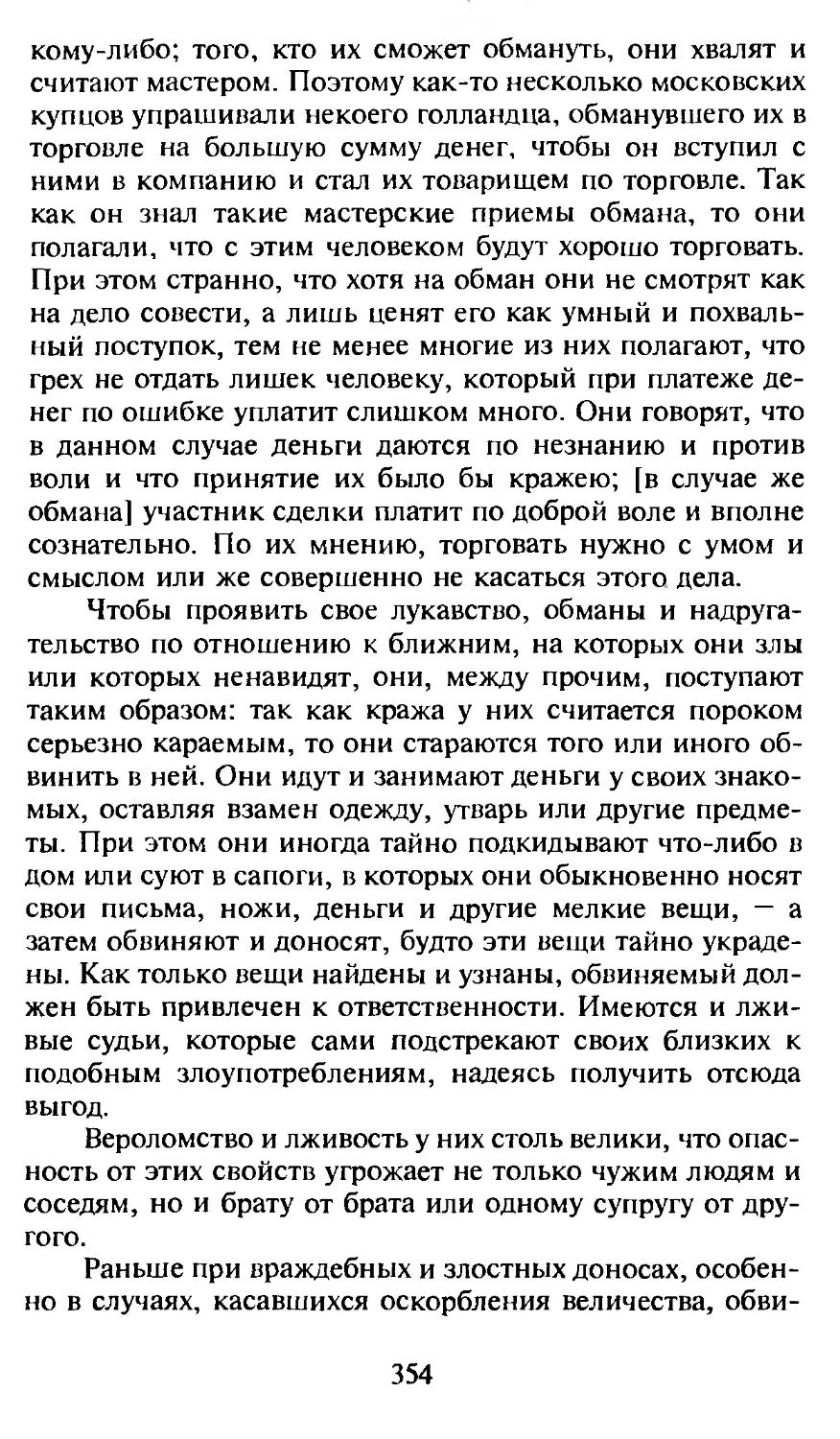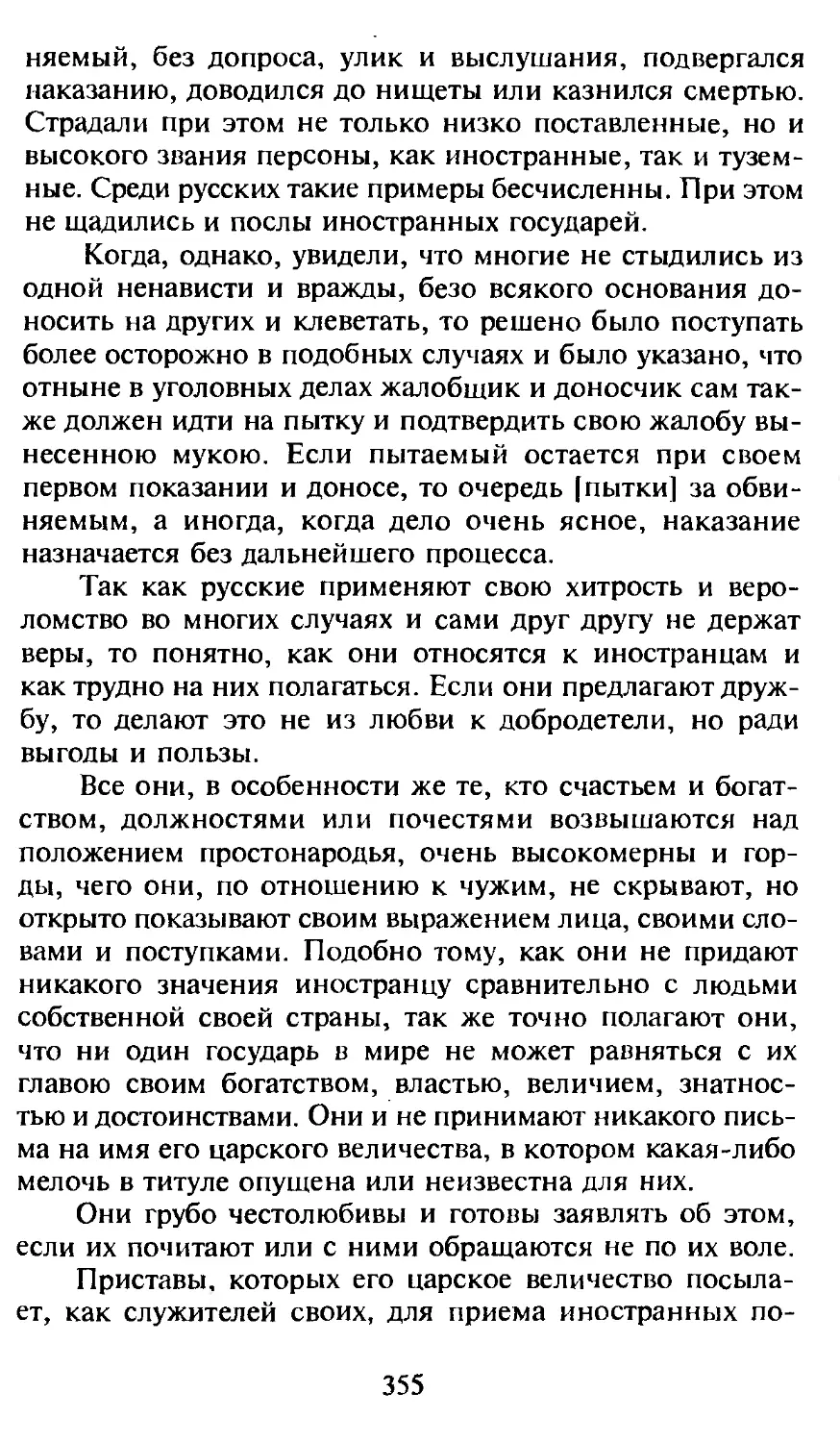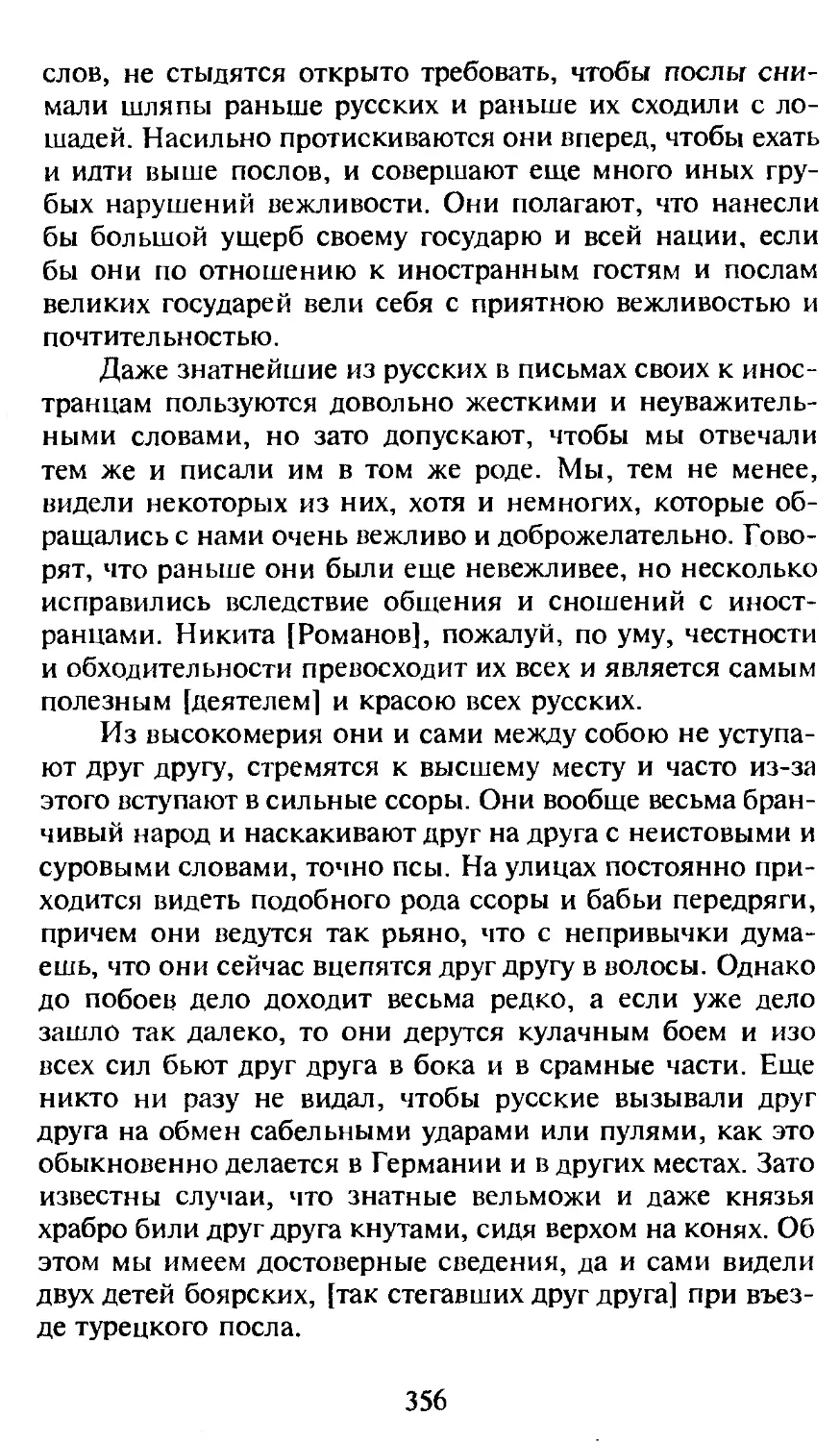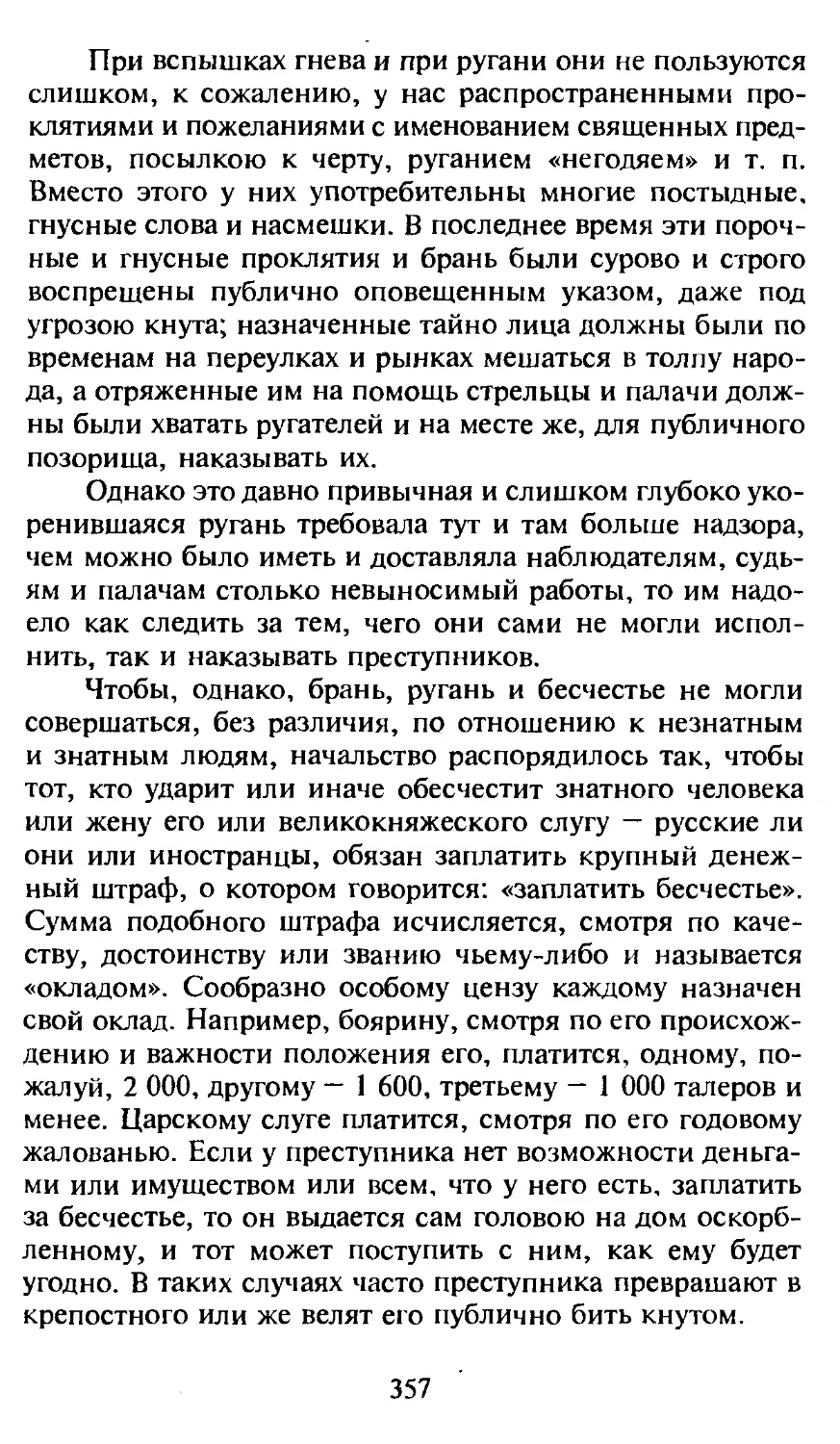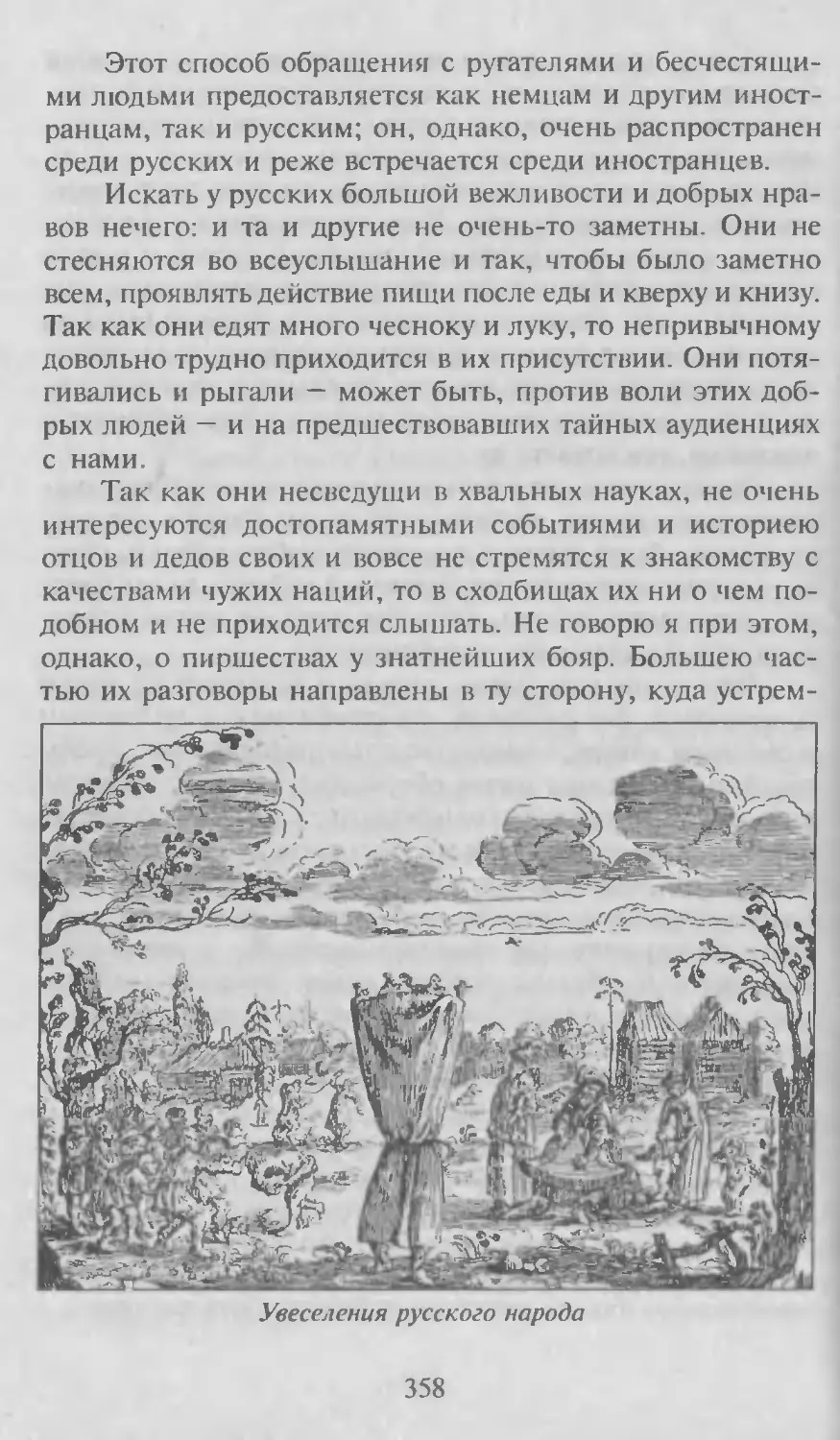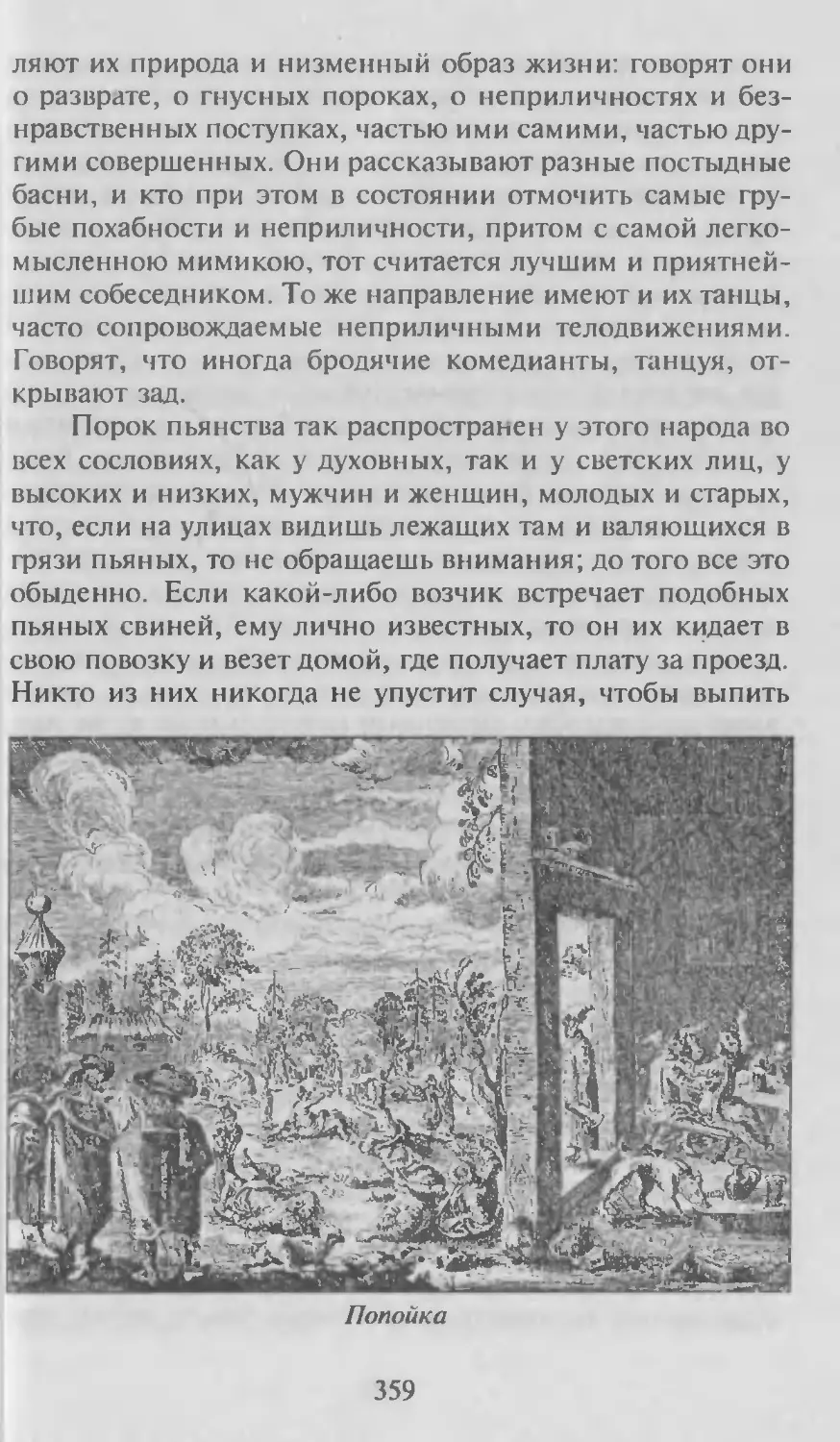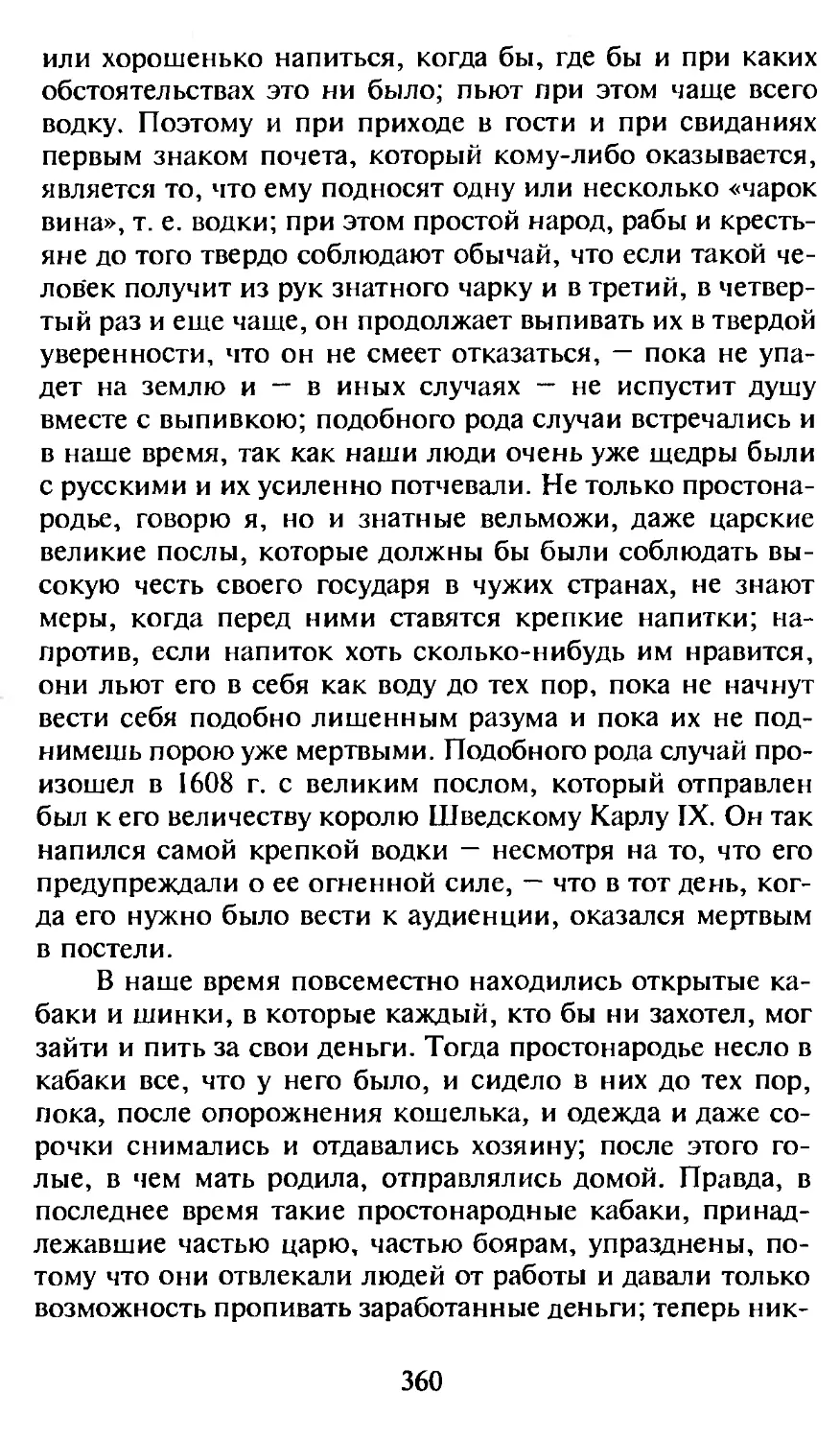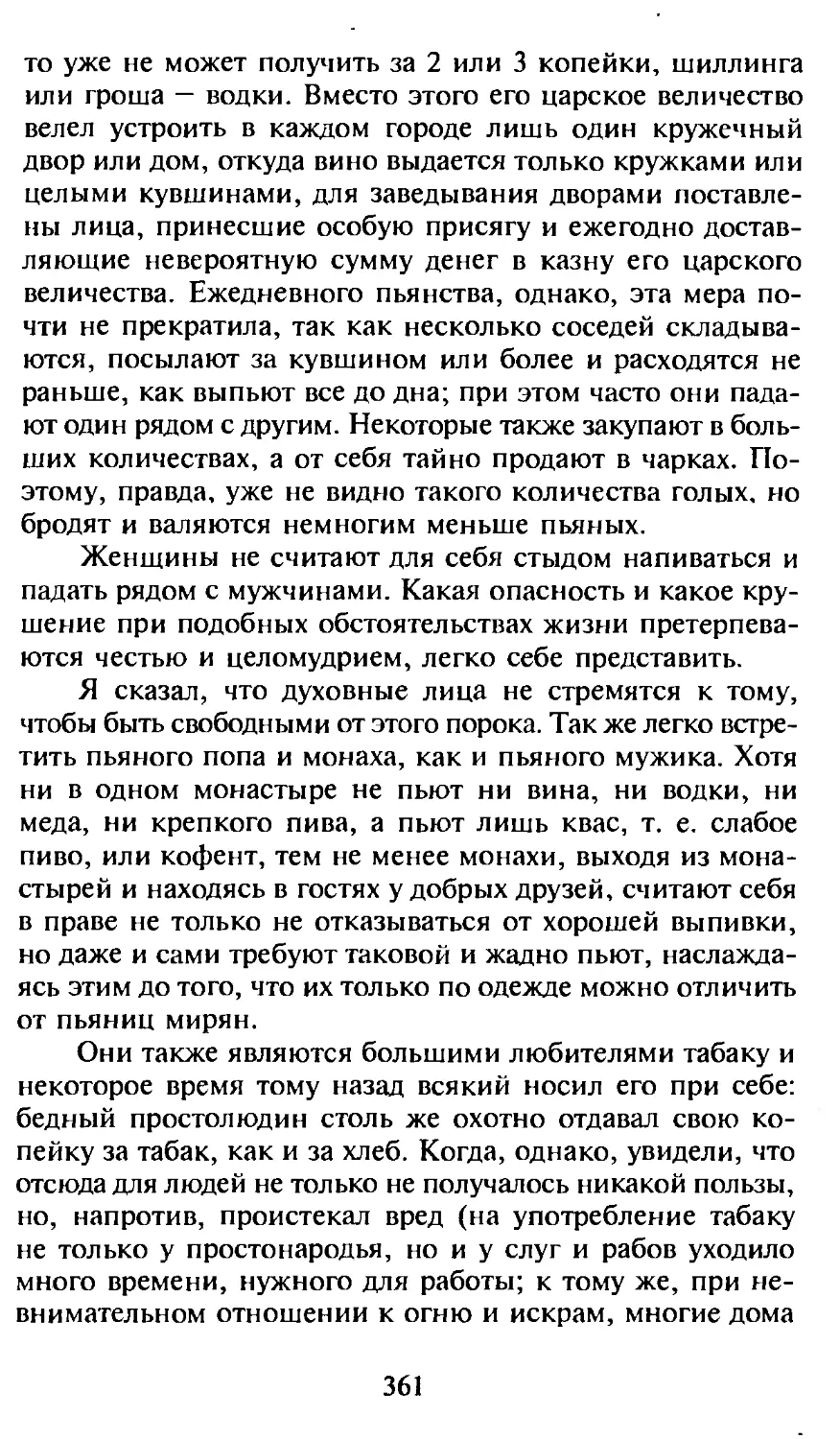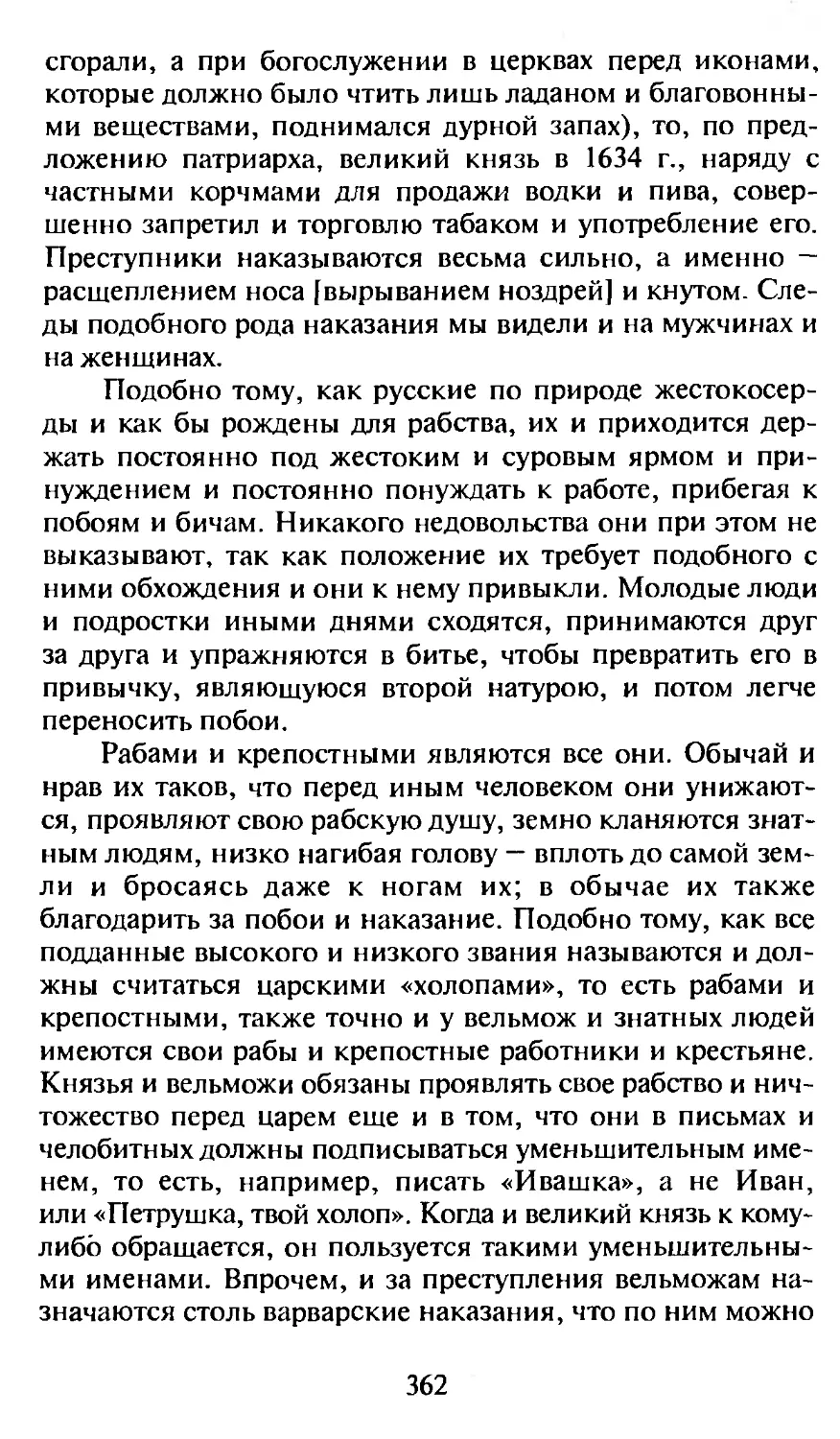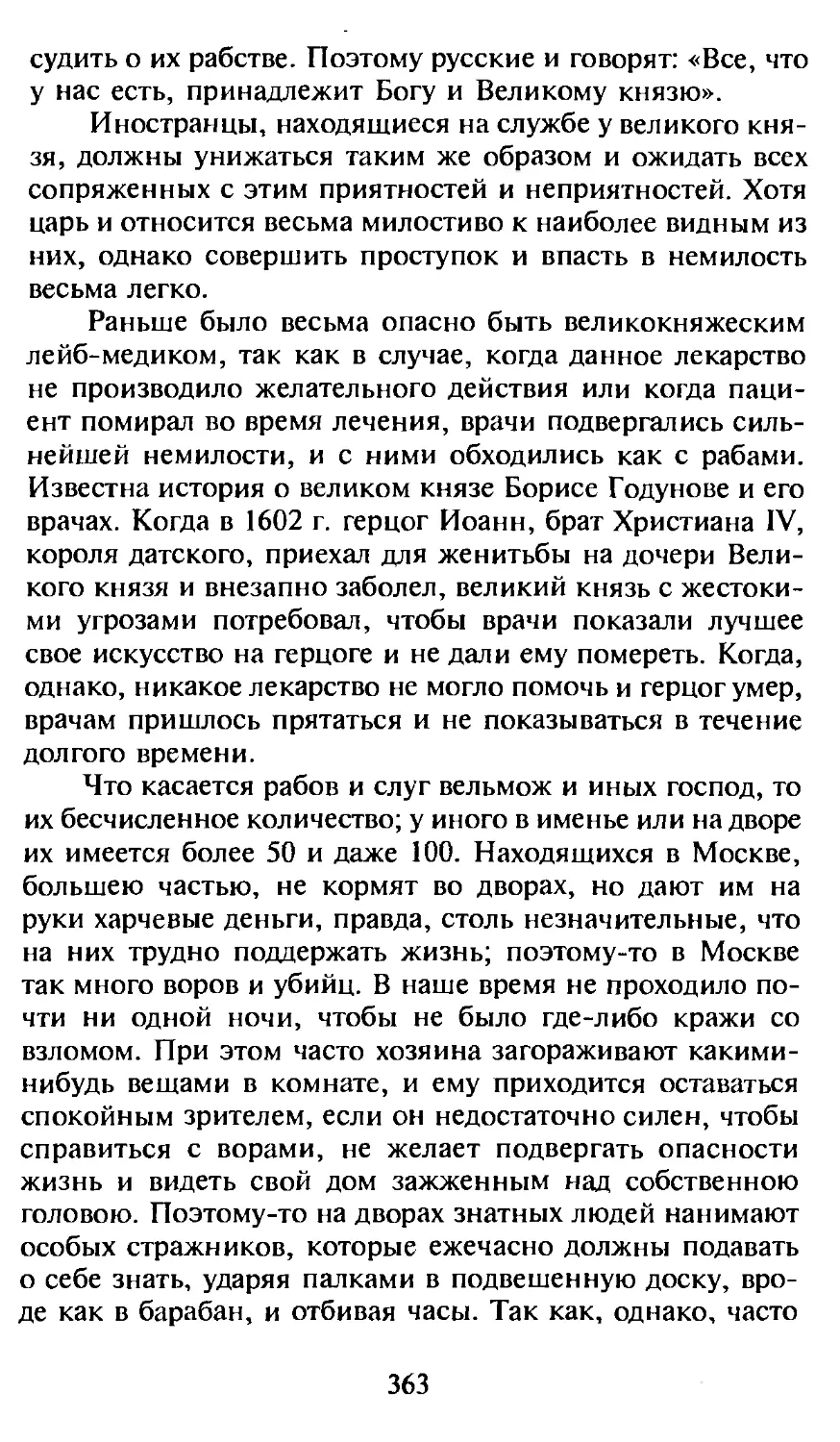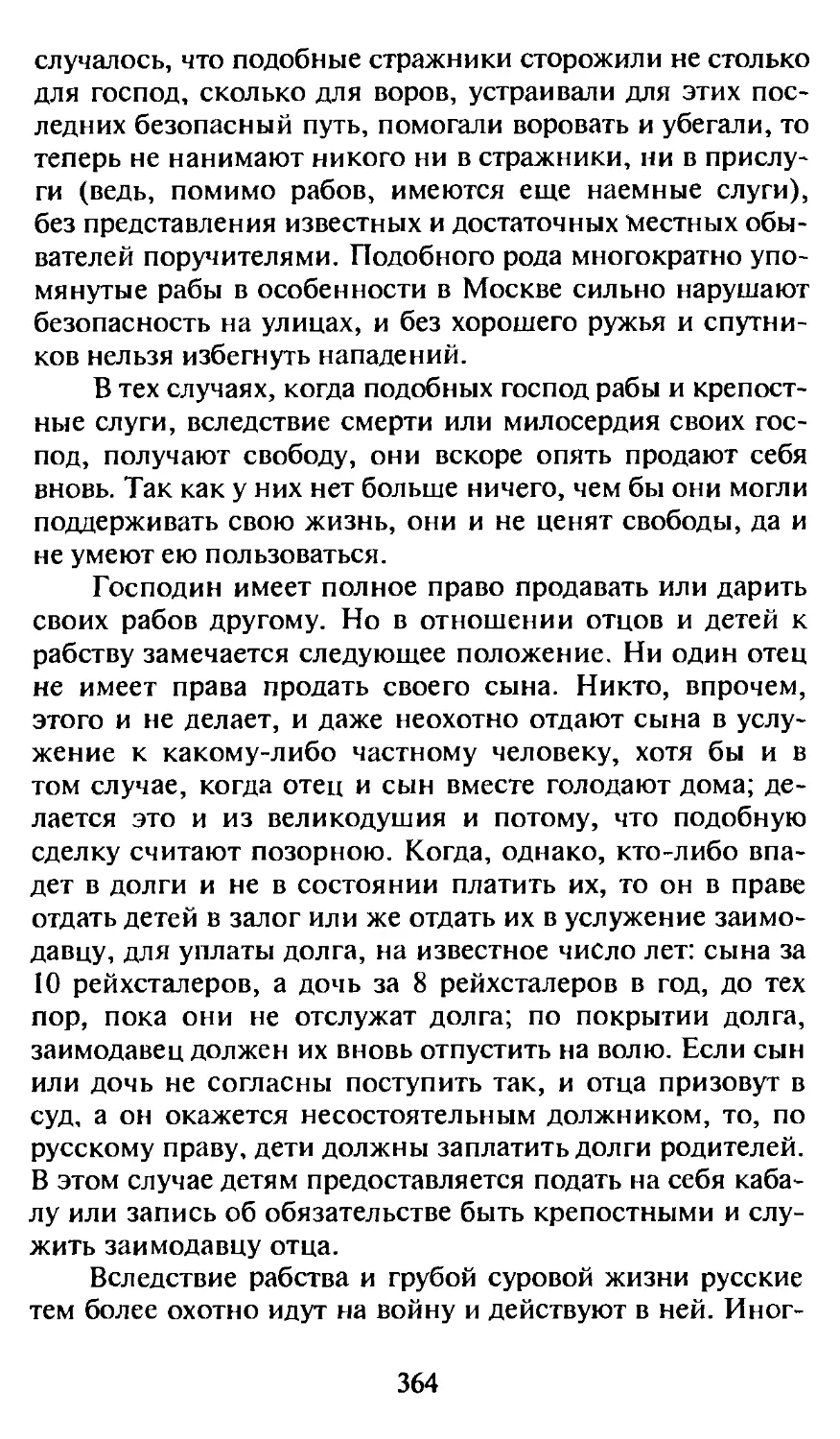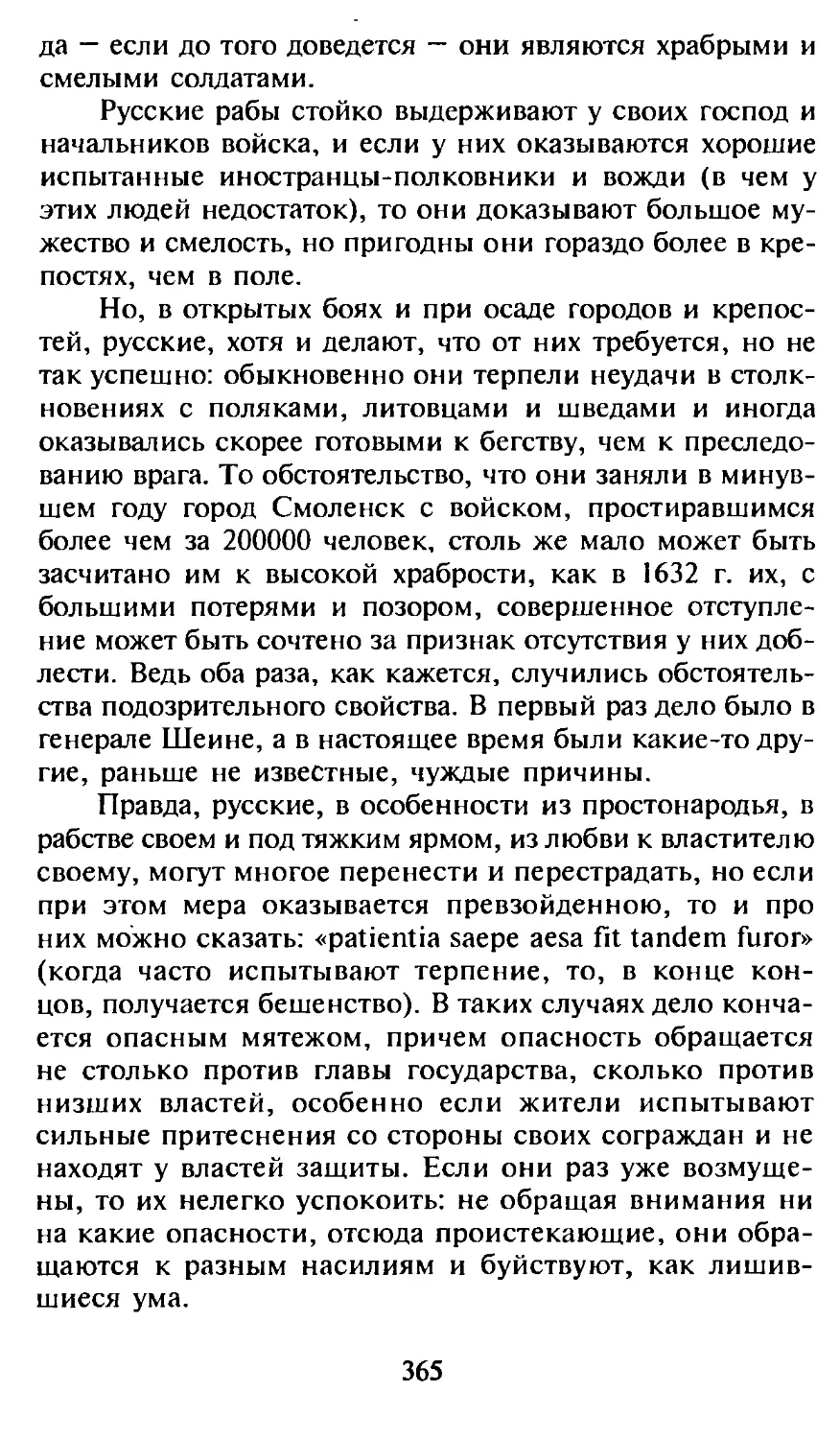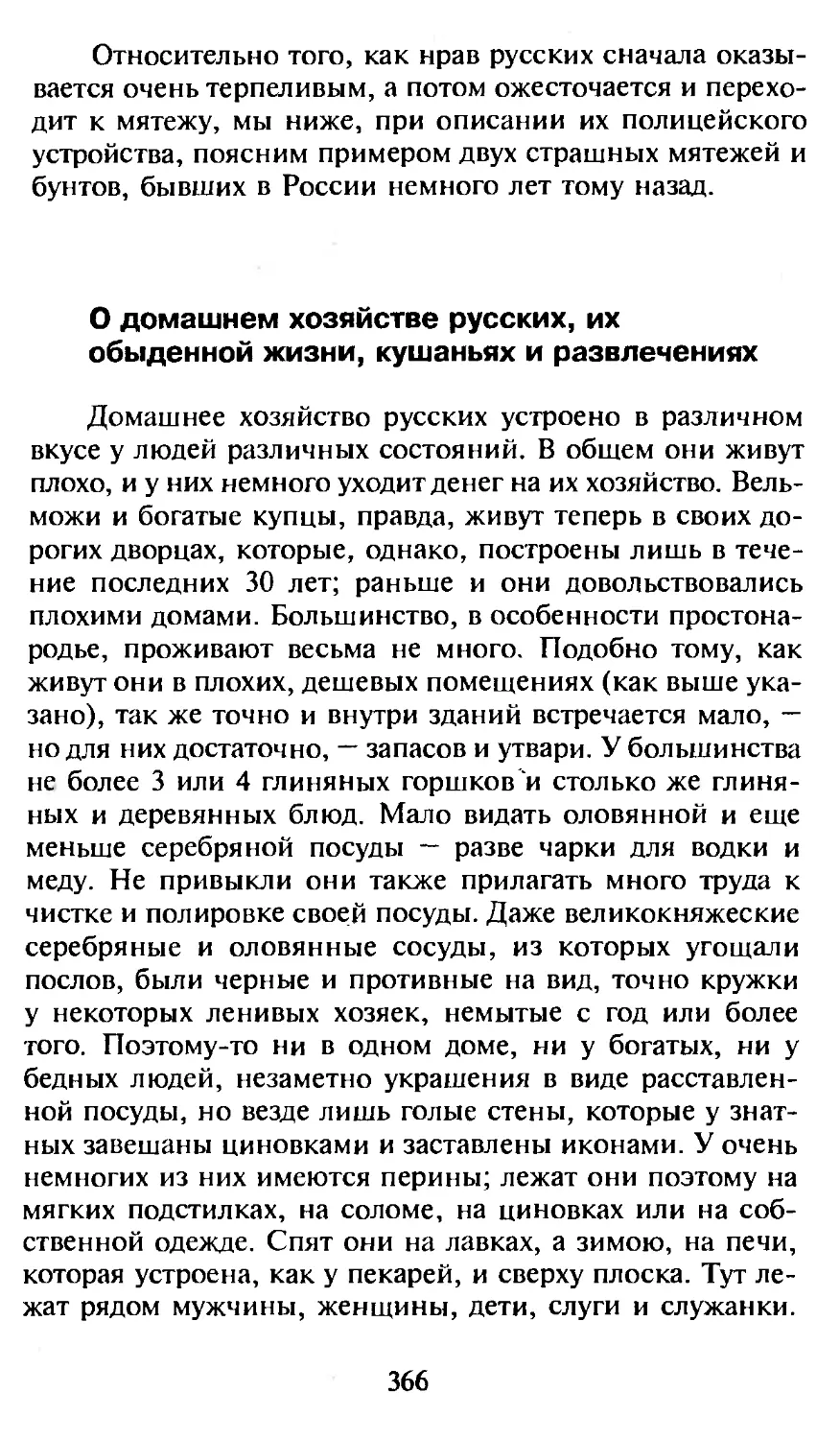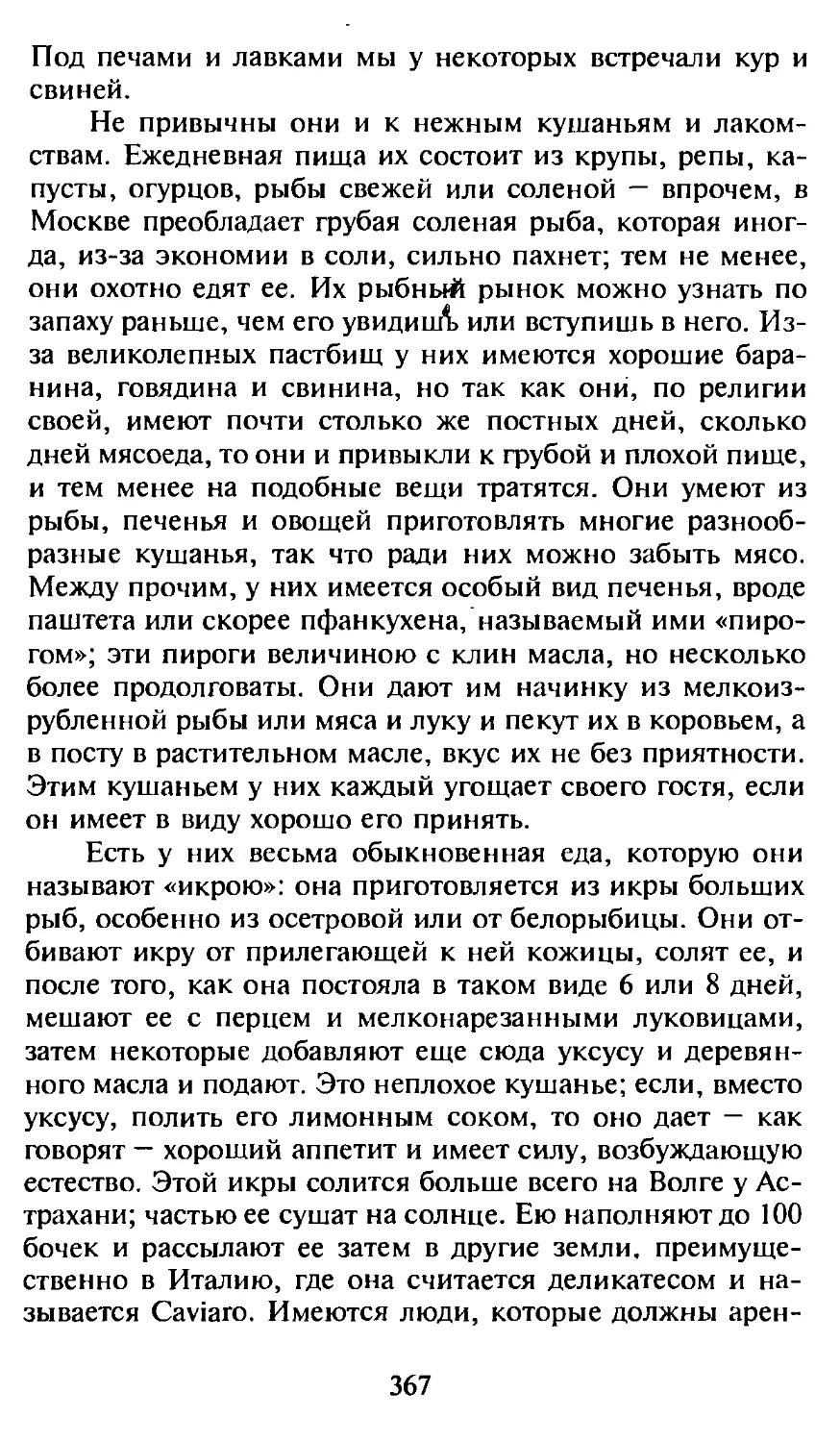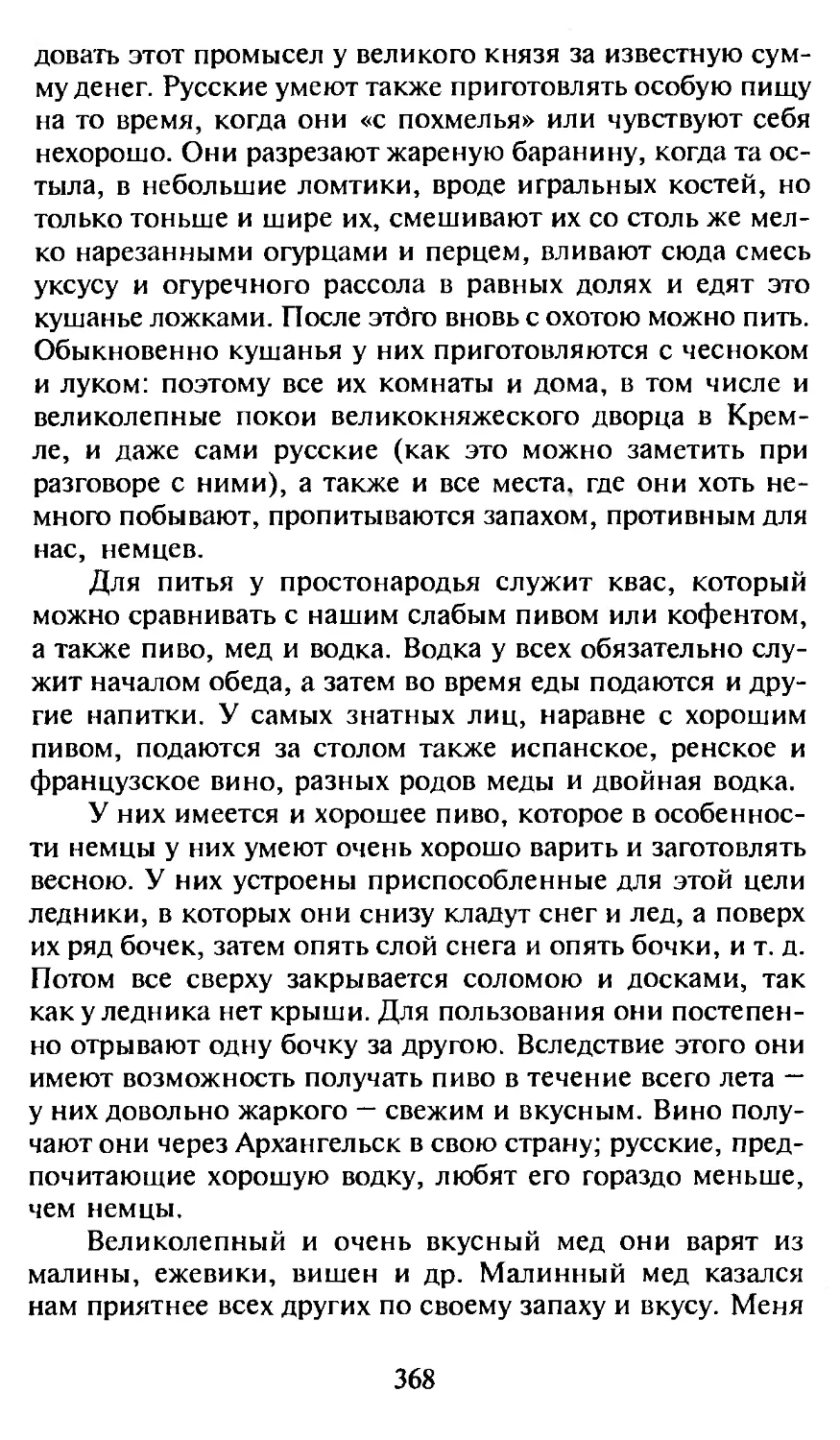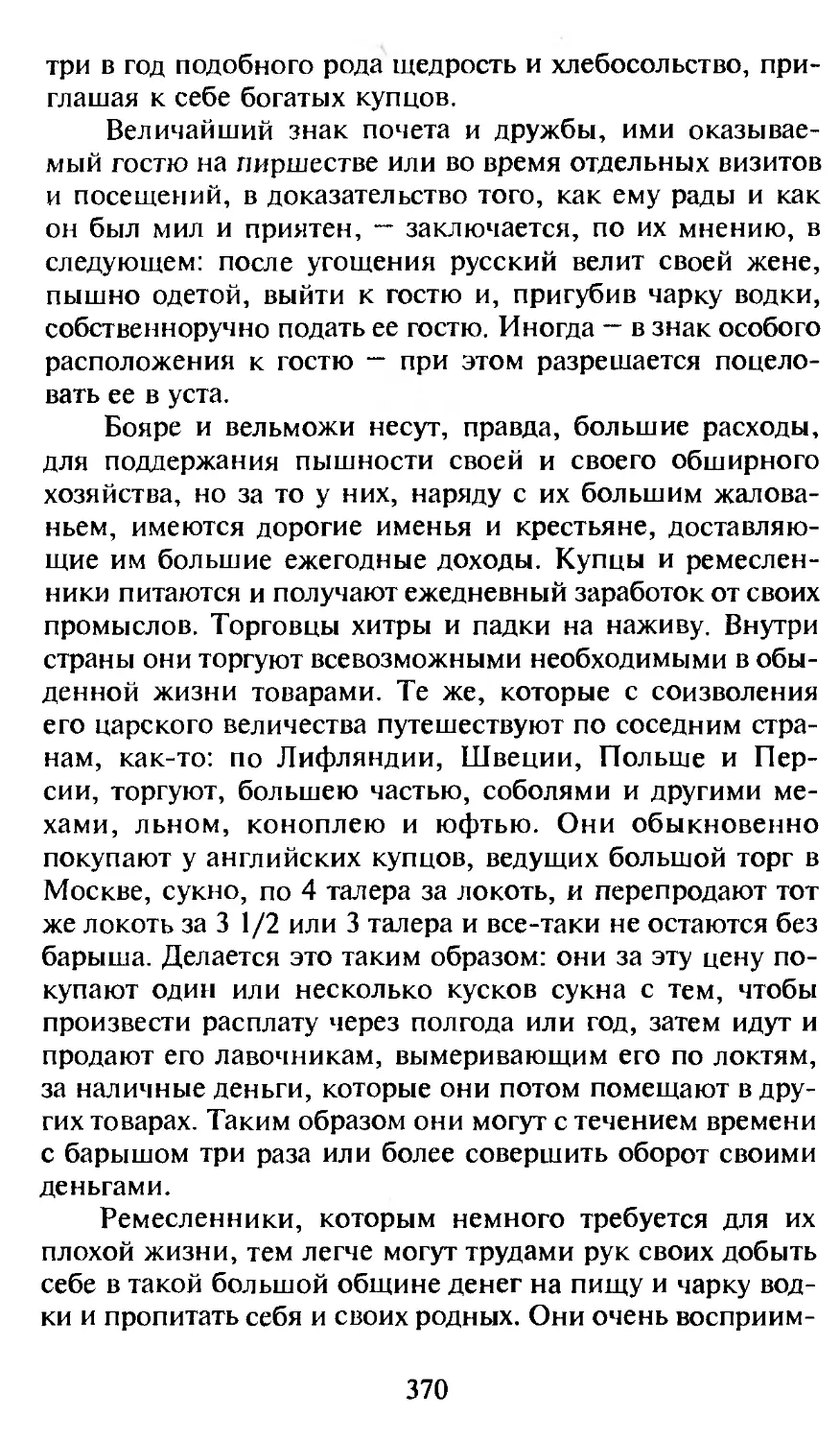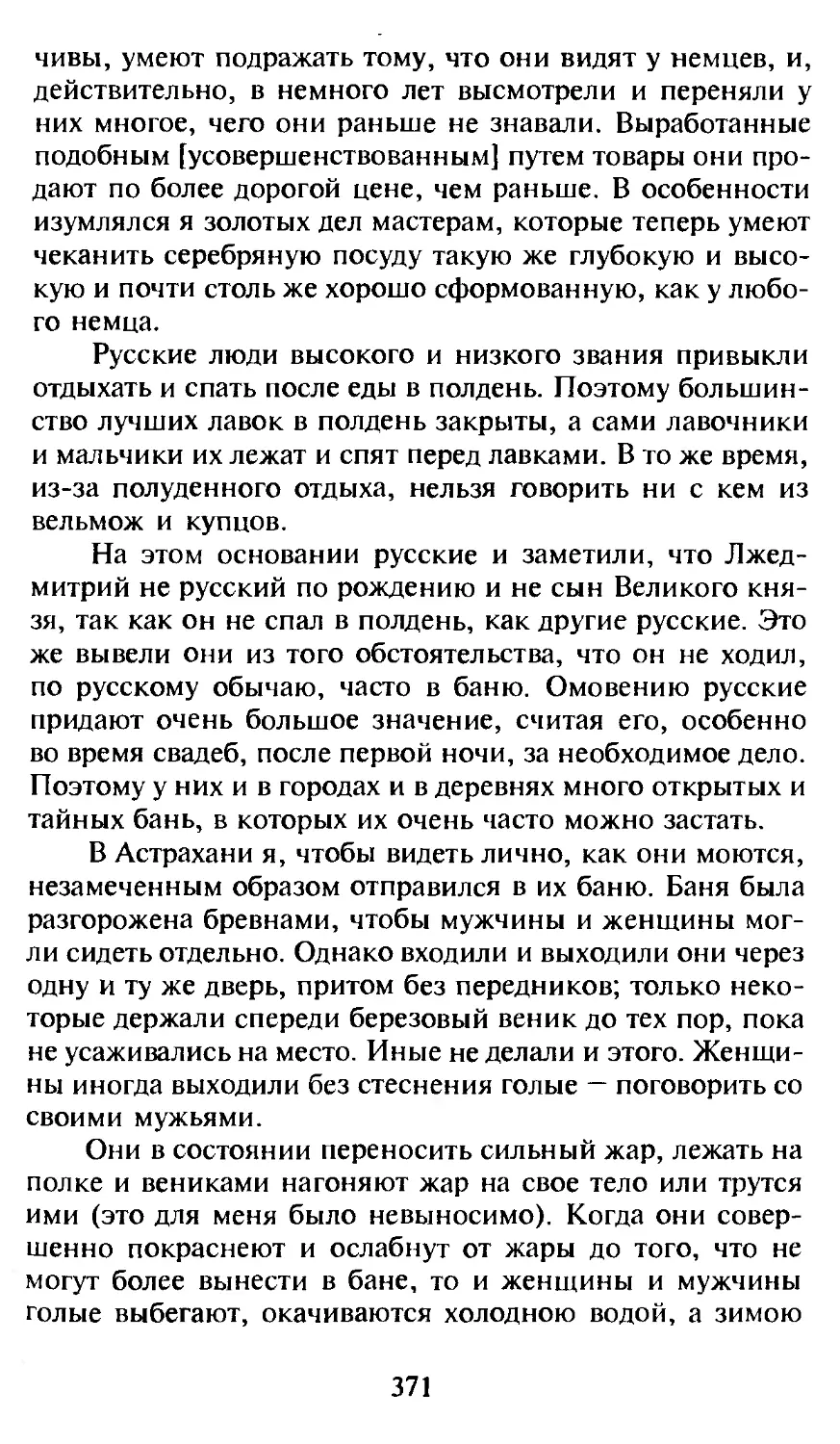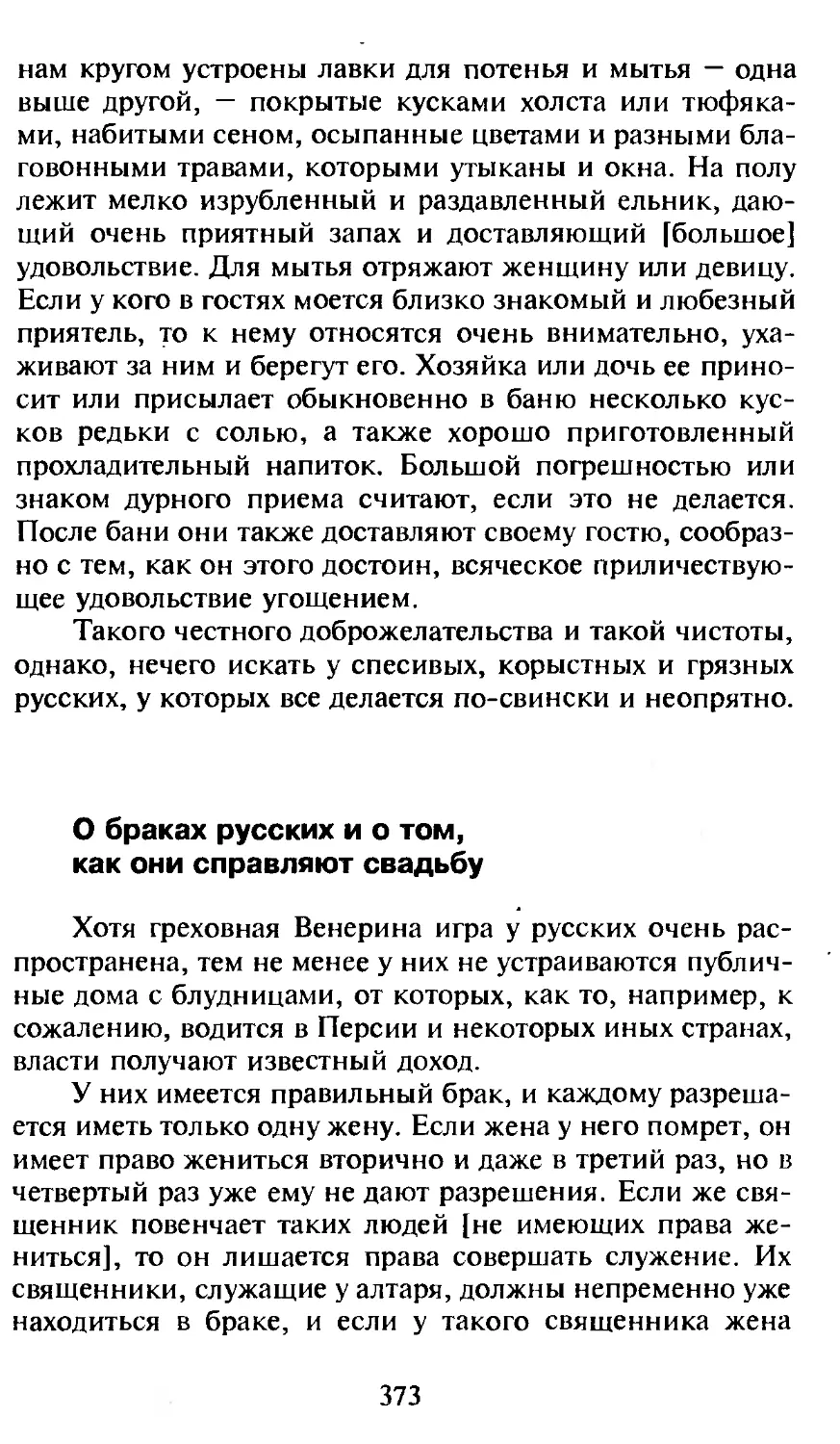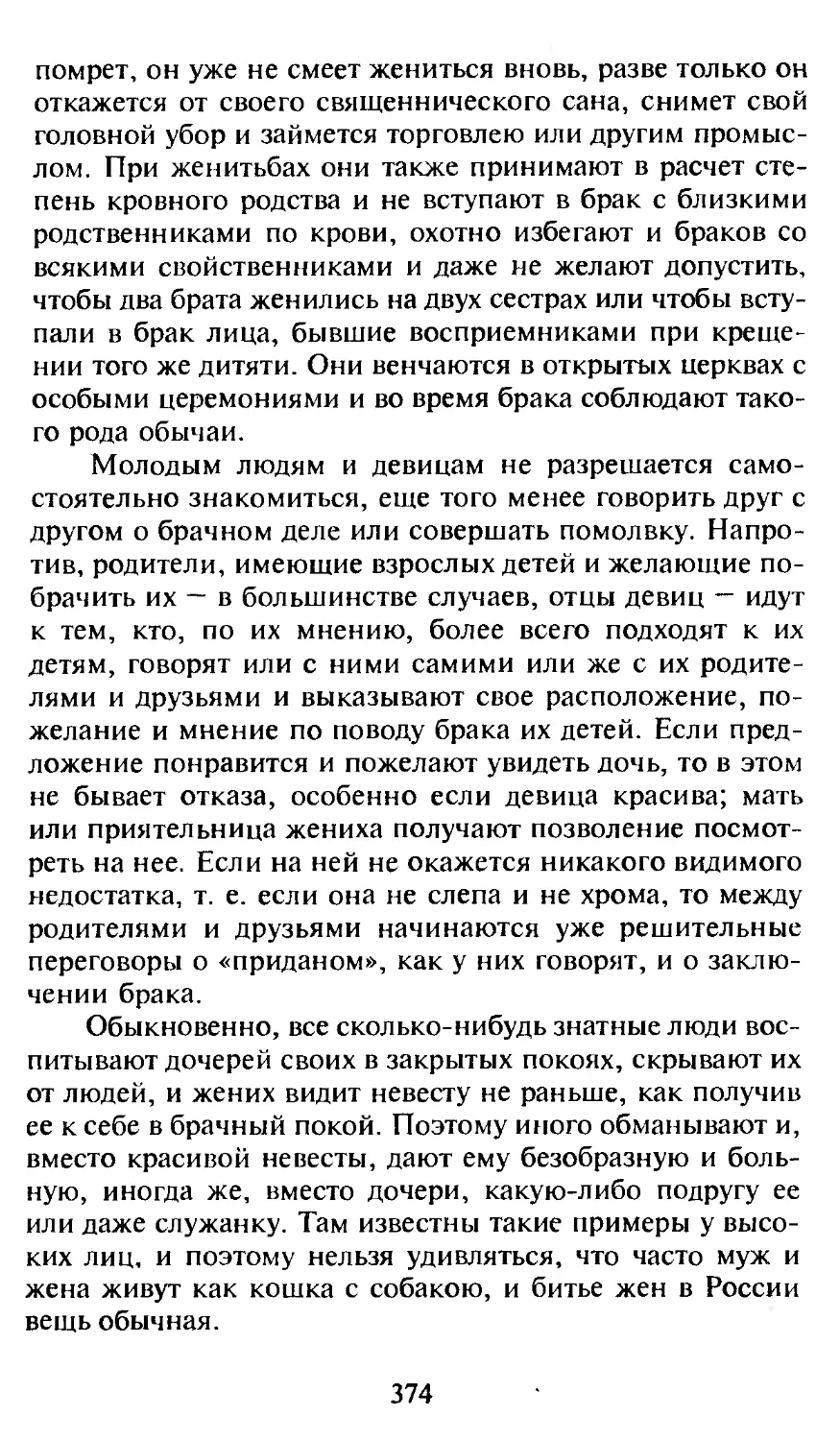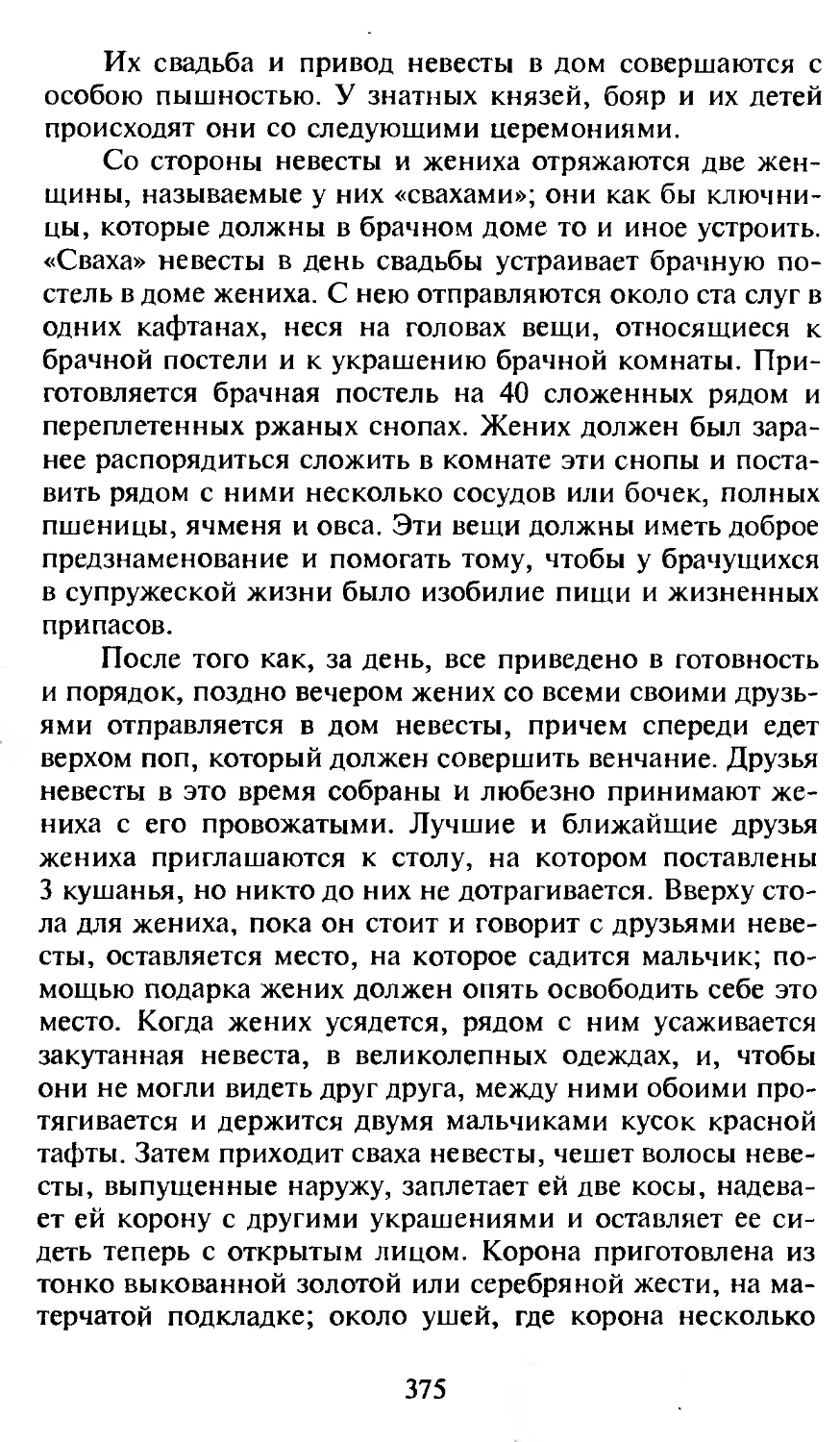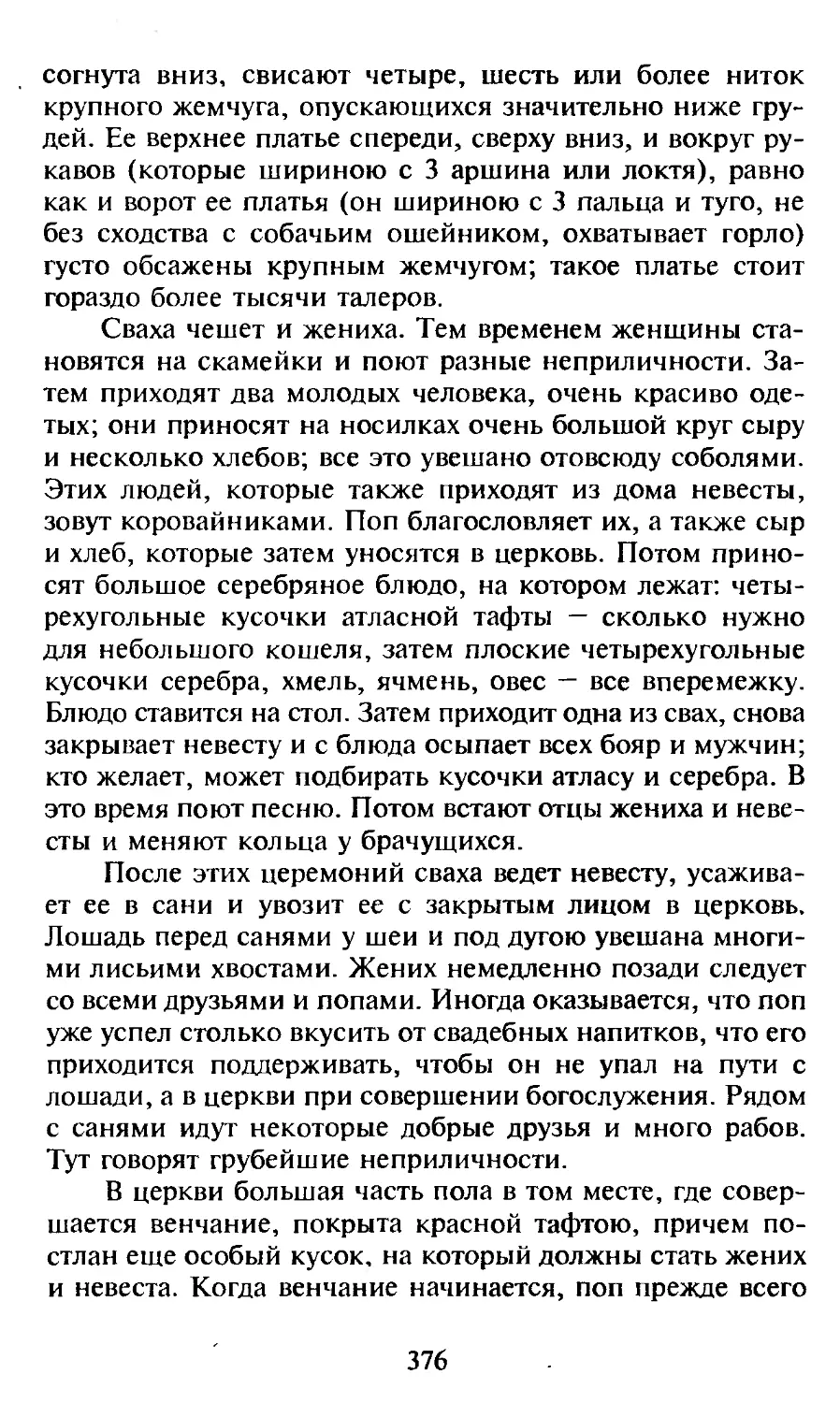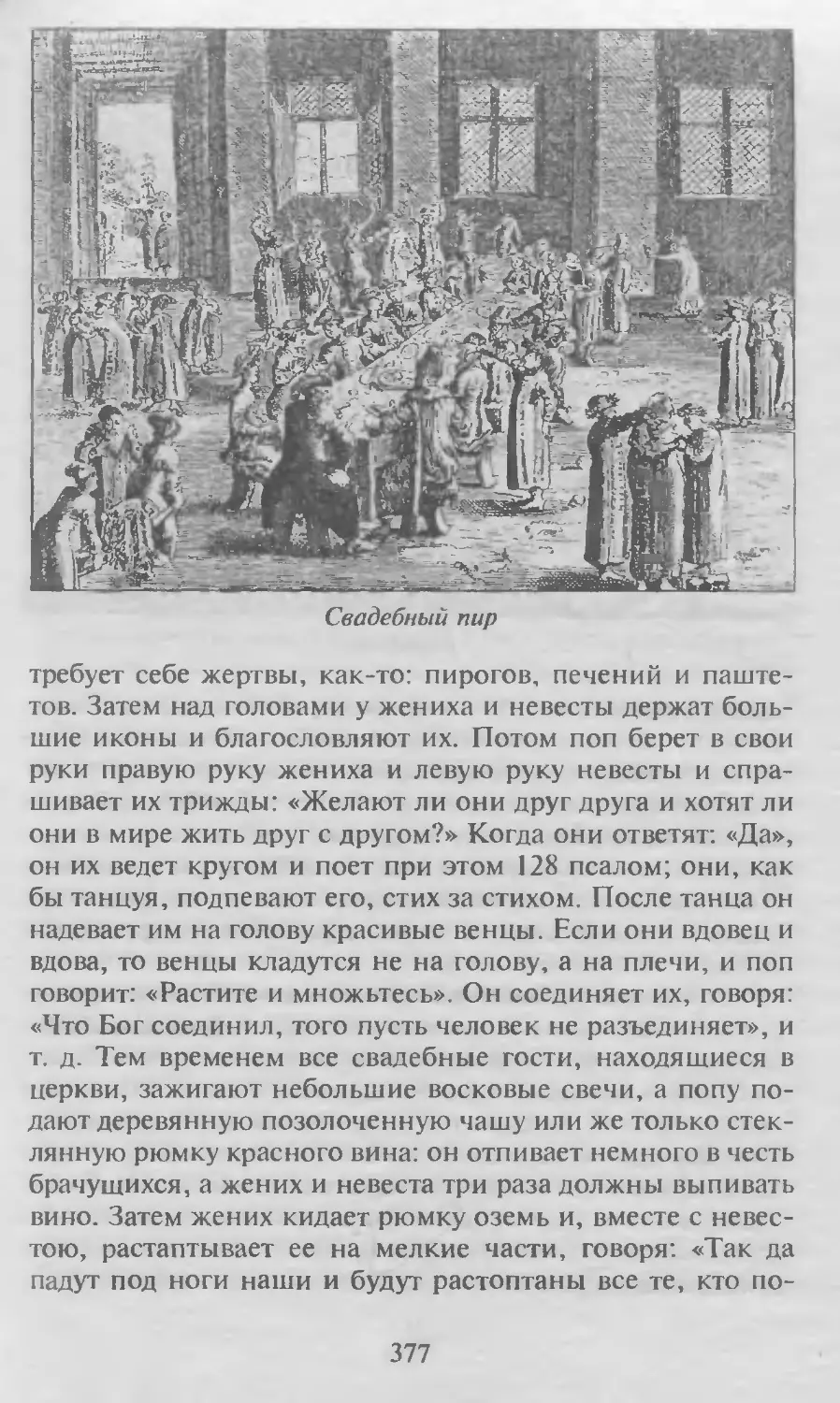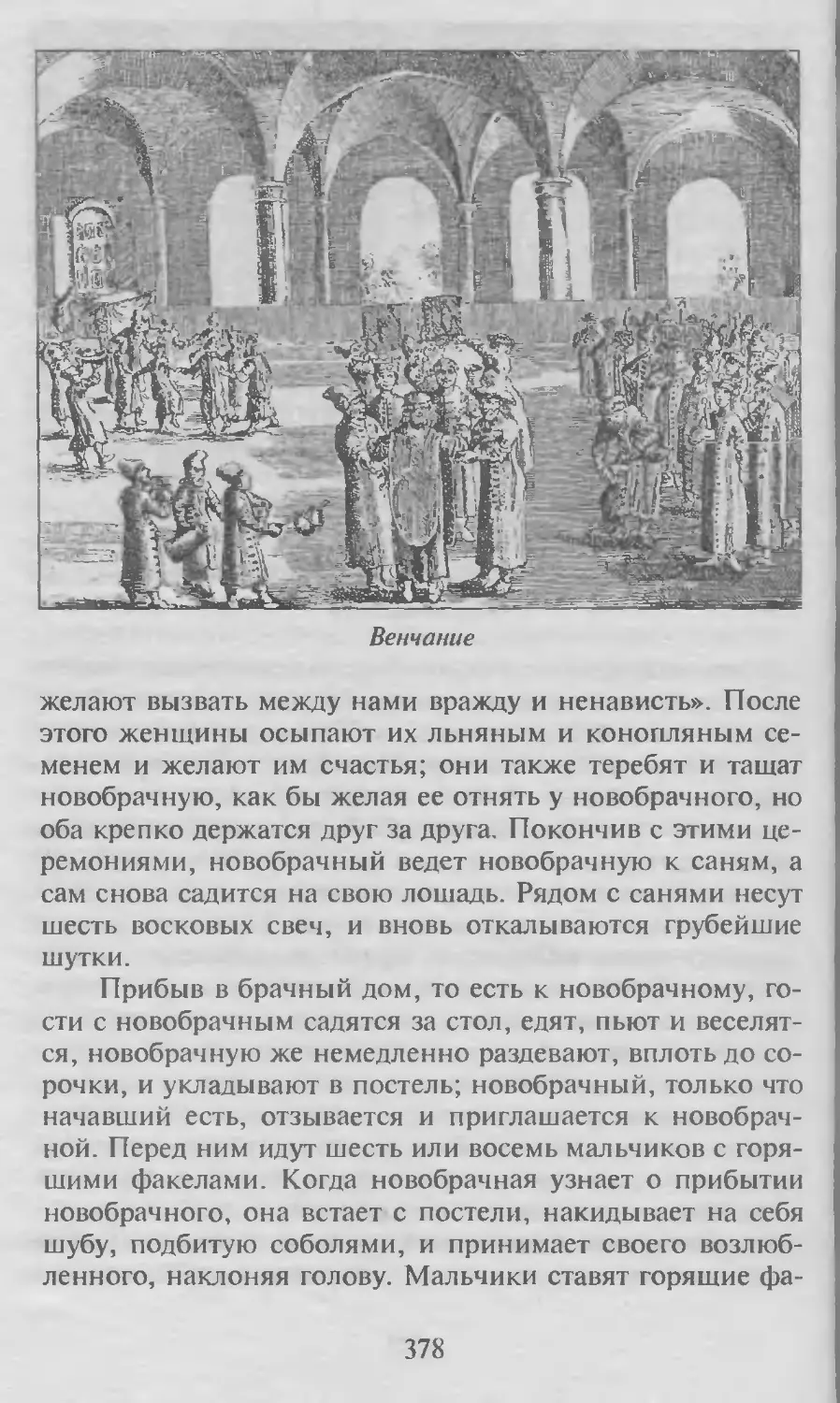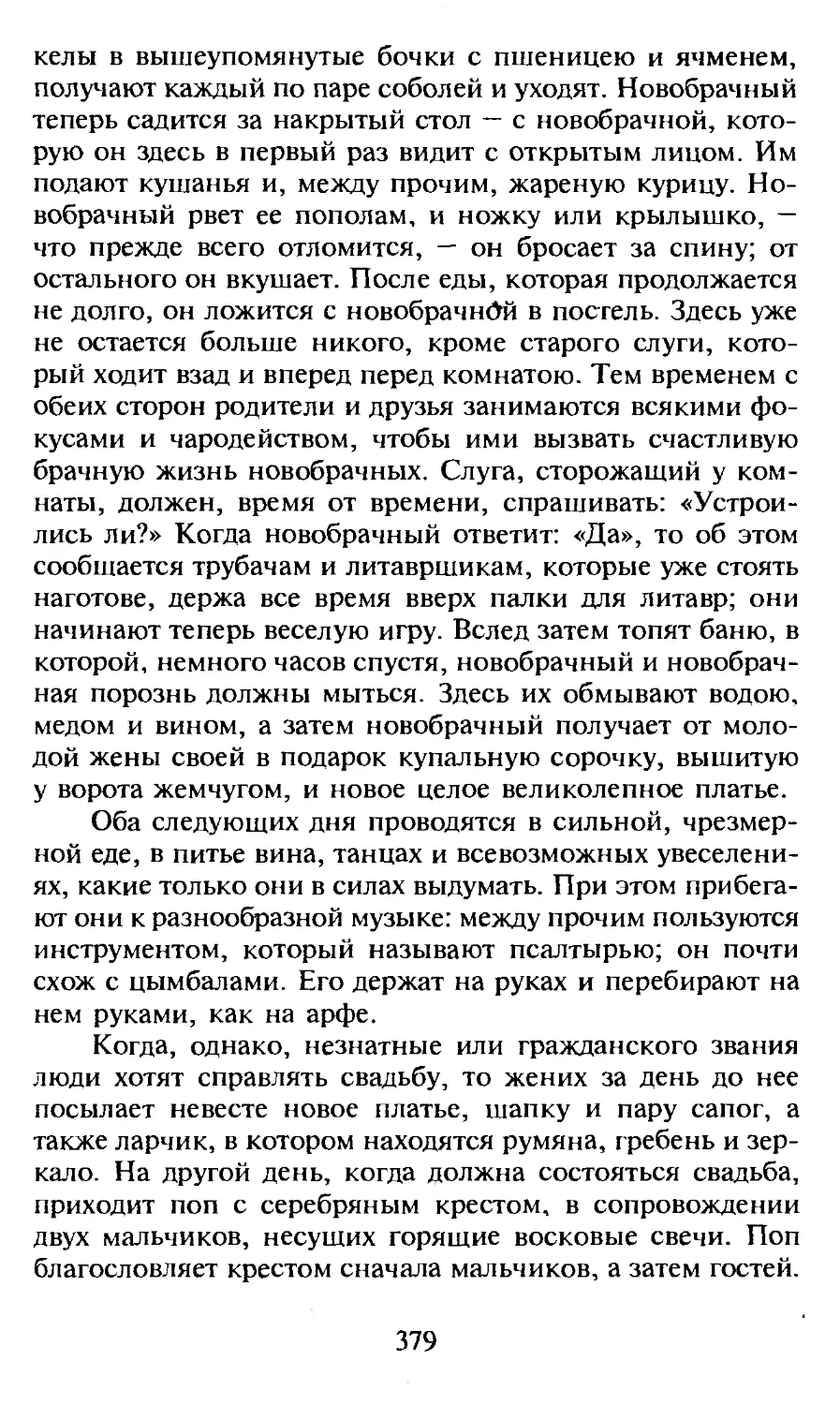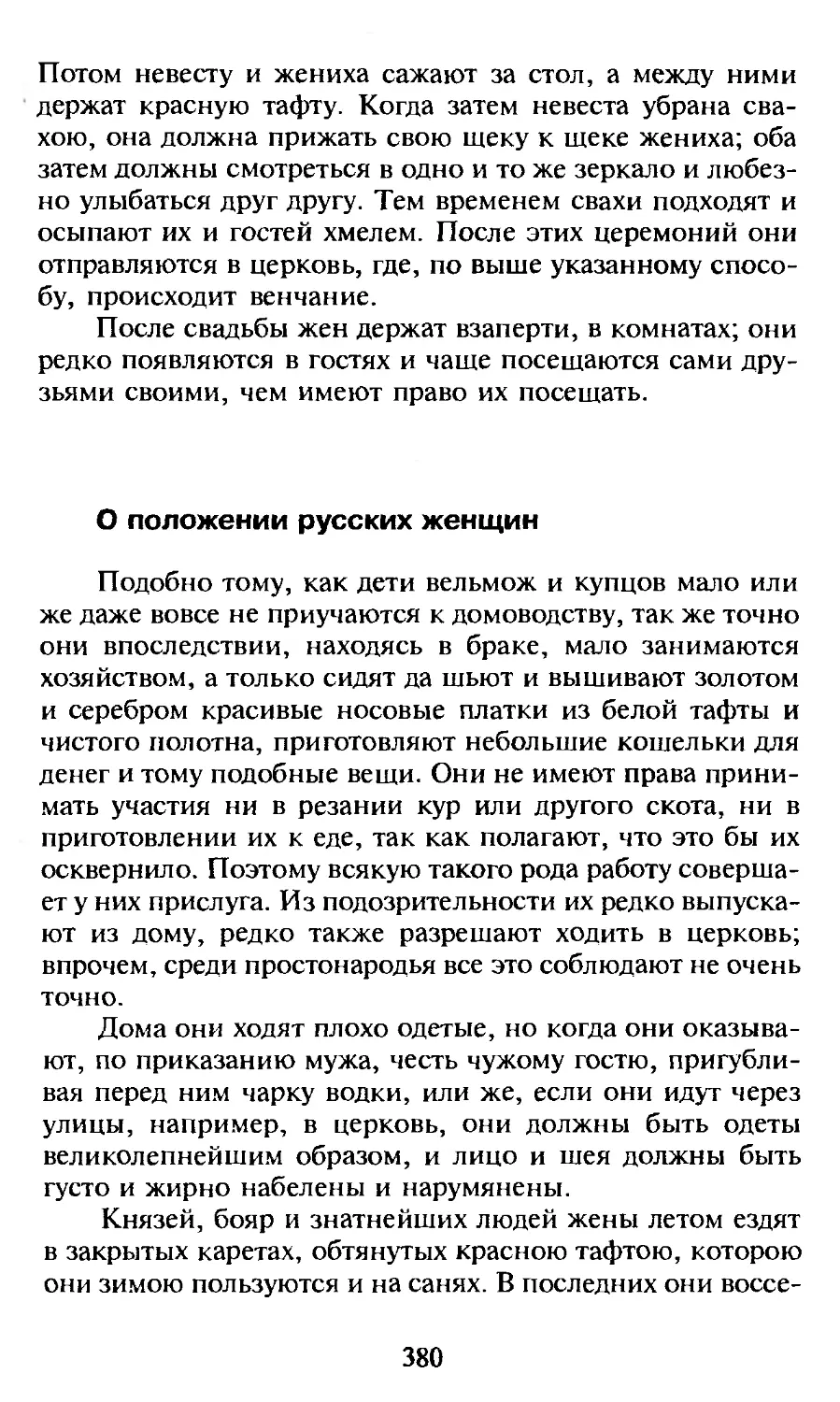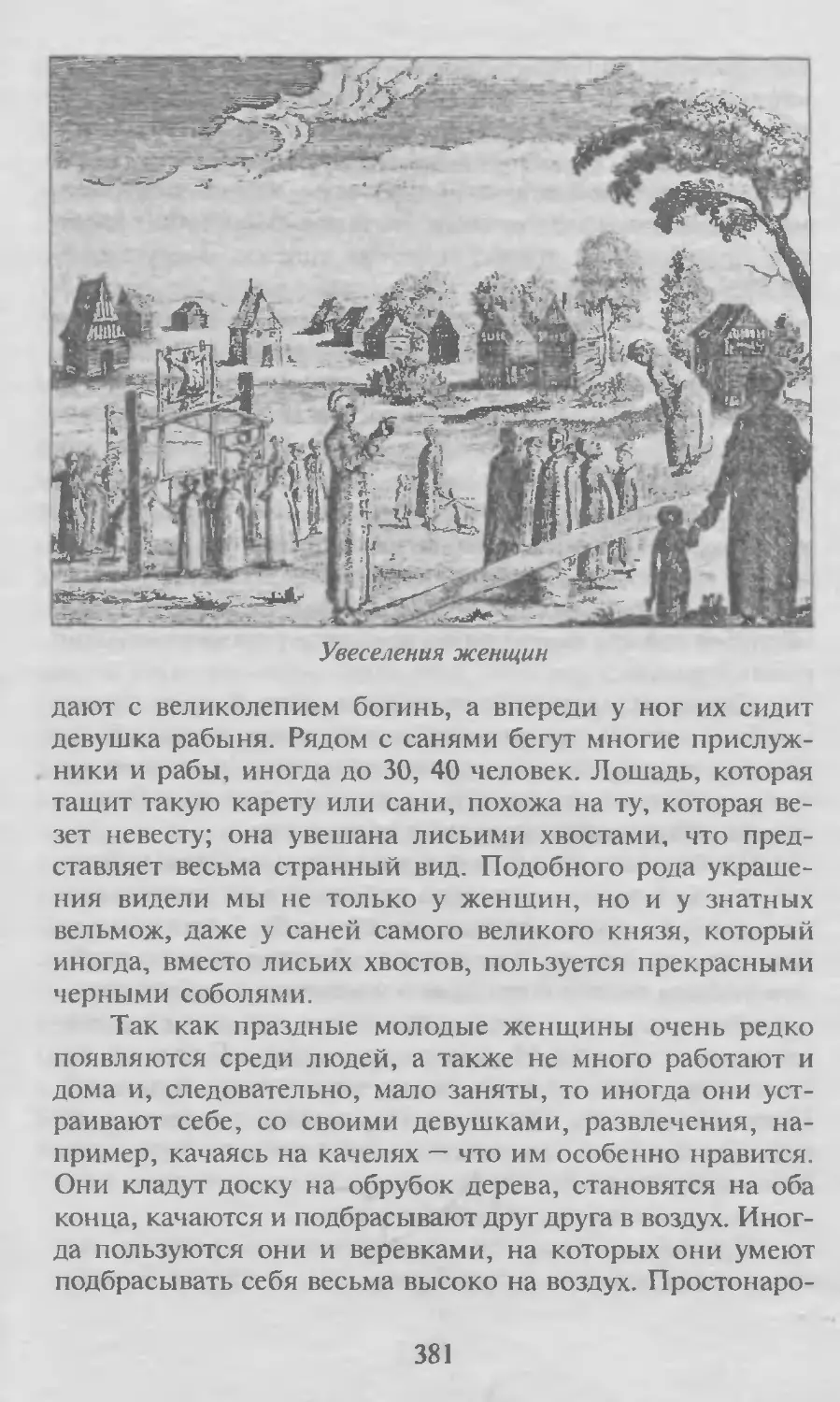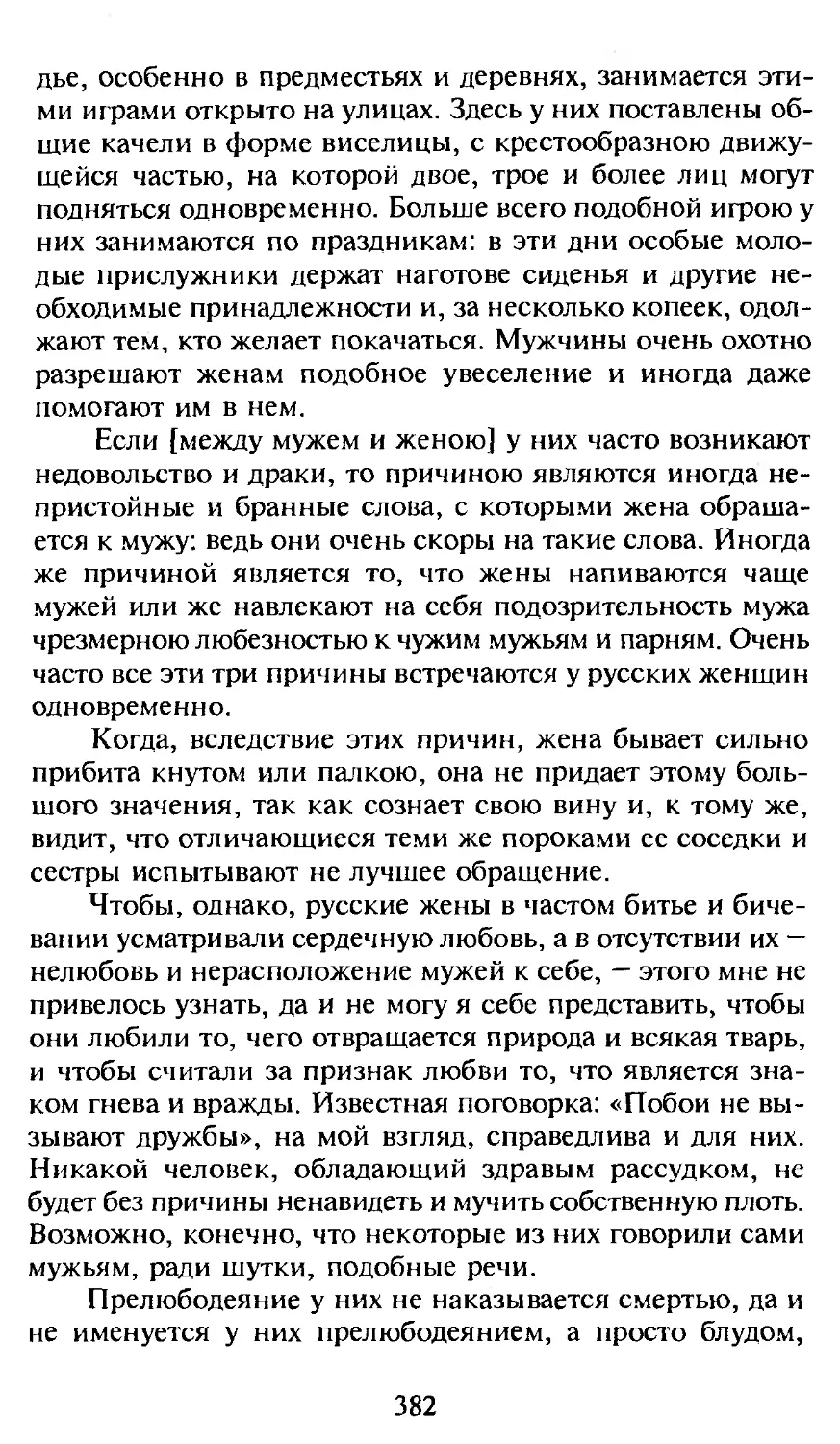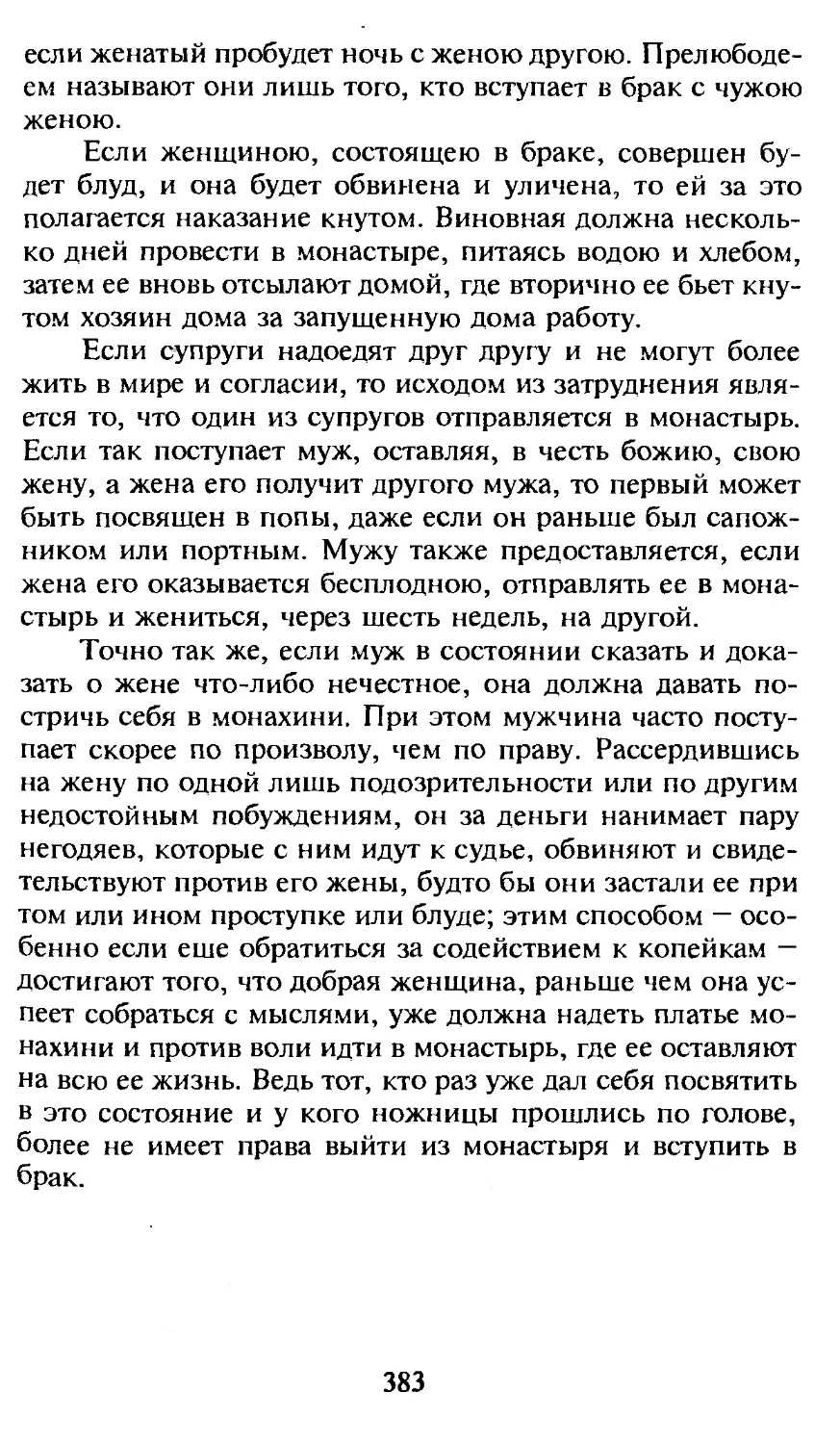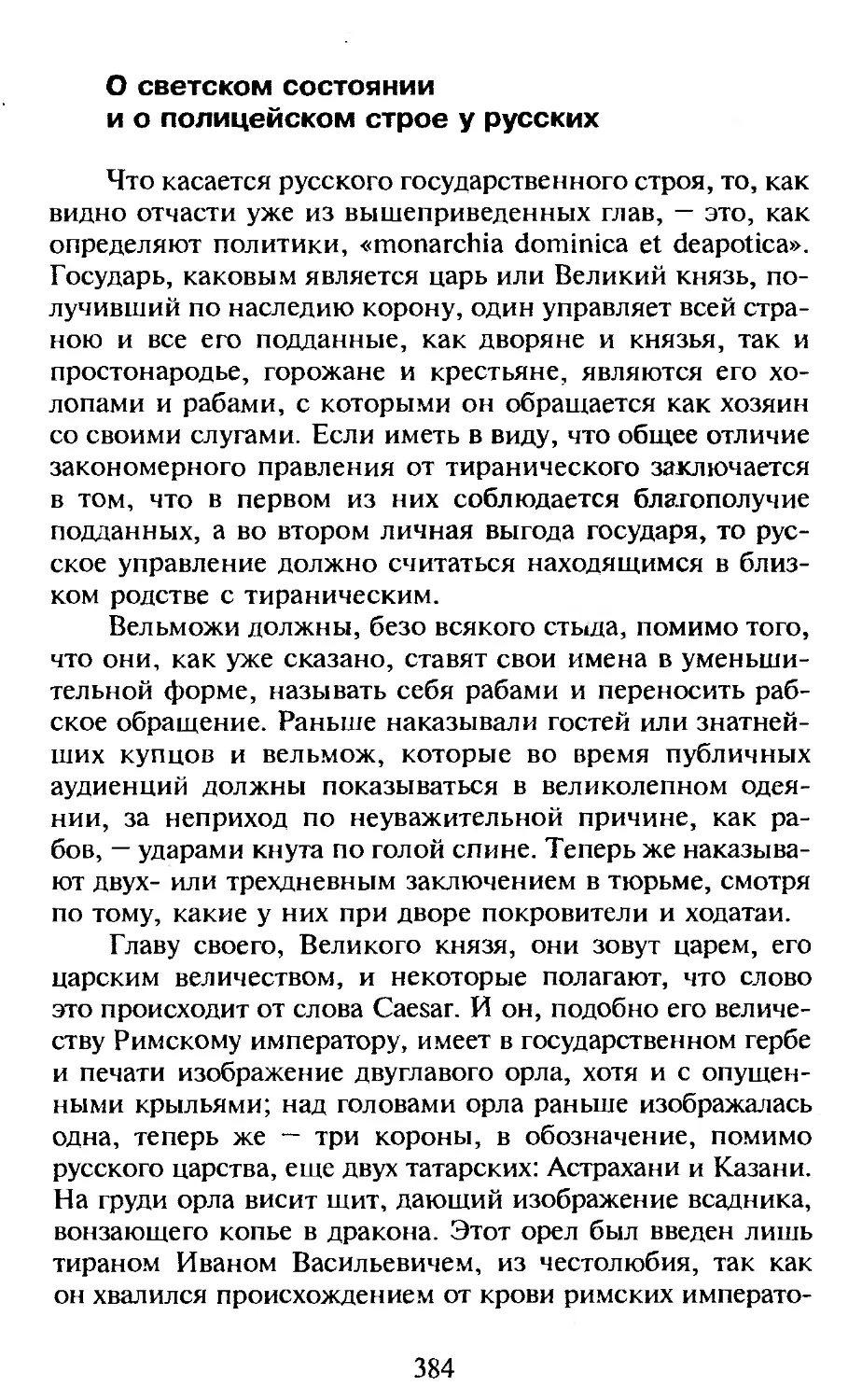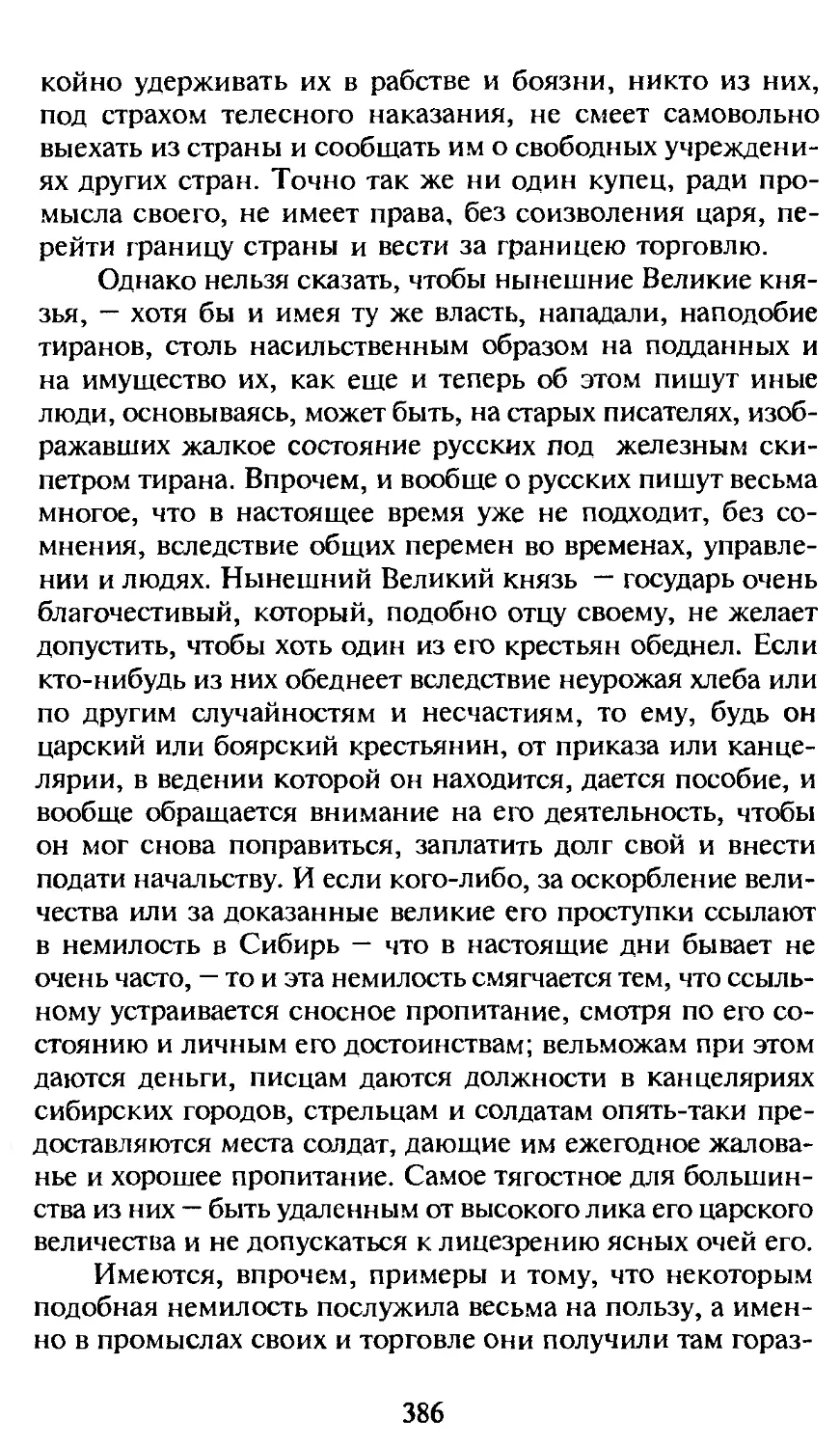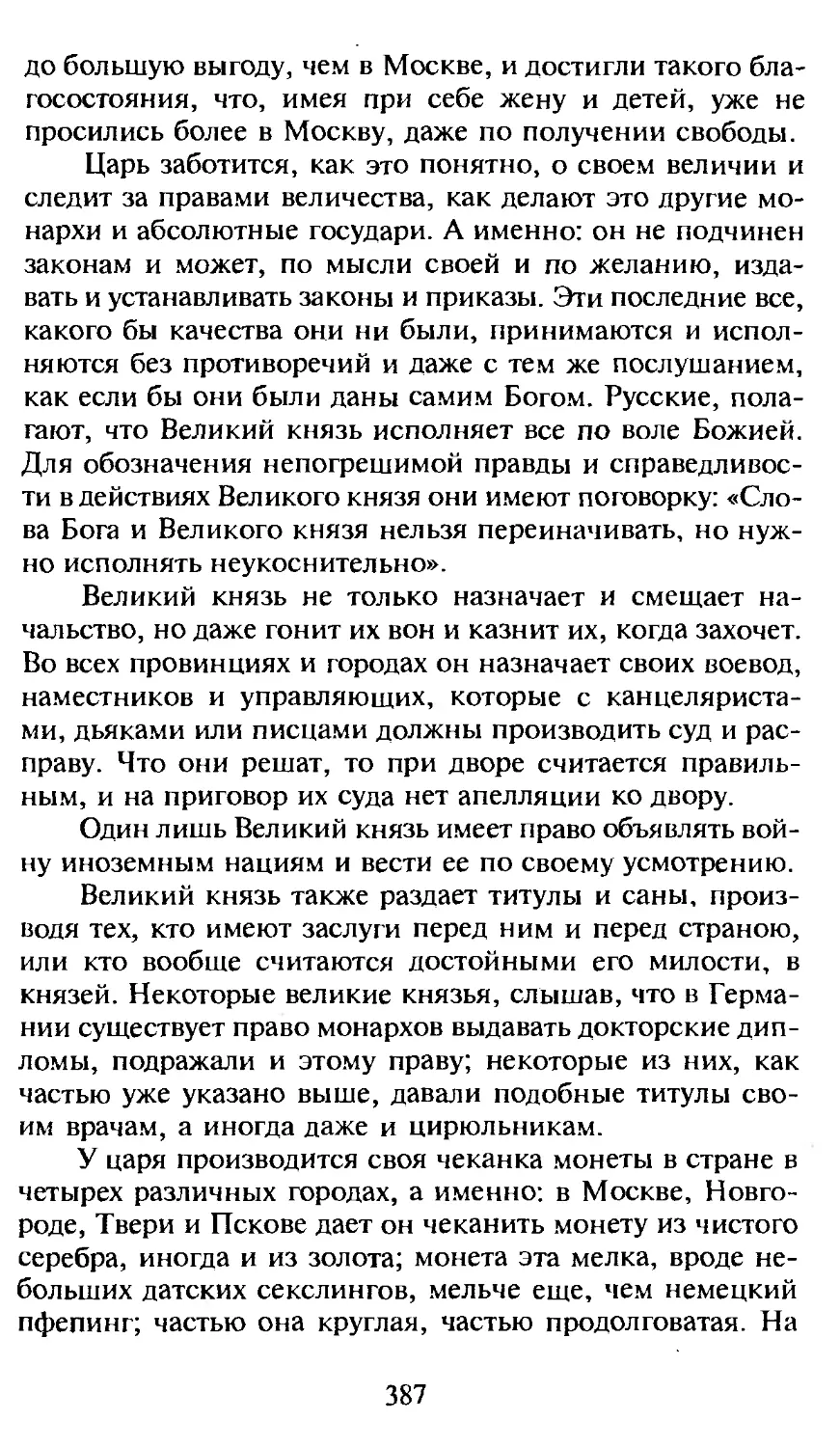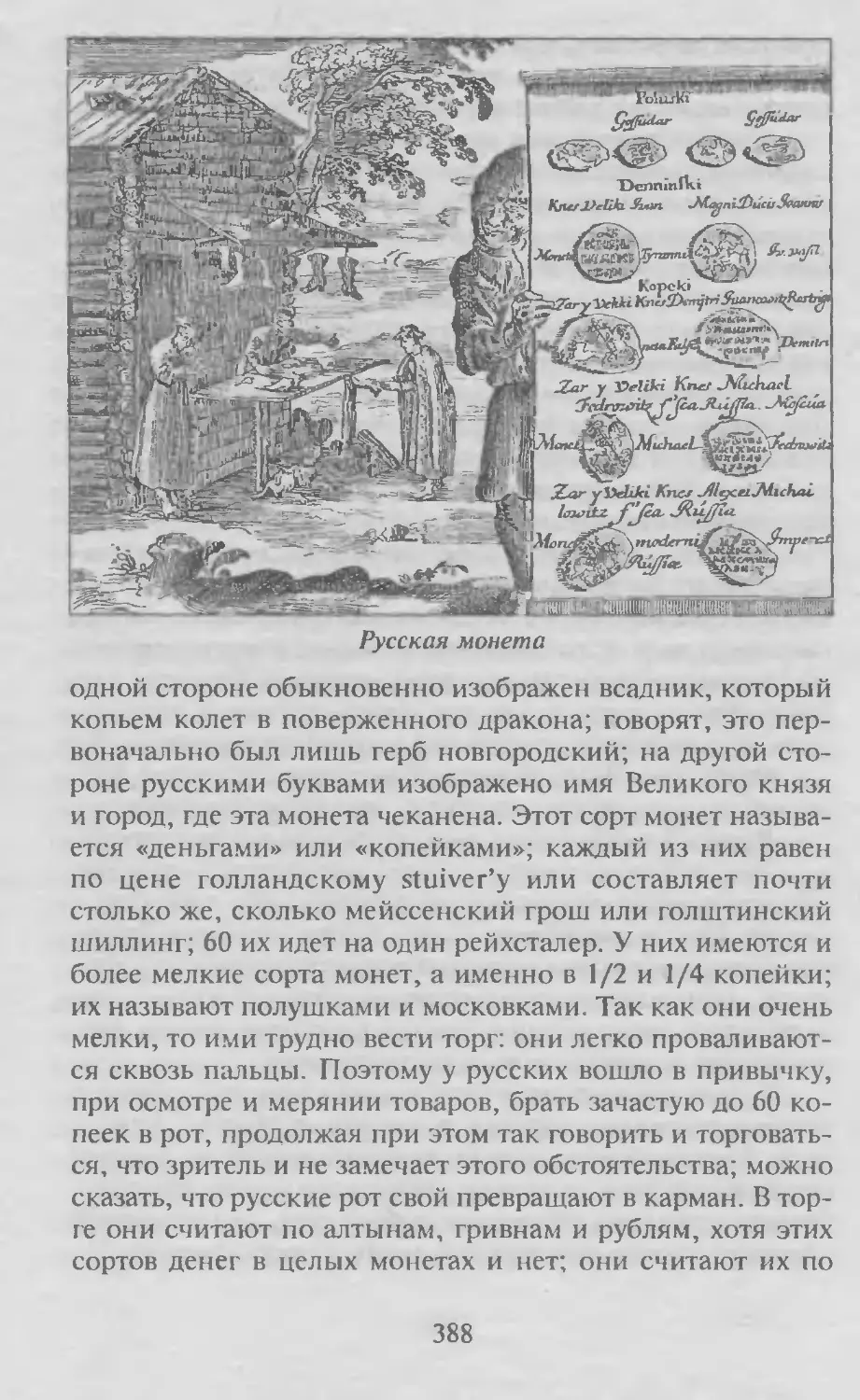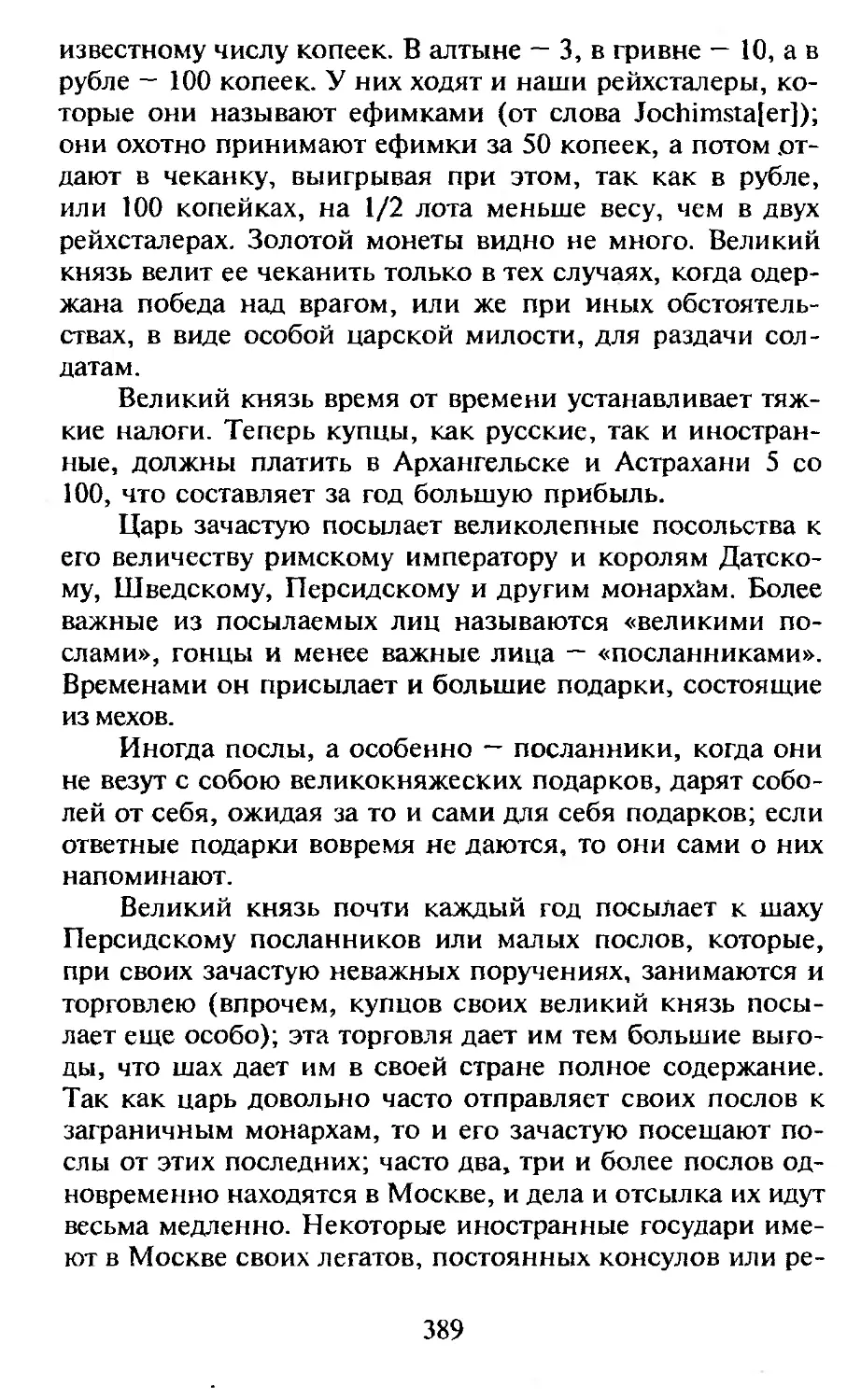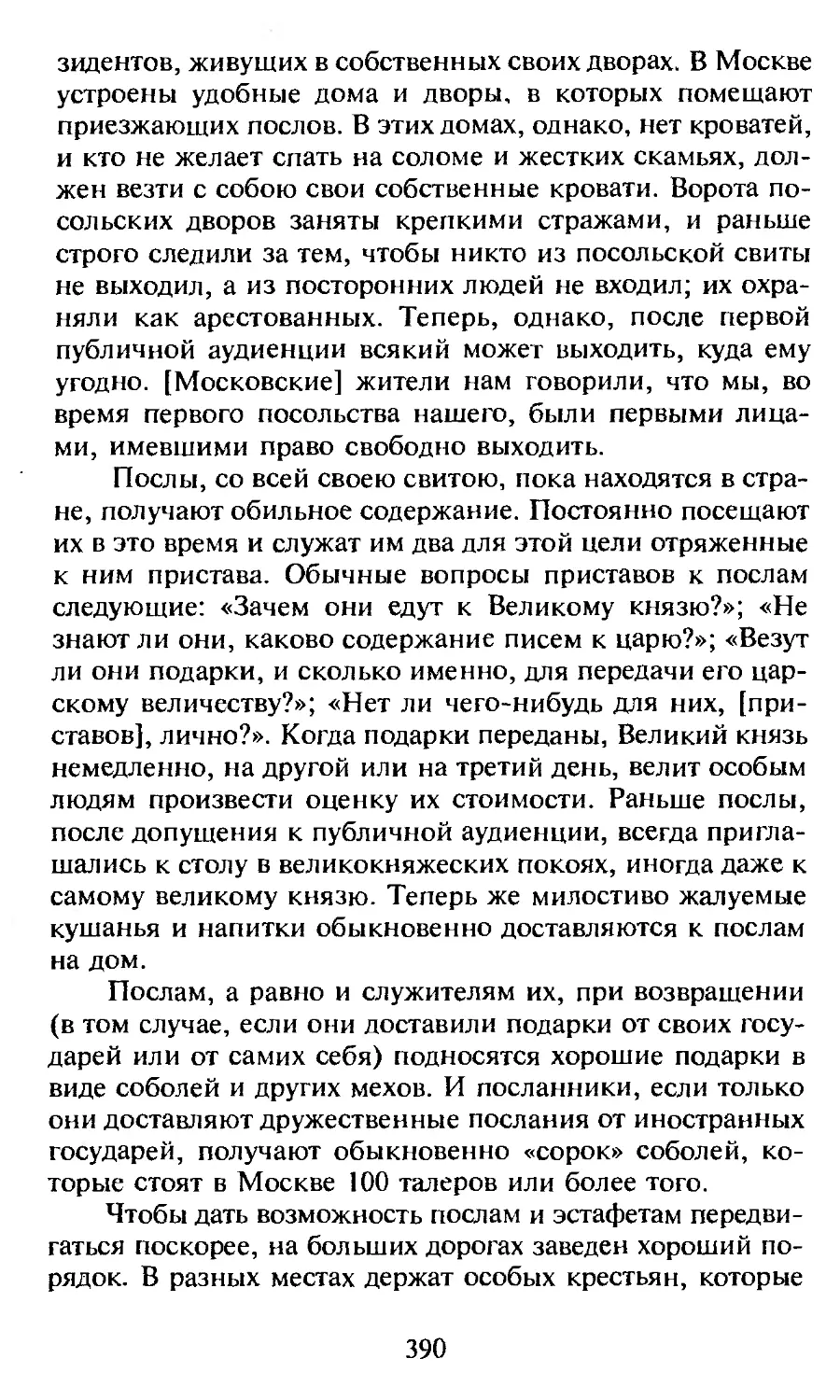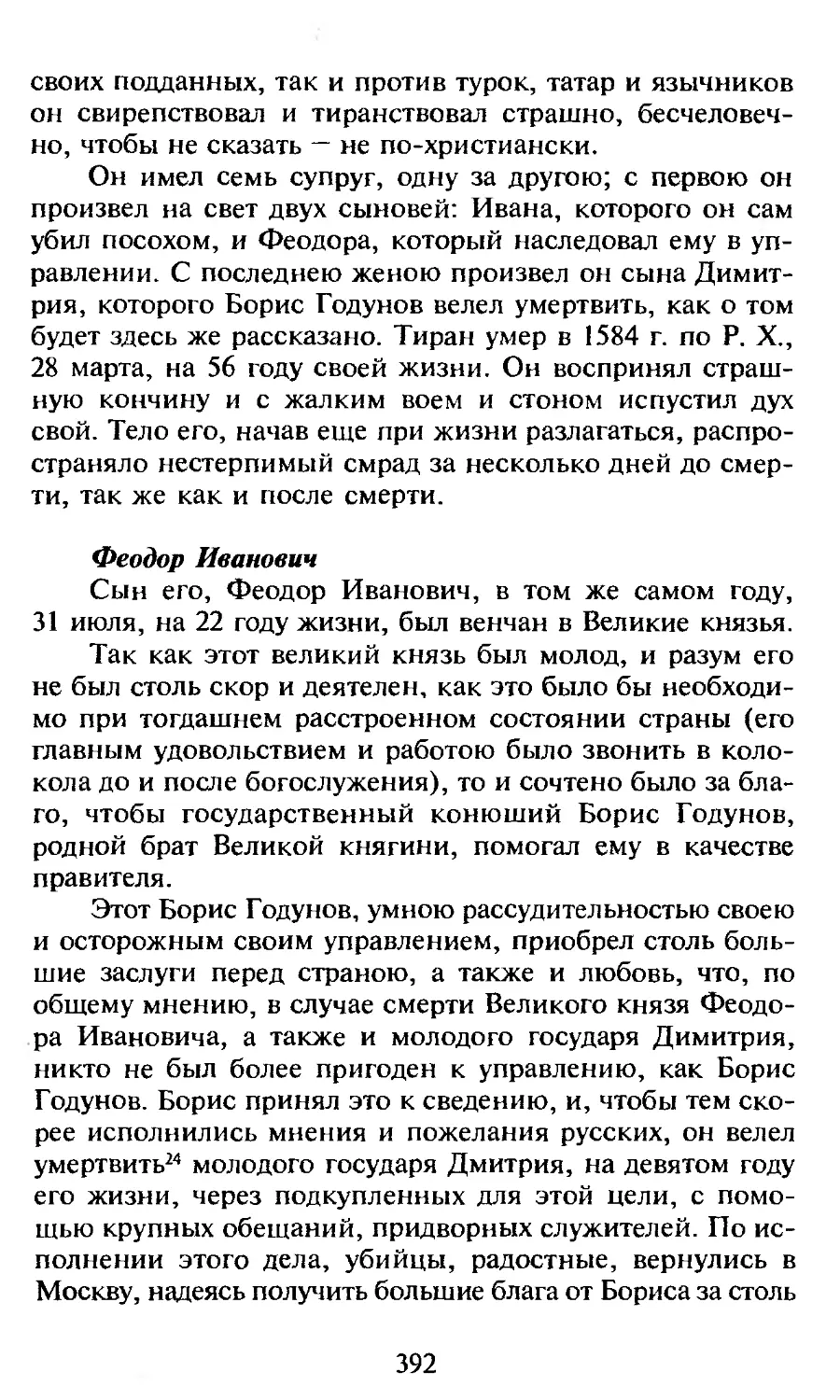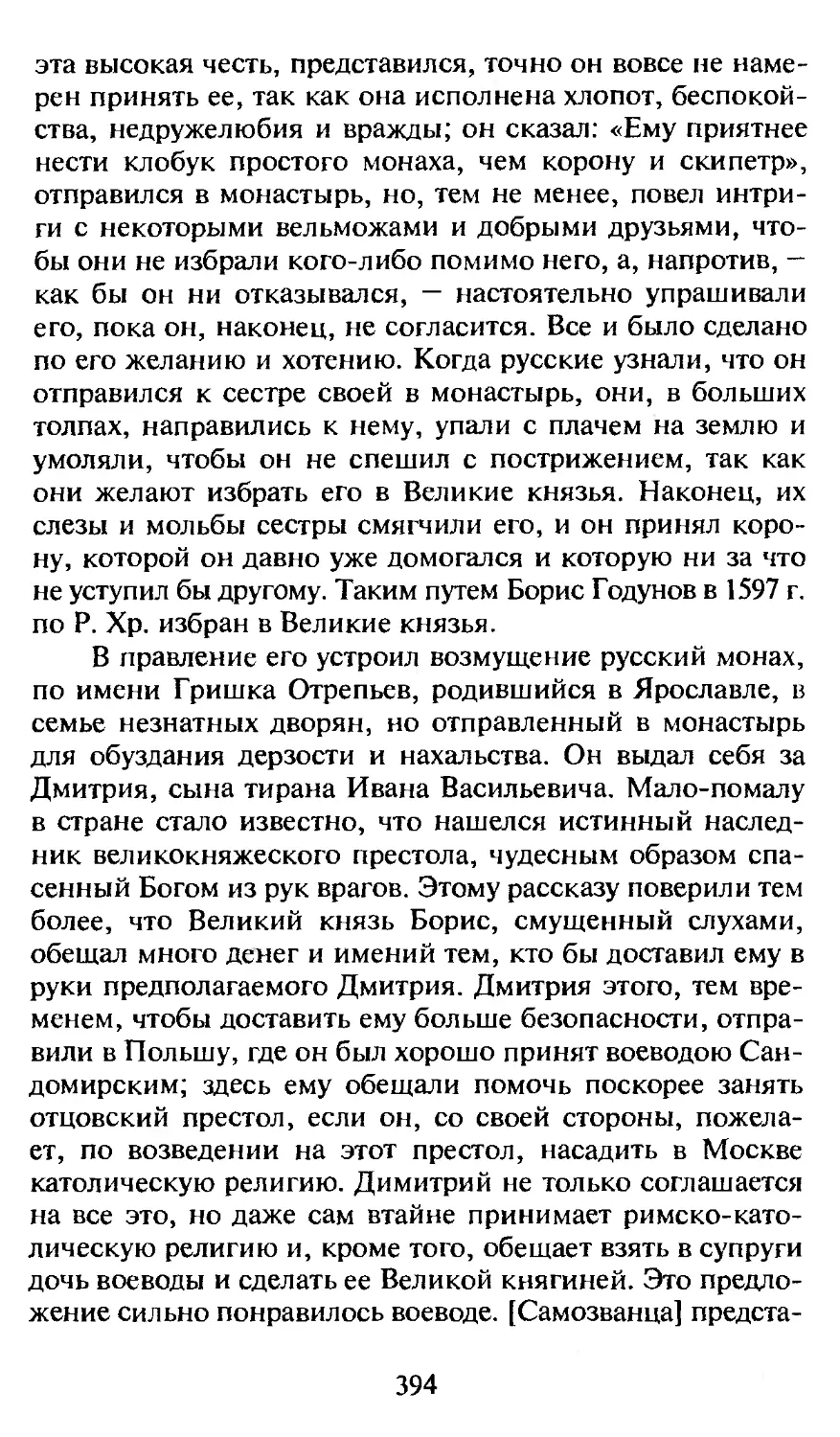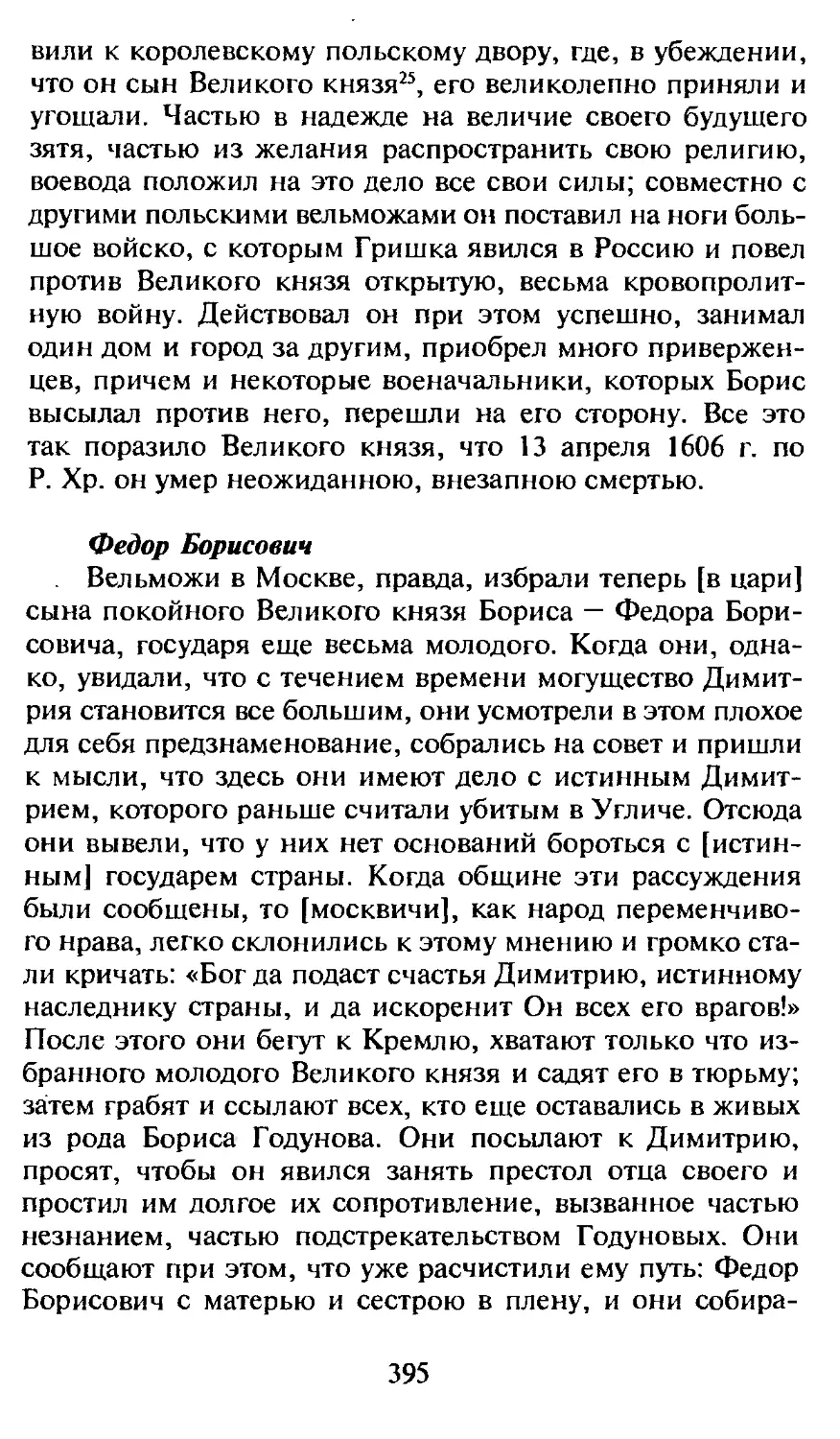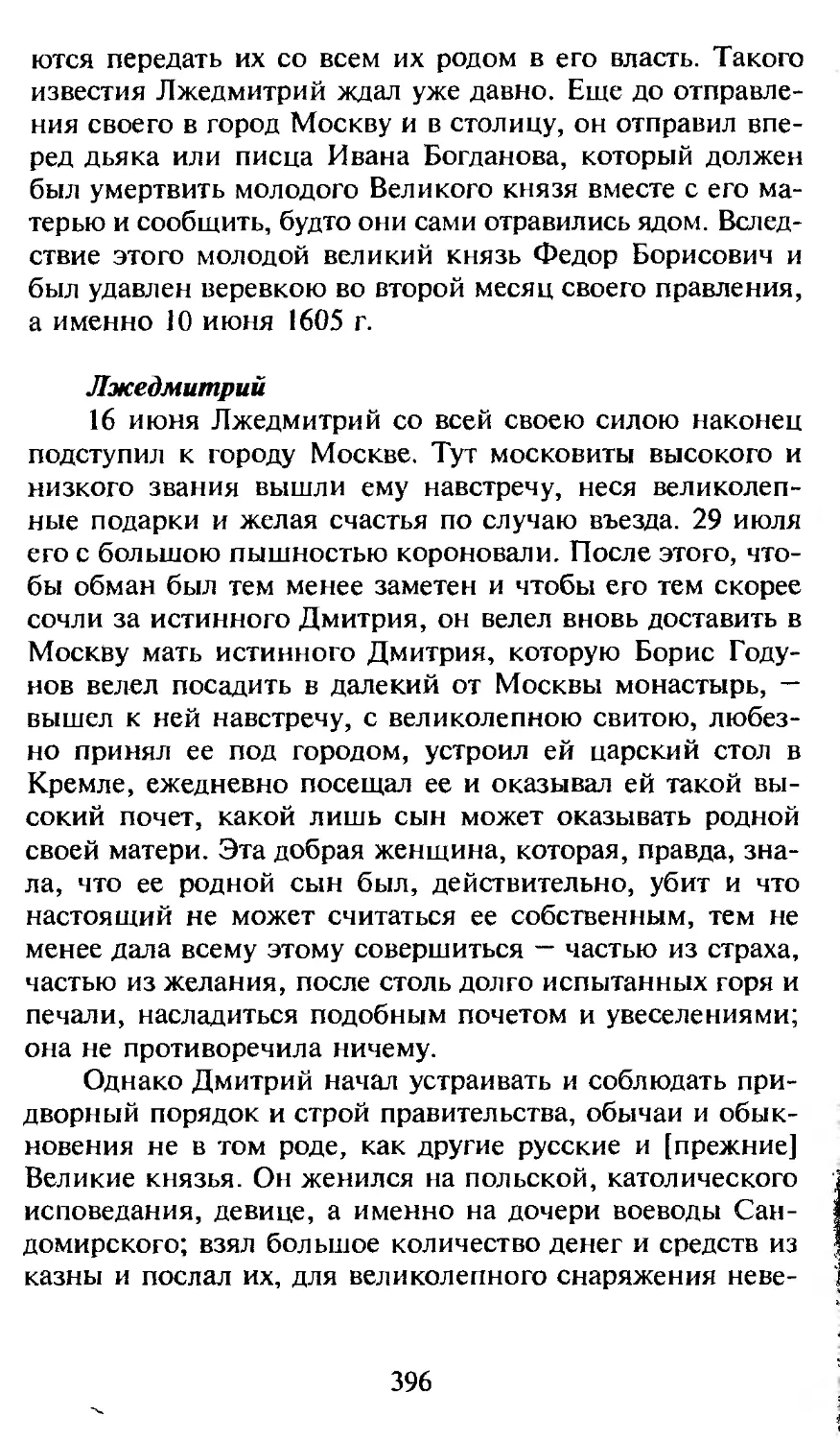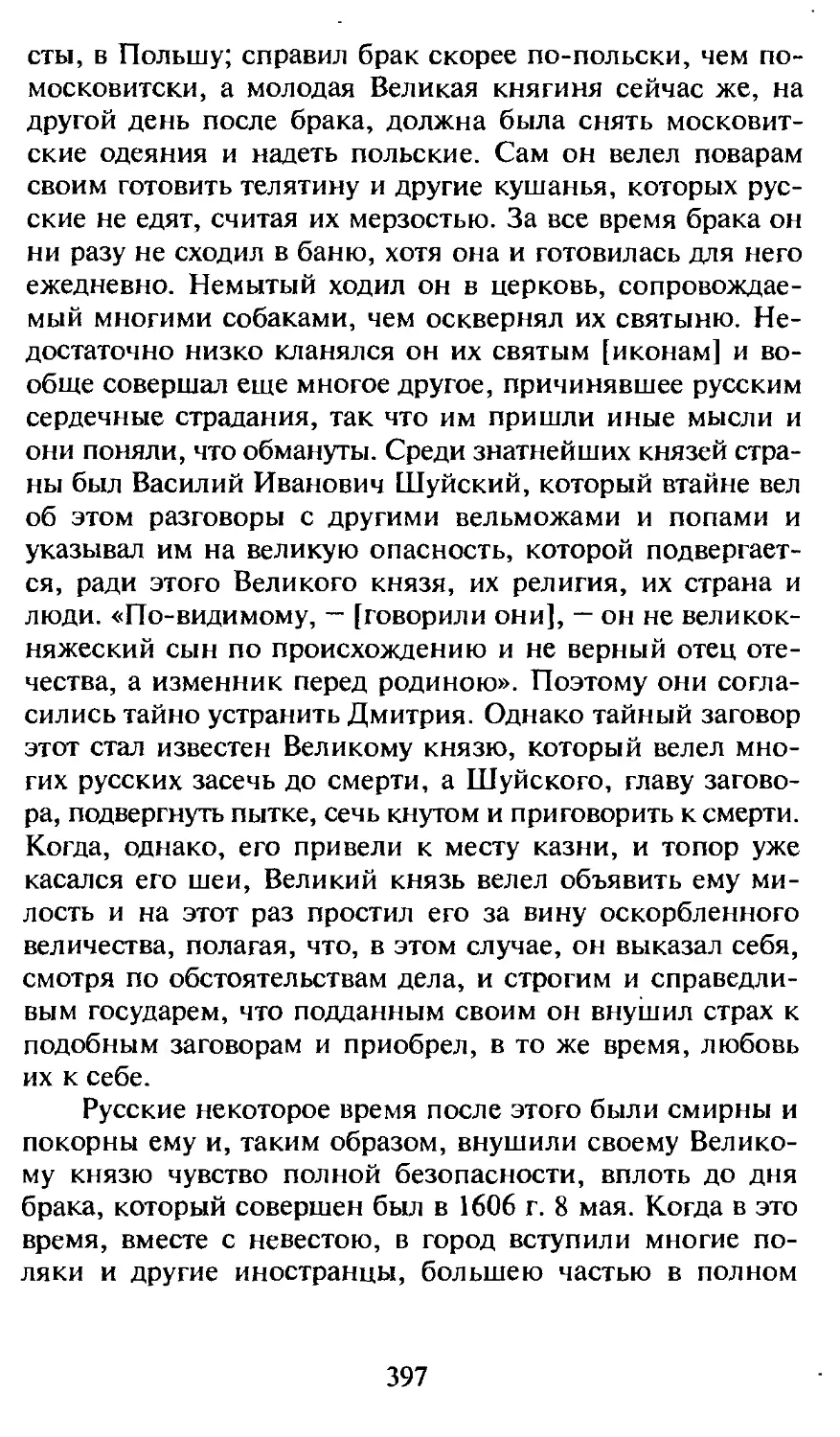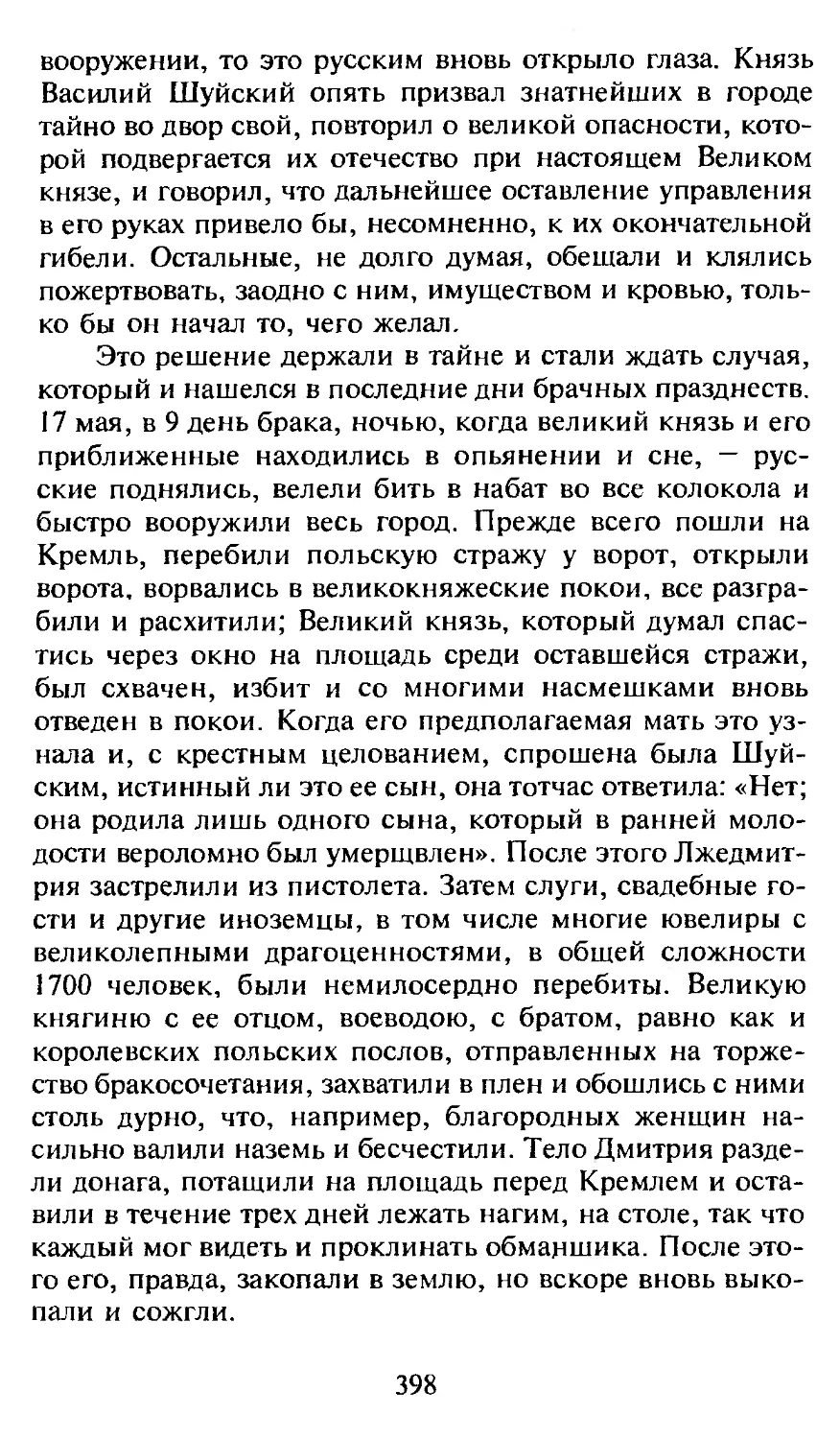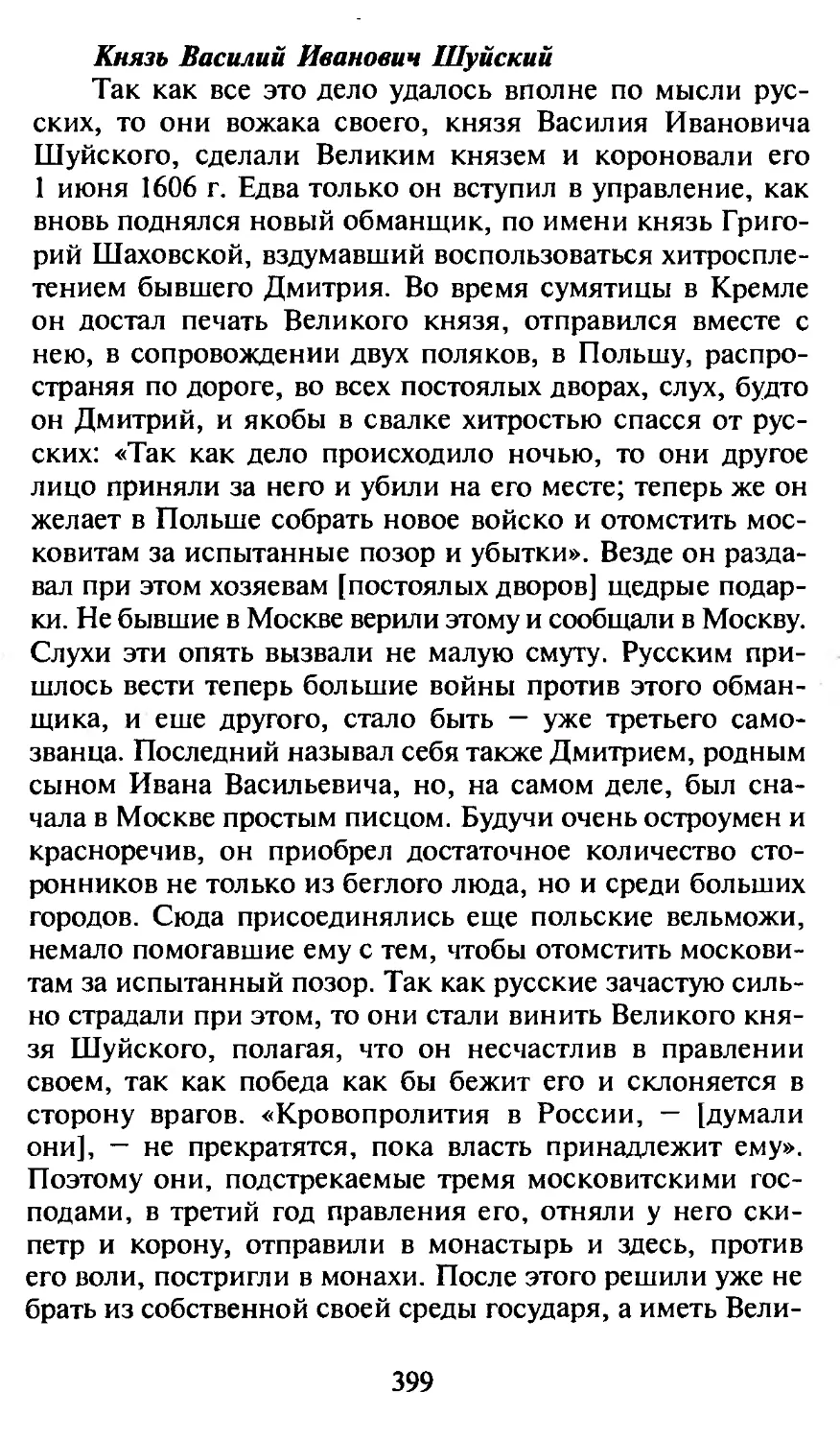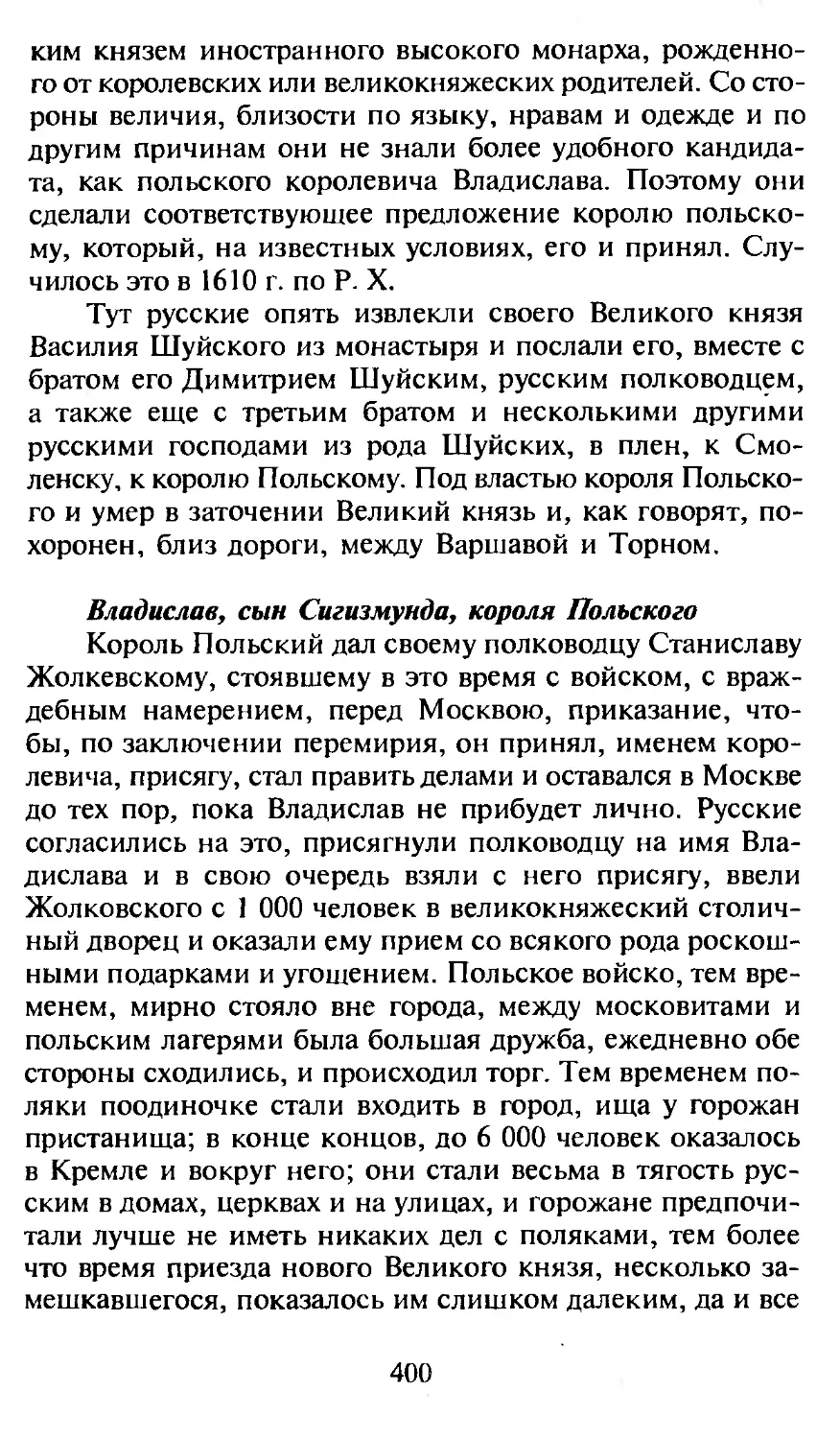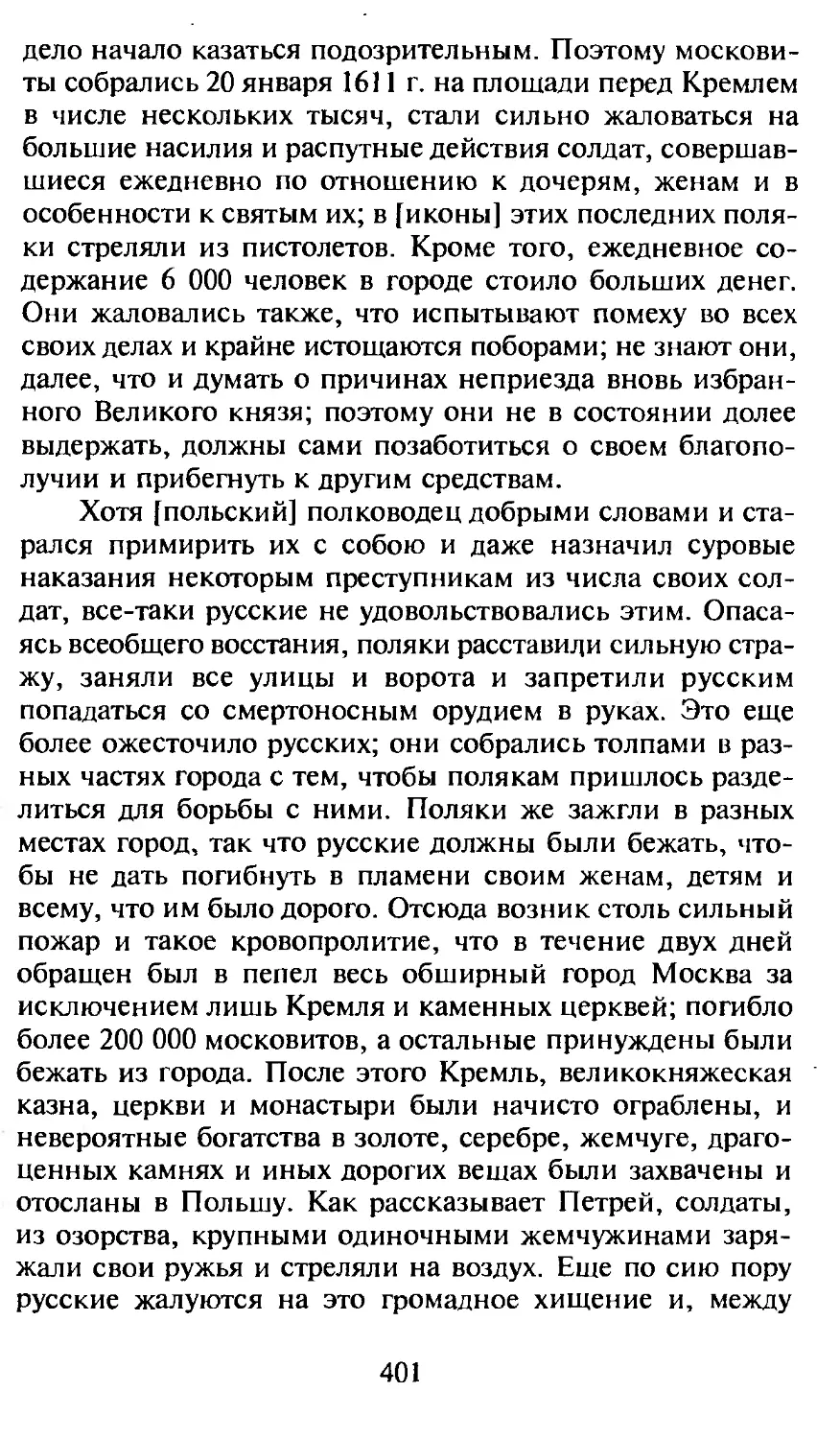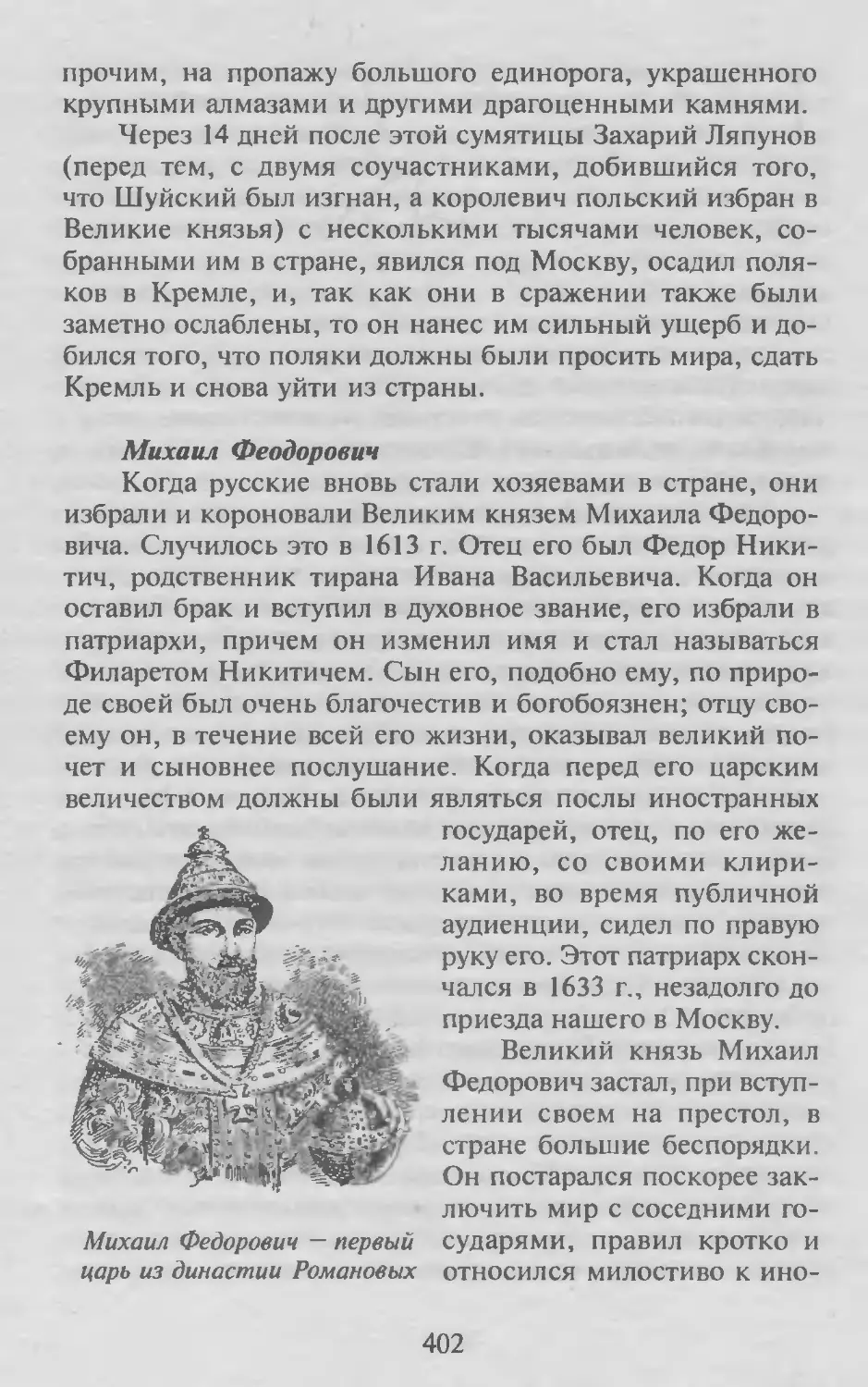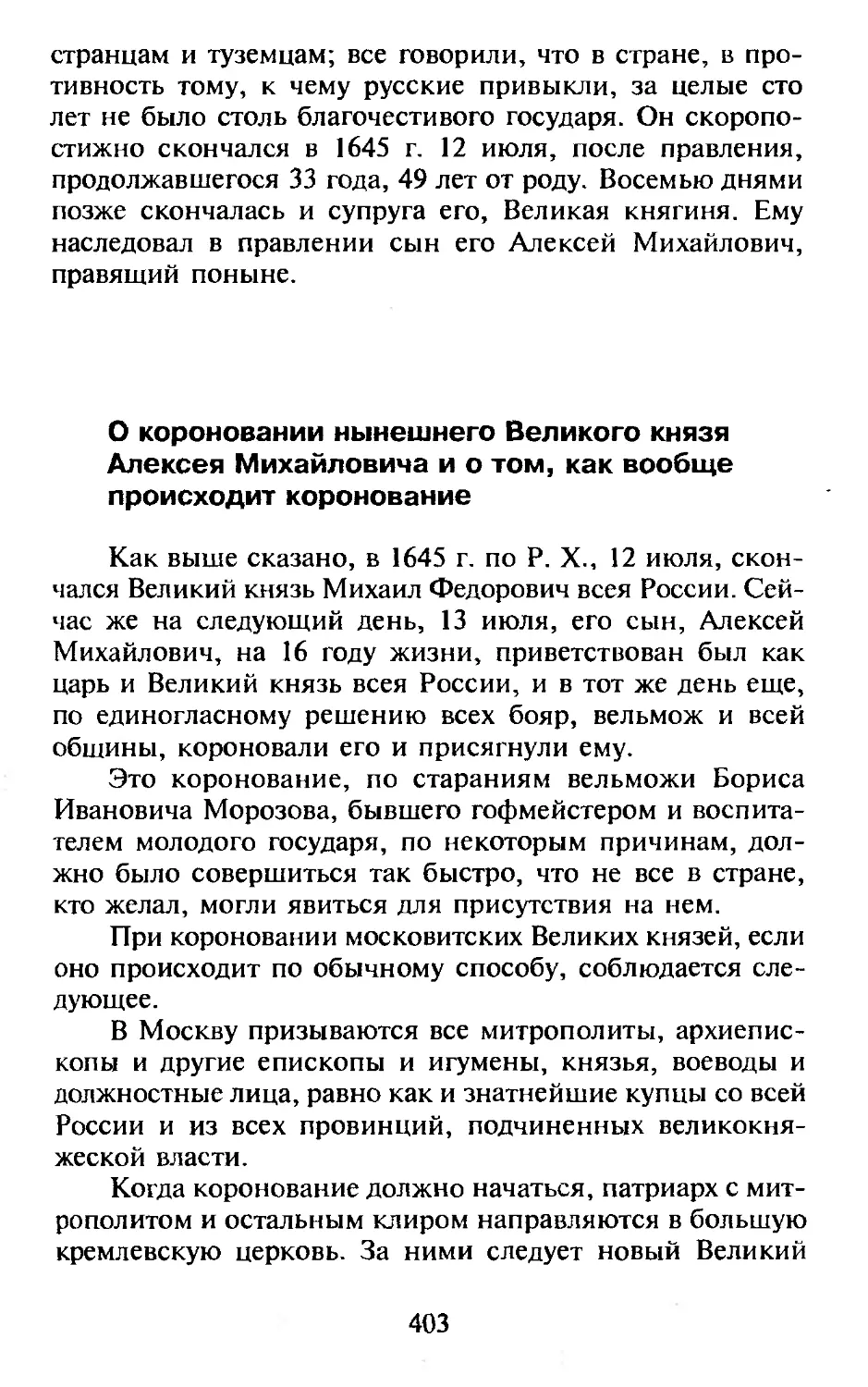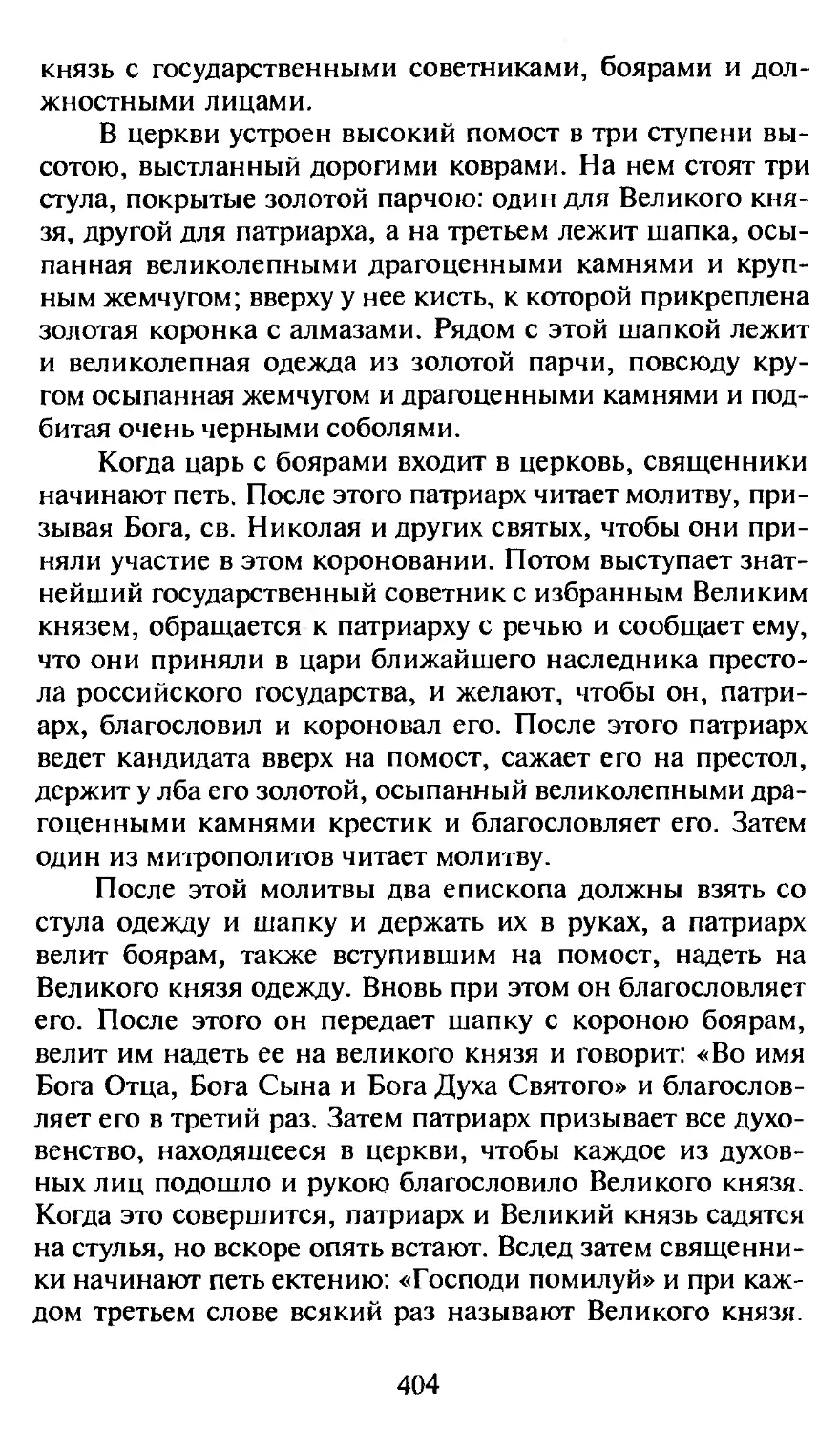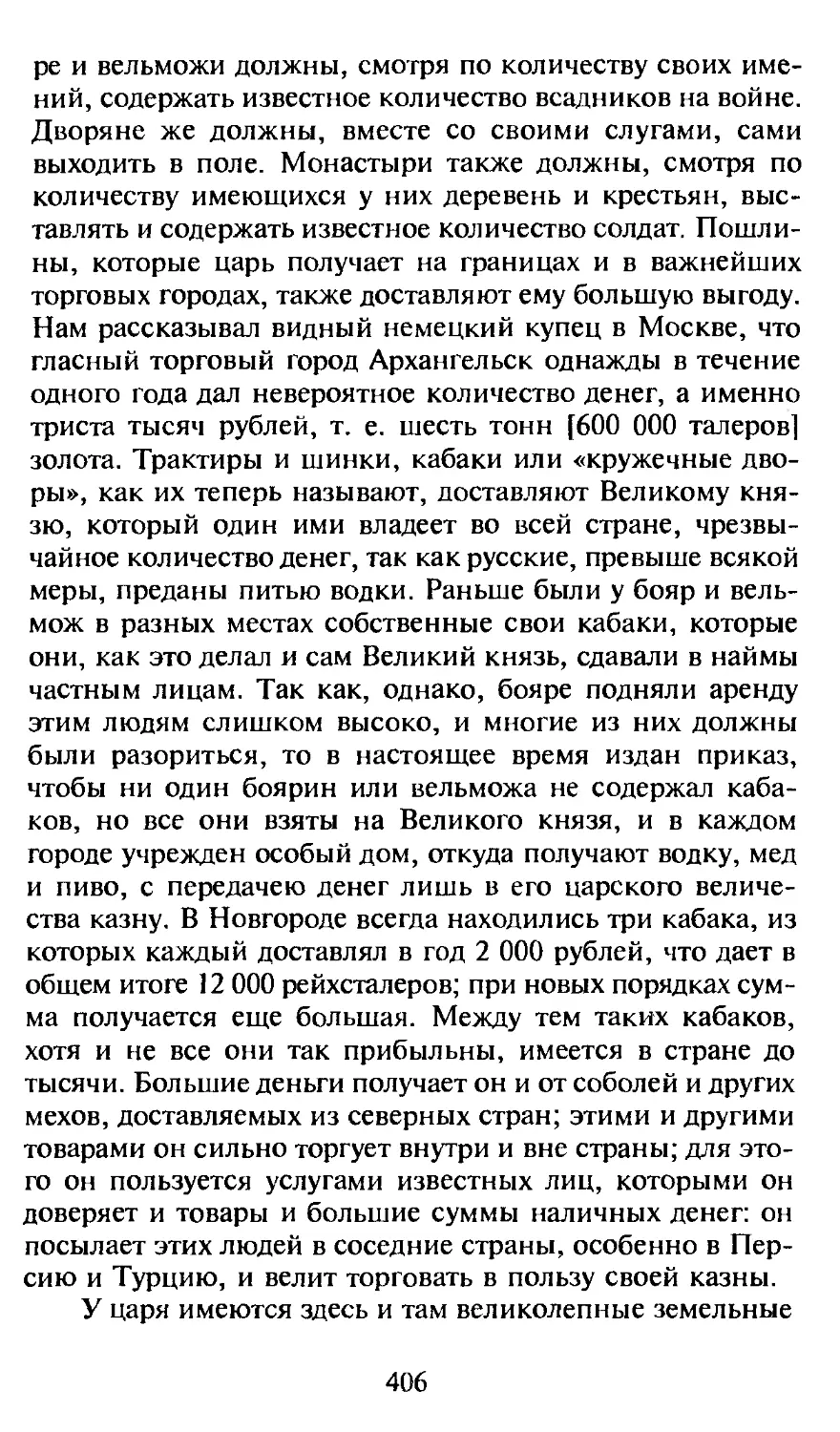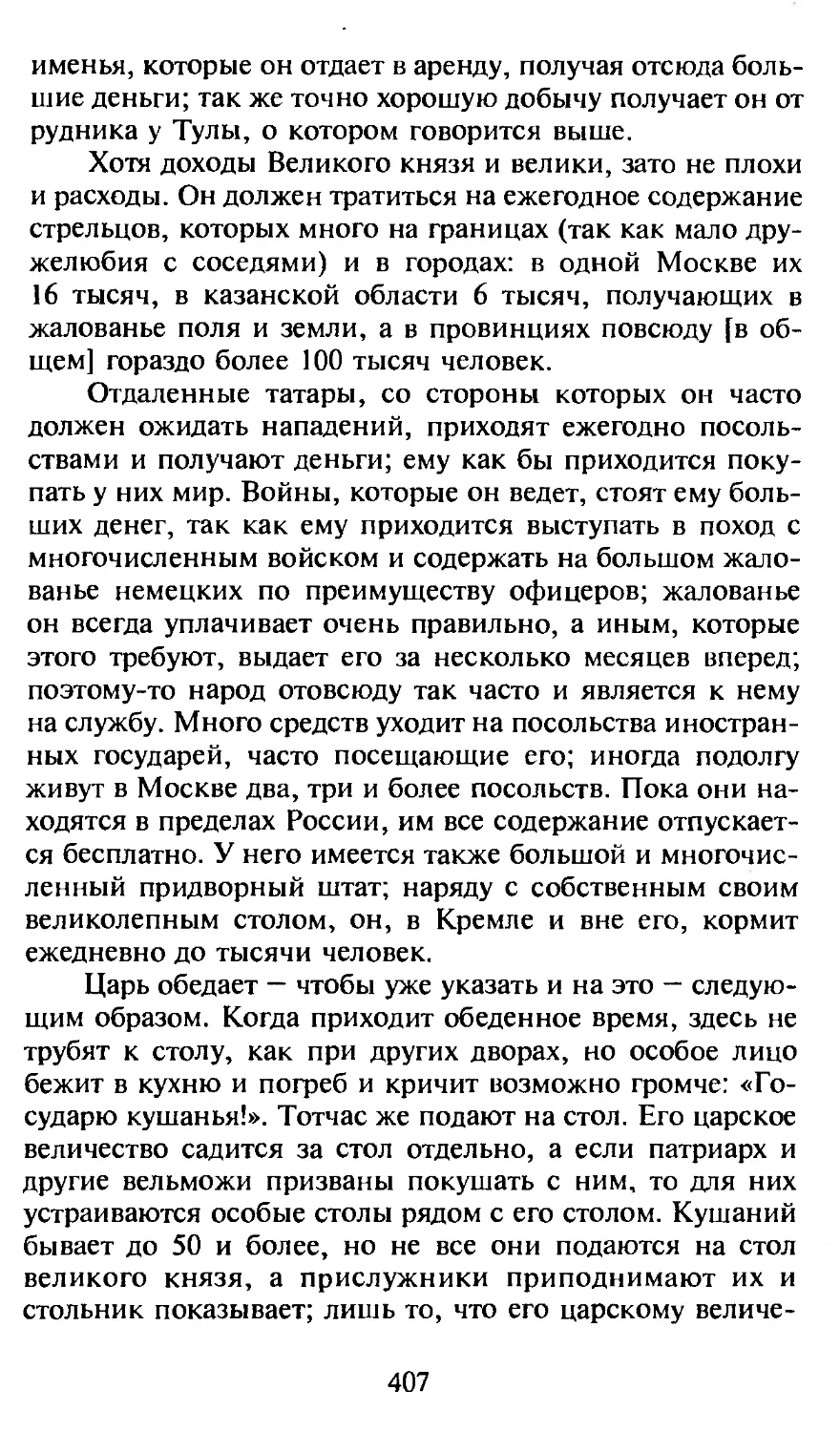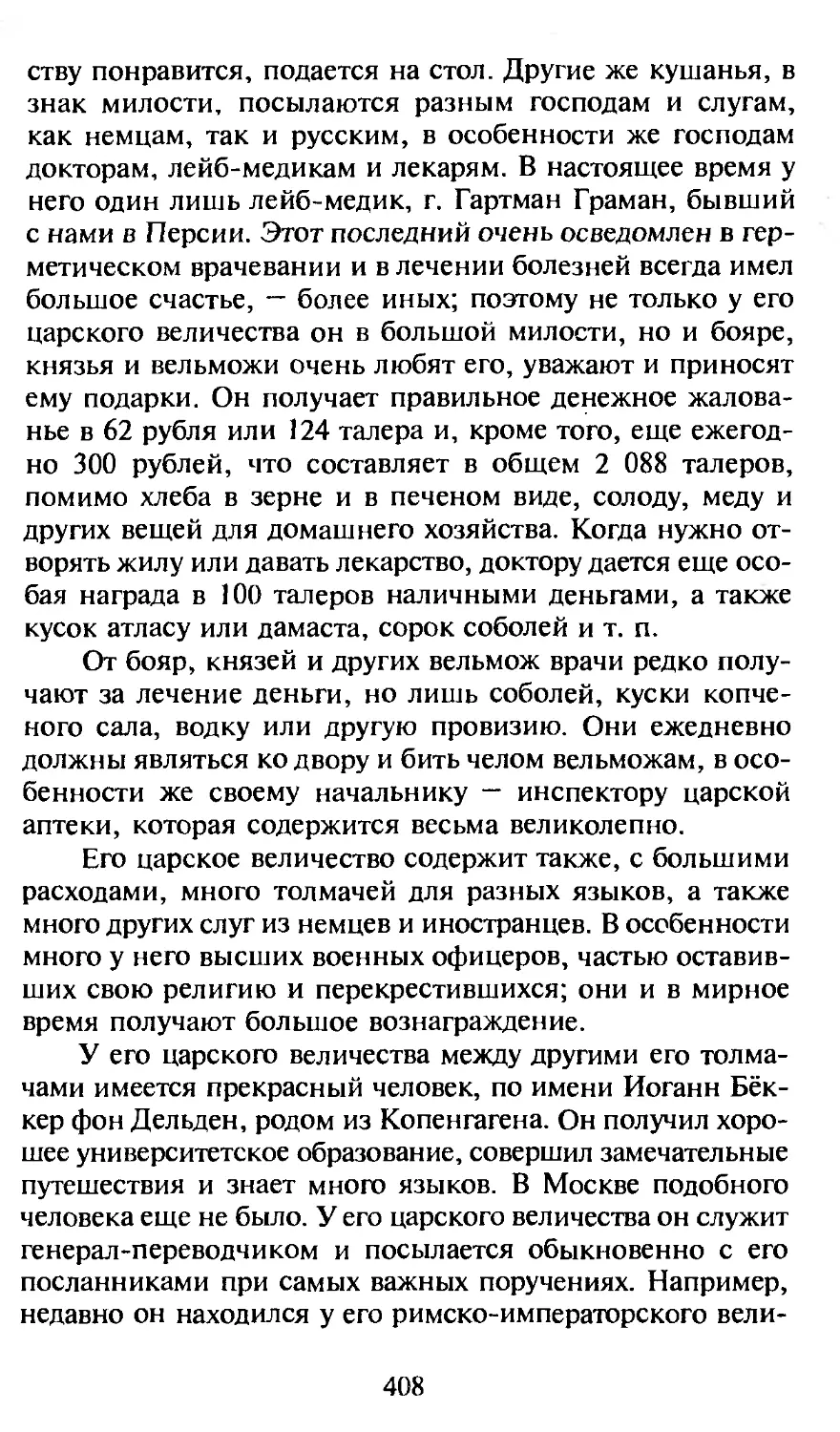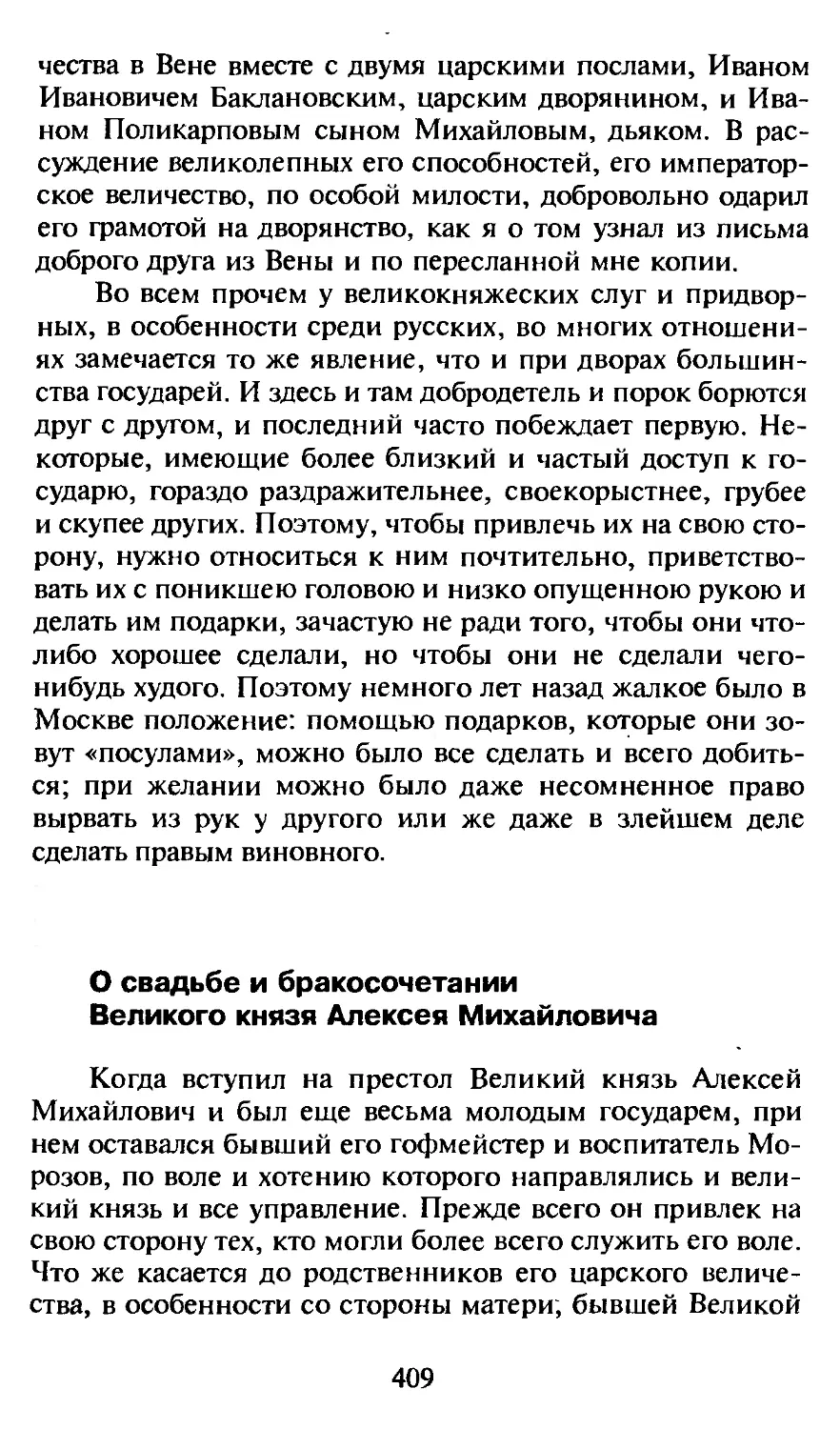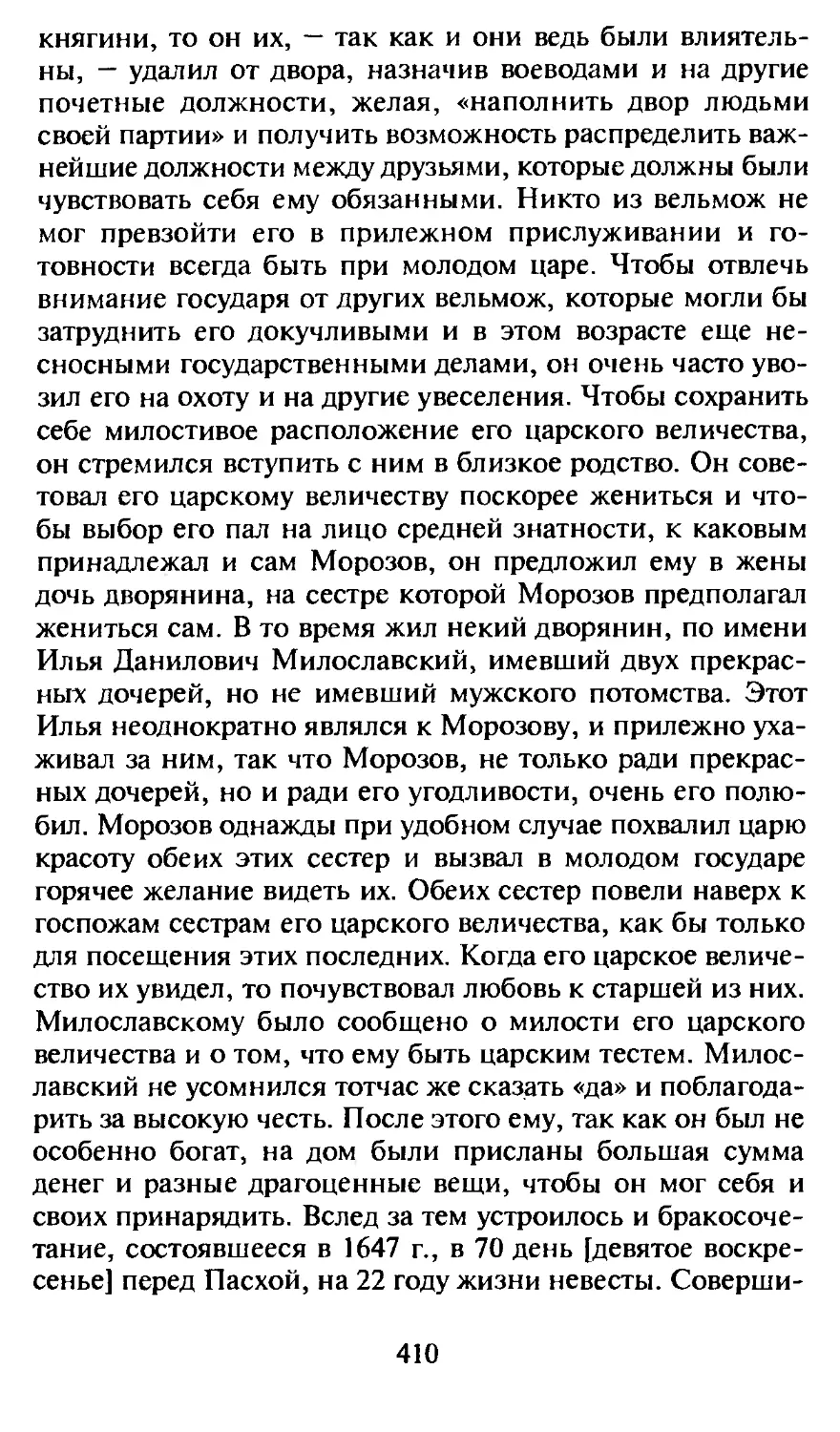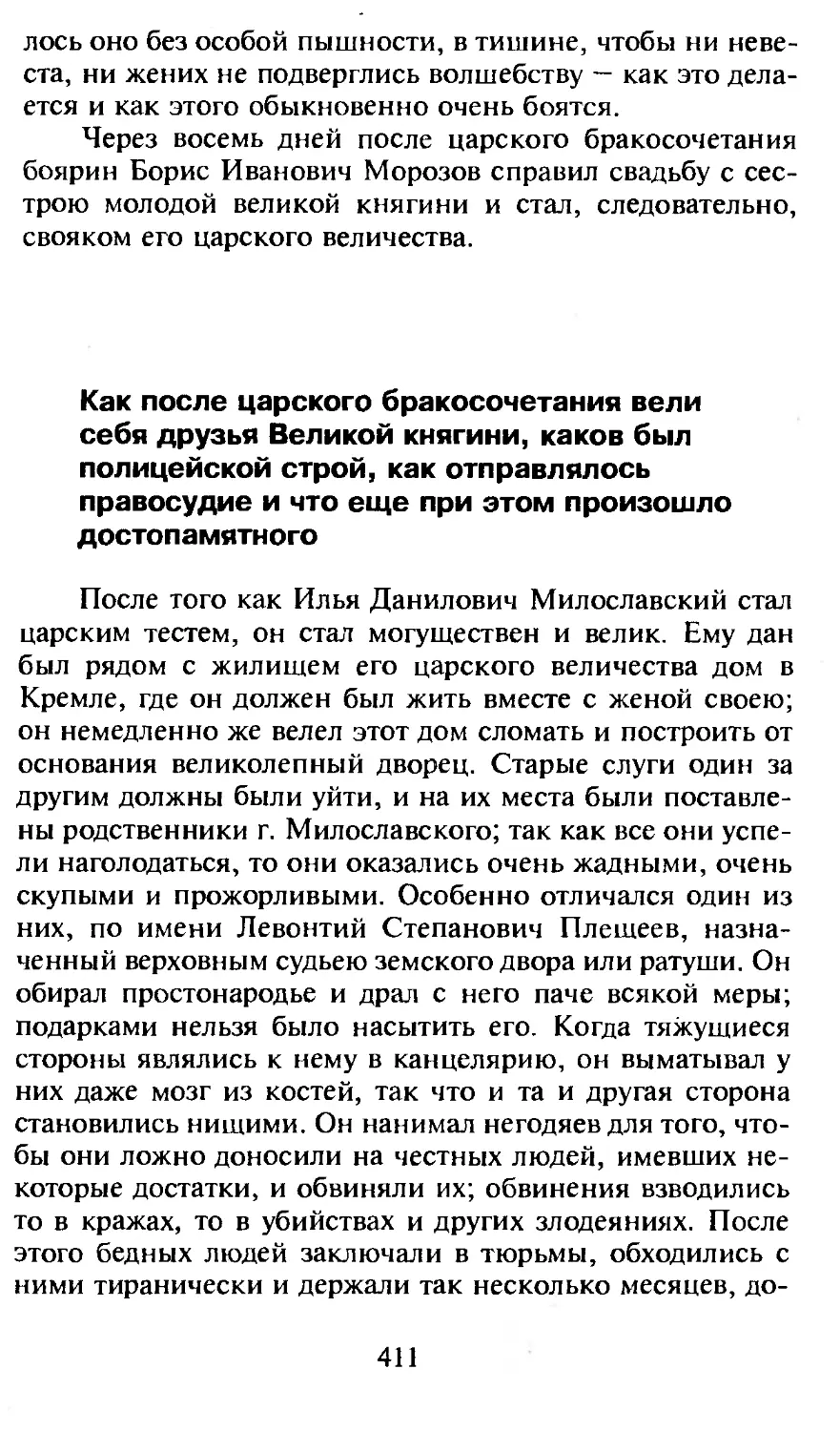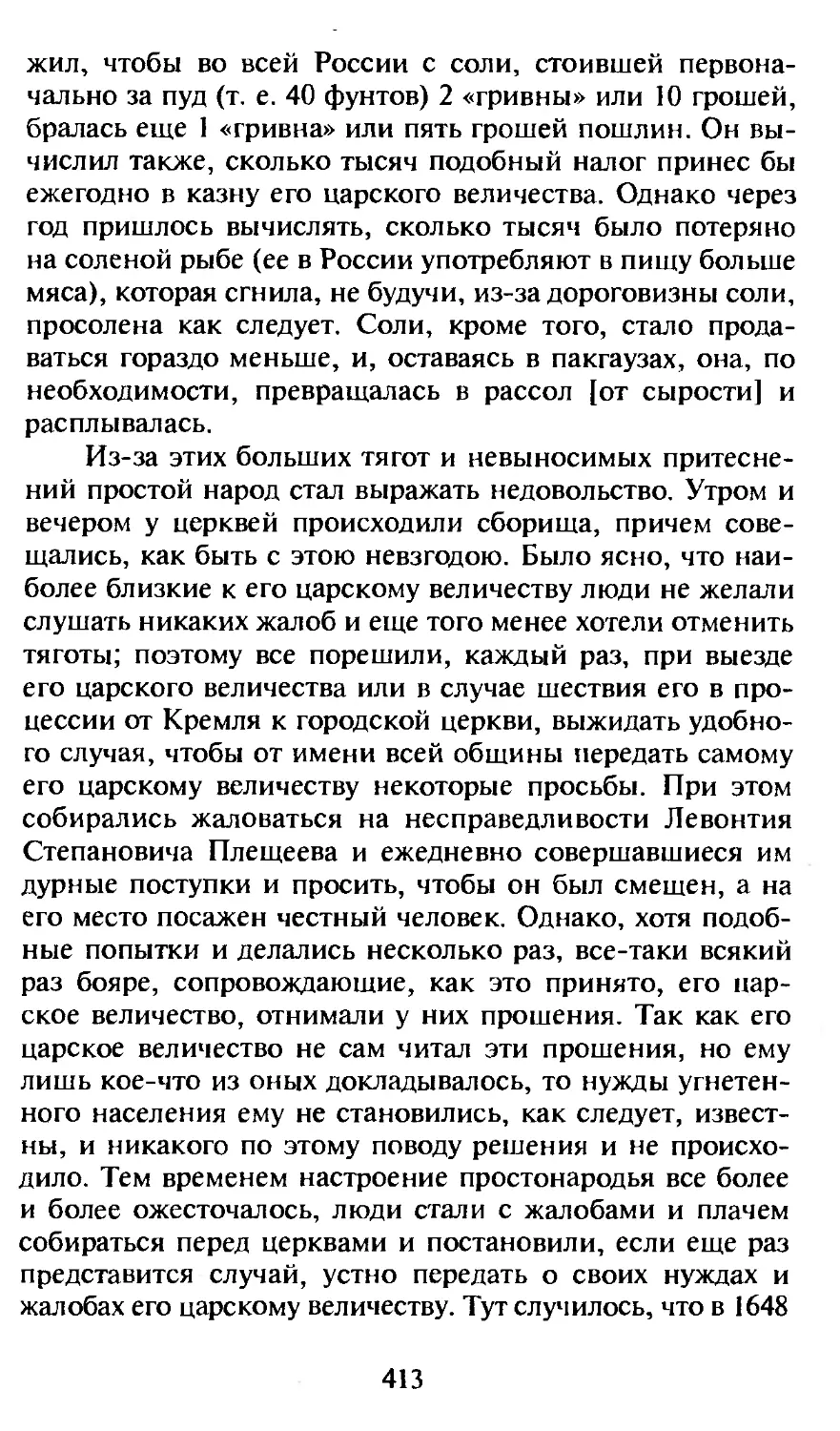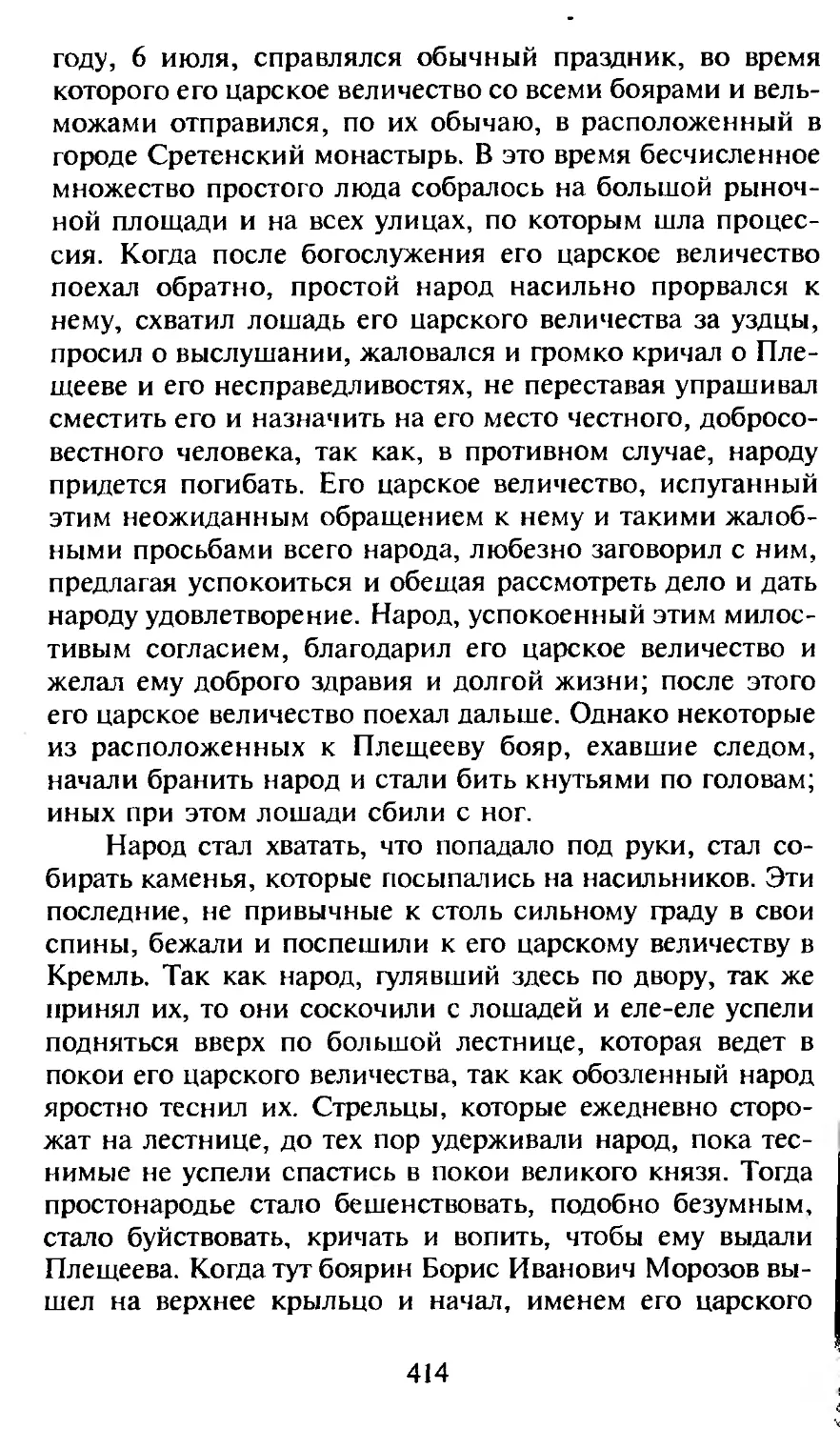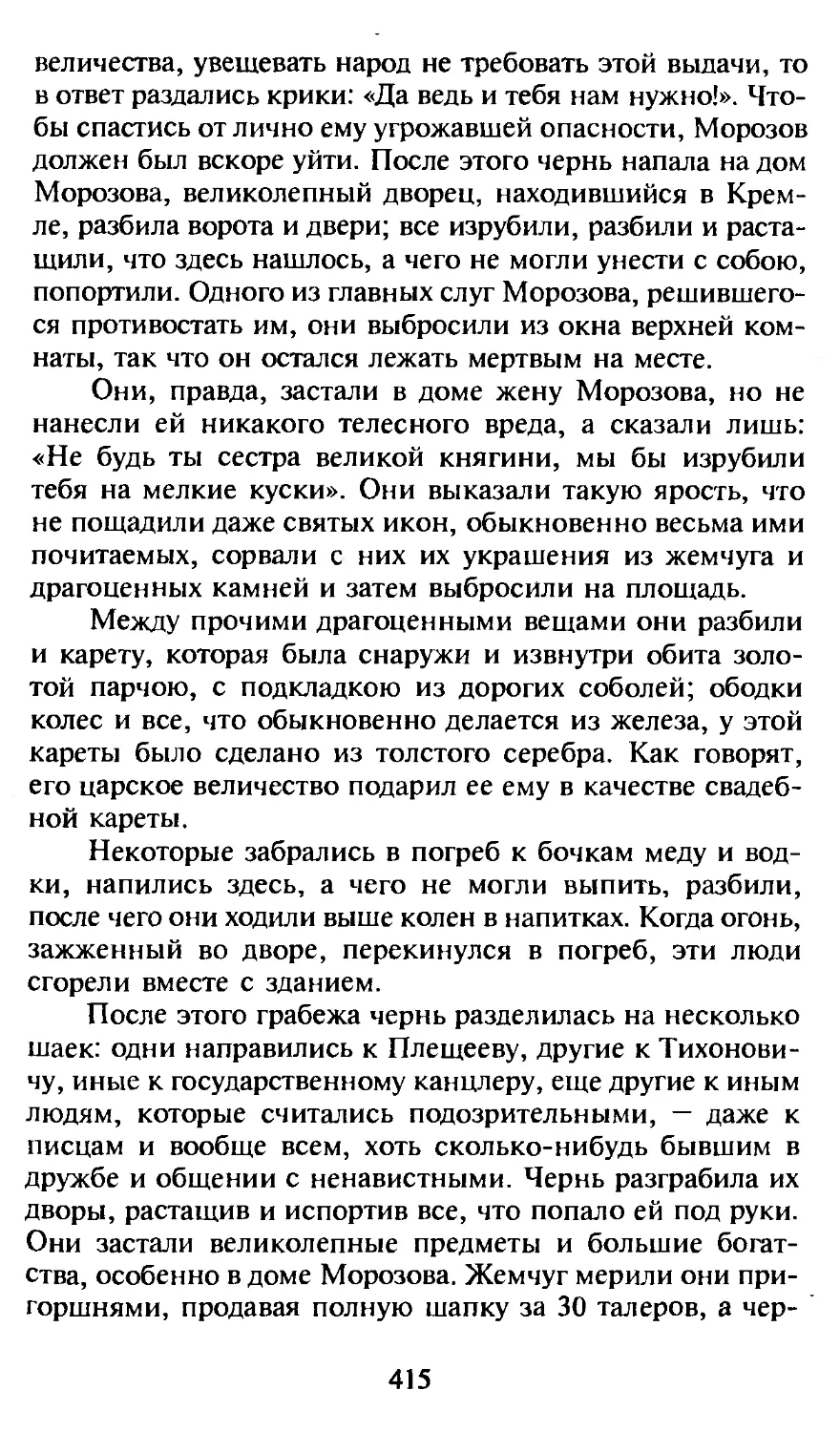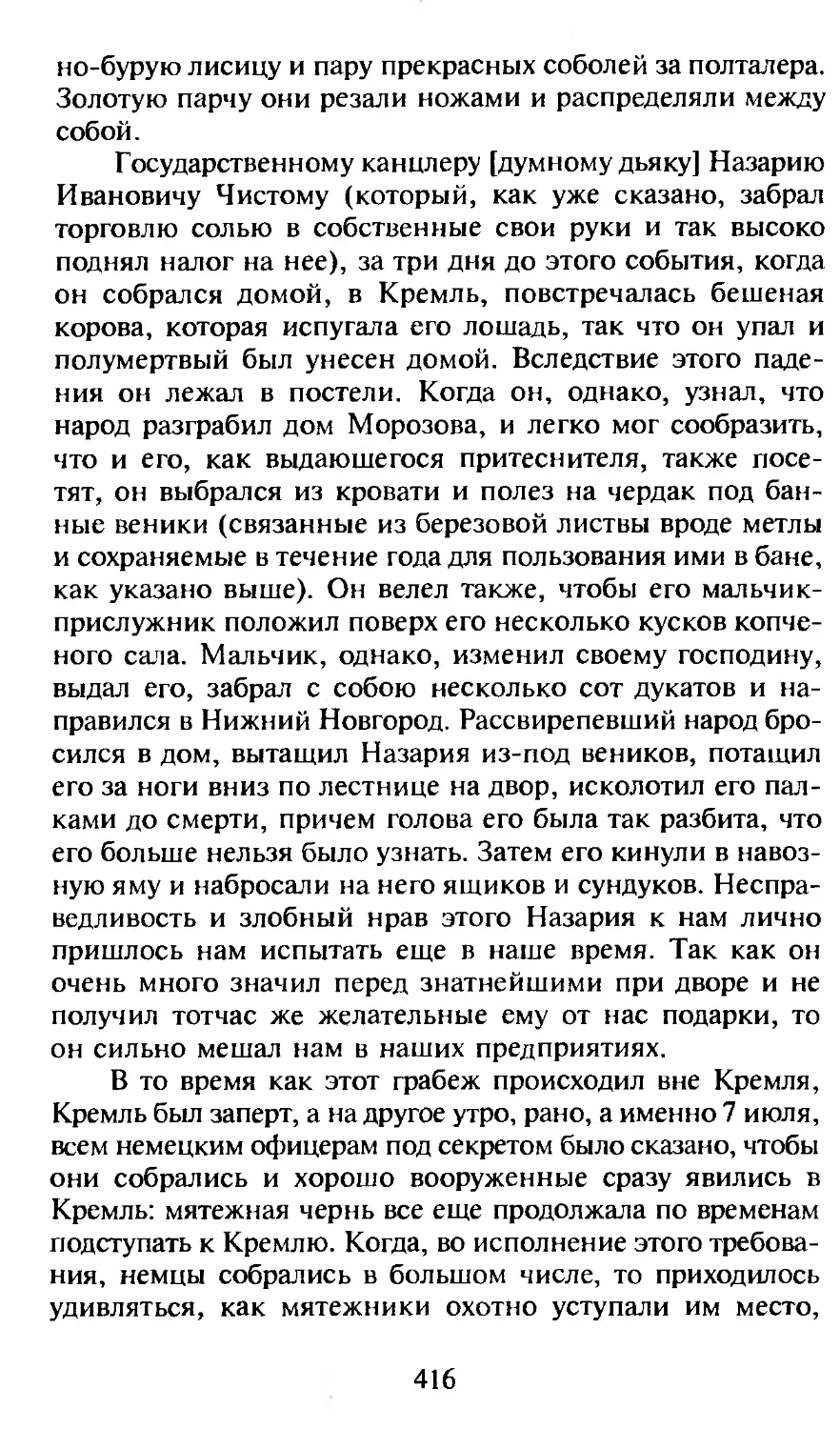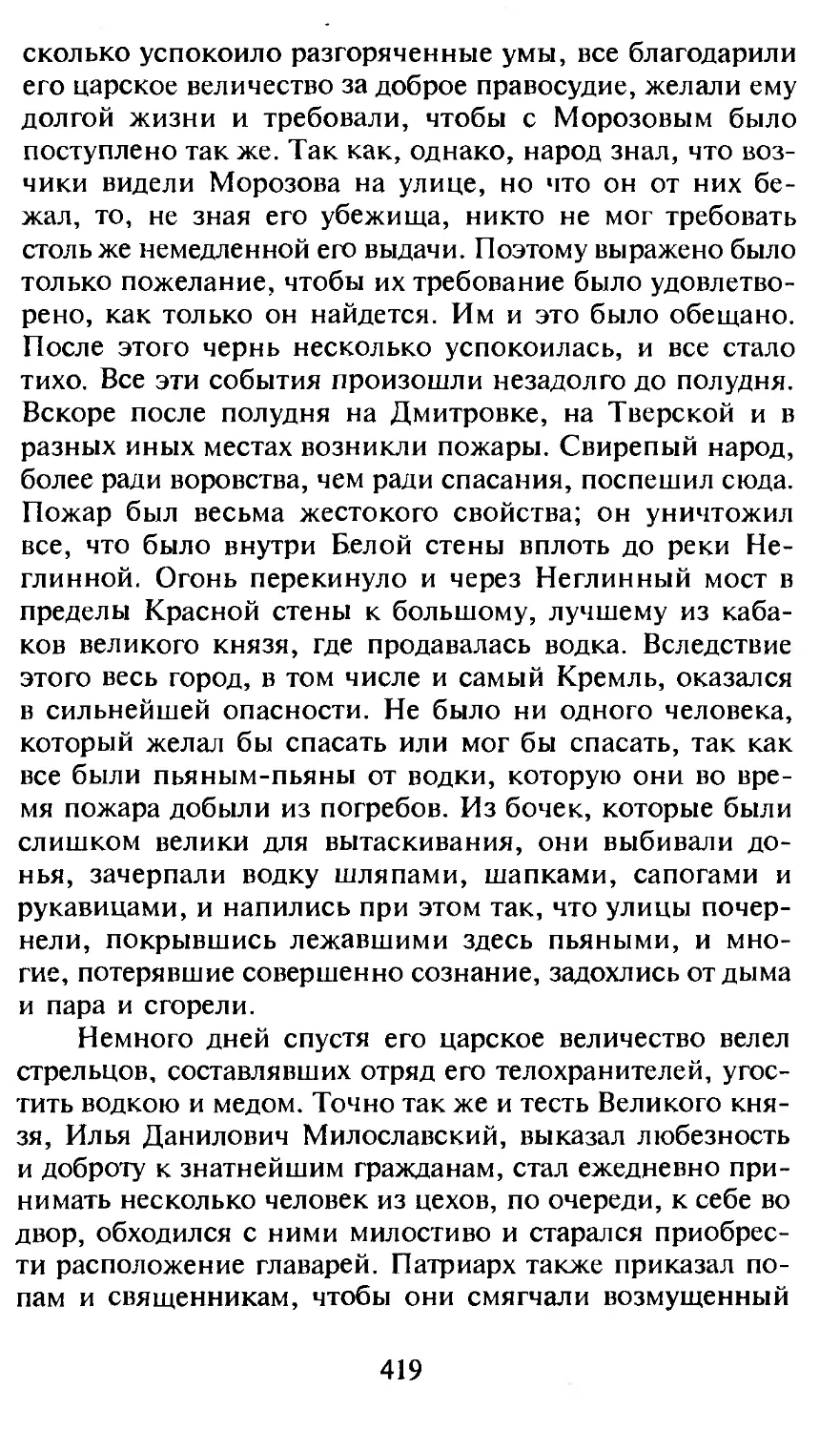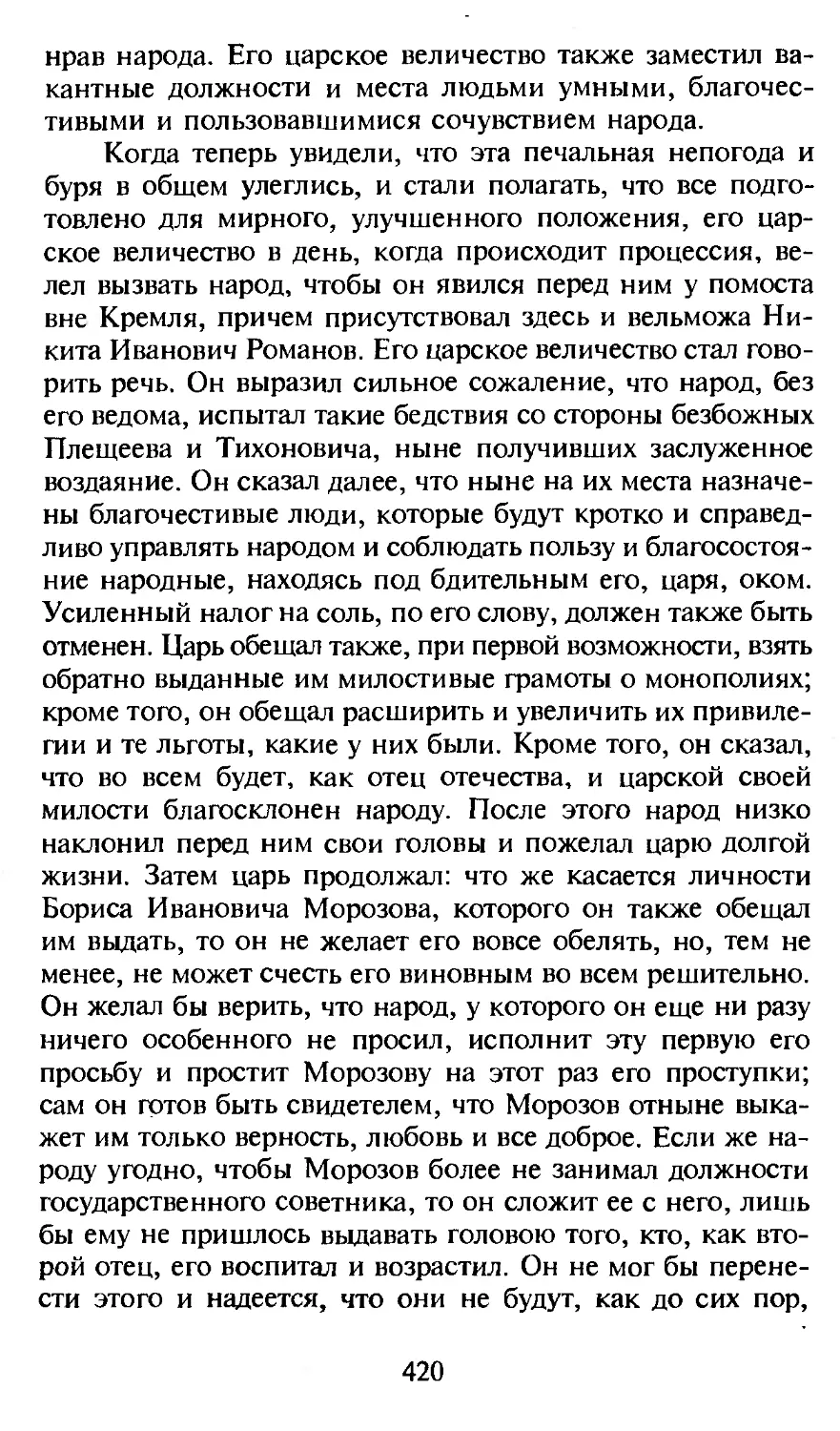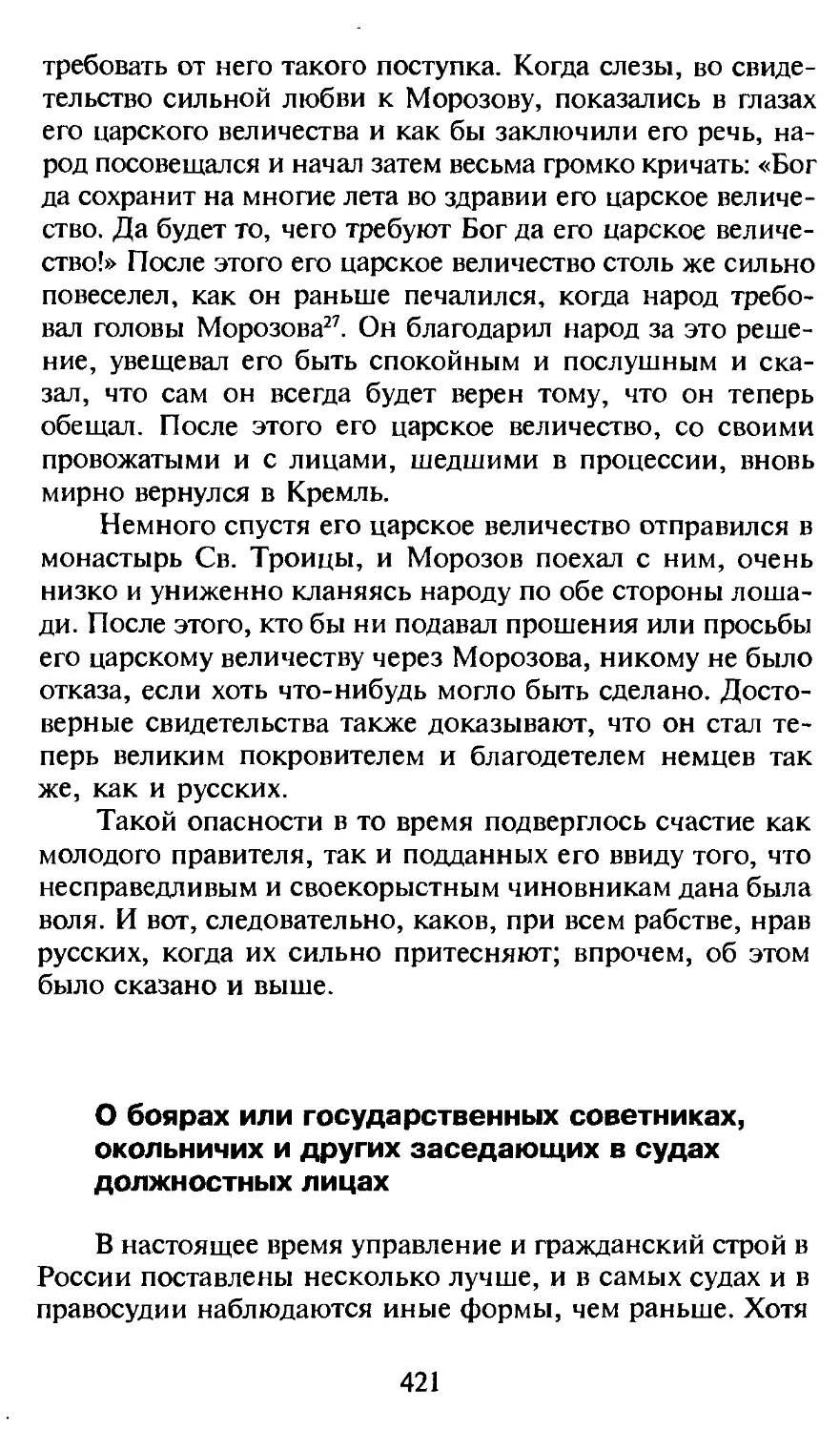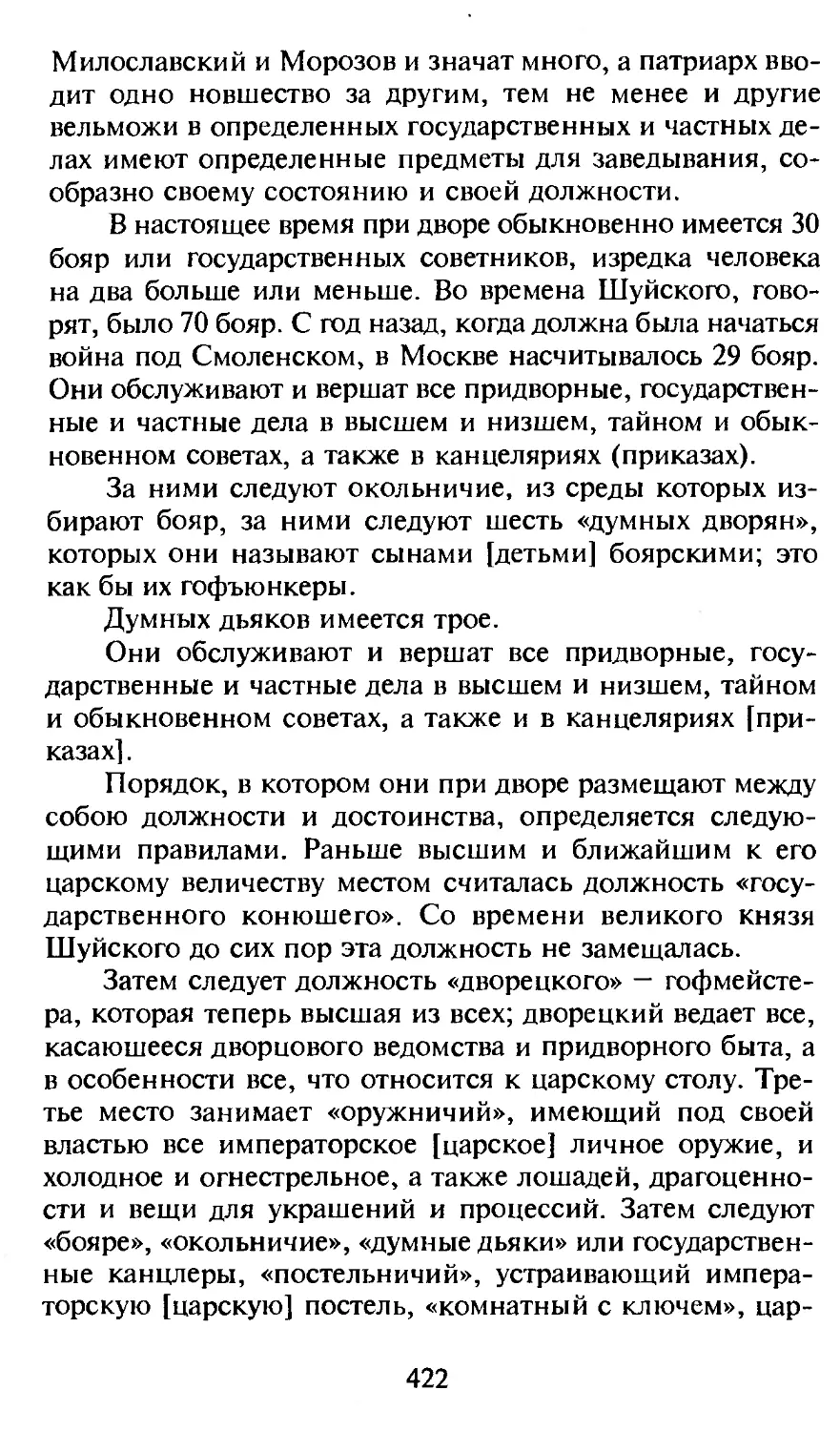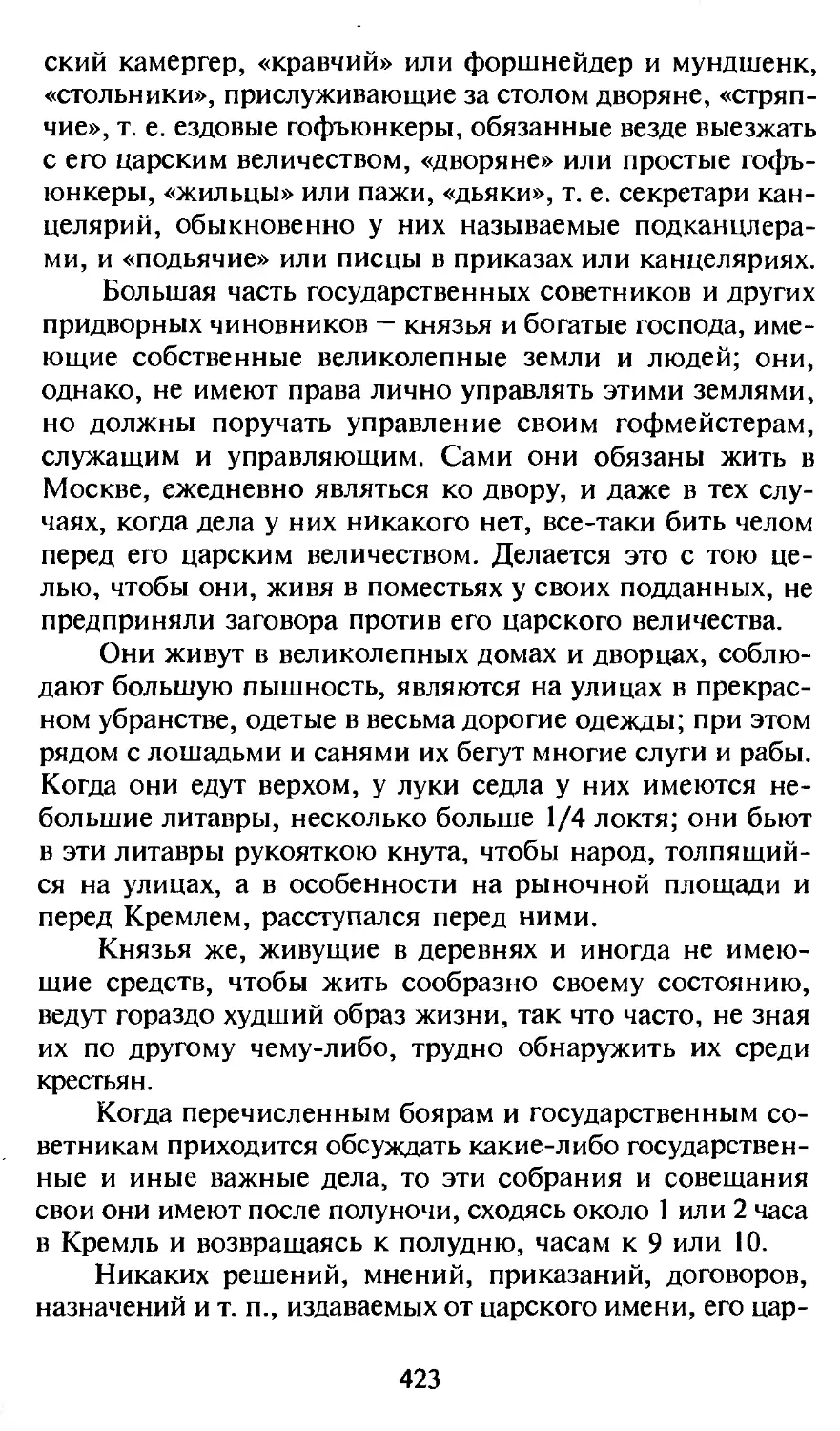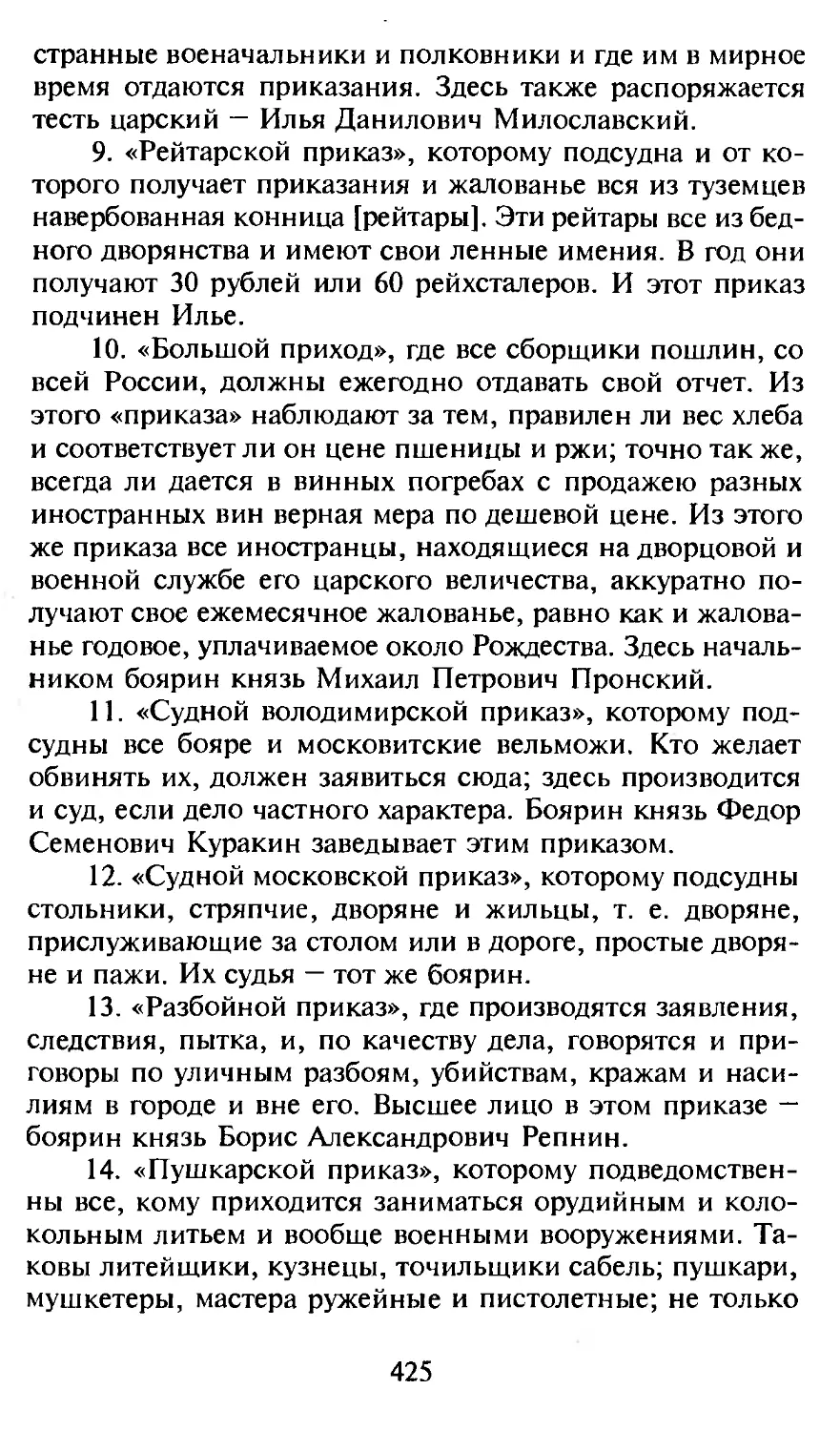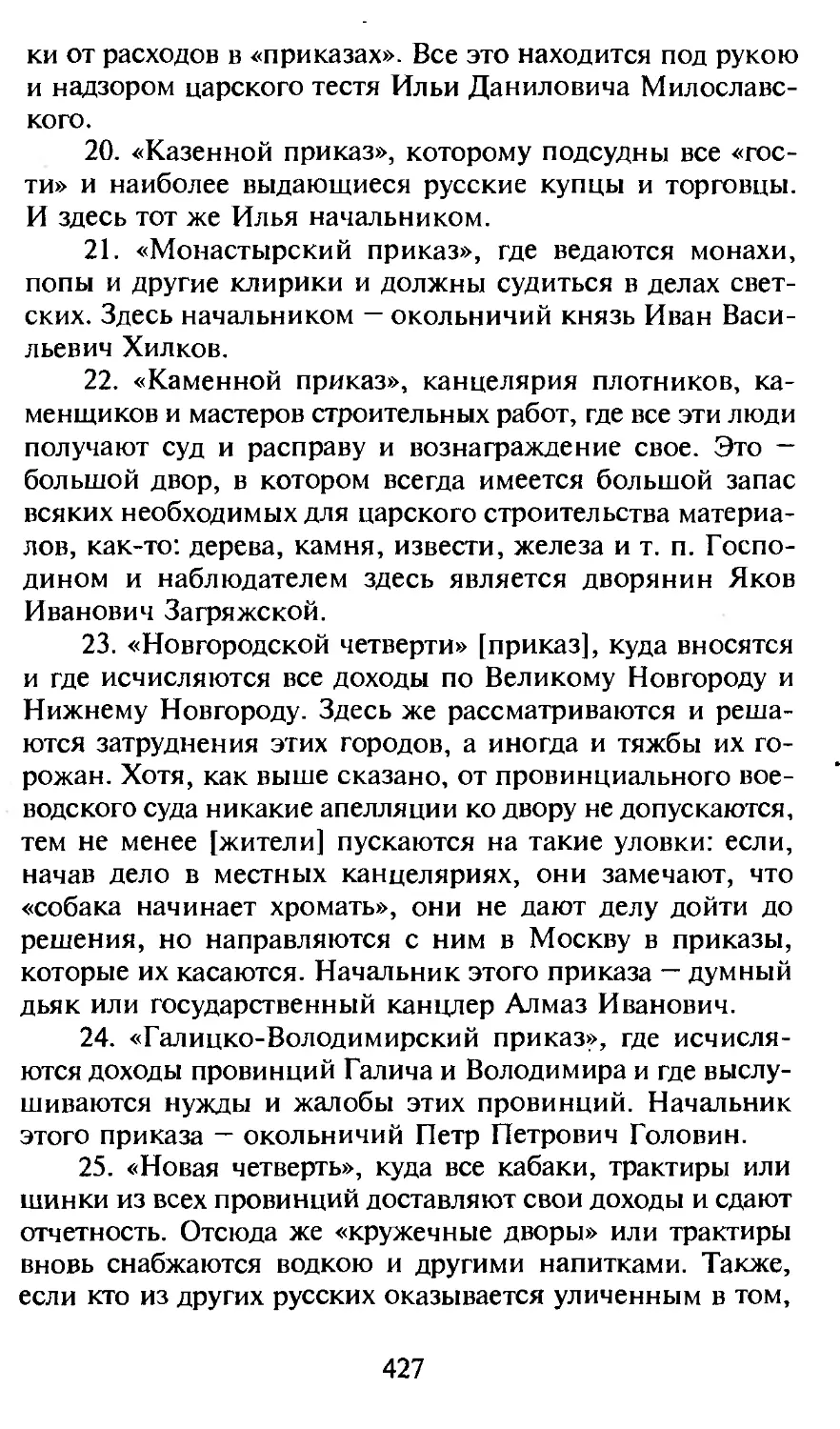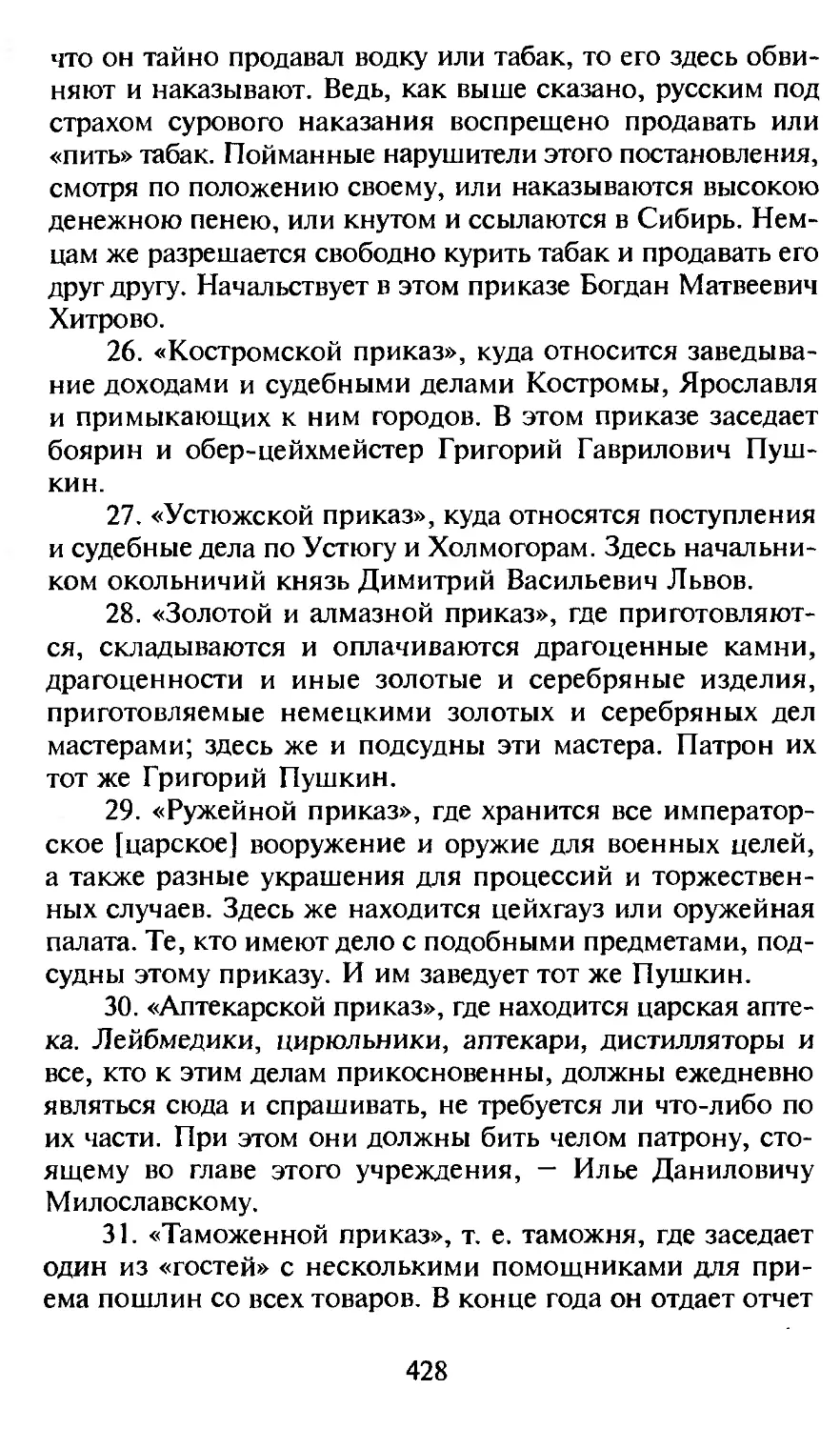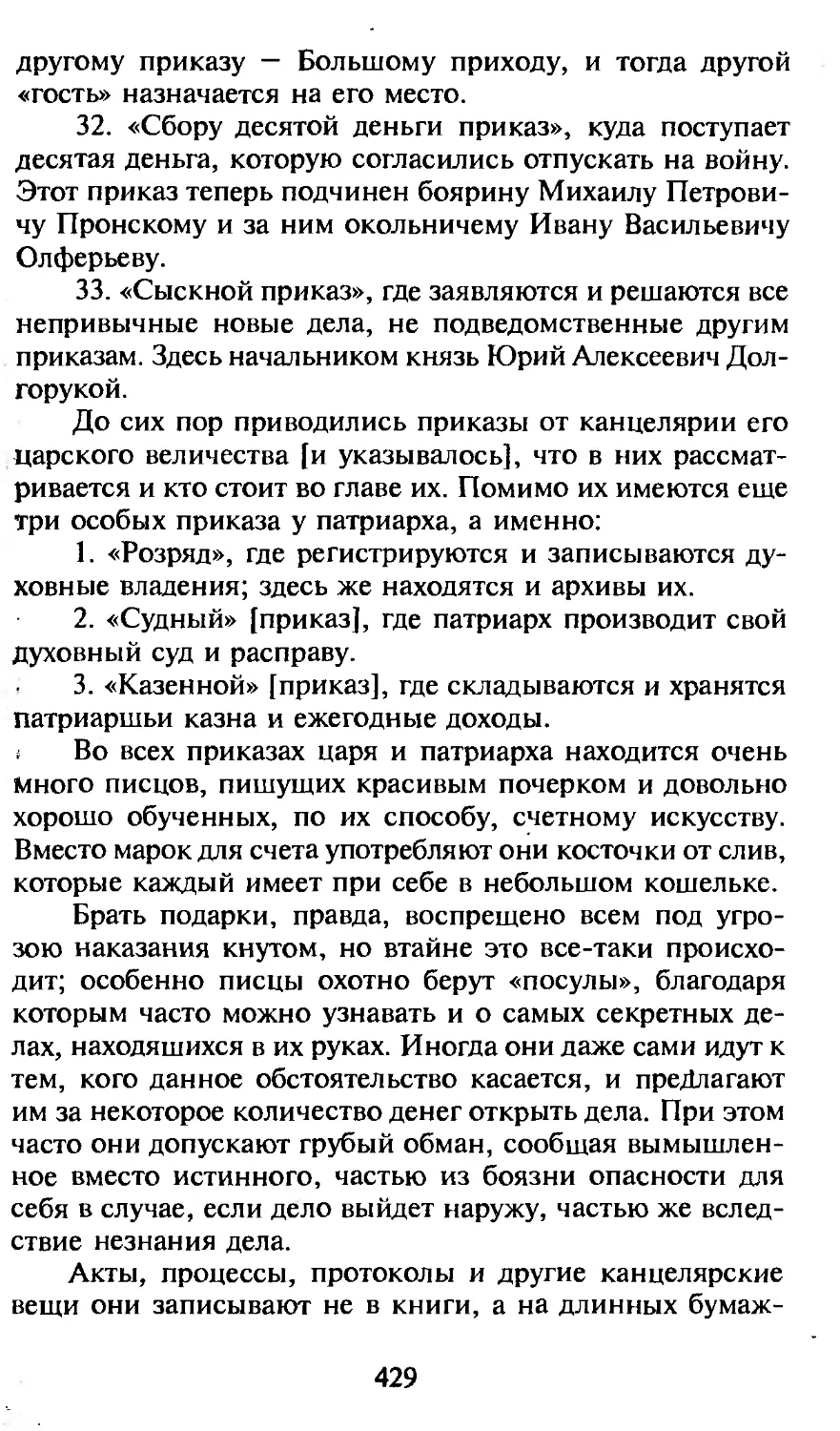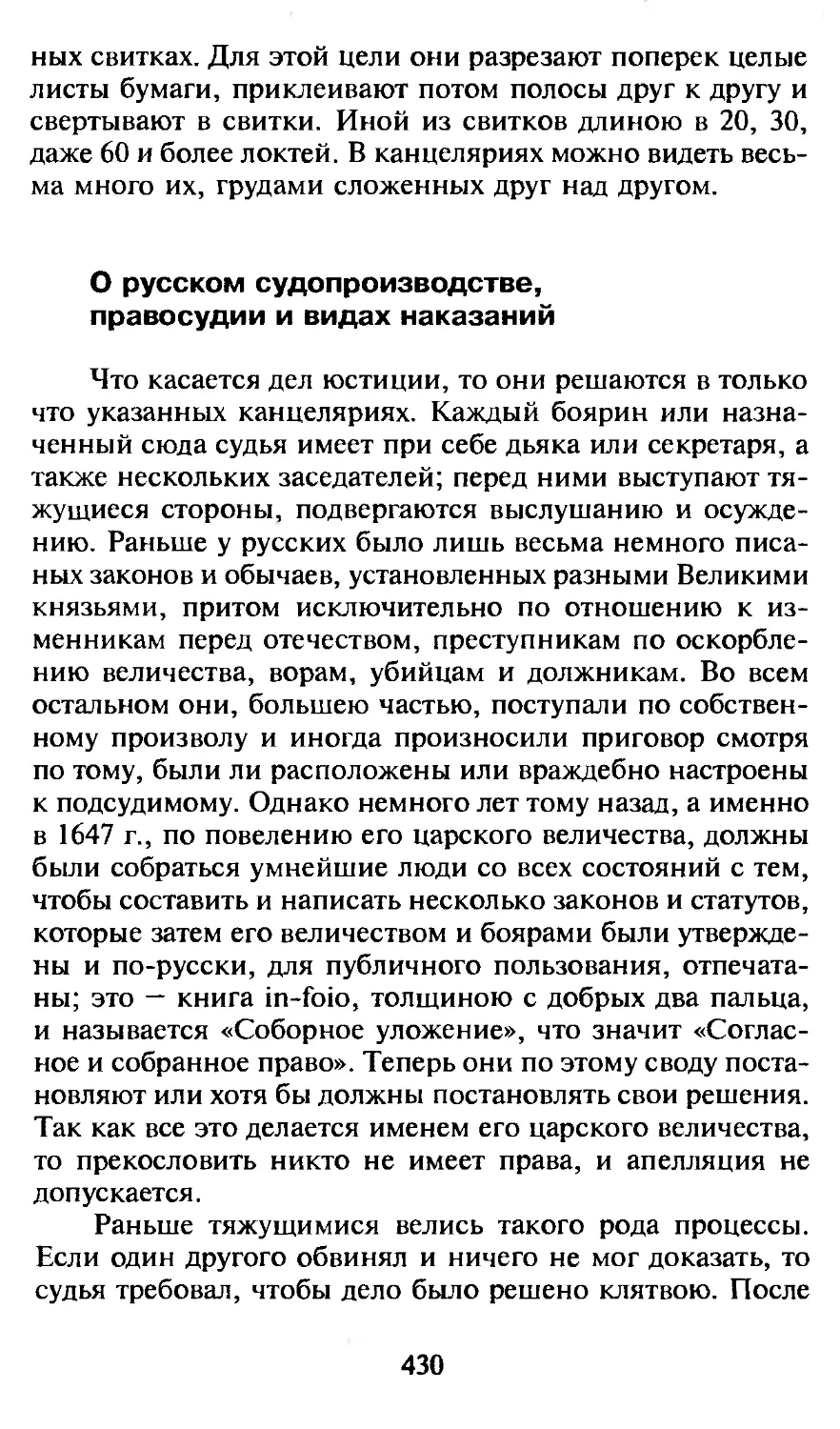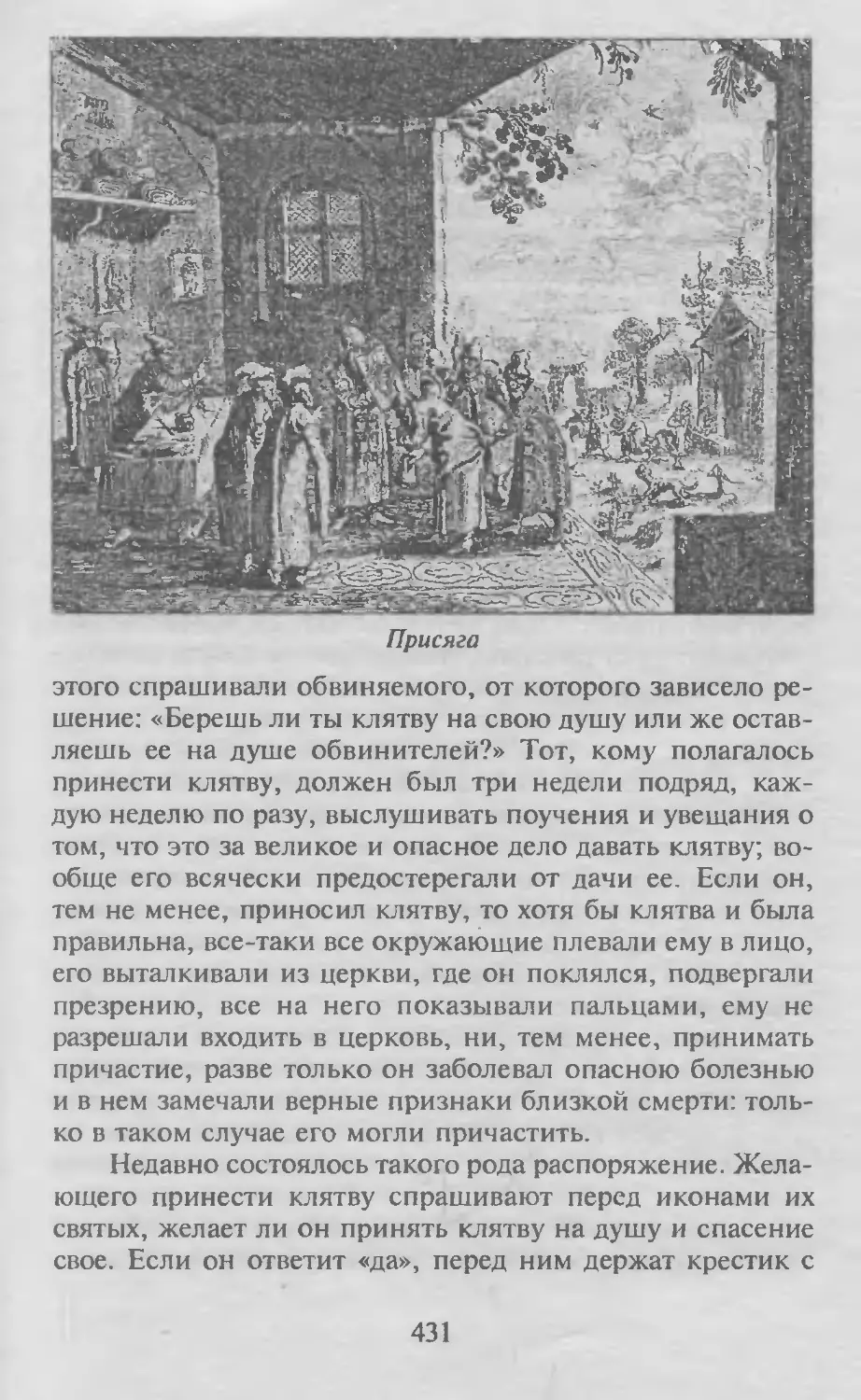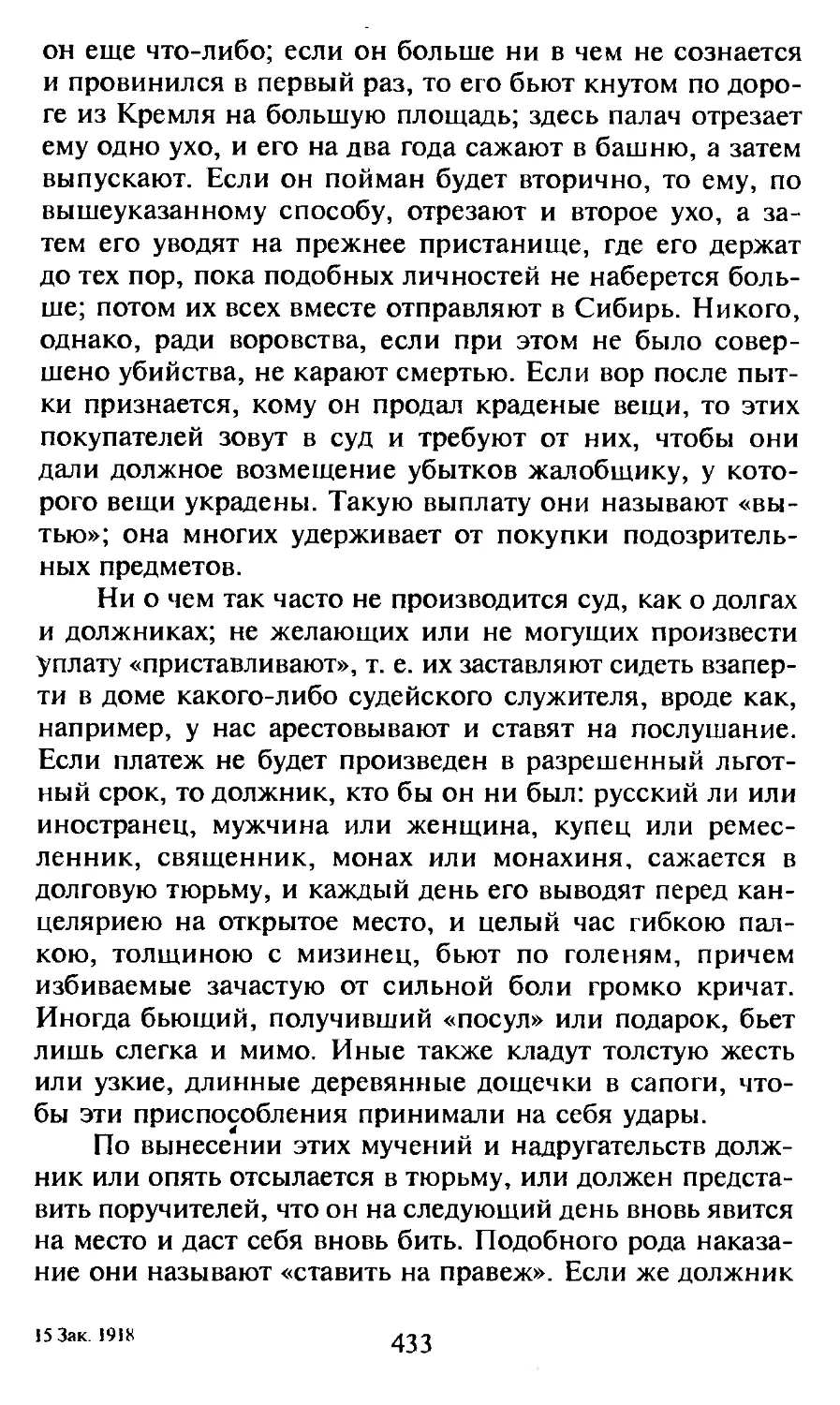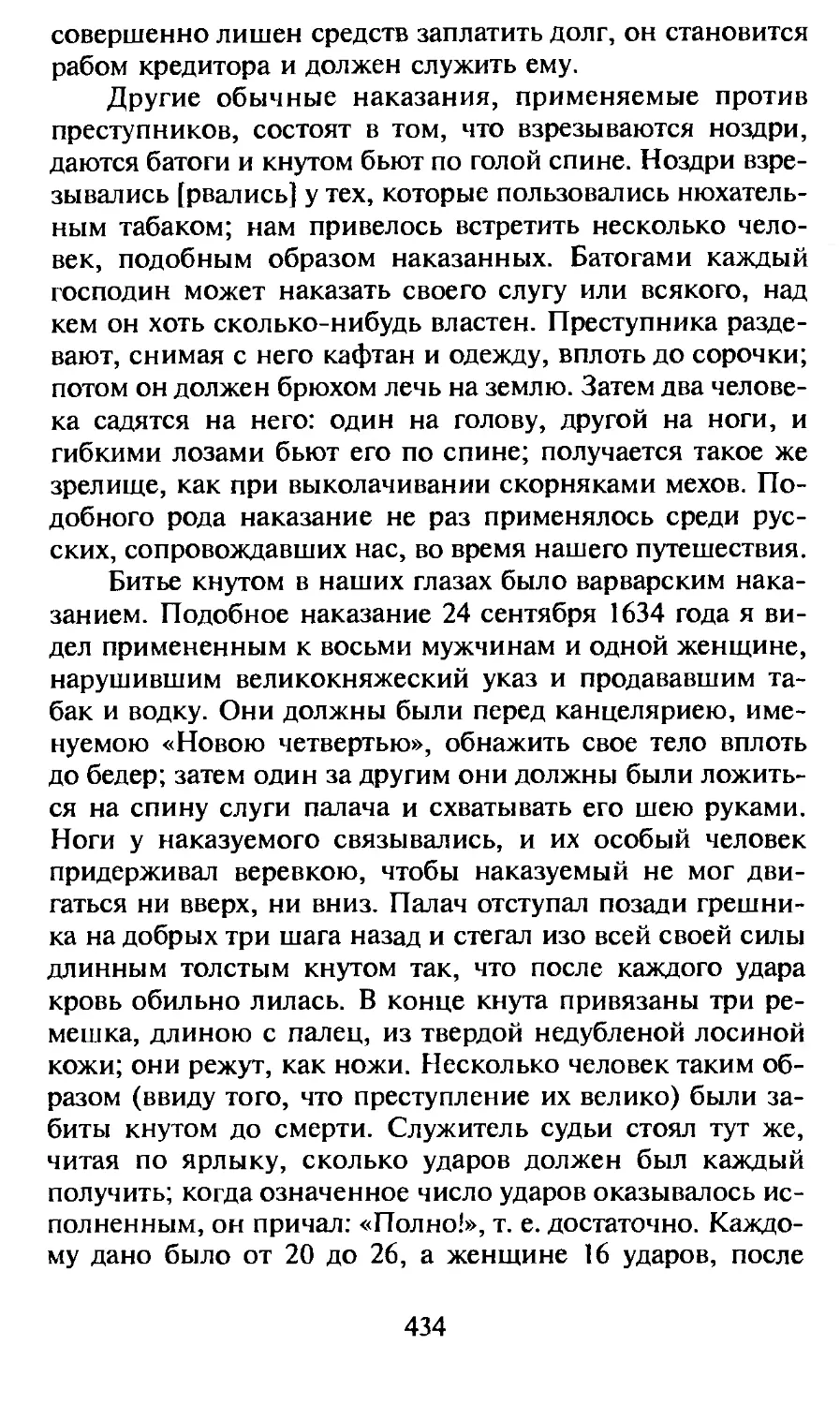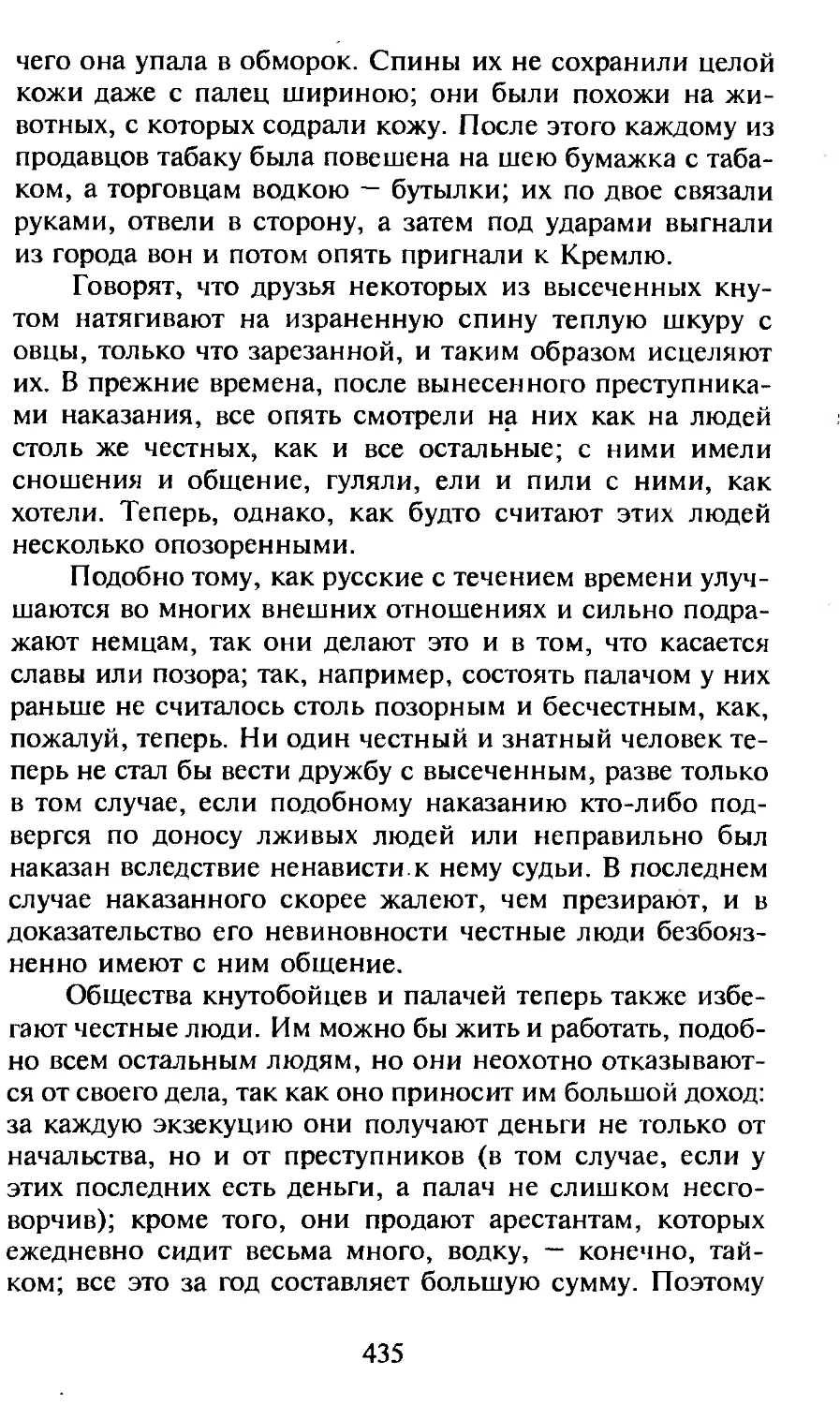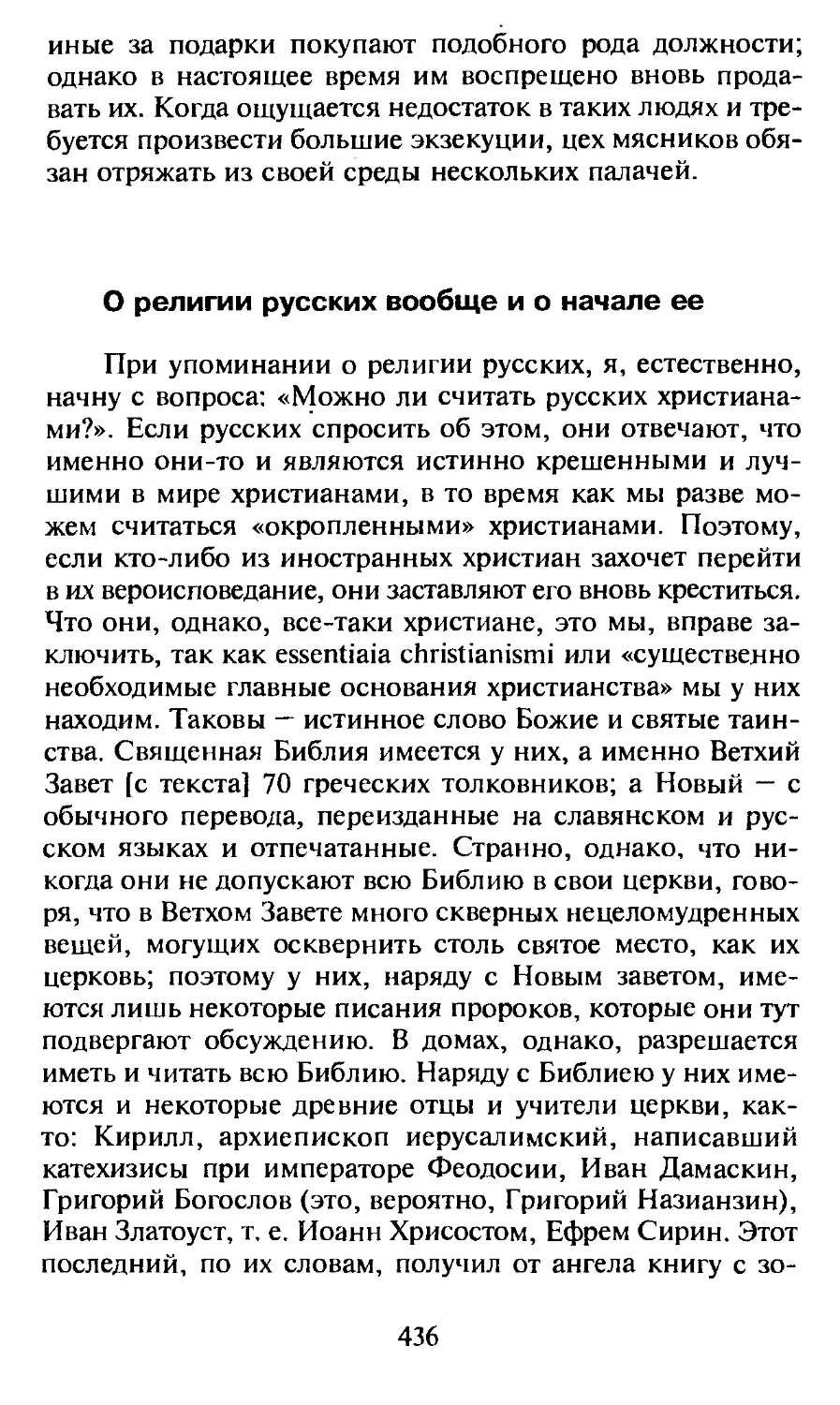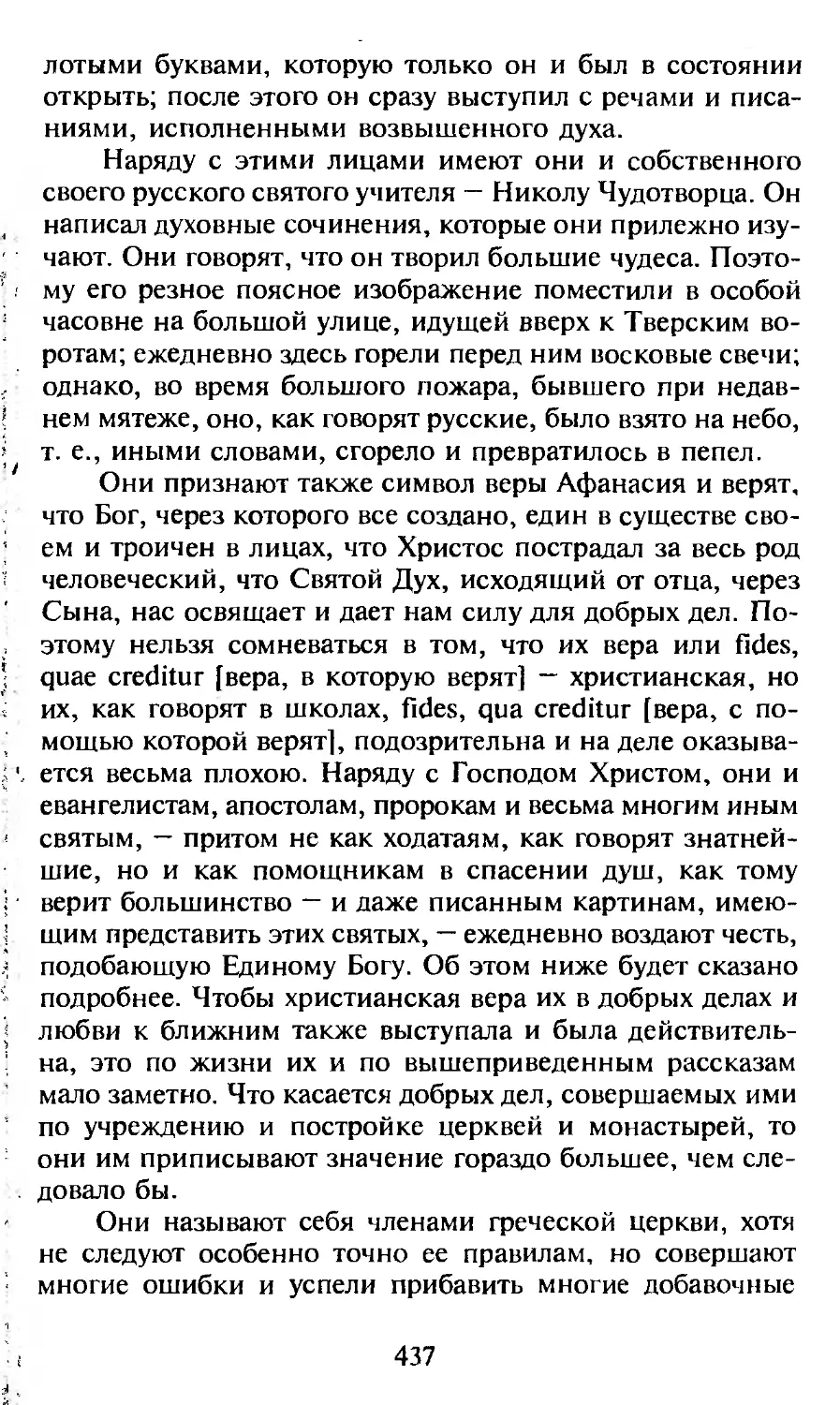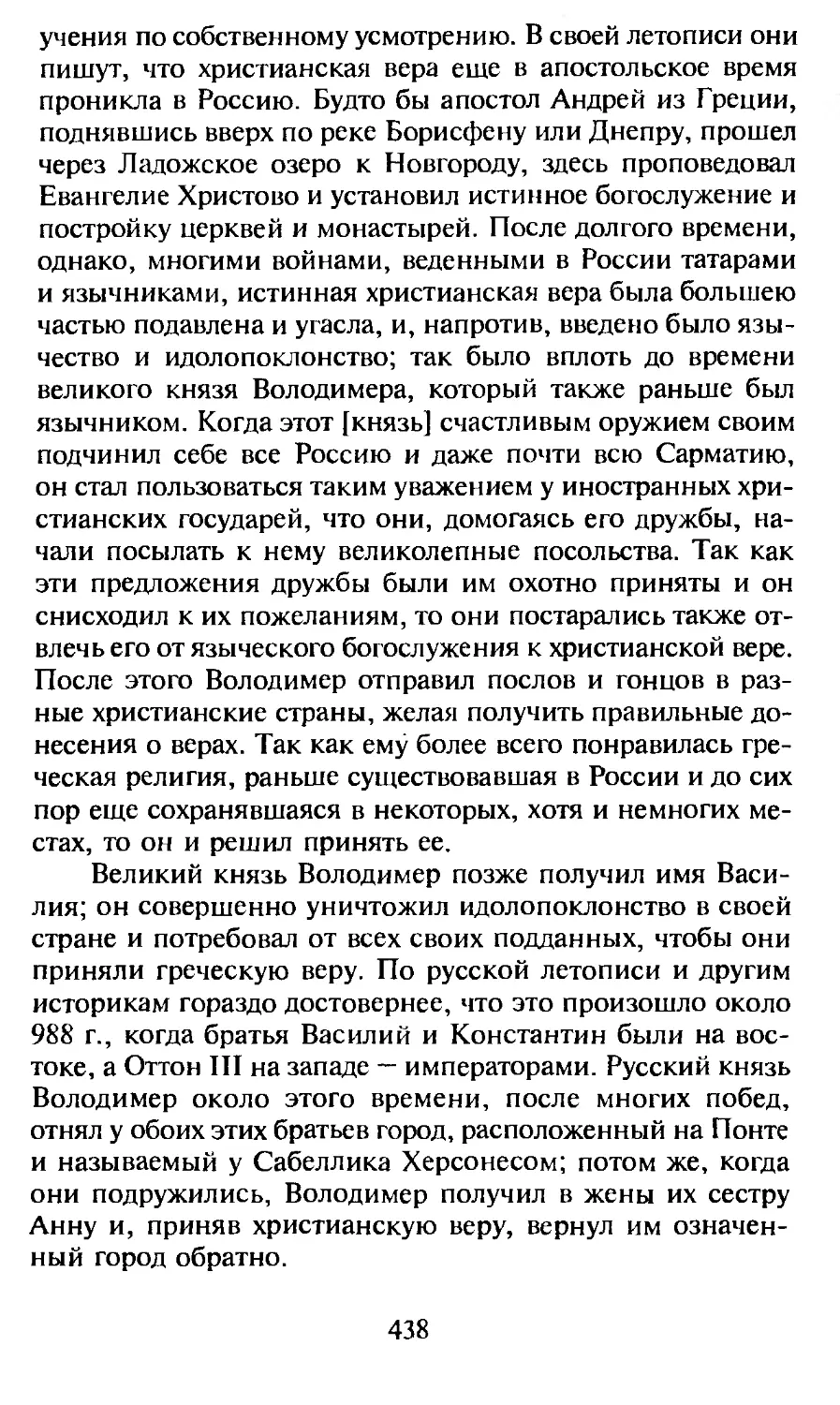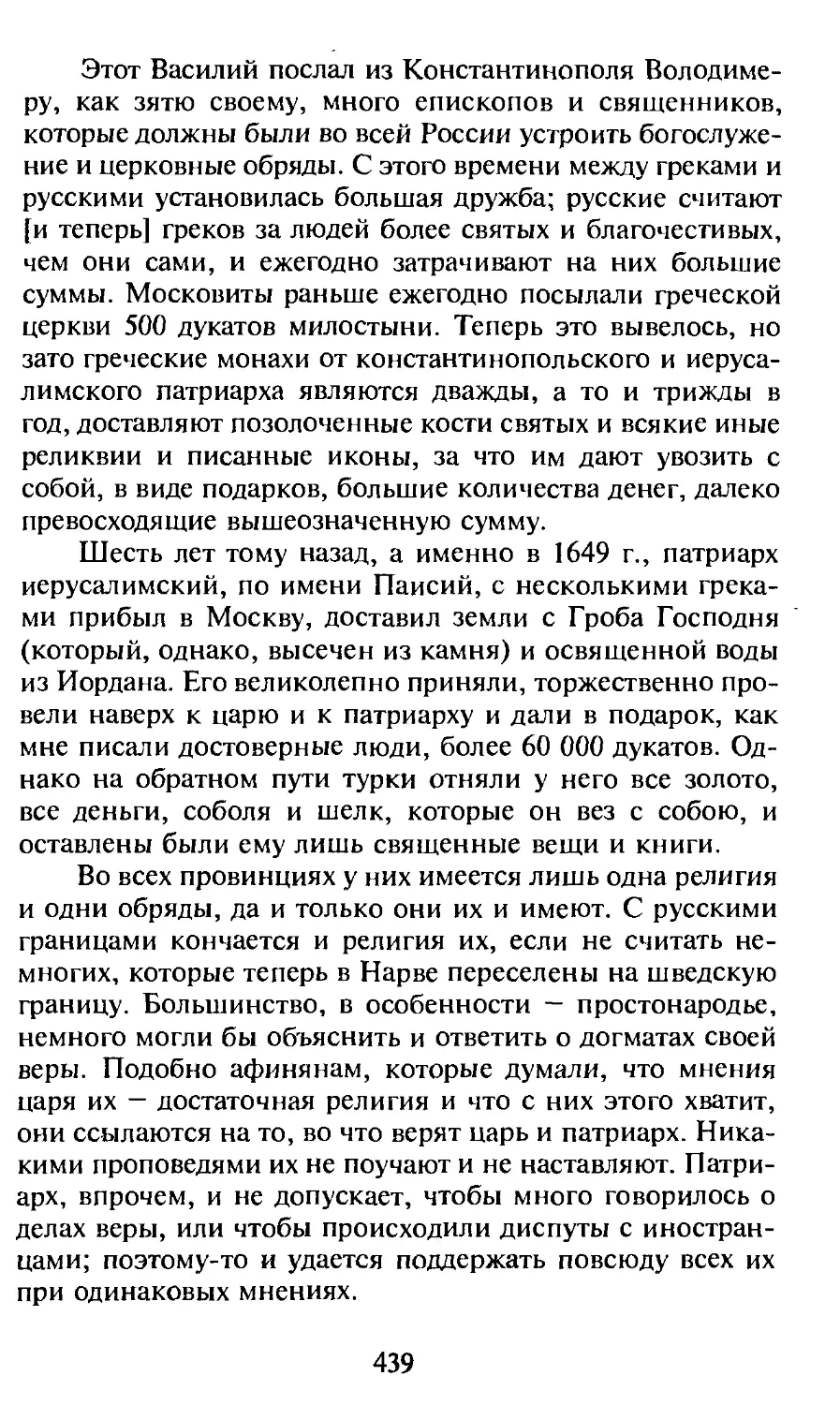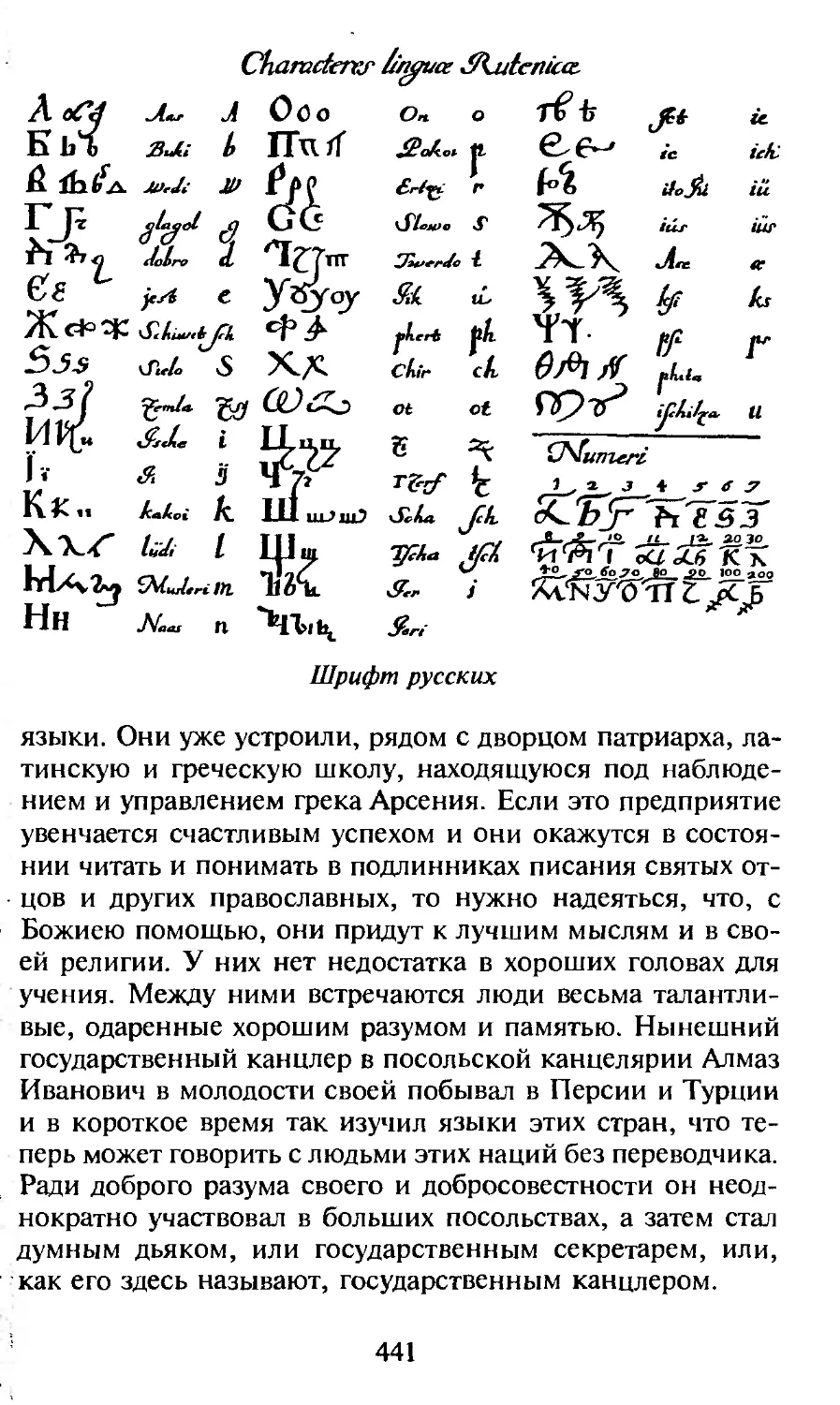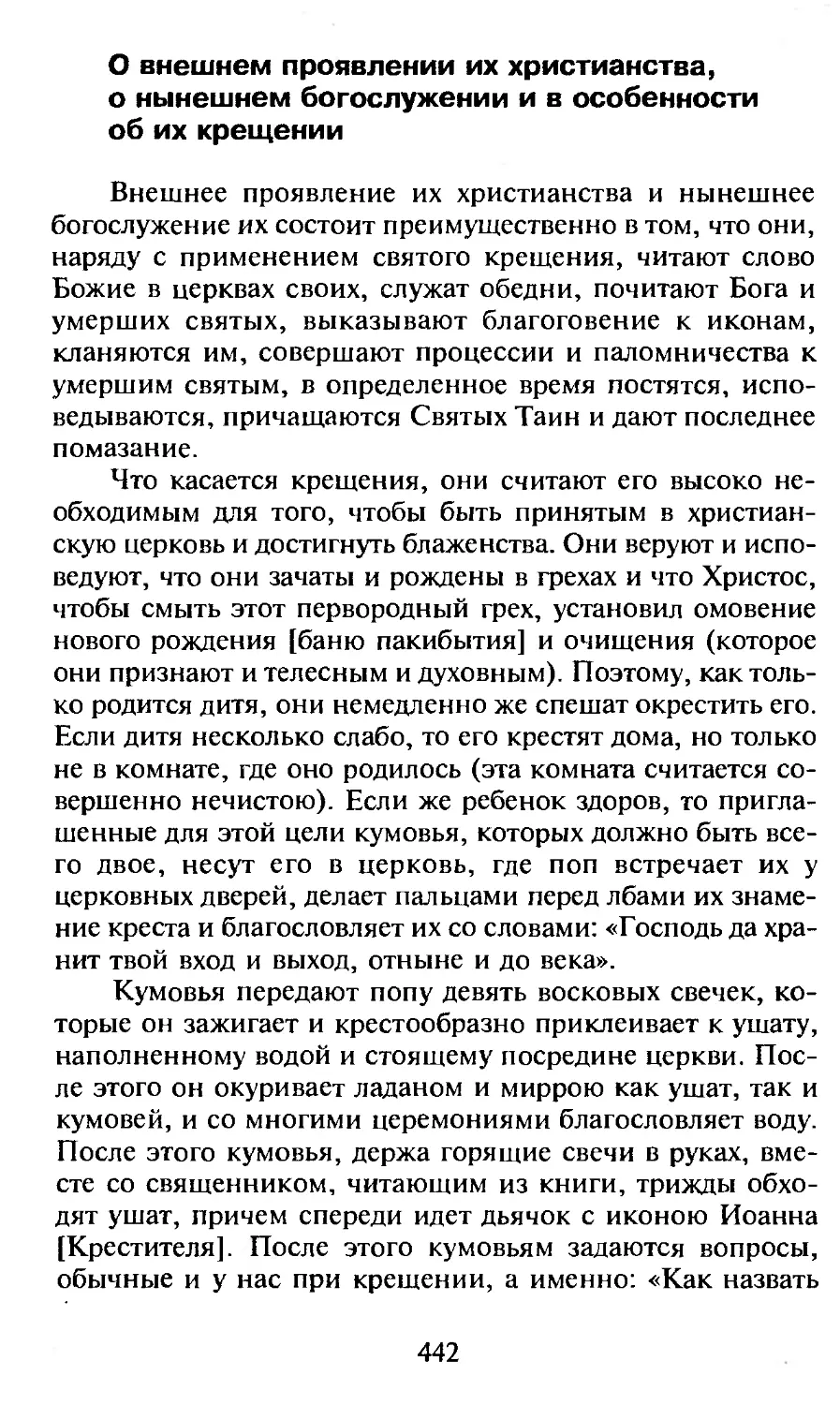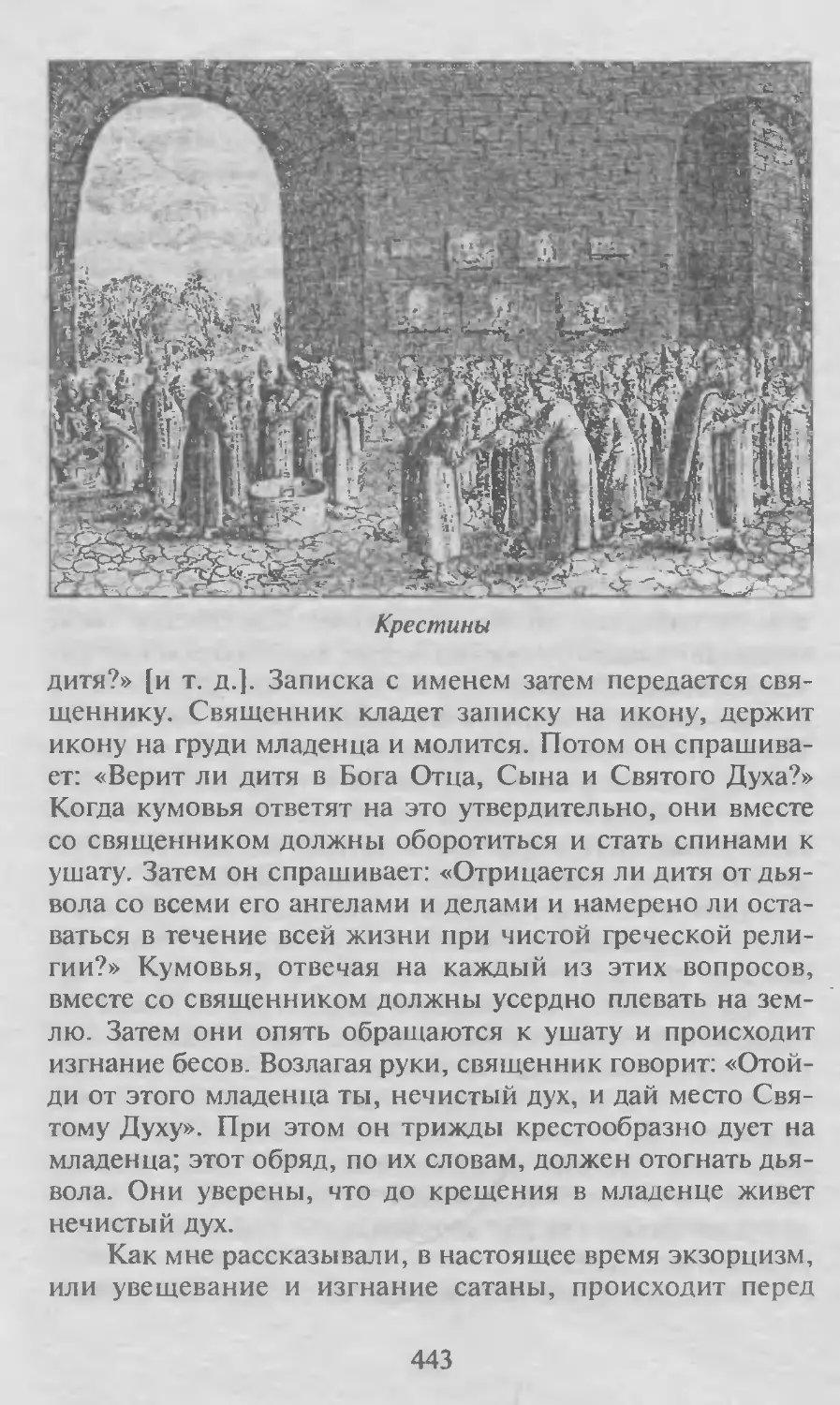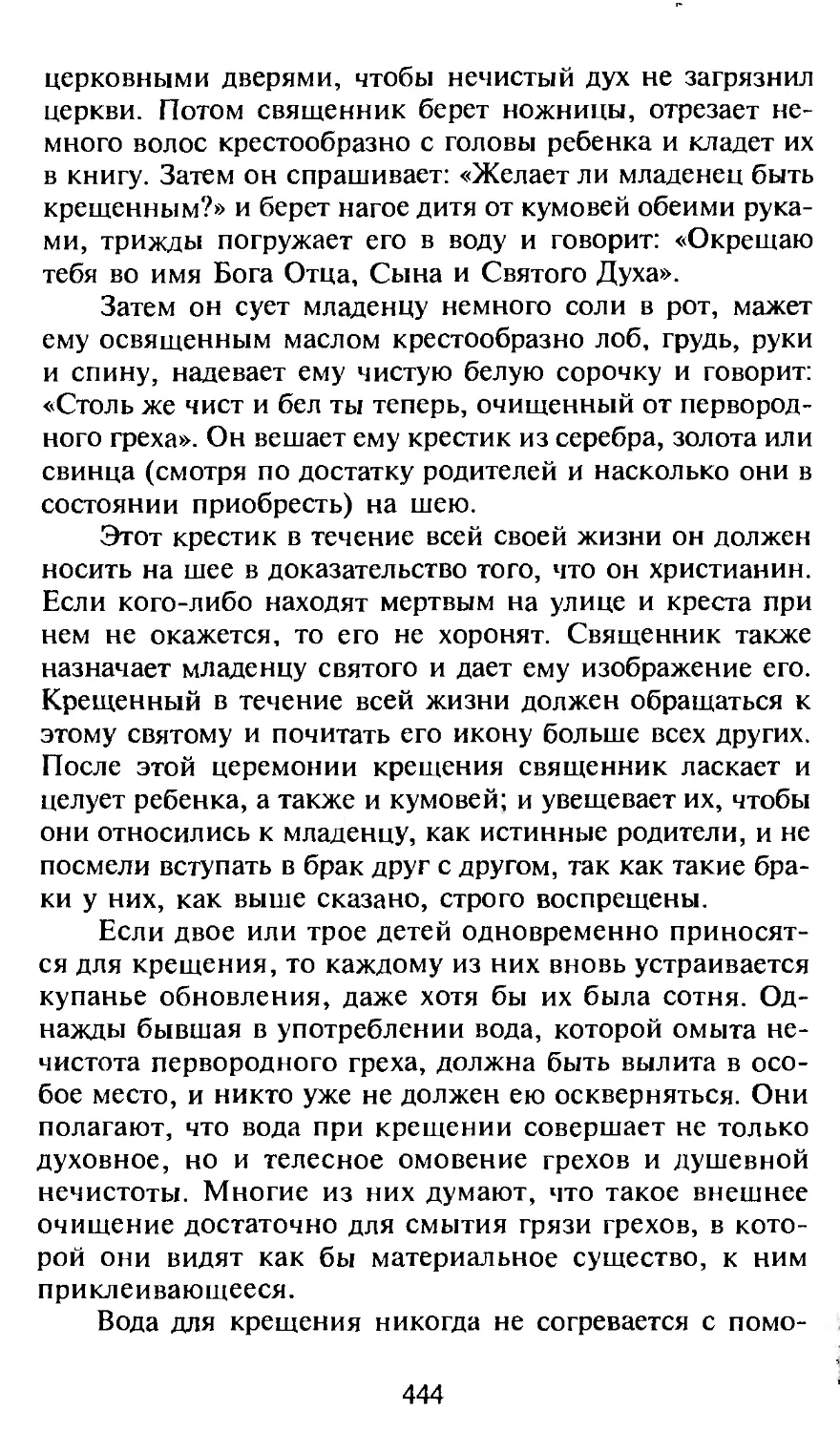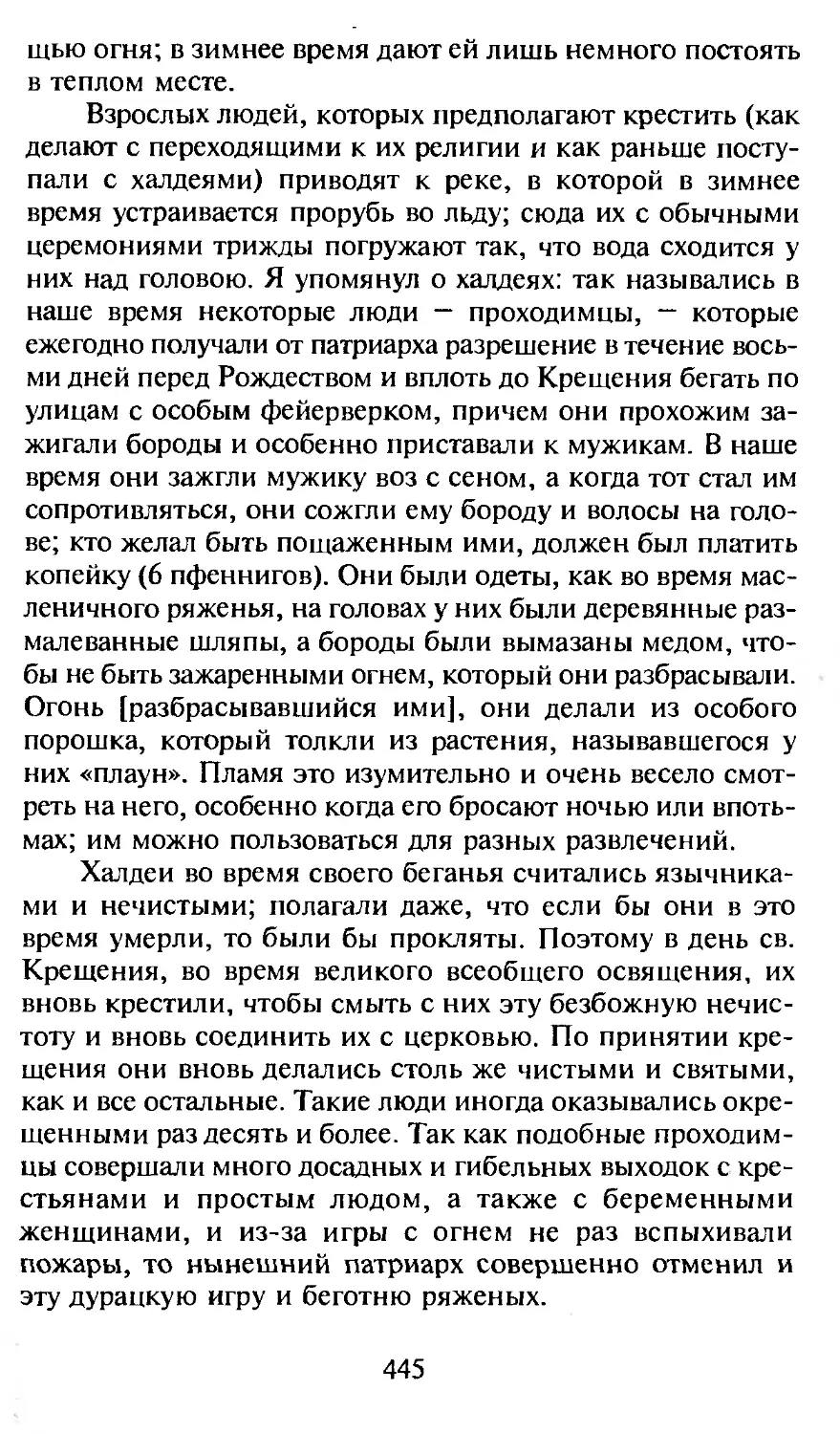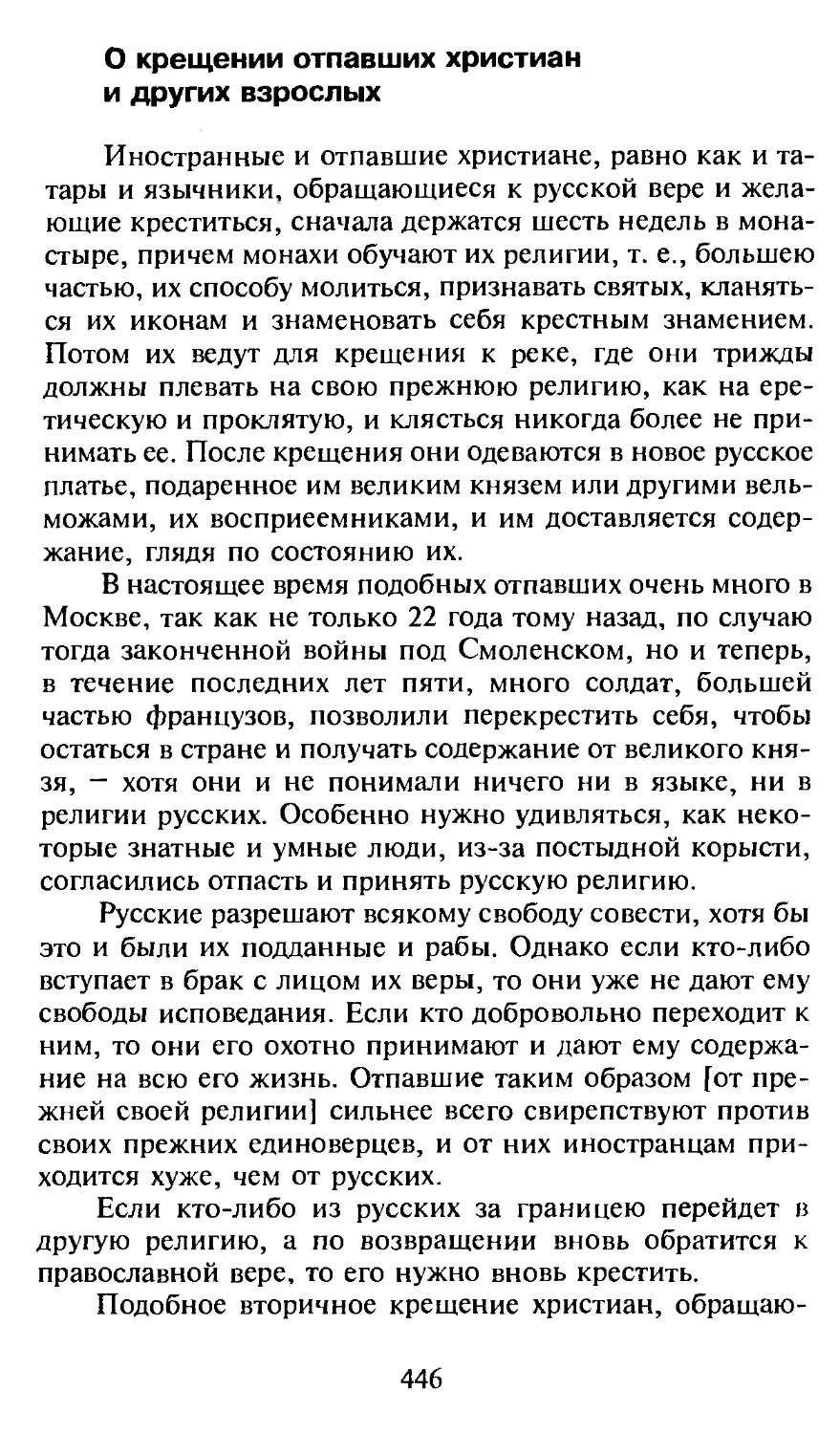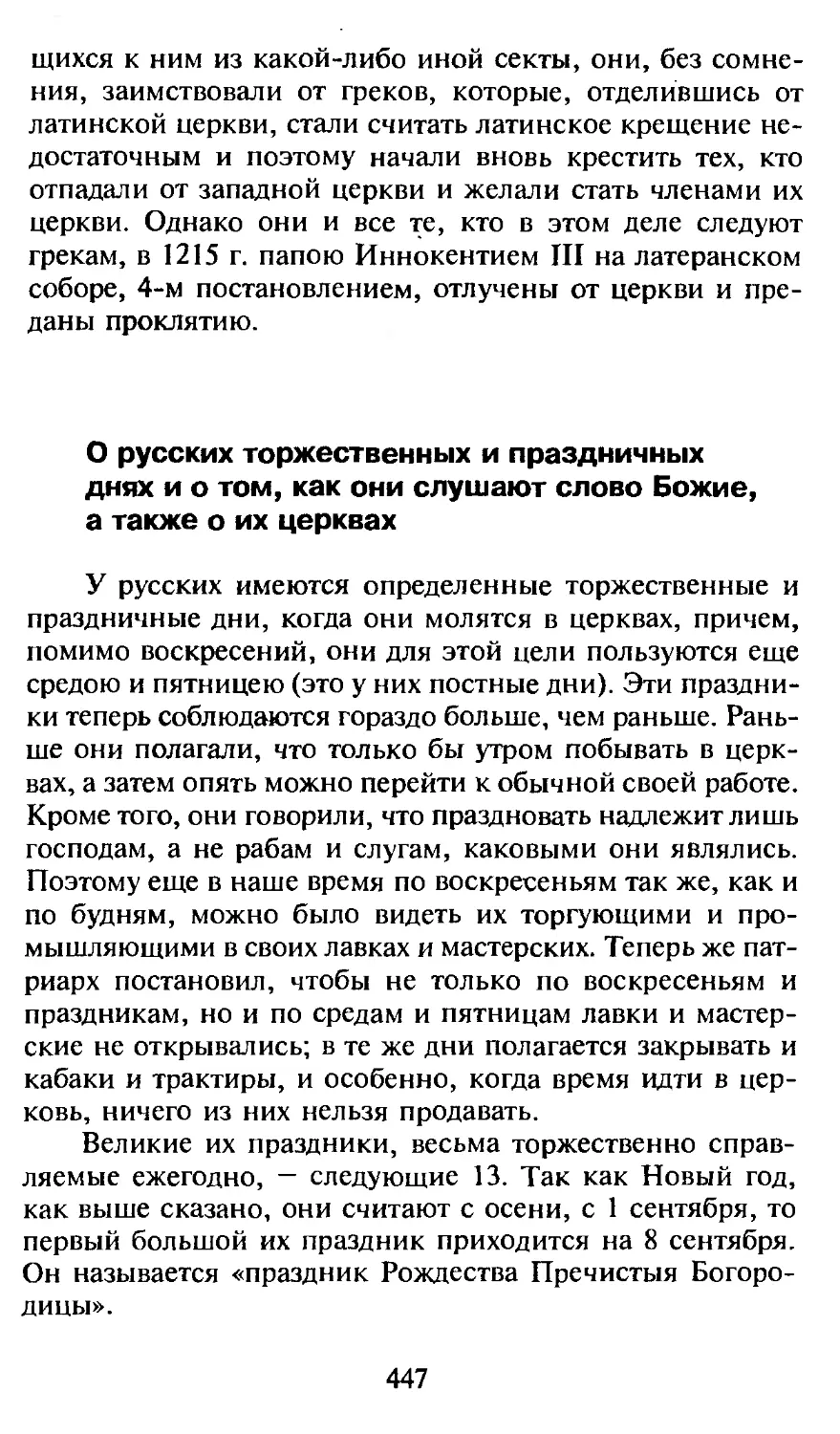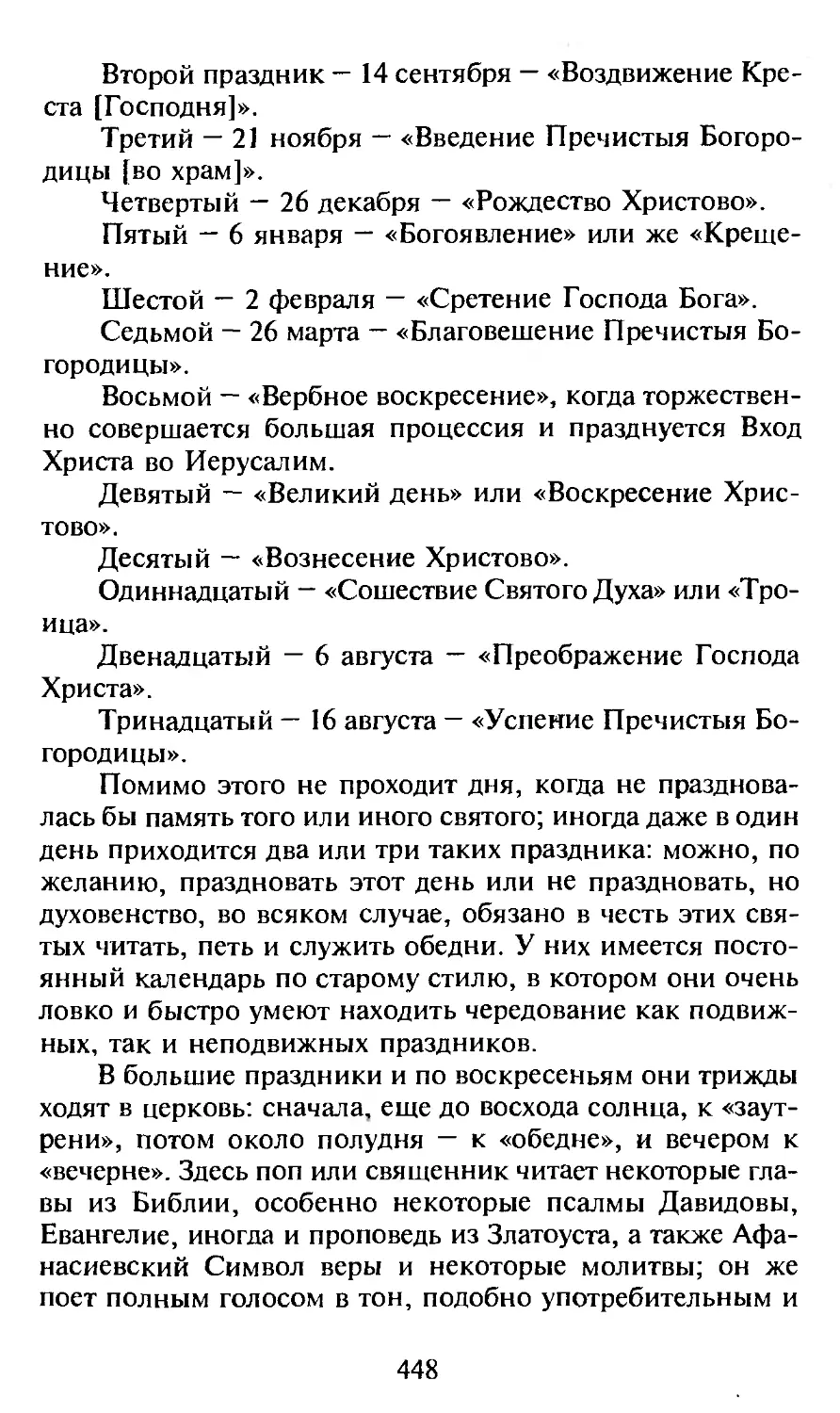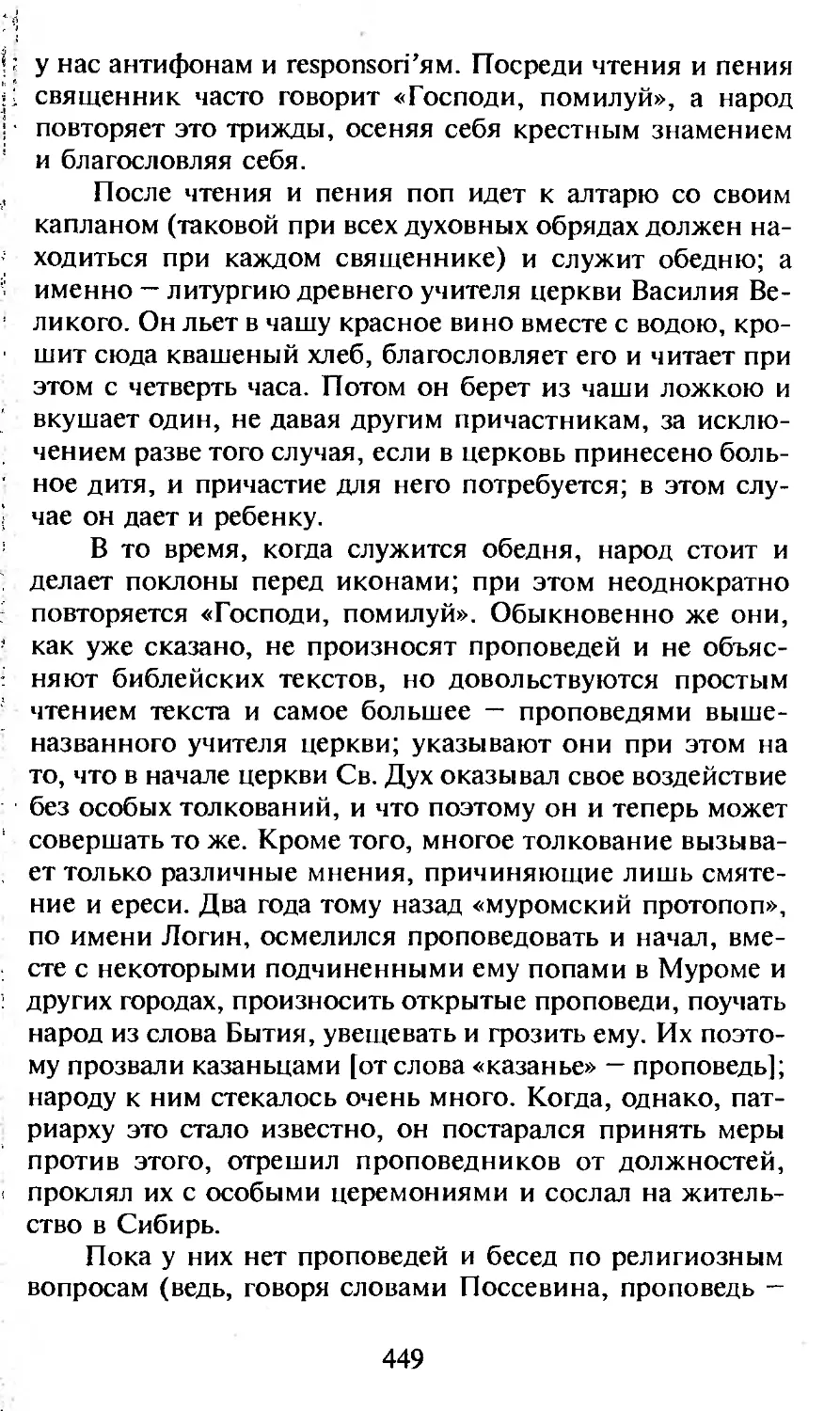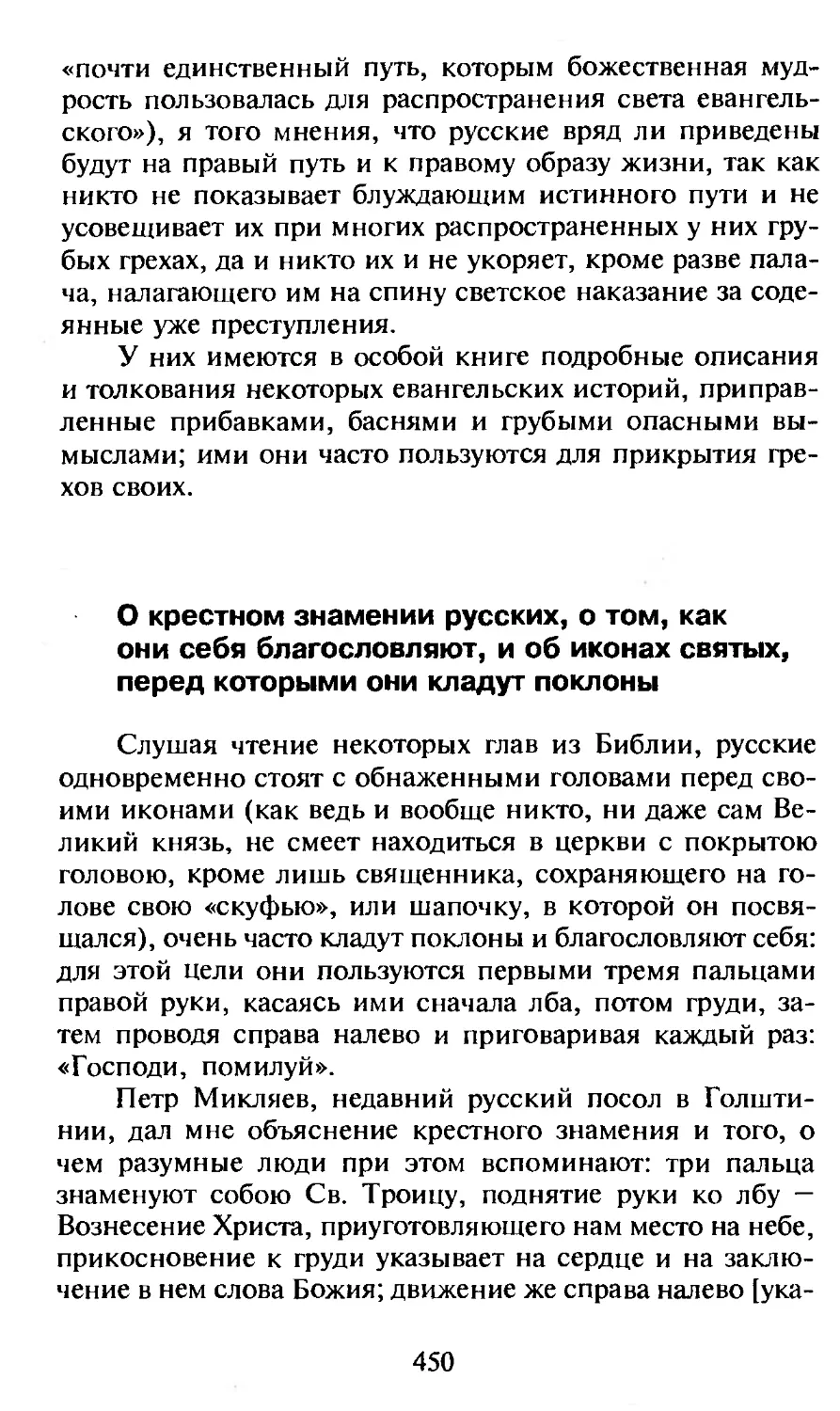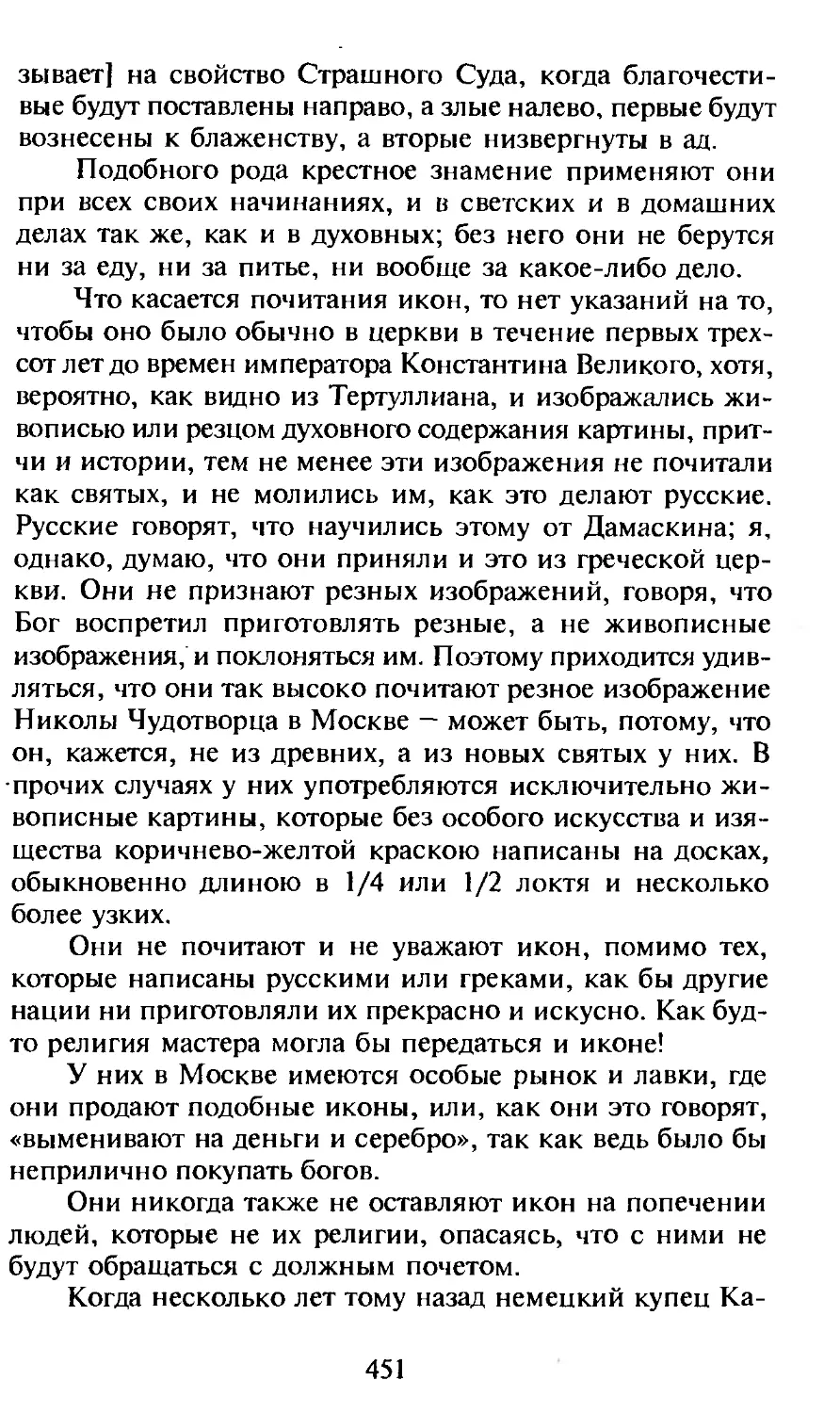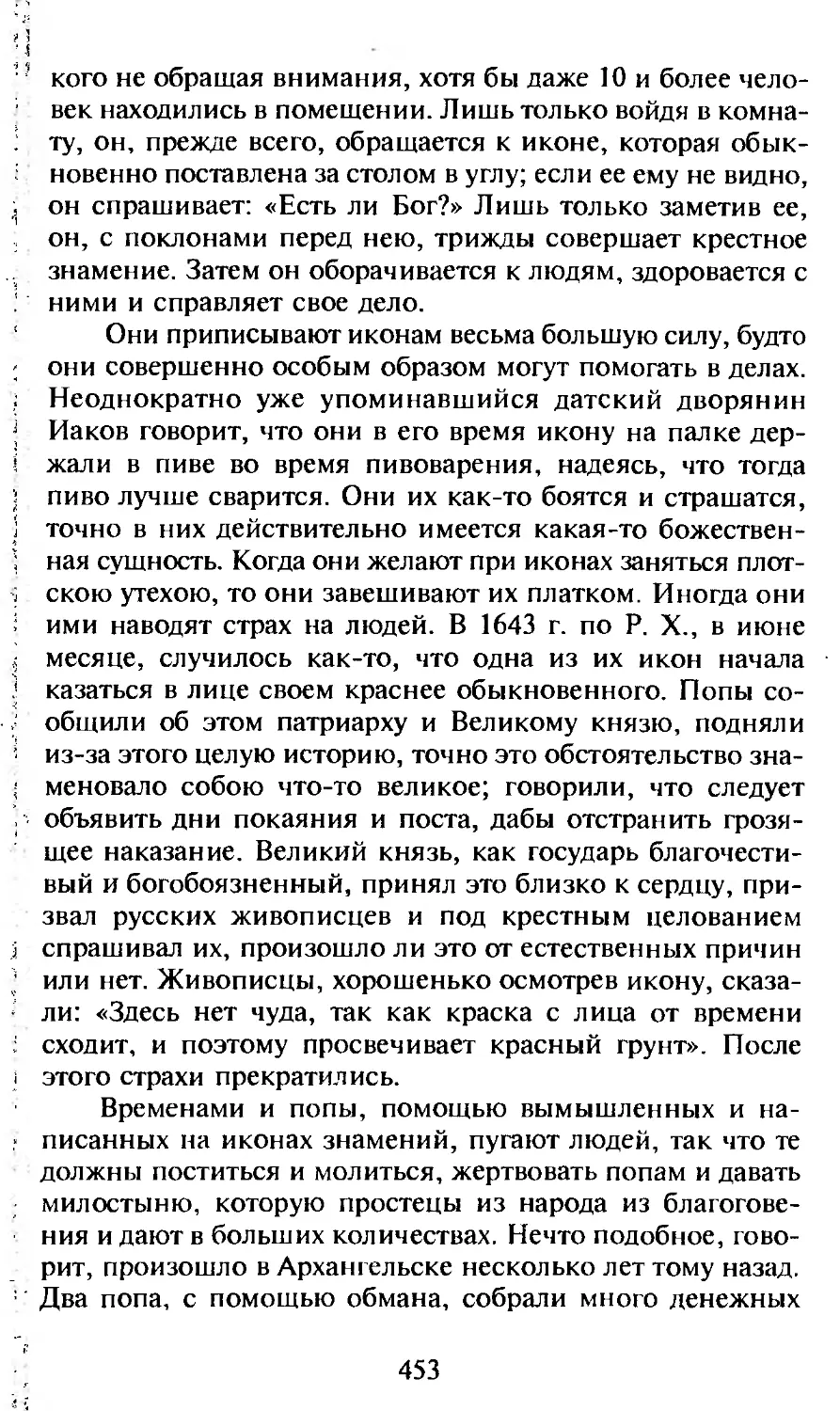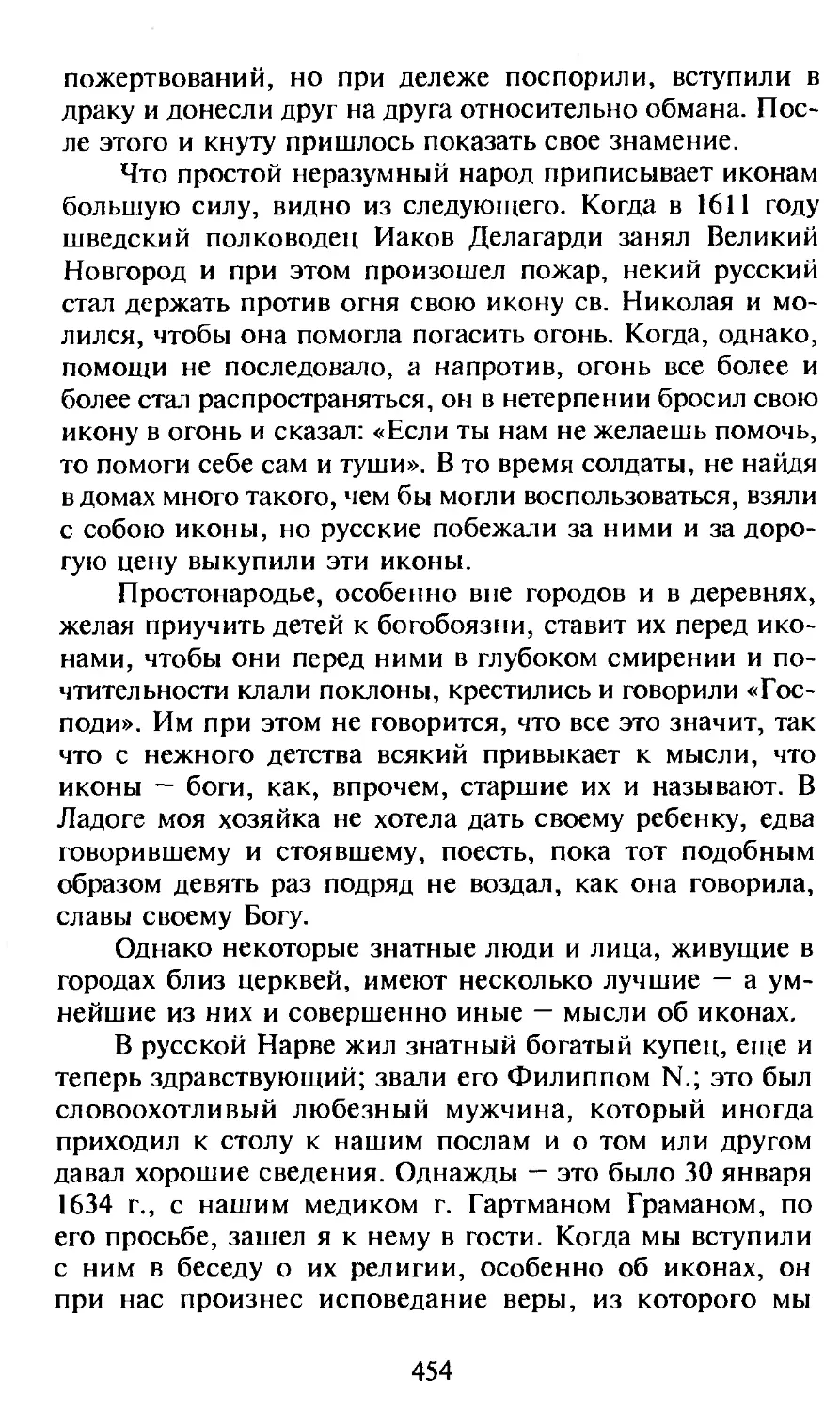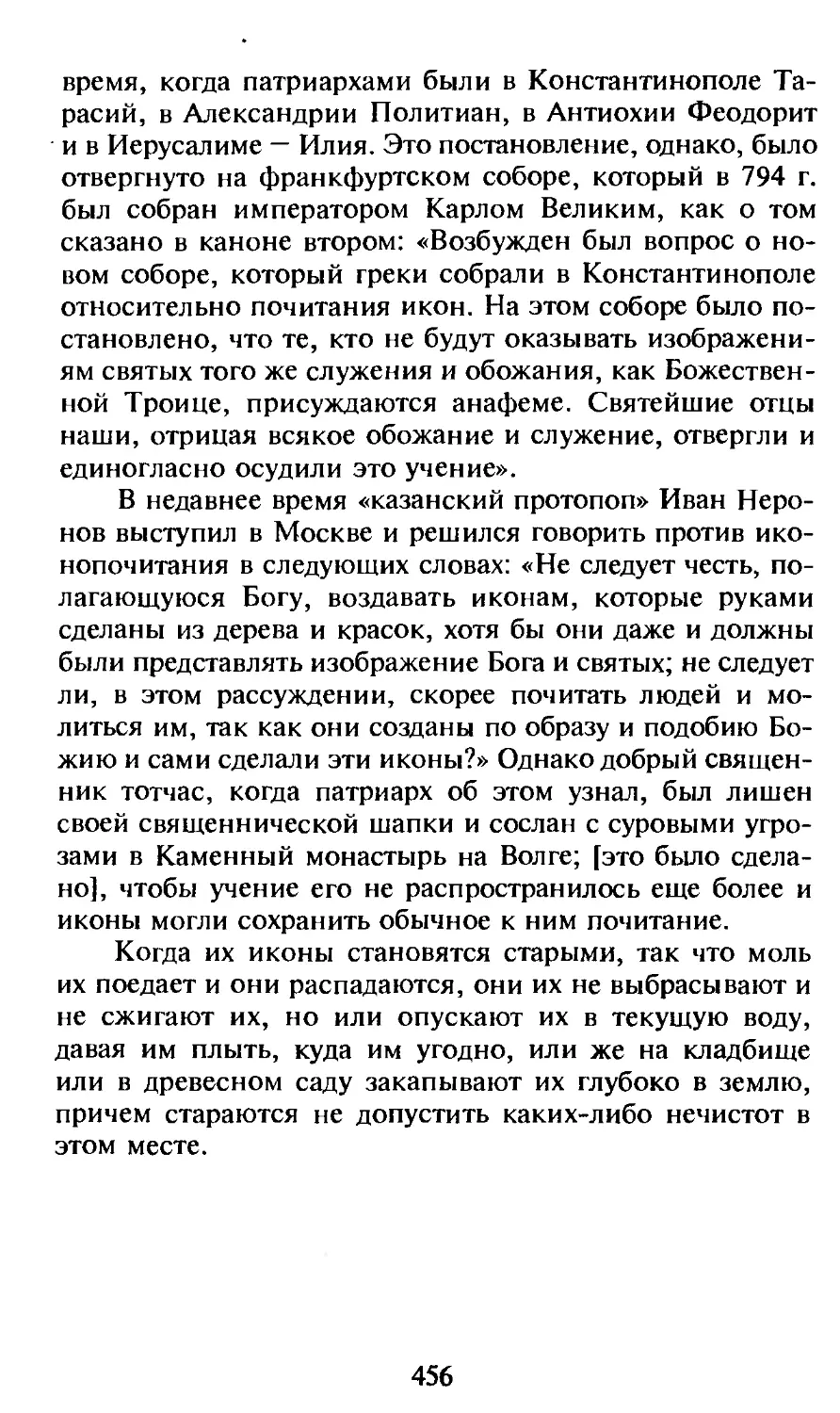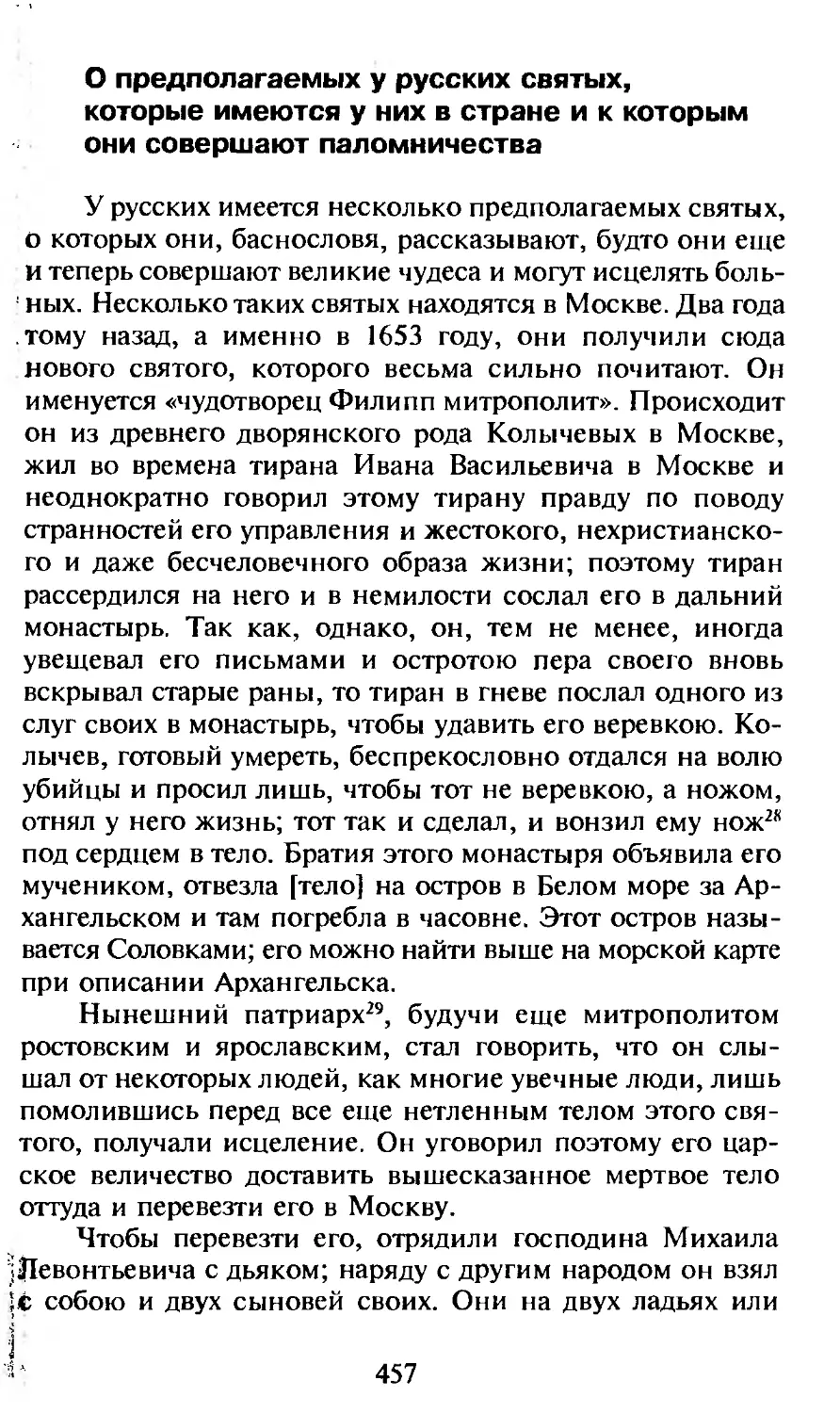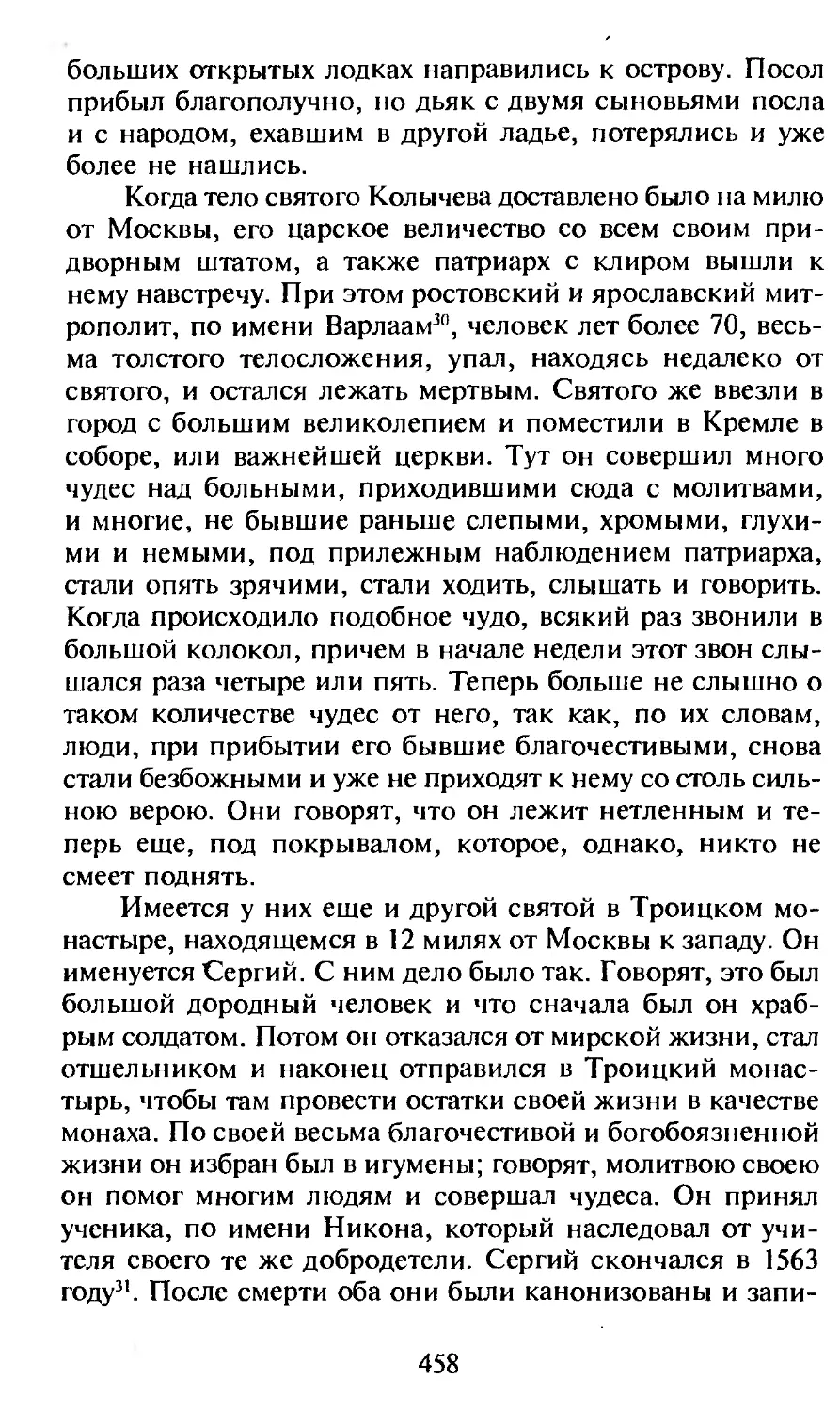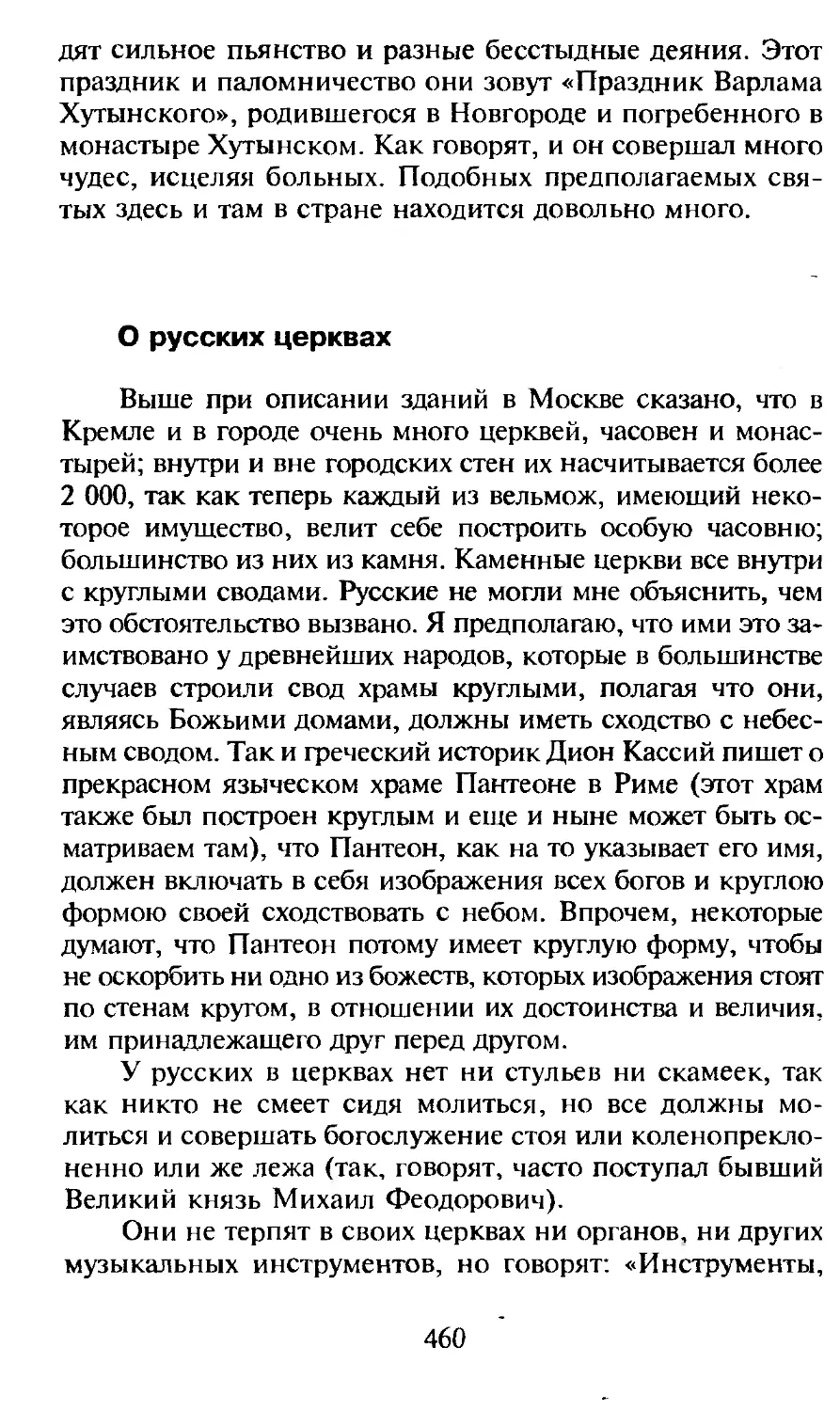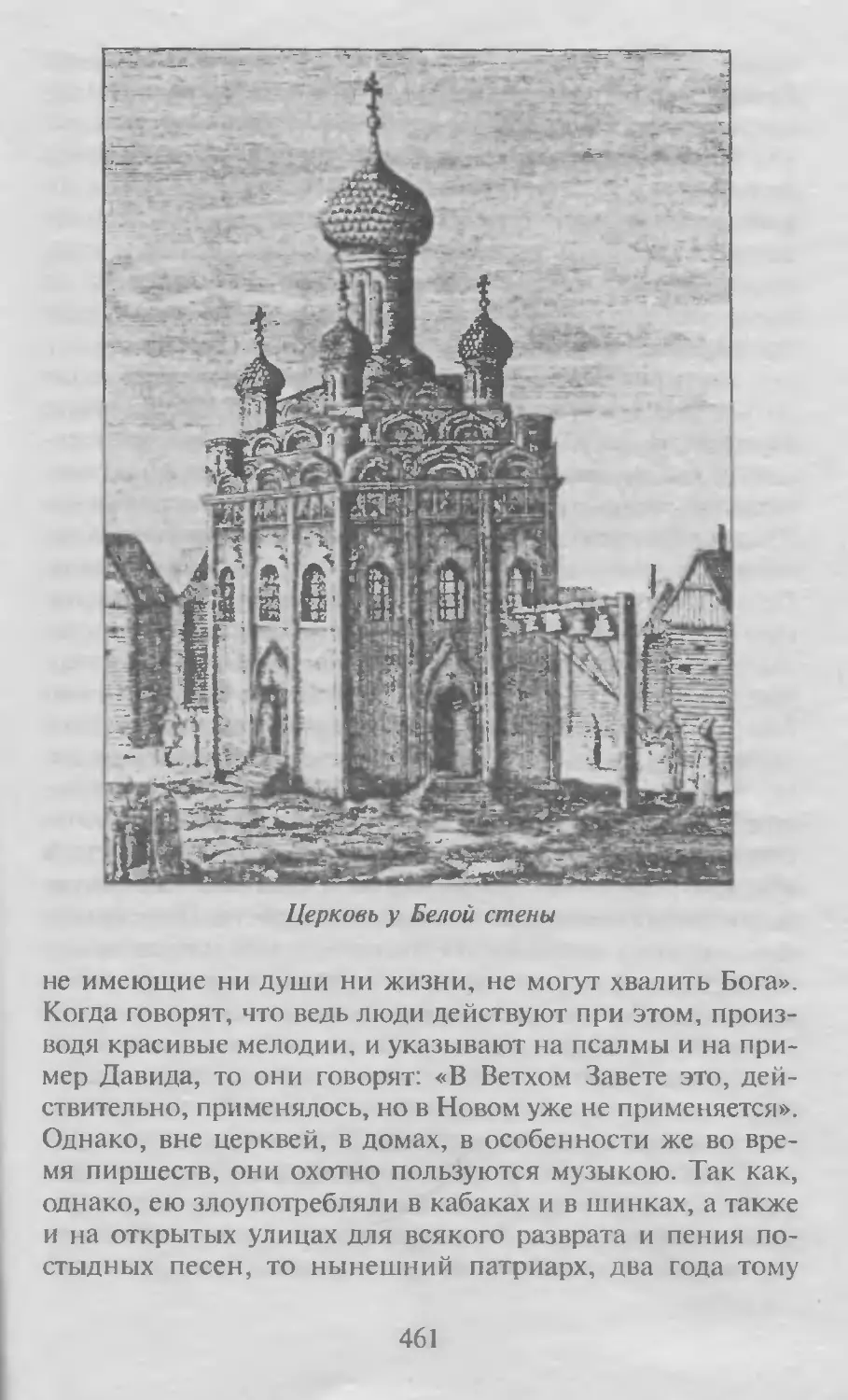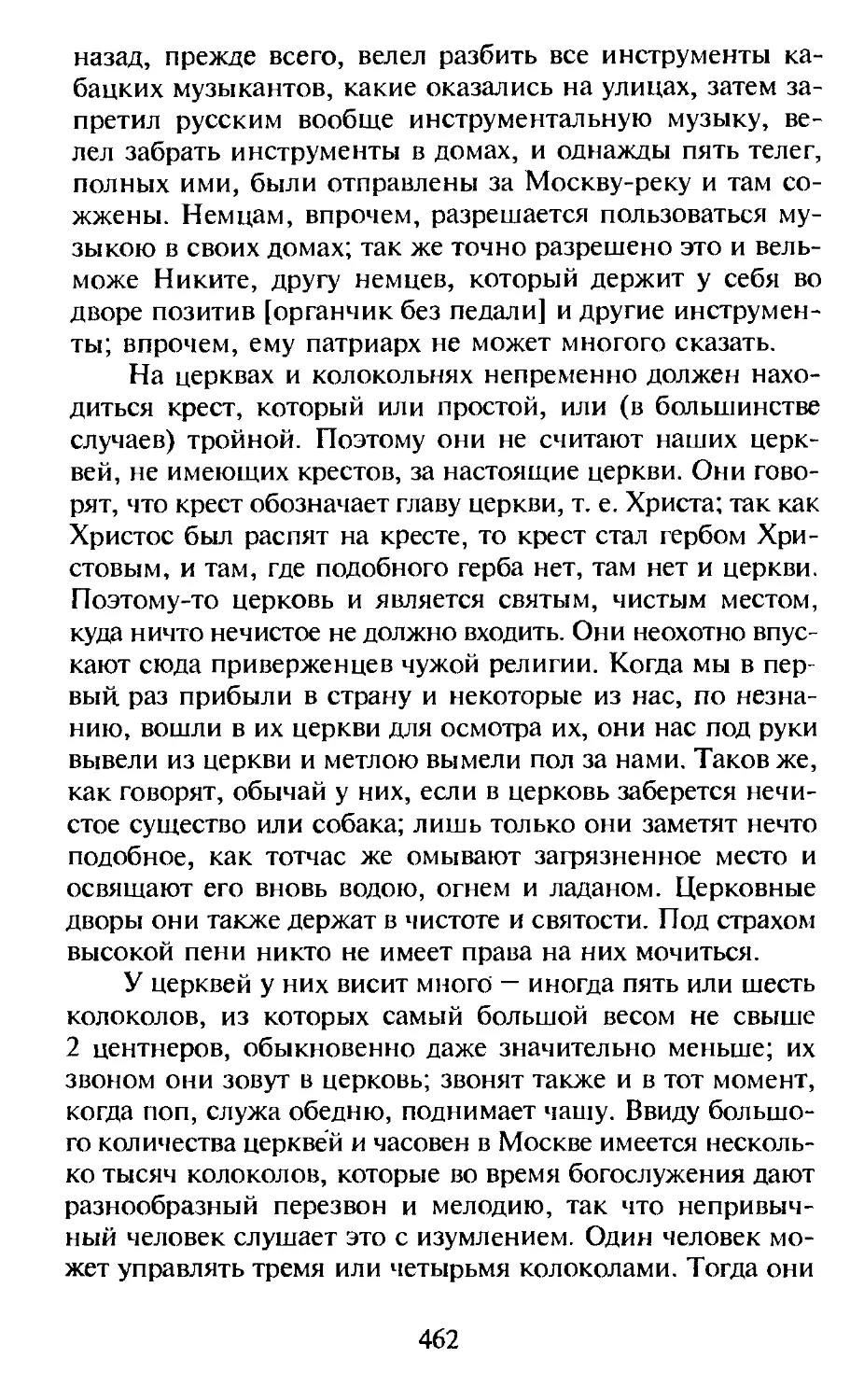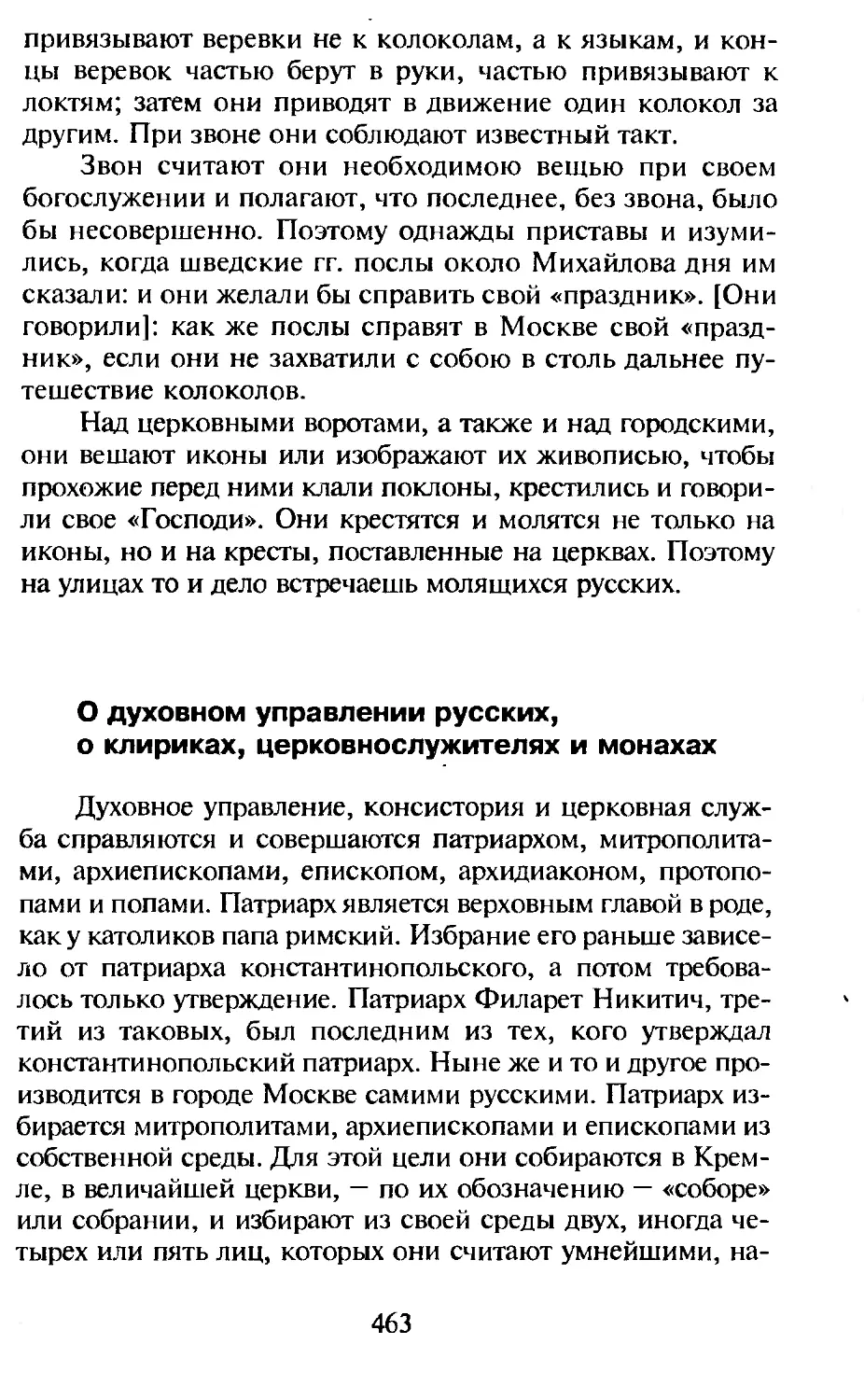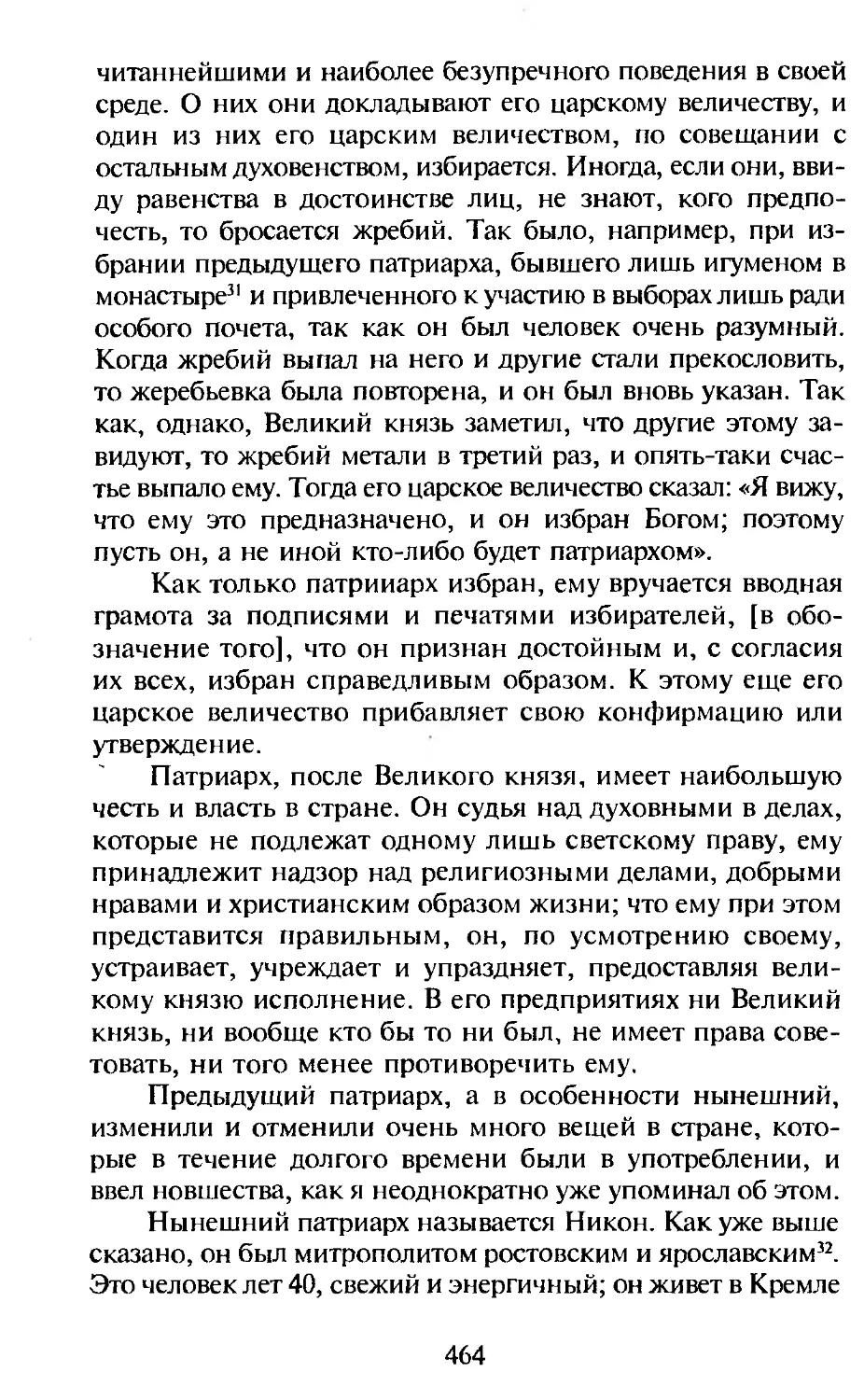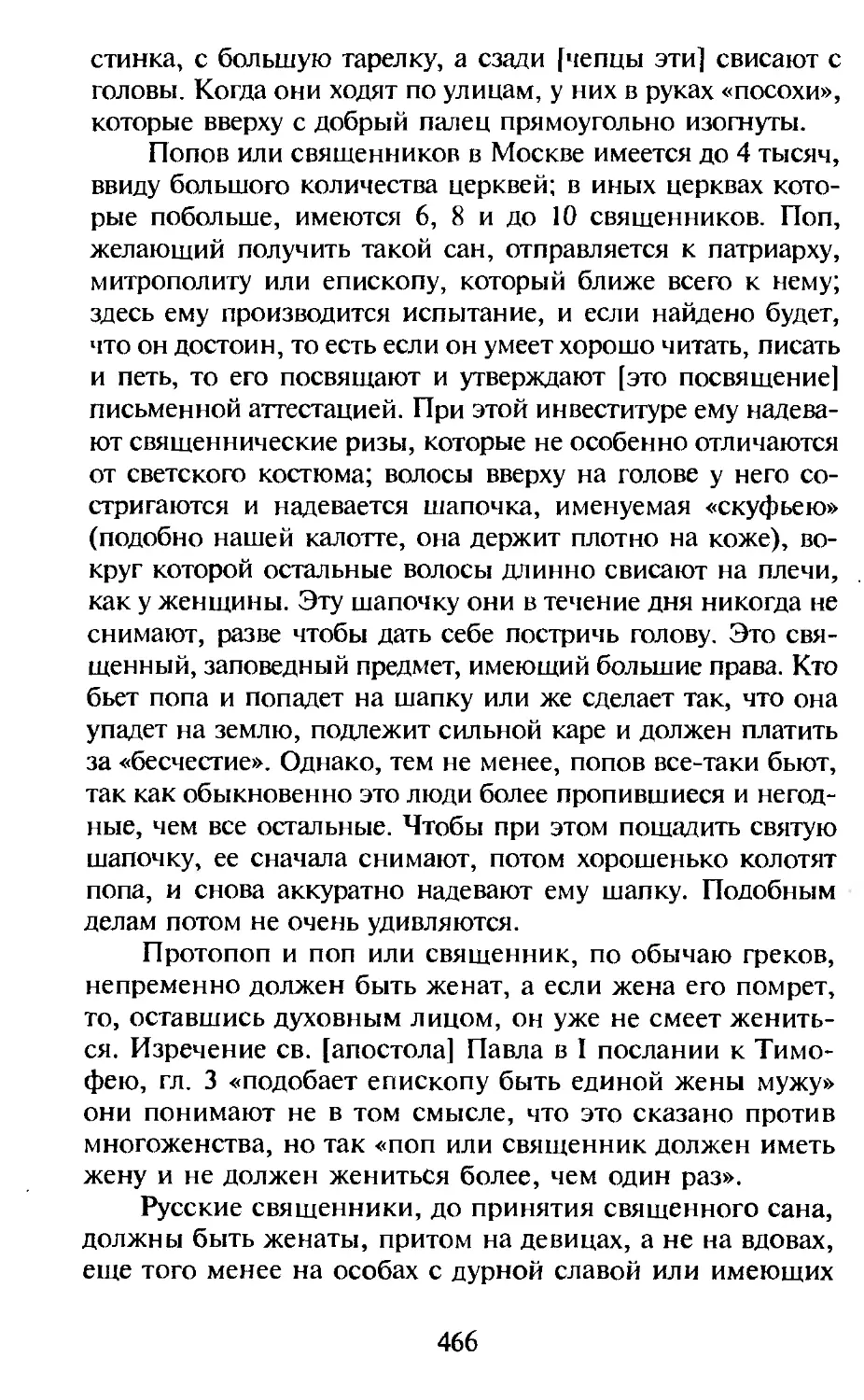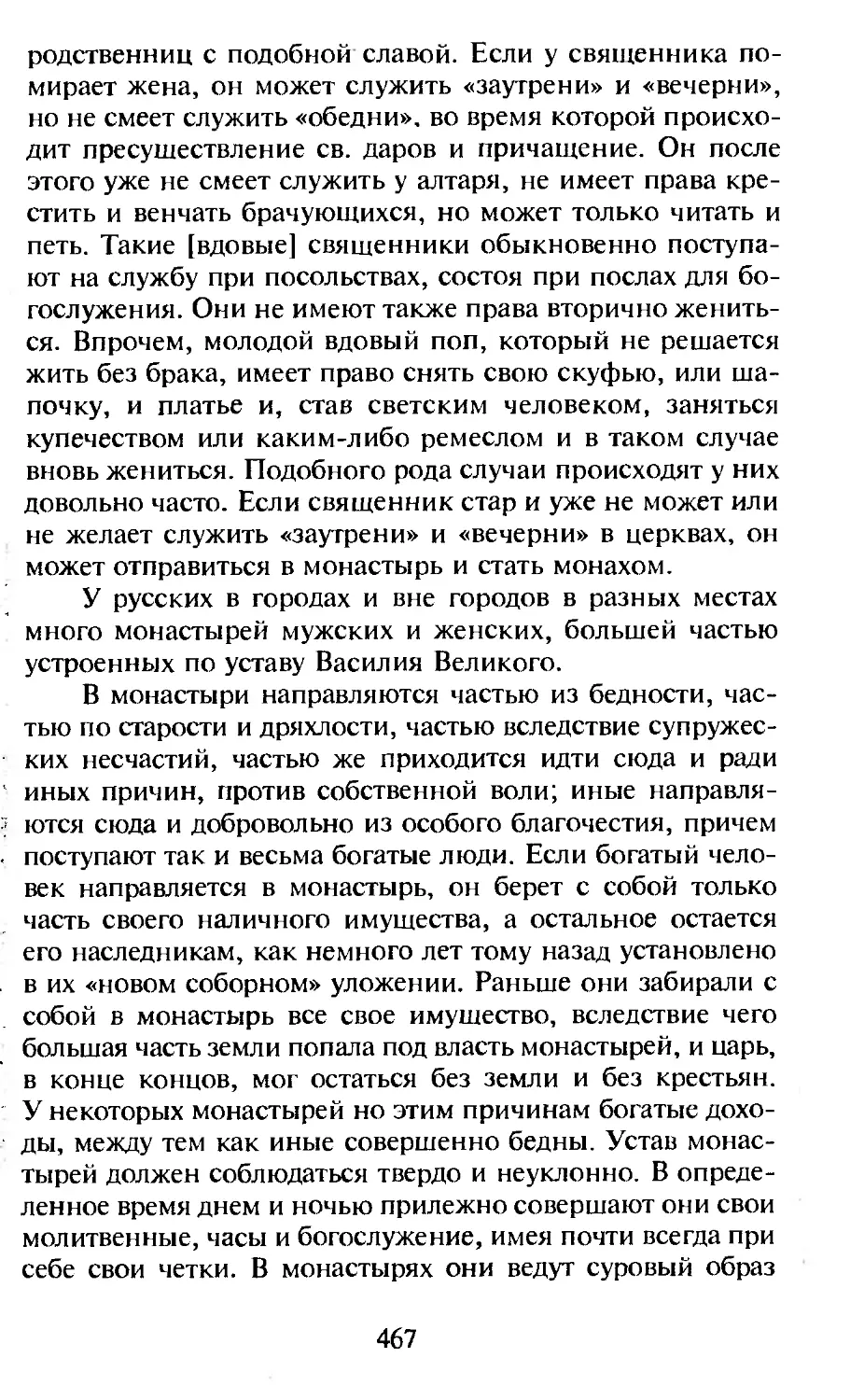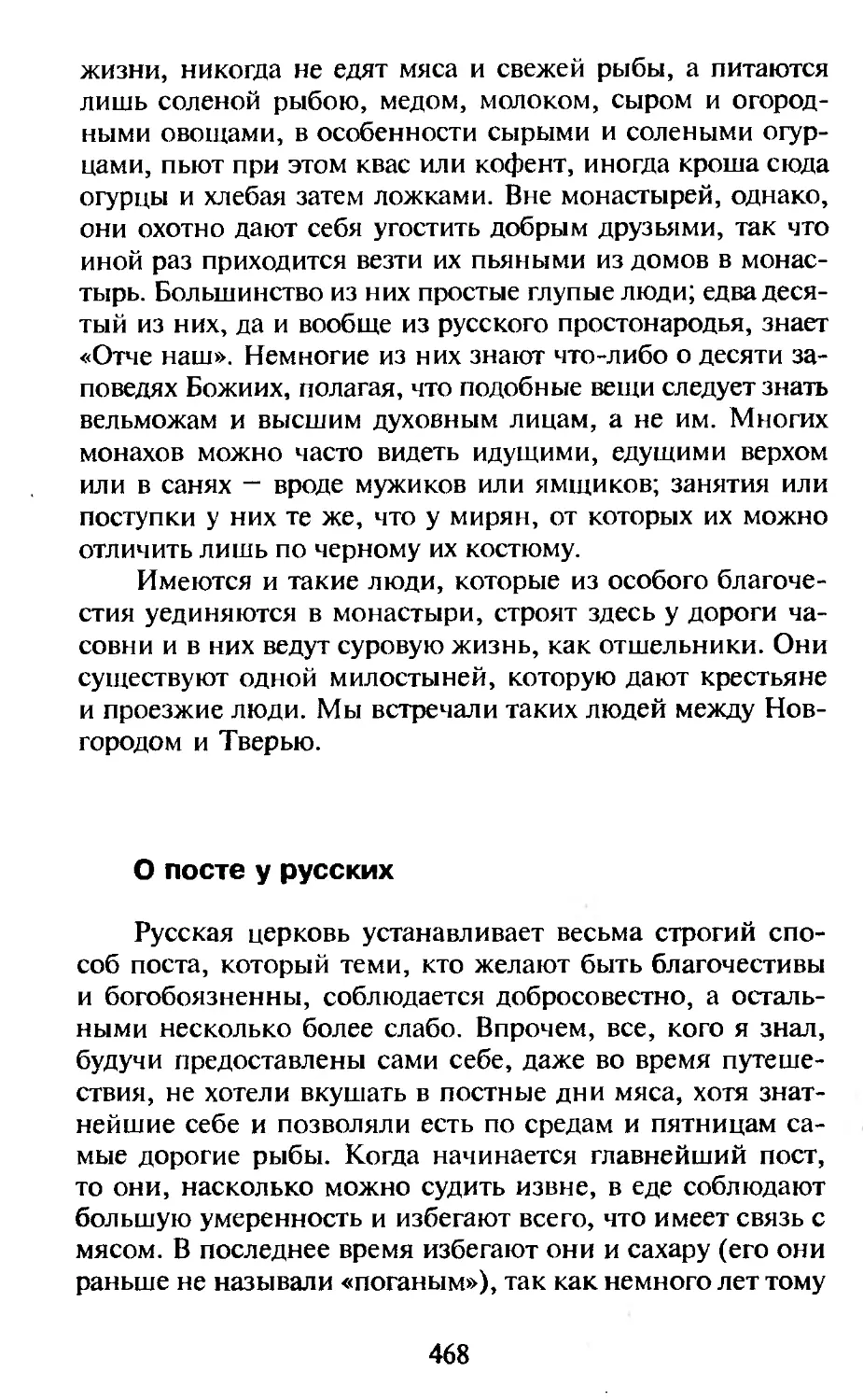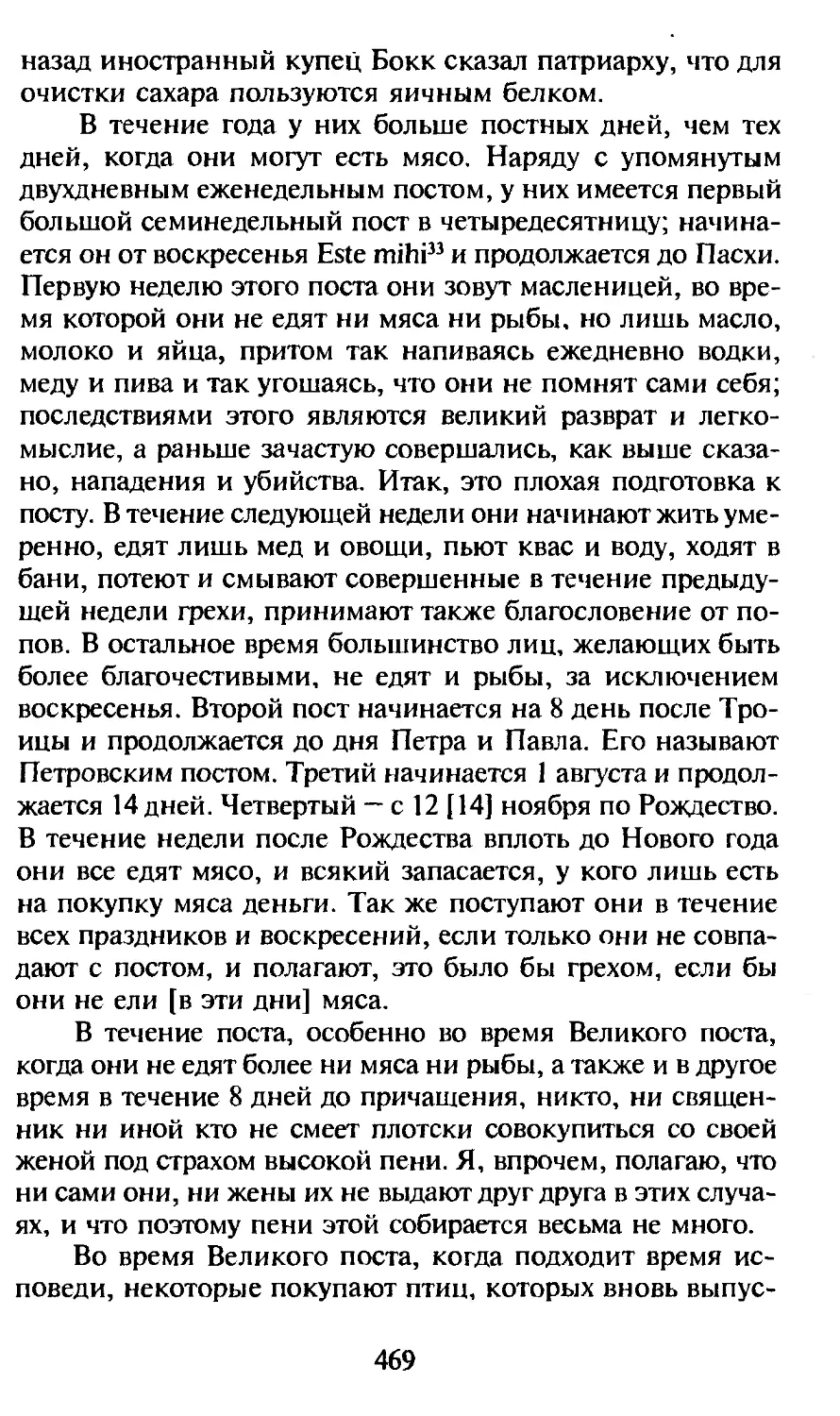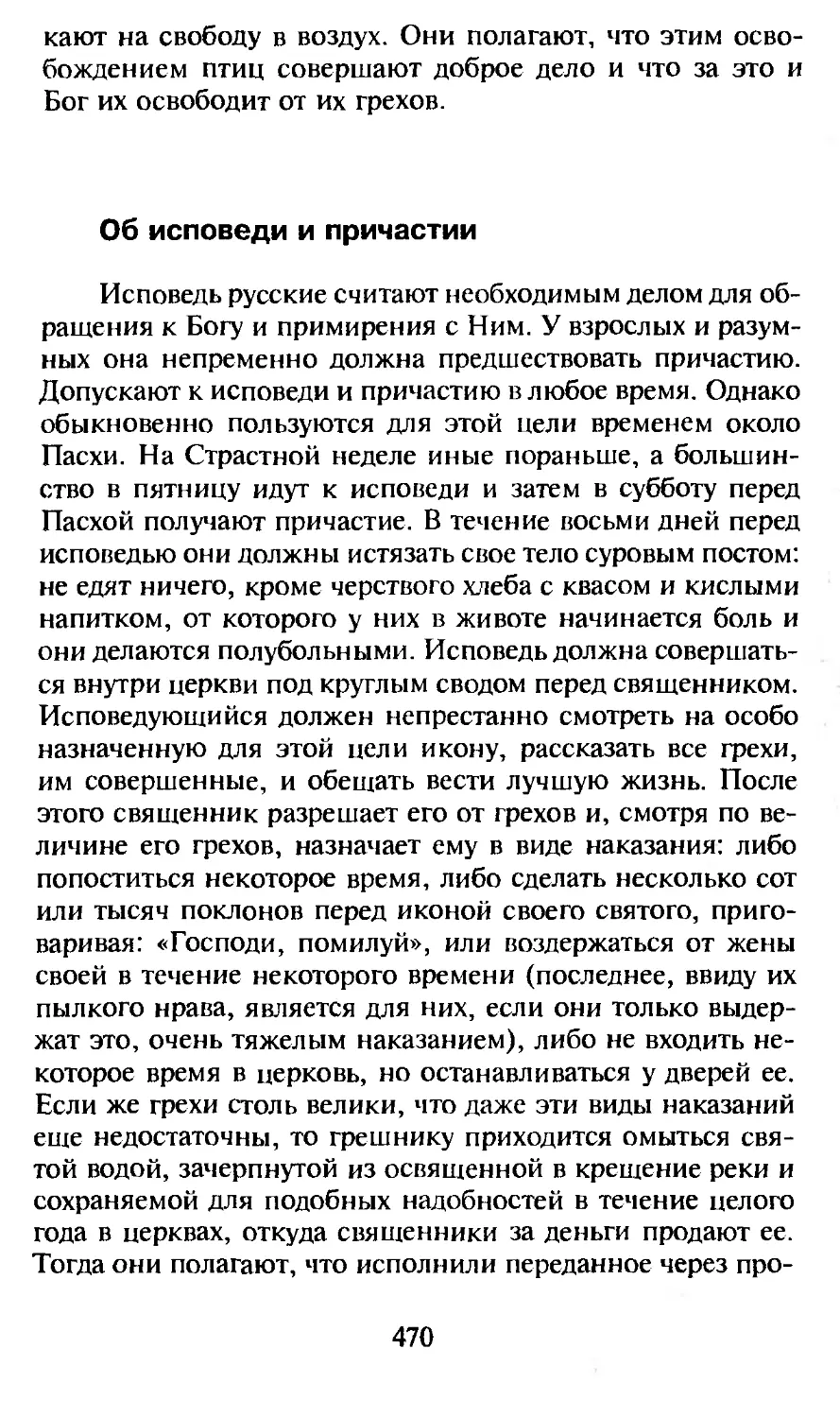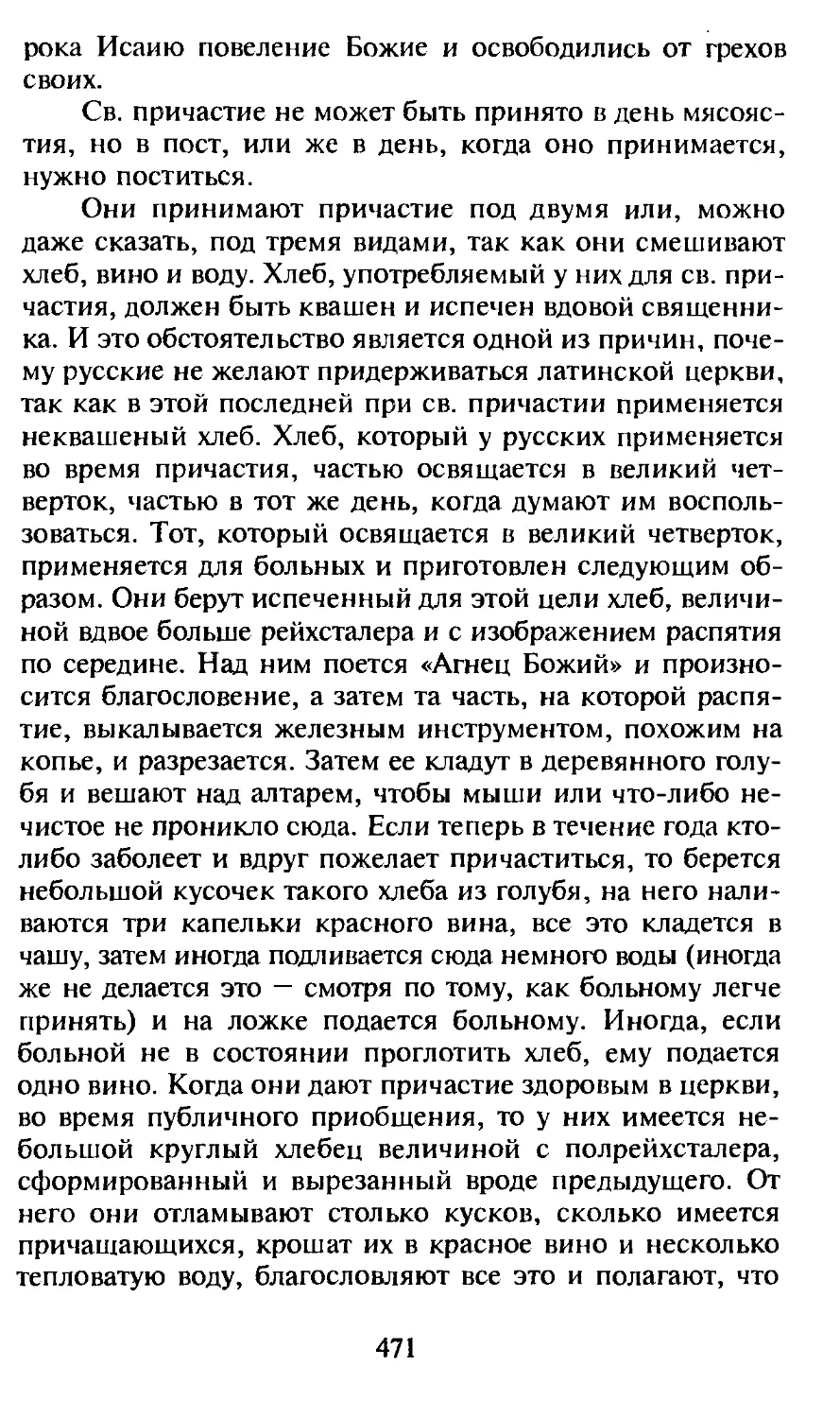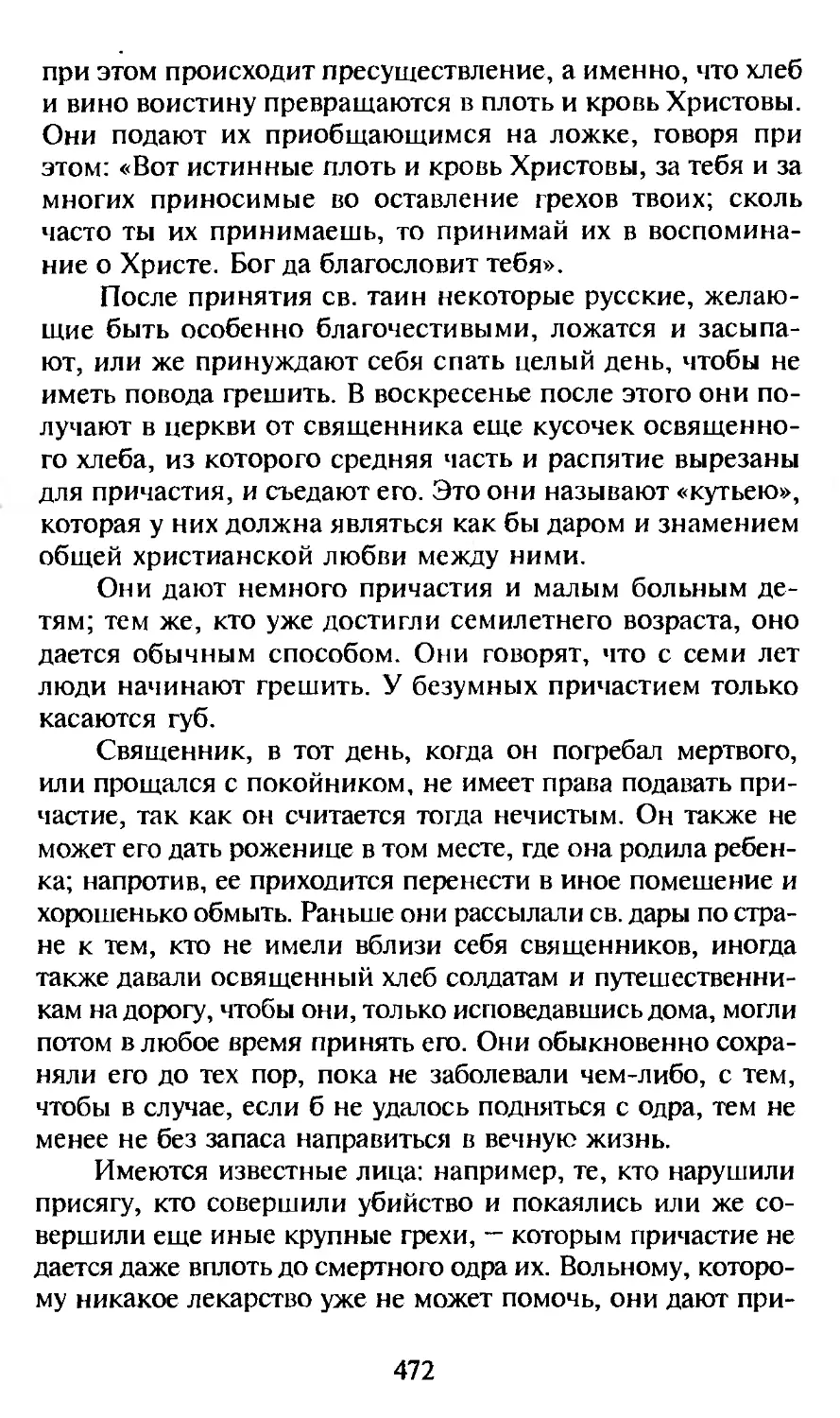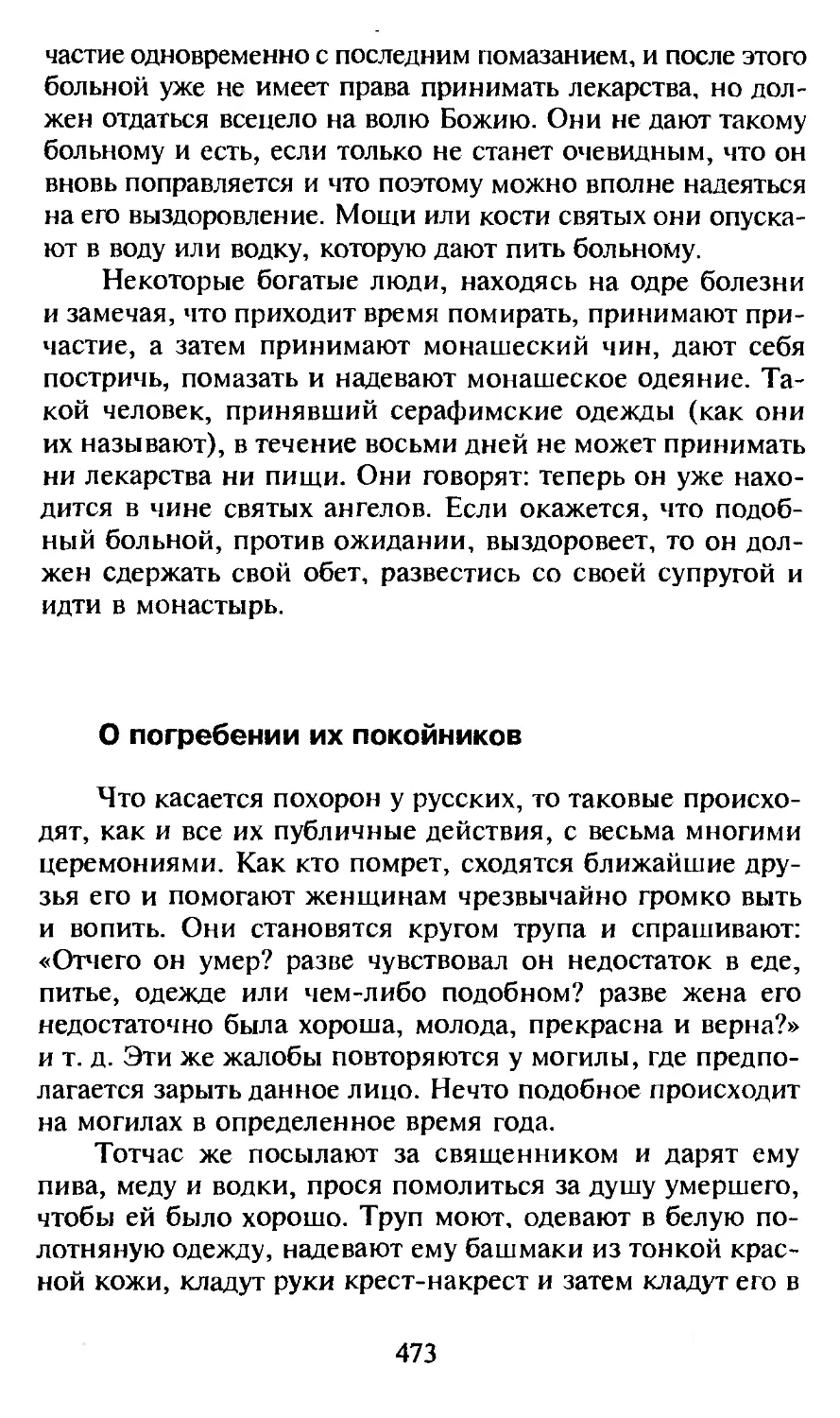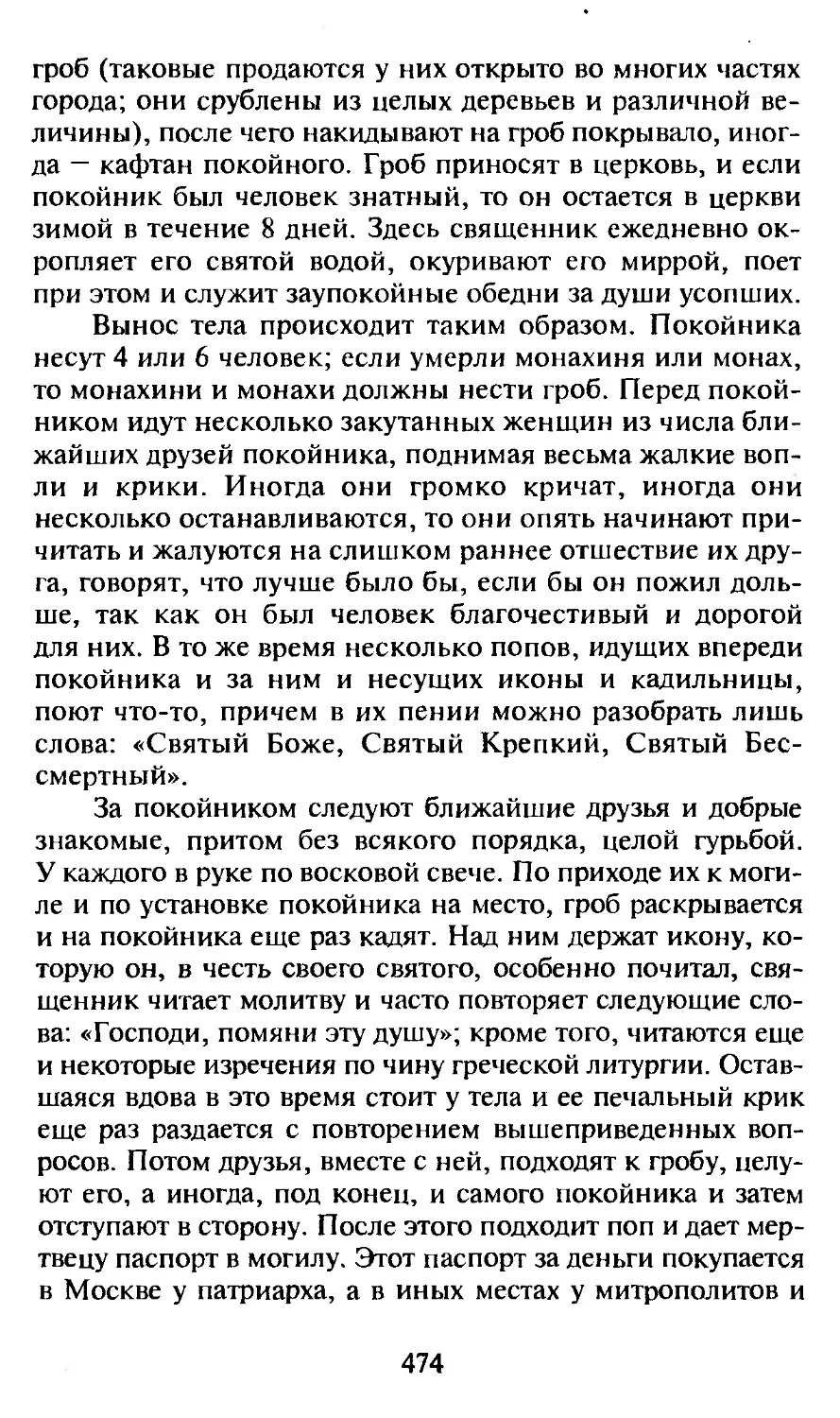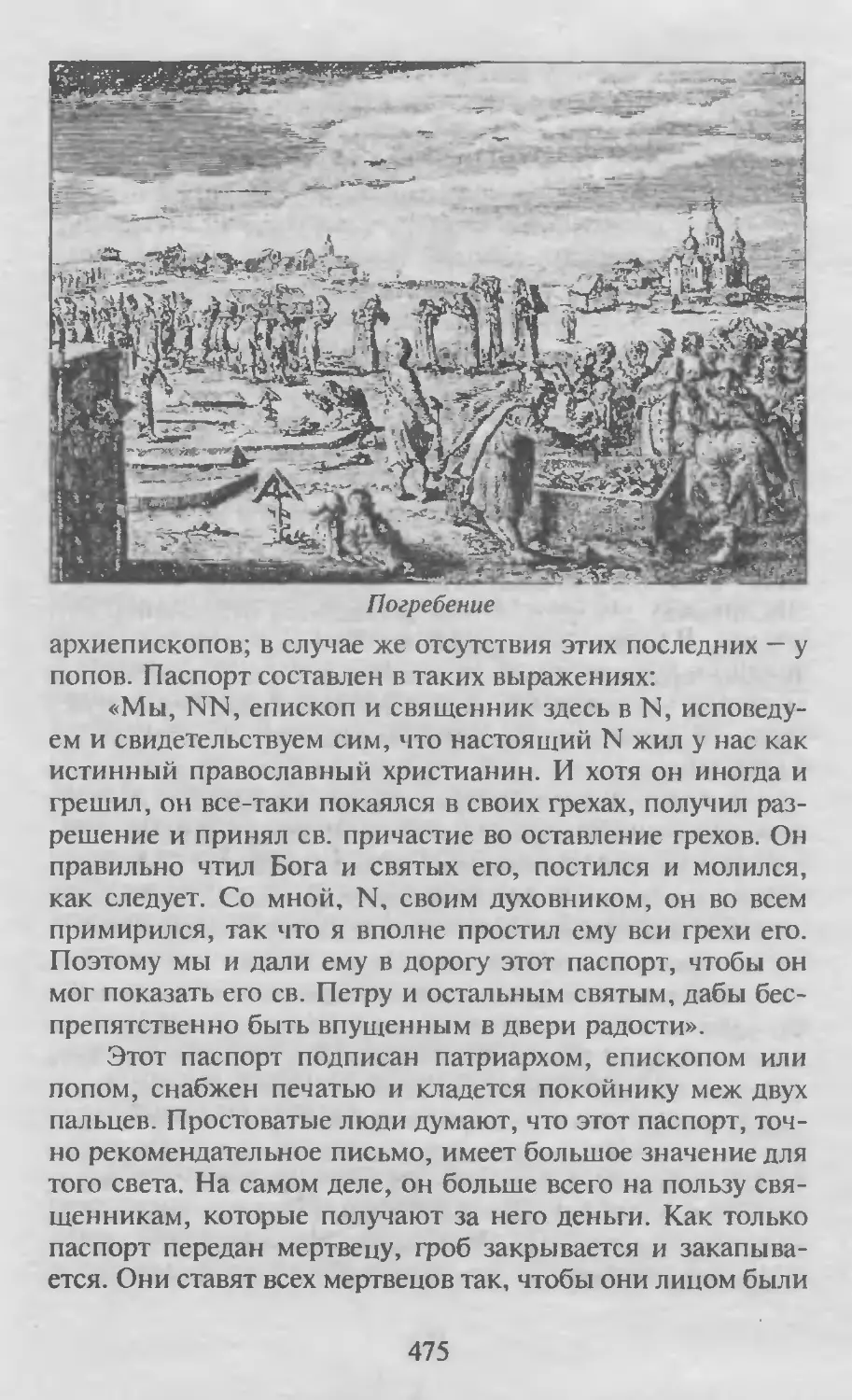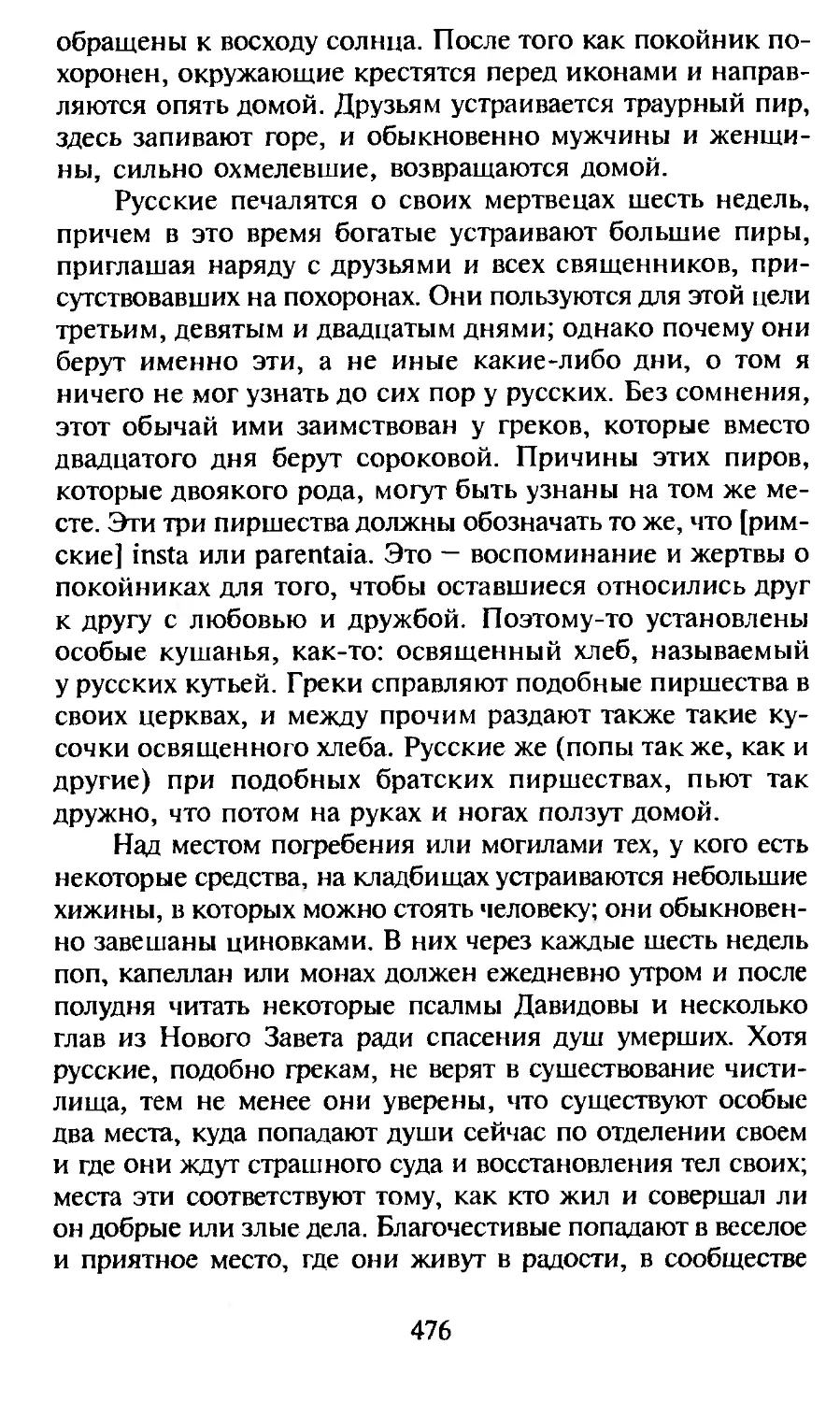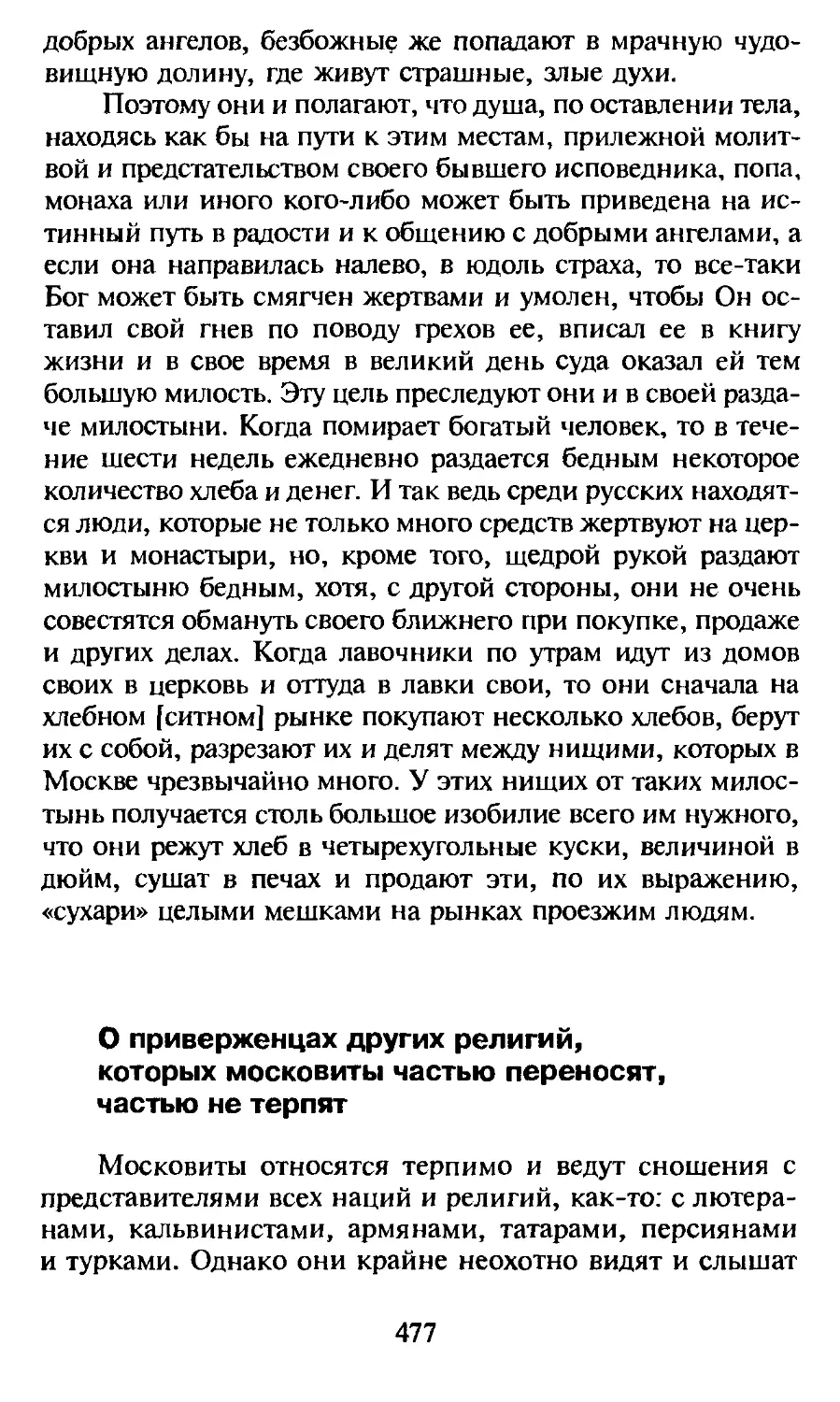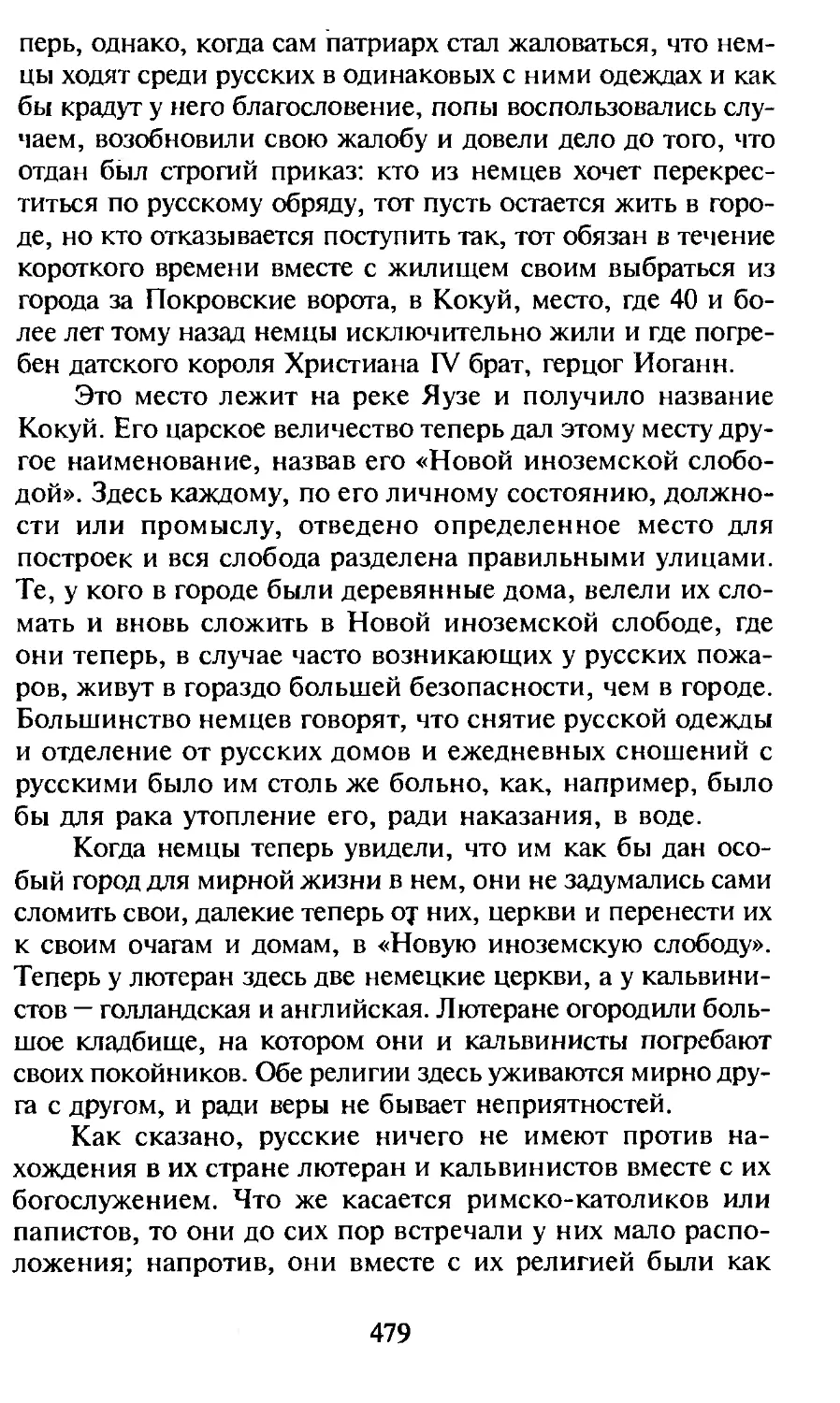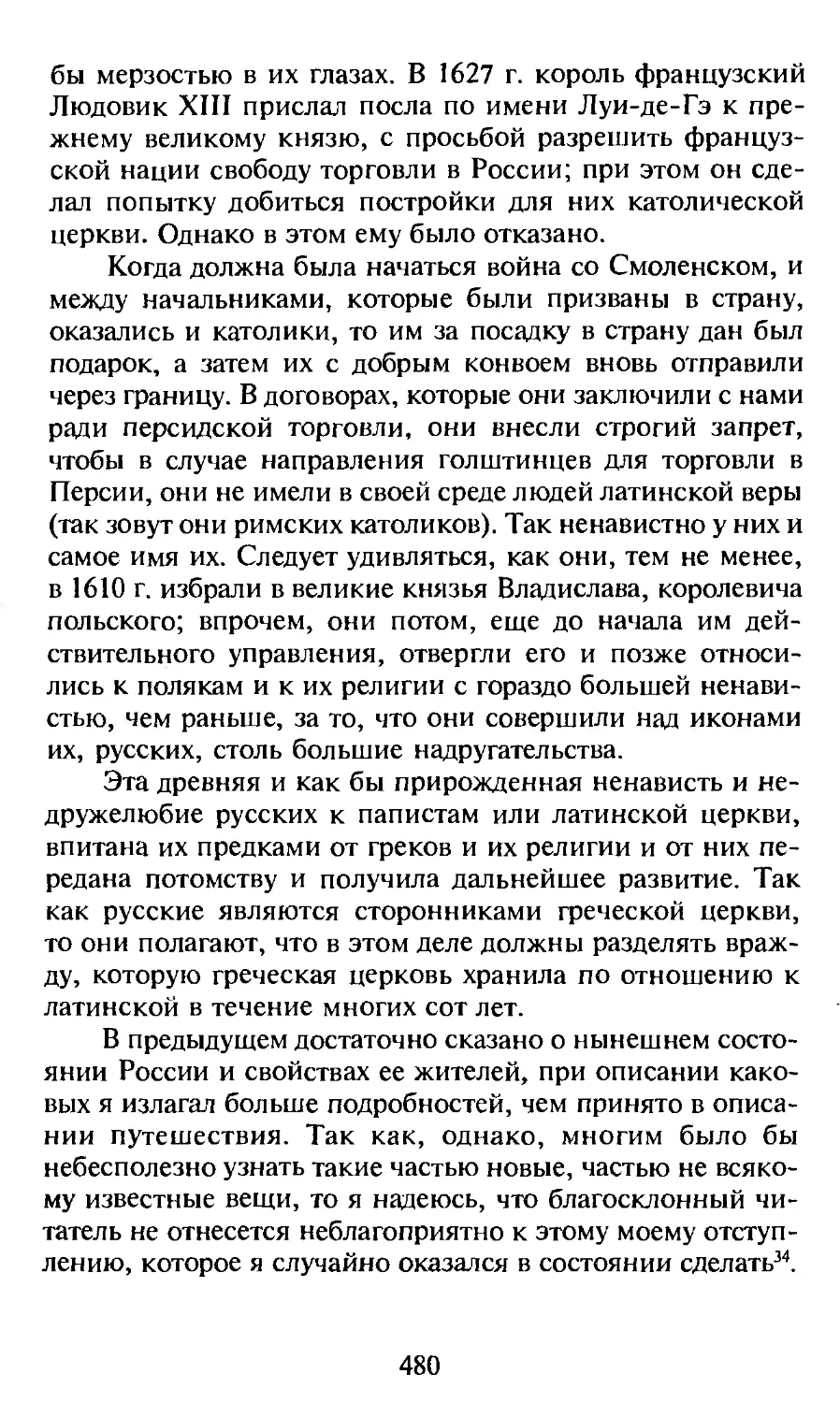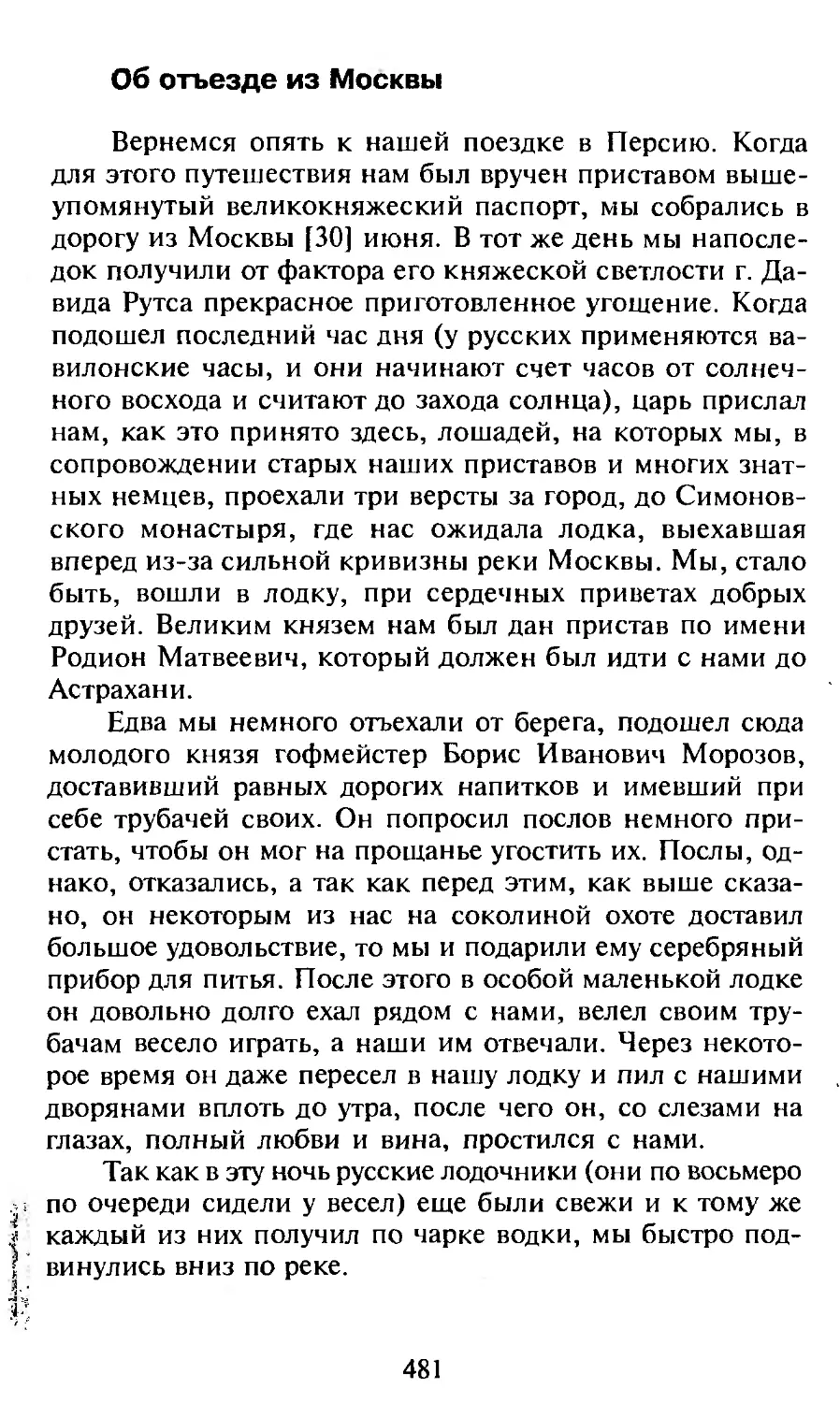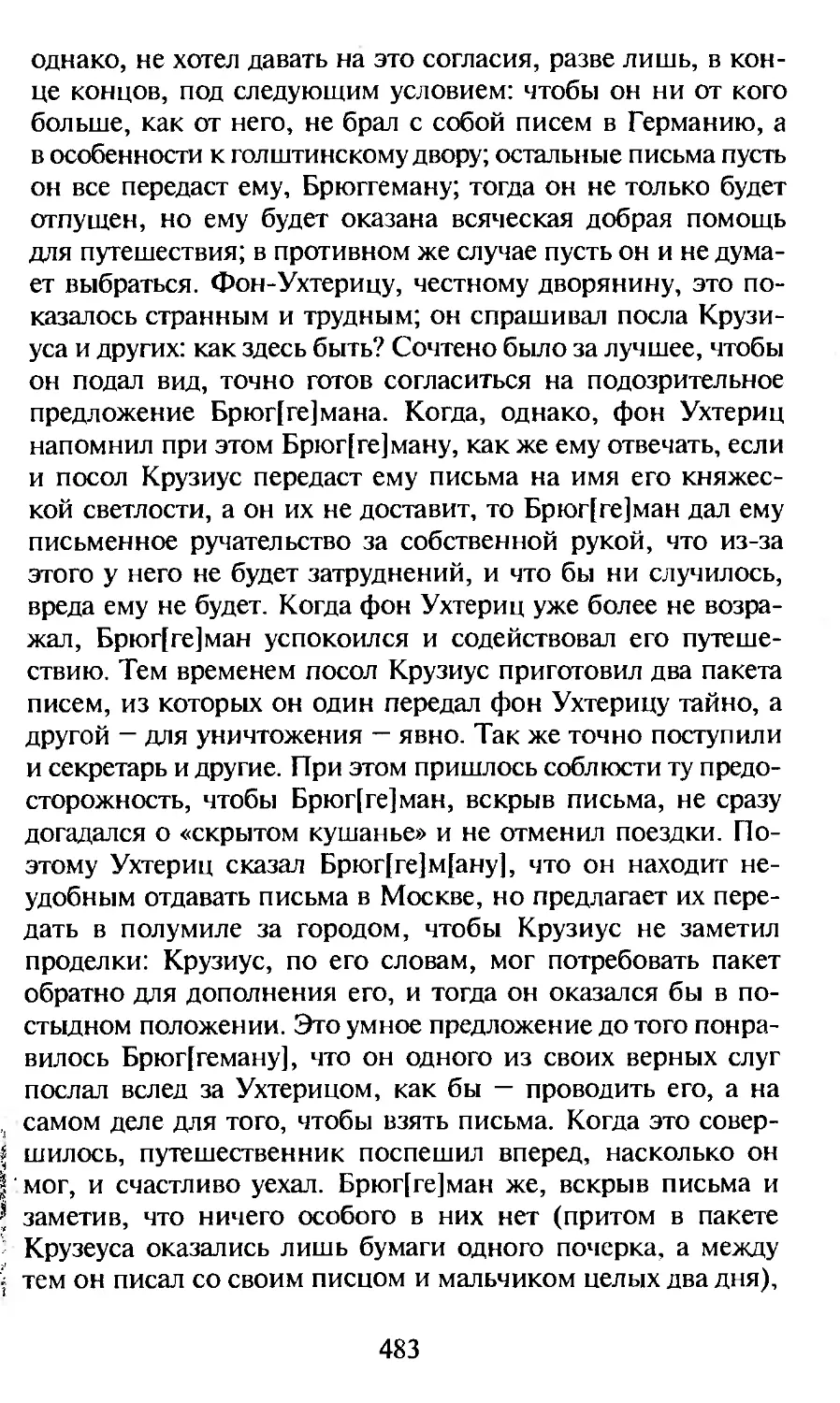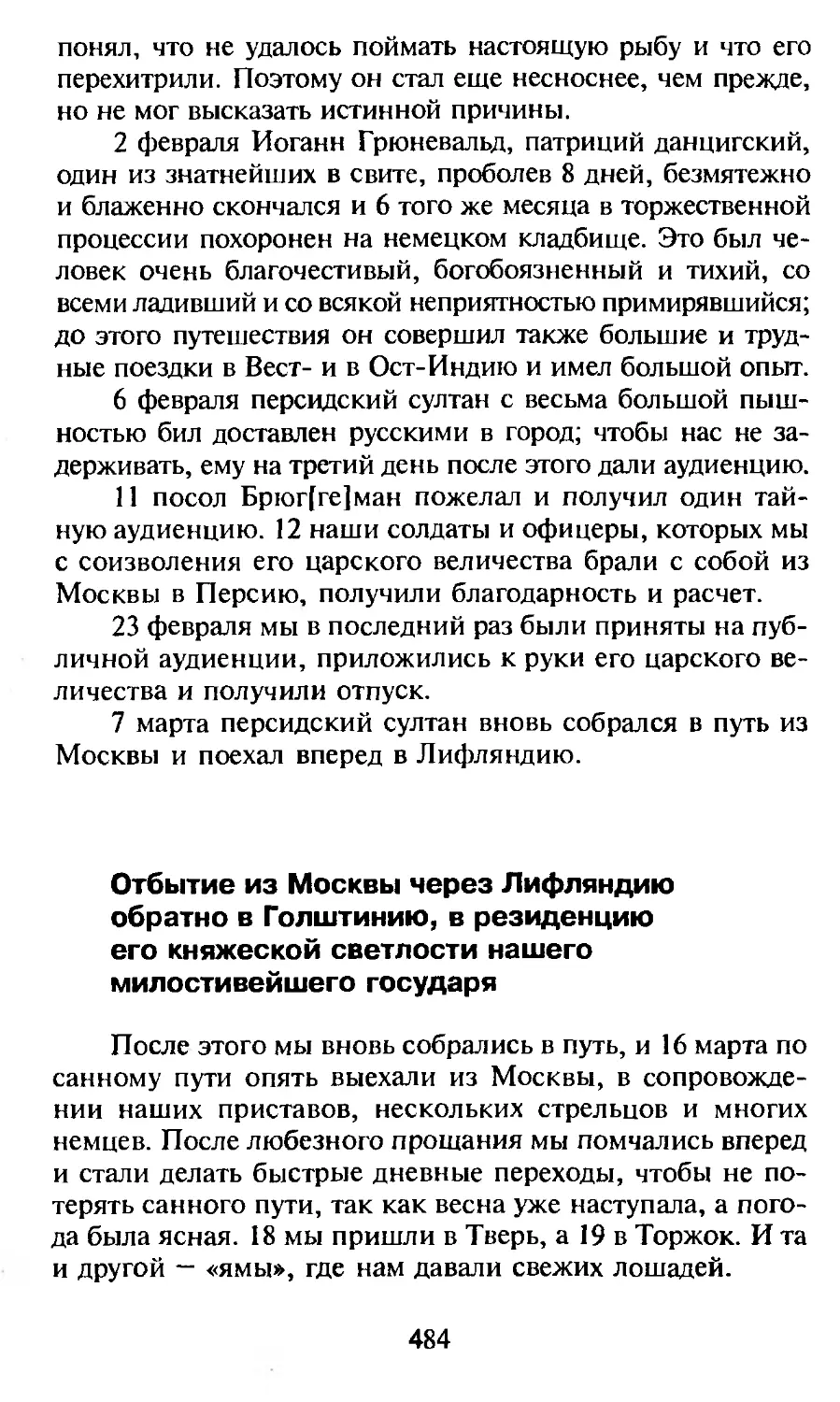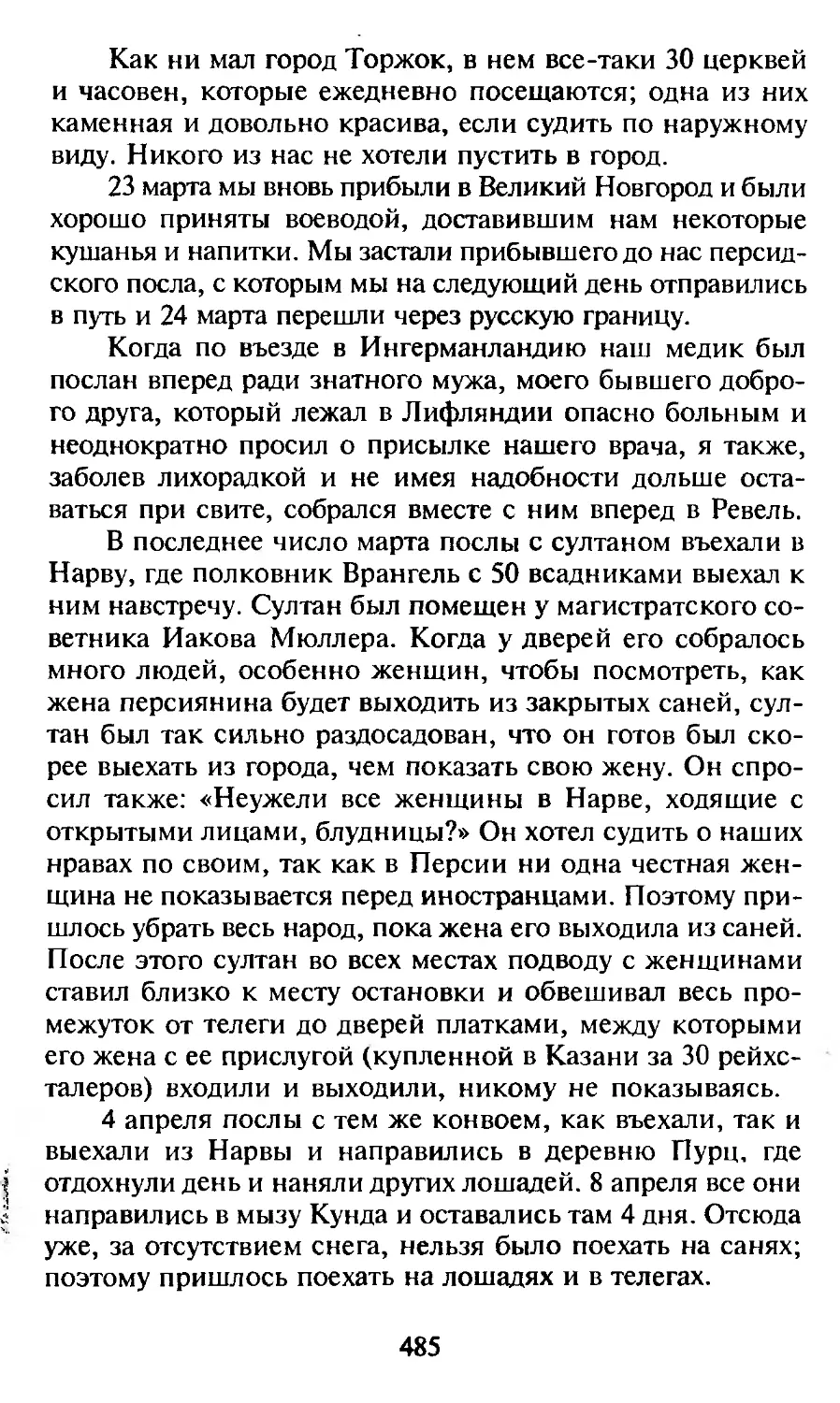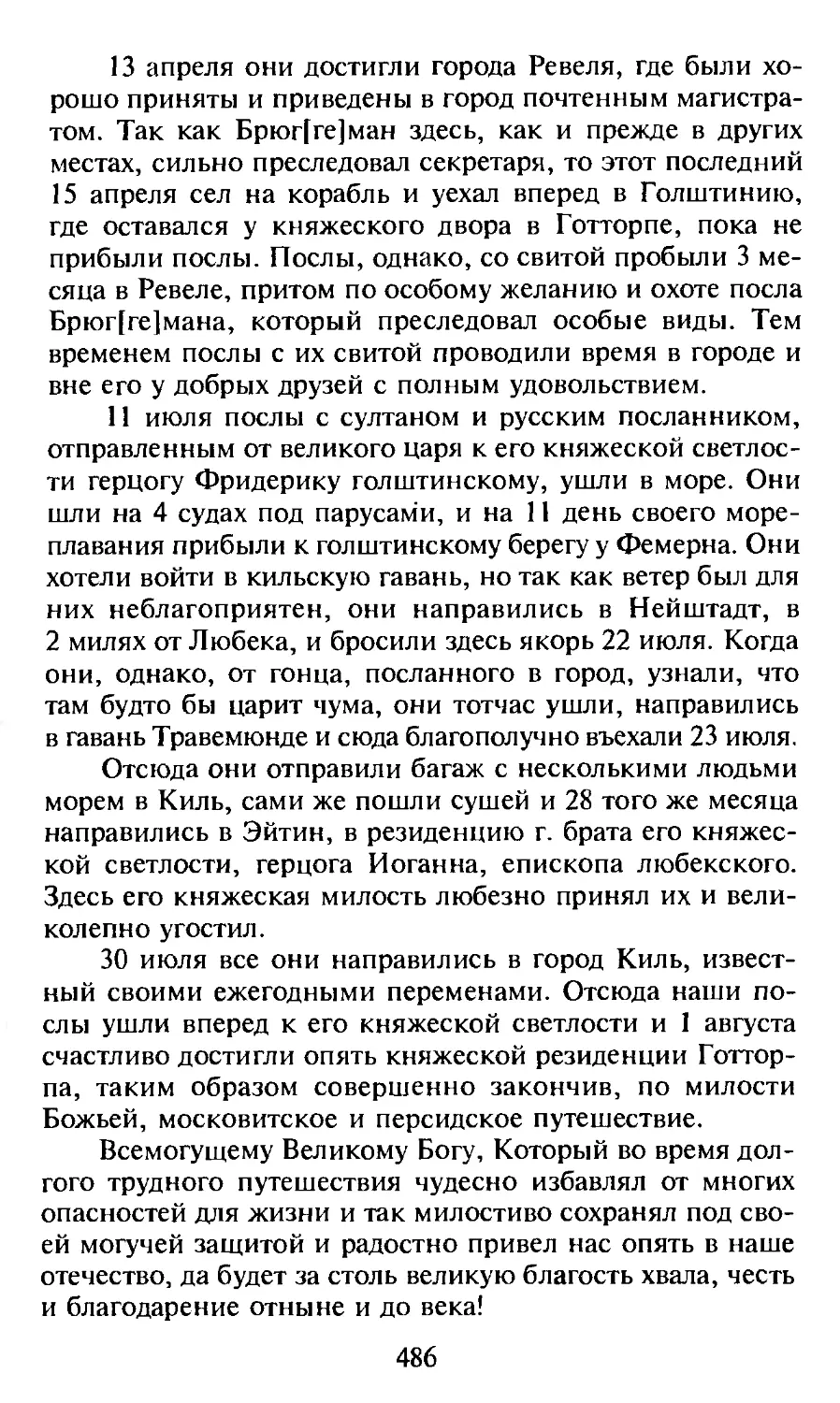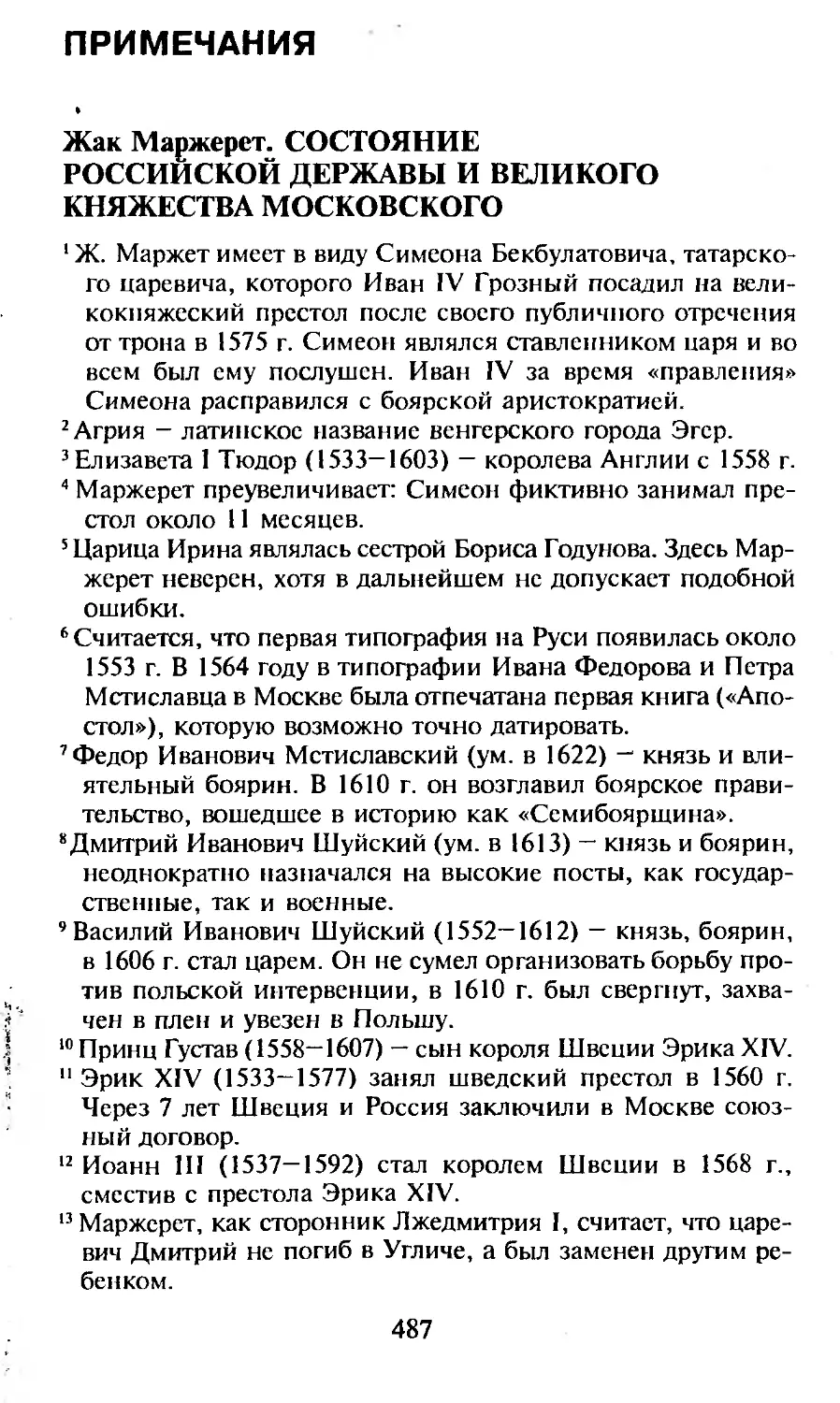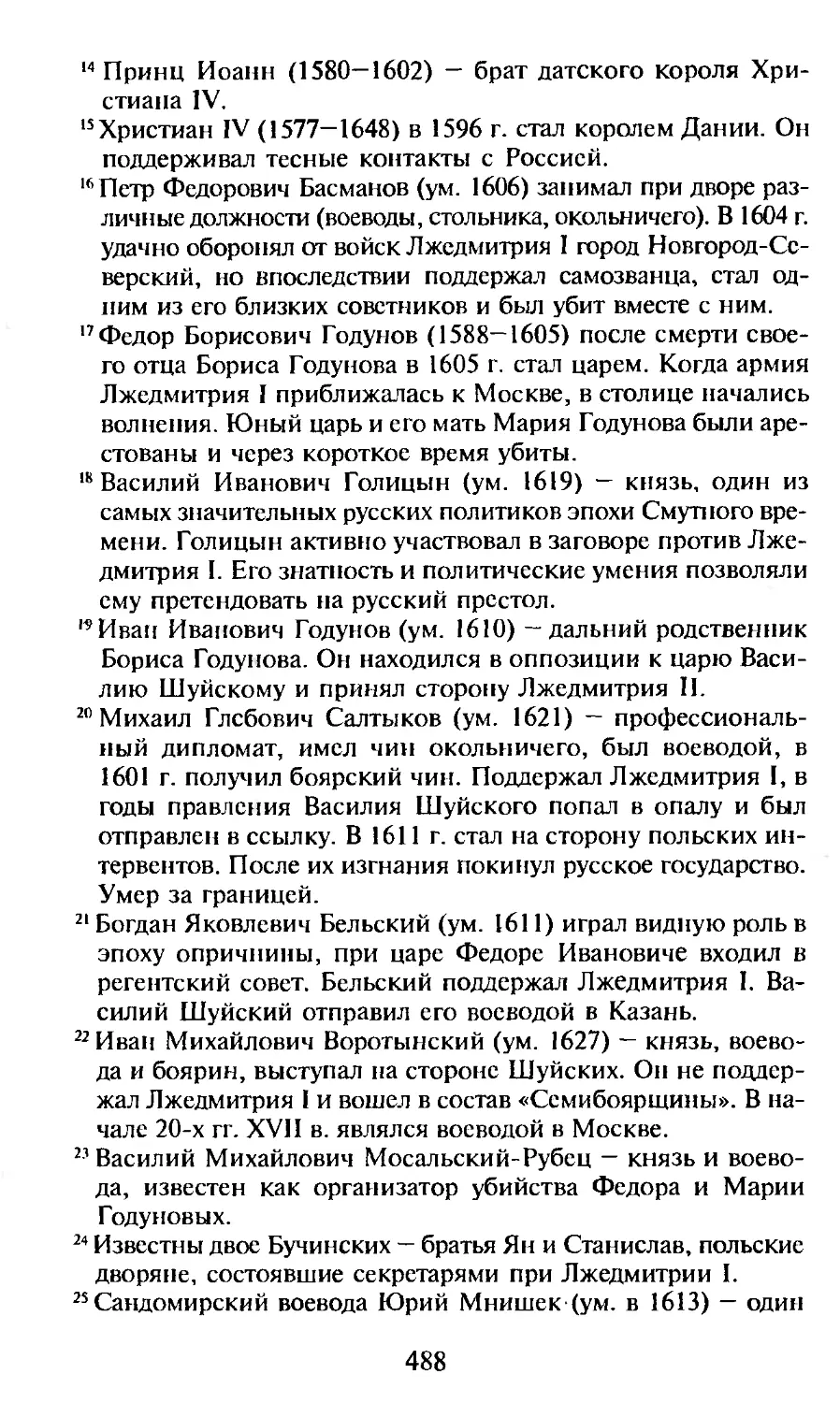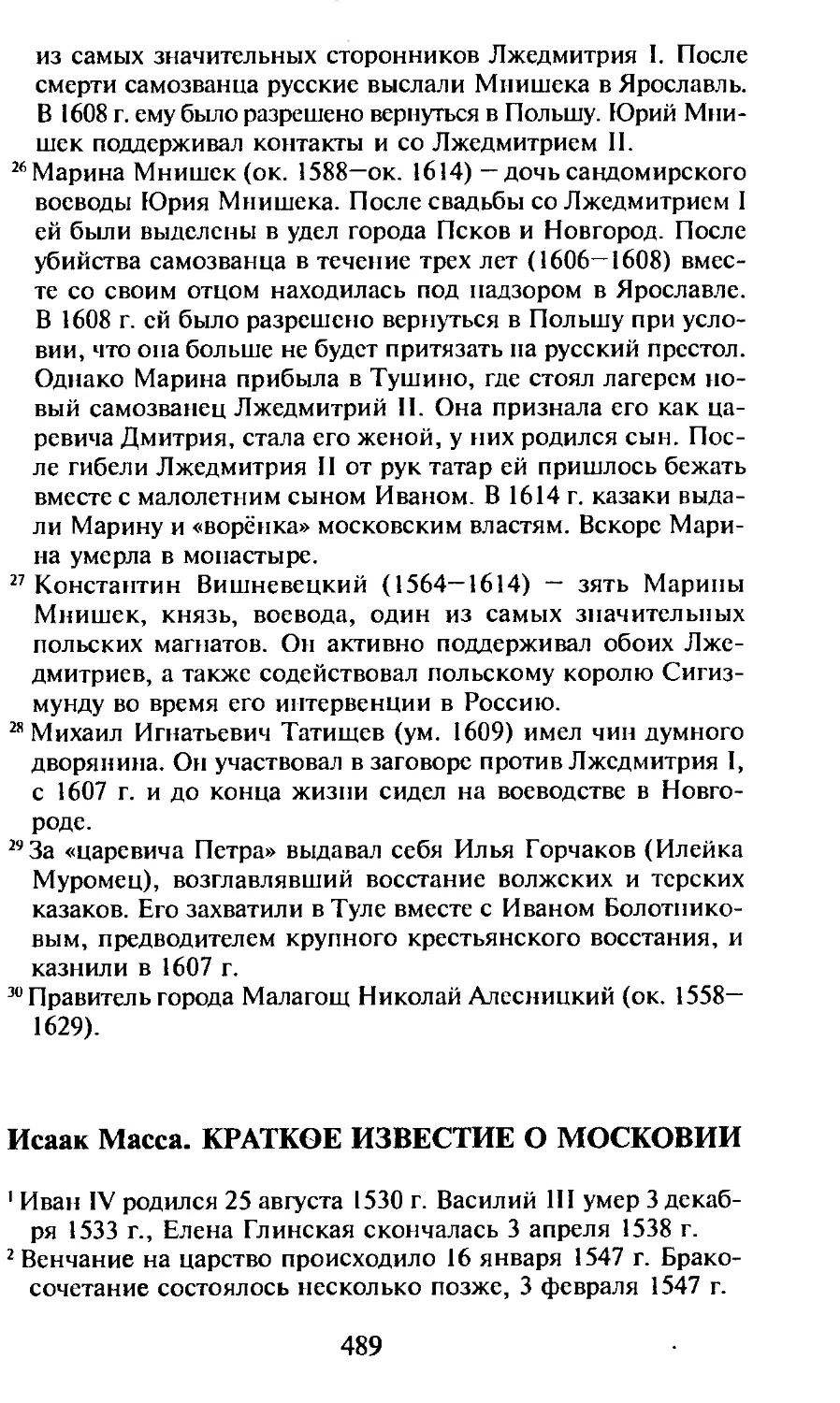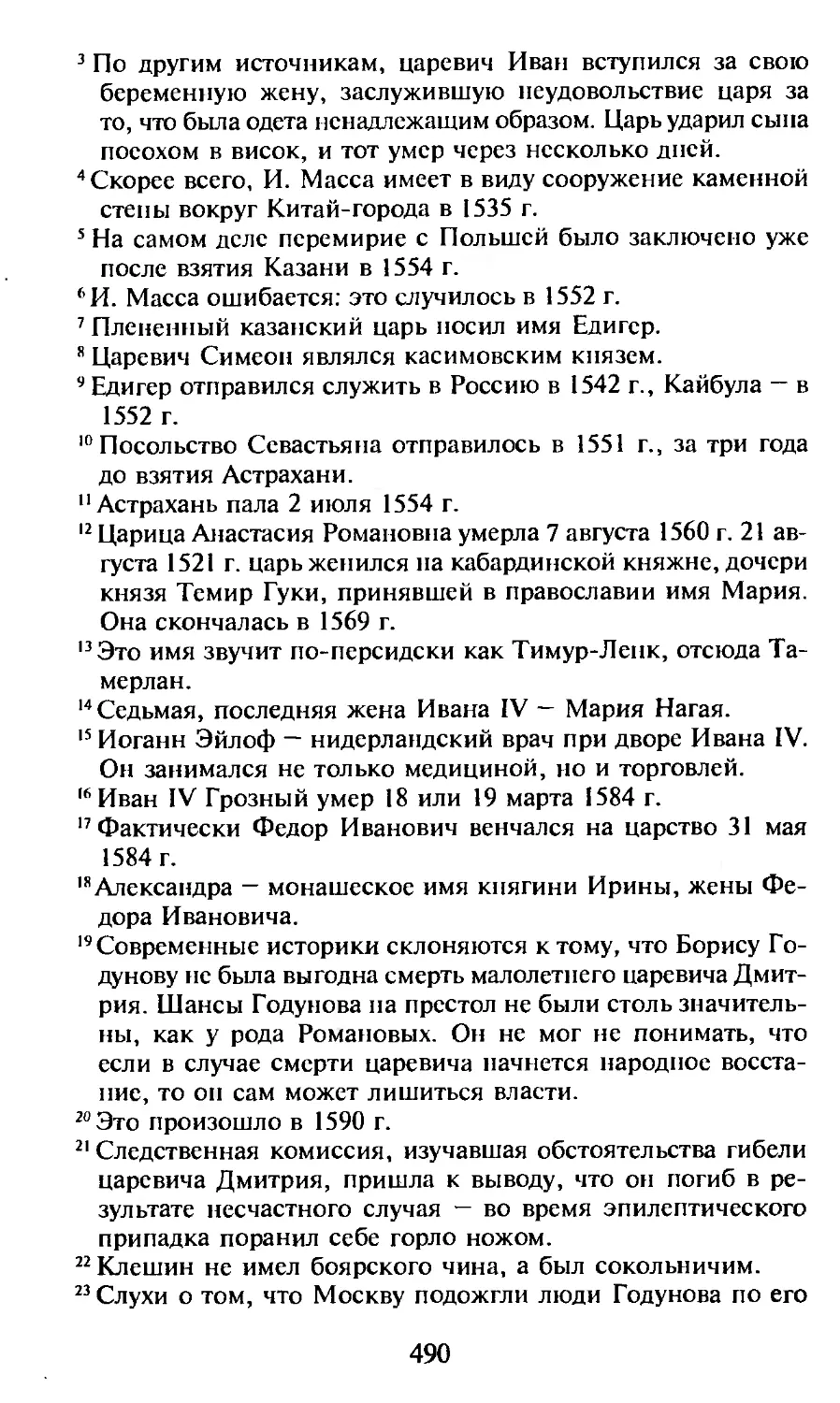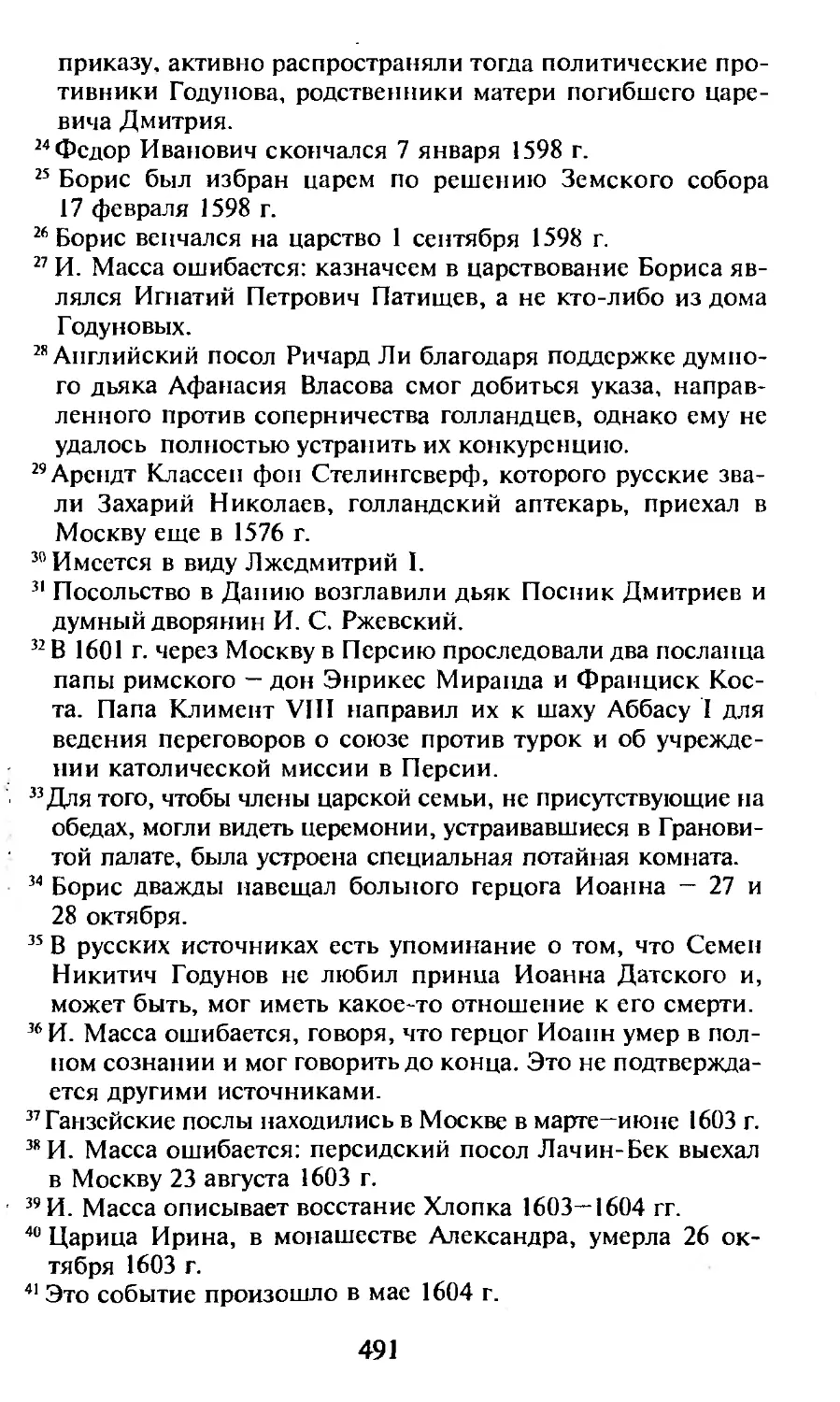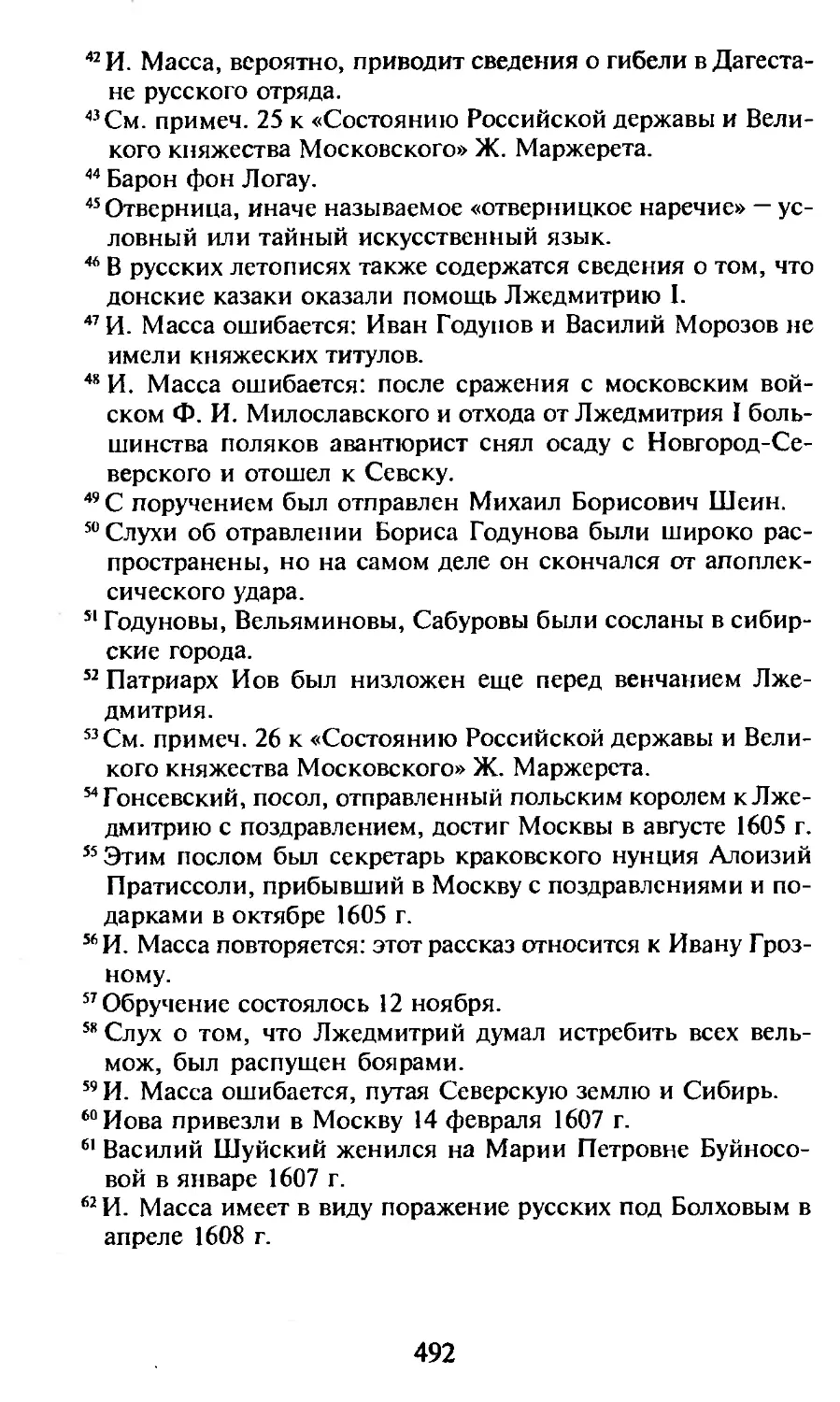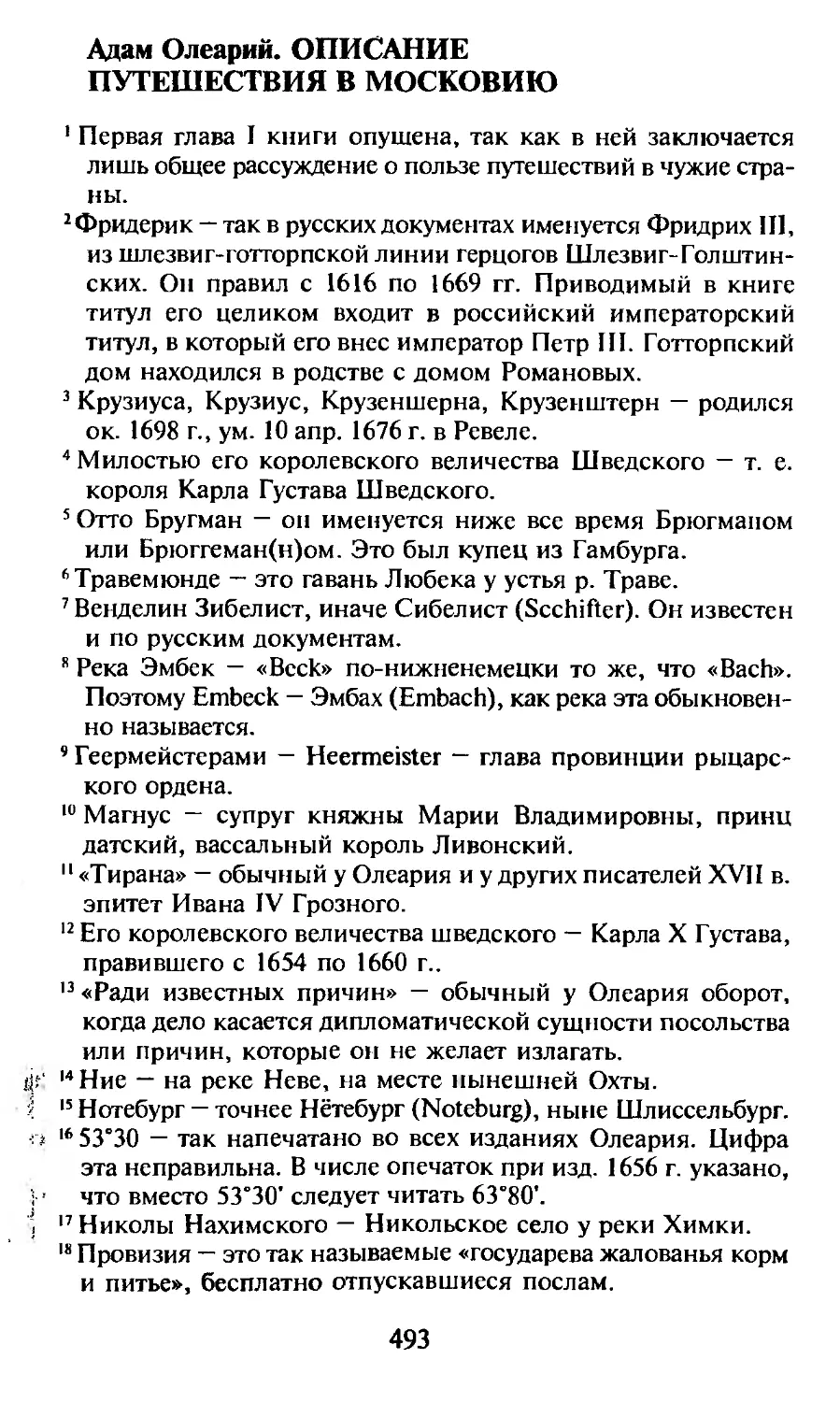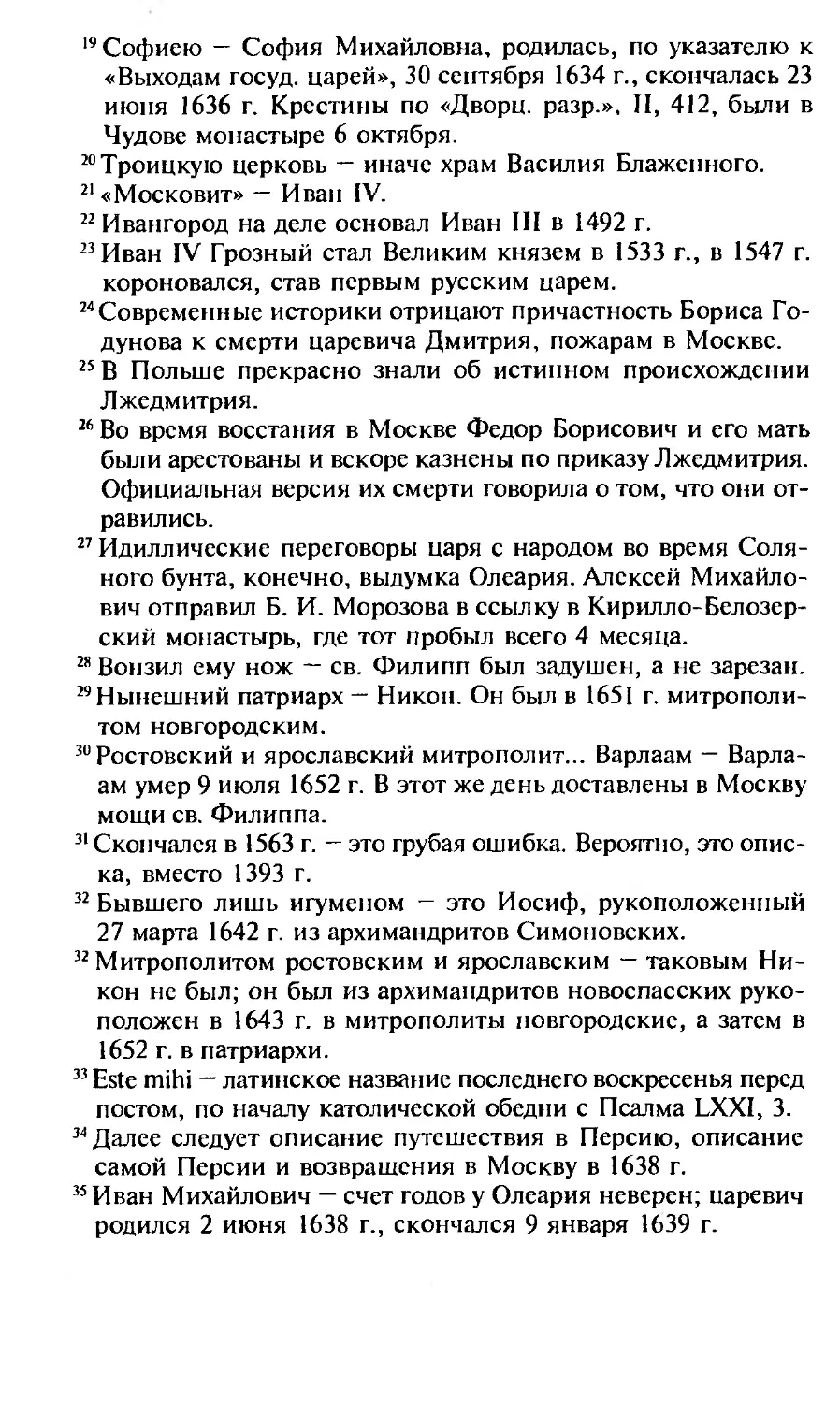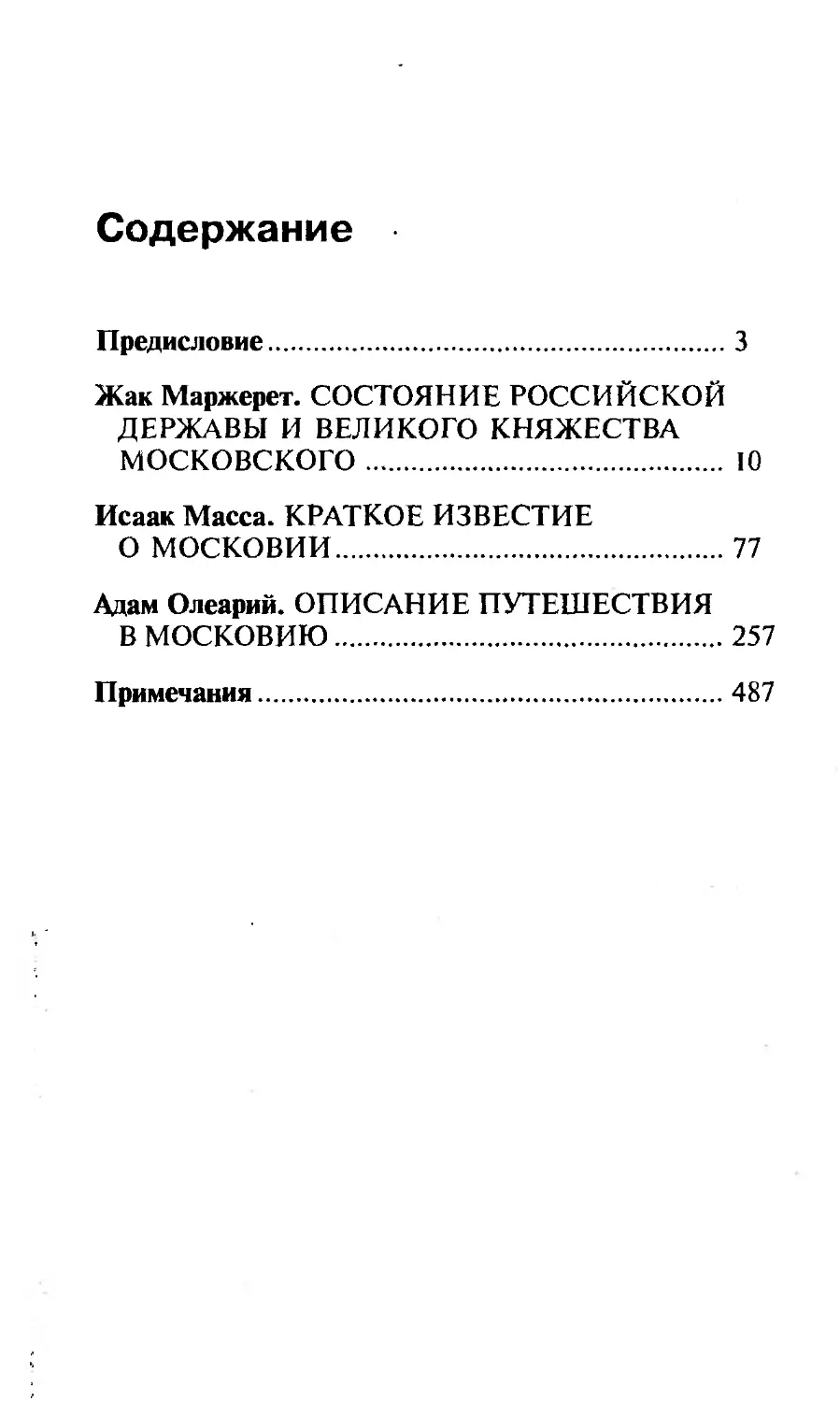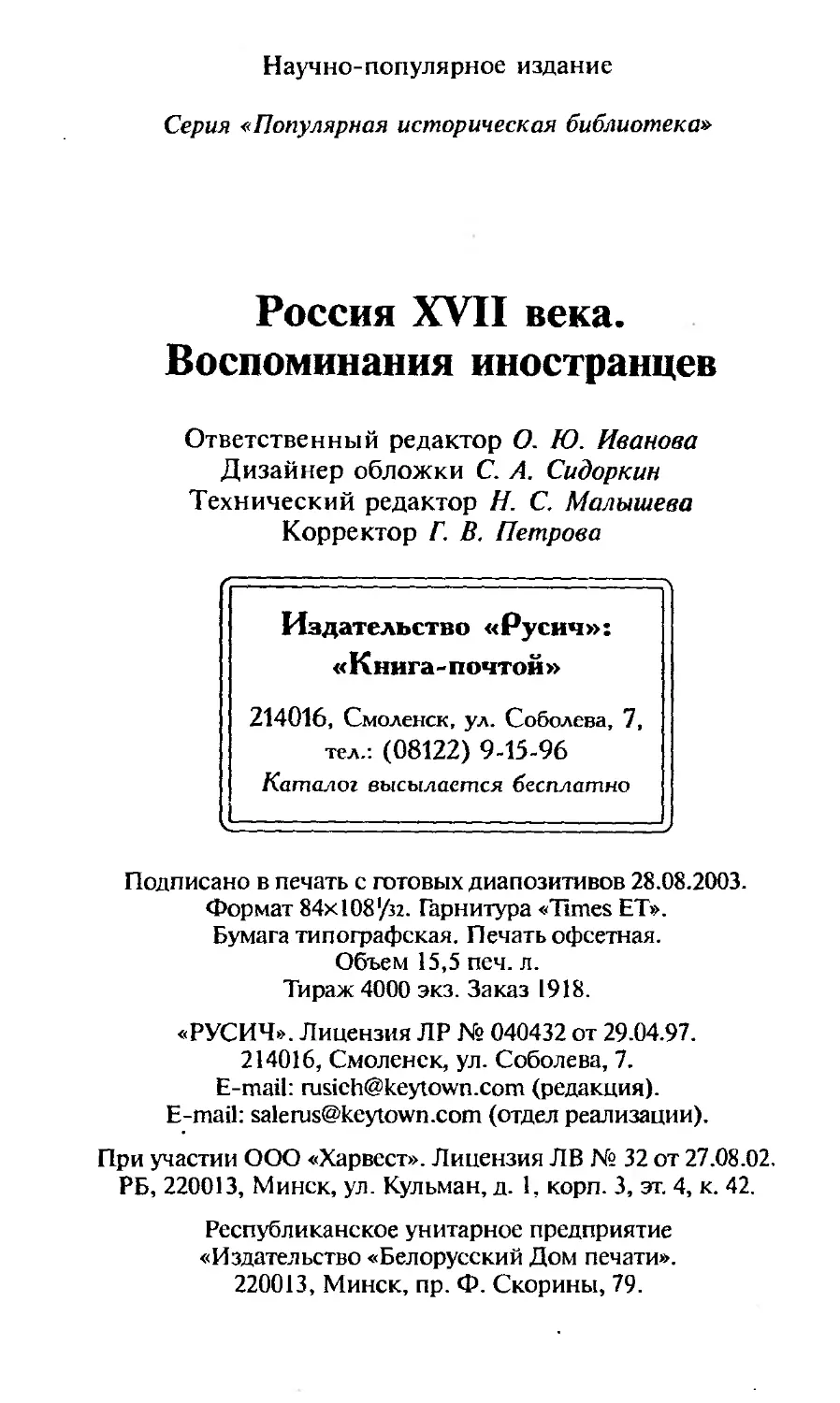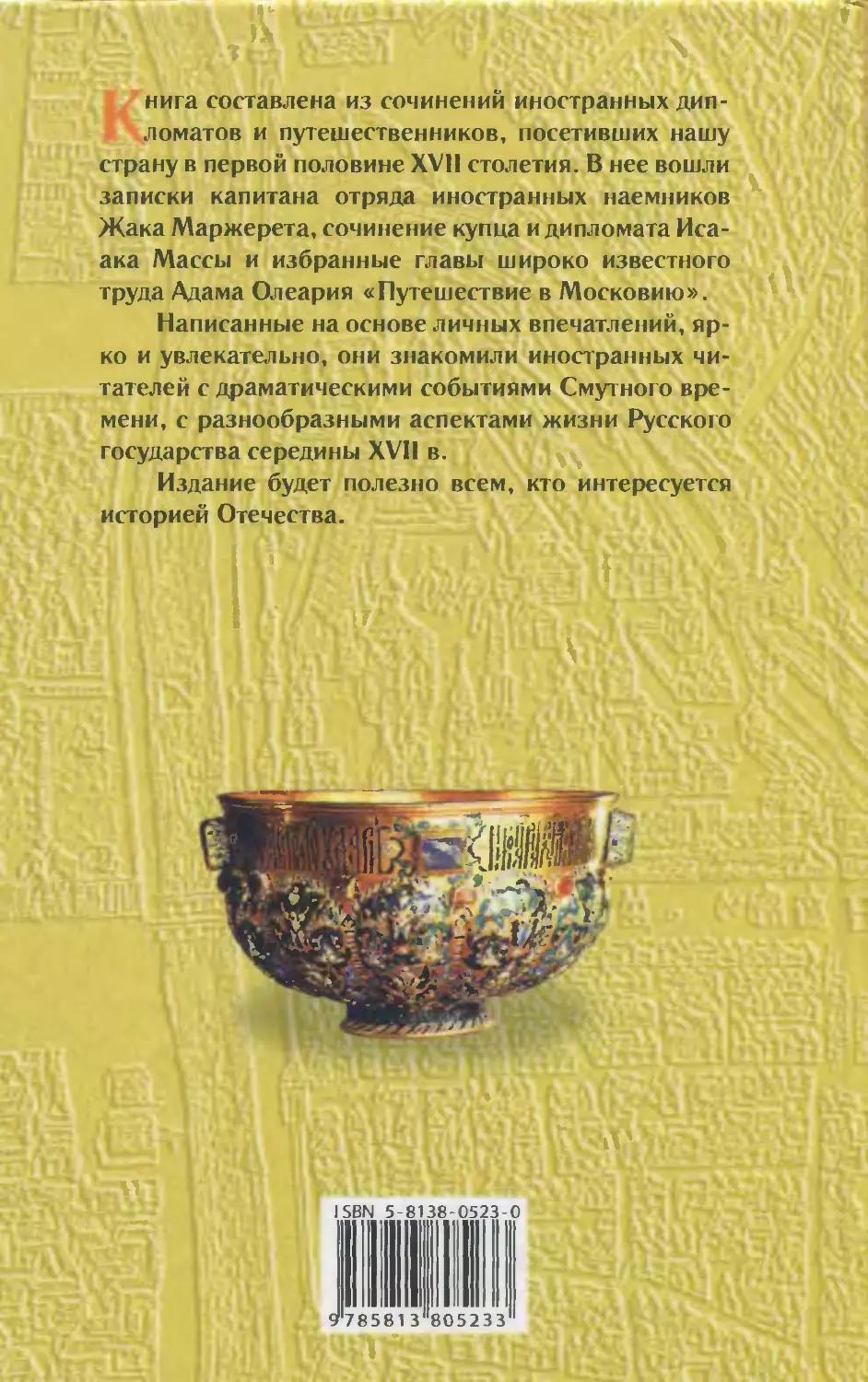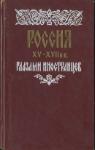Author: Иванова О.Ю.
Tags: география биографии история период феодализма (iv в - 1861 г) специальное (отдельное) животноводство история россии история российского государства
ISBN: 5-8138-0523-0
Year: 2003
Text
^ПОПУЛЯРНАЯ ИСТОРИЧЕСКАЯ БИБЛИОТЕКА^
РОССИЯ XVII века
Й ВОСПОМИНАНИЯ
ИНОСТРАНЦЕВ
^ПОПУЛЯРНАЯ ИСТОРИЧЕСКАЯ БИБЛИОТЕКА^
РОССИЯ XVII века
сэ ВОСПОМИНАНИЯ
ЙИНОСТРАНЦЕВ
СМОЛЕНСК
«РУСИЧ»
2003
УДК 93/99 [947+957]
ББК 63.3(2)45+46
Р 76
Серия основана в 2000 году
Р 76 Россия XVII века. Воспоминания иностран-
цев. — Смоленск: Русич, 2003. — 496 с.: ил. —
(Популярная историческая библиотека).
ISBN 5-8138-0523-0
Книга «Россия XVII века. Воспоминания иностранцев»
составлена из сочинений иностранных дипломатов и пу-
тешественников, посетивших Россию в первой половине
XVII столетия. В нее вошли записки капитана отряда ино-
странных наемников Жака Маржерета «Состояние Рос-
сийской державы и Великого княжества Московского»,
сочинение купца и дипломата Исаака Массы «Краткое
известие о Московии» и избранные главы широко извест-
ного труда Адама Олеария «Описание путешествия в Мос-
ковию».
Написанные на основе личных впечатлений, ярко и
увлекательно, они знакомили иностранных читателей с
драматическими событиями Смутного времени, с разно-
образными аспектами жизни Русского государства сере-
дины XVII в. Эти сочинения служат важным историчес-
ким источником по политической и социальной истории
русского общества первой половины XVII в.
Издание будет полезно всем, кто интересуется исто-
рией Отечества.
УДК 93/99 [947+957]
ББК 63.3(2)45+46
ISBN 5-8138-0523-0
© Разработка и оформление
серии. «Русич», 2003
© Составление, предисловие,
примечания. «Русич», 2003
Предисловие
В книгу «Россия XVII века. Воспоминания иностран-
цев» вошли сочинения Жака Маржерета «Состояние Рос-
сийской державы и Великого княжества Московского»,
Исаака Массы «Краткое известие о Московии» и «Описа-
ние путешествия в Московию» Адама Олеария. Они охва-
тывают период конца XVI и первой половины XVII вв.
Время, получившее название «Смуты», было весьма тя-
желым для России. После смерти Ивана Грозного (18 марта
1584 г.) на престол взошел его сын Федор. Он не обладал
способностями к государственным делам, и вскоре ре-
альную власть сосредоточил в своих руках Борис Году-
нов, сестра которого Ирина являлась женой царя. Круп-
ным политическим событием конца XVI в., имевшим
важные последствия, стала гибель царевича Дмитрия,
младшего сына Ивана Грозного, жившего с матерью и
свитой под наблюдением в Угличе. Общественное мнение
возложило вину за его смерть на Бориса Годунова (совре-
менные историки отрицают его причастность к «угличс-
кому делу», считая гибель Дмитрия несчастным случаем).
Как бы то ни было, смерть малолетнего царевича расчис-
тила Годунову путь к трону. В 1598 г. бездетный царь Федор
Иванович скончался. Патриарх Иов предложил венчать на
царство Бориса, Земский собор принял соответствующее
3
решение. Годунов долго колебался, но в конце концов со-
гласился взойти на престол. Современники не считали его
правление удачным: указы о прикреплении крестьян к
земле, неурожаи и голод 1602—1603 гг. не способствовали
популярности Бориса.
В начале 1604 г. Москвы достигли слухи о том, что ца-
ревич Дмитрий, чудесным образом спасшийся, скоро бу-
дет в Москве с сильным войском, чтобы предъявить свои
права на престол. Самозванца Григория Отрепьева, извест-
ного в истории как Лжедмитрий I, поддержали Сандомир-
ский воевода Юрий Мнишек и польский король Сигиз-
мунд III. За содействие и помощь Лжедмитрий обещал
Сигизмунду новгород-северские земли и Смоленск, а Мни-
шеку — оплату долгов и также ряд территорий Руси. Войска
Лжедмитрия перешли русскую границу в августе 1604 г.
Несколько городов сдались самозванцу без боя. В России
фактически началась гражданская война. Действия прави-
тельственных сил против войск Лжедмитрия не были осо-
бенно успешными. 13 апреля 1605 г. Борис Годунов умер от
апоплексического удара и престол наследовал его сын Федор.
Поход Лжедмитрия I на Москву завершился переходом на
его сторону жителей столицы. Федор Борисович был низ-
ложен. 20 июня 1605 г. Лжедмитрий въехал в Москву и вскоре
после этого венчался на царство. Правил оно около 11 ме-
сяцев.
В ночь с 16 на 17 мая 1606 г., вскоре после свадьбы с
Мариной Мнишек, дочерью Сандомирского воеводы, он
был убит. Группа бояр во главе с Василием Шуйским орга-
низовала заговор против царя, подняла против него жите-
лей столицы, которые расправились с многочисленными
поляками, находившимися в столице. 1 июня 1606 г. состо-
ялось венчание на царство Василия Шуйского. Он правил
чуть более четырех лет. Эти годы для Руси были весьма не-
спокойными: страну потрясали крестьянские волнения (са-
мым крупным из них было восстание во главе с казаком
Иваном Болотниковым, выдававшем себя за воеводу Дмит-
рия), разоряли войска Лжедмитрия II (новый самозванец
объявился летом 1607 г. в городе Стародубе). Как политик
Шуйский оказался слаб и несостоятелен. Военные действия
4
против сил Лжедмитрия II привели к разгрому правитель-
ственных войск под командованием брата царя Дмитрия
Ивановича Шуйского в битве под Волховом. В июне 1608 г.
самозванец с войском подошел к Москве, но город взять
не смог и расположился лагерем в селе Тушине. Понимая,
что своими силами справиться с противником он не смо-
жет, В. Шуйский попросил о помощи шведского короля,
который в обмен на предоставление войска в 5 тысяч чело-
век потребовал уступить ему город Корелу с уездом. Весной
1609 г. шведы появились на территории России и помогали
русским войскам освобождать земли, подконтрольные ту-
шинцам, однако численность шведского войска в три раза
превышала оговоренную ранее. Польский король Сигизмунд
III, находившийся в состоянии войны со Швецией, по-
считал такое усиление своего противника недопустимым и
вторгся на территорию России с многочисленным войс-
ком. Началась польская интервенция. Поляки осадили Смо-
ленск, разбили правительственные войска в битве при
Клушине между Вязьмой и Можайском. 17 июня 1610 г.
Василий Шуйский, который практически не контролиро-
вал ситуацию в стране, был низложен и выдан Сигизмун-
ду III в качестве заложника. Власть перешла к Боярской
Думе из семи человек — «Семибоярщине». Страну разоряли
отряды поляков, шведов, Лжедмитрия II. В этих условиях
русский народ поднялся на борьбу с интервентами. Первое
земское ополчение выбить поляков из Москвы не смогло.
Это удалось сделать только второму ополчению, которое
возглавили нижегородский староста купец Кузьма Минин
и воевода князь Дмитрий Пожарский. В октябре 1612 г. Мос-
ква была освобождена. Новгород и прилегающие земли,
захваченные шведами, удалось вернуть только в 1617 г.
В 1613 г. Земский собор избрал на царство 16-летнего
Михаила Федоровича Романова. На русском престоле во-
царилась новая династия. Эпоха Смуты закончилась. При
Михаиле Федоровиче и его сыне Алексее Михайловиче
внутри- и внешнеполитическое положение Руси стабили-
зировалось, было восстановлено разоренное за годы Сму-
ты хозяйство. Россия вновь заняла подобающее ей место
на европейской политической арене.
5
Бурные и драматические события Смутного времени
обусловили интерес, который испытывали современни-
ки-иностранцы к нашей стране.
«Записки капитана Маржерета» («Состояние Россий-
ской державы и Великого княжества Московского, с при-
совокуплением известий о достопамятных событиях че-
тырех царствований, с 1590 по сентябрь 1606 г.»)
являются важным источником сведений о России конца
XVI —начала XVII вв. Жак Маржерет (1550-е гг. — после
1618 г.) — француз по происхождению, принадлежав-
ший к судейскому сословию, являлся профессиональ-
ным солдатом-наемником. Он служил французскому ко-
ролю Генриху IV, затем австрийскому, трансильванскому
и польскому монархам. В 1600 г. Маржерет поступил на
русскую службу в чине капитана, под его началом нахо-
дился отряд иностранных наемников. 21 января 1601 г.
этот отряд участвовал в сражении с войсками Лжедмит-
рия II у села Добрыничи, где Маржерет отличился. Через
некоторое время он перешел на сторону самозванца,
командовал отрядом иноземной стражи в Кремле. После
гибели Лжедмитрия и вступления на престол Василия
Шуйского Маржерет в сентябре 1606 г. покинул Россию.
В течение двух лет он жил во Франции, где написал и
опубликовал свое произведение о Московском государ-
стве. В 1608 г. Маржерет вернулся в Россию и поступил
на службу к Лжедмитрию II, а впоследствии — к королю
польскому Сигизмунду III. Под командованием гетмана
С. Жолкевского он принял участие в Клушинской битве
(24 июня 1610 г.), в которой войска Василия Шуйского
потерпели сокрушительное поражение. В марте 1611 г.
Маржерет участвовал в подавлении восстания москови-
чей против интервентов и в разрушении Москвы. Осе-
нью 1611 г. Маржерет навсегда покинул Россию.
«Состояние Российской державы и Великого княже-
ства Московского» — ценный исторический источник, со-
держащий сведения о политических событиях в России с
1590 по сентябрь 1606 г., о правительственных учрежде-
ниях, войске Московского государства, о быте русского
народа, о природе и населении нашей страны. Однако со-
6
чинение Маржерета требует критического подхода. В част-
ности, он считал Лжедмитрия I действительно чудесным
образом спасшимся сыном Ивана Грозного.
Голландский купец Исаак Масса (1587—1635) дваж-
ды посещал Россию и подолгу жил здесь. Впервые он при-
был в нашу страну в 1601 г. В Москве Масса завел связи
с богатыми торговцами, приказным людьми и иностран-
цами, которые помогли ему основать в России торговлю
шелком. Голландец хорошо познакомился с различными
сторонами жизни, изучил русский язык, собрал большое
количество разнообразных материалов, освещающих со-
бытия в России в конце XVI — начале XVII вв., ознако-
мился с географией страны. Первое путешествие Массы
завершилось в 1609 г.: через Вологду и Архангельск он
отправился в Голландию. Уже в следующем году по реше-
нию голландских Генеральных Штатов Масса вновь вы-
ехал в Россию с торговыми и дипломатическими поруче-
ниями. Будучи активным сторонником сближения двух
стран, он ревностно защищал интересы голландской тор-
говли в России. В 1614 г. Масса отбыл на родину вместе с
русским посольством С. Ушакова и С. Заборовского, вме-
сте с ними вернулся в Россию и в 1615 г. сопровождал в
Голландию русское посольство И. Кондырева и М. Неве-
рова. В том же году Массе было доверено вести переговоры
с царем Михаилом Федоровичем об условиях русско-ни-
дерландского военного союза против Швеции, а также
торговых отношениях между двумя странами.
В 1620-х гг. Исаак Масса перешел на шведскую служ-
бу, после чего еще дважды посетил Москву, в 1628 г. в
составе шведского посольства А. Мониера и в 1634 г.
«Краткое известие о начале и происхождении совре-
менных войн и смут в Московии, случившихся до 1610 года
за короткое время правления нескольких государей»
И. Масса написал в 1610—1611 гг. Много внимания он уде-
лил правлениям Бориса Годунова, Лжедмитрия I и Васи-
лия Шуйского, причем основывался на личных наблюде-
ниях и свидетельствах современников, критически
относился к официальным известиям, предоставляемым
русским правительством. Исаак Масса, положительно от-
7
зываясь о личных качествах Бориса Годунова, негативно
оценил его правление, считал его виновным в смерти царя
Федора Ивановича и убийстве малолетнего царевича Дмит-
рия. События правления Годунова описаны им достаточно
подробно. Лжедмитрия I Масса считал самозванцем, опи-
равшемся на поддержку Речи Посполитой и Ватикана.
В своем сочинении Масса довел изложение событий до
1609 г. Его «Краткое известие» является важным истори-
ческим источником, освещающим историю России от цар-
ствования Ивана IV Грозного до Василия Шуйского. Не-
которые сведения, приводимые голландским купцом и
дипломатом, являются уникальными (к примеру, сведе-
ния о восстании И. Болотникова). Сочинение Массы было
впервые опубликовано в Брюсселе в 1866 г., в России его
напечатали в 1874 г. И. Масса также является автором двух
статей о Сибири, которые входят в число первых сочине-
ний о Сибири в западноевропейской литературе.
«Описание путешествия в Московию и через Моско-
вию в Персию и обратно» Адама Олеария — одно из са-
мых знаменитых сочинений о Русском государстве, со-
зданных в первой половине XVII в. Адам Эльшлеген (он
именовал себя на латинский манер Олеарием) родился в
Саксонии в 1603 г. Он преподавал в Лейпцигском универ-
ситете, отличался разносторонней образованностью, что
определило его участие в голштинском посольстве в Рос-
сию в 1633—1634 гг. В 1635—1639 гг. он входил в число
участников второго посольства герцога Голштинского Фре-
дерика в Россию и Персию (современный Иран). Перед
посольством 1633—1634 гг. была поставлена цель добиться
у русского правительства разрешения для голштинских
купцов проезжать через Россию в Персию и Индию с тор-
говыми целями. Такое разрешение было ими получено на
следующих условиях: голштинская компания обязывалась
ежегодно выплачивать в русскую казну по 600 тысяч ефим-
ков (иоахимсталеров); купцы могли торговать персидски-
ми и индийскими товарами в России. Договор заключался
на 10 лет и по истечении срока мог быть продлен по обо-
дному согласию сторон. Российское правительство оста-
вило за собой право через три или пять лет отказать голш-
8
тинским купцам в возможности транзита через русские
земли — в том случае, если усмотрит для себя какую-либо
невыгоду в их торговле. Посольство в Персию 1635—1639 гг.
вернулось успешно, но впоследствии голштинское прави-
тельство оказалось неспособно ежегодно выплачивать тре-
буемую русскими властями сумму и расторгло договор.
В 1639 г. после возвращения из Персии Адам Олеарий
поселился в Готторпе и поступил на службу к герцогу
Голштинскому в качестве математика, антиквариуса и
библиотекаря. Являясь одновременно математиком, фи-
зиком и историком, он был одним из образованнейших
людей своего времени. Путешествуя по России и Ирану,
он изучил русский и персидский языки и считался луч-
шим в Европе ориенталистом. Кроме того, он проявил
себя как поэт и художник. В 1647 г. Олеарий опубликовал
записки о своих путешествиях в Россию и Персию, содер-
жащие массу сведений об истории и географии России,
народных обычаях и нравах, о различных населенных пунк-
тах. «Описание путешествия в Московию и через Моско-
вию в Персию и обратно» было обильно снабжено карта-
ми и рисунками, выполненными автором. В настоящем
издании за недостатком места труд печатается в сокраще-
нии (в основном публикуются те его главы, которые не-
посредственно затрагивают события во время путешествия,
содержат описание европейской части России, быта и
обычаев русского народа). Опущены главы о путешествии
посольства из Москвы в Персию и его возвращении. «Опи-
сание путешествия в Московию» является одним из са-
мых полных трудов о России и благодаря широте охвата
материала считается одним из важнейших источников по
истории России первой половины XVII в.
Жак Маржерет
СОСТОЯНИЕ РОССИЙСКОЙ
ДЕРЖАВЫ И ВЕЛИКОГО
КНЯЖЕСТВА МОСКОВСКОГО
Его Величеству королю Франции
Государь!
Если бы подданные Вашего Величества, посещая отдаленные
земли, описывали правдиво то, что они видели и наблюдали заме-
чательного, то не только они сами извлекли бы выгоду, но могли
бы и Вашему государству принести пользу. Они указали бы, чего
должно искать, что можно заимствовать у других народов — ибо
для успехов общежития все в этом мире так устроено, что мы
находим у других то, чего сами не имеем. При том известия этих
наблюдателей внушали бы желание многим юношам — праздным
домоседам — посмотреть на белый свет: в трудных, но благород-
ных странствованиях, или среди иноземных воинств, они познали
бы доблесть: тогда рассеялось бы и заблуждение многих, которые
пределами христианства полагают Венгрию. Я могу уверить, что
Россия, описанная мною по приказанию Вашего Величества в на-
стоящем сочинении, служит христианству твердым оплотом, что
она гораздо обширнее, сильнее, многолюднее, обильнее, имеет гораз-
до более средств для отражения скифов и других магометанских
народов, чем многие предполагают. Царь властвует неограничен-
но, и страх и уважение к нему заставляют подданных беспрекос-
ловно подчиняться его воле. Порядком и внутренним устройством
он ограждает свои земли от беспрерывного нападения варваров.
Государь! Когда победами и счастьем Вы даровали Франции
то спокойствие, которым она теперь наслаждается, я увидел, что
10
моя ревность к службе не принесет пользы ни Вашему Величеству,
ни моему отечеству, —ревность, доказанная мною во время меж-
доусобий, под знаменами Де Вогренана, при Сен-Жан-Де-Лон и в
других местах герцогства Бургундского. Поэтому я удалился из
отечества и служил сперва князьям Трансильванским, потом им-
ператору в Венгрии, затем королю Польскому в звании капитана
пехотной роты. Наконец, судьба привела меня к русскому царю
Борису, я был удостоен им чести начальствовать кавалерийским
отрядом; по смерти же его Дмитрий, вступив в царство, поручил
мне начальствование первой ротой своих телохранителей. За это
время я имел возможность научиться русскому языку и собрать
много сведений о законах, нравах и религии этой страны. Все это
описываю в настоящем небольшом сочинении с такой простотой
и откровенностью, что не только Вы, Государь, при удивительно
ясном и проницательном уме Вашем, но и всякий увидит в нем
одну истину, которая, по словам древних, душа и жизнь истории.
Внимание Вашего Величества к моим изустным донесениям
подает мне надежду, что эта книга принесет Вам некоторое удо-
вольствие: вот единственное мое желание. В ней Вы найдете из-
вестия о событиях, весьма замечательных, отчасти поучитель-
ных для великих монархов. Самая участь несчастного государя
моего, Дмитрия, может служить для них уроком: разрушив неодо-
лимые преграды к своему престолу, он возвысился и пал скорее,
нежели в два года; но этого не довольно — его называют еще
обманщиком. Точно также вы увидите многие подробности о
России, достойные внимания и совершенно до сих пор неизвестные,
как по отдаленности этой державы, так и по искусству русских
скрывать и замалчивать дела своего государства.
Молю Бога даровать Вашему Величеству благоденствие. Ва-
шей державе — мир, наследнику — желание подражать Вашим
добродетелям, мне же — неизменную всегда постоянную ревность
делами своими оправдать имя всепокорнейшего подданного, вер-
нейшего и преданнейшего слуги Вашего Величества
Жака Маржерета.
Россия — весьма обширная страна, покрытая даже в
областях наиболее обитаемых дремучими лесами, а со сто-
роны Литвы и Ливонии пространными болотами, являю-
щимися как бы ее оградой. Она довольно густо заселена
от Нарвы, крепости и морской пристани на границах Ли-
вонских, принадлежащей королевству Шведскому, до
Архангельска или св. Николая, другого города в расстоя-
11
нии от Нарвы, а 2 800 верст (4 версты равны 1 лье), — и
от Смоленска (города близ пределов литовских, обнесен-
ного каменной стеной при Федоре Ивановиче Борисом
Федоровичем, тогдашним правителем государства), до Ка-
зани, на 1 300 верст.
В стране Казанской прежде находилось независимое
татарское царство; оно было покорено великими князья-
ми Василием Ивановичем и сыном его, Иваном Василь-
евичем. Владетель Казанский был взят в плен в самом го-
роде Иваном Васильевичем: он живет еще и теперь в
Московии, зовут его царь Симеон1. Казань построена воз-
ле знаменитой реки Волги, в которую впадает Ока. Подле
этого города обитают черемисы. За Казанью, по течению
Волги, впадающей в Каспийское море, тянутся обшир-
ные необитаемые степи; только немногие крепости пост-
роены по берегам Волги. От Казани до Астрахани около
2 000 верст. Астрахань, укрепленный город, ведет очень
деятельную торговлю, более деятельную, чем все прочие
русские города, и снабжает почти всю Россию солью и
соленой рыбой. Полагают, что земля там весьма плодо-
родна, так как в степях между Казанью и Астраханью ра-
стет много низкорослых, богатых плодами вишневых де-
ревьев и даже несколько лоз дикого винограда. Астрахань
изобилует хорошими плодами; в окрестностях ее, как рас-
сказывают некоторые писатели, попадаются растения-
животные, так называемые бараны: они вырастают из зем-
ли и привязаны к корню как бы кишкой, идущей от пупа,
длиною в 2 или 3 сажени. Названный баран поедает траву
вокруг себя и затем умирает. Бараны эти величиною с яг-
ненка; шерсть имеют курчавую. Я видел их шкуры — иног-
да совершенно белые, а иногда с немногими пятнами.
В царствование Ивана Васильевича, покорившего зем-
лю Астраханскую, англичане завели здесь торговлю с Пер-
сией. За Волгой обитают татары, которые называют себя
ногаями. Иван покорил еще землю, называемую русскими
царством или государством Сибирским. Страна эта покры-
та лесами, дубравами и болотами и мало исследована; ду-
мают, что она с одной стороны прилегает к реке Оби. Снаб-
жая государство пушниной, т.е. мехами собольими, куньими
12
и весьма дорогими черно-лисьими, Сибирь доставляет царю
весьма значительный доход. Теперь начали обрабатывать эту
землю, довольно богатую, в особенности хлебом. Русские
построили четыре города и установили в них гарнизоны,
дабы держать в повиновении народ, который весьма груб,
малоросл, видом похож на татар ногайских: лицо они име-
ют плоское и широкое, нос сплюснутый, глаза малые; цвет
лица очень смуглый; они отращивают волосы; некоторые
имеют бороду, одеваются в соболя, шерстью наружу. Лет
тридцать назад они не знали хлеба. Сюда обыкновенно ссы-
лаются люди, впавшие в немилость государя.
Для отражения Крымских татар, союзников Турецко-
го султана, которому они часто помогали опустошать Вен-
грию (особенно в 1595 г., когда произошла большая битва
при Агрии2) — русские с 1593 г. начали строить в погранич-
ных степях многочисленные города и крепости; впрочем, с
этой стороны Россия обитаема только до Ливен, т.е. на 700
верст от Москвы. Далее находятся Борисов, Белгород, Ца-
рев-город (в тысяче верст от Ливен) и другие города, ко-
торые все более и более заселяются; земля здесь весьма
плодородна, но жители решаются возделывать ее только в
окрестностях городов. Думаю, что от Царева-города до ве-
ликого хана не более 8 дней пути. Там в прежнее время
обыкновенно собирались татары, когда они задумывали
идти за добычей в Европу. Вообще, Россия весьма обшир-
на, и имеет границами Литву, Подолию, Турцию, Тата-
рию, Швецию, Норвегию, Новую Землю и Ледовитое море.
В северных и западных областях этой страны, более
всего обитаемых, весьма холодно; степи же татарские,
окрестности Волги, Казани, Астрахани и реки Оби, на-
ходящиеся в восточных областях, климат имеют умерен-
ный. В холодной полосе зима продолжается шесть меся-
цев, снег бывает по пояс, и целые реки можно переезжать
по льду. Несмотря на это, почва весьма плодородна, изо-
билует всякими хлебами, известными у нас во Франции:
рожь сеют в начале или половине августа, пшеницу и овес,
смотря по продолжительности зимы, — в апреле или мае,
ячмень же в конце мая. Есть и плоды; дыни здесь встреча-
ются такие большие и вкусные, что подобных я нигде в
13
других землях не видывал; сверх того, есть много огурцов,
яблок, вишен; слив и груш мало. Орехов, земляники и
подобных плодов великое множество. Летом дождь идет
изредка, а зимою его никогда не бывает. В Холмогорах,
Архангельске и Святом Николае, а также и в других мес-
тах на севере летом в продолжение месяца или шести не-
дель солнце видимо днем и ночью: в полночь оно отстоит
от земли сажени на две или три; зимою же целый месяц
дня совсем не бывает, ибо солнце не показывается.
Кроме этого вы найдете всякого рода дичь и живот-
ных, как и во Франции, исключая кабанов. Ланей и диких
коз довольно много в восточных и южных областях, в сте-
пях татарских между Астраханью и Казанью; лосей множе-
ство по всей России; кролики весьма редки; фазанов, ку-
ропаток, дроздов черных и серых, перепелов, жаворонков
весьма много; есть много и другой дичи, исключая бека-
сов, которых видно мало. В августе и сентябре бывает весь-
ма много журавлей, лебедей, гусей и диких уток. Из аистов
я видел зимою только одного, совершенно черного. Плото-
ядных животных — медведей белых и черных — очень мно-
го; лисицы, коих пять видов, и волки — звери обычные
здесь, в виду обширности лесов, и весьма вредные для до-
машнего скота. Кроме того, в некоторых северных областях
встречается особый род оленей: он менее обыкновенных и
с красивыми ветвистыми рогами; шерсть у них сероватая,
почти белая, а копыта раздвоены более, нежели у обыкно-
венных оленей. Они доставляют пищу и платье и служат
вместо коней для жителей. Запряженный в сани, для него
приспособленные, олень бежит скорее самой быстрой ло-
шади; большую часть года он питается тем, что находит
под снегом. Зайцы зимой белы, а летом такого же цвета,
как и во Франции. Сверх того, во всякое время встречают-
ся соколы, ястребы и другие хищные птицы; реки же изо-
билуют такой вкусной разнообразной рыбой, что подобно-
го богатства нет во всей Европе; из рыб наиболее известны
стерляди, белуги, осетры, белорыбица (немного более сем-
ги) и другие виды, как и во Франции, кроме форелей.
Рыба вообще дешева, как и прочие жизненные припасы.
Несмотря на великий голод (о котором будем говорить пос-
14
ле), уничтоживший почти во всей стране домашний скот,
я купил во время отъезда по дороге ягненка, величиною с
нашего барана или около того, за 10 копеек, что составля-
ет 13 су 4 денье, и курицу за 7 денье. Каплунов держат
только иностранцы. Такая дешевизна происходит от того,
что каждая овца приносит обыкновенно двух и трех ягнят,
и от каждого из них к следующему году родится опять
столько же. Рогатый скот точно так же весьма быстро раз-
множается. В России вообще не едят телятины, считая это
грехом. Кроме того, ежегодно постятся 15 недель, не счи-
тая среды и пятницы, что составит около полугода. Благо-
даря этому мясо весьма дешево. Хлеб также не дорог: соби-
рают его много, а за границу не вывозят; почва же так
тучна и так плодородна, что ее удабривают только в неко-
торых местах. Мальчик от 12 до 15 лет с небольшой лоша-
дью обрабатывает десятину или две ежедневно.
Несмотря на изобилие и дешевизну съестных припа-
сов, простой народ довольствуется весьма немногим. Ина-
че он не мог бы покрыть издержки, ибо тут не знают ника-
кой промышленности и весьма ленивы. Работы не любят и
преданы пьянству, как нельзя более. Когда веселятся, обык-
новенно пьют вино и мед, приготовленный из сотов, ко-
торые добываются без труда и в великом изобилии; об этом
можно судить по множеству воска, который они ежегодно
отправляют в чужие страны. Есть у них также пиво и другие
дешевые напитки. Все без различия, мужчины и женщи-
ны, мальчики и девочки, предаются пороку пьянства, са-
мого неумеренного. Духовенство не уступает мирянам, если
даже не превосходит их. Когда есть только хмельное, кото-
рое разрешается приготовлять лишь для известных годич-
ных праздников, то пьют день и ночь, пока всего не выпь-
ют. Я говорю о простом народе, так как дворяне имеют
право делать напитки, какие им угодно, и пить, когда хотят.
Великие князья ведут свой род, по известию русских
летописей, от трех братьев, которые переселились из Да-
нии и овладели Россией, Литвой и Подолией лет за 800
до нашего времени. Старший из братьев, Рюрик, назвал
себя великим князем владимирским, и от его по мужской
линии происходят все великие князья, включая Ивана
15
Васильевича, который после завоевания Казани, Астра-
хани и Сибири, получил от Максимилиана, императора
римского, титул императора.
Что касается титула, то наименование «царь», здесь
употребляемое, считают самым высоким. Императора рим-
ского они именуют цесарем, производя это от Цезаря; про-
чих же государей — королями, следуя полякам; владетеля
персидского называют кизель-баша, а турецкого — вели-
кий господарь турецкий, т.е. великий государь. Слово «царь»,
по их мнению, находится в Священном Писании, где Да-
вид, Соломон и иные государи названы «Царь Давид», «Царь
Соломон». Поэтому они говорят, что наименование, коим
Богу угодно было некогда почтить Давида, Соломона и
других властителей Иудейских и Израильских, гораздо бо-
лее приличествует государю, нежели слова цесарь и ко-
роль, выдуманные человеком и присвоенное, как они по-
лагают, каким-нибудь завоевателем. Тогда Федор Иванович,
царь Российский, снял осаду Нарвы, и полномочные по-
слы съехались для заключения мира между Россией и Шве-
цией, обе стороны более двух дней пререкались об импера-
торском титуле: Федор хотел его принять, шведы же не
соглашались уступить. Русские заявили, наконец, что наи-
менование царь еще выше императора, и потому поста-
новлено было именовать Федора всегда царем и великим
князем московским: и те, и другие, толкуя наименование
царь по-своему, считали себя в выигрыше. Король польский
пишет царю точно так же, называя его императором, как
делала и покойная Елизавета, а ему следуют король вели-
кобританский, король датский и великий герцог тоскан-
ский. Шах персидский и все владетели азиатские величают
царя так, как ему угодно. Как же называет его султан ту-
рецкий, я не знаю, ибо при мне между ними не было ни
письменных сношений, ни посольств.
Иван Васильевич женат был семь раз, вопреки своей
религии, которая разрешает вступать в брак только три раза;
у него были три сына. Ходит слух, что царь собственноруч-
но умертвил старшего сына.. Но это случилось по-другому.
Хотя Иван бил сына концом палки, окованной четырех-
гранным железным острием в виде жезла, — каковую пал-
16
Царь Федор Иванович.
Парсуна
ку никто не смел иметь, ис-
ключая государя, ибо пре-
жние великие князья получа-
ли ее в знак покорности от
татар — и хотя царевич и был
ранен, однако же умер он не
от удара, а уже после во вре-
мя путешествия на богомолье.
Второй сын, Федор Ивано-
вич, вступил на престол, ког-
да умер его отец. Третий был
от последней жены, из рода
Нагих, и имя его было Дмит-
рий. Иван Васильевич, про-
званный Грозным, не доверял
преданности своих подданных
и испытывал их разными средствами; главным из них было
возведение на престол царя Симеона, о котором сказано
выше. Иван короновал его и присвоил ему полный царс-
кий титул; сам же построил дворец против Кремля и пове-
лел называть себя великим князем московским. Симеон
царствовал целых два года4, управляя как внутренними,
так и внешними делами. Разумеется, он спрашивал у Ива-
на совета, или вернее, получал повеления К концу второ-
го года Иван низложил Симеона с престола и дал ему ве-
ликие богатства. По смерти старшего сына царь женил
второго сына, Федора, на дочери5 Бориса Федоровича, ко-
торый происходил из достаточного хорошего дома, при-
надлежащего к московскому дворянству, и мало-помалу
вкрался в милость Ивана Иван умер в марте 1584 г.
После его смерти вступил на престол Федор, госу-
дарь весьма небольшого ума, любивший более всего зво-
нить на колокольне и большую часть времени проводив-
ший в церкви. Борис Федорович, тогда любимый народом
и весьма жалуемый Федором, вмешался в правление и,
имея ум хитрый и сметливый, удовлетворял каждого. После
того, как стали раздавался недовольные голоса за низло-
жение слабоумного Федора, Борис был избран правите-
лем государства. С тех пор, как говорят, он начал искать
17
короны, видя, что Федор не имел детей, кроме дочери,
умершей на третьем году от роду. Для этого он старался
приманить к себе народ благодеяниями: укрепил Смо-
ленск, обнес столицу каменной стеной, взамен прежней
деревянной, построил некоторые крепости между Каза-
нью и Астраханью на пределах татарских. Так приобретая
доброе расположение народа и самого дворянства, исклю-
чая наиболее дальновидных знатных, он отправил в ссылку
своих недругов под разными предлогами. Затем саму ца-
рицу, вдову умершего Ивана Васильевича, отправил вме-
сте с сыном ее Дмитрием Ивановичем в Углич, — город,
отстоящий от Москвы на 180 верст. Рассказывают, что
царица и некоторые знатные, предугадывая, к чему стре-
мится Борис, и зная, какая опасность ожидает младенца
(многие из знатных, удаленные в ссылку, были отравле-
ны по дорогое), нашли средство подменить его другим
мальчиком. После этого Борис умертвил еще многих не-
винных знатных. Наконец, не опасаясь уже никого, кроме
Дмитрия, Борис задумал уничтожить последнюю прегра-
ду и отправил в Углич людей, чтобы убить царевича. Это
совершил сын одного чиновника, определенного Бори-
сом в секретари к царице. Злодей погиб на месте; а под-
ложного царевича, имевшего 7 или 8 лет от роду, похоро-
нили весьма просто.
Весть о смерти Дмитрия вызвала в Москве разные
толки: народ роптал. Борис, будучи о всем осведомлен,
приказал ночью зажечь гостиный ряд, купеческие дома и
другие здания в различных местах, чтобы отвлечь их де-
лом, пока ропот понемногу утихнет и умы не успокоятся.
Он сам присутствовал на пожаре, отдавал приказания ту-
шить огонь; при этом так хлопотал, что казалось, будто
несчастье очень его печалило. Потом, созвав потерпевших
убытки, долго утешал их добрыми и ласковым речами,
горевал о бедствии, обещал выпросить у царя вспоможе-
ние каждому из них для постройки домов и обещал возве-
сти каменные лавки взамен прежних, деревянных. Все это
он исполнил; каждый остался доволен и почитал себя
счастливым, имея столь доброго покровителя. Наконец, в
январе 1598 г. Федор скончался (иные полагают, что Бо-
18
рис был виновником его смерти). Тогда Борис еще более
прежнего стал домогаться короны, но так скрытно, что
только самые сметливые это замечали, однако, не реша-
лись противиться. Казалось, он хотел только возвести на
престол свою сестру, вдову покойного Федора, хотя это
было вопреки государственным законам, согласно кото-
рым овдовевшая царица или великая княгиня удаляется
на покой в монастырь через шесть недель после погребе-
ния мужа. Борис притворно отказывался от короны даже
и тогда, когда предлагали ему, по совету сестры своей, в
заседании Совета (куда всякий мог приходить во время
междуцарствия). Таким поведением он заставил просить
себя о принятии царского титула; но сам долго не согла-
шался на эту просьбу и говорил избиравшим его, что не
должно спешить, что дело требует зрелого размышления,
что никакая опасность их не принуждает, что государство
в мире со всеми и что оно останется в том же состоянии,
в каком было и прежде, когда он сам при покойном госу-
даре был правителем, до тех пор пока они, по зрелом
рассуждении, не изберут другого. Впрочем, справедливо,
что в его время страна не терпела бедствия, что он обога-
тил казну, не говоря уже о городах и крепостях, которые
он построил, что он заключил дружбу со всеми соседями.
Борис притворно требовал созыва государственных чи-
нов, т.е. от каждого города по 8 или 10 человек, дабы весь
народ единодушно решил, кого должно возвести на пре-
стол, ибо желание его (говорил он) — удовлетворить каж-
дого. Но на это нужно было время, и он тогда же распустил
слух о вторжении татарского хана в Россию с большими
силами,, ссылаясь на пленников, приведенных казаками.
Устрашенный народ еще настоятельнее просил его при-
нять корону; Борис уверял, что принимает ее против воли,
что многие из знатных поколений имеют большее право
на престол, что он и без венца любил бы граждан, как
родной отец, и занимался бы делами с прежним усерди-
ем; но в виду всеобщего желания народа, он готов взять
на себя такое тягостное бремя, но не иначе, как отразив
прежде всего неверных, идущих опустошать государство
со стотысячным войском, и предписав законы им и про-
19
чим соседям. Тогда наименовали его всеми титулами пред-
шественников.
Спеша исполнить свое обещание, Борис собрал вой-
ско недалеко от Серпухова, города близ Оки, в 90 верстах
от столицы, где обычно собираются татары. По удалении
сестры своей, царицы, в Девичий монастырь (в трех вер-
стах от Москвы), сам прибыл к войску в июле месяце. По
словам иностранцев и самих русских, бывших на этом
смотре, число воинов пеших и конных достигало 500 000.
Я преуменьшил еще число, ибо Россия никогда не была в
таком волнении. В удостоверение же справедливости этого
показания расскажу после, каким образом собирают та-
кое множество людей, ибо я сам был свидетелем этого.
Но война кончилась тем, что вместо вражеской рати явился
ханский посол, с сотней лихих всадников, одетых соглас-
но обычаю их, в шкуры баранов для какого-то мирного
предложения. Об этом Борис знал хорошо и прежде. Со-
глашение это доставило ему великую славу: показав послу
все русские силы, и выпалив из пушек, расставленных по
обеим сторонам дороги на протяжении двух верст и в до-
вольно дальнем одна от другой расстоянии, он провел его
несколько раз между орудиями и, наконец, отправил с
великими дарами. Затем, отпустив воинов по домам, Бо-
рис Федорович вернулся в Москву с большим триумфом.
Ходил слух, что татарин, услышав о силах русских, не
смел идти далее. Борис короновался 1 сентября, т.е. в пер-
вый день 1598 года.
Уже около семисот лет прошло, как Россия приняла
христианскую веру от епископа константинопольского. Они
следуют греческому исповеданию: крещаемых младенцев
погружают в воду троекратно, во имя Отца, Сына и Св.
Духа; потом священник надевает на шею младенца крест,
вручаемый восприемником, в знамение крещения; крест
этот носят до самой смерти. Они признают Св. Троицу, но
все же отличаются от нас, исповедая, что Св. Дух исходит
не от Отца и Сына, а только от Отца, и что он покоится
на Сыне. Образов у них много; все они писаны красками,
исключая одно резное Распятие. Говорят, что в России
хранится икона св. Девы Марии, писаная собственной
20
рукой Евангелиста Луки. Главный покровитель их — св. Ни-
колай. Кроме святых, принятых из Греции, они канони-
зируют много других; но кроме Девы Марии не признают
ни одной святой. Они имеют патриарха, который избран
во время Ивана Васильевича патриархом Константино-
польским. Если я не ошибаюсь, в России 7 архиепископств,
кроме многих епископств и монастырей. Одни священни-
ки, и только женатые, совершают таинства; по смерти же
своих жен более не священнодействуют; если не вступят
вторично в брак, то могут постричься в монахи. Монахи
безбрачны так же, как и патриарх, епископы и игумены;
поэтому не могут ни приобщать святых тайн, ни есть мяса,
и принимают святые дары от священников. Приобщаются
под обоими видами все без различия, светские и духов-
ные, после тайной исповеди, обыкновенно раз в год. Свя-
щенник, вновь вступив в брак, переходит в светское зва-
ние. Русские почитают истинно крещеными лишь тех,
которые крестились по греческому обряду; впрочем, ка-
толиков избавляют от вторичного крещения. Усердно со-
блюдают праздники, даже и субботу наравне с воскре-
сеньем, хотя и в самые большие праздники открывают
лавки и работают после полудня, если необходимость на-
стоятельно требует. Постятся русские по средам и пятни-
цам и, кроме того, держат в году четыре поста; великий
пост, о котором будем говорить ниже, два поста по 15
дней каждый, и один перед Рождеством Христовым, ко-
торый начинается через восемь дней после праздника св.
Николая. Соблюдают же посты так строго, как только воз-
можно, не вкушают ни яиц, ни какой бы то ни было
мясной пищи. Русские имеют Священное Писание на своем
языке, т. е. на славянском; весьма почитают псалмы Дави-
да. В церквах никогда не произносят проповедей, а по празд-
никам читают отрывки из Библии или Нового Завета; но
невежество народа так велико, что не найдется трети,
которая знала бы молитву Господню и символ веры. Можно
сказать, что невежество народа есть мать его благочестия.
Они ненавидят науки и особенно латинский язык. Не име-
ют ни школ, ни университетов. Одни только священники
обучают юношей чтению и письму; этим, однако, только
21
немногие занимаются. Буквы у русских большей частью
суть греческие; книги все почти рукописные, исключая
очень немногие печатные экземпляры Ветхого и Нового
Завета, пришедших из Польши; только 10 или 12 лет про-
шло, как русским стало известно искусство книгопечата-
ния6; и теперь еше рукописные книги более почитают,
нежели печатные. Дважды в году освящают реку и воду;
после освящения царь и вельможи обыкновенно в нее по-
гружаются; я сам видал, как для этого прорубали лед и
как царь опускался в прорубь. В вербное воскресенье пат-
риарх едет на осле, при этом сидит боком, как женщины;
но так как не хватает ослов, берут лошадь, покрывают ее
белым полотном и привязывают ей большие уши. Царь
ведет ее за повод из Кремля до церкви, называемой Иеру-
салимом, а оттуда — в храм Богоматери. Во время этого
шествия назначенные люди снимают с себя одежду и рас-
стилают ее по дороге, шествуя впереди священников и
другого духовенства города. В России существует особый
орден, состоящий из людей, которые в предчувствии при-
ближения смерти были соборованы маслом: такие люди
обязаны носить до самой смерти платье, имеющее сход-
ство с монашеским. Это считается весьма богоугодным
делом. Жены их имеют право выйти замуж за других. Ник-
то из иноверных не может входить в русскую церковь. Пат-
риарх, епископы, игумены назначаются царем; обычные
церковные дела патриарх решает сам, о важнейших же
случаях он докладывает царю. Муж имеет право под раз-
ными предлогами развестись с женой, заключить ее в
монастырь и потом жениться — и так до трех раз.
Царь дает свободу всем иностранцам исповедывать
открыто свою религию, кроме римских католиков; евреев
же не терпят со времен Ивана Васильевича Грозного. Этот
царь велел собрать всех евреев, находившихся в России,
затем, связав им руки и ноги, вывести на мост, где они
принуждены были отречься от своей веры; и когда они
сказали, что хотят креститься во имя Бога Отца, Сына и
Св. Духа, то царь в ту же минуту приказал бросить их в
воду. Тот же Иван Васильевич, лет за 38—40 до нашего
времени, завоевал большую часть Ливонии и переселил в
22
Московию жителей Дерпта и Нарвы, при чем пожаловал
взятым в плен ливонцам, последователям Лютера, две цер-
кви в Москве и дозволил им открыто совершать обряды
своей веры; позже, однако, за дерзость и тщеславие их
приказал эти церкви разрушить, а ливонцов, не взирая
ни на пол, ни на возраст, выгнать на улицу в зимнюю
стужу и оставить их, в чем мать родила. Ливонцы сами
повинны. Забыв минувшее несчастье, лишившись отече-
ства и имущества, сделавшись рабами народа грубого и
жестокого, под правлением царя самовластного, они, вза-
мен смирения вследствие своих бедствий, проявляли гор-
дость, держали себя так высокомерно, одевались с такой
роскошью, что казались принцами и принцессами: жен-
щины, отправляясь в церковь, одевались не иначе, как в
бархат, атлас, камку; самая бедная женщина носила таф-
тяное платье, хотя бы ничего более и не имела. Главный
доход они имели от права продавать хлебное вино, мед и
другие напитки: при чем они получали прибыли не по 10
на 100, а по 100 на 100; это кажется невероятным, но тем
не менее справедливо.
Ливонцы всегда оставались одинаковы: казалось, они
были приведены в Россию только для того, чтобы выка-
зывать свою гордость и кичливость, хотя не посмели бы
сделать этого в собственном отечестве по строгости зако-
нов и правосудия. В конце концов им дано было место за
городом, и там они выстроили дома и одну церковь; од-
нако в столице им не было дозволено жить. Под властью
русских находятся также татары, турки, персияне, морд-
ва и другие магометанские народы, исповедующие открыто
свою веру, не говоря о сибиряках, лапландцах и других
племенах; последние не следуют ни христианскому, ни
магометанскому закону, и поклоняются разным живот-
ным, как им угодно, причем не терпят притеснений в
своих обрядах.
Мертвых русские погребают до истечения 24 часов,
не исключая ни государя, ни раба, и умершего утром ве-
чером уже хоронят. Усопшего обыкновенно оплакивают
нанятые женщины, которые причитают и спрашивают
покойника, зачем он умер — разве царь его не миловал,
23
разве не был он достаточно богат или имел мало детей,
разве не имел он честной жены? Если же умирает женщи-
на, причитают: разве не добрый был у нее муж, и подоб-
ные глупости. На покойника надевают новую рубаху, чул-
ки, башмаки, имеющие сходство с туфлями, и шапку;
потом его укладывают в гроб и несут на кладбище, в со-
провождении родных и друзей. После погребения они пла-
чут на могиле и взывают так, как указано выше. К концу
шестой недели приходят на могилу вдова и несколько близ-
ких друзей, приносят напитки, яства и после многих слез,
с прежними причитаниями, едят принесенные кушанья,
остатки же раздают нищим. Так делает простой народ; в
случае же смерти значительной особы устраивается пир в
доме, когда приходят с кладбища, где родственники сами
задают умершему вопросы, или нанимают для этого жен-
щин; при этом раздают бедным все, что приносят на мо-
гилу. Такие пиры справляют в память усопшего каждый
год по одному разу. По прошествии шести недель траур
оканчивается, и вдова может опять выйти замуж.
Великий пост соблюдается таким образом: в послед-
нюю неделю перед ним, которая называется Маслени-
цей, они мяса не едят, а едят сыр, яйца, молоко, масло.
Русские посещают друг друга, целуются, прощаются,
мирятся, если оскорбили каким-нибудь словом или по-
ступком; встречаясь, — хотя бы никогда прежде не вида-
лись, — даже на улице приветствуют друг друга поцелуем.
«Прости меня, пожалуйста», — говорит один; «Бог тебя
простит», — отвечает другой. При этом следует заметить,
что не только в это время, но и всегда и мужчины и жен-
щины считают поцелуй знаком приветствия, когда соби-
раются в путь или видятся после долговременной разлуки.
По окончании этой недели все идут в баню; в следующую
же неделю или совсем сидят дома, или выходят очень ред-
ко, и целые семь дней едят не больше трех раз, причем не
едят ни мяса, ни рыбы и довольствуются только медом и
овощами. В дальнейшую неделю появляются на улицах, но
весьма просто одетые, как будто в трауре; в остальное
время поста (кроме последней недели) едят всякую рыбу,
как свежую, так и соленую, однако без масла, и не вку-
24
шают ничего мясного; по средам и пятницам мало едят
свежей рыбы, а только одну соленую, и овощи. На послед-
ней неделе постятся так же строго, как и на первой, или
еще строже: тогда все приобщаются святых тайн.
Затем следует Пасха; тогда начинают снова посещать
друг друга (как на Масленице), подносят друг другу крас-
ные яйца и говоря ~ один: «Христос воскресе!», — другой:
«Воистину воскресе!». При этом обмениваются яйцами и
целуются в знак радости о воскресении Господнем. Царь со-
блюдает этот обычай таким образом (как и в последний день
Масленицы): на другой день по Пасхе он дозволяет каждому
целовать свою руку, а на другой день, когда отправляется к
службе, знатнейшие и известные государю сановники под-
ходят к нему и также целуют его руку. Он раздает поздравля-
ющим по одному, два, три яйца, смотря по тому, кого бо-
лее жалует. В течение 15 дней идут только празднества.
В России имеется множество колоколов. Хотя русские,
по-видимому, отличаются этим от греков, которые вовсе
их не употребляют в своих церквах (как это доказывают их
единоверцы — валахи, молдаване, ретийцы и другие), хотя
это не противоречит греческой религии. Греки же не ос-
меливаются звонить потому, что состоят под властью ту-
рок, которым Алкоран запрещает держать колокола в ме-
четях; не имеют их и евреи. Впрочем, католики,
протестанты и ариане, обитая в Трансильвании, могли
благовестить, когда Стефан, бывший королем польским,
а после него Сигизмунд Баторий управляли этими земля-
ми в зависимости от султана; но греки и тогда не имели
колоколов.
Все пути из России охраняются так строго, что без
царского изволения невозможно из нее выехать. И в наше
время никто, носящий оружие, не мог удалиться из стра-
ны: я был первым. Воюя с Польшей, русские не решают-
ся иметь у себя в войсках подвластных им поляков, кото-
рых довольно много, а распределяют их на пределах
Татарии, поступая так же и с прочими чужестранцами,
из страха, чтобы они не бежали и не предались неприяте-
лю. Русский народ — самый недоверчивый и подозритель-
ный в мире.
25
Все замки их и крепости деревянные, исключая Мос-
кву, Смоленск, Ивангород, Тулу, Казань, Астрахань,
Коломну и Путивль (на границах Подолии). Москва — го-
род обширный; посередине ее протекает река, которая
гораздо шире нашей Сены. Весь город окружен деревян-
ной оградой, в окружности, как я полагаю, более чем
Париж; внутри его находится другая стена в половину
менее первой, не переходя, однако ж, за реку. Затем име-
ется из кирпича еще третья, окружающая все каменные
купеческие лавки. Сверх того, есть крепость, построенная
при Василии Ивановиче, родителе Ивана Васильевича,
одним итальянцем. В ней много церквей каменных, четы-
, ре из которых покрыты золоченой медью. Город застроен
деревянными домами; каждый дом только в два этажа, но
с большим двором, для предупреждения пожара, кото-
рые весьма часто бывают. За последнее время построено
много каменных церквей, деревянных же церквей имеет-
ся бесчисленное количество; сами улицы вымощены де-
ревянными досками.
Высшее дворянство постоянно живет в Москве. Оно
состоит из князей (иначе сказать, герцогов), думных бояр,
т.е. членов совета, окольничих или маршалов, дворян дум-
ных и дворян московских. Из числа последних назначают-
ся начальники и губернаторы городов. Число членов сове-
та не ограничено; это зависит от царя, который назначает,
кого ему угодно. Я знал из них до тридцати двух. В случае
важных дел собирается тайный совет, обыкновенно из
ближних царских родственников. Спрашивают (для фор-
мы) мнение духовенства, приглашая в совет патриарха с
некоторыми епископами; но на самом деле нет другого
закона или совета, кроме неограниченной воли государя,
доброй или злой. Он волен поражать всякого мечом — и
невинного, и виновного. Это, как я полагаю, самый не-
ограниченный из всех существующих государей. Все знат-
ные и незнатные страны, даже сами царские братья, на-
зывают себя холопами государевыми, иначе сказать, рабами
царя. В совете еще присутствуют два думных дьяка, более
секретари, как я полагаю, нежели канцлеры, как полага-
ют русские. Один из них заведует делами посольскими и
26
внешними. Другой же — военным управлением; от него
зависят наместники и губернаторы городов и другие.
Стрельцы — лучшая пехота (стрелки из аркебузов), они
состоят в особом ведомстве.
Кроме того, в каждой области находится член совета
или окольничий, и он вместе с одним дьяком решает спо-
ры, которые возникают среди царских подданных. Долж-
но заметить, что никто из судей, или чиновников, не смеет
брать никаких подарков от просителей: ибо если их обви-
нят их же слуги или сами подарившие (которые нередко
доносят, обманувшись в надежде выиграть дело), или кто-
либо другой, то у уличенных отбирают все их имущество
и, отобрав дары, подвергают их правежу (о чем скажем
после) для уплаты пени по назначению государя, в пять-
сот, тысячу, или две тысячи рублей, более или менее,
согласно званию. Но виновного дьяка, не любимого госу-
дарем, наказывают всенародно кнутом, иначе — секут
плетью, а не розгами, причем привязывают к его шее
кошелек серебра, пушнину, жемчуг, даже соленую рыбу
или какую другую вещь, взятую в подарок. Наказанного
отправляют потом в ссылку, желая прекратить беззаконие
не только в настоящее, но и на будущее время. При всем
том взятки не прекращаются, так как придумали новую
хитрость: приходящий к судье кладет дары пред имеющи-
мися у каждого в большом количестве иконами, которые
в простом народе называются Богом, а в высшем кругу —
образом. Впрочем, если принесенная вещь стоит дороже
7 или 8 рублей, и царь о том поведает, то взявший не
освобождается от наказания. В продолжение восьми дней
после Пасхи им дозволено, вместе с красными яйцами,
принимать малоценные вещи, однако запрещено брать по-
дарки, предлагаемые в надежде приобрести их располо-
жение: ибо взявший подвергается взысканию, если дока-
жут, что он получил подарок за какое-либо дело. Все судьи
и чиновники должны довольствоваться годовыми оклада-
ми и землями, назначенными от государя. На решение
суда приносить жалобу не разрешается. Все жители самых
дальних областей, исключая городских обывателей, при-
ходят судиться в город Москву. В городах же все дела ре-
27
шают губные старосты; на них можно апеллировать в
Москву. Эти второстепенные судьи также ловят и сажают
в тюрьму всех убийц, воров и мошенников, делают им
допросы и по окончании следствия доносят в Москву на-
значенному для таких дел высшему ведомству — Разбой-
ному приказу. Во всей стране никто не может быть казнен
без точного повеления верховного московского совета. По
русским законам, каждый в суде защищает себя либо сам,
либо через родственника, или слугу: у них не известны
прокуроры или адвокаты. Все споры, кроме самых оче-
видных, решаются присягой одной стороны, которая це-
лует крест в особо назначенной церкви с некоторыми об-
рядами. Должно заметить, что лица, служащие царю
конными, лично освобождены от присяги: они приказы-
вают целовать за себя крест своим слугам, исключая толь-
ко присягу верности государю. Должника, который не уп-
латил казне или частному лицу какой-либо суммы, по
неимению или по нежеланию, выводят на правеж, т.е. в
известное место, где в рабочие дни особенные люди, име-
нуемые недельщиками, бьют его по икрам тростью либо
прутом от восхождения солнечного до 10 или 11 часов.
Я часто видел, как наказанных отвозили домой на телегах.
Это продолжается, пока не заплатят всего долга: всадни-
ки царской службы свободны от этого наказания и могут
выставить за себя одного из своих людей.
Дворяне, т.е. те, кто получают от казны жалованье и
поместья, ведут следующий образ жизни. Встают летом
при восходе солнца и отправляются во дворец (конечно,
те, кто живут в Москве); там присутствуют в совете от
первого часа до шести дня. Затем государь идет к службе,
куда свита ему сопутствует: это продолжается от 7 до 8
часов (т.е. с 11 до полудня). По выходу государя из церк-
ви, возвращаются домой обедать; после обеда отдыхают и
спят часа два или три.
В 14 часов, по звону колокола, снова посещают дво-
рец, где проводят около 2 или 3 часов вечера; потом уда-
ляются, ужинают и ложатся спать. Следует заметить, что
летом они ездят верхом, а зимой в санях, и никогда пеш-
ком не прогуливаются. Это делает их толстыми и тучны-
28
ми; впрочем, человека с огромным брюхом наиболее ува-
жают, называя его дородный человек. Одеваются очень
просто, кроме праздничных дней, торжественных царских
выходов или приема послов.
Жены их летом выезжают в колымагах, а зимой в
санях. Когда же царица прогуливается, несколько жен-
щин следуют за ее каретой, сидя на лошадях верхом, как
мужчины, в белых поярковых шляпах, похожих на уборы
епископов и игуменов, с той лишь разницей, что эти пос-
ледние бывают серые, темные или черные. Они носят длин-
ное платье, одинаково широкое и вверху и внизу, обычно
из алой материи, или из хорошего красного сукна. На это
платье надевают другое, из какой-нибудь шелковой мате-
рии, с большими рукавами, шириной более 3 парижских
футов; рукава же первого платья обшиты парчой до само-
го локтя. Голову покрывают шляпой, унизанной жемчу-
гом, если это замужняя женщина, девицы же — черной
лисьей, похожей на шапку, надеваемую сановниками при
посольских приемах. Бездетная женщина носит такой же
убор, как и девица. Сверх того, все носят жемчужные оже-
релья шириной в добрых четыре пальца и весьма длинные
серьги; обуваются в сапожки сафьянные, красные или
желтые, с каблуками вышиной в три пальца, подкован-
ными, как сапоги польские или венгерские. Молодые и
старые, богатые и бедные румянятся и белятся, но весьма
грубо, и считают за стыд не краситься.
Женщины содержатся строго, и покои их отделены
от мужских. Их никто не видит и лишь по особому благо-
волению муж выводит свою жену к постороннему гостю,
не принадлежащему к близким родственникам. Задумав-
ший вступить в брак начинает переговоры с родителями
невесты; заручившись сначала их согласием, он посылает
вернейшего из родственников или друзей посмотреть свою
будущую жену. По получению сведений он заключает брач-
ный договор, с условием, что должен заплатить опреде-
ленную обоюдным согласием сумму. Тогда жених может
видеть свою невесту. В день свадьбы ее ведут в церковь, с
покрывалом на лице, как Ревекку при первом ее свида-
нии с Исааком. Их никто не видит и никто видеть ее лица
29
не может. По окончании обряда новобрачная тем же по-
рядком возвращается домой и садится за стол, не снимая
однако покрывала до исполнения супружеского союза.
Затем молодые идут в баню, или, если не идут, то
выливают себе на голову ведро воды, ибо считают омове-
ние необходимым, следуя в этом отношении евреям и
туркам. Намереваясь войти в церковь, или даже прибли-
зиться к домашним иконам, которые у каждого имеются
в большом количестве, они просят благословения священ-
ника или монаха. Мужья соблюдают это всякий раз после
ночи, проведенной с женой. Приданое оценивается вдвое
и втрое; если жена умирает бездетной, муж выплачивает
все по оценке ближайших родственников.
Каждый измеряет свое богатство по числу слуг и слу-
жанок, а не по количеству денег; это они заимствовали у
древних. Слуги их, имеющиеся в большом количестве,
являются рабами и невольниками; вместе с детьми они
переходят к наследникам первого своего господина. Кро-
ме этого, и во многих других случаях русские подражают
древним, например, в письмоводстве. Все ведомости, за-
писки и просьбы свертываются свитками, не составляя
книг, и не складывают бумаг по нашему обыкновению. В
этом подражают древним. Так было и в Священном Писа-
нии, как свидетельствует пророк Иезекиль в главе III. Это
сходство заметно и на пирах или обедах. Сам царь, при-
глашая послов обедать, говорит только: «хлеба есть со
мною». Самый большой упрек неблагодарному выражает-
ся словами: ты забыл мою хлеб-соль. Когда царь отправ-
ляется в дорогу или вступает на престол, или женится,
или присутствует на крестинах, — подданные всегда под-
носят ему в числе других подарков хлеб с солью. Привет-
ствуя, русские снимают шапку и кланяются, только не
кладут руки на голову или на грудь, по обычаю турок,
персов и других магометан, но опускают правую руку до
земли, или же менее низко, смотря по степени уважения.
Но, если низший просит о чем-либо своего начальника
или если возносит молитвы перед образами, то кладет
поклон, касаясь самой земли. Других знаков почтения они
не знают, колен также не преклоняют, говоря, что это —
30
обычай магометан, которые всегда подгибают ноги, са-
Йясь на землю. Женщины поступают таким же образом.'
р Многие из русских доживают до 80, 100, 120 лет, и
Столько в старости знакомы с болезнями. За исключением
царя и главнейших вельмож, никто не признает лекарств.
Многие лекарства находят даже нечистыми, пилюли при-
нимают весьма неохотно, промывательное же, мускус и
другие подобные средства ненавидят. Чувствуя себя боль-
ным, простолюдин обыкновенно выпивает добрую чарку
водки, всыпав в нее заряд ружейного пороха или смешав
напиток с толченым чесноком, и тотчас идет в баню, где
в сильнейшим жару потеет часа два или три. Так лечится
простой народ от всех болезней.
Что касается до доходов государства, то они следую-
щие: во-первых, царская вотчина, управляемая особцм
ведомством или Дворцом, под главным надзором дворец-
кого, который ведает делами при помощи двух дьяков.
Кроме того, страна разделена на пять ведомств, именуе-
мых Четями, куда вносятся постоянные доходы. За этими
четями наблюдает ведомство — Большой приход, собира-
ющий и чрезвычайные налоги. Кроме вотчины, личный
доход государя состоит из податей, платимых всеми, —
как городскими, так и сельскими жителями, не исключая
и наследственных земель царских родственников; из на-
логов и пошлин с разного товара; из сборов с питейных
домов, где продается вино, мед и пиво (этими напитками
по всей России дозволено торговать одним откупщикам,
снявшим винные кабаки в городах и селах); из пушнины,
воска, и других товаров. Царские вотчины заключают жиз-
ненные припасы: хлеб, вино, мед, дичь, скот, птиц, плоды
и другие съестные припасы, необходимые для стола. Впро-
чем, с жителей, хотя немного отдаленных от столицы,
собирают все деньгами, и притом многое по весьма высо-
кой цене. Например, с выти, или земельного участка, со-
держащего семь или восемь десятин обработанной земли,
на каждой из которых можно посеять две четверти хлеба,
крестьяне платят по 10, 12, 15 рублей, даже по 20, -
согласно качеству почвы; так как рубль содержит около
6 ливров 12 су, то ежегодный сбор достигает высокой сум-
31
мы. И потому во Дворце хранится обыкновенно от 120 до
150 тысяч рублей наличных денег, более или менее, судя
по издержкам на посольства и другие чрезвычайные слу-
чаи, которыми он заведывает. Некоторые же из пяти Че-
тей, например, Казанская и Новая, сберегают, за всеми
расходами (они выплачивают пенсии и жалованье вой-
ску), до 80 или до 100 тысяч рублей, другие от 40 до 60
тысяч рублей, не говоря о Большом приходе, в который
поступают чрезвычайные налоги, взимаемые по царско-
му повелению со своего государства, и другие случайные
источники, например, от конфискованных имении раз-
ных лиц, впавших в немилость. Далее, есть еще особое
ведомство, именуемое Казной, куда поступают пушнина
и воск. Сюда же идет пошлина за печать (с каждой бумаги
берут по четверть рубля). Казна платит за все товары, по-
купаемые для государя. Каждое областное ведомство в кон-
це года присылает значительную сумму, ибо царь берет
десятую часть со всех тяжебных дел, решаемых в суде. Кроме
того, есть еще два особенных ведомства: одно, называе-
мое Поместный приказ, ведает раздачей земли, за каж-
дую запись взыскивает 2, 3 или 4 рубля, по величине
отводимого участка, и собирает доходы с владений, при-
надлежавших опальным, пока государь не отдаст их кому-
либо другому. Другое — Конюшенный приказ — имеет также
многие случайные доходы; со всех лошадей, продаваемых
в государстве, кроме крестьянских, платят за совершае-
мую при купле запись около 20 су, дабы не отвечать, если
купленная лошадь окажется краденой. Этому приказу дос-
тавляет также большую прибыль конский торг, произво-
димый в России ногайскими татарами; прежде всего царь
имеет право избирать для себя из приведенных ими коней
десятого, за остальных же получает от продавца, или по-
купателя, согласно взаимному их условию, по пять час-
тей со ста. Отбираемые для царя лошади — обыкновенно
молодые или жеребята — через два или три года продают-
ся за большую сумму. Я видал за раз до 40 тысяч таких
лошадей. Ногаи приводят их каждый год два или три раза,
в большем или меньшем числе, так что в этом случае
нельзя знать наверное царский доход.
32
Россия — страна очень богатая. Не высылая денег за
границу, но ежегодно их накопляя, русские производят
выплаты обыкновенно товарами, которые имеются в боль-
шом количестве и в различном виде: пушниной, воском,
салом, кожами воловьими и оленьими, сафьяном, льном,
всякого рода веревками, икрой (которой весьма много
отправляется в Италию), соленой семгой, ворванью и
другими припасами. Хлеба же, несмотря на его громадное
изобилие, не смеют вывозить за границу со стороны Ли-
вонии. Кроме того, русские выменивают или продают
иноземцам поташ, льняное семя, пряжу, не покупая ни-
чего от них на чистые деньги; даже сам царь платит сереб-
ром, когда сумма не превышает 4 или 5 тысяч рублей,
обыкновенно же пушным товаром, либо воском. Царь имеет
свои неприкосновенные сокровища, которые более или
менее увеличиваются. Расходная казна, покрывая чрезвы-
чайные издержки, наполнена в большом количестве вся-
кими драгоценными изделиями, особенно из жемчуга,
который в России употребляется более, нежели во всей
Европе. Я видел в этой сокровищнице до пятидесяти цар-
ских платьев, вышитых, вместо позумента, драгоценны-
•;ми узорами; видел также одежды, вышитые жемчугом
^сверху донизу, или на фут, полфута и пальца на четыре
! Во всю окружность; с полдюжины покрывал, усыпанных
: жемчугом, и другие подобные вещи. Тут же хранятся очень
.дорогие камни, ежегодно покупаемые, за исключением
J принимаемых послами; четыре короны, из которых три
i царские и одна старинная великокняжеская, кроме при-
уготовленной, но еще не совсем отделанной, для царицы,
• Дмитриевой супруги (он первый хотел короновать жен-
щину, ибо ни царицы, ни великие княгини, по русским
обычаям, не коронуются); два скипетра и две золотые
державы. Я видел эти веши, имея честь неоднократно со-
провождать Дмитрия Ивановича в кладовых, где хранятся
эти сокровища. По мнению русских, платья, драгоценные
камни, парча, серебро — все зависит от казны. В ней нахо-
дятся две цельные кости единорога, царский посох, так-
же из цельной кости во всю длину, с поддельной рукоят-
кой, и половина единороговой кости, употребляемой
2 Зак. 1918
33
ежедневно в лекарство. Я видел еще другой посох, золо-
той, внутри несколько выдолбленный для уменьшения
тяжести; множество золотых блюд, бокалов разной вели-
чины и бесконечное количество серебряной посуды, вы-
золоченной и не вызолоченной. О численности ее можно
судить по такому примеру: когда Борис Федорович после
восшествия на престол собрал войско в Серпухове, то
устроил пир, который продолжался целые шесть недель,
и каждый день, по свидетельству очевидцев, угощали на
серебряной посуде, под шатрами, 10 тысяч человек. Я ви-
дел в сокровищнице с полдюжины серебряных бочек, от-
литых, по приказанию Ивана Васильевича, из серебря-
ной посуды, вывезенной из покоренной Ливонии: одна
из этих бочек величиною почти с полмюида, другие —
менее; видел также множество огромных серебряных та-
зов, с ручками по сторонам: наполнив медом, их прино-
сят обыкновенно четыре человека и ставят на обеденные
столы по 3 или 4 таза с большими серебряными чашками
(ковшами), которыми гости сами черпают напитки, —
иначе было бы не достаточно 200—300 служителей для уго-
щения пирующих за царскими столами. Вся эта посуда
русской работы. Кроме того, есть множество серебряной
утвари — немецкой, английской, польской, поднесенной
царю различными государями через послов, или куплен-
ной в виду редкости работы. Казна богата всякими шелко-
выми материями, золотой и серебряной парчой (персид-
ской, турецкой), различного рода бархатом, атласом,
камкой, тафтой и другими шелковыми тканями. В самом
деле, их нужно громадное количество, ибо все служащие
государю получают обыкновенно, кроме денежных окла-
дов, парчовые одежды, или кусок бархата, камки, атла-
са — на кафтан. Этим же царь награждает как за военные,
так и за гражданские заслуги. Равным образом послов та-
тарских, крымских, ногайских и других азиатских наро-
дов вместе с людьми их свиты одаривают шелковыми ма-
териями каждого сообразно его достоинству. Поэтому для
пополнения казны все купцы, и иноземцы, и русские,
обязаны предъявлять туда всякие шелковые изделия и дру-
гие дорогие вещи, из которых некоторые выбираются для
34
государя. Если же купец скроет или продаст что-либо из
своего товара, даже на 10 или 12 су, прежде осмотра в
казне, то у него отбирается все остальное, хотя бы он
заплатил пошлину и другие подати. В России нет никаких
минералов, кроме железа, весьма мягкого; впрочем, я со-
мневаюсь, чтобы в столь обширной стране не было других
руд: не достает только сведущих людей.
Монета их состоит из денег, или копеек, ценою около
16 денариев турских, из московок — в 8 денариев, и полу-
шек — в 4 денария. Все монеты серебряные; серебро в них
несколько чище, нежели в реалах; ими платят всякие сум-
мы, ибо другой монеты в России нет; считают рублями,
содержащими каждый 100 денег (или 6 ливров 12 су), полу-
рублями, четверть рублями, гривнами (10 копеек) и алты-
нами (3 деньги, или 4 су). Но иностранные купцы привозят
множество рейхсталеров или ефимков, которые русские
принимают с выгодой: каждый ефимок идет за 12 алтын,
или 36 денег, т.е. 49 су; однако, при перечеканке, с некото-
рым очищением металла, ефимок, весом в 40 су, дает уже
42 деньги. Эти же купцы привозят множество дукатов: рус-
ские покупают и продают их, как прочие товары, часто с
великой прибылью: я видал, что за один червонец иногда
платили 24 алтына, или около 4 ливров 16 су, иногда 16
алтын, нередко и 2 рубля; обыкновенная же им цена — от 18
до 21 алтына. Но такая большая дороговизна дукатов бывает
во время царского коронования, брака, при крестинах: ибо
тогда каждый подносит государю какие-нибудь подарки;
население же целыми обществами и союзами является с
богатыми дарами, в числе которых есть обыкновенно дука-
ты, иногда в кубках, иногда в серебряных чашах, или на
блюдах, покрытых тафтой. Ценность этой монеты увеличи-
вается также за несколько дней до Пасхи: ибо в продолже-
ние Святой недели русские, следуя обычаю христосоваться
друг с другом (как уже было сказано выше), вместе с крас-
ными яйцами подносят вельможам и своим покровителям
какие-нибудь драгоценные вещи: жемчуг либо червонцы. Это
единственное в году время, когда сановники могут прини-
мать подарки, рублей в 10 или 12; если же более, то тайно;
ибо в таком случае подвергаются наказанию.
35
Важнейшую должность в России занимает начальник
конюшни, называемый конюший боярин; за ним идет ап-
текарский боярин, смотрящий за медиками и аптекарями;
потом дворецкий и, наконец, кравчий: эти четыре сановни-
ка — главные в совете. Кроме того, при дворе находится
много других чинов: стольников, чашников, стряпчих, па-
жей и прочих. Царскую гвардию составляют 10 тысяч стрель-
цов; они живут в Москве и находятся под начальством од-
ного генерала, разделяясь на приказы, т.е. роты, в 500 человек
каждая. Ротой командует голова, по-нашему капитан; сот-
ней — сотник, а десятком — десятник, по-нашему капрал:
нет ни лейтенантов, ни прапорщиков. Каждый капитан,
смотря по заслугам, получает жалованье от 30 и 40 до 60
рублей ежегодно да земли в такой же соразмерности до трех-
сот, четырехсот и пятисот четвертей. (Словом четверть я все-
гда означаю арпан земли.) Большинство сотников, владея
землей, получает от 12 до 20 рублей; капралы до 10 рублей,
а стрельцы — по 4 и 5 рублей ежегодно; кроме того, каждому
дается 12 четвертей ржи и столько же овса. Когда царь от-
правляется за город, хотя бы не далее 6 или 7 верст, боль-
шая часть стрельцов следует за ним на конях из царской
конюшни; коней дают им также, когда посылают их на вой-
ну или для охраны городов. Сверх того, назначаются люди,
которые готовят им пищу и для каждого десятка выделяется
по одной телеге с провиантом. Кроме дворян, живущих по-
стоянно в Москве, набирают главнейших дворян от каждо-
го города, где они имеют земли. Они называются выборны-
ми дворянами; каждый город, согласно своим размерам,
представлен от 16 до 30 дворян. Три года они находятся в
Москве, а затем сменяются новым набором. Этим способом
царь собирает многочисленную кавалерию, так что редко
покидает двор, не имея при себе 18 или 20 тысяч всадни-
ков, ибо тогда все люди, служащие при дворе, садятся на
коней и следуют за государем. Многие из дворян поочередно
проводят целые ночи во дворце безо всякого оружия.
Если надобно принять какого-нибудь посла с особен-
ным вниманием, стрельцы становятся рядами, в полном
вооружении, по обеим сторонам дороги, начиная от де-
ревянных или каменных ворот до его помещения. Кроме
36
того, являются московские дворяне и главнейшие купцы
в богатых одеждах (последнее зависит от степени почета,
который хотят оказать посланнику). Для таких случаев каж-
дый дворянин имеет три или четыре перемены кафтана;
иногда им дают из казны платья парчовые, из золотой и
серебряной персидской ткани, с высокой шапкой из чер-
ного лисьего меха; иногда одеваются в цветное платье, из
объяри, камлота, или красного тонкого сукна нежного
цвета, с золотыми вышивками, и покрывают голову чер-
ной шапкой; в иных случаях носят чистые платья, т.е. на-
рядную одежду. Число и достоинство людей увеличивает-
ся или уменьшается, сообразно чести, оказываемой
посланнику. Встретив его за городом, на расстоянии вы-
стрела из лука, а иногда на четверть лье, подводят ему и
свите лошадей из царской конюшни для въезда в город.
Дворяне провожают его до помещения, перед которым
ставят стражей, не дозволяя никому входить, кроме осо-
бо назначенных лиц. Никто из посольства не может выхо-
дить без провожатых, которые наблюдают, куда он пой-
дет, что будет делать и что говорить. На границу также
посылают особых лиц для заботы о продовольствии послов;
и не только послы, но и всякий иноземец, желающий
служить царю, получает и в Москве и в дороге, каждый
по достоинству, все необходимые жизненные потребнос-
ти, как для себя самих, так и для своих лошадей (это
зовут кормом). Содержание это увеличивается, либо умень-
шается по повелению царя. Все же припасы доставляет
ведомство, именуемое дворцом.
Переходя к войску, прежде всего надо сказать о воево-
дах, иначе генералах. В случае войны они выбираются обычно
из думных бояр и окольничих; в мирное же время ежегод-
но выбираются из думных и московских дворян и посыла-
ются на южные границы Татарии для отражения набега
татарских отрядов, которые часто опустошают русские поля
и угоняют лошадей из гарнизонов; если же не встретят со-
противления, вредят еще более. Русское войско делится на
пять частей: авангард, который стоит близ какого-нибудь
города на татарских границах; правое крыло — близ другого
города; левое крыло, главное войско и арьергард; все отря-
37
ды размещены в разных местах; но воеводы, по первому
приказанию, должны соединиться с главной армией. Кро-
ме воевод, других чинов военных нет. Впрочем, и конни-
ца, и пехота состоят под командой капитанов; но при них
нет ни лейтенантов, ни прапорщиков, ни труб, ни бараба-
нов; только генералы имеют свое особое знамя, с ликом
какого-нибудь святого, освященное патриархом; при нем
находятся два или три человека; кроме того, за воеводами
везут на лошадях около 10—12 набатов, или медных бара-
банов, такое же число труб и несколько гобоев. Бьют в на-
баты только тогда, когда готовятся к сражению, либо во
время незначительной стычки: а один употребляют еже-
дневно: им дают сигнал слезать или садиться на коней.
Желая открыть неприятеля в обширных татарских сте-
пях, русские поступают таким образом: там пролегают
дороги, называемые царскою, крымскою и дорогой вели-
кого хана; там же растут одинокие, редкие дубы, на рас-
стоянии один от другого в 8, 10 и до 40 верст. По большей
части при каждом из них становятся два человека с гото-
выми конями, один сторожит на вершине дерева, а другой
кормит коней, совсем оседланных. Они сменяются через
четыре дня. Сидящий на вершине дуба, заметив в отдале-
нии пыль, тотчас же слезает, не говоря ни слова, вскаки-
вает на коня, мчится во весь опор к другому дереву, кри-
чит издали и указывает рукою, где видел неприятеля. Страж
второго дерева, находясь на вершине, уже издали замечает
скачущего всадника и, как только сообразит из его слов
или из знаков, с какой стороны поднимается пыль, при-
казывает своему товарищу, наблюдающему за конями, ска-
кать к следующему дереву. Так, уведомляя друг друга, дают
знать ближайшей крепости и, наконец, самой Москве, не
принося никаких других вестей, кроме того, что видели
неприятеля; нередко же за врагов принимают степной та-
бун или стадо диких животных. Но когда страж, остановив-
шийся при первом дереве, также прискачет и удостоверит
известие, тогда, с прибытием его, войско берется за ору-
жие, воеводы соединяются и посылают людей разведать о
силах неприятеля. Узнают это иногда таким образом: неда-
леко от пути, которым идут татары, скрываются рассы-
38
Воевода в потом вооружении
панные в разных местах дозоры. Выждав время, когда не-
приятель пройдет, они выходят на следы и довольно верно
определяют силы врага по широте дороги, протоптанной
конями. Трава достигает такой высоты, что даже лошадей
бывает не видно; но это трава не луговая, а степная. Рус-
ские зажигают ее каждый год весной, отчасти для того,
чтобы татары не могли найти корма для своих коней, отча-
сти и для того, чтобы трава росла выше. Но если неприя-
тель идет по вышеупомянутым дорогам, то численность их
верно определяют по глубине следа или по вихрям подни-
мающейся пыли. Татары избирают пути известные и нео-
хотно прокладывают новые, по степной траве, так как боятся
утомить лошадей. Когда сторожевые дозоры, пробравшись
тайными, знакомыми тропинками, принесут весть о
неприятельских силах, русские начальники отступают к
какой-нибудь реке, или к лесу, думая остановить врага. Но
39
татары весьма ловки и проворны: тогда как 20 или 30 всад-
ников занимают русских перестрелкой, они другим путем
посылают несколько отрядов для опустошения страны. Эти
отряды столь быстро делают свое дело, что наносят удар
прежде, нежели русские войска узнают об их вторжении.
Татары не обременяют себя иной добычей, кроме пленни-
ков, и не имеют никакой поклажи, хотя у каждого есть
одна или две запасные лошади, отлично выезженные и по-
слушные. Они столь искусные наездники, что на всем ска-
ку прыгают с одной лошади на другую; кроме лука, стрелы
и сабли, татары не имеют другого оружия; стреляют быст-
рее и вернее на бегу, нежели стоя неподвижно; для пищи
запасаются мясом, высушенным на солнце и изрезанным
в мелкие куски; к седельному арчаку привязывают длин-
ную веревку. Сотня татар всегда разгонит двести русских,
если только эти русские не отборные воины; встретив же
русскую пехоту или стрельцов, укрепившихся на речном
берегу или в лесу, татары быстро уходят, хотя русские в
действительности умеют скорее пугать, нежели вредить им.
Если отряд русских всадников, тысяч в пятнадцать или двад-
цать, решится преследовать татарских наездников, то рус-
ские рассыпаются во все стороны, и под пушечными выс-
трелами остается из них не более трех или четырех тысяч
человек, более походящих на привидения, нежели на всад-
ников. Поэтому татары обыкновенно возвращаются без боль-
шого урона, если только русские не успеют преградить им
дорогу на переправах через реки, или в лесу, ожидая их
прохода. Но это редко бывает.
Главные силы русской армии заключаются в коннице.
Кроме вышеуказанных дворян, она состоит из выборных
дворян, городских дворян, детей боярских; их большое ко-
личество. Отряды их называются по имени городов, в пре-
делах которых дворяне имеют свои поместья. Некоторые
города, например, Смоленск, Новгород и другие, выстав-
ляют от 30 и 40 до 80 и 120 всадников. Таких городов, вы-
ставляющих большое количество воинов, весьма много.
Каждый дворянин обязан привести с собой по одному кон-
ному человеку и по одному пехотинцу со 100 четвертей
владеемой земли; это, разумеется, в случае необходимости
40
(иначе только они сами являются в войско). Так собирается
многое множество народа, но мало воинов.
' Содержание членам совета кладут от 500 до 1 200 руб-
лей (оклад, присвоенный князю Федору Ивановичу Мсти-
славскому7, занимавшему всегда первое место в правле-
нии четырех государей). Окольничие получают от 200 до
400 рублей и земли от 1 000 до 2 000 четвертей (при мне
их было до 15 человек); думные дворяне, которых обык-
новенно более шести не бывает, — от 100 до 200 рублей и
земли от 800 до 1 200 четвертей; московские дворяне — от
20 до 100 руб. и земли от 500 до 1 000 четвертей; выборные
дворяне — от 8 до 15 рублей; городовые дворяне — от 5 до
12 рублей и земли до 500 четвертей. Оклады выдаются каж-
дый год, а четверти — как сказано выше; с каждых 100 чет-
вертей обязательно выставлять двух человек (об этом уже
говорили). Детям боярским и сыновьям боярским произ-
водится жалованье по 4, 5 и 6 рублей, один раз за шесть
или. семь лет: а земли дают от 100 до 300 четвертей. Служба
их соответствует обыкновенно жалованью: наблюдают толь-
ко за тем, чтобы всегда их было определенное число.
Важнейшие из дворян должны являться на службу в
кольчуге, шишаке, с копьем, луком и стрелами и приво-
дить слуг, сильно вооруженных; другим разрешается только
брать добрых коней, лук, стрелы и саблю, так же, как и
слуг. Таким образом составляется многочисленное войско
из ратников, плохо вооруженных, не знающих ни поряд-
ка, ни военного искусства, и нередко более вредных, не-
жели полезных во время войны. К ним присоединяются
до 20 тысяч всадников казанских и черемисских; до 7 или
8 тысяч наездников мордовских и татарских, подвластных
России, жалованье которых от 8 до 50 рублей; от 3 тысяч
до 4 тысяч черкасов, до 2,5 тысяч немцев, поляков и гре-
ков, с окладами от 12 до 60 рублей (некоторые капитаны
их получают до 120 рублей, кроме земель, которых дают
от 600 до 1 000 четвертей). Наконец, патриарх, епископы,
игумены и другие духовные владельцы земель высылают
людей даточных, а именно: со 100 четвертей одного всад-
ника и одного пешего. Если надобность требует, духовен-
ство дает вместо ратников военные снаряды и множество
41
лошадей для пушек, стрельцов и различных всадников. Та-
кова русская кавалерия.
В Россию лошади приводятся главным образом из
Ногайской Татарии; лошадей называют конями; они рос-
та среднего, весьма удобны для работы и бегут без отдыха
7 или 8 часов. Но если слишком утомятся и выбьются из
сил, то нужно 4 или 5 месяцев, чтобы они поправились;
имея весьма дикий нрав, они пугаются ружейного вы-
стрела; обыкновенно бывают неподкованы, так же, как и
русские лошади. Многие овса совсем не едят, и если на-
мерены его давать, то надо приучать к нему коней посте-
пенно. Кроме того, русские покупают изредка черкасских
жеребцов, которые весьма красивы, но при продолжи-
тельной езде не могут сравняться в выносливости и бы-
строте с конями татарскими; есть лошади турецкие и
польские, между которыми встречаются хорошие; их зо-
вут аргамаками; все аргамаки мерины. У ногайцев бывают
иногда небольшие, очень красивые лошадки, — белые с
черными пятнами, как тигры или леопарды, будто бы
разрисованные. Лошади русские называются меринами; они
малорослы, но крепки, в особенности если они из окрест-
ностей Вологды, и гораздо понятливее ногайских. Можно
иметь весьма красивую и хорошую татарскую или русскую
лошадь ценой за 20 рублей, которая прослужит долее ар-
гамака, турецкой лошади, стоящей 50, 60 и 100 рублей. В
России лошади чаще хворают, нежели во Франции, осо-
бенно от болезни, называемой марица. Это гной, собира-
ющийся в груди животного. Если не истреблять его немед-
ленно, он бросается в ноги, и тогда нет спасения. Хозяин
при первом признаке болезни тотчас разрезает кожу на
груди, почти между ног, вкладывает в рану конец верев-
ки, свитой из пеньки с древесной корой и натертой ва-
ром; потом гоняет лошадь раза два или три ежедневно,
пока она сильно не испотеет, часто передвигая веревку.
Через три или четыре дня гной созревает и вытекает из
раны. По прошествии 15 дней или 3 недель веревку выни-
мают, и рана заживает; лошадь же делается совсем здоро-
вой. Дабы предупредить эту болезнь, обыкновенно гоняют
лошадей в реку, как только растает лед, и пускают их в
42
•таЗза
Оружие: ружья, нож, сабли, шестопер и булавы
воду по самую шею и держат там час или два до тех пор,
пока они от сильного озноба почти не могут стоять. Так
делают почти 15 дней сряду; после этого они становятся
бодрыми и живыми. Лошади татарские и русские весьма
склонны к запалу; пускаются они в работу не моложе 7 или
8 лет и служат до 20-ти. Я видел однако лошадей 24 и
30 лет, на вид не старее 10 или 12, еще способных к рабо-
те. Наконец, в России встречаются весьма хорошие ино-
ходцы.
Лучшая пехота, как уже сказано, состоит из стрельцов
и из казаков (о последних еще не говорили). Стрельцов в
Москве 10 тысяч; кроме того, в каждом городе, отстоящем
на 100 верст от границ Татарии, сообразно величине кре-
постей, находятся гарнизоны численностью от 60, 80 до
1150 стрельцов; города же пограничные снабжены ими в
‘ Гораздо большем количестве. Казаки бывают разные. Одни
оберегают зимой заокские города, не имеют постоянных
• Жилищ и получают от казны стрелецкое жалование, хлеб,
порох и свинец. Другие владеют землями и не уходят из
f своих гарнизонов; из них не более 5 или 6 тысяч употребля-
5 ют оружие. Настоящие казаки живут в степях татарских, по
,‘j берегам Волги, Дона и Днепра. Они часто наносят татарам
^ гораздо больший вред, нежели вся русская армия. От царя
43
они получают небольшое содержание, но зато они пользу-
ются свободой, как говорят, делать то, что хотят. Им по-
зволено временами приходить в пограничные города, про-
давать там добычу и покупать нужные им для себя вещи.
Царь, намереваясь воспользоваться их оружием, посылает
им порох, свинец и от 7 до 10 тысяч рублей. Они обыкно-
венно первые приводят пленных татар, от которых узнают
о замыслах неприятеля. Тому, кто возьмет и доставит плен-
ника, дают обыкновенно хорошего сукна и камки на два
платья, 40 куниц, серебряную чашу и 20 или 30 рублей.
Казаки, по царскому приказу, в числе от 8 до 10 тысяч,
Оружие, конская сбруя и дорожная
утварь русских воинов
44
присоединяются к русской армии. Это бывает в случае не-
обходимости; впрочем, днепровские казаки беспрестанно
грабят Подолию. К ним присоединяют крестьян — по одно-
му человеку со ста четвертей, которые умеют управлять
сохою, а не оружием, хотя по виду и схожи с казаками.
И те, и другие носят узкие, как фуфайки, кафтаны, ниже
колен, с длинным отложным воротником, висящим до
пояса. Половина их имеет ружья, по два фунта пороха, че-
тыре фунта свинца и саблю. Другие же, находясь в распо-
ряжении своих хозяев, вооружаются луком, стрелами и ро-
гатиной, удобною только для встречи медведя, выходящего
из берлоги. Кроме того, в случае необходимости купцы
поставляют людей от себя, сколько могут: иной трех, иной
четырех, более или менее.
Когда казаки приведут пленников — что случается
обычно в начале Великого поста — от которых узнают,
собирается ли татарин, тогда, смотря по известиям, рус-
ское правительство рассылает приказ по всей стране, что-
бы еще во время снегов доставляли на санях съестные
припасы в те города, около которых решено ожидать вра-
га. Провиант составляют: сухари, т.е. хлеб, изрезанный на
мелкие куски и высушенный в печке; крупа ячная, про-
сяная, а более всего овсяная; толокно, т.е. поджаренный
и высушенный овес, измолотый в муку. Толокно это упот-
ребляют по-разному: и в виде кушанья, и в виде напитка:
смешав в доброй чаше две или три горсти толокна с во-
дой и двумя или тремя щепотями соли, воины пьют эту
смесь, считая ее вкусной и здоровой. Употребляют также
соленое и копченое мясо, баранье, свиное и рогатого скота;
масло, сыр, истертый в муку — его пьют с супом; боль-
шое количество хлебного вина; наконец, сушеную и со-
леную рыбу, которую едят сырой. Это пища начальников;
воины же довольствуются сухарями, овсяной крупой и
толокном, с небольшим количеством соли. Без поднож-
ного корма русские редко выходят на войну с татарами.
То же самое соблюдают они и в войнах с другими непри-
ятелями, если только не бывает неожиданного вторжения.
Чтобы содержать войско, царь ничего другого не тратит,
как в военное, так и в мирное время, кроме наград за
45
разные услуги, например: кто приведет пленника, убьет
неприятеля, получит рану или отличится как-нибудь ина-
че, тому дарят деньги, смотря по заслуге, или кусок пар-
чи, или другой шелковой материи на платье.
Цари русские имеют сношение с императором рим-
ским, королями Английским, Датским и шахом Персид-
ским. Прежде они были в союзе с королями Польским и
Шведским; но теперь они с ними в дружбе только с виду,
так как не верят друг другу, ожидая объявления войны каж-
дый час. Между Россией и Турцией в течение 40 лет были
только два взаимных посольства с тех пор, как турки сняли
осаду Астрахани, и хотя теперь войны нет, нет между ними
ни сношений, ни приветствий уже лет 30, и они еше боль-
ше отдалены друг от друга. За все это время русский царь
вел войну только с крымскими татарами и с пятигорски-
ми черкесами, или грузинами, из-за четырех или пяти го-
родов или крепостей, которые он построил на их земле.
Главные из них Терки и Самара. В 1605 г. грузины взяли
одну крепость, ближайшую к своим границам, при помо-
щи турок; но это дело было не серьезное. Грузины — воин-
ственны и хорошие наездники (большинство из лошадей —
жеребцы), воины вооружены легкими латами из крепкой
стали, копьями и дротиками. Они могли бы делать весьма
много вреда России, хотя и отделяются Волгой, если были
бы столь же многочисленны, как и другие ее соседи; оби-
тают они между Каспийским и Черным морями.
Вернемся, однако, к Борису Федоровичу. Приняв
царскую корону 1 сентября 1598 г., он начал господство-
вать мирно, счастливее всех своих предшественников. Но
вскоре совершенно изменился: перестал лично выслуши-
вать жалобы и просьбы, стал скрываться, редко показы-
вался народу, и то с большими церемониями и затрудне-
ниями, неизвестными его предшественникам. Имея сына
по имени Федор Борисович и дочь, он задумал пород-
ниться с иностранными государями, думая этим утвер-
дить и упрочить как себя, так и свое потомство на цар-
ском престоле. Вместе с тем он начал ссылать людей,
казавшихся ему подозрительными, заключал браки по
своему желанию и соединял узами свойства со своим до-
46
мом главнейших, самых нужных вельмож. В Москве оста-
лось не более пяти или шести знатных домов, с которыми
он не породнился; к числу их принадлежало семейство
Мстиславского. Мстиславский не был женат и имел двух
сестер, одна из которых была в замужестве за царем Си-
меоном, другая же оставалась незамужней: Борис велел
ее против воли постричь в монахини, а Мстиславскому
запретил вступать в брак. Был еще род Шуйских, пред-
ставленный тремя братьями. Желая сблизиться с этим до-
мом, Борис выдал за среднего брата, по имени Дмит-
рий8, сестру своей супруги, а старшему не разрешил
жениться: то был князь Василий Иванович Шуйский9,
ныне царствующий в Москве, о котором будем говорить в
дальнейшем. Борис опасался, чтобы несколько домов, со-
единяясь узами родства, не оказали бы ему сопротивле-
ния. Наконец, он отправил в ссылку царя Симеона, же-
натого на сестре Мстиславского. В день своего рождения,
которое празднуют во всей стране с великим торжеством,
царь порадовал сосланного царя Симеона, дав ему на-
дежду скорого освобождения; при этом прислал ему при
своем письме испанского вина: Симеон и служитель его,
выпив это вино за царское здоровье, оба в короткое вре-
мя ослепли; царь Симеон слеп и сейчас. Я слышал об этом
из собственных уст его.
Во второй год своего царствования Борис успел за-
манить в Россию Густава10, сына короля Шведского Эри-
ка11 (которого низложил с престола его родной брат
Иоанн12, король Шведский), — в надежде выдать за него
замуж свою дочь, если бы нашел его отвечающим своим
видам. Густав был принят весьма торжественно, получил
драгоценные дары от государя: серебряную посуду для сво-
его дома, множество золотой и серебряной персидской
парчи, бархата, атласа и других шелковых тканей для всей
свиты, дорогие каменья, золотые цепи, жемчужные оже-
релья, красивых коней со всем убором, всякого рода пуш-
нину и 10 тысяч рублей деньгами, сумму маленькую по
сравнению с дарами. Он въехал в Москву, как государь.
Но он плохо держал себя. В конце концов его удалили, как
опального, в город Углич, — место убиения мнимого Дмит-
47
рия Ивановича13, — где при хорошем хозяйстве он мог
иметь до 4 тысяч рублей дохода ежегодно.
В 1600 г. прибыло из Польши великое посольство; Лев
Сапега, ныне канцлер литовский, заключил мир на 20 лет.
Он долго, против воли, задержался; пробыл в Москве с
августа месяца до конца великого поста 1601 г., ввиду Бори-
совой болезни. Принимая отпускную грамоту, Сапега цело-
вал царскую руку. В этот день Борис явился в приемной па-
лате на царском троне, с короной на голове, со скипетром
в руке; держава лежала перед ним, сын сидел подле него по
левую сторону; члены Боярской Думы и окольничие зани-
мали места кругом всей палаты на скамьях и были одеты в
одежды из драгоценной парчи, обшитой жемчугом, в высо-
ких черно-лисьих шапках. По обеим сторонам государя сто-
яли по два молодых вельможи, одетых в бархатные белые
кафтаны, обложенные кругом на полфута шириной горно-
стаем, в высоких белых шапках, с двумя большими золоты-
ми цепями, висевшими на груди крест-накрест; каждый из
них держал дорогие секиры из дамасской стали, поднятые
на плечо, будто для удара. Это представляло государево ве-
личие. Обширная палата, где проходят послы, наполнена
скамьями, на которых сидят другие дворяне, также одетые в
парчовые платья — иначе нельзя приходить во дворец. Пока
посол шествует, они сидят неподвижно, соблюдая столь глу-
бокое молчание, что зала кажется пустой. Так обычно при-
нимаются послы. Сапега обедал в присутствии царя, вместе
со своей свитой до 300 человек. Всем подносили угощения
на золотой посуде, которой весьма много — разумею блюда;
о тарелках и салфетках нечего и говорить: сам царь их не
употреблял; ели весьма хорошую рыбу, но худо приготов-
ленную: это случилось постом, когда не едят ни яиц, ни
масла, ни молока; выпив достаточно за здравие обоих госу-
дарей, Сапега отправился с добрыми и честными дарами.
Следует заметить, что по старинному обычаю, царские
пиры бывают весьма роскошны; прислуживают 200 или 300
дворян, одетых в кафтаны из золотой и серебряной персид-
ской парчи, с длинными воротниками, висящими по спи-
не на добрых полфута и унизанных жемчугом. На голове у
них по две шапки; одна — круглая, вышитая жемчугом, без
48
полей, похожая на суповую
миску; другая высокая из чер-
ного лисьего меха; ею покры-
вают сверху первую; на грудь
же вешают большие золотые
цепи. Это число 200—300 мо-
жет быть увеличено согласно
числу гостей. Они подают яст-
ва государю и держат их до тех
пор, пока он не потреоует того
или другого блюда. Порядок
пира следующий: когда царь
сядет за стол, и послы или
другие приглашенные лица
тоже займут свои места, на-
званные дворяне в вышеупо-
мянутом уборе подходя" по два
Царь Борис Федорович
Годунов
в ряд к царскому столу, отвешивают низкий поклон и уда-
ляются один за другим в кухню за яствами, которые подно-
сят потом государю. Но прежде, чем подадут кушания, ста-
вят на столы в серебряных кувшинах водку; ее наливают в
небольшие чарки и пьют пред обедом. На столах, исключая
хлеба, соли, уксуса и перца, нет ничего — ни тарелок, ни
салфеток. В то время как гости пьют водку, царь рассылает
каждому из них отдельно кусок хлеба, называя по имени
того, кому назначен этот кусок; тот встает, и ему подносят
хлеб со словами: «Царь государь и Великий князь всея Руси
жалует тебя». Жалуемый берет хлеб, отвешивает низкий по-
клон и садится; также подносят и прочим. Потом, когда царь
по такому же порядку раздаст главным особам по одному
блюду с кушанием, на все столы ставят яства во многом
множестве. Затем царь посылает каждому отдельно кубок,
наполненный испанским вином, с теми же словами и об-
рядами, как выше сказано. Когда обед зайдет за половину,
царь разошлет гостям снова по большой чаше с каким-ни-
будь красным медом (он бывает разных сортов). После этого
приносят и ставят по столам огромные серебряные ведра с
белым медом, который черпают ковшами. По мере того, как
одни сосуды опорожняются, подают другие с напитками,
49
более или менее крепкими, каких пожелают пирующие. По-
том царь посылает каждому гостю третью чашу с крепким
медом или ароматным вином; а после обеда четвертую и
последнюю, наполненную паточным медом, напитком весь-
ма вкусным, легким и, как вода ключевая, прозрачным. В
заключение царь жалует блюдо кушанья каждому из пирую-
щих, которое тот относит домой; при этом яства, даримые
лицам особо приближенным, царь сначала сам отведывает.
Как при этом случае, так и в продолжение всего пира, по-
вторяются те же слова, о коих упомянуто выше. Кроме гос-
тей, царь посылает по одному блюду на дом каждому дворя-
нину и вообще всем лицам, которые пользуются его
милостью. Эти так называемые подачи совершаются не только
во время праздника, но и всякий день непременно.
Если государь, по окончании торжественного при-
ема, не намерен угощать посла, согласно обычаю, то по-
сылает обед к нему на дом по такому порядку: знатный
дворянин в парчовой одежде, с вышитым воротником, в
шапке, унизанной жемчугом, отправляется верхом объя-
вить послу царское милостивое слово и вместе с ним обе-
дать. 15 или 20 служителей идут вокруг его лошадей, а за
ними шествуют попарно: двое со скатертями, сложенны-
ми свитком, двое с солонками; двое с уксусом в склян-
ках; двое с парой ножей и парой ложек драгоценных; шесть
человек с хлебом; потом с водкой; за ними несут дюжину
серебряных сосудов, в три шопина каждый, наполненных
разными очень крепкими винами, испанским, Канарским
и другими. Затем столько же огромных бокалов немецкой
работы. Далее кушанья: холодные (их подают сначала),
горячие, жареное и пирожное — все в больших серебря-
ных блюдах; а в случае особого царского благоволения
вся посуда бывает золотая. Далее несут до 18 или 20 боль-
ших жбанов, в которых налит мед разных сортов: их под-
нимают каждый два человека; за ними идут человек 12,
каждый с пятью или шестью большими ковшами. Ше-
ствие заключают две или три телеги с медом и пивом для
прислуги. Все припасы несут стрельцы, весьма чисто оде-
тые. Я видел человек 300 или 400, которые таким поряд-
ком несли кушания и напитки для одного обеда: видал
50
также, что в один день посылали три обеда разным по-
слам, одному более, другому менее, во всегда тем же по-
рядком, как было сказано выше.
В 1601 г. начался великий голод, продолжавшийся три
года; мера хлеба поднялась в цене от 15 су до 3 рублей, т.е.
до 20 ливров. В эти три года случались события почти неве-
роятные; казалось почти обычным, если муж бросал жену
и детей, если жена убивала мужа, а мать — своих детей, и
съедали их. Я сам был свидетелем, как четыре женщины,
мои соседки, брошенные мужьями, решились на следую-
щий поступок: одна пошла на рынок и, сторговавши воз
дров, зазвала крестьянина на свой двор, обещая отдать ему
деньги; но только он сложил дрова и зашел в избу, чтобы
получить плату, как женщины удавили его и спрятали в
погреб, чтобы тело не повредилось: сперва хотели съесть
лошадь убитого, а потом приняться за тр> п Когда же пре-
ступление открылось, они признались, что труп этого кре-
стьянина был уже третьим. Голод был так велик, что, не
считая умерших в других гооолах, в одной Москве погибло
Торжественный царский обед
51
от него более 120 тысяч людей; их похоронили за городом
на трех кладбищах за счет государя, приказавшего выда-
вать даже саваны для погребения. Причиной столь большой
смертности в Москве было то, что царь Борис приказал
раздавать ежедневно милостыню всем бедным обитателям
столицы, каждому по московке, иначе около 7 денариев.
Услышав о такой щедрости государя, все устремились в
Москву, хотя некоторые имели возможность кормиться;
прибыв же в столицу, не могли содержать себя на означен-
ные 7 денье, не взирая на то, что в каждый большой празд-
ник и воскресенья получали по деньге, т.е. вдвое; поэтому,
падая от большого истощения, одни умирали на улицах,
другие дорогой на обратном пути. Наконец, Борис, узнав,
что со всего государства народ двинулся в Москву на яв-
ную смерть, оставляя города и села, повелел раздачи пре-
кратить. Тогда предстало небывалое зрелище: всюду по до-
рогам находили мертвых и умирающих от голода и холода.
Сумма, выданная Борисом для бедных, невероятна; не
говоря о Москве, во всей России не было города, куда бы
он не посылал более или менее денег для пропитания бед-
ных. Мне известно, что в Смоленск отправлено было с од-
ним из моих знакомых 20 тысяч рублей. К чести этого царя
должно заметить, что он охотно раздавал щедрые милос-
тыни и награждал духовенство, также ему преданное. Го-
лод сильно подорвал и силы России, и доходы государя.
В начале августа 1602 г. посетил Россию герцог Иоанн14,
брат Христиана15, короля датского, хотевшего жениться на
царской дочери. Он встречен был с великими почестями,
по русскому обычаю; в свите его находилось около 200 чело-
век, а почетная стража состояла из 24 стрельцов и 24 але-
бардщиков. Через три дня после приезда герцог имел ауди-
енцию у Его Величества, который принял его ласково,
называя сыном, и посадил рядом с царевичем. По оконча-
нии приема гость обедал вместе с государем. Этого никогда
не бывало прежде, так как по русским обычаям никто, ис-
ключая сыновей, не может сидеть за столом царя. После
угощения герцог, щедро одаренный, отправился в назна-
ченный ему дом. Дней через 15 он сделался болен, как дума-
ют, от неумеренности, и вскоре умер. Царь навестил его
52
трижды во время болезни, вместе с сыном; долго сокру-
шался и прогневался на всех медиков. Не дозволив бальза-
мировать усопшего, — ибо это не согласно с русской ве-
рой, — Борис велел схоронить его в немецкой церкви, версты
две за городом. Все дворянство следовало за гробом до озна-
ченной церкви и присутствовало до конца всей церемонии.
Три недели царь и знать носили траур. Немного времени
спустя скончалась царица Ирина — сестра его, вдова царя
Федора Ивановича: она погребена в Девичьем монастыре.
Между тем недоверчивость и подозрительность царя
все возрастали: Борис не раз удалял Шуйских, считал их
наиболее для себя опасными, хотя второй брат из них
женат был на царской свояченице. Он подвергал много
невинных людей пыткам только за то, что они изредка
посещали Шуйских, даже и в то время, когда последние
были в милости. Ни один медик не осмеливался под стра-
хом ссылки посещать и пользовать вельмож без именного
приказания государя: во всей России никогда не было
других аптек и лекарей, кроме царских. Наконец, с 1600 г.,
когда разнеслась молва о Дмитрии Ивановиче, Борис за-
нимался ежедневно только истязаниями и пытками: тогда
холоп, клеветавший на своего господина в надежде сде-
латься свободным, получал от царя вознаграждение, а
господина его или главного из служителей дома подверга-
ли пытке, чтобы исторгнуть признание в том, чего они
никогда не делали, не слыхали и не видали. Мать Дмит-
рия взяли из монастыря и удалили за 600 верст от Моск-
вы. Весьма немногие из знатных семейств спаслись от по-
дозрений тирана, представлявшегося весьма милостивым;
во время своего царствования до появления Дмитрия в
России, он не казнил публично и десяти человек, кроме
нескольких воров, пойманных из числа 500 человек и по-
вешенных. Но тайно он вешал весьма многих, одних от-
правлял в ссылку, других отравлял ядом и бесчисленное
множество утопил; однако не нашел себе облегчения.
Наконец, в 1604 г. обнаружилось, чего он так опасал-
ся: Дмитрий Иванович, сын царя Ивана Васильевича,
которого считали убитым в городе Угличе, от границ По-
долии вступил в Россию с 4 тысячами воинов. Прежде
53
всего он осадил крепость, по названию Чернигов, кото-
рая ему сдалась, затем сдалась другая крепость; после этого
Дмитрий подошел к Путивлю, городу весьма большому и
богатому, который также сдался. Многие другие крепос-
ти, как-то: Рыльск, Кромы, Карачев, а также с татарских
границ Царев Борисов, Белгород, Ливны и другие, ему
сдались. Увеличив таким образом свои силы, он осадил
построенную на горе крепость Новгород Северский, где
начальствовал Петр Федорович Басманов16, оказавший
такое сопротивление, что Дмитрий не мог овладеть Нов-
городом. Между тем царское войско 15 декабря располо-
жилось в 10 верстах от его армии. Князь Федор Иванович
Мстиславский, главнокомандующий войском, ожидал еще
подкрепления, но 20 числа две армии сошлись. После двух
или трех часов битвы неприятели отступили без значи-
тельного урона. Но Дмитрий упустил выгодный случай из-
за неопытности своих капитанов в военном искусстве. Во
время схватки три польских отряда бросились на один рус-
ский батальон так стремительно, что опрокинули его на
правое крыло и потом на главный корпус; вследствие бес-
порядка и смущения вся царская армия, за исключением
левого крыла, поколебалась и обратила врагам тыл. Если
бы другие 400 всадников ударили во фланг или в другой
батальон, уже полурасстроенный, то нет сомнения, что
четыре отряда разбили бы все русское войско. Главноко-
мандующий Мстиславский, сбитый с коня, получил три
или четыре раны в голову и был спасен от плена стрель-
цами. Казалось, у русских не было рук для сечи, хотя чис-
ло их простиралось от 40 до 50 тысяч. Оба войска, разой-
дясь в разные стороны, ничего не делали до Рождества. В
Москву были отправлены пленники, в числе их капитан
польской кавалерии Домараский.
28 декабря Дмитрий Иванович снял осаду Новгорода,
видя, что не может более ничего сделать, и удалился в
весьма плодородную Северскую область, где большая часть
поляков его оставила. Несмотря на это, он собрал все силы,
сколько мог, — русских, поляков, казаков и присоединив-
шихся крестьян, обученных владеть оружием. Армия Бори-
са усиливалась ежедневно, у него была еще армия у Кром.
54
Войска его преследовали Дмитрия, но так медленно, что,
казалось, не имели охоты сражаться. Целый месяц они блуж-
дали по лесам и дубравам и, наконец, снова приблизились
к неприятельскому отряду. Дмитрий, узнав, что войско
Борисово расположено в такой местности, что не может
двигаться, решил ночью внезапно напасть на него и при-
казал тамошним жителям, знавшим все выходы, поджечь
село; но дозоры заметили поджигателей. На рассвете
21 января 1605 г. войска сразились. После небольшой стыч-
ки, когда началась с обеих сторон пушечная пальба, Дмит-
рий приказал своей главной коннице спуститься в долину
и отрезать царскую рать от деревни. Заметив это, Мстис-
лавский двинул вперед правое крыло, с двумя отрядами
иноземцев, и предупредил неприятеля. Но польский пред-
Гьодитель, видя, что предупрежден, решился на крайнее
средство и с десятком знамен бросился на правое крыло
*1 русских с такой яростью, что оно после некоторого сопро-
тивления иноземцев разбежалось. Между тем как главная
царская рать стояла неподвижно, в каком-то бесчувствен-
ном оцепенении, поляки повернули вправо к селу, где
находилась большая часть русской пехоты с несколькими
орудиями. Допустив неприятеля весьма близко, она дала
залп из 10 или 12 тысяч ружей, произведший такую панику
среди поляков, что они поворотили коней в совершенном
расстройстве. Остальные поляки, пешие и конные, думая,
что дело выиграно, приближались со всей возможной ско-
ростью. Увидав столь беспорядочное бегство своих, они
поспешили удалиться, но были преследуемы 5 или 6 тыся-
чами всадников на пространстве 7 или 8 верст. Дмитрий
потерял почти всю свою пехоту, 15 знамен и штандартов,
13 пушек, оставив на месте 5 или 6 тысяч убитыми, кроме
пленных. Из числа последних русские были повешены сре-
ди войска, а остальных вместе со знаменами, трубами и
барабанами торжественно водили по столице.
Дмитрий с остатком армии удалился в Путивль, где
оставался до мая месяца. Армия же Бориса осаждала
Рыльск, покорившийся Дмитрию, но ничего в 15 дней не
сделав, сняла осаду; полководцы хотели распустить на
несколько месяцев свое войско, весьма утомленное. Бо-
55
рис, узнав об этом, строго запретил увольнять воинов.
Итак, после недолгого отдыха в Северской земле, Мстис-
лавский и князь Василий Иванович Шуйский, прислан-
ный к нему из Москвы в товарищи, двинулись к другой
армии, которая, услышав о поражении Дмитрия, осадила
Кромы. Соединенные войска остановились около этого
города и занимались делами, достойными смеха, вплоть
до самой кончины Бориса Федоровича, умершего от апоп-
лексии в субботу, 23 апреля того же года.
Прежде чем продолжать, заметим, что среди русских
вовсе не бывает поединков, — во-первых, потому, что хо-
дят всегда безоружными, исключая военное время или пу-
тешествия; во-вторых, потому, что оскорбленный словами
или другим образом обращается к суду, который определя-
ет виновному наказание, именуемое бесчестием. Оно обык-
новенно зависит от воли обиженного. Иногда виновного
секут батожьем, что происходит следующим образом: об-
нажив спину до рубахи, кладут провинившегося на землю
ничком, два человека держат его за голову и за ноги, а
другие в присутствии судьи, истца и посторонних лиц де-
рут ему спину прутьями толщиной в палец до тех пор, пока
судья скажет: «стой». Иногда же обвиняемым обиженному
уплачивается сумма в размере оклада, получаемого послед-
ним от государя, и, сверх того, жене его вдвое: кому дают
от казны 15 рублей ежегодно, тому и бесчестия 15 рублей,
да жене его 30, стало быть, всего 45 рублей. Так поступают
всегда, соразмерно жалованью. Но бывают такие обиды что
виновного секут среди города кнутом и, взыскав означен-
ную пеню, отправляют в ссылку. В случае же поединка между
иностранцами (что видел я за шесть лет однажды) тот, кто
ранит другого — вызвавшего, или вызванного, все равно, —
наказывается как уголовный преступник, и ничем оправ-
дать себя не может. Если кто-либо поносит другого бра-
нью, запрещено бить его даже рукой под опасением выше-
упомянутого взыскания; если же это случится, причем
другой сам ответит ударом, и дело дойдет до жалобы —
тогда обоих наказывают телесно или денежной пеней в казну
для того, чтобы оскорбленный, как говорят русские, са-
мовольной расправой не присваивал себе власти правосу-
56
дия, которое одно имеет право разбирать и преследовать
преступления. И потому суд в случае споров, обид и оскор-
блений бывает гораздо скорее и строже, нежели в других
делах. Это соблюдается весьма тщательно не только в горо-
дах в мирное время, но и в военное, по отношению к вои-
нам, т.е. дворянам (за бесчестие простолюдина и гражда-
нина платят не более 2 рублей). Справедливо и то, что
русские не любят придираться к словам: они весьма про-
сты в обхождении и всякому говорят «ты»; а прежде были
еще проще. Если им случалось иногда слышать что-либо
сомнительное или несправедливое, то вместо слов: «ваше
мнение», или «извините», или других учтивых выражений,
они отвечали наотрез: «ты лжешь». Так говорил даже слуга
своему господину. И хотя Иван Васильевич был прозван и
считался Грозным, однако и он не гневался на подобные
грубости. Но теперь, когда среди них появились иностран-
цы, русские отвыкают от грубости, бывшей в обычае лет
двадцать или тридцать назад.
По смерти Бориса, князья Мстиславский и Шуйский
были немедленно отозваны вдовствующей царицей и Фе-
дором Борисовичем17, сыном умершего: армия же не была
уведомлена о смерти. 27 апреля прибыл в армию, как для
того, чтобы принять присягу от войск, так и для того,
чтобы занять место отозванных, Петр Федорович Басма-
нов (бывший начальником Новгорода во время осады его
Дмитрием) с товарищем. Армия принесла присягу верно-
сти и повиновения Федору Борисовичу, признавая его
государем. Новый царь прислал войску ласковые грамо-
ты, убеждая их служить ему столь же верно, как и покой-
ному отцу его Борису Федоровичу, обещая наградить каж-
дого щедро, по прошествии шестинедельного траура.
17 мая князь Василий Иванович Голицын18 и Петр
Федорович Басманов со многими другими передались
Дмитрию Ивановичу, пленив воевод, Ивана Годунова19 и
Михаила Салтыкова20. Остальные воеводы и воины обра-
тились в бегство к Москве, оставив все орудия и снаряды
в окопах. Многие города и крепости покорялись Дмит-
рию, шедшему от Путивля с шестью отрядами польской
кавалерии, числом до 600 человек, с несколькими каза-
57
ками донскими и днепровскими и немногими русскими.
Прибыв к покорившейся армии, он приказал немедлен-
но распустить недели на две или на три тех воинов, кото-
рые имели поместья под Москвой, других же отправил к
столице, с приказанием пресечь подвоз съестных припа-
сов. Сам между тем продвигался к ней медленно с двухты-
сячным отрядом и рассылал ежедневно грамоты к дво-
рянству и простому народу, обещая милость покорным,
угрожая Божиим и царским гневом остающимся стропти-
выми и мятежными. Народ, получив одну из сих грамот,
собирался на площади перед дворцом. Тщетно Мстислав-
ский, Шуйский, Бельский21 и другие хотели укротить вол-
нение: прочитав грамоту всенародно, москвичи, возбуж-
дая друг друга, ворвались во дворец, захватили пленниками
царицу, вдову Борисову с ее сыном и дочерью; взяли под
стражу Годуновых, Сабуровых, Вельяминовых — ближай-
ших родственников, — и все, что могли найти, разграбили.
Дмитрий Иванович был в Туле за 160 верст от Моск-
вы, когда получил эти известия, и отправил князя Васи-
лия Голицына для приведения города к присяге. Между тем
все вельможи устремились навстречу к Дмитрию до самой
Тулы. 20 июня были задушены (как думаю) вдовствующая
царица и сын ее Федор Борисович; молву же распростра-
нили, что они сами приняли яд. Дочь Бориса находилась
под стражей, всех же родственников сослали в разные ме-
ста. Тело Бориса Федоровича, по просьбе вельмож, выры-
ли из Архангельского собора — места погребения великих
князей и царей — и похоронили в другой церкви.
Наконец, 30 июня Дмитрий Иванович вступил в сто-
лицу. Прибыв сюда, он приказал немедленно Мстиславскому,
Шуйскому, Воротынскому22, Мосальскому23 и другим при-
везти государыню, свою матушку, из монастыря, удален-
ного от Москвы на 600 верст; он выехал ей навстречу за
версту от города. Поговорив с сыном около четверти часа, в
присутствии всех вельмож и граждан, она села в карету, а
царь и вся знать провожали ее пешком до самого дворца;
здесь она жила до тех пор, пока не приготовили для нее
монастырь, где погребена супруга царя Федора Ивановича,
сестра Бориса. В последний день июля Дмитрий короновал-
58
ся, но без особых церемоний: только вся дорога от покоев
до церкви Богоматери и Архангельского собора была устла-
на по червленной ткани персидской парчой. По прибытии
государя в храм Богоматери, где ожидал его патриарх со
всем духовенством, и по совершении молитвы с разными
обрядами, принесли из казны корону, скипетр и державу и
все это вручили Дмитрию. По выходе отсюда в Архангель-
ский собор бросали на дорогу золотые небольшие монеты,
ценой в пол-экю, в экю и два экю, нарочно выбитые для
этого случая (в России вообще не делают золотой монеты).
Из Архангельского собора Дмитрий возвратился во дворец,
где был стол, накрытый для всех, кто мог за ним помес-
титься. Таков обычай при коронации.
Немало времени спустя в присутствии выборных чи-
нов из всех сословий князя Василия Шуйского судили и
признали виновным в оскорблении величества. Царь Дмит-
рий Иванович повелел отрубить ему голову, а двух брать-
ев его сослать в заточение. На четвертый день после приго-
вора Шуйского вывели на площадь, и когда уже положили
его на плаху, объявлено было прошение, по ходатайству
.царской матери, поляка Бучинского24 и других особ. Вме-
сто того он был отправлен вместе с братьями в ссылку,
где однако пробыл недолго. Это была самая крупная ошиб-
ка, которую сделал царь Дмитрий, так как поступок этот
привел к его собственной гибели.
В то же время царь отправил в Польшу послом Афана-
сия Ивановича Власьева для исполнения, как думают, тай-
ного договора, заключенного с воеводой Сандомирским25:
Дмитрий за содействие при завоевании государства обе-
щал жениться на его дочери, как скоро с Божией помо-
щью он вступил на престол отца своего, Ивана Василье-
вича. Афанасий прибыл ко двору и вел переговоры столь
удачно, что в Кракове состоялось торжественное обруче-
ние в присутствии самого короля Польского. Между тем
Дмитрий для охраны своей особы учредил иноземную стра-
жу, отряд из ста стрелков, которым я имел честь командо-
вать, и две сотни алебардщиков, дотоле неизвестных в Рос-
сии. Бояре, не смевшие в правление Бориса вступать в брак,
получили от Дмитрия разрешение. Мстиславский женился
59
на двоюродной сестре царской матери, которая два дня
сряду присутствовала на свадьбах: Василий Шуйский, ос-
вобожденный из заточения и столь же милостиво приня-
тый при дворе, как и прежде, успел обручиться с девицей
из рода Нагих; свадьба его должна была быть отпразднова-
на через месяц после царской. Только и слышно было о
браках и веселии к удовольствию каждого. Дмитрий мало-
помалу давал чувствовать, что это страна свободная, уп-
равляемая милосердным государем. Ежедневно раз или два
он посещал царицу, мать свою. Иногда казалось, что Дмит-
рий слишком запросто обходился с вельможами, которые
воспитывались и вырастали в таком унижении и страхе,
что при царе почти не смели сказать слова без приказания;
впрочем, в случае надобности, он умел являть величие и
достоинство, свойственное государю. Он был умен и так
разумен, что являлся учителем для всего своего совета.
Несмотря на это стали открываться происки: схвачен был
один дьяк или секретарь, которого пытали в присутствии
Петра Федоровича Басманова, главного любимца госуда-
ря, но он не сознался и не выдал главу заговора, которым
был, как выяснилось впоследствии, Василий Шуйский.
Секретарь этот был отправлен в ссылку.
Наконец, к пределам России прибыла государыня26 со
своим отцом, братом, зятем, по имени Вишневецким27 и
многими другими вельможами. 20 апреля Михаил Игнать-
евич Татищев28, вельможа до тех пор весьма любимый го-
сударем, впал в немилость за дерзкое слово, сказанное
Дмитрию в защиту князя Василия Шуйского во время их
спора о жареной телятине, поданной на стол вопреки рус-
ским обычаям. В день Пасхи Татищев получил прощение,
по ходатайству Петра Федоровича Басманова. Но все дога-
дывались, даже и сам Дмитрий (хотя он и был государь
мало подозрительный), что Татищев задумал какое-то злое
дело; ибо никогда прежде он так не поступал, как дней за
15 до своей опалы. Возвращение Татищева было такой же
важной ошибкой, как и помилование Шуйского: все зна-
ли его злое сердце, не забывавшее никакой обиды.
В конце апреля царь Дмитрий получил известие, что
между Казанью и Астраханью собралось до 4 тысяч казаков.
60
Эти казаки, как и все те вообще казаки, о которых мы до
.! сих пор говорили, сражаются пешими, а не конными, как
1 те, которые под именем казаков обитают в Подолии и Чер-
?Ной России под властью польского короля, воюют то там,
То здесь, в Трансильвании, Валахии, Молдавии и других
землях. Казаки, упоминаемые в настоящем сочинении,
издавна одеваются и вооружаются, как татары, обороняясь
единственно саблями и только с недавнего времени упот-
ребляют ружья. Они разбойничали по Волге и распускали
молву, что с ними находится юный государь, именем царь
Петр29, — истинный сын (по их словам) царя Федора Ива-
новича, сына Ивана Васильевича, и сестры Бориса Федо-
ровича, правившего после Федора, родившийся около 1588
г. и тайно подмененный девочкой, умершей на третьем году.
Если бы казаки говорили правду, то царю Петру было бы
16 или 17 лет; но им хотелось только под этим предлогом
грабить страну вследствие неудовольствия Дмитрием, не
давшим им такой награды, какой они желали. Тем не ме-
нее государь послал к самозванцу письмо, уведомляя, что
если он истинный сын Федора Ивановича, его брата, то
пускай пожалует в Москву, что для продовольствия его в
дороге дано будет все необходимое, называемое кормом;
если же он обманщик, то пусть удалится от русских преде-
лов. Пока гонцы скакали туда и обратно, несчастный Дмит-
рий был умерщвлен, о чем мы и будем говорить в дальней-
шем. Впрочем, до моего отъезда из России эти казаки взяли
и разграбили 3 волжских крепости, захватили несколько
небольших орудий и много военных снарядов и наконец
рассеялись: большая часть удалилась в татарские степи,
другие овладели крепостью, на пути между Казанью и Ас-
траханью, в надежде грабить купцов, отправлявшихся тор-
говать в Астрахань, или по крайней мере брать с них ка-
кой-нибудь выкуп. В Архангельске же я узнал, что волнение
утихло и что казаки смирились.
Царица, супруга Дмитрия, вступила в Москву 12 мая,
в пятницу, с таким великолепием, какого прежде в Рос-
сии не видывали: ее карету везли 10 ногайских лошадей,
все белые с черными пятнами, как тигры и леопарды, столь
похожие одна на другую, что их нельзя было различить. Ее
61
сопровождали четыре отряда польских всадников, богато
одетых, на быстрых конях, и отряд гайдуков для охраны. В
свите находились многие вельможи. Царица остановилась в
монастыре царицы-матери государя и жила там до 17 мая,
когда заняла во дворце свою половину. На другой день она
была коронована, с теми же обрядами, как и государь. Ее
вели под руки справа посол короля польского, кастелян
Малагощекий30, слева супруга Мстиславского; по выходе
же из церкви, за правую руку вел ее сам царь Дмитрий, а
левую поддерживал Василий Шуйский. В празднике этого
дня участвовали одни русские. 19 мая начались брачные
торжества в присутствии всех поляков, исключая посла,
который был недоволен тем, что царь не хотел посадить
его за свой стол, хотя по русским обычаям никакой посол
не может обедать вместе с государем. Однако же кастелян
Малагощекий, посол польского короля, не переставал го-
ворить Дмитрию, что король польский удостоил русского
посла чести сидеть при обручении за столом королевским. В
субботу и воскресенье Малагощекий пировал во дворце,
за особенным столом подле их величеств.
В это время Дмитрий, уведомленный как своим тес-
тем, воеводой Сандомирским и своим секретарем, так и
Басмановым и другими лицами о каких-то замыслах про-
тив него, повелел взять некоторых людей под стражу; впро-
чем, казалось, он не придал этому большого значения.
Наконец, 27 мая (здесь, как и в других местах сочинения,
следует считать по новому стилю, русские же принимают
старый), когда менее всего помышляли об этом, наступил
пагубный для царя день. В 6 утра царь Дмитрий Иванович
был бесчеловечно умерщвлен и в то же время было пере-
бито, как полагают, 1 705 поляков, жилища которых были
отдалены друг от друга. Главой заговорщиков был Василий
Иванович Шуйский. Петр Федорович Басманов был убит в
сенях пред царскими покоями, приняв первый удар от того
самого Татищева, которому недавно исходатайствовал сво-
боду; погибли также некоторые стрелки из гвардии. Цари-
ца, супруга Дмитрия, ее отец, брат, зять и все, спасшиеся
от ярости черни, были заключены, как пленники, в от-
дельных домах. Дмитрия мертвого и нагого поволокли мимо
62
Царь Василий Иванович
Шуйский
монастыря его матери до на-
родной плошади, там поло-
жили труп его на стол, дли-
ной в аршин, так что с конца
висела голова, а с другого
ноги, тело же Петра Басма-
нова поместили под столом.
Так они были предметом все-
общего любопытства около
трех дней, до избрания царем
начальника заговора, Василия
Ивановича Шуйского. Хотя
русский престол не избира-
тельный, а наследственный,
но так как Дмитрий был пос-
ледним в роде и никого из
царской крови не оставалось,
то Шуйский и был избран
благодаря проискам и хитрости, подобно Борису Федоро-
вичу после смерти Федора. Шуйский приказал зарыть Дмит-
рия за городом подле большой дороги. В первую ночь после
убийства настал жестокий мороз, который продолжался 8
дней и повредил весь хлеб, деревья и даже луговую траву. В
виду того, что подобного бедствия еще не бывало, тело
Дмитрия, по челобитью приверженцев Шуйского, через
несколько дней было вырыто из могилы, сожжено, а прах
развеян. Но со всех сторон раздавался ропот: одни плакали,
другие стонали, веселились немногие, — это было поисти-
не большой переменой. В совете, в народе, во всей стране,
начались раздоры и новые измены. Всех, получивших от
покойного какую-либо милость, сослали. Области восста-
ли и долго было неизвестно, чем это кончится. Польского
посла держали в тесном заключении. Наконец, царицу вдо-
ву, Дмитрия Ивановича, крепко стерегли в доме воеводы,
отца ее, вместе с придворными дамами и другими польками.
Желая прекратить волнение умов и народный ропот,
избранный Василий Шуйский послал своего брата Дмит-
рия, Михаила Татищева и других в Углич, с повелением
отрыть тело или кости истинного Дмитрия, сына Ивана
63
Инокиня Марфа и князь Шуйский подтверждают
кончину царевича Дмитрия
Васильевича, убитого, по их мнению, за семнадцать лет
перед этим в том же Угличе. Они нашли (по их словам)
тело невредимым, в одежде столь свежей и целой, как в
день погребения (в России обыкновенно хоронят в том
платье, какое находилось на убитом), даже орехи оказа-
лись целыми в его руке. Вынутое из могилы, оно соверша-
ло, по их словам, многие чудеса, как в Угличе, так и по
пути. При торжественном перенесении в Москву его про-
вожали патриарх, духовенство со всеми мощами, царь Ва-
силий Шуйский, царица, мать Дмитрия, и все дворянство.
По повелению Василия Шуйского он был канонизирован.
Но это не успокоило народа, и Василий дважды едва не
был свержен с престола, хотя 20 июня был коронован.
Отослав в Польшу многих незначительных поляков,
особенно слуг, царь удержал в России главнейших в каче-
стве пленников, чтобы принудить поляков к миру. Воево-
ду же Сандомрского, страдавшего тяжкой болезнью, и
дочь его, царицу, отправил в Углич, приказав держать их
под стражей.
Погибший царь Дмитрий Иванович, сын царя Ивана
Васильевича, прозванного Грозным, был лет около 25,
64
совсем безбородый, роста среднего, крепкого и сильного
сложения, лицом смугловатый, с бородавкой подле носа
под правым глазом. Он был силен и очень умен; милос-
тив, вспыльчив, но отходчив, благороден, любил почет и
оказывал его. Он был честолюбив и мечтал прославиться
в потомстве. В конце августа 1606 г. он решил послать во
Францию на английском корабле своего секретаря, что-
бы приветствовать христианнейшего короля и вступить с
ним в знакомство: Дмитрий часто разговаривал со мной о
короле с большим уважением. Христианство много поте-
ряло со смертью Дмитрия, если только он умер, хотя смерть
его кажется вполне правдоподобной. Но я говорю так по-
тому, что я не видел его мертвого своими собственными
глазами, будучи тогда болен.
Через несколько дней после мятежа пронесся слух, что
умертвили не Дмитрия, а другого, на него похожего, кото-
рому он, узнав за несколько часов до рассвета о намерении
заговорщиков, велел занять свое место, а сам скрылся из
Москвы — не от страха (так я полагаю, если только это
случилось), потому что он успел бы расстроить заговор, —
но в намерении узнать, кто более всех ему предан. Дмитрий
мог прибегнуть к столь опасному средству для открытия ис-
тинных приверженцев, чтобы отклонить подозрение о своей
недоверчивости к подданным. Этот слух продолжался вплоть
до моего отъезда из России — 14 сентября 1606 г. Правда, я
думал, что это происки новых заговорщиков с целью сде-
лать ненавистным народу Василия Ивановича Шуйского,
главу заговора и ныне царствующего, и тем удобнее достиг-
нуть своей цели. Я не могу теперь думать иначе, основываясь
на нижеприведенном: чтобы удостоверить этот слух, рус-
ские рассказывают, что едва миновала полночь, по повеле-
нию царя Дмитрия взяты были из малой дворцовой конюш-
ни 3 коня турецкие, которые впоследствии неизвестно куда
девались. Тот, кто отпустил коней, был пытаем по приказа-
нию Шуйского до смерти, чтобы сознался, как это было;
хозяин дома, где открылся Дмитрий в первый раз по удале-
нии из Москвы, разговаривал с царем и даже принес соб-
ственноручное письмо его, в котором он будто бы упрекал
русских в неблагодарности, ибо они забыли его щедроты и
3 Зак 1918
65
милосердие, и угрожал виновным местью. Кроме того, на
улице находили многие записки и подметные письма, и в
них говорилось, что Дмитрия узнали во многих местах, где
он брал почтовых лошадей. В августе же месяце появились
многие другие письма, свидетельствовавшие, что заговор-
щики обманулись и что Дмитрий придет повидаться с ними
в первый день Нового года.
Скажу мимоходом, что рассказывал мне французский
купец Бертран де Кассан, вернувшийся с площади, где
лежал труп Дмитрия. Он говорил мне, что не думал, чтобы
у Дмитрия была борода, которой при жизни не замечали
(Дмитрий и не имел ее), но тело, лежавшее на площади,
имело густую бороду, как можно было заметить, хотя она
и была сбрита, да и волосы, казалось, были гораздо длин-
нее, чем у царя, которого Кассан видел накануне его смерти.
Сверх того, по свидетельству секретаря Дмитрия, родом из
Польши, Станислава Бучинского, был молодой русский
вельможа, весьма любимый и жалуемый Дмитрием, с ко-
торым он имел большое сходство, за исключением только
небольшой бороды; этого вельможу, по словам русских,
нигде не находили, и никто не знал, что с ним сделалось.
Еще мне рассказывал один француз, повар воеводы
Сандомирского, что царица, жена Дмитрия, узнав о но-
сившейся молве, поверила, что он жив и, убедившись в
этом, казалась с тех пор веселее прежнего.
Несколько времени спустя по избрании Шуйского
восстали пять или шесть главных городов на пределах Та-
тарии: мятежники схватили воевод, побили часть войска
и гарнизоны; впрочем, еще до отъезда моего, в июле ме-
сяце, раскаялись получили из Москвы прощение, оправ-
давшись тем, что они были обмануты молвой о спасении
царя Дмитрия. В то же время в Москве был большой раз-
дор среди знатных, негодовавших на избрание Шуйского
государем без их согласия и утверждения; Шуйский едва
не был низложен. Наконец, все успокоилось, и Шуйский
был коронован 20 июня.
После венчания опять возникли тайные козни про-
тив этого царя, в пользу (как я думаю) князя Федора
Ивановича Мстиславского, представителя самого знатного
66
русского рода, за которого при избрании подавали голо-
са, и если бы представители страны были собраны, он
был бы избран. Впрочем, он, как говорят, отказывался от
короны и решился постричься в монахи, если на него
падет выбор. Мстиславский был женат на двоюродной се-
стре матери Дмитрия, из рода Нагих; и потому весьма
вероятно, что эти происки, как я думаю, исходили ско-
рее со стороны родственников его жены, нежели от него.
Затем был обвинен знатный вельможа Петр Никитич
Шереметев, из рода Нагих, и заочно был осужден по на-
вету свидетелей, как глава заговора: его сослали из города
и, как я слышал, по дороге отравили.
В то же время на воротах многих вельмож и иностранцев
ночью было написано, что царь Василий Шуйский повеле-
вает народу разграбить дома этих изменников. В намерении
исполнить это собрались толпы черни, приученной к грабе-
жам прежними переменами и в надежде на добычу соглас-
ной, как я думаю, иметь еженедельно нового государя; ее с
трудом усмирили. Несколько времени спустя, в воскресный
день, именем Шуйского, но без его ведома, на дворцовую
площадь собрали народ под предлогом, что царь желает го-
ворить с ним. Случайно я находился подле царя Шуйского,
собиравшегося к обедне: узнав, что народ созван его име-
нем, он весьма удивился и приказал исследовать, кто со-
звал народ. Не трогаясь с места, окруженный многими, ус-
тремившимися со всех сторон, Шуйский начал плакать и,
укоряя окружавших в непостоянстве, говорил, что им не
нужно было пользоваться такими хитростями, если хотят от
него избавиться; что, избрав его царем, имеют власть низ-
ложить его, если он им неугоден, и что он не имеет намере-
ния этому сопротивляться. Потом, отдав им жезл, который
носят только цари, и шапку, продолжал: «если так, выби-
райте, кого хотите»; но тотчас снова взяв жезл, сказал: «мне
уже надоели эти козни; то меня хотите умертвить, то вель-
мож и иноземцев, по крайней мере думаете ограбить их;
если вы признаете меня царем, то я хочу, чтобы это не
осталось безнаказанным». Тогда все окружающие восклик-
нули, что они клялись ему в верности и повиновении, хотят
все умереть за него и что виновные должны быть наказаны.
67
Между тем народу уже велено было разойтись по
домам; схвачены были пять человек, которые были ви-
новниками этого созыва народа. Думают, что если бы
Шуйский вышел из дворца, или вся чернь собралась бы
на площади, он подвергся бы участи Дмитрия. Спустя
несколько дней означенные пять человек были подвер-
гнуты обычному наказанию кнутом всенародно, и со-
сланы. В приговоре было объявлено, что Мстиславский,
которого обвиняли в руководстве заговором, невино-
вен и что вся вина падает на вышеупомянутого Петра
Шереметева.
Василий Шуйский вновь подвергался опасности во время
перенесения в Москву тела истинного Дмитрия, умер-
щвленного, как гласит молва, 17 лет назад. Как говорят,
когда царь вместе с патриархом и духовенством вышли на-
встречу за город, Шуйского хотели побить камнями, но бо-
яре усмирили народ прежде, чем собралась большая толпа.
В то же время открылся бунт в княжестве Северском,
уже присягнувшем, по словам русских, Шуйскому; 7 или
8 тысяч человек взялись за оружие, утверждая, что Дмит-
рий жив. Но так как мятежники не имели предводителей,
то были разбиты войсками, посланными Василием Шуй-
ским, в числе 50 или 60 тысяч человек, между которыми
находились и все иноземцы; эти новости я узнал в Архан-
гельске. Избегнувшие поражения удалились в Путивль,
один из главных городов Северской области. Говорят, что
и этот город покорился и что виновниками восстания были
поляки, рассыпанные в пределах России и Подолии: они
распустили молву, что Дмитрий жив и находится в Польше.
Вот все, что случилось до 14 сентября 1606 г., в подтвер-
ждение молвы о мнимом спасении Дмитрия.
В заключение выскажу свои соображения в ответ на
мнение тех людей, которые признают Дмитрия Ивановича
не сыном Ивана Васильевича Грозного, а обманщиком.
Ранее царствовавший государь Борис Федорович, царь
весьма тонкий и коварный, а также и другие враги Дмит-
рия говорили, что это был обманщик, а что истинный
Дмитрий Иванович умерщвлен на восьмом году в Угличе,
за 17 лет перед этим, как об этом говорилось выше. Этот
68
же был расстрига, т.е. монах, покинувший свой монас-
тырь, по имени Гришка, или Григорий Отрепьев.
Другие же, считая себя более проницательными, а
также иноземцы, знавшие Дмитрия, уверяют, что он был
не русский, а поляк, трансильванец, или иной инопле-
менник, избранный и подставленный на этот случай.
Я уже объяснил выше, для чего Борис Федорович,
правивший государством при царе Федоре Ивановиче, сыне
Ивана Васильевича и брате Дмитрия Ивановича, сослал
Дмитрия, вместе с царицей-матерью в Углич. Из моего со-
чинения можно заключить, что Федор, по простоте своей,
и по малолетству брата, неопасного пятилетнего младенца,
сам и не думал удалять его: это было сделано по проискам
Бориса. Поэтому вполне можно предположить, что мать и
знатнейшие бояре, например, Нагие, Романовы, видя за-
мыслы Бориса, употребили все средства к избавлению мла-
денца от грозившей опасности. Спасти же царевича они иначе
не могли, как только подменив его другим и воспитав тай-
но, пока не переменятся времена или не разрушатся козни
Бориса Федоровича. Этой цели они достигли как нельзя луч-
ше: кроме верных соучастников, никто не знал об этом.
Царевич воспитывался тайно; после смерти брата своего
Федора, когда избрали царем Бориса, он, вероятно, уда-
лился в Польшу, вместе с расстригой, одевшись монахом,
чтобы перейти русскую границу. Там он поступил на службу
к польскому вельможе Вишневецкому, зятю воеводы Сан-
домирского, затем перешел на службу к этому последнему
и открылся ему. Воевода представил его польскому двору,
где он получил небольшую помощь. Все это может служить
ответом и свидетельством, что в Угличе умерщвлен не царе-
вич, а занявший его место.
Что касается до названия «расстрига», то дело заклю-
чается в следующем: вскоре по воцарении Бориса Федоро-
вича, один монах, некогда секретарь патриарха, именем
Гришка Отрепьев, которого Борис называл расстригой,
бежал в Польшу. С этого времени и до самой своей смерти
Борис стал подозрителен и доискивался правды. Но в мо-
нашеском платье, как я знаю достоверно, убежали двое:
расстрига и другой человек — до сих пор безымянный. Царь
69
Борис разослал гонцов по всем пределам государства с
повелением стеречь все дороги и задерживать всякого, даже
с пропускным видом, объявив, что два государственные
преступника намерены бежать в Польшу. На всех путях к
границе установлены были заставы, как во времена моро-
вой язвы, — и три или четыре месяца никто не мог ездить
из одного города в другой.
Кроме этого, дознано и доказано, что расстриге было
от 35 до 38 лет: Дмитрий же вступил в Россию 23- или
24-летним юношей и привел с собой расстригу, которого
всякий мог видеть: братья его живы и теперь, и имеют
земли близ Галича. Этот расстрига до побега из России
слыл наглецом и пьяницей, за что Дмитрий и удалил его
за 230 верст от столицы в Ярославль. Там находился дом
английской компании; один из живших в этом доме в то
время, когда умертвили Дмитрия, рассказывал мне, что
расстрига, услышав о смерти царя и восшествии Шуй-
ского на престол, признавал Дмитрия истинным сыном
Ивана, которого он вывел из России; божился, клялся в
верности слов своих, называл себя Гришкой Отрепьевым,
расстригой, и говорил, что никто не может этого опро-
вергнуть. Вот собственное признание Отрепьева, и не мно-
гие из русских думают иначе. Несколько времени спустя
Василий Шуйский, возведенный на царство, приказал его
изловить; что же с ним сделалось после, я не знаю. Этого
довольно для ответа на первое возражение.
Рассмотрим второе: многие иноземцы, считая Дмит-
рия поляком, или трансильванцем, решившимся на об-
ман или самостоятельно, или избранным для этого дру-
гими людьми, в доказательство своего мнения приводят
то, что он говорил по-русски неправильно, осмеивал рус-
ские обычаи, соблюдал русскую веру только для вида, и
другие подобные доводы: одним словом, говорят они, все
приемы и поступки обличали в нем поляка.
Но если он был поляк, нарочно подготовленный для
свержения Бориса, то следовало бы наконец узнать, кем он
был подготовлен. При том, для этой цели, думается мне,
нельзя было брать какого-нибудь проходимца; замечу мимо-
ходом, что из 500 человек не сыщется ни одного способного
70
совершить то, что предпринял Дмитрий, которому было 23
года. Кроме того, чего могли добиваться заговорщики, ког-
да Россия не сомневалась в убиении царевича, когда Борис
Федорович царствовал счастливее всех своих предшествен-
ников, уважаемый народом, страшный для всякого, когда
мать Дмитрия и многие из родственников ее могли засвиде-
тельствовать истину? Вероятно ли, чтобы это было с согла-
сия короля польского и сейма? А подданные без ведома ко-
роля, конечно, не решились бы на столь важное дело,
которое, в случае неудачи, навлекло бы продолжительную и
бедственную войну на государство. Но если это было, то
война не началась бы с 4 тысяч человек, а король послал бы
с ним каких-нибудь советников, знатных вельмож, для ру-
ководства во время войны, и снабдил бы его деньгами. Тог-
да, вероятно, большинство поляков не оставило бы Дмит-
рия, отступившего от Новгорода Северского, тем более, что
он еще имел в своих руках до 15 городов и крепостей, и
армия его ежедневно усиливалась. Говорить же, что все это
предпринял обманщик, который, имея не более 21 года,
выучился для этой цели русскому языку, даже чтению и
письму, — есть мнение нелепое. Кроме того, самозванец на
все вопросы, без сомнения предложенные при первом его
появлении, должен был ответить умно и складно. Где же он
мог научиться? Россия не такая свободная страна, куда вся-
кий может приходить учиться языку, выведывать то и другое
и затем удаляться: в этом государстве, почти недоступном,
все делается с такой тайной, что весьма трудно узнать исти-
ну, если не видишь ее собственными глазами. И потому мне
кажется невероятным, чтобы самозванец мог исполнить свой
замысел без помощи других. Если же он имел соучастни-
ков, то они должны были обнаруживаться или при его жиз-
ни, или после смерти. Наконец, если бы он был поляком,
то он поступал бы иначе со своими единоплеменниками; да
и сам воевода Сандомирский не поспешил бы дать ему ка-
кого-либо обещания, не узнавши до точности, кто он. Гово-
рить, что воевода не знал, кто он был, — совершенно неве-
роятно, как мы увидим впоследствии.
Что же касается до тех, которые говорят, что он вос-
питан и приготовлен иезуитами, то где же его отечество?
71
Доказано выше, что он не мог родиться в Польше и тем
менее в какой-либо другой стране, кроме России. Если же
признать его русским, то надобно узнать, где взяли его
иезуиты, так как до воцарения Дмитрия никогда в России
не видно было иезуитов; немногие из них приезжают с
послами, но за ними так строго следят, что им невозмож-
но увезти какого-нибудь младенца из России. Иезуиты имели
средство похитить ребенка только в то время, когда Бато-
рий, лет 30 тому назад, воевал с Россией, или когда была
война России со шведами; однако возможно ли, чтобы в
России не осталось совсем родственников увезенного? Да
и нельзя было, думаю я, воспитывать его столь тайно, что-
бы никто из поляков и, наконец, воевода Сандомирский
не открыли обмана. По крайней мере, Дмитрий не мог не
знать своего происхождения. Если же он воспитывался у
иезуитов, то, без сомнения, должен был говорить, читать
и писать по латыни. Но совершенно верно, и я могу это
свидетельствовать, что Дмитрий не умел говорить по латы-
ни, и еще менее читать или писать. Это я могу доказать
подписью имени его, весьма нетвердой. Кроме того, он
оказал бы тогда иезуитам гораздо более милости: в Россию
явилось бы их не трое — и то с польскими войсками, не
имевшими духовных лиц. Один из них, после царского вен-
чания, отправился в Рим, по просьбе остальных двух.
Возражают еще: Дмитрий не чисто объяснялся по-рус-
ски. Отвечу на это, что я слышал, как он разговаривал на
русском языке вскоре по прибытии в Россию, и нахожу,
что он говорил по-русски как нельзя лучше; только для при-
красы он примешивал иногда польские фразы. Я видал раз-
нообразные письма, продиктованные Дмитрием еще до его
прихода в Москву; они были, несомненно, хороши, ни один
русский не мог найти в них ошибок. Что же касается до
недостатков в произношении некоторых слов, то этого весьма
недостаточно для отрицательных выводов, если принять во
внимание долгое, с раннего детства отсутствие из отечества.
Свидетельствуют также, что он осмеивал русские обы-
чаи и только для вида наблюдал обряды религии. Надо ли
этому удивляться? Особенно, когда мы знаем обычаи и нравы
русских. Они грубы и необразованны, невоспитанны, лука-
72
вы, вероломны, не уважают ни законов, ни совести, зара-
жены развратом содомским и множеством других пороков и
постыдных страстей. Если Борис Феодорович, в происхож-
дении которого никто не будет сомневаться, ненавидел не
столько их, сколько их пороки, и произвел некоторые пре-
образования в обычаях, то мог ли Дмитрий, знавший отча-
сти большой свет, живший несколько времени в Польше,
стране свободной, среди знатных вельмож, не желать, по
крайней мере, просвещения и образованности своему народу?
Говорят, что он не строго соблюдал религиозные об-
ряды; но я знаю многих русских, так же поступавших,
между прочим, Посникова Дмитрия, который был в Да-
нии посланником Бориса Федоровича и, узнав там отча-
сти истинную религию, по своем возвращении открыто
смеялся в кругу приятелей над невежеством москвичей.
Почему же Дмитрий не мог презирать народного суеве-
рия, тем паче, что он обладал здравым смыслом, любил
читать Св. Писание и, будучи в Польше, вероятно слыхал
суждения о разных вероисповеданиях, вразумившие его в
догматах религии, принятых всеми христианами. Впрочем,
я возражаю только на слова; а в самом деле найдется весьма
немного обвинителей, как из иноземцев, так и из рус-
ских, которые заметили бы в поступках его достаточный
повод к такому обвинению; он соблюдал вообще все об-
ряды русской церкви, хотя и решился, как я знаю, осно-
вать университет. Наконец, если бы он был поляком, то
не делал бы неприятного никому из своих. И русские, как
Борис, или царь Василий Шуйский, не упустили бы из
рук своих столь завидного скипетра, если бы с достовер-
ностью могли доказать, что Дмитрий был иноплеменник.
Некоторые из русских говорят: кто бы ни был Дмит-
рий, но воевода Сандомирский не знал его истинного про-
исхождения. Если это справедливо и если он действительно
был не истинный Дмитрий, то вероятно ли, чтобы воевода
Сандомирский столь поспешно вступил с ним в родство,
уже узнав об измене Шуйского, уличенного вскоре по при-
бытии в Москву. Кроме того, решившись породниться с ним,
воевода, без сомнения, посоветовал бы ему не распускать
пришедших с ним поляков и казаков, которых Дмитрий мог
73
бы удержать при себе, не возбудив подозрений, так как все
предшественники его старались привлечь в свою службу как
можно больше иностранцев. Но этого не было сделано: царь
распустил всех, оставив при себе только сотню всадников.
Точно также я полагаю, что воевода привел бы гораздо бо-
лее войска с царицей, своей дочерью, чего он не сделал, и
нашел бы средства держать поляков в одном месте, а не
рассеять их в отдаленных местах столицы — на произвол рус-
ских. При том же, по совершении брака, когда уже говори-
ли об измене, он заставил бы Дмитрия советами, просьбами,
убеждениями принять меры предосторожности, которыми
все легко можно было предупредить.
Для очевидного доказательства, что Дмитрий не сын
Ивана Васильевича, противники его, столь деятельные при
жизни его и по смерти, должны были бы открыть его истин-
ных родителей, чего при известном в России порядке суда и
расправы легко добиться. Чувствуя себя виновным, Дмит-
рий старался бы всеми средствами понравиться России, хо-
рошо зная, что Борис ничем не мог так поддержать себя на
престоле, как называя его еретиком. Поэтому он не позво-
лил бы войти в Москву ни одному из иезуитов и связал бы
себя родством, по обычаю всех предшественников своих, с
каким-нибудь русским домом, в котором мог бы найти опо-
ру, помня, что Борис навлек на себя негодование народа
намерением породниться с иноземным государем. Но Дмит-
рий презирал эти средства, и по этой самоуверенности мы
можем видеть, что он мог быть сыном только великого госу-
даря. Его красноречие восхищало русских; в нем блистало
какое-то неизъяснимое величие, до сих пор неизвестное
русским вельможам и тем менее простому народу, к кото-
рому должны были принадлежать его родители, если он не
был сыном Ивана Васильевича. Сама попытка его доказы-
вает веру в правоту дела: с ничтожными силами он идет в
обширную державу, как никогда процветающую, управляе-
мую государем хитрым, грозным для подданных, нахо-
дившимся в родстве с главнейшими русскими семьями,
изгнавшим и уморившим всех людей подозрительных,
пользовавшимся расположением всего духовенства, милос-
тями и благодеяниями привлекавшим сердца народа, нахо-
74
лившимся в дружбе со всеми соседями и 8 или 9 лет миро
царствовавшим. Наконец, нельзя не обратить внимания и
на мать Дмитрия, и многих его родственников, которые,
если бы это было не так, могли бы выступить с протестом.
Затем, когда мы рассматриваем положение Дмитрия,
покинутого большинством поляков, — то чему приписать
можем уверенность, с которой предался он в руки русских,
в преданности которых он еще не удостоверился, и решение
идти навстречу стотысячному войску с 8 или 9 тысячами
человек, в массу крестьян. Когда сражение было потеряно,
слабые силы его рассеяны, немногие пушки со всеми сна-
рядами в руках неприятеля, он отступает, окруженный 30
или 50 воинами, в город Рыльск, незадолго перед этим по-
корившийся, в приверженности которого он не был уверен;
оттуда — в Путивль, город обширный и богатый — и живет
там с января по май, по-прежнему нисколько не страшась
врагов, хотя Борис и явно, и тайно старался всеми силами
убить его, отравить или пленить. Уверяя народ ложными сви-
детельствами, что Дмитрий обманщик, Борис не хотел,
однако, допросить его мать всенародно, чтобы она выясни-
ла, кто он, но вместо того стал говорить, что если бы он
был истинный сын Ивана Васильевича, то и тогда не имел
бы прав, как незаконнорожденный, т. е. сын от седьмой жены
(что противно обычаю) и как еретик; но это вовсе не могло
служить доводом против него.
Затем скажем также об его милосердии к каждому,
по вступлении в Москву, и особенно к Василию Шуйско-
му, которого уличили в измене; доказано летописями и
поступками его по отношению к Борису, что ни Василий
Шуйский, ни его дом никогда не были верными слугами
русских государей.
Даже все приближенные убеждали Дмитрия казнить
Шуйского, как постоянного нарушителя общественного
спокойствия, — говорю, что видел своими глазами и что
слышал своими ушами. Но Дмитрий его помиловал, хотя
хорошо знал, что никто, Кроме рода Шуйских, не осме-
ливался помышлять о короне. Он простил и многих дру-
гих, так как был не подозрителен.
Если он был самозванец, как говорят, и если эта исти-
75
на стала известна незадолго до его убийства, то отчего он не
был заключен в темницу, или выведен на площадь, где его
могли бы уличить в обмане перед всем народом вместо того,
чтобы убивать без ответа и подвергать государство разрухе,
во время которой многие лишились жизни. Могла ли страна
поверить его преступлению без других доказательств, кроме
свидетельства четырех или пяти человек — главных заговор-
щиков? И для чего Василий Шуйский с единомышленни-
ками задумал клевету, чтобы сделать Дмитрия ненавистным
народу? Ведь они публично огласили письма, в которых было
сказано, что Дмитрий хотел большую часть России отдать
королю Польскому и тестю своему, воеводе Сандомирско-
му, что он хотел разделить государство, что он отправил
сокровища в Польшу, что он намерен был на следующий
день (т. е. в воскресенье) вывести весь народ и дворянство за
город, под предлогом повеселить своего тестя и показать
ему свои пушки, а в самом деле приказал полякам истре-
бить всех картечью, разграбить их дома и зажечь город; что
он и в Смоленск послал подобное же приказание. Распрос-
траняли без конца и другие ложные слухи. К этому присое-
динили, как выше сказано, что тело истинного Дмитрия,
убитого 17 лет назад в возрасте 8 лет, найдено в совершен-
ной целости: почему по приказанию Шуйского, убиенный
Дмитрий был признан святым. Все это было сделано, чтобы
убедить народ.
В заключение скажу: если бы Дмитрий был обман-
щик, то простая истина, изложенная удовлетворительно,
могла бы сделать его ненавистным каждому. Дмитрий же,
если бы чувствовал себя виновным, то верил бы доносам
о заговорах и изменах против его особы замышляемых, и
весьма легко успел бы устранить «их, но, как известно, ни
при жизни, ни по смерти его не могли доказать обмана.
Борис, поведав о появлении своего врага, терзался совес-
тью и тиранствовал. Дмитрий сам проявлял всегда реши-
тельность и другие качества, свойственные не обманщику
и узурпатору, а государю. Это соединено было у Дмитрия
с доверием и отсутствием подозрительности. И я заклю-
чаю, что он был истинный Дмитрий, сын царя Ивана
Васильевича, прозванного Грозным.
76
Исаак Масса
КРАТКОЕ ИЗВЕСТИЕ
О МОСКОВИИ
КРАТКОЕ ИЗВЕСТИЕ О НАЧАЛЕ И ПРОИСХОЖДЕ-
НИИ СОВРЕМЕННЫХ ВОЙН И СМУТ В МОСКОВИИ,
СЛУЧИВШИХСЯ ДО 1610 ГОДА ЗА КОРОТКОЕ ВРЕ-
МЯ ПРАВЛЕНИЯ НЕСКОЛЬКИХ ГОСУДАРЕЙ
Иван Васильевич, Великий князь Московии, назы-
ваемый за свою великую жестокость тираном, родился в
столице этой страны, Москве, в 1530 г. в августе. Отец его
по имени Василий Иванович, благочестивый князь, как
сообщают историки, вскоре после рождения сына тяжко
занемог, болезнь его с каждым днем усиливалась, и он
умер от нее в 1534 г., оставив юного князя, которому
тогда было три года и три месяца, и великую княгиню по
имени Елена, весьма добродетельную женщину, которая,
видя, что сын ее не достиг совершеннолетия и не может
управлять государством, правила сама вместе с несколь-
кими самыми мудрыми и способными вельможами, кои,
как она полагала, пекутся об общем благе. И так правила
она не более четырех лет в добром мире и покое и сконча-
лась в 1538 г., когда помянутому сыну было только семь
лет или около того1.
Управление государством некоторое время оставалось
в руках знатнейших вельмож, присягнувших народу, что
они будут хорошо управлять страной и защищать ее от
всех врагов до совершеннолетия принца. Но по причине
77
того, что многие из вельмож оказались весьма несправед-
ливыми, повсюду притесняли невинных, грабили и разо-
ряли все, до чего могли добраться, и мало заботились об
обшей пользе, следовало ожидать дурного конца. Между
знатными лицами были постоянные раздоры и смуты,
которые нередко едва могли быть прекращаемы, поэтому
многие страшились гибели всего государства. Заметив это,
духовенство и некоторые умнейшие и знатнейшие лица
стали совещаться о средствах спасти отечество, полагая за
лучшее отнять власть у вельмож, возведя принца на от-
цовский престол и возложив на него великокняжеский
венец, невзирая на то, что он был еще молод. Таким об-
разом, они вместе с духовенством передали ему все уп-
равление, хотя короновали его не раньше того дня, как
выбрали для него супругу, что случилось, когда ему ис-
полнилось 17 с половиной лет.
В 1548 г. он был коронован и возведен на отцовский
престол. В то же время он отпраздновал свое бракосочета-
ние с Анастасией, дочерью одного князя знатного проис-
хождения. Отец ее Роман Захарьевич был самым знатным
в этой стране после Великого князя; коронование и свадьбу
совершили по обычаю этой страны с большим торжеством2.
Так закончились смуты, и многие знатные люди были
обвинены и сосланы на великие бедствия, и постигла их
жалкая смерть от голода и скорби, таков был их конец.
По воцарении Иван Васильевич несколько лет пра-
вил весьма хорошо, но затем, узнав, каковы московиты,
начал их жестоко обуздывать и тиранить.
Великая княгиня родила ему трех сыновей; первый
из них, по имени Дмитрий, утонул еще ребенком. В то
время крымские татары с великой силой внезапно вторг-
лись в страну, чиня повсюду великое разорение, так что
даже жители Москвы обратились в бегство вместе с Вели-
ким князем, который бежал со всеми своими сокровища-
ми и двором на Белоозеро — место защищенное самой
природой, посреди большого озера и весьма хорошо ук-
репленное.
Однажды Великий князь отправился осматривать ла-
герь московитов, разбитый вокруг озера, за ним в другой
78
лодке следовала княгиня с ребенком, и, когда лодки по-
равнялись, он попросил у нее Дмитрия, чтобы поиграть с
ним. Когда передавали ребенка, то он внезапно высколь-
знул из ее рук, упал в воду между обеими лодками и тот-
час пошел ко дну, как камень, и его не могли даже найти.
Так скончался первый их сын, о котором была великая
печаль во всем государстве.
Второй сын, что родился у них, был назван по отцу
Иваном и по своей натуре и повадкам чрезвычайно похо-
дил на него, и можно было предполагать, что он пре-
взойдет своего отца в жестокости, ибо всегда радовался,
когда видел, что проливают кровь. Двадцати трех лет он
был убит своим отцом, что случилось во время пребыва-
ния Великого князя в одном из увеселительных дворов, в
слободе Александровской, находящейся в двенадцати
милях от Москвы, куда явились к нему царедворцы, ко-
торым надлежало выступить в поход против появившихся
летом крымских татар, и спросили царя, не соизволит ли
он отпустить с ними в поход сына, уже бывшего в то
время совершеннолетним, полагая, что наведут большой
страх на врагов, когда до них дойдет слух, что сам принц
пошел в поле, к чему у него сверх того была великая охота.
Услышав это, Великий князь весьма разгневался и
посохом, что был у него в руках, так сильно ударил сына
по голове, что тот через три дня скончался, и это было в
1581 г.3
Говорят, отец подозревал, что его сын, благородный
молодой человек, весьма благоволит к иноземцам, в осо-
бенности немецкого происхождения. Часто доводилось
слышать, что по вступлении на престол он намеревался
приказать всем женам благородных носить платье на не-
мецкий лад. Эти и подобные им слухи передавали отцу,
так что он стал опасаться сына.
Третий сын от той же княгини, по имени Федор,
был очень добр, набожен и весьма кроток, он-то и насле-
довал отцу.
Кроме помянутых трех сыновей, из коих один только
остался в живых, имел он от первой жены еще трех доче-
рей; все они скончались в девичестве.
79
После смерти первой жены было у него еще много
жен, но мало детей. Только от седьмой законной жены,
которую он взял из рода Нагих, был у него сын, также
названный Дмитрием, о нем-то больше всего и пойдет
речь в этой повести.
Мне надлежало бы немного рассказать об его ужас-
ной тирании, но это не относится к предмету предлагае-
мого сочинения, и об этом много раз помянуто во всех
историях и посему здесь неуместно. К тому же говорят о
нем столь различно, что писать о сем совершенно правди-
во невозможно. Итак я вкратце расскажу о войнах, им
веденных, о том, что он приобрел, отчего он принял ти-
тул царя или императора, хотя слово царь на славянском
языке означает то же, что король. Я буду рассказывать об
этом коротко, дабы перейти к изложению главной при-
чины нынешних войн.
Прежде всего повелел он обнести Москву еще одним
земляным валом, затем на том же месте была выведена
крепкая стена, отчего город стал намного обширнее, чем
он был во время его отца4. За время царствования он вел
много войн с царями казанскими, которые вместе с крым-
скими татарами весьма ему досаждали. В Москве меж тем
часто совершались предательства, ибо ее неоднократно
поджигали, так что однажды осталось всего 50 церквей.
Отсюда можно заключить, сколько должно было остаться
домов.
Казань, царство татарское, отпало от Московии, ибо
при покойном отце Ивана она платила московитам дань,
как бы признавая их власть. Когда казанцы отпали и под-
няли великий мятеж, то царь решил покорить их силой и
шесть раз посылал против них войско, один раз в год. На
седьмой год он сам лично отправился в поход с несмет-
ным войском, состоявшим из четырехсот тысяч человек,
способных носить оружие.
Поляки, как вечные враги московитов, замышляли
воспользоваться этим временем, так как у них незадолго
до того было отнято много городов знатным боярином
Михаилом Глинским. Этот Глинский был жестоко оскор-
блен в Польше, потому он бежал и вместе со своими
80
людьми отдался под покровительство московитов, кото-
рые, пока он был жив, высоко чтили его. Он вел великие
войны на стороне московитов, причинив много вреда
полякам, отняв у них много городов, как-то: Смоленск,
Полоцк, Стародуб и многие другие пограничные крепос-
ти. Таким образом, поляков было довольно причин начать
войну, и они стали делать большие приготовления, чтобы
отвоевать упомянутые города. Иван Васильевич, сильно
ожесточившись против Казани, заключил мир с поляка-
ми на несколько лет, возвратив им Полоцк, Стародуб и
некоторые другие города, дабы они не мешали его пред-
приятию5.
Итак, в 1551 г. он выехал из Москвы", где оставил
вместо себя митрополита Макария с Великой княгиней и
сыном, молодым принцем Федором, и, прибыв к вой-
ску, стоявшему под Казанью, прибегал к хитростям для
того, чтобы взять этот город, сделал несколько приступов
и наконец взял ее штурмом, чему весьма помог подкоп,
подведенный к самому городу под рекой Волгой. Мину в
него заложил искусный инженер Эразм, по происхожде-
нию немец.
Завоевав Казань мечом, захватили живым в плен их
царя Сафа-Гирея7, который умер от горя. Кроме него пой-
мали и захватили живыми двух принцев, его сыновей, из
которых один умер, другого привезли в Москву, обрати-
ли в христианскую веру, назвав его Александром, ибо
прежде его звали Утемиш-Гиреем, сверх того женили на
московитке знатного происхождения и дали ему три об-
ласти с городами Торжком, Тверью и Торопцом, чтобы
он мог прилично содержать себя.
В Казани взяли в плен еще одного юношу царского
рода, которого также крестили, назвав Симеоном, и же-
нили на дочери князя Ивана Мстиславского, знатного
боярина. К этому Симеону великий князь возымел такое
доверие, что посадил его на московский престол и, воз-
ложив на него корону, поручил ему управление государ-
ством на два года, в течение коих он добросовестно уп-
равлял московитами. Великий князь жил все это время,
пока не истекли назначенные два года, позади дворца в
81
Осада Казани
предместье, словно один из князей или бояр, и после
того Симеон был в великом почете и его наградили боль-
шими имениями8.
Завоевав царство Казанское, уничтожив все его при-
вилегии и заселив его множеством московитов, Великий
князь Иван Васильевич увеличил свой титул, присвоив
себе звание царя и Великого князя, тогда как прежде (до
взятия Казани) его звали просто великим князем. Итак,
на короткое время наступили в этой стране мир и тиши-
на, пока не возмутилась Астрахань.
Астрахань была независимой татарской провинцией,
избирала себе царя по своему желанию и постоянно вла-
дела многими землями и странами как по течению реки
Волги, так и по берегам Каспийского моря, и всегда была
82
большим и людным торговым городом, куда стекалось для
торговли множество купцов из Персии, Аравии, Индии,
Армении, Шемахи и Турции, привозивших из Армении —
жемчуг, бирюзу и дорогие кожи, из Шемахи, Персии и
Турции — парчу, дорогие ковры, различные шелка и дра-
гоценности, из Аравии — много пряностей, от москови-
тов в свою очередь они получали кожи, сукна, шерстяные
материи, бумагу, другие подобные сырые товары, а так-
же икру, которую помногу скупали турки и отправляли в
Константинополь; это икра, добываемая из осетров, ко-
торых невероятно много ловят в Волге, весьма нравится
туркам, равно как в настоящее время итальянцам. Вообще
это был значительный город, который был обязан пла-
тить дань Московиту, как и покойному Великому князю
Василию Ивановичу, в остальном они были свободны от
всех повинностей и могли делать, что хотели.
Московские бояре и вельможи, правившие землями
по течению великой реки Волги, будучи корыстолюбивы
и расточительны, сильно притесняли этот город и накла-
дывали на него великие тяготы (о чем хорошо знал их
Великий князь) так что они не могли дольше сносить,
ибо издавна были ожесточены против московитов и изыс-
кивали всякого рода средства, чтобы освободиться и свер-
гнуть иго, что они и исполнили. Когда посланные прибы-
ли за данью, они с глумлением ответили посланцам и
отказались что-либо дать, сказав, что не намерены более
давать, и повторили это несколько раз. Они даже говори-
ли: ежели московиты будут нас очень притеснять, мы
призовем на помощь турка и будем ему во всем повино-
ваться. Так продолжалось долгое время: то оказывали по-
виновение, то вновь восставали, до тех пор, пока Иван
Васильевич не завоевал Казань, о чем уже было рассказано.
Услышав о взятии и покорении Казани и каждоднев-
но замечая, что сила московитов весьма возросла, а так-
же видя жестокое правление Великого князя, астраханцы
весьма опасались, что за частые смуты когда-нибудь мо-
гут вознаградить также и их. Поэтому решились они забла-
говременно помириться с Великим князем и отправили в
Москву великолепное посольство с дорогими подарками
83
царю и великому князю и просили о милости: не вспоми-
нать о том, что они совершили по необдуманности, но
предать это забвению, обещая впредь не только не делать
ничего неправого и предосудительного, но во всякое вре-
мя вести себя так, как надлежит верноподданным.
Их царь Абдыл-Рахман от своего имени также отпра-
вил посольство московиту с тем же, о чем было сказано
выше. Когда послы вручили прошение и изустно изложи-
ли свое пожелание, им оказали милость и дали много
подарков, а сверх того роскошно угостили, и они получи-
ли дружеские письма к своему королю и к народу.
В то же время из Ногаи прибыли в Москву два моло-
дых царя, которые бежали оттуда, так как стремились
принять христианскую веру, и их приняли и угощали с
великим усердием и радушием, как самого Великого кня-
зя, и одарили их прекрасными землями; одного звали
Едигером, а другого — Кайбулой, и были они сыновья
Акубека, который был одним из могущественных татар в
Ногаи; великий князь подарил этому Кайбуле город, ко-
торый назывался Юрьев-Польский, и выдал за него дочь
татарского царя Еналея, и она была племянница Шиг-
Алея и при покорении Казани взята в плен; все они были
царские дети’.
Меж тем царь Абдыл-Рахман скончался в Астрахани,
и на его место избрали Ямгурчея из Морзии, страны, ле-
жащей у Каспийского моря. Узнав о том, великий князь
Иван Васильевич послал туда ученого мужа, по имени
Севастиана, родом из Валахии, с подарками Ямгурчею и
чтобы утвердить его в царском достоинстве. С прибывшим
туда помянутым послом обошлись весьма дурно, а сверх
того с насмешками выгнали из Астрахани10.
Услышав о том, Иван Васильевич сильно разгневал-
ся и поклялся прежде чем наступит зима до основания
уничтожить Астрахань, и никому не хотел больше оказы-
вать милости, и поклялся всех истребить мечом. Тотчас
призвав к себе жестокого героя и безжалостного воина,
который долгое время был атаманом многих казаков в
великой степи и прозывался Дербыш, царь ему и повелел
приготовить все к нападению на Астрахань. Это поручение
84
' Дербыш выполнил с усердием и, поспешно собрав силь-
; ное войско, выступил с ним в поход и отправился вниз
> по течению Волги. За ним следовали почти все пятигор-
1 ские казаки и сверх того несметное множество народу из
’ всех городов, лежащих по Волге.
: Когда он подступил к Астрахани, к нему перешло
много ногайцев и морзов, которые были заклятыми вра-
гами астраханцев, ибо постоянно сносили от них много
i притеснений. С этим войском он немедленно обложил
; Астрахань со всех сторон, ничего от них не требуя и не
> вступая ни в какие переговоры. Хотя Астрахань была весь-
5 ма укреплена самой природой, многолюдна и снабжена
I оружием, несколько дней спустя ее взяли приступом, и
1 все мужчины и женщины были истреблены мечом, также
и дети, и случилось это завоевание третьего июля по ста-
рому стилю, в 1554 г.11; и так была она без всякой пощады
разрушена до основания.
При взятии Астрахани царь их Ямгурчей бежал с не-
большим обозом и направился к Тюмени, но за ним тот-
час снарядили погоню, однако захватили только часть по-
клажи и всех его жен и наложниц, ему же самому удалось
спастись.
Так поступили с Астраханью спустя три года после
взятия Казани, а Казань и Астрахань всегда считали вели-
кими царствами. Впрочем, Астрахань, благодаря своему
положению, весьма скоро вновь великолепно отстроилась,
и, будучи украшена московскими нарядными церквами и
башнями, стала гораздо красивее, чем была прежде, и
многие московиты были туда переселены, а также многие
поселились добровольно, и в короткое время достигли
благоденствия и умножились, так что город теперь рас-
цвел больше, чем когда-либо прежде.
В следующем 1555 г. крымские татары с большими
силами напали на Московию и разорили все селения,
встретившиеся им на пути. У них было более четырехсот
тысяч войска, и они совершили все это по повелению
турецкого султана, под властью которого находится Крым.
Против них было послано московитами большое войско
под предводительством Ивана Шереметьева, Льва Салты-
85
кова и Александра Басманова. Двое из них с превеликой
храбростью напали на Крым и, расположив войско Ше-
реметьева в засаде, обратили крымцев в бегство и тут пе-
ребили, как и во время нападения, до восьмидесяти ты-
сяч крымцев, захватили более десяти тысяч лошадей и
пятисот верблюдов и ничего другого, ибо татары ничего,
кроме скота, не имеют. Войска с великой радостью и тор-
жеством возвратились в Москву, и Великий князь щедро
наградил их.
Иван Васильевич, царь и Великий князь всех моско-
витов, стяжал повсюду победы, и все больше и больше
земель и народов подпадало к нему под власть, страшась
его великого могущества, вследствие чего он чрезвычай-
но превознес самого себя, возомнив, что во всем свете
нет ему равного, и никого не боялся; к тому же, не дове-
ряя никому из своих вельмож или дворян, жестоко обра-
щался с ними. Тех, о ком доходил до него какой-нибудь
слух, хотя бы самый невероятный, он предавал позорной
смерти, одних сажая на кол, других изводя различными
другими нечеловеческими мучениями. Он даже приказы-
вал поджигать свои собственные города и топить своих
подданных тысячами, и, слыша их жалобные стоны и
крики, громко смеялся, восклицая: «Вот как вы славно
запели».
Он был более невоздержан, чем когда-либо Сарда-
напал или Гелиогабал, и полон вздорными причудами,
по большей части соединенными с жестокостями, и я
приведу один случай, хотя он и не подходит к нашей ис-
тории, ибо его деяния столь ужасны, что исторические
писатели называют его василиском.
Однажды летом сидел он наверху в своем дворце,
смотря на Потешный двор, находившийся на той стороне
реки Москвы, прямо против царского дома, и подозвал
слугу и повелел ему тотчас призвать к нему всех дьяков и
подьячих, которых в Москве много, что тотчас было ис-
полнено. Когда все явились к нему, он приказал раздеть
их донага и, призвав 10 или 12 конюхов с кнутами, по-
потчевать их этим позорным угощением и отпустил их
восвояси, а сверх того они должны были бить ему челом и
86
благодарить за великую милость. Они еще не успели уйти,
как явился еще один, который опоздал, и получил от царя
яблоко. Ему было велено уходить, и он, видя царскую ми-
лость, весьма благодарил царя и благополучно возвратился
бы домой, но не сумел удержать язык и сказал: «О, госу-
дарь, я и не заслужил того, что получили другие, ибо все
предки мои честно служили царскому двору и никого из
них никогда не секли, и мне было бы чересчур горестно
безвинно тому подвергнуться». «Ого, — сказал тиран, —
ты никогда еще не отведывал ударов кнута, так ты еще не
сделался благородным, да и никто не может назваться
придворным, ежели его не били кнутом», и повелел от-
пустить ему втрое больше ударов, чем тем, что были до
него; вот что натворил его язык, не довольствовавшись
яблоком.
По этой и другим подобным жестоким шуткам до-
вольно легко себе представить, каков был царь, и если
бы кто должен был описать все, что он сделал, то на это
недостало бы времени и было бы это делом неприлич-
ным, ибо то было непотребством и тиранией, бесчело-
вечной жестокостью и позором.
О войнах, им веденных с шведами, а также о совер-
шенном разорении и бедствиях, причиненных Ливонии,
я не расположен писать, ибо об этом довольно подробно
говорится в других исторических сочинениях. Я только
желаю вкратце рассказать о победе, одержанной царем
над турецким войском, посланным для завоевания Астра-
хани турецким султаном Селимом.
Незадолго перед тем или около того же времени царь
несколько раз вступал в брак12; жену, которая в продол-
жение трех лет была бесплодна, он обыкновенно заточал
в монастырь, ибо московские князья могут развестись с
женой, если она в течение трех лет бесплодна, и взять
другую.
В это время турецкий султан Селим отправил письмо
в Москву к Великому князю Ивану, приветствуя и назы-
вая Великого князя в знак особой милости своим коню-
шим, указывая в письме, что его блаженной памяти отец
давно скончался, оставив его малолетним, и он из благо-
87
воления к нему не пожелал его обременять, ожидая пока
он достигнет совершеннолетия и станет управлять моско-
витами, своими подданными, а потому требует, чтобы он
(Великий князь) уплатил ему дань или подать со времени
смерти блаженной памяти Василия Ивановича, и строго
повелевал прислать ее без всякого промедления, ибо его
отец был всегда послушен и верен.
Это письмо, отправленное с посланником в Москву,
было получено и прочитано великим князем Иваном Ва-
сильевичем, повелевшим приготовить крысью шкуру и мех
черно-бурой лисицы, который велел обрить догола. «Ибо, —
сказал он, — надобно великому султану турок за его вели-
кую милость послать несколько диковинок». Так как все
подарки, посылаемые московскими князьями иностран-
ным государям всегда состоят из дорогих мехов, в изоби-
лии хранящихся в казне, то этот крысий мех предназна-
чался для одежды султана, а лисий — для его пестрой шапки.
Посылая эти дары, написали: в случае, ежели султан еще
раз напишет, как было сказано выше, то он может быть
уверен в том, что конюший, посылающий ему эти подар-
ки, так же обреет его догола, как лисью шкуру, и прика-
жет московским крысам вконец разорить его страну. «Раз-
ве, — говорил он, — вы не слышали, какая участь постигла
царя казанского и астраханского, ваших союзников, еже-
годно вами подстрекаемых к нападению на мое царство;
то же будет и с вашей страной, и я начну поход с Тюмени
до Азова и Грузии, на сей же раз я вас прощаю».
Это насмешливое послание привело султана в чрез-
вычайную ярость, и он задумал совершенно уничтожить
московита, послав гонцов к татарским князьям и царям с
приказанием готовиться к походу, а также и к народам,
живущим по берегам Черного моря, в Крыму и вдоль бе-
регов Каспийского моря, затем всем черкесам и повеле-
вая в начале марта собраться на Дону вокруг города Азо-
ва, и было это в 1569 г.
20 марта того же года он послал из Константинополя
тридцать тысяч турок, среди коих, кроме главных предво-
дителей, было весьма много вельмож и дворян, назна-
ченных к этому войску, притом еще пять тысяч янычар с
88
большими длинными ружьями. И всех их мало-помалу
перевезли на галерах через Черное море, так что все бла-
гополучно прибыли к Азову, где они нашли на Дону мо-
гущественное войско. В Азове было собрано множество
провианта, оружия и воинского снаряжения, которого
впрочем там всегда было много, так как Азов — погра-
ничный город Турции, на берегу Дона.
Их намерение, как уже давно заметили, состояло в
том, чтобы идти прямо на Астрахань, оставив много вой-
ска в гарнизоне Азова, ибо они без сомнения полагали,
что завоюют Астрахань. Турки рассчитывали, что ногайцы
и черемисы перейдут на их сторону из ненависти к моско-
витам или из желания перемены, так как московиты по-
рой жестоко притесняли их, но народы эти более боялись
московитов, нежели турков, ибо в Астрахани было могу-
щественное войско и она была снабжена провиантом и
военными снарядами. Кроме того, московиты даровали
им значительные привилегии, весьма ими ценимые, и бла-
госостояние их росло, также было им ведомо, какая уди-
вительная удача сопутствует великому князю во всех его
предприятиях — потому они еще раз поклялись служить
ему и охранять страну, как подобает верноподданным, и
стали готовить войско для защиты.
В Москве давно уже получили известие о походе турец-
кого войска, и все было приготовлено к встрече неприяте-
ля, многие придворные, посланные в Астрахань, приводи-
ли отовсюду несчетное множество людей, способных к войне.
Им было велено, выступив из Астрахани, встретить непри-
ятеля у берегов Каспийского моря и разделиться в степях,
которые там велики и многочисленны, ибо считали, что
враги сильно устанут от похода по неровным дорогам, и
предполагали напасть на них отдельными отрядами, хорошо
зная, что они по причине дорог не смогут двигаться в боль-
шом числе одновременно. В этих предположениях им весьма
посчастливилось, и с ними было много ногайцев и чере-
мис, превосходно знавших все эти пути и они неожиданно
со всех сторон напали на турецкое войско и истребили его.
Итак, снявшись с лагеря у Азова, взяв с собой мно-
жество верблюдов для перевозки припасов и воды, ту-
89
рецкое войско по случаю крайне неровных, дурных до-
рог, больших гор и лесов, чрез которые оно должно было
проходить, разделилось на много отрядов, и они часто
терпели великие бедствия и несчастья, что более всего
досаждало знатным туркам, желавшим лучше смерти. Не-
счетное множество, да много тысяч погибло от тягот и
лишений, но татары, привыкшие к лишениям и не нуж-
давшиеся в жизненных припасах, пока у каждого из них
было по две или по три лошади, которых они обыкно-
венно берут с собой, вовсе не терпели нужды и почти
все остались в живых. Это были воины, которые не похо-
дили на тех, что служили московитам, так что чем далее
подвигалось турецкое войско, тем более бедствий долж-
но было переносить, пока, наконец, оно не дошло до
прекрасных местностей, где сохранилось еще много раз-
валин, и, по-видимому, здесь некогда было много пре-
красных городов. Черемисы рассказывают, что Александр
Великий здесь некогда приготовлялся к войне, воевал и
разбивал лагерь; в то время там в честь его еше соверша-
ли некоторые церемонии; и рассказывают также, что
какой-то Темирайсах13 вел там великие войны и вконец
разорил всю страну и разрушил все прекрасные города,
ибо, судя по развалинам, состоящим из отличных кам-
ней, эти города были, вероятно, богаты и великолепны.
Полагают, что Темирайсахом звали Тамерлана; там еще
находят камни, на которых с большим искусством выре-
заны греческие и еврейские буквы.
В этой стране турецкое войско остановилось почти на
две недели для отдыха, недосчитывая в своем лагере доб-
рых десять тысяч человек, умерших от скорбей и лишений;
и разделившись на несколько отрядов, войско пошло на
Астрахань, но долго блуждало, ибо его сопровождали пло-
хие проводники.
Зная обо всех обстоятельствах от татар, находивших-
ся или в турецком лагере или на близлежащих горах, мос-
ковиты были на страже и не дремали и ближайшей доро-
гой отправили прямо на Азов войско в десять тысяч
отважных воинов, чтобы внезапно напасть на город, сжечь
его дотла и умертвить всех, кого только застигнут. Сверх
90
того на Тереке, Тюмени и во всех других местах, где, по-
видимому, намеревался пройти неприятель, устроили за-
сады для нападения на проходящие войска из лесу и с
гор, так как все дороги, где, по-видимому, намеревались
пройти турки, были в точности известны от многочис-
ленных татарских лазутчиков, всячески способствовавших
московитам; словом, все были истреблены, одни здесь,
другие там, после четырех месяцев похода, исполненного
великих бедствий и несчастий.
Меж тем отряд, не составлявший и половины мос-
ковского войска, подошел к Азову, внезапно осадил его
и тотчас устремился на турецкие галеры, большую часть
которых сжег, потопил и, ворвавшись в город, поджег
его. Так как в то время в Азове находился значительный
запас пороха, то несчетное множество домов и людей взле-
тело на воздух, а оставшиеся в живых были умерщвлены;
сверх того невероятно много людей, как из самого Азова,
так и окрестных мест, потонуло в реке Дон, и многих,
большей частью женщин и детей, взяли в плен и увели
вместе с верблюдами, лошадьми и прочим скотом. Узнав,
что многие последовали за главным турецким войском,
устремились за ними, окружили их, как и тех, которые
находились в засаде, и всех их истребили. Из трехсот ты-
сяч татар, по большей части конных, не осталось ни од-
ного человека. Почти все турки, кроме пяти тысяч чело-
век, по большей части начальников и знатных, успели
вовремя убежать к Азову, где они были перебиты остав-
шимися в живых жителями, так что в Константинополь
не вернулось и двух тысяч турок. Сверх того, московиты
разорили Азов и все близлежащие места и сожгли около
двухсот галер; такова была судьба этого войска. С тех пор
турки никогда не решались выступить в поход против Ас-
трахани и только изредка подстрекали крымских татар
нападать на Россию, чтобы грабить и уводить людей, ког-
да к тому представлялась возможность; но московиты так
с этим свыклись, что даже мало справлялись о том. Од-
ним словом, к московиту шло счастье со всех сторон, так
что он стал могущественным и внушал сильный страх по
причине великой своей жестокости.
91
О всех войнах, веденных великим князем со Стефа-
ном Баторием, королем польским, которые сделали его
весьма боязливым, было бы бесполезно рассказывать,
также было бы бесполезно говорить об уступке Ливонии
при заключении мира в королевском лагере у города Пско-
ва 15 января 1582 г.
Иван Васильевич, великий князь и царь московитов,
женился в седьмой раз, взяв жену из рода Нагих, по име-
ни Марфа, или на нашем языке Марта14; от этой жены
родился у него сын по имени Дмитрий, и это была его
последняя законная жена и ребенок, и детей он больше
не имел, хотя было у него много наложниц. И оставил ли
он незаконных детей, неизвестно, всего вероятнее, что
не оставил, ибо, поспав с какой-нибудь девушкой, — а
он ежедневно приказывал приводить девиц из разных мест
и его приказание исполняли, — он тотчас передавал ее
своим опричникам и сводникам, которые портили ее даль-
ше, так что у нее дети уже не могли родиться.
После того как в 1581 г. Иван умертвил или потерял
своего сына, о чем мы сообщили выше, когда говорили о
рождении его детей, он стал предаваться жестокостям еще
больше, чем прежде, и его тирания была столь ужасна,
что никому из людей еще не довелось слышать. Говорят,
он впал в отчаяние после смерти сына своего Ивана, так
что, казалось, им руководили сами фурии. Когда он оде-
вал красное — он проливал кровь, черное — тогда бед-
ствие и горе преследовали всех: бросали в воду, душили и
грабили людей; а когда он был в белом — повсюду весе-
лились, но не так, как подобает честным христианам.
Затем мы перейдем к рассказу, который мы намере-
ны были изложить, и укажем на главную причину ны-
нешних войн.
Говорят, что царь вознамерился опустошить всю стра-
ну и истребить свой народ, так как знал, что ему осталось
недолго жить, и полагал, что все будут радоваться его
смерти, хотя ни на ком не мог этого заметить; однако он
умер ранее, чем предполагал. День ото дня становясь все
слабее и слабее, он впал в тяжкую болезнь, хотя опасно-
сти еще не было заметно; говорят, один из вельмож, Бог-
92
дан Бельский, бывший у него в милости, подал ему про-
писанное доктором Иоганном Эйлофом15 питье, бросив в
него яд в то время, когда подносил парю, отчего он в
скорости умер; так ли это было, известно одному Богу,
верно только то, что вскоре царь умер. Это случилось
4 марта 1584 г., по старому стилю16.
После смерти царя в Москве было сильное волнение
черни. Вооружившись луками, копьями, дубинами и ме-
чами, народ ринулся к Кремлю, ворота которого были
заперты, поэтому они разгромили все лавки и арсенал,
откуда взяли оружие и порох, намереваясь взломать воро-
та, и кричали: «Выдайте нам Никиту Романовича!», кото-
рый был сыном тестя тирана и братом великой княгини
Анастасии, первой жены царя. Народ был весьма распо-
ложен к нему, ибо он отличался благочестием, а также
ради сестры его, в народе весьма любимой; домогались
увидеть его живым, ибо страшились, что его изведут во
время междуцарствия, ибо по причине своей добродетели
имел он, по мнению народа, много врагов при дворе. Со
стен Кремля кричали, чтобы они шли по домам и моли-
лись о душе усопшего, что скоро все придет в надлежа-
щий порядок, что народу известно, кто должен царство-
вать, ибо после царя остались сыновья, и сверх того
провозгласили Федора Ивановича царем и Великим кня-
зем на отцовском престоле, и что он женат и, следова-
тельно, нечего опасаться. Эти увещания однако не помог-
ли, и чернь Продолжала кричать: «Выдайте нам Никиту,
выдайте нам Никиту Романовича!» Вельможи, опасаясь,
чтобы с Никитой не случилось несчастья, говорили: «Он
жив и здоров! Зачем причинять ему зло?». Но это нимало
не помогло. Чернь продолжала громко кричать, ругая вель-
мож изменниками и ворами.
Вельможи, опасаясь, что чернь проломит ворота Крем-
ля, велели стрельцам с двумя или тремя сотнями мушке-
тов стрелять по толпе, отчего народ тотчас побежал от
ворот, так что большая площадь перед Кремлем тотчас же
совершенно опустела.
Никита Романович, опасаясь нападения на свой дом
и не считая себя безопасным, желал возвратиться домой;
93
хотя вельможи прилежно просили его остаться в Кремле,
он настоял на своем, и его выпустили. Когда он выехал
верхом в сопровождении двадцати слуг, народ, устремив-
шись на них, подобно внезапному граду, кричал, бесно-
вался и ликовал от великой радости, что видит его еще
живым, и большими толпами проводил его до дому, где
и охраняли его до самого венчания юного великого кня-
зя, ибо были убеждены, что против Никиты Романовича
строят козни, дабы предательски погубить его.
Меж тем с великим воем и плачем, поднятым жен-
щинами, похоронили Ивана Васильевича по греческому
обычаю, коему московиты следуют, так как исповедуют
ту же веру.
И хотя Федор Иванович был провозглашен царем и
Великим князем Московии, однако его венчали только
1 сентября того же года.17, в день Нового года москови-
тов, в этот день, но не ранее, венчают они на царство
своих князей.
94
Венчание было весьма торжественно и великолепно,
но так как я сам его не видал, то и не могу поведать о
нем, ибо в дальнейшем изложении я буду описывать только
виденное мною. Титул царя и Великого князя, каким он
приводится ниже, принадлежит и всем наследникам его.
Первым его присвоил себе Иван, как я уже выше гово-
рил, после завоевания Казани и Астрахани.
1 сентября 1584 г. совершилось венчание на царство, и
Федору Ивановичу был присвоен титул: «Божией милос-
тью царь и Великий князь всея России, самодержец влади-
мирский, московский, новгородский, царь астраханский,
государь псковский, великий князь смоленский, земель
тверской, югорской, пермской, вятской, болгарской, го-
сударь и великий князь низовых земель, черниговской,
рязанской, полоцкой, ростовской, ярославской, белозер-
ской, удорской, обдорской, кондинской, всей сибирской
и самоедской земли и ногайцев, верховный повелитель се-
верской земли и государь Ливонии», — помещаю это для
того, чтобы знали, как московские государи пишут свой
титул и заставляют писать его в грамотах.
Представив краткое обозрение жизни Ивана Василь-
евича и дойдя до царствования Федора Ивановича, вен-
чание которого было, как сказано, 1 сентября 1584 г.,
надлежит нам теперь приступить к повествованию, кото-
рое мы намеревались изложить.
Во время царствования тирана Ивана Васильевича в
Москве жили Годуновы, род татарского происхождения. Они
уже давно жили в Московии, предки их перешли к мос-
ковским или владимирским князьям, ибо о Владимире,
бывшем некогда столицей Московского царства, находил-
ся великокняжеский престол, и было это в то время, когда
правил Темирайсах, опустошивший и разоривший всю стра-
ну у Каспийского моря.
Из этого рода Федор Иванович взял себе жену еще
при жизни своего отца-тирана, и так как в течение трех
лет у него не было от нее наследника (она родила одну
только дочь, которая вскоре умерла) то Иван Васильевич
пожелал, чтобы сын, следуя их обычаю, заточил ее в мо-
настырь и взял себе другую жену.
95
Федор Иванович, человек нрава кроткого и доброго,
очень любивший свою жену и не желавший исполнить
требование отца, отвечал ему: «Оставь ее со мною, а не
то — так лиши меня жизни, ибо я не желаю ее покинуть».
В досаде, что сын не подражает ему, Иван горько раскаи-
вался, что предал смерти своего старшего сына, весьма
походившего на него.
У этой царицы и Великой княгини, по имени Алек-
сандра18, был брат, Борис Годунов, женатый на дочери
знатного вельможи Малюты Скуратова, настоящее же его
имя было Григорий. Эта женщина, по имени Мария, имея
сердце Семирамиды, постоянно стремилась к возвыше-
нию и мечтала со временем стать царицей, и надежды ее
возрастали, ибо у царицы Александры не было детей; и
Мария постоянно убеждала своего мужа в том, что никто
кроме него по смерти Федора не может вступить на пре-
стол, хотя еще живы были другие, а именно Дмитрий,
сын тирана от седьмой его жены Марфы.
Даже если бы не было царевича Дмитрия, то были и
другие наследники, а именно дети Романа Захарьевича,
отца первой великой княгини, жены тирана; они по пра-
ву наследства были ближайшими к престолу, их было
много, и Годуновым трудно было погубить всех этих лю-
дей, равно как и Дмитрия, юного царевича, который был
еще младенцем. Но вследствие хитрости Бориса Годуно-
ва, брата княгини, все сделалось по желанию Марии.
Брат великого князя, юный царевич Дмитрий, был
послан в имение, находящееся на берегу большой реки
Волги, называвшееся Углич, где молодого царевича вос-
питывали и содержали с тою же пышностью, как самого
царя.
Прежде всего Борис Годунов старался извести Дмит-
рия, полагая, что, если это произойдет, ему легко будет
достигнуть своей цели19. Поэтому он сделался приближен-
ным царя с помощью царицы, своей сестры, которая так
хвалила Годунова, что Федор Иванович возвысил его и
сделал ближним великим боярином и главным воеводой
в целом государстве; сверх того дал ему лучший дом в
Москве, подле дворца, и всегда оказывал ему предпочте-
96
ние. Так как царь, будучи набожен и тих нравом, мало
занимался управлением и только носил титул царя, то он
возложил на Бориса все управление, и что бы Борис ни
делал, все было хорошо; и тогда он стал осуществлять
свое предательское намерение.
Прежде всего он добился того, что царица Марфа была
отправлена к сыну, а все родственники ее из рода Нагих
разосланы правителями в отдаленные места, в Татарию и в
другие области, как будто для того, чтобы ими управлять,
а затем многие из них были постепенно умерщвляемы по
приказанию Бориса. Но также многие избежали смерти и
долгое время скитались и бедствовали.
Дабы отвратить всякое подозрение, Борис посылал
дорогие подарки юному царевичу и некоторым его при-
дворным. Чтобы убить Дмитрия, он изыскивал различные
средства, в числе коих главным было навести на государ-
ство какого-нибудь неприятеля, полагая, что в страхе и
смятении царь обратит на него все взоры — ибо царь боль-
ше походил на невежественного монаха, чем на Великого
князя и сверх того отличался крайней доверчивостью, ибо
верил всему, что говорил ему Борис, предоставлял все на
его волю, и все, что хотел Борис, хотел также и великий
князь, и все, что он делал, было хорошо.
Потому он настойчиво уговаривал царя отправиться
с войском к Нарве для отвоевания Ливонии, отнятой по-
ляками, которые должны были по прошествии известно-
го времени снова отдать ее, и так как срок прошел, то
был бы позор московской державе не взять того, что нельзя
было получить добром. Он стоял на том крепко и добился
того, что царь согласился и даже сам выступил в поход20 с
войском в 300 тысяч человек, в том числе 50 тысяч чере-
мис и татар, кои, будучи поставлены впереди, во время
первого приступа все до одного полегли. Совершив не-
сколько приступов и потеряв очень много людей, возвра-
тились назад, взяв по дороге Ямгород и Копорье. Говорят,
что Борис намеревался еще раз пойти на приступ и рас-
считывал взять город, что и случилось бы, ибо, как ут-
верждали жители, в нем оставалось всего 80 человек спо-
собных к защите, и они решили сдать город, как только
4 Зак. 1918
97
будет сделан еще один приступ. Но Великий князь, опе-
чаленный кровопролитием, велел отступить, а Борис че-
рез некоторых своих приверженцев распустил по всему
лагерю слух, что он единственно из расположения и люб-
ви к народу уговорил царя возвратиться, чем приобрел
расположение многих простых людей, чему вельможи и
дворяне втайне весьма завидовали, но не смели говорить.
Ежели бы он в этот поход овладел Нарвой, то велел
бы умертвить царевича Дмитрия, но так как поход не удал-
ся, то он стал выжидать другого случая.
Меж тем страна стала заметно процветать и населе-
ние весьма возросло, ибо до того была почти совершенно
опустошена и разорена вследствие великой тирании по-
койного Великого князя и его военачальников, во всем
ему подражавших, и начисто разорена и разграблена. Те-
перь же только благодаря добросердию и кротости князя
Федора, а также великому умению Бориса снова начала
оправляться и богатеть. В 1590 г. возмутилось множество
черемисов на Волге, и стали они разорять окрестные мест-
ности, и то была развращенная шайка, подстрекаемая
несколькими негодяями, бывшими ее атаманами. Против
них выслали большой отряд из немцев, поляков и рус-
ских, состоявших на службе у Великого князя, но они
никого не нашли, ибо мятежники сами разошлись и рас-
сеялись.
Весной 1591 г. в Москву с татарской границы пришло
известие, что крымский хан со всем своим войском выс-
тупил в поход, и чрезвычайно быстро продвигаясь впе-
ред, вступил в страну раньше, чем о том узнали или даже
помыслили. Крымский хан, слывший великим воином,
задумал повидать Москву и не беря ее, напугать москови-
тов и увести пленных; оттого в Москве был великий страх.
Борис, всегда казавшийся веселым и бодрым, был обле-
чен полным доверием царя и всего народа, ибо заботливо
готовился к защите. Немедленно выведя в поле сильное
войско, он велел устроить большой и неприступный обоз
под Москвой, на том самом месте, где татары должны
были переправиться через Москву-реку, и снабдить его
со всех сторон пушками; сверх того велел переписать всех,
98
кто был старше 30 лет, и обязал их поочередно держать
стражу на стенах и во всякое время быть готовыми и воо-
руженными. Зная, что в татарском войске до 400 тысяч
человек конных, он не хотел выступать в поле, хотя с
большим мужеством готовился к встрече и полагал с раз-
ных сторон напасть на неприятеля в случае, если он будет
долго стоять; но это не удалось.
Гонцы за гонцами прибывали в Москву и приносили
вести о быстром приближении неприятеля. Он действи-
тельно подошел к Москве и притом раньше гонцов, по-
сланных за час до него. 2 июля (по старому стилю), того
же года, рано утром завидели неприятеля, двигавшегося,
подобно туче, с таким грохотом, что тряслась земля. Ос-
тановившись у Коломенского, на расстоянии одной или
полуторы мили от Москвы, он обложил ее войском.
Обе могучие рати стояли друг против друга и в этот
день ничего не предпринимали. На следующий день утром
два татарина подъехали к московскому обозу, на что мос-
ковиты без всякого разумения принялись стрелять из боль-
ших пушек. Тотчас после чего вслед за первыми двумя
прискакало несколько сот, а потом несколько тысяч та-
тар, которые, подобно граду, устремились на московское
укрепление и беспрестанно метали стрелы, так что, каза-
лось, небо было усеяно ими, долго перестреливались и,
наконец, возвратились в свой лагерь.
Великий князь Федор Иванович видел все это из сво-
его дворца, расположенного посреди Москвы, на высо-
кой горе у реки Москвы, и горько плакал, говоря: «Сколь-
ко крови проливает за меня народ. О, если бы я мог за
него умереть»; в особенности прославлял он немногих,
служивших у него иноземцев, ведших себя лучше самих
московитов. Он был столь благочестив, что часто желал
променять свое царство на монастырь, ежели бы только
это было возможно.
На другой день шел сильный дождь; невзирая на то,
татары пошли на приступ. Московиты стреляли весьма
беспорядочно, как не умеющие обращаться с орудиями,
хотя имели их у себя много, ибо стреляли они столько же
в свое войско, сколько в неприятеля. После перестрелки
99
татары снова вернулись в свой лагерь. В продолжение сле-
дующей ночи московиты беспрестанно стреляли как с
обоза, так и с городских стен, из малых и больших пушек.
Борис, как главный воевода и наместник царя, под-
купил одного дворянина отдаться в плен татарам так, что-
бы неприятель не открыл обмана. Татары, видя, что он
богато одет в золотую парчу, расшитую жемчугом, поду-
мали, что он, должно быть, знатный человек, и привезли
его связанного в лагерь к своему царю. На вопрос хана,
чего ради в эту ночь беспрестанно стреляли, не причиняя
никакого вреда неприятелю, он весьма мужественно от-
вечал, что в эту ночь 30 тысяч поляков и немцев прибыли
в Москву с другой стороны на помощь московитам. Плен-
ника жестоко пытали, но он оставался непоколебим и
твердил все одно, не изменяя ни слова, так что татары
подумали, что то правда и, поверив, весьма испугались и
в следующую ночь в чрезвычайном беспорядке и сильном
замешательстве обратились в бегство с такой силой и по-
спешностью, что между Москвой и городом Серпуховом,
в 12 милях от него, повалили много мелкого леса и пере-
давили несчетное множество своих лошадей и людей, так
что вся дорога была усеяна человеческими трупами и ло-
шадьми, чему никто не хотел верить.
Только утром дошло в московский лагерь достовер-
ное известие, что все татарское войско бежало, чего не
приметила стража, ибо московиты беспрестанно палили,
а в татарском лагере до утра горело много огней. Утром
тотчас снарядили в погоню множество конницы, дабы
воспрепятствовать татарам во время бегства опустошать
землю огнем. Достигнув Серпухова, узнали они, что тата-
ры в тот же день переправились через Оку, чему москови-
ты едва верили, ибо невероятно, что такое большое вой-
ско успело в течение одной летней ночи и полдня пройти
18 миль и сверх того переправиться через большую, глу-
бокую реку. Однако это могло случиться, ибо они, тата-
ры, вообще быстры, когда обращаются в бегство, так как
никогда не берут с собою тяжестей, которые бы мешали
им, а именно амуниции и запасов провианта. Они пита-
ются мясом конским и обыкновенно берут с собой вдвое
100
больше лошадей, чем людей; у каждого по две лошади:
устанет одна, он вскакивает на другую, а лошадь бежит за
хозяином, как собака, к чему она приучается очень рано.
Когда падет лошадь, что бывает часто, они едят конское
мясо; взяв кусок, они кладут его под седло, пустое внут-
ри; и мясо там лежит и преет до тех пор, пока не сделает-
ся мягким, тогда они охотно едят его. Сверх того они вез-
де уводят скот и таким образом обеспечивают себе
пропитание. Приближаясь к реке, они связывают вместе
поводья и хвосты обоих лошадей, на которых сами стано-
вятся, привязав сделанные из тетивы и дерева луки к спи-
не, чтобы не замочить их и не ослабить; и, став таким
образом на лошадей, чрезвычайно быстро переправляют-
ся. Они все одеты с головы до ног в медвежьи или овечьи
шкуры, так что своим видом походят на чертей.
Переправившись через Оку, неприятель захватил во
время бегства так много людей из всех местечек и дере-
вень, что жалко было о том слышать. Все эти пленные
были отведены в Крым и многие, по большей части жен-
щины и дети, в Турцию, но многие мужчины успели бе-
жать. Таким образом татары оставили страну, причинив
повсюду много вреда и нигде не встретив отпора, ибо вой-
ска, посланные в погоню, пришли слишком поздно.
После этого происшествия роздали жалованье всему
войску, и оно было распущено. Немцы, поляки и другие
иноземцы, а также все военачальники получили сверх
жалованья подарки, и каждому дали по золотой монете.
В это же время захватили около 70 человек, по боль-
шей части холопов господ, намеревавшихся во время оса-
ды поджечь Москву. Если бы это случилось, то могло бы
погибнуть государство, ибо из боязни пожаров не пекли
хлеба, так что многие бедные люди умерли с голоду во
время трехдневного пребывания неприятеля под Моск-
вой. Все эти изменники получили достойное возмездие.
Когда все успокоились, Борис приступил к осуще-
ствлению своего намерения, совещаясь со своими друзь-
ями и родственниками, которых было до 70 домов, а имен-
но: Годуновы, над которыми Борис был главой, хотя
некоторые из них были старше его, Вельяминовы и Сабу-
101
ровы. С ними он каждодневно советовался, как достичь
короны; прежде же всего необходимо было избавиться от
юного царевича Дмитрия, ибо весьма опасались, что удоб-
ное время упущено, ибо Дмитрию было десять лет и по
своему возрасту он был очень умен, часто говоря: «Пло-
хой какой царь, мой брат. Он не способен управлять та-
ким царством», и нередко спрашивал, что за человек Бо-
рис Годунов, державший в своих руках все управление
государством, говоря при этом: «Я сам хочу ехать в Мос-
кву, хочу видеть, как там идут дела, ибо предвижу дурной
конец, если будут столь доверять недостойным дворянам,
поэтому надо позаботиться заблаговременно».
Эти и им подобные речи были передаваемы Борису и
его приверженцам, опасавшимся, что если они вовремя
не осуществят своего намерения, то сами попадут в за-
падню, приготовленную для других. Поэтому они и реши-
лись на измену.
При царевиче Дмитрии безотлучно находился дьяк
Михаил Михайлович Битяговский, которого царевич счи-
тал своим лучшим другом; его подкупили извести Дмит-
рия, на что он согласился и поручил совершить убийство
своему сыну Даниилу Битяговскому, у которого был то-
варищ, Никита Качалов; оба они сперва были в Москве у
Бориса, который обещал их обеспечить и поручить им
важные должности; причастившись и получив от Борисо-
ва священника благословение и полное отпущение гре-
хов, они поехали в Углич с письмом от Бориса Годунова
к отцу Битяговского.
Отец, хорошо зная, что следует делать, в тот день
приказал сыну своему Даниилу вместе с Никитой спря-
таться на дворе, полагая, что в тот же день и должно со-
вершиться убийство. После обеда дьяк предложил двум
или трем молодым дворянам устроить игру в орехи, в ко-
торой, по его словам, желал принять участие Дмитрий.
Дьяк в положенный час, когда он знал, что игра в самом
разгаре, разослал всех с различными поручениями, а сам,
дабы отклонить от себя всякое подозрение народа, отпра-
вился в канцелярию заниматься своими делами в присут-
ствии большой толпы народа, собравшегося для решения
102
тяжебных дел. И тем временем в самый разгар игры двое
помянутых убийц перерезали царевичу горло, от сильного
смущения забыв умертвить других детей, и тотчас бежа-
ли; они успели ускакать на лошадях, заранее для них при-
готовленных21.
Как только это свершилось, молодые дворяне подня-
ли на дворе сильный вопль. И известие тотчас дошло до
канцелярии, а потом распространилось по всему городу.
Каждый кричал: «Разбой, извели царя!» И многие вско-
чили на лошадей и сами не знали, что предпринять; дру-
гие бросились на двор, схватили здесь всех: и дворян, и
недворян, и заточили до той поры, пока Москва не узна-
ет об убийстве; между тем во время ужасного смятения
многие были умерщвлены.
Когда это известие пришло в Москву, сильное сму-
щение овладело и народом, и придворными, и царь был в
таком испуге, что желал смерти; его утешали, как только
могли. Царица также была глубоко огорчена и желала уда-
литься в монастырь, ибо подозревала, что убийство со-
вершилось по наущению ее брата, жаждавшего управлять
царством и владеть короной; но она молчала и все, что
слышала, таила в сердце, никому ничего не сообщая.
Сверх того опасались смуты и сильного волнения в
Москве, но присутствие царя удержало от того, однако
тайно шептали, что все устроено Годуновыми, которых
очень боялись, ибо число их приверженцев было весьма
велико. Годуновы страшились, что все будет раскрыто и
что розыск будет произведен весьма тщательно; но Борис
с чрезвычайной ловкостью сумел так подействовать на
царя, что тот поручил ему произвести розыск, и Борис
принял это поручение.
Тогда можно было справедливо сказать: овцу поручили
волку. Борис так произвел розыск, что всех, бывших при
дворе царевича, схватили как изменников, и все они под-
верглись царской опале и были отправлены в ссылку в Ус-
тюг, город на реке Двине, в двухстах милях от Москвы, где
они провели долгое время в тяжких бедствиях. Некоторых,
навлекших на себя подозрение, казнили; так совершенно
невинно погибли многие добрые люди с женами и детьми.
103
Из Москвы послали знатного боярина Василия Ива-
новича Шуйского и боярина, или господина, Андрея Клеш-
нина22 присутствовать при погребении. Они осмотрели тело
царевича, которого хорошо знали, и собственноручно по-
ложили его во гроб в присутствии старой царицы, его ма-
тери, вдовы покойного тирана. И так похоронили царевича
в том городе Угличе, с великим воем и плачем, по их обы-
чаю.
Затем старая царица Марфа заключена была в монас-
тырь, все оставшиеся в живых ее родственники из рода
Нагих подверглись, как уже сказано, ссылке. По всей стра-
не ходило много толков среди знатных людей, которые не
осмеливались действовать против Годуновых, пока царь жил
с царицей, сестрой Годунова. Но простой народ, купцы и
другие простые люди толковали между собой о Годуновых,
говоря втайне, что они изменники и стремятся овладеть
царским венцом, поэтому Борис употреблял всевозмож-
ные средства для того, чтобы отвести от себя эти толки.
И так как народ все еше был в большом страхе, вспо-
миная о недавнем нашествии татар, то Борис приказы-
вал поджигать Москву23 в разных местах, и так три или
четыре раза, и каждый раз сгорало более двухсот домов.
Все поджигатели были подкуплены Борисом, и многих из
них приводили к нему, и он, угрожая позорной смертью,
приказывал сажать их по разным тюрьмам; таким обра-
зом он снова навел страх на всю страну. Сверх того он
послал воеводами в пограничные города несколько чело-
век, которые лживо писали, что крымский хан с боль-
шим войском снова готовится вторгнуться в страну, и
посылали письма с такими вестями в Москву, так что
повергли всю страну в такой страх, что народ забыл обо
всех делах и забыл о смерти или убиении Дмитрия. Мно-
гие опасались, что эта измена и эти поджоги учинены
татарами, и по причине необыкновенной хитрости Году-
нова оставили все подозрения, так что каждый был занят
собственным горем и бедствием и, забывая о всех других
делах, оплакивал только свои.
Борис, видя, что все совершается по его желанию,
послал московским домовладельцам, дома и имущество
104
Царь Федор Иванович надевает на Гэдунова золотую цепь
которых погорели, много денег, сообразно с потерей каж-
дого, и, соболезнуя их несчастью, велел от своего имени
весьма ласково утешать их, предлагая свою помощь, сколь-
ко он может Ежели кто хотел обратиться к царю с
просьбой, он обещал ходатайствовать за того, что он и
исполнял, а сверх того все жалобы, каждодневно подава-
емые царю во время его шествия в церковь, и также все
прошения Борис принимал, тщательно сохранял и про-
читывал, дабы знать, что происходит во всей стране. Все
получали милости и ответы от Бориса, чем он так распо-
ложил к себе, что о нем говорили повсюду и не могли
достаточно нахвалиться им, желая, чтобы по смерти царя
он получил корону. Он только этого и желал, и ему и его
близким посчастливилось. Борис пользовался большим
уважением, чем царь, ибо царь не утруждал себя ничем,
кроме того, что ходил в церковь и присутствовал при бо-
гослужениях, и Борис управлял всей землей, как глава
государства, будучи над всем царем, а Федор Иванович
носил только титул.
Борис, захватив в свои руки власть и расположив к
себе простой народ, почитавший его, как Бога, не до-
105
вольствовался этим, ибо на его пути еще стояли дети Ро-
мановы, или сыновья Никиты Романовича. Никита был
брат первой царицы, или Великой княгини, жены умер-
шего тирана, и они были всех ближе к престолу, других
наследников не было; это был самый знатный, старей-
ший и могущественнейший род в Московии; никого не
было ближе их к престолу; поэтому Борис стал искать
случая устранить их, полагая, что тогда все будет по его
желанию. Однако он не мог осуществить этого, ибо опа-
сался придворных, дворянства и царя, любившего своих
дядей Романовых; притом они не совершали ничего дур-
ного, жили всегда очень скромно и были всеми любимы,
и каждый из них держал себя, как царь. Старшим из бра-
тьев был Федор Никитич, красивый мужчина, очень лас-
ковый ко всем и такой статный, что в Москве вошло в
пословицу у портных говорить, когда платье сидело на
ком-нибудь хорошо: «второй Федор Никитич»; он так ловко
сидел на коне, что всяк, видевший его, приходил в удив-
ление; остальные братья, которых было немало, походи-
ли на него.
Так как они вели себя безупречно, то Борис ничего
не мог предпринять против них, хотя и изыскивал к тому
всяческие средства, за что однажды получил от царя вы-
говор, которого не мог забыть. Когда царь отправлялся на
богомолье в монастырь, расположенный в 12 милях от
Москвы и называвшийся Троица, то на пути всегда три
или четыре раза делали остановку, и на третьей остановке
в Воздвиженском, где был царский дворец, обыкновенно
посылали за день перед тем боярских холопов, чтобы они
заняли крестьянские избы для своих господ. Холопы Бо-
риса встретились с холопами Александра Никитича в од-
ном и том же месте, и те и другие хотели занять его, и так
как холопы Бориса были сильнее, чем холопы Александ-
ра, то они силой выгнали их, а те пожаловались своему
господину; Александр ничего не сказал на это, но велел
им всегда уступать, а потом пожаловался царю. Царь был
раздосадован и сказал: «Борис, Борис, ты взаправду слиш-
ком много позволяешь себе в моем царстве; всевидящий
Бог взыщет на тебе»; это слово, поистине сказанное ца-
106
рем от чистого сердца, так уязвило Бориса, что он по-
клялся не оставить это без отмщения и сдержал свою клятву.
Сделавшись царем, он по ложным обвинениям погубил
Александра, велел тайно отвести на Белоозеро и умерт-
вить его в бане, как о том еще будет рассказано.
Дожидаясь, когда придет его время, Борис управлял
по своему усмотрению, однако всегда старался оказывать
добро простолюдинам и так расположил к себе весь на-
род, что его любили больше всех. Он дозволил передавать
в наследство детям земли, жалованные офицерам и вое-
начальникам за заслуги на ленных правах, и он во всем
удовлетворял каждого, кто приходил к нему с каким-либо
делом. Он был так смел, что однажды дотронулся до ко-
роны, которую царь нес на голове, и это случилось в празд-
ничный день, когда царь шел в церковь и на нем была
корона. Борис, шедший рядом с царем, притворно по-
правил ее, хотя она и не сидела криво. Этот поступок на-
пугал московитов, ибо у них было и теперь еще существу-
ет такое поверье: тот, кто дотрагивается до короны, когда
царь носит ее на голове, должен тотчас умереть; еще мно-
го подобных деяний совершил он на глазах народа; по-
этому боялись его более, чем царя.
Борис воздвиг вокруг Москвы большую стену, назы-
ваемую царской, сложена она была из белого плитняка и
проходила близ вала, который повелел насыпать Иван
Васильевич, как было упомянуто выше.
У него было также много земель, больше, чем у знат-
нейших бояр; земля Вага была дарована ему и его потом-
ству в вечное владение, каковой удел охватывал более ста
немецких миль. Сверх того у него повсюду были прекрас-
ные имения, и, приметив где-либо хорошую землю, он
старался приобрести ее и так скупил многие имения. Кро-
ме того, было у него много домов повсюду, в числе коих
один весьма красивый, на расстоянии мили от Москвы,
называвшийся Хорошево, что значит красивый. И был он
построен на горе у реки Москвы; здесь он часто веселился,
нередко приглашая к себе иноземных докторов и других
подобных людей, превосходно угощал их и дружески обхо-
дился с ними, нисколько не умаляя своего достоинства.
107
Одним словом, у нас недостало бы времени описы-
вать все деяния Бориса; рассудительному человеку довольно
изложенного, чтобы ясно уразуметь, чего всеми средствами
домогался Борис. Тайно сослав в татарскую провинцию
знатного боярина Ивана Михайловича Воротынского,
поистине ни в чем не виновного, Борис устранил также
и Ивана Петровича Шуйского. Шуйские были потомками
самых благородных родов Суздальской земли, их было три
брата: Василий, Дмитрий и Иван, и так как Дмитрий был
женат на сестре Борисовой жены, то Шуйские остались в
Москве при дворе, но не смели пикнуть. Также и Иван
Васильевич Сицкий, знатный боярин польского проис-
хождения, точно так же и род Бельских. Одним словом,
Борис устранил всех знатнейших бояр и князей и таким
образом лишил страну светлейшего дворянства и горячих
патриотов; на их места он все больше и больше возвышал
своих родичей: Вельяминовых, Сабуровых и Годуновых.
Так как он все время находился при царе, то умел все так
изукрасить, что царь ничего никогда не замечал. Царь был
весьма набожен от невежественного и неразумного усер-
дия и проводил все время в церквах и монастырях с попа-
ми и монахами и заставлял их петь и молиться, а Борис
держал всех этих священников в своих руках, поэтому легко
представить себе, как шли все дела.
Могут подумать, каким образом Борис, не умевший
ни читать, ни писать, был столь ловок, хитер, проныр-
лив и умен. Это происходило от его обширной памяти,
ибо он никогда не забывал того, что раз видел или слы-
шал; также отлично узнавал через много лет тех, кого
видел однажды. Сверх того во всех предприятиях ему по-
могала жена, и она была более жестока, чем он; я пола-
гаю, он не поступал бы с такой жестокостью и не дей-
ствовал бы втайне, когда бы не имел такой честолюбивой
жены, которая, как было сказано выше, обладала серд-
цем Семирамиды.
Был в Москве думный дьяк Андрей Щелкалов, он
был настолько пронырливый, умный и лукавый, что пре-
восходил разумом всех людей. Борис был весьма распо-
ложен к этому дьяку, как необходимому для управления
108
государством, и он стоял во главе всех дьяков во всей
стране. По всей стране и во всех городах ничего не дела-
лось без его ведома и желания, и, не имея покоя ни
днем, ни ночью, работая, как безгласный мул, он еще
был недоволен тем, что у него мало работы и желал еще
больше работать, так что Борис не мог довольно нади-
виться им и часто говаривал: «Я никогда не слыхал о
таком человеке и полагаю, весь мир был бы для него
слишком мал, ему было бы прилично служить Алексан-
дру Македонскому»; к нему Борис был весьма располо-
жен. Андрей Щелкалов умер еще в царствование Федора
Ивановича. Его брат Василий Щелкалов занял его мес-
то, но далеко уступал ему.
В это время посол, ехавший из Персии в Московию,
был ограблен на Волге степными казаками, но их всех
схватили и атамана посадили живым на кол.
Федор Иванович внезапно заболел и умер 5 января
1598 г.24 Я твердо убежден в том, что Борис ускорил его
смерть при содействии и по просьбе своей жены, желав-
шей скорей стать царицей, и многие московиты разделя-
ли мое мнение. Царя похоронили весьма торжественно, и
весь народ вопил и плакал, но более всех вельможи, спра-
ведливо предугадывавшие будущее, и тело царя проводи-
ли в собор Михаила Архангела, где погребают всех царей.
Перед смертью он вручил корону и скипетр ближай-
шему родственнику своему, Федору Никитичу, передав
ему управление царством.
По смерти набожного царя и великого князя Федора
Ивановича, о чем было сказано выше, простой народ,
всегда в этой стране готовый к волнению, во множестве
столпился около Кремля, шумел и вызывал царицу Алек-
сандру, жену царя Федора, сестру Бориса, домогаясь ее
видеть и вручить ей управление государством. Все крича-
ли: «Будь милостива к нам, будь нашей царицей: что ты
потребуешь, все исполним».
Услышав это, царица Александра, дабы избежать ве-
ликого несчастья и возмущения, вышла на большую лест-
ницу царского дворца и изъявила желание говорить. Уви-
дев ее, все принялись громко кричать: «Дай Бог здравия
109
Борис Годунов и его сестра Ирина
нашей царице», и тотчас все смолкли, чтобы услышать,
что она скажет, и она сказала народу следующее:
«Православные! Муж мой и милостивый царь по воле
Бога, Николая чудотворца и всех святых переселился из
сего мира в царствие небесное, где все мы уповаем быть.
Да будет вам ведомо, что при кончине Федора я должна
была дать клятвенное обещание посвятить себя Богу, уда-
литься от мира и стать монахиней, ежели я достойна мо-
литься о спасении его души, предков наших и всех нас.
И так как я сама расположена к тому всем сердцем, то
смиренно прошу вас освободить меня от этих великих тя-
гот и мирского дела, передать управление тому, кто дос-
тоин, кому по праву надлежит принять его. Я не желаю
царствовать и хочу послушно исполнить просьбу моего
покойного мужа, поэтому прошу всех вас более не нево-
110
лить меня, ибо я никогда не соглашусь; за сим усердно
молитесь всемогущему Богу, дабы он даровал вам набож-
ного и богобоязненного владыку, который беспорочно,
- справедливо и ревностно управлял бы отечеством, и я
тоже буду молиться всемогущему Богу, дабы он ниспос-
лал свою милость».
Народ, услыхав такую речь из уст царицы, принялся
громко плакать, пал ниц и умолял ее не отказываться от
престола; но все было напрасно. Видя, что царица не со-
глашается, начали просить о брате ее, Борисе Годунове,
; крича, что не знают другого, более достойного быть ца-
рем, что он правил при покойном Федоре и был любим
народом, на что царица почти согласилась и предостави-
ла решение на его волю, повелев сперва молиться Богу,
дабы он ниспослал свою милость при избрании царя.
Дядя покойного царя, Федор Никитич, получивший
от него корону и скипетр и объявленный царем в присут-
ствии всех вельмож, более желавших видеть на престоле
его, чем Бориса, услыхав и увидев все это, и зная Бориса
и все его действия, и зная также, что невозможно вос-
препятствовать ему (ибо народ любил Бориса и взывал к
нему), чтобы избавить свое любезное отечество от внут-
ренних междоусобий и кровопролитий (ибо он хорошо
знал, что своими действиями может навлечь великую опас-
ность), передал корону и скипетр Борису, смиренно про-
ся его как достойного принять их.
Борис не желал и слышать о том, притворялся весь-
ма изумленным, отказывался с великой мольбой, говоря:
«Кто я такой, чтобы управлять таким несказанно боль-
шим государством, мне довольно трудно управлять и са-
мим собою», и просил, чтобы его более тем не утруждали.
Федор Никитич тоже называл себя недостойным, также
не хотел слышать о том и сам решительно отказывался, и
так дело оставалось нерешенным.
Великий страх обуял бояр и придворных, они все
время взывали к Федору Никитичу и желали, чтобы он
был над ними царем; народ меж тем повсюду кричал:
«Сохрани, Боже, царя Бориса»; и почти все толпой побе-
жали ко дворцу, и поклялись и присягнули повиноваться
111
царю Борису, как следовало верноподданным; принял от
них присягу Иван Васильевич Годунов, дядя Бориса. Уви-
дев это, все бояре также пришли и, опасаясь, чтобы на-
род не схватил их как изменников, стали присягать; так-
же и Федор Никитич со всеми своими братьями, и так
признали Бориса Федоровича государем и великим кня-
зем, а сына его — царевичем и наследником. Так благода-
ря необыкновенной изворотливости Бориса, о чем выше
довольно было рассказано, род Годуновых вступил на мос-
ковский престол помимо законных наследников, вопре-
ки праву народному, закону и справедливости25.
Борис, отлично знавший, что происходило, а также
знавший, что ему присягнули в присутствии его родствен-
ников, не показывал и виду, что ему что-нибудь извест-
но, и оставался дома до тех пор, пока волнение по про-
шествии нескольких дней почти совсем стихло.
Когда однажды он, печальный лицом, вышел из дому
и пошел в церковь, для того чтобы присутствовать на за-
упокойной обедне и принять участие во всех молитвах и
церемониях по усопшем царе, народ с великим шумом
бежал за Годуновым и громко кричал: «Да здравствует
наш царь и Великий князь всея Руси Борис Федорович,
наш царевич, сын его, Федор Борисович. Да будет он на-
шим государем милостивым», и при этом падали ниц.
Борис остановился, представился испуганным и на-
чал горько плакать — увы, то были крокодиловы слезы,
что он проливал. И он спрашивал у народа: «Почто хотите
вы обременить меня короной? Почто избрали вы меня в
цари, самого скудоумного и ничтожного во всем государ-
стве? Чего ради спешите выбором царя? Прежде следует
помолиться за упокой души нашего благочестивого царя,
а потом будет довольно времени для избрания царя из
рода достойного. Теперь нет никакой надобности так спе-
шить. Когда умер царь Иван Васильевич, то по причине
долгих войн земля была в великом разорении и крайней
нужде, тогда, по правде, нужен был государь благочести-
вый и богобоязненный, и Бог нам даровал такого; во вре-
мя его кроткого правления с помощью наших ничтожных
услуг земля вновь оправилась и разбогатела, того ради не
112
Борис Годунов принимает царский сан
следует спешить». Эта хвастливая речь означала: «Кто, как
не я, виновник этого, ибо управлял главным образом я».
Однако народ не хотел ничего слушать, продолжал
кричать, как и прежде, показывая сильное желание иметь
Бориса своим государем, а сына его — наследником; на
что и все вельможи изъявили свое согласие: было ли это
от чистого сердца, легко понять. Наконец Борис согла-
сился.
Говорят, что Федор Никитич по возвращении домой
сказал своей жене: «Любезная! Радуйся и будь счастлива.
Борис Федорович — царь и Великий князь всея Руси». На
что она в испуге отвечала: «Стыдись! Чего ради отнял ты
корону и скипетр от нашего рода и пере тал их предателям
любезного нашего отечества?», и жестоко бранила его и
горько плакала. Он, разгневавшись, в злобе ударил ее по
щеке, а прежде и худого слова никогда ей не выговаривал.
Говорят, что после того она советовалась с братьями сво-
его мужа, Иваном и Александром, и их родственниками
о том, как бы извести царя и весь дом его; но это известие
неверно, ибо основывается на ложном свидетельстве, сде-
113
данном для того, чтобы найти повод погубить ее, и все
это, как мы потом узнаем, было сделано по наущению
Годуновых.
Меж тем сестра Бориса, вдовствующая Великая кня-
гиня Александра, постриглась в монахини, и народ с воем
и плачем провожал ее до Девичьего монастыря, в полу-
мили от Москвы, на реке Москве, и здесь она простилась
с народом, увещевая его слушаться во всем царя и мо-
литься Богу, и она так прощалась, как будто расставалась
с миром.
Борис пробыл несколько дней у своей сестры в мо-
настыре, где она часто и строго укоряла его за все проис-
ки, Спрашивая, какой ответ он даст Богу; она со слезами
на глазах упрашивала его оставить царство и принести по-
каяние во грехах, дабы Бог простил его. Борис, оправды-
вая себя во многом, обещал так управлять царством, что
надеялся смягчить гнев Божий на свои грехи. Сестра мно-
гое ему не прощала, но видя, что ее уговоры на него не
действуют, она, вверив его промыслу Божию, умоляла
его царствовать так, как он обещал, и изъявила готов-
ность помогать ему своими советами и молитвами, и так
они расстались; после венчания на царство Борис часто
бывал у нее.
И так как он, по их обычаю, не мог венчаться ранее
1 сентября, или Нового года, то он хотел в это лето пока-
зать народу свое могущество и величие, разослав по всей
стране указы, чтобы готовились к войне и войска собира-
лись к Серпухову на реке Оке, ибо распустил слух, что
там стоит крымский хан и надлежит выступить против него
и дать сражение. Но он сделал это лишь затем, чтобы при-
обрести себе славное имя и заслужить уважение в народе.
В мае назначено было собраться всем на реке Оке, куда со
всех сторон стеклось такое войско, какого еще никогда не
было у Московского князя, ибо с царем явились из Мос-
квы бояре, дворяне, придворные, офицеры и стрельцы,
всего тридцать тысяч человек при пятистах тысяч воинов,
готовых к бою. Лагерь простирался на 5 миль в длину и 5
миль в ширину по квадрату. Вдоль реки Оки были расстав-
лены пушки и к прибытию царя посреди лагеря разбили
114
целый город из шатров, где были залы, канцелярии, баш-
ни, конюшни, кухни, церкви — все так искусно устрое-
но, что издали принимали его за красивый город. Войско
было так неимоверно велико, что поистине нельзя было
и представить; сюда прибыл из Москвы Борис со всем
своим двором, оставив в Москве царицу с дочерью и пат-
риарха Иова, оберегавшего московские святыни, и Сте-
пана Васильевича Годунова, оберегавшего в Москве цар-
ский престол.
В течение нескольких недель войска выезжали в поле
на смотры и каждый старался отличиться перед царем:
кто верховой ездой, кто оружием; меж тем ждали крым-
ского посла, ибо Борис достоверно знал, что он приедет
его поздравить, привезет подарки и заключит мир на не-
сколько лет. Прибыв в лагерь, посол весьма удивился дра-
гоценным украшениям, носимым московитами, благород-
ными и воинами; мир был заключен на несколько лет, и
посол уехал.
Этот поход предприняли между прочим с тем, чтобы
показать крымцам великую силу и устрашить их, хотя в
этом году они и не думали выступать из своей земли.
И после того как царь отсутствовал около шести не-
дель, к нему в лагерь пришло духовенство с крестами и
хоругвями просить его возвратиться в Москву, каковую
просьбу он исполнил и распустил все войско. Все ратники
отправлены были по домам, только один отряд инозем-
цев был послан на быстрых конях в степь, в татарскую
сторону, дабы очистить землю от некоторых возмутившихся
казаков. Они возвратились, не найдя никого, и царь обе-
щал заплатить тройное жалование после венчания. И каж-
дый возвратился к себе домой.
В год 1599 после Рождества Христова, 1 сентября,
совершилось венчание Бориса Федоровича царем всея
Руси, а сын его объявлен царевичем московским26. Титул
его, Бориса, писали в грамотах всем державам точно так
же, как и титул Федора Ивановича, о чем мы уже говори-
ли. Венчание на царство было совершено с большой пыш-
ностью и великолепием, и царский пир, весьма роскош-
ный, продолжался восемь дней. Венчание происходило в
115
храме Богородицы. Венец на голову Бориса надел патри-
арх в присутствии епископов и митрополитов, со многи-
ми церемониями, благословениями и каждением. Царь ше-
ствовал по золотой парче, постланной поверх пурпурового
сукна по всем дорогам, по коим ему надлежало пройти ко
всем церквам, по Кремлю и ко дворцу, и перед царем
щедро разбрасывали золотые монеты, и каждый, сколько
мог, подбирал их.
В Кремле, в разных местах, были выставлены для на-
рода большие чаны, полные сладким медом и пивом, и
каждый мог пить сколько хотел, ибо для них наибольшая
радость, когда они могут пить вволю, и на это они масте-
ра (а паче всего на водку, которую запрещено пить всем,
кроме дворян и купцов, и если бы народу было дозволе-
но, то почти все опились бы до смерти), но довольно о
том писать, ибо сие не относится к предмету нашего со-
чинения.
Во время всеобщей радости царь приказал выдать
тройное жалование всем высшим чинам, дьякам, капита-
нам, стрельцам, офицерам, вообще всем, состоявшим на
государственной службе. Одна часть жалования выдана была
на поминовение усопшего царя, другая — по случаю из-
брания царя, третья — по случаю похода и Нового года, и
все по всей стране радовались, ликовали и благодарили
Бога за то, что он даровал им такого государя, усердно
творя за него молитву во всех городах, монастырях и цер-
квах.
Также призвал к себе царь бедных ливонских купцов,
кои, будучи во времена тирана взяты в плен в Ливонии,
были привезены в Московию и несколько раз им ограб-
лены. Борис собственноручно поднес каждому из них ку-
бок, полный меда, обещал быть государем милостивым,
советовал забыть старое горе и даровал им полную свобо-
ду и права гражданства в Москве, наравне со всеми мос-
ковскими купцами, а также дозволил им иметь церковь,
где бы они могли молиться Богу по своему обряду, чем
они и воспользовались. Сверх того каждого из них Борис
ссудил деньгами без процентов, дав каждому сообразно с
его достоинством — одному 600, другому 300 ливров, —
116
с тем, чтобы на эти деньги они могли торговать и вести
дела и впоследствии, по получении достаточной прибы-
ли, отдали бы их обратно, и отпустил их жить с миром,
ибо Борис был весьма расположен к немцам; в Москве
говорят: «Кто умнее немцев и надменнее поляков?».
Борис тайно велел распространить слух о своем обете
не проливать крови в течение пяти лет, что и делал он
явно по отношению к татям, ворам, разбойникам и про-
стым людям; но тех, кто был знатного рода, он дозволял
обносить клеветою и по ложным обвинениям жестоко то-
мить в темницах, топить, умерщвлять, заключать в мона-
стырь, постригать в монахи — все это втайне, для того,
чтобы лишить страну всего высшего дворянства и на его
место возвести всех родичей и тех, что ему полюбились.
Прежде всего в ноябре 1600 г. Борис велел несколь-
ким негодяям обвинить Федора Никитича, отдавшего ему
корону, и братьев его, Ивана, Михаила и Александра, с
их женами, детьми и родственниками. Обвинение заклю-
чалось в том, что будто они все вместе согласились отра-
вить царя и все его семейство; но это было только для
того, чтобы народ не считал, что эти знатные вельможи
сосланы со своими домочадцами и лишены имущества
невинными, и не сокрушался об их участи. Федора Ники-
тича схватили и сослали за 300 миль от Москвы, в мона-
стырь, неподалеку от Холмогор, который назывался Сий-
ская обитель, и там он постригся в монахи. Михаил и
Иван были отправлены в злосчастную ссылку: один на
Волгу, другой на татарскую границу; Александра же, ко-
торого он давно ненавидел, Борис велел отвезти на Бело-
озеро, вместе с маленьким сыном Федором; и велел там
истомить Александра в горячей бане, но ребенок заполз в
угол, где мог немного дышать через маленькую щель, и
остался жив по милости божественного провидения, и
люди, взявшие его к себе, сберегли его.
Так же поступили и с остальными, которые были
ненавистны — одних топили, других душили. Дом князя
Федора Мстиславского, весьма знатного боярина польско-
го происхождения, человека безупречного, был два раза
дочиста разграблен, но его самого оставили в живых по
117
настоянию народа, иначе его бы лишили жизни. Борис до
вступления на престол неоднократно изъявлял желание
выдать за него дочь свою, но потом не только отказался,
но даже препятствовал ему жениться во второй раз, что-
бы у него не было наследников. Таким образом Борис
употреблял всевозможные средства истребить всех, знав-
ших об его злодеяниях, опасаясь, чтобы они когда-ни-
будь не пытались отстранить Годуновых от правления.
Борис поставил Дмитрия Ивановича Годунова, свое-
го старого дядю, старшим боярином, ближайшим к царю.
Иван Васильевич Годунов, также состоявший при нем,
имел сына Ивана. Степан Васильевич Годунов, дворец-
кий, имел сына Степана; Семен Никитич Годунов был
казначеем27, а также ведал придворными докторами и
аптекарями; он слыл по Москве человеком весьма жесто-
ким.
Одним словом, все Годуновы и те, что принадлежали
к их роду, также и те, что были в свойстве с ними, зани-
мали высшие должности в государстве; также те, что при-
надлежали к роду Вельяминовых и Сабуровых, женатых
на их дочерях, Шуйские, Бельские, Голицыны, Мсти-
славские и многие другие, которые вели себя во всех от-
ношениях безупречно, а также некоторые родственники
Годуновых знатного происхождения жили весьма скром-
но в своих поместьях и не несли никакой службы, иногда
только их назначали воеводами на 3 или 4 года в некото-
рые значительные города. Из всех дьяков, которых там
много, так как число провинций весьма велико, главным
был Василий Щелкалов, как выше сказано, брат Андрея
Щелкалова.
У царя Бориса была дочь, которая в то время была на
выданьи, и он всяческими путями и всеми средствами
старался выдать ее замуж за немецкого князя или короле-
вича, ибо он не хотел выдать ее за кого-нибудь из бояр:
ни за Мстиславского, ни за Шуйского, которые поистине
были более знатного и благородного происхождения, чем
Годуновы, ибо он смотрел на всех вельмож своей земли,
как на холопов, и ему казалось, что царю неприлично
выдать свою дочь замуж за одного из своих слуг. Сверх
118
того он боялся за измену получить возмездие от своих и
постоянно жил в страхе, как вор, который всегда стра-
шится быть пойманным. Поэтому он полагал более безо-
пасным иметь зятем немецкого князя, который был бы
во всем ему верен и всегда готов сражаться за него.
Для своего сына он намеревался искать невесту с дру-
гой стороны: у черемисов, у персов или у какого-нибудь
другого народа, так, чтобы обезопасить себя с обеих сто-
рон — с запада и с востока, ибо он опасался Польши,
ожидая от нее во всякое время неприятельских действий.
Тревожимый совестью, он думал тогда о предстоящих ему
несчастьях, и они вскоре его постигли.
В это время молодой герцог, по имени Густав, сын
Эрика, короля Шведского, бежал из своего отечества,
где его намеревались, как достаточно известно, погубить.
Молодой Густав бежал в Польшу, пробыв некоторое вре-
мя в Данциге, в доме Христофора Катера; он отдал себя
под покровительство Польши; но дела его шли вовсе не
так, как ему было обещано, и он тайно отправил извес-
тие к московскому царю. Царь Борис не желал лучшего,
рассчитывая поймать важную птицу и надеясь, что он бу-
дет ему служить и женится на его дочери, употребил все
хитрости, чтобы заманить Густава в Москву: писал ему
письма, в которых советовал, как ему бежать и в какое
место на московском рубеже он должен прибыть в назна-
ченное время.
Густав бежал и благополучно добрался до Московии;
не прошло и трех часов после перехода его через рубеж, как
из Польши послали погоню: посланные всюду спрашивали
на рубеже, не видали ли кого похожего, но московиты так
искусно скрыли его, что поляки в то время ничего не узна-
ли. Когда он вступил в пределы Московии, навстречу ему
было послано несколько придворных с немецкими пере-
водчиками, повозки, лошади и многие другие княжеские
вещи, необходимые для дороги, и всевозможные припасы.
Даже дорога между Москвой и Ивангородом была ради него
осмотрена и исправлена; его принимали с таким почетом,
что большего не смогли бы оказать и королю. Итак, 8 авгус-
та 1600 г. Густав торжественно въехал в Москву, его ветре-
119
чали с великой пышностью почти все дворяне, ехавшие
верхом в дорогих одеждах. Его посадили на царскую лошадь
и так проводили до дома, для него приготовленного, и здесь
его снабжали всем: лошадьми, припасами провизией, слу-
гами и рабами, как если бы он был царь. Борис послал ему
много драгоценных подарков, парчу и шелковые ткани на
одежду ему самому и его людям, и сверх того ему каждод-
невно присылали с царского стола кушанья на блюдах из
чистого золота.
19 августа по уговору явился он в первый раз на прием
к царю, который во всем своем величии — в короне, со
скипетром и державой в руках — сидел со своим сыном и
приветствовал принца, выразил сожаление о его несча-
стии и обещал покровительство Московского государ-
ства. После того как поблагодарил он царя, его проводи-
ли обратно в отведенный для него дом, куда вновь
принесли из царской казны много подарков ему и его
людям.
21 ноября, зимой, Борис с сыном проезжал мимо
дома Густава, и царевич московский поклонился ему. И в
другой раз ему сказано было милостивое слово в присут-
ствии всех бояр.
23 августа 1601 г. принц Густав во второй раз предста-
вился царю Борису, и в это время он собрал вокруг себя
много молодых дворян, которые хорошо знали его и, ус-
лыхав, что он так благоденствует в Москве, прибыли к
нему на службу; большая часть их принадлежала к благо-
родным родам. Однако случилось не так, как они ожида-
ли, ибо Густав, видя, что ему оказывают такой почет,
весьма возгордился и призвал из Данцига жену своего
хозяина Христофора Катера, от которой он во время сво-
его пребывания в Данциге прижил несколько детей, и
она приехала к нему и жила с ним в Москве.
Эта женщина научала его всему дурному и сделала
таким надменным, что он всем перечил и часто бил сво-
их дворян и слуг, также и московитов, будучи вспыльчи-
вым и сумасбродным, так что его стали считать наполо-
вину безумным. Одним словом, он вел себя слишком
досадно и безумно, возомнив, что все ему дозволено, и
120
полагая, что если царь его укорит в чем-нибудь, то слу-
чится великая несправедливость.
Царь Борис, все это слышавший и видевший, приме-
ти, что это за человек, почел неприличным отдать за него
свою дочь Ксению и считал его полоумным и совершенно
неспособным к тем делам, которые вознамерился было
поручить ему. Однажды он повелел объявить ему, что не-
прилично королевскому сыну брать чужую жену и оказы-
вать ей царские почести, а сверх того следовать во всех
делах советам женщины; также надлежит ему удерживать
себя от сумасбродств. Услышав это, принц, полагая, что
ему оказывают великую несправедливость, весьма расстро-
ился и ни в чем не хотел уступать.
Сначала все придворные принца и дворяне отошли
от него и поступили на службу к царю, который благо-
склонно принял их, назначил им хорошее жалование и
пожаловал им отличные поместья, и у принца осталось
только трое или четверо придворных, над коими главны-
ми были красивый молодой человек, Вильгельм Шварц-
гоф, и еще один швед по имени Симон, остававшийся
при нем до самой смерти.
Хотя Борис отлично видел, что от принца нет проку,
однако не захотел прогнать его и пожаловал ему область с
городом Угличем на Волге со всеми прибытками и пове-
лел отвезти его и дозволил ему там плотничать и строить
все, что ему вздумается. Он учинил там много сумас-
бродств, о чем пришлось бы долго говорить. Царь приста-
вил к нему одного дворянина, который должен был слу-
жить ему и наблюдать за всеми его действиями, но с
женщиной его разлучили, и он еще жил в Угличе, когда
умер Борис.
В 1600 г. ожидали великое посольство из Польши, что-
бы на несколько лет заключить мир и начать жить в дружбе
с новым царем Борисом, а также принести ему поздравле-
ния и подарки.
Итак, 6 октября посольство прибыло в Москву с боль-
шим великолепием и было встречено всеми дворянами,
одетыми в самые драгоценные платья, а кони их были
увешаны золотыми цепями. Посольство разместили в при-
121
готовленном для него дворе, отлично снабженном всем
необходимым, и оно состояло из девятисот трех человек,
имевших две тысячи отличных лошадей, как нельзя луч-
ше убранных, и множество повозок.
16 ноября посол получил первую аудиенцию и пере-
дал царю подарки: четыре венгерских или турецких лоша-
ди, которых, не взирая на то, что ноги их были спутаны,
было не легко привести, и они были весьма богато убра-
ны; кроме того небольшая, весьма искусно сделанная ка-
рета на четырех серебряных колонках, много чаш, кубков
и других вещей. Передав царю свою грамоту и подарки,
посол сказал речь, но в тот день ничего не решили, при-
няли грамоту, подарки возвратили с благодарностью, за-
тем посол остался у царя обедать.
Посла, верховного советника польской короны, зва-
ли Лев Сапега, он был у царя раз двадцать, и они рас-
ставались то друзьями, то врагами, и ежели расставались
друзьями, то послу оказывали большой почет: доволь-
ствовали его со всей свитой и лошадьми; а когда расста-
вались врагами, то строго следили за послом, он должен
был по дорогой цене покупать воду в Москве и не смел
ни с кем говорить. Наконец был заключен мир или пере-
мирие на двадцать два года между царем и королем
польским; и это случилось 22 февраля по старому стилю,
в 1601 г. И в тот день все посольство с утра до поздней
ночи пировало у царя на пиру, таком пышном, как только
можно себе представить, даже невероятно, не стоит рас-
сказывать.
Меж тем из Польши прибыл еще один гонец с пись-
мами от короля к послу, так как, кажется, что-то забыли
при заключении договора, и спустя два дня по заключе-
нии мира посол отправил этого гонца с письмами и дву-
мя секретарями, и никому не было ведомо, что это зна-
чило; гонца звали Илья Пилграмовский. Хотя некоторые
проницательные люди и подозревали, что король польский,
вероятно, уведомляет царя о появлении человека, выда-
вавшего себя за сына тирана Ивана Васильевича, но ни-
чего не могли узнать с уверенностью; Борис тогда не об-
ратил на это внимания.
122
1 марта помянутый посол Сапега и вся его свита по-
лучили прощальную аудиенцию у царя; ему было выдано
, содержание на людей и лошадей; можно себе предста-
вить, сколько это стоило. 3 марта он в сопровождении ве-
. ликолепной свиты отбыл в Польшу.
В том же году блаженной памяти добрая королева ан-
глийская Елизавета отправила к царю московскому по-
сла, который прибыл морем на кораблях компании анг-
лийских купцов, торгующих и промышляющих в Московии.
Это был добрый, набожный старик. С ним приехало сорок
молодых людей из дворян, одетых в красные плащи. По-
сольство везли до Москвы бесплатно на ямских лошадях,
, и аудиенция была назначена 8 марта. Подарки были: ис-
кусной работы кровать, сделанная весьма красиво, также
много кубков и чаш, наполненных драгоценностями и
благовониями, и прекрасные сукна, весьма искусно выт-
канные. Передав грамоту, содержавшую только изъявле-
ние дружбы и поздравление Бориса со вступлением на
престол, посол остался у царя на обед, во время которого
вели дружескую беседу о доброй королеве и о некоторых
других предметах.
Так как англичане давно изыскивали всяческие сред-
ства для того, чтобы захватить в свои руки торговлю в
стране, и желали отстранить от нее голландцев, то посол
обратился к царю и просил за англичан и обещал, что
они будут снабжать Московию всем необходимым, что их
товары будут дешевле и лучше, нежели у голландцев и
других народов.
Будучи проницательным государем и желая жить мир-
но со всеми государями и владетелями, любя немцев и
сверх того зная славные, необыкновенные и победонос-
ные дела голландцев, в особенности деяния светлейшего
нашего герцога Мориса Нассауского, достаточно извест-
ные ему по нашим рассказам, и хорошо зная, как ему в
этом случае надлежит поступить, Борис отвечал, что все
нации в этом отношении для него равно любезны, что он
желает со всеми жить в дружбе. Другие иностранцы ис-
правно платят подати и пошлины, составляющие доход
государей московских, и значит имеют право вести тор-
123
говлю, так же как и англичане; для англичан, по правде,
довольно и того, что они свободны от всякой пошлины
во всем государстве московском и ничего не платят госу-
дарю; если бы они были мудры, то они не почли бы при-
личным предлагать это и завидовать торговле близких со-
седей28. Посол простился с царем и 17 апреля выехал из
Москвы через Ливонию и далее в Англию; его освободи-
ли от всех издержек и сверх того одарили дорогими мехами.
Борис также отправил посла в Англию для возобнов-
ления дружбы с королевой; звали его Григорий Микулин.
В то время, по воле Божией, во всей московской зем-
ле наступила такая дороговизна и голод, что подобного
еще не приходилось описывать ни одному историку. Даже
матери ели своих детей; все крестьяне и поселяне, у кото-
рых были коровы, лошади, овцы и куры, съели их, не-
взирая на пост, собирали в лесах различные коренья, грибы
и многое другое и ели их с большой жадностью; ели так-
же мякину, кошек и собак. От такой пищи животы у них
становились толстые, как у коров, и постигала их жалкая
смерть; зимой случались с ними странные обмороки и
они в беспамятстве падали на землю. И на всех дорогах
лежали люди, умершие от голода, и тела их пожирали
волки и лисицы, также собаки и другие животные.
В самой Москве было не лучше; провозить хлеб на
рынок надо было тайком, чтобы его не отняли силой.
Специальные люди с телегами и санями каждодневно
собирали множество мертвых и свозили их в ямы, выры-
тые за городом в поле, и сваливали их туда, как мусор,
подобно тому, как здесь в деревнях опрокидывают в на-
возные ямы телеги с соломой и навозом. Когда эти ямы
наполнялись, их покрывали землей и рыли новые. Те, кто
подбирали мертвых на улицах и дорогах, брали, что дос-
товерно, много и таких, у коих душа еще не разлучилась с
телом, хотя они и лежали бездыханными; их хватали за
руки или за ноги, втаскивали на телегу, где они, брошен-
ные друг на друга, лежали, как мотовила в корзине, так
что поистине иные, взятые в беспамятстве и брошенные
среди мертвых, скоро погибали. Никто не смел подать
кому-нибудь на улице милостыню, ибо собиравшаяся толпа
124
могла задавить того до смерти. И я сам охотно бы дал
поесть молодому человеку, который сидел против нашего
дома и с большой жадностью ел сено в течение четырех
дней, от чего надорвался и умер, но я, опасаясь, что за-
метят и нападут на меня, не посмел. Утром за городом
можно было видеть мертвых, одного возле кучи навоза,
другого наполовину съеденного, и так далее, отчего воло-
сы становились дыбом у того, кто это видел.
Голландец Арендт Классен29, долго служивший в цар-
ской аптеке и пользовавшийся почетом у тамошних вель-
мож, как правду рассказывал мне, что он поехал зимой в
свое поместье или деревню, и проезжая по запустелой
стране, он нашел дитя, казалось, еще живое и лежащее в
снегу без памяти от холода и голода. Он поднял дитя и
положил в сани под шубы и медвежьи шкуры, которые
там были, и, прибыв в одну деревню, где еще оставалось
в живых несколько человек, он принес закутанное в шубу
дитя в избу и тотчас положил на горячую печку. Когда
маленькая девочка стала приходить в себя, он немного
покормил и напоил ее горячим, тем, что у него было, так
что она оправилась и могла немного говорить и понимать
слова. Девочка сказала, что вся семья ее умерла от голода
и в живых осталась только мать. И говорила она: «Мать
бродила со мною; не могла видеть, как я умираю с голо-
ду, убежала в глухое место в кустарник и оставила меня в
снегу, на дороге».
Больше ничего нельзя было узнать от нее, и так как
Арендту Классену еще предстоял долгий путь, то он оста-
вил ребенка там в избе, и дал кое-что на его пропитание,
сказав: «Я скоро ворочусь и возьму ее с собой, поберегите
ее до сего времени». И когда он снова возвратился в ту
деревню, то никого не нашел — все жители вымерли, и
он был твердо убежден, что ребенка вместе с оставлен-
ными им припасами съели, а потом сами умерли с голоду.
Кто без ужаса может слышать о том? Все это было прав-
диво передано Классеном и вполне достоверно. В то время
повсеместно случалось много подобного, и московиты, у
которых был достаточный запас хлеба, пренебрегали этим
бедствием и ставили его ни во что.
125
Иные, имея запасы года на три или на четыре, жела-
ли продления голода, чтобы выручить больше денег, не
помышляя о том, что их тоже может постичь голод. Даже
сам патриарх, глава духовенства, на которого смотрели в
Москве, как на вместилище святости, имея большой за-
пас хлеба, объявил, что не хочет продавать зерно, за ко-
торое должны будут дать еще больше денег. У этого чело-
века не было ни жены, ни детей, ни родственников,
никого, кому он бы мог оставить свое состояние, так он
был скуп, хотя дрожал от старости и одной ногой стоял в
могиле. Столь удивительно было наказание Божие; это
наказание было столь велико и удивительно, что ни один
человек, как бы ни был он хитроумен, не мог бы описать
его. Ибо запасов хлеба в стране было больше, чем могли
бы его съесть все жители в четыре года, и они были про-
жорливее, чем в сытые времена, и ели, если у них было,
много более, чем обыкновенно; постоянно страшась не-
достачи, они беспрестанно ели и никогда не могли насы-
титься. У знатных господ, а также во всех монастырях и у
многих богатых людей амбары были полны хлеба, часть
его уже погнила от долголетнего лежания, и они не хоте-
ли продавать его. По воле Божией царь был так ослеплен,
невзирая на то, что он мог приказать все, что хотел, он
не повелел самым строжайшим образом, чтобы каждый
продавал свой хлеб. Хотя он сам каждый день раздавал
милостыню из своей казны, но это не помогало.
Многие богатые крестьяне, у которых были большие
запасы хлеба, зарыли его в ямы и не осмеливались его
продавать; другие же, продававшие и получавшие боль-
шие деньги, из страха что их или задушат или обкрадут,
повесились от такой заботы в своих собственных домах.
Царь Борис от доброго усердия повелевал раздавать
милостыню во многих местах города Москвы, но это не
помогало, а стало еще хуже, чем до того, когда ничего не
раздавали: ибо для того, чтобы получить малую толику
денег, все крестьяне и поселяне вместе с женами и деть-
ми устремились в Москву из всех мест на сто пятьдесят
миль вокруг, усугубляя нужду в городе и погибая, как
погибают мухи в холодные дни. Оставляя свою землю не-
126
возделанной, они не помышляли о том, что она не может
принести никакого плода; сверх того приказные, назна-
ченные для раздачи милостыни, были воры, каковыми
все они по большей части бывают в этой стране. Они по-
сылали своих племянников, племянниц и других родствен-
ников в те дома, где раздавали милостыню, в разодран-
ных платьях, словно они были нищи и наги, и раздавали
им деньги, а также своим потаскухам, плутам и лизоблю-
дам, которые также приходили, как нищие, ничего не
имеющие. Всех истинно бедствующих, страждущих и ни-
щих давили в толпе или прогоняли дубинами и палками
от дверей; и все эти бедные, калеки, слепые, которые не
могли ни ходить, ни слышать, ни видеть, умирали, как
скот, на улицах. Если же кому-нибудь удавалось получить
милостыню, то ее крали негодяи стражники, которые были
приставлены смотреть за этим. И я сам видел богатых дья-
ков, приходивших за милостынею в нищенской одежде.
Всякий может себе представить, как шли дела. Хлеб,
который в этой стране пекли, не обращая внимания на
вес, было приказано выпекать определенного веса по оп-
ределенной цене; тогда пекари для увеличения тяжести
пекли его так, что в нем было наполовину воды, от чего
стало хуже прежнего, и хотя некоторых наказали смертью,
это не помогало. Голод, бедствия и ожесточение людей были
слишком велики. Также рассказывали о необыкновенных
кражах, совершавшихся с диковинной ловкостью на рын-
ках, о том, что на рынках и в толпе уводили лошадей,
даже у тех, которые вели их за узду, и много подобных
историй. На дорогах было множество разбойников и убийц,
а где их не было, там голодные волки разрывали на части
людей; также повсюду свирепствовали тяжелые болезни и
моровое поветрие. Одним словом, бедствия были неска-
занно велики, и Божья кара была так удивительна, что ее
никто надлежащим образом не мог постичь. Однако люди
становились чем дальше, тем хуже, вдавались в разбой и
грабежи все более, ожесточились и впали в такое косне-
ние, какого еще никогда не было на свете; и такая дорого-
визна хлеба продолжалась четыре года, почти до 1605 г.
Меж тем в некоторых местностях распространилось
127
моровое поветрие, а затем началась удивительная междо-
усобная война, самая удивительная из всех войн от нача-
ла света.
Царь Борис, терзаемый совестью за то, что совершил
так много жестокостей и незаконным путем достиг пре-
стола, жил в непрестанном страхе и заботах, как бы где-
нибудь не объявился соперник, а посему он никому не
доверял и редко появлялся на людях, только по большим
праздникам, но с ним случилось то, чего он страшился.
Ибо в то время уже поговаривали, что в Польше про-
шел слух о Дмитрии, царском сыне30; и это дошло до Бо-
риса, но он, не имея еще верных известий, не мог этого
понять надлежащим образом.
Взвесив все обстоятельства, Борис полагал, что не
может быть лучшего жениха для его дочери, чем один из
братьев короля Датского; сказывают, что Борис сперва
пытался сосватать герцога Ульриха, но тот не пожелал,
так что Борис заполучил наконец Иоанна.
Поэтому царь возобновил дружбу с королем Датским
как с ближайшим соседом, и они поделили между собою
Лапландию — каждый из них взял свое — и заключили
вечный мир и тесный союз. Для совершения раздела из
Москвы послали одного придворного, которого звали князь
Федор Борятинский, служившего при царском дворе. А для
заключения мира и брака отправили послом Посника
Дмитриева31, взявшего с собой изображение молодой
княжны, весьма искусно сделанное ювелиром Яковом
Ганом.
27 мая 1602 г. прибыл из Дании в Москву гонец, и
прибыл ночью, так что никто не знал; и в ту ночь он
получил аудиенцию у царя. Его сообщение состояло в том,
что король все решения и ответ отправит из Дании с по-
слом. Гонца звали Аксель Браге, и он был отпущен 16
февраля следующего года; так долго пробыл он в Москве.
15 августа 1601 г. прибыл в Москву папский легат; он
просил о свободном проезде через Московию в Персию32,
что ему и дозволили. Когда бы Великий князь Борис знал,
что легат прибыл за тем, чтобы высмотреть и разведать
все в стране, чтобы узнать характер народа, дабы потом
128
сделать донесение своему владыке, папе, и осуществить
свое предательское намерение, то Борис дал бы этому
послу совсем иной ответ и угостил бы его таким обедом,
на котором он подавился бы куском. Но Борис не подо-
зревал тогда, что ему ставили западню, в которую со вре-
менем он должен был попасть.
14 марта 1602 г. прибыл изДании гонец, привезший
известие, что брат короля со всем своим двором едет в
Москву; Борис весьма этому известию обрадовался и,
щедро одарив гонца, отпустил его из Москвы 14 апреля.
В это время происходило в Москве много ужасных
чудес и знамений, и большей частью ночью, близ цар-
ского дворца, так что солдаты, стоявшие на карауле, ча-
сто пугались до смерти и прятались. Они клялись в том,
что однажды ночью видели, как проехала по воздуху ко-
лесница, запряженная шестеркой лошадей, в ней сидел
поляк, который хлопал кнутом над Кремлем и кричал
так ужасно, что многие караульные убежали со страху в
горницы. Солдаты каждое утро рассказывали об этих ви-
дениях своим капитанам, которые передавали своим на-
чальникам, так что эти и им подобные рассказы доходили
до царя, оттого боязнь его день ото дня возрастала, и он
желал скорее исполнить свое намерение выдать Ксению
за датского герцога, ибо он боялся и сам не знал чего
ради, более всего поляков, опасаясь, что с их стороны
придет еще что-нибудь чудесное, ибо это все были пред-
вестники грядущей напасти. Хотя эта страна, претерпевая
голод и нищету, исполненная бедствий, была сурово на-
казана, казалось, ее ожидала еще большая кара.
Борис со всем тщанием делал приготовления к тому,
чтобы совершить свадьбу тотчас по прибытии герцога,
послав в Ивангород, куда он прежде всего должен был
прибыть, всякого рода съестные припасы и царскую ут-
варь, как-то: постели, подушки и различную кухонную
посуду, все, что было необходимо для конюшни и погре-
ба; туда же посланы были многие придворные, которые
должны были ожидать прибытия герцога. Сверх того царь
отправил от своего имени дьяка, и дьяка этого звали
Афанасий Иванович Власов. Это был человек разумный,
5 Зак. 1918
129
несколько раз бывавший посланником при дворе Рим-
ского императора, ибо был образован и умел хорошо го-
ворить; сверх того в помощники ему был послан Михаил
Глебович Салтыков; они с нетерпением ожидали прибы-
тия кораблей из Дании.
23 июля 1602 г. из Дании прибыл еще один гонец с
известием, что корабли отплыли и герцог в дороге; гонца
щедро одарили и отпустили тотчас 25 июля.
Меж тем герцог прибыл на нескольких судах к Иван-
городу или Нарве; прибывших с ним было до четырехсот
человек, в том числе много дворян. Знатные вельможи,
дворянство, а также все горожане встретили его с боль-
шим торжеством и великолепием, радостно приветствуя
от имени царя, и для него и для его свиты были приго-
товлены лучшие дома, где они поместились и провели
несколько дней весьма весело. Тем временем разгрузили
кладь, много утвари, вина и денег было отправлено на
царских почтовых лошадях в Москву. Из Москвы также
прибыло несколько колымаг, и для герцога царская ко-
лымага, весьма искусно сделанная, и по дороге во всех
почтовых домах были приготовлены лошади для перевоз-
ки свиты, клади и съестных припасов; также ежедневно
слали гонцов с известием к царю и снова от царя к герцо-
гу, каждый час. После того как разгрузили все с кораб-
лей, герцог, пробыв несколько дней в Нарве, отправился
в сопровождении большой свиты из московских дворян и
придворных в Москву, куда и прибыл 19 сентября 1602 г.
Его встречали с радостью и по московскому обычаю весь-
ма пышно и торжественно.
Царь Борис повелел наперед объявить всем немцам,
полякам, ливонцам и другим иноземцам, состоящим у
него на службе, чтобы они запаслись самыми дорогими
платьями, каждый по обычаю своей страны, и добыли
себе изрядных лошадей с дорогой сбруей и убором, на
что им даны были деньги, и все было исполнено по его
повелению.
И в день, назначенный для въезда герцога, в Москве
с раннего утра велено было бирючам повсюду объявить,
чтобы все иноземцы в Москве, а также все жители — бо-
130
яре, дворяне, приказные, купцы и простолюдины — оде-
лись как можно красивее каждый в самое лучшее платье,
и чтобы все оставили в тот день всякую работу и шли в
поле за Москву встречать брата короля Датского. Всякий,
у кого была лошадь, должен был ехать навстречу в краси-
вейшем уборе, что и было исполнено и являло издали
столь красивое зрелище, что казалось взираешь на золо-
тую гору, покрытую различными цветами, ибо все бояре,
дворяне и иноземцы ехали верхом и позади каждого из
них 30, 20, 10 или 5 слуг на лошадях, и все слуги были
одеты столь великолепно, как и сами господа, также куп-
цы и множество народа всякого звания, каждый по свое-
му достатку.
По приказанию царя утром послали ясельничего
Михаила Игнатьевича Татищева, человека весьма учено-
го и красивого, подле него вели царскую лошадь, убран-
ную золотом и драгоценными камнями, и велено ему было
встретить герцога за милю от Москвы и приветствовать
его от имени царя, и посадить на царского аргамака, на
котором герцог должен был въехать в Москву, что и было
исполнено по приказанию царя. Герцог, встреченный за
одну милю от Москвы, был выведен из колымаги и поса-
жен на коня с большим почетом и поклонами. Его окру-
жали 30 алебардщиков и несколько стрельцов, одетых в
белые атласные кафтаны и красные бархатные штаны,
позади его ехала вся его свита на царских лошадях и в
колымагах' Его платье было из гладкого черного бархата и
такой же плащ, обшитый кругом золотом и жемчугами.
Дивно было смотреть на великое множество народа,
вышедшего из Москвы навстречу герцогу, так что с вели-
ким удивлением взирали иноземцы на пышность и вели-
колепие московитов, которые все были верхом; не видать
было конца по всему полю, что за Москвой, так что каза-
лось, то было сильное войско, почти все одеты в парчу и
разноцветные одежды.
Так въехал герцог в город через Тверские ворота; все
улицы были полны народом, празднично разодетым, так-
же много женщин, в узорочье из жемчуга и драгоценных
камней; и герцога привезли в отведенный для него двор.
131
снабженный всеми необходимыми припасами и слугами,
как-то: дровосеками, водовозами, истопниками, рабами
и лошадьми, словно для самого царя.
Царь приставил к герцогу Семена Никитича Годуно-
ва, своего дядю, прозванного правым ухом царевым, ибо
ему вверены были сокровища и тайны царские; он был
также человек весьма жестокий.
Герцог привез из Дании Акселя Гюльденстерна, ко-
торый был верховным советником датского государства,
человека доброго и умного.
Царь с сыном тайно смотрели на въезд с кремлев-
ской стены и отсюда видели всю свиту герцога, ибо он
должен был проехать мимо Кремля.
Герцог привез с собой пасторов, докторов и хирур-
гов, также палача и других лиц, состоявших на службе
при его дворе, ему сверх того в Москве были определены
и другие лица. К его двору была приставлена стража, ко-
торая днем и ночью охраняла его от пожара и других не-
счастий. Ему и его свите услужали во всем и обращались с
ним, как с королем.
28 сентября пригласили его обедать к царю со всей
свитой, с малыми и большими, с господами и слугами,
как заведено по московскому обычаю вместе с гостем
приглашать и некоторых слуг его, которые едят с ним за
одним столом. И с приглашением пришли к его двору и
привели царских лошадей, на которых герцог и его свита
ехали весьма торжественно. Герцог ехал между двумя боя-
рами, и вся его свита и дворяне провожали его до Грано-
витой палаты, где царь и его сын обняли герцога и спра-
шивали друг друга о здоровье, причем царь Борис изъявлял
чрезвычайную радость. Царица и молодая княжна видели
герцога сквозь смотрельную решетку33, но герцог их не
видел, ибо московиты никому не показывают своих жен и
дочерей и держат их взаперти.
Царь Борис во всем своем величии восседал на воз-
вышенном троне, за столом по правую руку от него сидел
сын его Федор, царевич московский, а рядом с ним гер-
цог; они втроем сидели за одним столом. Кругом стояли
столы, которые были ниже царского, где каждый зани-
132
мал место по своему чину, и всем гостям прислуживали
вельможи. Царь ел и пил из посуды чистого золота, также
царевич и герцог, а остальные по большей части из сереб-
ряной и угощение было чрезвычайно и великолепно, и
все веселились от полудня до ночи; в Кремле повсюду
горели огни на особо приготовленных высоких жаровнях.
Также духовенство обедало у царя — все епископы, мит-
рополиты и другие, также многие богатые купцы и ино-
земные ратники, бывшие на службе в Московии в каче-
стве дворян и придворных. Царь милостиво и долго
беседовал с герцогом о короле и других владетельных го-
сударях, трижды пил за здоровье герцога и всякий раз в
честь его снимал с своей шеи цепь и надевал на него,
пожаловав ему таким образом три цепи.
По окончании пира знатнейшие бояре по царскому
повелению проводили герцога до спальни, после того как
•он дружественно простился с царем.
16 октября 1602 года герцог Иоанн внезапно забо-
лел, что весьма опечалило придворных, царя и свиту гер-
цога, и эта болезнь оказалась горячкой и все более и бо-
лее усиливалась, так что царь весьма испугался и послал
к нему всех своих докторов, аптекарей и хирургов, нака-
зав им быть при герцоге днем и ночью поочередно и сам
посетил его 26 октября34; придя к нему, царь горько пла-
кал и сердечно жалел его, страшась, что все его намере-
ния заполучить герцога своим зятем противны воле Бо-
жией, и потому боялся несчастья.
Московитам было не по сердцу такое унижение царя,
и они в глубине души сильно роптали, некоторые тайком
говорили, что царь, посетив больного язычника, чрезвы-
чайно умалил свою честь, и полагали, что он поступил
так, лишившись разума, ибо они считают своего царя за
высшее божество. Некоторые вельможи также были весь-
ма раздосадованы тем, что иноземец и нехристь, каким
они почитают всякого иноземца, будет властвовать в их
стране и женится на царской дочери, да и они, верно,
желали ему смерти, но не смели много говорить.
Семен Никитич Годунов говорил: царь верно обезу-
мел, что выдает свою дочь за латина и оказывает такую
133
честь тому, кто недостоин быть в святой земле (так они
называют свою землю; это слово «латин» — самое презри-
тельное прозвище, каким только ругают немцев, и его
нельзя перевести на немецкий язык, чтобы можно было
его понять и постичь)35. Если бы герцог остался жив, то
Семен Никитич и многие другие поплатились бы жизнью;
но болезнь герцога все более и более усиливалась, и он
опочил 28 октября. Повсюду была о нем великая печаль, в
особенности сокрушался о нем царь и многие иноземцы,
бывшие в Москве и надеявшиеся иметь в нем доброго
господина и заступника перед царем; но я полагаю, что
московиты радовались, хотя не показывали виду. Тотчас
по кончине герцога царь отправил гонца в Данию — объя-
вить королю печальное известие, и гонца звали Рейнольд
Дрейер, и с ним вместе Юрген Бювар, а также несколько
человек из свиты герцога.
Меж тем делали приготовления к погребению и пред-
полагали похоронить его в немецкой церкви за Москвой, в
Немецкой слободе. Эта слобода, селение в расстоянии од-
ной английской мили от Москвы, расположена на реке
Яузе, впадающей в реку Москву; там жили все ливонцы,
приведенные тираном Иваном Васильевичем плененными
из Ливонии и получившие свободу, исключая выезда из
Московии, где они могли легко себе добыть пропитание. В
слободе у них была лютеранская церковь, и царь дозволил
похоронить там герцога; там был устроен хороший подвал
со сводом, чтобы поставить гроб или гробницу.
Набальзамированное тело герцога положили в дубо-
вый гроб, отделанный медью, обитый большими крепки-
ми обручами и кольцами черного цвета. И этот гроб по-
ставили на большую черную колесницу запряженную
четырьмя вороными конями, покрытыми траурными по-
понами, и так повезли к помянутому селению на реке
Яузе. Впереди вели восемь коней, один из них был покрыт
черным бархатом, другие черным сукном. Затем шли трое
дворян герцога с его тремя гербами, за ними один с ко-
роной и скипетром; далее следовали двадцать дворян, каж-
дый держал герб и зажженную свечу черного воска. После
них шло трое придворных верхом, каждый держал в руках
134
знамя с тремя гербами; далее следовало несколько чело-
век с трубами и барабанами; потом траурная колесница с
гробом, за нею шел адмирал с большим гербом Дании,
Норвегии, Виндии и Готии; за ним следовали все при-
дворные герцога, дворяне, чиновники и слуги герцога в
траурной одежде и, наконец, все иноземцы.
Царь с сыном плача провожали усопшего две улицы
по Москве и воротился, приказав всем своим боярам,
дворянам и дьякам провожать тело до церкви, где оно
будет погребено. Это приказание чрезвычайно удивило
московитов, и они не могли забыть его. После похорон
повесили все знамена и гербы в церкви, и пастор герцо-
га, по имени Иоганн Лунд, сказал надгробное слово, и
все лифляндцы, пасторы, учителя и ученики хорошо пели,
за что впоследствии были щедро пожалованы, также и
церковь их; все сие происходило в присутствии москов-
ских вельмож и бояр, смотревших на это с великим изум-
лением и отвращением. Церковь получила сверх разных
подарков две тысячи рейхсталеров.
7 мая 1603 г. Рейнольд Дрейер, отправленный в Да-
нию с известием о смерти герцога, снова возвратился в
Москву; он сказал нам, что в Дании были уверены в том,
что герцог отравлен; никто не был так опечален его смер-
тью, как его сестра, нынешняя королева Англии. Однако
то, что он якобы отравлен, недостоверно, ибо его люди
постоянно были при нем и хорошо знали, какая болезнь у
него была и как он умер в полном сознании и мог гово-
рить до самого конца36.
Герцог Иоанн был юноша высокого роста, с боль-
шим носом, красивый, благонравный и скромный. Борис
очень его любил и впал в глубокую печаль, так что едва
мог утешиться, ибо с очевидностью убедился, что Бог
всемогущий обращает в ничто все его намерения и начи-
нания; одним словом, он не знал, что ему предпринять.
Борис отправил также посольство в Грузию, страну,
расположенную между Каспийским морем и Понтом Эвк-
синским, чтобы отыскать там княжну в невесты своему
сыну, но и тут не посчастливилось. Так все, что бы ни
предпринимал Борис для обеспечения своего государства,
135
расстраивалось, и никто еще не тревожил его, и собствен-
ная совесть наполняла его страхом, и он все время боялся
несчастья.
3 июня с дозволения царя Аксель Гюльденстерн со
всей свитой отъехал в Данию, после того как всех, уча-
ствовавших в посольстве, больших и малых, щедро ода-
рили богатыми подарками и назначили к ним много при-
ставов, чтобы проводить их до моря.
Среди этих дворян некоторые весьма желали остаться
в Москве и служить царю, но царь велел им сказать, что
им надлежит сперва отъехать и предстать перед своим го-
сударем и поведать ему, как с ними обращались; затем,
если кто-нибудь захочет возвратиться и служить в Мо-
сковском государстве, то будет хорошо принят и награж-
ден. Если бы они теперь, после смерти герцога, остались в
Москве, то в Дании могли бы подумать, что их задержали
силой, поэтому они все отъехали. Впоследствии один из
них, Матфей Кнутсен, возвратился из Дании, был щедро
награжден и его произвели в ротмистры, поставив над
двумястами всадниками, и сверх годового жалованья дали
ему поместье, так что он мог жить, как господин.
В то время когда происходили описанные происше-
ствия, прибыли в Москву из Любека послы, отправлен-
ные ганзейскими городами37, чтобы просить царя и Велико-
го князя московского о дозволении торговать по-прежнему
в Новгороде, где у них до начала кровопролитных войн в
Ливонии между московитами, поляками и шведами было
складочное место. Сверх того просили они освободить их
от пошлин, от которых они прежде были избавлены; все
было им даровано царем, но пошлины они должны пла-
тить, ибо, сказал царь Борис, на них государи ведут вой-
ны, и это не нарушает царской чести. Довольно того, что
ганзейские города будут пользоваться по всей стране пол-
ной свободой как в религии, так и в торговле и во всем
прочем, так что для них безделица то, что они заплатят
право и пошлину. Согласившись на то, что им было доз-
волено, они поднесли подарки, кои были следующие:
прежде всего был поднесен двуглавый орел с большими
крыльями, держащий в лапе золотой скипетр; затем лев,
136
держащий в правой лапе меч, а в левой — державу; затем
одноглавый орел, носорог, слон, лошадь, олень, медведь,
единорог, заяц, борзая собака, лось, саламандра, дра-
кон, змея; затем изображение веры, надежды, любви, а
также Венеры и Купидона, и из каждого предмета можно
было пить, все из позолоченного серебра и сделано весь-
ма искусно, потому царь принял их ради их изящества
(иначе бы он их не принял), и все подарки несли на бе-
лых и красных покрывалах юноши, одетые в черное пла-
тье. После аудиенции послов отвели на приготовленный
для них двор и к обеду пожаловали им с царского стола
сто блюд с яствами; все блюда были из чистого золота, и
каждое блюдо нес слуга, одетый в красное платье, кроме
того множество сосудов, кубков и кружек с различными
напитками. При этом был послан один дворянин верхом
на лошади, который должен был держать к ним речь от
имени царя, уверить их в царской милости и пожелать им
всякого счастья. Далее каждодневно отпускали им, послам,
и слугам их съестные припасы, также корм для их лоша-
дей. Получив окончательный ответ и будучи освобождены
от всяких издержек, послы в сопровождении приставов
отъехали 11 июня.
Также прибыл 4 сентября в Москву посол из Пер-
сии38 для поздравления и возобновления дружбы с царем
Борисом, ибо московит и шах персидский были отменно
добрыми друзьями. Посол привез в подарок драгоценные
камни, прекрасные ковры и различные красивые камки и
парчу, также отличный бальзам в золотых сосудах и бла-
говонные коренья. Всю зиму ему оказывали царские поче-
сти, и в начале весны отправился он в сопровождении
большой свиты на судах по реке Москве и по великой
Волге к Астрахани, а отсюда на корабле по Каспийскому
морю. Этот посол также не платил издержек.
В этом месяце сентябре крепостные холопы, принад-
лежавшие различным московским боярам и господам,
возмутились, соединились вместе и начали грабить путе-
шественников. Дороги в Польшу и Ливонию сделались
весьма опасными, так как они укрывались в пустынях и
лесах близ дорог; против них царь послал отважного мо-
137
лодого человека, Ивана Федоровича Басманова, и с ним
примерно сотню лучших стрельцов, чтобы захватить тех
воров, но те воры скоро проведали о том и подстерегли
Басманова со стрельцами на узкой дороге посреди леса,
окружили и перестреляли почти всех бывших с ним. Царя
весьма опечалило, что так случилось с таким доблестным
витязем, и он повелел проявить рвение и тех разбойников
изловить, а, изловив, повесить всех на деревьях на тех же
самых дорогах39.
В конце сентября месяца почила старая царица Алек-
сандра411, вдова блаженной памяти царя Федора Иванови-
ча, сестра нынешнего царя Бориса, постригшаяся в мо-
нахини, как о том было прежде сказано. Она умерла, как
говорят, единственно от душевной скорби, ибо видела
несчастное положение страны и великую тайную тира-
нию своего брата, погубившего все знатные роды, и пред-
сказала ему много несчастий, которые падут на него. Од-
нако всегда была хорошо расположена к нему и была ему
доброй советницей, так что он был ее смертью чрезвы-
чайно опечален, но Бог всемогущий взял эту царствен-
ную жену из сей плачевной юдоли, чтобы она не видала и
не испытала приближавшегося несчастья. Ее похоронили
в церкви Вознесения в Кремле, и весь народ горько пла-
кал и выл; царь со своим сыном ехали на санях позади
гроба, провожаемого с громким воем и плачем мужчина-
ми, женщинами и детьми; и это было 27 сентября.
Все еще продолжалось бедственное время голода, как
то описано нами выше.
Борис, во всем встречая неудачу и видя в смерти гер-
цога Иоанна, сестры своей и многих других благочести-
вых людей, по большей части умерших в то время, что
Бог не посылает ему никакого счастья, но, напротив, оп-
рокидывает все его намерения, проникся страхом, впал в
отчаяние и потерял надежду, что сбудется что-нибудь по
его желанию. Однако он вознамерился испытать еще одно
средство, полагая, что, если ему будет противиться ка-
кая-нибудь партия, то он обещает одному из своих бояр
выдать за него свою дочь и дать за ней в приданое значи-
тельную часть государства, надеясь по крайности, что та-
138
ким образом он достигнет того, что сбудется по его жела-
нию. Как было сказано выше, Борис отправил в Грузию
посольство, которое выехало весной из Москвы и отпра-
вилось по Волге41.
Во главе посольства стоял Михаил Игнатьевич Тати-
щев, умный и благочестивый человек, до того бывший
ясельничим, и при нем подъячий, по имени Андрей Ива-
нов, также человек образованный и благочестивый, и
около сорока других придворных и слуг. Они ничего не
добились в Грузии, хотя долго пробыли в ней, и труд их
оказался напрасным; ибо там, где они разведывали, были
по большей части мелкие незначащие князьки, предан-
ные языческим обычаям и ведшие грубую и дикую жизнь.
Одним словом, посольство ничего не достигло и возвра-
тилось в Москву после смерти Бориса. Они взяли с собой
много дорогих подарков: меха и другие вещи, чтобы по-
чтить турецких и татарских правителей, которых они дол-
жны были посетить. Это посольство, как известно, было
отправлено для того, чтобы сыскать для царевича княжну
знатного происхождения и с достатком, чтобы приобрес-
ти в Грузии друзей, ибо Борис полагал, что если приклю-
чится какая беда, то он во всякое время найдет помощь у
татар; но и в этом предприятии он не имел успеха.
Страна, называемая московитами Грузией, лежит
между двумя морями, Каспийским и Понтом Эвксинским,
в двухстах немецких милях от Пятигорья; полагают, что
Кавказские горы находятся в Грузии. Путешествовавшие
по этой стране встретили много различных татар и мелких
князей, с коими они весьма подружились, и в бытность
свою в горах они слышали, что некоторые татары и турки
неподалеку от Каспийского моря жестоко грабят и убива-
ют тех, которые были подданными московитов. Из Астра-
хани и других мест давно уже посылали известия к мос-
ковскому двору, и Борис, для того чтобы защитить от них,
отправил 50 тысяч человек, в числе коих были также по-
ляки и ливонцы, и они по большей части погибли как от
татар и турок, так от лишений и дурных дорог, так что
немногие вернулись42. В Москве были люди, рассказывав-
шие столько о тамошней стране и народах, что с избыт-
139
ком хватило бы на несколько книг: они сказывали, что в
некоторых местах встречали людей сильных, как велика-
ны, которые никогда не расстаются с оружием, ни в поле
за плугом, ни дома, и жилища их устроены в больших
пещерах, ибо там много гор, а также весьма жарко, как
сказывали, и прекрасные долины притом, и в горах мно-
го скота, и различные племена часто нападают друг на
друга, и грабят, и никогда не живут в мире и согласии.
В некоторых местах там на Кавказе почитают имя Алек-
сандра, рассказывая, что некоторое время он стоял там
со своим войском, и там сохранились развалины стен,
сложенных из мрамора; на них весьма искусно высечены
и вырезаны греческие письмена, золотые и серебряные и
много иных подобных предметов. Также почитают они
Темирайсайха, которого считают Тамерланом. Мы уже
упоминали об этом при описании жизни тирана Ивана
Васильевича. Тот, кто сообщил нам эти известия, был в
походе поранен многими стрелами, и сообщил нам, что
он с товарищами долго блуждал, прежде чем они достиг-
ли Каспийского моря, а достигши его, странствовали еще
четыре недели, прежде чем прибыли в Астрахань. Они
питались рыбой, которую ловили, и мясом диких лоша-
дей, которых стреляли, ибо там их много; четыре недели
не видели ни городов, ни людей, но только прекрасные
зеленые поля, поросшие вереском и кустарником, а так-
же прекрасными травами, и находили там также ревен-
ный корень и многие другие прекрасные коренья, кото-
рые им были неведомы; словом, они говорили, что та
земля подобна раю.
Итак, в Москву воротились немногие, ничего не
достигнув, но потом не было слышно о турках, занятых
персидскими делами.
Ногаи, всегда платившие дань турку, отложились от
них и признали владычество московита; к ним царь тот-
час же послал одного из детей своего дяди, умного юно-
шу, Степана Степановича Годунова, с большой свитой и
богатыми подарками для старейшин ногайских и повелел
привести их к присяге, но в пути ему случилась помеха, и
он был принужден остановиться в Саратове, городе на
140
Лжедмитрий I
Волге. Туда пришли к нему многие купцы из Астрахани,
жаловавшиеся, что на Волге повсюду полно разбойни-
ков, всё казаки, которые грабят суда и убивают людей.
Того ради многие купцы с товарами, не осмеливаясь плыть
по Волге, остались в Астрахани, а те, что были в Сарато-
ве, почли за лучшее отправиться через великую степь и
так по прошествии 12 недель прибыли в Москву. Степан
Степанович не мог продолжать путь, ибо казаки возмути-
ли всю страну, то было начало пришествия Дмитрия.
В Польше знали все, что происходило в Московии;
туда бежало из Москвы также много воров, поступавших
на службу к некоторым польским вельможам, к пану Виш-
невецкому, к воеводе Сандомирскому43 и многим другим,
называть которых нет надобности В числе их был один
человек, некогда бывший в Москве служкой у одного
монаха или игумена в Чудовом монастыре; этот служка
141
был потом пострижен в монахи, и он списывал или ко-
пировал многие книги своего учителя и таким образом
достиг разумения всех тайн в государстве. Он обладал ос-
трым умом и знал все деяния Бориса, и как он, Борис,
повелел убить Дмитрия, и это убийство было затемнено
многими другими происшествиями и забыто, как о том
было довольно сказано. Все эти и подобные им дела на-
крепко запечатлелись в его памяти и, взяв то, что ему
было нужно, и похитив у своего учителя несколько тай-
ных бумаг, он бежал, нищим прошел всю страну и при-
шел в Польшу, где хорошо научился польскому языку, и
затем несколько раз побывал в Московии, то как батрак,
то как нищий странник. Также был он в Москве в 1601 г.
вместе с польским послом, заключившим мир между
Польшей и Московией на 22 года, и выдавал себя за дво-
рянина и слышал все тайны государства и узнал все, что
там происходило. С давнего времени он выдавал себя в
Польше за сына Ивана Васильевича, коего считали уби-
тым в Угличе, и умел привести многие доказательства,
рассказывая о том, как и каким способом он спасся при
помощи некоторых царедворцев, которых он мог назвать
по имени, но из коих ни одного не было в живых. Также
умел он слово в слово перечислять все обстоятельства,
ничего не упуская, как вместо него убили другого, одето-
го в его платье и совершенно на него похожего, одним
словом, он твердо стоял на своем. В Польше иезуиты; под-
вергнув его строгим испытаниям и допросам, как сказа-
но, заставили подтвердить свои слова под присягой; так-
же мог он сказать час и день своего рождения, убиения и
похорон. Он узнал это из книг и летописей своего учите-
ля, так что ему твердо верили. Пан Сандомирский и мно-
гие его единомышленники, все иезуиты известили обо всем
том с начала до конца папу, испрашивая у него совета.
Тот, по зрелому обсуждению и взвесив все обстоятель-
ства, разрешил приступить к чудесному предприятию про-
тив Московии, сперва послав в Москву своего легата, будто
для того, чтобы испросить свободный проезд через Мос-
ковию в Персию, между тем ни за чем другим, кроме как
для того, чтобы найти удобный случай разведать о стране
142
и о характере народа, его состоянии, легковерии и бедно-
сти. Получив обо всем этом обстоятельное донесение, папа
вознамерился надежными и быстрыми средствами одо-
леть и присовокупить эту страну именем Дмитрия, сына
покойного Великого князя, так как простонародье любит
смену государей и всегда надеется получить лучшего госу-
даря.
Этот Дмитрий начал чем дальше, тем больше заяв-
лять о себе и держаться все смелее, добиваясь помощи от
польских чинов и вельмож, чтобы отвоевать свой наслед-
ственный удел и наказать изменника, беззаконно овла-
девшего отцовским престолом в Москве. Сверх того он
обещал жениться на дочери воеводы Сандомирского, но
не прежде, чем займет отцовский престол, и обещал сде-
лать ее царицей московской, также искал помощи от ко-
роля и во всем ему открылся.
Из Польши тотчас же написали обо всем вышеизло-
женном императору Римскому и другим государям, так
что в том не было никакого сомнения, и Римский импе-
ратор, всегда бывший в дружбе с Московским государем,
известил его о том и увещевал его быть по крайности
предусмотрительным и осторожным и отправил к царю
великолепное посольство. Сперва прибыл в Москву, в мае
1604 г., гонец с ведомостью об отправлении посла и с
просьбой о дозволении свободного проезда к Москве и,
получив дозволение, отправился обратно.
15 июля прибыл в Москву сам посол44, человек роста
малого, но доброго разума; он был рыцарем Мальтийского
ордена. Его приняли торжественно; при нем было 30 але-
бардщиков, одетых в платье белого и синего бархата, и он
ехал на царской лошади. 19 июля он представился царю и
вручил ему свою грамоту вместе с подарками и держал
прекрасную речь, в коей просил его от имени своего госу-
даря быть предусмотрительным и осторожным, ибо сей
Дмитрий нашел в Польше много приверженцев, которые
окажут ему в походе немалую помощь и причинят государ-
ству московскому великое разорение, и поляки как извеч-
ные враги московитов не преминут нанести им много вре-
да; и еще другие подобные речи говорил посол. Борис, не
143
вняв сему, сказал, что он может одним перстом разбить
этот сброд и для этого даже не понадобится всей руки;
затем он поблагодарил императора, называя его своим бра-
том, а также повелел письменно изложить, как Дмитрий
истинно был умерщвлен и погребен, а тот, называвший
себя Дмитрием, — злодей и изменник, коему поляки спос-
пешествуют для возмущения страны. Он дал эту грамоту
послу для передачи императору, и в тот день посол со всей
свитой обедал у царя; и затем еще два раза был у него, и
после того, как его щедро одарили со всей свитой, он отъе-
хал 13 августа, будучи освобожден от всех издержек.
В Польше, однако, не угомонились; но, получив окон-
чательное согласие папы и всех иезуитов в Польше, Дмит-
рий заключил с воеводой Сандомирским договор, по ко-
ему он должен был взять в жены его дочь и сделать ее
царицей, как только займет отцовский престол на Моск-
ве. Сверх того должен был он уплатить все, что польские
паны и иезуиты из некоторых монастырей дадут ему взай-
мы. Дмитрий обещал воеводе Сандомирскому княжества
Псковское и Новгородское, сыну его — Смоленск и, да-
лее, землю Северскую. Сверх того он должен был прежде
всего обещать папе, что вся страна так скоро, как он смо-
жет, переменит религию и перейдет в римско-католичес-
кую веру, также должен был он обещать переменить все
церковные обряды и повелеть совершать их подобно тому,
как решат те, коих к тому определит папа. Кроме того,
Дмитрий обещал повелеть учредить школы в городах и
деревнях, подобно существующим повсеместно в Польше,
дабы юношество, которое в Московии воспитывают глу-
по и невежественно, было направлено на путь истинный;
одним словом, он обещал им все и твердо вознамерился
исполнить обещание, но всемогущее провидение тому
воспрепятствовало.
Вслед за тем полагали употребить все старания к тому,
чтобы в других местах склонить на сторону Дмитрия каза-
ков на реке Волге и в других местах, что весьма усилило
бы его силу и почтение к нему.
Эти казаки различных племен, из Московии, Тата-
рии, Турции, Польши, Литвы, Корелии и Неметчины,
144
по большей части московиты и говорят по-московски,
но сверх того между собой они употребляют особый
язык, который они называют «отвернина»45. Этот народ —
по большей части бежавшие от своих господ холопы,
плуты и воры, и различные бездельники, и поселяются
они главным образом в татарских степях, близ реки
Волги, также неподалеку от Дона и Днепра. Они пере-
ходят с место на место и строго соблюдают между со-
бой справедливость и добрый порядок, сами избирают
себе начальников, коим беспрекословно повинуются,
и называют их атаманами.
Эти казаки служат за деньги почти всем государям,
которые их призывают, а также и без денег, ради одного
грабежа, но впрочем прежде они почти всегда служили
московитам, когда на них нападали различные татары,
что часто случалось. Как раз в то время по допущению
Божьему казаки взбунтовались против Московии и нача-
ли грабить всех купцов, торговавших в Персии, Армении,
Шемахе и по берегам Каспийского моря, и даже убивали
многих, неизвестно за что.
К ним-то и послал Дмитрий из Польши нескольких
тайных гонцов, чтобы известить их о своем предприятии
и заверить клятвой, что он законный наследник Москов-
ского государства, и просить их о помощи, ибо его дело
правое и нет сомнения в том, что оно окончится удачно,
и тогда они все будут возвеличены за их верную службу,
которую они ему окажут.
Казаки, услышав о том, собрали сход, на который
пришло свыше восьми тысяч со своими атаманами, и зрело
рассудили об этом деле, и, наконец, порешили также
послать от себя нескольких гонцов в Польшу, дабы разуз-
нать обо всем и так ли все на самом деле, как им переда-
ли. Ежели они найдут, что он истинный Дмитрий, то по-
могут ему вступить на царство, а ежели нет, то пойдут
против него. И так как восемь тысяч казаков не могли
долго ожидать на одном месте, ибо должны были искать
себе пропитание в поле, то они не думали долго стоять и
назначили гонцам срок, и когда к условленному времени
они не воротятся, то каждый пойдет своей дорогой, но до
145
того времени все должны были оставаться на месте; и
выбрали гонцов по жребию, и они отъехали.
Прибыв в Польшу, они увидели, что они не смогут
так скоро воротиться к своим товарищам, чтобы поспеть
к сроку, и отправили к ним несколько человек с извести-
ем для своих товарищей и с просьбой прибавить к тому
положенному сроку еще четырнадцать дней, полагая, что
тогда они смогут прибыть с самыми полными сведения-
ми, что они и исполнили.
В Польше, невзирая на самые прилежные розыски,
они не сумели узнать ничего другого, кроме того, что то
был истинный Дмитрий, сын Ивана Васильевича, коего
считали убиенным в Угличе. Видя, что некоторые паны
уже делают великие приготовления к войне, казаки при-
знали Дмитрия своим государем46, предложили ему свою
службу и тотчас стали величать его царем и Великим кня-
зем московским. Отъехав к своим товарищам, они объя-
вили им обо всем, и тогда все пристали к нему, Дмит-
рию, и двинулись всем войском к московской границе, к
Чернигову, на который они прежде всего напали и овла-
дели им и связали воеводу по рукам и по ногам, крича по
всей стране: «Да хранит Бог здравым царя нашего Дмит-
рия Ивановича всея Руси». Это было началом войны, при-
близительно в октябре месяце 1604 г.
Овладев также тамошним большим монастырем и
всеми окрестными местами, казаки тотчас двинулись на
Путивль, город весьма населенный и ведший торговлю в
той области; этот город тотчас покорился Дмитрию; и
повсюду шумели и кричали и провозглашали его царем.
Там почти всю зиму была его резиденция, а также весь
его военный совет, все его военные и съестные припасы;
сюда же приводили изменников и перебежчиков, и там
были право и суд и все управление Дмитрия.
Борис, получавший все известия об этом Дмитрии,
как о том довольно было рассказано, не знал покоя в еще
большей степени, нежели прежде, до появления извес-
тий о Дмитрии, и воображение, каким он мучил самого
себя, происходило от беспокойной совести. Однако Бо-
рис не помышлял, что так скоро придется сражаться,
146
полагая, что для приведения в исполнение такого пред-
приятия понадобится еще некоторое время, также пола-
гал, что по крайности польский король как-нибудь упре-
дит его. Но так не случилось, что весьма удивило его и
повергло в великий страх, и он повелел пустить в народ
доносчиков, и когда находили кого, кто произнес имя
Дмитрия, того предавали жалкой смерти вместе со всеми
его родственниками, женой и детьми.
День и ночь не делали ничего иного, как только пы-
тали, жгли и прижигали каленым железом и спускали
людей в воду, под лед. Одним словом, бедствия были не-
померно велики, страна была полна дороговизны, безу-
мия, поветрий, войн и беспокойной совести, ибо никто
не смел сказать правду, и тот, кто имел врага, должен
был трепетать, ибо всякий мог оклеветать другого одним
словом, и того губили, не выслушав. Никто не мог видеть
царя, скрывавшегося во всякое время, и когда он в неко-
торые праздничные дни выходил, то челобитчиков отго-
няли палками. Все приказные были воры, никому не ока-
зывавшие справедливости, так что бедствие было повсюду.
Борис тотчас разослал повсюду людей узнать о начале
возмущения и велел разгласить по всей Московии, что
шайка бунтовщиков казаков возмутилась и напала на Се-
верскую землю, и тотчас повелел всем воеводам готовить-
ся к походу и по всем областям собирать ратных людей,
также монастыри были обязаны выставить многолюдное
войско, так что скоро было собрано до двухсот тысяч рат-
ников. Воеводами были посланы следующие князья и боя-
ре, все из родственников царя Бориса: князь Иван Ива-
нович Годунов, князья Василий и Дмитрий Ивановичи
Шуйские, князь Василий Голицын, князь Василий Моро-
зов, князь Андрей Телятевский, Петр Басманов и Михаил
Салтыков47.
Названные князья (ибо князь означает герцог) и бо-
яре были главными начальниками войска; далее следова-
ли также все ротмистры, капитаны и другие начальники,
большей частью служившие при дворе и ранее прославив-
шиеся. Впоследствии из Москвы был послан князь Федор
Иванович Мстиславский, знатный боярин, состоявший в
147
родстве с царским домом, родом из Венгрии; он всегда
был человеком благочестивым, и его употребляли во всех
войнах, так же как и его отца. Борис всегда старался погу-
бить его, ибо желал того, когда казнил родовитых людей,
но Мстиславского ни в чем не могли обвинить, так бес-
порочно он жил, а также весьма скромно, ибо холопы его
жили лучше, чем он сам. Борис запретил ему жениться,
чтобы он не имел наследников, и он умер бездетным;
также приказал Борис его сестру, красивую девушку,
насильно заточить в монастырь и постричь в монахини,
чтобы она не вышла замуж. Этого Мстиславского царь
Борис избрал главным воеводой и обещал ему выдать за
него дочь свою и дать ей в приданое царство Казанское и
все царство Сибирское, ежели он одержит победу над
Дмитрием, одолеет его и умертвит; и Мстиславский обе-
щал употребить все старания и пребывать верным до гро-
ба и так отъехал к войску.
Весь народ в Московии уже хорошо знал, что причи-
ной этой войны были казаки, но все по всей стране, а
также в московском войске звали Дмитрия расстригой,
ибо говорили, что он, будучи монахом, сам сбросил с
себя монашескую рясу и расстригся, и говорили, что он
изменник и что он должно быть чародей, продавший себя
дьяволу. Одним словом, давали ему еще много подобных
прозваний, как то проставлено во многих грамотах, как
услышим о том, и звали его не иначе, как расстригой.
Борис послал толмача или немецкого переводчика,
по имени Ганс Ангеляр, в Швецию, Германию и другие
государства, чтобы разведать, что говорят об этом Дмит-
рии и какого держатся о сем мнения и, для крайности,
поискать какого-нибудь принца, который бы принял на-
чальство над московским войском; но этот Ганс Ангеляр
не возвратился из Швеции, и полагают, что король Карл
заточил его в темницу и казнил неведомо за что.
Также к польскому королю царь Борис отправил по-
сла, коего звали Посником Огаревым, с подьячим Заха-
рием Языковым с грамотами, в которых написано, что
московиты не могли и думать, что король, так мало доро-
жа своей клятвой, нарушит ее, чтобы подать помощь не
148
законному врагу Московии, но предательскому монаху и
чародею, которого диавол подстрекнул возмутить народ.
Кроме того, вопрошали короля вторично, не он ли за-
ключил прочный договор с московитами на двадцать два
года, дабы жить в мире, а не подавать помощь кому-ни-
будь, кого Московия считает своим врагом, доказывая
ему, королю, изустными речами и в письме, что Дмит-
рий давно мертв, также как он был убиен и каким обра-
зом, но не сказали, что он, Борис, был тому виновник.
Король в свое оправдание отвечал: ежели то истин-
ный Дмитрий, как меня уверяли великими клятвами, то
всемогущий Бог поспешествует его правому делу, а ежели
он не Дмитрий, как говорите вы, то царство его не усто-
ит, но только будет карой всемогущего Бога. Сверх того
король отвечал, что он ни помощи, ни заступления Дмит-
рию не подавал, и приводил имена всех, кто Дмитрию
поспешествовал и оказывал заступление (то были воль-
ные паны); сверх того он, Дмитрий, сам привлек к себе
казаков, так что мы, поляки, в этом деле не повинны, но
остаемся, как прежде, друзьями московита до тех пор,
пока он не подаст причины расторгнуть дружбу. С этим
ответом они, послы, удалились.
Дмитрий, или расстрига, как его именовали в Моск-
ве, одерживая победы, быстро продвигался вперед и про-
шел волость, называемую Комарицкой, землю весьма
плодородную, богатую хлебом, медом и воском, также
льном и коноплей и населенную богатыми крестьянами.
Войско Дмитрия не причинило этой волости ни малей-
шего урона; он брал только то, что крестьяне приносили
ему от щедроты. Видя, что он вступил в их землю как
враг, чтобы завоевать Московию, дивились тому, что он
никому не причинял вреда, но защищал всех, и полага-
ли, что он доподлинно законный наследник престола, ибо
кто другой стал бы так щадить их земли, кроме законного
наследственного государя. Но, увы, они не помыслили о
том, что он, Дмитрий, так поступал, дабы привлечь к
себе их сердца, и когда они видели, что московское вой-
ско, куда бы оно ни пришло, опустошает всю страну, не
щадя никого из своего народа, который они должны были
149
защищать и охранять от нападения неприятеля, перехо-
дили на сторону Дмитрия сотнями и признавали его за-
конным своим государем.
Услыхав, что Дмитрий прошел волость Комарицкую и
все жители перешли к нему и присягнули ему, Борис при-
звал к себе касимовского царя Симеона, который был
сыном заря казанского, как о том сказано при описании
жизни тирана, и был женат на сестре главного воеводы
Мстиславского. Этому Симеону Бекбулатовичу как пове-
лителю всех касимовских татар велено было собрать все
свое войско, которое составило до сорока тысяч конных
татар. Борис повелел ему напасть с этим войском на Кома-
рицкую волость и все разорить, пожечь и истребить; да и
повелел всех мужчин, подвергнув ужаснейшим пыткам,
умертвить, также старух, а молодых женщин и детей пове-
лел он пощадить и взять на вечное рабство к себе в Тата-
рию, что и было исполнено, ибо татары на это мастера; им
последовали также некоторые московиты и другие, и они
так разорили Комарицкую волость, что в ней не осталось
ни кола, ни двора. Они вешали мужчин за ноги на деревья,
а потом жгли, женщин, обесчестив, сажали на раскален-
ные сковороды, также насаживали их на раскаленные гвозди
и деревянные колья, детей бросали в огонь и воду, а моло-
дых девушек продавали. Чем больше мучили людей, тем
более они склонялись признать Дмитрия своим законным
государем, и никакие пытки не могли заставить их отсту-
питься от него; они оставались верны ему, и чем дальше,
тем более упорствовали. Увидев и услышав это, жители
окрестных мест стали думать: ежели наши соотечественни-
ки и наши правители в Москве так с нами обходятся, то
нам лучше скорее перейти к Дмитрию, который будет нас
защищать; и присягали Дмитрию все, кто только мог придти
к нему или добраться до его стана, и никто не хотел слы-
шать о Москве. Московское войско ничего не могло дос-
тичь и только всю зиму грабило и разоряло, тогда как вой-
ско Дмитрия подвигалось все далее и далее без остановки,
занимая все, что оно могло захватить.
Борис часто совещался с епископами и монахами, коим
он более всех доверял, но они не знали, что предпринять,
150
хотя употребляли все средства, чтобы захватить изменников
и погубить Дмитрия. Борис был в таком отчаянии, что, зная,
что истинный Дмитрий мертв, не доверял сам себе и часто
терял рассудок. Он спрашивал у многих, однако, не назы-
вая себя: может ли человек, совершивший то, что он совер-
шил, спасти себя, а когда отвечали: да, ежели такой чело-
век придет к покаянию и будет молиться об отпущении
грехов, исповедуясь в них, то он, Борис, возражал, что это
невозможно, и, сомневаясь в Божьем милосердии, он иногда
думал, что в будущей жизни нет блаженства — одним сло-
вом, был исполнен безумия.
Также ходил он часто к ворожее, которую в Москве
считают святой и зовут Елена юродивая. Она живет в под-
земелье подле одной часовни, с тремя, четырьмя или
пятью монахинями, кои находятся у нее в послушании, и
живет она весьма бедно. Эта женщина обыкновенно пред-
сказывала будущее и никого не страшилась, ни царя, ни
короля, но всегда говорила все то, что должно было, по
ее мнению, случиться и что подчас сбывалось. Когда Бо-
рис пришел к ней в первый раз, она не приняла царя, и
он принужден был возвратиться; когда он в другой раз
посетил ее, она велела принести в пещеру короткое четы-
рехугольное бревно, когда это было сделано, она призва-
ла трех или четырех священников с кадилами и велела
совершить над этим бревном отпевание и окадить его ла-
даном, дав тем уразуметь, что скоро и над царем Борисом
совершат то же самое. Царь более ничего не мог узнать от
нее и ушел опечаленный.
Войско Бориса, хотя и весьма многолюдное, ничего
не достигало тем, что жгло и палило имение своего же
народа и казнило перебежчиков, сверх того совершая в
разные стороны походы, что недостойно описания. Когда
же Дмитрий затворялся в крепости, они, московиты, об-
лагали ее кругом, ничего не предпринимая, и допускали
его вновь что-нибудь отвоевывать. Также толпами перехо-
дили московиты на сторону Дмитрия, а среди них много
господ и несколько дьяков, в том числе и князь Василий
Михайлович Мосальский, до конца оставшийся верным
Дмитрию, также Михаил Глебович Салтыков, который
151
трижды перебегал из одного лагеря в другой, смотря по
тому, где видел выгоду, пока наконец не был заключен в
темницу. Из Москвы к войску отправили с деньгами Бог-
дана Ивановича Сутупова, и он бежал с ними в лагерь
Дмитрия и доставил те деньги в Путивль, бывший тогда
стольным городом всей земли, которой завладел Дмит-
рий. Он уже завоевал и снабдил сильным гарнизоном сле-
дующие города: Брянск, Рыльск, Чернигов, Карачев и
многие другие, и сверх того намеревался завоевать Север-
скую землю с главным городом Новгород-Северским; и
эта богатая страна изобилует различными хлебами, ско-
том, медом, льном, мехами, воском и салом. Московиты
весьма страшились за эту землю и послали туда доблест-
ного витязя Петра Федоровича Басманова с войском. Он
вступил в Новгород-Северский и, укрепив его со всех сто-
рон, засел в нем, но не имел времени запастись съестны-
ми припасами, так как подоспел неприятель и город об-
ложили со всех сторон поляки и казаки, и это случилось
зимой.
Дмитрий, видя, что, для того чтобы продвинуться
вперед, ему прежде всего надобно напасть на Северскую
землю, которая по своему плодородию и по обилию до-
рогих мехов была одной из лучших областей Московии,
как то было изложено выше, вознамерился сам предпри-
нять поход к Новгород-Северскому, оставив в Путивле
тех, коим более всего доверял, и укрепить также все горо-
да, коими он владел, хорошо защитив их от всякого на-
падения; и подступил с отрядом к Новогород-Северско-
му, где стояло войско Петра Басманова.
По прибытии туда Дмитрий нашел, что некоторые
польские капитаны, дворяне и всадники, придя в уныние,
говорили, что невозможно завоевать такую страну, равную
целому миру, ибо у них для того так мало силы и войска:
«Ежели мы не можем взять такого маленького городка и
каждодневно ожидаем нападения большого московского
войска, то что будем делать, когда подступим к большим
городам? Все, что мы приобрели до сих пор, отпало к нам
по большей части само; сверх того мы ссудили его всем без
малого вероятия что-либо вернуть», и приводя еще другие
152
подобные жалобы, впадали в совершенное уныние. Дмит-
рий был весьма опечален, смиренно просил их не прихо-
дить в уныние и не впадать в трусость, а по его примеру не
щадить своей жизни, ибо он надеется еще в скором времени
сесть на царский престол в Москве. Он просил их не поки-
дать его, потому что впоследствии они воспользуются пло-
дами трудов своих; он снял со своей шеи цепи и раздарил
их некоторым, так что ему удалось убедить их. Они снова
были готовы подвергнуть свою жизнь опасности и обложили
Новгород-Северский со всех сторон как можно теснее, так
что и сам Басманов принужден был есть конину. Однажды
Басманов показал вид, что вознамерился сдаться и отворил
ворота, как будто пал духом и считал все потерянным, и
приверженцы Дмитрия тотчас же со всех сторон устреми-
лись в город. Но едва часть их вступила в город, как из до-
мов, находившихся неподалеку от городских ворот, начали
стрелять в тех, которые проходили, так что они тотчас от-
прянули, и ворота за ними были заперты; те же, что вошли,
по большей части полегли мертвыми; меж тем некоторые
вышли из города и напали на неприятельский лагерь и во-
ротились с большой добычей, пройдя другими воротами. Уди-
вительно, что Дмитрий в то время находился в другом мес-
те, и когда он прибыл туда, к месту сражения, все было
кончено. Этот подвиг был приписан Басманову, и он был
высоко прославлен как Борисом, так и народом; и это слу-
чилось 21 декабря. День спустя к Новгороду подступил князь
Федор Иванович Мстиславский с войском в сто тысяч че-
ловек, дабы окончательно погубить или прогнать Дмитрия,
и лагерь Дмитрия был обложен кругом: с одной стороны
войско Мстиславского, и с другой стороны город, — так что
страх обуял тогда войско Дмитрия. Но ради его великой храб-
рости оно обрело мужество, и пока московиты готовились к
бою, Дмитрий, самолично водительствуя войском, напал
на неприятеля и обратил его в бегство и так одержал побе-
ду; сверх того Мстиславский был тяжело ранен, но впос-
ледствии выздоровел.
По окончании битвы Дмитрий едва мог освободиться
от копья, ибо оно словно приросло к руке, чему многие
удивлялись.
153
Тогда же отъехали от него некоторые поляки, сетуя
на недостаток в деньгах и потеряв надежду завоевать Мос-
ковию; не веря, что они могут сражаться с таким вой-
ском, как могли они думать о том, что завоюют страну.
Однако, по великим мольбам и просьбам Дмитрия, мно-
гие поляки остались при нем, и все казаки бодро стояли
за него до самого конца и не помышляли покинуть его,
как подобало доблестным воинам, каковыми они и были
на самом деле.
Меж тем в Москву прибыло много раненых и из
Москвы послали докторов, аптекарей и хирургов к вой-
ску для лечения больных и раненых. Приверженцы Дмит-
рия взяли измором Новгород-Северский, оставили силь-
ный гарнизон и двинулись дальше48. Дмитрий отправился
в Путивль по каким-то делам и потому не дозволил вой-
ску что-либо предпринимать без него.
В 1605 г. 1 января в Москву открыто привезли пленни-
ков, как поляков, так и казаков, со значками и оружием,
чтобы народ в Москве видел, что московское войско одер-
жало победу (хотя она была ничтожна) — и не падал ду-
хом, ибо, как я полагаю, Борис страшился, как бы в
Москве не поверили, что то истинный Дмитрий и не при-
стали к нему. Того ради повелел он часть пленников при-
возить в Москву днем, так что, говорят, привезли однаж-
ды пятьсот пленников, и передавали другие подобные
бредни.
В другой раз Борис, послав грамоты из Москвы, по-
велел, чтобы в Северской земле никого не щадили, но
поступили с народом, как в Комарицкой волости, как о
том было выше изложено, что и было исполнено, но столь
бесчеловечно, что всякий, слышавший о том, содрогал-
ся, так много должно было погибнуть невинных людей.
Женщин, девушек и детей обесчещивали до смерти, а тех,
что оставались в живых, продавали за старое платье или
за полштофа водки или за другие какие, столь же ничтож-
ные вещи. Награбленного было так много, что не знали,
куда девать, так как земля Северская была богата, и Дмит-
рий ни у кого ничего не отнимал, а оставлял каждому
свое, почему народ так предался к нему. Когда московиты
154
начали чинить жестокую расправу, то к Дмитрию стало
предаваться еще больше людей, не желавших и слышать о
своем царе Борисе в Москве, и оставались верны до са-
мой смерти и претерпевали все мучения и пытки, всечас-
но утверждая, что он истинный Дмитрий, так что некото-
рые, которые никогда не видели его, невзирая на пытки,
не отступались от своих слов.
В тот месяц ночью слышали вокруг Москвы страш-
ный вой волков, которые бродили по окрестностям и так
выли, как будто их было целое войско. Также поймали у
кремлевского рва, в самой середине города, несколько
лисиц, забежавших из леса за рекой, одним словом, тог-
да повсюду совершалось много чудес.
Пока Дмитрий находился в Путивле, некоторые из
его приверженцев засели в завоеванных городах, другие
еще держали осаду и перебранивались с московитами,
которые называли приверженцев Дмитрия изменниками,
служившими расстриге, а приверженцы Дмитрия называли
московитов изменниками и плутами, говоря: «Мы служим
законному, наследственному государю страны, которого
изменник Борис считает убитым, но он по чудесному
промыслу Божию остался в живых. Когда бы мы достовер-
но не знали того, чего ради пошли бы мы войной на сво-
их соотечественников и, будучи рождены в одной стране,
под одним государем, стали бы сражаться со своими со-
братьями», и говорили, что то поистине законный Дмит-
рий, и заверяли в том страшными клятвами, так что дос-
тигли этим того, что с каждым днем все более и более
людей передавалось Дмитрию, и московитам не помогали
ни поджоги, ни казни, ни убийства.
10 января означенного года большое войско москов-
ское под начальством главных воевод стояло у Добрынич,
большой деревни на прекрасной равнине, где было также
много холмов, из коих некоторые были довольно высоки.
В тот день рано утром выехали четыре тысячи всадников
на поиски добычи, которую могли найти, будь то овес,
сено или солома для лошадей, и едва отъехали на три
мили, как на них напал из-за кустов отряд польских всад-
ников так стремительно, что московиты были приведены
155
в великое замешательство и обратились в бегство. Около
пятисот московитов полегло на месте, остальные же по
большей части спаслись бегством, ибо их долго не пре-
следовали.
Московиты не предполагали, что неприятель стоял
так близко, но думали, что он по крайней мере в тридца-
ти милях от них, как они о том слышали от лазутчиков.
Бежавшие после этого поражения московиты захватили
одного поляка и привели в лагерь; он был пьян и просил
только о том, чтобы ему дали еще вина, и обещал от-
крыть важные тайны о войске Дмитрия, когда ему дадут
две или три чарки вина. О том донесли одному из воена-
чальников, который запретил давать ему вино и велел
стеречь его, пока он не проспится, полагая тогда допро-
сить его. Но этот боярин не знал пословицы «что у трезво-
го на уме, то у пьяного на языке», ибо тот пленник лег
спать и более не вставал, но умер по промыслу Божию; и
когда бы его допросили пьяным, то без сомнения полу-
чили бы от того выгоду. Даже, как некоторые утверждают,
могли бы захватить самого Дмитрия; но это не удалось.
Дмитрий, возвратившись из Путивля, почел за лучшее
выступить в поле и дать сражение московитам, дабы видели
его продвижение вперед, ибо Московия так велика, что не
везде слышали об его завоеваниях. Сверх того он довольно
был уверен, что жители завоеванных им местностей будут
некоторое время держать его сторону, ибо они были ожес-
точены против приверженцев Бориса. Собрав все войско, он
двинулся и стал в трех милях от московского лагеря, у Доб-
рынин, и здесь воины Дмитрия, уверенные в победе, про-
пивали свое добро и бражничали. 20 января они ночью сня-
лись с лагеря всем войском, среди них был сам Дмитрий,
князь Василий Масальский и дьяк Богдан Сутупов, перебе-
жавший к Дмитрию от московитов, как о том было выше
рассказано, также все польские паны и дворяне, всегда на-
ходившиеся при нем, одним словом, все, кроме тех, кото-
рые были в гарнизоне.
Московиты были хорошо осведомлены лазутчиками
о приближении войска Дмитрия, но полагали, что оно
подойдет только на другой день, и потому, получив о нем
156
известие, напугались и стали поспешно готовиться к обо-
роне, не соблюдая никакого порядка. Они разделили все
войско на три отряда, не устроив ни правого, ни левого
крыла, а также не составив запасного войска, на которое
можно было бы рассчитывать во время битвы, но стояли,
как коровы, объятые страхом. Немцы и ливонцы, бывшие
в войске Бориса, сплотились, и капитаном над ними был
Яков Маржерет, француз, и они первыми напали на не-
приятеля и завязали схватку.
Меж тем Дмитрий приближался, однако всего войска
еще не было видно, ибо оно было укрыто за многочислен-
ными холмами и стояло там, чтобы не знали, сколько у
него воинов. Он разделил их на несколько отрядов, но сперва
открыл только три отряда, каждый в две тысячи ратников;
им велел он выступить из-за высокого холма, так, чтобы
обойти войско Бориса. Всадники весело трубили в трубы и
играли на дудках и свирелях, и польские капитаны храбро
объезжали ряды, ободряя войско, и горячили лошадей,
кричали и горланили так, словно уже одержали победу.
Московиты стояли неподвижно, но когда три помянутых
отряда вышли из лощины, то немцы, состоявшие в мос-
ковском войске, ударили на них и почти все выстрелили в
них. За немцами последовало триста или четыреста моско-
витов, вступивших в схватку, меж тем из-за гор и холмов
показалось шестьдесят или семьдесят мелких отрядов, ко-
торые без всякого промедления с великим шумом, труба-
ми, литаврами и криками напали на московитов и обрати-
ли в бегство все московское войско, ибо московиты не
подозревали, что кроме тех трех отрядов, что они видели,
есть еще войско. Когда они вдруг приметили все эти отря-
ды, то ими овладел страх, и когда поляки сразу ворвались
в середину московского войска, то один немец, служив-
ший под начальством капитана Маржерета, Арендт Клас-
сен — он жив и поныне — закричал, что надобно ударить
на поляков, ибо они, возомнив, что одержали победу, со-
всем расстроили свои ряды, и их еще можно разбить. Он
закричал о том Ивану Ивановичу Годунову, предводитель-
ствовавшему авангардом, но Годунов не услышал; он си-
дел на лошади, оцепенев от страха, и ничего не видел и не
157
мог двинуться ни взад, ни вперед, так что его можно было
одним пальцем столкнуть с лошади.
Итак, поляки пробились к деревне Добрыничи, и мос-
ковские стрельцы числом шесть тысяч сложили шанцы из
саней, набитых сеном, и залегли за ними, и как только
поляки вознамерились пробиться вперед, стрельцы из-за
шанцев выстрелили из полевых пушек, которых было до
трехсот, и затем открыли пальбу из мушкетов, и это на-
гнало на поляков такой страх, что они в полном беспо-
рядке обратились в бегство. Московиты, тотчас собрав-
шись с силами, пустились их преследовать и гнали поляков
добрых две мили, убивая всех, кого настигали, так что
всю дорогу поместили трупами.
Дмитрий с несколькими отрядами оставался в ло-
щине, намереваясь довершить с ними победу, но, уви-
дев бегущих назад поляков, едва сам мог спастись, ибо
вороная его лошадь была подстрелена, и князь Василий
Масальский, тотчас соскочив со своего коня, посадил
на него Дмитрия. Сам же Масальский взял лошадь у сво-
его конюха, и так они чудесным образом ушли от не-
приятеля, и за свою верность Масальский впоследствии
был высоко вознесен Дмитрием, как о том мы еще ус-
лышим.
Во время преследования пятьсот поляков задержались
возле двух пушек, брошенных в поле, и почти все полег-
ли вокруг них, ибо на них напало множество московитов,
и если бы продолжали погоню, то, как справедливо пола-
гают, захватили бы самого Дмитрия, но им через послан-
ных вслед гонцов было велено вернуться к войску, так
что они все к вечеру возвратились. В московском лагере
было великое ликование, и каждому дали на память золо-
тую монету, как то у них в обычае.
У московского войска нет труб и бывает не более трех
стягов, которые так велики и тяжелы, что их надо везти
на конях, и на этих стягах изображены Богородица, св.
Николай и многие другие предметы, великолепно выши-
тые золотом и жемчугами, и сверх того у них ничего нет,
кроме литавров, которыми собирают войска. Одним сло-
вом, московиты не умеют вести иной войны, кроме как
158
наудачу, или с многолюдным войском, или против не-
знающих порядка татар.
Когда во время погони за поляками московиты пой-
мали одного трубача, то догола ограбили и так привели в
свой лагерь и, посадив его нагого на пушку, глумились и
потешалась над ним, и когда разглядели его, оказалось,
что то был трубач, служивший в их войске, из немцев,
которые также преследовали врага.
Также один шотландец, который был в московском
войске и, преследуя врага, захватил польское знамя и,
вместо того чтобы влачить за собой или свернуть, высоко
держал его в руке, продолжая скакать за неприятелем, и
того ради его соратники, принимая его за польского зна-
менщика, стали стрелять в него и наносить ему удары, и
еще удивительно, что ему удалось спастись, когда он бро-
сил знамя. И подобные нелепицы случались часто, отсю-
да можно заключить, как они умеют вести войну.
Также убивали они друг друга из-за добычи, как со-
баки, и в этой битве полегло до шести тысяч московитов
и восьми тысяч поляков, хотя и разглашали о том, что их
погибло больше; и когда бы они преследовали поляков
далее, то перебили бы их почти всех, а также захватили
бы Дмитрия, который был неподалеку.
После этой победы главный воевода Мстиславский
повелел всех пленных, которые были казаками из Мос-
ковии, рубить саблями, вешать на деревьях, расстрели-
вать и некоторых спускать под лед. Пленных поляков вместе
с отбитыми знаменами, трубами и барабанами отправили
в Москву, также и копье Дмитрия, найденное на том
месте, где была убита его лошадь, и это копье было позо-
лочено и снабжено тремя белыми перьями и было до-
вольно тяжело. С пленными послали к царю молодого дво-
рянина49, с просьбой к царю наградить его, ибо в одном
сражении с приверженцами Дмитрия он спас от смерти
воеводу; и я видел, как все это было привезено в Москву
8 февраля.
Меж тем Дмитрий съездил в Путивль, где собрал
много денег, как с завоеванных городов, так и с Кома-
рицкой волости, также прислали к нему много людей и
159
денег из Польши, и он ободрился и мог выступить в по-
ход с отличным войском.
Борис каждодневно отправлял к московскому войску
все более и более ратников, которые во множестве прохо-
дили через Москву, как мы сами видели, также и монас-
тыри выставили большое войско. Сверх того города Тоть-
ма, Устюг, Холмогоры, Вычегда и другие у Белого моря,
до того времени бывшие свободными, должны были вы-
ставить ратников, так что каждодневно отправляли в поход
великое множество людей, хотя этим ничего не достигли.
14 февраля прибыли в Москву Петр Федорович Бас-
манов и князь Никита Трубецкой, и их торжественно вез-
ли на царских санях и лошадях за их отвагу и стойкость
под Новгород-Северским, как о том было сказано выше.
Царь пожаловал им дорогие подарки и поместья, и они
оставались в Москве до самой смерти Бориса. Дмитрий,
снова выступивший в поход с большим войском, пресле-
довал московское войско, дабы вновь напасть на него, с
большей осторожностью, нежели у Добрынич.
Войско Борисово то здесь, то там становилось, ничего
не предпринимая ни в открытом поле, ни против городов,
взятых Дмитрием. 14 марта оно остановилось на равнине,
окруженной большими болотами, в то время промерзши-
ми; там была гора, на которой расположена деревянная
крепость, называемая Кромы, внутри которой было не-
сколько домов. К этим Кромам на гору вела летом только
одна тропа, и то весьма узкая, ибо кругом стояли болота. В
эту крепость прибыл один ротмистр из числа немецких
военачальников, живших в городе Туле, по большей части
ливонцев, пленных немцев и курляндцев, и его звали Лас
Вейго. Он водрузил на крепости знамя и занял ее своим
отрядом. Главный воевода князь Федор Иванович Мстис-
лавский повелел ему оставить крепость, сжечь ее и возвра-
титься к войску; и никому не ведомо, какая была к тому
причина.
Итак, войско Дмитрия шло вслед за московским, и
впереди шло две тысячи казаков, все пешие, у каждого
была большая длинная пищаль. Завидев издали москов-
ский лагерь, тотчас отрядили гонца к Дмитрию с извес-
160
тием и, заметив, что Кромы горят и что московиты ос-
тавляют крепость и возвращаются к своему войску, пола-
гали, что необходимо и полезно занять это место, ибо
отлично знали, что оно по природе своей летом неприс-
тупно, и с великим проворством и быстротою заняли
Кромы, и московиты не причинили им никакого вреда
ни стрельбой, ни чем другим. Казаки, заняв гору, тотчас
вырыли у крепости землянки и вокруг нее ров, так что
засели в земле и никого не боялись. Предводителем этих
казаков был Корела, шелудивый маленький человек, по-
крытый рубцами, родом из Курляндии. За свою великую
храбрость Корела еще в степи был избран этой партией
казаков в атаманы, и он так вел себя в Кромах, что вся-
кий, как мы еще увидим, страшился его имени.
Этот Корела, находясь в Кромах, помышлял о том,
чтобы удержать крепость, и послал известить обо всех об-
стоятельствах Дмитрия и просил прислать людей и при-
пасов, что часто пополняли с великой отвагой и провор-
ством. Казаки полагали, что московское войско, постояв
так всю зиму или до весны, само расстроится и погибнет;
4 а Дмитрий меж тем отлично устроил и укрепил со всех
сторон лучшие города и каждодневно посылал распоря-
< жения из тех мест, где находился, чтобы снабжали осаж-
денных в Кромах всем необходимым. Он изыскивал со
своими друзьями средства, как расположить к себе сердца
московитов, и часто писал письма, посылая их к народу в
Москве с гонцами; то были смельчаки, которые не вер-
нулись обратно, ибо Борис на всех перекрестках поставил
людей, которые подстерегали их и тотчас же вешали. Так-
же много писал писем Дмитрий к московскому войску и
к воеводам, Мстиславскому и другим. Но не к Годуно-
вым, принадлежавшим к дому Бориса, и Дмитрий назы-
вал их изменниками и губителями отечества.
Письма к Борису были следующего содержания: ког-
да он оставит царский престол, коим завладел неправ-
дой, то ему будет оказана милость; сверх того Дмитрий,
истинный сын покойного царя и Великого князя Ивана
Васильевича, еще пожалует его царскими поместьями,
дабы мог он в них жить со своим сыном по-царски, и
6 Зак. 1918
161
другие подобные обещания. Но Борису было тяжело оста-
вить престол и передать его тому, кого он никогда не знал
и не видал, и он послал ему много ругательных писем, в
которых называл его чертовым сыном, крамольником,
чародеем и давал ему еще многие иные подобные прозви-
ща и ничего не хотел слышать.
Письма Дмитрия к Мстиславскому были весьма лю-
безны и дружественны, со многими доказательствами того,
что он истинный царевич, в чем не может быть никакого
сомнения. Сверх того он объявлял прощение всем воена-
чальникам, которые действовали против его особы, ибо
они поступили по присяге, данной им Борису, затем дру-
жески просил их верить его письмам. Все это было на-
прасно, но после достоверно узнали, что некоторые из
военачальников переписывались с Дмитрием, так что он
знал все их действия и обстоятельства. К Годуновым, при-
надлежавшим к роду Бориса, Дмитрий не писал, ибо счи-
тал их предателями отечества, говоря, что они послужили
причиной всех бедствий.
Дмитрий часто повелевал отправлять из Кром воззва-
ния к московскому войску и подбрасывать в народ пись-
ма, в коих увещевал их: «Не стыдно ли вам, люди, быть
такими пентюхами и не замечать, что служите изменнику
отечества, чьи деяния вам хорошо ведомы — как овладел
он короной и какому утеснению подверг он все знатные
роды, — моих родственников, полагая, что, когда изведет
их, то будет жить без печали». Также говорил он: «По-
ставьте меня перед Мстиславским и моей матерью, кото-
рая, я знаю, еще жива, но терпит великое бедствие под
властью Годуновых, и коли скажут они, что я не истин-
ный Дмитрий, то изрубите меня на тысячу кусков». Таки-
ми и многими другими подобными речами привлек он к
себе сердца почти всего народа. Даже все военачальники,
не принадлежавшие к родне Бориса, хорошо знавшие все
деяния Бориса и каков он был, частенько помышляли:
«О, когда бы Дмитрий был нашим царем», ибо взирали
на него, как на восходящее солнце, хотя и не верили, что
он законный наследник, но не смели утверждать сего и
многие каждодневно перебегали к нему.
162
И все это время стояли под Кромами, где было не
более четырех тысяч человек, и московское войско на-
считывало добрых триста тысяч человек, ибо к нему каж-
додневно прибывала подмога. Каждый божий день двести
или триста пеших казаков с длинными пищалями делали
вылазки из Кром, выманивали из лагеря некоторых охот-
ников добыть себе чести, полагавших, что они верхами
настигнут казаков. Но казаки, столь искусны в стрельбе
из мушкетов и длинных пищалей, что не давали промаха
и всегда подстреливали всадника или лошадь, и так каж-
додневно клали мертвыми тридцать, пятьдесят, шестьде-
сят воинов из московского войска, среди коих было мно-
го молодых, красивых дворян и были люди, искавшие
себе чести. Пока Корела, атаман, был здоров, московиты
не знали покоя: то внезапно нападали на них, то обстре-
ливали, то глумились над ними или обманывали. Да и на
гору часто выходила потаскуха в чем мать родила, которая
пела поносные песни о московских воеводах, и соверша-
лось много другого, о чем непристойно рассказывать. Вой-
ско московитов к стыду своему должно было все это сно-
сить, и стреляли они всегда из своих тяжелых пушек
попусту, ибо не причиняли и не могли причинить кому-
нибудь вреда. В Кромах между тем беспрестанно трубили в
трубы, пили и бражничали, одним словом, всюду была
измена, и в московском лагере дела шли не чисто, ибо
воеводы не только не отправляли должности, но сверх
того было заметно, что они сносились с Дмитрием, хотя
еще и не отважились на измену, ибо в темные ночи часто
находили между турами мешки с порохом, которые уно-
сили лазутчики из Кром в присутствии часовых, и много
других подобных дел.
В Кромы из московского лагеря также часто летали
стрелы с привязанными к ним письмами, в которых со-
общалось обо всем, что происходит в Москве и в лагере,
так что приверженцы Дмитрия знали все, что делалось в
Москве — как обстоят дела с Борисом, что он предпри-
нимал и учинял, и в каком находился страхе, и о том,
как роптал народ в Москве, где многие начали верить,
что то истинный Дмитрий. Получая эти известия, Дмит-
163
рий был уверен в том, что завладеет этой страной; того
ради он не тревожил лагерь под Кромами. И те, что сиде-
ли в Кромах, одно время держали себя тихо и только из-
редка отражали несильные нападения, ибо Корела был
тяжело ранен, и без него не могли измыслить средств при-
чинить вред московитам, а когда он выздоровел, все по-
шло по-прежнему.
Царь Борис, видя, что в Москве ему во всем неудача
и что войско его ни в чем не успевает, но более того со
всех краев стекаются к Дмитрию и предаются на его сто-
рону; видя и слыша каждодневно также от своих согляда-
таев, которые были повсюду, что народ начинает верить,
что это истинный Дмитрий, и что все города заколеба-
лись, стали непокорными и медлят посылать ратников на
войну, ибо не видят, когда будет тому конец, сам стал
сомневаться и думать, не истинный ли то Дмитрий и воз-
намерился, впав в отчаяние, истребить весь город Углич
со всеми его жителями за то, что Дмитрий бежал оттуда.
Однако, услышав страшные клятвы патриарха и еписко-
пов, также князя Василия Ивановича Шуйского, кото-
рый клялся в том, что собственноручно положил во гроб
и похоронил истинного Дмитрия, он оставил это намере-
ние. Кроме того, говорили Борису: «Когда будете вы так
казнить народ неповинно, то он отпадет от вас, подобно
тому, как поступил народ в Комарицкой волости и Се-
верской земле, ибо вы дозволили столь жестоко обращаться
со своим собственным народом за то, что он предался
Дмитрию, но они не разумеют того, и так неповинные
были погублены вместе с виновными и весьма жестоко».
Таковы были речи, удержавшие Бориса от казней. С
того времени он почти совсем не выходил из дому и на
свое место посылал сына, почти лишился рассудка и не
знал, верить ли ему, что Дмитрий жив или что он умер —
так был расстроен его ум. Тогда решился он испытать край-
нее средство, и в случае неудачи вознамерился лишить
себя жизни.
И призвав к себе Петра Федоровича Басманова, доб-
лестного витязя, который так верно служил ему в земле
Северской и других местах, как о том было рассказано,
164
Борис обещал, хотя он был низкого рода, выдать за него
свою дочь и дать за ней в приданное царство Казанское и
Астраханское и всю Сибирь. То же ранее он обещал Мсти-
славскому, который все еще был главным воеводой, но
видя, что тот бездействовал и не мог поступить по обе-
щанному, царь стал не доверять ему, полагая, что он не
сдержал или не мог сдержать своего обещания, прилагает
мало старания и сделался изменником.
Того ради Борис решил отозвать его в Москву, а с
ним также и Шуйского. Басманов обещал и поклялся, коль
скоро то не истинный Дмитрий, то он его схватит и ли-
шит жизни или сам сложит голову, но когда истинный,
то он почтет невозможным умертвить его и даже не по-
мыслит сражаться против него. Царь Борис, а с ним мно-
гие другие поклялись ему великими клятвами, что то не
истинный Дмитрий, а расстрига, после чего Басманов
вышел.
И когда Басманов вышел из царских покоев, то встре-
тил в передней Симеона Никитича Годунова, самого ближ-
него к царю боярина, которого прозвали правым ухом
царевым, и он слыл в народе жестоким тираном. Когда он
спросил Басманова, что обещал ему царь, Басманов, от-
лично зная, что Симеону Годунову, но никому другому,
должно все открыть, поведал ему о царевом обещании,
на что Симеон отвечал: «Ах, употребите все старания,
чтобы умертвить Дмитрия, или пусть это сделают по ва-
шему повелению, ибо мне приснилось, что он истинный
царевич, и я сам его боюсь, и когда вы это исполните, то
станете ближе всех к царю». Но Басманов схоронил эти
слова в сердце своем, помысля: когда я все успешно ис-
полню, то не добьюсь почета и ничего не получу из обе-
щанного, ибо он давал обещания многим более знатным
людям и не держал слова. Басманов помышлял об ином,
страшась прогневить Бога, ибо полагал, что тот Дмитрий
истинный, и вознамерился предаться ему, но не разгла-
шал о том, а держал все втайне и оставался некоторое
время еще в Москве.
Так сильно прогневался всемогущий Бог на эту стра-
ну и народ, что по его попущению люди от снов и раз-
165
мышлений уверились в том, чего, как они сами хорошо
знали, не было. Сверх того заставил Бог царя Бориса и
жестокосердую жену его, бывшую главной причиной ти-
рании Бориса, против их воли тому поверить, так что они
послали за матерью царевича Дмитрия, убиенного в Уг-
личе, которая была седьмой женой Ивана Васильевича,
как о том было сказано в его жизнеописании. Эта бывшая
царица была инокиней в одном дальнем от Москвы мо-
настыре, и как только впервые разнесся слух об этом
Дмитрии, ее перевели в более дальнюю пустынь, куда не
заходил ни один человек и где ее строго стерегли двое
негодяев, чтобы никто не мог придти к ней. Борис пове-
лел тайно привести ее оттуда в Москву и провести в его
спальню, где он вместе со своей женой сурово допраши-
вал Марфу, как она полагает, жив ее сын или нет; сперва
она отвечала, что не знает, тогда жена Бориса возразила:
«Говори то, что ты хорошо знаешь!», и ткнула ей горящей
свечой в глаза и выжгла бы их, когда бы царь не вступил-
ся — так жестокосерда была жена Бориса. После этого ста-
рая царица Марфа сказала, что сын ее еще жив, но что
его тайно, без ее ведома, увезли из страны, но впослед-
ствии она узнала о том от людей, которых уже нет в жи-
вых; так сказала она по попущению Божьему, ибо сама
достоверно знала, что сын ее умер и погребен. Борис ве-
лел увести ее, заточить в другую пустынь и стеречь еше
строже, но когда бы могла ею распорядиться жена Бори-
са, то она бы давно велела умертвить ее. Хотя это было
совершено втайне, Дмитрий узнал обо всем. Всемогущий
Бог знает, кто поведал Дмитрию о том; некоторые, мня-
щие себя всеведущими, говорят, что нечистая сила от-
крывала ему все и во всем подавала ему помощь.
Борис также отправил посольство в Швецию к коро-
лю Карлу с просьбой о помощи против врагов, но так как
Борис вскорости умер, посол не успел еще выехать из
Московии и был в Новгороде, и вернулся в Москву после
смерти Бориса.
Также думный дьяк Афанасий Власов был отправлен
к войску с большими деньгами, чтобы раздать их воинам
и расположить их этим, с ним отправил Борис также пись-
166
мо польского короля, в коем тот оправдывал себя от об-
, винения в помощи Дмитрию, которого он даже не знал.
И это письмо прочли в лагере перед всем войском, но все
, сие было все равно, что стучать в дверь глухого, и на дру-
гой день в Кромах знали уже обо всем и глумились над
ними. Одним словом, Кромы и большая часть московско-
го войска были заодно и выжидали только удобного вре-
мени, чтобы сойтись и соединиться всем в одно войско.
Меж тем в Москву каждодневно один за другим при-
бывали гонцы и каждый с дурными известиями: один го-
ворил, что тот или тот предался Дмитрию; другой говорил,
что большое войско идет из Польши; третий говорил, что
все московские воеводы изменники. Народ в Москве с каж-
дым днем все больше и больше роптал, невзирая на то,
что его казнили смертью, жгли каленым железом и пыта-
ли, но ожесточался так, что Борис решился лучше лишить
себя жизни, чем попасть в руки Дмитрия, который, как он
полагал, обесчестит его и во время своего торжества пове-
дет за собой на поругание перед всем светом.
13 апреля по старому стилю Борис был весьма весел,
или представлялся таким, весьма много ел за обедом и
был радостнее, чем привыкли видеть его приближенные.
Отобедав, он отправился в высокий терем, откуда мог
видеть всю Москву с ее окрестностями, и полагают, что
там он принял яд, ибо как только он сошел в залу, то
послал за патриархом и епископами, чтобы они принес-
ли ему монашеский клобук и тотчас постригли его, ибо
он умирал. Как только эти лица сотворили молитву, по-
стригли его и надели на него клобук, он испустил дух и
' скончался около трех часов пополудни50.
Добрых два часа, пока слух о смерти Бориса не рас-
пространился во дворце и в Москве, было тихо, но потом
внезапно услышали великий шум, поднятый служилыми
людьми, которые во весь опор с оружием скакали на ко-
нях к Кремлю, а также все стрельцы со своим оружием,
но никто еще ничего не говорил и не знал, зачем они так
। быстро мчатся в Кремль. Мы подозревали, что царь умер,
однако, никто не осмеливался этого сказать; на другой
день узнали об этом повсюду, когда все служилые люди и
167
придворные в трауре отправились в Кремль. Доктора, быв-
шие наверху, тотчас увидели, что это случилось от яда и
сказали об этом царице и никому более. Народ москов-
ский тотчас был созван в Кремль присягать царице и ее
сыну, что и свершили, и все принесли присягу, как боя-
ре, дворяне, купцы, так и простой народ. Также посланы
были по всем городам, которые еще соблюдали верность
Москве, гонцы для приведения их к присяге царице и ее
сыну, как то: в Псков, Новгород, Ивангород, Ростов,
Переяславль, Ярославль, Вологду, Пермь, Каргополь,
Устюг, Тотьму, Холмогоры, Кондию, Обдорию, Сибирь,
Лапландию, и далее во все тамошние страны, тогда как
области близ Польши, земля Северская и Астрахань оста-
лись так, как они были, но Казань присягнула вместе с
Москвой. Так Марья Григорьевна стала царицей и сын ее,
Федор Борисович, царем всея Руси 16 апреля 1605 г.
Борис был дороден и коренаст, невысокого роста,
лицо имел круглое, волосы и бороду поседевшие, однако
ходил с трудом по причине подагры, от которой часто
страдал оттого, что ему приходилось много стоять и хо-
дить, как обыкновенно случается с московскими бояра-
ми (ибо они безотлучно принуждены находиться при дво-
ре и там целые дни стоять возле царя, без присесту, три
или четыре дня кряду; такую тяжелую жизнь ведут мос-
ковские бояре, чем выше они стоят, тем меньше видят
покоя и тем больше живут в страхе и стеснении, но не
оставляют во всякое время стремление к возвышению).
Борис был весьма милостив и любезен к иноземцам,
и у него была сильная память; хотя он не умел ни читать,
ни писать, тем не менее знал все лучше тех, которые мно-
го писали. Ему было пятьдесят пять или пятьдесят шесть
лет, и когда бы все шло по его воле, он совершил бы мно-
го великих дел. За время своего правления он весьма укра-
сил Москву, а также издал добрые законы и привилегии,
повелел на всех перекрестках поставить караульни и боль-
шие рогатки, которые загораживали улицы так, что каж-
дая уподоблялась особому городу; также предписал он по
вечерам ходить с фонарями под страхом пени в один талер
за ослушание. Одним словом, Борис был искусен в управ-
168
|1лении и любил возводить постройки; еще во время цар-
I ствования Федора построил вокруг Москвы высокую сте-
|jHy из плитняка; также повелел обнести стеной Смоленск;
I Также на границе с Татарией повелел заложить укреплен-
-ный город, который нарек своим именем — Борис-город.
* Однако он больше верил священникам и монахам, нежели
Освоим самым преданным боярам, а также слишком дове-
рял льстецам и наушникам, и допустил совратить себя,
’ сделался тираном и повелел извести все знатнейшие роды,
' как было сказано; главной к тому причиной было то, что
]Юн допустил этих негодяев, а также свою жестокую жену
совратить себя, ибо сам по себе он не был таким тираном.
Он был великим врагом тех, которые брали взятки и
1 подарки, и знатных вельмож и дьяков он велел предавать
за то публичной казни, но это не помогало.
Он был погребен в Архангельской церкви, в Кремле,
где погребают всех царей, и весь народ, по их обычаю,
громко вопил и плакал.
Незадолго перед тем умер Дмитрий Иванович Году-
нов, дядя Бориса, старший в роде Годуновых; тело этого
Дмитрия Годунова повезли в Кострому, город на реке
Волге, и похоронили там в усыпальнице Годуновых.
И шесть недель после смерти Бориса раздавали мило-
стыню и роздали в эти шесть недель семьдесят тысяч руб-
лей, что составляет на голландские деньги четыреста де-
вяносто тысяч гульденов, и все эти шесть недель во всех
монастырях служили по нем заупокойные обедни.
Тогда только был отправлен к войску Петр Басманов с
полномочиями как главный воевода, чтобы объявить о смерти
царя Бориса и привести войско к присяге молодому царю,
как своему государю и главе всего московского царства.
Еще до того как Басманов прибыл в лагерь, воины
Дмитрия кричали московскому войску, что Борис умер,
но московиты не хотели этому верить, пока сам Басманов
не явился к войску с этим известием.
Меж тем молодым царем были отозваны от войска в
Москву князь Федор Иванович Мстиславский и оба кня-
зя Шуйские, и они должны были передать все управление
в руки Басманова, вступившего в должность. Они прибы-
169
ли в Москву тайком и держали себя смирно, хотя и были
первыми боярами земли; при войске однако остались род-
ственники Годунова в помощь Басманову.
В Москве после смерти Бориса повсюду начались вол-
нения и народ становился все бесчинней, большими тол-
пами сбегался ко дворцу, крича о знатных боярах, быв-
ших при Борисе в немилости и ссылке, другие кричали о
матери Дмитрия, старой царице, что ее надобно посадить
у городских ворот, дабы каждый мог услышать от нее,
жив ли еще ее сын или нет.
Между вельможами также была сильная распря, ибо
Годуновы были почти низвергнуты и потому не переста-
вали завидовать тем, кто уцелел из знатных родов, ибо
страшились, что они возвысятся, когда Дмитрий станет
царем. Симеон Никитич Годунов убил бы Мстиславского,
когда б тому кто-то не помешал, и он называл его измен-
ником Московии и другими подобными именами.
Народ каждодневно роптал и взывал о старой царице
и старых боярах, которые жили в бедствии в разных мес-
тах, так что Годуновы принуждены были обещать, что все
старые бояре, которые остались в живых, будут в скорости
возвращены в Москву. Но о матери Дмитрия царица не
хотела и слышать, а повелела строго стеречь ее в пустыне,
страшась, что она скажет, что Дмитрий еще жив, чтобы
избавиться от заточения и отмстить врагам своим. Народ,
угрожая силой, требовал ее возвращения и говорил весьма
дерзко, так что великий страх обуял двор. Князь Василий
Иванович Шуйский вышел к народу, говорил с ним и
держал прекрасную речь, начав с того, что они за свои
грехи навлекли на себя гнев Божий, наказующий страну
такими тяжкими карами, как это они каждый день видят;
сверх того его приводит в удивление, что они все еще кос-
неют в злобе своей, склоняются к такой перемене, кото-
рая ведет к распадению отечества, к искоренению святой
веры и разрушению пречистого святилища в Москве. Васи-
лий Шуйский клялся страшными клятвами, что истинный
Дмитрий не жив и не может быть в живых, и показывал
свои руки, которыми он сам полагал во гроб истинного
Дмитрия, который погребен в Угличе, и говорил, что тот
170
Дмитрий расстрига, беглый монах, наученный дьяволом и
ниспосланный в наказание за тяжкие грехи, и увещевал
народ исправиться и молить Бога о милости и оставаться
твердым до конца; тогда все может окончиться добром.
Эта речь немного успокоила народ. Получив помило-
вание, каждый день возвращались в Москву опальные,
которые были сосланы Борисом; прибыл также и князь
Иван Михайлович Воротынский, бывший по воле Бориса
около двадцати пяти лет в изгнании. Он был знатного про-
исхождения и весьма древнего рода.
Мы уже рассказали, как Петра Федоровича Басма-
нова послали в лагерь, и он прибыл туда 21 апреля и
принял главное начальство над войском. К нему в по-
мощь были приставлены некоторые из Годуновых, как-
то Иван Иванович и другие, а также два князя Голицы-
ных.
Басманов тотчас повелел объявить о смерти Бориса и
увещевал войско служить верно молодому государю и быть
послушным ему самому как главному воеводе, постав-
ленному царем. Также повелел он вторично прочитать по-
мянутое письмо короля Польского, но меж тем рассылал
каждый день по всему лагерю людей, которые подслуши-
вали, что там говорили, и доносили обо всем ему, так что
открылось, что больше людей на стороне Дмитрия, чем
на стороне московитов. Басманов, зрело поразмыслив обо
всем, постарался употребить все средства, чтобы привлечь
войско на сторону Дмитрия с возможно меньшим крово-
пролитием, и послал тайно к Дмитрию, дабы рассудить
вместе с ним, как сие привести в исполнение.
Однако Басманов наперед оправдывал себя тем, что
не знал ничего иного, и полагал, что то истинный Дмит-
рий, и притом для большего уверения приводил слова
Симеона Никитича, сказанные ему, когда он выходил из
покоев Бориса. Он весьма оправдывал себя, говоря, что
его поступок не измена, ибо он принесет отечеству не
несчастье, а гораздо больше счастья, и, наконец, приво-
дил в свое оправдание великую тиранию Бориса, искоре-
нение древних родов, также бедствия, бывшие во время
правления Бориса, полагая, что они произошли оттого,
171
что Борис незаконно овладел престолом и был жив за-
конный наследник, ныне открывшийся по благости все-
могущего провидения. Одним словом, он повел дело так
искусно, что потом ни одна сторона не знала, как это
происходило, и никто также не знал, ни в Кромах, ни в
московском войске, где был Дмитрий.
Меж тем кромляне вели себя тихо, и только иногда
делали вылазки, ибо в то время была оттепель и везде
выступила вода, так что каждый думал, как бы уберечь
самого себя, и болота мешали осаждающим московитам
подступить к крепости: они без надобности стреляли, слов-
но для того, чтобы понапрасну расточать порох и свинец.
Ночью многие перебегали в Кромы и передавали все, что
происходило в лагере.
Басманов, согласившись обо всем с Дмитрием, на-
значил день 7 мая по старому стилю: кромляне должны
были в тот день быть настороже, и Басманов должен был
рано утром повелеть схватить в палатках и перевязать всех
полковников и капитанов и провозгласить: да хранит Бог
Дмитрия, царя всея Руси! Каким бы диковинным и неве-
роятным ни казался этот план, однако ж был осуществ-
лен, ибо на то, очевидно, было Божье соизволение. Бас-
манов имел верные известия, что большая часть войска
была на стороне Дмитрия, а не на стороне Москвы, и
казалось, что схватиться могли со дня на день, так что до
назначенного дня все время держали наготове воинов на
нескольких постах, но в этот день как раз не соблюли
этого.
7 мая около четырех часов утра кромляне, а также те,
что были изменниками в московском войске, во главе со
своим предводителем Басмановым были настороже; и тот-
час примчался из лагеря на вороном коне всадник почти к
самому кромскому валу, и то было сигналом. Тотчас кром-
ляне, подобно быстрому вихрю, пустились со всех сторон
на лагерь, так что ни часовые, ни кто другой не успели
единого слова вымолвить, а меж тем в лагере перевязали
по рукам и ногам всех начальников и отправили их с дмит-
риевцами в Кромы, а те, что были в московском войске,
подожгли со всех концов собственный лагерь. Московиты,
172
не знавшие об этом умысле, приведены были в такой ве-
ликий страх, что некоторые побросали оружие, другие одеж-
ду, и так быстро рассыпались в разные стороны, что на это
нельзя было взирать без удивления.
Меж тем все приверженцы Дмитрия тысячами пере-
бегали на другую сторону; да бежали так быстро, что мост,
наведенный через реку, текущую под Кремами, на кото-
ром стояло три или четыре священника с крестами, что-
бы привести народ к присяге (что совершается у них це-
лованием креста), — этот мост погрузился. Иные всплыли
наверх, иные, думая добежать по воде, тонули, иные плы-
;ли верхом на лошадях, одним словом, было большое смя-
тение. Один бежал в свой край, другой — в свою деревню,
третий — в Москву, иные бежали в леса, не разумея, что
происходит, и стреляли и кололи друг друга, как разъя-
ренные звери, и никто не знал, чего ради он побежал;
один кричал: «да хранит Бог Дмитрия», другой: «да хра-
нит Бог нашего Федора Борисовича», третий, никого не
называя, говорил: «я буду служить тому, кто возьмет Мос-
кву». Итак, большая часть войска передалась Дмитрию, а
те, что не передались ему, разбежались каждый своим
путем, а многие во время бегства были обуреваемы стра-
хом столь великим, что побросали дорогой свои повозки
и телеги, выпрягли из них лошадей, чтобы бежать скорее,
полагая, что их преследуют. Когда их спрашивали, почему
обратились они в столь скорое бегство, они не умели ни-
чего ответить; и когда бояре кремлевские хотели дознать-
ся от них, они сварливо отвечали: ступайте сами туда и
посмотрите. Народ в Москве становился все более свое-
вольным и ни о чем не спрашивал, но если бы кто-нибудь
пришел, то отворил бы ворота и впустил его.
В это время прибыло в Москву около семидесяти нем-
цев, тоже бежавших из-под Кром, и молодой царь, весьма
опечаленный, сердечно благодарил их, говорил с ними,
сожалея о несчастьи, и некоторые бояре, сидевшие подле
него, смеялись в кулаки, но Годуновы помышляли об ином,
хорошо зная, что им предстоит смерть, поэтому они роз-
дали по монастырям все свои поместья и сокровища.
Во время великого смятения и измены был связан и
173
Басманов, дабы показать вид, что все случилось не с его
ведома, но на другой стороне реки его вместе с его людь-
ми скоро освободили; но Иван Иванович Годунов со мно-
гими другими воеводами лежал связанным в поле, как
животное, и при нем стоял мальчик, опахалом отгоняв-
ший от него мух.
Князь Андрей Телятевский, родственник Годуновых,
до последней возможности оставался у пушек, крича:
«Стойте твердо и не изменяйте своему государю», но так
как на эти пушки скоро напали все, что были поблизос-
ти, то он принужден был со своими людьми их покинуть
и обратиться в бегство.
Басманов послал свой шишак со значками ротмист-
ру, начальствующему над немцами, которые еще держа-
лись возле своего знамени, и просил его перейти в другой
лагерь, присягнуть законному государю и служить ему. Ка-
питан не захотел, но когда его много раз призвали к тому,
он передался вместе с другими, но семьдесят воинов со-
блюли присягу и бежали в Москву.
Эти немцы передавали нам, что никто не мог уразу-
меть, как и каким образом это случилось, и не знали, кто
враг, кто друг, и метались, подобно пыли, ветром взды-
маемой. Отсюда можно заключить, была ли на то воля
Божия, чтобы Дмитрий процарствовал некоторое время,
которое было ему назначено, дабы он стал бичом для
истязания московитов.
На другой день стало тише и все войско, пребывая
вместе, как те, что сидели в Кромах, так и находившиеся
вне их, в московском лагере, говорили: «Ах, когда бы нам
хоть раз увидеть нашего царя Дмитрия, коему мы присяг-
нули, не видав его». На что некоторые отвечали: «Он в Кур-
ске, что в тридцати милях от Кром, и скоро прибудет сюда».
Другие говорили: «Он в Рыльске, в пятидесяти милях от
Кром». На другой день говорили, что он еще в Путивле; а
день спустя говорили, что он бежал в Польшу, что он не
истинный Дмитрий, а злой дух, смутивший всю землю.
Итак, вселился в них новый страх, который, однако, уня-
ли их начальники, говорившие: «Дождитесь конца, а до тех
пор молчите». Многие также были в страхе при мысли о
174
женах и детях и непрестанно сокрушались о том, что не
бежали в Москву, и стыдились, что так постыдно переда-
лись Дмитрию и не соблюли клятву, которую они неложно
принесли в Москве. Одним словом, они жили в страхе, не
ведая, к какому еще все придет окончанию.
Три дня спустя после этой измены вечером прибыло
с одним московским дворянином, Борисом Лыковым,
письмо от Дмитрия, в коем он объявлял им о своих мило-
стях, повелевая каждому по своей воле воротиться домой
или же остаться с ним до тех пор, пока он въедет в Мос-
кву; так что многие отправились по домам, считая Дмит-
рия своим царем и Великим князем.
В Москве еще все оставалось по-старому и еще каж-
додневно проходили новые отряды ратников, словно сле-
дуя к войску. Но пройдя пять или шесть миль за Москву,
они избирали другой путь: одни домой, а некоторые к
Дмитрию.
И Дмитрий с войском, которое было с ним, самолич-
но явился под Кромы и принял к себе большую часть по-
ляков и казаков и некоторых русских, коим доверял, а ос-
тальных отправил частью в Тулу, частью в Калугу, город,
лежащий неподалеку от Москвы, на реке Оке. Они, взяв
этот город, пошли затем на Серпухов, город в восемнадца-
ти милях от Москвы, а под этим Серпуховым стояло много
стрельцов, кои, пребывая верными до конца, сражались за
Москву; и это случилось 28 мая. Тогда великий страх овла-
дел Москвой, и полагали, что все уже свершилось. Тогда
стояла в Москве такая тишина, что можно было подивиться.
Дмитрий отъехал в Тулу, где пробыл несколько дней,
распустив часть своего войска, как поляков, так и дру-
гих, наградив их деньгами и оставив при себе только ка-
заков и некоторых поляков, а также обещав некоторым
наградить их деньгами в Москве, когда Бог возведет его
на отцовский престол. И затем он повелел послать грамо-
ты по всей стране и отправить гонцов возвещать повсюду
о его победах, спрашивая также, уверились ли они в том,
что он законный наследник. От этого все города заколеба-
лись, хотя гонцов принимали приветливо не повсюду и
многих дорогой поубивали.
175
В Москве было тихо, только простой народ по-преж-
нему роптал и помышлял предаться Дмитрию, как толь-
ко появится кто-нибудь из его приверженцев.
Пришло известие, что атаман Корела стоит со свои-
ми казаками в шести милях от Москвы, после чего в го-
роде тотчас начали делать приготовления и подвозить
пушки к стенам, но делали все так нерадиво, словно ду-
рачились, так что и народ, глядя на то, потешался и глу-
мился. Я думаю, что все это делали для того, чтобы обуз-
дать простой народ, ибо чрезвычайно страшились его,
потому что он был нищ и наг и сильно желал пограбить
московских купцов, всех господ и некоторых богатых лю-
дей в Москве. Воистину в Москве более страшились жите-
лей, нежели неприятеля или дмитриевцев. Ибо почти все
главные начальники получали письма от Дмитрия, но не
подавали вида и ожидали его прибытия или посланий к
народу, чтобы каждому приказать, что надлежит делать.
Но Годуновы перехватили много писем Дмитрия и умер-
твили гонцов, так что ни одно письмо не дошло в Москве
до слуха народа.
Я думаю, что в Москве в то время все драгоценные
камни и деньги были схоронены, ибо в Московии таков
обычай, что в бедственное время зарывают деньги и доб-
ро в земле, в лесах, погребах и разных уединенных мес-
тах, от чего также многое пропадает, ибо они оставляют
и никому не говорят где.
1 июня 1605 г., около девяти часов утра, впервые смело
въехали в Москву два гонца Дмитрия с грамотами к жи-
телям, чтобы прочесть их на большой площади во всеу-
слышание перед всем народом. Это поистине было дерз-
ким предприятием — так явиться в город, который был
еще свободным и за которым стояла вся страна, где еще
был царь, облеченный полной властью. Нет сомнения,
они знали, куда клонятся сердца большинства вельмож и
жителей и потому так откровенно въехали; также знали
они, что молодой царь хотел идти навстречу Дмитрию,
пасть к ногам его и просить о милости и прощении, но
мать царя этому воспротивилась. Из-за того все вельможи
в Москве пришли в смятение, не повинуясь ни царице,
176
ни одному из Годуновых, все более и более склонялись на
сторону Дмитрия, не считая добрых патриотов, коих по-
истине было мало, и они не смели и пикнуть, так как за
это могли поплатиться жизнью.
Оба гонца, прибыв верхом на площадь, тотчас были
окружены тысячами простого народа, и тут узнали, что
одного звали Гаврила Пушкин, а другого Наум Плещеев,
оба дворяне, родом из Москвы, из числа тех, кто первы-
ми бежали к Дмитрию; и они прочли во всеуслышание
перед всем народом грамоту, которая гласила:
«Дмитрий, Божией милостию царь и Великий князь
всея Руси, блаженной памяти покойного царя Ивана Ва-
сильевича истинный сын, находившийся по великой измене
Годуновых столь долгое время в бедственном изгнании,
как это всякому хорошо ведомо, желает всем московитам
счастья и здоровья. Это уже двадцатое письмо, что я пишу
к вам, но вы все еще остаетесь упорными и мятежными.
Вы умертвили всех моих гонцов, не пожелав их выслушать
и не веря моим многократным правдивым уверениям, с
которыми я столь часто обращался ко всем вам. Однако я
понимал, что то происходит не от вас, а от изменника
Бориса и всех Годуновых, Вельяминовых, Сабуровых, всех
изменников Московского царства, притеснявших вас до
сего дня; и мои письма, как я разумею, также задержаны
ими, и по их повелению умерщвлены гонцы. Поэтому я
прощаю вам все, что вы сделали против меня, ибо я не
кровожаден, как тот, кого вы так долго признавали ца-
рем, как можно было хорошо приметить по моим несчас-
тным подданным, коих я всегда берег, как зеницу моего
ока, а по повелению Бориса их предавали жалкой смер-
ти, вешали, душили и продавали диким татарам. Оттого
вы легко могли приметить, что он не был вашим закон-
ным защитником и неправедно завладел царством. Но все
это вам прощаю опять. Схватите ныне всех Годуновых с их
приверженцами, как моих изменников, и держите их в
заточении до моего прибытия в Москву, дабы я мог каж-
дого наказать, как он того заслужил, но больше пусть никто
в Москве не шевельнет пальцем, но храните все, и да
будет над вами милость Господня».
177
Как только прочли это письмо, вся толпа пала ниц,
моля о милости и оправдываясь во всем, что они делали
против него, желая счастья царю и Великому князю Дмит-
рию Ивановичу всея Руси. И затем с великой яростью на-
род устремился в Кремль и схватил всех, кто принадле-
жал к роду Годуновых. Также схватили они царицу с сыном
и дочерью и посадили на водовозную телегу и так пере-
везли из дворца в их дом, где они жили до того, как Бо-
рис стал царем. Этот дом также был в Кремле и все время
стоял пустым, ибо Борис считал недостойным жить в нем.
Зная об этом доме, что в нем жил Борис, они, придя
туда, поломали все на куски, швыряя и говоря, что все
осквернено тираном, и ничего не оставили в целости, но
разоряли и ломали всюду, куда приходили. Затем кину-
лись в город во все дома Годуновых и разграбили и расхи-
тили их, так что даже не оставили ни одного гвоздя в
стене, но расхитили все: лошадей, платья, деньги, ме-
бель и другие вещи. Схватили всех, кто был против Дмит-
рия; также были ограблены некоторые невинные, как
например доктора, аптекари и хирурги царя, хотя им са-
мим и не причинили вреда. Те, у кого был враг, уж зна-
ли, как до него добраться. Но бояре, не принадлежавшие
ни к одной партии, тотчас приняли меры и все привели в
добрый порядок, хотя отнятое у тех, что были невинов-
ны, пропало и его нельзя было сыскать, ибо грабила це-
лая толпа. Одним словом, Годуновых связали и заточили
по темницам, каждого отдельно, равно как Вельямино-
вых и Сабуровых и всех их приверженцев. Все их дома были
отданы на разграбление, и они были дочиста расхищены,
так что грабители убивали друг друга. Во время грабежа
некоторые забрались в погреба, где стояло вино, и пере-
вернули бочки, выбили днища и принялись пить, черпая
одни шапками, другие сапогами и башмаками, и с таким
жаром предались питию, — на что они все падки, — что
потом нашли около пятидесяти человек, упившихся до
смерти. Когда расхитили все, то каждый пошел своей до-
рогой, но денег они почти совсем не добыли, ибо они
были зарыты в землю или розданы по монастырям, ибо
те, что были ограблены, ожидали своей участи и полага-
178
ли тем приобрести царство небесное. Итак, после полудня
ярость народа утихла, да и многие, мужчины и женщи-
ны, были донага ограблены, однако принуждены были
это терпеть.
Около полуночи вновь началось большое волнение,
так что ударили в набат во все колокола. Это было учине-
но несколькими негодяями, которые намеревались во вре-
мя этого волнения вновь начать грабить. Они кричали друг
другу, что некоторые из Годуновых были наготове с ло-
шадьми и вознамерились бежать через городские ворота,
и будто бы они освободились из темницы, однако все это
было ложью и напрасной тревогой, но тех, которые пер-
вые учинили ее, не могли найти.
После того по всей стране во все города отправили
гонцов с грамотами от Дмитрия, чтобы присягали истин-
ному наследнику, коего так долго хранило провидение
Божие, и далее были изложены разные другие обстоя-
тельства, которым, увы, все поверили, и приняли его за
истинного Дмитрия и велели по всем церквам молиться
за Дмитрия Ивановича, царя всея Руси.
Также многие отправились из Москвы в лагерь, рас-
положенный близ Тулы, в тридцати шести милях от Мос-
квы, каждый привез подарки царю, просил прощения и
изъявлял желание видеть его в Москве, куда тот должен
был скоро прибыть. Привезли туда из Москвы лошадей,
кареты, снедь и припасы всякого рода и много денег из
московской царевой казны, чтобы раздать войску по по-
велению царя.
О, как были они ослеплены и в какую густую сеть
тьмы уловлены, прогневив Бога, который покарал их ими
же самими уготованным бичом!
Меж тем в Москве происходили диковинные собы-
тия, ибо там вырыли усопшего царя Бориса и вынули его
из гробницы и с большим презрением отвезли в пред-
местье города, где погребли подле одного древнего не-
большого монастыря, считая, что он недостоин покоить-
ся рядом с царями.
После того как все сие совершилось на наших глазах,
всемогущий Бог наслал на них еще и другое ослепление,
179
ибо многие не верили, что Борис действительно умер,
хотя они его сами дважды похоронили, и одни говорили,
что он убежал и вместо него в могилу положили другого,
другие говорили, что он наверняка бежал в Татарию, тре-
тьи говорили, что в Швецию; а большая часть верила тому,
что английские купцы увезли его в Англию вместе с, нес-
метными сокровищами.
Ослепление было столь велико, что по всем дорогам
на триста и четыреста миль от Москвы разослали гонцов,
дабы известить народ, что Борис бежал, так что вся земля
пришла в волнение, твердо в том уверившись. Некоторые
казаки искали Бориса на Волге, по деревням, а также в
лесах; также иноземцы весьма страшились, что их огра-
бят и умертвят. Мы были в дороге, направляясь к Архан-
гельску, чтобы здесь вести торговлю и ожидать прибытия
кораблей, и так как повсюду кричали, что нас преследу-
ют, а также говорили, что мы увезли казну Бориса и его
самого. Дорогой мы только и помышляли во всякий час,
что нас ограбят, но по милости Божией мы чудесным
образом от этого убереглись. Можно только помыслить о
том, как рука и гнев Божий карали людей, но невозмож-
но описать всего, что происходило в Московии.
Итак, вся земля уже была под властью Дмитрия, толь-
ко Астрахань еще противилась ему. Ее еше держали в оса-
де казаки, которых послал туда зимой Дмитрий, чтобы
занять город, но они не могли взять его и получили ответ
от воеводы, принадлежавшего к роду Сабуровых, родствен-
ников Годунова, что он не желает сдавать такое могуще-
ственное царство и будет ожидать, кто завладеет Москов-
ским государством — тому он и передаст Астраханское
царство. За такой ответ Дмитрий оказал ему милость, и он
не понес наказания, постигшего всех его родственников,
и казаки ушли из-под Астрахани и отправились каждый
восвояси.
Дмитрий с каждым днем подступал все ближе и бли-
же к Москве, проезжая за день не более одной мили по
причине множества народа, каждодневно стекавшегося к
нему со всех сторон, чтобы узреть его и просить о милос-
ти, также многих бояр, священников, епископов и мона-
180
Убийств Марии и Федора Годуновых
хов из Москвы, каждого с подарками Каждодневно при-
возили из Москвы все, что было надобно для содержания
царского двора; меж тем Дмитрий вел продолжительные
беседы с именитыми людьми, рассказывая им о своих
приключениях, так, чтобы утвердить их в лучшем мнении
о себе и стать любезным народу. Он расказал тем людям
многое, и они всему поверили, а были некоторые, кото-
рые обо всем знали лучше, но принуждены были на все
говорить «аминь».
Тем временем из Москвы были высланы все знатные
семьи, бывшие сродни Борису, и многие их привержен-
181
цы51, Ивана Васильевича Годунова с семьей сослали в опалу
на татарскую границу, Степана Годунова также куда-то
сослали в опалу, и так далее. Со всеми остальными посту-
пили точно так же, как они прежде поступали с другими,
но Симеона Никитича Годунова, который во время Бо-
риса был великим тираном по отношению к народу, со-
слали в Переяславль, посадили в темничный погреб и,
когда он просил есть, ему приносили камень; так постиг-
ла его жалкая смерть от голода; из той же темницы осво-
бодили человека, которого Симеон Годунов держал не-
повинно в заточении шесть лет. Ему довелось увидеть на
своем месте первого после царя человека, который на-
влек на него это заточение.
Меж тем Дмитрий послал в Москву Андрея Шере-
фединова, большого негодяя, перебежавшего к нему од-
ним из первых, с повелением тайно умертвить царицу,
жену Бориса, а также сына ее таким способом, чтобы
никто не проведал, что они умерщвлены, но распустить
слух, что они сами отравились, а дочь Бориса оставить в
живых и беречь ее до его прибытия в Москву. Андрей
Шерефединов отправился к царице и сыну, — который
поистине был юный витязь и писаный красавец и все время
подавал народу твердую надежду, что будет добрым, бла-
гочестивым царем, — и задушил их между двумя подуш-
ками, и таким жалким образом они лишились жизни.
Как только царица и ее сын были умерщвлены (дочь
оставлена в живых) туда, где они были привели несколь-
ко человек из простого народа, и убийцы рассказали им,
как мать и ее сын отравились, а дочь, говорили они, не
выпила из кубка, в котором был яд, столько, чтобы от
этого умереть. Видя мать и сына, лежащими в объятиях
друг друга мертвыми, поверили тому, что им рассказали,
и тотчас пошел по всей стране слух, что они сами себя
отравили, и оба трупа, не совершая над ними никаких
обрядов, отвезли в тот монастырь, где погребен был Бо-
рис, и закопали в землю, как животных. Тогда многие
сердца были омрачены и не ведали о том убиении, скорбя
о бедственном положении страны, и отлично видели, что
все идет неладно, и денно и нощно оплакивали свое не-
182
счастье и падение своего отечества, также весьма сожале-
ли и никогда не могли забыть об юном витязе Федоре
Борисовиче.
Дмитрий весьма приблизился к Москве, но вступил
в нее только 20 июня 1605 г., когда достоверно узнал, что
вся страна признала его царем. И с ним было около вось-
ми тысяч казаков и поляков, ехавших кругом него, и за
ним следовало несметное войско, которое стало расхо-
диться, как только он вступил в Москву. Все улицы были
полны народом так, что невозможно было протолкаться;
все крыши были полны народом, также все стены и воро-
та, где Дмитрий должен был проехать. Все были в лучших
нарядах и, считая Дмитрия своим законным государем и
ничего не зная о нем другого, плакали от радости. И ми-
новав третью стену и Москву-реку и подъехав к Иеруса-
лиму, — так называется церковь на горе, неподалеку от
Кремля, — он остановился со всеми окружавшими и со-
провождавшими его людьми и, сидя на лошади, снял с
головы свою царскую шапку и тотчас ее надел опять и,
окинув взором великолепные стены, город и несказанное
множество народа, запрудившее все улицы, он, как это
было видно, горько заплакал и возблагодарил Бога за то,
что тот продлил его жизнь и сподобил увидеть город отца
своего, Москву, и своих любезных подданных, которых
он сердечно любил. Много других подобных речей гово-
рил Дмитрий, проливая горючие слезы, и многие плака-
ли вместе с ним; но, увы, когда бы они знали, что то
были крокодиловы слезы, то не плакали бы, а учинили
бы что-нибудь иное.
Итак, когда Дмитрий остановился, навстречу ему выш-
ли патриарх, епископы, священники и монахи с крестами
и хоругвями, дабы проводить во дворец, и поднесли ему
икону Богородицы, чтобы он, по их обычаю, приложился
к ней, что дозволено только государям. Дмитрий сошел с
лошади и приложился к иконе; но совершил это не так,
как надлежало бы по обычаю, и некоторые монахи, увидев
это, весьма усомнились в том, что он московит родом, а
также усомнились и в том, что он истинный царь, но не
смели говорить; он же отлично приметив, что они на него
183
так уставились и, быть может, хорошо их зная, на другой
день велел их тайно умертвить и бросить в воду. Проводили
его в Кремль в торжественной процессии, под звон коло-
колов и при всеобщих криках: «Да здравствует наш царь
Дмитрий Иванович всея Руси!» И так ввели во дворец, где
посадили на царский трон, и все вельможи поклонились
ему до земли и признали его своим царем; и казаки и рат-
ники были расставлены в Кремле с заряженными пищаля-
ми и в полном вооружении, и они даже вельможам отвеча-
ли грубо, так были они дерзки и ничего не страшились.
Тотчас же последовали перемены при царском дво-
ре, и все прежние чиновники — дьяки, подьячие, коню-
шие, ключники, стольники, повара и слуги — были уда-
лены и замещены теми, коим царь более доверял; также
сменили правителей по всем областям, городам и другим
владениям. В придворные служители и пажи он взял к себе
одних поляков, которые были проворнее и расторопнее,
также образованнее и умнее, чем московские придвор-
ные и дворяне, нигде, кроме своей родины, не бывавшие
и большей частью не умевшие ни читать, ни писать и
жившие, по обычаю русскому, как животные.
Меж тем послали за мнимой матерью Дмитрия, ко-
торую, как о том выше сказано, Годуновы отправили в
пустынь и перед своим концом повелели умертвить, но ее
уберегли. Во всех городах, через которые она проезжала,
народ торжественно встречал ее, как бывшую царицу и
седьмую жену царя Ивана Васильевича; в то время она
была инокиней.
Подъехав к Москве, она остановилась в селе Тайнин-
ском, что в двух милях от Москвы, где был царский дворец,
и сюда выехал навстречу к ней Дмитрий с множеством вель-
мож и других людей. Дмитрий и Марфа приветствовали друг
друга, и весь народ вопил и плакал, ибо царственные мать и
сын ее старались показать народу, что они долго не вида-
лись; увы, нет ничего удивительного, что она признала его
своим сыном, хотя хорошо знала, что это не он. От этого ее
жизнь не стала горше, но напротив, с ней обращались, как
с царицей, и ее торжественно ввезли в Москву в Кремль,
где ее поселили в Вознесенском монастыре и где ее содер-
184
жали и прислуживали ей, как царице, и молодой царь каж-
додневно навещал ее, как свою мать, и молодых монахинь,
живших с нею.
При въезде Марфы в Москву Дмитрий сошел с ло-
шади и вместе со всеми вельможами шел с обнаженной
головой подле ее кареты до ее кельи, к великому изумле-
нию народа.
Потом он повелел начать приготовления к венчанию,
хотя, по московскому обычаю, оно не могло быть совер-
шено ранее 1 сентября, но он пожелал, чтобы день венча-
ния был назначен скорее, что многим показалось стран-
ным, но они молчали; итак, 20 июля 1605 г. его венчали
на царство в церкви Богородицы, по московскому обы-
чаю, подобно тому, как венчали прежних царей в Моск-
ве, с большим великолепием и торжеством. Епископы с
коленопреклонением и большой церемонией возложили
на его голову корону, перед ним бросали золотые моне-
ты, и он ступал по золотой парче, и затем послали во все
города гонцов возвестить о венчании, и все города при-
слали ему подарки, утверждая его тем на царство.
Он отпустил алебардщиков и многих других воинов,
вознаградив их за службу, и отправил их в Польшу; также
некоторые начальники были не весьма довольны, в том
числе Адам Вишневецкий, вельможа из Белоруссии, раз-
гласивший, что он один издержал на Дмитрия несколько
тысяч гульденов своих собственных денег, и его не воз-
наградили и не возместили ему издержек, однако не упо-
минал о причине — быть может, он то заслужил.
Также все казаки были щедро одарены и распущены,
но некоторые также роптали, ибо каждый из них весьма
охотно сам стал бы царем.
Он оставил в Москве атамана Корелу с частью каза-
ков и хотел его возвысить, но Корела невысоко чтил мир-
ские почести, сокровища и деньги, вел беспечную жизнь,
каждодневно бражничал и не хотел быть вельможей по
причине принимаемых на себя трудов.
Также отрешил он старого патриарха Иова52 и пове-
лел его проклясть перед всем народом, называя его Иудой
и обвиняя в том, что он был виновником предательств
185
Бориса. Дмитрий сослал Иова в Старицкий монастырь,
где он вел бедственную жизнь. На его место был возведен
другой патриарх, родом грек, лукавый негодяй, содомит
и распутник, которого ненавидел народ, однако это со-
вершилось по воле царя.
Царь назначил по собственному усмотрению всех на-
чальников и офицеров, на которых он, как ему казалось,
мог положиться, и тех, которые были слишком допытли-
вы и чересчур много знали, он отставил, а также некото-
рых устранил.
Высшие бояре и патриоты земли, взирая на все это,
были весьма опечалены, отлично приметив, что он неза-
конный царь. Однако некоторые слишком много болтали,
и то были по большей части монахи и духовные особы,
отлично знавшие тайны государства. Но тех, на кого пало
подозрение, лишали жизни и устраняли; также поступали
со многими простыми людьми и гражданами в Москве,
так что ночью только и делали, что пытали, убивали и
губили людей, но все равно люди не могли молчать. На
каждого, что-либо промолвившего против царя, доноси-
ли и лишали жизни и имущества. В таком положении была
Москва, когда составился тайный заговор, чтобы убить
Дмитрия, и главным зачинщиком был Василий Ивано-
вич Шуйский, хорошо знавший, что Дмитрий не был за-
конным царем и всегда это утверждавший, как уже было
сказано. Василий Иванович Шуйский не оставил этого
намерения, но часто советовался со своими привержен-
цами, коим он более всего доверял и среди коих были как
бояре, так и многие купцы, как убить Дмитрия, улучив
для того удобное время. Это открылось, ибо некоторые
проболтались, но они не знали обо всем с уверенностью
и не могли привести тому надежных доказательств. Одна-
ко некоторых из оговоренных подвергли жестоким пыткам,
и одни из них признались, другие же нет, и Шуйского
схватили и объявили изменником, который покушался
убить царя, и присудили отрубить ему голову, что должно
было свершиться 25 августа. Шуйского привели в тот день
на большую площадь перед Кремлем, окруженную восе-
мью тысячами стрельцов, во главе с Басмановым, все они
186
1
были хорошо вооружены; и объезжая народ, который был
с виду весьма опечален тем, что этого боярина должны
казнить, Басманов обратился к нему, сказав, что им всем
надлежит быть твердо уверенными, что Шуйский возна-
мерился снова возмутить землю, а также замышлял мно-
гие предательства ко вреду отечества. Басманов говорил:
«Наш царь милостив, он никого не велит казнить, даже
если кто того вдвойне заслужил». Шуйский стоял, окру-
женный народом, перед большой плахой, в которую был
воткнут топор. Пришел палач и стал раздевать его, и ког-
да палач захотел снять с него также рубашку, весьма ис-
кусно обшитую золотой каймой и жемчугом, то он Шуй-
ский, желая умереть в ней, не пожелал ее отдать, меж
тем медлили с казнью, как бы ожидая помилования, что
было весьма не по сердцу Басманову и многим другим,
желавшим, чтобы с ним тотчас покончили.
Наконец, из Кремля выехал дьяк, который не очень
торопился, ибо сам желал смерти Шуйского, и этот дьяк
привез царский указ о милости, что царь даровал Шуй-
скому жизнь, чему все жители Москвы весьма обрадова-
лись; Басманов же, разъезжая кругом, говорил и воскли-
цал: «О, сколь милостивого царя даровал нам Бог, что он
милует даже своих изменников, искавших лишить его
жизни». И нет сомнения, все было сделано главным обра-
зом для того, чтобы склонить сердца людей к Дмитрию,
чтобы и богатые, и бедные твердо верили, что то истин-
ный Дмитрий, и причиной этой милости, как тогда гово-
рили, было заступничество старой царицы, его матери.
Итак, Василию Ивановичу Шуйскому была дарована
жизнь, и его вместе с двумя братьями, Дмитрием и Ива-
ном, отправили в ссылку или тюрьму в Вятку, однако
незадолго до праздника Шуйские были помилованы и
возвращены в Москву. Они не переставали пещись об оте-
честве и противоборствовать всем ересям, которые, как
они полагали, должны были распространиться, и с той
же настойчивостью втайне составляли заговор, чтобы при
удобном случае убить Дмитрия.
Теперь надлежит нам сказать несколько слов о его
жизни и домашних делах. Прежде всего он послал много
187
Помилование князя Василия Шуйского перед казнью
денег в Польшу для уплаты долгов всем, кто ему давал в
долг. Приехало много поляков, которые добывали в Москве
деньги, доставляя во дворец с купцами множество пре-
красных драгоценных камней и другого узорочья, и он
все покупал.
Он повелел выстроить над большой кремлевской сте-
ной великолепные палаты, откуда мог видеть всю Моск-
ву, ибо они были воздвигнуты на высокой горе, под ко-
торой протекала река Москва. Дмитрий повелел выстроить
два здания, одно подле другого, под углом, одно для бу-
дущей царицы, а другое для него самого.
Внутри этих описанных выше палат он повелел по-
ставить весьма дорогие балдахины, выложенные золотом,
а стены увесить дорогой парчой и рытым бархатом, все
гвозди, крюки, цепи и дверные петли покрыть толстым
слоем позолоты Он повелел внутри искусно выложить печи
различными великолепными украшениями, все окна обить
отличным кармазиновым сукном. Дмитрий повелел также
построить великолепные бани и прекрасные башни; сверх
того он повелел построить еще и конюшню , рядом со сво-
ими палатами, хотя уже была одна большая конюшня при
188
Медвежий бой
творце; он повелел в описанном выше дворце также устро-
ить множество потаенных дверей и ходов, из чего можно
видеть, что он в том следовал примеру тиранов.
Также повелел он разыскивать по всей стране самых
лучших собак, и почти каждое воскресенье он тешился с
ними на заднем дворе, куда привозили в клевках множе-
ство медведей, и он выпускал их на собак. Приказывал он
некоторым знатнейшим дворянам, которые по большей
части были отличными охотниками, выходить на медве-
дей с рогатиной, и некоторые проявляли поистине ре-
189
ройскую отвагу, и я сам видел, как многие выходили на
большого, свирепого медведя с одной рогатиной и так
ловко вонзали ее ему в горло или в грудь, что было прямо
невероятно, и хотя по большей части их руки бывали из-
ранены, они одерживали победу, но ежели бы кто про-
махнулся, то мог бы поплатиться жизнью. Вокруг стояли
охотники с вилами, следившие за медведями, и в случае
промаха борца тотчас пронзали медведю горло; поистине
отвратительное зрелище. Дмитрий и сам пожелал выйти
на злобных медведей, но по неотступным просьбам вель-
мож отложил свое намерение.
Также часто выезжал он из Москвы охотиться в поле,
куда по его повелению выпускали медведей, волков и
лисиц, и он преследовал их с великой отвагой; он в один
день загонял по несколько лошадей и часто менял платье.
Поистине он был лихой наездник: как бы ни была дика
лошадь, он укрощал ее своими руками, чему все диви-
лись, хотя там все хорошие наездники, ибо они с детства
до самой смерти ездят верхом (в Москве каждый купец,
даже небогатый, держит лошадей, и из одной улицы в
другую переезжает верхом). Дмитрий также был искусным
правителем; и все установленные им законы в государ-
стве были безупречны и хороши; он сам нередко настав-
лял чиновников.
Он также возомнил, что ему мало владеть Москови-
ей, но помышлял о завоевании всей Татарии, Швеции и
Дании, полагая, что то будет нетрудно привести в испол-
нение. Прежде всего он устремил взоры на Татарию; он
был отважным воином и охотно смотрел на кровопроли-
тие (но не давал этого приметить и держал все в глубокой
тайне), также обладал неимоверной силой в руках.
Присмотревшись к обычаям московитов, он стал ос-
торожнее и удвоил стражу во дворце, также отобрал из
немцев и ливонцев триста самых рослых и храбрых воинов
и поставил из них двести алебардщиками и сто трабанта-
ми, и во время выходов они всегда окружали его. Велев им
роскошно одеваться, он дал им большое жалованье и весь-
ма возвысил их, также велел одеть их в немецкое платье.
Над трабантами, среди которых было много шведских и
190
ливонских дворян, он поставил капитаном Якова Марже-
рета, бывшего прежде капитаном немецкого отряда, и они
были весьма роскошно одеты в бархат и золотую парчу,
носили дорогие плащи и позолоченные протазаны с древ-
ками, покрытыми красным бархатом и увитыми серебря-
ной проволокой. И каждая сотня алебардщиков имела сво-
его капитана; один из них был шотландец, по имени
Альбрехт Лантон, и его воины носили кафтаны фиолето-
вого сукна с обшивкой из зеленого бархата, другой капи-
тан был Матвей Кнутсен из Дании, который при Борисе,
после смерти герцога Иоганна, поступил на царскую служ-
бу, и его воины также носили кафтаны фиолетового сукна
с обшивкой из красного бархата. Эти три капитана вместе
с лейтенантами были пожалованы деревнями и землями и
сверх того ежегодно получали большое жалованье. Также
алебардщики и трабанты были щедро одарены и должны
были всегда окружать царя, а некоторые из них — пооче-
редно держать ночной караул во дворце. Когда царь выез-
жал верхом, то трабанты также должны были следовать за
ним верхом, ибо у каждого из них была лошадь; а алебард-
щики провожали царя пешком до ворот, где и ожидали его
возвращения. Трабанты имели при себе каждый раз, когда
выезжали, заряженные пистолеты.
Это казалось московитам весьма диковинным, ибо
они ничего подобного не видали и не знали, что об этом
думать, ибо все московские прирожденные цари выезжа-
ли верхом в сопровождении одних стрельцов. Последних
Дмитрий держал постоянно при себе, две или три тысячи
человек, вооруженных длинными пищалями; он повелел
также отлить много пушек, хотя их было много в Москве.
Сверх того он иногда приказывал строить крепостцы и
брать их приступом и обстреливать из больших пушек, в
чем принимал участие сам, как простой воин, и не пре-
небрегал никакой работой, желая вселить в московитов
доброе разумение, как вести войну. Однажды повелел сде-
лать чудище — крепость, двигавшуюся на колесах, с мно-
гими маленькими полевыми пушками внутри и разного
рода огнестрельными припасами, чтобы употребить эту
крепость против татар и тем устрашить как их самих, так
191
и их лошадей; поистине это было измышлено им весьма
хитроумно. Зимой эту крепость выставили на реке Москве
на лед, и Дмитрий повелел отряду польских всадников ее
осадить и взять приступом, на что он мог взирать сверху
из своих палат и все отлично видеть. Ему мнилось, что эта
крепость весьма удобна для выполнения его намерения.
Она была весьма искусно сделана и вся раскрашена; на
дверях были изображены слоны, а окна подобно тому,
как изображают врата ада, и они должны были извергать
пламя, и внизу были окошки, подобные головам чертей,
где были поставлены маленькие пушки. Поистине, когда
бы эту крепость употребили против таких врагов, как та-
тары, то тотчас же привели бы их в замешательство и они
обратились бы в бегство, ибо это было весьма искусно
придумано. Поэтому московиты прозвали ее чудищем ада.
Он повелел также отлить много мортир, чтобы стре-
лять ядрами, и часто испытывал их; сверх того он вместе
с дворянами принимал участие в военных забавах и под-
вергал себя опасности. Однажды заговорщики положили
убить его во время подобной игры, но страх помешал им.
Дмитрий возвысил князя Федора Ивановича Мстислав-
ского и подарил ему весь дом покойного царя Бориса, и
когда Мстиславский уверял, что он не достоин такой ми-
лости, то Дмитрий сказал: «Ты лучше Бориса, который
был предателем отечества», и дал ему также жену из рода
Нагих, родственников старой царицы, своей мнимой ма-
тери, и Нагие снова возвысились, после того как во вре-
мя Бориса столь долго пробыли в нужде и опале. Он выдал
дочерей из этого рода за многих московских бояр, а их
дочерей повыдавал в свою очередь за Нагих, и удостаивал
своим посещением. Дмитрий велел устраивать веселые
охоты и потехи; все это он делал для того, чтобы пока-
зать, что его родственники или свойственники сближа-
ются с боярами, непричастными ни к одной партии, и
чтобы таким образом с помощью брачных союзов рассе-
ять все их подозрения.
Меж тем Дмитрий отправил посла в Польшу объявить
королю и другим лицам о том, что Бог утвердил его на
престоле, а также пригласить нареченную невесту, дочь во-
192
еводы Сандомирского, Юрия, посылая невесте много со-
кровищ и узорочья драгоценного из жемчуга, золота и ка-
меньев, также множество денег, чтобы собрать ее в дорогу и
снабдить всем необходимым, как то подобает царице. Ста-
рая царица также послала много подарков своей, как она
подавала вид, будущей дочери; невесту звали Мариной53. Все
подарки, которые Дмитрий отправил в Польшу, будут, как
мы увидим, перечислены в этом сочинении. Также королю
Польскому послал он прекрасные подарки; повелел приве-
сти в порядок все сокровищницы в Москве и сделать новые
ларцы и каждое узорочье положить отдельно в особые лар-
цы. Переворошили все древние сокровища, лежавшие схо-
роненными сто лет и долее, расставили и разложили по его
усмотрению. Купил он много дорогих товаров у англичан,
голландцев и других чужеземцев; также приехало из Польши
много евреев торговать драгоценным узорочьем.
Дочь Бориса, Ксению, которая в течение некоторого
времени находилась в его власти, велел постричь в мона-
хини и сослать в Кирилловский монастырь, расположен-
ный в ста милях от Москвы, где находилось уже много
инокинь из знатных родов.
Князя Василия Масальского, своего лучшего друга,
которого он высоко ценил за то, что тот первый перешел
к нему и оставался ему верен до конца, Дмитрий отпра-
вил к Польше, но не за рубеж, а в княжество Смолен-
ское, с дорогими подарками и золочеными санями, что-
бы везти в них, ежели кто прибудет зимой по делу его
невесты. Масальский, которому в Смоленске оказывали
царские почести, забрал себе самые лучшие поместья,
какие только мог захватить, и стал несметно богат.
Сверх того в Москве его самыми близкими и надеж-
ными друзьями были: Петр Басманов, которого он поста-
вил главным воеводой над всеми войсками, и Михаил
Молчанов, который перешел к нему в Польше и всегда
оказывал ему помощь и содействие, но это был большой
плут и льстец, не боявшийся ни Бога, ни людей; эти трое
сообща творили бесчестные дела и распутничали.
Во всех делах внешних Дмитрий поступал, как воин и
герой. Не было ни дьяка, ни приказного, который не испы-
7 Зак. 1918
193
тал бы его немилости, также немало палок обломал он о
них, уча их приличным манерам и развязности, что им не
очень-то нравилось, и те, что были недовольны, терпеливо
ожидали, пока настанет благоприятное для них время.
16 октября прибыл посол от короля Польского54 с
подарками царю Дмитрию, чтобы передать ему поздрав-
ления от короля. Подарки были: прекрасные лошади, зо-
лотая цепь и большой кубок; и в том же месяце посол
отъехал. Также приезжал папский легат для возобновле-
ния союза, заключенного им в Польше, и был отпущен с
подарками55.
В это же время снова помиловали Шуйских, и они
прибыли в Москву и вновь принялись составлять заговор,
только в строжайшей тайне.
Принял царь на службу одного польского ротмистра,
верно служившего ему при завоевании Московии. Его звали
пан Матвей Домарацкий. Царь сам обучал своих всадни-
ков - это были отважные молодцы и дворяне хороших
фамилий. Он положил им большое жалованье, и они ни-
чего не должны были делать, как только жить в Москве и
во всякое время сопровождать царя на охоту и верховые
выезды, все в прекрасных кирасах и полном вооружении.
Приехало в Москву много молодых поляков, чтобы
посетить царя, которому они, зная его в Польше в ином
состоянии, оказывали какую-либо помощь, и они искали
его милости не напрасно. Также прибыл в Москву род-
ственник невесты по фамилии Казановский, и ему отвели
особый дом. Это был человек молодой, но весьма надмен-
ный. Этот и многие другие поляки каждодневно принима-
ли участие в его охотах и забавах царя и не помышляли ни
о чем ином, как только о веселии.
Осенью царь повелел сделать все приготовления к
тому, чтобы зимой с большим войском осадить Нарву,
но вельможи отсоветовали ему, так что он уступил, неиз-
вестно по какой причине.
Также призвал он из Углича Густава, сына короля
Шведского, о котором мы довольно говорили при изло-
жении истории царствования Бориса, и повелел ему
принести клятву и присягу московской короне в том, что
194
он будет верно служить, когда будет нужда призвать его.
Густав, человек сумасбродный, сказал, что он сам сын
короля и с ним нельзя так говорить, но лучше бы оказали
ему милость и помогли бы овладеть шведским королев-
ством, что ему подобает; на что Дмитрий разгневался и
повелел связать Густава и бросить в сани и вместе со швед-
ским слугой, которого звали Симоном, заточить в темни-
цу в Ярославле, что в пятидесяти милях от Москвы, где
он и умер. Как я полагаю, его отравили.
Каждый день прибывали в Москву гонцы как от неве-
сты и отца ее, воеводы, так и от папы и легата его, пребы-
вавшего в Кракове, а также отбывали из Москвы в Польшу.
8 января 1606 г., ночью, случилось великое волнение
в Кремле: показалось, что некие люди очутились близ
царских покоев, так что сам царь с двумя стрелецкими
капитанами, взяв оружие, пошел в большую палату; и
этих двух капитанов звали Федором Брензиным и Рома-
ном Дуровым. .Они никого не могли найти, кто был бы
причиной волнения. Схватили двух или трех человек, ко-
торые и под пыткой ни в чем не признались и были каз-
нены; удивительно, как всемогущий Бог оберегал Шуй-
ского, бывшего главой и руководителем всех заговорщиков.
После этого происшествия стража была весьма умно-
жена. Кажется, убить Дмитрия был подкуплен Андрей
Шеферединов, который по повелению Дмитрия удавил
царицу Марию и ее сына, ибо никто не знал, где этот
молодчик находился с тех пор.
Одним словом, каждодневно доносили на многих
людей, которые слишком много болтали, и их устраняли.
То были по большей части монахи; я считаю, что то было
чудо из чудес, что весь заговор не был открыт.
Некоторые стрельцы поговаривали о том, что невоз-
можно считать его истинным Дмитрием, что дошло до
слуха Басманова, под начальством которого были около
восьми тысяч стрельцов. Он донес царю и увещевал его,
дабы он поостерегся и был осторожнее, ибо его особе
грозит великая опасность. После учиненного тайно боль-
шого розыска из всего множества заговорщиков открыли
и схватили семерых, но так, что никто из их людей не
195
узнал об этом, и на другой день по новому делу призвали
всех стрельцов на задний двор, где по воскресеньям обык-
новенно травили медведей. Туда все они явились на суд, и
никому из них не было ведомо, что за этим последует, и
все были охвачены страхом, не ведая, почему созвали их
всех без оружия. Тотчас вышел царь, окруженный всеми
телохранителями и алебардщиками, сверх того сопровож-
даемый Басмановым, Мстиславским, Нагими и многими
польскими дворянами, взошел на высокое крыльцо, быв-
шее на заднем дворе, и повелел затворить кругом все во-
рота. Стрельцы, увидев царя, тотчас пали ниц, по их мос-
ковскому обычаю, и, обнажив головы, обратили на него
свои взоры. Он, видя такое множество обнаженных голов,
лежавших одна подле другой, не мог удержаться от смеха
и сказал: «Когда б они все были умны!» Усевшись, он
обратился к народу с прекрасной речью. Сперва приведя
из Священного Писания слова о промысле Божием, весьма
жаловался на их коснение и неверие, говоря: «Доколе хо-
тите вы чинить раздор и несчастье? Не довольно ли того,
что вся земля разорена вконец, и неужто должна она со-
всем погибнуть?» Перечислял им все измены Годуновых,
как они истребили все знатнейшие роды в стране и безза-
конно овладели царским престолом, из-за чего, страна
была так наказана, и «теперь, когда Бог сохранил меня и
избавил от всех умыслов на мою жизнь, вы все еще не
спокойны и желаете моей погибели, употребляя все хит-
рости, чтобы снова завести крамолу». Спрашивал, есть ли
у них что сказать против него или могут ли они привести
какие-либо доказательства тому, что он не истинный
Дмитрий. И когда они смогут это сделать, то пусть на ме-
сте лишат его жизни. «Моя мать и все эти вельможи будут
мне в свидетели; и мыслимое ли дело, чтоб кто-нибудь
мог, почти не имея войска, овладеть таким могуществен-
ным царством, когда бы у него не было на то права. Бог
бы того никогда не допустил; я подвергал жизнь свою
опасности не для того, чтобы самому возвыситься, но дабы
освободить вас от крайней нужды и рабства, в которое
поверг вас изменник отечества, правивший им и угнетав-
ший вас». Меж тем вопрошал стрельцов, чего ради они
196
составили заговор, и требовал, чтобы они в его присут-
ствии прямо высказали причину своего недоверия.
Они все были весьма тем удивлены и со слезами пали
ниц, моля его о помиловании, клялись, что ничего не
знают, и просили царя оказать им милость, указать им
тех, кто столь несправедливо обвинил их. Царь тотчас по-
велел Басманову вывести к толпе вышеупомянутых семе-
рых стрельцов, что и было исполнено. И как только их
привели, Дмитрий сказал: «Смотрите, вот те, которые
говорили, что вы все заговорщики и преисполнены из-
менническими злыми умыслами против вашего законно-
го царя и повелителя». Тотчас они всем скопом наброси-
лись на этих людей, схватили их и растерзали на куски,
столь отвратительно, что никто не сможет поверить, ибо
у всего множества не было ничего в руках, ни оружия, ни
палок, однако они напали на этих семерых стрельцов и
своими руками растерзали их на тысячу кусков, так что их
платья были залиты кровью, словно они забили много
быков. По совершении сего стрельцы громко кричали: «Так
надлежит поступать со всеми врагами и изменниками на-
шего царя». И хотя Дмитрий был жестокосердым, однако
не мог смотреть на это зрелище и все время находился в
одном из покоев, и, выйдя к стрельцам, он еще раз для
безопасности своей особы постарался уверить их, что он
истинный Дмитрий, и распустил их по домам. Они все
снова пали ниц, моля его о милости, после чего каждый
пошел своей дорогой, и разошлись, и куски от тех рас-
терзанных трупов подобрали и сложили на телегу и, вы-
везя за город, бросили на съеденье собакам.
Это происшествие навело столь великий страх на жи-
телей Москвы, что они даже немного говорили о том и
каждый боялся проронить лишнее слово, но некоторые
так были ожесточены, что не примечали ни смерти, ни
пыток. Поистине я думаю, что эти помянутые семь чело-
век не были виновны и не вели таких речей, как Дмитрий
объявил перед толпой стрельцов, и он поступил так для
того, чтобы вселить в каждого из них страх.
Дмитрий вознамерился по совершении своей свадь-
бы выступить со всем войском в поход на крымских татар,
197
Стрельцы
для чего всю зиму посылали великое множество амуни-
ции, припасов и провианту в Елец, город на татарской
границе. Все это свозили туда, чтобы сопровождать вой-
ско, так что к весне запасли много муки, пороха, свин-
ца, сала и всяких других вещей на триста тысяч человек,
и было велено все сберегать до прибытия Дмитрия. Затем
он отправил посла в Крым объявить хану, что он должен
возвратить московскому царю все подати, которые Мос-
ковское государство прежде принуждено было уплатить
хану, а не то он обреет хана и весь его народ наголо, как
мех, который он ему посылает и который был начисто
198
обрит, совсем наголо56; но гонец, отправленный с этим
посланием, не возвратился.
Наступала весна, и каждый день стали ожидать при-
бытия воеводы с его дочерью, невестой, о чем в Москве
ежедневно получали известия, и царь повелел пригото-
вить все, что казалось необходимым. Дворянам приказал
сшить самые красивые уборы как для себя, так и для сво-
их лошадей, также он выдал почти всем стрельцам новое
платье и красные кармазиновые кафтаны, повелев каж-
дому быть готовым к встрече царицы. Он приказал также
весьма красиво убрать кельи в монастыре, где жила его
мать, ибо прежде всего невесту должны были отвезти туда
на восемь дней, дабы она могла научиться московским
обычаям; также были украшены и искусно убраны ее и
его покои во дворце.
Из Польши и через Польшу приехало в Москву мно-
го богатых купцов с различным узорочьем и драгоценно-
стями, чтобы продать их царю к свадьбе.
Царь повелел также приготовить много дорогих шат-
ров и повозок; также выдал всем капитанам, ротмистрам
и придворным деньги, чтобы они приготовили себе и сво-
им слугам самые дорогие наряды. По всем деревням и цар-
ским поместьям были разосланы гонцы; богатые деревни
обложили повинностями, и они каждодневно доставляли
в Москву яйца, кур, быков, овец и различные другие съе-
стные припасы, каждая сообразно с тем, сколько было
наложено повинностей, ибо в Москву должно было из
Польши прибыть множество гостей, которых надобно было
прокормить, и ожидали шесть или семь тысяч человек.
Велели запасти на каждом дворе овес, сено, солому, и
для того назначили повсюду смотрителей, знавших, что
им надобно делать. Некоторые купцы в Москве должны
были на время уступить лучшие жилища на своих дворах и
принять на постой польских свадебных гостей; одним сло-
вом, повсюду было большое оживление.
Меж тем заговорщики делали возможные приготов-
ления к другому празднику и собирались в большом чис-
ле, и связали друг друга великими клятвами, что в сва-
дебные дни убьют Дмитрия вместе со всеми поляками,
199
находившимися в Москве. Таким способом они полагали
вернуть и свои сокровища, отправленные Дмитрием в
Польшу. Было заговорщиков добрых три тысячи человек в
Москве, Новгороде и других местах, и то было великим
чудом, что ничего не открылось; и главой их был князь
Василий Иванович Шуйский, радевший о благе отечества
и религии.
Московский посол Афанасий Иванович Власов, от-
правившийся в Польшу за невестой, а также для того,
чтобы отвезти подарки, прибыл вместе с ней и воеводой
в польский город Краков, где король и его сестра оказали
ей великие почести. Также посол от имени царя заключил
брак57, и невеста сидела против короля, в присутствии
папского легата, а также агента, которого тот постоянно
держит при короле, молодого принца и сестры короля.
Затем они отъехали, и воевода Сандомирский отправился
вперед в Москву и прибыл в Смоленск, где его встретил
с большим почетом и великолепием князь Василий Ма-
сальский, и далее в сопровождении многочисленной сви-
ты вместе с московским послом Афанасием Ивановичем
Власовым отправился в Москву. Здесь бояре, дворяне и
весь народ поистине встречали его с той же торжествен-
ностью, как датского герцога Иоганна в царствование Бо-
риса. Воевода въехал в Москву на царской лошади, и в
Кремле поместили его в доме Бориса рядом с палатами
царя. Ему услуживали по-царски и каждый день служили в
его доме мессу, ибо при нем были те людишки, которые
могли это исполнять.
Его въезд был совершен 24 апреля, он был представ-
лен царю, и они обменялись изъявлениями уважения и
взаимным пожеланием счастья.
На другой день царь Дмитрий повелел раскинуть много
дорогих шатров на превосходном месте, в одной миле от
Москвы, и расположить их подобно вытканному городу,
снабдив всякими яствами и винами, чтобы царица могла
подкрепиться и приготовиться к торжественному въезду.
Дмитрий отправился туда, взяв с собой воеводу Сандо-
мирского, который ехал позади его, и князя Василия
Шуйского, снова попавшего в большую милость. Сандо-
200
мирский ехал по правую руку от Шуйского, а за ним сле-
довали все дворяне и провожающие; алебардщики при-
нуждены были, невзирая на жару, идти пешком до выше-
описанных шатров, что многих раздосадовало, ибо они к
тому не привыкли. Пообедав там, царь отправился охо-
титься на медведей, которых он сам, будучи верхом, ве-
село преследовал, и убил свирепого большого медведя, и
когда бы конь, на котором царь сидел, не был выучен, то
он подвергся бы большой опасности, ибо он был неверо-
ятно дерзок и отважен, когда был при оружии и на коне.
Так, проведя весь день в потехах, он возвратился в Моск-
ву, где каждый день продолжал готовиться к свадьбе.
1 мая царицу Марину, или невесту, встретили у опи-
санных выше шатров, и на другой день, 2 мая, рано ут-
ром по всей Москве было объявлено бирючами, чтобы
все князья, бояре, дьяки, дворяне и дети боярские, куп-
цы и все прочие нарядились в самые богатые одежды и
оставили всякую работу и торговлю, ибо надлежит встре-
тить царицу. И всем, у кого были лошади, было велено
выехать верхом в два часа утра, что и было все исполнено
по тому повелению с большим торжеством. Через Моск-
ву-реку, с той стороны, откуда должна была прибыть ца-
рица, построили новые мосты, а на лугу близ берега раз-
били два дорогих шатра, тут ее должны были встретить и
пересадить из ее повозки в царскую колымагу.
Все дворяне и вельможи, ехавшие верхом, были в дра-
гоценных нарядах, шитых золотом и жемчугами, и лошади
их были увешаны золотыми и серебряными цепями, на
них были золоченые и посеребренные седла, унизанные
драгоценными камнями. За каждым следовало множество
слуг как пешком, так и на лошадях, и они были одеты
почти так же великолепно, как их господа. Также вывезли
царскую колымагу, которая была весьма красиво и искус-
но отделана, как театр, позолочена и убрана золотой пар-
чой, внутри лежали подушки, унизанные жемчугом, и даже
колеса ее были вызолочены. В колымаге сидел красивый
маленький араб, державший на золотой цепочке обезьяну,
с которой он играл. Эту колымагу везли двенадцать белых
лошадей с круглыми черными пятнами, так что поистине
201
можно было подумать, что они были так раскрашены, но
я знаю, что они были такими от природы и задолго до того
их прислали в Москву из Татарии. Позади колымаги шла
сотня телохранителей, роскошно одетых, с капитаном,
который так же, как и два капитана алебардщиков, ехал
верхом. Двести алебардщиков составляли как бы два кры-
ла, с каждой стороны колымаги по сто; также шли с каж-
дой стороны по двое знатных бояр из Москвы, в одеждах,
увешанных и расшитых жемчугом и драгоценными камня-
ми. Так колымагу проводили до двух помянутых выше шат-
ров и, поставив ее неподалеку от них, выстроили в ряд по
обеим сторонам алебардщиков, одетых в немецкое платье,
а позади их поставили телохранителей.
Басманов выехал с великой пышностью, подобно са-
мому царю, в сопровождении многих молодых конников.
Также выехала рота польских всадников со своим ротми-
стром Домарацким, все с цветными копьями и значка-
ми, каждый одет в великолепнейшее платье, и, встретив
царицу, весело трубили в трубы и соединились с двумя
ротами всадников, сопровождавших царицу, и поехали
вместе с ними.
Когда поезд приблизился к шатрам, королевский по-
сол с большой свитой выехал вперед, потом все дворяне
и волонтеры, прибывшие вместе с невестой из Польши,
во многих красивых каретах, в которых запряжено было
по шесть, восемь и десять лошадей одной масти.
Меж тем, как только начался въезд Марины, царь,
обрядившись в простое платье, в красной простой шапоч-
ке, тайно выехал из дворца в сопровождении князя Васи-
лия Шуйского и одного слуги поляка, также ехавших вер-
хом, строго приказав не оказывать ему почестей, дабы он
никем не был узнан. Он объехал все войска и всех поля-
ков, будучи никем не узнан, и расставил в добром поряд-
ке всех дворян, бывших на лошадях, равно как и стрель-
цов, которых было числом четыре тысячи, и все на царских
лошадях, и одеты по большей части в платье красного
кармазинного сукна, каждый со своим значком и ружьем
при седле. Он расставил их в добром порядке от реки к
городским стенам столь искусно, что издали казалось было
202
их втрое более, и приказал им, как только царица въедет
в Москву, тотчас, проехав через другие ворота, выстро-
;иться в том же порядке у второй внутренней большой сте-
ны, что и было исполнено. Все устроив, не будучи узнан
-никем из простонародья или по крайности немногими,
)царь возвратился в город; но мы, отправившись верхами
s посмотреть на въезд, видели его хорошо.
Когда царица, или невеста, подъехала к шатрам, ее
встретили с большим почетом и торжественным великоле-
; пием от имени царя Дмитрия посадили в царскую колыма-
^гу и повезли в Москву, продвигаясь весьма медленно, так
?что въезд совершался в продолжение почти целого дня.
>' Впереди в добром порядке шли два отряда гайдуков,
? или польских стрелков. У каждого из них был на плече муш-
кет, а сбоку висела турецкая сабля, у некоторых из них
были бердыши. Все гайдуки были одеты в кафтаны синего
сукна с серебряными накладками и у большей части из
них были белые перья на шапках. Они были весьма бравы и
5'По большей части высокого роста; их знаменщик шел по-
средине, подле него шли трубачи и флейтисты, которые
'Весьма изрядно играли, а также били в барабаны.
‘j, Затем шли две роты польской конницы с разноцвет-
ными копьями и флажками на них, а также присоеди-
нившаяся к ним рота Домарацкого. Они были одеты по-
старинному, несли большие позолоченные турецкие и
персидские щиты с изображениями драконов и змей, так-
же были у них дорогие луки и колчаны. Это отважные и
статные молодые люди весьма громко трубили в трубы во
время шествия. Но из того, что я видел, мне больше всего
полюбились их прекрасные величественные лошади, ко-
торые все время резвились и были в красивых чепраках, а
некоторые украшены крыльями и, казалось, не шли, а
летели; по большей части это были венгерские лошади.
Потом вели трех коней, столь прекрасных, каких я
еще за всю жизнь не видал, хотя мне довелось видеть мно-
го красивых лошадей. Каждого коня вели на длинных зо-
лотых поводах, концы коих держали турки, и хотя ноги
этих коней были спутаны золотыми подвязями и вели их
на поводах, однако их не могли удержать: они скакали и
203
Марина Мнишек
ржали так, что пена стекала с их золотых удил; на них
были седла, сделанные весьма искусно и унизанные би-
рюзой. Также многие ехали на лошадях, преизящно вы-
крашенных красной, оранжевой и желтой краской, и эти
лошади были весьма красивы, и даже, если они ехали
или плыли в воде, то краска все же с них никогда не
сходила; эту краску, называемую китайской, привозят из
Персии. Затем следовало много вельмож и дворян, каж-
дый со своими слугами, в самых красивых и диковинных
нарядах За ними ехала триумфальная царская колымага,
окруженная алебардщиками и трабантами с их капитана-
ми. По обеим сторонам ее шли четыре знатных боярина с
обнаженными головами, с ними шесть слуг в платье зеле-
ного бархата, обшитом золотыми позументами, с золо-
тыми цепями, и в багряных, шитых золотом плащах. За-
тем следовало много дворян; за ними вся толпа московских
бояр, вельмож, дьяков и дворян с их слугами; потом шли
204
и купцы со всеми прочими, и улицы были полны народа,
одетого в самые лучшие наряды.
Когда царица проехала третью городскую стену и въе-
хала на большую площадь перед Кремлем, на помостах,
нарочно для того устроенных, принялись играть на флей-
тах, трубить в трубы и бить в литавры, также принялись
играть на различных инструментах и музыканты, поме-
щенные над кремлевскими воротами.
Марина была одета, по французскому обычаю, в пла-
тье из белого атласа, все унизанное драгоценными камня-
ми и жемчугом. Против нее сидели две польские графини,
ее родственницы, за ними следовало множество карет с
госпожами и знатными девицами, это были весьма рос-
кошные кареты с золотыми столбами, в каждую было впря-
жено шесть или восемь лошадей. Так проводили Марину в
Кремль, и здесь все кареты с другими госпожами отдели-
лись, и развезли их по приготовленным для них дворам, и
некоторые из девиц горько плакали, а Марину отвезли в
Вознесенский монастырь, к старой царице, матери Дмит-
рия, куда скоро тайно прибыл он сам и приветствовал ее.
Наконец, все стали расходиться по домам, а просто-
му народу наговаривали, что невеста должна изучить об-
ряды московитов, к чему она была расположена еще до
обручения. Эту молву распустили, чтобы Марина понра-
вилась народу, но я полагаю, что Дмитрий учил ее в это
время чему-нибудь другому.
Во все время моего пребывания в Москве я неотступно
прилагал великие старания, дабы заполучить верное изоб-
ражение города Москвы, но мне не удавалось, ибо там нет
художников, и они не заботятся о них, так как не имеют о
том никакого разумения. Правда, там есть иконописцы и
резчики, но я не осмелился побудить их сделать для меня
изображение Москвы, ибо меня наверное схватили бы и
подвергли бы пыткам, заподозрив, что я замышляю какую-
нибудь измену. Так подозрителен этот народ в подобных ве-
щах, что никто не отважится предпринять что-нибудь по-
добное; но в это время жил в Москве некий дворянин,
который во время осады Кром был ранен в ногу, вследствие
чего принужден был все время сидеть дома. Он пристрастил-
205
ся к рисованию, у него в доме среди слуг был иконописец,
который и обучил его рисованию, и между прочим он на-
чертил пером изображение Москвы. Этот дворянин был зна-
ком с моим хозяином, у которого я учился торговле, и меня
иногда посылали к нему с камкой и атласом, которые он
покупал. Он часто расспрашивал меня об обычаях нашей
страны, также о нашей религии, о наших принцах и госу-
дарственных людях, на что я обстоятельно отвечал. Он не
знал, чем ему одарить меня, дабы засвидетельствовать свое
дружеское расположение, и сказал: «Просите, что вам по-
любится, и я дам вам, и когда я могу оказать вам какую-
нибудь службу при дворе, то не премините этим воспользо-
ваться». Он велел своей жене выйти ко мне, так что я ее
видел, и она подарила мне узорчатый платок, а показать
кому-нибудь свою жену означает у московитов величайшую
честь, какую они только могут оказать, ибо они держат сво-
их жен взаперти так, что никто не может их видеть. Так как
этот дворянин весьма хотел подарить мне что-либо и всегда
был рад видеть меня у себя, ибо я всегда поведывал ему
различные истории, насколько их знал, то я попросил у
него подарить мне изображение Москвы. Услыхав о том, он
клялся, что, пожелай я скорей его лучшую лошадь, он охот-
нее отдаст ее мне, но так как он почитал меня истинным
своим другом, то дал мне изображение Москвы с тем, что-
бы я поклялся не проговориться о том никому из москови-
тов и никогда не называть его имени, ибо сказал он: «Это
может стоить мне жизни: когда откроется, что я снял изоб-
ражение Москвы и дал его иноземцу, то со мной поступят,
как с изменником». И это изображение, сделанное пером, я
приложил к сему сочинению.
В последующие три или четыре дня в Москве была
совершенная тишина. Тем временем польский посол был
у царя и поднес ему подарки: две красивые лошади, чаши
и золоченые кубки и прекрасную большую собаку. Окон-
чив свою речь, посол представил грамоту, на коей не
было титула и стояло только: Великий князь Московии,
что разгневало Дмитрия, и он возвратил грамоту, на что
посол отвечал ему от имени короля: «Пусть Дмитрий спер-
ва покорит Татарию и Турцию, и тогда его будут называть
206
царем и монархом, но не теперь». На это Дмитрий так
разгневался, что в злобе хотел бросить свой скипетр в
посла, но бояре и воевода Сандомирский, который весь-
ма напугался, опасаясь возможного несчастья, останови-
ли царя, и посол удалился и почти не выходил из своего
дома до самой свадьбы.
Дмитрий увеличил титул прежних московский кня-
зей, прибавив к нему: «монарх» и «непобедимый», что
произошло по наущению литовских вельмож, ибо неко-
торые из них не любили короля и помышляли в благо-
приятных обстоятельствах подчинить Польшу Дмитрию.
6 мая, рано утром, царицу перевезли в великолепной
карете из монастыря в приготовленные для нее прекрас-
ные палаты, и в Кремле устроили перед большой столо-
вой палатой помосты для трубачей, свирельщиков и ба-
рабанщиков. Было объявлено всем стрельцам, коих было
числом восемь тысяч, чтобы они во все время свадебного
празднества оставались в Кремле, в полном вооружении,
также большая часть немецких телохранителей и алебар-
дщиков должна была содержать караулы под начальством
своих капитанов и иметь заряженные ружья.
8 мая затрезвонили во все колокола, и всем жителям
запрещено было работать. Все снова надели самые краси-
вые наряды, и бояре в великолепных одеждах поехали ко
дворцу, также дворяне и молодые господа, одетые в пла-
тья из золотой парчи, унизанные жемчугом, обвешенные
золотыми цепями. Бирючи возвестили, что настал день
радости, ибо царь и Великий князь всея Руси вступит в
брак и предстанет в царственном величии. Весь Кремль
был наполнен боярами и дворянами, как поляками, так
и московитами, но все польские гости, по их обычаю,
имели при себе сабли; за ними следовали слуги с ружья-
ми, и Кремль был оцеплен кругом помянутыми стрельца-
ми, числом восемь тысяч, все в кафтанах красного карма-
зинного сукна с длинными пищалями.
Весь путь, по которому Дмитрий должен был шество-
вать, устлали красным кармазинным сукном, от самого
дворца до всех церквей, что надлежало ему посетить; по-
верх красного сукна еще разостлали парчу в два полотни-
207
ша. Прежде вышли патриарх и епископ новгородский,
одетые в белые ризы, унизанные жемчугом и драгоцен-
ными каменьями, и пронесли вдвоем высокую царскую
корону в Успенский собор, вслед за тем пронесли золотое
блюдо и золотую чашу, и тотчас затем вышел Дмитрий.
Впереди его некий молодой дворянин нес скипетр и дер-
жаву, прямо перед царем другой молодой дворянин, по
имени Курлятов, нес большой обнаженный меч. Царь был
убран золотом, жемчугами и алмазами, так что едва мог
идти, и его вели под руки князь Федор Иванович Мсти-
славский и Федор Нагой, и на голове у него была боль-
шая корона, блестевшая рубинами и алмазами. За ним
шла принцесса Сандомирская, его невеста, убранная с
чрезвычайным великолепием в золото, жемчуг и драго-
ценное каменье, с распущенными волосами и венком на
голове, сплетенным из алмазов и оцененным царским
ювелиром, как я сам слышал, в семьдесят тысяч рублей,
что составляет четыреста девяносто тысяч гульденов; и ее
вели жены помянутых бояр, сопровождавших царя.
Впереди царя шествовали по обе стороны четыре че-
ловека в белых, унизанных жемчугом платьях, с больши-
ми золочеными топорами на плечах. Эти четверо вместе с
меченосцем оставались перед церковью, пока царь не вы-
шел из нее. Так царь и Марина дошли до Успенского со-
бора, где были обвенчаны по московскому обряду патри-
архом и епископом новгородским, в присутствии всего
духовенства, московских и польских вельмож.
О, как раздосадовало московитов, что поляки вошли в
их церковь с оружием и в шапках с перьями! Если бы кто-
нибудь подстрекнул московитов, то они на месте перебили
бы всех поляков, ибо церковь их была осквернена тем, что в
нее вошли язычники, коими они считают все народы на
свете, твердо веря тому, что только они христиане, и в сво-
ем ослеплении они весьма ревностны к своей вере.
Перед кремлевскими воротами стояла сильная стра-
жа, большие ворота были открыты, но в них никто не
смел въезжать, кроме поляков, бояр, дворян и инозем-
ных купцов, а из простого народа никого туда не пускали.
Это всех раздосадовало, ибо полагали, что так повелел
208
сам царь, и что весьма возможно, ибо иначе в Кремле
нельзя было бы двигаться.
По выходе из церкви царя и царицы после венчания
вышли и все вельможи. Дьяк Богдан Сутупов, Афанасий
Власов и Шуйский по многу раз полными горстьми бро-
сали золото по пути, по коему шествовал царь, держав-
ший за руку свою супругу, и на голове у нее была боль-
шая царская корона. Их обоих проводили наверх польские
и московские вельможи и княгини.
Едва царь взошел наверх во дворец, тотчас зазвучали
литавры, флейты и трубы столь оглушительно, что нельзя
было ничего ни услышать, ни увидеть, и царя и его суп-
ругу провели к трону, который весь был из позолоченно-
го серебра. К нему вели ступени, и рядом с ним стоял
такой же трон, на который села царица; перед ними сто-
ял стол. Внизу расставлено было множество столов, за
которыми сидели вельможи и дамы, и всех угощали по-
царски. Во время пира слышалась прекрасная музыка на
различных инструментах, и музыканты стояли на помос-
тах, устроенных в той же палате и убранных с большим
великолепием. Этих музыкантов вывез из Польши воевода
Сандомирский. Среди них были поляки, итальянцы, нем-
цы и брабантцы, и на пиру было великое веселье.
Но в тот день приключились и различные несчастья,
кои многими были приняты за худое предзнаменование, ибо
царь потерял с пальца алмаз ценой в тридцать тысяч талеров.
Также воеводе Сандомирскому стало дурно за столом, так
что его отвезли в карете домой. В Кремле один поляк был
ранен стрельцами, стоявшими на карауле, и многие приня-
ли это за дурной знак, но не говорили об этом.
На другой день, в пятницу, был большой храмовой
праздник в честь их патрона Николая угодника, и в этот
день ни за что на свете нельзя было играть свадьбу. Поэто-
му московитов вконец раздосадовало, что сам царь этот
день употребил во зло, нарушив их обычай, и они ожес-
точились против него. С народом, желавшим попасть в
Кремль, обошлись дурно, отгоняли многих почтенных
людей, и большая часть народа была огорчена, видя, что
негодяи из Польши в большей чести у царя, нежели при-
209
рожденные московиты. Одним словом, все это было под-
строено заговорщиками, чтобы без больших потерь до-
стигнуть своей цели, и они удачно выбрали время. Из Нов-
города и других мест прибыло в Москву со скрытым
оружием три тысячи человек, ревнующих об отечестве, и
они уговорились о сигнале, по которому совершат напа-
дение.
На третий день после свадьбы все бояре, епископы,
дьяки, чиновники, а также купцы всех иноземных наций
были допущены к царице для поднесения подарков, и,
принося поздравления, они целовали ее руку и передава-
ли свои подарки, которые были приняты. Она вместе с
царем пригласила их в тот же день к обеденному столу, за
которым все иноземцы сидели лицом к царю, большая же
часть московитов поместилась за другими столами. Все яства
приносили наверх на блюдах чистого золота, а вниз — на
серебряных. Однако ж ни царь, ни царица в присутствии
этих гостей почти ничего не ели, но обедали после в сво-
их покоях вместе с некоторыми вельможами и весьма по-
веселились.
В воскресенье царю передали от посла польского ко-
роля, что ему надлежит оказать такие же почести, какие
были оказаны московскому послу в Польше, на что ему
ответили: его посадят выше воеводы Сандомирского. Но
посол был тем недоволен и пожелал, чтобы его посадили
за царский стол. Однако он был приглашен, и рядом с
царским столом поставили столик, за который его поса-
дили, и он воображал, что он сидит за царским столом, и
поднес подарки лучше прежних.
В понедельник и во вторник музыканты громко игра-
ли на различных инструментах, также трубили в трубы и
били в барабаны, была назначена травля зверей в Крем-
ле, и приготовлена крепостица, которую для потехи на-
меревались брать приступом. Но все это было оставлено
по причине дурных предзнаменований, как явившихся на
небе, так и замеченных по другим предметам, чего никак
не могли уразуметь. Свадьбу играли не так, как бы надле-
жало: все шло на ней так скучно и угрюмо, что можно
было диву даться.
210
Что же касается до знамений на небе, то я сам видел
их вместе с моим хозяином, у которого я жил, с нашими
домочадцами и двумя или тремя московитами, и это было
весьма диковинное зрелище, но немногие приняли его во
внимание.
Около четырех часов пополудни на прекрасном голу-
бом и совсем безоблачном небе со стороны Польши под-
нялись облака, подобные горам и пещерам. И так как пе-
ред тем их не было видно на горизонте, то казалось, что
они упали с небесного свода. Посреди них мы явственно
видели льва, который поднялся и исчез, затем верблюда,
который также исчез, и наконец, великана, который тот-
час исчез, словно заполз в пещеру. Когда все это исчезло,
мы явственно увидели висящий в воздухе город со стена-
ми и башнями, из которых выходил дым, и этот город
также исчез. Все это было поистине так совершенно, словно
расположено в изрядном порядке искусным художником.
Многие видевшие это люди были повергнуты в страх, но
многие обратили на это внимание только для того, чтобы
рассмеяться.
В четверг до слуха Дмитрия дошли какие-то известия,
заключенные как в предостережениях, что давали ему
некоторые его приверженцы, так и в письмах, подбро-
шенных алебардщиками, которые хотя ничего толком не
знали, однако предостерегали царя; поэтому повсюду была
расставлена сильная стража и полякам велено было бодр-
ствовать всю ночь. Они стреляли всю ночь, думая тем удер-
жать Москву. В эту ночь несколько тысяч стояло под ору-
жием, чтобы привести в исполнение свой замысел, но
заметив, что почти все открыто и они не в безопасности,
устрашились чрезмерного кровопролития и стали держать
себя еще тише и скрыли оружие.
На другой день стража снова была уменьшена, и по-
лякам ни в одной лавке не продавали ни пороха, ни свин-
ца, говоря, что все вышло, но что скоро получат, сколь-
ко им будет нужно. В Москве повсюду стояла тишина,
приводившая в изумление, и тишина эта не была обык-
новенной; она должна была служить предостережением
полякам, которые погрязли в чувственных утехах, развра-
211
те и пьянстве и никого не уважали, почитая московитов
хуже собак, и жили по своему глупому разумению.
В тот вечер несколько поляков силой вытащили одну
знатную боярыню из повозки с намерением ее изнасило-
вать, невзирая на то, что ее окружало много слуг, и на-
род ударил в набат и отнял ее у них невредимою, и поля-
ки разбежались.
Полагая, что где-нибудь сделался пожар, ибо не в
урочное время зазвонили в колокола, я выбежал на кры-
шу посмотреть, что случилось, но, ничего не видя и не
слыша, я взглянул на луну, которая была совершенно
кровавой, что меня весьма устрашило. В эту же ночь мы
схоронили нашу утварь и добро, и многие люди зарыли в
землю свои драгоценности, деньги и сокровища. Мы, по-
добно другим, страшась несчастья, заперли наши ворота
и поставили сторожей. Меж тем не знали ни первых, ни
последних в заговоре, в котором состояло несколько ты-
сяч человек, но и простой народ также не знал о том.
В ту же ночь в царских палатах была радость и веселье;
польские дворяне танцевали с благородными дамами, а
царица со своими гофмейстеринами готовила маски, что-
бы в следующее воскресенье почтить царя маскарадом, и
не думали ни о чем дурном и утопали в утехах.
В субботу поутру, 17 мая, около двух часов, ударили в
набат сперва в Кремле, а потом во всем городе, и было
великое волнение. Многие с оружием поскакали на лошадях
к Кремлю, и по всем улицам бирючи заговорщиков крича-
ли: «Эй, любезные братья! Поляки хотят умертвить царя; не
пускайте их в Кремль!». По этому знаку все поляки, напу-
ганные этими криками и сидевшие в своих домах, по боль-
шей части вооруженные, были задержаны толпой, обложив-
шей их дворы, чтобы грабить и убивать; все поляки и люди
в польском платье, застигнутые на улице, поплатились жиз-
нью. Когда появился отряд польских всадников, его тотчас
осадили и закинули улицы рогатками; эти рогатки у них
устроены на всех улицах, так что они с лошадьми не могли
проехать, а где не было рогаток, тотчас набросали бревна,
выломив их из мостовых, которые выложены там из бревен.
Повсюду происходило великое избиение поляков: москови-
212
ты врывались в дома, в которых стояли поляки, и тех, что
защищались, поубивали; те же, что позволили себя огра-
бить донага, по большей части остались живы, но их огра-
били так, что они лишились даже рубашек; смятение было
во всем городе. Даже маленькие дети и юноши и все, кто
только был в Москве, бежали с луками, стрелами, ружья-
ми, топорами, саблями, копьями и дубинами, крича: «Бей-
те поляков, тащите все, что у них есть!».
Меж тем заговорщики наверху в Кремле убили царя,
и случилось это так: они склонили к тому одного дьяка,
который был для них святым, ибо весьма усердствовал в
их вере, а также не пил крепких напитков и был воздер-
жан в еде, так что они его почитали за святого; и звали
его Тимофей Осипов. В тот день, когда назначено было
присягать царице и целовать крест ей, как царице Моско-
вии, он должен был выйти и воспротивиться тому слова-
ми, а заговорщики должны были меж тем напасть на
Дмитрия. Тимофей Осипов причащался два раза и полу-
чил отпущение у священника или духовника, а также
получил благословение, данное ему со многими церемо-
ниями, как человеку, идущему насмерть за отечество ради
общего блага, и утром в тот день он простился со своей
женой и детьми, ничего о том не знавшими, но мать его
Полагала, что он намерен уйти в монастырь.
Итак, он прямо пошел наверх во дворец, где надле-
жало принести присягу, однако он объявил, что Дмитрий
не царев сын, а беглый монах, по имени Гришка Отрепь-
ев, который с помощью ворожбы и бесовского наважде-
ния вступил в Московию и незаконно завладел ей; также
сказал, что не хочет он приносить присягу иезуитке, счи-
тая ее язычницей, которая своим телом осквернила свя-
тыню московскую и была причиной погибели Московии.
Он говорил бы далее, но его тотчас умертвили и выбро-
сили из окна. Потом заговорщики ударили в колокола и с
заряженными пищалями взбежали по всем лестницам, как
передним, так и задним. Заговорщики были по большей
части московские дворяне и купцы, и многие из Новго-
рода, а также из Пскова и иных мест, задолго до того
прибывшие тайно в Москву, чтобы совершить свое пред-
213
приятие. Прежде всего схватили стоявших на карауле в
сенях дворца алебардщиков, обезоружили их, заперли всех
в одном покое внизу дворца, наказав им не перечить и не
обмолвиться ни единым словом, ежели они желают со-
хранить жизнь. Алебардщиков и половины не стояло на
карауле, но они разошлись кто куда; одним словом, то
было угодно Богу, чтобы так приключилось с ними по их
собственной вине. Заговорщики тотчас разбежались по
дворцу, убивая всех сопротивляющихся, и кинулись к
покоям Дмитрия, стреляя из пищалей.
Меж тем Дмитрий вышел и спросил, что произошло,
отчего такой шум и беснование, но по причине всеобщего
испуга не получил ответа. И он крикнул, чтобы ему подали
его меч, по тот, кому надлежало во всякое время стоять с
ним наготове, успел убежать с мечом, и Дмитрий, почуяв
беду, тотчас схватил алебарду и убежал обратно, заперев
дверь изнутри. Услышав, что стреляют в окна и рубят топо-
рами двери, он через потайные двери перебежал из одного
покоя в другой и спрыгнул в залу, которая была располо-
жена ниже других покоев, и попал в руки ливонского дво-
рянина по имени Фюрстенбергер, который охотно бы ук-
рыл его, ибо он истекал кровью, но этот Фюрстенбергер
был убит. Дмитрий ускользнул через один переход в баню,
и через двери, выходившие наружу, намеревался уйти и
скрыться в толпе, уже собиравшейся в числе нескольких
сот человек на заднем крыльце. Если бы ему удалось прой-
ти, то он, нет сомнения, был бы спасен, и народ истре-
бил бы всех вельмож и заговорщиков, ибо не ведая о заго-
воре, народ полагал, что поляки вознамерились умертвить
царя, а заговорщики его спасают. Так ему было объявлено
для того, чтобы задержать поляков в городе. Заговорщики
настигли Дмитрия в этом переходе, скоро покончили с
ним, стреляя в него и рубя саблями и топорами, ибо они
страшились, что он убежит.
Говорят, что бояре, схватив его, долго расспрашива-
ли, однако это невероятно, ибо у них не было времени
для проволочки. Итак, увидев народ, Дмитрий вскричал:
«Ведите меня на площадь и допросите меня; я поведаю
вам, кто я такой!». Но, страшась народа, который стал
214
теснить их, они тотчас убили его, восклицая: «То был
расстрига, а не Дмитрий, в чем он сам повинился».
И связали ему ноги веревкой и поволокли его нагого, как
собаку, из Кремля, и бросили его на ближайшей площа-
ди, и впереди и позади его несли различные маски, вос-
клицая: «То были боги, коим он непрестанно молился».
Эти маски раздобыли они в покоях царицы, где они были
припасены для того, чтобы почтить царя маскарадом; од-
нако московитам не было ведомо, что это такое, и они не
разумели назначения подобных предметов и были твердо
уверены, что то боги, коим он поклонялся.
Некоторые уверяют, что Дмитрий был еще в постели
и его убили в одной рубашке, когда он бросился бежать,
но это невероятно, ибо чего ради тогда убили дьяка Оси-
пова; однако некоторые говорят, что этого дьяка убили
вечером, но то неправда, ибо те, что передавали мне это
известие, были вместе с заговорщиками и сами при том
присутствовали.
Меж тем царица была полумертва от страха, ибо во-
круг ее покоев сновало много народа, ломавшего и разо-
рявшего все что ни попадалось, и один дворянин, принад-
лежавший к заговорщикам, отвел ее в надежный каменный
покой, где вместе с некоторыми другими своими товари-
щами крепко стерег ее. Но молодые гофмейстерины были
донага ограблены и обесчещены, и повлекли их каждый в
свою сторону, как добычу, подобно тому, как волки овец;
их вели нагими по улицам, наносили им всевозможные
оскорбления и совершали над ними непотребства.
Удивительно было смотреть, как бежал народ с
польскими постелями, одеялами, подушками, платьем,
лошадьми, уздами, седлами и всевозможною домашней
ч:утварью, словно все это спасали от пожара.
]: В начале мятежа Басманов был еще в бане, и как толь-
Ько он заслышал набат, тотчас вскочил на лошадь, надев
второпях только исподнее платье, и в сопровождении деся-
ти или двенадцати слуг с заряженными пищалями со всей
к поспешностью поскакал в Кремль, полагая, что приключи-
t ;лась беда между вельможами, московитами и поляками, ибо
не помышлял об ином. Прибыв во дворец, он вошел в пала-
215
ту, однако один новгородский дворянин обругал его измен-
ником, а царя назвал расстригой. И едва Басманов собрался
ответить, его тотчас умертвили, поразив десятком ударов, и
сбросили со стены и также поволокли его на площадь и
положили Басманова на скамейку, а расстригу, или Дмит-
рия, на стол, и Басманов лежал у ног Дмитрия, и лежали
они там на позор перед всем светом.
Дом воеводы Сандомирского был окружен солдатами,
и его крепко стерегли вместе со всеми, живущими в нем, а
также охраняли двор посла польского короля. Воевода по-
слал сказать ему, чтобы он вел себя тихо и сидел дома.
По убиении Дмитрия бояре поскакали в разные сто-
роны, увещевая народ перестать грабить и убивать, и преж-
де всего освободили дворы воеводы Сандомирского и
польского посла и окружили их сильной стражей, затем
поехали повсюду, упрашивая поляков, еще сидевших в
некоторых домах с оружием, выдать оружие, чтобы их не
умертвили, что по большей части и случилось. На улице,
которая называется Покровка, стоял двор, в котором за-
село много поляков, и они долго защищались; сюда при-
был князь Василий Шуйский, глава заговорщиков, и убеж-
дал их вести себя смирно, дабы остановить беснование и
убийства. Но они потребовали от него клятву, которую он
обещал им. Так как они не верили ему, то выслали одного
из своих за ворота для переговоров, и Шуйский обнял и
поцеловал его, и поклялся ему, что им не сделается ни-
чего дурного. Возмущение уладилось, простой народ стал
расходиться; все дома, где было оказано сопротивление,
разграбили и перебили их защитников, но те, что отдали
все, были донага ограблены, однако сохранили свою жизнь.
Почти всех музыкантов умертвили, также польского вель-
можу, приглашенного на свадьбу московским послом в
Польше, умертвили вместе со всей челядью, и многих
других вельмож и дворян.
Двор, на котором стоял пан Вишневецкий, храбро
защищался до самого окончания мятежа; и когда бояре
повсюду разогнали народ, он собрался вокруг этого дво-
ра, ибо он стоял на большой площади у речки Неглинной.
Его обложило несметное множество народа, стреляя и рубя
216
все в куски, и разграбили кухни, конюшни и нижние
покои, но поляки, засев в верхних покоях, оказали боль-
шое сопротивление и, отважно стреляя из окон, положи-
ли много московитов. Как только московиты наступали
толпами, чтобы завладеть золотом и дорогими платьями,
что кидали из окон поляки, то их подстреливали, словно
зверей или птиц, и как только собиралась толпа, поляки
стреляли в нее. Трижды поляки делали вид, что хотят сдать-
ся, и отворяли наверху сени. Русские, поверив этому, це-
лыми сотнями устремлялись по лестнице, чтобы начать
грабеж, и как только начинали тесниться в сенях, поляки
сразу стреляли по ним из сорока или пятидесяти пища-
лей, и московиты падали и летели вниз по лестнице, слов-
но крысы, которых гонят с чердака. Одним словом, напа-
дение продолжалось весьма долго, и некоторые привезли
туда пушки, снятые со стен города, и палили из них по
дому и калечили своих же, которые беспрестанно устрем-
лялись по лестницам, так жадны они до грабежа.
Наконец, прибыли туда все вельможи и прилежными
мольбами и просьбами уговорили их отступить. Там полегло
более трехсот московитов и многие были ранены, а у поля-
ков полегло всего двое или трое. Наконец прекратились ве-
ликое волнение, грабежи и убийства в Москве, и многие
разбогатели, скупая награбленное добро у тех, кто учинил
грабеж, по большей части пренегоднейших из бездельни-
ков, воров и плутов, коих там немало. И тотчас было велено
все награбленное добро отнести в Кремль на Казенный двор,
дабы каждый мог взять свое; но немногие послушались, толь-
ко лошадей по большей части получили обратно, ибо их
нельзя было скрыть и их тотчас бы опознали, также вернули
кареты; но узорочье, золото, платье, мебель и домашняя
утварь — это все пропало и не было возвращено.
После полудня вследствие просьб и уговоров бояр вол-
нение успокоилось, и простой народ был весьма доволен
этими убийствами, ибо поляки были им всем врагами, и
они прославляли эти деяния и восхваляли зачинщиков как
ревновавших об отечестве и святыне московской. Повсюду
была поставлена стража, и в Москве снова настала совер-
шенная тишина. Нашли, что было убито полторы тысячи
217
поляков и восемьсот московитов, и среди поляков полегло
много панов и молодых храбрых дворян; их нагие изруб-
ленные тела три дня пролежали на улицах, точно так же,
как и тела Дмитрия и Басманова. И русские собирались
вокруг и предавали мертвые тела поношению и поруганию
и постыдным проклятиям. Самыми важными среди убитых
поляков были: Склиньский, Вонсович, Домарацкий стар-
ший, ксендз Помецкий, Липницкий, Иваницкий, Ян
Пологовский и еще много других дворян и молодых панов.
Некоторые из них бросались с кремлевской стены в реку,
где поражали их стрелами, и они обретали жалкую смерть.
Бучинский схоронился под кустами и деревьями на заднем
дворе, неподалеку от царских палат, и его там схватили и
строго охраняли вместе со многими другими, также и всех
тех, что были во дворе польского посла.
Великого сожаления достойны были благородные и
невинные люди, прибывшие по своим торговым делам,
ибо некоторых признали за поляков, потому что они но-
сили польское платье, и Немтесский, Вольский, Андрей
Натан, Николай Демист, привезшие, как о том сказано
выше, целые сокровища, дочиста были ограблены на
много тысяч флоринов. Тем, кто продали свои товары в
царскую казну, Шуйский отвечал, что они должны полу-
чить деньги с расстриги, который у них покупал; и сверх
того сказали им, что в казне ничего нет и что Дмитрий
всю казну опорожнил и переслал в Польшу; другого отве-
та они не получили. Это приключилось еще со многими
другими купцами различных наций: слуг Филиппа Голь-
бейна из Аугсбурга смертельно ранили после того, как
ограбили донага; также миланец Амвросий Челари, после
того как он дочиста был ограблен и отдал грабителям все
золото, деньги и все добро и остался в одной рубашке,
отказаться ее отдать, чтобы было чем прикрыть стыд. Тог-
да они захотели ее получить и вонзили ему нож в живот,
так что он пал мертвым, и с него сняли рубашку. Тело его
не могли найти среди других трупов, как ни искали.
Также был убит брабантец Иаков Марот, тело его на-
шли и похоронили вместе с другими, получив на то дозво-
ление от правительства, как только кончилось волнение.
218
Дмитрий был мужчина крепкий и коренастый, ши-
рокоплечий, обладал большой силой в руках, лицо имел
широкое, желтое и смугловатое, без бороды, большой рот,
толстый нос, возле которого была синяя бородавка. Он
был отважен и неустрашим, любил кровопролитие, хотя
не давал это заметить. В Москве не было ни одного бояри-
на или дьяка, не испытавшего на себе его строгости, и у
него были диковинные замыслы, ибо он собрался зимой
осаждать Нарву и предпринял бы это, когда б его не отго-
ворили бояре по причине неудобного для осады времени
года; он отправил, о чем мы рассказывали при изложе-
нии его жизни, много амуниции и припасов в город Елец,
с тем чтобы прежде всего напасть на Татарию, но втайне
замышлял напасть на Польшу, чтобы завоевать ее и из-
гнать короля или захватить его с помощью измены, и по-
лагал так совсем подчинить Польшу Московии. Прежде
всего это советовали ему многие Поляки, воевода Сандо-
мирский, Вишневецкий и другие.
Дмитрий вознамерился истребить всех московских
бояр и все знатные роды, и назначил для того день58. Он
повелел исподволь вывезти за город много пушек, чтобы,
как он говорил, устроить после свадьбы большое потеш-
ное сражение, в котором должны были участвовать все
бояре. Все шляхтичи, также капитаны и полковники, рав-
но как и Басманов и все приверженцы Дмитрия, знали,
что им надлежит делать и кого каждый из них должен
убить и кому остаться в Москве и в Кремле. Сам Дмитрий
должен был находиться за городом со всеми пушками,
польским войском и своими приверженцами, и если бы
он успел в своем намерении, то кто бы посмел проти-
виться ему в Москве, когда все вооружения были за горо-
дом и в его руках?
Один только Бучинский говорил Дмитрию, что то
против воли Бога и что он не должен того учинять, но,
напротив, привлекать к себе лаской и давать боярам такие
должности, чтобы они не могли войти в силу, и со време-
нем свыклись бы с тем. Но Дмитрий, зная лучше москов-
ские обычаи, говорил, что таким образом нельзя править
московитами и надобно управлять ими со строгостью, что
219
вполне справедливо, ибо московитов можно удержать в
повиновении только страхом и принуждением, и если им
дать волю, то они ни о чем не помышляют. Поэтому он
почел за лучшее устранить бояр, чтобы потом распоря-
диться дурным, глупым народом по своему желанию и
привести его к тому, что он найдет полезным.
После его смерти это было верным оправданием для
московитов перед всеми государями, ибо после его смер-
ти нашли грамоту, в коей было все описано, кого надле-
жало умертвить, а также кого из поляков он назначит за-
ступить места убитых. Это прочли во всеуслышание перед
всем народом, который был тем весьма обрадован и ус-
покоен, и копию послали в Польшу и другие государства,
чтобы объявить о том во всеуслышание.
Нет сомнения, когда бы случилось все по его умыслу
и по совету иезуитов, то он сотворил бы много зла и при-
чинил всему свету великую беду с помощью римской ку-
рии, которая одна была двигателем этого.
Едва только Дмитрия убили или едва успел распрост-
раниться о том слух, как Михаил Молчанов, который был
его тайным пособником во всех жестокостях и распутствах,
бежал в Польшу, и после его бегства пропали скипетр и
корона, и не сомневались, что он взял их с собой.
Также и другой его ближайший советник, Григорий
Микулин, ускакал на царевой лошади и намеревался про-
браться в Польшу, но его настигли в Вязёмах, в шести
милях от Москвы. Несколько польских слуг ускакали на
лошадях своих господ, с одними только саблями в руках,
и, не зная дороги, блуждали по полю и были настигнуты
отрядом дворян, которые дружно напали на них и боль-
шую часть положили на месте, ибо у дворян были писто-
леты и они перестреляли всех поляков, однако и дворян,
хотя они и были в большем числе, полегло убитыми один-
надцать человек.
Мы, равно как и английские купцы, пребывали в
немалом страхе, ибо царские доктора также были ограб-
лены, однако Бог по милости своей сохранил нас, и мы
были от того избавлены.
Однажды, когда волнение утихло, я вышел из дому,
220
чтобы посмотреть на мертвые тела, над которыми некото-
рые еще продолжали испытывать свои сабли. Два трупа,
Дмитрия и его друга Басманова, также лежали там на сто-
ле в течение трех дней; кругом стояло множество народа и
глумилось над ними, но некоторые, видя непостоянство
всего земного, искренно плакали. И я внимательно ос-
мотрел его и поистине не мог приметить ничего иного,
как только то, что это был царь, коего я неоднократно
видел, и что они умертвили того, кто в течение года уп-
равлял государством, хотя во время этих новых войн хо-
тят уверить, что истинный Дмитрий опять не был убит, а
умертвили другого на его месте.
Я сосчитал его раны — их было двадцать одна, и сверх
того череп его был рассечен, так что оттуда вывалились
мозги, и на третий день его бросили в яму, а Басманова
похоронил его брат, получивший на то разрешение от пра-
вительства.
Когда тело Дмитрия убрали, в ту самую ночь в окрест-
ностях Москвы содеялось великое чудо: все плоды, как
злаки, так и деревья, посохли, словно они были опалены
огнем на двадцать миль вокруг Москвы, и вершины и вет-
ви сосен, которые все время, и зимой и летом, бывают
зелеными, повысохли так, что жалостно было глядеть. По-
этому московиты почли за лучшее сжечь тело Дмитрия и,
отыскав, взяли его, а также крепость, которую он пове-
лел зимой выставить для потехи на лед и которую прозва-
ли чудищем ада, и отвезли за Москву на речку Котел и
там сожгли и прах развеяли по ветру, и полагали, что,
совершив все это, будут жить без страха и заботы. Бояре
из своей среды избрали в цари Василия Ивановича Шуй-
ского, вывели его на большую площадь и велели созвать
весь народ, объявив, что они избрали его в цари. Они не
могли найти между собой лучшего и более достойного,
который много раз подвергал жизнь свою опасности ради
общего блага и преуспеяния отечества, и вопрошали на-
род, доволен ли он таким выбором царя, ибо Москва не
может и не должна долго оставаться без царя, на что на-
род ответил громкими криками, что доволен и что никто,
кроме Шуйского, того не достоин.
221
Итак, они сделались его подданными и пали ниц пе-
ред ним, желая счастья царю и Великому князю Василию
Ивановичу всея Руси, и бояре отвели его наверх в Кремль
в церковь, где совершили благодарственное молебствие
за свое спасение.
Царя Василия Ивановича венчали по их обычаю, по-
добно тому как венчают царей московских, и перед ним
также бросали золото.
30 мая снова созвали весь народ на большую пло-
щадь, куда вышла большая часть бояр, прочитавших ста-
тьи, в коих было изложено, по какой причине убили вен-
чанного царя, и эти статьи были следующие:
Во-первых, Дмитрия обвиняли в том, что он не был
прирожденным государем и сыном блаженной памяти царя
Ивана Васильевича, а был чародей и вор, действовавший
по наущению дьявола, звали его Григорий Отрепьев, и
он был родом из Галича, и отец и мать его, бедные люди,
были еще живы. Их отыскали, и они сами признались,
что то был их сын, и сказали, что когда он овладел Мос-
ковией, то послал в Галич и повелел схватить всех своих
родственников, заточить в темницу и крепко стеречь, что-
бы ничто не открылось, и было их добрых шестьдесят душ.
Также сказали они, что, утвердившись на престоле, Дмит-
рий подкупил одного плута, чтобы он выдавал себя за
Григория Отрепьева и, прикинувшись юродивым, ходил
в монашеском клобуке. По убиении Дмитрия этот монах
повинился в том, что был им к тому подкуплен, жил в
одном из московских монастырей и поведал обо всех об-
стоятельствах, изложенных мною в рассказе о первом по-
явлении Дмитрия, как он бежал с некоторыми бумагами
и списками в Польшу, выдавая себя за царевича Дмитрия.
Во-вторых, Дмитрия обвиняли в том, что он был ча-
родей и водился с дьяволом. Это подтверждал также его
учитель, поляк, говоривший, что Дмитрий был весьма
привержен к чернокнижным искусствам, и московиты до-
казывали это многими предметами, как-то чудищем ада,
сделанным по его повелению, и многими другими подоб-
ными баснями.
В-третьих, Дмитрия обвиняли в том, что он был ере-
222
тик, ибо не чтил праздников и не соблюдал постов, а
также не ходил в церковь.
В-четвертых, показывали народу письма от папы,
полученные во время царствования Дмитрия с напоми-
нанием, что наступает время преобразования страны и
надобно начать с повеления строить школы, чтобы обу-
чать детей так, как это делают в Польше, и ему надлежит
приступить к очищению церкви от всех греческих алтарей
и икон и освятить римско-католическими иконами с по-
мощью людей, присланных для того папой, и многие дру-
гие подобные бредни.
В-пятых, бояре предъявили договор, который Дмит-
рий заключил в Польше с воеводой Сандомирским, обе-
щав ему отдать княжество Псковское с уездом, а также и
Новгород, а сыну его, брату царицы, всю землю Сибирь59,
а также Самоедскую и соседние земли. Также Дмитрий
обещал некоторым княжество Смоленское, но прежде
надлежало перебить всех здешних московских бояр, как о
том было сказано, и повсюду поставить правителями
польских вельмож и иезуитов.
В-шестых, жаловались на то, что Дмитрий не уважал
московитов, ибо поляки поносили и ругали их, и моско-
виты не могли сыскать правосудия, но их еще пуще того
награждали побоями и, наложив опалу, ссылали, чтобы
погубить.
В-седьмых, жаловались на чрезмерные траты и из-
держки, которые он производил, не справляясь о том,
сколько может снести страна, на то, что он повелел сде-
лать для себя трон, больше, чем был при прежних царях
московских, и носить перед собой скипетр, державу, ко-
рону, а также большой меч; давал алебардщикам, тра-
бантам и капитанам жалованье такое же, как и боярам.
В-восьмых, Дмитрия обвиняли в том, что он был
невоздержен и похотлив, а также и легкомыслен, как никто
на свете, не почитал святых инокинь и множество их обес-
честил по монастырям, оскверняя таким образом святы-
ню; сверх того впал в содомию; также справлял свою свадь-
бу в день святого Николая, коего они чтят второй раз по
весне, и такой проступок считается у московитов вели-
223
ким грехом, ибо Николая они ставят почти наравне с
Христом, да и чтут его в десять раз более. Дмитрий часто
занимал в святых монастырях деньги и никогда их не от-
давал; священников, монахов и других духовных особ по-
велевал жестоко наказывать кнутом, к чему они не при-
выкли, и московиты принуждены были отплясывать
танцы, которым никогда не учились. Он также поставил
по своему усмотрению в Москве патриарха, не избранно-
го епископами и духовенством, и сместил хорошего па-
триарха, наложив на него опалу, сослал и возвел на его
место безбожного плута.
В-девятых, обвиняли Дмитрия в том, что он призвал
человека, который в крайней нужде мог оказать ему по-
мощь, и он со множеством казаков явился на великой
реке Волге, причиняя повсюду много вреда, грабя нагру-
женные товарами корабли, шедшие из Астрахани, и тво-
ря убытки на миллионы. Он выдавал себя за Петра Федо-
ровича, незаконного сына царя Федора Ивановича, а царь
Федор Иванович никогда и не помышлял пойти от своей
жены к другой женщине, чтобы прижить от нее бастарда,
но жил как святой, как мы о том уже говорили.
В-десятых, жаловались на великие притеснения от
поляков, которые повсюду своевольствовали, а также за-
бирали в лавках всё даром и не сносили ни одного слова
от русских, но тотчас рубили их саблями. Когда на них
приносили жалобы, то русские не находили правосудия,
но их презирали и отвергали, словно собак, несправедли-
вые судьи, поставленные Дмитрием по своему желанию.
Поляки учиняли бесчинства на улицах, не чтя княгинь и
боярынь, по вечерам вытаскивали их из карет, хотя их и
сопровождало много слуг, и так повсюду учиняли волне-
ния, что было несносимо.
Закончили тем, что Дмитрий мог бы делать, что хо-
тел, когда бы только жил смирно, взял себе в жены мос-
ковскую княжну, держался бы их религии и следовал бы
московским законам, то вовек бы оставался царем.
Все эти обвинительные статьи разослали по всей стра-
не и по всей стране также объявили об избрании в цари
Василия Ивановича Шуйского, и все города приняли это
224
известие с радостью, за исключением только тех, откуда
пришел Дмитрий, и они возмутились и убили гонцов, и
во главе их стояли Путивль и Елец; и так началась в Мос-
ковии новая война, междоусобная.
Старая царица, которую Дмитрий называл матерью,
без всякого ущерба осталась жить в своих покоях, хотя ее
весьма бранили за ложь, что она нарекла его своим сы-
ном. Она говорила, что совершила это из страха, а также
потому, что была рада избавиться от бедствий, и сама не
понимала, что делает. Ее оставили жить по-прежнему.
Тотчас всех поляков, гайдуков, стрелков и других,
которые были низкого звания и во всем бесполезны, ото-
брав у них оружие, выслали из страны под большим кон-
воем и, переправив через рубеж, отпустили их на свою
волю. Дорогой поляки одних приставов убили, других ра-
нили, учинивших же это тотчас задержали. Всех панов,
дворян и видных купцов держали под строгим караулом и
потом отправили в разные места; к одним приставили стра-
жу, других посадили в тюрьму на скудное содержание.
Воеводу вместе с его дочерью, бывшей царицей, и
дворянами, которых было около четырехсот, сослали в
Ярославль, что на реке Волге, и там отвели им двор, ко-
торый стерегла со всех сторон крепкая стража.
Сына Сандомирского, брата царицы, вместе с тремя
сотнями дворян и панов отправили в Кострому, также
город на Волге, где их строго стерегли.
Двор в Москве, на котором расположился польский
посол, примерно с тремястами человек, как принадле-
жавшими к его свите, так и с теми, что бежали к нему во
время волнения, строго стерегли и еще оградили решет-
ками и столбами и охраняли день и ночь.
Так же точно охраняли и дом пана Вишневецкого из
Киева со свитой, в которой было более трехсот человек,
так отважно защищавшихся, как мы уже говорили.
И всем этим людям отпускалось довольствие, но не
столько, сколько им было надобно. Поэтому они продава-
ли московитам многие из своих вещей за половинную цену,
чтобы купить необходимое.
Выше мы говорили, что все города были довольны
8 Зак. 1918
225
тем, что случилось в Москве, кроме тех, что были распо-
ложены по соседству с Польшей и Татарией, в земле Се-
верской и волости Комарицкой: Путивль, Елец, Тула,
Кромы, Рыльск и многие другие рядом с ними. Жители
их умертвили гонцов, а также сожгли присланные из
Москвы письма царя и его самого ругательски поносили
как бесчестного предателя, хотели мстить ему до послед-
ней капли крови, и узнать, почему, не спросив у них со-
вета, убили венчанного царя без всякой к тому причины.
Они возмутили еще много других городов, все Поволжье,
и Астрахань со всеми прилежащими к ней областями. Все
они поклялись между собой отметить за него и призвали к
себе в предводители с Волги Петра Федоровича, который
выдавал себя за незаконного сына царя Федора Иванови-
ча, как мы уже говорили при изложении обвинений про-
тив Дмитрия. У них было запасено амуниции и припасов
на три года, также много пушек, ибо, как мы говорили
выше, Дмитрий, намереваясь напасть на Татарию, отпра-
вил в Елец много припасов и амуниции на триста тысяч
человек и даже более; все это они заполучили в свои руки
и были готовы к войне.
Против этих мятежников, что на Волге у Астрахани,
послали из Москвы большое войско под начальством знат-
ного боярина Петра Шереметьева. Он, подступив к Астра-
хани, нашел, что астраханцы также возмутились и среди
них несогласие, и принужден был со своим войском об-
ратиться в бегство и укрепился на острове, на Волге, в
трех милях от Астрахани, называемом Балчик, или Бузан.
Там же было примерно полторы тысячи купцов из Астра-
хани и других мест по берегам Каспийского моря, бежав-
ших туда со всем своим имением. Они были принуждены
оставаться там в течение двух лет, терпя великие бедствия,
и не могли никак выйти, ибо были осаждены неприяте-
лями, и многие перемерли, так как среди них распрост-
ранились жестокие поветрия от холода, голода и лишений.
Купцы, бывшие в Саратове, Самаре и других местах,
претерпевая бедствия, блуждали по стране, каждый бе-
жал своей дорогой, и некоторые из них достигли Москвы.
Ногайцы, видя по всей Московии междоусобные войны,
226
снова отпали от Московского царя, и около тридцати улу-
сов или родов, из коих каждый мог выставить тридцать
тысяч воинов, соединились вместе и стали грабить по-
всюду, куда только они могли дойти. Астрахань была пол-
на мятежом, и один убивал другого.
Когда все эти вести дошли в Москву до слуха наро-
да, страх и трепет обуяли всех и каждый призывал на
себя смерть. Царь возымел твердое намерение постричь-
ся в монахи, однако бояре не допустили его до того,
полагая, что раз он начесал кудель, то ему и прясть, и
стали делать большие приготовления, чтобы одолеть мя-
тежные города. Главными воеводами поставили братьев
царя Дмитрия и Ивана Шуйских, а также молодого Ско-
пина и многих других бояр, дворян и начальников, и
отправили войско в поход. Во все города послали грамо-
ты с повелением собрать ратников для войны; но города
повсюду горько жаловались на совершенное разорение
от прежних бедствий, так что им было не на что выста-
вить ратников; после долгих проволочек выставили боль-
шое бесполезное войско.
Меж тем в Москве были некоторые немецкие и дру-
гие иноземные капитаны, французы и шотландцы, кото-
рые, видя, что по всей стране распространился мятеж, и
страшась дальнейших несчастий, стали просить отпустить
i их домой навестить родину, и с помощью друзей доби-
лись того, что получили отпуск. И свыше пятисот возвра-
тились на родину, и то было удивительно, что они полу-
чили отпуск как раз тогда, когда в них была наибольшая
нужда. Многие тому дивились, ибо когда кто поступает на
i службу московскую, то обыкновенно до конца жизни не
> может ее оставить. Однако некоторые остались и продол-
5 жали служить; а капитан Скотницкий с некоторыми дру-
j гими перебежал к противникам Москвы.
Войско, отправленное против этих коварных мятеж-
j ников царем Василием Ивановичем под начальством двух
! братьев его, молодого Скопина и многих других, не име-
ло большого успеха. Бунтовщики повсюду с отвагой поби-
вали в сражениях царское войско, так что и половины не
уцелело. Невзирая на эти поражения, в Москве не пере-
227
ставали набирать ратников, привлекая одних лаской, дру-
гих силой, и снова собрали войско в сто восемьдесят ты-
сяч человек под начальством поименованных воевод.
Князь Иван Михайлович Воротынский был послан с
особым войском взять Елец, стоявший во главе возмутив-
шихся, но был побит в прах, и все его войско расстрое-
но, и он сам едва успел убежать в Москву.
Другие воеводы также часто давали сражения, но
мятежники всегда одерживали победу. Они были искус-
ные воители и отважные воины, свободные и вольные,
и, занимая страну, изобилующую плодами, могли иметь
больший успех, нежели их противники с севера.
Московиты отправили посольство в Польшу, дабы
уведомить обо всем короля Польского, по какой причине
умертвили они царя Дмитрия, также оправдывая себя,
как только это было возможно, говоря, что во время всех
этих убийств не погиб ни один из подданных короля или
близких к нему, за исключением только одного королев-
ского дворянина с его свитой. Он был приглашен на свадь-
бу московским послом, и убит во время возмущения, что
весьма огорчило московитов, и передали королю список
поляков, которых они содержали под стражей.
Они старались разведать, не оказывает ли король по-
мощи мятежникам, стараясь о своей выгоде, но прежде
чем они добились приема или аудиенции, они трижды
получили отказ. Наконец польский сенат почел за благо
их выслушать, и послами были: Григорий Константино-
вич Волконский, боярин, и Андрей Иванов, дьяк.
На то дан был им достаточный ответ: поляки утвержда-
ли, что не подавали мятежникам никакой помощи и даже
еще ничего не знали о мятеже, и король никогда не оказы-
вал Дмитрию заступления, о чем было уже довольно гово-
рено через послов, посланных в царствование Бориса. Ска-
зали также, что у них не было причины учинять возмущение
против Москвы, нарушая клятву, но теперь они не связаны
клятвой, ибо московиты сами нарушили ее и убили невин-
ных поляков, подданных короля, а главное, предали позор-
ной смерти приглашенного на свадьбу королевского дворя-
нина и его свиту; сверх того задержали в Москве королевского
228
посла. Поэтому у поляков было довольно причин подать по-
мощь мятежникам против Москвы, а также самим пойти
войной на Московию, дабы отомстить за нанесенные оби-
ды, как было и в прежнее время. На то русские послы хоте-
ли возражать в свое оправдание, но их увели и заключили
под стражу и освободили только на другой год.
Московиты также отправили посла в Крым, чтобы
возобновить мир, а также с известием о том, что Дмит-
рий, враг крымцев, убит ими, и также о всех его деяниях
и преступлениях, чтобы вполне оправдать свой поступок.
Сверх того в Швецию, к королю Карлу, отправили
грамоты с изъявлением дружбы, а также с известием об
убиении Дмитрия, чему король Карл обрадовался, ибо
очень страшился его. Король обещал в крайней необходи-
мости послать войско на помощь московитам. Это их не-
сколько порадовало.
Меж тем мятежники были искусными воителями и
побивали посылаемые против них войска точно так же,
как во время вступления Дмитрия в пределы Московии,
и счастье всегда сопутствовало им. Они вошли во все го-
рода по всей Северской земле и переманили на свою сто-
рону жителей, также перебежали к ним многие из мос-
ковских ратников, как немцы и ливонцы, так и русские.
Немцев, которые были доблестные смельчаки, поставили
ротмистрами и капитанами, также правителями завоеван-
ных городов, так что они из низкого звания высоко под-
нялись, из солдат стали наполовину королями.
Находился в войске мятежников некий человек, кое-
го звали Иван Исаевич Болотников; он был в Москве
крепостным человеком боярина Андрея Телятевского, но
бежал от своего господина, сперва отправился в степь к
казакам, а также служил в Венгрии и Турции, и пришел
с казаками числом до десяти тысяч на помощь к этим
мятежникам. Он был детина рослый и дюжий, родом из
Московии, удалец, отважен и храбр на войне, и мятеж-
ники выбрали его предводителем своего войска. Меж тем
Петр Федорович оставался в городе Туле, осажденном
московитами; и этот Болотников пошел со всем своим
войском на Серпухов, лежащий в восемнадцати милях от
229
Москвы, и сразу занял его, а также Коломну, город при
реке Москве неподалеку от Оки, и стал станом против
московского войска в двенадцати милях от Москвы.
Эти известия возбудили в Москве великий страх, так
что тотчас же выставили пушки на все стены и произвели
приготовления к обороне. За городом устроили укреплен-
ный обоз и в Москве учинили перепись всем людям стар-
ше шестнадцати лет, чтобы, вооружив, отправить их про-
тив неприятеля. Во все города послали за помощью, так
что в Москву каждодневно прибывало много войска. Мос-
ковиты во второй раз присягнули царю в том, что будут
стоять за него и сражаться за своих жен и детей, ибо хоро-
шо знали, что мятежники поклялись истребить в Москве
все живое. Поэтому московиты принуждены были храбро
сражаться и отражать нападения.
Одному только Богу ведомо, откуда вдруг пошел по
стране новый слух и распространилась молва, что Дмит-
рий, которого считали убитым в Москве, еще жив, и
многие твердо тому верили, даже некоторые и в самой
Москве. И все, взятые в плен, неприятели и мятежники,
коих каждодневно приводили пленными в Москву и пре-
тягостным образом топили сотнями, как виновных, так и
невиновных, и они до последнего издыхания уверяли, что
Дмитрий еще жив и снова выступил в поход. Одним сло-
вом, совершилось новое чудо: Дмитрий второй раз вос-
стал из мертвых, и никто не знал, что о том сказать и
подумать, но все наполовину помутились разумом.
Среди московитов были две партии: одни говорили и
верили, что Дмитрий жив, что он бежал за два или три
дня до мятежа и что вместо него по неведению умертвили
кого-то другого; другие же говорили, что он мертв и что
умертвили того самого, о коем доподлинно знали, что он
выдавал себя за Дмитрия и был почти год царем. Я согла-
сен с последними, ибо я весьма хорошо видел его жи-
вым, а также прилежно осмотрел его по убиении и не мог
приметить ничего другого, как только то, что убили на-
стоящего, в чем нет сомнения.
Партия, сторонники которой верили тому, что он еще
жив, приводила в пользу этого следующие доказательства.
230
Во-первых, говорили, что тот, кто три дня лежал
нагой на площади и кого принимали за Дмитрия, до того
был покрыт пылью и ранами и так растерзан, что его
невозможно было узнать.
Во-вторых, говорили, что тот, кого умертвили вмес-
то Дмитрия, имел длинные волосы, тогда как царь неза-
долго до того велел их срезать перед самой свадьбой.
В-третьих, говорили, что у того, кто лежал убитым
на позор перед всем светом, не было бородавки у носа,
которую имел Дмитрий, а также знака на левой стороне
груди, меж тем как собственный секретарь Дмитрия Бу-
чинский уверял, что у царя знак на левой стороне груди,
и он, будучи с ним в бане, этот знак видел.
В-четвертых, говорили, что пальцы на ногах убиен-
ного были весьма нечисты и ногти слишком длинны, бо-
лее схожи с пальцами мужика, нежели царя.
В-пятых, говорили, что, когда его убивали, он кричал,
что он не Дмитрий. Поэтому утверждали, что то был ткач-
камчатник, вывезенный царицей Сандомирской из Польши,
и он был весьма схож с царем. Этому ткачу в то утро, когда
должно было совершиться убийство, назначили в царском
платье лечь на царскую постель или в крайнем случае проха-
живаться в царском покое, ибо Дмитрий, говорили, бежал;
и камчатник ничего не ведал о таких вещах и полагал, что
то какая-нибудь шутка, или то бьются об заклад, или то
маскарад, и потому, когда заговорщики подступили к нему
с оружием, чтобы убить его, он вскричал: «Я не Дмитрий,
не я Дмитрий»; поэтому заговорщики и бояре тем более
стали разить его, говоря, он сам теперь повинился, что он
не Дмитрий и не законный наследник престола, а расстри-
га, и убили его, страшась, что он убежит. Передавали другие
подобные басни, не заслуживающие доверия.
В-шестых, говорили, что у заговорщиков было мно-
го причин сжечь труп Дмитрия, чтобы его более не виде-
ли, и потому его надлежало набальзамировать, чтобы он
был в наличности на случай нужды показать его и срав-
нить с портретом. Народ приносит страшные клятвы и
умирает, убежденный в том, что Дмитрий жив, и, стоя
на том, претерпевает различные пытки и мучения. Мно-
231
Лжедмитрий II
гие люди уверяют, что будто бы видели его с тем самым
скипетром и короной, с какими видели его в Москве,
корона и скипетр были похищены из Москвы во время
первого волнения, также три или четыре царские лоша-
ди, как мы о том рассказали. Так они хотели заставить
верить в то, что Дмитрий жив.
Против этих помянутых выше доказательств я могу
по доброму своему намерению и малому разумению при-
вести такой ответ и полагаю, что партия, утверждающая,
что Дмитрий мертв, со мной в том согласится.
Во-первых, я его хорошо узнал, когда он лежал там
на площади весьма истерзанный, в крови и пыли, ибо
стояли жаркие дни, и я отлично видел по его лицу, ши-
роким плечам и росту, что то был тот самый, кого звали
по Москве царем Дмитрием в 1605 и 1606 г. и кто в эти два
года почти год царствовал.
По второму пункту, что касается волос, то никто не
может утверждать с достоверностью, велеп он их срезать
232
или нет, ибо он всегда ходил с покрытой головой и ни
перед кем ее не обнажал, но мы, его подданные, снима-
ли перед ним шапки.
По третьему пункту, что касается бородавки у носа,
то я и множество других людей вместе со мной видели ее
на убитом, но о знаке на левой стороне груди, что рас-
сказывал секретарь Дмитрия, я ничего не знаю и никако-
го знака не приметил и тому не верю; секретарь мог ска-
зать это нарочно, а не истинно.
В-четвертых, что касается до нечистых пальцев на
ногах и длинных ногтей, то это ребячья болтовня, он как
раз мог не чистить своих пальцев во все время, хотя и
часто бывал в бане, но возможно ему было слишком много
дела с молодыми монахинями и девками, которые не спра-
шивали, грязны ли его пальцы и коротки ли или длинны
его ногти.
В-пятых, что касается ткача-камчатника, то это ложь
и глупая басня, ибо, когда бы Дмитрий наперед знал о
намерении умертвить его, то мог бы спастись раньше и
иначе, и его друзья уберегли бы его. Так как вся власть
была в его руках до последнего часа, то заговорщиков
схватили бы, ибо у него было довольно власти, чтобы
совершить это по своей воле; также и поляки не спали бы
так долго, а были бы настороже.
Что же касается пропажи скипетра, короны и четы-
рех царских лошадей, то это достоверно, так как во время
великого смятения и возмущения для каждого все стояло
открыто и пропало все, что лежало открыто, как в цар-
ских покоях, так и в домах, где жили поляки. Пропало
всего столько, что и не сравнить с названным, но в тыся-
чу раз больше узорочья, платьев и драгоценной утвари.
В-шестых, зачем утверждать, что надо труп набальза-
мировать, когда его надлежало сжечь? Как же это так? Разве
надлежало бальзамировать того, кого почитали вором и ча-
родеем? Чего ради было оказывать ему такую честь? И кто
мог тогда предвидеть несчастье? И его сожгли по требова-
нию всего народа, кричавшего, что они желают, чтобы его
сожгли, и говорившего, что его дух продолжает творить чары,
виня его в том, что он истребил все плоды вокруг Москвы.
233
Касательно того, что, как говорили, все взятые в плен
мятежники до самой смерти своей уверяли, что они виде-
ли Дмитрия в той самой короне на голове и с тем самым
скипетром в руках, с каким видели его в Москве, и ника-
кие пытки и мучения не могли принудить их отступиться
от своих уверений, то это правда. Однако таких, схожих с
ним лицом людей, и таких, что походили на него, можно
было найти много, и я сам после его смерти видел с доб-
рый десяток людей, на него похожих, и во время волне-
ния некоторые могли в том подражать ему.
Царь долго советовался со всей московской думой,
как бы искоренить в народе пагубное верование и вздор-
ное мнение, будто Дмитрий еще жив, и, зрело обсудив и
рассудив, почли за благо послать в Углич и там похоро-
нить ребенка, который походил бы на того Дмитрия, что
был истинным царевичем и убит Борисом. Так как они
хорошо знали, что тело этого младенца царевича уже сгни-
ло, ибо оно пролежало в земле много лет (в этом пове-
ствовании довольно было изложено, как в царствование
Федора Ивановича по повелению Бориса был погублен и
убиен младенец Дмитрий), этого ребенка должны были
снова выкопать, объявив народу, что тело убитого Дмит-
рия еще сохранилось, дабы все уверовали, что то все плут-
ни, как первое, так и последнее спасение Дмитрия. Более
того, они решили привезти его в Москву и распустить
слух, что от него совершаются чудеса, и его должны были
в присутствии всего народа поставить в Архангельском
соборе, где погребены все цари. Итак, ночью тайно похо-
ронили в Угличе одного ребенка в той самой могиле, в
коей было погребено тело убиенного Дмитрия, а его ос-
танки положили в другой гроб и снова тщательно заделали.
И нарядили из Москвы в Углич князя Ивана Михай-
ловича Воротынского, чтобы вырыть из могилы тело ис-
тинного юного Дмитрия и привезти в Москву. Прибли-
зившись на обратном пути к Москве, князь послал
известить о своем прибытии, так что это тело встретили с
большой процессией, в коей царь и все бояре шли пеш-
ком, а все епископы, монахи и священники с иконами,
крестами и хоругвями, а также старая царица, мать ис-
234
тинного младенца Дмитрия, и за ними следовал весь на-
род, и все вышли за город, чтобы его принять. Я из любо-
пытства побежал за всеми, чтобы посмотреть, чем это
кончится.
Выйдя за город, увидели тело, лежавшее на носил-
ках, поставленных на телегу, и вокруг, взирая на него,
стоял царь с боярами, епископами и старой царицей,
восклицая: «Сейчас зрим мы истинного юного Дмитрия,
убиенного в Угличе, и Божие провидение сохранило его
столь же свежим, как если бы его только положили во
гроб». Весь народ тотчас стал славить и благодарить Бога,
и носилки были покрыты. Я бы и сам охотно посмотрел
на тело, когда бы меня допустили, также многие монахи
и священники, весьма того желавшие; но, возможно, стра-
шились, что у нас слишком длинные языки, и заботи-
лись о том, чтобы мы не осквернили святое тело. Его при-
везли в Москву, как святого и угодника, и поставили на
носилках в Архангельском соборе, но никто не смел при-
близиться к нему, кроме главнейших бояр и епископов,
посвященных в это дело.
Я не думаю, чтобы в это время в Москве был хотя
один колокол, который бы не гудел, ибо люди были ог-
лушены звоном, и едва только поставили мощи в собор,
как стали свершаться над некоторыми чудесные исцеле-
ния: слепые прозревали, калеки начинали ходить, не-
мые — говорить, глухие — слышать, и едва только совер-
шалось над кем-либо чудо, принимались звонить во все
колокола.
Были некоторые, которых слышали в церкви, и ког-
да они выходили оттуда, то становились немыми, когда
их о чем-нибудь спрашивали, и, по меньшей мере, заика-
лись; однако туда никто не входил, только те, кого впус-
тили. Я полагаю, что ежели б мне дозволили войти туда,
то я, по меньшей мере, ослеп бы от того дыма, что нака-
дили там, и оглох бы от крика попов.
Однажды плутовство едва не было открыто, ибо при-
вели человека больного или, по меньшей мере, почитае-
мого за больного, и его привели для исцеления, но он
умер там в церкви, и его были принуждены вынести отту-
235
да мертвым. Однако и тут сумели привести такие объясне-
ния, что все чудеса, совершенные мнимым Дмитрием,
почли за добро, ибо сказали, что у этого человека не было
твердой веры и потому он должен был умереть. И все бед-
ные и богатые были столь ослеплены, что верили в исти-
ну всех этих выдумок и басен.
Я часто из усердия к вере говаривал им, чтобы они
взяли слепых, сидящих и просящих милостыню у дверей
нашего и других домов, или хромых и калек, сидящих на
всех углах улиц, и отвели их в церковь, дабы они прозре-
ли, стали ходить и слышать, но мне возражали, что эти
люди не тверды в своей вере. Я спросил, откуда им ведо-
мо, что те, кого туда приводят, точно веруют в святых,
они отвечали: ангел Божий открывал епископам и свя-
щенникам тех, кому будет дана помощь, и потому они за
ними посылают. Одним' словом, они умели отвечать на
все мои вопросы и сами твердо веровали, хотя плутовство
было на виду, ибо негодяи, получавшие видимое исцеле-
ние, были для того подкуплены, чтобы клятвами доказы-
вать свое исцеление, и они портили себе глаза каким-то
веществом, также представлялись хромоногими, и другие
подобные плутни, и большая часть этих молодчиков была
незнакома в Москве и собиралась из чужих мест.
Таким образом искореняли в народе веру в то, что
Дмитрий, как говорили, все еще жив, и эти чудеса совер-
шались не долго и вскоре прекратились.
Также народ домогался того, чтобы все бояре, воз-
высившиеся при Дмитрии, или расстриге, были казне-
ны, хотя они были невинны, и к числу их принадлежали
Михаил Татищев и Афанасий Власов, отправленный в
Польшу за невестой. И хотя вельможи просили за них, но
это не помогло утишить народ: многих пришлось для виду
отправить в опалу или ссылку, и Афанасия и Никиту Го-
дунова отправили в Казань, город при реке Каме, Миха-
ила Татищева отправили в Новгород, а прочих в другие
места.
Меж тем московское войско вновь было разбито. Бо-
лотников одержал верх и послал со всей поспешностью
отряд в десять тысяч человек прямо на Москву, намерева-
236
ясь последовать за ним со всем войском. Передовой отряд
скоро подошел к Москве на расстояние одной мили от
нее, стал у речки Даниловки и занял селение Загорье,
которое тотчас укрепили шанцами. У них было несколько
сот саней, и поставили их в два и в три ряда одни на
другие, и плотно набили сеном и соломой, и несколько
раз полили водою, так что все смерзлось, как камень. И у
них был также скот, быки и лошади, довольно на не-
сколько дней, и они стали ожидать Болотникова с глав-
ным войском.
Меж тем московское войско засело в обозе перед са-
мыми городскими воротами. Воеводами были царские бра-
тья, они часто учиняли большие нападения со множе-
ством пушек на помянутые шанцы мятежников, но без
всякого успеха. Также это селение было обстреляно мно-
жеством бомб, но там их тотчас тушили мокрыми кожами.
Так как неприятели держали на примете Красное Село,
лежащее неподалеку от них, большое и богатое селение,
подобное целому городу, откуда они могли угрожать по-
чти всей Москве, то московиты, страшась этого, выста-
вили у речки Яузы, через которую мятежники должны
были перейти, сильное войско под начальством молодого
боярина Скопина, чтобы воспрепятствовать переправе, а
сами со всеми своими силами, числом в двести тысяч
ратников, в течение двух дней осаждали их, но не смогли
одержать победы и сами понесли большие потери.
Меж тем Болотников прислал им на подмогу трид-
цать тысяч человек под начальством воеводы Истомы Паш-
кова. Пашков прибыл туда на третий день и, делая вид,
что он намерен напасть на московитов, обошел сзади своих
товарищей, сидевших в осаде. Пашков, сговорившись по-
чти со всеми своими главными начальниками и капита-
нами, тайно заключил наперед с царем условие перейти
к нему и все свое войско передать московитам.
Московиты, зная об этом, с большим войском напа-
ли на осажденных, а также послали отряд против Пашко-
ва, который передался с пятьюстами людьми. Его войско
от такой неожиданности пришло в расстройство, и моско-
виты захватили множество пленных. Осажденные, увидев
237
это, также обратились в бегство, и половина их была зах-
вачена, ибо лес, через который они бежали, заняли мос-
ковиты; и там произошла неимоверная сеча. В плен захва-
тили до шести тысяч, так что в Москве все темницы были
полны, и сверх того многие жители московские должны
были стеречь по два или по три пленника. Множество их
было посажено в подвалы под большими палатами и при-
казами, так что было жалко смотреть на них, и то были по
большей части казаки, прирожденные московиты, и чуже-
земцев среди них не было вовсе или было мало.
Эти люди недолго пробыли в заточении, но каждую
ночь в Москве их водили сотнями, как агнцев на закла-
ние, ставили в ряд и убивали дубиной по голове, словно
быков, и тела спускали под лед в реку Яузу. Во время
этого поражения был захвачен в плен один из главных
атаманов, по прозванию Аничкин, который разъезжал
повсюду с письмами от Дмитрия и возбуждал народ к
восстанию; его живым посадили на кол, и он должен был
так умереть. Покуда он, будучи посажен на кол, еще был
жив, прислал к нему царь дворянина Истому Безобразо-
ва, который стал Аничкина просить, чтобы он, так как
ему предстоит умереть, сказал перед всем народом, кто
снова выдает себя за Дмитрия. На что Аничкин прямо-
душно ответил, что это никто другой, как брат царя, ко-
торого также зовут Дмитрий, и он-то и учинил эту изме-
ну, хотя и был на стороне московитов. Он сказал это ни
для чего иного, как для того, чтобы возбудить в Москве
новое волнение в народе; и хотя царь со всеми боярами
клялся перед всем народом, что то неправда и он знает
брата и его помыслы, но огонь остался под пеплом.
Из Москвы послали двух монахов, чтобы они пере-
бежали к неприятелю и разведали, что это за Дмитрий.
Приблизившись к тому месту, неподалеку от Коломны и
Серпухова, где раньше московское войско было разбито
мятежниками, они встретили двух человек, которые на-
зывали себя перебежчиками, направлявшимися в Моск-
ву, и они поклялись перед монахами, что Дмитрий еще
жив и они его видели, так что монахи не осмелились идти
далее, а эти люди, встретившиеся с ними, отошли от них.
238
Болотников нимало не сомневался, что отправлен-
ные им войска займут Москву, и когда бы не помешала
измена Пашкова, то это могло случиться по причине ве-
ликого смущения и непостоянства народа в Москве. И когда
он узнал от беглецов о поражении, то бежал со своим
войском в город Калугу, расположенный на реке Оке, и
нашел это место удобным для того, чтобы провести там
зиму, и тотчас запасся всем необходимым. Это был город
многолюдный, и в нем всегда шла большая торговля со-
лью с землей Северской, Комарицкой волостью и други-
ми соседними местами, откуда привозили в Калугу мед,
воск, лен, кожи и другие подобные товары, так что она
хорошо была снабжена всякими припасами.
Петр Федорович, выдававший себя за .незаконного
сына царя Федора, как мы говорили выше, еще сидел в
Туле, осажденной московитами, и верх брала то та, то
другая сторона, но Петр, хотя и находился в крайней нуж-
де, держался с большой храбростью.
Когда Болотников укрепился в Калуге, туда подсту-
пило все московское войско, еще более многочисленное,
чем то, что стояло под Кромами, как мы поведали, рас-
сказывая о вступлении Дмитрия в Московию. Болотников
сидел в Калуге, как Корела в Кромах, и осажденные каж-
додневными вылазками причиняли московитам большой
вред; почти не проходило дня, чтобы не полегло сорок
или пятьдесят московитов, тогда как осажденные теряли
одного. В московском войске только и делали, что стреля-
ли без нужды, распутничали, пили и гуляли, чего не ли-
шали себя и осажденные в Калуге, и так без пользы про-
шла зима; и царь мог думать о том все, что ему было угодно.
Московиты согнали крестьян из окрестностей, и они
были принуждены каждый день рубить деревья в лесах,
колоть дрова и возить их в лагерь на санях, которых было
несколько сот, так что сложили целые горы дров вокруг
Калуги, намереваясь придвигать примет с каждым днем
все ближе и ближе к Калуге, чтобы при благоприятном
случае зажечь его и таким образом погубить осажденных.
Но осажденные, узнав об их намерении от перебежчиков,
стали подводить подкопы под примет, причем от взрывов
239
погибали частью и люди. Также было у них наготове мно-
го горючего, и когда ветер дул в сторону московского
войска, то они сами поджигали примет и головни летели
в лагерь московитов, а тем временем осажденные делали
вылазки и наносили большой вред московскому войску;
одним словом, осажденные всегда оставались победите-
лями, почти так же, как и в Кромах.
В это время в Новгороде было моровое поветрие, от
которого погибло в самом городе и в окрестностях мно-
жество людей, меж коими было много священников.
Татары Казанского царства вели себя тихо и непри-
частно, выжидая, кто возьмет верх. Все города по реке
Волге еще держали сторону Москвы, как-то: Кострома,
Ярославль, Углич, Нижний Новгород, Самара, Саратов
и многие другие, исключая Астрахани, где мятеж был в
самом разгаре, отчего и плавание по реке стало небезо-
пасным от воровских казаков.
На острове Бузане, в трех милях от Астрахани, все
еще стоял Петр Шереметьев со своим войском, и он по-
строил на острове крепость. Так стоял он против Астраха-
ни и Астрахань против него; и когда сходились, то убива-
ли друг друга.
Ногаи, как мы выше сказали, поднялись и отложи-
лись от Москвы, они напали на черемис и их вождей и
убивали друг друга. Так продолжалось беспрерывно.
В Ярославле солдаты, которые стерегли и охраняли
воеводу Сандомирского и его дочь, царицу, жену убитого
Дмитрия, пытались поджечь весь город Ярославль, чтобы
разграбить его, также и в Костроме, где стерегли сына
Сандомирского. Сандомирский со своими людьми, а так-
же его сын со своими людьми намеревались соединиться
вместе и перейти на сторону мятежников; но эта измена
была открыта, и большую часть изменников схватили,
только некоторые из них убежали. Жителям Ярославля
велено было составить свою собственную стражу и самим
охранять город, что они и исполнили.
Поляки и дворяне, содержавшиеся в Ростове, также
намеревались освободиться силой и перейти на сторону
мятежников, находившихся недалеко от них, но и это
240
намерение также успели открыть, и они были разлучены
и отосланы за добрых сто миль далее, в Вологду и Бело-
зерск. Среди них были двое Бунинских, отправленных в
Пустозерск, где их держали под стражей, а Домарацкого
отвезли в Тотьму и там заточили в темницу; Казановский,
молодой польский вельможа и родственник царицы, был
сослан в Устюг на Ваге, но большая часть поляков, среди
коих были также и женщины, отправлены на Белоозеро,
где они получали скудное содержание.
И в это время в Москву пришло известие, что жена
Сандомирского с тридцатью тысячами ратников подсту-
пила к границе, чтобы подать помощь мятежникам, и что
Михаил Молчанов, бежавший во время убиения Дмит-
рия, начальствует над этим войском. Это известие, снова
возбудившее страх, было народом скоро позабыто.
Из Москвы каждодневно посылали гонцов во все горо-
да с известием о победах московитов. Даже когда москов-
ское войско терпело поражения, посылали по всем городам
известия, что неприятель разбит, так что повсюду от радос-
ти звонили в колокола. Это делалось для того, чтобы народ
не отпал, но постоянно соблюдал верность Москве, ибо
московиты были научены примером Шуйского, изменив-
шего во время вступления Дмитрия в пределы Московии.
В январе был обезглавлен в Москве один священник,
повсюду распространявший подметные листы о том, что
Дмитрий еще жив.
От московского войска получали письма, в которых
было написано, что неприятель с большим проворством
и отвагой день ото дня умножает свои войска и запасы,
так что московиты со всеми своими силами ничего не
могут предпринять, чтобы тому воспрепятствовать. Поэтому
из Москвы отправили сверх царских братьев и сверх всех,
что начальствовали над войском, еще Федора Ивановича
Мстиславского вместе с молодым боярином Скопиным и
многими молодыми боярами и дворянами, а также с боль-
шим войском, повелев им повсюду, куда они не придут,
истреблять врагов, и, подступив к Калуге, они должны
были соединиться с теми, что стояли лагерем. Однако они
ни в чем не успели больше других.
241
В эти дни, когда отправляли новое войско, окончили
отделку царских палат, или покоев, и по обычаю москов-
скому надлежало явиться к царю и пожелать ему всячес-
кого счастья, что называют они новосельем, ибо царь не
пожелал остаться в том великолепном дворце, где жил
Дмитрий. Все, пришедшие с поздравлением, поднесли
царю подарки, также хлеб и соль по московскому обы-
чаю, с пожеланием счастья; хлеб и соль были приняты,
но подарки возвращены нам обратно. Нам и всем другим
поздравителям прислали кушанья на серебряных блюдах,
также и напитки в золоченых сосудах.
В начале января московские воеводы пришли между
собой в большое несогласие, однако ж действовали с лу-
кавством и держали это в тайне от войска, хотя в Калуге
все стало известно на другой же день и там смеялись над
ними.
Меж тем в Москву привезли часть пленных из города
Венева, где московиты также потерпели поражение. Вме-
сте с ними пришло известие, что двое знатных москов-
ских бояр, Мосальский и Телятевский, перешли на сторо-
ну мятежников и идут на помощь к Дмитрию с тридцатью
тысячами воинов, среди коих были поляки, казаки и рус-
ские. Это известие произвело такой страх в Москве, что
они вызвали из Старицы низложенного Дмитрием старо-
го патриарха Иова, и он, слепой от старости, просил ос-
тавить его в покое, однако, невзирая на это, его привезли
в Москву, но его совет вместе со всеми другими советами
ничему не мог помочь60.
Мосальский отправился с отрядом войска на Тулу,
выручать Петра Федоровича, которого в Москве называ-
ли Петрушкой, но был разбит московитами, захвачен в
плен и привезен в Москву, где и умер от ран; остальных
же пленных утопили.
Московские войска, стоявшие под Калугой, кричали
с горы, находящейся у реки Оки, осажденным, что коль
скоро Мосальский со всем своим войском разбит, то луч-
ше вовремя одуматься и просить пощады, но Болотников
смеялся над этим и в тот же день велел повесить на виду
московского войска нескольких своих слуг, среди коих был
242
Патриарх Иов
и его повар, замысливший измену. Болотников вместе со
своими приверженцами поклялся, что они стоят за ис-
тинного Дмитрия.
Известие о битве под Тулой и поражении Мосаль-
ского произвело в Москве великие перемены и вызвало
радость, так что народ уже не верил в Дмитрия; и на Тулу
послали Воротынского с некоторым войском, чтобы еще
больше стеснить неприятеля и захватить в плен Петра.
В марте царь повелел касимовскому царю выступить со
своими татарами в поход и опустошить страну вокруг своих
владений, чтобы мятежники нигде не могли найти ни при-
пасов, ни провиант. Но эта земля была дочиста разорена и
разорить ее больше было невозможно. Во всех городах, за-
нятых мятежниками, был сильный гарнизон. Мятежникам
на татарской, или рязанской стороне принадлежали следу-
ющие города: Рязань, Карачев, Ливны, Орел, Венев,
Михаилов, Болохов, Ряжск, Серебряные пруды, Новосиль;
на северской стороне: Путивль, гпава и зачинщик всех
мятежных городов, в нем мятежники также держали совет,
потом Чернигов, Брянск, Елец, Козельск, Рыльск, По-
чеп, Сосница, Рославль, Монастырище, Новгород-Север-
ский и многие другие; также были у них: Кодомна, Каши-
243
ра, Алексин, Епифань, Перемышль, Льгов, Дедилов, также
Калуга и Тула, где осаждали Петра. Сверх того они завладе-
ли всей Волгой и опустошали все местности по ее тече-
нию, где только ни проходили. Одним словом, у них была
большая сила и они владели прекрасными землями. Кроме
того, еще многие города колебались и склонялись то к од-
ной, то к другой стороне, так что царь по усердной просьбе
московских бояр решил самолично выступить в поход с
началом лета и повелел отписать во все города, чтобы все
дети боярские или дворяне, жившие спокойно в своих по-
местьях и не приехавшие нести службу, были высланы, а
нетчиков велено было переписать и лишить поместий. По-
этому отовсюду многие стали приезжать на службу, так что
множество ратников выступило в поход, и так шли дела до
весны; также привозили в Москву пленных, и некоторые
из них уверяли, что видели Дмитрия, а другие, напротив,
не знали, ради чего они воюют, однако всех, виновных и
невинных, топили.
В том же месяце марте восемь поляков, переодетых в
крестьянское платье, бежали ночью из дома польского
посла в Москве и, нет сомнения, они привезли в Польшу
много известий о положении дел в Москве. За то, что им
удалось бежать, некоторые из караульных были подверг-
нуты жестоким пыткам и наказаниям. Вокруг Москвы рас-
ставили сильную стражу и некоторые ворота заперли. Царь
повелел распродать из казны старое имущество, как-то
платья и другие вещи, чтобы получить деньги, а также
занял много денег у монастырей и московских купцов,
чтобы уплатить жалованье несшим службу, и ни монахи,
ни купцы не посмели отказать в этих деньгах, ибо также
были виновниками этих войн.
Страшились мятежа в Ярославле, опасаясь, что у Сан-
домирского в свите слишком много людей, поэтому взяли
от него семьдесят дворян с твердым обещанием отправить
их в Польшу, и это для того, чтобы уменьшить его свиту,
но поляки не послушались, не поверили обещанию. Тогда
поднялся весь народ и окружил их двор. Поляки, полагая,
что их хотят лишить жизни, отважно вооружились и в пол-
ном вооружении хотели храбро сражаться до самой смерти.
244
Московиты, страшась, что из этого могут воспоследовать
великие бедствия, принесли самые страшные клятвы в том,
что они давали обещание чистосердечно, и поляки, нако-
нец поверив им, выдали семьдесят человек, полагая, что
их отправят в Польшу, но их задержали на полпути и не
довезли до Москвы. Полагают, что они были убиты.
Меж тем Петр Федорович со всеми своими силами
выступил из Тулы и обратил в бегство все московское
войско, стоявшее под Тулой, так что предводители его,
Воротынский, Симеон Романович и Истома Пашков, бе-
жали вместе с прочими. Петр занял еще некоторые укреп-
ленные места неподалеку и поспешил возвратиться в Тулу,
где снова утвердился.
Река Ока вскрылась и лед сильно пошел в Волгу, и
весь московский лагерь стал на ноги. Тотчас по обеим сто-
ронам реки сбили крепкие плоты и поставили на них пушки
и людей, опасаясь, что Болотников выйдет из Калуги и
устремится к Волге, что было бы весьма худо. Болотников
мог это легко сделать, ибо в Калуге было много лодок с
солью и барок, на которых он мог бы спустить по тече-
нию все свое войско, но ему в том воспрепятствовали.
В начале апреля, когда вскрываются все реки, крым-
ский посол просил об отпуске, чтобы отъехать в свою
страну, но его не отпустили и стали строго стеречь, давая
ему довольствие.
Был в Москве некий польский дворянин, служивший
при дворе убитого Дмитрия. Этот поляк присягнул на вер-
ную службу новому царю и был принят в ротмистры. Он
набрал в Москве двести человек как ливонцев, так и поля-
ков, давно уже служивших в Москве, и храбро сражался,
хотя и не имел особого успеха. Поляк переписывался с не-
которыми мятежниками, находившимися в городе Алекси-
не, и надеялся взять этот город, но ему не посчастливилось.
Отряд, посланный от Калуги по реке Оке с намерени-
ем напасть на некоторые города, занятые мятежниками,
потерпел во всем неудачу и везде был разбит. Войско, сто-
явшее под Калугой, весьма роптало, и тогда те, что сидели
в Калуге, со всеми силами напали на московское войско,
побили его в прах, обратили в бегство и подожгли лагерь со
245
всех концов. Это произошло по причине измены и несогла-
сия среди московских воевод, и бегство было такое же, как
за два года до того под Кромами, ибо воеводы едва успели
выбежать из своих палаток, как уже калужане овладели все-
ми пушками. Беглецы, проходившие через Москву, не уме-
ли ответить, отчего обратились они в бегство, но дерзко
говорили: «Выступите в поход вместе с царем и попытайте
сами». Мстиславский не посмел возвратиться в Москву, а
оставался с частью войска у небольшой речки в шести ми-
лях от Москвы. Стало известно, откуда произошла эта изме-
на, а именно от московского боярина, князя Бориса Тате-
ва, и запорожских казаков, которые, проведав о том, что
московиты два раза потерпели поражение, подумали, что
истинный Дмитрий должен быть жив, и заколебались, дав
знать о своей измене Болотникову, чтобы им обещали ми-
лость. Это им и было обещано, и они были причиной бег-
ства своего войска и сами перешли на сторону неприятеля.
Болотников, как говорили, отправился затем в Путивль
к Дмитрию, где был принят с большими почестями и щед-
ро награжден за свою верную службу, ибо он держался око-
ло полугода в Калуге. Он оставил в Калуге двух начальни-
ков, которые охраняли ее, Долгорукова и Беззубцева.
Вскоре Мстиславский двинулся со своим войском на
городок Боровск, находящийся неподалеку оттуда, взял
его и все истребил в нем мечом. Точно так же Воротын-
ский поступил в Серпухове, но царский брат Иван Ива-
нович Шуйский тихо и тайно въехал в Москву, так что
никто о том не узнал.
Поистине, когда бы у мятежников было под рукой вой-
ско и они двинули бы его на Москву, то овладели бы ею без
сопротивления. Но так как они действовали медленно, то в
Москве снова собрались с духом и укрепились, отлично зная,
как с ними поступят и что они все с женами и детьми будут
умерщвлены. Они все поклялись защищать Москву и своего
царя до последней капли крови; и снова снарядили в поход
большое войско, и царь отправился вместе с ним.
Главным воеводой был избран Иван Федорович Колы-
чев-Крюк, которого народ весьма уважал, и он выступил в
поход из Москвы в мае месяце. Этот Колычев-Крюк, высту-
246
пив в поход, остановился на некоторое время под Серпухо-
вым, где с ним соединились все отряды из окрестностей,
также каждодневно подходили к нему новые отряды, так
что опять собралось большое войско. Царь, собираясь в по-
ход, повелел по всем церквам совершать службы и молеб-
ствия. Перед тем как он царь отъехал к войску, прибыл в
Москву гонец с двумя слугами и привез с собой письма из
Польши, и хотя он был одет по-польски, но в народе ходил
слух, что он прибыл из Швеции, и никто ничего больше не
знал о нем. Он был допрошен в тайне, и затем его ночью
отправили в Новгород и стерегли как пленного.
Также привезли в Москву двух гонцов, которые были
схвачены на Волге, близ Царицына. При них были письма
от имени Дмитрия, и они намеревались возбудить к восста-
нию тамошние города. Из Москвы отправили много ратни-
ков на остров Бузан, где все еще сидел Петр Шереметьев.
Тем временем воеводы стояли со всем войском под
Серпуховым, в восемнадцати милях от Москвы; еще один
отряд находился в Боровске, неподалеку от Москвы, и
так они, ожидая прибытия царя из Москвы, полагали,
что это всего больше устрашит врагов.
Царь, помолившись во многих церквах в Москве, сел
на лошадь перед Успенским собором, взял свой колчан и
лук и выехал со всем двором в полдень 21 мая, оставив в
Москве вместо себя брата своего Дмитрия.
Как только царь выступил из Москвы, к нему стали
стекаться со всех сторон ратники, ибо они, слыша, что
царь одерживает победы, страшились попасть под вели-
кую опалу, когда не явятся к войску. Монастыри были
обложены повинностями, каждый сообразно своим си-
лам, и каждый монастырь должен был выставить ратни-
ков сообразно своему достоянию. И так снова составилось
большое войско, а земля мало-помалу оскудевала и ли-
шалась самых лучших людей.
Меж тем отъехали все купцы, каждый своей доро-
гой, ибо наступило для этого время, и английские и гол-
ландские купцы отправились в Архангельск к Белому
морю, чтобы вести торговые дела, погружать и разгружать
свои корабли по старому обыкновению. Польские, а так-
247
же армянские и татарские купцы охотно пустились бы в
путь, но им было это запрещено и велено оставаться в
Москве, чтобы они, выехав из Московии, не разнесли
дурных вестей, ибо они были из вражеских стран.
Царь, будучи в походе, все время, страшась измены,
не решался выступить со веем войском и не удалялся от
Москвы, но посылал всюду отдельные отряды, чтобы то
здесь, то там нападать на неприятеля врасплох. Но увы —
на них самих нечаянно нападали неприятели, которые во
всех схватках оставались победителями.
Неизвестно, какой совет держали мятежники, что они
не воспользовались своей победой, ибо им все так благо-
приятствовало, как только они сами могли пожелать. Но
впоследствии стало известно, что мятежники собирались
в Путивле и держали великий совет, но никто не знал,
что было решено, и ничего не было слышно о Дмитрии. В
Польше, видя, что Московию легко завоевать, и желая
ей отомстить, отослали московское посольство, которое
они так долго удерживали и дозволили всем панам, кто
пожелает, напасть на Московию, что и случилось. Польша
впервые объявила себя открытым врагом Москвы. Мятеж-
ники с большим войском, капитанами и полковниками
выступили в поход и распространяли по всей земле изве-
стие о Дмитрии, что он еще жив, и приводили тому нео-
споримые доказательства. Среди них были многие, которые
вели войну с великим ожесточением, ибо почти каждый
из них потерял родственника во время избиения поляков
на свадьбе Дмитрия. Великий канцлер польский Лев Са-
пега получил от короны польской повеление приготовиться
к войне.
Меж тем московиты приобрели многое, ибо с помо-
щью измены они взяли Тулу и захватили Петра Федоро-
вича, который выдавал себя за незаконного сына Федора
Ивановича, прежнего царя Московии; и этого Петра по-
весили в Москве. Кроме того, завоевали много маленьких
городов, по большей части с помощью измены. Чтобы
воспрепятствовать дальнейшим успехам московитов, мя-
тежники отправили против них отважного витязя Болот-
никова с войском. В то время как мятежники совещались
248
с поляками и казаками, московиты схватили также и от-
важного витязя Болотникова и умертвили его; одни гово-
рили, что он сам себя выдал, другие говорят, что его пре-
дали; одним словом, погибли два отважных воина и
предводителя восстания. Царь, видя, что они снова стали
побеждать, а между тем приближалась осень, удовольство-
вавшись малой победой, возвратился в Москву, оставив
воевод и войско действовать против неприятеля, и в Мос-
кве и тех городах, что стояли за нее, полагали, что то
была окончательная победа, но им не посчастливилось.
Обе стороны целую зиму воевали между собой. Сверх
того множество поляков наводнило землю, снова пришед-
шую в чрезвычайно бедственное состояние, подобное
тому, которое было, когда Дмитрий вступил в страну. Так
шли дела до лета 1608 г.
Меж тем в Москве вельможи настойчиво советовали
царю избрать себе супругу. Они полагали, что народ будет
больше бояться царя и вернее служить ему, если он же-
нится и будет иметь наследников. Уступая их просьбам,
Шуйский сочетался браком с дочерью большого москов-
ского боярина, князя Петра Буйносова, знатного рода, и
венчал ее царицей61, однако ж все дела шли весьма худо.
В Москву каждодневно приходили известия о том, что
из Польши идет большое войско, а также известия о том,
что московиты повсюду терпят поражения, так что веле-
но было снова привезти в Москву Сандомирского с доче-
рью-царицей, также всех знатнейших дворян и польских
панов, ибо страшились их освобождения, так как враги
были повсюду. Поляков держали в Москве под стражей,
рассчитывая получить за них большой выкуп.
В Москву прибыл посол из Польши, который вел себя
заносчиво и надменно, и когда он въезжал в Москву,
трубили в трубы весьма громко и также громко ответство-
вали трубы во дворе посла, которого все еще стерегли в
Москве, и во дворе посла была великая радость, также и
у всех пленных поляков.
, Посол привез в Москву заносчивые письма, весьма
укорял московитов за великое бесчестие, нанесенное пре-
жнему королевскому послу, жаловался на разбой, учинен-
249
Болотников является с повинной перед Василием Шуйским
ный над королевскими слугами, за что ради король Польский
принужден по настоянию своих подданных и чинов за это
отомстить. Однако московиты оправдывали себя, насколько
это было возможно, и задержали послов в Москве.
В это время пришло в Москву известие о том, что
московиты, потерпели большие поражения и повсюду
обращены в бегство62. Страх снова обуял всех в Москве,
но царь многими увещаниями утешил народ, ибо он клял-
ся, что их всех перебьют вместе с женами и детьми, если
передадутся неприятелю. Страшась этого, ибо они и были
по большей части виновны в смерти Дмитрия, жители
Москвы держались с отвагой.
Неприятель, приближаясь к Москве, наконец, 2 июня
подступил к городу вместе со своим царем Дмитрием,
как его называли. С ним были многие вельможи из Литвы
и Польши, и Вишневецкие, Тышкевичи и все родствен-
ники Сандомирского, также великий канцлер Лев Сапега.
Они обложили кругом Москву и заняли все монастыри и
деревеньки в окрестностях, осадили Симонов монастырь.
Меж тем Сапега повел войско к Троице, большому ук-
250
репленному монастырю, в двенадцати милях от Москвы,
по Ярославской дороге; и этот монастырь был весьма силь-
ной крепостью.
Прежде чем неприятель подступил к Москве, моско-
виты послали молодого боярина Скопина с войском в
Новгород для защиты его, а также для того, чтобы дорога
из Швеции была свободна от неприятелей, ибо ожидали
шведское войско, которое обещал прислать король Карл;
эти шведские и немецкие войска должны были под Новго-
родом соединиться со Скопиным. Также был отозван с ос-
трова Бузана, из-под Астрахани, Петр Шереметьев, чтобы
также соединиться со Скопиным и всем вместе освободить
Москву. Но это длилось так долго, что едва не пришел ко-
нец всему, ибо Москва больше года выдерживала осаду,
пока эти освободители подходили к ней и соединялись
вместе. Неприятель тем временем опустошал всю окрест-
ную страну и занял большую часть укрепленных мест.
В Москве, едва только началась осада, настала вели-
кая нужда, и осажденные могли держаться благодаря боль-
шим запасам монастырей. Многие купцы и другие жители
заблаговременно бежали из Москвы, и царь грозил каз-
нью Сандомирскому и всем его людям, обвиняя его в
том, что все это произошло по его вине, что и справедли-
во. Сандомирский, страшась смерти, давал диковинные
обещания, что он, если его отпустят со всеми людьми, а
также обоих послов, мирными переговорами положит ко-
нец войне, и обещал заключить мир между Польшей и
Московией с тем, что Польше будет дано то, что ей из-
давна следовало. Сандомирского вместе со свитой заста-
вили в том принести клятву, но из этого ничего не вышло.
Сандомирского вместе с его людьми отпустили и дали
ему благополучно выехать из Москвы.
Так обстояли дела, когда Петр Шереметьев со своим
войском, двинувшись с острова Бузана, по Волге, подо-
шел к Саратову, городу на Волге, и зимой пошел в Ниж-
ний Новгород, где и расположился зимовать.
Скопин стоял с войском у Новгорода Великого и стро-
го охранял этот город и дороги к нему, посылая к королю
Карлу Шведскому за помощью. Король отправил в Новго-
251
род через Ливонию войско из шотландцев, французов и
шведов, чтобы они соединились со Скопиным.
Дмитрий, стоявший под Москвой с большим вой-
ском мятежников, как говорили, принялся строить хижи-
ны и дома, повелев свозить из окрестных деревень лес, и
построил почти целое большое предместье, также и Са-
пега под Троицким монастырем.
Некоторые польские паны двинулись на Ярославль и с
помощью измены захватили его врасплох, подожгли со всех
сторон и вконец разграбили вместе с прекрасным тамош-
ним монастырем, перебили множество людей, а осталь-
ных покорили. Ярославль предал сам воевода, князь Федор
Барятинский, и вместе с ним некий монастырский служка.
По взятии города все жители присягнули Дмитрию и в
Ярославле был поставлен другой воевода, а при нем был и
помянутый Барятинский. Примерно в шести милях от Ярос-
лавля, по дороге на Вологду, лежало село Романовское,
где стояли вологодские ратники, остававшиеся верными
Москве. Против них из главного стана мятежников отпра-
вили польского пана Тышкевича с отрядом, чтобы разбить
их и тотчас же пойти на Вологду и привести ее на сторону
Дмитрия. Но Тышкевича самого так побили вологжане, что
он едва спасся, и бедственным образом пешком добрался
до Ярославля. Отсюда три раза посылали гонцов в Вологду,
склоняя жителей перейти на сторону Дмитрия, а не то бу-
дут истреблены все вместе с женами и детьми, так что и в
Вологде присягнули Дмитрию. Так пошло бы по всей стра-
не, когда бы вологжане зимой следующего года снова не
перешли на сторону Москвы.
Псков также был разорен до основания и совсем выж-
жен, и вся земля кругом была разграблена и опустошена,
а многие богатые люди перебиты. То же постигло и Иван-
город, или русскую Нарву, и Нарва так и осталась разо-
ренной.
Земли Северская и Комарицкая, что на польской сто-
роне, жили в мире и спокойствии; и там пахали и засева-
ли поля, ни о чем не печалясь, предоставив Московию
самой себе. Хлеб был дешев во всей земле, исключая осаж-
денные города, где он был весьма дорог.
252
Еще во время осады Москвы, в 1609 г., Вологда, как
мы о том уже сказали, впервые перешла на сторону Дмит-
рия. Воеводу Никиту Михайловича Пушкина и дьяка Ро-
мана Макаровича Воронова отрешили от должности, бес-
человечно и немилосердно обращались с ними, безо всякой
с их стороны вины, и заточили их в темницу по воле на-
рода. Из главного лагеря мятежников был прислан в Во-
логду правителем Федор Ильич Нащокин, большой него-
дяй; три дня спустя прибыл на место дьяка Иван Веригин
Ковернев. Последний намеревался запечатать все купечес-
кие товары, но владельцы не допустили его до этого, и
отстранили его, так как не хотели ему повиноваться, ибо
он запечатывал товары с намерением конфисковать.
Новый воевода призвал всех жителей, чтобы они при-
няли царем Дмитрия и принесли ему присягу, он бесчес-
тил прежнего воеводу и поносил бранными словами, а
также некоторых богатых купцов, принесших ему подар-
ки для снискания милости.
В ту же ночь несколько поляков, давно находившихся
под стражей в окрестностях Вологды, были освобождены и
напали на окрестных крестьян, жестоко поступали с ними
и донага ограбили. Они явились в Вологду с санями, на-
грабленным добром, и намеревались на другой день отпра-
виться к войску, но крестьяне в ту же ночь пришли в пре-
жалостном виде в Вологду жаловаться на учиненные над
ними злодейства и насилия. Найдя их жалобы справедли-
выми, вологжане весьма раскаивались в том, что перешли
к Дмитрию и присягнули ему, и начали размышлять о сво-
ем непостоянстве. Дьяка Воронова, которого они перед тем
отрешили от должности, человека старого и доброго, вер-
нули на свое место, и держали все вместе совет, как бы
снова перейти на сторону Москвы и истребить всех дмит-
риевцев и поляков. Сверх того они освободили воеводу
Пушкина, который находился в заточении, и посадили его
на прежнее место, поведав ему о своем намерении, за ко-
торое он их похвалил, и обратился к народу с прекрасной
речью на пользу себе и московитам, укоряя вологжан за
легкомыслие. Преисполненные раскаяния, жители с вели-
ким ожесточением устремились из крепости к дому Булга-
253
ковых, где прибывал новый воевода, и приставили к нему
стражу и захватили силой Нащокина, Веригина и всех по-
ляков и пленных, бывших в Вологде, снесли им головы и
вместе с трупами бросили с горы в реку Золотицу. Так во-
логжане снова перешли на сторону Москвы и поклялись
между собою оставаться верными Москве и московскому
царю и стоять за него до последней капли крови.
Когда известие о случившемся в Вологде дошло до
Москвы, то это было для московитов радость, что есть еше
люди, готовые стоять с ними заодно, и царь отправил в
Вологду дружественную грамоту, в которой благодарил
жителей за все, а также особую грамоту воеводе Пушкину.
Эти грамоты запекли в хлебе, на тот случай, если гонцы,
переодетые бродягами и нищими, будут схвачены, чтобы
грамоты не достались неприятелю. В грамоте к воеводе было
написано, чтобы он выбрал несколько человек нидерланд-
ских и английских купцов, находящихся в Вологде, и по-
слал их в Новгород к военачальнику Скопину, чтобы они
помогли ему делом и советом, причем велено было слу-
шать их наравне с вельможами и боярами, ибо московиты
почитают немцев и англичан как людей изрядного ума,
поэтому царь и полагал, что наш совет может принести
пользу. Но мы думали иначе и, не желая нести службы,
склонили подарками воеводу к тому, что он задержал по-
лученную им грамоту и не объявил о ней. Все иноземцы,
бывшие в Вологде, купцы, ведущие в этой стране торгов-
лю, находились все вместе с английскими купцами в та-
мошнем Английском доме, столь обширном, как крепость,
и вокруг была поставлена сильная стража, однако всю зиму
мы прожили в великом страхе и опасении. Так как жители
Вологды страшились неприятеля, каждодневно ожидая, что
он явится для отмщения, то держали храбрую стражу. Од-
нажды из засады жители отважно напали на неприятеля,
обратили его в бегство и воротились домой с добычей. Тог-
да велено было английским и нидерландским купцам пе-
реселиться в Кремль, где отвели нам большой покой, в
коем, как в крепости, были двойные железные двери и
окна, чему мы были весьма рады. Там содержали также
днем и ночью крепкую стражу, и мы стали менее опасать-
254
ся. Но потом до нас дошли слухи, что в польском войске
говорили, что надобно разорить до основания Вологду за
то, что она так постыдно отложилась от Дмитрия, и по-
винны в том не кто иные, как английские и нидерланд-
ские купцы, бывшие вологжанам советчиками, и что до
них доберутся. От этого страх вновь обуял нас, и мы каж-
дый день ожидали смерти. Однако, находясь в такой край-
ней нужде, мы написали письма в доказательство нашей
невиновности, одно по-латыни, другое по-немецки и тре-
тье по-русски, чтобы в случае прихода поляков или дмит-
риевцев послать им наперед эти письма, чтобы таким об-
разом оправдать себя и сохранить жизнь.
Но до этого не дошло, ибо около Пасхи также и Ярос-
лавль отложился от Дмитрия, и весь путь от Ярославля до
Белого моря совершенно очистился. Все купцы тотчас же
по вскрытии рек с великой радостью отправились к морю в
Архангельск и здесь нашли свои корабли, прибывшие из
Англии и Голландии, которых они уже не чаяли больше
видеть. Невзирая на великие убытки, которые мы понесли,
так как не могли вести надлежащим образом торговли и не
имели возможности дожидаться купцов из глубины стра-
ны, мы благодарили Бога за сохранение своей жизни.
Таковы обстоятельства, которые я мог правдиво опи-
сать. Итак, когда мы отправились морем на нашу родину,
мы оставили страну полной войн и бедствий, Москва была
в осаде, а Ярославль снова стал на сторону московитов, и
в нем были поставлены правителями князь Сила Ивано-
вич Гагарин и Никита Васильевич Буслаев.
Молодой Скопин стоял еще под Новгородом, ожидая
прихода войска на помощь из Швеции (оно подошло по
весне), также ожидая Петра Шереметева, выступившего
зимой в поход с острова Бузана и пришедшего после пора-
жения черемисских татар в Нижний Новгород. Оттуда Ско-
пин со всеми силами по соединении с шведами и Шере-
метевым намеревался освободить Москву; и, соединившись
с ним летом, он мало-помалу стал подступать к Москве.
Казанские татары оставались непричастными. Астра-
хань у Каспийского моря, защищавшаяся от вольных ка-
заков, грабивших окрестности, тоже оставалась непри-
255
частной. Ногайские и черемисские татары вместе с морд-
вой появились зимою около Чебоксар и Свияжска, на реке
Волге, и сражались против Шереметева, а когда он ушел,
воевали между собой.
Приверженцам Дмитрия принадлежала вся страна от
польской и татарской границ до Москвы, также Псков и
Ивангород. Смоленск с окрестностями был на стороне
Москвы. Также все земли от Москвы до Белого моря были
московскими и стояли за Москву, каждодневно посыла-
ли московитам в помощь деньги и людей. В таком состоя-
нии оставили мы Московию, как о том сказано. Но когда
мы возвращались морем домой, то мы получили извес-
тие, что Москва освобождена Скопиным и Петром Ше-
реметевым с помощью шведов и что шведы сильно пре-
следовали неприятеля. Пока длилась погоня, московиты,
бывшие под начальством Скопина, так прельстились до-
бычей, что дочиста разграбили лагерь дмитриевцев, и пре-
следовавшие неприятеля шведы, увидев это, напали на
московских ратников и меж ними произошла жестокая
сеча, однако полагают, что все окончилось благополучно
и Москву освободили. Дай Бог, чтобы это было справед-
ливо, ибо по многим причинам, которые понятны разум-
ным людям, было бы худо, когда бы поляки завоевали
эту страну. Завладев ей, они снова посадили бы на пре-
стол какого-нибудь царя Дмитрия и не продержались бы
там и одного года, ибо московиты и русские еще более
своевольны и упрямы, чем евреи, и снова перебили бы
всех поляков, а Московия лишилась бы людей и была бы
совершенно разорена, от чего всемогущий Бог да сохра-
нит ее.
Впоследствии пришли еще известия, что неприятели
снова подступили к Москве и опять осадили ее. Что за тем
воспоследует, покажет время, и в письмах, полученных
из Данцига, сообщают, что король Польский осадил Смо-
ленск и обещал жителям освободить их на сорок лет от
податей, ежели они покорятся ему.
Одним словом, война эта может продолжаться еще
долгое время.
256
Адам Олеарий
ОПИСАНИЕ ПУТЕШЕСТВИЯ
В МОСКОВИЮ
О первом отбытии из Голштинии,
плавании по Балтийскому морю
и прибытии в Лифляндию1
Когда светлейший высокородный князь и государь
Фридерик2, наследник норвежский, герцог шлезвигский,
голштинский, стормарнский и дитмарсенский, граф оль-
денбургский и дельменгорстский, милостивейший князь и
государь мой, решил предпринять и отправить драгоцен-
ное посольство, то были определены послами его тогдаш-
ние советники: благородные, честные, высокопочтенные
и ученейшие господа Филипп Крузиус3 из Эйслебена, обо-
их прав лиценциат, ныне, по дворянству, особой милос-
тью его королевского величества Шведского4 ему дарован-
ному, именуемый Филиппом Крузеншерном и состоящий
королевским придворным советником, бургграфом нарв-
ским и генерал-директором коммерции в Эстонии и Ин-
германландии, и господин Отто Бругман5 из Гамбурга. Оба
они в год по Р. X. 1633, 22 октября, впервые были отправ-
лены из княжеской резиденции Готторпа в Москву к вели-
кому государю царю и великому князю Михаилу Феодоро-
вичу, всея России самодержцу и проч., чтобы просить о
свободном пропуске через Россию в Персию. Когда все
необходимые для такого путешествия вещи были заготов-
9 Зак. 1918
257
лены, они со свитою в 34 челов. 6 ноября собрались в путь
из Гамбурга, 7 того же месяца прибыли в Любек, а 8 в
Травемюнде6, где мы приняли на судно опытного кора-
бельщика по имени Михаила Кордеса, намереваясь вос-
пользоваться его помощью на Каспийском море, 9 мы, с
веселыми пожеланиями многих добрых друзей, сопровож-
давших нас из Гамбурга и Любека до берега, вышли в море.
Судно, на котором мы плыли, называлось Fortun, кора-
бельщиком был Ганс Мюллер. С нами же на судне ехал и
господин Венделин Зибелист7, доктор медицины, которо-
го великий князь призвал к себе в гоф- и лейб-медики, а
его княжеская светлость герцог шлезвиг-голштинский ре-
комендовал его царскому величеству.
После обеда мы весело оттолкнулись от берега и ста-
ли на рейде на якоре. Вечером к 9 часам, когда подул
желанный зюйд-вест, мы, во имя Божие, стали в паруса
и в ту же ночь сделали 20 миль. На следующий день, с
одобрения господ послов и корабельщиков, были состав-
лены кое-какие корабельные законы и постановления,
чтобы народ вел себя тихо и скромно, а также, чтобы
потом кое-что от штрафов наших преступников досталось
бедным. С этой целью были установлены некоторые долж-
ности, а знатнейшим лицам было поручено следить за
исполнением законов и штрафовать преступников. Этого
порядка настолько строго придерживались, что по окон-
чании плавания, т. е. через четыре дня, выручены были 22
рейхсталера, которые переданы корабельщику для распре-
деления половины рижским, а половины любекским бед-
ным.
Близ острова, к северу, лежат опасные по корабле-
крушениям подводные скалы Эрдгольм, которых море-
плаватели осенним временем очень боятся. Так как эти
скалы ночью нельзя заметить даже с помощью лота — в
непосредственной близости у них очень глубоко, — то и
случается так, что много судов там терпят крушение и
идут ко дну.
11 сего месяца в полдень мы, при добрых погоде и
ветре, пришли к 56° широты. К вечеру ветер позади нас
начал крепчать и продолжался всю ночь; поэтому при-
258
шлось уменьшить паруса. Большинство из нас, кто еще не
ездил по морю, получили обычную морскую болезнь и
лежали столь слабыми, что иные думали уже помирать.
Болезнь эта, однако, происходит не оттого, что нам пре-
тит сильный запах морской воды, но исключительно от
движения судна. Ведь у большинства оно вызывает непри-
вычное сотрясение живота и головокружение; те же, кто
привыкли к этому движению и несклонны к головокру-
жениям, не испытывают неудобств. Вот, по-моему, и при-
чина, почему маленькие дети, привычные еще к качанию
в колыбели, очень редко ощущают эту болезнь. Причина
этого недомогания ясна и из того, что оно чувствуется не
в самом начале плавания, пока ветер еще слабый, но ча-
сто только через несколько дней, когда сильный ветер
качает корабль. Если же бурная погода держится несколь-
ко дней, то болезнь у большинства проходит сама собою.
Я подобное явление изучил на некоторых из нас на реке
Волге, в которой нет соленой воды: при тихой погоде они
долгое время плыли, ничего не ощущая, а когда началась
сильная буря, с ветром против течения реки, и корабль
стал качаться, то они опять ощутили это недомогание.
С таким только что упомянутым сильным ветром мы
могли придерживаться правильного пути или курса, как
говорят корабельщики, и за эту ночь сделали 15 миль. На
следующий день, 12, последовал за ветром совершенный
штиль, так что ветерок не колыхнулся, и судно останови-
лось на месте. К обеду мы опять получили с юга добрый
ветер, доставивший нас потихоньку к Домеснесу, мысу,
который от Курляндии вдается в море. Здесь мы стали на
якоре и оставались тут до 13 вечера, когда ветер стал за-
падным и мы вкруг мыса смогли въехать в залив. 14 рано
утром прибыли мы к окопам Дюнамюнде (Усть-Двинска),
лежащим у устья реки Двины (отсюда и наименование
их), в двух милях от города Риги. Так как спустился густой
туман и ничего нельзя было видеть вдали от себя, то мы
сообщили о своем приближении трубою, чтобы из око-
пов получить лоцмана, без которого заезжему не двинуть-
ся с места и не въехать, ввиду нечистого дна. Вскоре за-
тем прибыли таможенные и осмотрели судно, нет ли в
259
нем купеческих товаров, за которые надо платить пошли-
ну. Не найдя ничего, они прислали к нам лоцмана, с ко-
торым мы двинулись вперед и вечером очень поздно, бла-
годарение Богу, благополучно подошли к городу Риге.
Из Риги, через Вольмар
и Дерпт, в Нарву
После того, как господа послы оповестили горожан о
своем приезде, они, кое с кем из народа, вышли на берег
и прошли в город, где нас встретили несколько военных
офицеров с пустою каретою, присланною местным гу-
бернатором для приема послов. Будучи, однако, недалеко
от гостиницы, послы не захотели сесть, но пешком были
сопровождены до гостиницы Ганса Краббенгёфта, где они
и поместились с знатнейшими из своей свиты, разместив
остальных в соседних домах. 21 ноября господа послы по-
лучили подарки от благородного магистрата, а именно:
быка, несколько овец, кур, зайцев и много дичи, равно
как и несколько пшеничных и ржаных хлебов и одну аму
рейнского вина. На третий день после этого послы устро-
или угощение, пригласив на него губернатора г. Андрея
Эрихсена, благородный магистрат, суперинтендента ма-
гистра Самсония и несколько высших военных офицеров
города. Мы спокойно оставались в городе пять недель, пока
мороз и снег не приготовили нам хорошего санного пути
через болота, лежащие в окрестностях. Отсюда путь шел
на г. Дерпт, и 14 декабря наши вещи и утварь (или багаж),
кое с кем из народа, были на 31 санях посланы вперед, а
господа послы следовали на другой день. Так как боль-
шинство из нас были непривычны к езде в санях и управ-
лению лошадью из саней, а теперь приходилось этим за-
няться, то в первый день можно было видеть, как тот или
другой несколько раз вываливались из саней, а потом со
своими вещами опять поднимались со снега. 18 мы при-
были в городок Вольмар и были приняты здесь начальни-
ком (или комендантом). Город этот в 18 милях от Риги и
260
очень опустошен нападением русских и поляков. Жители
устроили себе на старых стенах разрушенных домов и око-
до них деревянные жилища, по способу шведов и русских.
. Ртсюда мы 20 проехали 6 миль до замка Эрмес, принад-
; лежащего полковнику де-ла-Барр; здесь нас приняли и
{ княжески угостили двумя обедами.
i 22 декабря мы подвинулись вперед еще на 4 мили до
3 замка Ринген, а на следующий день достигли города Дерп-
*' та. Этот город лежит в Эстонии или Эстляндии на реке
? Эмбек8, посреди Лифляндии, окружен круглой каменной
.’стеной и бастионами, которые, подобно домам, построе-
> ны по-старинному. Многочисленными войнами, особенно
₽ 1571 г. русскими — город этот очень опустошен. Раньше он
. принадлежал московитам и назывался Юрьевым-городом.
> Занят он немецкими геермейстерами9 в год по Р. X. 1230 и
i сделан епископской резиденцией). Здесь был епископом
'герцог Магнус Голштинский10, зять тирана11, о чем вспо-
1минает Гамельман в «Ольденбургской хронике». В 1558 г.
тиран Иван Васильевич снова завоевал Дерпт. В 1582 г. ко-
;роль Стефан польский подчинил город себе, но когда гер-
;цог Карл Зюдерманландский принял шведскую корону и
: Повел войну с поляками, то он, между другими городами,
.завладел и этим. Таким образом, Дерпт и теперь в поддан-
стве его королевского величества Шведского12.
; - Отпраздновав в Дерпте наш рождественский празд-
ник, мы 29 декабря направились дальше и продолжали
!Путь наш до Нарвы.
1 Как мы прибыли в Нарву.
Путешествие оттуда, через
крепости Ям и Копорье, до Нотебурга
3 января 1634 г. мы прибыли в Нарву и остановились
у Якоба фон Келлена, видного местного торговца и трак-
тирщика. Здесь мы, из-за долгого неприбытия шведских
господ послов, которые, ради известных причин13, жела-
ли с нами вместе подняться в Москву, прождали в боль-
261
шой досаде до 22 недель. Впрочем, нельзя сказать, чтобы
у нас тут недоставало увеселений для препровождения
времени. Мы не только ежедневно устраивали княжеский
стол с хорошим угощением и порядочною музыкою, при
чем многие знатные господа, зачастую посещавшие гос-
под послов, вели приятные беседы, — но мы и ездили на
различные важные пиршества, а также приглашались и
уводились в поездки верхом и на охоту. Однако страстное
желание ехать дальше не давало нам оценить все это весе-
лье. К тому же много хлопот было нашим господам по-
слам из-за нашего простого люду, столь долго остававше-
гося в праздности и часто вступавшего в ссоры и драки с
нарвскими солдатами; постоянно поэтому приходилось им,
вместе с г. губернатором, судить и мирить.
Когда, наконец, в Нарве мы почувствовали такой не-
достаток в провианте, что наши закупщики русские дол-
жны были искать кур и овец за 8 миль кругом, а мы все-
таки еще, по известным причинам, не могли вскоре
ожидать прибытия господ шведских послов, главою кото-
рых назначен был ревельский губернатор г. Филипп Шей-
динг, то наши господа послы с 12—10 лицами отправи-
лись в Ревель, оставив остальных в Нарве. В Ревеле мы
были приняты, со стороны благородного магистрата, с
салютами и подарками. Здесь мы пробыли еще 6 недель, а
тем временем г. губернатор, благородный магистрат и знат-
нейшие граждане оказывали нам всяческую честь и дружбу.
Когда многократно упоминавшийся г. губернатор 10
мая узнал из почты, что другие прикомандированные к
нему посланцы уже прибыли в Нарву, то он пустился в
путь и в день Вознесения, а именно 15 мая, направился с
нами в Нарву, 18 того же месяца мы вновь прибыли туда,
причем шведские господа послы, а именно полковник
г. Генрик Флеминг, г. Эрик Гилленшерна и г. Андрей Бу-
реус со значительною свитою выехали к нам навстречу за
милю до города, любезно приветствовали нас и ввели в
город, где вторично нас приняли с салютами из орудий.
По свидании господ послов, с обеих сторон решено
было, что обе партии возьмут путь к Новгороду через Ка-
релию по Ладожскому озеру; об этом эстафетою сообше-
262
но было новгородскому воеводе, чтобы он знал, где нас
встретить и принять, и нам не пришлось бы слишком долго
стоять у границы. Ведь в России, как и в Персии, обычай
такой, что чужие посольства, прибывшие к границе, дол-
жны заявить о себе и ждать, пока их прибытие будет эста-
фетою сообщено властелину страны и будут отправлены
приказы наместникам и начальникам провинций, как их
принять и угостить. Ведь у московитов и персов все послы
и гонцы, посылаемые великими государями, сколь долго
они остаются в их пределах, получают бесплатно пропи-
тание и проезд с конвоем для охраны. Поэтому послам и
дается проводник (по-русски «пристав», по-персидски
«мехемандар») с несколькими солдатами, чтобы вести их
через страну.
Когда, таким образом, эстафета, как сказано, отправ-
лена была в Новгород, шведские господа послы 22 мая
выехали из Нарвы и поднялись до крепости Копорья, что-
бы там отпраздновать Троицу и подойти поближе к рус-
ской границе.
Поминовение усопших
263
Крепость Ям
24 мая, в субботу перед 1 роицею, я отправился в рус-
скую Нарву посмотреть, как русские поминают своих умер-
ших и погребенных друзей. Кладбище было полно русских
женщин, которые на могилах и могильных камнях разло-
жили прекрасные вышитые пестрые носовые платки, а на
эти последние ими были положены на блюдах штуки 3 или
4 длинных оладий и пирогов, штуки 2 и 3 вяленых рыб и
крашеные яйца. Иные из них стояли, другие лежали на
коленях тут же, выли и кричали и обращались к мертвым
с вопросами, какие, говорят, приняты на похоронах у
них. Если проходил мимо знакомый, они обращались к
нему, разговаривали со смеющимся ртом, а когда он ухо-
дил, снова начинали выть. Между ними ходил священник
с двумя прислужниками, с кадильницею, куда он време-
нами бросал кусочек воску, и окуривал могилы, приго-
варивая несколько слов. Женщины говорили попу (так
называют они своих священников) подряд имена своих
умерших друзей, из которых некоторые уже лет 10 как
умерли, другие читали имена из книги, некоторые же
давали их читать прислужникам, а поп должен был по-
вторять их. Тем временем женщины наклонялись к попу,
264
иногда знаменуя себя крестным знамением, а он помахи-
вал против них кадильницею.
Женщины тянули и тащили попа с одного места на
другое, и каждая желала иметь преимущество для своего
покойника. Когда это каждение и моление, которое поп
совершал с блуждающим лицом, без особого благогове-
ния, бывало закончено, то женщина давала ему крупную
медную монету. Пироги же и яйца слуги священника заб-
рали себе, дав кое-что из них и нам, немцам, смотрев-
шим на это зрелище. Мы их, в свою очередь, роздали
бедным детям.
26 мая, мы, послав нашу утварь и вещи кое с кем из
простого люда, водою, вперед в Ниеншанц, сами после-
довали сушею туда же. При салютующих выстрелах из го-
рода мы, в сопровождении командующего там полковни-
ка Порта, отправились в крепость Ям, которая, в 3 милях
от Нарвы, лежит в Ингерманландии за рекою, богатою
рыбою, особенно лососями, и называющеюся «Ямскою
речкою». Здесь переезжают на пароме. Эта крепость неве-
лика, но окружена крепкими каменными стенами и 8 ба-
стионами. Когда Нарва была отнята у русских, тогда же и
этот город был завоеван. Здесь вблизи имеется мыза, на-
Крепо&пь Копорье
265
селенная русскими, которые, наравне с крепостью, в под-
данстве у его королевского величества Шведского.
Здесь нам дали новых лошадей, на которых 29 того
же месяца мы проехали верхом 6 миль до крепости Копо-
рье, где нас прекрасно встретили салютными выстрела-
ми, а наместник г. Бугислав Розен прекрасно угостил нас,
накормив еще в тот же вечер 48 блюдами и разными ви-
нами, медом и пивом. Угощений и пиршеств на следую-
щий день было не меньше, но даже еще обильнее и с
прибавлением к ним музыки и другого веселья. В 3 часа
после обеда нас с салютными выстрелами и на свежих
лошадях отправили дальше. Отсюда поездка шла через двор
русского боярина, именем Н(икиты) Васильевича; так как
он расположен в 7 милях от Копорья, а мы оттуда поздно
выбрались, то нам пришлось ехать всю ночь, пока мы
прибыли ко двору. Рано утром в 3 часа нас боярин любез-
но принял и угостил разными кушаньями и напитками
из серебряной утвари. У него были два трубача; при столе,
особенно при тостах — чему он, вероятно, научился у нем-
цев, он заставлял их весело наигрывать. По всему было
видно, что это человек веселый и храбрый.
Перед нашим уходом он велел выйти к нам своей
жене и еще другой ее родственнице, которые обе были
очень молоды и красивы лицом и прекрасно одеты; их
сопровождала некрасивая спутница для того, чтобы еще
более выдвинуть их красоту. Каждая из женщин должна
была пригубить чарку водки перед господ послами, пере-
дать ему в руки и поклониться ему. Русские считают это
величайшею честью, которую они кому-либо оказывают,
чтобы указать, что гость был им приятен и любезен. Если
дружба и близость очень велики, то гостю разрешается
поцеловать жену в уста, о чем ниже будет сказано подроб-
нее. 31 мая, в 1 час пополудни, мы здесь простились, до
вечера проехали 4 больших мили до Иоганнесталя.
Здесь мы узнали, что королевские шведские господа
послы ждут нас в Ниеншанце. Тем скорее собрались мы в
путь, а именно 1 июня рано утром, в 3 часа, и прибыли
на место в 6 часов. Ниеншанц, или Ние14, как иные его
зовут, лежит в 2 1/2 милях от Иоганнесталя на судоход-
266
ной воде, которая вытекает из Ладожского озера в Фин-
ское и Балтийское море, отрезывает Корелию от Ингер-
манландии и имеет хорошее питание. Здесь мы застали
королевских господ послов, которые, поговорив секретно
о некоторых делах с нашими послами, отправились впе-
ред к Нотебургу Мы последовали за ними 2 июня. Тамош-
ним наместником г. полковником Иоганном Кунемунд-
том, храбрым видным человеком, выехавшим к нам по
воде навстречу в гондоле, или крытой лодке, мы были
хорошо приняты и введены при салютных выстрелах.
Крепость Нотебург15, в 8 милях от Ниеншанца, ле-
жит от экватора на 53°30'16 у выхода из Ладожского озера;
она со всех сторон окружена глубокою водою и располо-
жена на острове, похожем на орех, как видно из прилага-
емого плана. Отсюда и название его Noteburg (Ореховый
замок). Крепость построена русскими и окружена стенами
в 2,5 сажени толщиною. Так как амбразуры (подобно та-
ковым во всех старых русских крепостях) направлены пря-
мо вперед и снаружи немногим лишь шире, чем изнутри,
то они не особенно удобны для стреляния из них и для
зашиты. В одном из уголков крепости находится особая,
Крепость Нотебург
267
крепко защищенная небольшая цитадель, откуда крепость
может быть обстреливаема внутри. Эта крепость была взя-
та на капитуляцию его королевским величеством шведс-
ким чрез полководца г. Якова де-ла-Гарди. Нам говорили,
что осажденные русские держались вплоть до последних
двух человек. Когда они по капитуляции должны были
выступить со всем скарбом и имуществом и со всеми на-
ходившимися при них людьми, то вышли только эти двое.
Когда их спросили, где же остальные, они отвечали: ос-
тались только они одни, так как все другие умерли от
заразной болезни. Вообще русских хвалят, что они гораз-
до храбрее и смелее держатся в крепостях, чем в поле. Об
этом ниже подробнее.
Так как мы предполагали, что нам придется прож-
дать некоторое время в Нотебурге, то господа послы оста-
вили при себе только шесть человек, а остальных напра-
вили вперед к русской границе, так как там было удобнее
по части провианта. Мы пробыли здесь до седьмой недели
и наши господа, тем временем, ежедневно приглашались
королевскими господами послами, пока эти последние
находились там, к обеду. Кое-кто из нас, наряду с ними,
встречал тут хорошее угощение и обхождение.
Когда 25 того же месяца пришло известие, что новго-
родский воевода прислал пристава на границу, чтобы от-
дельно и прежде всего отвезти шведских господ послов,
эти последние 26 пустились в путь и поднялись к Лаве.
Наши господа провожали королевских послов целых
четыре мили, я же, с их согласия, проехал с ними вер-
хом даже до границы, чтобы видеть церемонии и обычаи
русских при приеме посольств. Итак, они 27 того же меся-
ца рано утром в 4 часа прибыли к реке, протекающей,
при ширине в 40 шагов, мимо деревни Лавы и отделяю-
щей русскую границу от шведской. Когда королевские гос-
пода послы, при прибытии своем, узнали, что на русской
стороне их ждут 17 лодок, то они тотчас послали своего
переводчика на тот берег к приставу, чтобы он переслал
несколько лодок для своевременной нагрузки их вещей:
тогда они скорее смогут двинуться в путь после приема.
Однако пристав, человек старый, велел ответить, что он
268
Лава
не смеет ничего подобного сделать до приема послов. Около
полудня пристав прислал своего толмача, или переводчи-
ка, на тот берег с четырьмя стрельцами, или мушкетера-
ми, (последних с ним было 30 человек) и велел сказать:
ему теперь было бы очень приятно принять господ по-
слов — не желают ли они пожаловать? Один из господ
послов на это велел ответить приставу, что им уже пятую
неделю приходится лежать и ждать: поэтому нисколько не
обидно будет приставу, если и он их теперь подождет один
лишний день. Впрочем, он-де не желает этим давать пол-
ного ответа, так как его собратья улеглись для полуденно-
го сна, как потому, что они всю ночь путешествовали,
так в особенности — вследствие усвоения ими у русской
границы русских обычаев: ведь почти все русские отдыха-
ют ежедневно в полдень.
Далее был задан вопрос: когда же будут приняты гол-
штинские послы? Толмач полагал, что это случится разве
недели через три, после доставки шведских господ в Мос-
кву, дело в том, что, по его мнению, неюставало ладей
или ботов и лошадей, нужных для путешествия. После обе-
269
да в 4 часа господа велели сообщить на тот берег, что те-
перь они желали бы быть приняты; пусть поэтому пристав
приходит. Затем они сели со своим переводчиком в лодку,
а их гофъюнкеры, к которым и я присоединился, в другую.
Пристав, действительно, выехал навстречу с 15 разодеты-
ми русскими в лодке. Когда лодки столкнулись посередине
реки, пристав выступил и сказал, что великий государь и
царь Михаил Феодорович, всея России самодержец (с про-
чтением всего его титула), велел ему принять королевских
господ послов и приказал их, со всем их народом, при
достаточном провианте и подводах, доставить в Москву.
Когда на это получен был ответ, то пристав повел их на
берег и пригласил в дом некоего сына боярского или дво-
рянина, в небольшую, от дыма черную, как уголь, и на-
топленную комнату. Стрельцы своими ружьями, составля-
ющими, наравне с саблями, общее оружие их, дали салют,
без всякого порядка, кто только смог раньше справиться.
Господ послам для привета предложены были несколько
чарок очень крепкой водки и двух родов невкусный мед с
несколькими кусками пряника. Они и мне дали попробо-
вать этого угощения, прибавив (по-латыни): «Стоит под-
бавить немного серы и — готово питье для ада».
Через час после такого угощения, господа шведы на
12, а русские на 3 лодках, со знаменем и барабаном, от-
плыли и направились к Новгороду. Я же опять через Ла-
дожское озеро отправился в Нотебург, где нам, по словам
русского толмача, следовало ждать еще целых 3 недели.
Все это остальное время мы провели очень весело.
Когда нам 16 июля было возвещено, что пристав, по
имени Семен Андреевич Крекшин, прибыл в Лаву, что-
бы нас принять, то мы 20 собрались в путь и отправились
туда. Через несколько часов после нашего прибытия при-
став прислал своего толмача со стрельцом на нашу сторо-
ну и велел спросить, готовы ли послы быть принятыми.
Когда мы велели спросить, примет ли он нас на той сто-
роне или же на воде, как шведов, он отвечал, чтобы мы
переезжали.
Когда мы, вследствие этого, переехали, выступил
наперед пристав в красном дамастовом кафтане, и оста-
270
новился в нескольких шагах от берега. Когда же послы
вышли на берег, он, с покрытой головой, вышел к ним
навстречу и не хотел снимать шапки, пока не начал гово-
рить и не назвал имени великого князя. Подобно преды-
дущему, он взял записку в руки и сказал: «Его царское
величество Михаил Феодорович, всея России самодер-
жец и проч., прислал меня сюда, чтобы тебя, Филиппа
Крузиуса, и тебя, Оттона Брюггеманна, как княжеских
голштинских послов, принять, вас, вместе с вашими людь-
ми, снабдить провиантом, ладьями, лошадьми и всем
необходимым и доставить в Москву». Его толмач, по име-
ни Антоний, не знал порядочно немецкого языка и пере-
водил так скверно, что еле можно было понять его. Толь-
ко после того как послы дали свой ответ, пристав подал
им руку и повел нас сквозь ряды стрельцов (это были
двенадцать казаков, стоявших с ружьями наготове) в свою
гостиницу. Когда дан был салют из ружей, то это произ-
ведено было с такою неосторожностью, что секретарь
шведского резидента, стоявший с нами, чтобы глядеть на
это торжество, получил большую дыру в своем колете.
Угощение, с которым пристав нас принял, состояло из
пряников, водки и варенья из свежих вишен. Посидев с
полчаса, мы, при салютах стрельцов, вновь переехали через
воду и собрались в дальнейшую поездку. После обеда в
полдень, данного нам наместником Нотебурга, проводив-
шим нас и на прощанье хорошо угостившим всевозмож-
ными вкусными напитками, мы на 7 ладьях поехали в
путь через Ладожское озеро.
Когда мы 22 того же месяца рано закончили наш путь
по озеру на протяжении 12 миль и вышли на берег у мо-
настыря Никольского на Волховской губе, пришел рус-
ский монах и принес послу для привета хлеб и вяленую
семгу. Наш пристав, который должен был готовить нам
«корм», или продовольствие, спросил, должен ли он ежед-
невно доставлять нам провизию и заставлять готовить ее
или же нам будет приятнее получать деньги, на сей пред-
мет назначенные его царским величеством, и давать на-
шему повару готовить кушанья по нашему способу. Мы,
как это всего обычнее у посольств в этих местах, просили
271
передавать нам деньги и закупали сами. На каждое лицо,
от высшего до низшего, пропорционально, назначается
известная сумма.
После обеда мы отправились по реке, которая приве-
ла нас в Ладогу, городок, расположенный в 17 милях от
Лавы. Сюда мы прибыли в тот же вечер. По дороге нас
встретил пристав с тремя ладьями; он должен был доста-
вить еще шведского г. резидента, покинутого нами в Но-
тебурге.
Здесь мы услыхали первую русскую музыку, а имен-
но в полдень 23 того же месяца, когда мы сидели за сто-
лом, явились двое русских с лютнею и скрипкою, чтобы
позабавить господ [послов]. Они пели и играли про вели-
кого государя и царя Михаила Феодоровича; заметив, что
нам это понравилось, они сюда прибавили еще увеселе-
ние танцами, показывая разные способы танцев, употре-
бительные как у женщин, так и у мужчин. Ведь русские в
танцах не ведут друг друга за руку, как это принято у нем-
цев, но каждый танцует за себя и отдельно.
А состоят их танцы больше в движении руками, но-
гами, плечами и бедрами. У них, особенно у женщин, в
Ладога
272
Торжок
руках пестро вышитые носовые платки, которыми они
размахивают при танцах, оставаясь, однако, почти все
время на одном месте.
После обеда мы снова сели в наши лодки и поплыли
по реке Волхову. Волхов — река почти той же ширины,
как и Эльба, течет, однако, не так сильно; она вытекает
из озера за Великим Новгородом, называющегося у них
Ильмер-озером. Впадает она в Ладожское озеро.
8 августа мы вновь достигли какого-то яма и прибы-
ли к юродку Торжку. Он лежит с правой стороны дороги,
немного поодаль ее, и окружен забором и бревенчатыми
укреплениями. Здесь находят хороший хлеб, мед и пиво
Так как нас не пускали в город, но поместили в несколь-
ких домах перед городом, то господа послы велели на зе-
леном холме устроить хижину из зеленых ветвей: здесь они
пообедали и переночевали кое с кем из своего люду.
На следующий день мы перешли через две речки —
одну сейчас же за Торжком, другую в 2 верстах от Мед-
ной. Вечером были мы перед Тверью, в 12 милях отТорж-
273
Тверь
ка. Тверь несколько больше Торжка и лежит на холме за
рекою; это епископская резиденция; здесь, как и в Торж-
ке, имеется воевода. Перед городом соединяются, образуя
довольно широкую реку, река Твер[ца], от которой город
имеет свое название, и Волга, протекающая 600 немец-
ких миль через Россию и Татарию и впадающая в Каспий-
ское море. Здесь нам пришлось переправляться на плоту и
нас поместили за городом в мызе. Так как здесь послед-
ний ям, то нам дали свежих лошадей, которые должны
были окончательно доставить нас в Москву.
13 августа мы достигли последнего села перед Моск-
вою, Николы Нахимского17, в двух милях от города. Отсю-
да пристав послал эстафету в Москву для сообщения о
нашем прибытии.
274
Как нас перед городом Москвою
приняли и ввели в город
14 рано утром пристав со своим переводчиком и пис-
цом предстали перед господами послами, поблагодарили
их за оказанные нами им во время поездки благодеяния и
тут же просили прощения в том, если они служили нам
не так, как следует. Приставу подарен был большой бо-
кал, толмачу и другим даны были деньги. Когда эстафета
вернулась опять из города, мы приготовились к въезду.
Когда мы медленно подвигались вперед и находились
едва в полумиле от города, прибыли десять конных эста-
фет, ехавших во весь карьер. Один за другим подъезжали
они к нам, указывали приставам, где теперь находятся
русские, долженствующие нас принять, и приносили при-
казания ехать то быстрее, то опять медленнее, то вновь
быстрее, чтобы одна партия не прибыла раньше другой
на определенное место и не была принуждена поджидать.
Когда мы подошли на 1/4 мили к городу, то мы застали
стоявших сначала в очень хорошем строю четыре тысячи
русских, в дорогих одеждах и на лошадях. Нам пришлось
ехать сквозь их строй.
Когда мы подвинулись вперед на выстрел из писто-
лета, подъехали два пристава в одеждах из золотой парчи
и высоких собольих шапках, на прекрасно убранных бе-
лых лошадях. Вместо поводьев у лошадей были очень боль-
шие серебряные цепи со звеньями, шириною более чем в
Въезд иностранных послов в Москву
275
два дюйма, но толщиною не шире тупой стороны ножа,
притом столь великими, что почти можно было просунуть
руку; эти цепи при движении лошадей производили силь-
ный шум и странный звон. За ними следовал великокня-
жеский шталмейстер с 20 белыми лошадьми, ведшимися
за уздцы, и еще большое количество народа, верхами и
пешком. Когда они подошли к послам, пристава и послы
сошли с лошадей, старший пристав обнажил свою голову
и начал так: «Великий государь царь и великий князь
Михаил Феодорович, всея России самодержец, Влади-
мирский, Московский, Новгородский, царь Казанский,
царь Астраханский, царь Сибирский, государь Псковский,
великий князь Тверской, Югорский, Пермский, Вятский,
Болгарский и иных, государь и великий князь Новагорода
низовыя земли, Рязанский, Ростовский, Ярославский,
Белозерский, Удорский, Обдорский, Кондинский и всея
северныя страны повелитель, государь Иверския страны,
Карталинских и Грузинских царей и Кабардинския зем-
ли, Черкасских и Горских князей и иных многих госу-
дарств государь и обладатель и проч, велит вас, герцога
шлезвигскаго, голштинскаго, стормарнскаго и дитмарсен-
скаго, графа ольденбургскаго и дельменгорстскаго, вели-
ких послов, чрез нас, принять, жалует вас и ваших гофъ-
юнкеров для въезда своими лошадьми, а нас обоих
назначает приставами, чтобы вам, пока вы будете нахо-
диться в Москве, служить и доставлять все необходимое».
Когда посол Филипп Крузиус ответил на это, то послам
для въезда были подведены две большие белые лошади,
покрытые вышитыми немецкими седлами и украшенные
разными уборами.
Как только господа послы сели, прежний пристав с
казаками, ведший нас от границы до Москвы, должен
был отъехать от нас. Новые приставы были — Андрей Ва-
сильевич Усов и Богдан Федорович. Для знатнейших из
людей при посольстве были поданы еще десять белых ло-
шадей в русских седлах, покрытых золотой парчою. И так
послы поехали между обоих приставов. Вообще же рус-
ские, если три и более человек идут или едут рядом, счи-
тают высшим местом то, на котором правая рука наружу
276
и свободна [т. е. никого нет правее]. За лошадьми шли рус-
ские слуги и несли попоны, сделанные из барсовых шкур,
парчи и красного сукна. Рядом с послами ехали верхом
другие московиты густою толпою вплоть до города и по-
сольского дома. Нас поместили внутри Белой стены, в
пределах так называемого Царь-города, т. е. император-
ского города. При въезде мы видели на всех улицах и на
домах бесчисленное множество народу, стоявшего, чтобы
смотреть на наш въезд. Однако улицы были весьма опус-
тошены сильным пожаром, бывшим перед самым нашим
приездом и испепелившим более пяти тысяч домов. Люди
должны были там и сям жить в палатках, да и мы не были
помещены в посольском дворе, который также сгорел, а
в двух деревянных обывательских домах.
Как нас в Москве принимали:
о первой публичной аудиенции
и о прибытии Спиринга в Москву
Через полчаса после нашего прибытия в Москву, для
приветствования нас, из великокняжеских кухни и погре-
ба была прислана нам провизия18, а именно: 8 овец, 30 кур,
много пшеничного и ржаного хлеба, и потом еще 22 раз-
личных напитка: вино, пиво, мед и водка, один напиток
лучше другого; их принесли 32 русских, шедших гуськом
друг за другом. Подобного рода провизия подобным же
образом доставлялась нам ежедневно — однако только в
половинном размере. У них ведь такой обычай, что послы
в первый день своего прибытия, а также в дни, когда они
побывают у руки его царского величества, постоянно по-
лучают двойное угощение.
По передаче этого угощения, передний двор нашего
помещения был заперт и стал охраняться 12 стрельцами,
так что никто ни от нас не мог выйти, ни к нам кто-либо
чужой зайти — до допущения нас к первой аудиенции.
Приставы же ежедневно заходили для посещения послов,
а также чтобы справиться, не нуждаются ли они в чем-
277
либо. У нас же во дворе всегда должен был оставаться
один из русских толмачей, который посылал стрельцов
служить нам и покупать всякие нужные вещи, по нашему
требованию.
18 августа того же месяца пришли приставы и сооб-
щили, что его царское величество завтра желает дать гос-
под послам публичную аудиенцию, и что по сему случаю
нам надлежит быть в готовности. Они же, от имени госу-
дарственного канцлера, пожелали иметь список княжес-
ких подарков, имеющих быть поднесенными; список и
был им передан. После обеда пришел младший пристав,
чтобы вновь нас известить, что завтра мы будем допуще-
ны к руке его царского величества.
Рано утром 19 августа приставы явились вновь, что-
бы узнать, собираемся ли мы в путь, и когда они увида-
ли, что мы вполне готовы, то поспешно поскакали опять
к Кремлю. Вслед за тем доставлены были великокняжес-
кие белые лошади для поезда. В 9 часов приставы верну-
лись в обыкновенных своих одеждах, велев нести за со-
бою новые кафтаны и высокие шапки, взятые ими из
великокняжеского гардероба: приставы надели их в перед-
ней у послов, где они в нашем присутствии разубрались
наилучшим образом. После этого мы в плашах, но без
шпаг (таков у них обычай: никто со шпагою не смеет явить-
ся перед его царским величеством), сели на коней и от-
правились к Кремлю.
За этими подарками шли два камеръюнкера, кото-
рые в вытянутых руках держали верительные грамоты: одну
к великому князю и одну к патриарху, отцу его царского
величества, Филарету Никитичу: хотя этот последний, пока
мы были в дороге, и скончался, тем не менее, сочтено
было за благо передать это послание великому князю.
Далее ехали оба господа посла между приставами,
перед которыми ехали два толмача.
Рядом с послами шли четыре лакея, а за ними при-
служивающие отроки или пажи.
От посольского двора до зала аудиенции в Кремле,
на протяжении восьмушки мили, были расставлены бо-
лее двух тысяч стрельцов или мушкетеров, с обеих сто-
278
рон, тесно друг к другу; мы должны были проехать сквозь
их строй. За ними, во всех переулках, домах и на крышах
стояла густая толпа народа, глядевшая на наш поезд. По
дороге несколько эстафет, во весь карьер, неслись к нам
из Кремля навстречу, указывая приставам, чтобы мы то
быстро, то медленно ехали, то, наконец, останавлива-
лись, чтобы его царскому величеству не пришлось сесть
на трон для аудиенции раньше или позже прибытия по-
слов.
Проехав на верхней площади Кремля мимо посоль-
ского приказа и сойдя с лошадей, наши офицеры и гофъ-
юнкеры выстроились в порядке. Маршал пошел впереди
презентов или подарков, а мы шли перед господ послами.
Нас повели налево через сводчатый проход и в нем мимо
очень красивой церкви (это, говорят, собор) в залу ауди-
енции, находящуюся направо на верхней площади. Нас
потому должны были провести мимо их церкви, что мы
христиане. Турок, татар и персов ведут не по этой дороге,
но сразу же через середину площади и вверх по широкому
крыльцу.
Перед аудиенц-залом мы должны были пройти через
сводчатое помещение, в котором вкруг стены сидели и
стояли старые осанистые мужчины с длинными седыми
бородами, в золотых одеждах и высоких собольих шапках.
Это, говорят, «гости» его царского величества или име-
нитейшие купцы; одежда на них принадлежит его царско-
го величества сокровищнице и выдается только при об-
стоятельствах, подобных настоящему, а затем сдается
обратно.
Когда послы пришли пред двери этой передней, из
аудиенц-зала вышли два командированные его царским
величеством боярина в золотых, вышитых жемчугом каф-
танах, приняли послов и сказали, что его царское вели-
чество пожаловал их, допустив явиться перед ним как их
самих, так и их гофъюнкеров. Подарки были оставлены в
этом помещении, а послов, за которыми прошли их офи-
церы, гофъюнкеры и пажи, провели внутрь к его царско-
му величеству. Когда они вошли в дверь, знатнейший пе-
реводчик царя Ганс Гельмес, мужчина в ту пору лет 60
279
(он был жив еще в 1654 г. и отправлял свою должность),
выступил вперед, пожелал великому государю царю и
великому князю счастья, продолжительной жизни и объя-
вил о прибытии голштинских послов. Аудиенц-зал пред-
ставлял собою четырехугольное каменное сводчатое по-
мещение, покрытое снизу и по сторонам красивыми
коврами и сверху украшенное рисунками из библейской
истории, изображенными золотом и разными красками.
Трон великого князя сзади у стены поднимался от земли
на три ступени, был окружен четырьмя серебряными и
позолоченными колонками или столбиками, толщиною в
три дюйма; на них покоился балдахин в виде башенки,
поднимавшейся на 3 локтя в вышину. С каждой стороны
балдахина стояло по серебряному орлу с распростертыми
крыльями.
На вышеозначенном престоле сидел его царское ве-
личество в кафтане, осыпанном всевозможными драго-
ценными камнями и вышитом крупным жемчугом. Коро-
на, которая была на нем поверх черной собольей шапки,
была покрыта крупными алмазами, так же как и золотой
скипетр, который он, вероятно, ввиду его тяжести, по
временам перекладывал из руки в руку. Перед троном его
царского величества стояли четыре молодых и крепких
князя, по двое с каждой стороны, в белых дамастовых
кафтанах, в шапках из рысьего меха и белых сапогах; на
груди у них крестообразно висели золотые цепи. Каждый
держал на плече серебряный топорик, как бы пригото-
вившись ударить им. У стен кругом слева и напротив царя
сидели знатнейшие бояре, князья и государственные со-
ветники, человек с 50, все в очень роскошных одеждах и
высоких черных лисьих шапках, которые они, по своему
обычаю, постоянно удерживали на головах. В пяти шагах
от трона вправо стоял государственный канцлер. Рядом с
престолом великого князя направо стояла золотая держа-
ва, величиною с шар для игры в кегли, на серебряной
резной пирамиде, которая была высотою в два локтя. Ря-
дом с державою стояла золотая чашка для умывания и
рукомойник с полотенцем, чтобы его царское величество,
как послы приложатся к его руке, снова мог умыться.
280
Царь Михаил Феодорович
Итак, когда послы с должною почтительностью во-
шли, они сейчас же были поставлены против его царского
величества, в десяти от него шагах. За ними стали их знат-
нейшие слуги, справа же два наших дворянина с веритель-
ными грамотами, которые все время держались в протяну-
тых вверх руках. Великокняжеский переводчик Ганс Гельмес
стал с левой стороны послов. После этого его царское ве-
личество сделал знак государственному канцлеру и велел
281
сказать послам, что он жалует их — позволяет поцеловать
ему руку. Когда они, один за другим, стали подходить, его
царское величество взял скипетр в левую руку и предлагал
каждому, с любезною улыбкою, правую свою руку: ее це-
ловали, не трогая ее, однако, руками. Потом государствен-
ный канцлер сказал: «Пусть господа послы сообщат, что
им полагается». Начал говорить посол Филипп Крузиус. Он
принес его царскому величеству приветствие от его кня-
жеской светлости, нашего милостивейшего князя и госу-
даря, с одновременным выражением соболезнования по
поводу смерти патриарха: его-де княжеская светлость по-
лагал, что Бог еще сохранит ему жизнь по сию пору; отто-
го-то и на его имя была отправлена грамота, которую они,
послы, наравне с обращенною к его царскому величеству,
ныне намерены передать с достодолжною почтительнос-
тью. После этого послы взяли верительные грамоты и на-
правились к его царскому величеству, сделавшему знак
канцлеру, чтобы тот принял грамоты.
Когда послы опять отступили назад, его царское вели-
чество снова подозвал знаком государственного канцлера
и сказал, что ему отвечать послам. Канцлер от царского
престола прошел пять шагов по направлению к послам и
сказал: «Великий государь царь и великий князь (и прочее)
велит сказать тебе, послу Филиппу Крузиусу, и тебе, по-
слу Оттону Брюггеману, что он вашего князя герцога Фри-
дерика грамоту принял, велит ее перевести на русский язык
и через бояр на нее дать ответ, герцогу же Фридерику он
напишет в иное время». Читая по записке титулы великого
князя и его княжеской светлости, канцлер обнажал голо-
ву, а потом сейчас же снова надевал шапку. Позади послов
была поставлена скамейка, покрытая ковром; на нее по-
слы, по желанию его царского величества, должны были
сесть. Потом канцлеру велено было сказать: «Его царское
величество жалует и знатнейших посольских слуг и гофъ-
юнкеров, дает им облобызать свою руку».
Когда это было сделано, его царское величество не-
много приподнялся на троне и сам спросил послов в таких
словах: «Князь Фридерик еще здоров?» На это был дан от-
вет: «Мы, слава Богу, оставили его княжескую светлость,
282
при нашем отбытии, в добром здравии и благоденствии. Бог
да пошлет его царскому величеству и его княжеской светло-
сти и в дальнейшем здоровья и счастливого правления».
После этого выступил гофмейстер великого князя,
прочел список княжеских подарков, которые тотчас же
были внесены и держаны на виду, пока канцлер не кив-
нул, чтобы их вновь вынесли. Затем канцлер продолжал
говорить и сказал: «Царь и великий князь всея России и
государь и обладатель многих государств пожаловал господ
послов, дал им говорить далее». Послы, после этого, в силу
капитуляций по персидским делам, заключенных между
его королевским величеством шведским и его княжескою
светлостью шлезвиг-голштинским, просили тайной ауди-
енции, одновременной с шведскими господами послами.
На это его царское величество велел спросить, как
поживают послы, и передать им, что он жалует их сегод-
ня кушаньем со своего стола. После этого господа послы
были выведены теми же двумя боярами, которые раньше
ввели их. Мы, с приставами и стрельцами, в прежнем
порядке, отправились опять верхами домой.
Вскоре после этого прибыл великокняжеский камеръ-
юнкер, некий князь, высокий, осанистый мужчина, в
великолепном платье, верхом на красиво разукрашенной
лошади. За ним следовали много русских. Они должны
были, от имени его царского величества, угостить послов.
Некоторые из людей князя накрыли стол длинною белою
скатертью и поставили на нее серебряную солонку с мел-
ко натертой солью, две серебряных кружечки с уксусом,
несколько больших бокалов или чар, чаши для меду диа-
метром в 1,5 четверти (три из чистого золота и две сереб-
ряных), длинный нож и вилку.
Великокняжеский посланец сел вверху стола и по-
просил послов сесть с ним рядом. Наши гофъюнкеры при-
служивали за столом. Посланец велел поставить перед по-
слами три больших бокала, наполненных вином Аликанте,
рейнским вином и медом, и приказал затем подавать на
стол в 38 большею частью серебряных, но не особенно
чистых больших блюдах, одно за другим, всякие вареные
и жареные, а также печеные кушанья. Если не было мес-
283
та, то ранее поставленное опять убиралось. Когда послед-
нее блюдо было подано на стол, князь поднялся, стал
перед столом, кивнул послам, чтобы и они стали перед
столом, и сказал; «Вот кушанья, которые его царское ве-
личество, чрез него, велел подать великим голштинским
послам: пусть они ими угощаются». После этого он взял
большую золотую чашу, наполненную очень сладким и
вкусным малиновым медом, и выпил перед послами за
здоровье его царского величества. После этого он и по-
слам и каждому из нас дал в руки по такому же сосуду с
напитками, и мы все вместе должны были их выпить. Один
из нас, стоявший несколько поодаль от него и не мог-
ший, из-за множества народа, стоявшего вокруг, полу-
чить чашу из его рук, хотел, чтобы чаша была ему переда-
на через стол. Князь, однако, не позволил этого, кивнул
ему, чтобы он вышел из-за пола, и сказал: «Стол теперь
знаменует собою стол русского императора: никто не смеет
становиться за ним, но следует стоять перед ним».
За первым тостом, подобным же образом воспосле-
довал тост за его княжескую светлость, нашего милости-
вейшего князя и государя, в таких словах: «Бог сохранит
князя Фридерика в долговременном здоровье и даст, что-
бы он и его царское величество пребыли во все времена в
добром единении и дружбе». Наконец, пили круговую и за
здоровье молодого принца, государя наследника его цар-
ского величества.
После этого они опять сели за стол: пили еще не-
сколько чаш вишневого и ежевичного меду. Послы пода-
рили посланцу позолоченный бокал в 54 лота. Он велел
его нести перед собою и опять верхом отправился в Кремль,
где он показал великому князю, что им было получено. У
них существует такой обычай, что все принятые в подоб-
ных случаях от чужеземцев подношения, равно как и по-
дарки, полученные посланцами к чужим государям, дол-
жны быть, по возвращении, показаны великому князю.
Тиранический великий князь Иван Васильевич иной раз
даже присваивал и задерживал у себя эти подарки.
20 августа наши приставы опять пришли к нам и со-
общили: «Его царское величество жалует нас: дозволяет
284
выходить. Город нам открыт. Буде угодно ехать верхом, нам
будут доставлены лошади. Разрешено также шведским по-
слам и их людям приходить к нам, а нам к ним». Это было
большое чудо: ведь у московитов раньше существовал обы-
чай, что никто ни из послов, ни из людей их, пока они
находились в Москве, не смел выходить один. Даже если
им приходилось справлять что-либо нужное вне дома, то
и тогда стрелец должен был сопровождать их. Нам же из
особого благорасположения, как и шведам, дана была эта
свобода выходить без сопровождения стрельцов. После этого
мы зачастую сходились, не встречая ни малейшего про-
тиворечия со стороны русских.
23 того же месяца господа послы пригласили к себе в
гости нескольких добрых друзей из числа немцев и, меж-
ду прочими, лейб-медика и аптекаря его царского вели-
чества. Когда, однако, эти последние попросили канцле-
ра о позволении, им было отказано с запретом в течение
трех дней заходить к нам. Дело в том, что русские еще не
успели, как это у них принято, произвести расценку кня-
жеских подарков. А так как среди подарков находилась
химическая аптека, то медик и аптекарь были привлече-
ны к участию в расценке.
24 того же месяца прибыл к Москве вышеупомянутый
Аренд Спиринг, главноуправляющий ведомством торговых
налогов в Лифляндии. Русские сначала не хотели гзести
его с обычным великолепием, как посла. Когда, однако,
другие шведские послы на это обиделись и стали возра-
жать, то русские все-таки, в конце концов, послали ему
навстречу за город пристава, чтобы тот принял и ввел его.
Как русские справляют свой Новый год
1 сентября русские торжественно справляли свой
Новый год. Они ведь считают свои годы от сотворения
мира и уверены, подобно некоторым старинным еврей-
ским и греческим писателям, с которыми и иные наши
Ученые согласны, что мир начался осенью.
285
Московитский год в то время (в год по Р. X. 1634)
был 7142. Русские, приняв от греков веру, захотели пос-
ледовать им и в их летосчислении.
Процессия, которую устроили русские, справляя этот
праздник, была очень красива на вид. На кремлевской
площади собрались более двадцати тысяч человек, моло-
дых и старых. На верхнюю площадь вышел патриарх со
всем клиром, с почти 400 попов в священническом уб-
ранстве, с очень многими хоругвями, иконами и раскры-
тыми старыми книгами. Они вышли из церкви, лежащей
по правую руку, если подниматься вверх. Его царское ве-
личество, со своими государственными советниками, бо-
ярами и князьями, вышел с левой стороны площади.
Великий князь с обнаженной головой и патриарх в епис-
копской митре, оба поодиночке, выступили вперед и по-
целовали друг друга в уста. Патриарх также подал его цар-
скому величеству, чтобы тот мог приложиться, крест, с
пядень длиною, осыпанный большими алмазами и други-
ми драгоценными камнями. Затем он во многих словах
произнес благословение его царскому величеству и всей
общине, а также пожелал всем счастья к Новому году.
Народ кричал в ответ: «Аминь!» Тут же стояло бесчислен-
ное количество русских, державших вверх свои прошения.
Со многими криками бросали они эти прошения в сторо-
ну великого князя: потом прошения эти собирались и уно-
сились в покои его царского величества. Затем, в чинной
процессии, каждый опять вернулся на свое место.
О первой тайной аудиенции, а также о том,
каков был выезд татарских послов.
О рождении великокняжеской дочери
3 сентября некоторых из шведских господ послов, коих
поручение совпадало с нашим делом (остальные господа
послы были посланы только по делам короны шведской),
повели к публичной аудиенции с тем же великолепием,
как наших послов. Так как и они просили, чтобы им раз-
286
Тайная аудиенция
решили прийти на тайную аудиенцию одновременно с
нами, то просьба эта была уважена. Итак, 5 того же меся-
ца мы вместе с ними, с обычным великолепием, совер-
шили свой выезд. Их повели через верхнюю площадь
Кремля налево (через помещение, которое, как и в день
публичной аудиенции, было полно старых осанистых муж-
чин, сидевших в золотых платьях и высоких шапках) в
комнату для тайной аудиенции. В этой комнате сидели че-
тыре лица, коим было поручено дать нам тайную аудиен-
цию, а именно два боярина и два канцлера [дьяка] — все
одетые в весьма великолепные одежды: их кафтаны были
из золотой парчи и широко вышиты очень крупным жем-
чугом и драгоценными камнями; большие золотые цепи
крестообразно висели у них на груди. У каждого боярина
на голове находилась шапочка (вроде наших калотт), вся
вышитая крупным жемчугом, с драгоценным камнем на
верхушке. Двое других [т. е. дьяки] сидели в обычных высо-
ких черных лисьих шапках. Послы были любезно приняты
ими и приглашены сесть с ними рядом. Бояре сидели сна-
287
чала на высшем месте, а именно позади в комнате у окна,
где боковые скамейки сходились углом. Послов же поса-
дили сзади у стены, а два канцлера заняли свои места
спереди, напротив послов, на скамейке без спинки (ка-
ковые скамейки в России общеупотребительны). Посреди
этих усевшихся здесь господ стал и тайный его царского
величества переводчик Ганс Гельме. Что же касается на-
ших людей и приставов, которые привели послов в ком-
нату, то они должны были выйти в сени, за исключением
двух секретарей и двух толмачей, которые, наряду с рус-
ским писцом, остались стоять здесь, для записи протокола.
Едва господа уселись, как высший боярин задал воп-
рос: «Достаточно ли снабжены господа послы едою и пить-
ем и другими необходимыми вещами?» Когда выражена была
благодарность за хорошее угощение и за изобилие всего,
они встали, обнажив свои головы, и первый начал гово-
рить: «Великий государь царь и великий князь (далее следо-
вало чтение всего титула, после чего все опять сели) велит
сказать вам, королевским и княжеским послам, что он при-
казал перевести грамоты на русский язык, прочел их, да и
вашу устную речь прослушал в публичной аудиенции».
Затем начал говорить второй (опять приподнимаясь,
как и предыдущий): «Великий государь и проч, желает ко-
ролеве Шведской и князю Голштинскому всякого благо-
получия и победы над их врагами и дает вам знать, что
королевские и княжеские грамоты им прилежно читаны и
что их мнение им из грамот узнано».
Третий сказал с подобными же церемониями: «Ве-
ликий государь и пр. узнал из грамоты, что вам в том, что
вы будете говорить, надо иметь веру. Это и будет сделано,
и его царское величество дает вам ответ».
Четвертый сказал: «Его царским величеством они от-
ряжены; чтобы узнать, каковы будут предложение и
просьба послов». Затем он прочитал имена тех лиц, кото-
рые назначены его царским величеством к участию в тай-
ной аудиенции.
По прочтении всех этих имен все опять поднялись с
мест, и королевский шведский посол г. Эрик Гилленшер-
на начал по-немецки, от имени ее величества королевы
288
Шведской, благодарить за то, что его царское величество
допустил их на тайную аудиенцию; затем он прочитал свое
предложение, или пропозицию, изложенную на листе
бумаги. Когда после этого перешли к чтению еще и нашей
пропозиции, оказавшейся несколько более длинною, а
советникам показалось, что время уже затянулось, то они
потребовали передачи обеих письменно изложенных про-
позиций и пошли с ними наверх к его царскому величе-
ству. Послы тем временем оставались одни в комнате для
тайной аудиенции.
Тут наши приставы и некоторые из людей свиты вновь
вошли к послам. Немногим более чем через полчаса явил-
ся один подканцлер с сообщением: на этот раз с нас до-
статочно: мы можем опять ехать домой; пропозиции будут
немедленно переведены, и тогда нам будет дан ответ. И
вот мы опять поехали на наше место.
12 того же месяца три татарские посла, без всякой
пышности, ездили представляться. Они были посланы чер-
касским принцем, вассалом его царского величества За
ними бежали 16 прислужников Они поехали в Кремль в
Поезд черкасских татар
10 Зак 1918
289
красных кафтанах из грубого сукна, но вернулись в каф-
танах из шелкового дамаста, красных и желтых, подарен-
ных им великим князем.
Такие посольства, как говорят, присылаются ежегодно
как этими, так и другими татарами, хотя никаких важных
предложений они и не делают. Приезжают они больше
всего ради одежды и подарков, зная, что всегда им дадут
чего-нибудь.
15 того же месяца прибыли пристава и сообщили, что
в предыдущий день великая княгиня разрешилась от бре-
мени дочерью, которая уже крещена и названа Софиею19.
Русские вообще не оставляют своих детей долго некреще-
ными, да и не устраивают на крестинах такого торжества
и пиршеств, как в Германии. Говорят, патриарх был крест-
ным отцом, как у всех прочих детей великого князя. И мы
должны были участвовать в этой радости: «корм», или
провиант наш, в этот день был удвоен.
О встрече турецкого посла
17 того же месяца под Москву прибыл турецкий по-
сол. Его встретили с очень большим великолепием шест-
надцать тысяч человек конницы. Некоторые из нас соста-
вили, вместе со шведами, отряд в 50 человек и выехали,
с шведским маршалом высокоблагородным Вольф-Спа-
ром во главе, за милю навстречу туркам, чтобы посмот-
реть на них. Когда турок нас увидел, то пристально стал
вглядываться в нас, как и мы в него. С добрую милю мы
ехали рядом с ним и осматривали его свиту и поезд.
Сам посол был среднего роста, с желтоватым лицом
и с черною как уголь округленною бородою. Нижний каф-
тан его был из белого атласа с пестрыми цветами, верхний
же кафтан из золотой парчи, подбитой рысьим мехом. На
голове как его, так и всех его людей были белые чалмы.
Таково, впрочем, обычное убранство в одежде турок.
Он сидел в плохой белой деревянной русской повоз-
ке, которая, однако, была покрыта очень дорогим золо-
тотканым ковром.
290
Когда они находились всего в четверти мили от горо-
да, и посол предположил, что русские, имеющие его встре-
тить, уже недалеко, то они сошли с телег, и посол сел на
прекрасную арабскую лошадь. Когда он проехал расстоя-
ние выстрела из мушкета, ему навстречу, как это обыч-
но, выехали два пристава с великокняжескими лошадь-
ми; они до тех пор оставались на лошадях, пока посол
первый не слез с лошади. Зато и турки, несмотря на сни-
мание русскими шапок при названии ими имени велико-
го князя, оставили свои чалмы, по способу и обычаю своей
страны, на головах, да и вообще не показали никакого
знака почтения.
Приняв посла, русские опять быстро сели на лоша-
дей, и хотя и турок не медлил и старался сесть, если не
раньше, то хоть одновременно, однако ему доставлена была
лошадь очень высокая и такая нравная, притом с высо-
ким русским седлом, что ему пришлось много повозить-
ся, пока он взобрался. Когда он, наконец, не без опасно-
сти (лошадь несколько раз старалась лягнуть его), сел на
лошадь, приставы повели его, поместив его по середине
между собою, на посольский двор, который только что
был отстроен. Доставив посла на место, двор крепко за-
перли и заняли сильною стражею.
На время этого въезда наши послы охотно зашли бы
к шведским, которые их приглашали к себе: ведь посоль-
ский двор находился близ помещения шведских послов,
из которого можно было смотреть во двор турок. Однако,
государственный канцлер попросил господ [послов], что-
бы они согласились хоть этот единственный день, ради
известных причин, провести дома.
19 того же месяца мы имели, вместе с королевскими
шведскими послами, вторую тайную аудиенцию.
291
О поезде турок к первой публичной
аудиенции, далее: о поезде греков
к аудиенции, и как мы передали грамоту
от его светлости курфюрста саксонского
23 сентября турецкого посла повели к публичной ауди-
енции. Спереди ехали 20 казаков на белых великокняжес-
ких лошадях. Далее следовали турецкие и греческие куп-
цы, а за ними несли подарки. Далее ехали четыре пары
турок, затем два молодых красиво одетых челов., которые
несли перед послом верительные грамоты на длинных
красных шелковых платках; они были, в сложенном виде,
длиною с локоть.
Греческие духовные лица не присутствовали при этом
поезде. Им 28 того же месяца дана была особая аудиенция.
Два старых русских попа, верхом на лошадях, проводили их
в Кремль, где многие попы сопровождали их на аудиенцию.
Далее следовали греки в коричневых камлотовых каф-
танах, с вышеуказанною свитою из русских монахов и
попов. Перед ними несли епископский посох.
У наших послов имелась и грамота от его светлости
курфюрста саксонского к его царскому величеству. Так как
сочтено было желательным представить эту грамоту его
царскому величеству в публичной аудиенции, то для этой
цели русскими назначен был день св. Михаила. В этот день
грамоту перед послами нес высокоблагородный Иоганн
Христоф фон Ухтериц на желтой с черным тафте. Вели-
кий князь принял эту грамоту очень любезно и спросил:
«Как поживает курфюрст Иоанн Георг?» Когда было со-
общено о здоровье его курфюршеской светлости, он да-
лее сказал, что жалует послов кушаньем со своего стола.
После этого нас опять проводили домой. Мы вполне при-
готовились к тому, чтобы получить это кушанье с вели-
кокняжеского стола, отложили наш обед до 2 часов попо-
лудни, но напрасно: пришлось-таки велеть ставить на стол
обычные наши блюда. Около 3 часов пришли в обычном
порядке русские, доставили нам двойное количество на-
питков, но извинились относительно еды, что она не могла
быть приготовлена так быстро; они нас спросили, не же-
292
лаем ли мы лучше получить деньги вместо кушаний. Так
как мы, однако, отказались, то на следующий день «корм»
(или провиант) был дан в сырых материалах в двойном
количестве. Как один из наших добрых друзей нам сооб-
щил, до сведения царя дошло, что мы многие кушанья и
блюда, в первый раз нам пожалованные, в тот же самый
день, когда мы их получили, разослали другим лицам.
Впрочем, надо заметить, что это совершенно обычно,
чтобы из означенных пожалованных блюд, если их нельзя
все съесть в тот же день, кое-что рассылали добрым дру-
зьям, чтобы и их приобщить к [царской] милости.
О большом русском празднике, далее:
о нашей третьей, четвертой и пятой, или
последней, тайных аудиенциях и об отпусках
шведских господ послов.
1 октября у русских справлялся большой праздник, в
который его царское величество со своими придворными
и патриарх со всем клиром вошли в стоящую перед Крем-
лем искусно построенную Троицкую церковь20, которую
немцы зовут Иерусалимскою. Перед Кремлем, на площа-
ди с правой стороны, находится огороженное место вро-
де круглого помоста, на котором стоят два очень больших
металлических орудия: у одного из них в диаметре локоть.
Когда они теперь в процессии подошли к этому помосту,
великий князь с патриархом одни взошли на помост. Пат-
риарх держал перед царем книгу в серебряном переплете,
с рельефною на нем иконою; царь благоговейно и низко
кланялся этой иконе, дотрагиваясь до нее головой. Тем
временем попы, или священники, читали. После этого
патриарх опять подошел к царю, подал ему для целова-
ния золотой с алмазами крест, длиною с добрую руку, и
приложил тот же крест ко лбу и обоим вискам его. После
этого оба пошли в означенную церковь и продолжали свое
богослужение. В эту же церковь направились и греки, ко-
торых русские охотно допускают в свои церкви, так как и
293
они греческой веры; других исповеданий единоверцев своих
они совсем не терпят в своих церквах. Для участия в той
же процессии находилось здесь еще бесчисленное множе-
ство народа, который поклонами и крестным знамением
выказывал свое благоговение.
8 октября мы, вместе с шведскими господами посла-
ми имели третью тайную аудиенцию с два часа подряд.
12 того же месяца его царское величество со своими
боярами, князьями и солдатами, т. е. в общем со свитою
человек в 1000, отправился с полмили от города на па-
ломничество в какую-то церковь. Великий князь ехал один
с кнутом в руке; за ним ехали бояре и князья, по 10 в
ряд, представляя великолепное зрелище. Далее следовали
великая княгиня с молодым князем и княжною в дере-
вянной, разукрашенной резьбою, сверху обтянутой крас-
ным сукном, а с боков желтою тафтою — большой повоз-
ке, которую везли 16 белых лошадей. За нею следовал
женский штат царицы в двадцати двух деревянных повоз-
ках, выкрашенных в зеленый цвет и также обтянутых крас-
ным сукном, как была обтянута и конская упряжь. Повоз-
ки были накрепко закрыты, так что внутри никого нельзя
было видеть, разве если случайно ветер поднимал занаве-
сы; мне как раз привелось испытать подобное счастье при
проезде повозки ее царского величества, так что я увидел
ее лицо и одежду, которая была очень великолепна. С бо-
ков шли более 100 стрельцов с белыми палками; они уда-
рами разгоняли с дороги сбегавшийся отовсюду народ.
Народ, который очень любит и уважает власти, все время
с особым благоговением желал им счастья и благослов-
лял их путь.
23 того же месяца мы, вместе со шведами, имели
четвертую тайную аудиенцию, на которой было решено
большинство дел.
28 шведские господа [послы] все вместе получили
полный отпуск на публичной аудиенции. Их люди, по их
приказанию, публично несли перед ними, когда они спус-
кались из дворца, их рекредитивы. После этого, 7 и 10
ноября, они тремя партиями отбыли из Москвы вновь в
Лифляндию и Швецию.
294
Троицкая церковь (храм Василия Блаженного;
19 ноября мы имели пятую — последнюю — тайную
аудиенцию, во время которой было сообщено, что его
царское величество, по достаточном обсуждении вещей,
на основании существующих трактатов, наконец выска-
зался и решил: его княжеской светлости герцогу Фриде -
рику Шлезвигскому, Голштинскому и проч., как своему
другу, дяде и шурину, из особой любви, уступить в жела-
тельном деле, в котором до сих пор многим государям
295
отказывалось, и разрешить, чтобы его послы через Рос-
сию могли съездить в Персию и обратно, с тем, однако,
чтобы они теперь вновь вернулись в Голштинию и привез-
ли оттуда подтвердительную грамоту его княжеской ми-
лости относительно статей договора.
После такого результата, которого мы добились мно-
гими предыдущими трудами и хлопотами, мы доставили
себе всякого рода увеселения посещением некоторых доб-
рых друзей.
О русской церковной процессии, а также о
том, как крымские татары ехали к аудиенции
22 октября русские устроили большую, видную про-
цессию к церкви, находящейся в городе недалеко от обык-
новенного посольского двора. Тут участвовали и патриарх
и Великий князь.
В такой процессии они отправились в вышеуказан-
ную церковь, которая была построена и служила местом
для ежегодных процессий вследствие того, что там как-то
была найдена в земле икона Девы Марии.
12 декабря мы видели, как поехали в Кремль 72 крым-
ских татарина, которые все именовали себя послами. Ве-
ликий князь целых три часа сидел перед ними и сам выс-
лушивал их просьбы. Они разместились, по своему обычаю,
на полу в аудиенц-зале и каждому из них, как нам рас-
сказали, подано было по чаше меду. После этого двоим
знатнейшим даны были кафтаны из золотой парчи, а дру-
гим из красного скарлату, а еще иным, по нисходящему
порядку, кафтаны похуже, вместе с собольими и другими
шапками. Спускаясь из Кремля, они несли эти подарки,
навесив их поверх своих костюмов.
Эти народы жестоки и враждебны. Они живут в об-
ширных, далеко разбросанных местах к югу от Москвы.
Великому князю у границ, особенно близ Тулы, они до-
ставляют много вреда, грабя и похищая людей. Правда,
раньше царь Феодор Иванович построил там в защиту от
296
их нападений вал более чем на 100 миль, срубив леса и
прокопав канавы; однако теперь мало от этого пользы. Они
часто приезжают с подобными посольствами, но только
для того, чтобы, подобно вышеупомянутым, забрать что-
нибудь и получить подарки. Его царское величество в та-
ких случаях не обращает внимания на расходы, только бы
купить мир. Однако они хранят мир не дольше, чем им
это кажется выгодным.
О последней публичной аудиенции
16 декабря нас опять с большим великолепием пове-
ли к публичной аудиенции. Так как ввиду снега и мороза,
случившихся тогда, большие господа, по тамошнему обык-
новению, ездят не верхами, а в санях, то послам были
доставлены двое саней, прекрасно снаряженных: одни
были везде внутри обиты красным атласом, другие — крас-
ным дамастом; сзади они были выложены шкурами белых
медведей, а под медвежьими шкурами лежали прекрас-
ные турецкие одеяла. Хомуты лошадей были вызолочены
и обвешаны многими лисьими хвостами (таково величай-
шее украшение у знатных людей и даже в санях самого
великого князя).
Каждый из приставов ехал в особых санях и с правой
руки каждого посла. Перед аудиенц-залом, по-прежнему,
встретили их двое вельмож, вышедших к нам навстречу.
Они ввели послов к его царскому величеству, который
сначала велел спросить через государственного канцлера:
«Здоровы ли послы?» После полагающегося ответа за ними
поставлена была скамейка, на которую их просили при-
сесть. После этого канцлер начал так: «Великий государь,
царь и Великий князь Михаил Феодорович, всея России
самодержец и проч., велит вам, послам, сказать; что вы
от его княжеской милости князя Фридерика Голштинского
были присланы к его царскому величеству с грамотами,
которые в исправности приняты, равно как выслушаны
вы, согласно вашему желанию, царскими боярами и со-
297
ветниками: князем Борисом Михайловичем Лыковым,
Василием Ивановичем Стрешневым и думными дьяками:
Иваном Тарасовичем и Иваном Гавреневым. И после все-
го этого изготовлен и договор об известных вопросах и
вами подписан. Точно также его царское величество полу-
чил через вас и грамоту от курфюрста Иоганна-Георга
Саксонского и содержание ее выслушал. Теперь же вам
предстоит получить царские грамоты к князю Фридерику
Голштинскому и проч., равно как и к курфюрсту Иоган-
ну-Георгу».
С этими словами канцлер передал, перед царским
престолом, письма, которые послами должным образом
были приняты. Затем великий князь поклонился, говоря:
«Как будут послы у его курфюршеской светлости Иоган-
на-Георга и его княжеской милости герцога Фридерика,
то пусть передадут им поклон». После этого он, через кан-
цлера, велел сказать, что жалует послов: дает им и их
обер-офицерам и гофъюнкерам опять поцеловать свою руку.
Когда это совершилось, нам вновь сообщено было о по-
жаловании нам кушаний со стола его царского величества.
Послы обычным образом благодарили за оказанные им
царские благодеяния и за доброжелательство, пожелали
его царскому величеству долгой жизни, счастливого и
мирного правления, и всему великокняжескому дому вся-
ческого царского благоденствия; затем они попрощались
и направились опять домой.
Через час получены были великокняжеские кушанья
и напитки. Кушанья в 46 блюдах представляли собою, боль-
шею частью, вареные, жареные в растительном масле и
печеные рыбы, кое-что из овощей и других печеных ку-
шаний, причем мясного совсем не было, так как в то
время был пост, обычный у них перед рождественским
праздником. Этот обед был нам доставлен князем Иваном
Львовым совершенно тем же способом, как предыдущий,
доставленный после первой публичной аудиенции.
После этого пришли к нам великокняжеские штал-
мейстер и погребщик, равно как и те, кто каждый раз
доставлял кушанья и напитки в посольский дом, и про-
сили подарков. Шталмейстеру и погребщику, равно как и
298
князю, дано было каждому по бокалу, другим же людям
(их было 16) дано было всего 32 рубля, т. е. 64 рейхсталера.
На следующий день пришли приставы с двумя пере-
водчиками, а именно Гансом Гельмесом, который был
занят у его царского величества и бояр его во время на-
ших секретных переговоров, и Андреем Ангелером, кото-
рый всегда служил нам одновременно с приставами. Они
справились, сколько нам нужно лошадей для обратного
пути (расчет был сделан на 80 подвод или вольных лоша-
дей). Переводчики также получили по большому бокалу,
каковой дан был и старшему писцу в канцелярии. Разные
бокалы были посланы и некоторым из вельмож, которые
помогали нам в наших делах и все время выказывали доб-
рую дружбу.
О нашей возвратной поездке
в Голштинию, от Москвы до Новгорода
21 того же месяца наши приставы представили нам
нового пристава, по имени Богдана Сергеевича Хомуто-
ва, который снова должен был доставить нас на швед-
скую границу.
Прислав на следующий день 80 подвод на посоль-
ский двор, приставы пришли и привели с собою писца из
[царской] сокровищницы с 12 другими русскими; они
принесли послам и их людям подарки его царского вели-
чества, а именно несколько «сороков» соболей; в каждом
«сороке» — 20 пар. Обоим послам дано было в общем 11
сороков хороших соболей. Офицерам, юнкерам, камер-
пажам, фурьерам, повару и каретнику дано было каждо-
му по «сороку» подкладочных соболей. Другим еще низ-
шим служителям даны были кому две, кому одна пара.
Писцу, который принес собольи шкурки, дан был бокал,
а другим русским — 30 рублей.
Его царское величество также предоставил послам на
волю, не желают ли они, ввиду предстоящего праздника
Рождества и случившихся очень сильных морозов, еще
299
несколько дней пробыть в Москве: несмотря на отпуск,
он ничего не имел против дальнейшего их пребывания.
Так как, однако, послы стремились уехать, то мы собра-
лись в путь.
Послы и некоторые из нас купили собственные сани,
лучшие из которых стоили не более 3, или самое боль-
шее — 4 талера.
Имея в виду в будущем поехать в Персию, послы от-
правили вышеупомянутого корабельщика Михаила Кор-
деса, дав ему 6 человек помощников, в Нижний, в 100
милях за Москвою, чтобы он там построил судно, кото-
рое годилось бы для Волги и Каспийского моря.
После этого мы все-таки 24 декабря собрались в об-
ратный путь. Весь этот день и следующую ночь мы ехали
до Клина, деревни, лежащей в 90 верстах или 18 милях от
Москвы. Отпраздновав здесь на следующий день пропове-
дью наше Рождество, мы после полудня продолжали свой
путь, путешествовали всю ночь и к утру, 26, прибыли под
город Тверь, где нам — так как здесь первый ям — дали
свежих лошадей, которых мы вечером впрягли; мы про-
ехали в ночь 12 миль до Торжка. Отсюда мы 31 декабря
прибыли в Новгород, который считается в НО немецких
милях от Москвы. Русские лошади зимою, при одной кор-
межке, могут постоянной рысью пробежать 10 или 12 миль:
впрочем, в России почти везде путь ровный.
Путешествие через Нарву,
Ревель, Пернов в Ригу
5 января мы сделали 7 миль до города Нарвы.
6 того же месяца багаж опять был отослан вперед, а
послы со свитою последовали за ним на другой день. На
третий день, 10 января, мы вновь достигли города Ревеля.
Здесь мы пробыли почти 3 недели и, так как дальней-
шую поездку мы не могли совершить в Голштинию через
Балтийское море, которое в данное время недоступно для
судов, а также находили нежелательным оставаться всю
300
зиму в бездействии в Ревеле, то мы решили возможно
скорее продолжать наш путь сушею, через Пруссию, По-
меранию и Мекленбург. Вследствие этого большинство
людей свиты были на особых условиях оставлены в Реве-
‘ де, на хлебах у господина Генриха Коза. Послы же вновь
направились с 10 лицами 30 января из Ревеля, избрав
ближайший путь через Ригу. 2 января мы прибыли в Пер-
нов и были приняты здесь салютными выстрелами.
Пернов — небольшой город. Имя свое получил он от
реки, протекающей мимо него. Он лежит на Балтийском
море, имеет довольно хороший замок. Главное занятие
горожан — торговля хлебом. Король Эрик Шведский в 1562 г.
подчинил их своей власти. В 1565 г. город был занят поля-
ками, а после них московитами, но в 1617 г. он снова
достался шведам.
6 того же месяца мы въехали в Ригу и были хорошо
приняты добрыми друзьями. На следующий день прибыл
г. губернатор, чтобы посетить послов: он устроил 10 того
же месяца большое пиршество, пригласив к нему нас с
знатнейшими лицами из города. Нам дано было велико-
лепнейшее угощение.
О поездке через Курляндию
13 февраля мы вновь собрались в путь из Риги. Отсюда
же, вместе с нами, отправился в путь французский по-
сол, писавший себя так: Шарль Таллеран, князь де-Шаль,
маркиз д’Иссидевиль, барон баронств Марвиль и Бовиль,
сеньор де-Гриколь. Этот последний был послан с Яковом
Русселем от короля французского, в качестве посла к тур-
ку и к великому князю московскому. Его сотоварищ, од-
нако, изменнически донес на него в Москве патриарху,
обойденному разными кознями. Вследствие этого маркиз
впал в немилость у великого князя, был сослан в Сибирь
и три года оставался там в заточении. Когда, однако, уз-
наны были коварство и злоба Русселя, старавшегося ссо-
рить многих государей и подавлять тех, кто ему в этом
301
мешал, а также, когда узнана была невиновность марки-
за, то, после смерти патриарха, маркиза опять отпустили
на волю. Находясь в темнице, маркиз, чтобы убить время,
выучил наизусть первые четыре книги «Энеиды» Вирги-
лия: он был в состоянии говорить стихи из этих книг с
любого места, которое бы ему ни назначили. Это был че-
ловек лет 36, веселого нрава.
Наша поездка шла через Курляндию, и 14 того же
месяца к полудню мы прибыли в Митаву, городок, лежа-
щий в 6 милях от Риги.
19 того же месяца мы прошли до Мемеля.
Мемель — небольшой городок, лежащий у красивой
бухты Балтийского моря и окаймляемый речкою Цанге; у
него устроены окопы с четырьмя бастионами. Город, как
говорят, построен в 1250 г. по Р. X., принадлежит Пруссии
и курфюрсту бранденбургскому; в данное время его силь-
но охраняли шведы.
27 февраля мы прибыли в Данциг. Здесь мы отдыхали
свыше двух недель. В течение этого времени благородный
совет принес нам хорошие подарки, а некоторые магист-
ратские советники и знатные граждане почтили нас пре-
краснейшими пиршествами (из них лучшее было у госпо-
дина Россова). Нас повели также на стоящий У рынка
юнкерский двор, в высокий сводчатый зал, где обыкно-
венно знатнейшие граждане города увеселяются выпив-
кою. Они составляют оделенное прекрасными привилеги-
ями братство, в которое они включили и господ послов, а
также кое-кого из нас. Согласно их книге, в братстве со-
стоят и некоторые лица из княжеских родов. Кто желает
вступить в братство, должен для привета пить из большо-
го позолоченного бокала, в который входит более кувши-
на вина; при этом говорится, что тот, кто выпьет все до
дна, может унести бокал к себе домой. Говорят, некогда
какой-то поляк, чтобы получить бокал, взялся за эту за-
дачу и, действительно, выпил его до дна. Ему, согласно
обещанию, позволили взять бокал на дом, но вскоре по-
просили его обратно, ссылаясь на то, что, правда, разре-
шено брать бокал с собою, но не разрешено сохранять
302
его у себя. Они проводили нас и в свой арсенал, который
очень хорошо устроен, снабжен обильно всякой амуни-
цией и ружьями, и в таком прекрасном порядке, что пря-
мо приятно смотреть на него.
16 марта мы вновь собрались в путь и 25 прибыли в
красивый город Штеттин.
6 апреля около полудня мы направились в Киль, а к
вечеру мы, с помощью Божиею, благополучно опять при-
были к Готторпу. В течение следующих дней послами дан
был его княжеской светлости отчет о сделанном.
Вот что вкратце могли мы сказать о первой поездке в
Московию и т. д.
Имена лиц, участвовавших
во втором посольстве
Когда теперь его княжеской светлости стало извест-
но, что великий князь московский согласился на проезд
через свое государство в Персию, то он решил не жалеть
средств для выполнения своей высокой цели и издал при-
каз, чтобы хорошенько подготовиться к другому посоль-
ству, а именно к шаху персидскому, и возможно скорее
предпринять дальнейшее путешествие. Поэтому тотчас
были собраны всевозможные предметы и драгоценные
подарки для поднесения их шаху. Свита была усилена и
пышно снаряжена.
Лица свиты, согласно княжескому придворному обы-
чаю, были оделены разными должностями и званьями.
[Далее следует перечисление всех участников посольства. —
Ред.]
Все эти лица частью поехали с нами из Германии,
частью присоединились к нам на пути. К ним мы приба-
вили еще в Москве 30 великокняжеских солдат и офице-
ров с четырьмя русскими слугами. Таким образом, вместе
с господами послами* это путешествие в Персию совер-
шили 126 человек.
303
Часть весьма трудного
и опасного мореплавания
Когда теперь все вещи были вполне приготовлены,
господа послы со всеми людьми, находившимися при них,
22 октября 1635 г. в добром порядке выехали из Гамбурга
и 24 того же месяца прибыли в Любек, где отдыхали 2 дня,
пока наши вещи и утварь, вместе с 12 верховыми ло-
шадьми, грузились у Травемюнде на судно. 27 последова-
ли [за ними] и господа послы, а около полудня [того же
дня] большая часть людей была уже на судне. Наш корабль
был совершенно новый, никогда еще не ходивший под
парусами.
На следующий день, 28 октября, рано утром в 5 ча-
сов, посвятив час молитве, мы, во имя Божие, стали под
паруса. Ветер был вест-зюйд-вест; к полудню он стал весьма
сильным и наконец перешел в бурю, продолжавшуюся
всю ночь.
Тут мы заметили, что большинство наших моряков в
искусстве мореплавания были столь же стары и опытны,
как наше судно, в первый раз выходившее с нами в море.
Приходилось считать чудом, что наша мачта, весьма опасно
качавшаяся из-за новых канатов, не повалилась через борт
в первый же день.
29 того же месяца ночью мы подошли слишком близ-
ко к берегу Дании, который нашим штурманом принят
был сначала за остров Борнгольм. Наш курс был направ-
лен на берег Сконии, и мы вскоре с опасностью для ко-
рабля и жизни сели бы на этот берег (тем более что лот
уже показывал не более 4 сажень), если бы начавшийся
день не открыл нам берега и мы не успели изменить тот-
час свой курс. Около 9 часов мы имели остров Борнгольм
вправо от себя.
Так как в течение этого дня сначала замечался сла-
бый ветер, то мы подставили ветру все паруса. Под вечер
около 10 часов мы не ждали никакой опасности и думали
после невзгод прошлой бурной ночи провести время спо-
койно. Посол Брюггеманн, видя, что ветер треплет пару-
са, предположил, что курс взят неправильно, и увещевал
304
штурмана быть повнимательнее; тот, однако, успокоил
нас, говоря, что перед нами открытое море. Вследствие
этого мы, идя на всех парусах, наскочили на скрытую
плоскую подводную скалу и сели. Жестокий шум и треск
корабля так нас поразили и испугали, что мы уже дума-
ли, что здесь закончится наше плавание, а с ним вместе
и жизнь наша. Сначала мы не знали, в какой местности
нам следовало предполагать себя. Было как раз время но-
волуния, когда из-за темной ночи нельзя было видеть
впереди себя даже на расстоянии корпуса корабля. Хотя
мы, вывесив фонарь и дав несколько выстрелов из муш-
кета, и звали на помощь, надеясь на близость суши и
людей, но сначала не слышно было ничего в ответ и уте-
шение нам. Корабль стало кренить, и тут среди больших и
малых начались плач, вопли и причитания. Многие из нас,
в страхе смерти, бросались на колени и навзничь, крича-
ли и взывали к Богу о помощи и спасении. Сам шкипер
плакал как дитя и был так поражен неожиданностью, что
не знал, что делать. Я и друг мой Гартман Граман угово-
рились, если дело дойдет до кораблекрушения, заклю-
чить друг друга, по старой привязанности, в объятия и
таким образом помереть; мы сели поэтому вместе и жда-
ли гибели. Бог помиловал нас, и хотя из-за высоких волн
наше судно не раз двигалось вперед по поверхности ска-
лы, не раз поднималось и опять грузно опускалось и полу-
чало один толчок за другим, оно все-таки осталось цело,
и мы в нем спаслись. Когда временами на нас налетал
сильный шквал и одна волна за другою обрушивались на
судно, всякий раз возобновлялся вопль, и мы думали,
что с нами покончено.
Около 1 часу мы заметили огонь, вспыхнувший не-
далеко от нас; отсюда мы заключили, что мы должны быть
близки к суше. Поэтому послы велели развязать и спустить
на воду корабельную лодку, думая ехать на огонь и спас-
тись сначала вдвоем со слугою своим на сушу, а там по-
смотреть, не найдутся ли средства доставить и нас к бере-
гу. Шкатулки, или дорожные ящики, в которых находились
княжеские верительные грамоты, равно как и другие дра-
гоценные сокровища, едва были поставлены в лодку, и
305
едва туда же проскочили двое из простого нашего люду,
думавшие спасти жизнь свою раньше других, как волны
наполнили лодку водою так, что она начала тонуть; затем
она даже перевернулась и оторвалась, и промокшие до
костей люди еле успели, с опасностью для жизни своей,
пробраться назад на судно. И так мы принуждены были
вместе всю ночь провести в опасности, страхе и надежде.
Когда к утру небо начало проясняться, стали прохо-
дить и страх и ужас этой мрачной ночи. Тут мы заметили,
что сидим перед островом Эландом, а перед нами — об-
ломки датского судна, которое за четыре недели перед
тем погибло. Мы нашли на острове и мальчика, спасше-
гося от кораблекрушения; его мы взяли с собою в Каль-
мар.
Когда при восходе солнца ветер успокоился и волны
улеглись, к нашему кораблю подъехали два рыбака с Элан-
да в небольших лодках; когда им обещана была запро-
шенная ими большая награда, они высадили на берег сна-
чала послов, а затем некоторых из нас. К полудню на берегу
опять удалось найти шкатулки господ [послов], выбро-
шенные морем. Затем прибыли и несколько эландских
крестьян, чтобы помочь снять судно со скал.
Пока теперь трудились над стаскиванием корабля, вода
заметно поднялась и ветер, дувший до сих пор с юго-
запада, перешел на северо-запад и помог подвинуть суд-
но в сторону. Когда оно снова попало на глубокое место,
ветер опять подул с юго-запада; с этим ветром мы и смогли
потом проехать через Кальмар-зунд, притом не без опас-
ности — ввиду неровностей дна у Кальмарских окопов. У
Кальмара судно дожидалось послов, которые 1 ноября
подошли сушею с некоторыми из своих людей; при Фер-
штадте, у старых окопов, они переправились к судну и
вступили снова на борт его.
Из Кальмара Иоганн Фохт и Стен Йенсен опять были
посланы обратно, через Данию, в Готторп, чтобы при-
везти новые верительные грамоты, так как прежние ис-
портились в морской воде.
После этого совещались, что лучше: морем ли ехать
дальше или сушею через Швецию, и, наконец, по мно-
306
Балтийское море
Карте, предствляющая путь посольского судна через Балтйское море от Любека (Травемюнде) до острова
Гохланда в Финском заливе. Масштаб — в германских милях Наверху влево надпись по-латыни: «Наши скитания
обозначены с помощью пунктирной линии».
гим причинам, было решено, принаняв опытного штур-
мана к нашему, отважиться и дальше через море. Так как,
однако, в Кальмаре нельзя было достать штурмана, то мы
взяли двух лоцманов, которые должны были на протяже-
нии полумили показывать нам путь через мелкие места.
И вот 3 того же месяца мы, во имя Божие, опять стали
под паруса и проехали мимо большой круглой скалы, про-
званной Шведскою Девою, которую мы оставили по ле-
вую руку от себя в море. Ее расстояние от Кальмар-зунда
определяется в 8 миль. Около полудня в стороне от нас
показался замок Борхгольм, лежащий на Эланде. К вече-
ру мы достигли оконечности острова Эланда и в эту ночь
обогнули ее при таком жестоком северо-восточном штор-
ме, что передняя часть судна шла скорее под водою, чем
над нею, а волны ударяли до парусов. Буря продолжалась
до полудня, и так как едва шесть румбов попадало в наши
паруса и мы из-за этого не подвигались вперед, но при-
двигались все больше к берегу Эланда, то шкипер наш
стал очень беспокоиться: он говорил, что стоит буре про-
длиться еще два часа и корабль будет прибит к подветрен-
ному берегу и погибнет. Поэтому мы снова были в нема-
лой боязни, но, когда потом ветер стал прибавлять нам
то по три, то по четыре румба, мы опять, обрадованные,
могли преследовать свой курс дальше. К вечеру увидели
мы большой остров Готланд.
О дальнейшем ходе нашего
опасного мореплавания
5 ноября, когда мы проехали мимо Готланда, опять
поднялся сильнейший шторм, так что волна за волною
заливала корабль. Вечером около 10 часов мы бросили лот
и нашли глубину в 12 сажень. Боясь наскочить на сушу,
мы ночью опять взяли направо в открытое море. В течение
этих дней мы, ввиду постоянной бури, пользовались изо
всех парусов одним гротом. 6 того же месяца около полу-
дня мы встретили голландское судно, которое сообщило
308
нам о расстоянии и о правильном курсе к острову Даге-
рордту [Даго], который мы и увидели к вечеру. К ночи,
однако, буря опять погнала нас налево к открытому морю.
7 того же месяца, вечером около 10 часов начал страш-
но свирепствовать ветер, и раньше, чем мы успели спо-
хватиться, со страшным треском сломались грот- и би-
зань-мачты и немедленно же повалились за борт, как раз
через место, где спал наш доктор. Боцман, по несчастию
своему стоявший на палубе, получил такой удар кана-
том, что у него кровь пошла носом и ушами и вплоть до
третьего дня он не мог ни прийти в полное сознание и
подняться, ни объяснить, что с ним именно случилось;
на Гохланде ему пришлось из-за этого несчастия распро-
ститься с жизнью. При этом падении был вырван и шпиль,
несмотря на громаду и тяжесть свою, может быть — ото-
рвавшимся напряженным канатом. Следовало удивляться
тому обстоятельству, что бизань-мачта, которая, вырвав-
шись, разбила всю каюту, все-таки не повредила нактоу-
зика, в котором стояли компасы, несмотря на то, что
бизань-мачта именно к нактоузу была прикреплена. Это
было большим для нас счастьем: если бы компасы были
разбиты, то мы не знали бы, куда нам направиться.
Это несчастие опять вызвало сильный испуг, ужас и
вопли среди нас: корабль более, чем прежде, стало раска-
чивать со стороны в сторону, так что мы, шатаясь и кача-
ясь как пьяные, валились друг через друга; никто без опо-
ры не мог стоять, ни даже сидеть или лежать. Сломавшаяся
и державшаяся еще на нескольких канатах мачта жестоко
ударялась о судно. Шкипер вел себя весьма нехорошо; ему
хотелось спасти такелаж, а между тем кораблю от сильных
ударов грозила большая опасность. Поэтому все-таки, по
серьезному требованию послов, канаты были обрублены.
Боцманы жаловались и с воплями оплакивали своего со-
товарища, лежавшего замертво. И вот опять и эту ночь
провели мы в страшной боязни.
В начале следующего дня, 8 ноября, мы с тоскою и
нетерпением ожидали увидеть ревельскую гавань, надеясь
в этот же день спастись от неистовых волн и стать на бере-
гу давно желанного порта; по нашему расчету ничего иного
309
не следовало ждать, вследствие чего и посол Брюггеманн
еще в предыдущий день успел сделать распоряжение, в
каком именно порядке и с каким великолепием следова-
ло въезжать в Ревель. Однако наши надежды и распоряже-
ния расплылись как бы водою, земля как бы убегала от
нас, и опять ее не было видно, и снова мы не знали, где
мы. Хотя нам и казалось, что мы заблаговременно напра-
вили курс наш в гавань, все-таки выяснилось, что ночью
нас слишком далеко отнесло влево от суши, так что ут-
ром мы не могли вновь достигнуть высоты [гавани]. Когда
к 9 часам утра солнце несколько показалось, уничтожило
туман и осветило нам окрестности, мы заметили, что ус-
пели уже проехать мимо ревельской гавани. А тут еще,
при полном солнечном свете, с юго-запада поднялась
страшная, неслыханная буря, подобная землетрясению —
точно она собиралась уничтожить и смешать все: и небо,
и землю, и море. В воздухе шел страшный свист и шум.
Поднявшияся в виде громадных гор пенистые волны жес-
токо свирепствовали друг против друга. Корабль неоднок-
ратно как бы поглощался морем и вновь извергался им.
Шкипер, человек старый, и некоторые из наших людей,
которые раньше в ост- и вест-индских поездках насмотре-
лись всяких тяжких бурь, и те уверяли, что никогда еще
не приходилось им испытывать такой бури и опасности.
Что тут было делать? Опять мы решили, что погибли,
и другого средства мы не нашли, как, по совету штурмана,
повернуть руль и направить судно к финляндским шхерам,
или скалам, стараясь избегнуть подводных скал (которые в
такую погоду должны бы, как говорится, «гореть», то есть
шумом волн давать знать о себе) и надеясь, что или удас-
тся укрыться в гавани Эльзенфосс [Гельсингфорс] в Фин-
ляндии, или же, если бы Бог наслал на нас милостивое
крушение, то, может быть, кое-кто будет выброшен на
скалы и сохранит жизнь: ведь самое судно, будучи разби-
то, не могло дольше держаться на море. Поэтому некото-
рые из нас спрятали на себе все то, что им было особенно
дорого и что они надеялись унести с собою.
Буря все возрастала и отогнала нас и от здешней га-
вани, так как судно, лишенное лучших парусов своих и
310
принужденное пользоваться одним фоком, не желало бо-
лее повиноваться штурману, но бежало вдоль Финского
залива по ветру.
Теперь мы опять не знали, куда нам ехать. Главному
боцману Юрьену Стеффенсу наконец пришло в голову,
что перед нами как раз среди моря лежит остров Гохланд,
на котором ему приходилось бывать и где он находил доб-
рый якорный грунт. Этот остров лежит в 17 милях от Реве-
ля; следовало только попробовать, не удастся ли его до-
стигнуть, и укрыться за ним. По его мнению, это было
вполне возможно, лишь бы только удалось увидеть этот
остров днем. Однако, так как день на половину уже успел
пройти, нельзя было надеяться так скоро добраться до
острова, тем более что один фок должен был подвигать
судно вперед и не мог его уносить от волн. Приблизитель-
но в три часа пополудни один из боцманов полез на фок-
ванты, чтобы посмотреть, близка ли земля. Когда он уви-
дел остров и закричал: «Слава Богу! Я вижу Гохланд!» -
мы так сильно обрадовались, что захлопали в ладоши,
заплакали от радости и снова начали говорить друг другу
слова утешения. Мы думали, что уже избежали опаснос-
ти, а ведь между тем мы плыли все еще на разбитом судне
среди неистовых волн и не знали, что за несчастие нас
ждет около Гохланда.
С заходом солнца буря начала утихать, но разгневан-
ное море все еще поднимало волны весьма высоко. Мы
поставили спереди на судне четырех человек, чтобы сле-
дить за движением к острову, которое опасно из-за ска-
лы, лежащей перед Гохландом; эти четверо должны были
о том, что увидят, немедленно кричать шкиперу, стояв-
шему у руля. На наше счастье, пошел снег, и так как
вообще в этот день погода была ясная и сияло Солнце,
так что [покрытые снегом] скалы среди черной воды ста-
ли тем более заметными, то мы к вечеру около 7 часов
прибыли за остров, и во внутреннем заливе стали на якорь
при 19 саженях глубины.
9 того же месяца мы, при хорошей погоде, остава-
лись стоять на якоре и чинили наш корабль, как могли.
Послы тем временем кое с кем из нас дали себя перепра-
311
вить на берега, чтобы осмотреть расположение острова и
развеселить себя. К вечеру мы совещались с шкипером,
куда теперь направить наш курс: послы считали желатель-
ным направиться решительным образом к Нарве, шки-
пер же приводил доводы за возвращение в Ревель, а еще
другие лица, принимая в расчет, что дальнейшая поездка
на столь разбитом судне в такую погоду и в таких местах
была бы в высшей степени опасна, желали лучше быть
высаженными на этом острове и каким-либо иным случа-
ем, а именно при помощи стоявших в то время у Гохлан-
да лифляндских рыбаков из Ревеля, окончательно пере-
правиться на берег. Однако ни на чем не порешили,
постановив обождать и подумать до следующего дня. И так
все легли на покой. Около 9 часов шкипер опять пришел к
постели послов и сообщил, что ветер передвинулся на
восток и гнал нас к берегу: поэтому нам без риска нельзя
было оставаться на том же месте. Он считал за лучшее
подняться с якоря и направиться обратно в Ревель. Послы
дали ему в ответ: пусть он поступает так, как он думает
отвечать перед Богом и людьми. Когда теперь подняли
якорь, ветер превратился в несущийся ураган, который
гнал корабль все более и более к суше, так что никакие
труд и работа, направленные к отведению судна [от бере-
га], не могли ни к чему привести. Теперь опять поднялся
сильнейший вопль: стали кричать, чтобы всякий, кто
желает спасти свою жизнь, поднялся с места и направил-
ся на палубу корабля, так как пришла большая беда; ка-
залось, все ведет к опасному кораблекрушению. Легко
представить себе, как мы опять себя чувствовали.
Правда, опять опущен был якорь, но судно оказалось
слишком уже близко пригнанным к берегу: приблизительно
на 30 от него сажень. Поспешно спущена была корабель-
ная лодка, и первыми высажены были на берег послы, а
за ними другие. Некоторые из нас были высажены из лод-
ки в воду до самых бедер, так что мы должны были в воде
между камнями искать брода к берегу. В то время как я
стоял в воде, была также выброшена и шкатулка посла
Брюггеманна, довольно тяжелая от драгоценных вещей,
находившихся в ней; когда волны понесли ее опять в сто-
312
Кораблекрушение
рону моря, я захватил ее своими руками, ослабевшими
от недавно вынесенной тяжкой болезни, а наш медик
поймал меня за кафтан, и таким образом, цепляясь один
за другого, мы были вытащены из волн, которые не раз
совершенно заливали нас обоих. Когда судовая команда
заметила, что судна уже не сохранить больше, она развя-
зала якорный канат, в надежде, что судно отнесет поближе
к берегу и что оно не будет больше подниматься волнами
и ударяться о дно. Это, однако, не помогло нисколько,
так как буря была еще слишком сильна; проработав еще
целый час на камнях, судно разбилось и погрузилось на
дно. Впрочем, еще раньше этого были высажены на берег
остальные люди.
В этом месте острова находились пять рыбачьих хи-
жин, в которых жили ненемецкие лифляндские крестья-
не, запоздавшие здесь из-за рыбной ловли и продолжи-
тельной непогоды. Сюда мы и завернули.
Утром следующего дня, а именно 10 ноября, мы при-
шли на берег, чтобы справиться, можно ли добраться до
313
корабля и спасти груз. Море, однако, волновалось столь
сильно, что никто не решался подъехать в лодке. После
обеда, когда ветер и волны улеглись, постарались спасти
из воды лошадей и другой груз.
В течение следующих дней опять была хорошая пого-
да и светило солнце; мы поэтому просушили наши одеж-
ды, книги и утварь, частью обезображенные, частью со-
вершенно испорченные соленой водою.
О Гохланде и о том, как мы наконец
переправились в Лифляндию
и выехали в Ревель
По всему казалось, что нам придется на этом острове
пробыть еще некоторое время, и мы не знали, когда Гос-
подь пошлет нам средство к спасению; кроме того, мы
должны были опасаться, что с началом зимы погибнем
здесь с холода или даже с голода. Ведь, как нам сообщи-
ли, немного лет назад некоторые крестьяне и другие лица,
непогодою занесенные сюда и потерпевшие крушение,
принуждены были, чтоб спастись от голода, питаться бе-
резовою и еловою корою. Поэтому нам пришлось береж-
ливо расходовать провиант, которого нам удалось спасти
весьма неважный запас — в особенности что касается хлеба.
Расплывшиеся сухари, которые нельзя было высушить
вновь, мы сварили с тмином и ели, вместо хлеба, хлебая
ложками; кое-кому из нас это показалось весьма горьким.
Однажды добыли мы большое количество мелких голья-
нов, поймав их рубашками и простынями в речке, сте-
кавшей с горы; их было достаточно на двукратный обед
всех наших людей. Когда мы сидели на этом острове, в
Ревеле пошли слухи, что все мы утонули: передавали, буд-
то на берегу найдено было несколько трупов, одетых в крас-
ное (такова была наша ливрея).
12 ноября пришли две финляндских лодки, также при-
битые непогодою к Гохланду. На одной из них наш камер-
гер, высокоблагородный, мужественный и храбрый Иоганн
314
Христоф фон Ухтериц, 13 того же месяца, когда буря улег-
лась, в сопровождении одного лакея, был послан на сушу
и в Ревель, чтобы сообщить о нашем положении и состоя-
нии. Легко понять, с какой радостью он был принят наши-
ми сотоварищами: все они бегали кругом него, плакали от
радости.
17 того же месяца послы, каждый с пятью провожа-
тыми, велели перевезти себя в двух небольших рыбачьих
лодках окончательно на сушу, отстоящую от Гохланда на
12 миль. Это была поездка плачевная и опасная. Лодки
были стары и вверху лишь лыком связаны и зачинены,
особенно та, в которой сидел посол Крузиус; вследствие
этого вода во многих местах просачивалась и один [из
бывших в лодке] постоянно должен был затыкать отвер-
стия и выливать воду. Парус был составлен из старых лох-
мотьев. Так как мы находились посреди моря, а лодка наша
была весьма тяжела (в ней, помимо восьми человек, на-
ходился груз в виде посольского серебряного сервиза и
других вещей) и имела только узкий борт, то немногого
недоставало, чтобы все мы пошли ко дну.
22 того же месяца опять 2 барки, шедшие из Ревеля в
Финляндию, были бурею прибиты к Гохланду. Их наняли
для переезда оставшиеся на острове наши люди; вместе с
лошадьми и грузом они 24 того же месяца благополучно
переправились в Лифляндию.
Отсюда [т. е. с берега] мы все вместе направились в
Кунду, на двор г. Иоганна Мюллера, моего покойного
тестя, лежащий всего в 2 милях от этого берега. Здесь ос-
тавались мы в спокойствии 3 недели и успели все подряд
переболеть от вынесенных на море бедствий; впрочем,
никто не оставался на постели дольше 3 дней.
Так как для пополнения некоторых дорогих вещей,
попорченных кораблекрушением, нам казалось более удоб-
ным побывать в каком-либо городе, то мы собрались в
путь в г. Ревель, куда мы 2 декабря и прибыли вполне
благополучно.
Что сердечное сочувствие во всем городе было вызва-
но тем несчастием, которое мы претерпели на море, это в
достаточной мере можно было понять не только из боль-
315
шой радости и ликования при прибытии посланного впе-
ред Иоганна Христофа фон Ухтерица, но и из воспосле-
довавших затем благодарственных молебствий в церквах и
публичных возблагодарений в гимназии.
Вот каково было это в высшей степени опасное пла-
вание, которое мы тогда совершили через Балтийское
море, где мы почти каждый день видели смерть перед гла-
зами, и наша жизнь была непрерывным умиранием, при-
чем, однако, мы тут же должны были чувствовать и сла-
вословить особую, спасительную для нас милость Божию.
О городе Ревеле
Что касается до города Ревеля, то он лежит (под 59°25'
широты и, как полагают, 48°30' долготы) у Балтийского
моря, а именно в вирландском округе княжества Эстонии.
Ведь Лифляндия, простирающаяся от реки Двины до
Финского залива, делится на две части: Леттию и Эсто-
нию. Последняя заключает в себе 5 округов: Гарриен, Вир-
ланд, Аллентакен, Нервен и Вик; все это плодородные и
богатые хлебом местности.
Хотя от многих войн все эти места сильно опустели и
одичали, тем не менее ежегодно здесь выжигается много
кустарника и леса и земля вновь обращается в пашни,
которые затем в первый год дают лучший хлеб. Нужно удив-
ляться, как этот хлеб здесь вырастает пышно и прекрас-
но, несмотря на то, что семя просто бросается в золу и
земля нисколько не унаваживается. Простая зола, сама по
себе, ничего не в состоянии произвести; поэтому я ду-
маю, что урожай достигается серою и селитрою, которые
вследствие пожара и оставшихся угольев сохраняются в
почве. Ведь вполне достоверно, что угольная пыль — хоро-
шее удобрение, которое делает почву плодородною. Так
как в этих местах в Лифляндии хорошее хлебопашество,
то бывает порою, что один Ревель в состоянии вывезти
несколько тысяч ластов ржи и ячменя. Они здесь варят
доброе и крепкое пиво. В Лифляндии ведется и весьма хо-
316
Ревель в Ливонии
рошее скотоводство и имеется много мелкой дичи и пти-
цы, так что, сравнительно с Германией, здесь можно с
незначительными расходами вести великолепный стол. Ведь
часто мы покупали зайца за восемь медяков (что состав-
ляет в мейссенской монете — 2 гроша), тетерева за три
гроша, а то и дешевле.
Город Ревель построен в 1230 г. по Р. X, Вальдемаром
Вторым, королем датским. По величине, зданиям и ук-
реплениям Ревель мало уступает Риге. Он уже давно ук-
реплен высокими стенами, круглыми башнями и бастио-
нами вследствие чего Московит21, дважды нападавший и
сильно его обстреливавший, — следы чего и теперь видны
на замке у горы Тоннингс [Тённис] — принужден был
отступить, ничего не добившись. Теперь же он еще более
укрепляется, так как его окружают сильными фортами и
валами под наблюдением городского математика г. Гемзе-
лия, человека очень искусного. Год тому назад, когда я
был там, уже два форта были готовы. Покровителем горо-
да является его величество король шведский. Это важный
торговый город, который, по прекрасному местоположе-
нию, как будто самой природой предназначен для тор-
говли: об этом свидетельствуют великолепная гавань, пре-
красный рейд и вообще те громадные удобства, которые
от Бога и природы преимущественно перед другими мес-
тами дарованы этому городу для мореходства и складов.
Поэтому этот город, тотчас по основании своем, сам со-
бою так привлек с себе торговлю, что день ото дня в нем
усиливалось население, достигавшее благодаря торговле
громадного богатства, и строились великолепные церкви,
монастыри, жилища, фасады и стены. Так как при такой
все более усиливавшейся торговле улицы и жилища везде
были застроены великолепными каменными домами и
пакгаузами для зашиты постоянно привозимых и увози-
мых товаров от огня и так как здесь все вообще устроено
для торговли, то г. Ревель вообще и считается, как в стра-
не, так и вне ее, за важнейший, а для русской торговли и
склада русских товаров удобнейший коммерческий порт
на Финском заливе. Он часто посещается судами всех на-
318
ций и мест и принят также, вместе с лифляндскими го-
родами Ригою и Дерптом в более чем в 400-летнее дос-
тохвальное ганзейское общество. В особенности же наряду
с четвертою квартирою и главным городом Ганзы — Лю-
беком, город Ревель, в течение трехсот лет до бывших в
Лифляндии войн с русскими, в качестве видного сочлена
союза, помогал содержать коллегию в Великом Новгоро-
де и пользовался такого рода авторитетом, что, без его
совета и согласия, ничего не делалось и никому не дозво-
лялось из Лифляндии и через море торговать с Россиею.
Поэтому Ревель и получил и применял, раньше других
городов, право складочного места и право ярмарочное,
которое впоследствии было закреплено за ним многочис-
ленными мирными договорами между достохвальным ко-
ролем шведским и великим князем московским, заклю-
ченными в 1695 г. в Тявзине, в 1607 г. в Выборге и в 1617 г.
в Столбове.
Хотя вследствие войн с русскими, а, по окончании
их, вследствие зависти некоторых иностранцев, обви-
нявших, без достаточного основания, город Ревель (ко-
торый только, подобно другим ганзейским городам,
пользуется своим правом суда и предварительного при-
говора) в своекорыстии и т. п., торговля в городе и пала
несколько, тем не менее и по сейчас Ревель пользуется
великолепными льготами, унаследованными им от ге-
ермейстера к геермейстеру, от короля к королю. Город
применяет любекское право. У него имеется свой супе-
ринтендент и консистория. Жители привержены к чис-
той евангелической религии по аугсбургскому испове-
данию; они справляют свое общественное богослужение
с почти ежедневными проповедями, которые в разных
церквах произносятся весьма искусными проповедни-
ками. Здесь имеется и хорошо обставленная гимназия,
из которой ежегодно ученые студенты отправляются или
в Дерпт в лифляндскую, или в другие академии [уни-
верситеты]. Город управляется демократически с при-
влечением гильдий, ольдерменов и старейшин. В насто-
ящее время там синдиком г. доктор Иоганн Фестринг,
319
доблестнейший ученый муж. В данное время граждане, в
особенности господа члены совета, а также церковные
и гимназические чины были так единодушны и друж-
ны, что нам любо было смотреть на них: очень часто
они имели порядочные собрания и пиршества, во вре-
мя которых ими выказывалось, по отношению к нам,
много почета, любви и дружбы. В летнее время для це-
лей увеселения в этом городе большое удобство пред-
ставляют находящиеся там и сям веселые сады, рощи и
другия места для прогулок.
Поездка из Ревеля в Нарву;
далее: о городе Нарве
Мы опять переходим к нашему путешествию. Оста-
новка наша в Ревеле продолжалась уже слишком двенад-
цать недель, когда вернулись к нам отосланный из Каль-
мара в Шлезвиг слуга наш с требовавшимися для нас
вешами, а также наш русский переводчик Ганс Арпен-
бек, который был послан в Москву сообщить великому
князю о продолжительной нашей задержке в пути и о ко-
раблекрушении, нами испытанном. После этого мы пус-
тились опять в путь, велев гофмейстеру кое с кем из лю-
дей, а также с нашей утварью и вещами ехать вперед на
30 санях; они и выехали 24 февраля из Ревеля. 2 марта
пустились в путь послы, а с ними вся остальная свита.
6 марта прибыли мы в город. Нарву, где снова нас встре-
тили выстрелами из двух больших орудий.
Город Нарва находится в Аллентакене на ингерман-
ландской границе, в 60 градусах от экватора, на быстро-
текущей реке, которая у жителей зовется «Нарвскою ре-
кою». Река эта у города Нарвы достигает почти той же
ширины, как река Эльба в Германии. Вода в ней бурой
окраски. Она вытекает из большого озера Пейпус, лежа-
щего в шести милях от города Дерпта.
Город Нарва, по преданию, построен королем дат-
ским Вальдемаром II в 1223 г. по Р. X. По сю сторону воды
320
Вид города Ревеля
(по изданию 1647 года)
Город представлен с другой стороны
лежит довольно хорошо построенный замок, в котором в
то время находился наместник. По ту сторону воды нахо-
дился окруженный тремя каменными стенами укреплен-
ный замок Ивангород. Его, как полагают, тиран Иван
Васильевич велел весьма спешно построить и назвать по
своему имени22. В 1558 по Р. X. тиран захватил г. Нарву, но
в 1581 г. шведский король Иоанн снова завоевал этот го-
род через Понтуса Делагарди. В наше время Нарва была
невелика, но, как пограничная крепость, она была обне-
сена крепкими валами и каменными стенами и снабжена
довольно хорошим гарнизоном.
Так как торговля, раньше бывшая здесь весьма зна-
чительною, но уменьшившаяся вследствие войн, теперь
опять начинает направляться сюда, то, по новой распла-
нировке, предполагается расширить город сравнительно
с прежним, разделить его правильными и ровными ули-
цами и хорошо укрепить. Немного лет тому назад стали
строить здесь дорогие великолепные каменные дома, а
теперь все время строят из камня, тем более что больше
уже никому не позволяется, как прежде, строить из одно-
го дерева. Поощряется увеличение построек ежедневно
усиливающимся притоком купцов и ремесленников: в
прошлом, т. е. 1654 г., много таковых направились сюда,
поселились здесь и стали гражданами. Так как из-за анг-
ло-голландской войны торговые поездки в Архангельск
сократились, то в Нарву в столь короткое время и из Гер-
мании и из России направилось столько товару, что — по
достоверным сведениям, которыми я располагаю — в оз-
наченном году 60 судов, прибывших из Западного [Не-
мецкого] и Восточного [Балтийского] морей, здесь раз-
грузились и увезли драгоценных товаров на пятьсот тысяч
талеров. Мне кажется, что, в силу общих смен и перемен,
теперь Ревель — не знаю, от каких именно местных не-
взгод — падет, а Нарва вскоре значительно усилится. Вот
поэтому-то и занялись теперь тем, чтобы вновь восстано-
вить глубину русла, которое у устья Нарвской реки, в двух
милях от города, занесено песком: [когда эта мель будет
уничтожена, то] в будущем величайшие суда окажутся в
состоянии с полным грузом входить в реку и выходить из
322
нее под самым городом, где они будут иметь безопасную
гавань.
И его величество король шведский совершенно осво-
бодил город от подсудности придворным судам этого го-
сударства и власти наместников, посадив там бургграфа.
Таковым является в настоящее время высокоблагородный
и почтенный Филипп фон Крузеншерн, придворный со-
ветник его величества короля шведского и генерал-дирек-
тор коммерции в Эстонии и Ингерманландии, многолю-
бимый свояк мой. Ему дана юрисдикция в церковных и
политических делах; он председательствует и управляет
всем, заступая место короля.
Раньше там была только одна каменная церковь не-
мецкой общины; в этой церкви иногда говорилась пропо-
ведь по-шведски. Теперь же, как говорят, и шведская об-
щина построила отдельную красивую каменную церковь,
так что в настоящее время и у шведской и у немецкой
общин имеется по особой церкви. Как выше было сказа-
но, там находится г. магистр Генрих Стааль, суперинтен-
дент в Ингерманландии и Аллентакене. Он несколько лет
уже весьма старается обучением, проповедью и всякими
побуждениями обратить в нашу веру живущих там рус-
ских. Но до сих пор у него в этом деле было больше хло-
пот, чем удачи.
От Нарвы до Новгорода и о Новгороде
7 марта мы опять выехали из Нарвы и вечером при-
были в Лилиенгаген, лежащий в 7 милях от Нарвы. 8 того
же месяца мы проехали 6 миль до Заречья. 9 мы до полу-
дня проехали 4 мили до Орлина, шведской деревни, где
наш переводчик, высланный нами вперед к границе, снова
-встретил4 нас с сообщением: «Пристав на границе нас
ожидает».
Послы призвали к себе знатнейших из свиты и вновь
любезно напомнили им, что, ради его княжеской светло-
сти, им, послам, должна оказываться полагающаяся честь;
323
вследствие этого каждый обязан вести себя так, как тре-
буется от данной должности: «Ведь русские, через грани-
цы которых мы теперь переступаем, обращают особое вни-
мание на то, с каким почтением к послам относится их
свита». Мы, и по долгу и по охоте, обещали поступать
так, но в то же время просили, чтобы и с каждым из нас
обращались милостиво, по состоянию и правам каждого,
и чтобы не набрасывались с руганью на того или иного
без различия (как могло бы иногда показаться); когда это
нам было обещано, мы весело направились навстречу при-
ставу, которого мы встретили, в миле расстояния за Ор-
лином, в лесу под открытом небом; он ждал нас, остано-
вившись в снегу, с 24 стрельцами и 90 санями. Пристав,
по имени Константин Иванович Арбузов, увидя, что по-
слы вылезают из саней, также выбрался из своих саней и
встал; он был в зеленом шелковом кафтане, обвешанном
золотыми цепями; поверх кафтана висела длинная одеж-
да, подбитая куницами. Когда послы направились к нему,
он сделал несколько шагов навстречу им, сказав: «По-
слы, снимите ваши шляпы!» Так как послы и так уже
схватились за шляпы, то переводчик возразил: «Дорогой
пристав, это уже сделано». После этого пристав начал чи-
тать по записке: по повелению Великого государя царя и
великого князя Михаила Феодоровича, всея России са-
модержца и проч., воевода новгородский князь Петр Алек-
сандрович Репнин послал его принять послов Филиппа
Крузиуса и Оттона Брюггеманна, снабдить их подводами
и провизиею и сопроводить до Новгорода и Москвы. Только
когда послы поблагодарили за это, пристав подал им впер-
вые руку, спросив о здоровье и о том, каково им было во
время поездки. После этого лошади были запряжены в
наши сани.
11 марта мы достигли Великого Новгорода. При въез-
де пристав стремился насильно протесниться на первое
место наряду с послами и, несмотря на их противодей-
ствие, продолжал добиваться своего. Когда мы прибыли в
свое помещение, пристав через нашего переводчика про-
сил послов о прощении за грубость к ним во время въез-
да, ссылаясь на то, что сделано это им было не по соб-
324
Веткой Новгород
ственному почину, а по приказанию воеводы: если бы он
не исполнил этого приказания, то на него было бы доне-
сено великому князю и он подвергся бы сильной непри-
ятности.
Великий Новгород находится, как полагают, в 40
немецких милях от Нарвы. Здесь я определил высоту по-
люса в 58° 23’.
Город Новгород довольно велик: он имеет в окруж-
ности милю; ранее он был, однако, еще больше, как
видно по старым стенам, церквей и монастырей, распо-
ложенных снаружи и пришедших там и сям уже в разру-
шение. Из-за многих монастырей, церквей и куполов
город извне великолепен, но дома, а равно валы и ук-
репления города, как и в большинстве городов всей Рос-
сии, сложены и выстроены из елового леса или балок.
Город лежит в ровной местности у богатой рыбою реки
Волхова, в которой, наряду с другими рыбами, имеются
и очень большие, жирные и вкусные окуни: их продают
по очень дешевой цене. В этих местах имеется много доб-
рых пашен и пастбищ для скота; здесь получается масса
конопли, льну, меду и воску. Здесь же приготовляется
прекраснейшая юфть, которою они много торгуют. Го-
род лежит весьма удобно для торговли, так как через
него протекает судоходная река Волхов, которая берет
начало из озера Ильменя, находящегося в полумиле выше
город, и впадает в Ладожское озеро, дающее у Нотебур-
га начало реке Неве, изливающейся в Финский залив
Балтийского моря. В прежние времена лифляндцы, ли-
товцы, поляки, шведы, датчане, немцы и фламандцы
вели оживленную торговлю с Новгородом, вследствие
чего он стал весьма богат и могуществен. Город этот не-
когда являлся главным во всей России. Это была княже-
ская резиденция, а вся провинция [новгородская], име-
ющая большое протяжение и простирающаяся вплоть до
Торжка, была особым княжеством, не подчинявшимся
царю и имевшим своих князей и монету. Каковы были на
самом деле могущество и неодолимость Новгорода, это
городу, к несчастью своему, пришлось не раз испытать
на себе. Например, в 1427 г. Витовт с польским войском
326
так сильно теснил его, что новгородцы должны были
прийти с мольбами и большими подарками просить о
мире.
Точно также и в 1477 г. их одолел тиран Иван Василь-
евич Грозный после семилетней войны, войдя в город, по
совету и при помощи их же собственного архиепископа
Феофила, с вооруженной силою под предлогом привода
вновь к послушанию греческой церкви некоторых жите-
лей, которые казались сторонниками римской церкви. Он
захватил имущество всех купцов и знатнейших граждан,
отнял у самого архиепископа все его золото и серебро и
увез более 300 подвод, нагруженных золотом, серебром,
жемчугом и другими драгоценностями. Он же переселил в
Москву и самих выше указанных новгородцев, а на их
место перевел в город других лиц, обязав их ежегодно
платить большие подати.
Известно, что перенесли новгородцы в 1569 г. при
жестоком тиране Иване Васильевиче, который, из лож-
ного подозрения, будто они находились в заговоре против
него с его сводным братом (казненным, по его повеле-
нию, ядом) и сносились с королем польским, напал на
них с войском, перебил всех, кто вокруг города и в горо-
де встретились ему и его солдатам, изрубил многих в кус-
ки, загнал громадные толпы на длинный мост, сбросил
их в воду и устроил такое страшное кровопролитие, какое
еще неслыханно было в России. В этом избиении погибло
2 770 знатных граждан, не считая женщин, детей и про-
стонародья. В новгородском округе были им частью раз-
граблены, частью сожжены 175 монастырей: монахи были
перебиты, а что из имущества не сгорело, то тиран захва-
тил с собою.
Поражение и страшные избиения испытал в то время
добрый город Новгород, убедившийся тогда, как ему [труд-
но] устоять против силы. У него, кроме того, еще в свежей
памяти, как в 1611 г. шведский полководец Яков Дела-
гарди с ним справился и доказал ему ничтожество его
поговорки о великом могуществе.
Теперь Великим князем московским назначены сюда
воевода и митрополит, живущие во дворце, расположен-
327
ном по сю сторону реки и окруженном крепкой каменной
стеною. Через этих лиц великий князь управляет городом
и всей провинциею в светских и духовных делах.
Мы прожили в Новгороде до 5 дня. Воевода однажды
велел прислать послам подарок в виде 24 приготовленных
кушаний всякого рода и 16 различных напитков. Точно
также поступил и канцлер [дьяк] Богдан Федорович Обо-
буров, который во время предыдущего посольства был
нашим приставом. Послы, со своей стороны, подарили
воеводе новую немецкую карету.
Поездка от Великого Новгорода
до Москвы и въезд наш в Москву
16 марта мы со 129 свежими лошадьми вновь высту-
пили на санях и в тот же вечер проехали 4 мили до Брон-
ниц, где нас вновь снабдили свежими лошадьми, с помо-
щью которых на следующий день мы отправились дальше.
19 того же месяца сделали мы 50 верст до Коломны, а
20 до яма у Вышнего Волочка — 5 миль.
28 марта мы проехали всего 3 мили до Николы Де-
ребни, оттуда остается всего две небольших мили до го-
рода Москвы. Здесь мы, подобно другим послам, идущим
этим путем, должны были обождать, пока о нашем при-
бытии возвестили великому князю и сделали распоряже-
ние о приеме. Тем временем мы надели ливрейные платья
и приготовились к въезду. Когда пристав узнал, что на
следующий день к полудню ему велено ввести нас в го-
род, мы двинулись. Пристав ехал верхом, рядом с посла-
ми, по правую руку. Когда мы были приблизительно в
полумиле от города, мы встретили несколько отрядов рус-
ских и татарских всадников. Все они были в драгоценных
одеждах, как и бывшие с ними несколько немцев. Они
проехали кругом нашего отряда и опять направились к
городу. Вслед за ними пришли другие отряды русских,
разделились и поехали с обеих сторон рядом с нами.
328
Посольский двор
Приблизительно в двух мушкетных выстрелах от го-
рода к нам навстречу выехали два пристава со многими
всадниками, совершенно таким же образом, как при пер-
вом нашем въезде. Когда приставы были еще в 20 шагах от
нас, они велели сказать, чтобы господа послы вышли из
своих саней и подошли к ним. Сами же приставы сошли с
коней и обнажили головы не раньше, как когда это пред-
варительно сделано было послами. Подобного образа дей-
ствий, насколько возможно тщательно, должны придер-
живаться — ради государя своего — знатнейшие сановники
Великого князя, в особенности приставы его (у которых
собезьянничали это некоторые переводчики в Москве),
за нарушение этого обычая им грозят немилость или кнут.
Прием послов произошел тем же способом, как в
предыдущий раз. Старший пристав начал так: «Великий
государь царь и великий князь Михаил Феодорович и проч,
(прочитан было по ярлыку весь великокняжеский титул)
приказал нам великого госуцаря Фридерика, князя Гол-
329
штинского, великих послов: тебя, Филиппа Крузиуса, и
тебя, Оттона Брюггеманна, принять и проводить в его
царского величества столичный город». Другой пристав
прибавил: «Его царское величество отрядил настоящего
дворянина (т. е. гофъюнкера) Павла Иванова сына Салма-
нова (так назывался старший пристав) и меня, Андрея
Ивановича Чубарова, приставами для службы при вас,
послах». После этого выступил великокняжеский штал-
мейстер, также произнес свою речь и подвел послам, для
въезда, две прекрасных белых высоких лошади, украшен-
ных так же, как и в предыдущий раз. Знатнейшим из сви-
ты доставлены были еще 12 других лошадей. Нас повели в
средний город, в так называемый Китай-город, причем
по обе стороны стояли несколько тысяч стрельцов, рас-
ставленных в два ряда по всем улицам, начиная от край-
них наружных ворот и до посольского дома. Нас помести-
ли невдалеке от Кремля в высоком каменном доме, ранее
принадлежавшем архиепископу Суздальскому, который
немного лет тому назад впал в немилость и был сослан в
Сибирь. В обычном посольском дворе в это время нахо-
дился персидский посол, прибывший незадолго до нас.
О нашем ежедневном продовольствии
и о продовольствии, назначенном по особой
милости; также о первой публичной и о первых
двух секретных аудиенциях
Едва успели мы в Москве сойти с коней и прибыть
на двор наш, как явились русские и доставили из вели-
кокняжеской кухни и погреба разных яств и питей, при-
чем каждому послу, а также шести старшим служащим их
напитки назначены были особо. В том же роде с этих пор
ежедневно стали снабжаться кухня и погреб наши, пока
мы находились в'Москве.
Это продовольствие доставлено было нам вдвойне в
день нашего приезда, а также в Вербное воскресенье, день
св. Пасхи и день рождения молодого принца. Кушанья мы
330
велели нашему повару готовить по немецкому способу. Нам
не только услуживали люди, назначенные для службы при
нашем дворе, но и приставы, приходившие ежедневно в
гости к послам. У ворот двора, правда, находился десят-
ник или капрал с 9 стрельцами, но как только мы побы-
вали на публичной аудиенции или, как они говорят, «уви-
дели ясные очи его царского величества», нам опять при
уходе и приходе, приглашении и посещении гостей стала
предоставляться прежняя или даже еще большая свобода,
безо всякого со стороны русских противодействия.
3 апреля послов на прежних лошадях с обычным блес-
ком проводили на публичную аудиенцию. При поезде при-
держивался тот же порядок, что и во время въезда.
Церемонии и великолепие аудиенции совершенно
соответствовали тому, что было год тому назад, на пер-
вой аудиенции. Из сводчатой передней, полной санови-
тых русских, двое вельмож вышли навстречу послам, при-
няли их и привели пред его царское величество. Царь сам
спросил о здоровье его княжеской светлости, так же, как
и прежде, принял верительную грамоту, дал руку для
поцелуя и пожаловал нас своим столом.
После аудиенции один из кравчих великого князя, князь
Семен Петрович Львов, прибыл верхом и доставил милос-
тиво пожалованные великим князем кушанья: всего 40 блюд,
все, ввиду поста — рыбные блюда, вареные и жареные, а
также печенья и овощи (без мяса) и 12 кувшинов напитков.
Когда стол был накрыт и блюда приготовлены, крав-
чий собственноручно подал послам и знатнейшим чинам
свиты каждому по чаше крепкой водки. Потом он взял
большие золотые чаши и велел пить круговую за здоровье
его царского величества, а затем — молодого принца и его
княжеской светлости. Князю подарен был большой бо-
кал, а прислуге, принесшей стол, несколько рублей денег.
После этого князь уехал обратно.
Мы сели за стол и попробовали некоторых русских
кушаний, из которых иные были приготовлены очень хо-
рошо, но большей частью с луком и чесноком. Осталь-
ные мы разослали переводчикам и добрым друзьям в го-
роде.
331
5 апреля нас повели к первой тайной аудиенции. Бо-
яре и вельможи, уделившие нам аудиенцию, были те же,
что исполняли это поручение в предыдущем году, за ис-
ключением государственного канцлера Грамотина. отка-
завшегося от службы, за старостью. Его заменил Федор
Федоров сын Лихачев.
Пока шла аудиенция, дома у нас умер один из наших
лакеев Франц Вильгельм из Пфальца: 8 дней тому назад,
во время поездки, из опрокинувшихся саней ему упала на
грудь шкатулка, или дорожный ящик, Брюггеманна, на-
ходившийся у него на хранении. Труп мы на третий день
благоприлично похоронили; так как покойный был ре-
форматского исповедания, то гроб сначала понесли в каль-
винистскую церковь, где произнесено было надгробное
слово. После этого похоронили его на немецком кладби-
ще. Для этих похорон великий князь прислал к нам с при-
ставом пятнадцать своих белых лошадей.
9 сего месяца мы имели другую тайную аудиенцию.
Об особых аудиенциях Брюггеманна,
о наших аудиенциях третьей, четвертой,
пятой и последней тайной, кроме того,
вообще о бывших в то время событиях
29 апреля посол Брюггеманн, согласно с своей
просьбой, имел у бояр особую тайную аудиенцию. Без
своего сотоварища он с немногими провожатыми поехал
в Кремль, был отведен в казенный двор, и здесь его в
особом помещении выслушивали около двух часов. О его
предложениях здесь, сделанных не по приказанию свы-
ше, а по собственному его почину, другой посол госпо-
дин Крузиус ничего не должен был знать.
6 мая господа послы вместе имели третью, а 17 мая
четвертую аудиенцию. 27 того же месяца они имели пятую
и последнюю аудиенцию.
30 мая, с соизволения великого князя, гофмейстер i
молодого князя предпринял соколиную охоту й пригла-
332
сил на нее знатнейших служителей послов. Он прислал
нам собственных своих лошадей и вывел на две мили за
город на веселую поляну, где он, позабавившись охотою,
угощал нас под палаткою — водкой, медом, пряниками,
астраханским виноградом и вишневым вареньем.
1 июня был день рождения молодого принца князя
Ивана Михайловича. Этот день был высокоторжественно
отпразднован русскими. Чтобы мы приняли участие в
празднике, нам обычный провиант доставлен был вдвойне.
3 того же месяца посол Брюггеманн вторично поехал
один в Кремль и втайне беседовал с боярами.
17 того же месяца я был отправлен послами в канце-
лярию, чтобы кое-что передать государственному канцле-
ру. Так как канцлер пожелал, чтобы я, ради большего по-
чета, был введен приставом, то мне, вследствие этого,
пришлось довольно долго простоять в сенях с простыми
русскими и лакеями и ждать, пока наконец нашли и дос-
тавили нашего пристава.
Старший и младший канцлер приняли меня любез-
но, дав также благоприятный ответ на мою просьбу. Окно
и стол у них были покрыты прекрасным ковром; а перед
канцлером стояла большая и красивая серебряная (впро-
чем пустая) чернильница. Как мне рассказали, и ковер и
чернильница были приготовлены перед моим приходом,
а затем опять были убраны. Обыкновенно у них в канцеля-
риях не очень опрятно. Поэтому-то, вероятно, и задержа-
ли меня в передней.
О русском государстве,
его провинциях, реках и городах
Россия или, как некоторые говорят, «белая Русь»
(именуемая по главному и столичному городу Москве,
лежащему в середине страны, обыкновенно Московиею)
является одною из самых крайних частей Европы, грани-
чит с Азиею и имеет весьма большое протяжение: она
простирается по длине на 30° или 450 немецких миль, по
333
ширине на 16° или [2]40 миль. Если обратить внимание на
то, что теперь находится под властью царя или москов-
ского великого князя, то оказывается, что границы Рос-
сии на север или полночь заходят за полярный круг и при-
мыкают к Ледовитому океану, на восток или утро доходят
до большой реки Обь, протекающей через Ногайскую
Татарию; на юге или к полудню примыкают к крымским
или перекопским татарам, а на западе или к вечеру сосе-
дями России являются Литва, Польша, Лифляндия и
Швеция.
Русская земля делится на разные княжества и про-
винции, большею частью вошедшие в содержание титула
великого князя. Первым и важнейшим из них было рань-
ше княжество Володимерское или Владимирское, как те-
перь они его называют, расположенное между обеими
реками Волгою и Окою. В нем еще имеется старинный
город и кремль того же названия. Он построен великим
князем Володимером в 928 г. (1096 ?] по Р. X., и при нем и
при следующих Великих князьях был царскою столицею,
пока Великий князь [Иван] Данилов[ич] не вывел оттуда
престол и перенес его в Москву.
Другие княжества раньше имели своих князей и госу-
дарей, которые ими управляли, но теперь все они — в
большинстве случаев усилиями тирана Ивана Васильеви-
ча — путем войн подчинены царскому и московитскому
скипетру.
Через эти земли и провинции текут многие прекрас-
ные, длинные и судоходные реки: я могу, пожалуй, ска-
зать, что подобные им вряд ли можно найти еще где-либо
в Европе. Главнейшая из них — Волга, длину которой —
только от Нижнего Новгорода до Каспийского моря — мы
определили в 500 немецких миль, не считая ее изгиба от
истоков до Нижнего, что составило бы еще 100 миль с
лишком. Днепр или Борисфен также прекрасная река; он
отделяет Россию от Литвы и впадает в Понт Эвксинский
или Черное море. В том же роде и Двина, впадающая у
Архангельска в Белое море. Ока и Москва — также доволь-
но большие реки, которые, однако, несколько меньше,
чем три предыдущих. Мы не говорим уже о многих иных
334
менее значительных реках, которые доставляют пропита-
ние жителям как по удобству своему для торговли, так и
богатым уловом рыбы.
Следует при этом обратить особое внимание на то,
что эти реки не берут — как это обыкновенно бывает —
начало в горах и скалах (таковых нет во всем великом кня-
жестве), но в лужах, болотистых и песчаных местах.
В России находится много больших и по своему вели-
колепных городов, среди которых знатнейшие — Москва,
Великий Новгород, Нижний Новгород, Псков, Смоленск
(впрочем, этот последний город сначала принадлежал не
русским, но литовцам и королю польскому, как о том
можно прочесть в «Московской хронике» Петрея; однако
в 1514 г. московиты заняли его, в 1611 г. он снова был
завоеван Сигизмундом, королем польским, в 1632 г. его
вновь осаждал великий князь Михаил Феодорович, кото-
рому, однако, пришлось с большими потерями и бесславно
снять осаду; теперь же, в минувшем 1654 г., город, по
соглашению, опять достался великому князю), Архангельск
(большой приморский и торговый город), Тверь, Торжок,
Рязань, Тула, Калуга, Ростов, Переяславль, Ярославль,
Углич, Вологда, Владимир, Старая Русса. От последнего
города, как некоторые думают, Россия получила свое на-
звание.
Перечисленные мною — знатнейшие города в Рос-
сии, но, и помимо их, Россия имеет очень много неболь-
ших городов, много местечек и бесчисленное количество
деревень.
В городах там и сям встречаются кремли, которые,
однако, в большинстве случаев, подобно самым городам,
построены из бревен и балок, наложенных друг на друга,
что является плохою защитою от поджигателей.
Что касается Москвы, столицы и главного города всего
великого княжества, то она вполне того стоит, чтобы под-
робнее на ней остановиться. Город этот лежит посередине
и как бы в лоне страны, и московиты считают, что он
отстоит отовсюду от границ на 120 миль; однако мили не
везде одинаковы. Величину города в окружности надо счи-
тать в три немецких мили, но раньше, как говорят, он
335
был вдвое больше. Она совершенно — вплоть до Кремля —
погорела в 1571 г. при большом набеге крымских или пе-
рекопских татар; то же самое произошло с нею вторично
в 1611 г., когда ее сожгли поляки.
Жилые строения в городе (за исключением домов бояр
и некоторых богатейших купцов и немцев, имеющих на
дворах своих каменные дворцы) построены из дерева или
из скрещенных и насаженных друг на друга сосновых и
еловых балок, как это можно видеть на некоторых рисун-
ках. Крыши крыты тесом, поверх которого кладут берес-
ту, а иногда — дерн. Поэтому-то часто и происходят силь-
ные пожары: не проходит месяца или даже недели, чтобы
несколько домов, а временами, если ветер силен — целые
переулки не уничтожались огнем. Мы в свое время по но-
чам иногда видели, как в 3—4 местах зараз поднималось
пламя. Незадолго до нашего прибытия погорела третья часть
города и, говорят, четыре года тому назад было опять то
же самое. При подобном несчастье стрельцы и особые
стражники должны оказывать огню противодействие. Во-
дою здесь никогда не тушат, а зато немедленно ломают
ближайшие к пожару дома, чтобы огонь потерял свою силу
и погас. Для этой надобности каждый солдат и стражник
ночью должен иметь при себе топор.
Чтобы предохранить каменные дворцы и подвалы от
стремительного пламени во время пожаров, в них устраи-
вают весьма маленькие оконные отверстия, которые за-
пираются ставнями из листового железа.
Те, чьи дома^огибли от пожара, легко могут обзаве-
стись новыми домами: за Белой стеной на особом рынке
стоит много домов, частью сложенных, частью разобран-
ных. Их можно купить и задешево доставить на место и
сложить.
Улицы широки, но осенью и в дождливую погоду
очень грязны и вязки. Поэтому большинство улиц застла-
но круглыми бревнами, поставленными рядом; по ним
идут как по мосткам. Весь город русские делят на 4 глав-
ных части: первая называется Китай-городом, т. е. «сред-
ним городом», она окружена толстою каменною так на-
зываемою Красною стеною. С южной стороны, как уже
336
Кремль. Замок в Москве
сказано, стена эта омывается рекою Москвою, а с севера
рекою Неглинною, которая за Кремлем соединяется с
Москвою рекою. Почти половину этой части города зани-
мает великокняжеский замок Кремль, имеющий окруж-
ность величиною и шириною с целый город, с тройными
каменными стенами, окруженными глубокою канавою и
снабженными великолепными орудиями и солдатами. Внут-
ри находится много великолепных, построенных из кам-
ня зданий, дворцов и церквей, которые обитаются и по-
сещаются великим князем, матриархом, знатнейшими
государственными советниками и вельможами. Хотя пре-
жний великий князь Михаил Феодорович, живший во
время нашего посольства, имел хорошие каменные пала-
ты, а также и для государя сына своего, нынешнего Ве-
ликого князя, построил весьма великолепное строение и
дворец на итальянский манер, но сам он — ради здоро-
вья, как они говорили — жил в деревянном здании. Гово-
рят, что нынешний патриарх также велел теперь постро-
ить себе для жилища весьма великолепное здание, которое
немногим хуже здания великого князя.
Наряду с двумя монастырями, в которых живут мо-
нахи и монахини, стоят здесь 50 каменных церквей из них
знаменитейшие и величайшие — Троицкая, Преев. Ма-
рии, Михаила Архангела (в этой последней погребаются
великие князья) и св. Николая. Одна из них находится по
левую руку (мы проходили мимо нее, поднимаясь к ауди-
енц-залу) и имеет большие двери из двух створок, совер-
шенно покрытые толстым листовым серебром.
Эти церкви, как вообще все каменные церкви во всей
стране, имеют 5 белых куполов, а на каждом из них трой-
ной [осьмиконечный] крест. Что же касается кремлевских
церквей, то в них колокольни обтянуты гладкою густо по-
золоченною жестью, которая, при ярком солнечном све-
те, превосходно блестит и дает всему городу снаружи пре-
красный облик. Вследствие этого некоторые из нас, придя
в город, говорили: «Снаружи город кажется Иерусалимом,
а внутри он точно Вифлеем».
Посреди кремлевской площади стоит высочайшая ко-
локольня — «Иван Великий», которая также обита выше-
338
упомянутою позолоченною жес?ью и полна колоколов. Ря-
дом с нею стоит другая колокольня, на которой висит очень
большой колокол, который, как говорят, весом в 356 цен-
тнеров и отлит в правление великого князя Бориса Году-
нова. В этот колокол звонят во время больших торжеств или
«праздников», как они говорят, или же при въезде великих
послов или при доставлении их на публичную аудиенцию.
Его приводят в движение 24, а то и более людей, стоящих
внизу на площади. С обеих сторон колокольни висят два
длинных каната, ? которым внизу примыкает много мел-
ких веревок по числу людей, обязанных их тянуть.
Колокол этот, во избежание ^ильного сотрясения и
опасности для колокольни, лишь слегка приводят в дви-
жение, вследствие чего несколько человек стоят наверху
у колокола для помощи при раскачивании языка его.
Посреди этой стены находятся и сокровищницы, про-
виантные склады и пороховые погреба великого князя.
Вне Кремля в Китай-городе, по правую сторону от
больших кремлевских ворот стоит искусно построенная
церковь Св. Троицы, строитель которой, по окончании ее,
ослеплен был тираном, чтобы уже впредь ничего подоб-
ного не строить. Невдалеке от этой церкви находится по-
мост; около него неподвижно лежат на земле два больших
металлических орудия: они направлены против большой
дороги, по которой обыкновенно вторгаются татары. Пе-
ред Кремлем находится величайшая и лучшая в городе
рыночная площадь, которая весь день полна торговцев,
мужчин и женщин, рабов и праздношатающихся. Вблизи
помоста, где на вышеозначенном рисунке представлены
великий князь и патриарх, стоят обыкновенно женщины
и торгуют холстами, а иные стоят, держа во рту кольца
(чаще всего — с бирюзою) и предлагая их для продажи.
На площади и в соседних улицах каждому товару и
каждому промыслу положены особые места и лавки, так
что однородные промыслы встречаются в одном месте. Тор-
говцы шелком, сукном, золотых дел мастера, шорники,
сапожники, портные, скорняки, шапочники и другие —
все имеют свои особые улицы, где они и продают свои
товары. Этот порядок очень удобен: каждый, благодаря ему,
339
знает, куда ему пойти и где получить то или иное. Тут же,
невдалеке от Кремля, в улице направо, находится их икон-
ный рынок, где продаются исключительно писанные изоб-
ражения старинных святых. Называют они торг иконами
не куплею и продажею, а «меною на деньги»; при этом
долго не торгуются.
Далее в эту сторону направо, если идти от Посоль-
ского двора к Кремлю, находится особое место, где рус-
ские, сидя, при хорошей погоде, под открытым небом,
бреются и стригутся. Этот рынок у нйх называющийся
Вшивым рынком, так устлан волосами, что по ним хо-
дишь, как по мягкой обивке.
В этой части живут большинство, притом самых знат-
ных гостей или купцов, а также некоторые московские
князья.
Другую часть города именуют они Царь-городом; она
расположена в виде полумесяца и окружена крепкой ка-
менной стеною, у них именуемой Белою стеною; посере-
дине через нее протекает река Неглинная. Здесь живет мно-
го вельмож и московских князей, детей боярских, знатных
граждан и купцов, которые по временам уезжают на торг
по стране. Также имеются здесь различные ремесленники,
преимущественно булочники. Тут же находятся хлебные и
мучные лабазы, лотки с говядиною, скотный рынок, ка-
баки для пива, меда и водки. В этой же части находится
конюшня его царского величества. Здесь же находится ли-
тейный завод, а именно в местности, которую они назы-
вают Поганым бродом, на реке Неглинной; здесь они льют
много металлических орудий и больших колоколов.
Третья часть города Москвы называется Скородомом.
Это крайняя часть, с востока, севера и запада окаймляю-
щая Царь-город. Раньше, перед тем как татары сожгли го-
род, она, как говорят, имела окружность в 26 верст, т. е. в
5 немецких миль. Река Яуза протекает через нее и соединяет-
ся с Москвою-рекою. В этой части находится лесной рынок
и вышеназванной рынок домов, где можно купить дом и
получить его готово отстроенным [для установки] в другой
части города через два дня: балки уже пригнаны друг к дру-
гу, и остается только сложить их и законопатить щели мхом.
340
Четвертая часть города — Стрелецкая слобода — ле-
жит к югу от реки Москвы в сторону татар и окружена
оградою из бревен и деревянными укреплениями. Гово-
рят, что эта часть выстроена Василием, отцом тирана,
для иноземных солдат: поляков, литовцев и немцев. Те-
перь в этой части живут стрельцы или солдаты, состоя-
щие на службе его царского величества, а также другое
простонародье.
Внутри и вне окружающих город Москву стен нахо-
дятся много церквей, часовен и монастырей. В настоящее
время почти каждый пятый дом является часовней, так
как каждый вельможа строит себе собственную часовню и
держит на свой счет особого попа; только сам вельможа и
его домашние молятся Богу в этой часовне. По указанию
нынешнего патриарха, ввиду часто возникающих пожа-
ров, большинство деревянных часовен сломаны и постро-
ены вновь из камня; некоторые часовни внутри не шире
15 футов. О Москве в изложенном нами сказано достаточно.
Так как и город Архангельск является важным торго-
вым городом и, насколько мне известно, нигде еще не
описан, то я немногими словами упомяну и о нем.
На картах, как и в атласе, называется этот город св.
Михаилом Архангелом, но русские называют его обык-
новенно Архангельском. Он лежит далеко на севере в зем-
ле Двинской, на реке Двине, а именно на том ее месте,
где река разделяется, течет мимо острова Пудожемского
и впадает в Белое море.
Город и гавань его не стары, так как раньше суда
входили в левый рукав Двины у монастыря св. Николая.
Так как, однако, от наносных песков это устье стало слиш-
ком мелким, а правый рукав глубже, то воспользовались
правым рукавом и на нем построили город.
Как говорят, сам по себе город невелик, но он сла-
вится из-за многочисленных купцов и заморской торгов-
ли. Ежегодно приезжают сюда голландские, английские и
гамбургские суда с различными товарами. В то же самое
время собираются в путь купцы по |всей| стране, особен-
но немцы из Москвы, а зимою со своим товаром на санях
они вновь возвращаются отсюда домой.
341
Нынешний великий князь перенес сюда большую
таможню; пошлины собирает воевода, живущий в мест-
ном кремле.
Так как купцам эти пошлины несколько обремени-
тельны, а, с другой стороны, его величество король швед-
ский желает брать лишь пошлину в 2% при провозе това-
ров через Лифляндию к Нарве, то полагают, что большая
часть торгового движения будет отвлечена от Архангель-
ска и направится через Балтийское море в Лифляндию,
тем более что здесь этой торговле угрожает меньше опас-
ностей.
Недалеко от Архангельска в Белом море в особом за-
ливе расположены три острова, лежащие близко друг к
другу. Наибольший из них называется Соловка, другие —
Анзер и Кузова. На Соловке-острове находится монастырь,
в котором погребен русский святой. Великий князь, по
указанию патриарха, в минувшем году велел его останки
выкопать здесь и перевезти в Москву. Некоторые утверж-
дают, будто предыдущие великие князья укрыли на этом
острове — высоком, скалистом, крутом и не легко дос-
тупном — большие сокровища.
О состоянии воздуха, погоды, почвы,
растительности и садов страны
В великом княжестве состояние воздуха, погоды и
земель, ввиду многих провинций, лежащих далеко друг
от друга и в различных даже климатах, неодинаково. Что
касается московской области и пограничных с нею, то
здесь вообще воздух свежий и здоровый; как свидетель-
ствуют все жители и как говорят и сами русские, здесь
мало слышали об эпидемических заболеваниях или моро-
вых поветриях, да и встречаются здесь зачастую весьма
старые люди. Следует поэтому весьма удивляться, что в
нынешнем 1664 г. во время смоленской войны в Москве
появились ядовитое поветрие и сильная чума, продолжа-
ющиеся до сих пор, так что люди, по собственному мне-
342
нию - здоровыми вышедшие из дому, как говорят, пада-
ют на улицах и помирают. Поэтому-то проезд к Москве и
из нее закрыт.
В зимнее время вообще во всей России сильные холода,
так что едва удается уберечься от них. У них не редкость, что
отмерзают носы, уши, руки и ноги. В наше время, когда мы
в 1634 г. впервые были там, была столь холодная зима, что
перед Кремлем почва, из-за холода, потрескалась на 20 са-
жень в длину и на четверть локтя в ширину. Никто из нас с
открытым лицом не мог пройти даже 50 шагов по улицам,
не получив впечатления, что у него отморожены нос и уши.
Я нашел, что вполне правильны утверждения некоторых
писателей, что там водные капли и слюна стынут раньше,
чем доходят ото рта до земли.
Хотя холод у них зимою и велик так, тем не менее
трава и листва весною быстро выходят наружу, и по вре-
мени роста и созревания здешняя страна не уступит на-
шей Германии. Так как здесь всегда снег выпадает в боль-
шом количестве и на значительную высоту, то почва и
кусты покрываются как бы одеждою и охраняются от рез-
кого холода.
Ради сильных холодов и обилия снега, имеющегося в
России и Лифляндии, здесь хорошо путешествовать и мож-
но для езды пользоваться широкими русскими санями из
луба или липовой коры. Некоторые из нас устраивали в
санях войлочную подстилку, на которой ложились в длин-
ных овчинных шубах, которые там можно очень дешево
приобрести, а сверху покрывали сани войлочным или су-
конным одеялом: при такой обстановке мы находились в
тепле и даже потели и спали в то время, как нас везли
крестьяне.
Для езды очень удобны русские, правда маленькие,
но быстро бегущие лошади, которые привыкли, при од-
ной кормежке, пробегать 8, 10, иногда даже 12 миль, как
и я дважды ездил из Твери в Торжок. Впрочем, дороги в
этих местах, как и повсеместно в России, не имеют осо-
бых повышений и понижений.
Поэтому можно весьма быстро совершить продолжи-
тельную поездку, притом весьма дешево. Крестьянин, ез-
343
дящий по найму, за 2—3 или — самое большее — 4 рейх-
сталера везет целых 50 немецких миль, как и я однажды
за такую плату проехал из Ревеля в Ригу — 50 миль.
Как ни силен холод зимою, летом столь же велика
жара, которая там тягостна для путешественника не толь-
ко днем из-за солнечных лучей, но и из-за многочислен-
ных комаров, которых солнце производит на свет в боло-
тах, да и повсеместно в России; они ни днем ни ночью не
дают покоя. Поэтому ночью приходится или лежать близ
огня или же, как это указано выше, — под особой сетью
для защиты от комаров.
Обширная страна эта во многих местах покрыта кус-
тарником и лесами, большею частью — соснами, береза-
ми и орешником; много мест пустынных и болотистых.
Тем не менее, однако, ввиду доброго свойства почвы,
страна, где она хоть немного обработана, чрезвычайно
плодородна (исключая лишь немногие мили вокруг горо-
да Москвы, где почва песчаная), так что получается гро-
мадное изобилие хлеба и пастбищ. И сами голландцы при-
знают, что несколько лет тому назад, во время большой
дороговизны, Россия сильно помогла им своим хлебом.
Редко приходится слышать о дороговизне в стране. В иных
местах в стране, где хлеб не находит сбыта, земля не об-
рабатывается более (хотя это было бы возможно), чем
требуется для надобностей одного года; там никаких запа-
сов не собирают, так как все уверены в ежегодном бога-
том урожае. Поэтому-то они и оставляют много прекрас-
ных плодородных земель пустынными, как я сам это видел,
проезжая через некоторые области с тучным черноземом,
которые там поросли такою высокою травою, что она ло-
шадям покрывала брюхо. Эта трава также, ввиду изобилия
ее, ни разу не собиралась и не употреблялась для скота.
Следует удивляться и тому, о чем нам сообщали в
Нарве: там на русской стороне, сейчас же за рекою, зем-
ля гораздо лучшая, и все растет быстрее и лучше, чем по
сю сторону Нарвы в Аллентакене, хотя отделяется одна
сторона от другой лишь рекою. В этом месте в Ингерман-
ландии так же, как и в Карелии, России и Лифляндии на
севере, земледелец бросает семена в землю всего за три
344
недели до Иванова дня. Затем семя, ввиду постоянного
согревания солнцем (которое еле касается горизонта при
закате), на глазах у наблюдателей растет, так что в тече-
ние 7 или самое большее 8 недель успевают и посеять и
пожать. Если бы они и пожелали раньше совершить по-
сев, все равно семя не могло бы приняться, вследствие
скрытого в земле мороза и холодных ветров.
В некоторых местах, особенно в Москве, имеются и
великолепные садовые растения, вроде яблок, груш, ви-
шен, слив и смородины. Между другими сортами яблок у
них имеется и такой, в котором мякоть так нежна и бела,
что если держать ее против солнца, то можно видеть зер-
нышки. Однако, хотя они прелестны видом и вкусом, тем
не менее, ввиду чрезмерной влажности, они не могут быть
сохраняемы так долго, как в Германии.
Тут же имеются и всякого рода кухонные овощи, осо-
бенно спаржа толщиною с палец, какую я сам ел у неко-
его голландского купца, моего доброго друга, в Москве,
а также хорошие огурцы, лук и чеснок в громадном изо-
билии. Латук и другие сорта салата никогда не садились
русскими; они раньше вообще не обращали на них вни-
мания и не только не ели их, но даже смеялись над нем-
цами за употребление их в пищу, говоря, что они едят
траву. Теперь же и некоторые из них начинают пробовать
салат. Дыни производятся там в огромном количестве; в
разведении их многие находят себе материал для торгов-
ли и источник пропитания. Дынь не только растет здесь
весьма много, но они и весьма велики, вкусны и сладки,
так что их можно есть без сахару. Мне еще в 1643 г. подоб-
ная дыня, в пуд (т. е. 40 фунтов) весом, была поднесена
добрым приятелем на дорогу, когда я в то время уезжал
из Москвы.
Красивых трав и цветов в Москве в прежние годы
было не много. Однако бывший великий князь вскоре после
нашего пребывания в стране постарался прекрасно устро-
ить свой сад и украсить его различными дорогими трава-
ми и цветами. До сих пор русские ничего не знали о хоро-
ших махровых розах, но ограничивались дикими розами и
шиповником и ими украшали свои сады. Однако несколь-
345
ко лет тому назад Петр Марселис, выдающийся купец,
доставил сюда первые махровые и провансские розы из
сада моего милостивейшего князя и государя в Готторпе;
они хорошо принялись здесь.
В Московии нет грецких орехов и винограда, но вся-
кого рода вино часто привозится сюда голландскими и
иными судами через Архангельск, а теперь доставляется
оно и из Астрахани, где также начали заниматься виног-
радарством.
Отсюда можно вывести, что отсутствие [в Московии]
некоторых плодов и растений следует приписать не столько
почве и воздуху, сколько небрежности и незнанию жите-
лей.
У них нет недостатка и в тех плодах земли, которые
необходимы для обыкновенного питания в жизни. Коноп-
ля и лен производятся в большом количестве, вследствие
чего полотно в России очень дешево.
Мед и воск, правда — часто находимые в лесах, име-
ются у них в таком изобилии, что они, несмотря на коли-
чество, потребное им для медовых питей и для восковых
свеч, которыми они пользуются и для собственных на-
добностей и — в больших размерах — для богослужения,
тем не менее могут продавать большими партиями и то и
другое за границу. В большинстве случаев эти товары вы-
возятся через Псков.
Во всей России везде, где не устроено пашен путем
выжигания леса, поверхность покрыта лесами и кустар-
ником. Поэтому там много лесной и полевой дичи. Так как
пернатой дичи у них имеется громадное количество, то ее
не считают у них такой редкостью и не ценят так, как у
нас: глухарей, тетеревов и рябчиков разных пород, диких
гусей и уток можно получать у крестьян за небольшую
сумму денег, а журавли, лебеди и небольшие птицы, вро-
де серых и иных дроздов, жаворонков, зябликов и тому
подобных, хотя и встречаются очень часто, но считаются
нестоящими того, чтобы за ними охотиться и употреблять
их в пищу. Аисты не встречаются здесь.
Леса также богаты разными дикими животными, за
исключением оленей, которых или совсем нет, или, как
346
другие говорят, удается видеть очень редко. Лосей, каба-
нов, зайцев большое изобилие. В некоторых местах, зайцы
летом обычного серого цвета, а зимою — белоснежной
окраски.
Наряду с этой хорошею дичью встречается также
много хищных и нечистых животных, как-то: медведей,
волков, рысей и тигров, лисиц, соболей и куниц, шкура-
ми которых русские ведут обширную торговлю.
Так как, — как уже сказано, — местами много лиш-
них пастбищ, то у них много имеется ручного скота: ко-
ров, быков и овец, которые продаются весьма задешево.
Мы однажды, во время первой поездки в Ладогу, купили
жирного быка, правда, небольшого, — так как вообще во
всей России скот мелок, - за 2 талера, а овцу за 10 копе-
ек или 5 мейссенских грошей.
В текучих водах и стоячих озерах, которых в России
много, большое изобилие рыб всяческих пород, за ис-
ключением карпов. Однако в Астрахани мы видели много
карпов необыкновенной величины, которых можно было
покупать по шиллингу за штуку; их ловят в Волге. Вкус
их, ввиду грубого, жесткого мяса, не очень приятен.
Среди ископаемых самое важное место занимает слю-
да, которая в иных местах получается из каменоломен и
употребляется для окон во всей России.
Шахтовых копей эта страна не имела; однако немно-
го лет тому назад на татарской границе у Тулы, в 26 ми-
лях от Москвы, открылась таковая. Ее устроили несколько
немецких горнорабочих, которых, по просьбе его царско-
го величества его светлость курфюрст саксонский прислал
сюда. Эта копь до сих пор давала хорошую добычу, хотя
преимущественно железа.
В семи верстах и в 11/2 милях от этой копи находится
железоделательный завод, устроенный между двумя гора-
ми в приятной долине при удобной реке; здесь выделыва-
ется железо, куются железные полосы и изготовляются
разные вещи.
Этим заводом по особому контракту, заключенному
с ним великим князем, заведует господин Петр Марсе-
лис. Ежегодно он доставляет его царского величества ору-
347
жейной палате известное количество железных полос,
несколько крупных орудий и много тысяч пудов ядер; по-
этому он как был и у прошлого, так состоит и у нынеш-
него великого князя в большой милости и почете. Он же
ведет еше и иные крупные торговые дела в Москве.
О самих русских - в отношении
их внешнего вида и одежды
Мы, прежде всего, рассмотрим внешний быт моско-
витов, или русских, то есть их наружность, их строение, а
также их одежду, а затем обратимся к внутреннему их быту,
то есть — их душевным свойствам, способностям и нра-
вам. Мужчины у русских, большею частью, рослые, тол-
стые и крепкие люди, кожею и натуральным цветом сво-
им сходные с другими европейцами. Они очень почитают
длинные бороды и толстые животы, и те, у кого эти каче-
ства имеются, пользуются у них большим почетом. Его
царское величество таких людей из числа купцов назнача-
ет обыкновенно для присутствия при публичных аудиен-
циях послов, полагая, что этим усилено будет торжествен-
ное величие (приема]. Усы у них свисают низко над ртом.
Волосы на голове только их попы или священники носят
длинные, свешивающиеся на плечи; у других они корот-
ко острижены. Вельможи даже дают сбривать эти волосы,
полагая в этом красоту. Однако, как только кто-либо по-
грешит в чем-нибудь перед его царским величеством или
узнает, что он впал в немилость, он беспорядочно отпус-
кает волосы до тех пор, пока длится немилость.
Женщины среднего роста, в общем красиво сложе-
ны, нежны лицом и телом, но в городах они все румянят-
ся и белятся, притом так грубо и заметно, что кажется,
будто кто-нибудь пригоршнею муки провел по лицу их и
кистью выкрасил щеки в красную краску. Они чернят так
же, а иногда окрашивают в коричневый цвет брови и рес-
ницы. Некоторых женщин соседки их или гостьи их бесед
принуждают так накрашиваться (даже несмотря на то, чго
348
они от природы красивее, чем их делают румяна) — что-
бы вид естественной красоты не затмевал искусственной.
Женщины скручивают свои волосы под шапками,
взрослые же девицы оставляют их сплетенными в косу на
спине, привязывая при этом внизу косы красную шелко-
вую кисть.
У детей моложе 10 лет — как девочек, так и мальчи-
ков - они стригут головы и оставляют только с обеих
сторон длинные свисающие локоны. Чтобы отличить де-
вочек, они продевают им большие серебряные или мед-
ные серьги в уши.
Одежда мужчин у них почти сходна с греческою. Их
сорочки широки, но коротки и еле покрывают седалище;
вокруг шеи они гладки и без складок, а спинная часть от
плеч подкроена в виде треугольника и шита красным шел-
ком. У некоторых из них клинышки под мышками, а так-
же по сторонам сделаны очень искусно из красной тафты.
У богатых вороты сорочек (которые шириною с добрый
большой палец) точно так же, как полоска спереди (сверху
вниз) и места вокруг кистей рук — вышиты пестрым кра-
шеным шелком, а то и золотом и жемчугом; в таких слу-
чаях ворот выступает под кафтаном; ворот у них застеги-
вается двумя большими жемчужинами, а также золотыми
или серебряными застежками. Штаны их вверху широки
и, при помощи особой ленты, могут по желанию сужи-
ваться и расширяться. На сорочку и штаны они надевают
узкие одеяния вроде наших камзолов, только длинные,
до колен и с длинными рукавами, которые перед кистью
руки собираются в складки; сзади у шеи у них воротник в
четверть локтя длиною и шириною; он снизу бархатный,
а у знатнейших из золотой парчи: выступая над остальны-
ми одеждами, он подымается вверх на затылке. Это одея-
ние они называют «кафтаном». Поверх кафтана некоторые
носят еще другое одеяние, которое доходит до икр или
спускается ниже их и называется ферязью. Оба эти ниж-
ние одеяния приготовляются из каттуна, киндиака, таф-
ты, дамаста или атласа, как кто в состоянии завести его
себе. Ферязь на бумажной подкладке. Над всем этим у них
длинные одеяния, спускающиеся до ног; таковые они
349
надевают, когда выходят на улицу. Они в большинстве
случаев из сине-фиолетового, коричневого (цвета дублен-
ной кожи) и темно-зеленого сукна, — иногда также из
пестрого дамаста — атласа или золотой парчи.
В таком роде все кафтаны, которые находятся в сокро-
вищнице Великого князя и во время публичных аудиен-
ций выдаются мужчинам, заседающим на них, для усиле-
ния пышности.
У этих наружных кафтанов сзади на плечах широкие
вороты, спереди, сверху вниз, и с боков прорезы с те-
семками, вышитыми золотом, а иногда и жемчугом; на
тесемках же висят длинные кисти. Рукава у них почти та-
кой же длины, как и кафтаны, но очень узки; их они на
руках собирают во многие складки, так что едва удается
просунуть руки; иногда же, идя, они дают рукавам сви-
сать ниже рук. Некоторые рабы и легкомысленные сорван-
цы носят в таких рукавах камни и кистени, что нелегко
заметить: нередко, в особенности ночью, с таким оружи-
ем они нападают и убивают людей.
На головы все они надевают шапки. У князей и бояр
или государственных советников во время публичных за-
седаний надеты шапки из черного лисьего или собольего
меха, длиною с локоть: в остальных же случаях они носят
бархатные шапочки по нашему образцу, подбитые и опу-
шенные черною лисицею или соболем; впрочем, у них
очень не много меху выходит наружу. С обеих сторон эти
шапочки обшиваются золотым или жемчужным, шнур-
ком. У простых граждан летом шапки из белого войлока, а
зимою из сукна, подбитые простым мехом.
Большею частью они, подобно полякам, носят корот-
кие, спереди заостряющиеся сапоги из юфти или персид-
ского сафьяна. О кордуане они ничего не знают. У женщин,
в особенности у девушек, башмаки с очень высокими каб-
луками: у иных в четверть локтя длиною; эти каблуки сзади,
по всему нижнему краю, подбиты тонкими гвоздиками. В
таких башмаках они не могут много бегать, так как пере-
дняя часть башмака с пальцами ног едва доходит до земли.
Женские костюмы подобны мужским; лишь верхние
одеяния шире, хотя из того же сукна. У богатых женщин
350
Костюмы
костюмы спереди до низу окаймлены позументами и дру-
гими золотыми шнурами, у иных же украшены тесемка-
ми и кистями, а иногда большими серебряными и оло-
вянными пуговицами. Рукава вверху не пришиты вполне,
так что они могут просовывать руки и давать рукавам сви-
сать. Однако они не носят кафтанов и — еще того менее —
четырехугольных, поднимающихся на шее воротников.
Рукава их сорочек в 6, 8, 10 локтей, — а если они из
светлого катгуна, — то и более еще того длиною, но узки;
надевая их, они их собирают в мелкие складки. На головах
у них широкие и просторные шапки из золотой парчи,
атласа, дамаста, с золотыми тесьмами, иногда даже ши-
тые золотом и жемчугом и опушенные бобровым мехом;
они надевают эти шапки так, что волосы гладко свисают
вниз на половину лба. У взрослых девиц на головах боль-
шие лисьи шапки.
Раньше немцы, голландцы, французы и другие ино-
странцы, желавшие ради службы у великого князя и тор-
говли пребывать и жить у них, заказывали себе одежды и
351
костюмы наподобие русских; им это приходилось делать
даже поневоле, чтобы не встречать оскорблений словом и
действием со стороны дерзких злоумышленников. Однако
год тому назад нынешний патриарх переменил это обык-
новение. Теперь, поэтому, все иностранцы, каких земель
они ни будь люди, должны ходить всегда одетые в костю-
мы своих собственных стран, чтобы была возможность
отличить их от русских.
О природе русских, их
душевных качествах и нравах
Когда наблюдаешь русских в отношении их душевных
качеств, нравов и образа жизни, то их, без сомнения, не
можешь не причислить к варварам. И так нельзя сказать о
них, как в старину говорилось о греках (правда, они хвас-
таются приходом к ним греков и заимствованиями у этих
последних, но, на самом деле, они не имеют от них ни
языка, ни искусства), а именно, что они одни — люди
умные и с тонким пониманием, а все остальные — не гре-
ки — варвары. Русские вовсе не любят свободных искусств
и высоких наук и не имеют никакой охоты заниматься ими.
Поэтому они остаются невеждами и грубыми людьми.
Большинство русских дают грубые и невежественные
отзывы о высоких, им неизвестных, натуральных науках
и искусствах в тех случаях, когда они встречают иност-
ранцев, имеющих подобные познания. Так, они, напри-
мер, астрономию и астрологию считали за волшебную
науку. Они полагают, что имеется что-то нечистое в зна-
нии и предсказании наперед солнечных и лунных затме-
ний, равно как и действий светил. Поэтому, когда мы вер-
нулись из Персии, и в Москве стало известно, что великий
князь назначает и принимает меня в свои астрономы, то
некоторые из них стали так говорить: «Вскоре вернется в
Москву находившийся в составе голштинского посоль
ства волшебник, умеюший по звездам предсказывать бу
душее». Вследствие этого люди уже почувствовали ко mik
352
отвращение, и я, узнав о нем, между прочим, по этой
причине и воздержался принять приглашение.
Впрочем, московитам не столь интересно было, по-
жалуй, иметь меня в качестве астронома: скорее всего
хотели они меня удержать в стране потому, что им стало
известно о начерченных мною и нанесенных на карту реке
Волге и персидских провинциях, через которые мы про-
ехали.
Когда я позже, в 1643 г., моим милостивейшим госу-
дарем вновь был послан в Москву и, ради забавы, в тем-
ной комнате при помощи маленького отверстия в стене
и вложенного туда шлифованного стекла стал изображать
в живых цветах все находившееся на улицах против окна,
а канцлер в это время зашел ко мне, то он перекрестился
и сказал: «Тут, верно, волшебство» — тем более что ведь
лошади и люди представлялись идущими вверх ногами.
Хотя они и любят и ценят врачей и их искусство, но,
тем не менее, не желают допустить, чтобы применялись
и обсуждались такие общеупотребительные в Германии
и других местах средства для лучшего изучения врачева-
ния, как анатомирование человеческих трупов и скелеты;
ко всему этому русские относятся с величайшим отвра-
щением.
Что касается ума, русские, правда, отличаются смыш-
леностью и хитростью, но пользуются они умом своим не
для того, чтобы стремиться к добродетели и похвальной
жизни, но чтобы искать выгод и пользы и угождать стра-
стям своим. Поэтому они лукавы, упрямы, необузданны,
недружелюбны, извращены, бесстыдны, склонны ко все-
му дурному, пользуются силою вместо права, распрости-
лись со всеми добродетелями и скусили голову всякому
стыду.
Их смышленость и хитрость, наряду с другими по-
ступками, особенно выделяются в куплях и продажах, так
как они выдумывают всякие хитрости и лукавства, чтобы
обмануть своего ближнего. А если кто их желает обмануть,
то у такого человека должны быть хорошие мозги. Так как
они избегают правды и любят прибегать ко лжи и к тому
же крайне подозрительны, то они сами очень редко верят
UЗак. 1918
353
кому-либо; того, кто их сможет обмануть, они хвалят и
считают мастером. Поэтому как-то несколько московских
купцов упрашивали некоего голландца, обманувшего их в
торговле на большую сумму денег, чтобы он вступил с
ними в компанию и стал их товарищем по торговле. Так
как он знал такие мастерские приемы обмана, то они
полагали, что с этим человеком будут хорошо торговать.
При этом странно, что хотя на обман они не смотрят как
на дело совести, а лишь ценят его как умный и похваль-
ный поступок, тем не менее многие из них полагают, что
грех не отдать лишек человеку, который при платеже де-
нег по ошибке уплатит слишком много. Они говорят, что
в данном случае деньги даются по незнанию и против
воли и что принятие их было бы кражею; [в случае же
обмана] участник сделки платит по доброй воле и вполне
сознательно. По их мнению, торговать нужно с умом и
смыслом или же совершенно не касаться этого дела.
Чтобы проявить свое лукавство, обманы и надруга-
тельство по отношению к ближним, на которых они злы
или которых ненавидят, они, между прочим, поступают
таким образом: так как кража у них считается пороком
серьезно караемым, то они стараются того или иного об-
винить в ней. Они идут и занимают деньги у своих знако-
мых, оставляя взамен одежду, утварь или другие предме-
ты. При этом они иногда тайно подкидывают что-либо в
дом или суют в сапоги, в которых они обыкновенно носят
свои письма, ножи, деньги и другие мелкие вещи, — а
затем обвиняют и доносят, будто эти вещи тайно украде-
ны. Как только вещи найдены и узнаны, обвиняемый дол-
жен быть привлечен к ответственности. Имеются и лжи-
вые судьи, которые сами подстрекают своих близких к
подобным злоупотреблениям, надеясь получить отсюда
выгод.
Вероломство и лживость у них столь велики, что опас-
ность от этих свойств угрожает не только чужим людям и
соседям, но и брату от брата или одному супругу от дру-
гого.
Раньше при враждебных и злостных доносах, особен-
но в случаях, касавшихся оскорбления величества, обви-
354
няемый, без допроса, улик и выслушания, подвергался
наказанию, доводился до нищеты или казнился смертью.
Страдали при этом не только низко поставленные, но и
высокого звания персоны, как иностранные, так и тузем-
ные. Среди русских такие примеры бесчисленны. При этом
не щадились и послы иностранных государей.
Когда, однако, увидели, что многие не стыдились из
одной ненависти и вражды, безо всякого основания до-
носить на других и клеветать, то решено было поступать
более осторожно в подобных случаях и было указано, что
отныне в уголовных делах жалобщик и доносчик сам так-
же должен идти на пытку и подтвердить свою жалобу вы-
несенною мукою. Если пытаемый остается при своем
первом показании и доносе, то очередь [пытки] за обви-
няемым, а иногда, когда дело очень ясное, наказание
назначается без дальнейшего процесса.
Так как русские применяют свою хитрость и веро-
ломство во многих случаях и сами друг другу не держат
веры, то понятно, как они относятся к иностранцам и
как трудно на них полагаться. Если они предлагают друж-
бу, то делают это не из любви к добродетели, но ради
выгоды и пользы.
Все они, в особенности же те, кто счастьем и богат-
ством, должностями или почестями возвышаются над
положением простонародья, очень высокомерны и гор-
ды, чего они, по отношению к чужим, не скрывают, но
открыто показывают своим выражением лица, своими сло-
вами и поступками. Подобно тому, как они не придают
никакого значения иностранцу сравнительно с людьми
собственной своей страны, так же точно полагают они,
что ни один государь в мире не может равняться с их
главою своим богатством, властью, величием, знатнос-
тью и достоинствами. Они и не принимают никакого пись-
ма на имя его царского величества, в котором какая-либо
мелочь в титуле опущена или неизвестна для них.
Они грубо честолюбивы и готовы заявлять об этом,
если их почитают или с ними обращаются не по их воле.
Приставы, которых его царское величество посыла-
ет, как служителей своих, для приема иностранных по-
355
слов, не стыдятся открыто требовать, чтобы послы сни-
мали шляпы раньше русских и раньше их сходили с ло-
шадей. Насильно протискиваются они вперед, чтобы ехать
и идти выше послов, и совершают еще много иных гру-
бых нарушений вежливости. Они полагают, что нанесли
бы большой ущерб своему государю и всей нации, если
бы они по отношению к иностранным гостям и послам
великих государей вели себя с приятною вежливостью и
почтител ьн остью.
Даже знатнейшие из русских в письмах своих к инос-
транцам пользуются довольно жесткими и неуважитель-
ными словами, но зато допускают, чтобы мы отвечали
тем же и писали им в том же роде. Мы, тем не менее,
видели некоторых из них, хотя и немногих, которые об-
ращались с нами очень вежливо и доброжелательно. Гово-
рят, что раньше они были еще невежливее, но несколько
исправились вследствие общения и сношений с иност-
ранцами. Никита [Романов], пожалуй, по уму, честности
и обходительности превосходит их всех и является самым
полезным [деятелем] и красою всех русских.
Из высокомерия они и сами между собою не уступа-
ют друг другу, стремятся к высшему месту и часто из-за
этого вступают в сильные ссоры. Они вообще весьма бран-
чивый народ и наскакивают друг на друга с неистовыми и
суровыми словами, точно псы. На улицах постоянно при-
ходится видеть подобного рода ссоры и бабьи передряги,
причем они ведутся так рьяно, что с непривычки дума-
ешь, что они сейчас вцепятся друг другу в волосы. Однако
до побоев дело доходит весьма редко, а если уже дело
зашло так далеко, то они дерутся кулачным боем и изо
всех сил бьют друг друга в бока и в срамные части. Еще
никто ни разу не видал, чтобы русские вызывали друг
друга на обмен сабельными ударами или пулями, как это
обыкновенно делается в Германии и в других местах. Зато
известны случаи, что знатные вельможи и даже князья
храбро били друг друга кнутами, сидя верхом на конях. Об
этом мы имеем достоверные сведения, да и сами видели
двух детей боярских, [так стегавших друг друга] при въез-
де турецкого посла.
356
При вспышках гнева и при ругани они не пользуются
слишком, к сожалению, у нас распространенными про-
клятиями и пожеланиями с именованием священных пред-
метов, посылкою к черту, руганием «негодяем» и т. п.
Вместо этого у них употребительны многие постыдные,
гнусные слова и насмешки. В последнее время эти пороч-
ные и гнусные проклятия и брань были сурово и строго
воспрещены публично оповещенным указом, даже под
угрозою кнута; назначенные тайно лица должны были по
временам на переулках и рынках мешаться в толпу наро-
да, а отряженные им на помощь стрельцы и палачи долж-
ны были хватать ругателей и на месте же, для публичного
позорища, наказывать их.
Однако это давно привычная и слишком глубоко уко-
ренившаяся ругань требовала тут и там больше надзора,
чем можно было иметь и доставляла наблюдателям, судь-
ям и палачам столько невыносимый работы, то им надо-
ело как следить за тем, чего они сами не могли испол-
нить, так и наказывать преступников.
Чтобы, однако, брань, ругань и бесчестье не могли
совершаться, без различия, по отношению к незнатным
и знатным людям, начальство распорядилось так, чтобы
тот, кто ударит или иначе обесчестит знатного человека
или жену его или великокняжеского слугу — русские ли
они или иностранцы, обязан заплатить крупный денеж-
ный штраф, о котором говорится: «заплатить бесчестье».
Сумма подобного штрафа исчисляется, смотря по каче-
ству, достоинству или званию чьему-либо и называется
«окладом». Сообразно особому цензу каждому назначен
свой оклад. Например, боярину, смотря по его происхож-
дению и важности положения его, платится, одному, по-
жалуй, 2 000, другому — 1 600, третьему — 1 000 талеров и
менее. Царскому слуге платится, смотря по его годовому
жалованью. Если у преступника нет возможности деньга-
ми или имуществом или всем, что у него есть, заплатить
за бесчестье, то он выдается сам головою на дом оскорб-
ленному, и тот может поступить с ним, как ему будет
угодно. В таких случаях часто преступника превращают в
крепостного или же велят его публично бить кнутом.
357
Этот способ обращения с ругателями и бесчестящи-
ми людьми предоставляется как немцам и другим иност-
ранцам, так и русским; он, однако, очень распространен
среди русских и реже встречается среди иностранцев.
Искать у русских большой вежливости и добрых нра-
вов нечего: и та и другие не очень-то заметны. Они не
стесняются во всеуслышание и так, чтобы было заметно
всем, проявлять действие пищи после еды и кверху и книзу.
Так как они едят много чесноку и луку, то непривычному
довольно трудно приходится в их присутствии. Они потя-
гивались и рыгали — может быть, против воли этих доб-
рых людей — и на предшествовавших тайных аудиенциях
с нами.
Так как они несведущи в хвальных науках, не очень
интересуются достопамятными событиями и историею
отцов и дедов своих и вовсе не стремятся к знакомству с
качествами чужих наций, то в сходбищах их ни о чем по-
добном и не приходится слышать. Не говорю я при этом,
однако, о пиршествах у знатнейших бояр. Большею час-
тью их разговоры направлены в ту сторону, куда устрем-
Увеселения русского народа
358
ляют их природа и низменный образ жизни: говорят они
о разврате, о гнусных пороках, о неприличностях и без-
нравственных поступках, частью ими самими, частью дру-
гими совершенных. Они рассказывают разные постыдные
басни, и кто при этом в состоянии отмочить самые гру-
бые похабности и неприличности, притом с самой легко-
мысленною мимикою, тот считается лучшим и приятней-
шим собеседником. То же направление имеют и их танцы,
часто сопровождаемые неприличными телодвижениями.
Говорят, что иногда бродячие комедианты, танцуя, от-
крывают зад.
Порок пьянства так распространен у этого народа во
всех сословиях, как у духовных, так и у светских лиц, у
высоких и низких, мужчин и женщин, молодых и старых,
что, если на улицах видишь лежащих там и валяющихся в
грязи пьяных, то не обращаешь внимания; до того все это
обыденно. Если какой-либо возчик встречает подобных
пьяных свиней, ему лично известных, то он их кидает в
свою повозку и везет домой, где получает плату за проезд.
Никто из них никогда не упустит случая, чтобы выпить
Попойка
359
или хорошенько напиться, когда бы, где бы и при каких
обстоятельствах это ни было; пьют при этом чаще всего
водку. Поэтому и при приходе в гости и при свиданиях
первым знаком почета, который кому-либо оказывается,
является то, что ему подносят одну или несколько «чарок
вина», т. е. водки; при этом простой народ, рабы и кресть-
яне до того твердо соблюдают обычай, что если такой че-
ловек получит из рук знатного чарку и в третий, в четвер-
тый раз и еше чаше, он продолжает выпивать их в твердой
уверенности, что он не смеет отказаться, — пока не упа-
дет на землю и — в иных случаях — не испустит душу
вместе с выпивкою; подобного рода случаи встречались и
в наше время, так как наши люди очень уже щедры были
с русскими и их усиленно потчевали. Не только простона-
родье, говорю я, но и знатные вельможи, даже царские
великие послы, которые должны бы были соблюдать вы-
сокую честь своего государя в чужих странах, не знают
меры, когда перед ними ставятся крепкие напитки; на-
против, если напиток хоть сколько-нибудь им нравится,
они льют его в себя как воду до тех пор, пока не начнут
вести себя подобно лишенным разума и пока их не под-
нимешь порою уже мертвыми. Подобного рода случай про-
изошел в 1608 г. с великим послом, который отправлен
был к его величеству королю Шведскому Карлу IX. Он так
напился самой крепкой водки — несмотря на то, что его
предупреждали о ее огненной силе, — что в тот день, ког-
да его нужно было вести к аудиенции, оказался мертвым
в постели.
В наше время повсеместно находились открытые ка-
баки и шинки, в которые каждый, кто бы ни захотел, мог
зайти и пить за свои деньги. Тогда простонародье несло в
кабаки все, что у него было, и сидело в них до тех пор,
пока, после опорожнения кошелька, и одежда и даже со-
рочки снимались и отдавались хозяину; после этого го-
лые, в чем мать родила, отправлялись домой. Правда, в
последнее время такие простонародные кабаки, принад-
лежавшие частью царю, частью боярам, упразднены, по-
тому что они отвлекали людей от работы и давали только
возможность пропивать заработанные деньги; теперь ник-
360
то уже не может получить за 2 или 3 копейки, шиллинга
или гроша — водки. Вместо этого его царское величество
велел устроить в каждом городе лишь один кружечный
двор или дом, откуда вино выдается только кружками или
целыми кувшинами, для заведывания дворами поставле-
ны лица, принесшие особую присягу и ежегодно достав-
ляющие невероятную сумму денег в казну его царского
величества. Ежедневного пьянства, однако, эта мера по-
чти не прекратила, так как несколько соседей складыва-
ются, посылают за кувшином или более и расходятся не
раньше, как выпьют все до дна; при этом часто они пада-
ют один рядом с другим. Некоторые также закупают в боль-
ших количествах, а от себя тайно продают в чарках. По-
этому, правда, уже не видно такого количества голых, но
бродят и валяются немногим меньше пьяных.
Женщины не считают для себя стыдом напиваться и
падать рядом с мужчинами. Какая опасность и какое кру-
шение при подобных обстоятельствах жизни претерпева-
ются честью и целомудрием, легко себе представить.
Я сказал, что духовные лица не стремятся к тому,
чтобы быть свободными от этого порока. Так же легко встре-
тить пьяного попа и монаха, как и пьяного мужика. Хотя
ни в одном монастыре не пьют ни вина, ни водки, ни
меда, ни крепкого пива, а пьют лишь квас, т. е. слабое
пиво, или кофент, тем не менее монахи, выходя из мона-
стырей и находясь в гостях у добрых друзей, считают себя
в праве не только не отказываться от хорошей выпивки,
но даже и сами требуют таковой и жадно пьют, наслажда-
ясь этим до того, что их только по одежде можно отличить
от пьяниц мирян.
Они также являются большими любителями табаку и
некоторое время тому назад всякий носил его при себе:
бедный простолюдин столь же охотно отдавал свою ко-
пейку за табак, как и за хлеб. Когда, однако, увидели, что
отсюда для людей не только не получалось никакой пользы,
но, напротив, проистекал вред (на употребление табаку
не только у простонародья, но и у слуг и рабов уходило
много времени, нужного для работы; к тому же, при не-
внимательном отношении к огню и искрам, многие дома
361
сгорали, а при богослужении в церквах перед иконами,
которые должно было чтить лишь ладаном и благовонны-
ми веществами, поднимался дурной запах), то, по пред-
ложению патриарха, великий князь в 1634 г., наряду с
частными корчмами для продажи водки и пива, совер-
шенно запретил и торговлю табаком и употребление его.
Преступники наказываются весьма сильно, а именно —
расщеплением носа [вырыванием ноздрей] и кнутом. Сле-
ды подобного рода наказания мы видели и на мужчинах и
на женщинах.
Подобно тому, как русские по природе жестокосер-
ды и как бы рождены для рабства, их и приходится дер-
жать постоянно под жестоким и суровым ярмом и при-
нуждением и постоянно понуждать к работе, прибегая к
побоям и бичам. Никакого недовольства они при этом не
выказывают, так как положение их требует подобного с
ними обхождения и они к нему привыкли. Молодые люди
и подростки иными днями сходятся, принимаются друг
за друга и упражняются в битье, чтобы превратить его в
привычку, являющуюся второй натурою, и потом легче
переносить побои.
Рабами и крепостными являются все они. Обычай и
нрав их таков, что перед иным человеком они унижают-
ся, проявляют свою рабскую душу, земно кланяются знат-
ным людям, низко нагибая голову — вплоть до самой зем-
ли и бросаясь даже к ногам их; в обычае их также
благодарить за побои и наказание. Подобно тому, как все
подданные высокого и низкого звания называются и дол-
жны считаться царскими «холопами», то есть рабами и
крепостными, также точно и у вельмож и знатных людей
имеются свои рабы и крепостные работники и крестьяне.
Князья и вельможи обязаны проявлять свое рабство и нич-
тожество перед царем еще и в том, что они в письмах и
челобитных должны подписываться уменьшительным име-
нем, то есть, например, писать «Ивашка», а не Иван,
или «Петрушка, твой холоп». Когда и великий князь к кому-
либо обращается, он пользуется такими уменьшительны-
ми именами. Впрочем, и за преступления вельможам на-
значаются столь варварские наказания, что по ним можно
362
судить о их рабстве. Поэтому русские и говорят: «Все, что
у нас есть, принадлежит Богу и Великому князю».
Иностранцы, находящиеся на службе у великого кня-
зя, должны унижаться таким же образом и ожидать всех
сопряженных с этим приятностей и неприятностей. Хотя
царь и относится весьма милостиво к наиболее видным из
них, однако совершить проступок и впасть в немилость
весьма легко.
Раньше было весьма опасно быть великокняжеским
лейб-медиком, так как в случае, когда данное лекарство
не производило желательного действия или когда паци-
ент помирал во время лечения, врачи подвергались силь-
нейшей немилости, и с ними обходились как с рабами.
Известна история о великом князе Борисе Годунове и его
врачах. Когда в 1602 г. герцог Иоанн, брат Христиана IV,
короля датского, приехал для женитьбы на дочери Вели-
кого князя и внезапно заболел, великий князь с жестоки-
ми угрозами потребовал, чтобы врачи показали лучшее
свое искусство на герцоге и не дали ему помереть. Когда,
однако, никакое лекарство не могло помочь и герцог умер,
врачам пришлось прятаться и не показываться в течение
долгого времени.
Что касается рабов и слуг вельмож и иных господ, то
их бесчисленное количество; у иного в именье или на дворе
их имеется более 50 и даже 100. Находящихся в Москве,
большею частью, не кормят во дворах, но дают им на
руки харчевые деньги, правда, столь незначительные, что
на них трудно поддержать жизнь; поэтому-то в Москве
так много воров и убийц. В наше время не проходило по-
чти ни одной ночи, чтобы не было где-либо кражи со
взломом. При этом часто хозяина загораживают какими-
нибудь вещами в комнате, и ему приходится оставаться
спокойным зрителем, если он недостаточно силен, чтобы
справиться с ворами, не желает подвергать опасности
жизнь и видеть свой дом зажженным над собственною
головою. Поэтому-то на дворах знатных людей нанимают
особых стражников, которые ежечасно должны подавать
о себе знать, ударяя палками в подвешенную доску, вро-
де как в барабан, и отбивая часы. Так как, однако, часто
363
случалось, что подобные стражники сторожили не столько
для господ, сколько для воров, устраивали для этих пос-
ледних безопасный путь, помогали воровать и убегали, то
теперь не нанимают никого ни в стражники, ни в прислу-
ги (ведь, помимо рабов, имеются еще наемные слуги),
без представления известных и достаточных местных обы-
вателей поручителями. Подобного рода многократно упо-
мянутые рабы в особенности в Москве сильно нарушают
безопасность на улицах, и без хорошего ружья и спутни-
ков нельзя избегнуть нападений.
В тех случаях, когда подобных господ рабы и крепост-
ные слуги, вследствие смерти или милосердия своих гос-
под, получают свободу, они вскоре опять продают себя
вновь. Так как у них нет больше ничего, чем бы они могли
поддерживать свою жизнь, они и не ценят свободы, да и
не умеют ею пользоваться.
Господин имеет полное право продавать или дарить
своих рабов другому. Но в отношении отцов и детей к
рабству замечается следующее положение. Ни один отец
не имеет права продать своего сына. Никто, впрочем,
этого и не делает, и даже неохотно отдают сына в услу-
жение к какому-либо частному человеку, хотя бы и в
том случае, когда отец и сын вместе голодают дома; де-
лается это и из великодушия и потому, что подобную
сделку считают позорною. Когда, однако, кто-либо впа-
дет в долги и не в состоянии платить их, то он в праве
отдать детей в залог или же отдать их в услужение заимо-
давцу, для уплаты долга, на известное число лет: сына за
10 рейхсталеров, а дочь за 8 рейхсталеров в год, до тех
пор, пока они не отслужат долга; по покрытии долга,
заимодавец должен их вновь отпустить на волю. Если сын
или дочь не согласны поступить так, и отца призовут в
суд, а он окажется несостоятельным должником, то, по
русскому праву, дети должны заплатить долги родителей.
В этом случае детям предоставляется подать на себя каба-
лу или запись об обязательстве быть крепостными и слу-
жить заимодавцу отца.
Вследствие рабства и грубой суровой жизни русские
тем более охотно идут на войну и действуют в ней. Иног-
364
да — если до того доведется — они являются храбрыми и
смелыми солдатами.
Русские рабы стойко выдерживают у своих господ и
начальников войска, и если у них оказываются хорошие
испытанные иностранцы-полковники и вожди (в чем у
этих людей недостаток), то они доказывают большое му-
жество и смелость, но пригодны они гораздо более в кре-
постях, чем в поле.
Но, в открытых боях и при осаде городов и крепос-
тей, русские, хотя и делают, что от них требуется, но не
так успешно: обыкновенно они терпели неудачи в столк-
новениях с поляками, литовцами и шведами и иногда
оказывались скорее готовыми к бегству, чем к преследо-
ванию врага. То обстоятельство, что они заняли в минув-
шем году город Смоленск с войском, простиравшимся
более чем за 200000 человек, столь же мало может быть
засчитано им к высокой храбрости, как в 1632 г. их, с
большими потерями и позором, совершенное отступле-
ние может быть сочтено за признак отсутствия у них доб-
лести. Ведь оба раза, как кажется, случились обстоятель-
ства подозрительного свойства. В первый раз дело было в
генерале Шеине, а в настоящее время были какие-то дру-
гие, раньше не известные, чуждые причины.
Правда, русские, в особенности из простонародья, в
рабстве своем и под тяжким ярмом, из любви к властителю
своему, могут многое перенести и перестрадать, но если
при этом мера оказывается превзойденною, то и про
них можно сказать: «patientia saepe aesa fit tandem furor»
(когда часто испытывают терпение, то, в конце кон-
цов, получается бешенство). В таких случаях дело конча-
ется опасным мятежом, причем опасность обращается
не столько против главы государства, сколько против
низших властей, особенно если жители испытывают
сильные притеснения со стороны своих сограждан и не
находят у властей защиты. Если они раз уже возмуще-
ны, то их нелегко успокоить: не обращая внимания ни
на какие опасности, отсюда проистекающие, они обра-
щаются к разным насилиям и буйствуют, как лишив-
шиеся ума.
365
Относительно того, как нрав русских сначала оказы-
вается очень терпеливым, а потом ожесточается и перехо-
дит к мятежу, мы ниже, при описании их полицейского
устройства, поясним примером двух страшных мятежей и
бунтов, бывших в России немного лет тому назад.
О домашнем хозяйстве русских, их
обыденной жизни, кушаньях и развлечениях
Домашнее хозяйство русских устроено в различном
вкусе у людей различных состояний. В общем они живут
плохо, и у них немного уходит денег на их хозяйство. Вель-
можи и богатые купцы, правда, живут теперь в своих до-
рогих дворцах, которые, однако, построены лишь в тече-
ние последних 30 лет; раньше и они довольствовались
плохими домами. Большинство, в особенности простона-
родье, проживают весьма не много. Подобно тому, как
живут они в плохих, дешевых помещениях (как выше ука-
зано), так же точно и внутри зданий встречается мало, —
но для них достаточно, — запасов и утвари. У большинства
не более 3 или 4 глиняных горшков и столько же глиня-
ных и деревянных блюд. Мало видать оловянной и еще
меньше серебряной посуды — разве чарки для водки и
меду. Не привыкли они также прилагать много труда к
чистке и полировке своей посуды. Даже великокняжеские
серебряные и оловянные сосуды, из которых угощали
послов, были черные и противные на вид, точно кружки
у некоторых ленивых хозяек, немытые с год или более
того. Поэтому-то ни в одном доме, ни у богатых, ни у
бедных людей, незаметно украшения в виде расставлен-
ной посуды, но везде лишь голые стены, которые у знат-
ных завешаны циновками и заставлены иконами. У очень
немногих из них имеются перины; лежат они поэтому на
мягких подстилках, на соломе, на циновках или на соб-
ственной одежде. Спят они на лавках, а зимою, на печи,
которая устроена, как у пекарей, и сверху плоска. Тут ле-
жат рядом мужчины, женщины, дети, слуги и служанки.
366
Под печами и лавками мы у некоторых встречали кур и
свиней.
Не привычны они и к нежным кушаньям и лаком-
ствам. Ежедневная пища их состоит из крупы, репы, ка-
пусты, огурцов, рыбы свежей или соленой — впрочем, в
Москве преобладает грубая соленая рыба, которая иног-
да, из-за экономии в соли, сильно пахнет; тем не менее,
они охотно едят ее. Их рыбный рынок можно узнать по
запаху раньше, чем его увидииЛ или вступишь в него. Из-
за великолепных пастбищ у них имеются хорошие бара-
нина, говядина и свинина, но так как они, по религии
своей, имеют почти столько же постных дней, сколько
дней мясоеда, то они и привыкли к грубой и плохой пище,
и тем менее на подобные вещи тратятся. Они умеют из
рыбы, печенья и овощей приготовлять многие разнооб-
разные кушанья, так что ради них можно забыть мясо.
Между прочим, у них имеется особый вид печенья, вроде
паштета или скорее пфанкухена, называемый ими «пиро-
гом»; эти пироги величиною с клин масла, но несколько
более продолговаты. Они дают им начинку из мелкоиз-
рубленной рыбы или мяса и луку и пекут их в коровьем, а
в посту в растительном масле, вкус их не без приятности.
Этим кушаньем у них каждый угощает своего гостя, если
он имеет в виду хорошо его принять.
Есть у них весьма обыкновенная еда, которую они
называют «икрою»: она приготовляется из икры больших
рыб, особенно из осетровой или от белорыбицы. Они от-
бивают икру от прилегающей к ней кожицы, солят ее, и
после того, как она постояла в таком виде 6 или 8 дней,
мешают ее с перцем и мелконарезанными луковицами,
затем некоторые добавляют еще сюда уксусу и деревян-
ного масла и подают. Это неплохое кушанье; если, вместо
уксусу, полить его лимонным соком, то оно дает — как
говорят — хороший аппетит и имеет силу, возбуждающую
естество. Этой икры солится больше всего на Волге у Ас-
трахани; частью ее сушат на солнце. Ею наполняют до 100
бочек и рассылают ее затем в другие земли, преимуще-
ственно в Италию, где она считается деликатесом и на-
зывается Caviaro. Имеются люди, которые должны арен-
367
довать этот промысел у великого князя за известную сум-
му денег. Русские умеют также приготовлять особую пищу
на то время, когда они «с похмелья» или чувствуют себя
нехорошо. Они разрезают жареную баранину, когда та ос-
тыла, в небольшие ломтики, вроде игральных костей, но
только тоньше и шире их, смешивают их со столь же мел-
ко нарезанными огурцами и перцем, вливают сюда смесь
уксусу и огуречного рассола в равных долях и едят это
кушанье ложками. После этбго вновь с охотою можно пить.
Обыкновенно кушанья у них приготовляются с чесноком
и луком: поэтому все их комнаты и дома, в том числе и
великолепные покои великокняжеского дворца в Крем-
ле, и даже сами русские (как это можно заметить при
разговоре с ними), а также и все места, где они хоть не-
много побывают, пропитываются запахом, противным для
нас, немцев.
Для питья у простонародья служит квас, который
можно сравнивать с нашим слабым пивом или кофентом,
а также пиво, мед и водка. Водка у всех обязательно слу-
жит началом обеда, а затем во время еды подаются и дру-
гие напитки. У самых знатных лиц, наравне с хорошим
пивом, подаются за столом также испанское, ренское и
французское вино, разных родов меды и двойная водка.
У них имеется и хорошее пиво, которое в особеннос-
ти немцы у них умеют очень хорошо варить и заготовлять
весною. У них устроены приспособленные для этой цели
ледники, в которых они снизу кладут снег и лед, а поверх
их ряд бочек, затем опять слой снега и опять бочки, и т. д.
Потом все сверху закрывается соломою и досками, так
как у ледника нет крыши. Для пользования они постепен-
но отрывают одну бочку за другою. Вследствие этого они
имеют возможность получать пиво в течение всего лета —
у них довольно жаркого — свежим и вкусным. Вино полу-
чают они через Архангельск в свою страну; русские, пред-
почитающие хорошую водку, любят его гораздо меньше,
чем немцы.
Великолепный и очень вкусный мед они варят из
малины, ежевики, вишен и др. Малинный мед казался
нам приятнее всех других по своему запаху и вкусу. Меня
368
учили варить его следующим образом: прежде всего, спе-
лая малина кладется в бочку, на нее наливают воды и
оставляют в таком состоянии день или два, пока вкус и
краска не перейдут с малины на воду; затем эту воду сли-
вают с малины и примешивают к ней чистого (или отде-
ленного от воска) пчелиного меду, считая на кувшин
пчелиного меду 2 или 3 кувшина водки, смотря по тому,
предпочитают ли сладкий или крепкий мед. Затем броса-
ют сюда кусочек поджаренного хлеба, на который нама-
зано немного нижних или верховых дрожжей; когда нач-
нется брожение, хлеб вынимают, чтобы мед не получил
его вкуса, а затем дают бродить еще 4 или 5 дней. Некото-
рые, желая придать меду вкус и запах пряностей, вешают
[в бочку] завернутые в лоскуток материи гвоздику, карда-
мон и корицу. Когда мед стоит в теплом месте, то он не
перестает бродить даже и через 8 дней; поэтому необходи-
мо переставить бочку, после того как мед уже бродил из-
вестное время, в холодное место и оттянуть его от дрож-
жей.
Некоторые иногда наливают плохую водку в малину,
затем мешают ее и, дав постоять сутки, сливают настойку
и смешивают ее с медом; говорят, получается при этом
очень приятный напиток. Так как водка теряет свое дей-
ствие и смешивается с малинным соком, то, как гово-
рят, ее вкус уже более не ощущается в этом напитке.
Иногда они устраивают пиршества, во время кото-
рых проявляют свое великолепие в кушаньях и напитках
множества родов. Когда, впрочем, вельможи устраивают
пиршества и приглашают лиц, стоящих ниже, чем они
сами, то, несомненно, преследуются иные цели, чем доб-
рое единение: это хлебосольство должно служить удочкою,
при помощи которой они больше приобретают, чем за-
трачивают. Дело в том, что у них существует обычай, что-
бы гости приносили такого рода хозяевам великолепные
подношения. В прежние годы немецкие купцы, удостаи-
вавшиеся подобного внимания и приглашавшиеся к ним,
уже заранее знали, во что им обойдется подобная честь.
Говорят, что воеводы в городах — особенно в местах, где
идет оживленная торговля, — выказывают раз, два или
369
три в год подобного рода щедрость и хлебосольство, при-
глашая к себе богатых купцов.
Величайший знак почета и дружбы, ими оказывае-
мый гостю на пиршестве или во время отдельных визитов
и посещений, в доказательство того, как ему рады и как
он был мил и приятен, — заключается, по их мнению, в
следующем: после угощения русский велит своей жене,
пышно одетой, выйти к гостю и, пригубив чарку водки,
собственноручно подать ее гостю. Иногда — в знак особого
расположения к гостю — при этом разрешается поцело-
вать ее в уста.
Бояре и вельможи несут, правда, большие расходы,
для поддержания пышности своей и своего обширного
хозяйства, но за то у них, наряду с их большим жалова-
ньем, имеются дорогие именья и крестьяне, доставляю-
щие им большие ежегодные доходы. Купцы и ремеслен-
ники питаются и получают ежедневный заработок от своих
промыслов. Торговцы хитры и падки на наживу. Внутри
страны они торгуют всевозможными необходимыми в обы-
денной жизни товарами. Те же, которые с соизволения
его царского величества путешествуют по соседним стра-
нам, как-то: по Лифляндии, Швеции, Польше и Пер-
сии, торгуют, большею частью, соболями и другими ме-
хами, льном, коноплею и юфтью. Они обыкновенно
покупают у английских купцов, ведущих большой торг в
Москве, сукно, по 4 талера за локоть, и перепродают тот
же локоть за 3 1/2 или 3 талера и все-таки не остаются без
барыша. Делается это таким образом: они за эту цену по-
купают один или несколько кусков сукна с тем, чтобы
произвести расплату через полгода или год, затем идут и
продают его лавочникам, вымеривающим его по локтям,
за наличные деньги, которые они потом помещают в дру-
гих товарах. Таким образом они могут с течением времени
с барышом три раза или более совершить оборот своими
деньгами.
Ремесленники, которым немного требуется для их
плохой жизни, тем легче могут трудами рук своих добыть
себе в такой большой общине денег на пищу и чарку вод-
ки и пропитать себя и своих родных. Они очень восприим-
370
чивы, умеют подражать тому, что они видят у немцев, и,
действительно, в немного лет высмотрели и переняли у
них многое, чего они раньше не знавали. Выработанные
подобным [усовершенствованным] путем товары они про-
дают по более дорогой цене, чем раньше. В особенности
изумлялся я золотых дел мастерам, которые теперь умеют
чеканить серебряную посуду такую же глубокую и высо-
кую и почти столь же хорошо сформованную, как у любо-
го немца.
Русские люди высокого и низкого звания привыкли
отдыхать и спать после еды в полдень. Поэтому большин-
ство лучших лавок в полдень закрыты, а сами лавочники
и мальчики их лежат и спят перед лавками. В то же время,
из-за полуденного отдыха, нельзя говорить ни с кем из
вельмож и купцов.
На этом основании русские и заметили, что Лжед-
митрий не русский по рождению и не сын Великого кня-
зя, так как он не спал в полдень, как другие русские. Это
же вывели они из того обстоятельства, что он не ходил,
по русскому обычаю, часто в баню. Омовению русские
придают очень большое значение, считая его, особенно
во время свадеб, после первой ночи, за необходимое дело.
Поэтому у них и в городах и в деревнях много открытых и
тайных бань, в которых их очень часто можно застать.
В Астрахани я, чтобы видеть лично, как они моются,
незамеченным образом отправился в их баню. Баня была
разгорожена бревнами, чтобы мужчины и женщины мог-
ли сидеть отдельно. Однако входили и выходили они через
одну и ту же дверь, притом без передников; только неко-
торые держали спереди березовый веник до тех пор, пока
не усаживались на место. Иные не делали и этого. Женщи-
ны иногда выходили без стеснения голые — поговорить со
своими мужьями.
Они в состоянии переносить сильный жар, лежать на
полке и вениками нагоняют жар на свое тело или трутся
ими (это для меня было невыносимо). Когда они совер-
шенно покраснеют и ослабнут от жары до того, что не
могут более вынести в бане, то и женщины и мужчины
голые выбегают, окачиваются холодною водой, а зимою
371
валяются в снегу и трут им, точно мылом, свою кожу, а
потом опять бегут в горячую баню. Так как бани обыкно-
венно устраиваются у воды и у рек, то они из горячей
бани устремляются в холодную. И если иногда какой-либо
немецкий парень прыгал в воду, чтобы купаться вместе с
женщинами, то они вовсе не казались столь обиженны-
ми, чтобы в гневе, подобно Диане с ее подругами, пре-
вратить его водяными брызгами в оленя, — даже если бы
это и было в их силах.
Подобного рода мытье видели мы не только в Рос-
сии, но и в Лифляндии и Ингерманландии; и здесь про-
стой люд, в особенности финны, в суровейшее зимнее
время, выбегали из бань на улицу, терлись снегом, а за-
тем опять убегали греться. Такого рода быстрая смена жары
и холода не была им во вред, так как они уже от юности
приучали к ней свою природу. Поэтому-то финны и латы-
ши, так же как и русские, являются людьми сильными и
выносливыми, хорошо переносящими холод и жару.
В Нарве я с удивлением видел, как русские и финские
мальчики лет 8, 9 или 10, в тонких простых холщевых каф-
танах, босоногие, точно гуси, с полчаса ходили и стояли
на снегу, как будто не замечая нестерпимого мороза.
В России вообще народ здоровый и долговечный. Не-
домогает он редко, и если приходится кому слечь в по-
стель, то среди простого народа лучшими лекарствами,
даже в случае лихорадки с жаром, являются водка и чес-
нок. Впрочем, знатные господа теперь иногда обращаются
к совету немецких докторов и к настоящим лекарствам.
Встречали мы, кроме того, в Москве у немцев, рав-
но как и у лифляндцев, хорошие бани, устроенные в до-
мах. В этих банях устроены сводчатые каменные печи, в
которых на высокой решетке помещается много камней.
Из такой печи идет отверстие в баню, которое они закры-
вают крышкою и коровьим навозом или глиною. Снаружи
имеется другое отверстие — поменьше первого — для вы-
хода дыма. Когда камни достаточно накалятся, открыва-
ется внутреннее отверстие, а внешнее закрывается, и со-
образно тому, сколько требуется жара, наливают на камни
воды, иногда настоянной на добрых травах. В банях по сте-
372
нам кругом устроены лавки для потенья и мытья — одна
выше другой, — покрытые кусками холста или тюфяка-
ми, набитыми сеном, осыпанные цветами и разными бла-
говонными травами, которыми утыканы и окна. На полу
лежит мелко изрубленный и раздавленный ельник, даю-
щий очень приятный запах и доставляющий [большое]
удовольствие. Для мытья отряжают женщину или девицу.
Если у кого в гостях моется близко знакомый и любезный
приятель, то к нему относятся очень внимательно, уха-
живают за ним и берегут его. Хозяйка или дочь ее прино-
сит или присылает обыкновенно в баню несколько кус-
ков редьки с солью, а также хорошо приготовленный
прохладительный напиток. Большой погрешностью или
знаком дурного приема считают, если это не делается.
После бани они также доставляют своему гостю, сообраз-
но с тем, как он этого достоин, всяческое приличествую-
щее удовольствие угощением.
Такого честного доброжелательства и такой чистоты,
однако, нечего искать у спесивых, корыстных и грязных
русских, у которых все делается по-свински и неопрятно.
О браках русских и о том,
как они справляют свадьбу
Хотя греховная Венерина игра у русских очень рас-
пространена, тем не менее у них не устраиваются публич-
ные дома с блудницами, от которых, как то, например, к
сожалению, водится в Персии и некоторых иных странах,
власти получают известный доход.
У них имеется правильный брак, и каждому разреша-
ется иметь только одну жену. Если жена у него помрет, он
имеет право жениться вторично и даже в третий раз, но в
четвертый раз уже ему не дают разрешения. Если же свя-
щенник повенчает таких людей [не имеющих права же-
ниться], то он лишается права совершать служение. Их
священники, служащие у алтаря, должны непременно уже
находиться в браке, и если у такого священника жена
373
помрет, он уже не смеет жениться вновь, разве только он
откажется от своего священнического сана, снимет свой
головной убор и займется торговлею или другим промыс-
лом. При женитьбах они также принимают в расчет сте-
пень кровного родства и не вступают в брак с близкими
родственниками по крови, охотно избегают и браков со
всякими свойственниками и даже не желают допустить,
чтобы два брата женились на двух сестрах или чтобы всту-
пали в брак лица, бывшие восприемниками при креще-
нии того же дитяти. Они венчаются в открытых церквах с
особыми церемониями и во время брака соблюдают тако-
го рода обычаи.
Молодым людям и девицам не разрешается само-
стоятельно знакомиться, еще того менее говорить друг с
другом о брачном деле или совершать помолвку. Напро-
тив, родители, имеющие взрослых детей и желающие по-
брачить их — в большинстве случаев, отцы девиц — идут
к тем, кто, по их мнению, более всего подходят к их
детям, говорят или с ними самими или же с их родите-
лями и друзьями и выказывают свое расположение, по-
желание и мнение по поводу брака их детей. Если пред-
ложение понравится и пожелают увидеть дочь, то в этом
не бывает отказа, особенно если девица красива; мать
или приятельница жениха получают позволение посмот-
реть на нее. Если на ней не окажется никакого видимого
недостатка, т. е. если она не слепа и не хрома, то между
родителями и друзьями начинаются уже решительные
переговоры о «приданом», как у них говорят, и о заклю-
чении брака.
Обыкновенно, все сколько-нибудь знатные люди вос-
питывают дочерей своих в закрытых покоях, скрывают их
от людей, и жених видит невесту не раньше, как получив
ее к себе в брачный покой. Поэтому иного обманывают и,
вместо красивой невесты, дают ему безобразную и боль-
ную, иногда же, вместо дочери, какую-либо подругу ее
или даже служанку. Там известны такие примеры у высо-
ких лиц, и поэтому нельзя удивляться, что часто муж и
жена живут как кошка с собакою, и битье жен в России
вещь обычная.
374
Их свадьба и привод невесты в дом совершаются с
особою пышностью. У знатных князей, бояр и их детей
происходят они со следующими церемониями.
Со стороны невесты и жениха отряжаются две жен-
щины, называемые у них «свахами»; они как бы ключни-
цы, которые должны в брачном доме то и иное устроить.
«Сваха» невесты в день свадьбы устраивает брачную по-
стель в доме жениха. С нею отправляются около ста слуг в
одних кафтанах, неся на головах вещи, относящиеся к
брачной постели и к украшению брачной комнаты. При-
готовляется брачная постель на 40 сложенных рядом и
переплетенных ржаных снопах. Жених должен был зара-
нее распорядиться сложить в комнате эти снопы и поста-
вить рядом с ними несколько сосудов или бочек, полных
пшеницы, ячменя и овса. Эти вещи должны иметь доброе
предзнаменование и помогать тому, чтобы у брачущихся
в супружеской жизни было изобилие пищи и жизненных
припасов.
После того как, за день, все приведено в готовность
и порядок, поздно вечером жених со всеми своими друзь-
ями отправляется в дом невесты, причем спереди едет
верхом поп, который должен совершить венчание. Друзья
невесты в это время собраны и любезно принимают же-
ниха с его провожатыми. Лучшие и ближайшие друзья
жениха приглашаются к столу, на котором поставлены
3 кушанья, но никто до них не дотрагивается. Вверху сто-
ла для жениха, пока он стоит и говорит с друзьями неве-
сты, оставляется место, на которое садится мальчик; по-
мощью подарка жених должен опять освободить себе это
место. Когда жених усядется, рядом с ним усаживается
закутанная невеста, в великолепных одеждах, и, чтобы
они не могли видеть друг друга, между ними обоими про-
тягивается и держится двумя мальчиками кусок красной
тафты. Затем приходит сваха невесты, чешет волосы неве-
сты, выпущенные наружу, заплетает ей две косы, надева-
ет ей корону с другими украшениями и оставляет ее си-
деть теперь с открытым лицом. Корона приготовлена из
тонко выкованной золотой или серебряной жести, на ма-
терчатой подкладке; около ушей, где корона несколько
375
согнута вниз, свисают четыре, шесть или более ниток
крупного жемчуга, опускающихся значительно ниже гру-
дей. Ее верхнее платье спереди, сверху вниз, и вокруг ру-
кавов (которые шириною с 3 аршина или локтя), равно
как и ворот ее платья (он шириною с 3 пальца и туго, не
без сходства с собачьим ошейником, охватывает горло)
густо обсажены крупным жемчугом; такое платье стоит
гораздо более тысячи талеров.
Сваха чешет и жениха. Тем временем женщины ста-
новятся на скамейки и поют разные неприличности. За-
тем приходят два молодых человека, очень красиво оде-
тых; они приносят на носилках очень большой круг сыру
и несколько хлебов; все это увешано отовсюду соболями.
Этих людей, которые также приходят из дома невесты,
зовут коровайниками. Поп благословляет их, а также сыр
и хлеб, которые затем уносятся в церковь. Потом прино-
сят большое серебряное блюдо, на котором лежат: четы-
рехугольные кусочки атласной тафты — сколько нужно
для небольшого кошеля, затем плоские четырехугольные
кусочки серебра, хмель, ячмень, овес — все вперемежку.
Блюдо ставится на стол. Затем приходит одна из свах, снова
закрывает невесту и с блюда осыпает всех бояр и мужчин;
кто желает, может подбирать кусочки атласу и серебра. В
это время поют песню. Потом встают отцы жениха и неве-
сты и меняют кольца у брачущихся.
После этих церемоний сваха ведет невесту, усажива-
ет ее в сани и увозит ее с закрытым лицом в церковь.
Лошадь перед санями у шеи и под дугою увешана многи-
ми лисьими хвостами. Жених немедленно позади следует
со всеми друзьями и попами. Иногда оказывается, что поп
уже успел столько вкусить от свадебных напитков, что его
приходится поддерживать, чтобы он не упал на пути с
лошади, а в церкви при совершении богослужения. Рядом
с санями идут некоторые добрые друзья и много рабов.
Тут говорят грубейшие неприличности.
В церкви большая часть пола в том месте, где совер-
шается венчание, покрыта красной тафтою, причем по-
стлан еще особый кусок, на который должны стать жених
и невеста. Когда венчание начинается, поп прежде всего
376
Свадебный пир
требует себе жертвы, как-то: пирогов, печений и паште-
тов. Затем над головами у жениха и невесты держат боль-
шие иконы и благословляют их. Потом поп берет в свои
руки правую руку жениха и левую руку невесты и спра-
шивает их трижды: «Желают ли они друг друга и хотят ли
они в мире жить друг с другом?» Когда они ответят: «Да»,
он их ведет кругом и поет при этом 128 псалом; они, как
бы танцуя, подпевают его, стих за стихом. После танца он
надевает им на голову красивые венцы. Если они вдовец и
вдова, то венцы кладутся не на голову, а на плечи, и поп
говорит: «Растите и множьтесь». Он соединяет их, говоря:
«Что Бог соединил, того пусть человек не разъединяет», и
т. д. Тем временем все свадебные гости, находящиеся в
церкви, зажигают небольшие восковые свечи, а попу по-
дают деревянную позолоченную чашу или же только стек-
лянную рюмку красного вина: он отпивает немного в честь
брачущихся, а жених и невеста три раза должны выпивать
вино. Затем жених кидает рюмку оземь и, вместе с невес-
тою, растаптывает ее на мелкие части, говоря: «Так да
падут под ноги наши и будуз растоптаны все те, кто по-
377
Венчание
желают вызвать между нами вражду и ненависть». После
этого женщины осыпают их льняным и конопляным се-
менем и желают им счастья; они также теребят и тащат
новобрачную, как бы желая ее отнять у новобрачного, но
оба крепко держатся друг за друга. Покончив с этими це-
ремониями, новобрачный ведет новобрачную к саням, а
сам снова садится на свою лошадь. Рядом с санями несут
шесть восковых свеч, и вновь откалываются грубейшие
шутки.
Прибыв в брачный дом, то есть к новобрачному, го-
сти с новобрачным садятся за стол, едят, пьют и веселят-
ся, новобрачную же немедленно раздевают, вплоть до со-
рочки, и укладывают в постель; новобрачный, только что
начавший есть, отзывается и приглашается к новобрач-
ной. Перед ним идут шесть или восемь мальчиков с горя-
щими факелами. Когда новобрачная узнает о прибытии
новобрачного, она встает с постели, накидывает на себя
шубу, подбитую соболями, и принимает своего возлюб-
ленного, наклоняя голову. Мальчики ставят горящие фа-
378
келы в вышеупомянутые бочки с пшеницею и ячменем,
получают каждый по паре соболей и уходят. Новобрачный
теперь садится за накрытый стол — с новобрачной, кото-
рую он здесь в первый раз видит с открытым лицом. Им
подают кушанья и, между прочим, жареную курицу. Но-
вобрачный рвет ее пополам, и ножку или крылышко, —
что прежде всего отломится, — он бросает за спину; от
остального он вкушает. После еды, которая продолжается
не долго, он ложится с новобрачной в постель. Здесь уже
не остается больше никого, кроме старого слуги, кото-
рый ходит взад и вперед перед комнатою. Тем временем с
обеих сторон родители и друзья занимаются всякими фо-
кусами и чародейством, чтобы ими вызвать счастливую
брачную жизнь новобрачных. Слуга, сторожащий у ком-
наты, должен, время от времени, спрашивать: «Устрои-
лись ли?» Когда новобрачный ответит: «Да», то об этом
сообщается трубачам и литаврщикам, которые уже стоять
наготове, держа все время вверх палки для литавр; они
начинают теперь веселую игру. Вслед затем топят баню, в
которой, немного часов спустя, новобрачный и новобрач-
ная порознь должны мыться. Здесь их обмывают водою,
медом и вином, а затем новобрачный получает от моло-
дой жены своей в подарок купальную сорочку, вышитую
у ворота жемчугом, и новое целое великолепное платье.
Оба следующих дня проводятся в сильной, чрезмер-
ной еде, в питье вина, танцах и всевозможных увеселени-
ях, какие только они в силах выдумать. При этом прибега-
ют они к разнообразной музыке: между прочим пользуются
инструментом, который называют псалтырью; он почти
схож с цымбалами. Его держат на руках и перебирают на
нем руками, как на арфе.
Когда, однако, незнатные или гражданского звания
люди хотят справлять свадьбу, то жених за день до нее
посылает невесте новое платье, шапку и пару сапог, а
также ларчик, в котором находятся румяна, гребень и зер-
кало. На другой день, когда должна состояться свадьба,
приходит поп с серебряным крестом, в сопровождении
двух мальчиков, несущих горящие восковые свечи. Поп
благословляет крестом сначала мальчиков, а затем гостей.
379
Потом невесту и жениха сажают за стол, а между ними
держат красную тафту. Когда затем невеста убрана сва-
хою, она должна прижать свою щеку к щеке жениха; оба
затем должны смотреться в одно и то же зеркало и любез-
но улыбаться друг другу. Тем временем свахи подходят и
осыпают их и гостей хмелем. После этих церемоний они
отправляются в церковь, где, по выше указанному спосо-
бу, происходит венчание.
После свадьбы жен держат взаперти, в комнатах; они
редко появляются в гостях и чаще посещаются сами дру-
зьями своими, чем имеют право их посещать.
О положении русских женщин
Подобно тому, как дети вельмож и купцов мало или
же даже вовсе не приучаются к домоводству, так же точно
они впоследствии, находясь в браке, мало занимаются
хозяйством, а только сидят да шьют и вышивают золотом
и серебром красивые носовые платки из белой тафты и
чистого полотна, приготовляют небольшие кошельки для
денег и тому подобные вещи. Они не имеют права прини-
мать участия ни в резании кур или другого скота, ни в
приготовлении их к еде, так как полагают, что это бы их
осквернило. Поэтому всякую такого рода работу соверша-
ет у них прислуга. Из подозрительности их редко выпуска-
ют из дому, редко также разрешают ходить в церковь;
впрочем, среди простонародья все это соблюдают не очень
точно.
Дома они ходят плохо одетые, но когда они оказыва-
ют, по приказанию мужа, честь чужому гостю, пригубли-
вая перед ним чарку водки, или же, если они идут через
улицы, например, в церковь, они должны быть одеты
великолепнейшим образом, и лицо и шея должны быть
густо и жирно набелены и нарумянены.
Князей, бояр и знатнейших людей жены летом ездят
в закрытых каретах, обтянутых красною тафтою, которою
они зимою пользуются и на санях. В последних они воссе-
380
Увеселения женщин
дают с великолепием богинь, а впереди у ног их сидит
девушка рабыня. Рядом с санями бегут многие прислуж-
ники и рабы, иногда до 30, 40 человек. Лошадь, которая
тащит такую карету или сани, похожа на ту, которая ве-
зет невесту; она увешана лисьими хвостами, что пред-
ставляет весьма странный вид. Подобного рода украше-
ния видели мы не только у женщин, но и у знатных
вельмож, даже у саней самого великого князя, который
иногда, вместо лисьих хвостов, пользуется прекрасными
черными соболями.
Так как праздные молодые женщины очень редко
появляются среди людей, а также не много работают и
дома и, следовательно, мало заняты, то иногда они уст-
раивают себе, со своими девушками, развлечения, на-
пример, качаясь на качелях — что им особенно нравится.
Они кладут доску на обрубок дерева, становятся на оба
конца, качаются и подбрасывают друг друга в воздух. Иног-
да пользуются они и веревками, на которых они умеют
подбрасывать себя весьма высоко на воздух. Простонаро-
381
дье, особенно в предместьях и деревнях, занимается эти-
ми играми открыто на улицах. Здесь у них поставлены об-
щие качели в форме виселицы, с крестообразною движу-
щейся частью, на которой двое, трое и более лиц могут
подняться одновременно. Больше всего подобной игрою у
них занимаются по праздникам: в эти дни особые моло-
дые прислужники держат наготове сиденья и другие не-
обходимые принадлежности и, за несколько копеек, одол-
жают тем, кто желает покачаться. Мужчины очень охотно
разрешают женам подобное увеселение и иногда даже
помогают им в нем.
Если [между мужем и женою] у них часто возникают
недовольство и драки, то причиною являются иногда не-
пристойные и бранные слова, с которыми жена обраща-
ется к мужу: ведь они очень скоры на такие слова. Иногда
же причиной является то, что жены напиваются чаще
мужей или же навлекают на себя подозрительность мужа
чрезмерною любезностью к чужим мужьям и парням. Очень
часто все эти три причины встречаются у русских женщин
одновременно.
Когда, вследствие этих причин, жена бывает сильно
прибита кнутом или палкою, она не придает этому боль-
шого значения, так как сознает свою вину и, к тому же,
видит, что отличающиеся теми же пороками ее соседки и
сестры испытывают не лучшее обращение.
Чтобы, однако, русские жены в частом битье и биче-
вании усматривали сердечную любовь, а в отсутствии их —
нелюбовь и нерасположение мужей к себе, — этого мне не
привелось узнать, да и не могу я себе представить, чтобы
они любили то, чего отвращается природа и всякая тварь,
и чтобы считали за признак любви то, что является зна-
ком гнева и вражды. Известная поговорка: «Побои не вы-
зывают дружбы», на мой взгляд, справедлива и для них.
Никакой человек, обладающий здравым рассудком, не
будет без причины ненавидеть и мучить собственную плоть.
Возможно, конечно, что некоторые из них говорили сами
мужьям, ради шутки, подобные речи.
Прелюбодеяние у них не наказывается смертью, да и
не именуется у них прелюбодеянием, а просто блудом,
382
если женатый пробудет ночь с женою другою. Прелюбоде-
ем называют они лишь того, кто вступает в брак с чужою
женою.
Если женщиною, состоящею в браке, совершен бу-
дет блуд, и она будет обвинена и уличена, то ей за это
полагается наказание кнутом. Виновная должна несколь-
ко дней провести в монастыре, питаясь водою и хлебом,
затем ее вновь отсылают домой, где вторично ее бьет кну-
том хозяин дома за запущенную дома работу.
Если супруги надоедят друг другу и не могут более
жить в мире и согласии, то исходом из затруднения явля-
ется то, что один из супругов отправляется в монастырь.
Если так поступает муж, оставляя, в честь божию, свою
жену, а жена его получит другого мужа, то первый может
быть посвящен в попы, даже если он раньше был сапож-
ником или портным. Мужу также предоставляется, если
жена его оказывается бесплодною, отправлять ее в мона-
стырь и жениться, через шесть недель, на другой.
Точно так же, если муж в состоянии сказать и дока-
зать о жене что-либо нечестное, она должна давать по-
стричь себя в монахини. При этом мужчина часто посту-
пает скорее по произволу, чем по праву. Рассердившись
на жену по одной лишь подозрительности или по другим
недостойным побуждениям, он за деньги нанимает пару
негодяев, которые с ним идут к судье, обвиняют и свиде-
тельствуют против его жены, будто бы они застали ее при
том или ином проступке или блуде; этим способом — осо-
бенно если еше обратиться за содействием к копейкам —
достигают того, что добрая женщина, раньше чем она ус-
пеет собраться с мыслями, уже должна надеть платье мо-
нахини и против воли идти в монастырь, где ее оставляют
на всю ее жизнь. Ведь тот, кто раз уже дал себя посвятить
в это состояние и у кого ножницы прошлись по голове,
более не имеет права выйти из монастыря и вступить в
брак.
383
О светском состоянии
и о полицейском строе у русских
Что касается русского государственного строя, то, как
видно отчасти уже из вышеприведенных глав, — это, как
определяют политики, «monarchia dominica et deapotica».
Государь, каковым является царь или Великий князь, по-
лучивший по наследию корону, один управляет всей стра-
ною и все его подданные, как дворяне и князья, так и
простонародье, горожане и крестьяне, являются его хо-
лопами и рабами, с которыми он обращается как хозяин
со своими слугами. Если иметь в виду, что общее отличие
закономерного правления от тиранического заключается
в том, что в первом из них соблюдается благополучие
подданных, а во втором личная выгода государя, то рус-
ское управление должно считаться находящимся в близ-
ком родстве с тираническим.
Вельможи должны, безо всякого стыда, помимо того,
что они, как уже сказано, ставят свои имена в уменьши-
тельной форме, называть себя рабами и переносить раб-
ское обращение. Раньше наказывали гостей или знатней-
ших купцов и вельмож, которые во время публичных
аудиенций должны показываться в великолепном одея-
нии, за неприход по неуважительной причине, как ра-
бов, — ударами кнута по голой спине. Теперь же наказыва-
ют двух- или трехдневным заключением в тюрьме, смотря
по тому, какие у них при дворе покровители и ходатаи.
Главу своего, Великого князя, они зовут царем, его
царским величеством, и некоторые полагают, что слово
это происходит от слова Caesar. И он, подобно его величе-
ству Римскому императору, имеет в государственном гербе
и печати изображение двуглавого орла, хотя и с опущен-
ными крыльями; над головами орла раньше изображалась
одна, теперь же — три короны, в обозначение, помимо
русского царства, еще двух татарских: Астрахани и Казани.
На груди орла висит шит, дающий изображение всадника,
вонзающего копье в дракона. Этот орел был введен лишь
тираном Иваном Васильевичем, из честолюбия, так как
он хвалился происхождением от крови римских императо-
384
Печать царя Алексея Михайловича
ров. Его переводчики и некоторые из немецких купцов в
Москве и зовут его императором.
Они ставят своего царя весьма высоко, упоминают
его имя во время собраний с величайшим почтением и
боятся его весьма сильно, более даже, чем Бога Уже с
малых лет внушают они своим детям, чтобы они говори-
ли о его царском величестве как о Боге и почитали его
столь же высоко; поэтому они часто говорят: «Про то зна-
ют Бог да великий князь». Это же значение имеют и [дру-
гие] обыкновенные речи их. Так, явиться перед Великим
князем» они называют «увидеть ясные очи его царского
величества». Чтобы выказать глубокое смирение свое и свое
чувство долга, они говорят, что все, чем они владеют,
принадлежит не столько им, сколько Богу и Великому
князю. К подобного рода речам частью приучил их много-
кратно упоминавшийся тиран Иван Васильевич своими
насильственными действиями, частью же ввиду общего
состояния их — они и имущества их, действительно, на-
ходятся в подобном положении. Чтобы можно было спо-
13 Зак. 1918
385
койно удерживать их в рабстве и боязни, никто из них,
под страхом телесного наказания, не смеет самовольно
выехать из страны и сообщать им о свободных учреждени-
ях других стран. Точно так же ни один купец, ради про-
мысла своего, не имеет права, без соизволения царя, пе-
рейти границу страны и вести за границею торговлю.
Однако нельзя сказать, чтобы нынешние Великие кня-
зья, — хотя бы и имея ту же власть, нападали, наподобие
тиранов, столь насильственным образом на подданных и
на имущество их, как еще и теперь об этом пишут иные
люди, основываясь, может быть, на старых писателях, изоб-
ражавших жалкое состояние русских под железным ски-
петром тирана. Впрочем, и вообще о русских пишут весьма
многое, что в настоящее время уже не подходит, без со-
мнения, вследствие общих перемен во временах, управле-
нии и людях. Нынешний Великий князь — государь очень
благочестивый, который, подобно отцу своему, не желает
допустить, чтобы хоть один из его крестьян обеднел. Если
кто-нибудь из них обеднеет вследствие неурожая хлеба или
по другим случайностям и несчастиям, то ему, будь он
царский или боярский крестьянин, от приказа или канце-
лярии, в ведении которой он находится, дается пособие, и
вообще обращается внимание на его деятельность, чтобы
он мог снова поправиться, заплатить долг свой и внести
подати начальству. И если кого-либо, за оскорбление вели-
чества или за доказанные великие его проступки ссылают
в немилость в Сибирь — что в настоящие дни бывает не
очень часто, — то и эта немилость смягчается тем, что ссыль-
ному устраивается сносное пропитание, смотря по его со-
стоянию и личным его достоинствам; вельможам при этом
даются деньги, писцам даются должности в канцеляриях
сибирских городов, стрельцам и солдатам опять-таки пре-
доставляются места солдат, дающие им ежегодное жалова-
нье и хорошее пропитание. Самое тягостное для большин-
ства из них — быть удаленным от высокого лика его царского
величества и не допускаться к лицезрению ясных очей его.
Имеются, впрочем, примеры и тому, что некоторым
подобная немилость послужила весьма на пользу, а имен-
но в промыслах своих и торговле они получили там гораз-
386
до большую выгоду, чем в Москве, и достигли такого бла-
госостояния, что, имея при себе жену и детей, уже не
просились более в Москву, даже по получении свободы.
Царь заботится, как это понятно, о своем величии и
следит за правами величества, как делают это другие мо-
нархи и абсолютные государи. А именно: он не подчинен
законам и может, по мысли своей и по желанию, изда-
вать и устанавливать законы и приказы. Эти последние все,
какого бы качества они ни были, принимаются и испол-
няются без противоречий и даже с тем же послушанием,
как если бы они были даны самим Богом. Русские, пола-
гают, что Великий князь исполняет все по воле Божией.
Для обозначения непогрешимой правды и справедливос-
ти в действиях Великого князя они имеют поговорку: «Сло-
ва Бога и Великого князя нельзя переиначивать, но нуж-
но исполнять неукоснительно».
Великий князь не только назначает и смещает на-
чальство, но даже гонит их вон и казнит их, когда захочет.
Во всех провинциях и городах он назначает своих воевод,
наместников и управляющих, которые с канцеляриста-
ми, дьяками или писцами должны производить суд и рас-
праву. Что они решат, то при дворе считается правиль-
ным, и на приговор их суда нет апелляции ко двору.
Один лишь Великий князь имеет право объявлять вой-
ну иноземным нациям и вести ее по своему усмотрению.
Великий князь также раздает титулы и саны, произ-
водя тех, кто имеют заслуги перед ним и перед страною,
или кто вообще считаются достойными его милости, в
князей. Некоторые великие князья, слышав, что в Герма-
нии существует право монархов выдавать докторские дип-
ломы, подражали и этому праву; некоторые из них, как
частью уже указано выше, давали подобные титулы сво-
им врачам, а иногда даже и цирюльникам.
У царя производится своя чеканка монеты в стране в
четырех различных городах, а именно: в Москве, Новго-
роде, Твери и Пскове дает он чеканить монету из чистого
серебра, иногда и из золота; монета эта мелка, вроде не-
больших датских секслингов, мельче еще, чем немецкий
пфепинг; частью она круглая, частью продолговатая. На
387
Русская монета
одной стороне обыкновенно изображен всадник, который
копьем колет в поверженного дракона; говорят, это пер-
воначально был лишь герб новгородский; на другой сто-
роне русскими буквами изображено имя Великого князя
и город, где эта монета чеканена. Этот сорт монет называ-
ется «деньгами» или «копейками»; каждый из них равен
по цене голландскому stuiver’y или составляет почти
столько же, сколько мейссенский грош или голштинский
шиллинг; 60 их идет на один рейхсталер. У них имеются и
более мелкие сорта монет, а именно в 1/2 и 1/4 копейки;
их называют полушками и московками. Так как они очень
мелки, то ими трудно вести торг: они легко проваливают-
ся сквозь пальцы. Поэтому у русских вошло в привычку,
при осмотре и мерянии товаров, брать зачастую до 60 ко-
пеек в рот, продолжая при этом так говорить и торговать-
ся, что зритель и не замечает этого обстоятельства; можно
сказать, что русские рот свой превращают в карман. В тор-
ге они считают по алтынам, гривнам и рублям, хотя этих
сортов денег в целых монетах и нет; они считают их по
388
известному числу копеек. В алтыне — 3, в гривне — 10, а в
рубле — 100 копеек. У них ходят и наши рейхсталеры, ко-
торые они называют ефимками (от слова Jochimsta[er]);
они охотно принимают ефимки за 50 копеек, а потом от-
дают в чеканку, выигрывая при этом, так как в рубле,
или 100 копейках, на 1/2 лота меньше весу, чем в двух
рейхсталерах. Золотой монеты видно не много. Великий
князь велит ее чеканить только в тех случаях, когда одер-
жана победа над врагом, или же при иных обстоятель-
ствах, в виде особой царской милости, для раздачи сол-
датам.
Великий князь время от времени устанавливает тяж-
кие налоги. Теперь купцы, как русские, так и иностран-
ные, должны платить в Архангельске и Астрахани 5 со
100, что составляет за год большую прибыль.
Царь зачастую посылает великолепные посольства к
его величеству римскому императору и королям Датско-
му, Шведскому, Персидскому и другим монархам. Более
важные из посылаемых лиц называются «великими по-
слами», гонцы и менее важные лица — «посланниками».
Временами он присылает и большие подарки, состоящие
из мехов.
Иногда послы, а особенно — посланники, когда они
не везут с собою великокняжеских подарков, дарят собо-
лей от себя, ожидая за то и сами для себя подарков; если
ответные подарки вовремя не даются, то они сами о них
напоминают.
Великий князь почти каждый год посылает к шаху
Персидскому посланников или малых послов, которые,
при своих зачастую неважных поручениях, занимаются и
торговлею (впрочем, купцов своих великий князь посы-
лает еще особо); эта торговля дает им тем большие выго-
ды, что шах дает им в своей стране полное содержание.
Так как царь довольно часто отправляет своих послов к
заграничным монархам, то и его зачастую посещают по-
слы от этих последних; часто два, три и более послов од-
новременно находятся в Москве, и дела и отсылка их идут
весьма медленно. Некоторые иностранные государи име-
ют в Москве своих легатов, постоянных консулов или ре-
389
зидентов, живущих в собственных своих дворах. В Москве
устроены удобные дома и дворы, в которых помещают
приезжающих послов. В этих домах, однако, нет кроватей,
и кто не желает спать на соломе и жестких скамьях, дол-
жен везти с собою свои собственные кровати. Ворота по-
сольских дворов заняты крепкими стражами, и раньше
строго следили за тем, чтобы никто из посольской свиты
не выходил, а из посторонних людей не входил; их охра-
няли как арестованных. Теперь, однако, после первой
публичной аудиенции всякий может выходить, куда ему
угодно. [Московские] жители нам говорили, что мы, во
время первого посольства нашего, были первыми лица-
ми, имевшими право свободно выходить.
Послы, со всей своею свитою, пока находятся в стра-
не, получают обильное содержание. Постоянно посещают
их в это время и служат им два для этой цели отряженные
к ним пристава. Обычные вопросы приставов к послам
следующие: «Зачем они едут к Великому князю?»; «Не
знают ли они, каково содержание писем к царю?»; «Везут
ли они подарки, и сколько именно, для передачи его цар-
скому величеству?»; «Нет ли чего-нибудь для них, [при-
ставов], лично?». Когда подарки переданы, Великий князь
немедленно, на другой или на третий день, велит особым
людям произвести оценку их стоимости. Раньше послы,
после допущения к публичной аудиенции, всегда пригла-
шались к столу в великокняжеских покоях, иногда даже к
самому великому князю. Теперь же милостиво жалуемые
кушанья и напитки обыкновенно доставляются к послам
на дом.
Послам, а равно и служителям их, при возвращении
(в том случае, если они доставили подарки от своих госу-
дарей или от самих себя) подносятся хорошие подарки в
виде соболей и других мехов. И посланники, если только
они доставляют дружественные послания от иностранных
государей, получают обыкновенно «сорок» соболей, ко-
торые стоят в Москве 100 талеров или более того.
Чтобы дать возможность послам и эстафетам передви-
гаться поскорее, на больших дорогах заведен хороший по-
рядок. В разных местах держат особых крестьян, которые
390
должны быть наготове с несколькими лошадьми (на одну
деревню приходится при этом лошадей 40, 50 и более),
чтобы, по получении великокняжеского приказа, они не-
медленно могли запрягать лошадей и спешить дальше. При-
став или сам едет вперед, или посылает кого-либо иного и
велит ждать эстафету. Коли теперь эстафета, прибыв на место
днем или ночью, подаст свистом знак, немедленно появ-
ляются ямщики со своими лошадьми. Вследствие этого рас-
стояние от Новгорода до Москвы, в котором насчитывает-
ся 120 немецких миль, может быть совершенно спокойно
пройдено в 6-7 дней, а в зимнее время, по санному пути,
еще и того быстрее. За подобную службу каждый крестья-
нин [ямщик] получает в год 30 рублей, или 60 рейхстале-
ров, может, к тому же, заниматься свободно земледелием,
для чего получает от великого князя землю, и освобожда-
ется от всяких поборов и других тяжелых повинностей. Ког-
да они едут, то пристав должен каждому из них выдать по
алтыну или по два (что они называют «помаслить хлеб»).
Служба эта очень выгодна для крестьян, и многие из них
стремятся быть подобного рода ямщиками.
О московитских Великих князьях, как они
в течение 100 лет, один за другим, правили
и что при этом случилось достопамятного
Чтобы лучше пояснить свойство полицейского строя
и управления у русских, я намерен здесь, в отступлении
от моего путешествия, вкратце упомянуть о некоторых
Великих князьях и о том, что случилось в то время заме-
чательного и имеющего отношение к нашим действиям.
Я начну с жестокого тирана и дойду до нынешнего вели-
кого князя Алексея Михайловича.
Тиран Иван Васильевич вступил на престол в 1540 г.
по Р. X.23 и вел с соседями своими тяжкие и жестокие
войны; много немецких лифляндцев и других пленников
привел он в Москву, где потомство их и ныне живет в
качестве рабов. Как против христиан, даже собственных
391
своих подданных, так и против турок, татар и язычников
он свирепствовал и тиранствовал страшно, бесчеловеч-
но, чтобы не сказать — не по-христиански.
Он имел семь супруг, одну за другою; с первою он
произвел на свет двух сыновей: Ивана, которого он сам
убил посохом, и Феодора, который наследовал ему в уп-
равлении. С последнею женою произвел он сына Димит-
рия, которого Борис Годунов велел умертвить, как о том
будет здесь же рассказано. Тиран умер в 1584 г. по Р. X.,
28 марта, на 56 году своей жизни. Он воспринял страш-
ную кончину и с жалким воем и стоном испустил дух
свой. Тело его, начав еще при жизни разлагаться, распро-
страняло нестерпимый смрад за несколько дней до смер-
ти, так же как и после смерти.
Феодор Иванович
Сын его, Феодор Иванович, в том же самом году,
31 июля, на 22 году жизни, был венчан в Великие князья.
Так как этот великий князь был молод, и разум его
не был столь скор и деятелен, как это было бы необходи-
мо при тогдашнем расстроенном состоянии страны (его
главным удовольствием и работою было звонить в коло-
кола до и после богослужения), то и сочтено было за бла-
го, чтобы государственный конюший Борис Годунов,
родной брат Великой княгини, помогал ему в качестве
правителя.
Этот Борис Годунов, умною рассудительностью своею
и осторожным своим управлением, приобрел столь боль-
шие заслуги перед страною, а также и любовь, что, по
общему мнению, в случае смерти Великого князя Феодо-
ра Ивановича, а также и молодого государя Димитрия,
никто не был более пригоден к управлению, как Борис
Годунов. Борис принял это к сведению, и, чтобы тем ско-
рее исполнились мнения и пожелания русских, он велел
умертвить24 молодого государя Дмитрия, на девятом году
его жизни, через подкупленных для этой цели, с помо-
щью крупных обещаний, придворных служителей. По ис-
полнении этого дела, убийцы, радостные, вернулись в
Москву, надеясь получить большие блага от Бориса за столь
392
Иван IV Грозный, Фс^ор Иванович, Борис Годунов,
Василий Шуйский
охотно оказанную услугу. Борис, однако, велел немедленно
умертвить убийц, чтобы изменническое дело это осталось
неизвестным и тайным, а также тайком поджег Москву в
разных местах, чтобы московиты жаловались не столько
на смерть Дмитрия, сколько на гибель домов и дворов и,
ради собственного несчастия, имели повод забыть чужое.
Сам он представился весьма огорченным и разгневанным
по поводу этого убийства, велел многих углицких жите-
лей ссылкою повергнуть в бедствия, а замок срыть, как
место убийства.
Великий князь Феодор Иванович, правивший 12 лет,
заболел быстротечною болезнью и умер в 1597 г. по Р. X.
Борис Годунов
Так как Феодор Иванович не оставил наследников, а
брата уже не было в живых, то вельможи совещались,
кого иметь великим князем, [рассуждая при этом так]:
«Правда, в стране много знатных вельмож, из числа ко-
торых можно бы выбрать государя, но никто не мудр и не
осторожен так, как Борис Годунов; к тому же он привык
к управлению, и поэтому он, а не кто иной, должен быть
Великим кня }ем». Борис же, которому предложена была
393
эта высокая честь, представился, точно он вовсе не наме-
рен принять ее, так как она исполнена хлопот, беспокой-
ства, недружелюбия и вражды; он сказал: «Ему приятнее
нести клобук простого монаха, чем корону и скипетр»,
отправился в монастырь, но, тем не менее, повел интри-
ги с некоторыми вельможами и добрыми друзьями, что-
бы они не избрали кого-либо помимо него, а, напротив, —
как бы он ни отказывался, — настоятельно упрашивали
его, пока он, наконец, не согласится. Все и было сделано
по его желанию и хотению. Когда русские узнали, что он
отправился к сестре своей в монастырь, они, в больших
толпах, направились к нему, упали с плачем на землю и
умоляли, чтобы он не спешил с пострижением, так как
они желают избрать его в Великие князья. Наконец, их
слезы и мольбы сестры смягчили его, и он принял коро-
ну, которой он давно уже домогался и которую ни за что
не уступил бы другому. Таким путем Борис Годунов в 1597 г.
по Р. Хр. избран в Великие князья.
В правление его устроил возмущение русский монах,
по имени Гришка Отрепьев, родившийся в Ярославле, в
семье незнатных дворян, но отправленный в монастырь
для обуздания дерзости и нахальства. Он выдал себя за
Дмитрия, сына тирана Ивана Васильевича. Мало-помалу
в стране стало известно, что нашелся истинный наслед-
ник великокняжеского престола, чудесным образом спа-
сенный Богом из рук врагов. Этому рассказу поверили тем
более, что Великий князь Борис, смущенный слухами,
обещал много денег и имений тем, кто бы доставил ему в
руки предполагаемого Дмитрия. Дмитрия этого, тем вре-
менем, чтобы доставить ему больше безопасности, отпра-
вили в Польшу, где он был хорошо принят воеводою Сан-
домирским; здесь ему обещали помочь поскорее занять
отцовский престол, если он, со своей стороны, пожела-
ет, по возведении на этот престол, насадить в Москве
католическую религию. Димитрий не только соглашается
на все это, но даже сам втайне принимает римско-като-
лическую религию и, кроме того, обещает взять в супруги
дочь воеводы и сделать ее Великой княгиней. Это предло-
жение сильно понравилось воеводе. [Самозванца] предста-
394
вили к королевскому польскому двору, где, в убеждении,
что он сын Великого князя25, его великолепно приняли и
угощали. Частью в надежде на величие своего будущего
зятя, частью из желания распространить свою религию,
воевода положил на это дело все свои силы; совместно с
другими польскими вельможами он поставил на ноги боль-
шое войско, с которым Гришка явился в Россию и повел
против Великого князя открытую, весьма кровопролит-
ную войну. Действовал он при этом успешно, занимал
один дом и город за другим, приобрел много привержен-
цев, причем и некоторые военачальники, которых Борис
высылал против него, перешли на его сторону. Все это
так поразило Великого князя, что 13 апреля 1606 г. по
Р. Хр. он умер неожиданною, внезапною смертью.
Федор Борисович
Вельможи в Москве, правда, избрали теперь [в цари]
сына покойного Великого князя Бориса — Федора Бори-
совича, государя еще весьма молодого. Когда они, одна-
ко, увидали, что с течением времени могущество Димит-
рия становится все большим, они усмотрели в этом плохое
для себя предзнаменование, собрались на совет и пришли
к мысли, что здесь они имеют дело с истинным Димит-
рием, которого раньше считали убитым в Угличе. Отсюда
они вывели, что у них нет оснований бороться с [истин-
ным] государем страны. Когда общине эти рассуждения
были сообщены, то [москвичи], как народ переменчиво-
го нрава, легко склонились к этому мнению и громко ста-
ли кричать: «Бог да подаст счастья Димитрию, истинному
наследнику страны, и да искоренит Он всех его врагов!»
После этого они бегут к Кремлю, хватают только что из-
бранного молодого Великого князя и садят его в тюрьму;
затем грабят и ссылают всех, кто еще оставались в живых
из рода Бориса Годунова. Они посылают к Димитрию,
просят, чтобы он явился занять престол отца своего и
простил им долгое их сопротивление, вызванное частью
незнанием, частью подстрекательством Годуновых. Они
сообщают при этом, что уже расчистили ему путь: Федор
Борисович с матерью и сестрою в плену, и они собира-
395
ются передать их со всем их родом в его власть. Такого
известия Лжедмитрий ждал уже давно. Еще до отправле-
ния своего в город Москву и в столицу, он отправил впе-
ред дьяка или писца Ивана Богданова, который должен
был умертвить молодого Великого князя вместе с его ма-
терью и сообщить, будто они сами отравились ядом. Вслед-
ствие этого молодой великий князь Федор Борисович и
был удавлен веревкою во второй месяц своего правления,
а именно 10 июня 1605 г.
Лжедмитрий
16 июня Лжедмитрий со всей своею силою наконец
подступил к городу Москве. Тут московиты высокого и
низкого звания вышли ему навстречу, неся великолеп-
ные подарки и желая счастья по случаю въезда. 29 июля
его с большою пышностью короновали. После этого, что-
бы обман был тем менее заметен и чтобы его тем скорее
сочли за истинного Дмитрия, он велел вновь доставить в
Москву мать истинного Дмитрия, которую Борис Году-
нов велел посадить в далекий от Москвы монастырь, —
вышел к ней навстречу, с великолепною свитою, любез-
но принял ее под городом, устроил ей царский стол в
Кремле, ежедневно посещал ее и оказывал ей такой вы-
сокий почет, какой лишь сын может оказывать родной
своей матери. Эта добрая женщина, которая, правда, зна-
ла, что ее родной сын был, действительно, убит и что
настоящий не может считаться ее собственным, тем не
менее дала всему этому совершиться — частью из страха,
частью из желания, после столь долго испытанных горя и
печали, насладиться подобным почетом и увеселениями;
она не противоречила ничему.
Однако Дмитрий начал устраивать и соблюдать при-
дворный порядок и строй правительства, обычаи и обык-
новения не в том роде, как другие русские и [прежние]
Великие князья. Он женился на польской, католического
исповедания, девице, а именно на дочери воеводы Сан-
домирского; взял большое количество денег и средств из
казны и послал их, для великолепного снаряжения неве-
396
сты, в Польшу; справил брак скорее по-польски, чем по-
московитски, а молодая Великая княгиня сейчас же, на
другой день после брака, должна была снять московит-
ские одеяния и надеть польские. Сам он велел поварам
своим готовить телятину и другие кушанья, которых рус-
ские не едят, считая их мерзостью. За все время брака он
ни разу не сходил в баню, хотя она и готовилась для него
ежедневно. Немытый ходил он в церковь, сопровождае-
мый многими собаками, чем осквернял их святыню. Не-
достаточно низко кланялся он их святым [иконам] и во-
обще совершал еще многое другое, причинявшее русским
сердечные страдания, так что им пришли иные мысли и
они поняли, что обмануты. Среди знатнейших князей стра-
ны был Василий Иванович Шуйский, который втайне вел
об этом разговоры с другими вельможами и попами и
указывал им на великую опасность, которой подвергает-
ся, ради этого Великого князя, их религия, их страна и
люди. «По-видимому, — [говорили они], — он не великок-
няжеский сын по происхождению и не верный отец оте-
чества, а изменник перед родиною». Поэтому они согла-
сились тайно устранить Дмитрия. Однако тайный заговор
этот стал известен Великому князю, который велел мно-
гих русских засечь до смерти, а Шуйского, главу загово-
ра, подвергнуть пытке, сечь кнутом и приговорить к смерти.
Когда, однако, его привели к месту казни, и топор уже
касался его шеи, Великий князь велел объявить ему ми-
лость и на этот раз простил его за вину оскорбленного
величества, полагая, что, в этом случае, он выказал себя,
смотря по обстоятельствам дела, и строгим и справедли-
вым государем, что подданным своим он внушил страх к
подобным заговорам и приобрел, в то же время, любовь
их к себе.
Русские некоторое время после этого были смирны и
покорны ему и, таким образом, внушили своему Велико-
му князю чувство полной безопасности, вплоть до дня
брака, который совершен был в 1606 г. 8 мая. Когда в это
время, вместе с невестою, в город вступили многие по-
ляки и другие иностранцы, большею частью в полном
397
вооружении, то это русским вновь открыло глаза. Князь
Василий Шуйский опять призвал знатнейших в городе
тайно во двор свой, повторил о великой опасности, кото-
рой подвергается их отечество при настоящем Великом
князе, и говорил, что дальнейшее оставление управления
в его руках привело бы, несомненно, к их окончательной
гибели. Остальные, не долго думая, обещали и клялись
пожертвовать, заодно с ним, имуществом и кровью, толь-
ко бы он начал то, чего желал.
Это решение держали в тайне и стали ждать случая,
который и нашелся в последние дни брачных празднеств.
17 мая, в 9 день брака, ночью, когда великий князь и его
приближенные находились в опьянении и сне, — рус-
ские поднялись, велели бить в набат во все колокола и
быстро вооружили весь город. Прежде всего пошли на
Кремль, перебили польскую стражу у ворот, открыли
ворота, ворвались в великокняжеские покои, все разгра-
били и расхитили; Великий князь, который думал спас-
тись через окно на площадь среди оставшейся стражи,
был схвачен, избит и со многими насмешками вновь
отведен в покои. Когда его предполагаемая мать это уз-
нала и, с крестным целованием, спрошена была Шуй-
ским, истинный ли это ее сын, она тотчас ответила: «Нет;
она родила лишь одного сына, который в ранней моло-
дости вероломно был умерщвлен». После этого Лжедмит-
рия застрелили из пистолета. Затем слуги, свадебные го-
сти и другие иноземцы, в том числе многие ювелиры с
великолепными драгоценностями, в обшей сложности
1700 человек, были немилосердно перебиты. Великую
княгиню с ее отцом, воеводою, с братом, равно как и
королевских польских послов, отправленных на торже-
ство бракосочетания, захватили в плен и обошлись с ними
столь дурно, что, например, благородных женщин на-
сильно валили наземь и бесчестили. Тело Дмитрия разде-
ли донага, потащили на площадь перед Кремлем и оста-
вили в течение трех дней лежать нагим, на столе, так что
каждый мог видеть и проклинать обманшика. После это-
го его, правда, закопали в землю, но вскоре вновь выко-
пали и сожгли.
398
Князь Василий Иванович Шуйский
Так как все это дело удалось вполне по мысли рус-
ских, то они вожака своего, князя Василия Ивановича
Шуйского, сделали Великим князем и короновали его
1 июня 1606 г. Едва только он вступил в управление, как
вновь поднялся новый обманщик, по имени князь Григо-
рий Шаховской, вздумавший воспользоваться хитроспле-
тением бывшего Дмитрия. Во время сумятицы в Кремле
он достал печать Великого князя, отправился вместе с
нею, в сопровождении двух поляков, в Польшу, распро-
страняя по дороге, во всех постоялых дворах, слух, будто
он Дмитрий, и якобы в свалке хитростью спасся от рус-
ских: «Так как дело происходило ночью, то они другое
лицо приняли за него и убили на его месте; теперь же он
желает в Польше собрать новое войско и отомстить мос-
ковитам за испытанные позор и убытки». Везде он разда-
вал при этом хозяевам [постоялых дворов] щедрые подар-
ки. Не бывшие в Москве верили этому и сообщали в Москву.
Слухи эти опять вызвали не малую смуту. Русским при-
шлось вести теперь большие войны против этого обман-
щика, и еше другого, стало быть — уже третьего само-
званца. Последний называл себя также Дмитрием, родным
сыном Ивана Васильевича, но, на самом деле, был сна-
чала в Москве простым писцом. Будучи очень остроумен и
красноречив, он приобрел достаточное количество сто-
ронников не только из беглого люда, но и среди больших
городов. Сюда присоединялись еще польские вельможи,
немало помогавшие ему с тем, чтобы отомстить москови-
там за испытанный позор. Так как русские зачастую силь-
но страдали при этом, то они стали винить Великого кня-
зя Шуйского, полагая, что он несчастлив в правлении
своем, так как победа как бы бежит его и склоняется в
сторону врагов. «Кровопролития в России, — [думали
они], — не прекратятся, пока власть принадлежит ему».
Поэтому они, подстрекаемые тремя московитскими гос-
подами, в третий год правления его, отняли у него ски-
петр и корону, отправили в монастырь и здесь, против
его воли, постригли в монахи. После этого решили уже не
брать из собственной своей среды государя, а иметь Вели-
399
ким князем иностранного высокого монарха, рожденно-
го от королевских или великокняжеских родителей. Со сто-
роны величия, близости по языку, нравам и одежде и по
другим причинам они не знали более удобного кандида-
та, как польского королевича Владислава. Поэтому они
сделали соответствующее предложение королю польско-
му, который, на известных условиях, его и принял. Слу-
чилось это в 1610 г. по Р. X.
Тут русские опять извлекли своего Великого князя
Василия Шуйского из монастыря и послали его, вместе с
братом его Димитрием Шуйским, русским полководцем,
а также еще с третьим братом и несколькими другими
русскими господами из рода Шуйских, в плен, к Смо-
ленску, к королю Польскому. Под властью короля Польско-
го и умер в заточении Великий князь и, как говорят, по-
хоронен, близ дороги, между Варшавой и Торном.
Владислав, сын Сигизмунда, короля Польского
Король Польский дал своему полководцу Станиславу
Жолкевскому, стоявшему в это время с войском, с враж-
дебным намерением, перед Москвою, приказание, что-
бы, по заключении перемирия, он принял, именем коро-
левича, присягу, стал править делами и оставался в Москве
до тех пор, пока Владислав не прибудет лично. Русские
согласились на это, присягнули полководцу на имя Вла-
дислава и в свою очередь взяли с него присягу, ввели
Жолковского с 1 000 человек в великокняжеский столич-
ный дворец и оказали ему прием со всякого рода роскош-
ными подарками и угощением. Польское войско, тем вре-
менем, мирно стояло вне города, между московитами и
польским лагерями была большая дружба, ежедневно обе
стороны сходились, и происходил торг. Тем временем по-
ляки поодиночке стали входить в город, ища у горожан
пристанища; в конце концов, до 6 000 человек оказалось
в Кремле и вокруг него; они стали весьма в тягость рус-
ским в домах, церквах и на улицах, и горожане предпочи-
тали лучше не иметь никаких дел с поляками, тем более
что время приезда нового Великого князя, несколько за-
мешкавшегося, показалось им слишком далеким, да и все
400
дело начало казаться подозрительным. Поэтому москови-
ты собрались 20 января 1611 г. на плошали перед Кремлем
в числе нескольких тысяч, стали сильно жаловаться на
большие насилия и распутные действия солдат, совершав-
шиеся ежедневно по отношению к дочерям, женам и в
особенности к святым их; в [иконы] этих последних поля-
ки стреляли из пистолетов. Кроме того, ежедневное со-
держание 6 000 человек в городе стоило больших денег.
Они жаловались также, что испытывают помеху во всех
своих делах и крайне истощаются поборами; не знают они,
далее, что и думать о причинах неприезда вновь избран-
ного Великого князя; поэтому они не в состоянии долее
выдержать, должны сами позаботиться о своем благопо-
лучии и прибегнуть к другим средствам.
Хотя [польский] полководец добрыми словами и ста-
рался примирить их с собою и даже назначил суровые
наказания некоторым преступникам из числа своих сол-
дат, все-таки русские не удовольствовались этим. Опаса-
ясь всеобщего восстания, поляки расставили сильную стра-
жу, заняли все улицы и ворота и запретили русским
попадаться со смертоносным орудием в руках. Это еще
более ожесточило русских; они собрались толпами в раз-
ных частях города с тем, чтобы полякам пришлось разде-
литься для борьбы с ними. Поляки же зажгли в разных
местах город, так что русские должны были бежать, что-
бы не дать погибнуть в пламени своим женам, детям и
всему, что им было дорого. Отсюда возник столь сильный
пожар и такое кровопролитие, что в течение двух дней
обращен был в пепел весь обширный город Москва за
исключением лишь Кремля и каменных церквей; погибло
более 200 000 московитов, а остальные принуждены были
бежать из города. После этого Кремль, великокняжеская
казна, церкви и монастыри были начисто ограблены, и
невероятные богатства в золоте, серебре, жемчуге, драго-
ценных камнях и иных дорогих вещах были захвачены и
отосланы в Польшу. Как рассказывает Петрей, солдаты,
из озорства, крупными одиночными жемчужинами заря-
жали свои ружья и стреляли на воздух. Еще по сию пору
русские жалуются на это громадное хищение и, между
401
прочим, на пропажу большого единорога, украшенного
крупными алмазами и другими драгоценными камнями.
Через 14 дней после этой сумятицы Захарий Ляпунов
(перед тем, с двумя соучастниками, добившийся того,
что Шуйский был изгнан, а королевич польский избран в
Великие князья) с несколькими тысячами человек, со-
бранными им в стране, явился под Москву, осадил поля-
ков в Кремле, и, так как они в сражении также были
заметно ослаблены, то он нанес им сильный ущерб и до-
бился того, что поляки должны были просить мира, сдать
Кремль и снова уйти из страны.
Михаил Феодорович
Когда русские вновь стали хозяевами в стране, они
избрали и короновали Великим князем Михаила Федоро-
вича. Случилось это в 1613 г. Отец его был Федор Ники-
тич, родственник тирана Ивана Васильевича. Когда он
оставил брак и вс гупил в духовное звание, его избрали в
патриархи, причем он изменил имя и стал называться
Филаретом Никитичем. Сын его, подобно ему, по приро-
де своей был очень благочестив и богобоязнен; отцу сво-
ему он, в течение всей его жизни, оказывал великий по-
чет и сыновнее послушание. Когда перед его царским
величеством должны были
Михаил Федорович — первый
царь из династии Романовых
являться послы иностранных
государей, отец, по его же-
ланию, со своими клири-
ками, во время публичной
аудиенции, сидел по правую
руку его. Этот патриарх скон-
чался в 1633 г., незадолго до
приезда нашего в Москву.
Великий князь Михаил
Федорович застал, при вступ-
лении своем на престол, в
стране большие беспорядки.
Он постарался поскорее зак-
лючить мир с соседними го-
сударями, правил кротко и
относился милостиво к ино-
402
странцам и туземцам; все говорили, что в стране, в про-
тивность тому, к чему русские привыкли, за целые сто
лет не было столь благочестивого государя. Он скоропо-
стижно скончался в 1645 г. 12 июля, после правления,
продолжавшегося 33 года, 49 лет от роду. Восемью днями
позже скончалась и супруга его, Великая княгиня. Ему
наследовал в правлении сын его Алексей Михайлович,
правящий поныне.
О короновании нынешнего Великого князя
Алексея Михайловича и о том, как вообще
происходит коронование
Как выше сказано, в 1645 г. по Р. X., 12 июля, скон-
чался Великий князь Михаил Федорович всея России. Сей-
час же на следующий день, 13 июля, его сын, Алексей
Михайлович, на 16 году жизни, приветствован был как
царь и Великий князь всея России, и в тот же день еще,
по единогласному решению всех бояр, вельмож и всей
общины, короновали его и присягнули ему.
Это коронование, по стараниям вельможи Бориса
Ивановича Морозова, бывшего гофмейстером и воспита-
телем молодого государя, по некоторым причинам, дол-
жно было совершиться так быстро, что не все в стране,
кто желал, могли явиться для присутствия на нем.
При короновании московитских Великих князей, если
оно происходит по обычному способу, соблюдается сле-
дующее.
В Москву призываются все митрополиты, архиепис-
копы и другие епископы и игумены, князья, воеводы и
должностные лица, равно как и знатнейшие купцы со всей
России и из всех провинций, подчиненных великокня-
жеской власти.
Когда коронование должно начаться, патриарх с мит-
рополитом и остальным клиром направляются в большую
кремлевскую церковь. За ними следует новый Великий
403
князь с государственными советниками, боярами и дол-
жностными лицами.
В церкви устроен высокий помост в три ступени вы-
сотою, выстланный дорогими коврами. На нем стоят три
стула, покрытые золотой парчою: один для Великого кня-
зя, другой для патриарха, а на третьем лежит шапка, осы-
панная великолепными драгоценными камнями и круп-
ным жемчугом; вверху у нее кисть, к которой прикреплена
золотая коронка с алмазами. Рядом с этой шапкой лежит
и великолепная одежда из золотой парчи, повсюду кру-
гом осыпанная жемчугом и драгоценными камнями и под-
битая очень черными соболями.
Когда царь с боярами входит в церковь, священники
начинают петь. После этого патриарх читает молитву, при-
зывая Бога, св. Николая и других святых, чтобы они при-
няли участие в этом короновании. Потом выступает знат-
нейший государственный советник с избранным Великим
князем, обращается к патриарху с речью и сообщает ему,
что они приняли в цари ближайшего наследника престо-
ла российского государства, и желают, чтобы он, патри-
арх, благословил и короновал его. После этого патриарх
ведет кандидата вверх на помост, сажает его на престол,
держит у лба его золотой, осыпанный великолепными дра-
гоценными камнями крестик и благословляет его. Затем
один из митрополитов читает молитву.
После этой молитвы два епископа должны взять со
стула одежду и шапку и держать их в руках, а патриарх
велит боярам, также вступившим на помост, надеть на
Великого князя одежду. Вновь при этом он благословляет
его. После этого он передает шапку с короною боярам,
велит им надеть ее на великого князя и говорит: «Во имя
Бога Отца, Бога Сына и Бога Духа Святого» и благослов-
ляет его в третий раз. Затем патриарх призывает все духо-
венство, находящееся в церкви, чтобы каждое из духов-
ных лиц подошло и рукою благословило Великого князя.
Когда это совершится, патриарх и Великий князь садятся
на стулья, но вскоре опять встают. Вслед затем священни-
ки начинают петь ектению: «Господи помилуй» и при каж-
дом третьем слове всякий раз называют Великого князя.
404
Потом они все опять садятся, один из митрополитов идет
к алтарю и говорит громким голосом: «Бог да сохранит
нашего царя и Великого князя всея России, возлюблен-
ного Богом и нам дарованного, в добром здравии и дол-
годенствии». Это же пожелание повторяют другие попы и
вельможи, здесь присутствующие или стоящие вне церк-
ви, и при этом поднимают восторженные крики. Все вель-
можи бьют челом его царскому величеству и целуют его
руки. После этого патриарх один выступает перед Вели-
ким князем и произносит увещательную речь.
После этого вновь произносится Великому князю бла-
гословение, и он идет в лежащую напротив церковь Ми-
хаила Архангела. Тем временем деньги бросаются среди
народа, а в церквах вновь поют ектению. Потом Великий
князь опять отправляется в церковь св. Николая, а затем,
в сопровождении государственных советников, отправля-
ется в большой зал, где и духовным и светским вельмо-
жам подается великолепное угощение. При этом так на-
пиваются, что многие из них не знают, как и домой
попасть.
О доходах и расходах Великого князя,
о столе его, лейб-медиках и толмачах
Земли, провинции и города доставляют ежегодно
большой доход в его царского величества казну, причем
доход этот определяется в несколько миллионов; доход-
ные статьи состоят в податях, налогах, пошлинах, каба-
ках, торговле и поместьях. Хотя его царского величества
подданные обыкновенно и не платят больших податей,
но, тем не менее, ввиду большого количества стран и
народов, получаются большие суммы. Когда нужно вести
войну, горожане, купцы и торговцы делают тяжкие до-
полнительные взносы. Во времена бывшего Великого кня-
зя, когда нужно было вести войну под Смоленском, им
пришлось дать «пятину», т. е. пятую деньгу со своего иму-
щества. Нынешний царь брал только десятую деньгу. Боя-
405
ре и вельможи должны, смотря по количеству своих име-
ний, содержать известное количество всадников на войне.
Дворяне же должны, вместе со своими слугами, сами
выходить в поле. Монастыри также должны, смотря по
количеству имеющихся у них деревень и крестьян, выс-
тавлять и содержать известное количество солдат. Пошли-
ны, которые царь получает на границах и в важнейших
торговых городах, также доставляют ему большую выгоду.
Нам рассказывал видный немецкий купец в Москве, что
гласный торговый город Архангельск однажды в течение
одного года дал невероятное количество денег, а именно
триста тысяч рублей, т. е. шесть тонн [600 000 талеров]
золота. Трактиры и шинки, кабаки или «кружечные дво-
ры», как их теперь называют, доставляют Великому кня-
зю, который один ими владеет во всей стране, чрезвы-
чайное количество денег, так как русские, превыше всякой
меры, преданы питью водки. Раньше были у бояр и вель-
мож в разных местах собственные свои кабаки, которые
они, как это делал и сам Великий князь, сдавали в наймы
частным лицам. Так как, однако, бояре подняли аренду
этим людям слишком высоко, и многие из них должны
были разориться, то в настоящее время издан приказ,
чтобы ни один боярин или вельможа не содержал каба-
ков, но все они взяты на Великого князя, и в каждом
городе учрежден особый дом, откуда получают водку, мед
и пиво, с передачею денег лишь в его царского величе-
ства казну. В Новгороде всегда находились три кабака, из
которых каждый доставлял в год 2 000 рублей, что дает в
общем итоге 12 000 рейхсталеров; при новых порядках сум-
ма получается еще большая. Между тем таких кабаков,
хотя и не все они так прибыльны, имеется в стране до
тысячи. Большие деньги получает он и от соболей и других
мехов, доставляемых из северных стран; этими и другими
товарами он сильно торгует внутри и вне страны; для это-
го он пользуется услугами известных лиц, которыми он
доверяет и товары и большие суммы наличных денег: он
посылает этих людей в соседние страны, особенно в Пер-
сию и Турцию, и велит торговать в пользу своей казны.
У царя имеются здесь и там великолепные земельные
406
именья, которые он отдает в аренду, получая отсюда боль-
шие деньги; так же точно хорошую добычу получает он от
рудника у Тулы, о котором говорится выше.
Хотя доходы Великого князя и велики, зато не плохи
и расходы. Он должен тратиться на ежегодное содержание
стрельцов, которых много на границах (так как мало дру-
желюбия с соседями) и в городах: в одной Москве их
16 тысяч, в казанской области 6 тысяч, получающих в
жалованье поля и земли, а в провинциях повсюду (в об-
щем] гораздо более 100 тысяч человек.
Отдаленные татары, со стороны которых он часто
должен ожидать нападений, приходят ежегодно посоль-
ствами и получают деньги; ему как бы приходится поку-
пать у них мир. Войны, которые он ведет, стоят ему боль-
ших денег, так как ему приходится выступать в поход с
многочисленным войском и содержать на большом жало-
ванье немецких по преимуществу офицеров; жалованье
он всегда уплачивает очень правильно, а иным, которые
этого требуют, выдает его за несколько месяцев вперед;
поэтому-то народ отовсюду так часто и является к нему
на службу. Много средств уходит на посольства иностран-
ных государей, часто посещающие его; иногда подолгу
живут в Москве два, три и более посольств. Пока они на-
ходятся в пределах России, им все содержание отпускает-
ся бесплатно. У него имеется также большой и многочис-
ленный придворный штат; наряду с собственным своим
великолепным столом, он, в Кремле и вне его, кормит
ежедневно до тысячи человек.
Царь обедает — чтобы уже указать и на это — следую-
щим образом. Когда приходит обеденное время, здесь не
трубят к столу, как при других дворах, но особое лицо
бежит в кухню и погреб и кричит возможно громче: «Го-
сударю кушанья!». Тотчас же подают на стол. Его царское
величество садится за стол отдельно, а если патриарх и
другие вельможи призваны покушать с ним, то для них
устраиваются особые столы рядом с его столом. Кушаний
бывает до 50 и более, но не все они подаются на стол
великого князя, а прислужники приподнимают их и
стольник показывает; лишь то, что его царскому величе -
407
ству понравится, подается на стол. Другие же кушанья, в
знак милости, посылаются разным господам и слугам,
как немцам, так и русским, в особенности же господам
докторам, лейб-медикам и лекарям. В настоящее время у
него один лишь лейб-медик, г. Гартман Граман, бывший
с нами в Персии. Этот последний очень осведомлен в гер-
метическом врачевании и влечении болезней всегда имел
большое счастье, — более иных; поэтому не только у его
царского величества он в большой милости, но и бояре,
князья и вельможи очень любят его, уважают и приносят
ему подарки. Он получает правильное денежное жалова-
нье в 62 рубля или 124 талера и, кроме того, еще ежегод-
но 300 рублей, что составляет в общем 2 088 талеров,
помимо хлеба в зерне и в печеном виде, солоду, меду и
других вещей для домашнего хозяйства. Когда нужно от-
ворять жилу или давать лекарство, доктору дается еще осо-
бая награда в 100 талеров наличными деньгами, а также
кусок атласу или дамаста, сорок соболей и т. п.
От бояр, князей и других вельмож врачи редко полу-
чают за лечение деньги, но лишь соболей, куски копче-
ного сала, водку или другую провизию. Они ежедневно
должны являться ко двору и бить челом вельможам, в осо-
бенности же своему начальнику — инспектору царской
аптеки, которая содержится весьма великолепно.
Его царское величество содержит также, с большими
расходами, много толмачей для разных языков, а также
много других слуг из немцев и иностранцев. В особенности
много у него высших военных офицеров, частью оставив-
ших свою религию и перекрестившихся; они и в мирное
время получают большое вознаграждение.
У его царского величества между другими его толма-
чами имеется прекрасный человек, по имени Иоганн Бёк-
кер фон Дельден, родом из Копенгагена. Он получил хоро-
шее университетское образование, совершил замечательные
путешествия и знает много языков. В Москве подобного
человека еще не было. У его царского величества он служит
генерал-переводчиком и посылается обыкновенно с его
посланниками при самых важных поручениях. Например,
недавно он находился у его римско-императорского вели-
408
чества в Вене вместе с двумя царскими послами, Иваном
Ивановичем Баклановским, царским дворянином, и Ива-
ном Поликарповым сыном Михайловым, дьяком. В рас-
суждение великолепных его способностей, его император-
ское величество, по особой милости, добровольно одарил
его грамотой на дворянство, как я о том узнал из письма
доброго друга из Вены и по пересланной мне копии.
Во всем прочем у великокняжеских слуг и придвор-
ных, в особенности среди русских, во многих отношени-
ях замечается то же явление, что и при дворах большин-
ства государей. И здесь и там добродетель и порок борются
друг с другом, и последний часто побеждает первую. Не-
которые, имеющие более близкий и частый доступ к го-
сударю, гораздо раздражительнее, своекорыстнее, грубее
и скупее других. Поэтому, чтобы привлечь их на свою сто-
рону, нужно относиться к ним почтительно, приветство-
вать их с поникшею головою и низко опущенною рукою и
делать им подарки, зачастую не ради того, чтобы они что-
либо хорошее сделали, но чтобы они не сделали чего-
нибудь худого. Поэтому немного лет назад жалкое было в
Москве положение: помощью подарков, которые они зо-
вут «посулами», можно было все сделать и всего добить-
ся; при желании можно было даже несомненное право
вырвать из рук у другого или же даже в злейшем деле
сделать правым виновного.
О свадьбе и бракосочетании
Великого князя Алексея Михайловича
Когда вступил на престол Великий князь Алексей
Михайлович и был еще весьма молодым государем, при
нем оставался бывший его гофмейстер и воспитатель Мо-
розов, по воле и хотению которого направлялись и вели-
кий князь и все управление. Прежде всего он привлек на
свою сторону тех, кто могли более всего служить его воле.
Что же касается до родственников его царского величе-
ства, в особенности со стороны матери, бывшей Великой
409
княгини, то он их, — так как и они ведь были влиятель-
ны, — удалил от двора, назначив воеводами и на другие
почетные должности, желая, «наполнить двор людьми
своей партии» и получить возможность распределить важ-
нейшие должности между друзьями, которые должны были
чувствовать себя ему обязанными. Никто из вельмож не
мог превзойти его в прилежном прислуживании и го-
товности всегда быть при молодом царе. Чтобы отвлечь
внимание государя от других вельмож, которые могли бы
затруднить его докучливыми и в этом возрасте еще не-
сносными государственными делами, он очень часто уво-
зил его на охоту и на другие увеселения. Чтобы сохранить
себе милостивое расположение его царского величества,
он стремился вступить с ним в близкое родство. Он сове-
товал его царскому величеству поскорее жениться и что-
бы выбор его пал на лицо средней знатности, к каковым
принадлежал и сам Морозов, он предложил ему в жены
дочь дворянина, на сестре которой Морозов предполагал
жениться сам. В то время жил некий дворянин, по имени
Илья Данилович Милославский, имевший двух прекрас-
ных дочерей, но не имевший мужского потомства. Этот
Илья неоднократно являлся к Морозову, и прилежно уха-
живал за ним, так что Морозов, не только ради прекрас-
ных дочерей, но и ради его угодливости, очень его полю-
бил. Морозов однажды при удобном случае похвалил царю
красоту обеих этих сестер и вызвал в молодом государе
горячее желание видеть их. Обеих сестер повели наверх к
госпожам сестрам его царского величества, как бы только
для посещения этих последних. Когда его царское величе-
ство их увидел, то почувствовал любовь к старшей из них.
Милославскому было сообщено о милости его царского
величества и о том, что ему быть царским тестем. Милос-
лавский не усомнился тотчас же сказать «да» и поблагода-
рить за высокую честь. После этого ему, так как он был не
особенно богат, на дом были присланы большая сумма
денег и разные драгоценные вещи, чтобы он мог себя и
своих принарядить. Вслед за тем устроилось и бракосоче-
тание, состоявшееся в 1647 г., в 70 день [девятое воскре-
сенье] перед Пасхой, на 22 году жизни невесты. Соверши-
410
лось оно без особой пышности, в тишине, чтобы ни неве-
ста, ни жених не подверглись волшебству — как это дела-
ется и как этого обыкновенно очень боятся.
Через восемь дней после царского бракосочетания
боярин Борис Иванович Морозов справил свадьбу с сес-
трою молодой великой княгини и стал, следовательно,
свояком его царского величества.
Как после царского бракосочетания вели
себя друзья Великой княгини, каков был
полицейской строй, как отправлялось
правосудие и что еще при этом произошло
достопамятного
После того как Илья Данилович Милославский стал
царским тестем, он стал могуществен и велик. Ему дан
был рядом с жилищем его царского величества дом в
Кремле, где он должен был жить вместе с женой своею;
он немедленно же велел этот дом сломать и построить от
основания великолепный дворец. Старые слуги один за
другим должны были уйти, и на их места были поставле-
ны родственники г. Милославского; так как все они успе-
ли наголодаться, то они оказались очень жадными, очень
скупыми и прожорливыми. Особенно отличался один из
них, по имени Левонтий Степанович Плещеев, назна-
ченный верховным судьею земского двора или ратуши. Он
обирал простонародье и драл с него паче всякой меры;
подарками нельзя было насытить его. Когда тяжущиеся
стороны являлись к нему в канцелярию, он выматывал у
них даже мозг из костей, так что и та и другая сторона
становились нищими. Он нанимал негодяев для того, что-
бы они ложно доносили на честных людей, имевших не-
которые достатки, и обвиняли их; обвинения взводились
то в кражах, то в убийствах и других злодеяниях. После
этого бедных людей заключали в тюрьмы, обходились с
ними тиранически и держали так несколько месяцев, до-
411
водя почти до отчаяния. Тем временем безбожные слуги
его должны были войти в переговоры с друзьями аресто-
ванных и под секретом давать им мудрые советы, как им
вновь выбраться на свободу. Через подобных воровских
помощников он торговался относительно того, сколько
они должны были дать ему. Сам же он не удостаивал при-
ема никого ни из обвиненных, ни из друзей их.
В числе подобных безбожных чиновников находился
и некий Петр Тихонович Траханиотов, шурин Плещеева,
так как Плещеев был женат на родной сестре Тихоновича.
Этот последний дошел уже до степени окольничего, что
является ближайшим чином перед боярином или госу-
дарственным советником. Он был назначен начальником
пушкарского приказа, и имел в своем ведении стрелков
из ружей, ружейных мастеров, пушкарей и всех служив-
ших в цейхгаузе. Обходился он с ними весьма немилосер-
дно и не выдавал им заслуженного за работу вознаграж-
дения. В Москве принято, чтобы, по приказанию Великого
князя, ежемесячно все царские чиновники и ремеслен-
ники получали в срок свое жалованье; некоторым оно даже
приносится на дом. Он же заставлял людей ждать целыми
месяцами, и когда они, после усиленных просьб, нако-
нец, получали половину, а то и менее еще того, они дол-
жны были выдавать расписку в получении всего жалова-
нья. Кроме того, были устроены разные стеснения для
торговли и были заведены многие монополии; кто боль-
ше всего приносил подарков Б[орису] Ивановичу] Мо-
розову], тот, с милостивою грамотою, веселый возвра-
щался домой.
Еще один [из чиновников] предложил готовить же-
лезные аршины с орлом в виде клейма. После этого каж-
дый, кто желал пользоваться аршином, должен был по-
купать себе за 1 рейхсталер подобный аршин, стоивший
на самом деле только 10 «копеек», шиллинг или 5 грошей.
Старые же аршины, под угрозой большой пени, были
воспрещены. Эта мера, проведенная во всех провинциях, .
доставила доход во много тысяч талеров.
Еще иной, желая выслужиться перед казною его цар-
ского величества и снискать себе расположение, предло-
412
жил, чтобы во всей России с соли, стоившей первона-
чально за пуд (т. е. 40 фунтов) 2 «гривны» или 10 грошей,
бралась еще 1 «гривна» или пять грошей пошлин. Он вы-
числил также, сколько тысяч подобный налог принес бы
ежегодно в казну его царского величества. Однако через
год пришлось вычислять, сколько тысяч было потеряно
на соленой рыбе (ее в России употребляют в пищу больше
мяса), которая сгнила, не будучи, из-за дороговизны соли,
просолена как следует. Соли, кроме того, стало прода-
ваться гораздо меньше, и, оставаясь в пакгаузах, она, по
необходимости, превращалась в рассол [от сырости] и
расплывалась.
Из-за этих больших тягот и невыносимых притесне-
ний простой народ стал выражать недовольство. Утром и
вечером у церквей происходили сборища, причем сове-
щались, как быть с этою невзгодою. Было ясно, что наи-
более близкие к его царскому величеству люди не желали
слушать никаких жалоб и еще того менее хотели отменить
тяготы; поэтому все порешили, каждый раз, при выезде
его царского величества или в случае шествия его в про-
цессии от Кремля к городской церкви, выжидать удобно-
го случая, чтобы от имени всей общины передать самому
его царскому величеству некоторые просьбы. При этом
собирались жаловаться на несправедливости Левонтия
Степановича Плещеева и ежедневно совершавшиеся им
дурные поступки и просить, чтобы он был смещен, а на
его место посажен честный человек. Однако, хотя подоб-
ные попытки и делались несколько раз, все-таки всякий
раз бояре, сопровождающие, как это принято, его цар-
ское величество, отнимали у них прошения. Так как его
царское величество не сам читал эти прошения, но ему
лишь кое-что из оных докладывалось, то нужды угнетен-
ного населения ему не становились, как следует, извест-
ны, и никакого по этому поводу решения и не происхо-
дило. Тем временем настроение простонародья все более
и более ожесточалось, люди стали с жалобами и плачем
собираться перед церквами и постановили, если еще раз
представится случай, устно передать о своих нуждах и
жалобах его царскому величеству. Тут случилось, что в 1648
413
году, 6 июля, справлялся обычный праздник, во время
которого его царское величество со всеми боярами и вель-
можами отправился, по их обычаю, в расположенный в
городе Сретенский монастырь. В это время бесчисленное
множество простого люда собралось на большой рыноч-
ной площади и на всех улицах, по которым шла процес-
сия. Когда после богослужения его царское величество
поехал обратно, простой народ насильно прорвался к
нему, схватил лошадь его царского величества за уздцы,
просил о выслушании, жаловался и громко кричал о Пле-
щееве и его несправедливостях, не переставая упрашивал
сместить его и назначить на его место честного, добросо-
вестного человека, так как, в противном случае, народу
придется погибать. Его царское величество, испуганный
этим неожиданным обращением к нему и такими жалоб-
ными просьбами всего народа, любезно заговорил с ним,
предлагая успокоиться и обещая рассмотреть дело и дать
народу удовлетворение. Народ, успокоенный этим милос-
тивым согласием, благодарил его царское величество и
желал ему доброго здравия и долгой жизни; после этого
его царское величество поехал дальше. Однако некоторые
из расположенных к Плещееву бояр, ехавшие следом,
начали бранить народ и стали бить кнутьями по головам;
иных при этом лошади сбили с ног.
Народ стал хватать, что попадало под руки, стал со-
бирать каменья, которые посыпались на насильников. Эти
последние, не привычные к столь сильному граду в свои
спины, бежали и поспешили к его царскому величеству в
Кремль. Так как народ, гулявший здесь по двору, так же
принял их, то они соскочили с лошадей и еле-еле успели
подняться вверх по большой лестнице, которая ведет в
покои его царского величества, так как обозленный народ
яростно теснил их. Стрельцы, которые ежедневно сторо-
жат на лестнице, до тех пор удерживали народ, пока тес-
нимые не успели спастись в покои великого князя. Тогда
простонародье стало бешенствовать, подобно безумным,
стало буйствовать, кричать и вопить, чтобы ему выдали
Плещеева. Когда тут боярин Борис Иванович Морозов вы-
шел на верхнее крыльцо и начал, именем его царского
414
величества, увещевать народ не требовать этой выдачи, то
в ответ раздались крики: «Да ведь и тебя нам нужно!». Что-
бы спастись от лично ему угрожавшей опасности, Морозов
должен был вскоре уйти. После этого чернь напала на дом
Морозова, великолепный дворец, находившийся в Крем-
ле, разбила ворота и двери; все изрубили, разбили и раста-
щили, что здесь нашлось, а чего не могли унести с собою,
попортили. Одного из главных слуг Морозова, решившего-
ся противостать им, они выбросили из окна верхней ком-
наты, так что он остался лежать мертвым на месте.
Они, правда, застали в доме жену Морозова, но не
нанесли ей никакого телесного вреда, а сказали лишь:
«Не будь ты сестра великой княгини, мы бы изрубили
тебя на мелкие куски». Они выказали такую ярость, что
не пощадили даже святых икон, обыкновенно весьма ими
почитаемых, сорвали с них их украшения из жемчуга и
драгоценных камней и затем выбросили на площадь.
Между прочими драгоценными вещами они разбили
и карету, которая была снаружи и извнутри обита золо-
той парчою, с подкладкою из дорогих соболей; ободки
колес и все, что обыкновенно делается из железа, у этой
кареты было сделано из толстого серебра. Как говорят,
его царское величество подарил ее ему в качестве свадеб-
ной кареты.
Некоторые забрались в погреб к бочкам меду и вод-
ки, напились здесь, а чего не могли выпить, разбили,
после чего они ходили выше колен в напитках. Когда огонь,
зажженный во дворе, перекинулся в погреб, эти люди
сгорели вместе с зданием.
После этого грабежа чернь разделилась на несколько
шаек: одни направились к Плещееву, другие к Тихонови-
чу, иные к государственному канцлеру, еще другие к иным
людям, которые считались подозрительными, — даже к
писцам и вообще всем, хоть сколько-нибудь бывшим в
дружбе и общении с ненавистными. Чернь разграбила их
дворы, растащив и испортив все, что попало ей под руки.
Они застали великолепные предметы и большие богат-
ства, особенно в доме Морозова. Жемчуг мерили они при-
горшнями, продавая полную шапку за 30 талеров, а чер-
415
но-бурую лисицу и пару прекрасных соболей за полталера.
Золотую парчу они резали ножами и распределяли между
собой.
Государственному канцлеру [думному дьяку] Назарию
Ивановичу Чистому (который, как уже сказано, забрал
торговлю солью в собственные свои руки и так высоко
поднял налог на нее), за три дня до этого события, когда
он собрался домой, в Кремль, повстречалась бешеная
корова, которая испугала его лошадь, так что он упал и
полумертвый был унесен домой. Вследствие этого паде-
ния он лежал в постели. Когда он, однако, узнал, что
народ разграбил дом Морозова, и легко мог сообразить,
что и его, как выдающегося притеснителя, также посе-
тят, он выбрался из кровати и полез на чердак под бан-
ные веники (связанные из березовой листвы вроде метлы
и сохраняемые в течение года для пользования ими в бане,
как указано выше). Он велел также, чтобы его мальчик-
прислужник положил поверх его несколько кусков копче-
ного сала. Мальчик, однако, изменил своему господину,
выдал его, забрал с собою несколько сот дукатов и на-
правился в Нижний Новгород. Рассвирепевший народ бро-
сился в дом, вытащил Назария из-под веников, потащил
его за ноги вниз по лестнице на двор, исколотил его пал-
ками до смерти, причем голова его была так разбита, что
его больше нельзя было узнать. Затем его кинули в навоз-
ную яму и набросали на него ящиков и сундуков. Неспра-
ведливость и злобный нрав этого Назария к нам лично
пришлось нам испытать еще в наше время. Так как он
очень много значил перед знатнейшими при дворе и не
получил тотчас же желательные ему от нас подарки, то
он сильно мешал нам в наших предприятиях.
В то время как этот грабеж происходил вне Кремля,
Кремль был заперт, а на другое утро, рано, а именно 7 июля,
всем немецким офицерам под секретом было сказано, чтобы
они собрались и хорошо вооруженные сразу явились в
Кремль: мятежная чернь все еще продолжала по временам
подступать к Кремлю. Когда, во исполнение этого требова-
ния, немцы собрались в большом числе, то приходилось
удивляться, как мятежники охотно уступали им место,
416
любезно говоря: «Вы, честные немцы, не делаете нам зла,
мы ваши друзья и вовеки не намерены совершить вам что-
либо злое». Перед тем они же раньше часто спорили с нем-
цами и вели себя недружелюбно с ними. Кремлевские во-
рота были отперты, немцев впустили, и они тотчас же для
охраны Кремля разместились по разным постам и стали на
страже. После этого его царское величество выслал своего
двоюродного брата великого и хвального вельможу Никиту
Ивановича Романова, которого народ, ради доброй его
славы, очень любил; он должен был попытаться смягчить
обозленные умы и восстановить спокойствие. С обнажен-
ной головою он вышел к народу (который отнесся к нему
весьма почтительно и называл его отцом своим) и трога-
тельно изложил, как его царское величество горестно ощу-
щает все эти бедствия, тем более что он ведь, в предыду-
щий день, обещал народу прилежно рассмотреть все эти
дела и дать им милостивейшее удовлетворение. Он сооб-
щил, что «его царское величество вновь велит все эти свои
слова повторить и обещает все сделать для народа и, не-
сомненно, сдержит свое обещание; поэтому они могли бы
тем временем успокоиться и хранить мир». На это народ
ответил: «Они очень довольны его царским величеством,
охотно готовы успокоиться, но не раньше как его царское
величество выдаст им виновников этого бедствия, а имен-
но боярина Бориса Ивановича Морозова, Левонтия Сте-
пановича Плещеева и Петра Тихоновича Траханиотова,
чтобы эти лица, на глазах у народа, понесли заслуженную
кару». Никита поблагодарил за ответ и за то, что они хра-
нят верность его царскому величеству, и высказался в том
смысле, что можно согласиться с ними и должным обра-
зом доложить о требовании ими этих трех лиц. Он, однако,
поклялся перед ними, что Морозова и Петра Тихоновича
уже нет в Кремле, а что они бежали. Тогда они просили,
чтобы им в таком случае немедленно выдали Плещеева.
Никита затем попрощался с народом и поехал обратно в
Кремль.
Из Кремля вскоре получено было известие, что его
царское величество постановил немедленно выдать Пле-
щеева и согласился на казнь его на глазах народа; если же
14 Зак. 1918
417
найдутся и остальные, то пусть и с ними будет поступле-
но по справедливости. Приказано было доставить на место
палача для казни. Народ, не мешкая, привел поспешно к
воротам палача с его слугами, и они тотчас же были впу-
щены. Тем временем народ, посовещавшись, решил, что-
бы те из него, у кого есть лошади, партиями ездили взад
и вперед по дорогам вне города, дабы разыскать и доста-
вить в город беглецов.
Палач, пробыв еле с четверть часа в Кремле, вышел
обратно, ведя Плещеева. Как только взбешенный народ
его завидел, он не в силах был обождать привода его на
лобное место, прочтения ему приговора и имевшей уже
затем последовать казни. Напротив, на него набросились
и под руками у палача Плещеев был дубинками забит до
смерти; голова его была превращена в кашу, так что мозг
брызгал в лицо [бьющим]. Одежду его разорвали, а голое
тело протащили на площади в грязи, приговаривая: «Так
будет поступлено со всеми подобного рода негодяями и
ворами. Бог да сохранит на многие лета во здравии его
царское величество!». Потом труп бросали в грязь и на-
ступали на него ногами. Наконец, пришел монах и отру-
бил остатки головы от туловища, говоря: «Это за то, что
он однажды велел меня безвинного высечь». Боярин Бо-
рис Иванович Морозов, согласно со словами Никиты,
искал спасения в бегстве, но возчики и ямщики, кото-
рые заградили ему путь, увидели его и погнали его об-
ратно; он, однако, к большому своему счастью, спасся
от них, и по тайному ходу пробрался в Кремль, так что
никто из преследователей не заметил его. Чтобы, одна-
ко, народ видел, что его царское величество серьезно
желает захватить беглецов, царь послал князя Семена
Пожарского с некоторыми людьми разыскивать Петра
Тихоновича. Они и настигли его у Троицкого монасты-
ря, в двенадцати милях от Москвы, и 8 июля доставили
назад в Москву, но не в Кремль, а на Земский двор. Как
только это сообщено было его царскому величеству, тот-
час же велено было палачу повести его на рыночную
площадь; ему положили деревянное полено под голову и
отрубили топором голову. Это обстоятельство вновь не-
418
сколько успокоило разгоряченные умы, все благодарили
его царское величество за доброе правосудие, желали ему
долгой жизни и требовали, чтобы с Морозовым было
поступлено так же. Так как, однако, народ знал, что воз-
чики видели Морозова на улице, но что он от них бе-
жал, то, не зная его убежища, никто не мог требовать
столь же немедленной его выдачи. Поэтому выражено было
только пожелание, чтобы их требование было удовлетво-
рено, как только он найдется. Им и это было обещано.
После этого чернь несколько успокоилась, и все стало
тихо. Все эти события произошли незадолго до полудня.
Вскоре после полудня на Дмитровке, на Тверской и в
разных иных местах возникли пожары. Свирепый народ,
более ради воровства, чем ради спасания, поспешил сюда.
Пожар был весьма жестокого свойства; он уничтожил
все, что было внутри Белой стены вплоть до реки Не-
глинной. Огонь перекинуло и через Неглинный мост в
пределы Красной стены к большому, лучшему из каба-
ков великого князя, где продавалась водка. Вследствие
этого весь город, в том числе и самый Кремль, оказался
в сильнейшей опасности. Не было ни одного человека,
который желал бы спасать или мог бы спасать, так как
все были пьяным-пьяны от водки, которую они во вре-
мя пожара добыли из погребов. Из бочек, которые были
слишком велики для вытаскивания, они выбивали до-
нья, зачерпали водку шляпами, шапками, сапогами и
рукавицами, и напились при этом так, что улицы почер-
нели, покрывшись лежавшими здесь пьяными, и мно-
гие, потерявшие совершенно сознание, задохлись от дыма
и пара и сгорели.
Немного дней спустя его царское величество велел
стрельцов, составлявших отряд его телохранителей, угос-
тить водкою и медом. Точно так же и тесть Великого кня-
зя, Илья Данилович Милославский, выказал любезность
и доброту к знатнейшим гражданам, стал ежедневно при-
нимать несколько человек из цехов, по очереди, к себе во
двор, обходился с ними милостиво и старался приобрес-
ти расположение главарей. Патриарх также приказал по-
пам и священникам, чтобы они смягчали возмущенный
419
нрав народа. Его царское величество также заместил ва-
кантные должности и места людьми умными, благочес-
тивыми и пользовавшимися сочувствием народа.
Когда теперь увидели, что эта печальная непогода и
буря в общем улеглись, и стали полагать, что все подго-
товлено для мирного, улучшенного положения, его цар-
ское величество в день, когда происходит процессия, ве-
лел вызвать народ, чтобы он явился перед ним у помоста
вне Кремля, причем присутствовал здесь и вельможа Ни-
кита Иванович Романов. Его царское величество стал гово-
рить речь. Он выразил сильное сожаление, что народ, без
его ведома, испытал такие бедствия со стороны безбожных
Плещеева и Тихоновича, ныне получивших заслуженное
воздаяние. Он сказал далее, что ныне на их места назначе-
ны благочестивые люди, которые будут кротко и справед-
ливо управлять народом и соблюдать пользу и благосостоя-
ние народные, находясь под бдительным его, царя, оком.
Усиленный налог на соль, по его слову, должен также быть
отменен. Царь обещал также, при первой возможности, взять
обратно выданные им милостивые грамоты о монополиях;
кроме того, он обещал расширить и увеличить их привиле-
гии и те льготы, какие у них были. Кроме того, он сказал,
что во всем будет, как отец отечества, и царской своей
милости благосклонен народу. После этого народ низко
наклонил перед ним свои головы и пожелал царю долгой
жизни. Затем царь продолжал: что же касается личности
Бориса Ивановича Морозова, которого он также обещал
им выдать, то он не желает его вовсе обелять, но, тем не
менее, не может счесть его виновным во всем решительно.
Он желал бы верить, что народ, у которого он еще ни разу
ничего особенного не просил, исполнит эту первую его
просьбу и простит Морозову на этот раз его проступки;
сам он готов быть свидетелем, что Морозов отныне выка-
жет им только верность, любовь и все доброе. Если же на-
роду угодно, чтобы Морозов более не занимал должности
государственного советника, то он сложит ее с него, лишь
бы ему не пришлось выдавать головою того, кто, как вто-
рой отец, его воспитал и возрастил. Он не мог бы перене-
сти этого и надеется, что они не будут, как до сих пор,
420
требовать от него такого поступка. Когда слезы, во свиде-
тельство сильной любви к Морозову, показались в глазах
его царского величества и как бы заключили его речь, на-
род посовещался и начал затем весьма громко кричать: «Бог
да сохранит на многие лета во здравии его царское величе-
ство. Да будет то, чего требуют Бог да его царское величе-
ство!» После этого его царское величество столь же сильно
повеселел, как он раньше печалился, когда народ требо-
вал головы Морозова27. Он благодарил народ за это реше-
ние, увещевал его быть спокойным и послушным и ска-
зал, что сам он всегда будет верен тому, что он теперь
обещал. После этого его царское величество, со своими
провожатыми и с лицами, шедшими в процессии, вновь
мирно вернулся в Кремль.
Немного спустя его царское величество отправился в
монастырь Св. Троицы, и Морозов поехал с ним, очень
низко и униженно кланяясь народу по обе стороны лоша-
ди. После этого, кто бы ни подавал прошения или просьбы
его царскому величеству через Морозова, никому не было
отказа, если хоть что-нибудь могло быть сделано. Досто-
верные свидетельства также доказывают, что он стал те-
перь великим покровителем и благодетелем немцев так
же, как и русских.
Такой опасности в то время подверглось счастие как
молодого правителя, так и подданных его ввиду того, что
несправедливым и своекорыстным чиновникам дана была
воля. И вот, следовательно, каков, при всем рабстве, нрав
русских, когда их сильно притесняют; впрочем, об этом
было сказано и выше.
О боярах или государственных советниках,
окольничих и других заседающих в судах
должностных лицах
В настоящее время управление и гражданский строй в
России поставлены несколько лучше, и в самых судах и в
правосудии наблюдаются иные формы, чем раньше. Хотя
421
Милославский и Морозов и значат много, а патриарх вво-
дит одно новшество за другим, тем не менее и другие
вельможи в определенных государственных и частных де-
лах имеют определенные предметы для заведывания, со-
образно своему состоянию и своей должности.
В настоящее время при дворе обыкновенно имеется 30
бояр или государственных советников, изредка человека
на два больше или меньше. Во времена Шуйского, гово-
рят, было 70 бояр. С год назад, когда должна была начаться
война под Смоленском, в Москве насчитывалось 29 бояр.
Они обслуживают и вершат все придворные, государствен-
ные и частные дела в высшем и низшем, тайном и обык-
новенном советах, а также в канцеляриях (приказах).
За ними следуют окольничие, из среды которых из-
бирают бояр, за ними следуют шесть «думных дворян»,
которых они называют сынами [детьми] боярскими; это
как бы их гофъюнкеры.
Думных дьяков имеется трое.
Они обслуживают и вершат все придворные, госу-
дарственные и частные дела в высшем и низшем, тайном
и обыкновенном советах, а также и в канцеляриях [при-
казах] .
Порядок, в котором они при дворе размещают между
собою должности и достоинства, определяется следую-
щими правилами. Раньше высшим и ближайшим к его
царскому величеству местом считалась должность «госу-
дарственного конюшего». Со времени великого князя
Шуйского до сих пор эта должность не замещалась.
Затем следует должность «дворецкого» — гофмейсте-
ра, которая теперь высшая из всех; дворецкий ведает все,
касающееся дворцового ведомства и придворного быта, а
в особенности все, что относится к царскому столу. Тре-
тье место занимает «оружничий», имеющий под своей
властью все императорское [царское] личное оружие, и
холодное и огнестрельное, а также лошадей, драгоценно-
сти и вещи для украшений и процессий. Затем следуют
«бояре», «окольничие», «думные дьяки» или государствен-
ные канцлеры, «постельничий», устраивающий импера-
торскую [царскую] постель, «комнатный с ключем», цар-
422
ский камергер, «кравчий» или форшнейдер и мундшенк,
«стольники», прислуживающие за столом дворяне, «стряп-
чие», т. е. ездовые гофъюнкеры, обязанные везде выезжать
с его царским величеством, «дворяне» или простые гофъ-
юнкеры, «жильцы» или пажи, «дьяки», т. е. секретари кан-
целярий, обыкновенно у них называемые подканцлера-
ми, и «подьячие» или писцы в приказах или канцеляриях.
Большая часть государственных советников и других
придворных чиновников — князья и богатые господа, име-
ющие собственные великолепные земли и людей; они,
однако, не имеют права лично управлять этими землями,
но должны поручать управление своим гофмейстерам,
служащим и управляющим. Сами они обязаны жить в
Москве, ежедневно являться ко двору, и даже в тех слу-
чаях, когда дела у них никакого нет, все-таки бить челом
перед его царским величеством. Делается это с тою це-
лью, чтобы они, живя в поместьях у своих подданных, не
предприняли заговора против его царского величества.
Они живут в великолепных домах и дворцах, соблю-
дают большую пышность, являются на улицах в прекрас-
ном убранстве, одетые в весьма дорогие одежды; при этом
рядом с лошадьми и санями их бегут многие слуги и рабы.
Когда они едут верхом, у луки седла у них имеются не-
большие литавры, несколько больше 1/4 локтя; они бьют
в эти литавры рукояткою кнута, чтобы народ, толпящий-
ся на улицах, а в особенности на рыночной площади и
перед Кремлем, расступался перед ними.
Князья же, живущие в деревнях и иногда не имею-
щие средств, чтобы жить сообразно своему состоянию,
ведут гораздо худший образ жизни, так что часто, не зная
их по другому чему-либо, трудно обнаружить их среди
крестьян.
Когда перечисленным боярам и государственным со-
ветникам приходится обсуждать какие-либо государствен-
ные и иные важные дела, то эти собрания и совещания
свои они имеют после полуночи, сходясь около 1 или 2 часа
в Кремль и возвращаясь к полудню, часам к 9 или 10.
Никаких решений, мнений, приказаний, договоров,
назначений и т. п., издаваемых от царского имени, его цар-
423
ское величество не подписывает лично — как о том уже
сказано выше. Все подписывается боярами и государствен-
ным канцлером и [лишь] скрепляется царскою печатью. Если
же Великий князь заключает мир или договор с соседними
государями и должен подтвердить свое мнение, то это де-
лается помощью присяги и целования креста.
О различных канцеляриях в Москве
и о их делопроизводстве
Государственные советники и бояре не только при-
влекаются ко двору для государственных дел, но служат и
в канцеляриях для гражданских дел и судопроизводства.
Таких канцелярий, которые русские называют «приказа-
ми», в Москве насчитывается 33. Я их приведу здесь, на-
зывая одновременно и лиц, ныне ими заведывающих.
1. «Посольской приказ», где рассматриваются госу-
дарственные дела, дела всех послов и гонцов, а также дела
немецких купцов. Здесь «думным дьяком» или канцлером
Алмаз Иванов.
2. «Розрядный приказ», где регистрируются имена и
роды бояр и дворян и записывается прибыль и ущерб,
понесенные в военное время. Заведывающим им является
«думный дьяк» Иван Афанасьевич Гавренев.
3. «Поместной приказ», где записываются наследствен-
ные и земельные имения, разбираются тяжбы из-за них и
уплачиваются царские пошлины при продаже. Заведыва-
ющий — Федор Кузьмич Елизаров.
4. «Казанской приказ» и 5. «Сибирской приказ». В обо-
их слушаются и выдаются дела, касающиеся царств и зе-
мель Казани и Сибири. Здесь же ведаются доходы и расхо-
ды на соболя и другие меха. Заведывающий — князь Алексей
Никит[ов]ич Трубецкой.
6. «Дворцовой приказ», где ведаются все дела, касаю-
щиеся двора и его содержания. Заведывающий - боярин
[Василий] Васильевич Бутурлин. [7.]
8. «Иноземской приказ», которому подсудны все ино-
424
странные военачальники и полковники и где им в мирное
время отдаются приказания. Здесь также распоряжается
тесть царский — Илья Данилович Милославский.
9. «Рейтарской приказ», которому подсудна и от ко-
торого получает приказания и жалованье вся из туземцев
навербованная конница [рейтары]. Эти рейтары все из бед-
ного дворянства и имеют свои ленные имения. В год они
получают 30 рублей или 60 рейхсталеров. И этот приказ
подчинен Илье.
10. «Большой приход», где все сборщики пошлин, со
всей России, должны ежегодно отдавать свой отчет. Из
этого «приказа» наблюдают за тем, правилен ли вес хлеба
и соответствует ли он цене пшеницы и ржи; точно также,
всегда ли дается в винных погребах с продажею разных
иностранных вин верная мера по дешевой цене. Из этого
же приказа все иностранцы, находящиеся на дворцовой и
военной службе его царского величества, аккуратно по-
лучают свое ежемесячное жалованье, равно как и жалова-
нье годовое, уплачиваемое около Рождества. Здесь началь-
ником боярин князь Михаил Петрович Пронский.
11. «Судной володимирской приказ», которому под-
судны все бояре и московитские вельможи. Кто желает
обвинять их, должен заявиться сюда; здесь производится
и суд, если дело частного характера. Боярин князь Федор
Семенович Куракин заведывает этим приказом.
12. «Судной московской приказ», которому подсудны
стольники, стряпчие, дворяне и жильцы, т. е. дворяне,
прислуживающие за столом или в дороге, простые дворя-
не и пажи. Их судья — тот же боярин.
13. «Разбойной приказ», где производятся заявления,
следствия, пытка, и, по качеству дела, говорятся и при-
говоры по уличным разбоям, убийствам, кражам и наси-
лиям в городе и вне его. Высшее лицо в этом приказе —
боярин князь Борис Александрович Репнин.
14. «Пушкарской приказ», которому подведомствен-
ны все, кому приходится заниматься орудийным и коло-
кольным литьем и вообще военными вооружениями. Та-
ковы литейщики, кузнецы, точильщики сабель; пушкари,
мушкетеры, мастера ружейные и пистолетные; не только
425
суд и расправа, но и выдача жалованья им производятся
здесь. Начальником здесь, на место безбожного Петра Ти-
хоновича, поставлен боярин князь Юрий Алексеевич Дол-
горукой.
15. «Ямской приказ», которому подведомственны все
царские гонцы, «подводы» и возчики, которых зовут «ям-
щиками»; они здесь получают плату. Здесь же делаются
назначения и выплаты тем, кто путешествуют по делам
его царского величества, смотря по содержанию милос-
тиво дарованных им паспортных листов. Здесь начальни-
ком окольничий Иван Андреевич Милославский.
16. «Челобитной приказ», где можно принимать жа-
лобы и призывать к суду всех дьяков, секретарей, писцов,
старост и придверников в приказах. Начальник его — околь-
ничий Петр Петрович Головин.
17. «Земской двор» или «Земской приказ», где все го-
рожане города Москвы и простонародье имеют право жа-
ловаться друг на друга в случае несправедливостей. Так же
точно в этом приказе должны производиться измерение,
уплата пошлин и запись всех домов и площадей, какие в
Москве покупаются и продаются. Ежегодно сюда вносят-
ся и уплачиваются налоги на дома, мостовые и воротные
деньги и то, что должно идти на содержание валов город-
ских. Начальник его — окольничий Богдан Матвеевич Хит-
рово.
18. «Холопей приказ», где составляются особые гра-
моты, у них называемые «кабалами», о тех людях, кото-
рые идут в крепостную зависимость к кому-либо другому.
Заведывающий им — Степан Иванович Исленев.
19. «Большой казны приказ», который заведывает зо-
лотою и серебряною парчою, бархатом и шелком, сукном
и разными материями, необходимыми для дворцового
убранства или же для подарков, в виде привета от его
царского величества вновь назначенным чиновникам или,
в виде милости, другим лицам.
Под этим «приказом», расположенным в Кремле,
находятся многие глубокие и большие погреба и камен-
ные своды, где складываются и хранятся казна государ-
ства и все доходы городов, пошлины и ежегодные остат-
426
ки от расходов в «приказах». Все это находится под рукою
и надзором царского тестя Ильи Даниловича Милославс-
кого.
20. «Казенной приказ», которому подсудны все «гос-
ти» и наиболее выдающиеся русские купцы и торговцы.
И здесь тот же Илья начальником.
21. «Монастырский приказ», где ведаются монахи,
попы и другие клирики и должны судиться в делах свет-
ских. Здесь начальником — окольничий князь Иван Васи-
льевич Хилков.
22. «Каменной приказ», канцелярия плотников, ка-
менщиков и мастеров строительных работ, где все эти люди
получают суд и расправу и вознаграждение свое. Это —
большой двор, в котором всегда имеется большой запас
всяких необходимых для царского строительства материа-
лов, как-то: дерева, камня, извести, железа и т. п. Госпо-
дином и наблюдателем здесь является дворянин Яков
Иванович Загряжской.
23. «Новгородской четверти» [приказ], куда вносятся
и где исчисляются все доходы по Великому Новгороду и
Нижнему Новгороду. Здесь же рассматриваются и реша-
ются затруднения этих городов, а иногда и тяжбы их го-
рожан. Хотя, как выше сказано, от провинциального вое-
водского суда никакие апелляции ко двору не допускаются,
тем не менее [жители] пускаются на такие уловки: если,
начав дело в местных канцеляриях, они замечают, что
«собака начинает хромать», они не дают делу дойти до
решения, но направляются с ним в Москву в приказы,
которые их касаются. Начальник этого приказа — думный
дьяк или государственный канцлер Алмаз Иванович.
24. «Галицко-Володимирский приказ», где исчисля-
ются доходы провинций Галича и Володимира и где выслу-
шиваются нужды и жалобы этих провинций. Начальник
этого приказа — окольничий Петр Петрович Головин.
25. «Новая четверть», куда все кабаки, трактиры или
шинки из всех провинций доставляют свои доходы и сдают
отчетность. Отсюда же «кружечные дворы» или трактиры
вновь снабжаются водкою и другими напитками. Также,
если кто из других русских оказывается уличенным в том,
427
что он тайно продавал водку или табак, то его здесь обви-
няют и наказывают. Ведь, как выше сказано, русским под
страхом сурового наказания воспрещено продавать или
«пить» табак. Пойманные нарушители этого постановления,
смотря по положению своему, или наказываются высокою
денежною пенею, или кнутом и ссылаются в Сибирь. Нем-
цам же разрешается свободно курить табак и продавать его
друг другу. Начальствует в этом приказе Богдан Матвеевич
Хитрово.
26. «Костромской приказ», куда относится заведыва-
ние доходами и судебными делами Костромы, Ярославля
и примыкающих к ним городов. В этом приказе заседает
боярин и обер-цейхмейстер Григорий Гаврилович Пуш-
кин.
27. «Устюжской приказ», куда относятся поступления
и судебные дела по Устюгу и Холмогорам. Здесь начальни-
ком окольничий князь Димитрий Васильевич Львов.
28. «Золотой и алмазной приказ», где приготовляют-
ся, складываются и оплачиваются драгоценные камни,
драгоценности и иные золотые и серебряные изделия,
приготовляемые немецкими золотых и серебряных дел
мастерами; здесь же и подсудны эти мастера. Патрон их
тот же Григорий Пушкин.
29. «Ружейной приказ», где хранится все император-
ское [царское] вооружение и оружие для военных целей,
а также разные украшения для процессий и торжествен-
ных случаев. Здесь же находится цейхгауз или оружейная
палата. Те, кто имеют дело с подобными предметами, под-
судны этому приказу. И им заведует тот же Пушкин.
30. «Аптекарской приказ», где находится царская апте-
ка. Лейбмедики, цирюльники, аптекари, дистилляторы и
все, кто к этим делам прикосновенны, должны ежедневно
являться сюда и спрашивать, не требуется ли что-либо по
их части. При этом они должны бить челом патрону, сто-
ящему во главе этого учреждения, — Илье Даниловичу
Милославскому.
31. «Таможенной приказ», т. е. таможня, где заседает
один из «гостей» с несколькими помощниками для при-
ема пошлин со всех товаров. В конце года он отдает отчет
428
другому приказу — Большому приходу, и тогда другой
«гость» назначается на его место.
32. «Сбору десятой деньги приказ», куда поступает
десятая деньга, которую согласились отпускать на войну.
Этот приказ теперь подчинен боярину Михаилу Петрови-
чу Пронскому и за ним окольничему Ивану Васильевичу
Олферьеву.
33. «Сыскной приказ», где заявляются и решаются все
непривычные новые дела, не подведомственные другим
приказам. Здесь начальником князь Юрий Алексеевич Дол-
горукой.
До сих пор приводились приказы от канцелярии его
царского величества [и указывалось], что в них рассмат-
ривается и кто стоит во главе их. Помимо их имеются еще
три особых приказа у патриарха, а именно:
1. «Розряд», где регистрируются и записываются ду-
ховные владения; здесь же находятся и архивы их.
2. «Судный» [приказ], где патриарх производит свой
духовный суд и расправу.
3. «Казенной» [приказ], где складываются и хранятся
патриаршьи казна и ежегодные доходы.
Во всех приказах царя и патриарха находится очень
много писцов, пишущих красивым почерком и довольно
хорошо обученных, по их способу, счетному искусству.
Вместо марок для счета употребляют они косточки от слив,
которые каждый имеет при себе в небольшом кошельке.
Брать подарки, правда, воспрещено всем под угро-
зою наказания кнутом, но втайне это все-таки происхо-
дит; особенно писцы охотно берут «посулы», благодаря
которым часто можно узнавать и о самых секретных де-
лах, находящихся в их руках. Иногда они даже сами идут к
тем, кого данное обстоятельство касается, и предлагают
им за некоторое количество денег открыть дела. При этом
часто они допускают грубый обман, сообщая вымышлен-
ное вместо истинного, частью из боязни опасности для
себя в случае, если дело выйдет наружу, частью же вслед-
ствие незнания дела.
Акты, процессы, протоколы и другие канцелярские
вещи они записывают не в книги, а на длинных бумаж-
429
ных свитках. Для этой цели они разрезают поперек целые
листы бумаги, приклеивают потом полосы друг к другу и
свертывают в свитки. Иной из свитков длиною в 20, 30,
даже 60 и более локтей. В канцеляриях можно видеть весь-
ма много их, грудами сложенных друг над другом.
О русском судопроизводстве,
правосудии и видах наказаний
Что касается дел юстиции, то они решаются в только
что указанных канцеляриях. Каждый боярин или назна-
ченный сюда судья имеет при себе дьяка или секретаря, а
также нескольких заседателей; перед ними выступают тя-
жущиеся стороны, подвергаются выслушанию и осужде-
нию. Раньше у русских было лишь весьма немного писа-
ных законов и обычаев, установленных разными Великими
князьями, притом исключительно по отношению к из-
менникам перед отечеством, преступникам по оскорбле-
нию величества, ворам, убийцам и должникам. Во всем
остальном они, большею частью, поступали по собствен-
ному произволу и иногда произносили приговор смотря
по тому, были ли расположены или враждебно настроены
к подсудимому. Однако немного лет тому назад, а именно
в 1647 г., по повелению его царского величества, должны
были собраться умнейшие люди со всех состояний с тем,
чтобы составить и написать несколько законов и статутов,
которые затем его величеством и боярами были утвержде-
ны и по-русски, для публичного пользования, отпечата-
ны; это — книга in-foio, толщиною с добрых два пальца,
и называется «Соборное уложение», что значит «Соглас-
ное и собранное право». Теперь они по этому своду поста-
новляют или хотя бы должны постановлять свои решения.
Так как все это делается именем его царского величества,
то прекословить никто не имеет права, и апелляция не
допускается.
Раньше тяжущимися велись такого рода процессы.
Если один другого обвинял и ничего не мог доказать, то
судья требовал, чтобы дело было решено клятвою. После
430
Присяга
этого спрашивали обвиняемого, от которого зависело ре-
шение: «Берешь ли ты клятву на свою душу или же остав-
ляешь ге на душе обвинителей?» Тот, кому полагалось
принести клятву, должен был три недели подряд, каж-
дую неделю по разу, выслушивать поучения и увещания о
том, что это за великое и опасное дело давать клятву, во-
обще его всячески предостерегали от дачи ее Если он,
тем не менее, приносил клятву, то хотя бы клятва и была
правильна, все-таки все окружающие плевали ему в лицо,
его выталкивали из церкви, где он поклялся, подвергали
презрению, все на него показывали пальцами, ему не
разрешали входить в церковь, ни, тем менее, принимать
причастие, разве только он заболевал опасною болезнью
и в нем замечали верные признаки близкой смерти: толь-
ко в таком случае его могли причастить.
Недавно состоялось такого рода распоряжение. Жела-
ющего принести клятву спрашивают перед иконами их
святых, желает ли он принять клятву на душу и спасение
свое. Если он ответит «да», перед ним держат крестик с
431
пядень длиною. Он знаменует себя сначала крестным зна-
мением и затем целует крест. Потом снимают икону со
стены и подают ему, чтобы он к ней приложился. Если он
клялся правильно, то ему разрешают принять причастие
лишь по истечении трех лет: относятся к нему, однако,
довольно пренебрежительно. Если же станет известно, что
он принес ложную присягу, то его нагого бьют кнутом, а
затем немилосердно ссылают в Сибирь. Он не получает в
этом случае причастия даже при последнем издыхании.
Вот поэтому-то русские неохотно дают клятву, а еще
того менее решаются на нее вторично или в третий раз;
так поступают разве только люди дерзкие и никуда не год-
ные. Зато, однако, у них весьма принято во время общих
сборищ, покупки или продажи уговаривать собеседника
словами: «Вот [тебе] хрест», причем они пальцами, по
своему обычаю, благословляют себя; однако, не всегда
можно верить этому уверению.
У них имеются различные ужасные способы пытками
вынуждать правду. Один из них состоит в следующем: они
связывают руки на спине, поднимают на высоту и приве-
шивают тяжелое бревно к ногам; на бревно это вскакивает
палач и сильно растягивает члены грешнику. Под ногами,
кроме того, зажигается огонь, который жаром своим мучит
ноги, а дымом лицо. Иногда они велят вверху на голове вы-
стричь плешь, а затем дают на нее падать по каплям холод-
ной воде; говорят, получается невыносимое мучение. Иных
они, смотря по состоянию дела, велят еще бить кнутом при
этой пытке и проводят раскаленным железом по их ранам.
Если судится дело о побоях, то обыкновенно того,
кто ударил первым, обвиняют, а правым считают того,
кто первый принес жалобу.
Убийца, который не из самообороны (эта последняя
разрешается), но с заранее обдуманным намерением убил
кого-либо, бросается в темницу, где он в течение шести
недель должен каяться при суровых условиях жизни; за-
тем ему дают причастие и после этого казнят отсечением .
головы. I
Если кто-либо обвинен и уличен в воровстве, его j
все-таки подвергают пытке, [чтобы узнать], не украл ли з
432
он еще что-либо; если он больше ни в чем не сознается
и провинился в первый раз, то его бьют кнутом по доро-
ге из Кремля на большую площадь; здесь палач отрезает
ему одно ухо, и его на два года сажают в башню, а затем
выпускают. Если он пойман будет вторично, то ему, по
вышеуказанному способу, отрезают и второе ухо, а за-
тем его уводят на прежнее пристанище, где его держат
до тех пор, пока подобных личностей не наберется боль-
ше; потом их всех вместе отправляют в Сибирь. Никого,
однако, ради воровства, если при этом не было совер-
шено убийства, не карают смертью. Если вор после пыт-
ки признается, кому он продал краденые вещи, то этих
покупателей зовут в суд и требуют от них, чтобы они
дали должное возмещение убытков жалобщику, у кото-
рого вещи украдены. Такую выплату они называют «вы-
тью»; она многих удерживает от покупки подозритель-
ных предметов.
Ни о чем так часто не производится суд, как о долгах
и должниках; не желающих или не могущих произвести
уплату «приставливают», т. е. их заставляют сидеть взапер-
ти в доме какого-либо судейского служителя, вроде как,
например, у нас арестовывают и ставят на послушание.
Если платеж не будет произведен в разрешенный льгот-
ный срок, то должник, кто бы он ни был: русский ли или
иностранец, мужчина или женщина, купец или ремес-
ленник, священник, монах или монахиня, сажается в
долговую тюрьму, и каждый день его выводят перед кан-
целяриею на открытое место, и целый час гибкою пал-
кою, толщиною с мизинец, бьют по голеням, причем
избиваемые зачастую от сильной боли громко кричат.
Иногда бьющий, получивший «посул» или подарок, бьет
лишь слегка и мимо. Иные также кладут толстую жесть
или узкие, длинные деревянные дощечки в сапоги, что-
бы эти приспособления принимали на себя удары.
По вынесении этих мучений и надругательств долж-
ник или опять отсылается в тюрьму, или должен предста-
вить поручителей, что он на следующий день вновь явится
на место и даст себя вновь бить. Подобного рода наказа-
ние они называют «ставить на правеж». Если же должник
15 Зак. 191Я
433
совершенно лишен средств заплатить долг, он становится
рабом кредитора и должен служить ему.
Другие обычные наказания, применяемые против
преступников, состоят в том, что взрезываются ноздри,
даются батоги и кнутом бьют по голой спине. Ноздри взре-
зывались [рвались] у тех, которые пользовались нюхатель-
ным табаком; нам привелось встретить несколько чело-
век, подобным образом наказанных. Батогами каждый
господин может наказать своего слугу или всякого, над
кем он хоть сколько-нибудь властен. Преступника разде-
вают, снимая с него кафтан и одежду, вплоть до сорочки;
потом он должен брюхом лечь на землю. Затем два челове-
ка садятся на него: один на голову, другой на ноги, и
гибкими лозами бьют его по спине; получается такое же
зрелище, как при выколачивании скорняками мехов. По-
добного рода наказание не раз применялось среди рус-
ских, сопровождавших нас, во время нашего путешествия.
Битье кнутом в наших глазах было варварским нака-
занием. Подобное наказание 24 сентября 1634 года я ви-
дел примененным к восьми мужчинам и одной женщине,
нарушившим великокняжеский указ и продававшим та-
бак и водку. Они должны были перед канцеляриею, име-
нуемою «Новою четвертью», обнажить свое тело вплоть
до бедер; затем один за другим они должны были ложить-
ся на спину слуги палача и схватывать его шею руками.
Ноги у наказуемого связывались, и их особый человек
придерживал веревкою, чтобы наказуемый не мог дви-
гаться ни вверх, ни вниз. Палач отступал позади грешни-
ка на добрых три шага назад и стегал изо всей своей силы
длинным толстым кнутом так, что после каждого удара
кровь обильно лилась. В конце кнута привязаны три ре-
мешка, длиною с палец, из твердой недубленой лосиной
кожи; они режут, как ножи. Несколько человек таким об-
разом (ввиду того, что преступление их велико) были за-
биты кнутом до смерти. Служитель судьи стоял тут же,
читая по ярлыку, сколько ударов должен был каждый
получить; когда означенное число ударов оказывалось ис-
полненным, он причал: «Полно!», т. е. достаточно. Каждо-
му дано было от 20 до 26, а женщине 16 ударов, после
434
чего она упала в обморок. Спины их не сохранили целой
кожи даже с палец шириною; они были похожи на жи-
вотных, с которых содрали кожу. После этого каждому из
продавцов табаку была повешена на шею бумажка с таба-
ком, а торговцам водкою — бутылки; их по двое связали
руками, отвели в сторону, а затем под ударами выгнали
из города вон и потом опять пригнали к Кремлю.
Говорят, что друзья некоторых из высеченных кну-
том натягивают на израненную спину теплую шкуру с
овцы, только что зарезанной, и таким образом исцеляют
их. В прежние времена, после вынесенного преступника-
ми наказания, все опять смотрели на них как на людей
столь же честных, как и все остальные; с ними имели
сношения и общение, гуляли, ели и пили с ними, как
хотели. Теперь, однако, как будто считают этих людей
несколько опозоренными.
Подобно тому, как русские с течением времени улуч-
шаются во многих внешних отношениях и сильно подра-
жают немцам, так они делают это и в том, что касается
славы или позора; так, например, состоять палачом у них
раньше не считалось столь позорным и бесчестным, как,
пожалуй, теперь. Ни один честный и знатный человек те-
перь не стал бы вести дружбу с высеченным, разве только
в том случае, если подобному наказанию кто-либо под-
вергся по доносу лживых людей или неправильно был
наказан вследствие ненависти к нему судьи. В последнем
случае наказанного скорее жалеют, чем презирают, и в
доказательство его невиновности честные люди безбояз-
ненно имеют с ним общение.
Общества кнутобойцев и палачей теперь также избе-
гают честные люди. Им можно бы жить и работать, подоб-
но всем остальным людям, но они неохотно отказывают-
ся от своего дела, так как оно приносит им большой доход:
за каждую экзекуцию они получают деньги не только от
начальства, но и от преступников (в том случае, если у
этих последних есть деньги, а палач не слишком несго-
ворчив); кроме того, они продают арестантам, которых
ежедневно сидит весьма много, водку, — конечно, тай-
ком; все это за год составляет большую сумму. Поэтому
435
иные за подарки покупают подобного рода должности;
однако в настоящее время им воспрещено вновь прода-
вать их. Когда ощущается недостаток в таких людях и тре-
буется произвести большие экзекуции, цех мясников обя-
зан отряжать из своей среды нескольких палачей.
О религии русских вообще и о начале ее
При упоминании о религии русских, я, естественно,
начну с вопроса: «Можно ли считать русских христиана-
ми?». Если русских спросить об этом, они отвечают, что
именно они-то и являются истинно крещенными и луч-
шими в мире христианами, в то время как мы разве мо-
жем считаться «окропленными» христианами. Поэтому,
если кто-либо из иностранных христиан захочет перейти
в их вероисповедание, они заставляют его вновь креститься.
Что они, однако, все-таки христиане, это мы, вправе за-
ключить, так как essentiaia christianismi или «существенно
необходимые главные основания христианства» мы у них
находим. Таковы — истинное слово Божие и святые таин-
ства. Священная Библия имеется у них, а именно Ветхий
Завет [с текста] 70 греческих толковников; а Новый — с
обычного перевода, переизданные на славянском и рус-
ском языках и отпечатанные. Странно, однако, что ни-
когда они не допускают всю Библию в свои церкви, гово-
ря, что в Ветхом Завете много скверных нецеломудренных
вещей, могущих осквернить столь святое место, как их
церковь; поэтому у них, наряду с Новым заветом, име-
ются лишь некоторые писания пророков, которые они тут
подвергают обсуждению. В домах, однако, разрешается
иметь и читать всю Библию. Наряду с Библиею у них име-
ются и некоторые древние отцы и учители церкви, как-
то: Кирилл, архиепископ иерусалимский, написавший
катехизисы при императоре Феодосии, Иван Дамаскин,
Григорий Богослов (это, вероятно, Григорий Назианзин),
Иван Златоуст, т, е. Иоанн Хрисостом, Ефрем Сирин. Этот
последний, по их словам, получил от ангела книгу с зо-
436
лотыми буквами, которую только он и был в состоянии
открыть; после этого он сразу выступил с речами и писа-
ниями, исполненными возвышенного духа.
Наряду с этими лицами имеют они и собственного
своего русского святого учителя — Николу Чудотворца. Он
написал духовные сочинения, которые они прилежно изу-
чают. Они говорят, что он творил большие чудеса. Поэто-
му его резное поясное изображение поместили в особой
часовне на большой улице, идущей вверх к Тверским во-
ротам; ежедневно здесь горели перед ним восковые свечи;
однако, во время большого пожара, бывшего при недав-
нем мятеже, оно, как говорят русские, было взято на небо,
т. е., иными словами, сгорело и превратилось в пепел.
Они признают также символ веры Афанасия и верят,
что Бог, через которого все создано, един в существе сво-
ем и троичен в лицах, что Христос пострадал за весь род
человеческий, что Святой Дух, исходящий от отца, через
Сына, нас освящает и дает нам силу для добрых дел. По-
этому нельзя сомневаться в том, что их вера или tides,
quae creditur [вера, в которую верят] — христианская, но
их, как говорят в школах, tides, qua creditur [вера, с по-
мощью которой верят], подозрительна и на деле оказыва-
ется весьма плохою. Наряду с Господом Христом, они и
евангелистам, апостолам, пророкам и весьма многим иным
святым, — притом не как ходатаям, как говорят знатней-
шие, но и как помощникам в спасении душ, как тому
верит большинство — и даже писанным картинам, имею-
щим представить этих святых, — ежедневно воздают честь,
подобающую Единому Богу. Об этом ниже будет сказано
подробнее. Чтобы христианская вера их в добрых делах и
любви к ближним также выступала и была действитель-
на, это по жизни их и по вышеприведенным рассказам
мало заметно. Что касается добрых дел, совершаемых ими
по учреждению и постройке церквей и монастырей, то
они им приписывают значение гораздо большее, чем сле-
довало бы.
Они называют себя членами греческой церкви, хотя
не следуют особенно точно ее правилам, но совершают
многие ошибки и успели прибавить многие добавочные
437
учения по собственному усмотрению. В своей летописи они
пишут, что христианская вера еще в апостольское время
проникла в Россию. Будто бы апостол Андрей из Греции,
поднявшись вверх по реке Борисфену или Днепру, прошел
через Ладожское озеро к Новгороду, здесь проповедовал
Евангелие Христово и установил истинное богослужение и
постройку церквей и монастырей. После долгого времени,
однако, многими войнами, веденными в России татарами
и язычниками, истинная христианская вера была большею
частью подавлена и угасла, и, напротив, введено было язы-
чество и идолопоклонство; так было вплоть до времени
великого князя Володимера, который также раньше был
язычником. Когда этот [князь] счастливым оружием своим
подчинил себе все Россию и даже почти всю Сарматию,
он стал пользоваться таким уважением у иностранных хри-
стианских государей, что они, домогаясь его дружбы, на-
чали посылать к нему великолепные посольства. Так как
эти предложения дружбы были им охотно приняты и он
снисходил к их пожеланиям, то они постарались также от-
влечь его от языческого богослужения к христианской вере.
После этого Володимер отправил послов и гонцов в раз-
ные христианские страны, желая получить правильные до-
несения о верах. Так как ему более всего понравилась гре-
ческая религия, раньше существовавшая в России и до сих
пор еще сохранявшаяся в некоторых, хотя и немногих ме-
стах, то он и решил принять ее.
Великий князь Володимер позже получил имя Васи-
лия; он совершенно уничтожил идолопоклонство в своей
стране и потребовал от всех своих подданных, чтобы они
приняли греческую веру. По русской летописи и другим
историкам гораздо достовернее, что это произошло около
988 г., когда братья Василий и Константин были на вос-
токе, а Оттон III на западе — императорами. Русский князь
Володимер около этого времени, после многих побед,
отнял у обоих этих братьев город, расположенный на Понте
и называемый у Сабеллика Херсонесом; потом же, когда
они подружились, Володимер получил в жены их сестру
Анну и, приняв христианскую веру, вернул им означен-
ный город обратно.
438
Этот Василий послал из Константинополя Володиме-
ру, как зятю своему, много епископов и священников,
которые должны были во всей России устроить богослуже-
ние и церковные обряды. С этого времени между греками и
русскими установилась большая дружба; русские считают
[и теперь] греков за людей более святых и благочестивых,
чем они сами, и ежегодно затрачивают на них большие
суммы. Московиты раньше ежегодно посылали греческой
церкви 500 дукатов милостыни. Теперь это вывелось, но
зато греческие монахи от константинопольского и иеруса-
лимского патриарха являются дважды, а то и трижды в
год, доставляют позолоченные кости святых и всякие иные
реликвии и писанные иконы, за что им дают увозить с
собой, в виде подарков, большие количества денег, далеко
превосходящие вышеозначенную сумму.
Шесть лет тому назад, а именно в 1649 г., патриарх
иерусалимский, по имени Паисий, с несколькими грека-
ми прибыл в Москву, доставил земли с Гроба Господня
(который, однако, высечен из камня) и освященной воды
из Иордана. Его великолепно приняли, торжественно про-
вели наверх к царю и к патриарху и дали в подарок, как
мне писали достоверные люди, более 60 000 дукатов. Од-
нако на обратном пути турки отняли у него все золото,
все деньги, соболя и шелк, которые он вез с собою, и
оставлены были ему лишь священные вещи и книги.
Во всех провинциях у них имеется лишь одна религия
и одни обряды, да и только они их и имеют. С русскими
границами кончается и религия их, если не считать не-
многих, которые теперь в Нарве переселены на шведскую
границу. Большинство, в особенности — простонародье,
немного могли бы объяснить и ответить о догматах своей
веры. Подобно афинянам, которые думали, что мнения
царя их — достаточная религия и что с них этого хватит,
они ссылаются на то, во что верят царь и патриарх. Ника-
кими проповедями их не поучают и не наставляют. Патри-
арх, впрочем, и не допускает, чтобы много говорилось о
делах веры, или чтобы происходили диспуты с иностран-
цами; поэтому-то и удается поддержать повсюду всех их
при одинаковых мнениях.
439
Незадолго до нашего приезда в Нижнем Новгороде
русский монах имел о делах веры разные беседы с еванге-
лическим пастором, жившим там и рассказавшим мне об
этом; он от пастора получил при этом ряд хороших указа-
ний. Когда патриарх узнал об этом, он велел монаха схва-
тить и доставить в Москву, где он его спросил: на каком
основании он посмел столь часто беседовать с евангели-
ческим пастором и диспутировать о религии. Монах отве-
тил хитро, говоря: немецкий пастор думал обратиться к
православной вере; поэтому он его обучал; дело идет столь
успешно, что он надеется окончательно приобресть его
[для православной церкви]. После этого монаха вновь от-
пустили на волю.
О шрифте русских, их языке и школах
Русские получили свои буквы и письменность свою
одновременно с религиею от греков, но частью измени-
ли, частью увеличили число письмен особыми славян-
скими буквами.
Подобными буквами и письмом пользуются они как
в печатных, так и рукописных книгах своего языка, кото-
рый отличается от славянского и польского, но все-таки
находится с этими языками в столь близком родстве, что
тот, кто знаком с одним из них, легко в состоянии пони-
мать и другой. С греческим у этого языка нет ничего обще-
го, за исключением разве немногих слов, которыми они
обыкновенно пользуются в церкви, богослужении и дол-
жностях и которые ими заимствованы с греческого. Так
как русские, как уже сказано, в школах обучаются только
письму и чтению на своем и, самое большее, на славян-
ском языке, то ни один русский, будь он духовного или
светского чина, высокого или низкого звания, ни слова
не понимает по-гречески и по-латыни.
В настоящее время они, — что довольно удивитель-
но, — по заключению патриарха и великого князя, хотят
заставить свою молодежь изучать греческий и латинский
440
Chamctem' tinoua Skutenica.
А .Лаг Обо On Q T at ie.
Б1Л вл Ь пм r ,-c icfC
4>Л м> & £rt^n ilo$l iu
гр jlyj. $ \Slon>c J iCLr iiir
JoLro JuierJc £ «r
С У^-оу SA. tL & fu
'Stkut/ttrjrh. p tf Г
Ли/о XX Ckir ck OArf Pu.
Ot at u U
&J™ i & 5 ЛлХо, 111 uiJiuJ
•/Пл* J. Кк.. г •Sa/ui a^unieri I ) , а л ♦ ray
Нн / 1ft, .Naas & ЛЛсГ &Г! i il ja. ao so 0CZ0C6 7c N ,4^ ZQ< goloo ЯОО
Шрифт русских
языки. Они уже устроили, рядом с дворцом патриарха, ла-
тинскую и греческую школу, находящуюся под наблюде-
нием и управлением грека Арсения. Если это предприятие
увенчается счастливым успехом и они окажутся в состоя-
нии читать и понимать в подлинниках писания святых от-
цов и других православных, то нужно надеяться, что, с
Божиею помощью, они придут к лучшим мыслям и в сво-
ей религии. У них нет недостатка в хороших головах для
учения. Между ними встречаются люди весьма талантли-
вые, одаренные хорошим разумом и памятью. Нынешний
государственный канцлер в посольской канцелярии Алмаз
Иванович в молодости своей побывал в Персии и Турции
и в короткое время так изучил языки этих стран, что те-
перь может говорить с людьми этих наций без переводчика.
Ради доброго разума своего и добросовестности он неод-
нократно участвовал в больших посольствах, а затем стал
думным дьяком, или государственным секретарем, или,
как его здесь называют, государственным канцлером.
441
О внешнем проявлении их христианства,
о нынешнем богослужении и в особенности
об их крещении
Внешнее проявление их христианства и нынешнее
богослужение их состоит преимущественно в том, что они,
наряду с применением святого крещения, читают слово
Божие в церквах своих, служат обедни, почитают Бога и
умерших святых, выказывают благоговение к иконам,
кланяются им, совершают процессии и паломничества к
умершим святым, в определенное время постятся, испо-
ведываются, причащаются Святых Таин и дают последнее
помазание.
Что касается крещения, они считают его высоко не-
обходимым для того, чтобы быть принятым в христиан-
скую церковь и достигнуть блаженства. Они веруют и испо-
ведуют, что они зачаты и рождены в грехах и что Христос,
чтобы смыть этот первородный грех, установил омовение
нового рождения [баню пакибытия] и очищения (которое
они признают и телесным и духовным). Поэтому, как толь-
ко родится дитя, они немедленно же спешат окрестить его.
Если дитя несколько слабо, то его крестят дома, но только
не в комнате, где оно родилось (эта комната считается со-
вершенно нечистою). Если же ребенок здоров, то пригла-
шенные для этой цели кумовья, которых должно быть все-
го двое, несут его в церковь, где поп встречает их у
церковных дверей, делает пальцами перед лбами их знаме-
ние креста и благословляет их со словами: «Господь да хра-
нит твой вход и выход, отныне и до века».
Кумовья передают попу девять восковых свечек, ко-
торые он зажигает и крестообразно приклеивает к ушату,
наполненному водой и стоящему посредине церкви. Пос-
ле этого он окуривает ладаном и миррою как ушат, так и
кумовей, и со многими церемониями благословляет воду.
После этого кумовья, держа горящие свечи в руках, вме-
сте со священником, читающим из книги, трижды обхо-
дят ушат, причем спереди идет дьячок с иконою Иоанна
[Крестителя]. После этого кумовьям задаются вопросы,
обычные и у нас при крещении, а именно: «Как назвать
442
Крестины
дитя?» [и т. д.]. Записка с именем затем передается свя-
щеннику. Священник кладет записку на икону, держит
икону на груди младенца и молится. Потом он спрашива-
ет: «Верит ли дитя в Бога Отца, Сына и Святого Духа?»
Когда кумовья ответят на это утвердительно, они вместе
со священником должны оборотиться и стать спинами к
ушату. Затем он спрашивает: «Отрицается ли дитя от дья-
вола со всеми его ангелами и делами и намерено ли оста-
ваться в течение всей жизни при чистой греческой рели-
гии?» Кумовья, отвечая на каждый из этих вопросов,
вместе со священником должны усердно плевать на зем-
лю. Затем они опять обращаются к ушату и происходит
изгнание бесов. Возлагая руки, священник говорит: «Отой-
ди от этого младенца ты, нечистый дух, и дай место Свя-
тому Духу». При этом он трижды крестообразно дует на
младенца: этот обряд, по их словам, должен отогнать дья-
вола. Они уверены, что до крещения в младенце живет
нечистый дух.
Как мне рассказывали, в настоящее время экзорцизм,
или увещевание и изгнание сатаны, происходит перед
443
церковными дверями, чтобы нечистый дух не загрязнил
церкви. Потом священник берет ножницы, отрезает не-
много волос крестообразно с головы ребенка и кладет их
в книгу. Затем он спрашивает: «Желает ли младенец быть
крещенным?» и берет нагое дитя от кумовей обеими рука-
ми, трижды погружает его в воду и говорит: «Окрещаю
тебя во имя Бога Отца, Сына и Святого Духа».
Затем он сует младенцу немного соли в рот, мажет
ему освященным маслом крестообразно лоб, грудь, руки
и спину, надевает ему чистую белую сорочку и говорит:
«Столь же чист и бел ты теперь, очищенный от первород-
ного греха». Он вешает ему крестик из серебра, золота или
свинца (смотря по достатку родителей и насколько они в
состоянии приобресть) на шею.
Этот крестик в течение всей своей жизни он должен
носить на шее в доказательство того, что он христианин.
Если кого-либо находят мертвым на улице и креста при
нем не окажется, то его не хоронят. Священник также
назначает младенцу святого и дает ему изображение его.
Крещенный в течение всей жизни должен обращаться к
этому святому и почитать его икону больше всех других.
После этой церемонии крещения священник ласкает и
целует ребенка, а также и кумовей; и увещевает их, чтобы
они относились к младенцу, как истинные родители, и не
посмели вступать в брак друг с другом, так как такие бра-
ки у них, как выше сказано, строго воспрещены.
Если двое или трое детей одновременно приносят-
ся для крещения, то каждому из них вновь устраивается
купанье обновления, даже хотя бы их была сотня. Од-
нажды бывшая в употреблении вода, которой омыта не-
чистота первородного греха, должна быть вылита в осо-
бое место, и никто уже не должен ею оскверняться. Они
полагают, что вода при крещении совершает не только
духовное, но и телесное омовение грехов и душевной
нечистоты. Многие из них думают, что такое внешнее
очищение достаточно для смытия грязи грехов, в кото-
рой они видят как бы материальное существо, к ним
приклеивающееся.
Вода для крещения никогда не согревается с помо-
444
щью огня; в зимнее время дают ей лишь немного постоять
в теплом месте.
Взрослых людей, которых предполагают крестить (как
делают с переходящими к их религии и как раньше посту-
пали с халдеями) приводят к реке, в которой в зимнее
время устраивается прорубь во льду; сюда их с обычными
церемониями трижды погружают так, что вода сходится у
них над головою. Я упомянул о халдеях: так назывались в
наше время некоторые люди — проходимцы, — которые
ежегодно получали от патриарха разрешение в течение вось-
ми дней перед Рождеством и вплоть до Крещения бегать по
улицам с особым фейерверком, причем они прохожим за-
жигали бороды и особенно приставали к мужикам. В наше
время они зажгли мужику воз с сеном, а когда тот стал им
сопротивляться, они сожгли ему бороду и волосы на голо-
ве; кто желал быть пощаженным ими, должен был платить
копейку (6 пфеннигов). Они были одеты, как во время мас-
леничного ряженья, на головах у них были деревянные раз-
малеванные шляпы, а бороды были вымазаны медом, что-
бы не быть зажаренными огнем, который они разбрасывали.
Огонь [разбрасывавшийся ими], они делали из особого
порошка, который толкли из растения, называвшегося у
них «плаун». Пламя это изумительно и очень весело смот-
реть на него, особенно когда его бросают ночью или впоть-
мах; им можно пользоваться для разных развлечений.
Халдеи во время своего беганья считались язычника-
ми и нечистыми; полагали даже, что если бы они в это
время умерли, то были бы прокляты. Поэтому в день св.
Крещения, во время великого всеобщего освящения, их
вновь крестили, чтобы смыть с них эту безбожную нечис-
тоту и вновь соединить их с церковью. По принятии кре-
щения они вновь делались столь же чистыми и святыми,
как и все остальные. Такие люди иногда оказывались окре-
щенными раз десять и более. Так как подобные проходим-
цы совершали много досадных и гибельных выходок с кре-
стьянами и простым людом, а также с беременными
женщинами, и из-за игры с огнем не раз вспыхивали
пожары, то нынешний патриарх совершенно отменил и
эту дурацкую игру и беготню ряженых.
445
О крещении отпавших христиан
и других взрослых
Иностранные и отпавшие христиане, равно как и та-
тары и язычники, обращающиеся к русской вере и жела-
ющие креститься, сначала держатся шесть недель в мона-
стыре, причем монахи обучают их религии, т. е., большею
частью, их способу молиться, признавать святых, кланять-
ся их иконам и знаменовать себя крестным знамением.
Потом их ведут для крещения к реке, где они трижды
должны плевать на свою прежнюю религию, как на ере-
тическую и проклятую, и клясться никогда более не при-
нимать ее. После крещения они одеваются в новое русское
платье, подаренное им великим князем или другими вель-
можами, их восприеемниками, и им доставляется содер-
жание, глядя по состоянию их.
В настоящее время подобных отпавших очень много в
Москве, так как не только 22 года тому назад, по случаю
тогда законченной войны под Смоленском, но и теперь,
в течение последних лет пяти, много солдат, большей
частью французов, позволили перекрестить себя, чтобы
остаться в стране и получать содержание от великого кня-
зя, — хотя они и не понимали ничего ни в языке, ни в
религии русских. Особенно нужно удивляться, как неко-
торые знатные и умные люди, из-за постыдной корысти,
согласились отпасть и принять русскую религию.
Русские разрешают всякому свободу совести, хотя бы
это и были их подданные и рабы. Однако если кто-либо
вступает в брак с лицом их веры, то они уже не дают ему
свободы исповедания. Если кто добровольно переходит к
ним, то они его охотно принимают и дают ему содержа-
ние на всю его жизнь. Отпавшие таким образом [от пре-
жней своей религии] сильнее всего свирепствуют против
своих прежних единоверцев, и от них иностранцам при-
ходится хуже, чем от русских.
Если кто-либо из русских за границею перейдет в
другую религию, а по возвращении вновь обратится к
православной вере, то его нужно вновь крестить.
Подобное вторичное крещение христиан, обращаю-
446
щихся к ним из какой-либо иной секты, они, без сомне-
ния, заимствовали от греков, которые, отделившись от
латинской церкви, стали считать латинское крещение не-
достаточным и поэтому начали вновь крестить тех, кто
отпадали от западной церкви и желали стать членами их
церкви. Однако они и все те, кто в этом деле следуют
грекам, в 1215 г. папою Иннокентием Ш на латеранском
соборе, 4-м постановлением, отлучены от церкви и пре-
даны проклятию.
О русских торжественных и праздничных
днях и о том, как они слушают слово Божие,
а также о их церквах
У русских имеются определенные торжественные и
праздничные дни, когда они молятся в церквах, причем,
помимо воскресений, они для этой цели пользуются еще
средою и пятницею (это у них постные дни). Эти праздни-
ки теперь соблюдаются гораздо больше, чем раньше. Рань-
ше они полагали, что только бы утром побывать в церк-
вах, а затем опять можно перейти к обычной своей работе.
Кроме того, они говорили, что праздновать надлежит лишь
господам, а не рабам и слугам, каковыми они являлись.
Поэтому еще в наше время по воскресеньям так же, как и
по будням, можно было видеть их торгующими и про-
мышляющими в своих лавках и мастерских. Теперь же пат-
риарх постановил, чтобы не только по воскресеньям и
праздникам, но и по средам и пятницам лавки и мастер-
ские не открывались; в те же дни полагается закрывать и
кабаки и трактиры, и особенно, когда время идти в цер-
ковь, ничего из них нельзя продавать.
Великие их праздники, весьма торжественно справ-
ляемые ежегодно, — следующие 13. Так как Новый год,
как выше сказано, они считают с осени, с 1 сентября, то
первый большой их праздник приходится на 8 сентября.
Он называется «праздник Рождества Пречистыя Богоро-
дицы».
447
Второй праздник — 14 сентября — «Воздвижение Кре-
ста [Господня]».
Третий — 21 ноября — «Введение Пречистыя Богоро-
дицы [во храм]».
Четвертый — 26 декабря — «Рождество Христово».
Пятый — 6 января — «Богоявление» или же «Креще-
ние».
Шестой — 2 февраля — «Сретение Господа Бога».
Седьмой — 26 марта — «Благовещение Пречистыя Бо-
городицы».
Восьмой — «Вербное воскресение», когда торжествен-
но совершается большая процессия и празднуется Вход
Христа во Иерусалим.
Девятый — «Великий день» или «Воскресение Хрис-
тово».
Десятый — «Вознесение Христово».
Одиннадцатый — «Сошествие Святого Духа» или «Тро-
ица».
Двенадцатый — 6 августа — «Преображение Господа
Христа».
Тринадцатый — 16 августа — «Успение Пречистыя Бо-
городицы».
Помимо этого не проходит дня, когда не празднова-
лась бы память того или иного святого; иногда даже в один
день приходится два или три таких праздника: можно, по
желанию, праздновать этот день или не праздновать, но
духовенство, во всяком случае, обязано в честь этих свя-
тых читать, петь и служить обедни. У них имеется посто-
янный календарь по старому стилю, в котором они очень
ловко и быстро умеют находить чередование как подвиж-
ных, так и неподвижных праздников.
В большие праздники и по воскресеньям они трижды
ходят в церковь: сначала, еще до восхода солнца, к «заут-
рени», потом около полудня — к «обедне», и вечером к
«вечерне». Здесь поп или священник читает некоторые гла-
вы из Библии, особенно некоторые псалмы Давидовы,
Евангелие, иногда и проповедь из Златоуста, а также Афа-
насиевский Символ веры и некоторые молитвы; он же
поет полным голосом в тон, подобно употребительным и
448
! у нас антифонам и responsori’flM. Посреди чтения и пения
i: священник часто говорит «Господи, помилуй», а народ
i повторяет это трижды, осеняя себя крестным знамением
и благословляя себя.
, После чтения и пения поп идет к алтарю со своим
капланом (таковой при всех духовных обрядах должен на-
ходиться при каждом священнике) и служит обедню; а
именно — литургию древнего учителя церкви Василия Ве-
ликого. Он льет в чашу красное вино вместе с водою, кро-
шит сюда квашеный хлеб, благословляет его и читает при
этом с четверть часа. Потом он берет из чаши ложкою и
вкушает один, не давая другим причастникам, за исклю-
чением разве того случая, если в церковь принесено боль-
ное дитя, и причастие для него потребуется; в этом слу-
чае он дает и ребенку.
В то время, когда служится обедня, народ стоит и
: делает поклоны перед иконами; при этом неоднократно
повторяется «Господи, помилуй». Обыкновенно же они,
' как уже сказано, не произносят проповедей и не объяс-
няют библейских текстов, но довольствуются простым
чтением текста и самое большее — проповедями выше-
названного учителя церкви; указывают они при этом на
то, что в начале церкви Св. Дух оказывал свое воздействие
без особых толкований, и что поэтому он и теперь может
1 совершать то же. Кроме того, многое толкование вызыва-
ет только различные мнения, причиняющие лишь смяте-
ние и ереси. Два года тому назад «муромский протопоп»,
по имени Логин, осмелился проповедовать и начал, вме-
сте с некоторыми подчиненными ему попами в Муроме и
: других городах, произносить открытые проповеди, поучать
народ из слова Бытия, увещевать и грозить ему. Их поэто-
му прозвали казаньцами [от слова «казанье» — проповедь];
народу к ним стекалось очень много. Когда, однако, пат-
риарху это стало известно, он постарался принять меры
против этого, отрешил проповедников от должностей,
проклял их с особыми церемониями и сослал на житель-
ство в Сибирь.
Пока у них нет проповедей и бесед по религиозным
вопросам (ведь, говоря словами Поссевина, проповедь -
449
«почти единственный путь, которым божественная муд-
рость пользовалась для распространения света евангель-
ского»), я того мнения, что русские вряд ли приведены
будут на правый путь и к правому образу жизни, так как
никто не показывает блуждающим истинного пути и не
усовещивает их при многих распространенных у них гру-
бых грехах, да и никто их и не укоряет, кроме разве пала-
ча, налагающего им на спину светское наказание за соде-
янные уже преступления.
У них имеются в особой книге подробные описания
и толкования некоторых евангельских историй, приправ-
ленные прибавками, баснями и грубыми опасными вы-
мыслами; ими они часто пользуются для прикрытия гре-
хов своих.
О крестном знамении русских, о том, как
они себя благословляют, и об иконах святых,
перед которыми они кладут поклоны
Слушая чтение некоторых глав из Библии, русские
одновременно стоят с обнаженными головами перед сво-
ими иконами (как ведь и вообще никто, ни даже сам Ве-
ликий князь, не смеет находиться в церкви с покрытою
головою, кроме лишь священника, сохраняющего на го-
лове свою «скуфью», или шапочку, в которой он посвя-
щался), очень часто кладут поклоны и благословляют себя:
для этой цели они пользуются первыми тремя пальцами
правой руки, касаясь ими сначала лба, потом груди, за-
тем проводя справа налево и приговаривая каждый раз:
«Господи, помилуй».
Петр Микляев, недавний русский посол в Голшти-
нии, дал мне объяснение крестного знамения и того, о
чем разумные люди при этом вспоминают: три пальца
знаменуют собою Св. Троицу, поднятие руки ко лбу —
Вознесение Христа, приуготовляющего нам место на небе,
прикосновение к груди указывает на сердце и на заклю-
чение в нем слова Божия; движение же справа налево [ука-
450
зывает] на свойство Страшного Суда, когда благочести-
вые будут поставлены направо, а злые налево, первые будут
вознесены к блаженству, а вторые низвергнуты в ад.
Подобного рода крестное знамение применяют они
при всех своих начинаниях, и в светских и в домашних
делах так же, как и в духовных; без него они не берутся
ни за еду, ни за питье, ни вообще за какое-либо дело.
Что касается почитания икон, то нет указаний на то,
чтобы оно было обычно в церкви в течение первых трех-
сот лет до времен императора Константина Великого, хотя,
вероятно, как видно из Тертуллиана, и изображались жи-
вописью или резцом духовного содержания картины, прит-
чи и истории, тем не менее эти изображения не почитали
как святых, и не молились им, как это делают русские.
Русские говорят, что научились этому от Дамаскина; я,
однако, думаю, что они приняли и это из греческой цер-
кви. Они не признают резных изображений, говоря, что
Бог воспретил приготовлять резные, а не живописные
изображения, и поклоняться им. Поэтому приходится удив-
ляться, что они так высоко почитают резное изображение
Николы Чудотворца в Москве — может быть, потому, что
он, кажется, не из древних, а из новых святых у них. В
•прочих случаях у них употребляются исключительно жи-
вописные картины, которые без особого искусства и изя-
щества коричнево-желтой краскою написаны на досках,
обыкновенно длиною в 1/4 или 1/2 локтя и несколько
более узких.
Они не почитают и не уважают икон, помимо тех,
которые написаны русскими или греками, как бы другие
нации ни приготовляли их прекрасно и искусно. Как буд-
то религия мастера могла бы передаться и иконе!
У них в Москве имеются особые рынок и лавки, где
они продают подобные иконы, или, как они это говорят,
«выменивают на деньги и серебро», так как ведь было бы
неприлично покупать богов.
Они никогда также не оставляют икон на попечении
людей, которые не их религии, опасаясь, что с ними не
будут обращаться с должным почетом.
Когда несколько лет тому назад немецкий купец Ка-
451
роль Мёллин купил у русского каменный дом, русские
начисто выскребли все иконы, написанные на стенах, на
штукатурке, и пыль от них унесли с собою. Они сильно
нас бранят за то, что мы духовного содержания картины,
особенно же распятие Христа, изображаем на печках и
становимся к ним заднею частью тела.
Крестьяне в деревнях не желали допустить, чтобы мы
касались руками их икон или, лежа на лавках, обраща-
лись к ним ногами. У некоторых из них, после нашего
постоя, должен был являться поп с кадилом и вновь освя-
щать иконы, точно они были нами загрязнены.
В их церквах висит на стенах большое количество икон,
из которых самые многочисленные и самые знаменитые
должны представлять Господа Христа, Св. Деву Марию и
Николая, главного их патрона. У каждого здесь имеется
свой святой или своя икона, перед которою он молится.
Если кто-либо совершит грубое преступление, достойное
отлучения, то его святой [его икона] удаляется из церкви;
этой иконою он может после этого пользоваться дома,
так как отлученный не смеет более входить в церковь. Те,
у кого есть средства, убирают и украшают свои иконы
великолепнейшим образом жемчугом и драгоценными
камнями. Икона непременно требуется для молитвы; по-
этому они должны у них быть не только в церквах и во
время публичных процессий, но и у каждого в его доме,
комнате и каморке, чтобы во время молитвы иметь ее перед
глазами. Когда они собираются молиться, они зажигают
одну или две восковые свечи и прикрепляют их перед ико-
ною; от этой причины часто, когда они забудут потушить
свечу, происходят пожары. До сих пор и немцам приходи-
лось, ради русских, держать такие иконы в своих домах,
так как иначе русские неохотно с ними сносились, да и
нельзя было получить русской прислуги без этого. Теперь
же патриарх не желает допускать, чтобы их иконы еще
встречались в немецких комнатах, по его мнению, недо-
стойных этой чести. Когда русский отправляется к друго-
му в дом или комнату, он сначала воздает честь Богу и
произносит свое «Господи». Только после этого он начи-
нает говорить с людьми. В дом он входит как немой, ни на
452
кого не обращая внимания, хотя бы даже 10 и более чело-
век находились в помещении. Лишь только войдя в комна-
ту, он, прежде всего, обращается к иконе, которая обык-
новенно поставлена за столом в углу; если ее ему не видно,
он спрашивает: «Есть ли Бог?» Лишь только заметив ее,
он, с поклонами перед нею, трижды совершает крестное
знамение. Затем он оборачивается к людям, здоровается с
ними и справляет свое дело.
Они приписывают иконам весьма большую силу, будто
они совершенно особым образом могут помогать в делах.
Неоднократно уже упоминавшийся датский дворянин
Иаков говорит, что они в его время икону на палке дер-
жали в пиве во время пивоварения, надеясь, что тогда
пиво лучше сварится. Они их как-то боятся и страшатся,
точно в них действительно имеется какая-то божествен-
ная сущность. Когда они желают при иконах заняться плот-
скою утехою, то они завешивают их платком. Иногда они
ими наводят страх на людей. В 1643 г. по Р. X., в июне
месяце, случилось как-то, что одна из их икон начала
казаться в лице своем краснее обыкновенного. Попы со-
общили об этом патриарху и Великому князю, подняли
из-за этого целую историю, точно это обстоятельство зна-
меновало собою что-то великое; говорили, что следует
объявить дни покаяния и поста, дабы отстранить грозя-
щее наказание. Великий князь, как государь благочести-
вый и богобоязненный, принял это близко к сердцу, при-
звал русских живописцев и под крестным целованием
спрашивал их, произошло ли это от естественных причин
или нет. Живописцы, хорошенько осмотрев икону, сказа-
ли: «Здесь нет чуда, так как краска с лица от времени
сходит, и поэтому просвечивает красный грунт». После
этого страхи прекратились.
Временами и попы, помощью вымышленных и на-
писанных на иконах знамений, пугают людей, так что те
должны поститься и молиться, жертвовать попам и давать
милостыню, которую простецы из народа из благогове-
ния и дают в больших количествах. Нечто подобное, гово-
рит, произошло в Архангельске несколько лет тому назад.
Два попа, с помощью обмана, собрали много денежных
453
пожертвований, но при дележе поспорили, вступили в
драку и донесли друг на друга относительно обмана. Пос-
ле этого и кнуту пришлось показать свое знамение.
Что простой неразумный народ приписывает иконам
большую силу, видно из следующего. Когда в 1611 году
шведский полководец Иаков Делагарди занял Великий
Новгород и при этом произошел пожар, некий русский
стал держать против огня свою икону св. Николая и мо-
лился, чтобы она помогла погасить огонь. Когда, однако,
помощи не последовало, а напротив, огонь все более и
более стал распространяться, он в нетерпении бросил свою
икону в огонь и сказал: «Если ты нам не желаешь помочь,
то помоги себе сам и туши». В то время солдаты, не найдя
в домах много такого, чем бы могли воспользоваться, взяли
с собою иконы, но русские побежали за ними и за доро-
гую цену выкупили эти иконы.
Простонародье, особенно вне городов и в деревнях,
желая приучить детей к богобоязни, ставит их перед ико-
нами, чтобы они перед ними в глубоком смирении и по-
чтительности клали поклоны, крестились и говорили «Гос-
поди». Им при этом не говорится, что все это значит, так
что с нежного детства всякий привыкает к мысли, что
иконы — боги, как, впрочем, старшие их и называют. В
Ладоге моя хозяйка не хотела дать своему ребенку, едва
говорившему и стоявшему, поесть, пока тот подобным
образом девять раз подряд не воздал, как она говорила,
славы своему Богу.
Однако некоторые знатные люди и лица, живущие в
городах близ церквей, имеют несколько лучшие — а ум-
нейшие из них и совершенно иные — мысли об иконах.
В русской Нарве жил знатный богатый купец, еще и
теперь здравствующий; звали его Филиппом N.; это был
словоохотливый любезный мужчина, который иногда
приходил к столу к нашим послам и о том или другом
давал хорошие сведения. Однажды — это было 30 января
1634 г., с нашим медиком г. Гартманом Граманом, по
его просьбе, зашел я к нему в гости. Когда мы вступили
с ним в беседу о их религии, особенно об иконах, он
при нас произнес исповедание веры, из которого мы
454
могли усмотреть истинного христианина. Он сказал, между
прочим: он никакого значения не придает иконам, взял
свой носовой платок и провел им по иконе, говоря: «Так
я могу стереть краску и потом сжечь дерево; в этом ли
искать мне спасение?» Он показал мне библию на сла-
вянском языке, в которой был очень начитан, открывал
в нескольких местах и переводил, говоря: «Вот здесь я
j должен искать волю Божию и держаться ее». Постов, ко-
торые соблюдаются большинством русских, он не при-
знавал; он говорил: «Что в том, что я не ем мяса, но
имею зато в своем распоряжении великолепнейшие рыбы
и напиваюсь водки и меду; истинный пост заключается в
том, что Богом указано чрез пророка Иоиля в первой и
второй главе. Так я пощусь, если я не принимаю ничего,
кроме воды и хлеба, и усердно молюсь». Он жаловался
при этом, что очень многие из его земляков не имеют
таких познаний в религиозных делах и в совершении хри-
стианского долга. Когда мы возразили, почему он, буду-
чи так просвещен Богом, не постарается научить своих
! собратий лучшему, он ответил: у него нет на это призва-
* ния; кроме того, ему бы не поверили, но сочли бы его
даже за еретика; если же он все-таки держит иконы у
i себя, то это делается ради памяти о Боге и святых. После
' этого он вынес из комнаты изображение шведского ко-
* роля Густава, напечатанное на золоченной коже, и ска-
зал: «Ведь подобный портрет, изображающий столь храб-
рого героя, совершившего так много великих дел, мы бы
охотно, в честь его памяти, держали в наших комнатах;
: почему же ему не держать у себя для памяти изображе-
ния святых, бывших столь великими чудотворцами в ду-
ховных делах?» Разумные русские вообще чтут свои ико-
' ны святых и молятся им по своей религии, однако не
ради материи или потому, чтобы приравнивали их изоб-
ражению Божию, но из любви и почтения к святым,
находящимся на небе. Та честь, которая оказывается ико-
не, ощущается и тем, кого иконы изображают. Именно
это-то и постановили греки в 787 г. на константинополь-
ском соборе против икономахов или иконоборцев, при
участии 850 епископов, и ввели в своих церквах, в то
455
время, когда патриархами были в Константинополе Та-
расий, в Александрии Политиан, в Антиохии Феодорит
и в Иерусалиме — Илия. Это постановление, однако, было
отвергнуто на франкфуртском соборе, который в 794 г.
был собран императором Карлом Великим, как о том
сказано в каноне втором: «Возбужден был вопрос о но-
вом соборе, который греки собрали в Константинополе
относительно почитания икон. На этом соборе было по-
становлено, что те, кто не будут оказывать изображени-
ям святых того же служения и обожания, как Божествен-
ной Троице, присуждаются анафеме. Святейшие отцы
наши, отрицая всякое обожание и служение, отвергли и
единогласно осудили это учение».
В недавнее время «казанский протопоп» Иван Неро-
нов выступил в Москве и решился говорить против ико-
нопочитания в следующих словах: «Не следует честь, по-
лагающуюся Богу, воздавать иконам, которые руками
сделаны из дерева и красок, хотя бы они даже и должны
были представлять изображение Бога и святых; не следует
ли, в этом рассуждении, скорее почитать людей и мо-
литься им, так как они созданы по образу и подобию Бо-
жию и сами сделали эти иконы?» Однако добрый священ-
ник тотчас, когда патриарх об этом узнал, был лишен
своей священнической шапки и сослан с суровыми угро-
зами в Каменный монастырь на Волге; [это было сдела-
но], чтобы учение его не распространилось еще более и
иконы могли сохранить обычное к ним почитание.
Когда их иконы становятся старыми, так что моль
их поедает и они распадаются, они их не выбрасывают и
не сжигают их, но или опускают их в текущую воду,
давая им плыть, куда им угодно, или же на кладбище
или в древесном саду закапывают их глубоко в землю,
причем стараются не допустить каких-либо нечистот в
этом месте.
456
О предполагаемых у русских святых,
которые имеются у них в стране и к которым
они совершают паломничества
У русских имеется несколько предполагаемых святых,
о которых они, баснословя, рассказывают, будто они еще
и теперь совершают великие чудеса и могут исцелять боль-
' ных. Несколько таких святых находятся в Москве. Два года
тому назад, а именно в 1653 году, они получили сюда
нового святого, которого весьма сильно почитают. Он
именуется «чудотворец Филипп митрополит». Происходит
он из древнего дворянского рода Колычевых в Москве,
жил во времена тирана Ивана Васильевича в Москве и
неоднократно говорил этому тирану правду по поводу
странностей его управления и жестокого, нехристианско-
го и даже бесчеловечного образа жизни; поэтому тиран
рассердился на него и в немилости сослал его в дальний
монастырь. Так как, однако, он, тем не менее, иногда
увещевал его письмами и остротою пера своего вновь
вскрывал старые раны, то тиран в гневе послал одного из
слуг своих в монастырь, чтобы удавить его веревкою. Ко-
лычев, готовый умереть, беспрекословно отдался на волю
убийцы и просил лишь, чтобы тот не веревкою, а ножом,
отнял у него жизнь; тот так и сделал, и вонзил ему нож28
под сердцем в тело. Братия этого монастыря объявила его
мучеником, отвезла [тело] на остров в Белом море за Ар-
хангельском и там погребла в часовне. Этот остров назы-
вается Соловками; его можно найти выше на морской карте
при описании Архангельска.
Нынешний патриарх29, будучи еще митрополитом
ростовским и ярославским, стал говорить, что он слы-
шал от некоторых людей, как многие увечные люди, лишь
помолившись перед все еще нетленным телом этого свя-
того, получали исцеление. Он уговорил поэтому его цар-
ское величество доставить вышесказанное мертвое тело
оттуда и перевезти его в Москву.
Чтобы перевезти его, отрядили господина Михаила
;Левонтьевича с дьяком; наряду с другим народом он взял
собою и двух сыновей своих. Они на двух ладьях или
457
больших открытых лодках направились к острову. Посол
прибыл благополучно, но дьяк с двумя сыновьями посла
и с народом, ехавшим в другой ладье, потерялись и уже
более не нашлись.
Когда тело святого Колычева доставлено было на милю
от Москвы, его царское величество со всем своим при-
дворным штатом, а также патриарх с клиром вышли к
нему навстречу. При этом ростовский и ярославский мит-
рополит, по имени Варлаам30, человек лет более 70, весь-
ма толстого телосложения, упал, находясь недалеко от
святого, и остался лежать мертвым. Святого же ввезли в
город с большим великолепием и поместили в Кремле в
соборе, или важнейшей церкви. Тут он совершил много
чудес над больными, приходившими сюда с молитвами,
и многие, не бывшие раньше слепыми, хромыми, глухи-
ми и немыми, под прилежным наблюдением патриарха,
стали опять зрячими, стали ходить, слышать и говорить.
Когда происходило подобное чудо, всякий раз звонили в
большой колокол, причем в начале недели этот звон слы-
шался раза четыре или пять. Теперь больше не слышно о
таком количестве чудес от него, так как, по их словам,
люди, при прибытии его бывшие благочестивыми, снова
стали безбожными и уже не приходят к нему со столь силь-
ною верою. Они говорят, что он лежит нетленным и те-
перь еще, под покрывалом, которое, однако, никто не
смеет поднять.
Имеется у них еще и другой святой в Троицком мо-
настыре, находящемся в 12 милях от Москвы к западу. Он
именуется Сергий. С ним дело было так. Говорят, это был
большой дородный человек и что сначала был он храб-
рым солдатом. Потом он отказался от мирской жизни, стал
отшельником и наконец отправился в Троицкий монас-
тырь, чтобы там провести остатки своей жизни в качестве
монаха. По своей весьма благочестивой и богобоязненной
жизни он избран был в игумены; говорят, молитвою своею
он помог многим людям и совершал чудеса. Он принял
ученика, по имени Никона, который наследовал от учи-
теля своего те же добродетели. Сергий скончался в 1563
году31. После смерти оба они были канонизованы и запи-
458
саны в число святых; они и лежат погребенные в том же
i монастыре. Монастырь получил наименование от Сергия
• и именуется Сергиевскою Троицею и просто монастырем
? св. Троицы.
Известно, во всяком случае, что в монастыре этом
более 300 человек братии и что он имеет столь богатые
доходы, как ни один во всей стране, так как великие кня-
зья и богатые вельможи завещали и еще продолжают сюда
завещать большие суммы. И проезжающие мимо него гос-
’ пода и купцы, если они богаты, кладут сюда богатые ми-
.«.лостыни, чтобы молились о их душах, и дарована была
, защита им от всякого несчастия.
В этот монастырь великий князь со знатнейшими сво-
; ими господами ездит два раза в год на паломничество, а
; именно на Троицу и около Михайлова дня [день прел.
; Сергия 26 сентября]. Не доехав полумили от монастыря,
• 'он оставляет лошадей и идет со всей своею свитой пеш-
। ком до своей цели; здесь он остается несколько дней для
\ молитвы, причем, в течение этого времени, игумен обя-
s зан доставлять великому князю и всем его провожатым
бесплатно провиант и корм для лошадей. Так как здесь
$ местность чрезвычайно красивая и хорошие заповедные
; места для дичи, то великий князь обыкновенно и забав-
. ляется здесь охотою.
В Казани много лет тому назад, когда, однако, рус-
> ские уже владели этим городом, найдена была в земле
; икона Девы Марии и выставлена в этом городе. Копия ее
‘ доставлена была в Москву, где в память ее построена цер-
> ковь в конце большой рыночной площади, где стоят но-
. жевые лавки; она называется церковью Пречистой Ка-
занской. В церковь эту около указанного времени совершают
паломничества и многие приезжие из других местностей.
Точно так же и в Великом Новгороде, как уже выше
j .сказано, ежегодно совершается большое паломничество,
и в Новгород из разных мест собирается очень много на-
бреду, которые идут из города к монастырю Хутынскому
• да добрых 7 верст. В это время в городе, особенно перед
; Никольскими воротами, обращенными в сторону монас-
] Тыря, где кабатчики устраивают свои палатки, происхо-
459
дят сильное пьянство и разные бесстыдные деяния. Этот
праздник и паломничество они зовут «Праздник Варлама
Хутынского», родившегося в Новгороде и погребенного в
монастыре Хутынском. Как говорят, и он совершал много
чудес, исцеляя больных. Подобных предполагаемых свя-
тых здесь и там в стране находится довольно много.
О русских церквах
Выше при описании зданий в Москве сказано, что в
Кремле и в городе очень много церквей, часовен и монас-
тырей; внутри и вне городских стен их насчитывается более
2 000, так как теперь каждый из вельмож, имеющий неко-
торое имущество, велит себе построить особую часовню;
большинство из них из камня. Каменные церкви все внутри
с круглыми сводами. Русские не могли мне объяснить, чем
это обстоятельство вызвано. Я предполагаю, что ими это за-
имствовано у древнейших народов, которые в большинстве
случаев строили свод храмы круглыми, полагая что они,
являясь Божьими домами, должны иметь сходство с небес-
ным сводом. Так и греческий историк Дион Кассий пишет о
прекрасном языческом храме Пантеоне в Риме (этот храм
также был построен круглым и еще и ныне может быть ос-
матриваем там), что Пантеон, как на то указывает его имя,
должен включать в себя изображения всех богов и круглою
формою своей сходствовать с небом. Впрочем, некоторые
думают, что Пантеон потому имеет круглую форму, чтобы
не оскорбить ни одно из божеств, которых изображения стоят
по стенам кругом, в отношении их достоинства и величия,
им принадлежащего друг перед другом.
У русских в церквах нет ни стульев ни скамеек, так
как никто не смеет сидя молиться, но все должны мо-
литься и совершать богослужение стоя или коленопрекло-
ненно или же лежа (так, говорят, часто поступал бывший
Великий князь Михаил Феодорович).
Они не терпят в своих церквах ни органов, ни других
музыкальных инструментов, но говорят: «Инструменты,
460
Церковь у Белой стены
не имеющие ни души ни жизни, не могут хвалить Бога».
Когда говорят, что ведь люди действуют при этом, произ-
водя красивые мелодии, и указывают на псалмы и на при-
мер Давида, то они говорят: «В Ветхом Завете это, дей-
ствительно, применялось, но в Новом уже не применяется».
Однако, вне церквей, в домах, в особенности же во вре-
мя пиршеств, они охотно пользуются музыкою. Так как,
однако, ею злоупотребляли в кабаках и в шинках, а также
и на открытых улицах для всякого разврата и пения по-
стыдных песен, то нынешний патриарх, два года тому
461
назад, прежде всего, велел разбить все инструменты ка-
бацких музыкантов, какие оказались на улицах, затем за-
претил русским вообще инструментальную музыку, ве-
лел забрать инструменты в домах, и однажды пять телег,
полных ими, были отправлены за Москву-реку и там со-
жжены. Немцам, впрочем, разрешается пользоваться му-
зыкою в своих домах; так же точно разрешено это и вель-
може Никите, другу немцев, который держит у себя во
дворе позитив [органчик без педали] и другие инструмен-
ты; впрочем, ему патриарх не может многого сказать.
На церквах и колокольнях непременно должен нахо-
диться крест, который или простой, или (в большинстве
случаев) тройной. Поэтому они не считают наших церк-
вей, не имеющих крестов, за настоящие церкви. Они гово-
рят, что крест обозначает главу церкви, т. е. Христа; так как
Христос был распят на кресте, то крест стал гербом Хри-
стовым, и там, где подобного герба нет, там нет и церкви.
Поэтому-то церковь и является святым, чистым местом,
куда ничто нечистое не должно входить. Они неохотно впус-
кают сюда приверженцев чужой религии. Когда мы в пер-
вый. раз прибыли в страну и некоторые из нас, по незна-
нию, вошли в их церкви для осмотра их, они нас под руки
вывели из церкви и метлою вымели пол за нами. Таков же,
как говорят, обычай у них, если в церковь заберется нечи-
стое существо или собака; лишь только они заметят нечто
подобное, как тотчас же омывают загрязненное место и
освящают его вновь водою, огнем и ладаном. Церковные
дворы они также держат в чистоте и святости. Под страхом
высокой пени никто не имеет права на них мочиться.
У церквей у них висит много — иногда пять или шесть
колоколов, из которых самый большой весом не свыше
2 центнеров, обыкновенно даже значительно меньше; их
звоном они зовут в церковь; звонят также и в тот момент,
когда поп, служа обедню, поднимает чашу. Ввиду большо-
го количества церквей и часовен в Москве имеется несколь-
ко тысяч колоколов, которые во время богослужения дают
разнообразный перезвон и мелодию, так что непривыч-
ный человек слушает это с изумлением. Один человек мо-
жет управлять тремя или четырьмя колоколами. Тогда они
462
привязывают веревки не к колоколам, а к языкам, и кон-
цы веревок частью берут в руки, частью привязывают к
локтям; затем они приводят в движение один колокол за
другим. При звоне они соблюдают известный такт.
Звон считают они необходимою вещью при своем
богослужении и полагают, что последнее, без звона, было
бы несовершенно. Поэтому однажды приставы и изуми-
лись, когда шведские гг. послы около Михайлова дня им
сказали: и они желали бы справить свой «праздник». [Они
говорили]: как же послы справят в Москве свой «празд-
ник», если они не захватили с собою в столь дальнее пу-
тешествие колоколов.
Над церковными воротами, а также и над городскими,
они вешают иконы или изображают их живописью, чтобы
прохожие перед ними клали поклоны, крестились и говори-
ли свое «Господи». Они крестятся и молятся не только на
иконы, но и на кресты, поставленные на церквах. Поэтому
на улицах то и дело встречаешь молящихся русских.
О духовном управлении русских,
о клириках, церковнослужителях и монахах
Духовное управление, консистория и церковная служ-
ба справляются и совершаются патриархом, митрополита-
ми, архиепископами, епископом, архидиаконом, протопо-
пами и попами. Патриарх является верховным главой в роде,
как у католиков папа римский. Избрание его раньше зависе-
ло от патриарха константинопольского, а потом требова-
лось только утверждение. Патриарх Филарет Никитич, тре-
тий из таковых, был последним из тех, кого утверждал
константинопольский патриарх. Ныне же и то и другое про-
изводится в городе Москве самими русскими. Патриарх из-
бирается митрополитами, архиепископами и епископами из
собственной среды. Для этой цели они собираются в Крем-
ле, в величайшей церкви, — по их обозначению — «соборе»
или собрании, и избирают из своей среды двух, иногда че-
тырех или пять лиц, которых они считают умнейшими, на-
463
читаннейшими и наиболее безупречного поведения в своей
среде. О них они докладывают его царскому величеству, и
один из них его царским величеством, по совещании с
остальным духовенством, избирается. Иногда, если они, вви-
ду равенства в достоинстве лиц, не знают, кого предпо-
честь, то бросается жребий. Так было, например, при из-
брании предыдущего патриарха, бывшего лишь игуменом в
монастыре31 и привлеченного к участию в выборах лишь ради
особого почета, так как он был человек очень разумный.
Когда жребий выпал на него и другие стали прекословить,
то жеребьевка была повторена, и он был вновь указан. Так
как, однако, Великий князь заметил, что другие этому за-
видуют, то жребий метали в третий раз, и опять-таки счас-
тье выпало ему. Тогда его царское величество сказал: «Я вижу,
что ему это предназначено, и он избран Богом; поэтому
пусть он, а не иной кто-либо будет патриархом».
Как только патрииарх избран, ему вручается вводная
грамота за подписями и печатями избирателей, [в обо-
значение того], что он признан достойным и, с согласия
их всех, избран справедливым образом. К этому еще его
царское величество прибавляет свою конфирмацию или
утверждение.
Патриарх, после Великого князя, имеет наибольшую
честь и власть в стране. Он судья над духовными в делах,
которые не подлежат одному лишь светскому праву, ему
принадлежит надзор над религиозными делами, добрыми
нравами и христианским образом жизни; что ему при этом
представится правильным, он, по усмотрению своему,
устраивает, учреждает и упраздняет, предоставляя вели-
кому князю исполнение. В его предприятиях ни Великий
князь, ни вообще кто бы то ни был, не имеет права сове-
товать, ни того менее противоречить ему.
Предыдущий патриарх, а в особенности нынешний,
изменили и отменили очень много вещей в стране, кото-
рые в течение долгого времени были в употреблении, и
ввел новшества, как я неоднократно уже упоминал об этом.
Нынешний патриарх называется Никон. Как уже выше
сказано, он был митрополитом ростовским и ярославским32.
Это человек лет 40, свежий и энергичный; он живет в Кремле
464
в великолепном дворце, который он сам для себя велел по-
строить; доставляет себе все удобства, соответствующие их
обычаям, живет широко и охотно шутит. Как рассказывают,
когда недавно дала себя вторично окрестить, вместе с дру-
зьями своими, некая прекрасная девица, пришедшая потом
принять у него благословение, то он сказал ей: «Прекрасная
девица, я не знаю, должен ли я сначала поцеловать тебя
или сначала благословить». У них существует обычай вновь
принятых в их религию, по даровании им благословения,
приветствовать христианским поцелуем.
«Митрополитов», как они у них называются, имеется
четыре; затем следуют архиепископы, которых семь.
За ними следует епископ «коломенский и каширский»,
живущий в Коломне; помимо его иного епископа во всей
стране нет. В Москве при патриархе имеется еще «архиди-
акон», который служит ему канцлером и является правой
рукой его. В соборе в Кремле имеется «протодиакон». В го-
родах находятся «протопопы», «попы» и «диаконы». За ними
следуют «пономари», т. е. дьячки, ведающие отпирание и
запирание церквей и колокольный звон. В монастырях
имеются различные «архимандриты», «келари» и «игуме-
ны», являющиеся там как бы начальниками, аббатами и
преорами.
Патриарх, митрополиты, архиепископы и епископы
не имеют права жениться; когда они занимают эти долж-
ности, они должны воздерживаться от законных своих жен.
Все эти духовные лица, за исключением протопопов
и диаконов, не имеют права носить кольца на руках и
носить штаны; они должны иметь на теле шерстяные, а
не полотняные сорочки и не должны спать в кроватях.
В монастырях совершенно не едят мяса и не держат там
ни вина, ни водки, ни меду, ни крепкого пива. Патриарху
также не разрешается носить сорочку из полотна, но она
у него может быть из темного шелку.
Обычное ежедневное одеяние патриархов, митрополи-
тов, архиепископов и епископов, а также и монахов, состо-
ит из черных длинных кафтанов, поверх которых они носят
черные плащи. На головах у них черные чепцы [клобуки], с
три локтя шириной; у них посередине твердая круглая пла-
16 Зак. 191S
465
стинка, с большую тарелку, а сзади [чепцы эти] свисают с
головы. Когда они ходят по улицам, у них в руках «посохи»,
которые вверху с добрый палец прямоугольно изогнуты.
Попов или священников в Москве имеется до 4 тысяч,
ввиду большого количества церквей; в иных церквах кото-
рые побольше, имеются 6, 8 и до 10 священников. Поп,
желающий получить такой сан, отправляется к патриарху,
митрополиту или епископу, который ближе всего к нему;
здесь ему производится испытание, и если найдено будет,
что он достоин, то есть если он умеет хорошо читать, писать
и петь, то его посвящают и утверждают [это посвящение]
письменной аттестацией. При этой инвеституре ему надева-
ют священнические ризы, которые не особенно отличаются
от светского костюма; волосы вверху на голове у него со-
стригаются и надевается шапочка, именуемая «скуфьею»
(подобно нашей калотте, она держит плотно на коже), во-
круг которой остальные волосы длинно свисают на плечи,
как у женщины. Эту шапочку они в течение дня никогда не
снимают, разве чтобы дать себе постричь голову. Это свя-
щенный, заповедный предмет, имеющий большие права. Кто
бьет попа и попадет на шапку или же сделает так, что она
упадет на землю, подлежит сильной каре и должен платить
за «бесчестие». Однако, тем не менее, попов все-таки бьют,
так как обыкновенно это люди более пропившиеся и негод-
ные, чем все остальные. Чтобы при этом пощадить святую
шапочку, ее сначала снимают, потом хорошенько колотят
попа, и снова аккуратно надевают ему шапку. Подобным
делам потом не очень удивляются.
Протопоп и поп или священник, по обычаю греков,
непременно должен быть женат, а если жена его помрет,
то, оставшись духовным лицом, он уже не смеет женить-
ся. Изречение св. [апостола] Павла в I послании к Тимо-
фею, гл. 3 «подобает епископу быть единой жены мужу»
они понимают не в том смысле, что это сказано против
многоженства, но так «поп или священник должен иметь
жену и не должен жениться более, чем один раз».
Русские священники, до принятия священного сана,
должны быть женаты, притом на девицах, а не на вдовах,
еще того менее на особах с дурной славой или имеющих
466
родственниц с подобной славой. Если у священника по-
мирает жена, он может служить «заутрени» и «вечерни»,
но не смеет служить «обедни», во время которой происхо-
дит пресуществление св. даров и причащение. Он после
этого уже не смеет служить у алтаря, не имеет права кре-
стить и венчать брачующихся, но может только читать и
петь. Такие [вдовые] священники обыкновенно поступа-
ют на службу при посольствах, состоя при послах для бо-
гослужения. Они не имеют также права вторично женить-
ся. Впрочем, молодой вдовый поп, который не решается
жить без брака, имеет право снять свою скуфью, или ша-
почку, и платье и, став светским человеком, заняться
купечеством или каким-либо ремеслом и в таком случае
вновь жениться. Подобного рода случаи происходят у них
довольно часто. Если священник стар и уже не может или
не желает служить «заутрени» и «вечерни» в церквах, он
может отправиться в монастырь и стать монахом.
У русских в городах и вне городов в разных местах
много монастырей мужских и женских, большей частью
устроенных по уставу Василия Великого.
В монастыри направляются частью из бедности, час-
тью по старости и дряхлости, частью вследствие супружес-
ких несчастий, частью же приходится идти сюда и ради
иных причин, против собственной воли; иные направля-
! ются сюда и добровольно из особого благочестия, причем
. поступают так и весьма богатые люди. Если богатый чело-
век направляется в монастырь, он берет с собой только
часть своего наличного имущества, а остальное остается
его наследникам, как немного лет тому назад установлено
в их «новом соборном» уложении. Раньше они забирали с
собой в монастырь все свое имущество, вследствие чего
большая часть земли попала под власть монастырей, и царь,
в конце концов, мог остаться без земли и без крестьян.
У некоторых монастырей но этим причинам богатые дохо-
ды, между тем как иные совершенно бедны. Устав монас-
тырей должен соблюдаться твердо и неуклонно. В опреде-
ленное время днем и ночью прилежно совершают они свои
молитвенные, часы и богослужение, имея почти всегда при
себе свои четки. В монастырях они ведут суровый образ
467
жизни, никогда не едят мяса и свежей рыбы, а питаются
лишь соленой рыбою, медом, молоком, сыром и огород-
ными овощами, в особенности сырыми и солеными огур-
цами, пьют при этом квас или кофент, иногда кроша сюда
огурцы и хлебая затем ложками. Вне монастырей, однако,
они охотно дают себя угостить добрым друзьями, так что
иной раз приходится везти их пьяными из домов в монас-
тырь. Большинство из них простые глупые люди; едва деся-
тый из них, да и вообще из русского простонародья, знает
«Отче наш». Немногие из них знают что-либо о десяти за-
поведях Божиих, полагая, что подобные вещи следует знать
вельможам и высшим духовным лицам, а не им. Многих
монахов можно часто видеть идущими, едущими верхом
или в санях — вроде мужиков или ямщиков; занятия или
поступки у них те же, что у мирян, от которых их можно
отличить лишь по черному их костюму.
Имеются и такие люди, которые из особого благоче-
стия уединяются в монастыри, строят здесь у дороги ча-
совни и в них ведут суровую жизнь, как отшельники. Они
существуют одной милостыней, которую дают крестьяне
и проезжие люди. Мы встречали таких людей между Нов-
городом и Тверью.
О посте у русских
Русская церковь устанавливает весьма строгий спо-
соб поста, который теми, кто желают быть благочестивы
и богобоязненны, соблюдается добросовестно, а осталь-
ными несколько более слабо. Впрочем, все, кого я знал,
будучи предоставлены сами себе, даже во время путеше-
ствия, не хотели вкушать в постные дни мяса, хотя знат-
нейшие себе и позволяли есть по средам и пятницам са-
мые дорогие рыбы. Когда начинается главнейший пост,
то они, насколько можно судить извне, в еде соблюдают
большую умеренность и избегают всего, что имеет связь с
мясом. В последнее время избегают они и сахару (его они
раньше не называли «поганым»), так как немного лет тому
468
назад иностранный купец Бокк сказал патриарху, что для
очистки сахара пользуются яичным белком.
В течение года у них больше постных дней, чем тех
дней, когда они могут есть мясо. Наряду с упомянутым
двухдневным еженедельным постом, у них имеется первый
большой семинедельный пост в четыредесятницу; начина-
ется он от воскресенья Este mihi33 и продолжается до Пасхи.
Первую неделю этого поста они зовут масленицей, во вре-
мя которой они не едят ни мяса ни рыбы, но лишь масло,
молоко и яйца, притом так напиваясь ежедневно водки,
меду и пива и так угошаясь, что они не помнят сами себя;
последствиями этого являются великий разврат и легко-
мыслие, а раньше зачастую совершались, как выше сказа-
но, нападения и убийства. Итак, это плохая подготовка к
посту. В течение следующей недели они начинают жить уме-
ренно, едят лишь мед и овощи, пьют квас и воду, ходят в
бани, потеют и смывают совершенные в течение предыду-
щей недели грехи, принимают также благословение от по-
пов. В остальное время большинство лиц, желающих быть
более благочестивыми, не едят и рыбы, за исключением
воскресенья. Второй пост начинается на 8 день после Тро-
ицы и продолжается до дня Петра и Павла. Его называют
Петровским постом. Третий начинается 1 августа и продол-
жается 14 дней. Четвертый — с 12 [14] ноября по Рождество.
В течение недели после Рождества вплоть до Нового года
они все едят мясо, и всякий запасается, у кого лишь есть
на покупку мяса деньги. Так же поступают они в течение
всех праздников и воскресений, если только они не совпа-
дают с постом, и полагают, это было бы грехом, если бы
они не ели [в эти дни] мяса.
В течение поста, особенно во время Великого поста,
когда они не едят более ни мяса ни рыбы, а также и в другое
время в течение 8 дней до причащения, никто, ни священ-
ник ни иной кто не смеет плотски совокупиться со своей
женой под страхом высокой пени. Я, впрочем, полагаю, что
ни сами они, ни жены их не выдают друг друга в этих случа-
ях, и что поэтому пени этой собирается весьма не много.
Во время Великого поста, когда подходит время ис-
поведи, некоторые покупают птиц, которых вновь выпус-
469
кают на свободу в воздух. Они полагают, что этим осво-
бождением птиц совершают доброе дело и что за это и
Бог их освободит от их грехов.
Об исповеди и причастии
Исповедь русские считают необходимым делом для об-
ращения к Богу и примирения с Ним. У взрослых и разум-
ных она непременно должна предшествовать причастию.
Допускают к исповеди и причастию в любое время. Однако
обыкновенно пользуются для этой цели временем около
Пасхи. На Страстной неделе иные пораньше, а большин-
ство в пятницу идут к исповеди и затем в субботу перед
Пасхой получают причастие. В течение восьми дней перед
исповедью они должны истязать свое тело суровым постом:
не едят ничего, кроме черствого хлеба с квасом и кислыми
напитком, от которого у них в животе начинается боль и
они делаются полубольными. Исповедь должна совершать-
ся внутри церкви под круглым сводом перед священником.
Исповедующийся должен непрестанно смотреть на особо
назначенную для этой цели икону, рассказать все грехи,
им совершенные, и обещать вести лучшую жизнь. После
этого священник разрешает его от грехов и, смотря по ве-
личине его грехов, назначает ему в виде наказания: либо
попоститься некоторое время, либо сделать несколько сот
или тысяч поклонов перед иконой своего святого, приго-
варивая: «Господи, помилуй», или воздержаться от жены
своей в течение некоторого времени (последнее, ввиду их
пылкого нрава, является для них, если они только выдер-
жат это, очень тяжелым наказанием), либо не входить не-
которое время в церковь, но останавливаться у дверей ее.
Если же грехи столь велики, что даже эти виды наказаний
еще недостаточны, то грешнику приходится омыться свя-
той водой, зачерпнутой из освященной в крещение реки и
сохраняемой для подобных надобностей в течение целого
года в церквах, откуда священники за деньги продают ее.
Тогда они полагают, что исполнили переданное через про-
470
рока Исаию повеление Божие и освободились от грехов
своих.
Св. причастие не может быть принято в день мясояс-
тия, но в пост, или же в день, когда оно принимается,
нужно поститься.
Они принимают причастие под двумя или, можно
даже сказать, под тремя видами, так как они смешивают
хлеб, вино и воду. Хлеб, употребляемый у них для св. при-
частия, должен быть квашен и испечен вдовой священни-
ка. И это обстоятельство является одной из причин, поче-
му русские не желают придерживаться латинской церкви,
так как в этой последней при св. причастии применяется
неквашеный хлеб. Хлеб, который у русских применяется
во время причастия, частью освящается в великий чет-
верток, частью в тот же день, когда думают им восполь-
зоваться. Тот, который освящается в великий четверток,
применяется для больных и приготовлен следующим об-
разом. Они берут испеченный для этой цели хлеб, величи-
ной вдвое больше рейхсталера и с изображением распятия
по середине. Над ним поется «Агнец Божий» и произно-
сится благословение, а затем та часть, на которой распя-
тие, выкалывается железным инструментом, похожим на
копье, и разрезается. Затем ее кладут в деревянного голу-
бя и вешают над алтарем, чтобы мыши или что-либо не-
чистое не проникло сюда. Если теперь в течение года кто-
либо заболеет и вдруг пожелает причаститься, то берется
небольшой кусочек такого хлеба из голубя, на него нали-
ваются три капельки красного вина, все это кладется в
чашу, затем иногда подливается сюда немного воды (иногда
же не делается это — смотря по тому, как больному легче
принять) и на ложке подается больному. Иногда, если
больной не в состоянии проглотить хлеб, ему подается
одно вино. Когда они дают причастие здоровым в церкви,
во время публичного приобщения, то у них имеется не-
большой круглый хлебец величиной с полрейхсталера,
сформированный и вырезанный вроде предыдущего. От
него они отламывают столько кусков, сколько имеется
причащающихся, крошат их в красное вино и несколько
тепловатую воду, благословляют все это и полагают, что
471
при этом происходит пресуществление, а именно, что хлеб
и вино воистину превращаются в плоть и кровь Христовы.
Они подают их приобщающимся на ложке, говоря при
этом: «Вот истинные плоть и кровь Христовы, за тебя и за
многих приносимые во оставление грехов твоих; сколь
часто ты их принимаешь, то принимай их в воспомина-
ние о Христе. Бог да благословит тебя».
После принятия св. тайн некоторые русские, желаю-
щие быть особенно благочестивыми, ложатся и засыпа-
ют, или же принуждают себя спать целый день, чтобы не
иметь повода грешить. В воскресенье после этого они по-
лучают в церкви от священника еще кусочек освященно-
го хлеба, из которого средняя часть и распятие вырезаны
для причастия, и съедают его. Это они называют «кутьею»,
которая у них должна являться как бы даром и знамением
общей христианской любви между ними.
Они дают немного причастия и малым больным де-
тям; тем же, кто уже достигли семилетнего возраста, оно
дается обычным способом. Они говорят, что с семи лет
люди начинают грешить. У безумных причастием только
касаются губ.
Священник, в тот день, когда он погребал мертвого,
или прощался с покойником, не имеет права подавать при-
частие, так как он считается тогда нечистым. Он также не
может его дать роженице в том месте, где она родила ребен-
ка; напротив, ее приходится перенести в иное помещение и
хорошенько обмыть. Раньше они рассылали св. дары по стра-
не к тем, кто не имели вблизи себя священников, иногда
также давали освященный хлеб солдатам и путешественни-
кам на дорогу, чтобы они, только исповедавшись дома, могли
потом в любое время принять его. Они обыкновенно сохра-
няли его до тех пор, пока не заболевали чем-либо, с тем,
чтобы в случае, если б не удалось подняться с одра, тем не
менее не без запаса направиться в вечную жизнь.
Имеются известные лица: например, те, кто нарушили
присягу, кто совершили убийство и покаялись или же со-
вершили еще иные крупные грехи, — которым причастие не
дается даже вплоть до смертного одра их. Вольному, которо-
му никакое лекарство уже не может помочь, они дают при-
472
частие одновременно с последним помазанием, и после этого
больной уже не имеет права принимать лекарства, но дол-
жен отдаться всецело на волю Божию. Они не дают такому
больному и есть, если только не станет очевидным, что он
вновь поправляется и что поэтому можно вполне надеяться
на его выздоровление. Мощи или кости святых они опуска-
ют в воду или водку, которую дают пить больному.
Некоторые богатые люди, находясь на одре болезни
и замечая, что приходит время помирать, принимают при-
частие, а затем принимают монашеский чин, дают себя
постричь, помазать и надевают монашеское одеяние. Та-
кой человек, принявший серафимские одежды (как они
их называют), в течение восьми дней не может принимать
ни лекарства ни пищи. Они говорят: теперь он уже нахо-
дится в чине святых ангелов. Если окажется, что подоб-
ный больной, против ожидании, выздоровеет, то он дол-
жен сдержать свой обет, развестись со своей супругой и
идти в монастырь.
О погребении их покойников
Что касается похорон у русских, то таковые происхо-
дят, как и все их публичные действия, с весьма многими
церемониями. Как кто помрет, сходятся ближайшие дру-
зья его и помогают женщинам чрезвычайно громко выть
и вопить. Они становятся кругом трупа и спрашивают:
«Отчего он умер? разве чувствовал он недостаток в еде,
питье, одежде или чем-либо подобном? разве жена его
недостаточно была хороша, молода, прекрасна и верна?»
и т. д. Эти же жалобы повторяются у могилы, где предпо-
лагается зарыть данное лицо. Нечто подобное происходит
на могилах в определенное время года.
Тотчас же посылают за священником и дарят ему
пива, меду и водки, прося помолиться за душу умершего,
чтобы ей было хорошо. Труп моют, одевают в белую по-
лотняную одежду, надевают ему башмаки из тонкой крас-
ной кожи, кладут руки крест-накрест и затем кладут его в
473
гроб (таковые продаются у них открыто во многих частях
города; они срублены из целых деревьев и различной ве-
личины), после чего накидывают на гроб покрывало, иног-
да — кафтан покойного. Гроб приносят в церковь, и если
покойник был человек знатный, то он остается в церкви
зимой в течение 8 дней. Здесь священник ежедневно ок-
ропляет его святой водой, окуривают его миррой, поет
при этом и служит заупокойные обедни за души усопших.
Вынос тела происходит таким образом. Покойника
несут 4 или 6 человек; если умерли монахиня или монах,
то монахини и монахи должны нести гроб. Перед покой-
ником идут несколько закутанных женщин из числа бли-
жайших друзей покойника, поднимая весьма жалкие воп-
ли и крики. Иногда они громко кричат, иногда они
несколько останавливаются, то они опять начинают при-
читать и жалуются на слишком раннее отшествие их дру-
га, говорят, что лучше было бы, если бы он пожил доль-
ше, так как он был человек благочестивый и дорогой
для них. В то же время несколько попов, идущих впереди
покойника и за ним и несущих иконы и кадильницы,
поют что-то, причем в их пении можно разобрать лишь
слова: «Святый Боже, Святый Крепкий, Святый Бес-
смертный».
За покойником следуют ближайшие друзья и добрые
знакомые, притом без всякого порядка, целой гурьбой.
У каждого в руке по восковой свече. По приходе их к моги-
ле и по установке покойника на место, гроб раскрывается
и на покойника еще раз кадят. Над ним держат икону, ко-
торую он, в честь своего святого, особенно почитал, свя-
щенник читает молитву и часто повторяет следующие сло-
ва: «Господи, помяни эту душу»; кроме того, читаются еще
и некоторые изречения по чину греческой литургии. Остав-
шаяся вдова в это время стоит у тела и ее печальный крик
еще раз раздается с повторением вышеприведенных воп-
росов. Потом друзья, вместе с ней, подходят к гробу, целу-
ют его, а иногда, под конец, и самого покойника и затем
отступают в сторону. После этого подходит поп и дает мер-
твецу паспорт в могилу. Этот паспорт за деньги покупается
в Москве у патриарха, а в иных местах у митрополитов и
474
Погребение
архиепископов; в случае же отсутствия этих последних - у
попов. Паспорт составлен в таких выражениях:
«Мы, NN, епископ и священник здесь в N, исповеду-
ем и свидетельствуем сим, что настоящий N жил у нас как
истинный православный христианин. И хотя он иногда и
грешил, он все-таки покаялся в своих грехах, получил раз-
решение и принял св. причастие во оставление грехов. Он
правильно чтил Бога и святых его, постился и молился,
как следует. Со мной, N, своим духовником, он во всем
примирился, так что я вполне простил ему вси грехи его.
Поэтому мы и дали ему в дорогу этот паспорт, чтобы он
мог показать его св. Петру и остальным святым, дабы бес-
препятственно быть впущенным в двери радости».
Этот паспорт подписан патриархом, епископом или
попом, снабжен печатью и кладется покойнику меж двух
пальцев. Простоватые люди думают, что этот паспорт, точ-
но рекомендательное письмо, имеет большое значение для
того света. На самом деле, он больше всего на пользу свя-
щенникам, которые получают за него деньги. Как только
паспорт передан мертвецу, гроб закрывается и закапыва-
ется. Они ставят всех мертвецов так, чтобы они лицом были
475
обращены к восходу солнца. После того как покойник по-
хоронен, окружающие крестятся перед иконами и направ-
ляются опять домой. Друзьям устраивается траурный пир,
здесь запивают горе, и обыкновенно мужчины и женщи-
ны, сильно охмелевшие, возвращаются домой.
Русские печалятся о своих мертвецах шесть недель,
причем в это время богатые устраивают большие пиры,
приглашая наряду с друзьями и всех священников, при-
сутствовавших на похоронах. Они пользуются для этой цели
третьим, девятым и двадцатым днями; однако почему они
берут именно эти, а не иные какие-либо дни, о том я
ничего не мог узнать до сих пор у русских. Без сомнения,
этот обычай ими заимствован у греков, которые вместо
двадцатого дня берут сороковой. Причины этих пиров,
которые двоякого рода, могут быть узнаны на том же ме-
сте. Эти три пиршества должны обозначать то же, что [рим-
ские] insta или parentaia. Это — воспоминание и жертвы о
покойниках для того, чтобы оставшиеся относились друг
к ДРУГУ с любовью и дружбой. Поэтому-то установлены
особые кушанья, как-то: освященный хлеб, называемый
у русских кутьей. Греки справляют подобные пиршества в
своих церквах, и между прочим раздают также такие ку-
сочки освященного хлеба. Русские же (попы так же, как и
другие) при подобных братских пиршествах, пьют так
дружно, что потом на руках и ногах ползут домой.
Над местом погребения или могилами тех, у кого есть
некоторые средства, на кладбищах устраиваются небольшие
хижины, в которых можно стоять человеку; они обыкновен-
но завешаны циновками. В них через каждые шесть недель
поп, капеллан или монах должен ежедневно утром и после
полудня читать некоторые псалмы Давидовы и несколько
глав из Нового Завета ради спасения душ умерших. Хотя
русские, подобно грекам, не верят в существование чисти-
лища, тем не менее они уверены, что существуют особые
два места, куда попадают души сейчас по отделении своем
и где они ждут страшного суда и восстановления тел своих;
места эти соответствуют тому, как кто жил и совершал ли
он добрые или злые дела. Благочестивые попадают в веселое
и приятное место, где они живут в радости, в сообществе
476
добрых ангелов, безбожные же попадают в мрачную чудо-
вищную долину, где живут страшные, злые духи.
Поэтому они и полагают, что душа, по оставлении тела,
находясь как бы на пути к этим местам, прилежной молит-
вой и предстательством своего бывшего исповедника, попа,
монаха или иного кого-либо может быть приведена на ис-
тинный путь в радости и к общению с добрыми ангелами, а
если она направилась налево, в юдоль страха, то все-таки
Бог может быть смягчен жертвами и умолен, чтобы Он ос-
тавил свой гнев по поводу грехов ее, вписал ее в книгу
жизни и в свое время в великий день суда оказал ей тем
большую милость. Эту цель преследуют они и в своей разда-
че милостыни. Когда помирает богатый человек, то в тече-
ние шести недель ежедневно раздается бедным некоторое
количество хлеба и денег. И так ведь среди русских находят-
ся люди, которые не только много средств жертвуют на цер-
кви и монастыри, но, кроме того, щедрой рукой раздают
милостыню бедным, хотя, с другой стороны, они не очень
совестятся обмануть своего ближнего при покупке, продаже
и других делах. Когда лавочники по утрам идут из домов
своих в церковь и оттуда в лавки свои, то они сначала на
хлебном (ситном] рынке покупают несколько хлебов, берут
их с собой, разрезают их и делят между нищими, которых в
Москве чрезвычайно много. У этих нищих от таких милос-
тынь получается столь большое изобилие всего им нужного,
что они режут хлеб в четырехугольные куски, величиной в
дюйм, сушат в печах и продают эти, по их выражению,
«сухари» целыми мешками на рынках проезжим людям.
О приверженцах других религий,
которых московиты частью переносят,
частью не терпят
Московиты относятся терпимо и ведут сношения с
представителями всех наций и религий, как-то: с лютера-
нами, кальвинистами, армянами, татарами, персиянами
и турками. Однако они крайне неохотно видят и слышат
477
папистов и иудеев, и русского нельзя сильнее обидеть,
как выбранив его иудеем [жидом], хотя многие из купе-
чества довольно похожи на жидов. Лютеране и кальвини-
сты до сих пор встречали хороший прием не только в раз-
ных местах в стране, но и в самой Москве при дворе,
ради торговли и сношений, которые с ними усердно ве-
дутся, а также и ради тех должностей, на которых они
служат его царскому величеству дома и в поле. Тех из них,
что живут в Москве, имеется до 1 000. Каждому разреша-
ется по своему совершать богослужение в публичных цер-
квах. Раньше обе религии имели в городе Москве свои
построенные здесь церкви. Однако лютеране лет 20 тому
назад потеряли церковь из-за ссоры и драки женщин,
споривших о первенстве.
Лютеранам, однако, позволили построить вне Белой
стены, в округе Большого города, новую. Кальвинисты так-
же внутри Белой стены стали, рядом со своей деревянной
часовней, строить красивую каменную церковь и довели ее
почти до крыши. Так как, однако, патриарх и Великий князь
не разрешили постройки, а лишь смотрели на нее сквозь
пальцы, то патриарху как-то пришло в голову приказать раз-
рушить эту церковь, а заодно упразднить и часовню, нахо-
дившуюся близ нее. После этого кальвинисты некоторое время
для слушания проповеди ходили в церковь к лютеранам,
пока они, наконец, не получили собственной церкви.
Когда некоторое время спустя лютеране принуждены
были, по настоянию патриарха, убрать свою церковь и из
Большого города, они, с соизволения его царского вели-
чества, заняли вне вала на свободной площади место и
построили на ней церковь, большую, чем предыдущая.
Однако, недавно, при отмене русской одежды (о чем ска-
зано выше), они вновь со своей церковью должны были
перейти на другое место. Произошло это таким образом.
Попы в Москве уже 15 и более лет жаловались, что
немцы, живущие среди русских в городе, закупили самые
большие и лучшие площади из их приходских земель и об-
строили их так, что попы потеряли многое из своих доходов.
Однако, так как предыдущий великий князь относился бла-
госклонно к немцам, им ничего нельзя было добиться. Те-
478
перь, однако, когда сам патриарх стал жаловаться, что нем-
цы ходят среди русских в одинаковых с ними одеждах и как
бы крадут у него благословение, попы воспользовались слу-
чаем, возобновили свою жалобу и довели дело до того, что
отдан был строгий приказ: кто из немцев хочет перекрес-
титься по русскому обряду, тот пусть остается жить в горо-
де, но кто отказывается поступить так, тот обязан в течение
короткого времени вместе с жилищем своим выбраться из
города за Покровские ворота, в Кокуй, место, где 40 и бо-
лее лет тому назад немцы исключительно жили и где погре-
бен датского короля Христиана IV брат, герцог Иоганн.
Это место лежит на реке Яузе и получило название
Кокуй. Его царское величество теперь дал этому месту дру-
гое наименование, назвав его «Новой иноземской слобо-
дой». Здесь каждому, по его личному состоянию, должно-
сти или промыслу, отведено определенное место для
построек и вся слобода разделена правильными улицами.
Те, у кого в городе были деревянные дома, велели их сло-
мать и вновь сложить в Новой иноземской слободе, где
они теперь, в случае часто возникающих у русских пожа-
ров, живут в гораздо большей безопасности, чем в городе.
Большинство немцев говорят, что снятие русской одежды
и отделение от русских домов и ежедневных сношений с
русскими было им столь же больно, как, например, было
бы для рака утопление его, ради наказания, в воде.
Когда немцы теперь увидели, что им как бы дан осо-
бый город для мирной жизни в нем, они не задумались сами
сломить свои, далекие теперь оу них, церкви и перенести их
к своим очагам и домам, в «Новую иноземскую слободу».
Теперь у лютеран здесь две немецкие церкви, а у кальвини-
стов — голландская и английская. Лютеране огородили боль-
шое кладбище, на котором они и кальвинисты погребают
своих покойников. Обе религии здесь уживаются мирно дру-
га с другом, и ради веры не бывает неприятностей.
Как сказано, русские ничего не имеют против на-
хождения в их стране лютеран и кальвинистов вместе с их
богослужением. Что же касается римско-католиков или
папистов, то они до сих пор встречали у них мало распо-
ложения; напротив, они вместе с их религией были как
479
бы мерзостью в их глазах. В 1627 г. король французский
Людовик XIII прислал посла по имени Луи-де-Гэ к пре-
жнему великому князю, с просьбой разрешить француз-
ской нации свободу торговли в России; при этом он сде-
лал попытку добиться постройки для них католической
церкви. Однако в этом ему было отказано.
Когда должна была начаться война со Смоленском, и
между начальниками, которые были призваны в страну,
оказались и католики, то им за посадку в страну дан был
подарок, а затем их с добрым конвоем вновь отправили
через границу. В договорах, которые они заключили с нами
ради персидской торговли, они внесли строгий запрет,
чтобы в случае направления голштинцев для торговли в
Персии, они не имели в своей среде людей латинской веры
(так зовут они римских католиков). Так ненавистно у них и
самое имя их. Следует удивляться, как они, тем не менее,
в 1610 г. избрали в великие князья Владислава, королевича
польского; впрочем, они потом, еще до начала им дей-
ствительного управления, отвергли его и позже относи-
лись к полякам и к их религии с гораздо большей ненави-
стью, чем раньше, за то, что они совершили над иконами
их, русских, столь большие надругательства.
Эта древняя и как бы прирожденная ненависть и не-
дружелюбие русских к папистам или латинской церкви,
впитана их предками от греков и их религии и от них пе-
редана потомству и получила дальнейшее развитие. Так
как русские являются сторонниками греческой церкви,
то они полагают, что в этом деле должны разделять враж-
ду, которую греческая церковь хранила по отношению к
латинской в течение многих сот лет.
В предыдущем достаточно сказано о нынешнем состо-
янии России и свойствах ее жителей, при описании како-
вых я излагал больше подробностей, чем принято в описа-
нии путешествия. Так как, однако, многим было бы
небесполезно узнать такие частью новые, частью не всяко-
му известные вещи, то я надеюсь, что благосклонный чи-
татель не отнесется неблагоприятно к этому моему отступ-
лению, которое я случайно оказался в состоянии сделать34.
480
Об отъезде из Москвы
Вернемся опять к нашей поездке в Персию. Когда
для этого путешествия нам был вручен приставом выше-
упомянутый великокняжеский паспорт, мы собрались в
дорогу из Москвы [30] июня. В тот же день мы напосле-
док получили от фактора его княжеской светлости г. Да-
вида Рутса прекрасное приготовленное угощение. Когда
подошел последний час дня (у русских применяются ва-
вилонские часы, и они начинают счет часов от солнеч-
ного восхода и считают до захода солнца), царь прислал
нам, как это принято здесь, лошадей, на которых мы, в
сопровождении старых наших приставов и многих знат-
ных немцев, проехали три версты за город, до Симонов-
ского монастыря, где нас ожидала лодка, выехавшая
вперед из-за сильной кривизны реки Москвы. Мы, стало
быть, вошли в лодку, при сердечных приветах добрых
друзей. Великим князем нам был дан пристав по имени
Родион Матвеевич, который должен был идти с нами до
Астрахани.
Едва мы немного отъехали от берега, подошел сюда
молодого князя гофмейстер Борис Иванович Морозов,
доставивший равных дорогих напитков и имевший при
себе трубачей своих. Он попросил послов немного при-
стать, чтобы он мог на прощанье угостить их. Послы, од-
нако, отказались, а так как перед этим, как выше сказа-
но, он некоторым из нас на соколиной охоте доставил
большое удовольствие, то мы и подарили ему серебряный
прибор для питья. После этого в особой маленькой лодке
он довольно долго ехал рядом с нами, велел своим тру-
бачам весело играть, а наши им отвечали. Через некото-
рое время он даже пересел в нашу лодку и пил с нашими
дворянами вплоть до утра, после чего он, со слезами на
глазах, полный любви и вина, простился с нами.
Так как в эту ночь русские лодочники (они по восьмеро
по очереди сидели у весел) еще были свежи и к тому же
* каждый из них получил по чарке водки, мы быстро под-
| винулись вниз по реке,
'г ‘
481
Как нас в Москве вновь приняли, как
мы имели аудиенцию и что еще произошло
2 января 1639 года нас снова весело ввели в Москву.
Два отряженных его царским величеством пристава, со-
провождаемые большим количеством народа, вышли к нам
навстречу, любезно приняли послов и повезли их в город
в двух больших санях с красной атласной обивкой, выст-
ланных прекрасными коврами. Для знатнейших из свиты
доставлено было 12 белых царских лошадей. Таким обра-
зом, при любезных приветствиях многих добрых друзей,
находившихся здесь, мы въехали в город и расположи-
лись на большом посольском дворе; здесь же мы получи-
ли для привета обычные напитки, а также ежедневный
«корм», т. е. все, что относится к кухне и погребу.
Мы застали перед нами тех лошадей и людей наших
послов, которые ушли вперед из Астрахани.
5 [61 января, по случаю дня св. Крещения, русские
совершили большое торжество водосвятия, на котором
присутствовали Великий князь и патриарх со всем при-
дворным штатом и клиром.
8 послов потребовали на первую тайную аудиенцию,
во время которой беседа с ними продолжалась с час. В эту
ночь умер молодой сын Великого князя князь Иван Ми-
хайлович, господин лет 835, вследствие чего во всей Мос-
кве, особенно при дворе, была сильная печаль. Все под-
данные должны были снять свои украшенья, золото, жемчуг
и другие одежды и надеть рваные темные кафтаны.
21 января послов позвали на вторую тайную аудиен-
цию; ввиду траура их повезли на черных лошадях. Покои
были все обтянуты черным сукном, и советники в черных
камлотовых костюмах. Эта аудиенция продолжалась целых
два часа.
30 января фон Ухтериц, раньше всех, собрался в свой
давно желанный обратный путь в Голштинию. При снаряже-
нии его произошло следующее памятное происшествие. Фон
Ухтерицу, ради собственных его дел, в особенности ради
наследства, очень хотелось поскорее приехать в Германию.
Поэтому он не раз просил послов об отпуске. Бр[юггеман],
482
однако, не хотел давать на это согласия, разве лишь, в кон-
це концов, под следующим условием: чтобы он ни от кого
больше, как от него, не брал с собой писем в Германию, а
в особенности к голштинскому двору; остальные письма пусть
он все передаст ему, Брюггеману; тогда он не только будет
отпущен, но ему будет оказана всяческая добрая помощь
для путешествия; в противном же случае пусть он и не дума-
ет выбраться. Фон-Ухтерицу, честному дворянину, это по-
казалось странным и трудным; он спрашивал посла Крузи-
уса и других: как здесь быть? Сочтено было за лучшее, чтобы
он подал вид, точно готов согласиться на подозрительное
предложение Брюг[ге]мана. Когда, однако, фон Ухтериц
напомнил при этом Брюг[ге]ману, как же ему отвечать, если
и посол Крузиус передаст ему письма на имя его княжес-
кой светлости, а он их не доставит, то Брюг[ге]ман дал ему
письменное ручательство за собственной рукой, что из-за
этого у него не будет затруднений, и что бы ни случилось,
вреда ему не будет. Когда фон Ухтериц уже более не возра-
жал, Брюг[ге]ман успокоился и содействовал его путеше-
ствию. Тем временем посол Крузиус приготовил два пакета
писем, из которых он один передал фон Ухтерицу тайно, а
другой — для уничтожения — явно. Так же точно поступили
и секретарь и другие. При этом пришлось соблюсти ту предо-
сторожность, чтобы Брюг[ге]ман, вскрыв письма, не сразу
догадался о «скрытом кушанье» и не отменил поездки. По-
этому Ухтериц сказал Брюг[ге]м[ану], что он находит не-
удобным отдавать письма в Москве, но предлагает их пере-
дать в полумиле за городом, чтобы Крузиус не заметил
проделки: Крузиус, по его словам, мог потребовать пакет
обратно для дополнения его, и тогда он оказался бы в по-
стыдном положении. Это умное предложение до того понра-
вилось Брюг[геману], что он одного из своих верных слуг
послал вслед за Ухтерицом, как бы — проводить его, а на
самом деле для того, чтобы взять письма. Когда это совер-
шилось, путешественник поспешил вперед, насколько он
мог, и счастливо уехал. Брюг[ге]ман же, вскрыв письма и
заметив, что ничего особого в них нет (притом в пакете
Крузеуса оказались лишь бумаги одного почерка, а между
тем он писал со своим писцом и мальчиком целых два дня),
483
понял, что не удалось поймать настоящую рыбу и что его
перехитрили. Поэтому он стал еще несноснее, чем прежде,
но не мог высказать истинной причины.
2 февраля Иоганн Грюневальд, патриций данцигский,
один из знатнейших в свите, проболев 8 дней, безмятежно
и блаженно скончался и 6 того же месяца в торжественной
процессии похоронен на немецком кладбище. Это был че-
ловек очень благочестивый, богобоязненный и тихий, со
всеми ладивший и со всякой неприятностью примирявшийся;
до этого путешествия он совершил также большие и труд-
ные поездки в Вест- и в Ост-Индию и имел большой опыт.
6 февраля персидский султан с весьма большой пыш-
ностью бил доставлен русскими в город; чтобы нас не за-
держивать, ему на третий день после этого дали аудиенцию.
11 посол Брюг[ге]ман пожелал и получил один тай-
ную аудиенцию. 12 наши солдаты и офицеры, которых мы
с соизволения его царского величества брали с собой из
Москвы в Персию, получили благодарность и расчет.
23 февраля мы в последний раз были приняты на пуб-
личной аудиенции, приложились к руки его царского ве-
личества и получили отпуск.
7 марта персидский султан вновь собрался в путь из
Москвы и поехал вперед в Лифляндию.
Отбытие из Москвы через Лифляндию
обратно в Голштинию, в резиденцию
его княжеской светлости нашего
милостивейшего государя
После этого мы вновь собрались в путь, и 16 марта по
санному пути опять выехали из Москвы, в сопровожде-
нии наших приставов, нескольких стрельцов и многих
немцев. После любезного прощания мы помчались вперед
и стали делать быстрые дневные переходы, чтобы не по-
терять санного пути, так как весна уже наступала, а пого-
да была ясная. 18 мы пришли в Тверь, а 19 в Торжок. И та
и другой — «ямы», где нам давали свежих лошадей.
484
Как ни мал город Торжок, в нем все-таки 30 церквей
и часовен, которые ежедневно посещаются; одна из них
каменная и довольно красива, если судить по наружному
виду. Никого из нас не хотели пустить в город.
23 марта мы вновь прибыли в Великий Новгород и были
хорошо приняты воеводой, доставившим нам некоторые
кушанья и напитки. Мы застали прибывшего до нас персид-
ского посла, с которым мы на следующий день отправились
в путь и 24 марта перешли через русскую границу.
Когда по въезде в Ингерманландию наш медик был
послан вперед ради знатного мужа, моего бывшего добро-
го друга, который лежал в Лифляндии опасно больным и
неоднократно просил о присылке нашего врача, я также,
заболев лихорадкой и не имея надобности дольше оста-
ваться при свите, собрался вместе с ним вперед в Ревель.
В последнее число марта послы с султаном въехали в
Нарву, где полковник Врангель с 50 всадниками выехал к
ним навстречу. Султан был помещен у магистратского со-
ветника Иакова Мюллера. Когда у дверей его собралось
много людей, особенно женщин, чтобы посмотреть, как
жена персиянина будет выходить из закрытых саней, сул-
тан был так сильно раздосадован, что он готов был ско-
рее выехать из города, чем показать свою жену. Он спро-
сил также: «Неужели все женщины в Нарве, ходящие с
открытыми лицами, блудницы?» Он хотел судить о наших
нравах по своим, так как в Персии ни одна честная жен-
щина не показывается перед иностранцами. Поэтому при-
шлось убрать весь народ, пока жена его выходила из саней.
После этого султан во всех местах подводу с женщинами
ставил близко к месту остановки и обвешивал весь про-
межуток от телеги до дверей платками, между которыми
его жена с ее прислугой (купленной в Казани за 30 рейхс-
талеров) входили и выходили, никому не показываясь.
4 апреля послы с тем же конвоем, как въехали, так и
выехали из Нарвы и направились в деревню Пурц, где
j отдохнули день и наняли других лошадей. 8 апреля все они
; направились в мызу Кунда и оставались там 4 дня. Отсюда
уже, за отсутствием снега, нельзя было поехать на санях;
поэтому пришлось поехать на лошадях и в телегах.
485
13 апреля они достигли города Ревеля, где были хо-
рошо приняты и приведены в город почтенным магистра-
том. Так как Брюг1ге]ман здесь, как и прежде в других
местах, сильно преследовал секретаря, то этот последний
15 апреля сел на корабль и уехал вперед в Голштинию,
где оставался у княжеского двора в Готторпе, пока не
прибыли послы. Послы, однако, со свитой пробыли 3 ме-
сяца в Ревеле, притом по особому желанию и охоте посла
Брюг[ге]мана, который преследовал особые виды. Тем
временем послы с их свитой проводили время в городе и
вне его у добрых друзей с полным удовольствием.
11 июля послы с султаном и русским посланником,
отправленным от великого царя к его княжеской светлос-
ти герцогу Фридерику голштинскому, ушли в море. Они
шли на 4 судах под парусами, и на 11 день своего море-
плавания прибыли к голштинскому берегу у Фемерна. Они
хотели войти в кильскую гавань, но так как ветер был для
них неблагоприятен, они направились в Нейштадт, в
2 милях от Любека, и бросили здесь якорь 22 июля. Когда
они, однако, от гонца, посланного в город, узнали, что
там будто бы царит чума, они тотчас ушли, направились
в гавань Травемюнде и сюда благополучно въехали 23 июля.
Отсюда они отправили багаж с несколькими людьми
морем в Киль, сами же пошли сушей и 28 того же месяца
направились в Эйтин, в резиденцию г. брата его княжес-
кой светлости, герцога Иоганна, епископа любекского.
Здесь его княжеская милость любезно принял их и вели-
колепно угостил.
30 июля все они направились в город Киль, извест-
ный своими ежегодными переменами. Отсюда наши по-
слы ушли вперед к его княжеской светлости и 1 августа
счастливо достигли опять княжеской резиденции Готтор-
па, таким образом совершенно закончив, по милости
Божьей, московитское и персидское путешествие.
Всемогущему Великому Богу, Который во время дол-
гого трудного путешествия чудесно избавлял от многих
опасностей для жизни и так милостиво сохранял под сво-
ей могучей защитой и радостно привел нас опять в наше
отечество, да будет за столь великую благость хвала, честь
и благодарение отныне и до века!
486
ПРИМЕЧАНИЯ
Жак Маржерет. СОСТОЯНИЕ
РОССИЙСКОЙ ДЕРЖАВЫ И ВЕЛИКОГО
КНЯЖЕСТВА МОСКОВСКОГО
1 Ж. Маржет имеет в виду Симеона Бекбулатовича, татарско-
го царевича, которого Иван IV Грозный посадил на вели-
кокняжеский престол после своего публичного отречения
от трона в 1575 г. Симеон являлся ставленником царя и во
всем был ему послушен. Иван IV за время «правления»
Симеона расправился с боярской аристократией.
2 Агрия - латинское название венгерского города Эгер.
’Елизавета 1 Тюдор (1533—1603) — королева Англии с 1558 г.
4 Маржерет преувеличивает: Симеон фиктивно занимал пре-
стол около 11 месяцев.
5 Царица Ирина являлась сестрой Бориса Годунова. Здесь Мар-
жерет неверен, хотя в дальнейшем не допускает подобной
ошибки.
6 Считается, что первая типография на Руси появилась около
1553 г. В 1564 году в типографии Ивана Федорова и Петра
Мстиславца в Москве была отпечатана первая книга («Апо-
стол»), которую возможно точно датировать.
’Федор Иванович Мстиславский (ум. в 1622) - князь и вли-
ятельный боярин. В 1610 г. он возглавил боярское прави-
тельство, вошедшее в историю как «Семибоярщина».
"Дмитрий Иванович Шуйский (ум. в 1613) — князь и боярин,
неоднократно назначался на высокие посты, как государ-
ственные, так и военные.
’Василий Иванович Шуйский (1552—1612) — князь, боярин,
в 1606 г. стал царем. Он не сумел организовать борьбу про-
тив польской интервенции, в 1610 г. был свергнут, захва-
чен в плен и увезен в Польшу.
10 Принц Густав (1558-1607) — сын короля Швеции Эрика XIV.
11 Эрик XIV (1533—1577) занял шведский престол в 1560 г.
Через 7 лет Швеция и Россия заключили в Москве союз-
ный договор.
12 Иоанн III (1537—1592) стал королем Швеции в 1568 г.,
сместив с престола Эрика XIV.
13 Маржерет, как сторонник Лжедмитрия I, считает, что царе-
вич Дмитрий не погиб в Угличе, а был заменен другим ре-
бенком.
487
14 Принц Иоанн (1580-1602) - брат датского короля Хри-
стиана IV.
‘’Христиан IV (1577—1648) в 1596 г. стал королем Дании. Он
поддерживал тесные контакты с Россией.
16 Петр Федорович Басманов (ум. 1606) занимал при дворе раз-
личные должности (воеводы, стольника, окольничего). В 1604 г.
удачно оборонял от войск Лжедмитрия 1 город Новгород-Се-
верский, но впоследствии поддержал самозванца, стал од-
ним из его близких советников и был убит вместе с ним.
17 Федор Борисович Годунов (1588-1605) после смерти свое-
го отца Бориса Годунова в 1605 г. стал царем. Когда армия
Лжедмитрия I приближалась к Москве, в столице начались
волнения. Юный царь и его мать Мария Годунова были аре-
стованы и через короткое время убиты.
18 Василий Иванович Голицын (ум. 1619) — князь, один из
самых значительных русских политиков эпохи Смутного вре-
мени. Голицын активно участвовал в заговоре против Лже-
дмитрия I. Его знатность и политические умения позволяли
ему претендовать на русский престол.
|? Ивап Иванович Годунов (ум. 1610) - дальний родственник
Бориса Годунова. Он находился в оппозиции к царю Васи-
лию Шуйскому и принял сторону Лжедмитрия II.
20 Михаил Глебович Салтыков (ум. 1621) — профессиональ-
ный дипломат, имел чин окольничего, был воеводой, в
1601 г. получил боярский чин. Поддержал Лжедмитрия I, в
годы правления Василия Шуйского попал в опалу и был
отправлен в ссылку. В 1611 г. стал на сторону польских ин-
тервентов. После их изгнания покинул русское государство.
Умер за границей.
21 Богдан Яковлевич Бельский (ум. 1611) играл видную роль в
эпоху опричнины, при царе Федоре Ивановиче входил в
регентский совет. Бельский поддержал Лжедмитрия I. Ва-
силий Шуйский отправил его воеводой в Казань.
22 Иван Михайлович Воротынский (ум. 1627) — князь, воево-
да и боярин, выступал на стороне Шуйских. Он не поддер-
жал Лжедмитрия I и вошел в состав «Семибоярщины». В на-
чале 20-х гг. XVII в. являлся воеводой в Москве.
23 Василий Михайлович Мосальский-Рубец — князь и воево-
да, известен как организатор убийства Федора и Марии
Годуновых.
24 Известны двое Бучинских — братья Ян и Станислав, польские
дворяне, состоявшие секретарями при Лжедмитрии I.
25 Сандомирский воевода Юрий Мнишек (ум. в 1613) — один
488
из самых значительных сторонников Лжедмитрия I. После
смерти самозванца русские выслали Мнишека в Ярославль.
В 1608 г. ему было разрешено вернуться в Польшу. Юрий Мни-
шек поддерживал контакты и со Лжедмитрием II.
26 Марина Мнишек (ок. 1588—ок. 1614)—дочь сандомирского
воеводы Юрия Мнишека. После свадьбы со Лжедмитрием 1
ей были выделены в удел города Псков и Новгород. После
убийства самозванца в течение трех лет (1606—1608) вмес-
те со своим отцом находилась под надзором в Ярославле.
В 1608 г. ей было разрешено вернуться в Польшу при усло-
вии, что опа больше не будет притязать па русский престол.
Однако Марина прибыла в Тушино, где стоял лагерем но-
вый самозванец Лжедмитрий II. Она признала его как ца-
ревича Дмитрия, стала его женой, у них родился сын. Пос-
ле гибели Лжедмитрия II от рук татар ей пришлось бежать
вместе с малолетним сыном Иваном. В 1614 г. казаки выда-
ли Марину и «ворёнка» московским властям. Вскоре Мари-
на умерла в монастыре.
27 Константин Вишневецкий (1564—1614) — зять Марины
Мнишек, князь, воевода, один из самых значительных
польских магнатов. Он активно поддерживал обоих Лже-
дмитриев, а также содействовал польскому королю Сигиз-
мунду во время его интервенции в Россию.
“Михаил Игнатьевич Татищев (ум. 1609) имел чин думного
дворянина. Он участвовал в заговоре против Лжедмитрия I,
с 1607 г. и до конца жизни сидел на воеводстве в Новго-
роде.
29За «царевича Петра» выдавал себя Илья Горчаков (Илейка
Муромец), возглавлявший восстание волжских и терских
казаков. Его захватили в Туле вместе с Иваном Болотнико-
вым, предводителем крупного крестьянского восстания, и
казнили в 1607 г.
30 Правитель города Малагощ Николай Алесницкий (ок. 1558—
1629).
Исаак Масса. КРАТКОЕ ИЗВЕСТИЕ О МОСКОВИИ
1 Иван IV родился 25 августа 1530 г. Василий III умер 3 декаб-
ря 1533 г., Елена Глинская скончалась 3 апреля 1538 г.
2 Венчание на царство происходило 16 января 1547 г. Брако-
сочетание состоялось несколько позже, 3 февраля 1547 г.
489
3 По другим источникам, царевич Иван вступился за свою
беременную жену, заслужившую неудовольствие царя за
то, что была одета ненадлежащим образом. Царь ударил сына
посохом в висок, и тот умер через несколько дней.
4 Скорее всего, И. Масса имеет в виду сооружение каменной
степы вокруг Китай-города в 1535 г.
5 На самом деле перемирие с Польшей было заключено уже
после взятия Казани в 1554 г.
6 И. Масса ошибается: это случилось в 1552 г.
7 Плененный казанский царь носил имя Едигср.
8 Царевич Симеон являлся касимовским князем.
9 Едигер отправился служить в Россию в 1542 г., Кайбула — в
1552 г.
'“Посольство Севастьяна отправилось в 1551 г., за три года
до взятия Астрахани.
11 Астрахань пала 2 июля 1554 г.
12 Царица Анастасия Романовна умерла 7 августа 1560 г. 21 ав-
густа 1521 г. царь женился на кабардинской княжне, дочери
князя Темир Гуки, принявшей в православии имя Мария.
Она скончалась в 1569 г.
13 Это имя звучит по-персидски как Тимур-Ленк, отсюда Та-
мерлан.
14 Седьмая, последняя жена Ивана IV — Мария Нагая.
15 Иоганн Эйлоф — нидерландский врач при дворе Ивана IV.
Он занимался не только медициной, но и торговлей.
16 Иван IV Грозный умер 18 или 19 марта 1584 г.
17 Фактически Федор Иванович венчался на царство 31 мая
1584 г.
18 Александра — монашеское имя княгини Ирины, жены Фе-
дора Ивановича.
19 Современные историки склоняются к тому, что Борису Го-
дунову нс была выгодна смерть малолетнего царевича Дмит-
рия. Шансы Годунова на престол не были столь значитель-
ны, как у рода Романовых. Он не мог не понимать, что
если в случае смерти царевича начнется народное восста-
ние, то он сам может лишиться власти.
20 Это произошло в 1590 г.
21 Следственная комиссия, изучавшая обстоятельства гибели
царевича Дмитрия, пришла к выводу, что он погиб в ре-
зультате несчастного случая — во время эпилептического
припадка поранил себе горло ножом.
22 Клешин не имел боярского чина, а был сокольничим.
23 Слухи о том, что Москву подожгли люди Годунова по его
490
приказу, активно распространяли тогда политические про-
тивники Годунова, родственники матери погибшего царе-
вича Дмитрия.
24 Федор Иванович скончался 7 января 1598 г.
25 Борис был избран царем по решению Земского собора
17 февраля 1598 г.
26 Борис венчался на царство 1 сентября 1598 г.
27 И. Масса ошибается: казначеем в царствование Бориса яв-
лялся Игнатий Петрович Патищев, а не кто-либо из дома
Годуновых.
28 Английский посол Ричард Ли благодаря поддержке думно-
го дьяка Афанасия Власова смог добиться указа, направ-
ленного против соперничества голландцев, однако ему не
удалось полностью устранить их конкуренцию.
29 Арендт Классен фон Стелингсверф, которого русские зва-
ли Захарий Николаев, голландский аптекарь, приехал в
Москву еще в 1576 г.
30 Имеется в виду Лжедмитрий I.
31 Посольство в Данию возглавили дьяк Посник Дмитриев и
думный дворянин И. С. Ржевский.
32 В 1601 г. через Москву в Персию проследовали два посланца
папы римского — дон Энрикес Миранда и Франциск Кос-
та. Папа Климент VIII направил их к шаху Аббасу I для
ведения переговоров о союзе против турок и об учрежде-
нии католической миссии в Персии.
33 Для того, чтобы члены царской семьи, не присутствующие на
обедах, могли видеть церемонии, устраивавшиеся в Гранови-
той палате, была устроена специальная потайная комната.
34 Борис дважды навещал больного герцога Иоанна — 27 и
28 октября.
35 В русских источниках есть упоминание о том, что Семен
Никитич Годунов нс любил принца Иоанна Датского и,
может быть, мог иметь какое-то отношение к его смерти.
36 И. Масса ошибается, говоря, что герцог Иоанн умер в пол-
ном сознании и мог говорить до конца. Это не подтвержда-
ется другими источниками.
37 Ганзейские послы находились в Москве в марте—июне 1603 г.
38 И. Масса ошибается: персидский посол Лачин-Бек выехал
в Москву 23 августа 1603 г.
39 И. Масса описывает восстание Хлопка 1603—1604 гг.
40 Царица Ирина, в монашестве Александра, умерла 26 ок-
тября 1603 г.
41 Это событие произошло в мае 1604 г.
491
42 И. Масса, вероятно, приводит сведения о гибели в Дагеста-
не русского отряда.
43 См. примем. 25 к «Состоянию Российской державы и Вели-
кого княжества Московского» Ж. Маржерета.
44 Барон фон Логау.
450тверница, иначе называемое «отверницкое наречие» — ус-
ловный или тайный искусственный язык.
46 В русских летописях также содержатся сведения о том, что
донские казаки оказали помощь Лжедмитрию I.
47 И. Масса ошибается: Иван Годунов и Василий Морозов не
имели княжеских титулов.
48 И. Масса ошибается: после сражения с московским вой-
ском Ф. И. Милославского и отхода от Лжедмитрия I боль-
шинства поляков авантюрист снял осаду с Новгород-Се-
верского и отошел к Севску.
49 С поручением был отправлен Михаил Борисович Шеин.
50 Слухи об отравлении Бориса Годунова были широко рас-
пространены, но на самом деле он скончался от апоплек-
сического удара.
51 Годуновы, Вельяминовы, Сабуровы были сосланы в сибир-
ские города.
52 Патриарх Иов был низложен еще перед венчанием Лже-
дмитрия.
53 См. примем. 26 к «Состоянию Российской державы и Вели-
кого княжества Московского» Ж. Маржерета.
54 Гонсевский, посол, отправленный польским королем кЛже-
дмитрию с поздравлением, достиг Москвы в августе 1605 г.
55 Этим послом был секретарь краковского нунция Алоизий
Пратиссоли, прибывший в Москву с поздравлениями и по-
дарками в октябре 1605 г.
“И. Масса повторяется: этот рассказ относится к Ивану Гроз-
ному.
57 Обручение состоялось 12 ноября.
58 Слух о том, что Лжедмитрий думал истребить всех вель-
мож, был распущен боярами.
59 И. Масса ошибается, путая Северскую землю и Сибирь.
60 Иова привезли в Москву 14 февраля 1607 г.
61 Василий Шуйский женился на Марии Петровне Буйносо-
вой в январе 1607 г.
62 И. Масса имеет в виду поражение русских под Болховым в
апреле 1608 г.
492
Адам Олеарий. ОПИСАНИЕ
ПУТЕШЕСТВИЯ В МОСКОВИЮ
1 Первая глава I книги опушена, так как в ней заключается
лишь общее рассуждение о пользе путешествий в чужие стра-
ны.
2Фридерик — так в русских документах именуется Фридрих III,
из шлезвиг-готгорпской линии герцогов Шлезвиг-Голштин-
ских. Он правил с 1616 по 1669 гг. Приводимый в книге
титул его целиком входит в российский императорский
титул, в который его внес император Петр III. Готгорпский
дом находился в родстве с домом Романовых.
3 Крузиуса, Крузиус, Крузеншерна, Крузенштерн — родился
ок. 1698 г., ум. 10 апр. 1676 г. в Ревеле.
4 Милостью его королевского величества Шведского — т. е.
короля Карла Густава Шведского.
5 Отто Бругман — он именуется ниже все время Брюгмапом
или Брюггеман(н)ом. Это был купец из Гамбурга.
6 Травемюнде — это гавань Любека у устья р. Траве.
7 Венделин Зибелист, иначе Сибелист (Scchifter). Он известен
и по русским документам.
8 Река Эмбек — «Веек» по-нижненемецки то же, что «Bach».
Поэтому Embeck — Эмбах (Embach), как река эта обыкновен-
но называется.
’ Геермейстерами — Heermeister — глава провинции рыцарс-
кого ордена.
10 Магнус — супруг княжны Марии Владимировны, принц
датский, вассальный король Ливонский.
11 «Тирана» — обычный у Олеария и у других писателей XVII в.
эпитет Ивана IV Грозного.
12 Его королевского величества шведского — Карла X Густава,
правившего с 1654 по 1660 г..
13 «Ради известных причин» — обычный у Олеария оборот,
когда дело касается дипломатической сущности посольства
или причин, которые он не желает излагать.
Г |4Ние — на реке Неве, на месте нынешней Охты.
15 Нотебург — точнее Нётебург (Noteburg), ныне Шлиссельбург.
j 16 53’30 — так напечатано во всех изданиях Олеария. Цифра
эта неправильна. В числе опечаток при изд. 1656 г. указано,
что вместо 53’30' следует читать 63’80'.
17 Николы Нахимского — Никольское село у реки Химки.
18 Провизия — это так называемые «государева жалованья корм
и питье», бесплатно отпускавшиеся послам.
493
19Софиею — София Михайловна, родилась, по указателю к
«Выходам госуд. царей», 30 сентября 1634 г., скончалась 23
июня 1636 г. Крестины по «Дворц. разр.», II, 412, были в
Чудове монастыре 6 октября.
“Троицкую церковь — иначе храм Василия Блаженного.
21 «Московит» — Иван IV.
22 Ивангород на деле основал Иван III в 1492 г.
23 Иван IV Грозный стал Великим князем в 1533 г., в 1547 г.
короновался, став первым русским царем.
24 Современные историки отрицают причастность Бориса Го-
дунова к смерти царевича Дмитрия, пожарам в Москве.
25 В Польше прекрасно знали об истинном происхождении
Лжедмитрия.
26 Во время восстания в Москве Федор Борисович и его мать
были арестованы и вскоре казнены по приказу Лжедмитрия.
Официальная версия их смерти говорила о том, что они от-
равились.
27 Идиллические переговоры царя с народом во время Соля-
ного бунта, конечно, выдумка Олеария. Алексей Михайло-
вич отправил Б. И. Морозова в ссылку в Кирилло-Белозер-
ский монастырь, где тот пробыл всего 4 месяца.
28 Вонзил ему нож — св. Филипп был задушен, а не зарезан.
29 Нынешний патриарх — Никон. Он был в 1651 г. митрополи-
том новгородским.
30 Ростовский и ярославский митрополит... Варлаам — Варла-
ам умер 9 июля 1652 г. В этот же день доставлены в Москву
мощи св. Филиппа.
31 Скончался в 1563 г. — это грубая ошибка. Вероятно, это опис-
ка, вместо 1393 г.
32 Бывшего лишь игуменом — это Иосиф, рукоположенный
27 марта 1642 г. из архимандритов Симоновских.
32 Митрополитом ростовским и ярославским — таковым Ни-
кон не был; он был из архимандритов Новоспасских руко-
положен в 1643 г. в митрополиты новгородские, а затем в
1652 г. в патриархи.
33 Este mihi — латинское название последнего воскресенья перед
постом, по началу католической обедни с Псалма LXXI, 3.
34 Далее следует описание путешествия в Персию, описание
самой Персии и возвращения в Москву в 1638 г.
35 Иван Михайлович — счет годов у Олеария неверен; царевич
родился 2 июня 1638 г., скончался 9 января 1639 г.
Содержание
Предисловие....................3
Жак Маржерет. СОСТОЯНИЕ РОССИЙСКОЙ
ДЕРЖАВЫ И ВЕЛИКОГО КНЯЖЕСТВА
МОСКОВСКОГО................. 10
Исаак Масса. КРАТКОЕ ИЗВЕСТИЕ
О МОСКОВИИ....................77
Адам Олеарий. ОПИСАНИЕ ПУТЕШЕСТВИЯ
В МОСКОВИЮ...................257
Примечания...................487
Научно-популярное издание
Серия «Популярная историческая библиотека»
Россия XVII века.
Воспоминания иностранцев
Ответственный редактор О. Ю. Иванова
Дизайнер обложки С. А. Сидоркин
Технический редактор Н. С. Малышева
Корректор Г. В. Петрова
Издательство «Русич»:
« Книга- почтой »
214016, Смоленск, ул. Соболева, 7,
тел.: (08122) 9-15-96
Каталог высылается бесплатно
Подписано в печать с готовых диапозитивов 28.08.2003.
Формат 84х108'/з2. Гарнитура «Times ЕТ».
Бумага типографская. Печать офсетная.
Объем 15,5 печ. л.
Тираж 4000 экз. Заказ 1918.
«РУСИЧ». Лицензия ЛР № 040432 от 29.04.97.
214016, Смоленск, ул. Соболева, 7.
E-mail: rusich@keytown.com (редакция).
E-mail: salerus@keytown.com (отдел реализации).
При участии ООО «Харвест». Лицензия ЛВ № 32 от 27.08.02.
РБ, 220013, Минск, ул. Кульман, д. 1, корп. 3, эт. 4, к. 42.
Республиканское унитарное предприятие
«Издательство «Белорусский Дом печати».
220013, Минск, пр. Ф. Скорины, 79.
нига составлена из сочинений иностранных дип-
ломатов и путешественников, посетивших нашу
страну в первой половине XVII столетия. В нее вошли
записки капитана отряда иностранных наемников
Жака Маржерета, сочинение купца и дипломата Иса-
ака Массы и избранные главы широко известного
труда Адама Олеария «Путешествие в Московию».
Написанные на основе личных впечатлений, яр-
ко и увлекательно, они знакомили иностранных чи-
тателей с драматическими событиями Смутного вре-
мени, с разнообразными аспектами жизни Русского
государства середины XVII в.
Издание будет полезно всем, кто интересуется
историей Отечества.