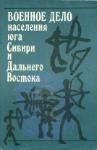/
Text
ВОЕННОЕ ДЕЛО
древнего населения
СЕВЕРНОЙ АЗИИ
ИЗДАТЕЛЬСТВО -НАУКА»
СИБИРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ
АКАДЕМИЯ НАУК СССР
СИБИРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ
ИНСТИТУТ ИСТОРИИ, ФИЛОЛОГИИ И ФИЛОСОФИИ
ВОЕННОЕ ДЕЛО
древнего населения
СЕВЕРНОЙ АЗИИ
Ответственные редакторы
д-р ист. наук В. Е. Медведев
канд. ист. наук Ю. С. Худяков
НОВОСИБИРСК
ИЗДАТЕЛЬСТВО «НАУКА»
СИБИРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ
1987
Поенное дело древнего населения Северной Алии.
Новосибирск: Наука, 1987.
И сборнике освещаются результаты новейших исследо¬
вании в области оружпевсдения, посвященных древнему и
средневековому периоду истории Северной Азии и сопредель¬
ных leppirmpiiii. Рассматриваются отдельные виды и комп¬
лексы оружии и военного снаряжения. Анализируются дан¬
ные о боевом и ритуалI,пом их назначении и роли в эстетиче¬
ских представлениях и заупокойном культе. В научный обо¬
рот вводится находки предметов вооружения и военного сна¬
ряжения из раскопок последних лет, произведенных на тер¬
ритории Сибири, Урала, Ириуралья, Центральной Азии и
Дальнего Востока.
Книга рассчитана на археологов, историков и востоко¬
ведов.
Рецензенты В. И. Молодик, Н. К. Тимофеева
В
0507000000-853 _
042(02)—87 53—87—III
©Издательство «Наука», 1987 г.
ПРЕДИСЛОВИЕ
Изучение военного дела древних и средневековых племен
Северной Азии в настоящий момент стало важным направле¬
нием в сибирской и дальневосточной археологии. Накоплен¬
ные к началу 1970-х гг. разнообразные материалы по воору¬
жению и военному искусству азиатских кочевников открыли
возможность для специального анализа источников по дан¬
ной тематике в оружиеведческом аспекте. Выделению дапной
области знания в самостоятельный раздел сибирской архео¬
логической науки способствовало решение аналогичных про¬
блем на примере хорошо изученных культур древности и
средневековья в Восточной Европе.
Поэтому не случайно обращение сибирских археологов к
изучению комплексов вооружения отдельных, богатых на¬
ходками культур Южной Сибири. За последние 10—15 лет
увидели свет серия статей и монография по вооружению,
военной организации и военному искусству племен тагар-
ской культуры и енисейских кыргызов, например, работы
А. М. Кулемзипа о тагарских бронзовых наконечниках;
Ю. С. Худякова — о вооружении енисейских кыргызов и
др. Активно исследовались различные виды и комплексы
оружия средневекового населения Дальнего Востока, За¬
байкалья, Западной Сибири, Казахстана, Монголии.
Оружиеведение становится постоянной темой студенчес¬
ких научных работ в Сибири, что, надо надеяться, значи¬
тельно расширит возможности развития этого научного на¬
правления в будущем. Важно отметить, что с момента своего
возникновения сибирское оружиеведение стало делом кол¬
лективных усилий ученых различных научных центров, что
3
способствовало активному обмену научной информацией, вы¬
работке перспективной методики ее обработки, вводу в науч¬
ный оборот новейших материалов. В результате объедине¬
ния усилий коллектива ученых, занимающихся оружисвед-
ческими проблемами, на материалах Сибири и Центральной
Азии в 1981 г. появился первый сборник статей по данной
проблематике (см.: Военное дело древних племеп Сибири и
Центральной Азии.— Новосибирск, 1981). В работах по во¬
енному делу населения Северной Азии, опубликованных в
последние годы, решались разные вопросы. Значительная
часть статей посвящена вводу в научный оборот, системати¬
зации и классификации материалов по вооружению из рас¬
копок и музейпых коллекций. Эта задача продолжает оста¬
ваться актуальной и поныне, так как подавляющая часть
найденных предметов древнего и средневекового оружия не
опубликована и труднодоступна для исследования.
Предпринимались попытки проследить эволюцию тех или
иных видов оружия в пределах отдельного локального рай¬
она или культуры на протяжении известпого исторического
периода, провести металлографический и химический ана¬
лиз предметов вооружения. Специальное внимание уделя¬
лось военным сюжетам изобразительных материалов. В ору-
жиеведческой научной литературе обсуждались вопросы тео¬
рии и методики исследования военного дела азиатских ко¬
чевников древности и средневековья. В последнее время
открылась возможность изучения функциональных свойств
предметов вооружения с использованием методов естество¬
знания и техники.
Однако, несмотря на активность научного поиска и опре¬
деленные успехи в изучении военной тематики в историчес¬
ком прошлом Северной Азии, в исследовании вооружения,
военной организации и военного искусства еще много акту¬
альных вопросов, нерешенных проблем.
Решению ряда неотложных задач сибирского оружиеведе-
ния должен способствовать выход в свет настоящего сбор¬
ника по военному делу древнего населения Северной Азии.
Ряд его статей посвящен вводу в научный оборот новых
находок предметов вооружения из различных районов Си¬
4
бири, Центральной Азии и Дальнего Востока. Отдельные
статьи посвящены анализу эволюции конкретных видов ору¬
жия в широком хронологическом диапазоне — от рубежа
древности до позднего средневековья. В некоторых работах
исследуются вопросы, связанные с ритуальной, идеологичес-
ской функцией оружия в духовной культуре древних и
средневековых племен Южной и Западной Сибири. Включе¬
ны в сборник и работы, продолжающие начатые ранее ис¬
следования по вооружению средневекового населения Даль¬
него Востока. Представлены статьи по военному делу древ¬
него и средневекового населения сопредельных с Северной
Азией регионов: Приуралья, Средней и Восточной Азии.
Можно полагать, что сборник в значительной мере отра¬
жает основные направления и состояние изученности ору-
жиеведческих проблем в Сибири и на сопредельных терри¬
ториях.
Он призван способствовать обмену информацией между
исследователями различных научных центров, в которых на¬
лажена работа по изучению истории военного дела, и стиму¬
лировать обсуждение наиболее актуальных проблем оружие-
ведения. Он должен также послужить определенным вкла¬
дом в исследование вооружения, военной организации и
военного искусства древних и средневековых народов Азии.
Часть I
ЭПОХА РАННЕГО ЖЕЛЕЗА
Г. Е. Иванов
ВООРУЖЕНИЕ ПЛЕМЕН ЛЕСОСТЕПНОГО АЛТАЯ
В РАННЕМ ЖЕЛЕЗНОМ ВЕКЕ
В последние годы интерес к археологии равнинной части
Алтайского края значительно возрос. И это не случайно.
Входившие в так называемый евразийский степной коридор
1>аи11 и и ы Ал тая были в древпости зоной активного взаимо¬
действия и контактов племен востока (Минусинская котло¬
вина) и запада (Приуралье, Казахстан), юга (Горный Ал¬
тай) и севера (лесное Лриобье). Исследование этих взаимо¬
влияний, хорошо прослеживающихся в археологическом ма¬
териале, имеет существенное значепие не только в плане
изучения древпей истории Алтая, но и для решения некото¬
рых дискуссионных проблем археологии сопредельных тер¬
риторий.
Часть открытых в лесостепном Алтае памятников «не
вписывается» в известные археологические культуры, что
позволило Ю. Ф. Кирюшину выделить елунипскую культуру
эпохи раннего металла х, Н- Л. Членовой, Д. Г. Савинову и
В. А. Могйльникову поставить вопрос о своеобразии памят¬
ников эпохи поздней бронзы2. Но особое внимание сибирских
археологов привлекла выделенная A. IL Уманским Камен¬
ская культура раннего железного века 3. Своеобразие куль¬
туры степных скотоводов Алтая сомнений не вызывает, спо¬
ры же о каменской культуре объясняются, на наш взгляд,
слабой источниковой базой, неодинаковой изученностью па¬
мятников данного периода в различных районах и неразрабо¬
танностью частных проблем археологии лесостепного Алтая
в эту эпоху. В довольно многочисленной литературе по
раннему железу лесостепи пет пока ни одной работы, обоб¬
щающей сведения по той или иной категории инвентаря.
Поэтому выбор темы автором настоящей статьи не случаен:
оружие — одна из самых массовых и быстро меняющихся
категорий инвентаря, и значение его трудно переоценить не
только для датировки памятников, по и в некоторых случа¬
6
ях для характеристики социальных и культурных процес¬
сов, происходивших в древних обществах. Цель статьи —
на основании уже введенных в научный оборот комплексов и
случайных находок наметить важнейшие пути эволюции во¬
оружения и отчасти военного Дела степных алтайских пле¬
мен в раннем железном веке от его начала до рубежа I тыс.
до н. э. — I тыс. н. э.
В памятниках этого времени оружие представлено: 1) па-
конечниками копий и дротиков; 2) наконечниками стрел,
остатками лука и колчанов; 3) мечами и кинжалами; 4) че¬
канами. Кроме того, из предгорий и лесных районов При-
обья известны находки кельтов и топоров, входивших, веро¬
ятно, в комплекс вооружения болынереченцев и нехарактер¬
ных для степняков.
Наконечники копий н дротиков. Из разнообразных ти¬
пов этого оружия, существовавшего в лесостепном Алтае в
эпоху поздней бронзы 4 до раннего железного века, досто¬
верно известен пока лишь один: двухлопастные с пером
лавролистных очертаний и длинной слабоконической втул¬
кой (рис. 1,2 —4). Два таких наконечника найдены в Боль¬
шой Речке 5, по одному — в Барнауле 6 и в окрестностях
Бийска *, фрагменты еще двух — в степном Алтае 7. Не¬
большие размеры найденных наконечников позволяют счи¬
тать их наконечниками дротиков, что, очевидно, отражает
реальный факт преобладания дротиков или коротких копий
для метания (как и у среднеазиатских племен)8 над длинными
копьями, типичными для скифов и савроматов 9.
Датируются наконечники VII—VI вв. до н. э.10 Они
завершают многовековую местную линию развития этого ти¬
па. Д. Г. Савинов связывает их генезис через наконечники,
типа найденных в Осинках с сейминскими или андроновски-
ми наконечниками таких же форм п.
Что касается функции дротиков, то они употреблялись в
основном для метания как конными, так и пешими воина¬
ми 12. Немногочисленность находок вероятнее всего объяс¬
няется тем, что, как и у тагарцев, саков и савроматов,
у воинов лесостепного Алтая копье было редким оружием в
VII—VI в. до н. э.13, а для более позднего времени, начиная
с конца VI в. до н. э., их находки пока неизвестны.
Наконечники стрел представлены: тремя группами (по ма¬
териалу для изготовления) — а) бронзовыми, б) костяными,
в) железными; двумя отделами (по типу насада) — 1) втуль-
* Бийский музей, без номера. Пользуясь случаем, автор выражает
благодарность Б. X. Кадикову за ознакомление с материалами.
7
1
Рис. 1. Наконечники копий.
1, 2 — Большая речка, 3 — Бийск, 4 — Барнаул.
чатыми, 2) черешковыми; восьмью видами (по форме сече¬
ния пера) — а) двухлопастными, б) ромбическими, в) трех-
лопастпыми, г) четырехлопастпыми, д) трехграпными, е) че¬
тырехгранными, ж) круглыми, Внутри каждого вида нако¬
нечники делятся на типы по форме головки и насада.
Alai, Асимметрично-ромбические листовидные с высту¬
пающей втулкой или пером, доходящим до нижнего края
втулки.
Крупные, массивные наконечники этого типа были широ¬
ко распространены в лесостепном Алтае (автору известно 12
экз.14, рис. 2, 1—8) и в Восточном Казахстане 15, известны у
тагарцев 16. Многочисленными аналогиями в савроматских,,
скифских и сакских комплексах тип датируется VII—VI вв.
до н. э.17
А1а2. С лопастями листовидных очертаний с выступаю¬
щей втулкой или пером, доходящим до ее нижнего края. По-
8
Рис. 2. Бронзовые втульчатые наконечники стрел.
1—3, 24, зз, 34 — Большая речка; 4 — Усть-Балыкса; 5 — Новиково;
6, 12 — Урлапово; 7 — Елбанское городище; 8, 11, 25—27 — Черная
Курья; 9 — Бийск; 10, 32 — Крестьянское; 13, 22 — Степной Кучук;
14 — Сарайск; 15, 16, 31 — Первомайское; 17, 18 — Степной Алтай;
19, 20 — Шипуновка; 21 — Казенная Заимка; 23 — Зеленогорск; 28 —
Киприно; 29 — Новосклюиха; 30 — Калистратиха,
явившись еще в эпоху бронзы, эти наконечники в VII—VI вв.
до н. э. были распространены на обширной территории
от Причерноморья до Монголии, повсеместно став в VII в.
до н. э. преобладающим типом 18. Из лесостепного Алтая из¬
вестно 14 экз.19 (рис. 2,9—21), представляющих несколько
вариантов этого типа. Древнейшим из них являет¬
ся наконечник из Бийского музея (рис. 2, 9), относящийся,
вероятно, еще к эпохе бронзы. Несколько достаточно арха¬
ичных наконечников (рис. 2, 10, 11, 13, 21) датируются вре¬
менем не позднее VIII—VII вв. до н. э., остальные —
VII—VI вв. до н. э.
А1аЗ. С лопастями листовидных очертаний, заходящими
за нижний край втулки. Известно 2 экз. (рис. 2, 22, 23)20,
имеющие ближайшие аналогии в тагарских комплексах, ко¬
торые датируются VI—V вв. до н. э.21
А161. Массивные симметрично-ромбические со скрытой
втулкой. Известно четыре наконечника, датирующиеся ана¬
логиями из Восточного Казахстана VIII—VII вв. до н. э.22
(рис. 2, 24, 25)™.
А1в1. С лавролистной головкой и выступающей втулкой.
Большинство исследователей считают эти наконечники «ски-
фо-мидо-персидскими», возникшими на Переднем Востоке не
ранее второй четверти VII в. до н. э.24 и в VI в. до н. э. рас¬
пространившимися до Днепра и Камы 25, став преобладаю¬
щим типом в V—IV вв. до н. э.26 В лесостепном Алтае най¬
дено пять таких наконечников (рис. 2, 28', рис. 7, 1—4).
Один из них описан А. П. Уманским, который датирует его
VII—VI вв. до н. э.27 Нам же представляется, что в силу
указанных выше причин он не может быть датирован време¬
нем ранее VI в. до н. э. Еще четыре наконечника происхо¬
дят из Новообинского кургана, убедительно датируемого
рубежом VI—V вв. до н. э.28
А1в2. С треугольной головкой и выступающей втулкой.
Известно 2 экз. (рис. 2, 27, 29)™, датирующиеся савроматс-
кими аналогиями VI—IV вв. до н. э.30
Alrl. Сводчатой формы со скрытой втулкой и двумя опу¬
щенными книзу лопастями. Один наконечник найден в
к. 14 Быстрянского могильника, датируемого М. П. Завиту-
хяной V—IV вв. до п. э. (см. рис. 8,27)31.
А1г2. Сводчатой формы со скрытой втулкой и дуговидны¬
ми вырезами базы, образующими четыре опущенных вниз
шипа. Один наконечник найден в к. 8 Быстрянского могиль¬
ника (см. рис. 8, 7).
А1д1. Пулевидные. Довольно редкий для евразийских
степей тип, исходные формы для которого К. Ф. Смирнов
10
видел на юге Восточной Европы, где они существуют в VI в.
до н. э.32 Очень незначительное их количество на всей тер¬
ритории распространения объясняется, видимо, неудачными
баллистическими качествами. Вряд ли правомерна точка зре¬
ния Б. Г. Тихонова, считающего эти наконечники охот¬
ничьими на том основании, что, делая небольшое отверстие
в шкурке, они не портили ее 33. В таком случае следовало бы
ожидать их большего распространения в Южной Сибири,
чего нет на самом деле.
Из лесостепного Алтая известно три пулевидных нако¬
нечника (см. рис. 2, 31, 32; рис. 8, 8), датирующиеся в пре¬
делах VI—IV вв. до н. э.34
Alel. Со скрытой втулкой и сводчатой головкой, перехо¬
дящей в лопасти, образующие опущенные вниз шипы.
Известно 12 экз., восемь из которых происходят из к. 8
Быстрянского могильника (см. рис. 2, 26, 30, 33, 34\ рис.
8, 9—16)ъъ. По многочисленным сарматским и средне¬
азиатским аналогам и комплексам они датируются V—IV вв.
до н. э.36
А1е2. Сводчатой формы с внутренней втулкой и дуговид¬
ными вырезами базы, образующими опущенные вниз шипы.
Шесть наконечников найдены в Новообинском кургане (см.
рис. 7, 5—9).
А1ж1. Сводчатой формы с внутренней втулкой и дуговид¬
ными вырезами базы, образующими опущенные впиз шипы.
Один экземпляр найден в Новообинском кургане (см. рис.
7, Ю).
А2в1. Со сводчатой головкой и лопастями, обрезанными
под прямым или тупым углом к черешку, представляющему
собой насад-лопаточку. Известно два наконечника, один из
которых имеет утолщение — уступ на черешке (рис. 3,
2, З)37. Татарскими и сакскими аналогиями датируются VII —
VI вв. до н. э.38
А2в2. Небольших размеров с лопастями, обрезанными
под острым углом к черешку, круглому или уплощенному в
сечении. Найдено 3 экз. (рис. 3, 4—З)39, датирующиеся ту¬
винскими и татарскими аналогиями V—IV вв. до н. э.40
А2г1. С головкой сводчатой формы, лопастями, обрезан¬
ными под прямым углом к черешку-лопаточке. Известен
один наконечник, датирующийся VIII—VII вв. до н. э.
(рис. 3, 7)41.
А2д1. С трехгранной боевой головкой, образованной вы¬
емкой па лопастях. Черешок в виде насада-лопаточки. Из¬
вестно 7 экз., среди которых можно выделить несколько
вариантов по форме выреза и черешка (рис. 3, 7—9; см.
11
28
Рис. 3. Черешковые наконечники стрел.
\1, 4, 5 — Черная Курья; 2,' 10 — Киприно'; 3,9 — Первомайское; 6 —
Староалейка; 7 — Быково; 8 — Урлапово; 11 — Степной Алтай; 12 —
Новосклюиха; 13 — Гоньба; 14—17 — Бийск-1; 18, 22, 23 — Раздумье-
2; 19—21 — Соколово; 24, 25 — Камень-2; 26, 27 — Березовка-1; 28,
29 — Староалейка-2. 1—11 — бронза; 12 — железо; 13—29 — кость.
рис. 8, 5, £)42. Многочисленными аналогиями тип датирует¬
ся VII—IV вв. до н. э.43
А2д2. Сводчатой формы с боевой головкой, образованной
вырезами у ее основания, с коротким, ромбическим в сече¬
12
нии черешком. Известно два наконечника (рис. 3, 10—ll)f
которые А. П. Уманский, ссылаясь на казахстанские анало¬
гии, датирует V—III вв. до н. э.44
Б161. Сводчатой формы со скрытой втулкой и треуголь¬
ным вырезом базы, образующим шипы. Найдено два нако¬
нечника: один в кургане V—III вв. до н. э. у с. Гоньба
{рис 3, 13), второй — в Соколовских курганах III—II вв.
до н. э.45
Б1д1. Сводчатой формы со скрытой втулкой и дуговидны¬
ми вырезами базы, образующими шипы.
Четыре таких наконечника, найденные в могильнике
Бийск II, хотя и принадлежат к одному типу, тем не ме¬
нее отличаются друг от друга размерами и пропорциями
(рис. 3,14—17). М. П. Завитухина датирует могильник II в.
до п. э.46 Такие наконечники, появившись в эпоху бронзы,
встречаются на протяжении всего раннего железного века 47.
Аналогии бийским наконечникам известны из Горного Ал¬
тая, Новосибирского Приобья и Минусинской котловины 48.
Б261. С пером остролистных очертаний, обрезанным под
острым углом к черешку так, что образуются шипы. По
одному наконечнику этого типа найдено в курганных могиль¬
никах Соколово и Раздумье II, датируемых А. П. Уман-
ским III—II вв. до н. э. (рис. 3, 18—7Р)49.
Б262. С пером лавролистных очертаний, плавно перехо¬
дящим в черешок. Найдено 4 экз. в могильнике Соколово
{рис. 3, 20—21)™.
Б2д1. С пером остролистной формы, обрезанным под ост¬
рым углом к черешку. Самый многочисленный тип, сущест¬
вовавший в эпоху бронзы и раннего железа. Найдены в
могильниках с. Быстрянское (см. рис. 8, 5, 4)51, Березовка
(рис. 3, 26, 27)™, Раздумье (рис. 3, 22, 23)™, Камень II (рис.
3, 24)ы, в м. 24 могильника Староалейка II. Найдено 16
наконечников этого типа (рис. 3, 28, 29)ъъ.
Б2д2. С пером остролистных очертаний, плавно перехо¬
дящим в черешок. Найден 1 экз. в могильнике Камень II
(рис. 3, 25)™.
В2в1. Небольших размеров, с подтреугольной головкой,
лопасти обрезаны под углом к короткому черешку. Несколь¬
ко типов таких наконечников найдено в курганной группе
Гилево IX, датирующейся концом I тыс. до н. э. — началом
I тыс. н.э.57, один из сборов Г. А. Клюкина у с. Новосклюиха
(рис. 3, 12)58, остатки разрушенных черешковых наконечни¬
ков найдены в могильнике Камень II 69.
Лук. Об эволюции лука у алтайских степняков мы мо¬
жем судить лишь по косвенным данным. Вероятно, что круп-
13
1
8
3
| 1 1 i
Puc. 4. Модель лука и колчанные крюки.
1,2 — Староалейка-2; 3,4 — Раздумье; 5,6 — Камень-2; 7,8 — Бийск.
1—3 — бронза; 4—8 — железо.,
ныо, тяжелые наконечники стрел VIII—VI вв. до н. э. ис¬
пользовались с большим простым луком 60, но уже с конца
VI в. до н. э. наряду с ним распространяется сложный лук
скифского типа, известный по находке бронзовой модели —
подвески из могильника Староалейка II (рис. 4, 7)61 и изоб¬
ражениям на предметах из Сибирской коллекции 62.
В последние века до нашей эры в евразийских степях
распространился более мощный лук гуннского типа, харак¬
терной особенностью которого были костяные накладки.
14
К рубежу эры, судя по находке накладок в могильнике Ги-
лево IX 63, он становится известным в лесостепном Алтае.
Колчаны были, очевидно, двух типов:
1. В виде длинной коробки, соединенной с футляром для
лука. По замечанию М. И. Артамонова, описавшего их изо¬
бражения на предметах из Сибирской коллекции, этот кол¬
чан отличается от скифского и приближается к колчанам
сарматов 64.
2. В виде кожаного мешочка, реконструированного для
гориоалтайских воинов В. Д. Кубаревым 6б. Колчаны дан¬
ного типа крепились к поясу при помощи крючьев, представ¬
ленных в лесостепном Алтае довольно широко. Самыми ран¬
ними из них являются бронзовый и железный крючки из
Новообинского кургана (см. рис. 7, 11, 12), аналогичные
савроматским 66. Бронзовый крючок с отверстием на тупом
конце найден в м. 24 могильника Староалейка II (см. рис.
4, 2)67, два крючка (бронзовый и железный) найдены в кур¬
ганах Раздумья (см. рис. 4, 3, 4)68, железные крючки обнару¬
жены в могильниках Камень II (см. рис. 4, 5)69, Бийск I
(см. рис. 4, 67)70, аналогия последним известна в погребении
березовского этапа в Большой Речке 71.
Мечи и кинжалы. Для VIII—VII вв. до н. э. из лесостеп¬
ного Алтая известны находки кинжалов и коротких брон¬
зовых мечей позднекарасукских и переходных карасукско-
майэмирских форм 72. Кинжалы скифского типа появляются
на Алтае в VI—V вв. до н. э. Н. Л. Членова связывает их
генезис с киммерийскими кинжалами Северного Кавказа
VIII—VII вв. до н. э. и считает, что на Алтай они проникли
через Приуралье и Восточный Казахстан 73. Наиболее древ¬
ний из них — кинжал из Змеипогорска, включенный
М. П. Грязновым в североказахстанский тип 74. У кинжалов
плоская широкая ручка с волнистыми краями, образован¬
ными спиральным орнаментом, оригинальное узкое бабоч¬
ковидное перекрестье, навершие в виде плоского сегмента
на узкой колодочке и ромбический в сечении клинок (рис.
5, 1). Несколько более поздним в лесостепном Алтае явля¬
ется тип, представленный находкой из Барнаульского окру¬
га, сделанной еще до 1917 г. У него узкая плоская рукоять,
подтреугольное навершие и плоское почковидное пере¬
крестье, клинок в сечении ромбический (рис. 5, 2)7Ъ. Три
других кинжала однотипны, отличаются друг от друга лишь
навершием — у кинжала V—IV вв. до н. э. из м. 37 мо¬
гильника Староалейка II оно прямое, брусковидиое (рис.5,
5)76, у кинжала из Барнаульского округа — в виде пары
грифоньих голов (рис. 5, З)77; возможно, таким же оно было
15
Рис. 5. Мечи и кинжалы.
1 — Змеиногорск; 2, з — Степной Алтай; 4 — Барнаул; 5 — Староалейка; 6 —
Укладочная; 7 — Калистратиха; 8 — Ключи; 9, 10 — Бийск-1 и 2.
16
и у кинжала из Барнаула (рис. 5, 4)78. Аналогии кинжалам
известны как на западе, так и на востоке 79, известны они и
в Горном Алтае 80.
С конца VI в. до н. э. в лесостепном Алтае появляются и
быстро становятся господствующими железные мечи и кин¬
жалы сарматских форм. К настоящему времени известно 13
экз., древнейшим является меч из Новообинского кургана.
У него брусковидное, овальное в сечении навершие, инкрус¬
тированное золотом, почковидное перекрестье, рукоять рас¬
членена на три валика. Клинок в сечении линзовидный,,
лезвия его от основания идут параллельно друг другу, су¬
живаясь в нижней трети. Длина меча 106 см. Датируется
рубежом VI—V вв. до н. э. (см. рис. 7, 13)81. Типологически
близок к новообинскому мечу кинжал из кургана V—IV вв.
до н. э. Быстрянского могильника. Он имеет нечетко выра¬
женные плоские подтрапециевидное навершие и почковид¬
ное перекрестье. Длина кинжала около 30 см (см. рис. 8,7)82.
Концом V—IV вв. до н. э. датирует В. А. Могильников
чрезвычайно интересную рукоять меча со ст. Укладочной 83.
Перекрестье и навершие ее выполнены в виде противопо¬
ложных бараньих голов. Рукоять расчленена на три вали¬
ка, крайние из них украшены насечками. Клинок в сечении
ромбический, усилен по оси валиком (см. рис. 5, 6).
Примерно IV в. до н. э. датирован короткий меч с плос¬
ким трапециевидным или полукруглым навершием, прорез¬
ной рукоятью и дуговидным перекрестьем из Новотроитшого
могильника. Длина его 55 см 84. К этому же времени отно¬
сится меч из курганной группы Гилево X. У него серповид¬
ное навершие, прорезная рукоять и сломанное под углом
перекрестье 85. IV—III вв. до н. э. датируются два типа
мечей и кинжалов. Первый — с серповидным навершием и
прямым брусковидным перекрестьем. Это меч из кургана у
с. Ключи, с рукоятью из двух стержней, линзовидным в
сечении клинком, по обеим сторонам которого проходят два
мелких, суживающихся книзу желобка. Длина меча 81,5 см,
конец клинка обломан (см. рис. 5, 8)86. Прорезную рукоять
имеет и короткий меч из с. Калистратиха (см. рис. 5, 7)87.
Самым поздним из этого типа является короткий меч из к. 15
Новотроицкого могильника, датируемый III—II вв. до н. э.88
Второй — с кольцевидным навершием и прямым перекресть¬
ем. Известны два кинжала — из курганного могильника
Раздумье 89 и из могильника Староалейка-2 90.
Кроме того, кинжал с прямым перекрестьем, рукоятью
из двух стержней и несохранившимся навершием найден в
могильнике Бийск-2 (см. рис. 5, 20)91, близок к нему кин¬
17
жал с валиновым перекрестьем из могильника Бийск-1 (см.
рис. 5, 9)92. Короткий меч с дуговидным навершием най¬
ден в п. 1 к. 1 Старо-Масляхинского могильника 93.
Чеканы. М. П. Завитухина считает, что чекан у племен
степного Алтая играл большую роль в военном деле, был
одной из ведущих форм оружия ближнего боя. В частности,
она отмечает, что чеканом убиты все кони, захороненные в
могильнике Бийск-1, и чеканом же пробиты черепа двух
мужчин 94.
Тем не менее чеканов в лесостепном Алтае найдено не¬
много. Из них три бронзовых, принадлежащие к одному ти¬
пу: с короткой широкой втулкой, длинным, округлым в
сечении бойком и коротким обушком с закругленным кон¬
цом (рис. 6, 7, 2)9Ъ. У одного из чеканов в углу между бой¬
ком и втулкой — головка птицы. Тип датирован Н. Л. Чле¬
новой V в. до н. э.96
Массивный проушной чекан из железа найден в Быст-
рянском могильнике. Обушковая часть его круглая, удар¬
ная — четырехгранная. С ним же найден железный клино¬
видный вток (см. рис. 8, 2)97. Такой же железный вток и
втулка от чекана найдены в могильнике Бийск-2 (рис. 6, 5)98.
Типологически близок к быстрянскому железный чекан из
могильника Камень II, датируемого В. А. Могильниковым
IV—-II вв. до н. э." (рис. 6, 5). Обломки чекана и бронзовый
вток для него найдены в могильнике Бийск-1 (рис. 6, 4)100.
Длительное бытование чеканов в лесостепном Алтае сви¬
детельствует о том, что они были постоянным оружием насе¬
лявших его племен, но менее популярным в,качестве оружия
ближнего боя, чем мечи и кинжалы. Это и объясняет их
малочисленность.
Рассмотренные предметы вооружения позволяют сделать
некоторые выводы. В истории военного дела племен лесо¬
степного Алтая можно выделить три периода. В первый
(VIII—VII — конец VI вв. до н. э.) господствовало бронзо¬
вое оружие общескифских форм, главным видом были лук и
стрелы, гораздо меньшее распространение имели кинжалы и
дротики. Характер вооружения диктовал и тактику боя, ко¬
торая, очевидно, ничем не отличалась от хорошо известной
тактики скифов и сарматов: легковооруженная конница осы¬
пала противника дождем стрел и пыталась решить исход
сражения еще до перехода в рукопашный бой, не имевший
широкого распространения, ибо конные воины, вооружен¬
ные кинжалами, в ближнем бою должны были спешиваться,
чтобы эффективно использовать свое оружие, а имевшие толь¬
ко лук в ближнем бою вообще были бесполезны, составляли
18
Рис. 6. Чеканы и втоки.
1 — Бийск; 2 — Степной Алтай; 3 — Бийск-2; 4 — Бийск-1; 5 — Камень-2.
лишь прикрытие 101. По сравнению с предшествующими вре¬
менами роль войны в VII—VI вв. до н. э. существенно воз¬
росла, о чем свидетельствуют не только гораздо более мно¬
гочисленные находки оружия, но и появление в это время
на естественных рубежах — берегах рек у предгорий и на
границах с лесной зоной Приобья — значительного количест¬
ва городищ. Их топография позволяет предположить, что
19
возводились они, очевидно, оседлыми болынереченцами для
защиты от степных скотоводов 102.
Зпачение войны в жизни населения степного Алтая резко
усилилось во второй период (конец VI—IV в в. до н. э.). Из¬
вестные комплексы этого времени содержат многочисленное
и разнообразное оружие (рис. 7, 8), но оно с самого пачала
периода резко меняется: широко распространяется оружие,
изготовленное из железа по более передовым, чем скифские,
савромато-сарматским образцам, появляются новые его типы,
в частности длинные всаднические мечи, позволяющие ру¬
биться непосредственно с коня, и чеканы. Значительно воз¬
растает роль ближнего боя. В этот период вооружение ал¬
тайских степняков опережает в своем развитии и существен¬
но отличается от вооружения кочевников Горного Алтая,
тагарских племен и жителей Новосибирского Приобья.
В Горном Алтае, Туве и Минусинской котловине еще господ¬
ствует оружие скифских форм из бронзы 103. Железо хотя и
появляется примерно в это же время, но очень медленно
вытесняет бронзу. В Новосибирском Приобье развитие во¬
оружения происходит совершенно иным путем, определяется
связями с северными лесными племенами 104. Вместе с тем
вооружение алтайских степняков очень близко к сакскому.
Нам уже приходилось отмечать, что это, очевидно, объясня¬
ется продвижением на рубеже VI—V вв. до н. э. в алтайские
степи какой-то части населения из Средней Азии или Казах¬
стана 105. Вслед за Н. Л. Членовой можно предположить, что
оно было связано с походом Дария I на саков в 517 г. до н. э.,
закончившимся их поражением, после которого часть саков,
по-видимому, двинулась на восток и дошла до Минусин¬
ской котловины, где быстро смешалась с оседлыми тагар-
цами 106. Естественно, это вторжение не могло миновать сте¬
пи Алтая, что подтверждается сакскими аналогиями не толь¬
ко в вооружении, но и в погребальном обряде, керамике и
другом инвентаре 107, а также антропологическими данны¬
ми 108.
Воздействие саков'на культуру племен лесостепного Ал¬
тая было гораздо более сильным, чем на тагарскую, и именно
с конца VI — начала V в. до н. э. она приобретает тот ярко
выраженный сакский отпечаток, который и послужил ос¬
нованием для выделения Каменевой культуры 109. Однако ни
о какой смене населения говорить не приходится. Пришель¬
цы оказались в родственной по происхождению, формам хо¬
зяйства среде с гораздо более многочисленной общностью, с
племенами которой, очевидно, поддерживали контакты за¬
долго до конца VI в. до н. э. и смешались с ними.
.20
Рис. 7. Комплекс вооружения конца VI — начала V в. до н. э. из мо¬
гильника Новообинка.
1—11 — бронза; 12, 13 — железо.
21
Рис. 8. Комплекс вооружения V—IV вв. до н. э. из могильников
Быстрянское-8 (1—16) и 14 (17). По М. П. Завитухиной.
I, 2 — железо; 3,4 — кость; 5^17 — бронза.
К третьему периоду (III—I вв. до н. а.) роль войны зна¬
чительно снижается, оружие в погребениях встречается очень
редко и оно малочисленно. Это преимущественно костяные
наконечники стрел и изредка кинжалы и чеканы. Вероятно,
такое явление объясняется не только установлением мир¬
ных отношений с соседями, но и изменениями в хозяйстве
самих алтайских племен — опи становятся менее подвижпы-
22
ми, и по крайней мере у части их, жившей на границе с лес¬
ным Приобьем, возрастает роль земледелия, а роль ското¬
водства снижается. В предгорной зоне эти процессы менее
заметны, может быть, потому, что еще более усиливаются
контакты ее насельников со скотоводами Горного Алтая, а
антропологические различия между ними стираются 110.
Примечания
1 Кирюшин Ю. Ф. Алтай в эпоху энеолита и бронзы // История
Алтая.— Барнаул, 1983.— С. 19—21.
2 Членова Н. Л. Итоги и проблемы изучения карасукской эпохи
в Алтайском крае // Археология и краеведение Алтая.— Барнаул,
1972.— С. 28—29; Савинов Д. Г. Осинкинский могильник эпохи брон¬
зы на Северном Алтае // Первобытная археология Сибири.— Л.,
1975.— С. 99—100; Могильников В. А. О восточной границе памятни¬
ков с валиковой керамикой // Проблемы археологии Поволжья и При-
уралья (неолит и бронзовый век).— Куйбышев, 1976.— С. 81—82.
3 Умайский А. П. Новые памятники раннежелезного века в
Верхнем Приобье // Пленум Института археологии 1966 г. Секция
«Ранний железный век». Тезисы докл.— М., 1966.— С. 28—30; Он же.
О культурной и этнической принадлежности курганов раннежелезно¬
го века в лесостепном Алтае II Барнаулу 250 лет. Тезисы докладов и
сообщений к научной конференции.— Барнаул, 1980.— С. 50—53.
4 Медникова Э. М. Археологические наблюдения // Как изучать
свой край.— Барнаул, 1973.— С. 30, 31; рисунок; Савинов Д. Г.
Осинкинский могильник...— Рис. 2, 5, 6, 15.
5 Грязнов М. П. История древних племен верхней Оби //
МИА.— М.— Л., 1956.— № 48.— Табл. 18, рис. 1, 2.
6 Уманский А. П. Случайные находки предметов скифо-сармат¬
ского времени в Верхнем Приобье // СА.— 1970.— № 2.— Рис. 8, 7.
7 Флоринский В. М. Археологический музей Томского универ¬
ситета. Каталог.— Томск, 1888.— С. 63.— № 1219, 1220.
8 Геродот. История в девяти книгах.— Л., 1972.— Кн. VII.—
С. 64, 65.
9 Блаватский В. Д. Очерки военного дела в античных государст¬
вах Северного Причерноморья.— М., 1954.— С. 18; Мелюкова А. И.
Вооружение скифов // САИ.— М., 1964.— Вып. Д1—4.— С. 36;
Смирнов К. Ф. Вооружение савроматов // МИА. — М., 1961.—
№ 101.- С. 71.
10 Грязнов М. П. История древних племен...— Табл. 18, 7, 2;
Уманский А. П. Случайные находки...— С. 178.
11 Савинов Д. Г. Осинкинский могильник...— С. 94.
12 Мелюкова А. И. Вооружение скифов...— С. 43—44.
13 Членова Н. Л. Происхождение и ранняя история племен та¬
тарской культуры.— М., 1967.— С. 66; Литвинский Б. А. Древние ко¬
чевники «крыши мира».— М., 1972.— С. 108—111. Сводку см.:
Хазанов А. М. Очерки военного дела сарматов.— М., 1971.— С.
120—121.
14 Черников С. С. Загадка Золотого кургана.— М., 1965.—
С. 178; Уманский А. П. Случайные находки... — С. 176; Иванов Г. Е.
К археологической карте верховьев рек Касмалы и Барнаулки //
Археология и этнография Алтая.— Барнаул, 1982.— С. 51.—
Рис. 3, 3\ Грязнов М. П. Древние культуры Алтая.— Новосибирск,
23
1930.— Рис. 53, 54; Он же. История древних племен... — Табл. 18, 4.
Остальные находки не опубликованы, хранятся в Алтайском краевед¬
ческом музее и лаборатории археологии, этнографии, истории АГУ.
15 Черников С. С. Загадка Золотого кургана.— С. 178.
16 Там же.— С. 179.
17 Либеров П. Д. Хронология памятников Поднепровья скифско¬
го времени // Вопросы скифо-сарматской археологии.— М., 1954.—
С. 154; Акишев К. А., Кушаев Г. А. Древняя культура саков и усуней
долины реки Или.— Алма-Ата, 1963.— Табл. I.— Рис. 1, 3, 5, 12, 17;
Смирнов К. Ф. Вооружение савроматов.— Табл. I.
18 Волков В. В. Бронзовые наконечники стрел из музеев МНР //
Монгольский археологический сборник.— М., 1962.— С. 19, 20.
19 Уманский А. П. Случайные находки...— С. 178; Иванов Г. Е.
К археологической карте...— Рис. 3, 7, 2, 4\ Бородаев В. Б., Кирю¬
шин Ю. Ф., Кунгуров А. Л. Археологические памятники на террито¬
рии Барнаула // Памятники истории и культуры Барнаула.— Бар¬
наул, 1983.— С. 20; Худяков А. А. История Алтайского края.— Бар¬
наул, 1972.— Рис. 4. Остальные находки не опубликованы, хранятся
в АККМ, Бийском музее и лаборатории археологии АГУ.
20 Уманский А. П. Случайные находки...— С. 178.
21 Членова Н. Л. Происхождение и ранняя история...—
Табл. 12.— Рис. 30.
22 Черная Курья, пос. Моховое IV; Павловка; Грязнов М. П*
Древние культуры...— Рис. 56.
23 Черников С. С. Загадка Золотого кургана.— Рис. 6.
24 Смирнов К. Ф. Вооружение савроматов...— С. 44; Литвин-
ский Б. А. Древние кочевники...— С. 96; Черников С. С. Загадка Зо¬
лотого кургана.— С. 50.
25 Черников С. С. Загадка Золотого кургана.— С. 51.
26 Литвинский Б. А. Древние кочевники...— С. 96; Либе¬
ров П. Д. Хронология памятников...— С. 156.
27 Уманский А. П. Случайные находки...— С. 178.
28 Иванов Г. Е., Медникова Э. М. Новообинский курган // Архео¬
логия и этнография Алтая.— Барнаул, 1982. Через три года после
данной публикации этой случайной находки аналогичную по содер¬
жанию без принципиально новых выводов статью опубликовал
В. А. Могильников (см: Могильников В. А., Медникова Э. М. Находки
металлических изделий раннего железного века из Новообинки
(Алтайский край) // СА.— 1985.— № 1. Остается только сожалеть,
что постоянно работающему на Алтае В. А. Могильникову в течение
столь длительного времени оставался неизвестным тематический сбор¬
ник АГУ, поскольку никаких ссылок на предшествующую публика¬
цию он не приводит.
29 Иванов Г. Е. К археологической карте...— Рис. 3; Сборы
Г. А. Клюкина у с. Новосклюиха. Пользуясь случаем, приношу ему
благодарность за ознакомление с находками.
30 Смирнов К. Ф. Вооружение савроматов...— Табл. 2.
31 Завитухина М. П. Курганы у с. Быстрянское // АСГЭ.— Л.,
1966.— Вып. 8.— Рис. 3, 12.
32 Смирнов К. Ф. Вооружение савроматов...— С. 61.
33 Гришин Ю. С., Тихонов Б. Г. Очерки по истории производст¬
ва в Приуралье и Южной Сибири в эпоху бронзы и раннего железа //
МИА.— М., I960.— № 90.— С. 134, 135.
34 АККМ, кол. 12902 (с. Первомайское); Иванов Г. Е. К архео¬
логической карте...— Рис. 3; Завитухина М. П. Курганы у с. Быстрян¬
ское.— Рис. 2, 23.
24
35 Завитухина М. П. Курганы у с. Быстрянское...— Рис. 2, 12—
19; Уманский А. П. Случайные находки...— С. 178; Иванов Г. Е.
К археологической карте...— Рис. 3, 7.
36 Завитухина М. П. Курганы у с. Быстрянское.— С. 70.
37 АККМ, кол. 12902/7 (с. Первомайское); Уманский А. П. Слу¬
чайные находки...— С. 178.
38 Киселев С. В. Древняя история Южной Сибири.— М.,
1951.— Табл. XXIV, 10; Вишневская О. А. Культура сакских племен
низовьев Сырдарьи.— М., 1973.— Табл. XXV, 38—40.
39 Иванов Г. Е. К археологической карте...— Рис. 3; Кирю¬
шин Ю. Ф., Бородаев В. Б. Работы в лесостепной зоне Алтая // АО
1982 года.— М., 1984.— С. 205.
40 Грач А. Д. Древние кочевники в центре Азии.— М., 1980. —
Рис. 32 и др.; Акишев К. А., Кушаев Г. А. Древняя культура...—
Табл. I; Членова Н. Л. Происхождение и ранняя история...—
Табл. XII, 29.
41 Иванов Г. Е. К археологической карте...— Рис. 3, 8.
42 АККМ, кол. 12902/10, 13007/19; Уманский А. И. Случайные
находки...— С. 176; Завитухина М. И. Курганы у с. Быстрянское.—
Рис. 2, 20, 21; Флоринский В. М. Археологический музей...—
№ 1260, 1262.
43 Кадырбаев М. К. Памятники тасмолинской культуры // Древ¬
няя культура Центрального Казахстана.— Алма-Ата, 1966.— Рис. 66;
Смирнов К. Ф. Вооружение савроматов...— С. 142.— Рис. 40, 12;
Членова Н. Л. Происхождение и ранпяя история...— Табл. XII;
Волков В. Ц. Бронзовые наконечники стрел...— С. 23.— Рис. 4, 5.
44 Уманский А. И. Случайные находки...— С. 176, 179.
45 Бородаев В. Б., Кирюшин Ю. Ф., Кунгуров А. Л. Археоло¬
гические памятники...— С. 25.
46 Завитухина М. П. Могильник времени ранних кочевников
близ г. Бийска // АСГЭ.— Л., 1961.— Вып. 3.— Рис. 2, 1—4.
47 Смирнов К. Ф. Вооружение савроматов...— Табл. 5, А.—
Рис. 1, 12.
48 Руденко С. И. Культура населения Центрального Алтая в
скифское время.— М.; Л., 1960.— С. 19.— Рис. 7; Троицкая Т. Н.
Новосибирское Приобье в VII—IV вв. до н. э. // Научные труды Но¬
восибирского гос. пед. ин-та.— 1972.— Вып. 38.— С. 16.— Рис. 4, 3;
Киселев С. В. Древняя история...— Табл. Д.— С. 204—207.
49 Уманский А. П., Брусник Н. Д. Соколовские курганы // Архео¬
логия и этнография Алтая.— Барнаул, 1982.— Рис. 4. Хра¬
нятся в археологической лаборатории БГПИ. Приношу глубокую
благодарность А. П. Уманскому за ознакомление с неопубликован¬
ными материалами и большую помощь в работе.
50 Уманский А. П., Брусник Н. Д. Соколовские курганы.
51 Завитухина М. П. Курганы у с. Быстрянское.— Рис. 2.
52 Полторацкая В. Н. Могильник Березовка I // АСГЭ.— Л.,
4961.— Вып. 3.— Рис. 6, 4, 5.
53 Хранятся в археологической лаборатории БГПИ, без номера.
54 Могильников В. А., Куйбышев А. В. Курганы «Камень II»
(Верхнее Приобье) по раскопкам 1976 г. // СА.— 1982.— № 2.—
Рис. 4, 8.
55 Кирюшин Ю. Ф., Бородаев В. Б. Работы в лесостепной зо¬
не...— С. 205.
56 Могильников В. А., Куйбышев А. В. Курганы «Камень II»...—
Рис. 4—7.
57 Могильников В. А. Археологические исследования на верхнем
25
Алее // Археология и краеведение Алтая.— Барнаул, 1972.— С. 41.
58 Уманский А. П., Клюкин Г. А. Археологические разведки в
верховьях Алея // Археология и краеведение Алтая.— Барнаул,
1972.— С. 38.
59 Могильников В. А., Куйбышев А. В. Курганы «Камень II»...—
С. 119.
60 Волков В, В. Бронзовые наконечники стрел...— С. 26.
61 Кирюшин Ю. Ф., Бородаев В. Б. Работы в лесостепной зо¬
не...— С. 206.
62 Руденко С. И. Сибирская коллекция Петра I // САИ.— М.—
Л., 1962.— Вып. ДЗ—9.— Табл. IV, 5; VII, i, XXII, 18, 9.
63 Могильников В. А. Археологические исследования...— С. 41.
64 Артамонов М. И. Сокровища саков.— М., 1973.— С. 146.
65 Кубарев В. Д. К интерпретации предмета неизвестного назна¬
чения из кургана I памятника Туэкта // Военное дело древних пле¬
мен Сибири и 'Центральной Азии.— Новосибирск, 1981.— Рис. 2.
66 Иванов Г. Е., Медникова Э. М. Новообинский курган...—
Рис. 1, 12, 13.
67 Кирюшин 10. Ф., Бородаев В. Б. Работы в лесостепном
Алтае...— С. 205.
68 Археологическая лаборатория БГПИ, без номера.
69 Могильников В. А., Куйбышев А. В. Курганы «Камень II»...—
Рис. 5, 10; 8, 4.
70 Завитухина М. П. Могильник времени ранних кочевников...—
Рис. 2.
71 Грязнов М. П. История древних племен...— Табл. XXVI, 9.
72 Членова Н. Л. Карасукские кинжалы.— М., 1976.
73 Членова Н. Л. Связи культур Западной Сибири с культурами
Приуралья и Среднего Поволжья в конце эпохи бронзы и в начале
железного века // Проблемы западно-сибирской археологии. Эпоха
железа.— Новосибирск, 1981.— С. 9.
74 Грязнов М. П. Северный Казахстан в эпоху ранних кочевни¬
ков // КСИИМК.— 1958.— Вып. 61.— Рис. 3, 4.
75 Членова Н. Л. Связи культур...— Рис. 3, 11\ Флорин¬
ский В. М. Археологический музей...— № 1210.— С. 62.
76 Кирюшин Ю. Ф., Бородаев В. Б. Работы в лесостепной зо¬
не...— С. 205.
77 Членова Н. Л. Связи культур...— Рис. 3, 11. Указанный
автор считает кинжал бронзовым, тогда как еще в описании
B. М. Флоринского отмечено, что он железный (см.: Флоринский В. М.
Археологический музей...— С. 62.— № 1212).
78 Бородаев В, Б. Археологические памятники...— С. 6.
79 Членова Н. Л. Связи культур...— С. И.
80 Там же.
81 Иванов Г. Е., Медникова Э. М. Новообинский курган...—
C. 91.— Рис. 1, 14.
82 Завитухина М. П. Курганы у с. Быстрянское.— Рис. 2, 1.
83 Могильников В. А. Меч с зооморфными изображениями из
Верхнего Приобья // Древности Евразии в скифо-сарматское время.—
М., 1984.— С. 193, рисунок.
84 Там же.— С. 192.
85 Там же.— С. 191.
86 Уманский А. П. Случайные находки...— С. 178.
87 Там же.
88 Могильников В. А. Меч с зооморфными изображениями...—
С. 192.
26
89 Уманский А. П. Случайные находки...— С. 178.— Примеч. 35.
Кинжал имеет не бабочковидное перекрестье, как считает В. А. Мо¬
гильников (Могильников В. А. Меч с зооморфными изображения¬
ми...— С. 192), а прямое, брусковидное перекрестье, сваренное из
двух пластин.
90 Могила 27 (см.: Кирюшин Ю. Ф., Бородаев В. Б. Работы в ле¬
состепной зоне...— С. 205).
91 Завитухина М. 11. Второй Бийский могильник...— С. 30.
92 Завитухина М. П. Могильник времени ранних кочевников...—
Рис. 3, 9.
93 Могильников В. А. Меч с зооморфными изображениями...—
С. 192.
94 Завитухина М. П. Могильник времени ранних кочевников...—
С. 95.
95 Флоринский В. М. Первобытные славяне...— С. 441.—
Рис. 102; С. 442.— Рис. 104.
96 Членова Н. Л. Связи культур...— С. 7.
97 Завитухина М. П. Курганы у с. Быстряпское.— Рис. 2, 1.
98 Завитухина М. П. Второй Бийский могильник...— Рис. 1, 7.
99 Могильников В. А., Куйбышев А. В. Курганы «Камень II».
100 Завитухина М. П. Могильник времени ранних кочевников...—
Рис. 3, 5, 6.
101 Блаватский В. Д. Битва при Фате и греческая тактика IV в.
до н. э. // ВДИ.— 1946.— № 1.— С. 101—106; Черненко Е. В. О вре¬
мени и месте появления тяжелой конницы в степях Евразии // Про¬
блемы скифской археологии.— М., 1971.— С. 36.
102 Уманский А. П. К вопросу о датировке и этнической принад¬
лежности верхнеобских городищ — «кокусв» // Науч. тр. Новосибир¬
ского гос. пед. ин-та.— 1972.— Вып. 38; Троицкая Т. Н., Моло-
дин В. И., Соболев В. И. Археологическая карта Новосибирской об¬
ласти.— Новосибирск, 1980. Хотя алтайские городища еще практи¬
чески не изучены, по меньшей мере на трех из них (Елбайское, Иша,
Раздумье) обнаружен слой VII—VI вв. до н. э.
103 Суразаков А. С. О вооружении ранних кочевников Горного
Алтая // Вопросы истории Горного Алтая.— Горно-Алтайск, 1980.—
Вып. 1.—С. 170—192; Кубарев В. Д. Кинжалы из Горного Алтая //
Военное дело древних племен Сибири и Центральной Азии.— Ново¬
сибирск, 1981.— С. 29—54; Членова Н. Л. Происхождение и ранняя
история...— С. 14—27; Грач А. Д. Древние кочевники...— С. 32—34.
104 Троицкая Т. Н. Вооружение племен Новосибирского Приобья
в конце I тыс. до н. э. // СА.— 1974.— № 3.
105 Иванов Г. Е., Медникова Э. М. Новообинский курган...— С. 94.
106 Членова Н. Л. Тагарская культура // Материалы по древней
истории Сибири.— Улан-Удэ, 1964.— С. 305—306.
107 Уманский А. П. О культурной и этнической принадлежно¬
сти...; Могильников В. А. О культурах Западно-Сибирской лесостепи
раннего железного века (итоги и проблемы изучения) // Скифо-сибир¬
ское культурно-историческое единство.— Кемерово, 1980. —С. 45—47.
108 Алексеев В. П. Палеоантропология Алтая эпохи железа //
СА.— 1958.— № 1.—С. 45.
109 Уманский А. П. Новые памятники раннежелезного века...—
С. 28—30; Он же. Безмолвные стражи алтайских степей // Альманах
«Алтай».— 1966.— № 2.
110 Алексеев В. П. Палеоантропология Алтая...— С. 45; Дре-
мов В. А. Материалы к антропологии болыпереченской культуры...—
С. 100.
27
А. П. Бородовский
ПЛЕТИ И ВОЗМОЖНОСТИ ИХ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
В СИСТЕМЕ ВООРУЖЕНИЯ ПЛЕМЕН
СКИФСКОГО ВРЕМЕНИ
Реконструкция системы вооружения племен скифоидных куль¬
тур во многом сводится к уточнению и детализации примене¬
ния ее составных частей. Благодаря многочисленным иссле¬
дованиям и специальным работам для скифского времени
выявлено, описано и проанализировано значительное коли¬
чество предметов, однозначно несущих боевые фупкции. Эти
предметы или формы оружия являются основными как по
традиционности их применения в военной практике, так и по
отношению к другим вспомогательным средствам, входящим
в экипировку конного воина. Тем не менее вспомогательные
предметы, как-то плети и другие, несут в себе определен¬
ные военные функции 1 и при определенных обстоятельствах
могут замещать оружие. В полной мере это относится к
плети, которая, например, в отличие от узды может исполь¬
зоваться не только для управления конем, но и как средства
нападения и защиты всадника. Наличие плетей в эки¬
пировке конных воинов известно со времени выделе¬
ния кавалерийских формирований в самостоятельную
военную силу. Уже в IX—VIII вв. до н. э. при парной езде
копных лучников у ассирийцев плеть фигурирует в качестве
важного средства, обеспечивающего точность стрельбы 2.
Традиция использования плетей в качестве специфического
атрибута экипировки конного воина сохраняется вплоть до
средневековья 3. Использование плетей (кнутов, нагаек, кам¬
чей, бичей) в качестве оригинального и специфического ору¬
жия в конных поединках, состязаниях, охоте известно, сог¬
ласно этнографическим свидетельствам, у казахов, калмы¬
ков, хакасов. Это нашло отражение и в эпосе. Подобное при¬
менение плетей возможно и в скифское время ввиду близости
культурно-хозяйственных условий, систем вооружения вои¬
на кочевого общества. Об этом свидетельствуют археологи¬
ческие находки, изображения и мифология.
Следует, однако, оговориться, что в археологических ма¬
териалах плети представлены гораздо слабее, чем другие
виды традиционного оружия скифского времени. Но это ско¬
рее всего результат их плохой сохранности, а не показатель
распространения. Как правило, до нас доходят лишь отдель-
28
ные образтты кнутовищ, имеющие отделку металлом. Просто
оформленные плети не сохранились.
Находки кнутовищ плетей известны в погребальном ин¬
вентаре скифских племен — Толстая могила, Чертомлык,
Елизаветинский могильник; кроме того, их изображения за¬
фиксированы на сосудах из Частых курганов, Таймановой
могилы, на куль-обской костяной пластине и на каменных
изваяниях из Краснодара и Ольховничека 5 (рис. 1). Имеются
они и в археологических материалах сакских племен, на¬
пример кнутовища из Иссыкского, Башадарского, Пазырык-
ских курганов, и на изображениях золотых пластин к. Тен-
лик 6 (рис. 2, 1—4). Такие находки в основном относятся к
богатым погребениям, однако это не аргумент в пользу их
исключительности и необычности. В археологической лите¬
ратуре достаточно прочно утвердилось мнение, что для скиф¬
ского времени «царские» захоронения содержат ту же сис¬
тему вооружения, что и могилы рядовых воинов 1. И в тех и
в других захоронениях набор экипировки всадника по проис¬
хождению тесно связан со снаряжением воина-пастуха, где
плеть выполняет хозяйственные функции (при выпасе стада),
но может быть в определенное время и оружием. Такие пе¬
реходы функционального назначения орудия в оружие весь¬
ма характерны для ранних этапов истории, когда в наиболее
специализированном виде существуют лишь защитное воо¬
ружение.
По сохранившимся фрагментам кнутовищ и изображени¬
ям можно выделить четыре разновидности оформления пле¬
тей скифского времени: простое; перевитое металлической
лентой (бронзовой или золотой); с резными навершиями (го¬
лова хищника); полностью резное кнутовище в виде лошади
(рис. 2, 1—4).
Известны два способа ношения плетей — на поясе спра¬
ва и в правой руке на петле (рис. 2, 5,6). Анализ изображе¬
ний скифских плетей VI—IV вв. до н. э. дает преимущест¬
венную пропорцию отношения ремня к кнутовищу как \ : 2
и позволяет выделить два варианта плеточных ремней —
простой и сложный с ответвлениями в два — три отростка
(см. рис. 1). Оформление ремней также весьма неоднозначно.
У сохранившейся плети из первого Пазырыкского кургана
ремень простой, одинарный, обшитый сверху дополнитель¬
ным слоем кожи 8. Судя по набору бусин около кнутовища
плети из Толстой могилы 9, з окончание ремня вплетались
инородные тела, что повышало эффективность использова¬
ния плети. Подобный прием известен из данных этнографии
и эпоса. Плеть именно с такой конструкцией ремня, соглас-
29
Рас. 1.
1 — изваяние из Собиояра; 2 — изваяние из Краснодара; з — изваяние из
Ольховничека; 4 — изображение на сосуде из Частых курганов; 5 — изобра¬
жение на сосуде из Таймановой могилы; 6 — изображение на пластинке из
Солохи.
О 4СМ
Ш1 1
а
\У
4
3
Рис. 2.
1 — плеть из Пазырыка; 2—4 — кнутовища (соответственно с Иссыка, Пазы-
рыка, Башадара); 5,6 — способы ношения плетей.
но хакасскому фольклору, использовалась в боях 10. В окон¬
чание ремней специально вплетались металлический шар
«том» или косточка «толарсых».
Крепление ремня к кнутовищу в плетях скифского вре¬
мени решалось различными способами. Один из таких ва¬
риантов можно проследить на материалах Пазырыкских кур¬
ганов. Ремень прикреплялся к кнутовищу при помощи до¬
полнительного ремешка, который продевался в несколько
симметричных отверстий, просверленных в ремне и кнуто-
34
вшце. Причем соединение производилось не у самого края
кнутовища, а чуть ниже. Именно это место сочленения опре¬
деляло внешнюю форму висящей плети в виде характерного
угла между ремнем и кнутовищем и выступание его верхней
части. Такой способ крепления изображен на каменных из¬
ваяниях из Собиояра и Ольховничека (см. рис. 1).
Крепление ремня к кнутовищу, согласно изображениям
на сосудах из Таймановой могилы, Частых курганов, на
куль-обской костяной пластине и каменном изваянии из
Краснодара, было несколько иным. На основании деталей
плети, изображенной на Краснодарском изваянии, можно
допустить, что соединение ремня осуществлялось при помо¬
щи ременной петли, прикрепленной к кнутовищу (см. рис. 1).
Подобный способ достаточно распространен вплоть до
современности.
Решение вопроса о конкретной принадлежности каждой
разновидности плетей к группам нагаек, кнутов, камчей и
бичей пока достаточно сложно, так как типология этого спе¬
цифического оружия еще не разработана и не всегда можно
судить о характере плетения ремня. А это в сочетании с
кнутовищем должно служить типологически определяющим
признаком.
Говоря о возможности поиска в осколках скифской мифо¬
логии свидетельств использования плетей в качестве оружия,
следует подчеркнуть усложненность такой задачи не только
отрывочностью имеющихся сведений, но и инокультурным
происхождением источников. Пример тому — легенда о пое¬
динке скифов с потомками слепых рабов, где кнуты (бичи)
сыграли решающую роль в достижении победы. Различные
исследователи рассматривали эту легенду, как правило, с
точки зрения корней сюжета и классовой оценки, выявле¬
ния греческого комментария. При этом конкретный смысл
описанного события, в частности возможности использования
плетей в качестве оружия у скифов, рассматривался только
однажды 11 (см. таблицу). Тем не менее эта точка зрения за¬
служивает большего внимания, так как дает возможность для
выявления новой стороны в трактовке конкретного сюжета
легенды, в плане соотнесения его с аналогами из этногра¬
фии и эпоса народов с близким культурно-хозяйственным
типом.
По смыслу легенду, как ее описывает Геродот, можно раз¬
бить на следующие структурные части:
факт столкновения сторон и его причины: «От этих-то
слепых рабов и жен скифов выросло молодое поколение.
Узнав свое происхождение, юноши стали противиться ски-
32
Год
Автор
Корни
легенды
Оценка сюжета
Греческий
рабовла¬
дельче¬
ский ком¬
ментарий
местные
греческие
факт под¬
чинения
мотивы
ГОРННЫЙ
эпизод
этни¬
ческие
к лас-
совые
1932
В. И. Равдоникас
+
1949
Д. П. Каллистов
+
+
+
1964
П. Н. Шульц
+
+
1966
А. П. Смирнов
+
+
+
1971
Б. Н. Граков
+
+
+
1974
М. И. Артамонов
+
+
+
+
1975
А. М. Хазанов
+
+
+
1977
Д. С. Раевский
+
+
+
1982
А. И. Доватур
Д. П. Каллистов
И. А. Шишова
+
+
+
Примечание. Равдоникас В. И. Пещерные города Крыма и готская
проблема // Изв. ГАИМК.— Л., 1932.— Вып. 18.—(Готский сборник); Калли¬
стов Д. П. Очерки по истории Северного Причерноморья античной эпохи.— Л.,
1949; Смирнов А. П. Скифы — М., I960; Граков Б. Н. Скифы.— М., 1971; Арта¬
монов М. И. Киммерийцы и скифы.— Л., 1974; Хазанов А. М. Легенда о проис¬
хождении скифов // Скифский мир.— Киев, 1974; Раевский Д. С. Очерки идеоло¬
гии скпфо-сакских племен.— М., 1977; Доватур А. И., Каллистов Д. П., Шишо-
ва И. А. Народы нашей страны в «Истории» Геродота.— М., 1982.
фам, когда те возвратились из Мидии. Прежде всего они
оградили свою землю, выкопав широкий ров от Таврийских
гор до самой широкой части Меотийского озера. Когда скифы
пытались переправиться через озеро, молодые рабы высту¬
пили им навстречу, начали с ними борьбу...»;
обсуждение причин военных неудач и принятие решения
на совете: «Произошло много сражений, но скифы никак не
могли одолеть противников; тогда один из них сказал так:
,,Что мы делаем, скифские воины? Мы боремся с нашими соб¬
ственными рабами! Ведь когда они убивают нас, мы сла¬
беем, если же мы перебьем их, то впредь у нас будет меньше
рабов. Поэтому, как мне думается, нужно оставить копья и
луки, пусть каждый со своим кнутом пойдет на них. Ведь
пока они видели нас вооруженными они считали нас равны¬
2 Заказ Ка 504
33
ми им, т. е. свободно рожденными. Если они увидят нас с
кнутом вместо оружия, то поймут, что они наши рабы и,
признав это, уже не дерзпут противиться44»;
применение плетей в качестве оружия и его результаты:
«Услышав эти слова, скифы тотчас последовали его совету.
Рабы же, устрашенные этим, забыли о битвах и бежали»12.
Рассматривая эту легенду, особенно следует подчеркнуть,
что ее местные корни достаточно давно и убедительно обос¬
нованы рядом исследователей, порой стоящих на различных
позициях в трактовке других сюжетных особенностей (см.
таблицу). В целом, по всем версиям, плеть в легенде высту¬
пает высшим атрибутом социальной стратификации скифско¬
го общества или иногда символом рабовладельческой власти.
Действительно, в некоторых ассирийских документах пле¬
ти упоминаются как почетные трофеи из имущества высших
слоев побежденных 13. В греческой истории известен ин¬
цидент в Спарте, отпосимый к V в. до н. э., когда рабовла¬
дельцы усмирили поднявшихся с оружием в руках рабов,
используя кнуты. Тем самым было продемонстрировано со¬
циальное неравенство сражавшихся 14. Тем не менее для
скифов и их времени эти выводы все-таки можно считать
спорными, так как: а) плеть относительно редка на изобра¬
жениях лиц, претендующих на высшие ранги в обществах
скифского круга 1б; б) в перечне атрибутов власти ни в од¬
ной из скифских легенд мы не находим даже упоминания
о плети; в) неэквивалентность социального строя скифского
общества греческому и древневосточному не могла привести
к тождественным представлениям восприятия плети — как
символа рабовладения; г) плеть (кнут, бич, камча, нагайка)
занимает и выполняет в системе культурно-хозяйственных
отношений кочевого общества особые специфические функ¬
ции и, следовательно, несет иную смысловую нагрузку, чем
в оседлом земледельческом обществе. В то же время еще раз
следует подчеркнуть смысловую близость легенды «битвы с
кнутами» с подобными сюжетами из более поздних эпосов.
Использование плети у народов с близким культурно-хо¬
зяйственным типом в их эпосе выглядит как:
равноправное включение ее в систему вооружения героя,
например:
Хонгор нагайку зажал в железной руке
Внешний вид богатырской ногайки таков:
Было не стыдно держать исполину ее!
Джангар, калмыцкий эпос 16
Вот каждый в руки плеть берет...
Помчались нарды с удальством и песней в боевой поход.
Абхазские сказания о нардах17
34
Плеть служит одним из способов определения силы героя
перед решающим поединком:
Mere Сааган Тоолай сел верхом... чтобы разыскать жену и отом¬
стить Амырга Кара Моосу, с коня он увидел след от нагайки вра¬
га... След, лежавшей на земле плети великана, напоминал глубокий
овраг, по которому струился большой ручей. А есть ли у него, Mere
Сааган Тоолая, сила? Ударил он по земле плетью — пролегла бурная
речка.
Меге Баян Тоолай, тувинский эпос18
Разом ударили кнутами по земле, и удары эти отозвались в горах.
Абхазские сказания о нардах19
Взмахнула ужасная пестрым бичом — в горах
раздался раскатистый гром.
Второй раз взмахнула — упала гора.
Албынжы, хакасский эпос20
Иногда плеть предлагалась в качестве самого действенно¬
го средства для достижения окончательной победы, когда
возможности других традиционных видов оружия были ис¬
черпаны. Причем применению плетей в качестве оружия, как
правило, предшествует совет или вопрос героя к самому
себе 21.
Вполне возможно, что одним из исходных мотивов ис¬
пользования плетей в качестве оружия в скифской легенде
могли быть конные поединки с их применением, известные в
военных столкновениях кочевой среды. Это достаточно под¬
робно описано Ч. Валихаяовым, изучавшим материалы ка¬
захской этнографии 22. Близкие примеры можно найти и в
традиционных народных развлечениях кочевого общества.
Цель известного у киргизов «боя обнаженных» — эюыланач
чабыш,— заключается в том, чтобы ударом нагайки по лю¬
бой части тела выбить противника из седла. На самых круп¬
ных торжествах это состязание носило массовый характер.
Действия каждой из сторон были согласованы и основыва¬
лись на взаимной выручке, как это бывает во время настоя¬
щего боя.
Несомненно, одной из главных причин того, что этот вид
состязания сохранился в быту у киргизов до начала XX в.,
является его тесная связь с военным делом, с необходимостью
воспитать у киргизского воина умение вести бой не только с
помощью традиционного оружия, но и в случае утраты или
поломки последнего — подручными средствами, вырабаты¬
вать у воинов смелость и выносливость 23.
Подобные примеры из этнографии вполне можно исполь¬
зовать в качестве моделей, дающих одну из возможных
трактовок сюжета использования плетей в скифской леген¬
де. Такой поединок возможен в скифское время, если учесть,
2*
35
что после прохождения простреливаемой луками зоны от
150 до 12 м 24 (рис. 3) наиболее эффективными были все сред¬
ства ближнего боя, вплоть до непосредственной борьбы
всадников. В конном поединке у скифов, очевидно, одну из
основных ролей играл факт сбивания противника с лошади,
и тогда применение плети достигало поставленной цели, ока¬
зывало воздействие одновременно на животное, и на всад¬
ника. Кроме этого, действия кнутом достаточно оперативны:
Лишь только хотел он мечом взмахнуть,
бич трижды обвил богатырскую грудь.
В змеиных объятиях крепко сдавил,
дыханья свободного сразу лишил.
Албынжы, хакасский эпос 25
Из этнографических свидетельств и эпоса кочевых наро¬
дов известна целая система специальных ударов плетью.
Так, у киргизов для большей вероятности победы в конном
поединке, удары наносились в особо чувствительные места,
чтобы парализовать действия противника: в руку выше лок¬
тя, в запястье, рукояткой плети в шейное сухожилие и ко¬
ленную чашечку. В бою, по материалам хакасского и тувин¬
ского фольклора, использовался специальный удар плетью
по голове противника 26: «Тут его Mere Тоолап так ударил
плетью, что голова с плеч слетела»27. Подобные удары в
повседневной практике отрабатывались в ходе конного пре¬
следования зверя на охоте, при выпасе и охране стад. В
эпосе это даже приобрело нарицательную форму: «Как ра¬
неный зверь застонал... бичом перебитый на пополам»28.
Плеть в умелых руках превращалась в страшное оружие.
И сегодня одним точным ударом опытный конный пастух
может перебить хребет волку 29.
Косвенным свидетельством наличия у скифов развитых
навыков владения плетью является факт их использова¬
ния для поддержания общественного порядка на собраниях
в Афинах 30. Слшф — «полицейский», умело действуя плетью,
достаточно быстро усмирял страсти во время дебатов. Такие
навыки могли возникнуть лишь от повседневного использо¬
вания указанного средства, его практической необходимости
для каждого скифа. Как справедливо подчеркивает Геродот,
«каждый со своим кнутом»31. До недавнего времени такие
навыки имели народы, тесно связанные в своей хозяйствен¬
ной деятельности с верховой ездой и скотоводством.
Пространственное совмещение археологических, этногра¬
фических, изобразительных сведений и данных эпосов об
использовании плетей в качестве оружия хорошо прослежи¬
вается в степной зоне Евразии (рис. 4), в которой существо-
36
Рис. 3.
а — расстояние, простреливаемое при конной атаке; б —
ближнее столкновение.
37
Рис. 4. Карта распространения изображений, находок плетей
и упоминаний о них в эпосе и этнографии.
1 — изображения; 2 — находки; з — этнографические данные; 4 — эпи¬
ческие данные.
вали и развивались в прошлом культуры скифского круга.
Поэтому вполне допустимо рассмотрение плети в системе во¬
оружения племен скифского времени как средства, иногда
выполнявшего боевые функции в качестве специфического
оригинального ударного оружия.
Примечания
1 Абрамова М. И. Киммерийцы и скифы.— Л., 1974.— С. 71.
2 Ковалевская В. Б. Конь и всадник.— М., 1977.— С. 89.
3 Кирпичников А. Н. Снаряжение всадника и верхового коня на
Руси в IX—XIII вв.— Л., 1973.— С. 70—75.
4 Валпханов Ч. Ч. Вооружение киргизов в древние времена и
их боевые доспехи // Собр. соч.— Алма-Ата, 1961.— Т. 1.— С. 5—10;
Курылев В. П. Оружие казахов. Материальная культура и хозяйство
народов Кавказа, Средней Азии и Казахстана.— Л., 1978.— С. 5.
6 Кирпичников А. Н. Снаряжение всадника...— С. 170; Куры¬
лев В. П. Оружие казахов...— Табл. 31.
6 Черненко Е. В. Оружие из Толстой могилы. Скифский мир.—
Киев, 1975.— С. 112, 120; Шульц П. Н. Скифские изваяния. Худо¬
жественная культура и археология древнего мира.— М., 1976.—
С. 142; Руденко С. И. Культура населения Центрального Алтая в
скифское время.— М.— Л., I960,— С. 229.
7 Руденко С. И. Культура населения Горного Алтая в скифское
время.— М.— Л., 1953.— С. 171.
8 Руденко С. И. Культура населения Центрального Алтая...—
С. 228.
9 Руденко С. И. Культура населения Горного Алтая...— С. 171.
10 Акишев К. Курган Иссык.— М., 1973.— С. 190.
11 Бутанаев В. Я. Вооружение и военное дело хакасов в позднем
средневековье (по материалам фольклора) // Военное дело древних
племен Сибири и Центральной Азии.— Новосибирск, 1981.— С. 195,
38
12 Доватур А. И., Каллистов Д. П., Шишова И. А. Народы нашей
страны в истории Геродота.— М., 1982.— С. 188.
13 Ковалевская В. Б. Конь и всадник.— С. 101.
14 Геродот. История в девяти книгах/Перевод и примечания Стра-
тановского Г. А.— Л., 1972.— С. 188.
15 Смирнов А. П. Скифы.— М., 1966.— С. 49; Елагина Н. Г.
Скифские антропоморфные стелы Николаевского музея // СА.—
1959.— № 2.— С. 195; Раевский Д. С. Скифские каменные изваяния
в системе религиозно-мифологических представлений ираноязычных
народов евразийских степей // Средняя Азия и зарубежный Восток в
древности.— М., 1983.— С. 85.
18 Героический эпос народов СССР.— М., 1975.— С. 274.
17 Там же.— С. 251.
18 Там же.— С. 363, 364.
19 Там же.— С. 237.
20 Там же.— С. 517.
21 Там же.— С. 364.
22 Валиханов Ч. Ч. Вооружение киргизов...— С. 5, 10.
23 Симаков Г. Н. Общественные функции киргизских народных
развлечений в конце XIX — начале XX в.— Л., 1984.— С. 76.
24 Героический эпос...— С. 517.
25 Там же.— С. 517.
26 Бутанаев В. Я. Вооружение и военное дело...— С. 195.
27 Героический эпос...— С. 366.
28 Там же.— С. 517.
29 Романов Ю. Схватка в горах // Правда.— 1984.— 7 дек.
30 Смирнов А. П. Скифы.— С. 49; Граков Б. Н. Литературные
свидетельства о рабах-скифах // ВДИ.— 1939.— № 3.
31 Геродот. История...— С. 188.
С. А. Комиссаров
КОМПЛЕКС ВООРУЖЕНИЯ КУЛЬТУРЫ
ВЕРХНЕГО СЛОЯ СЯЦЗЯДЯНЬ
Памятники культуры верхнего слоя Сяцзядянь выявлены
на северо-востоке Китая: в провинциях Хэбэй, Ляонин и
прилегающих районах Внутренней Монголии. Они отли¬
чаются значительным своеобразием, в том числе в области
вооружения. Материалы эти практически неизвестны в на¬
шей литературе, поэтому имеет смысл дать предваритель¬
ный очерк данной культуры. Поскольку специальных работ
по названной выше проблеме пока нет, а многие ее аспекты
находятся в процессе разработки, то ниже приводятся толь¬
ко наиболее общие характеристики х.
Культура Сяцзядянь получила название по базовому
памятнику, открытому в окрестностях Чифэн, но оно не
очень удачно, так как не менее широко известна культура
39
нижнего слоя того же памятника с тем же названием, и это
создает ложное представление о прямых генетических свя¬
зях той и другой культуры (хотя между ними прослеживает¬
ся определенное сходство как в керамике, так и в каменном
инвентаре). Указанные культуры разделяет значительный
промежуток времени. Нижний слой Сяцзядянь датируется
периодом от позднего Луншань до позднего Шан (XX —
XIV вв. до н. э.), тогда как верхний слой относится к гораз¬
до более позднему времени. Косвенно подтверждает раннюю
дату нижнего слоя, а также широкие связи культуры от¬
крытие в могиле близ г. Таншаня височного кольца, близко¬
го к андроновскому 2.
Культура верхнего слоя Сяцзядянь характеризуется са¬
мостоятельным бронзолитейным производством. До послед¬
него времени удавалось обнаружить лишь небольшие изде¬
лия из бронзы — ножи, наконечники стрел, бусины. Однако
в 1981 г. в окрестностях Тоубицзи были найдены также
бронзовые ритуальные сосуды — один «янь» и два «дин».
По мнению Су Хэ, форма этих сосудов близка к керамике
Сяцзядянь, а узоры на них аналогичны росписям на глиня¬
ной посуде 3. Если это действительно так, то налицо само¬
стоятельная традиция изготовления ритуальной бронзы, бо¬
лее древняя, чем шанская.
В Западном Ляонине был выделен тип фэнси, стратигра¬
фически предшествующий культуре верхнего слоя Сяцзя¬
дянь, что как будто позволяет надеяться на открытие пере¬
ходного между культурами звена 4. Недавно выделенная
новая керамическая традиция — «тип вэйинцзы» — мало что
дает для выяснения вопроса о происхождении культуры
верхнего слоя Сяцзядянь, поскольку речь идет в основном
об уже известных памятниках 5. Следует, однако, учитывать
мнение, что керамика типа вейинцзы представляет собой
переходную культуру от нижнего к верхнему слою Сяц¬
зядянь.
Верхний слой Сяцзядянь характеризуется также долго¬
временными поселениями. Носители этой культуры строили
как округлые в плане землянки и полуземлянки, так и
наземные жилища. У одного из домов был сооружен фунда¬
мент — котлован заполнен утрамбованной землей, покры¬
той сверху слоем обмазки (глина с травой). Судя по остат¬
кам, крыша опиралась на стены жилища и на центральный
опорный столб 6. Основу хозяйства составляло зерновое зем¬
леделие. Остеологические материалы свидетельствуют о раз¬
ведении свиней, собак, в меньшей степени — крупного рога¬
того скота и лошадей.
40
Рис. 1. Керамика культуры верхнего елоя Сяцзя¬
дянь {1—6 воспроизводятся по «Археологии
Шан и Чжоу»).
Памятники верхнего слоя Сяцзядянь выделяются на ос¬
нове своеобразной керамики, в том числе триподов на за¬
остренных ножках (рис. 1, 1—5), а также бронзовых изде¬
лий (отдельных видов сосудов, кельтов с «веерообразным»
лезвием, зеркал, блях с изображением животных и птиц
и т. д.) (см. рис. 1, 4—12). Важное значение для определения
культурной принадлежности имеют некоторые виды воору¬
жения — шлемы, кинжалы, наконечники копий, найденные
в погребениях. В области искусства отмечены украшения,,
выполненные в своеобразном «зверином стиле».
При определении хронологии культуры нижнюю грани¬
цу дают радиокарбонные датировки для медного «комбина¬
та» древности в Линьси — 2900—2700 лет до наших дней 7.
Еще одна дата получена по анализу человеческих костей
из могильника Цзяньцзыгоу во Внутренней Монголии:
2300 it 85 лет до наших дней (2370 it 85 по уточненному
периоду полураспада). Образец взят из могилы № 64, о
которой сказано только, что это — классическое погребение
культуры верхнего слоя Сяцзядянь 8. Вообще вопросы хро¬
нологии весьма сложны, потому при описании конкретных
памятников им будет уделяться специальное внимание.
41
По вопросам этнической принадлежности носителей этой
культуры высказываются различные мнения. На наш взгляд,
ближе к истине оказался Цзинь Фэнъи, который отнес
остатки культуры к племенам дунху. Он показал, что сведе¬
ния о дунху в «Ши Цзи» относятся не только к периоду
Чжаньго, но и к Чуньцю, после чего соотнес географические
ориентиры письменных источников с местонахождением
культуры верхнего слоя Сяцзядянь 9. Важность этих выво¬
дов трудно переоценить, поскольку от дунху связи просле¬
живаются к ухуаням и сяньби, которых некоторые авторы
связывают с предками монгольских народов 10.
Если говорить о возможных аналогиях, то следует прежде
всего отметить дворцовские памятники Восточного Забай¬
калья. Между ними существовало много общих черт: длин¬
ные бронзовые ножи с упорами для пальцев на рукояти,
многоярусные бляшки, подвески в форме ложечки или
птицы с распластанными крыльями п. Сходные элементы
имеются среди случайных находок Ордоса и Монголии, ко¬
торые как бы объединяют воедино Дунбэй и Забайкалье 12.
Кроме того, в литературе отмечалось открытие при раскоп¬
ках сяцзядяньских памятников изделий татарского об¬
лика 13.
К числу наиболее богатых оружием сяцзядяньских па¬
мятников относится могила № 101 у д. Нанынаньгэнь, рас¬
положенной в уезде Нинчэн в сейме Чжаоуда провинции
Ляонин 14. Размеры могилы, раскопанной в 1963 г., 3,8х
X 1,8—2,23x2,4 м, стенки, дно и верхняя часть выложены
небольшими каменными плитами. СУдя по остаткам трухи,
покойник был помещен в деревянный гроб. Погребальный
инвентарь отличается богатством, найдены ритуальные сосу¬
ды, оружие, орудия труда из бронзы, три золотых кольца,
два каменных топора и различные изделия из кости (рис. 2; 3,
1—13; 4, 5, 12, 13; 5, 1—10). Среди бронзовых сосудов есть
специфические формы, не найденные на других памятниках.
Однако сосуды «гуй», «у», «дин» (см. рис. 2, 7, 7, 5) входят
в круг западночжоуской ритуальной утвари и имеют анало¬
гии с находками на памятниках VIII—VII вв. до н. э.
Столь же смешанный облик имеет и комплекс вооруже¬
ния. Найденные кинжалы, шлем, наконечники стрел, нак¬
ладки на ножны имеют местную специфику, тогда как три
клевца относятся, несомненно, к древнекитайским издели¬
ям. Один из них (МНИ : 15) по форме напоминает «гэ» из
Шанцуньлина. Обладает некоторым сходством с шанцунь-
линским образцом и кельт (см. рис. 3, 7). Это также под¬
тверждает датировку могилы концом поздней бронзы (ру-
42
Рис. 2. Бронзовые ритуальные сосуды из могилы № 101 в
Напыпаньгэнь (нумерация 1—9 сверху вниз по вертикальным рядам).
беж Западного Чжоу — Чуньщо). Найденные кинжалы де¬
лятся на две большие группы. Одни из них «скрипковидной»
формы (см. рис. 3, 4), другие (четыре) близки к карасукским
«выемчатоэфесовым» (см. рис. 3, 3). Еще два сочетают в сво¬
ем облике различные традиции. У одного — «скрипковид¬
ный» клипок и рукоять в форме пары лежащих друг против
друга тигров. Точные аналогии такой рукояти мне не из¬
вестны, однако традиция украшать кинжалы изображениями
животных была присуща кочевым народам северных степей.
Клинок другого кинжала — с параллельными лезвиями и
цилиндрической жилкой по центру, что характерно для кип-
жалов карасукского облика, равно как и для поздних образ¬
цов дунбэйских кинжалов. Рукоять как бы «налита» на кли¬
нок и украшена терриоморфным узором («куй-лун вэнь»),}
распространенным на чжоуских бронзах Центральной равни¬
ны (см. рис. 3, 2). Из трех наконечников копий один имеет
специфическую профилированную форму, сходную с клин¬
ком М101 : 36. Втулка приблизительно на середине пера
переходит в ребро, которое доходит до острия. Второе копье
имеет удлиненно-листовидное перо, у третьего (см. рис. 3„
43
Рис. 3. Бронзовые орудия труда и оружие культуры верхнего
слоя Сядзядянь.
5) форма клинка близка к пламевидной, втулка несколько
расширяется книзу, с одной стороны имеется ушко. Из
прочих вещей можно отметить обломок зеркала, различные
бубенцы и две небольшие ажурные бляшки со стилизован¬
ными изображениями козлов. Вещи подобного типа обычно
относили к более позднему времени.
44
13 1+
9
в
xafel
/5- ^
16
7
Рис. 4. Каменные и костяные орудия труда культуры верхнего
слоя Сяцзядянь.
В 1958 г. в районе Нанынаньгэнь уже исследовали моги¬
лу со сходным инвентарем 15. Ее длина более 2 м, ширина
1,5 м, дно и стены выложены булыжниками. Внутри нашли
коллекцию из 71 бронзового изделия. Из оружия найдены
характерный бронзовый шлем; три клевца «гэ», в том числе
один черешковый и два проушных; один наконечник
копья — втульчатый с профилированным лезвием. Два най¬
денных кинжала различаются между собой. У одного из
них лезвие дунбэйского («скрипковидиого») типа, рукоять
словно надета на черен кинжала, нижняя часть ее сильно
расширяется; другой отличается листовидным клинком и
короткими высоко посаженными шипами 16. Однако у обоих
кинжалов рукояти увенчаны фигурами животных, что под¬
черкивает их единство. Найдены также три черешковых
наконечника стрелы, четыре кельта (в том числе один с
45
Рис. 5. Бронзовые украшения, культура верхпего
слоя Сяцзядянь.
«луновидным» лезвием), четыре ножа, два подтока и одни
бронзовые ножны длиной 35,5 см. Необходимо отметить
своеобразные украшения в виде соединенных лирообразных
предметов; головки последних имели зооморфную форму.
Другие находки — это прямоугольные и круглые бляшки.
Многие изделия украшены изображениями 3—4 стоящих
животных. Н. Л. Членова предлагает датировать этот комп¬
лекс временем около VI в. до н. э.17, однако, судя по инвента¬
рю, данная могила по дате близка к предыдущей (№ 101).
Важные результаты получены в Нанынаньгэиь в 1961 г.18
Были раскопаны 14 хозяйственных ям, в которых нашли
1774 фрагмента керамики. Именно она дала возможность
соотнести памятник с культурой верхнего слоя Сяцзядянь.
Также обнаружили несколько костяных наконечников
стрел — с треугольным или ромбическим в сечении пером
и, как правило, плоским черепом. Последняя деталь явля¬
ется характерной особенностью этой культуры. В девяти
могилах найдены бронзовые ножи, ярусные бляшки, ложеч¬
ковидные и лапчатые подвески (см. рис. 5, 4—6). К числу
важнейших находок относится бронзовое кольцо (из м. 3),
украшенное литыми фигурками всадников (см. рис. 5, 7).
Насколько нам известно, это наиболее раннее достоверное
свидетельство использования коня под верх на современной
территории Китая.
46
К тому же периоду относится наныпаньгэньская
м. № 102 10. Она расположена в 120 м от могилы № 101
и представляет собой захоронение в грунтовой яме, стены
которой обложены камнями. Вместе с костяком обнаружены
бронзовые ножи, кельты, различные предметы сбруи (удила,
обоймы, бляшки), одно зеркало и целый ряд других предме¬
тов. Их культурная сущность и дата в основном те же, что
it у м. № 101. Из числа собственно оружия найдены только
черешковые наконечники стрел: три бронзовых трехлопаст-
иых и три костяных трехгранных. Однако наиболее эф¬
фектная находка этого комплекса — костяная пластинка с
резным рисунком — также связана с военным делом. Во-
первых, на ней изображен человек с луком в руке. Размеры
лука около 42% высоты тела нарисованного человека, т. е.
возможная длина натянутой тетивы 65—75 см. Во-вторых,
па пластине показаны две легкие колесницы — биги, что
наглядно доказывает их применение у носителей культуры
верхнего слоя Сяцзядянь. Как отмечает А. В. Варенов,
«выгравированные лошади стилистически близки к изобра¬
жениям на о ленных камнях, например из Дарив-сомона»20.
В настоящее время Нанынаньгэнь относится к числу на¬
иболее изученных сяцзядяньских памятников. Определен¬
ные аналогии с ним прослеживаются и в других материалах,
обнаруженных в районе Чифэна, и прежде всего на самом
Сяцзядянь 21. Там на месте поселения нашли около 7 тыс.
фрагментов керамики, два десятка шлифованных каменных
орудий, и обломков двух каменных литейных форм — для
кельта-топора, украшенного линейным треугольным орна¬
ментом, и для ярусной бляшки. Это еще раз доказывает
местное производство бронзовых изделий. В могилах обна¬
ружены многочисленные ярусные бляшки, которые нашива¬
лись на головной убор и воротник (удалось восстановить
их расположение), лапчатые подвески, несколько костяных
и два бронзовых наконечника стрел. Один из них имеет
характерное трехлопастное перо, тогда как у другого двум
лопастям придана редкостная округлая форма (см. рис. 3,
15, 16).
В целом вопросы периодизации культуры верхнего слоя
Сяцзядянь находятся в процессе разработки. Наиболее инте¬
ресную концепцию предложил Цзинь Фэнъи 22. Он сторонник
расширенного толкования культуры верхнего слоя Сяц-
зядяиь и поэтому относит все памятники Ляоси и района
Шэньяна к единой традиции, выделив ряд последователь¬
ных этапов. По его мнению, указанная культура развивалась
па рассматриваемых территориях с середины Западного Чжоу
47
и фактически до позднего Чжаньго. Данная гипотеза прив¬
лекает своей масштабностью, многообещающим характером,
однако нуждается в более детальной проработке. Таблицы
характерных вещей различных периодов, составленные са¬
мим Цзинь Фэнъи, показывают, что различий между ними,
во всяком случае, не меньше, чем сходства. Возникают
проблемы: 1. Чем вызваны различия — хронологическими,
территориальными особенностями или же принадлежностью
к разным традициям? 2. Чем вызвано сходство — общим
происхождением, генетическими связями или же тесными
Контактами? Дать однозначный ответ на эти вопросы пока
не удается. К тому же автор статьи часто апеллирует к
неопубликованным материалам, что затрудняет контроль его
выводов. Поэтому вплоть до проверки гипотезы Цзинь Фэнъи
дальнейшее рассмотрение набора оружия будет ограничено
в основном наньшаньгэньскими памятниками, материалы
других стоянок и могильников принимаются во внимание
в качестве дополнительных.
Среди наступательного вооружения ближнего боя важ¬
ное место занимают кинжалы, которые, как было показано
выше, относятся к двум основным группам 23, Точные ана¬
логии находкам в Наныпаньгэнь известны из случайных
сборов в районе Ордоса, что указывает направление связей
культуры дунху 24. Столь же «смешанный» облик имеют
копья, среди которых выделяются экземпляры с профилиро¬
ванным пером. Цзинь Фэнъи, перевернув их «вверх ногами»*
предложил считать все изделия этого типа кинжалами, кото¬
рые выделил в особый тип А. В качестве единственного
аргумента в пользу такого соотнесения высказано сообра¬
жение о том, что клинок оружия слишком велик для копья
и больше подходит для кинжала. Однако этого недостаточно
для столь обобщающего вывода. В принципе такая возмож¬
ность существует, однако окончательно решать вопрос надо
конкретно в каждом случае. Так, вызывает сомнение отне¬
сение к кинжалам изделия из м. № 101. Действительно,
оно обладает большим клинком — 40,8 см. Однако вместе
с ним найдено несомненное копье вполне сравнимой величи¬
ны — 34,3 см 25. Наличие в комплексе копий с длинным пе¬
ром объясняется, возможно, тем, что они использовались
не против людей, а для поражения лошадей в колесничной
упряжке.
Для второго наконечника характерно ушко-кольцо в
нижней части насада. Отмеченная деталь позволяет устано¬
вить соответствия с каменными формами для отливки копий*
найденными в Баошэньляо. Вместе с ними обнаружены фор¬
48
мы для кельта и для ножа с упорами для пальцев на рукоя¬
ти 26. Это подтверждает самостоятельность и самобытность
(поскольку каменные формы в то время не были известны
чжоусцам) сяцзядяньского бронзолитейного производства.
В ходе раскопок в Нанынаньгэнь было найдено копье,
украшенное у основания пера выступами с шариками на
концах. Н. Л. Членова предложила использовать эту наход¬
ку для датировки двух мечей: из Маньчжурии и из Яку¬
тии 27.
Небольшой меч (длиной 49,8 см), найденный в
пос. Укулаан на правом берегу Алдана, был описан
А. П. Окладниковым, который указал также аналогичный
ему меч из Дунбэя 28. Последний представляет собой слу¬
чайную находку, сделанную в у. Шанчжи провинции Хэй¬
лунцзян, примерно в 173 км к юго-востоку от Харбина.
По форме он почти «двойник» якутской находки и очень бли¬
зок к ней по длине (41 см, причем острие обломано). Китай¬
ские специалисты отнесли его к остаткам оружия северных
народов периода Чжаньго — начала Хань (примерно II в.
до н. э.). Обоснование даты в публикации не приводится 29.
Думается, что на основе указанной аналогии можно пред¬
варительно датировать эти вещи первой половиной Восточ¬
ного Чжоу. Проникновение дунхуского типа оружия в Яку¬
тию носило, очевидно, случайный характер. Вместе с тем оно
доказывает саму возможность столь отдаленных контактов.
Клевцов на сяцзядяньских памятниках обнаружено срав¬
нительно немного. Некоторые из них имеют чисто чжоускую
форму и отражают имевшиеся контакты между дунху и
хуася 30. В то же время это не просто импортные вещи, они
изготовлены местными оружейниками (см. рис. 3, 14). Встре¬
чаются и чисто туземные формы — таковы втульчатый кле-
вец из фондов Нинчэнского музея 31 и проушной клевец,
найденный в Сибоцзы 32. Наконец, найден экземпляр, кото¬
рый сочетает в себе обе традиции. Во время раскопок 1958 г.
з Наныпаньгэнь был обнаружен проушной клевец, имев¬
ший длинный прямоугольный обух и бородку «ху» с двумя
отверстиями. С двух сторон обух был украшен изображени¬
ями четырех животных, стоящих друг над другом, что яв¬
ляется характерной чертой сяцзядяньского искусства 33.
Наличие дистанционного оружия фиксируется как ико¬
нографией, так и находками наконечников стрел. В основ¬
ном это черешковые трехлопастные экземпляры (см. рис. 3,
16). Два наконечника*, сходные с нанынаньгэньскими, хра-
* Инв. № 47/15 I и 47/16 I.
49
I 1.11 и
Рис. 6. Бронзовые щит (1) и шлем (2) из могилы
№ 101 в Наныпаньгэнь.
нятся в фондах Государственного музея искусства народов
Востока. Они переданы туда китайским художником Ван
Хуном, который нашел их в 1934 г. в Бадалин (район Вели¬
кой Китайской стены). Появляются в Наныпаньгэнь и втуль-
чатые стрелы, например 6 экз. из м. № 101 — перо в виде
правильного треугольника с внутренней втулкой, внутри
которой иногда сохраняются остатки тростникового древ¬
ка 34. На более поздних памятниках (например, Чжэнц-
зявацзы — если, конечно, принять расширенную трактовку
Цзинь Фэнъи и отнести этот памятник к сяцзядяньскому
кругу) господствуют уже трехлопастные наконечники, ши¬
роко распространенные в евразийских степях 35. Набор та¬
ких стрел найден в могиле М 6512 вместе с остатками лука.
Последняя находка интересна тем, что представляет собой
наиболее ранний на территории Китая образец лука, усилен¬
ного боковыми накладками из кости 36.
Сяцзядякьские шлемы (см. рис. 6, 2), как это показал
А. В. Варенов, входят в общую эволюционную схему раз¬
вития бронзовых касок чжоуского времени (от Байфу до
Мэйлихэ и Цилишань). Он особо выделил непременную де¬
таль всех шлемов — валик или бортик по краю, который
отводил в сторону рубящий удар. Это дает основание пред¬
полагать, что данные шлемы «возникли в среде, где было
в ходу рубящее оружие, например, типа карасукских мечей,
встречаемых в Забайкалье...»37. Постоянными контактами
(в том числе, возможно, и вооруженными) с племенами,
обладавшими мечами, связана и единственная по сей день
находка цельнометаллического щита (в м. № 101). Он почти
круглый (диаметр 27,8—28,3 см), с утолщением и квадратной
50
прорезью в центре, вдоль всей длины окружности равномер¬
но расположены 75 отверстий, поверхность сохранила следы
кожаного покрытия (см. рис. 6, 2)38. По признанию самих
китайских археологов, это — специфическое изделие мест¬
ных народов 39; его было удобно использовать при фехтова¬
нии с противником, вооруженным мечом.
Комплекс вооружения культуры верхнего слоя Сяцзя-
дянь в целом отличается большим своеобразием. Наиболее
специфической группой в составе его, несомненно, являются
кинжалы с профилированным клинком. Однако возникает
вопрос: как объяснить столь широкое распространение дун-
бэйских и производных от них кинжалов среди различных
культур и в конечном счете различных этносов. Ведь кин¬
жалы Ляодуна и Корейского полуострова являются остатка¬
ми протокорейского этноса емэк 40. Усвоившие этот вид во¬
оружения дунху были, как считают, предками монголов 41.
Гиринская культура Ситуаныпань, где также обнаружены
кинжалы, оставлена племенами сушеней, которые вошли
и состав тунгусо-маньчжурских народов 42. Из самых позд¬
них памятников можно отметить многочисленные находки
кинжалов, производных от корейских образцов, на терри¬
тории Японии 43. Думается, такое широкое распространение
достаточно специфического вида оружия объясняется не
только территориальной близостью указанных народов, но
п их относительным единством в рамках алтайской общности*
и составе которой выделяются языки тунгусо-маньчжурской*
корео-японской и монгольской групп 44. Это родство про¬
слеживается также по некоторым другим элементам матери¬
альной культуры (копья, зеркала, «елочный» орнамент). Сле¬
дует вместе с тем учитывать, что речь идет о сравнительно
позднем этапе взаимоотношений. Однако сам факт сохране¬
ния существенных элементов общности в эпоху поздней
бронзы — раннего железа может стать одпим из оснований
для локализации центра формирования алтайской языковой
семьи на территории Маньчжурии и прилегающих областей.
Примечания
1 30 лет работы [в области] археологии и материальной культу¬
ры (Вэньу каогу гунцзо санынинянь).— Пекин, 1979.— С. 39—40,
70—72, 89—92; Археология Шан и Чжоу (Шан — Чжоу каогу).— Пе¬
кин, 1979.—С. 127—136, 218—227. (Оба издания — на кит. яз.).
2 Ларичев В. Е. Бронзовый век Северо-Восточного Китая //
СЛ.—1961.— № 1.-С. 16.
3 Су Хэ. На основании находок крупных бронзовых изделий в
сейме Чжао предварительно обсуждаем цивилизацию раннего перио¬
51
да бронзового века на Севере // Нэй Мэнгу вэньу каогу.— 1983.— N° 2
{на кит. яз.).
4 30 лет работы...— С. 290.
5 Записки о группе керамических изделий, найденных в Хоу-
фэнцунь, уезд Кацзо, пров. Ляонин // Каогу (далее: КГ).— 1982.—
№ 1 (на кит. яз.).
6 Отчет о пробных раскопках памятников Яованмяо и Сяцзя-
дянь в окрестностях Чифэна // Каогу сюэбао (далее: КГСБ).— 1974.—
N° 1.— С. 128—129 (на кит. яз.).
7 У Цзячан. Краткий отчет о пробных раскопках в 1976 г. древ¬
них медных разработок в Дацзин, уезд Линьси, пров. Ляонин // Вэ¬
ньу цзыляо цункань.— 1983.— Вып. 7 (на кит. яз.).
8 Доклад о радиокарбонных датировках // КГ.— 1981.— N° 4.—
С. 364.
9 Цзинь Фэнън. О памятниках культуры, связанных с бронзо¬
выми кинжалами с изогнутыми лезвиями в северо-восточных районах
Китая (окончание) // КГСБ.— 1973.— N° 1 (на кит. яз.).
10 Викторова Л. Л. Монголы: Происхождение народа и истоки
культуры.— М., 1980; Таскин В. С. Материалы по истории древних
кочевых народов группы дунху.— М., 1984.
11 Кириллов И. И. Восточное Забайкалье в древности: Автореф.
дис. д-ра истор. наук.— Новосибирск, 1981.— С. 34—35.
12 Киселев С. В. Монголия в древности // Изв. АН СССР. Сер.
истории и философии.— 1947.— Т. IV.— N° 4; История Монгольской
Народной Республики.— М., 1983.— С. 91—92.
13 Бродянский Д. Л. Дальний Восток и скифо-сибирское куль¬
турно-историческое единство // Тезисы докладов Всесоюзной архео¬
логической конференции «Проблемы скифо-сибирского культурно¬
исторического единства».— Кемерово, 1979.— С. 80—83.
14 Могила с каменным ящиком в Нанынаньгэнь, уезд Нинчэн
// КГСБ.— 1973.— N° 2 (на кит. яз.).
15 Ли Ию. Изучение бронзовых орудий, найденных в сейме
Чжаоуда, Внутренняя Монголия // КГ.— 1959.— N° 6 (на кит. яз.).
16 Описан в кн.: Членова Н. Л. Карасукские кинжалы.— М.,
1976.— С. 63. Комплекс находок из этой могилы см.: Там же.—
Табл. 12.
17 Членова Н. Л. Карасукские кинжалы.— С. 64.
18 Лю Гуаньминь, Сюй Гуанцзи. Краткий отчет о раскопках па¬
мятника Нанынаньгэнь, уезд Нинчэн // КГСБ.— 1975.— N° 1 (на кит.
яз.).
19 Ань Чжимин, Чжэн Найу. Могила с каменным ящиком N° 102
в Нанынаньгэнь, уезд Нинчэн, Внутренняя Монголия // КГ.— 1981.—
N° 4 (на кит. яз.).
20 Варенов А. В. К интерпретации наскальных изображений ко¬
лесниц Центральной Азии. Препринт.— Новосибирск, 1983.— С. 4.
21 Отчет о пробных раскопках...— С. 129—144.
22 Цзинь Фэнъи. О памятниках культуры, связанных с бронзовы¬
ми кинжалами с изогнутыми лезвиями в северо-восточных районах
Китая (начало) // КГСБ.— 1982.— № 4.— С. 388—402 (на кит. яз.).
23 Подробнее о «скрипковидных» кинжалах см.: Комиссаров С. А.
Проблема дунбэйских бронзовых кинжалов в археологической лите¬
ратуре КНР // Древний и средневековый Восток.— М., 1984.—
С. 82—92.
24 Andersson J. G. Selekted Ordos Bronzes // Bull, of the Museum
of Far Eastern Antiquities.— 1933.— N 5.— Piet. VII, 3\ VII, 2\ IX, 3.
25 Могила с каменным ящиком в Нанынаньгэнь...— С. 32.
52
26 Ларичев В. Е. Бронзовый век...— С. 16, 17, 19.— Рис. 15.
27 Членова Н. Л. Карасукские кинжалы.— С. 64, 68.
28 Окладников А. П. Бронзовый меч из Якутии // СА.— 1959.—
№ 3.- С. 133-136.
29 Ли Хунцин. Экземпляр бронзового оружия, подаренный му¬
зею Гунгун рабочими гравийного карьера уезда Шанчжи // Вэньу
данькао цзыляо.— 1956.— № 10 (на кит. яз.).
30 Ли Ию. Изучение бронзовых орудий...— С. 276.— Рис. 1, 7;
Могила с каменным ящиком в Нанынаньгэнь...— С. 32, 33.— Рис. IV.
31 Лю Гуаньминь, Сюй Гуанцзи. Краткий отчет о раскопках...—
С. 138.— Рис. 20, 4.
32 Цзи Синь. Клад бронзовых орудий у д. Сибоцзы, уезд Тинцин,
Пекин // КГ.— 1979.— № 3.— С. 230.— Рис. V, 4 (па кит. яз.).
33 Ли Ию. Изучение бронзовых орудий...— С. 276.— Рис. 1.
34 Могила с каменным ящиком в Нанынаньгэнь...— С. 32.
35 См.: Смирнов К. Ф. Вооружение савроматов.— М., 1961.—
С. 64-65.
36 Два погребения бронзового века в Чжэнцзявацзы, г. Шэньян //
КГСБ.— 1975.— № 1 (на кит. яз.).
37 Варепов А. В. Иньские шлемы и проблемы боевого оголовья //
Изв. СО АН СССР. Сер. ист., фил. и филос.— 1984.— № 14.—
Вып. 3.— С. 47.
38 Могила с каменным ящиком в Нанынаньгэнь...— С. 33.—
Рис. V, 2.
39 Археология Шан и Чжоу...— С. 221.
40 Бутин Ю. М. Древний Чосон.— Новосибирск, 1982.— С. 225—
226; Воробьев М. В. Древняя Корея.— М., 1961.— С. 49—51.
41 Викторова Л. Л. Монголы: Происхождение народа...— С. 180.
42 Ларичев В. Е. Народы Дальнего Востока в древности и сред¬
ние века и их роль в культурной/и политической истории Восточной
Азии // Дальний Восток и соседние территории в средние века.—
Новосибирск, 1980; см. также: Деревянко А. П. Приамурье (I тыся-
челетие до нашей эры).— Новосибирск, 1976.— С. 273—274.
43 Воробьев М. В. Древняя Япония.— М., 1958.— С. 63.
44 Тюркская группа выделилась ранее остальных языков. См.:
Баскаков Н. А. Алтайская семья языков и ее изучение.— М., 1981.
А. С. Суразаков
О НЕКОТОРЫХ СВЯЗАННЫХ С ОРУЖИЕМ ОБРАЗАХ
ПАЗЫРЫКСКОГО ИСКУССТВА
Значение изучения вооружения древних племен выходит
далеко за рамки проблем, связанных с историей военного
дела вообще. Довольно разнообразные и часто изменявшиеся
по времени предметы вооружения, к примеру, являются
и (‘заменимым, датирующим археологические памятники ма¬
териалом. В совокупности же с другими вещественными
источниками они помогают решать вопросы этногенеза древ¬
них кочевников и многое другое. Важность изучения этой
53
категории материала, с одной стороны, и накопление пред¬
метов вооружения — с другой, привели к созданию рядом
исследователей археологических памятников Горного Ал¬
тая первых его классификационных схем 1, без чего, естест¬
венно, невозможны сколько-нибудь серьезные разработки
вышеназванных проблем.
Однако наряду с вышеприведенными немаловажное зна¬
чение имеет и другой круг вопросов, связанных с изучением
идеологических воззрений древней воинской среды. Послед¬
няя же, как известно, накладывала, особенно в пору напол¬
ненной социальными конфликтами эпохи классообразования,
весьма заметный отпечаток на идеологические представле¬
ния древних обществ в целом 2. Учитывая, что одним из
наиболее ярко отразивших древние идеологические пред¬
ставления источников является изобразительное искусство*
мы и остановимся на некоторых его образах, непосредствен¬
но связанных с оружием и воинским бытом пазырыкских
племен.
Раскопки курганов пазырыкской культуры показали, что
основным оружием ее носителей являлись кинжалы, чеканы,,
луки и стрелы. Об украшениях луков и стрел мы знаем очень
мало. В основном это растительный или геометрический
орнамент на древках стрел 3. В Туэктинском кургане найде¬
на украшенная резным орнаментом и закрашенная в крас¬
ный цвет дощечка, совершенно верно интерпретированная
В. Д. Кубаревым как каркасная основа кожаного колчана 4.
Имеется своеобразный орнамент из разноцветных полос и
на деревянных щитах 5. Едва ли все эти виды украшений
несли какую-либо смысловую нагрузку, однако элементы
идеологических представлений здесь можно уловить в свое¬
образной цветовой символике. К примеру, наряду с приме¬
нением в раскраске вышеназванных предметов таких цветов*
как черный, коричневый, желтый, синий, в орнаментике
постоянно использовался красный цвет. Кроме того, произ¬
веденные в последние годы исследования рядовых пазырык¬
ских курганов показали, что довольно часто в красный цвет
полностью раскрашивались рукояти чеканов, каркасные до¬
щечки от колчанов, деревянные створки пожен кинжалов.
Конечно, красный цвет вообще мог быть одним из излюблен¬
ных цветов пазырыкцев, тем более что применялся он не
только в раскраске оружия, но и на вещах другого назначе¬
ния. В то же время не исключена и его идеологическая наг-i
рузка. Известно, к примеру, что наряду с золотом, красный
цвет был широко распространен в солярно-огненной симво¬
лике индоиранцев 6, к общему массиву которых принято
54
относить и пазырыкские племена. Известно было у них
и применение его в символике социальной, где красный
цвет рассматривался как символ вполне определенного со¬
циального слоя воинов 7, т. е. в данном случае мы имеем
то, что рядом исследователей определяется как единство
эстетического, социального и религиозного моментов 8. Теми
же авторами обращено внимание и на то обстоятельство,
что в процессе выявления социальной среды, с которой бо¬
лее всего связано широкое распространение искусства «зве¬
риного стиля», главный акцент следует делать не на знат¬
ности, а на военном характере погребений 9, поскольку вои¬
нами помимо аристократии были также дружинники и часть
рядовых свободных членов общества, принимавших регу¬
лярное участие в военных действиях.
Широкое применение красного цвета в сложной орнамен¬
тике предметов вооружения погребенной в больших горно¬
алтайских курганах племенной знати, равно как и исполь¬
зование его в раскраске оружия воинов из числа рядо¬
вых общинников, может свидетельствовать в пользу того,
что в пазырыкском обществе красный цвет, наряду с прочи¬
ми значениями, выполнял функцию выделения из общей
социальной среды нарождавшегося воинского сословия*
Интересную в смысле изучения семантики серию образов
нлзырыкского искусства дают нам такие категории вооруже¬
ния, как кинжалы и чеканы. Здесь следует оговориться, что
украшались в те времена кинжалы настоящие. Основная
же масса этого вида оружия, как известно, имела миниатюр¬
ные размеры, изготовлялась специально для погребального
ритуала и копировала, видимо, простейшие формы оружия
Гм‘з воспроизведения сложных в смысле технологии произ-
подства «звериных образов». Настоящих или приближающих¬
ся по размерам к ним кинжалов, украшенных различного
рода изображениями, известно в Горном Алтае всего не¬
сколько зкземляров.
Только в одном случае мы имеем дело с настоящим кин¬
жалом, рукоять которого украшена сценами из жизни по¬
пулярного в те времена мифоэпического героя 10. С одной
с троны навершия он изображен скачущим в колеснице,
mi перекрестьи — лежащим впереди оседланного коня. На
другой стороне навершия герой, припав на правое колено,
• \катил за загривок противостоящего ему огромного вепря.
Пдиа его рука с кинжалом отведена для удара назад. Сзади
троя прослеживается силуэт его охотничьей собаки. Совер¬
шенно аналогичный сюжет мы находим на золотом со встав¬
ками из полудрагоценных камней предмете, найденном у
55
распаханного кургана могильника Тээрге III в Туве11.
Здесь также изображена схватка с кабаном, в которого
герой вонзает кинжал. За заднюю ногу вепря схватила соба¬
ка. Горноалтайский кинжал датирован автором III —I вв.
до н. э., тувинский предмет отнесен А. Д. Грачом к саглын-
ской культуре Y—III вв. до н. э. В настоящее время пред¬
ставляется возможность уточнить дату обоих предметов.
На Горноалтайском кинжале мы имеем прямое перекрестье,;
однако оно как бы сохраняет более архаичную, едва замет¬
ную дуговидность. Изображенный на тувинском предмете
кинжал также имеет прямое или почти прямое перекрестье.
Подобные перекрестья на кинжалах Горного Алтая харак¬
терны для рубежа IV—III вв. до н. э., т. е. горноалтайский
кинжал и тувинский предмет можно датировать самым
концом IV—III вв. до н. э. Однако для нас в связи с разбира¬
емой темой важнее то, что в данном случае мы имеем дело
с иллюстрациями к древнему мифоэпическому произведению,;
весьма популярному во второй половине I тыс. до н. э.
в воинской среде Горного Алтая и соседней Тувы.
На других кинжалах из Горного Алтая мы видим два
постоянно повторяющихся образа — птицы и кабана. Так,
образ птицы воспроизведен на четырех известных автору
пазырыкских кинжалах. На бронзовом экземпляре из уро¬
чища Кумуртук 12 и на железном фрагменте рукояти, най¬
денной в малом к. 2 в Берельской степи (см. рисунок, 4)t
навершия оформлены в виде обращенных друг к другу птичь¬
их головок. На бронзовом кинжале из к. 2 могильника
Боротал-2 пары обращенных в разные стороны птичьих
головок образуют навершие и перекрестье (см. рисунок, 2).
У железного кинжала из к. 7 могильника Боротал-2 в виде
птичьей (грифоньей) головы оформлено окончание плохо
сохранившихся ножен (см. рисунок, 5).
Изображение кабана встречается на трех пазырыкских
кинжалах. На кинжале из серии случайных находок 13 и
биметаллическом кинжале из к. 8 могильника Кызыл-Джар-
1 (см. рисунок, 1). Повернутые в разные стороны кабаньи
головы образуют перекрестья рукоятей. На деревянных нож¬
нах одного из кинжалов, найденных Д. Г. Савиновым в
курганах урочища Узунтал, вырезана полная фигура
кабана.
Изображения на пазырыкских кинжалах, как видим,
раскрывают нам своеобразный эстетический идеал воинов
того времени, предпочитавших для орнаментации своего ору¬
жия образы сильных животных. В то же время в самом под¬
боре этих образов наблюдается некая закономерность. Пред-
56
Предметы вооружения, найденные в могильниках.
/ — Кызыл-Джар-i, к. 8; 2 — Боротал-2, к. 2; 3 — Боротал-2, к. 7; 4 — Берель-
■ский, к. 2; 5 — Кызыл-Джар-3, к, 5; б - Кызыл-Джар-1, к. 4; 7 — Боротал-2,
к, 7; 8 — Кызыл-Джар-1, к, 8.
57
почтение в данном случае отдавалось изображениям птицы
(орел или мифический грифон) и кабана. В том, что они мог¬
ли значить для пазырыкцев, нам помогут разобраться укра¬
шения такого вида оружия, как чеканы. В данном случае
надо сказать, что зооморфными образами украшались не
только сами чеканы, но и портупейные ремни, на которые
они подвешивались. Нижняя часть этих ремней украшалась
стилизованной грифоньей головой (см. рисунок, 6). Что
касается непосредственно чеканов, то настоящих экземпля¬
ров у нас имеется очень мало, да и те изготовлены преимуще¬
ственно из железа и сохранились довольно плохо. Находи¬
мые же в погребениях миниатюрные их копии, надо пола¬
гать, как и кинжалы, изготавливались по простейшим об¬
разцам и не дают представления о более сложном виде этого
оружия, украшенного звериными образами. В то же время
миниатюрные, специально изготовленные для погребения че¬
каны, как и кинжалы, связаны с повторяющимися образами
птицы и кабана. Так, в к. 8 могильника Кызыл-Джар-1
найден бронзовый чекан, к портупейному ремню которого
была прикреплена деревянная имитация кабаньего клыка
(см. рисунок, 8). Несколько подобных случаев известно
и в материалах, добытых в последние годы В. Д. Кубаре¬
вым. В к. 7 могильника Боротал-2 обнаружен миниатюрный
бронзовый чекан, к которому кожаным ремешком была при¬
вязана вырезанная из дерева головка птицы (см. рисунок*
7). Подобный случай зафиксирован и в к. 5 могильника
Кызыл-Джар-3, где к миниатюрному бронзовому чекану
была также привязана птичья головка, изготовленная из
кости (см. рисунок, 5).
Как видим, в данном случае мы имеем дело с оружием*
не просто украшенным теми или иными зооморфными обра¬
зами. Мы не встречаем чеканов, у которых зооморфные обра¬
зы органически входили бы в их форму. Птичьи головки и
кабаньи клыки изготовлены отдельно, совершенно из дру¬
гого материала и затем в каких-то целях привязаны к чека¬
нам. Однако цели эти тем не менее ясны. Не ошибемся*
если сделаем вывод, что здесь мы имеем дело с магией*
т. е. с желанием магическим путем передать оружию силу
удара клюва птицы и клыка кабана. Об этом говорит и
стремление древнего мастера объединить с чеканами не всю
зооморфную фигуру, а именно те его части, т. е. кабаний
клык и птичью с длинным клювом голову, которые несли
в себе мощь непосредственного удара.
Труднее решить вопрос, каких из животных изображали
на своем оружии пазырыкцы — реальных или нет. Возмож-
58
нот это были представляемые ими различные воплощения
дарующего победу божества.
Данный вопрос весьма сложен и требует дальнейшей раз¬
работки, как, впрочем, и многие другие мировоззренческие
проблемы, ответы на которые скрыты в пока еще малодоступ¬
ном современному исследователю содержании искусства «зве¬
риного стиля».
Примечания
1 Кубарев В. Д. Кинжалы из Горного Алтая // Военное дело
древних племен Сибири и Центральной Азии.— Новосибирск, 1981;
Суразаков А. С. О вооружении ранних кочевников Горного Алтая //
Вопросы истории Горного Алтая.— Горно-Алтайск, 1979; Худя¬
ков Ю. С. Вооружение древних тюрок Горного Алтая // Археологи¬
ческие исследования в Горном Алтае в 1980—1982 годах.— Горно-
Алтайск, 1983.
2 Хазанов А. М., Шкурко А. И. Социальные и религиозные осно¬
вы скифского искусства // Скифо-сибирский звериный стиль в искус¬
стве народов Евразии.— 1976.— С. 40—50.
3 Руденко С. И. Культура населения Горного Алтая в скиф¬
ское время.— М.— Л., 1953.— Табл. СХХ; Он же. Культура насе¬
ления Центрального Алтая в скифское время.— М.— Л., I960.—
Табл. СХХП.
4 Кубарев В. Д. К интерпретации предмета неизвестного назна¬
чения из кургана 1 памятника Туэкта (Горный Алтай) // Военное дело
древних племен Сибири и Центральной Азии.— Новосибирск, 1981.—
С. 65—67.
6 Руденко С. И. Культура населения Центрального Алтая...—
Табл. CXXIV, 4.
6 Акишев А. К. Костюм «золотого человека» и проблема ката-
фрактария // Военное дело древних племен Сибири и Центральной
Азии.— Новосибирск, 1981.— С. 58.
7 Раевский Д. С. Очерки идеологии скифо-сакскнх племен.—
М., 1977.— С. 67.
8 Хазанов А. М., Шкурко А. И. Социальные и религиозные осно
вы...— С. 40.
9 Там же.— С. 41.
10 Суразаков А. С. Железный кинжал из долины Ачик Горно-
Алтайской автономной области // СА.— 1979.— № 3.— Рис. 1—2.
11 Грач А. Д. Древние кочевники в центре Азии.— М., 1980.—
С. 81.—Рис. 117.
12 Киселев С. В. Древняя история Южной Сибири.— М., 1951.—
Табл. XXX, 11.
12 Грач А. Д. Древние кочевники...—Хронологическая табл. 11.—
Рис. 55.
59
Н. П. Матвеева
ПОГРЕБЕНИЕ ЗНАТНОГО ВОИНА
В КРАСНОГОРСКОМ I МОГИЛЬНИКЕ
Раскопки Красногорского I могильника были начаты архе¬
ологической экспедицией Тюменского университета в 1983 г.
Могильник находится на правом берегу р. Исети в 1 км к
юго-западу от д. Красногорки в Исетском районе Тюмен¬
ской области на высокой третьей надпойменной террасе.
Памятник известен по описанию И. Я. Словцова еще с конца
XIX в.1, позднее на нем был найден местными жителями же¬
лезный меч, ныне утерянный.
Курганов на могильнике насчитывалось несколько де¬
сятков, но в настоящее время почти все они распаханы.
Прослеживаются 14 насыпей в виде всхолмлений высотой
0,15—1,0 м, располагающихся несколькими цепочками, вы¬
тянутыми по линиям С — 10, 3 — В, СВ — ЮЗ. Четыре
кургана, самые большие в могильнике (до 12 м), еще сохра¬
нились.
В центре могильника находился к. 17. К моменту раско¬
пок диаметр распаханной насыпи его был 30 м, высота
составляла 0,8 м. Как нам кажется, именно он был описан
И. Я. Словцовым как Большой Красногорский курган высо¬
той в 7 м и 65 м по окружности 2.
Под центром насыпи находилось одно захоронение, ок¬
руженное замкнутым многоугольным рвом с диаметром опи¬
санной окружности 26 м. Ров в разрезе конический, ширина
его 1,6—1,8 м, глубина 0,5 м от уровня материка. Выкид
из рва был отмечен в виде кольца на подкурганной площадке
на древней поверхности.
В центре подкурганной площадки поверх выкида из мо¬
гильной ямы была сооружена обширная надмогильная кон¬
струкция из толстых (25—30 см) березовых бревен. Ввиду
большой высоты черноземной насыпи кургана, предотвра¬
щавшей доступ воздуха и разложение дерева, конструкция
сохранилась в достаточной мере. Лишь в центре она разру¬
шена грабителями.
Конструкция состояла из двух слоев березовых бревен.
Нижний ряд был уложен концентрическими кругами по
центру подкурганной площадки, начиная с площадки вок¬
руг могилы. Но поскольку круги выкладывались из пример¬
но одинаковых отрезков толстых бревен (длиной 1,5—2 м)*
то они выглядели вписанными многоугольниками. Поверх
первого бревенчатого слоя уложены радиально длинные
60
бревна комлевыми частями к периферии, верхушками к
центру кургана. Концы этих бревен заходили поверх тех,
что образовывали перекрытие могилы. В целом конструкция
имела вид многоугольной платформы высотой около 60 см,
поэтому и окружавший ее ров имел многоугольную форму.
Захоронение находилось в подпрямоугольной яме с вер¬
тикальными стенками, ориентированной с севера на юг.
Размеры могилы 3,9x2,9x1,35 м. Головной конец ямы не¬
сколько расширен. В юго-восточном углу имелась неболь¬
шая ступенька. Вдоль стен ямы были вкопаны столбы, о
чем свидетельствуют глубокие впадины, симметрично рас¬
положенные по три вдоль длинных сторон. По углам —
столбы вертикальные, в середине боковых стенок — наклон¬
ные, вкопанные на глубину до 40 см, диаметр их 20—25 см*
В заполнении ямы прослежены волокна древесины и облом¬
ки продольно лежавших бревен перекрытия. Вдоль стен в
нижней части погребальной камеры отмечены древесный
тлен и отпечатки вертикально стоявших досок — следы об¬
лицовки стен могилы. Тонкий органический тлен (толщиной
1—2 мм) обнаружен и по всей площади ровного пола камеры,
светло-серый цвет его позволяет считать, что пол был заст¬
лан берестой.
Погребение ограблено, но часть вещей и кости нижних
конечностей скелета погребенного остались непотревожен¬
ными. Это был мужчина старше 30 лет, но не более (опреде¬
ление В. А, Дремова). Лежал он вытянуто на спине головой
на север посредине могильной ямы. В изголовье справа был
положен большой колчан со стрелами (рис. 1, 107), а свер¬
ху — наборный костяной панцирь; рядом с ними, ближе
к стенке могилы,— бронзовый кельт. Несомненно, часть
заупокойных даров была поставлена и левее, но там все
изрыто грабителями. Найдены лишь бронзовые литые под¬
веска и ворворка на кожаном ремешке, золотая бляшка
и мелкие обломки железного ножа, каких-то железных
обойм (рис. 1, 4, 8). У левой голени лежал еще один неболь¬
шой колчан со стрелами. В ногах, в углу могильной ямы
находился бронзовый котел.
Для датировки погребения первостепенный интерес пред¬
ставляют наконечники стрел. Всего их найдено 115 экз.,
относящихся к разным типам:
1. Бронзовые трехгранные треугольной формы с ровной
базой и пирамидальной головкой, с трехграниой втулкой —
3 экз. (см. рис. 1). Длина их 2,6—4,2 см. Встречаются они
в памятниках савроматов с VI в. до н. э., затем у сарматов —
тип 13 по К. Ф. Смирнову3.
61
Рис. 1. Краспогорка-1. Находки из п. 1, к. 17.
1—105, 108—115, 119 — бронза; 106, 107 — кость; 116—118 — железо.
2. Бронзовые трехгранные треугольной формы с выделен¬
ными лопастями или гранями, внутренней трехгранной втул¬
кой и опущенными вниз шипами длиной 2,5 — 4 см —
51 экз. Они относятся к типу 19 по классификации
62
К. Ф. Смирнова. Распространяются в основном с V в. до
н. э., широко бытуют в IV в. до н. э.4
3. Бронзовые трехгранные сводчатые с внутренней трех¬
гранной втулкой и опущенными вниз шипами, как правилог
с дуговидным вырезом базы — 32 экз. Длина их 2,6—4,2 см.
Известны с VI в. до н. э. в памятниках савроматов, наиболее
распространены в IV—III вв 5., но в это время они становят¬
ся меньше, в основном длиной 2—3 см. Сопоставимы со скиф¬
скими V—IV вв.6, ананьинскими VI—V вв. до п. э., средне¬
азиатскими IV в. до н. э.7 Наиболее близкие аналоги среди
иткульских (тип 26 по Г. В. Бельтиковой)8 и савроматских.
Датируются V—IV вв. до н. э.
4. Бронзовые трехгранные со сводчатой головкой, внут¬
ренней трехгранной втулкой, дуговидным вырезом базы,,
переходящими в шипы гранями и сложками вдоль граней —
27 экз. Длина их 2,3—3,5 см. Относятся к типу 18 по клас¬
сификации К. Ф. Смирнова, сходны (кроме савроматских
IV—V вв. до н. э.)9 со скифскими V—IV вв., ананьинскими
VI—V вв., среднеазиатскими V в., иткульскими стрелами,
датированными концом VI—V вв. до н. э.10
5. Костяные трехграиные сводчатые с внутренней круг¬
лой втулкой и дуговидным вырезом базы, длиной 3 и 3,2 см—
2 экз. Подобные наконечники, копирующие бронзовые, из¬
вестны с VI в. до н. э., наиболее распространены в V—IV вв*
до н. э.11
Взаимосуществование указанных типов стрел возмож¬
но в V—IV вв. до и. э. Полное отсутствие железных черешко¬
вых трехлопастных наконечников стрел, появляющихся в
IV в., и другого вооружения из железа, сравнительно круп¬
ные размеры многих наконечников позволяют датировать
комплекс V — началом IV в. до н. э.
Бронзовый кельт с внутренней перегородкой, найденный
в погребении, имеет подпрямоугольную форму и размеры
9,0x6,2 см. Он овальный в сечении, отлит в двухсторонней
форме. На стенках имеются квадратные сквозные отверстия
для крепления на рукояти. Кельт украшен валиковым орна¬
ментом, образованным одной горизонтальной у края втулки
и пятью спускающимися от нее вертикальными линиями.
Находки этого типа отнесены В. Н. Чериецовым ко II груп¬
пе западно-сибирских кельтов и датированы VII —IV вв.
до н. э.12 Но последние находки подобных кельтов в компле¬
ксах III —II вв. до н. э. Тютринского (раскопки автора в
1982 г.), Быстровского I (устное сообщение Т. Н. Троицкой)
могильников позволяют считать, что эта группа существова¬
ла до II в. до н. э.
63
Костяной наборный панцирь, положенный в могилу, со¬
хранился плохо, часть его разрушена грабителями, другая
ломята и растрескалась. Зафиксировано лишь, что пласти¬
ны лежали в два слоя, вогнутыми поверхностями были обра¬
щены друг к другу. Общее размещение пластин напоминало
очертания рубашки или жилета со спущенным плечом (оп¬
лечьем?). Центральные пластины размещались вертикально
(продольно), по краям панциря с обеих сторон — горизон¬
тально (поперечно). Вероятно, что из пластин, закреплен¬
ных продольно, состояли нагрудная часть панциря и часть,
закрывающая спину, соединяющие их пластины были рас¬
положены поперечно и более свободно. Размеры пластин
разные: длина около 10,3 см, ширина от 2,8 до 4 см. Костя¬
ные панцирные пластинки встречаются в памятниках I тыс.
до н. э. в Западной Сибири и у скифов, в основном они рас¬
пространены в IV—II вв. до н. э. По нашим материалам мож¬
но считать, что они появляются уже в V в. до н. э.
Котел лежал в ногах погребенного. Он был помят с од¬
ного бока. На тулове его видны следы починки. Это бронзо¬
вый литой сосуд полусферической формы на ворокковидном
поддоне с двумя вертикальными ручками. На ручках имеется
по одному гвоздевидному выступу. Высота котла 30 см, диа¬
метр устья 29 см, высота поддона 7 см. Такие котлы широко
распространены в скифо-сакском мире, появление их может
относиться к VIII—VII вв. до н. э.13
Точные аналогии бронзовой литой подвеске в виде уточ¬
ки нам неизвестны. Подвески, в том числе одностороннего
литья, гладкие и прорезные, близкие по форме к нашей,
с прилитыми колечками или петлями для подвешивания
характерны для средневековых финно-угорских народов 14.
Круглая бляшка, тисненная из листового золота, диа¬
метром 5,2 см имеет по краям отверстия для нашивания на
одежду. В центре бляшки — изображение свернувшегося
в кольцо хищника с раскрытой пастью (рис. 2, 17). Изобра¬
жение это не выпуклое, как в большинстве случаев, а вдав¬
ленное, «негативное». Завитком на туловище показана, ви¬
димо, шерсть животного, изогнутыми выпуклыми линиями,
очевидно, ребра, на крупе — завиток в виде запятой. Лапы
длинные и когтистые. Морда зверя длинная, оскаленная,
это и большое треугольное ухо придают его облику волчьи
черты.
Изображение свернувшегося в кольцо хищника кошачь¬
ей породы появляется в скифо-сибирском искусстве в VIII—
VII вв. до н. э. В дальнейшем этот образ, сложившийся в
степной полосе под определенным переднеазиатским влия-
64
Рис. 2. Красногорка-1. Находки из п. 1, к. 17.
1—14— кость; 15, 18, 19 — бронза; 16 — глина; 17 — золото.
нием, становится более условным. В лесостепных районах
образ кошачьего хищника подвергается переработке, в его
трактовке появляются волчьи черты 15. В скифском искус¬
стве появление свернувшихся хищников волчьего облика
относят к концу VI—V вв. до н. э.16, в савроматском искус¬
стве — к VI в. до н. э.17 У савроматов образ волка встреча¬
ется особенно часто. Видимо, с савроматским кругом зо¬
оморфных изображений следует связывать и эту находку,
хотя не исключена возможность существования ювелирного
производства и у племен лесостепного Притоболья.
В целом к. 17 Красногорского I могильника по своему
устройству, ориентировке захоронения, видам и размещению
инвентаря должен быть отнесен к саргатской культуре. Он
сходен среди памятников Притоболья с курганами, имею¬
щими обширные и глубокие могильные ямы с накатом и
бревенчатыми конструкциями, исследованными в Тюмен¬
3 Заказ Ns 504
65
ском 18, Шмаковском 15), Савиновском, Тютринском (раскоп¬
ки Тюменской археологической экспедиции, 1982 г.) могиль¬
никах. Эти курганы следует, видимо, считать особой груп¬
пой погребальных сооружений, отличающейся от одновре¬
менных малых курганов с небольшими могилами и скромным
инвентарем, типа Воробьевских 20. Отсутствие другой посу¬
ды в кургане объясняется тем, что там был поставлен бронзо¬
вый котел. Также и в погребениях 1,2 к. 7 Тютринского мо¬
гильника, например, глиняной посуды не было, найдены
лишь обломки котлов.
Анализ погребального инвентаря позволяет датировать
курган V — началом IV в. до н. э. Таким образом, это,
видимо, самое раннее погребение саргатской культуры в
Среднем Притоболье, близкое по времени к Раскатихе. От¬
крытие еще одного памятника, могущего датироваться V в.
до н. э., свидетельствует о реальных возможностях дальней¬
шего понижения нижней хронологической границы саргат¬
ской культуры.
Исследованный курган, судя по количеству труда, затра¬
ченного на сооружение погребальной камеры, деревянной
усыпальницы и насыпи, разнообразию оставшегося инвен¬
таря в ограбленной могиле, представляет собой погребение
знатного человека. Причем все вещи — котел, богатые на¬
боры стрел, панцирь, кельт — относятся к числу редко
встречающихся в захоронениях. Об особом социальном ста¬
тусе покойного свидетельствует и украшение его одежды
золотыми бляшками, выполненными в «зверином стиле».
Важно отметить и то, что могильников с насыпями такого
размера на правобережье Исети в Исетском районе больше
нет, ближайшие — это Пушкаревский и Магомет-Куль в
Упоровском и Ялуторовском районах на Тоболе. Вполне
вероятно, что подобные погребения являются захоронени¬
ями представителей племенной знати.
Примечания
1 Словцов И. Я. Материалы о распределении курганов и горо¬
дищ в Тобольской губернии.— Томск, 1888.— С. 238—240.
2 Там же.
3 Смирнов К. Ф., Петренко В. Г. Савроматы Поволжья и Южно¬
го Приуралья.— М., 1963.— Табл. 13.
4 Там же.
5 Там же.— Табл. 13.
6 Мелюкова А. И. Вооружение скифов // САИ.— М., 1964.—
Вып. Д1—4.— Рис. 1—7.
7 Медведская И. Н. Некоторые вопросы хронологии бронзовых
66
наконечников стрел Средней Азии и Казахстана /7 СА.— 1972.—
№ 3.— Табл. 2.
8 Бельтикова Г. В. Металлические наконечники стрел с иткуль-
ских памятников // ВАУ.— Свердловск, 1982.— Вып. 16.— С. 73.
9 Смирнов К. Ф., Петренко В. Г. Савроматы Поволжья...
10 Мелюкова А. И. Вооружение скифов; Медведская И. Н. Неко¬
торые вопросы...; Бельтикова Г. В. Металлические наконечники...;
Смирнов К. Ф. Вооружение савроматов // МИА.— 1961.— № 101.
11 Смирнов К. Ф., Петренко В. Г. Савроматы Поволжья...
12 Чернецов В. Н. Опыт типологии западно-сибирских кельтов//
КСИИМК.— 1947.—Вып. XVI.—С. 71.
13 Боковенко Н. А. Бронзовые котлы зпохи рапних кочевников
в азиатских степях // Проблемы западно-сибирской археологии. Эпо¬
ха железа.— Новосибирск, 1981.— С. 49.
14 Голубева Л. А. Зооморфные украшения финно-угров // САИ.—
М., 1979.— Вып. Е1—59.— Табл. 7; Рябинин Е. А. Зооморфные
украшения Древней Руси X—XIV вв. // САИ.— Л., 1981.—
Вып. Е1—60.— Табл. V.
15 Шкурко А. И. Об изображении свернувшегося в кольцо хищ¬
ника в искусстве лесостепной Скифии // СА.— 1969.— № 1.— С. 39.
16 Там же.— С. 37.
17 Смирнов К. Ф. Савромато-сарматский звериный стиль в искус¬
стве народов Евразии.— М., 1976.— С. 75.
18 Heikel A. Antiquitie de la Siberia occidentale.— Helsingforse,
1984.
19 Стоянов В. E. О могильниках зауральско-западно-сибирской
лесостепи // ВАУ.— Свердловск, 1973.— Вып. 12.
20 Стоянов В. Е., Фролов В. Н. Курганные могильники у д. Во¬
робьеве // ВАУ.— Свердловск, 1962.— Вып. 4.
Э. Б. Вадецкая
МОДЕЛИ ОРУЖИЯ ТАШТЫКСКОЙ эпохи
Ни в грунтовых могильниках, ни в склепах таштыкской
эпохи оружия не встречено. Исключение составляют единич¬
ные находки костяных наконечников стрел и обломки желез¬
ных. Первые не отличаются от тагарских и, вероятно, отно¬
сятся к тагарскому, а не к таштыкскому населению Об¬
ломки железных наконечников стрел, очевидно, застряли в
теле трупов. Некоторые исследователи склонны объяснять
отсутствие оружия сознательным ритуальным актом, т. е.
опасением класть его мертвецам, чтобы они не могли навре¬
дить живым людям. Обоснованием этого мнения служит
наблюдение, что среди положенных в могилы древков стрел
встречаются такие, на которых ранее были наконечники,
но потом они были сняты, возможно перед захоронением 2.
Напомним, что оружия нет в могилах и многих других
3*
67
племен, живших на среднем Енисее (афанасьевцев, андро-
новцев, карасукцев)3, но в них нет и его символов. Что же
касается таштыкских погребений, то в них мы находим дере¬
вянные модели кинжалов, луков, наконечников стрел. Зна¬
чит, речь может идти о страхе класть в могилы реальное
оружие, которым можно физически кого-либо поразить. Од¬
нако у таштыкцев заменителями реального являлись не
только модели оружия, но и модели конской сбруи, а также
антропоморфные и зооморфные фигурки, которые не могли
принести вреда живым. Более того, вместо десятков жертвен¬
ных животных они клали в склепы лишь копыта и концы
ног этих животных. В целом в таштыкских погребальных
комплексах хорошо отражается диффузность первобытного
мышления, проявлявшаяся в нечетком разделении предмета
и знака, вещи и ее атрибутов, части и целого 4. Тем не менее
укажем еще на одно возможное объяснение использования
заменителей. Последние раскопки Оглахтинского могиль¬
ника подтвердили, что таштыкцы не просто сжигали трупы,
а изготовляли человекоподобное чучело, так называемую
погребальную куклу, в которую помещали пепел сожженно¬
го 5. Куклу одевали в одежду покойника, к голове пришива¬
ли его волосы. Изготовляли куклы, по всей видимости,
мужчинам-воинам 6. Одежда украшалась бутафорными из¬
делиями — деревянными и глиняными бляшками, пуговица¬
ми, браслетами, бусами. Одним словом, имитация самого
покойника сопровождалась имитацией большинства изделий,
изготовляемых для его погребения, — моделями укра¬
шений и предметами, необходимыми ему как воину-всад-
нику. Представители татарского населения, захороненные
с таштыкцами по своему старому обряду трупоположения,
были подвластны последним, поэтому этим людям редко
клали даже модели.
К сожалению археологов, таштыкцы изготовляли копии
вещей главным образом из несохраняющихся материалов,
чем и объясняется скудность находок моделей оружия, клав¬
шихся, видимо, каждому воину.
Наибольшее количество найдено остатков от моделей
ножен. Среди коллекции А. В. Адрианова давно известны их
четыре полностью сохранившихся экземпляра. Если бы они
точно копировали изделия, с их первой интерпретацией
не произошло бы следующего: «Около костей рук и ног,—
пишет А. В. Адрианов,— у нескольких субъектов я нашел
предметы, которые готов признать за идолов; это деревян¬
ная плашка с одной или двумя крестовинами, окрашенная
в ярко-красную краску. На концах крестовин присажены
68
на деревянном гвозде конические пуговицы из коры, а про¬
дольная плашка на одном конце обделана в подобие голо¬
вы»7. Предметами культа считал оглахтинские планки
С. В. Киселев, который в отдельных элементах предметов
видел изображения змеи, водоплавающей птицы, антропо¬
морфного идола. Вместе с тем он первым предположил, что
расширение на концах планок, может быть, имитирует рас¬
ширение на конце ножен сарматского меча ь. Назначение
резных дощечек в качестве моделей кинжала или меча,
вложенного в ножны, определил Л. Р. Кызласов 9. В насто¬
ящее время интерпретация оглахтинских находок как моде¬
лей оружия подтверждена находками похожих моделей но¬
жен с настоящими кинжалами в Горном Алтае 10.
Теперь выяснилось, что модели оружия клали не в иск¬
лючительных случаях, а многим покойникам. Судить об
этом можно по остаткам самых незначительных деталей,
из которых состоят модели. Последнее станет понятнее пос¬
ле описания целых оглахтинских предметов. Они найдены
парами в двух могилах. Первая пара представляет собой
модели небольшого размера— длиной 20,5—21,5 см, толщи¬
ной 0,6—1,2 см. Вырезаны из тонкой березовой дощечки
(рис. 1, 1). Вторую пару составляют крупные модели разме¬
ром 32—38 см, толщиной 1,2 см. Они вырезаны из толстого
ствола дерева, стесаны топором с очень слабоокруглым лез¬
вием (рис. 1, 2)*. В каждой из пар представлены два типа
моделей. Первый тип — дощечки, сужающиеся к нижнему
закругленному концу, около которого вырезаны два полу¬
круглых выступа по бокам. Верхний конец дощечки срезан.
Задняя сторона дощечки плоская, а на передней вырезан
длинный предмет, похожий на лезвие ножа. Очевидно, мо¬
дель имитирует ножны с пазами для клинка кинжала. Вто¬
рой тип — плоские дощечки, верхний конец которых с копье¬
видным очертанием, а нижний округлен. На одной стороне
вырезаны, а к другой приклеены две пары овальных выпук¬
лостей-лопастей. Вероятно, модель имитирует ножны со
вставленными в них полноразмерными кинжалами. К высту¬
пам-лопастям обоих типов моделей прикреплены конические
выпуклости, похожие на пуговицы или бляшки, они выре¬
заны из коры. Боковые выступы в целом имитируют концы
обойм с моделью ворворок или блях, сквозь которые про¬
пускались ремешки для крепления пожен к ноге или поя¬
су п. Оглахтинские модели по лицевой и боковой поверх-
* Для описания использованы рисунки автора и М. П. Грязнова.
Хранятся в ГИМ (Оглахты 1903, м. 2, 7), № 43931.
09
Рис. 1. Модели кинжалов в ножнах,
1 — Оглахты, м. 7, 1903 г.; 2 — Оглахты
м. 2, 1903 г.
0 8 см
1 I 1 1 I
ностями покрашены минеральной краской (охрой или сури¬
ком). Корневые выпуклости иногда покрашены, иногда нет.
В последнем случае они, видимо, были покрыты плющеным
золотом.
В Оглахтинском могильнике сохранилась серия целых
моделей, из которых до нас дошли лишь четыре образца.
Мелкие фрагменты моделей обнаружены нами в еще трех
могильниках (у оз. Горькое, Абаканский, Салбыкский).
70
Рис. 2. Фрагменты моделей кинжалов в ножнах.
J, 5—10, 12—18, 20—22 — Комаркова Песчаная; 2 — Абаканская управа; 3, 4,
19 — Салбык; 11 — Оглахты, м. 7.
Кроме того, при раскопках Комарковского могильника
найдены остатки не менее 11 моделей. Имеются в виду боко¬
вые лопасти с корьевыми бляшками, закругленные нижние
концы дощечек, узкие заостренные плоские палочки, имити¬
рующие паз в ножнах, но особенно много корьевых выпук¬
лостей (рис. 2). Новые находки позволяют дополнить сведе¬
ния о приемах изготовления моделей. Помимо того что они
всегда интенсивно окрашены и часто обложены золотом,
71
Рис. 3. Модель лука и пластины.
дель лука (дерело), Оглахты, 1903 г.; 2—лла-
1 (кость), Комаркова Песчаная, м. 16, 1903 г.
их отдельные части имеют еще и
рельефные узоры. Изображены свер¬
нувшийся хищник, парнокопытное
животное, простые и концентриче¬
ские кружки. Золотые обкладки
иногда полностью покрывают изде¬
лия, в других случаях только рель¬
ефные узоры. На обкладках отпеча¬
тывается резьба по дереву, но часто
они самостоятельно орнаментирова¬
ны прочерченной «елочкой» гори¬
зонтальными полосками. У некото¬
рых золотых обкладок моделей по
краю вырезаны зубчики, назначение
которых пока не выяснено. Найден¬
ные остатки моделей чаще всего
встречаются около погребальных ку¬
кол, а также и с женскими скеле¬
тами. Последнее обстоятельство по¬
зволяет предполагать, что изготов-
м ляли и клали мертвым не только модели кинжалов,
I; но и ножей.
// || Модели луков найдены в Оглахтинском могиль-
;/ 1 || нике и в склепах. Все они сделаны из окрашенных
\\ прутьев и не имеют тетивы. Известны реконструк-
^ и ции двух моделей. Одна найдена Л. Р. Кызласовым
в склепе 1 Сырского чаа-таса. Размер лука 60 см, толщина
1,0—1,2 см. В натянутом виде лук имеет м-образную форму.
Круглый прут с одной стороны вытянутый, с другой у него
плоский срез. На загнутых концах вырезаны желоба для
прохождения по ним тетивы, на самих концах есть высту¬
пы для ее привязывания12. Три модели, найденные
Л. Р. Кызласовым в Оглахтинском могильнике, не опубли¬
кованы. Четвертая, лучшая из найденных А. В. Адриано¬
вым, сделана из прута, с которого срезан небольшой слой
древесины. Длина прута 92 см, сечение круглое (9X9 мм),
местами овальное (16X11 мм), на концах — зарубки для
крепления тетивы, на плоской стороне имеется желобок
длиной 14 см, глубиной и шириной 2,5 мм* (рис. 3.1).
* Хранится в ГИМ (Оглахты 1903, м. 1), по рис. М. П. Грязнова-
72
Древков стрел найдено много в обломках. Это круглые
палочки диаметром 7—8 мм, длиной до 20—30 см. Очень
разнообразны по внешнему виду. Верхние концы бывают
тупые, обрезанные горизонтальным круговым уступом, зао¬
стренные. Нижние части древков также тупые, заостренные
или имеют глубокий арочный вырез, служивший для встав¬
ки тетивы при стрельбе. Встречены древки с опереньем.
Одни целиком покрашены красным или черным. На других
те же краски нанесены полосками. Поверх краски или вместо
нее древки иногда облицовывали тонкими листочками золо¬
та. Обломки подобных найдены в Салбыкском и Комарков-
ском могильниках.
Вместо реальных наконечников стрел в могилы также
клали их деревянные модели. Они пока столь единичны, что
говорить об их типах не представляется возможным 13. Пред¬
положительно к таштыкским относятся два типа крупных
наконечников: железные «двухъярусные» трехлопастные и
костяные черешковые вытянуто-листовидной или ромбиче¬
ской формы размерами 7—8 и 11—12 см. Железные наконеч¬
ники найдены на дюнных поселениях со смешанным культур¬
ным слоем, а костяные — на таштыкском поселении Унюк,
раскопанном Л. П. Зяблиным 14. Обращает на себя внима¬
ние, что подобные массивные наконечники стрел требовали
более крупных луков, чем те, модели которых найдены в по¬
гребениях 15.
Стрелы носили в колчанах, которые подвешивали к поя¬
су железными крючками. Известен берестяной колчан из
склепа на р. Уйбат. Он не имеет кармана и больше всего
напоминает колчаны-гориты 16. В Оглахтинском могильнике
полностью сохранилось кожаное налучье, по краю обшитое
шелком с иероглифами. В нем модель лука, нагайки и древ¬
ки стрел 17. Среди материалов Салбыкского могильника со¬
хранился рисунок орнаментированного берестяного футляра,;
видимо, колчана, лежавшего у правой ноги покойника.
В другой могиле того же могильника у ног погребенного
вместе с древком стрелы найден длинный узкий мешок из
ткани типа тафты. Среди обрывков шелка находились кусоч¬
ки красного лака, а также украшавшие изделие бусины
и золотые накладки 18. Наконец, отметим еще одну находку
прошлых лет. Речь идет об обломке костяной пластины,
лежавшем под тазом костяка в Комарковском могильнике
(м. 6). Размер обломка 9,5x2 см, толщина 6 мм. Снаружи
пластина орнаментирована резными линиями, а на боковых
гранях в верхней части имеются три сквозных отверстия
диаметром 4 мм (рис. 3, 2). Подобные пластины, но целые
и с большим числом отверстий найдены С. В. Киселевым 19.
К сожалению, ничего не известно об их местонахождении
и назначении, но, на наш взгляд, они напоминают каркас¬
ные дощечки алтайских кожаных колчанов 20. При всей
отрывочности сведений складывается впечатление о значи¬
тельном разнообразии таштыкских колчанов, изготовляв¬
шихся из бересты и кожи, среди которых были местные и
привозные. Поскольку часты находки миниатюрных крюч¬
ков от колчанов, видимо, клали как реальные изделия,
так и их уменьшенные копии.
На фоне скупой информации о погребальном вооружении
таштыкских воинов особое значение приобретают случайно
дошедшие до нас деревянные обугленные плашки из Теп-
сейского склепа, на которых запечатлены батальные сцены.
Это богатейший многоплановый источник, а не только обра¬
зец великолепного искусства. Что касается данной темы,
то изображения на плашках воинов (пеших и всадников)
частично подтверждают, а более дополняют наше представ¬
ление о том, что было ранее в могилах, но не сохранилось.
Луки в руках воинов тех же очертаний, что и модели, но
больше по размерам и с крупными накладками. Воины ис¬
пользовали длинные стрелы с опереньем. Наконечники стрел
массивные, трехгранные, иногда двух-трехъяруспые. Стре¬
лы и луки со спущенной тетивой вложены в длинные прямо¬
угольные колчаны, которые прикрепляли вдоль пояса или
бедра. Изображено защитное оружие, неизвестное по могиль¬
ным источникам ни в какие эпохи. Это щиты в рост человека,
конические шлемы, пластинчатые доспехи. О том, что по¬
следние были у таштыкцев до открытия тепсейских рисунков,
можно было лишь только догадываться по единственной
находке пластинки из папье-маше, покрытой красным ла¬
ком 21. Колчаны и щиты богато орнаментированы, причем
узоры, их украшающие, аналогичны тем, что нанесены на
берестяной колчан из Салбыкского или на каркасную пла¬
стину из Комарковского могильников.
Примечания
1 Кызласов Л. Р. Таштыкская эпоха.— М., 1960.— Рис. 31, 1—6.
2 Там же.— С. 86; Киселев С. В. Древняя история Южной Сиби¬
ри // МИА.— 1949.— № 9.— С. 239.
3 Вадецкая Э. Б. Предметы вооружения из могил окуневской
культуры // Военное дело древних племен Сибири и Центральной
Азии.— Новосибирск, 1981.— С. 13.
4 Мелетинский Е. М. Миф и историческая поэтика фольклора //
Фольклор, поэтическая система.— М., 1977.— С. 24.
74
ь Вадецкая Э. Б. Черты погребальной обрядности таштыкских
племен по материалам грунтовых могильников Енисея // Первобытная
археология Сибири.— Л., 1977.— С. 181.
6 Вадецкая Э. Б. Интерпретация сосуществования двух обрядов
в таштыкских грунтовых могильниках // Проблемы археологии и
этнографии Сибири.— Иркутск, 1982.— С. 114—115.
7 Адрианов А. В. Оглахтинский могильник. Иллюстрированное
приложение к газете «Сибирская жизнь».— 1903.— № 254.
8 Киселев С. В. Древняя история...— С. 224—225.
9 К ыз л асов Л. Р. Таштыкская эпоха.— С. 111.
10 Кубарев В. Д. Кинжалы из Горного Алтая // Военное дело
древних племен Сибири и Центральной Азии.— Новосибирск, 1981.—
С. 36—47.
11 Кубарев В. Д. Кинжалы из Горного Алтая.— С. 44—45.
12 Кызласов Л. Р. Таштыкская эпоха.— С. 126.— Рис. 46, 1—3.
13 Там же.— С. 128.— Рис. 46, 5—6.
14 Худяков Ю. С. О вооружении таштыкского воина // Древние
культуры Алтая и Западпой Сибири.— Новосибирск, 1978.— С. 166.—
Рис. 2, 1—3\ Архив ИА, ф. Р-1, д. 3535, л. 52—60; д. 4088, л. 3—21.
15 Киселев С. В. Древняя история...— С. 224.
16 Там же.— С. 240.
17 Архив ИА, ф. Р-1, д. 4010, рис. 151.
18 Архив ИА, ф. 12, д. 45.
19 Киселев С. В. Древняя история...— Табл. XXVIII, 12, 13.
20 Кубарев В. Д. К интерпретации предмета неизвестного назна¬
чения из кургана 1 памятника Туэкта (Горный Алтай) // Военное де¬
ло древних племен Сибири и Центральной Азии.— Новосибирск,
1981.— С. 65.— Рис. 1—2.
21 Киселев С. В. Древняя история...— С. 240.
И. К. Кожомбердиев, Ю. С. Худяков
КОМПЛЕКС ВООРУЖЕНИЯ КЕНКОЛЬСКОГО ВОИНА
Вооружение древнего и средневекового кочевого населения
Средней Азии неоднократно становилось предметом внима¬
ния исследователей данного региона.
Анализу оружия древних кочевников посвящены спе¬
циальные работы Б. А. Литвинского, А. М. Хазанова,-
О. В. Обельченко, А. К. Акишева г. Предметы вооружения
становились объектом изучения в трудах по истории и ар¬
хеологии Средней Азии в древности и средневековье 2. В ра¬
ботах К. Г. Рудо, А. Джалилова, В. И. Распоповой обстоя¬
тельно исследовано военное дело оседлого населения ранне¬
средневекового Согда 3.
На фоне этого активного научного поиска недостаточно
обобщенными и систематизированными остаются богатейшие
75
материалы по вооружению кочевого населения, обитавшего
в первой половине I тыс. н. э. в восточных районах Средней
Азии и оставившего памятники «подбойно-катакомбного»,
или «кенкольского», типа. Вероятно, на изучении оружия
из данной группы памятников негативно отразилась дис¬
куссия по поводу определения их хронологии и этно¬
культурной принадлежности и недостаточный ввод в на¬
учный оборот артефактов из раскопок последних десяти¬
летий.
Между тем анализ предметов вооружения из кенколь-
ских комплексов должен не только дать возможность объ¬
ективно оценить уровень развития военного дела у оста¬
вившего их кочевого населения, но и способствовать реше¬
нию дискуссионных вопросов хронологии и этнокультур¬
ной атрибуции данной группы объектов.
Памятники кенкольской культуры впервые были иссле¬
дованы и интерпретированы А. Ы. Бериштамом, который
отнес их к хуннам, продвинувшимся на территорию Средней
Азии в I в. до н. э.— I в. н. э.4 Предметы воо¬
ружения, обнаруженные в ходе раскопок Кенкольского
могильника, были частично опубликованы и учтены авто¬
ром при определении датировки памятника 5. Однако для
сопоставления этих находок с материалами по вооружению
центрально-азиатских хуннов в 30-е годы было мало данных.
В дальнейшем А. Н. Бернштам занимался в основном исто¬
рической интерпретацией кенкольских находок. Проведен¬
ные им раскопки других катакомбных памятников незна¬
чительно пополнили коллекцию вооружения кочевников
первой половины I тыс. и. э. на Тянь-Шане 6. В середине
50-х годов С. С. Сорокин, заново проанализировав кенколь-
ские материалы, отнес памятники данной культуры к «ко¬
ренному скотоводческому населению» Средней Азии и да¬
тировал II — IV вв. н. э.7 Важное место в его аргументации
занимает анализ предметов вооружения, в частности нако¬
нечников стрел 8. С. С. Сорокину принадлежит опыт выде¬
ления собственно кенкольских памятников из состава под¬
бойно-катакомбных погребений Средней Азии 9.
В 50—70-е годы исследование катакомбных памятников
Тянь-Шаня было продолжено И. К. Кожомбердиевым 10.
В ходе раскопок могильников Кенкол, Акчий-Карасу, Тор-
кен, Джал-Арык и других были обнаружены разнообраз¬
ные предметы наступательного и защитного вооружения,
существенным образом обогатившие коллекцию оружия
кенкольской культуры п. Результаты исследований были
обобщены в соответствующих разделах «Истории Киргиз¬
76
ской ССР», вышедшей в свет уже третьим изданием 12. При
анализе вооружения кенкольских кочевников отмечены осо¬
бенности лука, стрел, мечей, копий, панцирей, щитов 13.
И. К. Кожомбердиев датировал памятники кенкольской
культуры I—V вв. н. э. и отметил возможность передвиже¬
ния кенкольских племен в связи с военной активностью
хуннов 14.
Иначе оценивает эти материалы А. К. Амброз, который
считает возможным датировать кенкольские комплексы в
пределах середины I тыс. н. э., вплоть до VII в., и относить
к тюркам I каганата 15.
Продолжается обсуждение вопроса о границах распро¬
странения памятников кенкольского типа. Ю. А. Задне-
дровский, проанализировав подбойные и катакомбные захо¬
ронения в пределах всего Среднеазиатского региона, выде¬
лил среди них объекты «кенкольской группы», распростра¬
ненные на Тянь-Шане, в Фергане и Ташкентском оазисе в
I в. до н. э.— IV в. н. э.16 Памятники кенкольского типа
находились и на территории Казахстана 17.
Таким образом, в результате интенсивных полевых ис¬
следований к настоящему времени накоплен значительный
по объему разнообразный арсенал оружия из памятников
кенкольского типа. Нерешенность вопросов хронологии,
территории распространения и этнокультурной принадлеж¬
ности данных комплексов не должна служить препятствием
для оружиеведческого анализа.
Не ставя перед собой задачу обобщения всех накоплен¬
ных материалов, считаем необходимым систематизировать
имеющиеся данные из многолетних раскопок на Тянь-Шане,
во многом определяющие характер вооружения кенкольской
культуры. При анализе материалов учитывались их видовой
состав и типологическое разнообразие, являющиеся основ¬
ными показателями уровня развития вооружения. Класси¬
фикация предметов вооружения проведена на основе мето¬
дики, выработанной при анализе оружия средневековых
кочевников Южной Сибири 18. Весь массив артефактов подраз¬
деляется на комплексы наступательных средств дистанцион¬
ного и ближнего боя, защитных средств, виды оружия, от¬
делы, группы, типы предметов 19. Предпринятый анализ от¬
дельных предметов защитного вооружения выявил сущест¬
венные конструктивные особенности кенкольского до-
спеха 20.
Оружие дистанционного боя представлено в памятниках
кенкольской культуры остатками луков и стрел. Встреча¬
ются в катакомбных погребениях и детали колчанов.
77
Луки
Луки из катакомбных захоронений Тянь-Шаня относятся
к одной группе — сложносоставных. По количеству и ме¬
стонахождению накладок они делятся на два типа. Ввиду
повальной ограбленности могил многие накладки сохрани¬
лись в обломках, и их соответствие тому или иному типу
не всегда точно устанавливается.
Тип 1. С концевыми и срединными боковыми, со средин¬
ной фронтальной накладкой. Включает 6 экз. из памятни¬
ков: Акчий-Карасу, Джал-Арык, Торкеп (к. 41), Фрунзе
в Киргизии; Кзыл-Кайнар-Тобе в Казахстане 21. Размеры
кибити не установлены. Концевые накладки длинные, сла¬
боизогнутые, с арочным вырезом для крепления тетивы.
Вырез расположен на расстоянии 3—4 см от верхнего конца
пластины. Некоторые накладки, вероятно, были составны¬
ми. Срединные боковые накладки — длинные, широкие,
массивные. Срединные фронтальные накладки — длинные,
узкие, слегка расширяющиеся к концам. Некоторые из них,
вероятно, также были составными. Необычно оформление
конца одной из накладок — в виде округлого завершения
с горизонтальным желобком, аналогично фронтальным на¬
кладкам средневековых луков Алтая 22. Вероятнее всего,
такие накладки относятся к числу плечевых либо средин¬
ных, как можно полагать в данном конкретном случае 23
(рис. 1, 1-6, 8, 11: 2, 2-8).
Тип 2. С концевыми боковыми и срединной фронтальной
накладками. Включает 4 экз. из памятников: Акчий-Кара¬
су (к. 31), Джал-Арык (к. 12) в Киргизии. Длина лука не
установлена. Возможно, что набор накладок в составе на¬
ходок данного типа представлен не полностью. Концевые
боковые накладки короткие, сильиоизогнутые, с арочным
отверстием для тетивы, расположенным в 1 см от конца на¬
кладки. Не исключено, что это накладки асимметричного
лука. В таком случае на одном из концов тетива могла кре¬
питься намертво, а на другой — надеваться по мере надоб¬
ности, поэтому ушко на концевых накладках расположено
так близко к концу. Срединные фронтальные накладки от¬
личаются слегка округленными концами и параллельными
сторонами (см. рис. 1, 7, Р, 10, 12; 2, 1). Луки первого типа
очень близки по размерам, составу и форме накладок к лу¬
кам хуннов 24, что, вероятно, в свое время сказалось на да¬
тировке кенкольских памятников. Аналогичные луки боль¬
ших размеров обнаружены в памятниках первой полови¬
ны — середины I тыс. н. э. в Казахстане. Южной Сибири и
78
Рис. 1. Накладки кенкольских луков.
Забайкалье. Наибольшую близость к кенкольским лукам
можно отметить у экземпляров из Берели, Татарских мо¬
гилок, Кок-Паша, Балыктыюля, Чааты, Зевакико 2б. Боль¬
шие размеры лука и значительная длина накладок застав-
79
Рис. 2. Накладки луков, колчанные крючки и ушко стрелы.’
ляют предполагать, что некоторые экземпляры изготавлива¬
лись составными, из двух роговых пластин, склеивающихся
в месте косого среза. Вполне вероятно, что к числу состав¬
ных может относиться часть «промежуточных» накладок, за¬
фиксированных у хуннских луков, с местоположением, ко¬
торых нет полной ясности 26.
Второй тип лука близок к раннетюркским, кудыргинским
лукам с сильноизогнутыми накладками, хотя по составу ро¬
говых деталей отличается от него. Вероятно, это следствие
неполноты находок в потревоженных могилах.
В целом кенкольские луки характерны для военного де¬
ла центрально-азиатских кочевников с хуннского до ранне-
тюркского времени и соответствуют предлагавшимся дати¬
ровкам кенкольской культуры с 1 по V в. н. э. и, возможно,
до начала VII в. н. э. 27
80
Стрелы
Наконечники стрел из кенкольских памятников относятся
к двум классам — полезных и костяных, составляют один
отдел — черешковых. Железные наконечники по сечению
пера делятся на четыре группы.
Группа I. Трехлопастные наконечники, пять типов.
Тип 1. Удлиненно-ромбические. Включает 35 экз. из па¬
мятников: Акчий-Карасу (к. 14, 33), Торкен (к. 2, 4, 33,
41, 42), Джал-Арык (к. 1), Кенкол в Киргизии 28. Длина
пера 4 см, ширина 2 см, длина черешка 5 см. Наконечники
с остроугольным острием, покатыми плечиками, длинным
черешком. На черешках заметны следы обмотки (рис. 3,
7, 3-9, 11-19; 4, 1-5, 8, 9, 11-17).
Тип 2. Удлиненно-треугольные. Включает 5 экз. из па¬
мятников: Акчий-Карасу (к. 14), Торкен, Кенкол в Кир¬
гизии 29. Длина пера 3 см, Ширина 2 см, длина черешка 3 см.
Наконечники с остроугольным острием, прямыми плечи¬
ками, коротким черешком. На черешках заметны следы
обмотки (см. рис. 3, 2, 10, 20, 22).
Тип 3. Симметрично-ромбические. Включает 5 экз. из па¬
мятников: Торкен (к. 26) в Киргизии, Кзыл-Кайнар-Тобе^
в Казахстане 30. Длина пера 4 см, ширина 2 см, длина че¬
решка 4 см. Наконечники с остроугольным острием, поло¬
гими плечиками, длинным черешком (см. рис. 3, 17; 4, 10).
Тип 4. Вытянуто-пятиугольные. Включает 2 экз. из па¬
мятников Торкен (к. 4) и Кенкол в Киргизии 31. Длина пера
3 см, ширина 2 см, длина черешка 4 см. Наконечники с ост¬
роугольным острием, параллельными сторонами, прямыми
плечиками, длинным черешком (см. рис. 4, 6).
Тип 5. Боеголовковые. Включает 4 экз. из памятников:
Акчий-Карасу (к. 33), Джал-Арык (к. 1), Торкен (к. 42}
в Киргизии. Длина пера 3 см, ширина 1,5 см, длина череш¬
ка 6 см. Наконечники с остроугольным острием, покатыми
плечиками, короткой шейкой с упором (см. рис. 3, 23; 4Г
7, 18, 19).
Группа II. Трехгранно-трехлопастные наконечники,
пять типов.
Тип 1. Удлиненно-ромбические. Включает 17 экз. из па¬
мятников: Акчий-Карасу (к. к — I — к, к — IX — к), Тор¬
кен (к. 4, 41, 88), Джал-Арык (к. 1, 11) в Киргизии. Длина
пера 4 см, ширина 2,5 см, длина черешка 5 см. Наконечни¬
ки с остроугольным острием, покатыми плечиками, длин¬
ным черешком (рис. 5, 2, 4—9, 14—16, 18—20; 6, 2, 3).
81
Рис. 3. Железные трехлопастные наконечники стрел.
Тип 2. Удлиненно-треугольные. Включает 4 экз. из па¬
мятников: Акчий-Карасу (к. к — I — к), Джал-Арык, Тор-
кен (к. 4) в Киргизии. Длина пера 3 см, ширина 1,5 см, дли¬
на черешка 5 см. Наконечники с остроугольным острием,)
прямыми плечиками, упором, длинным черешком (см.
рис. 5, 7, 3, 17; 6, 5).
82
Рис. 4. Железные трехлопастные наконечники стрел.
Тип 3. Симметрично-ромбические. Включает 2 экз. из па¬
мятников Джал-Арык (к.1) и Торкен (к. 38) в Киргизии.
Длина пера 3 см, ширина 2 см, длина черешка 5,5 см. На¬
конечники с остроугольным острием, пологими плечиками,
упором, длинным черешком (см. рис. 5, 10; 6, 4).
Тип 4. Вытянуто-пятиугольные. Включает 1 экз. из па¬
мятника Джал-Арык (к. 11) в Киргизии. Длина пера 3 см„
83
ширина 1,5 см, длина черешка 5,5 см. Наконечник с остро¬
угольным острием, параллельными сторонами, прямыми
плечиками, упором, длинным черешком (см. рис. 6, 1).
Тип 5. Боеголовковые. Включает 4 экз. из памятников
Джал-Арык (к. 3) и Торкен (к. 4) в Киргизии. Длина пера
4 см, ширина 1,5 см, длина черешка 5 см. Наконечники с
остроугольным острием, покатыми плечиками, короткой
шейкой с упором, длинным черешком. Выделяется один
экземпляр с округлой в сечении шейкой (см. рис. 5, 11—13;
6, 6).
Группа III. Трехгранные наконечники, пять типов.
Тип 1. Удлиненно-ромбические. Включает 9 экз. из па¬
мятников: Акчий-Карасу (к. 31), Торкен, Джал-Арык (к. 1)
в Киргизии. Длина пера 4 см, ширина 1 см, длина черешка
3,5 см. Наконечники с остроугольным острием, покатыми
плечиками, упором, длинным черешком (см. рис. 6, 6, 9,
10, 19, 21-24).
Тип 2. Удлиненно-треугольные. Включает 1 экз. из па¬
мятника Торкен (к. 38) в Киргизии. Длина пера 4,5 см, ши¬
рина 1 см, длина черешка 4,5 см. Наконечник с остроуголь¬
ным острием, прямыми плечиками, длинным черешком (см.
рис. 6, 14).
S2& Тип 3. Симметрично-ромбические. Включает 1 экз. из
памятника Торкен (к. 4) в Киргизии. Длина пера 4 см, ши¬
рина 1 см, длина черешка 1 см. Наконечники с остроуголь¬
ным острием, пологими плечиками, обломанным черешком
(см. рис. 6, 17).
Тип 4. Вытянуто-пятиугольные. Включает 3 экз. из па¬
мятников: Акчий-Карасу (к. 14), Джал-Арык (к. 13), Тор¬
кен (к. 26) в Киргизии. Длина пера 3,5 см, ширина 1 см,
длина черешка 2 см. Наконечники с остроугольным остри¬
ем, параллельными сторонами, без плечиков, с коротким
черешком (см. рис. 6, 13, 15, 20).
Тип 5. Боеголовковые. Включает 3 экз. из памятников:
Джал-Арык (к. 11) и Торкен (к. 4) в Киргизии. Длина пера
4 см, ширина 1 см, длина черешка 4 см. Наконечники с ост¬
роугольным острием, прямыми плечиками, короткой шей¬
кой, коротким или длинным черешком (см. рис. 6, <§,
16, 18).
Группа IV. Четырехгранные наконечники, два типа.
Тип 1. Удлиненно-ромбические. Включает 1 экз. из па¬
мятника Акчий-Карасу (к. 14) в Киргизии. Длина пера
2 см, ширина 0,8 см, длина черешка 4 см. Наконечник с ост¬
роугольным острием, покатыми плечиками, длинным че¬
решком (см. рис. 6, 11).
84
У?ис. 5. Железные трехгранпо-трехлопастные наконечники стрел.
Тип 2. Удлиненно-треугольные. Включает 1 экз. из па¬
мятника Акчий-Карасу (к. 14) в Киргизии. Длина пера
1,5 см, ширина 0,8 см, длина черешка 1,5 см. Наконечник
с остроугольным острием, без плечиков, с коротким череш¬
ком (см. рис. 6, 12).
85
Рис. 6. Железные трехгранно-трехлопастные, трехгранные и четы¬
рехгранные наконечники стрел.
В литературе упоминаются также «мелкие втульчатые
наконечники скифского типа» из кенкольских могил, ко¬
торые отсутствуют в коллекции из раскопок Кенкола, бла¬
годаря чему вызывают сомнение 32. В других памятниках
кенкольской культуры они не зафиксированы.
86
Костяные наконечники по сечению пера относятся к од¬
ной группе.
Группа 1. Ромбические наконечники, один тип.
Тип 1. Вытянуто-пятиугольные. Включает 5 экз. из па¬
мятника Кенкол в Киргизии 33. Длина пера 4,5 см, шири¬
на 1,5 см, длина черешка 3 см. Наконечники с остроуголь¬
ным острием, параллельными сторонами, прямыми плечи¬
ками, коротким черешком.
Набор наконечников стрел из кенкольских памятни¬
ков отличается значительным своеобразием. В частности,
они существенно отличаются от хуннского, в составе кото¬
рого преобладают среди железных — трехлопастные асим¬
метрично-ромбические и ярусные, плоские удлиненно-ром¬
бические, а среди костяных — наконечники с раздвоенным
насадом. Оба комплекса различаются как по классам (хунн-
ские — железные, бронзовьщ, костяные; кенкольские — же¬
лезные, костяпые), так и по отделам (хуннские — втульча-
тые, черешковые, с раздвоенным насадом; кенкольские —
черешковые) и числу групп, типов, количественному соот¬
ношению разных типов. Совпадают отдельные типы мало¬
численных трехлопастных, трехгранных, четырехгранных
стрел.
Кенкольский набор стрел отличается от хуннского как
стадиально, так и функционально, поэтому можно считать,
что прямая генетическая связь между ними невозможна.
Весьма существенны отличия кенкольского набора от
комплексов стрел южносибирских культур первой полови¬
ны I тыс. н. э.: кокэльской, таштыкской, верхнеобской,
берельской, наследующих традиции хуннской культуры.
Эти различия в первую очередь функциональны. Набор
стрел кочевников Центральной Азии был ориентирован для
стрельбы по легковооруженному противнику, бронебойные
типы в его составе малочисленны. Комплекс стрел кенколь¬
ского воина большей части групп и типов предназначен
для пробивания брони. В Центральной Азии аналогичная
потребность в усиленной разработке бронебойных стрел воз¬
никла только к концу I тыс. н. э., что отмечается в материа¬
лах кыргызской, кимакской и тюркской культур. По соот¬
ношению железных и костяных стрел кенкольский комп¬
лекс, пожалуй, имеет некоторое соответствие с материалами
катакомбных памятников Тувы, хотя последние малочис¬
ленны и поэтому трудно соизмеримы с развитым набором
кенкольской культуры. Наибольшее сходство кенкольский
комплекс стрел обнаруживает с согдийским VII—VIII вв.
н. э. В частности, общими для кенкольцев и согдийцев явля¬
87
ются железные трехлопастные удлиненно-ромбические, уд¬
линенно-треугольные, боеголовковые; трехгранные удлиненно¬
ромбические, вытянуто-пятиугольные стрелы. В то же
время у согдийцев не зафиксировано трехгранно-трех-
лопастных стрел, зато есть необычные для кенкольцев трех¬
лопастные вильчатые, двухлопастные, плоские, прямо¬
угольные наконечники. Иное соотношение различных типов
между собой в рамках каждого комплекса 34.
Можно думать, что кенкольский комплекс функциональ¬
но близок к согдийскому, входит в одну с последним исто¬
рико-культурную зону, но отличен хронологически, пред¬
шествуя по времени бытования согдийскому набору VII —
VIII вв. и. э.
В известных нам материалах кенкольской культуры нет
такой характерной принадлежности стрел кочевников Цент¬
ральной Азии, как костяные шарики — свистунки, зато в
единичном случае обнаружено костяное ушко древка стре¬
лы, что наводит на мысль о применении кенкольскими вои¬
нами тростниковых древков 35 (см. рис. 2, 9).
Кенкольские воины носили стрелы в колчанах, от кото¬
рых сохранились железные крючки с округлой или оваль¬
ной петлей и раздвоенным концом (см. рис. 2, 10, 11). Такой
крюк крепился, вероятно, к ременной петле. Аналогичное
оформление концов колчанных крюков наблюдается в ма¬
териалах кокэльской культуры Тувы, древнетюркских па¬
мятников, раннесредневековых памятников Восточного За¬
байкалья 36.
Оружие ближнего боя представлено в кенкольских па¬
мятниках мечами, палашами, саблями, кинжалами, копьями.
Мечи
По сечению клинка кенкольские мечи подразделяются на
две группы.
Группа I. Линзовидные, один тип.
Тип 1. Без перекрестья. Включает 3 экз. из памятников
Джал-Арык и Фрунзе в Киргизии, Кзыл-Кайнар-Тобе в
Казахстане 37. Длина клинка 95 см, ширина 5 см, длина
черена 7 см. Широкие клинки с остроугольным острием и
упором для перекрестья, с обломанным череном. От одного
экземпляра сохранились обломки (см. рис. 1, 1, 2).
Группа II. Ромбические, один тип.
Тип 1. Без перекрестья. Включает 1 экз. из памятника
Джал-Арык (к. 12) в Киргизии. Сохранился обломок клин¬
ка с остроугольным острием.
88
Палаши
По сечению клинка кенкольские палаши относятся к одной
группе.
Группа I. Трехгранные, один тип.
Тип 1. Без перекрестья. Включает 5 экз. из памятников
Кок-Бель и Торкен в Киргизии 38. Длина клинка 100 см,
ширина 3 см, длина черена 12 см. Прямые однолезвийные
клинки с остроугольным острием, упором для перекрестья,
длинным прямым череном (рис. 7, 5—7, 9). У одного экземп¬
ляра наблюдается еле заметный наклон черена рукояти в сто¬
рону лезвия (рис. 7, 8).
Рубяще-колюгцее оружие кенкольской культуры уже по¬
лучило освещение в специальных работах. И. К. Кожом-
бердиев выделил в его составе мечи и палаши 39. А. М. Ха¬
занов рассмотрел их совместно с сарматскими мечами «без
металлического навершия», указав на среднеазиатские и
отдельные западносибирские аналогии 40. Мечи и палаши
из курганов Согда проанализированы О. В. Обельченко 41.
Мечам и палашам с украшениями в полихронном стиле уде¬
лено внимание в работе А. К. Амброза 42.
Можно отметить, что круг аналогий кенкольским мечам
и палашам в Средней Азии и степях Восточной Европы уже
в основном очерчен. В соответствии с имеющимися пред¬
ставлениями исследователи датируют эти комплексы в пре¬
делах I—V (иногда II—IV) либо V—VII вв. н. э.43.
Пока недостаточно исследованы возможные связи кен-
кольского оружия с культурами Центральной Азии и Си¬
бири. После находки палаша с украшениями в полихром-
ном стиле в погребении в степном Алтае такую связь можно
считать вполне вероятной 44. Тем более что «современник
грозного Атиллы» из Тугозвоново, судя по данным антро¬
пологии, весьма близок к «гунну из Кенкола»45. О проник¬
новении полихромного стиля украшений в Южную Сибирь
свидетельствует Знаменский клад46.
Близкие по форме мечи и палаши известны в памятниках
верхнеобской культуры Приобья, их обломки обнаружены
в курганах «с усами» из Восточного Казахстана и хуннских
могилах Монголии 47. Перечисленные аналогии позволяют
предположить, что длинные мечи и палаши распространи¬
лись по всей территории Центральной Азии еще во II в.
до н. э. Возможно, что это произошло еще в IV — начале
III в. до н. э., когда, по мнению Ю. Н. Рериха, юэчжи-
тохары благодаря появлению «...ударной панцирной кон-
89
Рис. 7. Мечи, палаши, копье.
ницы, вооруженной длинным мечом и тяжелым ударным
копьем»,, смогли подчинить хуннские племена 48.
Однако кенкольские мечи и палаши в большей степени
соответствуют вооружению второй четверти I тыс. н. э.
Наличие в их составе экземпляра со слабоизогнутой руко-
90
ятыо может свидетельствовать в пользу возможности ге¬
незиса сабли на базе совершенствования палаша не только
в сармато-аланской среде 49, но и у ираноязычных кочевни¬
ков Средней Азии. Впрочем, как свидетельствуют находки
и настенные росписи в раннесредневековом Согде и Турфа-
не, в VII в. и позднее широко применялся прямой клинок
с перекрестьем и прямой рукоятью 50. Лишь у отдельных
экземпляров рукоять и навершие изогнуты по отношению к
клинку 51.
Мечи и палаши являлись для кенкольских воинов ос¬
новными видами наступательного оружия.
Кинжалы
Кинжалы из катакомбных захоронений относятся к одной
группе.
Группа I. Трехгранные, один тип.
Тип 1. Без перекрестья. Включает 1 экз. из памятника
Кзыл-Кайнар-Тобе в Казахстане 52. Длина клинка 28 см,
ширина 4 см, длина черена 4 см. Однолезвийный клинок с
обломанным острием, долой по одной из граней, упором и
обломанным череном с двумя штырьками для крепления
обкладки рукояти 53.
Копья
В катакомбных захоронениях находки копий единичны.
По сечению пера выделяется одна группа.
Группа I. Лиизовидные, один тип.
Тип 1. Удлиненно-треугольные. Включает 1 экз. из мо¬
гильника Торкен в Киргизии. Длина пера 9 см, ширина
2 см, длина втулки 8,5 см. Наконечник с остроугольным
острием, уплощенным пером, параллельными сторонами,
конической втулкой, (см. рис. 7, 10).
Копья удлиненно-треугольной формы, округлого сече¬
ния зафиксированы у хуннов 54. Линзовидные в сечении мо¬
дели копий с овальным пером известны в кокэльской куль¬
туре 56. В согдийских комплексах известны трехгранные и
четырехгранные копья удлиненно-треугольной формы со
втульчатым насадом и плоские копья удлиненно-ромбиче¬
ской формы с черешковым насадом 56. Сарматские копья
первых веков нашей эры имели удлиненно-ромбическое
или удлиненно-треугольное перо с плечиками 57.
91
Таким образом, кенкольские наконечники копий входят
в круг центрально- и среднеазиатских аналогов, отличаясь
от синхронных позднесарматских.
Защитное оружие представлено в памятниках кенколь-
ской культуры деталями панцирей, кольчуг, щитов.
Панцири
Ввиду повальной ограбленности катакомбных захоронений
ни один панцирь не дошел до исследователей в непотрево¬
женном виде. Остатки панцирей в кенкольских памятниках
состоят из железных пластин, отличающихся расположе¬
нием, способом соединения между собой, сечением, формой
и количеством отверстий 58.
Отдел горизонтально расположенных пластин, соединен¬
ных ременным креплением, включает одну группу.
Группа I. Плоские пластины, один тип.
Тип 1. Прямоугольные с отверстиями на концах пласти¬
ны. Включает 15 экз. из памятников Акчий-Карасу (к. 33)
в Киргизии. Длина пластин 1 см, ширина 2,5 см. Прямо¬
угольные пластины с шестью отверстиями в два ряда на од¬
ном конце, четырьмя отверстиями в два ряда на другом
(рис. И, 4—6). Сохранилосьнесколько фрагментов панциря
по 3—5 пластин, соединенных между собой с наложением от
одной трети до половины пластин одна на другую (рис. И,
1—3). В одном случае у таких пластин есть отверстия в
центре, вероятно для крепления к подкладке.
Все известные пластины происходят из одного памятни¬
ка, относятся к одному панцирю. Возможно, это был на¬
грудный панцирь, вертикальные ряды пластин которого
не соединялись между собой, а крепились к площадке. Та¬
кие ряды могли входить в состав подола и рукавов панциря.
Отдел вертикально расположенных пластин, ламелляр-
но соединенных ременным креплением, включает одну
группу.
Группа I. Плоские пластины, один тип.
Тип 1. Прямоугольные пластины с округлым концом.
Включает 16 экз. из памятника Акчий-Карасу (к. 3) в Кир¬
гизии. Длина пластин 5 см, ширина 3 см. Прямоугольные
пластины, один конец которых закруглен. Размеры и коли¬
чество отверстий в них сильно варьируют, однако располо¬
жены они по всему периметру пластин, т. е. сцепляли плас¬
тину с другими со всех четырех сторон (рис. 9, 1, 2, 5—7*
10, 11, 13, 14; 10, 2, 6, 8, 11).
92
0 зсм
1 1 I 1
Рис. 8. Панцирные пластины.
Отдел вертикально расположенных пластин чешуйчато¬
го соединения включает две группы.
Группа I. Плоские пластины, один тип.
Тип 1. Прямоугольные пластины с округлым концом.
Включает 3 экз. из памятника Акчий-Карасу (к. 3) в Кирги¬
зии. Длина пластин 6 см, ширина 3 см. Прямоугольные плас¬
тины с округлым концом, отверстия в которых группиру-
9а
Рис. 9. Панцирные пластины.
ются на одной половине. Округлый конец оставлен без от¬
верстий, так как он попадал на место соединения двух плас¬
тин, которые перекрывал (см. рис. 9, 9; 10, 3, 9).
Группа И. Плоские пластины со сферическим вы¬
ступом, один тип.
94
Рис. 10. Панцирные пластины.
Тип 1. Прямоугольные пластины с приостренным концом.
Включает 18 экз. из памятника Акчий-Карасу (к. 3) в Кир¬
гизии. Длина пластин 4,5 см, ширина 2 см. Пластины пря¬
моугольной формы с приостренным концом, на котором рас¬
положен сферический выступ. На пластине по 4 отверстия.
(Рис. 8, 1—12). Сохранились фрагменты пластин, соеди¬
ненные между собой чешуйчатым способом (см. рис. 8, 13—
95
Рис. 11. Панцирные пластины, деталь кольчуги, оков щита.
15). Поверхность панциря при таком соединении состояла
из сплошных сферических выступов.
В особый отдел выделены изогнутые пластины,— две
группы.
Группа I. Изогнутые плоские пластины, два типа.
96
Тип 1. Прямоугольные широкие пластины. Включает
3 экз. из памятника Акчий-Карасу (к. 3) в Киргизии. Длина
пластин 5 см, ширина 3 см. Прямоугольные пластины. Со¬
хранились в обломках, поэтому форма их не вполне ясна.
Отверстия расположены то в центре, то на одном конце, то
их нет вообще (см. рис. 9, 8; 10, 7, 10).
Тип 2. Прямоугольные узкие пластины. Включает 2 экз.
из памятника Акчий-Карасу (к. 3) в Киргизии. Длина плас¬
тин 7 см, ширина 1,5 см. Длинные узкие пластины с отвер¬
стиями на концах. Сохранились две пластины, соединенные
между собой (см. рис. 10, 5, 12).
Группа II. Изогнутые пластины со сферическими
выступами, один тип.
Тип 1. Прямоугольные пластины с округлым концом.
Включает 2 экз. из памятника Акчий-Карасу (к. 3) в Кирги¬
зии. Длина пластин 5 см, ширина 3 см. Пластины с тремя
парами отверстий, соединявшиеся, вероятно, ламеллярным
способом. На каждой из них по два сферических выступа
(см. рис. 9, 12, 15).
Весьма важно, что все перечисленные формы происходят
из одного объекта, т. е. могли относиться к одному панци¬
рю 59. В его составе были также пластины-окантовки, ха¬
рактерные для нагрудных панцирей (см. рис. 10, 1).
Несомненно, что это был комбинированный доспех. Судя
по изображениям панцирей на согдийских и турфанских
фресках, в раннем средневековье в Средней Азии бытовал
длиннополый панцирь из вертикально скрепленных плас¬
тин, преимущественно ламеллярного соединения, дополняв¬
шийся деталями из пластин чешуйчатого и горизонтального
соединения, кирасы и кольчуги 60.
Панцирь из Акчий-Карасу состоял, видимо, из чешуй¬
чатого нагрудника, сплошь покрытого сферическими высту¬
пами, изогнутых пластин предплечья и оплечий, узких го¬
ризонтальных пластин рукавов, ламеллярного подола
(рис. 12, 2).
Кольчуга
Обрывки кольчуги неоднократно встречались в катакомбных
захоронениях. Система крепления колец кольчуги изучена
И. К. Кожомбердиевым 61. Судя по наблюдениям, каждое
кольцо кольчуги продевалось в четыре других (см. рис. 11,
7). Кольчуги имели покрой, аналогичный длиннополому
4 Заказ № 504
97
Рис. 12. Реконструкция кенкольских панцирей.
доспеху с рукавами и подолом. Кольчужное покрытие ис¬
пользовалось, судя по средневековым фрескам, для бармиц
и забрал.
Щиты
Кенкольские воины, видимо, пользовались щитами из дере¬
ва, обтянутыми кожей. Щиты были округлой формы с ме¬
таллической окантовкой по перимеитру окружности в виде
согнутой под углом в 35° железной пластины, прибитой к
деревянному основанию щита железными гвоздиками с
округлыми шляпками (см. рис. 11, 8, 9).
Возможно, на щитах имелись умбоны, аналогично ран¬
несредневековым согдийским.
Комплекс вооружения
Комплекс вооружения кенкольского воина кратко охарак¬
теризован И. К. Кожомбердиевым, который отмечает, что
«...основной ударной силой древних кочевых племен была
конница. Всадники, одетые в кольчуги и панцири, были
вооружены луками, стрелами, мечами и копьями»62.
98
С. С. Сорокин подчеркивал большую близость кенколь-
ского и позднесарматского комплексов вооружения 63.
Как мы пытались показать выше, круг аналогий отдель¬
ным видам кенкольского оружия довольно широк, включает
синхронные кокэльские, верхнеобские, горноалтайские и
восточноказахстанские материалы. Наибольшую близость
с кенкольским оружием обнаруживают рапнесредневековые
комплексы вооружения Согда и Турфала. С хуннским набо¬
ром оружия кенкольский мало что связывает.
Своеобразие кенкольского комплекса вооружения за¬
ключается прежде всего в наличии широкого спектра бро¬
небойных средств дистанционного боя (рис. 13), развитого
рубяще-колющего оружия и панцирной защиты. Кенколь¬
ский воин — тяжеловооруженный всадник (рис. 14), за¬
щищенный панцирным или кольчужным доспехом, щитом,
поражающий противника мечом, палашом, копьем в ближ¬
нем бою, небронебойными и панциробойными стрелами на
дистанции полета стрелы (см. таблицу). Ориентация кен¬
кольского военного искусства на ближний бой с примене¬
нием копья, меча и палаша может быть связана с общими
тенденциями в военном деле кочевников западного ареала
степного пояса Евразии с момента возникновения катафрак-
тариев в войсках сармат и парфян в последние века до нашей
эры 64. В дальнейшем необходимость содержания тяжело¬
вооруженной конницы диктовалась противостоянием воо¬
руженным силам оседлого населения Средней Азии,
обладавшим широким набором средств ближнего боя и
защиты.
Историю формирования данного комплекса вооружения,
с учетом различных точек зрения на хронологию и этнокуль¬
турную принадлежность кенкольской культуры, можно
представить в следующей последовательности.
В IV—III в. до н. э. племена сарматской кочевой эйку-
меиы пришли в движение, усилив натиск на Скифию на за¬
паде, а на востоке сарматоидиые юэчжи-тохары продвину¬
лись на земли от Дуньхуана до Ганьчжоу, подчинив хунн-
ские племена. На этих передвижениях сказались разные
причины, в том числе внешнеполитические, как-то: падение
ахеменидской державы, ослабление Скифии, отток части
саков и массагетов от границ эллинистичных государств.
Вероятно, успехом юэчжей в войнах с хуннами способство¬
вало применение тактики ближнего боя, связанной с появ¬
лением «ударной панцирной конницы, вооруженной длин¬
ным мечом и тяжелым копьем»65. В период пребывания в глу¬
бинных районах Центральной Азии юэчжи-тохары могли
4*
99
включить в свой состав часть покоренных монголоидных
кочевников.
Во II в. до н. э. ситуация в отношениях между хуннами
и юэчжами изменилась. Хуннскому шаньюю Модэ, а затем
его преемнику Лаошаню удалось разгромить юэчжей в
100
177 и 174 гг. до н. э. Это¬
му способствовало широ¬
кое применение хуннами
дальнебойного сложносо¬
ставного лука и манев¬
ренной тактики рассып¬
ного строя. После пора¬
жения орда больших юэч-
жей двинулась на запад,
на Тянь-Шань, увлекая
за собой племена сэ и
усуней, и сумела сок¬
рушить греко-бактрий-
ское царство 66. Ряд ис¬
следователей справедливо
связывает с этим движе¬
нием распространение в
Средней Азии подбойно¬
катакомбных захороне¬
ний, вариантом которых
являются и памятники
кенкольской культуры 67.
Возможно, что в это рас¬
селение были втянуты и
тов 68. В I в. н. э. на юге
юэчжами-тохарами была
племена приуральских сарма-
Средней Азии и в Афганистане
создана Кушанская империя,
просуществовавшая до IV в. н. э.69 Сфера влияния ку¬
шан во II—III вв. н. э. простиралась до Турфана 70,
где обитали родственные кушанам тохарские племена.
Вероятно, и население кенкольской культуры надо отно¬
сить к тохарскому этническому массиву, хотя в политиче¬
ском отношении этот район оставался независимым от куш-
канского и турфанских государств. Кенкольская культура
возникает на рубеже нашей эры в результате консолидации
в восточных районах Средней Азии части родственных то¬
харских племен. Их вооружение и военное искусство явля¬
ется результатом эволюции общетохарского (восточносар¬
матского) комплекса. Как можно судить по распростране¬
нию кенкольских памятников, военная активность кенколь-
ских племен была направлена в основном на оазисы Сог-
дианы, однако отдельные походы, вероятно, совершались и
в северные степные районы. Нет определенных сведений о
подчинении этого района эфталитам.
В VI в. территория, на которой была распространена
кенкольская культура, вошла в состав Тюркского каганата.
101
Вид
Груп¬
па
Тип
Ра змср,
см
Коли¬
чество,
зкз.
Памятник
Период,
вв. н. о.
Луки
I
1—2
—
10
Акчий-Карасу
Джал-Арык
Кызарт
Торкен
I-V
Стрелы
I
1-5
3,5X2
59
Акчий-Карасу
Джал-Арык
Кенкол, Торкен
Кзыл-Кайнар-Тобе
I-V
II
1-5
4,5X2,5
26
Акчий-Карасу
Джал-Арык
Торкен
I-V
III
1-5
4,5Х 1
16
Акчий-Карасу
Джал-Арык
Торкен
I-V
IV
1-2
2X1
2
Акчий-Карасу
I-V
I
1
5X1,5
5
Кенкол
I—II
Колчаны
I
1
2
Акчий-Карасу
Джал-Арык
I—V
Мечи
I—II
1-1
95X5
4
Акчий-Карасу
Джал-Арык
Кзыл-Кайнар-Тобе
I-V
'Палаши
I
1
100X3,5
5
Кок-Бсль
Торкен
I-V
Кинжа¬
лы
I
1
28X3,5
1
Кзыл-Кайнар-Тобе
IV-V
Копья
I
1
9X2
1
Торкен
I-V
Панци¬
ри
I
1-2
—
2
Акчий-Карасу
I—V
Кольчу¬
ги
I
1
—
2
Акчий-Карасу
I-V
Щиты
I
1
—
1
Акчий-Карасу
I-V
В конце указанного столетия в Семиречье и на Тянь-Шане
образовался Западно-Тюркский каганат, в связи с чем на
эти земли переселилось значительное количество тюркского
102
кочевого населения. Племена кенкольской культуры, как
считается, были включены в состав каганата и постепенно
ассимилировались тюрками 71.
Успех тюркам в военных столкновениях с кенкольскими
кочевниками, казалось бы лучше вооруженными, принесли
централизованная военная организация, значительный чис¬
ленный перевес и мобильная тактика рассыпного строя.
Примечания
1 Литвинский Б. А. Среднеазиатские железные наконечники
стрел // СА.— 1965.— № 2.— С. 75—91; Он же. Сложносоставной лук
в древней Средней Азии // СА.— 1966.— № 4.— С. 51—69; Хаза¬
нов А. М. Сложные луки евразийских степей и Ирана в скифо-сар¬
матскую эпоху // Материальная культура народов Средней Азии и
Казахстана.— М., 1966.— С. 29—44; Обельченко О. В. Мечи и кин¬
жалы из курганов Согда // СА.— 1978.— № 4.— С. 115—127; Аки¬
шев А. К. Костюм «золотого человека» и проблема катафрактария //
Военное дело древних племен Сибнри и Центральной Азии.— Ново¬
сибирск, 1981.— С. 54—64.
2 Литвинский Б. А. Древние кочевники «Крыши мира».— М.,
1972.— С. 84—122; Мандельштам А. М. Кочевники на пути в
Лидию.— М.— Л., 1966.— С. 102—103; Толстов С. П. Древний Хо¬
резм.— М., 1948; Он же. По следам древнехорезмийской цивилиза¬
ции.— М.— Л., 1948; Кочевники на границах Хорезма.— М., 1979;
Акишев К. А., Кушаев Г. А. Древняя культура саков и усуней доли¬
ны реки Или.— Алма-Ата, 1963.
3 Рудо К. Г. К вопросу о вооружении Согда VII—VIII вв. // Со¬
общения Республиканского историко-краеведческого музея
ТаджССР.— Душанбе, 1952.— Вып. 1.— С. 59—72; Джалилов А.
Войско и вооружение согдийцев накануне и в период борьбы с араб¬
ским нашествием // Изв. Отд. ОН API ТаджССР.— 1956.— Вып. 8.—
С. 81—95; Распопова В. И. Согдийский город и кочевая степь в
VII — VIII вв. // КСИА. — 1970.— Вып. 122. — С. 89—90; Она же.
Металлические изделия раннесредневскового Согда.— Л., 1980.—
С. 65-86.
4 Бернштам А. Н. Кснкольский могильник // Арх. экс. ГЭ.—
Л., 1940.—Вып. 2.—С. 30—31.
5 Бернштам А. Н. Археологические работы в Семиречье //
КСИИМК.— 1940.— Вып. 4.— С. 45.
6 Бернштам А. Н. Очерк истории гуннов.— Л., 1951.— С. 109—
111; Он же. Историко-археологические очерки Центрального Тянь-
Шаня и Памиро-Алая.— М.— Л., 1952.— С. 62.
7 Сорокин С. С. О датировке и толковании Кенкольского могиль¬
ника // КСИИМК.— 1956.— Вып. 64.— С. 14.
8 Там же.— С. 10—13.
9 Сорокин С. С. Среднеазиатские подбойные и катакомбные за¬
хоронения как памятники местной культуры // СА.— 1956.— Вып. 26.
10 Кожомбердиев И. К. Новые данные о Кенкольском могильнике//
КСИИМК.— 1960.— Вып. 80.— С. 74—75; Он же. Катакомбные
памятники Таласской долины // Археологические памятники Талас¬
ской долины.— Фрунзе, 1963.
103
11 Кожомбердиев И. К. Материалы для археологической карты
Кетмень-Тюбинской котловины // Кетмень-Тюбе.— Фрунзе, 1977.—
С. 219—227.
12 История Киргизской ССР.—Фрунзе, 1968.—Т. 1.—С. 86;
История Киргизской ССР.— 2-е изд.— Фрунзе, 1984.—Т. 1.—С. 169.
13 История Киргизской ССР.— 1968.— Т. 1.— С. 86.
14 Там же.— С. 79—88.
15 Амброз А. К. Кочевнические древности Восточной Европы и
Средней Азии V—VIII вв. // Степи Евразии в эпоху средневе¬
ковья.—М., 1981.—С. 21, 22.
16 Заднепровский Ю. А. Опыт региональной классификации по¬
гребальных памятников кочевников Средней Азии древнего периода
(II в. до н. э.— VI в. н. э.) // Страницы истории и материальной куль¬
туры Киргизстана.— Фрунзе, 1975.— С. 161—162.
17 Мерщиев М. С. Поселение Кзыл-Кайнар-Тобе I—IV веков и
захоронение на нем воина IV—V веков //По следам древних куль¬
тур Казахстана.— Алма-Ата, 1970.— С. 91.
18 Худяков Ю. С. Метод классифицирования предметов воору¬
жения по материалам вооружения средневековых кочевников //
Использование методов естественных и точных наук при изучении
древней истории Западной Сибири.— Барнаул, 1983.— С. 76—77.
19 Худяков Ю. С. Основные понятия оружиеведения // Новое в
археологии Сибири и Дальнего Востока.— Новосибирск, 1979.—
С. 184—193.
20 Кожомбердиев И. К., Худяков Ю. С. Конструктивные особен¬
ности панциря из могильника Акчий-Карасу // Культура и искусство
Киргизии/Тезисы докладов всесоюзной научной конференции.— Л.,
1983.— Вып. 2.— С. 71—72.
21 Мерщиев М. С. Поселение Кзыл-Кайнар-Тобе...— С. 91.
22 Савинов Д. Г. Новые материалы по истории сложного лука и
некоторые вопросы его эволюции в Южной Сибири // Военное дело
древних племен Сибири и Центральной Азии.— Новосибирск, 1981.—
С. 156.
23 Худяков Ю. С. Эволюция сложносоставных луков енисейских
кыргызов (VI—XII веков) // Древняя история народов юга Восточной
Сибири.— Иркутск, 1978.— Вып. 4.— С. 131.
24 Коновалов П. Б. Хунну в Забайкалье.— Улан-Удэ, 1976.—
С. 178—179; Худяков Ю. С. Военное дело кочевников Южной Сибири
и Центральной Азии в хуннскую эпоху // Скифо-сибирский мир.—
Кемерово, 1984.— С. 147.
25 Гаврилова А. А. Могильник Кудыргэ как источник по истории
алтайских племен.— М.— Л., 1965.— С. 55; Сорокин С. С. Большой
Берельский курган // Тр. ГЭ.— Л., 1969.— Т. X.— С. 234; Уман-
ский А. П. Могильники верхнеобской культуры на верхнем Чумыше//
Бронзовый и железный век Сибири.— Новосибирск, 1974.— С. 142;
Сорокин С. С. Погребения эпохи великого переселения народов в райо¬
не Пазырыка // АСГЭ.— Л., 1977.— Вып. 18.— С. 66; Кызласов Л. Р.
История Тувы в средние века.— М., 1969.— С. 72; Арсланова Ф. X.
Курганы «с усами» Восточного Казахстана // Древности Казахста¬
на.— Алма-Ата, 1975.— С. 124.
26 Коновалов П. Б. Хунну в Забайкалье.— С. 178—179.
27 История Киргизской ССР.— 1968.— Т. I.— С. 79; Амброз А. К.
Кочевнические древности...— С. 21, 22.
28 Сорокин С. С. О датировке и толковании...— С. 10.
29 Там же.— С. 10—11.
30 Мерщиев М. С. Поселение Кзыл-Кайнар-Тобе...— С. 91.
31 Сорокин С. С. О датировке и толковании...— Рис. 2, 6,
104
82 Там же.— Рис. 3, А\ Памятники культуры и искусства Кир¬
гизии.— Л., 1983.- С. 44—45.
33 Распопова В. И. Металлические изделия раннесредневекового
Согда.— С. 68—73.
34 Там же.— С. 73.
35 Вайнштейн С. И. Раскопки могильника Кокэль в 1962 г. //
Тр. ТКАЭЭ.— Л., 1970.— Т. 3.— Рис. 60, 2\ Грач А. Д. Археологи¬
ческие раскопки в Сут-Холе и Бай-Тайге // Тр. ТКАЭЭ.— М.— Л.,
1966.— Т. 2.— С. 103; Асеев И. В., Кириллов И. И., Ковычев Е. В.
Кочевники Забайкалья в эпоху средневековья.— Новосибирск,
1984.— С. 93.
36 Мерщиев М. С. Поселение Кзыл-Кайнар-Тобе...— С. 91.
37 История Киргизской ССР.— 1968.— Т. 1.— С. 86.
38 Там же.
39 Хазанов А. М. Очерки военного дела сарматов.— М., 1971.—
С. 15—24.
40 Обельченко О. В. Мечи и кинжалы...— С. 118—126.
41 Амброз А. К. Кочевнические древности...— С. 15.
42 Хазанов А. М. Очерки военного дела сарматов.— С. 126;
Амброз А. К. Кочевнические древности...— С. 15.
43 Уманский А. П. Погребение эпохи «Великого переселения на¬
родов» на Чарыше // Древние культуры Алтая и Западной Сибири.—
Новосибирск, 1978.— С. 134—138.
44 Там же.— С. 162.
45 Подольский М. Л., Тетерин Ю. В. Раскопки раннетагарских
курганов в зоне Знаменской оросительной системы // АО 1978 года.—
М., 1979.— С. 267.
46 Грязнов М. П. История древних племен верхней Оби по мате¬
риалам раскопок близ с. Большая Речка // МИА.— М.— Л., 1956.—
№ 48.— С. 111; Уманский А. П. Могильники верхнеобской культу¬
ры...— С. 146—147; Арсланова Ф. X. Курганы «с усами»...— С. 129;
Асеев И. В., Худяков К). С., Цэвэндорж Д. Погребение хуннского вои¬
на на горе Сул-Толгой.
47 Рерих Ю. Н. Звериный стиль у кочевников Северного Тибе¬
та.— Прага, 1930.— С. 14.
48 Мерперт Н. Я. Из истории оружия племен Восточной Европы в
раннем средневековье // СА.— 1955.— Вып. 23.— С. 160.
49 Распопова В. И. Металлические изделия...— С. 78—79; Беле-
пицкий А. М. Монументальное искусство Пенджикента.— М., 1973.—
С. 18—21.
60 Беленицкий А. М. Монументальное искусство...— С. 21, 22.
51 Мерщиев М. С. Поселение Кзыл-Кайнар-Тобе...— С. 91.
62 Там же.— С. 91.
53 Там же.— С. 100.
54 Цэвэндорж Д. Новые данные по археологии хунну // Древние
культуры Монголии.— Новосибирск, 1985.— С. 81.
55 Вайнштейн С. И. Раскопки могильника Кокэль...— Рис. 14, 5.
56 Распопова В. И. Металлические изделия...— С. 74.
67 Хазанов А. М. Очерки военного дела сарматов.— С. 48.
58 История Киргизской ССР.— 1968.— Т. 1.— С. 86.
59 Кожомбердиев И. К., Худяков Ю. С. Конструктивные особен¬
ности панциря...— С. 71—72.
60 Распопова В. И. Металлические изделия...— С. 80—83.
61 История Киргизской ССР.— 1968.— Т. 1.— С. 86.—
Рис. на с. 87.
62 Там же.— С. 86.
105
63 Сорокин С. С. Среднеазиатские подбойные и катакомбные за¬
хоронения...— С. 107—109.
64 Хазанов А. М. Очерки военного дела сарматов.— С. 71.
65 Рерих Ю. Н. Звериный стиль...— С. 22.
66 Рерих Ю. II. Тохарская проблема // НАА.— 1963.— № 3.—
С. 120.
67 За днепровский Ю. А. Об этнической принадлежности памятни¬
ков кочевников Семиречья усуньского периода II в. до н. э.— V в.
н. э. // Страны и народы Востока.— М., 1971.— Вып. X.— С. 33;
Стависский Б. Я. Кушанская Бактрия: проблемы истории и культу-
туры.— М., 1977.— С. 106—107; Сарианиди В. И. Афганистан: сокро¬
вища безымянных царей.— М., 1983.— С. 143.
68 Мошкова М. Г. Сарматы и Средняя Азия // Тезисы докладов на
сессии, посвященной итогам полевых археологических исследований
1972 года в СССР.— Ташкент, 1973.— С. 107.
69 Стависский Б. Я. Кушанская Бактрия...— С. 110.
70 Зеймаль Е. В. «Сино-Кхароштийские» монеты // Страны и на¬
роды Востока.— М., 1971.— Вып. X.— С. 117—118.
71 История Киргизской ССР.— 1968.— Т. 1.— С. 106.
Часть II
ЭПОХА СРЕДНЕВЕКОВЬЯ
А. С. Васютин, В. Н. Елин, А. М. Илюшин
НОВЫЕ НАХОДКИ ПРЕДМЕТОВ ВООРУЖЕНИЯ
В ДРЕВНЕТЮРКСКИХ ОГРАДКАХ ГОРНОГО АЛТАЯ
Публикацией серии статей, посвященных комплексу воору¬
жения древнетюркского населения среднего Енисея, пред¬
горных и горных районов Алтая, положено начало созданию
сводного очерка по вооружению и военному делу древних
тюрок 1. В значительной мере, как уже указывалось в ли¬
тературе, решению этой задачи препятствует дискуссион-
ность определения хронологической и этнокультурной ат¬
рибутики погребальных памятников средневековых кочев¬
ников Саяно-Алтая 2. В этой связи находки предметов во¬
оружения в древнетюркских оградках не только пополняют
источниковую базу, но и позволяют более однозначно су¬
дить в этнокультурном аспекте о собственно древнетюрк¬
ском комплексе. Количество одиночных находок и вещевых
комплексов из древнетюркских оградок Горного Алтая за
последние годы значительно возросло 3. Это объясняется
не только возрастающим интересом к своеобразным памят¬
никам, но и является результатом их специального иссле¬
дования 4.
Рассматриваемые материалы зафиксированы при раскоп¬
ках древнетюркских оградок на площади могильников
Нижняя Сору, Большой Курманак-I, Кер-Кечу в Централь¬
ном и Кок-Паш в Восточном Алтае.
Изображения пеших и конных лучников в петроглифах
древнетюркской эпохи, воссоздающие внешний облик воина,
в отдельных случаях позволяют получить более полное
представление о формах, размерах и типах воинского сна¬
ряжения. Последнее, как правило, является результатом
реконструкции. Так, некоторые детали гравированного изо¬
бражения пешего лучника в головном уборе в виде кониче¬
ского шлема, с колчаном и стрелами у пояса, нанесенного
на стелу, установленную с восточной стороны оградки В-3
из Нижней Сору, позволяют реконструировать тип его за-
107
Рис. 1. Гравированное изображение пешего лучника па стеле (./ —
Нижняя Сору, огр. В-3) и костяные накладки на лук {2—8 — Кок-
Паш, огр. А-2).
щитного доспеха. Параллельные линии на^нижней части
тулова нижнесоринского лучника (рис. 1, 1), можно рас¬
сматривать не только как одну из иконографических осо¬
бенностей рисунков древнетюркского времени, но и как
изображение деталей одежды, близкой по типу к кыргыз¬
скому панцирю, имеющему вид «глухой рубахи» с широким
отверстием для головы и полами выше колен б. Такими же,
как на нижнесоринском лучнике, параллельными линиями
изображены доспехи на кудыргинских 6 и хархадских всад¬
никах из Монгольского Алтая, датируемые VI—VIII вв.
и. э.7
Реконструированный по рисункам доспех с «ламелляр¬
ной» структурой, когда панцирь составляется из маленьких
металлических пластинок, расположенных полосами 8, со¬
108
ответствует выделенному для кыргызов второму типу че¬
шуйчатых панцирей 9. По покрою доспех лучника из Ниж¬
ней Сору близок к панцирям, состоящим из верхней части —
кирасы и нижней — в виде длинных прямоугольных при¬
крытий для нижней части тулова, представляющих собой
своеобразную панцирную юбку, что достаточно хорошо вид¬
но на статуэтке воина из Шэнь-Си 10. Изображение доспе¬
хов-панцирей в виде параллельных полос — прием, харак¬
терный для изобразительного творчества других пародов
Центральной и Средней Азии. Это обстоятельство и служит
основанием для трактовки одежды нижнесоринского луч¬
ника как панцирного доспеха. В этой связи достаточно
вспомнить изображение всадника на наружной стороне щи¬
та с горы Муг, одетого в «ламеллярный» доспех в виде длин¬
ного кафтана, разделенного параллельными полосами,-
с датой не позднее 722 г.11 Существование у тюрок такого ти¬
па доспеха подтверждает изображение одежды на туюк-
мазарских статуэтках, что было обусловлено наличием у
них панцирной кавалерии как рода войск 12. Таким образом,
существование у тюрок-тугю в VI—VIII вв. н. э. развитого
защитного вооружения типа панцирного доспеха с «ламел¬
лярной» структурой, аналогичного второму типу чешуйча¬
тых панцирей у кыргызов, четко документируется археоло¬
гическими материалами. Собственно, у енисейских кыргы¬
зов находки чешуйчатых панцирей приходятся в основном
па IX—X вв., а в более раннее время их нагрудные пан¬
цири, по сравнению с доспехами тюрок, более просты по
своей конструкции 13. Судя же по находке крупного фраг¬
мента пластинчатого доспеха в к. 2 Узунтала 14, алтайские
тюрки и в конце I тыс. н. э., как и кыргызы, употребляли
чешуйчатые панцири, являющиеся принадлежностью тяже¬
ловооруженных воинов 15.
Костяные накладки на лук, обнаруженные в каменном
ящике2А-2 Кок-Паша (см. рис. 1, 3—S), представленные
концевой, срединными боковыми с косо срезанными конца¬
ми и узкой прямой фронтальной накладками, могут быть
отнесены, согласно А. А. Гавриловой, к ранним, так как с
катандинского времени наибольшее применение получают
луки без концевых накладок 16. Лук из кокпашской оград¬
ки наиболее близок к типу 2, выделенному по материалам
Горного Алтая Ю. С. Худяковым, с короткими, с плавным
изгибом, концевыми и узкими срединными фронтальными
накладками, без заметного расширения на концах. Под¬
тверждается и предположение о том, что данный тип лука
имел асимметричные плечи, а концевые накладки крепились
109
только на одном конце кибити 17. Наиболее часты находки
подобных луков в памятниках VI—VII вв. Они отличны
от луков хуннского типа, но продолжают их традицию, тог¬
да как в VII—VIII в. наибольшее распространение получа¬
ют луки только с двумя боковыми накладками 18.
Железные наконечники стрел из древкеткркских огра¬
док типологически разнообразны и находятся в достаточно
хорошей сохранности. По сечению пера они объединяются
в группы, по форме пера — в типы 19.
Группа 1. Трехлопастные наконечники стрел.
Тин 1. Удлиненно-пятиугольные (рис. 2, 1—9, 11—14,
21, 24). Эта серия включает 17 экз. из Кер-Кечу, Большого
Курманка I и Кок-Паша. Относительно их датировки еще
А. А. Гавриловой было указано на длительное бытование
подобного типа наконечников, начиная с кудыргииского и
кончая сросткинским временем 20. Это подтверждается и
специальными исследованиями для различных районов Юж¬
ной Сибири и, в частности, для Горного Алтая, где указан¬
ный тип наконечников стрел бытует на протяжении всей вто¬
рой половины I тыс. н. э.21 К концу I тыс. н. э. такие трех¬
лопастные наконечники претерпевают некоторые изменения,
наряду с продолжающими бытовать широколопастными по¬
являются узколоиастные с вытянутыми сторонами, усилен¬
ные граненым острием и функционально предназначенные
для пробивания брони 22. Хорошей иллюстрацией, под¬
тверждающей это наблюдение, являются материалы рас¬
копок А. В. Адрианова и С. А. Теплоухова, датируемые
IX—X вв.23 Этим характеристикам отвечает ряд рассмат¬
риваемых наконечников стрел (рис. 2, 4—9, 14, 21).
Тип 2. Удлиненно-шестиугольные (рис. 2, 22), представ¬
лены 1 экз. из Нижней Сору. Подобные формы широко
известны в материалах погребений 24 и среди находок в
древнетюркских оградках 25.
Тип 3. Наконечник с широкими гранями и коротким
туловом, типологически близок к типу 3 кыргызских тома-
ров 2С. Представлен 1 экз. из Нижней Сору (рис. 2, 23).
Такие наконечники стрел характерны для поздних ком¬
плексов Хакасии и Тувы 27.
Группа 2. Трехгранно-трехлопастные, представле¬
ны 2 экз. из Кер-Кечу (рис. 2, 10, 15). Относятся к нако¬
нечникам стрел с выделенной боевой головкой и выемкой
в основании граней. Этот тип наконечников, сложных в из¬
готовлении, появляется не ранее IX в. и становится харак¬
терным для памятников конца I тыс. н. э. на сопредельных
с Алтаем территориях 28.
110
Рис. 2. Железные наконечники стрел.
1—1° ~ Кер-Кечу , огр. А-2; 11—19 — Кер-Кечу, огр. А-1; 20, 21 — Большой
Вурманак-1, orpt А-1; 22, 23 — Нижняя Сору, огр. В-3 и Г-1; 24 — Кок-Паш
огр._А-2, ’
111
Группа 3. Трехгранные, представлены 1 экз. из
Кер-Кечу (рис. 2, 77), соответствуют типу 2 боеголовковых
наконечников стрел 29.
Группа 4. Четырехгранные, представлены 1 экз.
из Кер-Кечу (рис. 2, 18). Наконечник с выделенной боевой
головкой на короткой шейке.
Группа 5. Уплощенные, представлены 1 экз. из
Большого Курмапака-1 (рис. 2, 20). Наконечник с выде¬
ленной ромбовидной боевой головкой на длинной шейке.
Группа 6. Плоские, представлены 1 экз. из Кер-
Кечу (рис. 2, 19). Наконечник асимметрично-ромбической
формы с односторонней нервюрой.
Рассмотренная серия типологически разнообразных на¬
конечников стрел из древнетюркских оградок Горного Ал¬
тая не только дополняет имеющиеся материалы по средствам
ведения дистанционного боя у древних тюрок, но может
быть использована и как хронологически показательный
признак. Такие наконечники стрел, как трехлопастные уд¬
линенно-пятиугольной формы с граненым острием, трех-
гранно-трехлопастные с выделенной боевой головкой, на¬
конечники типа кыргызских томаров, трех- и четырехгран¬
ные, и плоские наконечники характерны для памятников
Алтая и Южной Сибири конца I тыс. н. э., в пределах IX —
X вв. 30
Новые находки предметов вооружения из алтайских огра¬
док способствуют дальнейшему уточнению типолого-хроно¬
логической классификации комплекса вооружения древних
тюрок, указывая в то же время на специфически воинскую
атрибутику этих характерных для древнетюркской героиче¬
ской эпохи археологических памятников.
Примечания
1 Савинов Д. Г. Новые материалы по истории сложного лука и
некоторые вопросы его эволюции в Южной Сибири // Военное дело
древних племен Сибири и Центральной Азии.— Новосибирск, 1980.—
С. 146—162; Худяков Ю. С. Вооружение кок-тюрок среднего Енисея//
Изв. СО АН СССР. Сер. обществ, наук.— 1980.— № 11.— С. 91 —
99; Он же. Вооружение кочевников приалтайских степей в IX—X вв.//
Военное дело древних племен Сибири и Центральной Азии.— Ново¬
сибирск, 1980.— С. 115—132; Он же. Вооружение древних тюрок
Горного Алтая II Археологические исследования в Горном Алтае в
1980—1982 годах.— Горно-Алтайск, 1984.— С. 3—27.
2 Худяков Ю. С. Вооружение древних тюрок Горного Алтая.—
С. 3.
3 Кубарев В. Д. Новые сведения о древнетюркских оградках Вос¬
точного Алтая // Новое в археологии Сибири и Дальнего Востока.—
112
Новосибирск, 1979.— Рис. 1, 5, 8, 11, 20, 22; Могильников В. А.г
Клин В. Н. Курганы Талдура // Археологические исследования в Гор¬
ном Алтае в 1980—1982 годах.— Горно-Алтайск, 1984.— Рис. 13;.
Млюшин А. М. Периодизация и хронология древнетюркских поминаль¬
ных оградок Горного Алтая VII—X вв. II Материалы XXI Всесоюзной
пмучной студенческой конференции «Студент и научно-технический
прогресс».— Новосибирск, 1983.— С. 14.
4 Васютин А. С. Разведка в бассейне р. Кокоря // АО 1979 го¬
да.— М., 1980.— С. 195; Он же. Поиски ритуальных сооружений на
Алтае II АО 1980 года.— М., 1981.— С. 171; Он же. Исследование
древнетюркских оградок в Горном Алтае // АО 1981 года.— М., 1983.—
С. 192; Он же. Культовые памятники древних тюрок Горного Алтая
VII—X вв. н. э.: Автореф. дис. канд. ист. наук.— Кемерово, 1983.—
С. 4-10.
5 Худяков Ю. С. Вооружение енисейских кыргызов.— Новоси¬
бирск, 1980.— С. 122.
6 Могильников В. А. Тюрки // Степи Евразии в эпоху средне¬
вековья.— М., 1981.— Рис. 21, 2.
7 Новгородова Э. А. Периодизация петроглифов Монголии //
Средняя Азия и ее соседи в древности и средневековье.— М., 1981.—
Рис. 18.
8 Новгородова Э. А., Горелик М. В. Наскальные изображения
тяжеловооруженных всадников с Монгольского Алтая // Древний Вос¬
ток и античный мир.— М., 1980.— С. 107.
9 Худяков Ю. С. Вооружение енисейских кыргызов.— С. 126.
10 Новгородова Э. А., Горелик М. В. Наскальные изображе¬
ния...— Рис. 11, 1.
11 Гумилев Л. А. Статуэтки воинов из Туюк-Мазара // МАЭ.—
Л., 1949.—Т. XX.-С. 128, 129.
12 Савинов Д. Г. Древнетюркские курганы Узунтала (к вопросу
о выделении Курайской культуры) // Археология Северной Азии.—
Новосибирск, 1982.— С. 24.— Рис. 1, 4.
13 Худяков Ю. С. Вооружение енисейских кыргызов.— С. 126.
14 Савинов Д. Г. Древнетюркские курганы...— Рис. 8.
15 Худяков Ю. С. Вооружение енисейских кыргызов.— С. 128.
36 Гаврилова А. А. Могильник Кудыргэ как источник но истории:
илтайских племен.— М.— Л., 1965.— С. 87.
17 Худяков Ю. С. Вооружение кочевников...— С. 4.
18 Савинов Д. Г. Новые материалы...— С. 155; Он же. Древне¬
тюркские курганы...— С. 128, 129.
19 Худяков Ю. С. Вооружение кочевников...— С. 79.
20 Гаврилова А. А. Могильник Кудыргэ...— С. 88.
21 Худяков Ю. С. Вооружение древних тюрок...— С. 14, 15.
22 Худяков Ю. С. Вооружение енисейских кыргызов.— С. 99.
23 Кызласов Л. Р. Курганы тюхтятской культуры в Туве (по
материалам раскопок 1915—1929 гг.) // СА.— 1983. — № 3.—
Рис. 6, 2, 4, 11.
24 Худяков Ю. С. Вооружение древних тюрок...— С. 6.
25 Могильников В. А., Елин В. Н. Курганы Талдура.— Рис. 13, 5.
26 Худяков Ю. С. Вооружение енисейских кыргызов.— С. 80.—
Табл. XXIV, 1.
27 Худяков Ю. С. Кок-тюрки на среднем Енисее // Новое в архео¬
логии Сибири и Дальнего Востока.— Новосибирск, 1979.—
Табл. III, 72, 13. Нечаева Л. Г. Погребение с трупосожжением могиль¬
ника Тора-Тал-Орты // Тр. ТКАЭЭ.— М.— Л., 1966.— Т. И.—
С. 112.— Рис. 3, 2.
ИЗ:
28 Худяков Ю. С. Вооружение енисейских кыргызов.— С. 15,
23.— Рис. 1, 2\ Кызласов Л. Р. Курганы тюхтякской культуры...—
Рис. 8, 2.
29 Худяков Ю. С. Вооружение енисейских кыргызов.— С. 7.
30 Кызласов Л. Р. Курганы тюхтякской культуры...— С. 88, 89;
Нечаева Л. Г. Погребение с трупосожжением...— Рис. 3, 3\ Плотни¬
ков Ю. А. Наконечники стрел из Кызыл-Ту // Военное дело древних
племен Сибири и Центральной Азии.— Новосибирск, 1980.— С. ИЗ;
Худяков Ю. С. Вооружение енисейских кыргызов.— Табл. II, с. 131;
Он же. Вооружение древних тюрок...— С. 15; Савинов Д. Г. Народы
Южной Сибири в древнетюркскую эпоху.— Л., 1984.— С. 130, 131.
Ю. И. Ожередов
СТАРИЦИНСКИЕ НАХОДКИ
В сентябре 1938 г. в Колпашевский краеведческий музей
поступили сабля и шлем найденные колхозником
А. Р. Ртищевым в размыве левого берега р. Парабель у
с. Старица Парабельского района Томской области *. Усло¬
вия находки не ясны. Возможно, что это вещи из захороне¬
ния (специального обследования места обнаружения не про¬
водилось). В работу А. П. Дульзона они вошли как слу¬
чайная находка несомненно русского происхождения 2.
Сабля представляет собой тип, широко распространен¬
ный в раннем средневековье на территории Евразии, и в
частности в таежной зоне Западной Сибири3 (рис. 1, 7).
Общая длина сабли 79 см. Клинок 66 см, плоский, с удли¬
ненно-треугольным сечением, в последней трети — слабый
изгиб в сторону обуха (0,7 см). Острие однолезвийное с косо
срезанным концом. Ширина клинка у основания 3,5 см,
к острию постепенно сужается до 2,5 см. Толщина клинка
по обуху уменьшается в том же направлении — от 0,6 см
до 0,3 см. При переходе клинка в черен рукояти, откован¬
ный заодно с клинком, возникло два плечика — со стороны
обуха и со стороны лезвия. Рукоять расположена на одной
оси с полосой клинка, что характерно для ранних типов са¬
бель. Позже рукоять стали отгибать в сторону лезвия 4.
Черен рукояти прямой (13 см) с расширением на конце, где
пробиты два отверстия для заклепок, крепивших обкладки
рукояти. У перекрестья обкладки, видимо, схватывались
* Пользуясь случаем, автор выражает глубокую признательность
директору Колпашевского краеведческого музея Е. М. Ефимовой и
другим сотрудникам за помощь в работе.
114
Рис. 1. Старицинская сабля.
1 — общий вид; 2 — перекрестье.
кольцом-обоймой. Способ крепления с
помощью перекрестья, как, например,
у некоторых кыргызских образцов б,
здесь неприемлем из-за особенности
самого перекрестья. Око прямое (7 см)
со слабыми топоровидными расшире¬
ниями на концах. В плане имеет форму
клина с прямым отростком вверх (рис.
1, 2). Перекрестье изготовлено из од¬
ной неширокой (1 см) железной пла¬
стинки, согнутой пополам, напущен¬
ной на основание клинка и закован¬
ной на концах так, что снять его бы¬
ло бы уже невозможно. Незначитель¬
ная длина (1,7 см) «рабочих» выступов
перекрестья (за края клинка) и отсут¬
ствие утолщений и расширений в сред¬
ней части характеризуют его лишь
как упор для руки фехтующего. Ана¬
логичное перекрестье встречено на од¬
ном из палашей Елыкаевской коллек¬
ции*, рукоять которого увенчана коль¬
цевым навершкем, откованным заодно
с широким череном. Кольцевые навер-
П1пя были особенно распространены в
сарматское и гуннское время °, и, должно быть, некоторая
часть их употреблялась (на отдельных образцах) до раннего
средневековья7. Таким образом, сосуществование кольцевого
павершия и описанного типа перекрестья на одном экземп¬
ляре оружия может характеризовать последнее как наи¬
более раннее для средневековья. А значит, и старицинская
сабля, имеющая подобное перекрестье, попадает в ряд ран¬
них сабель.
Обращаясь к детальному рассмотрению клинка, следует
отметить, что форма его (без учета кривизны) полностью
повторяет форму палашей, известных из Ишимской, Елы-
каевской коллекций и других находок. В старицинской
сабле отразился переход от палата к сабле. По мнению ряда
* Фонды Музея археологии и этнографии Сибири при Томском
к ^ дарственном университете, № 5959/37.
115
Рас. 2. Старицинский шлем.
1 — чертеж-схема шлема; 2'— шлем; з — реконструкция шлема; 4 — система
крепления бармицы к шлему.
исследователей, этот переход, породивший новый вид ору¬
жия ближнего боя — саблю, произошел в VII—VIII вв.8
Опираясь на вышеперечисленные признаки, представляется
правомерным отнести старицинскую саблю к периоду за¬
рождения данного вида оружия и считать возможной ниж¬
нюю дату его бытования — VII в. н. э. Однако сосущест¬
вование старых типов с новыми продолжалось на протяже¬
нии всего пути формирования сабли, завершившегося не
ранее X в.9 появлением сабель с большим изгибом полосы,
с длинным и острым окончанием.
Старицинский шлем сохранился не полностью, поэтому
некоторые недостающие части реконструированы автором
(рис. 2, 1 — 3).
Шлем железный с цельнокованой тульей сфероконической
формы, кольчужной бармицей и вставленным в тулью на
одпу треть ширины железным обручем. Современная высота
шлема 16 см, диаметр по кромке обруча 22x20 см, диаметр
по внешней кромке тульи на 1 см больше за счет толщины
116
Рис. 3. Шлемы.
1—из Тураевского могильника; 2 — из могильника Релка; з—из Муракаев-
ского 9-го кургана.
(0,5 см) стенок тульи в нижней части. В плане шлем имеет
яйцевидную форму, так как затылочная часть несколько
шире передней. Вряд ли вершину венчало навершие со втул¬
кой или другим приспособлением для крепления плюмажа,
как это было у многих шлемов, найденных в Сибири и на
сопредельных территориях 10 (рис. 3, 2, 2). Характер про¬
лома в вершине дает возможность представить ее завершен¬
ной плавным коническим куполом (см. рис. 2, 2, 2). При
такой форме высота шлема достигала 19—20 см. Сфероко¬
нические пропорции, очевидно, создавали достаточную
прочность, что позволило мастеру плавно утоньшить стен¬
ки тульи от 0,5 см у нижнего края до 0,2 см близ вершины,
за счет чего уменьшился вес оголовья. Эти два осиовпых
качества цельнокованых шлемов, необходимые боевому ого¬
ловью,— высокая прочность и небольшой (относительно
клепаных шлемов) вес 11 — впоследствии привели к отказу
от последних.
Внутрь тульи на одну треть вставлен железный обруч
шириной 3,5 см. Он состоит из двух частей, склепанных
краями внахлест. Примерно на центральной оси по всему
периметру обруча сделаны отверстия со средним диаметром
0,2 см. Назначение их объясняют несколько декоративно
крупных (диаметр 1 см) сферических головок железных за¬
клепок. Головки прижимают цилиндрические обоймы, вы¬
117
гнутые из железных полосок в виде петли, концы которых
держат заклепки (см. рис. 2, 4).
При наличии малочисленного материала реконструиро¬
вать бармицу в полном объеме не удалось. Но, судя по рас¬
положению сохранившихся на шлеме кольчужных колец
(или их остатков), которые встречаются (с небольшими пере¬
рывами) по всему периметру обруча, бармица обеспечивала
круговую защиту как шеи, так и, возможно, части лица
воина до уровня глаз. Для предположения о полном при¬
крытии лица и передней части шеи нет пока достаточных
оснований. Привлекает внимание продуманность всей кон¬
струкции шлема. Прежде всего рациональная форма тульи
с высокой степенью отражения как вертикально, так и гори¬
зонтально направленных ударов. Гладкая, возможно поли¬
рованная, поверхность без лишних деталей и украшений,
убранный внутрь обруч способствовали свободному соскаль¬
зыванию клинка противника на бармицу, которая принима¬
ла ослабленный удар без особого для себя ущерба. Креп¬
ление бармицы к обручу, а не к краю тульи, по-видимому,
определялось двумя причинами. Во-первых, толщина сте¬
нок тульи в нижней части затруднила бы крепление бар¬
мицы и не обеспечила надежного соединения. Во-вторых,
при приклепывании сетки к обручу предварительные опе¬
рации (разметка, пробивка отверстий и т. п.) можно про¬
извести до сгибания полосы в кольцо. Располагая верхний
край бармицы на обруче, мастер как бы подводил его под
нависающие края тульи, что придало законченную обте¬
каемость всей конструкции. К тому же этим, видимо, дости¬
галось предохранение места соединения бармицы с обручем
от срубания верхних колец и срывания сетки при сильном
скользящем по шлему ударе клинкового оружия. Этой же
цели могли служить и широкие цилиндрические обоймы,
в которые продевались верхние звенья бармицы. Они, в
свою очередь, прикрывались мощными головками закле¬
пок.
Не пренебрег, на взгляд автора, мастер и эстетической
стороной. Стройный ряд крупных блестящих головок-за¬
клепок с цилиндрами обойм под ними красочно оживлял
строгие линии боевого оголовья. Под одну из заклепок или
на место ее была прикреплена медная или бронзовая деталь,
от которой остался лишь толстый слой зеленого окисла.
В настоящее время старицинский шлем не имеет анало¬
гов, и это затрудняет его интерпретацию. С территории На-
рымского Приобья, где он был найден, известно еще два
средневековых шлема. Но один из них (Шутовская наход¬
118
ка) утерян, и описания его нет. Второй найден в могильни¬
ке Редка. Но релкинский шлем склепан из восьми верти¬
кальных пластин 12. Сближает их лишь одинаковая коль¬
чужная бармица, не заходящая, однако, у реликтового шле¬
ма на переднюю часть (см. рис. 3, 2). По конструктивным
признакам к старицинскому шлему наиболее близок (из
нам известных) шлем из Тураевского могильника, датиро¬
ванный IV—V вв. н. э.13 Он также цельнокованный и имеет
кольчужную бармицу на обруче (но внешнем). Несколько
более уплощенная, скорее шаросферическая, форма тураев¬
ского шлема и две обоймы для перьев (плюмажей) у нижнего
края характеризуют его как ранний тип средневековых
европейских шлемов, отличающихся от более поздних остро¬
конечных 14. Весьма вероятно, что старицинский шлем, от¬
ражая традицию изготовления цельнокованых шлемов,
подхваченную скорее всего в южном кочевом мире в более
ранний период, продолжает ее ориентировать на порожден¬
ный временем заказ на сфероконические шлемы, распрост¬
ранившийся в клепаном варианте. Относительная редкость
шлемов, к сожалению, не позволяет подобрать достаточный
материал и подробно изучить на нем этот вопрос. Особенно
редки цельнокованые, так как изготовление их требует бо¬
лее высокого мастерства 1б. Но как бы там ни было, умение
ковать шлемы из одного куска железа передавалось из одного
времени в другое, и свидетельство этому — шлем из девя¬
того Муракаевского кургана, датированного X—XI вв.
II тыс. н. э. (см. рис. 3, 3). Постоянный поиск оптимальной
формы тульи породил в то время новую форму сферокони¬
ческих шлемов — с остроконечным шпилем на вершине
и наносником. Возможно, что это одна из вариаций общего
«сфероконического» направления в оружейном ремесле
средневековья в начале II тыс. н. э.
Таким образом, основываясь на вышеизложенных рас¬
суждениях, представляется возможным поместить стари¬
цинский шлем в хронологический промежуток верхней даты
тураевского шлема (V в.) и нижней даты муракаевского
шлема (X в.), т. е. время возможного его бытования находит¬
ся в рамках V—X вв.
Но, касаясь хронологических пределов бытования ста-
рицинской находки в целом, следует обратиться к нижней
дате сабли — VII в. Верхняя дата для обоих предметов
одна — X в. Отсюда позволительно сделать заключение,
что старицинское оружие является раннесредневековым
и время его бытования ограничивается VII—X вв.
119
Примечания
1 Кутафьев Б. И. Отчет об археологических исследованиях
по Нарымскому округу за 1938 год // Фонды МАЭС.— Т. II.—
№ 457—459.
2 Дульзон А. П. Археологические памятники Томской области II
Тр. ТОКМ.— Т. 5.— С. 205.
3 Ермолаев А. Ишимская коллекция.— Красноярск, 1914.—
С. 2, 3.— Табл. 1,7; Могильников В. А. Елыкаевская коллекция Том¬
ского университета // СА.— 1968.— № 1.— С. 264, 265; Чиндина Л. А.
Могильник Релка на средней Оби.— Томск, 1977.— С. 29.
4 Мерперт Н. Я. Из истории оружия племен Восточной Европы
в раннем средневековье // СА.— 1955.— Вып. XXIIL— С. 164.
5 Худяков Ю. С. Вооружение енисейских кыргызов.— Новоси¬
бирск, 1980.— С. 38.
6 Кызласов Л. Р. Древняя Тува.— М., 1979.— С. 110—111.
7 Чиндина Л. А. Могильник Релка...— С. 27—29.
8 Гумилев Л. И. Открытие Хазарии.— М., 1966.— С. 140:
Евтюхова Л. А. Каменные изваяния Южной Сибири и Монголии //
МИА.— 1952.— № 24.— С. 111; Кирпичников А. Н. Древнерусское
оружие.— М.— Л., 1966.— С. 61; Чиндина Л. А. Могильник Рел¬
ка...— С. 29; Мерперт Н. Я. Из истории оружия...— С. 167.
9 Худяков Ю. С. Вооружение кочевников приалтайских степей
в IX—X вв. // Военное дело древних племен Сибири и Центральной
Азии.— Новосибирск, 1981.— С. 118.
10 Чиндина Л. А. Могильник Релка...— Рис. 10, 8; Медве¬
дев В. Е. О шлеме средневекового амурского воина // Военное дело
древних племен Сибири и Центральной Азии.— Новосибирск, 1981.—
Рис. 4; Худяков Ю. С. Вооружение енисейских кыргызов.— С. 129;
Новгородова Э. А., Горелик М. В. Наскальные изображения тяжело¬
вооруженных воинов с Монгольского Алтая // Древний Восток и
античный мир.— М., 1980.— С. 106; Генинг В. Ф. Тураевский могиль¬
ник V в. н. э. // Из археологии Волго-Камья.— Казань, 1976.—
С. 76.—Рис. 31, 1.
11 Рыбаков Б. А. Ремесло Древней Руси.— М., 1948.— С. 234.
12 Чиндина Л. А. Могильник Релка...— С. 32.
13 Генинг В. Ф. Тураевский могильник...— Рис. 31.
14 Новгородова Э. А., Горелик М. В. Наскальные изображе¬
ния...— С. 110.
15 Рыбаков Б. А. Ремесло...— С. 234.
Ю. А. Плотников
«КЛАДЫ» ПРИОБЬЯ
КАК ИСТОРИЧЕСКИЙ ИСТОЧНИК
Термином «клад» в археологической литературе зачастую
обозначаются явления различного происхождения. Это мо¬
гут быть собственно клады, т. е. преднамеренно сокрытые
вещи, остатки разрушенных либо совершенных по особому
120
обряду погребений и, наконец, жертвенные или вообще куль¬
товые места. Как правило, в каждом конкретном случае
требуется специальная работа по выяснению истинного на¬
значения того или иного «клада».
Предлагаемое исследование есть попытка проделать та¬
кую работу в отношении одной разновидности так назы¬
ваемых «кладов». Речь идет о редко встречаемых комплек¬
сах эпохи средневековья, содержащих большое количество
оружия, что дает основание называть их «оружейными кла¬
дами». До недавнего времени в Западной Сибири было из¬
вестно лишь три * подобных памятника — Елыкаевский *,
Ишимский 2 и Парабельский 3. Все они обнаружены слу¬
чайно и археологическому изучению на месте практически
не подвергались.
Названные комплексы получили уже некоторое отраже¬
ние в литературе. Помимо добротной публикации А. Е. Ер¬
молаева стоит отметить работу В. А. Могильникова 4, в ко¬
торой предложена достаточно убедительная датировка Елы-
каевской коллекции (VII—VIII вв.), которая собрана, ви¬
димо, с жертвенного места. Проведен металлографический
анализ железных предметов Елыкаевской коллекции 5. Сле¬
дует признать, однако, что выводы перечисленных работ но¬
сят предварительный либо чересчур общий характер, по¬
этому исторические обобщения с использованием материала
«кладов» не имеют надеяшой основы.
Обратимся к анализу коллекций в археологическом кон¬
тексте с использованием данных этнографии.
Условия находки
Ишимская коллекция: «...в 50 верстах к северу от г. Ачин¬
ска, на левой стороне р. Чулыма, приблизительно в 7—8
верстах от нее к западу... Небольшой островок... где при
первой вспашке была найдена в 1911 г. значительная кол¬
лекция металлических предметов... Предметы все лежали
кучкой в одном месте, на глубине 3—5 вершков от поверх¬
ности... Все найденное было тесно связано с самым ограни¬
ченным пространством — не более 2 квад. аршин»6.
Парабельская коллекция: «На левом берегу р. Яловки
(правого притока р. Парабель), в 1,5 км к югу от с. Пара-
* А. И. Соловьев сообщил нам о существовании еще одного па¬
мятника такого рода — Холмогоровского «клада» (хранится в музее
УрГУ, г. Свердловск). Автор не имел возможности ознакомиться с
коллекцией.
121
бель... На одном из крайних со стороны Парабели холмов,
на восточной его подошве, в мае 1955 г. работники райпшце-
комбината выпахали несколько сабель, наконечников и ко¬
пий, кинжалов и медных ажурных поделок... Р. А. Ураевым
осенью 1955 г. произведен осмотр местонахождения... Все
предметы найдены на одной вышеуказанной платформе хол¬
ма»7.
Елыкаевская коллекция: выпахана в 1905 г. у с. Елы-
каева (ныне Кемеровский р-н Кемеровской обл.)8. Сведений
об условиях залегания находок нет. Обследованию специа¬
листами местонахождение не подвергалось.
Инвентарь «кладов»
Несмотря на неполноту дошедшего до нас материала и ос¬
тавляющую желать лучшего чистоту комплексов, состав
инвентаря кладов весьма однороден. Инвентарь представ¬
лен следующими категориями:
предметы рубяще-колющего вооружения (мечи, палаши,
сабли);
кинжалы;
наконечники копий;
наконечники стрел;
личины;
зеркала и бляхи — в составе всех трех «кладов»;
чеканы, изображения коня (всадника), лося, медведя,
рыб, птиц с развернутыми крыльями — в двух;
причем в состав бронзового литья входят изделия как
кулайской культуры, так и более поздние — во всех трех
коллекциях (рис. 1, 1—33).
Троекратное повторение одного и того же с небольшими
вариациями набора вещей в одинаковых условиях убеждает,
что такой набор не случаен. В состав «среднестатистическо¬
го» клада входят четыре основные категории инвентаря:
личины, оружие, зооморфное литье и зеркала и бляхи.
Мы можем с достаточной уверенностью утверждать, что
перед нами — следы одного и того же явления. Теперь
встает задача определения функционального назначения
«кладов».
За основу принимается не раз высказанная в литературе
гипотеза об их культовом характере. Наиболее подробно
эта гипотеза изложена В. А. Могильниковым, пишущим
о Елыкаевском «кладе» как о жертвенном месте: «Концен¬
трация вещей в земле на одном небольшом месте, которая
на первый взгляд говорит за отнесение коллекции к кладу,
122
123
объясняется устройством жертвенных, мест сибирских на¬
родов. У угров и селькупов они представляли собой неболь¬
шие амбарчики, в которых находились деревянные идолы
(тонгхи или лозы), которым в качестве жертвы приносились
различные изделия, в том числе и особо чтимые древние
вещи. Когда святилища оказывались заброшенными, дере¬
вянные части их разрушались, а металлические вещи ком¬
пактной массой попадали в землю»9.
Действительно, сибирская этнография знает большое
количество фактов о культовых строениях типа «амбарчи-
ка», «юрты» и т. п. Еще Г. Новицкий описывал остяков, ко¬
торые «на холмах... превысочайших и всякому ведению
приятных, кумиры свои поставляют, иногда далече от своих
жилищ... Се же в знамение чести угодныя и изрядная изобре¬
тают местца, кумирни пространные создають, в них же
покладають кумиры и тамо приносимые перед ними сне-
дають свои жертвы»10.
Стоит обратить внимание на сходство приведенного опи¬
сания с условиями залегания «кладов»— на склоне холма,
на острове, посреди болота.
Что же касается термина «жертвенное место», то он пред¬
ставляется недостаточно точным, неадекватным особен¬
ностям исследуемых комплексов. Необходимо определить
явление, структура которого совпадает со структурой «ору¬
жейного клада».
Для решения поставленной задачи обратимся к данным
этнографии народов Сибири, в первую очередь угров и само¬
едов.
Прежде всего личина. Безусловно * это металлическая
накладка на лицо деревянного идола п: «Кумир изсечен
из дерева в подобие человека, сребрено имиющ лице...»;
«в среде поленце от пятьдесят лет прикладными обвитое
сукнами, а наверху з жести изваянная личина мало что бяще
подобие человека»12; «шайтан представлял фигуру человека
небольшого роста, очень грубо сделанную из дерева. Но де¬
рево нельзя было заметить, т. к. все лицо идола было покры¬
то белой жестью и имело только отверстия для глаз, носа
и рта»13. Нахождение в составе Ишимской коллекции двух
личин может объясниться тем, что зачастую идол устанав¬
ливался не один, а в окружении «помощников», «жен» и
т. п.14 Кроме того, есть сведения, что личина, прибиваемая
у входа в жилище, служила оберегом 15.
К персоне идола относились и предметы бронзового
литья. По В. Зуеву, одежду «шайтана» увешивали «литыми
оловянными, медными, железными фигурками»16. Сире-
124
л нусом описаны фигурки ящерицы, змеи, птиц и непонят¬
ных животных, завернутые в ткань, окутывающую дере¬
вянного «богатыря»17.
В. М. Кулемзин приводит сведения, помогающие понять
роль этих изделий. Рассказывая о хантыйских семейных
духах, исследователь отмечает у них духов-помощников,
изображаемых в виде различных животных. «Эти сущест¬
ва, облик которых принимал семейный дух, помогали ему
проникать в труднодоступные места»18. Очевидно, функция
зооморфной бронзы «кладов» была аналогичной.
Не случайно и присутствие в составе литых изделий более
ранних 19 (кулайских или тагарских) вещей. «Археологиче¬
ские предметы... пользовались у угров особым почитанием
п становились предметом культа. Чаще всего это были не¬
большие фигурки животных и людей, многим из которых
ханты и манси приписывали небесное происхождение.
Особое внимание уделялось небольшим литым изобра¬
жениям всадников, коньков, птичек, медведей и некоторых
других животных, в образах которых обские угры видели
персонажи своей собственной мифологии, усматривали
сходство с животными-тотемами»20.
Г. И. Пелих отмечает, что находкам древних изображе¬
ний придавалось огромное значение. Считалось, что они
сами выбирают себе нового хозяина и заставляют найти и
принять их. Нашедший старинное изображение мог считать
себя избранником духа 21. Показательно, что уже в наше
время в археологических предметах остяки узнавали кон¬
кретных мифологических персонажей 22.
Наличие в культовых местах оружия также было обыч¬
ным явлением. По Гр. Новицкому, «знамения воинских дел:
шабель, панцеров множество обретается, но вся сия вет¬
хая, а наипаче при кумирах, а оттуду является, что древних
лет народ сей упражняшеся воинскими делы»23. О том же
сообщает К. Доннер: «В избушке для богов... находился
бог из дерева со своей женой... их защищало оружие...
У входа еще одна фигура часового, на которой висела сабля,
и в другой руке держала меч»24. В. Шавров описывает ос¬
тяцкого идола, который был «поставлен в переднем углу
храмины на возвышении, в виде стола сделанном, и окру¬
жен копьями и саблями, воткнутыми в стол»25. «Мужские
идолы,— отмечает А. Кастрен,— нередко имеют при себе
меч сбоку и броню...»26
Этнография сохранила ряд свидетельств о ритуале, ко¬
торый, на наш взгляд, отправлялся в названных капищах.
Это воинственные пляски с мечами. Сводка данных по это¬
125
му вопросу приведена С. В. Ивановым 27. Наиболее подроб¬
но обряд описан В. Шавровым и А. Кастреном. Описания
разнятся лишь второстепенными деталями, что наводит на
мысль либо о необычайной устойчивости обряда, либо об
общем протографе.
Церемония начиналась вечером, около 8 часов и продол¬
жалась до 2 часов ночи. Каждый приходящий остяк «вер¬
телся по три раза перед кумиром и потом садился на правой
стороне юрты на полу или на нарах... Левая же сторона нар
была закрыта занавесом, за которым находились остячки,
кои при входе также вертелись перед кумиром»28. По дру¬
гим сведениям за левую перегородку уходили только не¬
которые остяки, чтобы совершить по три поклона 29. «На¬
конец, как все собрались, шаман загремел саблями и копь¬
ями железными, заблаговременно приготовленными и ле¬
жавшими над кумиром на местах, каждому из предстоящих,
кроме женщин, кои были закрыты занавесом, дал или саб¬
лю, или копье, а сам, взяв по сабле в ту и другую руку,
стал спиной к кумиру. По получении сабель обнаженных
и копий остяки стали вдоль юрты рядами, и на нарах также
все выстроились, провернулись все вдруг по три раза, держа
перед собою сабли и копья. Шаман ударил своими саблями
одна о другую, и тогда, по команде его, разными голосами
вдруг загайкали, качаясь из стороны в сторону. Гайкали
то редко, то вдруг очень часто, то опять редко, не отставая
один от другого, и при каждом повторении гай перевали¬
вались то направо, то налево, осаживая копья и сабли не¬
сколько книзу и подымая вверх. Крик сей и движение или
перевалка остяков продолжались около часа.
Остяки чем более кричали и качались, тем более, каза¬
лось, приходили в некоторый род изступления, и наконец
так, что я без ужаса не мог глядеть на лица их, кои весьма
много сначала меня занимали»,— продолжает В. Шавров.
«Нагайкавшись довольно, все замолкли и перестали ка¬
чаться, вернувшись по-прежнему, отдали сабли и копья
Шаману, который собравши их, положил туда же, где преж¬
де они лежали. После этого из-за занавеса выходят женщи¬
ны и начинается пантомима и пляски совместно с мужчи¬
нами... После сего Шаман снова раздал сабли и копья.
Остяки, получа их, как и прежде, вернулись, довольно так¬
же гайкали, опять вернулись, в заключение, стукнув кон¬
цами сабель и копий в пол по три раза, отдали их обратно
и разошлись по своим юртам»30.
А. Кастрен добавляет, что в этом описании участвует
один идол, и праздник выглядит так, будто его отмечал один
126
Рис. 2. Изображения фигур с оружием.
1 — Черновая, к. 4, м. 8; 2 — Коцкий городок; 3 — Тобольский музей; 4 —
Ишимбаевский могильник, к. 3, п. 2; 5 — Обь-Енисейское междуречье.
только род, однако им собраны сведения о более крупных
подобных мероприятиях. Далее он поясняет, что, по расска¬
зам, «празднество это продолжается десять ночей сряду,
и что пляску с оружием в первую ночь пляшет перед идола¬
ми только один шаман, во вторую ночь два остяка, в третью
три и так далее, в той же прогрессии, до последней ночи,
когда все присутствующие, даже женщины, имеют право
воздать идолам эту почесть»31. После всего, дополняет
С. В. Иванов, приносится жертва — «убивают оленей и
съедают их мясо. Все это происходит в сентябре или октяб-
ре»3".
127
0 Зсм
1 1 i
Рис. 3. Костяные пан¬
цирные пластины с
гравировками.
1 — Усть-Полуй; 2 —
Дубровинской Борок-3.
Ритуал «танцев с саблями» в археологической и этногра¬
фической литературе давно и прочно связывается с изобра¬
жениями пляшущих мужчин, процарапанными на блюдах
«восточного» происхождения33 или отлитыми в рельефе
(см. рис. 2, 2). По заключению В. П. Даркевича, блюда ха¬
зарского производства попадают в промежуток VIII —
X вв.34, этим же или чуть более поздним временем следует
датировать и угорские палимпсесты на них. Наиболее ран¬
ними 35 свидетельствами бытования ритуала воинственных
плясок следует признать гравировки на костяных панцирных
пластинах усть-полуйской 36 и кулайской 37 (рис. 3, i, 2)
нультур, изображающие личину с двумя кинжалами по бо¬
кам. На наш взгляд, следует признать очевидным сущест¬
вование обряда танцев с оружием начиная как минимум
с эпохи раннего железа до этнографической современности
(В. Н. Чернецов наблюдал эти пляски на Оби в 30-х годах
нашего столетия)38.
Во время работы в фондах Колпашевского краеведче¬
ского музея нам удалось ознакомиться с коллекцией пред¬
метов шаманского инвентаря 39, принадлежавших эвенкий¬
скому шаману А. Г. Ивигину. Коллекция поступила в му¬
зей от родственников шамана, проживающих в с. Белый Яр
Верхнекетского района Томской области. В ее составе
имеются две «шаманские сабли» (рис. 4, 7, 2). Предметы спе¬
циально изготовлены для культовых целей, один (1) — из
большого напильника. Рукояти «сабель» снабжены гардами
из витой проволоки, на которые надеты также витые коль¬
ца, издающие шум при малейшем движении. На клинок
зубилом нанесены кресты. Полоса сабли (2) снабжена до-
128
Рис. 4. Сабли шамана А. Г. Ивигина
(Колпашевский музей, кол. № 1222—5).
лом с одной стороны; над ним
высверлен ряд из 21 лунки, с двух
сторон ограниченный крестами.
Длина предметов 59 и 61 см.
«Сабли» из Колпашевского му¬
зея, наряду с опубликованной
С. В. Ивановым фигуркой челове¬
ка с копьями в руках 40 (см. табл.
I, 5), являются свидетельством
существования ритуала плясок с
оружием у эвенков Обь-Енисейс-
кого междуречья. Аналогичные
«сабли» получены И. Н. Гемуе-
вым во время этнографических ра¬
бот среди селькупов *.
Безусловно, «саблям», как ин¬
вентарю священнодействия, прида¬
валось большое значение, так
как в XIX—XX вв. аборигены
западносибирской тайги ста¬
рались добыть для культовых
целей описанные армейские об¬
разцы 41 либо изготовляли их по¬
добие из подручных материалов.
В период формирования «кладов»
в танцах использовалось боевое
оружие.
Семантика танцев с оружием
не ясна. Возможно, оружие в
обеих руках символизировало за¬
щищенность со всех сторон или нападение
ны 42. Приблизительной аналогией может служить деталь
из коронационного ритуала венгерских (!) королей: король
совершал отмашку мечом на все четыре стороны, подчерки¬
вая распространение окрест своей власти 43.
Удивительно, что, несмотря на давно установленную
связь между этнографически зафиксированным ритуалом
и инокографическими данными, никто из исследователей не
на все сторо-
* Выражаем И. Н. Гемуеву искреннюю признательность за цен¬
ные сведения.
5 Заказ Лв 504
129
обратил внимания на полное соответствие им в археологи¬
ческом материале — «оружейные клады». Видимо, сказы¬
вается досадный разрыв между археологией и этнографией.
Определив, таким образом, «клады» как материальные
остатки святилищ, где практиковался обряд воинственных
плясок, попытаемся выяснить, в чей адрес данное культо¬
вое действие направлялось.
В литературе фигурируют несколько персонажей, в
чьих «храминах» присутствует оружие. Имена их известны:
Мастерко (Моштер, Масстар), Ортик (Оорт, Ортин, Орты-
ни-Пай и т. п.),. Елянь (Илаи и т. п.)44. Вооружены и неко¬
торые изображения семейных охранителей-тонгхов 45. Ли¬
чина и оружие тонгха считались самыми почитаемыми пред¬
метами 4G.
Прежде всего, кто был семейный охранитель? Обычно
это родоначальник, предок-богатырь, при всей своей значи¬
мости почитаемый семьей либо родом 47. Однако в интере¬
сующих нас комплексах собрано такое количество оружия,
причем самого ценного, что никакому роду, а тем более
семье не по плечу. Перед нами культовые центры более
крупного объединения — племени либо «княжества», и по¬
свящались они, несомненно, божеству более высокого ранга.
Обратимся к троице Ортик — Мастерко — Елянь.
С. В. Иванов, ссылаясь на Финша и Брэма, делает предпо¬
ложение о близости Ортик а и Мастерко 48, а также пред¬
полагает связь Мастерко и Мир-Сусне-Хума на том осно¬
вании, что оба они представлялись в образе всадников 49.
К этим соображениям можно привести дополнительные до¬
воды. По О. В. Кондратьеву, Мастерко, безусловно, отож¬
дествляется с Мир-Сусне-Хумом: «Мастерко (Мир-Сусне-
Хум) — так же назывался спаситель»50. Замечателен рас¬
сказ Г. Ф. Миллера о знаменитом Белогорском шайтане:
«За этой святыней наблюдал шайтанщик, причем он же де¬
лал предсказания. Таким шайтанщиком был в последние
годы язычества остяков Мастерко, поэтому русские назы¬
вали этого шайтана ,,Мастерков шайтан11. Остяки же, отме¬
чая его большее значение перед прочими, дали ему имя
Ортлонк, что означает ,.князь шайтанов44»51. Отбросив тол¬
кование Г. Ф. Миллера о том, что Мастерко — шаман при
Ортике, получим их тождество.
«Белогорское мольбище,— пишет II. И. Никольский
в примечаниях к «Истории Сибири» Г. Ф. Миллера,— яв¬
лялось до последних лет наиболее почитаемым жертвенным
местом, в котором якобы находилось местопребывание мо¬
гущественного мужского духа — покровителя всех вогулов
130
и остяков (urt, Mir-Susne-Hum)»52. Тем самым кольцо за¬
мыкается — Орт, Мастерко и Мир-Сусне-Хум оказываются
одним и тем же лицом.
Отношение Еляня 53 к названной троице ясно не до кон¬
ца. Прямых отождествлений нет. Тем не менее в честь Еля¬
ми ханты плясали с мечами и копьями 54. Изображался он
и миде всадника. «Мы специально пытались выяснить вопрос
о назначении таких фигурок,— пишет Г. И. Пелих об ост¬
роголовых фигурках всадников.— Селькупы не могли от¬
метить на этот вопрос. Старикам-хантам этот обычай хорошо
известен. Металлическую фигурку остроголового человека
ма коне называли в старину планом. Информаторы из
мос. Соснино рассказали: «Илан — это дух такой. Он может
ма коне спускаться с неба и подниматься вверх». М. И. Ман-
дракова объяснила, что изображение плана кладется на
грудь другому идолу для того, чтобы тот «мог быстро под¬
ниматься на небо...». Из сказаний хантов мы узнаем, что они
называли планами особую категорию «богатырей с желез¬
ной кожей». Характерной особенностью илана была острая
голова»55 (сравните с остроголовой личиной из Ишимского
клада). В. II. Чернецов рассматривал литые или процара¬
панные изображения всадников как «графическое отобра¬
жение образа мифического Таляхынг-Кентуп-Хум — „че¬
ловека в остроконечном шлеме14 или Мир-Сусне-Хум —
,,за людьми смотрящего человека44— небесного всадника,
объезжающего на белом коне верхний и средний миры и ска¬
чущего через небесное пламя»56.
Исходя из культа Мир-Сусне-Хума, получают объясне¬
ние такие категории инвентаря «кладов», как зеркала и фи¬
гурки птиц (с личиной на груди и без нее). Зеркало — один
из распространеннейших солярных символов. Во время об¬
ряда призывания Мир-Сусне-Хума перед жилищем стави¬
лось несколько серебряных или медных тарелок, на которые
(‘го божественный конь должен был поставить свои копы¬
та 57. Птица с личиной на груди — Небесный Карс, образ
которого, пожалуй, больше других привлекал внимание
исследователей, обычно связана с Мир-Сусне-Хумом (срав¬
ните, например, сказку об Эква-Пырище и Небесном Кар¬
се)58. «Солнечный всадник» и «солнечная птица» как две
ипостаси солнца.
Таким образом, «оружейные клады» Приобья могут быть
уверенно интерпретированы как остатки святилищ, посвя¬
щенных одному из наиболее популярных персонажей угор¬
ского пантеона — Мир-Сусне-Хуму или вообще божеству
такого ранга.
131
Рассмотренные выше источники позволяют оценить мес¬
то реконструированного культа в жизни древнего населе¬
ния Западной Сибири. Именем некоего бога правили остяц¬
кие «князцы». По Г. И. Пелих, «шайтан князца помещался
у входа в его жилище или крепость. Здесь ставились столб
по-парге с антропоморфными изображениями и помост для
приношепий. В стоящую рядом сосну втыкали железные
ножи, стрелы; к ее стволу привязывали луки, колчаны»59.
«Князец (кок)... присваивает себе связь с великим духом.
Изображение переносится в жилище и крепость кока. Культ
приобретает территориальный характер. Очевидно, обла¬
дание изображением великого духа помогало коку властво¬
вать над территорией и живущими на ней людьми... В от¬
ношении шайтана, с помощью которого правил кок, записан
термин «масстар». Интересно, что сходный термин «мас-
терко» как обозначение великого духа или бога... зафикси¬
рован у хантов»60.
Примечательна судьба Белогорского шайтана. Почита¬
ние его распространялось на большую территорию, по ко¬
торой разъезжали шаманы с целью сбора подношений 61.
В числе прочего ему была пожертвована одпа из кольчуг
Ермака, доставшаяся затем кодскому князцу Алаку 62.
Этого шайтана остяки понесли в бой против Ивана Мансу¬
рова, осажденного ими в Обском городке. Идол был постав¬
лен «ввиду городка на дерево», и восставшие «приносили
ему жертвы, прося помощи для победы над русскими»63.
«Егда же Россиян случаем из пушки поражен и сокрушен
бе идол, убояшася видевше его сокрушенна*., бегством
от Россиян отступиша»64.
Как видим, Белогорский шайтан — воинственный дру¬
жинный бог, который должен приносить своим подопечным
победу и поддерживать их власть над покоренными земля¬
ми,— типичный пример трансформации культа небесного
божества в дружинной среде (ср. славянский Перун)65.
«Клады» — красноречивый памятник той эпохи, когда
«война и организация для войны становятся регулярными
функциями народной жизни»66, когда «война, которую рань¬
ше вели только для того, чтобы отомстить за нападения,
или для того, чтобы расширить территорию, ставшую не¬
достаточной, ведется только ради грабежа, становится по¬
стоянным промыслом»67. Поэтому появление на территории
Приобья воинских святилищ следует считать индикатором
наличия здесь военно-потестарпых организаций.
132
Примечания
1 Музей археологии и этнографии Сибири ТГУ, кол. № 5959.
2 Ермолаев А. Ишимская коллекция.— Красноярск, 1914.
3 Томский областной краеведческий музей (ТОКМ), кол. № 297—
298; Колпашсвский краеведческий музеи (ККМ), кол. № 1100—1114.
Автор пользуется случаем выразить свою признательность сотрудни¬
кам всех названных музеев за их помощь в работе.
4 Могильников В. А. Елыкаовская коллекция Томского универ¬
ситета // СА.— 1968.
5 Зиняков Н. М. Технология производства железных предметов
Клыкаевской коллекции // Южная Сибирь в скифо-сарматскую эпо¬
ху.— Кемерово, 1976.
fi Ермолаев А. Ишимская коллекция.— С. 1.
7 ТОКМ, коллекционная опись № 297.— С. 1.
8 Коротаев А. М. К истории археологического изучения верхне-
и) и среднего течения р. Томи // Археология Южной Сибири.— Ке¬
мерово, 1979.— С. 144.
9 Могильников В. А. Елыкаевская коллекция...— С. 268.
10 Новицкий Гр. Краткое описание о народе остяцком. 1715.—
Новосибирск, 1941.— С. 55.
11 Аналогичные личины из могильника Релка, видимо, представ¬
ляют собой маски погребальных кукол. См.: Чиндина Л. А. Могиль¬
ник Релка на средней Оби.— Томск, 1977.
12 Новицкий Гр. Краткое описание...— С. 72.
13 Миллер Г. Ф. История Сибири.— М.— Л., 1937.— Т. I.—
С. 248.
14 Иванов С. В. Скульптура народов севера Сибири XIX — пер¬
вой половины XX в.— Л., 1970.— С. 43—44; Миллер Г. Ф. История
Сибири.— Т. I.— С. 248.
15 Пелих Г. И. Происхождение селькупов.— Томск, 1972.
16 Зуев В. Описание живущих в Сибирской губернии в Березов¬
ском уезде остяков и самоедов (1773) // Тр. Ии-т этнографии. Новая
сер.—М.—Л., 1947.— Т. V.— С. 33.
17 Цит. по: Иванов С. В. Скульптура народов Севера...— С. 45.
18 Кулемзин В. М. Сверхъестественные существа в системе рели¬
гиозных представлений васюганско-ваховских хантов // Древние куль¬
туры Сибири и Тихоокеанского бассейна.— Новосибирск, 1979.—
С. 216.
19 Исследователей часто смущает наличие в «кладах» кулайской
или тагарской бронзы. Р. А. Урасв, синхронизировавший кулай-
ское литье Елыкасвской коллекции с оружием, предложил для кулай¬
ской культуры дату VI—X вв. н. э. (Ураев Р. А. Кривошеинский
клад // ТТОКМ.— Томск, 1956.— Т. 5.— С. 331). Эта точка зрения
не единожды подвергалась критике в литературе (Могильников В. А.
Елыкаевская коллекция...— С. 268; Троицкая Т. Н. Кулайская куль¬
тура в Новосибирском Приобьс.— Новосибирск, 1979.— С. 4).
Начало функционирования культовых мест совпадает с воздвиже¬
нием идола и определяется тем самым датой личины. По В. А. Могиль-
шткову, личины из «белой бронзы» с полированной лицевой поверх¬
ностью появляются не ранее VII в. (Могильников В. А. Васюгапский
клад // С А.— 1964.— № 2). Эти личины входят в круг древностей
релкинской культуры VII—VIII вв. (Чиндина Л. А. Могильник Рел¬
ка...). Парабельская личина более архаична — изготовлена из обыч¬
ной бронзы или меди без лощения и относится, видимо, к Саровскому
этапу кулайской культуры (устная консультация Л. А. Чиндиной).
133
20 Иванов С. В. Скульптура народов севера...— С. 51. В. Н. Чер¬
нецов отмечал наличие в современном культовом месте «клевца времен
Лжедмитрия» (Чернецов В. Н. К вопросу о проникновении восточного
серебра в Приобье // ТИЭ.— Новая сер.— М.— Л., 1947.— Т. I.
21 Пелих Г. И. Материалы по селькупскому шаманству // Этно¬
графия Северной Азии.— Новосибирск, 1980.— С. 19.
22 Шатилов М. Остяко-самосды и тунгусы Прннарымского края
// ТТОКМ.— Томск, 1927.— Т. I.— С. 136—137.
22 Новицкий Гр. Краткое описание...— С. 51.
24 Цит. по: Чиндина Л. А. Могильник Рслка...— С. 121.
25 Шавров В. Краткие записки о жителях Березовского уезда.—
Сиб., 1871.-С. 7.
26 Кастрен А. Этнографические замечания и наблюдения Каст-
рспа о лопарях, карелах, самоедах и остяках, извлеченные из его пу¬
тевых воспоминаний 1838—1844 гг. // Этнографический сборник.—
Спб., 1858.- Вып. IV.- С. 306.
27 Иванов С. В. Скульптура народов севера...— С. 29.
28 Шавров В. Краткие записки...— С. И.
29 Кастрен А. Этнографические замечания...— С. 308.
30 Шавров В. Краткие записки...— С. 12.
31 Кастрен А. Этнографические замечания...— С. 309.
32 Иванов С. В. Скульптура народов севера...— С. 20.
33 Спицын А. А. Шаманские изображения // ЗОРСАРАО.—
1906.— Т. 8, вып. 1.— Рис. 4.
34 Даркевич В. П. Художественный металл Востока.— М., 1976.
ЗЕ? Мы пока остерегаемся связывать с описанным ритуалом личи¬
ну с копьями из могильника Черновая окуповской культуры (Ва-
децкая Э. Б. Изваяния окунсвской культуры // Вадецкая Э. Б.,
Леонтьев II. В., Максименков Г. А. Памятники окуиевской культу¬
ры.—Л., 1980.—Табл. LII).
36 Мошипская В. И. Материальная культура Усть-Полуя //
МИА.— М., 1953.- N° 35.- Табл. XV, 1).
37 Троицкая Т. Н. Кулайская культура...— Табл. XXIX, 1.
38 Чернецов В. Н. Нижнее Приобье в I тыс. и. э. // МИА.— М.,
1957.— № 58.— С. 189.
39 ККМ, кол. № 1222—5.
40 Иванов С. В. Скульптура пародов севера...— С. 28—29.
41 Там же.— С. 193.— Рис. 177.
42 Рыбаков Б. А. Язычество древних славян.— М., 1981.— С. 69.
43 Раевский Д. С. Куль-обские лучники // СА.— 1981.— № 2.—
С. 44. Перечень аналогий ритуалу воинственных плясок можно су¬
щественно дополнить. Схематическое изображение с мечами в руках
процарапано на подвеске из Итпимбасвского могильника (к. 3, п. 2)
(см. табл. I, 4 наст, работы) (Мажитов Н. А. Курганы Южного Урала.
VIII—XII вв.— М., 1981.— Рис. 46, 29). Вызывает интерес повест¬
вование Мовссса Каганкатваци о савирах Северпого Кавказа (VII в.),
где говорится, что они (савиры) «...устраивали дикие пляски и битвы
на мечах в нагом состоянии» (История агван Моисея Каганкатваци,
писателя X в.— Сиб., 1861.— С. 193). Интерес этот усиливается в
связи с существованием гипотезы об угорской принадлежности савир.
44 Иванов С. В. Скульптура народов севера...— С. 21—22, 28—29.
4Г> Кастрен А. Этнографические наблюдения...
40 Шульц Л. Краткое сообщение об экскурсии на р. Нарьтм Сур¬
гутского уезда // ЕТГМ.— 1913.— Вып. XXL— С. 9.
47 Иванов С. В. Скульптура народов севера...— С. 43.
48 Там же.— С. 22.
49 Там же.— С. 21.
134
*?° Кондратьев О. В. К этнографии остяков // ТАОИВМА.— Спб.,
ISD7.— Т. 2.— с. 346.
51 Миллер Г. Ф. История Сибири.— Т. 1.— С. 248.
52 Там же.— С. 491—492.
33 Этимологию имени см.: Иванов С. В. Скульптура народов се-
ш*ра...— С. 21.
54 Там же.— С. 29.
55 Пелих Г. И. Происхождение селькупов.— Томск, 1972.
56 Чернецов В. Н. Бронза усть-полуйского времени // МИА.—
М., 1953.— № 35.— С. 165.
37 Гондатти Н. Л. Предварительный отчет о поездке в Северо-
западную Сибирь.— М., 1888.— С. 115.
58 Сказка об Эква-Пырище и Небесном Карсе // ТИЭ.— М.,
Р.Иб.-Т. 5.
59 Пелих Г. И. Селькупы XVII века. Очерки социалыю-экономп-
чгской истории.— Новосибирск, 1981.— С. 146.
60 Там же.— С. 148.
61 Миллер Г. Ф. История Сибири.— Т. 1.— С. 492.
62 Там же.— С. 264.
63 Там же.— С. 266.
04 Новицкий Гр. Краткое описание...— С. 52.
65 Рыбаков Б. А. Язычество древних славян...— С. 18—20.
66 Маркс К., Энгельс Ф. Собр. соч.— 2-е изд.— Т. 21.— С. 164.
67 Там же.
Ю. С. Худяков, А. И. Соловьев
ИЗ ИСТОРИИ ЗАЩИТНОГО ДОСПЕХА
В СЕВЕРНОЙ И ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ
Изучение защитного вооружения средневековых кочевни¬
ков Северной и Центральной Азии, лесного населения, оби¬
тавшего па северной таежной периферии кочевого мира,
в последнее десятилетие становится самостоятельной темой
в сибирском оружиеведепии.
Отдельные детали средневекового панцирного доспеха
попали в поле зрения ученых в ходе первых систематических
раскопок средневековых памятников во второй половине
XIX в. Как отмечал В. Радлов, раскопавший немало кур-
I а нов средневековых кочевников па Алтае, Енисее, Чулы¬
ме, панцири в погребениях «встречаются чрезвычайно ред¬
ко, состоят из искусно выкованных прямоугольпиков, ко¬
торые нашиты на материю или кожу (нижнее платье)»1.
Находки различных по форме панцирных пластин от¬
мечены С. К. Кузнецовым при раскопках могильника Ар¬
хиерейская Заимка 2. Он называет их «топкими железпътми
135
пластинами неизвестного назначения»3. «Латы и кольчуги»
нередко попадали в состав музейных коллекций. Отдельные
экземпляры защитной одежды отмечены в описаниях му¬
зейных коллекций Д. А. Клемеыцом4 и А. М. Талльгреном 5.
Тем не менее значительная часть материалов из раскопок
и сборов не была введена в научный оборот.
В конце XIX в. в результате работ экспедиции М. Р. Ас-
пелина были введены в научный оборот некоторые изобра¬
зительные материалы, имеющие отношение к данной теме.
Автором отмечены рисунки воинов в панцирях па петрогли¬
фах и мелкой пластике 6.
После 1917 г. накопление материала из раскопок про¬
должалось. Важные находки были получены при раскопках
могильника Кудыргэ на Алтае, при исследованиях курга¬
нов Ноин-Улы в Монголии.
Отдельные находки публиковались. Данные общего ха¬
рактера с учетом сведений письменных источников о сред-
певековых кочевниках и использованием музейных материа¬
лов нашли отражение в популярных работах. Так, описы¬
вая средства защиты, которыми пользовались енисейские
кыргызы, В. П. Левашова упоминает «панцири, одежду,
покрытую железными щитками»7. Правда, ею для демонст¬
рации образца средневекового доспеха привлечены наход¬
ки поздиесредневекового периода 8. Сулекские петроглифы
с изображением панцирных всадников были переизданы
Я. Аппельгрепом-Кивало 9.
Накопление материалов по защитному вооружению ени¬
сейских кыргызов позволило Л. А. Евтюховой и С. В. Ки¬
селеву обобщить имевшиеся данные по этому вопросу 10.
С. В. Киселеву принадлежит мнение о комбинированном
доспехе, применявшемся кыргызами, в составе которого,
наряду с железными пластинами, имелись и деревянные
накладные щитки. Заметки о древиетюркском доспехе при¬
надлежат Л. Н. Гумилеву п.
Находки панцирных пластин из раскопок средневеко¬
вых погребений значительно умножились в результате ин¬
тенсификации полевых исследований в Притомье, При-
обье, на Алтае, в Туве, в Забайкалье 12. Расширился круг
изобразительных источников в результате открытия новых
петроглифов в Сибири и Монголии 13. Новые переводы пись-
меппых источников сделали доступными исторические сви¬
детельства современников о данном виде защитного воору¬
жения у кочевников 14.
Вслед за накоплением материала появилась возможность
его классификации и последующей реконструкции. Приме-
136
имтольно к доспеху енисейских кыргызов такая работа ироде-
. 1.ч на одним из авторов настоящей статьи 15 и отчасти Я. И. Сун-
мугашевым 16. Реконструкции защитного вооружения средне-
исковых киданей и монголов посвящен ряд работ М.В. Горе-
ника 17. Можно считать, что с появлением спецртальных работ
история защитного доспеха средневековых центральноазиат¬
ских кочевников приобрела в рамках оружиеведческой нау¬
ки самостоятельное научное значение. И хотя начало раз¬
работке данной темы положепо, как мы пытались показать,
достаточно давно, в ее решении сделаны, по сути дела, толь¬
ко первые шаги. Это особенпо наглядно заметно, если срав¬
нить уровень разработки данной темы со степенью изучен¬
ности других классов оружия: ручным метательным или
наступательным, предназначенным для ведения ближнего
п рукопашного боя, которым посвящена обширная библио¬
графия 18. На это есть свои причины. Если для изучения мно¬
гих видов оружия в настоящее время применен не только
формальпо-типологический, но и другие виды анализа,
включая расчет и экспериментальную проверку функцио¬
нальных свойств 19, то для аналогичных результатов в ис¬
следовании защитного доспеха далеко ввиду относительной
малочисленности и значительной фрагментарности нахо¬
док. Для анализа луков, стрел, копий, мечей, палашей,
сабель привлекаются хотя и не полпостыо сохранившиеся,
по фупкциопально определяющие назначение предметов ме¬
таллические части, а изучая панцири, исследователь имеет
дело зачастую с отдельными экземплярами пластин, со¬
ставляющими незначительную часть всего защитного по¬
крытия. Не удивительно, что данные по доспеху кочевни¬
ков очень приблизительны. Имеющиеся материалы сложнее
классифицировать, поскольку в научный оборот введены
детали, а не панцири целиком. Для обоснованной класси¬
фикации доспехов нужна их предварительная реконструк¬
ция, которая невозможна без привлечения других видов ис¬
точников, в частности изобразительных. Сильно затрудняет
дело то обстоятельство, что в составе папцирей одного и того
же типа могли применяться разные по форме пластины и,
наоборот, в составе типологически разных папцирей при¬
сутствуют формально идентичные пластины.
Поэтому классификация имеющегося материала должпа
кключать, па наш взгляд, следующие признаки: систему
крепления пластин, составляющих панцирь, форму плас-
тип, форму панциря.
Среди исследователей, занимавшихся вопросами клас¬
сификации защитного оружия, нет единства в определении
137
системы крепления, выделении форм пластин и терминоло¬
гии, применяемой для их обозначения.
А. Н. Кирпичников выделяет две системы крепления:
ременное соединение и нашивание на кожаную или матер¬
чатую основу: для первой предложен термин «пластинчатые
панцири», для второй — «чешуйчатые»20. А. М. Хазанов
паряду с панцирями реметшого соединения, для которых им
предложены термины «пластинчато-наборные» и «чешуй¬
чатые», выделяет «пластинчатый панцирь», составленный
из отдельных пластин, прикрепленных к подкладке 21.
М. В. Горелик упоминает в своих работах панцири ре¬
менного скрепления из малеттькргх пластинок, которые он
называет «ламеллярными»; панцири из отдельных горизон¬
тальных полос, названных «ламинарными»22; панцири из от¬
дельных пластин, крепящихся к подкладке, названных
«пластипчатыми»23. А. П. Умапский описал панцирь из го¬
ризонтально расположенных пластин, скрепленных между
собой проволокой, а по краям железной окантовкой с за¬
клепками. Пластины каждого ряда частично перекрывали
друг друга подобно чешуе. Кроме того, панцирь имел ко¬
жаную подкладку. Как видпо, в данном экземпляре совме¬
щены почтр1 все системы крепления. Не случайно А. П. Умап¬
ский называет его то пластинчатым, то чешуйчатым,
а по форме доспеха — нагрудпым 24. Л. А. Чипдипа
реконструировала панцирь в виде «пластипчатого жилета»25.
С. В. Иванов упоминает о так называемых «внутренних пан¬
цирях», у которых широкие пластины крепились к оспове
изнутри, а спаружи оставались только бропзовые заклеп¬
ки 2С.
Хотя большинство исследователей в качестве осповпых
классификационных признаков указывают систему креп¬
ления, реально они оперируют формами пластип, посколь¬
ку в большинстве случаев она остается неопределенной либо
включает различные приемы соединения. На паш взгляд,
существует две системы крепления панцирных пластин:
1) между собой в двух вариантах — ремеппая и проволоч¬
ная; 2) в подкладке в двух вариантах — пришиванием и
заклепками. Система расположения пластип включает два
основных варианта: 1) с частичным наложением друг па
друга — по типу чешуи; 2) впритык друг к другу. Нередко
разные способы соединения сочетались в одном доспехе.
По форме прямоугольные пластины панциря распадают¬
ся па несколько вариантов: 1) горизонтального располо¬
жения с равномерным распределением отверстий; 2) вер¬
тикального расположения с округлым нижним краем и боль-
138
ниш числом отверстий — «чешуйки»; 3) с зубчатым краем
и равномерным расположением отверстий; 4) с округлен¬
ными углами, малым числом отверстий и заклепками;
>) с косо срезанным углом, малым числом отверстий, заклепка¬
ми; 6) плавно изогнутые по длине, с малым числом отверстий
и заклепками; 7) с вогнутыми сторонами и малым числом
отверстий; 8) изогнутые пластины с малым числом отвер¬
стий.
Различия в форме и количестве отверстий на пластинах
об условлены как их расположением в составе панциря, так
и принадлежностью к разным типам панцирей. Целые до¬
спехи встречаются в археологических памятниках крайне
редко. Поэтому при выделении типов панцирей необходимо
привлечение изобразительных материалов и письменных
пшдетельств современников. Суммируя известные данные,
можно выделить следующие типы доспеха: нагрудные, на¬
грудные с подолом, жилеты или корсеты в сочетании с по¬
долом, рубашки, повторяющие все основные элементы верх¬
ней одежды.
На территории Северной и Центральной Азии зафикси¬
рованы многочисленные и разнообразные находки деталей
панциря. По способу крепления и расположению пластин
они распадаются па отделы, по сечению пластин — на груп¬
пы, по форме пластин — на типы.
Отдел I. Панцири с горизонтальным расположением
пластин, соединенных проволокой, одна группа.
Группа 1. Плоские пластины, представлена двумя ти¬
пами.
Тип 1. Прямоугольные пластины. Насчитывает 200 экз.
в составе двух панцирей из памятпика Татарские могилки-4
в Приобье 27. Длипа пластин 5 см, ширина 2 см. Пластины
имеют четыре ряда отверстий, по три в каждом ряду, рас¬
полагающиеся равномерно по узким краям и в центральной
части пластины. Пластины скрепляются между собой и кре¬
пятся к подкладке с помощью проволоки, составляя четы¬
ре ряда горизонтально соединенных пластин, по 25 шт. в
каждом ряду. По краю панцирь дополнительно крепился
узкими пластинками. Панцирь мог складываться по верти¬
кали, облегать тело воина с трех сторон, прикрывая грудь
и торс (рис. 1, 2, 2).
Тип 2. Прямоугольные пластины с округлым краем. На¬
считывает 4 экз. в составе обломка панциря из памятника
Псрель № 3 па Алтае 28. Длина и тпирипа пластин точно не
установлены. Пластины несколько различаются между со¬
бой по длине п количеству отверстий. У большинства плас-
139
Рис. 1. Панцирные пластины.
1,2 — Татарские могилки, м. 4; 3 — Ближние Елбаны-XIV, м. 87; 4, 5 — Бап-
Тайга, к. БТ—59—9; 6 — Берсль, к. 3; 7, 8, 11, 12 — Троицкое; 9 — Могун-
Тайга, к. МТ—58—IV; 10 — Кудыргэ, огр. XIII.
тин отверстия располагаются попарно двумя рядами, не¬
сколько отступая от краев пластины. У одпой пластины
имеется два отверстия по краю. Все четыре пластипы соеди¬
нены между собой узкой пластинкой с заклепками. Видимо,
140
панцирь имел окантовку по всему периметру, апалогичио
иерхпеобским (рис. 1, 6).
Отдел II. Панцири с горизонтальным расположе¬
нием пластин, соединенных кожаным ремешком.
Группа!. Плоские пластины, представлена одним типом.
Тип 1. Прямоугольные пластины. Насчитывает 12 экз.
к составе трех обломков панциря из памятника Усть-Ишим
м Прииртышье. Длина и ширина точно не установлены, так
как пластины сохранились в обломках (3 экз.) Обломки по¬
казывают, что соединенные горизонтально пластины кре¬
нились друг к другу с помощью продетых через отверстия
ремней. По краю панциря пластины скреплены окантовкой,
которая, видимо, располагалась по всему периметру пан¬
циря (рис. 2, 4, 7, 8).
Отдел III. Панцири с вертикальным расположением
нластип, соединенных кожаным ремешком.
Группа 1. Плоские пластины, представлена девятью
типами.
Тип 1. Прямоугольные с округлым краем. Насчитывает
120 экз. из памятников: Ближние Елбаны XIV (м. 37) в
Мриобье; Бай-Тайга (к. БТ—59—9), Моигуи-Тайга
(к. МТ—58—IV), Улуг-Хорум (п. 2), Тора-Тал-Арты (к. 4,
19) в Туве; Троицкое на Алтае; Аргаиз, Мурлинское горо¬
дище в Прииртышье; Минуса, Сухая Ерба, Тереп-Хол
(к. 3), Малиновый Лог в Минусинской котловине; Кункур
м Забайкалье; Тимирязевский-1 (к. 2, 3, 6) в Притомье 29.
Как правило, пластины данного типа присутствуют в па¬
мятниках от одной до нескольких штук. Наибольшая их
концентрация в пределах Аргаизского и Улуг-Хорумского
комплексов — 90—200 шт. пластин, различающихся по
размерам и количеству отверстий. Длина и ширина сильно
марьируют — от 4x2 до 9X2 см, так же как количество
и расположение отверстий — от 6 до 14. Преобладают узкие
пластины с большим числом отверстий. Встречаются
широкие пластины с малым числом отверстий. Отвер¬
стия концентрируются по концам либо сторонам плас¬
тин (см. рис. 1, 5, 5, 8, 9\ рис. 3, 5, 11—14\ 4, 1—2; 5,
/2, 14—18).
Пластины с симметричным расположением отверстий
к ходили в состав панциря ременной системы крепления,
иороятно, двух типов нагрудных с подолом и куяков.
Тип 2. Овальные с горизонтально срезанным верхом. На¬
считывает 4 экз. из памятников: Бай-Тайга, Троицкое на
Алтае; Окунево в Прииртышье; Белый Яр в Минусинской
котловине30. Длина и ширина пластин от 3x2 до 6X4 см,
141
Рис. 2. Панцирные пластины.
1 — Релка, к. 7, м. 1; 2 — Окунало, м. о; 3 — Кустанай; 4, 7, 8 — Усть-Ишим,
5 — Архиерейская заимка, п. 4; 6 — Купкур; 9—14 — Батени, 10, 11 — Ломы-1,
п. 1; 12 — Парабсль; 13, 20 — Конгурэ; 15 — Капыгино; 16 — Соцал; 17, 19 —
Тимирязевский-!, к. 32.
442
Ри . 3. Панцирные пластины.
1,2 — Релка; 3 — Архиерейская заимка; 4 — Нарым; 5 — Аргаиз; 6 — 9 — Ба-
гапдайка; 10, 14 — Мур л инское городище; 11 — 13 — Западная Сибирь; 15 — Оку¬
невое 16% 19 — Западная Сибирь; 17—18 — Архиерейская заимка.
143
Рис. 4. Панцирные пластины.
1 — Сухая Ерба; 2 — Улуг-Хорум, тт. 2; 3, 4 — Бай-Булун, к. 2; 5 — Малино¬
вый Лог; 6—Терен-Хол, к. 3; 7—9 — Минуса; 10, 14 — Тора-Тал-Арты, к. 4;
11, 16, 17 — Тимирязевский-1, к. 6; 12, 18 — Кункур; 13 — Белый Яр; 15 —
Тора-Тал-Арты, к. 19.
144
Рис. 5. Панцирные пластины.
1—4 — Парабель; 5 — Белоярский, 6 — Верхняя Биджа; 7 — Покровский
клад; 8 — Баянхонгорский аймак.
количество отверстий 7—9. Длинные пластины встречаются
в составе одного набора с прямоугольными пластинами
с округлыми нижними краями и, видимо, применялись для
аналогичных панцирей.
145
Тип 3. Двояковогнутые пластины с расширениями на кон¬
цах. Насчитывает 1 экз. из могильника Архиерейская За¬
имка (к. 5) в Приобье31. Длина пластины 8 см, ширина
2 см. Пластина с прямыми концами и вогнутыми краями,
снабжена пятью парами отверстий в расширенных частях
и с одного конца и по одному отверстию в центре и с другого
конца (см. рис. 3, 3). Пластины данного ^типа входили в
состав ламеллярного доспеха.
Тип 4. Прямоугольные пластины с зубчатым краем. Про¬
исходят из памятников: Релка (к. 7, м. 1) в Приобье32;
Окуиево в Прииртышье 33. Длина и ширина пластин от 6Х
X 1,5 до 11x2 см. Пластины спабжены различным количест¬
вом отверстий (от 5 до 17). В свое время Л. А. Чиндина ре¬
конструировала панцирь из подобных горизонтально рас¬
положенных пластин в виде жилета. Однако встречаются
панцири и с вертикальным расположением пластин, ла¬
меллярного принципа соединения (см. рис. 2, 2, 2).
Тип 5. Прямоугольные пластины. Насчитывает 17 экз.
из памятников: Кудыргэ (огр. XIII) на Алтае; Басандайка
в Притомье; Бай-Булуп (к. 21), Тора-Тал-Арты (к. 19) в Ту¬
ве 34. Длина и ширина пластин от 5x2 до 10x2,5см. Коли¬
чество отверстий 10—13. Расположены они равномерно по
концам и краям пластин. Данные пластины встречаются
совместно с прямоугольными пластинами со скругленным
концом. Применялись они, вероятно, в составе ламеллярных
панцирей (см. рис. 1, 10\ 3, 6—8, 19\ 4, 2, 15).
Тин 6. Стреловидные пластины. Насчитывает 1 экз. из
Кустапая в Казахстане. Длина пластины G см, ширипа
2 см. Пластина имеет косые вырезы и выступы с отверстием
в верхней части и срезанные углы па пижпем конце. Три
пары отверстий располагаются у нижнего конца и по краям,
одно отверстие — па выступе в верхней части (см. рис. 2, 3).
Подобные пластины входили в состав ламеллярного доспеха.
> Тип 7. Прямоугольные пластины со скругленным концом.
Насчитывает 2 экз. из памятника Басандайка в Притомье;
Бай-Булуп (к. 2) в Туве 35. Длина и ширина пластин от 5Х
Х2 до 8x2 см. Количество отверстий 9—12. Пластины вхо¬
дили в состав пабора с прямоугольными пластипами и при¬
менялись для ламеллярного доспеха (см. рис. 3, 9\ 4, 3).
Тип 8. Пластины с вогнутыми сторонами. Насчитывает
1 экз. из памятника Троицкое па Алтае. Длина пластины
7,5 см, ширина 3 см. Пластина с вогнутыми сторонами и
четырьмя отверстиями по углам (см. рис. 1, 11). ;
Тип 9. Конические пластины. Насчитывает 1 экз. из па¬
мятника Троицкое на Алтае. Длина пластины 5 см, ширина
146
3 см. Пластина с плавно сужающимися краями и округлым
концом. Сохранилось только одно отверстие (см. рис. 1, 12).
Группа II. Изогнутые пластины, представлена одним
типом.
Тип 1. Двояковогнутые пластины с расширениями на
концах. Насчитывает 2 экз. из могильника Редка в При-
томье 36. Длина пластин И см, ширина 2 см. Пластины име¬
ют расширенные концы и вогнутые края. Они снабжены
шестью парами отверстий по концам и одним отверстием
в центре (см. рис. 3, 2, 2).
Отдел IV. Панцири вертикального, чешуйчатого
принципа соединения пластин с помощью кожаного ремня.
Группа 1. Плоские пластины, представлена тремя типами.
Тип 1. Прямоугольные пластины. Насчитывает 1 экз. из
Мурлинского городища в Прииртышье. Длина пластины 5 см,
ширина 2 см. Прямоугольпая пластина с шестью отверсти¬
ями в центре и тремя по верхнему концу (см. рис. 3, 10).
Подобные пластины применялись, вероятно, в составе пан¬
циря чешуйчатого принципа соединения.
Тин 2. Прямоугольные пластины с округлым концом.
Насчитывает 2 экз. из памятника Конгурэ в Минусинской
котловине 37. Длина пластин 4,5 см, ширина 3 см. Пластины
с горизонтально срезанным верхним и округлым нижним
краями и восьмью отверстиями по краям (см. рис. 2, 13,
20). Применялись, вероятно, в составе чешуйчатого панциря.
Тип 3. Стреловидные пластины. Насчитывает 3 экз. из
памятника Архиерейская Заимка (п. 4, 5) в Притомье 38.
Длина пластин 5 см, ширина 2,5 см. Пластины треугольной
формы с косыми вырезками и выступом с верхней стороны.
Расположение отверстий различно: по три пары в верхней
части, по две пары, в верхней и средней части и по одному
отверстию в углах и средней части (см. рис. 2, 5; 3, 27, 18).
Пластины данной формы обычно считаются наконечниками
самострелов. Однако их размеры и система расположения
па них отверстий позволяют предполагать соединение по
чешуйчатому принципу.
Отдел V. Панцири вертикального соединепия пла¬
стин с помощью колец-заклепок.
Группа 1. Плоские пластины, представлена одним типом.
Тип 1. Прямоугольные пластины. Насчитывает 1 экз.
пя Приобья. Длина пластины 7 см, ширина 2 см. Пластины
снабжены отверстиями по краям, через которые соединены
между собой кольцами (см. рис. 3, 16).
Отдел VI. Панцири горизонтального соединепия пла¬
стин с помощью заклепок к подкладке.
147
Группа 1. Плоские пластины, представлена одним типом.
Тип 1. Прямоугольные пластины со скругленными угла¬
ми. Насчитывает 4 экз. из памятников: Батени, Каныгино
в Минусе; Ломы-1 (п. 1) в Забайкалье 39. Длина пластины
4 см, ширина 2 см. Пластины с двумя отверстиями по краям,
иногда в центре (см. рис. 2, 9—11, 14, 15), применялись в
составе нагрудного панциря.
Отдел VII. Панцири вертикального соединения пла¬
стин с помощью заклепок к подкладке.
Группа 1. Плоские пластины, представлена пятью ти¬
пами.
Тип 1. Прямоугольные пластины с отверстиями и заклеп¬
ками по периметру. Насчитывает 1 экз. из памятника в При-
обье. Длина пластины 14 см, ширина 9 см. Пластины кре¬
пились к подкладке вертикально с помощью отверстий и
заклепок по краям (см. рис. 5, 7), применялись, вероятно,
в составе панциря-куяка.
Тип 2. Пластины конической формы с округлым нижним
краем и заклепками. Насчитывает 1 экз. из Белоярского
могильника в Приобье. Длина пластины 5,5 см, ширина
2 см. Заклепки расположены по краям пластины.
Тип 3. Прямоугольные пластины с отверстиями и заклеп¬
ками. Насчитывает 87 экз. из памятников: Верхняя Биджа,
Нижний Абакан, Покровский клад, Абаза, Белый Яр, Ор-
тызы-Оба (к. 2) в Минусинской котловине; Баянхопгорском
аймаке в Монголии 40. Длина пластин от 5 до 8,5 см, ширина
5—6 см. Пластины с тремя парами отверстий в углу, с от¬
верстием и заклепками по краям или по центру (см. рис.
5, 6—8; 6, 1—5), входили в состав набора паициря-куяка.
Тип 4. Прямоугольные пластины со срезанным углом и
отверстиями. Насчитывает 2 экз. из памятников Абаза
и Ортызы-Оба (к. 2) в Минусинской котловине41. Длина
пластины 11,5 см, ширина 8 см. Пластины снабжены тремя
отверстиями по косо срезанному краю (см. рис. 6, 4), входи¬
ли в состав набора панциря-куяка.
Тип 5. Прямоугольные пластины с заклепками по центру,
изогнутые по длине. Насчитывает 1 экз. из памятника Абаза
в Минусинской котловине 42. Длина пластин 11,5 см, шири¬
на 5,5 см. Пластины с пятью заклепками по длине и двумя
по ширине пластины (см. рис. 6, 5), входили в состав набора
панциря-куяка.
Группа II. Пластины с ребристой поверхностью, пред¬
ставлена семью типами.
Тип 1. Квадратные пластины с четырьмя рядами закле¬
пок, выступающих на поверхность, и пятью заклепками, рас-
148
Рис. 6. Панцирные пластины.
1, 2, 4, 5 — Абаза; 3 — Белый Яр.
положенными крестом по центру. Из памятника Чердат в
Причулымье 43. Площадь пластины 7,5x7,5 см (рис. 7, 1).
Входила в состав набора панциря-бригандины с наружным
матерчатым покрытием.
149
Тип 2. Прямоугольные пластины с четырьмя рядами за¬
клепок, выступающих па поверхность, и пятью заклепками,
расположенными крестом по центру. Из памятника Чердат
в Причулымье. Площадь пластины 9x7 см (рис. 7, 2). Входи-
150
лй в состав пабора паициря-бригапдийы с наружным матер¬
чатым покрытием.
Тип 3. Прямоугольные пластины с двумя рядами высту¬
пающих на поверхность заклепок и пятью заклепками,
расположенными крестом по центру. Из Минусинской
котловины. Длина пластины 9 см, ширина 6 см (рис. 1,6).
Входили в состав набора панциря-бригандины с наружным
матерчатым покрытием.
Тип 4. Прямоугольные пластины с тремя рядами высту¬
пающих на поверхность заклепок и одной фигурной заклеп¬
кой в одном углу. Из Минусинской котловины 44. Длина
9 см, ширина 12 см (рис. 7, 3). Входили в состав набора
панциря-бригандины с наружным покрытием.
Тип 5. Пластины с косо срезанным верхним и вогнутым
вертикальным краями, двумя рядами заклепок, выступаю¬
щих па поверхность, и одной фигурпой заклепкой в цептре.
Из Минусинской котловины. Длина пластипы 6 см, ширипа
Г) см (рис. 7, 4). Входили в состав набора панциря-бригап-
дипы с наружным покрытием.
•&1. Тип 6. Треугольные пластины с изогнутыми краями и вы¬
резом, двумя рядами выступающих на поверхность закле¬
пок и с одной фигурпой заклепкой в цептре. Из Минусин¬
ской котловины. Длина пластины 6 см, ширина 7 см (рис. 7,
5). Входили в состав пабора панциря-бригандины с наруж¬
ным матерчатым покрытием.
Тип 7. Прямоугольные пластины с тремя рядами высту¬
пающих на поверхность заклепок и одной фигурной заклеп¬
кой в центре. Из Мипусипской котловины. Длипа пластипы
9 см, ширина 9 см. Входили в состав пабора панциря-бри-
гаидины с наружным матерчатым покрытием.
Рассмотренные выше детали папцирей относятся к раз¬
ным типам доспеха, различающимся по площади защитного
покрытия (рис. 8).
1. Нагрудник. Прямоугольной формы защитное покры¬
тие (панцирь) из горизонтально расположенных прямоуголь¬
ных пластин, соединенных проволокой в четыре ряда по
25 шт., окаймленное по периметру металлической окантов¬
кой. Папцирь сгибался по вертикали, защищая грудь и торс
воина. Металлические части крепились к подкладке, состав¬
ляющей часть верхней одежды. Панцирь дапиого типа был
зафиксирован у берельских и верхнеобских племен середины
I тыс. н. э.
Более простой вариант нагрудных панцирей из отдель¬
ных, горизонтально расположенных пластин, прикрепляв¬
шихся заклепками к подкладке, зафиксирован у енисей-
151
152
1
Отдел |
Группа
1
I
I
Тип j
доспеха
\
§
$
'Т
S О
Террито-
рия
ъ •
§ з!
11
п
Со о)
1
1 (о °)
Нагрудник
4*2
3
Забайкалье}
Минуса
И -Ш
ш
□
I
< ни
Г у як
14*9
1
Притомъе
щ-х
2 ИЗ
Куяк
6*2
. 1
Притомье
ш-х
j ED
Куя к
7*6
7
Минуса}
Монголия
ш -хш
-а
Куяк
12*8
2
Минуса
777 -YW1
5 рттт)
Куяк
12*6
1
Минуса
хп-ш
ж
1
У
Нагрудник-
бригандина
6*8
1
Причулы -
мъе
ш-ш
2
Нагрудник-
бригандина
9*7
1
причулы-
мъе.
ш-шп
3
Ж
Нагрудник-
бригандина
9*6
1
минуса
ШЬХШ
4
рё)
Нагрудник-
бригандино
9*12
1
Минуса
ТУП-ШТ1
5
Нагрудник-
бригандина
6*6
1
Минуса
ш-хш
e
Нагрудник-
бригандииа
6*7
1
Минуса
т-хш
7
Kvv /
Нагрудник-
бриганОина
9*9
1
Минуса
хш-шп
Рис. 8. Сводная таблица панцирных пластин Северной и Централь¬
ной Азии.
ских кыргызов, живших в VI—VIII вв. Не исключено, что
близкая форма защитного доспеха бытовала у средневековых
кочевников Забайкалья,, хотя полной уверенности в этом
нет, так как в п. 1 памятника Ломы-1 наряду с пластиной
о заклепками имеются обычные пластины от ламеллярных
доспехов (рис. 9).
153
Пв-до Н.Э.- Sq. н.э. W-Хов.н.э. ХТ-ХТУвв. н.э. | XV-ТШ в в. н.э.
Ъап.
Сибирь
Алтай (" Минуса Тува \Монголия [за бай кал ъё
Е
По
W
Рис. 9. Типолого-хронологическая матрица панцирных пластин
Северной и Центральной Азии.
154
2. Нагрудпики с подолом. Панцири данного типа в це¬
лом виде не зафиксированы. Подобная форма реконструи¬
руется на основании сопоставления известных находок с
рисунками воинов, относящимися ко второй половине I тыс.
и. э. Панцирь из пластин, крепившихся между собой верти¬
кал ьпо с помощью ремней и пришивавшихся к подкладке,
составляющей единое целое с верхней одеждой воипа. По¬
добными панцирями пользовались тюрки в VI—VIII вв.,
кимаки в IX—X вв.
Вариантом данного типа папциря надо считать металли¬
ческий жилет или корсет с подолом. У такого панциря на¬
ряду с грудыо была защищена и спипа. Данпый тип панци¬
рей зафиксирован у киданей в X—XII вв.
3. Панцирь в виде рубахи с короткими рукавами и
коротким подолом. Состоял из пластин ламеллярной или
чешуйчатой системы крепления. Панцири данного типа не
имели плеч и воротника. Плечи и грудь защищали дополни¬
тельными накладными щитками (рис. 10).
Подобные панцири были широко распространены в кон¬
це I — начале II тыс. и. э. Они применялись тюрками, кыр-
гызами, кочевниками Забайкалья, племенами лесостепной
зоны Западной Сибири. Вариантом данного типа был пан¬
цирь с оплечьями и длинным подолом.
4. Куяк. Панцирь в виде рубахи с широким воротом,
оплечьями, рукавами, коротким подолом. Состоял из широ¬
ких пластин, крепившихся заклепками к подкладке.
Возможно, панцири имели паружное матерчатое по¬
крытие.
Подобные панцири зафиксированы в памятниках XII —
XVIII вв. в Минусинской котловине и Монголии,
5. Бригандииа. Панцирь с выступающими рядами по
периметру пластип. Покрой панциря в точности не известен.
Судя по находкам, он включал покрытие груди и торса.
Поверх панцирь имел матерчатое покрытие, к которому
пластины крепились с помощью заклепок.
Пластины от подобных панцирей известны в Минусин¬
ской котловипе и памятниках Причулымья, где опи датиру¬
ются XVII — началом XVIII вв.
К папцирям типа бригандииа, вероятно, относятся два
набора пластин из тайника Ийи-Кулак в Туве. Судя о ре¬
конструкции М. В. Горелика, подобпьте панцири имели жи¬
лет, отдельно крепившиеся плечи и воротник, сплошной
или состоящий из отдельных полос подол. М. В. Горелик
датирует панцири, отнесенные им к типу «хатангу дегель»,
монгольской эпохой 45.
155
Рис. 10. Типы панцирей, применявшихся в Северной п Централь¬
ной Азии в I —II тыс. и. э.
История металлического доспеха в Северной Азии начи¬
нается с появления бронзовых пластин для защитного пояса
в эпоху развитой бронзы. Последний был частью защит¬
ного вооружения колесничих и продолжал применяться в
течение всего I тыс. до н. э., хотя сами колесничные пряжки
156
с переходом к конному бою быстро утратили защитную функ¬
цию, сохранились в качестве знака воинского достоинства.
Защитные пояса применялись хуннами, но, вероятно, как
дань традиции, поскольку в условиях массированной стрель¬
бы в конном строю они не играли существенной роли в ка¬
честве специальной защиты. Защитные пояса сохранились
в первой половине I тыс. н. э. у верхпеобских и восточно¬
забайкальских племен, обитавших на периферии кочевого
мира.
У хуннов зафиксированы попытки внедрения новых форм
металлической защиты, бронзовых паручий и железных
наножий46. Эти виды защиты не получили в дальнейшем
какого-либо распространения у кочевников.
Имеются отдельные факты (находка панцирной пластины
в Иволгипском городище), позволяющие предполагать, что
панцирный доспех был известен уже хуннам. Однако в целом
в хунпское время панцирная защита еще не получила рас¬
пространения.
Во второй четверти I тыс. и. э. племена Алтая, Приобья,
Прииртышья и Казахстана начинают применять нагрудные
панцири с горизонтальным расположением пластин. Бли¬
зость конструкции панциря, синхронность его появления
на смежных территориях позволяет уверенно локализовать
данпое явление во времени и в пространстве—JI—V вв.
н. э., степные районы к западу от Енисея. Возникновение
данной формы доспеха, судя по его конструкции и системе
расположения пластин, можно считать прямым усовершен¬
ствованием защитного пояса с железными пластинами. На¬
грудный панцирь, в сущности, позволял расширить золу
защиты на всю переднюю часть корпуса, подверженную
наиболее опасным ударам. Надо полагать, что его появле¬
ние — результат увеличения мощности лука, убойной силы
стрел и повышения роли ближнего боя с применением копья.
В условиях усиления наступательного оружия традицион¬
ные средства защиты: защитные пояса, деревянный щит,
доспехи из кожи, кости и т. д.— уже не обеспечивали пре¬
дохранения от ударов, что вызвало к жизни появление по-
вых форм металлического панциря. Нагрудный панцирь в
плане эволюции стадиально самый ранний и примитивный
из всех видов металлических доспехов, применявшихся
кочевниками Азии. Нагрудник применялся кыргызами в VI —
VIII вв.
В это же время, как свидетельствуют материалы верхне-
обской культуры, делаются опыты конструктивного усовер¬
шенствования панцирей, расположения пластин вертикаль'
157
но, с помощью ремней, в соответствии с так называемой ла¬
меллярной системой крепления. Однако в середине I тыс.
н. э. это были только эпизодические факты. Переход кочев¬
ников к панцирям с вертикальной системой крепления, как
свидетельствуют археологические материалы, в массовом
масштабе произошел во второй половине 1 тыс. и. э. В это
время па всей обширной территории Центральной Азии,
в Саяпо-Алтае, Западной Сибири распространяются пан¬
цири с вертикальной системой крепления пластин.
Среди пластин, составляющих панцирь, преобладали пря¬
моугольные с округлым нижним краем. Такие пластины
применялись повсеместно. В Саяпо-Алтае применялись так¬
же близкие по форме, но более короткие овальные и прямо¬
угольные пластины, в Западной Сибири — прямоугольные,
двояковогнутые, зубчатые и иные формы. Пластины соеди¬
нялись в составе панциря параллельно либо со смещением
каждого нижеследующего ряда (ламеллярно либо чешуйча¬
то). Форма панциря изменилась. Первоначально к пагруд-
нику добавили длинный подол. Таким панцирем пользова¬
лись тюрки I каганата, позднее — кимаки. Затем панцир¬
ными пластинами стали защищать и спину. Таким панцирем
пользовались, например, кидаии. Наконец, в Саяно-Алтае
в IX—X вв. стал употребляться панцирь с коротким подолом
и рукавами. Вместо оплечий применялись накладные щитки.
Такие же щитки дополнительно защищали грудь воина.
Этот тип панциря правомерно назвать куяком. Он приме¬
нялся в Центральной Азии вплоть до монгольского времени,
наряду с более простыми модификациями, был без рукавов,
но с длиппым подолом.
Утяжеление доспеха связано с выделением нового рода
войск — тяжелой конницы и новой тактики атаки — плотно
сомкпутьтм строем.
По предположению М. В. Горелика, в раннем средне¬
вековье тюркоязычными кочевниками Центральной Азии
применялся также «ламинарный» доспех из длинных, гори¬
зонтально расположенных пластин, соединенных между .со¬
бой ремешками 47. Подобных деталей панциря в наших ма¬
териалах не зафиксировано.
Панцири-куяки ламеллярной и чешуйчатой систем креп¬
ления применялись кочевниками Азии в течение всей первой
половины п тыс. и. э. В частности, они зафиксированы в
саяпо-а л тайских, забайкальских, монгольских, западносибир¬
ских материалах предмонгольского и монгольского времени.
В предмонгольскос время в Саяно-Алтае появляются
панцири пластинчатого типа, по форме аналогичные куякам,
158
но составленные из широких пластин, крепившихся зак¬
лепками к подкладке. Большинство находок пластин от
подобных панцирей из Минусинской котловины, а в Монго¬
лии такой панцирь был определен в качестве «кыргызского»*.
Хотя начальная дата возникновения панцирей данного типа
является дискуссионной, мы полагаем, что они должны были
возникнуть накануне монгольских завоеваний, ибо па дру¬
гие территории эти панцири, как считается, были занесены
монголами48. Трудно поверить, что новый тип панциря
мог быть создай в кыргызских землях уже после того, как
они были завоеваны монголами. Судя по находкам аналогич¬
ных пластин в погребениях XVJ1—XVIII вв., подобные
панцири применялись кыргызамн и воевавшими в составе
их войск кыштымами вплоть до начала XVIII в.49 Появле¬
ние пластинчатого панциря связано с интенсификацией кон¬
ного боя в начале II тыс. и. э.
Согласно наблюдениям М. В. Горелика, в XIV в. в
Саяпо-Алтае стал применяться доспех типа бригандины 50.
Не оспаривая этой даты, укажем, что находки из Минусин¬
ской котловины и Причулымья датируются XVII — нача¬
лом XVIII в. и связаны с последним периодом существова¬
ния кыргызских княжеств на Енисее 51.
Если ийи-к у лакские панцири были комбинированными,
составленными из пластин разной формы и величины, с
оплечьями, рукавами, воротником и подолом, то для кыр¬
гызских бригапдин XVII—XVIII вв. можно отметить лишь
наличие нагрудных пластин и предплечий. Монголы в
XVII в. иногда применяли и ламеллярные куяки 52.
Таким образом, эволюция металлического доспеха в Цен¬
тральной и Северной Азии представляется в виде смены сле¬
дующих основных этапов: 1) III—V вв.— распространение
нагрудного панциря; 2) VI—VIII вв.— сосуществование на¬
грудного панциря с другими видами: с нагрудником с подо¬
лом и жилетом с подолом; 3) IX—XII вв.— сосуществование
нагрудников с подолом и жилетов с подолом с ламеллярны¬
ми и чешуйчатыми куяками; 4) XIII—XIV вв.— сосущест¬
вование ламеллярных и чешуйчатых куяков с пластинчаты¬
ми куяками, появление бригандин; 5) XVII—XVIII вв.—
сосуществование пластинчатых куяков и бригапдин.
В XVII—XVIII вв. эволюция панцирной защиты в
Северной Азии завершилась в связи с распространением
огнестрельного оружия, с вхождением расположенных на
* Центральный Государственный музей МИР. Экспозиция «Кыр¬
гызское государство».
159
данной территории этнических и государственных образо¬
ваний в состав Русского государства, вооруженные силы
которого взяли на себя охрану местного населения от пося¬
гательств извне. В середине XVIII в. степные просторы
Монголии были завоеваны маньчжурами, в связи с чем воп¬
рос о дальнейшем развитии доспеха на данной территории
должен рассматриваться в ином аспекте. Поэтому мы счи¬
таем, что в XVIII в. линия развития металлического защит¬
ного покрытия воинов на территории Северной и Централь¬
ной Азии завершилась.
Примечания
1 Радлов В. В. Сибирские древности.— Спб., 1896.— С. 55.
2 Материалы по доисторической археологии России // ЗИРАО.—
Снб., 1899.— Т. XI, вып. I, II.— С. 318.
3 Там же.— С. 318.
4 Клеменц Д. А. Древности Минусинского музея.— Томск,
1886.— С. 165-166.
5 Tallgren А. М. Collection Tovostinc des antiquites prechistori-
ques de Minoussinsk conscrvccs chez Le Dr. Karl Hedman a Vasa.—
Helsingfors, 1917.— P. XII.
6 Aspelin J. R. Tipcs dc peuples de L'ancienne Asie Centrale.—
Helsingfors, 1890.— Fig. 8, 9.
7 Левашова В. П. Из далекого прошлого южной части Краснояр¬
ского края.— Красноярск, 1939.— С. 54.
8 Там же.— Табл. XV, 11-13.
9 Appelgren-Kivalo Н. Alt-altaischc Kunstdenk-malcr.— Hel¬
singfors, 1931.— S. 6.
10 Евтюхова Л. А. Археологические памятники енисейских кыр-
гызов (хакасов).— Абакан, 1948.— С. 104; Киселев С. В. Древняя
история Южной Сибири // МИЛ.— М.— Л., 1949.— № 9.— С. 325.
11 Гумилев Л. Н. Статуэтки воинов из Туюк-Мазара // СМАЭ.—
М.-Л., 1949.—Т. XII.-С. 241.
12 Бояршинова 3. Я. Погребальный ритуал в Басандайских кур¬
ганах // Б асан дайка.— Томск, 1947.— Т. 98.— С. 156; Чиндина Л. А.
Могильник Релка на средней Оби.— Томск, 1977.— С. 33; Уман-
ский А. П. Могильники верхнеобскон культуры на верхнем Чумыше
// Бронзовый и железный век Сибири.— Новосибирск, 1974.—
С. 147—148; Беликова О. Б., Плетнева Л. П. Памятники Томского
Приобья в V—VIII вв. и. э.— Томск, 1983; Коников Б. А. Материалы
к характеристике вооружения среднеиртышского населения в эпоху
раннего средневековья // Археология Прииртышья.— Томск, 1980.—
С. 74; Грязнов М. П. История древних племен верхней Оби по раскоп¬
кам близ с. Большая Речка // МПА.— М.— Л., 1956.— № 48.—
С. 104; Гаврилова А. А. Могильник Кудыргэ как источник по истории
алтайских племен.— М.— Л., 1965.— С. 16, 55; Савинов Д. Г. Древ¬
нетюркские курганы Узунтала // Археология Северной Азии. —Но¬
восибирск, 1982.— С. 107; Грач А. Д. Археологические исследования
в Кара-Холе и Могун-Тайге // ТКАЭЭ.— М.— Л., 1960.— Т. 1.—
С. 130; Он же. Археологические раскопки в Сут-Холе и Бай-Тайге //
Тр. ТКАЭЭ.- М.— Л., I960.- Т. II.- С. 99; Нечаева Л. Г. Погре¬
бения с трупосожжением могильника Тора-Тал-Арты.— Там же.—
160
G. 114; Вайнштейн С. И. Некоторые вопросы истории древиетюркской
культуры // СЭ.— I960.— № 3.— Рис. 10, 102, IQS', Кызласов Л. Р.
Этапы средневековой истории Тувы // ВМУ.— 1964.— № 4.— Сер.
IX.— Табл. II, 19, 56\ Овчинникова Б. Б. К вопросу о вооружении
кочевников средневековой Тувы // Военное дело древних племен Си¬
бири и Центральной Азии.— Новосибирск, 1981.— С. 141; Грач В. А.
Средневековые впускные погребения из кургана-храма Улуг-Хорум
в Южной Туве // Археология Северной Азии.— Новосибирск, 1982.—
С. 164; Окладников А. П. Бурхотуйская культура железного века в
Юго-Западном Забайкалье. История и культура Бурятии.— Улан-
Удэ, 1976.— С. 372; Асеев И. В., Кириллов И. И., Ковычев Е. В.
Кочевники Забайкалья в эпоху средневековья.— Новосибирск,
1984.— С. 81-82.
13 Новгородова Э. А., Горелик М. В. Наскальные изображения
тяжеловооруженных воинов с Монгольского Алтая // Древний Восток
и античный мир.— М., 1980.— С. 102—104; Окладников А. П., За¬
порожская В. Д. Ленские писаницы.— М.— Л., 1959.— С. 19.
14 Кюнер Н. В. Китайские источники о народах Южной Сибири,
Центральной Азии и Дальнего Востока.— М., 1961.— С. 60.
1!\ Худяков 10. С. Вооружение енисейских кыргызов VI—XII вв.—
Новосибирск, 1980.— С. 118—128.
16 Сунчугашев Я. И. Древняя металлургия Хакасии.— Новоси¬
бирск, 1979.— С. 132—133.
17 Горелик М. В. Средневековый монгольский доспсх // Олон
Улсын монголи эрд эмтний III их хурал.— Улан-Баатар, 1979.—
Воть I.— С. 90 — 101; Горелик М. В. Монголо-татарское оборонитель¬
ное вооружение второй половины XIV — начала XV в. // Куликов¬
ская битва в истории и культуре нашей Родины.— М., 1983.—
С. 244-269.
18 Ковычев Е. В. Лук и стрелы восточнозабайкальских племен I
тысячелетия н. э. // Военное дело древних племен Сибири и Централь¬
ной Азии.— Новосибирск, 1981.— С. 97 — 110; Немеров В. Ф. Нако¬
нечники стрел уидугунской культуры // Археология Северной Азии.—
Новосибирск, 1982.— С. 168—177; Худяков Ю. С. Коллекция желез¬
ных наконечников стрел Читинского музея // Археология Северной
Азии.— Новосибирск, 1982.— С. 135 — 148; Он же. Коллекция желез¬
ных наконечников стрел из Тункинской долины в фондах Иркуте ко¬
го музея // По следам древних культур Забайкалья.— Новосибирск,
1983.— С. 138—149; Он же. Вооружение енисейских кыргызов VI —
XII вв.— Новосибирск, 1980; Он же. Вооружение кок-тюрок среднего
Енисея // Изв. СО АН СССР. Сер. обществ, наук.— 1980.— № И,
нып. 3.— С. 31—33; Он же. Вооружение древних тюрок Горного Алтая
// Археологические исследования в Горном Алтае в 1980 — 1982 гг.—
Горно-Алтайск, 1983.— С. 3—27; Он же. Вооружение кочевников при-
ллтайских степей в IX—X вв. // Военное дело древних племен Сиби¬
ри и Центральной Азии.— Новосибирск, 1981.— С. 115—132; Са¬
винов Д. Г. Новые материалы по истории сложного лука и некоторые
вопросы его эволюции в Южной Сибири.— Там же.— С. 146—162;
Плотников Ю. А. Наконечники стрел из могильпика Кызыл-Ту.—
'Гам же.— С. 110 — 115; Он же. Рубящее оружие ирииртышских ко-
маков.— Там же.— С. 162 —167; Гемуев И. Н., Соловьев А. И. Стрелы
селькупов // Этнография народов Сибири.— Новосибирск, 1984.—
С. 33-55.
19 Худяков Ю. С. Опыт типологической классификации пакопеч-
ттиков стрел енисейских кыргызов IX —XII вв. // Соотношение древ¬
них культур Сибири с культурами сопредельных территорий.— По-
() Заказ Ns 504
161
восибирск, 1975.— С. 310—326; Он же. Метод классифицирования
предметов вооружения по материалам вооружения средневековых ко¬
чевников // Использование методов естественных и точных наук при
изучении древней истории Западной Сибири.— Барнаул, 1983.—
С. 76—77; Молодин В. И., Соловьев А. И. Классификация топоров
могильника «Кыштовка-2» // Археология Южной Сибири.— Кемерово,
1977.— С. 105—120; Соловьев А. И. О назначении «кельтов» // Архео¬
логия эпохи камня и металла Сибири.— Новосибирск, 1983.—
С. 132-142.
20 Кирпичников А. Н. Древнерусское оружие.— Л., 1971.—
Вып. 3.— С. 17-18.
21 Хазанов А. М. Очерки военного дела сарматов.— М., 1971.—
С. 53.
22 Новгородова Э. А., Горелик М. В. Наскальные изображе¬
ния...— С. 107.
23 Горелик М. В. Монголо-татарское оборонительное вооруже¬
ние...— Табл. III.
24 Уманский А. П. Могильники верхнеобской культуры...—
С. 147-148.
23 Чиндина Л. А. Изображения воинов из Среднего Приобья И\
Военное дело древних племен Сибири и Центральной Азии.— Ново¬
сибирск, 1981.— С. 32.
26 Иванов С. В. Элементы защитного доспеха в шаманской одеж¬
де пародов Западной и Южной Сибири // Этнография народов Алтая и
Западной Сибири.— Новосибирск, 1978.— С. 163.
27 Уманский А. П. Могильники верхнеобской культуры...—
С. 147.
28 Гаврилова А. А. Могильник Кудыргэ как источник по истории
алтайских племсп.— М.— Л., 1965.— С. 55. i
29 Грязнов М. П. История древних племен...— С. 104; Грач А. Д.
Археологические раскопки...— 99; Он же. Археологические исследо¬
вания...— С. 130; Он же. Средневековые впускные погребения...—
С. 158; Нечаева Л. Г. Погребения с трупосожжснием...— С. 144; Ко¬
ников Б. А. Материалы к характеристике...— С. 74; Худяков Ю. С.
Вооружение енисейских кыргьтзов.— С. 119—121; Он же. Кыргызы
па Табате.— Новосибирск, 1982.— С. 123; Беликова О. Б., Плетне¬
ва Л. М. Памятники Томского Приобья...— С. 75.
30 Грач А. Д. Археологические раскопки...— С. 99; Худяков 10. С.
Вооружение енисейских кыргызов.— С. 119.
31 Беликова О. Б., Плетнева Л. М. Памятники Томского При¬
обья...— С. 75.
32 Чиндина Л. А. Могильник Редка...— С. 33.
33 Гаврилова А. А. Могильник Кудыргэ...— С. 16; Бояршино¬
ва 3. Я. Погребальный ритуал...— С. 156; Нечаева Л. Г. Погребения
с труиосожжением...— С. 114; Кызласов Л. Р. Курганы тюхтятской,
культуры в Туве // СА.— 1983.— № 3.— С. 158.
34 Бояршинова 3. Я. Погребальный ритуал...— С. 156; Кызла-.
сов Л. Р. Курганы тюхтятской культуры...— С. 158.
35 Там же.
38 Чиндина Л. А. Могильник Рслка...— С. 33.
37 Худяков Ю. С. Вооружение енисейских кыргьтзов.— С. 119.
38 Беликова О. Б., Плетнева Л. М. Памятники Томского При¬
обья...— С. 33. |
39 Худяков 10. С. Вооружение енисейских кыргызов.— С. 119;
Асеев И. В., Кириллов И. И., Ковычев Е. В. Кочевники Забайкалья
в эпоху средневековья.— Новосибирск, 1984.— С. 81—82.
162
40 Худяков Ю. С. Вооружение енисейских кыргызов.— С. 123.
41 Там же.— С. 123; Худяков Ю. С., Скобелев С. Г. Позднесредне-
тмчовое шаманское погребение в могильнике Ортызы-Оба // Этногра¬
фия народов Сибири.— Новосибирск, 1984.— С. 110.
42 Худяков Ю. С. Вооружение енисейских кыргызов.— С. 123.
43 Кренке Н. А. Коллекция В. В. Радлова из раскопок курганов
\ VII в. в Сибири // Западная Сибирь в эпоху средневековья.— Томск,
1984.— С. 141.
44 Левашова В. П. Из далекого прошлого...— С. 54.
4"> Горелик М. В. Монголо-татарское оборонительное вооруже¬
ние...— С. 251—255.
46 Руденко С. И. Культура хуннов и Ноинулинские курганы.—
М.—Л., 1962.—С. 63; Коновалов П. Б. Хунну в Забайкалье.—
Улан-Удэ, 1976.— С. 179.
47 Горелик М. В. Средпевековый монгольский доспех...— С. 94;
Иовгородова Э. А., Горелик М. В. Наскальные изображения...—
С. 102 — 104.
48 Горелик М. В. Монголо-татарское оборонительное вооруже¬
ние...— С. 251.
49 Худяков Ю. С., Скоболев С. Г. Позднесредневековое шаманское
погребение...— С. 110.
50 Горелик М. В. Монголо-татарское оборонительное вооруже¬
ние...— С. 251.
51 Кренке Н. А. Коллекция В. В. Радлова...— С. 141.
ь2 Горелик М. В. Средневековый монгольский доспех...— С. 99.
Б. А. Коников
О ВООРУЖЕНИИ ПРИИРТЫШСКОГО НАСЕЛЕНИЯ
НАЧАЛА II ТЫС. Н. Э.
(по материалам памятников Омской области)
Развернувшиеся с 1970-х годов систематические исследова¬
ния памятников начала II тыс. п. э. в таежном Прииртышье
создали предпосылки для изучения различных сторон куль¬
туры населения, в том числе и его военного дела, некото¬
рые аспекты которого уже нашли отражение в печати 1.
Новые материалы из раскопок начала 80-х годов существен¬
но пополнили наши знания в этой области и в то же время
( делали необходимым переосмысление некоторых ранее из-
I'.сетных положений. Последнее стало возможным в резуль-
1.ТГО выхода ряда содержательных работ по военной пробле¬
матике древних пародов Сибири 2.
Одним из самых распространенных видов наступательно-
п) оружия у населения был сложный лук. Его остатки
163
Рис. 1. Наконечники стрел.
1—17 — железо; 18—22 — кость; 1, 2, 7, 8, 11, 13, 15—17 — Усть-Ишим; з — 6, Ю,
12 — Кипо-Кулары; 9, 14 —в Малая Бича; 18—22 — Кипо-Кулары, поселение.
164
открыты в п. 1 к. 5 у д. Ильчибага Тевризского райопа:
костяные накладки длиной 75 см, шириной 3 см лежали
и положении in situ. Еще одна накладка, срединная фрон¬
тальная, обнаружена на Кипо-Куларовском поселении того
же райопа (рис. 3, 22). Аналогичные накладки были извест¬
ны кочевникам Азии в IX—X вв.3 Деталью колчана являет¬
ся костяная петля подтреугольпой формы с четырьмя от¬
верстиями вдоль одного края и щелевидной прорезыо на
противоположном — единственная пока в Прииртышье на¬
ходка (рис. 3, 2). Петли этого типа широко использовались
для крепления к поясу берестяных колчанов кочевниками
евразийских степей X—XI вв.4
Коллекция железных пакопечииков стрел Прииртышья
пополнилась еще 17 экз. (рис. 1). Всего их здесь найдено
уже 164. Они представлены четырьмя группами: трехлопаст-
мые, трехграппо-лопастные, граненые и плоские. Соотноше¬
ние между группами следующее: плоские — 72 экз. (46,6%),
граненые — 55 (35,7), трехлопастные — 23 (15), трехгран-
по-трехлопастные — 4 экз. (2,5%). Таким образом, плоские
п грапеные составляют 127 экз., или 82,4%. У кочевых
пародов Сибири отмечены примерно те же пропорции между
указанными группами наконечников стрел 5. В некоторых
захоронениях наконечники найдены в положении, когда
стрелы, по-видимому, помещались в колчане. Опи лежат
остриями в одну сторону, среди пих есть и плоские, и гра¬
неные (Александрова, к. 3). Все прииртышские паконечпи-
кп стрел черешковые, па отдельных экземплярах сохрани¬
лись следы берестяных древков или обмоток. Как и другие
таежные районы Западной Сибири, Прииртышье не знало
свистящих стрел*.
Костяные наконечники стрел представлены 167 экз. Они
черешковые, их уплощенный насад имеет подпрямоугольпое
сечение. По сечению пера выделяется девять групп: I —
I рехграпиые. 60 экз. (рис. 2, 2—2); II — трапециевидные.
50 экз. (рис. 2, 9, 22, 22, 22); III — ромбические. 32 экз.
(рис. 2, 5—8, 10); IV — овальные. 8 экз. (рис. 2, 22); V —
полуовальные. 6 экз. (рис. 1, 16); VII — липзовидные.
\ экз. (рис. 1, 18—20); VIII — круглые. 4 экз. (рис. 2, 22);
IX —мпогограппые. 2 экз. (рис. 2, 13).
Споры о функциональном предназначении костяных па-
копечпиков (являются ли они охотничьим инвентарем или
употребляются в военном деле) беспредметны 6. При опре-
* Несколько свистящих стрел найдено только в Томском могиль¬
нике Среднего Приобья.
1G5
Рис. 2. Костяные наконечники стрел. Кшто-Кулары.
166
11
Рис. 3. Предметы вооружения из таежного Прииртышья.
/ — петля; 2—5, 7 — панцирные пластины; 6 —топор; 8 — наконечник копья;
10 — ножи; 11 — накладка. ], 11 — кость, 2—К) — железо. 1—о, ,5, 9, 11 —
Кипо-Кулары; 4 — Аргаиз; 6 — Малая Бича; 7,8 — Кип; 10 — Имшегал.
167
делепньтх условиях костяные наконечники могли служить
оружием для поражения не защищенного панцирем против¬
ника и в то же время быть охотничьим оружием.
Железные паконечники копий известны в 3 экз. (Усть-
Ишим, к. 15; Кип, к. 13; Мурлинка, к. 6). Усть-ишимский
и кипский накопечники относятся к числу лапцетовидпых,
их длинная втулка сомкнута. Длина наконечников 19—
20 см, длина пера 5—6 см. Во втулке кипского наконечника
сохранились остатки древка (см. рис. 3, 8). Все наконечники
копий пайдепы в комплексе с воинскими принадлежностя¬
ми, поэтому вряд ли соответствует действительности пред¬
положение об охотпичьем назначении раннесредпевековых
копий 7.
В таежном Прииртышье довольно редки находки желез¬
ных боевых топоров. Один экземпляр найден В. А. Могшть-
пиковым 8, второй обнаружен в п. 4 к. 1 у пос. Малая Бича
Усть-Ишимского райопа. По предложенной Ю. С. Худяко¬
вым типологии топор относится к числу низкообушных и
грациальных 9. Проух овальной формы диаметром 1,8—
1,9 см. Обух к копцу расширяется, приобретая в плане
овальную форму. Длина топора 9,8 см, ширина лезвия 2,2,
длина обуха 3,3 см (см. рис. 3, 6). Своей формой указанный
топор близок к кыргызским образцам 10.
До настоящего времени в таежном Прииртышье не обна¬
ружены мечи или сабли*. Поэтому представляет интерес
бронзовая пряжка с железным язычком в виде фигуры чело¬
века. Черты лица едва намечены: показаны один глаз и
нос. Руки согпуты в лок1ях и упираются в бока. Ноги
являются одновременно частью рамки. К поясу подвешена,
переданная в невысоком рельефе, сабля. Ее рукоять изогну¬
та в сторону лезвия. Размер фигуры 6,8 х 2,1 см. Длина сабли
1,7 см (рис. 4, 2). Поза фигуры человека на пряжке вызыва¬
ет ассоциации с каменными изваяниями юга Сибири 11.
Железные боевые ножи известны в 2 экз. Опи черешковые
с прямой спинкой и длинным прочпьтм лезвием (ем. рис. 3,
9, 10).
Таежное Прииртышье относится к числу тех районов
Сибири, где в археологических материалах широко представ¬
лены защитные доспехи, в частность чешуйчатые панцири
(Ус1ь-Ишим, к. 15; Кип, к. 3; Кипо-Кулары, к. 7; Кипо-
Кулары, поселение; Аргаиз, могильник; и др.). Появление
* Отдельные, сильпо коррозированные железные пластины лишь
с большой осторожностью могут рассматриваться в качестве остатков
мечей (Малая Бича, к. 5; Кип. к. 3).
168
Рис. 4. Бронзовые изделия с зооаптропоморфными изображениями.
1,2 — Кипо-Кулары; 3,4 — Верхнее Аксенове; 5 — Кип.
здесь чешуйчатого панциря документируется находкой пла-
пшш в могильнике VI — VIII вв. па р. Тара 12. По имеющим¬
ся у нас данным, чешуйчатый панцирь оставался единствен¬
ным видом доспеха па рассматриваемой территории до XI —
XII вв. В и. 1 к. 15 у с. Усть-Ишим обнаружены остатки
панциря, позволившие в известных пределах воссоздать его
имевший вид и конструктивное устройство. Он состоял из
панцирных пластин разных размеров, но одинаковой формы:
прямоугольной с закругленными краями, отверстиями по
периметру и в центре. Длинной стороной пластины налега¬
ли друг на друга, а концы крайних заключались в железную
ибойму. Пластины крепились к кожаной основе, и в таком
виде доспех надевался на шерстяную одежду. В могиле
пыли собраны крупные куски кожи с закрепленными на
них пластинами и фрагменты шерстяной материи. На па¬
мятниках таежного Прииртышья встречены пластины раз¬
ных типов (см. рис. 3, 2—4, 7). К панцирным предположи-
ммьпо отнесена крупная железная пластина подпрямоуголь-
поп формы с отверстиями вдоль одного длинного края.
169
По периметру и в центре опа была армирована железным
дротом (см. рис. 3, 5).
В последние годы стали активно использоваться в каче¬
стве источника, в том числе по военному делу, антропоморф¬
ные изображения 13. Имеют непосредственное отношение к
нашей теме и некоторые прииртышские поделки. Остановим¬
ся па их характеристике.
1. Бронзовое плоское одностороннее изображение всад¬
ника на коне. Голова, верхняя часть туловища и руки пере¬
даны в анфас, копь — в профиль. На лице человека
обозначены глаза и широкий длинный нос, соединенный с
надбровными дугами. Руки распростерты в противоположные
сторопы, и одна сливается с холкой, а другая — с крупом
лошади. На руках видны насечки: 5 и 4. Конь, как и всадник,
воспроизведен со значительной долей схематизма. Его морда
и три ноги соединены перегородкой. На туловище имеются
ложяовитой орнамент и девять неглубоких конических ямок
(см. рис. 4, 7). Близкая по сюжету и манере исполнения
находка известна у болгар X — начала XI в.14
Многие центральные захоронения большинства курган¬
ных групп таежного Прииртышья содержали останки людей
со всаднической экипировкой (Усть-Ишим, к. 6, 13, 15;
Кип, к. 6; Малая Бича, к. 1, 3; Александровна, к. 3; Аргаиз,
могильник и др.). Находка бляхи с изображением воина
на коне подчеркивает ту роль, какую вооруженные всадники
играли в жизни и религиозных представлениях того времени.
2. Бронзовая крупная личина плоского одностороннего
литья. Голову венчает шлем-шишак. Его поверхность рас¬
черчена гравированными линиями (см. рис. 4, 4).
3. Бронзовая овальная личина с совершенно иным типом
лица, чем на рис. 4, 4. Иная и форма головного убора (см.
рис. 4, 3).
4. Бронзовое изображение фигуры человека. Его голову
украшает головной убор (см. рис. 4, 5).
На всех изображениях показаны, вероятно, разные тины
шлемов.
Вышеизложенные материалы подводят к следующей оцен¬
ке вооружения таежных воинов: новые образцы оружия,
разрабатывавшиеся или распрострапявшиеся в степной Азии
или Восточной Европе, достаточно быстро достигали райо¬
нов лесной зоны Западной Сибири и таежпого Прииртышья
в частности; по своему военно-техническому оснащению та¬
ежные группы населения почти не уступали соседям, набор
видов их оружия примерно тот же, что и у кочевников-
степняков; степень насыщенности археологических памятны-
170
коб предметами вооружения делает оправданным предполо¬
жение о накаленной и чреватой частыми столкновениями
обстановке в таежном Прииртышье в начале II тыс. и. э.;
по приведенным примерам можно судить о степепи влияния
кочевых народов степной Азии па военное дело своих север¬
ных соседей. «Таежная окраина становится для кочевников...
полигоном военных мероприятий и пристанищем для этни¬
ческих групп, не выдержавших конкуренции в борьбе за
гегемонию в степи»15. Военное искусство таежных племен
также должно было подвергнуться воздействию со стороны
тюркоязычных народов Сибири. В какой мере оно имело
место, как это проявлялось — тема для будущих исследований.
Примечания
1 Могильников В. А. Культура племен лесного Прииртышья
IX — начала XIII в. н. э. // Тр. Камской археологической экспеди¬
ции.— Пермь, 1968.— Вып. IV.— С. 279—280; Коников Б. А. Мате¬
риалы к характеристике вооружения среднеиртышского населения в
эпоху раннего средневековья // Археология Прииртышья.— Томск,
1980; Коников Б. А., Худяков 10. С. Наконечники стрел из Искера //
Военное дело древних племен Сибири и Центральной Азии.— Ново¬
сибирск, 1981.
2 Худяков Ю. С. Вооружение енисейских кыргызов.— Новоси¬
бирск, 1980; Военное дело древних племен Сибири и Центральной
Азии.— Новосибирск, 1981.
3 Худяков Ю. С. Вооружение кочевников приалтайских степей
в IX —X вв. // Военное дело древних племен Сибири и Центральной
Азии.— Новосибирск, 1981.— Рис. 2, 8, 9.
4 Степи Евразии в эпоху средневековья // Археология СССР.—
М., 1981.— Рис. 82, 53.
s Овчинникова Б. Б. К вопросу о вооружении кочевников сред¬
невековой Тувы // Военное дело древних племен Сибири и Централь¬
ной Азии.— Новосибирск, 1981.— С. 136.
6 Ковычев Е. В. Лук и стрелы восточнозабайкальских племен
I тысячелетия и. э. // Военное дело древних племен Сибири и Цент¬
ральной Азии.— Новосибирск, 1981.— С. 107.
7 Чиндина Л. А. Могильник Релка на средней Оби.— Томск,
1977.—С. 32.
8 Могильников В. А. Культура племен лесного Прииртышья...—
Рис. 5, 39.
9 Худяков 10. С. Вооружение енисейских кыргызов.— С. 62—63.
10 Там же.— Табл. 6.
11 Шер А. Я. I каменные изваяния Семиречья.— М.— Л., 1966.—
Табл. IX.
12 Могильников В. А., Коников Б. А. Могильник потчевашской
культуры в Среднем Прииртышье // С А.— 1983.— № 2.
13 Чиндина Л. А. Изображения воинов из Среднего Приобья //
Военное дело древних племен Сибири и Центральной Азии.— Ново¬
сибирск, 1981.— С. 87—98.
14 Степи Евразии...— Рис. 52, 95.
15 Худяков 10. С. Кочевники и тайга // Сибирь в прошлом, настоя¬
щем и будущем.— Новосибирск, 1981.— Вып. III.— С. 70.
В. А. Иванов
ВООРУЖЕНИЕ СРЕДНЕВЕКОВЫХ КОЧЕВНИКОВ
ЮЖНОГО УРАЛА И ПРИУРАЛЬЯ (VII—XIV вв.)
О важности и значении изучении вооружения средневековых
кочевников Евразии написано уже достаточно много х, что
совершенно освобождает нас от новых рассуждений на эту
тему. Единственное, на что хотелось бы обратить внима¬
ние,— это абсолютная неразработанность данпого вопроса
применительно к средневековым кочевникам Южного Урала,
региона, в территориальном и этнокультурном плаке состав¬
лявшего органичную часть Великого пояса степей Евразии.
И хотя во всех работах, посвященных публикации средне¬
вековых кочевнических памятников в степной полосе реги¬
она, описание найденных предметов вооружения обязатель¬
но присутствует 2 (что уже свидетельствует о наличии опре¬
деленной источниковой базы по данному вопросу), однако
специального анализа этого вида археологических источни¬
ков, подобного проведенному на материале памятников за¬
падных и восточных областей евразийских степей
(С. А. Плетнева, Г. А. Федоров-Давыдов, Н. Я. Мерперт,
10. С. Худяков, Г>. Б. Овчинникова, Д. Г. Савинов,
Ю. А. Плотников и др.)3, не делалось.
Настоящая работа имеет цель в какой-то степени воспол¬
нить этот пробел, хотя рассчитывать на столь же достовер¬
ные результаты, как в работах названных выше исследова¬
телей, едва ли приходится. Основная причина — неудовлет¬
ворительное состояние первоисточников (например, более
70% из 239 известных в регионе погребений VII —IX вв.
дошли до нас в разграбленном виде) и специфика погребаль¬
ных традиций тюркоязычных кочевников X — XIV вв., когда
сопровождающий погребенного набор вещей (в частности,
оружия), вероятно, не отражал реального социального поло¬
жения (и воинской специализации) данного индивида. Тем
не менее автору этих строк представляется возможным и
целесообразным дать сводную характеристику известных на
Южном Урале и в Приуралье образцов кочевнического во¬
оружения, что позволит хотя бы в общих чертах представить
место, занимаемое регионом в общей схеме развития воору¬
жения средневековых кочевников степей Евразии.
Известные в настоящее время в регионе памятники кочев¬
ников составляют три хронологические группы, различаю¬
щиеся по cBooAiу этнокультурному содержанию и происхож-
172
дошло. Первая группа — памятники кунгнаренковско-кара-
икуповского типа, оставленные в VII—IX вв. племенами
угорского, по мнению большинства исследователей, проис¬
хождения 4 (как уже указывалось выше, 239 погребений);
вторая — курганы, оставленные кочевниками огузо-печенеж-
гкого этнокультурного объединения, обитавшими в степях
региона в IX—XI вв. (44 погребения)6, и третья — наиболее
массовая — курганы кыпчаков XII—XIV вв. (207 погребе¬
ний)6. Естественно, что вооружение мы будем рассматривать
в соответствующей хропологической последовательности.
Образцы оружия найдены в 78 погребениях кушнарен-
ковско-караякуповского типа, что составляет 32,6% всех
учтенных погребений (могильники Больше-Тиганский, Игим-
ский, Манякский, Ново-Биккино, Лагеревский, Ямапш-Тау,
Хусаиновский, I, II Бекешевские, Ишимбаевский, Стерли-
гамакский, Старо-Халиловский, Каранаевский, Такталачук,:
Г)прений, Муракаевский)*. Это железные и костяные нако¬
нечники стрел, наконечники копий, боевые топоры, сабли,;
костяные накладки на лук, железные шлемы.
Чаще всего из предметов вооружения встречаются нако¬
нечники стрел (найдены в 66 из рассматриваемых погребе¬
ний). В основном это железные наконечники, по сечению
пера разделяющиеся на трехлопастные, трех- и четырехгран¬
ные и плоские.
Трехлопастные наконечники (условно — группа А), най¬
денные в 15 погребениях, по форме пера делятся на шесть
типов:
А1 — треугольные, с коротким черешком и уступом у
основания пера (рис. 1, 1) — 7 экз.;
А2 — треугольные, с косо срезанным основанием пера,
длинным черешком и перехватом на уступчике при переходе
пера в черешок (рис. 1, 2) — 3 экз.;
АЗ — башневидные с коротким черешком и уступом у
основания пера (рис. 1, 3) — 3 экз.;
А4 — массивные, арочной формы с цельнокованым остри¬
ем (рис. 1, 4) — 1 экз.;
А5 — с коротким черешком, косо срезанным основанием
и срезанной под тупым углом ударной частью (рис. 1,5) —
I экз.;
А6 — с трехлопастным острием, плавно переходящим в
удлиненное четырехгранное основание, и уступом при пере¬
ходе в короткий круглый черешок (рис. 1, 6) — 1 экз.
* Здесь и далее будут указываться только могильники, содержа¬
щие погребения с оружием.
173
Рис. 1. Типы наконечников стрел из погрсбепий VII—XIV вв. Южно¬
го Урала и Приуралья.
174
Искать аналоги перечисленным выше наконечникам едва
ли целесообразно, поскольку они были известны достаточно
широко, практически во всех синхронных кочевнических
комплексах Евразии. Впрочем, некоторые типы: А2 (Бир-
гкий могильник, и. 165; Лагеревский, к. 35, 49; Муракаев-
ский, к. 3, п. 3) и А6 (Больше-Тиганский, п. 6), аналогичные
стрелам, широко распространенным в I тыс. у древних
порок и кыргызов Южной Сибири (боеголовковые и вытя¬
нуто-пятиугольные, по Ю. С. Худякову)7, более определенно
указывают на исходную территорию, откуда они могли по¬
пасть на Южный Урал.
Трехгранные бронебойные наконечники стрел (группа
Г») найдены в пяти погребениях Лагеревского, Каранаев-
ского и Муракаевского могильников (всего 6 экз.). Все
они массивные, с коротким черешком и срезанным под
тупым углом основанием, переходящим в круглый уступ
(см. рис. 1, 7).
Плоские наконечники стрел (группа Б) количественно
преобладают — всего найдено 116 экз. По сечению пера они
делятся на овальные и ромбические с ребром по оси. Формы
наконечников довольно разнообразны: листовидные, тре¬
угольные, ромбические, ланцетовидные, башневидные и
(•резни.
Листовидные наконечники представлены тремя типами:
В1 — с вытянутым, ромбическим в сечении пером, косо
срезанным в основании и небольшим уступчиком при пере¬
ходе пера в круглый короткий черешок (см. рис. 1,5) —
19 экз.;
В2 — с ромбическим или овальным в сечении пером,
коротким круглым черешком и пояском при переходе пера
в черешок (см. рис. 1, 9) — 9 экз.;
ВЗ — с ромбическим в сечении пером, прямым осно¬
ванием и длинным плоским черешком (см. рис. 1, 10) —
6 экз.
Представленные в Болыие-Тиганском (п. 3, 8, 10, 22—
24, 33, 37, 40), I Бекешевском (к. 1), Стерлитамакском,;
Нмаши-Тау (к. 2, п. 2), Хусаиновском (к. 12, и. 1), Лагерев-
ском (к. 31) и Старо-Халиловском (к. 6, п. 1) могильниках
Южного Урала и Приуралья, листовидные наконечники
стрел находят прямые аналоги в финно-угорских и ранне-
булгарских комплексах Прикамья VIII—IX вв. (могильни¬
ки Мыдлань-Шай, Больше-Тарханский)8.
Треугольные наконечники в кушнаренковско-караяку-
повских погребениях региона встречаются также довольно
часто. Представлены они четырьмя типами:
175
В4 — широкие, с коротким круглым черешком и срезан¬
ным под тупым углом основанием пера (см. рис. 1, 11) —
22 экз.;
В5 — овальные в сечении, со срезанным иод тупым углом
длинным основанием пера и уступчиком при переходе пера
в черешок (см. рис. 1, 12) — 8 экз.;
В6 — овальные в сечении, с плавно срезанным основа¬
нием пера, отделенным от черешка уступчиком (см. рис. 1,
13) ,— 7 экз.;
В7 — с ромбическим в сечении пером, плавно переходя¬
щим в длинную, чуть расширяющуюся втулку (см. рис. 1,
14) ,— 2 экз.
На Южном Урале и в Приуралье треугольные наконечни¬
ки стрел найдены в Игимском (п. 2), Болыне-Тигаиском
(п. 4, 6, 8, 10, 12—14, 28, 33, 37, 40, 41), Лагеревском (к. 4,
10, 16), Ямаши-Тау (к. 2), Стерлитамакском, Старо-Хали-
ловском (к, 5), Каранаевском (к. 10), Муракаевском (к. 1,
3, 8, 9) могильниках, а прямые аналоги им известны также
только у ранних булгар (Больпте-Тарханский, Танкеевский)
и у финно-угров Прикамья (Мыдлань-Шай, Каневский)9.
Наконечники ромбической формы представлены только
одним типом (В8). Они вытянутых пропорций с заточенным
острием и уступчиком, отделяющим основание пера от круг¬
лого черешка (см. рис. 1, 15),— 14 экз. Аналоги им известны
там же, что и для треугольных наконечников.
Наконечники-срезни в могильниках рассматриваемого ре¬
гиона (Болыне-Тиганский, п. 10, 14; Манякский, п. 3; Яма¬
ши-Тау, к. 2; Хусаиновский, к. 12; Лагеревский, к. 22;
Стерлитамакский; Каранаевский, к. 3; Такталачук, п. 351)
представлены тремя типами:
В9 — узкие, с небольшим уступчиком, отделяющим перо
от короткого круглого черешка (см. рис. 1, 16),— 6 экз.;
В10 — короткие и широкие с уступом у основания пера
и фигурной прорезью на пере (см. рис. 1, 17) 2 экз;
В11 — вильчатые или двурогие (см. рис. 1, 18) — 4 экз.
Подобные наконечники ни у булгар, ни у финно-угров
Прикамья не встречены, но зато хорошо известны в тюрк¬
ских (Кокэль, Кызыл-Ty), кыргызских (наконечники-тома-
ры) и салтовских комплексах VIII — IX вв.10
Наконечники ланцетовидной формы по длине и контурам
пера также делятся на три типа:
В12 — с ромбическим в сечении пером, имеющим наи¬
большую ширину в верхней (ударной) части, и слегка расши¬
ряющимся основанием, под тупым углом переходящим в
круглый черешок (см. рис, 12 19),— 4 экз.;
176
1313 — с овальным в сечении пером, имеющим наиболь¬
шее расширение посредине его длины, и небольшим уступ¬
чиком при переходе пера в круглый черешок (см. рис. 1,
20) — 3 экз.;
В14 — с длинным, овальным в сечении пером, максималь¬
но расширенным посредине, и коротким круглым черешком
(см. рис. 1, 21) — 2 экз.
Ланцетовидные наконечники пока известны только на
Южном Урале и в Приуралье в Болыне-Тиганском (п. 3,
10, 14, 33), Бирском (п. 165), Хусаиновском (к. 5) и Карана-
евском (к. 4) могильниках.
Башневидные наконечники (В15) однотипны и отличают¬
ся друг от друга только размерами (см. рис. 1, 22, 23) —
8 экз. В рассматриваемом регионе найдены только в двух
могильниках: Болыне-Тиганском (п. 8, 22, 28) и Старо-
Халиловском (к. 5, 6). Кроме того, известны они в салтов-
ских комплексах IX в., у булгар Среднего Поволжья и в
Прикамье п.
Граненые наконечники квадратного или ромбического
сечения (группа Г) по форме делятся на четыре типа:
Г1 — листовидные, с косо срезанным основанием и ко¬
ротким круглым черешком (см. рис. 1, 24) — 9 экз.;
Г2 — шиловидные, ромбического сечения с невыделен¬
ным черешком (см. рис. 1, 25) — 4 экз.;
ГЗ — треугольные, ромбического сечения с уступом при
переходе в короткий круглый черешок (см. рис. 1, 26) —
5 экз.;
Г4 — шиловидные, квадратного сечения с небольшим
уступом при переходе в круглый короткий черешок (см.
рис. 1, 27) — 1 экз.
Перечисленные наконечники, вероятно, применялись (по¬
добно удлиненно-треугольным наконечникам) у кыргызов
для поражения противника, защищенного мягким доспехом
из кожи или войлока 12.
Костяные наконечники стрел (группа Д) представлены
18 экз. Все они черешковые. Различаются формой пера и
размерами:
Д1 — преобладают крупные листовидные треугольного
сечения с плоским, четко выделенным черешком (см. рис. 1,
28) — 10 экз.;
Д2 — наконечники примерно такой же формы, но мень¬
ших размеров (см. рис. 1, 29) — 5 экз.;
ДЗ — из трех погребений, имеют по одному трехгран-
пому наконечнику с листовидным пером и круглым череш¬
ком (см. рис. 1, 30) — 3 экз.
177
Костяные наконечники указанных типов имели широкое
распространение в лесной полосе Урало-Поволжья, начиная
с эпохи раннего железа.
Однако стрелы, найденные в рассматриваемых погребе¬
ниях, не отражали реального содержания кушнаренковско-
караякуповских колчанов, о чем свидетельствует прежде все¬
го их количество: более 75% погребений со стрелами (50
и 66) содержали не более трех наконечников. Вместе с тем
помещаемые в могилы стрелы были не просто символом воин¬
ской принадлежности, так как находились они вместе с
луком. Например, из 18 погребений, где найдены костяные
обкладки лука, в 15 находились также и наконечники стрел.
Характерно, что концевые накладки найдены только в двух
погребениях (Манякский, п. 1, и Ново-Биккииский кур¬
ган)13, остальные — срединные накладки, форма и размеры
которых позволяют предполагать, что в VIII —IX вв. у угор¬
ских племен Южного Урала и Приуралья широко исполь¬
зовались луки тюркского (по Д. Г. Савинову) типа 14. Хотя
на ранних этапах их расселения в регионе, в VII в. (Ма¬
някский, Ново-Биккинский), бытовали, очевидно, луки гун¬
нского типа, о чем свидетельствуют находки соответствую¬
щих концевых накладок (рис. 2).
Судя по частоте встречаемости (20 погребений), вторым
после лука и стрел излюбленным оружием рассматриваемых
племен региона была сабля. Все известные для данного вре¬
мени сабли -- короткие (47—77 см), практически прямые
(кривизна клинка не превышает 1 см). Скользящий режущий
удар достигался преимущественно за счет кривизны рукоя¬
ти, иногда оттянутой вперед на 3—4 см (рис. 3, 2, 2). Судя
по местоположению в могилах, сабли носились подвешен¬
ными к поясу слева. Ножны сабель и рукояти украшались
серебряными накладками, выполненными в растительном или
зооморфном стиле. К поясу ножны крепились с помощью
двух П-образных петель, также зачастую украшенных ра¬
стительным или геометрическим орнаментом 15. Традиция
подобного украшения сабель и ножен известна достаточно
широко: у тюркоязычных племен юга Западной Сибири,
у алан Северного Кавказа и у древних венгров 16. Послед¬
ние, учитывая их приверженность к всевозможным сереб¬
ряным украшениям, вероятно, и явились той культурной
средой, откуда эта традиция могла распространиться ко
всем соприкасавшимся с ними племенам.
С влиянием алано-болгарского мира, очевидно, следует
связывать появление в Приуралье боевых топоров — ору¬
жия, специфического именно для а лапо-болгарских племен
178
Рис. 2. Костяные обкладки луков, колчапов, берестяной кол¬
чан и железный колчанный крючок.
1 — Хабарпый-1, к. 10; 2 — Тамар-Уткуль, к. 3; 3, 4 —Лиман, к. 2;
5— Андреевна; 6—10 — Тамар-Уткуль, к. 10.
Восточной Европы. Это подтверждается и формой восьми
известных в настоящее время в регионе топоров: длинные
обушки грибовидной формы, длинные, слегка оттянутые на¬
зад или лопатообразные лезвия (Игимский, Больше-Тигап-
ский, Манякский, Лагеревский, Стерлитамакский могиль¬
ники) (рис. 4, 1—4).
179
jf 2 — Болыие-Тиганский, з — Новый Кумак, к. 2, п. 2; 4 — Новый Кумак, к. 2,
п. 1; 5 — Охлебинино, п. 2; 6 — Охлсбшшно, п. 3; 7 — Новый Кумак, к. 1; 8,
10 — Лебедевка VIII, к. 6; 9 — Тлявгуловский, к. 1; 11 — Новый Кумак, к. у
обелиска; 12 — Игимский, п. 2; 13 — Новый Кумак, к. 1 (раскоп 1958 г.); 14 —
Лебедевка II.
Рис. 4. Боевые топоры и доспехи.
1, 4 — Стерлитамакский; 2 — Игимской, п. 2; 3—5 — Лагеровский,
к. 16; в. 31; 6 — Муракаевский, к. 9 (по Н. А. Мажитову); 7 — Лсбе-
девка II; 8 — Новый Кумак, к. 3.
Так же как и у алано-болгарских и тюркских племен,
у кушнаренковско-караякуповского населения рассматри¬
ваемого региона копья, по-видимому, не играли самосто¬
ятельной роли в вооружении, а потому их известно очень
мало. Всего найдено три наконечника копий: два — в Игим-
ском, одно — в Каранаевском могильниках. Копья из Игим-
ского могильника плоские, листовидной формы, с наиболь¬
шим расширением в нижней части пера (см. рис. 3, 12).
181
Копье из Карапаевского могильника напоминает шиповид¬
ные четырехгранные копья из салтовских комплексов 17.
Доспехи в кушнаренковско-караякуповских погребениях
представлены тремя находками железных шлемов (Лагерево,
к. 31, Муракаево, к. 9 и Каранаево, к. 6), остатками коль¬
чуги (Лагерево, к. 31) и несколькими железными пластина¬
ми от панциря (Лагерево, к. 29).
Форма шлемов — сфероконическая. Два шлема (Лагере¬
во и Каранаево) склепаны из фигурных железных пластин
и увенчаны коническими шпилями с петлей для флажка-
яловца (см. рис. 4, 5). По нижнему краю шлема из Лагерев-
ского могильника пущена металлическая пластина с отвер¬
стиями для бармицы. Шлем из Каранаевского могильника
имеет прямой наиосник, вырубленный сразу же на заготовке
шлема. Шлем из Муракаевского могильника сферокониче¬
ской (более даже сферической) формы, цельнокованый, с
ребром-утолщением по центру. Также имеет прямой корот¬
кий наносник 18.
Относительно кольчуги и панциря ничего определенного
сказать нельзя, поскольку от них остались только незначи¬
тельные фрагменты 19.
Восстановить по имеющимся данным истинную степень
вооруженности и военную структуру угорских племен Юж¬
ного Урала и Приуралья чрезвычайно трудно. С очень малой
степенью вероятности можно предположить, что основную
массу войска могли составлять конные лучники, поскольку
только стрелы (иногда с остатками лука) найдены в 48 пог¬
ребениях (61,5% всех погребений с оружием). Вероятно
также, что ударной силой войска были всадники с саблями
(погребений с саблями и стрелами — 16 (20,5%), только
с саблями —- 6 (7,7%)). Среди погребений с саблями и стре¬
лами в двух найдены и шлемы.
Все остальные наборы вооружения: топор; топор и
стрелы; топор, копье и сабля; топор, копье и стрелы —
встречены в единичных погребениях.
Достаточно сложно анализировать вооружение кочевни¬
ков огузо-печенежской конфедерации, населявших степи
Южного Урала и Приуралья в IX—XI вв., прежде всего
в силу ограниченности Источниковой базы (на сегодняшний
день в регионе известны 44 погребения этого периода,
оружие найдено только в 14 погребениях). По имеющемуся
материалу можно предположить, что на вооружении рас¬
сматриваемых племен имелись сабли (палаши), носившиеся
в ножнах, украшенных серебряными накладками (Жити-
макский могильник, п. 4)20, луки «тюркского» и гуннского
182
типов с кибитью, длиной до 115 см (Тамар-Уткуль, к. 3)
(см. рис. 2, 2), железные трехлопястиые (Житимакский, п. 5),
плоские треугольные, лавролистпые (Кара-Су, к. 20)21, асим¬
метрично-ромбические (по Ю. С. Худякову)22 (Воздвиженка,
к. 1 — см. рис. 1, 45) и костяные листовидной формы и тре¬
угольного сечения (Житимакский, п. 5; Мрясимовский,
к. 5, 8) наконечники стрел. Стрелы укладывались в бере¬
стяные колчаны, форму которых проследить пока не удается,
но их остатки найдены в могильнике Тамар-Уткуль (к. 1),
II Колычевском (к. 2), у с. Яман (к. 2) и Кара-Су (к. 20)23.
В Житимакском могильнике (п. 1) найдены фрагменты
железного шлема, по которым была сделана попытка вос¬
становить его форму 24.
В курганах кыпчакского времени рассматриваемого ре¬
гиона (XII—XIV вв.) оружие найдено в 39 погребениях,
что составляет 41,5% всех известных здесь языческих погре¬
бений этого периода (могильники Охлебининский, Шах-Тау,
Тлявгуловский, VII Новочеркасский, у поселков Урал, Но¬
вый Кумак, Башкирское Стойло, IV Ивановский, Россы-
пинский, Алебастрово I, Тамар-Уткуль, у поселков Лебе-
девка, Хабарный I, Студеный и др.).
Практически весь полученный за последние годы мате¬
риал по вооружению кыпчаков Приуралья вписывается в
типологию, разработанную Г. А. Федоровым-Давыдовым для
средневековых кочевников Восточной Европы 25. Это осво¬
бождает нас от излишнего типотворчества и гарантирует
от внесения путаницы в уже устоявшиеся представления.
Правда, в случаях, когда приходилось иметь дело с предме¬
тами, еще неизвестными ко времени создания указанной
типологии, мы вводили новые типы, но придерживались
того же принципа буквенной и цифровой индексации.
Из предметов вооружения в рассматриваемых погребе¬
ниях представлены: наконечники стрел (железные и костя¬
ные), колчаны, их детали и украшения, сабли, кинжалы,
копья и доспехи.
Железные наконечники стрел (найдены в 35 погребениях)
в основном представлены типами отдела В (плоские череш¬
ковые). Всего найдено 65 поддающихся типологии нако¬
нечников:
БШ - трехграиное в сечении перо (см. рис. 1, 32, 32) —
2 экз.;
Bill — плоские листовидной формы (см. рис. 1, 35) —
2 экз.;
BIV — плоские ромбической формы (см. рис. 1, 33) —
9 экз.;
183
BV — плоские треугольной формы, максимальная шири¬
на приходится на основание пера (см. рис. 1, 36) — 3 экз.;
BVI — двурогие (охотничьи) стрелы — 1 экз.;
BVII — треугольной формы, но в виде перевернутого
основанием вверх треугольника, максимальная ширина при¬
ходится на режущую грань (см. рис. 1, 37) — 4 экз.;
BVIII — прямоугольной формы, чуть суживающиеся к
основанию (см. рис. 1, 38) — 4 экз.;
BIX — в виде вытянутой лопаточки с закругленной верх¬
ней ударной гранью (см. рис. 1, 39) — 14 экз.;
ВХ — аналогичный, но ударная грань слегка вогнута —
1 экз.;
BXI — вытянутая лопаточка, закапчивающаяся двумя
короткими ударными гранями, сходившимися под тупым
углом (см. рис. 1, 40),— 18 экз.;
ВХП — аналогичный, но ударная грань имеет треуголь¬
ный вырез — 1 экз.;
BXIII — фигурный, с небольшим пером, ударная грань
имеет треугольный выступ (см. рис. 1, 34) — 1 экз.;
BXVI* — полукруглой формы, с небольшим пером, пря¬
мой или вогнутой ударной гранью — 2 экз.;
И* — с коротким, круглым в сечении пером конусовид¬
ной формы — 1 экз.;
ГП* — аналогичные, но с длинным пером (см. рис. 1,
41) — 4 экз.
Обычно стрелы помещали в берестяные колчаны остри¬
ями вверх, но иногда в могилах их находят без колчанов
у ног или у черепа или таза погребенного. В одном погребе¬
нии встречается не более пяти наконечников.
Костяные наконечники стрел (всего 8 экз.) найдены в пя¬
ти погребениях:
тип I — втульчатые, пулевидной формы (см. рис. 1, 42) —
2 экз.;
тип IV — черешковые, листовидной формы и треуголь¬
ного сечения (см. рис. 1, 43) — 6 экз.;
тип V* — черешковый с треугольной головкой ромби¬
ческого сечения (см. рис. 1, 44) — 1 экз.
В погребениях костяные наконечники размещались так
же, как и железные. Однако в к. 1 Тлявгуловского могиль¬
ника черешковый костяной наконечник (см. рис. 1, 44)
торчал вертикально возле головки бедра погребенного.
Колчаны обнаружены в 33 из рассматриваемых погребе¬
ний региона. Все они берестяные, конусовидной формы, дли¬
* Здесь и далее типы, нс вошедшие в тииолшию Г, А, Федоро¬
ва-Давыдова.
184
ной 35—90 см. Устье, как правило, в два раза уже донца (в
среднем 10x20 см) (см. рис. 2, 1). Ремни для привешивания
крепились с помощью железных, реже костяных петель.
К поясу или седлу колчан привешивался с помощью
железных крючков с широким плоским щитком прямоуголь¬
ной или овальной формы. В некоторых щитках прослежи¬
ваются 3—4 сквозных отверстия для крепления крючка к
ремню (см. рис. 2, 5).
Иногда берестяные колчаны украшались костяными нак¬
ладками, покрытыми резным геометрическим или раститель¬
ным орнаментом. Всего в Приуралье известно сейчас семь
подобных колчанов. Накладки изготовлялись из крупных
костей животных путем их расщепления с последующей
резьбой на них и заполнением углублений черной, зеленой
и красной краской.
В десяти кыпчакских погребениях региона найдены ко¬
стяные обкладки лука: срединные, овальной формы с закруг¬
ленными концами — 8 экз.; концевые с характерными выем¬
ками для тетивы — 1 экз. и срединная с лопаткообразными
концами — 1 экз. Аналоги последней известны в Прибай¬
калье, Забайкалье и на Алтае в монгольское время 26.
Сабли, палаши из девяти погребений соответственно по
одному в каждом (Охлебинино, п. 1—3; Нов. Кумак, к. 2,
п. 1, 2; к. 1, п. 2; Лебедевка VIII, к. 6; Лебедевка II; IV
Ивановские, к. 1). Вероятно, для кочевников региона в
кыпчакское время сабля была отнюдь не ординарным ору¬
жием, во-первых, потому, что в погребения их помещали ред¬
ко, а во-вторых, производство их не было массовым, что
и отразилось в многообразии типов, представленных в огра¬
ниченном количественно материале.
Исходя из боевых свойств рассматриваемого оружия
ближнего боя, в кыпчакских комплексах региона мы можем
выделить палаши двух типов:
AI — короткий, не более 70 см, клинок с прямым пере¬
крестьем и круглым навершием (см. рис. 3, 3) — 1 экз.;
Б1 — клинок длиной более 100 см без навершия и пере¬
крестья (см. рис. 3, 4) — 3 экз.
Кроме того, можно выделить и сабли четырех типов,
отличающиеся друг от друга кривизной клинка и оформлени¬
ем рукояти:
BI — без навершия и перекрестья, кривизна не более
300 мм (см. рис. 3, 5) — 2 экз.;
BI* — аналогичный клинок, но с прямым коротким пере¬
крестьем и навершием в виде усеченного конуса (см. рис. 3,
6) — 1 экз.;
185
Д1* — без иавертппя и перекрестья, с кривизной клинка
500 мм — 1 экз.;
ДП — аналогичный клинок, но с прямым перекрестьем
и круглым цилиндрическим навернтием (см. рис. 3, 8) —
1 экз.
В погребениях сабли лежали справа или слева от погре¬
бенного, вдоль его бедра.
Кинжалы в приуральских погребениях XII —XIV вв.
встречаются также редко. В настоящее время найдены 12
кинжалов (из них два — в обломках), представленные че¬
тырьмя типами:
AI* — прямой узкий клинок без иавершия и перекре¬
стья (см. рис. 3, 9) — 2 экз.;
Б1* — слегка изогнутый (серповидный) клинок без на-
вершия и перекрестья (см. рис. 3, 11) — 2 экз.;
БП* — аналогичный клинок, но с перекрестьем из двух
прямых пластин с расплющенными концами, без иавершия
(см. рис. 3, 14) — 4 экз.;
BI* — серповидный клинок с костяной рукоятью, иног¬
да украшенной резным циркульным орнаментом (см. рис. 3,
10) — 2 экз.
Кинжалы в погребениях лежат справа от погребенного,
у пояса.
В трех погребениях (Лебедевка-2; Нов. Кумак, к. 1)
найдено по одному железному наконечнику копья, разли¬
чающиеся по форме пера:
тип II — треугольное по форме и в сечении перо с
несомкнутой конусообразной втулкой (см. рис. 3, 13) —
1 экз.;
тип IV — листовидное, овальное в сечении перо со втул¬
кой в виде раструба — 2 экз.
Из этих же погребений — железные втоки в виде мас¬
сивных кованых конусов с круглой или несомкнутой
втулкой.
Совершенствование наступательного оружия в эпоху
средневековья сочеталось с изменением оборонительного во¬
оружения (доспехов). Поскольку изготовление последних
было делом сложным и дорогостоящим, в могилы их помеща¬
ли очень редко. Чаще доспех символизировался нескольки¬
ми панцирными пластинками или обрывками кольчуги. В
кыпчакских погребениях Приуралья весь панцирь был най¬
ден только один раз (Лебедевка II. «Одиночный курган»)27
и в трех случаях — отдельные панцирные пластины. Судя
по этим находкам, панцири могли быть двух типов: из
широких железных прямоугольных пластин, подвижно сое¬
186
диненных проволочными кольцами, и из узких пластинок,
неподвижно соединявшихся железными штифтами.
Единственный известный в регионе шлем кыпчакского
времени (Лебедевка II, «одиночный курган») был изготовлен
из трех треугольных пласт пи, согнутых полусферой и в ме¬
стах соединения усиленных наваренными сверху узкими
прямоугольными пластинами. Венчал шлем полый цилин¬
дрик со шляпкой (см. рис. 4, 7).
Локти и колени воина защищали нашитые на одежду
металлические наколенники и налокотники. В погребениях
Приуралья известны семь наколенников и налокотников
(различать их трудно), изготовленных из бронзовой пласти¬
ны (см. рис. 4, 8).
Полный набор вооружения, состоящий из сабли, лука
со стрелами, шлема и панциря, был найден только в одном
погребении Южного Приуралья (Лебедевка II), только саб¬
ля — в четырех погребениях (Нов. Кумак, к. 1, п. 2; Охле-
бииино, п. 1—4); сабля и наконечники стрел — в четырех
погребениях (Нов. Кумак, к. 2, п. 1, 2; Лебедевка VIII,
к. 6; IV Ивановский, к. 1) и только стрелы — в 29.
В целом же предметы вооружения и конской сбруи (стре¬
мена и удила) вместе встречены в 15% всех кыпчакских
погребений с вещами.
Таким образом, анализ вооружения кочевых племен Юж¬
ного Урала и Приуралья VII—XIV вв. позволяет сделать
следующие выводы.
1. По имеющимся материалам невозможно, подобно ис-
следователям-кочевниковедам Южной Сибири 28, восстано¬
вить реальную картину вооруженности и военной организа¬
ции угорского (кушнаренковско-караякуповского) и тюрко¬
язычного (огузо-печенежского и кыпчакского) населения ре¬
гиона, хотя ассортимент наиболее распространенных типов
оружия дает основания предполагать, что вооруженные лу¬
ком (в основном тюркского типа) и саблей всадники (прак¬
тически во всех погребениях с оружием найдены и принад¬
лежности сбруи) составляли основную силу войска.
2. В оружии угорских племен региона явно присутству¬
ют следы контактов (военных?) с тюркскими (стрелы типов
А2, А6, В9 — В11; Г1 — Г4; лук «тюркского типа») и алапо-
болгарскими (стрелы типов В1 — ВЗ, В15, боевые топоры)
племенами Евразии.
3. Ассортимент и типы предметов вооружения тюрко¬
язычных кочевников региона позволяют рассматривать их
как органичную часть кочевнической культуры Великого
пояса евразийских степей X—XIV вв.
187
Примечания
1 Воешюе дело древних плсысп Сибири и Центральной Азии.—
Новосибирск, 1981.— С. 3—5.
2 Иванов В. А. Погребения средневековых кочевников на терри¬
тории Охлебининского городища // СА.— 1977.— № 1.— С. 292—
295; Он же. Погребения кыпчаков в бассейне р. Урал // Памятники
кочевников Южного Урала.— Уфа, 1984.— С. 75—97; Кригер В. А.
Средневековые захоронения Ново-Кумакского могильника /7 СА.—
1983. — № 3.— Рис. 4; 5; 6, 12] 8; Он же. Погребения кыпчакского
времени в могильниках у нос. Лебедевка // Памятники кочевников
Южного Урала.— Уфа, 1984.— С. 102—116; Мажитов Н. А. Курга¬
ны Южного Урала VIII—XII вв.— М., 1981.— С. 8, 10, 14, 15, 22,
34, 36, 41, 43, 48, 51, 54, 69, 74, 78 и др.; Он же. Южный Урал в VII —
XIV вв.— М., 1977.— С. 197, 231, 291-296, 299, 323-327, 377, 379,
380.— Табл. I; Пшсничшок А. X. Курганы средневековых кочевников
па Южном Урале // Памятники кочевников Южного Урала.— Уфа,
1984. - С. 60-74.
3 Плетнева С. А. От кочевий к городам.— М., 1967.— С. 156—
170; Федоров-Давыдов Г. А. Кочевники Восточной Европы под
властью золотоордынских ханов.— М., 1966.— С. 22—36; Худя¬
ков Ю. С. Вооружение енисейских кыргызов.— Новосибирск, 1980;
Военное дело древних племен Сибири и Центральной Азии,—
Разд. II.
4 Кузеев Р. Г., Иванов В. А. Основные этапы этнической исто¬
рии населения Южного Урала и Приуралья в эпоху средневековья.
(Препринт доклада).— Уфа, 1983.— С. 9, ссылка 20; Халиков А. X.
Культура древних венгров в Приуралье и Подунавьс в VIII — X вв.
н. э. // Interaktionen der mittcl — europaischen slawen und anderen
ethnika im 6—10 jahrhundert.— Nitra, 1984 (отд. оттиск).
I Кузеев P. Г., Иванов В. А. Этнические процессы в Волго-
Уральском регионе в V—XVI веках и проблема происхождения чу¬
вашского этноса // Болгары и чуваши.— Чебоксары, 1984.— С. И.
6 Иванов В. А., Кригер В. А. Курганы кыпчакского времени па
Южном Урале. (Рукопись).
7 Худяков IO. С. Вооружение енисейских кыргызов.— Табл.
XXV, 8] XVIII, 7.
8 Генинг В. Ф. Мыдлань-Шай — удмуртский могильник VIII—
IX вв. // ВАУ.— 1962.— Вып. 3.— Табл. XI, 7] Генинг В. Ф., Хали¬
ков А. X. Ранние болгары на Волге.— М., 1964.— Табл. XII, 7, 5, 6.
9 Генинг В. Ф., Халиков А. X. Ранние болгары на Волге.—
Табл. XII, 9] Казаков Е. П. Погребальный инвентарь Танкесвского
могильника // Вопросы этногенеза тюркоязычных народов Среднего
Поволжья.— Казань, 1971.— Табл. XII, 2, 8] Генинг В. Ф. Мыдлань-
Шай...— Табл. XI, 7, 3] Генинг В. Ф., Голдина Р. Д. Позднеломова-
товские могильники в Коми-Пермяцком округе // ВАУ.— 1969.—
Вып. 9.— Табл. 29, 7.
10 Степи Евразии в эпоху средневековья.— М., 1981.— Рис. 19,
64] 36, 18, 23] 62, 106] Худяков Ю. С. Вооружение енисейских
кыргызов.— С. 94, 100; Плотников Ю. А. Наконечники стрел из мо¬
гильника Кызыл-Ту // Военное дело древних племен Сибири и Цент¬
ральной Азии.— Новосибирск, 1981.— С. ИЗ.
11 Плетнева С. А. От кочевий к городам.— Рис. 43, 8] Ге¬
нинг В. Ф., Халиков А. X. Ранние болгары...—Табл. XII, 2, 3] Ге¬
нинг В. Ф. Мыдлань-Шай...— Табл. XI, 6, 8.
п Худяков Ю. С. Вооружение енисейских кыргызов,— С. 92, 99.
188
13 Мажитов Н. А. Курганы Южного Урала...— Рис. 3, 14, 15\
8, 30, 31.
14 Савинов Д. Г. Новые материалы по истории сложного лука и
некоторые вопросы его эволюции в Южной Сибири // Военное дело
древних племен Сибири и Центральной Азии.— Новосибирск, 1981.—
С. 149.
Ц Halikova Е. A. Osmagyar lemelo a Kama monten, Magna llun-
garia kerdeseher II Archcologiai Erlesilo.— 1976.— T. 103.— K. 3, 21.
16 Кузнецов В. Ai, Рунич А. П. Погребение аланского дружин¬
ника IX в. // СА.— 1974.— № 3; Степи Евразии...— Рис. 62, 162\
26, 23, 24; 27, 37.
17 Мажитов Н. А. Курганы Южного Урала...— Рис. 61, 16.
18 Там же.— Рис. 71, 10.
19 Там же.— С. 79.— Рис. 10, 8.
20 Там же.— Рис. 66, 1—4.
21 Кокебаева Г. К. Памятники поздних кочевников Западного
Казахстана // История материальной культуры Казахстана.— Алма-
Ата, 1980.— Рис. 4.
22 Худяков Ю. С. Вооружение енисейских кыргызов.— С. 95.—
Табл. XXXIII, 10.
23 Смирнов К. Ф. Отчет, 1956 г. // Архив ИА АН СССР; Мажи¬
тов Н. А., Рутто Н. Г. Отчет 1974 г. // Архив ИА.— Р-1.— № 5500;
Попов С. А. Отчет 1975 г. // Архив ИА.— Р-1.— № 5969; Кокебае¬
ва Г. К. Памятники поздних кочевников...— С. 102.
24 Мажитов Н. А. Курганы Южного Урала...— Рис. 66, 7.
23 Федоров-Давыдов Г. А. Кочевники Восточной Европы...—
Гл. 2.
26 Савинов Д. Г. Новые материалы...— Рис. 4, 7.
27 Кригер В. А. Погребения кыичакского времени...— С. 109.
28 Худяков Ю. С. Вооружение енисейских кыргызов.— С. 131 —137.
Ю. И. Трифонов
О БЕРЕСТЯНЫХ КОЛЧАНАХ
САЯНО-АЛТАЯ VI—X вв.
В СВЯЗИ С ИХ НОВЫМИ НАХОДКАМИ В ТУВЕ
В последнее время вопросы, связанные с военным делом и
вооружением рапнесредневековых кочевников Южной Сиби¬
ри и Казахстана, Центральной и Восточной Азии, привле¬
кают пристальное внимание специалистов что объясняется,
очевидно, не только необходимостью заполнения имеющейся
лакуны в этой области знания, особенно заметной по сравне¬
нию с достаточно хорошей изученностью восточноевропей¬
ского оружия 2, но и большими потенциальными возможно¬
стями материала, постоянно используемого для освещения
тех или иных сторон военно-политической, социальио-око-
189
номической и идеологической жизни восточноевразийских
кочевых обществ. Велика и собственно археологическая зна¬
чимость предметов вооружения как ведущих категорий ин¬
вентаря, повсеместно встречающихся в разнообразных погре¬
бально-номинальных памятниках: от их разработки во многом
зависят такие кардинальные вопросы ранпесредневековой
археологии, как датировка, периодизация, этнокультурная
принадлежность тех комплексов, в которых они содер¬
жатся. Одной из таких категорий являются колчаны—необхо¬
димый атрибут евразийского воина-всадника, в том числе и
саяно-алтайского кочевника эпохи раннего средневековья.
Берестяные колчаны были широко распространены в сре¬
де тюркоязычных племен Монголии и Алтая, Тувы и Хака¬
сии, Восточного Казахстана и приалтайских степей, о чем
красноречиво свидетельствуют и письменные источники,
и изображения колчанов в составе предметов вооружения на
изваяниях, наскальных рисунках, вещах прикладного ха¬
рактера, и многократные нахождения в раннесредневековых
курганах крепежных принадлежностей этих изделий, их костя¬
ных и деревянных деталей и особенно остатков содержимого
футляров (преимущественно наконечников стрел). Однако
сами колчаны в погребениях сохраняются редко, а если и
доходят до нас, то в основном в виде небольших фрагментов,
по которым зачастую невозможно реконструировать даже
общую форму данных предметов. Трудно переоценить поэ¬
тому значение целых экземпляров, встречающихся в саяно¬
алтайских памятниках VI —X вв. Они представляют особый
интерес с точки зрения не только устройства и системы креп¬
ления колчанов к подвесным ремням, но и типологической
вариабельности этих изделий, их положения относительно
погребенного ит.д., т. е. тех моментов, которые непосредст¬
венно взаимосвязаны с хронологией и спецификой погре¬
бального ритуала самих памятников.
В 60—70-е годы в ходе работ Саяно-Тувинской экспеди¬
ции ЛОИА АН СССР в Центральной Туве в курганах с за¬
хоронениями по обряду трупоположения с конем была об¬
наружена серия целых берестяных колчанов с карманом 3.
Несколько колчанов было найдено на памятниках Аргалык-
ты I и IX.
В погребении-кенотафе 1, а также в соседнем с ним п. 2
к. AI — 1, по обряду и составу инвентаря (равно как и ти¬
пам вещей) до деталей сходном с первым (разумеется, при уче¬
те того, что второе погребение является обычным захороне¬
нием человека с конем), выявлены хорошо сохранившиеся
берестяные колчаны, которые в соответствии с датировкой
190
Рис. 1. Берестяные колча¬
ны из к. 1 м. Лргалыкты-1.
1 — из погребения 2\ 2 — из
погребения 1.
данных комплексов так¬
же должны быть отне¬
сены к VII—VIII вв.*
По этим образцам мож¬
но наглядно судить об
устройстве, размерах,
некоторых специфиче¬
ских особенностях и
прочих колчанов с кар¬
маном, поэтому остано¬
вимся на их краткой
характеристике (рис.
I, h 2).
Оба колчана двух¬
слойные, т. е. состоят
из двух футляров —
внутреннего и плотно
прилегающего к нему
внешнего, свернутых
таким образом, что кол¬
чаны оказались упло¬
щенными, с расширен¬
ными устьем и основа¬
нием; место их «перех¬
вата» пришлось на
верхнюю половину из¬
делий: значительно ни¬
же кармана — у колча¬
на из п. 1 и непосредст¬
венно под карманом — у колчана из п. 2. Это небольшое
различие в общей форме колчанов объясняется тем, что
внутренний футляр первого из них образован двумя почти
одинаковыми по длине (в среднем 47 см) футлярчиками, один
из которых (нижний) имеет отчетливо выраженную трапе-
* Ознакомившись с материалами этих очень близких между со¬
бой погребений, находящихся к тому же под одним наземным соору¬
жением (случай, исключительный для погребений с конем Тувы),
Л. Р. Кызласов все-таки счел возможным отнести их к разным хроно¬
логическим группам IX —X вв. (Кызласов Л. Р. Древняя Тува.— М.,
1979.— С. 139).
191
циевидную форму, а второй (верхний) — слегка расширяю¬
щуюся подпрямоугольную. Соединялись эти половинки свои¬
ми более узкими концами (верхний футлярчик был неглубо¬
ко вставлен в нижний).
Внешние футляры обоих колчанов, так же как и внут¬
ренний футляр второго из них, изготовлены из цельных
кусков бересты, причем на тыльной стороне основания пер¬
вого колчана края этого куска не доходят один до другого,
и потому между внутренним и внешним футлярами здесь
помещена довольно высокая трапециевидная вставка, свя¬
зывающая края. Еще одна берестяная вставка (широкая,
четырехугольная), закрепленная также между футлярами,
находится на тыльной стороне устья данного колчана: она
дополняет по длине внешний футляр, получившийся короче
(84 см) внутреннего (90 см). На лицевой стороне колчана —
широкие берестяные накладки, заходящие на его левый бо¬
ковой край (высота нижней, трапециевидной — 9 см, верх¬
ней, прямоугольной — И см). Первоначально на эти наклад¬
ки налегала еще одна, узкая и длинная, проходящая посре¬
дине футляра, через всю его лицевую поверхность, на кото¬
рой хорошо заметен след от нее. Точно такая же полоска,
изготовленная, как и предыдущая, из какого-то нестойкого
материала (кожа, войлок?), была укреплена и на другом
колчане.
Карман на обоих колчанах представляет собой вырез в
устье лицевой стороны футляров, боковые их стороны не
вырезались и образовывали закраины кармана. У колчана
из п. 1 сохранилась большая часть дна — деревянная дощечка
сегментовидной формы с заваленными вовнутрь краями: по
ней можно судить о том, что тыльная сторона основания кол¬
чана прежде была плоской, а лицевая — слегка выпуклой.
Все составные части колчанов, в том числе и деревянное
дно, сшивались одна с другой нитями или сухожилиями,
пропускавшимися через парные отверстия, причем для бо¬
лее прочного соединения футляров было прошито не только
место налегания продольных концов берестяных кусков, при¬
шедшееся на тыльную сторону колчана, но и боковые сторо¬
ны футляров, и их лицевая сторона.
Таковы колчаны из к. AI —1. Два других аргалык-
тынских колчана, несмотря на некоторую деформированность
одного из них (AIX —1) и худшую сохранность другого
(AI—5), не вызывают сомнений в том, что первоначально
они были почти тождественны вышеохарактеризованиым, что
подтверждается не только совершенно аналогичными по¬
следним общей формой и принципом устройства этих образ-
192
цов, но и такими деталями, как дополнительные берестяные
накладки на лицевую поверхность футляра (подобно экзем¬
пляру из AI — 1 п. 1 они присутствуют и на колчанах из
AI—5 и AIX — 1), срединная продольная накладка (отпе¬
чаток ее сохранился на лицевой стороне колчана из AIX —1),
деревянное дно (AIX —1) тех же очертаний, что и у колчана
из AI — 1 п. 1. Сходство образцов подчеркивается и близостью
их основных линейных параметров: общая длина изделий
85—90 см, высота карманов 14—16, ширина верхнего края
футляров 14—17, ширина 17—21, ширина «перехвата»
11 — 14 см.
Несомненно, очень близкой была и система крепления
всех аргалыктынских колчанов к подвесным ремням, о чем
косвенным образом можно судить по наборам крепежных
принадлежностей футляров и их местоположению относи¬
тельно колчана. Обычный состав предметов крепления почти
во всех погребениях стандартен — это преимущественно же¬
лезные тройники и пряжки, дополненные нередко железным
крюком * (рис. 2). Сохранность их зачастую не очень удов¬
летворительна, однако количество и типы изделий вполне
определимы»
Крюк всегда представлен (в тех погребениях, где он
зафиксирован) обязательно только одним экземпляром, при¬
чем целиком сохранившиеся образцы относятся к двум его
разновидностям: с асимметрично-ромбической вертикальной
пластиной и горизонтально-овальной петлей наверху. Оба
варианта таких колчанных крюков встречаются в аналогич¬
ных нашим (погребения с конем) позднекочевнических па¬
мятниках Саяно-Алтая 4.
Известны в этих памятниках и тройники 5, хотя они поч¬
ти не привлекали внимание исследователей, в результате
чего по публикациям подобных погребений судить об их
количестве и разнообразии форм, как правило, невозможно.
На материале аргалыктынских комплексов, в каждом из
* Ни один наш колчан не сопровождался костяными или металли¬
ческими петлями, с помощью которых он непосредственно соединял¬
ся бы с ремнями, но в большинстве могил рядом с футлярами находи¬
лось сравнительно много узких коротких пластинок (со следами штырь¬
ков в них). Последние не являлись частями щитков ттряжек или трой¬
ников и служили, очевидно, для прикрепления к корпусу колчана тех
пар колчанных ремешков, другим своим концом вставлявшихся в два
приемника того или иного тройника (тройником мы называем кольцо
с тремя отходящими от него двойными пластинами — приемниками
ремней). Третий приемник тройника соединялся с основным подвес¬
ным ремнем, закрепленным на поясе с помощью бляхи-оправы и колчан¬
ной пряжки.
7 Заказ № 504
ЮЗ
Al -4
21 AI-5
25 26
АШ'1
Рис. 2. Железные крепежные принадлежности аргалыктынских колчанов.
которых находился колчан *, были обнаружены эти по
делки (в основном в трех экземплярах), выделяются (так же
как и среди крючков) по крайней мере две их разновидно¬
сти: с двойными подпрямоугольными пластинами и пласти¬
нами фигурными одинарными и, вероятпо, двойными **.
Указанными разновидностями тройников и крючков, без¬
условно, не исчерпывается все многообразие колчанных
изделий, употреблявшихся в Саяпо-Алтае в VI—X вв.в,
что пе исключает преобладания определенных их форм и
типов в тот или иной хронологический отрезок данного пе¬
риода, в той или иной этнокультурной среде и пр. Однако
для того, чтобы установить подобные соответствия, необхо¬
дима специальная проработка всего существующего мате¬
риала, которого, впрочем, пока еще явпо недостаточно,
а имеющиеся факты, наоборот, свидетельствуют о совместном
бытовании отмеченных разновидностей указанных вещей на
протяжении VI—X вв.7
Содержавшиеся почти во всех погребениях колчанные
пряжки представлены преимущественно двумя или тремя
небольшими экземплярами, причем сохранность многих из
них певажная (рамки либо фрагментарны, либо деформиро¬
ваны, щитки обломаны). Типологически твердо определя¬
емые образцы относятся к числу округло- или овальнорам-
чатых пряжек с вертикально-прямоугольным двойным щит¬
ком. Такие пряжки встречаются в саяио-алтайских погре¬
бальных комплексах VI—Хвв.***, однако ни эти колчанные,
ни пряжки того же типа иного назначения не являются ха¬
рактерными для последних. В этой связи следует иметь в
виду, что однотипные нашим поясные пряжки как в Саяпо-
Алтае, так и к западу от него наибольшее распространение
получили в эпоху, предшествующую VI в.8
Охарактеризованные колчанные атрибуты находились в
погребениях непосредственно у колчана, обычно частью па
нем, частью у его правого бокового края, что свидетельству¬
ет о креплении ремней к правой стороне футляра и соответ¬
ственно ношении его на правом боку. Лишь в и. AI—5
* В кургане AI—4 колчан полностью истлел, но крепежные его
принадлежности частично сохранились.
** В кургане AIX—1 сохранилось лишь два тройника, но пер¬
воначально их было явно три, судя по количеству уцелевших пластин
тройников. Несомненно одинарными фигурными были пластины у
двух тройников из к. AI—1 п. 1, все остальные, возможно, были двой¬
ными с подпрямоугольной второй пластиной, как у одного из трой¬
ников кургана AIX —1.
*** Например, в к. IX могильника Туэкта на Алтае.
7*
195
крепежные принадлежности колчана были сосредоточёпь!
у его левого края, что не исключает крепления ремней к ле¬
вой стороне футляра и ношения колчана на левом боку.
Случаи подобного положения колчанов на поясе, объясня¬
ющиеся, несомненно, тем, что их обладатели являлись лев¬
шой, зафиксированы в изобразительных памятниках саяно¬
алтайских кочевников 9, но по ним же хорошо известно, что
колчаны носились воинами преимущественно на правом бо¬
ку 10. Имеются факты, свидетельствующие о том, что они
иногда приторачивались к седлу 11, но это были, вероятно,
запасные футляры; боевой же футляр пристегивался к поя¬
су. Каким образом он носился на нем, совершенно опреде¬
ленно можно судить, например, по изображению колчана
на одном из барельефов гробницы Тай Цзуна 12. Здесь у
воина «в одеянии тюркского облика»13 колчан подвешен к
поясу справа на двух ремнях, один из которых (короткий)
прикреплен к устыо, а другой (длинный) — ближе к осно¬
ванию футляра. В аналогичном положении, также справа
и также на двух ремнях, показан колчан на одном из камен¬
ных изваяний Тувы уйгурского периода (VIII —IX вв.)14.
По мнению автора находки они «очевидно, по своему про¬
исхождению связаны с предшествующими тюркскими ,,из-
ваяииями“»15. Безусловно, подобным же образом носились
и аргалыктынские колчаны, однако наличие трех тройни¬
ков, зафиксированных при каждом из них, заставляет вы¬
сказать предположение о том, что в их креплении к поясу
использовались три ремня 16.
С точки зрения особенностей погребального обряда на¬
ших памятников определенный интерес вызывает местона¬
хождение колчанов в могилах: во всех случаях они были
помещены справа от человека или от его мнимого место¬
положения (кенотаф), либо в непосредственной близости от
погребенного, либо за плахами его перекрытия и пола. На¬
сколько нам известно, также справа и устьем в ту же сто-
ропу, куда был обращен головой умерший, почти всегда
располагались точно такие же колчаны с карманом и в со¬
вершенно однотипных аргалыктынским (по совокупности
признаков погребального обряда) захоронениях с конем из
могильника Аймырльгг *. В то же время, например, в син¬
* Автор имел возможность ознакомиться с полевыми отчетами об¬
следования средневековых погребений этого могильника и частично
с их предметными сериями, за что благодарен А. М. Манделынтаму|
и Б. Б. Овчинниковой.
196
хронных аргалыктынским и многим аймырлыгским погре¬
бениям с колчапами западнотувинскнх кургапах Кокэля,
содержавших колчаны со срезанным верхом и по комплексу
погребальных признаков отличных от группы центрально¬
тувинских объектов, колчаны находились либо на плахах
надтрупного перекрытия 17, либо непосредственно на умер¬
шем 18. В данном случае налицо проявление локальных осо¬
бенностей памятников одной категории, выражающееся не
только в одной из черт их погребального обряда (положение
колчанов в могилах), но и в самих формах однофункцио¬
нальных вещей, т. е. колчанов.
Аналогичные соответствия применительно к колчанам
можно проследить и при более широком территориальном и
особенно хронологическом обращении к памятникам Саяно-
Алтая (особенно если учесть не только погребения с конем),
однако это выходит за рамки настоящей статьи, основная
задача которой заключалась в выяснении вопроса о време¬
ни появления в указанном регионе берестяных колчанов
двух типов — с карманом и срезанным верхом. Если ранее
утвердившееся положение о бытовании здесь последних с
VI—VIII вв. пе вызывает и теперь никаких возражений, то
распространенное мнение о сравнительно позднем появле¬
нии на данной территории колчанов с карманом противоре¬
чит всем вышеприведенным фактам, к числу которых можно
отнести и уже упоминавшийся барельеф 637 г., где представ¬
лен колчан с карманом, до деталей сходпый с реальными
образцами этих изделий, известными по находкам в Туве,
Алтае и Хакасии.
Итак, имеющиеся данные позволяют сделать вывод, что
оба типа колчанов широко применялись тюркоязычными
племенами Саяио-Алтая, начиная по крайней мере с перио¬
да Тюркских каганатов, и продолжали употребляться в этой
этнокультурной среде в ранее выработанных формах н в
VIII-X вв.
Примечания
1 Военное дело древних племен Сибири и Центральной Азии.—
Новосибирск, 1981.— С. 87 —197; Деревянко Е. И. К вопросу о воору¬
жении мохэского воина // Археология Северной и Центральной
Азии.— Новосибирск, 1975.— С. 192—203; Ларичев В. Е., Тюрю-
мина Л. В. Военное дело у киданей // Сибирь, Центральная и Восточ¬
ная Азия и средние века.— Новосибирск, 1975.— С. 99—112; Мед¬
ведев В. Е. Культура амурских чжурчжопей (конец X —XI век).—
Новосибирск, 1977.— С. 134—140; Худяков 10. С. Вооружение ени¬
сейских кыргызов VI—XII вв.— Новосибирск, 1980.
197
2 Кирпичников А. Н. Древнерусское оружие // САИ.— Е1—36.—
М. — Л., 1966, 1971.— Вып. 1—3; Корзухина Г. Ф. Из истории древ¬
нерусского оружия в XI в. // СА.— М., 1950.— Вып. XIII.— С. 63—
94; Мерперт Н. Я. Из истории оружия племен Восточной Европы в
раннем средневековье // СА.— М., 1955.— Вып. XXIII.— С. 131 —
168; Медведев А. Ф. Ручное метательное оружие (лук и стрелы, само¬
стрел) VIII—XIV вв. // САИ.— Е1—36.— М., 1966; Плетнева С. А.
От кочевий к городам.— М., 1967.— С. 156—161; Федоров-Давы¬
дов Г. А. Кочсвттитш Восточной Европы под властью золотоордынских
ханов.— М., 1966.— С. 22—36.
3 Трифонов Ю. И. Работы на могильнике Аргалыкты // АО
1965 года.— М., 1966.— С. 25; Он же. Раскопки у подножия хребта
Аргалыкты и в районе Кара-Тала // АО 1966 года.— М., 1967.—
С. 131; Он же. Новые памятники у подножия хребта Аргалыкты //
АО 1967 года.— М., 1968.— С. 175—176; Он же. Дальнейшие иссле¬
дования могильников Аргалыкты I и Кара-Тал IV // АО 1968 года.—
М., 1969.— С. 193; Он же. Работы в Туве и Хакасии // АО 1974 года.—
М., 1975.— С. 236—237; Мандельштам А. М. Исследование могиль¬
ников Бай-Даг II и Часкал II // АО 1966 года.— М., 1967.— С. 128;
Он же. Исследования на могильнике Аймырлыг // АО 1971 года.—
М., 1972.— С. 281; Овчинникова Б. Б. Исследование тюркских памят¬
ников на могильнике Аймырлыг // АО 1972 года.— М., 1973.— С. 231;
Она же. Исследования погребений на могильнике Аймырлыг // АО
1973 года.— М., 1974.— С. 214; Овчинникова Б. Б., Панова О. 10.
Раскопки средневековых погребений на могильнике Аймырлыг //
АО 1975 года.— М., 1976.— С. 267. Во всех этих сообщениях содер¬
жатся сведения о тех погребениях с колем, в которых были обнару¬
жены берестяные колчаны с карманом.
4 Вайнштейн С. И. Памятники второй половины I тыс. в Запад¬
ной Туве // Тр. ТКАЭЭ.— М.— Л., 1966.—Т. 2.—С. 292—324.—
Табл. IV, 2\ Худяков 10. С. Вооружение кочевников приалтайских
степей в IX—X вв. // Военное дело древних племен Сибири и Цент¬
ральной Азии.— Новосибирск, 1981.— Рис. 5, 5.
rt Грач А. Д. Археологические исследования в Кара-Холе и Мон-
гун-Тайге // Тр. ТКАЭЭ.— М.— Л., I960.— Т. 1.— С. 92—147.—
Рис. 97.
6 Например, крюки с петлей наверху известны и совершенно
иной, оригинальной формы (Вайнштейн С. И. Памятники...—
Табл. V, 14), а крюки с пластиной — и трапециевидно-ромбической
(Кызласов Л. Р. Дрсвпяя Тува...— С. 188.— Рис. 144, i), pi асиммет¬
рично-ромбической с вогнутыми сторонами (Левашова В. П. Два мо¬
гильника кыргыз-хакасов // МИА.— М., 1952.— № 24.— С. 127.—
Рис. 5, 26). Тройники имеют и округлые ленестковидпые пластины
(Грач А. Д. Археологические исследования...— Рис. 97), и вытяну¬
тые лепсстковпдные с заостренными концами, двойные (Узунтал 1,
к. 2; раскопки Д. Г. Савинова).
7 Например, в погребении-кенотафе к. 2 могильника Узунтал,
датированного VIII—IX вв. (Савинов Д. Г. Некоторые материалы по
истории сложного лука и некоторые вопросы его эволюции в Южной
Сибири // Военное дело древних племен Сибири и Центральной
Азии.— Новосибирск, 1981.— С. 149), найдены обе аргалыктынские
разновидности колчанных крюков. (Благодарю названного автора за
оказанную возможность ознакомиться с неопубликованным мате¬
риалом.)
8 Дьяконова В. П. Большие курганы-кладбища на могильнике
Кокэль // Тр. ТКАЭЭ.— Л., 1970.— Т. III.- Табл. XI, 27\ XII, 45,
198
46; Ковалевская В. Б. Поясные наборы Евразии IV—IX вв. Пряжки//
САИ.— Е1—2.— М., 1979.- С. 17 (тин И).— Табл. II, 5—7, 10.—
С. 27 (тип 14).— Табл. X, 11.
9 Евтюхова Л. А. Археологические памятники енисейских кыр-
гызов (хакасов).— Абакан, 1948.— С. 105.— Рис. 189.— С. 107.—
Рис. 195, 196.
10 Там же.— Рис. 187, 188, 190, 191, 193, 194; Евтюхова Л. А.,
Киселев С. Чаа-тас у села Копены // Тр. ГИМ.— М., 1940.—
Вып. И.— Табл. VIII, а.
11 Евтюхова Л. А. Археологические памятники...— Рис. 192;
Гаврилова А. А. Могильник Кудыргэ как источник по истории алтай¬
ских племен.— М.— Л., 1965.— С. 30..
32 Культурные памятники и достопримечательности города Сиа¬
ня.— Сиань, 1959; Вайнштейн С. И. Некоторые вопросы истории древ-
нетгоркской культуры // СЭ.— 1969.— № 9.— С. 69.— Рис. 3.
13 Вайнштейн С. И. Некоторые вопросы...— С. 69.— Примсч. 64.
14 Кызласов Л. Р. История Тувы в средние века.— М., 1969.—
Рис. 1, 2, а.
15 Там же.— С. 80.
16 Вероятно, третий ремень предназначался для пристегивания
к нему колчанного крючка, который, очевидно, был соединен с дни¬
щем футляра (Худяков IO. С. Вооружение енисейских кыргызов...—
С. 117), возможно, с помощью специального короткого ремешка, как
па реконструированных колчанах из Болынс-Тархапского могильни¬
ка (Генинг В. Ф., Халиков А. X. Ранние болгары на Волге.— М.,
1964.— С. 48.— Рис. 14, 2, 3; см. также: Медведев А. Ф. Ручное ме¬
тательное оружие...— С. 20.— Примеч. 3). В таком случае этот под¬
весной ремень должен был одним своим концом, отходящим от трой¬
ника, закрепляться на поясе (подобно двум основным колчанным
ремням), а вторым концом, образовывавшим, по-видимому, свисаю¬
щую петлю, концы которой вставлялись в два других приемника троп¬
инка, соединяться с крюком.
17 Вайнштейн С. И. Памятпнки...— С. 303.— Рис. 14.—
С. 308.— Рис. 21.
18 Там же.— С. 300.— Рис. И.
В. Э. Шавкунов
К ВОПРОСУ О ЛУКЕ ЧЖУРЧЖЭНЕЙ
За время своего существования чжурчжэни одержали не¬
мало блестящих побед в войнах со своими соседями — ки-
данями, коресцами и войсками сунского Китая. Эти успехи
могли быть достигнуты только при наличии хорошо органи¬
зованной и оспащениой армии, что, в свою очередь, пред¬
полагает высокое для того времени развитие всех катего¬
рий вооружения и особенно лука. Дело в том, что лук являл¬
ся самым распространенным в средние века оружием и был
обязателен для каждого воина. Интересно в связи с этим от¬
199
метить, что в экипировку монгольского всадника входило
два лука или по крайней мере один, по очень хороший, а в
экипировку киданьского — даже четыре лука г. Большой
популярностью пользовалсся лук и у чжурчжэией. Об
этом свидетельствуют результаты археологических исследо¬
ваний: наконечники стрел являются самым массовым после
керамики материалом на чжурчжэиьских памятниках При¬
морья. Да и даииые письменных источников позволяют го¬
ворить о том, что самым важным оружием чжурчжэией были
лук и стрелы 2.
Несмотря на многолетние раскопки чжурчжэиьских па¬
мятников XII—XTTI вв., в Приморском крае лук или хотя бы
его фрагменты до сих пор не найдены. Но зато в нас есть
свидетельства письменных источников той эпохи о некото¬
рых свойствах лука чжурчжэией, а также рисунки с его
изображением. На основе этих данных, а также исполь¬
зуя материалы других пародов Азии, можно сделать неко¬
торые выводы относительно характера чжурчжэньского лу¬
ка, так как развитие этого оружия па огромных просторах
Евразийского материка отвечало сходным тенденциям и
потребностям.
Прежде всего необходимо иметь в виду, что «уже по од¬
ним только наконечникам стрел можно косвенно судить о
размерах и силе лука, если даже он сам и не сохранился в
археологических находках»3. Вес наконечников стрел, най¬
денных па одном из чжурчжэиьских памятников Приморья
(Шайгипское городище), от 4 до 25 г, хотя встречаются эк¬
земпляры до 45 г. Отношение веса наконечника к весу стре¬
лы у древнерусских образцов X—XIV вв. 1 : 5, а боль¬
шинство стрел весило 40—50 г 4. При тех же соотношениях
чжурчжэпские стрелы должны были весить до 100 г и боль¬
ше, а основная масса их по 60—75 г. О размерах стрел мож¬
но судить по остаткам колчана (но одной железной армату¬
ре от пего), найденного па Шайгипском и Ананьевском горо¬
дищах. Измерение колчана показывает, что длина стрел у
чжурчжэией была 70—80 см5. По свидетельству Сюй Мэн-
синя, китайского автора, жившего в XII в., сила натяжения
тетивы у чжуржэпьских луков в XI в. не превышала 7 доу 6.
Поскольку в 960—1279 гг. 1 доу равнялся 6,641 л 7, сила
натяжения лука должна составлять около 46,5 кг.
Хотя чжурчжэиьские луки были слабее китайских 8
и монгольских 9, для натяжения которых требовалось уси¬
лие в 1 пш, или 10 доу, это, одпако, не мешало китайцам, как
отмечается в источниках, «относиться к ним с уважением»10.
Для сравнения пе мешает отмстить, что сила ттатяжеттия сов-
200
ремеппых спортивных луков не превышает 23 кгп. Все
ото убеждает в том, что у чжурчжэпей должны были быть
луки усиленного типа, т. е. с вставленными или наклеенны¬
ми на деревянную основу костяными или роговыми пластин¬
ками, ибо только из такого лука можно было прострелить
навылет грудь всадника, как это сделал основатель «Золо¬
той империи» чжурчжэпей Агуда *.
Обратимся к рисункам, на которых есть изображение
лука. Их всего четыре. На первом (рис. 1) изображен прос¬
той чжурчжень с луком в правой руке 12. Человек нарисо¬
ван довольно тщательно, не в условной мапере, а с прори¬
совкой многих второстепенных деталей (например, орна¬
мент колчана, складки одежды). Не обойден вниманием и
лук. Он явно асимметричной формы. Концы лука несколько
загнуты наружу. На спинке лука, ближе к более короткому
и крутому плечику, заметно резкое расширение кибити,
причем особенно вьтделепа окраинная часть расширения.
Центральная часть лука скрыта рукой человека. Часть
спинки, примыкающая к более пологому и длинному пле¬
чику, и само это плечико, такой же ширины, как и спипка
возле короткого плечика. Оконечность лука у длинного
плечика плавно, но заметно сужается до ширины короткого
плечика. Создается впечатление, что автор рисунка пытался
изобразить здесь костяные или роговые накладки, харак¬
терные для сложных луков средневековья. Судя по рисун¬
ку, лук чуть больше 2/3 роста человека. Если же рост чжур-
чжэпя считать 160—180 см, то размер лука составит 110—
124 см.
Сохранилось изображение чжурчжэиьского князя с лу¬
ком 13 (рис. 2). Рисунок выполпеи с большей тщательностью,
чем предыдущий. Однако лук здесь, по-видимому, несколь¬
ко иной конструкции. Прежде всего, он нарисован в горите
в спущенном состоянии и также асимметричен. Тетива за¬
креплена на конце у крутого плечика. С противоположного
края лука она снята (на рисунке отчетливо видно, что вырез
для тетивы пуст). Создастся впечатление, что тетива привя¬
зана только к одному концу лука, как плеть. В то же время
петля тетивы, снятая с лука, как будто па чем-то держится
(это место скрыто налучьем). Отличительная черта этого
лука: утолщения у пего показаны па краях, а не в централь¬
ных частяхА как в первом случае. Размерами княжеский
* Архив востоковедов Л О ИВ АН СССР, р. 1, on. 1, д. 3.— История
дома Цзинь, царствовавшего в северной части Китая с 1114 по 1233-й
год. Переведена с .маньчжурского Г. Розовым.— С. 356.
201
лук несколько мепыне первого. При росте князя 160—
180 см длина лука будет 107—120 см, по это при спущенной
тетиве, а в натянутом положении должпа быть по крайпей
мере на 10—15 см короче.
Еще один рисунок чжурчжэня с луком (рис. 3) выпол¬
нен не так тщательно и дает гораздо меньше информации 14.
Этот лук тоже асимметричен, хотя асимметричность и пе
так ярко выражепа, как в предыдущих случаях. Размеры
его, при прежпих условиях, должны быть 133—155 см.
И наконец, на последнем рисунке (рис. 4), выполпепном
в 1197 г. па стене усыпальницы чжурчжэньского вельмо¬
жи 15, мы видим изображение мужчины, по всей видимости
натягивающего лук. Мужчипа сидит па скамеечке, одной но¬
гой наступив на загнутый наруя^у конец лука. Левой рукой
он деряшт лук посередине. Локтем правой руки упирается
в пологое плечико лука, а кисть руки находится у конца
оружия. Для того чтобы перенести петлю тетивы через конец
лука и таким образом натянуть его, поза человека явно не¬
удобна. Но если предположить, что петля тетивы па чжур-
чжэньском луке не снимается с него совсем1 а только высво-
202
бождается из выреза на конце лука и соскальзывает по ки-
бити, оставаясь на ней, то это объясняет сразу и позу чело¬
века, и то, что тетива лука не провисла (см. рис. 2), а, дойдя
до расширения па кибити, осталась в слабо натянутом со¬
стоянии. Сам же лук (см. рис. 4) явно асимметричен, с от¬
торгнутыми наружу концами. По размерам он, видимо, со¬
ответствует первому луку, т. е. равен 110—124 см.
Из всех описанных выше луков прорисовкой некоторых
деталей отличаются только два первых. Но у них есть су¬
щественные различия в размерах, в оформлении концов,
в наличии и расположении накладок. Два последующих лу¬
ка изображены несколько схематично, однако формой и за¬
гнутыми концами они сближаются. По всей видимости, мож¬
но говорить о существовании двух различных типов лука у
чжурчжэней.
Первый тип имеет асимметричную форму с отогнутыми
наружу концами. Длина его в вытянутом состоянии 110—
125 см. Лук носили обычно в спущенпом состояпии, натяги¬
вая его перед употреблением. Тетива крепилась наглухо
у крутого плечика, а у пологого на тетиве была петля, ко¬
торую не снимали с лука, а оставляли па кибити на то вре¬
мя, когда лук ослабляли. Лук был усилен костяными или
роговыми пластинками. Крутое плечико оставалось без
накладки, а центральную часть усиливали накладками с
20з
лопаточкообразиыми концами. Скорее всего, па пологом
плечике тоже находилась длинная изогнутая накладка.
Такие луки — с двумя накладками, срединной с лопаточ-
кообразпыми концами и фронтальной концевой — суще¬
ствовали в предмопгольское время на Северном Алтае. Ос¬
татки такого лука найдены в погребении XII—XIII вв.
в Осинкинском могильнике 16.
Другой тип чжурчженьского лука также был асиммет¬
ричен, носился в спущенном состоянии в горите, и петля те¬
тивы не снималась, а оставалась па кибити. О расположении
накладок на этом луке говорить трудпо, по, видимо, на них
были копцевьте накладки с вырезом для тетивы. Концы лу¬
ка были прямыми, а размеры его — 95—110 см.
В том, что у чжурчжэпей не было единого типа лука, пет
пичего удивительного. В начале II тыс. н. э. «продолжался
процесс поиска оптимальной конструкции лука с учетом
различных этнических традиций»17. В уже упоминавшемся
Осинкинском могильнике в погребениях XII—XIII вв. обна¬
ружено четыре лука с различными по форме и расположе¬
нию накладками 18. Не исключено также, что различные ти¬
пы луков изготавливались из разных пород деревьев: ведь
в каждой местности в первую очередь использовали тот
материал, который был под рукой и отвечал соответствую¬
щим требованиям. По свидетельству Л. Шреика 19, в XIX в.
дальневосточные тунгусоязычпые пароды, предками кото¬
рых являлись чжурчжэни, для изготовления луков употреб¬
ляли древесину ясеня и березы — деревьев, которые в изо¬
билии произрастают на Дальнем Востоке. Из черной березы
и из дуба в XII в. на Дальнем Востоке делали также гибкие
шесты для камнеметов 20. Вероятно, черная береза и была
тем материалом, из которого чжурчжэни делали свои луки.
Более определенно ответить па этот и другие вопросы мож¬
но будет лишь после того, как будут сделаны археологиче¬
ские находки остатков чжурчжэнъского лука.
Примечания
1 Wittfogel К. A. Feng Chia-sheng. History of Chinese Society
Liao (907—1125) // Transactions of the American Philosophical Socie¬
ty.— New series.— Philadelphia, 1949.— V. 36.— P. 523.
2 Воробьев M. В. Чжурчжэни и государство Цзинь (X в.—
1234 г.) /7 Исторический очерк.— М., 1975.— С. 206; Он же. Куль¬
тура чжурчжэней и государства Цзинь (X в.— 1234 г.).— М., 1983.—
С. 63.
3 Окладников А. П. Неолит и бронзовый век Прибайкалья.
Ч. III // МИА.— М.— Л., 1955.- № 43.— С. 72.
204
4 Медведев А. Ф. Ручное метательное оружие (лук и стрелы, са¬
мострел) XIII —XIV вв. // САИ.— М., 1966.— Вып. Е1— 36.— С. 52.
6 Шавкунов Э. В., «Пеньков В. Д. Об археологических исследо¬
ваниях на территории Приморского края в 1968 году // Архив ДВНЦ
АН СССР, ф. 1, он. 6, л. 8.
6 Кычанов Е. И. Чжурчжэни в XI в. (материалы для этнографи¬
ческого исследования) // Сибирский археологический сборник.— Но¬
восибирск, 1966.— С. 277.
7 Школяр С. А. Китайская доогнсстрсльпая артиллерия.— М.,
1980.— С. 358.
8 Воробьев М. В. Культура чжурчжэпсй...— С. 22.
9 «Мэн-да бэй-лу» (Полное описание монголо-татар).— Памят¬
ники письменности Востока, XXVI.— М., 1975.— С. 78.
10 Воробьев М. В. Культура чжурчжэней...— С. 22.
11 Пастухов И. П., Плотников С. Е. Рассказы о стрелковом ору¬
жии.— М., 1983.— С. 8.
12 Окладников А. П. Далекое прошлое Приморья (Очерки по древ¬
ней и средневековой истории Приморского края).— Владивосток,
1959.— С. 212.
13 Окладников А. П. Далекое прошлое...— С. 222.
14 Нихон бунка си тайкэй (Очерки по истории культуры Япо¬
нии).— Токио, 1943.— Т. 5.— С. 336 (на яп. яз.)
15 Воробьев М. В. Культура чжурчжэней...— Табл. IX.
16 Савинов Д. Г. Новые материалы по истории сложного лука и
некоторые вопросы его эволюции в Южной Сибири // Военное дело
древних племен Сибири и Центральной Азии,— Новосибирск, 1981.—
С. 159-160.
17 Там же.— С. 161.
18 Там же.— С. 156.
19 Шренк Л. Об инородцах Амурского края.— Спб., 1899.--
Т. 2.— С. 245.
20 Школяр С. А. Китайская доогнестрельпая...— С. 89.
В. Е. Медведев
ОБЩЕЕ И ОСОБЕННОЕ
В НЕКОТОРЫХ ВИДАХ ВООРУЖЕНИЯ
ЧЖУРЧЖЭНЬСКОИ ЭПОХИ ПРИАМУРЬЯ И ПРИМОРЬЯ
К середине 1980-х годов стали отчетливо просматриваться
результаты многолетних целенаправленных исследований
раннесредневекового времени и средних веков па терри¬
тории южной части советского Дальнего Востока. Нельзя
сказать, что эта историческая эпоха, хотя и несоизмеримо
более короткая по сравнению с прежними эпохами — кампя
и раннего металла, раскрылась перед ведущими поиск в удо¬
влетворительной форме. Этого, наверное, не будет никогда,
поскольку с относительным разрешением одних вопросов пе¬
205
ред исследователем, как правило, встают новые проблемы,
нередко более сложные. И тем не менее с учетом сказанного
нельзя все же не признать следующее. Во-первых, с нако¬
плением, главпым образом археологических, вещественных
источников и соответствующим их истолкованием и осмысле¬
нием все заметнее вырисовываются контуры трех археоло¬
гических культур дальневосточного средневековья. Эти
культуры — мохэская, бохайская и чжурчжэньская, со все¬
ми уменьшающими их «чистоту» вариантами локального или
хронологического характера, а подчас того и другого,
наделены тем не менее необходимым перечпем компонентов,
формирующим лицо каждой из них. Во-вторых, при всех
различиях, позволяющих считать названные культуры само¬
стоятельными, трудно не увидеть ту более раннюю основу,
на которой они вызрели в Приамурье, Приморье и Маньчжу¬
рии. Этой осповой родственных культур, носителями которых
было преимущественно тунгусоязычное население (что,
кстати, нашло отражение в утвердившихся их названиях,
связанных со средневековыми этнонимами), стали культу¬
ры ранпежелезного века, и в первую очередь польцевские
комплексы.
Составной частью упомянутых выше проблем следует счи¬
тать вопрос о такой важной стороне деятельности средневе¬
ковых обществ, как военное дело в широком понимании и ха¬
рактер оснащения их предметами вооружения в частности.
Не вдаваясь в детальный анализ степени изученности воен¬
ного искусства средневековых обитателей Приамурья и При¬
морья, хотелось бы обратить внимание лишь на отдельные
звенья этой важной и достаточно крупной проблемы. Хоро¬
шо известно, что в рассматриваемую эпоху, да и в другие
исторические периоды, наполненные активными процессами
социально-экономического и политического характера, воен¬
ное дело отнюдь не было индифферентно ко всему окружаю¬
щему. Напротив, оно выполняло роль своего рода лакмусо¬
вой бумаги, чутко реагирующей на любые перемены. Вот
почему трудно переоценить военное дело тех или иных этно¬
сов, особеипо когда речь идет об их сравнительных характе¬
ристиках, о корреляции различных вещевых комплексов
культур.
Все это в полной мере относится и к дальневосточному
средневековью, включая, конечно же, чжурчжэльскую эпо¬
ху. Заметим при этом, что в настоящее время бесспорно наи¬
более значительный средневековый материал, собранный со¬
ветскими археологами, связан с названной эпохой. В При¬
морье успешно раскапываются чжурчжэньские городища, в
206
последние годы на них работает несколько экспедиционных
отрядов Института истории, археологии и этнографии
ДВНЦ АН СССР. В Приамурье заметное место в исследова¬
нии чжурчжэньской эпохи у археологов Института истории,
филологии и философии СО АН СССР занимали грунтовые
и курганные' могильники; ими раскапываются городища и
поселения. Без преувеличения можно сказать: накопленных
здесь вещественных данных, отражающих уровень развития
военного дела чжурчжэней, в целом больше, нежели анало¬
гичных материалов, известных на соседних с Приамурьем
и Приморьем территориях. Таким образом, наметились до¬
вольно благоприятные условия для углубленной разработ¬
ки проблем оружиеведения, военного дела создателей Вели¬
кой Золотой империи (Цзинь).
Однако количество имеющихся источников по названной
проблеме пока еще нс сопоставимо с масштабами н уровнем
ее исследования. Сравнительно небольшое число опублико¬
ванных работ посвящено прежде всего частным вопросам
оружиеведения эпохи чжурчжэней. В них почти не наблю¬
дается попыток каких-либо обобщений не только в целом по
воепиому делу чжурчжэней, по и отдельных компонентов
этой обширной сферы деятельности средневекового дальне¬
восточного этноса.
Взять хотя бы такой аспект проблемы, как возникнове¬
ние и развитие чжурчжэньской конницы, выявление ее ха¬
рактерных черт и особенностей. Этот вопрос, один из карди¬
нальных в характеристике рассматриваемой этнической об¬
щности у отдельных исследователей-чжурчжэневедов, все
еще остается в стороне, а порой и игнорируется. Между тем
конница являлась основным боевым ядром не только у чжур-
чжэпей (у них в особенности, как об этом, в частности, гово¬
рится в письменных источниках), по и вообще была
«...в средние века решающим родом войск»1. Столь же важ¬
ным следует считать вопрос о динамике совершенствования
предметов вооружения и его ассортимента в исследуемую
эпоху, с заострением внимания при этом на каждом из трех
культурно-хронологических этапов эпохи. Без подробного
анализа названных сторон проблемы вряд ли можно понять
социально-экономические и политические процессы, проте¬
кавшие у средневековых тунгусоязычных племен, завершив¬
шиеся созданием чжурчжэньского государства Цзинь, зна¬
чительная часть которого располагалась на завоеванной
чжурчжэиями территории. Надо помнить, что изменения со¬
става оружия и тактики боя влекли за собой изменения во
всей военной организации 2.
207
Перечень малоисследованных или вообще не исследовап-
ных проблем, касающихся военного дела дальневосточного
средневековья, можно было бы продолжить. Так, еще не
затронута исследователями тема, связанная с фортифика¬
цией, в особенности же фортификацией наступательной, со¬
держащей правила ведения осады укреплепий, в частности
городищ.
Наряду с перечисленными, ждущими специального ос¬
вещения вопросами есть и другие, не менее важные вопросы,
в той или иной степени прежде уже затрагивавшиеся. Речь
идет об отдельных видах вооружения, найденного при рас¬
копках памятников чжурчжэньской эпохи (VII—XIII вв.)
в Приамурье, и о сравнении его с предметами вооружения
с памятников соответствующего времени Приморья. Рассмот¬
рим некоторые из них, в частности наконечники стрел.
Безусловно, среди предметов вооружения железные на¬
конечники стрел составляют наиболее многочисленную кол¬
лекцию. В Приамурье наконечники найдены ца всех раска¬
пываемых памятниках чжурчжэньской эпохи, их количество
определяется многими сотнями экземпляров самых различ¬
ных типов. Значительное число подобного рода изделий об¬
наружено также при раскопках в Приморье 3. Здесь следу¬
ет сказать и об аналогичном археологическом материале
эпохи чжурчжэией, полученном в последние годы китайски¬
ми археологами в Маньчжурии (провинция Хэйлунцзян,
КНР)4.
Учитывая довольно большую длительность чжур¬
чжэньской эпохи и произошедшие в связи с этим определен¬
ные качественные изменения в вооружении, будет удобнее
проделать сравнительный анализ, подразделив эпоху па два
условных отрезка: 1) VII—XI вв.; 2) XII—XIII вв. Приме¬
нительно к Приморью первый отрезок эпохи полностью ох¬
ватывает время бохайской государственности, а также вклю¬
чает период продолжительностью более одного столетия,
предшествовавшего рождению чжурчженьской империи
Цзинь. Второй отрезок соответствует в основном периоду
существования названной империи. Для сравнения амур¬
ские материалы взяты с полностью или же масштабно иссле¬
дованных характерных памятников, датированных, как пра¬
вило, с помощью радиоуглеродного метода и монет. При¬
морские же материалы привлекаются в соответствии с их
количеством, освещенным в печати. В основу сравнения по¬
ложены прежде всего наиболее распространенные типы на¬
конечников, встречающиеся либо на всех памятниках инте¬
ресующей пас эпохи, либо на большинстве из них.
208
Обратившись к статистике, петрудно установить, что как
для первого (VJJ — середина IX в.), так и для второго
(вторая половина IX — первая четверть XII в.) этапа чжур-
чжэньской эпохи характерна весьма большая доля наконеч¬
ников стрел с плоским сечением пера (срезней). На многих
памятниках количественно они не уступают граненым, а
порой и превосходят их. Почти то же самое можно сказать
и о типологическом разнообразии плоских иакопечпиков. На
памятниках первого условного отрезка эпохи, почти полно¬
стью совпадающего, кстати, с двумя ее первыми этапами,
особенно много встречается двурогих срезней. В этом плане
показателен Корсаковский могильник, в погребениях кото¬
рого обнаружено более десяти вариантов наконечника наз¬
ванного типа. Здесь не ставится цель описать каждый тип
и его вариант, хотелось бы лишь обратить внимапие на тот
факт, что некоторые из них (например, двурогие срезпи с
вогнутыми боковыми и выпуклыми режущими сторонами)
(рис. 1, 3—5) встречаются на самых различных памятниках
амурского ареала вплоть до начала XII в. (рис. 2, 7, 11, 25,
16). Аналогичная картина характерна, судя по всему, и для
памятников Маньчжурии (см. рис. 2, 22, 23). Двурогие срез-
ни того же типа, что встречаются в Приамурье, найдепьт па
памятниках Приморья, в частности на Новогордеевском по¬
селении и в Марьяновском городище (см. рис. 1, 18, 20, 30).
Большое распространение на рассматриваемом отрезке
эпохи получили срезпи в виде узкой прямугольиой и в виде
расширяющейся к острию лопаточки (иногда у изделия ост¬
рие подпрямоугольпой формы). Накопечпики этого типа не¬
изменно присутствуют на чжурчжэпьских памятниках При¬
амурья и Маньчжурии (см. рис. 1, 9, 42; 2, 1, 10, 14, 21, 24).
Они не воспринимаются как редкие и на памятниках При¬
морья, например, в городище на Крутой сопке, в Марьянов¬
ском городище, а также на поселении Синие Скалы (см. рис.
1, 25, 31, 39).
Обращаясь к вопросу о хронологических рамках быто¬
вания срезней-лопаточек, можно уверенно говорить, что их
производство достигло расцвета в XI вв. Правда, па отдель¬
ных памятниках и более раннего времени (в частности, груп¬
па погребений VIII — IX вв. в северо-восточной оконечности
Корсаковского могильника) они составляли значительную
долю от общего числа пакопечников. Примечательной чер¬
той срезней-лопаток второй половины X—XI в. следует счи¬
тать более удлипенпые их очертания. В указанпый период
они, как правило, становятся крупнее (главным образом
длиннее). Типологически близко к названным наконечникам
209
1_Л
Рис. 1. Типы жслсзпых наконечников с памятников VII—XI в.
1—14, 42—47 — из Корсаковского могильника; 15—20 — из Новогордеевского
поселения; 21—28, 40, 41 — из городища на Круглой сопке; 29—32 — из Марья-
новского городища; 33—39 — из поселения Синие Скалы (здесь и далее масштаб
различен).
стоят изделия с выемками-перехватом и короткими шипами
(фигурные^срезнп) (см. рис. 1, 43; 2, 2). Следует, однако, за¬
метить, что если в Приамурье данные наконечники составля¬
ют па ряде памятников значительную группу, то в примор¬
ских материалах фигурные срезни нам не известны. Обра¬
щает па себя внимание следующая деталь этих наконечни-
ков, можно сказать, аэродинамическая особенность их. Они
все ступенчатого (так называемого Z-образованого) сечения,
придающего из/^елиям в определенной мере винтообразные
очертания, или как сказано в летописном источнике о чжур-
чжэпьских наконечниках стрел, «похожи на бурав».
Поскольку распространение паконечников со ступенча¬
тым сечением (буравовидного облика) ограничивается опре-
210
-о
Рис. 2. Типы железных наконечников стрел с памятников XI в.
1 — 7, 26 — из Надеждинского могильника; 8—11 — из Дубовского могильника;
12, 13 — из Болоньского могильника; 14—19 — из Ольского могильника; 20—
22 — из могильника в Суйбинс (провинция Хэйлунцзян, КНР); 23—26 — из по¬
гребения на ферме Цзюньминь (провинция Хсйлунцзян, КНР).
деленной территорией (часть Среднего и Нижнее Приамурье
преимущественно в пределах Среднеамурской равнины, При¬
морье и Маньчжурия), которая определяется как крупная
единая историко-культурная область, то их необходимо вос¬
принимать в роли носителей этнических признаков.
Подобная постановка вопроса обусловлена тем обстоя¬
тельством, что наконечники со ступенчатым сечением далеко
не ограничиваются одними лишь фигурными срезиями. Есть
наконечники и других типов и не только плоские, у которых
перо также ступенчатое. Прежде всего следует назвать тре¬
угольные наконечники. В Приамурье подобные изделия с
широким у основания пером встречаются главным образом
на памятниках корсаковского варианта чжурчжэньской
культуры (см. рис. 1, 6, 14). В Приморье они найдены на
поселениях Новогордеевском и Синие Скалы и в городище
па Круглой сопке (см. рис. 1, 15, 21, 34). У отдельных экзем¬
пляров наконечников в пере сделана прорезь в форме три-
211
листпика. Что же касается памятников Надеждинского ва¬
рианта чжурчжэпьской культуры, то там треугольных на¬
конечников с расширенным пером ступенчатого сечения не
найдепо. На этих памятниках выявлены аналогичного типа
наконечники, с той лишь разницей, что они линзовидного се¬
чения (см. рис. 2, 3) или же вдоль пера у них оформлено
утолщение-ребро (см. рис. 2, 4). Кстати, наконечники с утол¬
щением по оси пера открыты также и в Корсаковском мо¬
гильнике (см. рис. 1, 1).
Возвращаясь к памятникам Надеждинского варианта, от¬
метим, что там ступенчатость сечения просматривается у на¬
конечников с зауженными очертаниями пера, в том числе у
треугольных (см. рис. 2, 19), хотя преобладающая часть по¬
следних — граненые ромбического сечения (см. рис. 2, <5,
20). Для Надеждинского варианта, т. е. для западной и юго-
западной группы памятников чжурчжэньской культуры, сту¬
пенчатое сечение отмечено в серии килевидных изделий (см.
рис. 2, 26). Надо заметить, что ступенчатость, или бураво-
видность, граненых наконечников служит скорее показате¬
лем их более позднего изготовления. Наконечники с назван¬
ным сечением с ранних памятников, как правило, срезни.
Любопытно, что в городище на Круглой сопке найден ланце¬
товидный наконечник.
Из плоских паконечников надо назвать еще серию харак¬
терных для корсаковского варианта чжурчжэньской куль¬
туры листовидных (норой они со ступенчатым сечением)
и оригинальных шлемовидпых изделий (см. рис. 1, 7, 8).
На памятниках Надеждинского варианта подобного типа на-
копечники пока не найдены. В Приморье же листовидные
или близкие к ним по форме лавролистные и остроконечные
предметы вооружения известны по раскопкам Новогордеев¬
ского поселения (см. рис. 1, 27, 19).
К числу плоских относятся и двушипные без упора нако¬
нечники. На Амуре они обнаружены в Болоньском могиль¬
нике, а в Приморье — в городище на Круглой сопке (см.
рис. 1, 23\ 2, 13). В Приамурье нередки также находки на¬
конечников пламевидной или фигурнолистной формы. На¬
пример, в Корсаковском могильнике изделия подобного типа
представлены несколькими вариантами: а) с плоским сече¬
нием; б) с утолщением-ребром вдоль длинной оси и в) с ром¬
бическим сечением пера (см. рис. 1, 44—46). В Приморье та¬
кого разнообразия вариантов пламевидпых предметов воо¬
ружения пока не отмечено ни на одном памятнике. Можно
лишь пазвать пламевидный наконечник с ромбическим сече¬
нием, найденный на поселении Синие Скалы (см. рис. 1, 35).
212
О некоторых граненых наконечниках стрел речь шла вы¬
ше, остановимся теперь па других тинах подобных изделий.
Граненые наконечники VII—XI вв. в Приамурье представ¬
лены значительной серией изделий, относящихся более чем
к 15 типам (с вариантами). Будет правильнее, если сначала
и несколько подробнее рассмотрим наконечники долотовид¬
ной формы. Объясняется это тем, что изделия данного типа
найдены почти па всех памятниках, при этом их пропор¬
ция среди других наконечников от этапа к этапу эпохи идет
по нарастающей. Их становится много в XI в., а в последую¬
щие два века рассматриваемой эпохи, как мы увидим,
долотовидпые наконечники занимают господствующее
место.
Амурские наконечники указанного типа, как правило,
с утолщенной боевой головкой, прямоугольного сечения (см.
рис. 1, 10\ 2, 5, 17), лишь в редких случаях изделия квад¬
ратные или ромбические. На территории Приморья долото¬
видные наконечники выявлены в поселениях Новогордеев¬
ском и Синие Скалы, в городищах на Круглой сопке и Марь-
яновском (см. рис. 1, 27, 28, 32, 38). Здесь есть, пожалуй,
необходимость попутно обратить внимание на следующий
трудно объяснимый факт, непосредственно связанный с хро¬
нологией ряда приморских памятников. Так, в городищах
на Круглой сопке и Марьяиовском, относимых исследовате¬
лями к бохайской культуре (VIII—X вв.), для позднего ее
этапа станковой керамики определено соответственно 75—
85% и 92% от общего количества керамического материала,
а для городища этой же культуры Николаевского II эта циф¬
ра еще выше — 98—99 %5. Нельзя не заметить, что на
амурских памятниках чжурчжэньской эпохи, соответствую¬
щих по времени вышеназванным, станковой керамики зна¬
чительно меньше, точнее, даже она уступает количественно
лепной. На памятниках же культуры мохэ станковая кера¬
мика стратиграфически четко вообще не зафиксирована, не
найдены на них, кстати, и долотовидпые наконечники стрел 6.
Да и в Приморье даже во второй половине XI—XII в., как
показали раскопки Екатериновского городища, станковой
керамики производилось лишь 68%, а 32% принадлежит
лепной 7. Предложенная статистика дает, безусловно, по¬
вод для размышлений. Что это? Ошибка в подсчетах или же
неверная датировка некоторых памятников? Сколько-нибудь
категорично па данный вопрос ответить трудно. Однако при
условии, что статистические данные по керамике с памят¬
ников, относимых к бохайской культуре, верны, можно пред¬
положить занижепность их возраста.
213
Из других граненых наконечников стрел Приамурья сле¬
дом за долотовидными падо назвать уже упоминавшиеся вы¬
ше килевидные и лапцетовидпые предметы вооружения. Бы¬
ли затронуты изделия лишь ступенчатого сечения. Однако
большое количество этих наконечников имеет ромбиче¬
ское сечение. Подобные килевидпые наконечники обнаруже¬
ны на амурских памятниках обоих вариантов чжурчжэнь-
ской культуры (см. рис. 1, 2; 2, 25), в Приморье — в горо¬
дищах на Круглой сопке и в Марьяновском, а также в посе¬
лении Синие Скалы (см. рис. 1,22,24, 29, 36). Ланцетовидные
же наконечники на памятниках корсаковского варианта по¬
ка пе встречены, в то время как па археологических объек¬
тах Надеждинского варианта культуры они составляют зна¬
чительную серию (см. рис. 2, 6, 9, 18). В Приморье они вы¬
явлены в городищах Марьяновском (см. рис. 1,29) и на Круг¬
лой сопке 8, а также па поселении Синие Скалы (см. рис.
1, 33).
Граненые наконечники иных типов как в Приамурье, так
и в Приморье встречаются в рассматриваемые века весьма
редко. К ним относятся шиловидпые наконечники. В При¬
амурье опи были квадратпого и круглого сечения (см. рис.
1, 11, 12); в Приморье (на поселении Синие Скалы) найден
паконечпик квадратпого сечения (см. рис. 1, 37).
Следующий тип наконечников — пулевидиые изделия.
Представлен одним экземпляром круглого сечения в Корса-
ковском могильнике (см. рис. 1, 47). Надо заметить, что пу-
левидпые наконечники стрел не относятся к типу сколько-
нибудь распространенных предметов вооружения в целом
для чжурчжэньской эпохи. Они найдены, к примеру, в при¬
морских городищах — в Скалистом, датируемом XII в. (рис.
3, 27), в Ананьевском, относящемся к XII — первой полови¬
не XIII в. (см. рис. 3, 15, 16), и Шайгинском. Но и там пу-
левидпые наконечники — единичные находки.
Еще один тип наконечников — с подтреугольиым или
треугольным пером и удлиненной шейкой — в При¬
морье представлен находками в поселении па Круглой соп¬
ке и в Ананьевском городище (см. рис. 1, 41; 3,14). В Приа¬
мурье близкие к ним по форме изделия с кинжаловидным
пером и длинной шейкой (см. рис. 1, 13) распространены
несколько шире. Серия подобных наконечников обнаружена
в Корсаковском могильнике. Можно еще добавить, что в ма¬
териалах приморского Новогордеевского поселения есть би-
пирамидальпьтй пакопечпик квадратного сечения (см. рис.
1,16), в Приамурье же найдены сходной формы паконечпики
трехгранного сечения (2 экз.).
214
Р4
Рис. 3. Типы железных паконечников стрел с памятников XII —
XIII вв.
1 — из поселения в устье р. Тунгуски; 2,3 — из Джарииского городища;
4—6, 27 — из Скалистого городища; 7—23 — из Ананьевского городища;
24—26 — из Шайгинского городища.
Для второго условного отрезка интересующей нас эпохи,
впрочем совпадающего с периодом государственности у
чжурчжэисй, типологическая характеристика наконечников
стрел резко мепяется. По сравнению с первым отрезком эпо¬
хи изменяется прежде всего соотношение среди типов нако¬
ленников. Здесь необходимо сделать следующую оговорку.
Поскольку в настоящее время степень исследованности па¬
мятников XII—XIII вв., в отличие от памятников VII —
XI вв., в Приморье по сравнению с Приамурьем выше и рас¬
сматриваемые материалы количественно несопоставимы, то
отдельные наши выводы будут здесь в определенной мере
предположительными. Вместе с тем даже имеющиеся в на-
215
тем распоряжении данпые можпо считать достаточными для
определения коренной тенденции в развитии оружия даль¬
него боя, к которому относятся наконечники стрел чжурчжэ-
ней Приамурья и Приморья XII—XIII вв.
Значительные серии приморских наконечников характе¬
ризуемого этапа позволяют говорить о довольно разнообраз¬
ном наборе их типов. Так, па Скалистом, Лпапьевском и
Шайгинском городищах из плоских наконечников найдены
листовидные, разнообразные срезпи (в том числе многова¬
риантные по форме двурогие, а также в виде лопаточки с
расширяющимся подтреугольпых очертаний острием, ромбо¬
видные) (см. рис. 3, 4, 7—10,17—23). Говоря о граненых на¬
конечниках, можно пазвать ланцетовидные, пирамидальные
и кинжаловидные 9, а также упоминавшиеся выше пулевид¬
ные с треугольным пером и длинной шейкой (см. рис. 3,
14—26, 27) и некоторые другие типы апалогичпого вида из¬
делий. На Шайгинском городище определено не менее 15
типов паконечников 10.
Наиболее примечательной особенностью освещаемого эта¬
па развития военного дела чжурчжэньской эпохи следует
считать подавляющее преимущество в вооружении долото¬
видных пакопечпиков над наконечниками других типов. В
литературе, посвященной раскопкам приморских чжур-
чжэньских городищ и описанию их материала, подчеркива¬
ется, что долотовидные пакопечники пайдепы па всех памят¬
никах. Не вдаваясь в детальный анализ того или иного ва¬
рианта названных наконечников, укажем на общие черты,
объединяющие их в едипый тип. Долотовидпые предметы
вооружения, как правило, с длинным пером прямоугольно¬
го, реже квадратпого или многоугольного сечения, с утол¬
щенной боевой головкой, передко расширяющейся к острию
(см. рис. 3, 5, 6, 12, 13, 24—26). Настоящая характеристика
долотовидных накопечпиков распространяется как па при¬
морские, так и на приамурские изделия. Словом, найденные
на памятниках Приамурья XII — первой половины XIII в.
наконечники принципиально ничем не отличаются от изде¬
лий из Приморья того же времепи (см. рис. 3,1—3). Сказан¬
ное выше о преобладающей доле среди других изделий ана¬
логичного вида долотовидпых накопечпиков у чжурчжэпей
государственного этапа Приморья в полной мере приемлемо
для синхронных памятников Приамурья. Более того, на ря¬
де приамурских памятников XII—XIII вв. кроме долотовид¬
ных изделий почти не известны наконечники других типов.
Таким образом, механизм распространения бронебойных до¬
лотовидных наконечников стрел в указанное время на тер¬
216
ритории Приамурья сработал, можно сказать, более целе¬
направленно и, очевидно, быстрее, чем в Приморье.
Если обратиться к зачастую постулированному в специ¬
альной литературе положению об усилении в средневековье
защитных свойств боевого доспеха и, в свою очередь, как
реакцию на пего — широкое производство специальных бро¬
небойных стрел, предназначенных для пробивания железно¬
го панциря, можно предположить, что па завершающем эта¬
пе чжурчжэпьской эпохи Приамурья в боевом оснащении
воинов, видимо, широко применялся защитный железный до-
спех. Конечно, данный тезис лучше всего было бы проверить
раскопками могильников XII—XIII вв. Однако последние
пока не найдены. И все же для объяснения сложившейся
картипы достаточно полноценным источником могут служить
материалы раскопок памятников предшествующего пе¬
риода, прежде всего погребения X—XI вв. И здесь надо ска¬
зать, что обильные находки (в особенности в погребениях
Корсаковского могильника) не только разрозненных желез¬
ных панцирных пластип, но и целых комплексов чешуйчато¬
го панциря типа нагрудника, наспинника или безрукавной
рубашки свидетельствуют о широком его распространении
у амурского населения па протяжении длительного времени.
Надо добавить, что известные в настоящее время на юге
Дальнего Востока остатки средневековых железных шлемов
также связаны лишь с чжурчжэиьскими памятниками При¬
амурья (находка деталей шлема вместе с панцирным доспе-
хом-рубашкой при строительстве в 1913 г. железной дороги
на левом берегу Амура и выявление частей шлемов в ходе
раскопок Корсаковского могильника).
Изложенная ситуация, в которой выясняется заметная
разница в разнообразии типов наконечников стрел, с одной
стороны — Приамурья, а с другой — Приморья XII —
XIII вв., возможно, имеет иное объяснение, на наш взгляд
более предпочтительное. Дело в том, что, как свидетельст¬
вуют письменные источники, и теперь они подтверждаются
даппыми археологии, на первых порах формирования госу¬
дарства Цзинь (Аньчун) огромные массы чжурчжэней (надо
полагать, северных — не в последнюю очередь) в ходе завое¬
вательных походов, а затем и освоения Северного Китая
переселились, в основном насильственно, на юг 11. В ре¬
зультате ряд районов исконно чжурчжэньского ареала
почти полностью обезлюдел. Не трудно представить, что в
сложившихся условиях культура сохранившегося па преж¬
них местах населения вряд ли могла развиваться по восхо¬
дящей линии. Особенно это касается вооружения, весьма
217
чувствительного, как говорилось, к различного рода изме¬
нениям социально-экономического характера. К тому же
надо учесть, что на юг переселялось в первую очередь, ко¬
нечно же, мужское население, воины, а также ремесленники-
оружейники. Все это не могло не сказаться на ухудшении
материально-производственной основы северочжурчжэпь-
ских племен. Нельзя сказать, что с созданием чжурчжэпь-
ского государства, ядро которого находилось па завоеван¬
ной китайской территории, активная жизнь в Приамурье
осталась в прошлом. Отнюдь пет. Об этом красноречиво сви¬
детельствуют открытые и достаточно масштабно раскопанные
на Средпеамурской равнине городища и поселения государ¬
ственного этапа чжурчжэльской эпохи. Но тем не менее от¬
носительно изолированное развитие амурской периферии го¬
сударства Цзинь, отстоявшей довольно далеко от осповиых
сформировавшихся культурно-исторических его центров,
стало решающим фактором сохранения некоторых локально-
специфических компонентов в культуре чжурчжэней Приа¬
мурья того времени. Во всяком случае, если в культуре
чжурчжэней па территории Приамурья без труда прослежи¬
вается преемственность в развитии большинства ее слагае¬
мых па всех этапах эпохи, то этого нельзя сказать о чжур-
чжэпях Приморья. С созданием государства Цзинь па тер¬
ритории Приморья было построено большое число городов,
в том числе достаточно круппых. В чжурчжэньских горо¬
дах, как показали проведенные исследования археологов,
в широких масштабах развивались различные ремесла.
И здесь пельзя не учитывать того факта, что среди зани¬
мавшихся ремеслом людей было много пленных — профессио¬
нальных мастеров, представлявших свои покоренные народ¬
ности. Данная прослойка мастеров, для которой были
чужды культурные традиции чжурчжэпей, повлияла на
утверждение в тупгусоязычной среде ипокультурных
элементов.
Таким образом, анализ наиболее распространенного ви¬
да вооружения — наконечников стрел — позволил увидеть
очень много общего на рапних этапах культуры чжурчжэней
Приамурья и Приморья и определить отличительные черты
на государственной ее фазе. В заключение отметим, что со¬
поставление других видов вооружения (пакоиечников копий,
палашей, боевых топоров и др.) из Приамурья и Приморья
из-за небольшого количества опубликованного материала с
приморских памятников, к тому же лишь по государствен¬
ному этапу чжурчжэттьской эпохи, в настоящее время невоз¬
можно.
218
Примечания
1 Маркс К., Энгельс Ф. Соч.— 2-е изд.— Т. 14.— G. 26.
2 Разин Е. Л. История военного искусства.— М., 1956.— Т. 1.—
G. 49.
3 Леньков В. Д. Металлургия и металлообработка у чжурчжэней
в XII веке.— Новосибирск, 1974.— G. 123.— Рис. 33; Он же. О ре¬
зультатах исследования металлургического комплекса на Скалистом
городище // Повопите археологические исследования на Дальнем
Востоке СССР.— Владивосток, 1976.— Рис. 4; Семениченко Л. Е.
Характеристика наконечников Приморья в VIII—X вв. // Новейшие
археологические исследования на Дальнем Востоке СССР.— Влади¬
восток, 1976.— Рис. 1, 3, 4; Вострецов Ю. Е. Типология железных
предметов вооружения поселения Синие Скалы // Материалы по
археологии Дальнего Востока СССР.— Владивосток, 1981.— Рис. 1;
Хорев В. А., Шавкунов В. Э. Наконечники стрел Ананьевского горо¬
дища // Материалы по археологии Дальнего Востока СССР.— Вла¬
дивосток, 1981.— Рис. 1, 2. (Часть изображенных на рисунках настоя¬
щей статьи наконечников стрел взята из перечисленных работ.)
4 Сунь Сюжень, Гань Чжигэн. Племена уго и характеристика их
материальной культуры // Дунбэй каогу юй лиши.— 1982.— № 1.—
Рис. 3 (на кит. яз.).
5 Семениченко Л. Е. О гончарстве бохайцев Приморья // Мате¬
риалы по древней и средневековой археологии юга Дальнего Восто¬
ка СССР и смежных территорий.— Владивосток, 1983.— G. 56.
0 См.: Деревянко Е. И. Племена Приамурья. I тысячелетие нашей
эры.— Новосибирск, 1981.— Рис. 30.
7 Леньков В. Д. Некоторые аспекты материальной культуры
чжурчжэней конца XI—XII веков (по археологическим материалам
Екатериповского городища) // Материалы по древней и средневековой
археологии юга Дальнего Востока СССР и смежных территорий.—
Владивосток, 1983.— С. 68.
8 Семениченко Л. Е. Характеристика наконечников При¬
морья...— С. 107.
9 Галактионов О. С. Характеристика пакопечников стрел Шай-
гипского городища // История, социология и филология Дальпсго
Востока.— Владивосток, 1971.— G. 83.
10 Там же.— G. 83.
11 Медведев В. Е. Приамурье в конце I — начале II тысячелетия
(чжурчжэньская эпоха). Новосибирск, 1986.— G. 180.
СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ
АГУ — Алтайский государственный университет
АО — Археологические открытия
АСГЭ — Археологический сборник Государственного Эр¬
митажа
ВМУ — Вестник Московского государственного универси¬
тета
ГМЭН СССР — Государственный музей этнографии народов
СССР
ГЭ — Государственный Эрмитаж
ЕТГМ — Ежегодник Тобольского государственного музея
ЗОРСА РАО — Записки Отделения русско-славянской ар¬
хеологии Русского археологического общества
ККМ — Колпашевский краеведческий музей
КСИА — Краткие сообщения Института археологии
КСИИМК — Краткие сообщения Института истории мате¬
риальной культуры
ЛОИА АН СССР — Ленинградское отделение Института
археологии Академии наук СССР
МИА — Материалы и исследования по археологии СССР
МЭ — Материалы по этнографии
РГО — Русское географическое общество
СА — Советская археология
САИ — Свод археологических источников
СМАЭ — Сборник Музея антропологии и этнографии
СЭ — Советская этнография
ТАОИВМА — Труды Антропологического общества при Им¬
ператорской военно-медицинской академии
ТГИМ — Труды Государственного Исторического музея
220
ТГПИ — Томский государственный педагогический инсти¬
тут
ТГУ — Томский государственный университет
ТТОКМ — Труды Томского областного краеведческого му¬
зея
УЗТНИИЯЛИ — Ученые записки Тувинского научно-ис¬
следовательского института языка, литературы и исто¬
рии
к. — курган
м. — могила
мог. — могильник
огр. — оградка
и. — погребение
СОДЕРЖАНИЕ
Предисловие 3
ЧАСТЬ I. ЭПОХА РАННЕГО ЖЕЛЕЗА
Г. Е. Иванов. Вооружение племен лесостепного Алтая в ранном
железном веке 6
А. П. Бородовский. Плети и возможности их использования в
системе вооружения племен скифского времени ... 28
С. А. Комиссаров. Комплекс вооружения культуры верхнего
слоя Сяцзядянь 30
А. С. Суразаков. О некоторых связанных с оружием образах
пазырыкского искусства 53
II. П. Матвеева. Погребение знатного воина в Красногорском I
могильнике СО
Э. Б. Вадецкая. Модели оружия таштыкской эпохи 07
И. К. Кожомбердиев, Ю. С. Худяков. Комплекс вооружения
кенкольского воина 75
ЧАСТЬ II. ЭПОХА СРЕДНЕВЕКОВЬЯ
A. С. В асютин, В. //. Елин, А. М. Илюшин. Новые находки
предметов вооружения в древпетюркских оградках
Горного Алтая 107
10. И. Ожередов. Старицинские паходки 111
10. А. Плотников. «Клады» Приобья как исторический источник. 120
Ю. С. Худяков, А. И. Соловьев. Из истории защитного доспеха
в Северной и Центральной Азии 135
Б. А. Коников. О вооружении прииртышского населения начала
II тыс. н. э. (по материалам памятников Омской об¬
ласти) 163
B. А. Иванов. Вооружение средневековых кочевников Южного
Урала и Приуралья (VII—XIV вв.) 172
Ю. И. Трифонов. О берестяных колчанах Саяио-Алтая VI—X вв.
в связи с их новыми находками в Туве 180
В. Э. Шавку нов. К вопросу о луке чжурчжэиой 100
В. Е. Медведев. Общее и особенное в некоторых видах вооруже¬
ния чжурчжэньскои эпохи Приамурья и Приморья . . 205
Список сокращений 220
ВОЕННОЕ ДЕЛО
древнего населения
СЕВЕРНОЙ АЗИИ
Утверждено к печати
Институтом истории,
филологии и философии СО АН СССР
Редакторы издательства Е, А. Лойко, В. II. Смирнова
Художник А. И. Смирнов
Художественный редактор В. В. Ссдупов
Технический редактор Г. Я. Герасимчуп
Корректоры Я. Я. Тясто, В. В. Борисова
НБ № 30446
Сдано в набор 10.12.86. Подписано в печать 06.05.87. Ml Г-02400. Формат
84х1087з2» Бумага типографская № 2. Обыкновенна» гарнитура. Пытка»
печать. Уел. псч. л. 11,8. Уел. кр.-отт. 11,8. Уч.-пуд. л. 13,7. Тираж 27.>0 ака.
Наказ № 504. Цена 2 р. 70 к.
Ордена Трудового Красного Знамени издательство «Наука»,
Сибирское отделение. 630099, Новосибирск, 99, Советская, 18.
4-я типография издательства «Наука».
630077, Новосибирск, 77, Станиславского, 25*